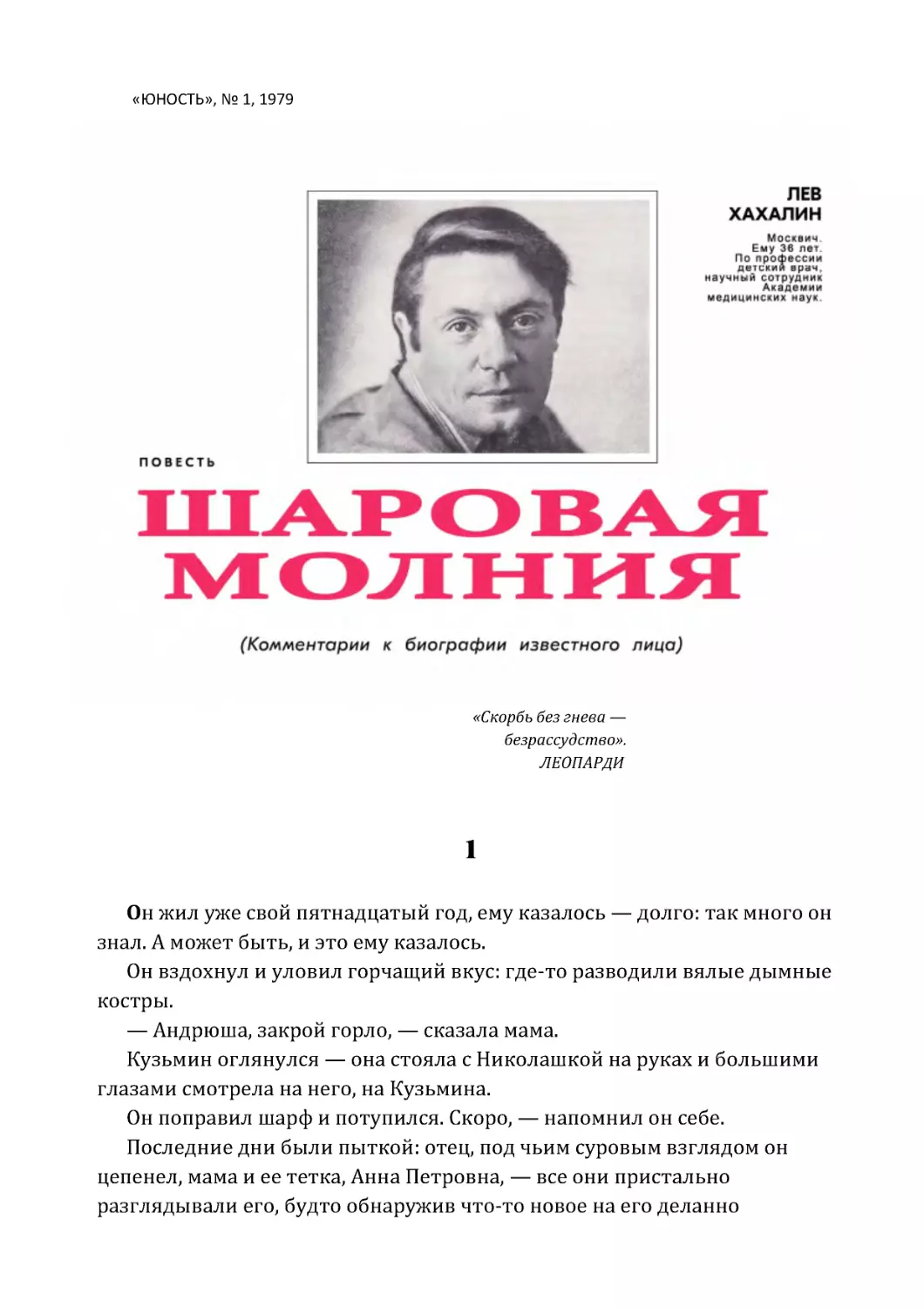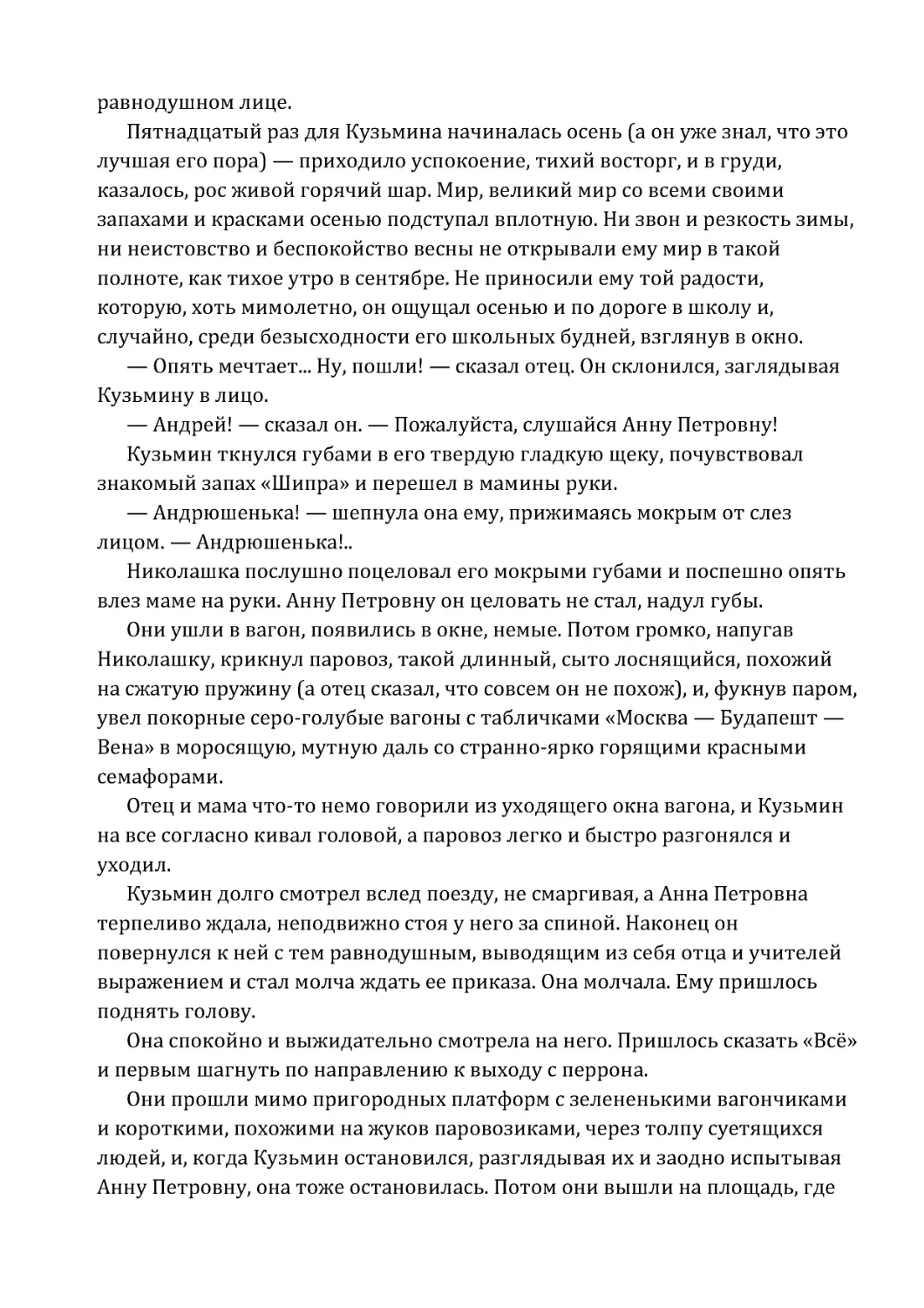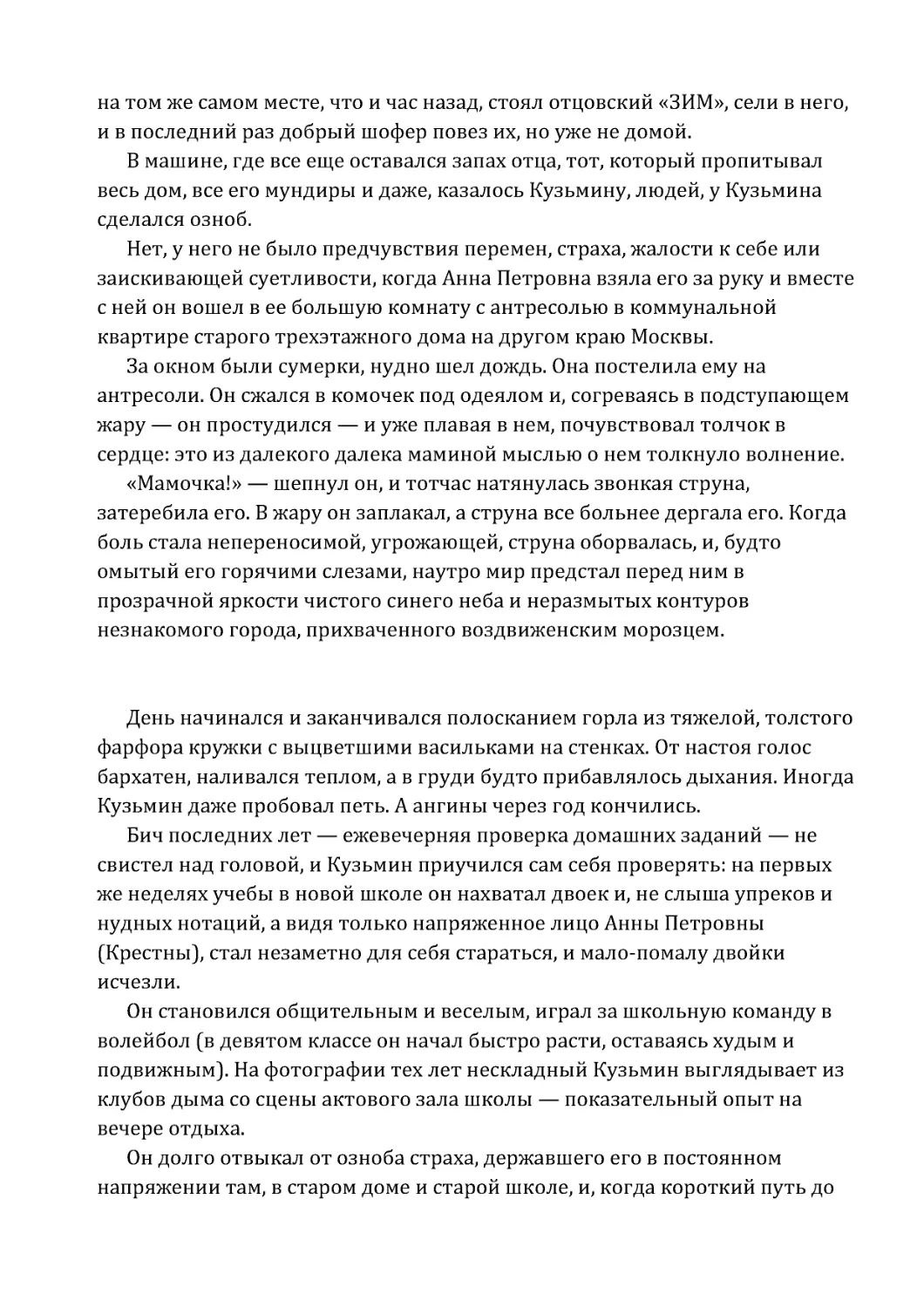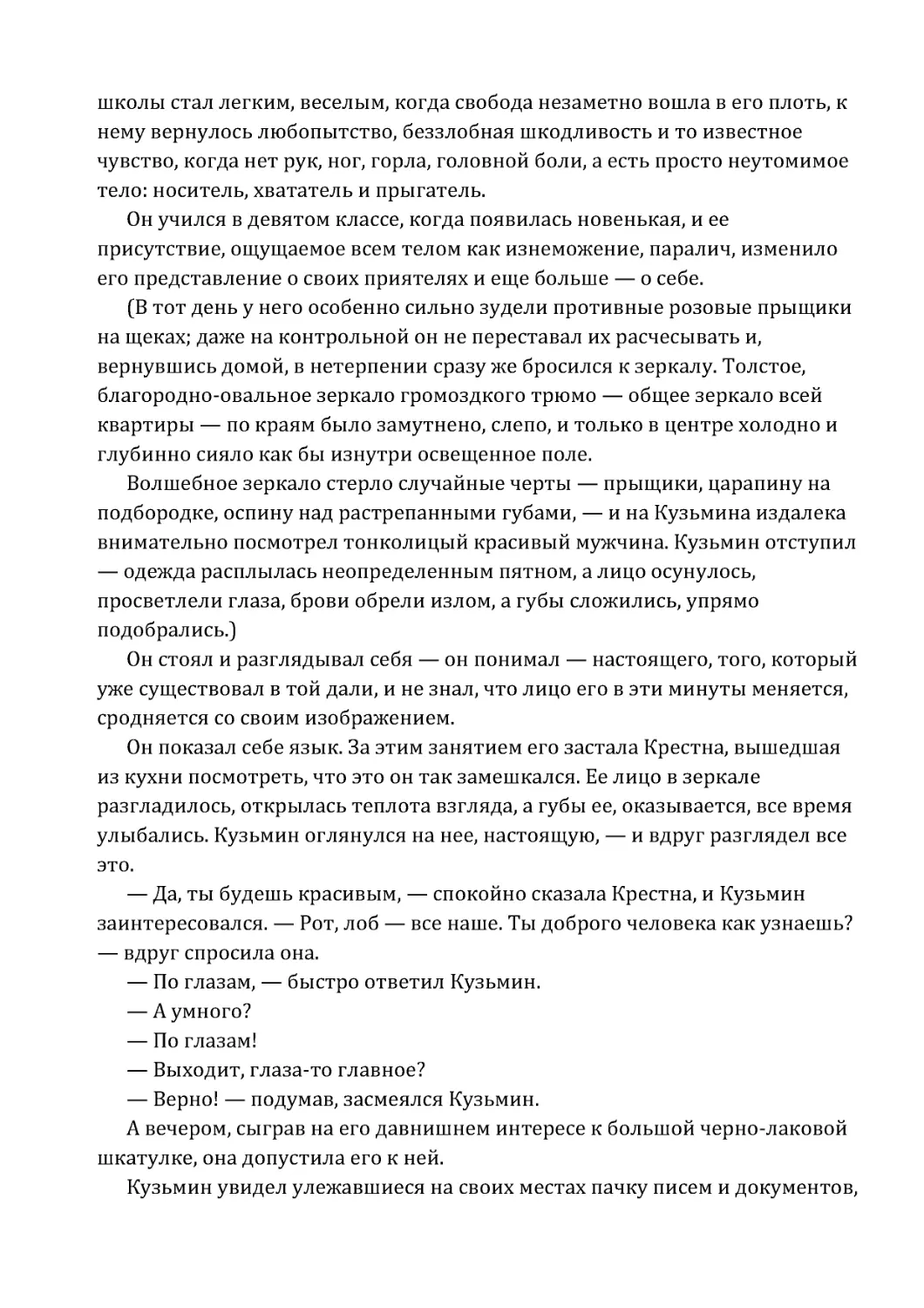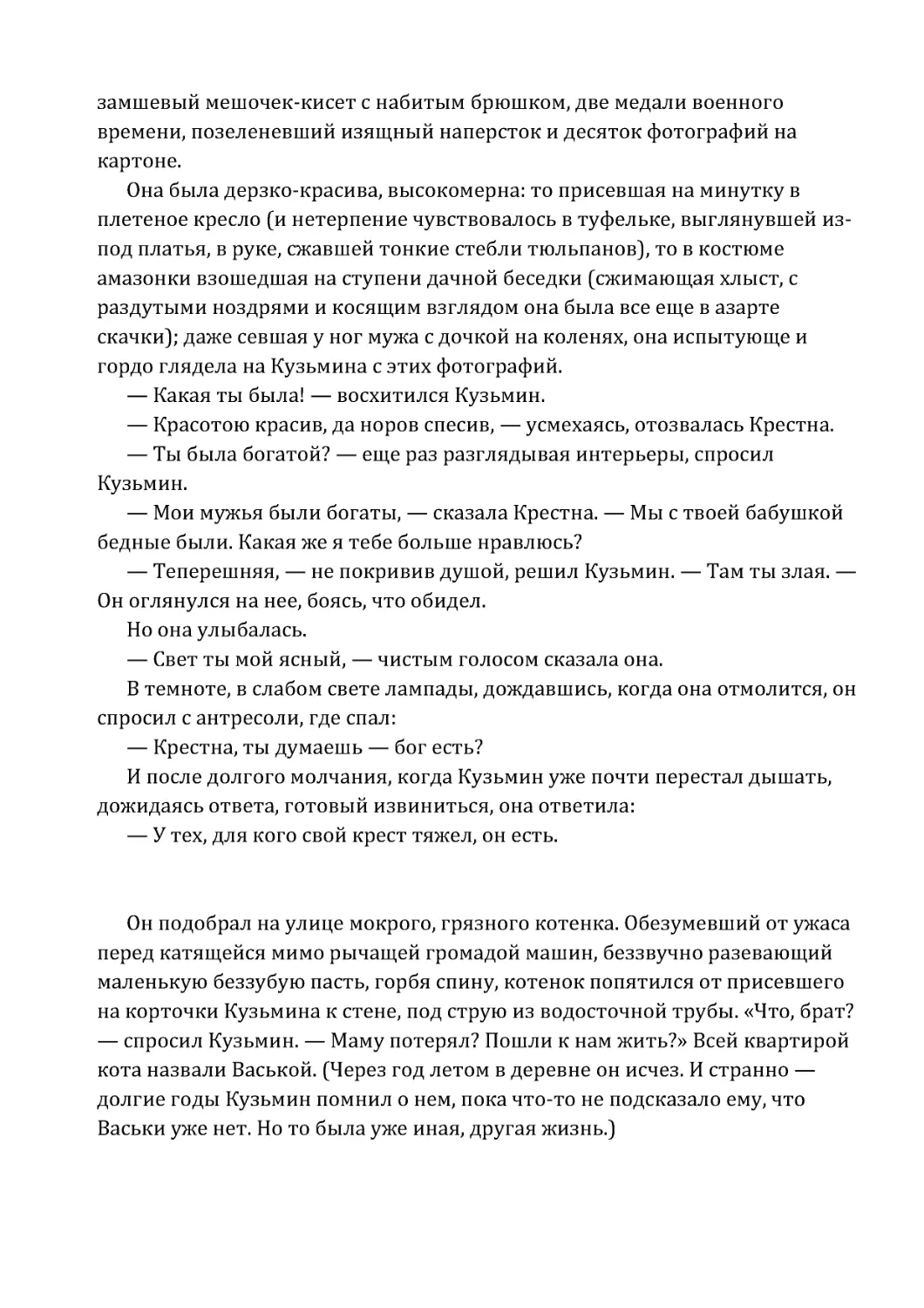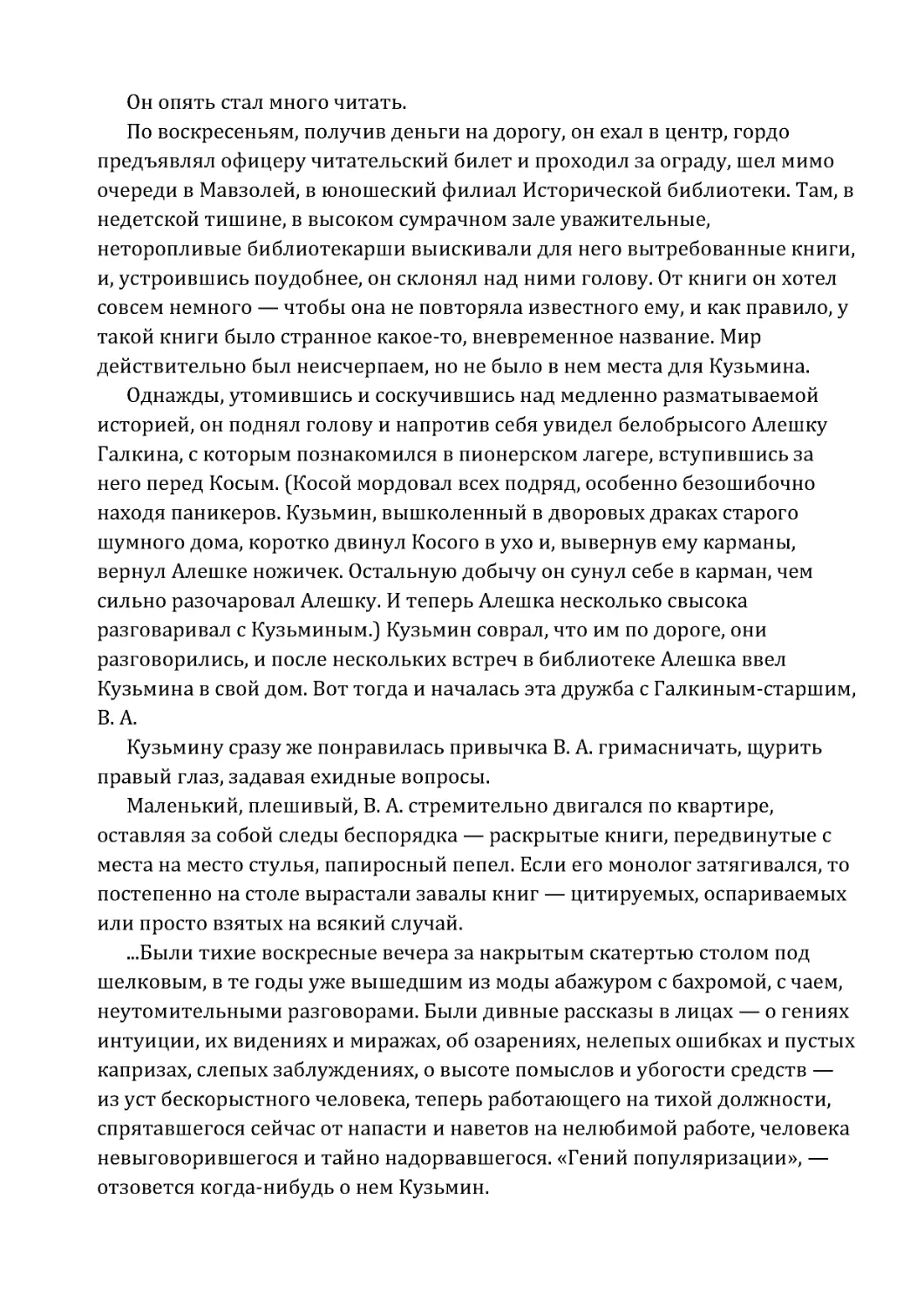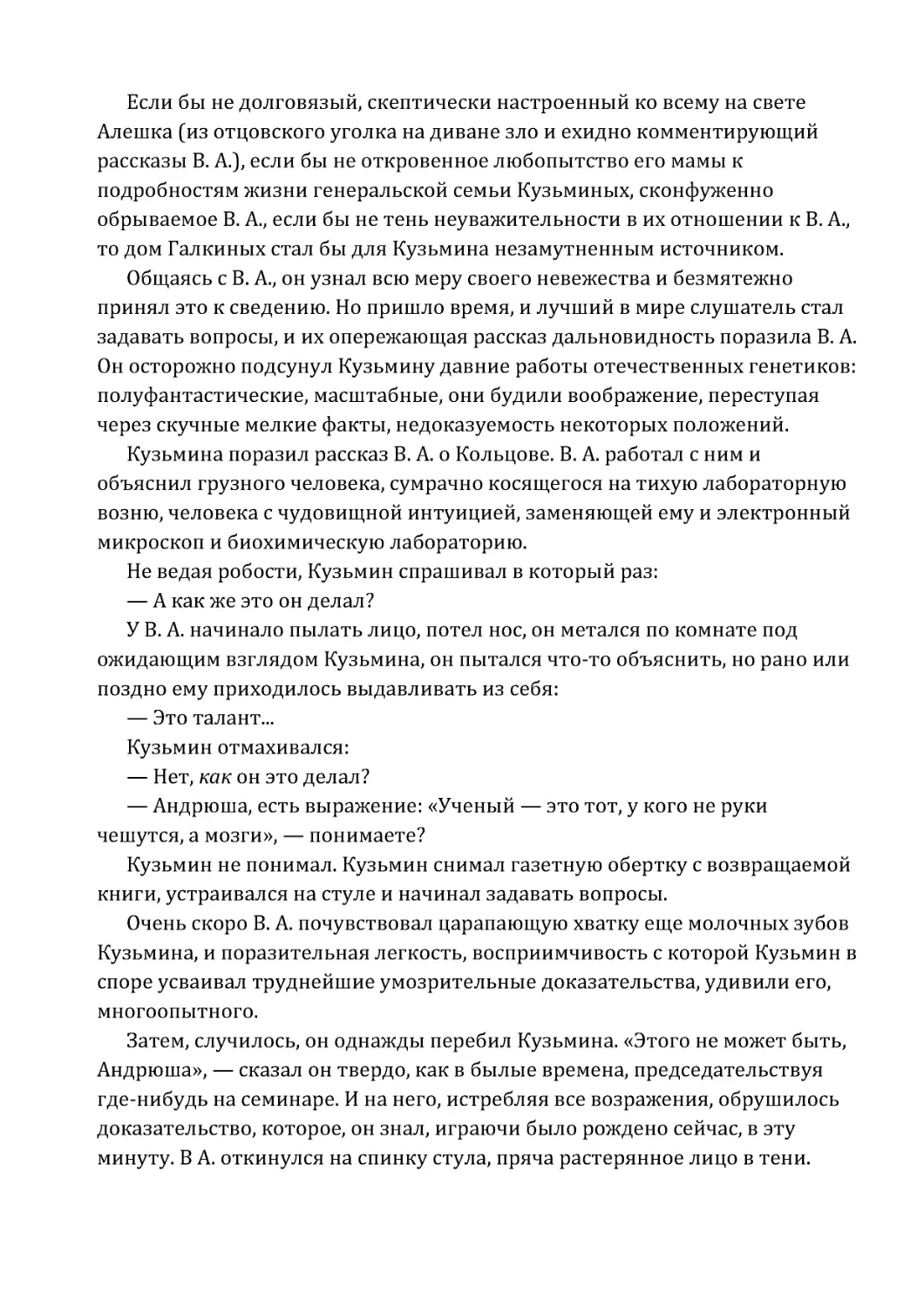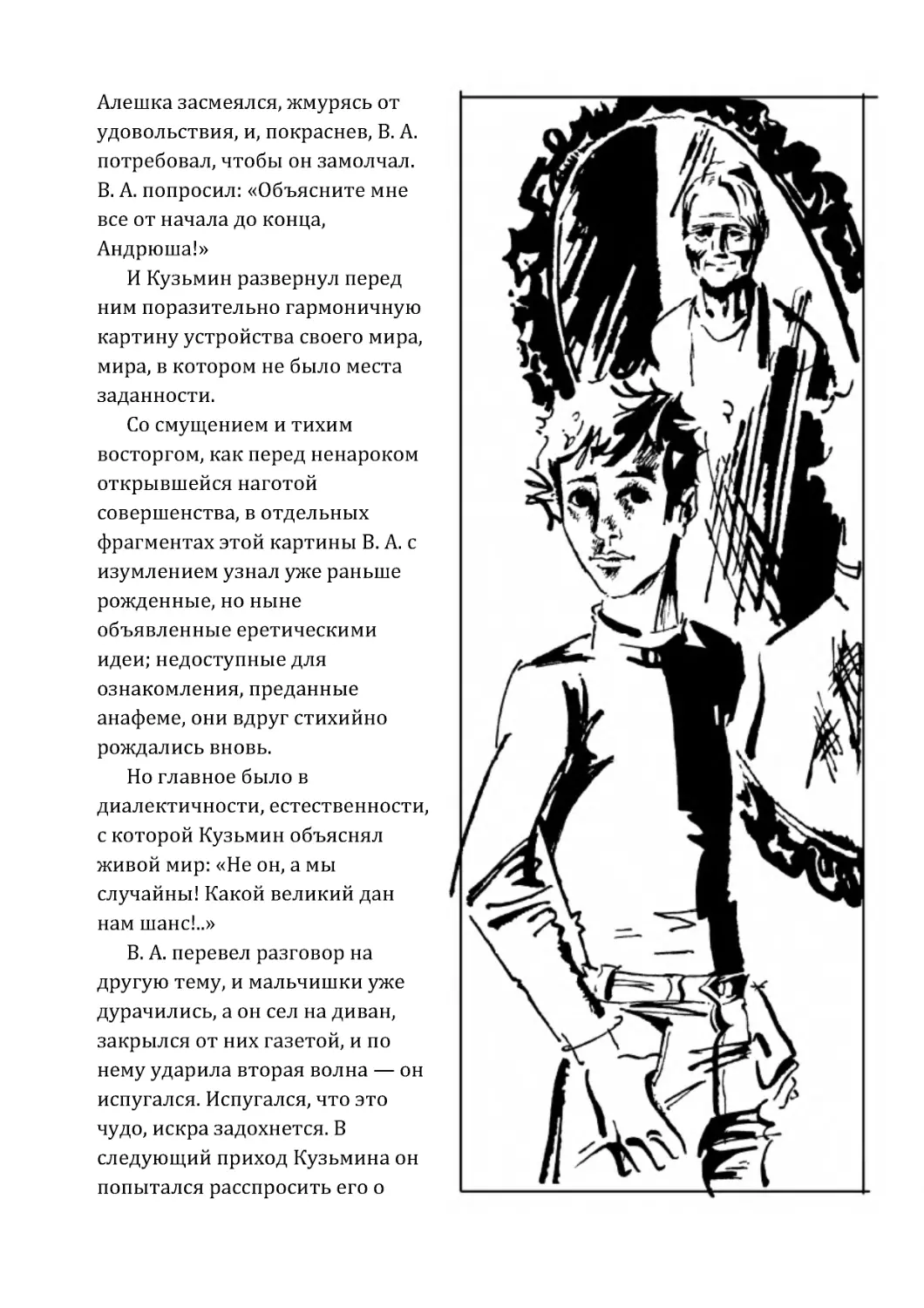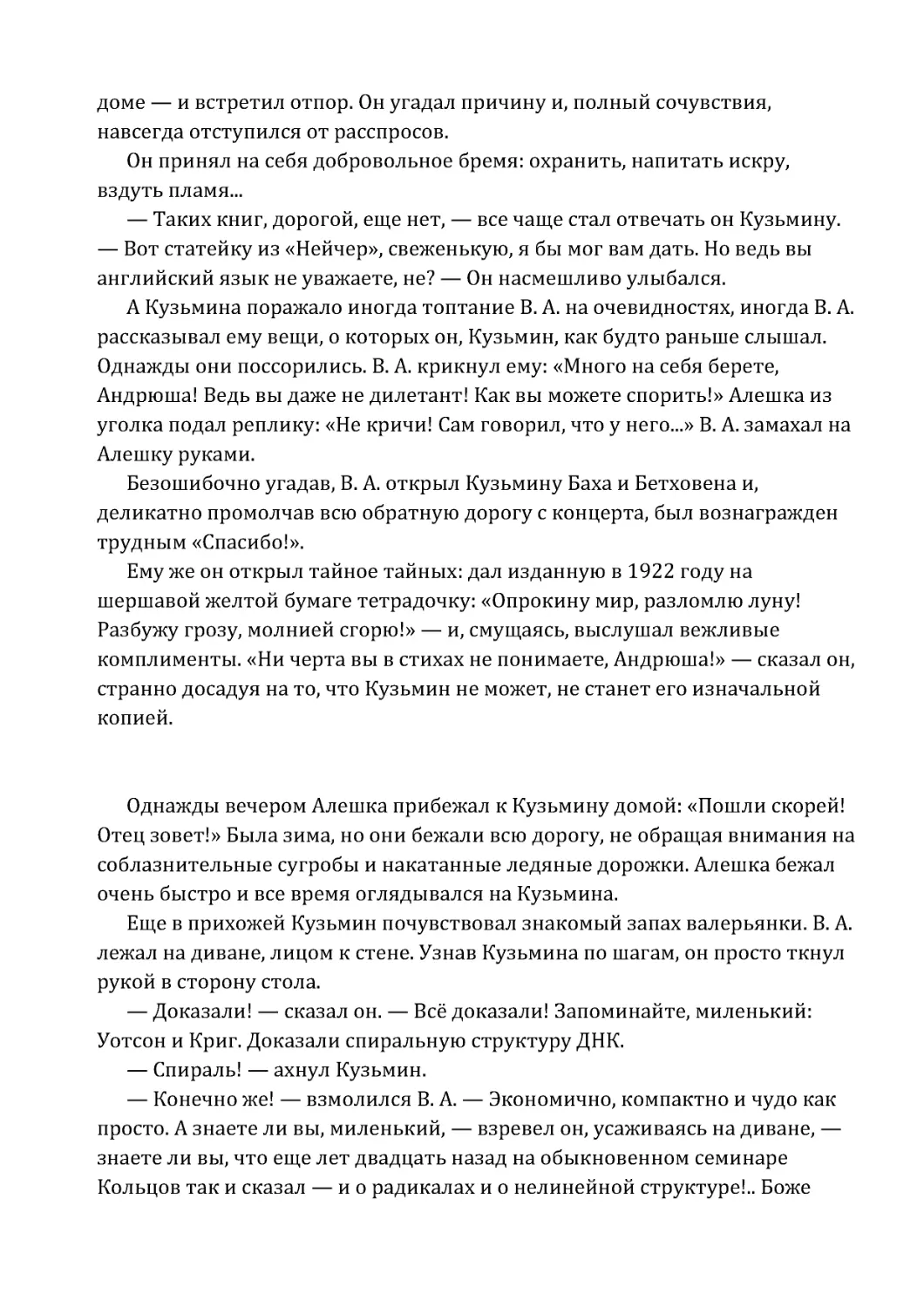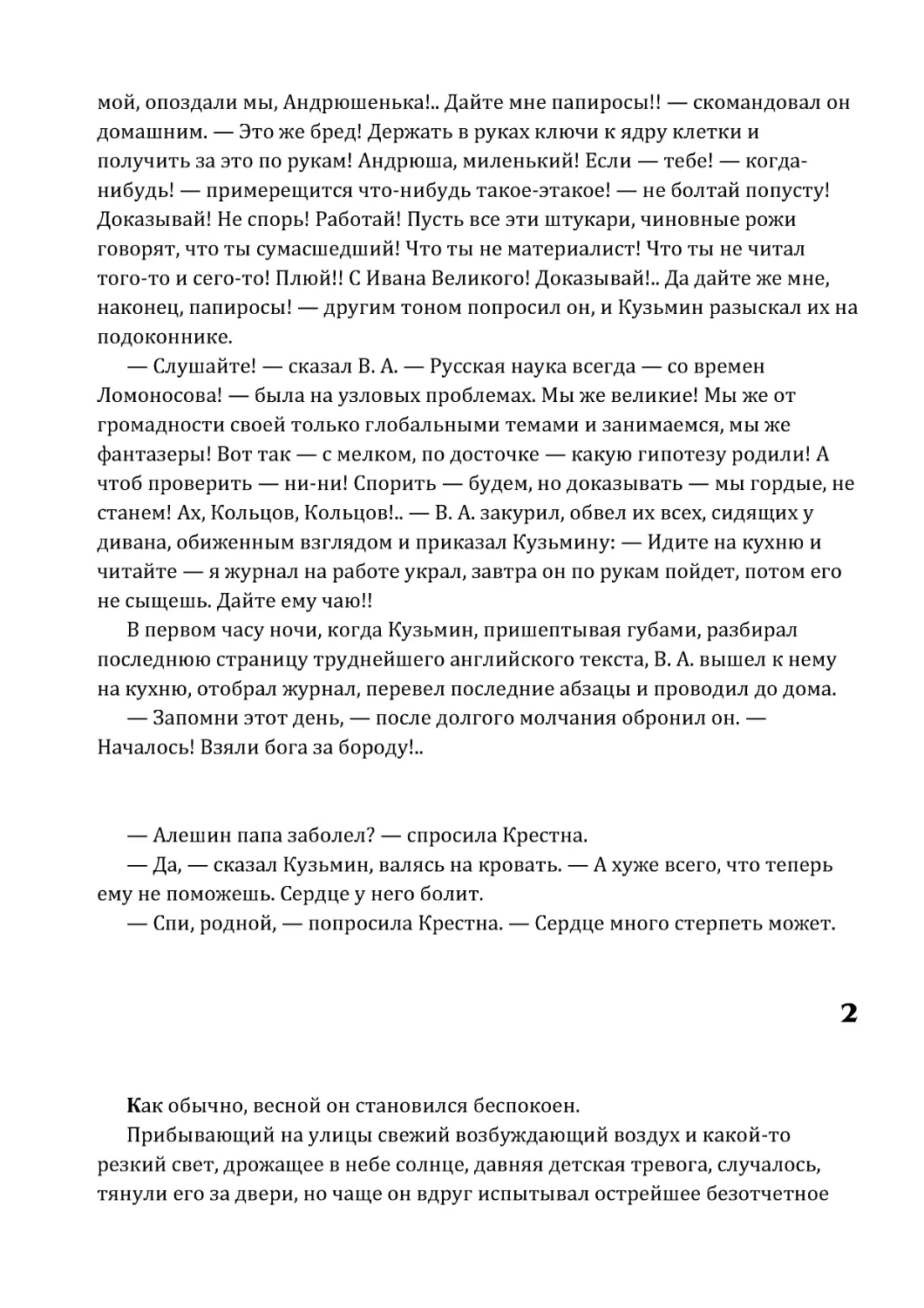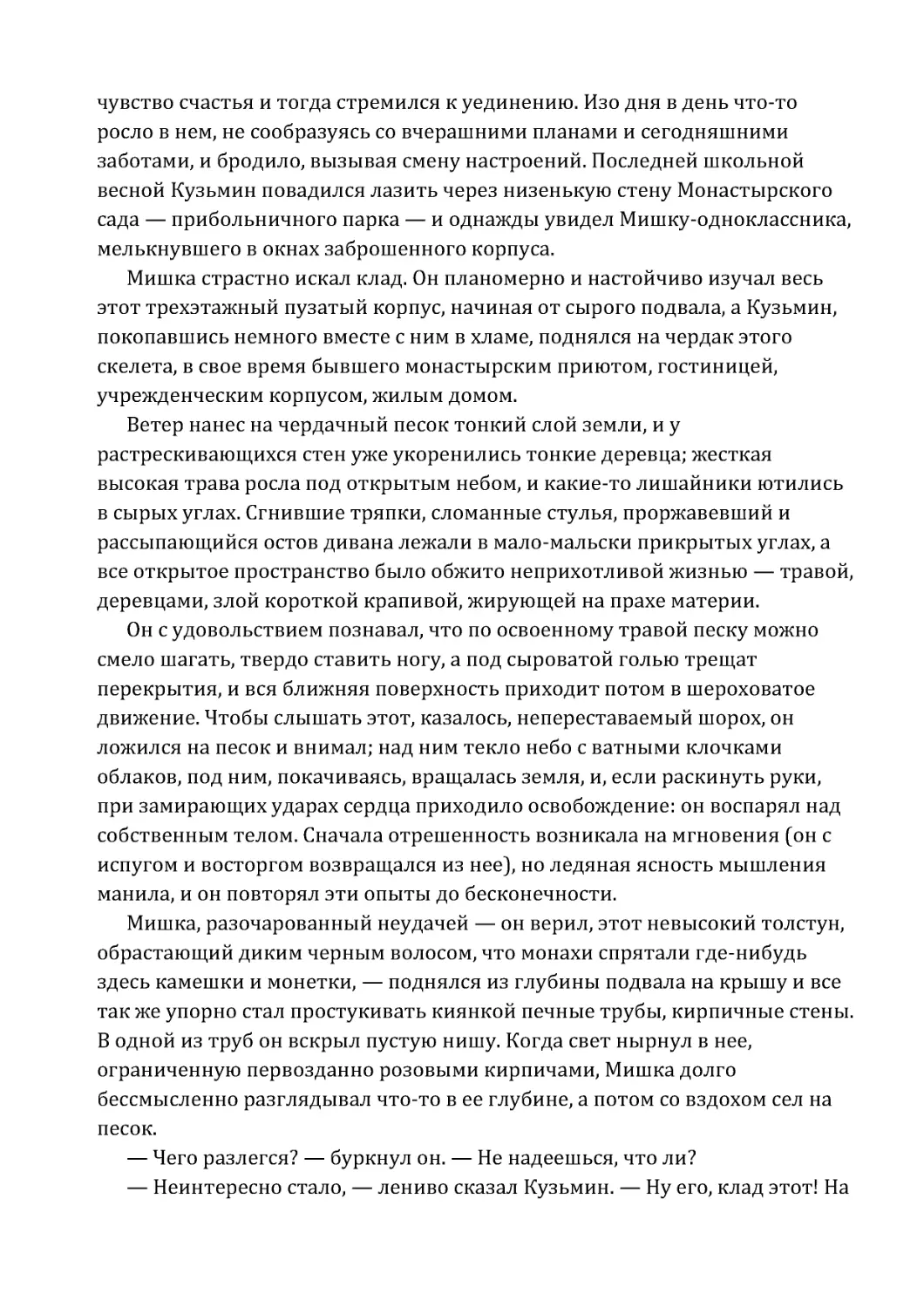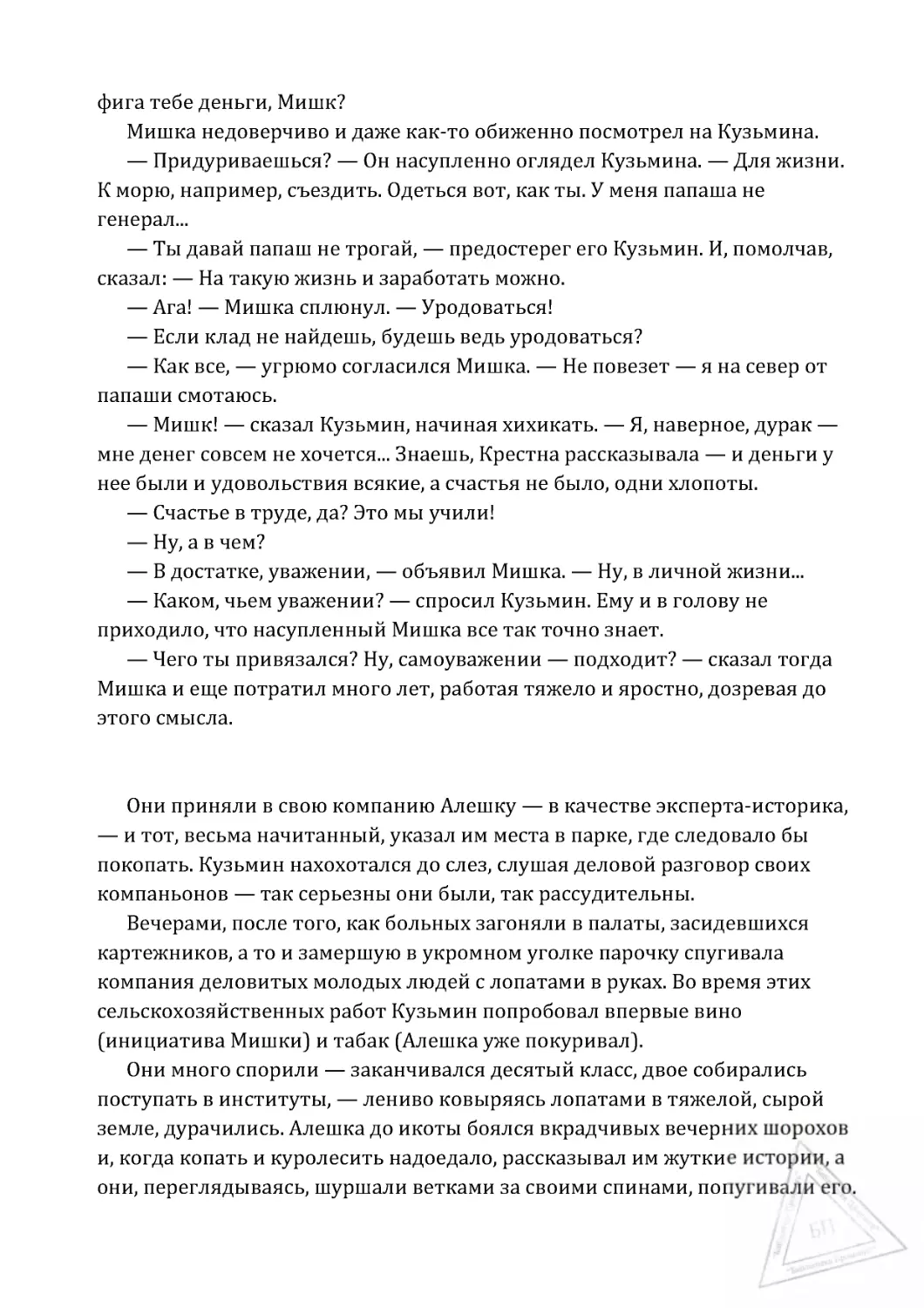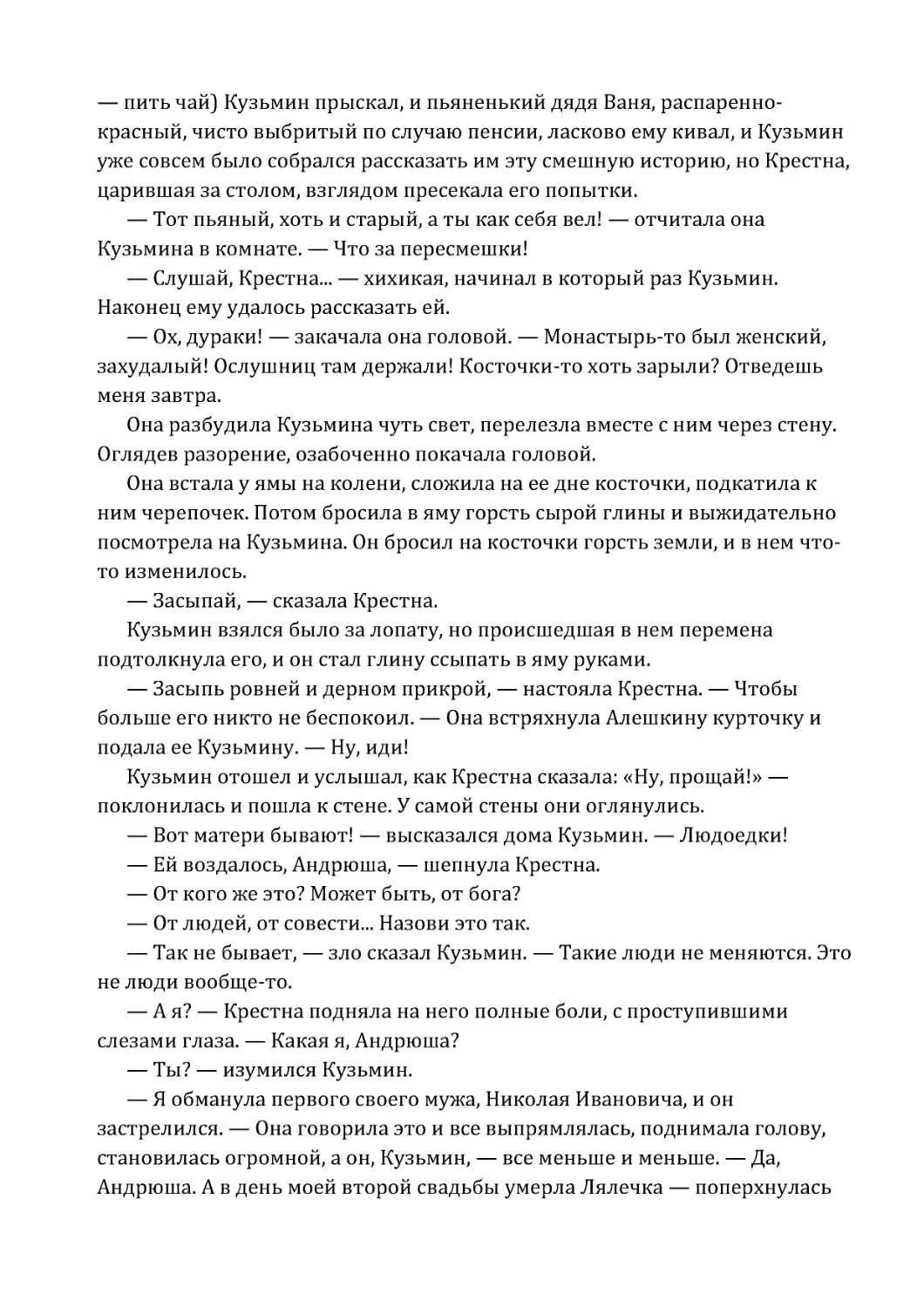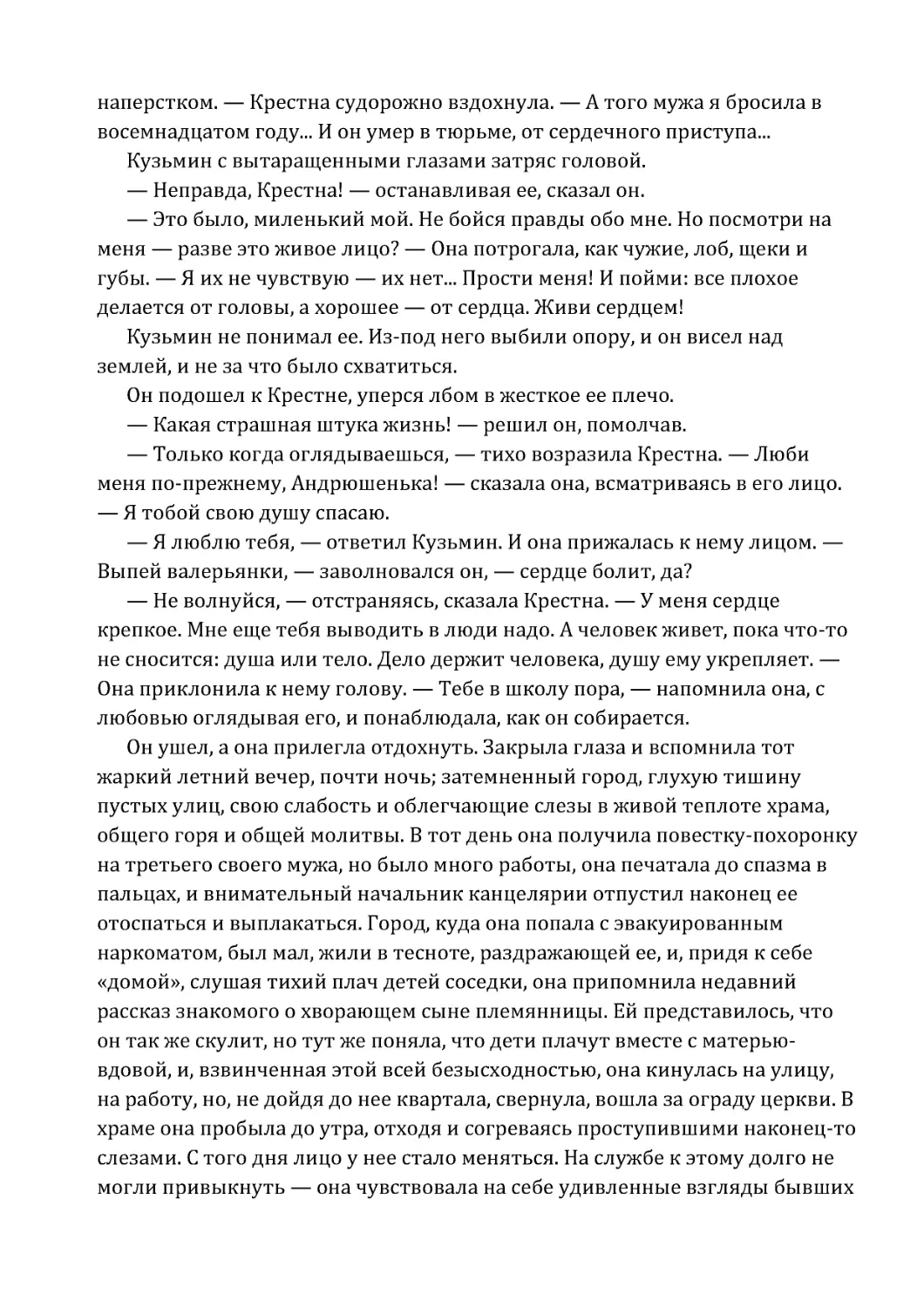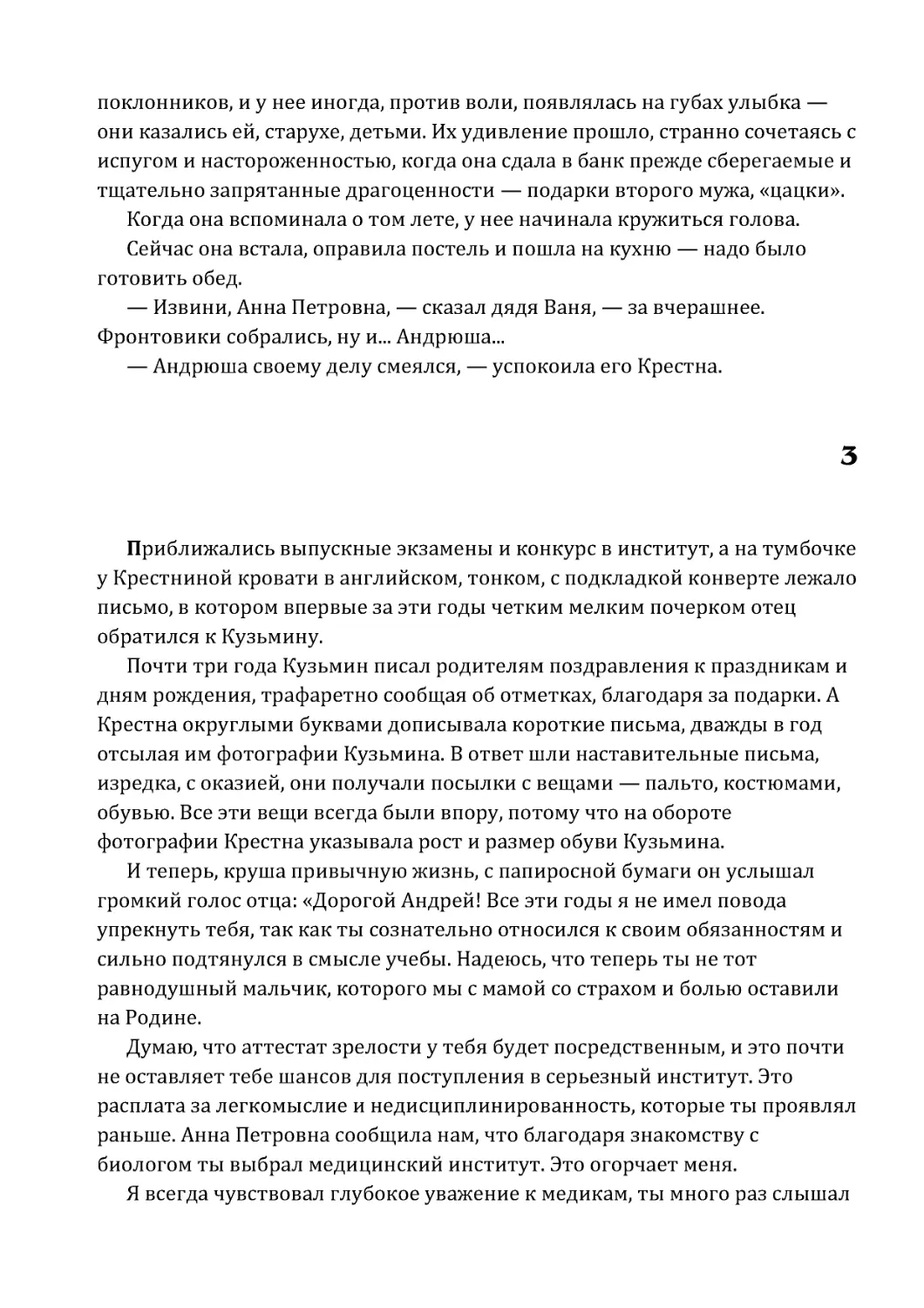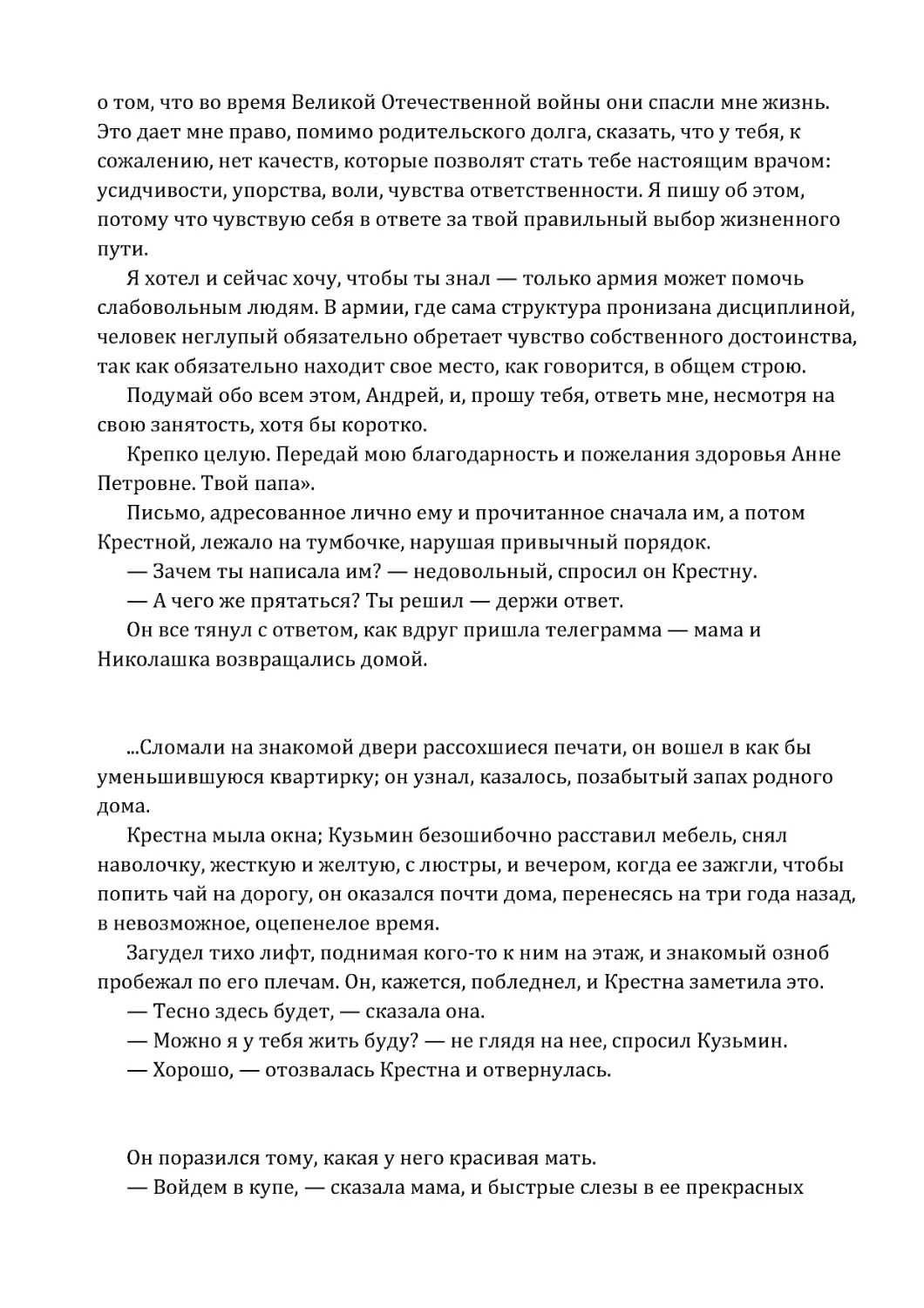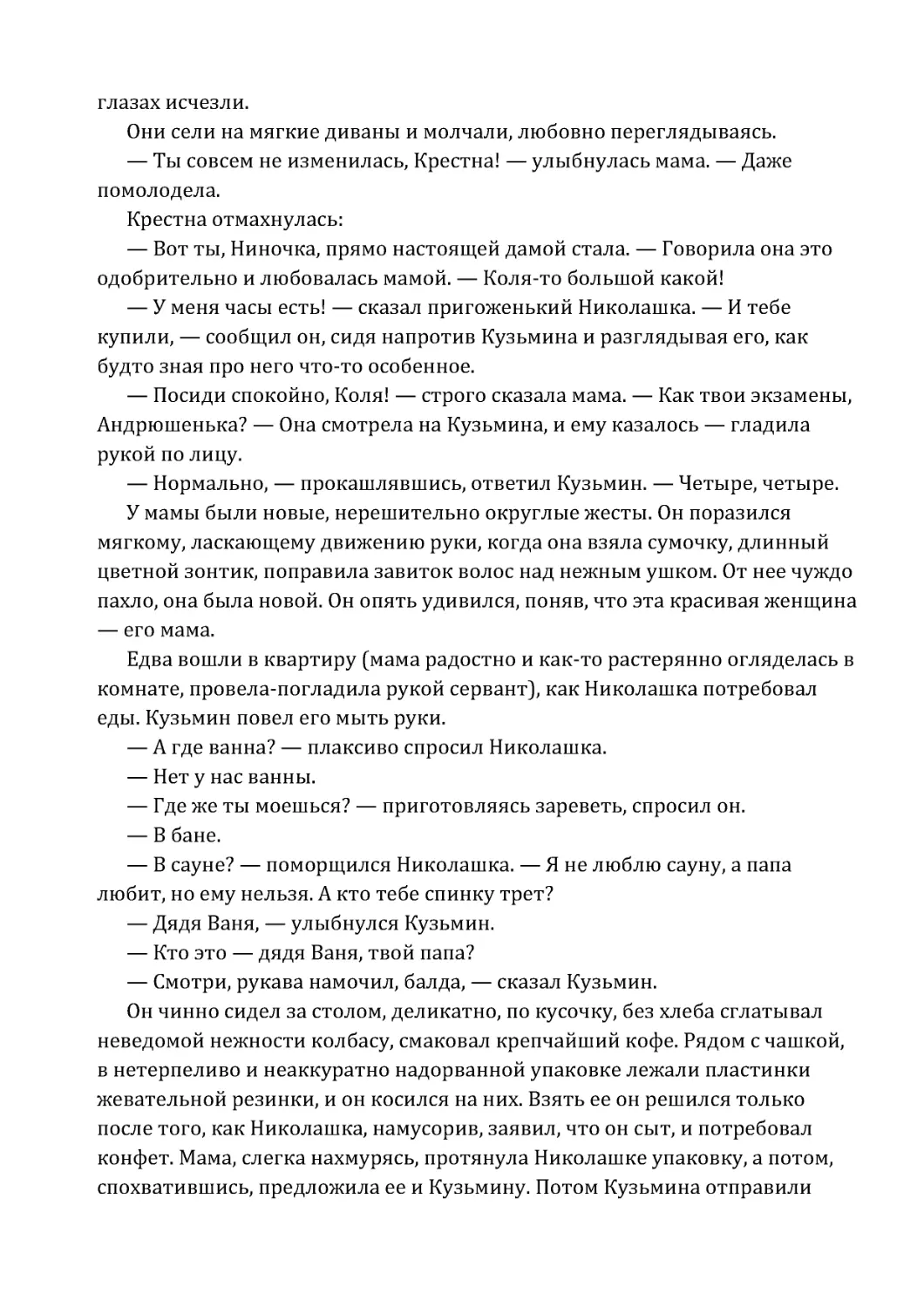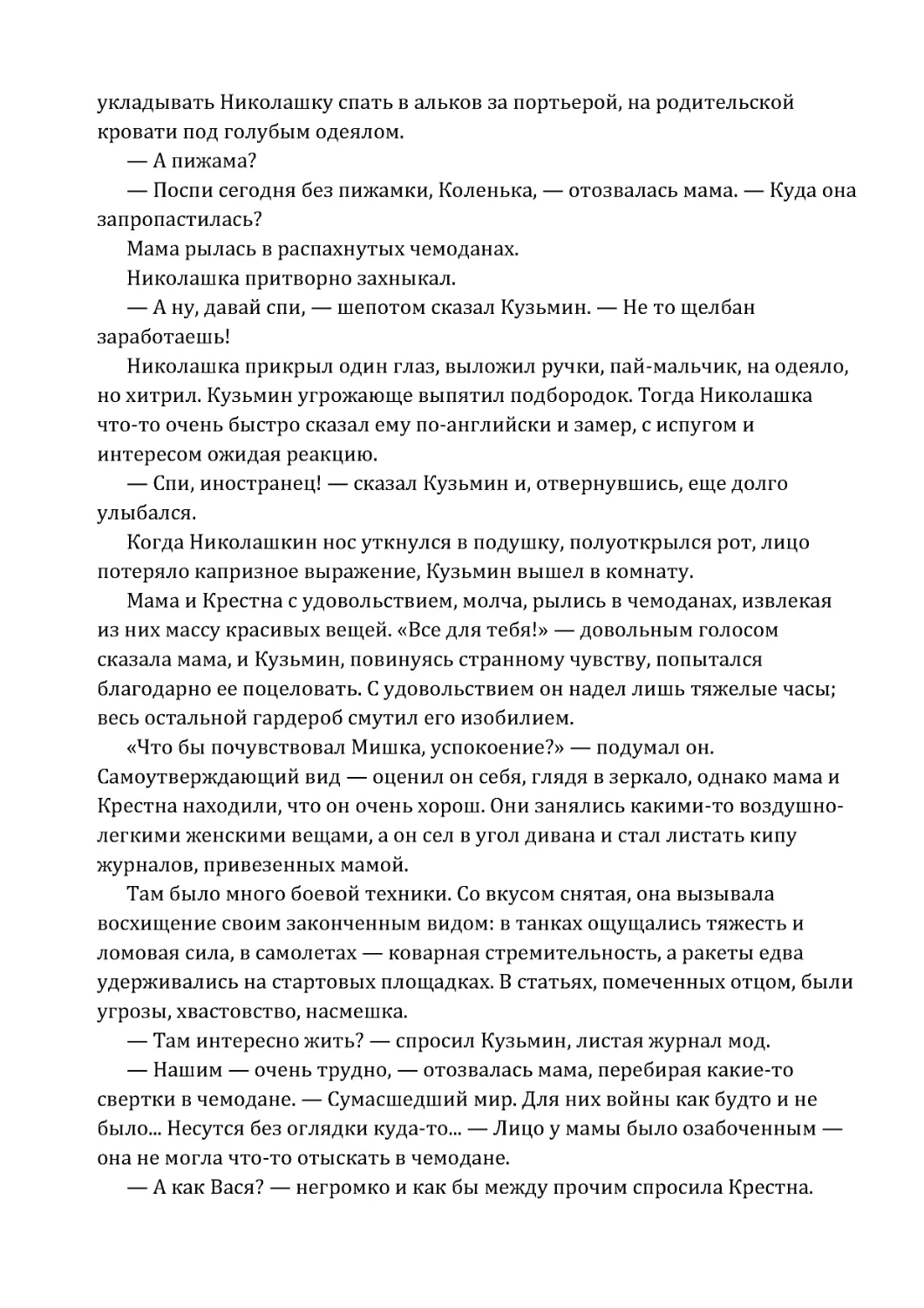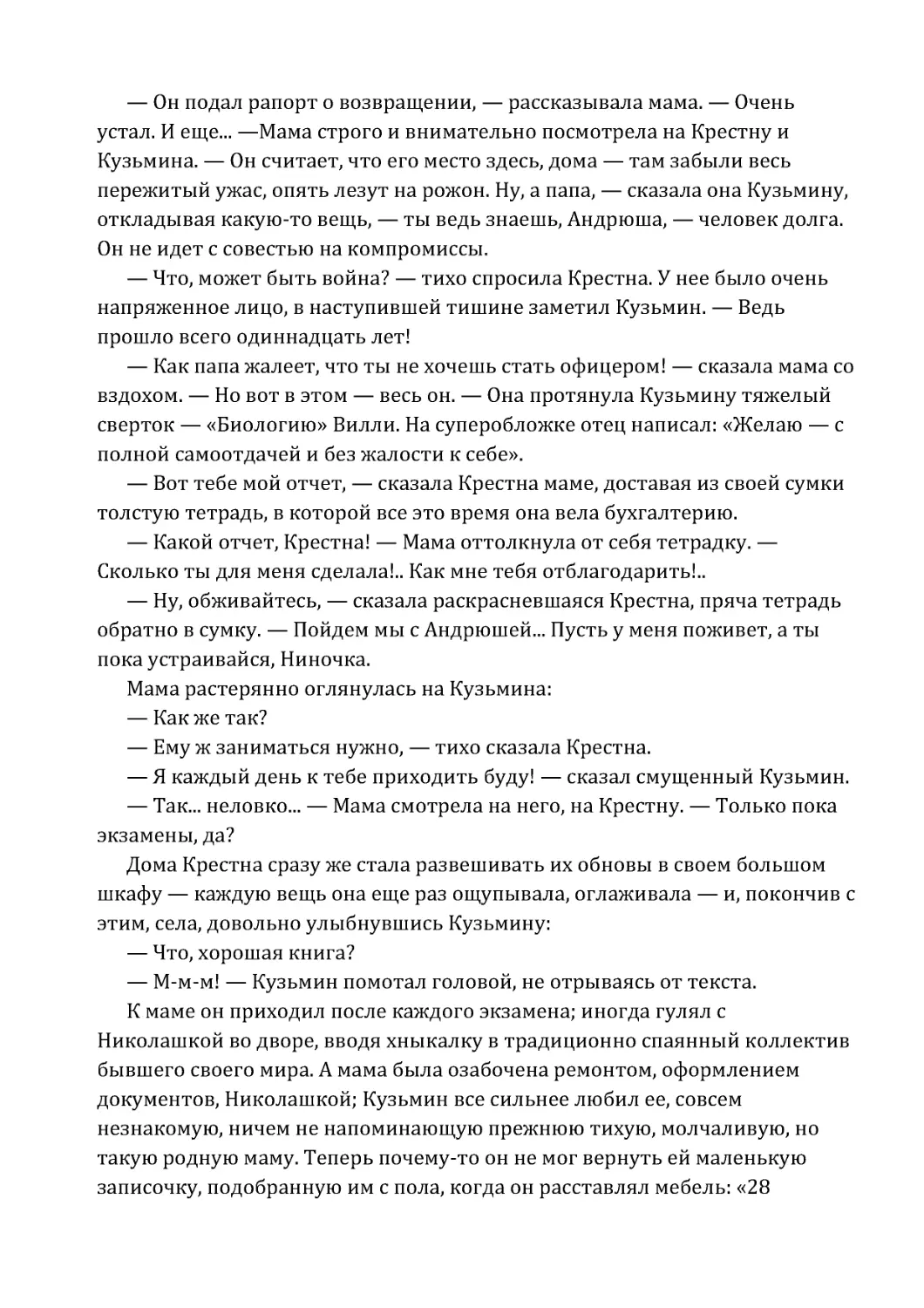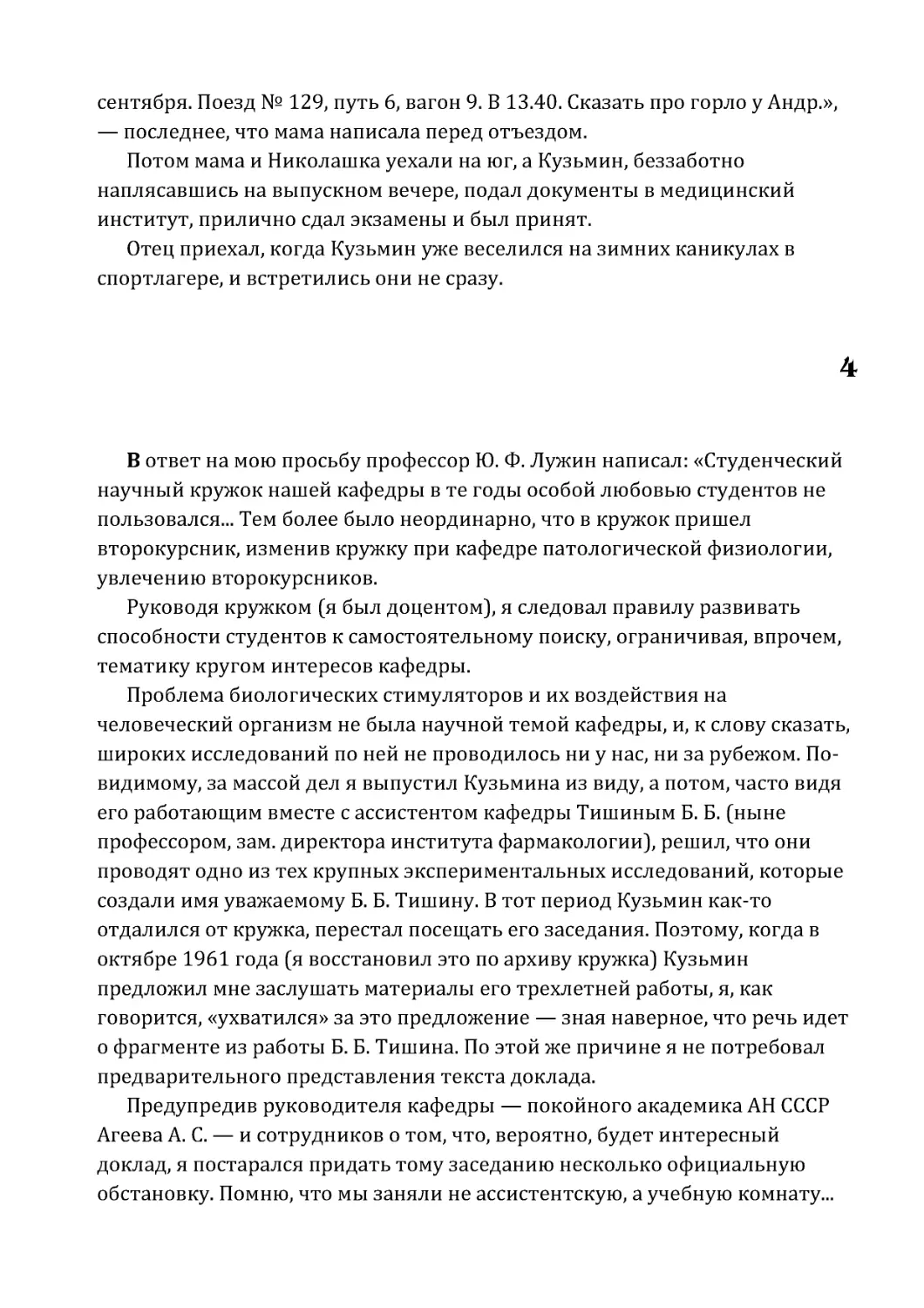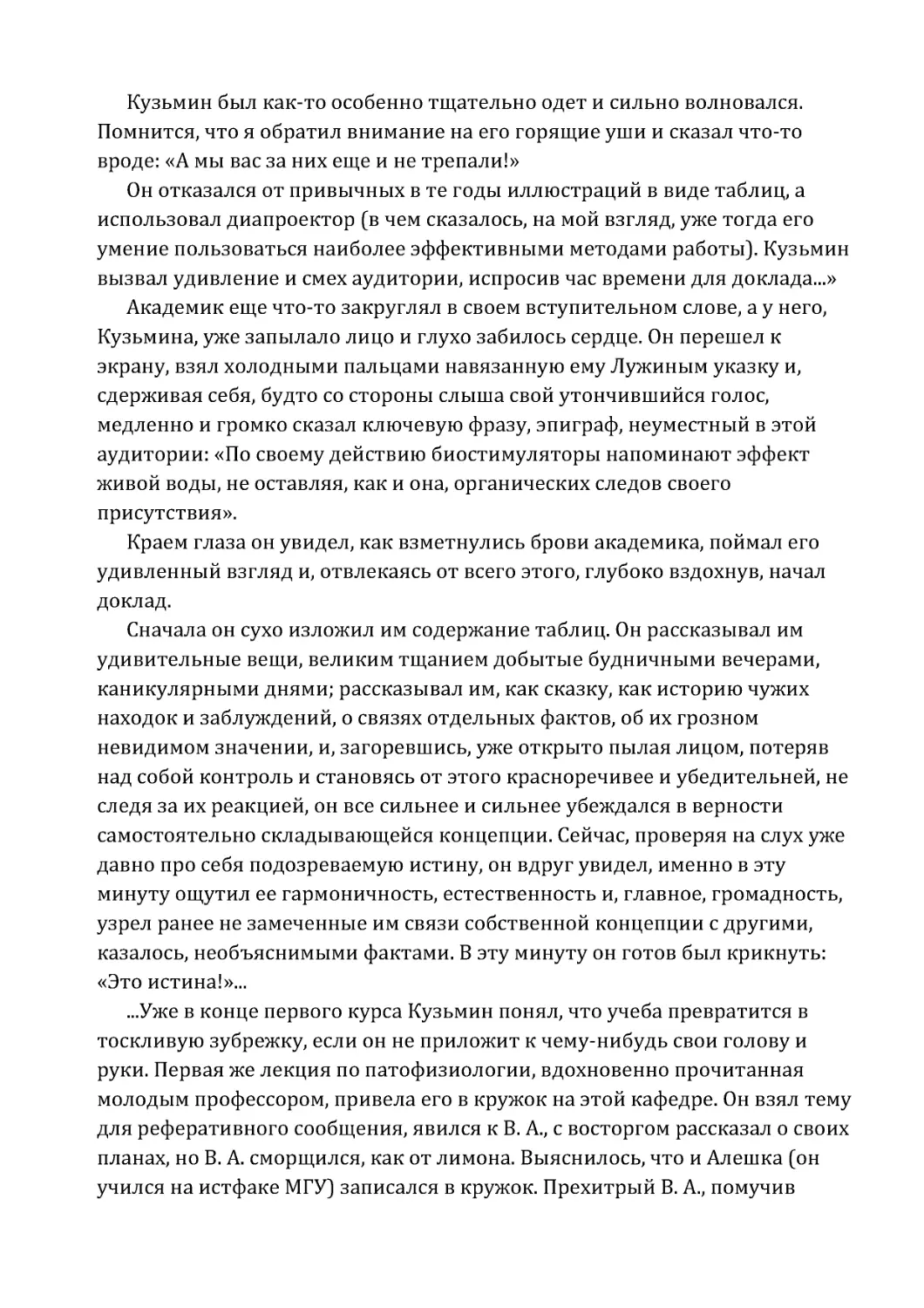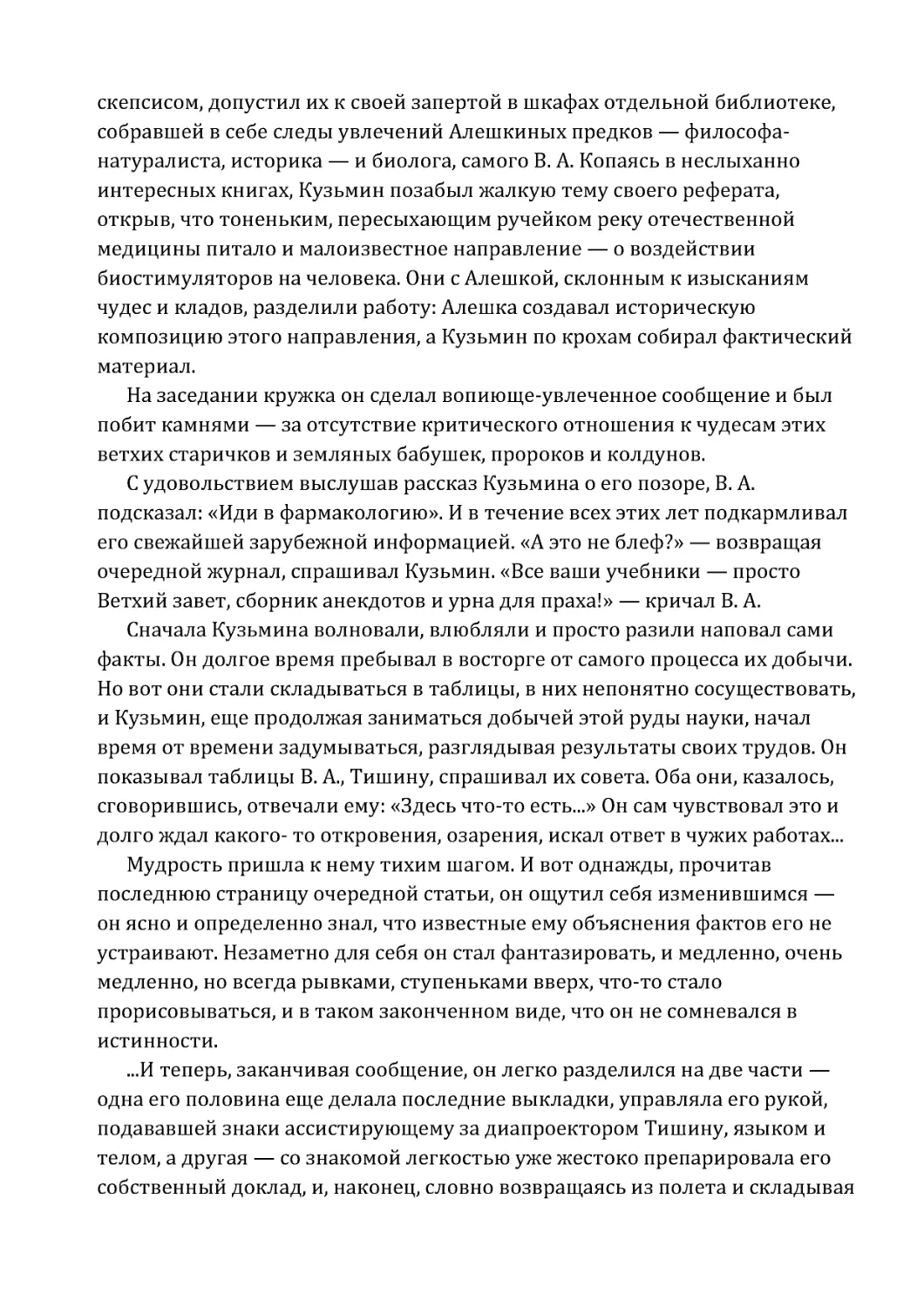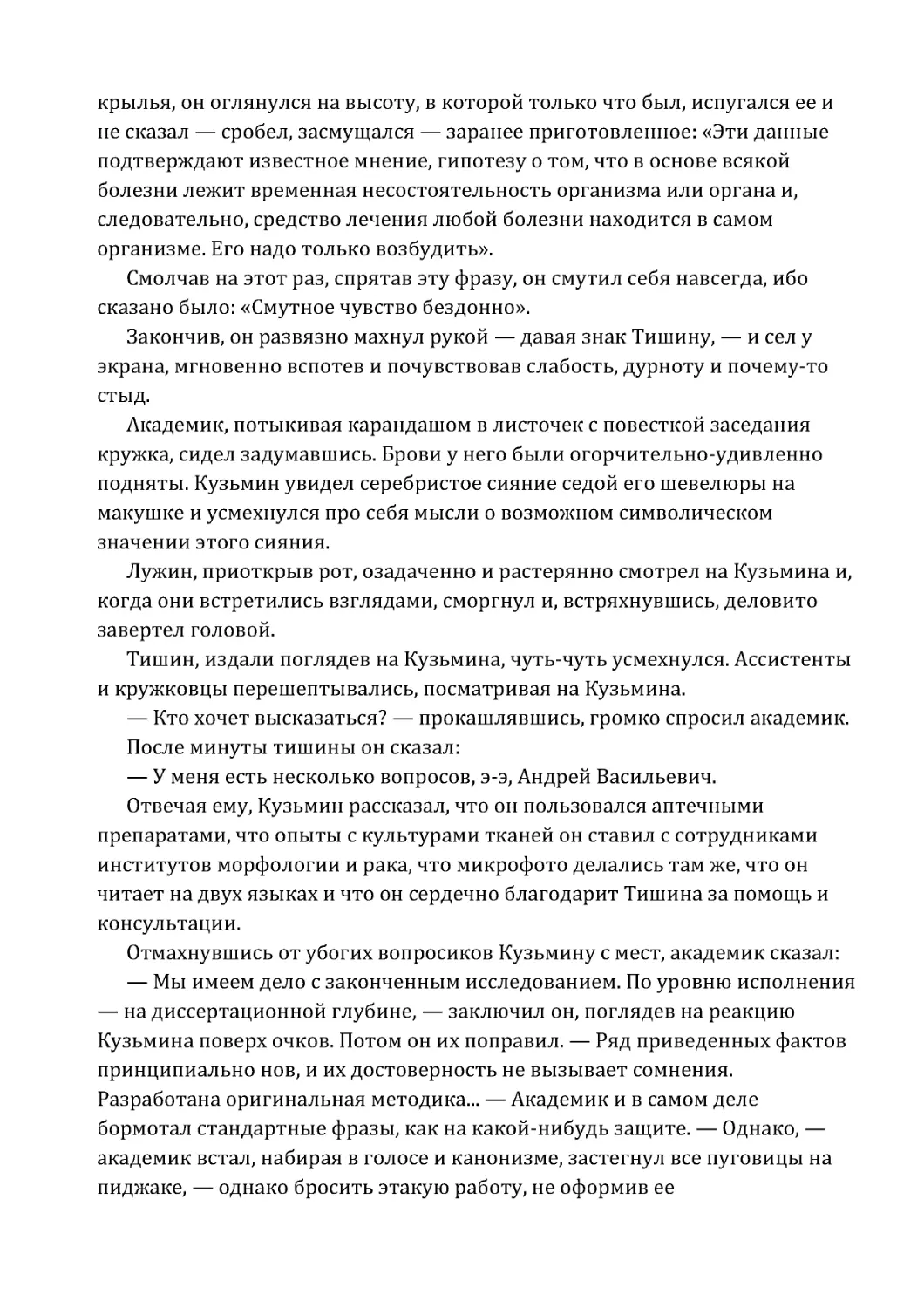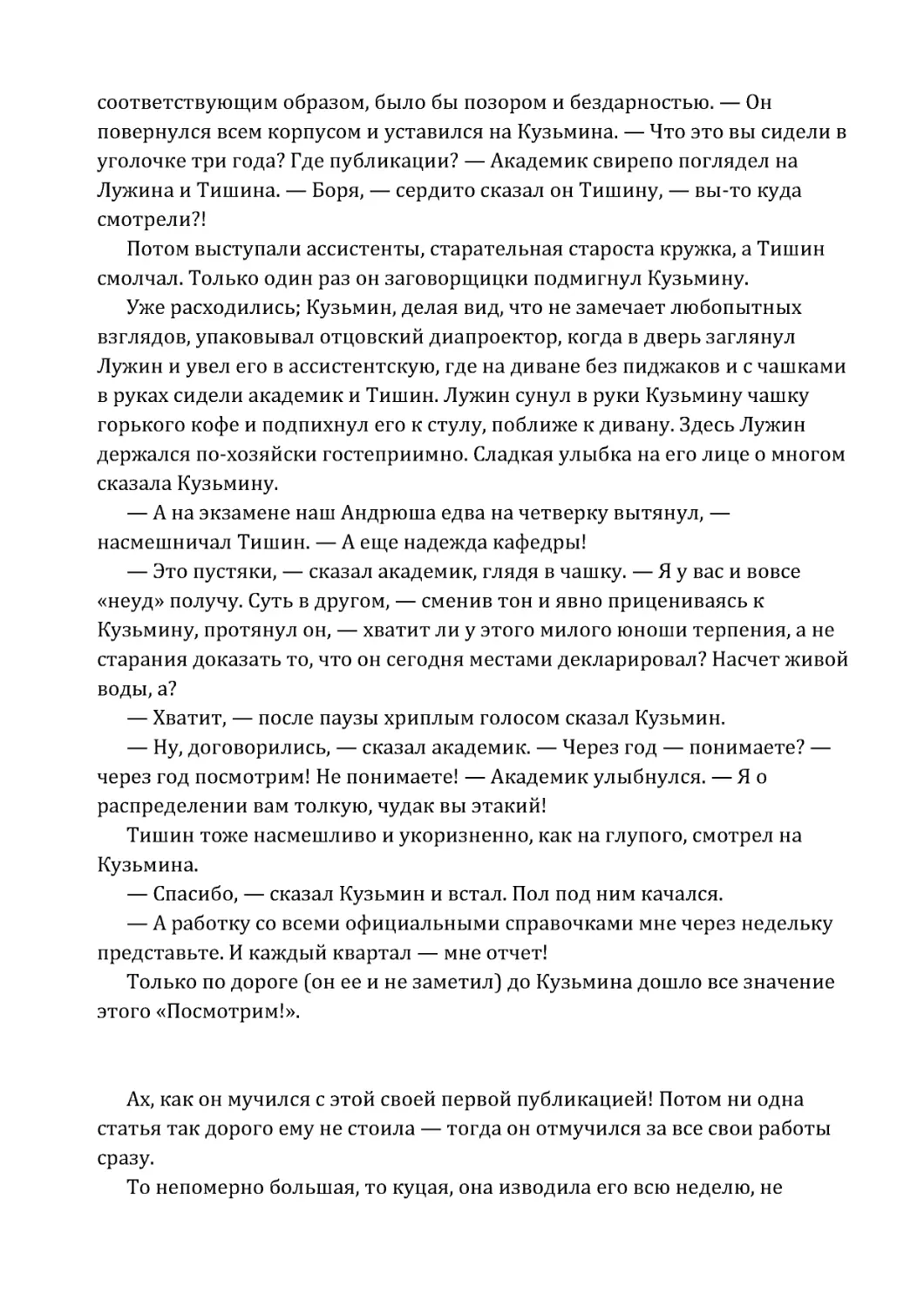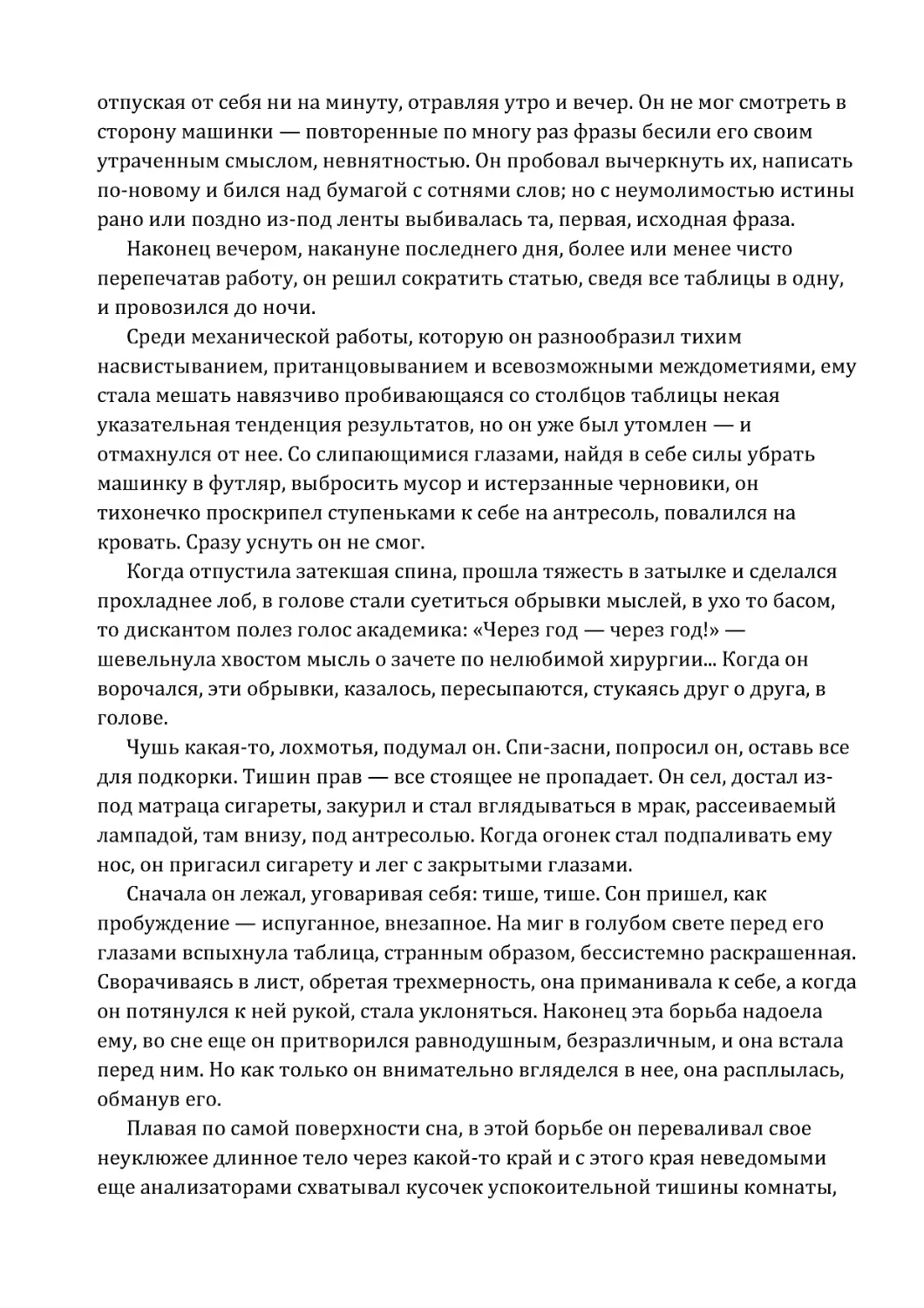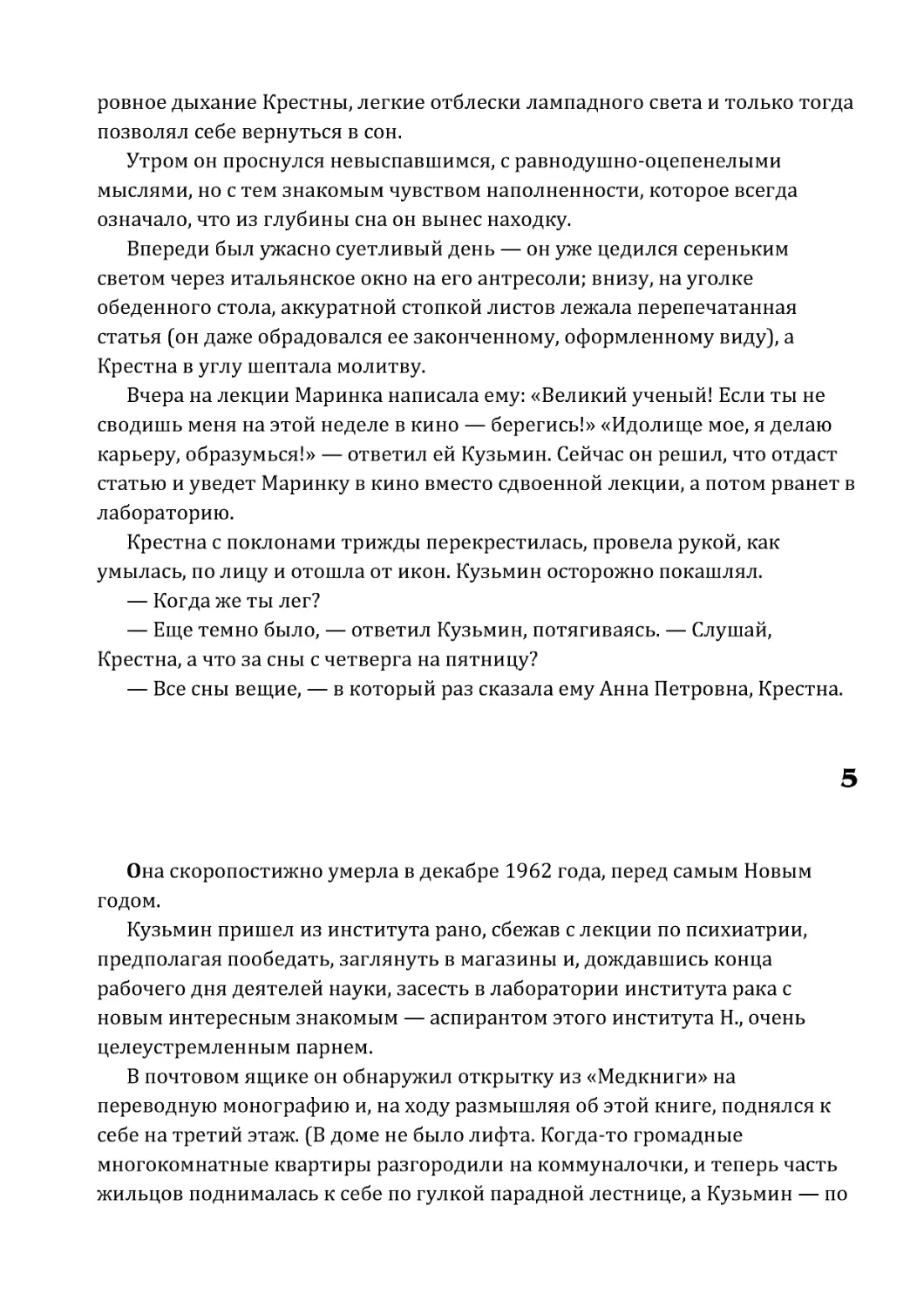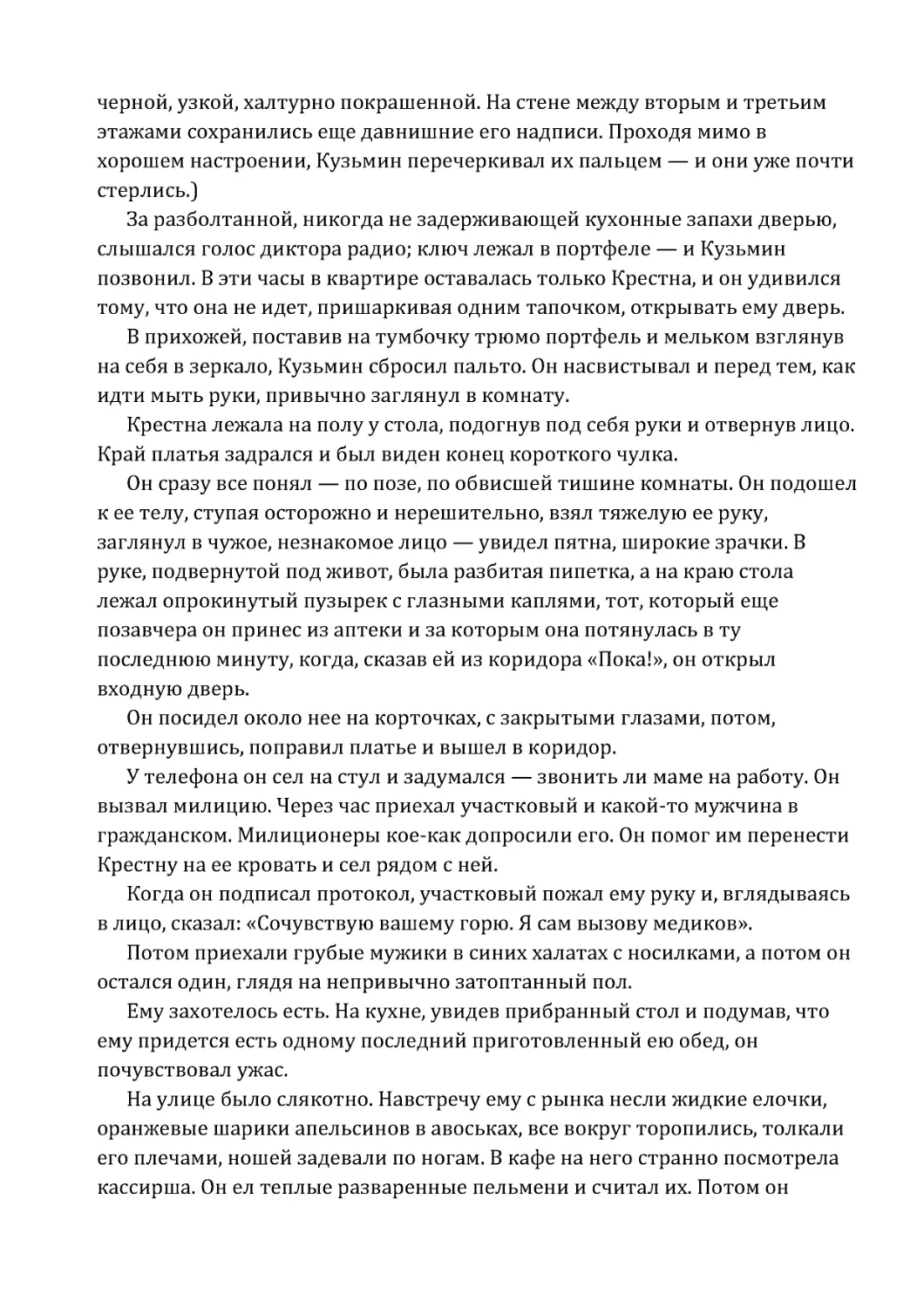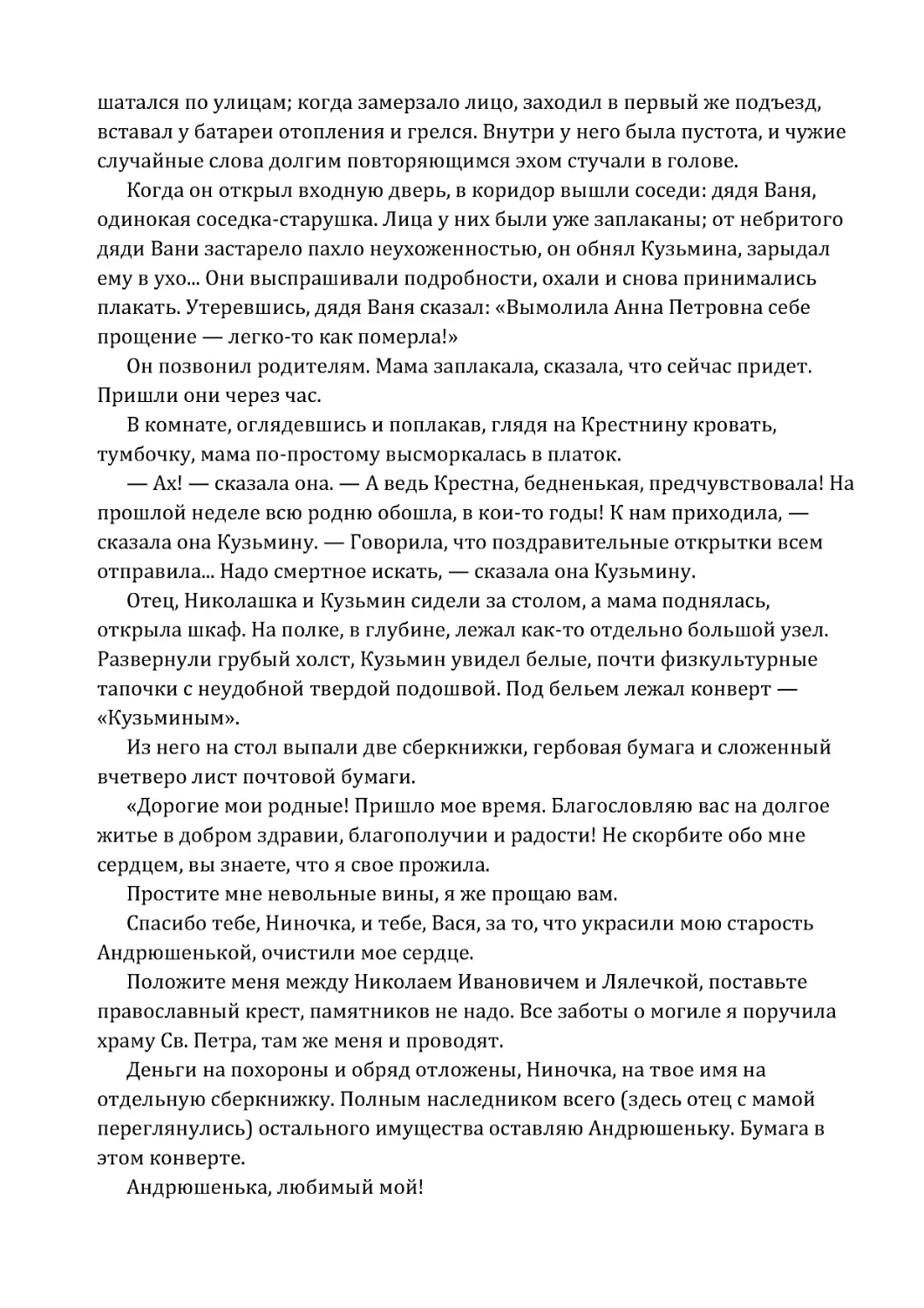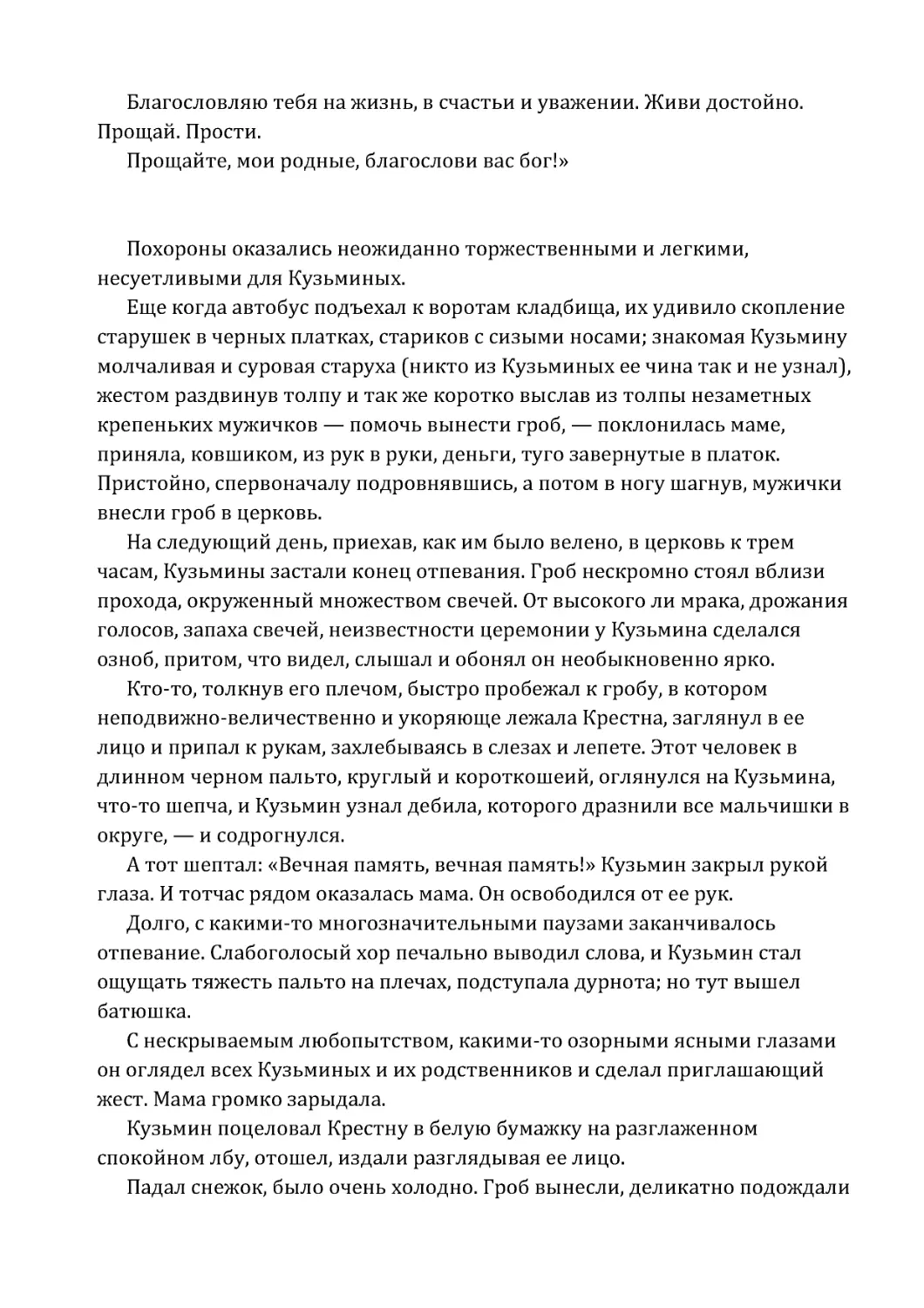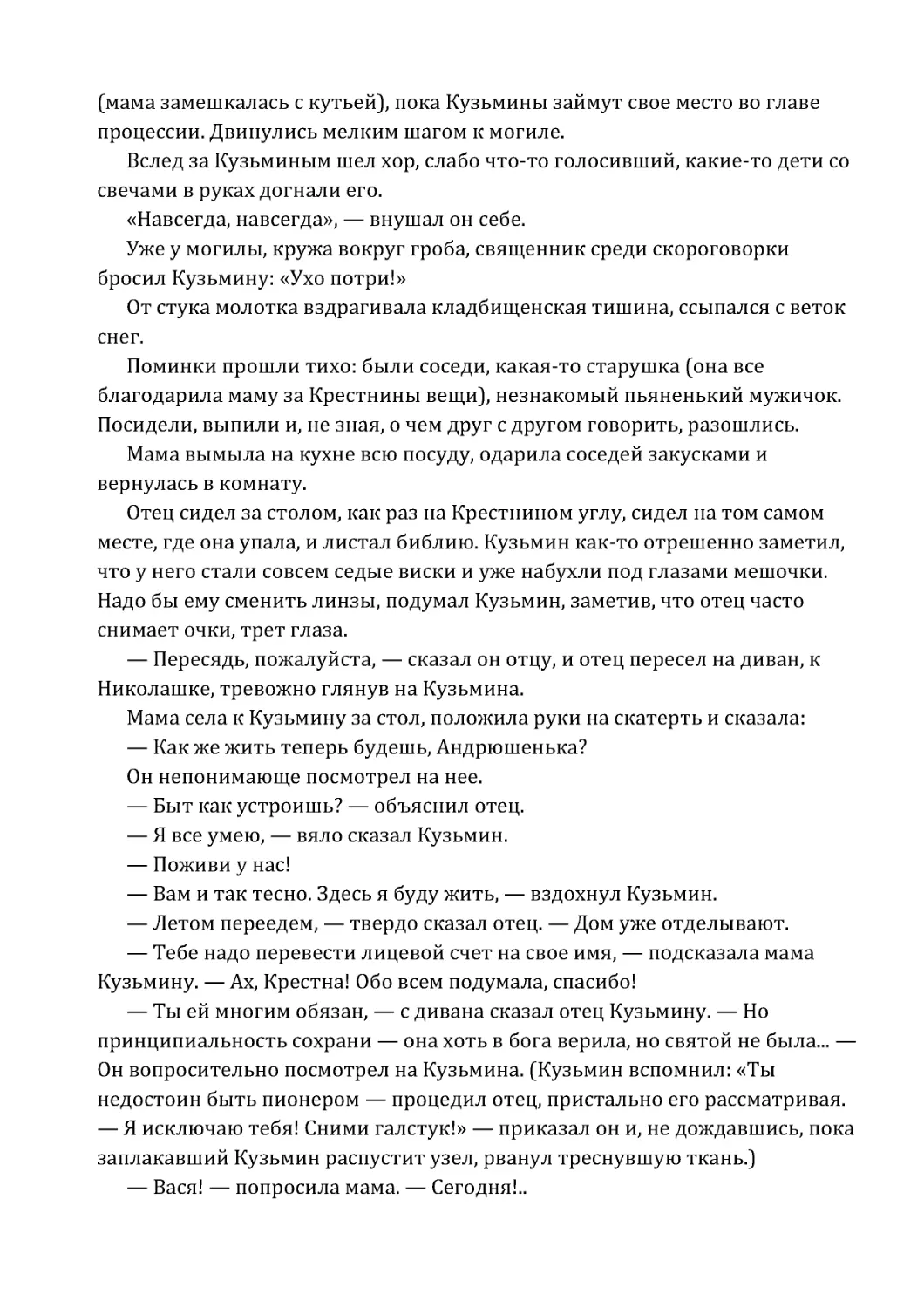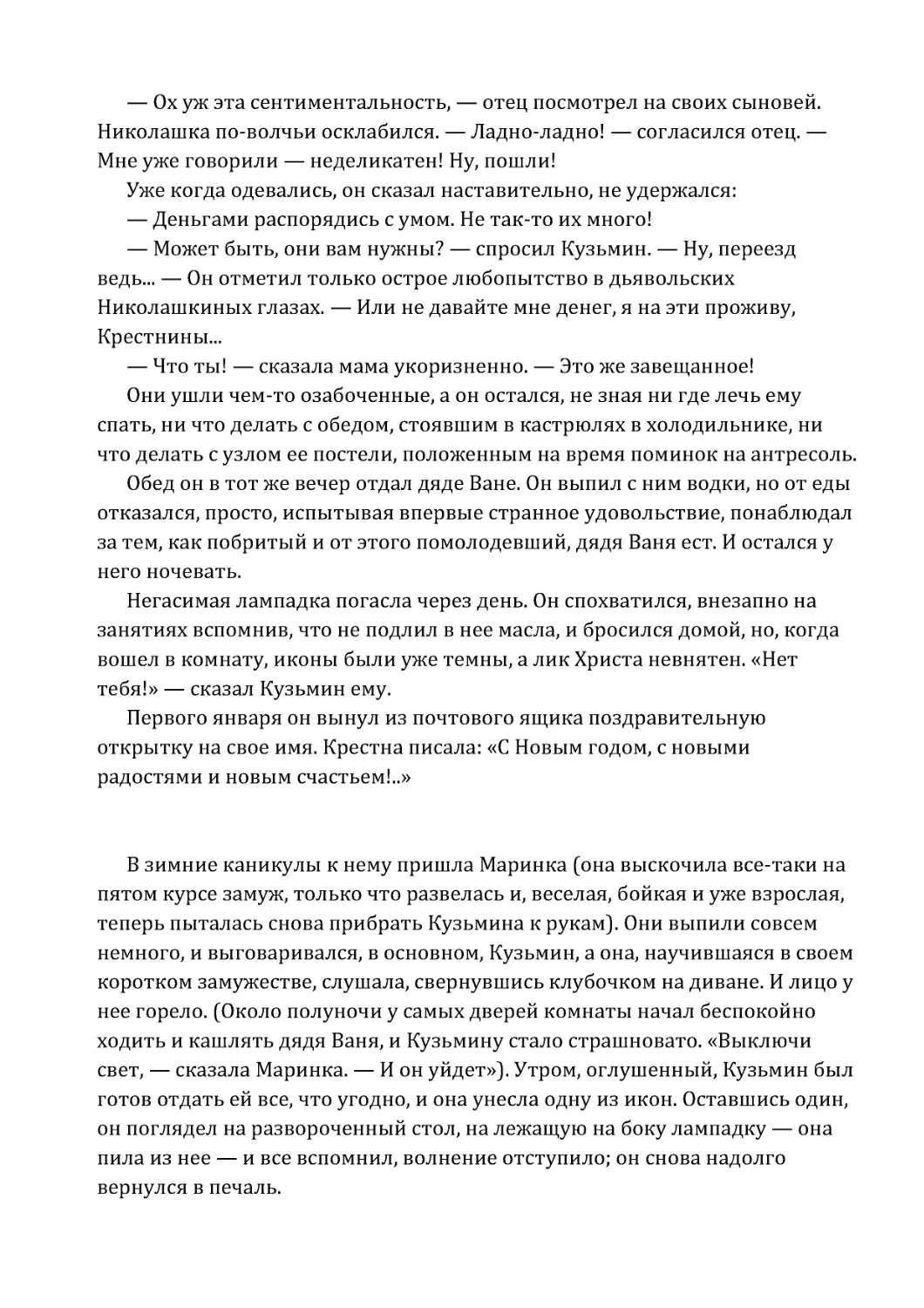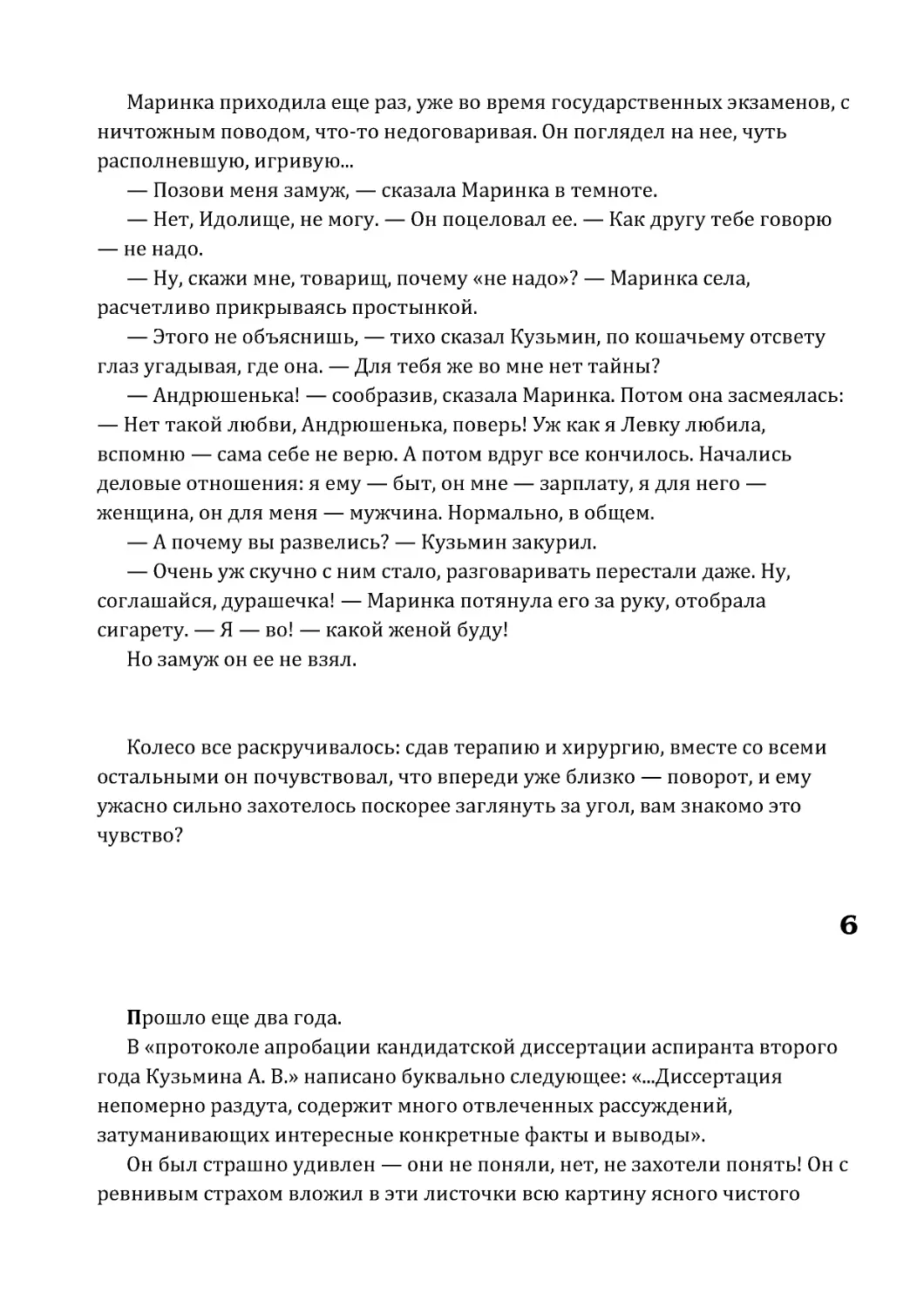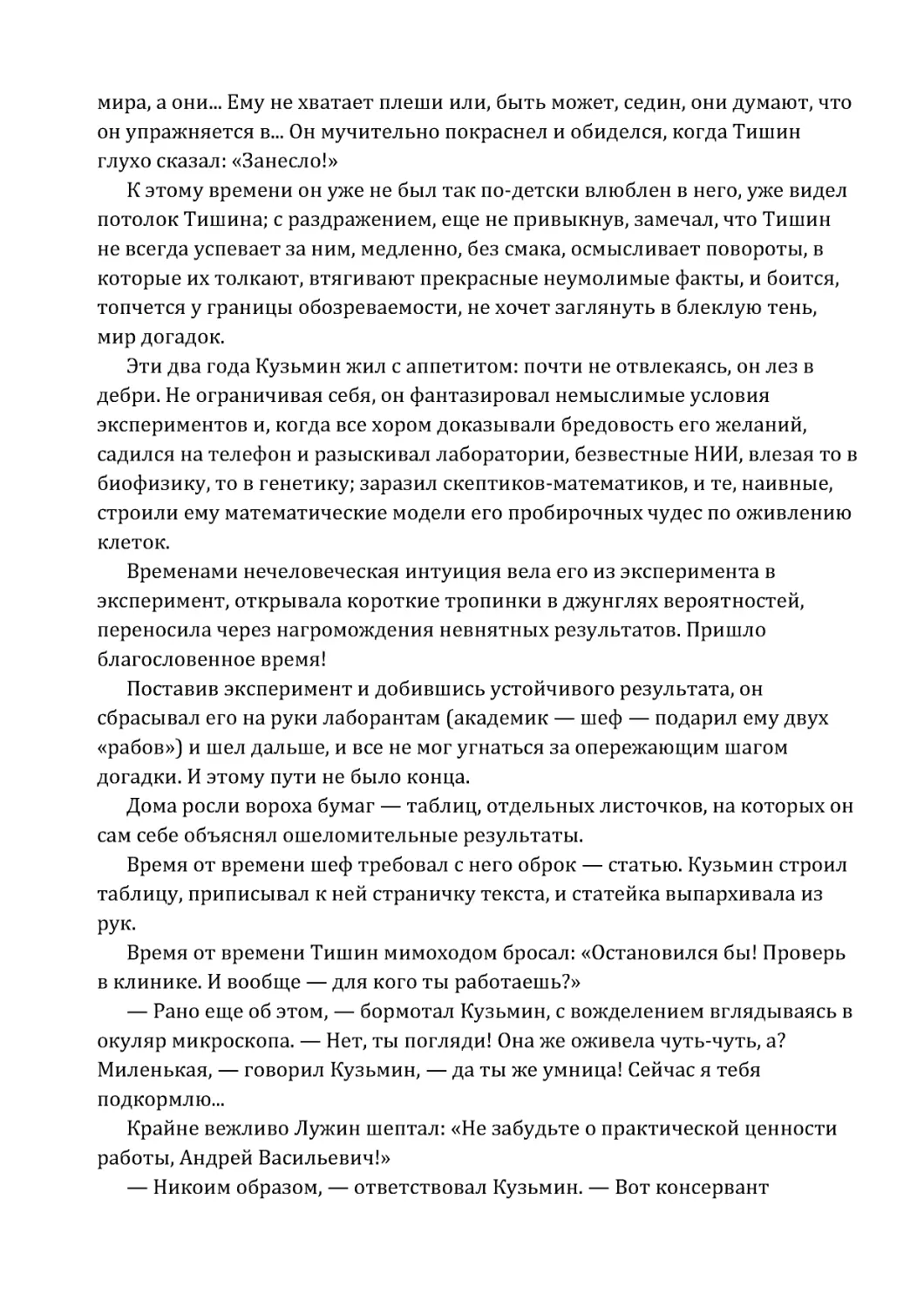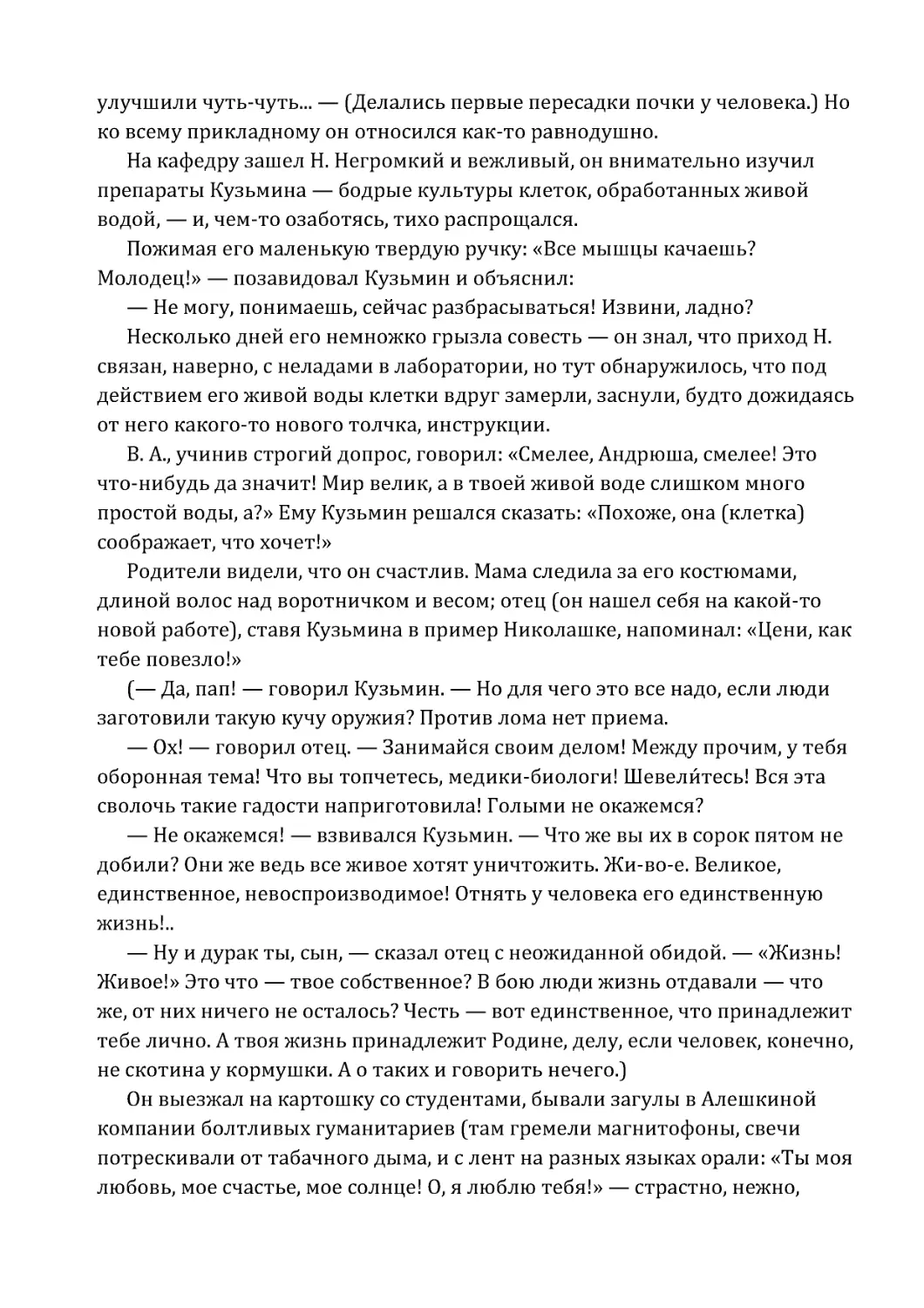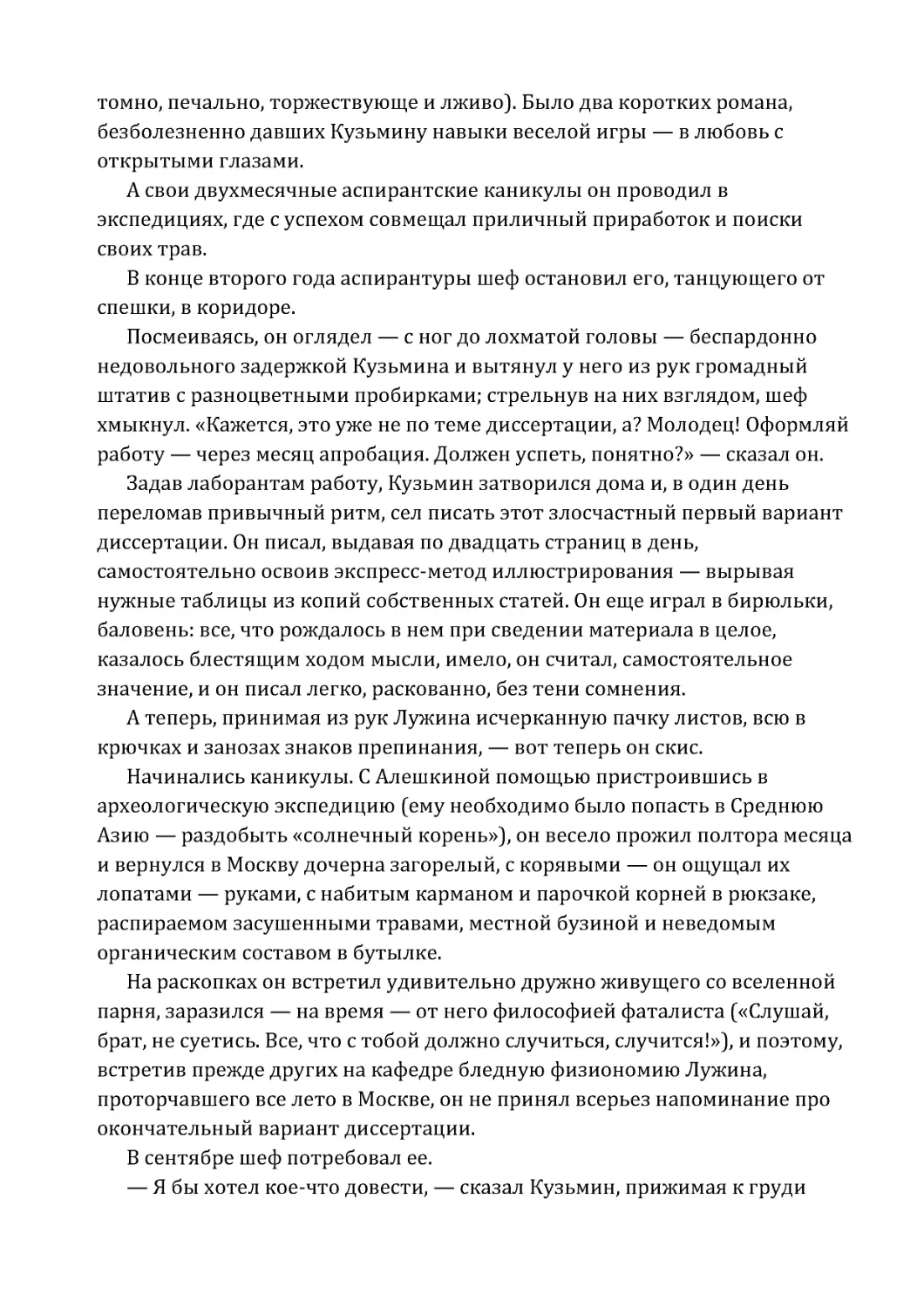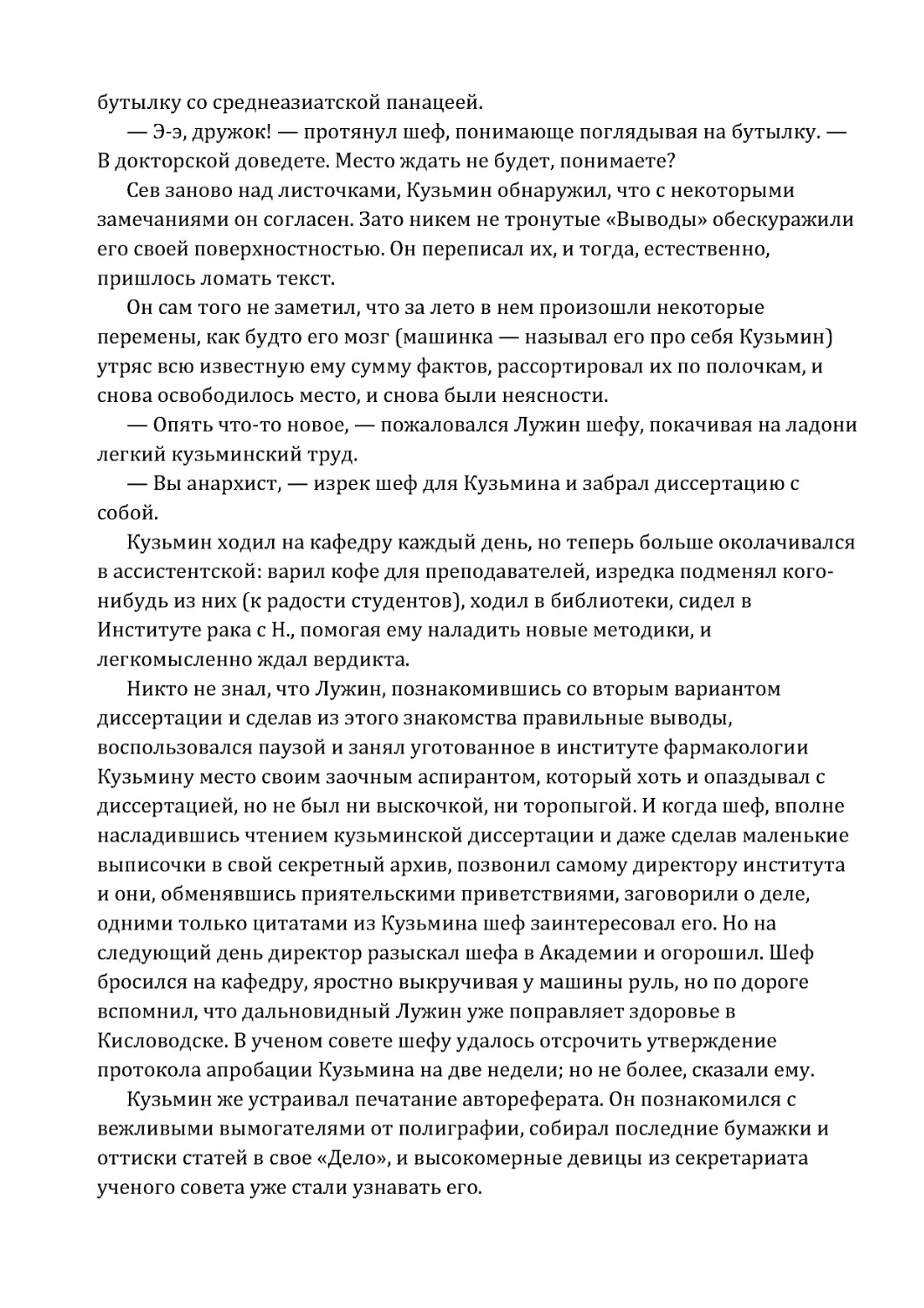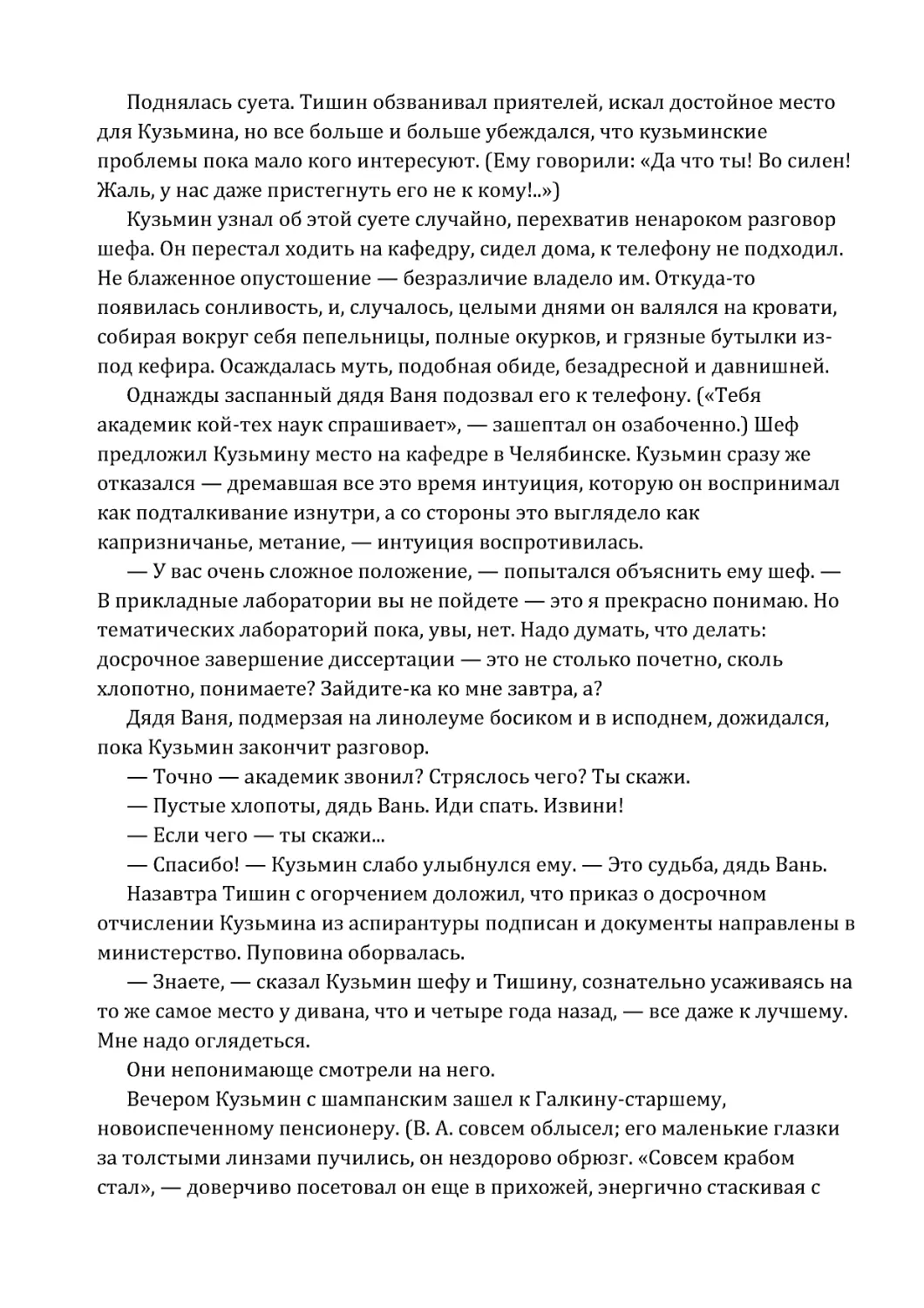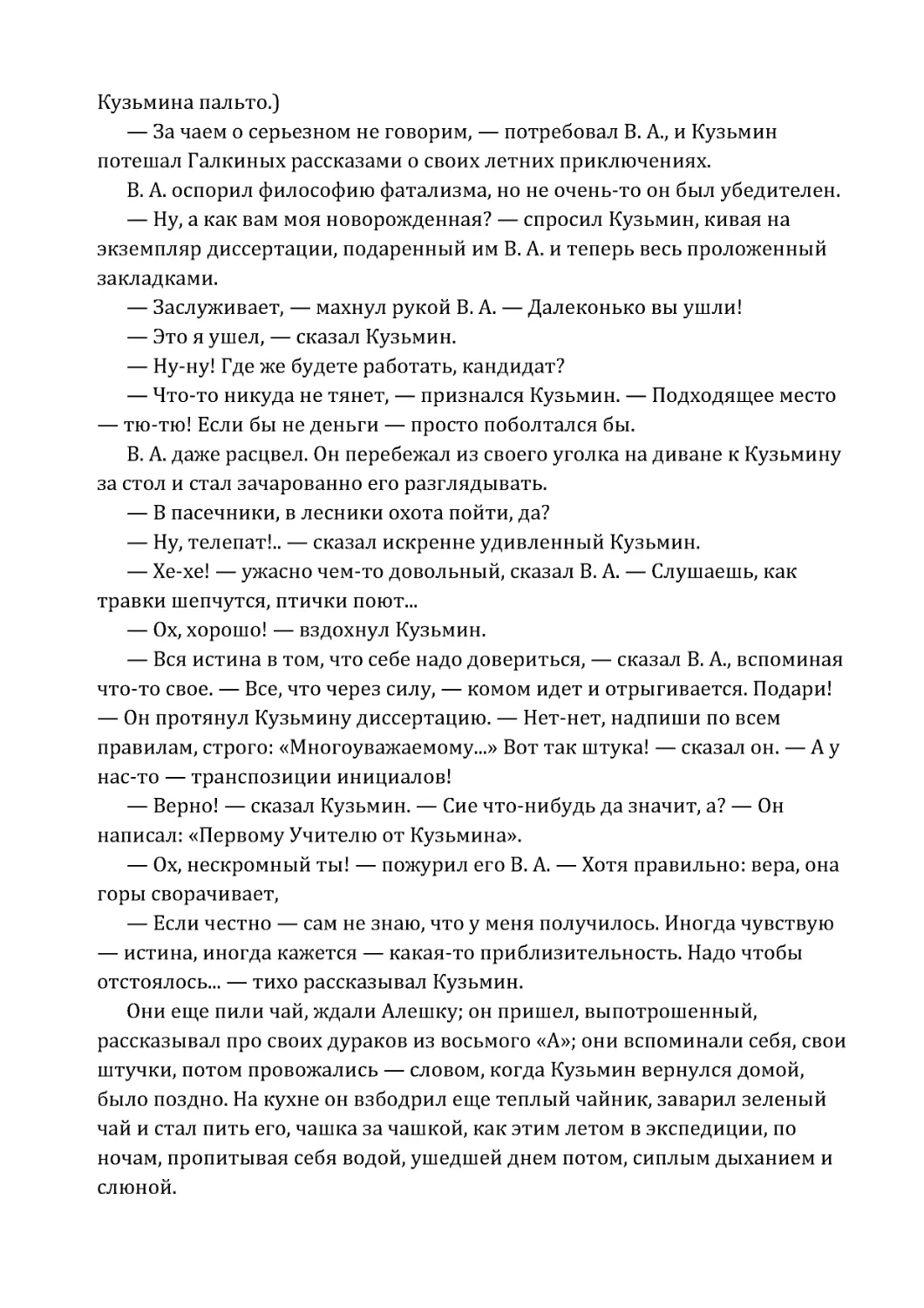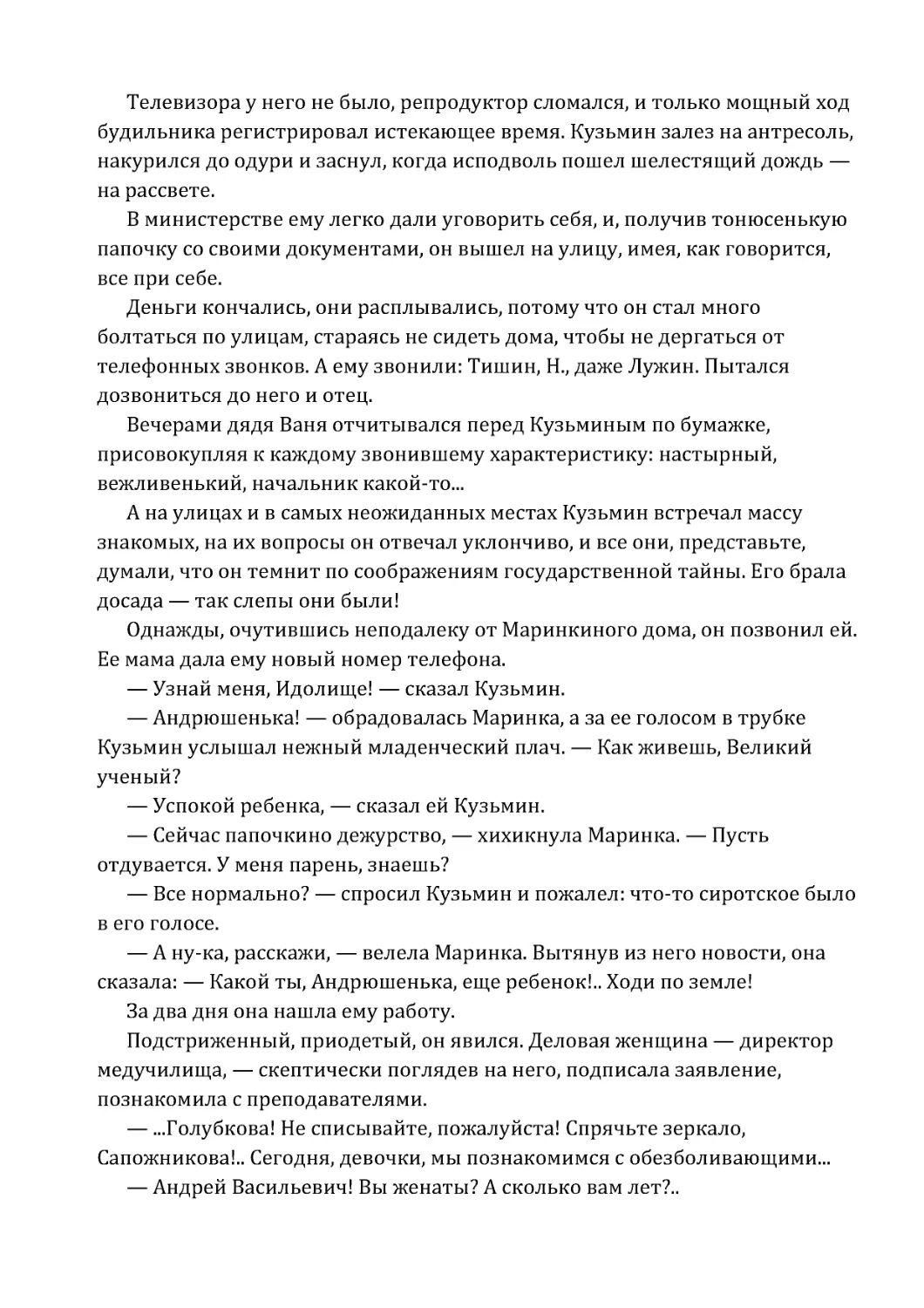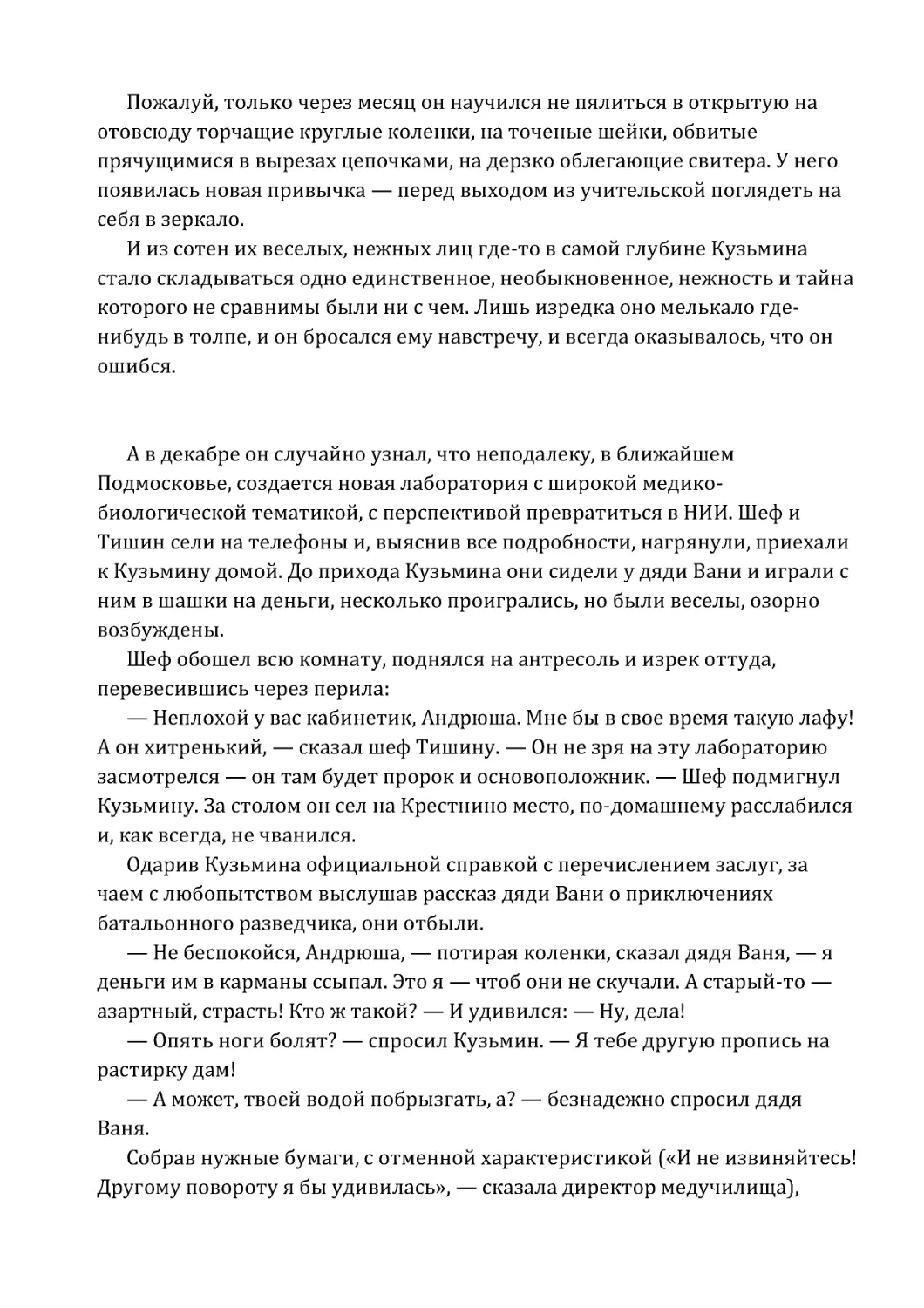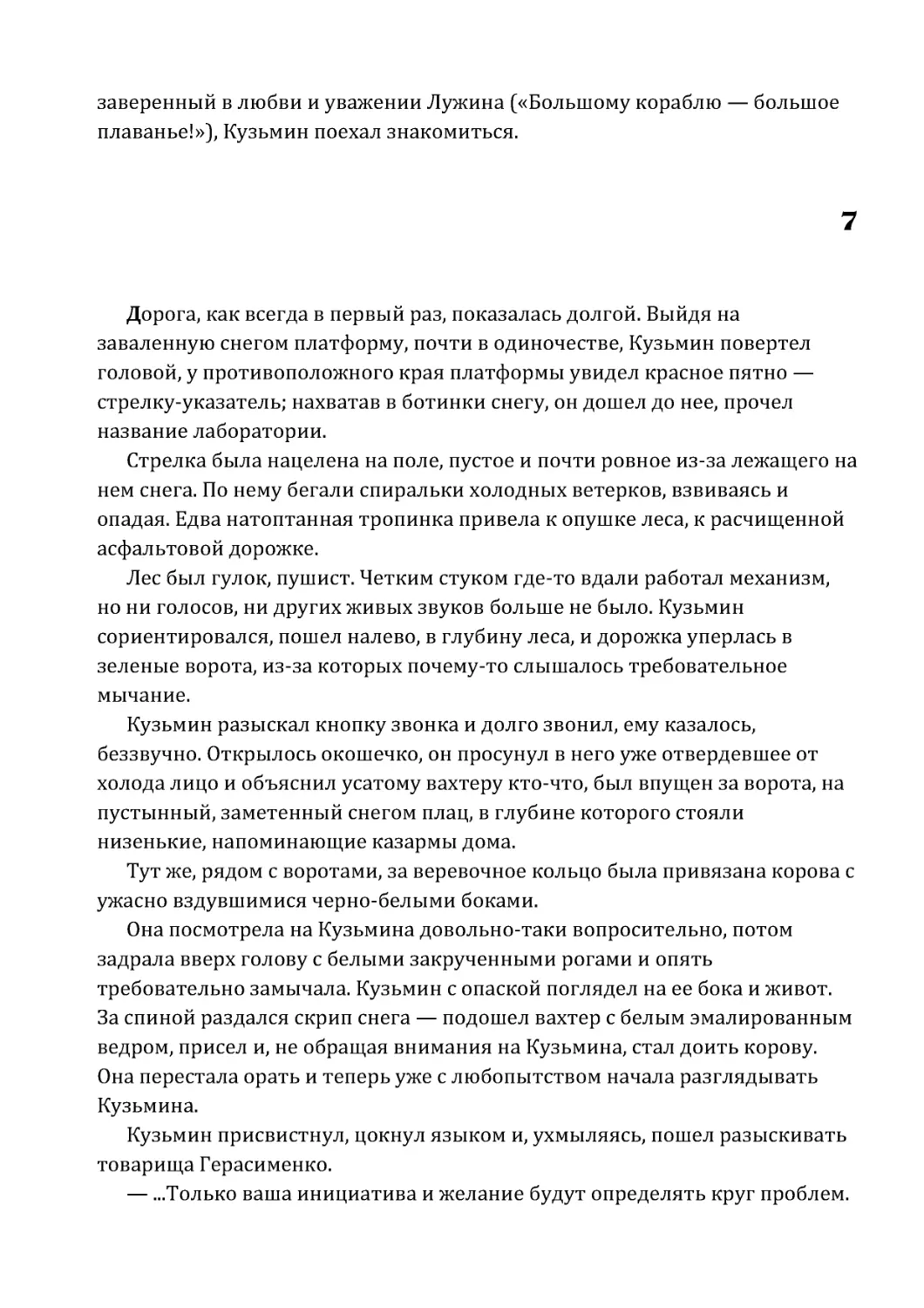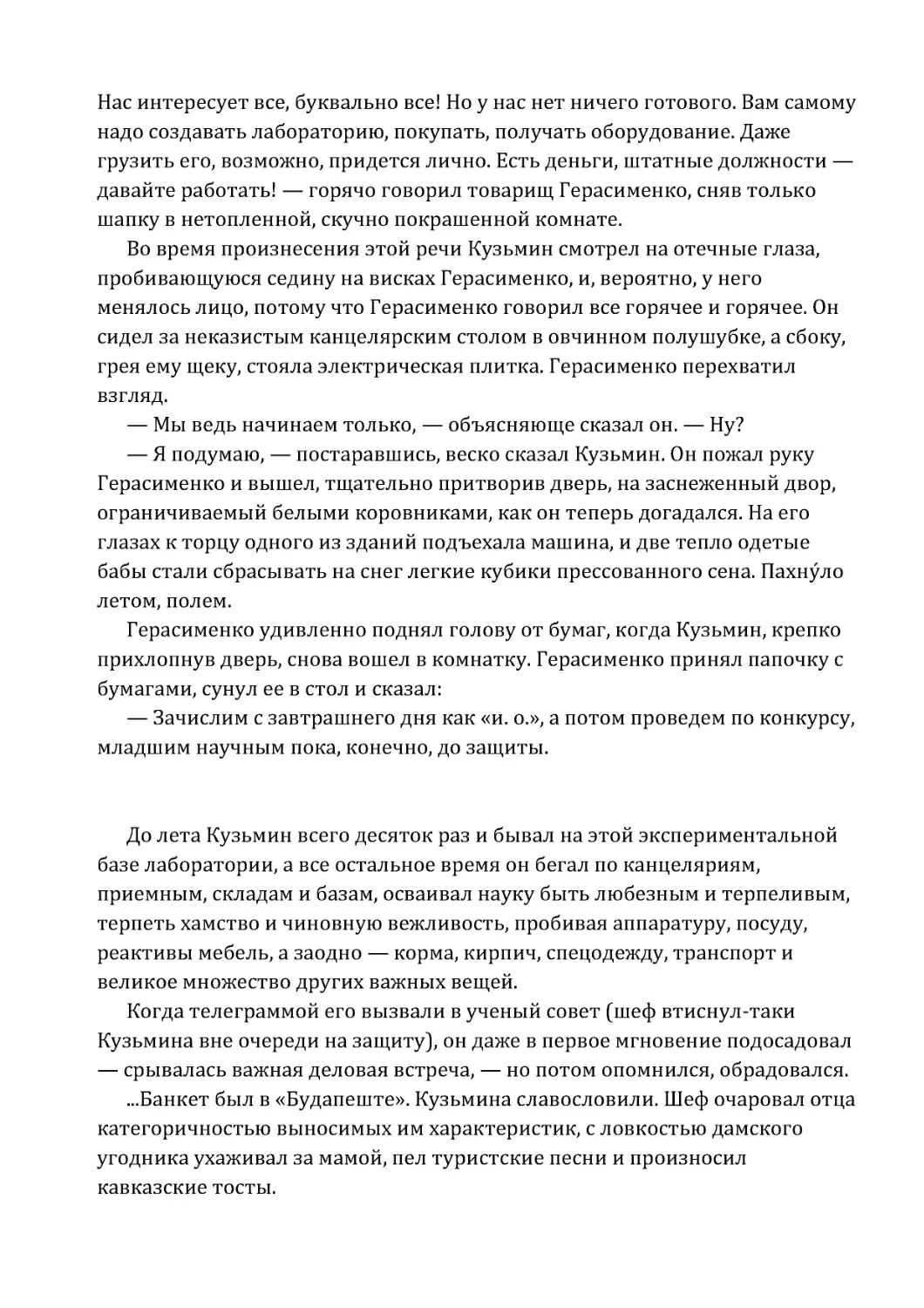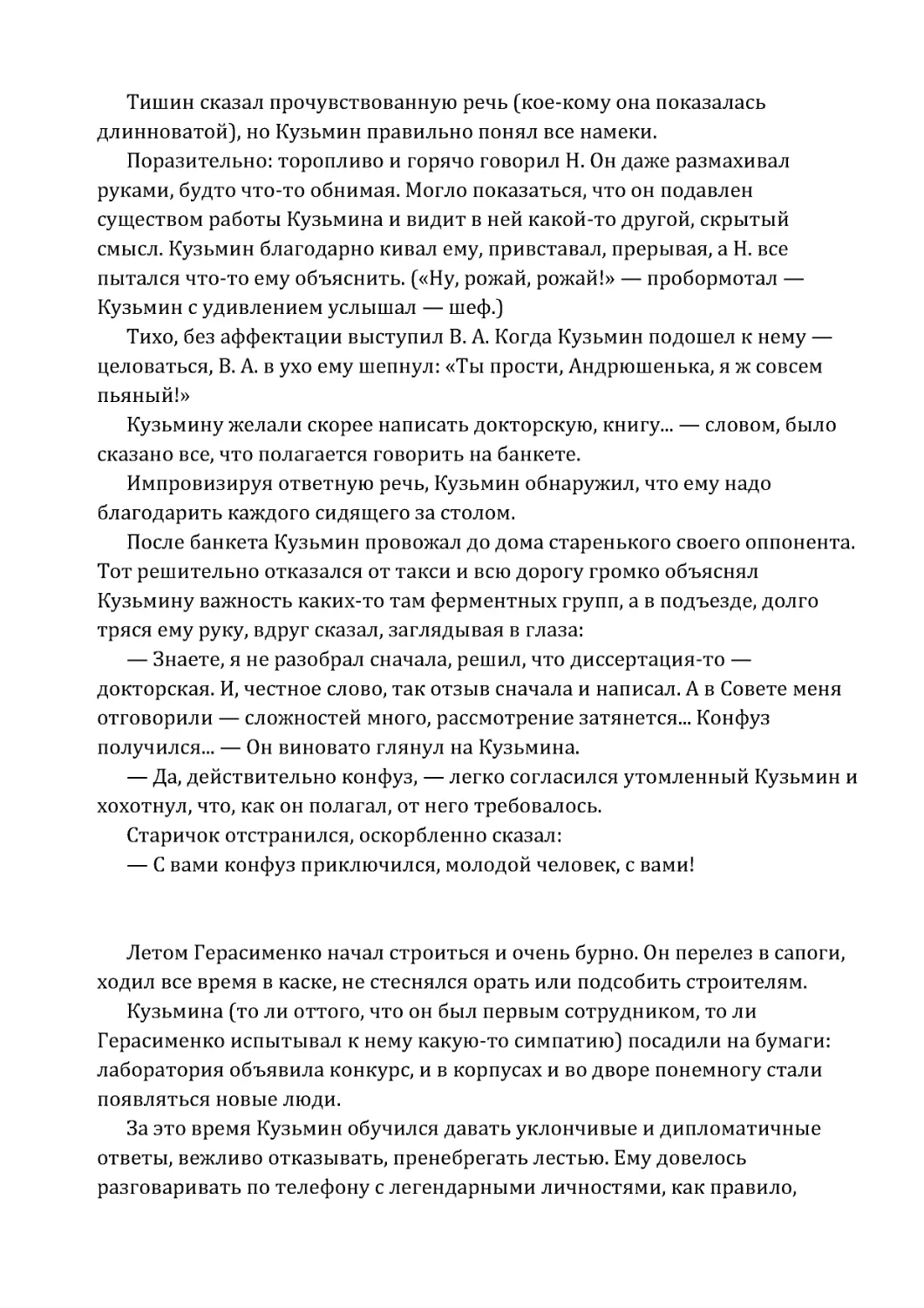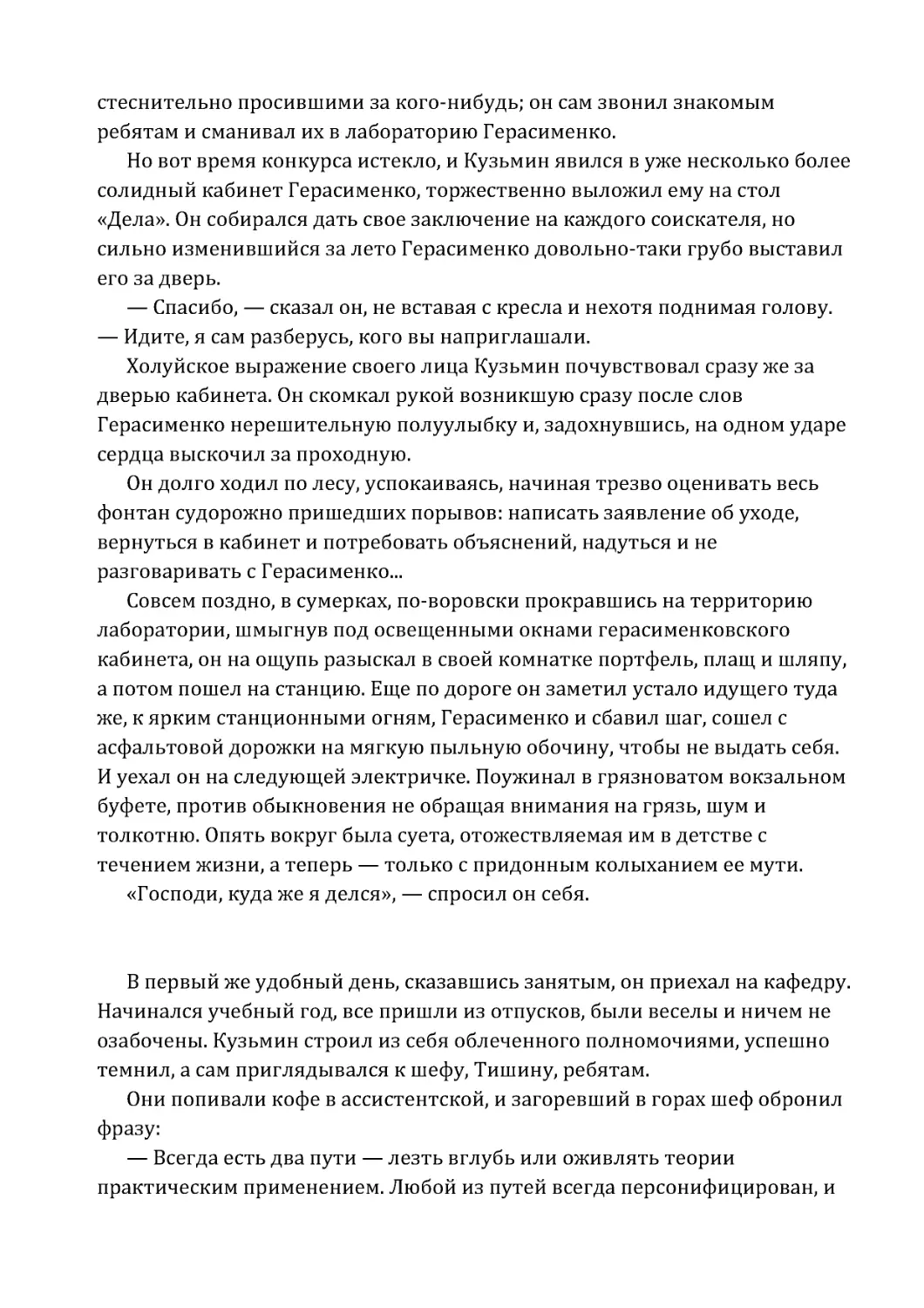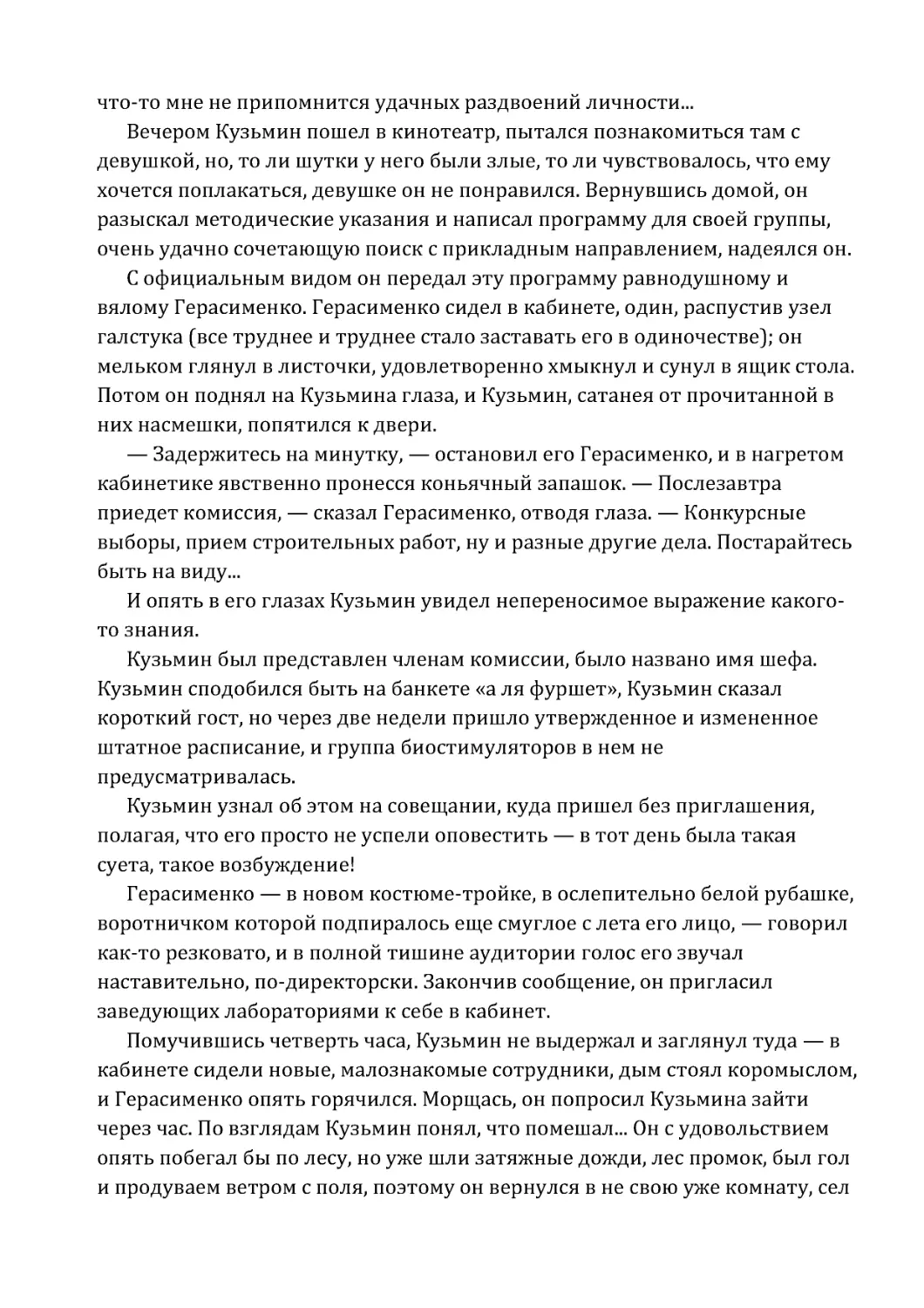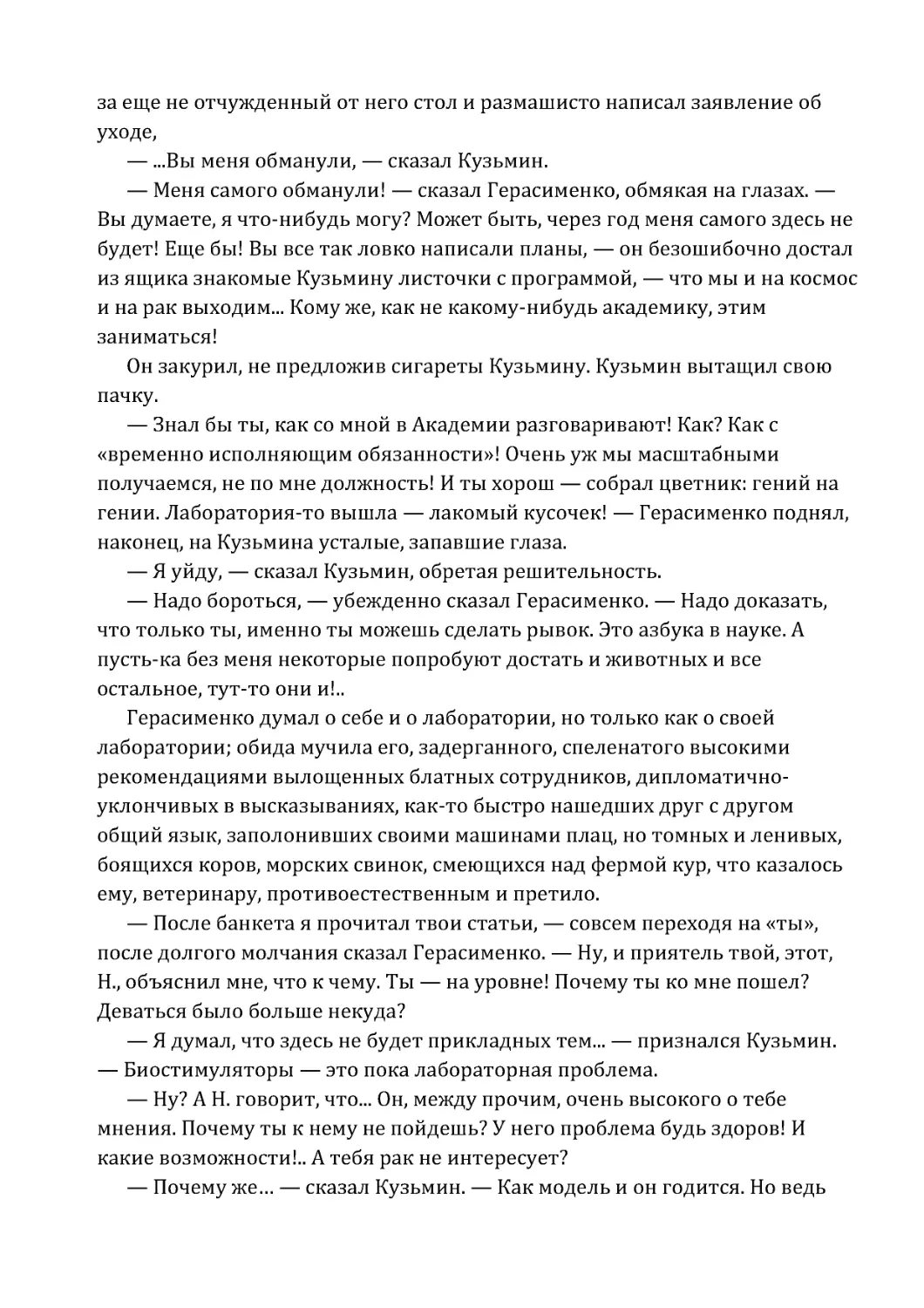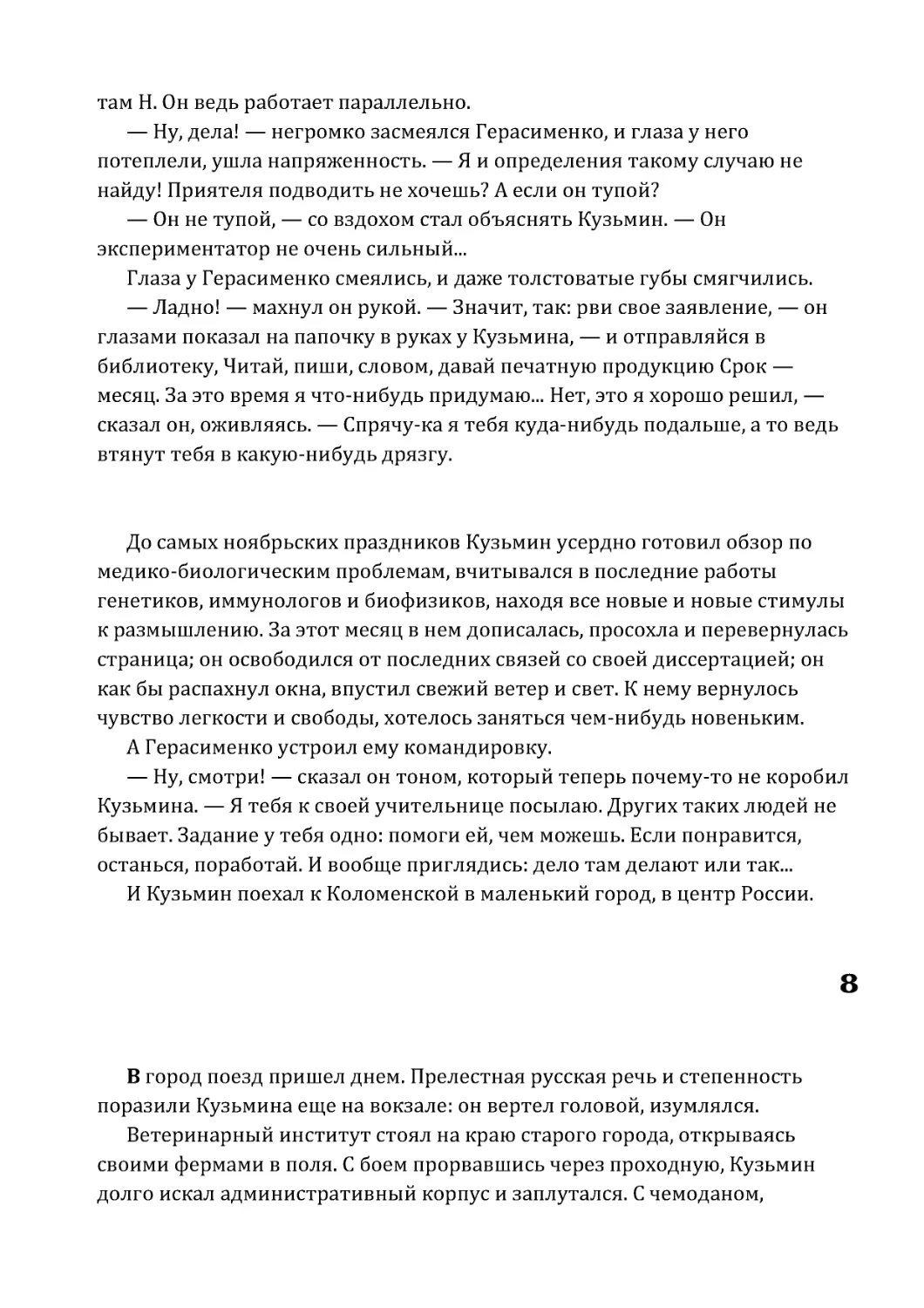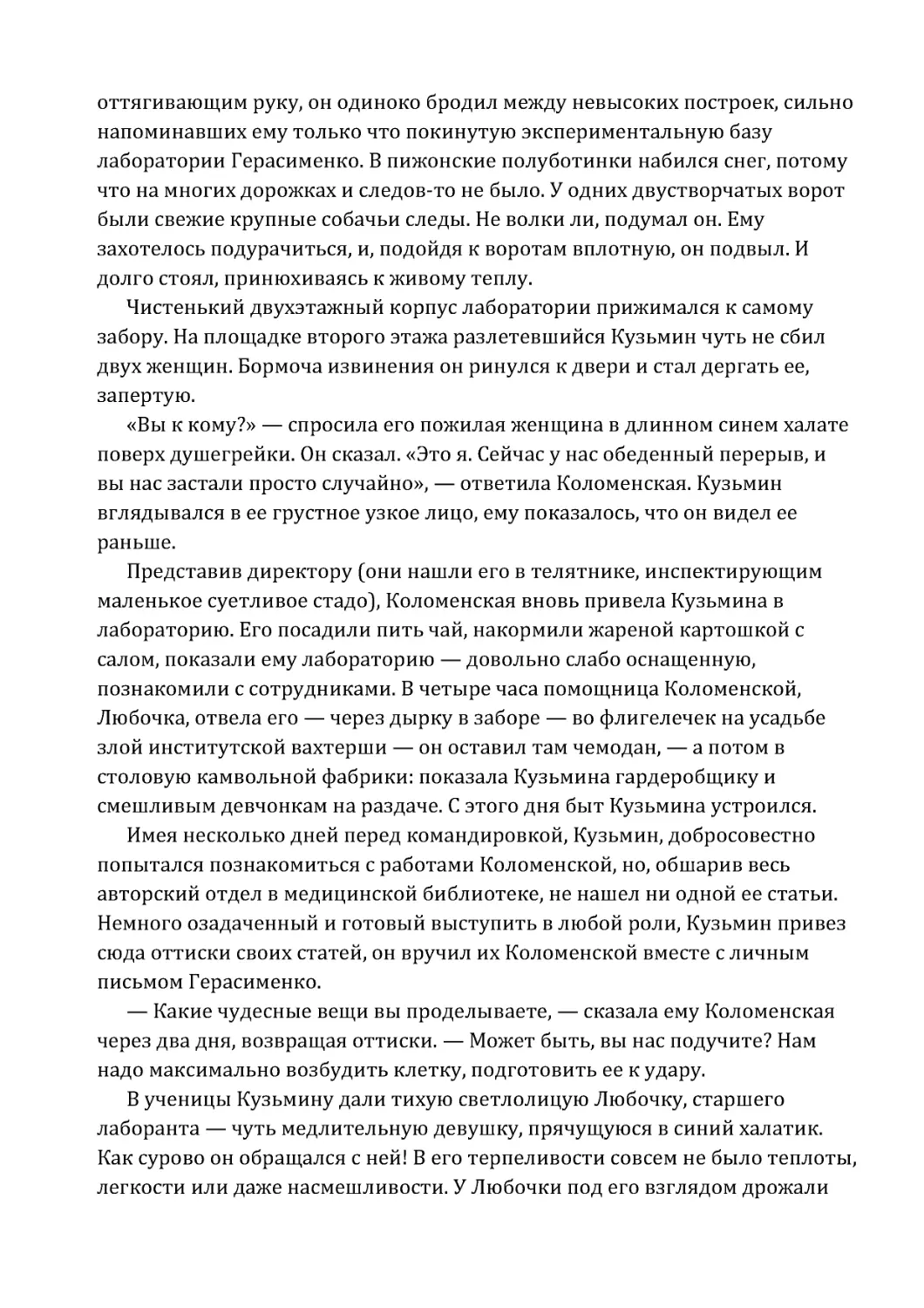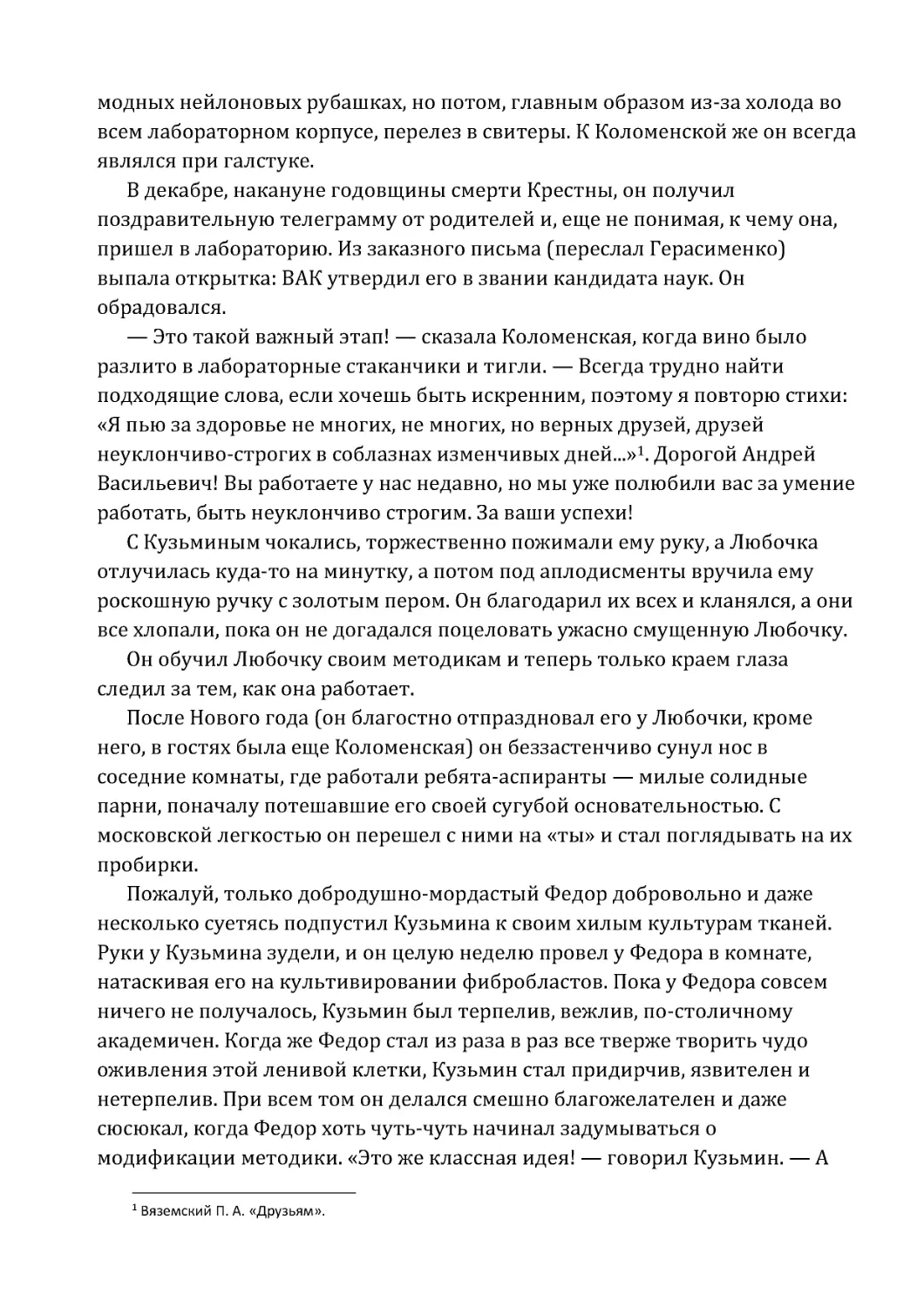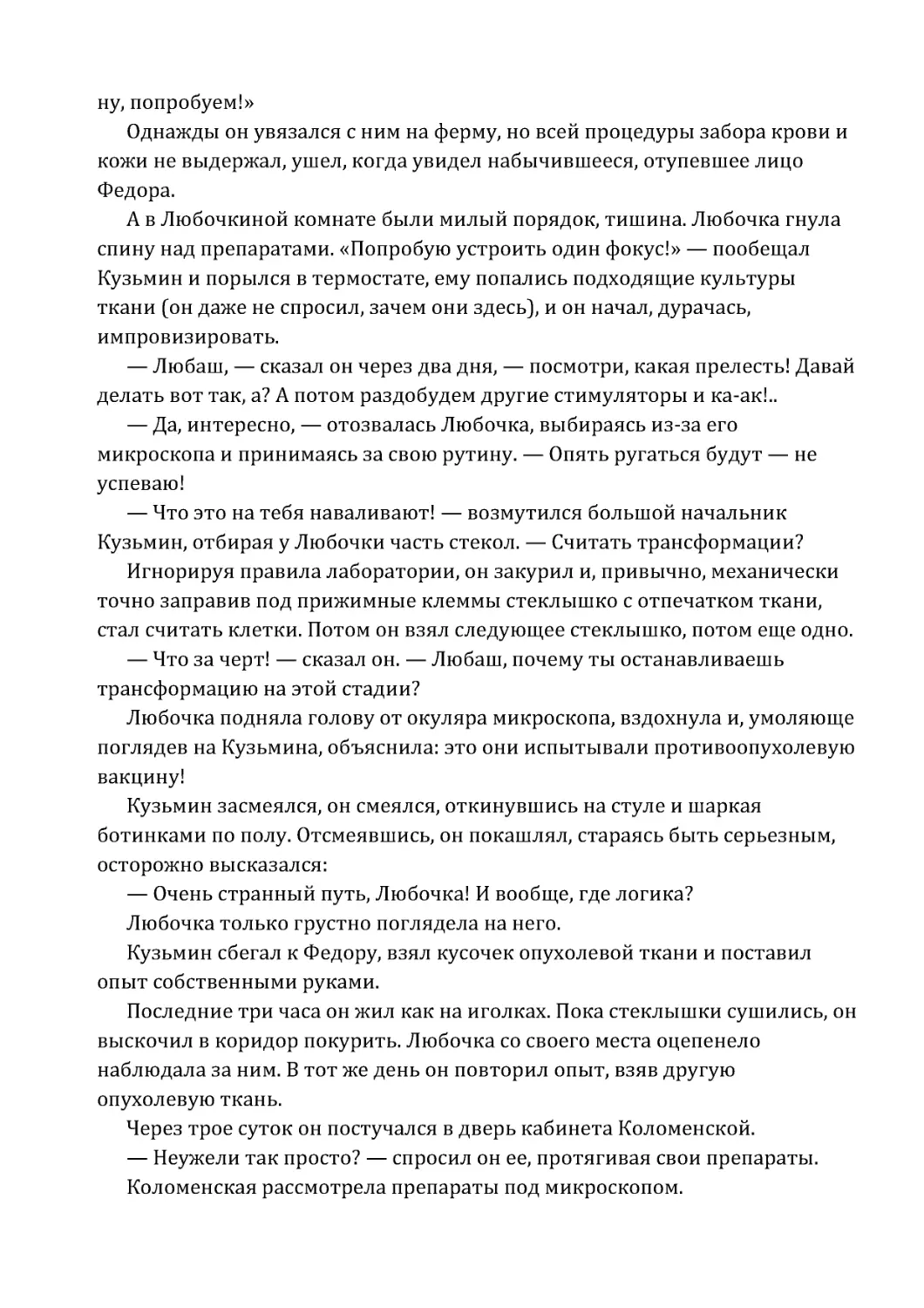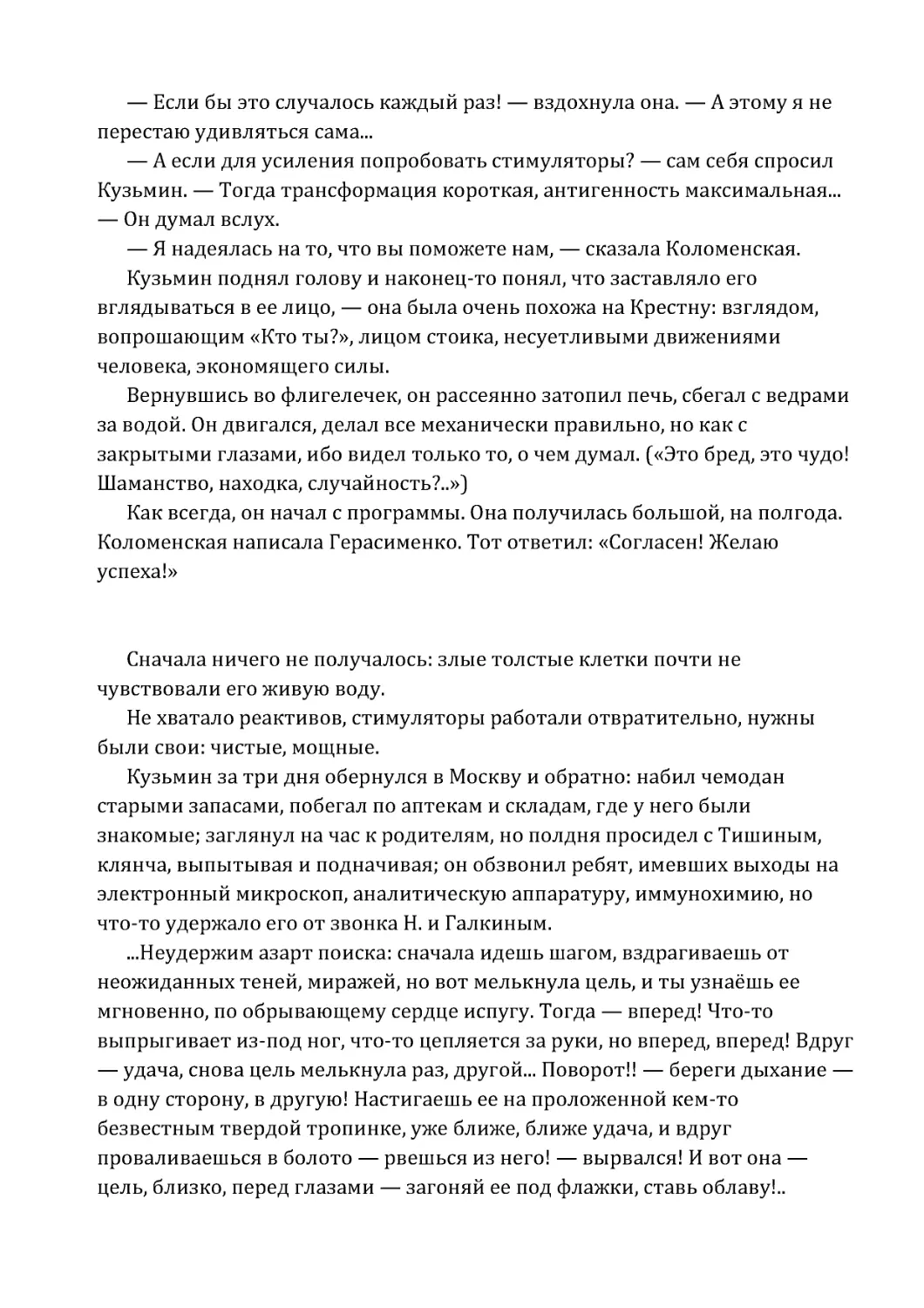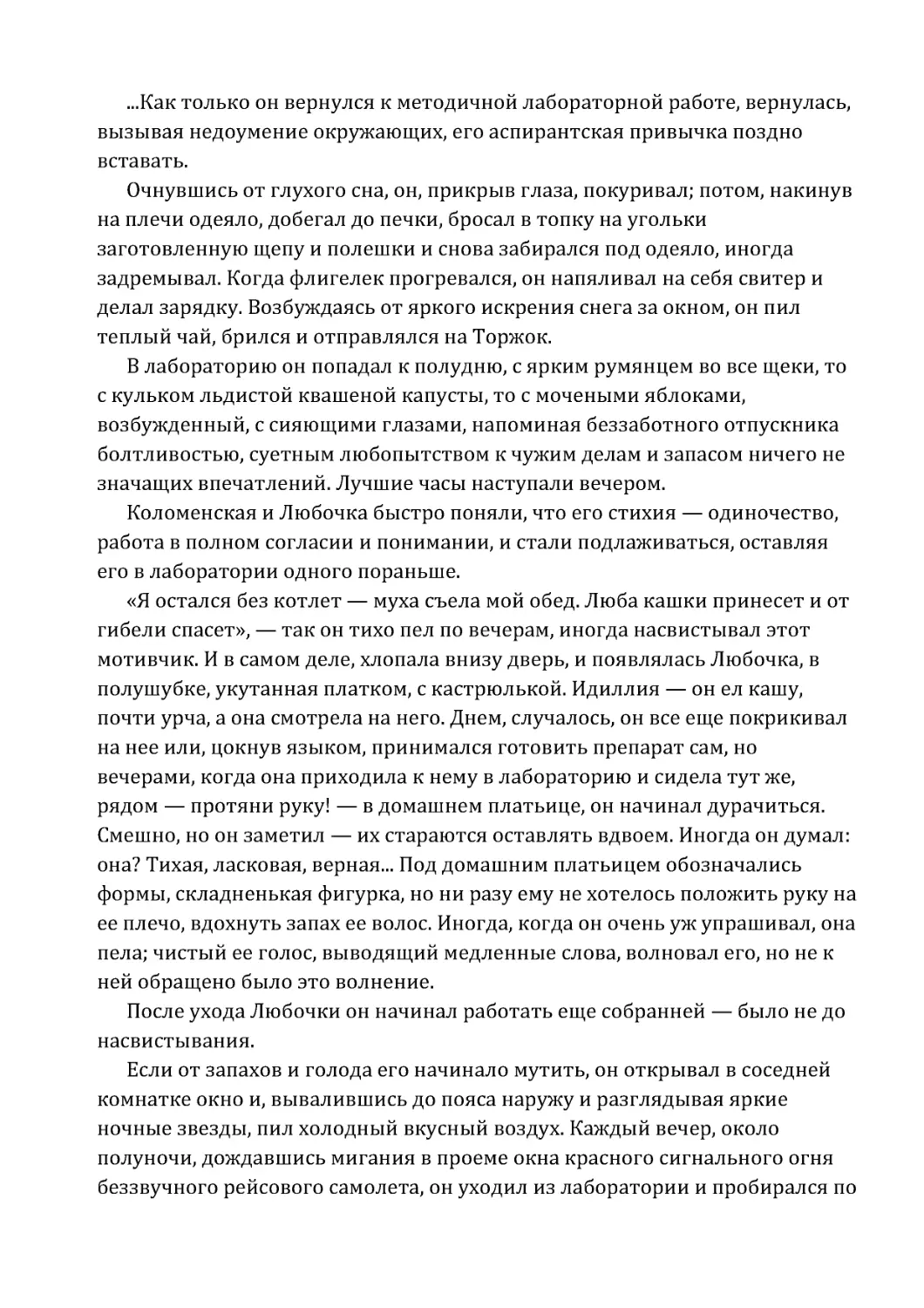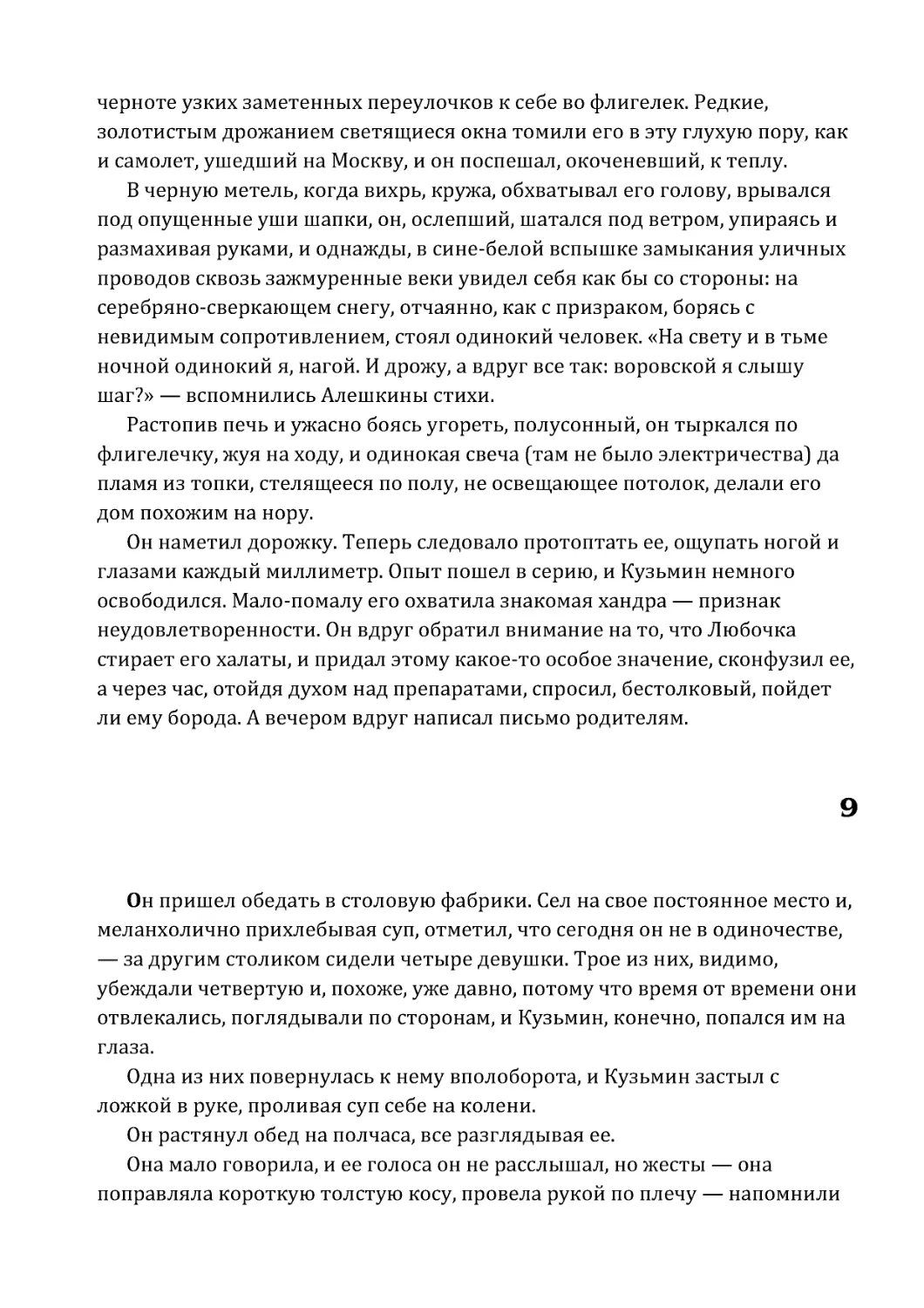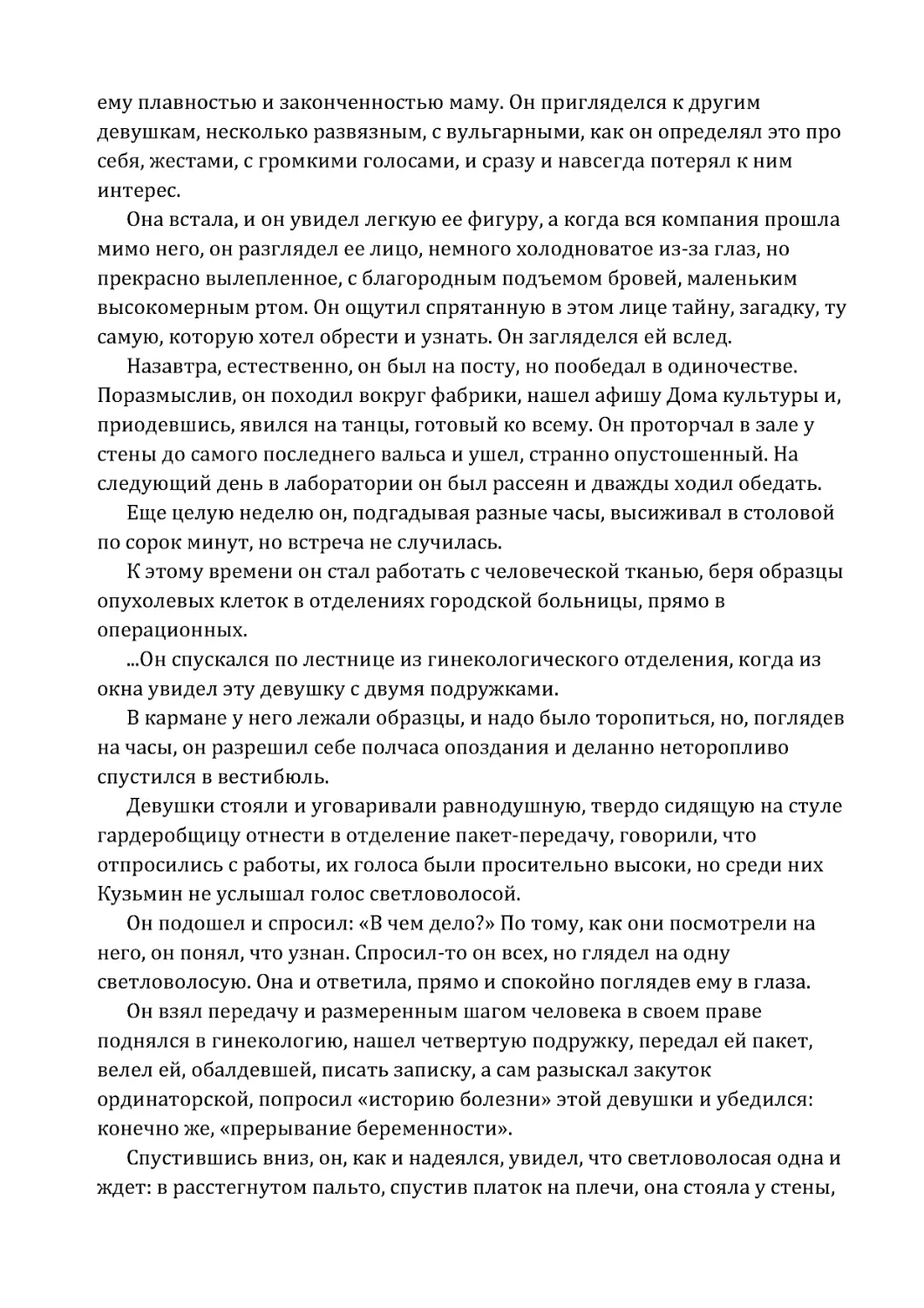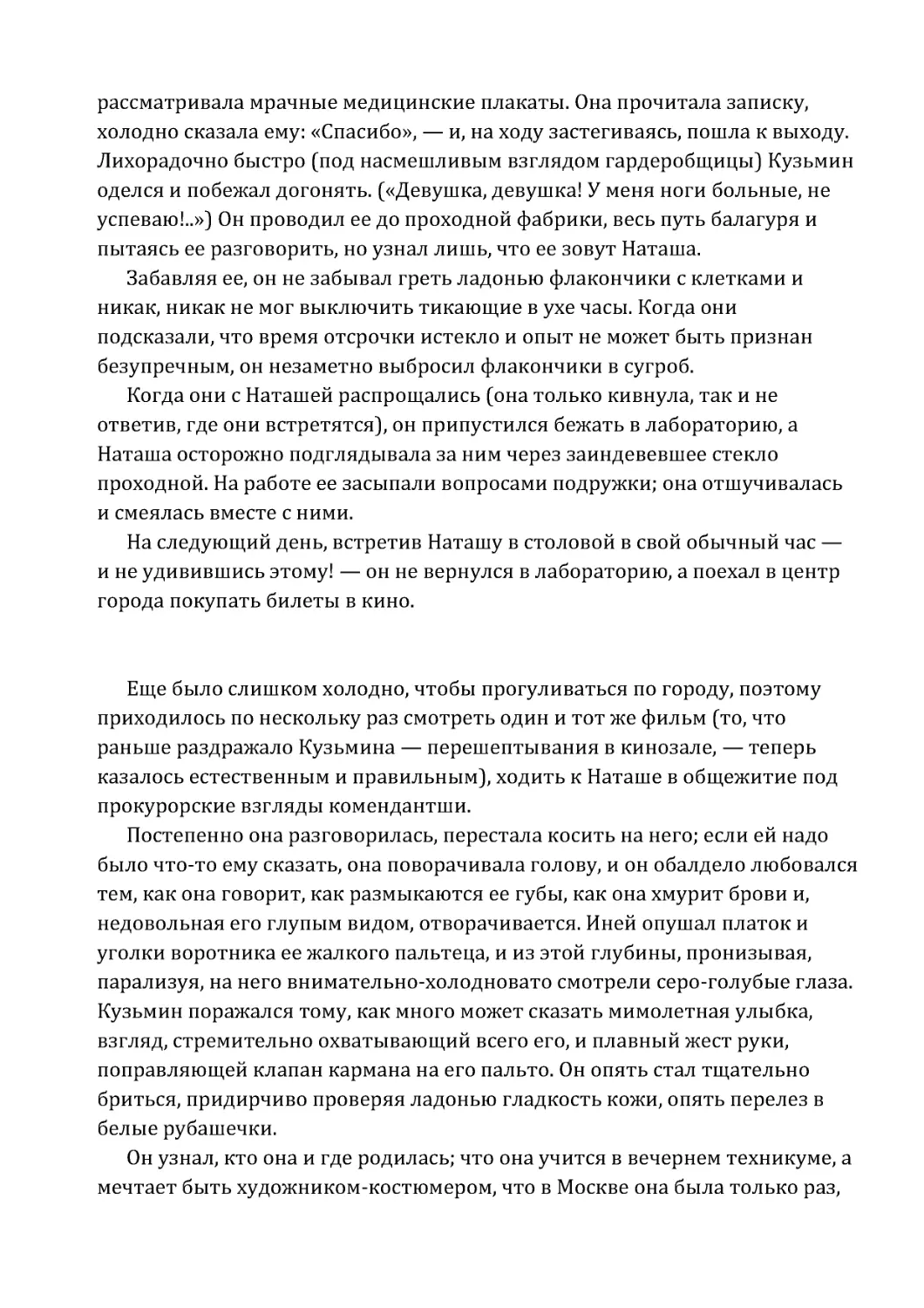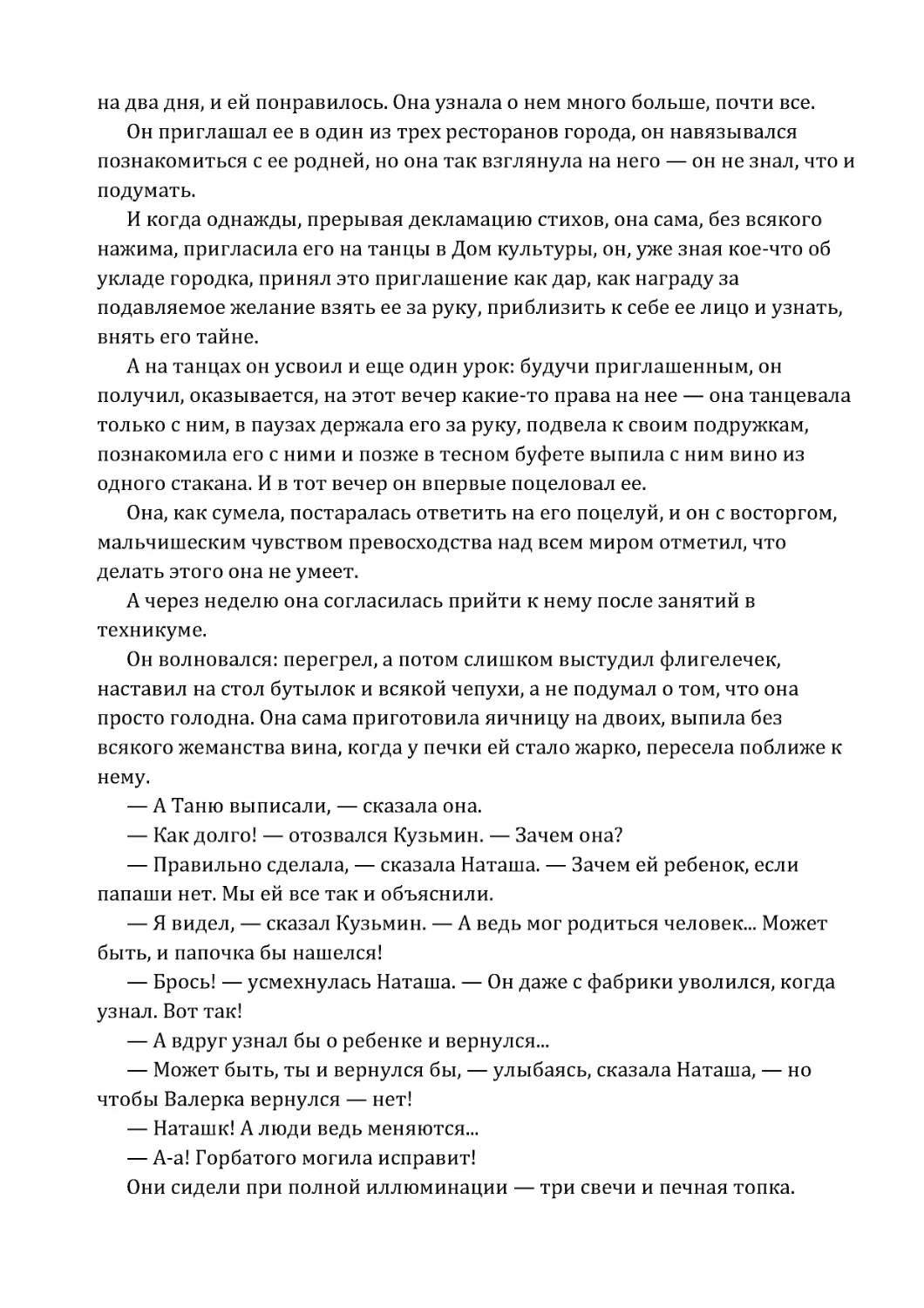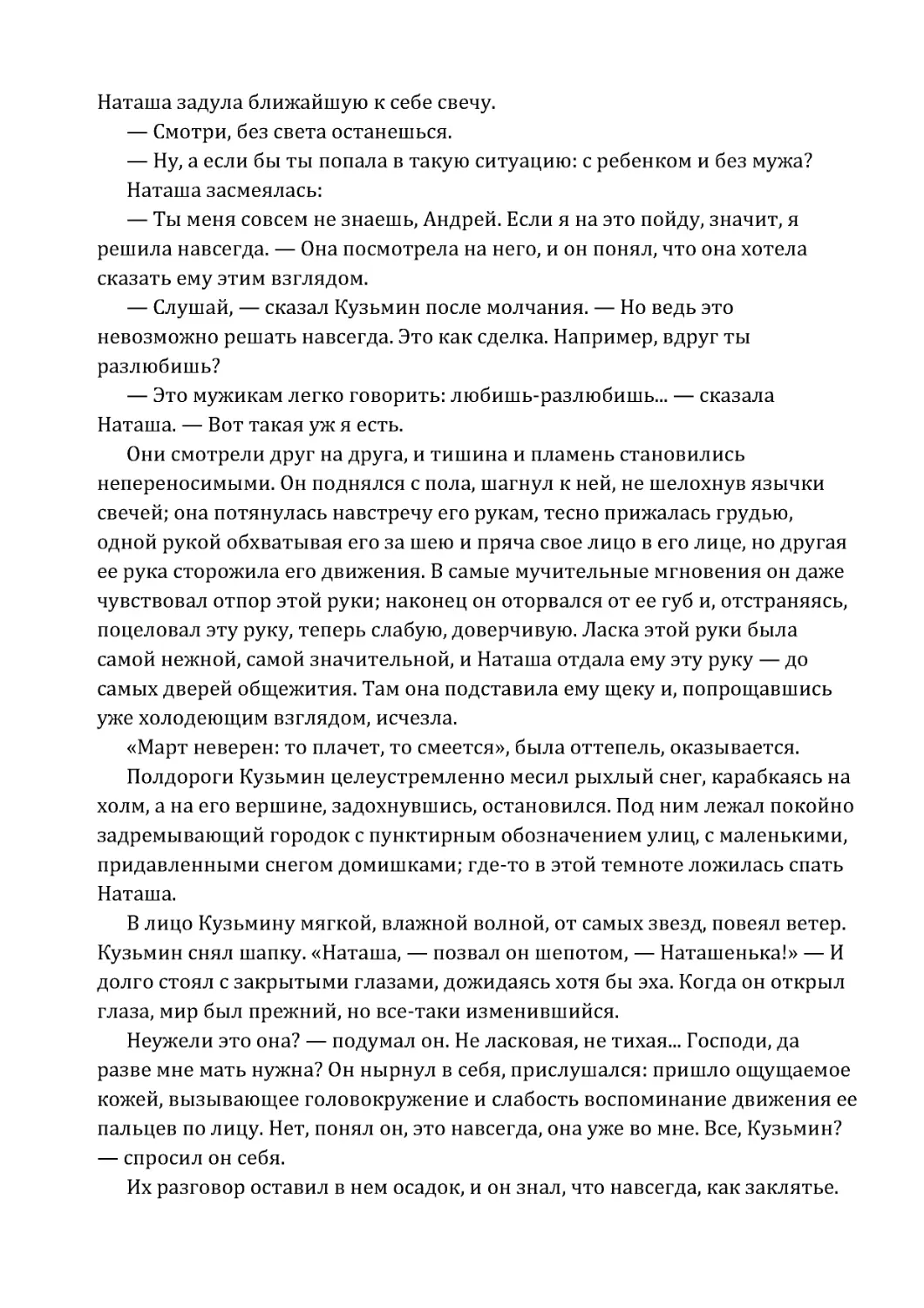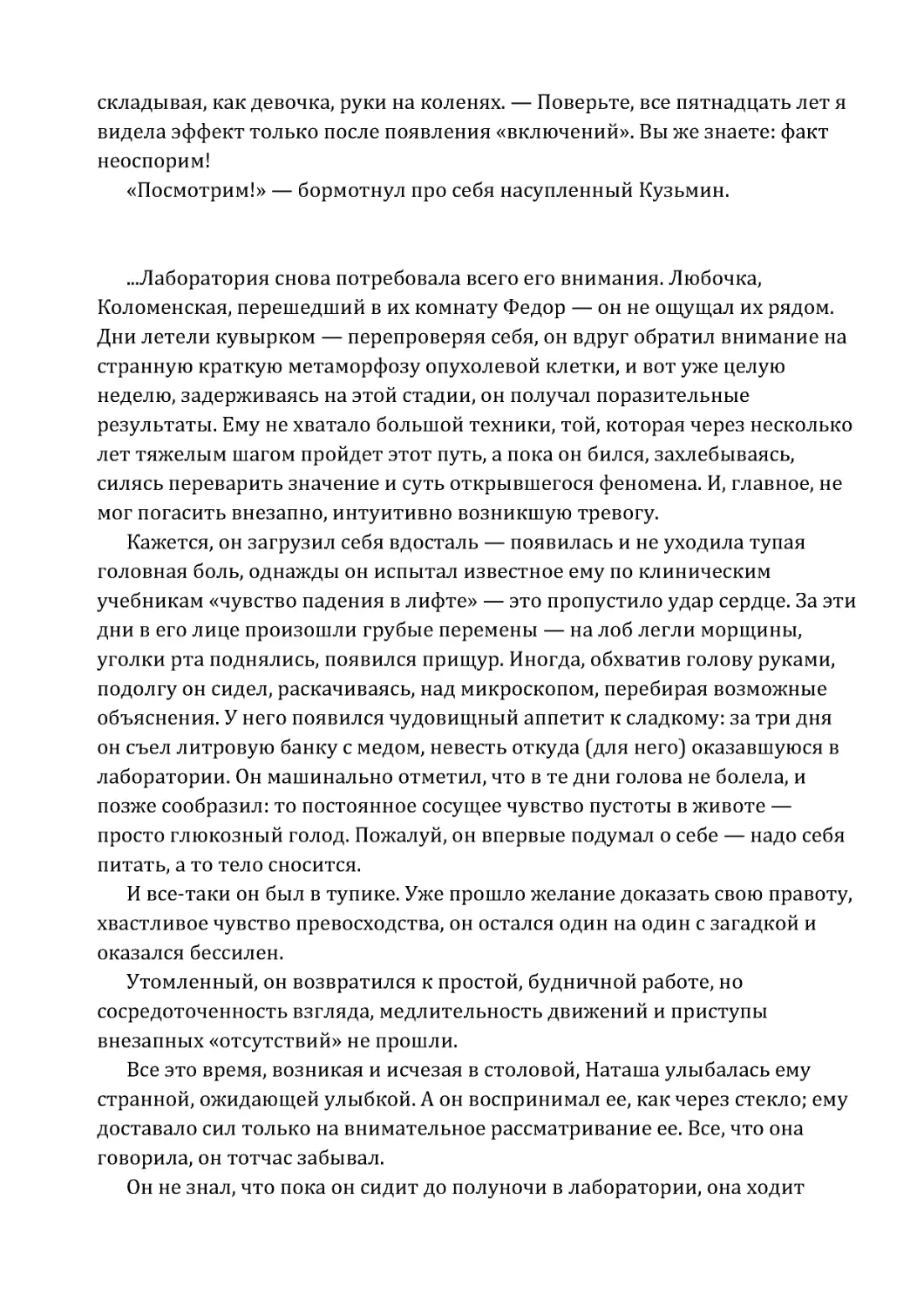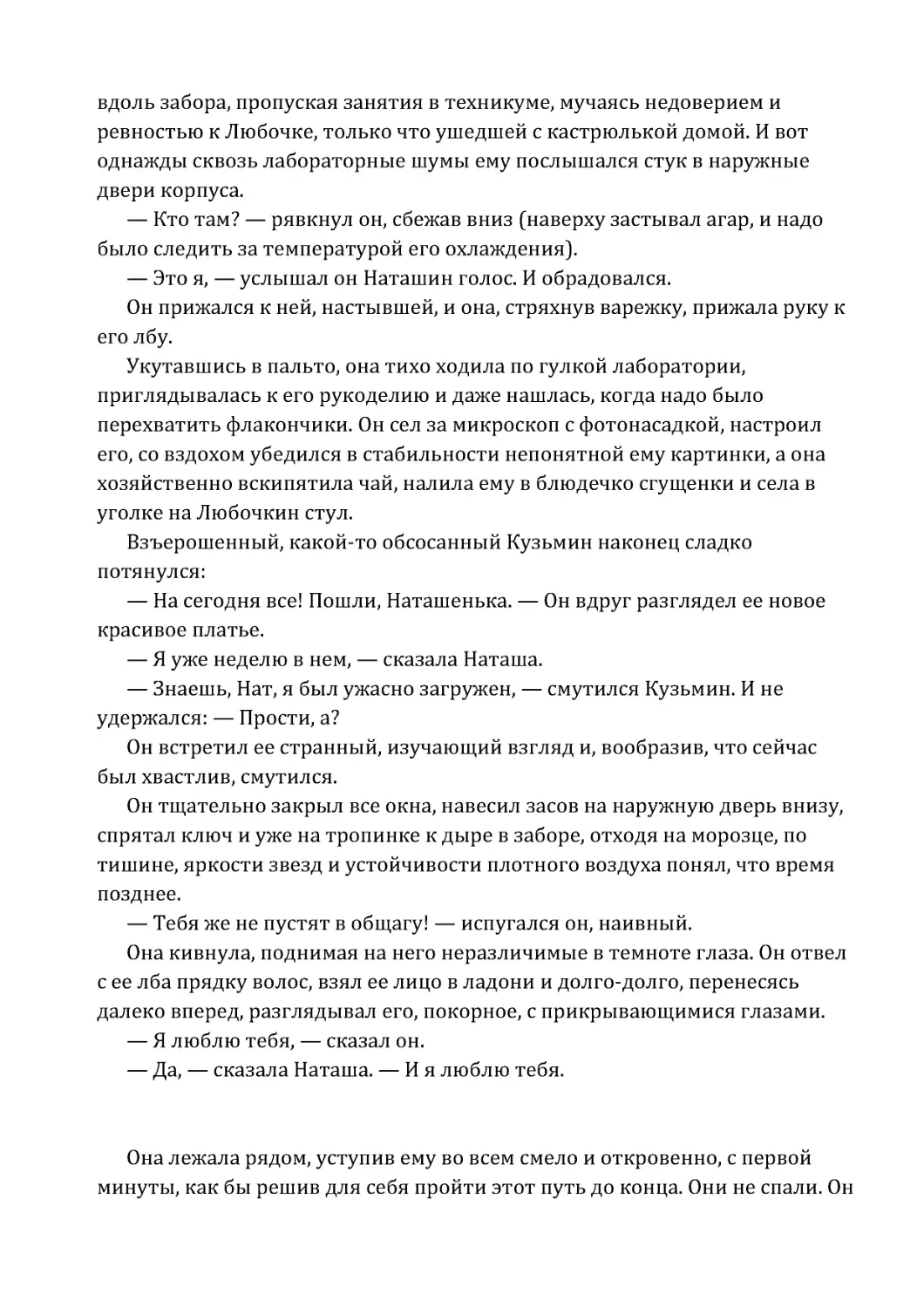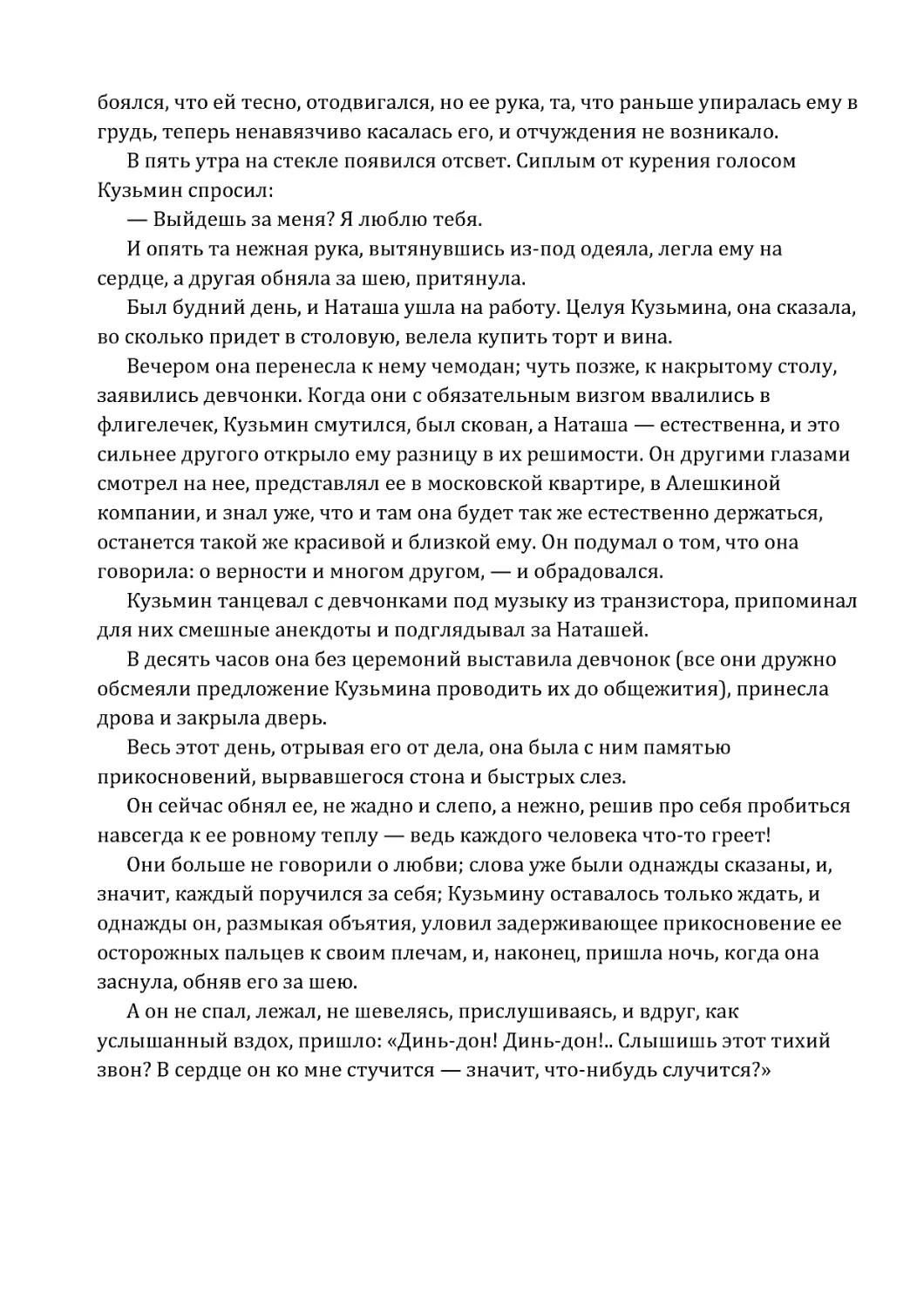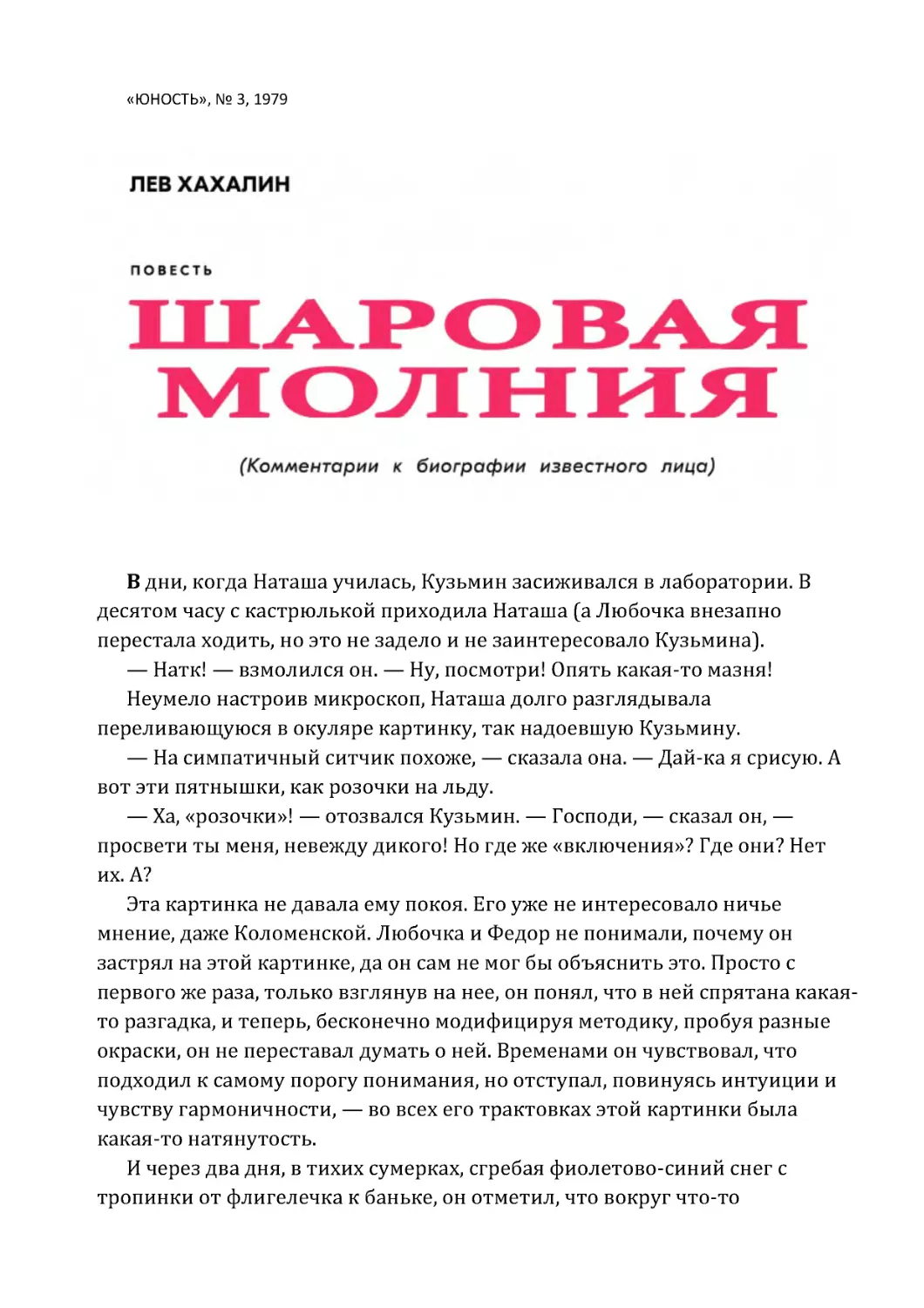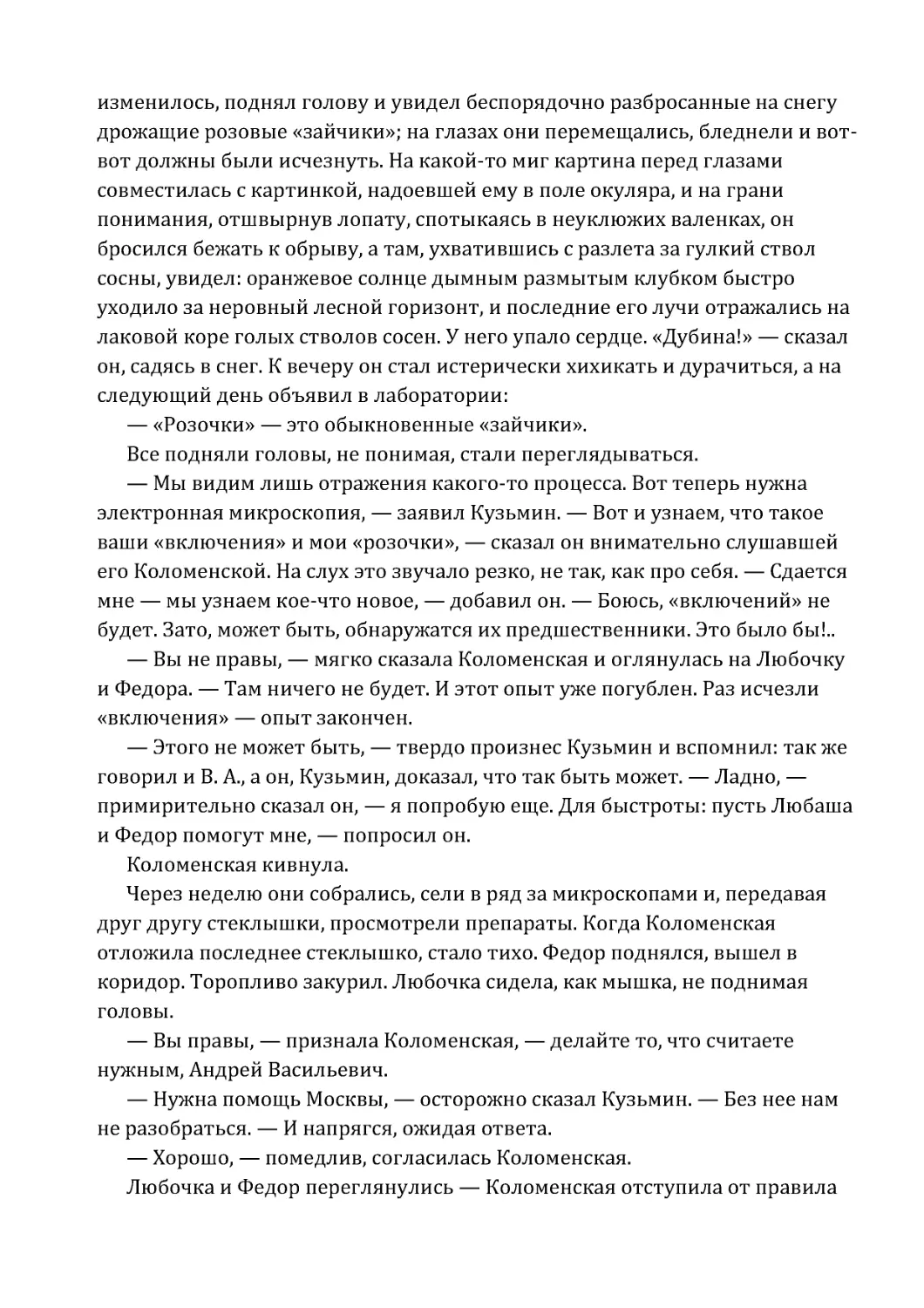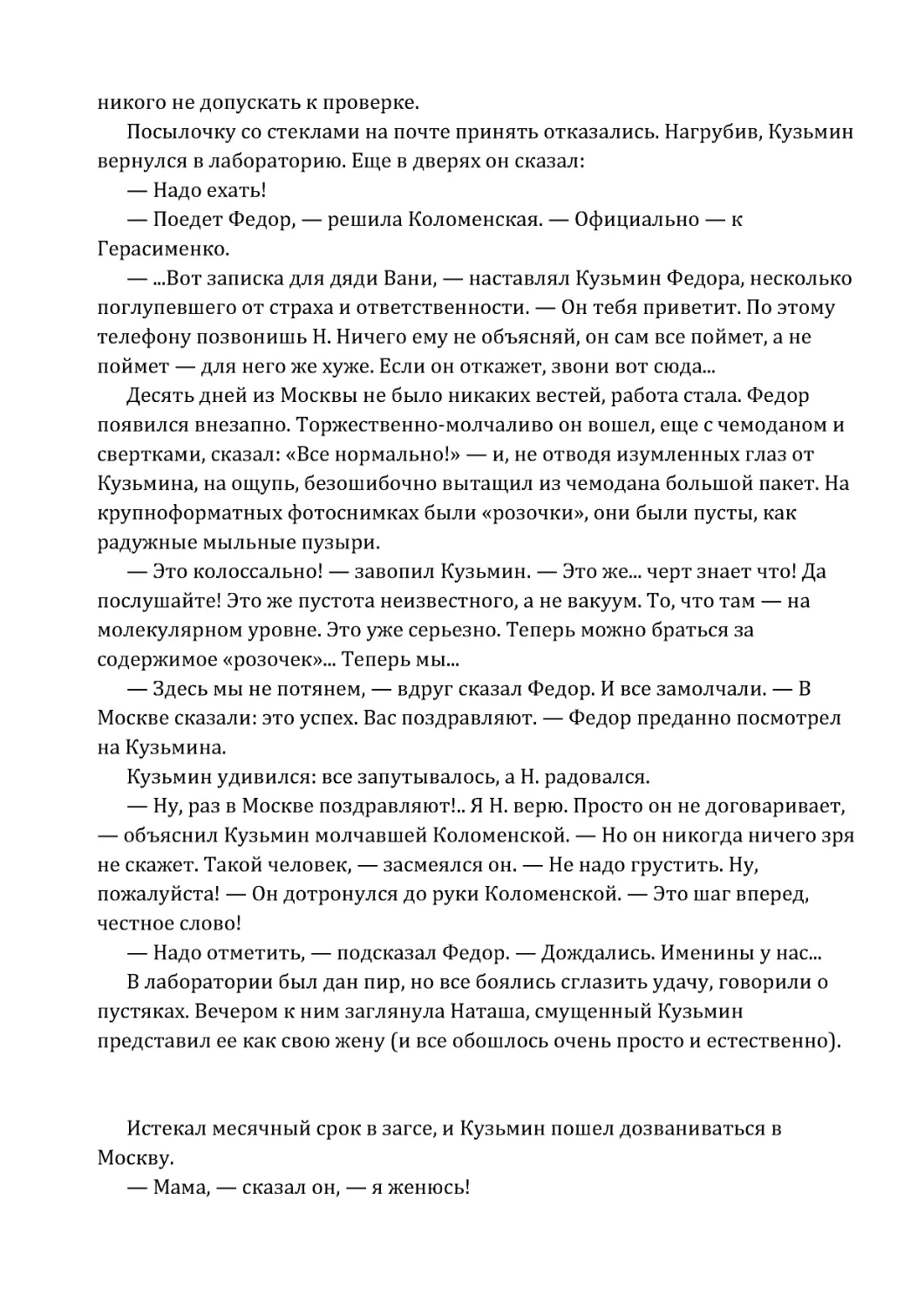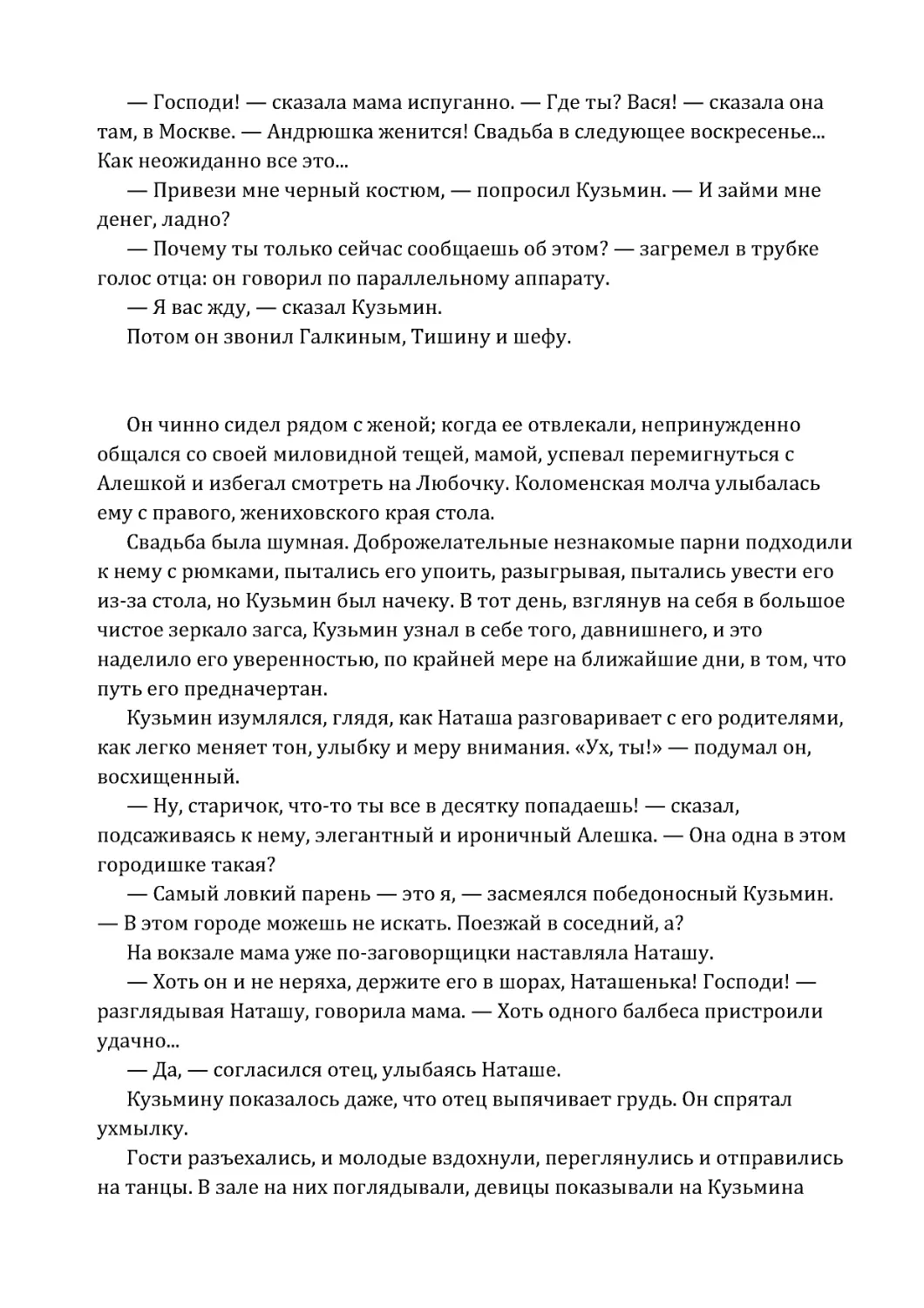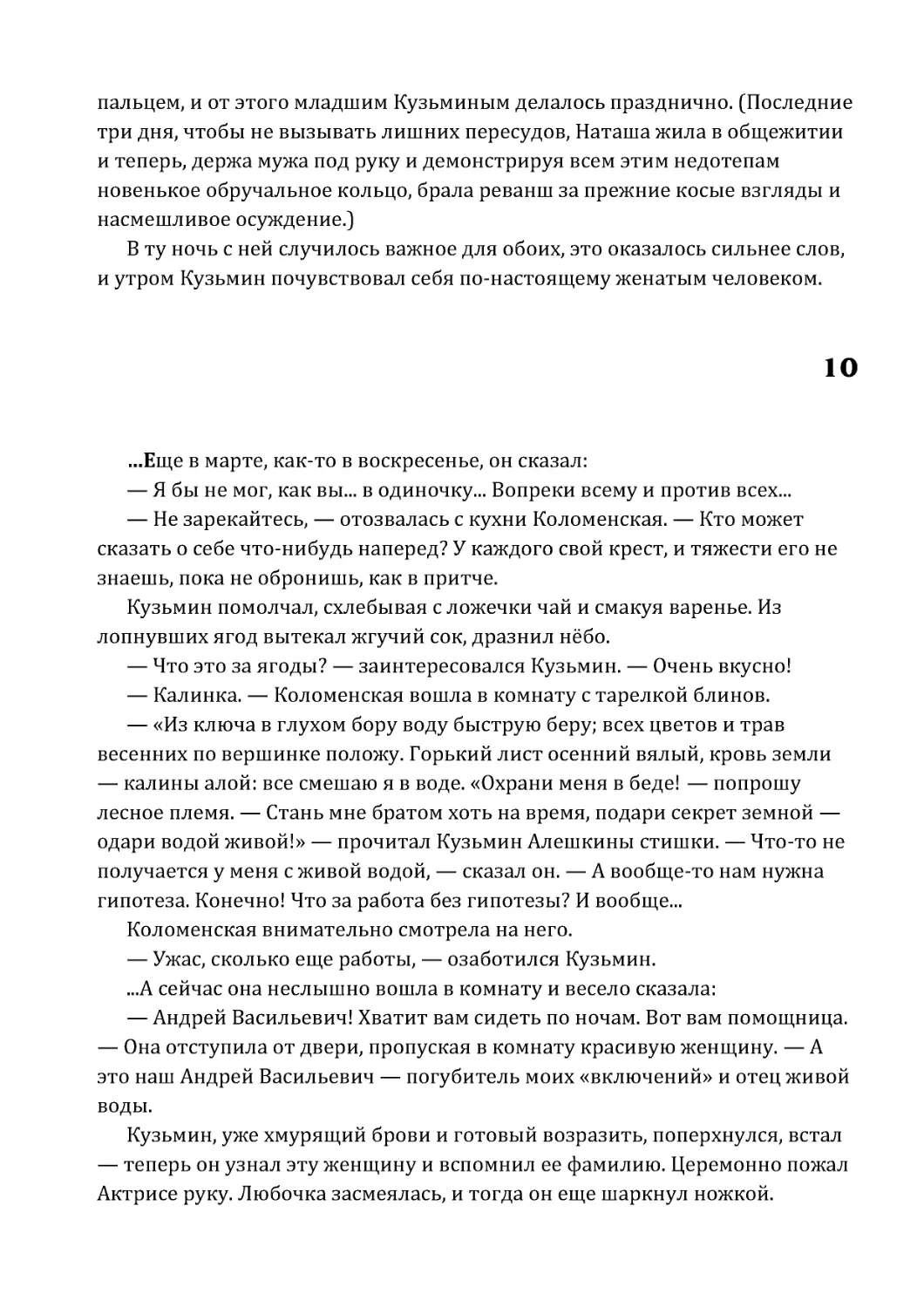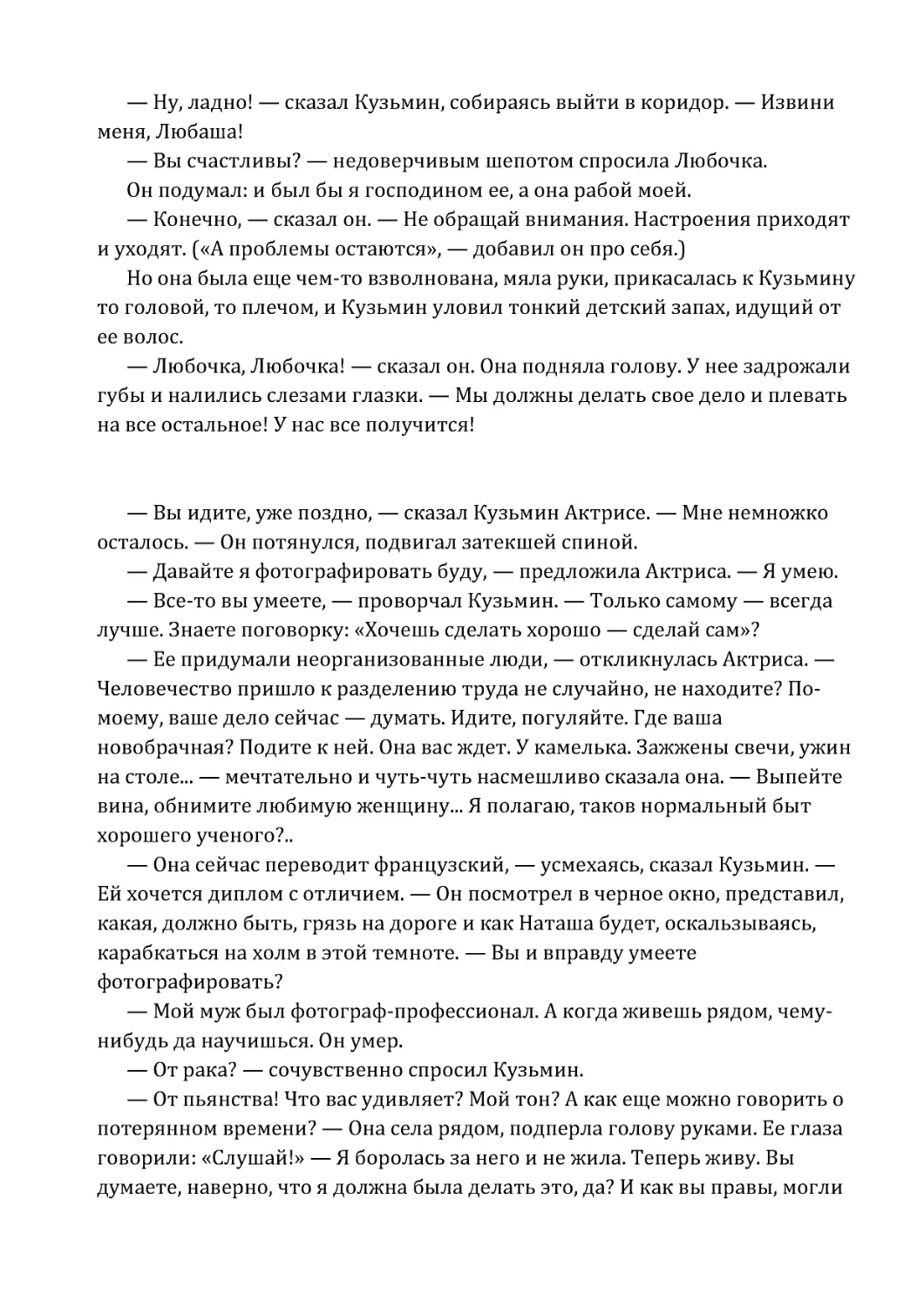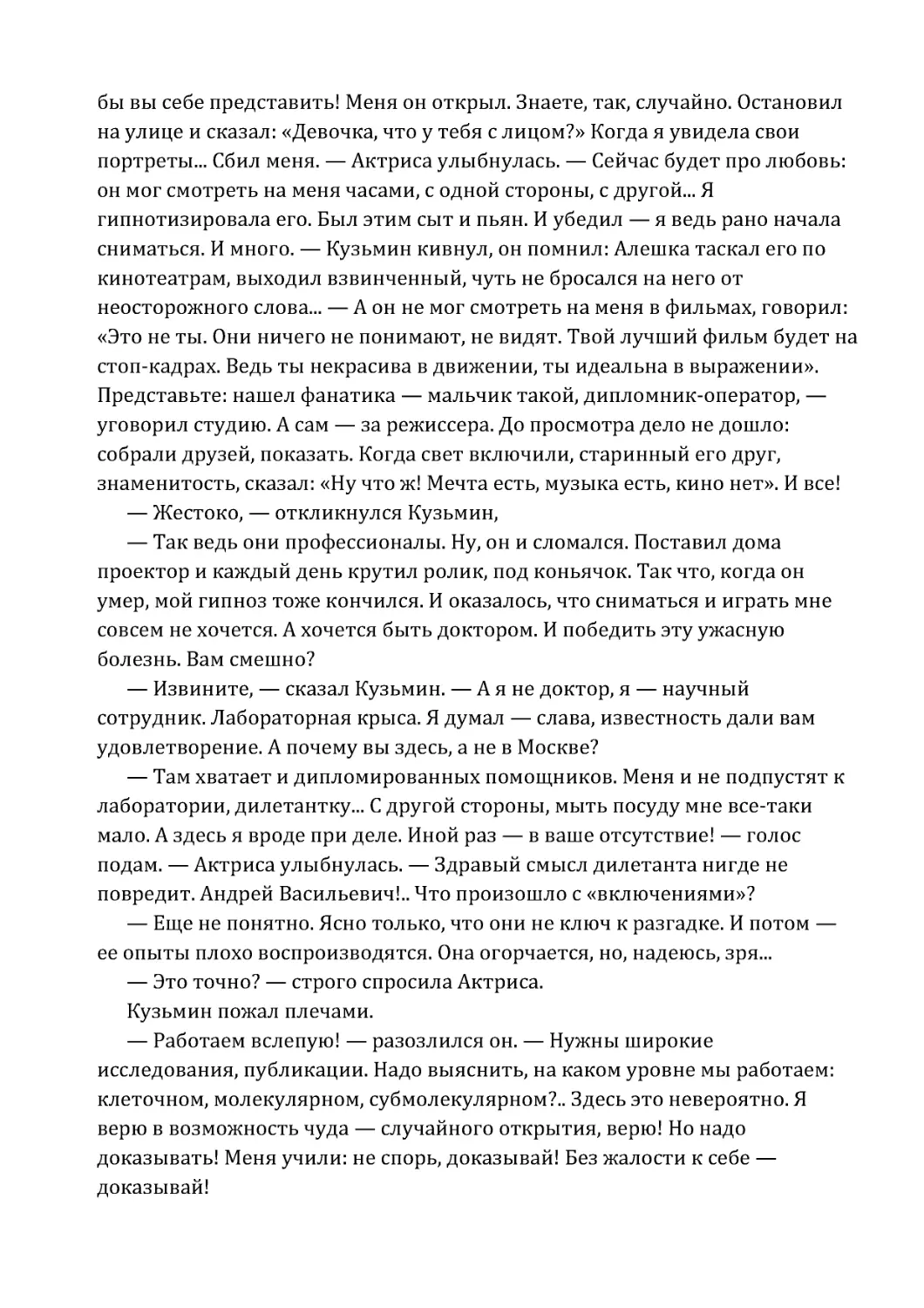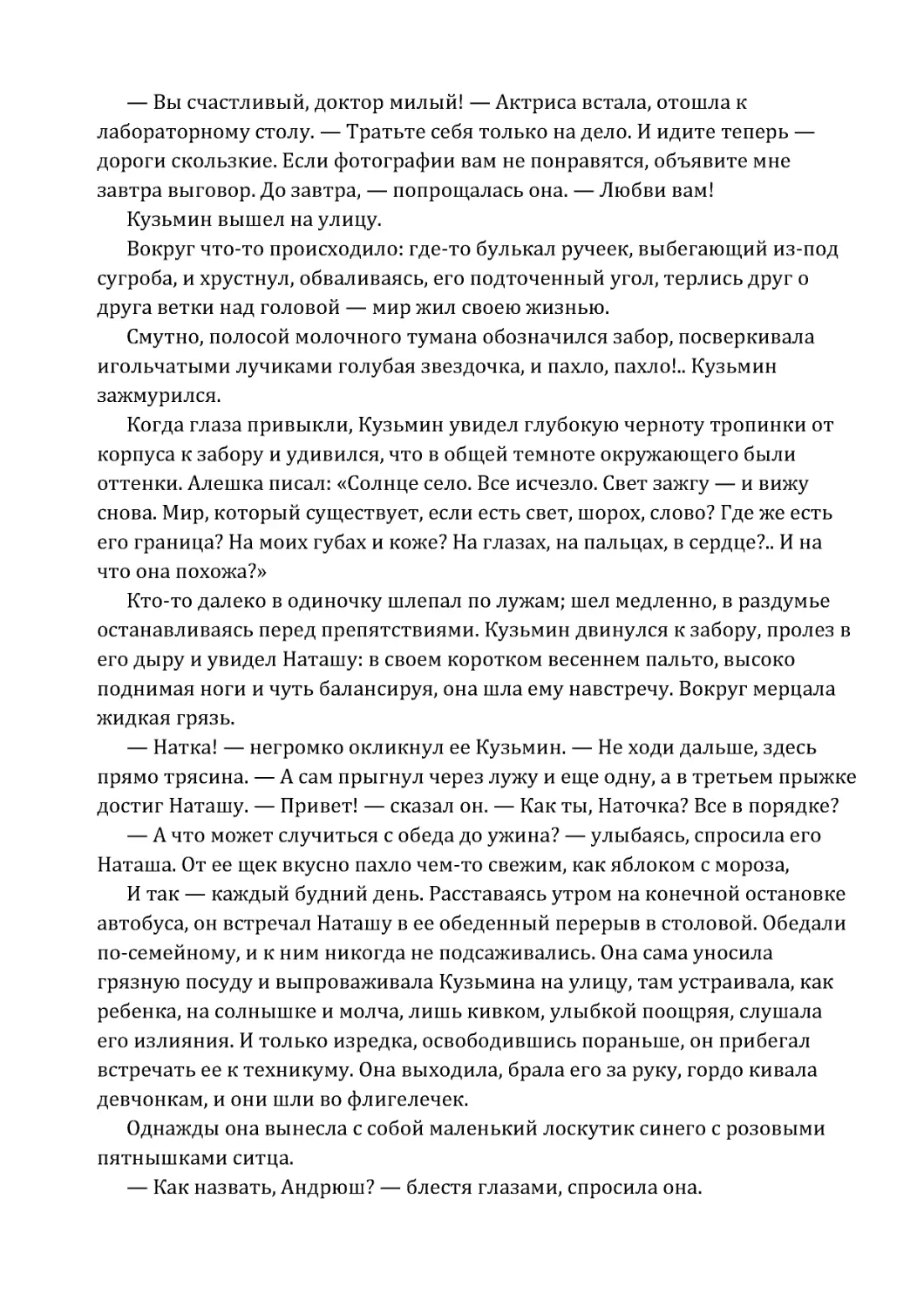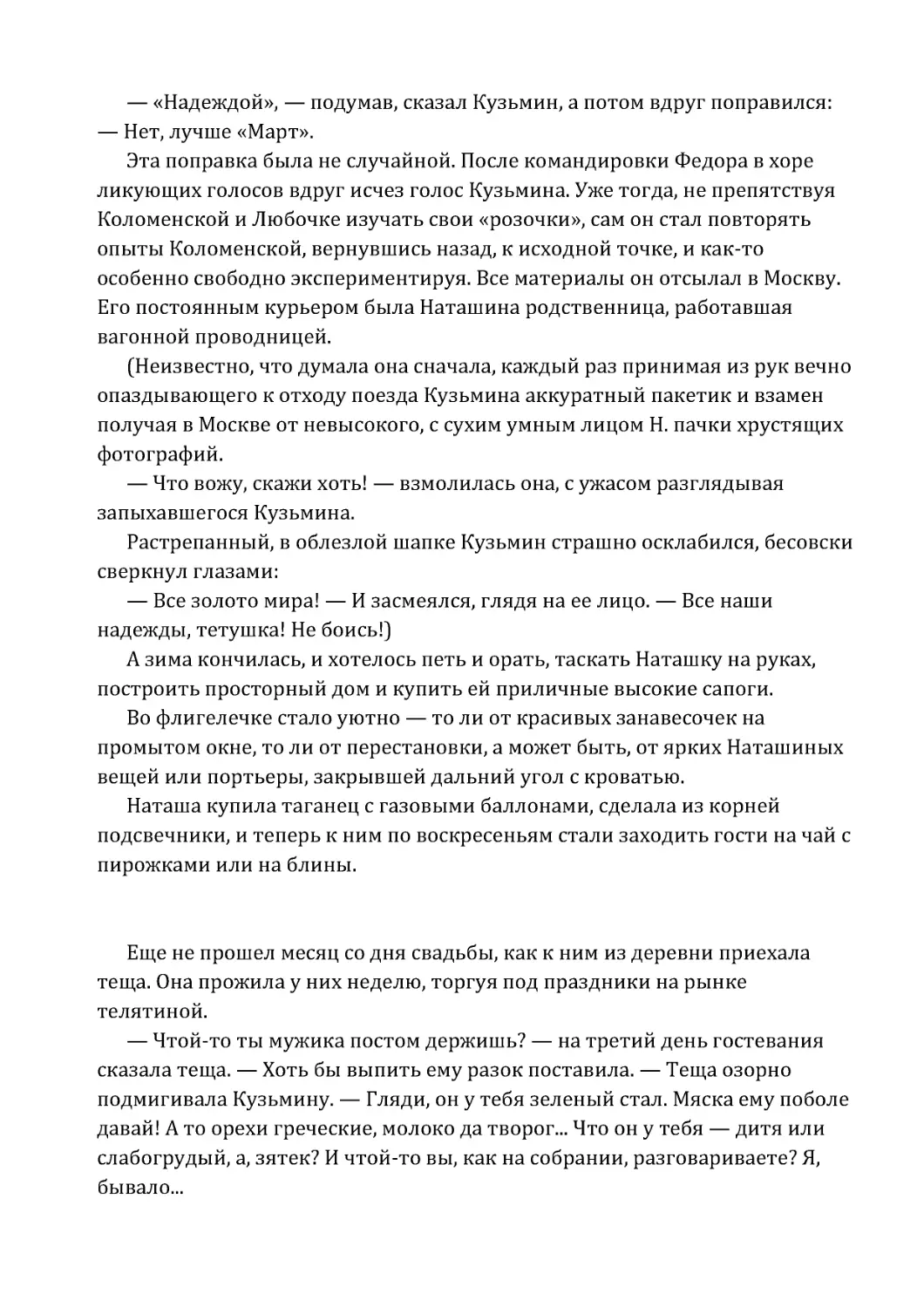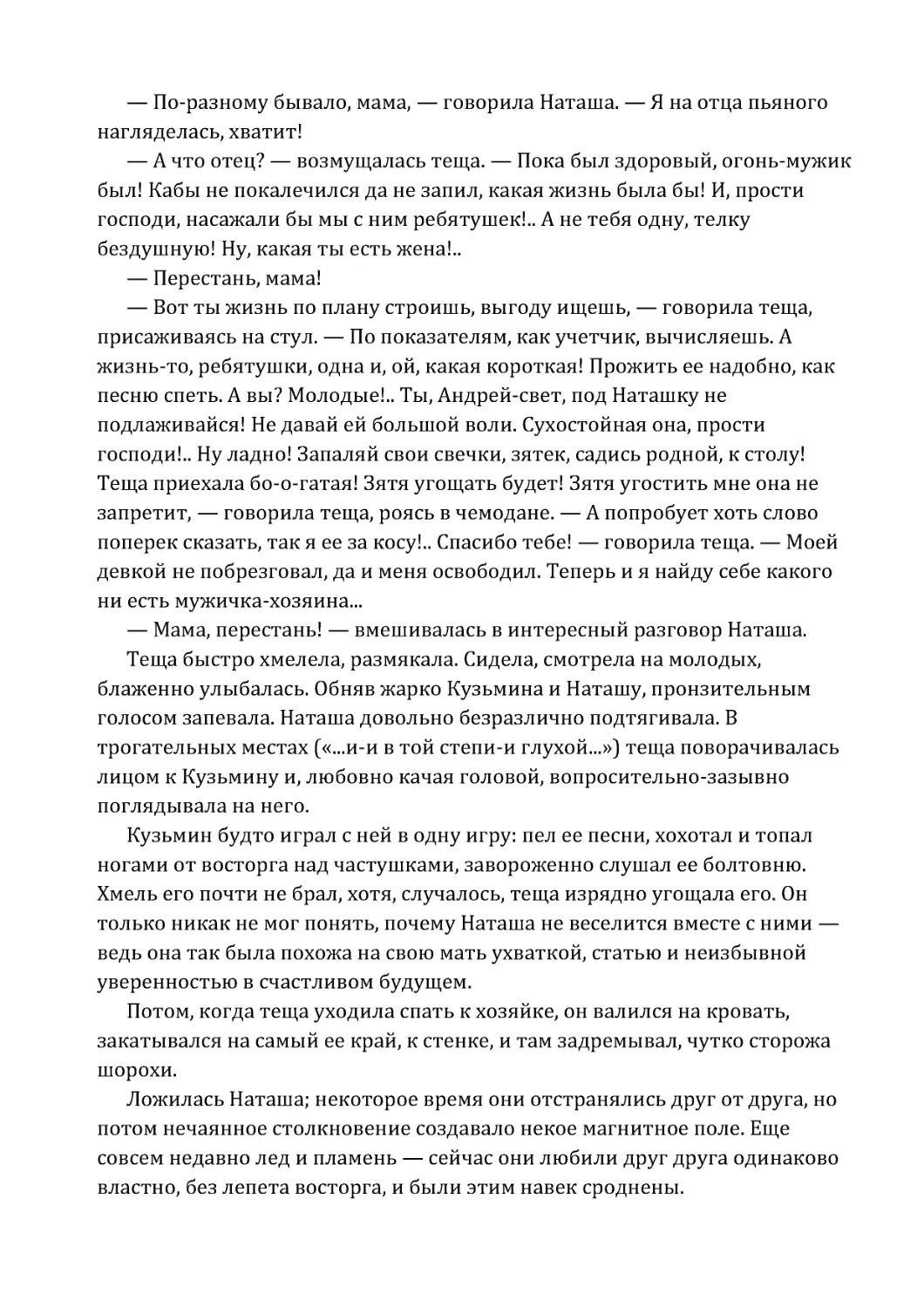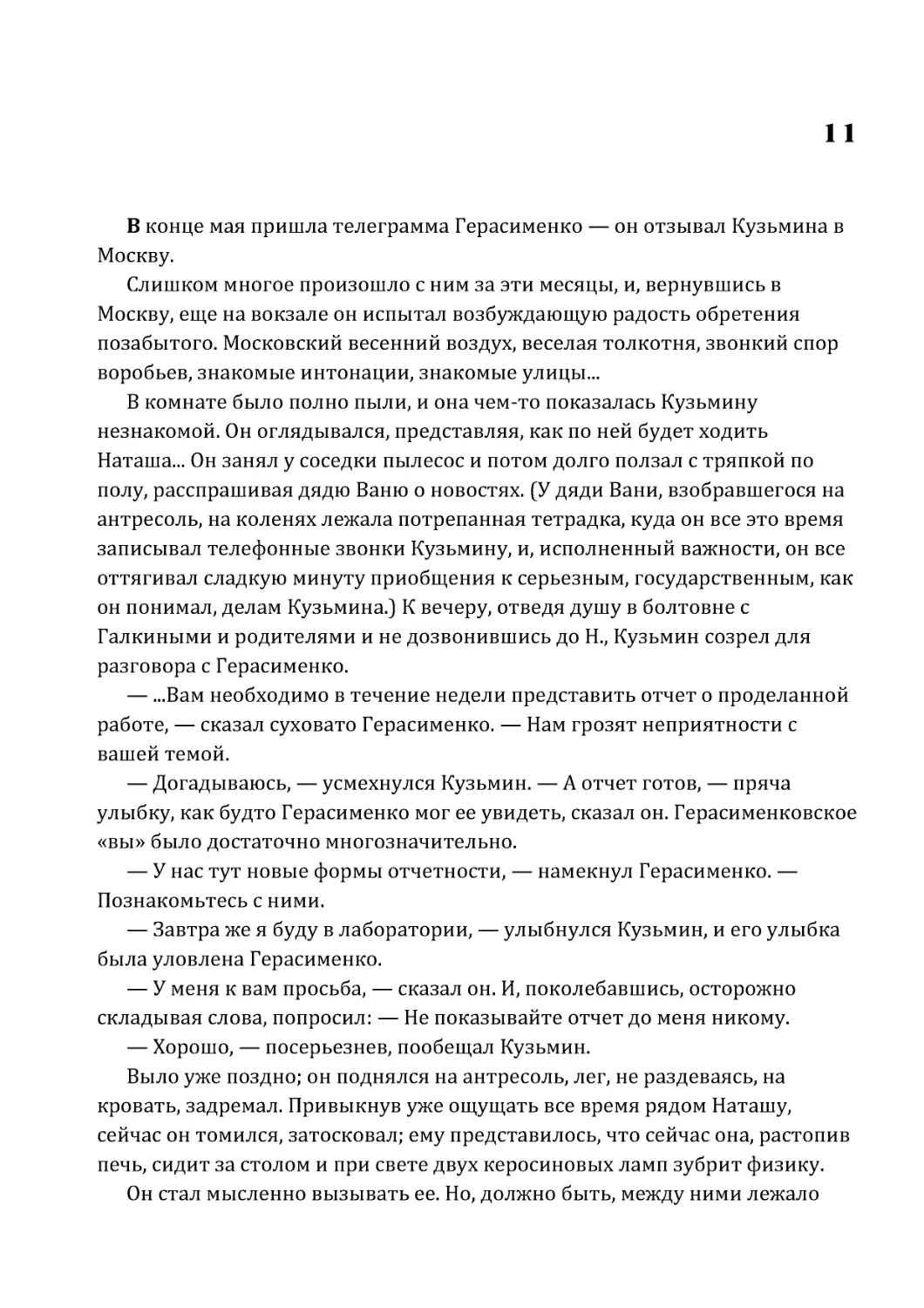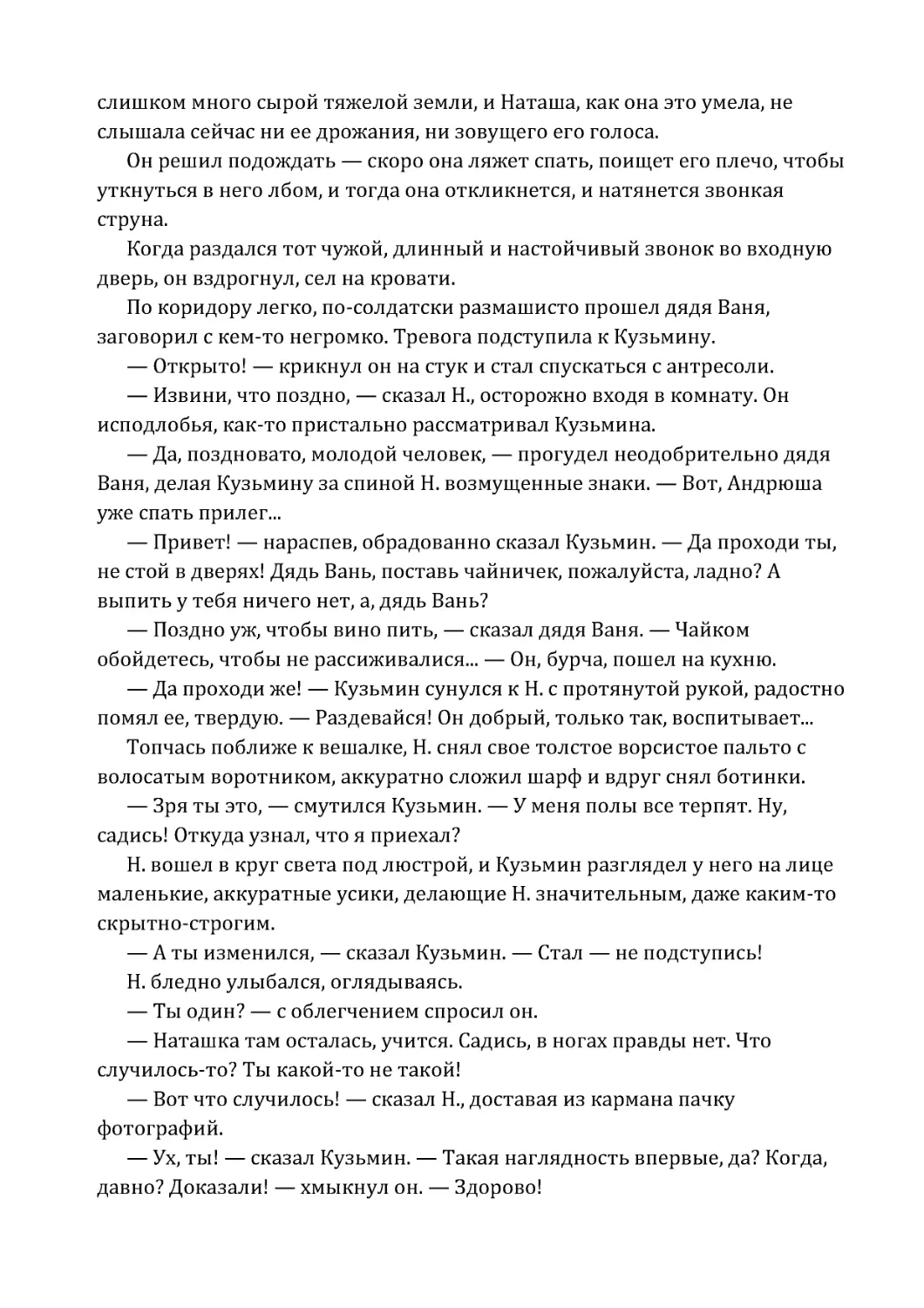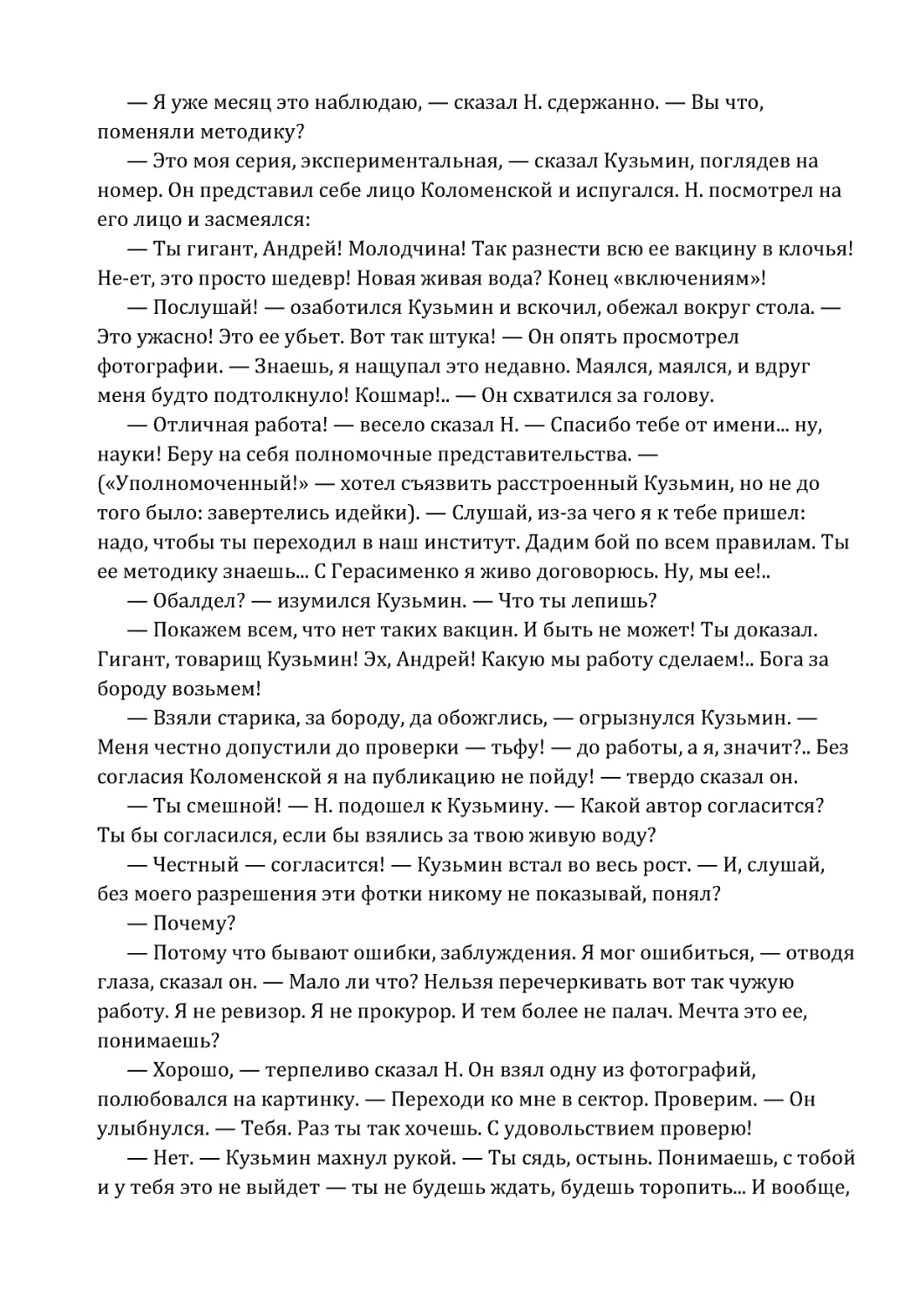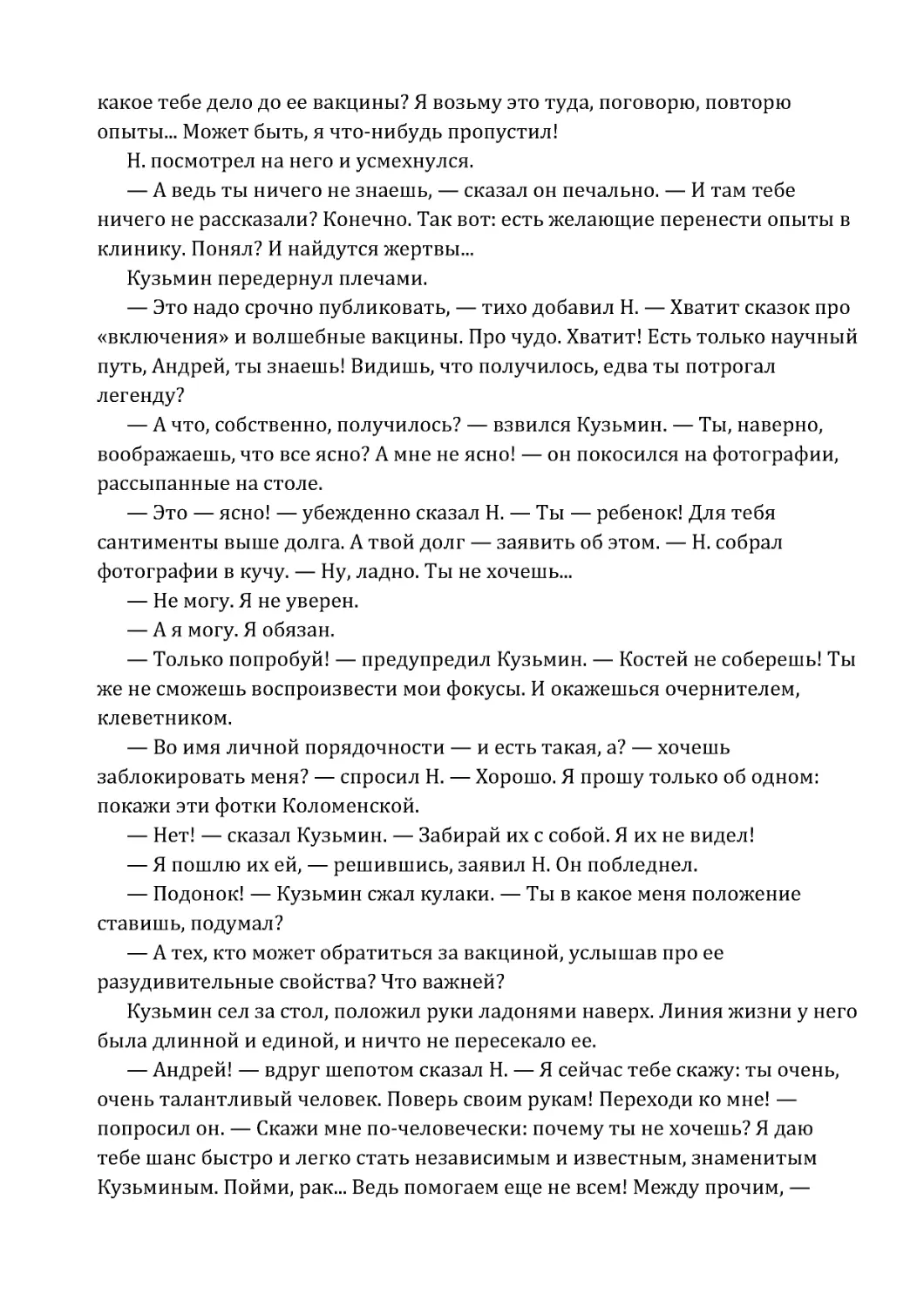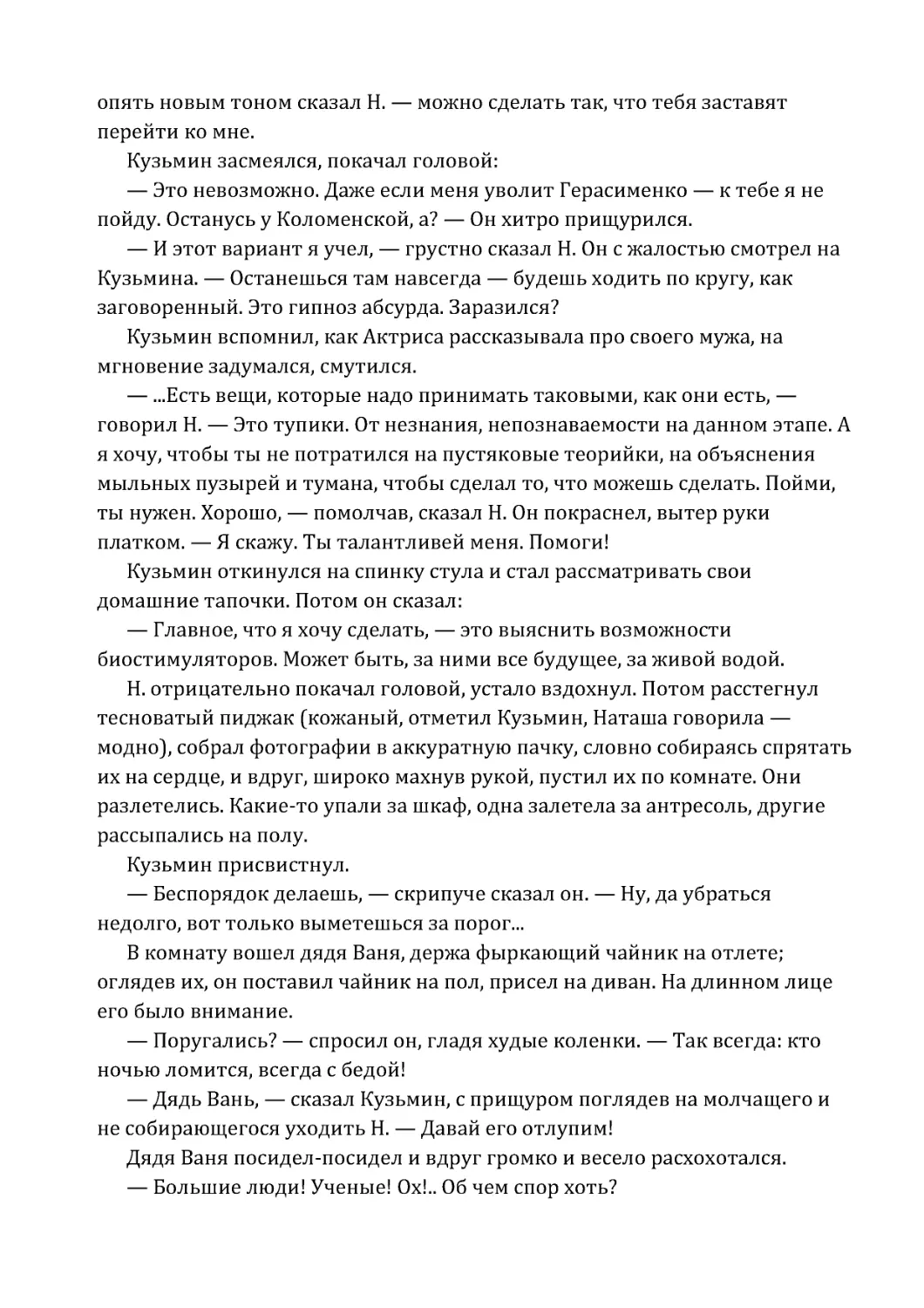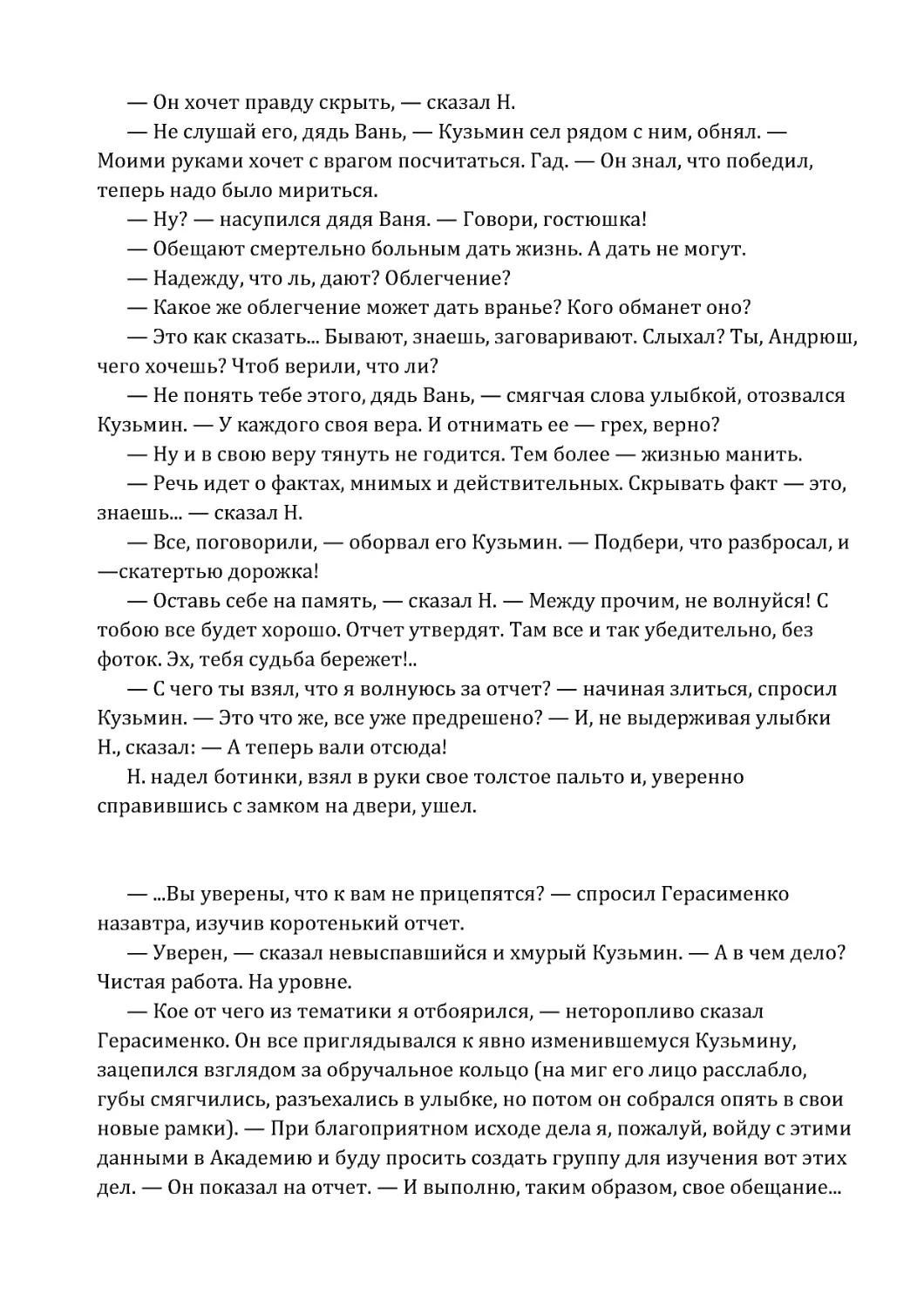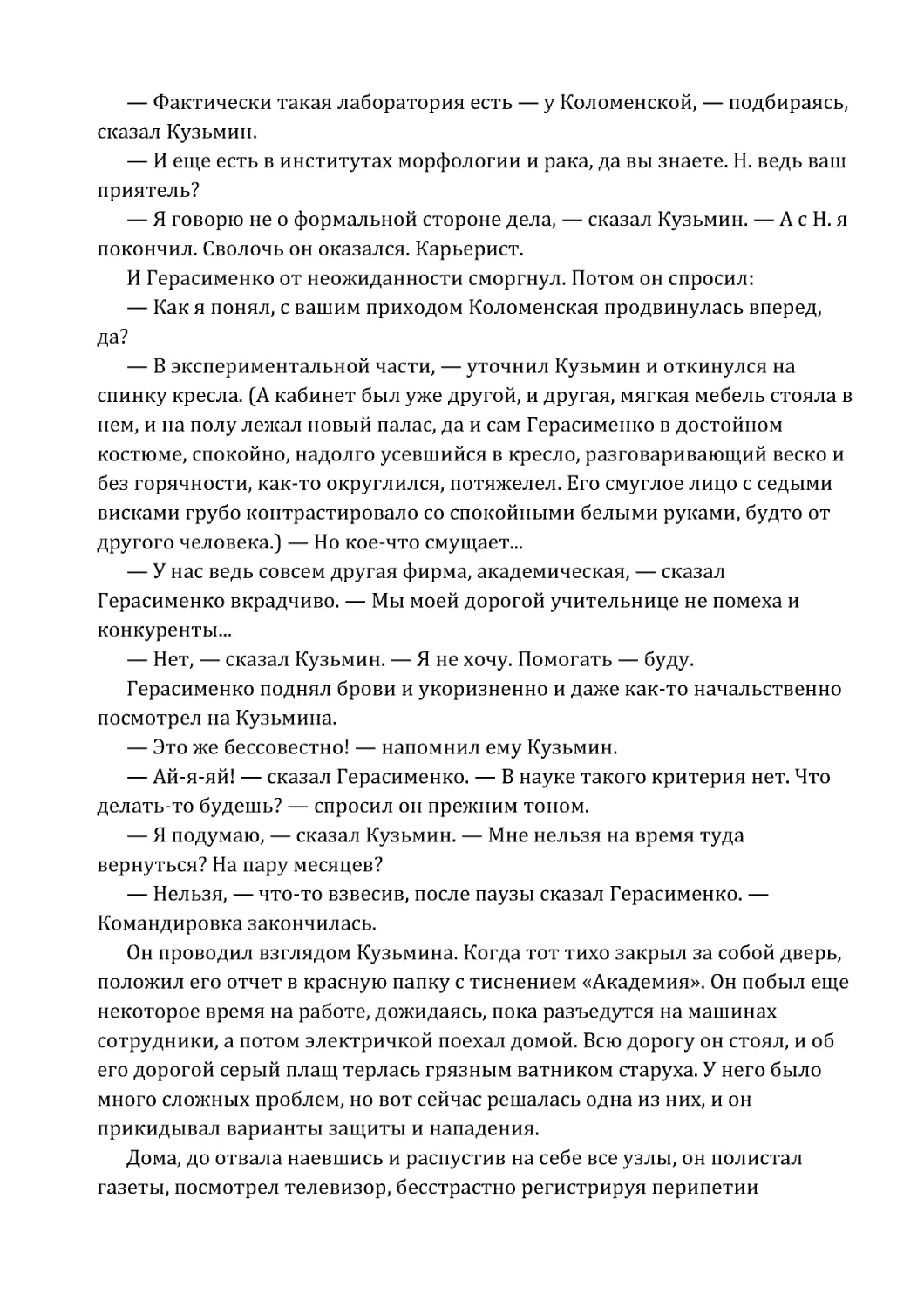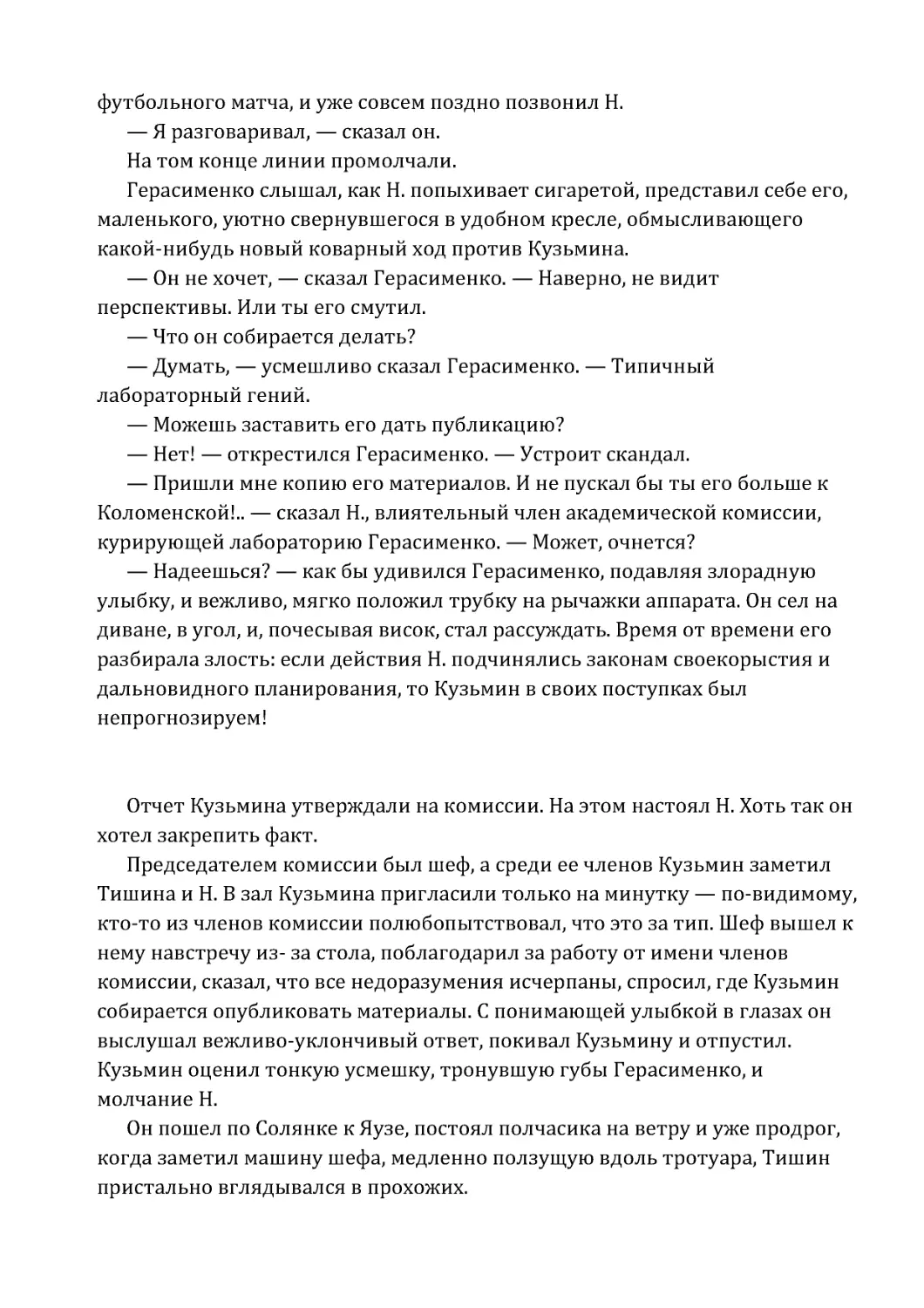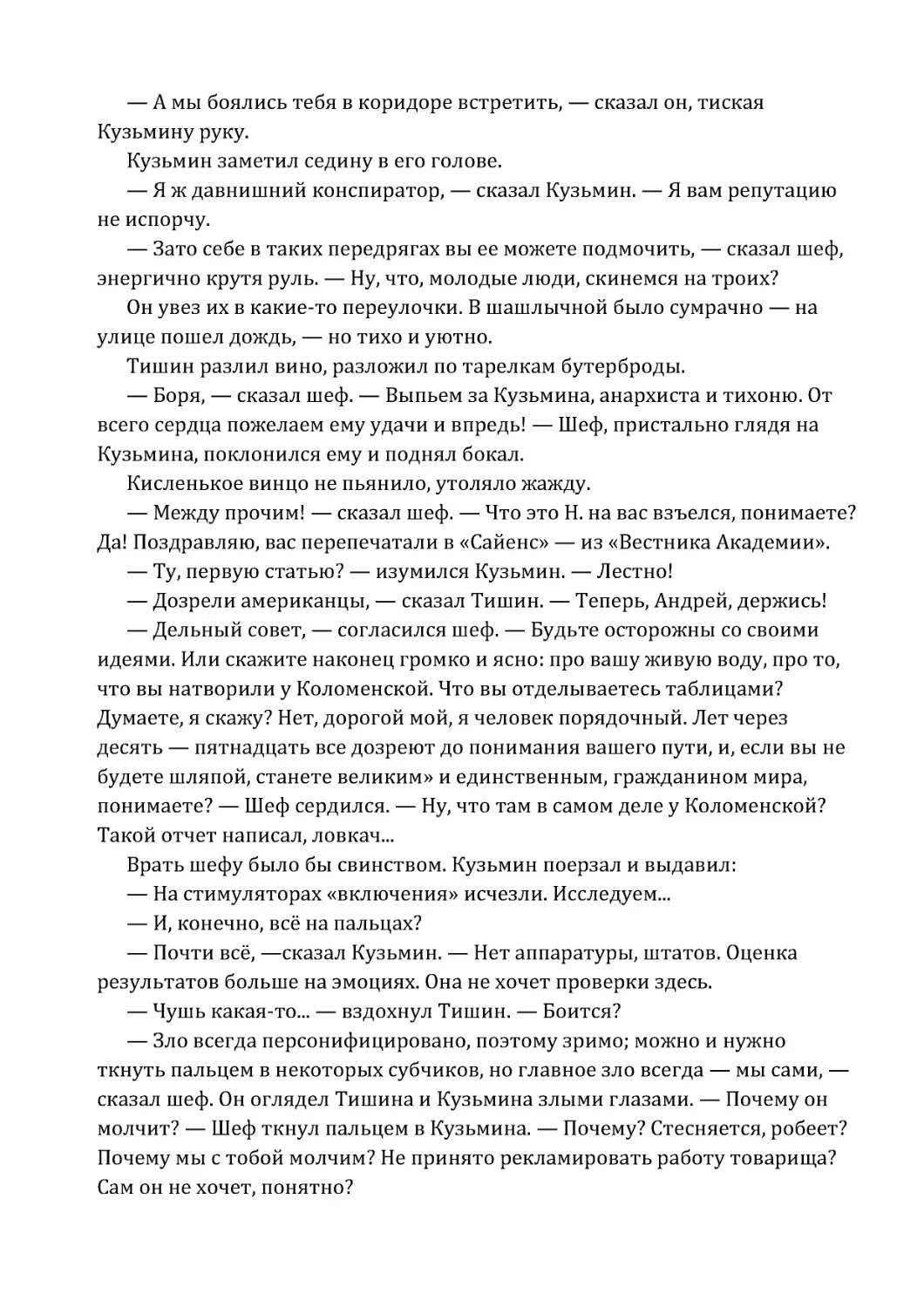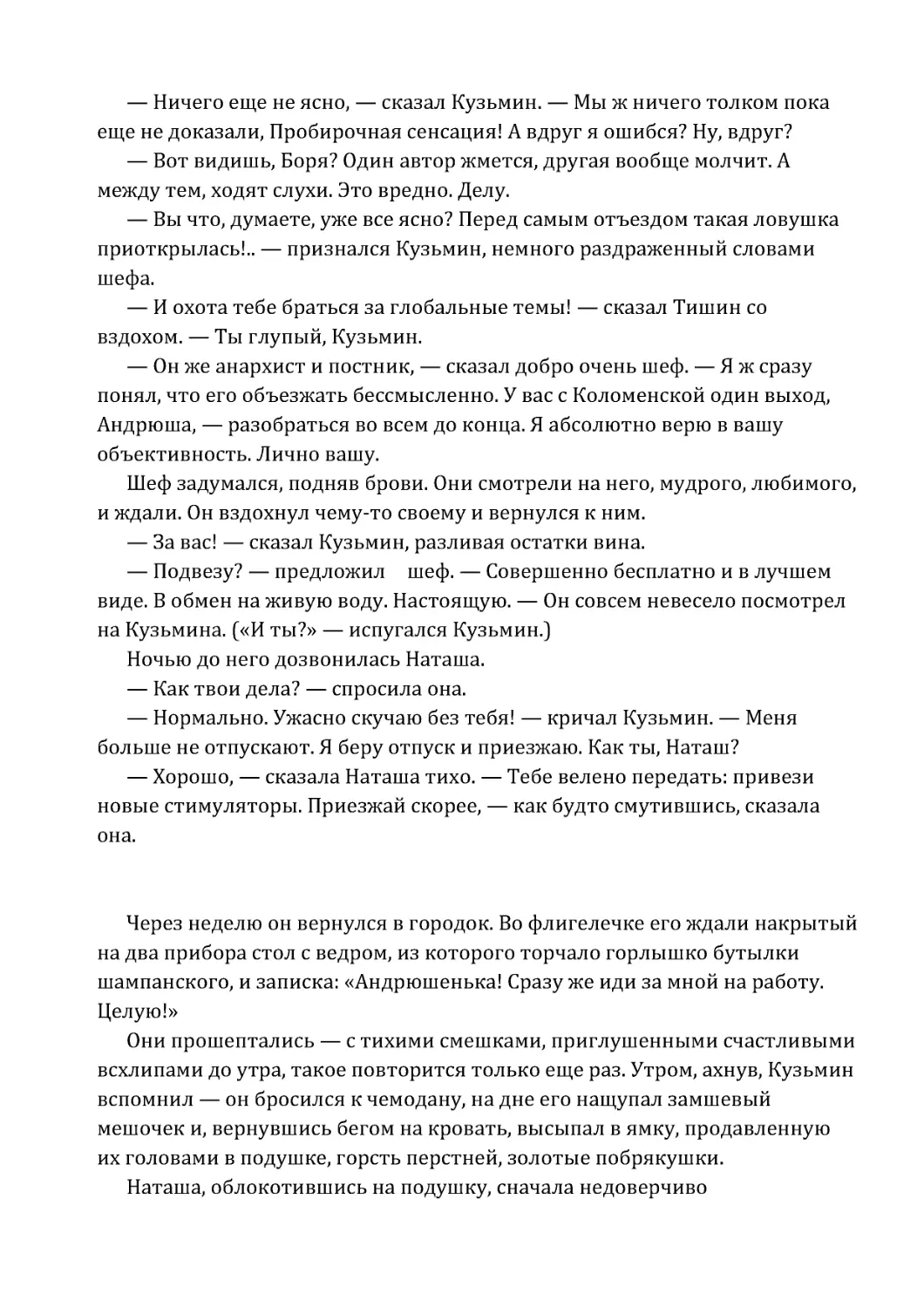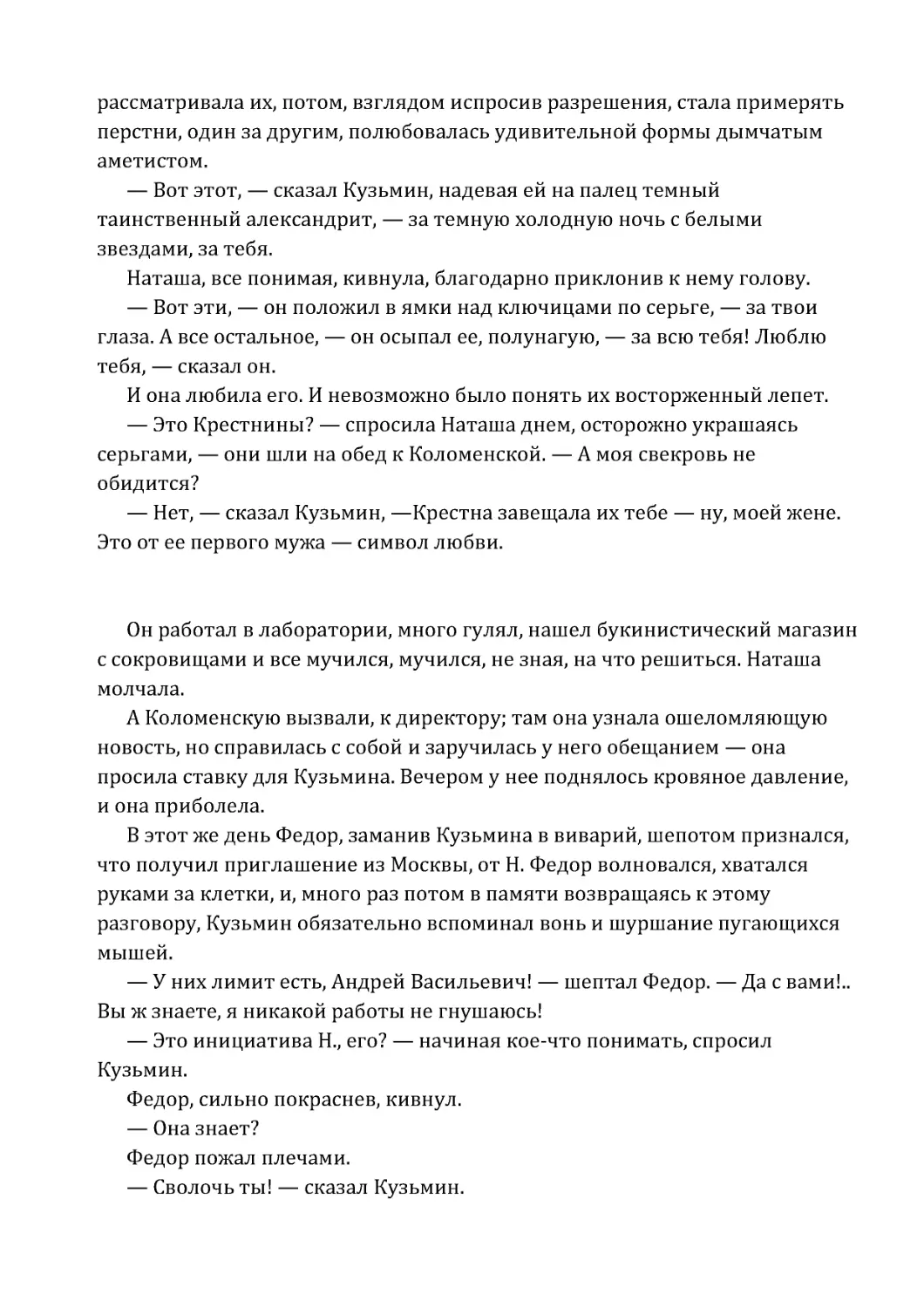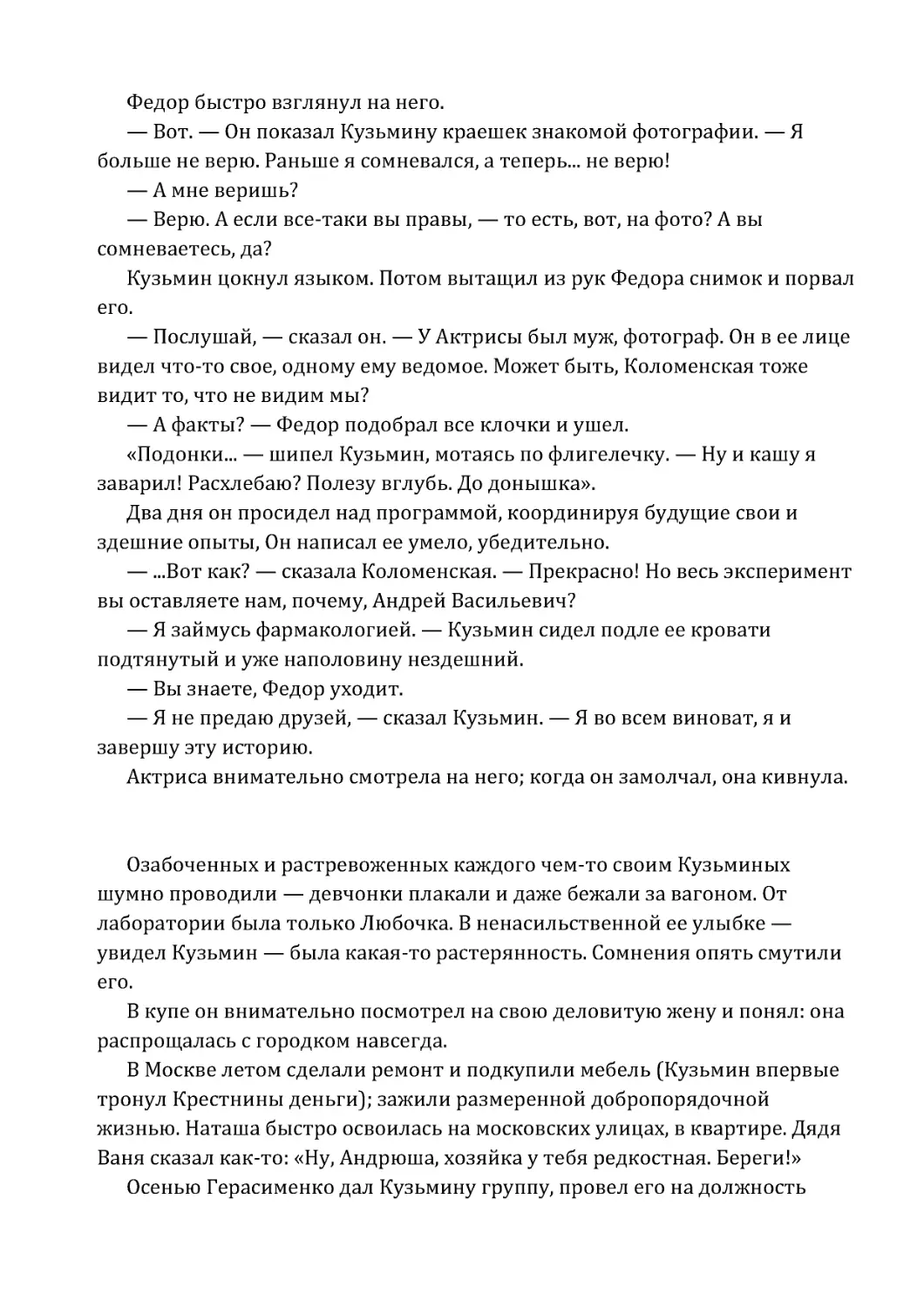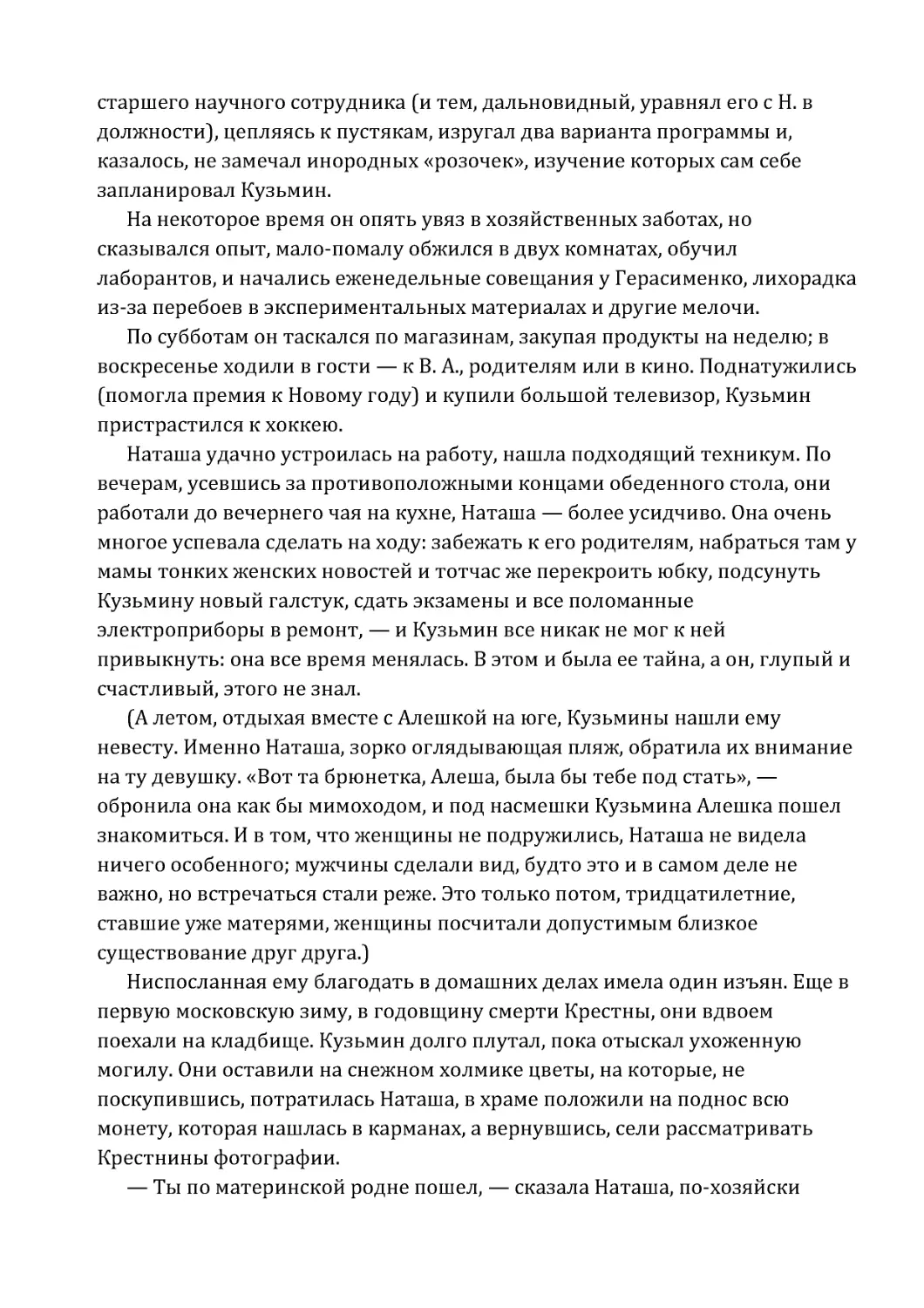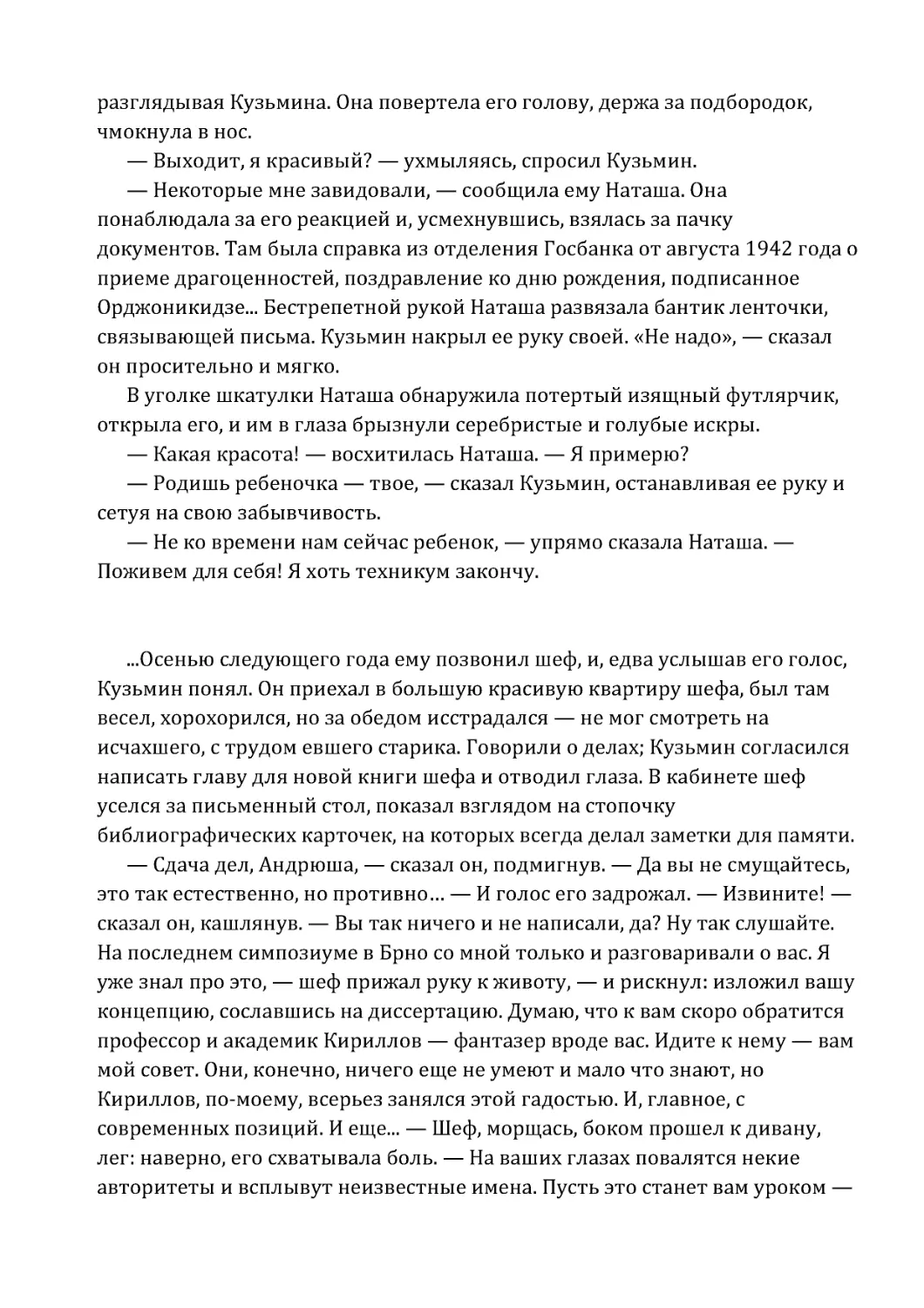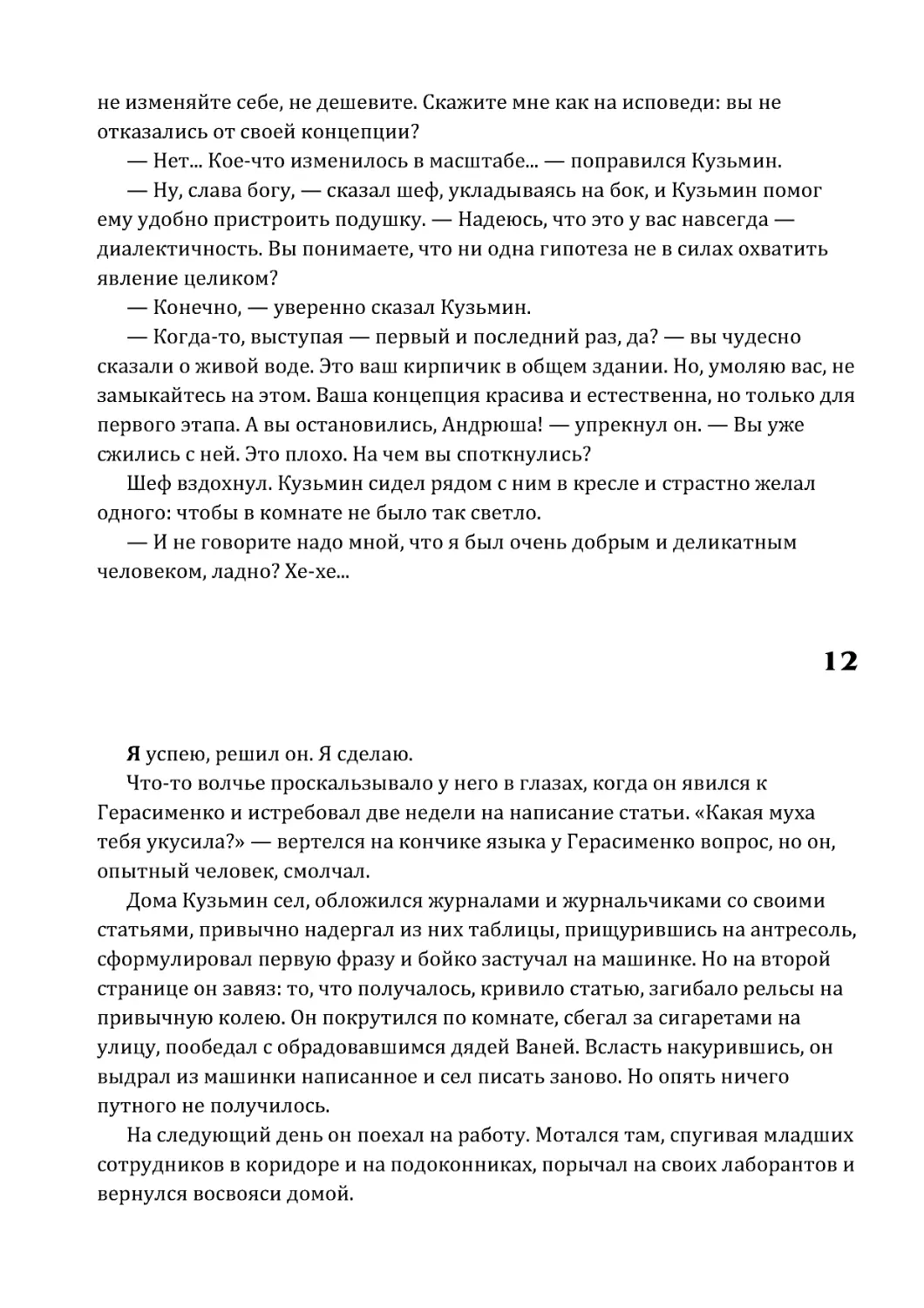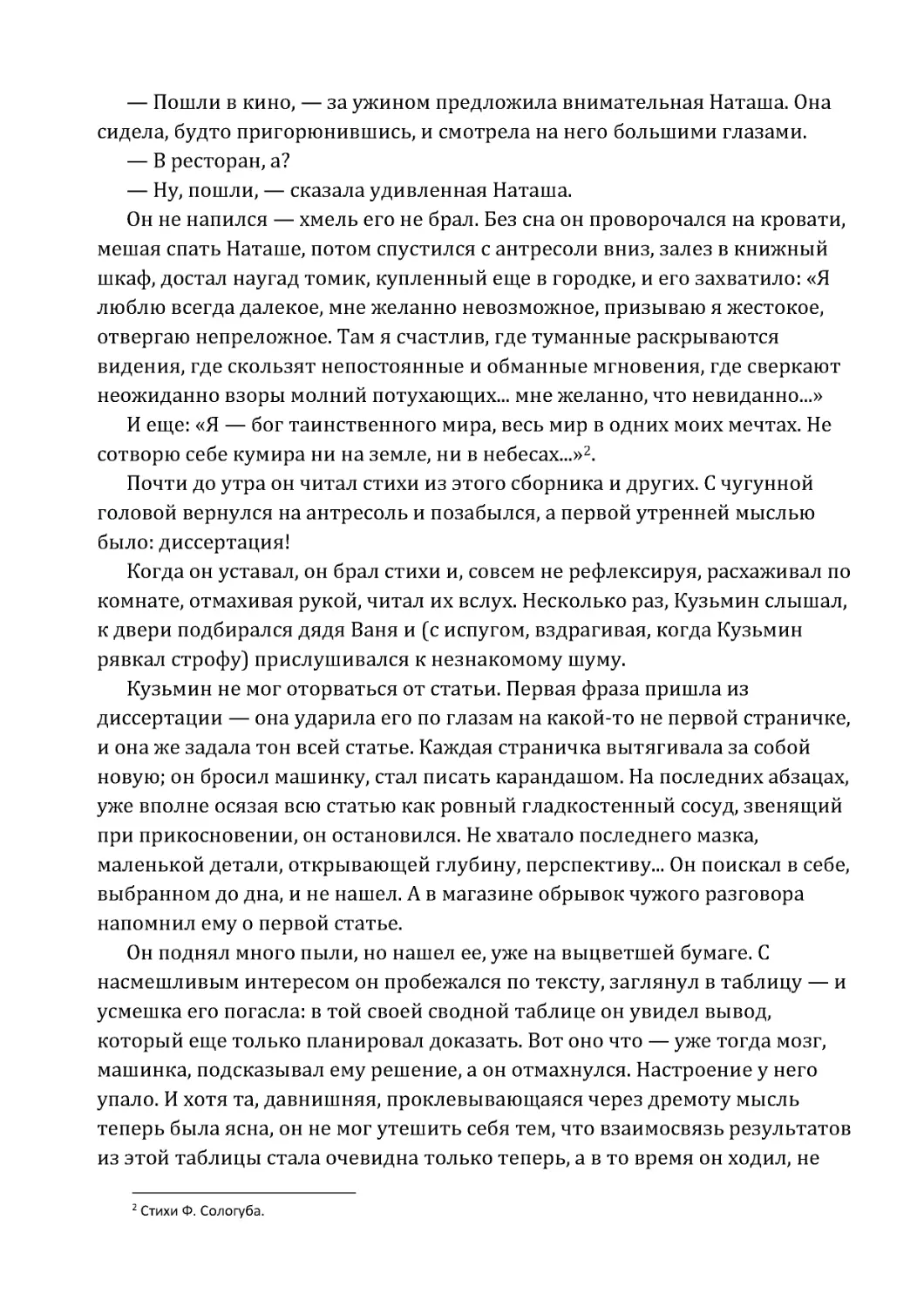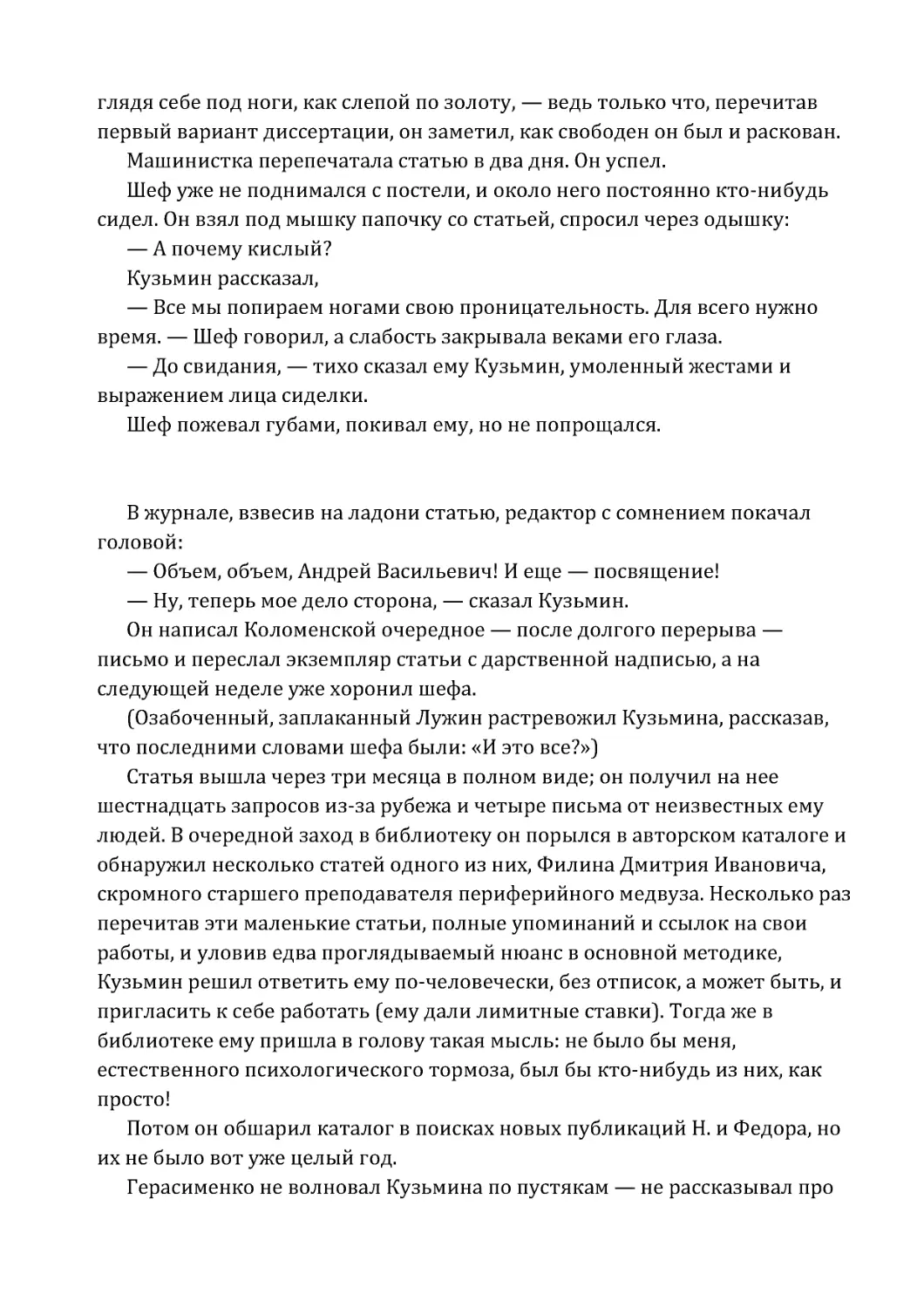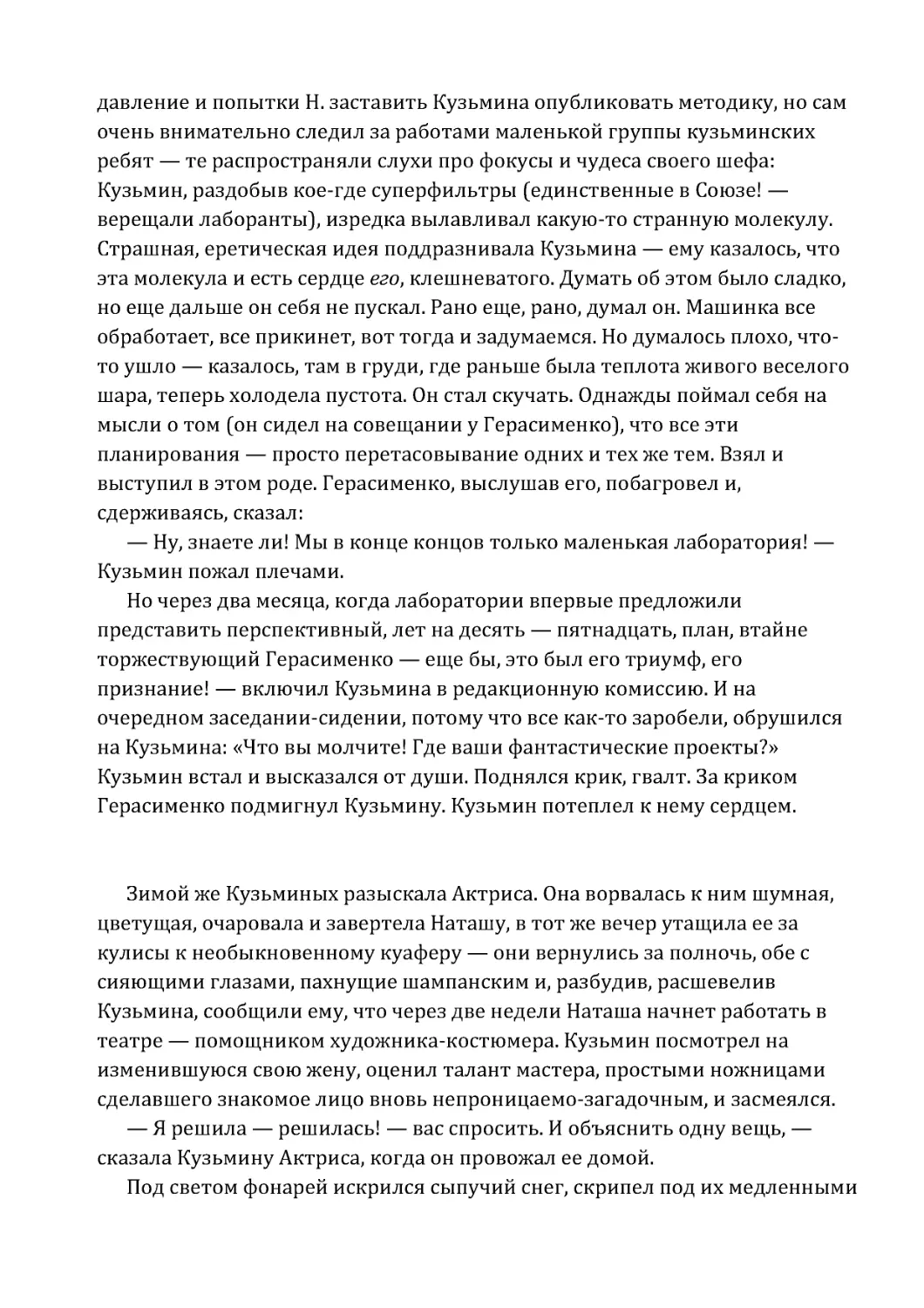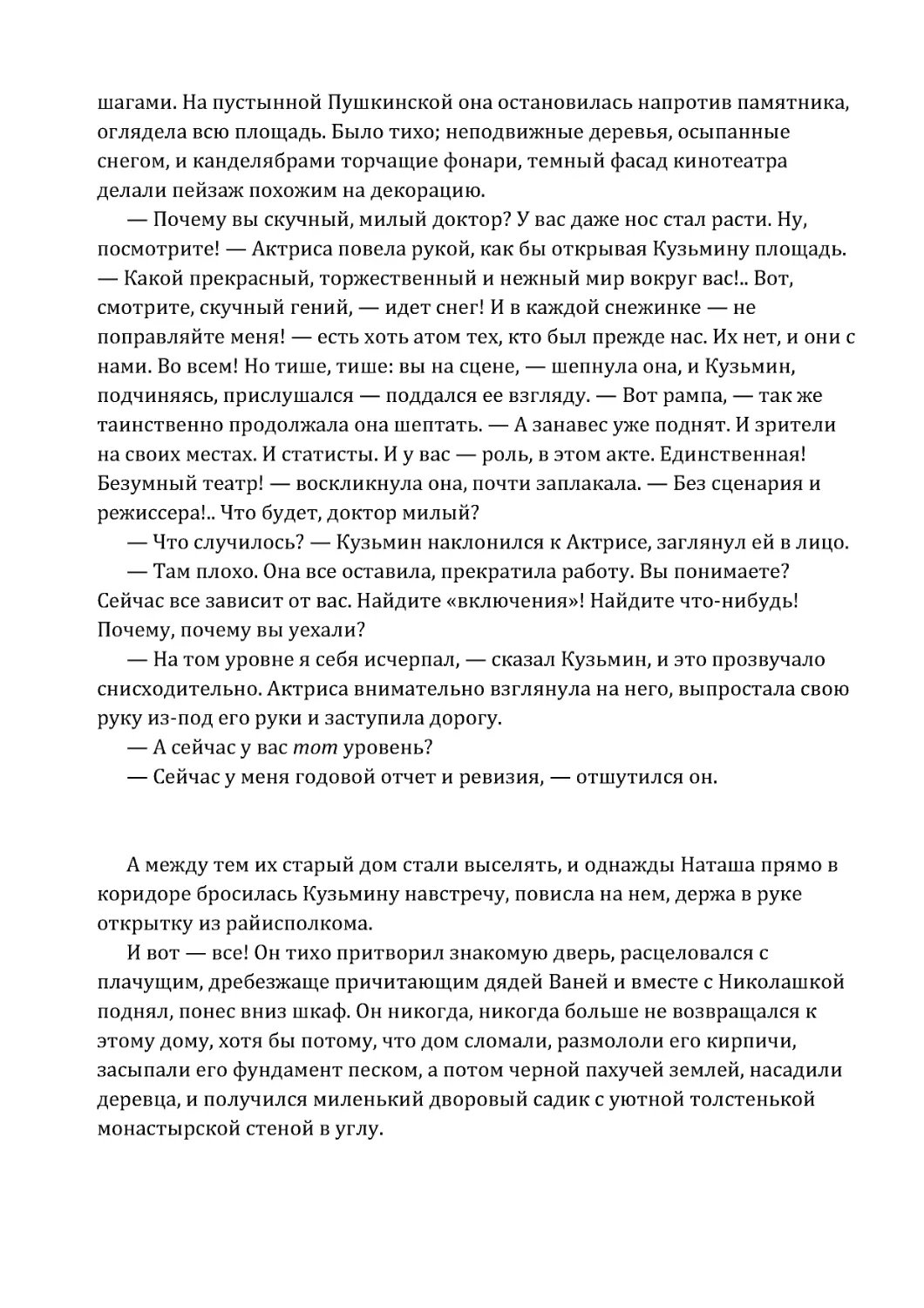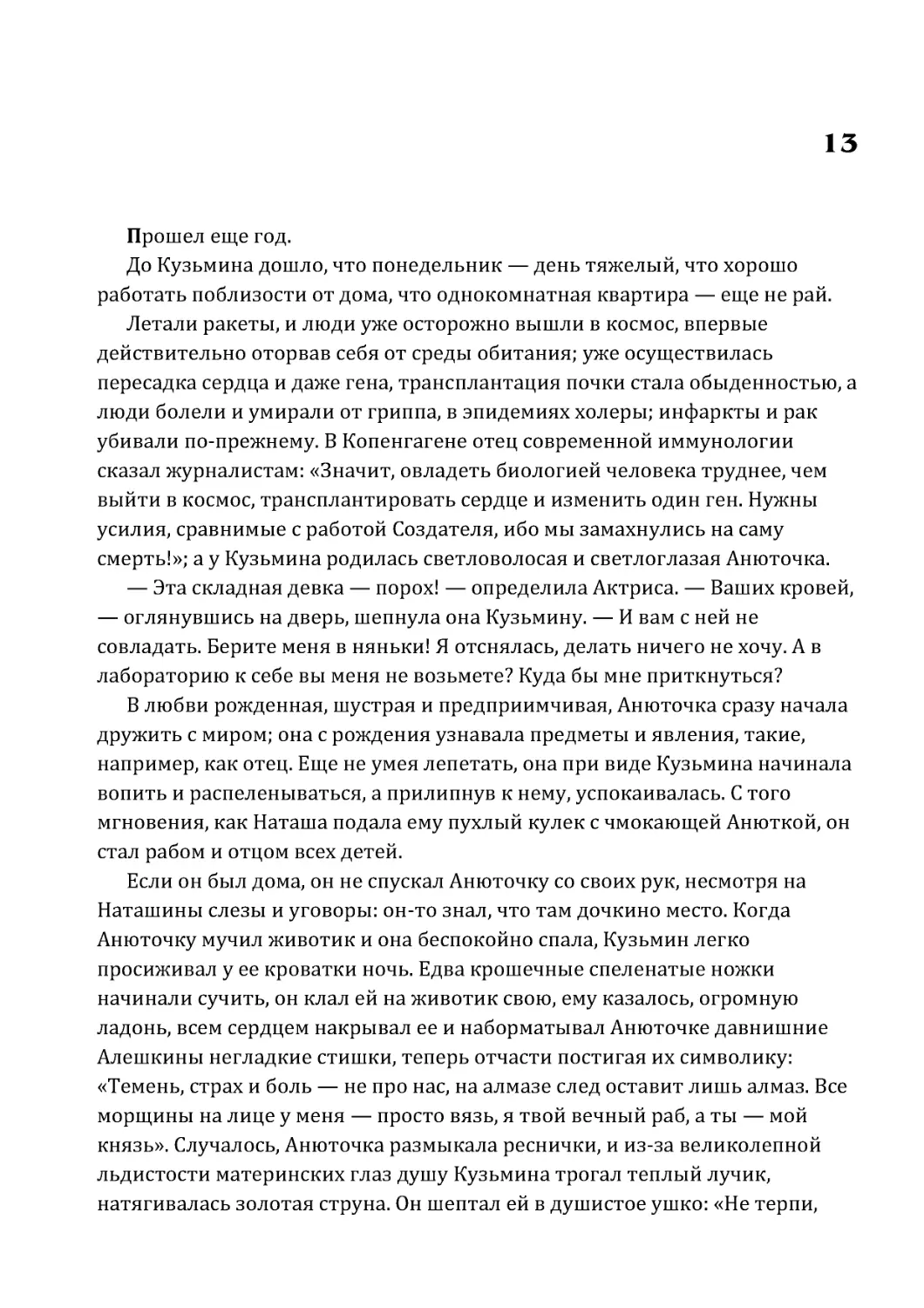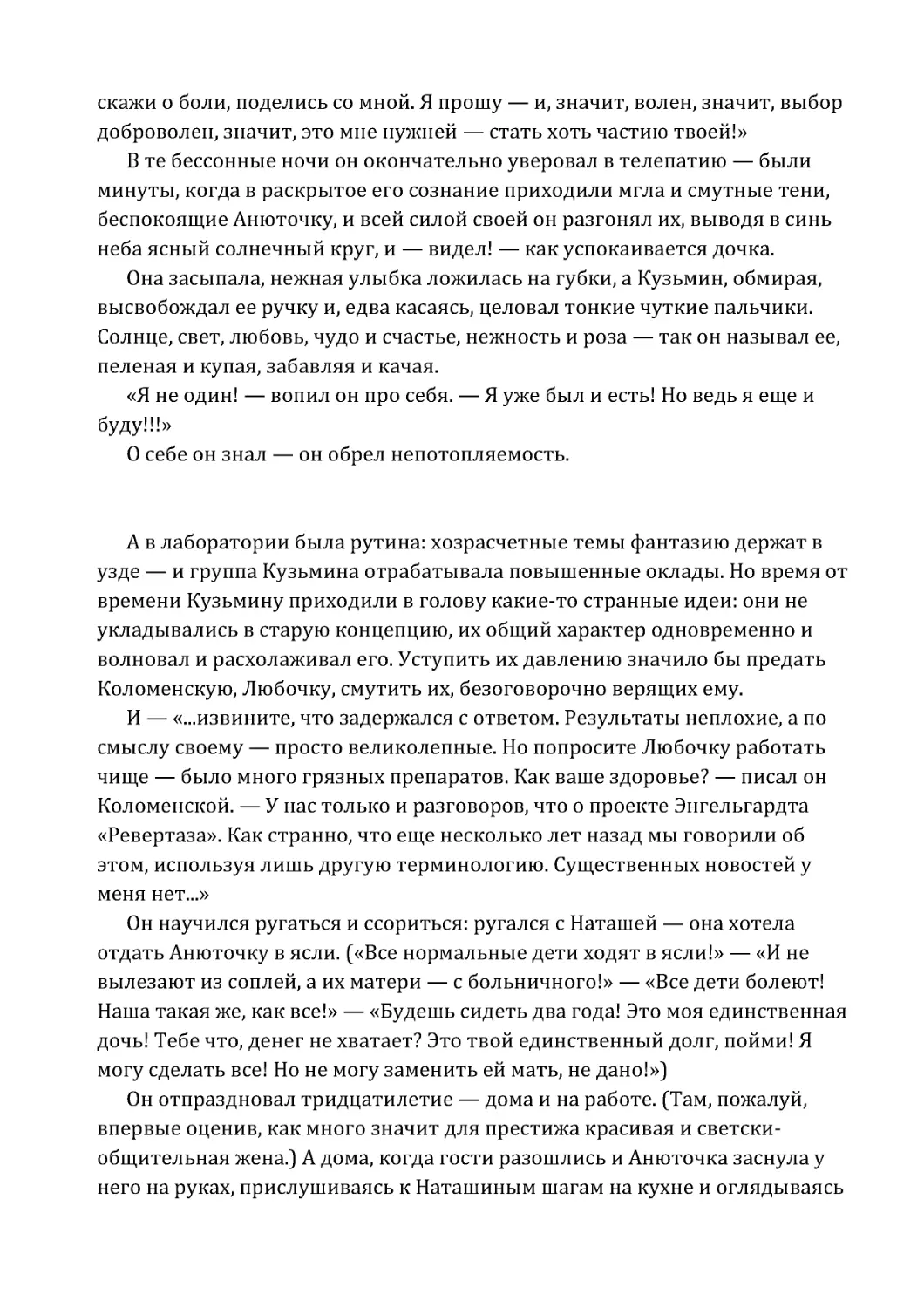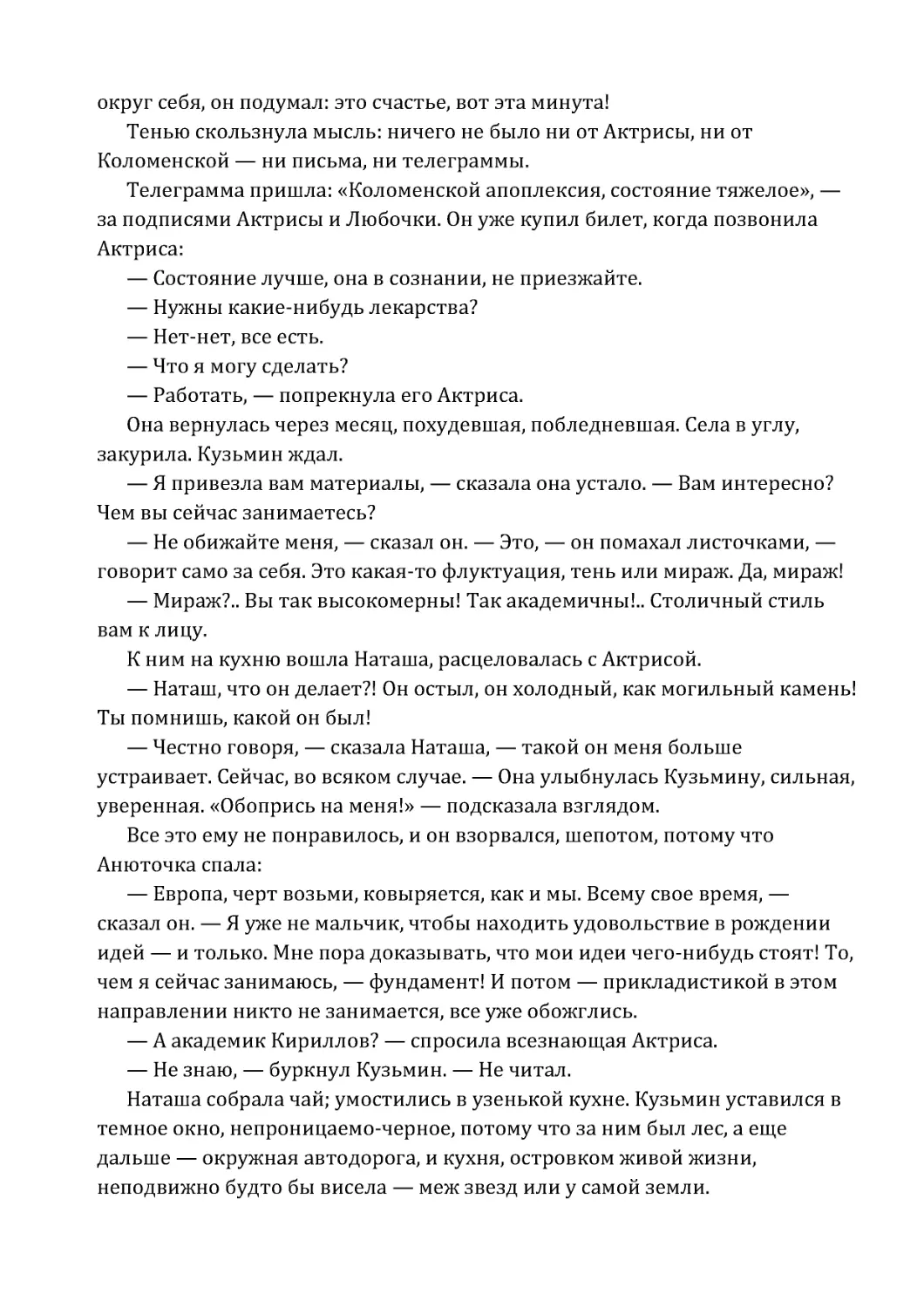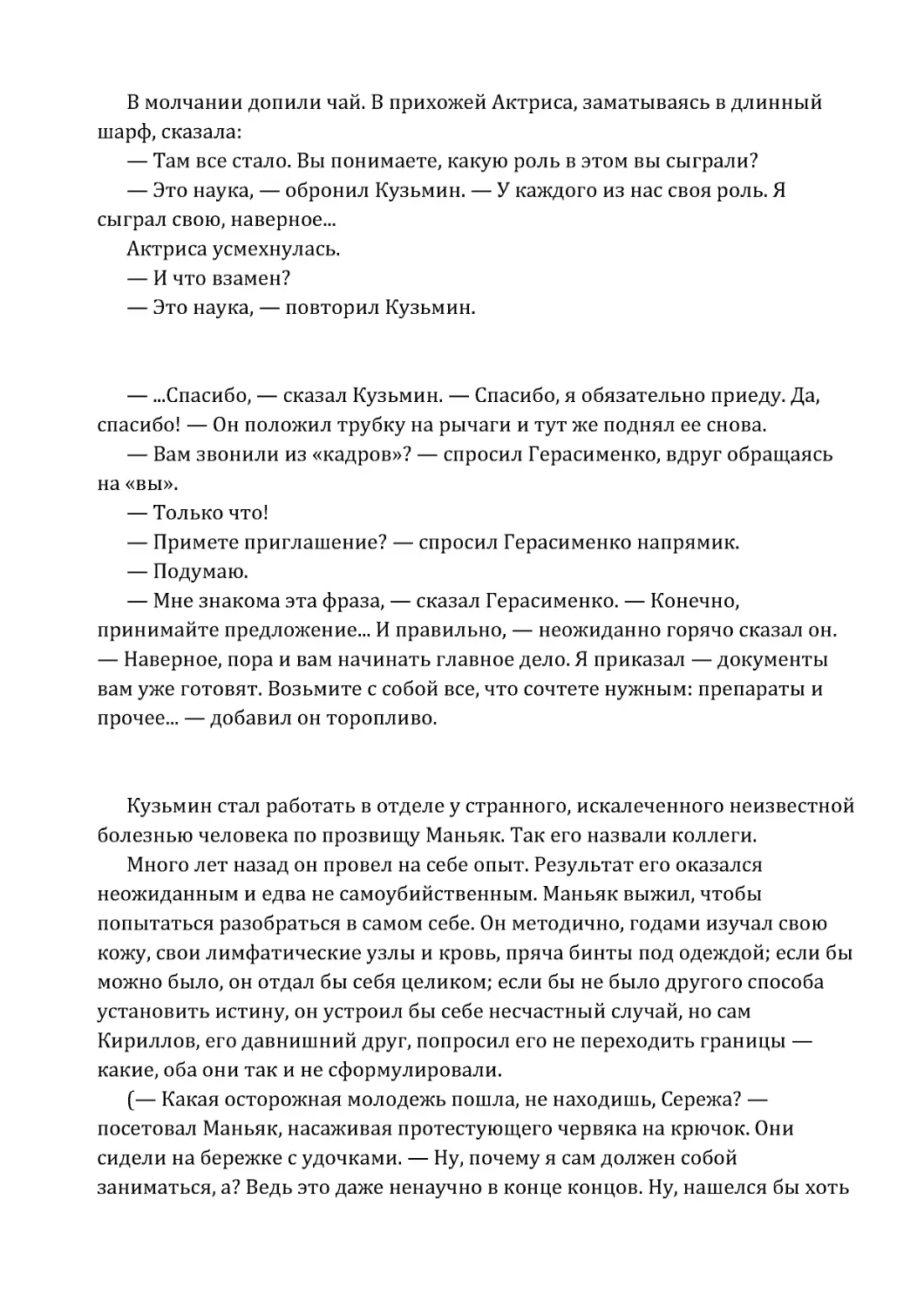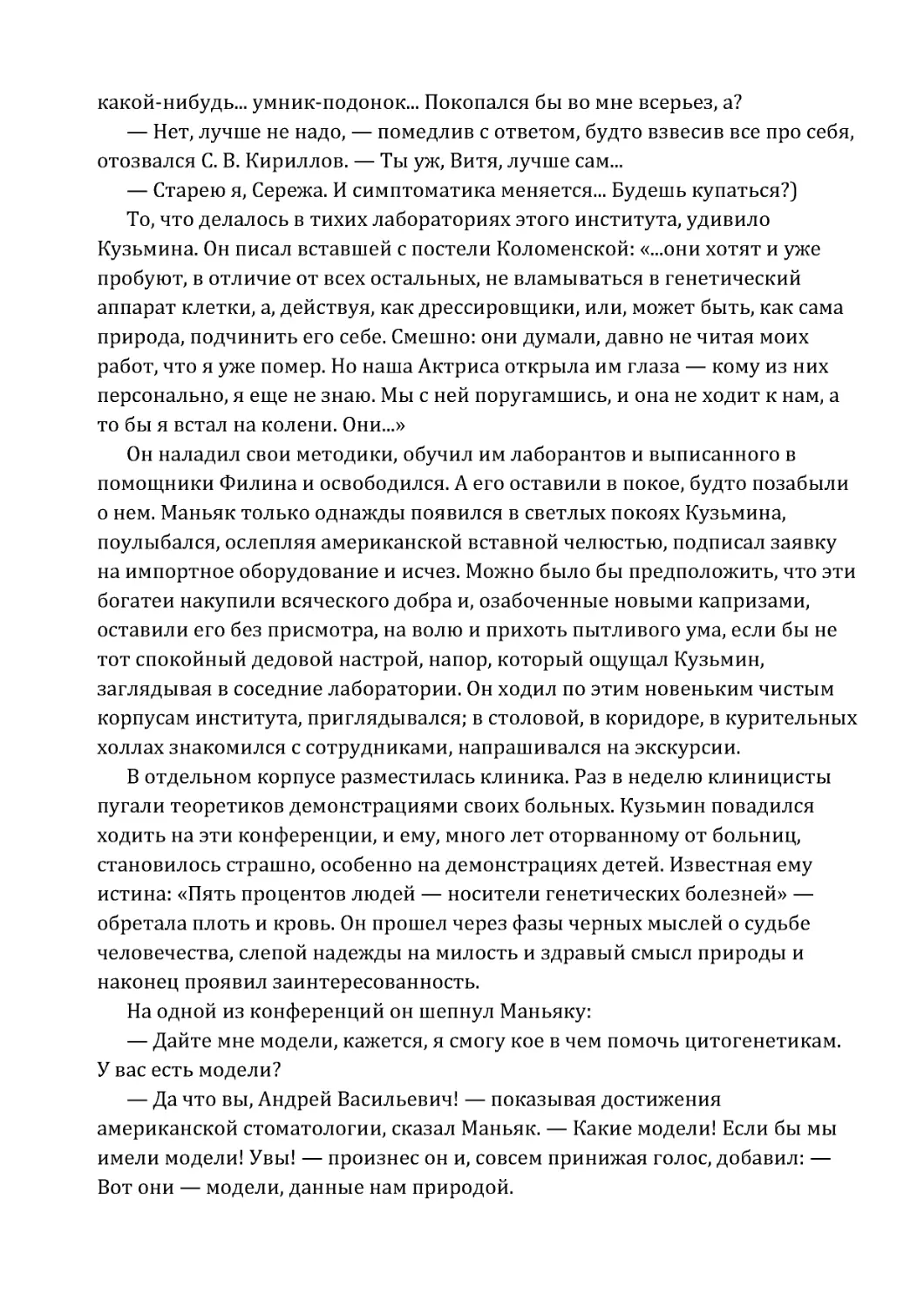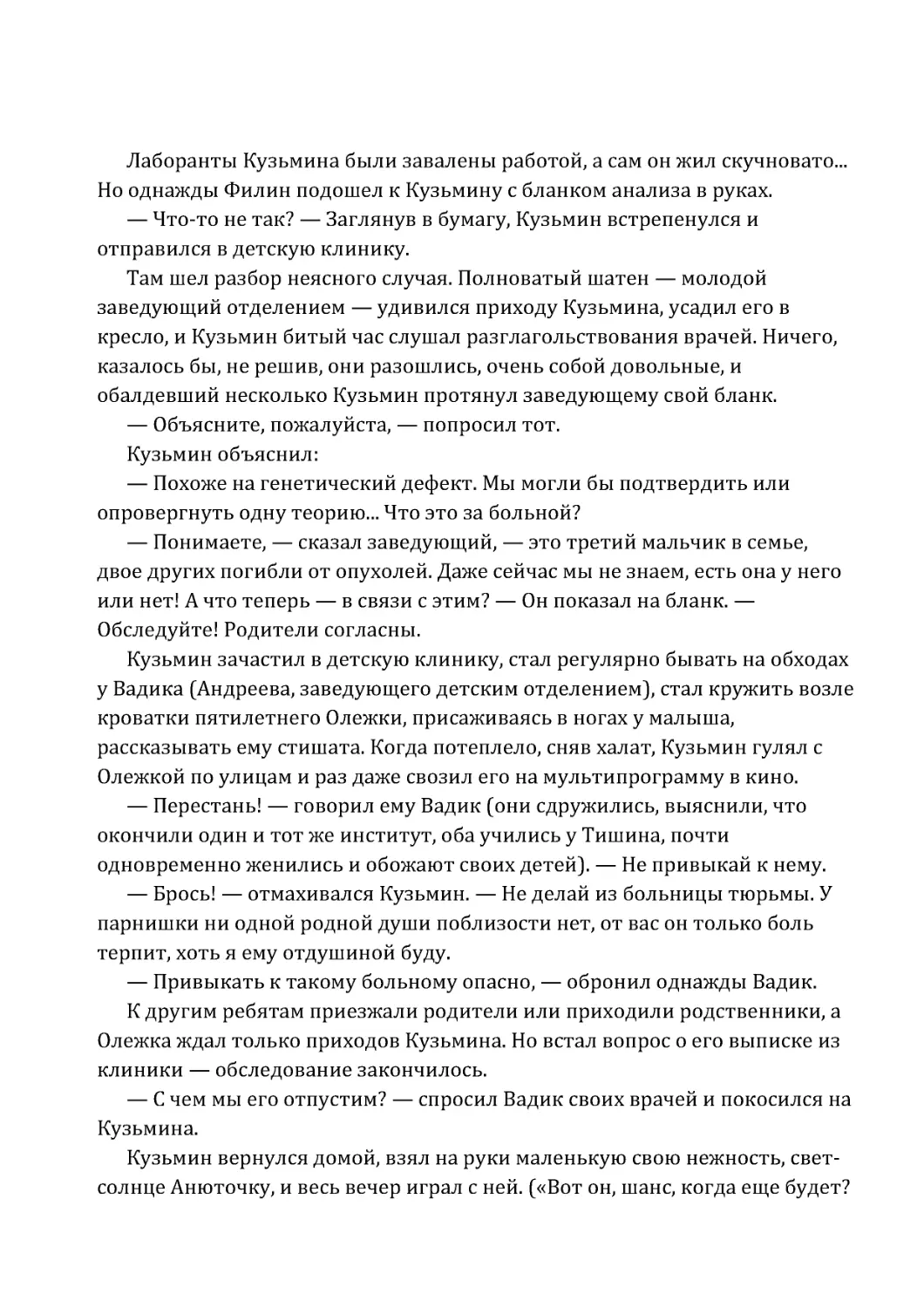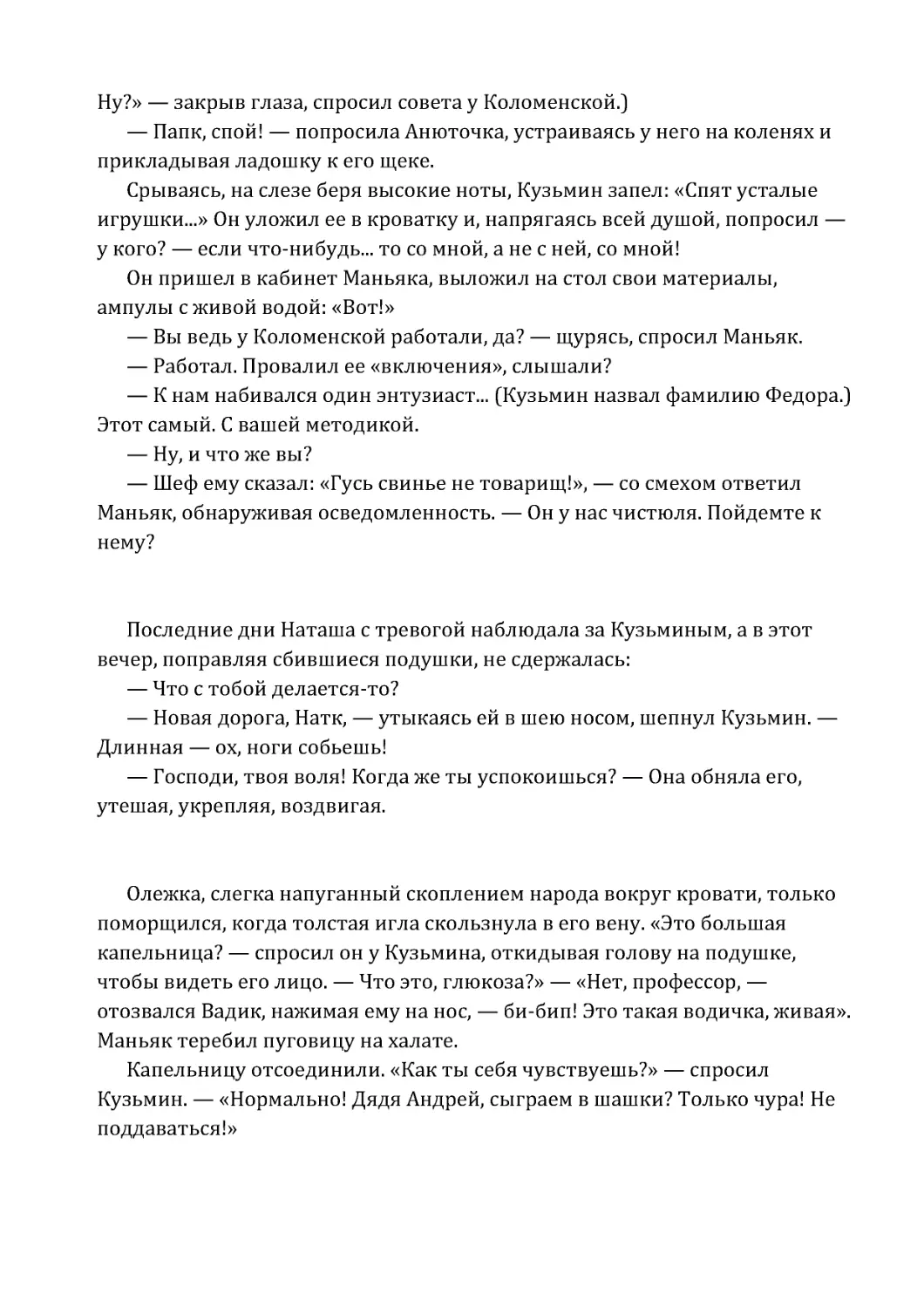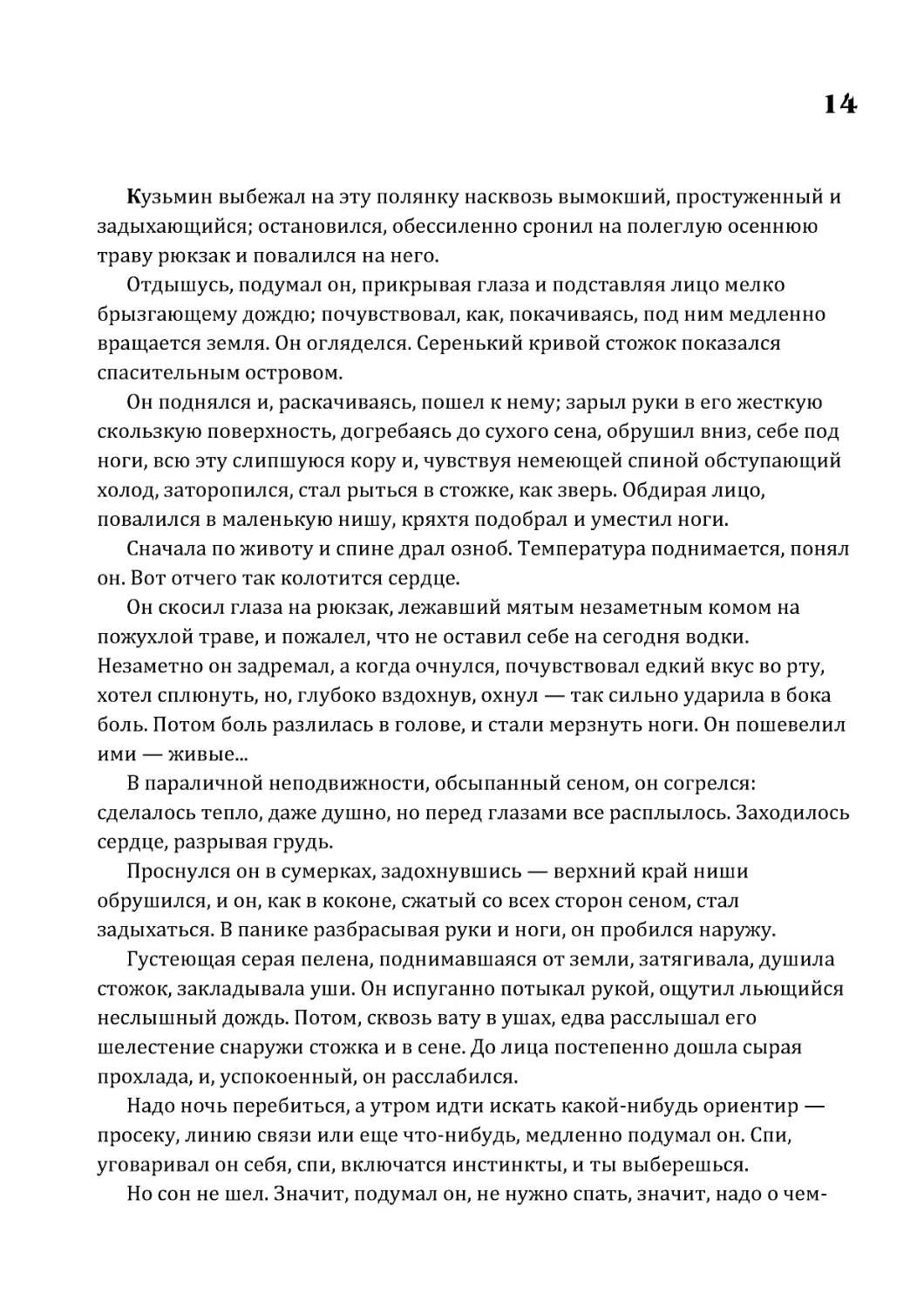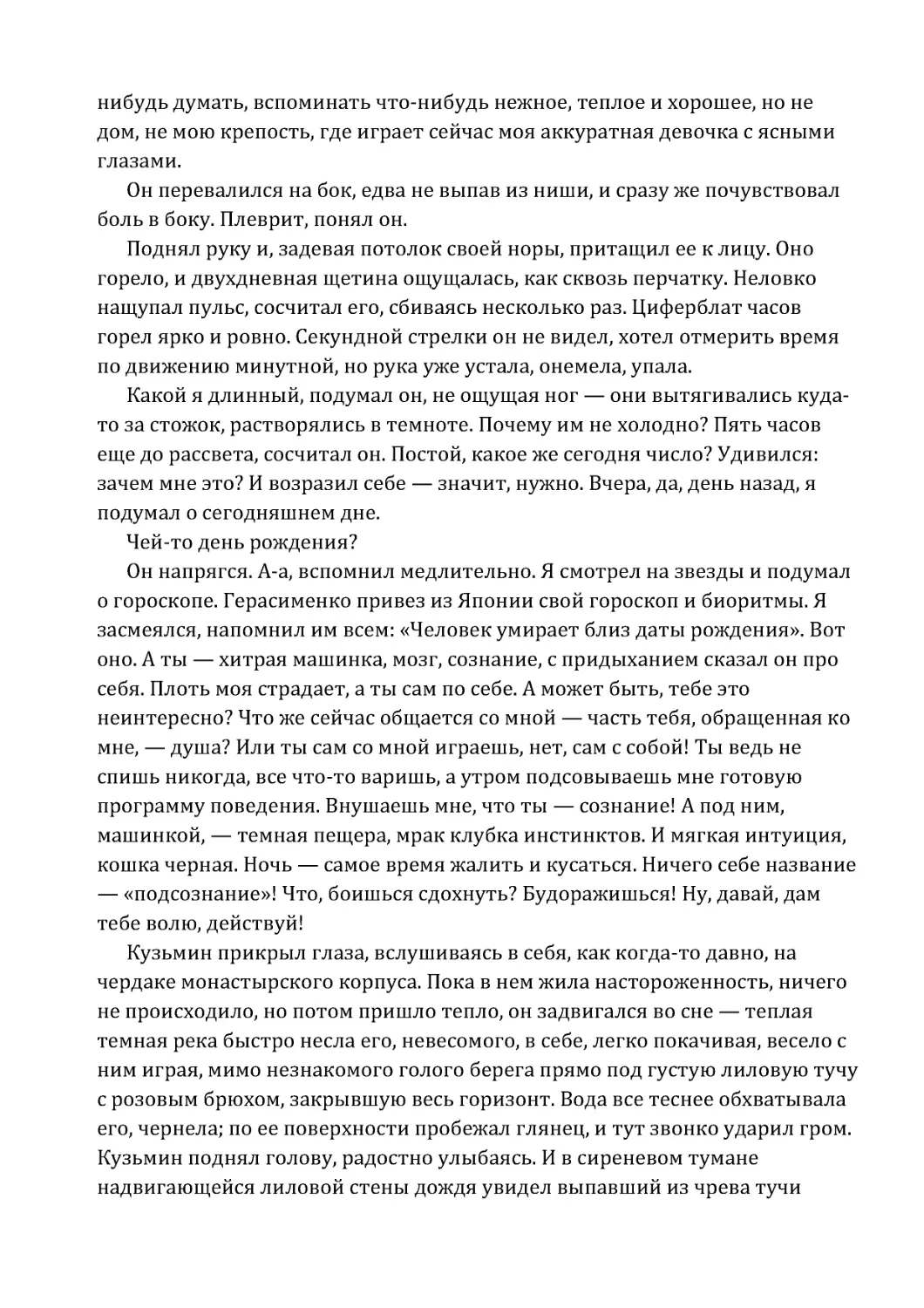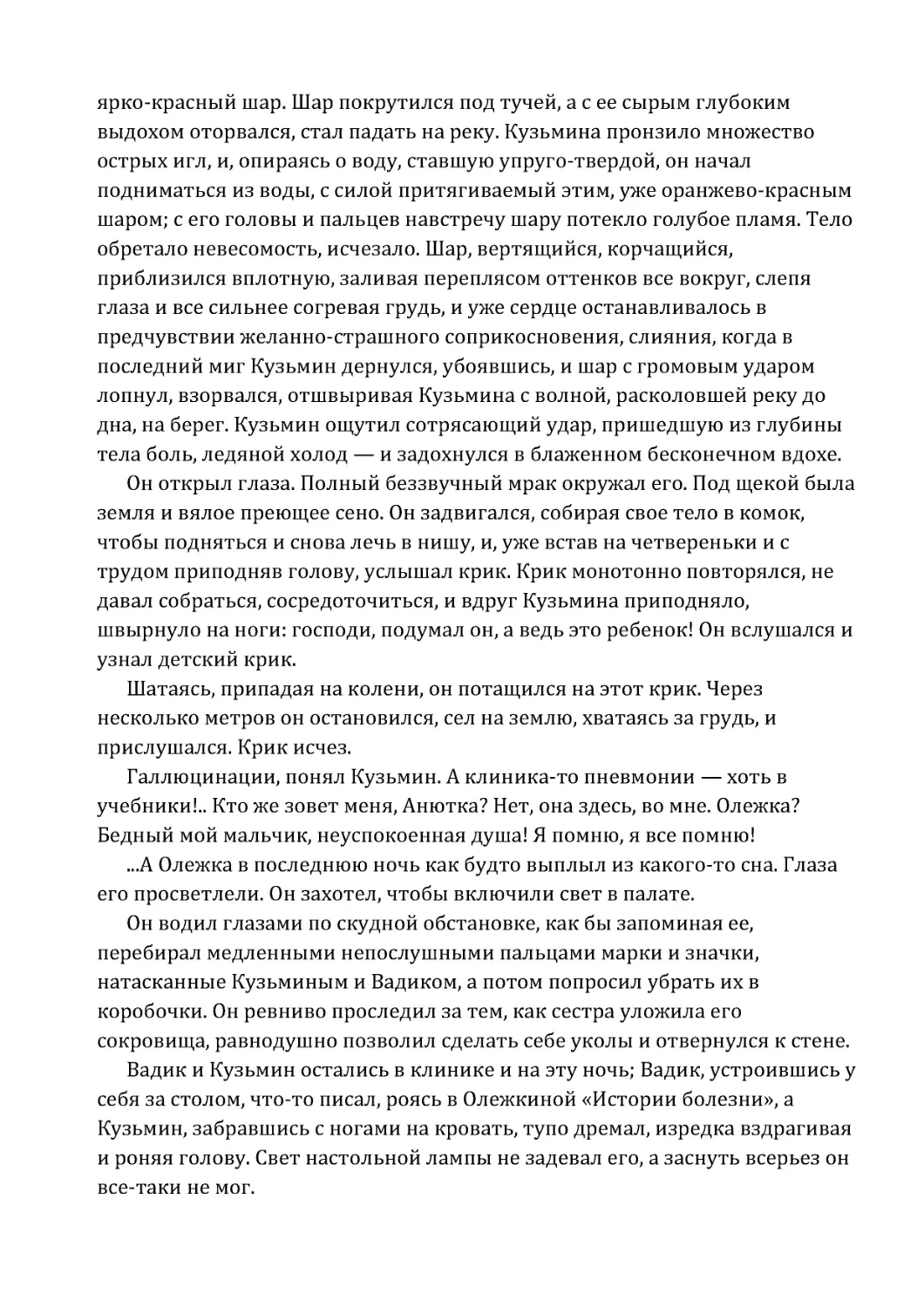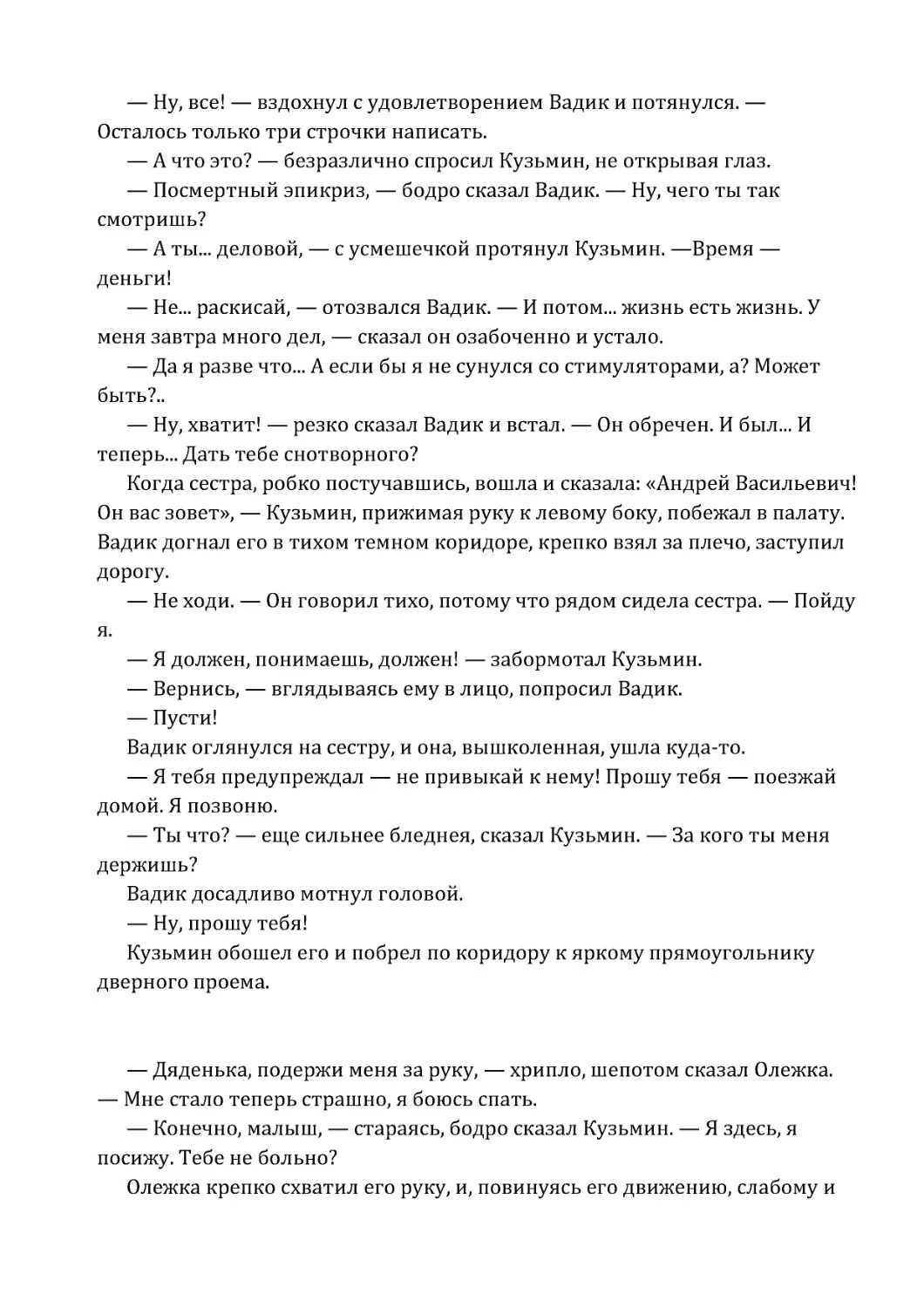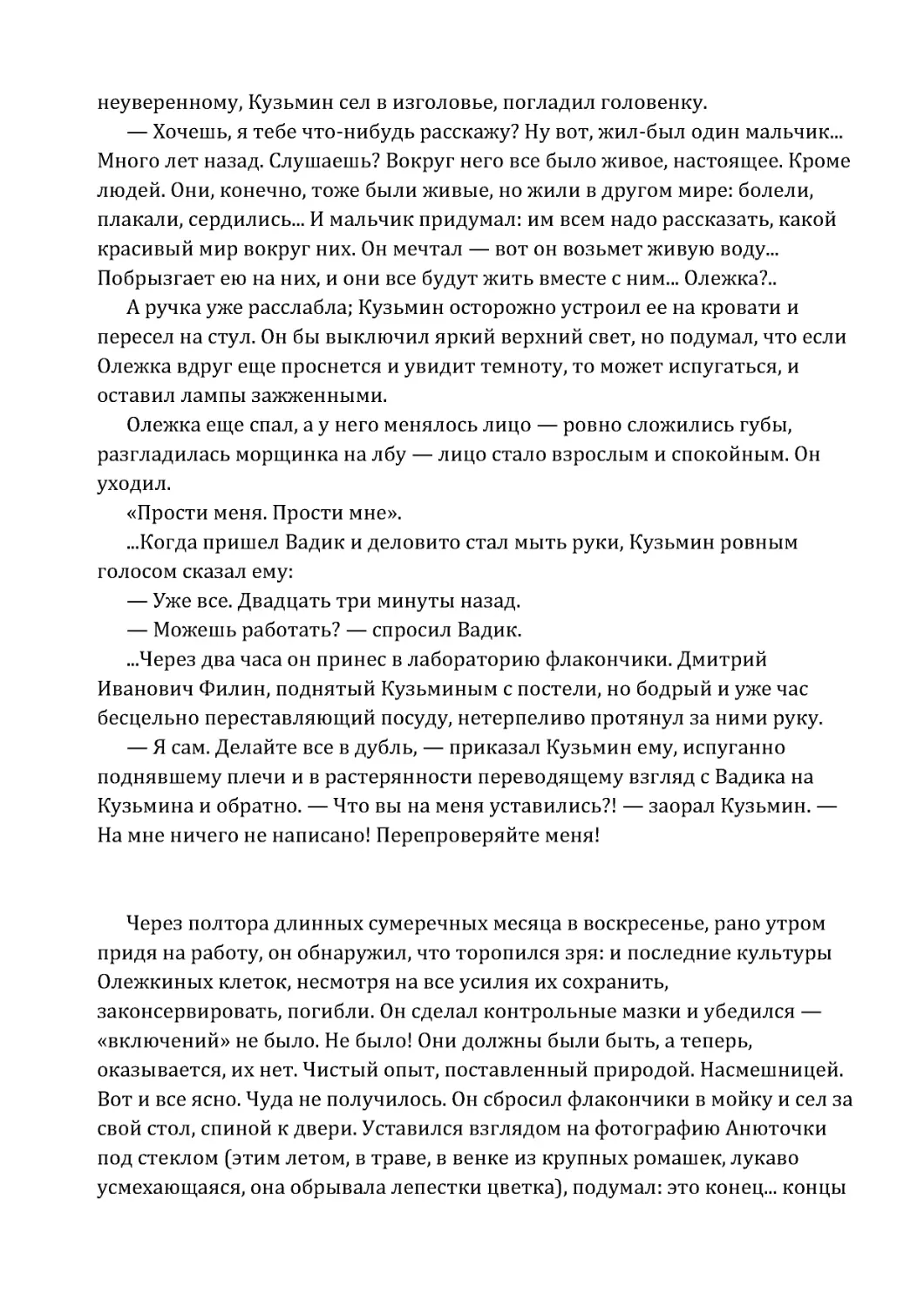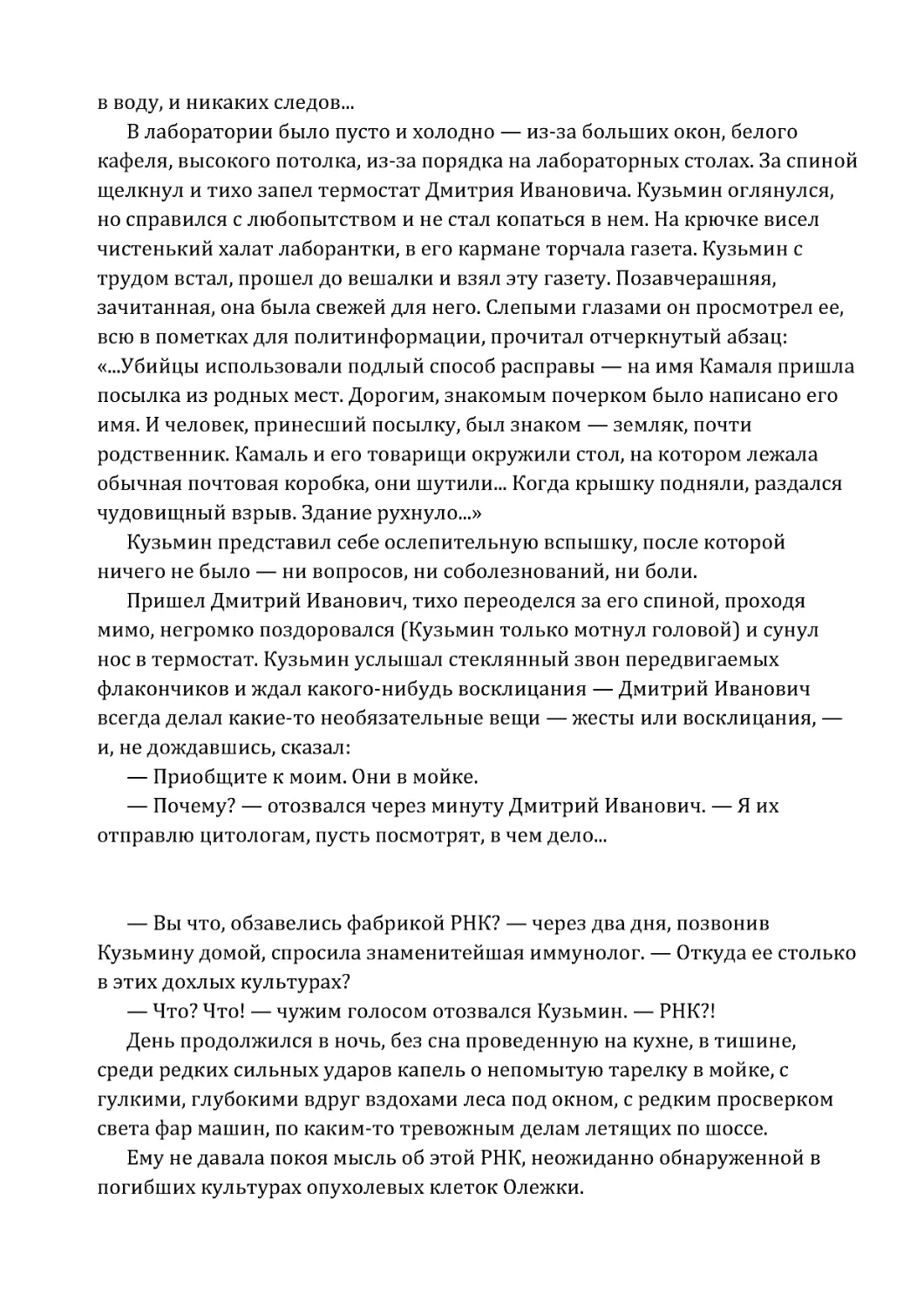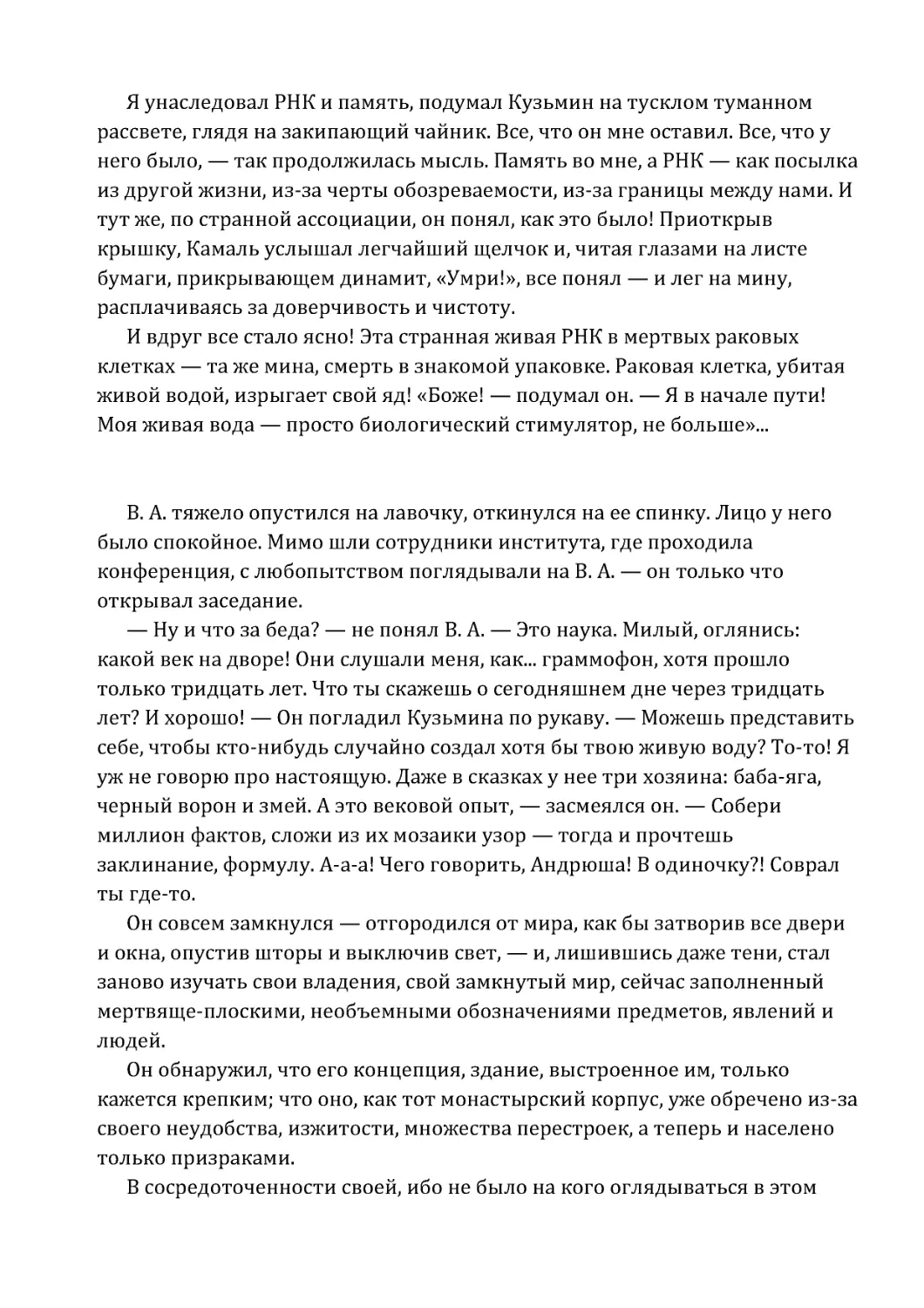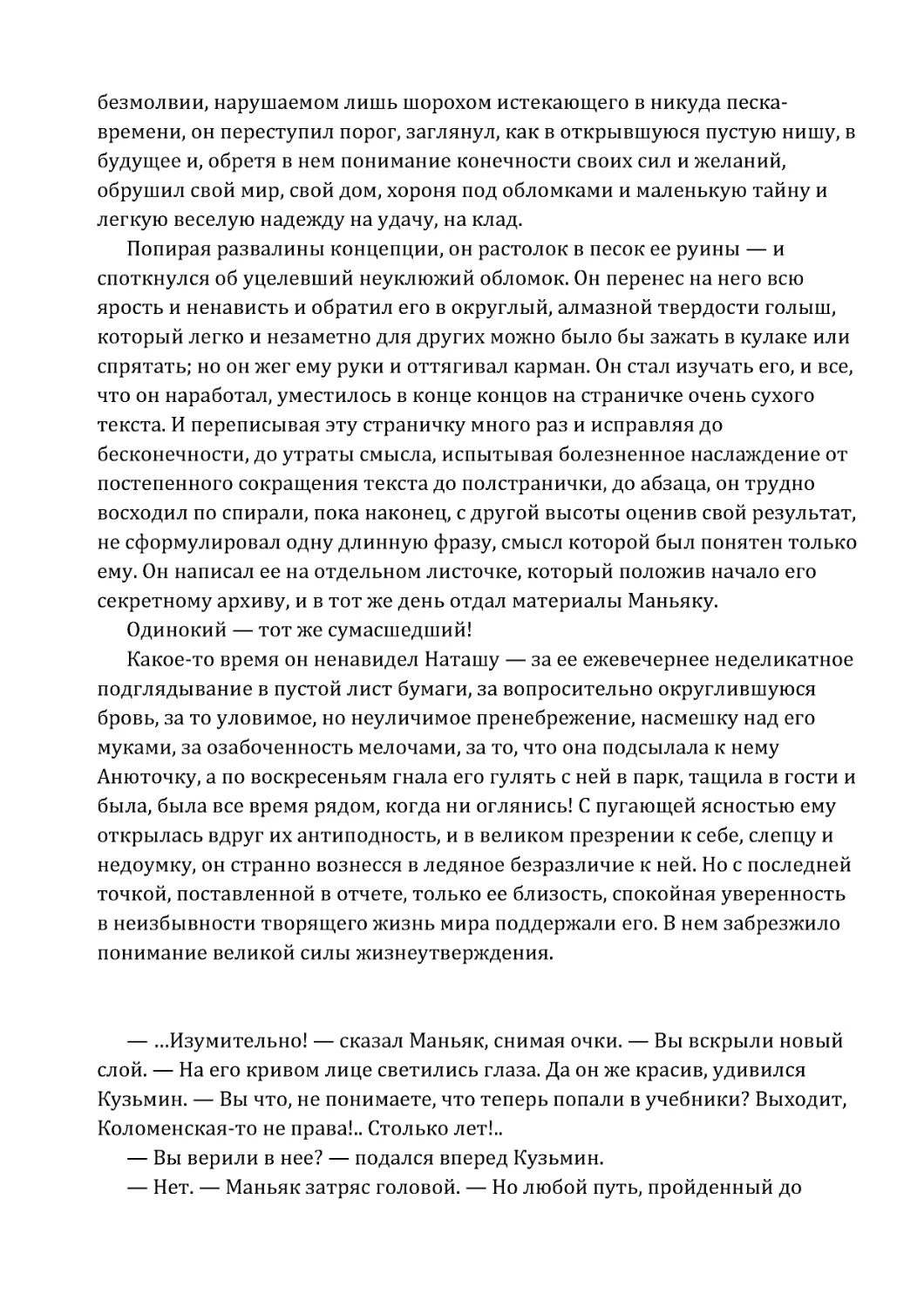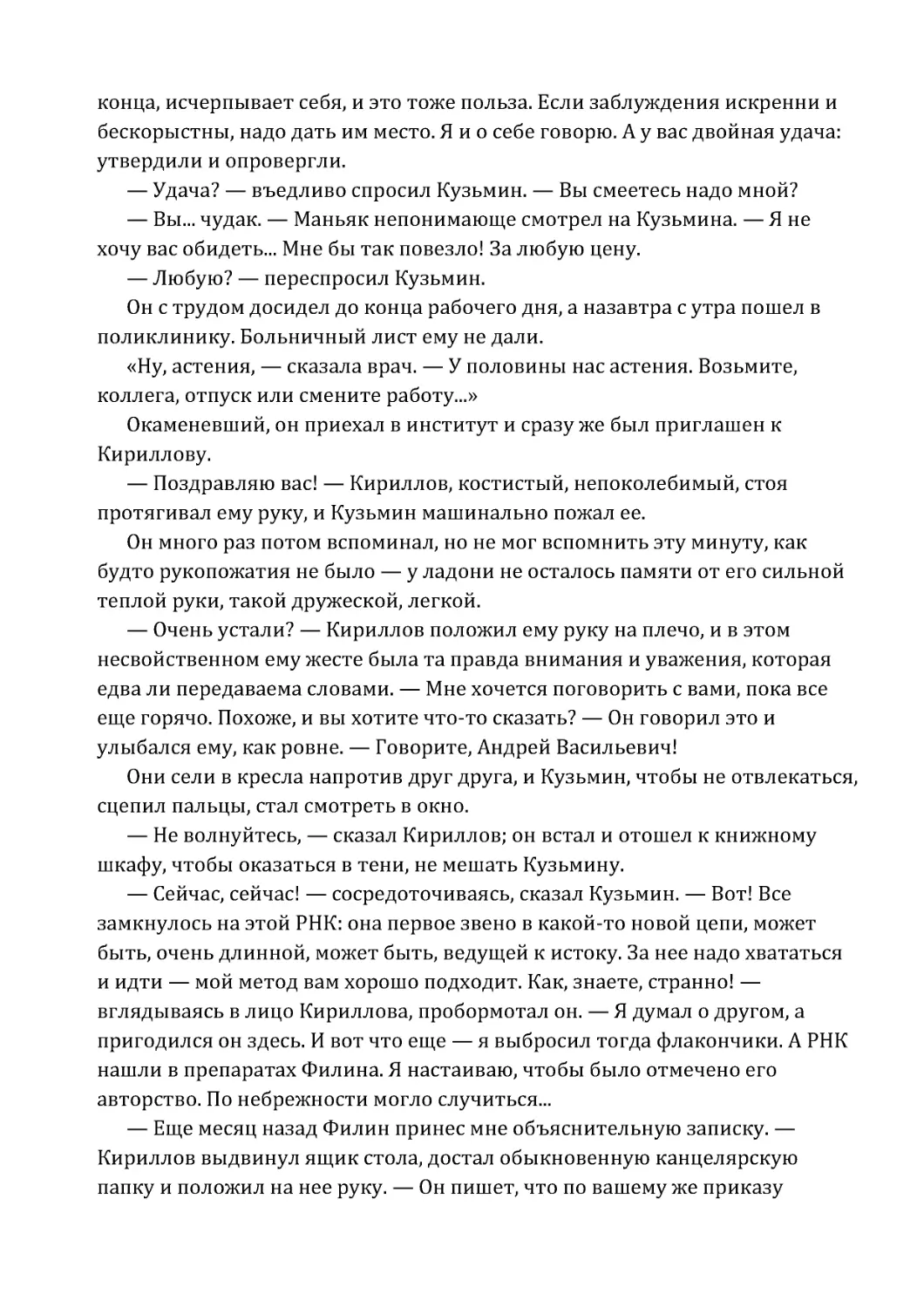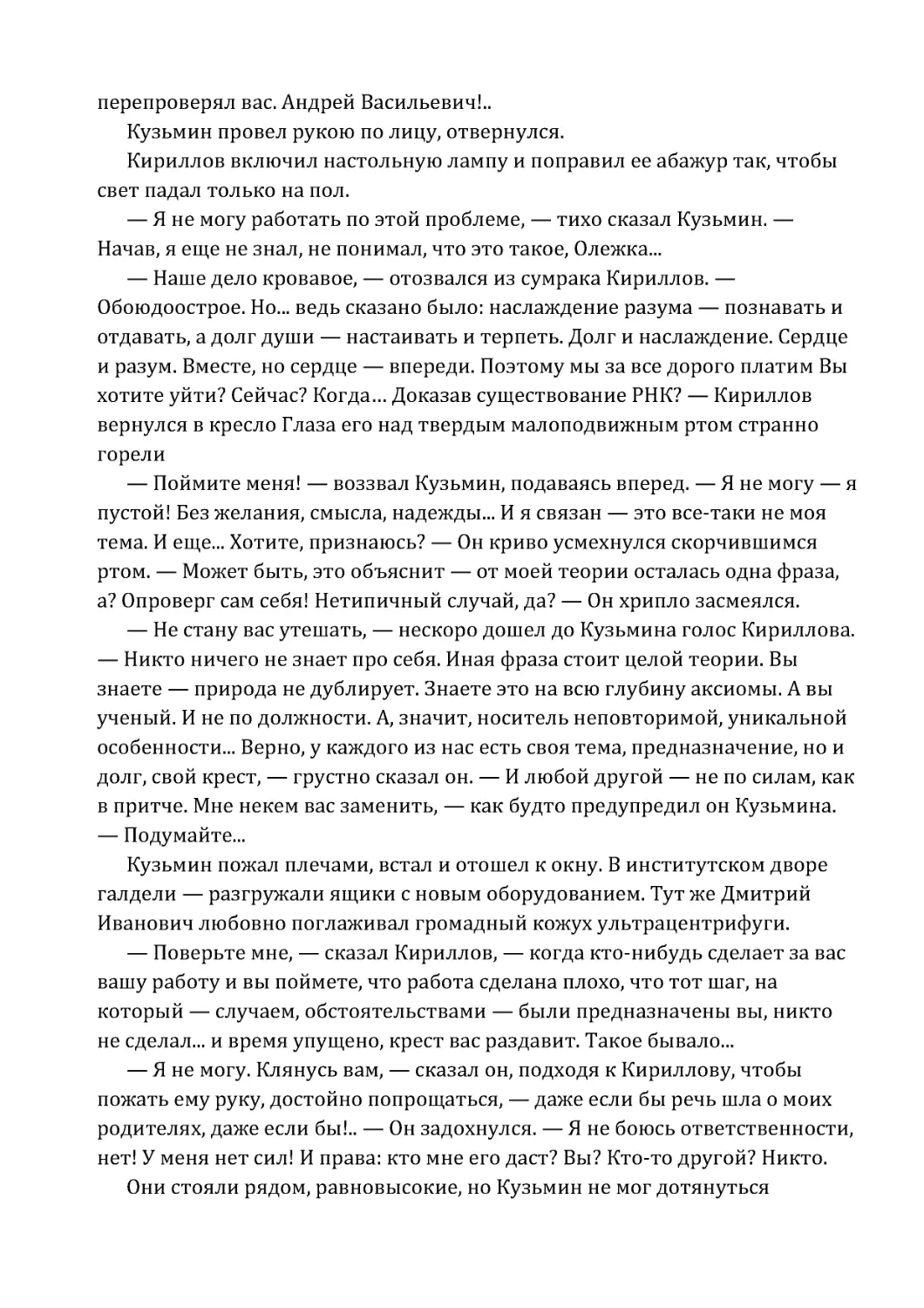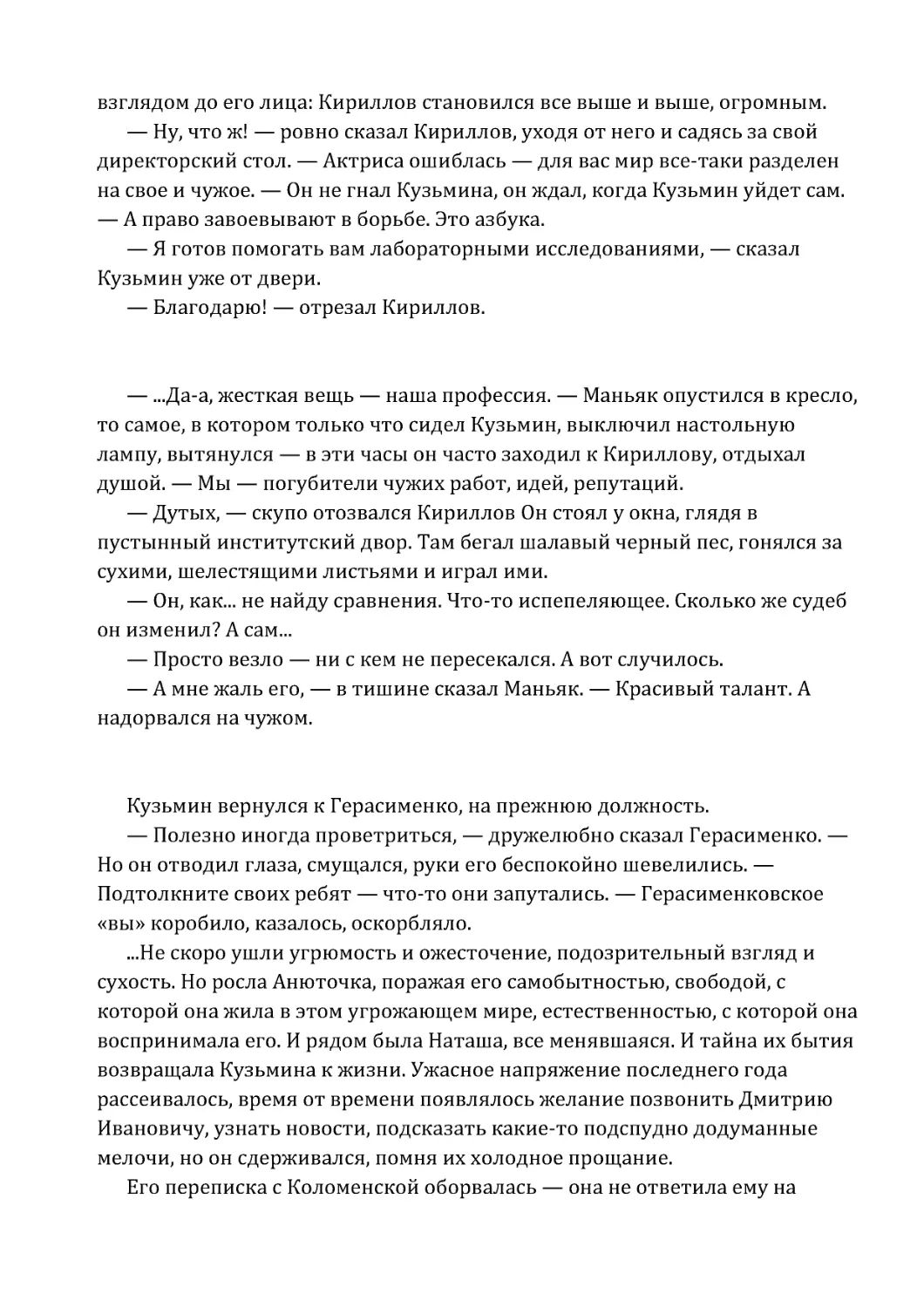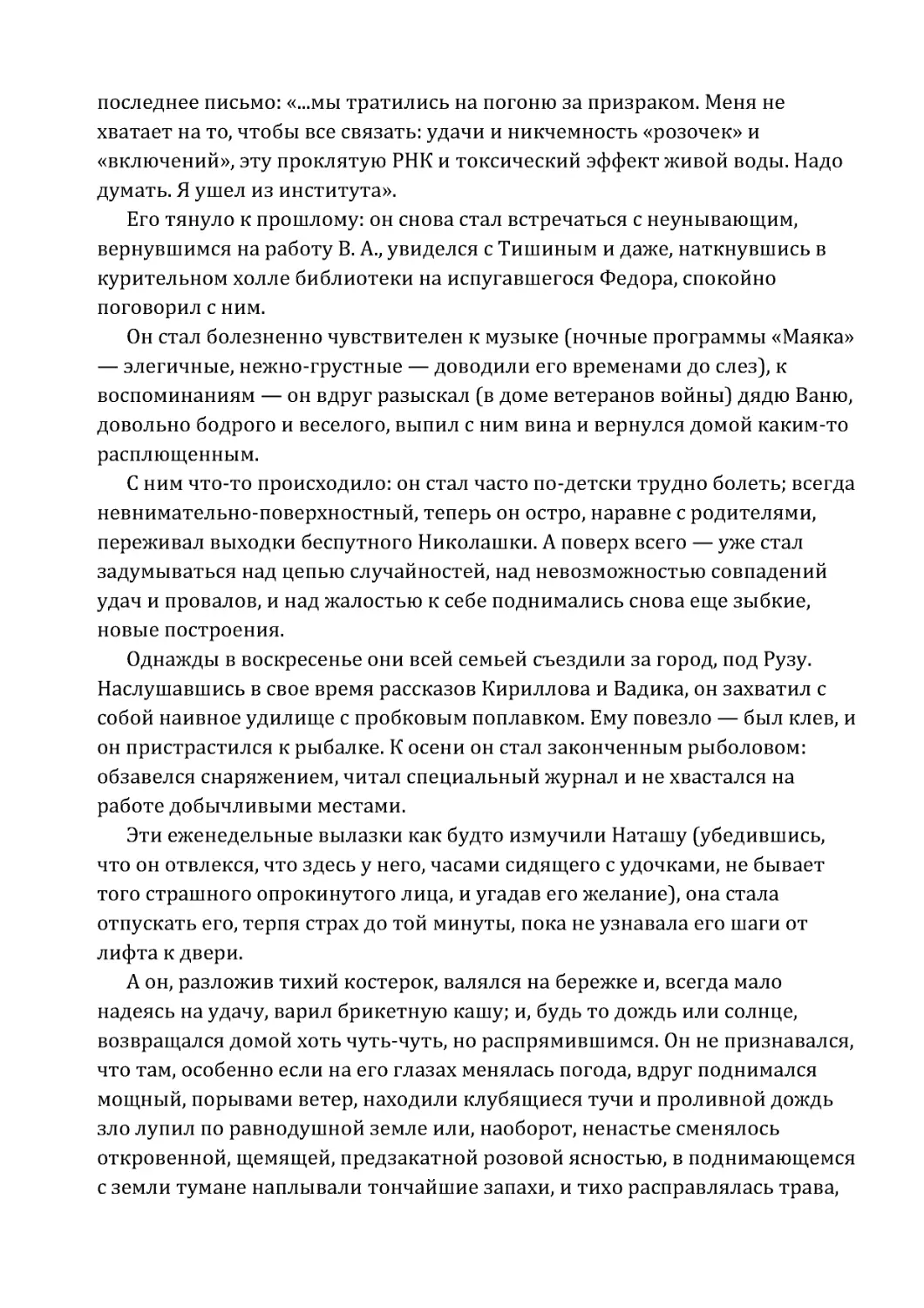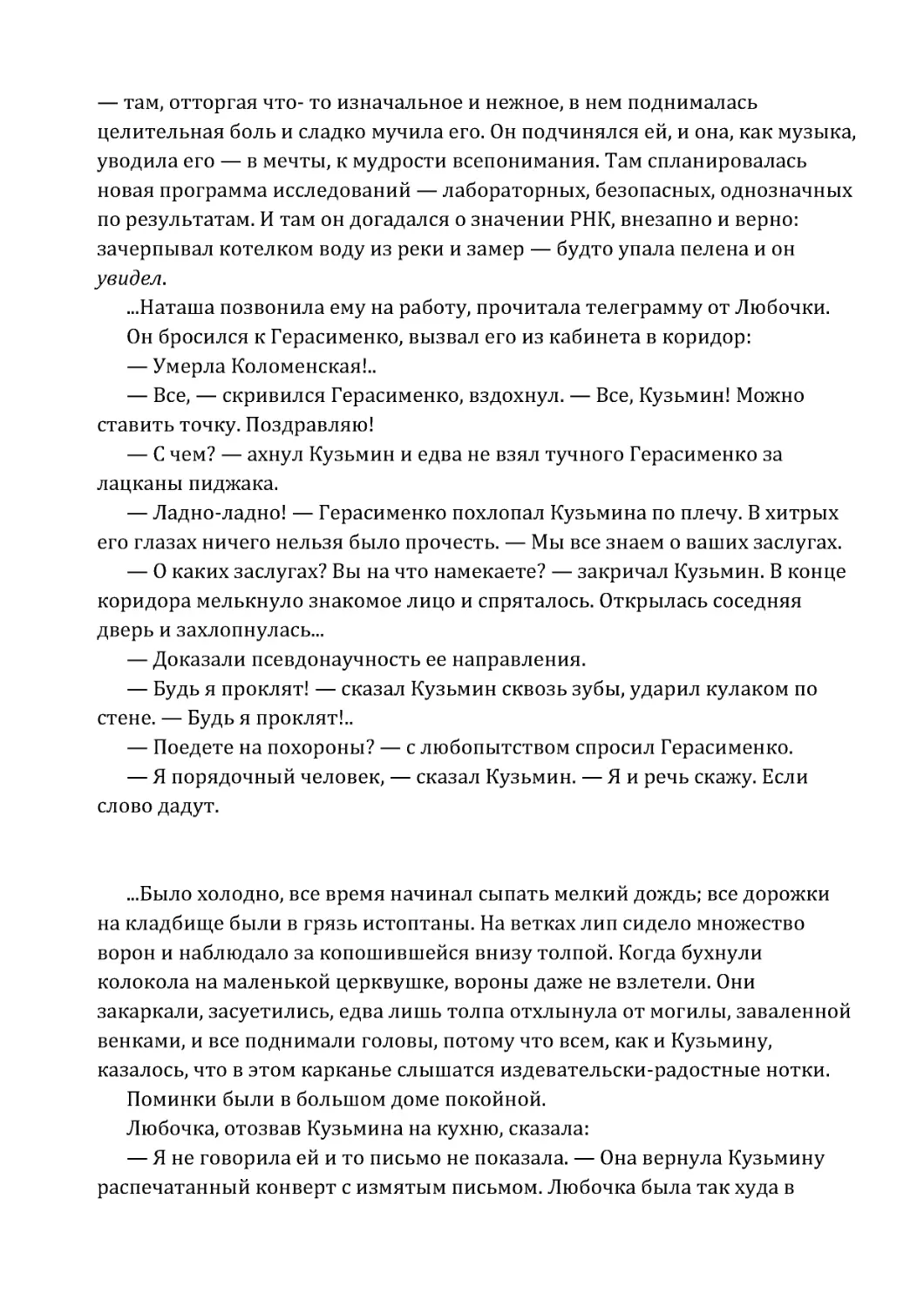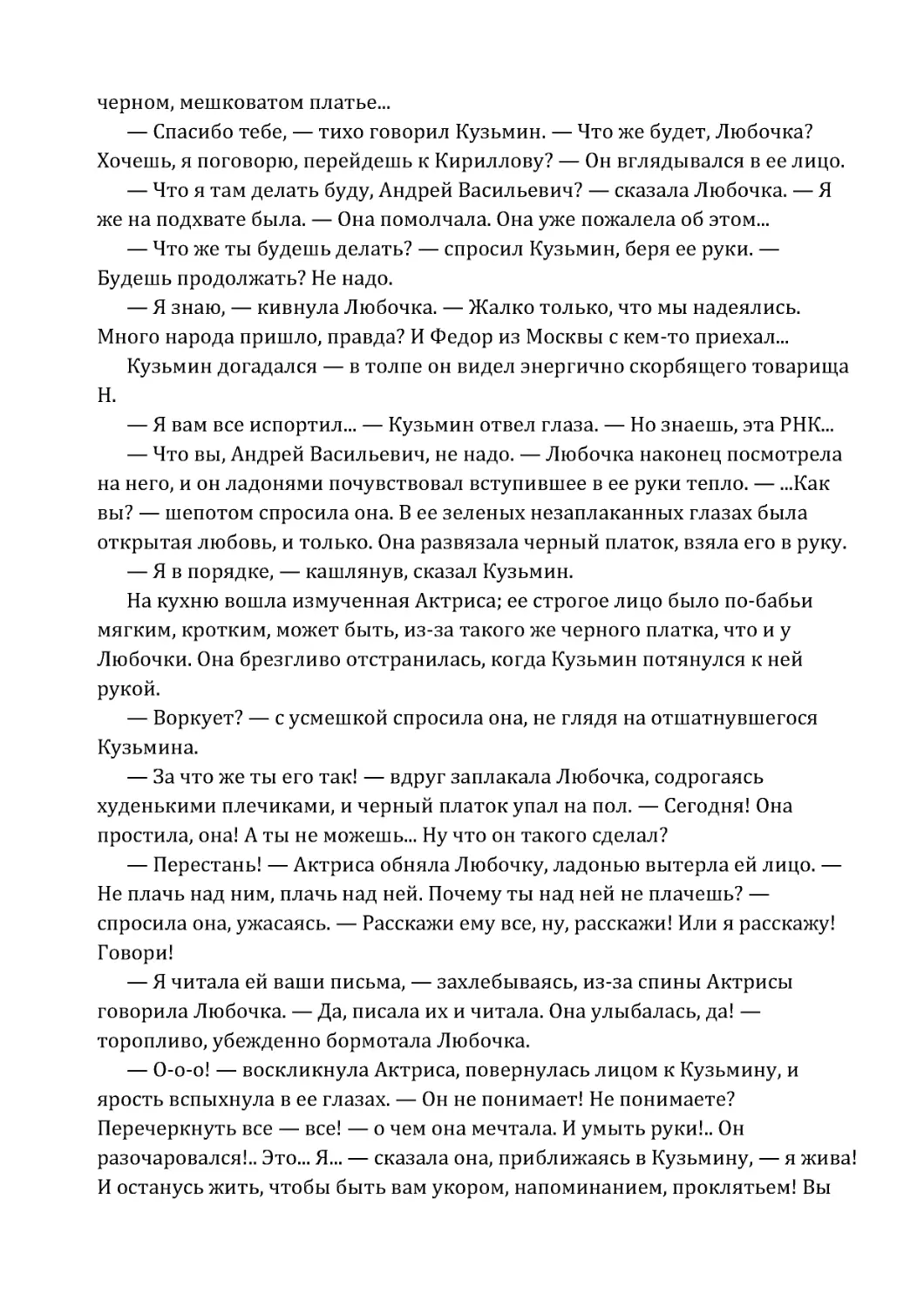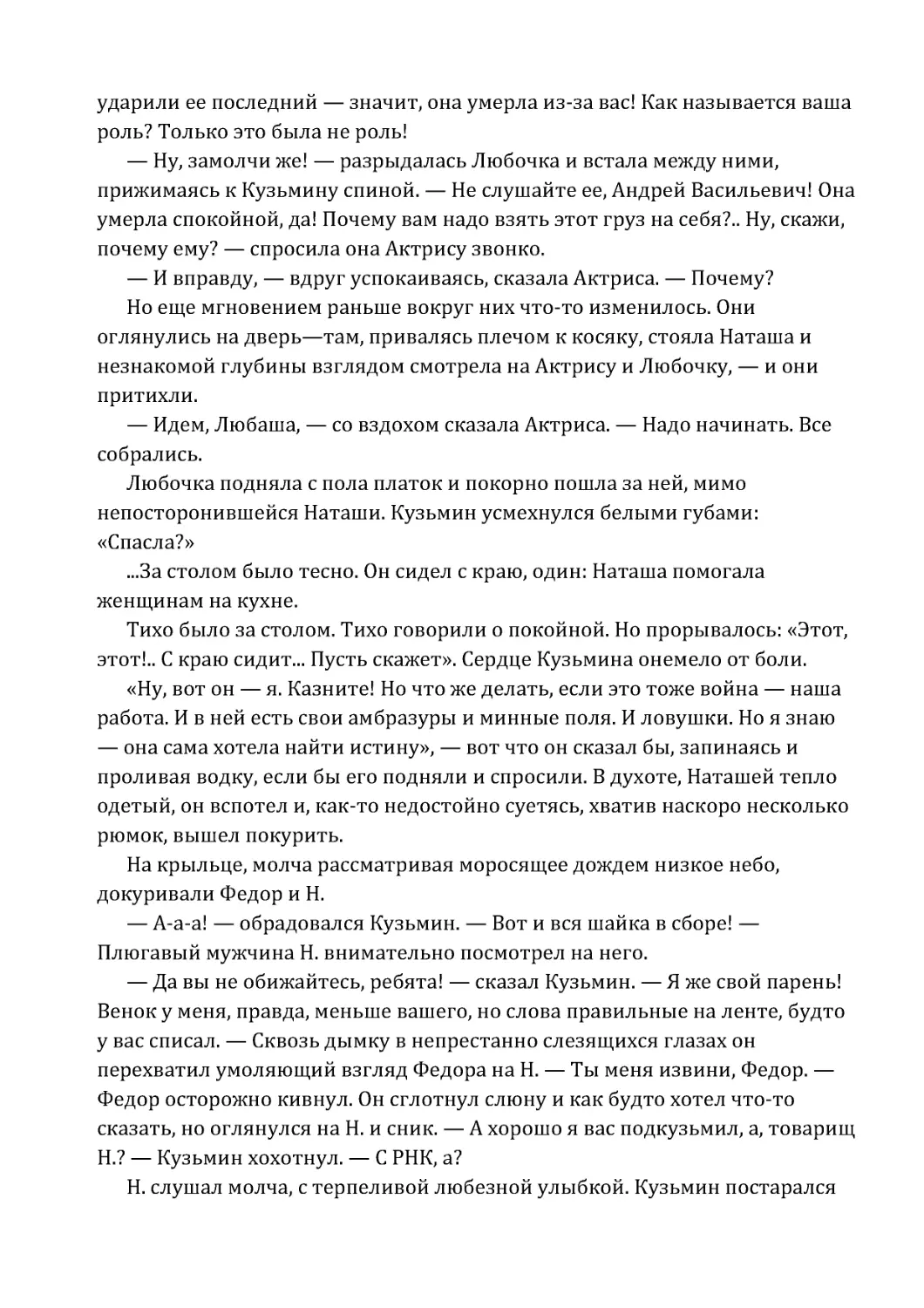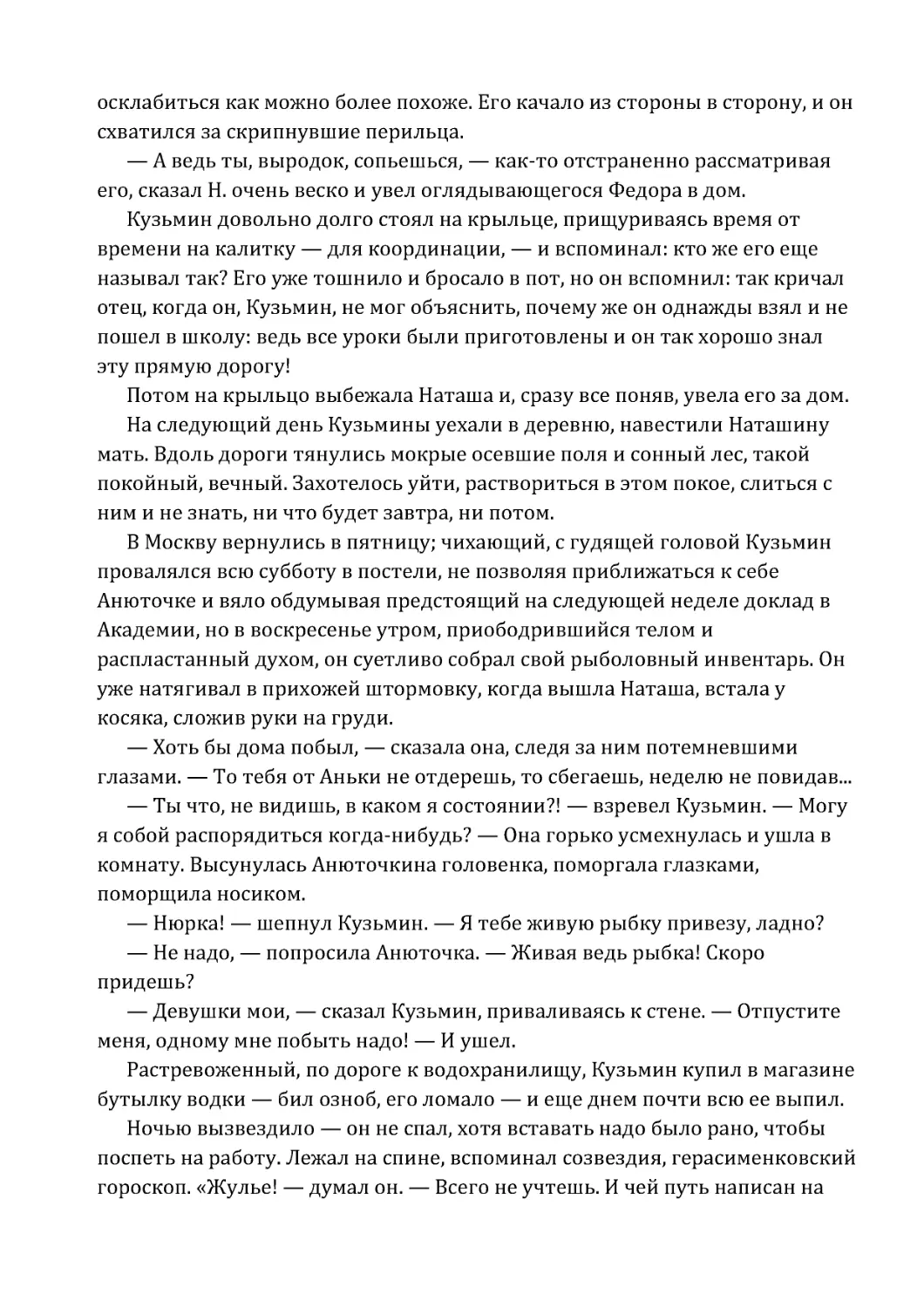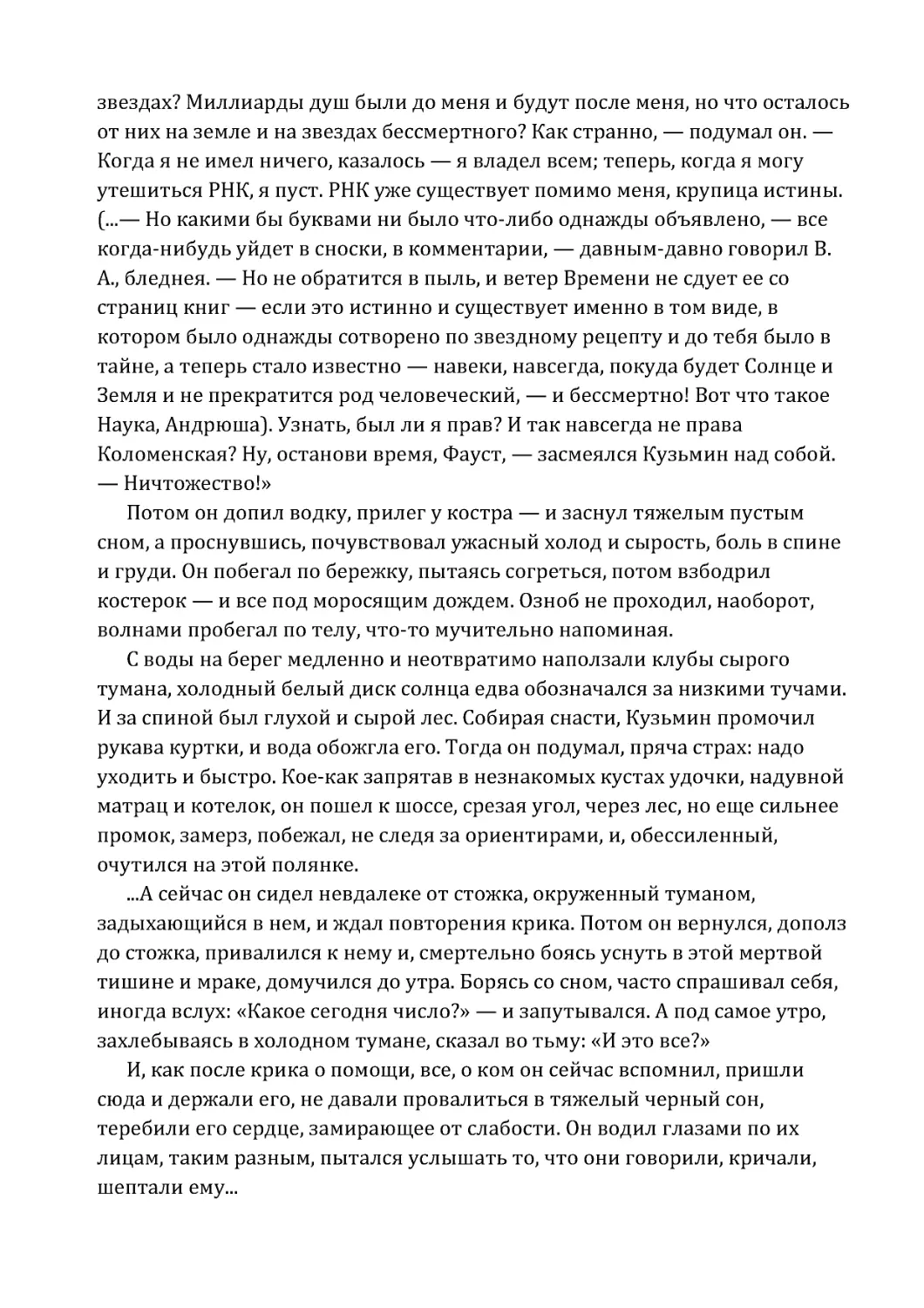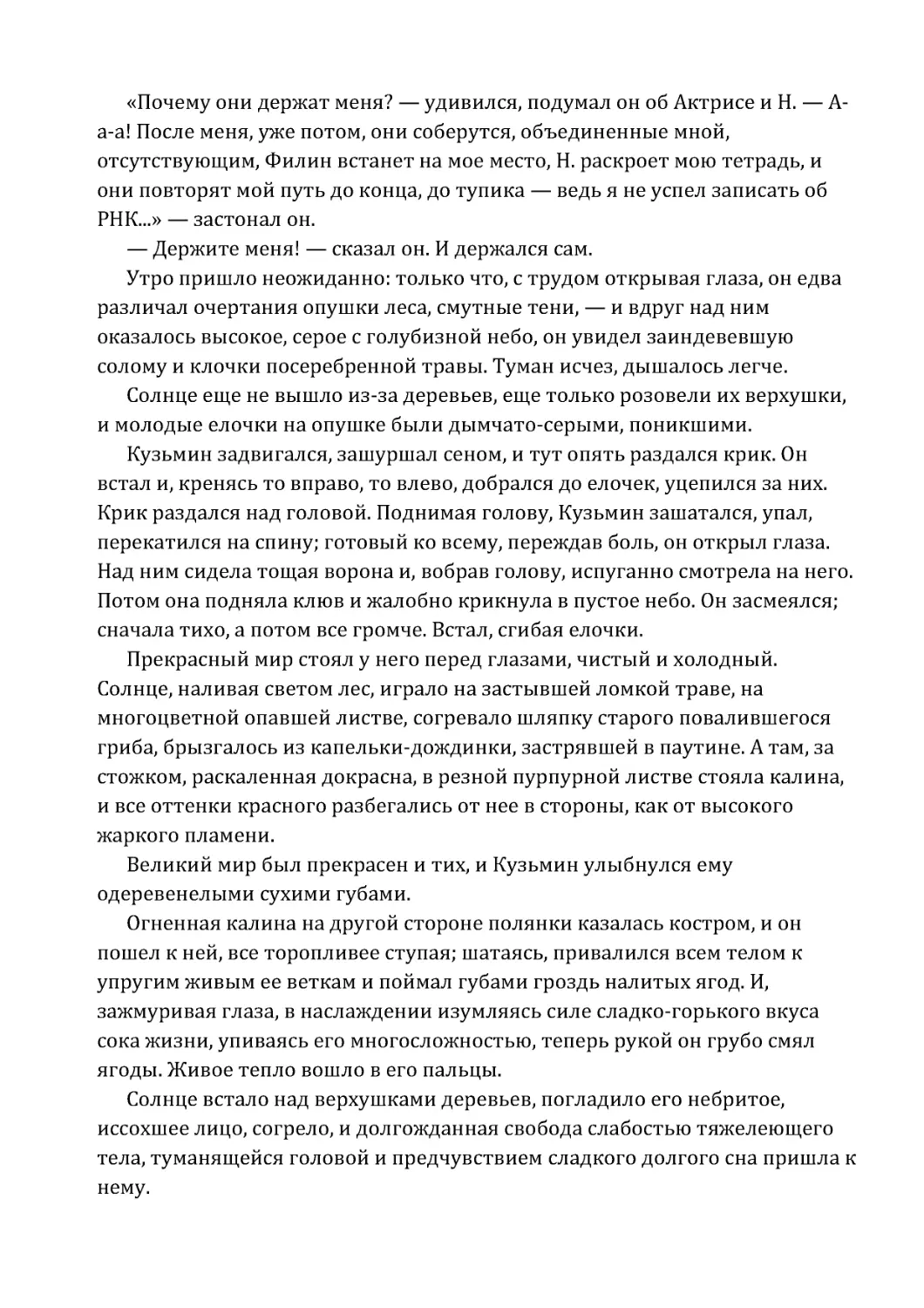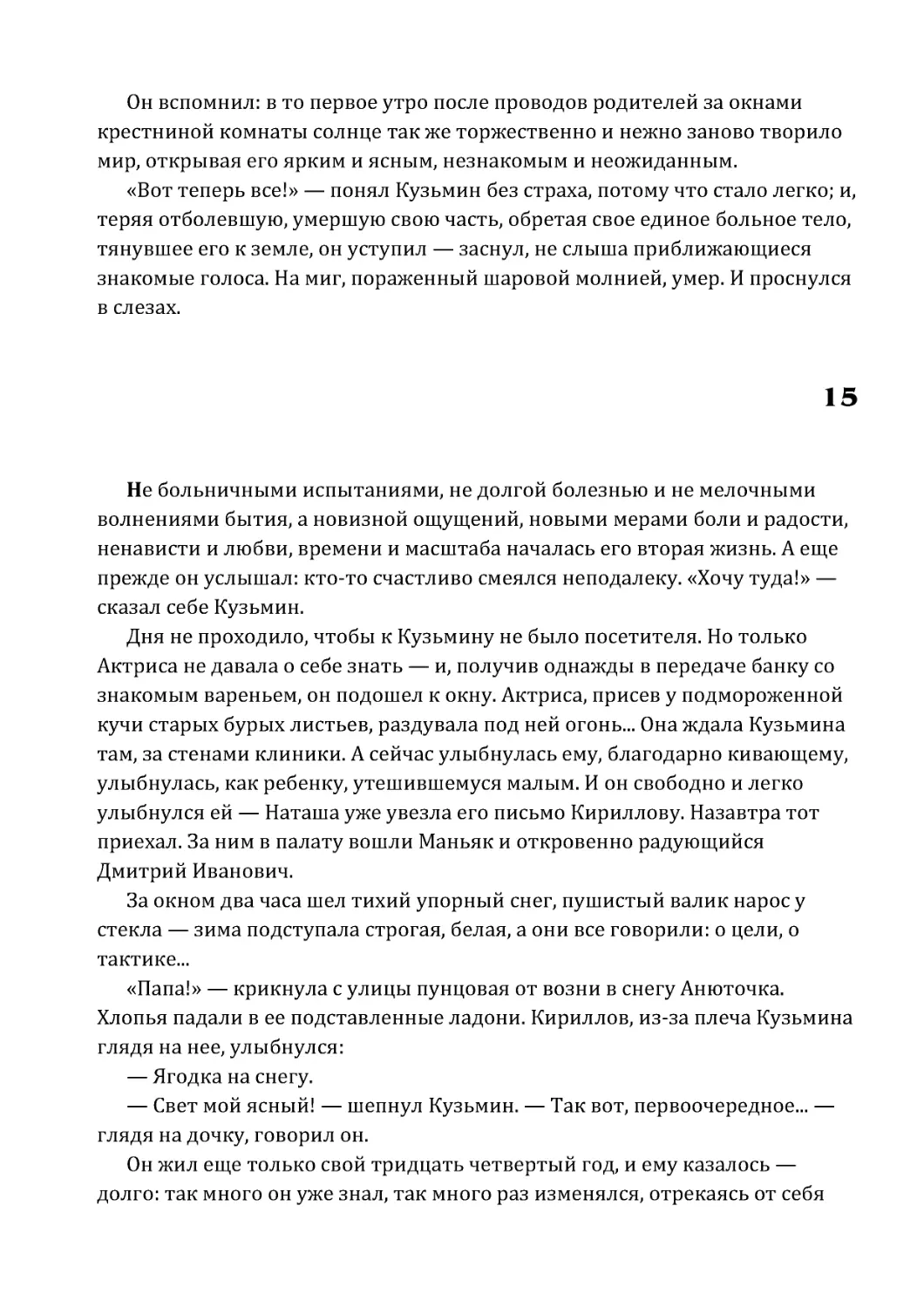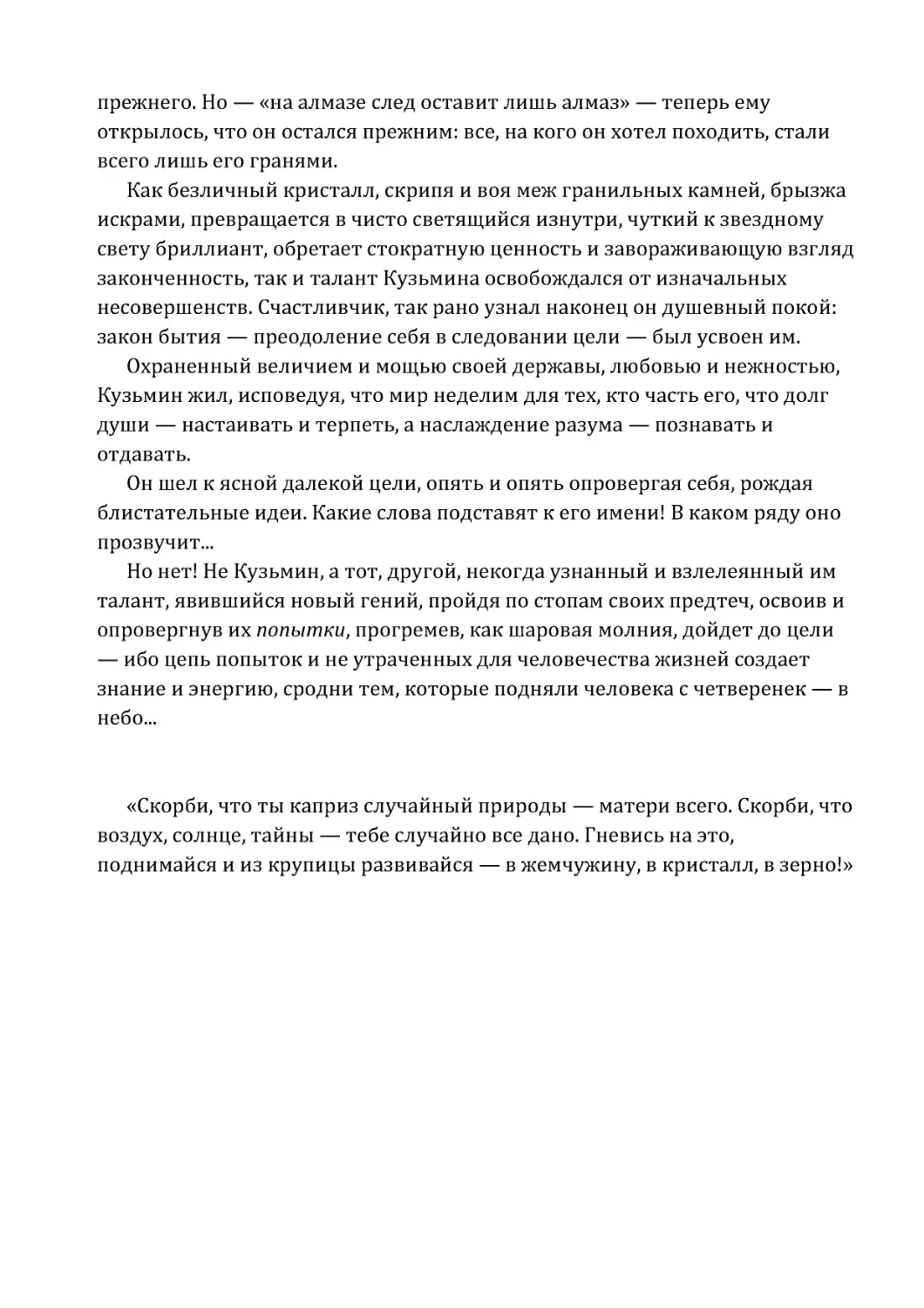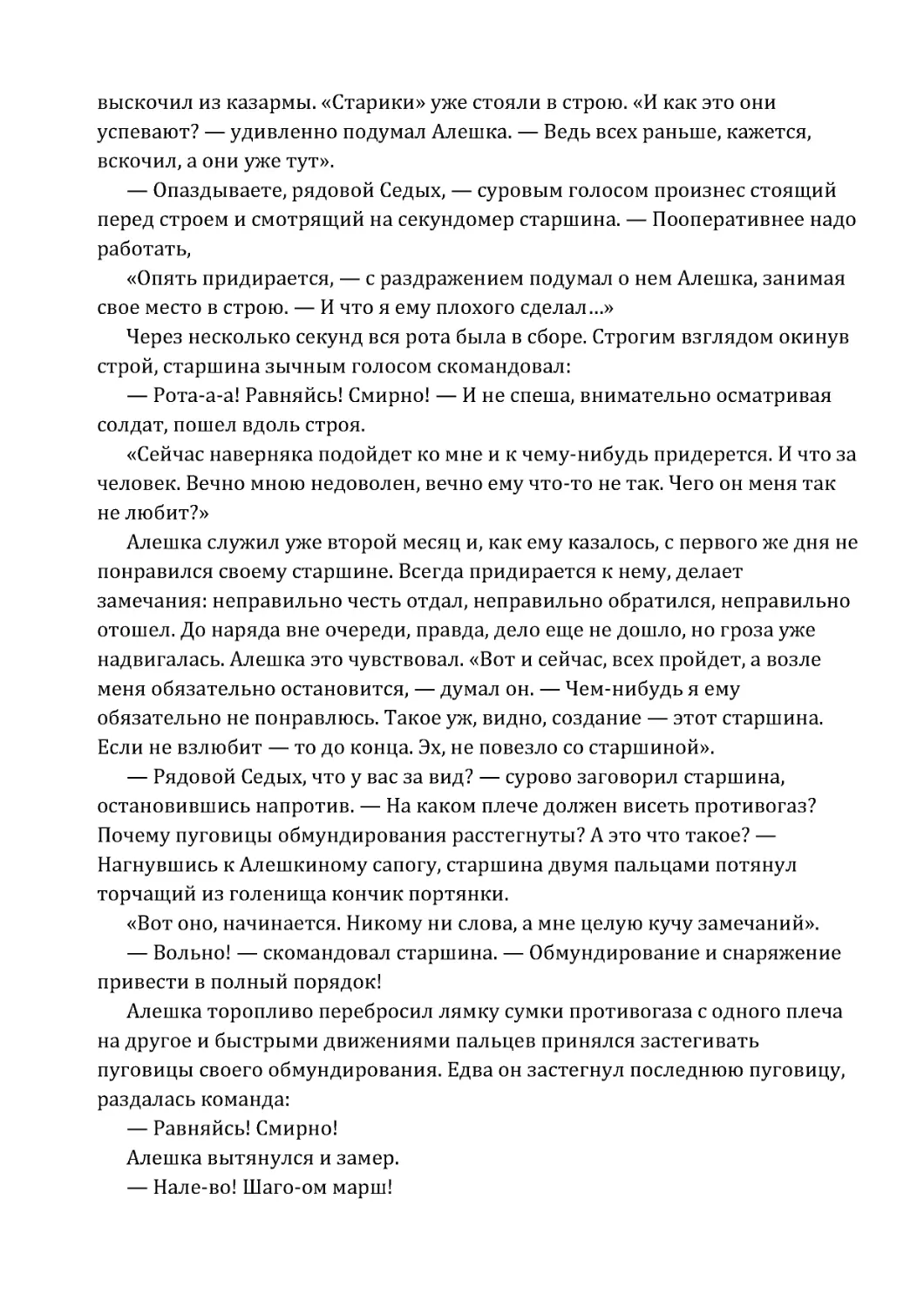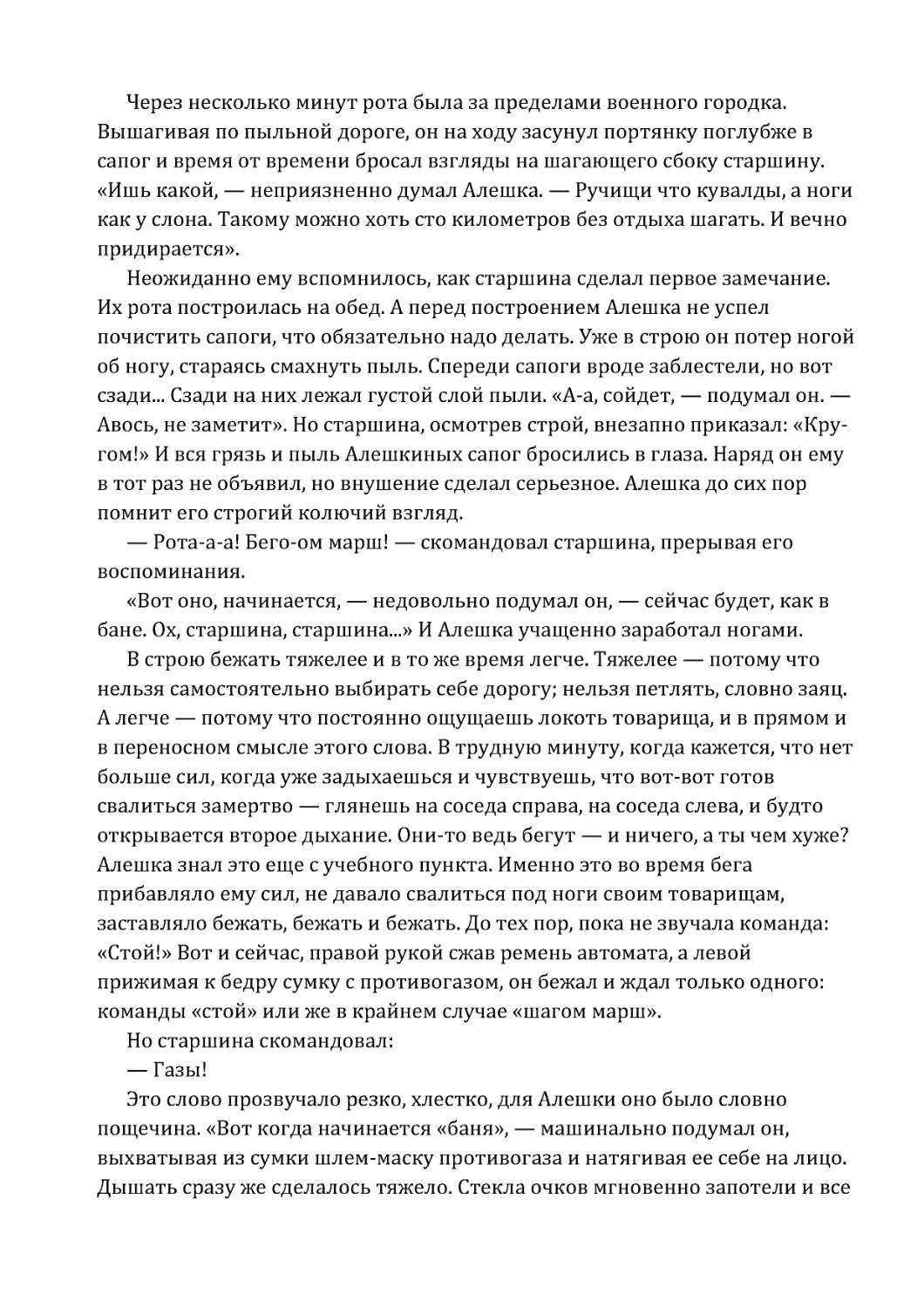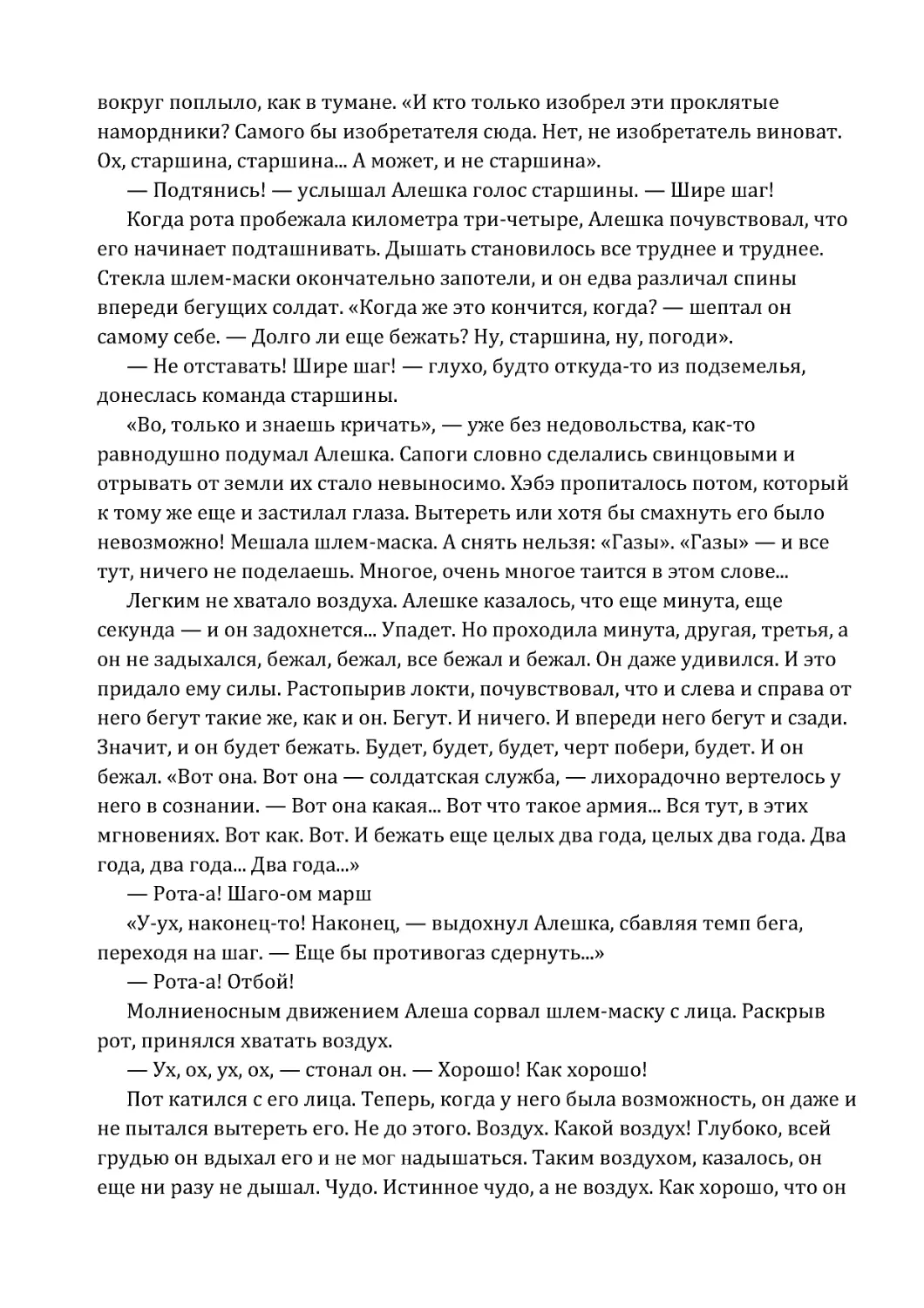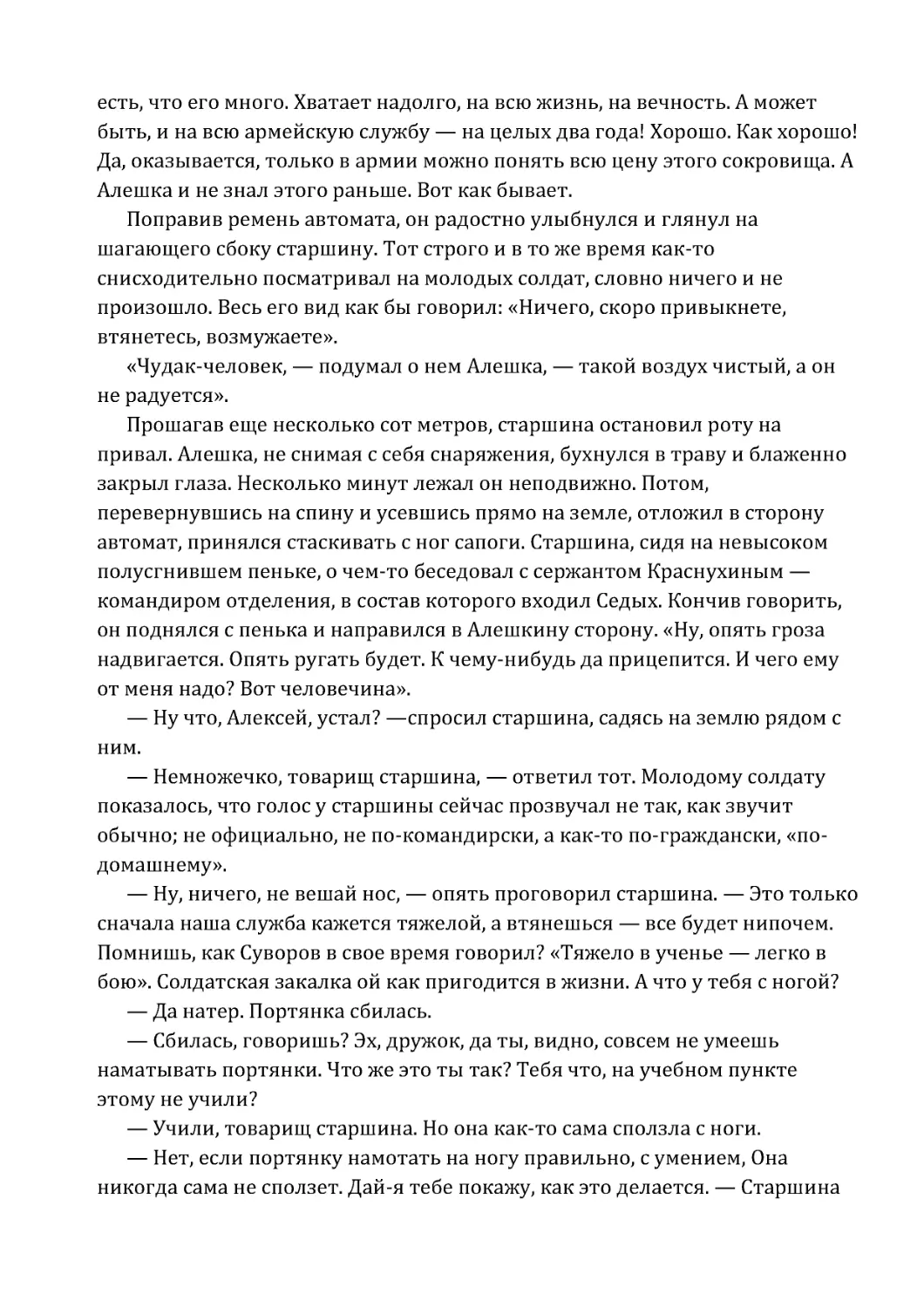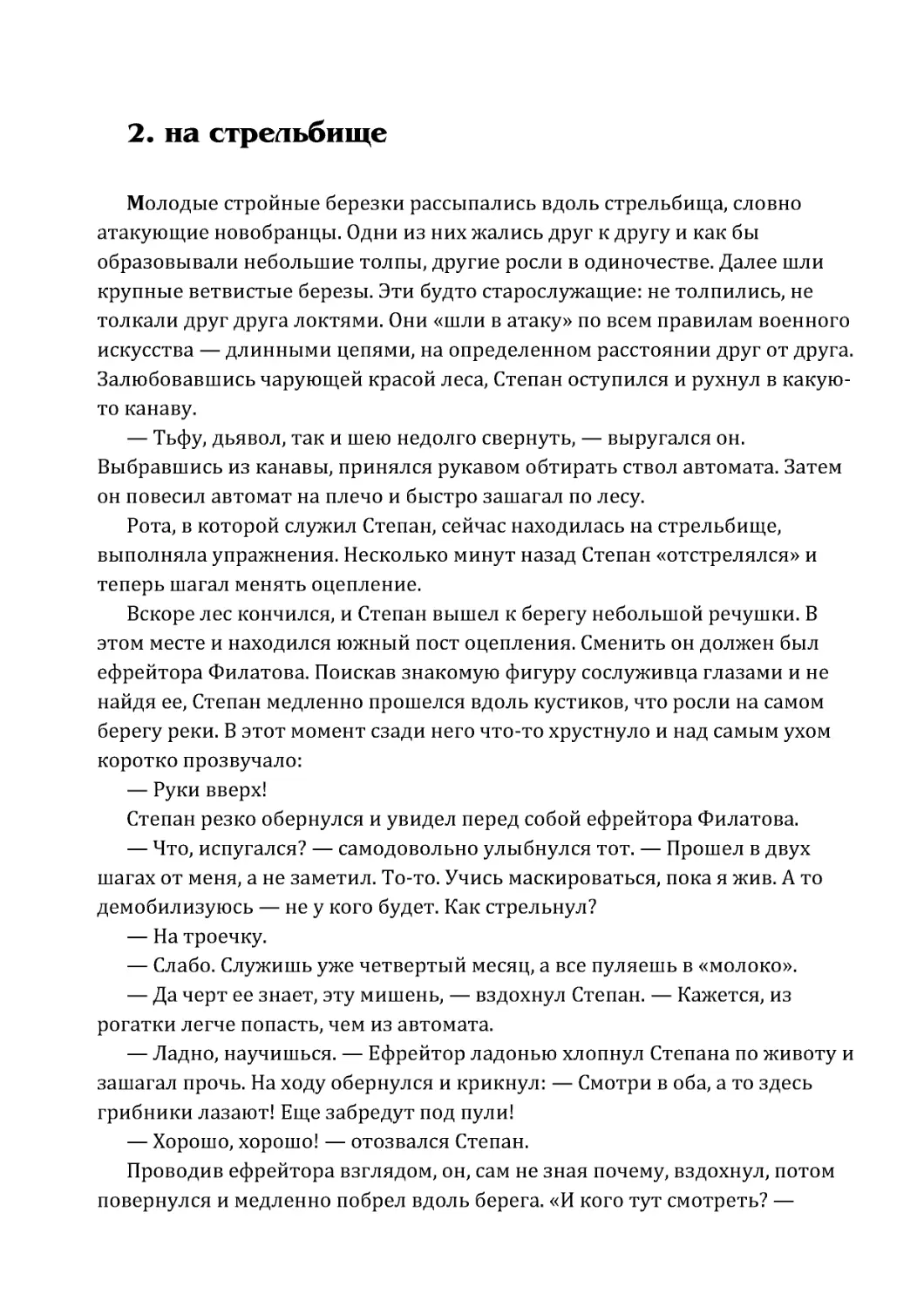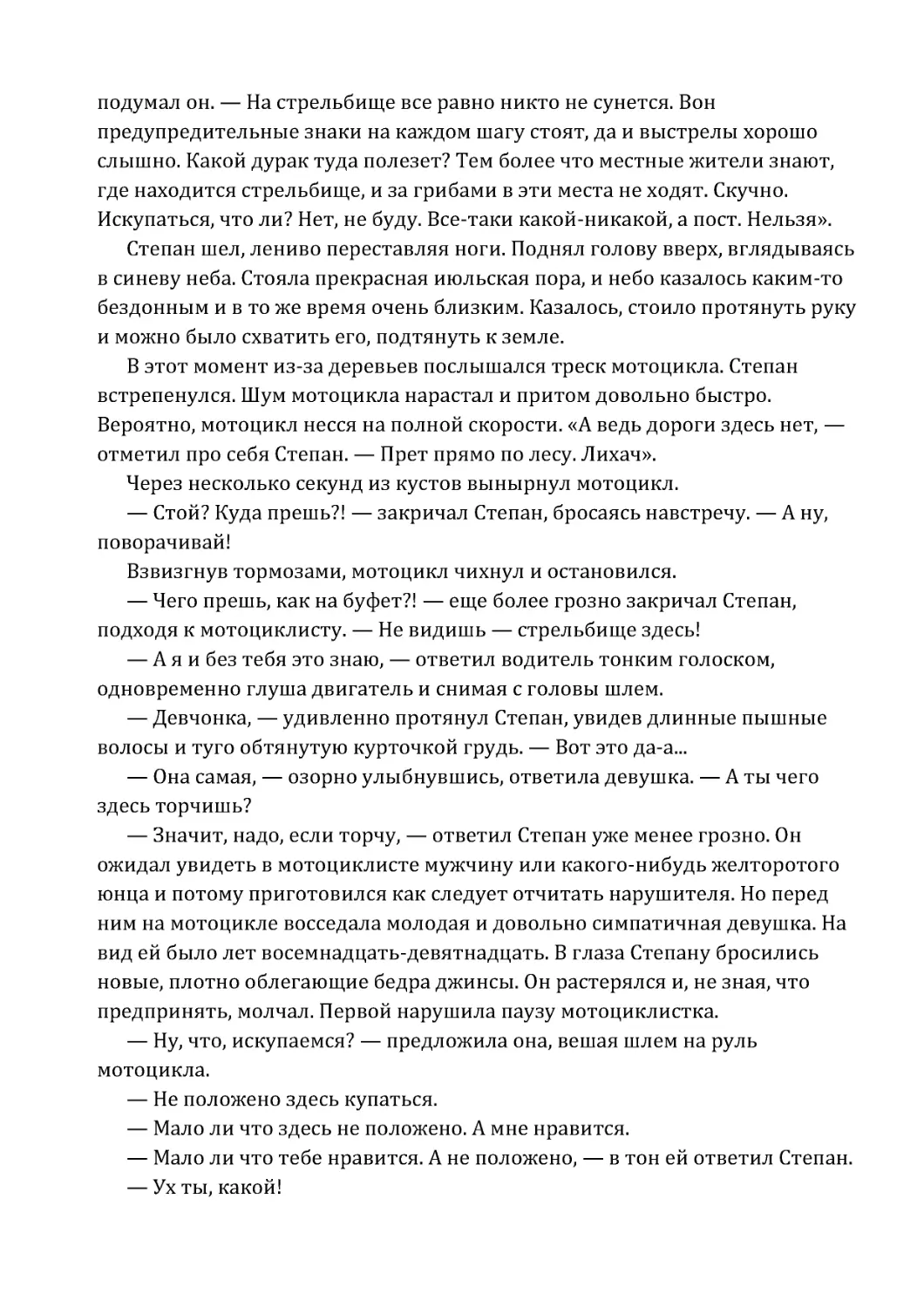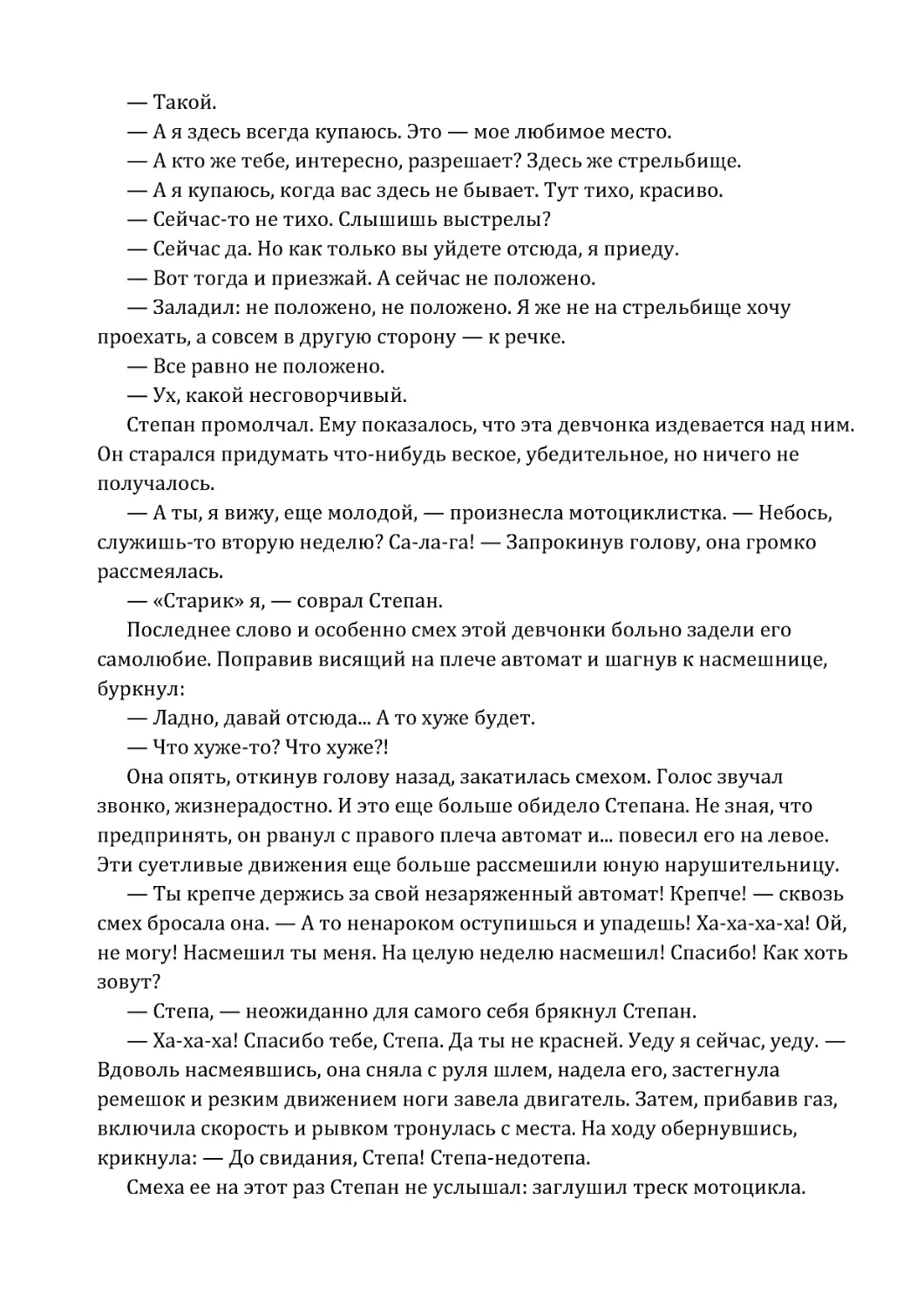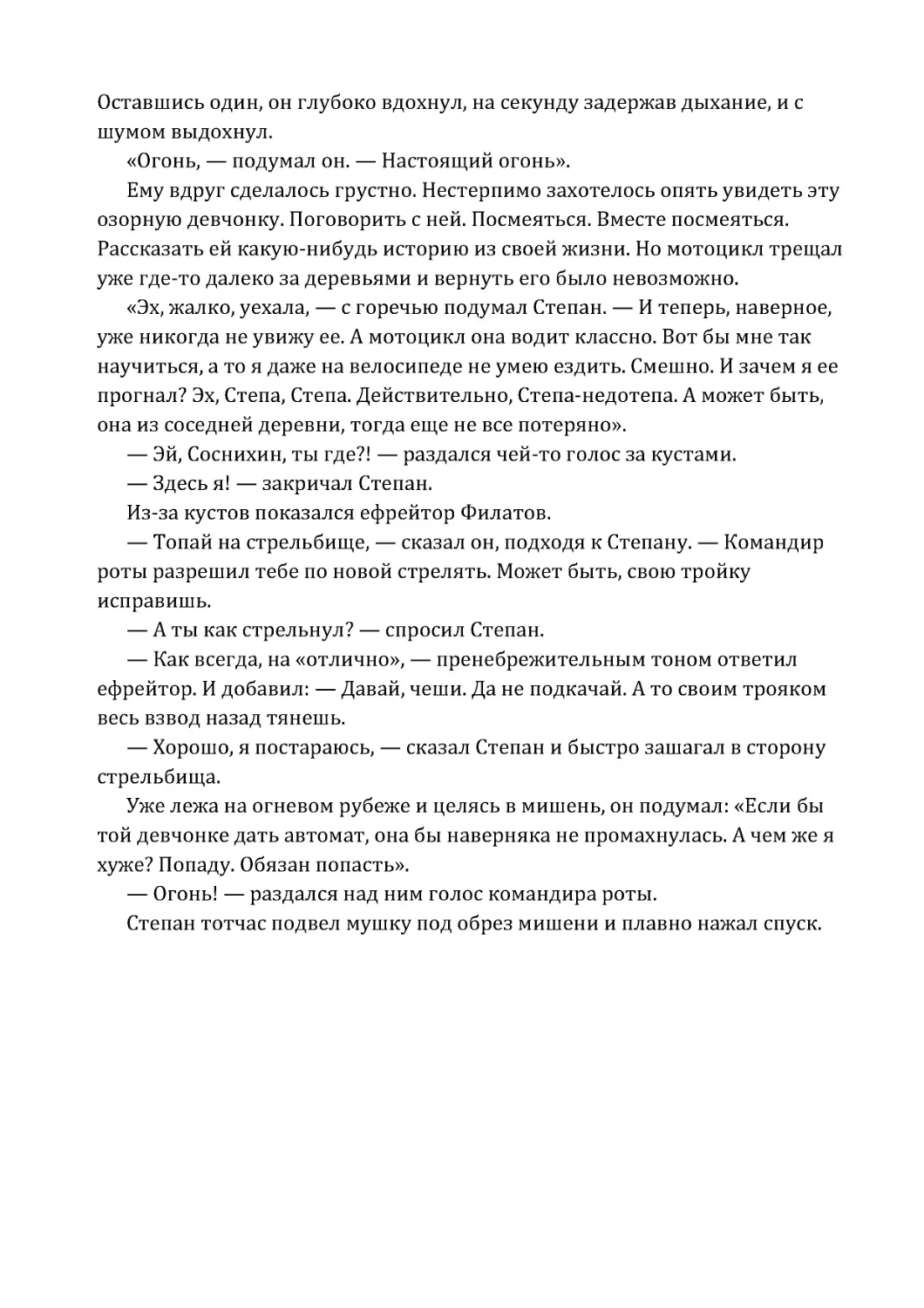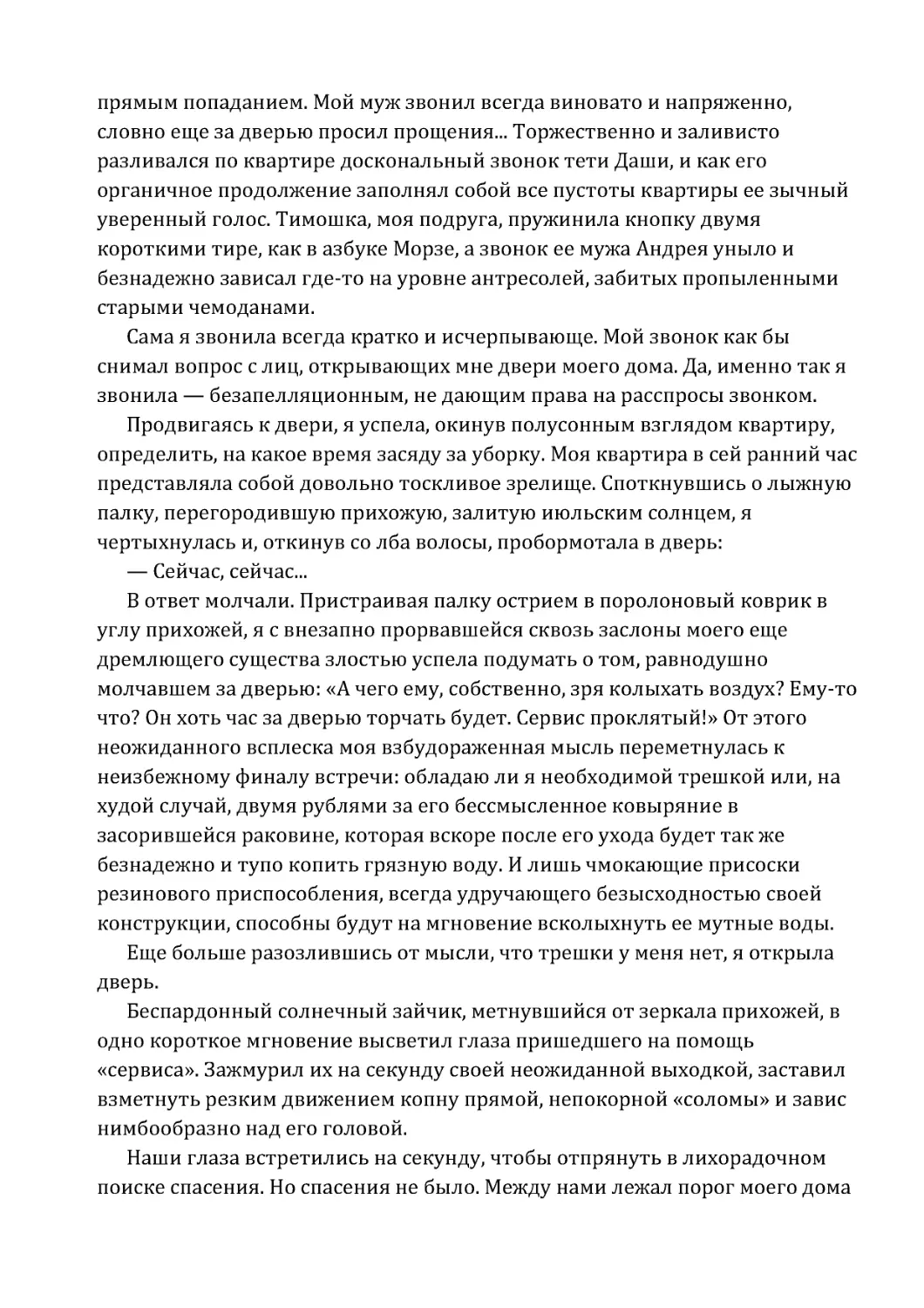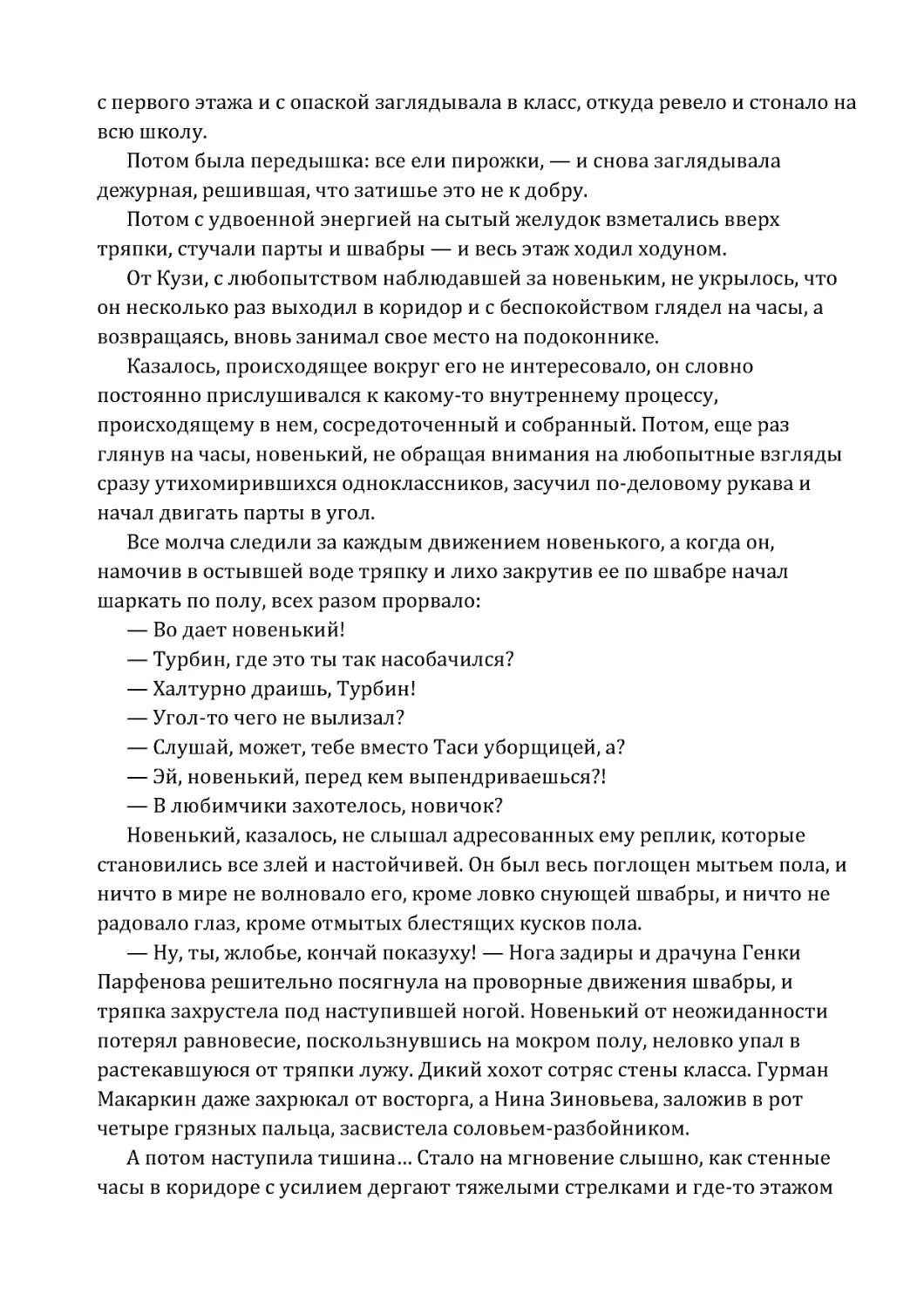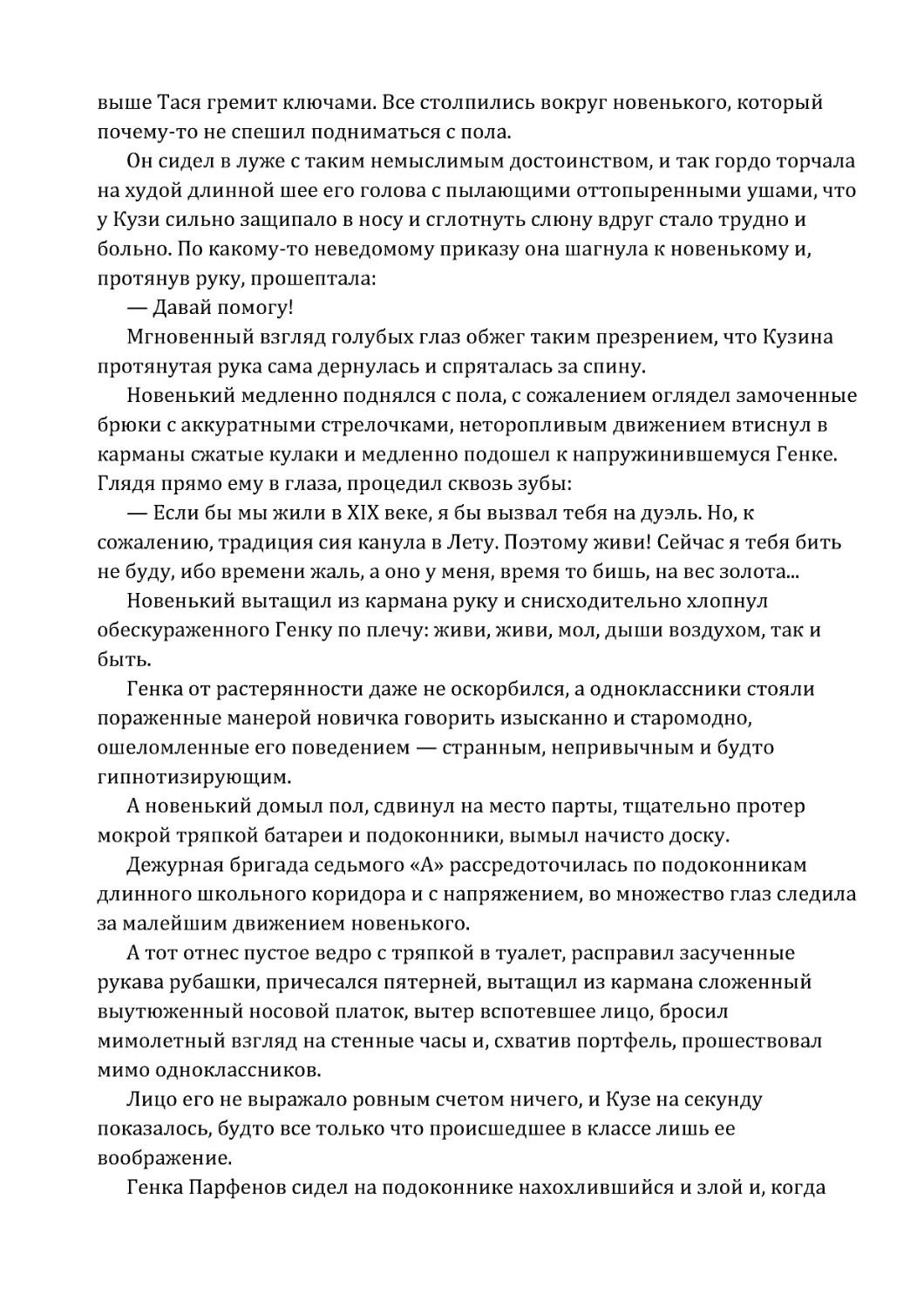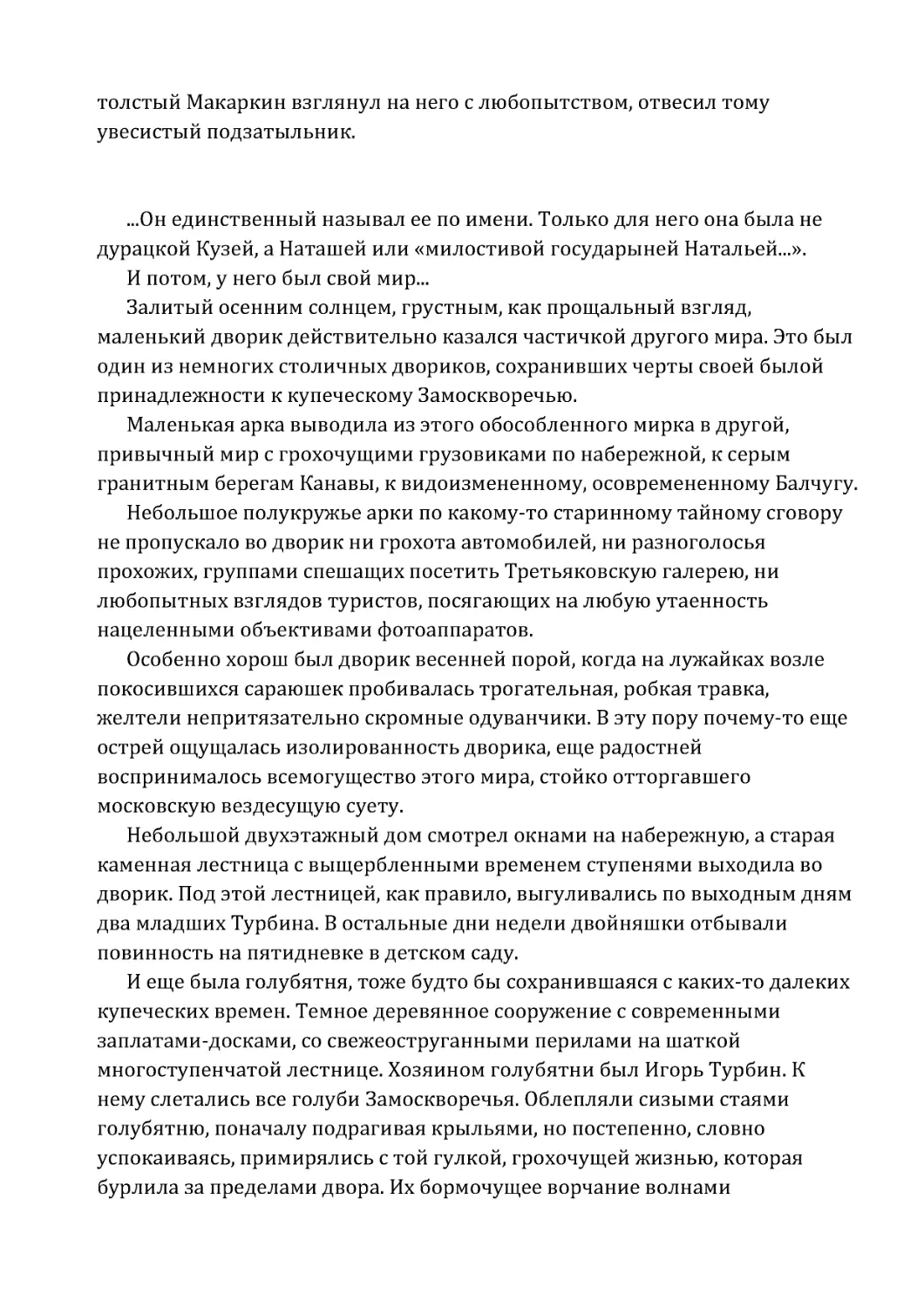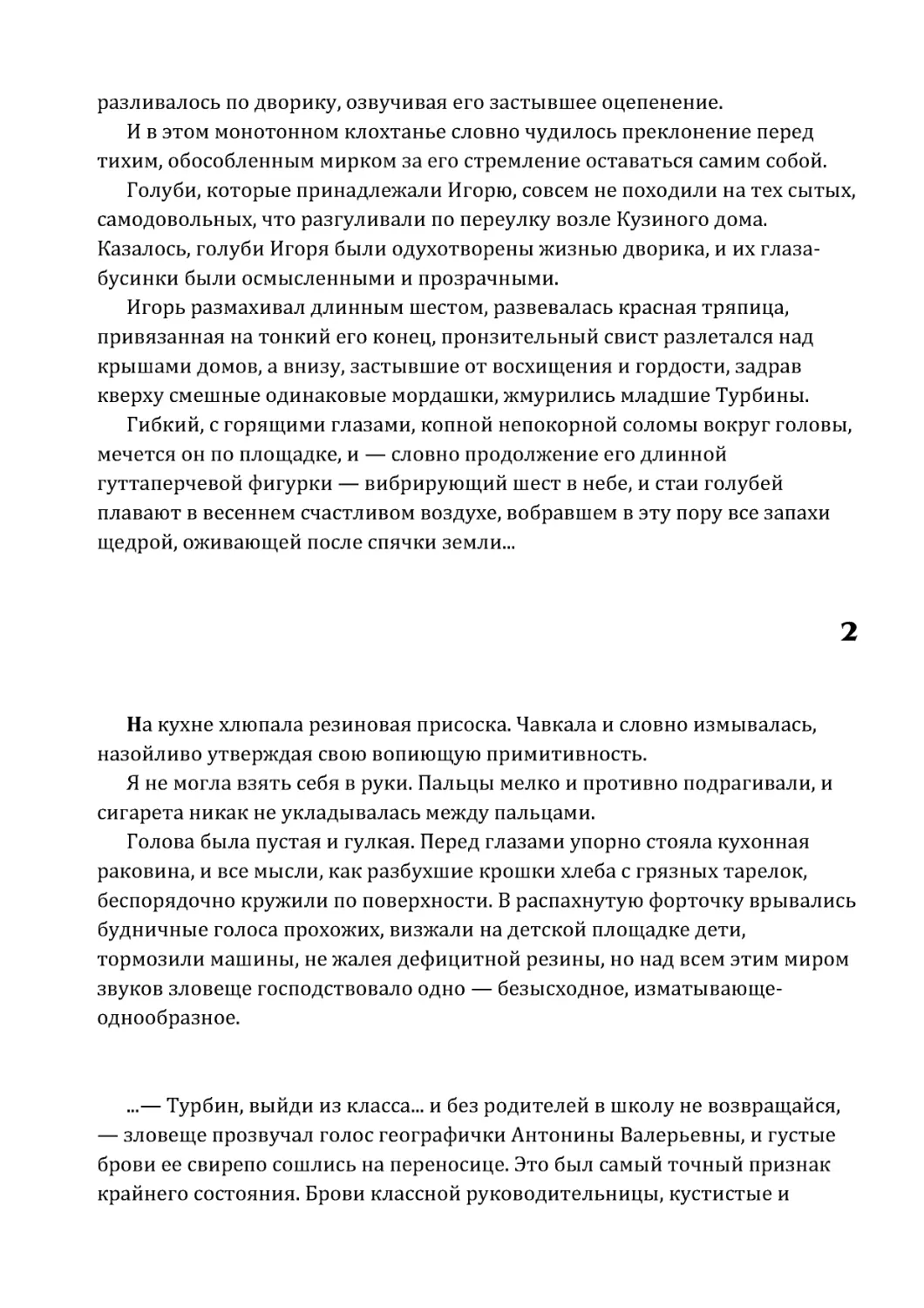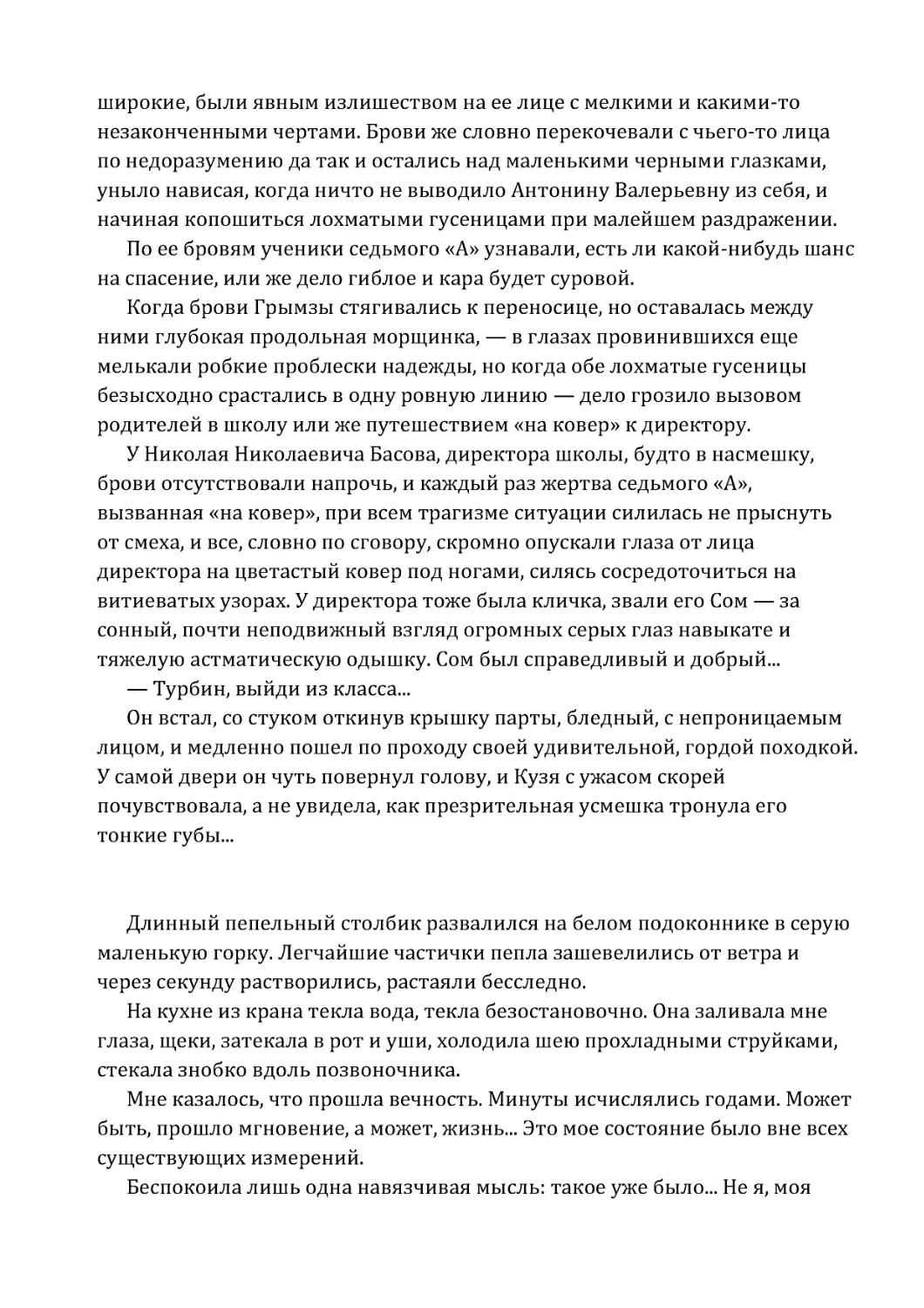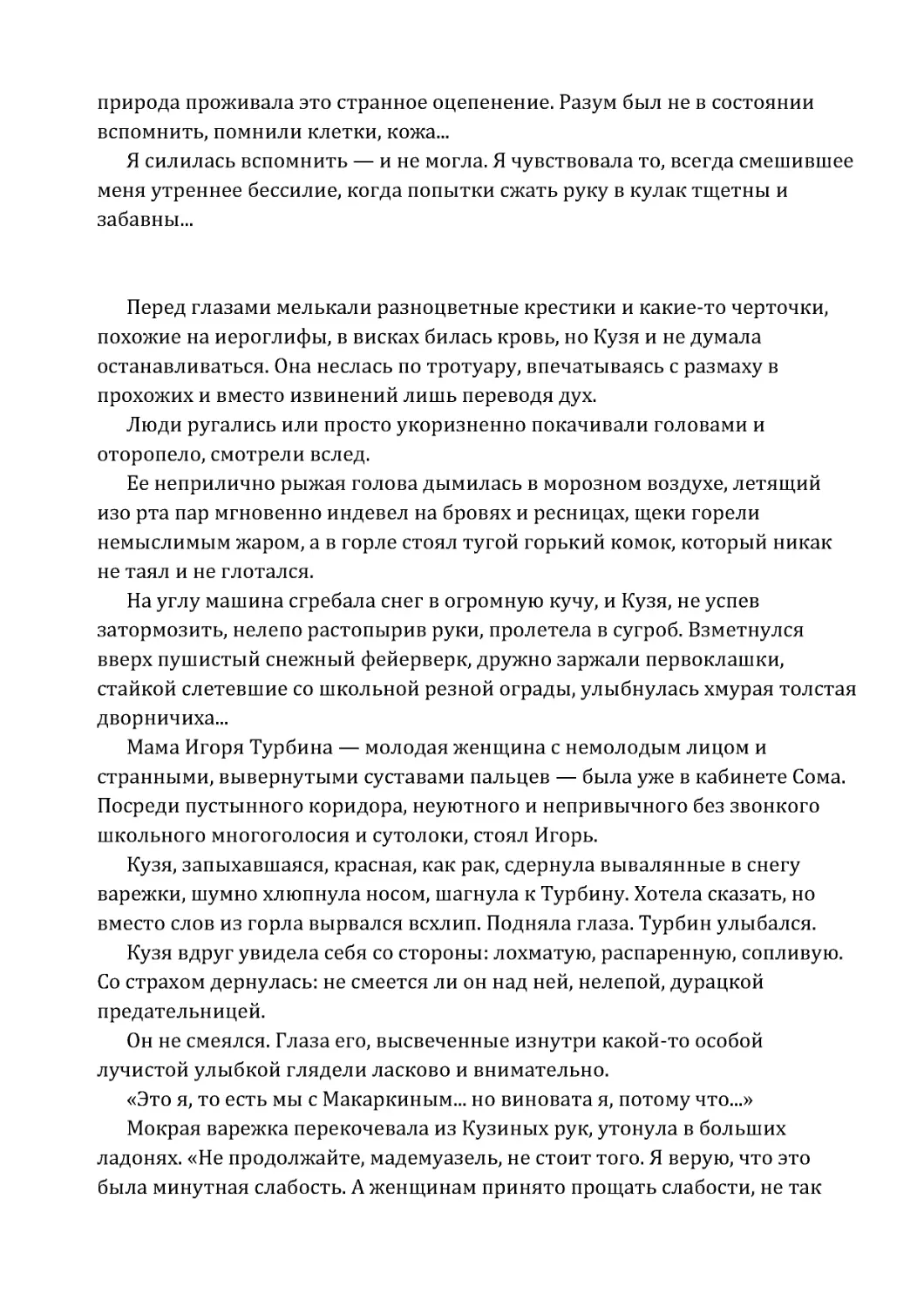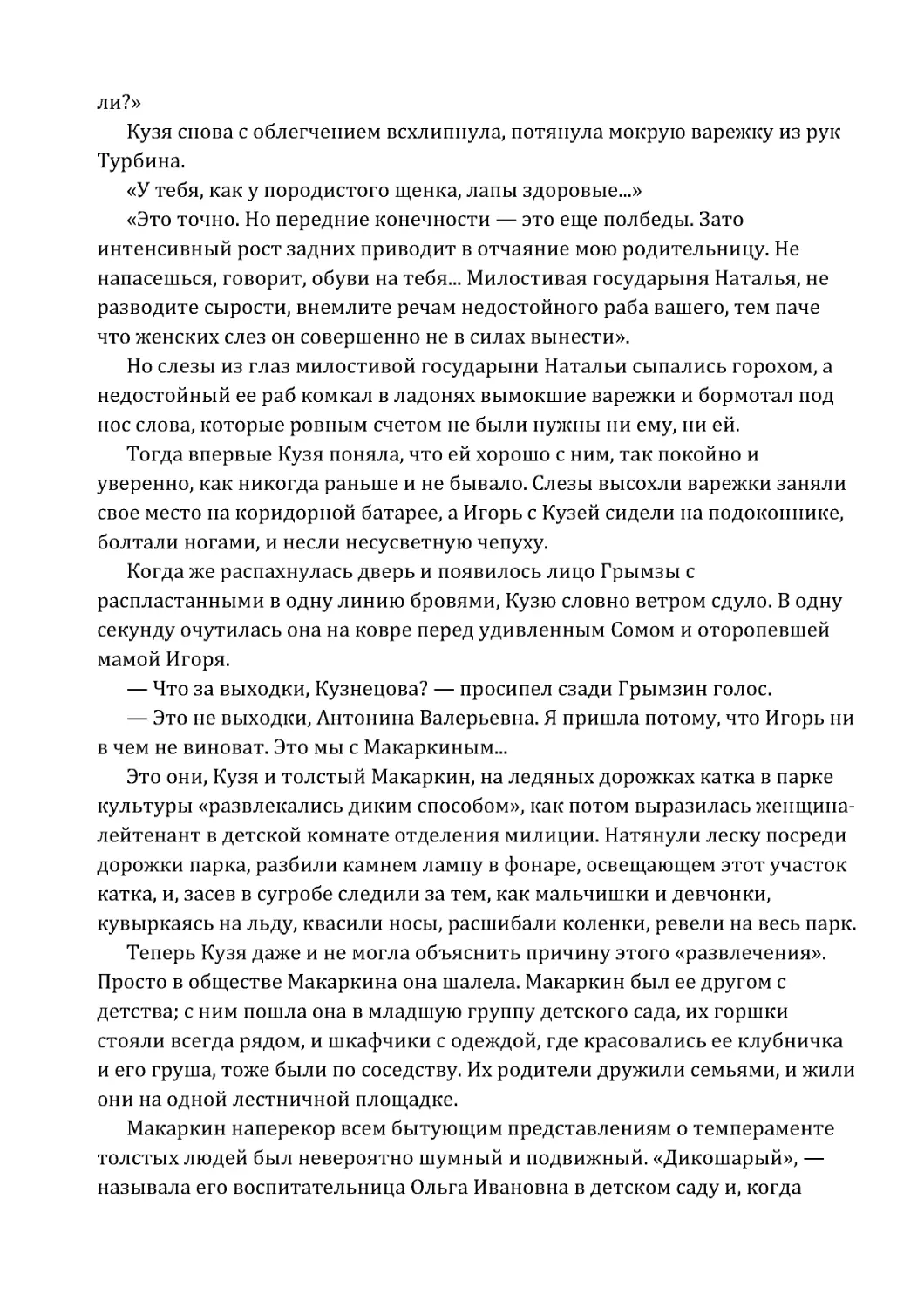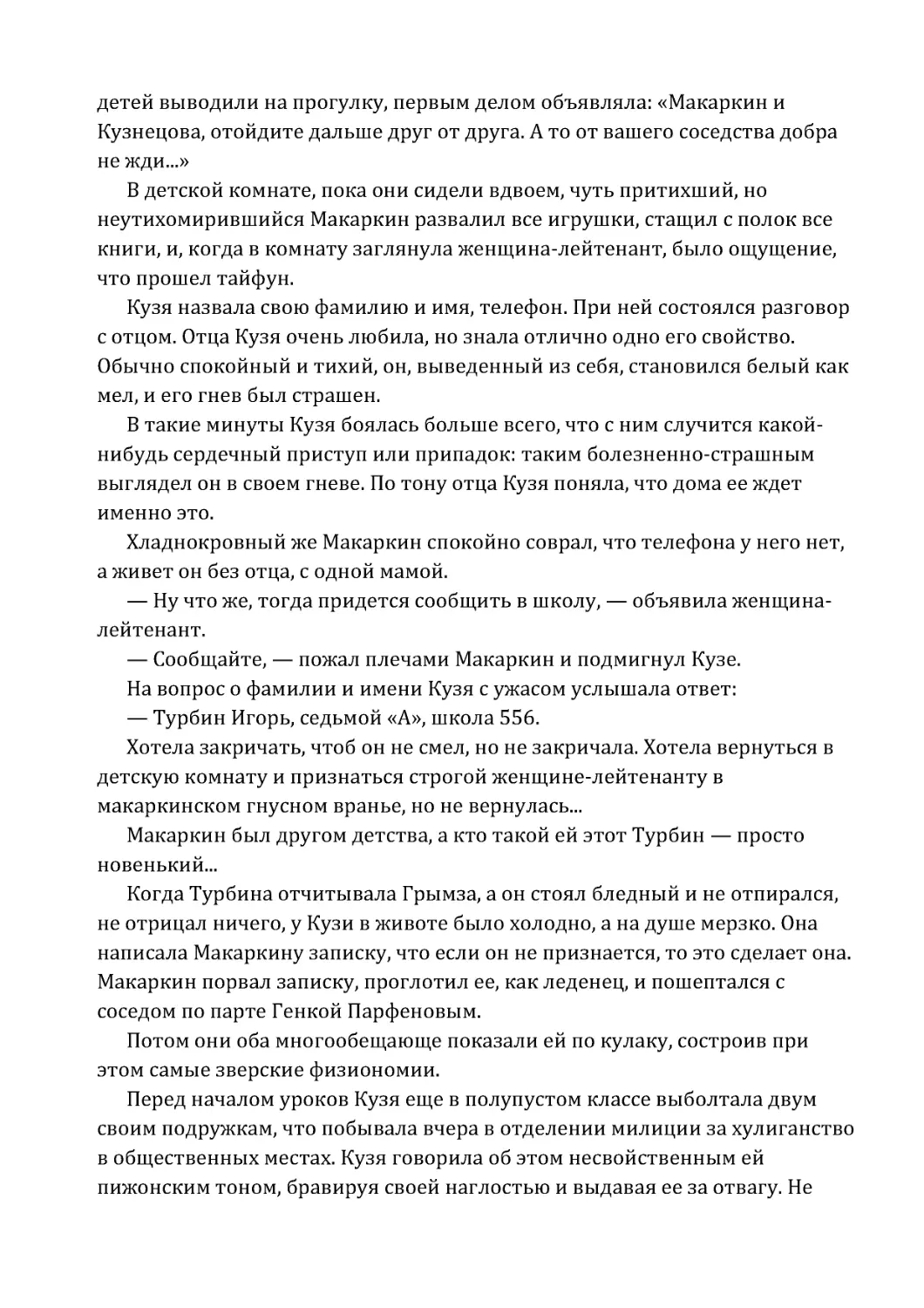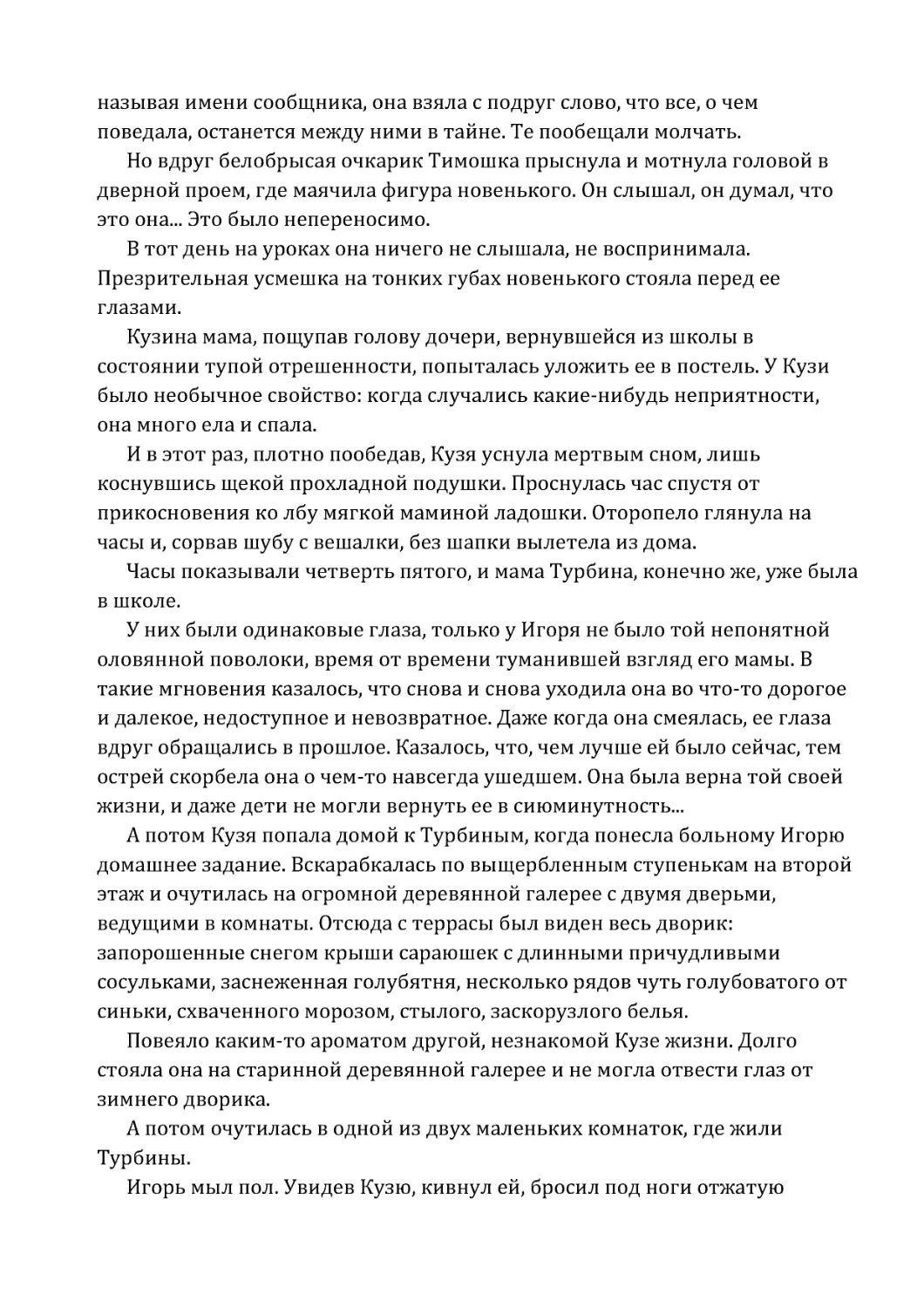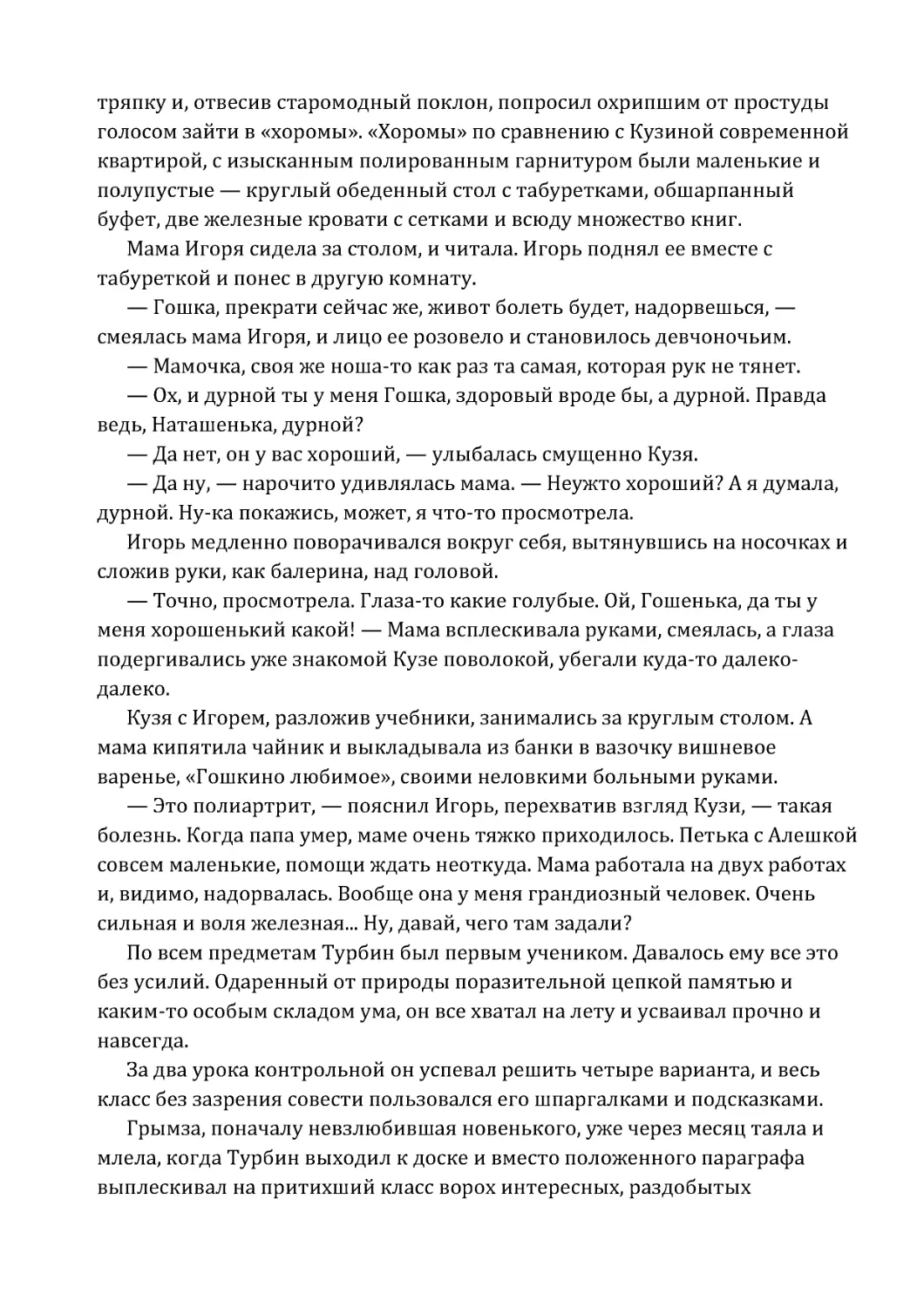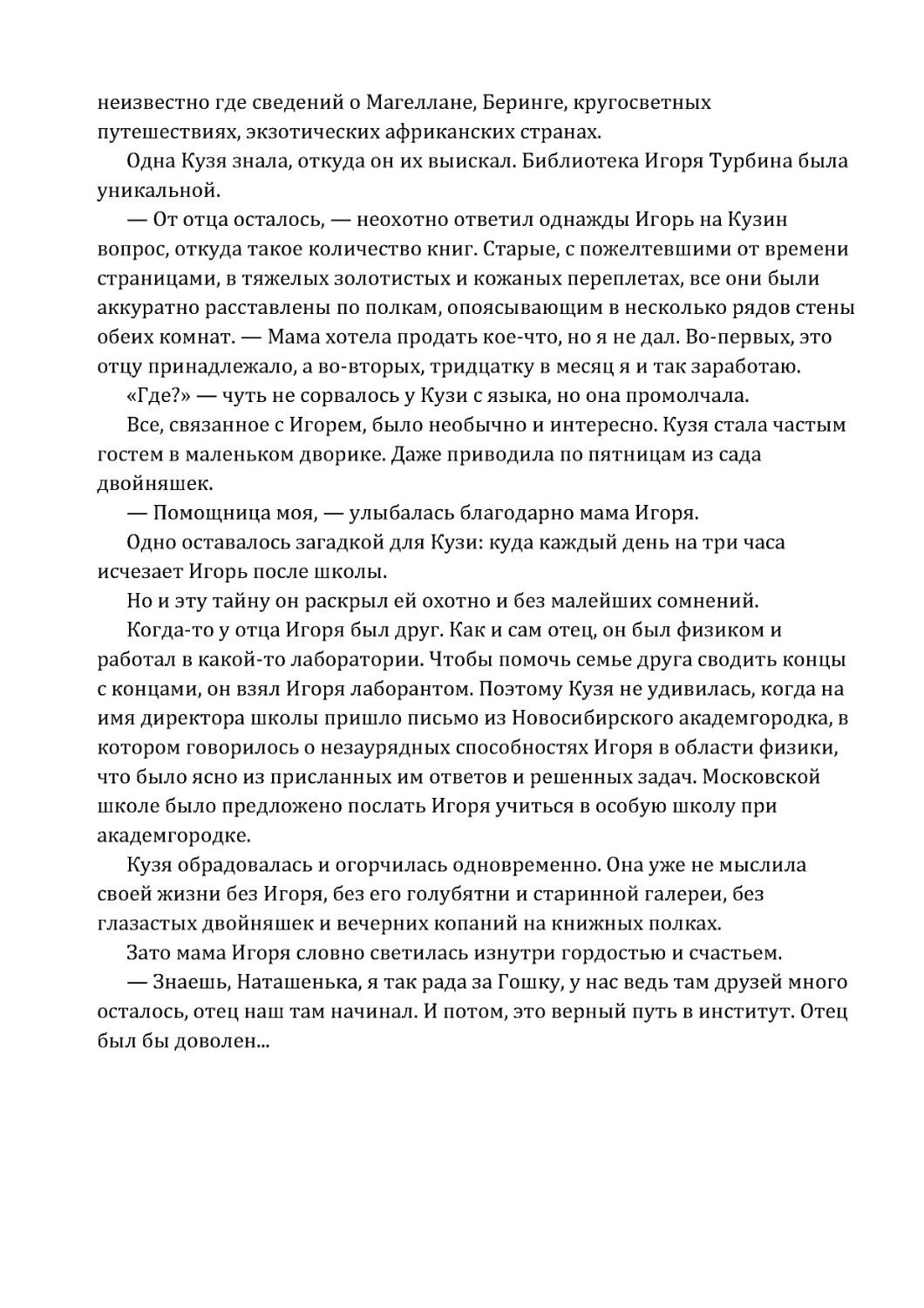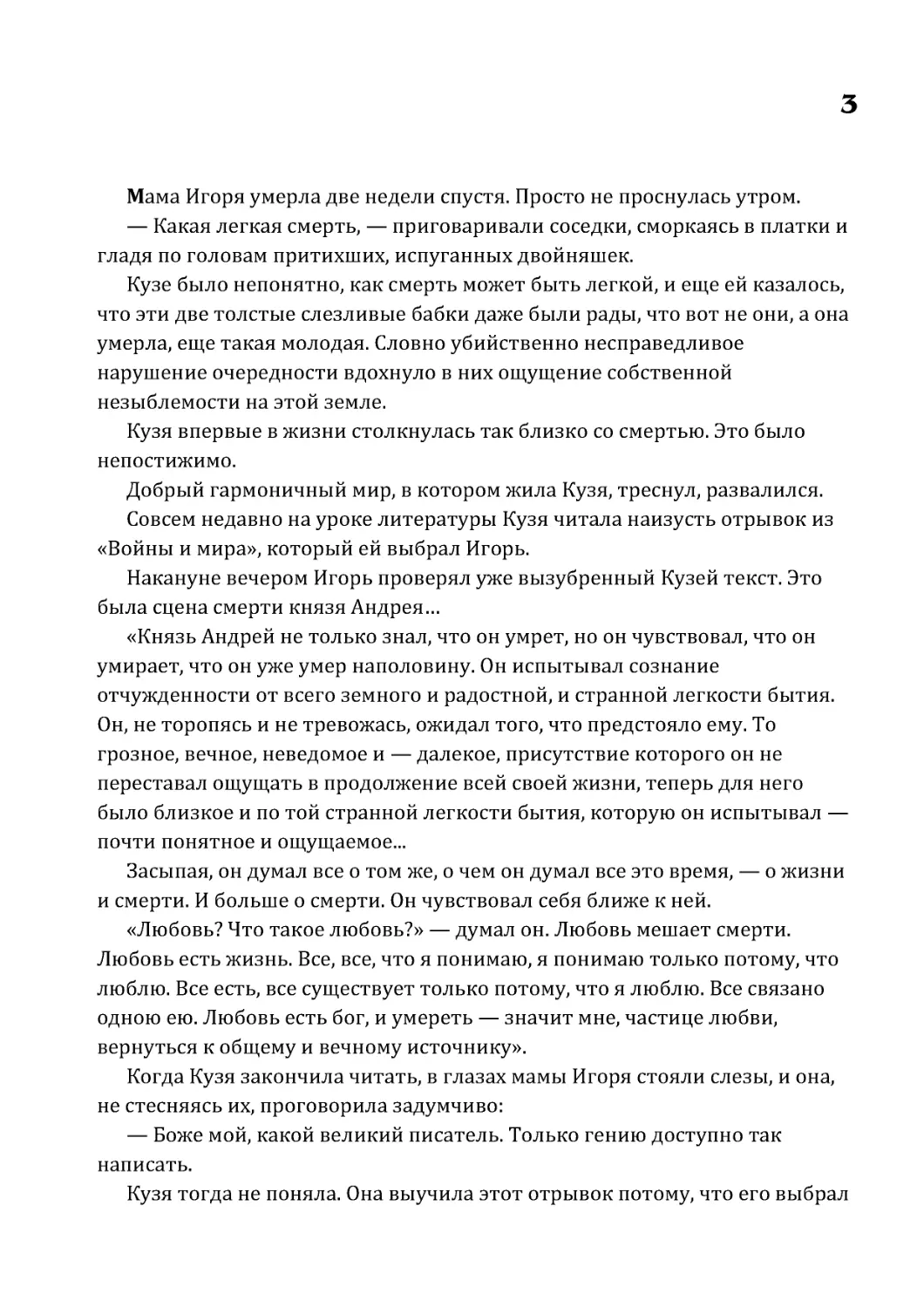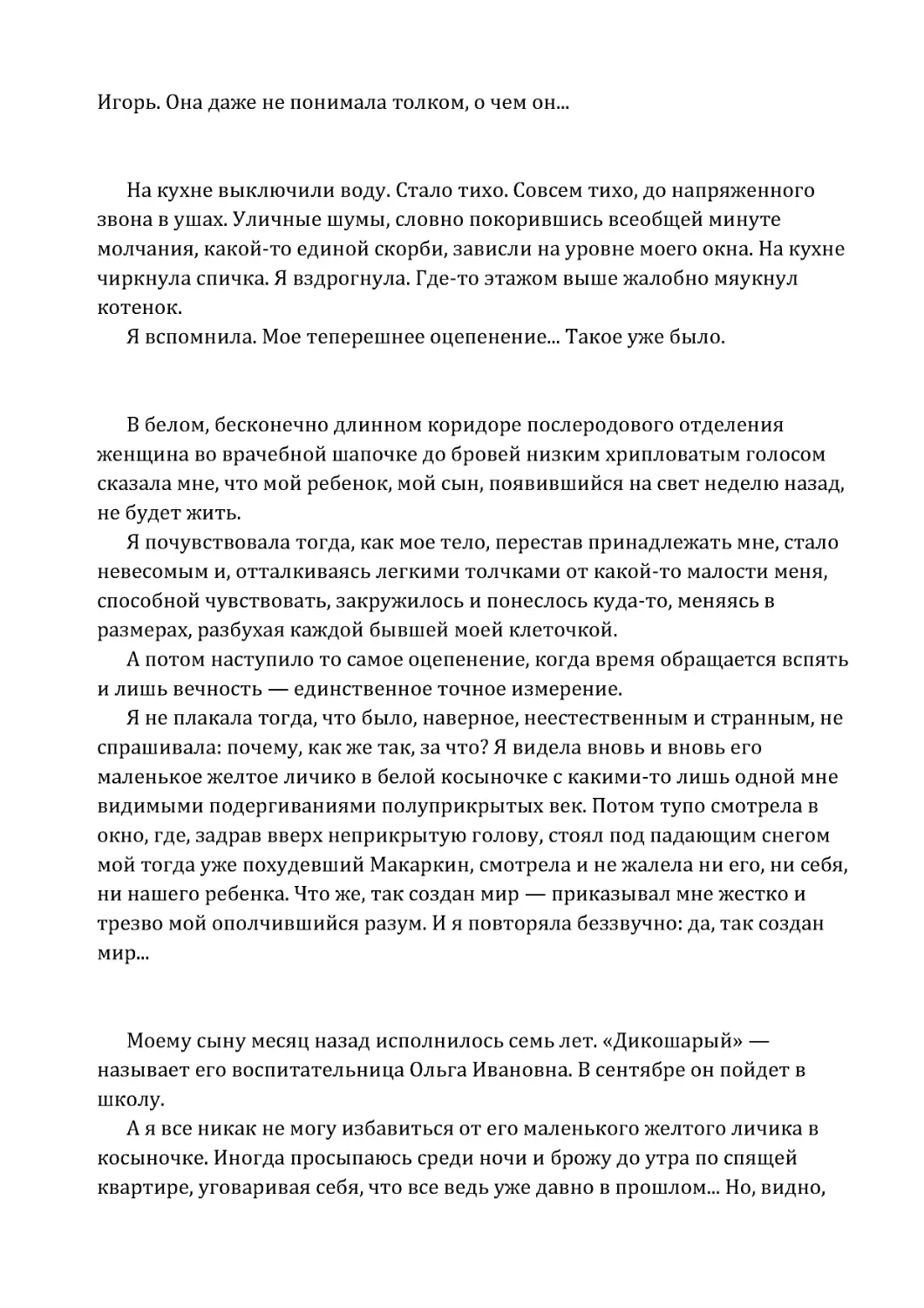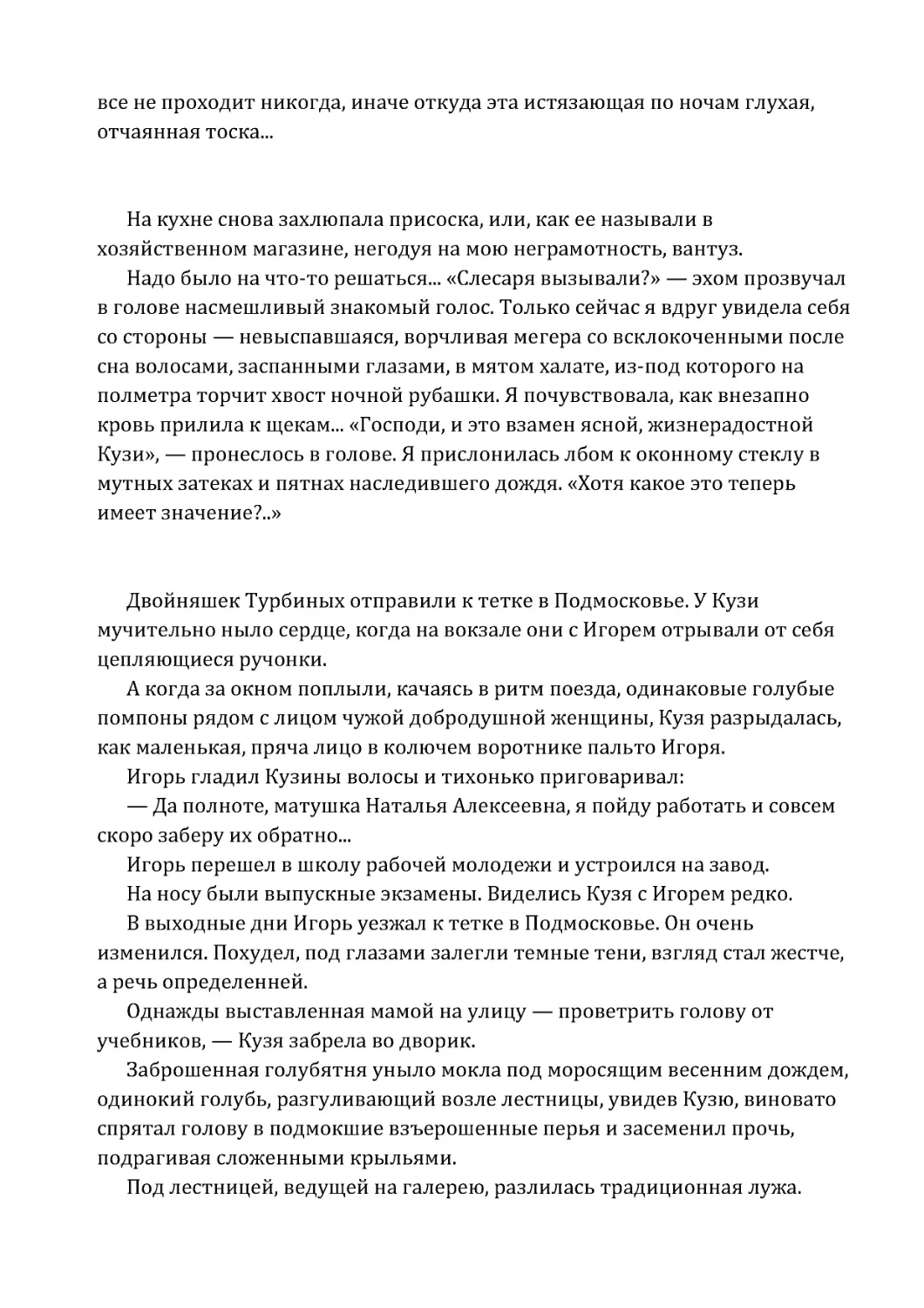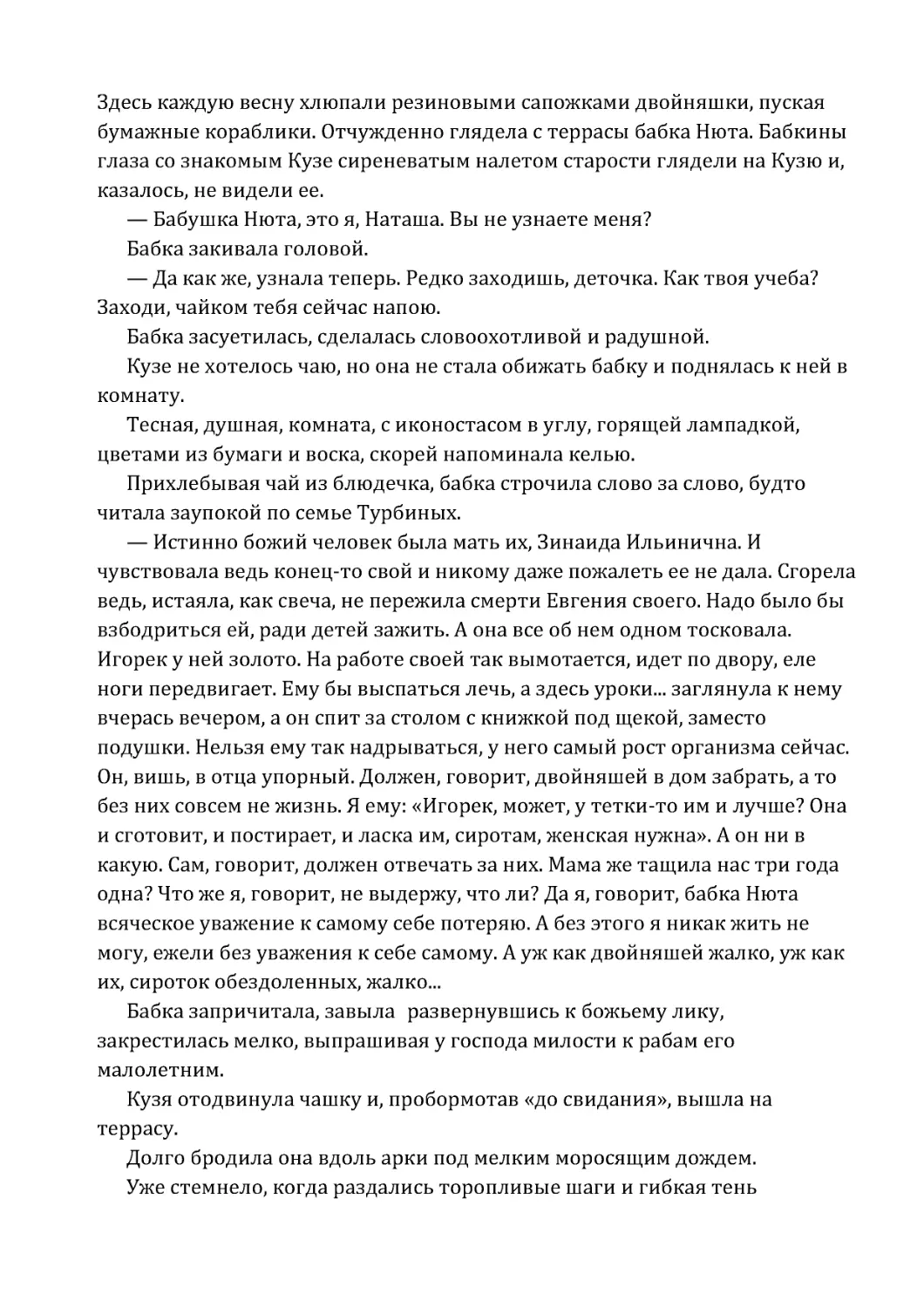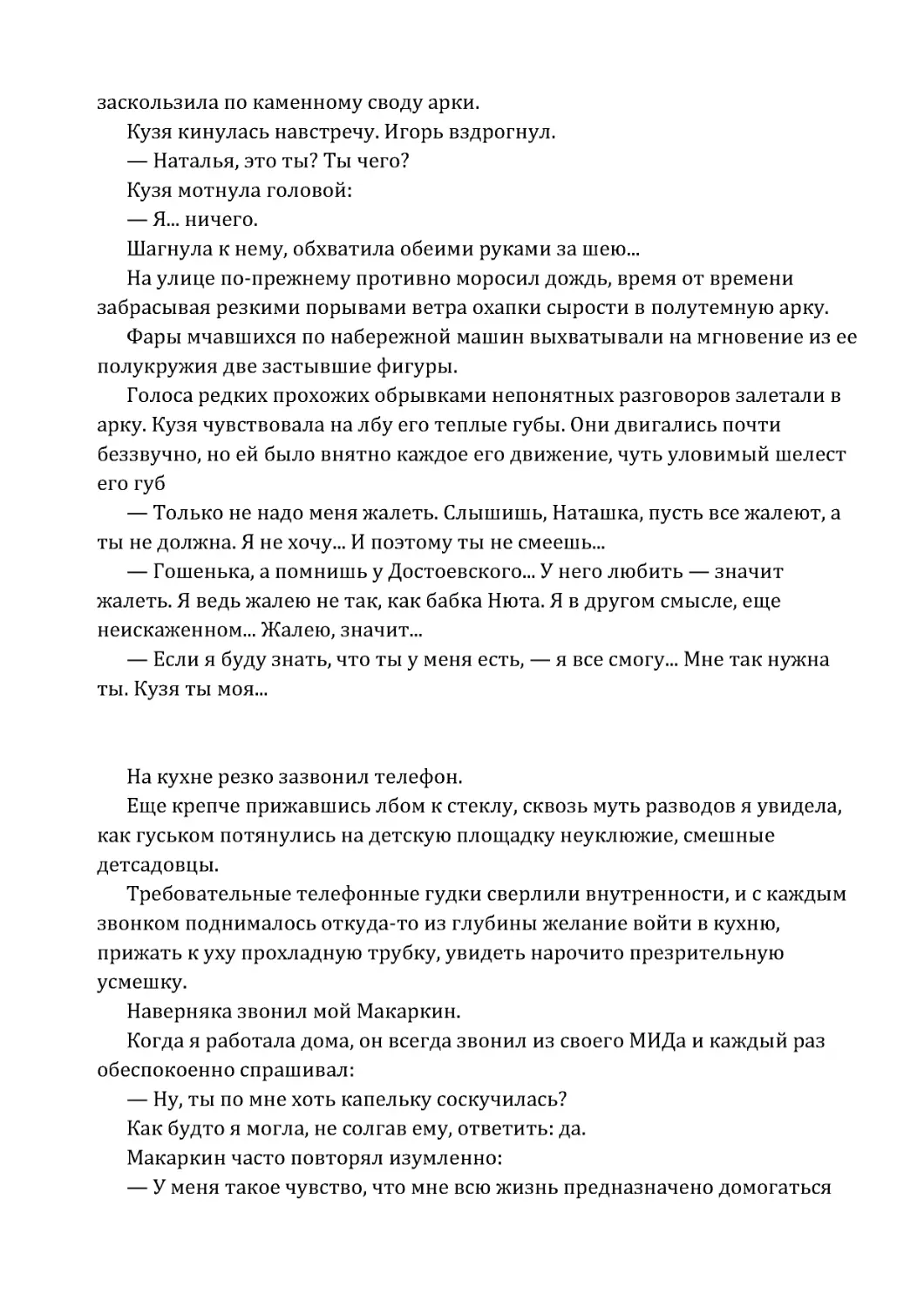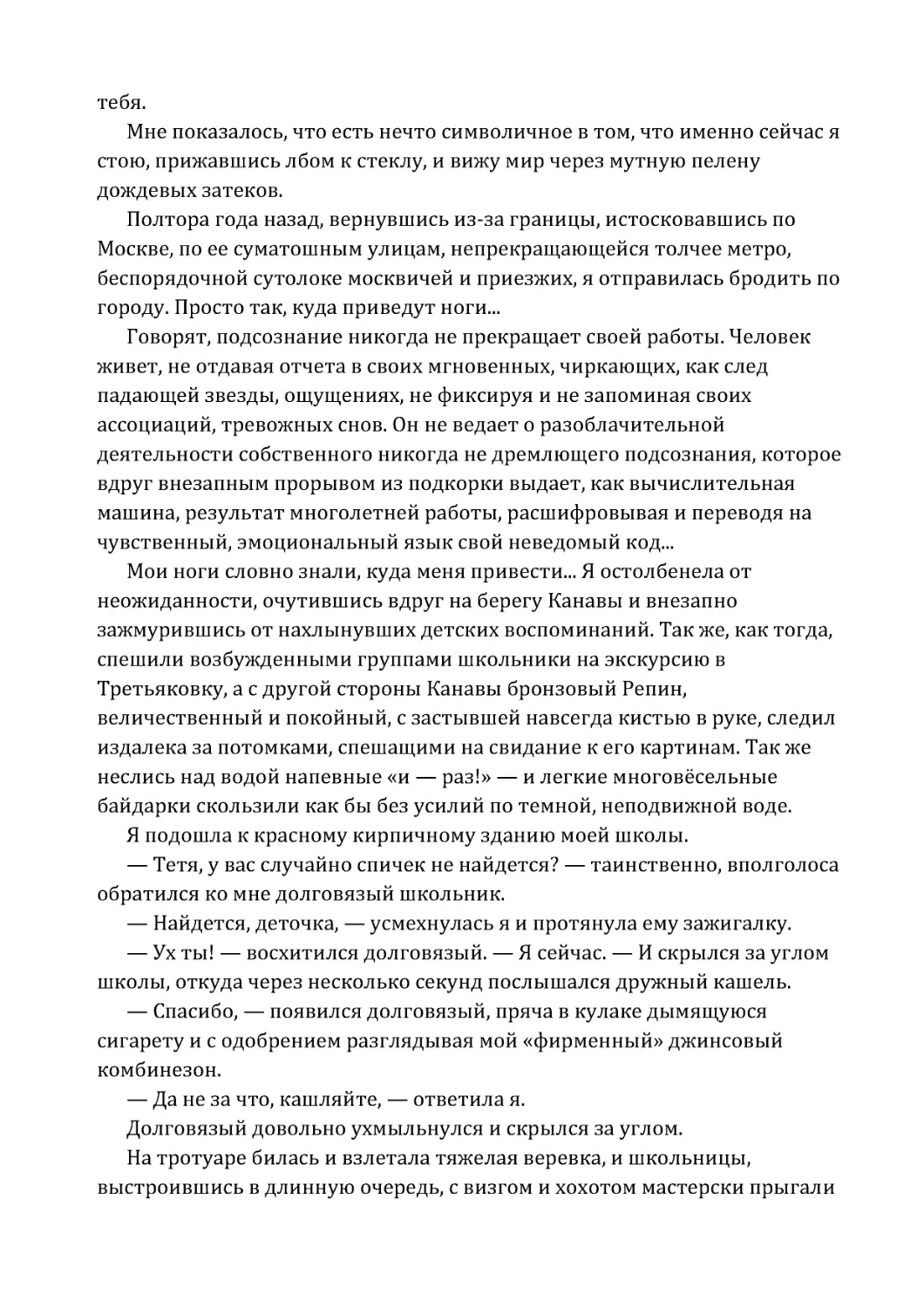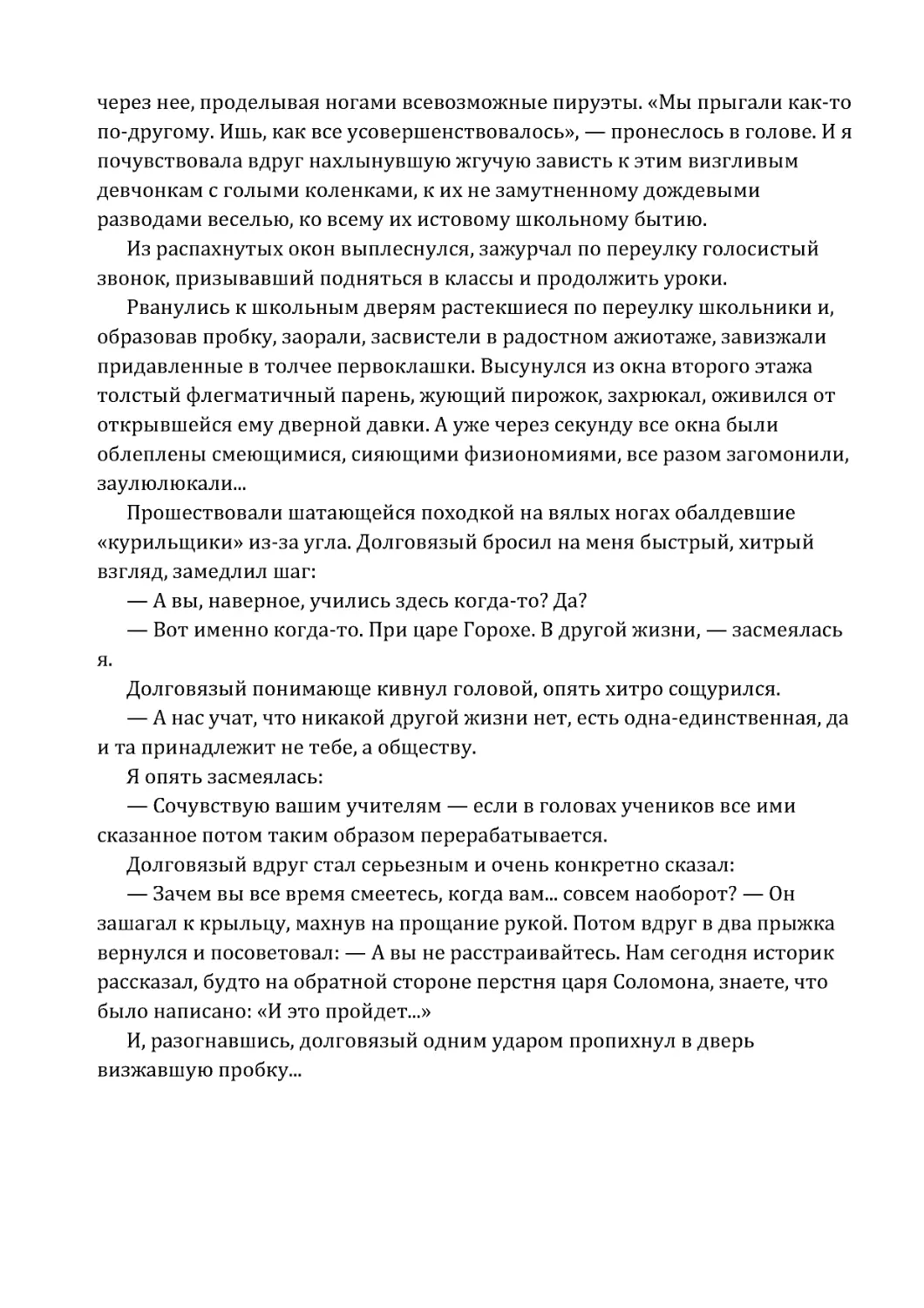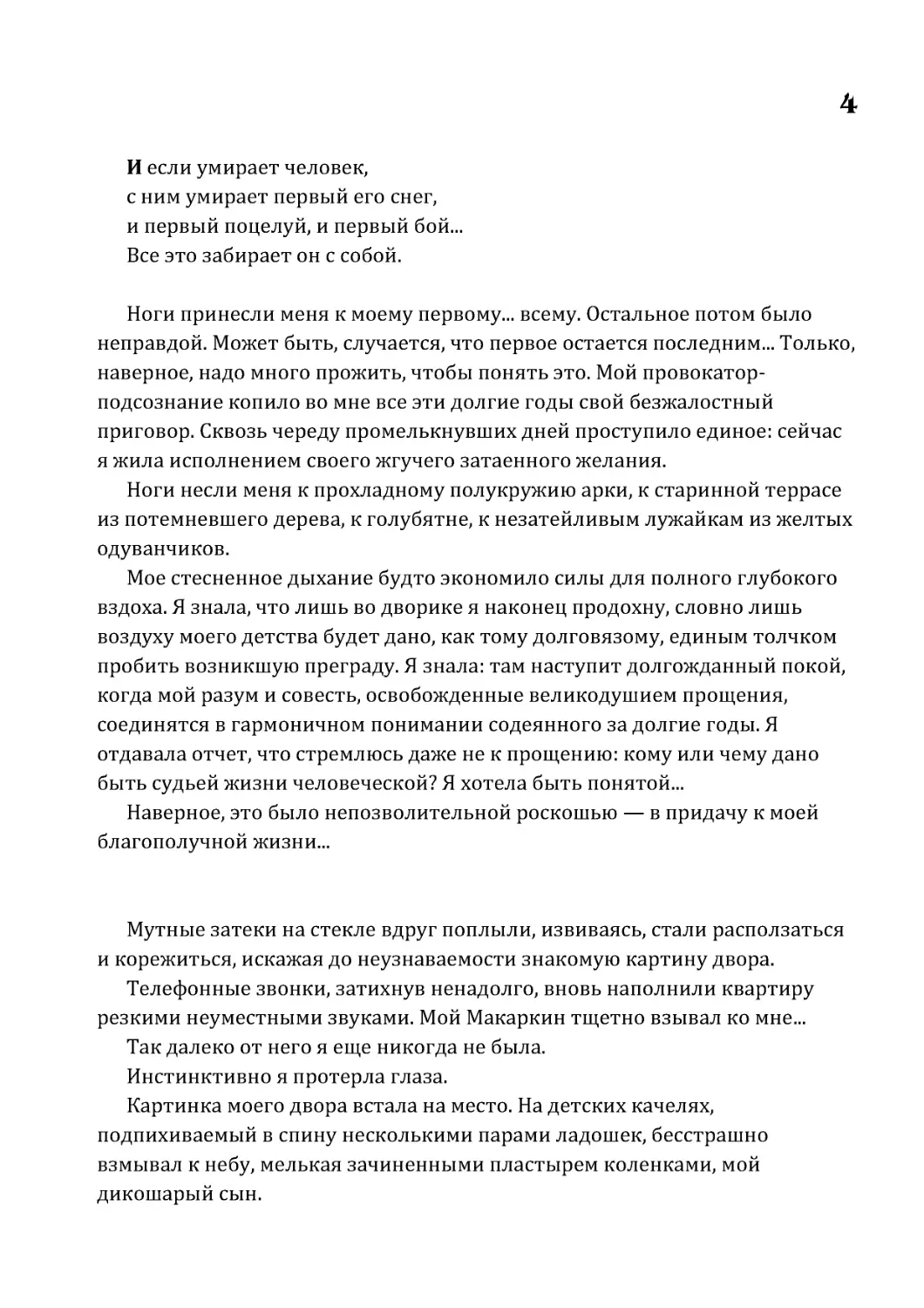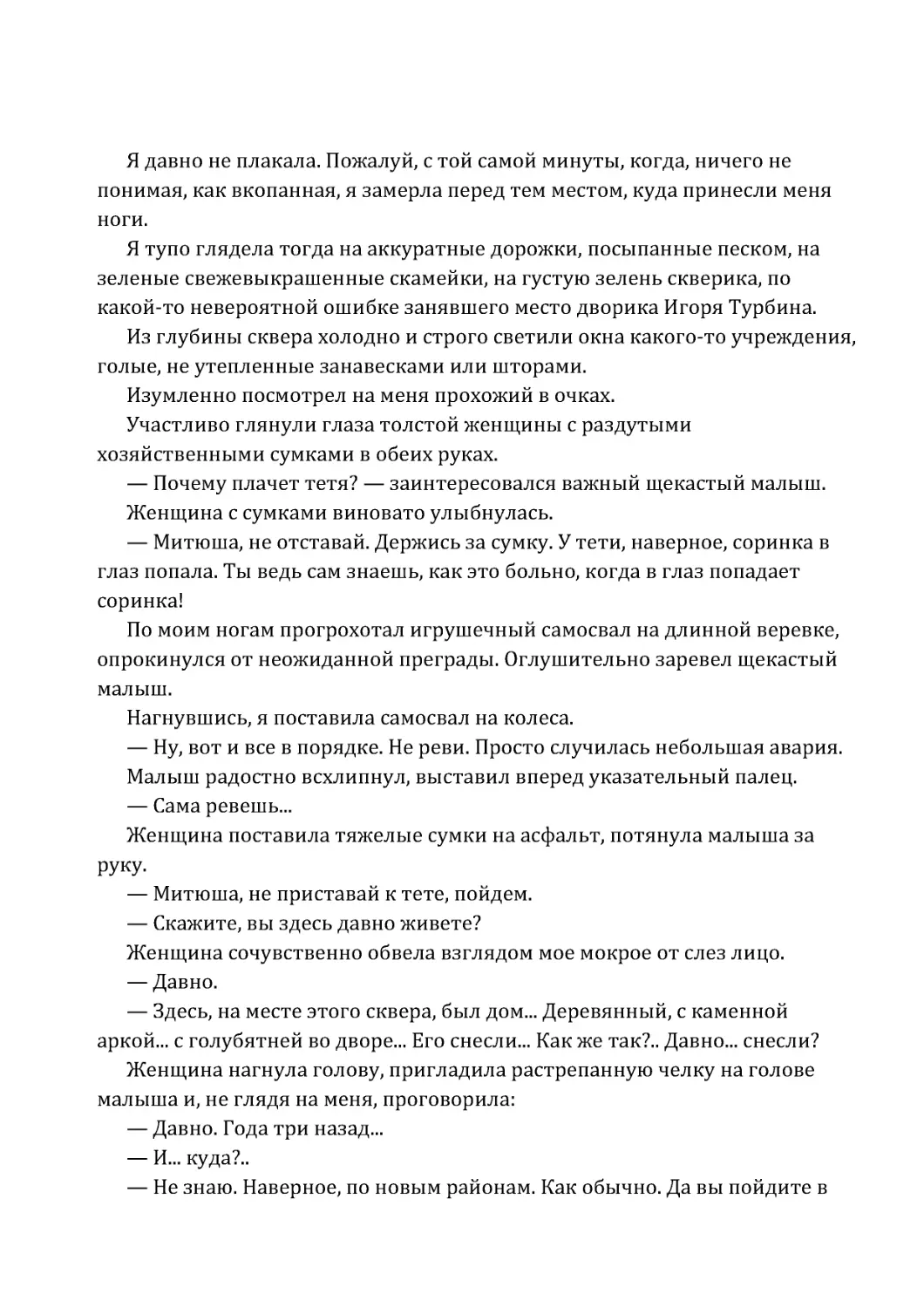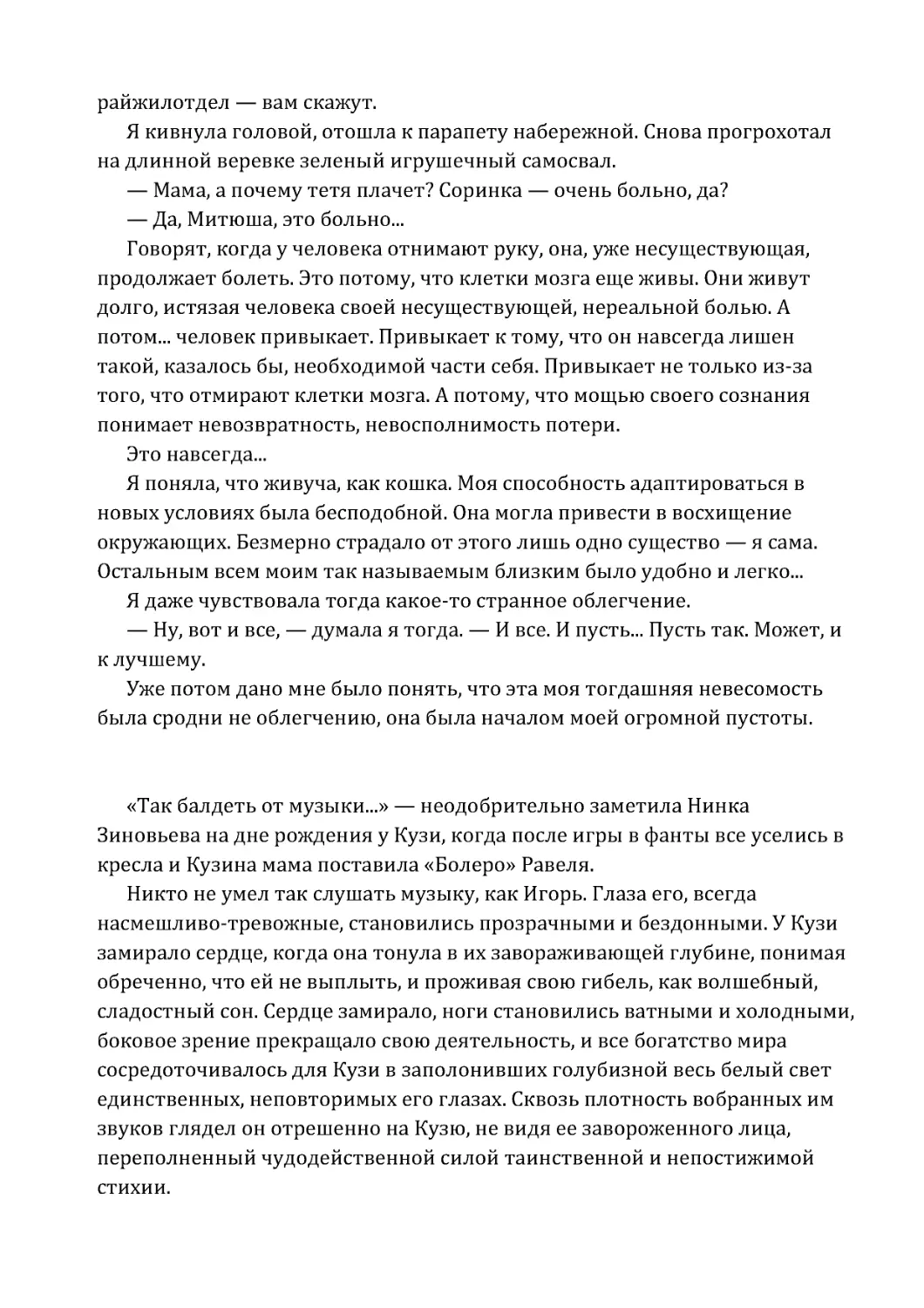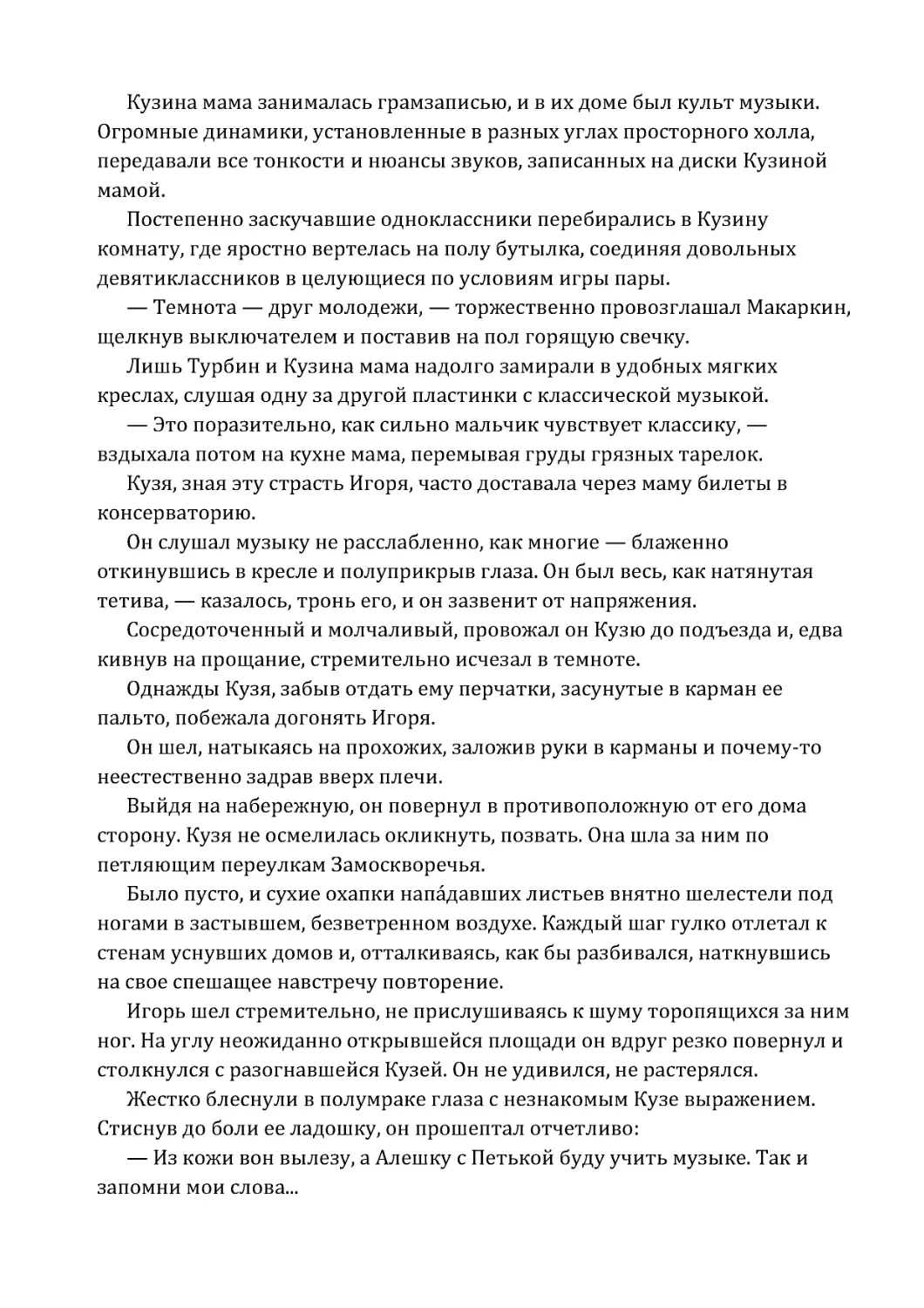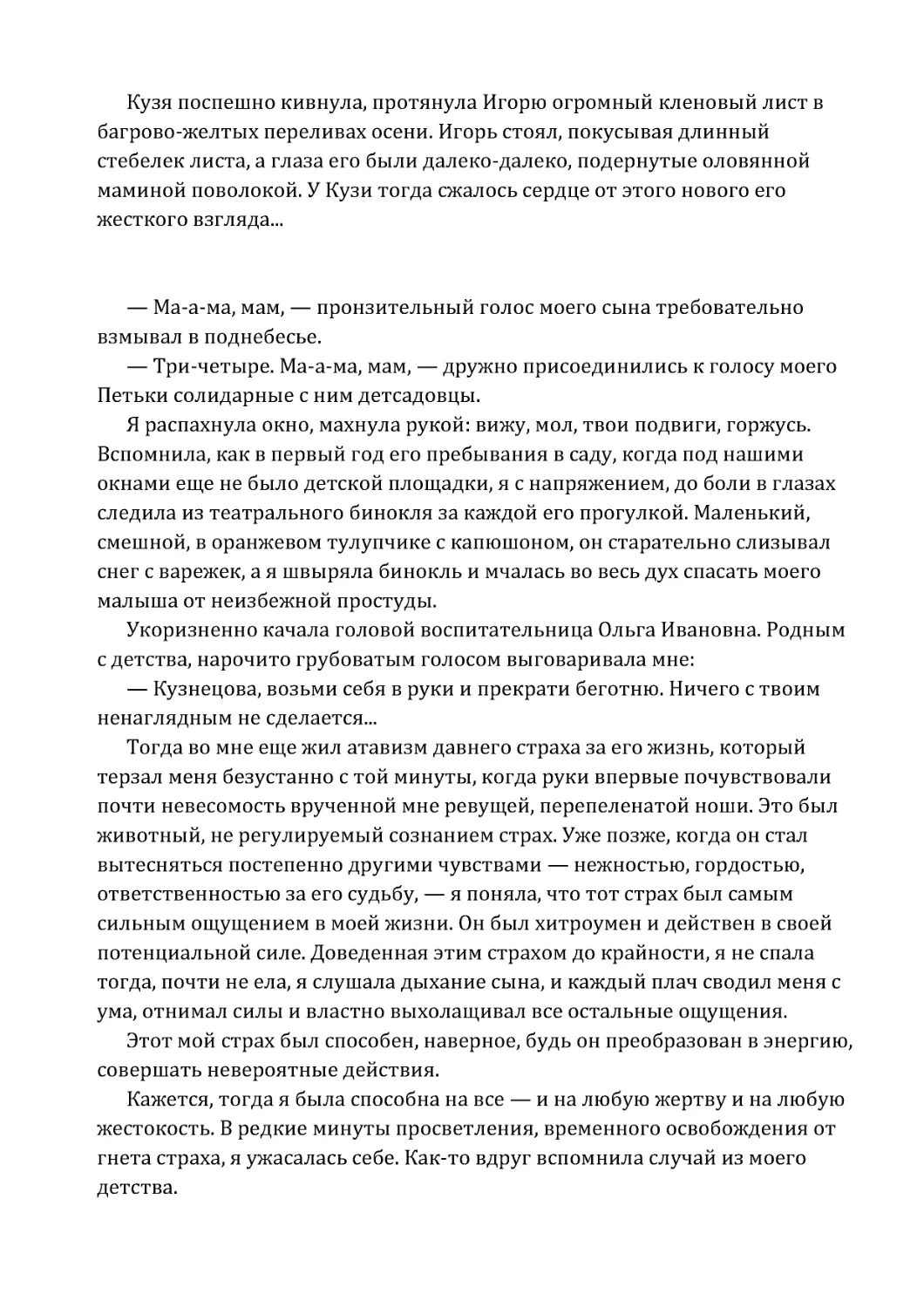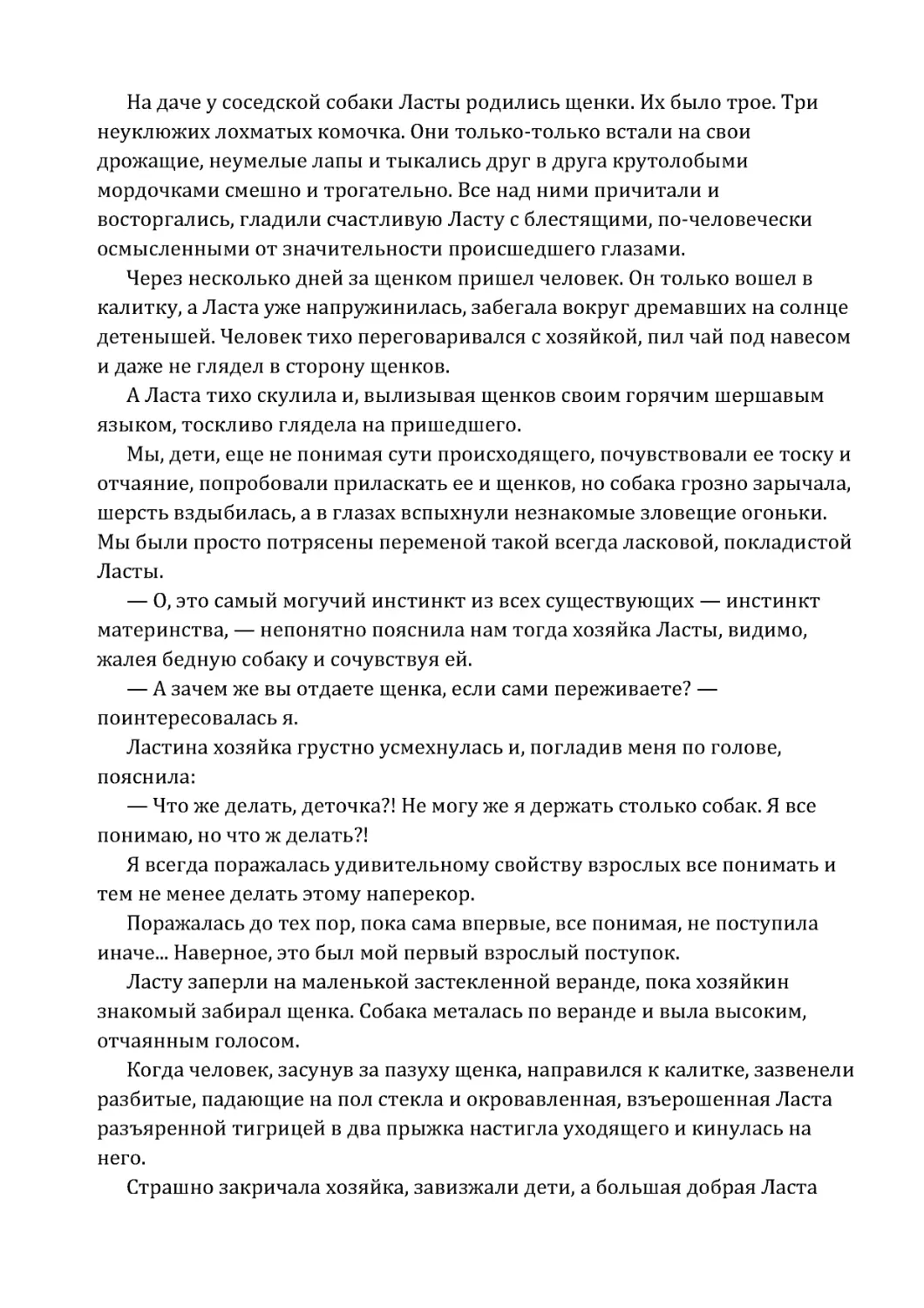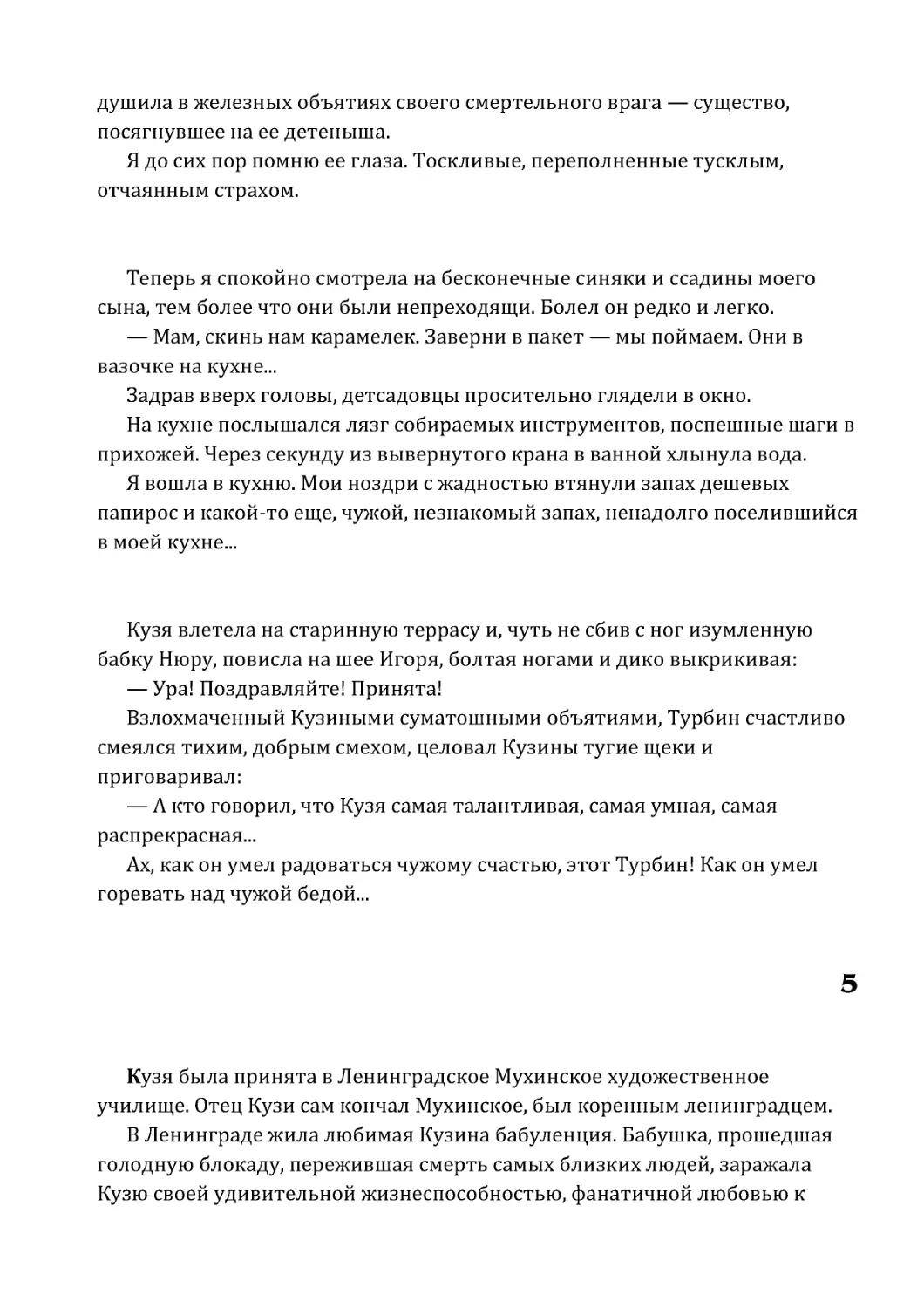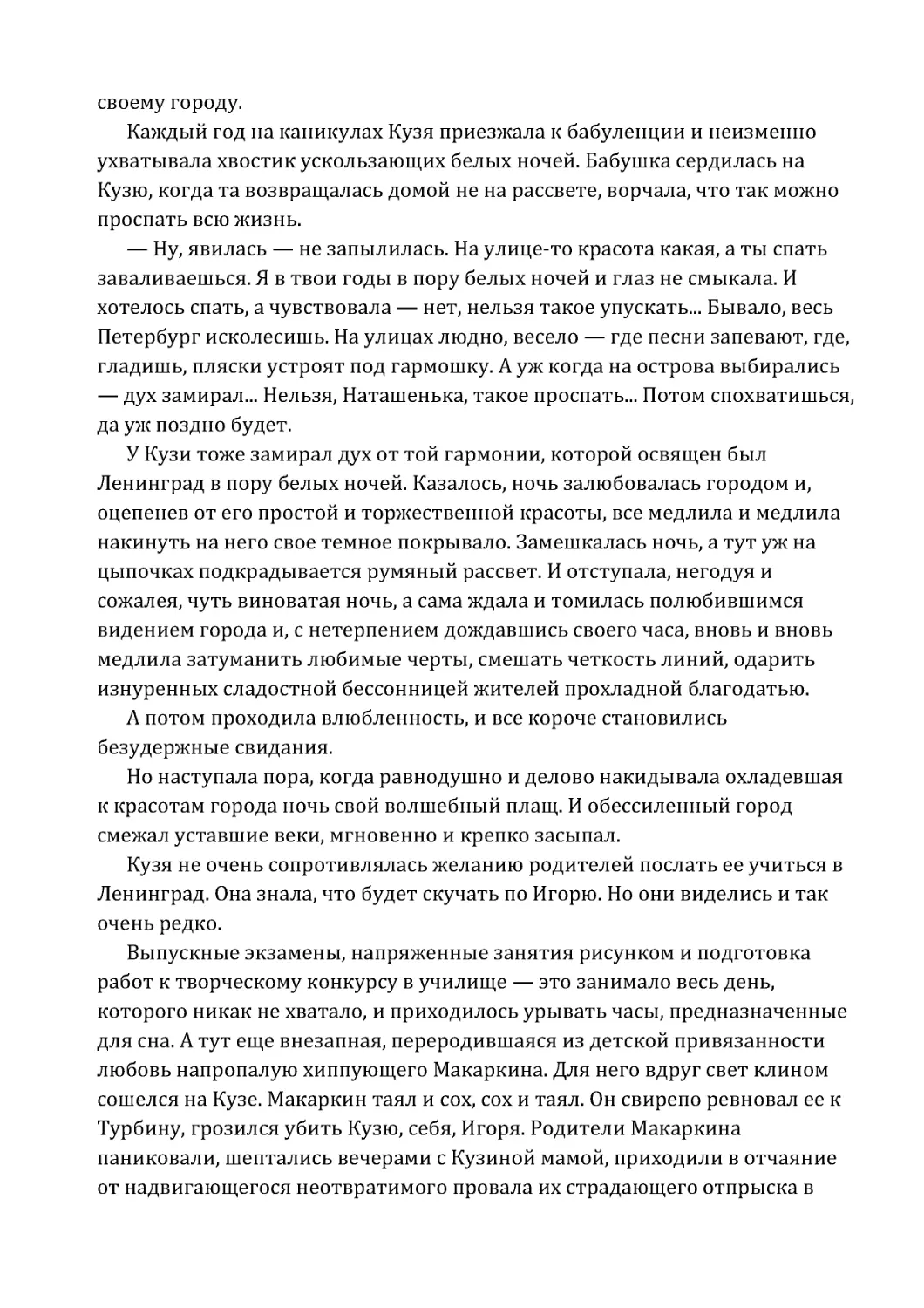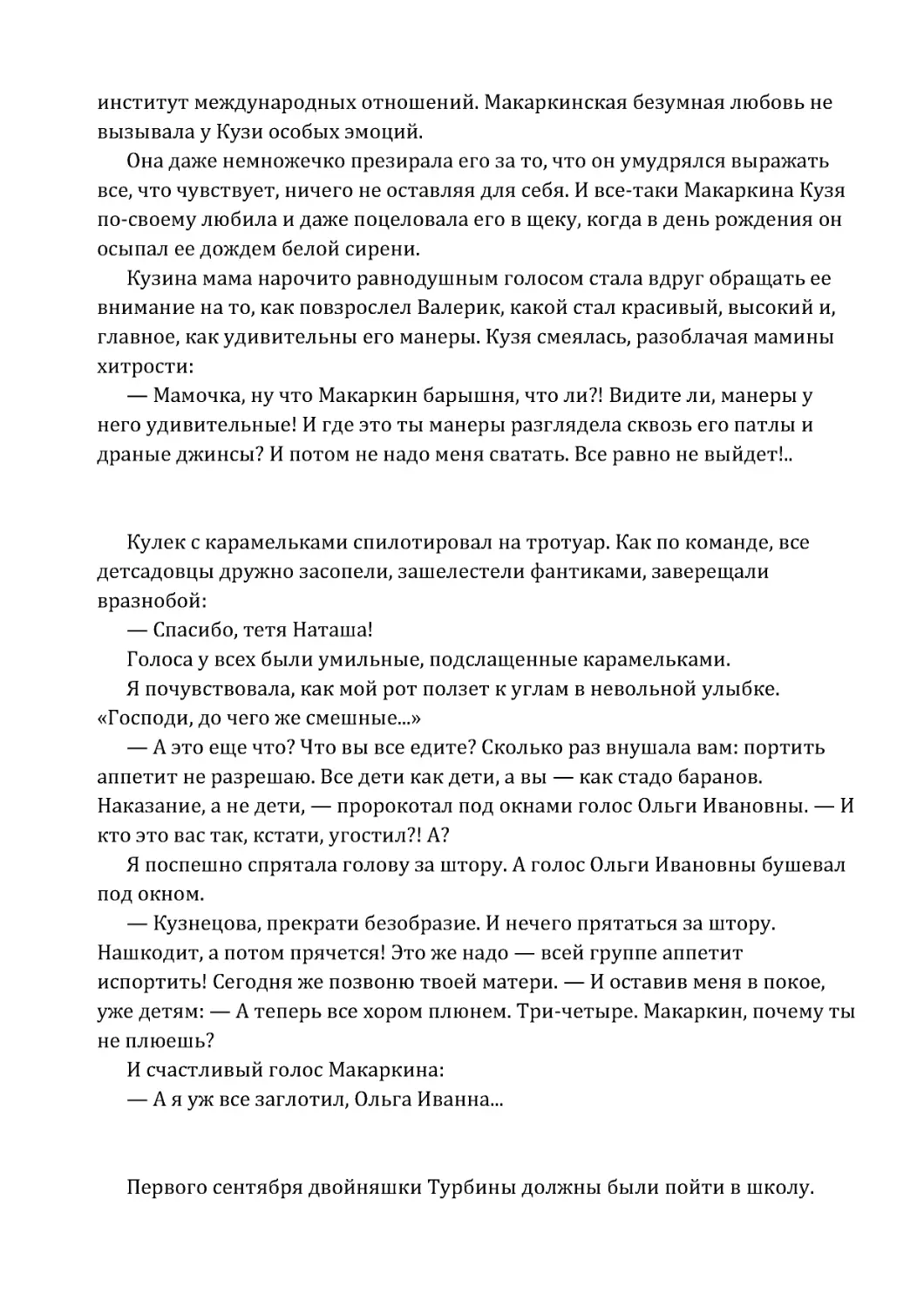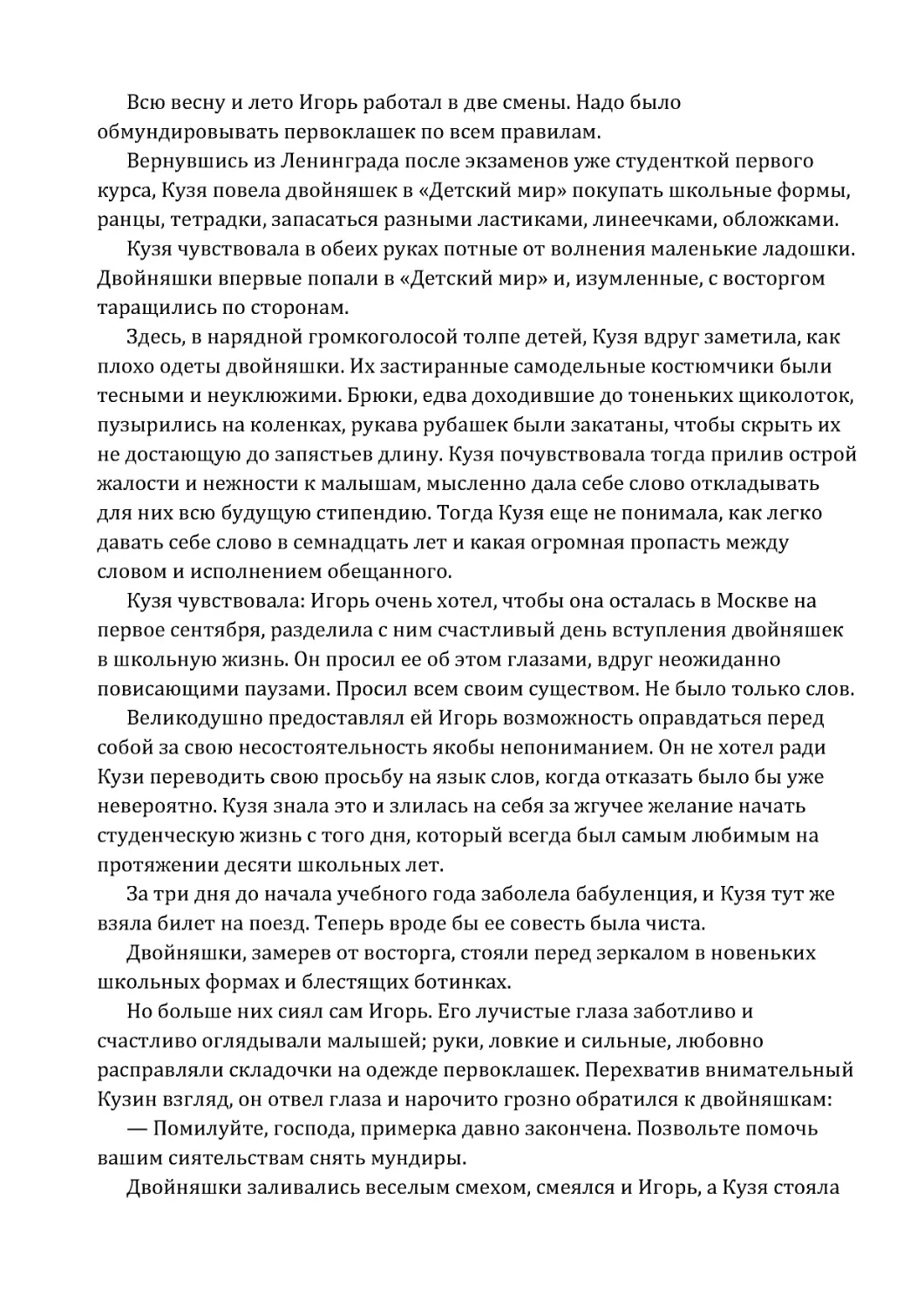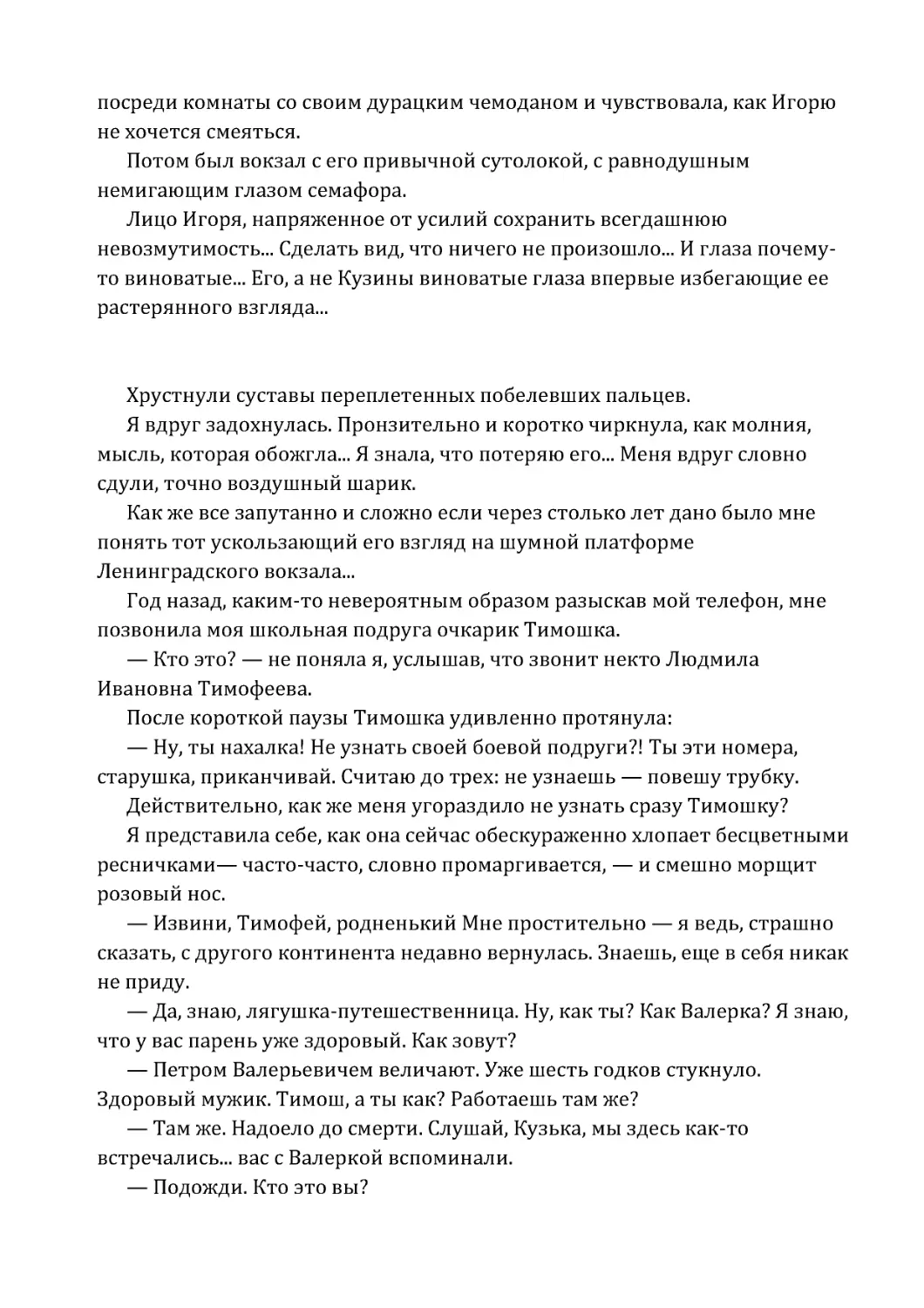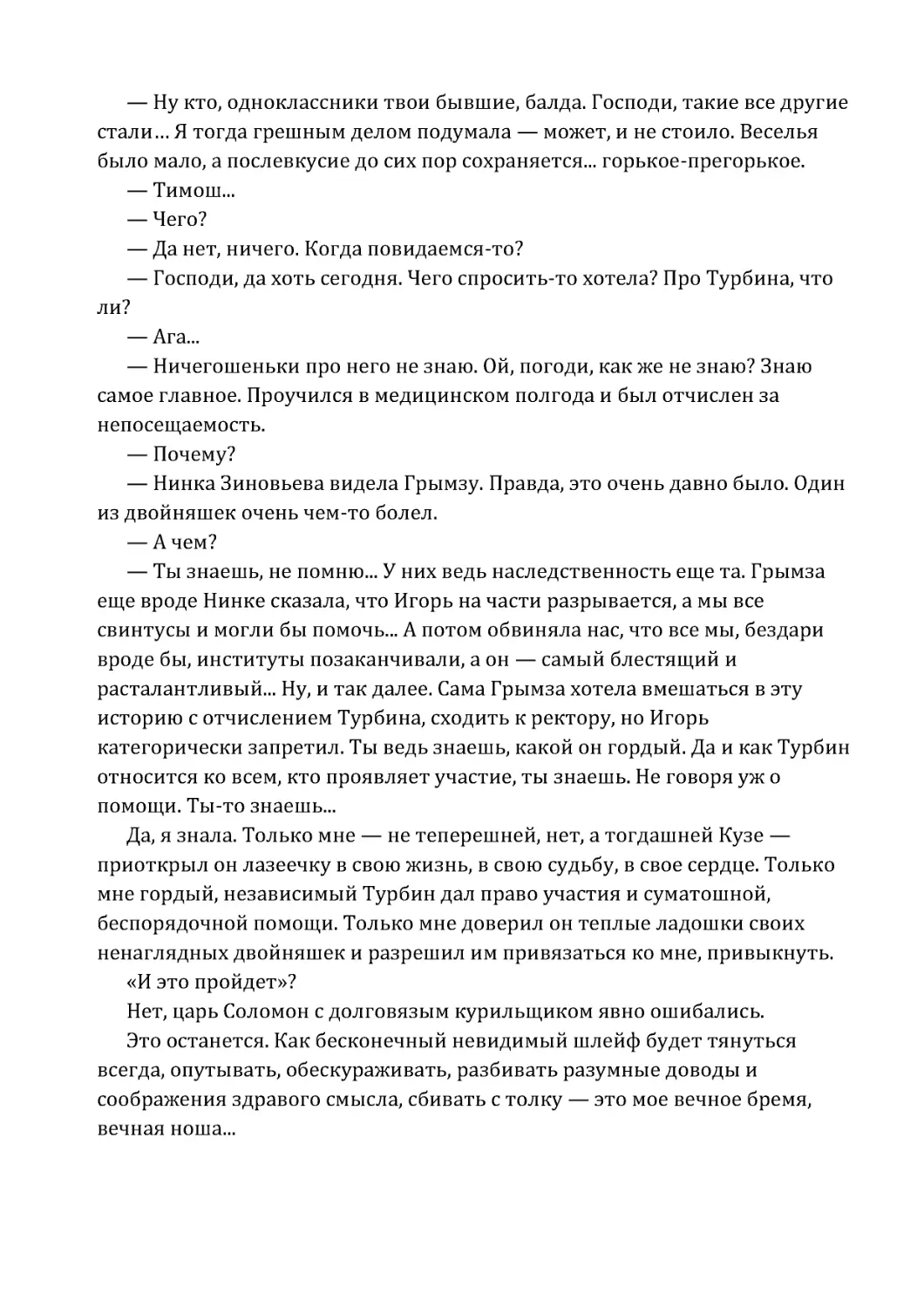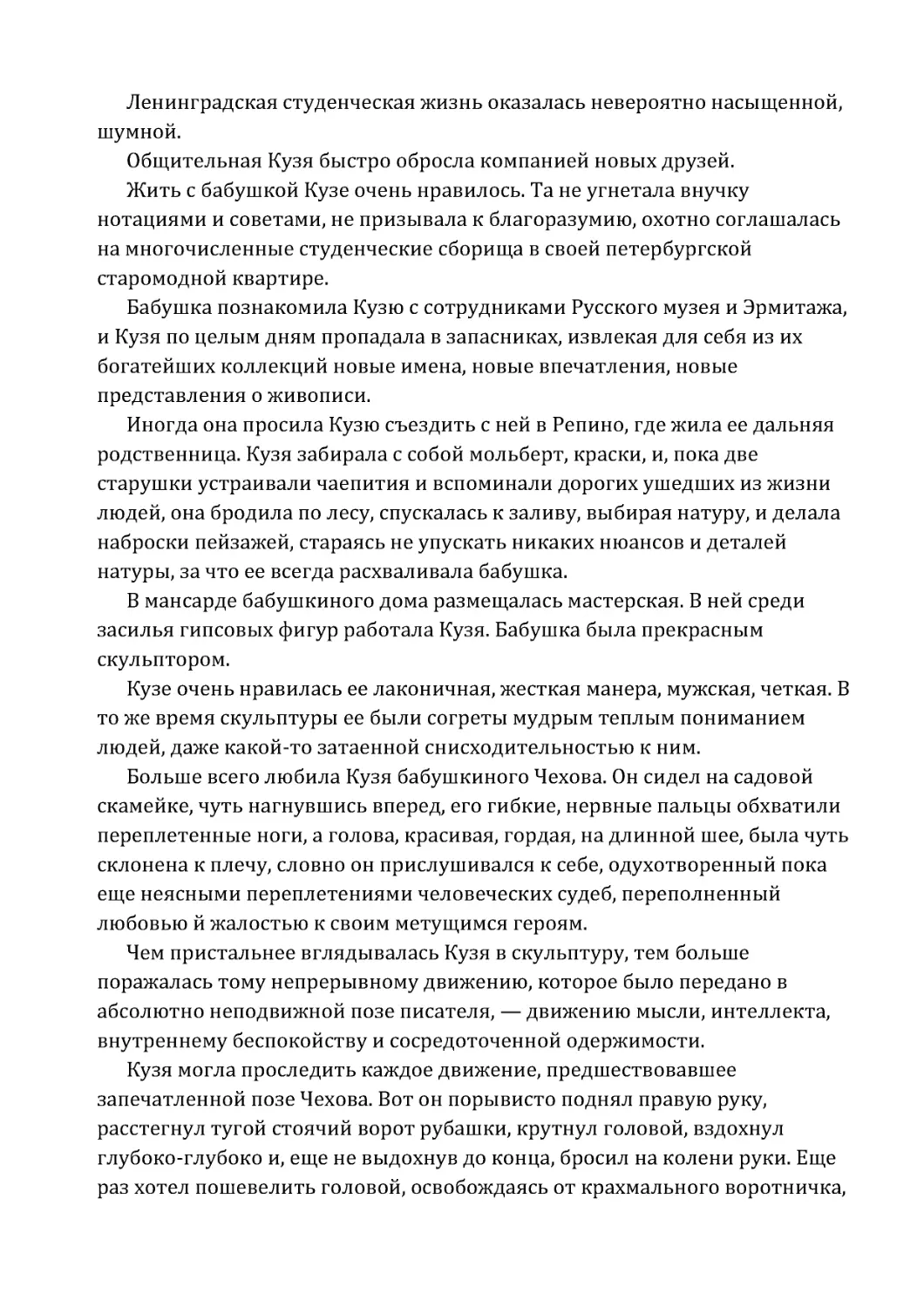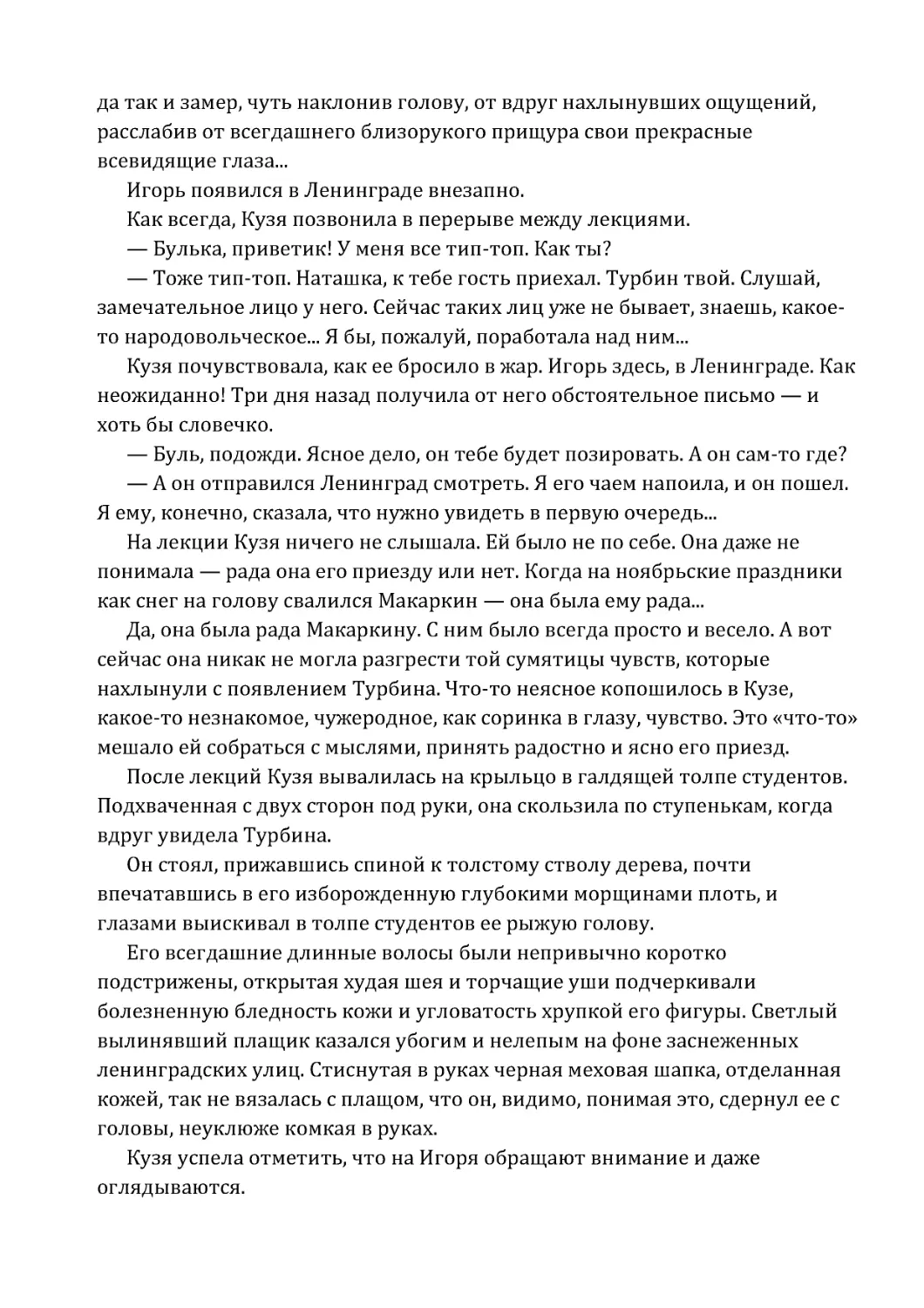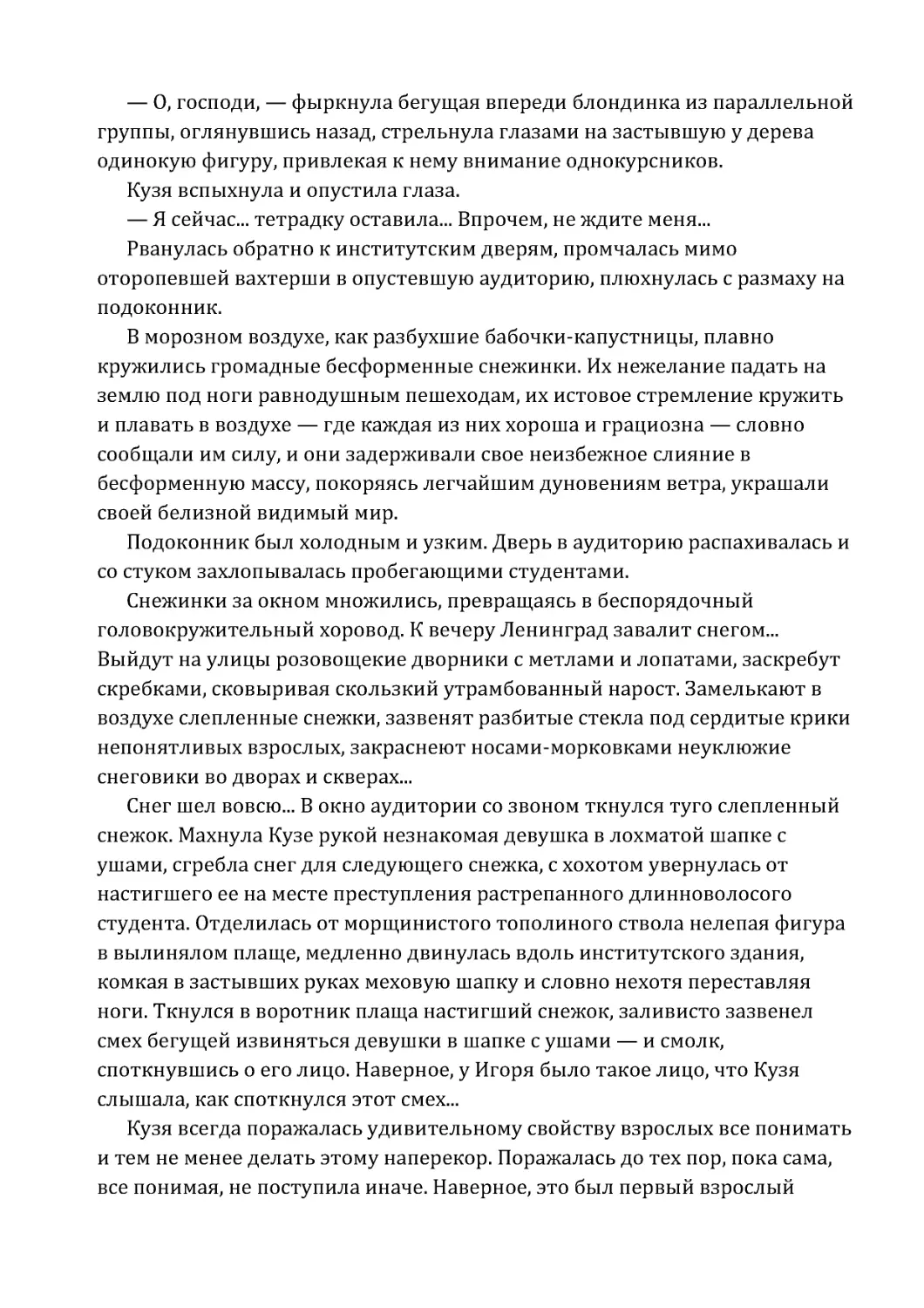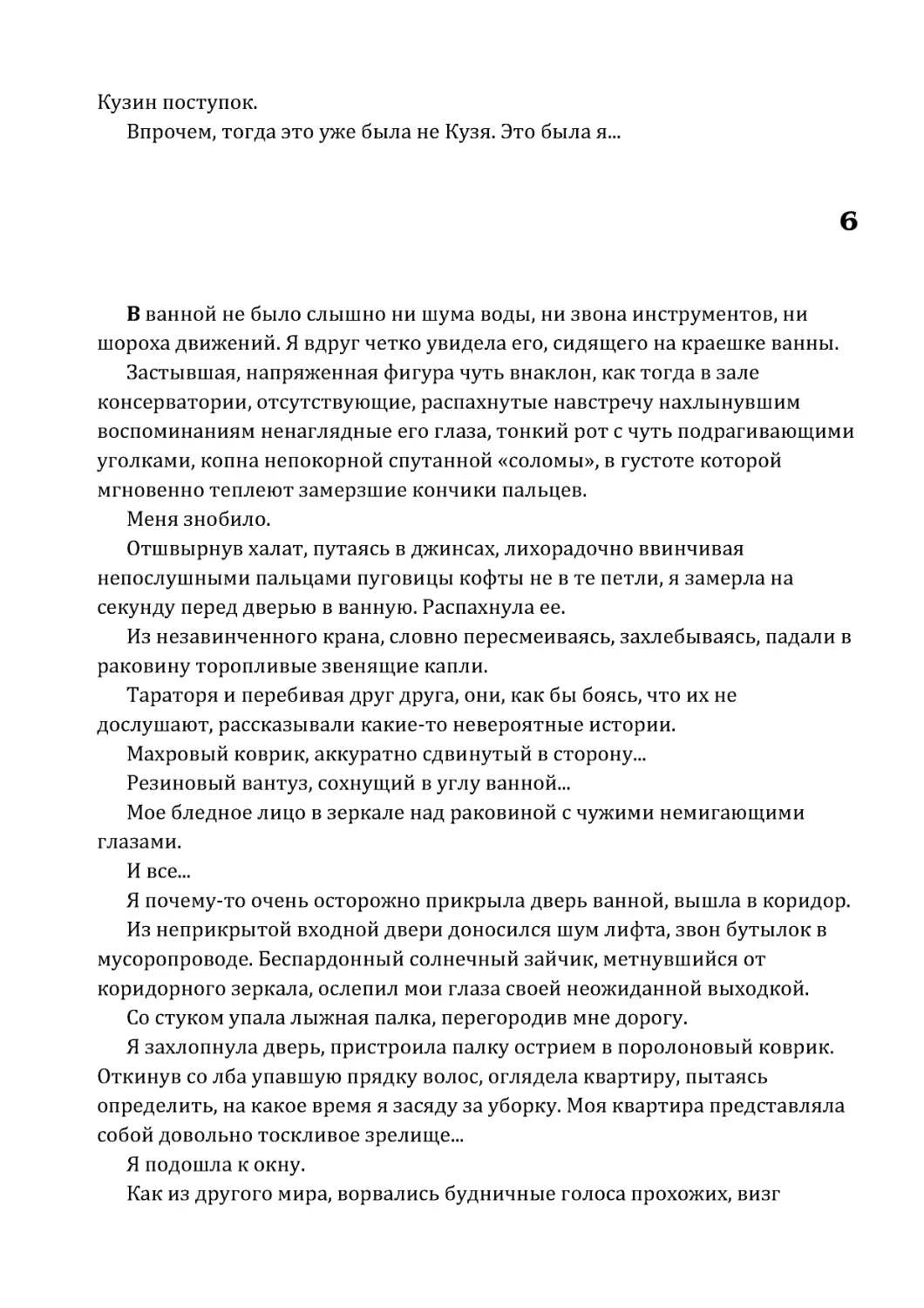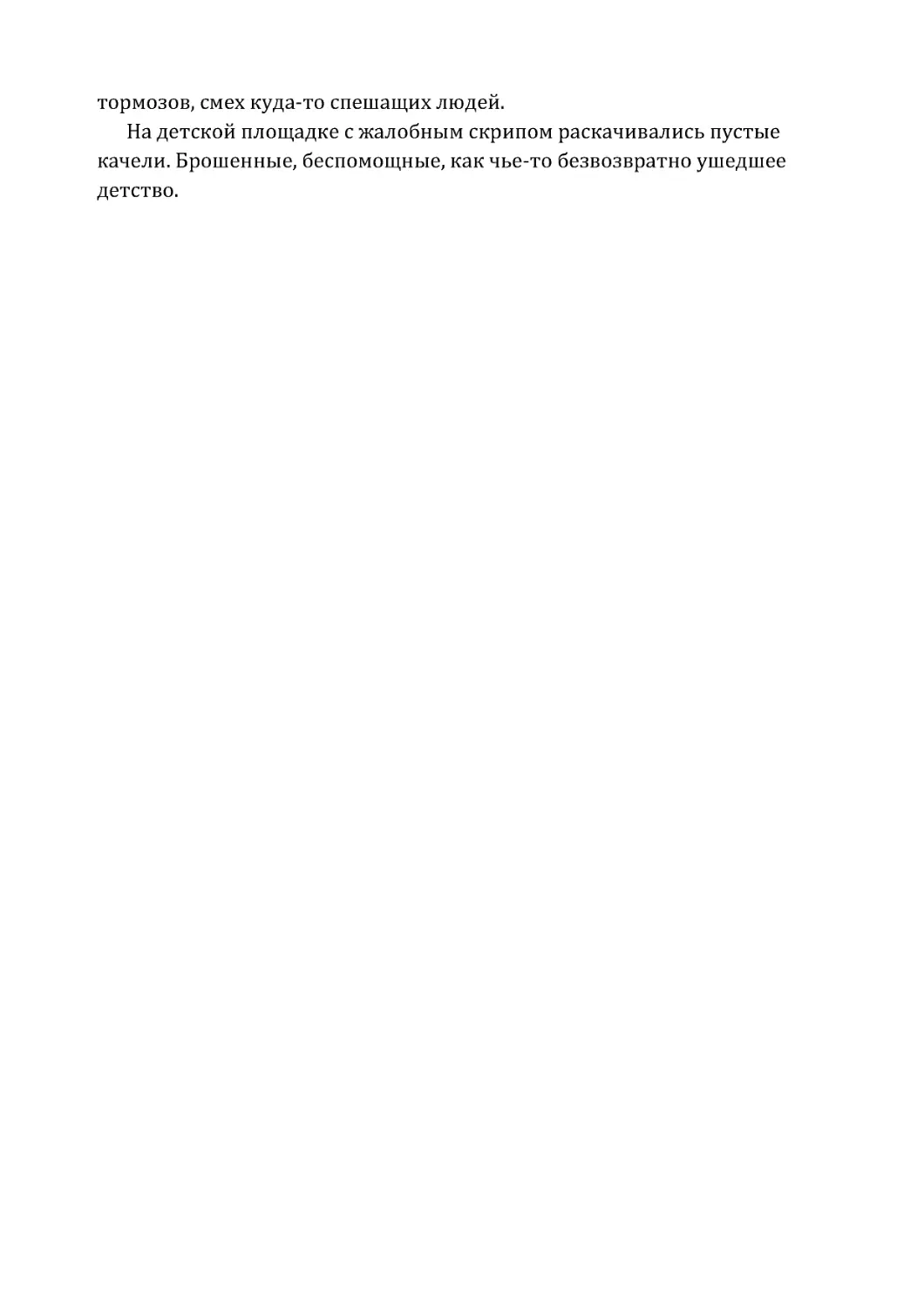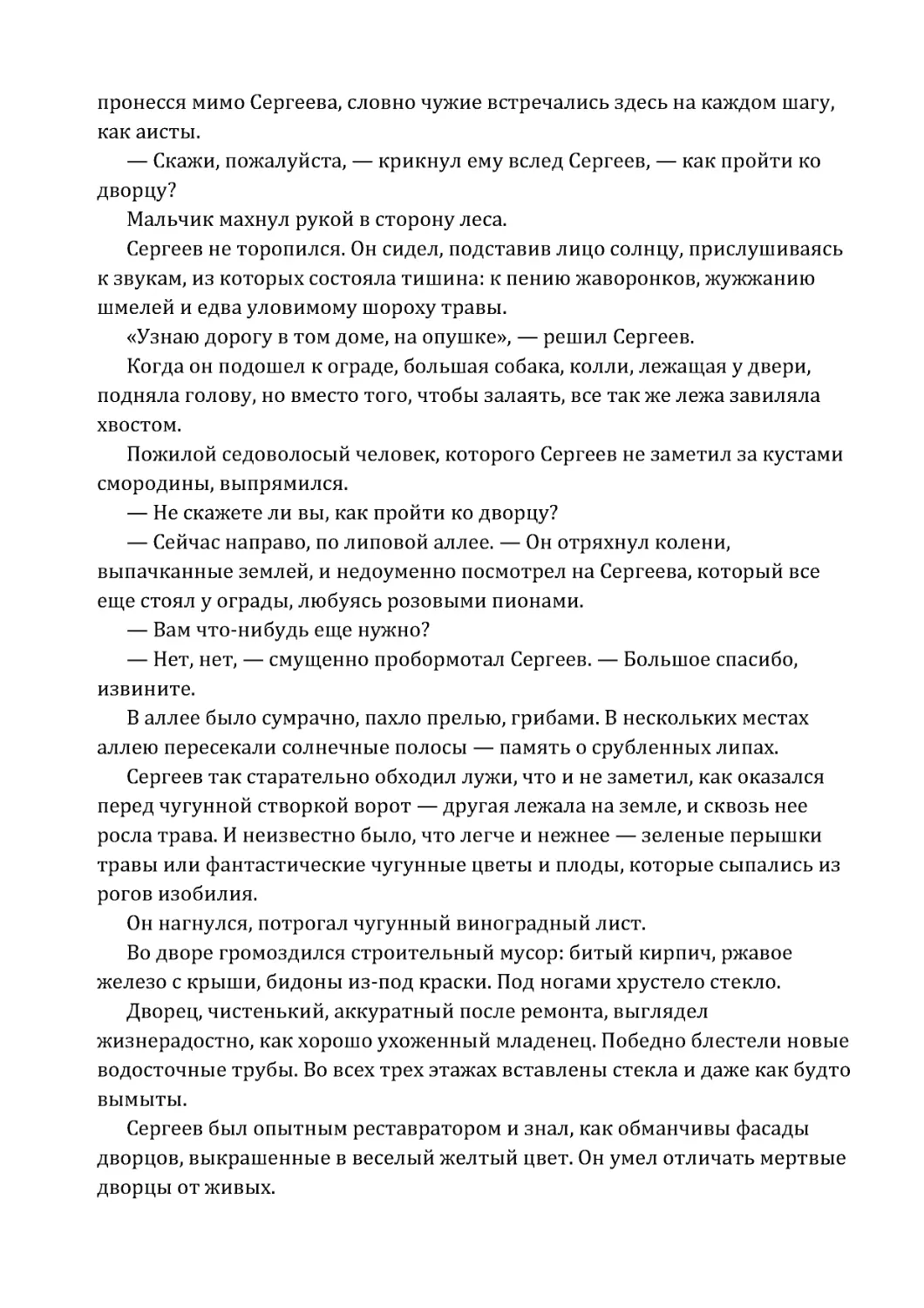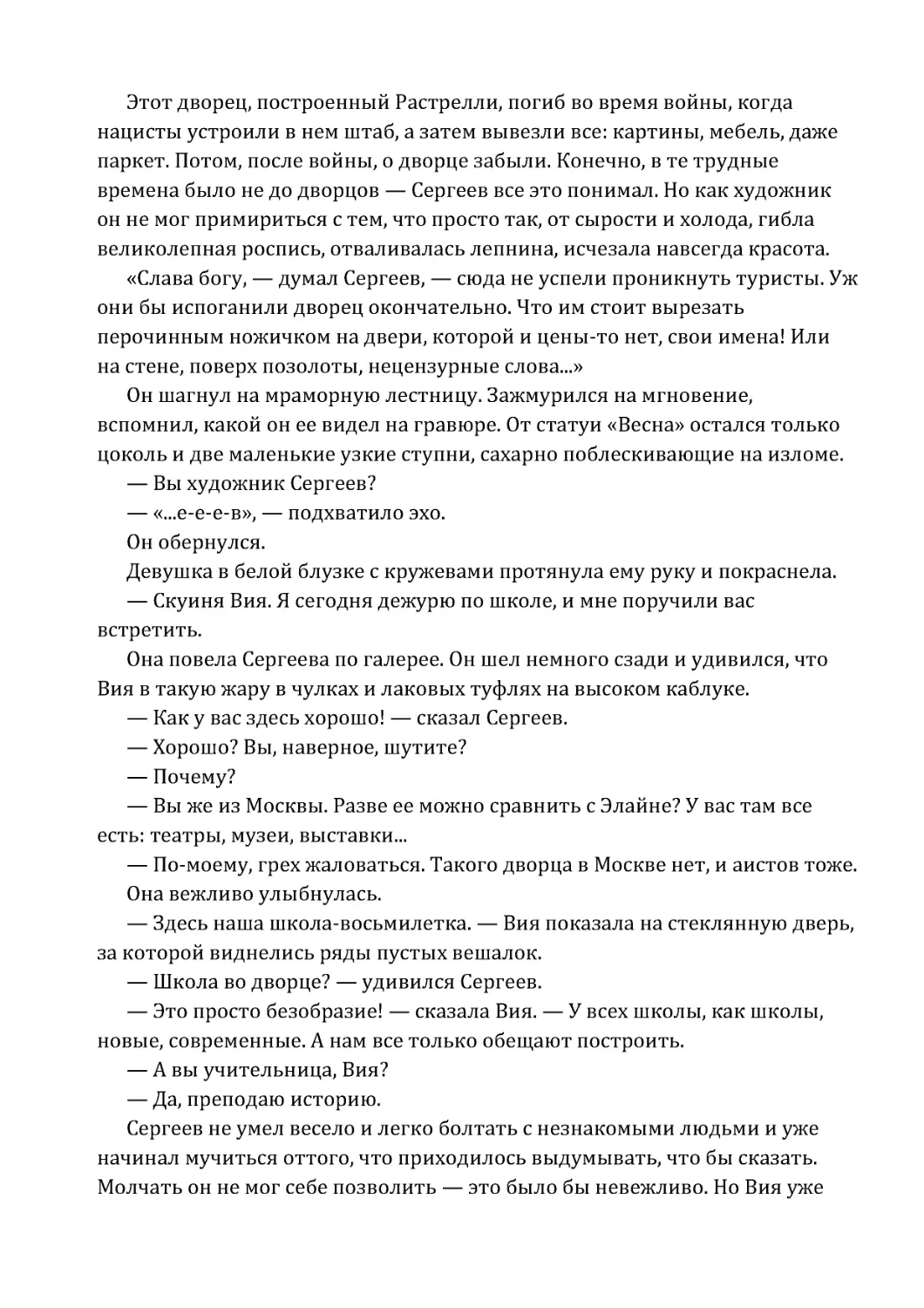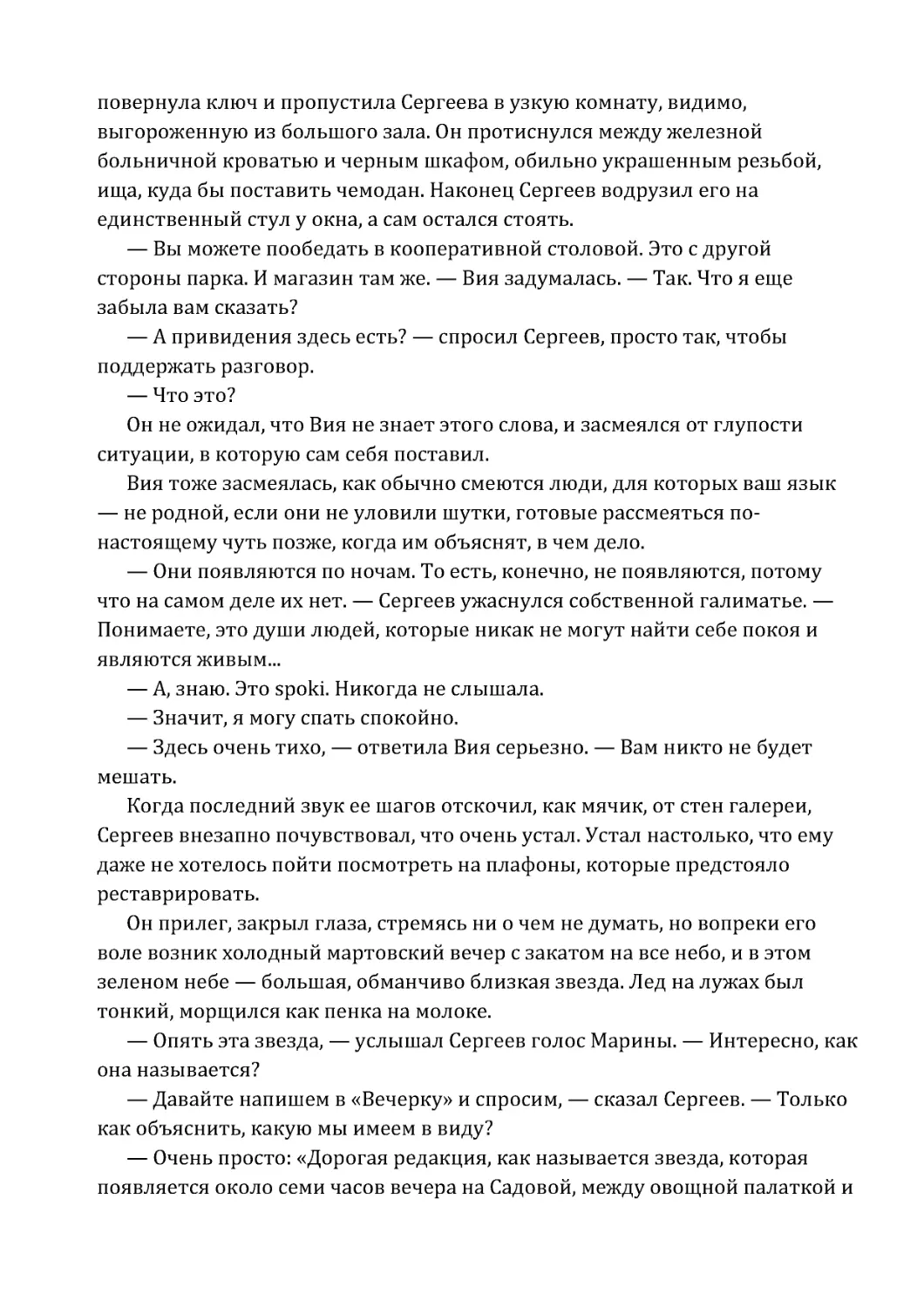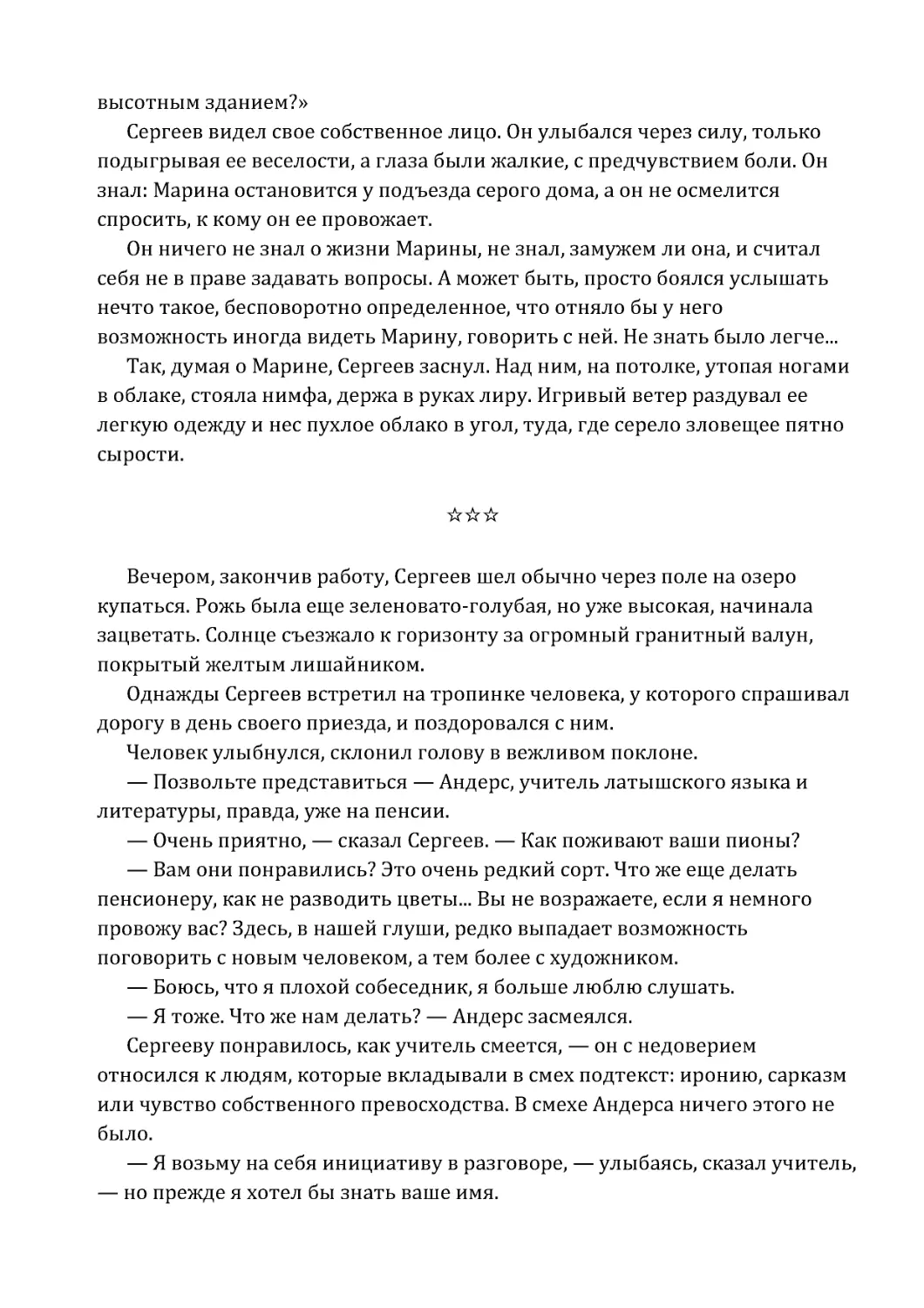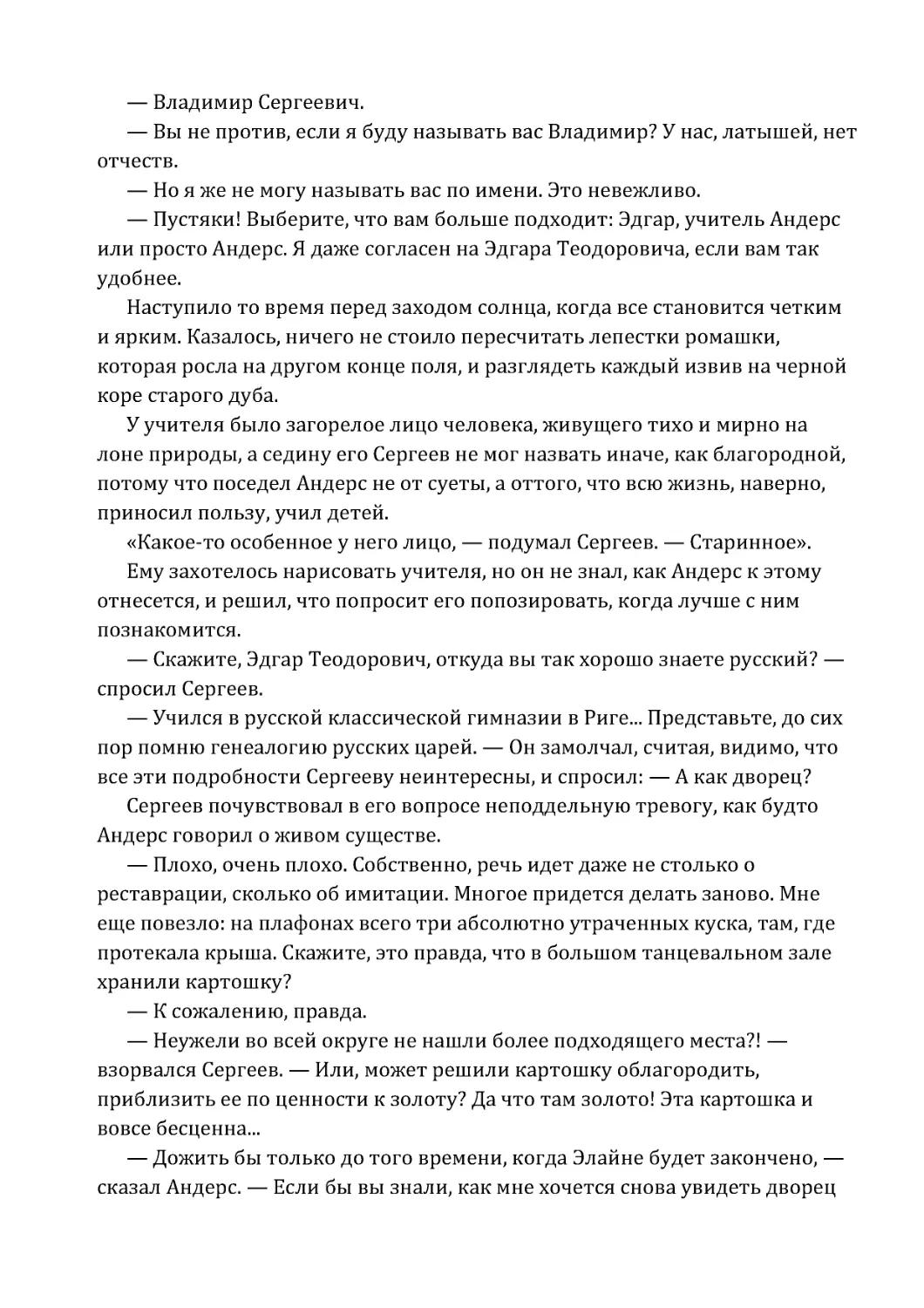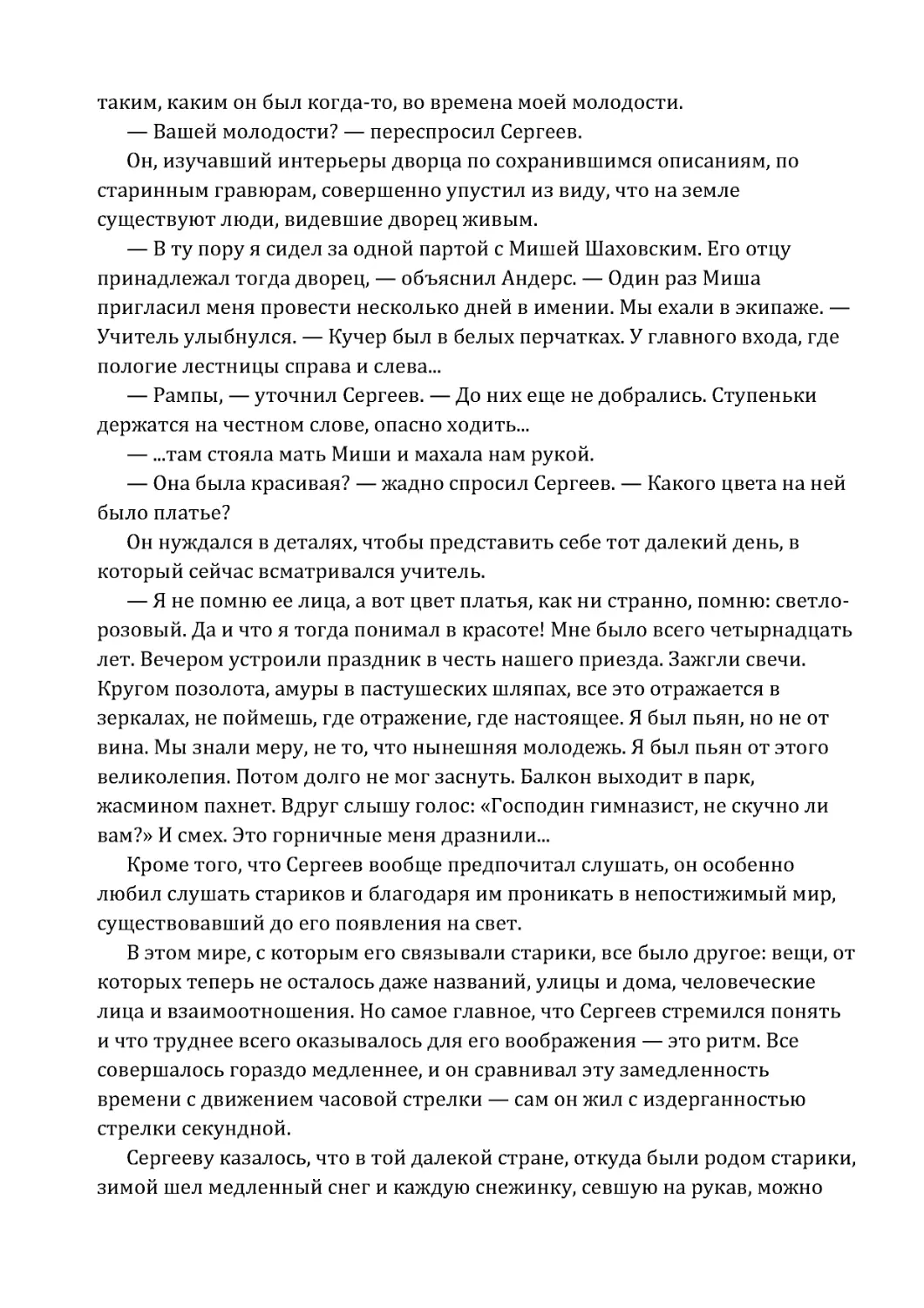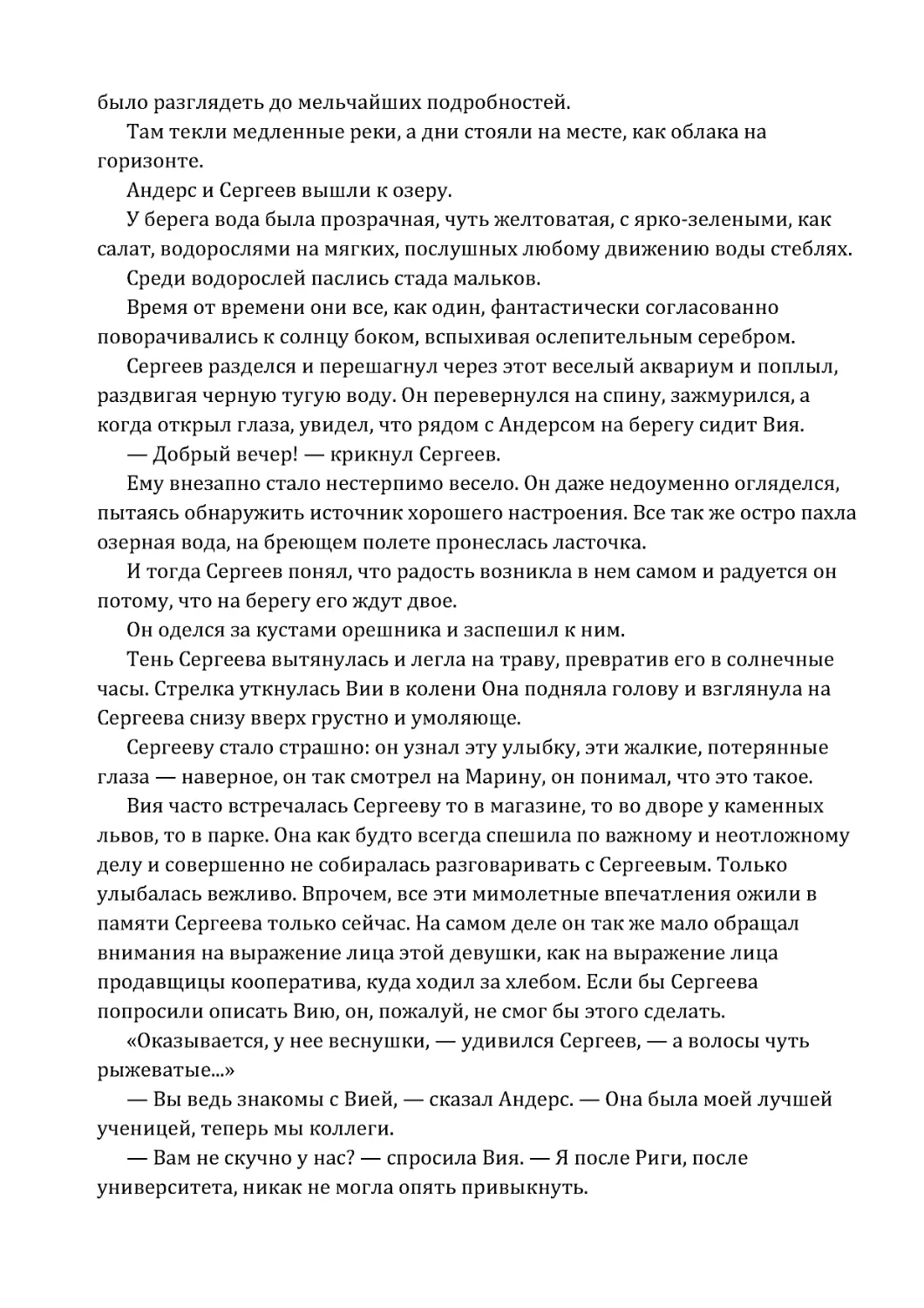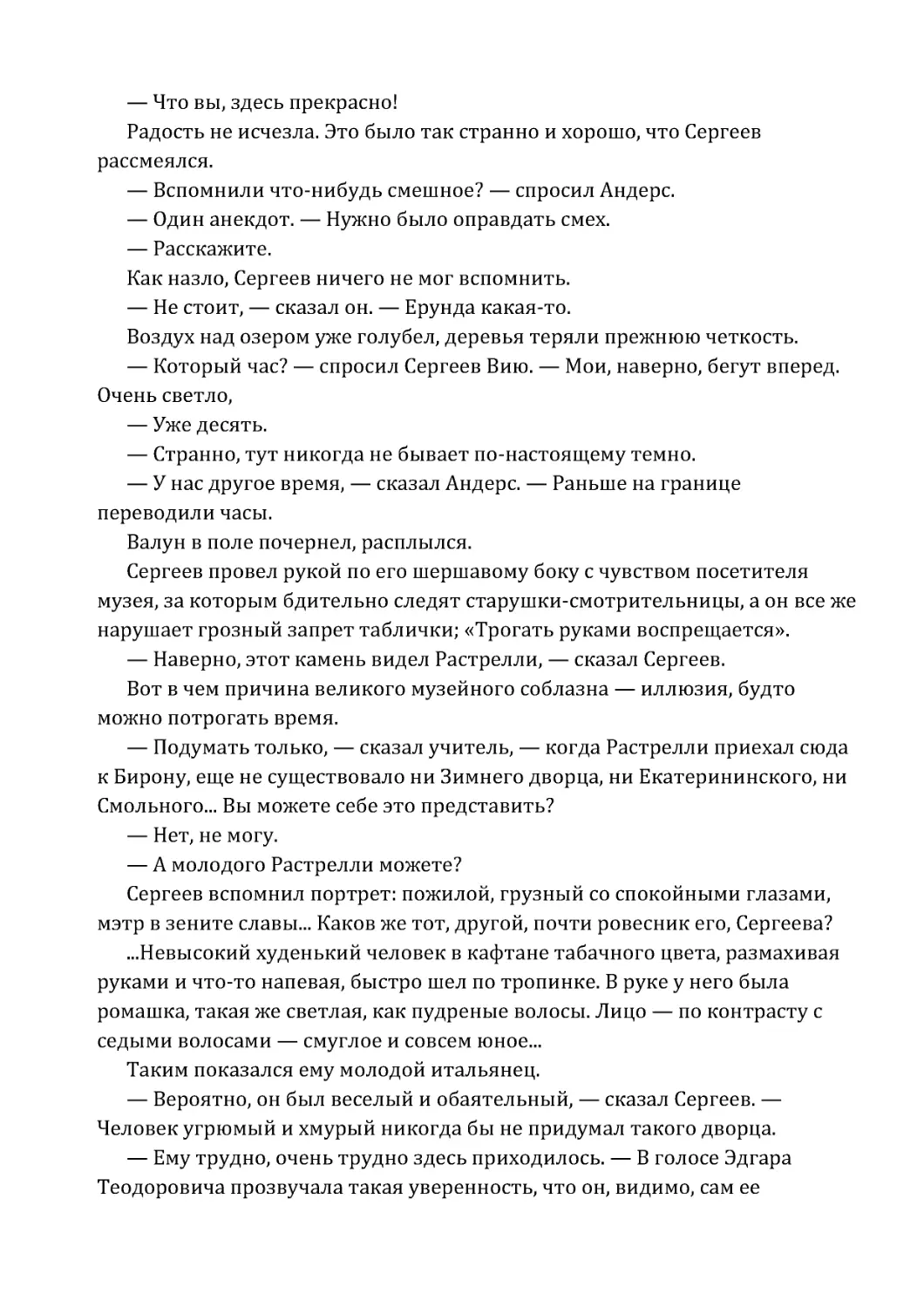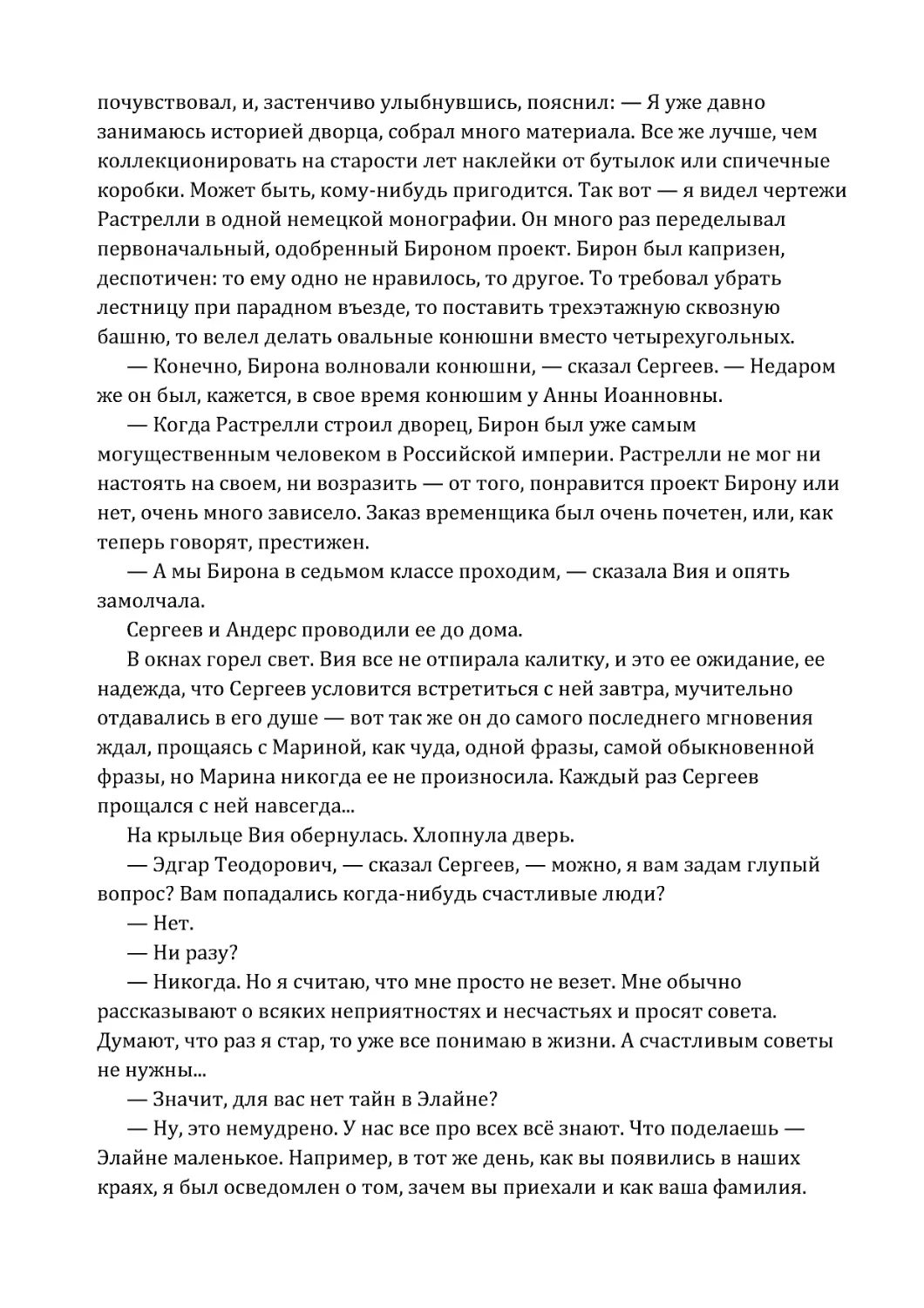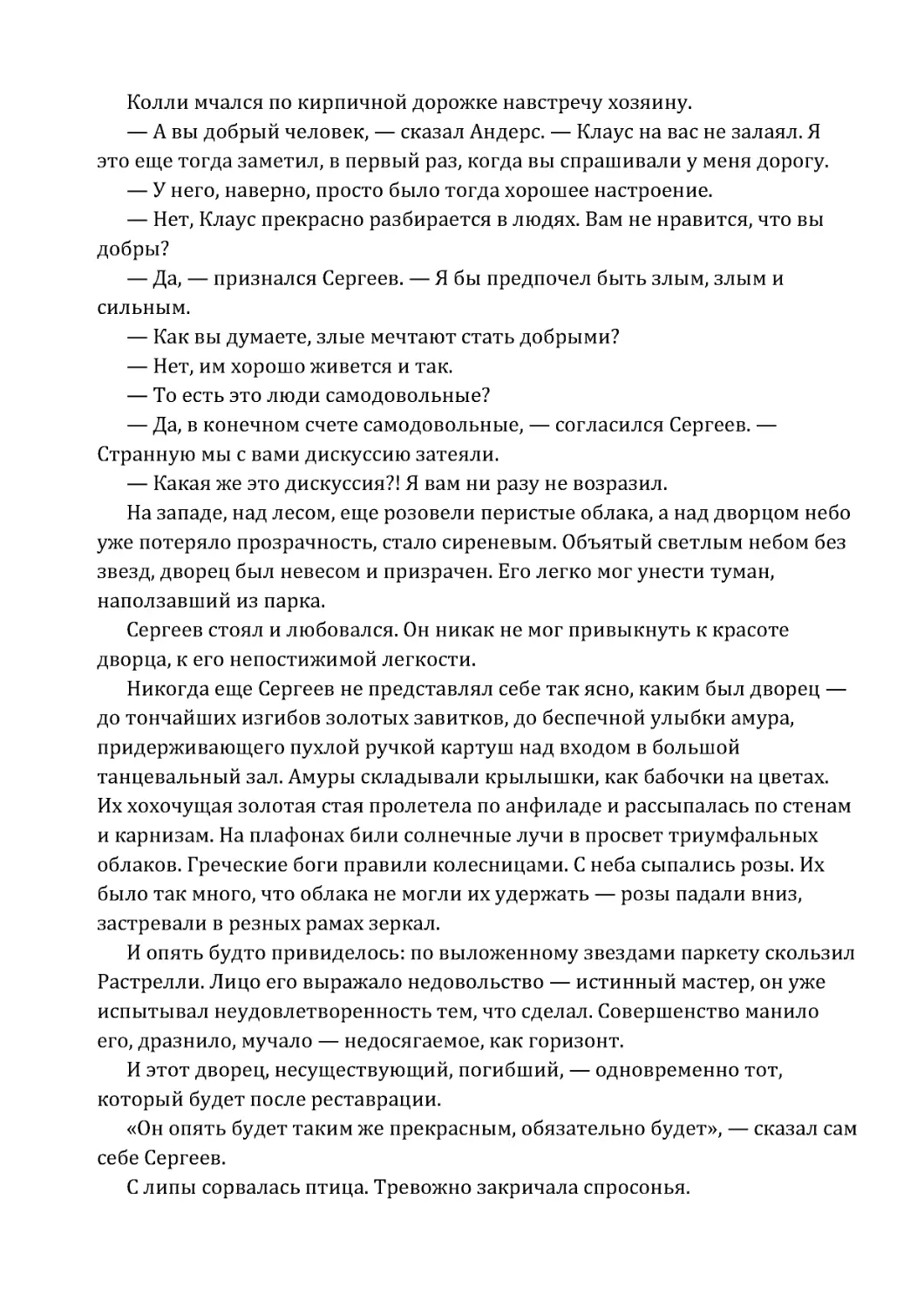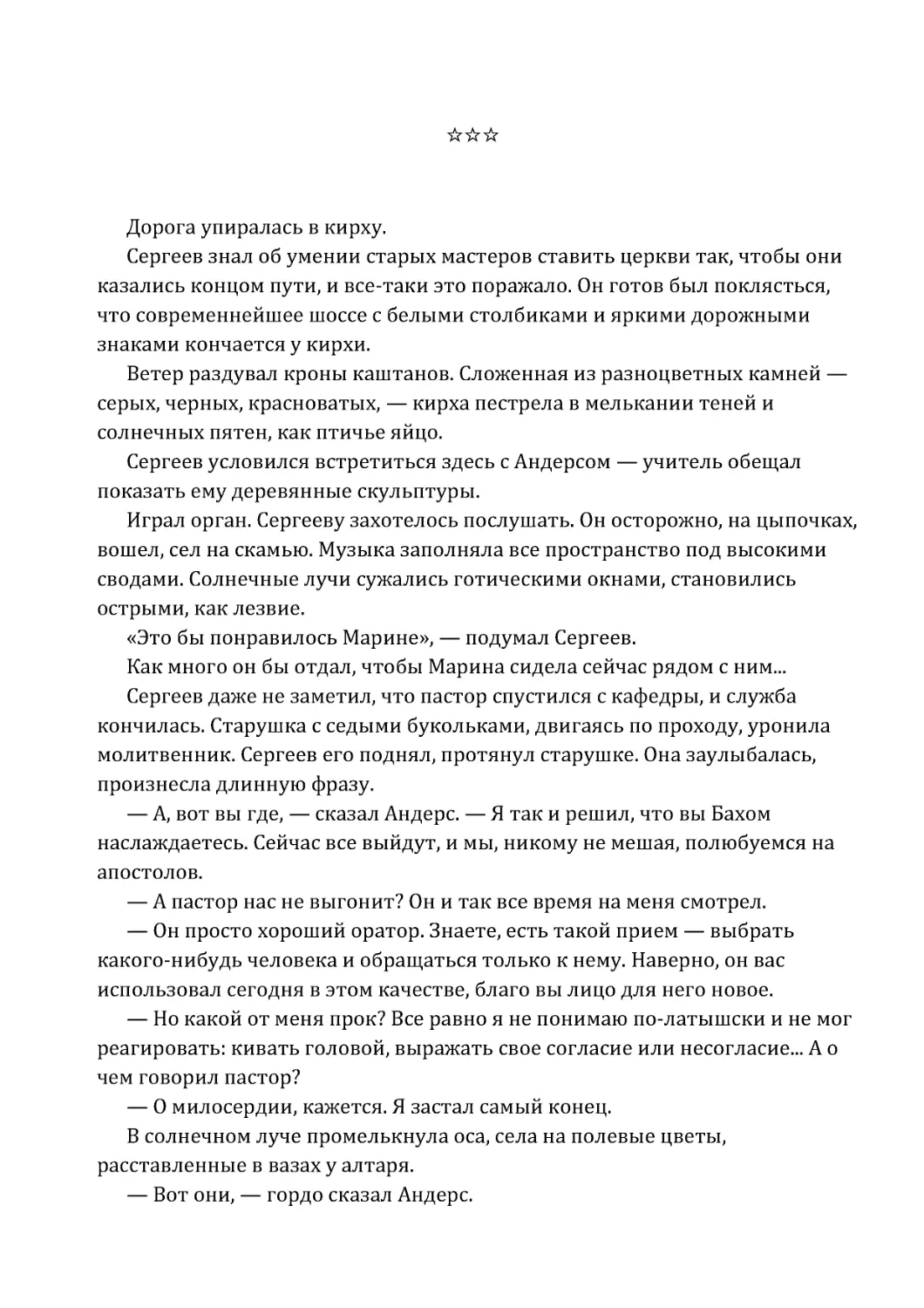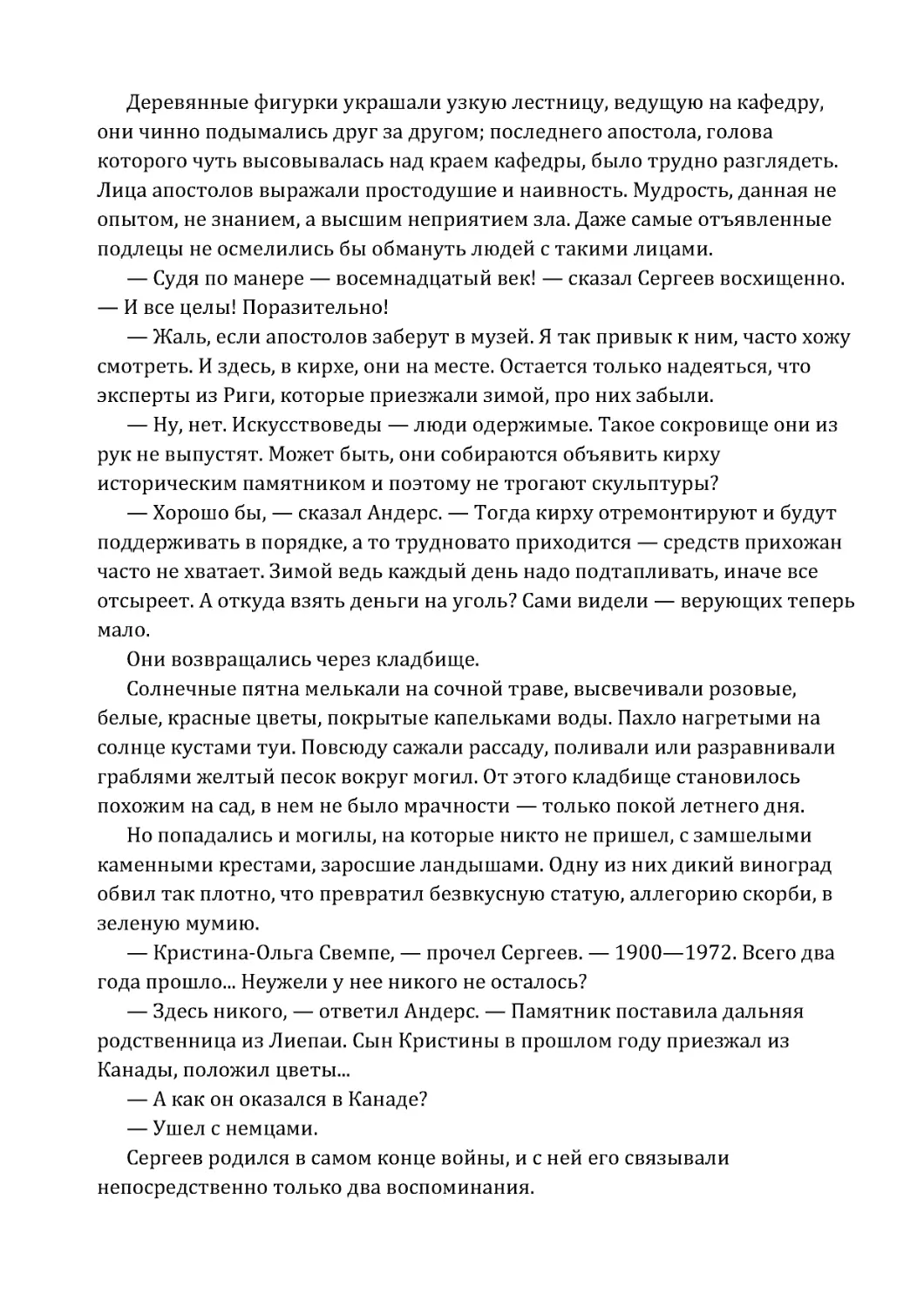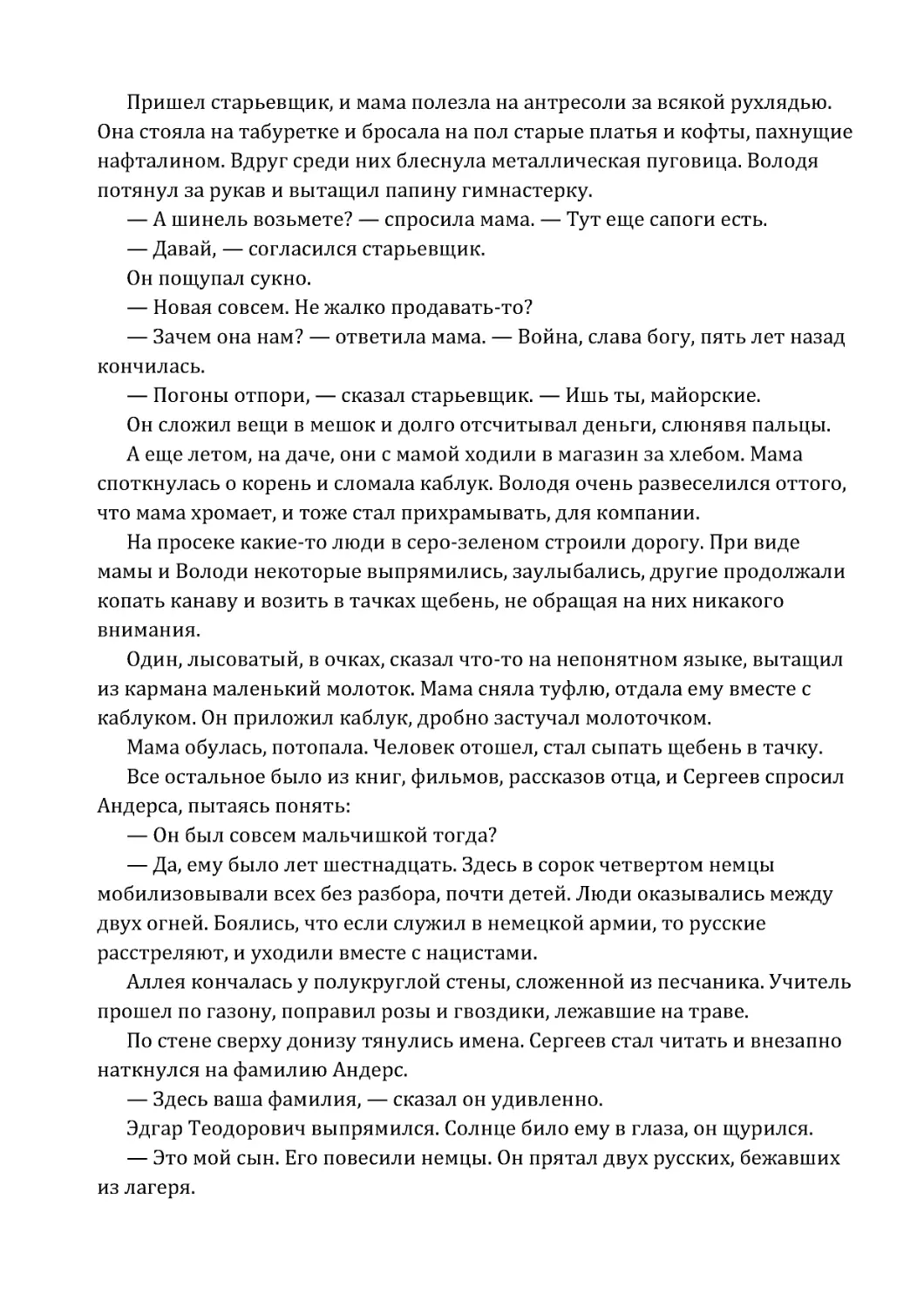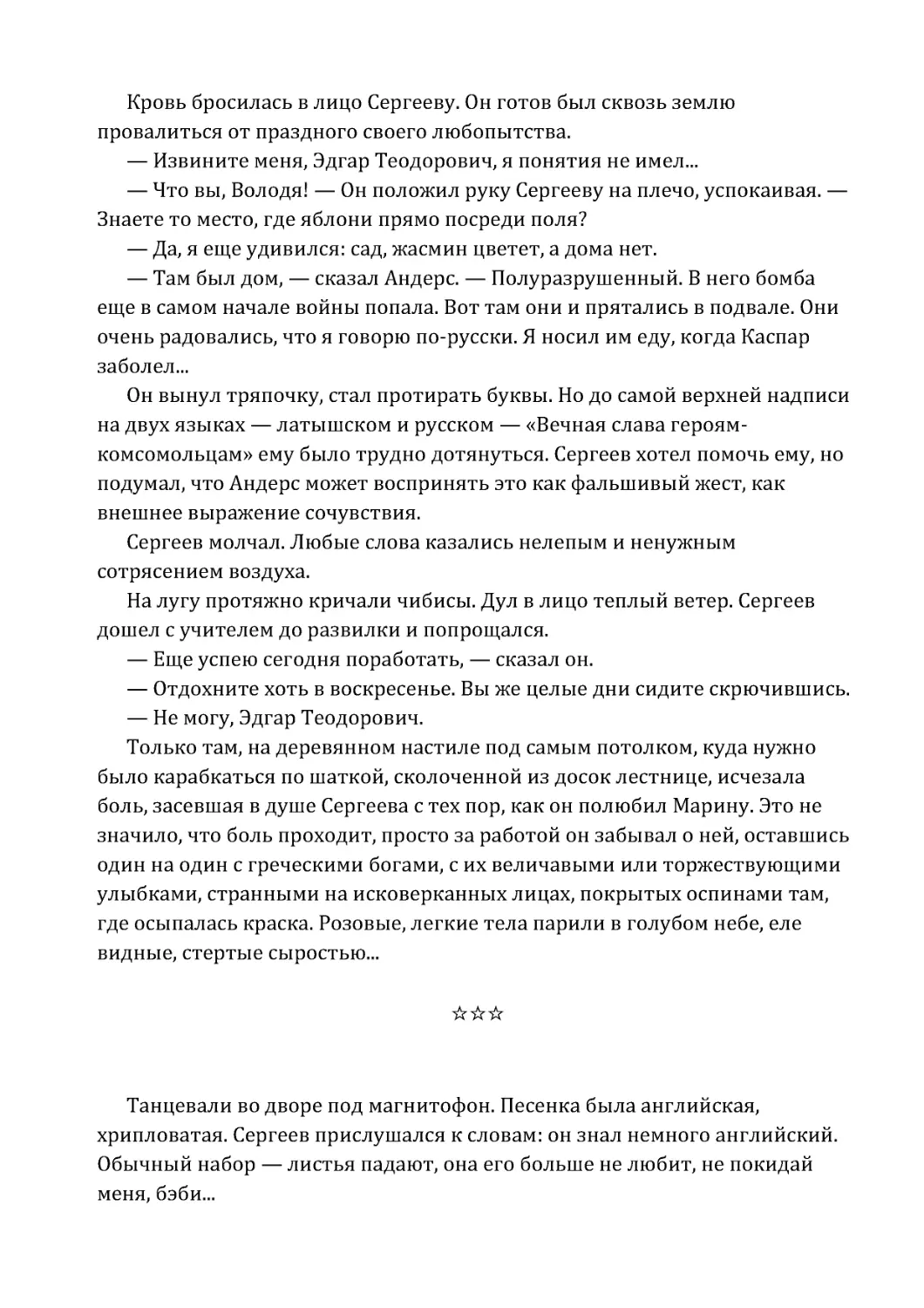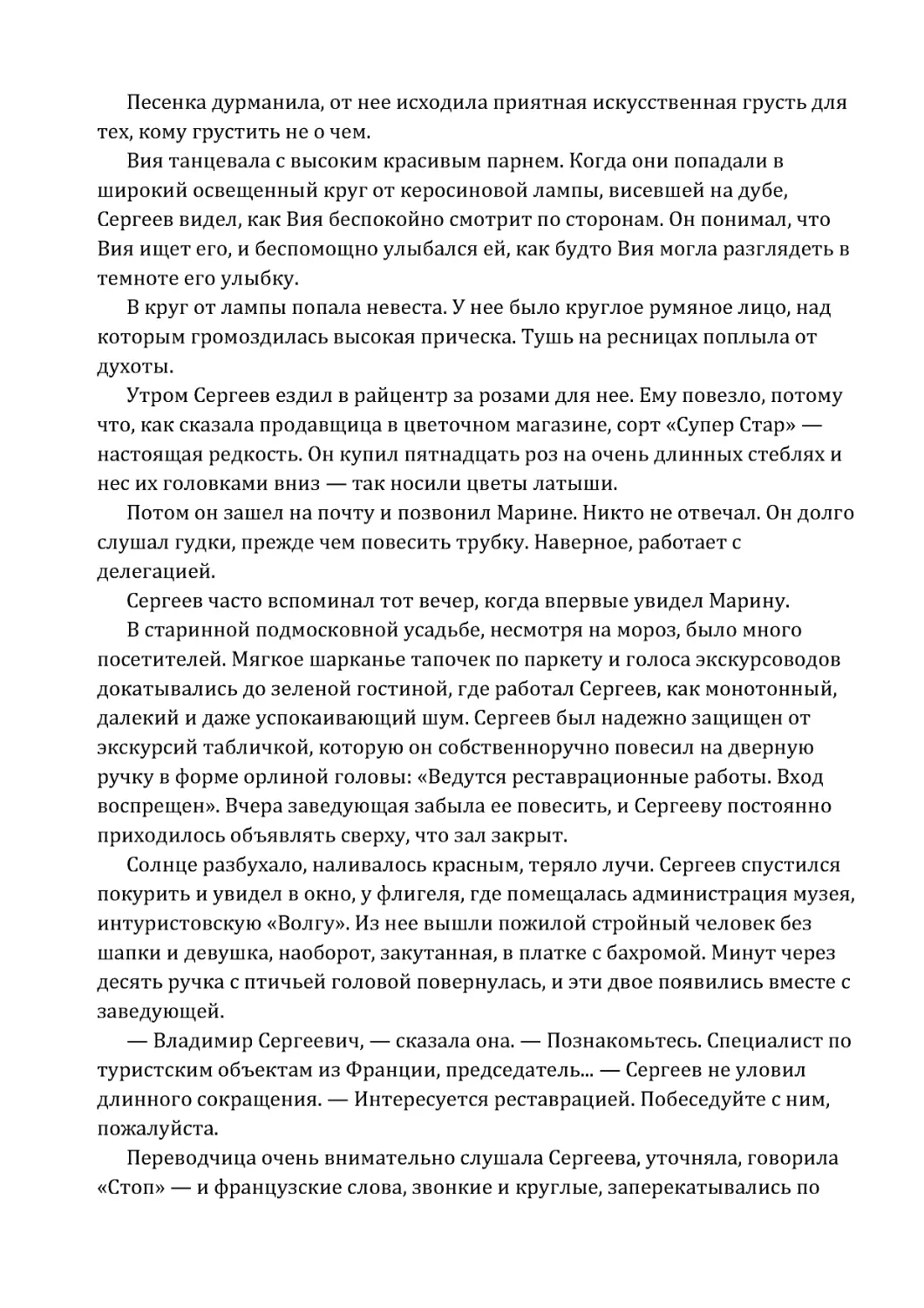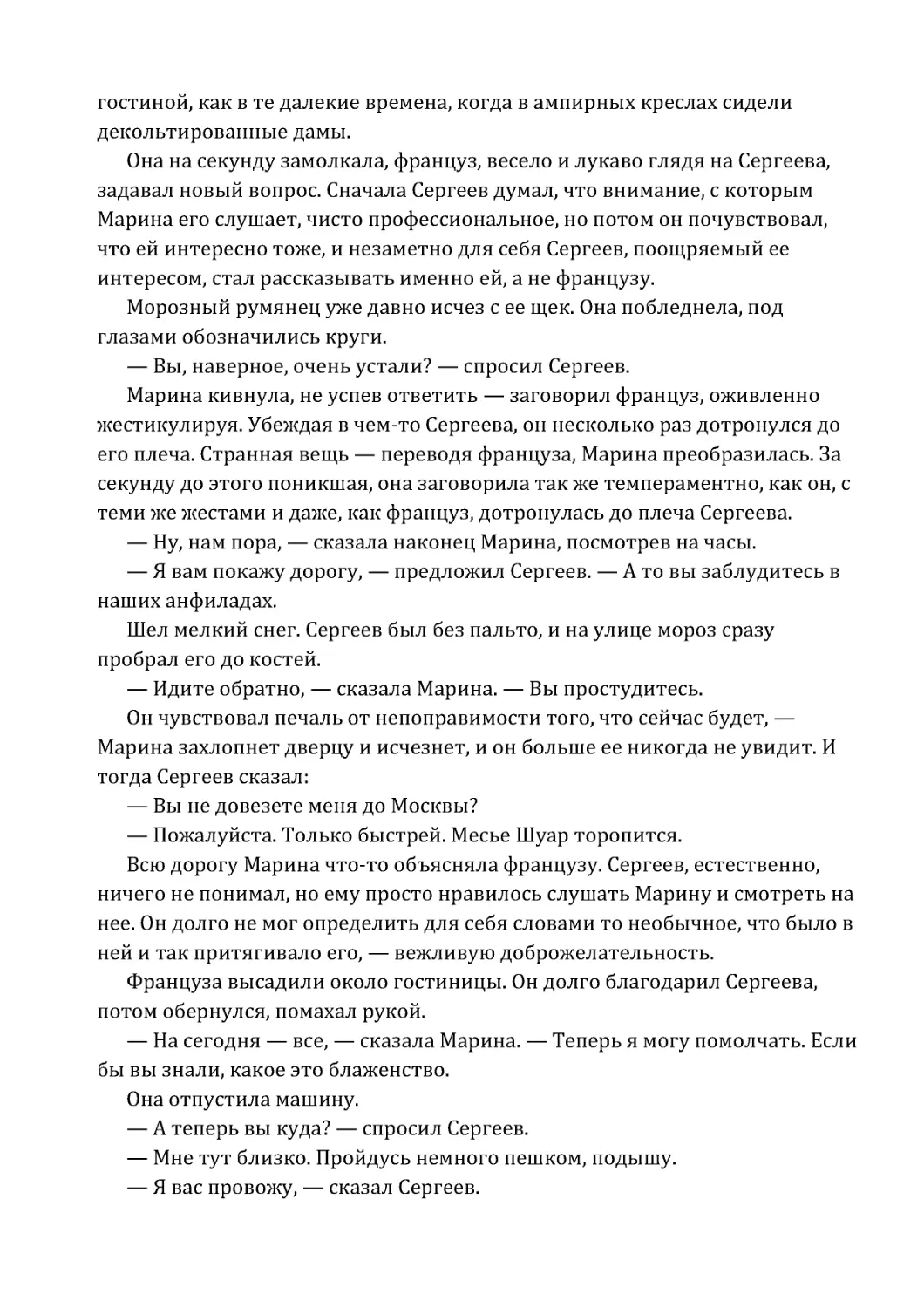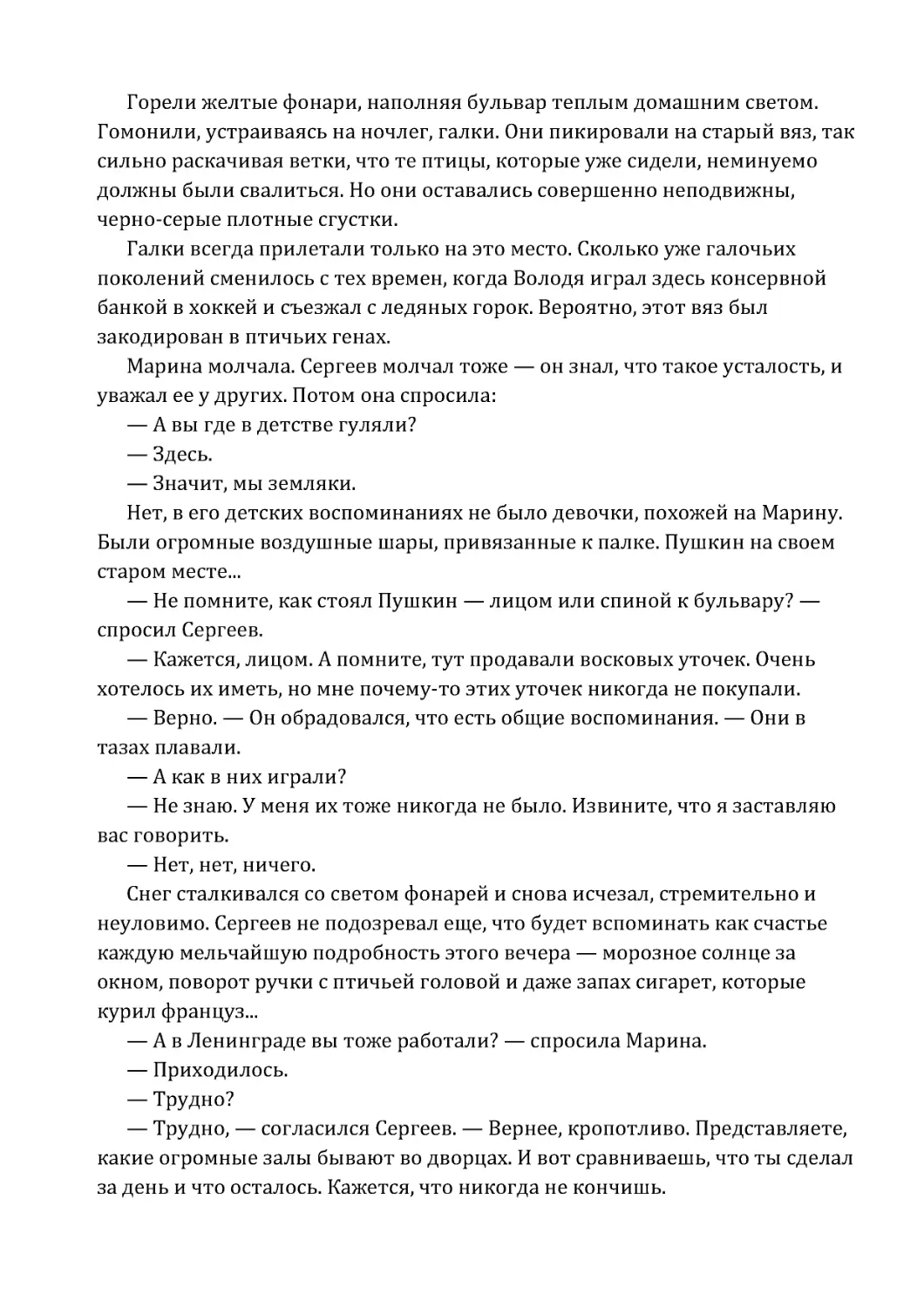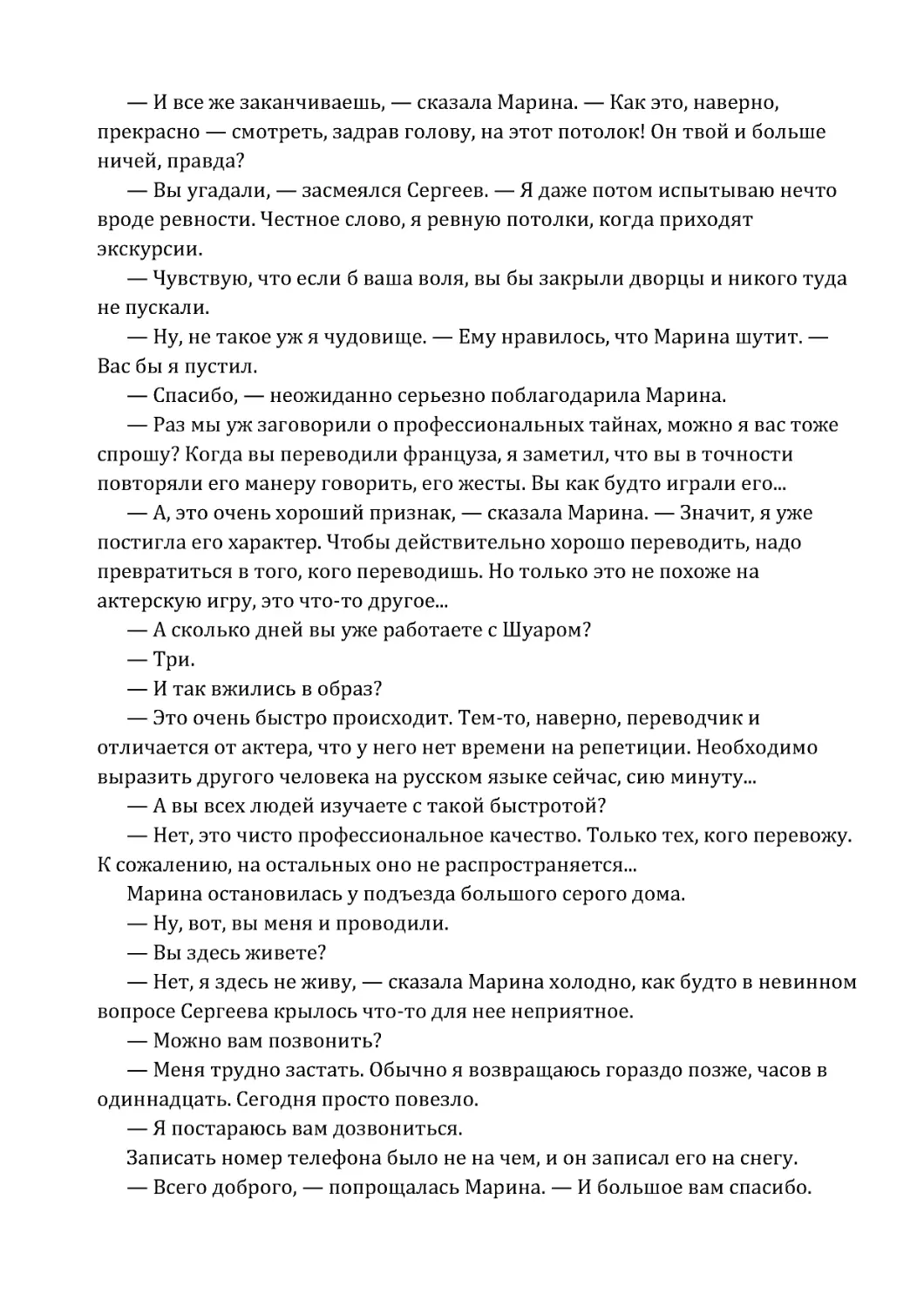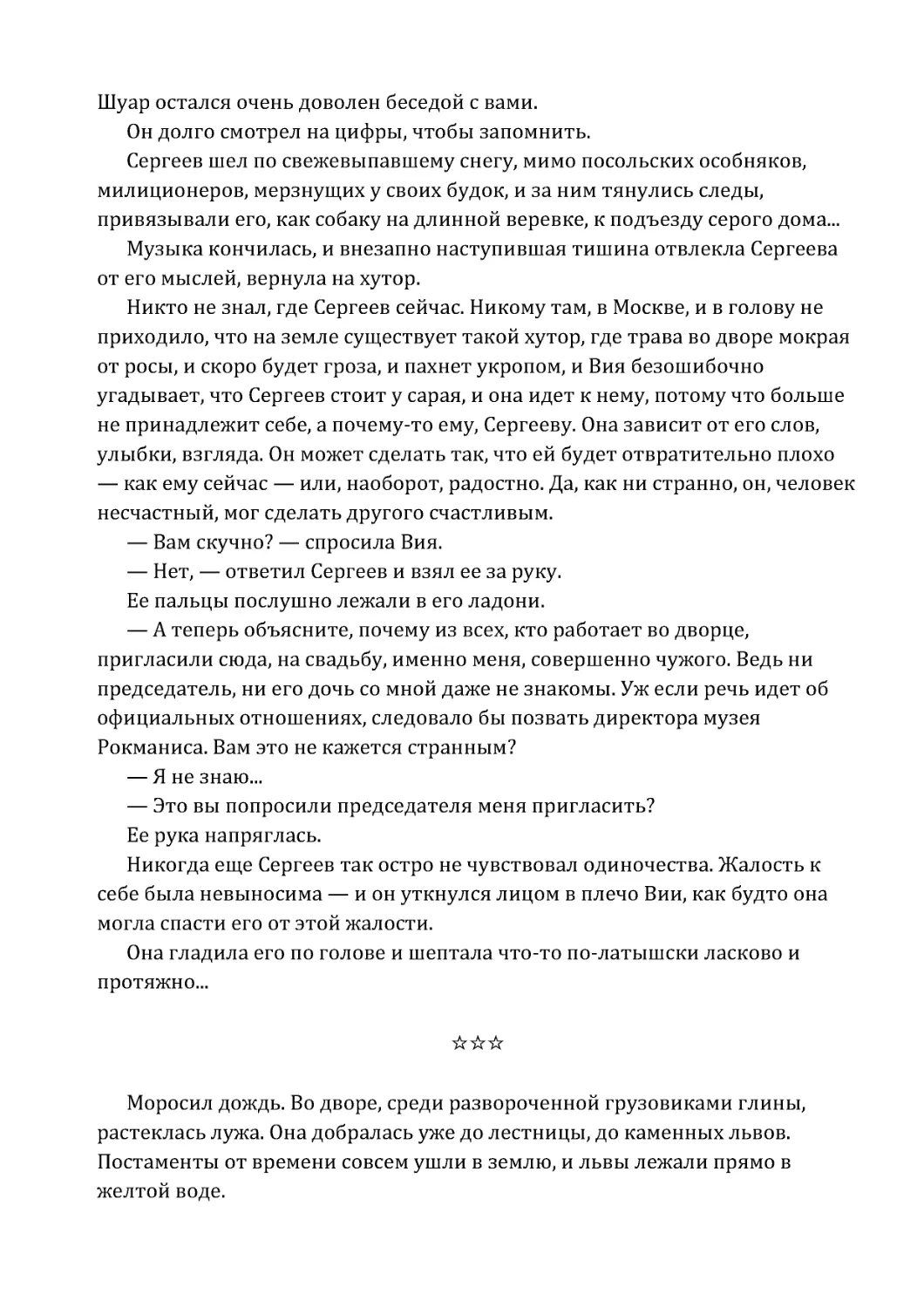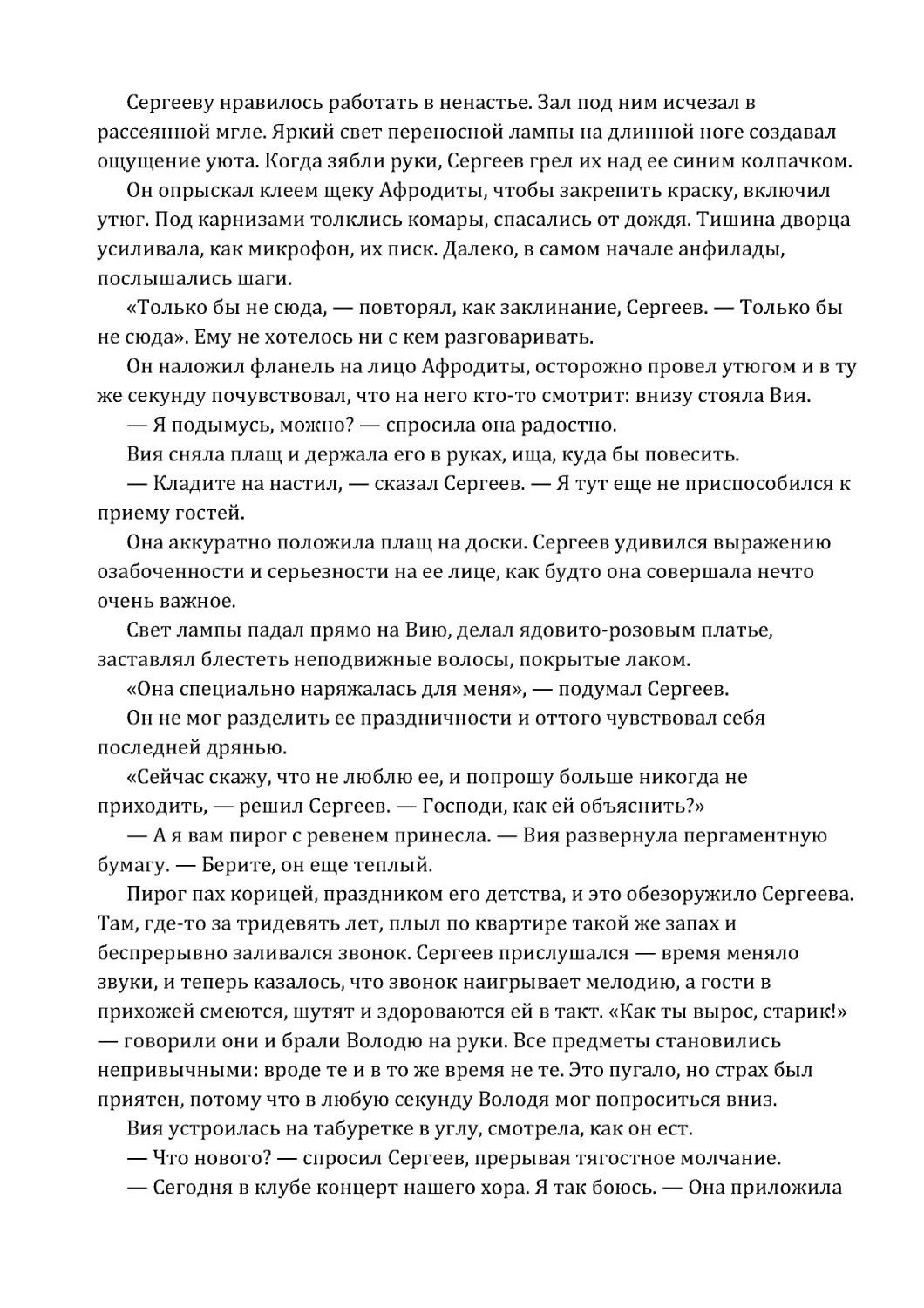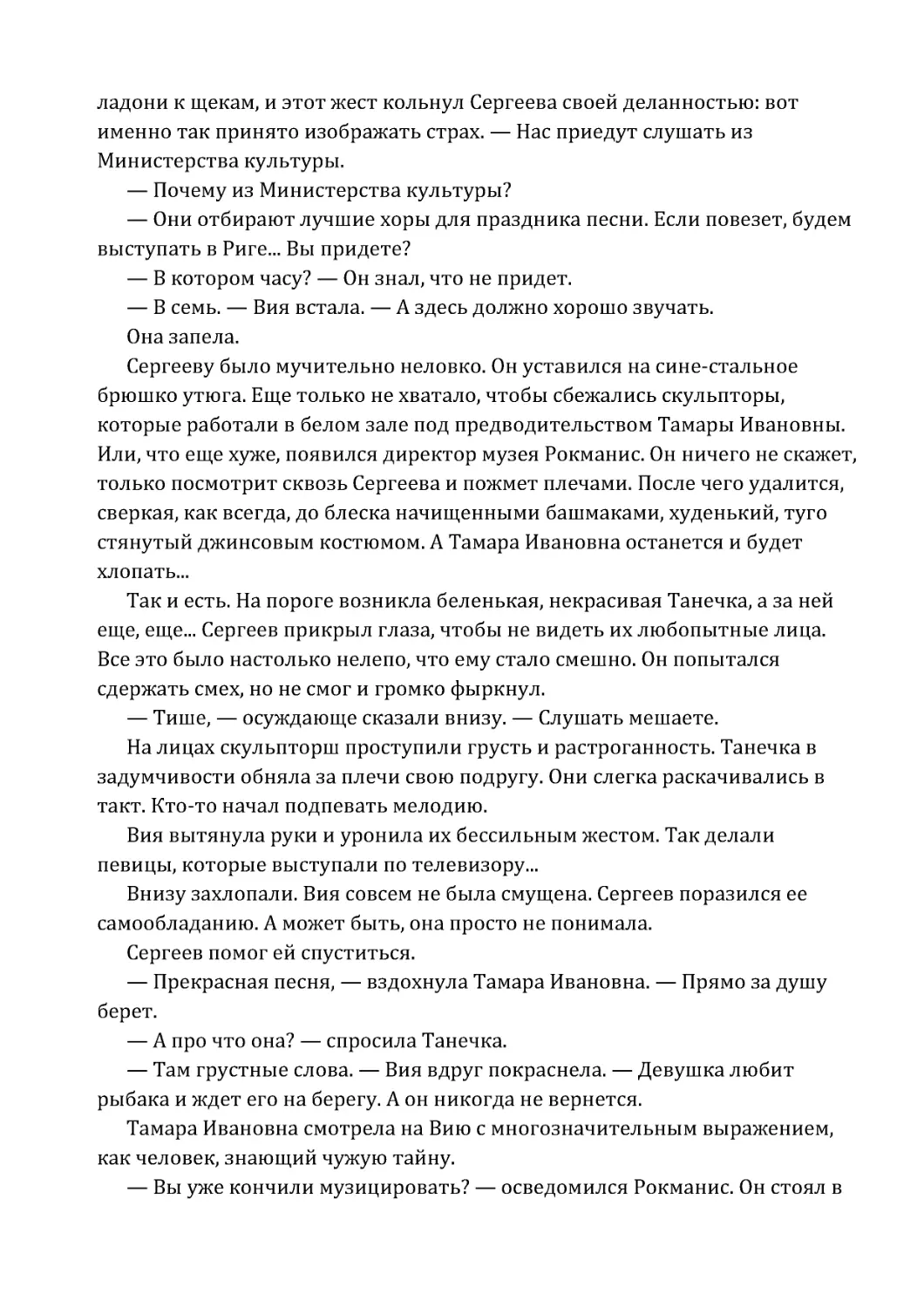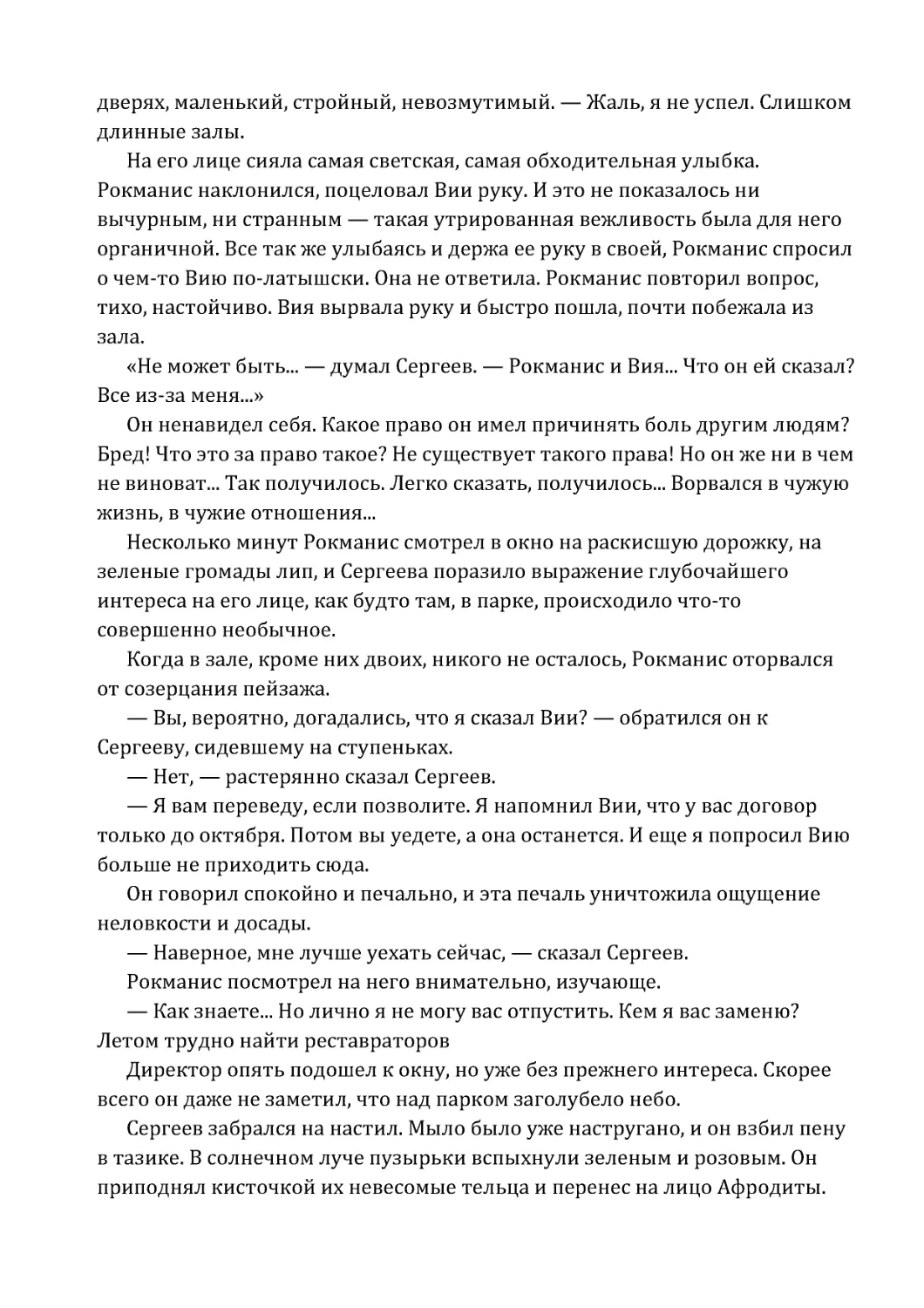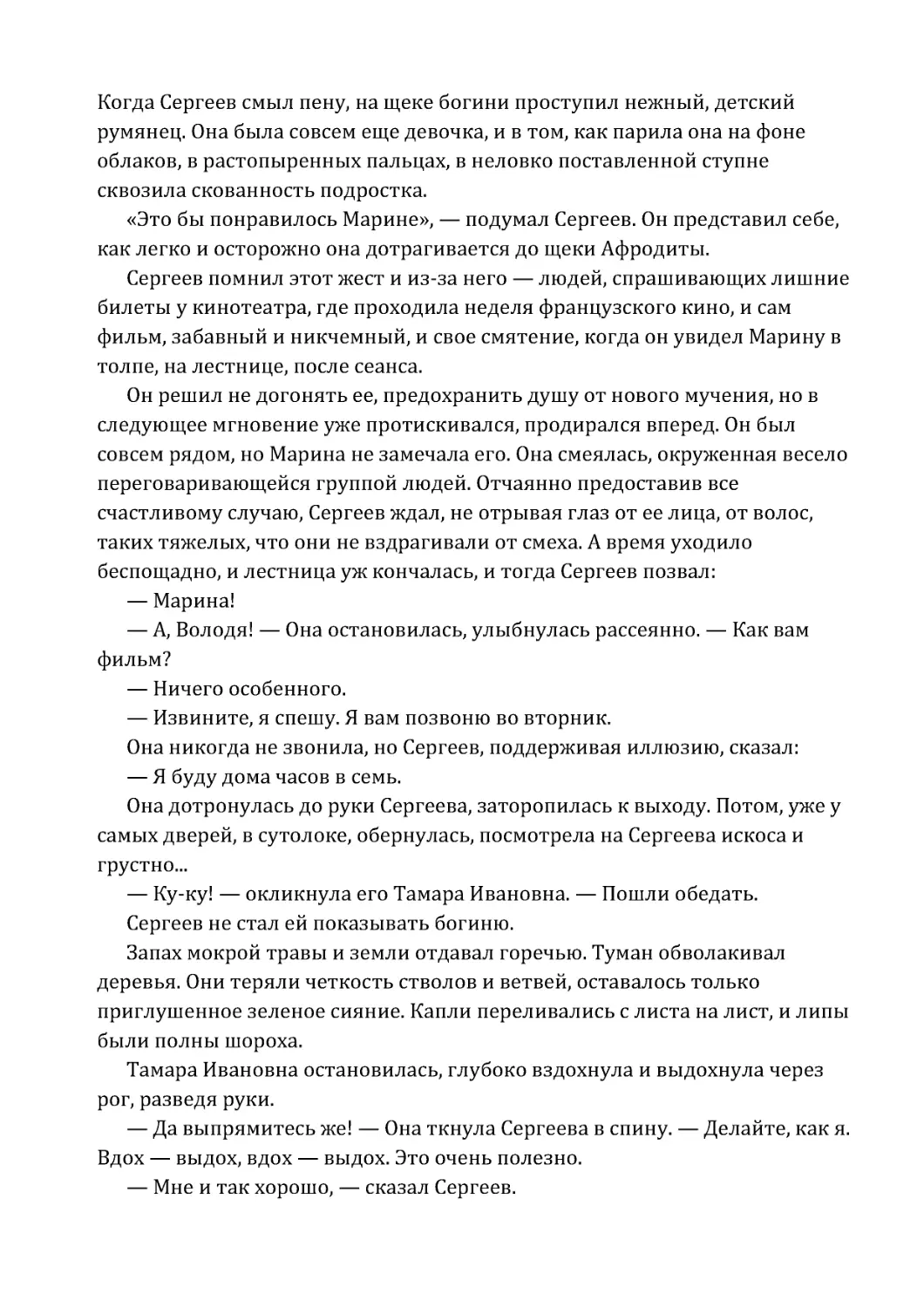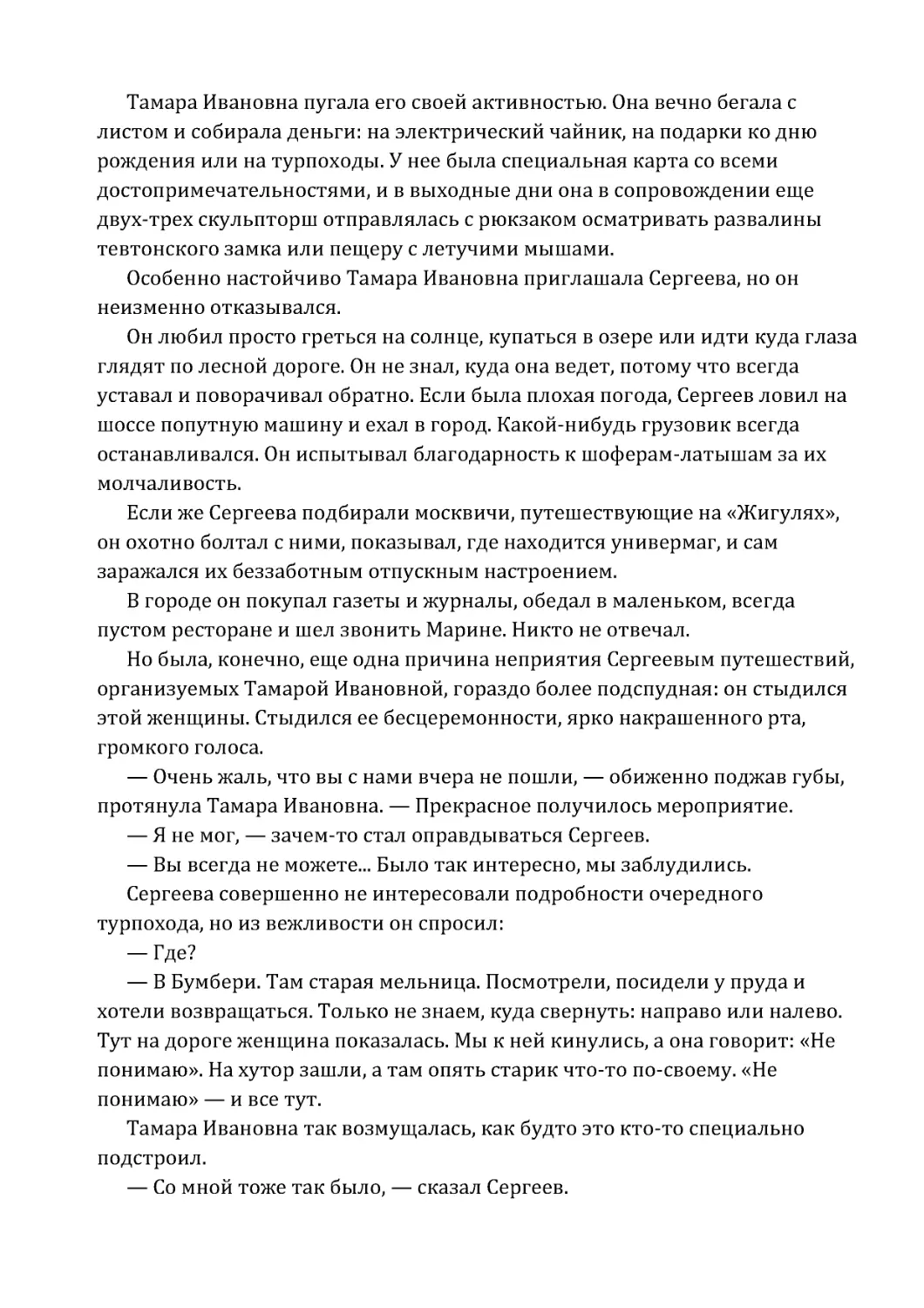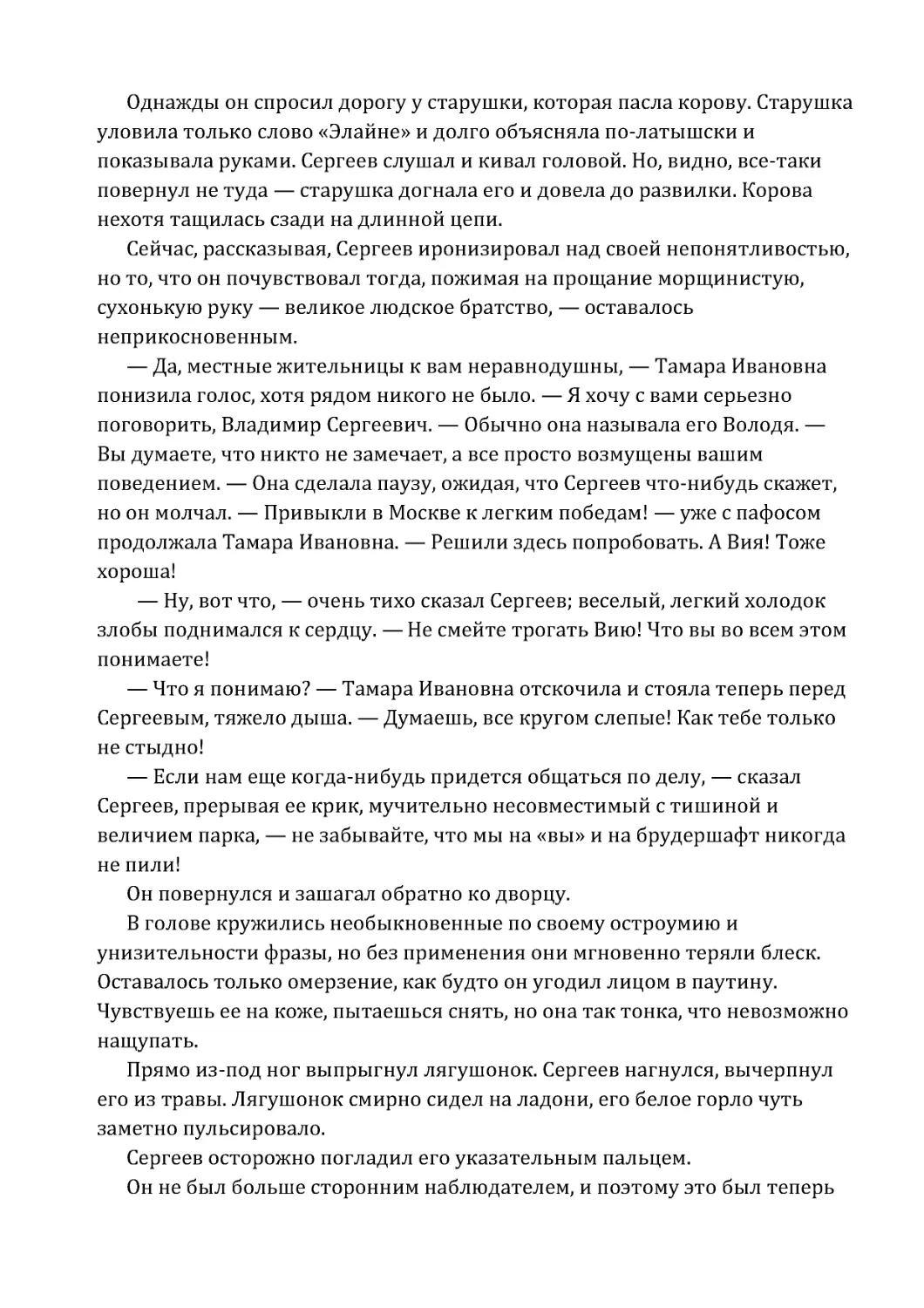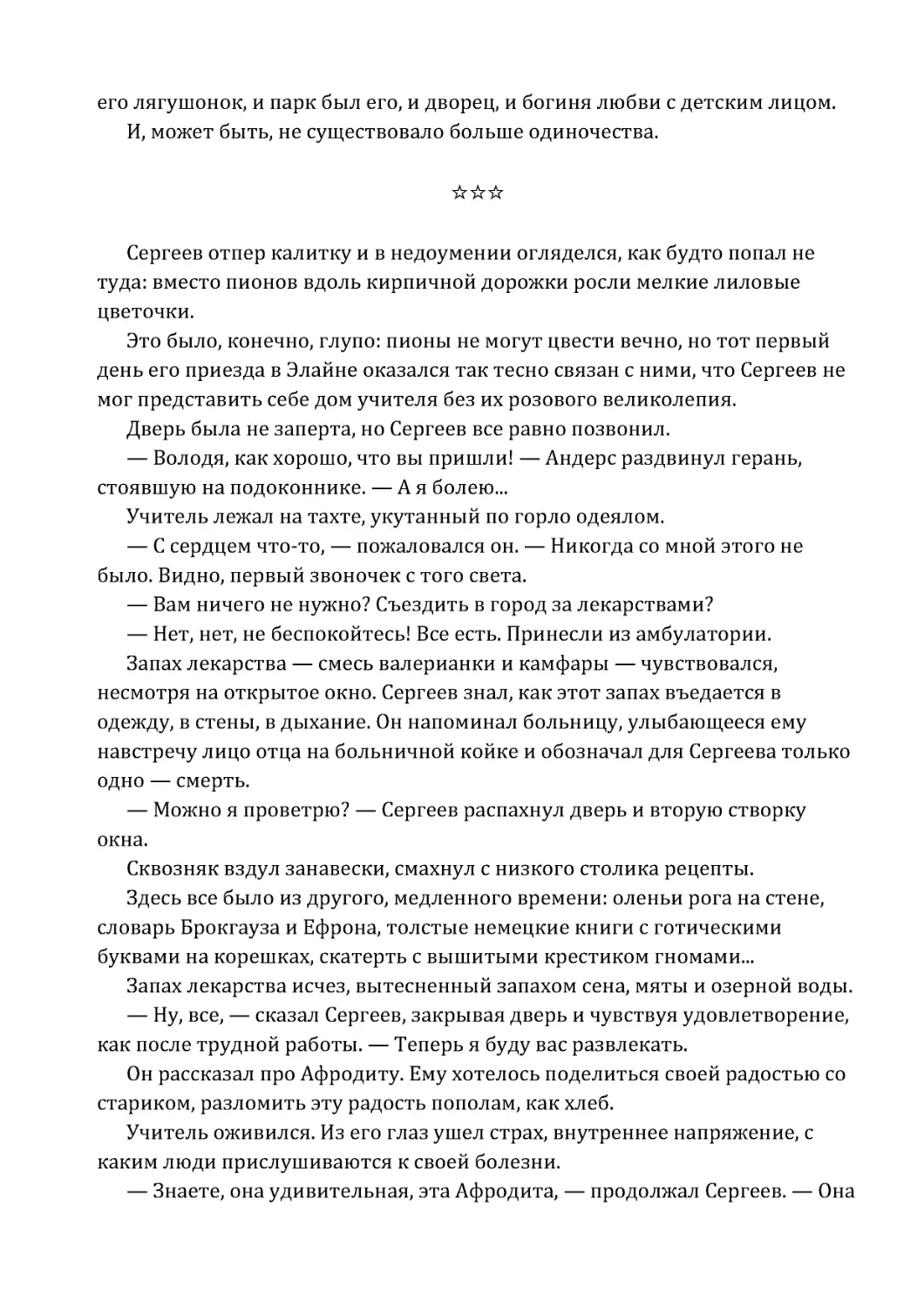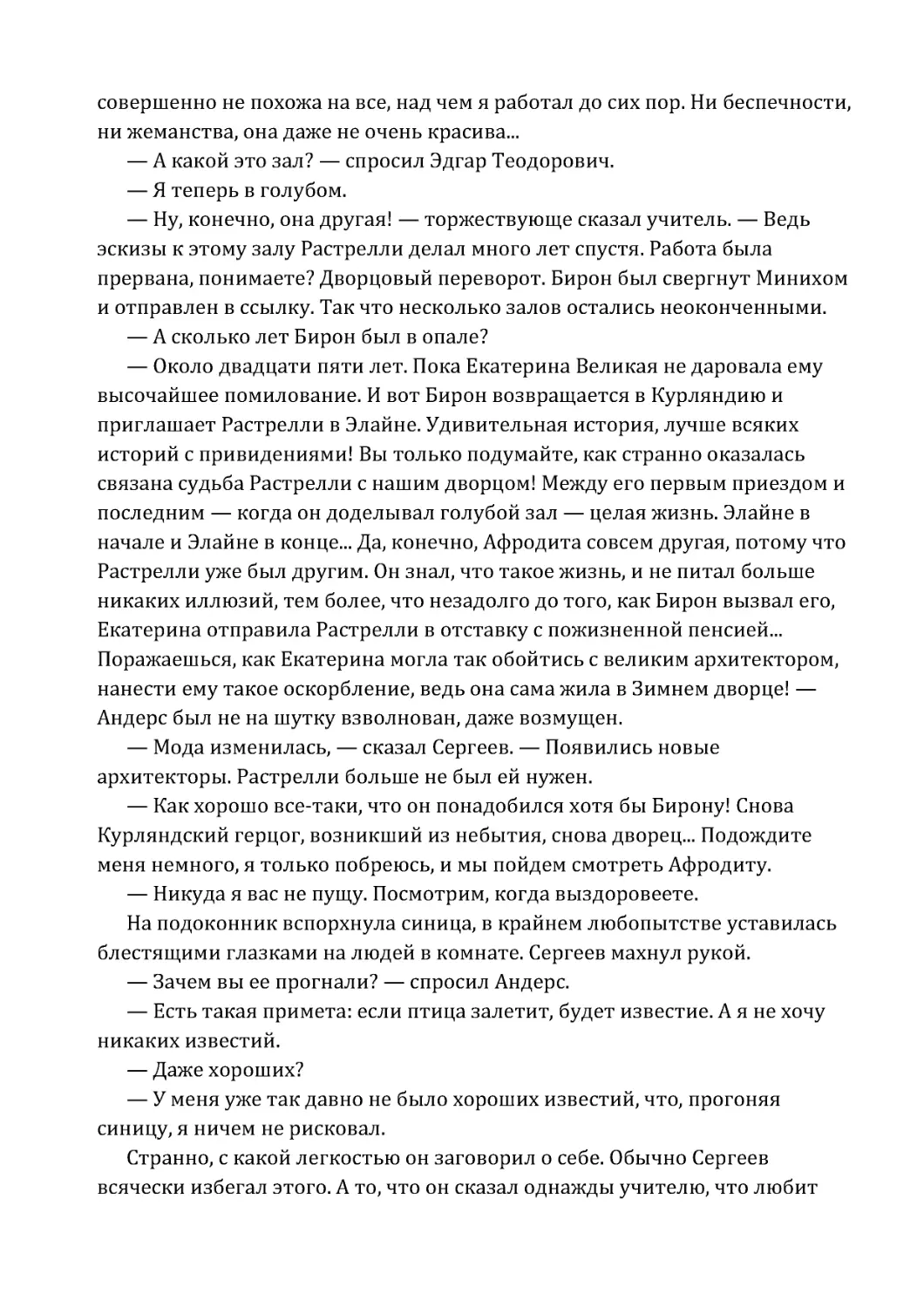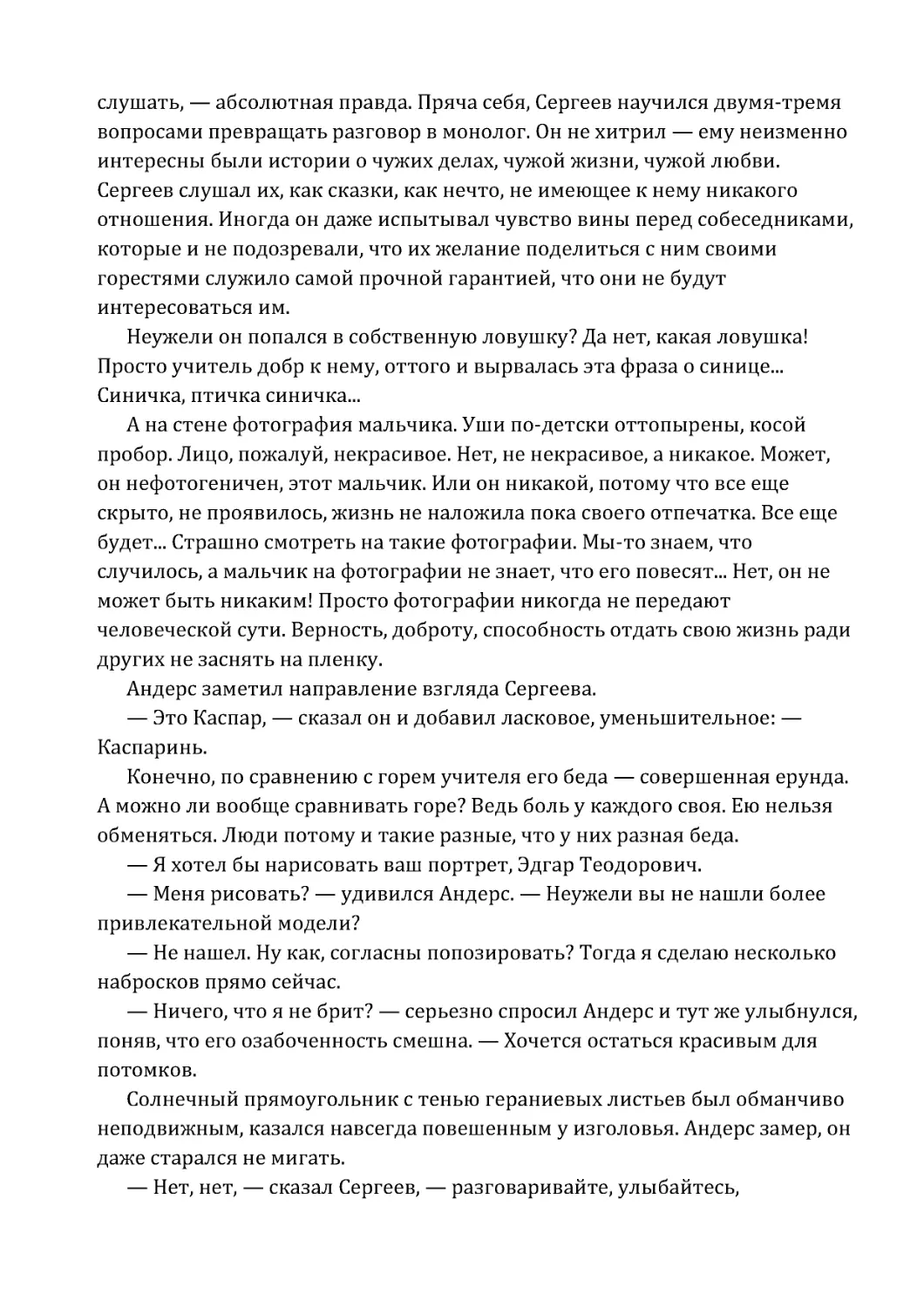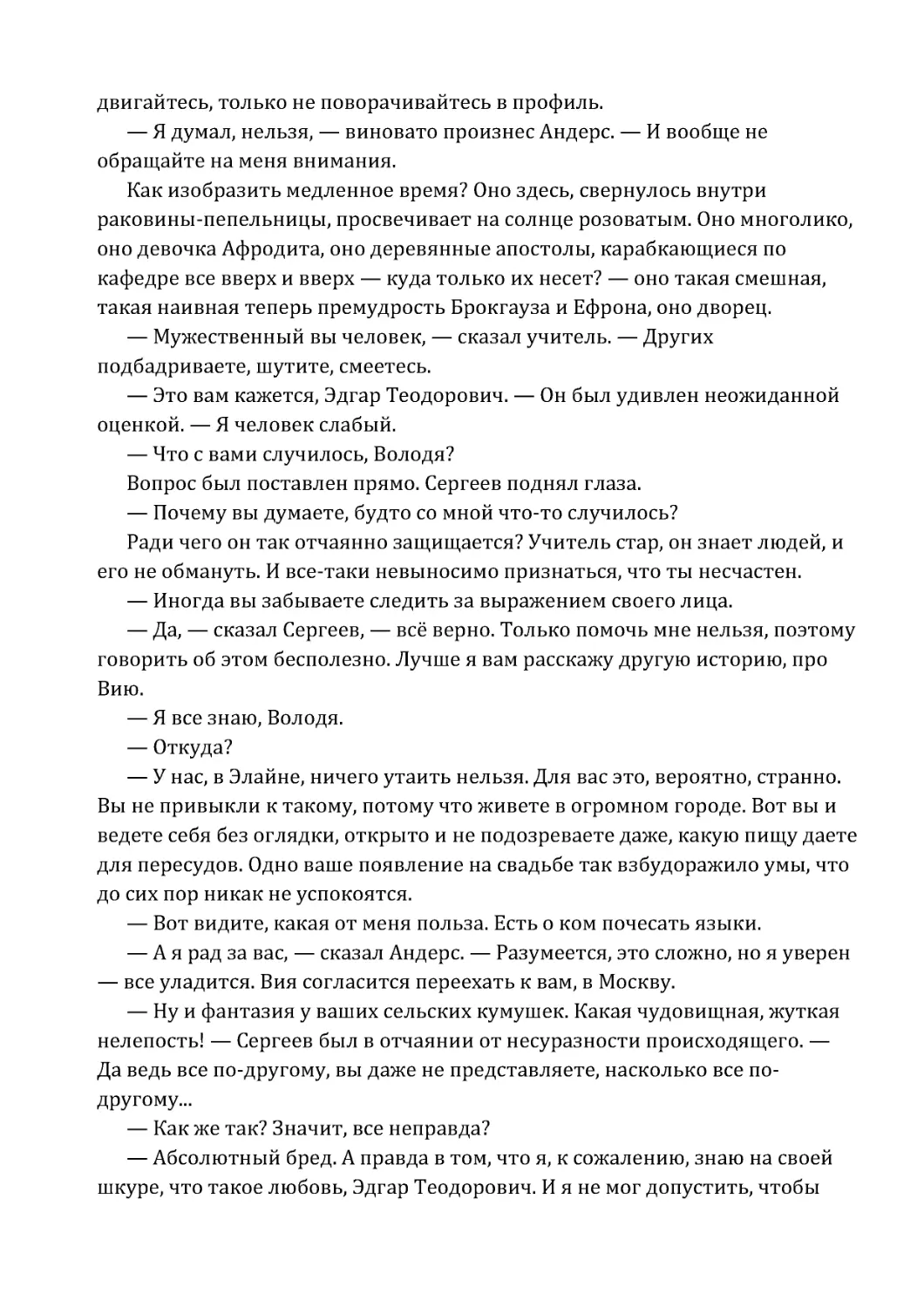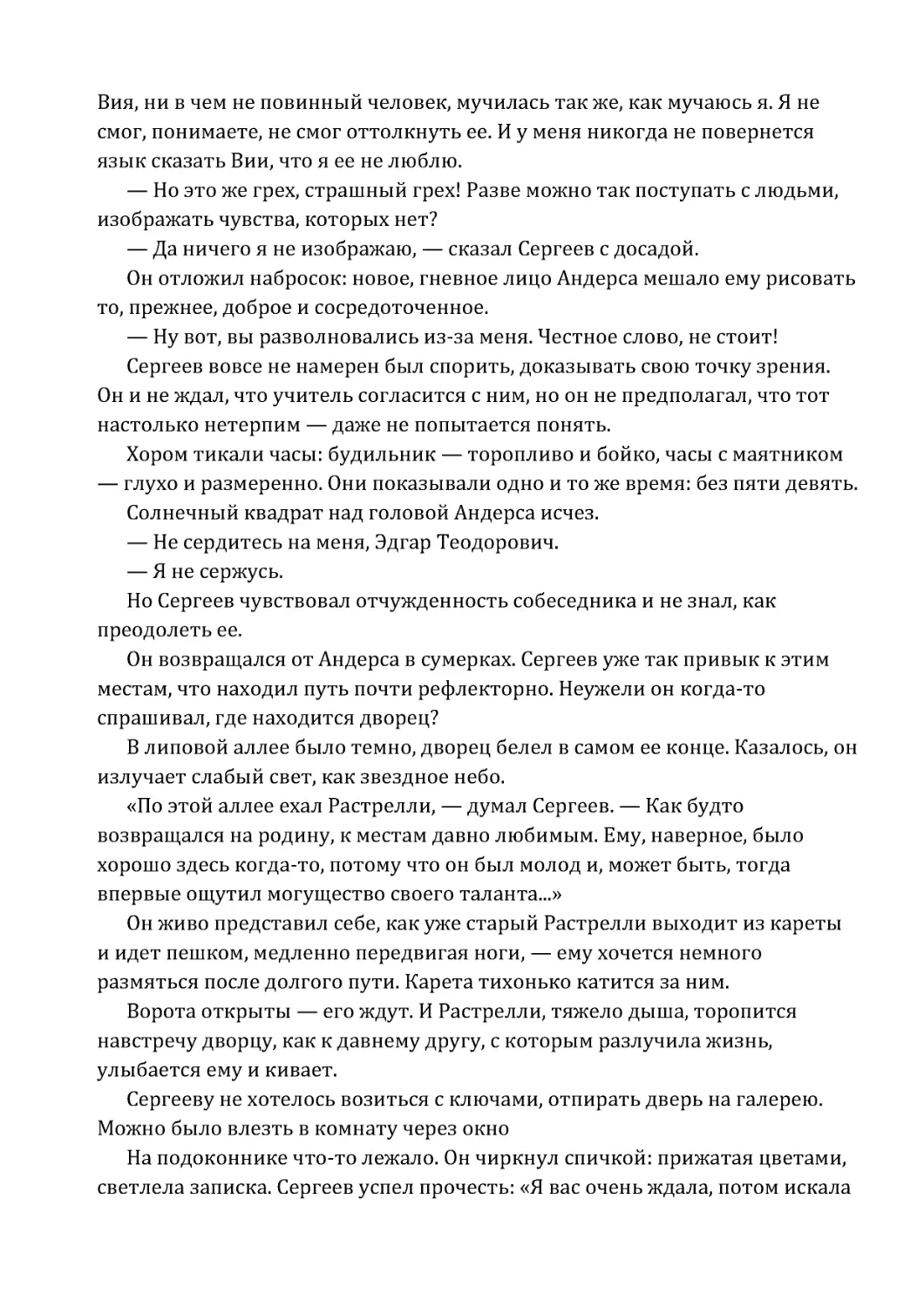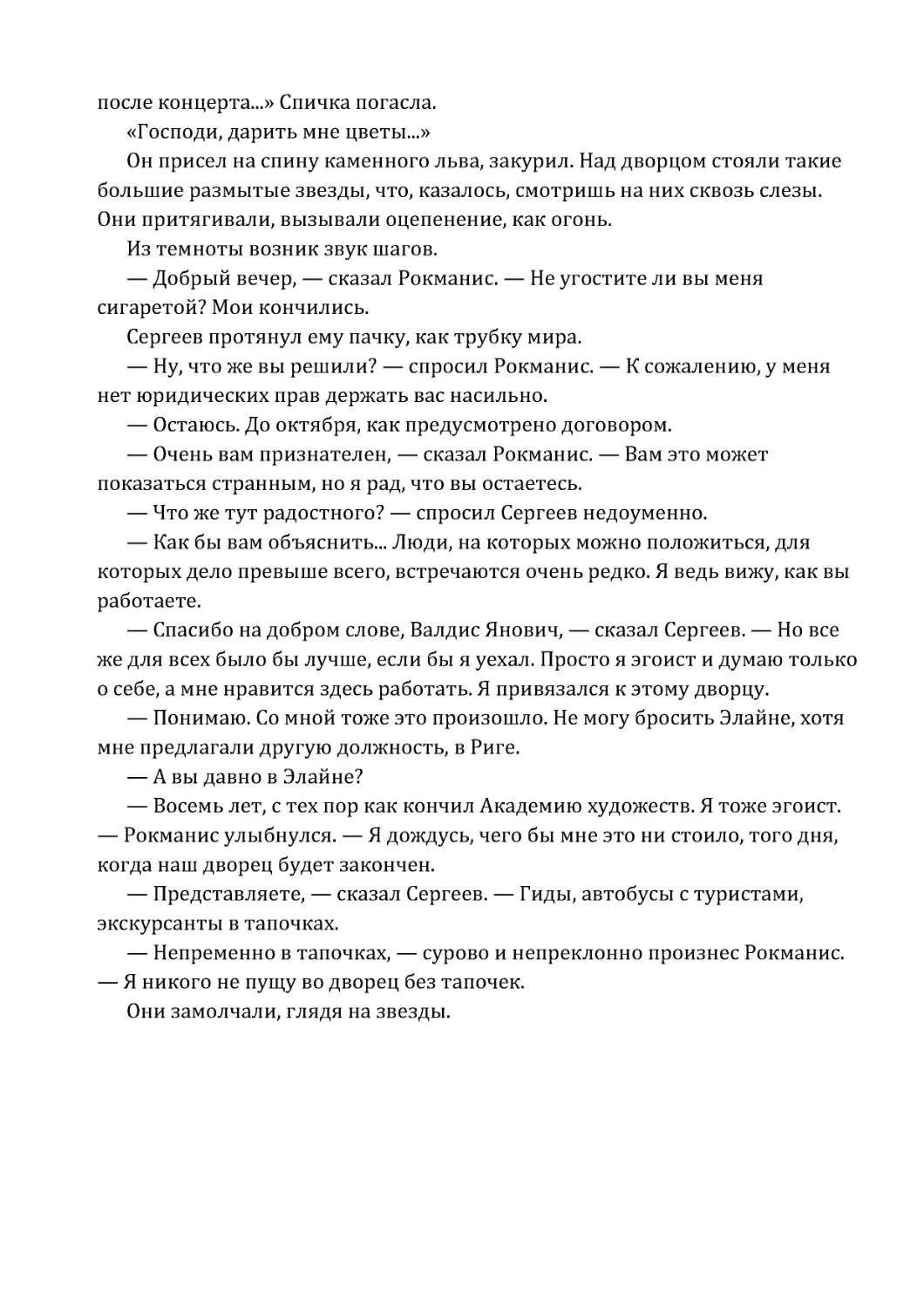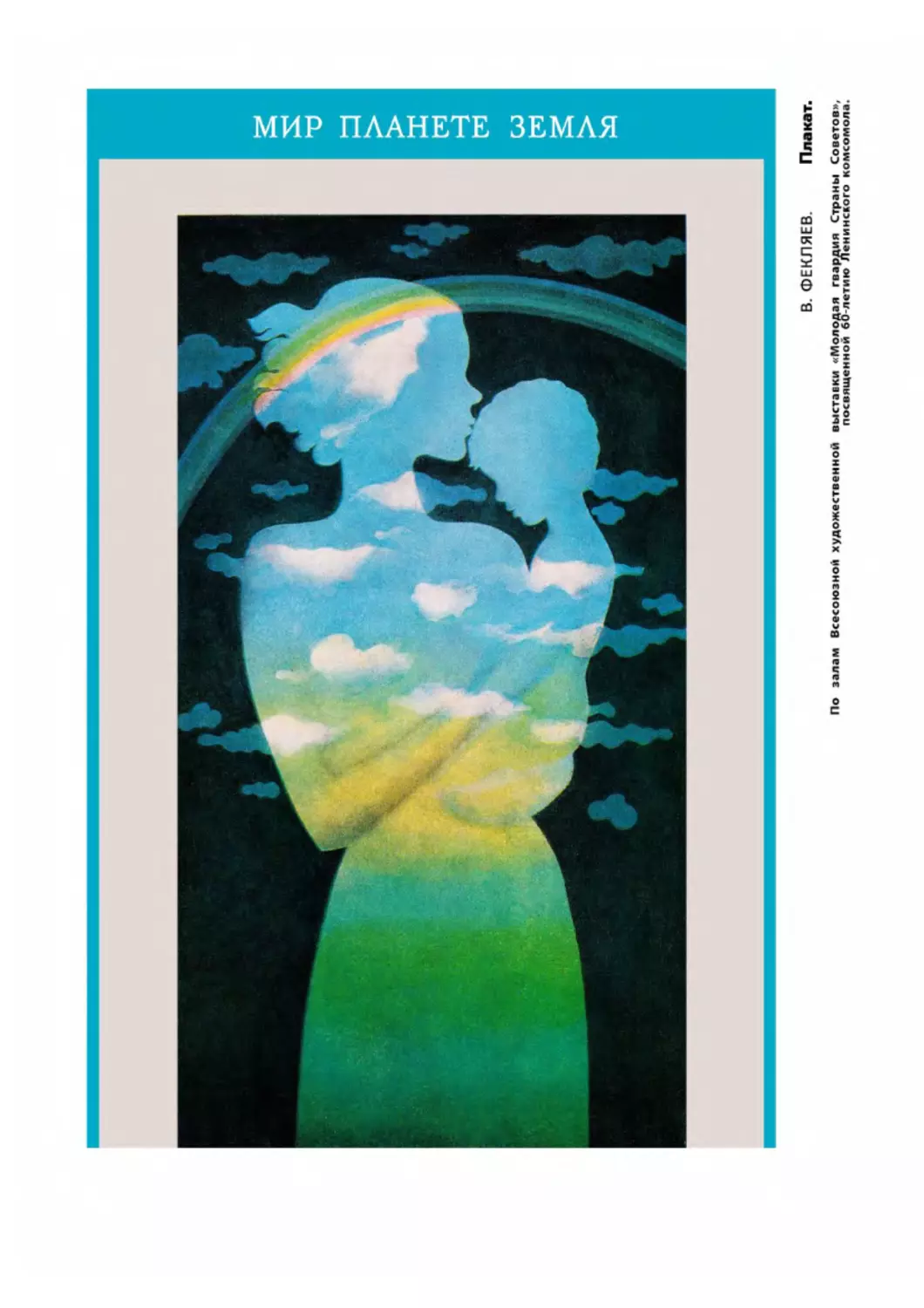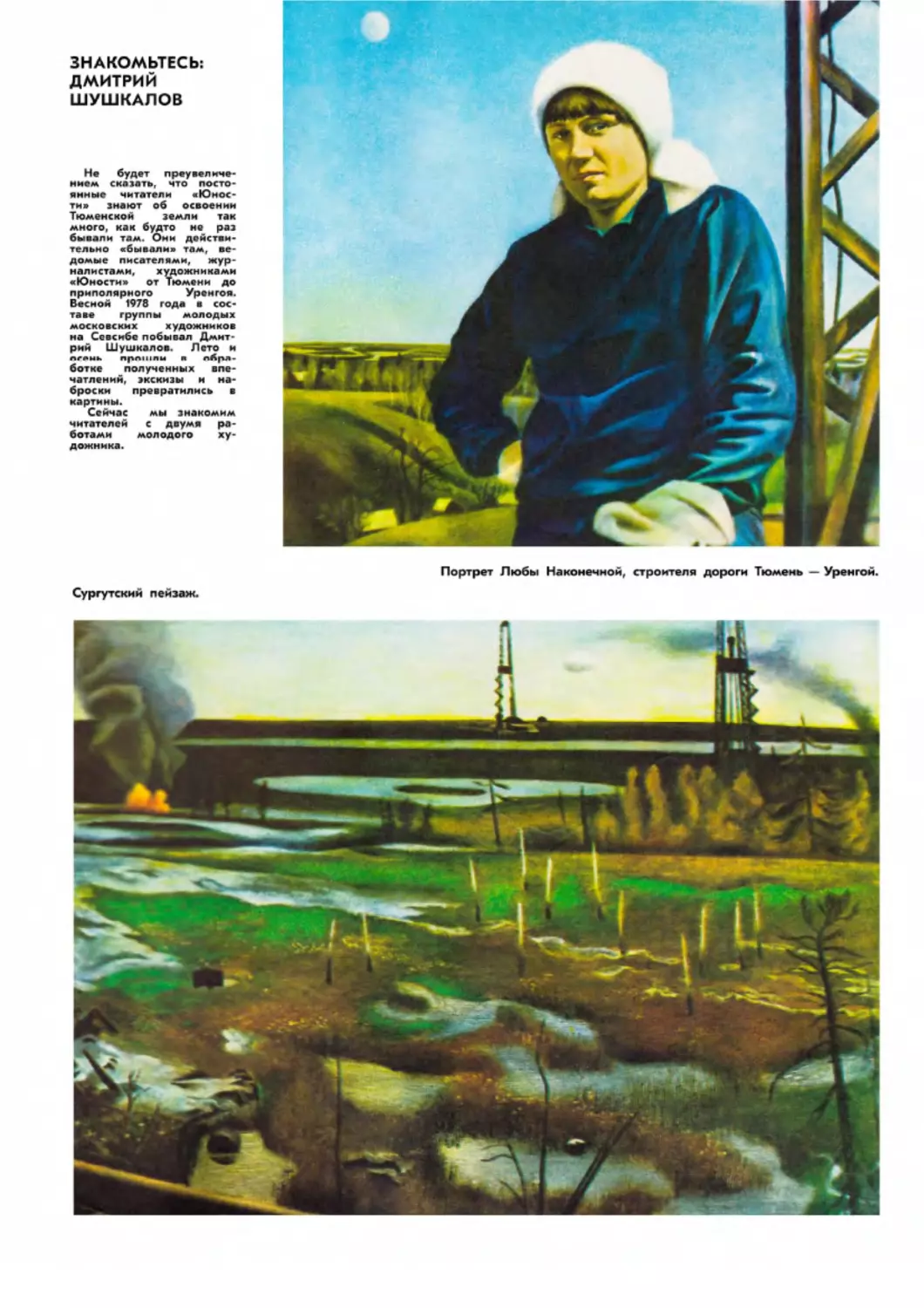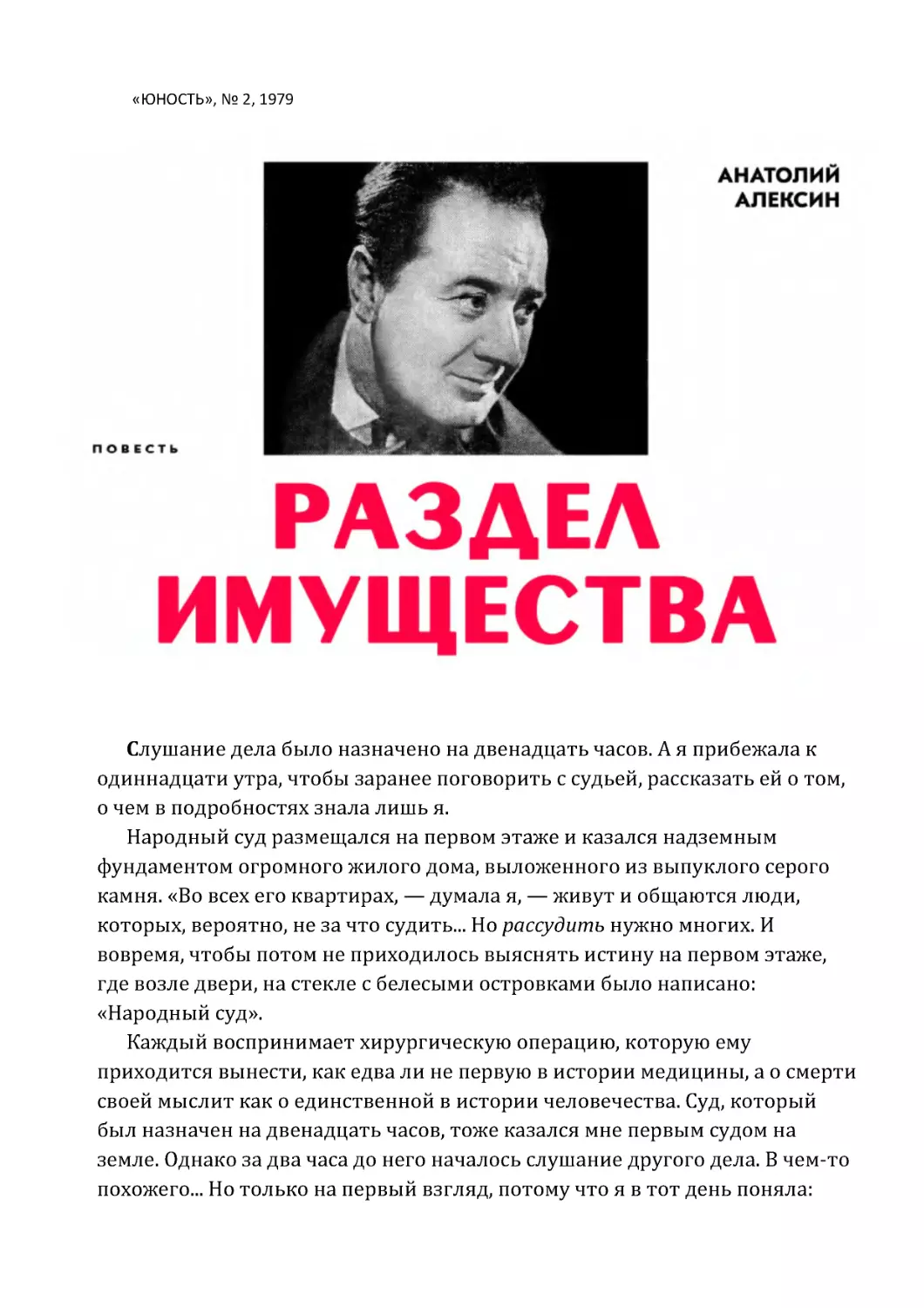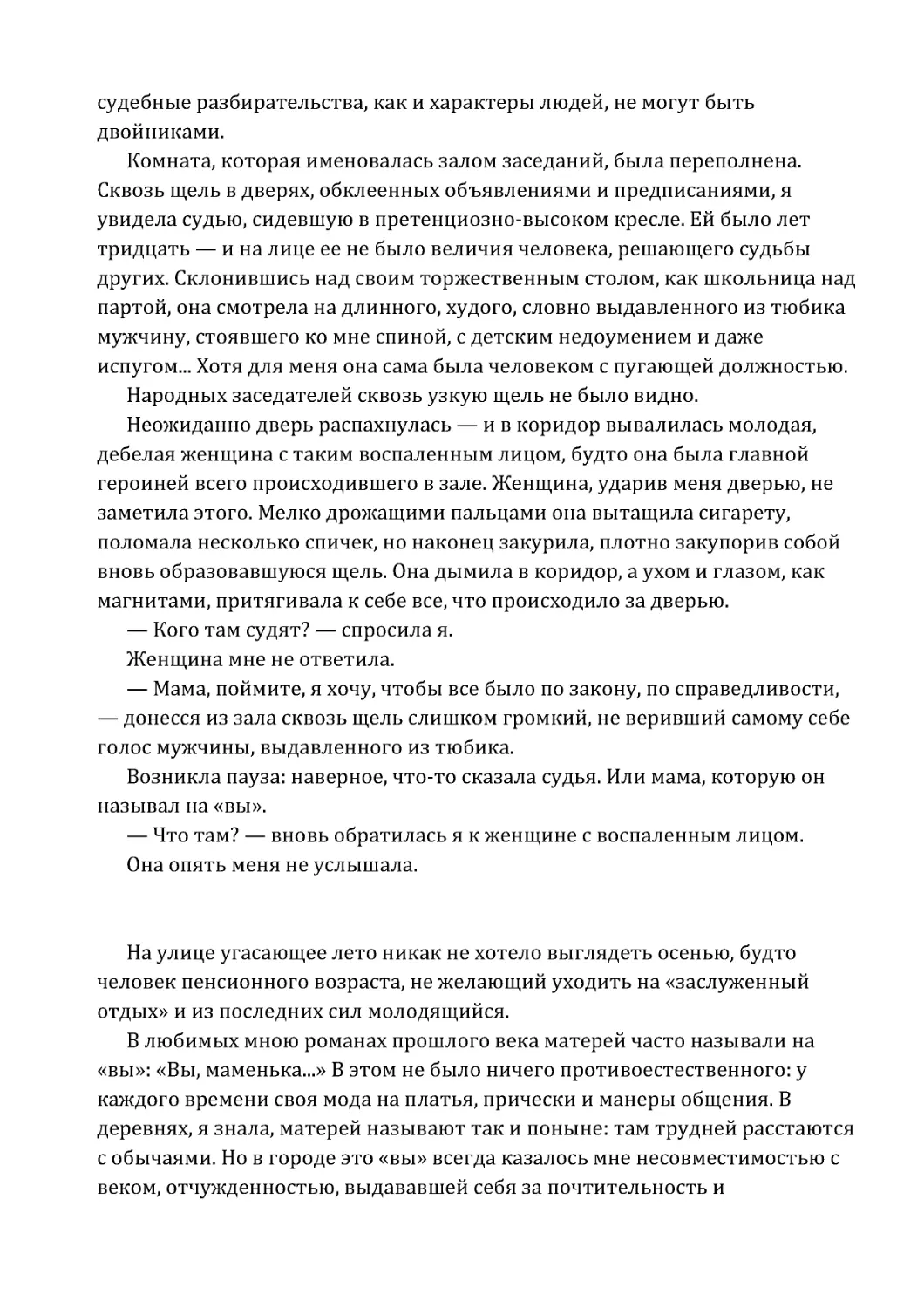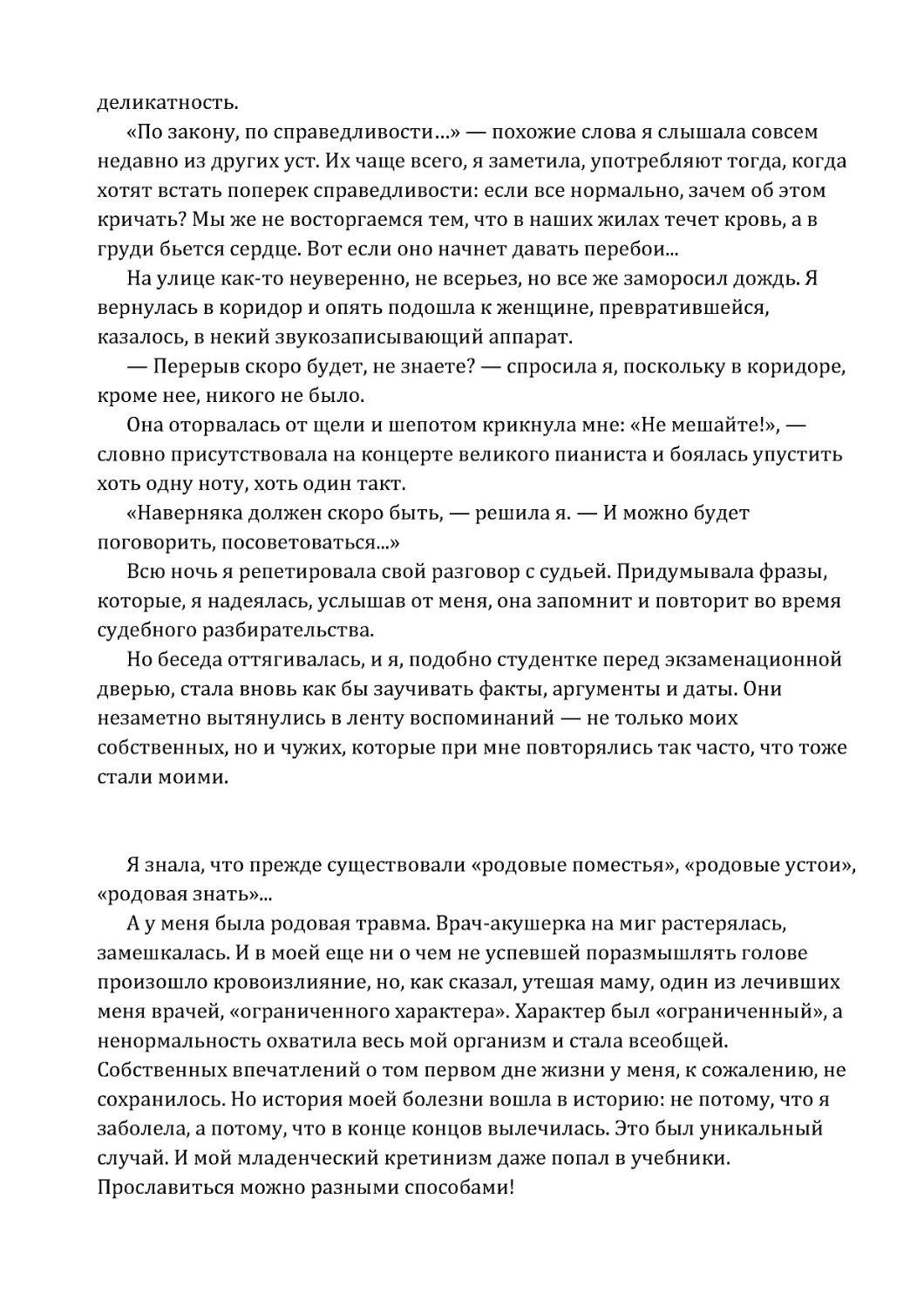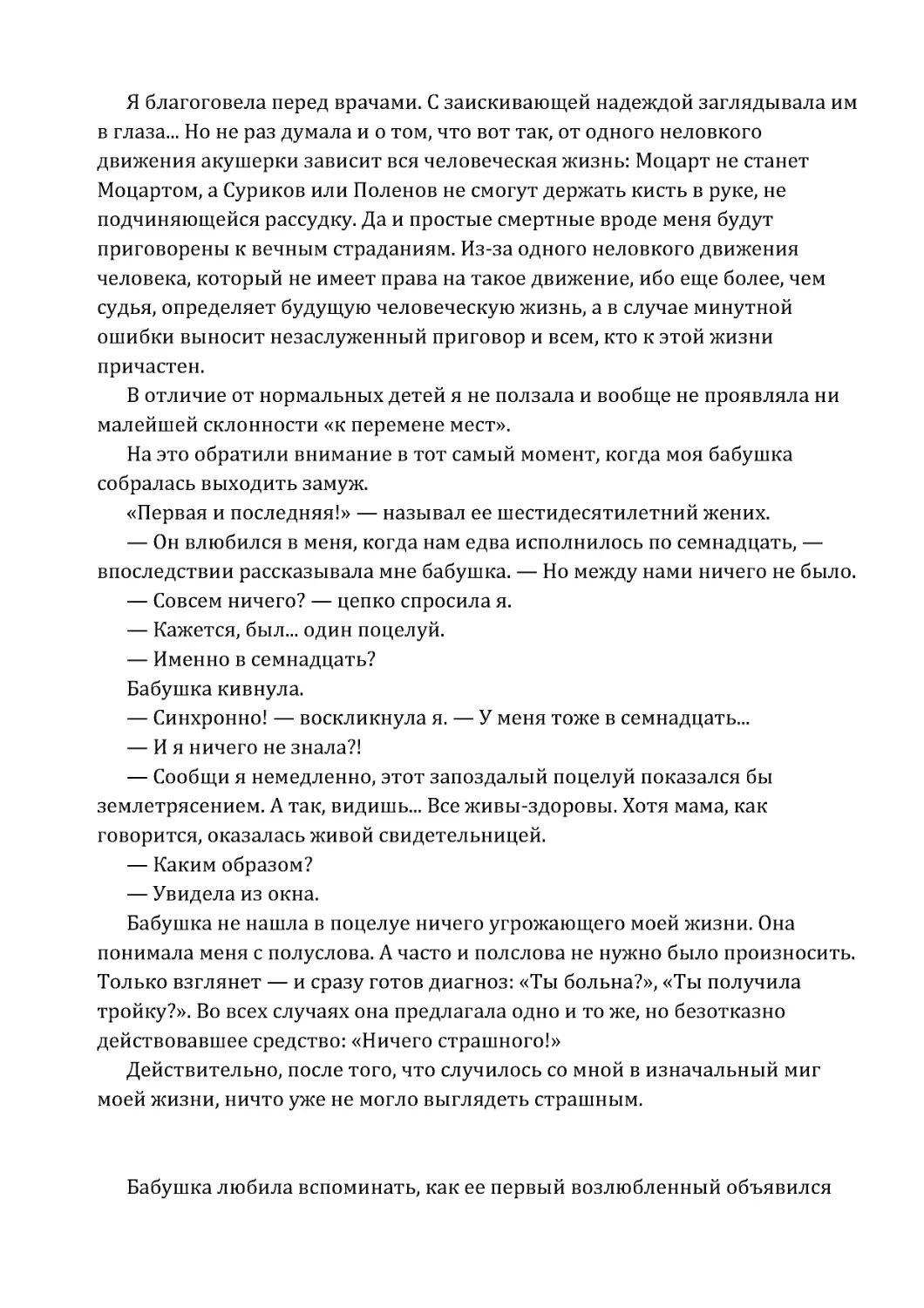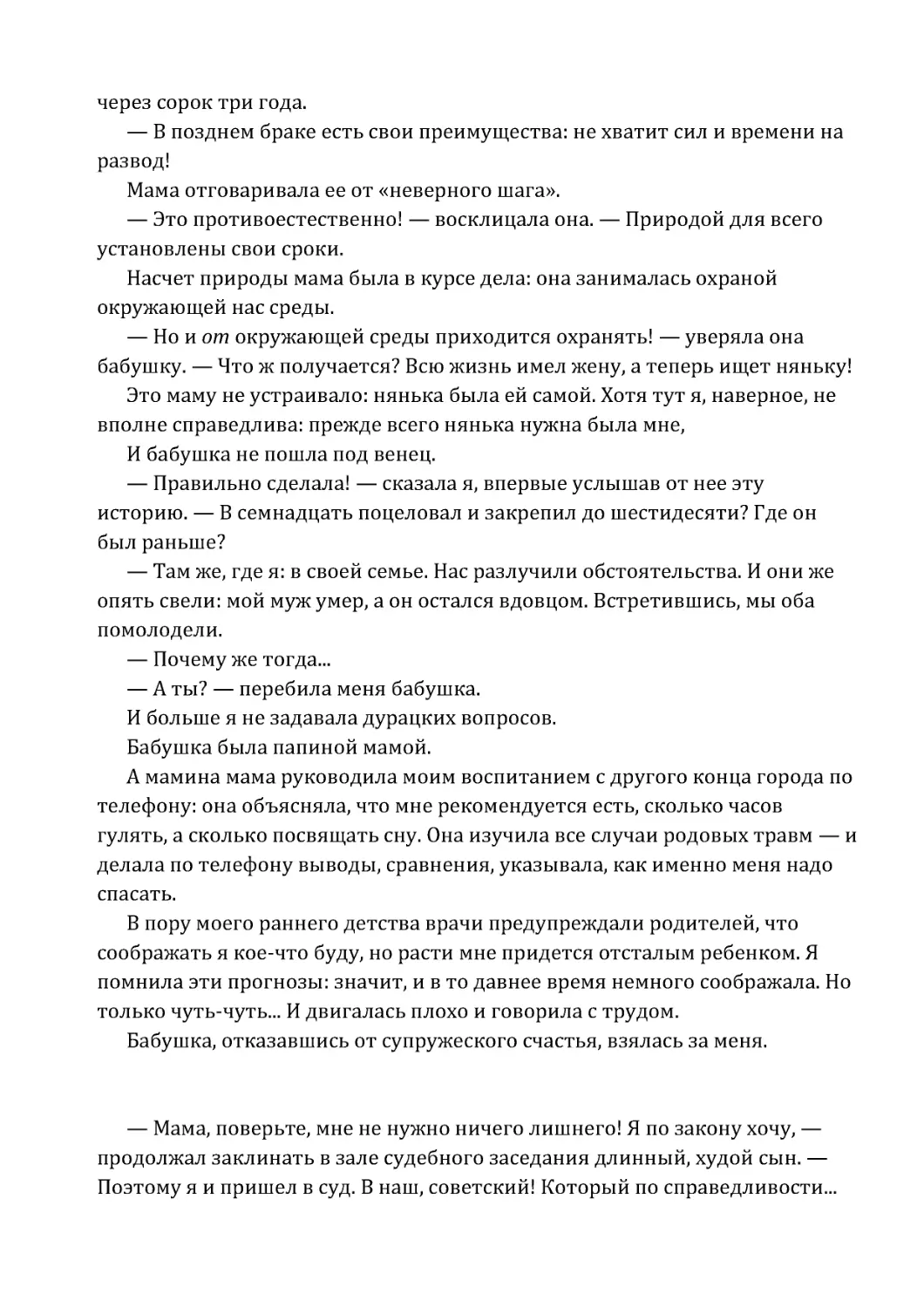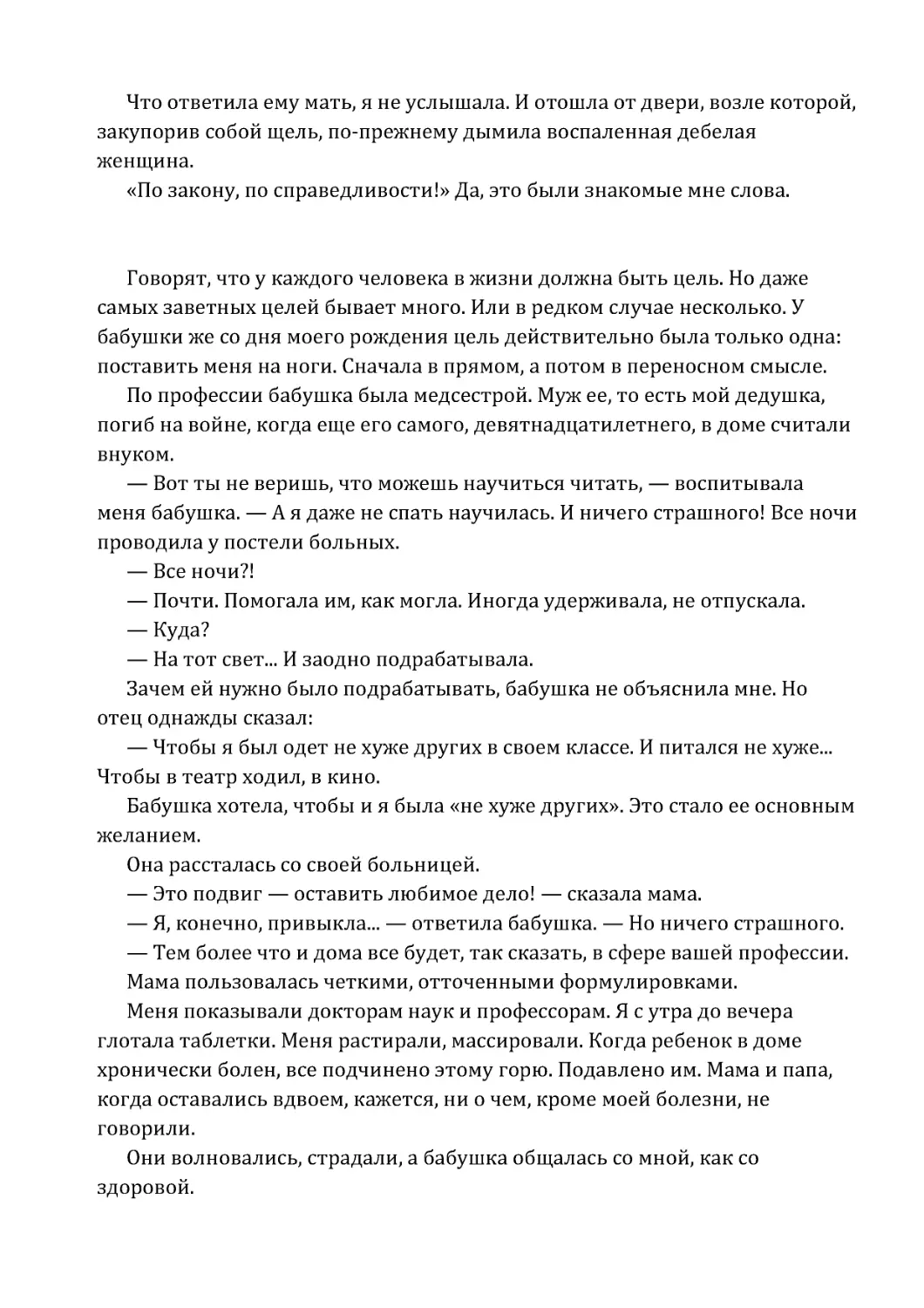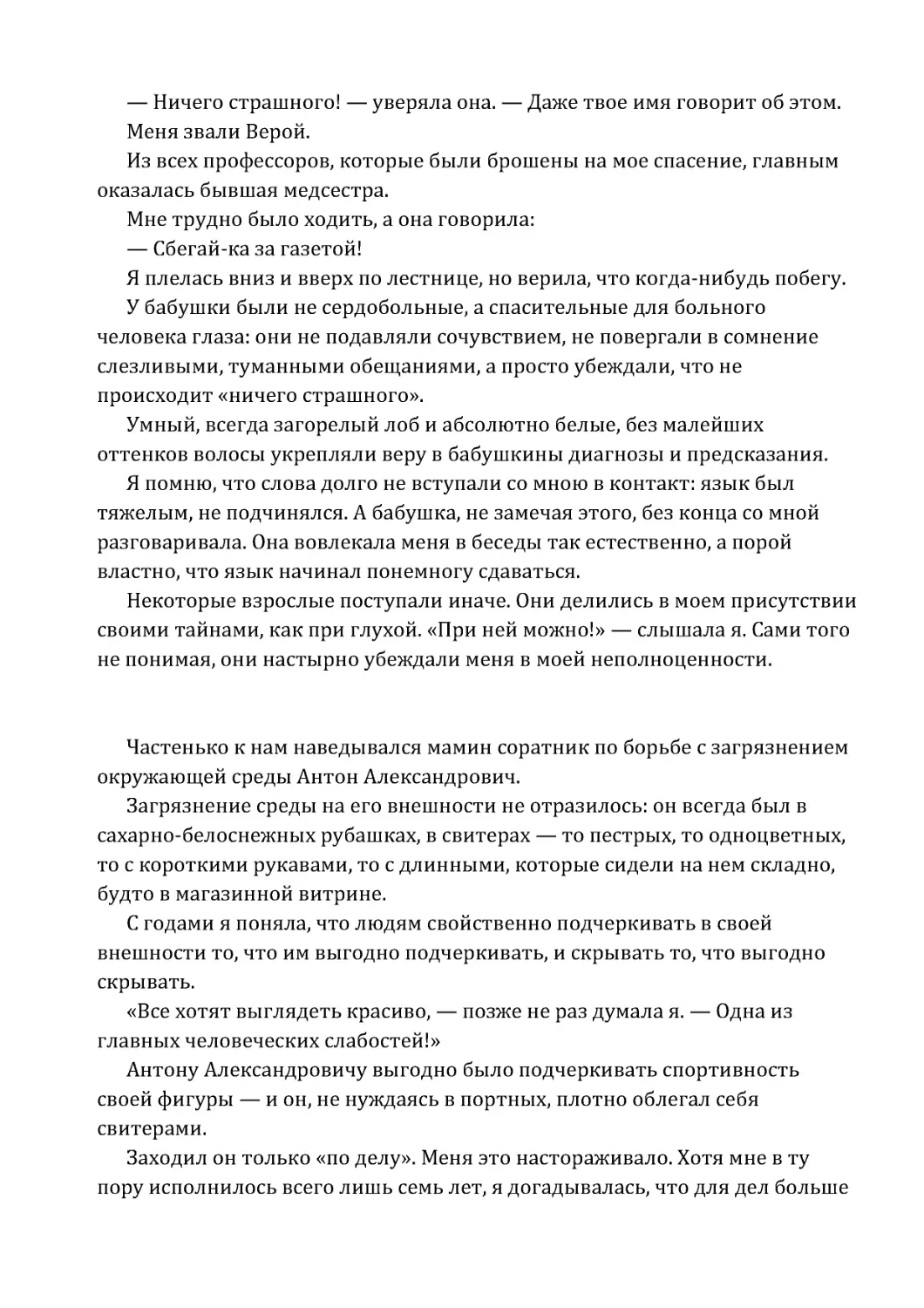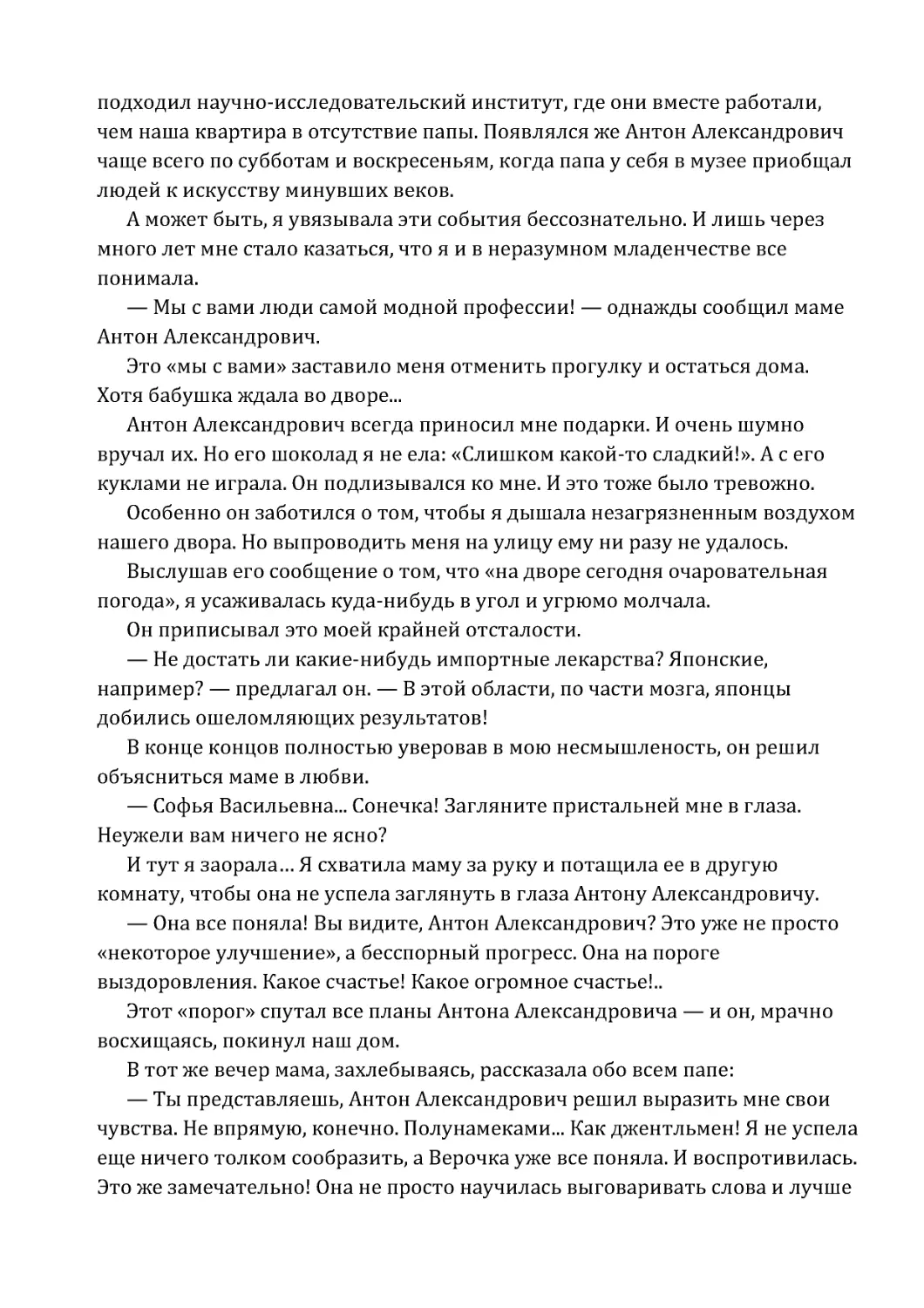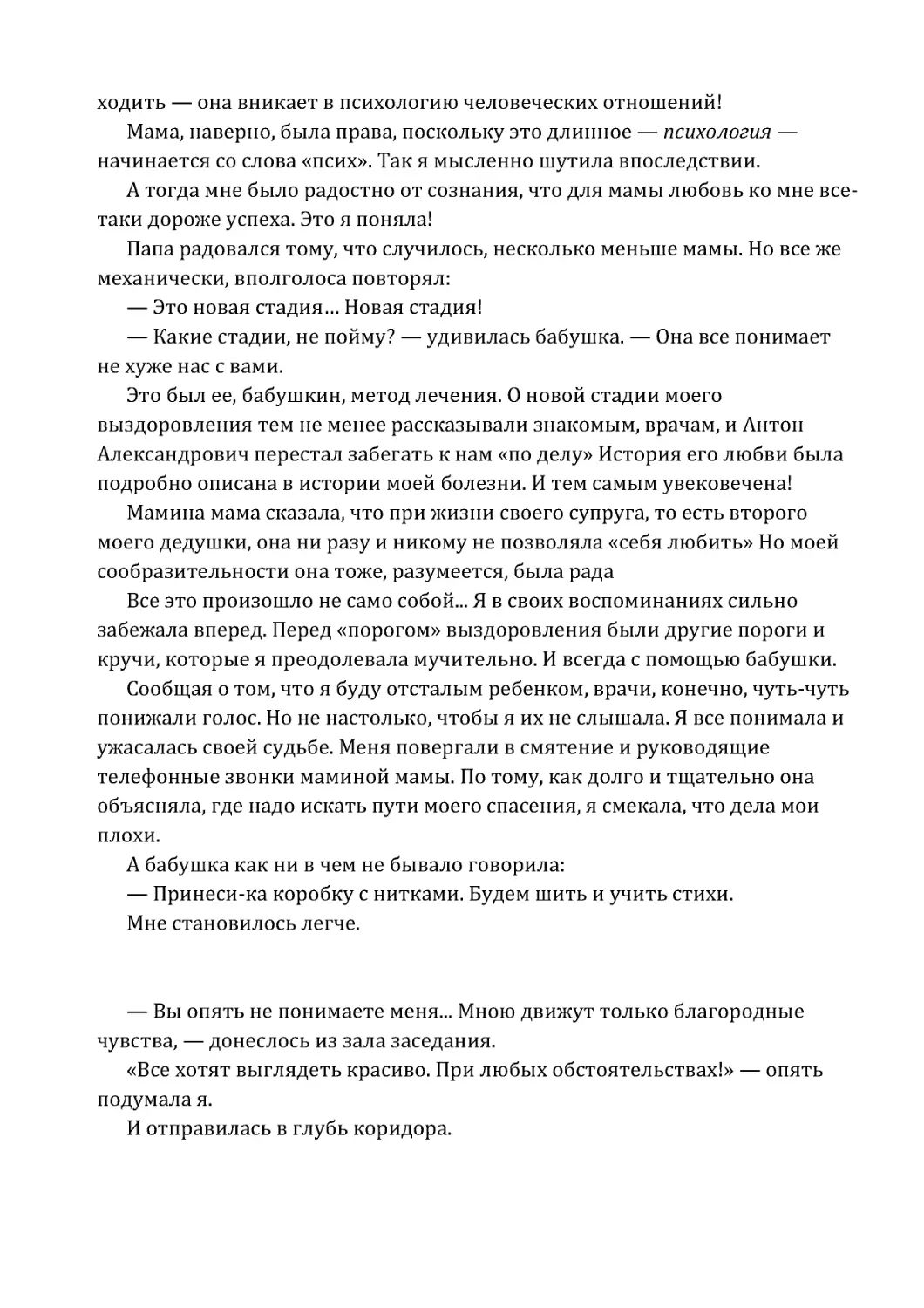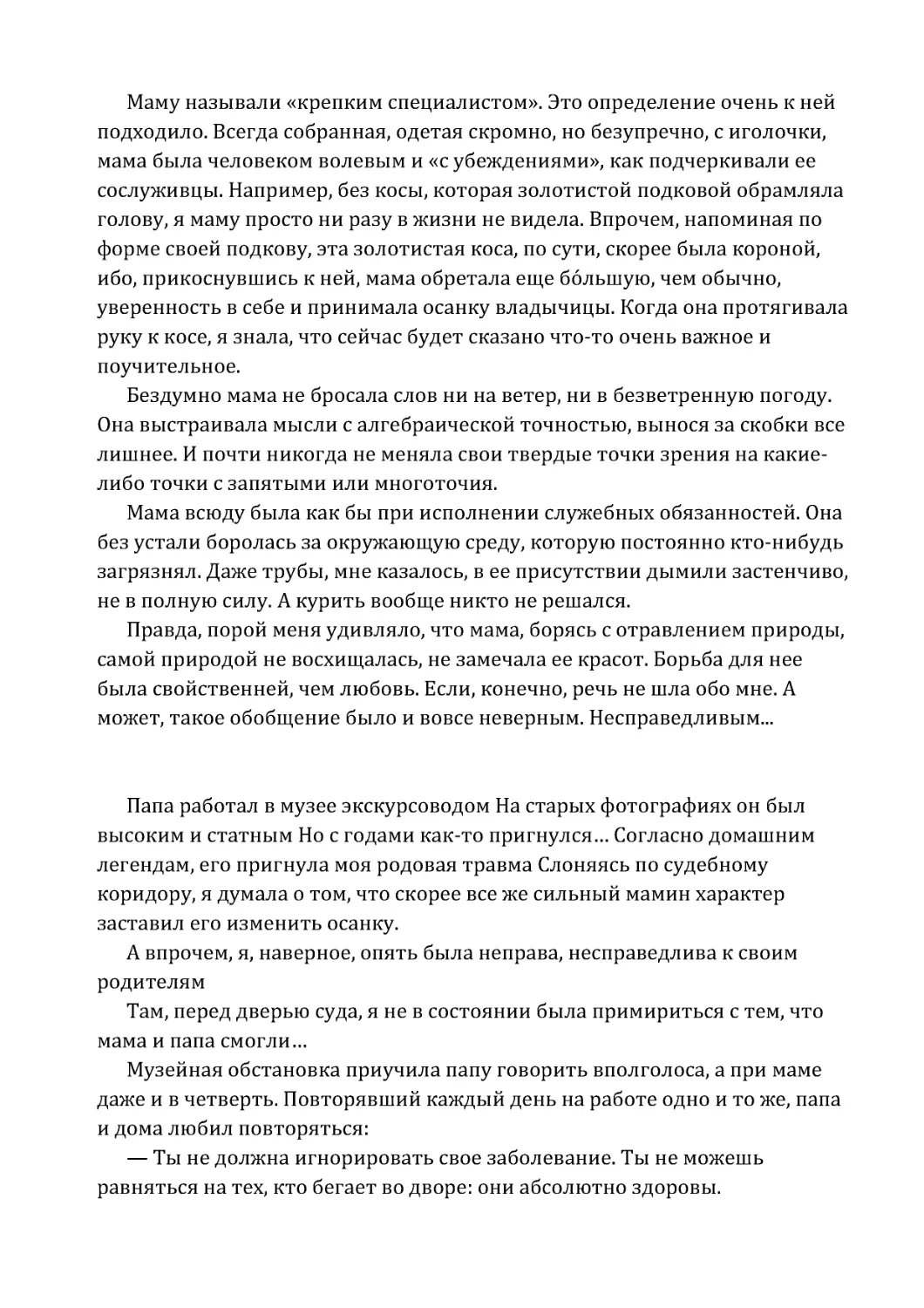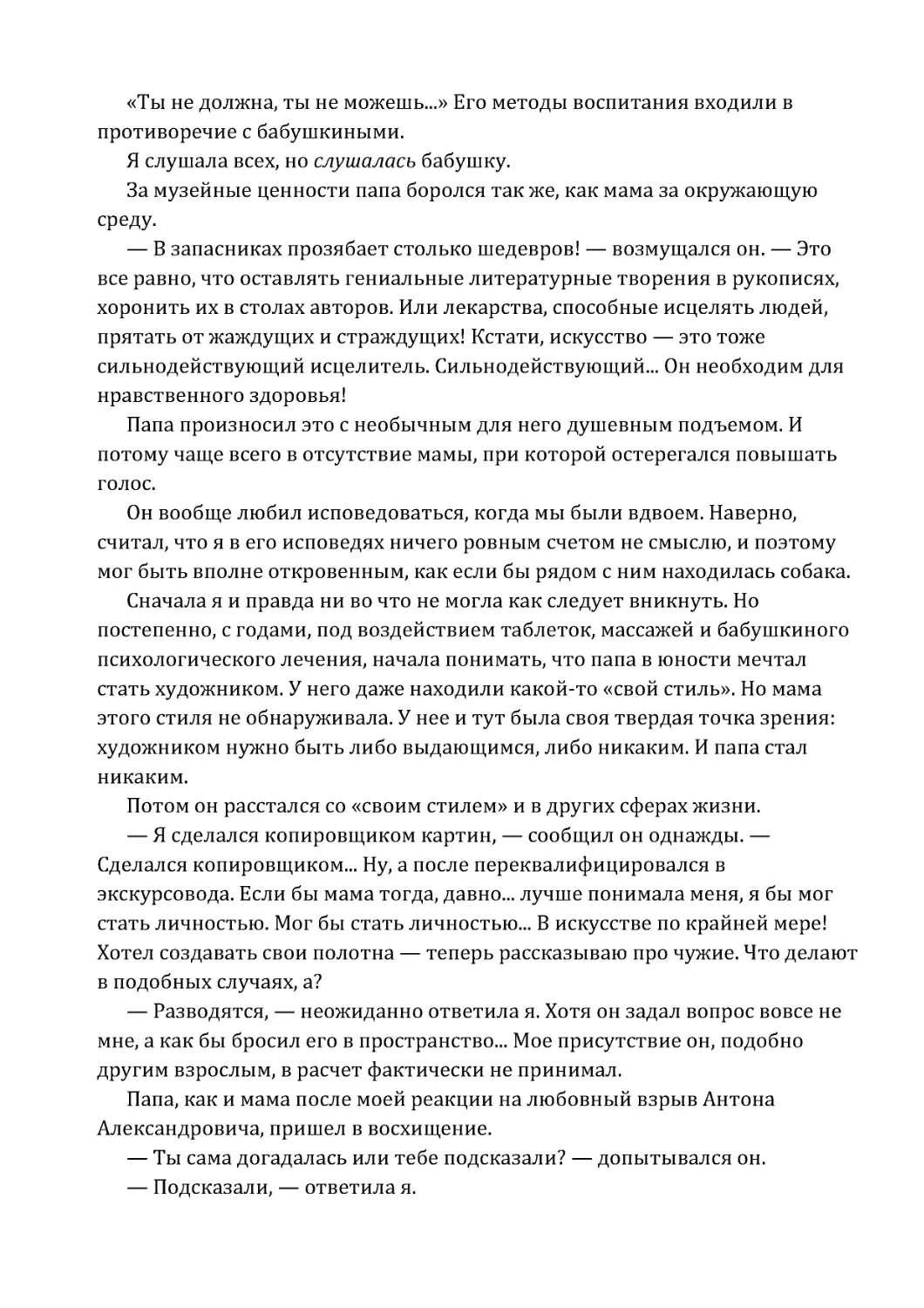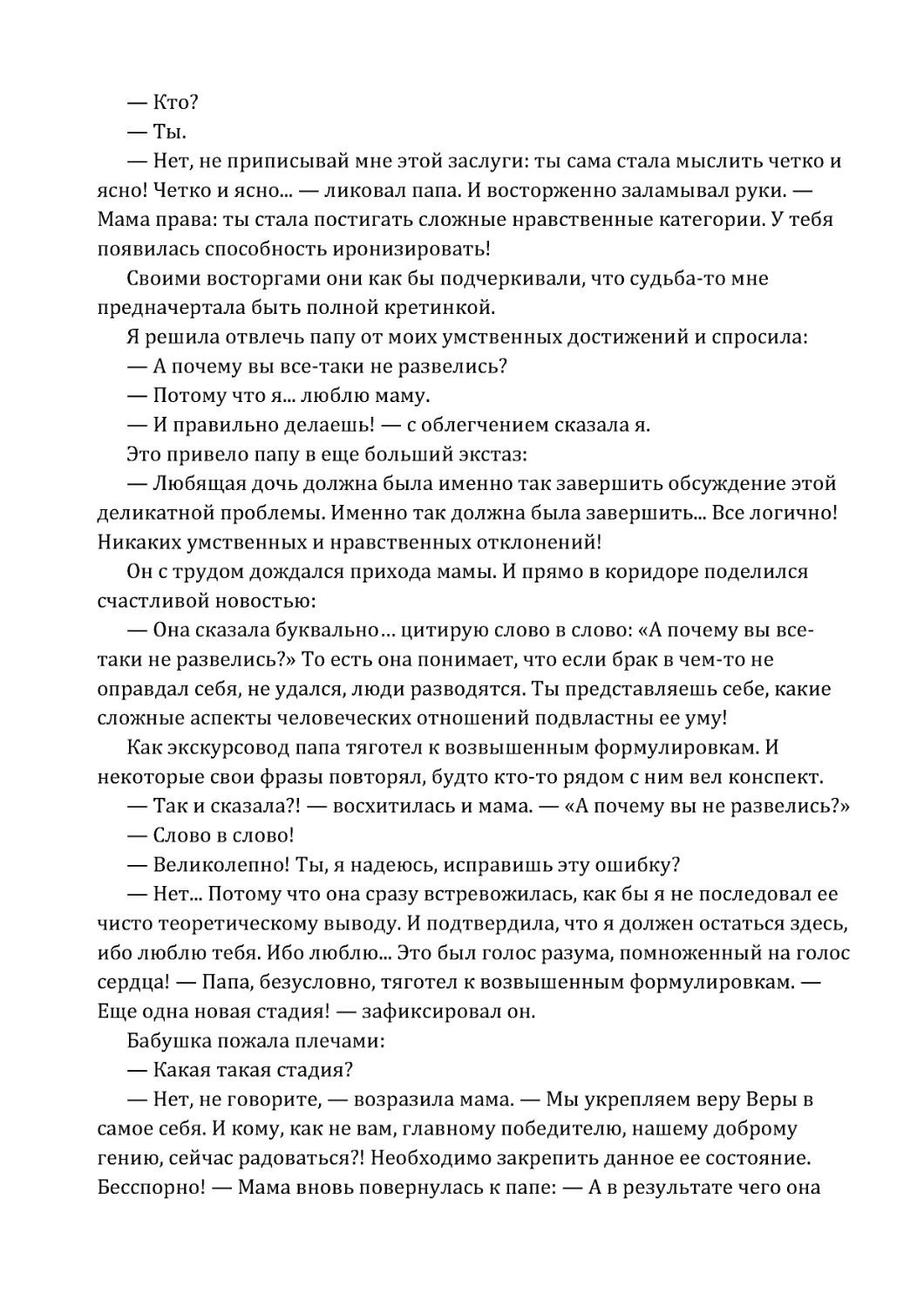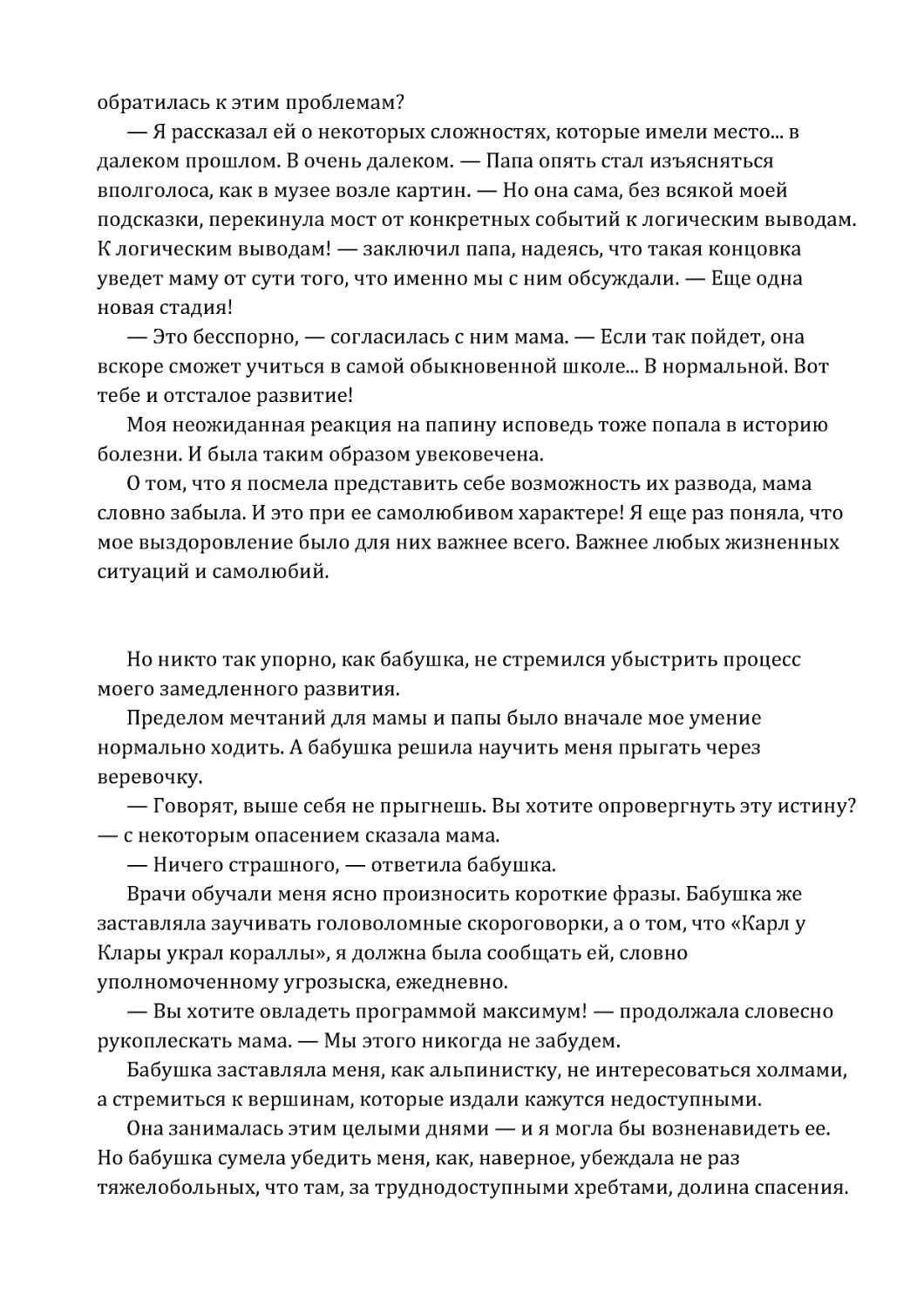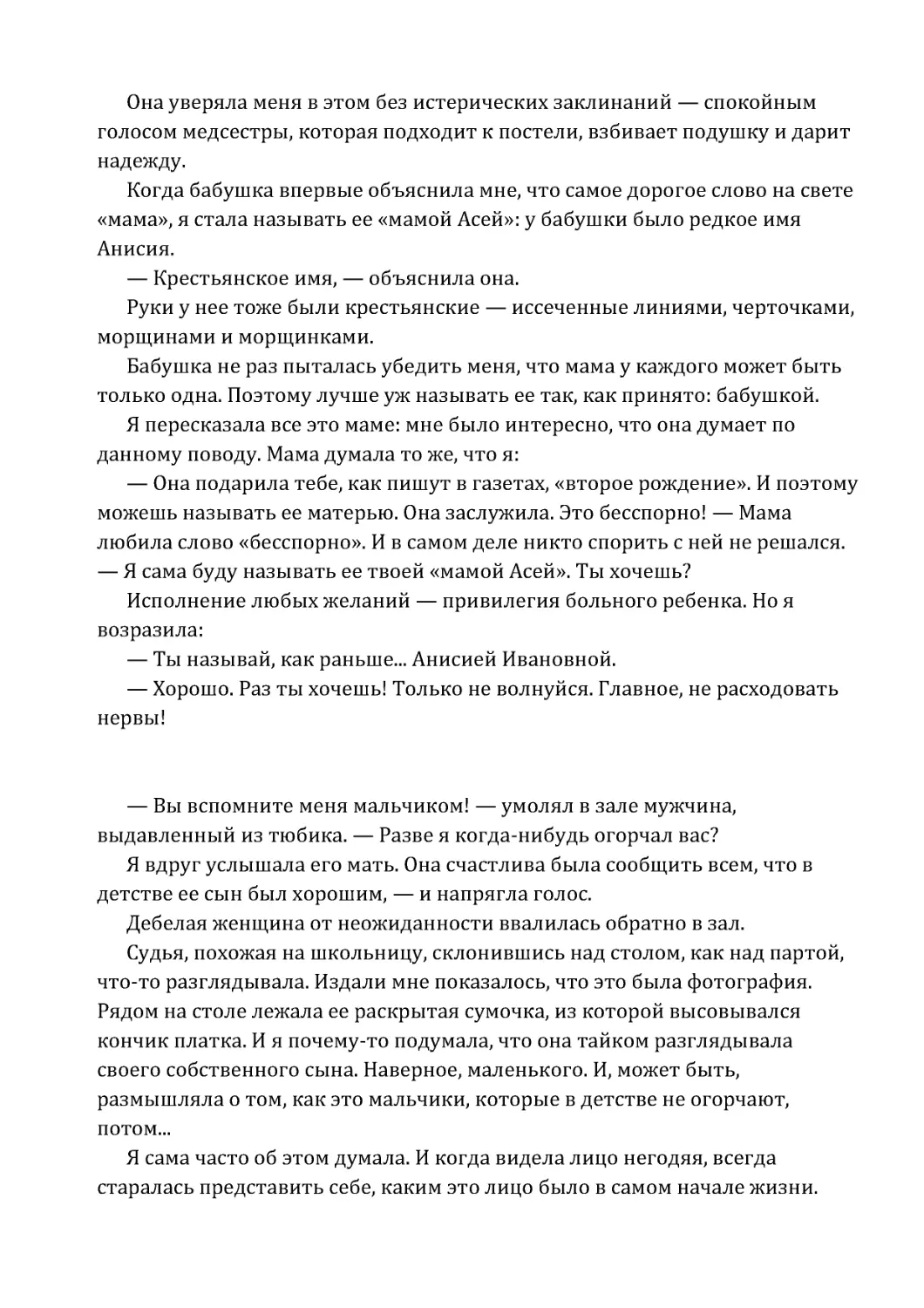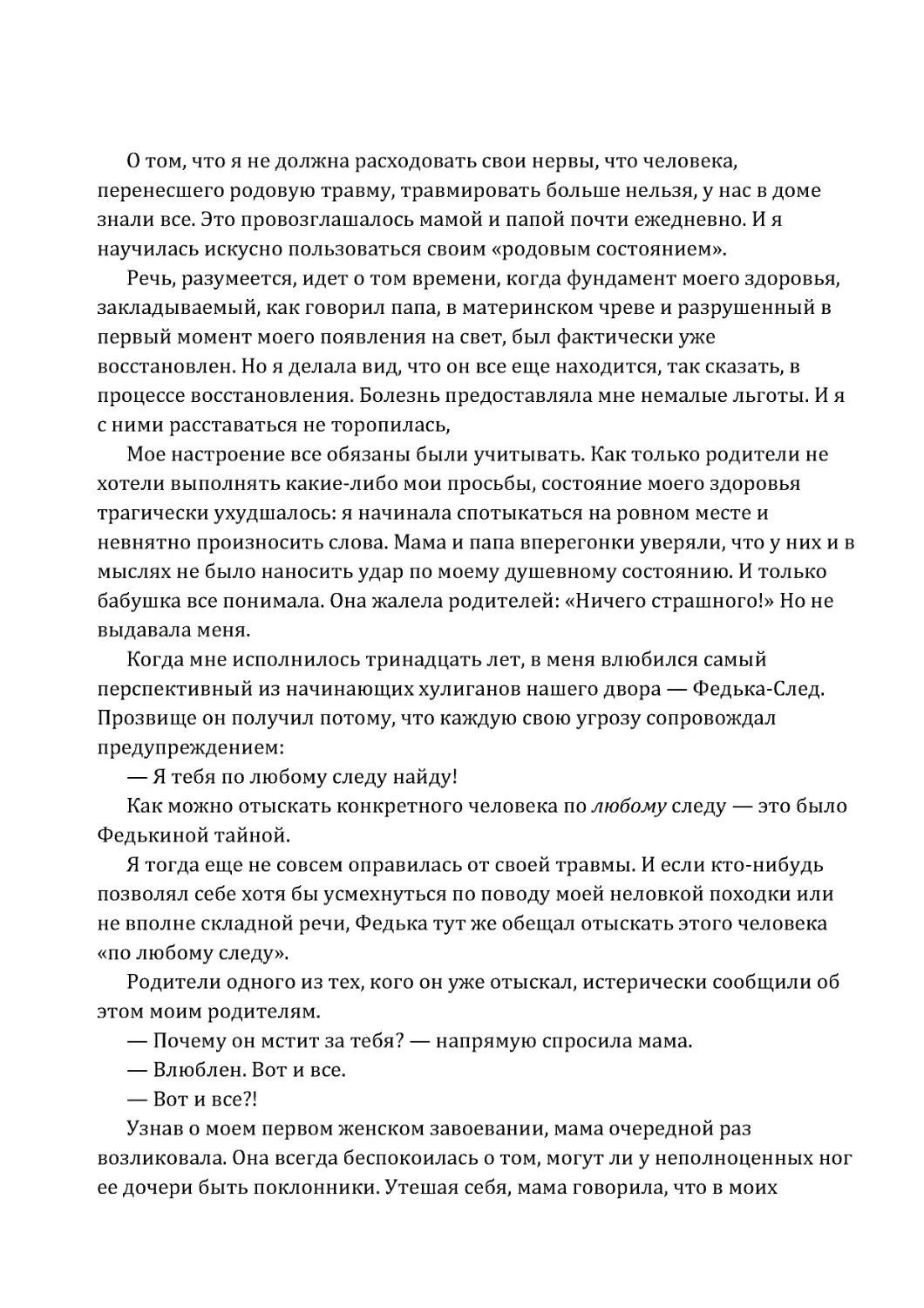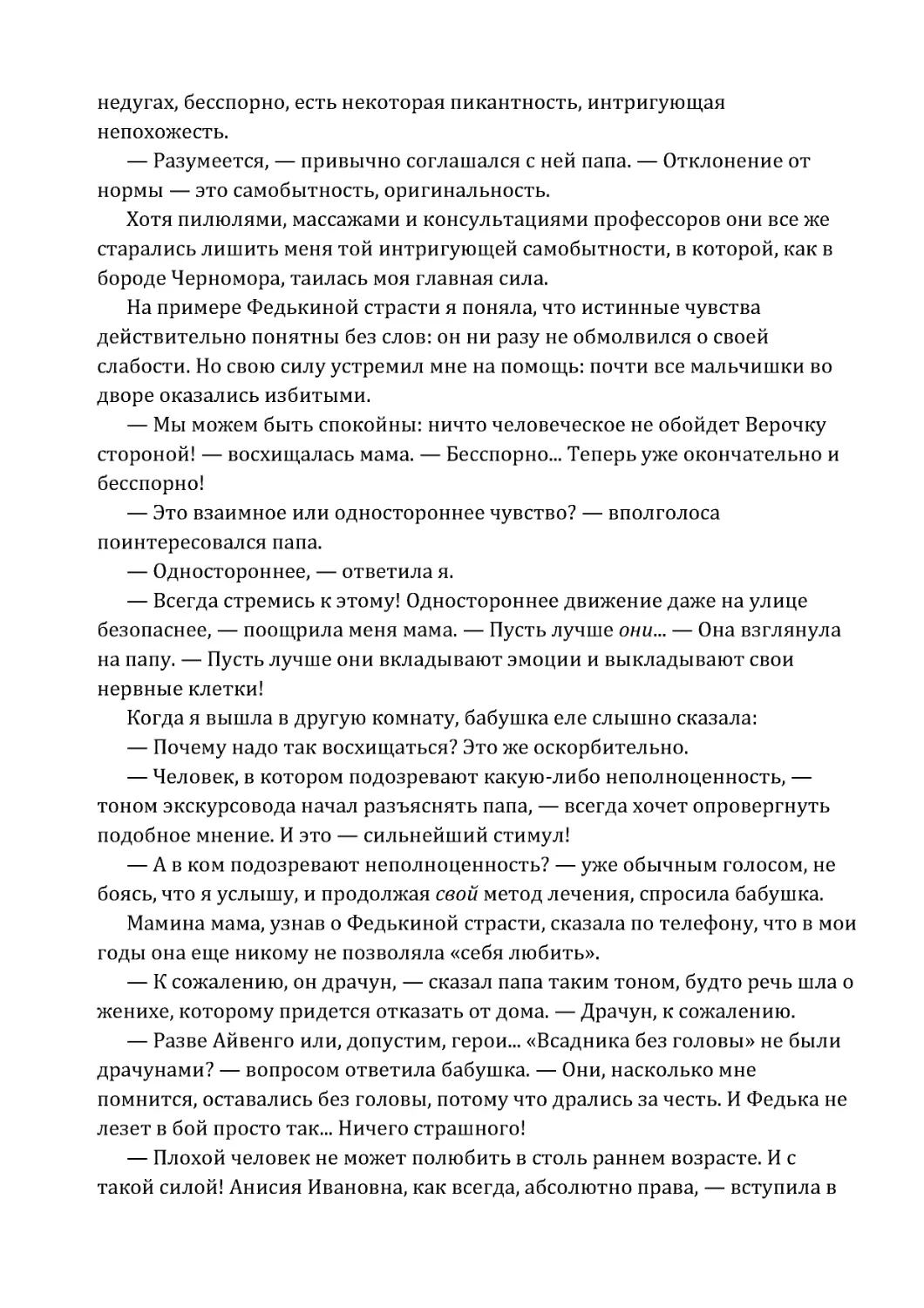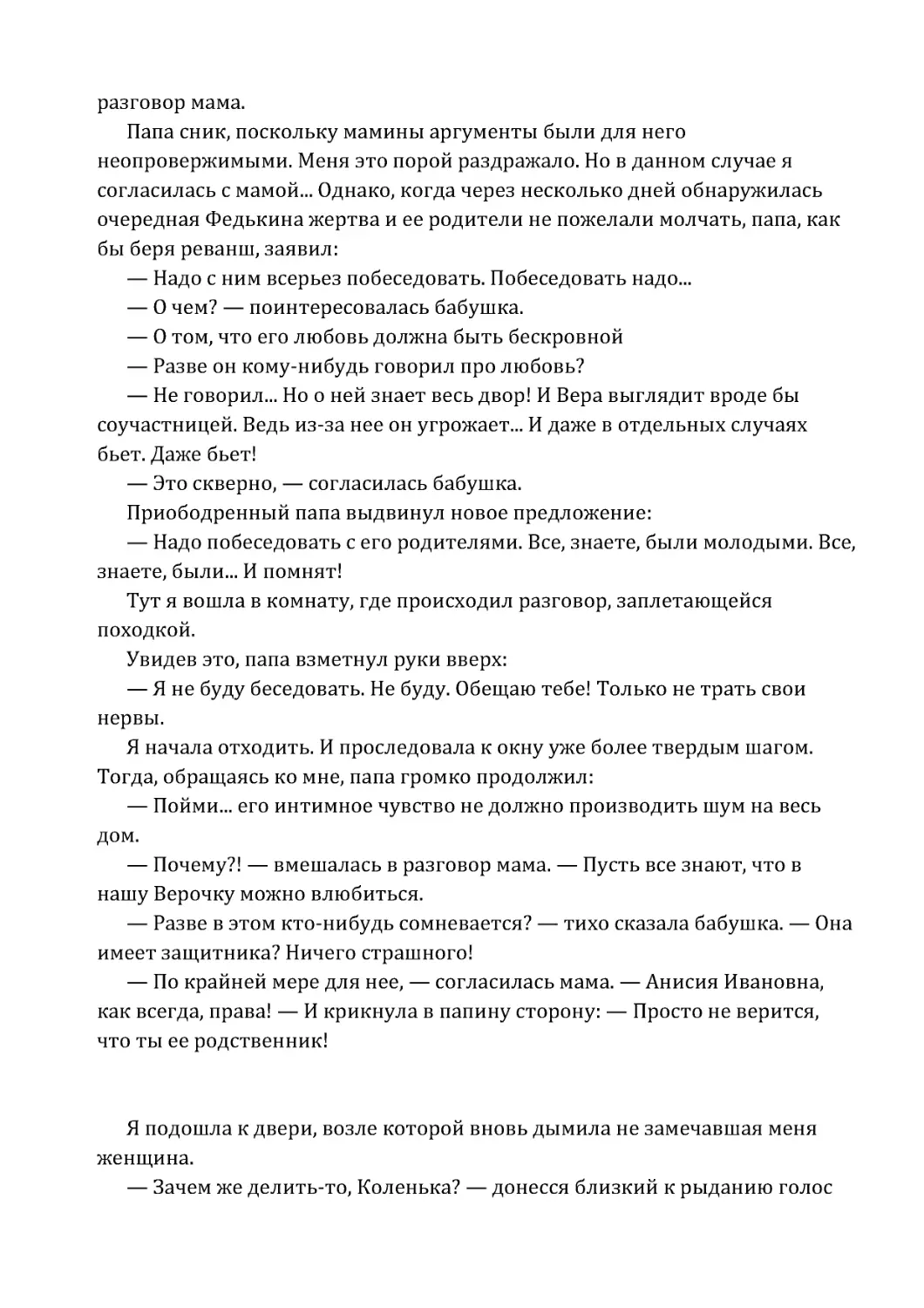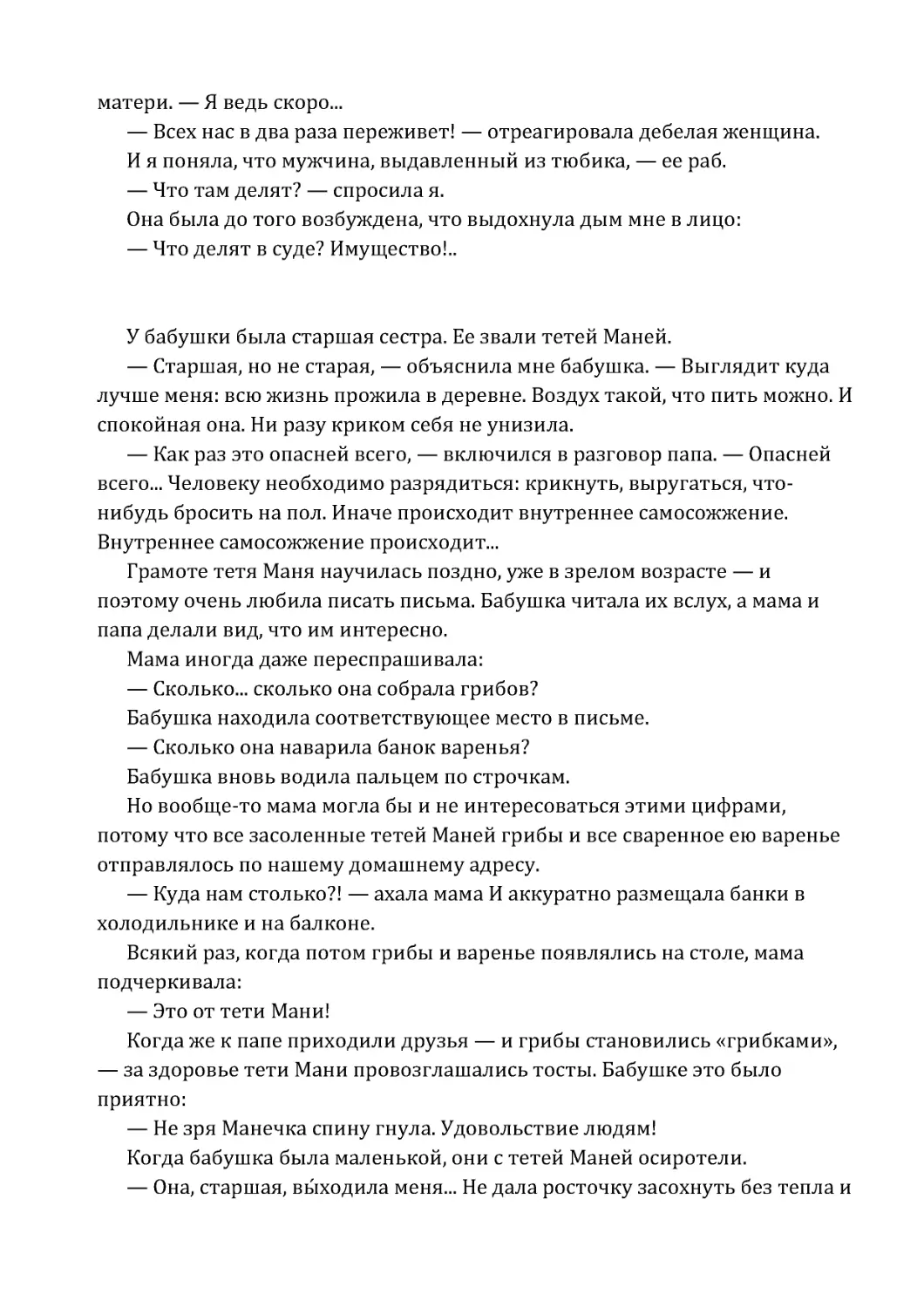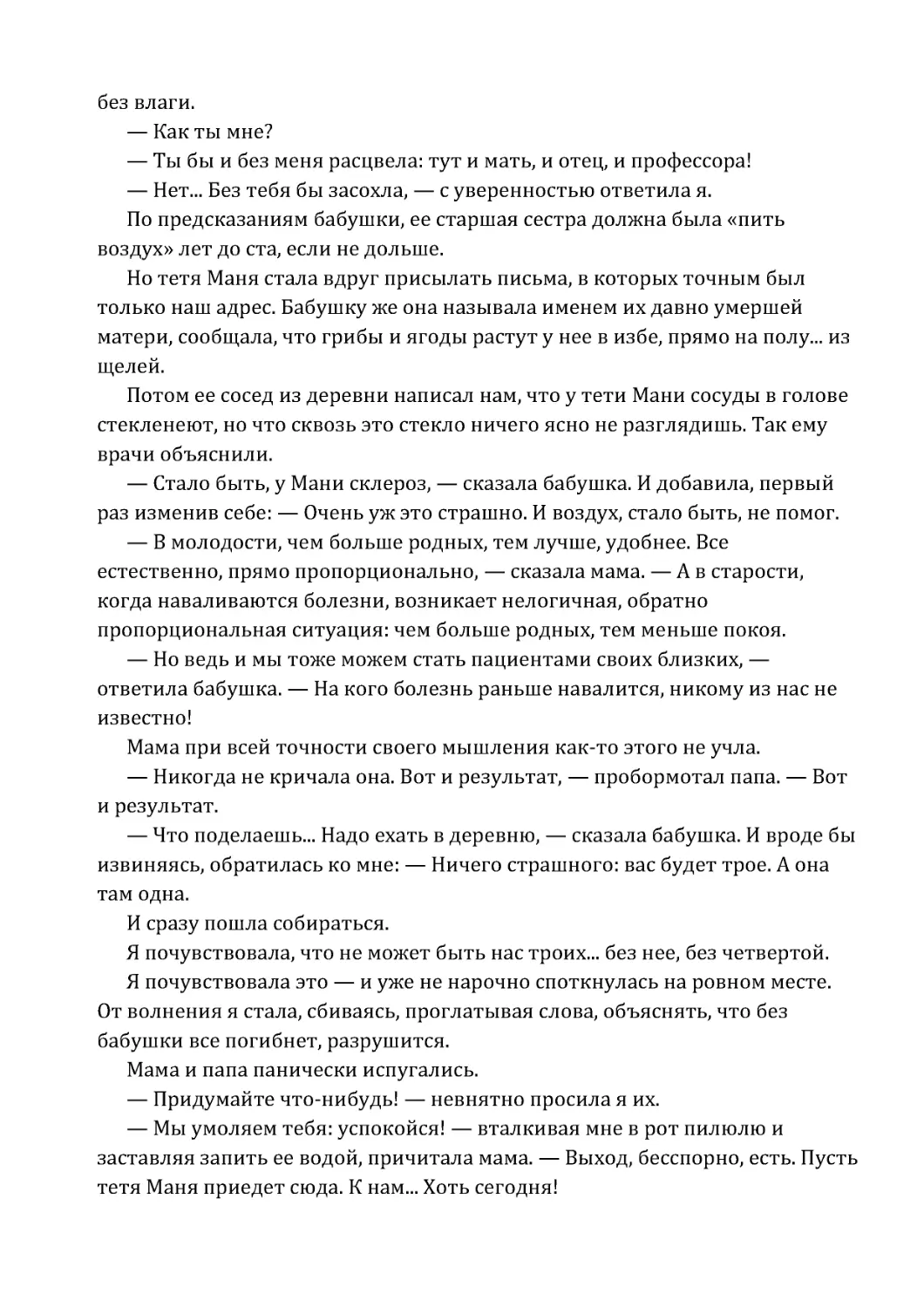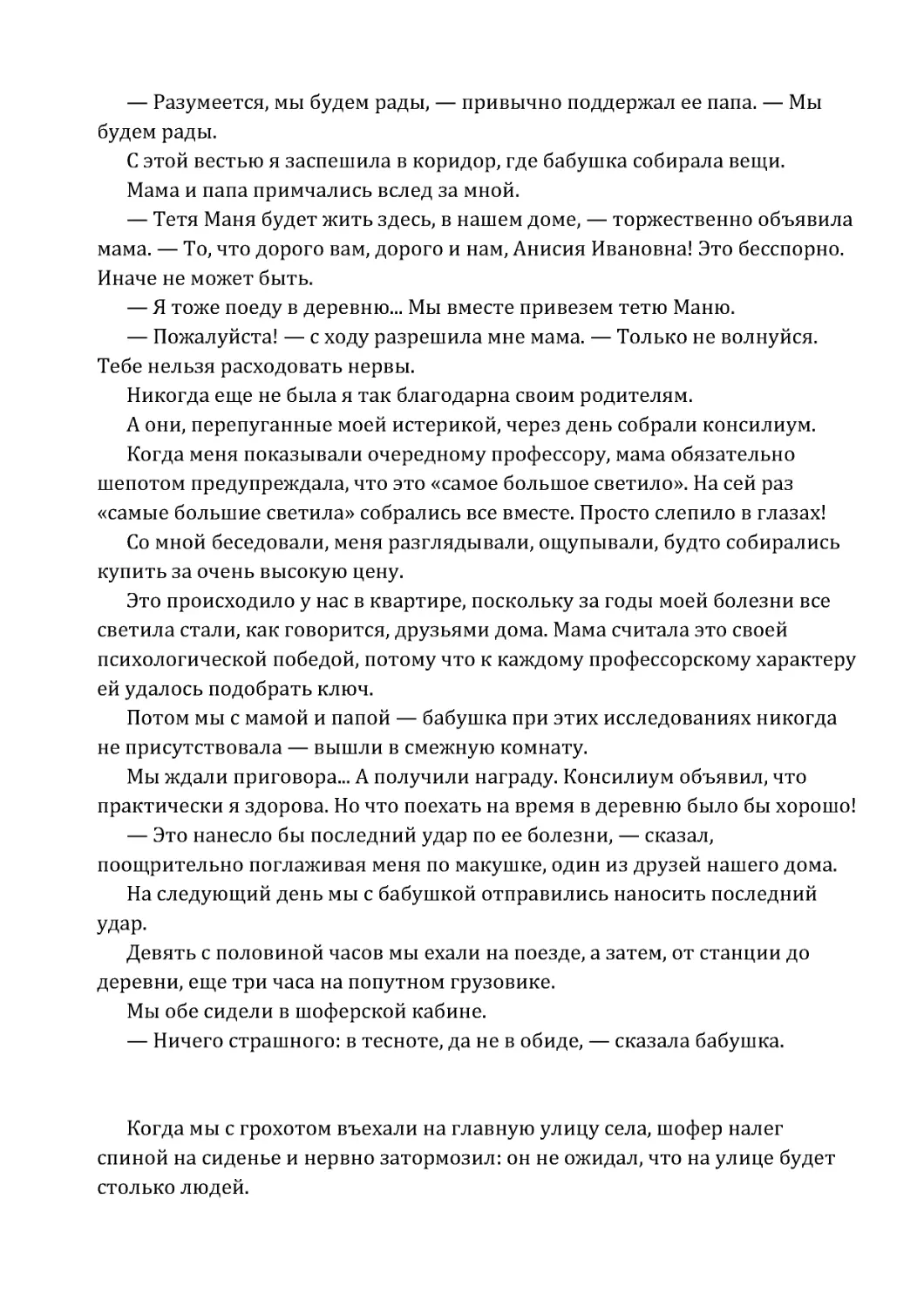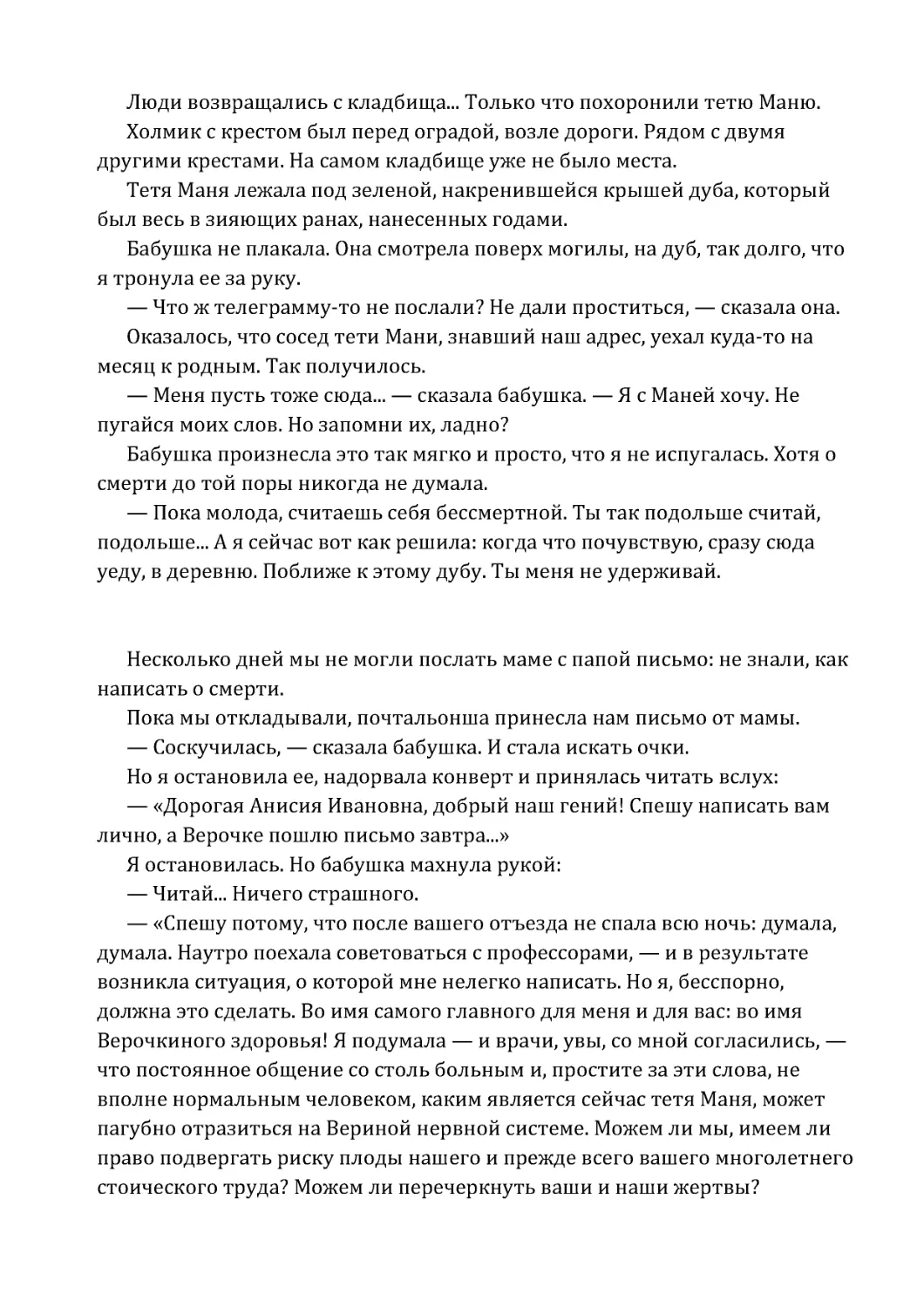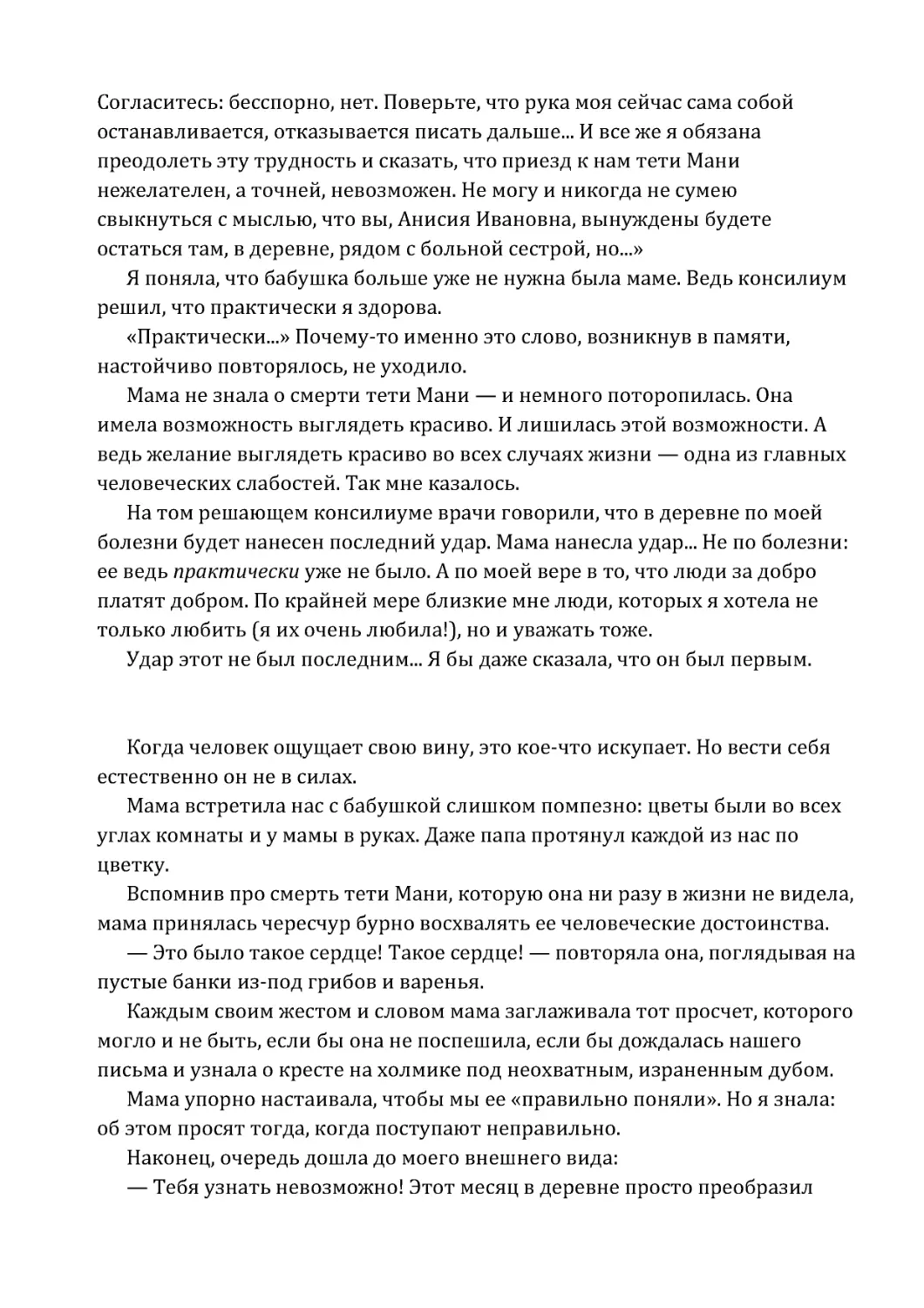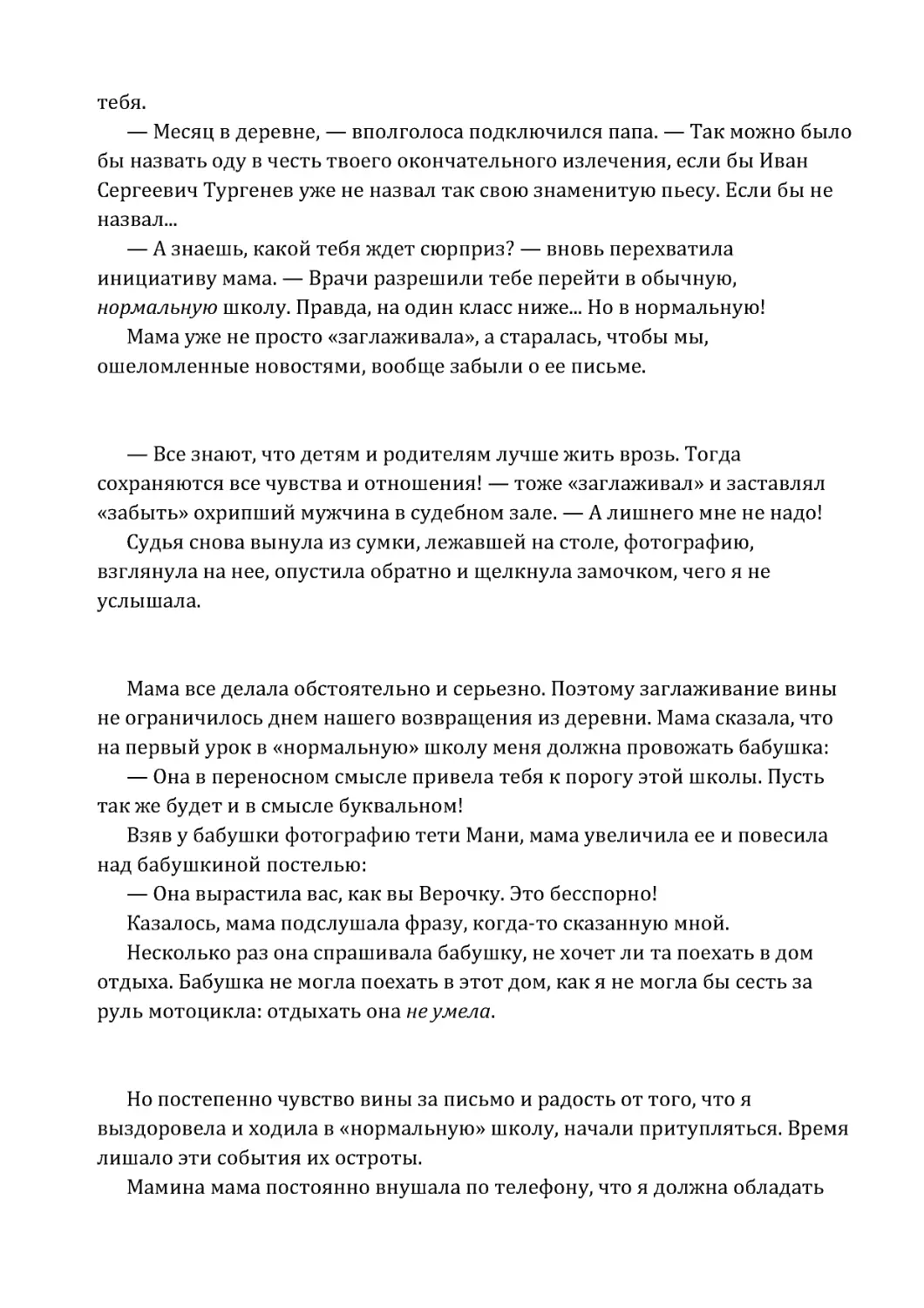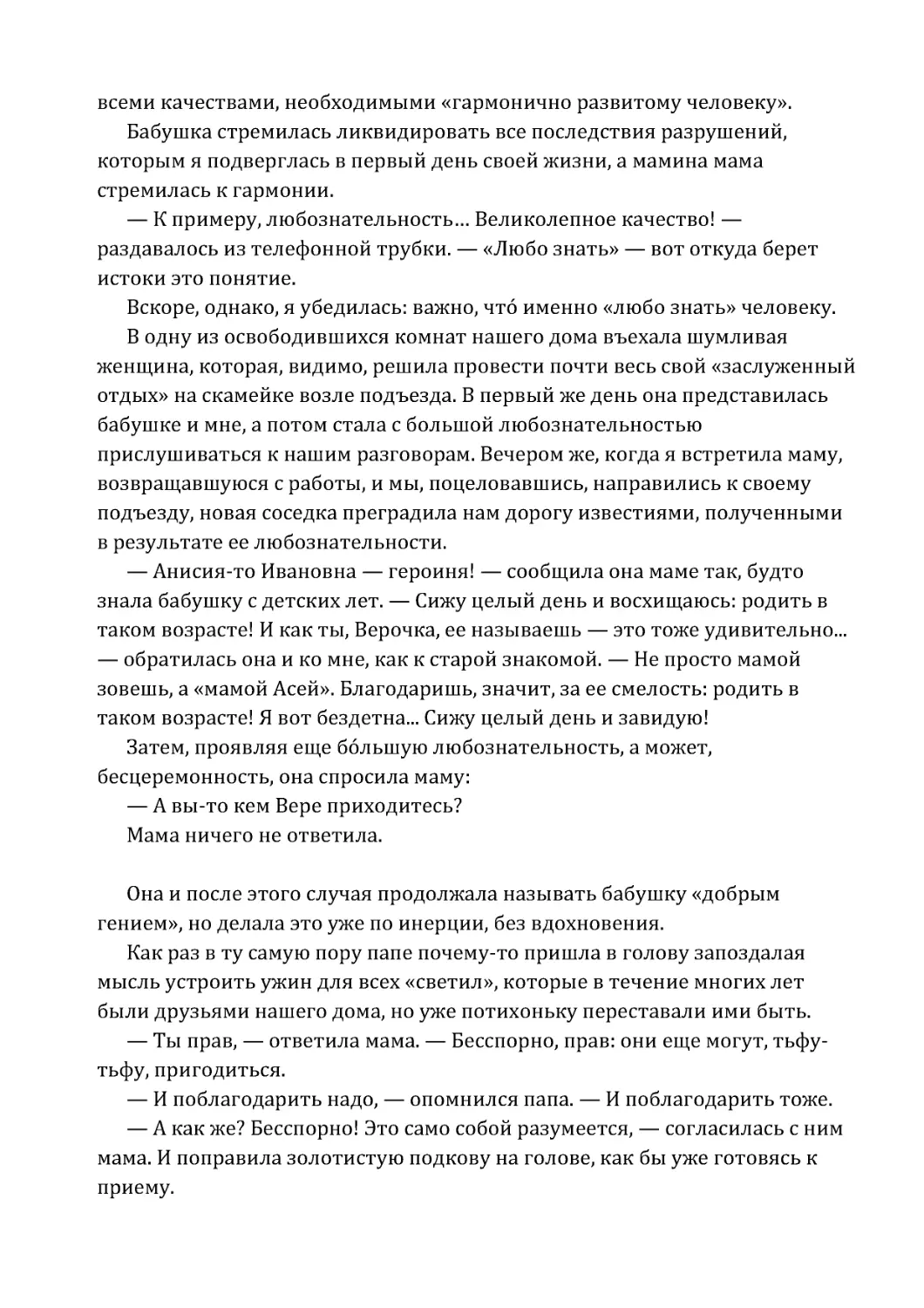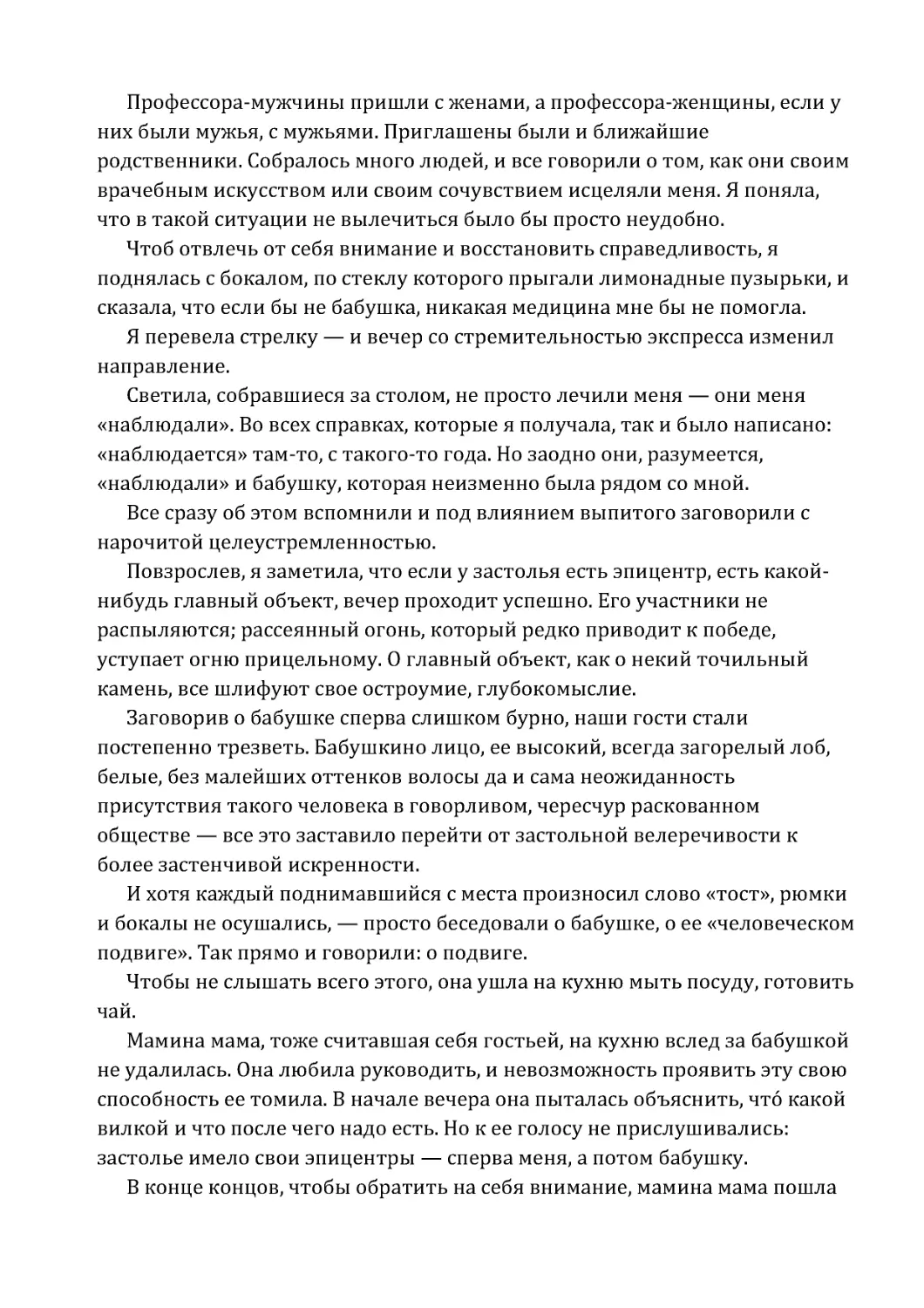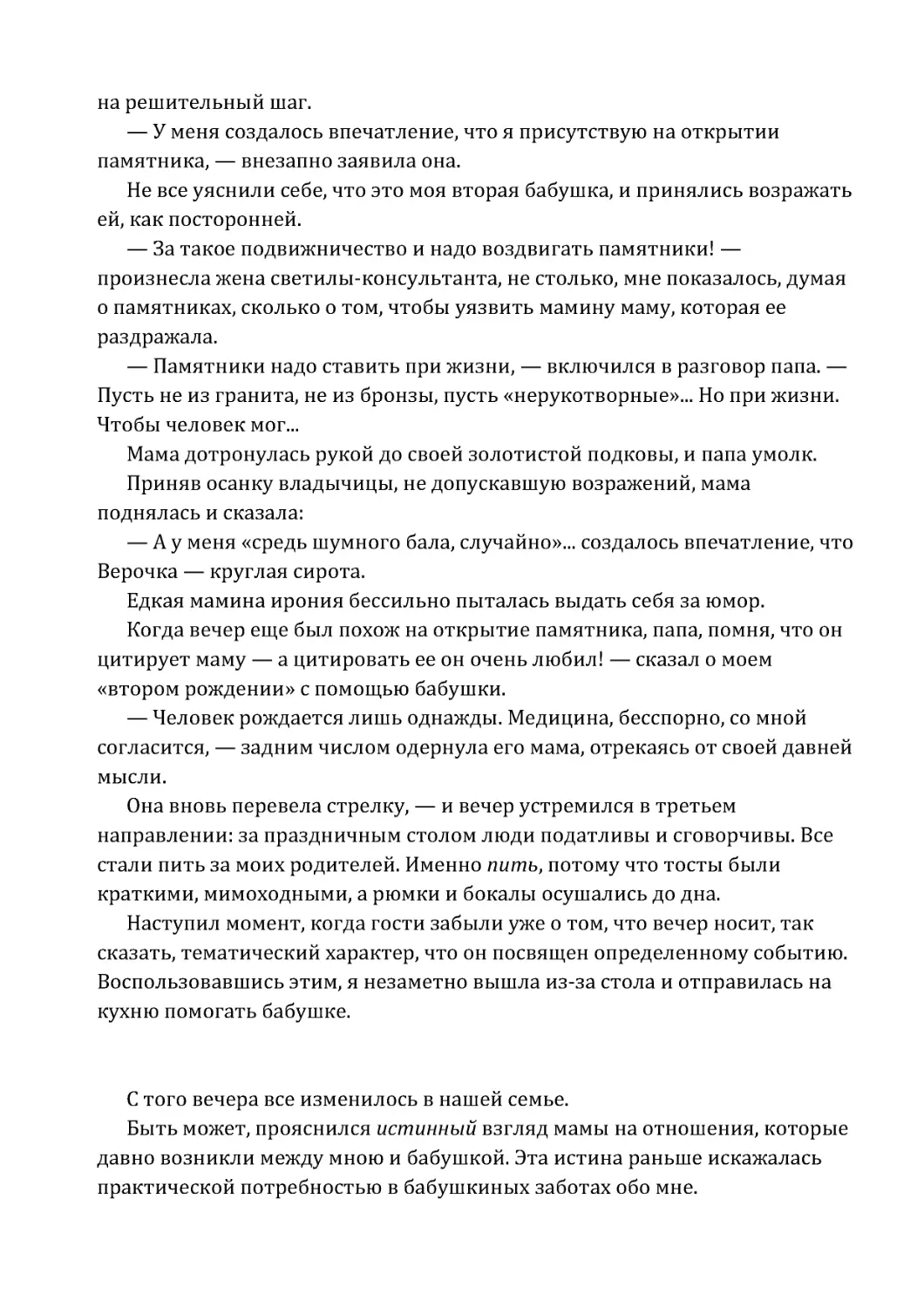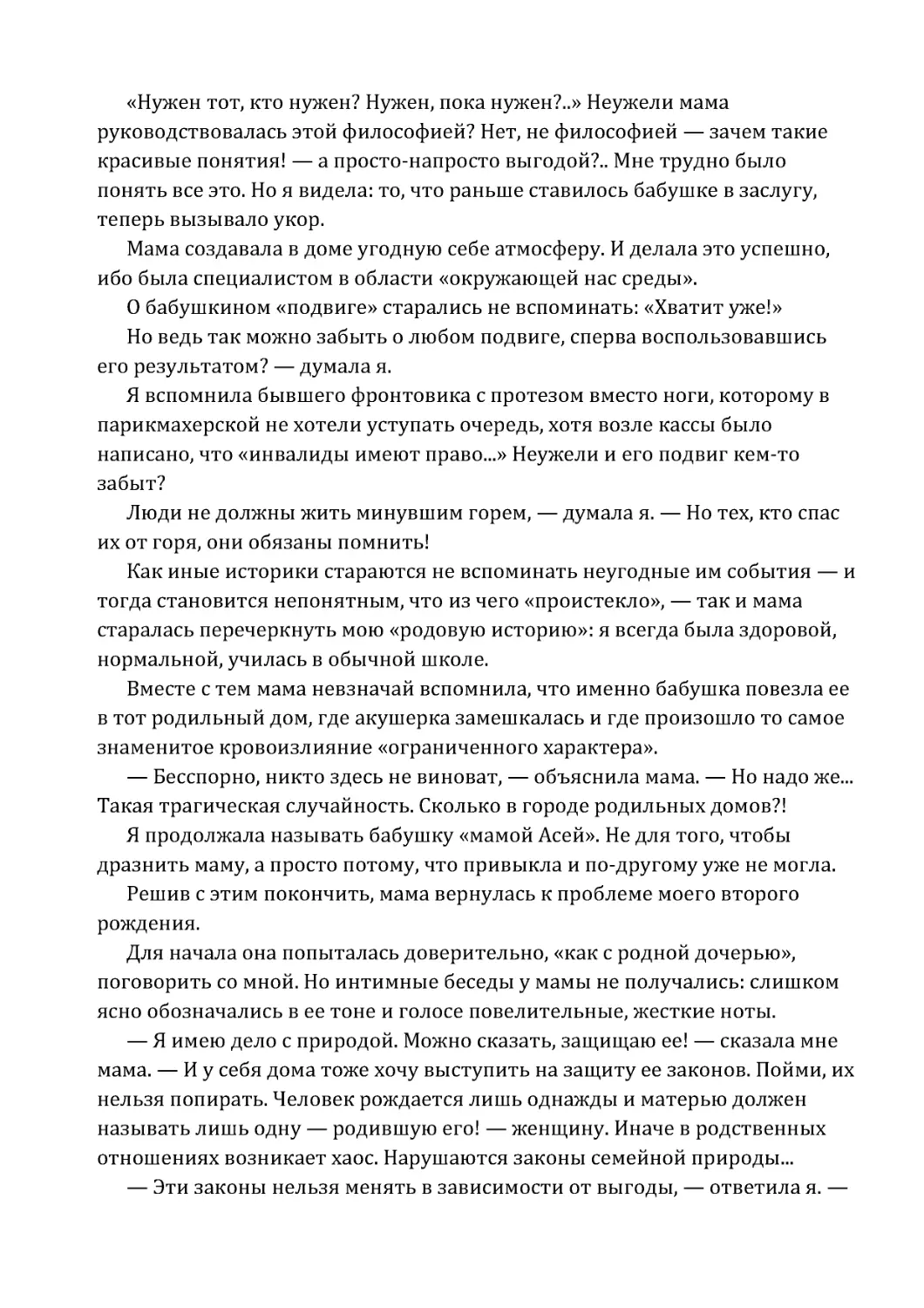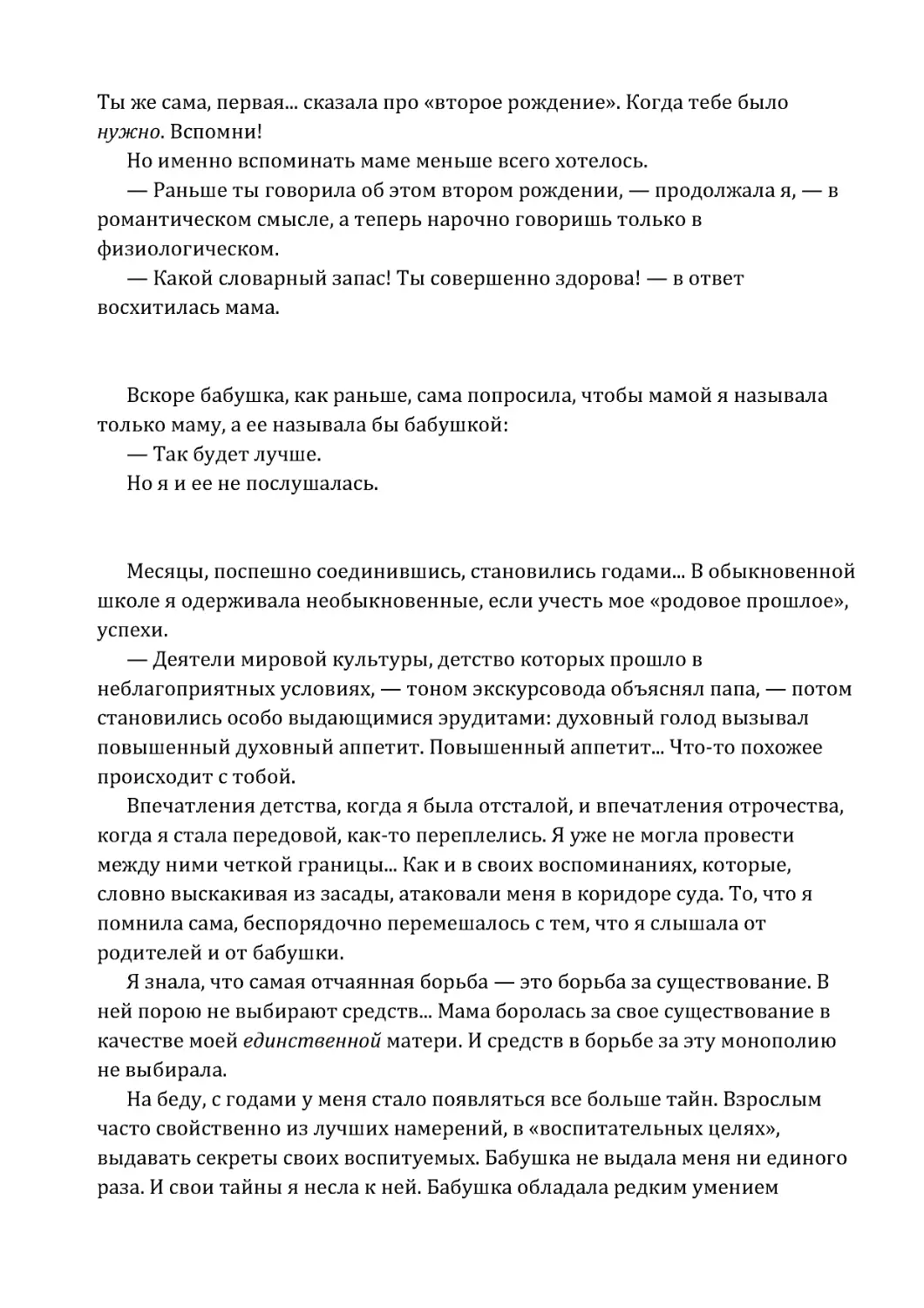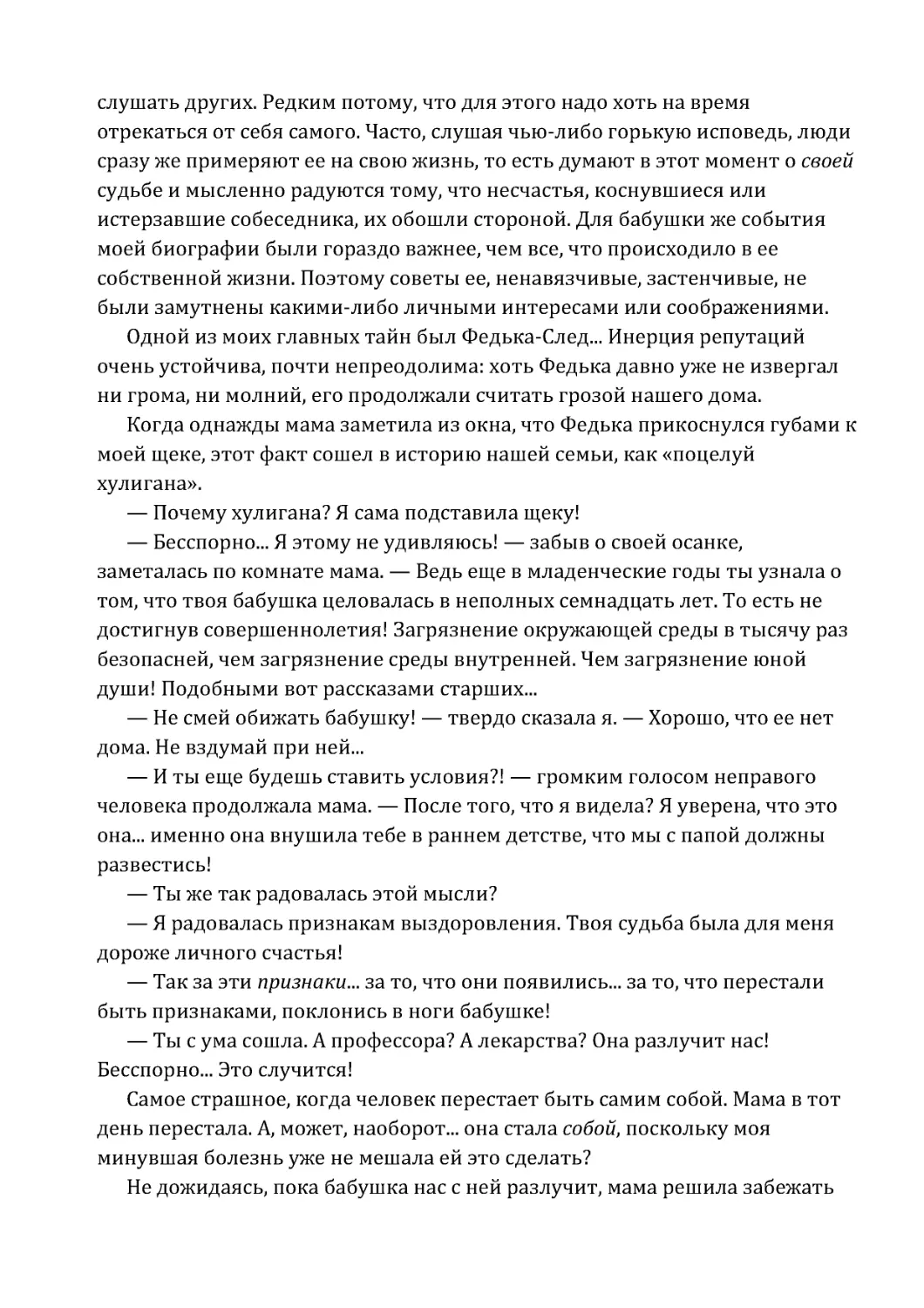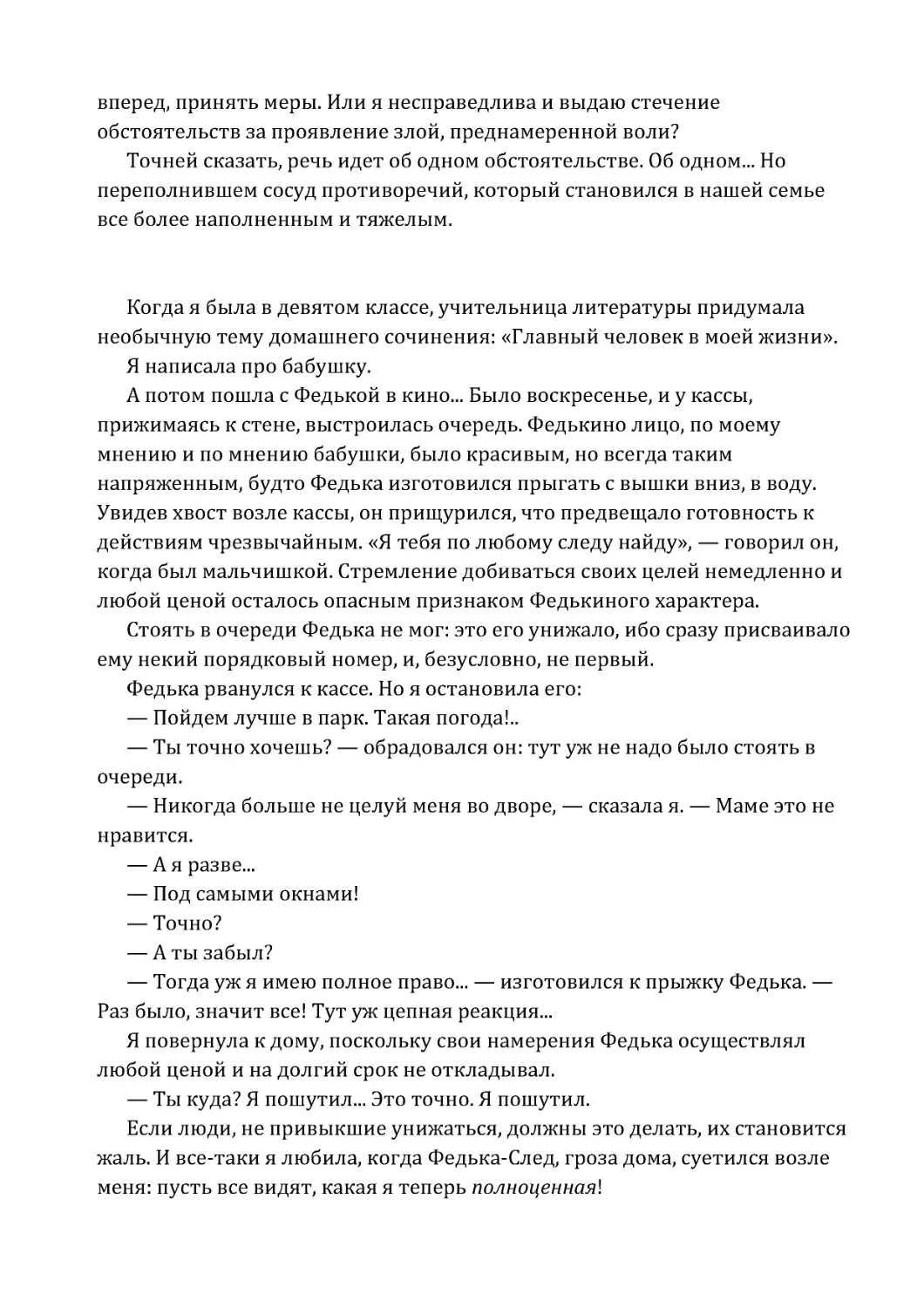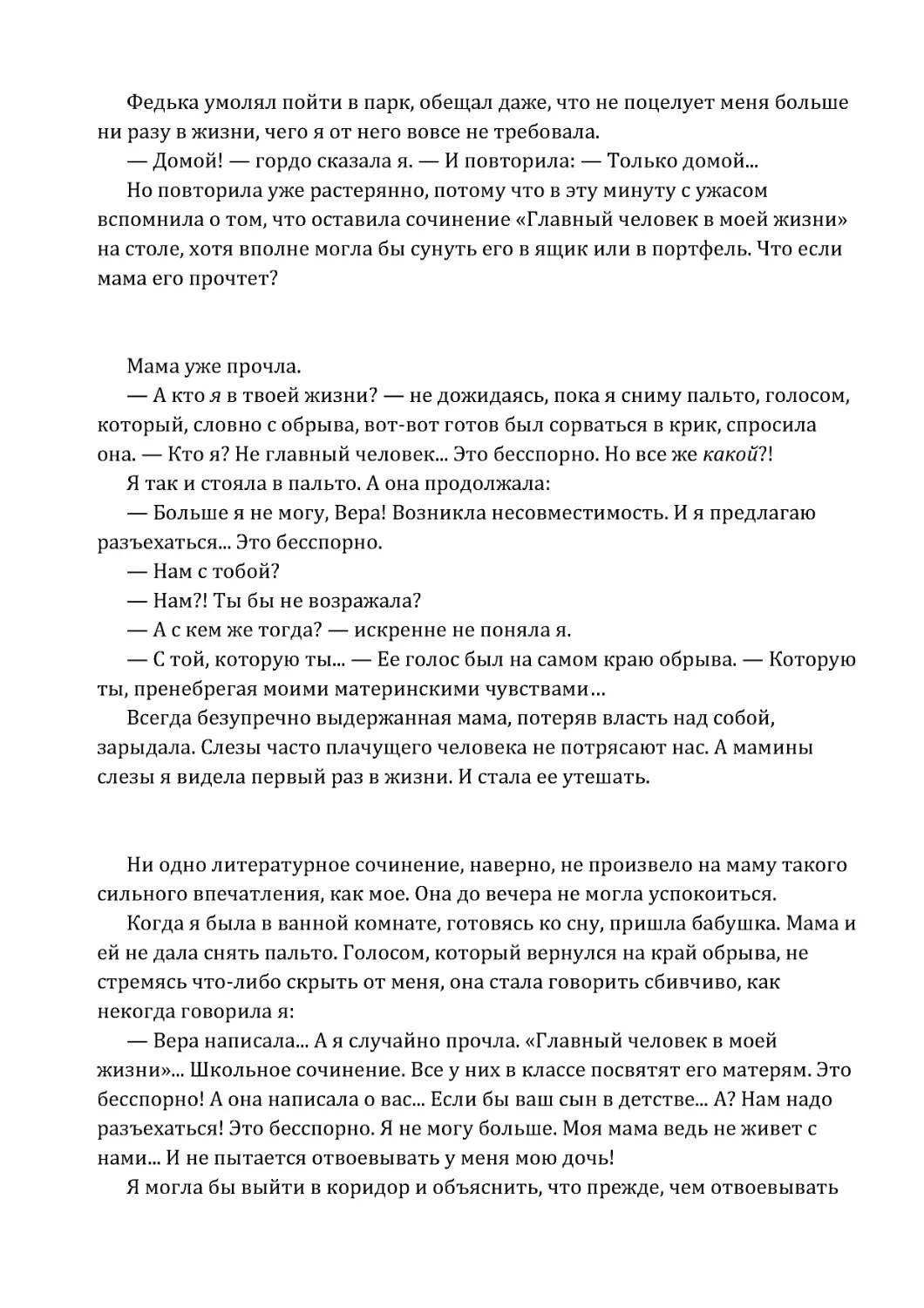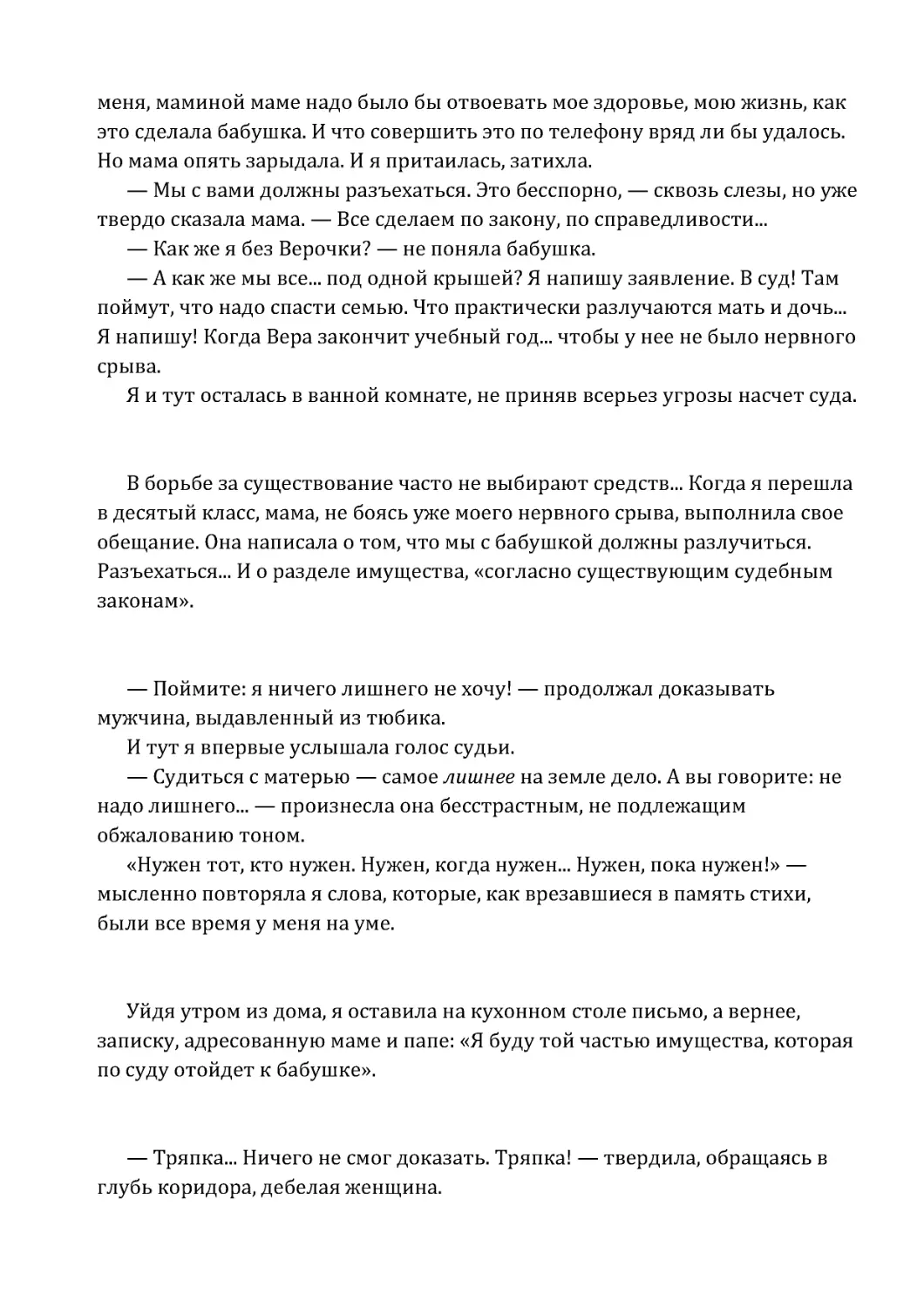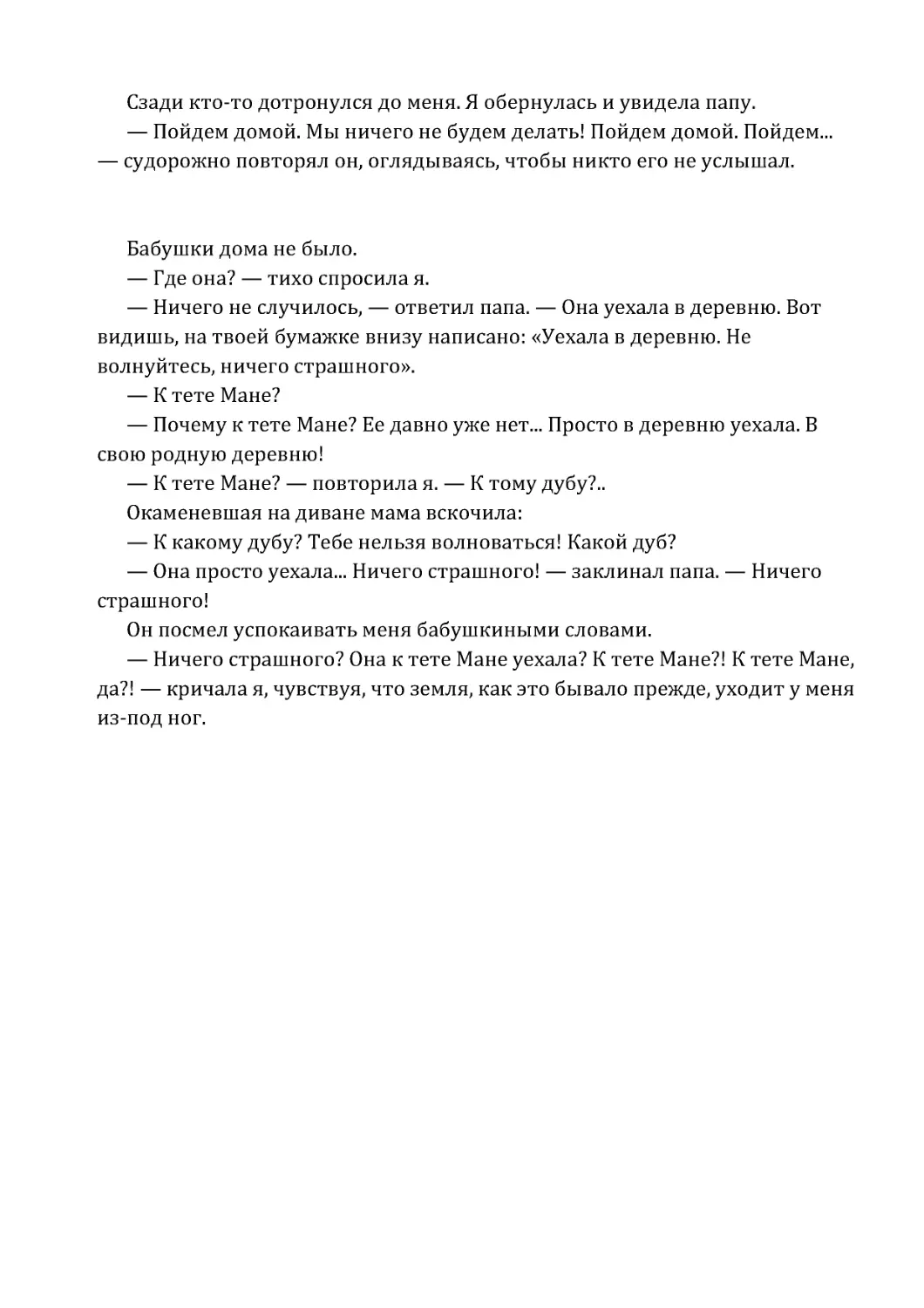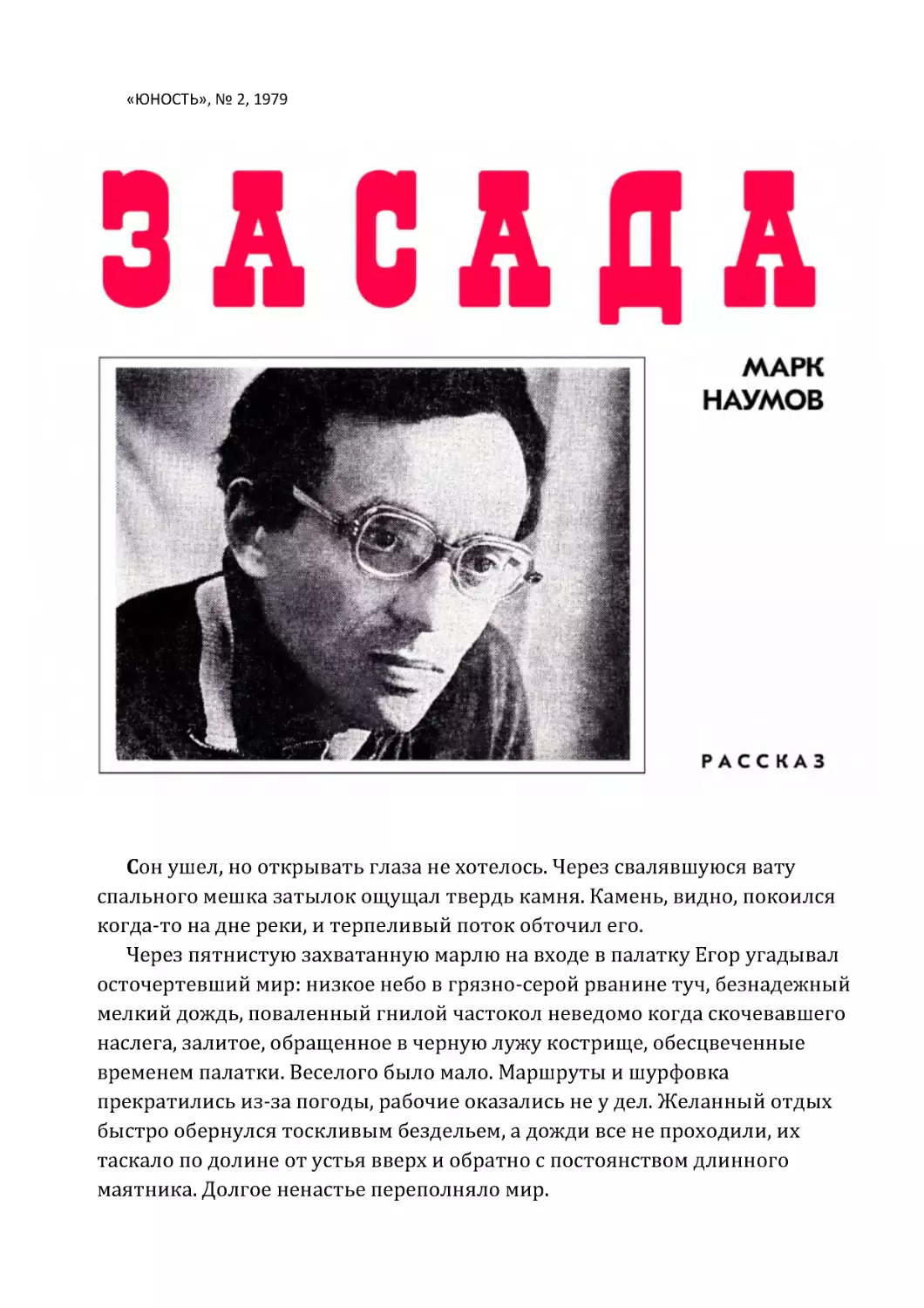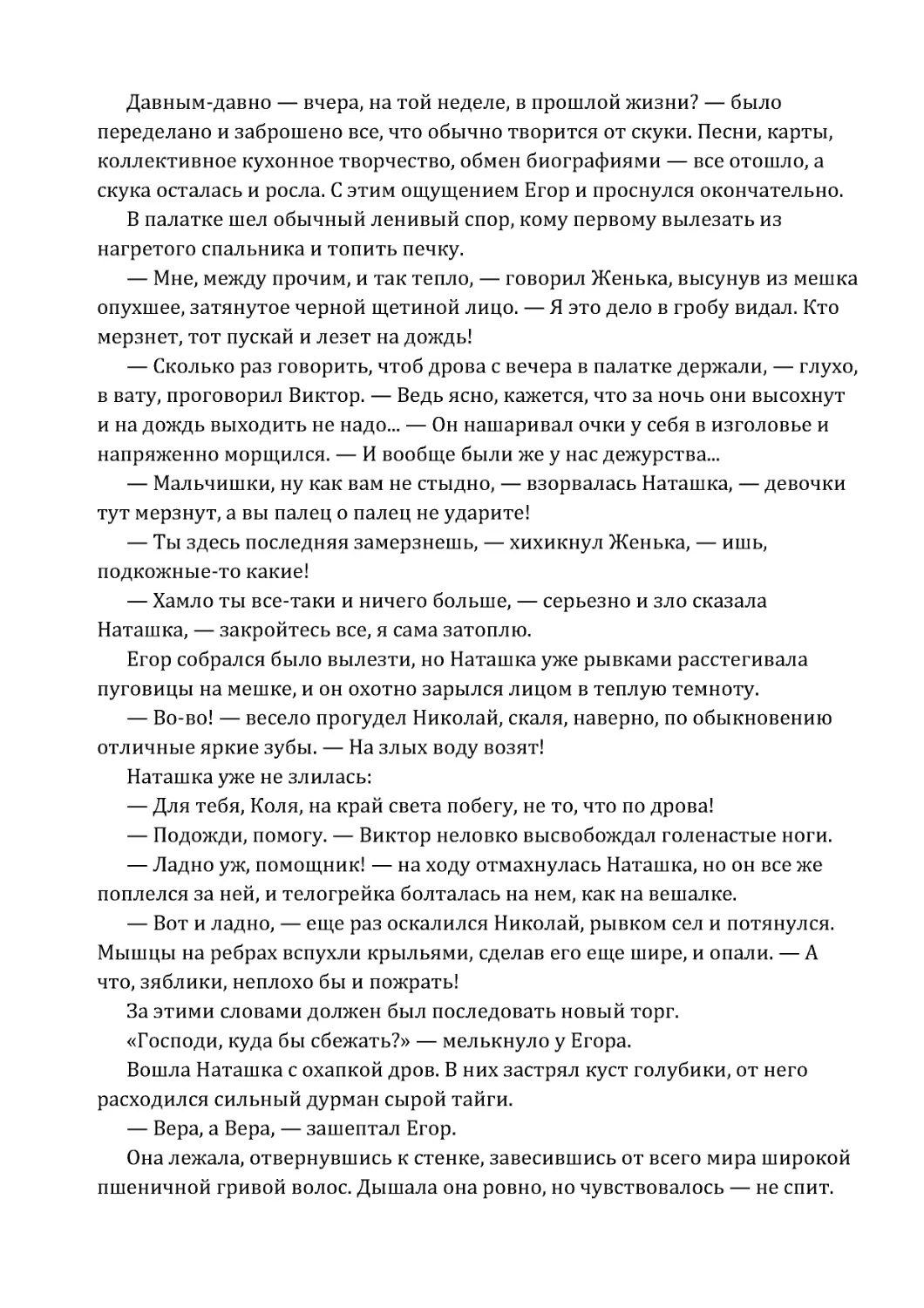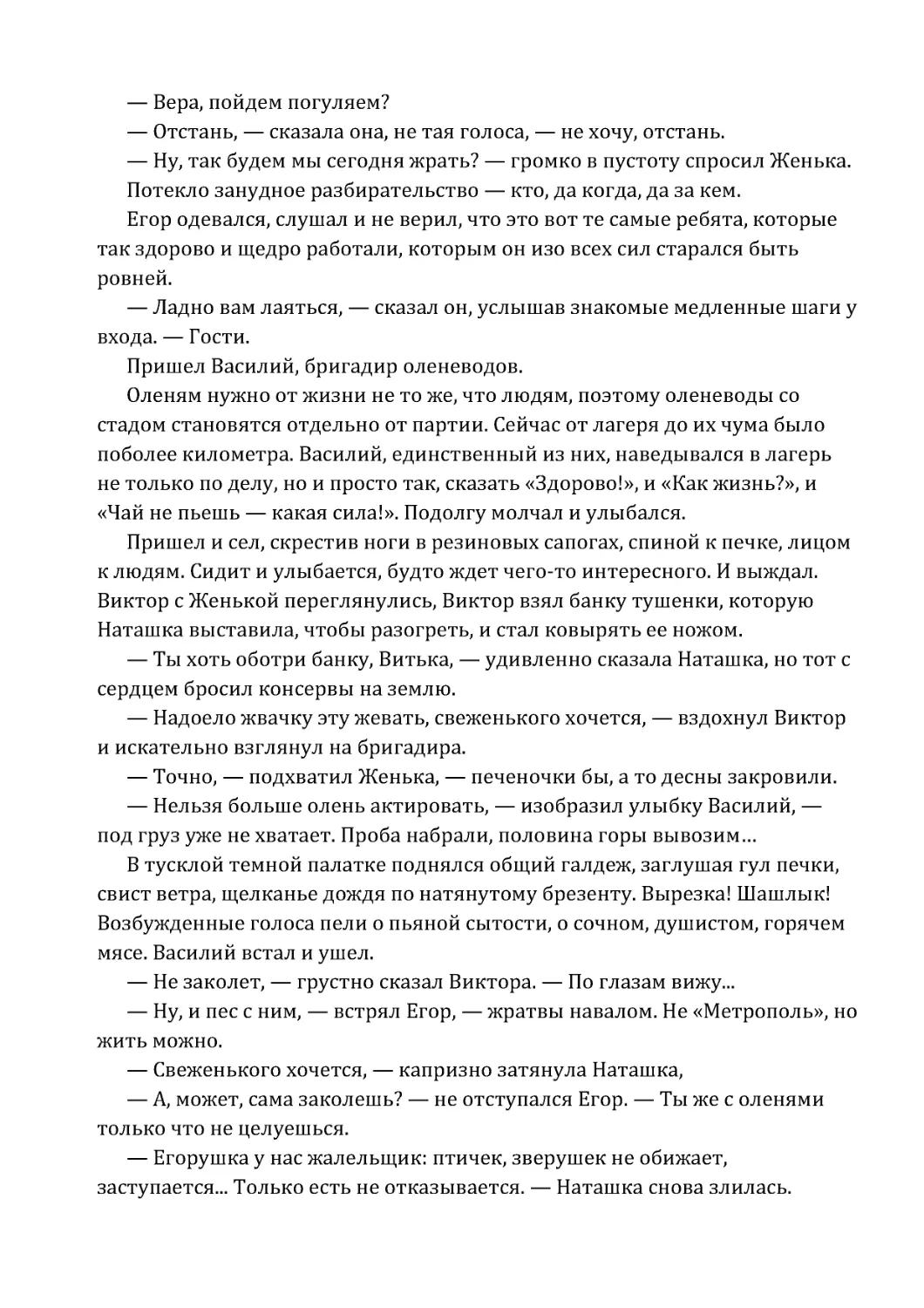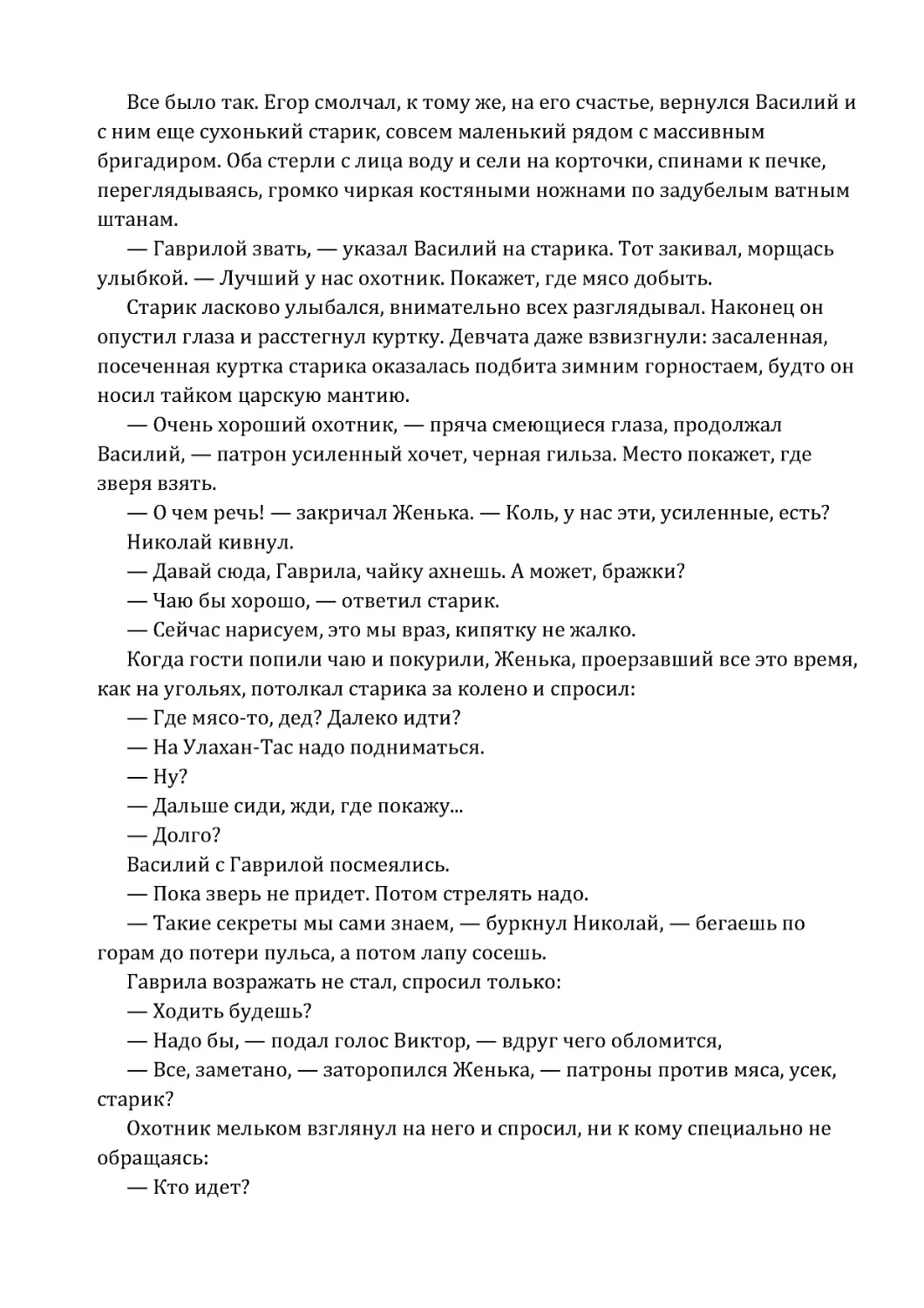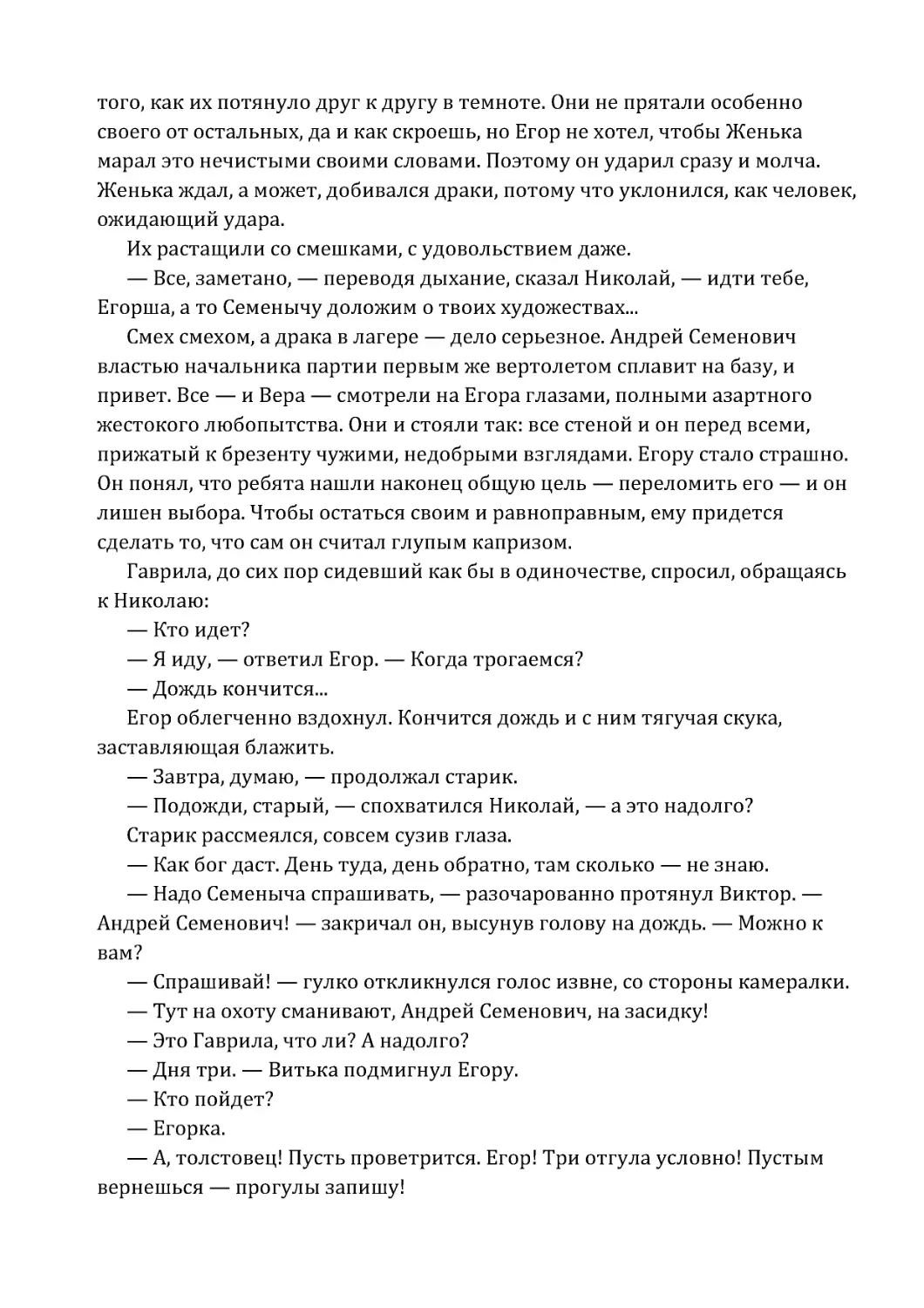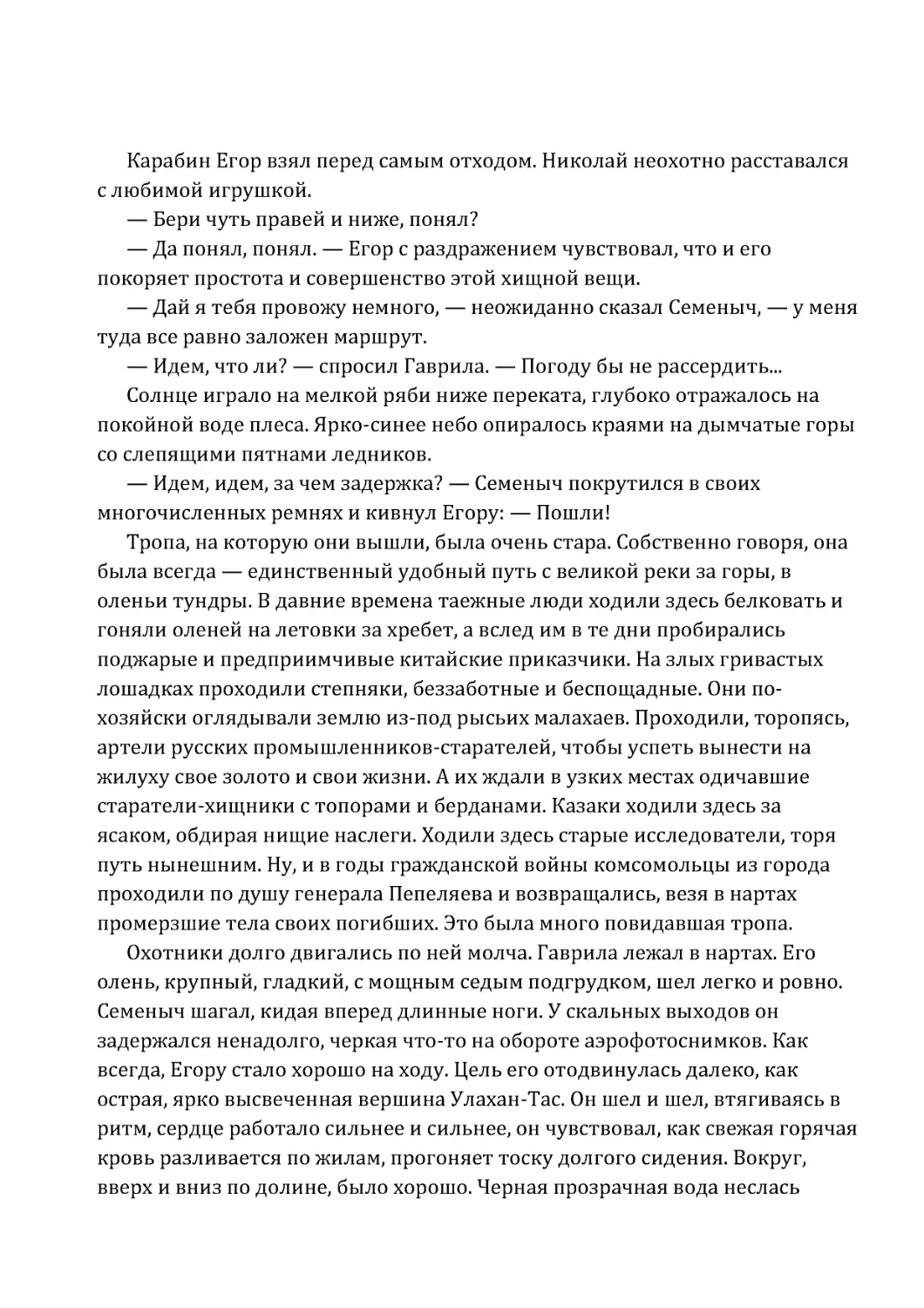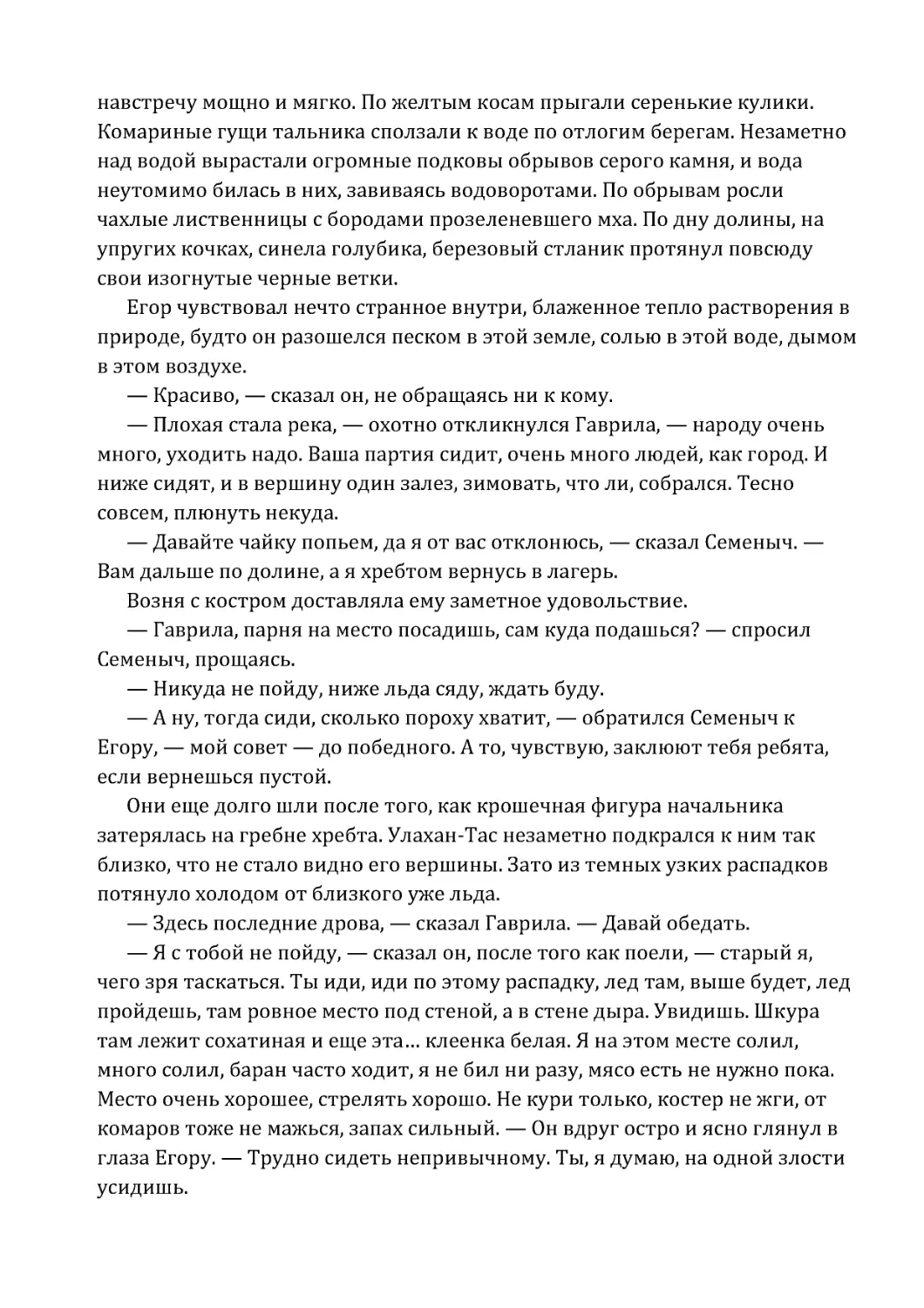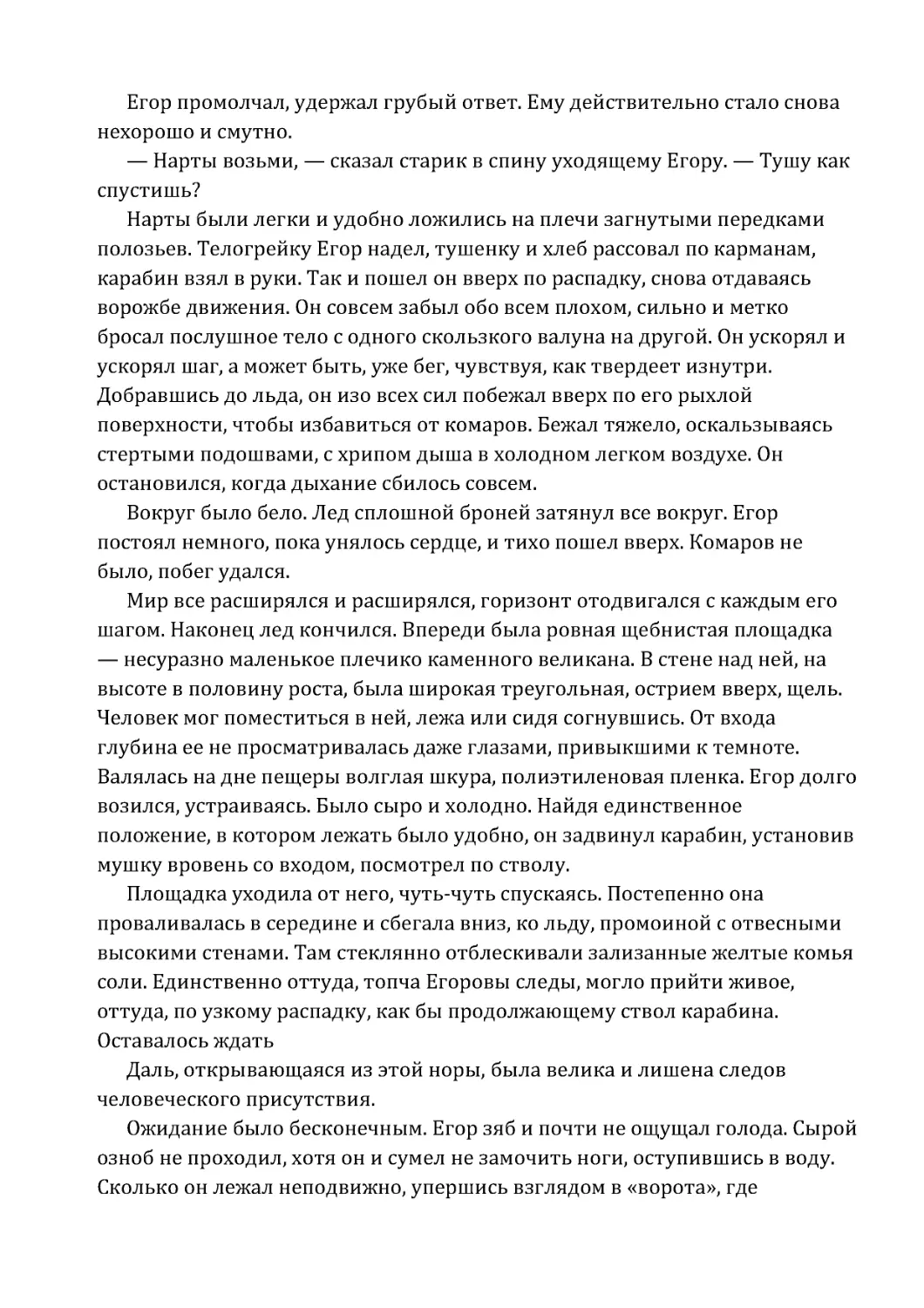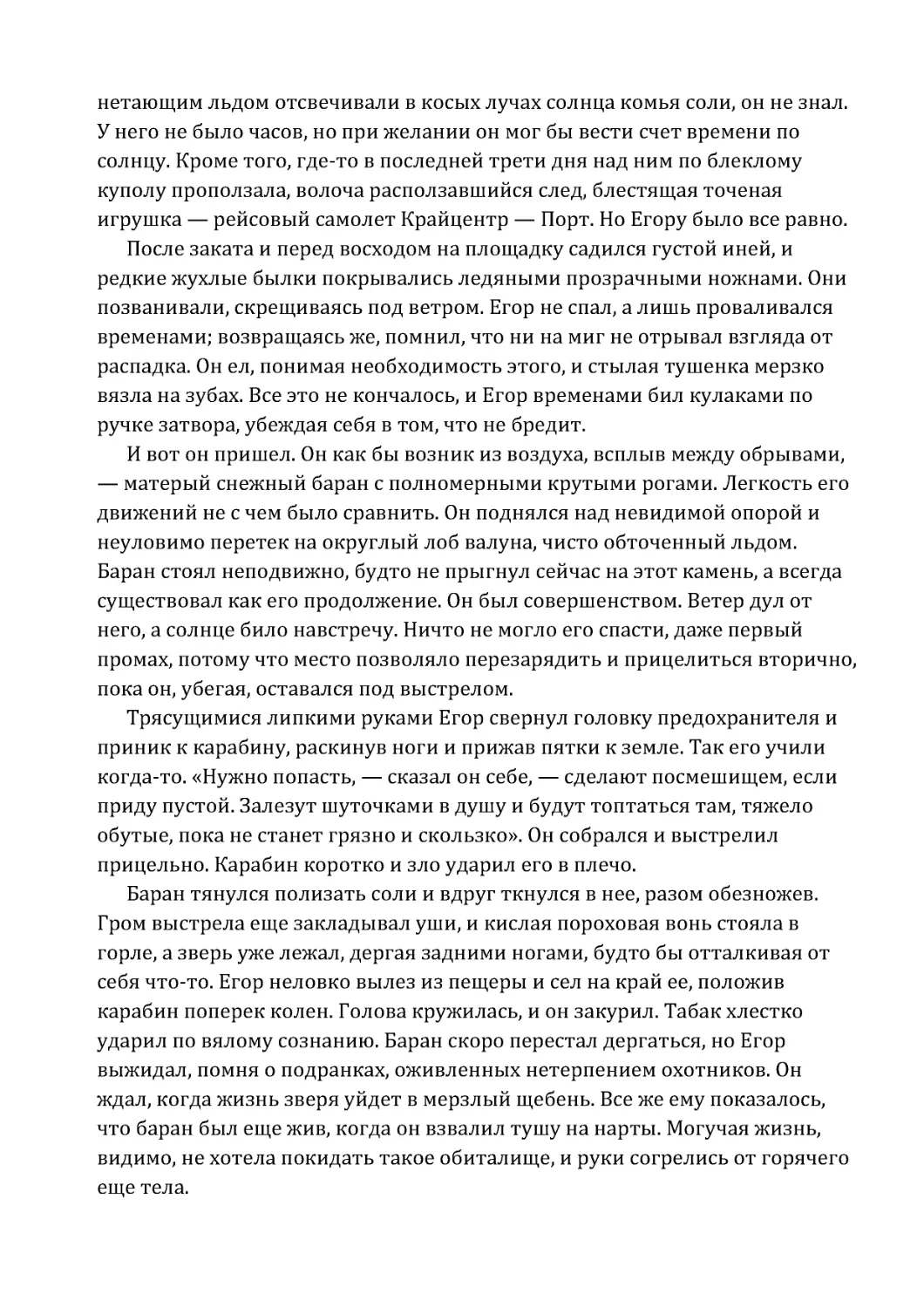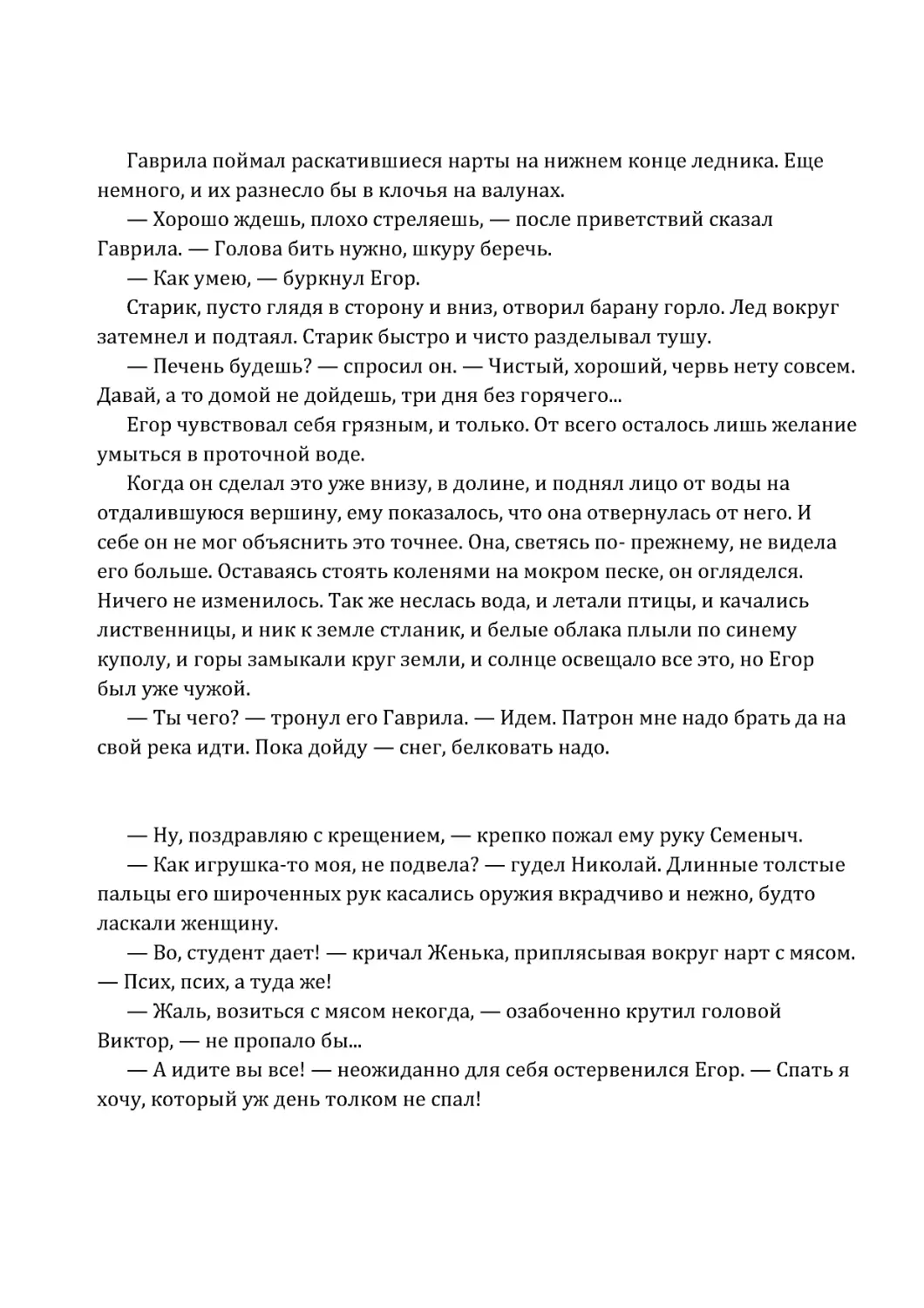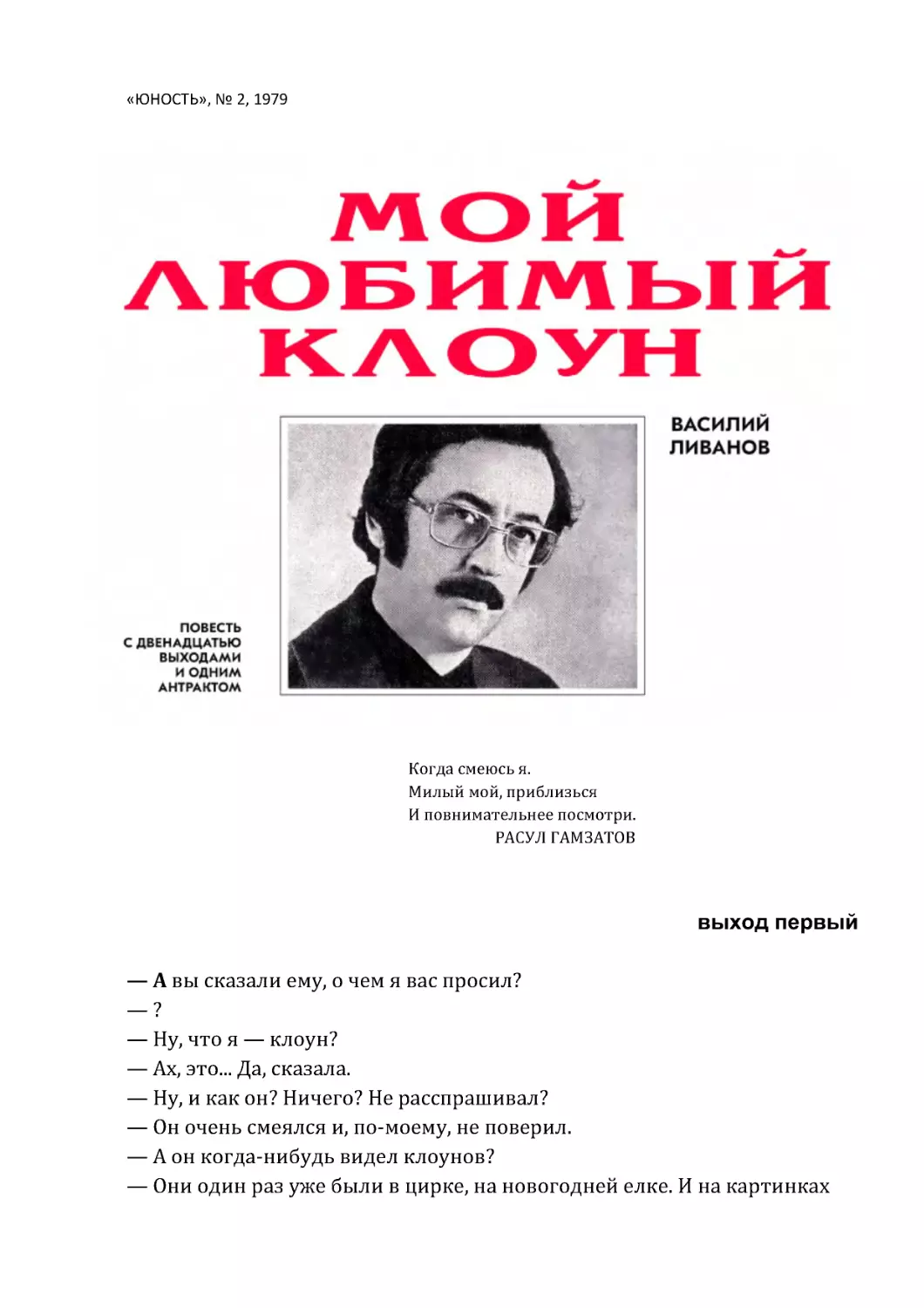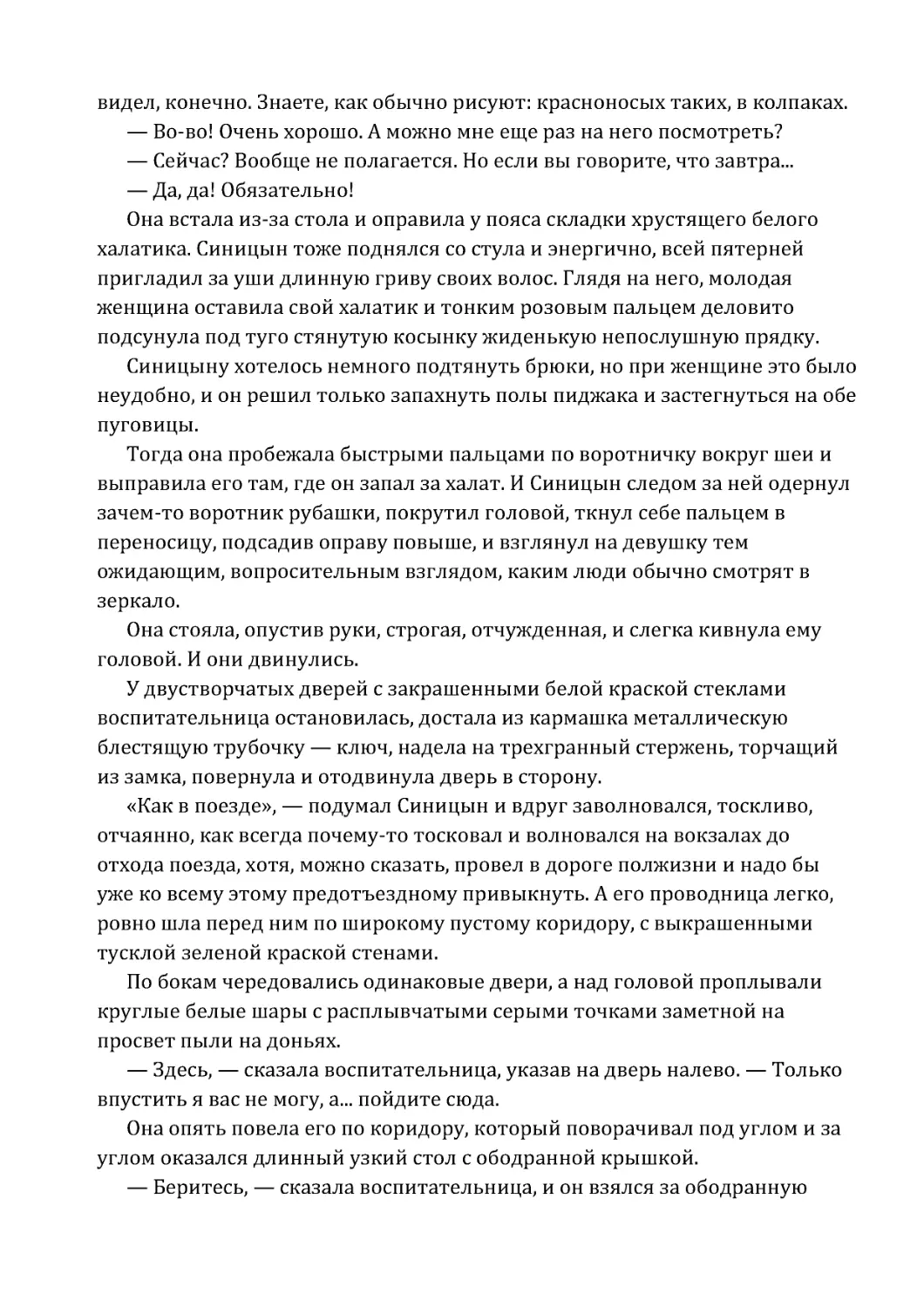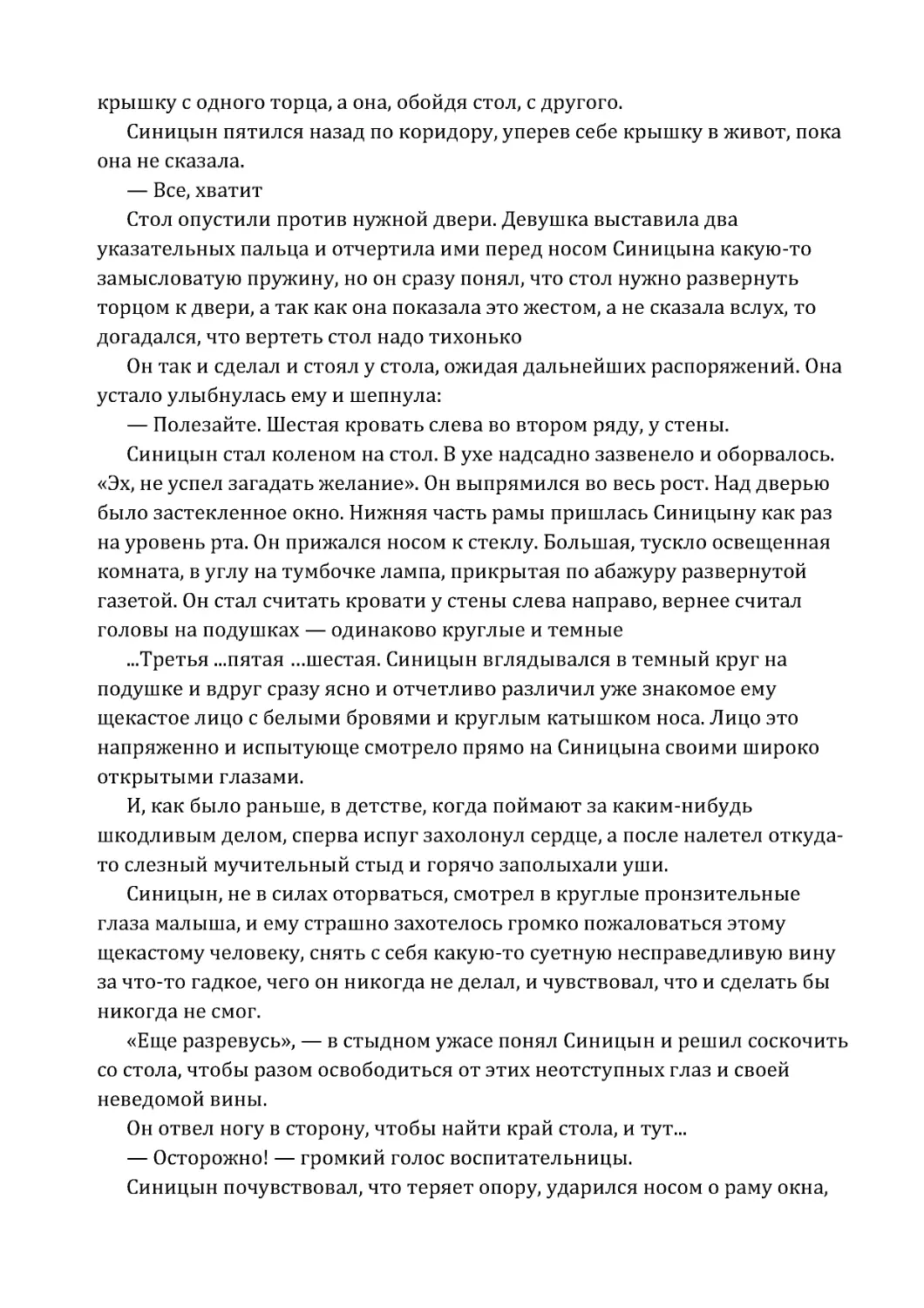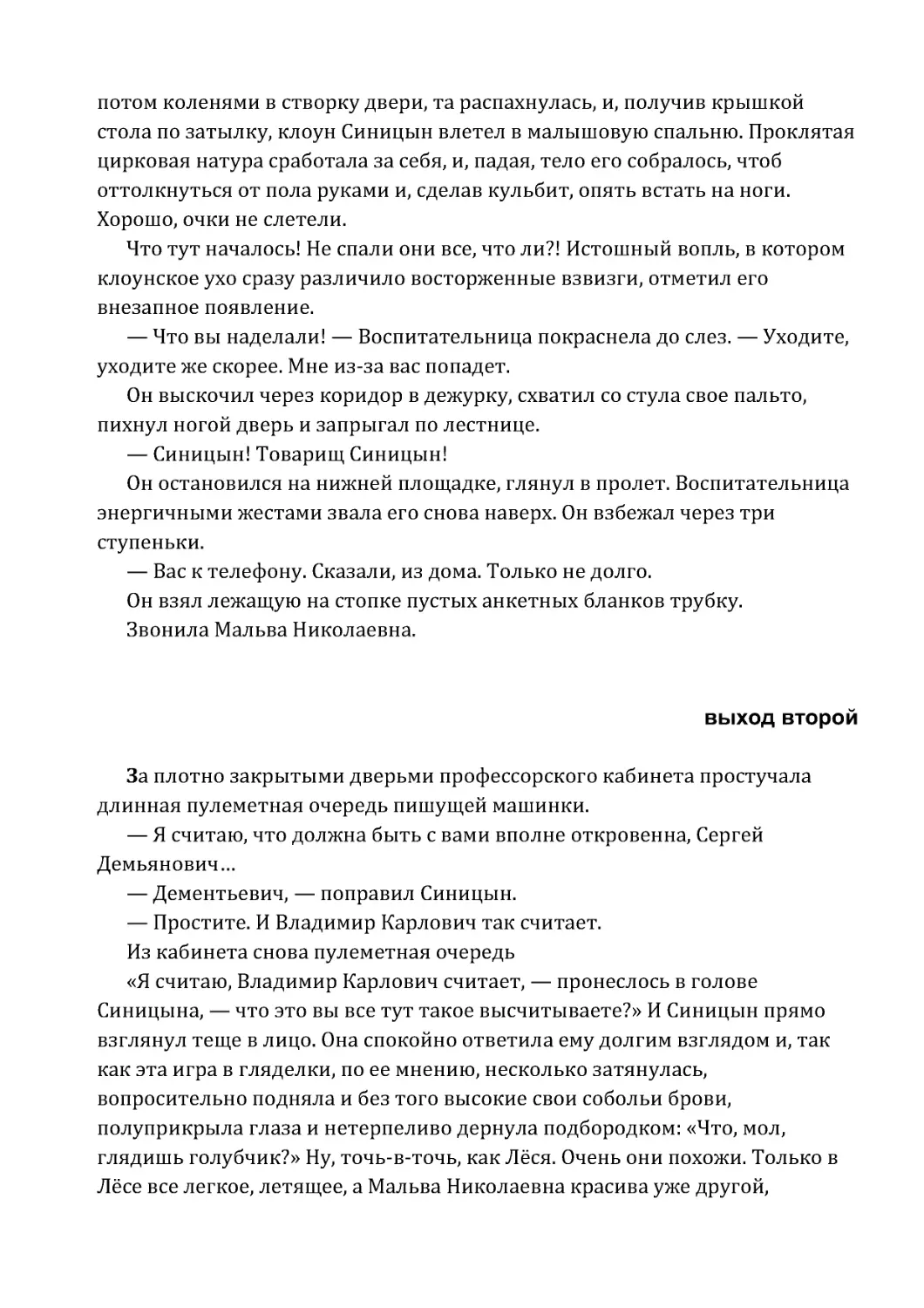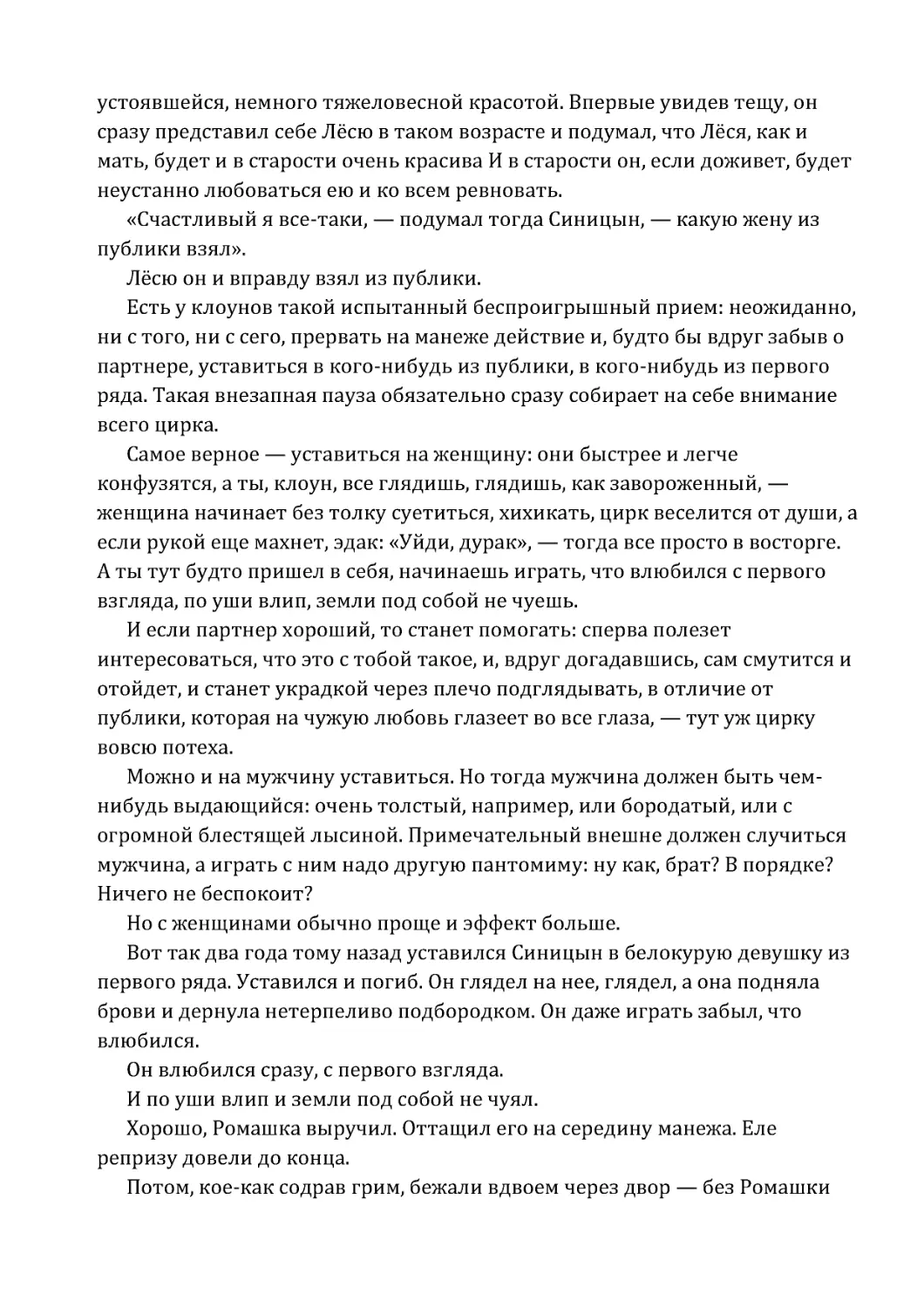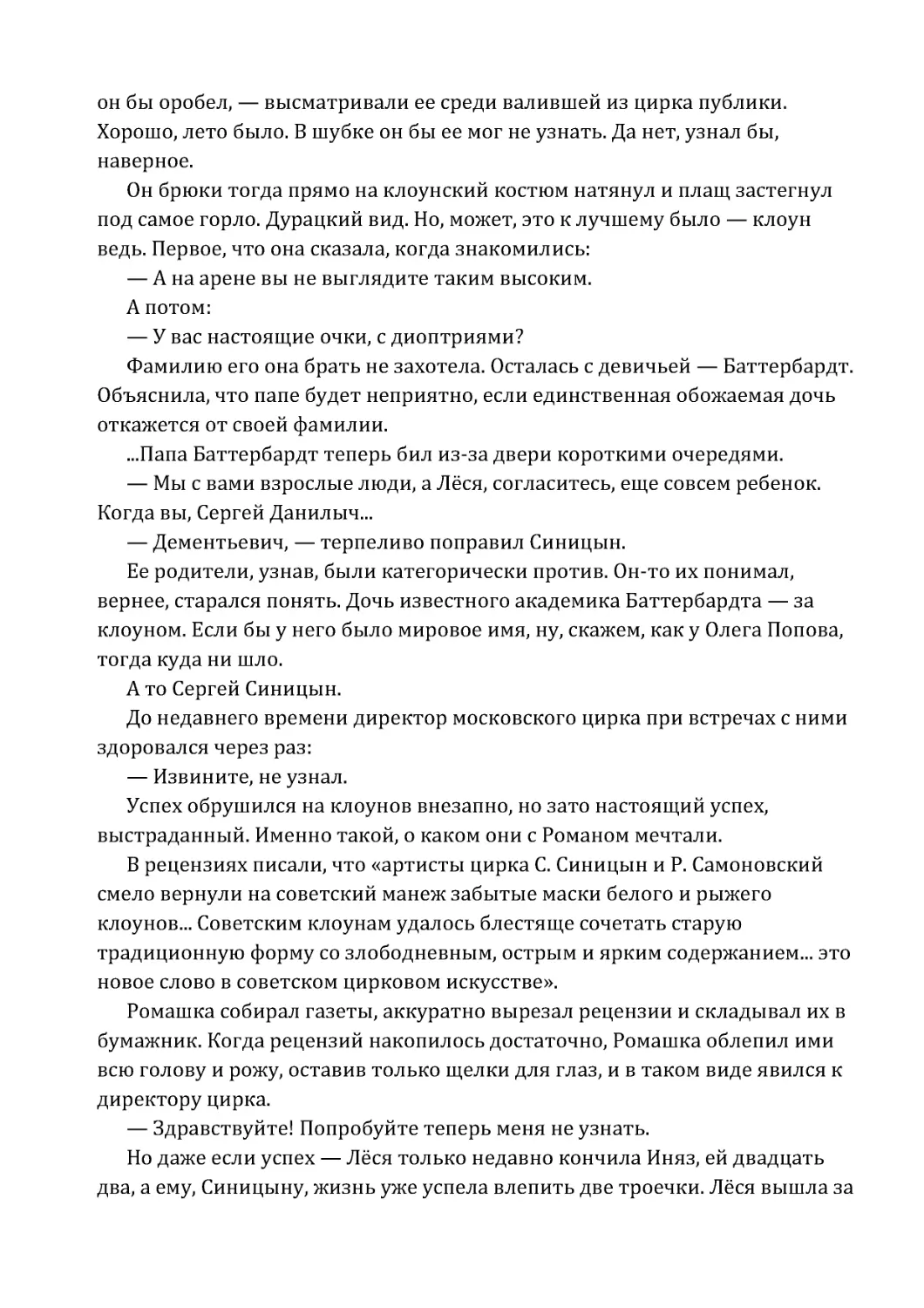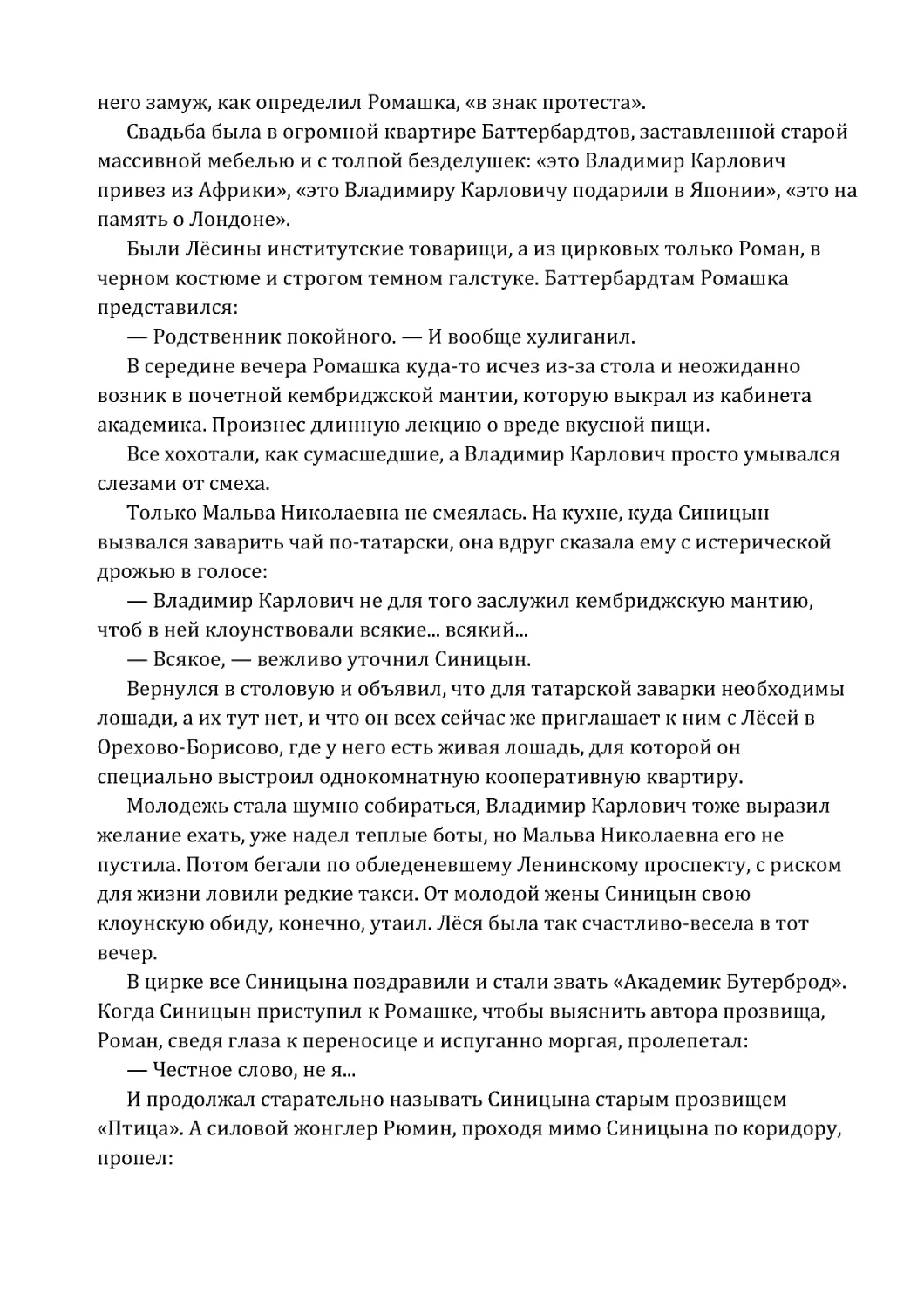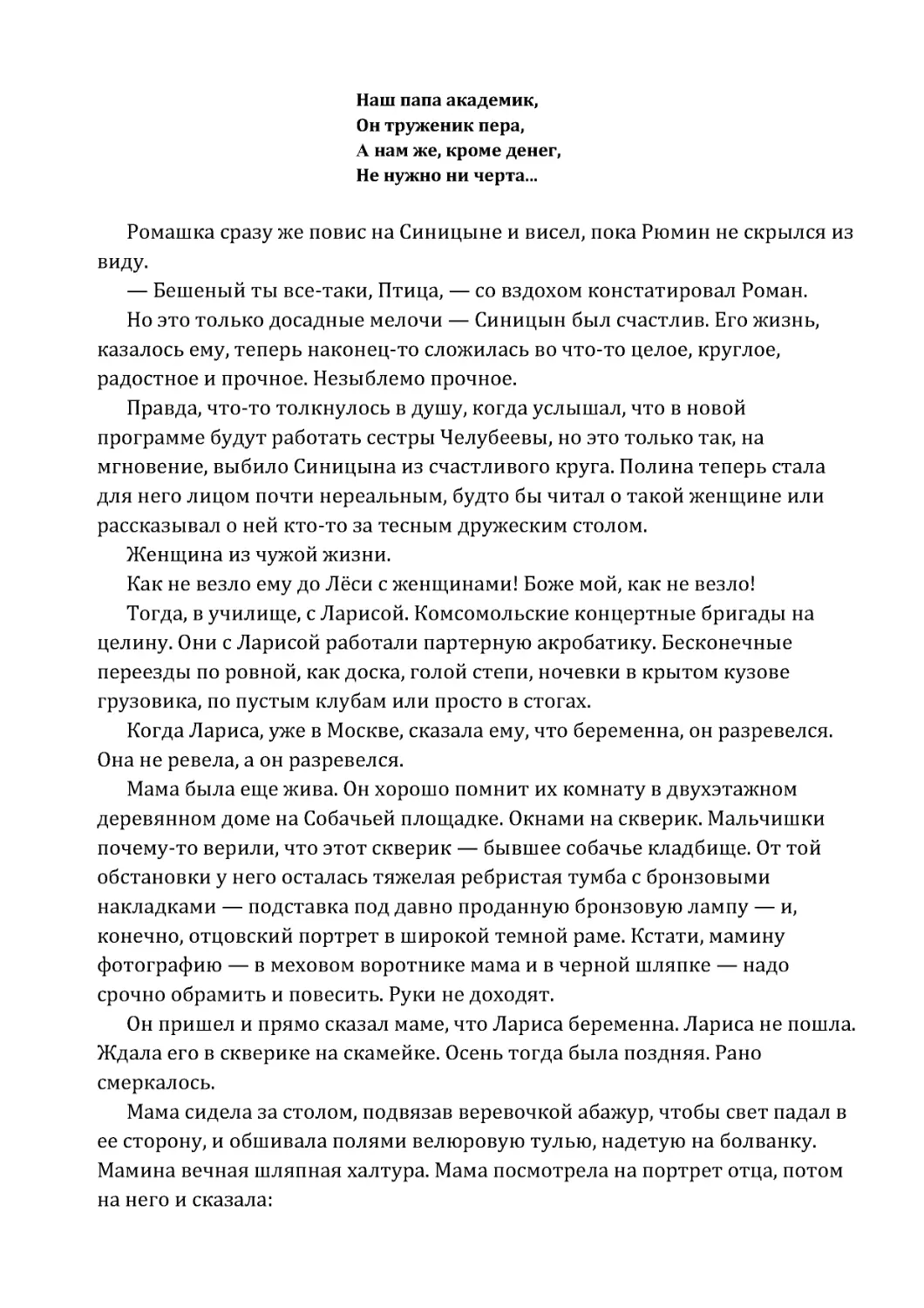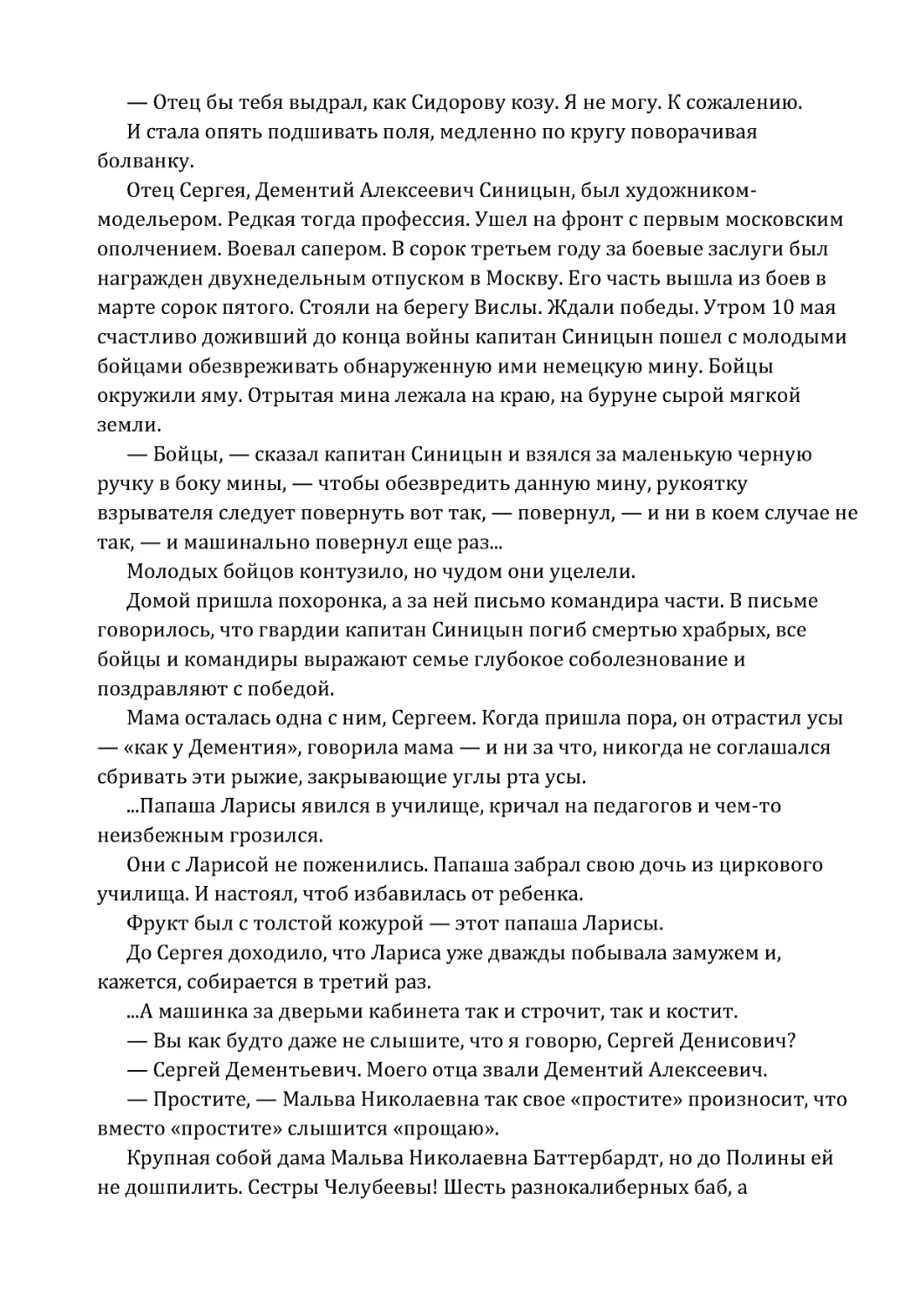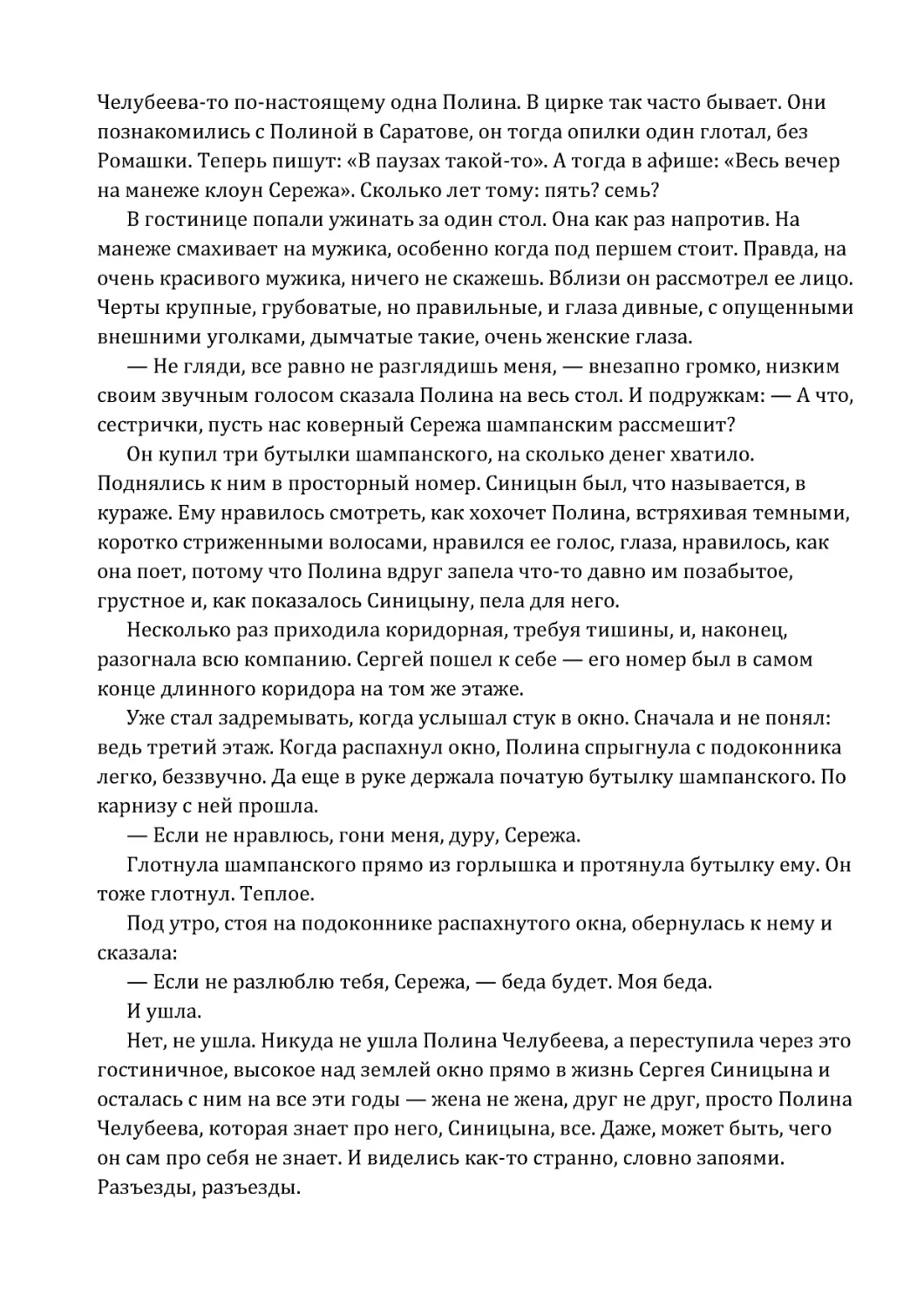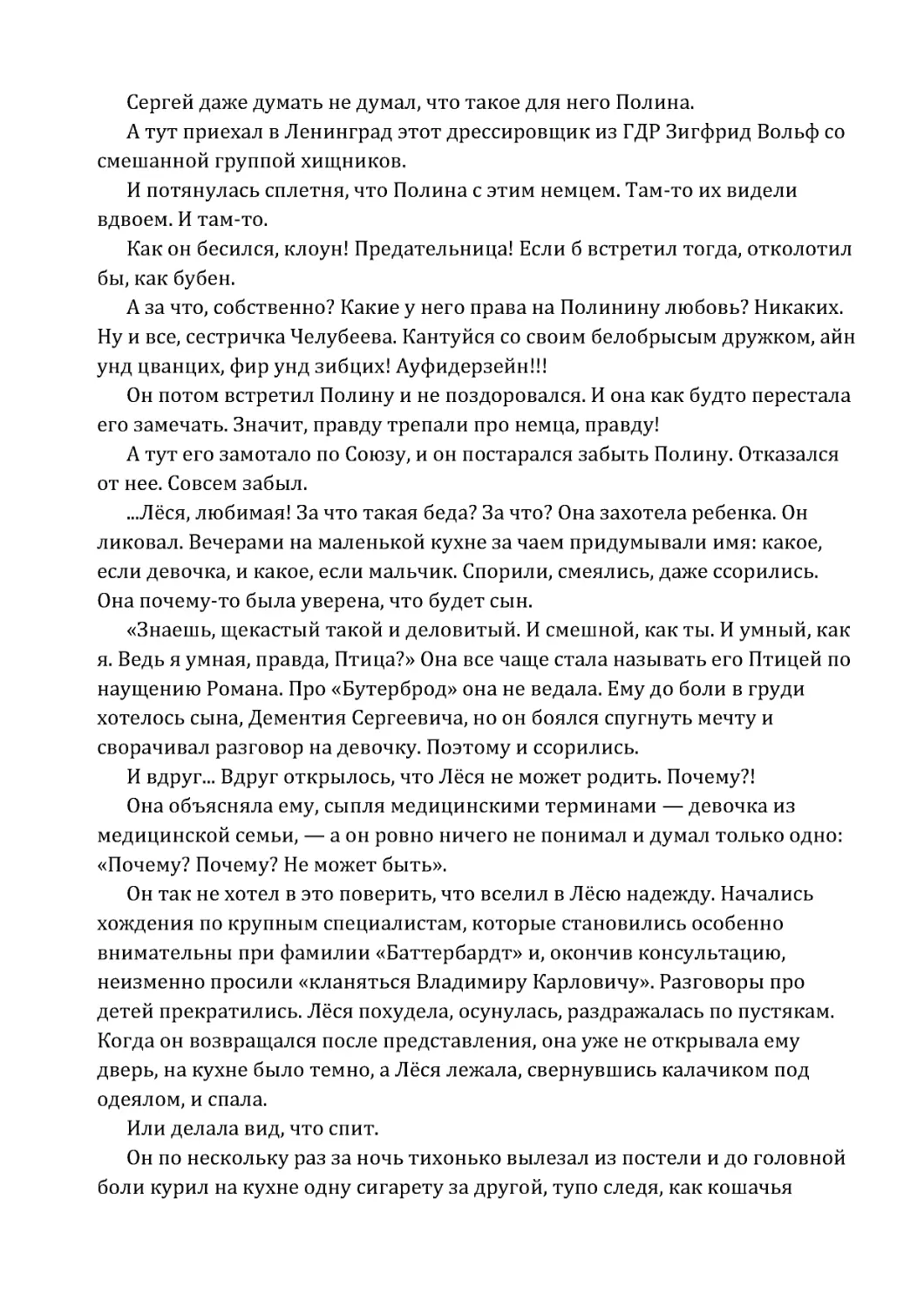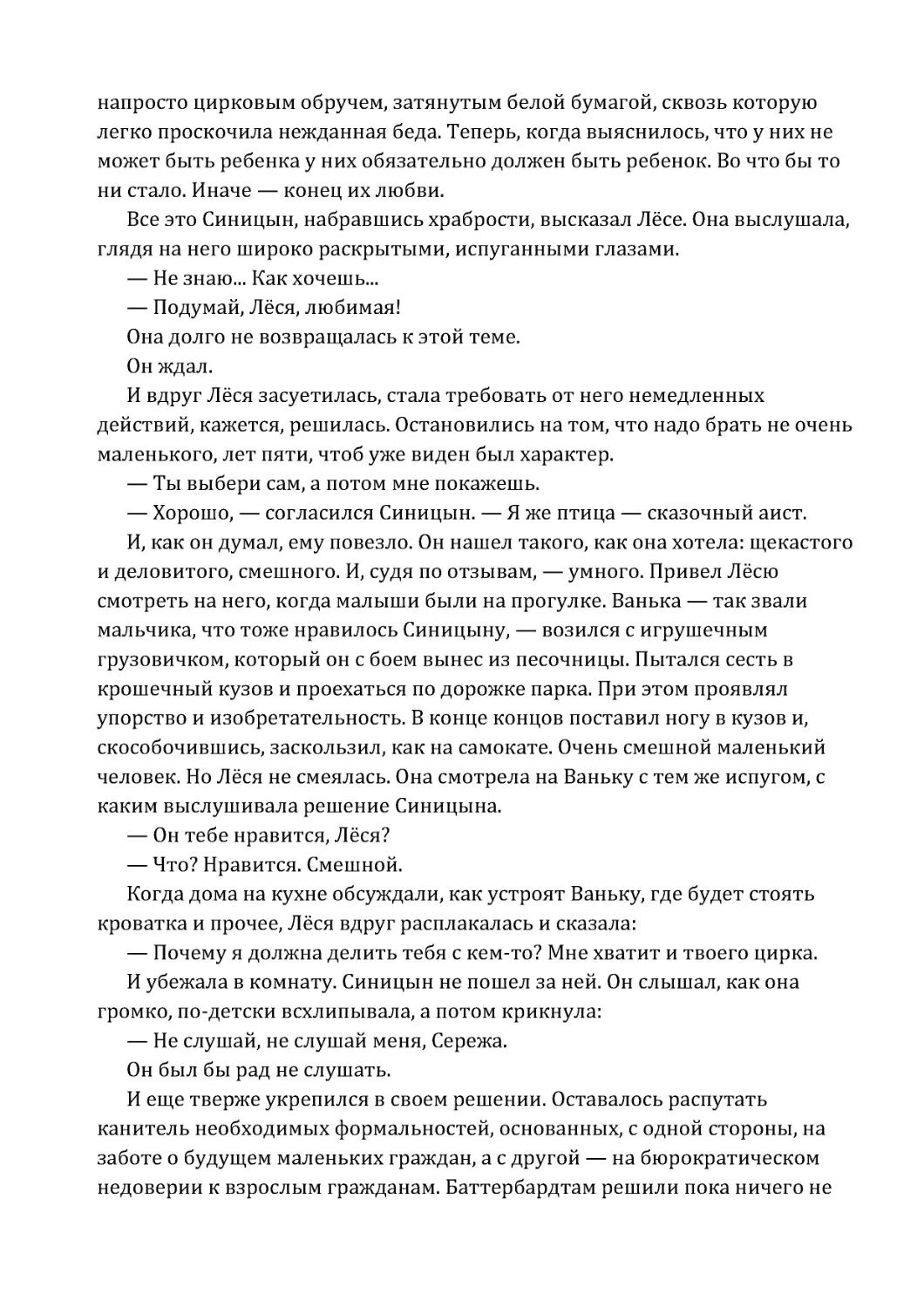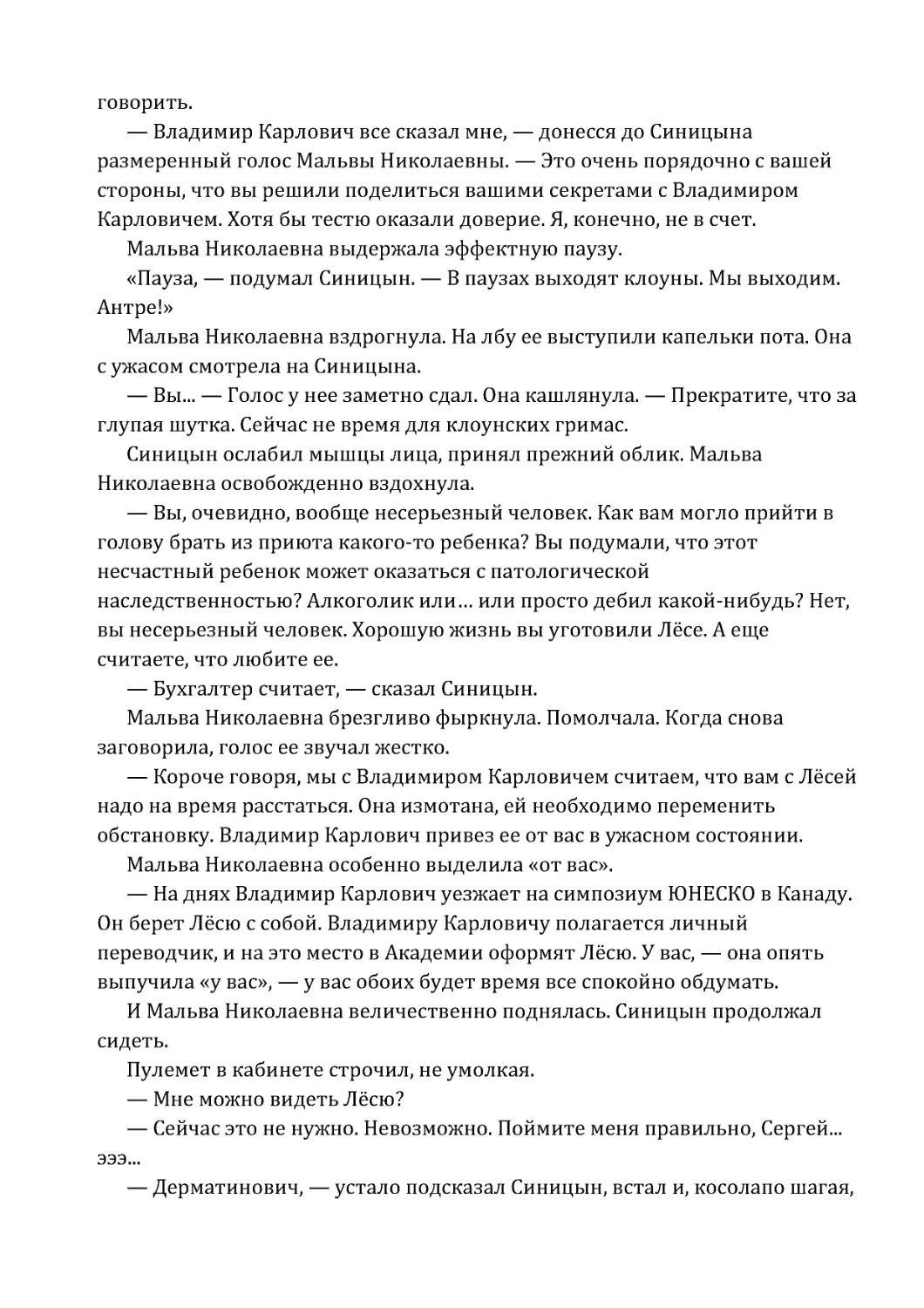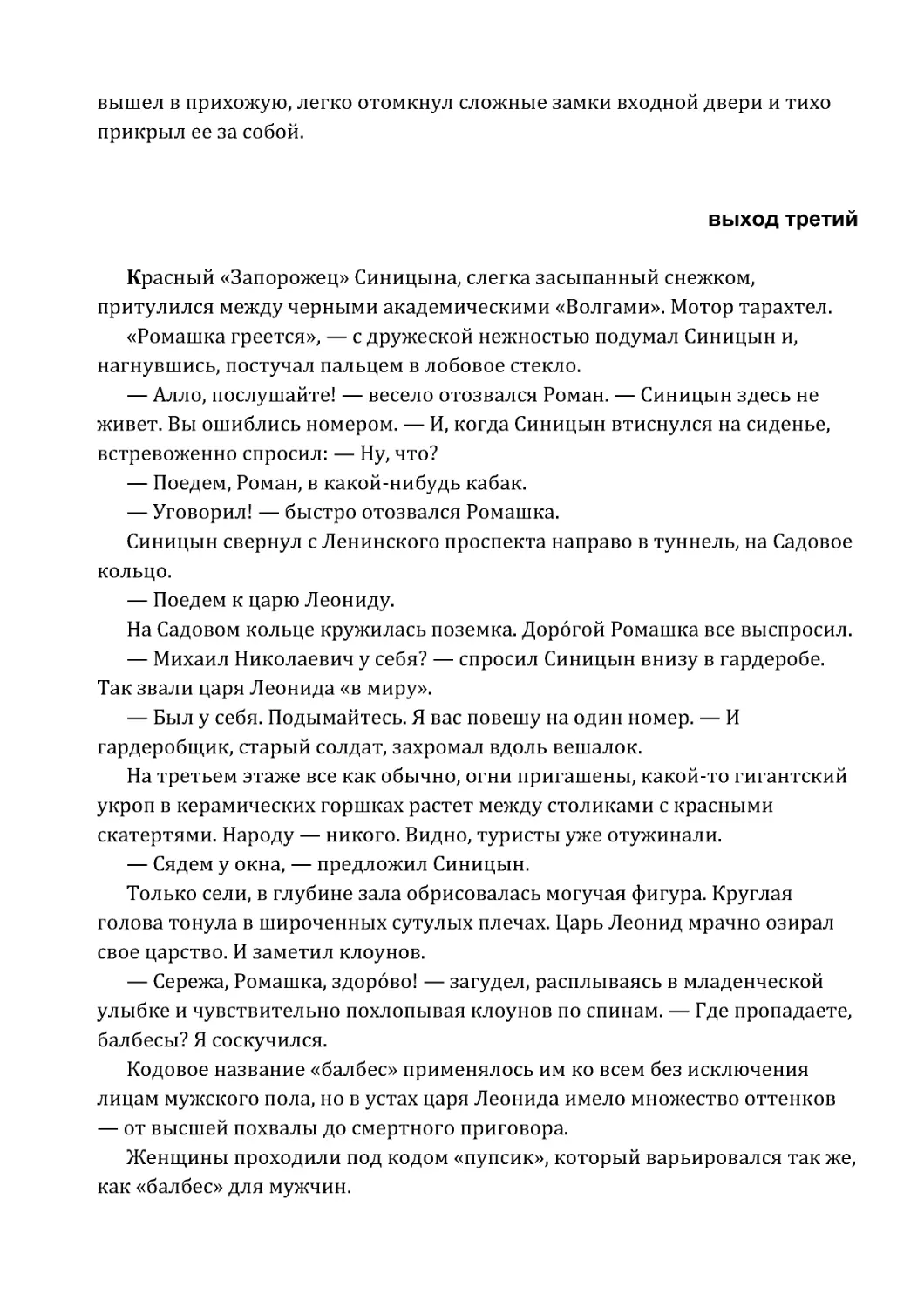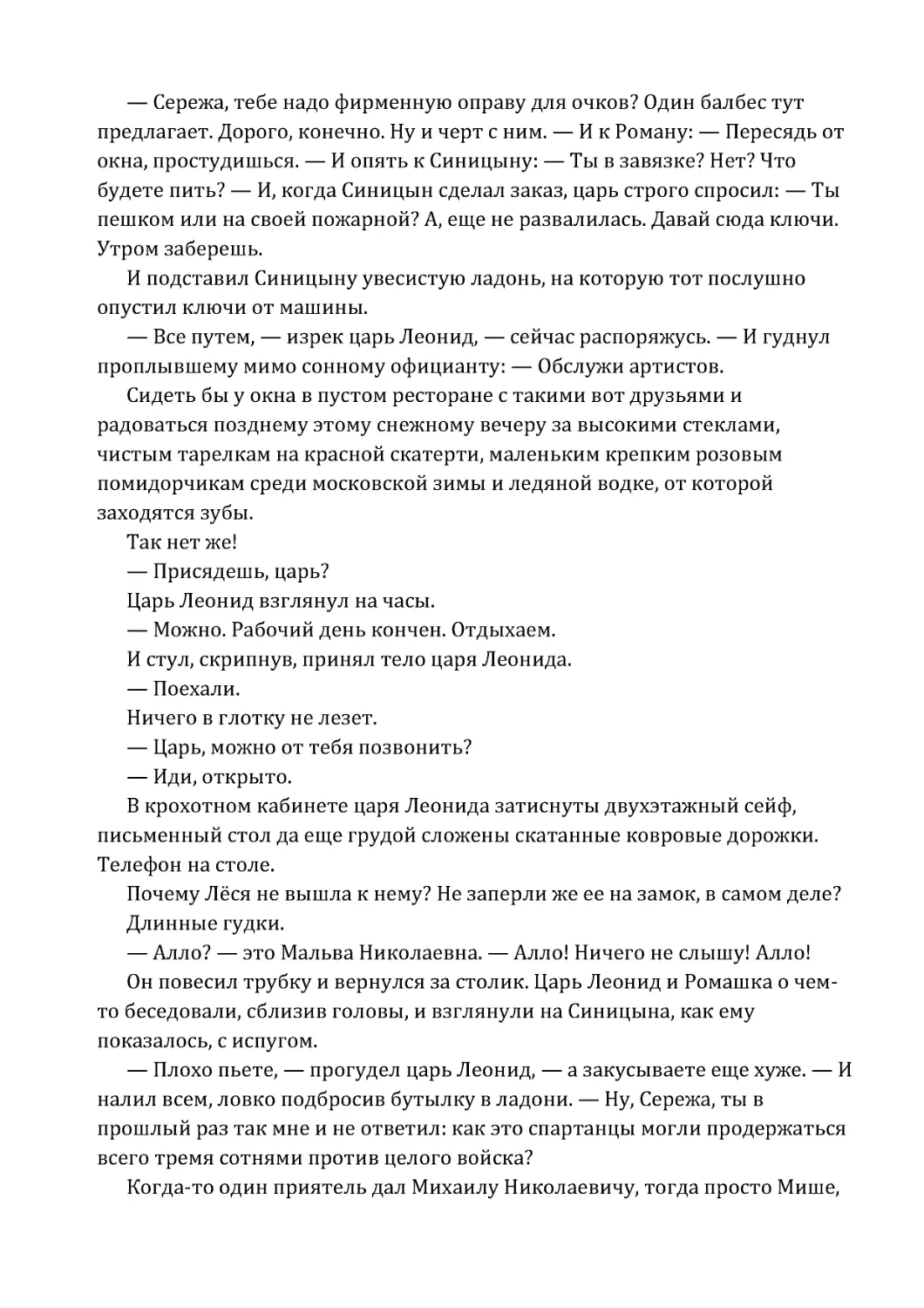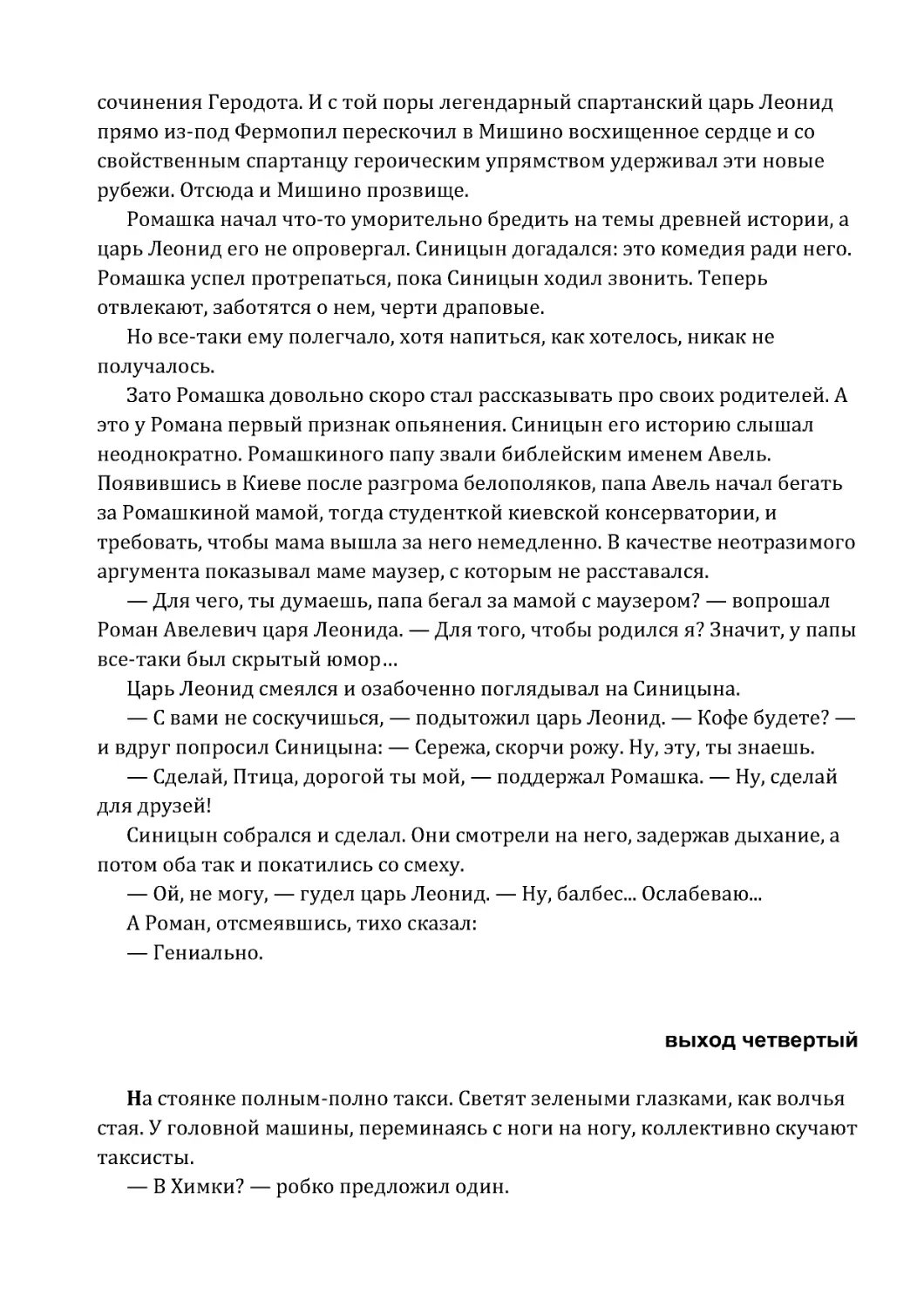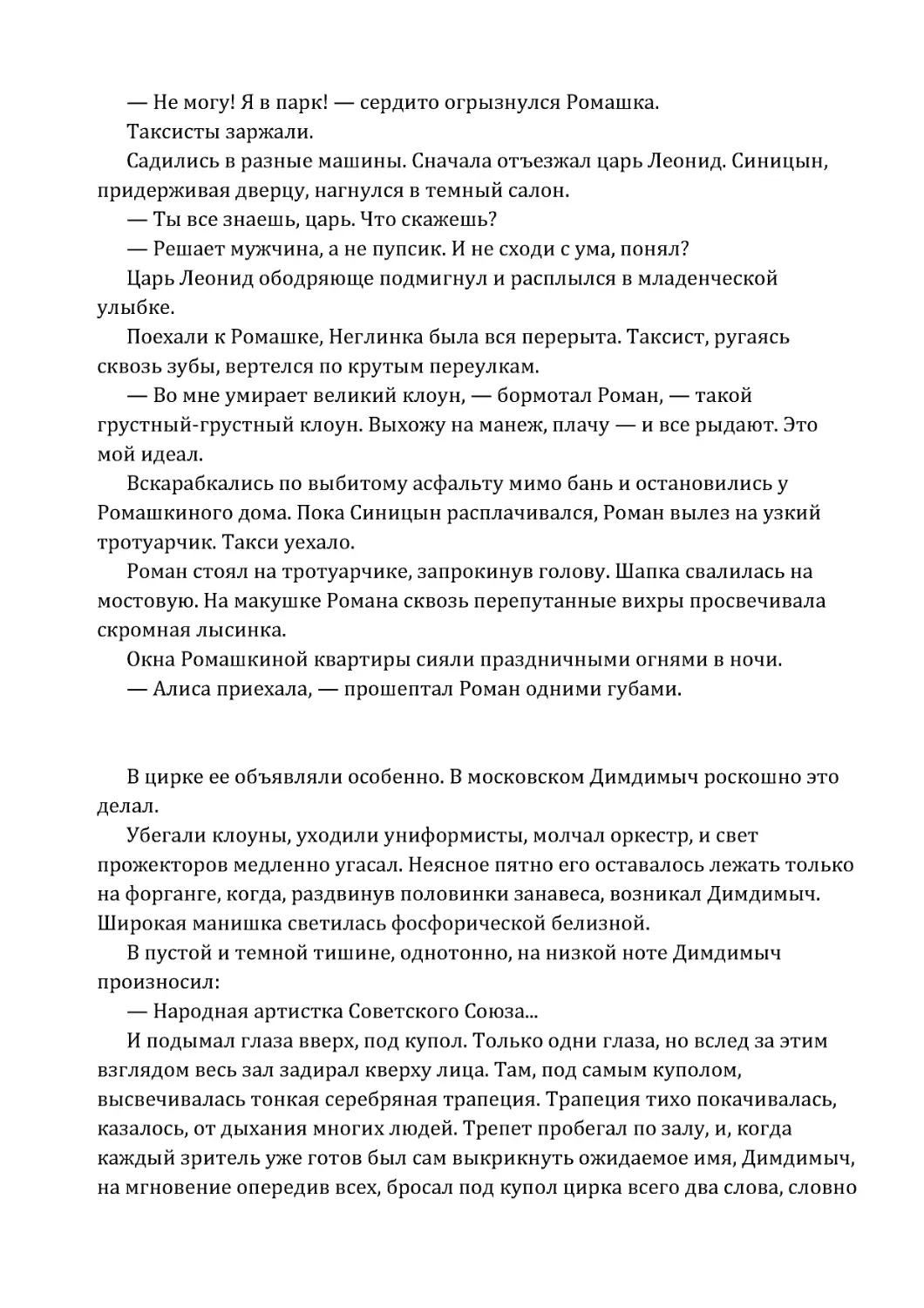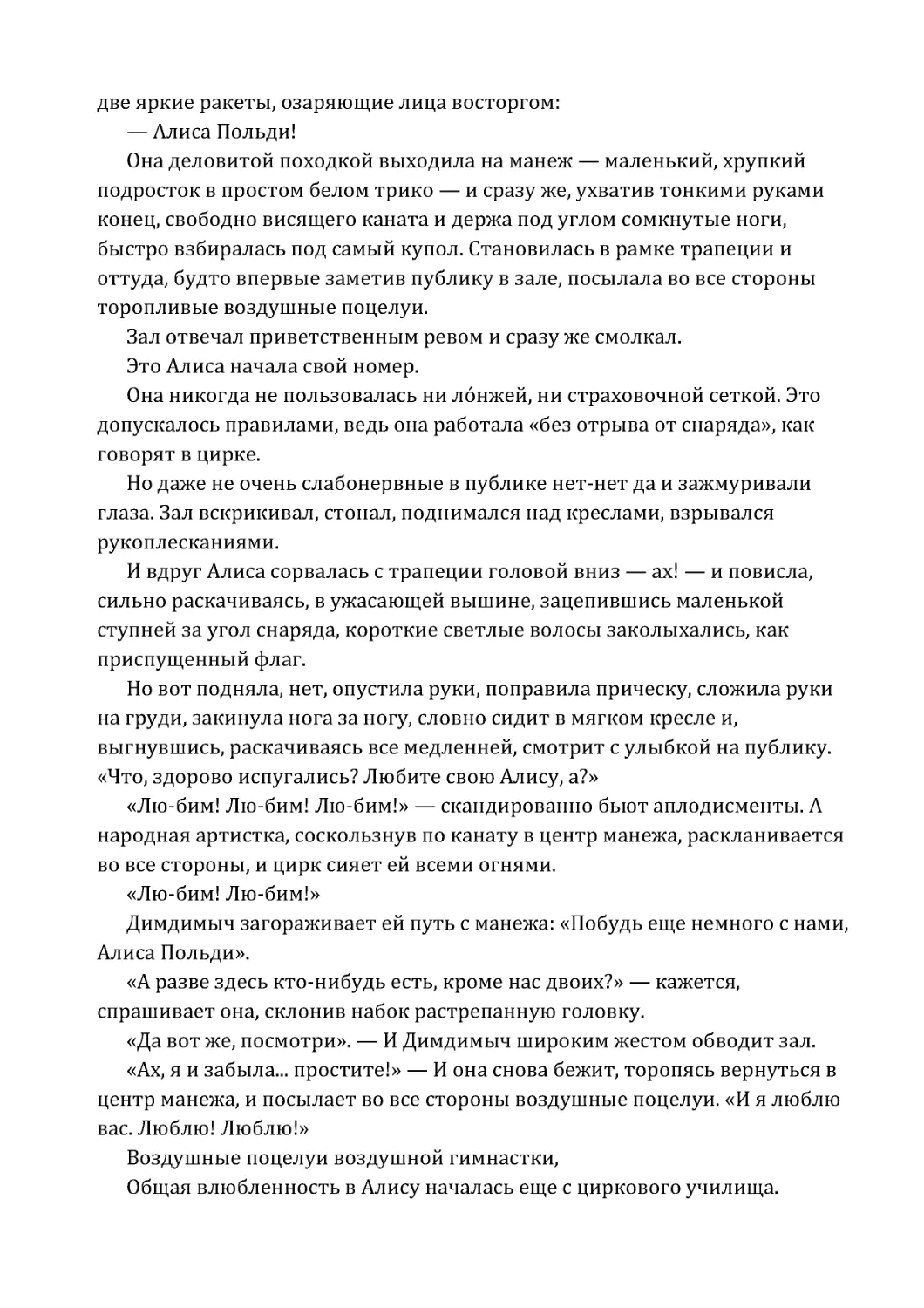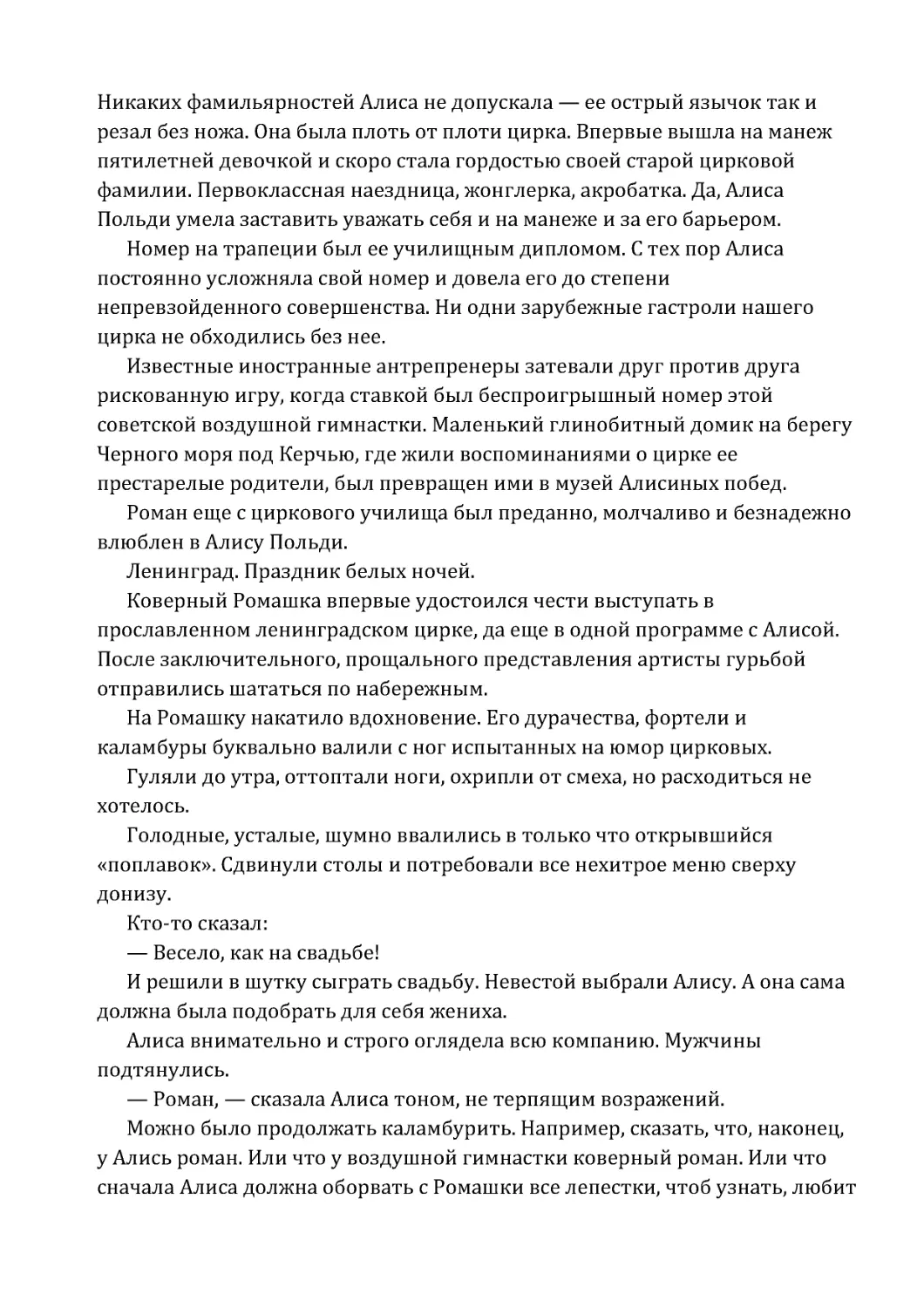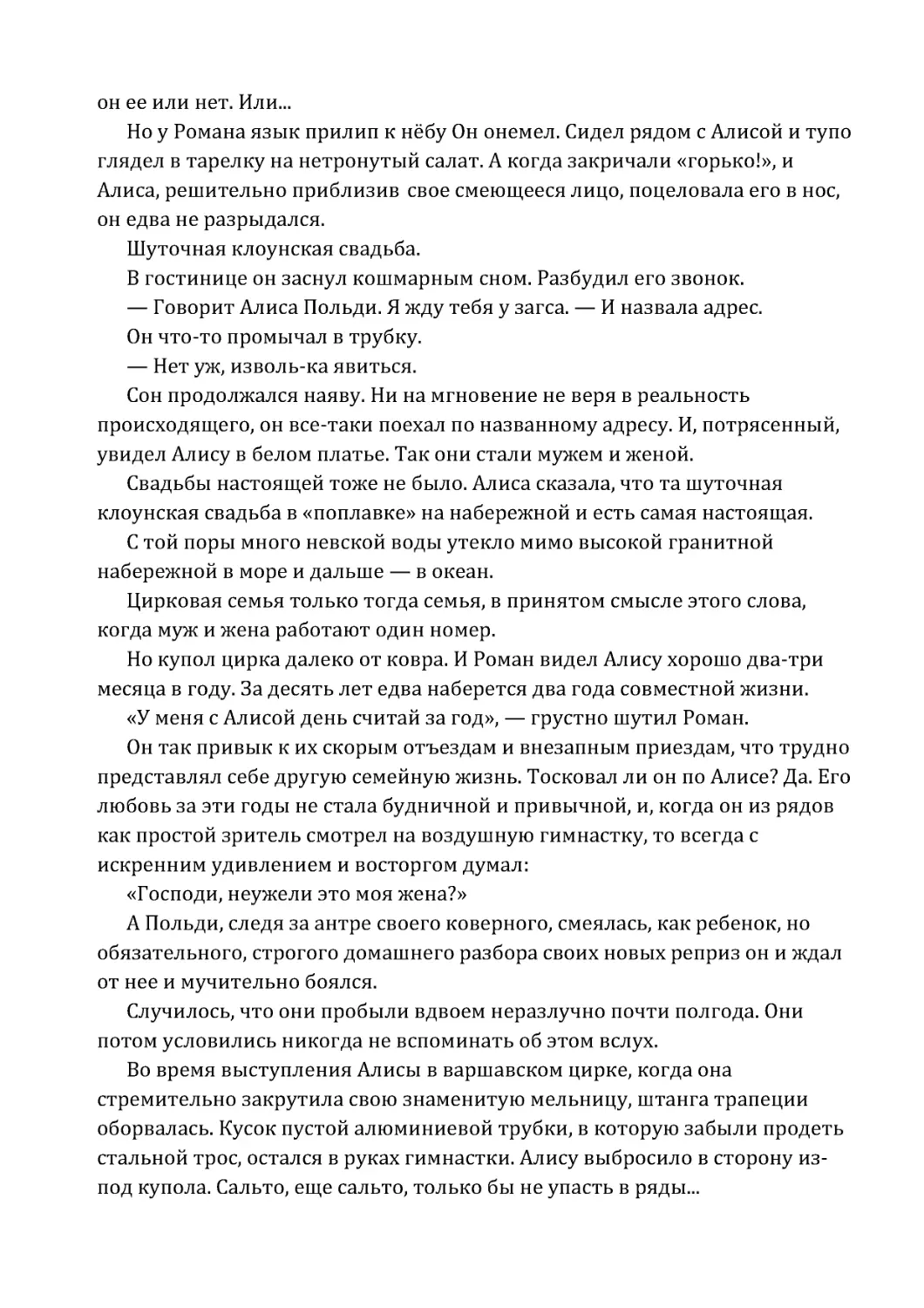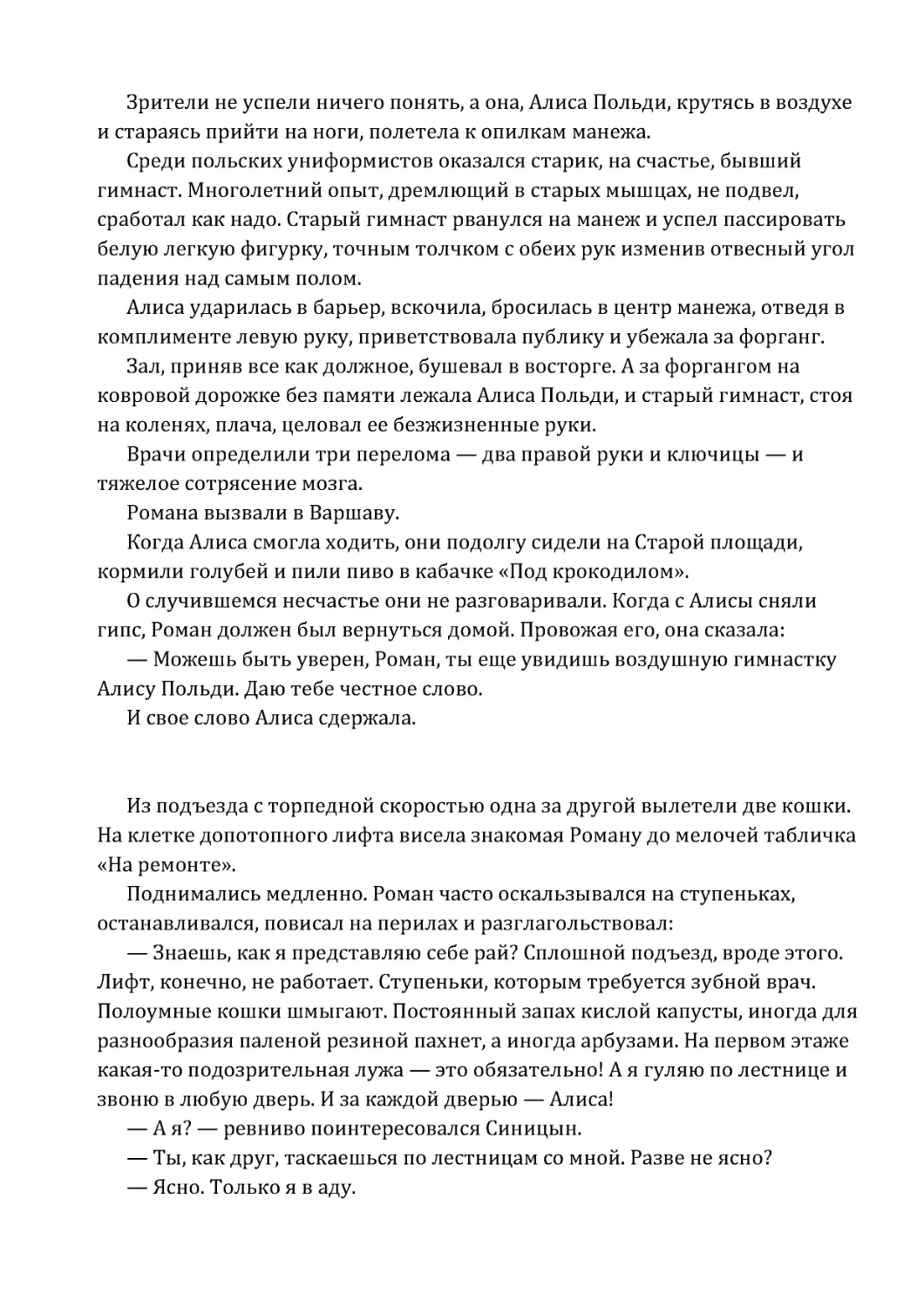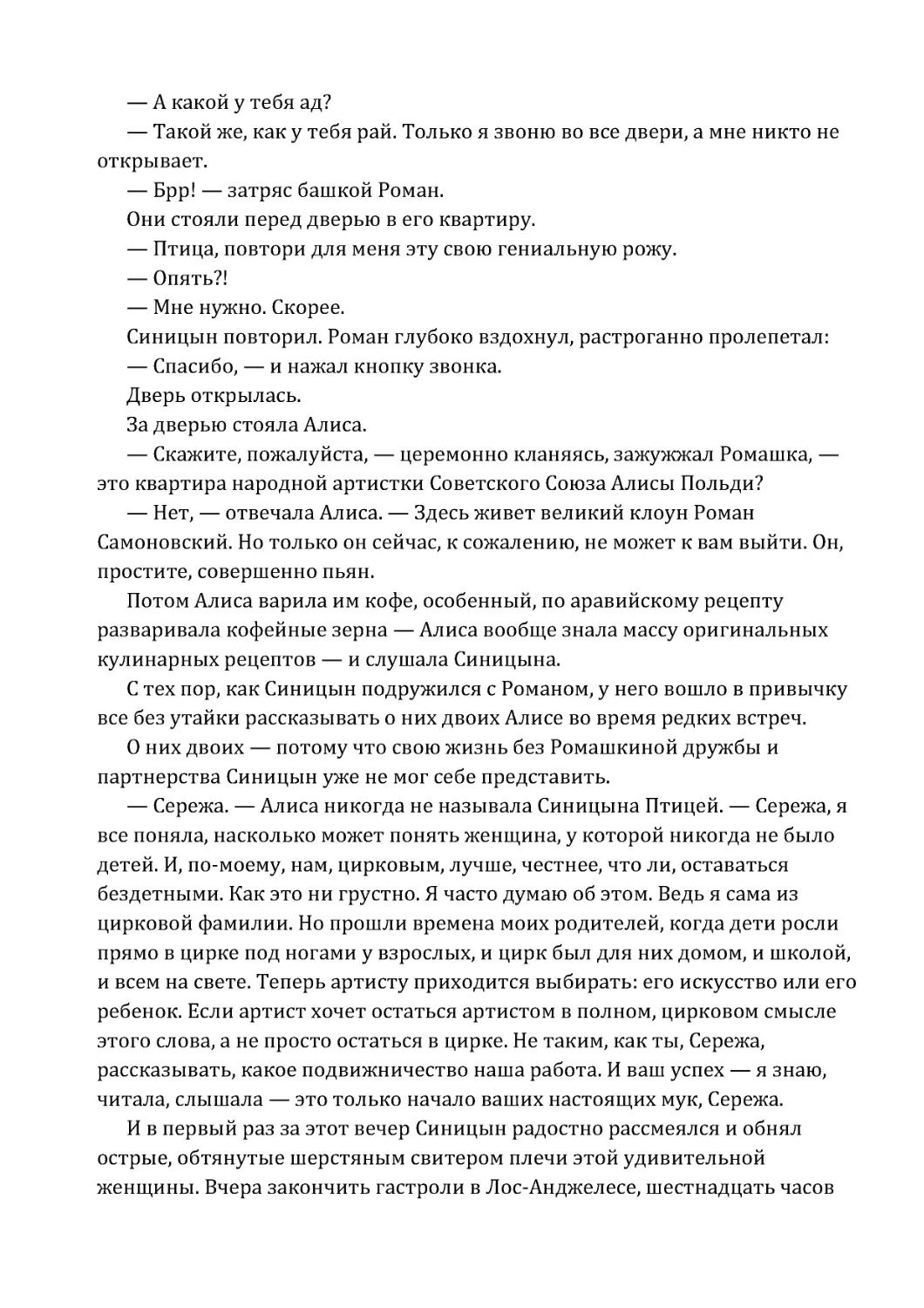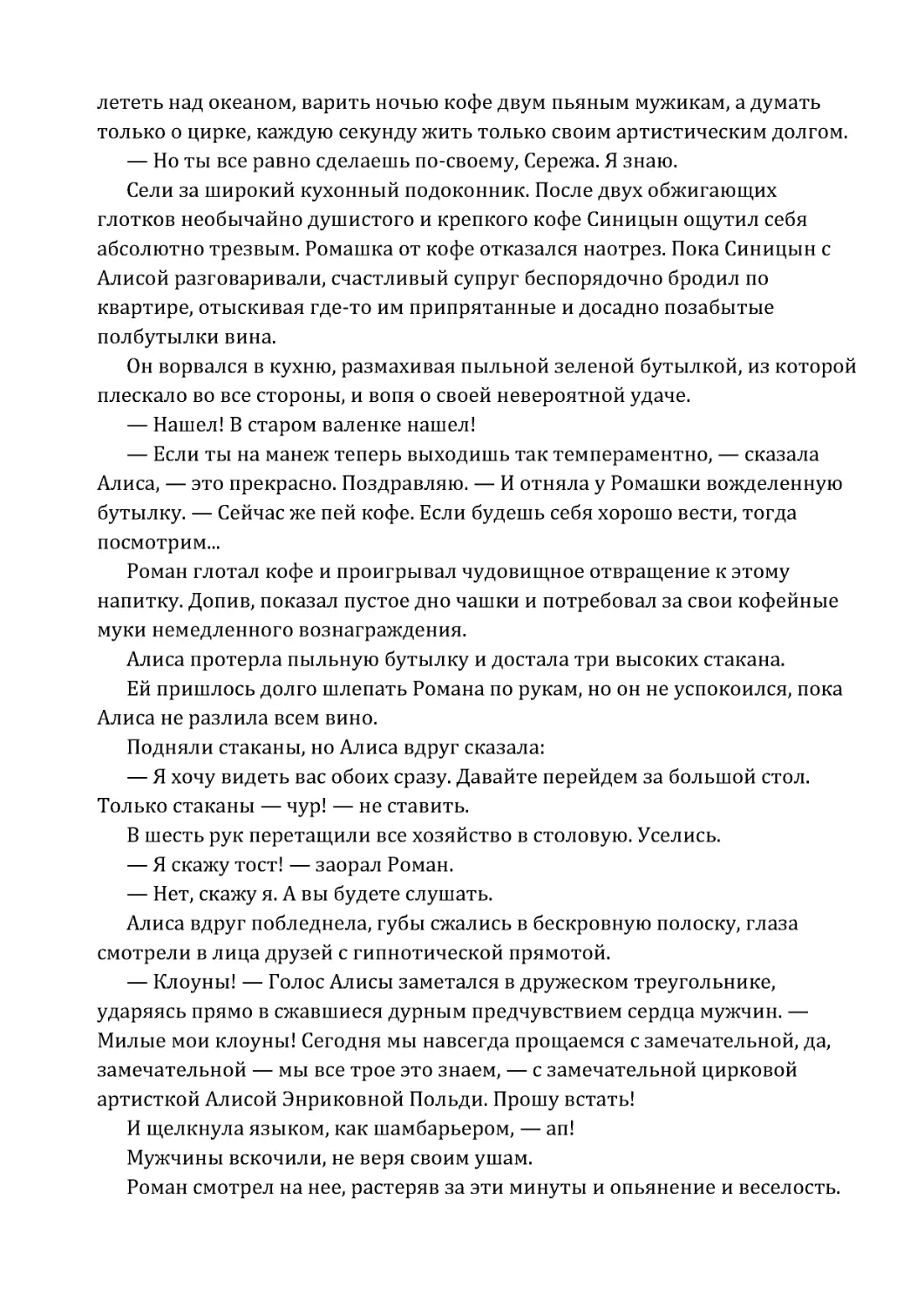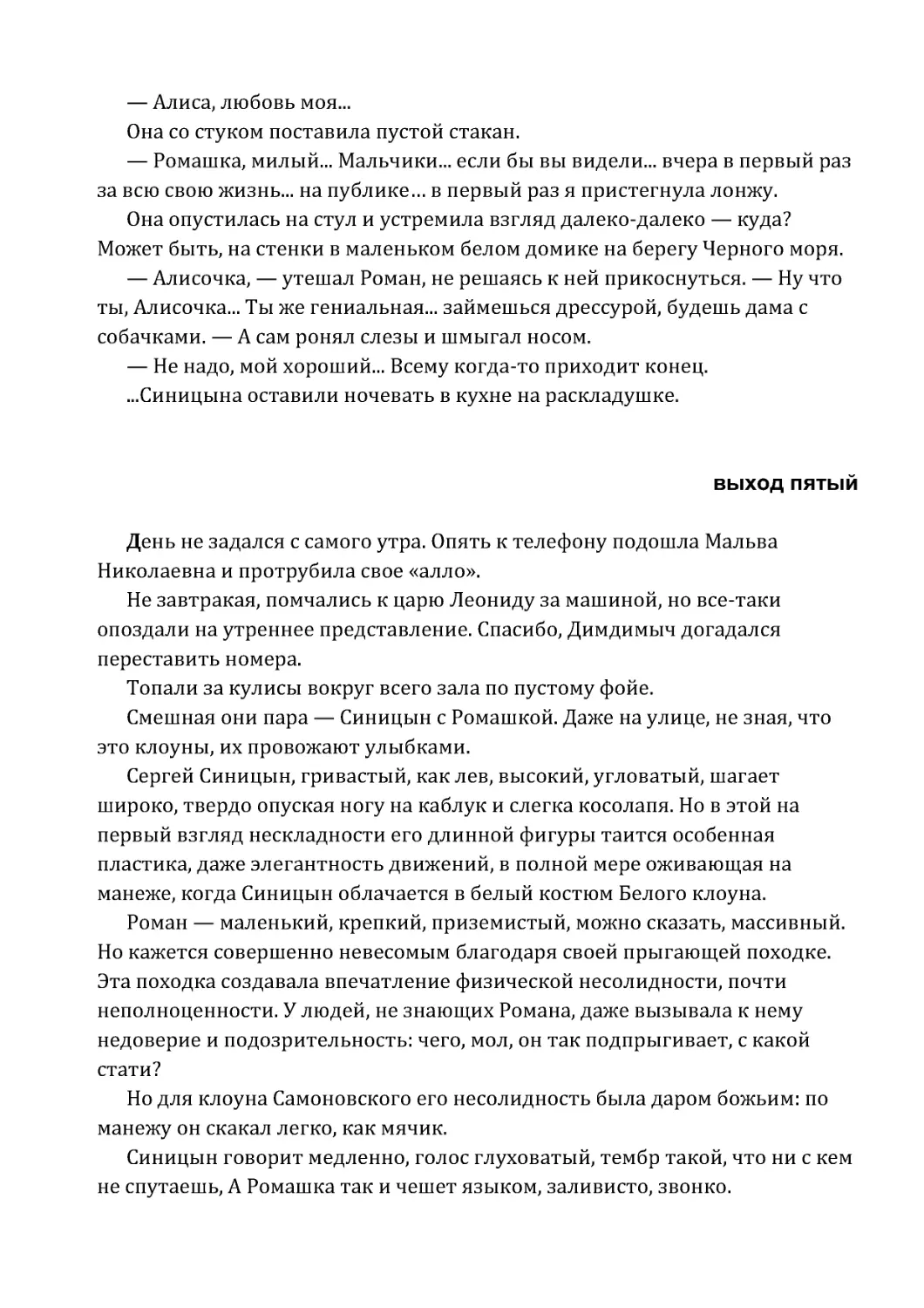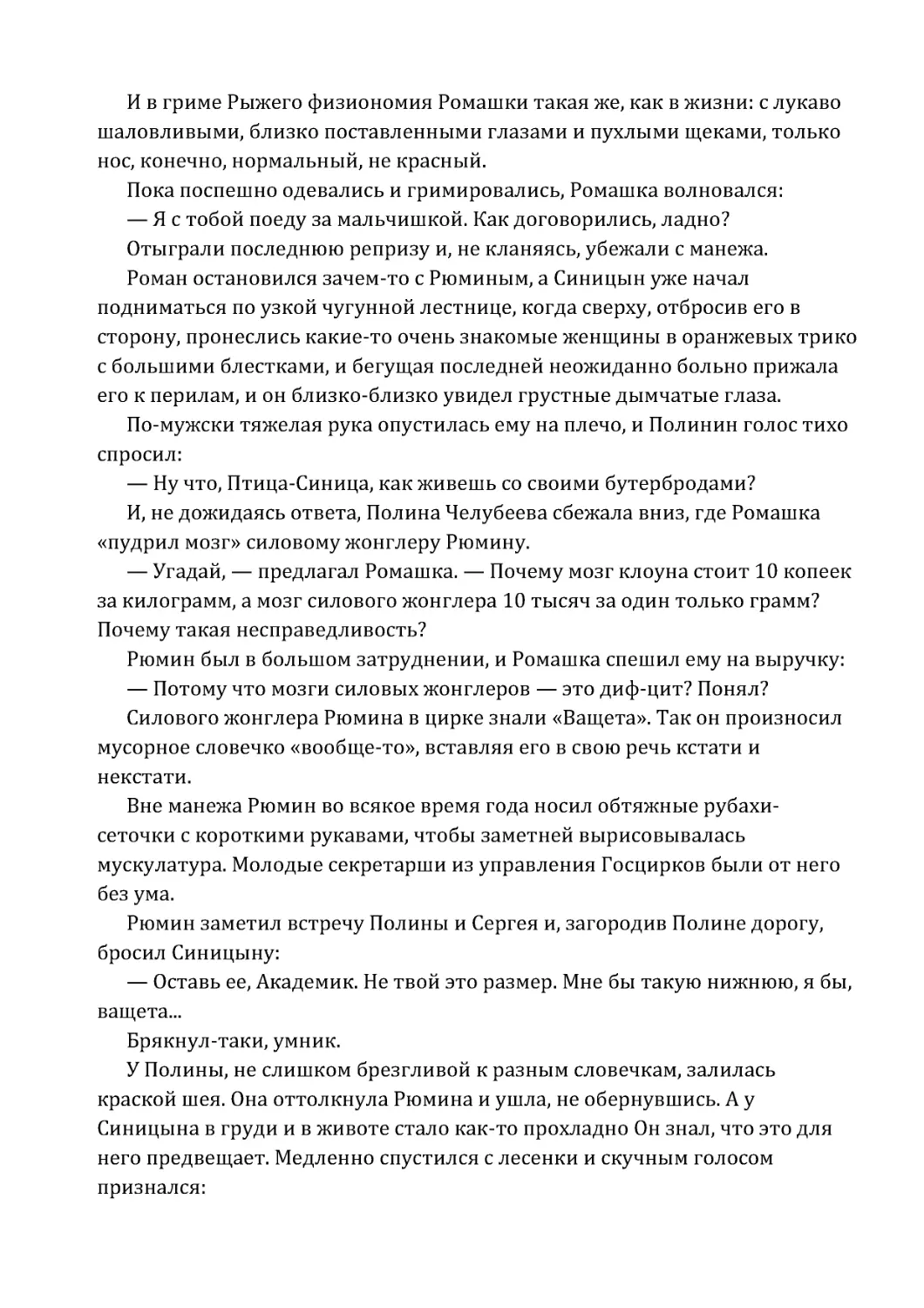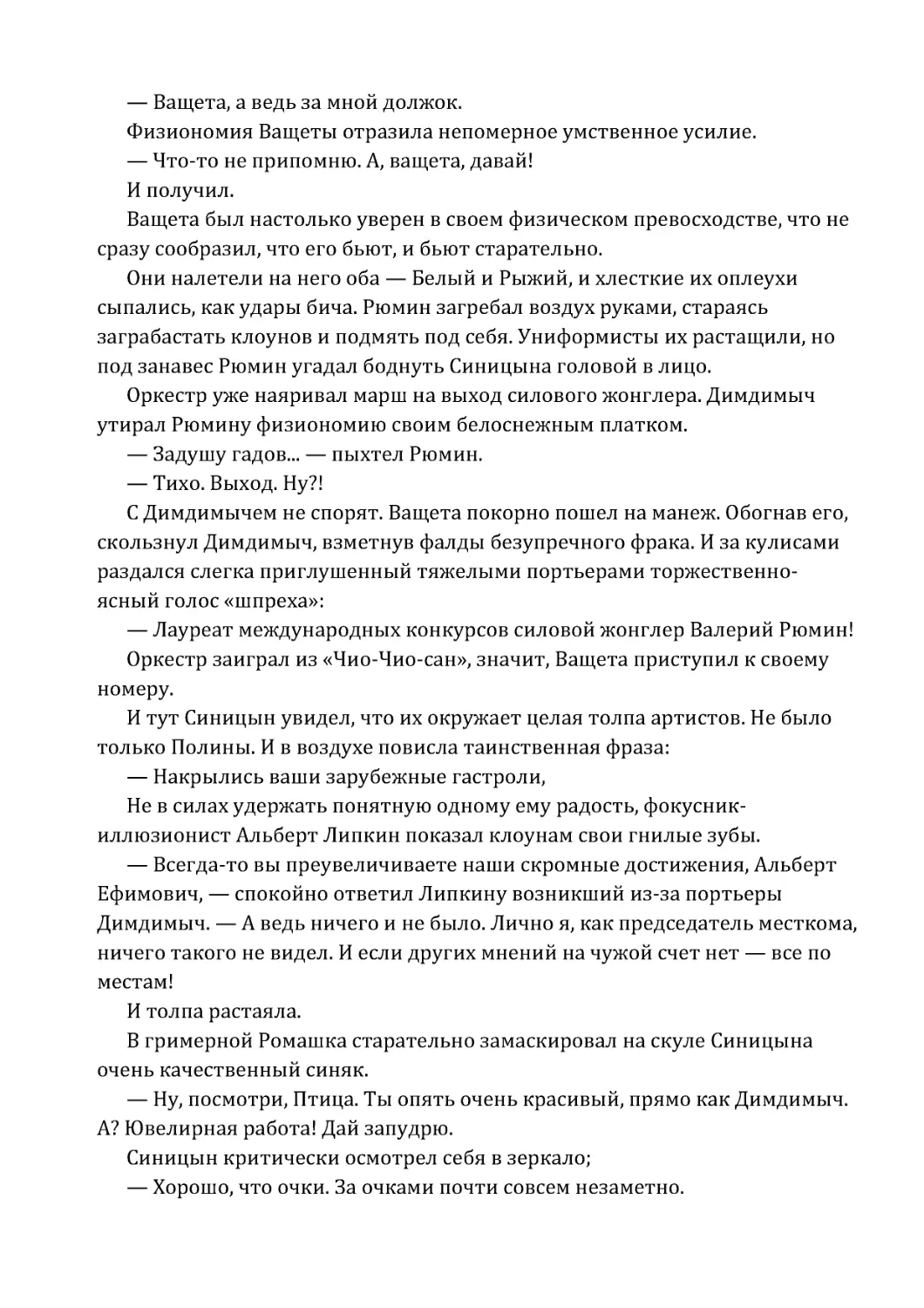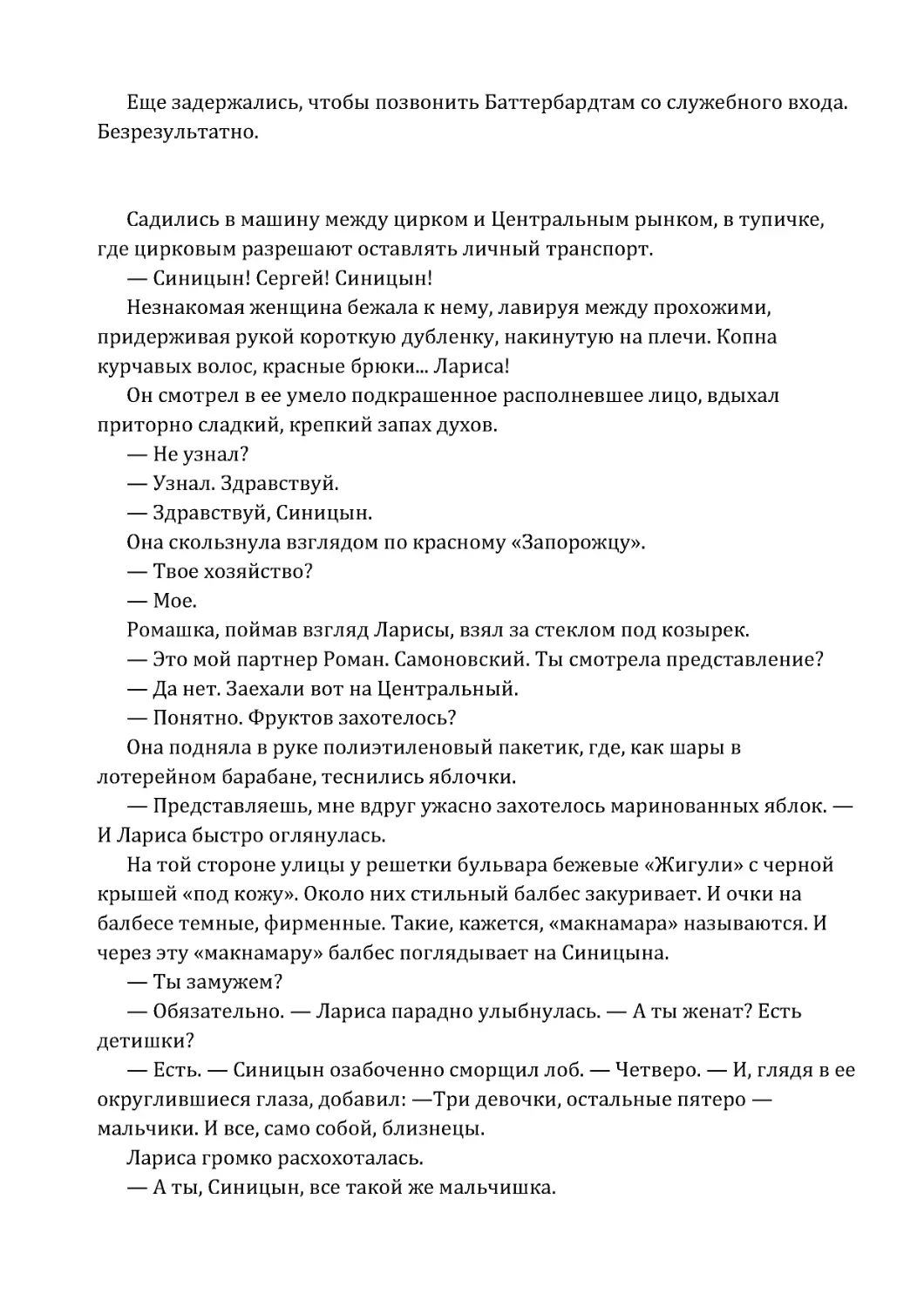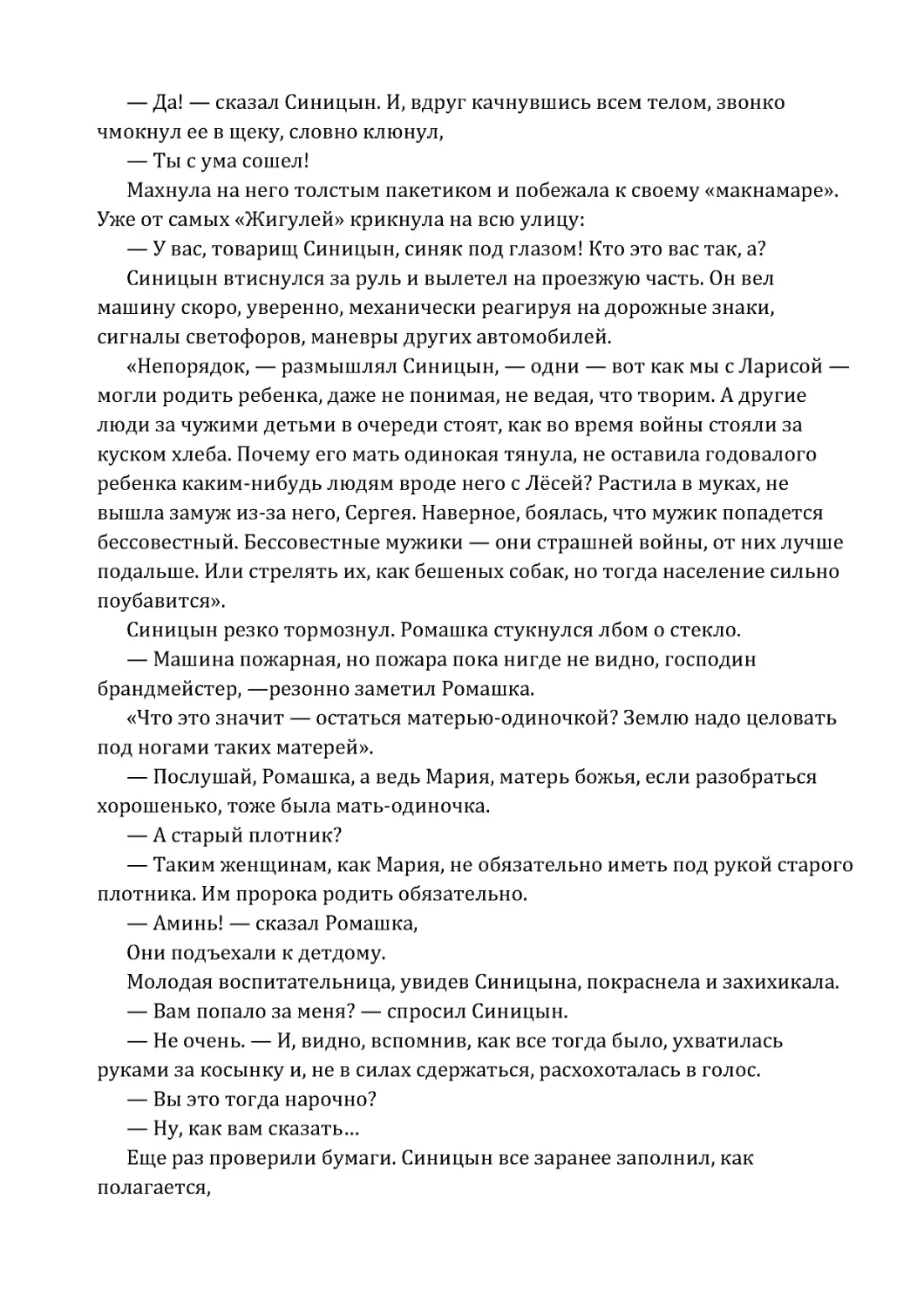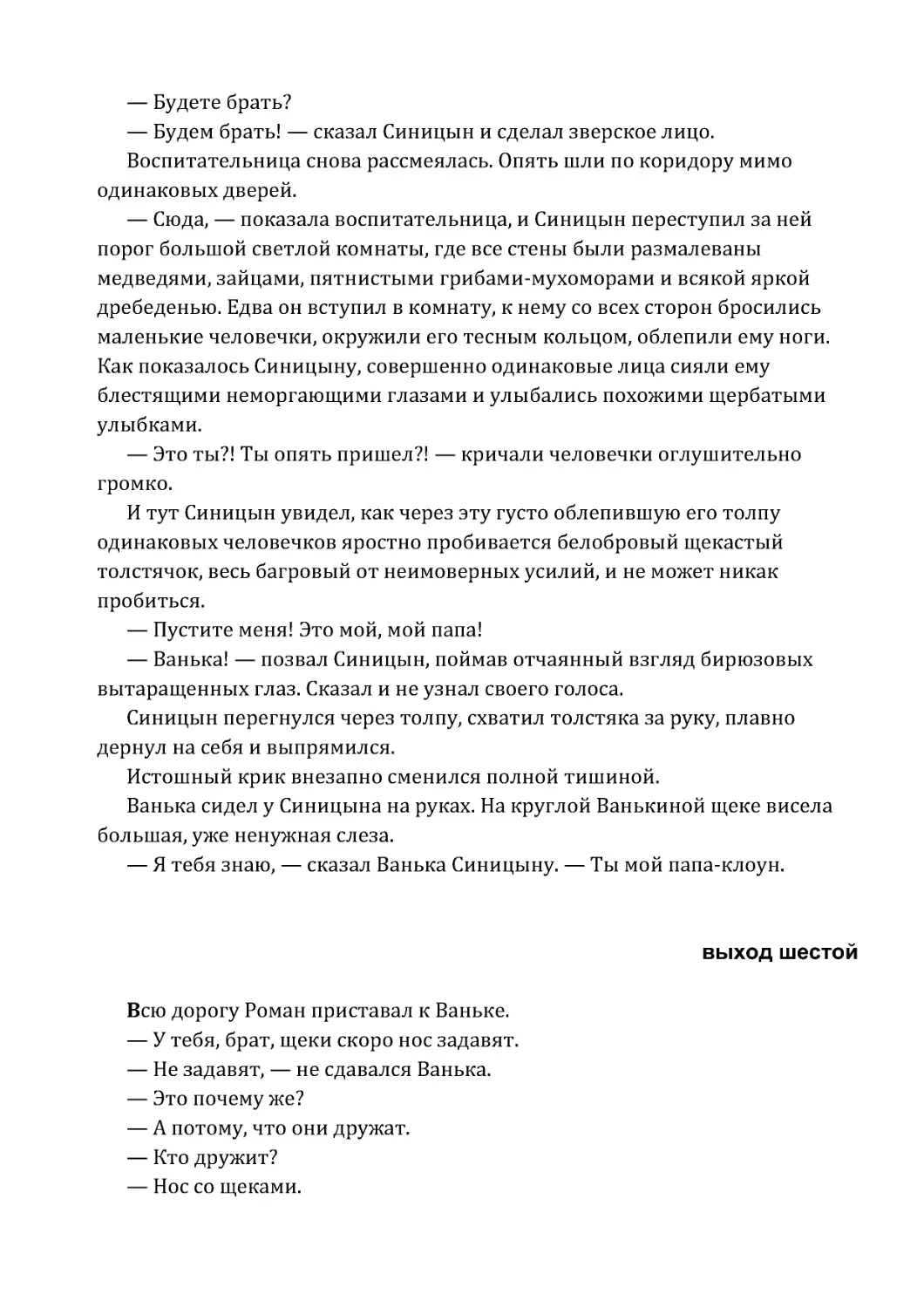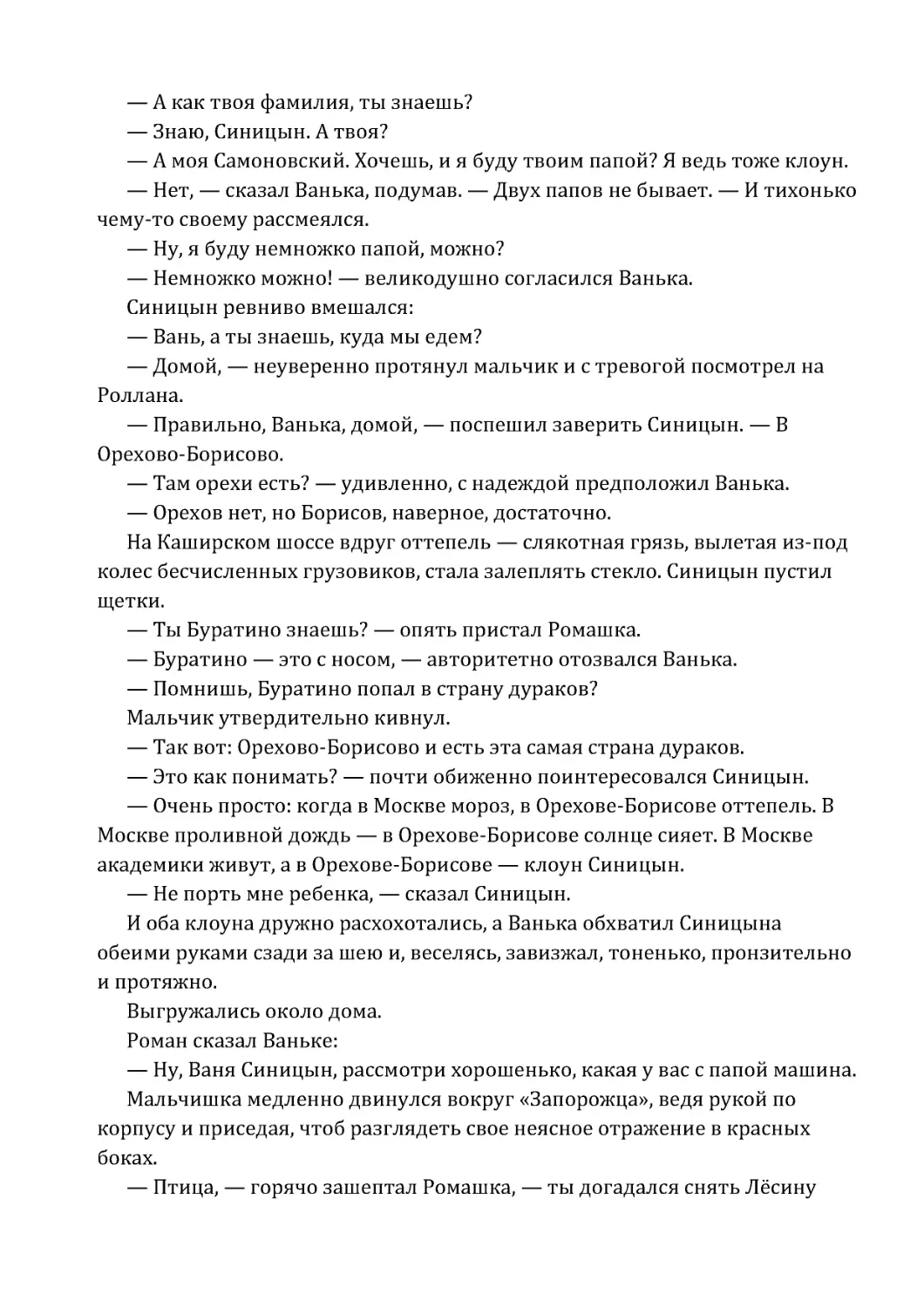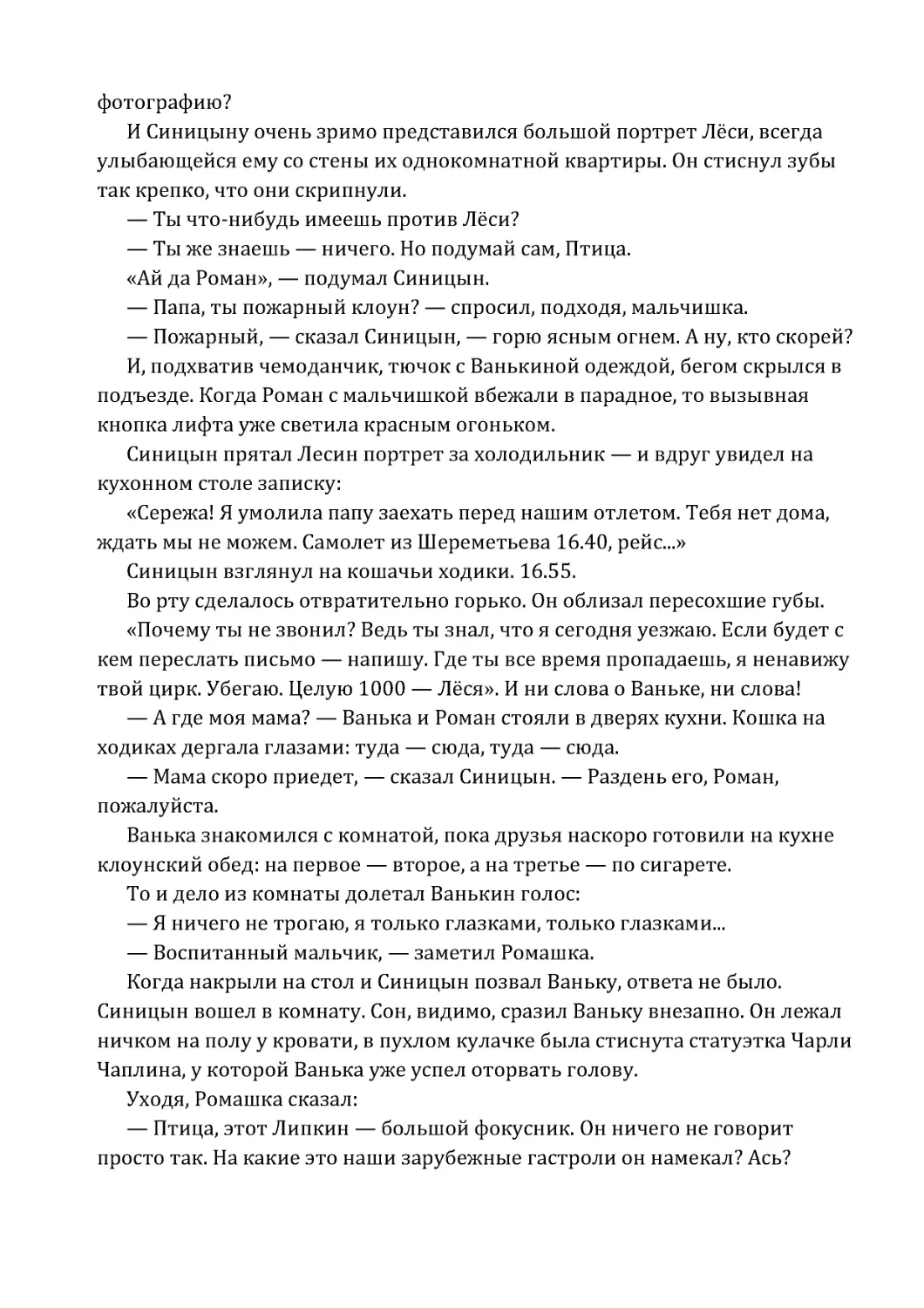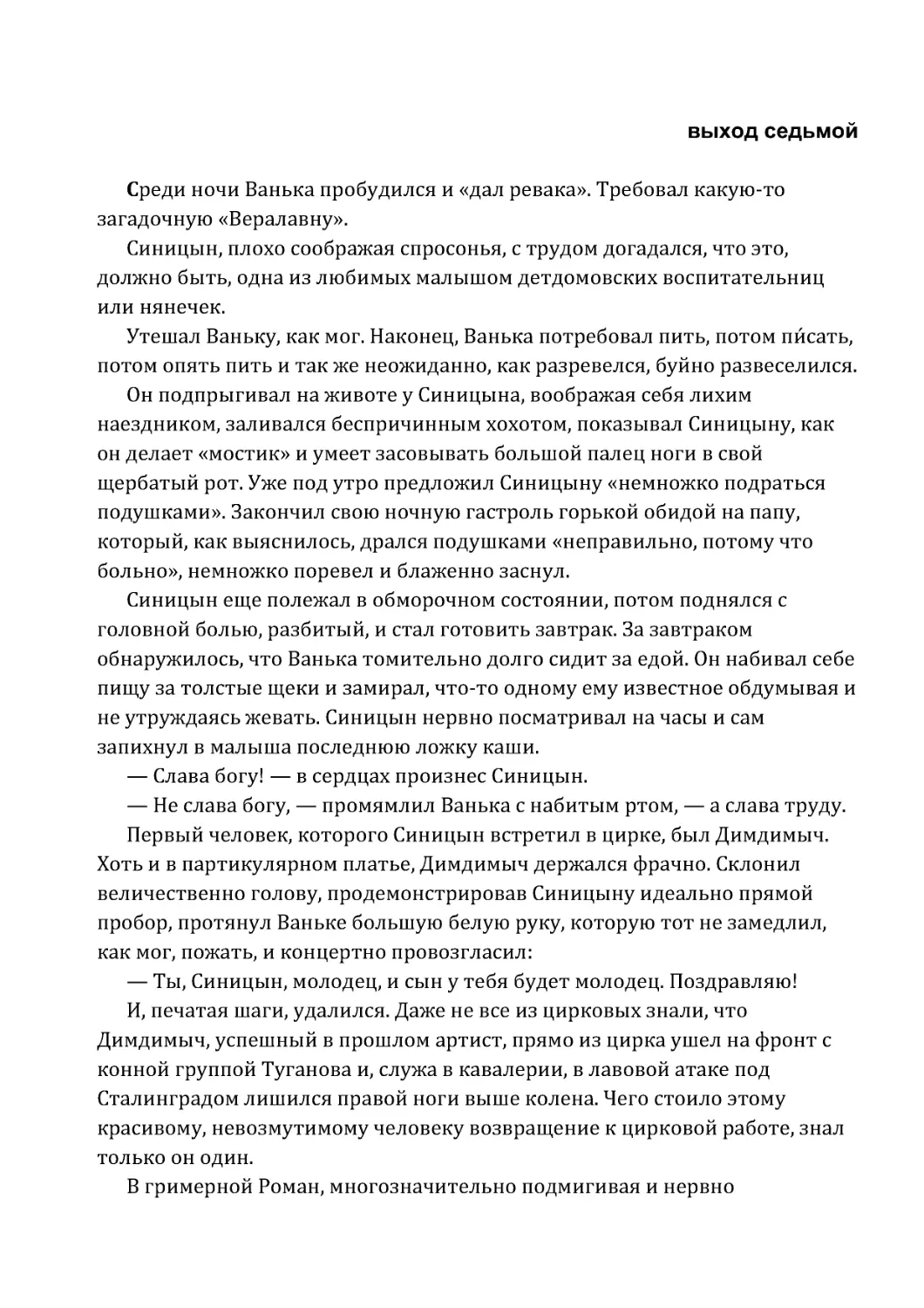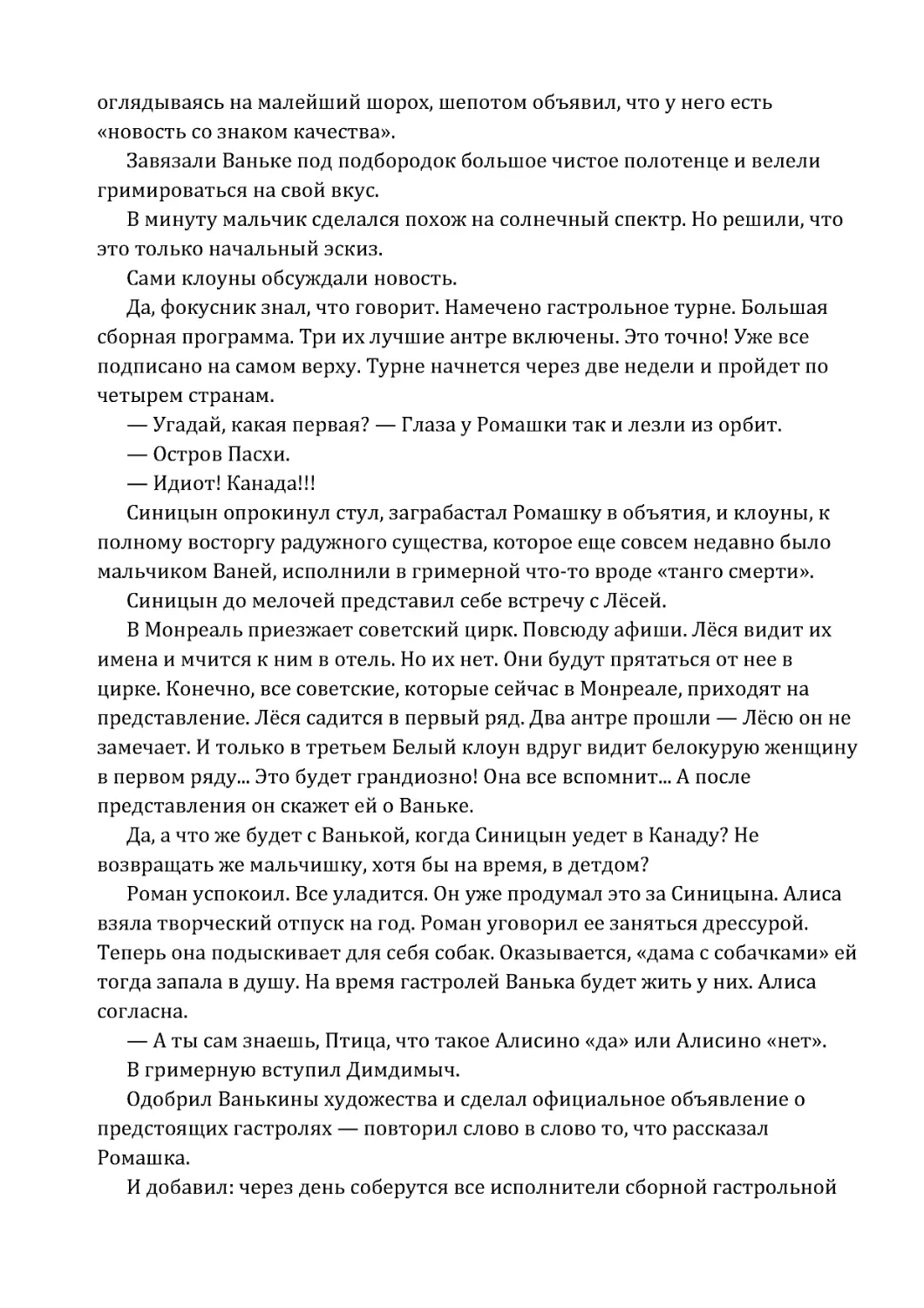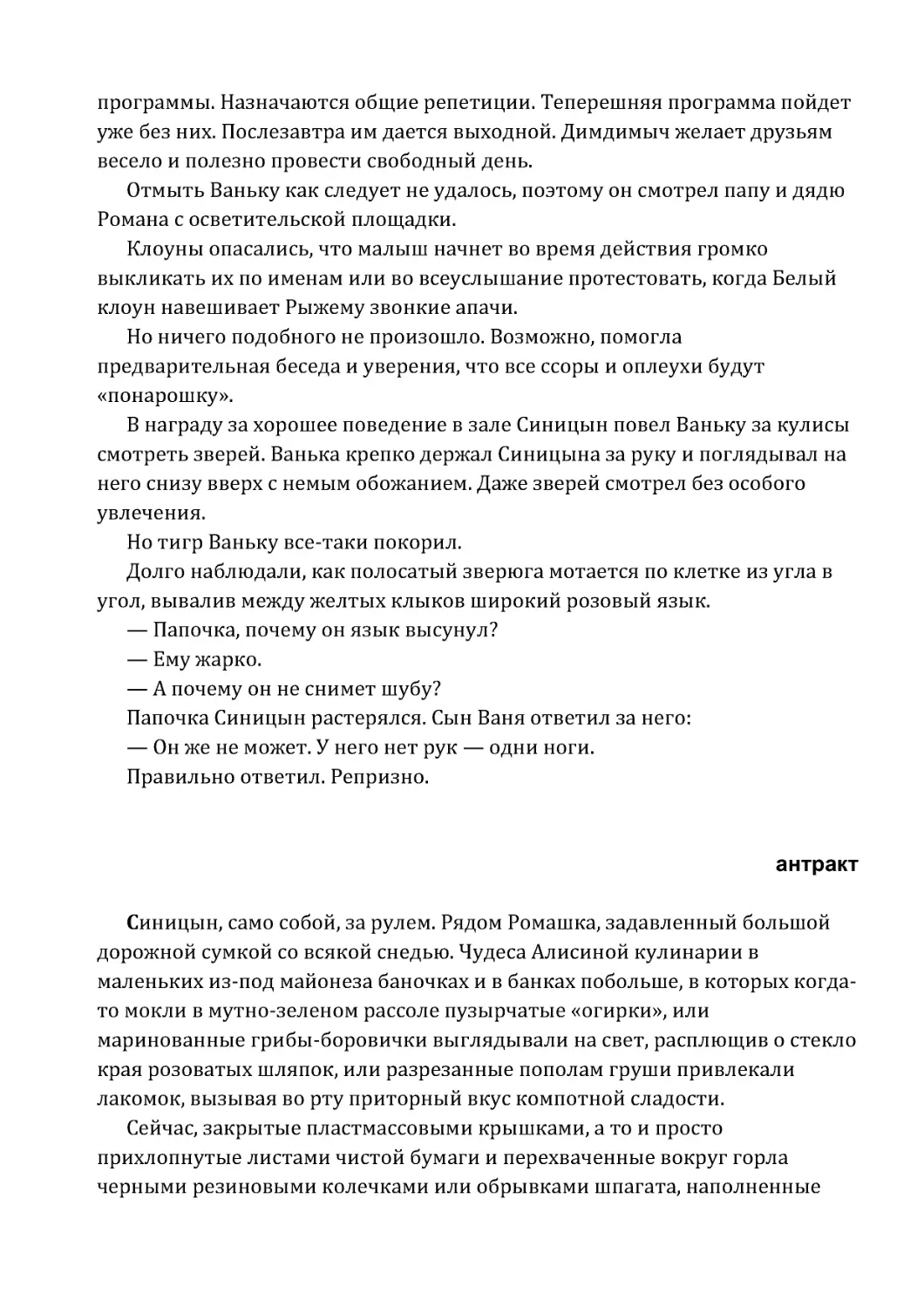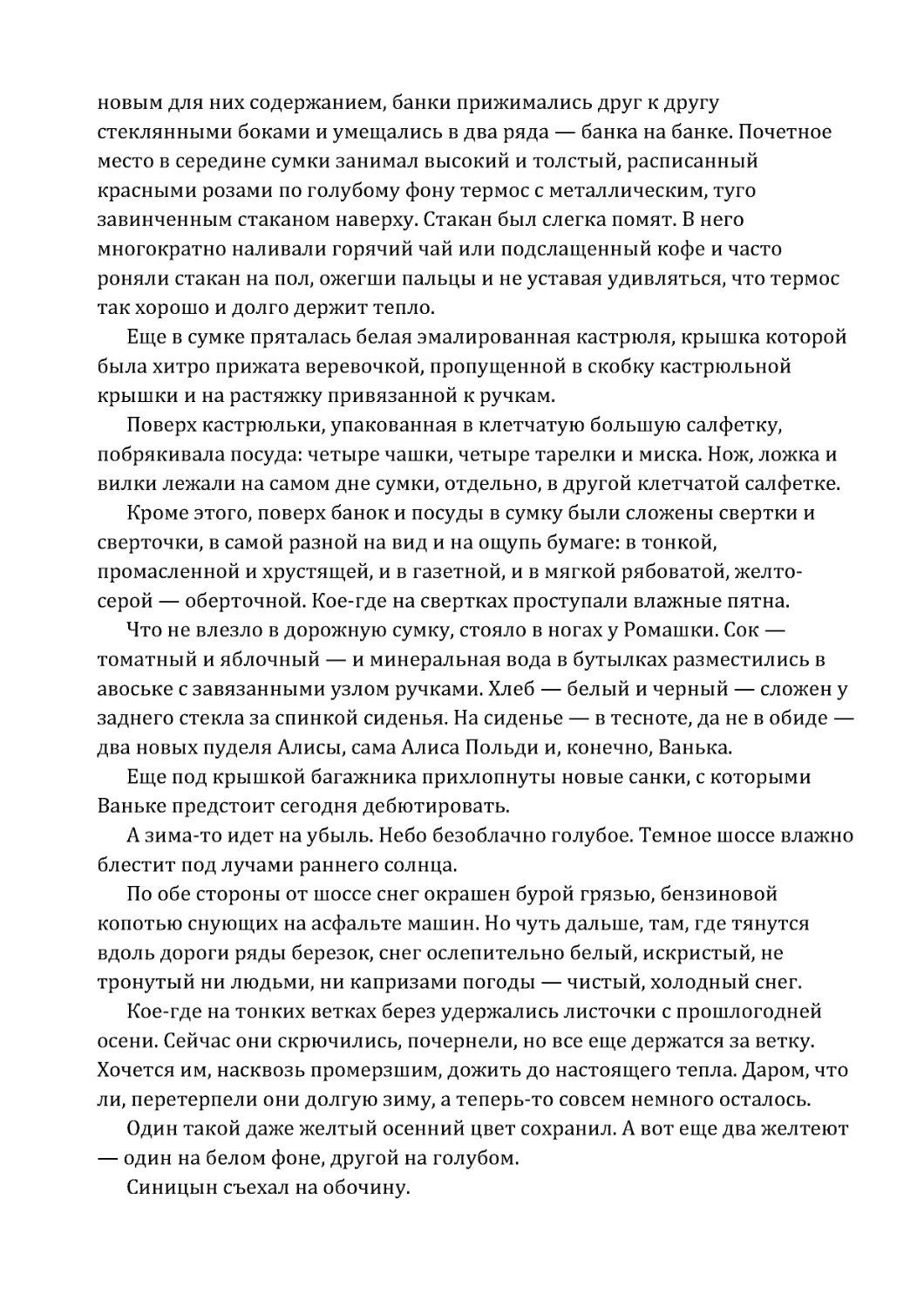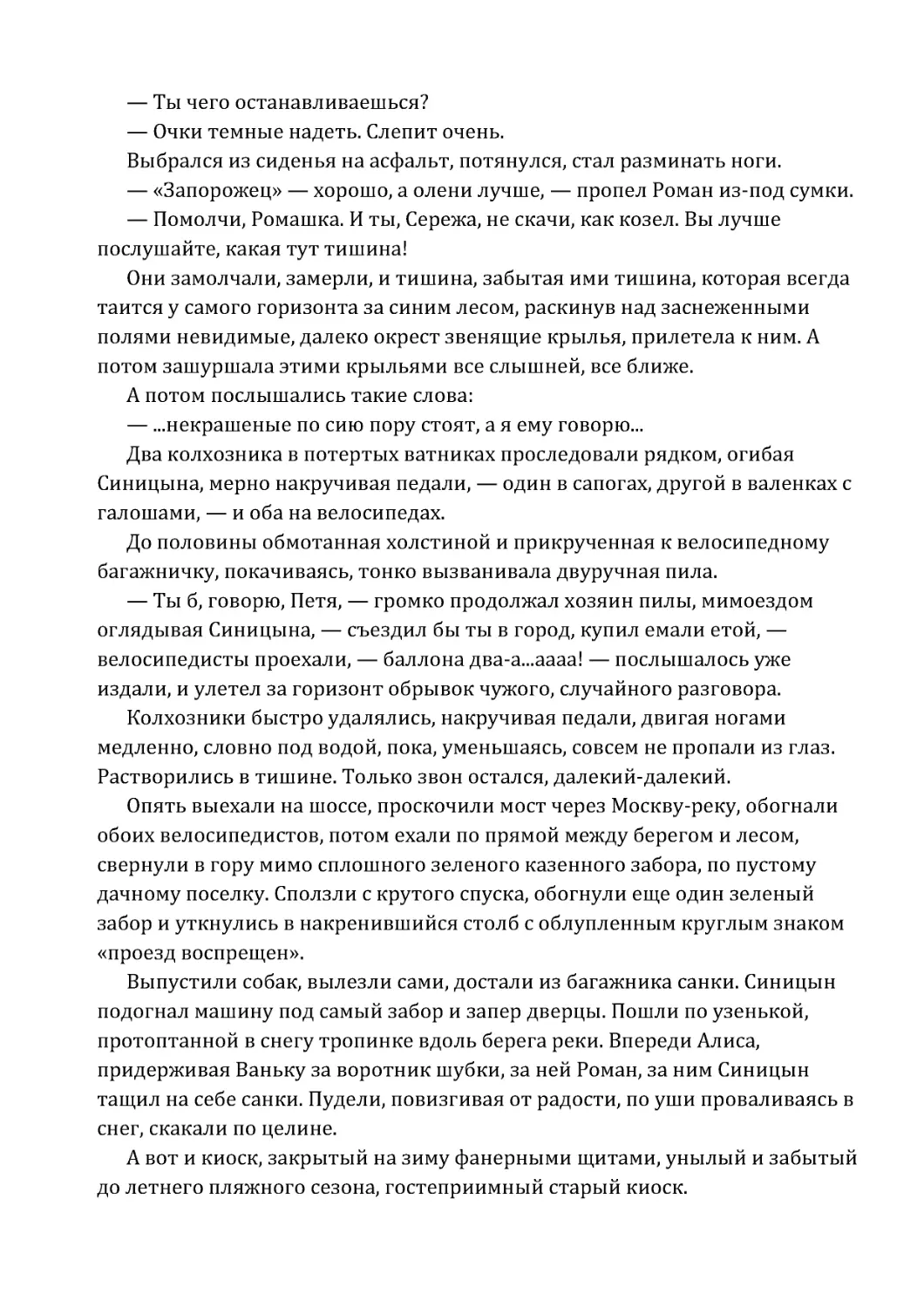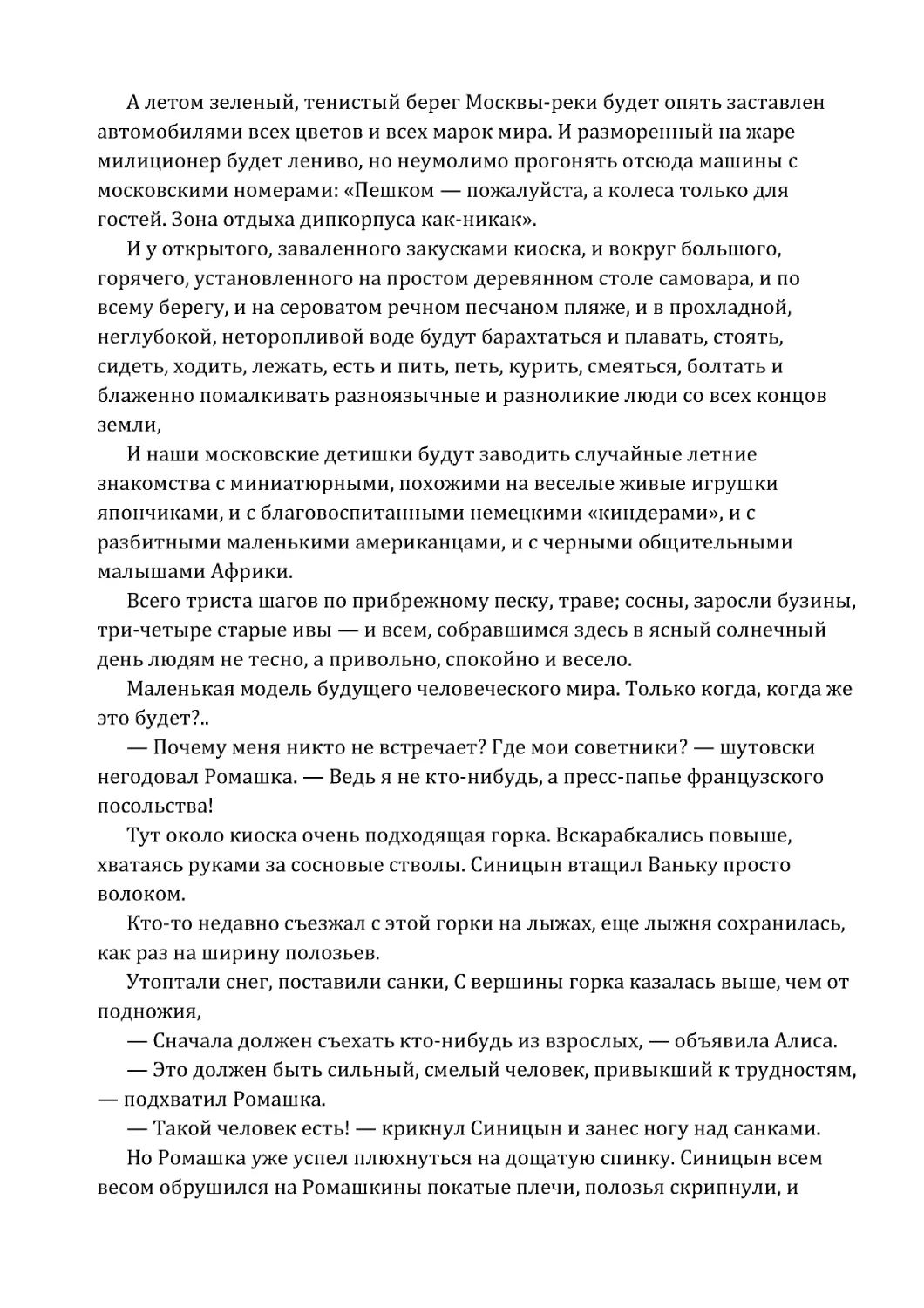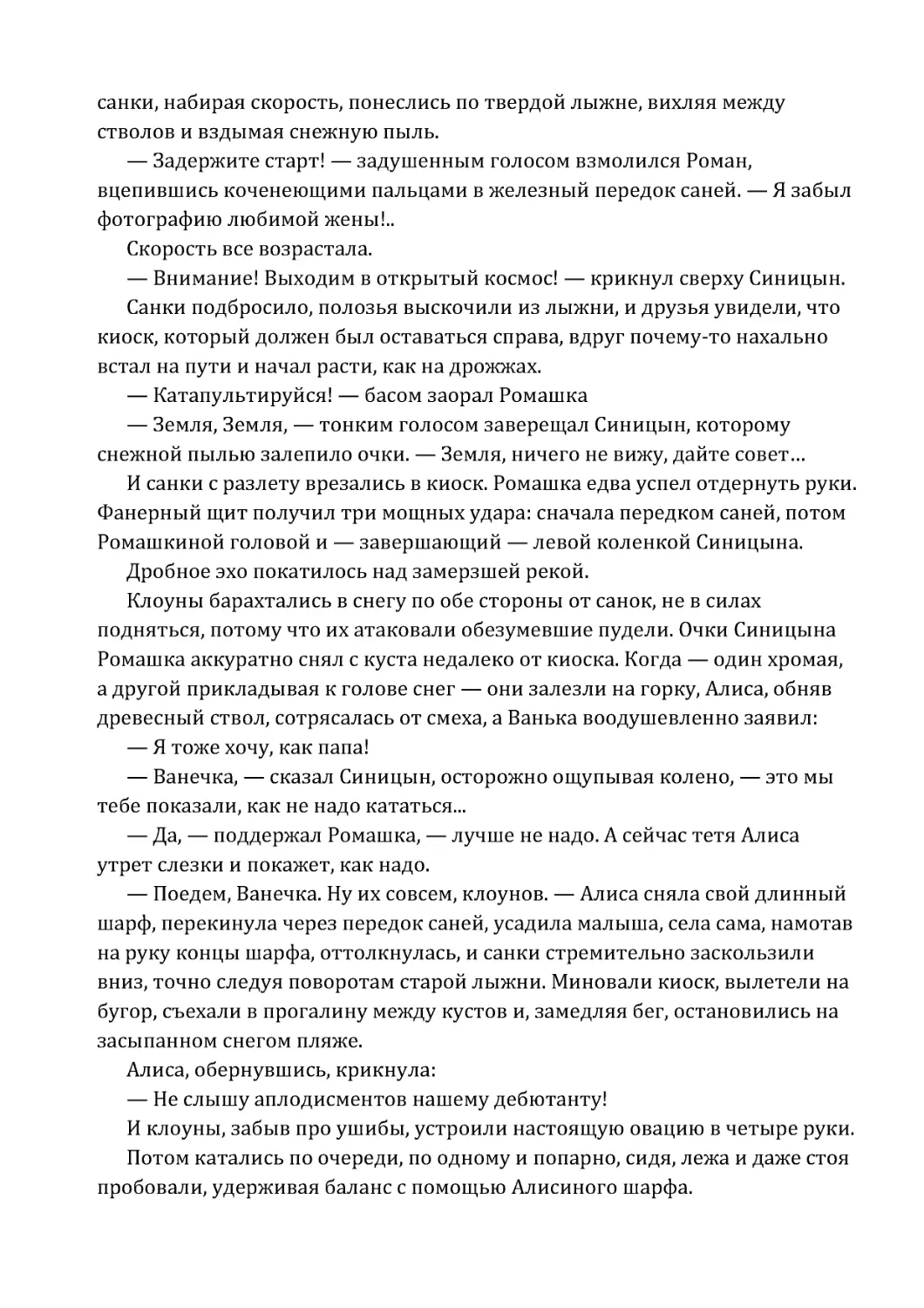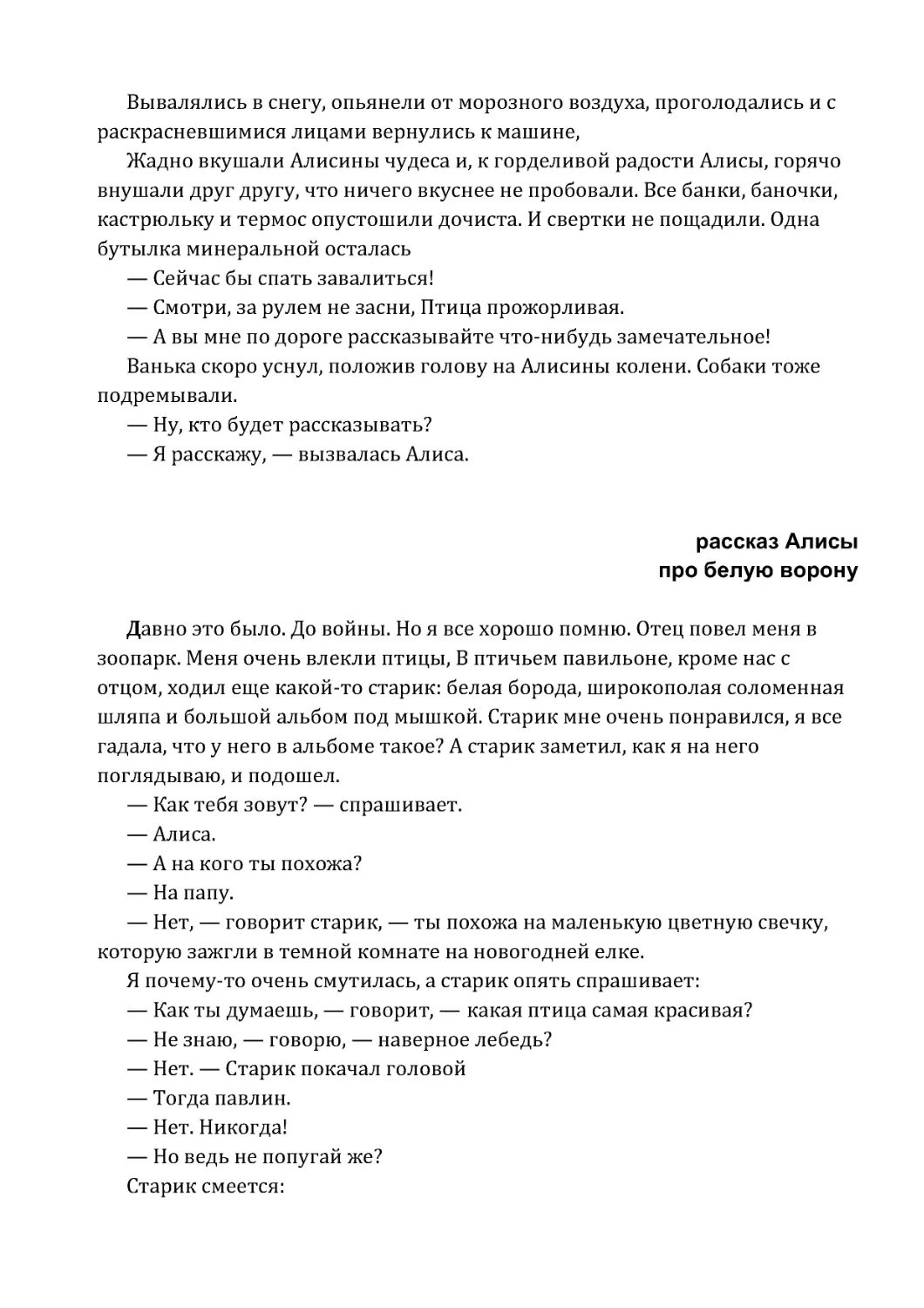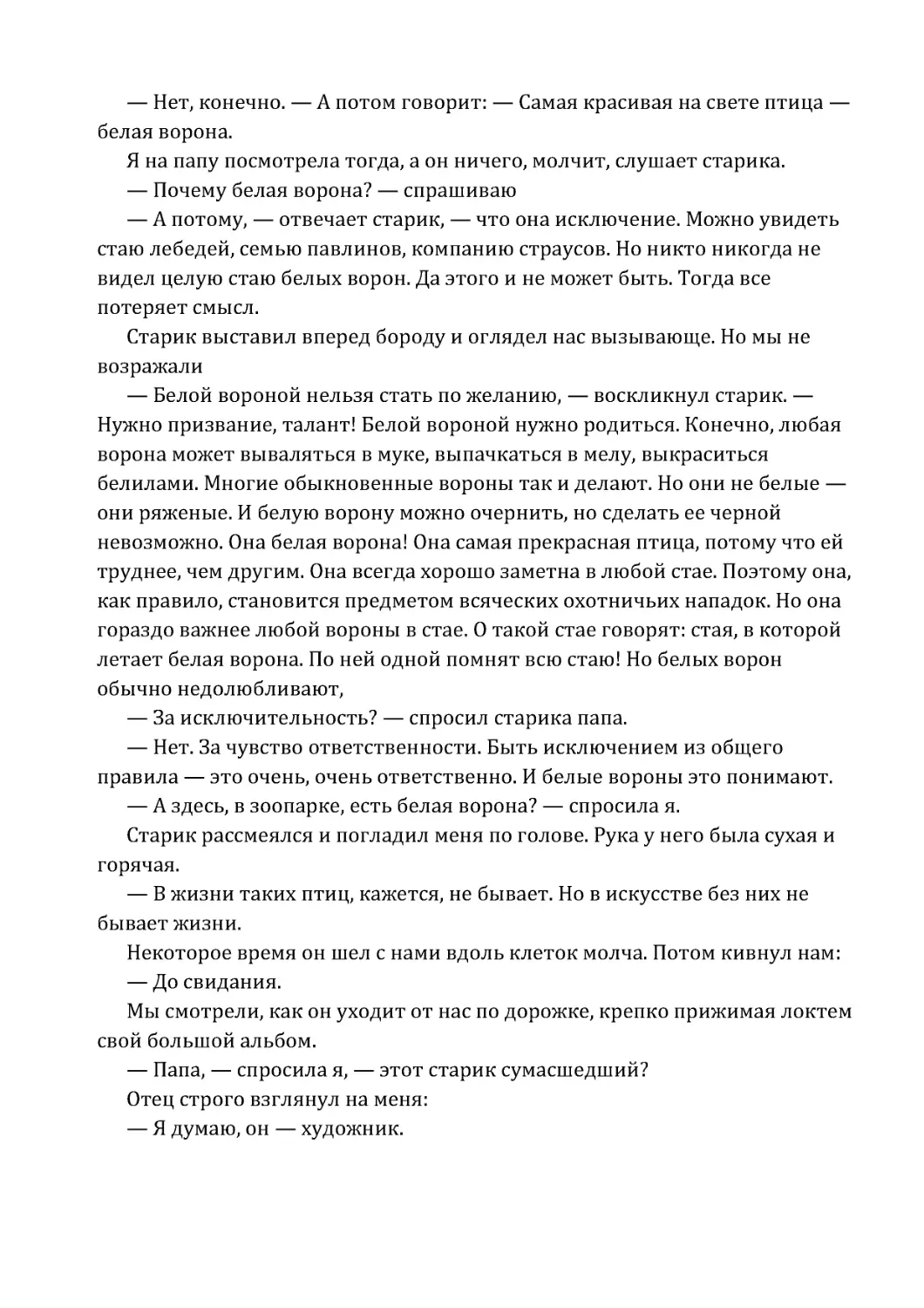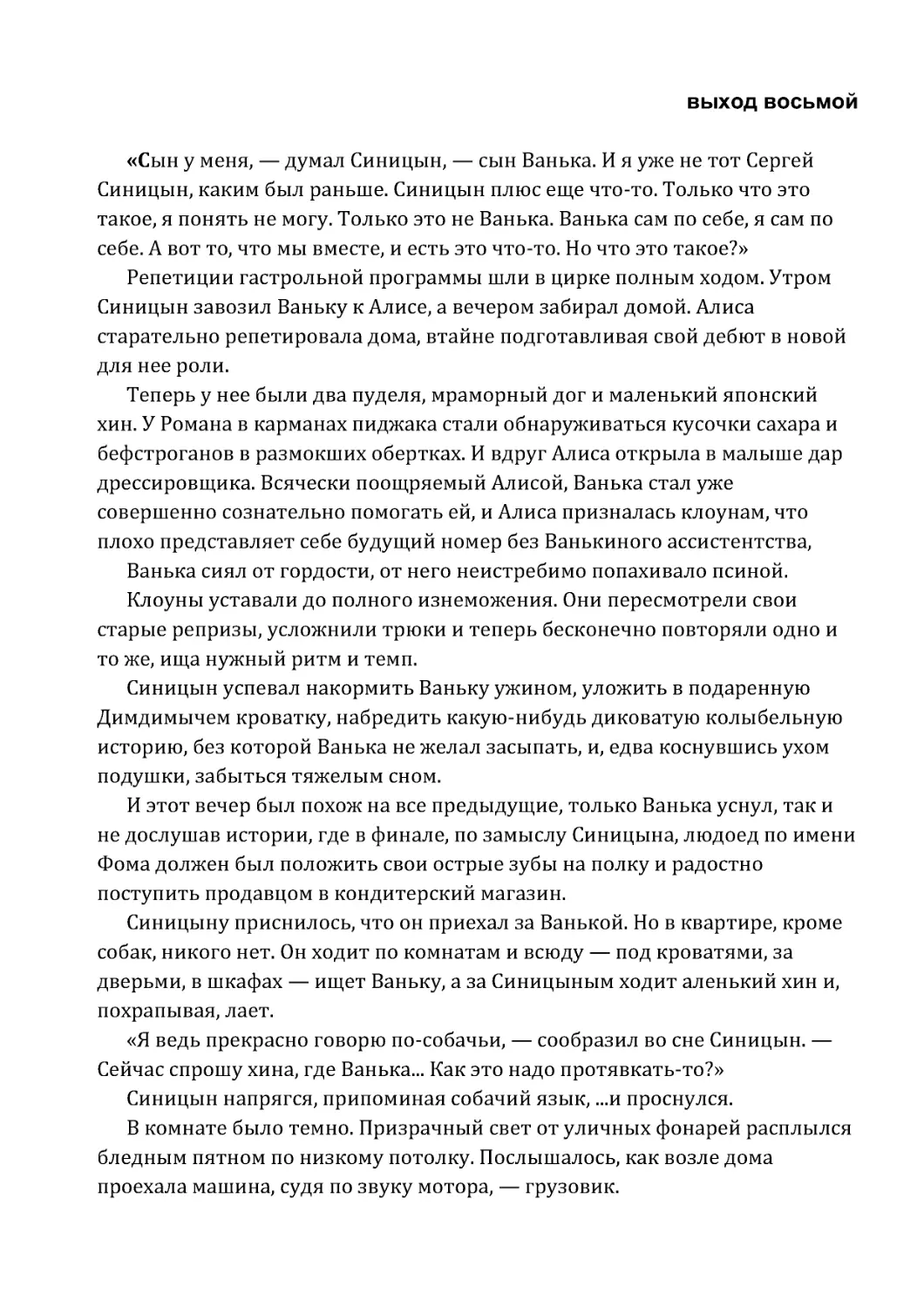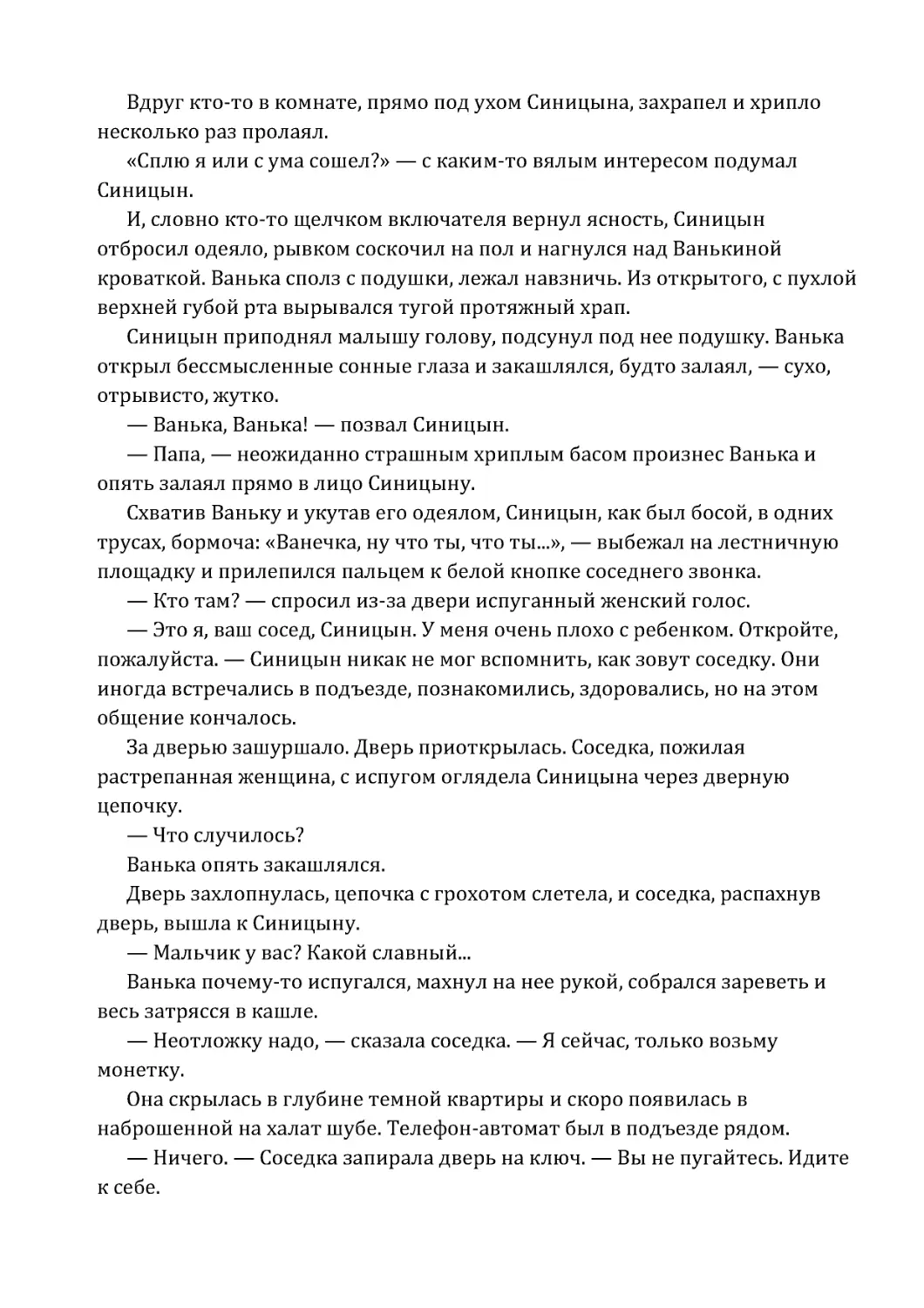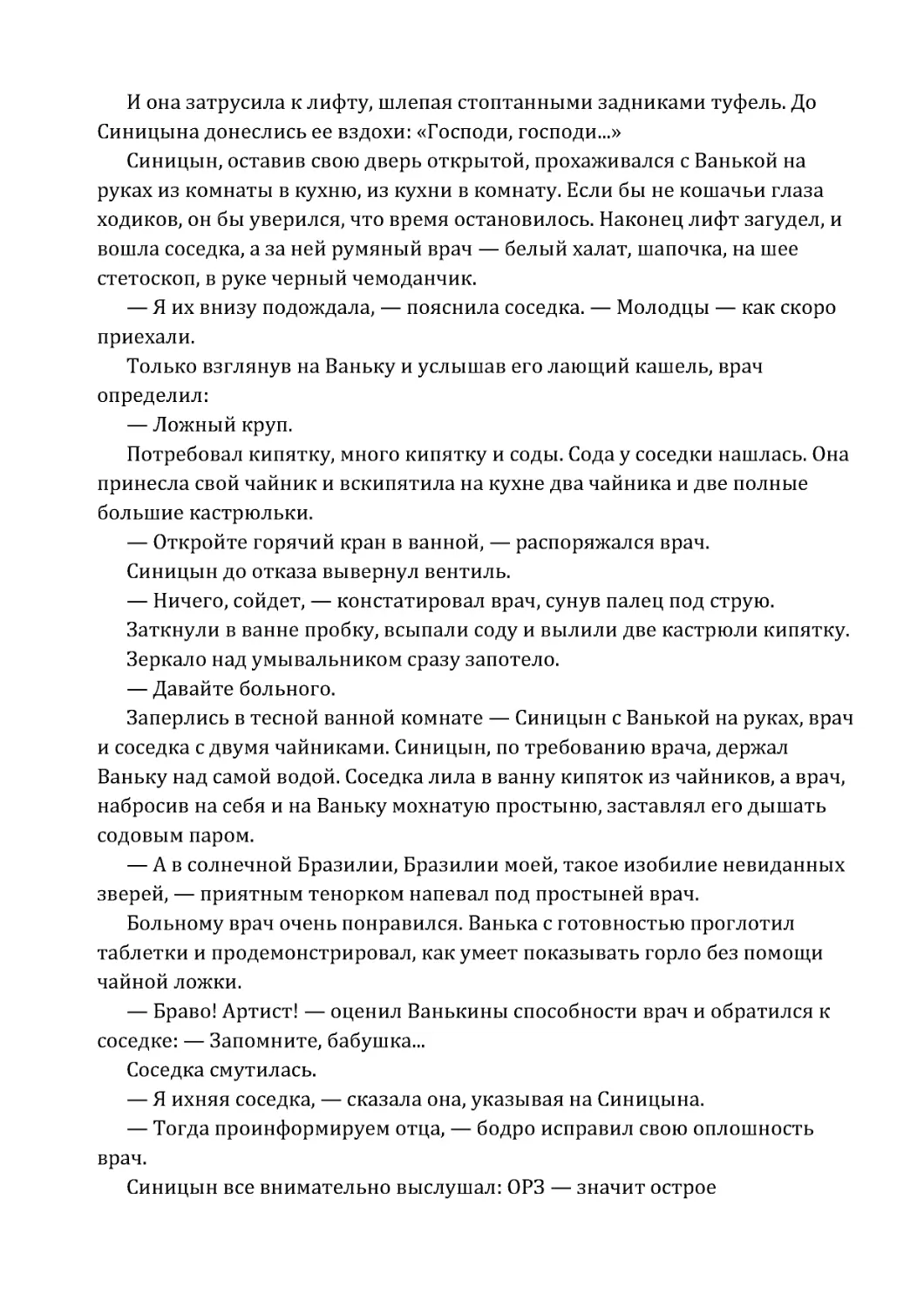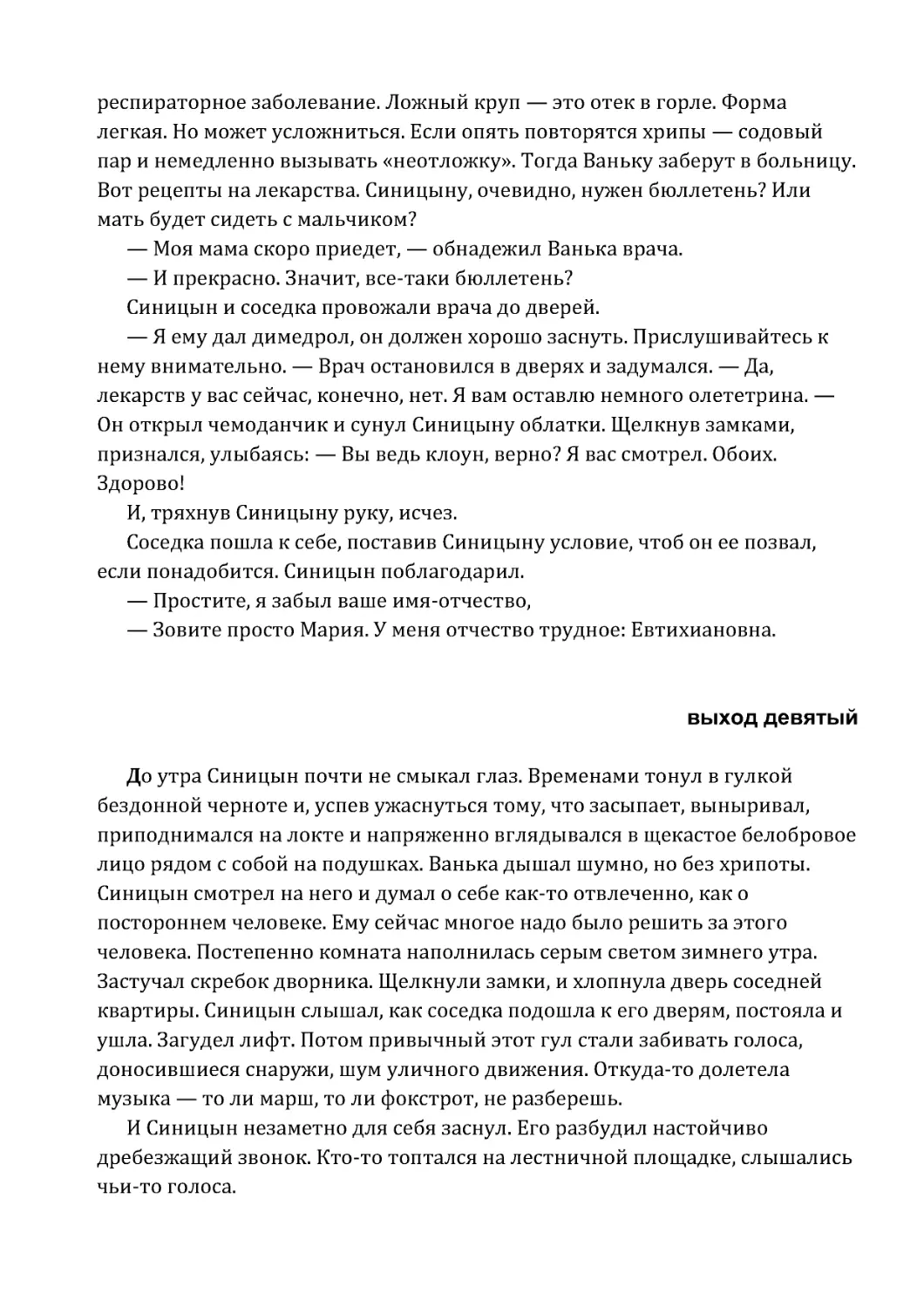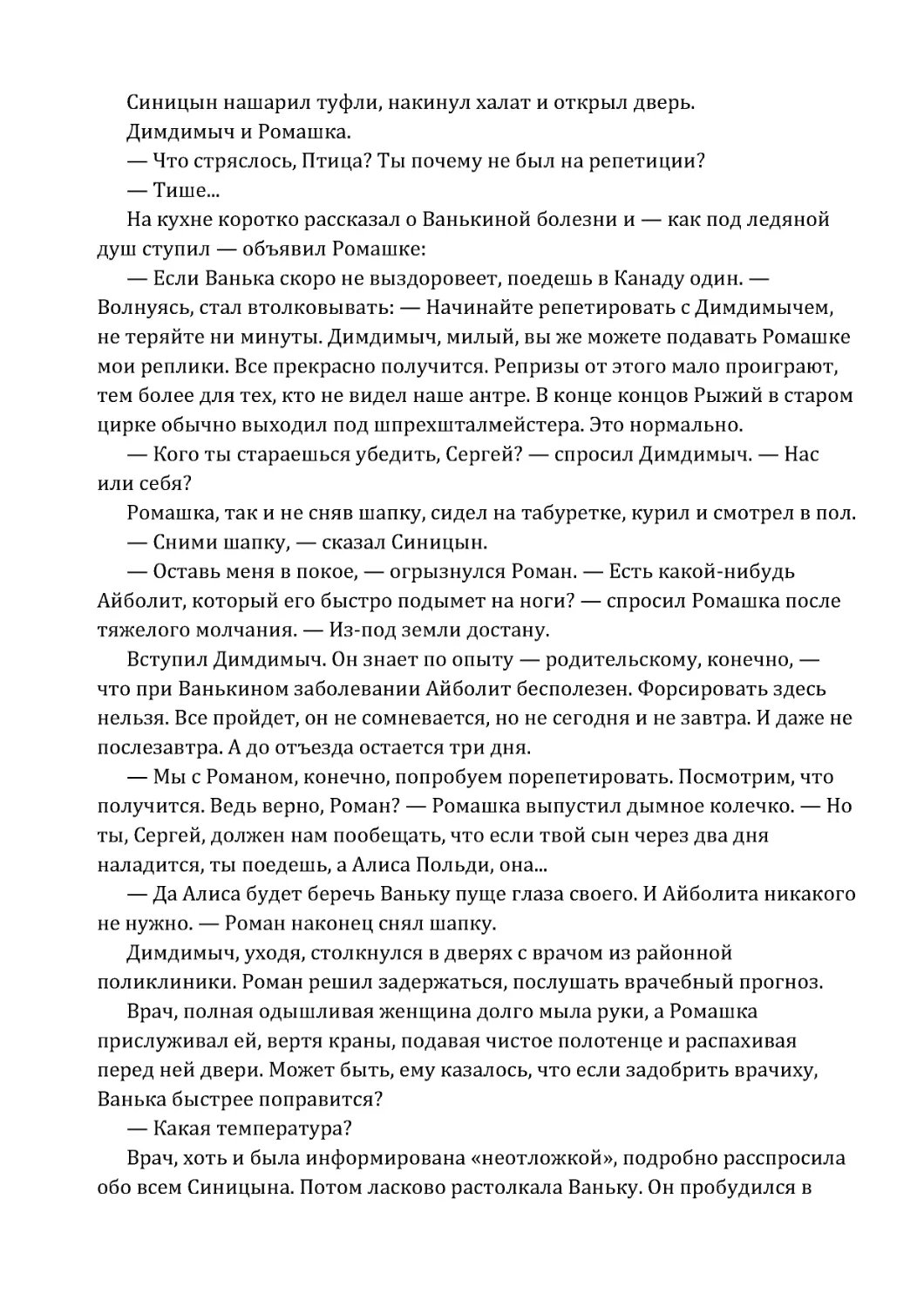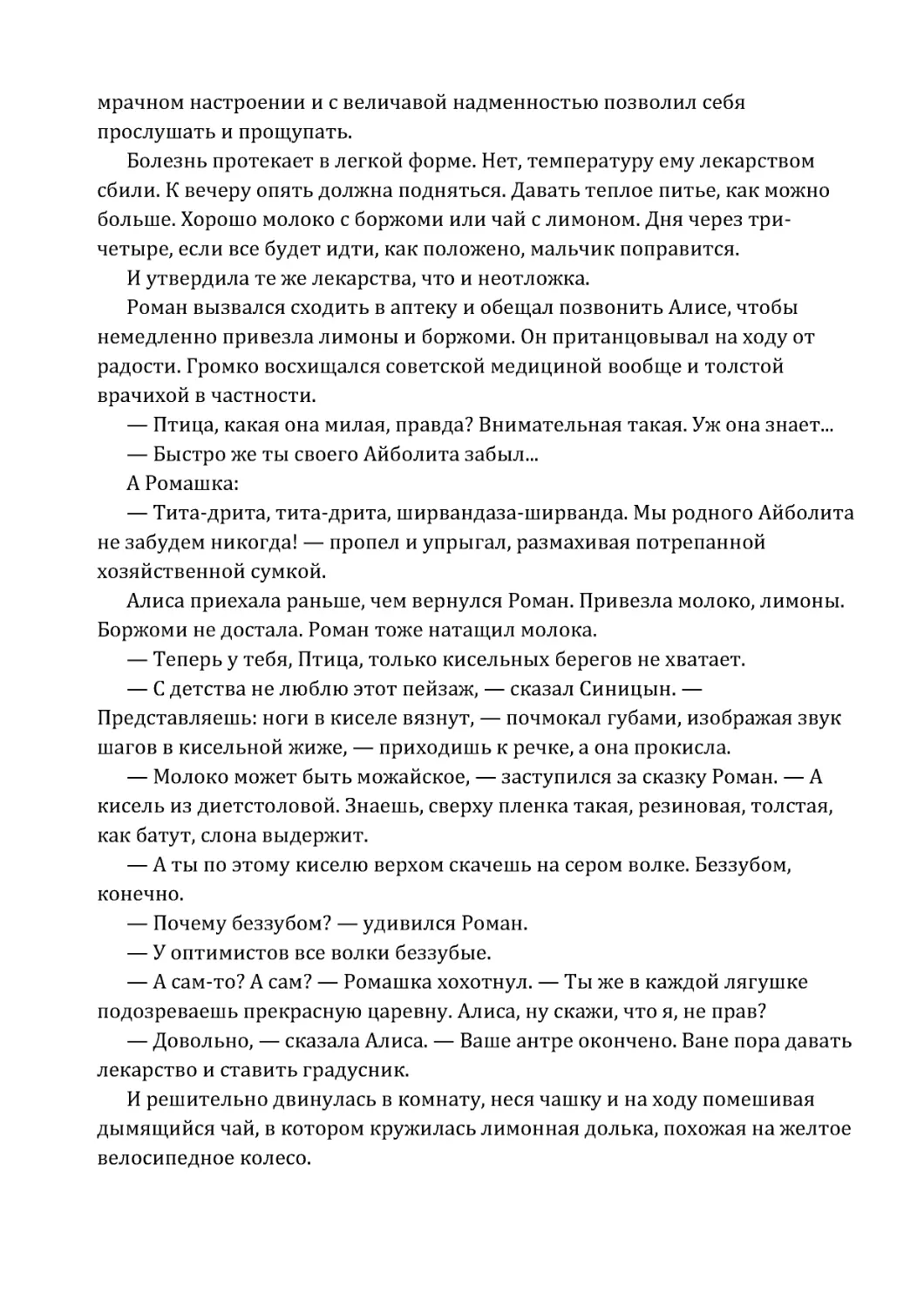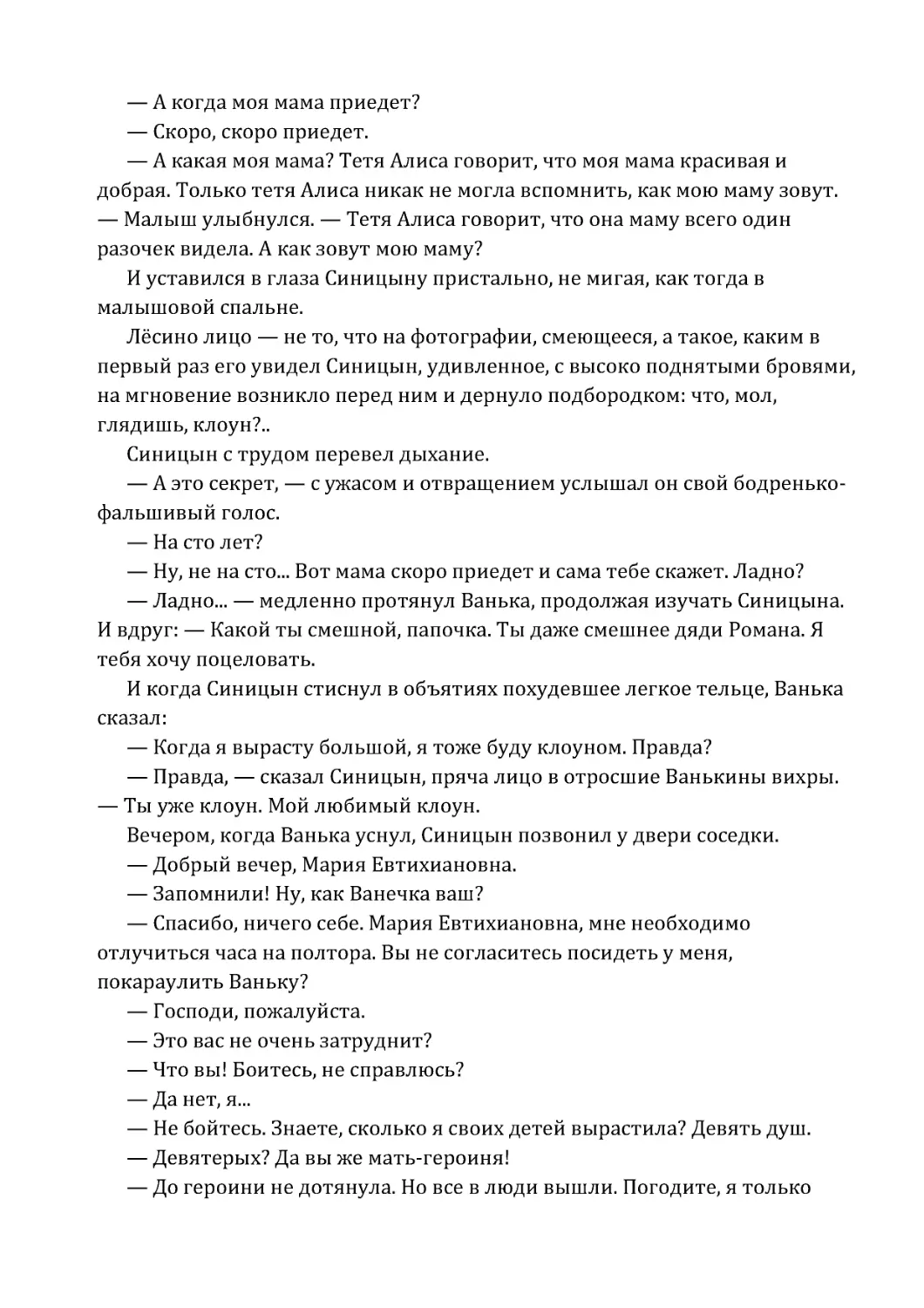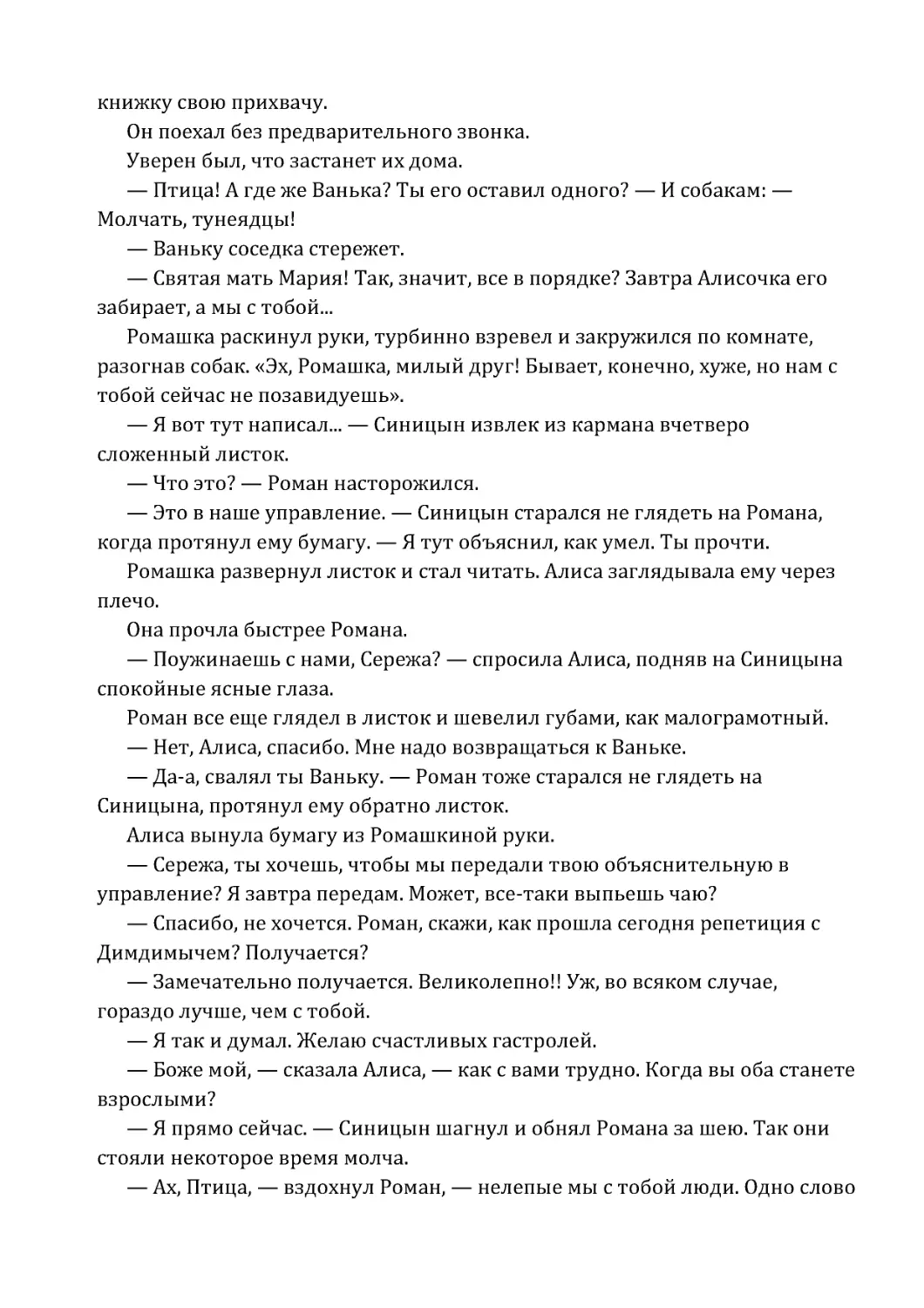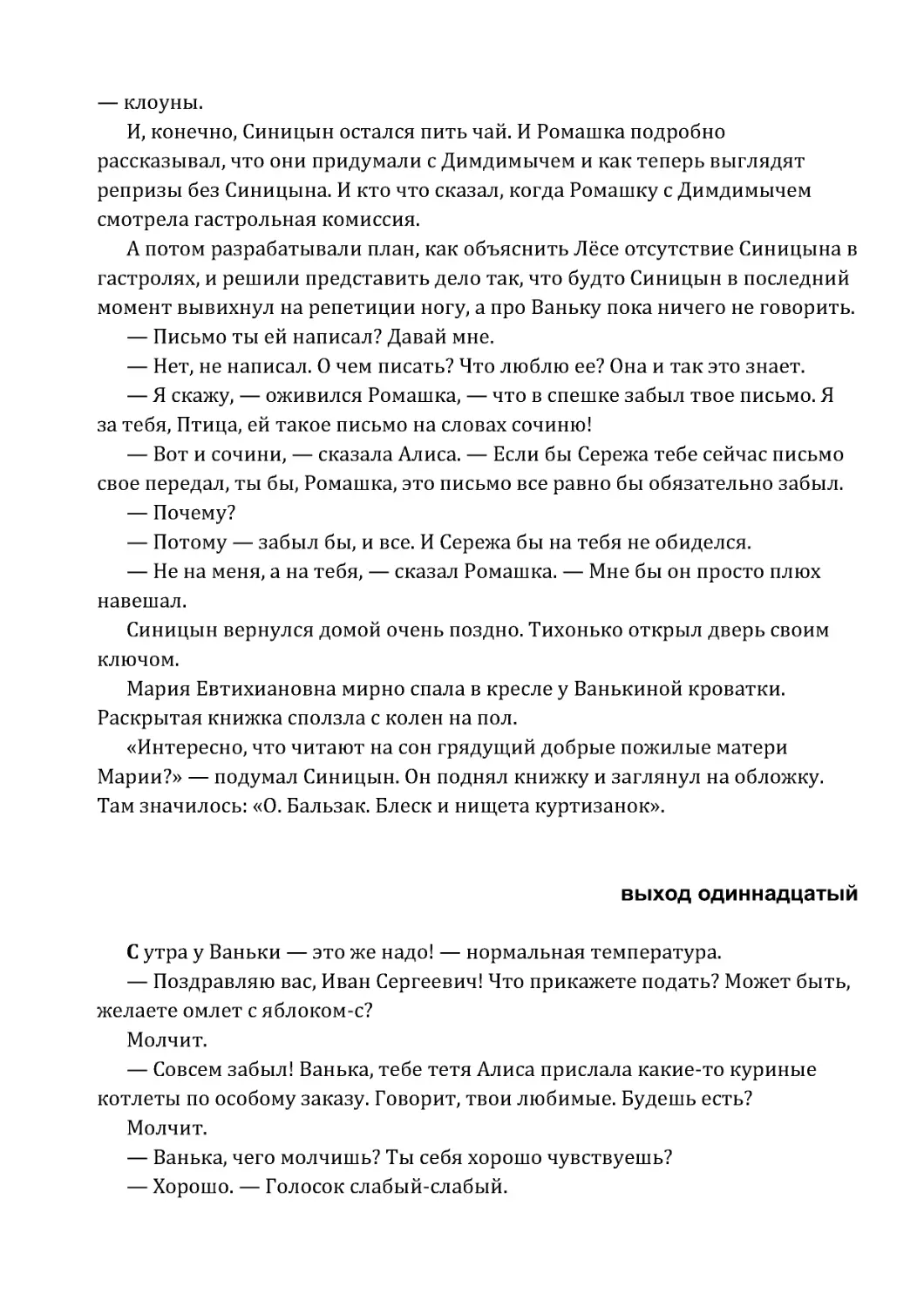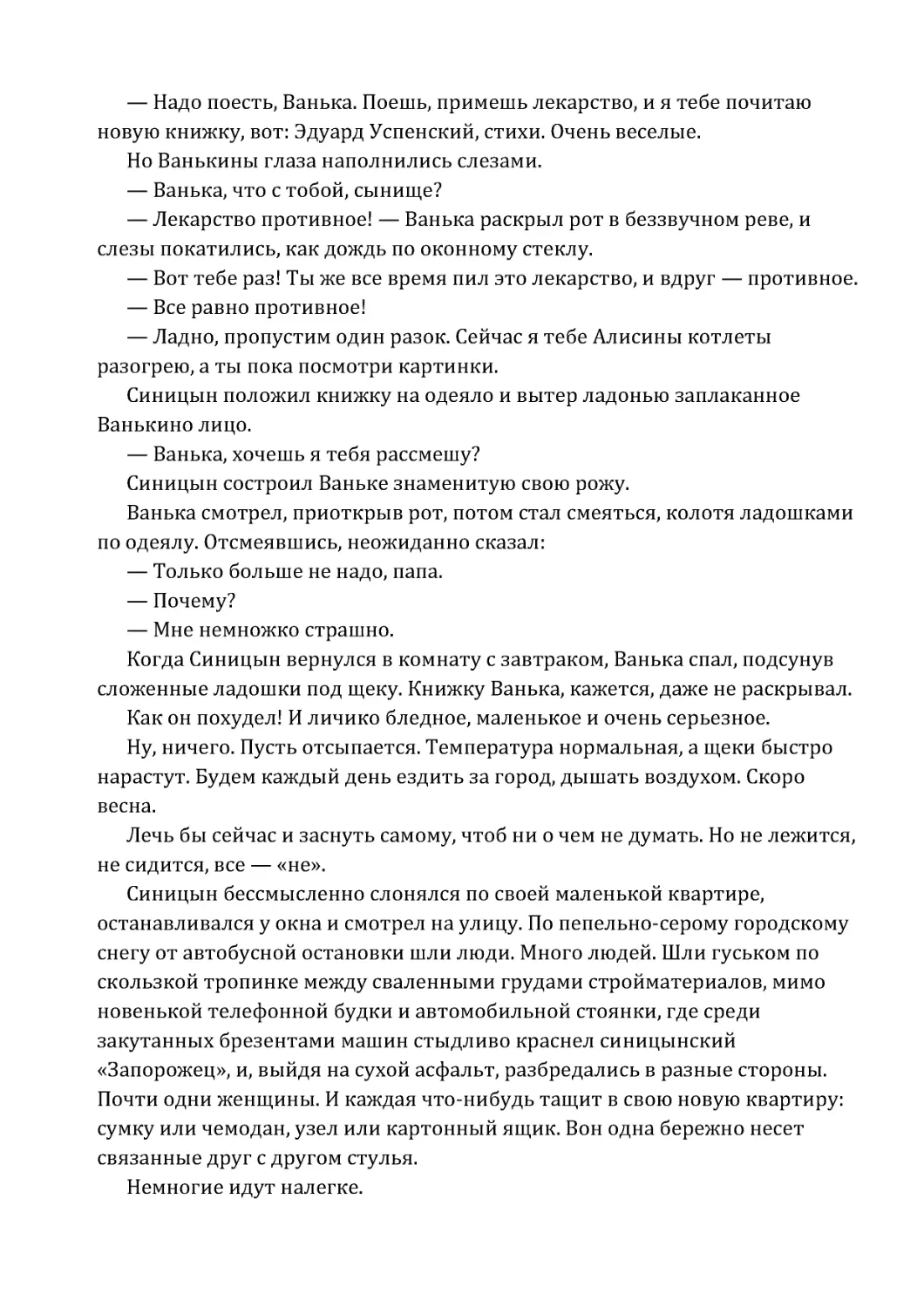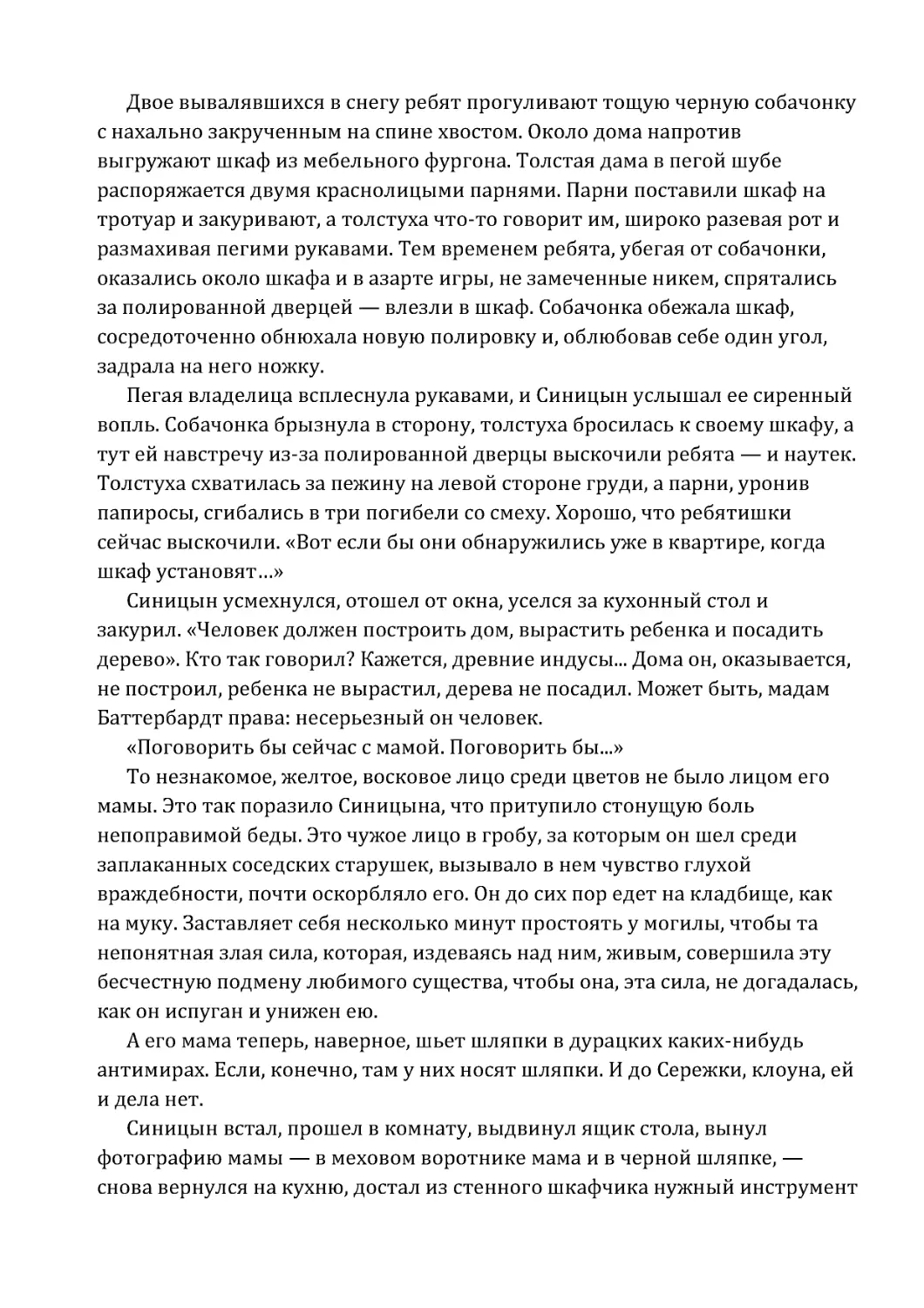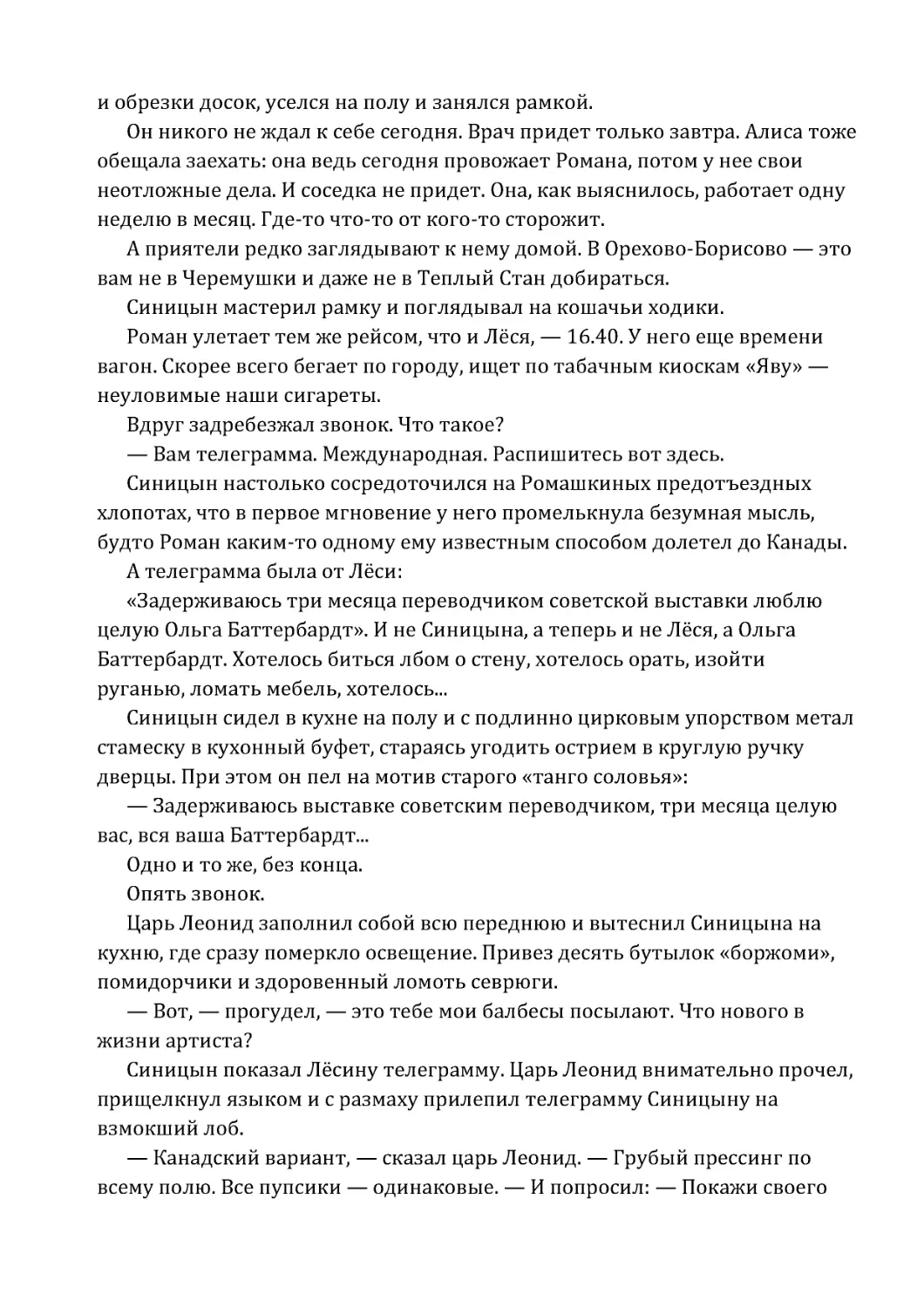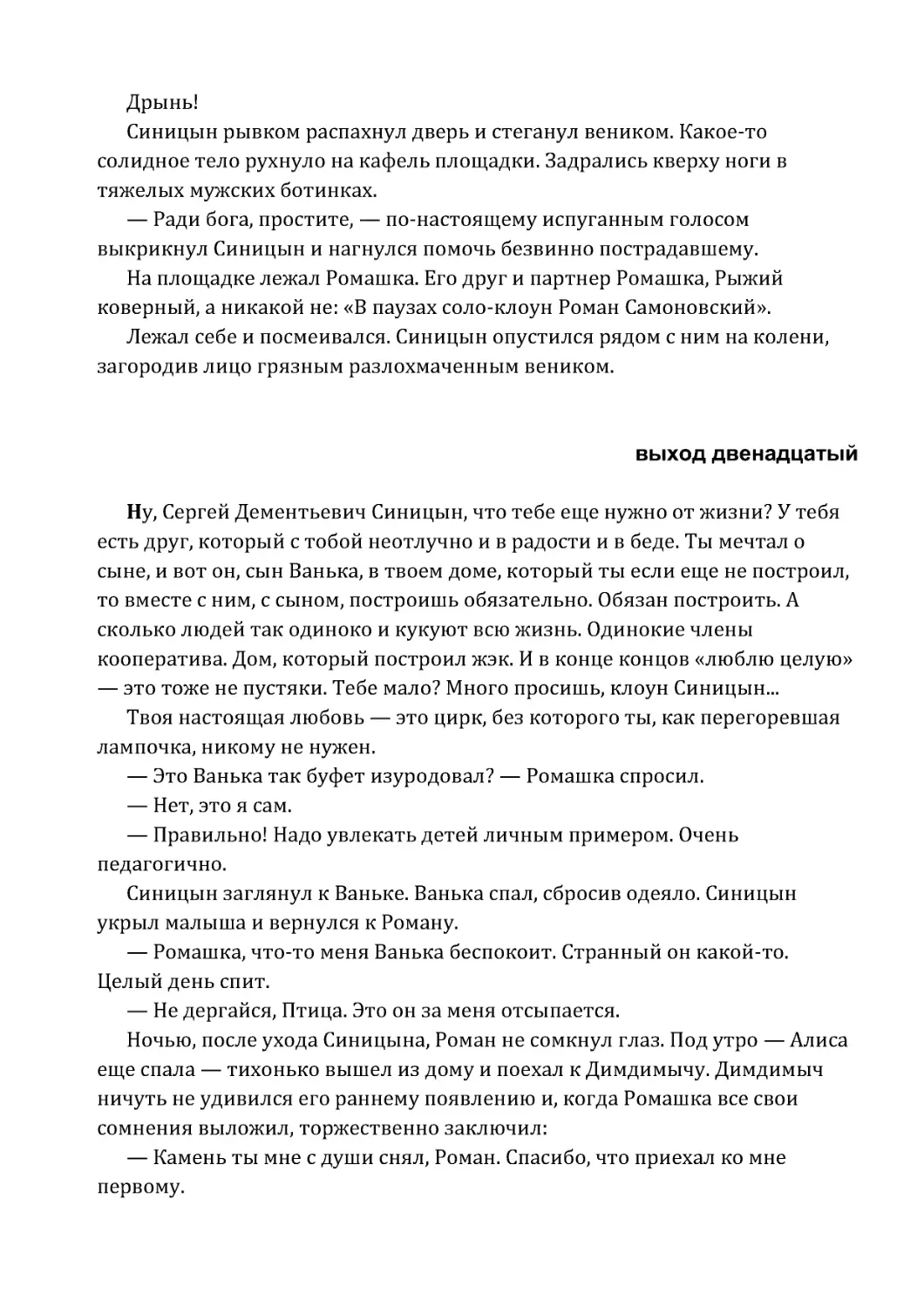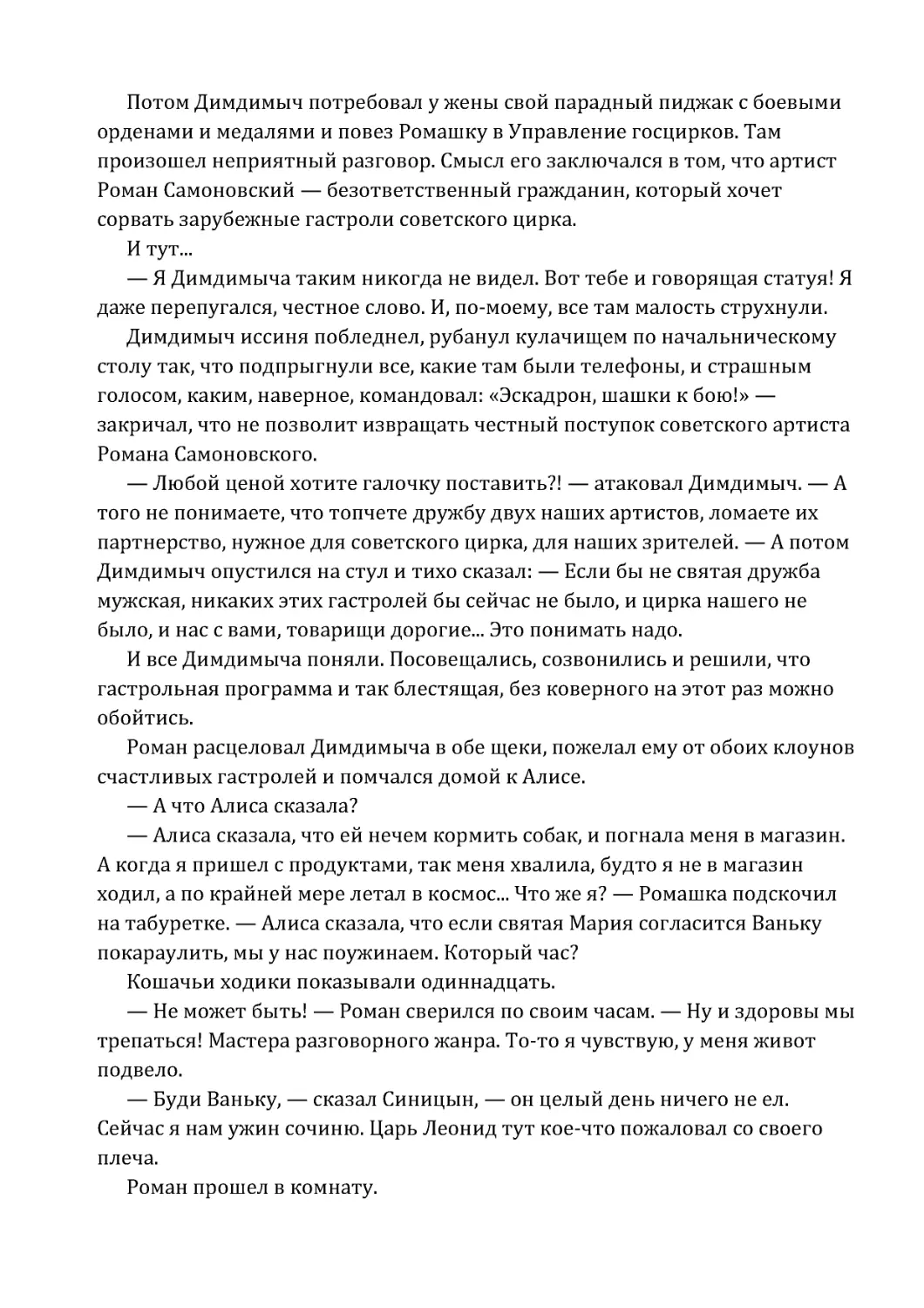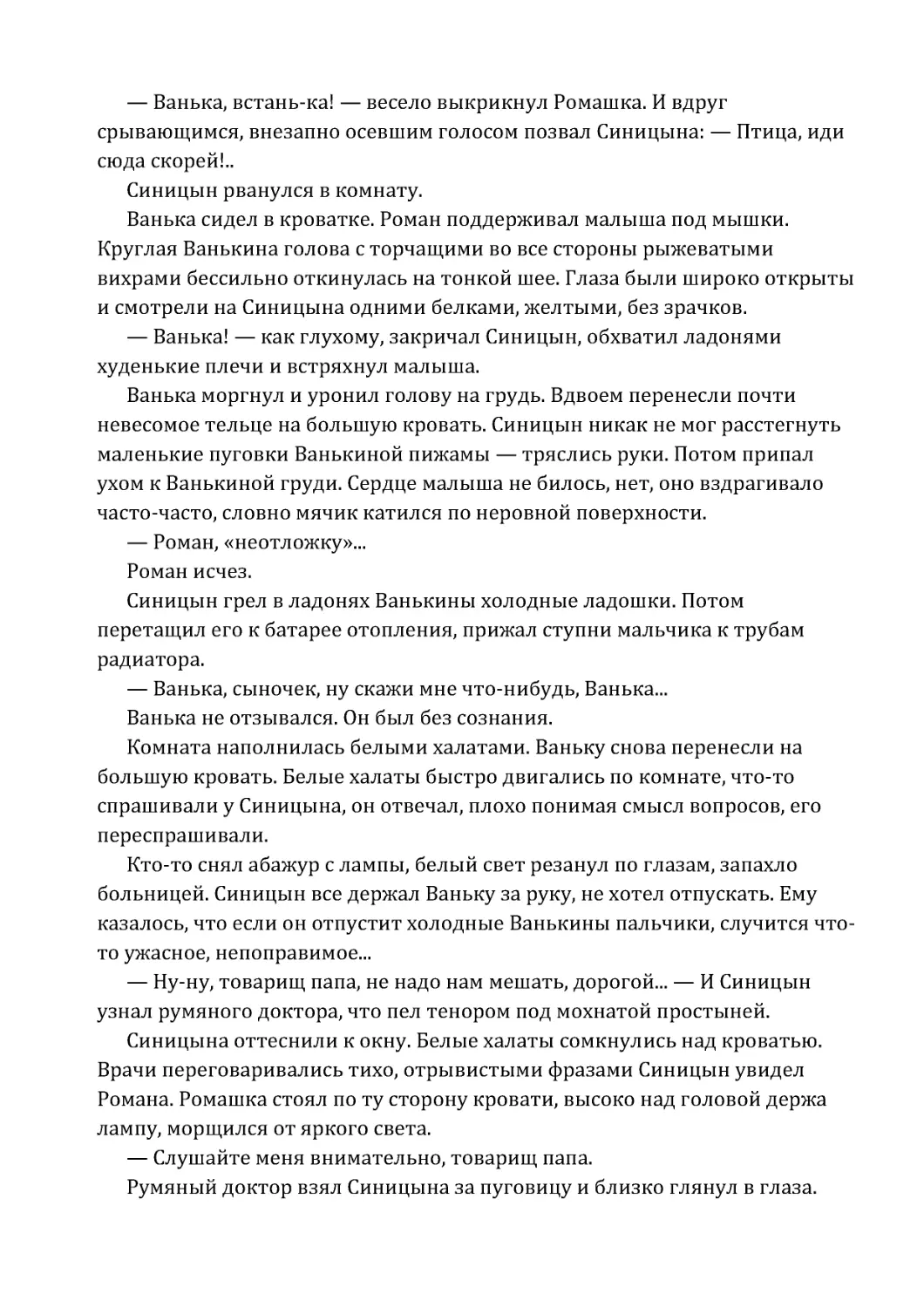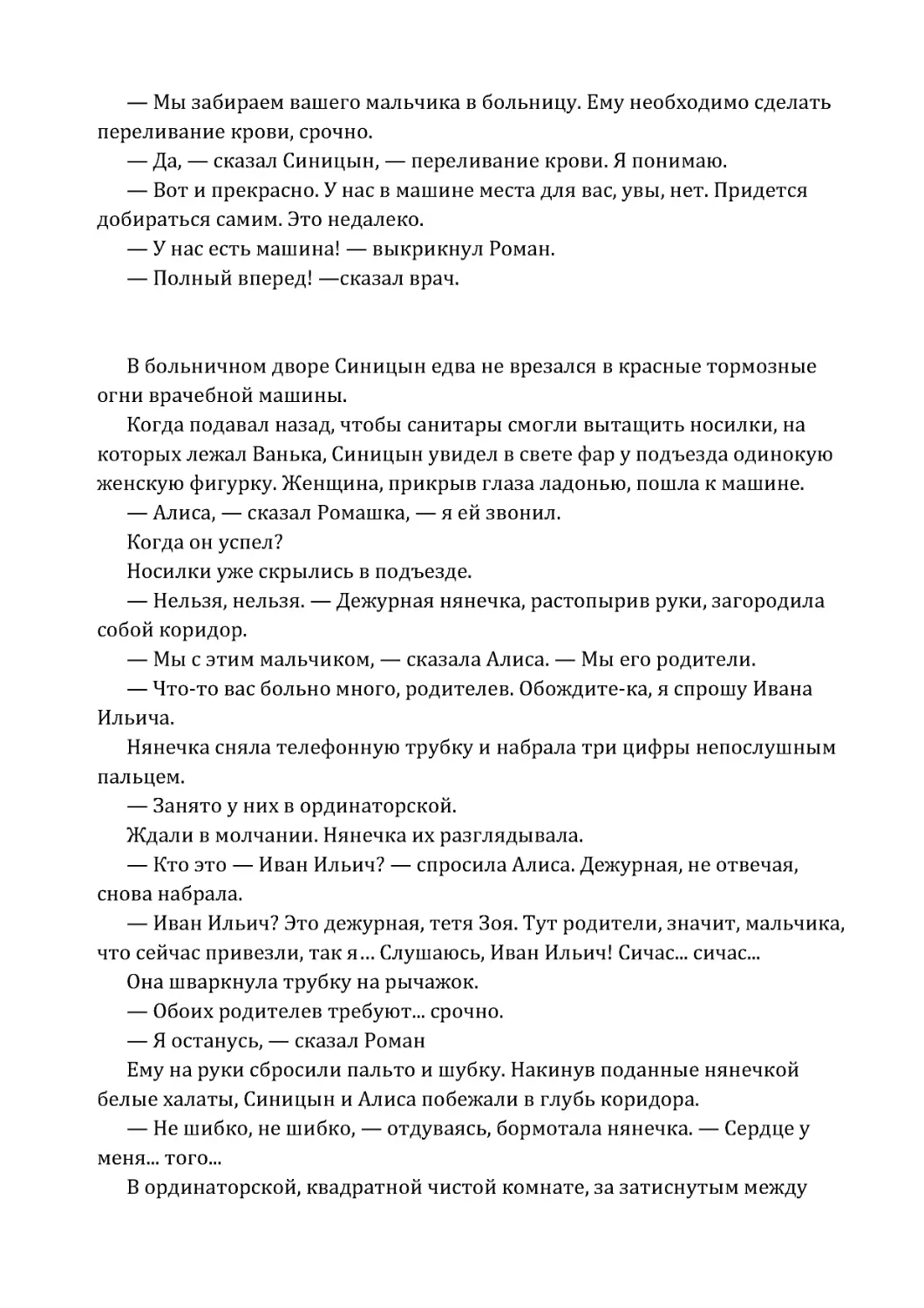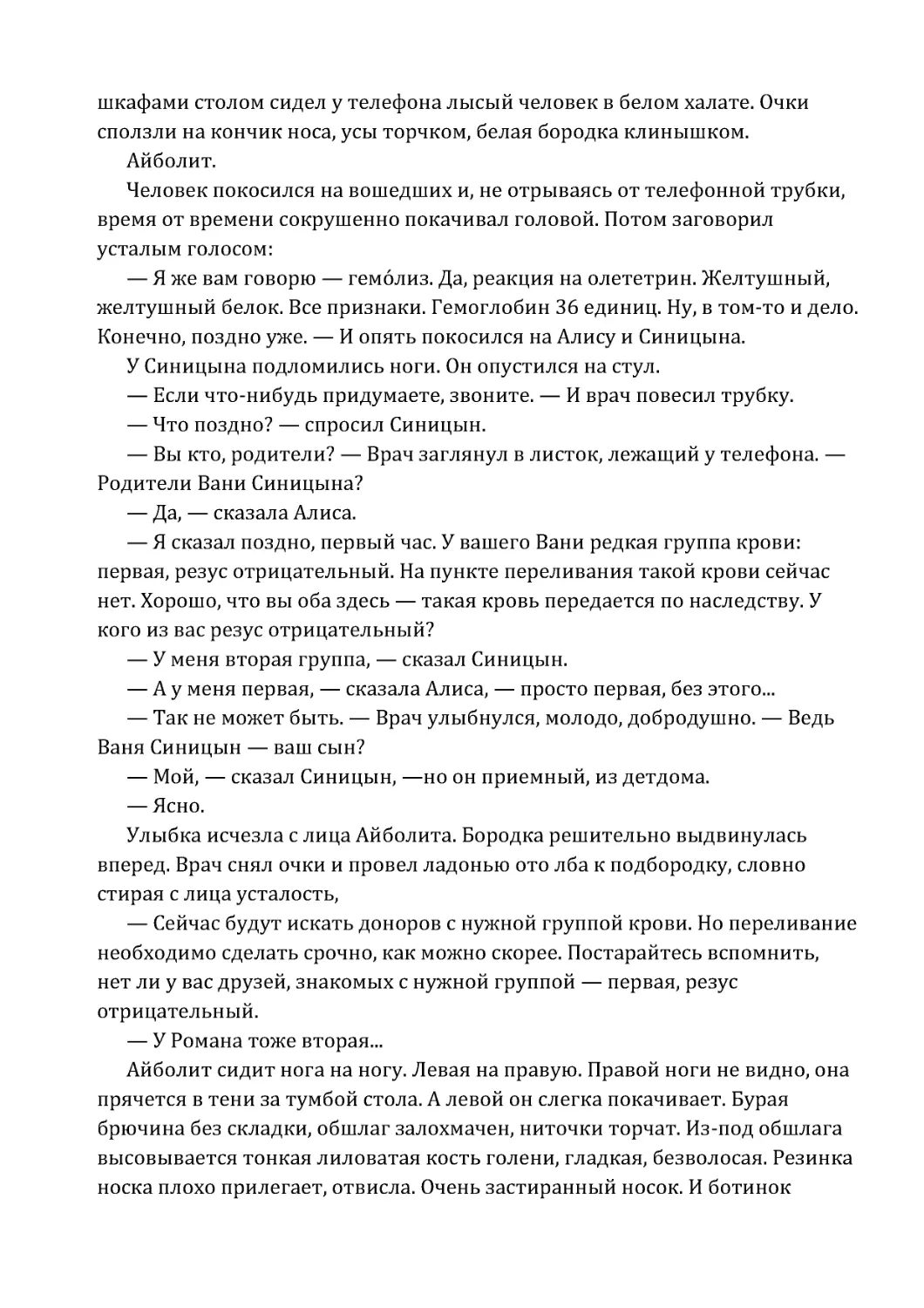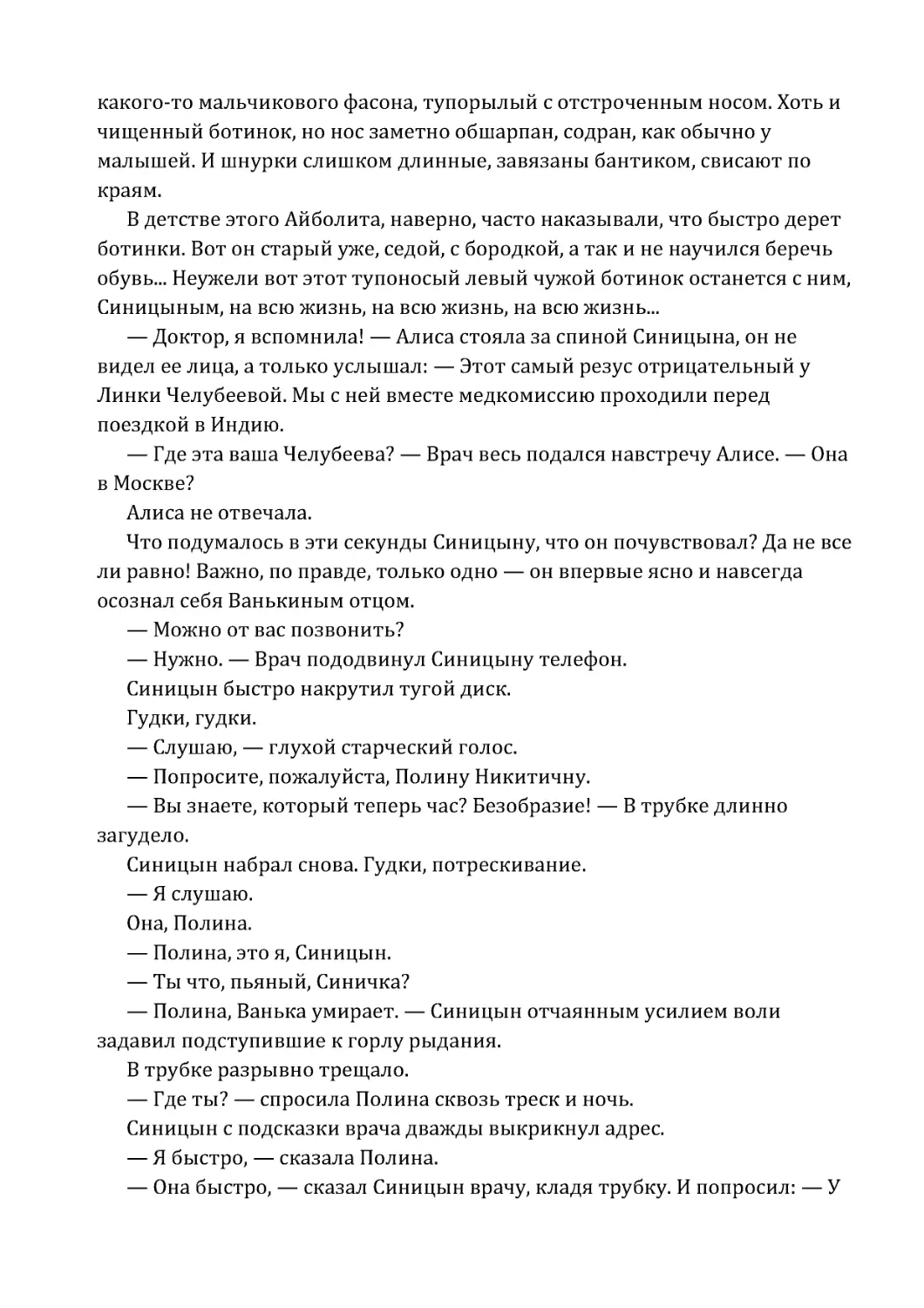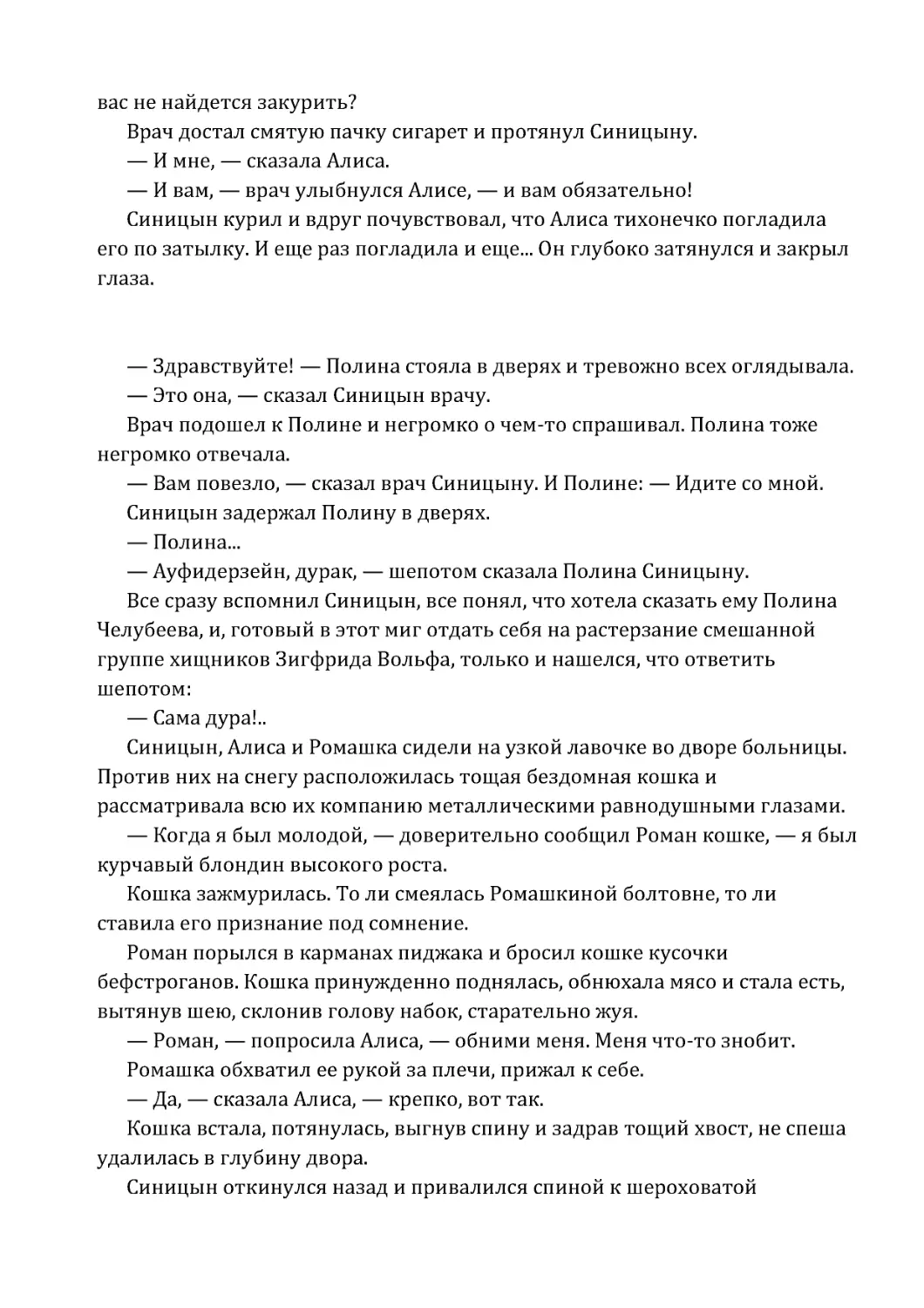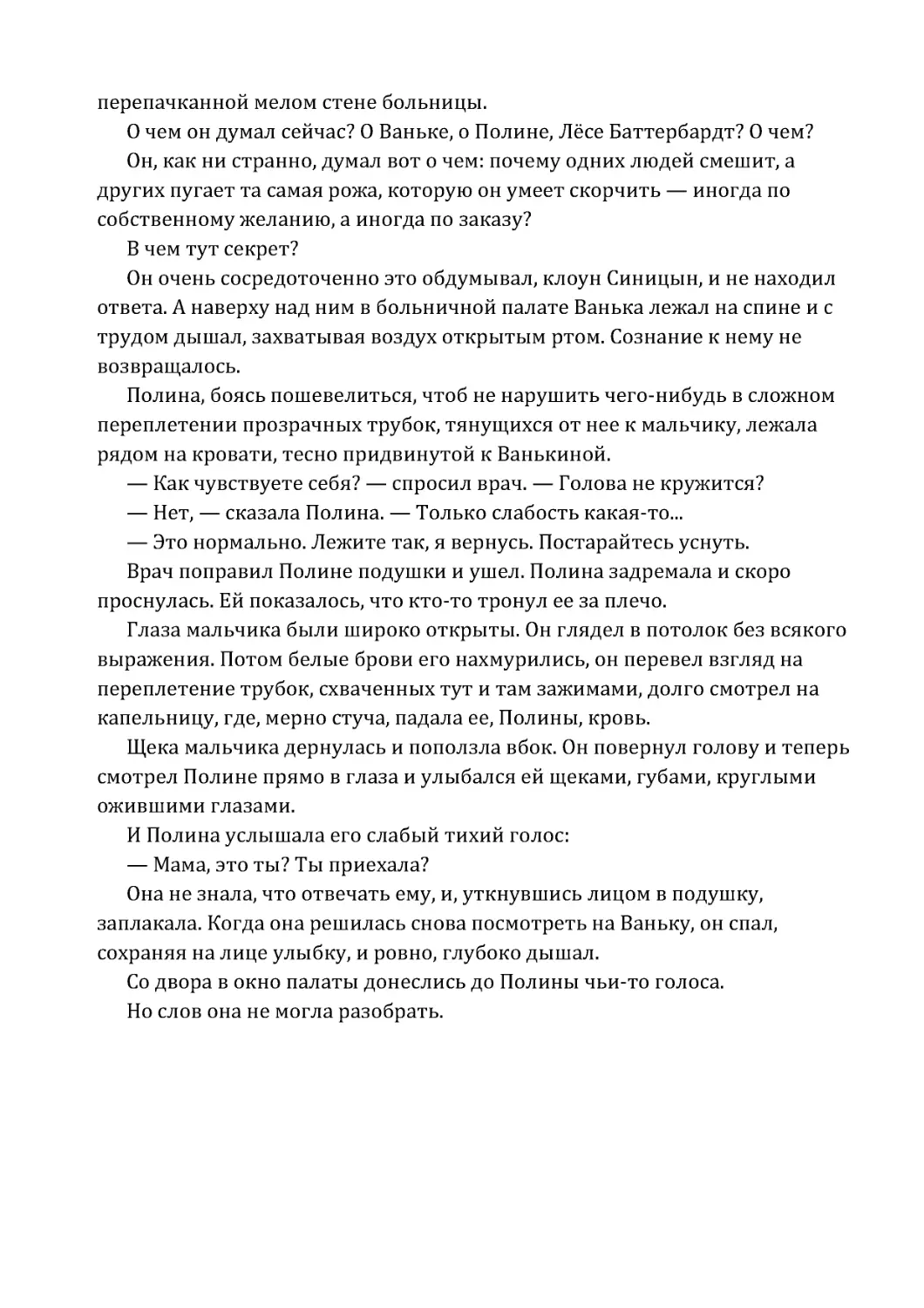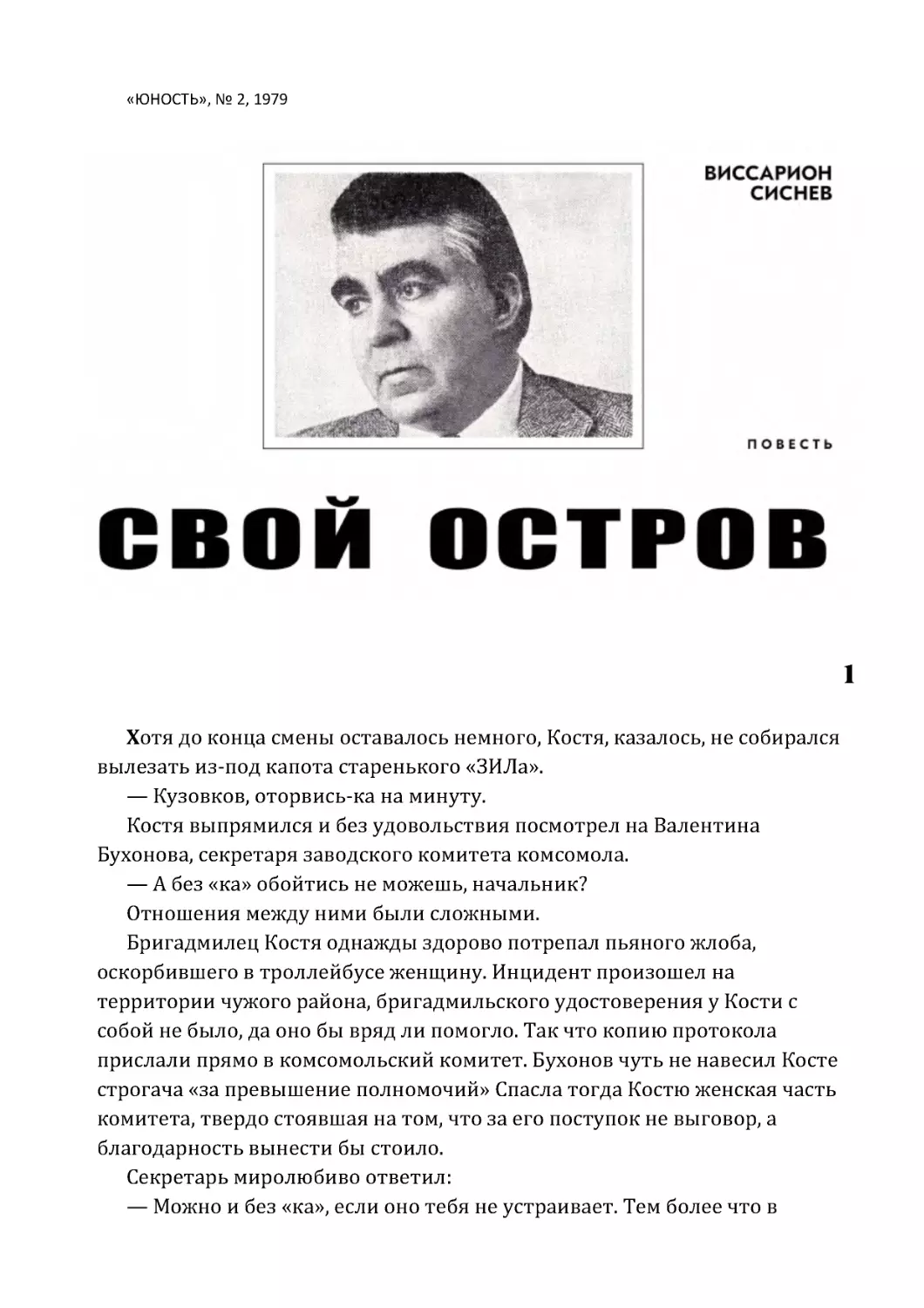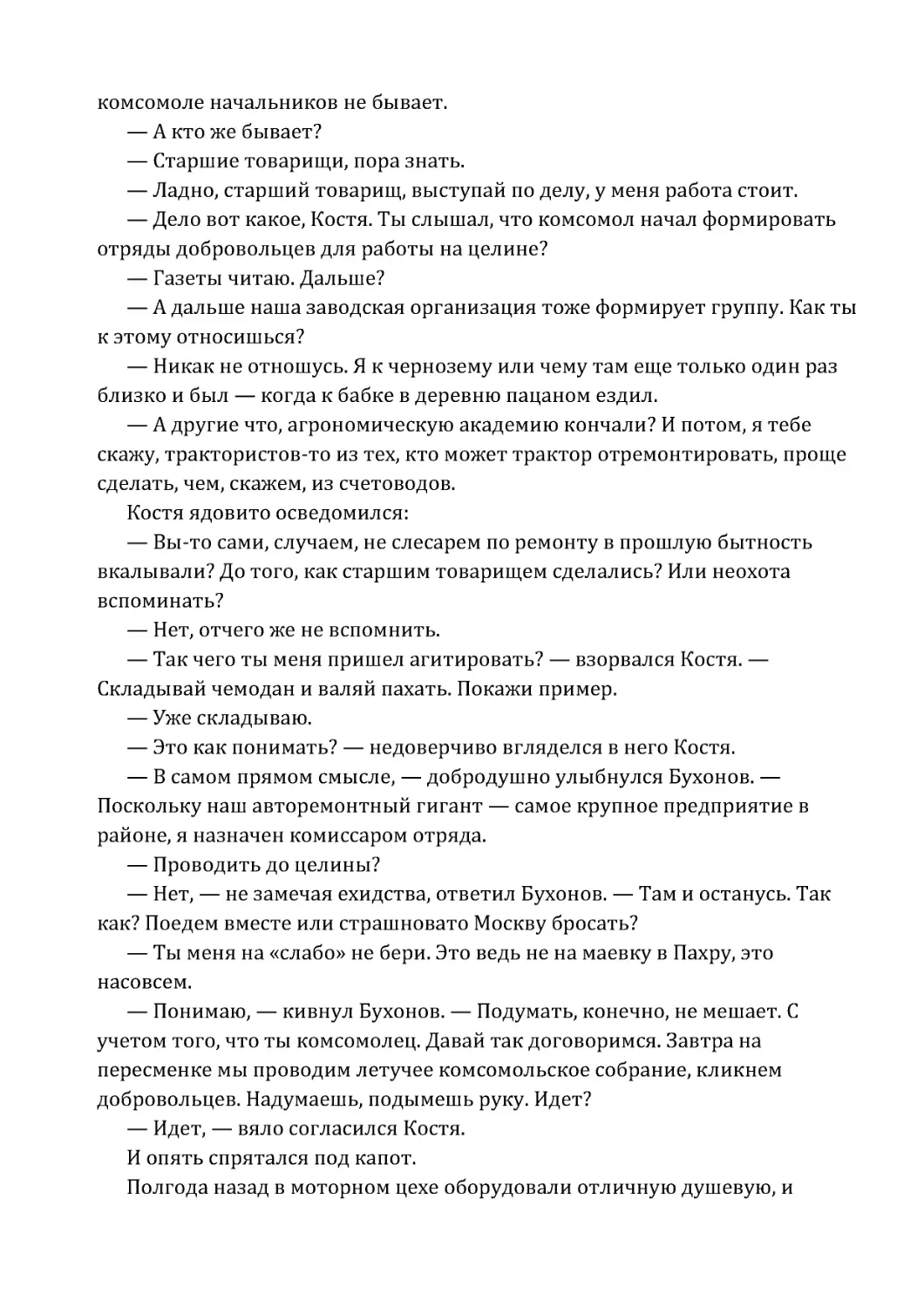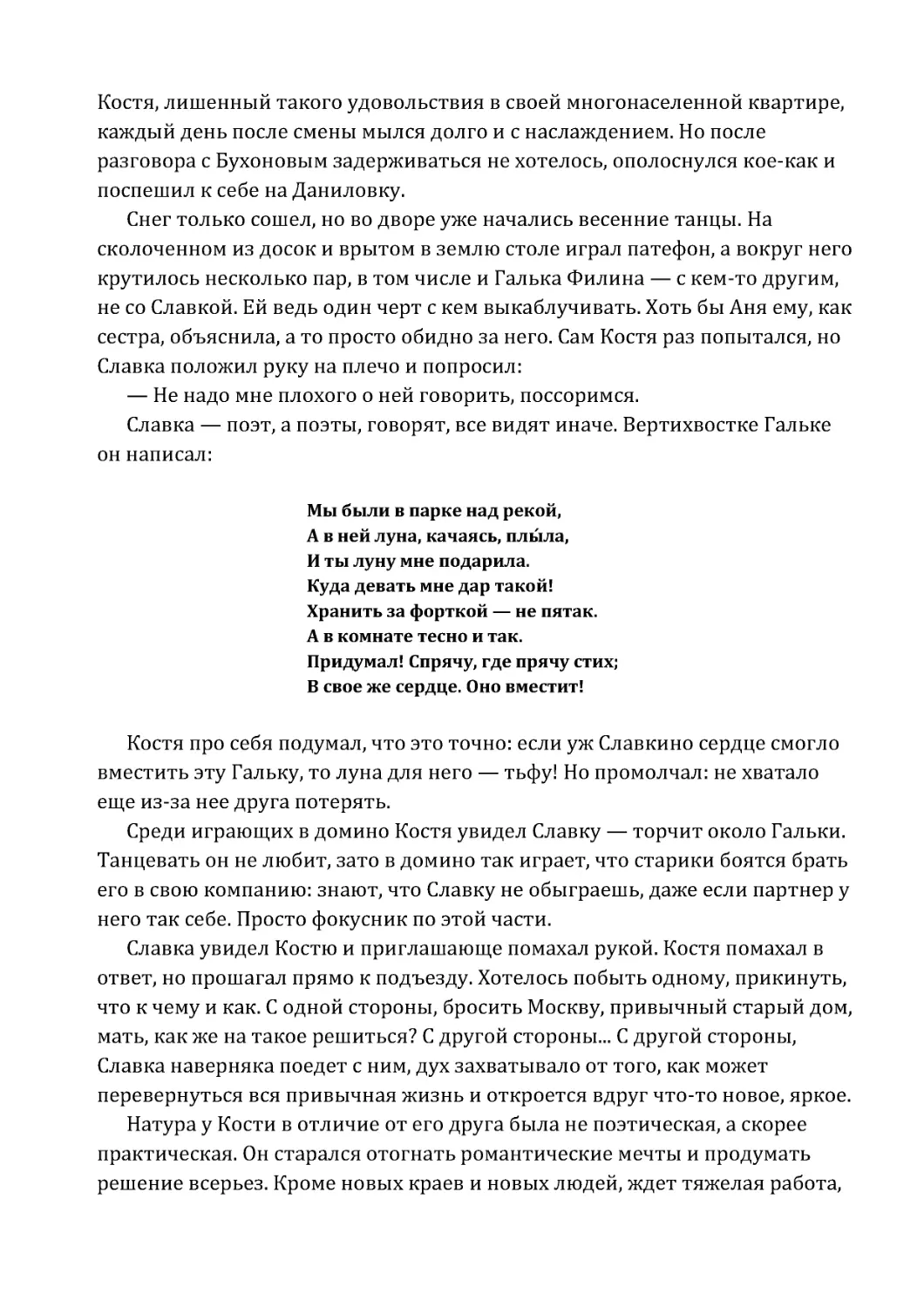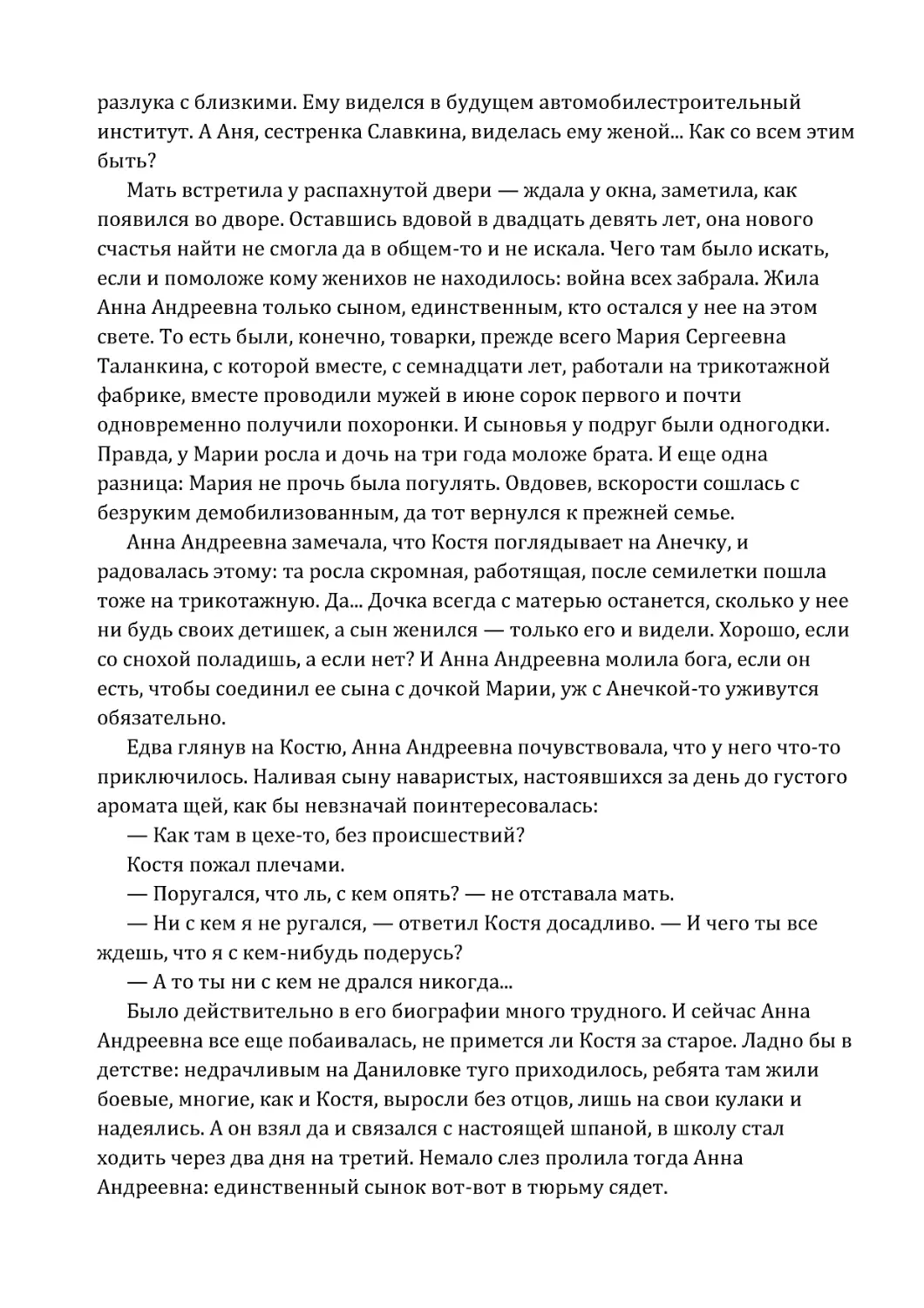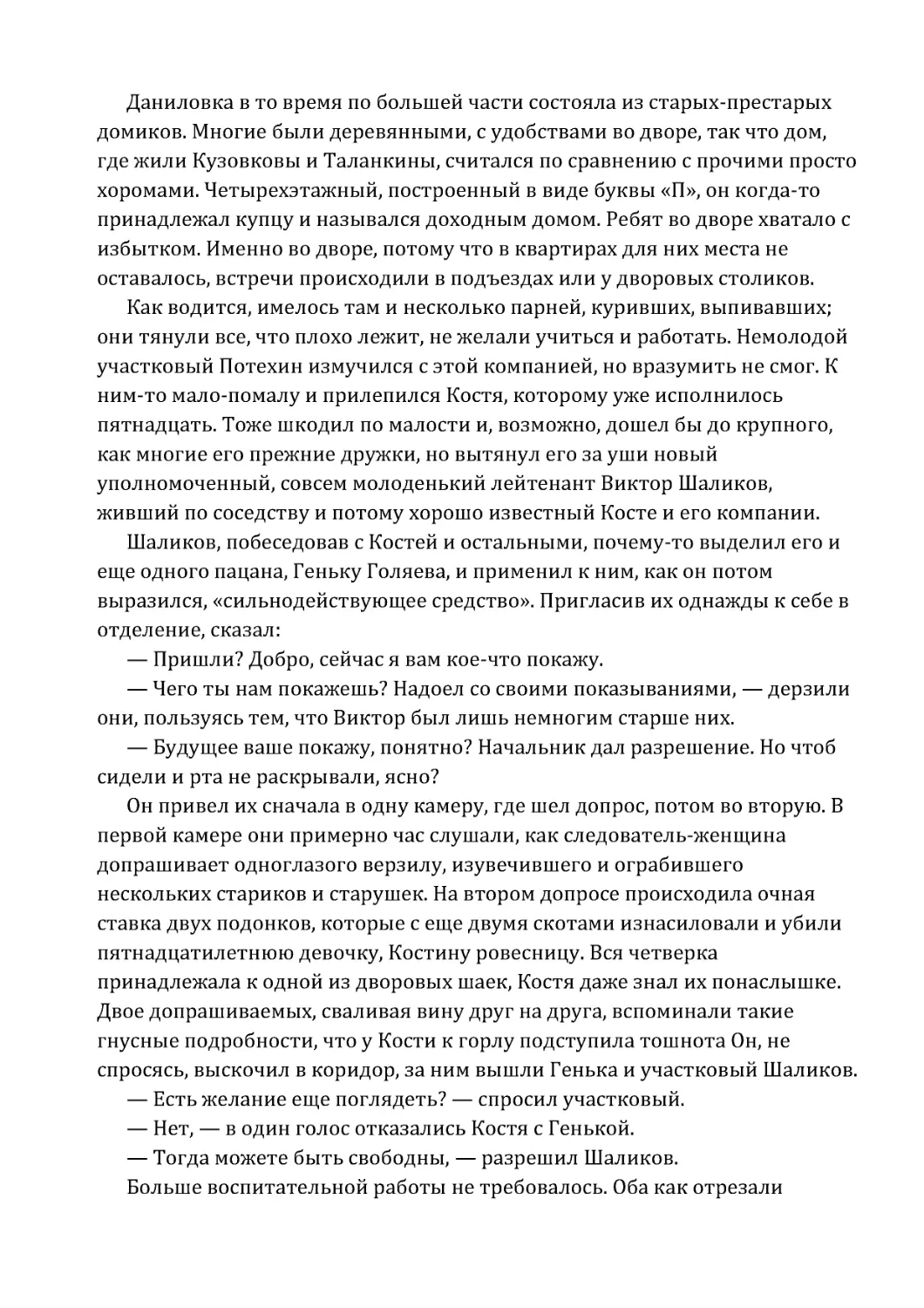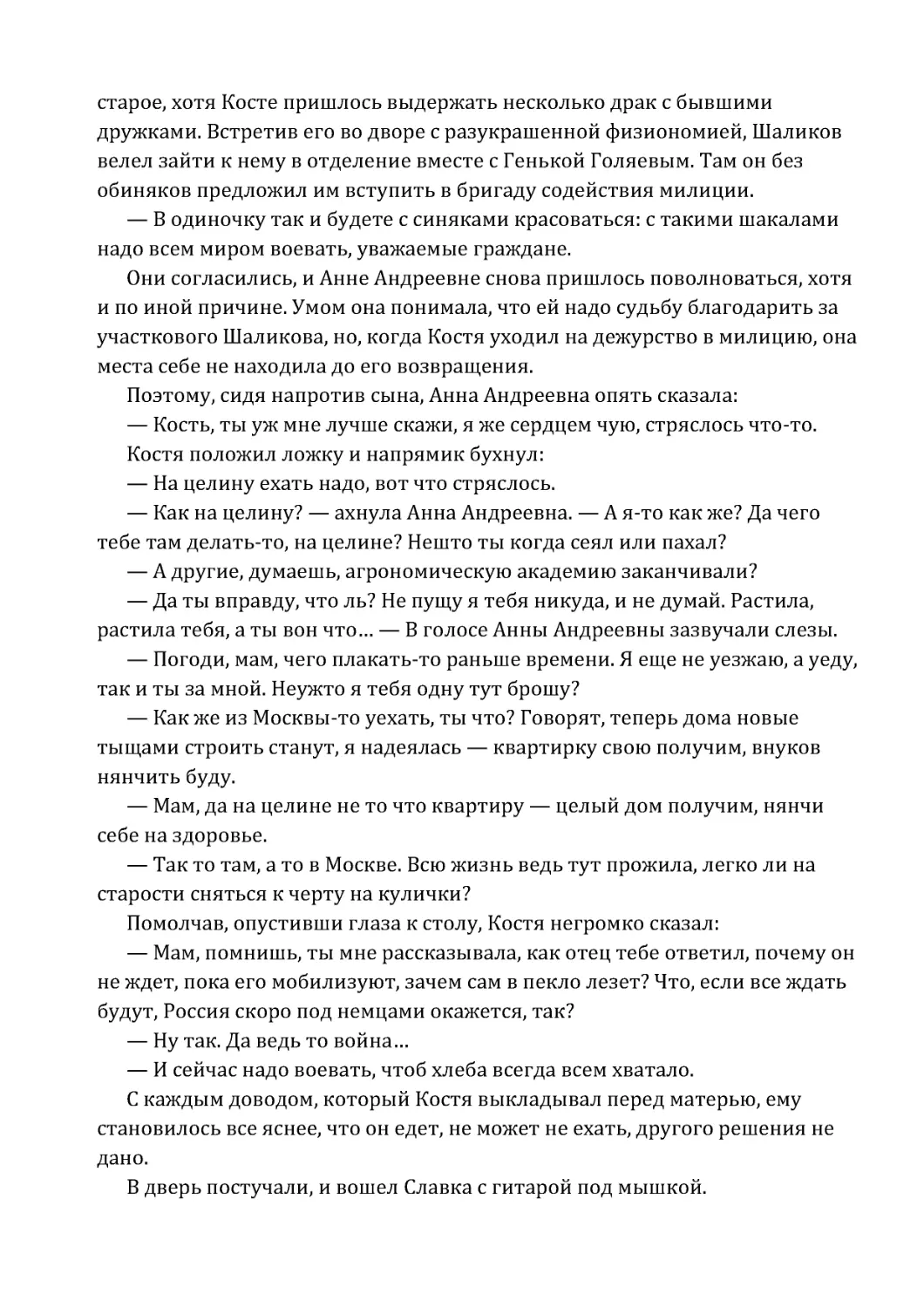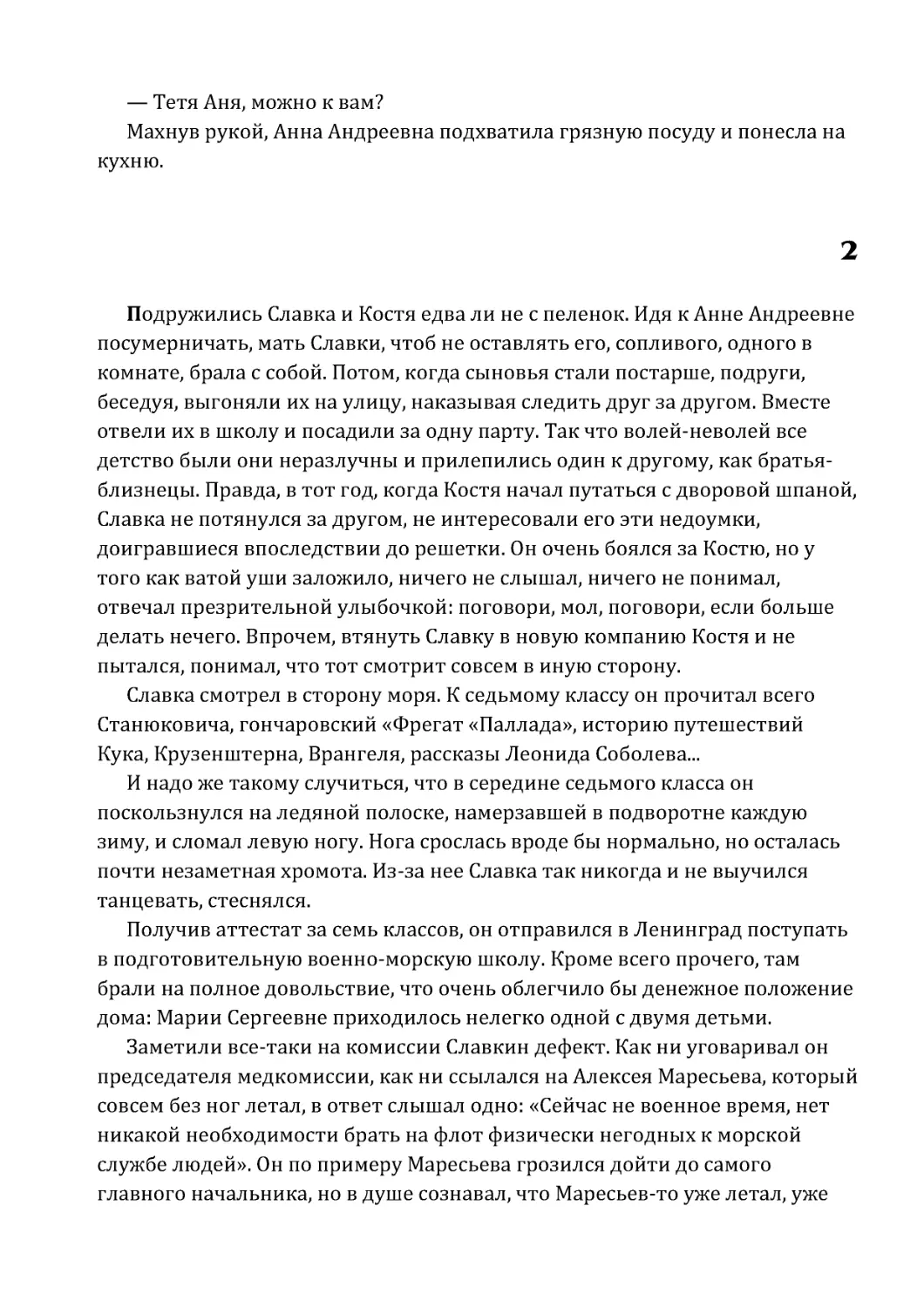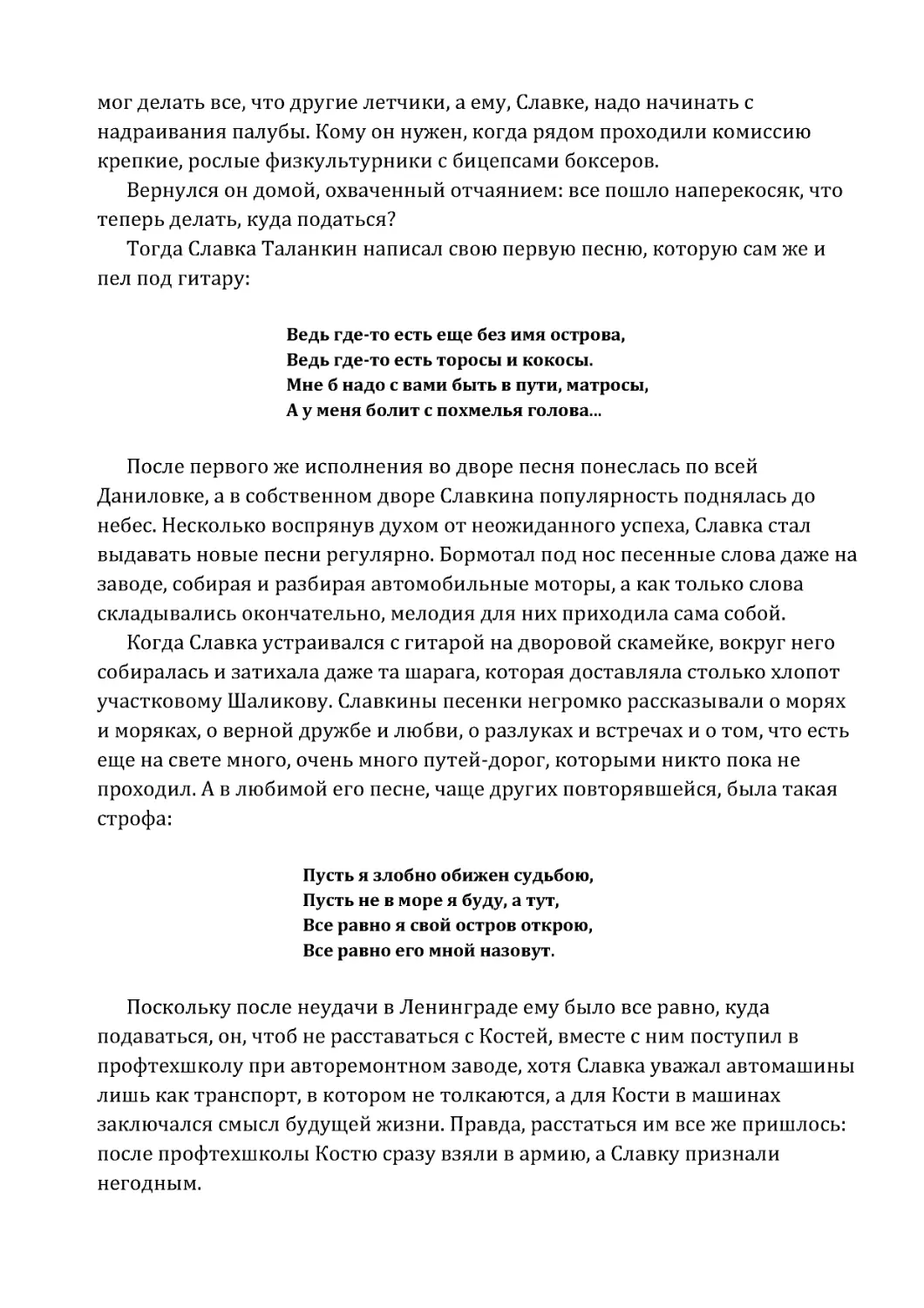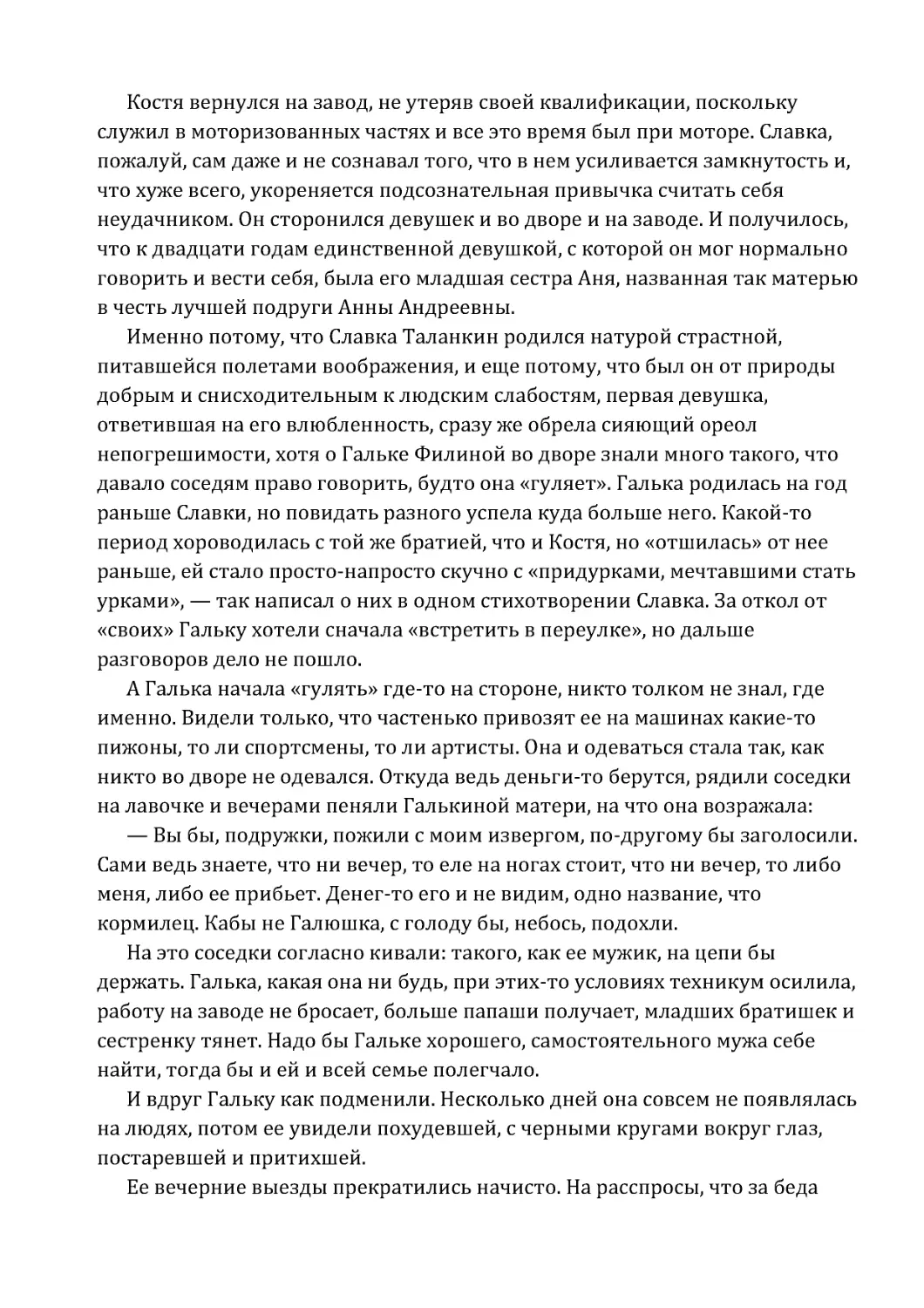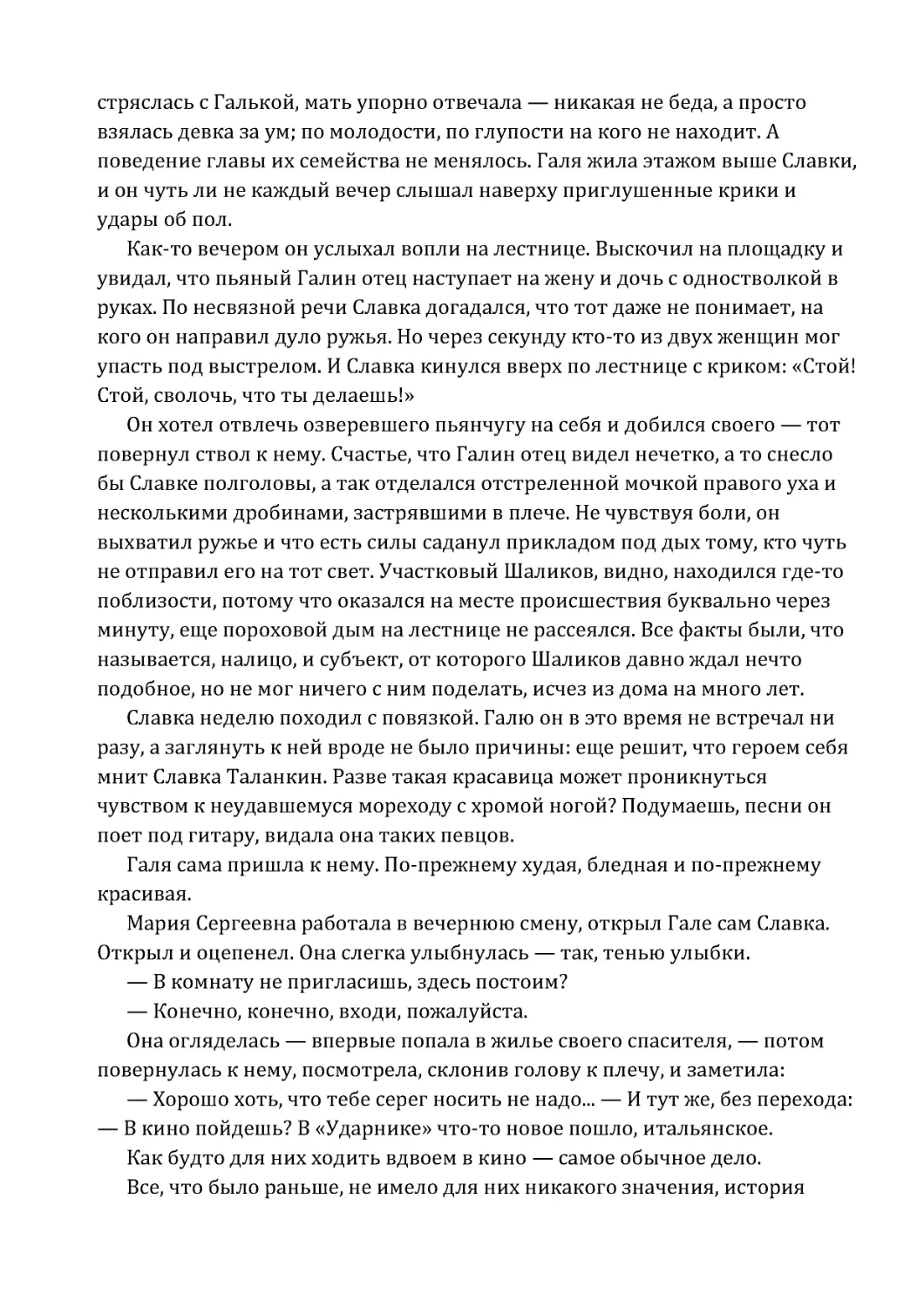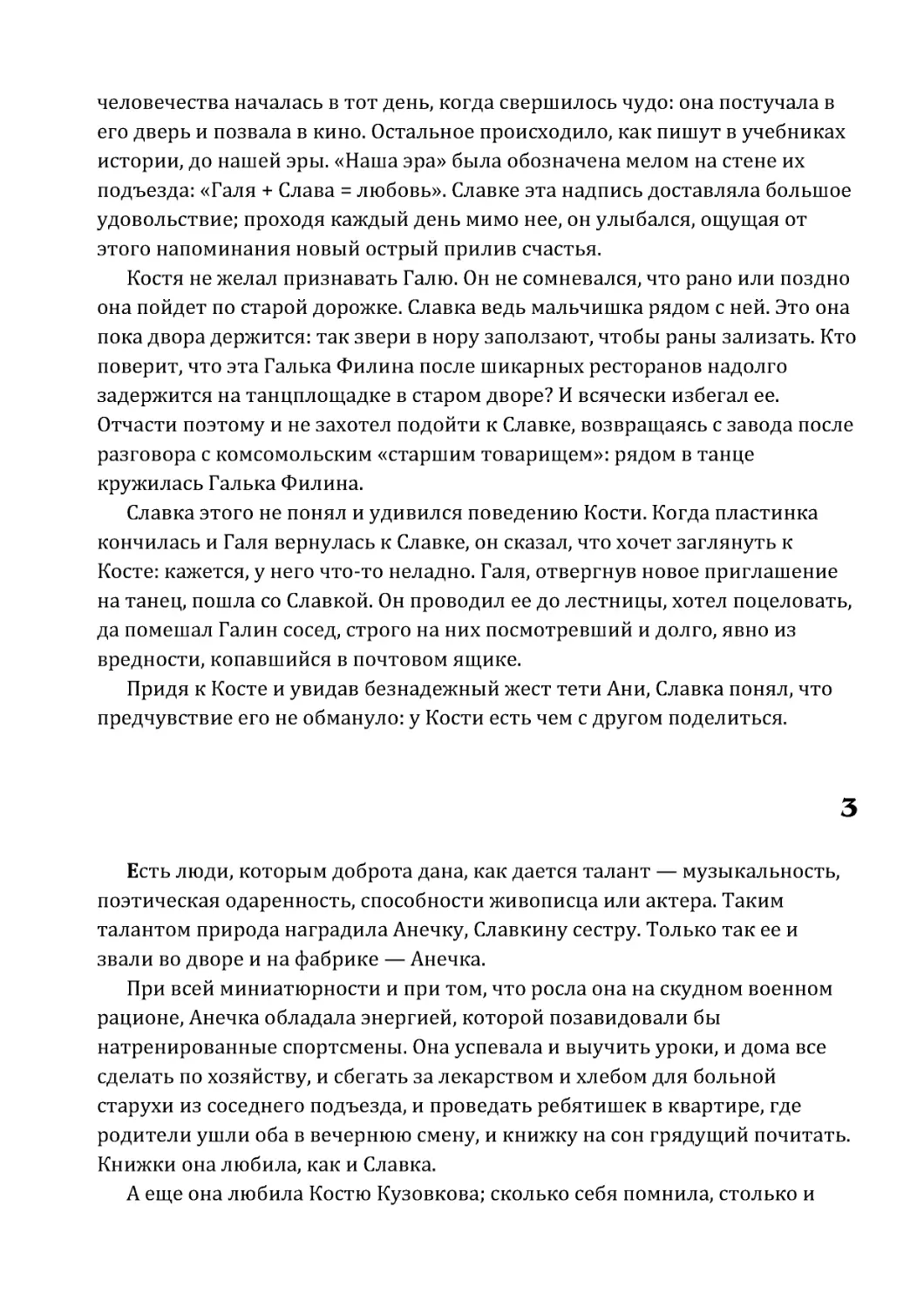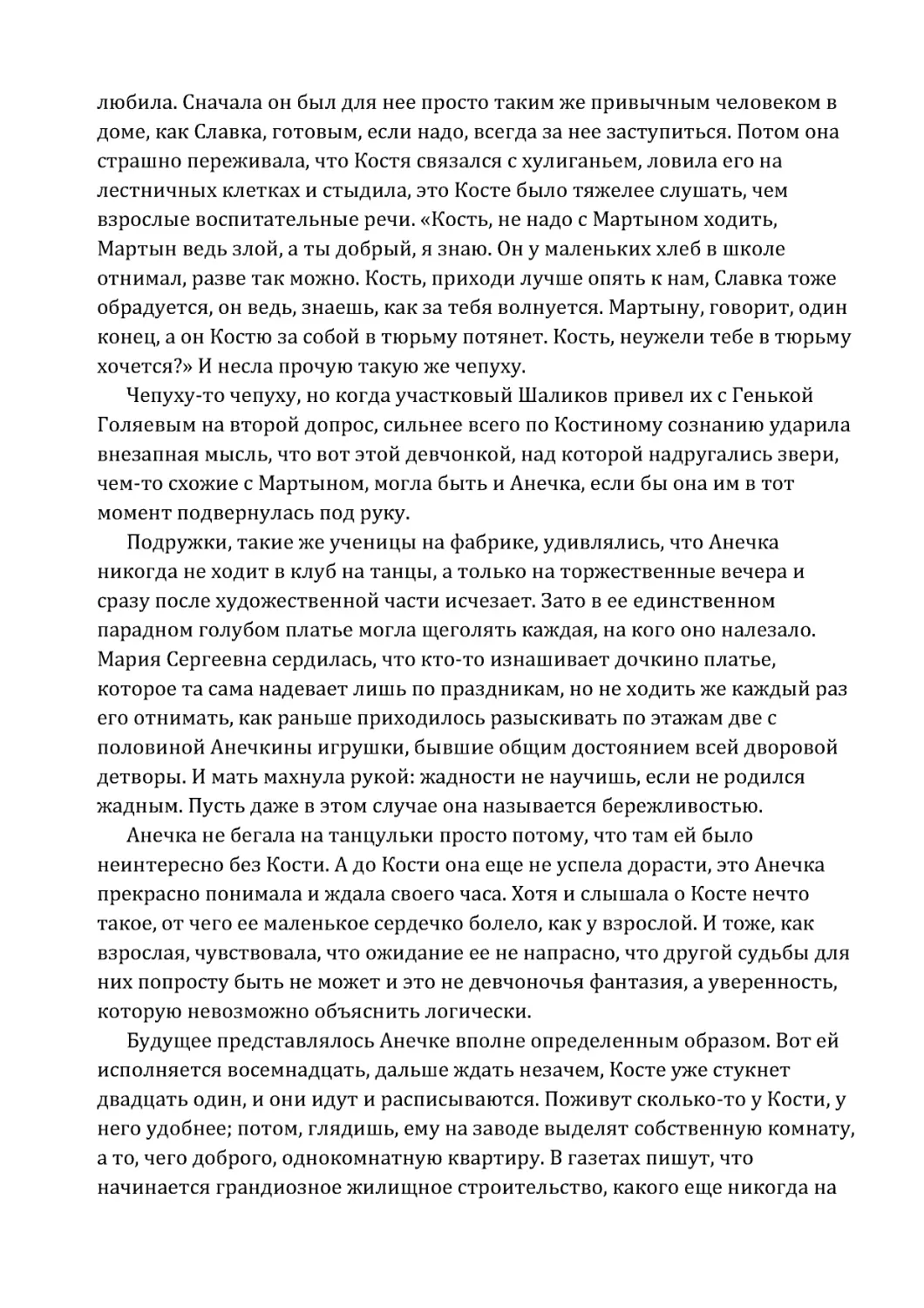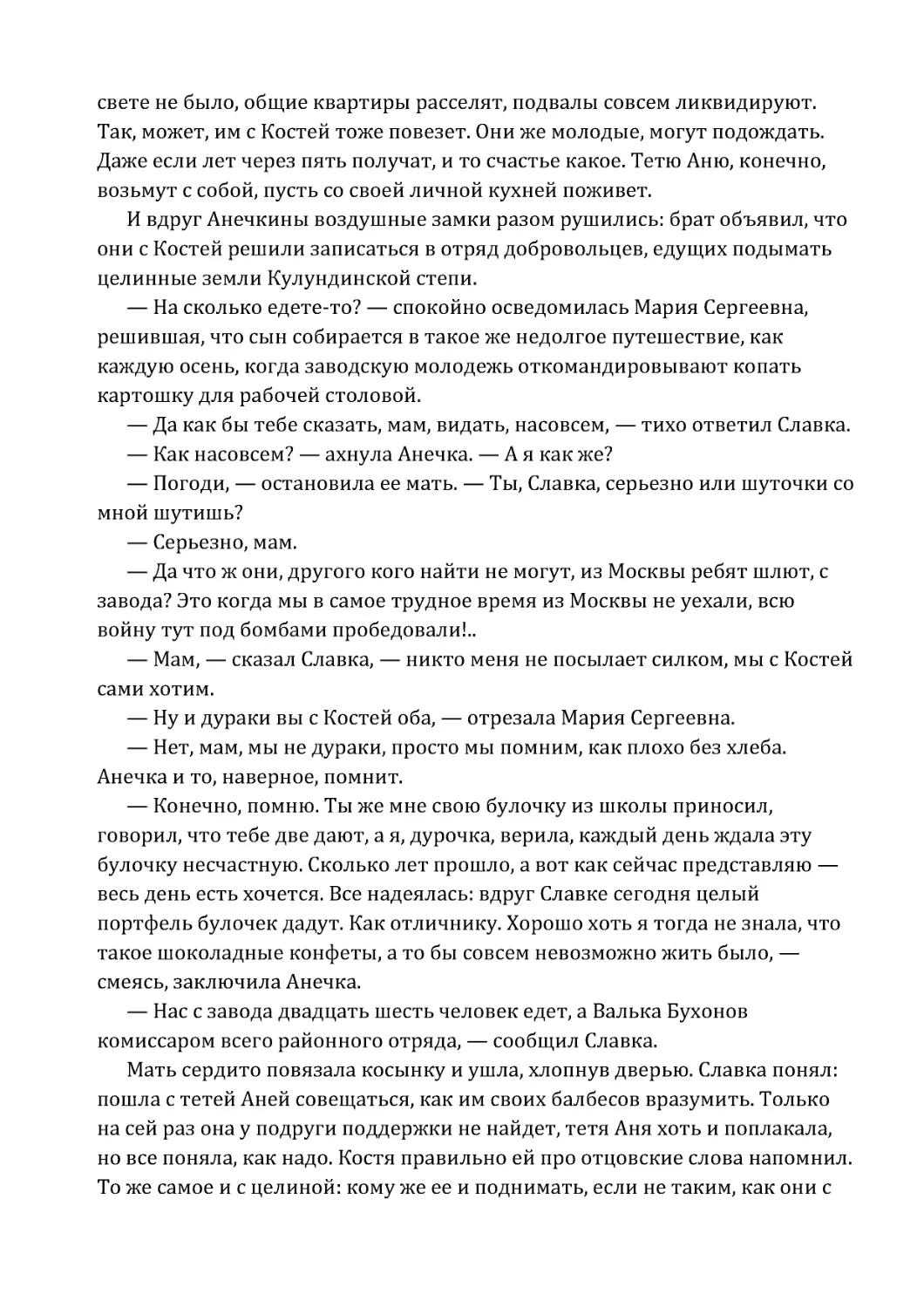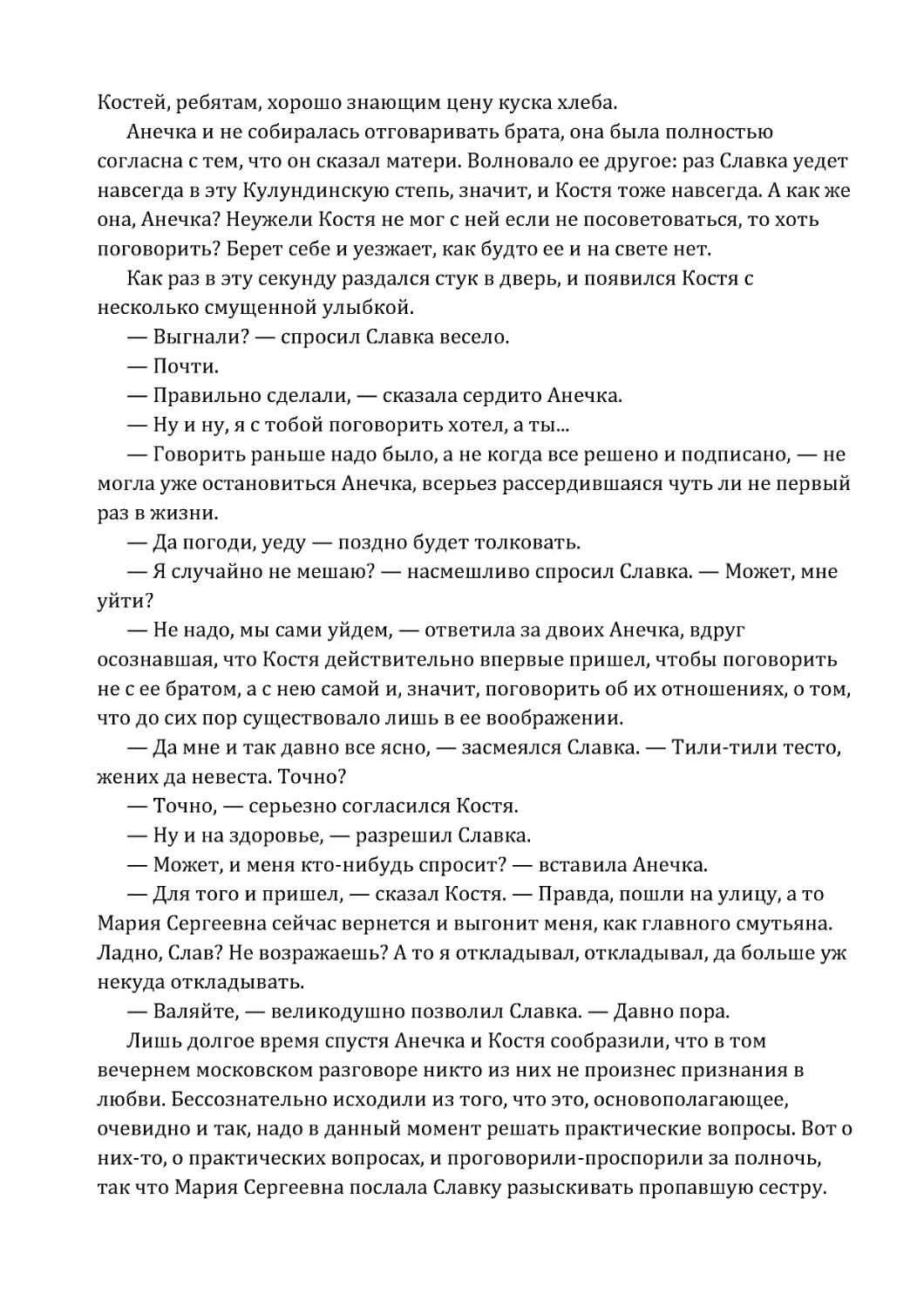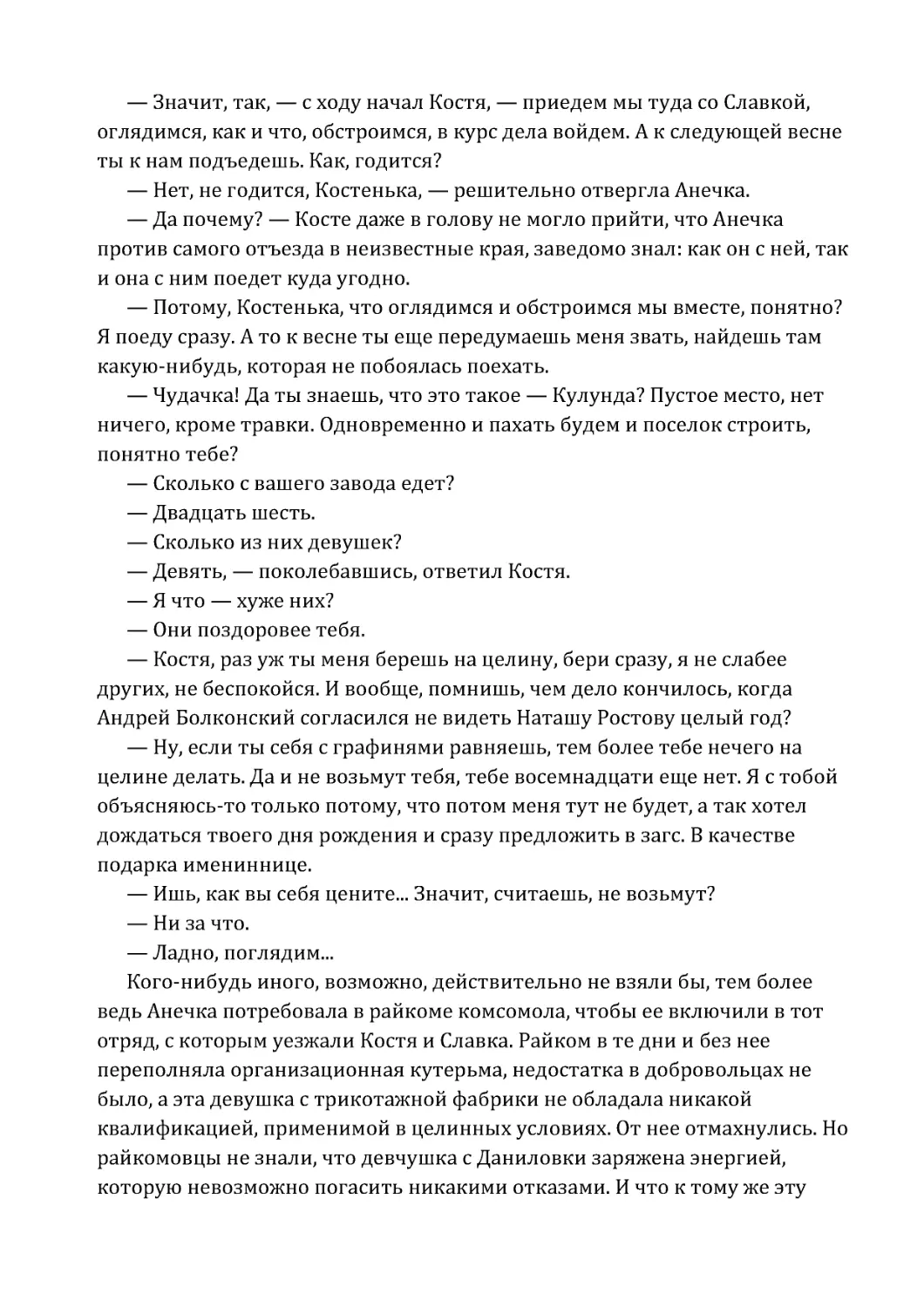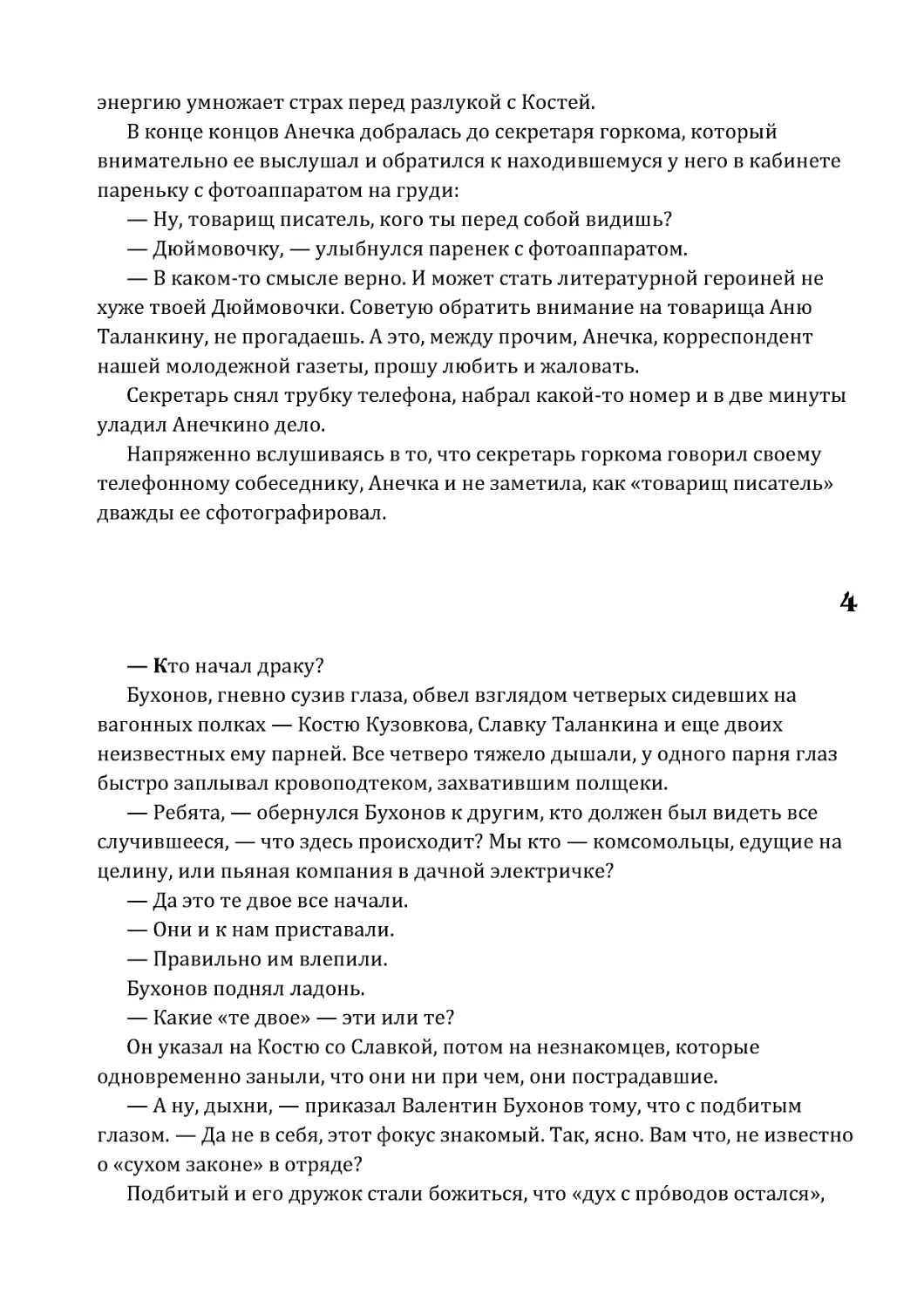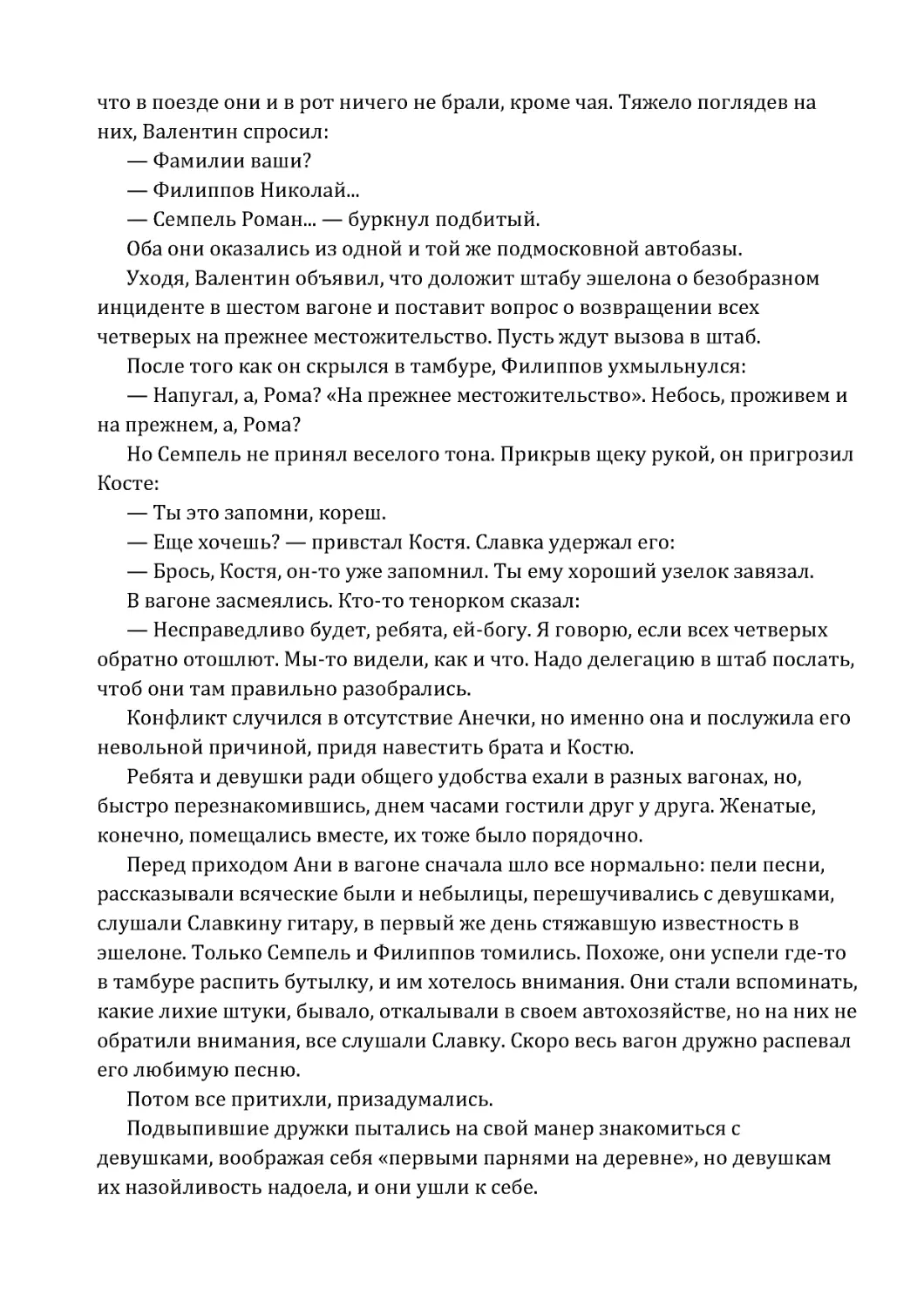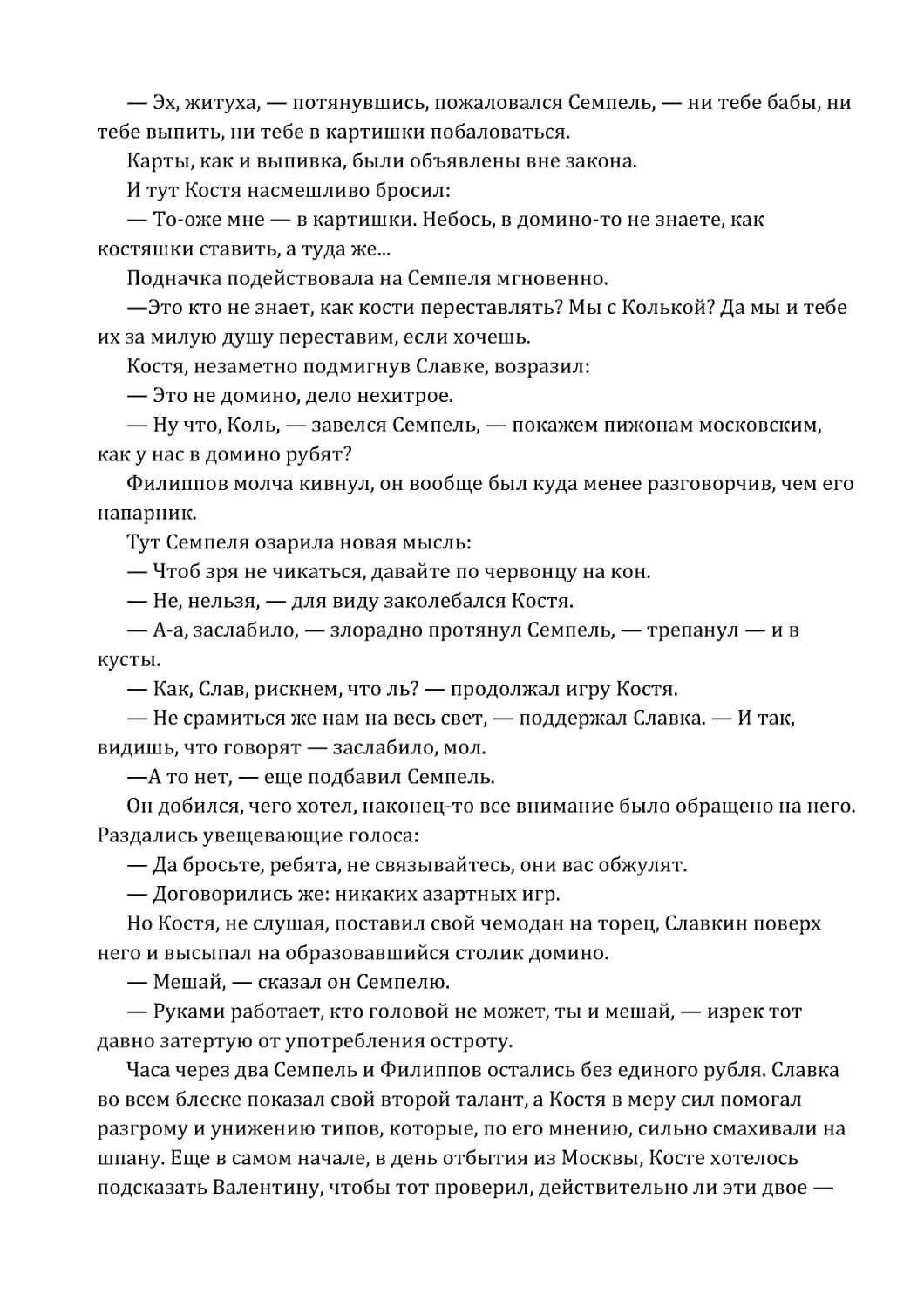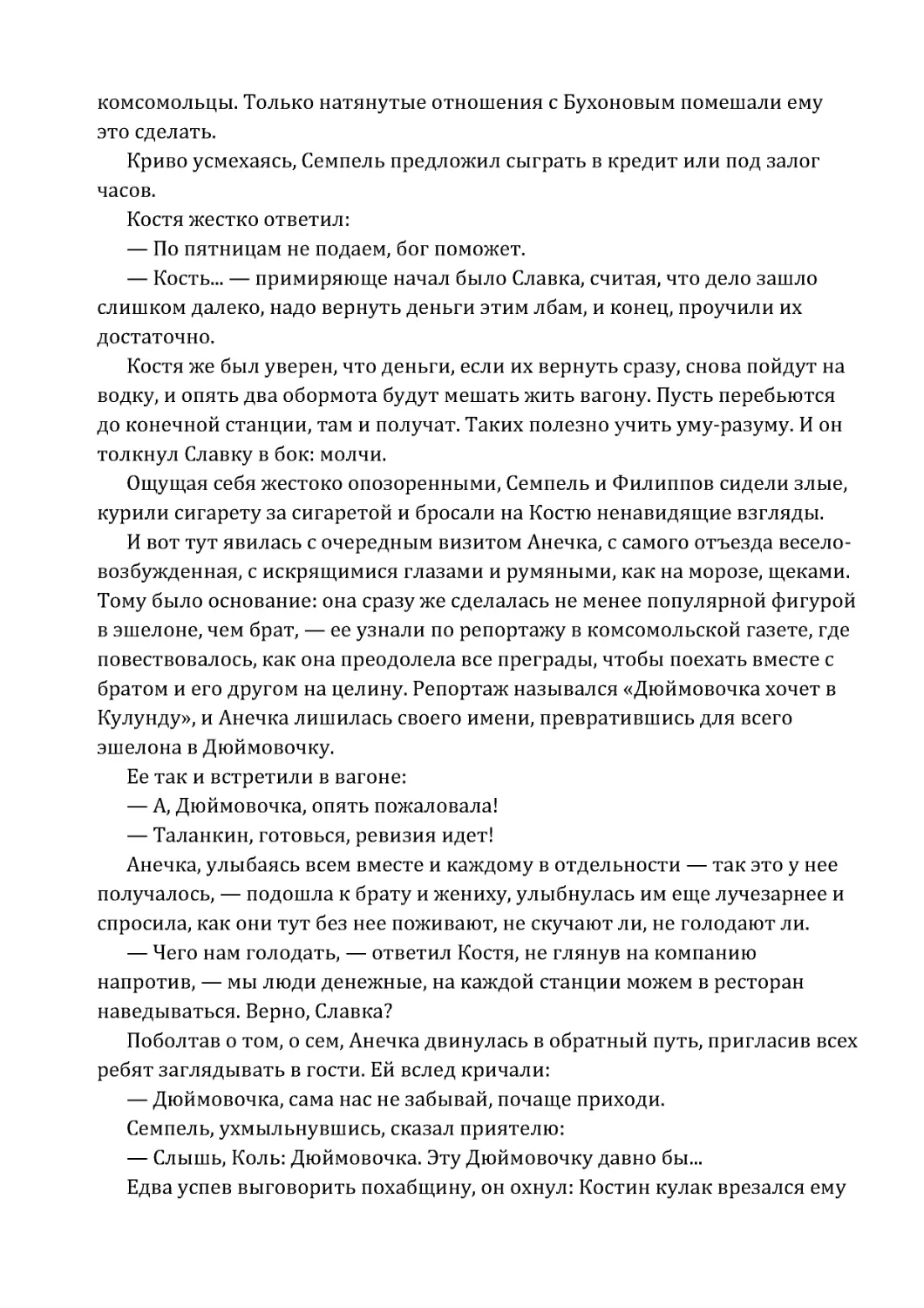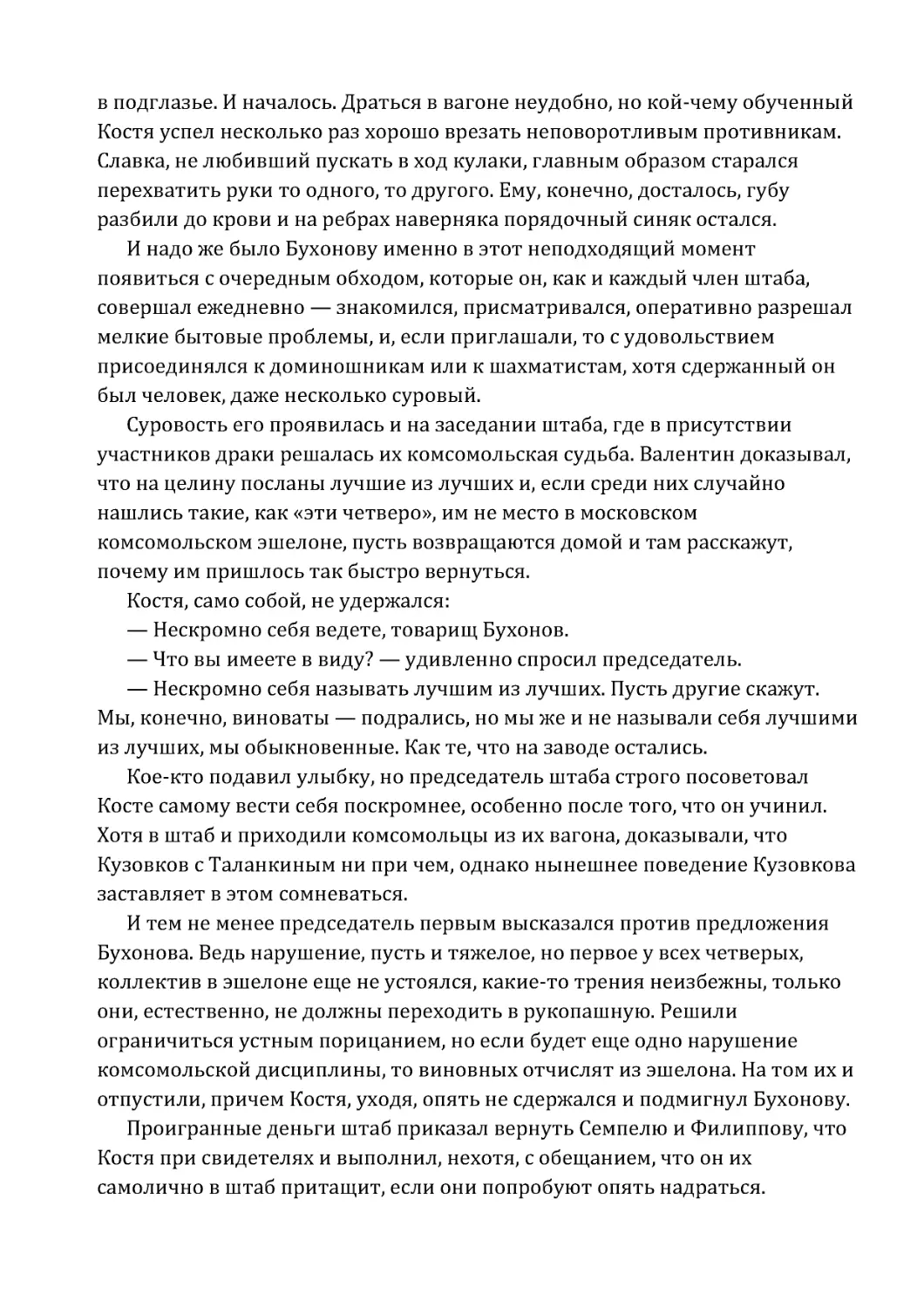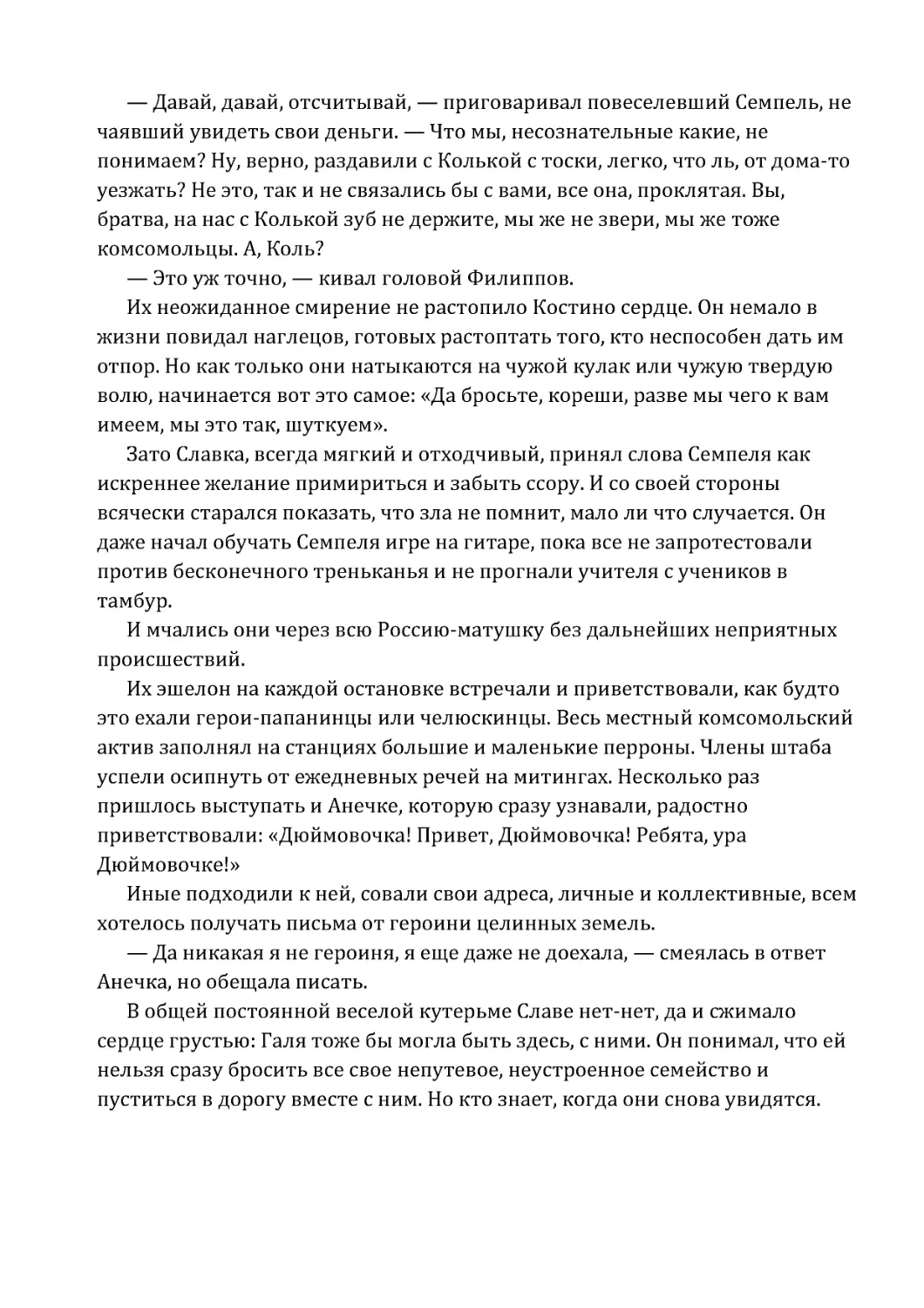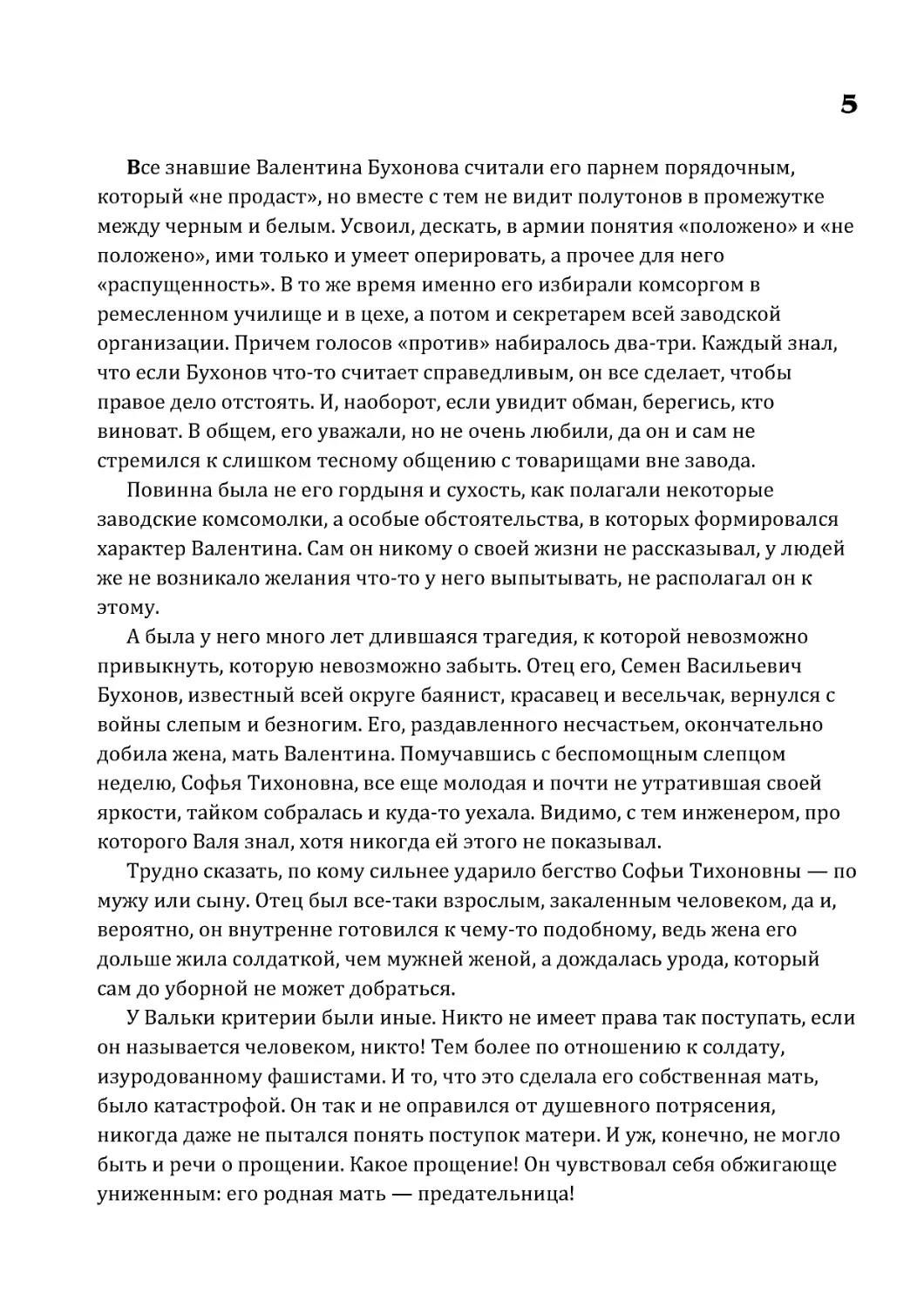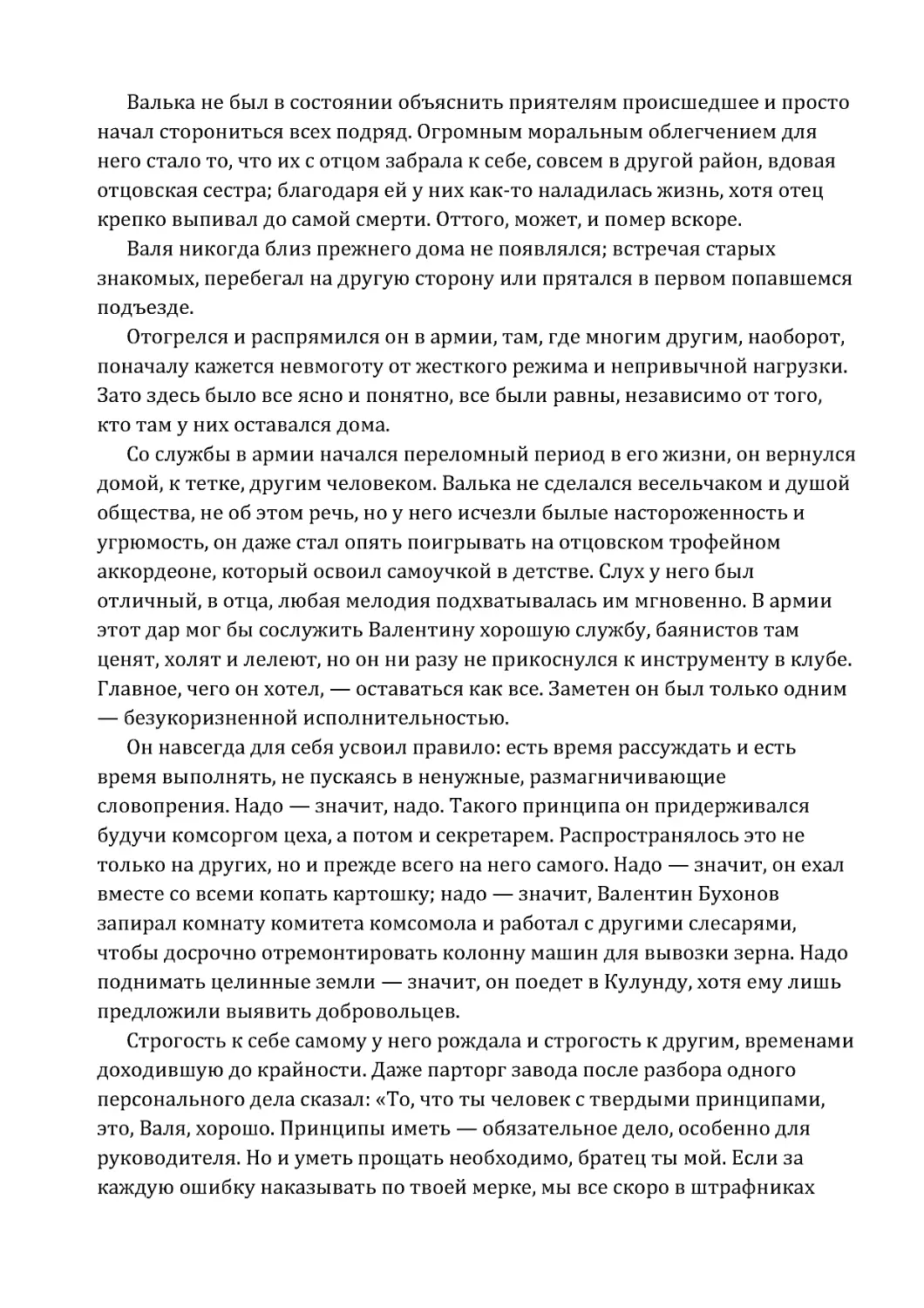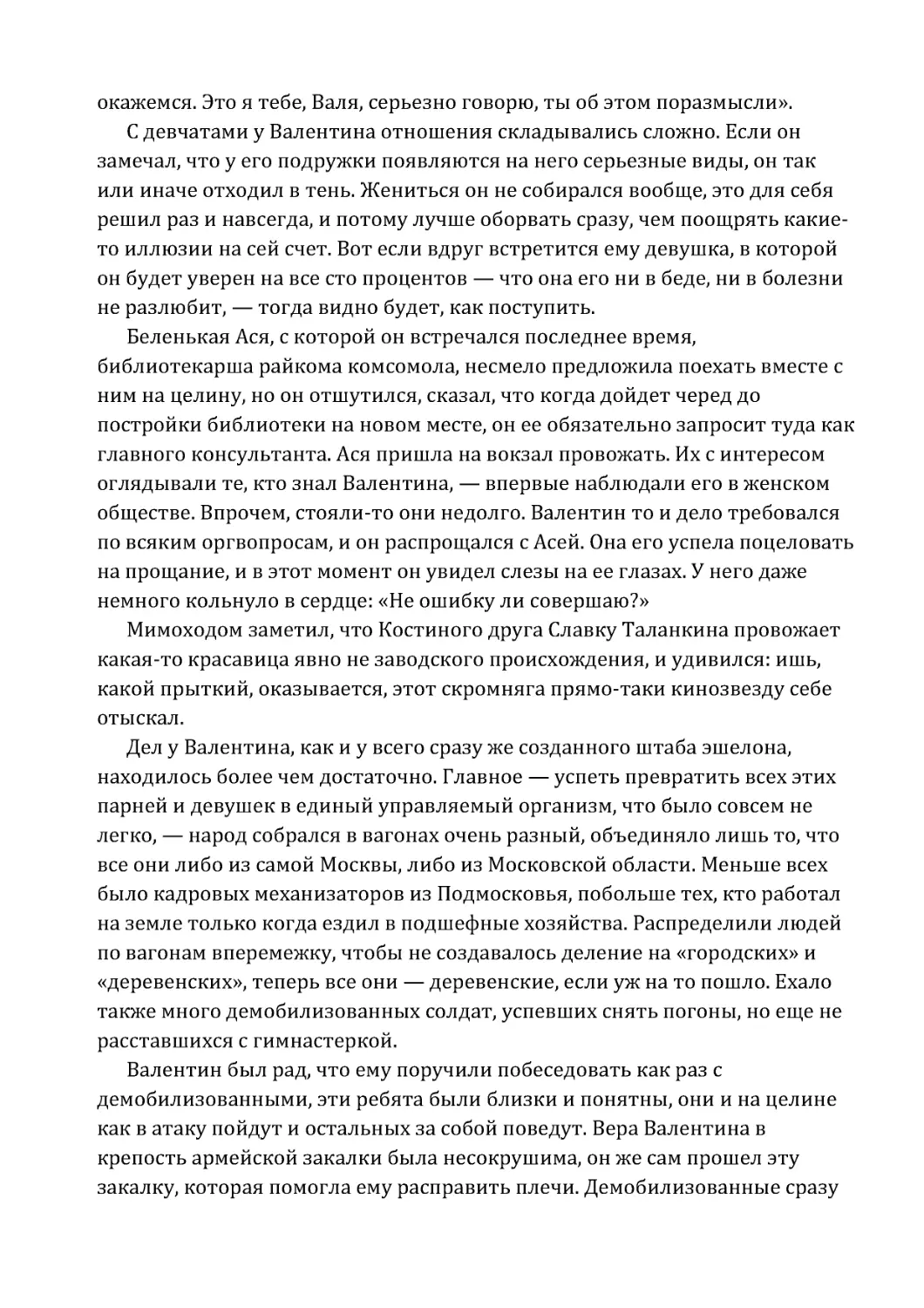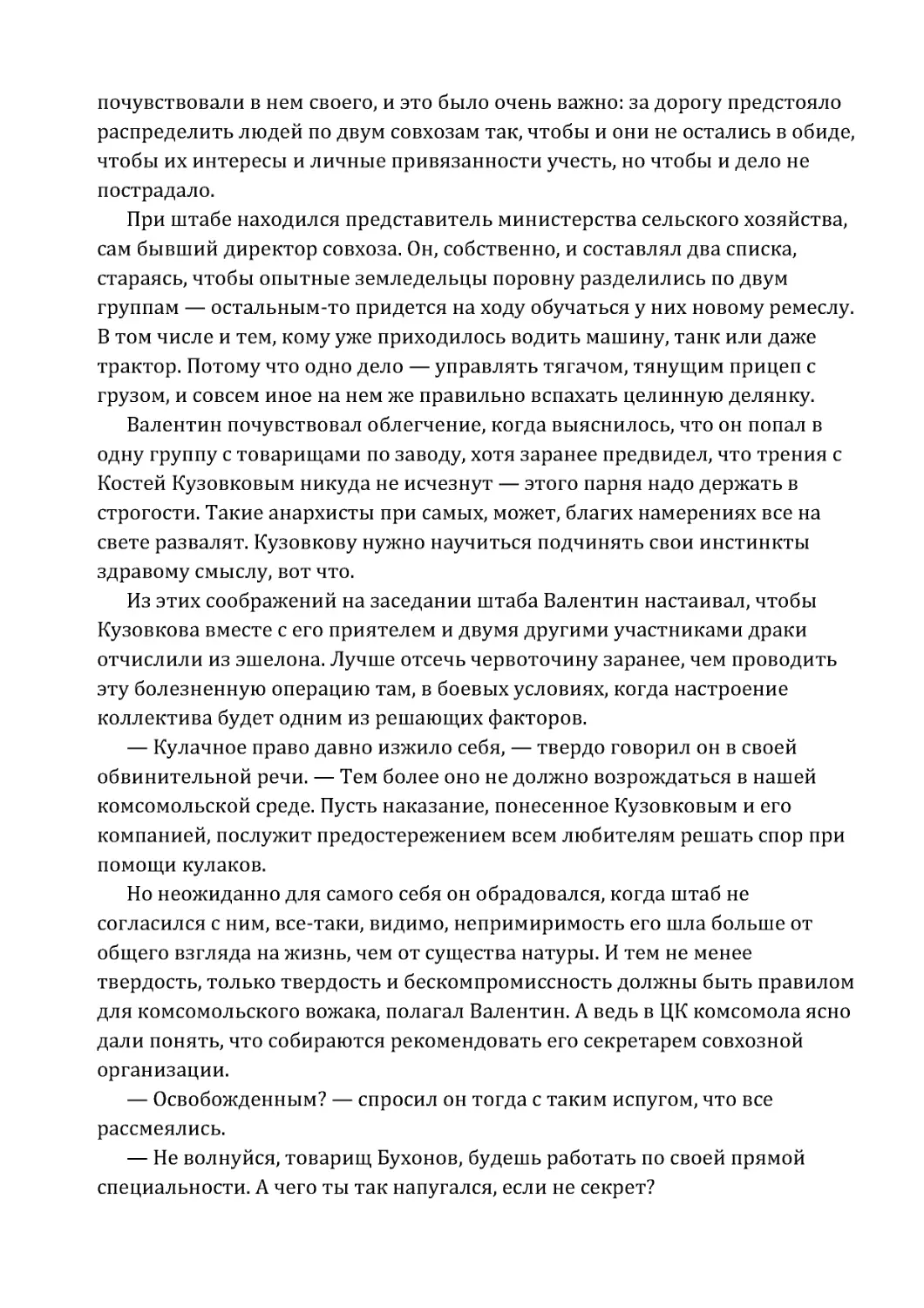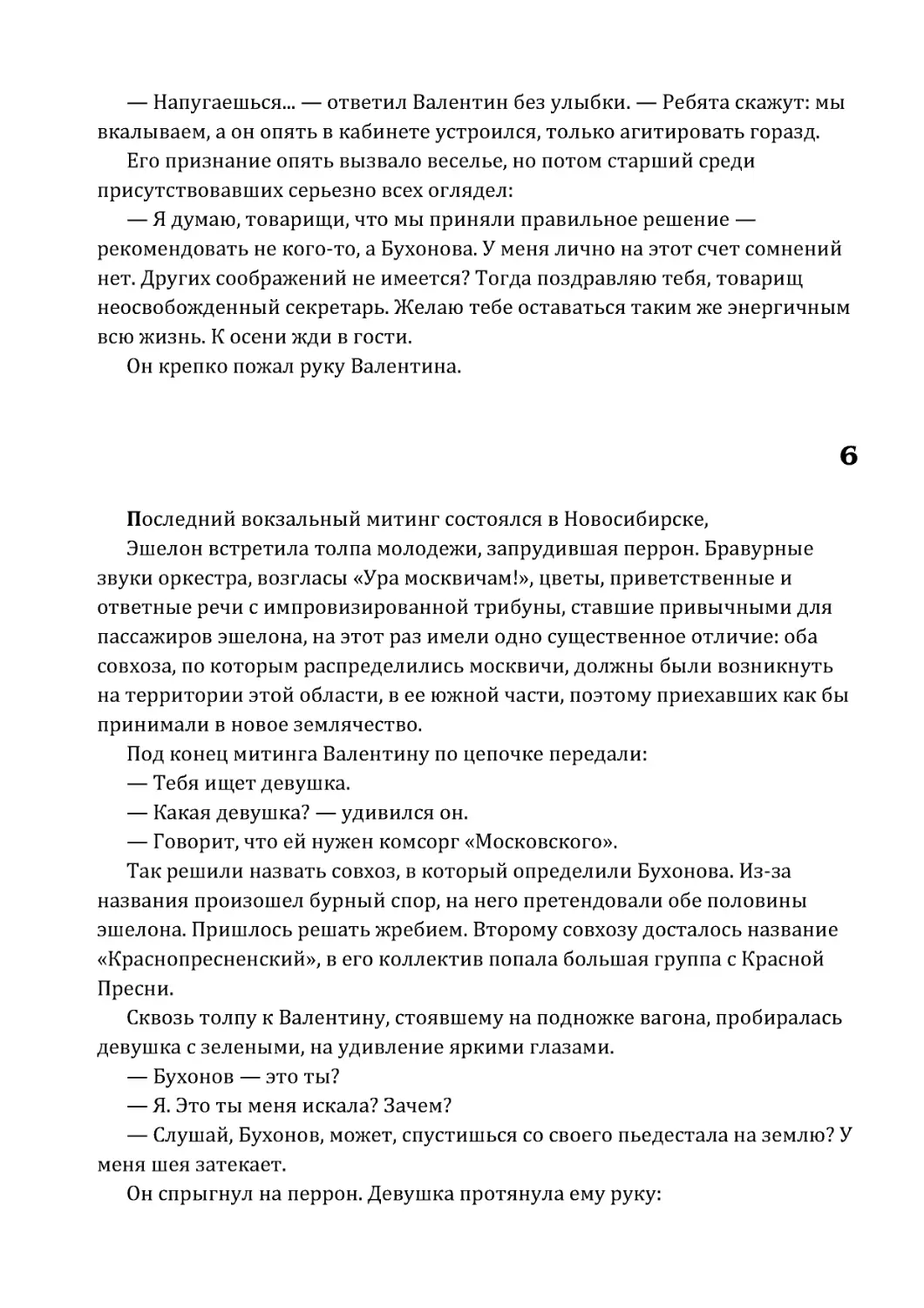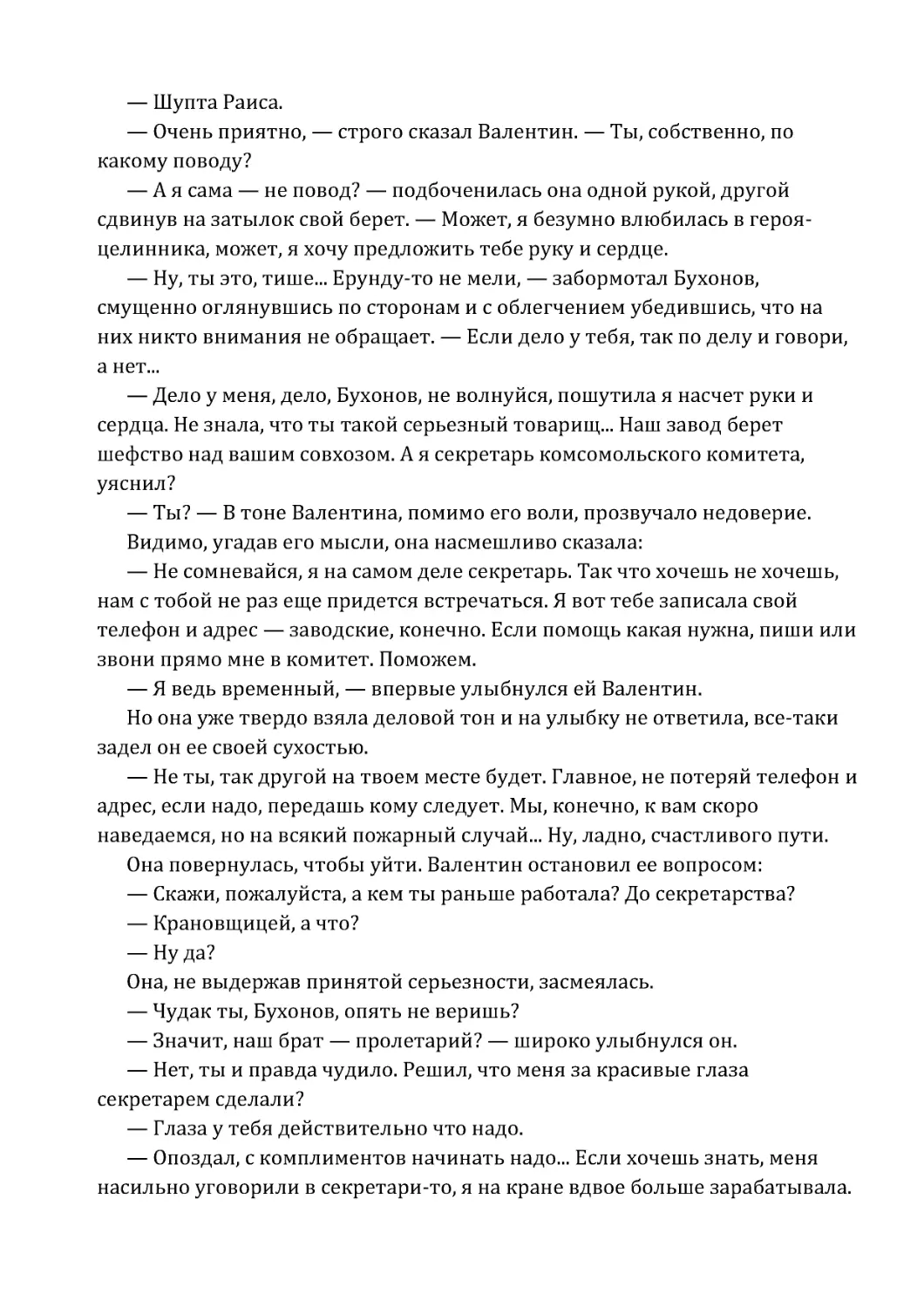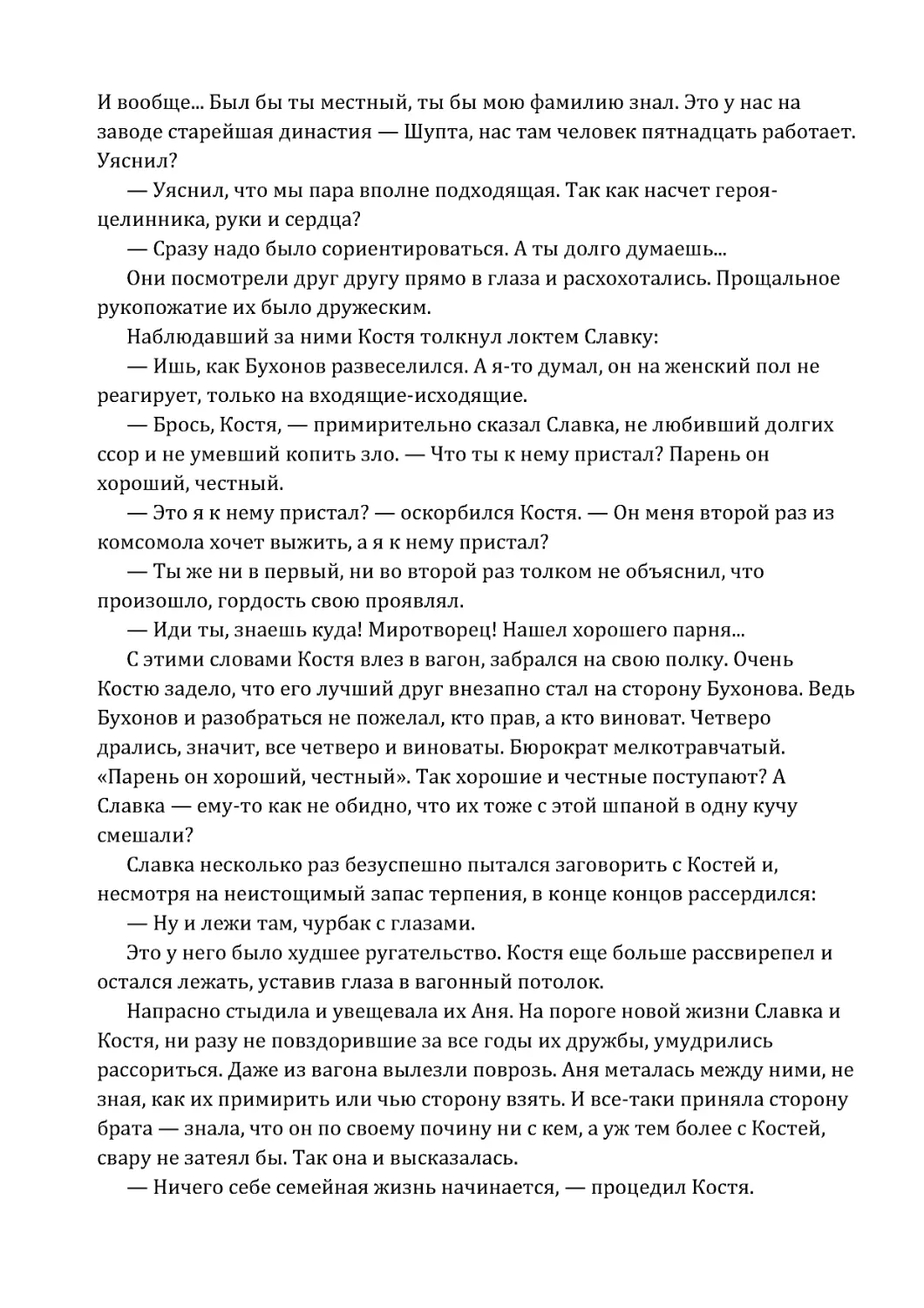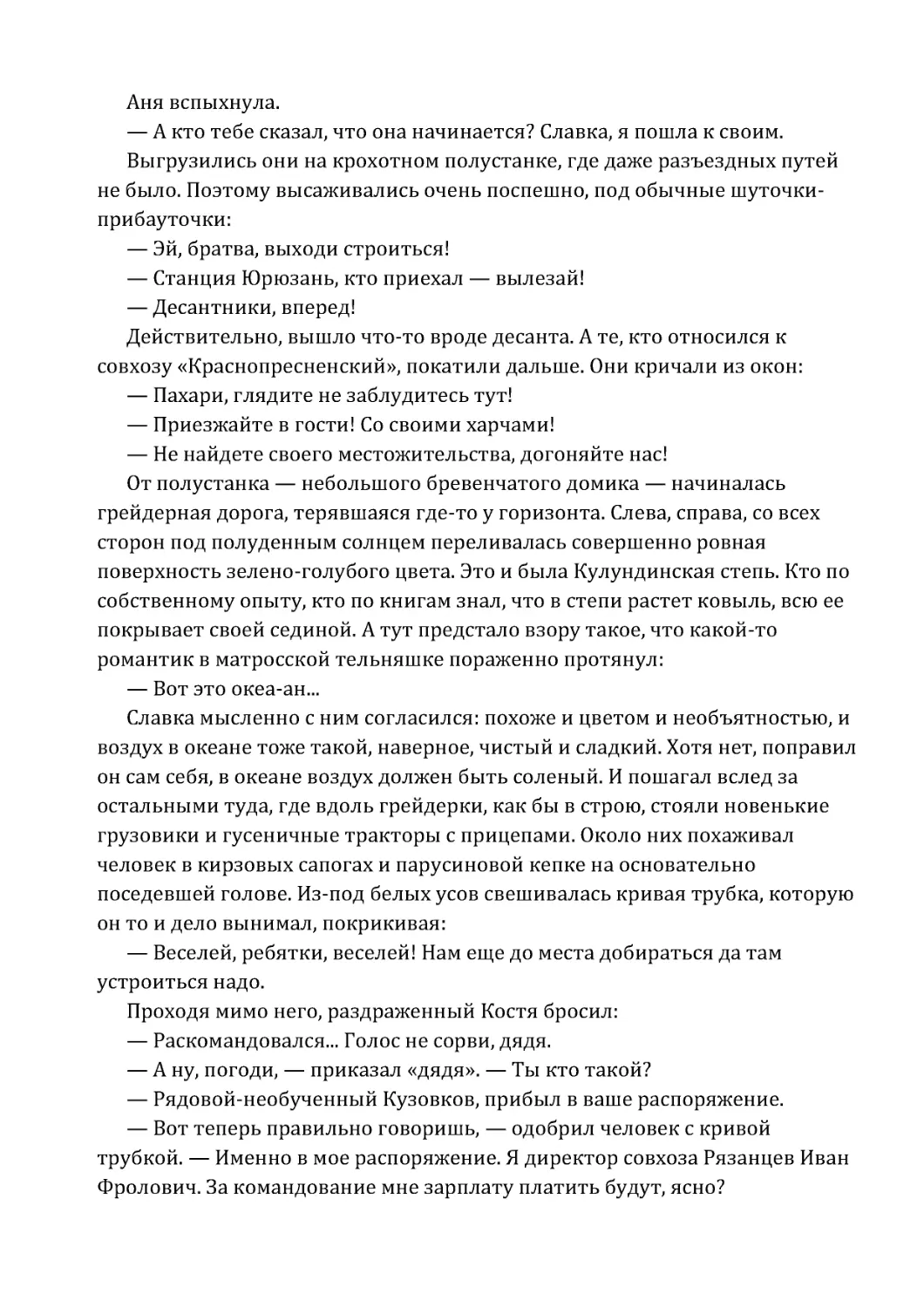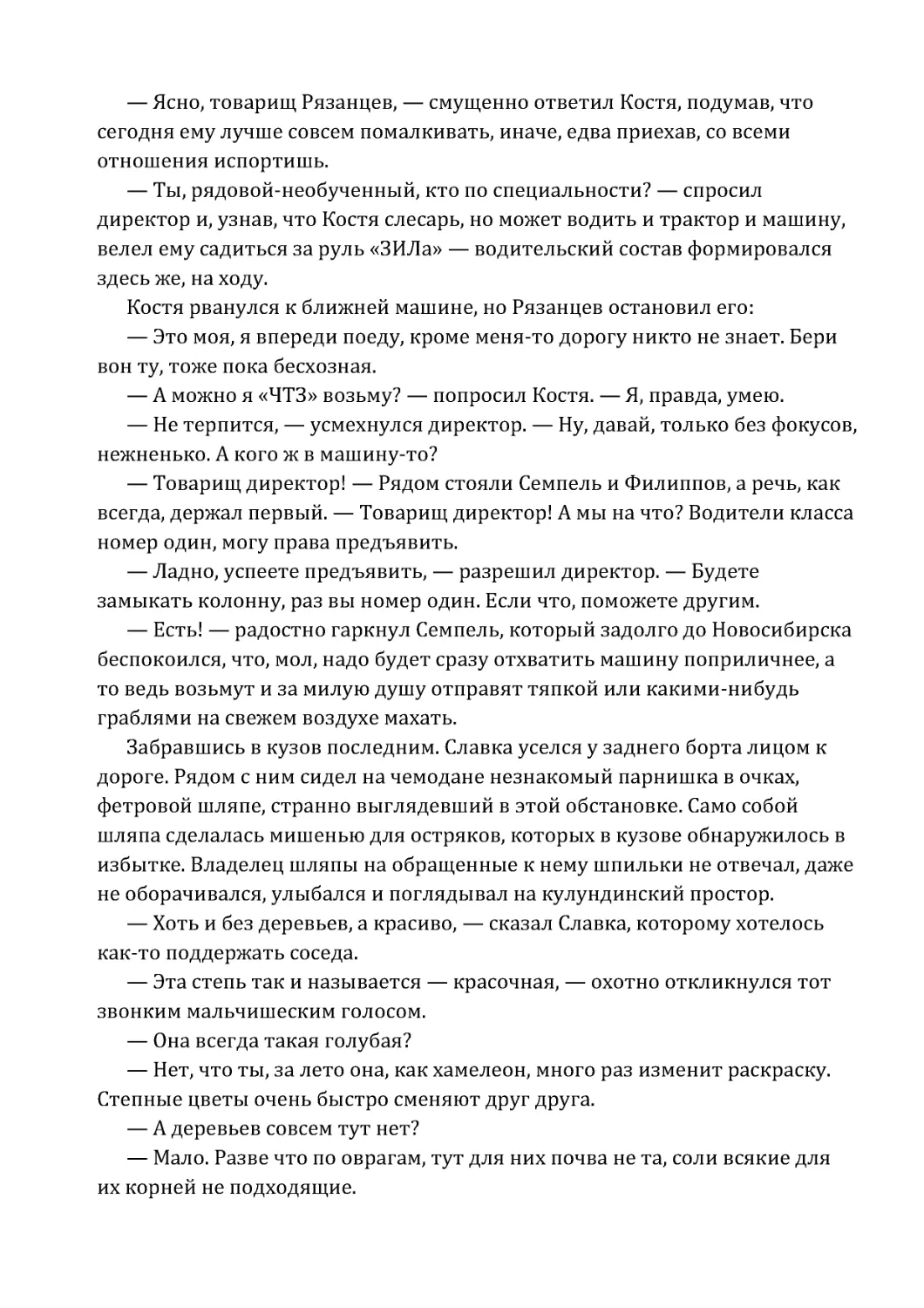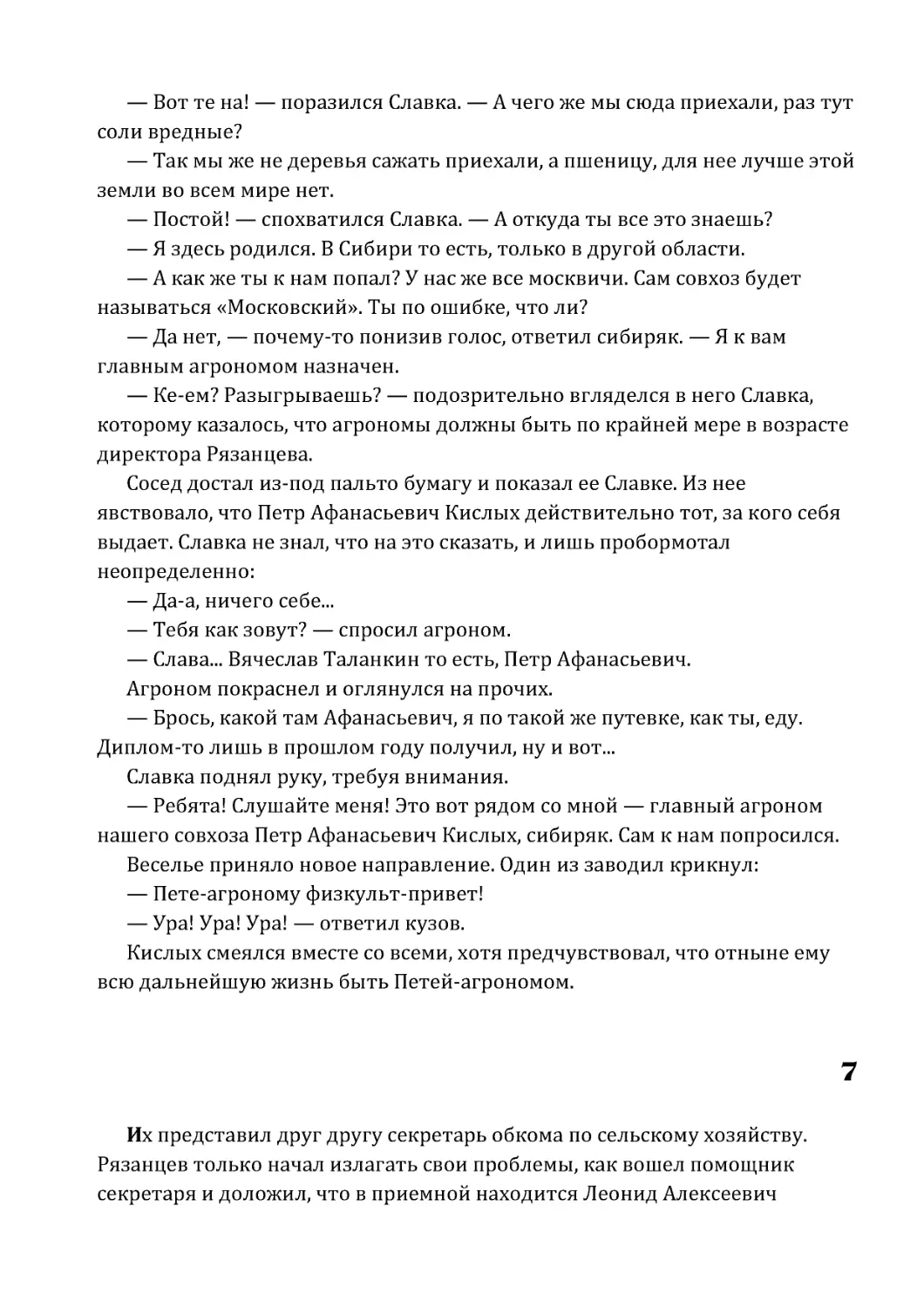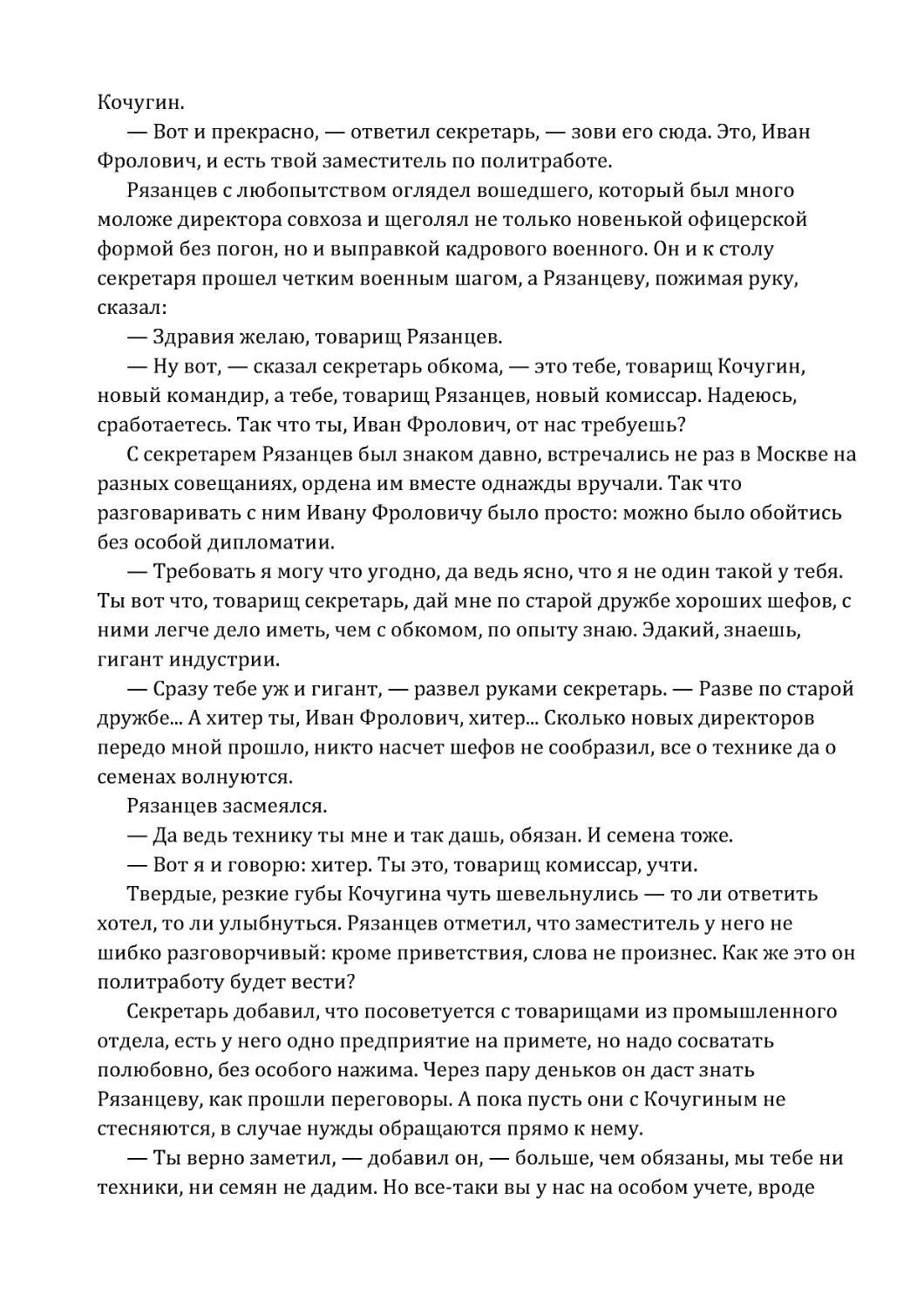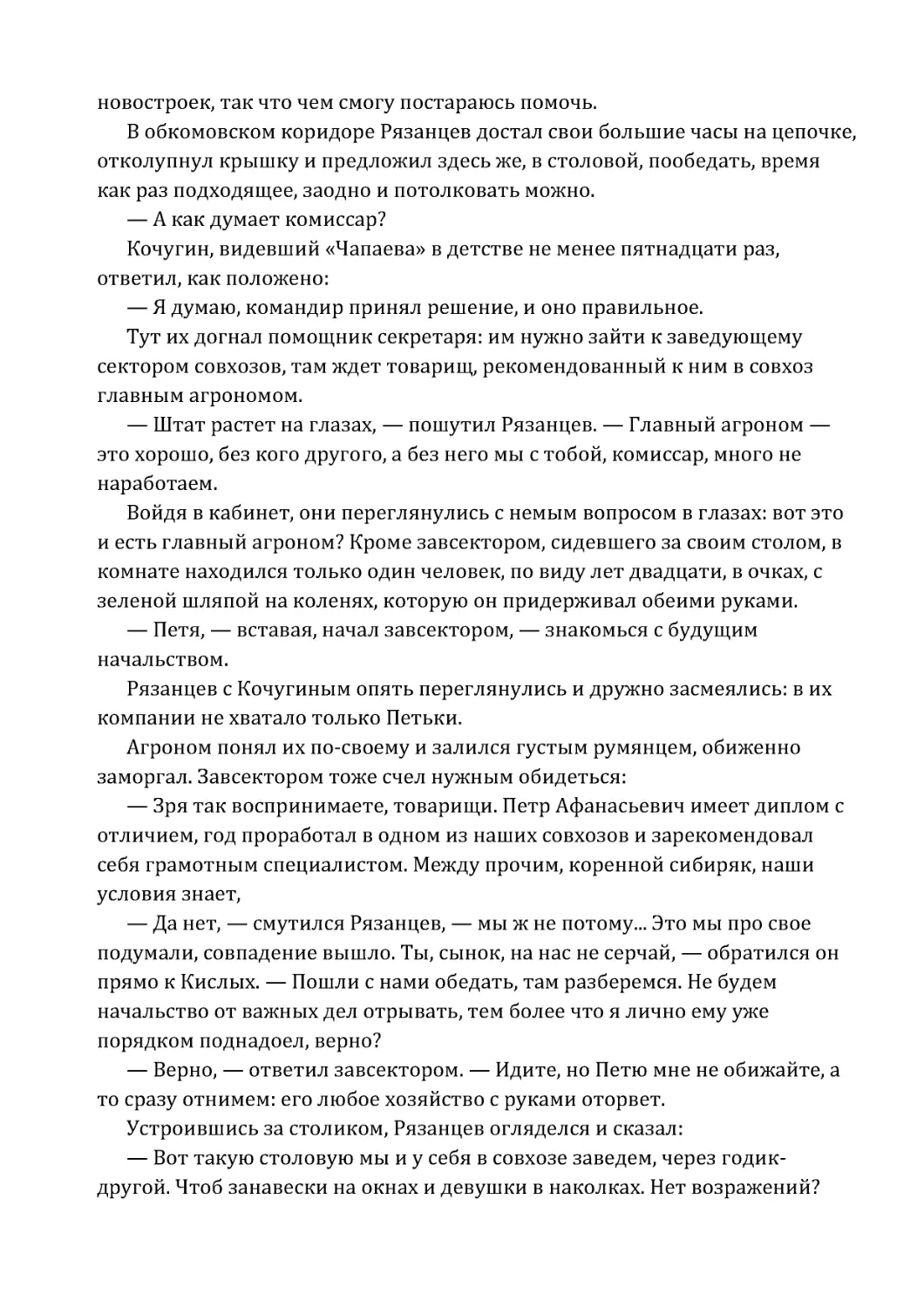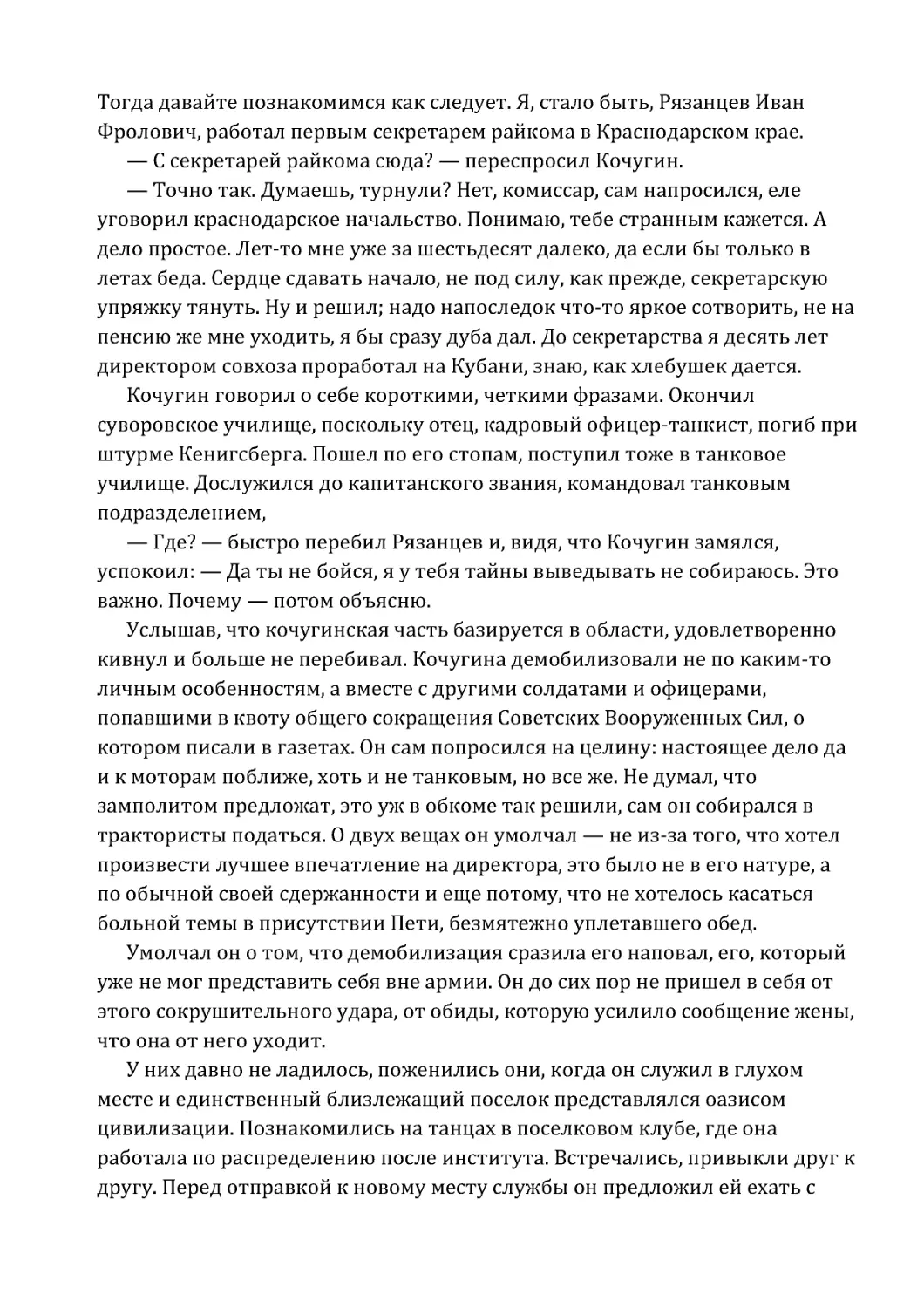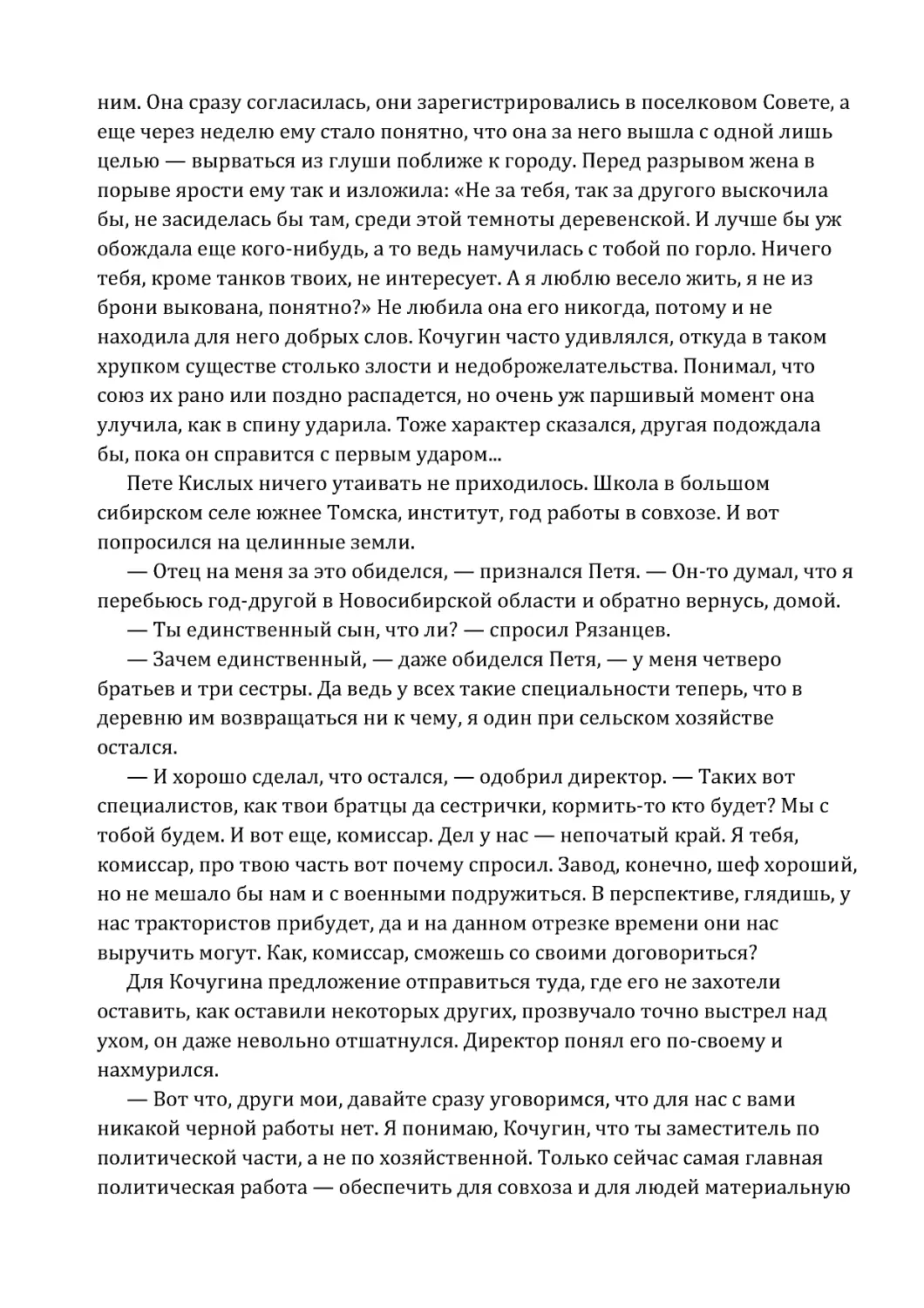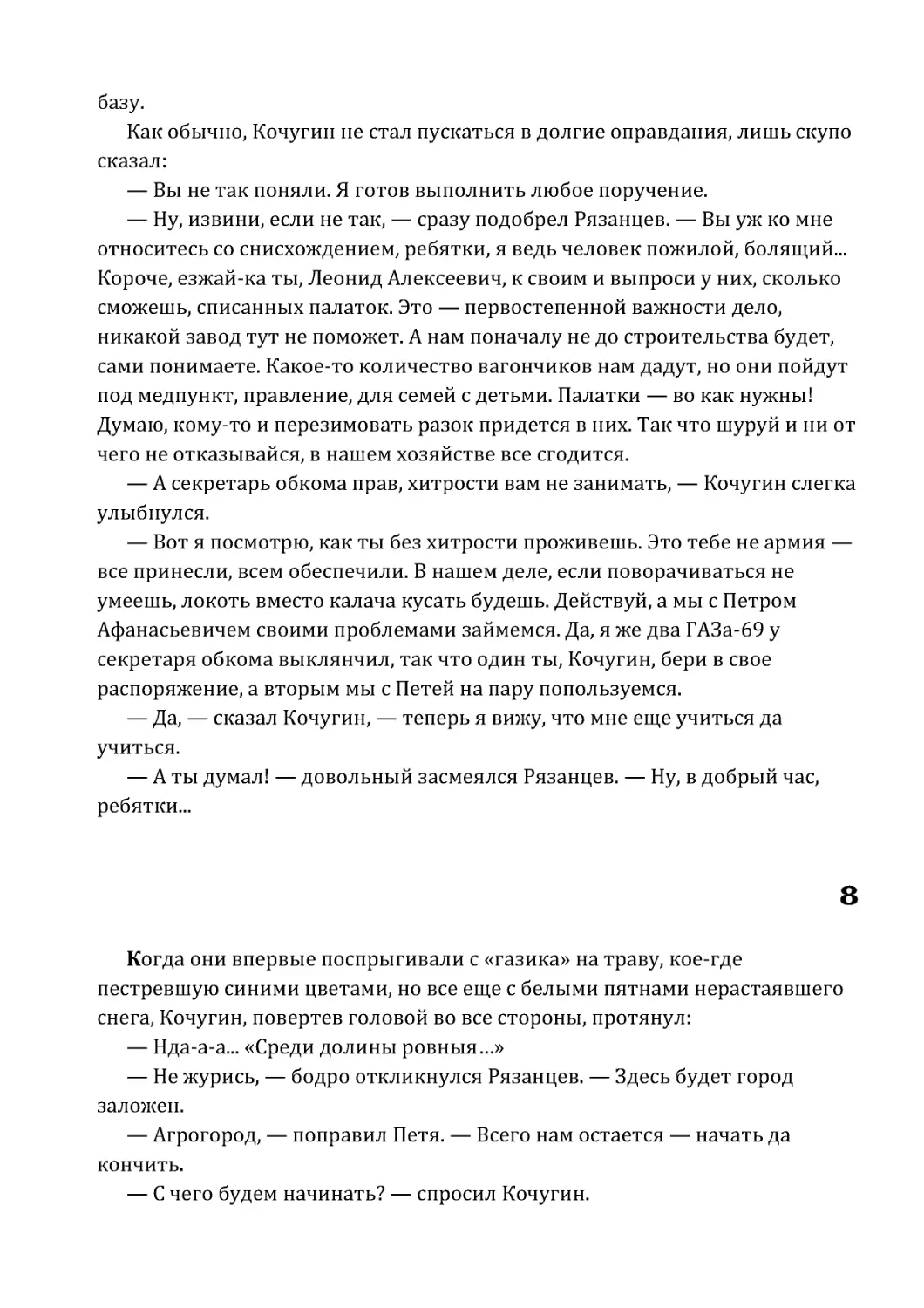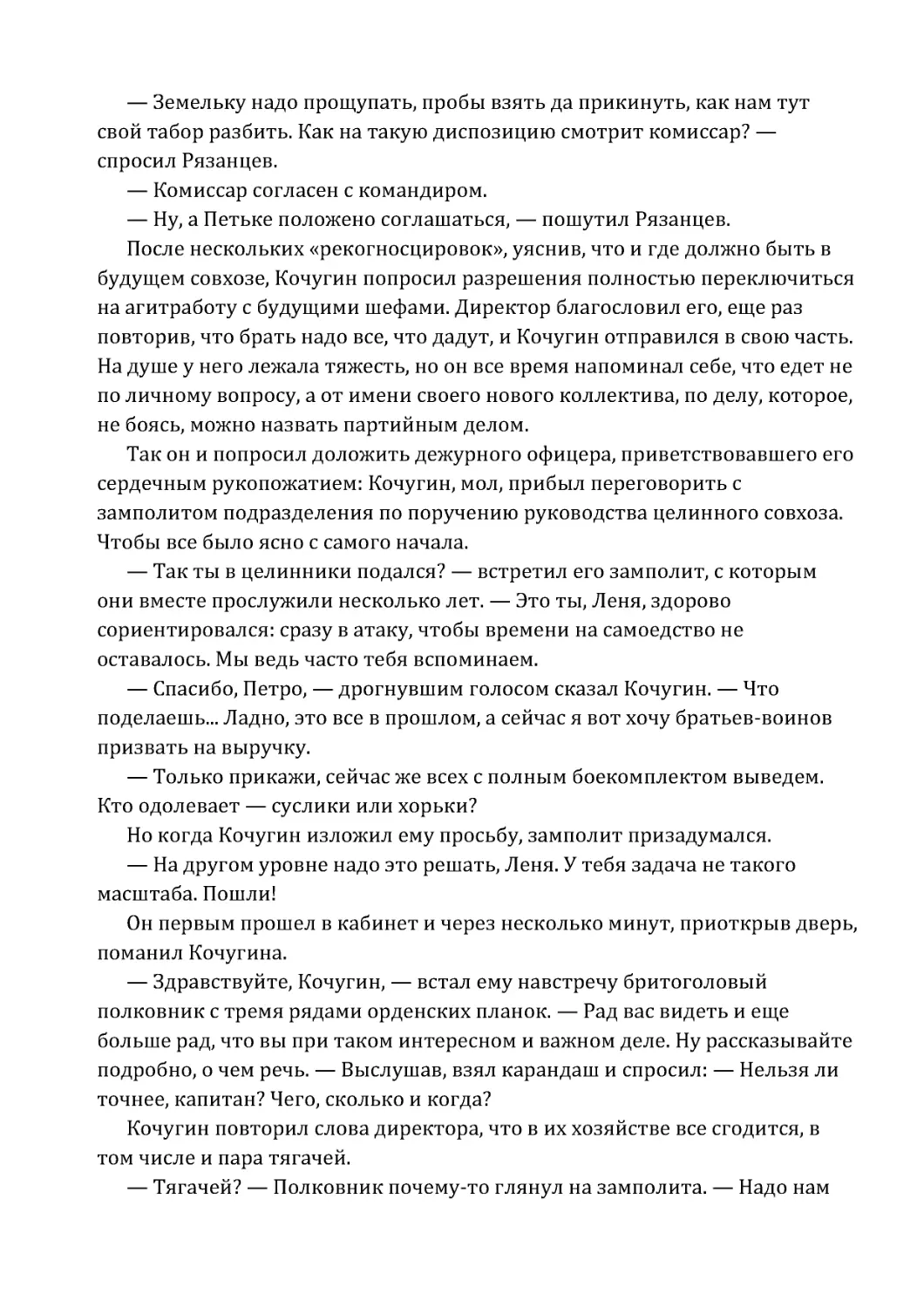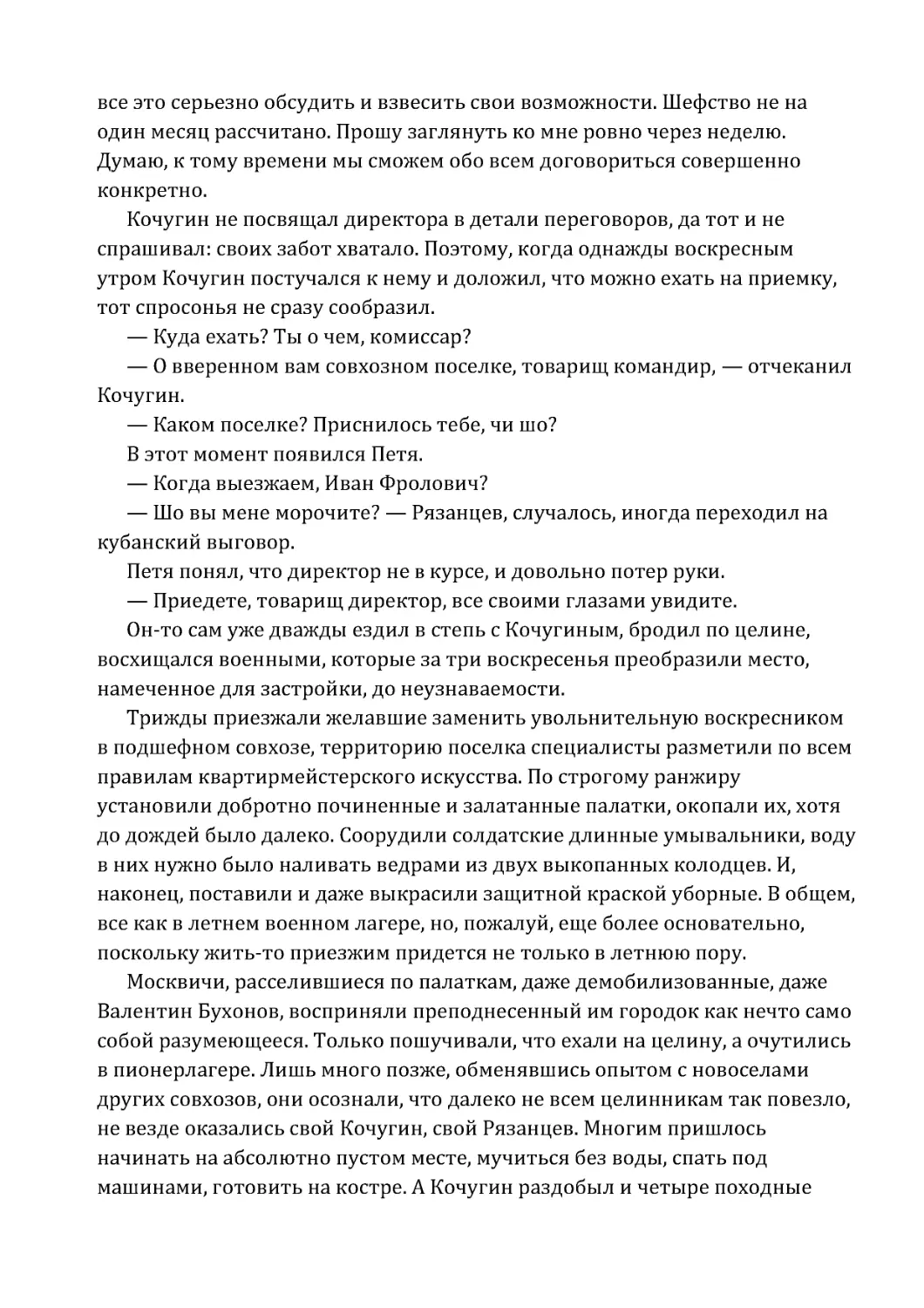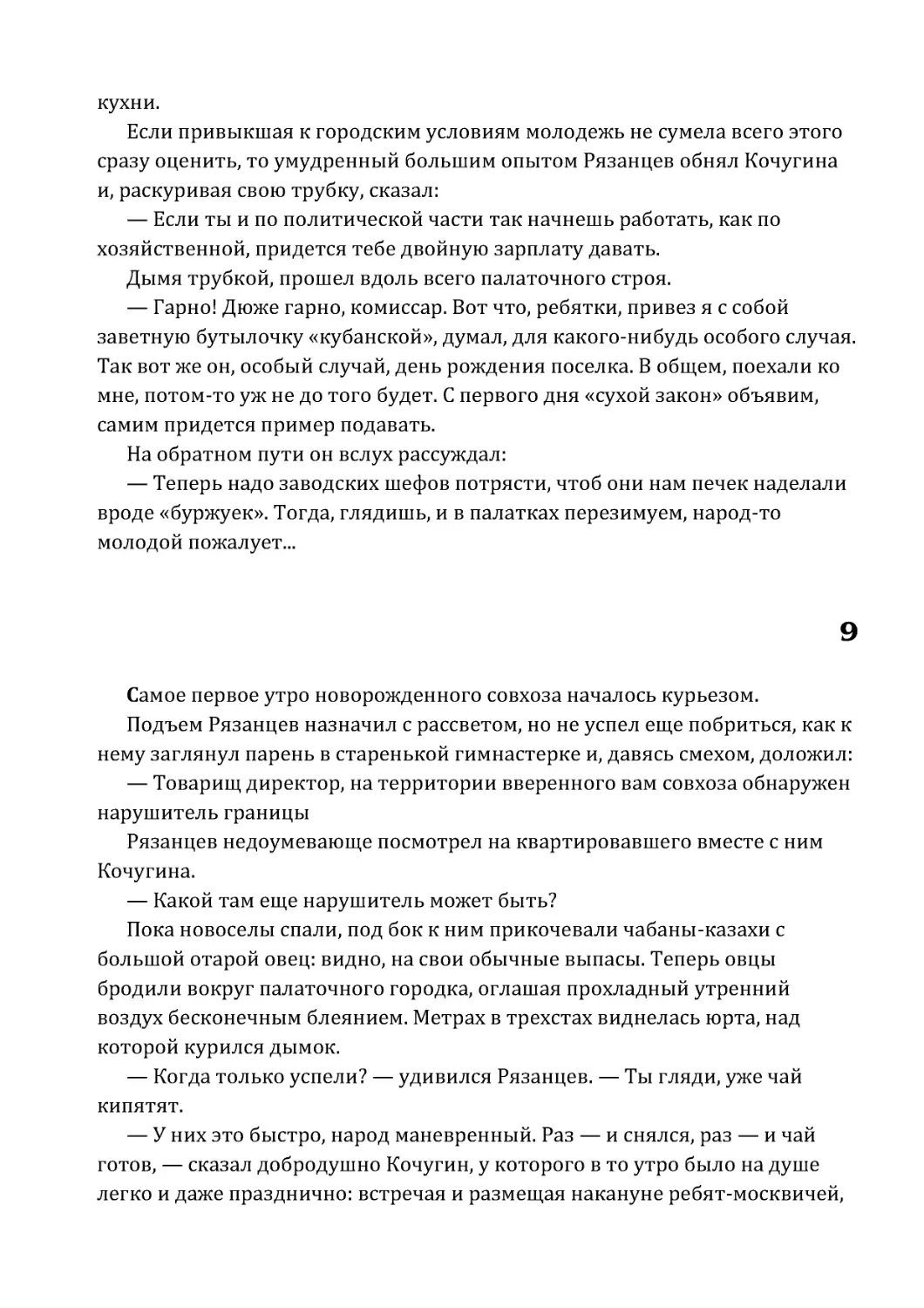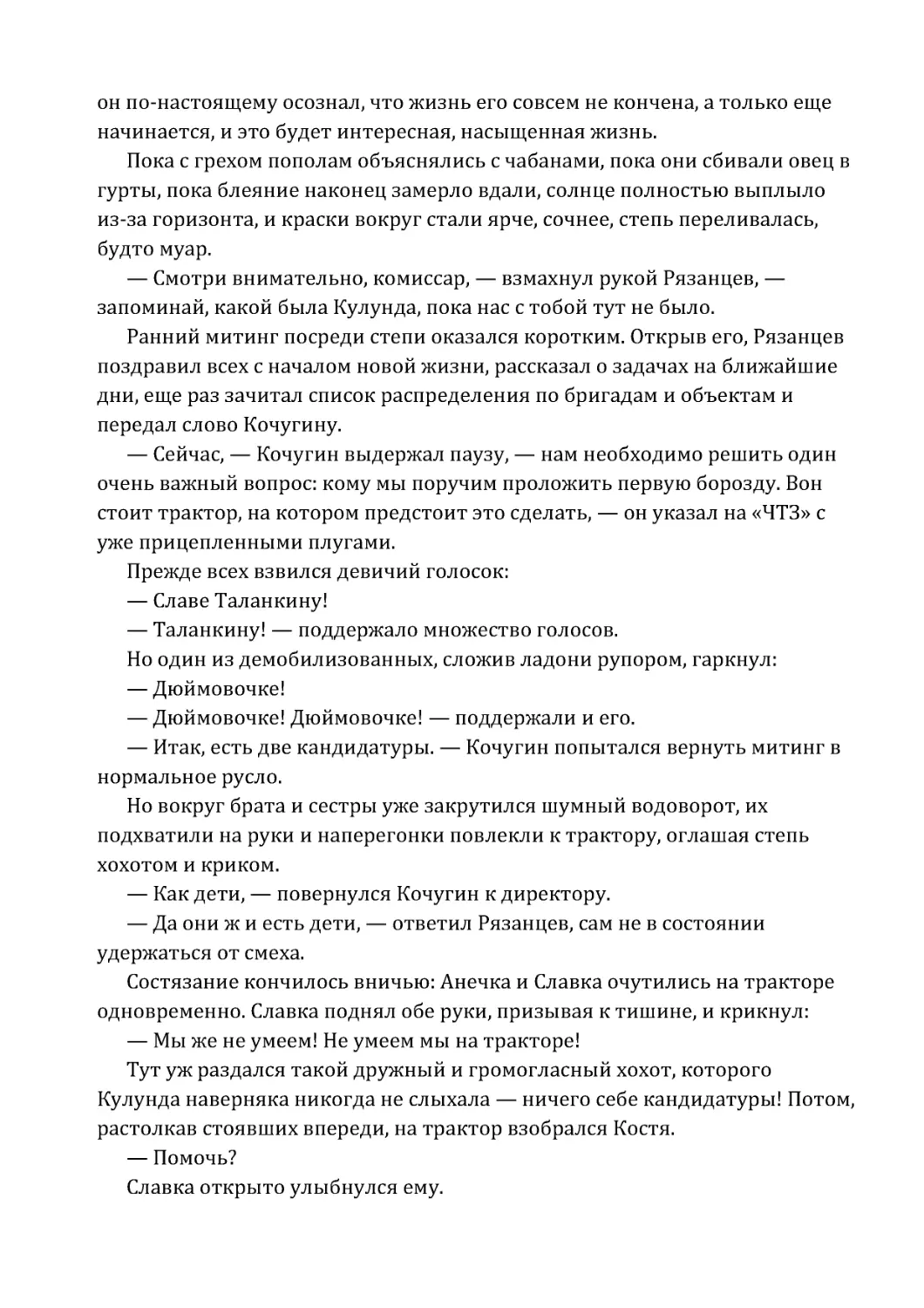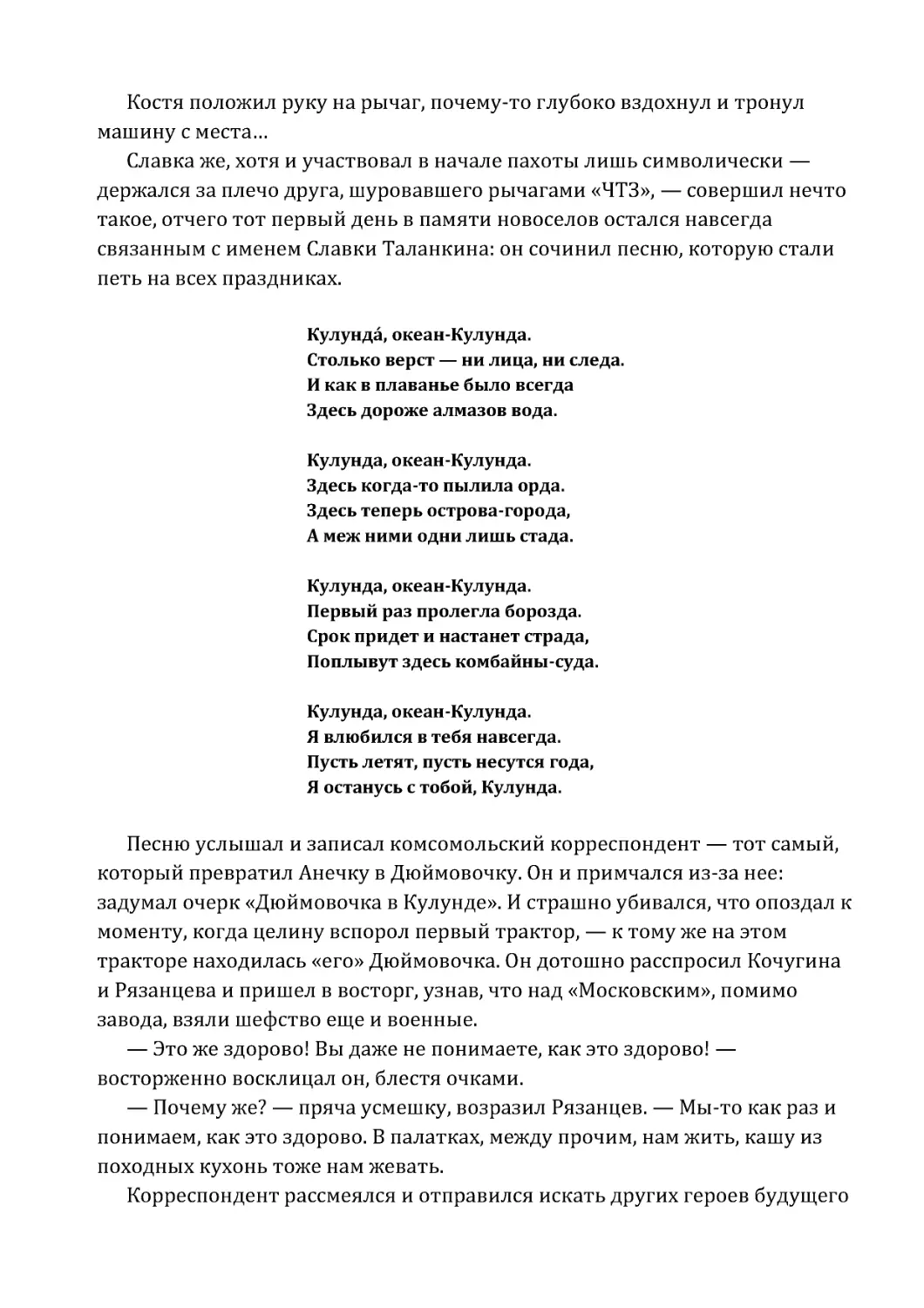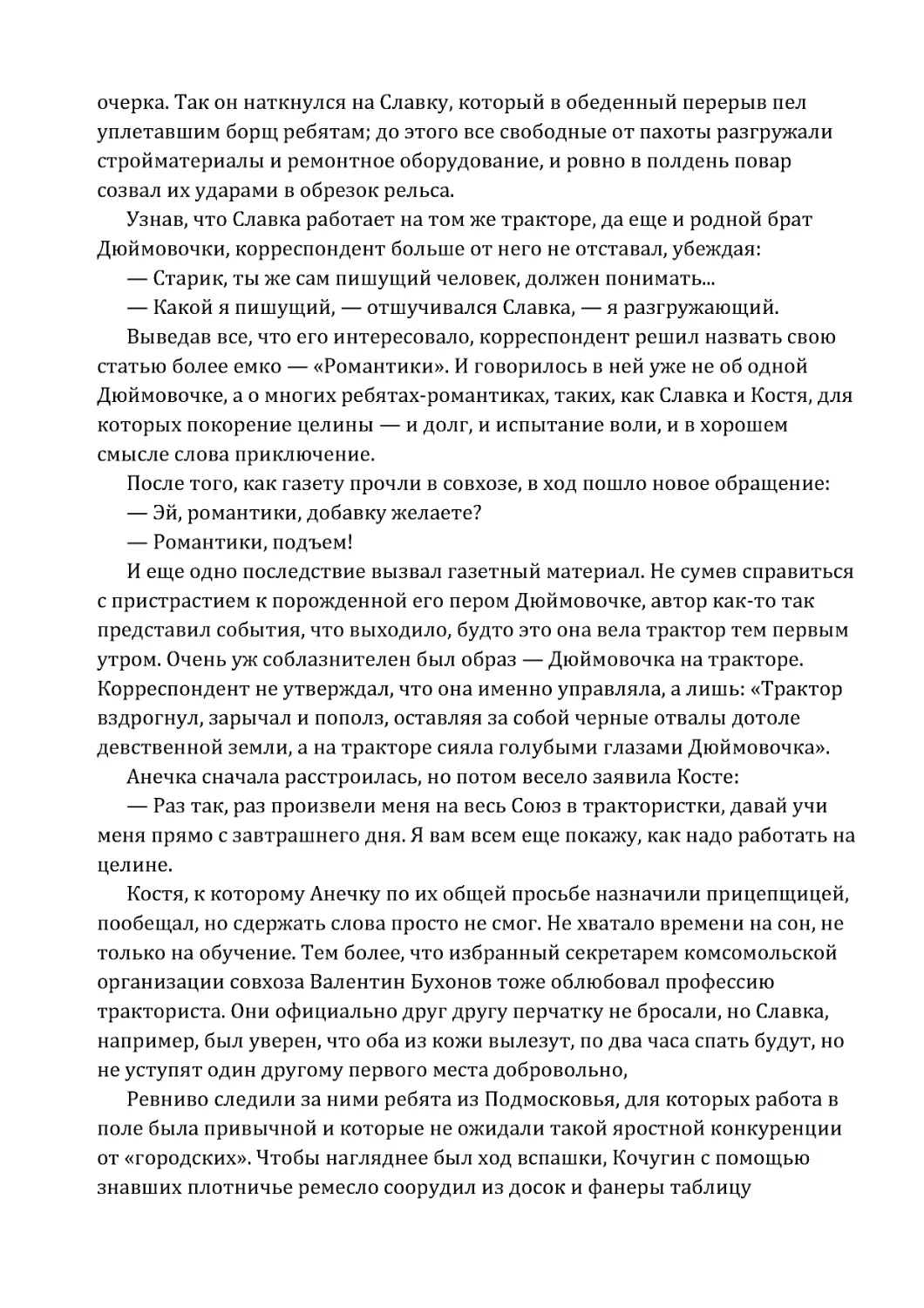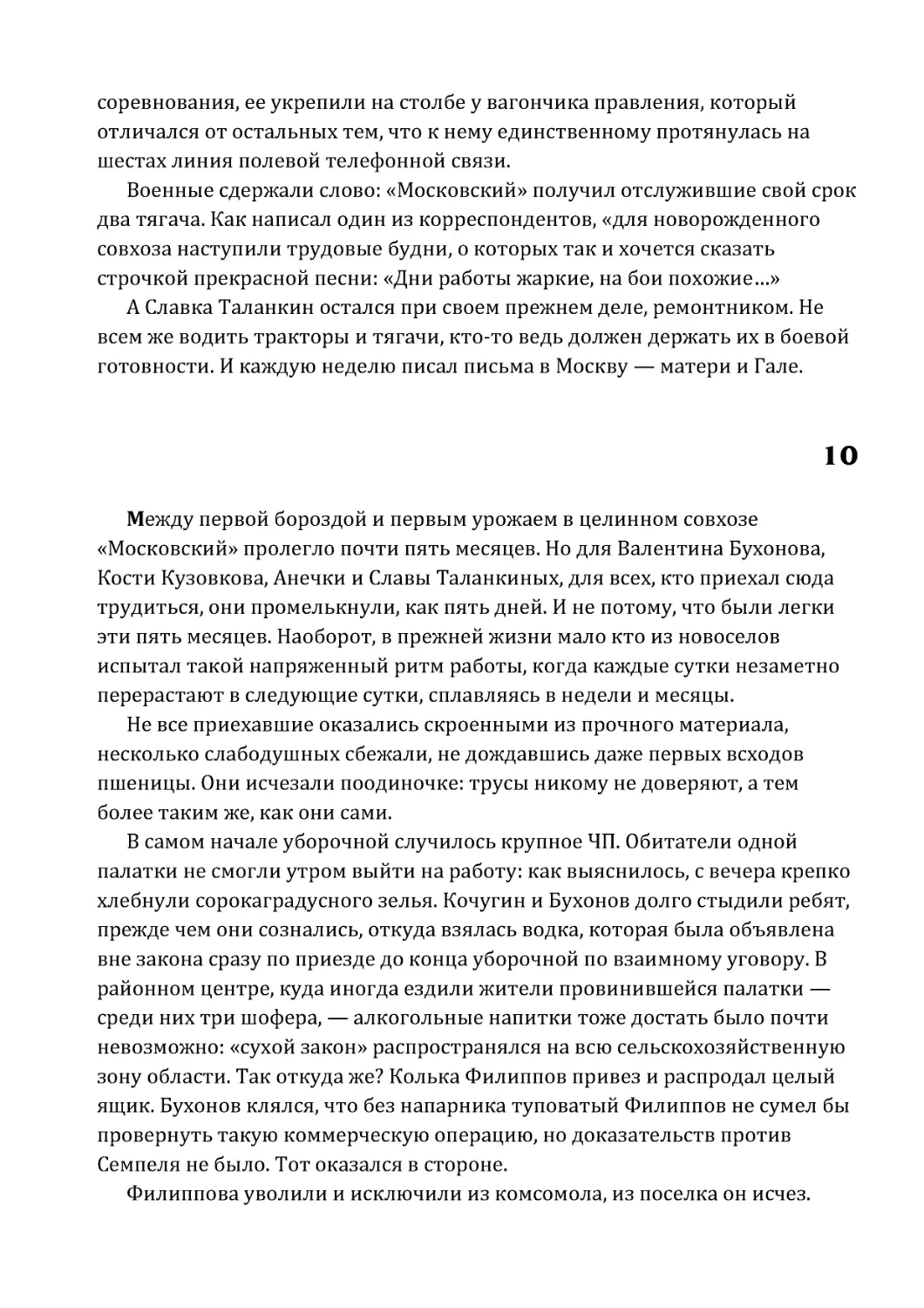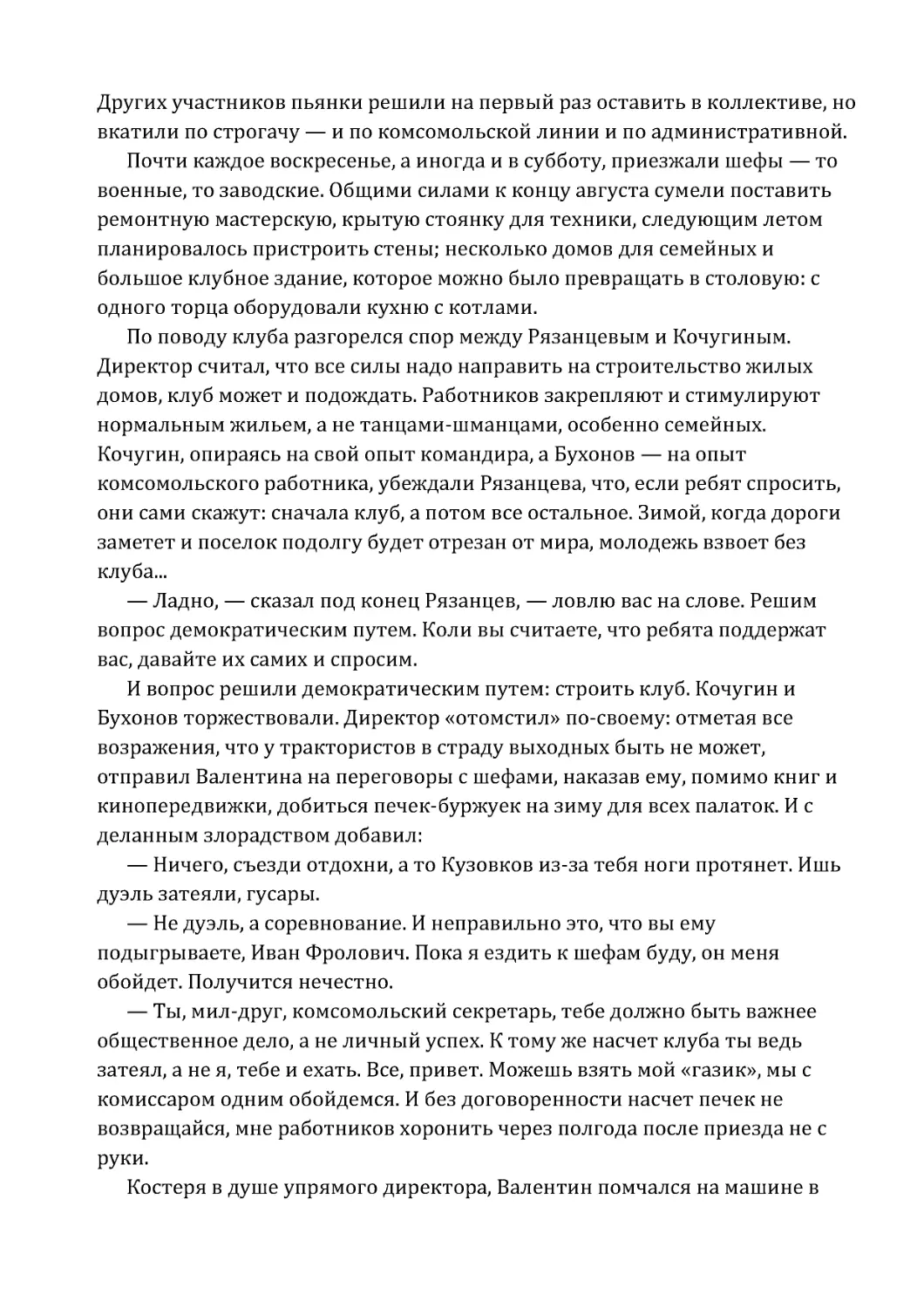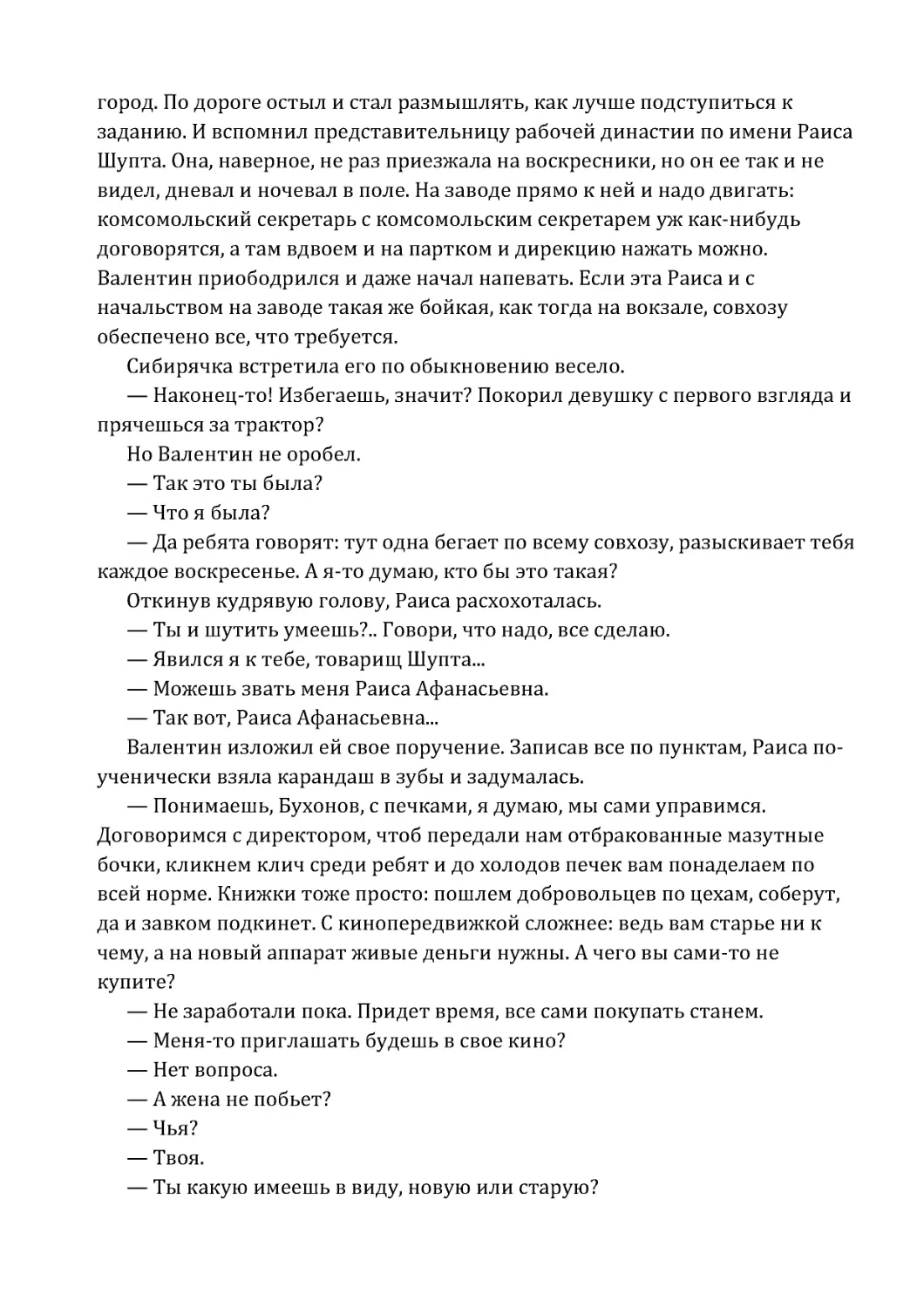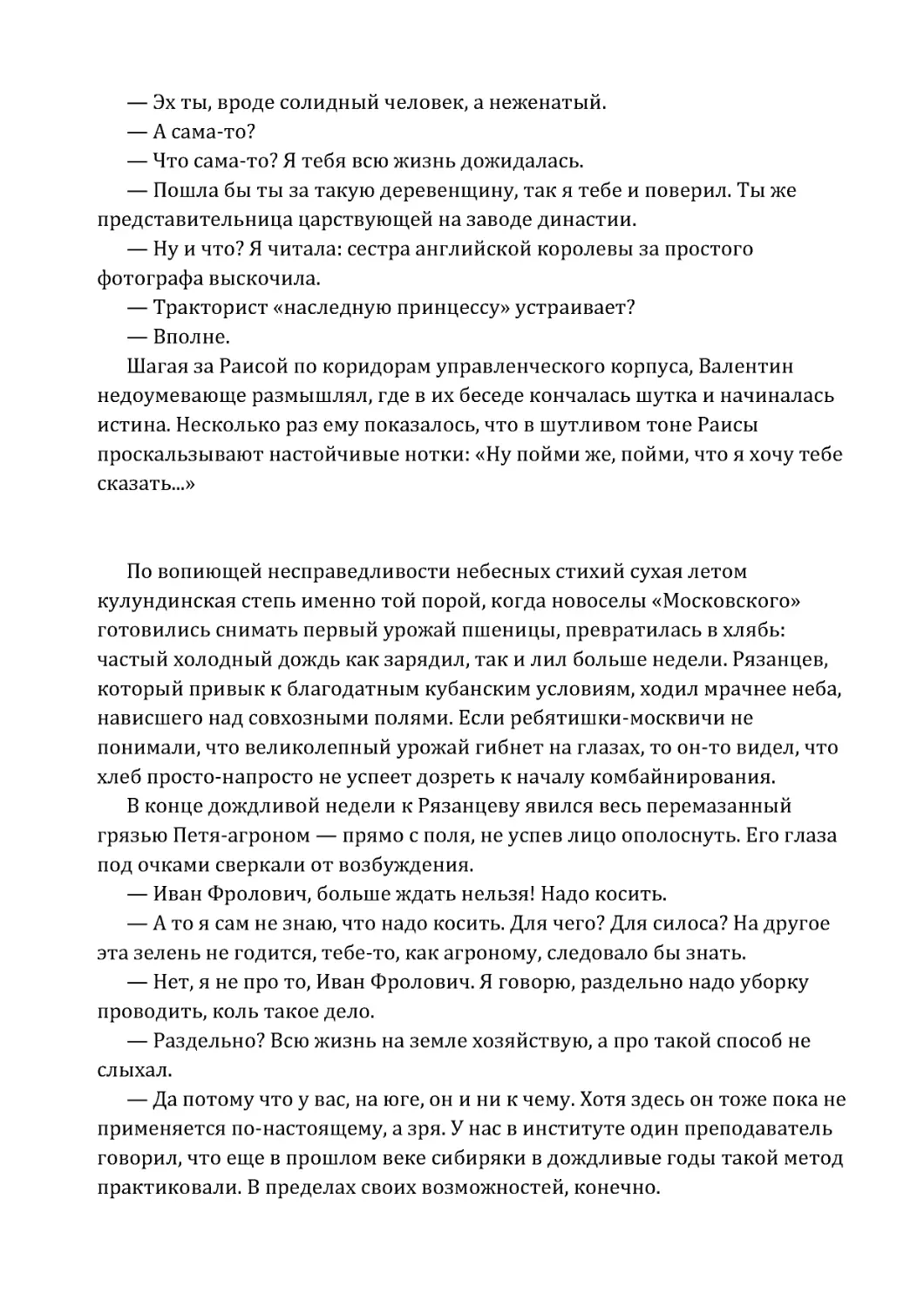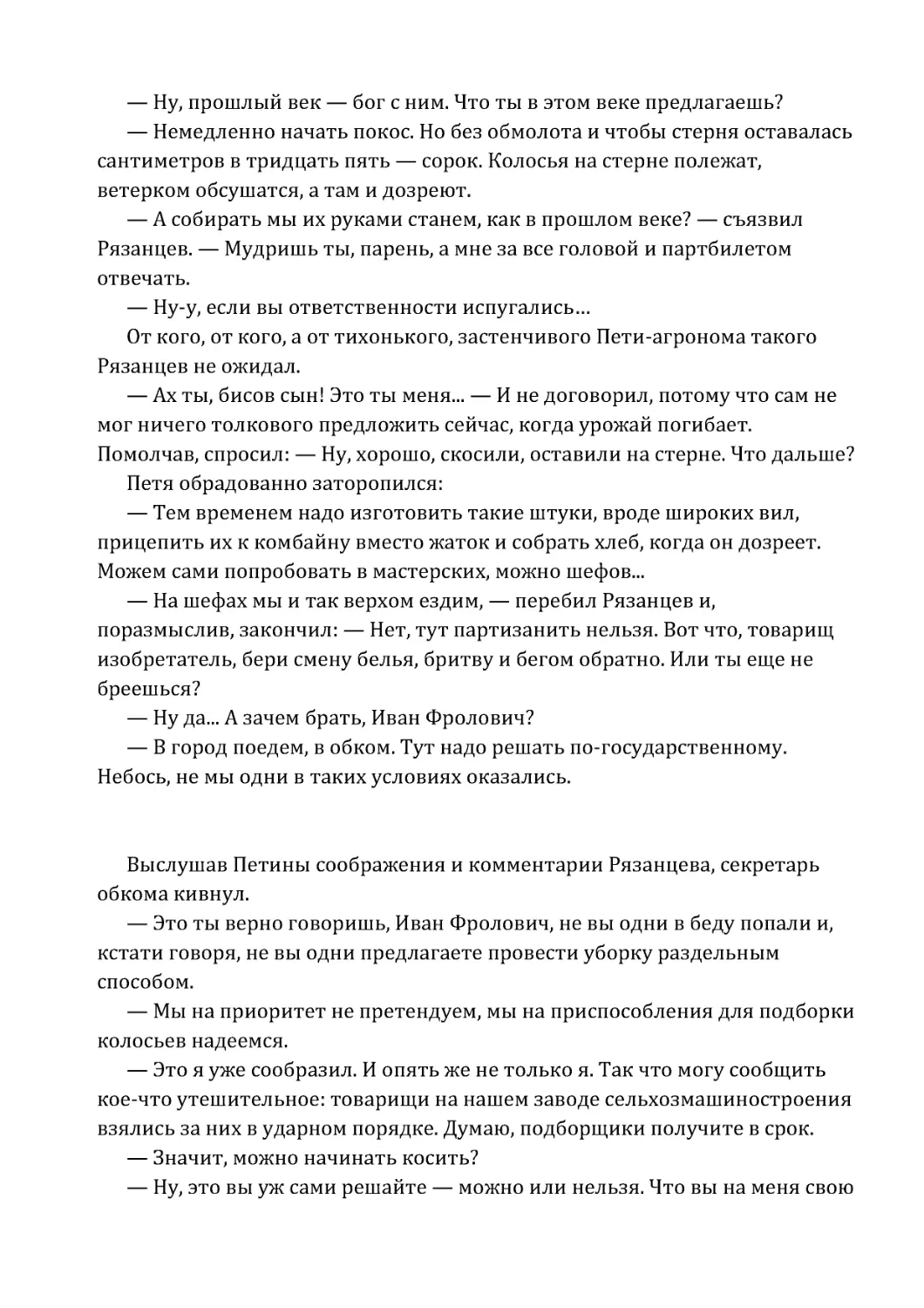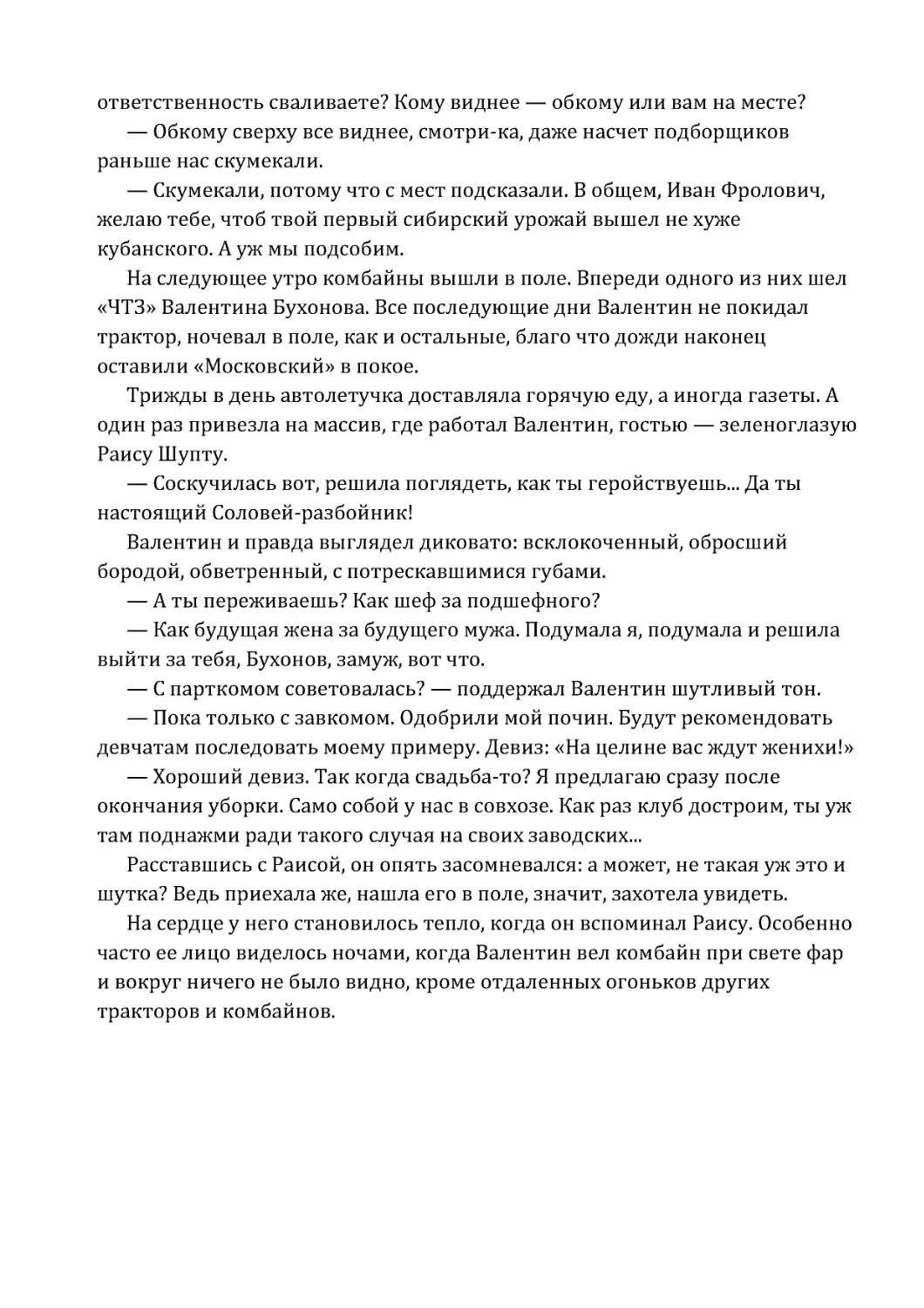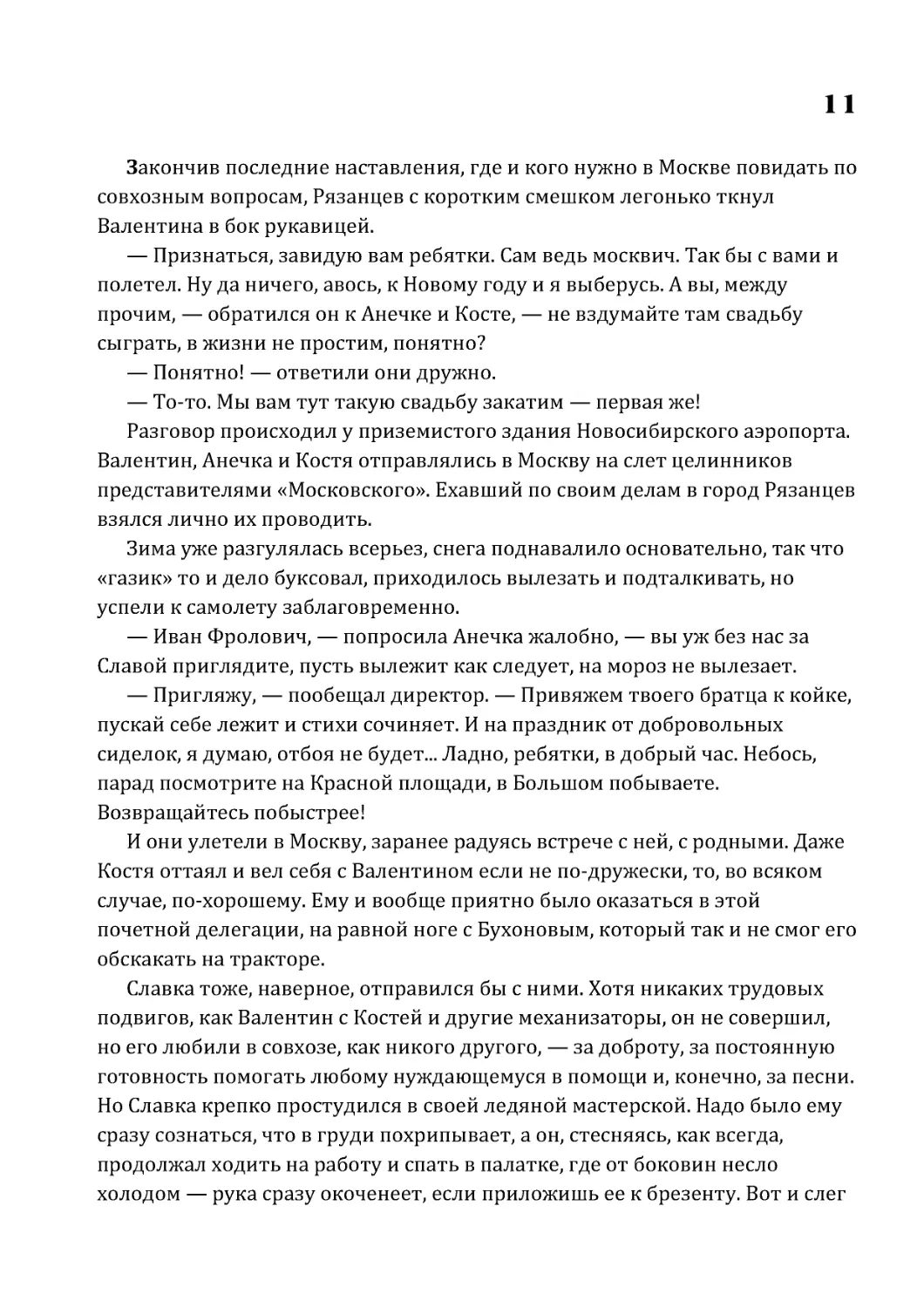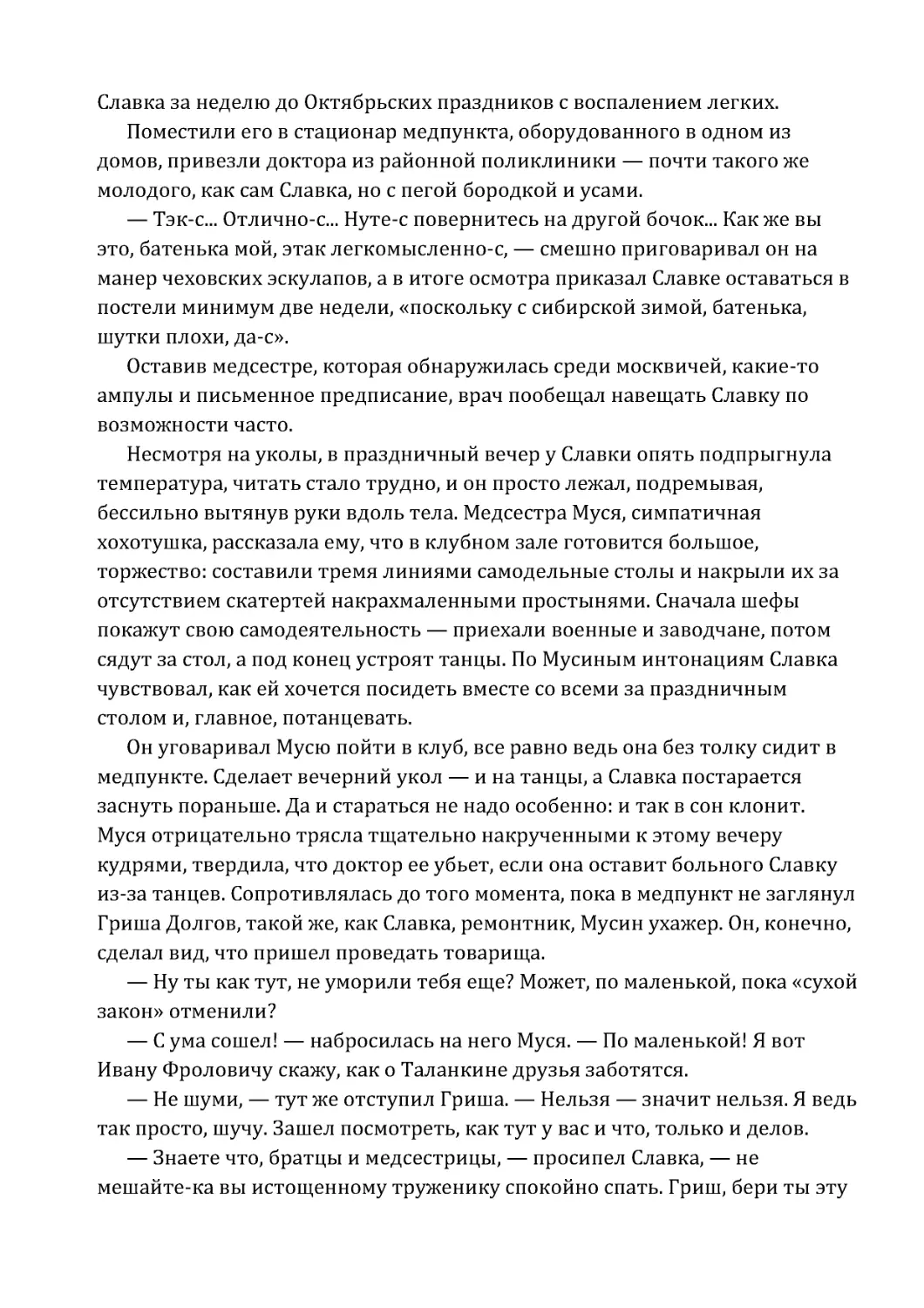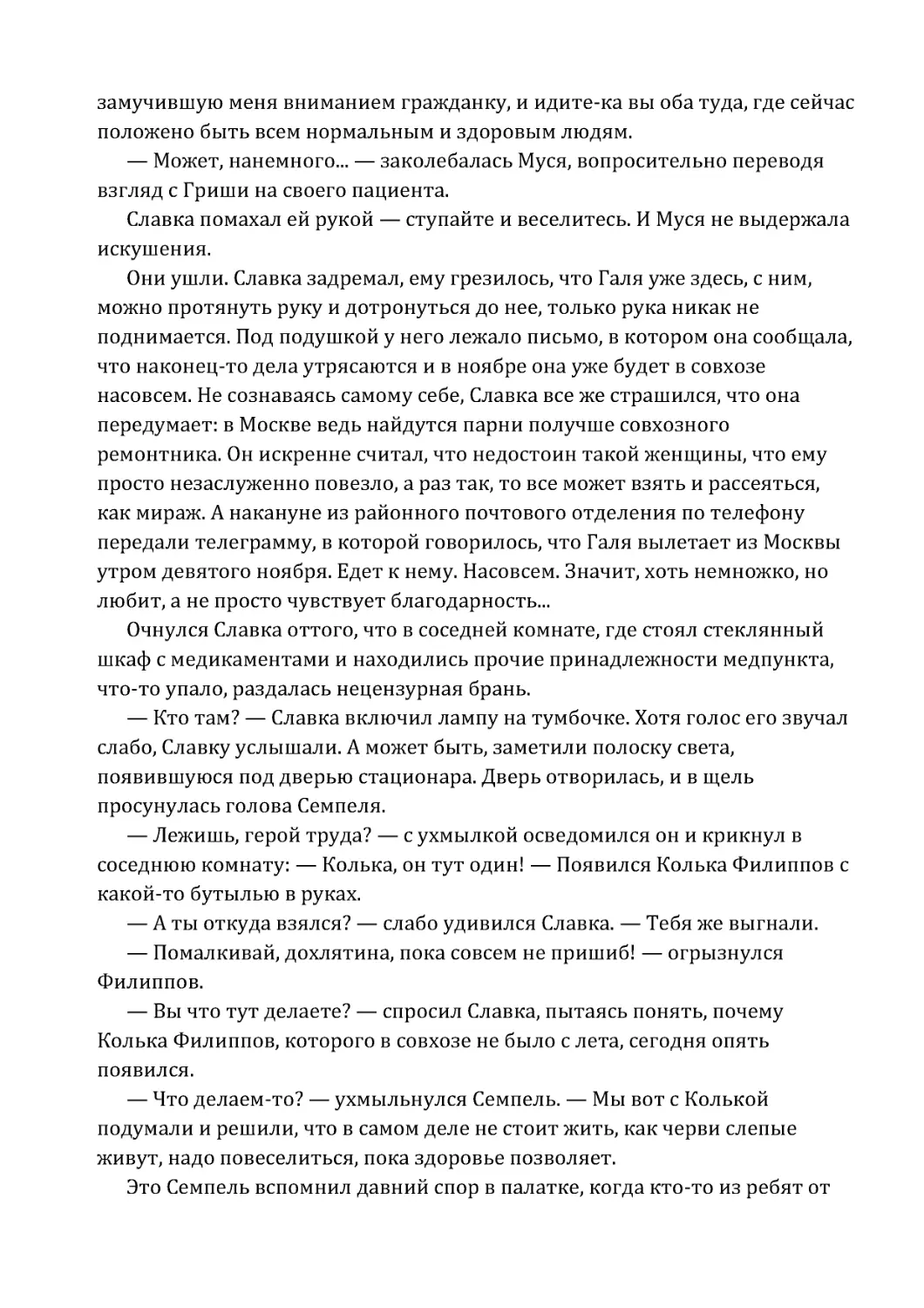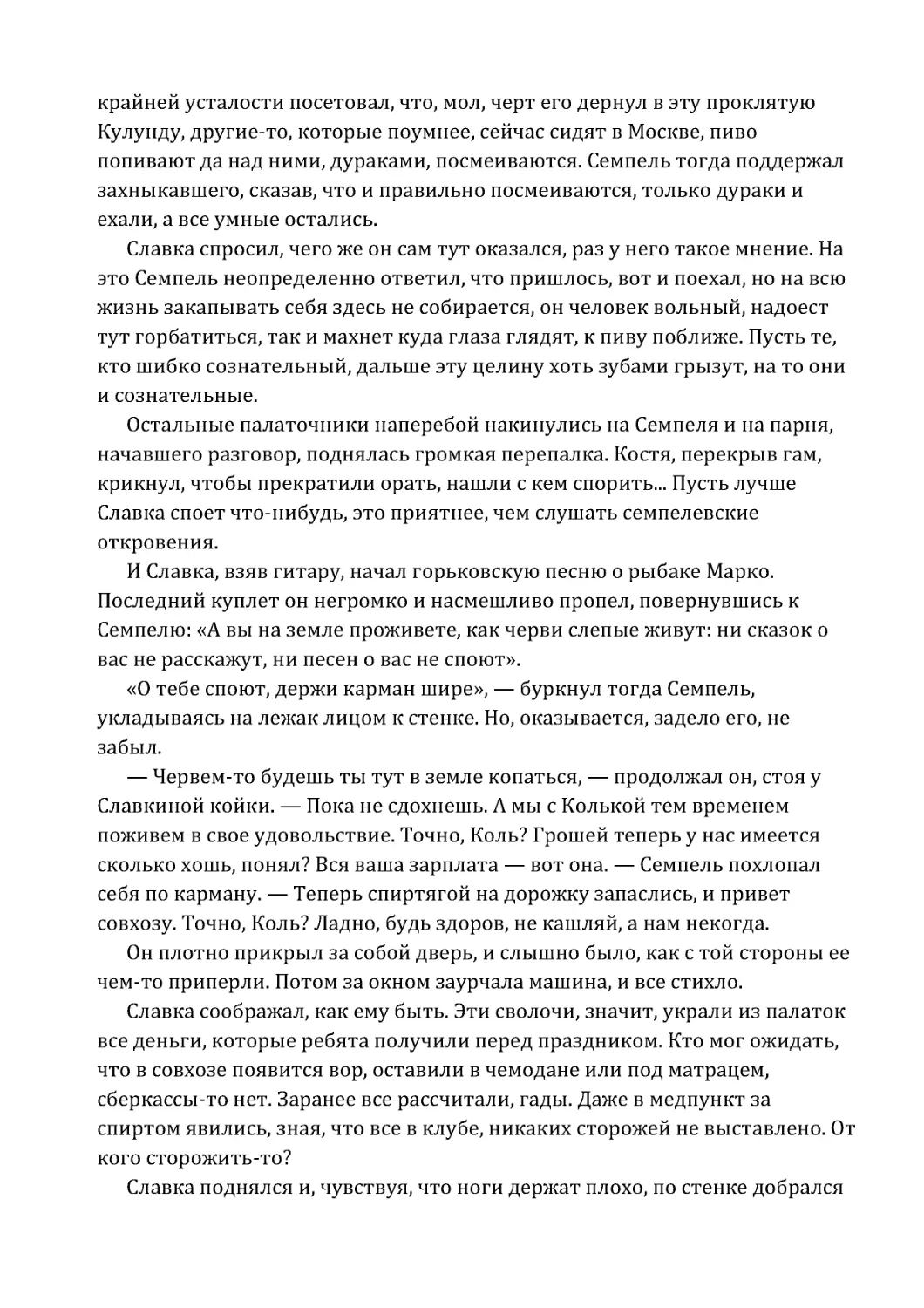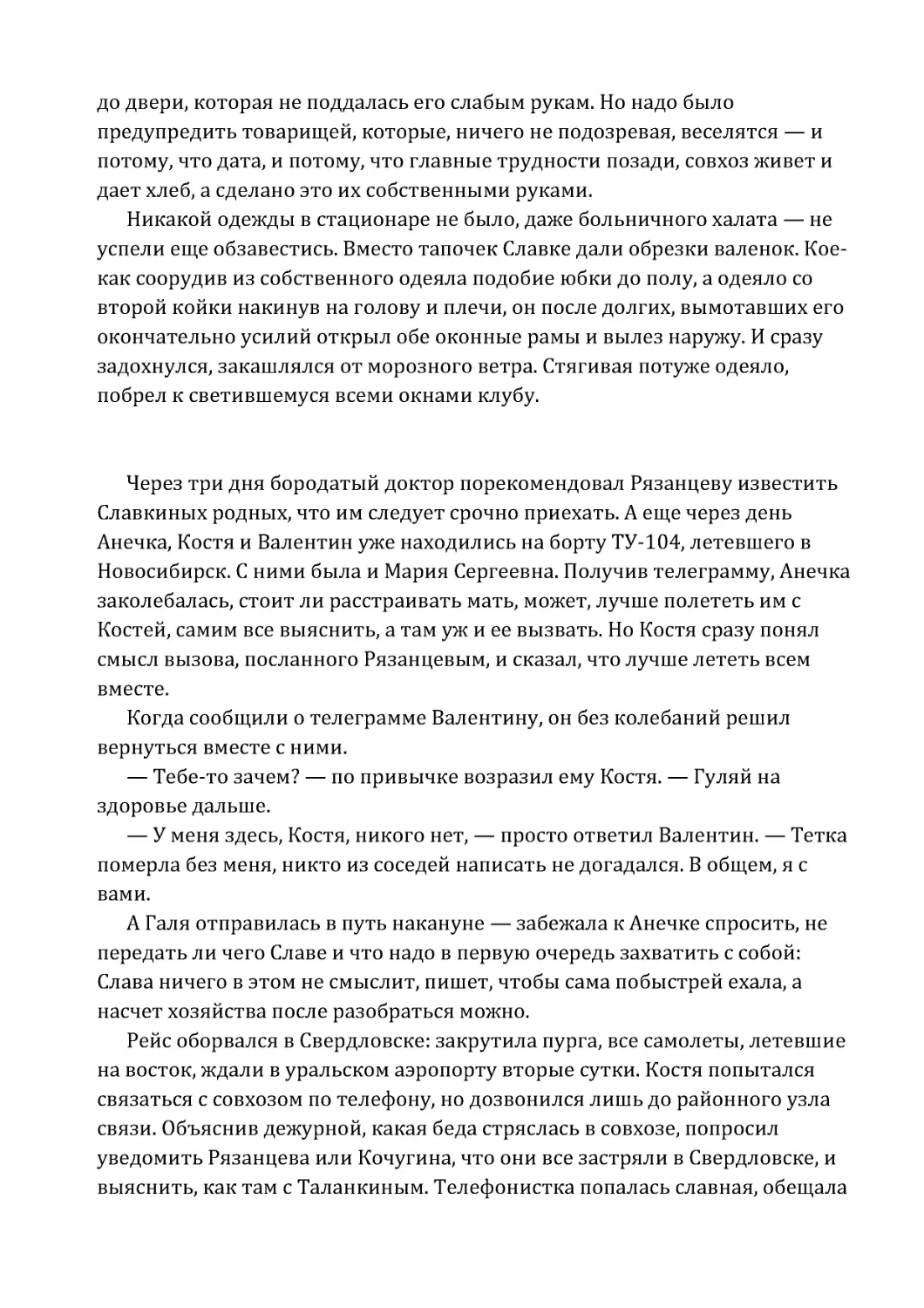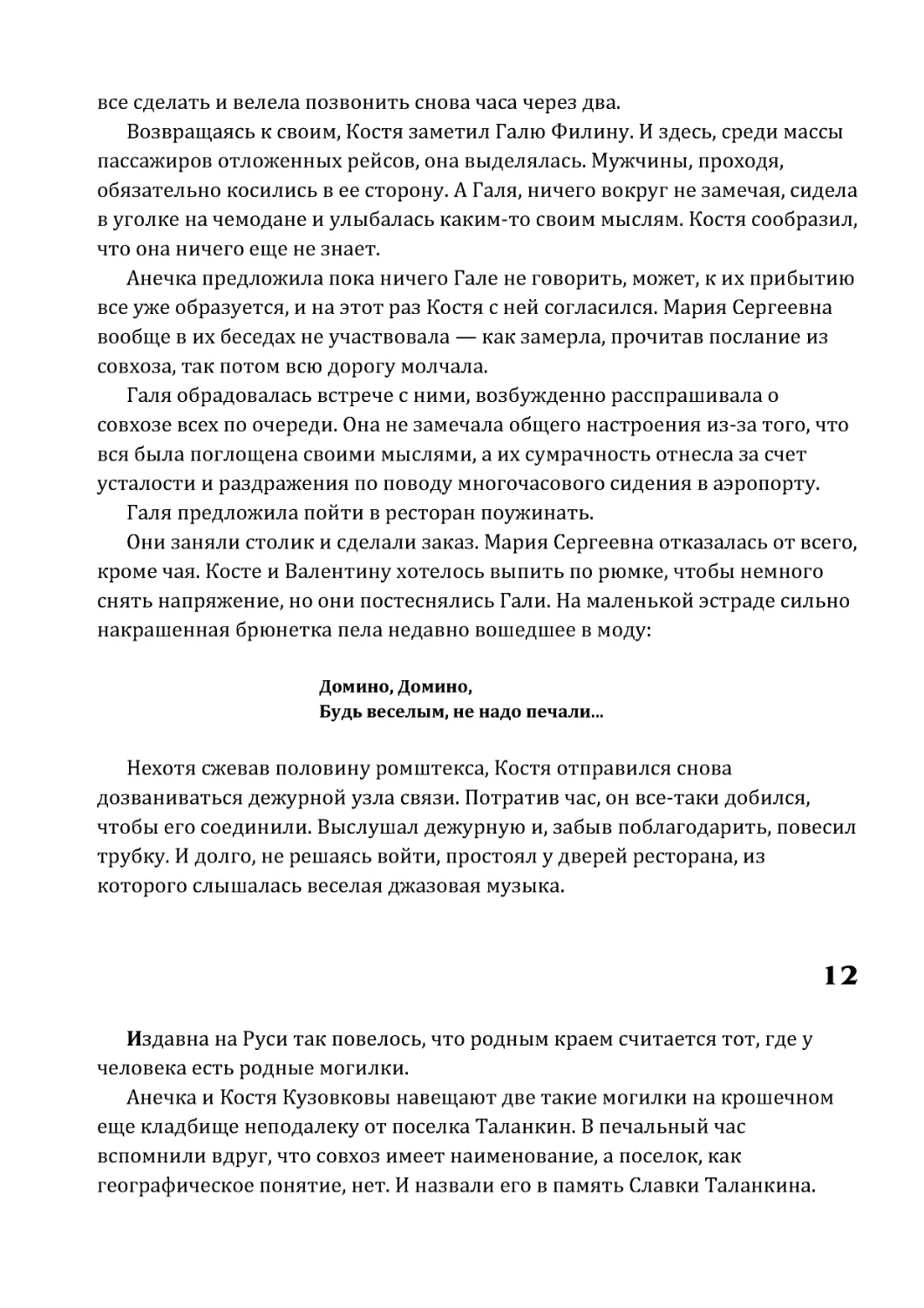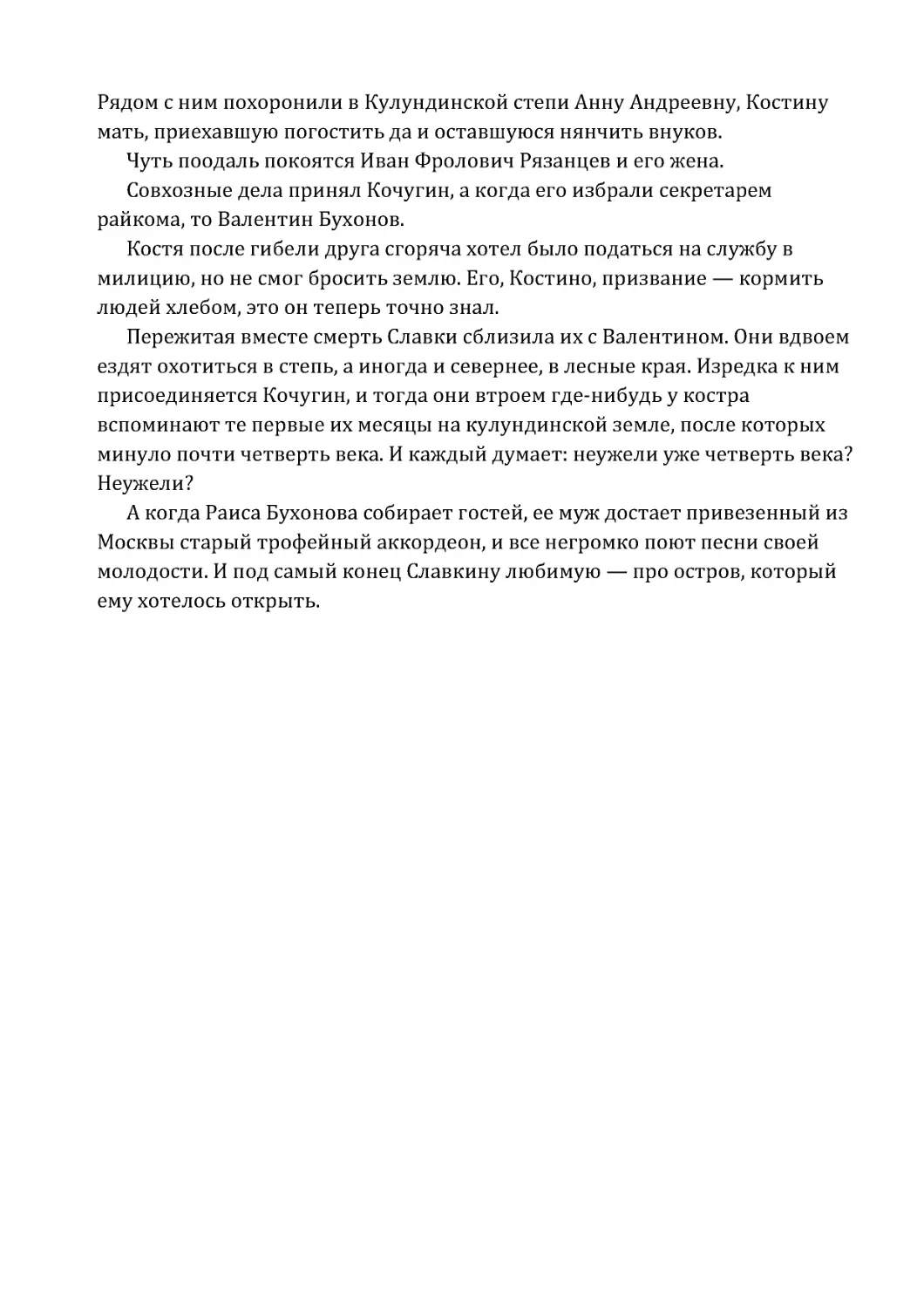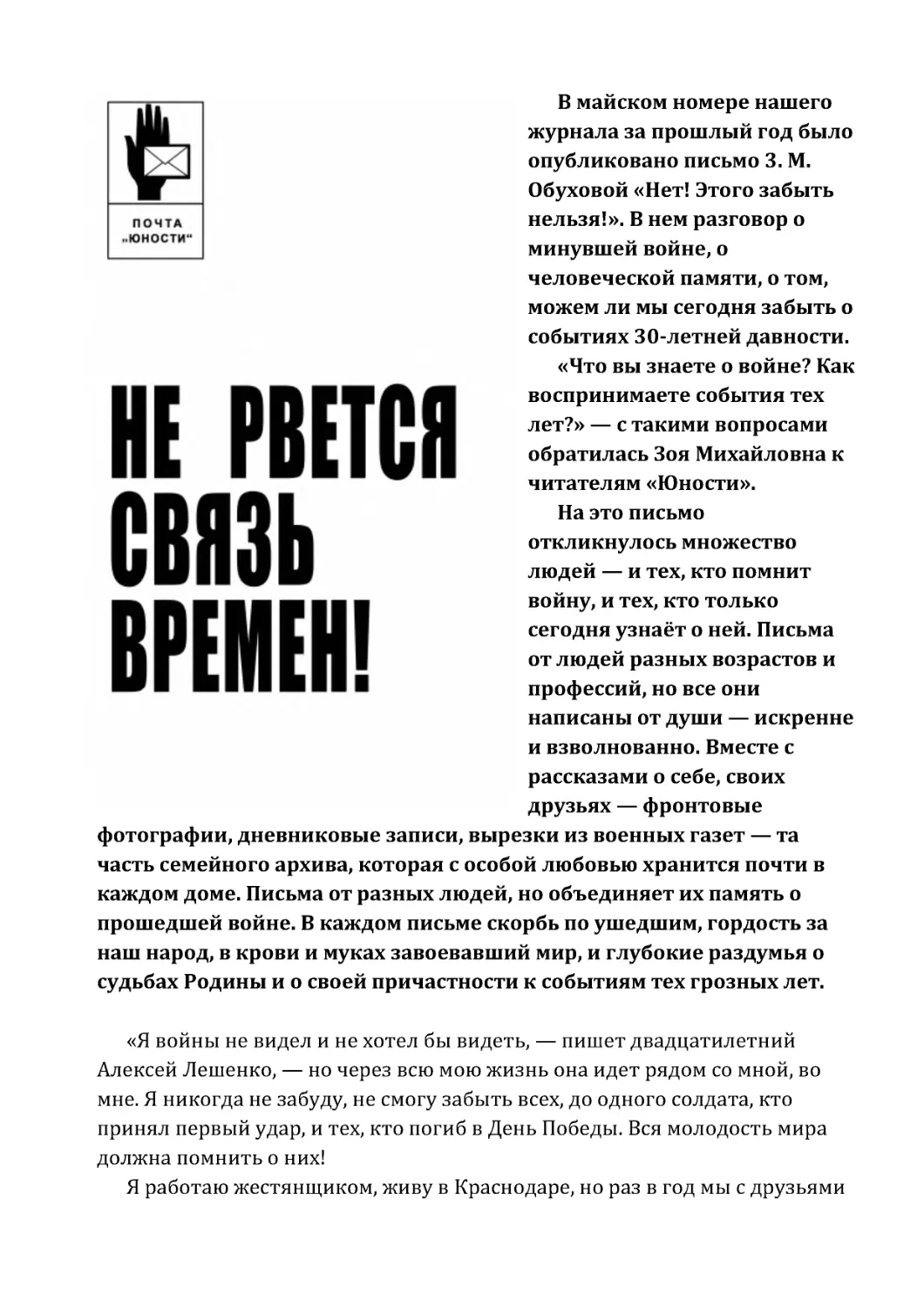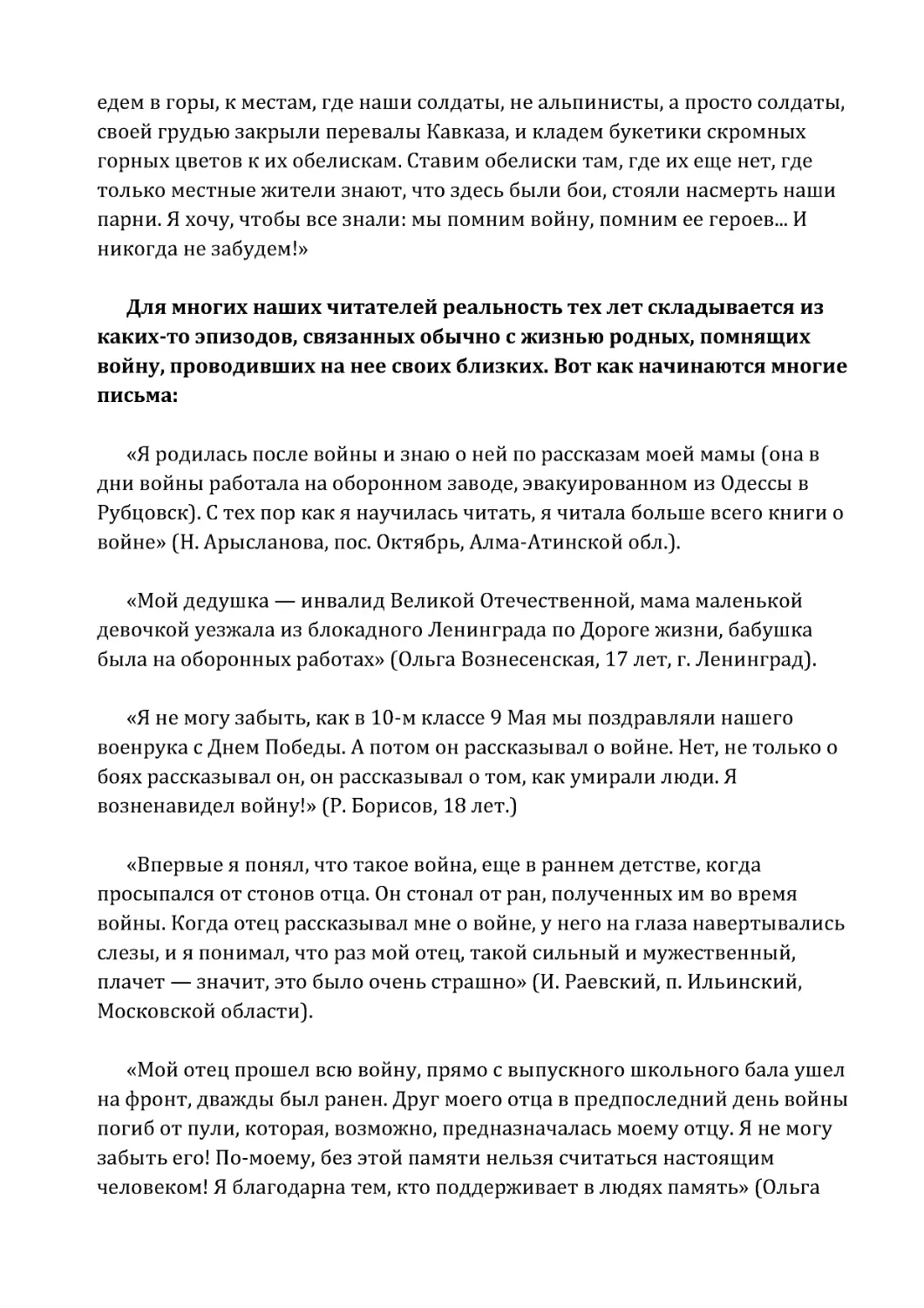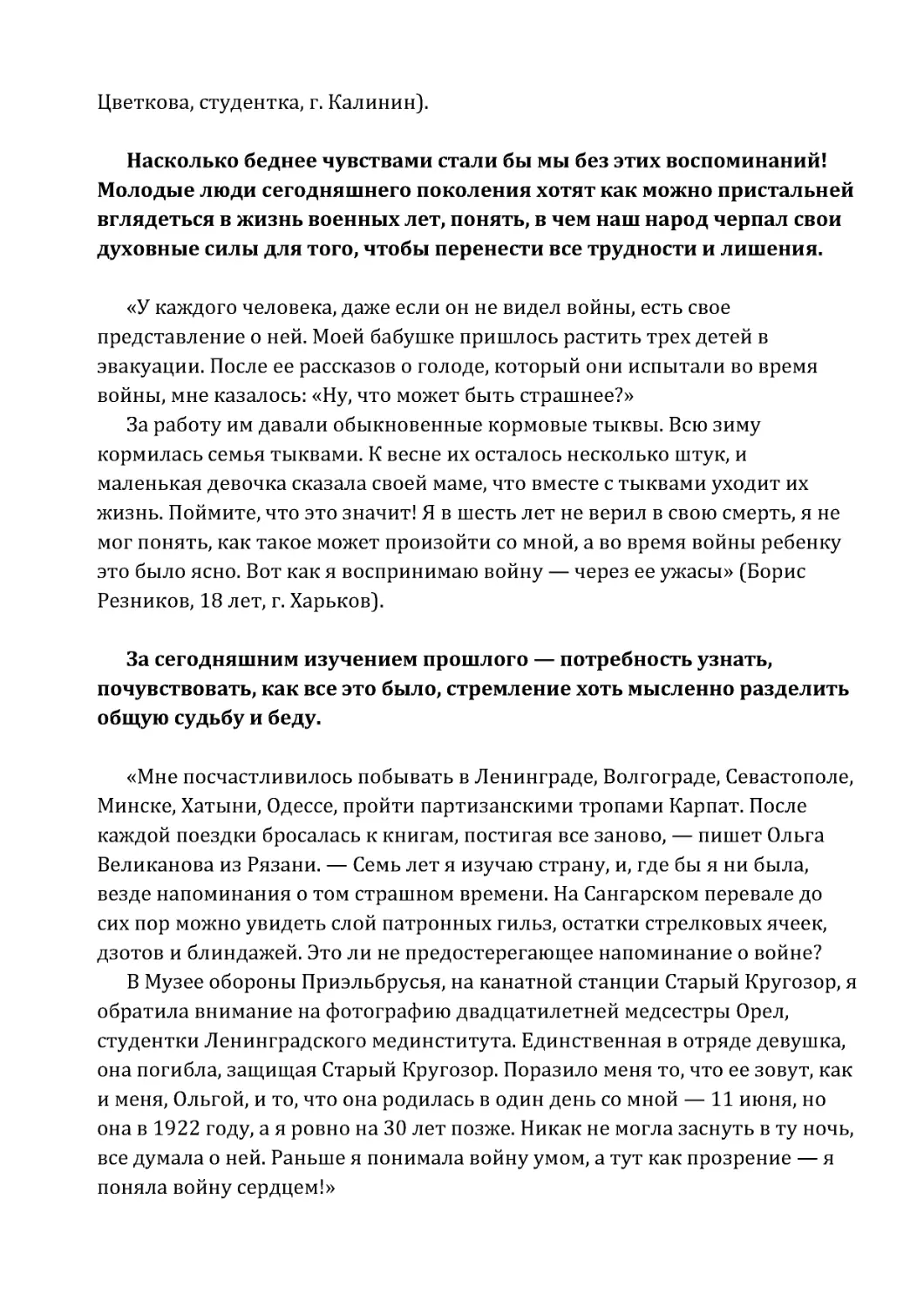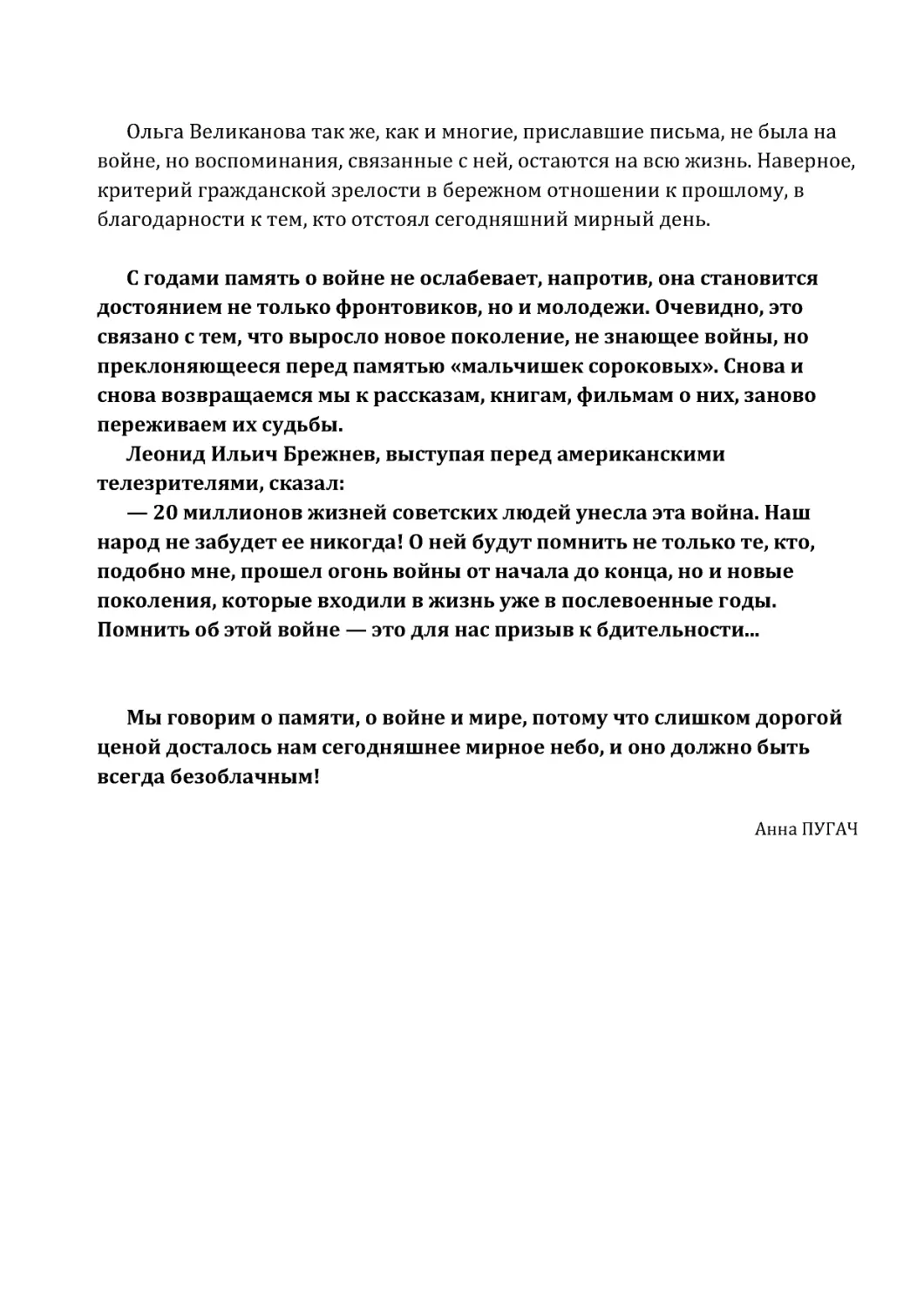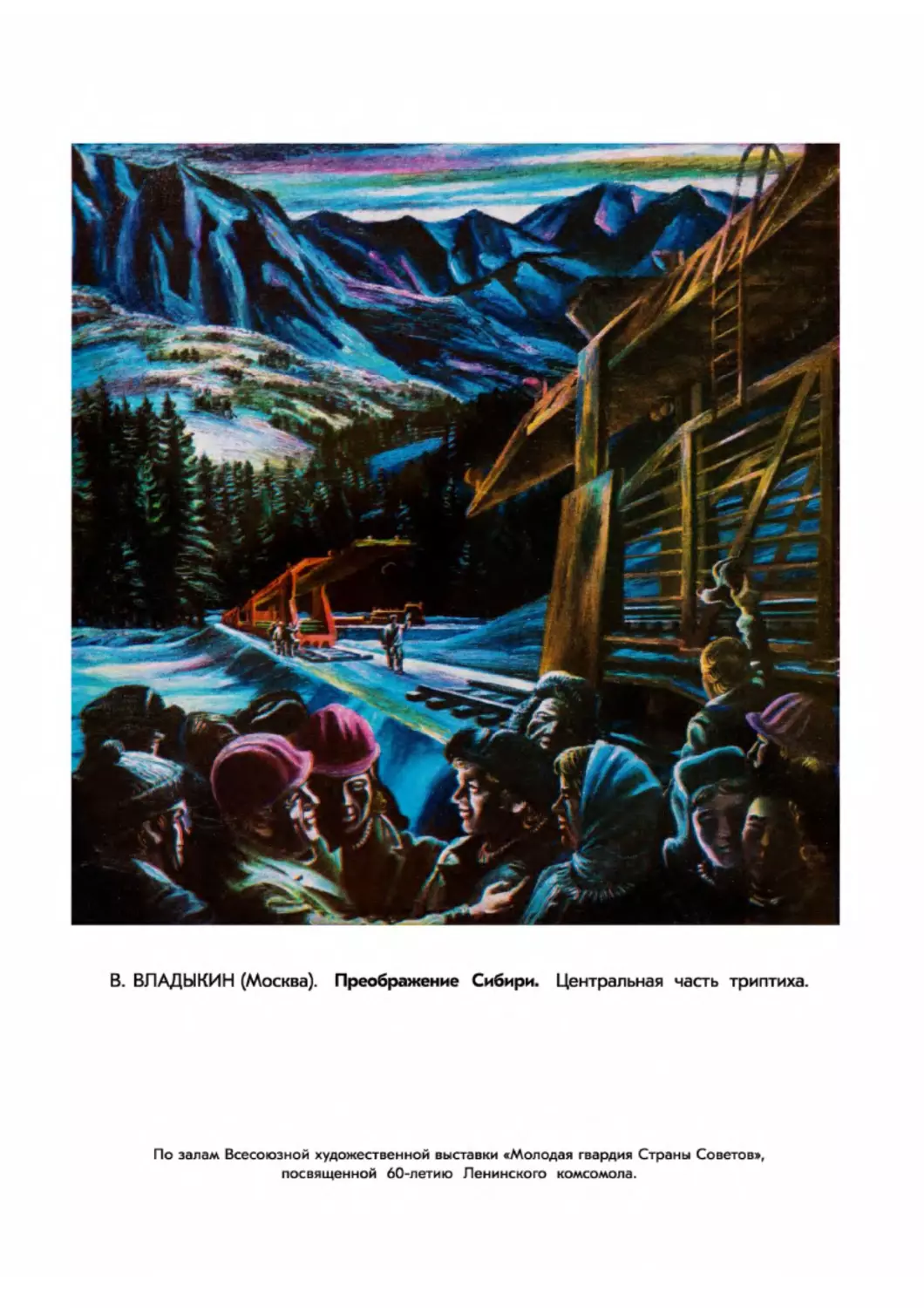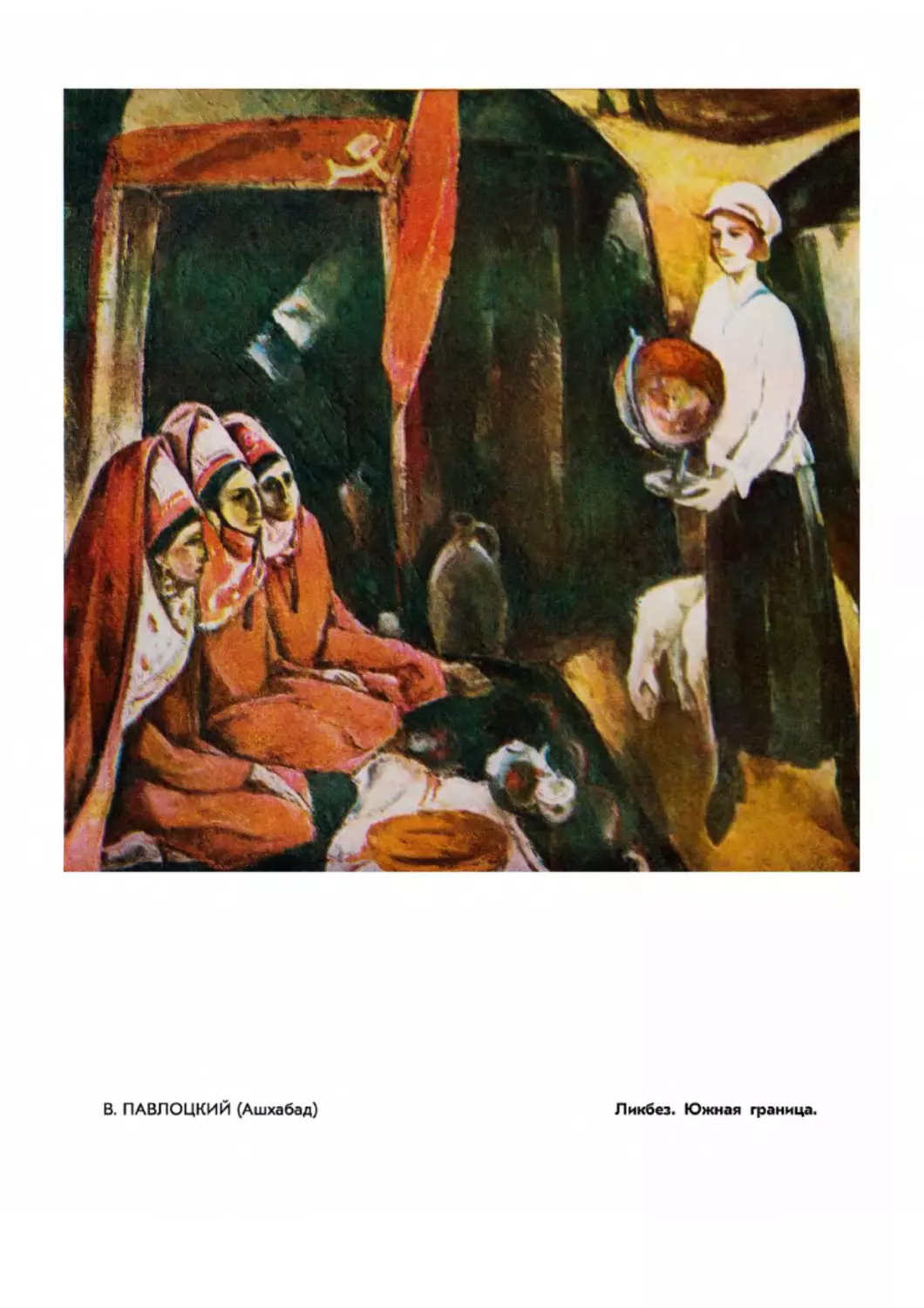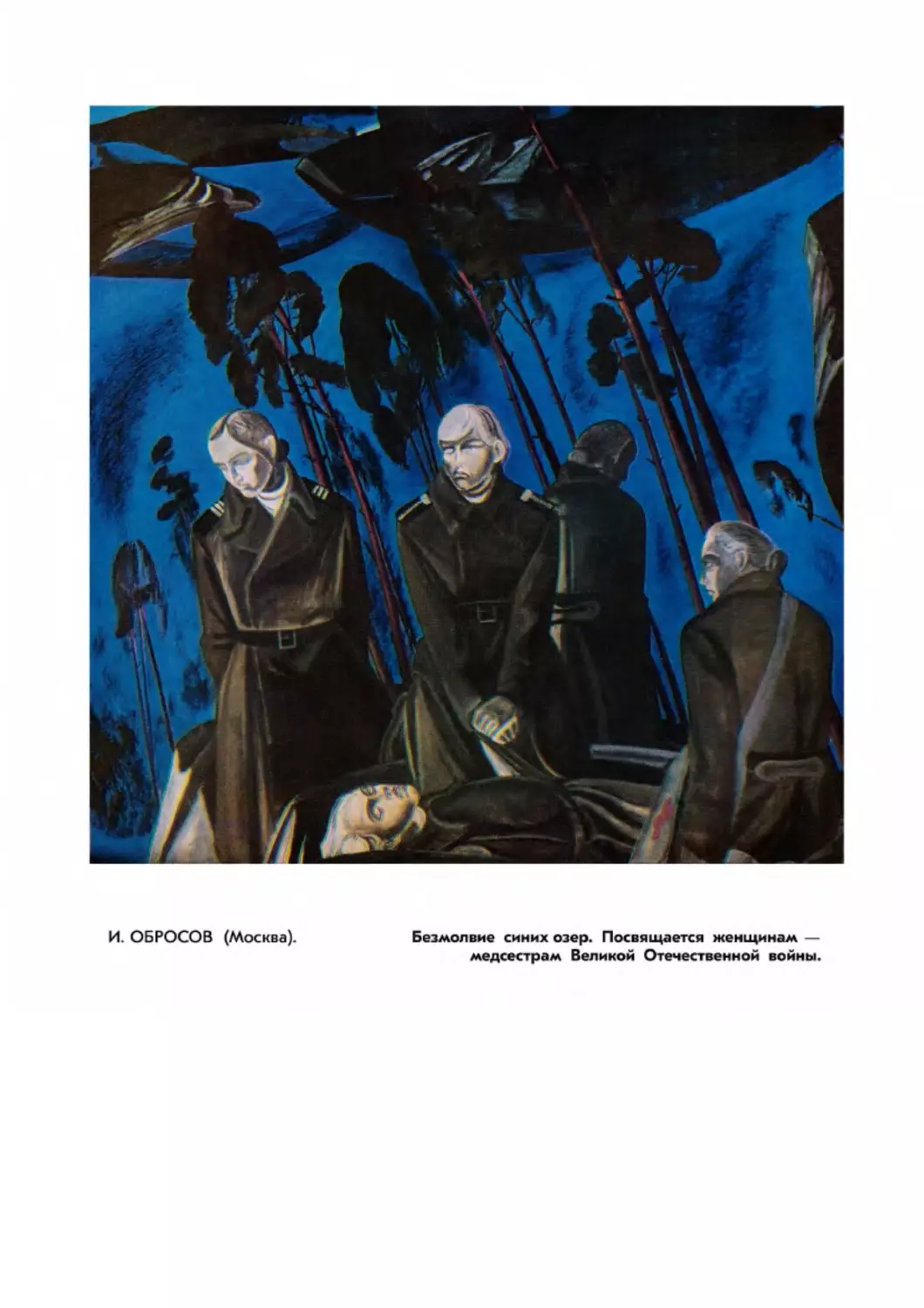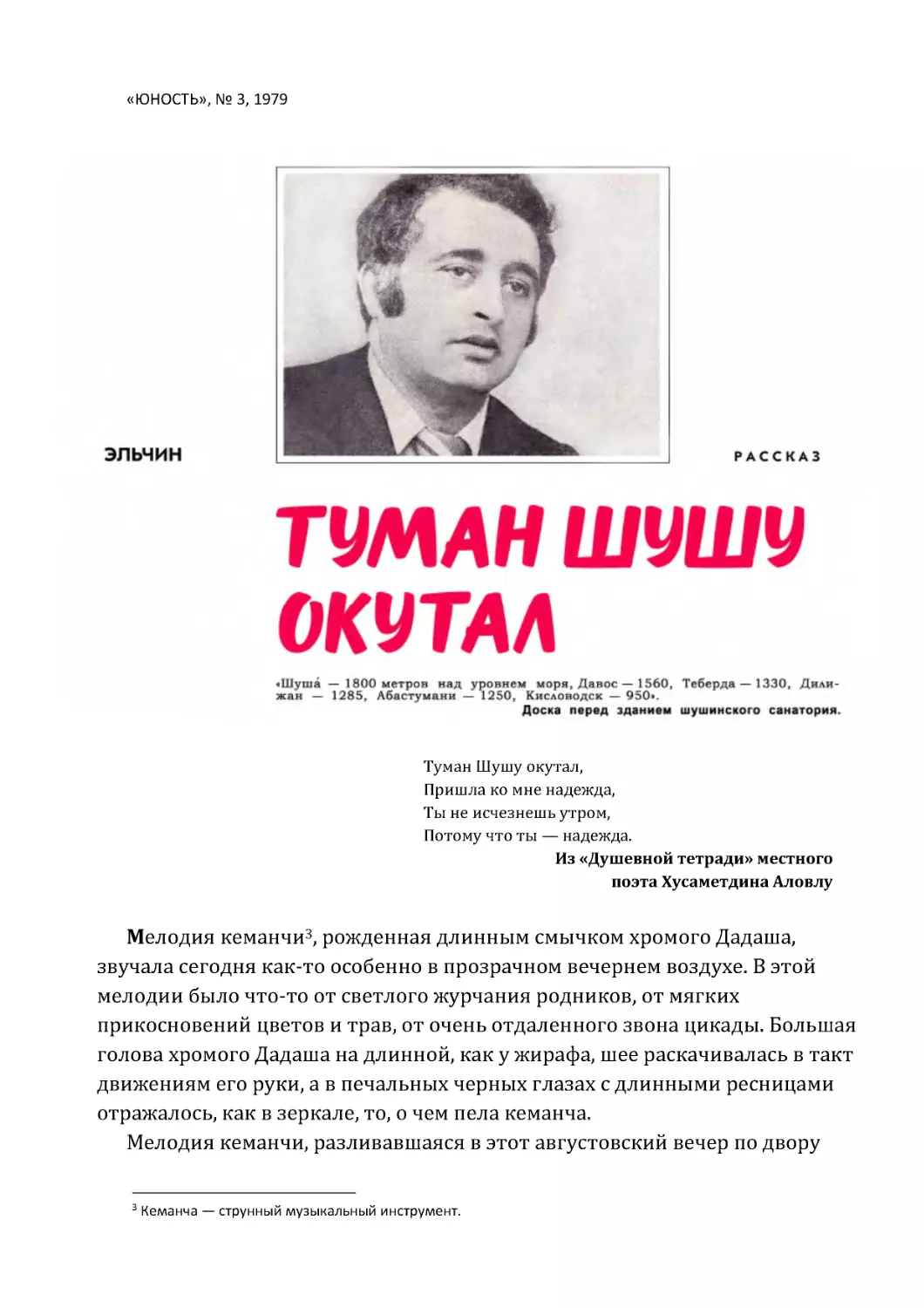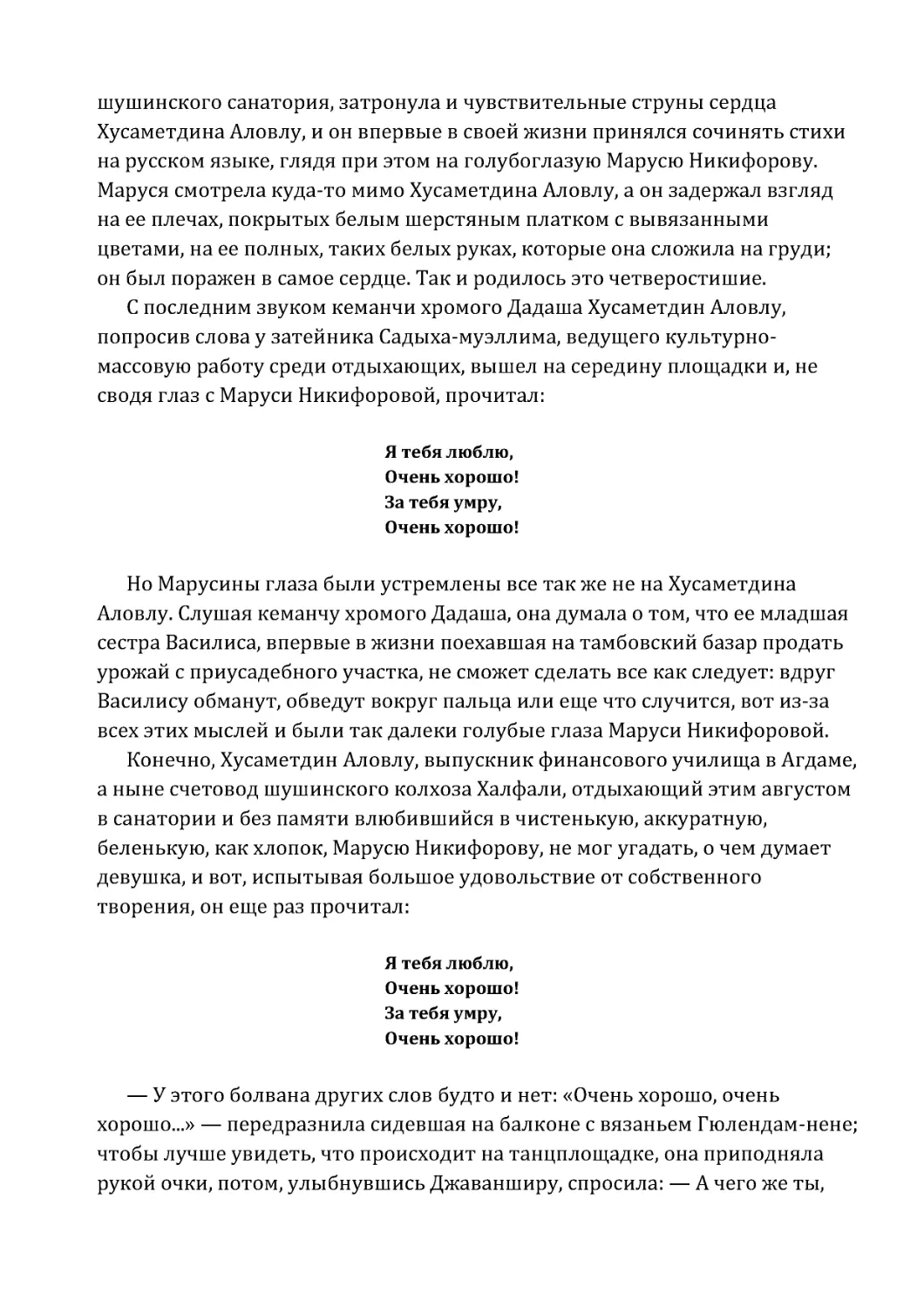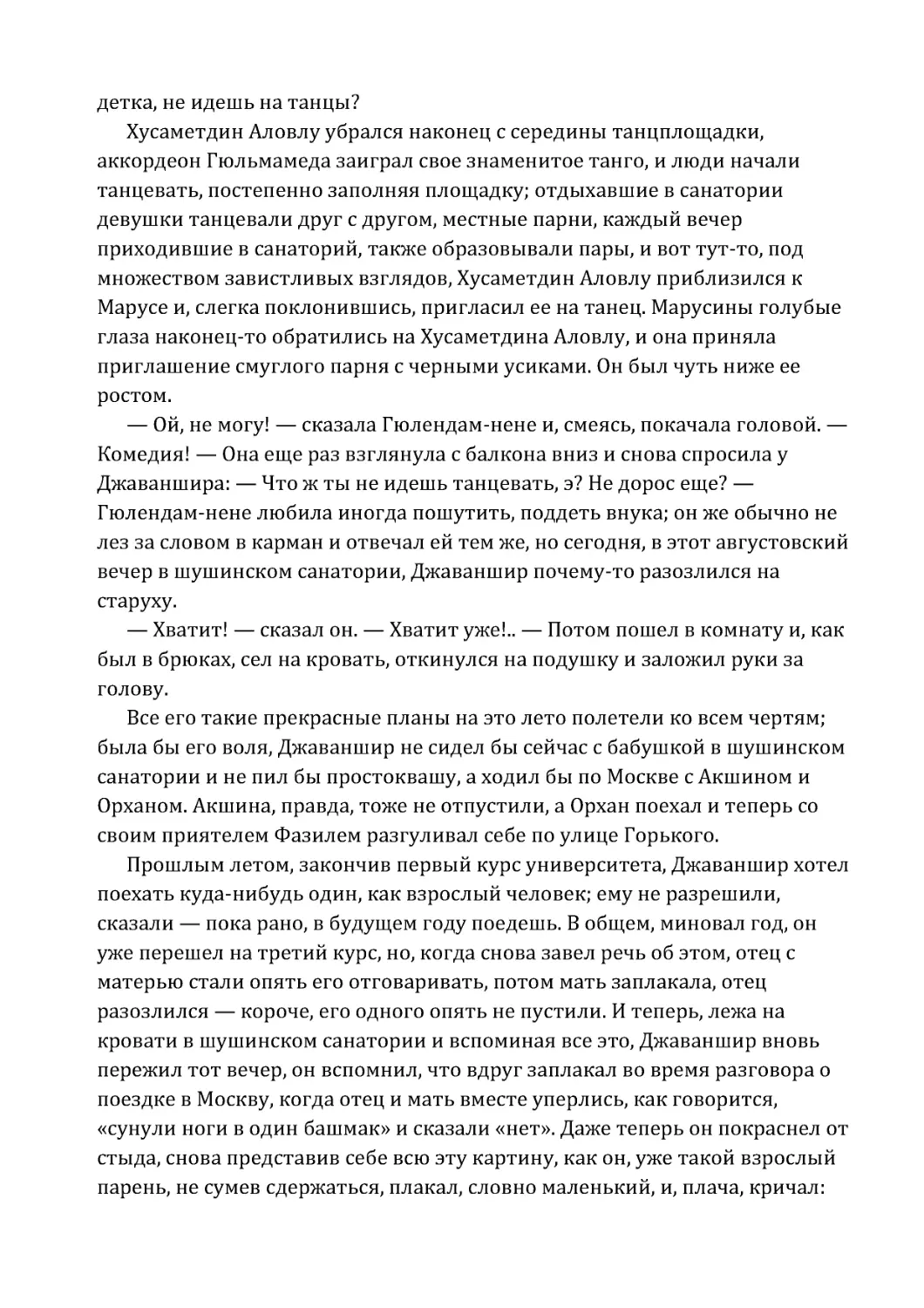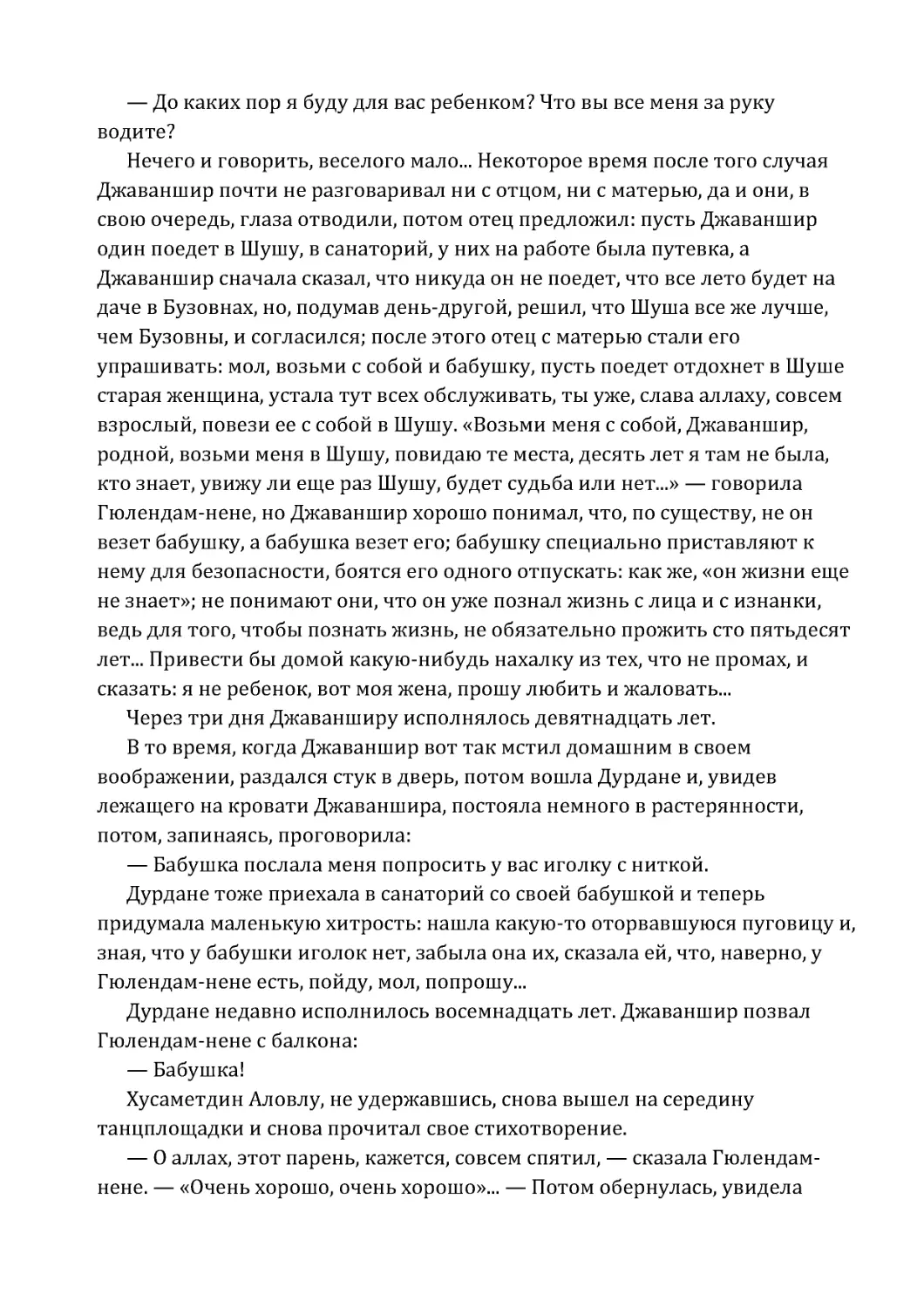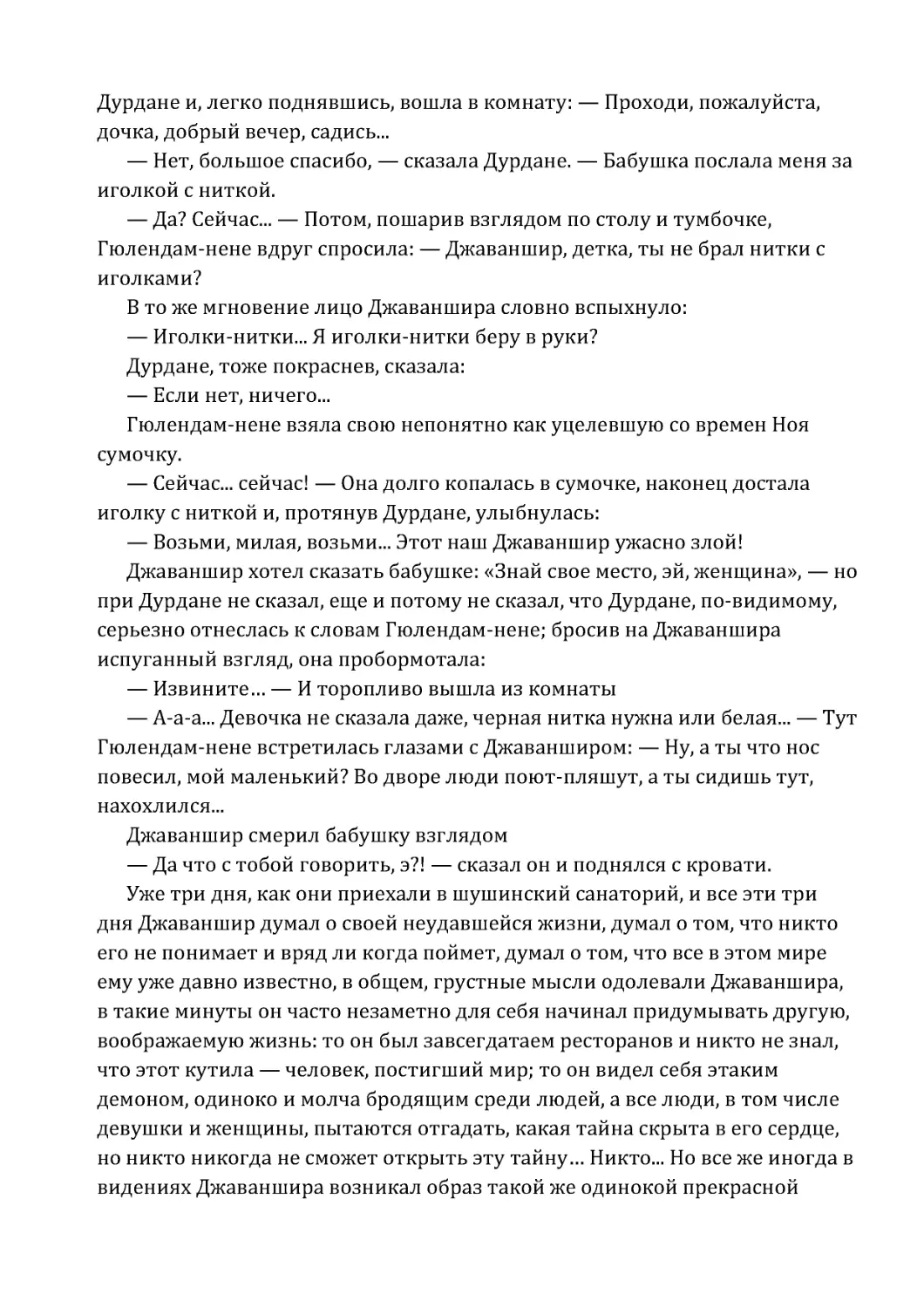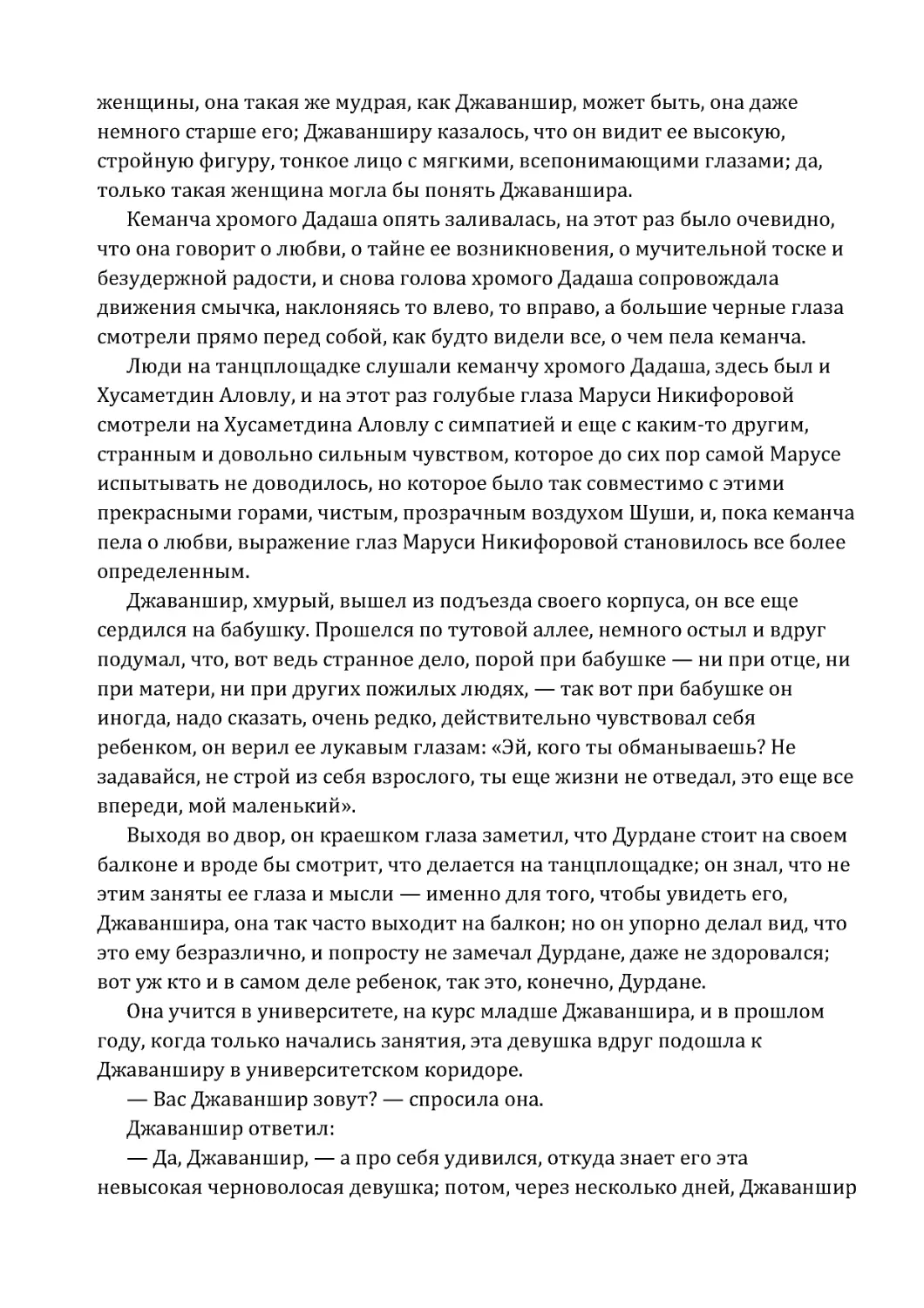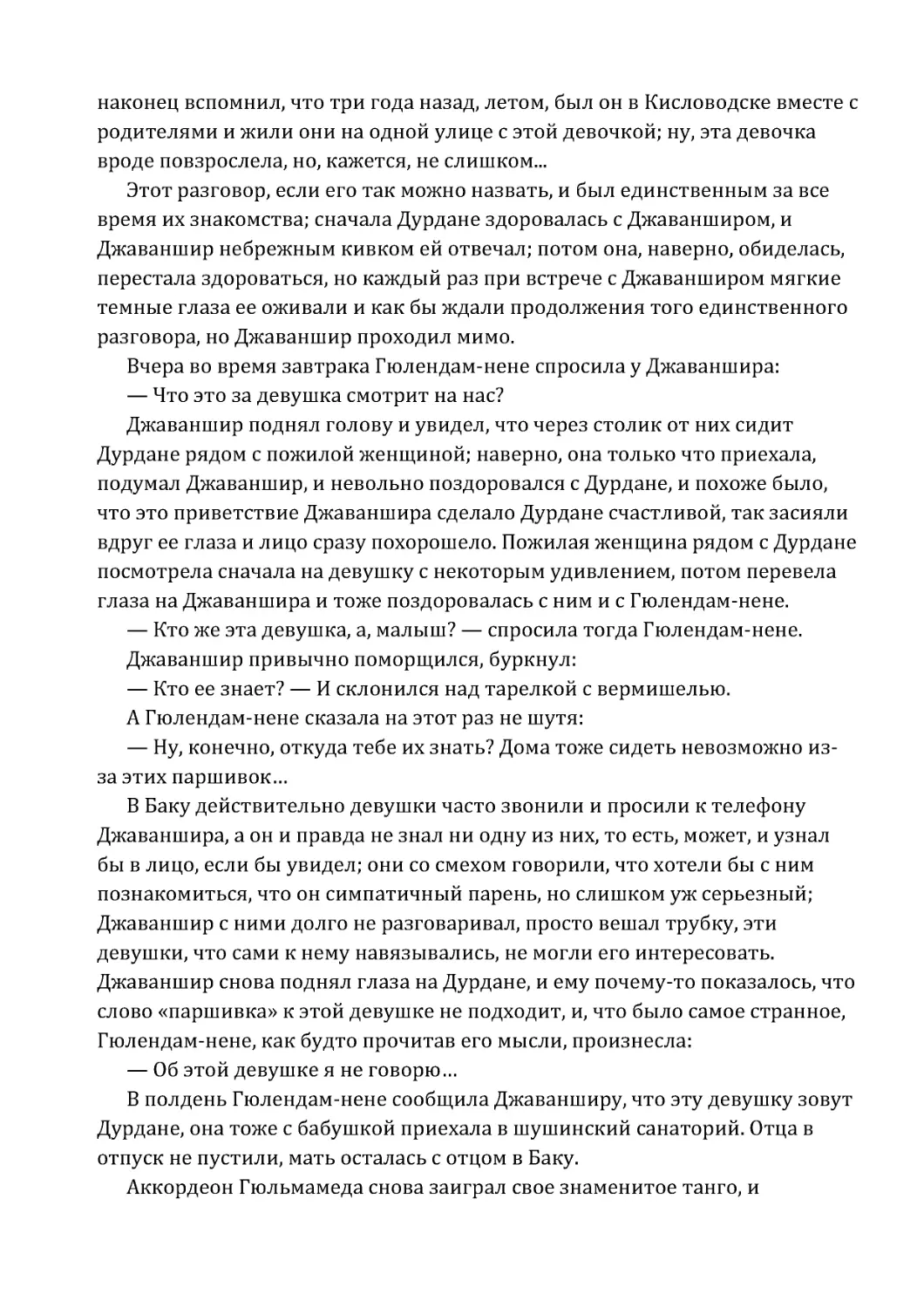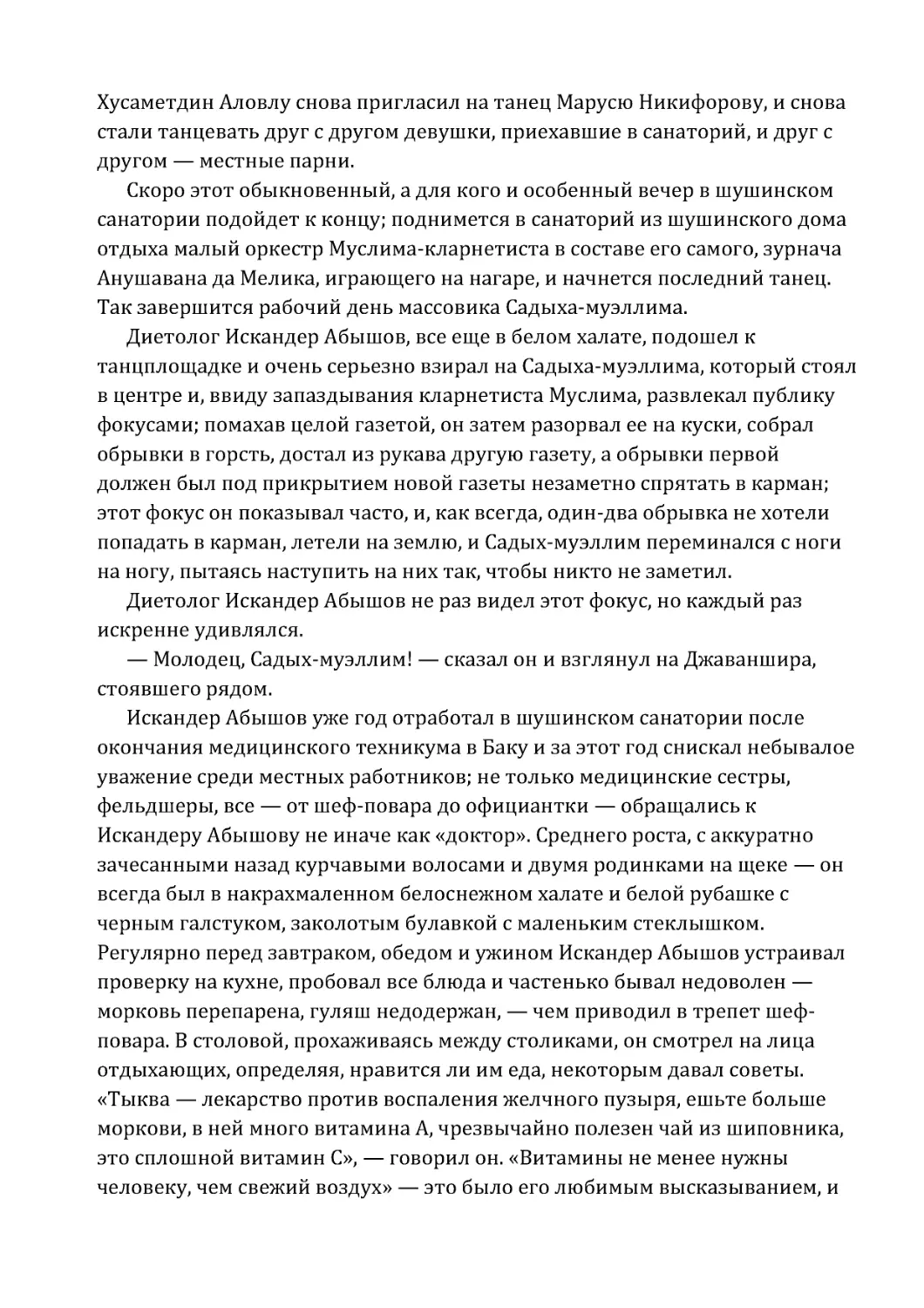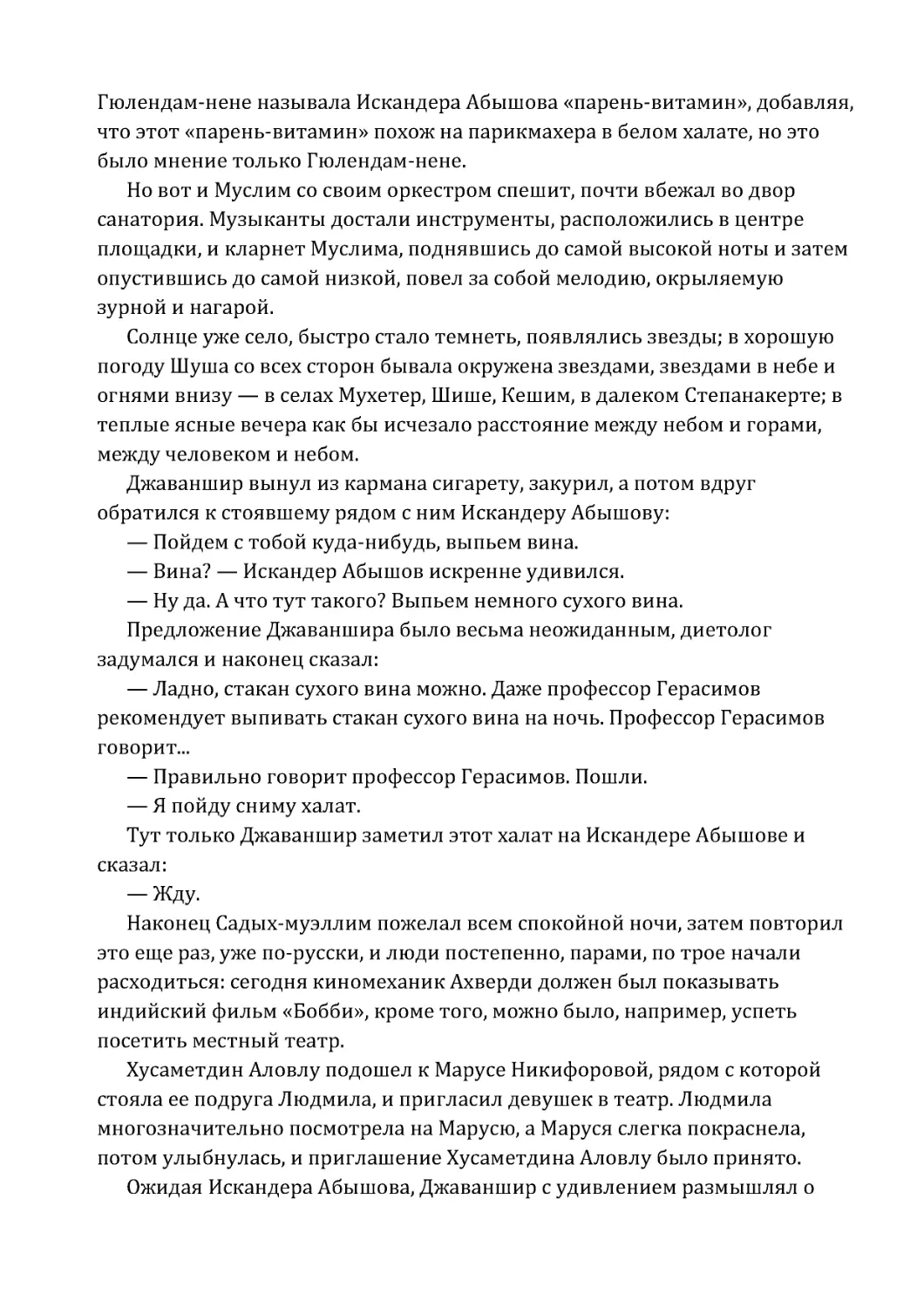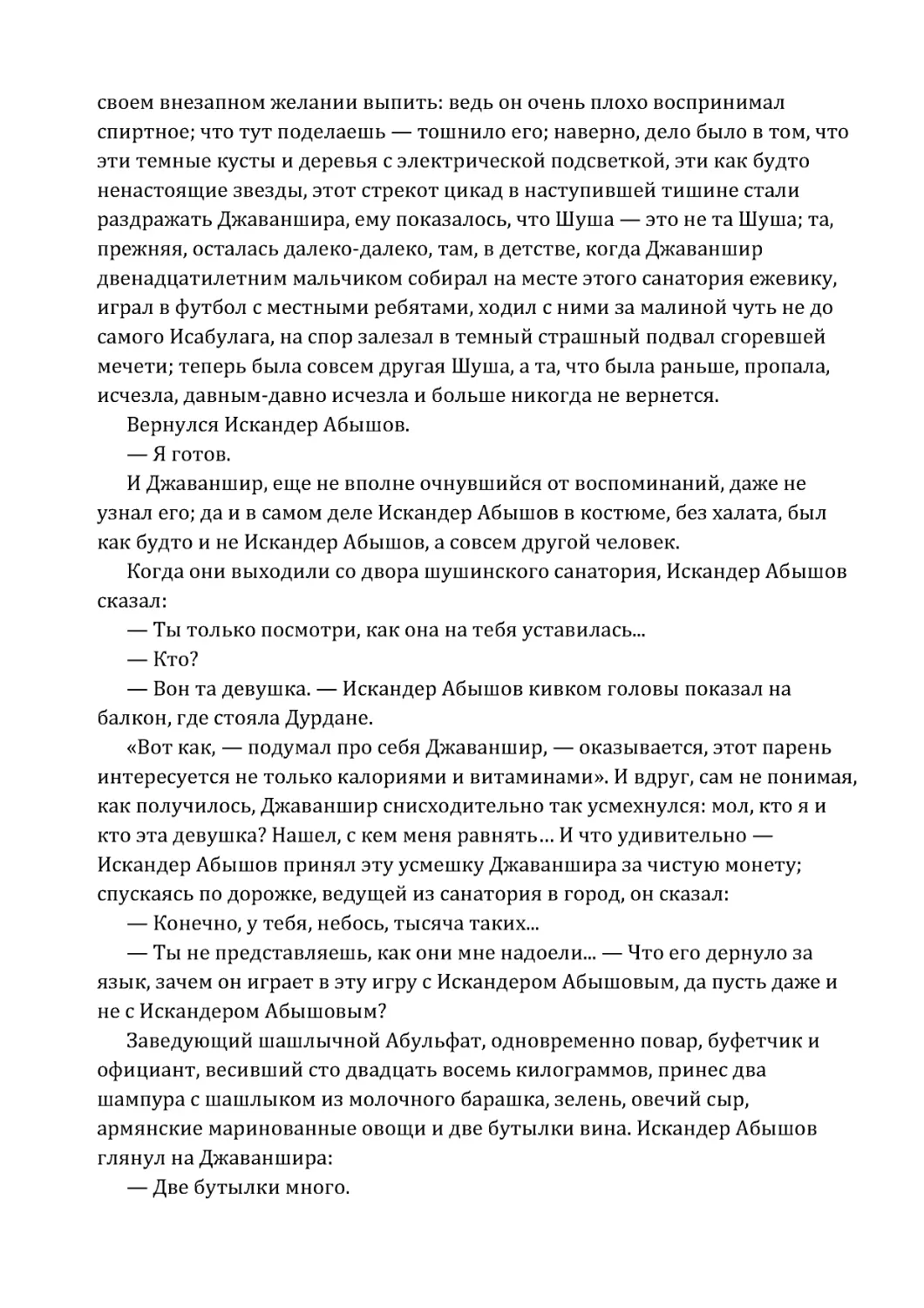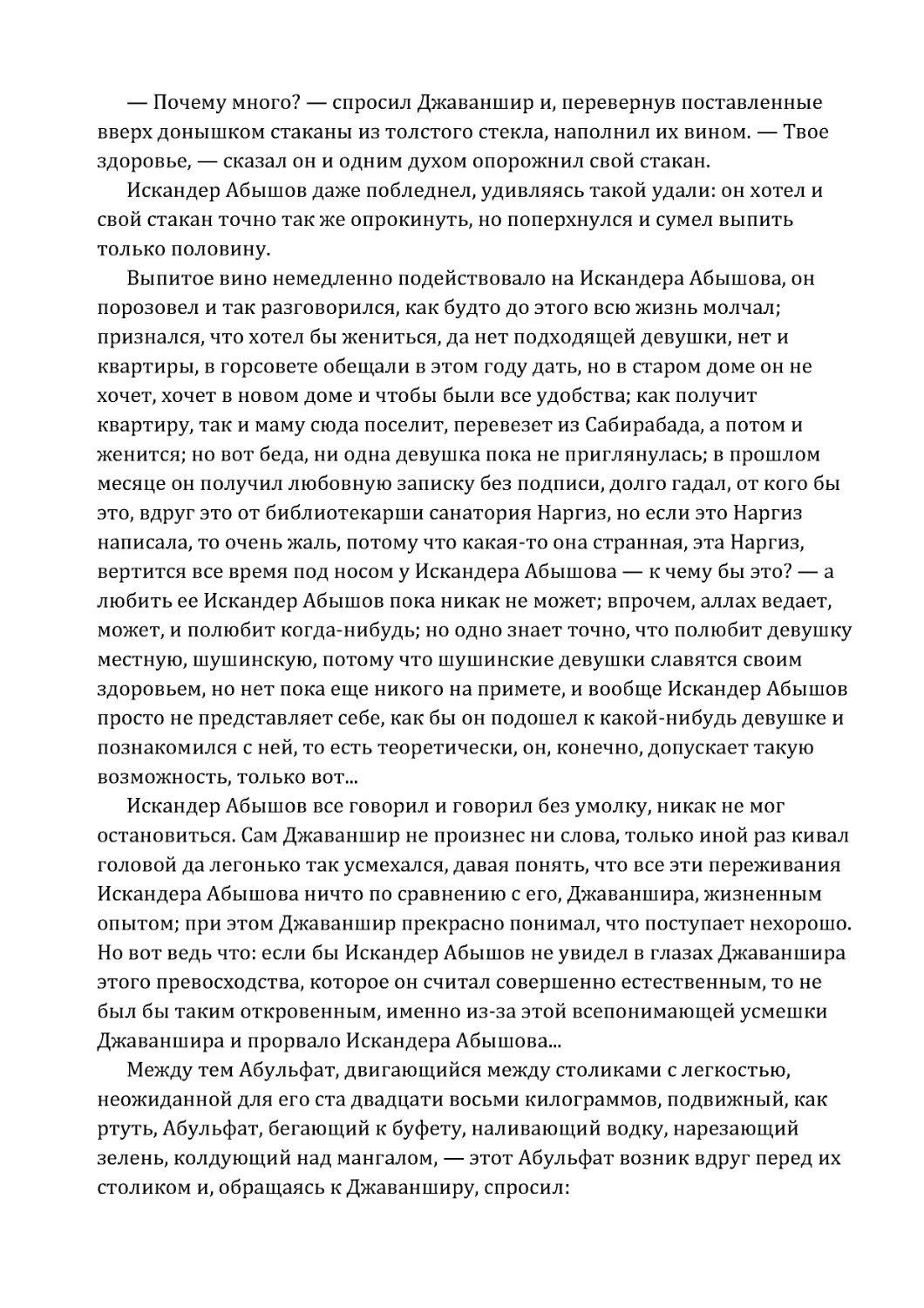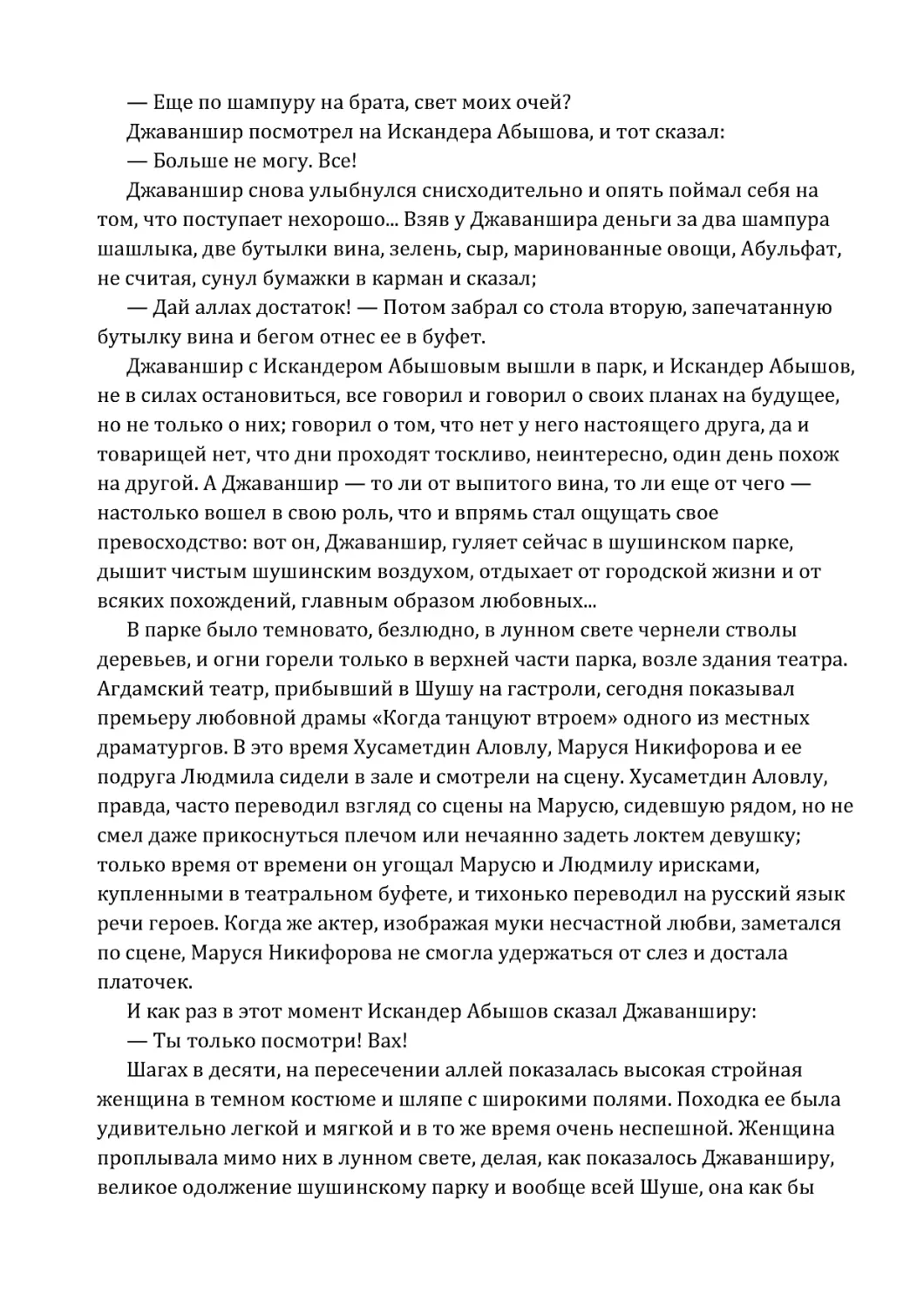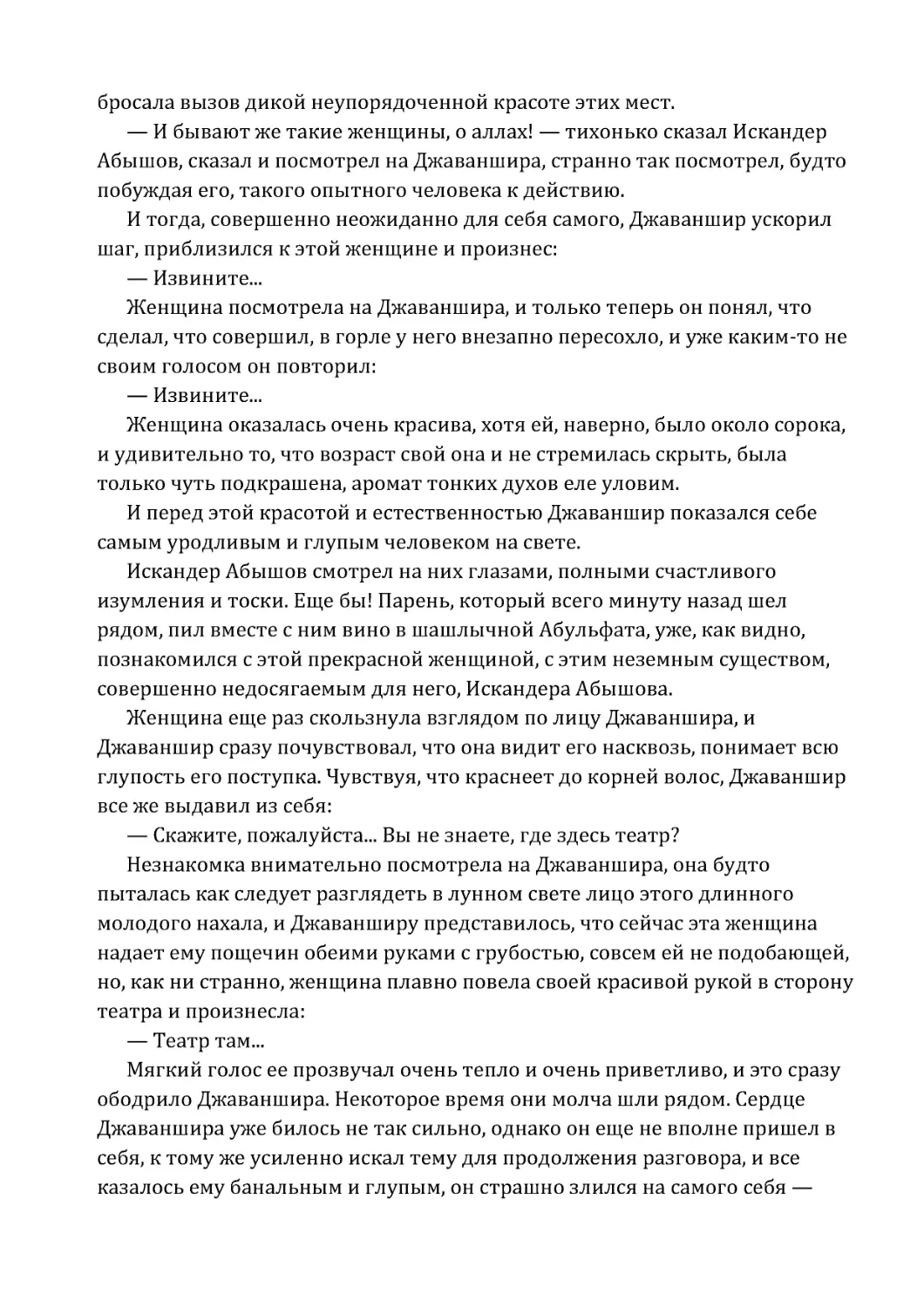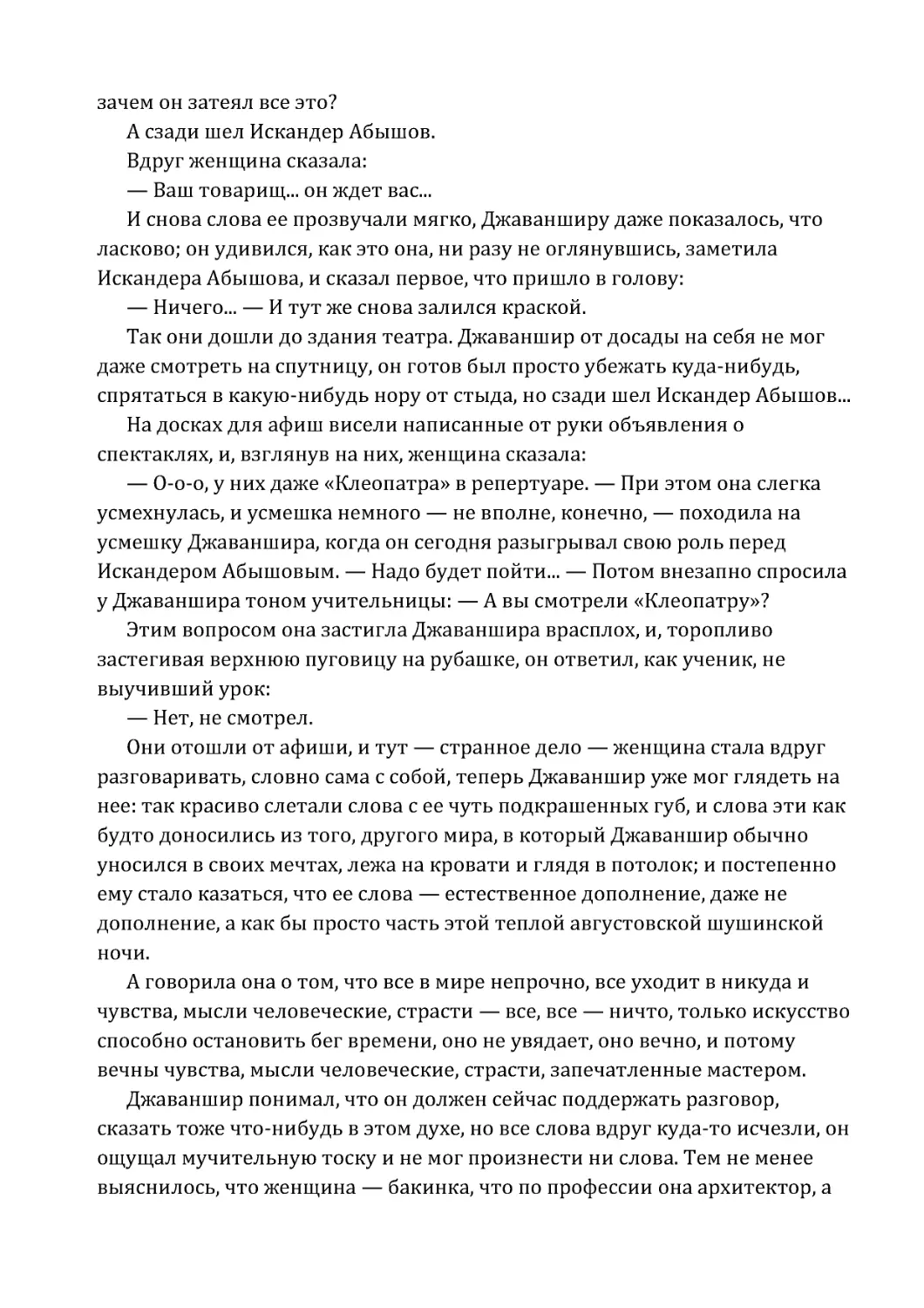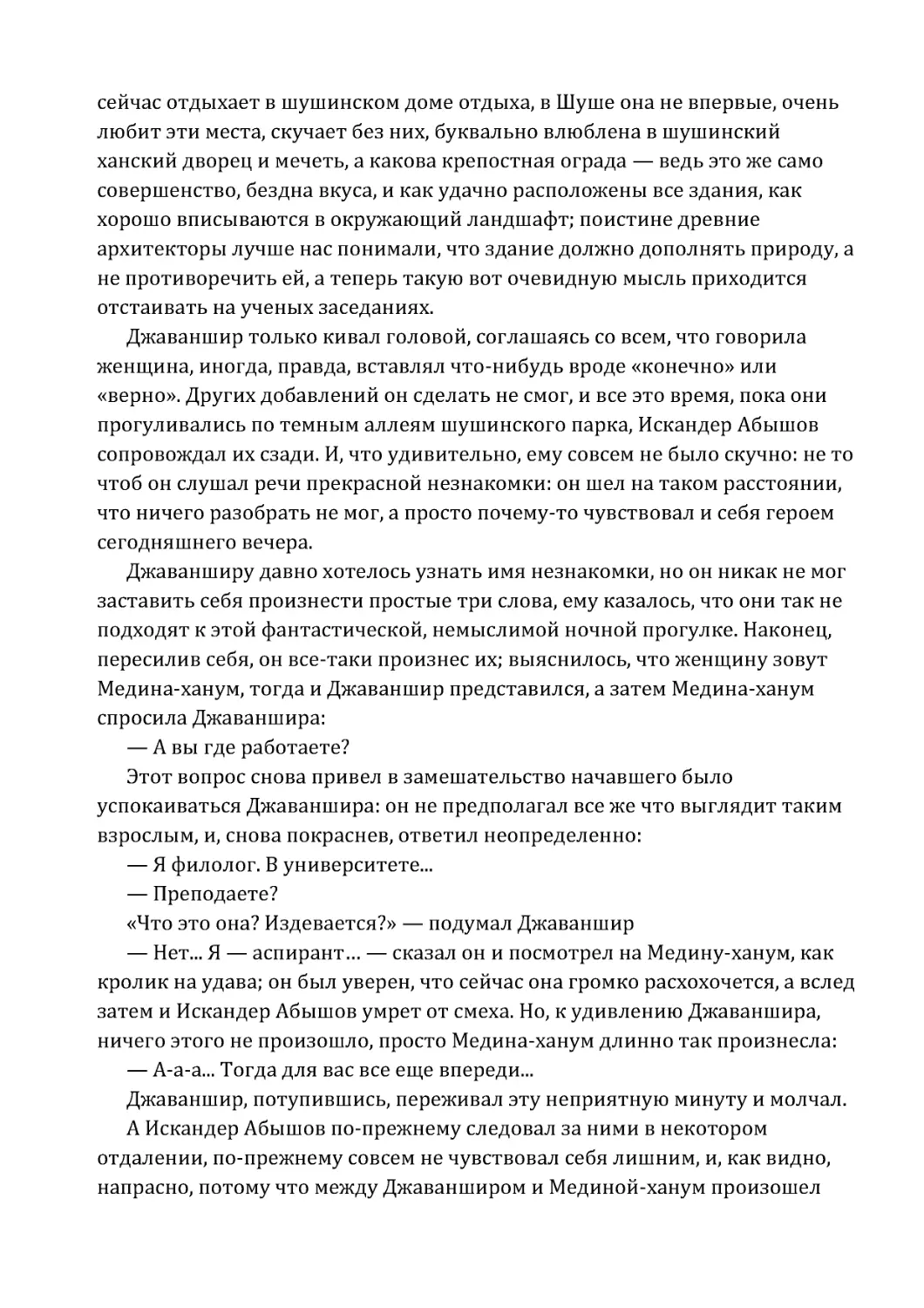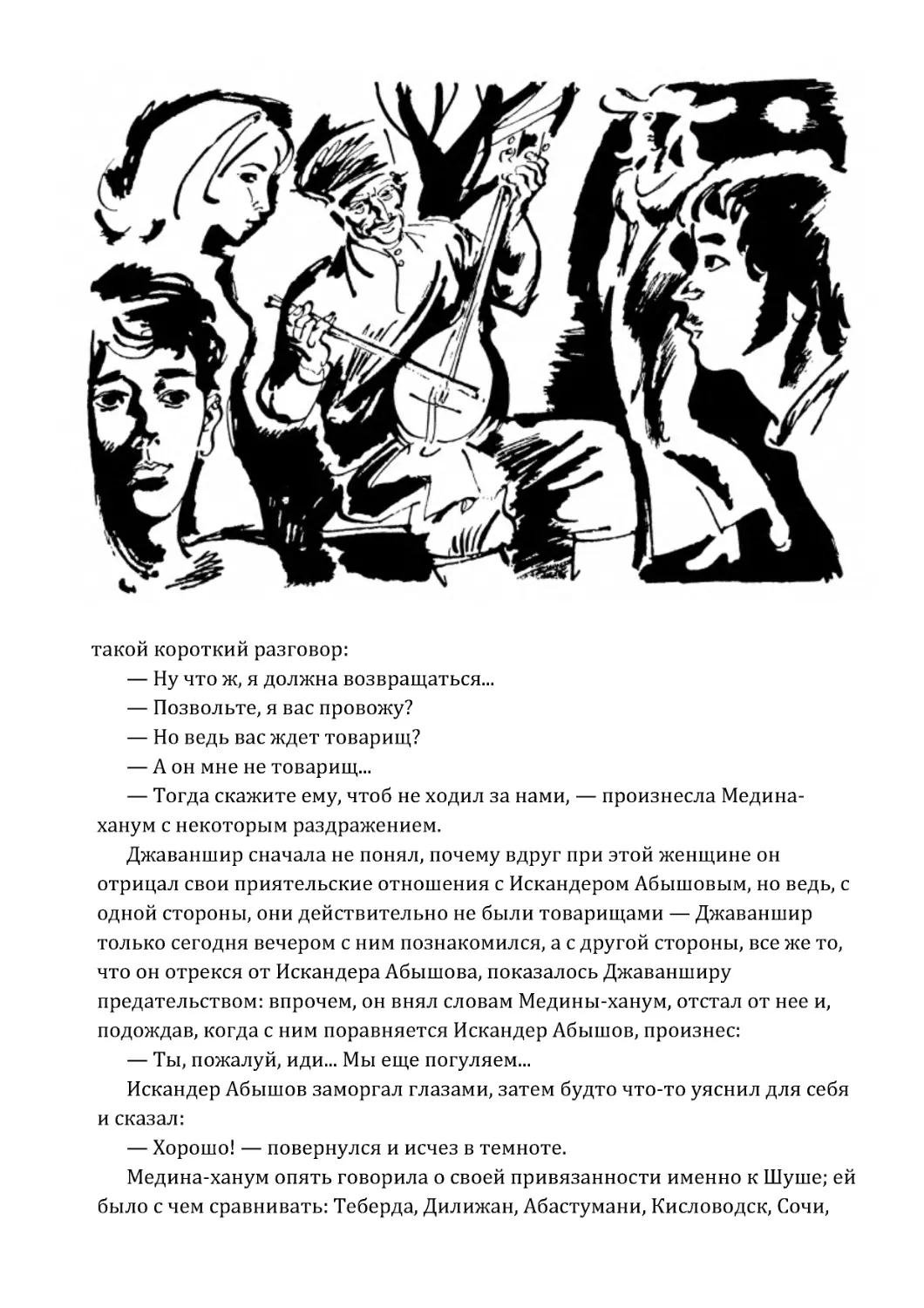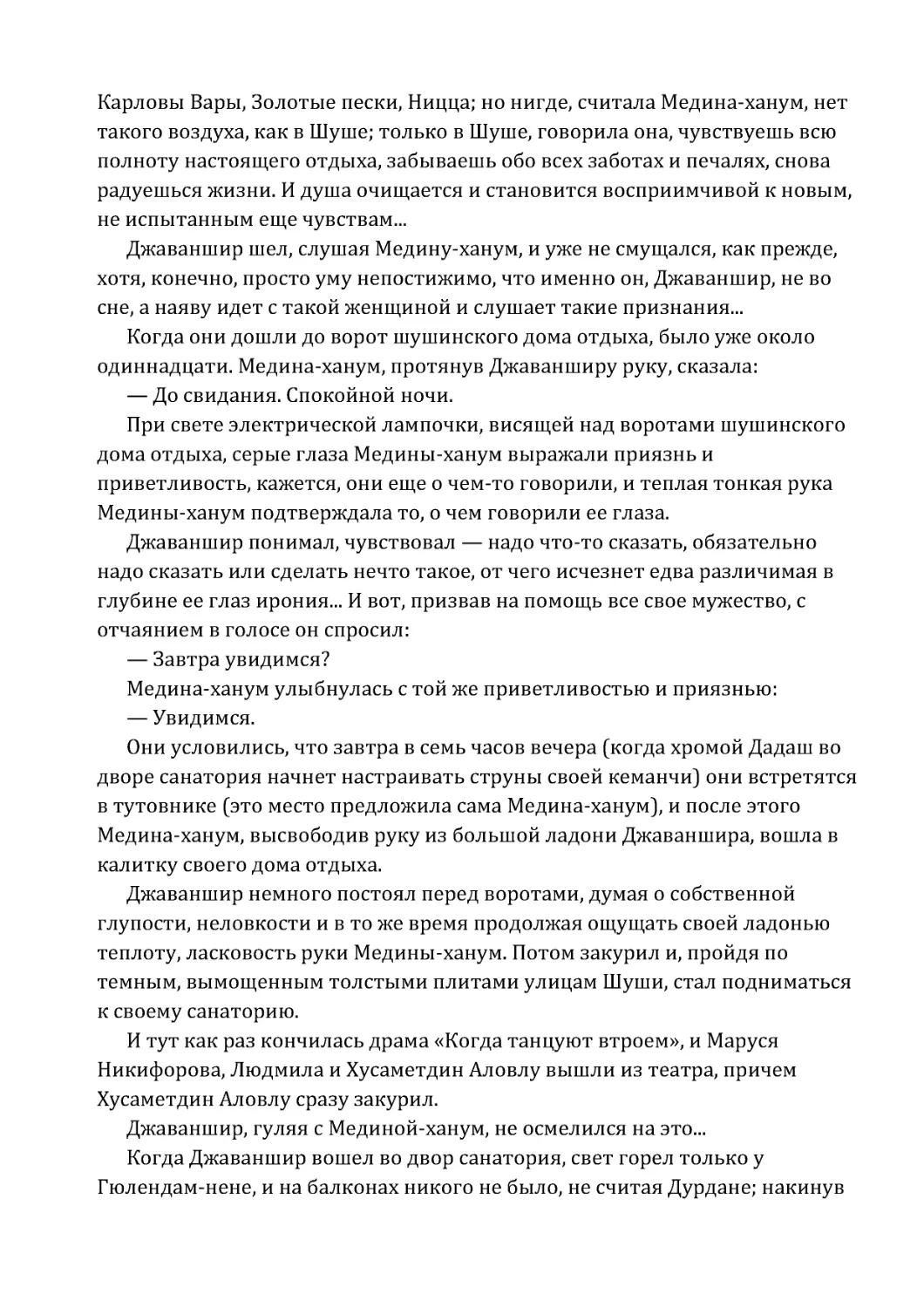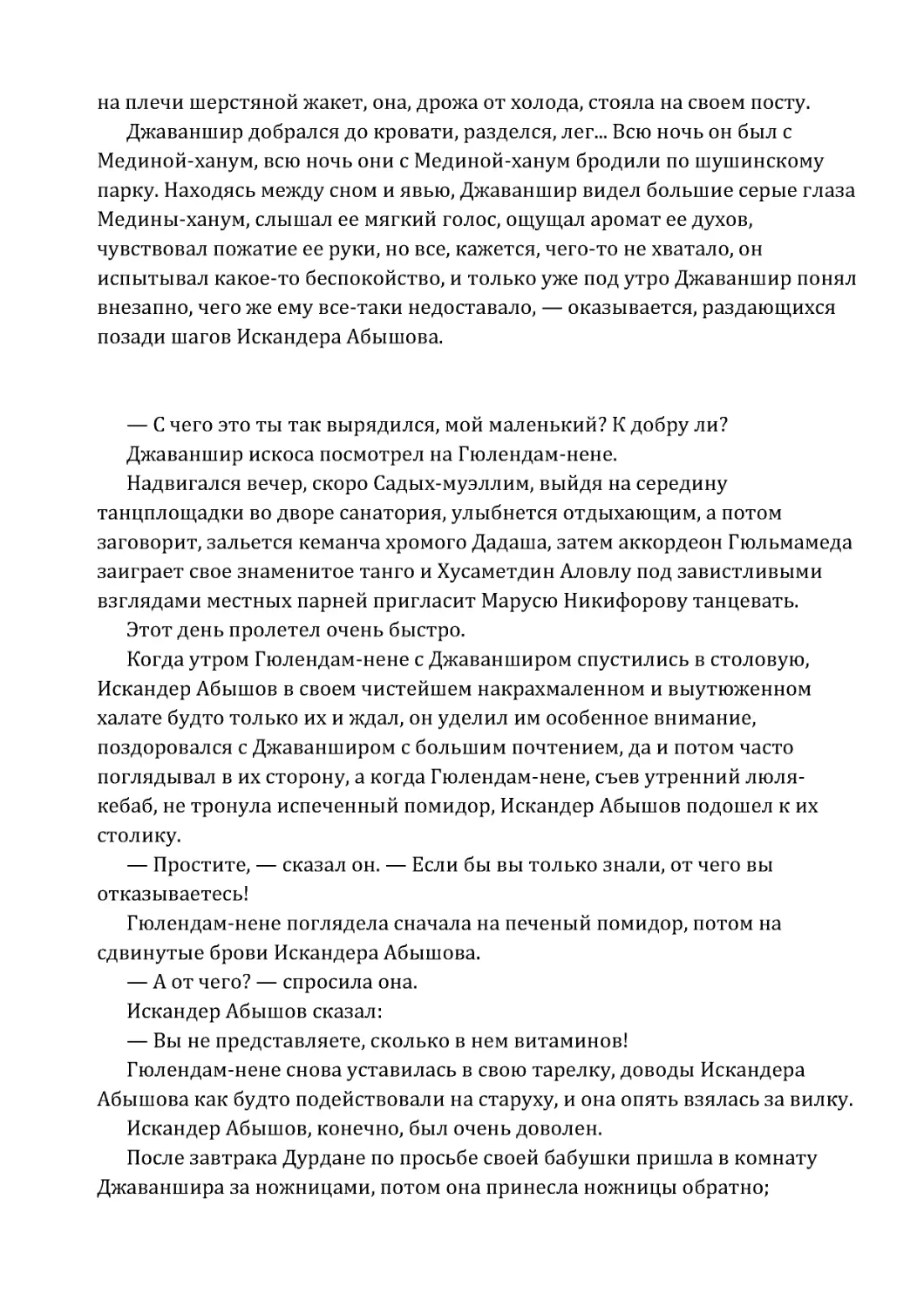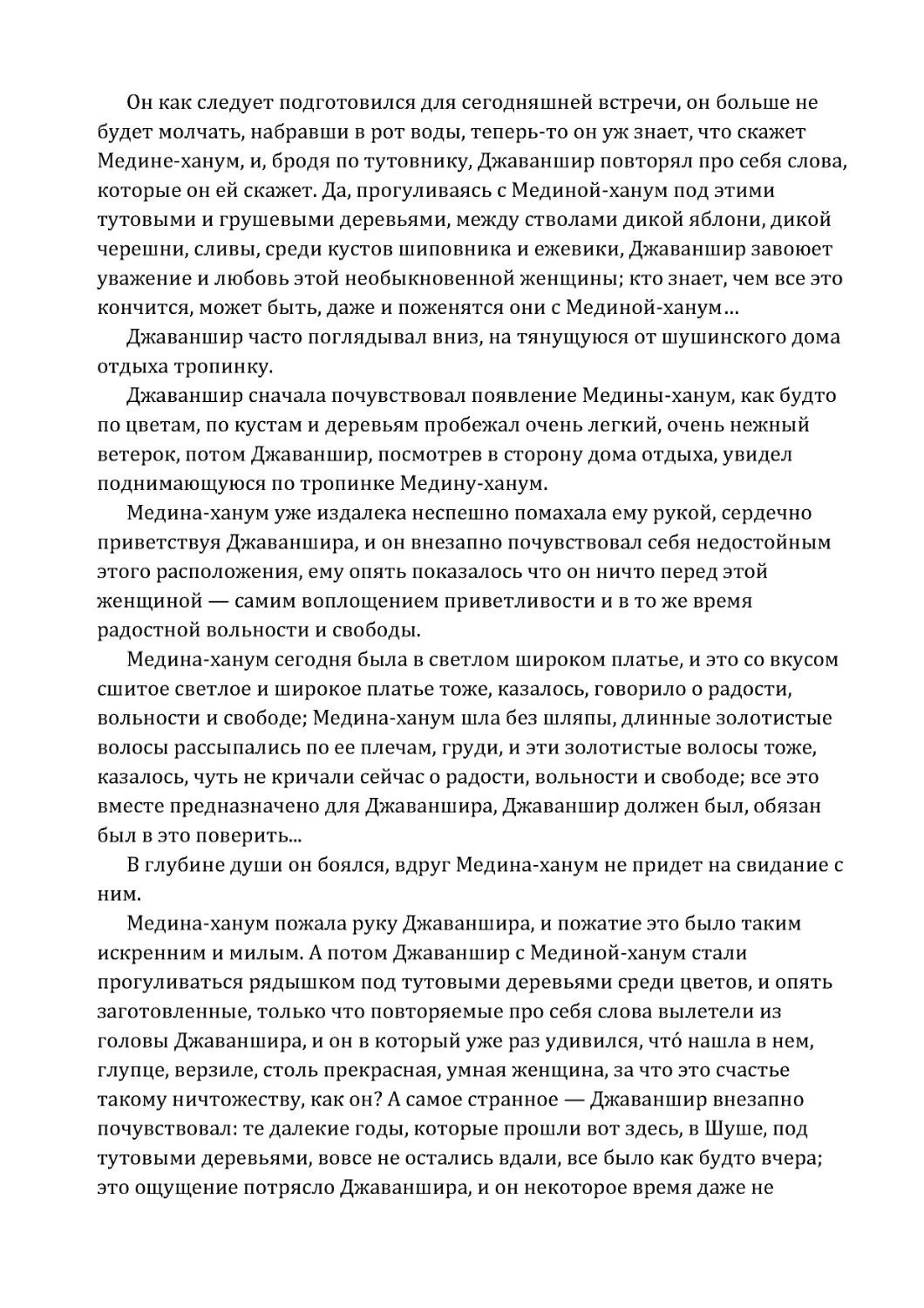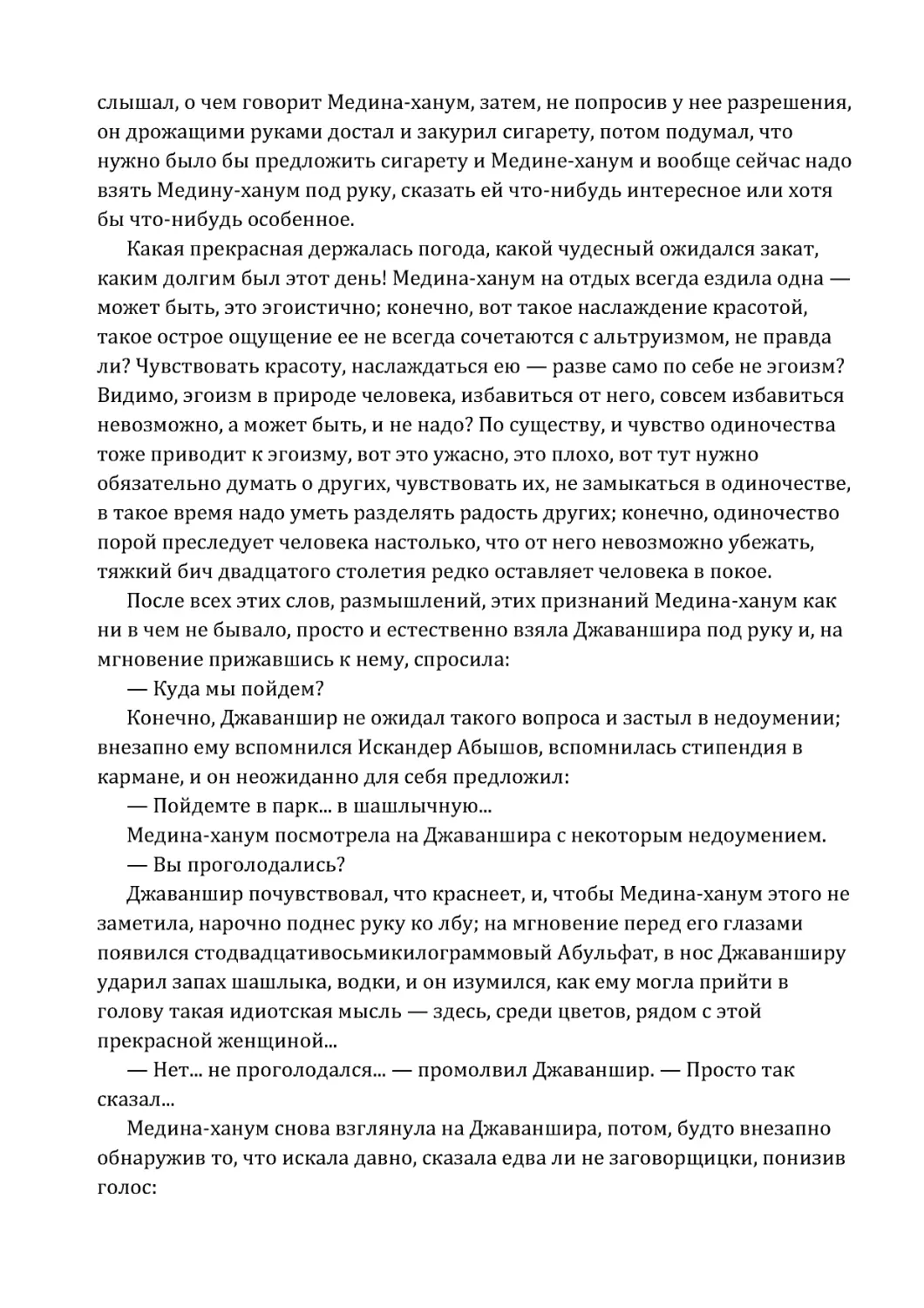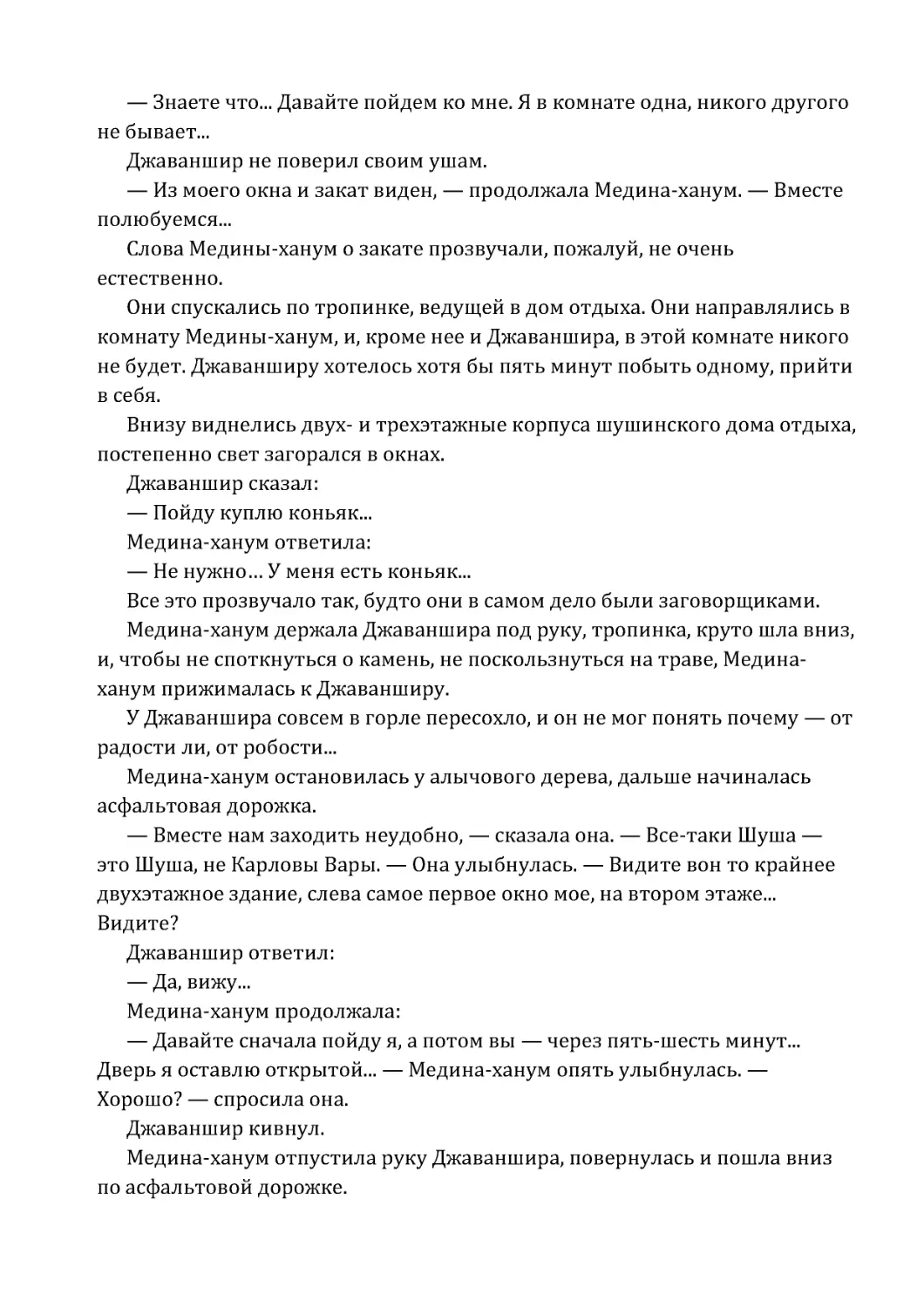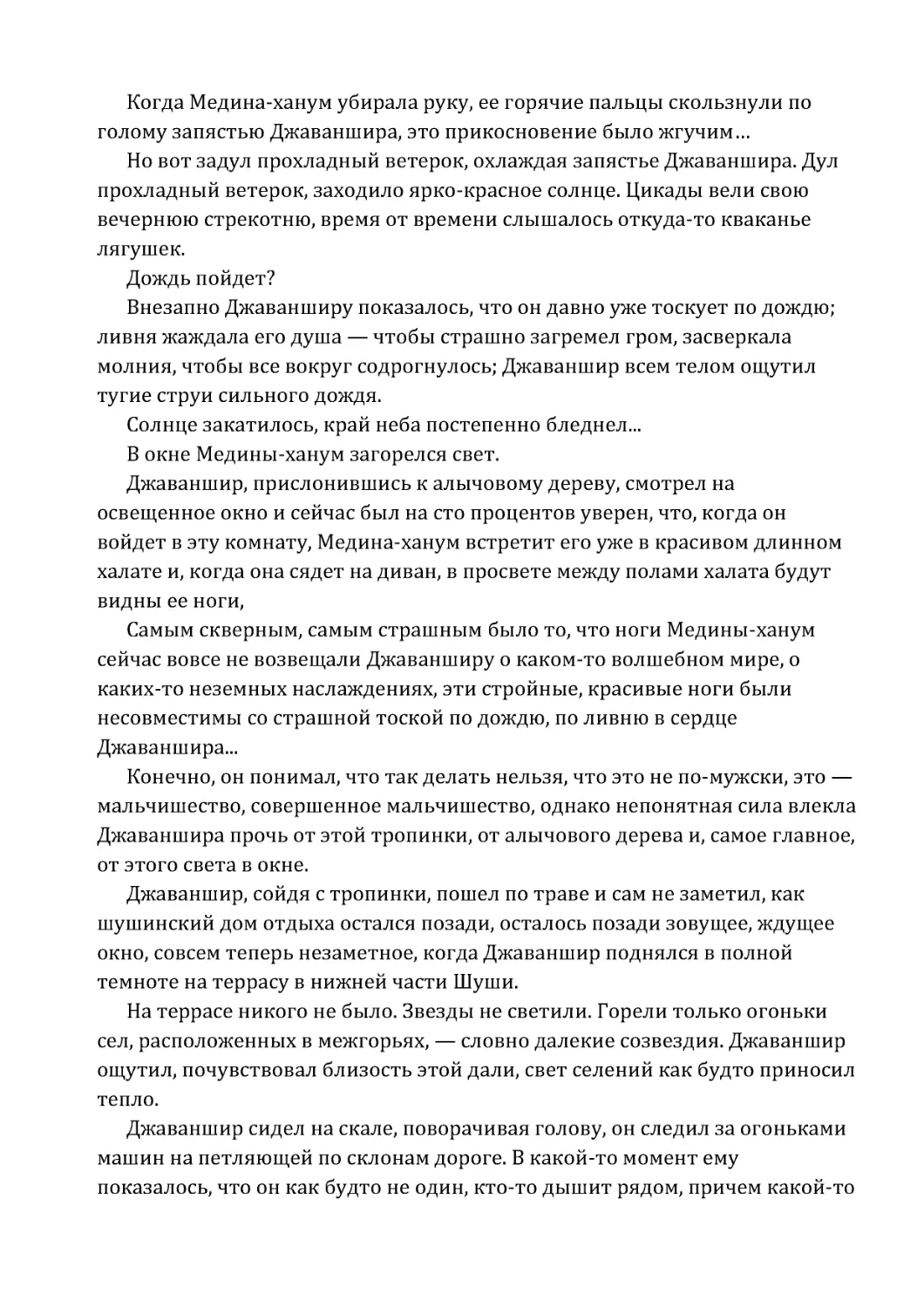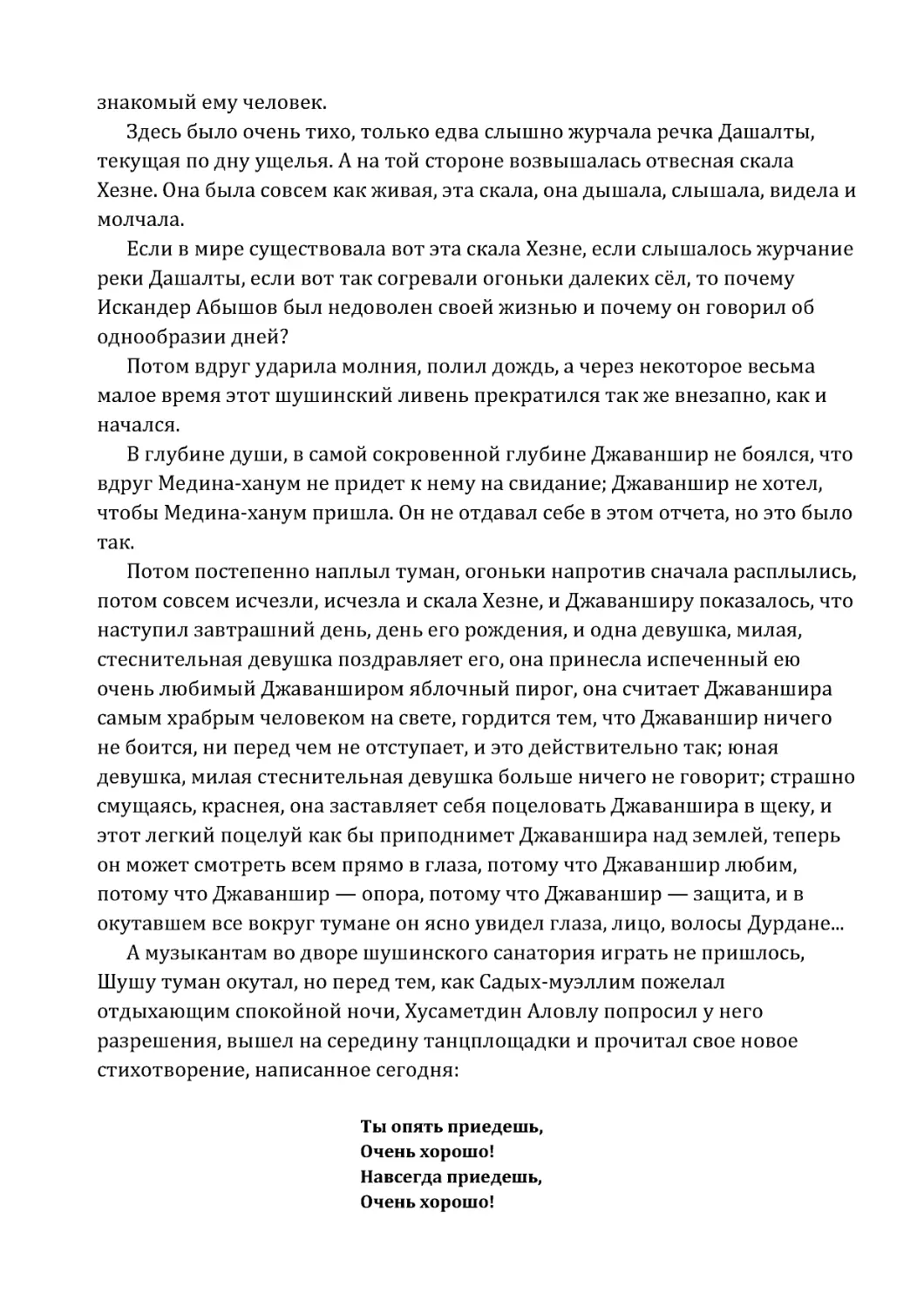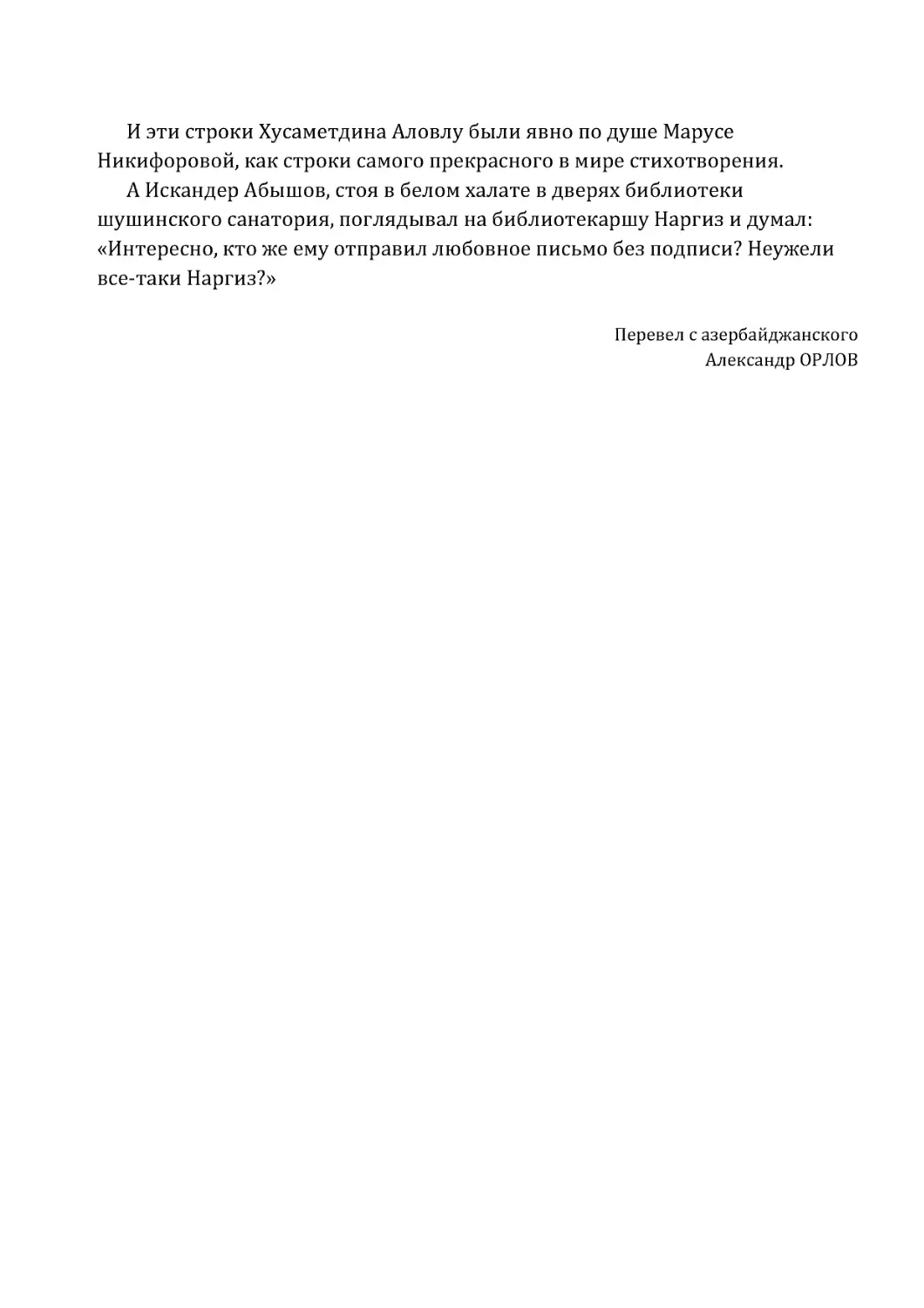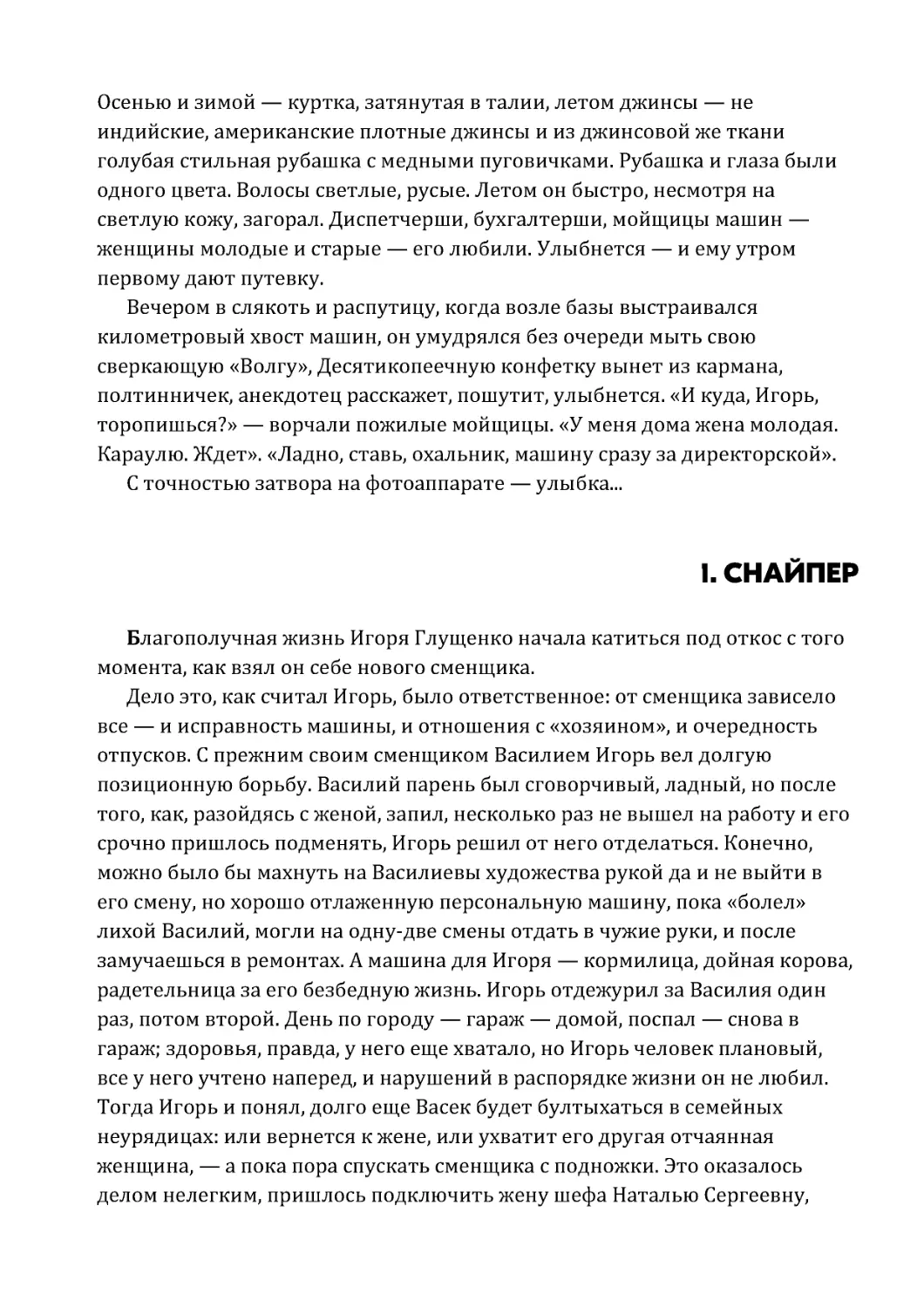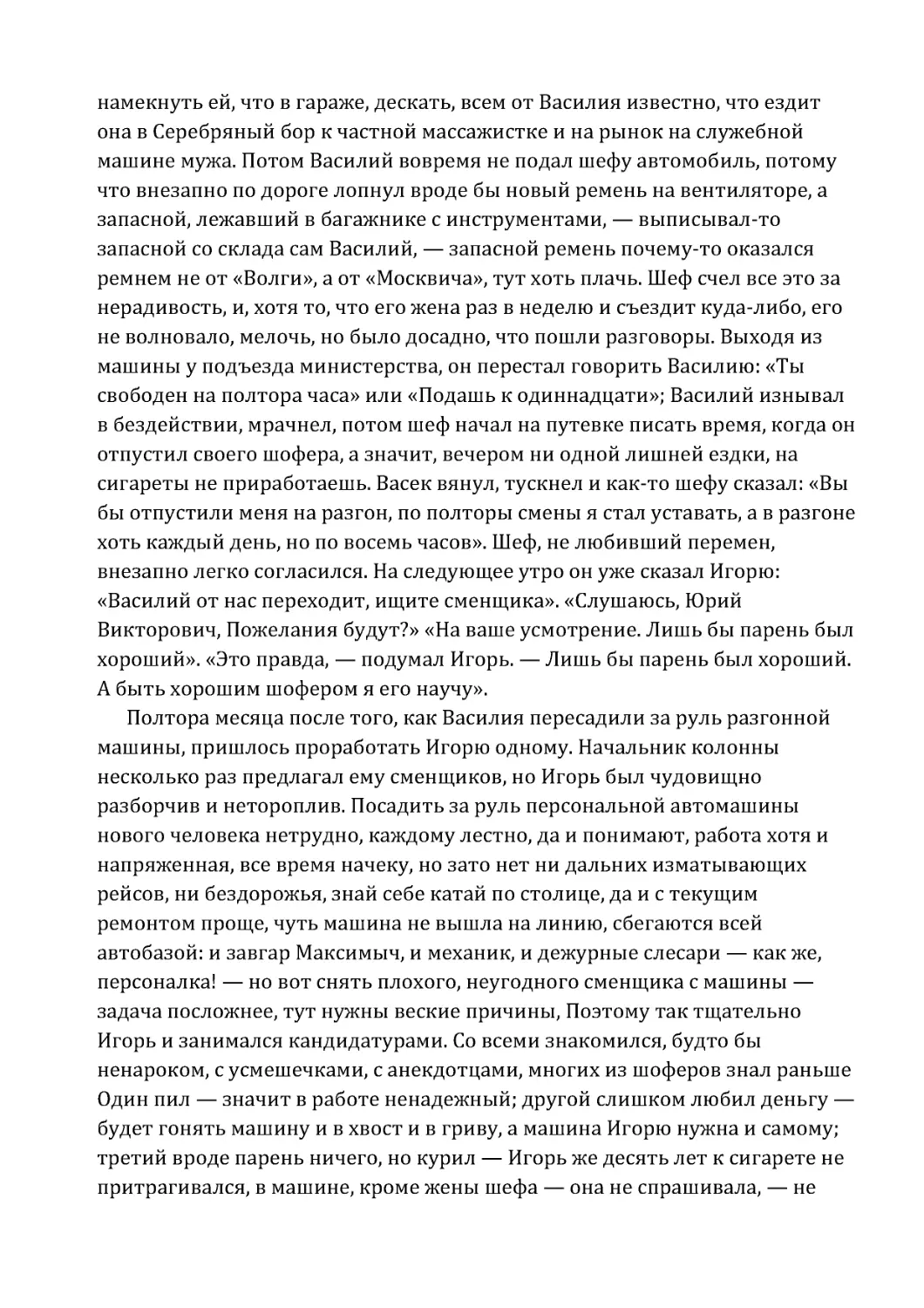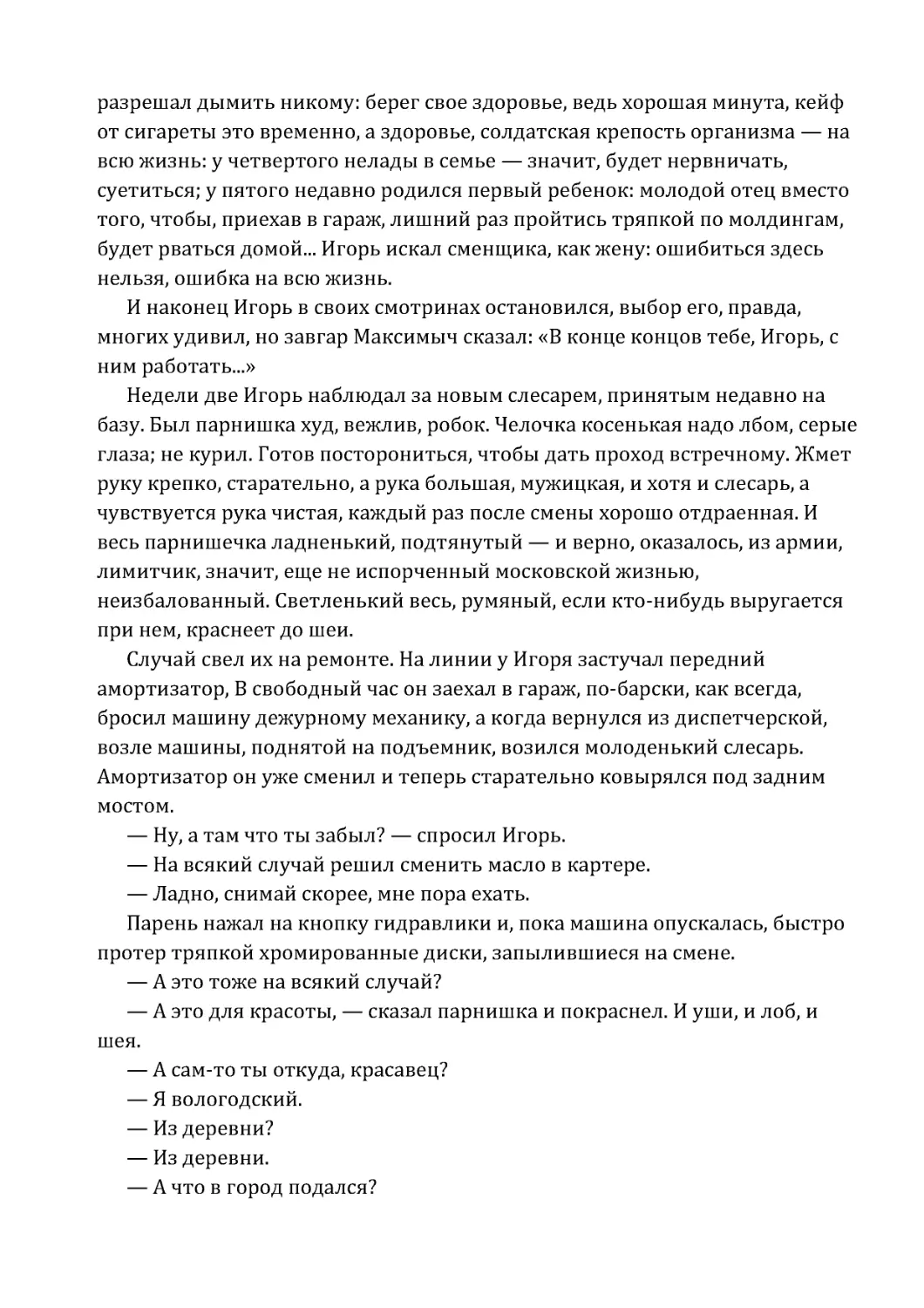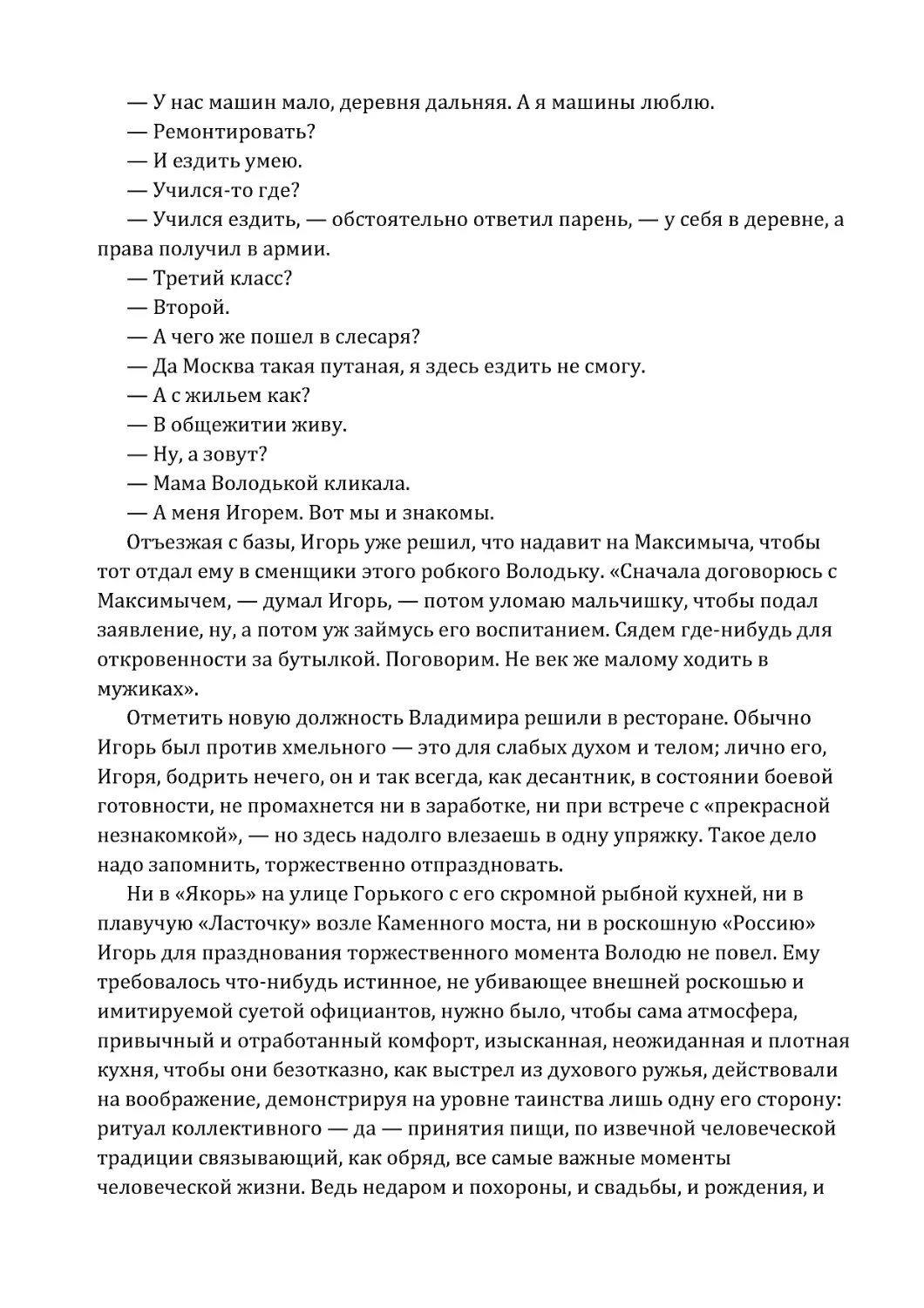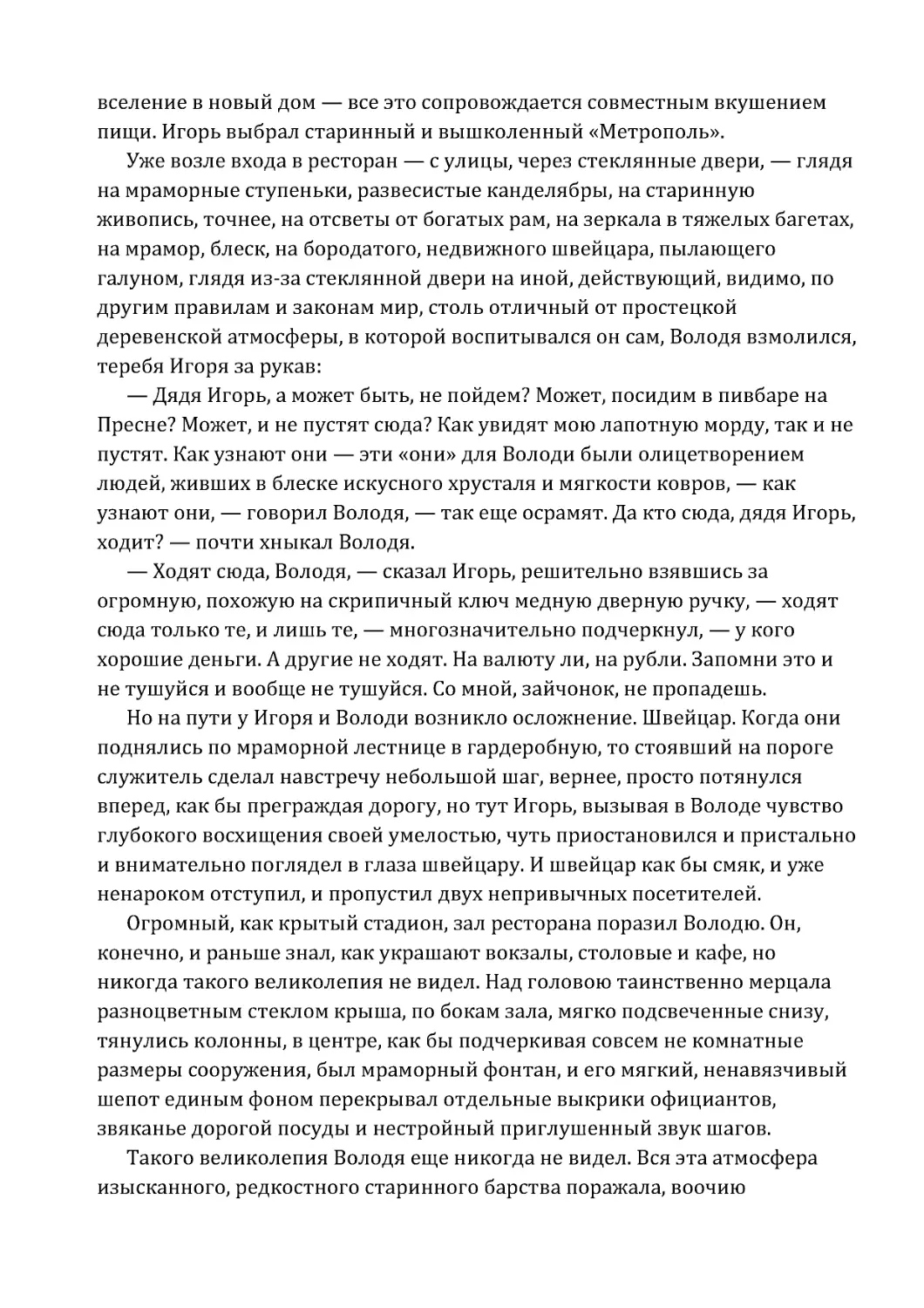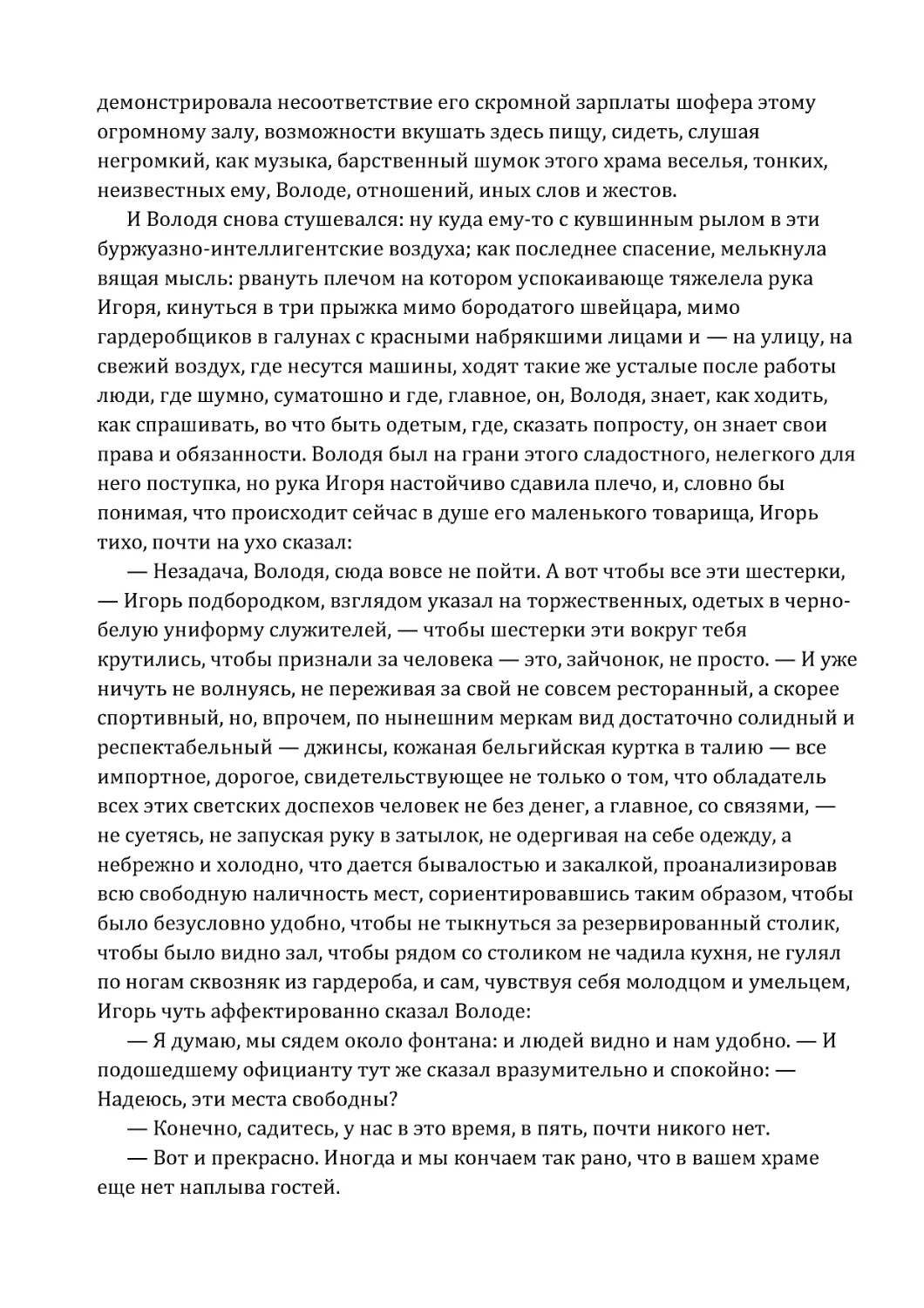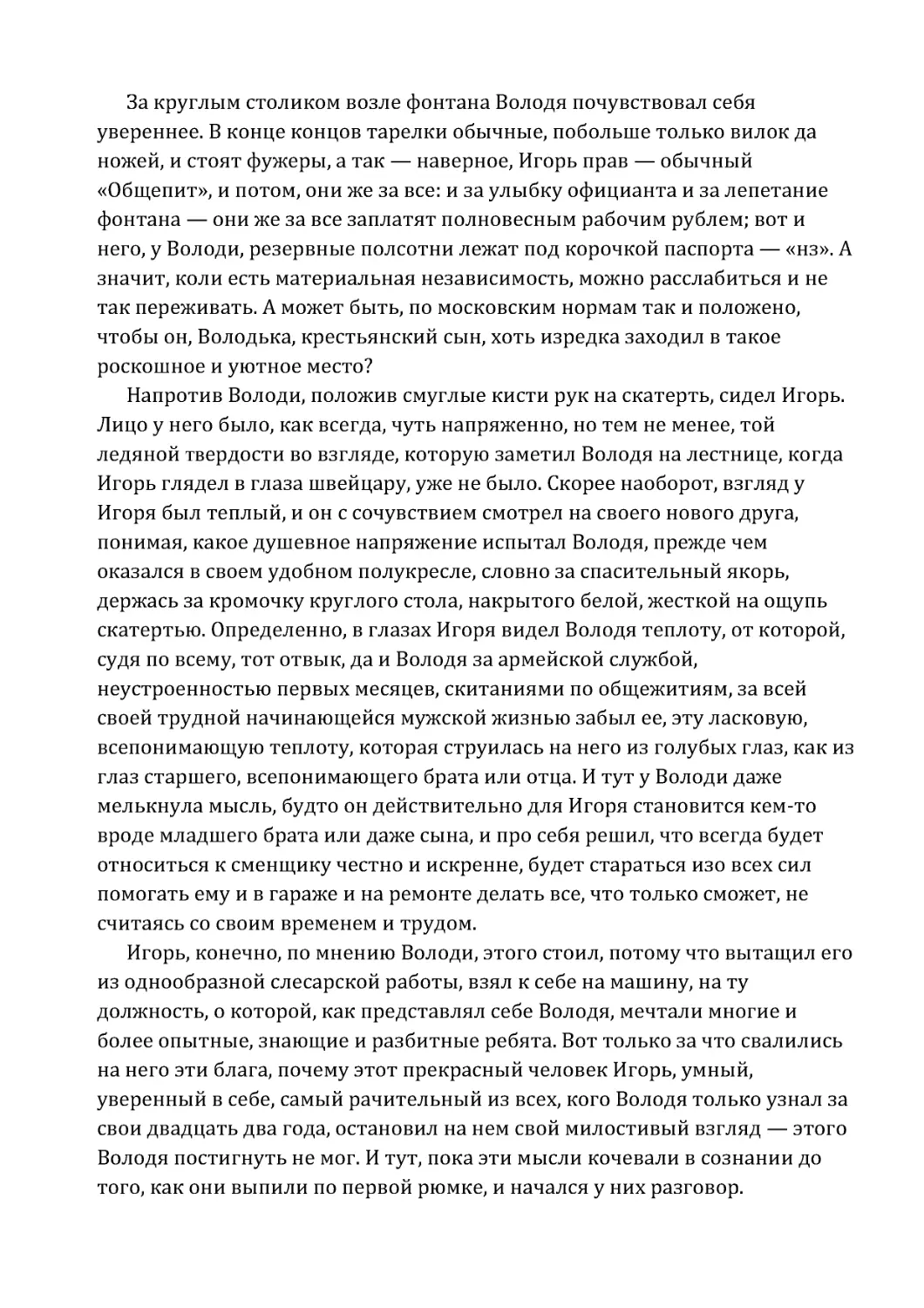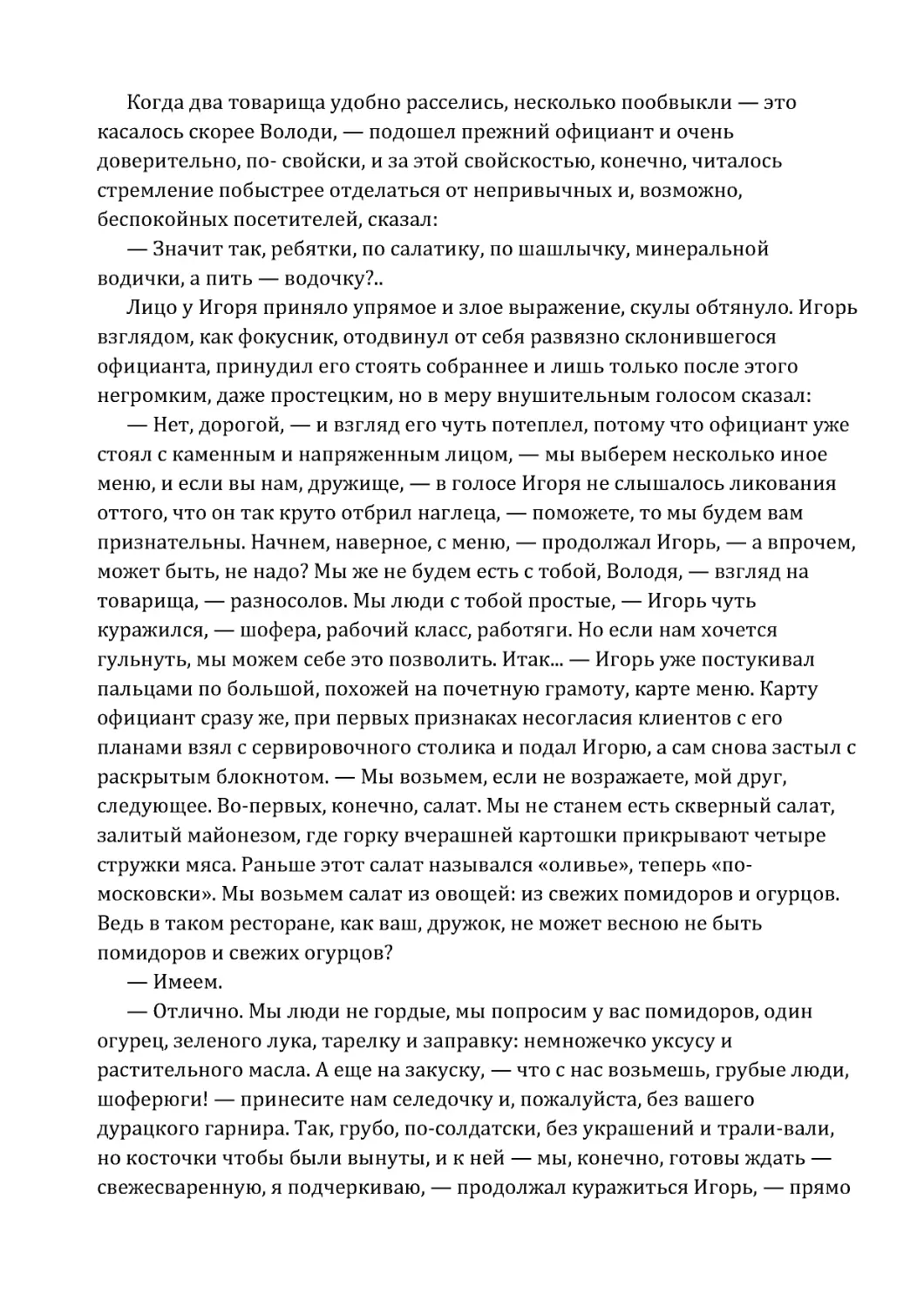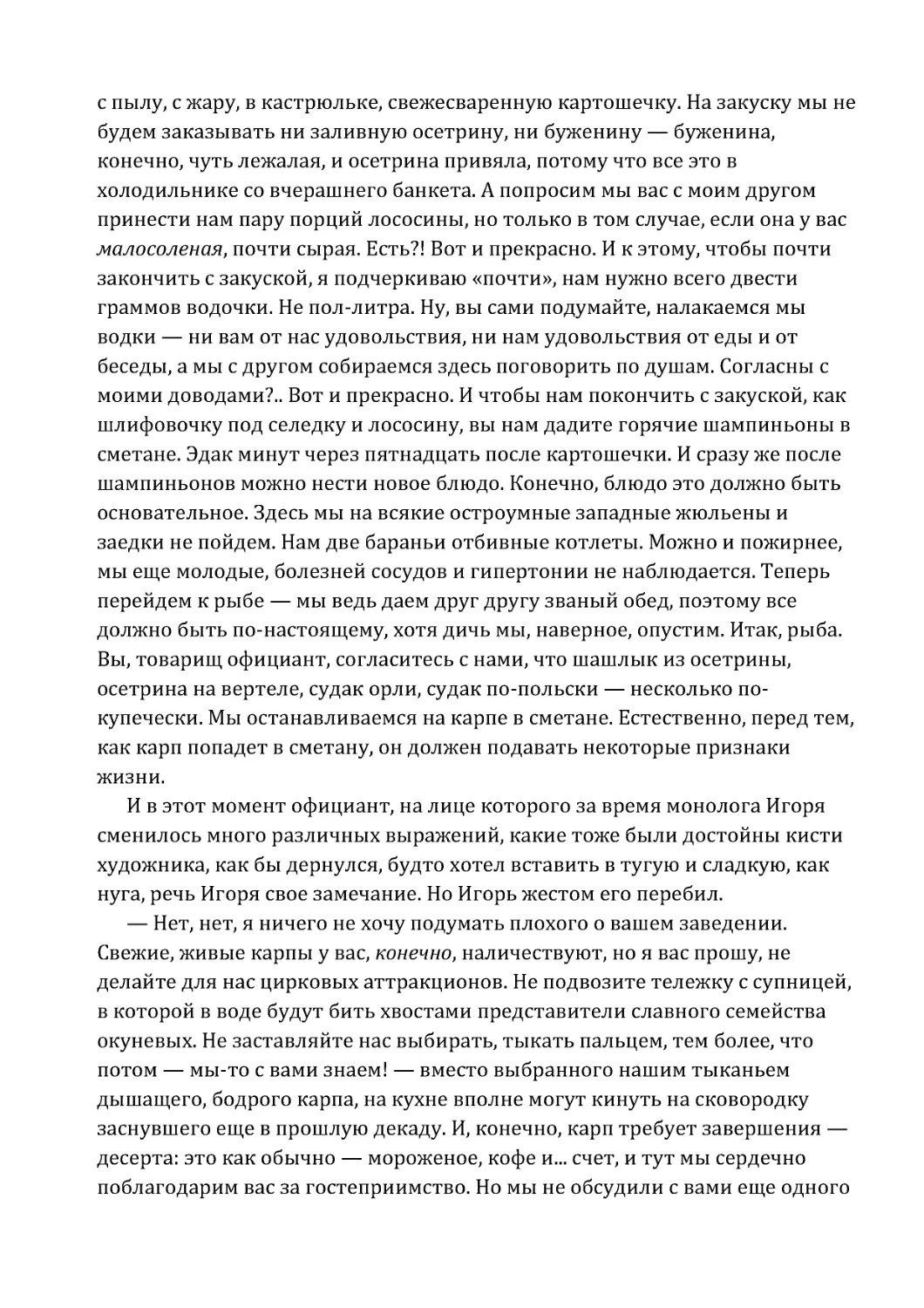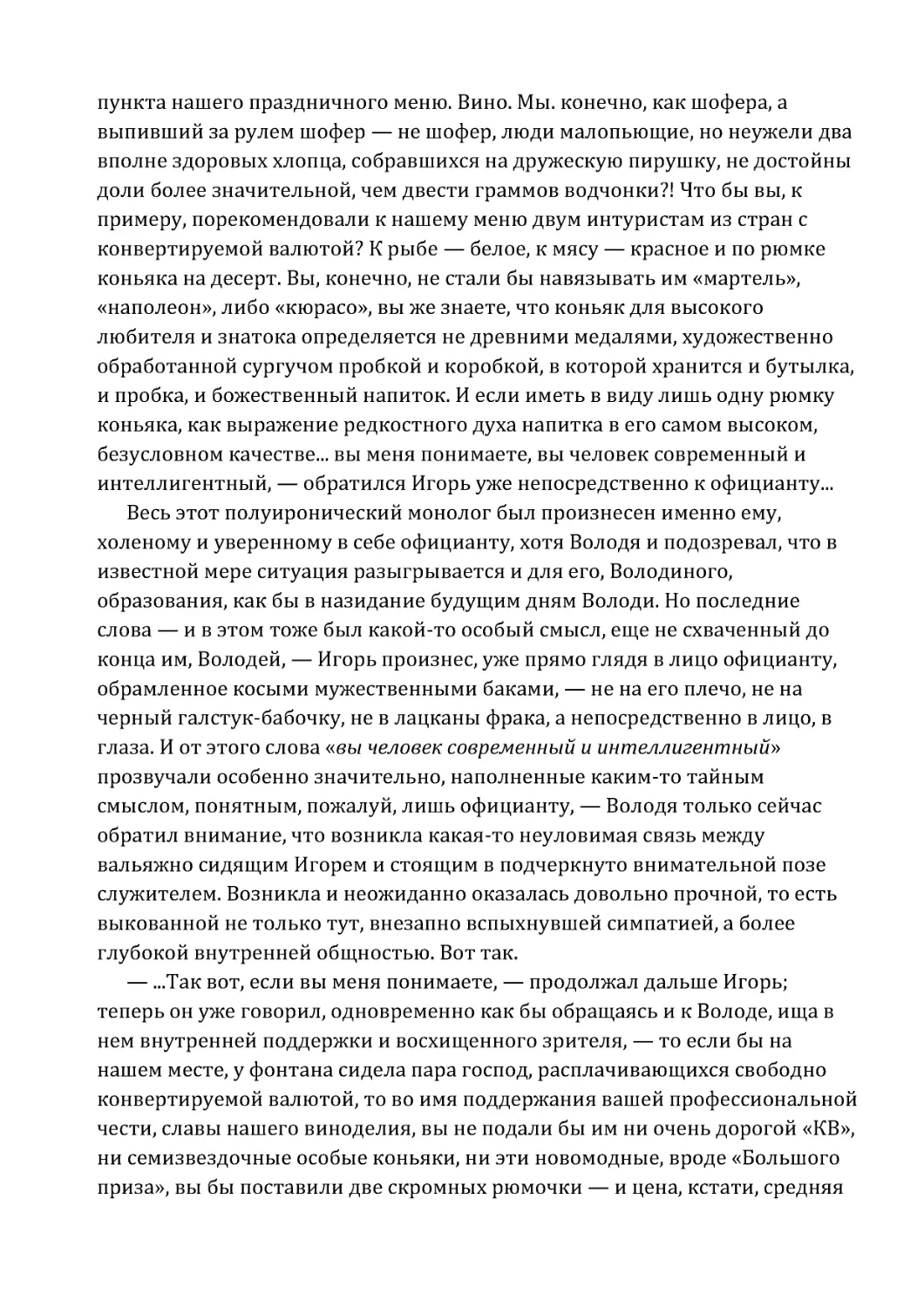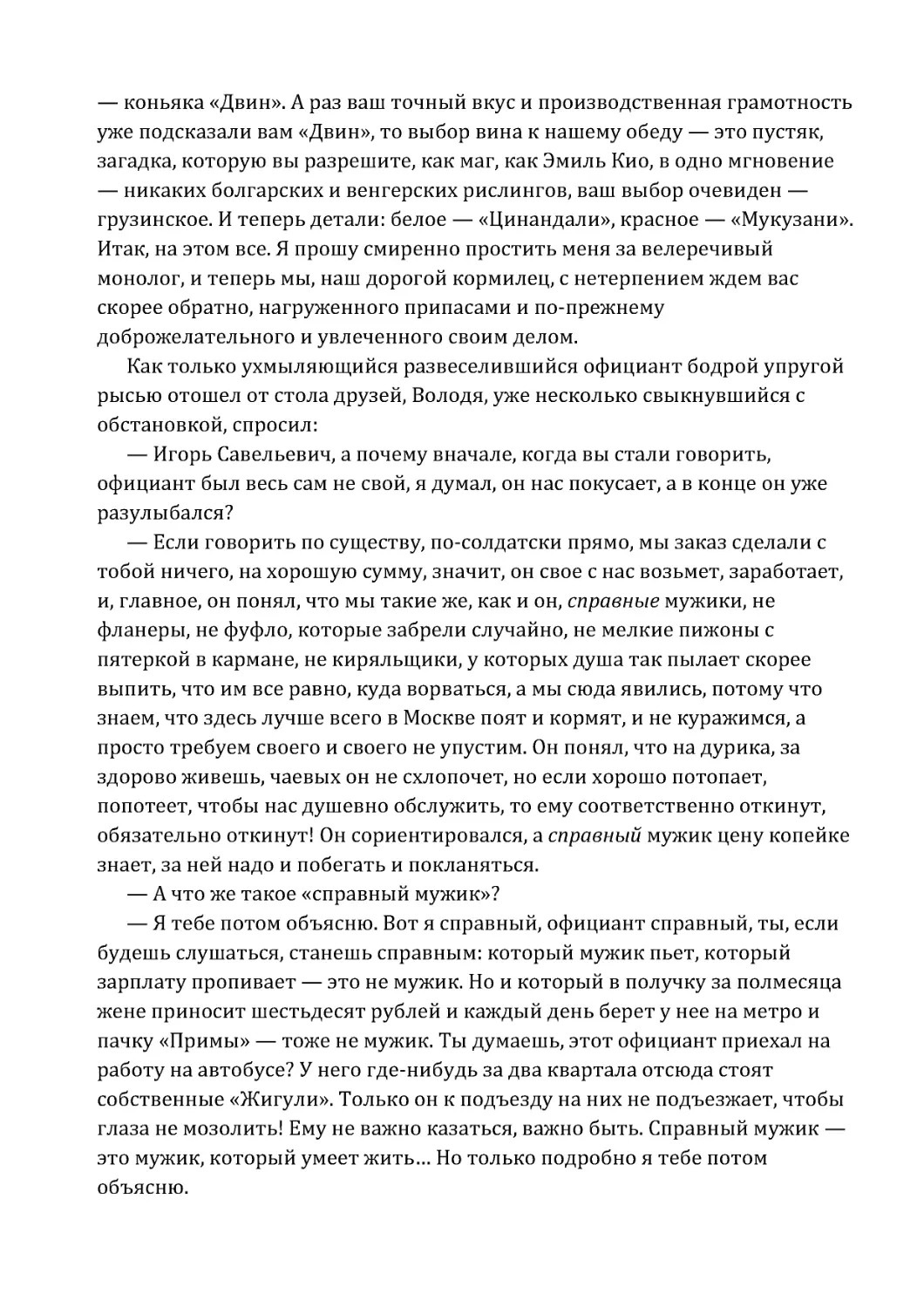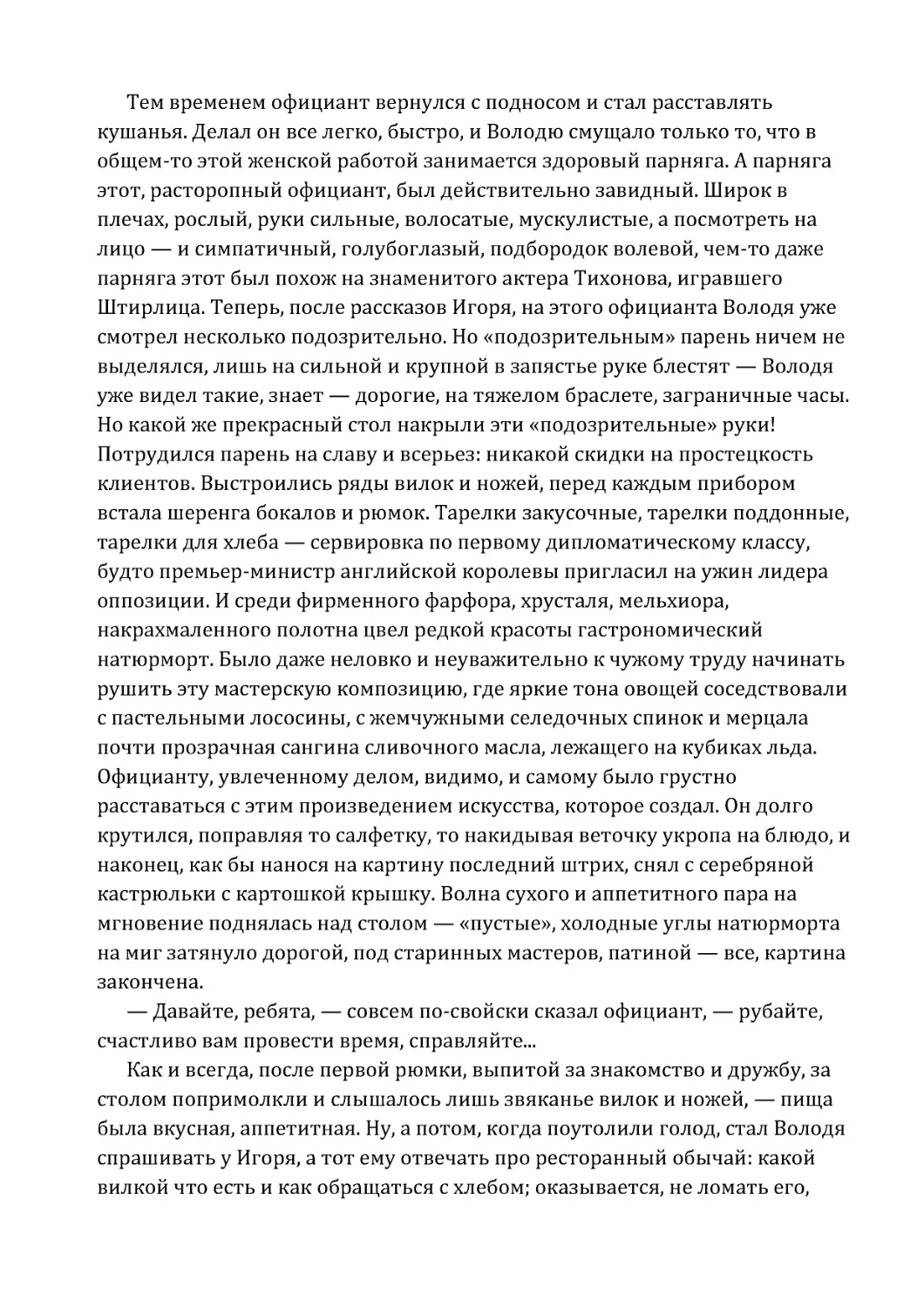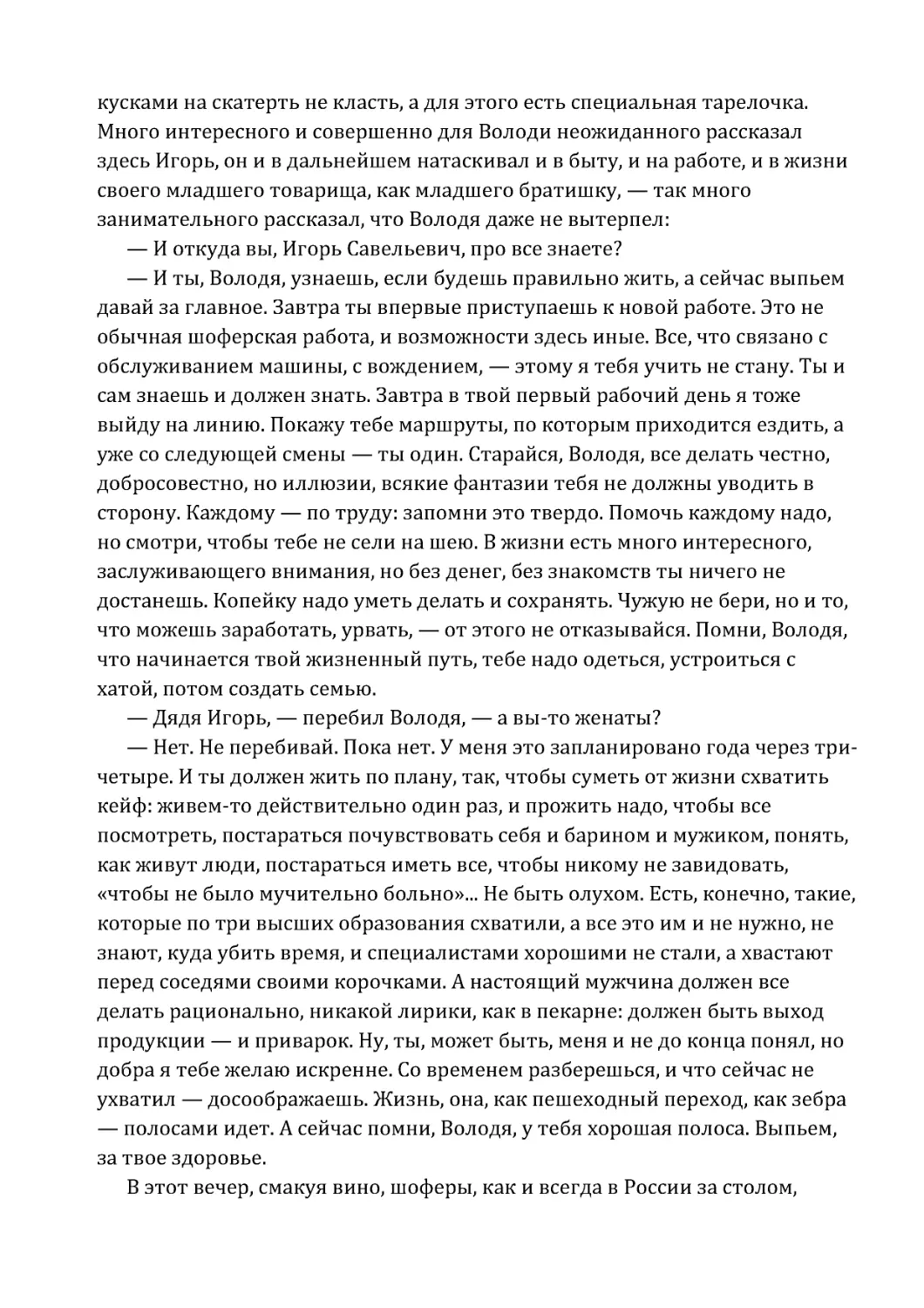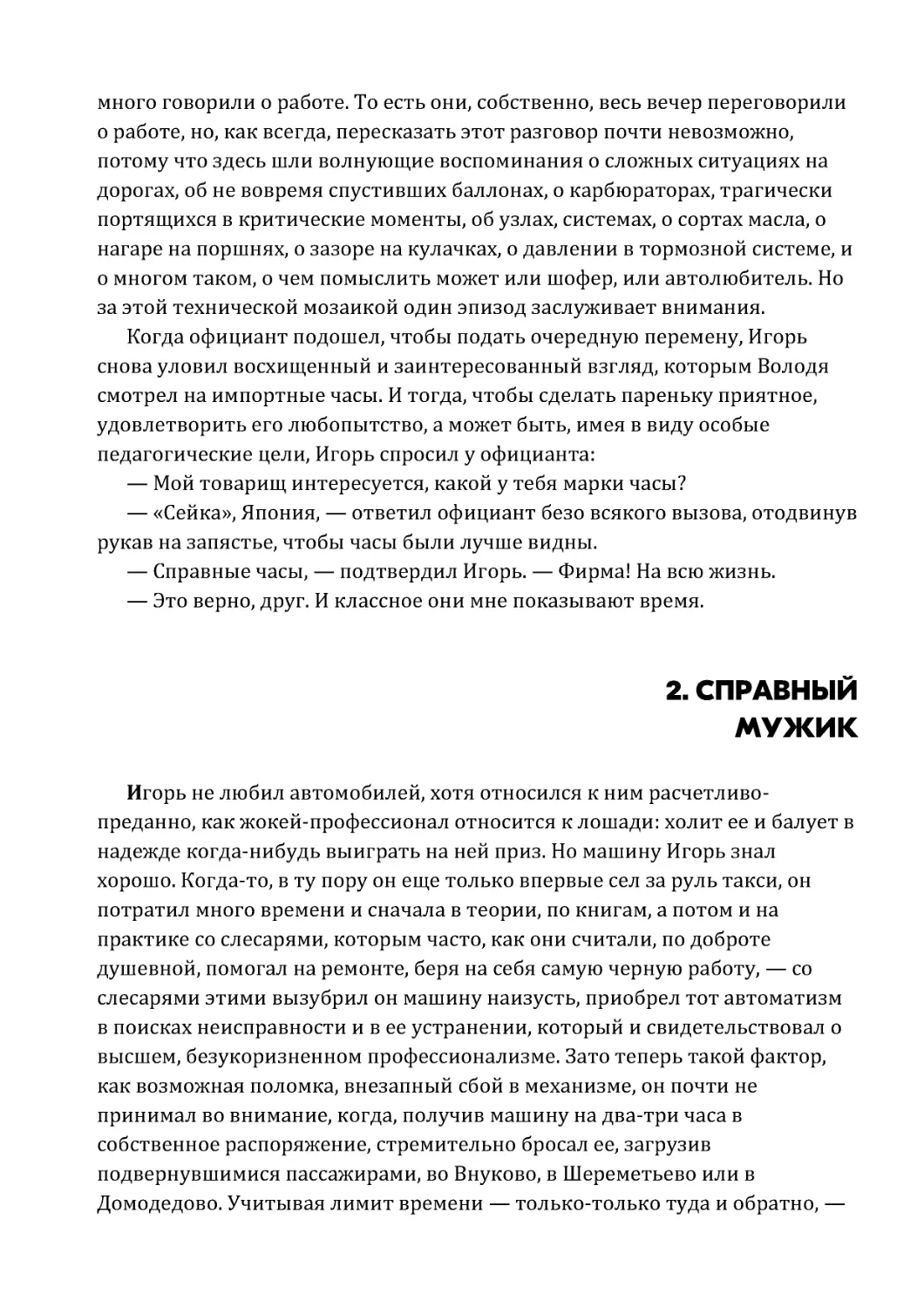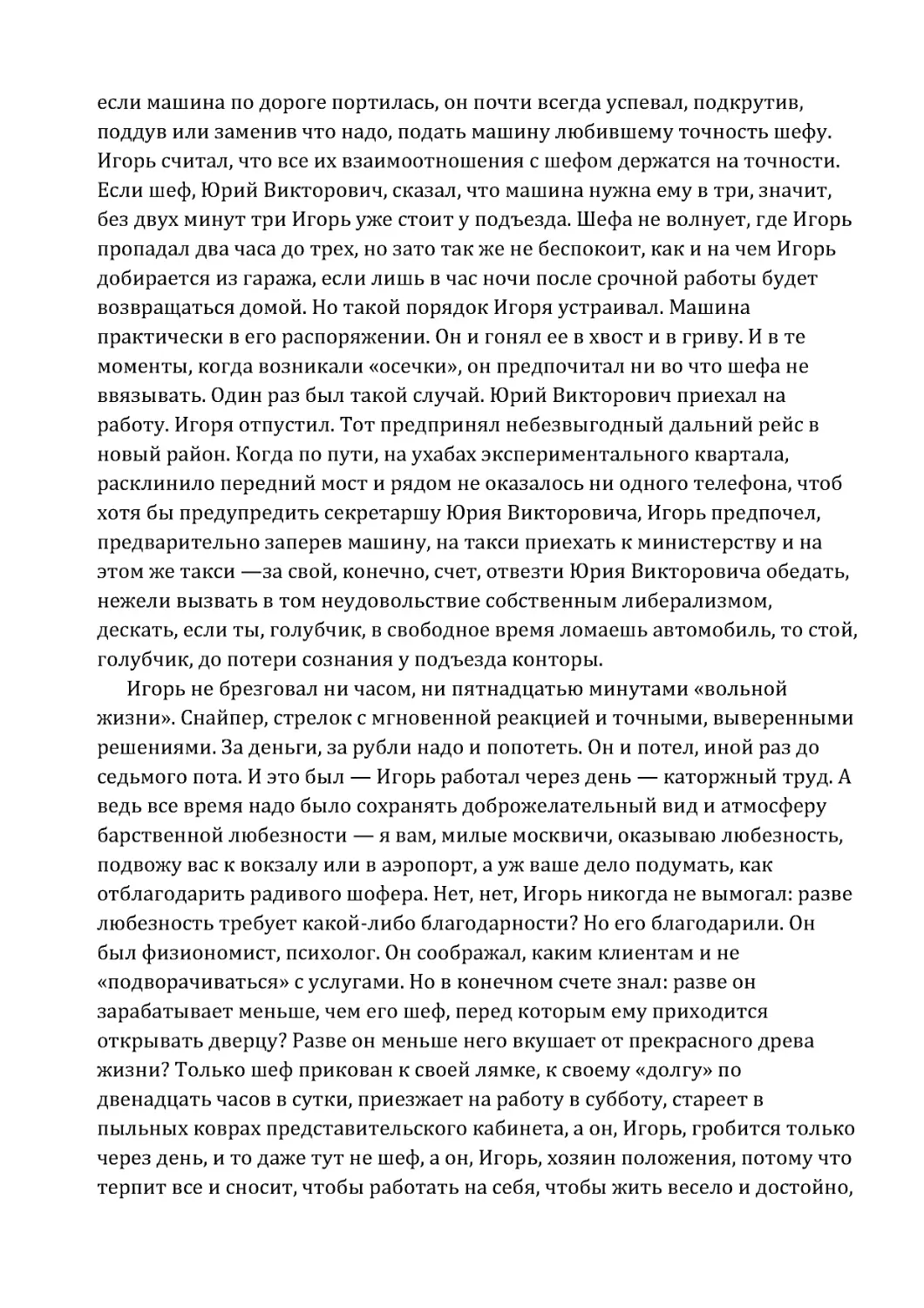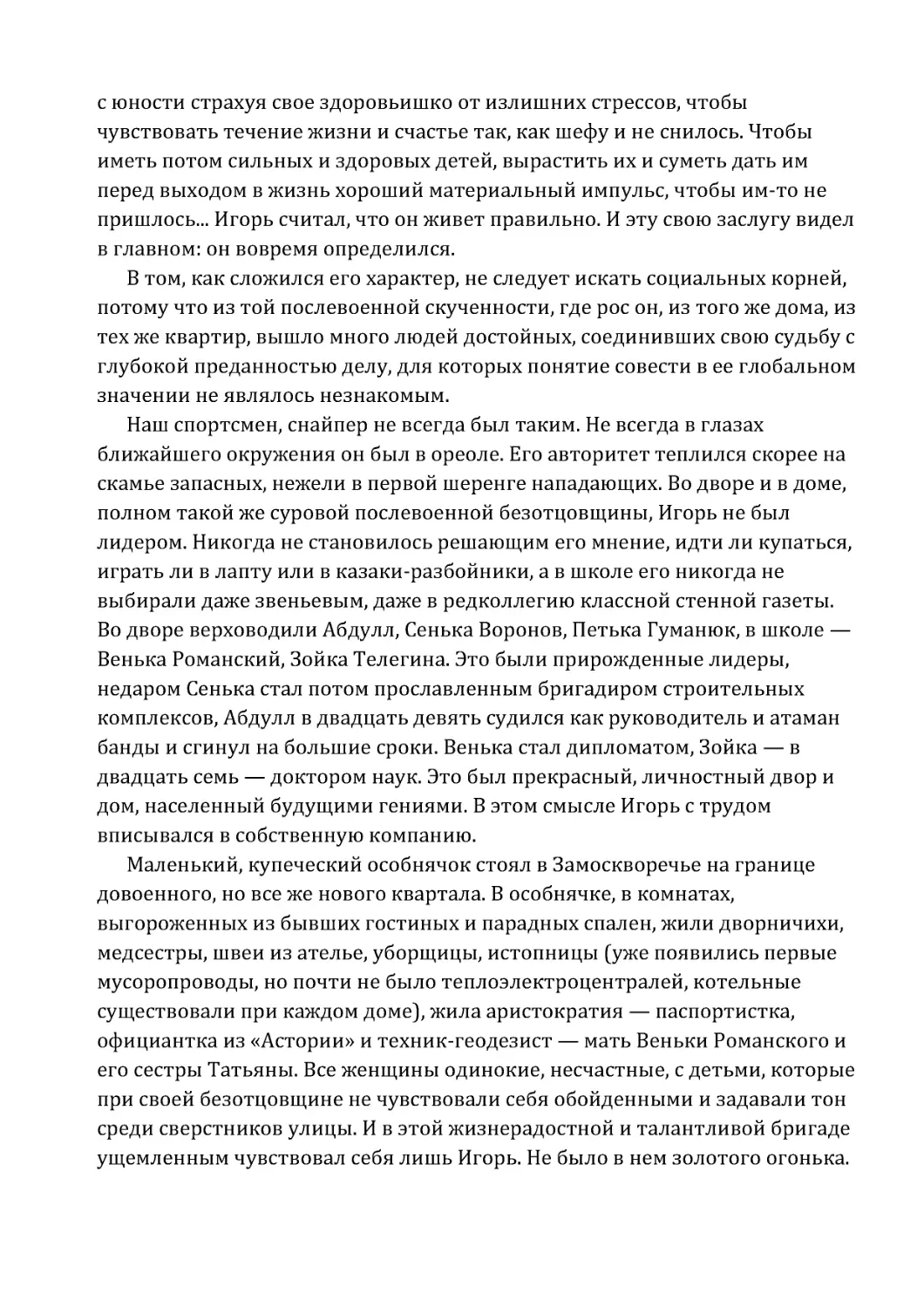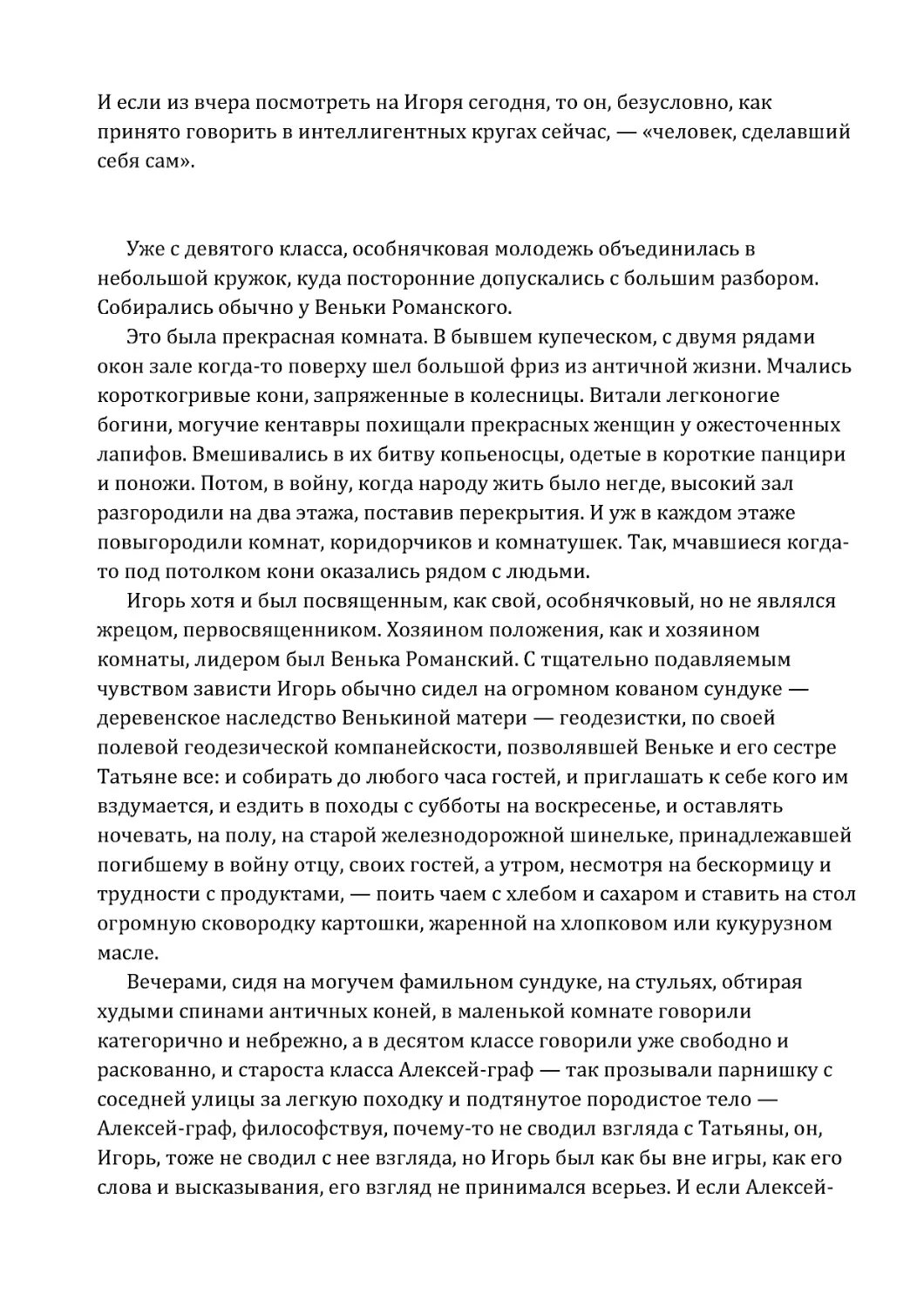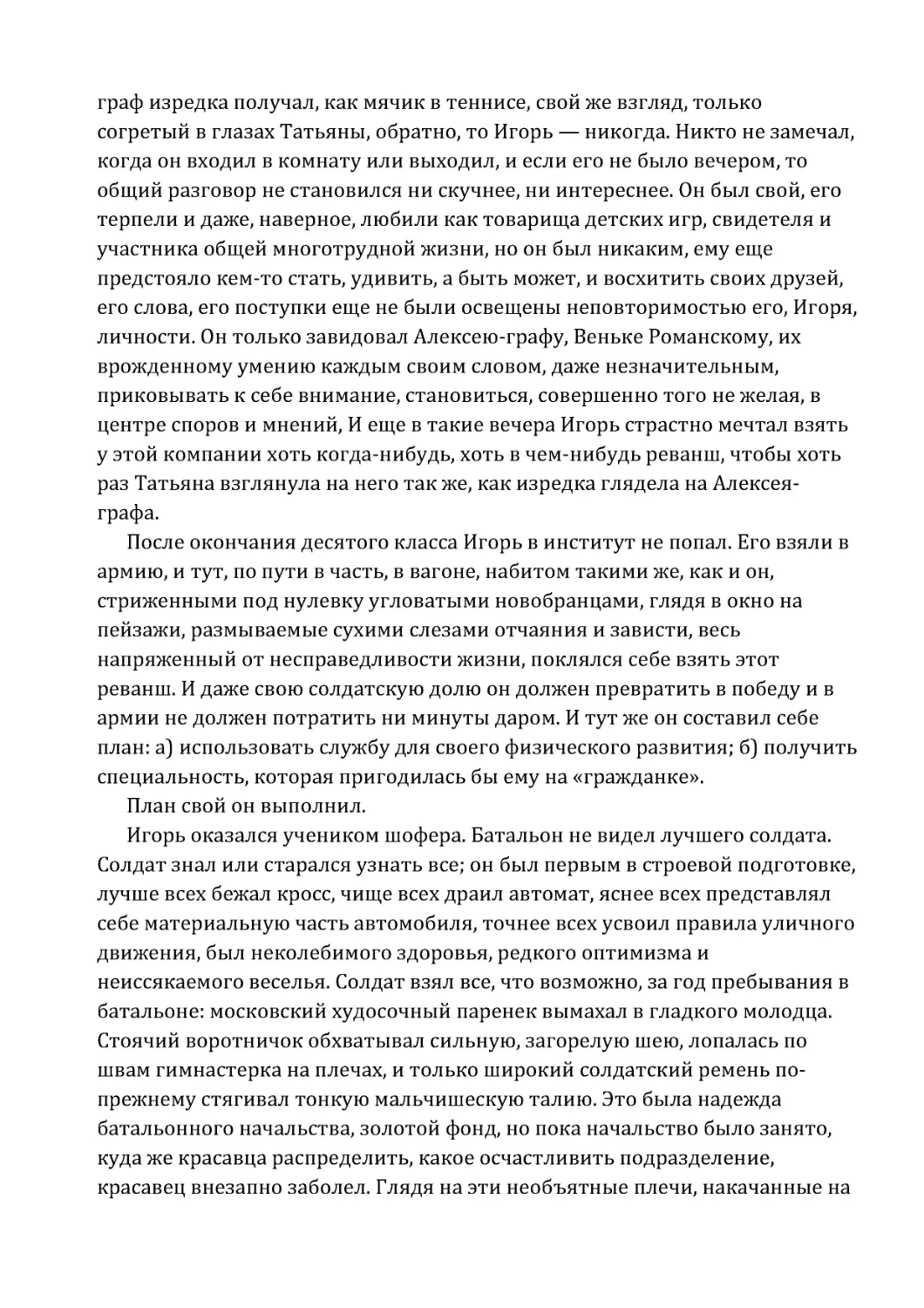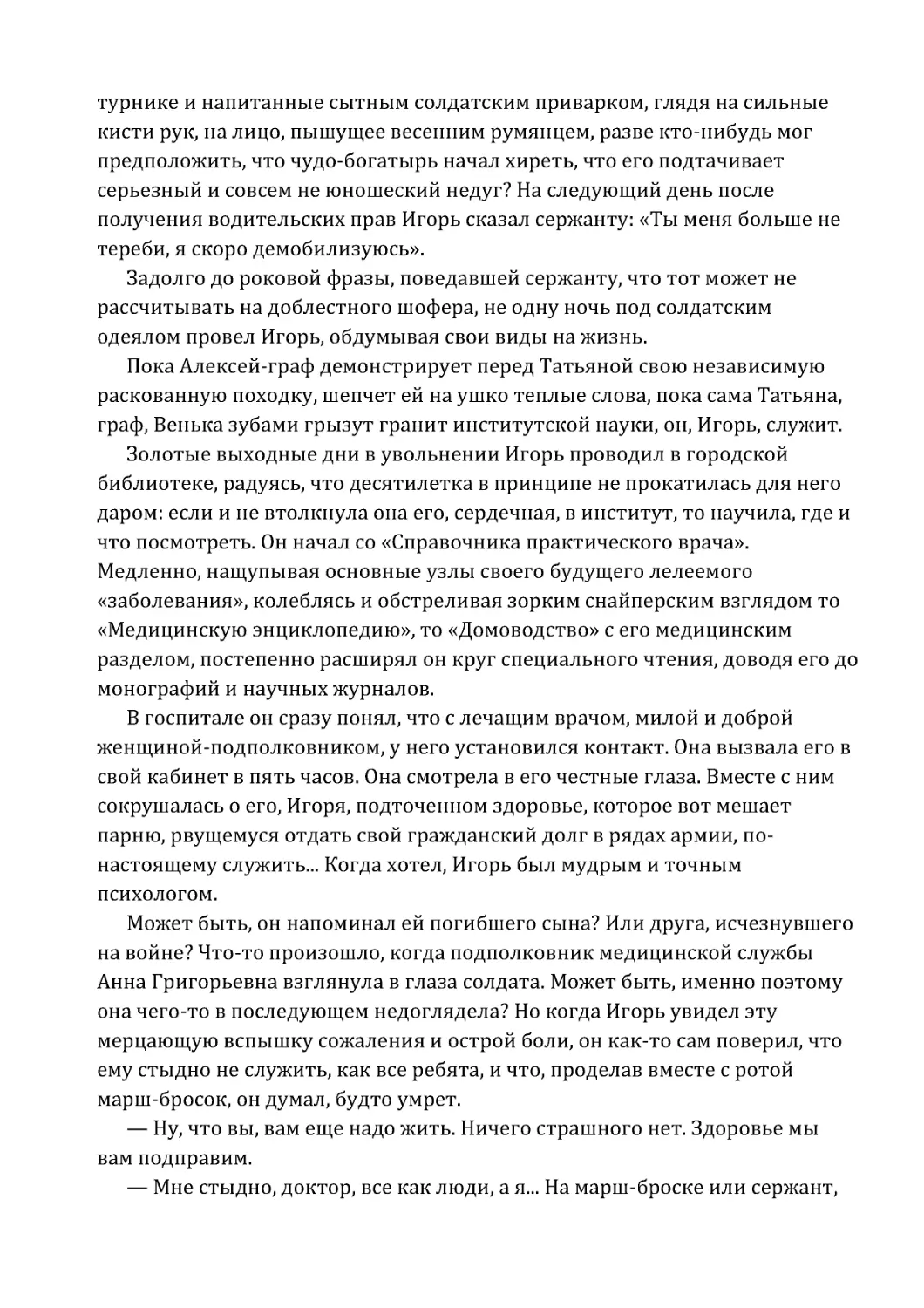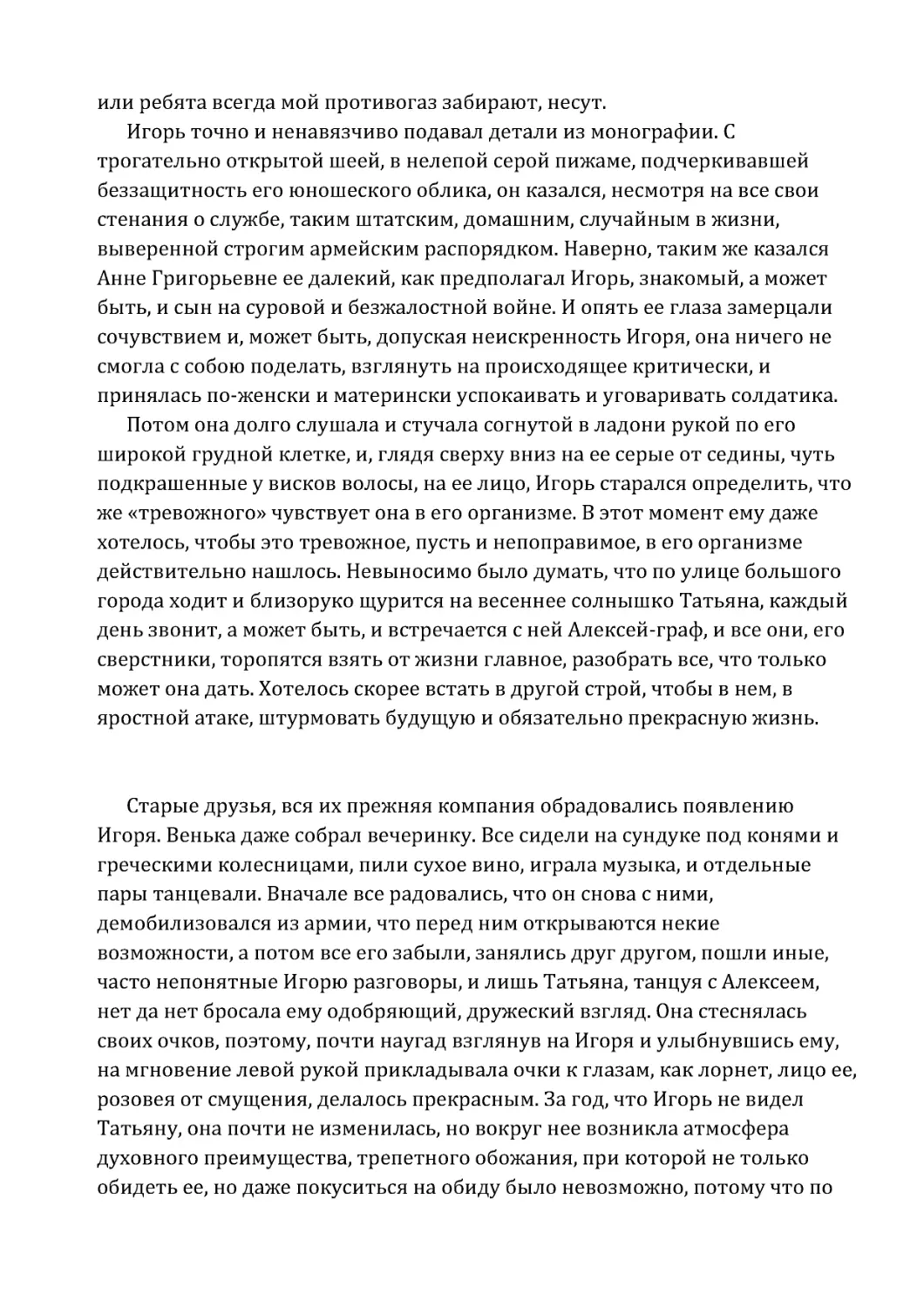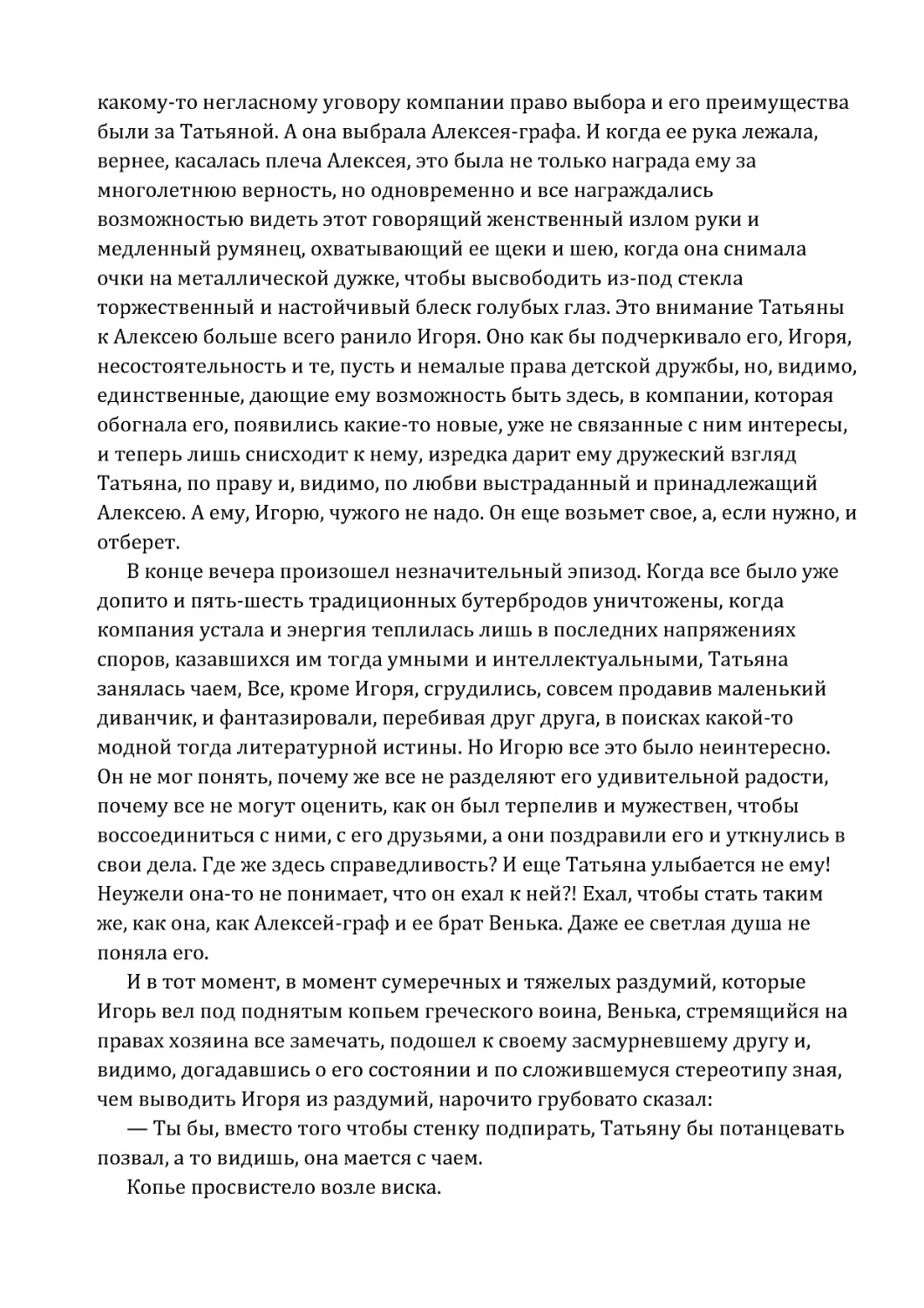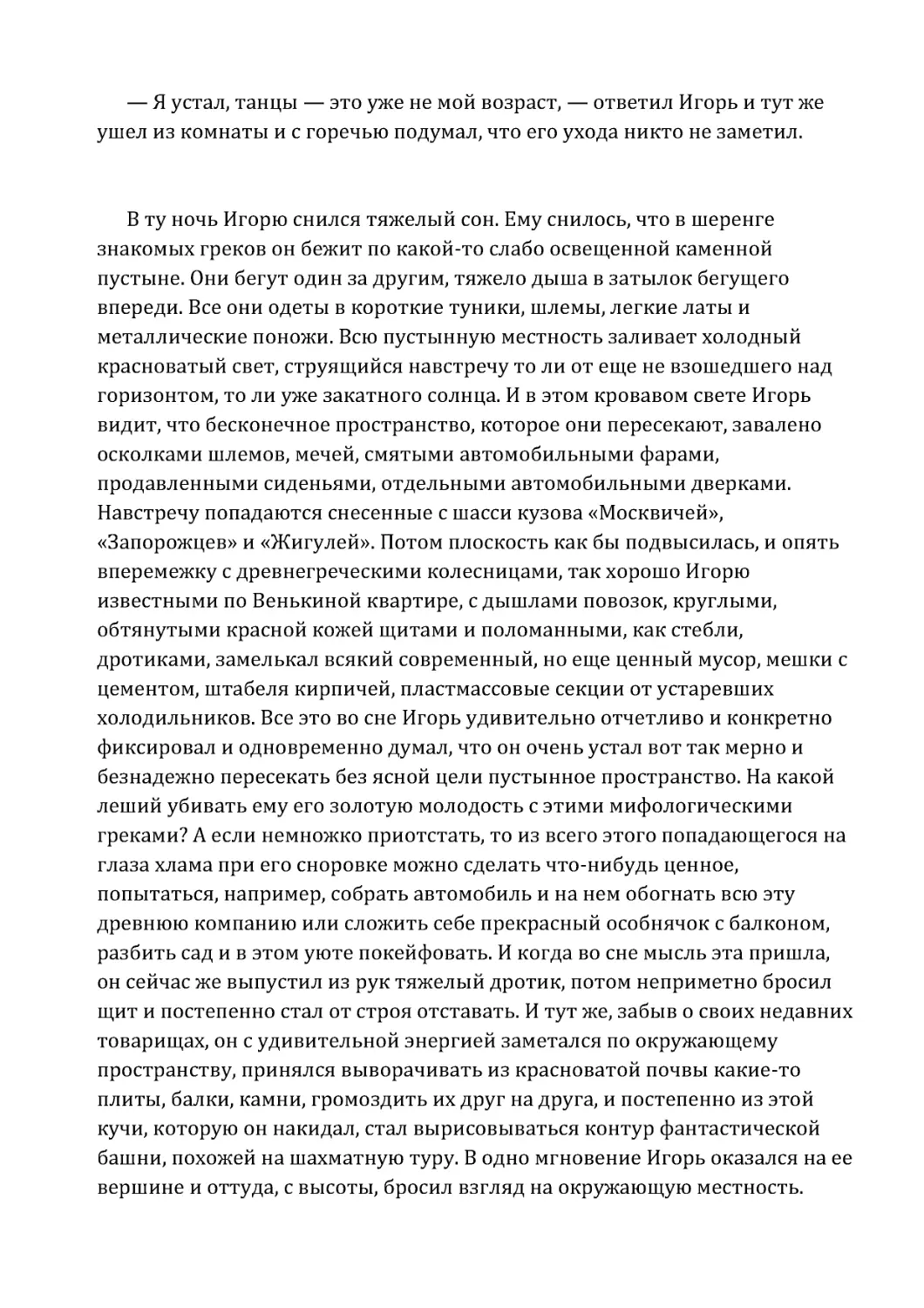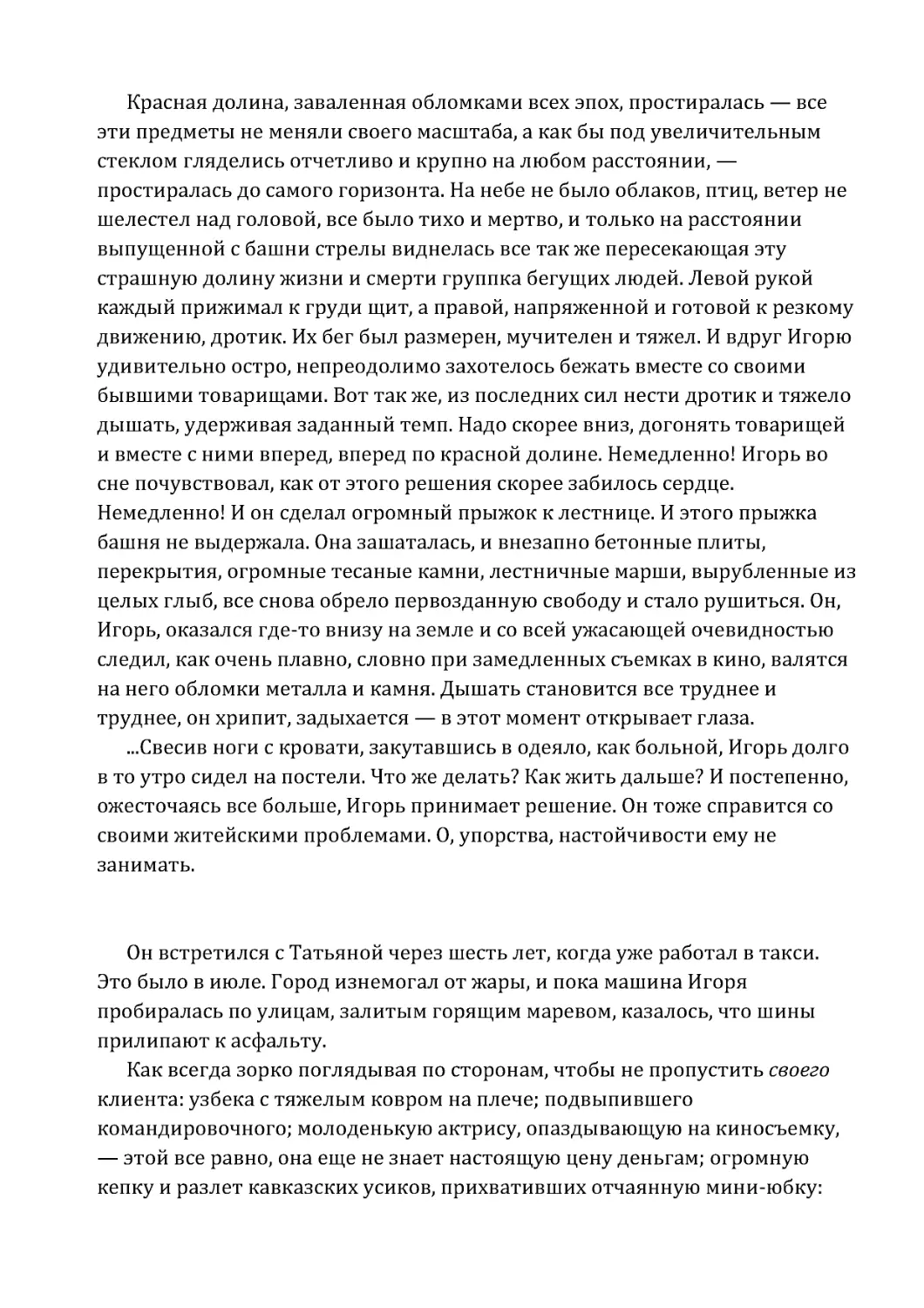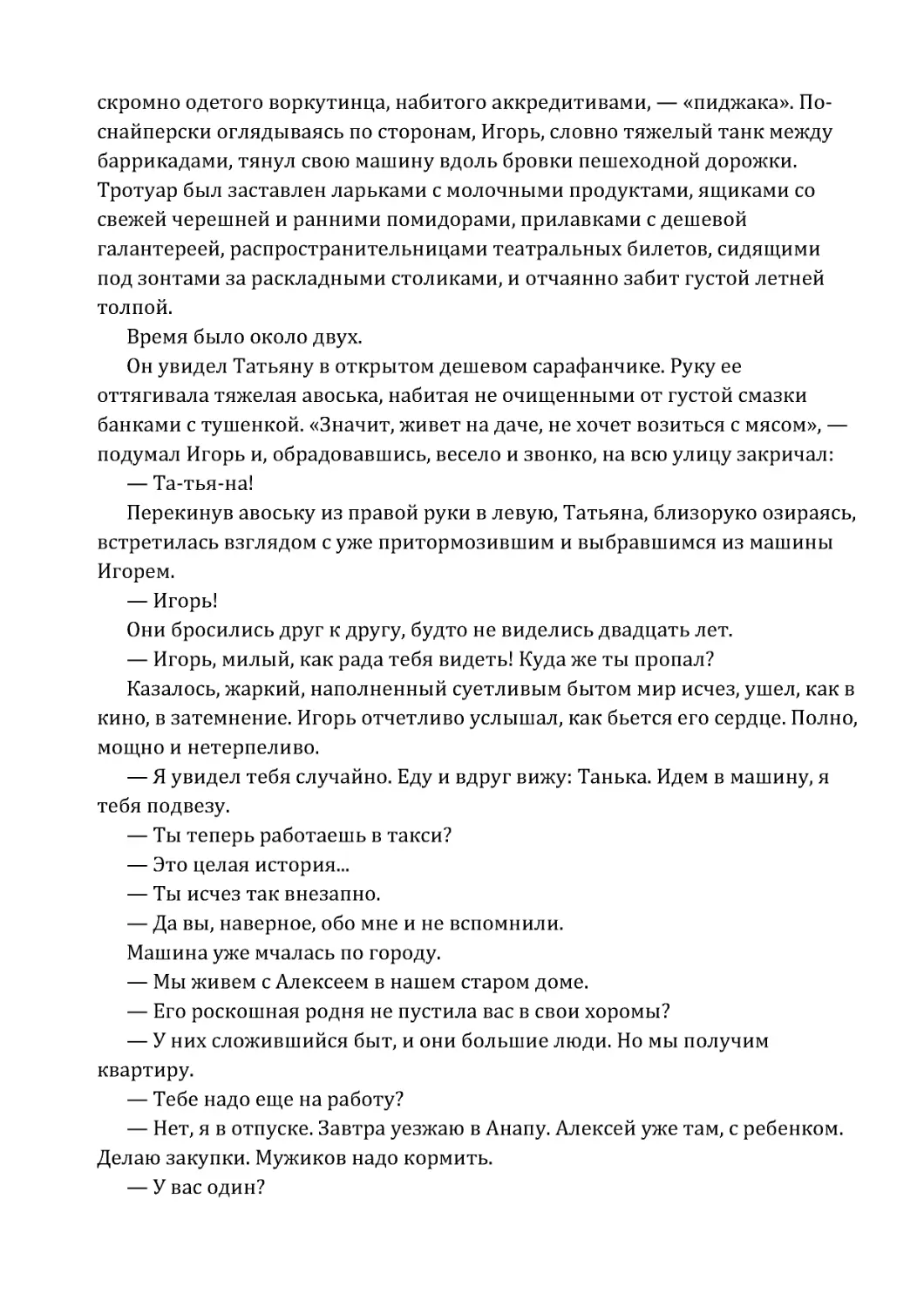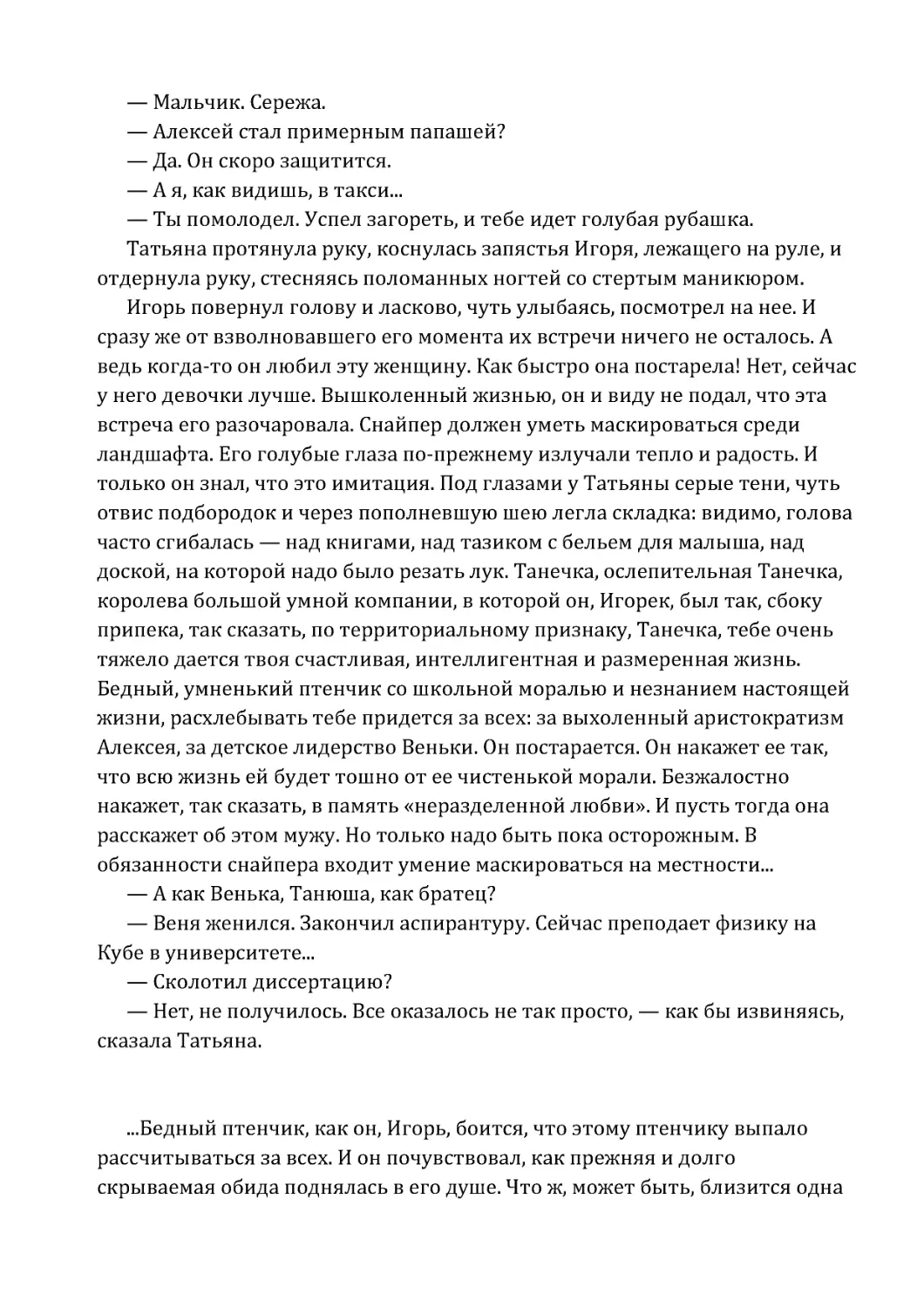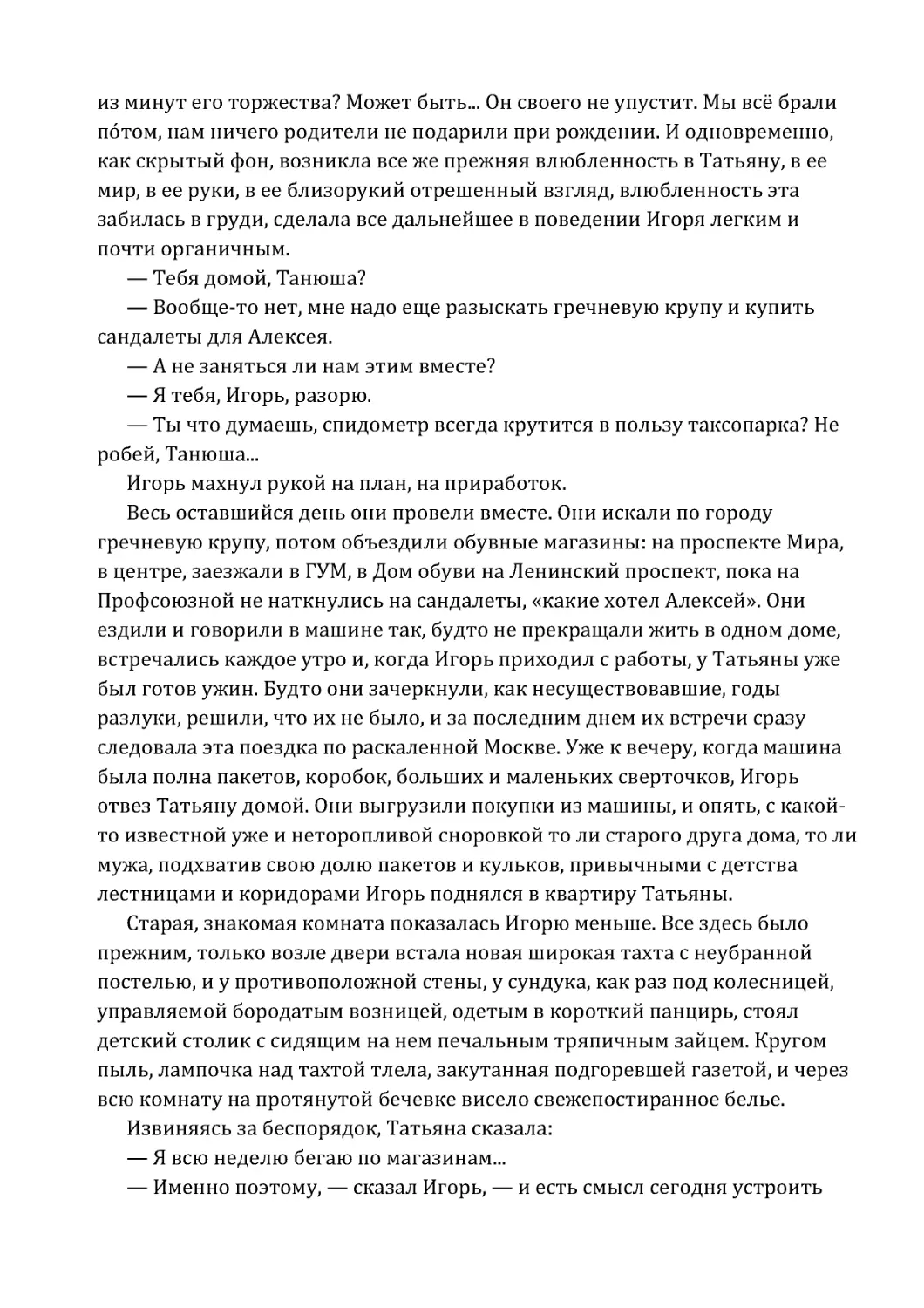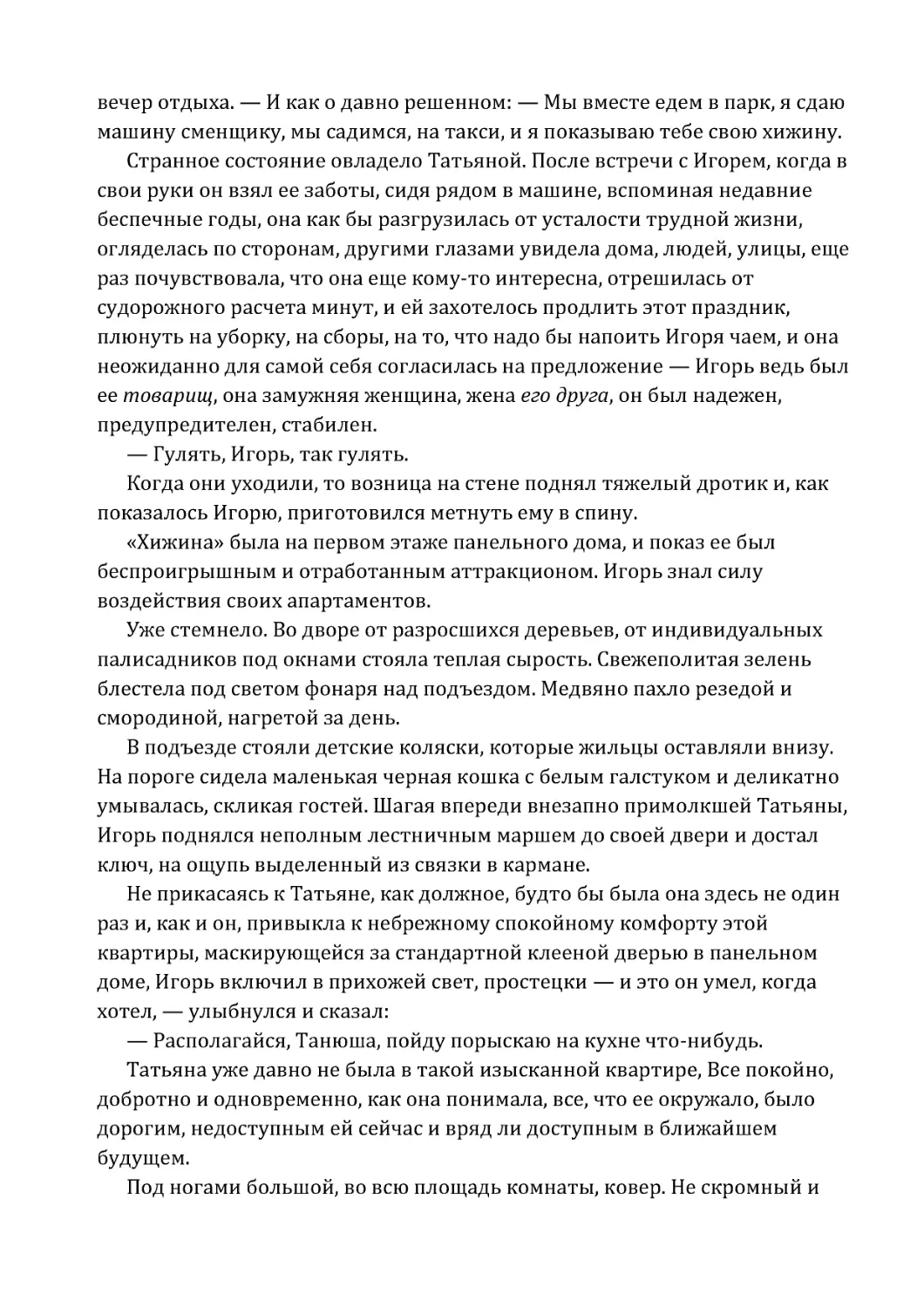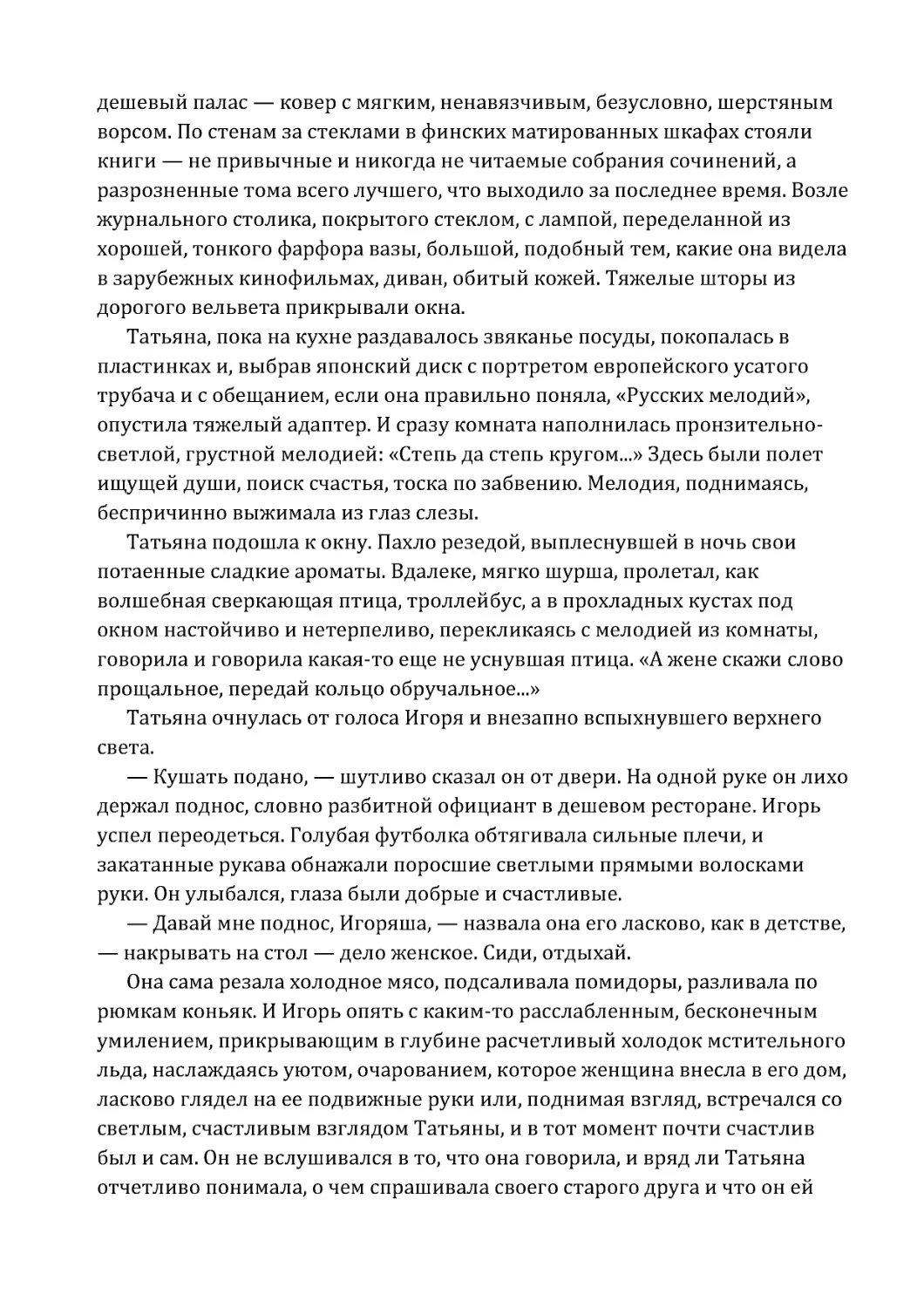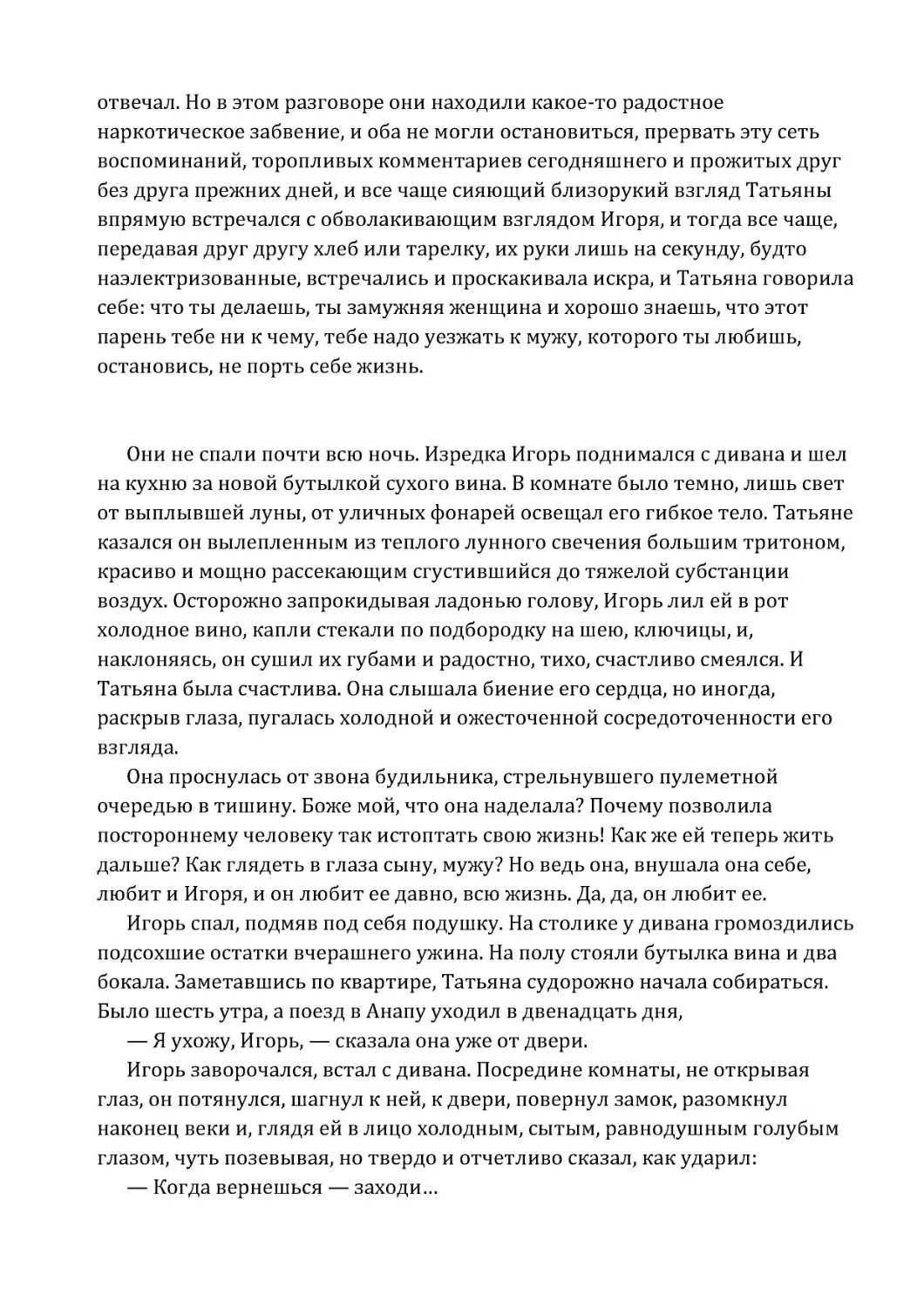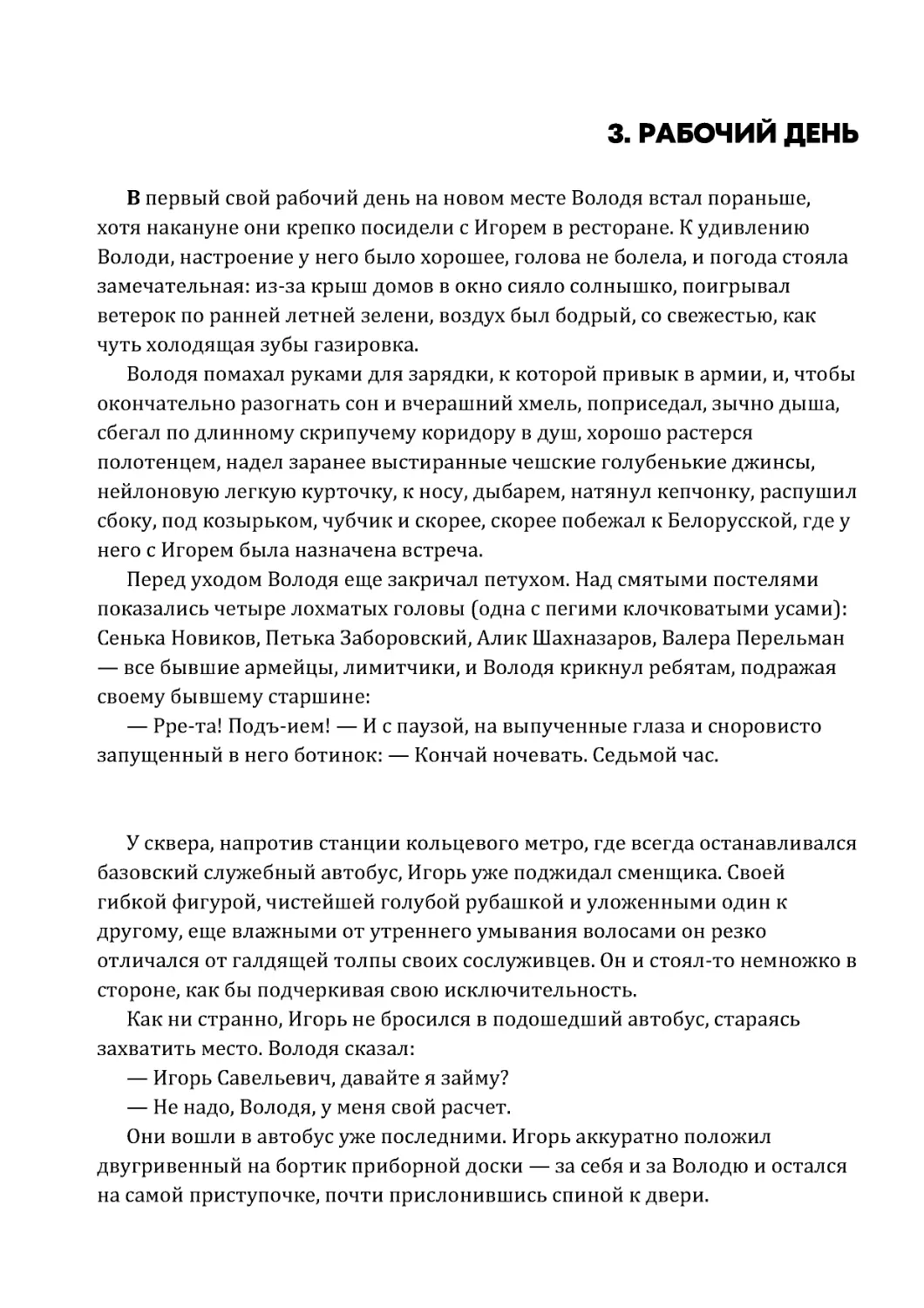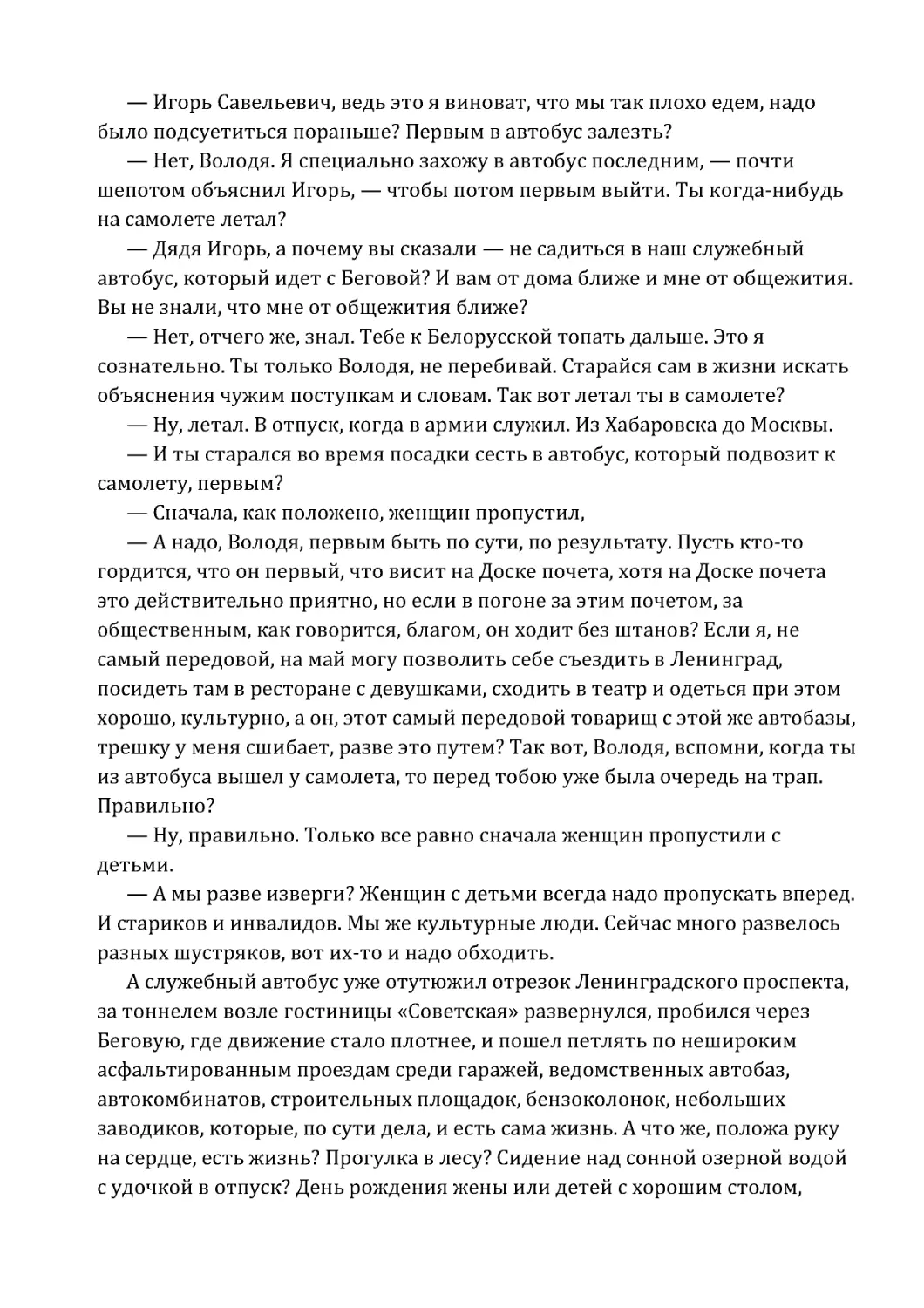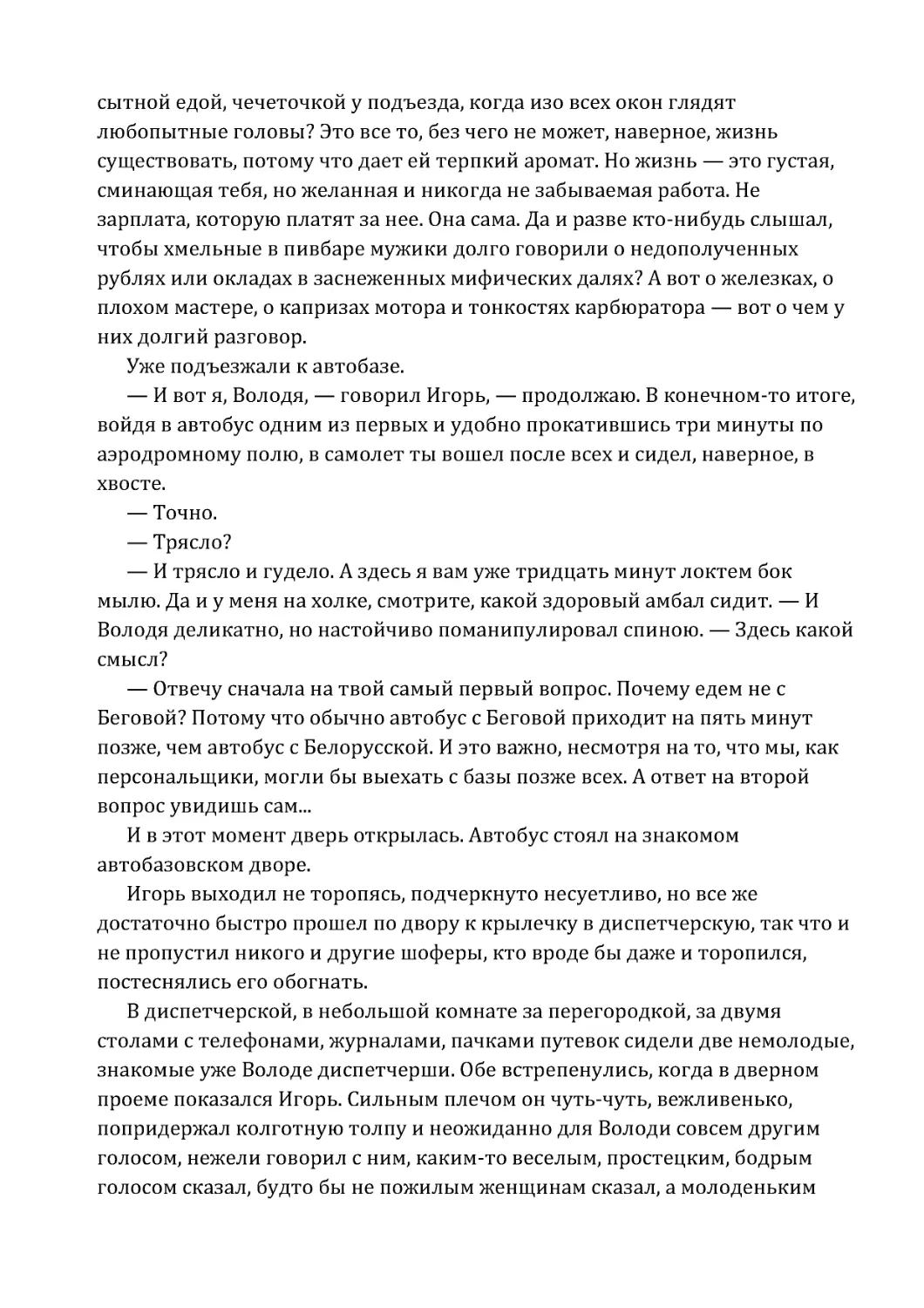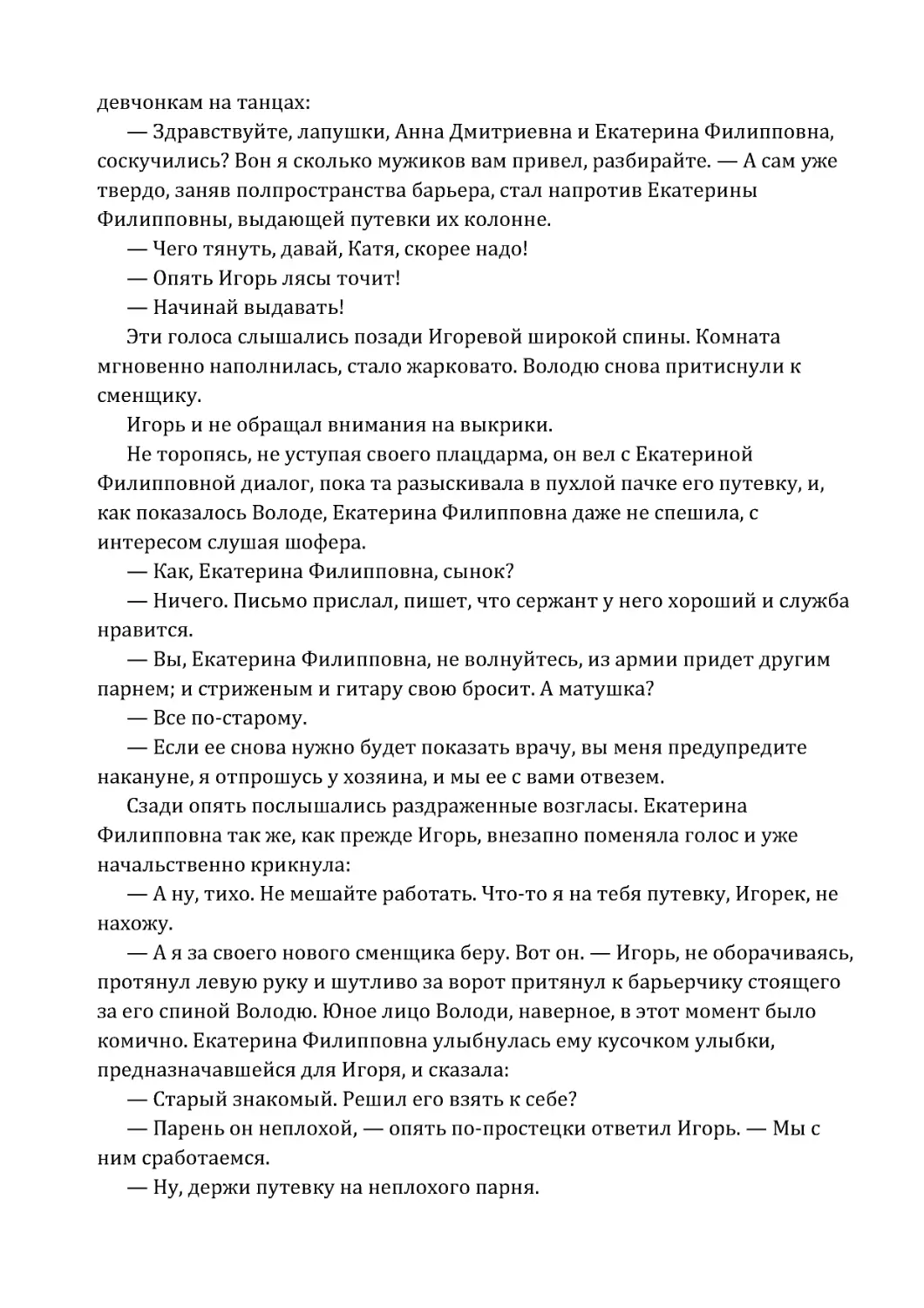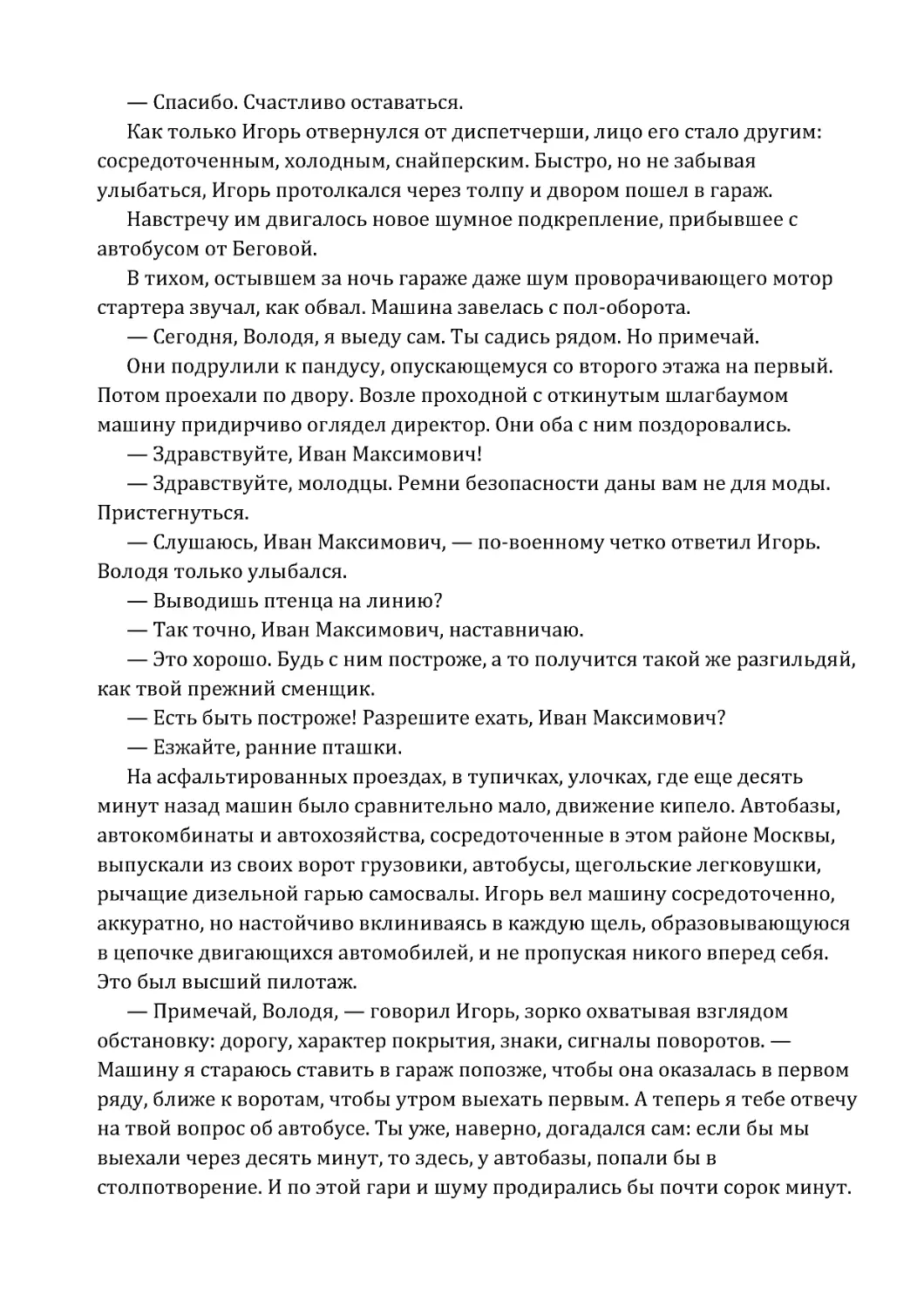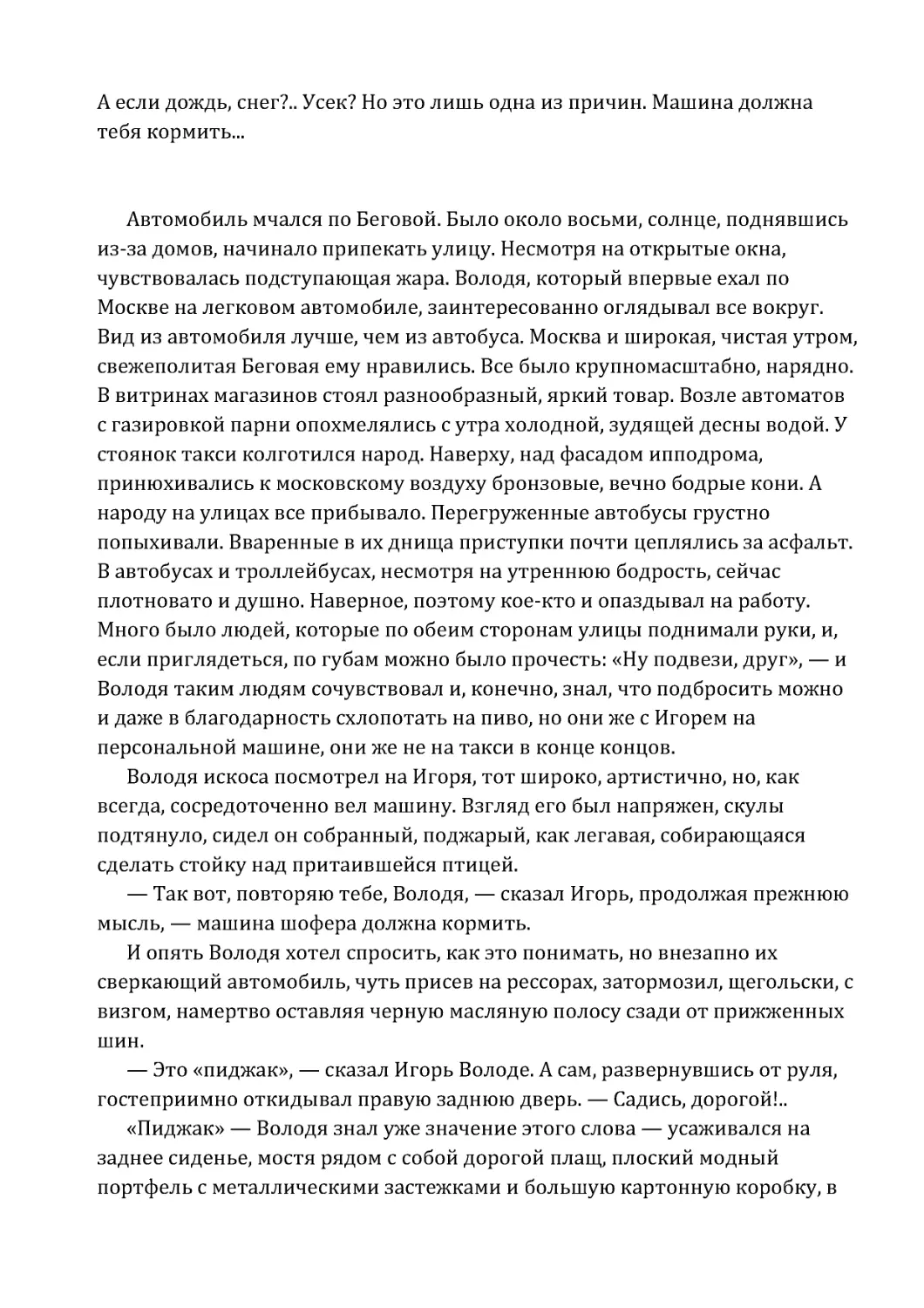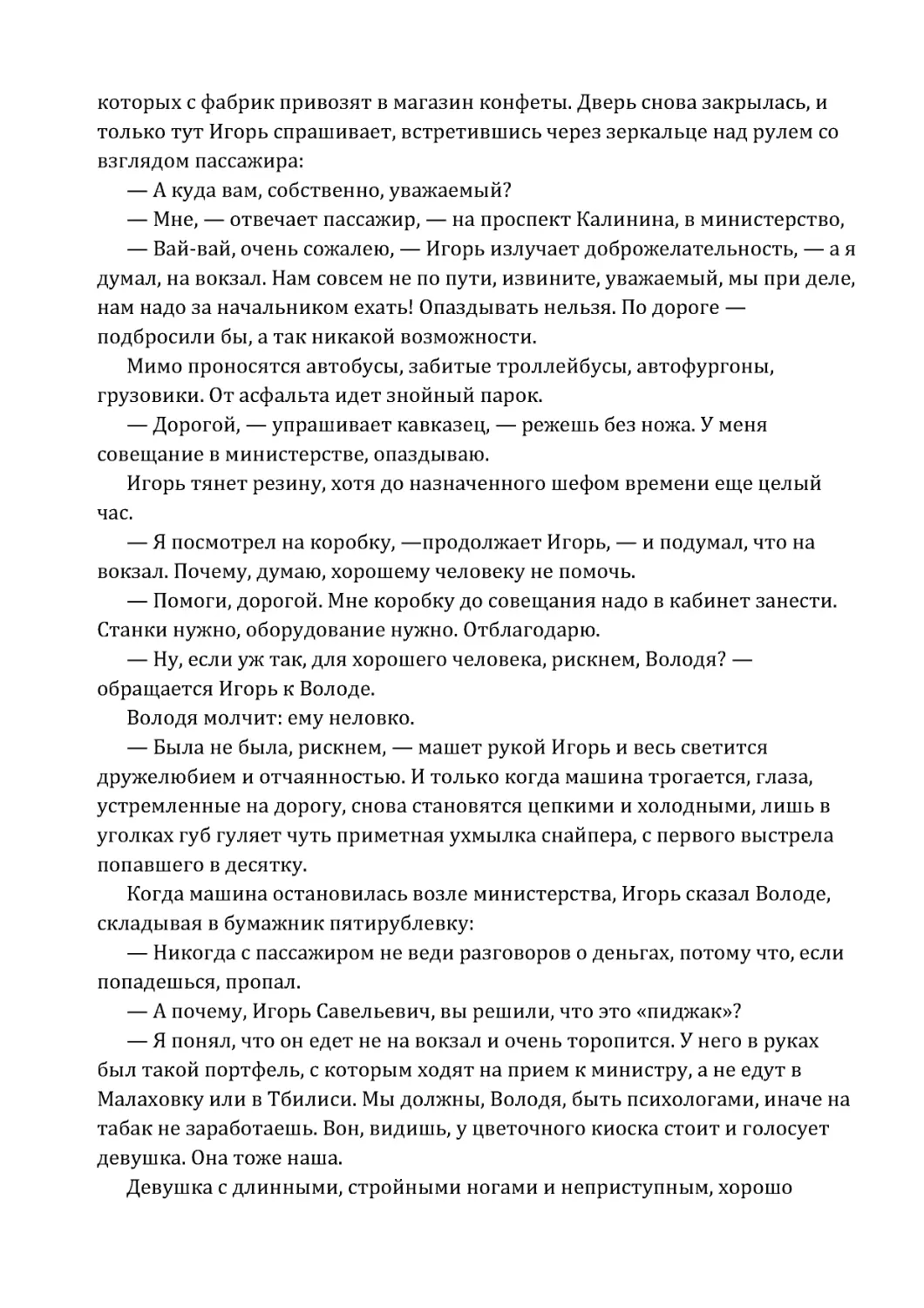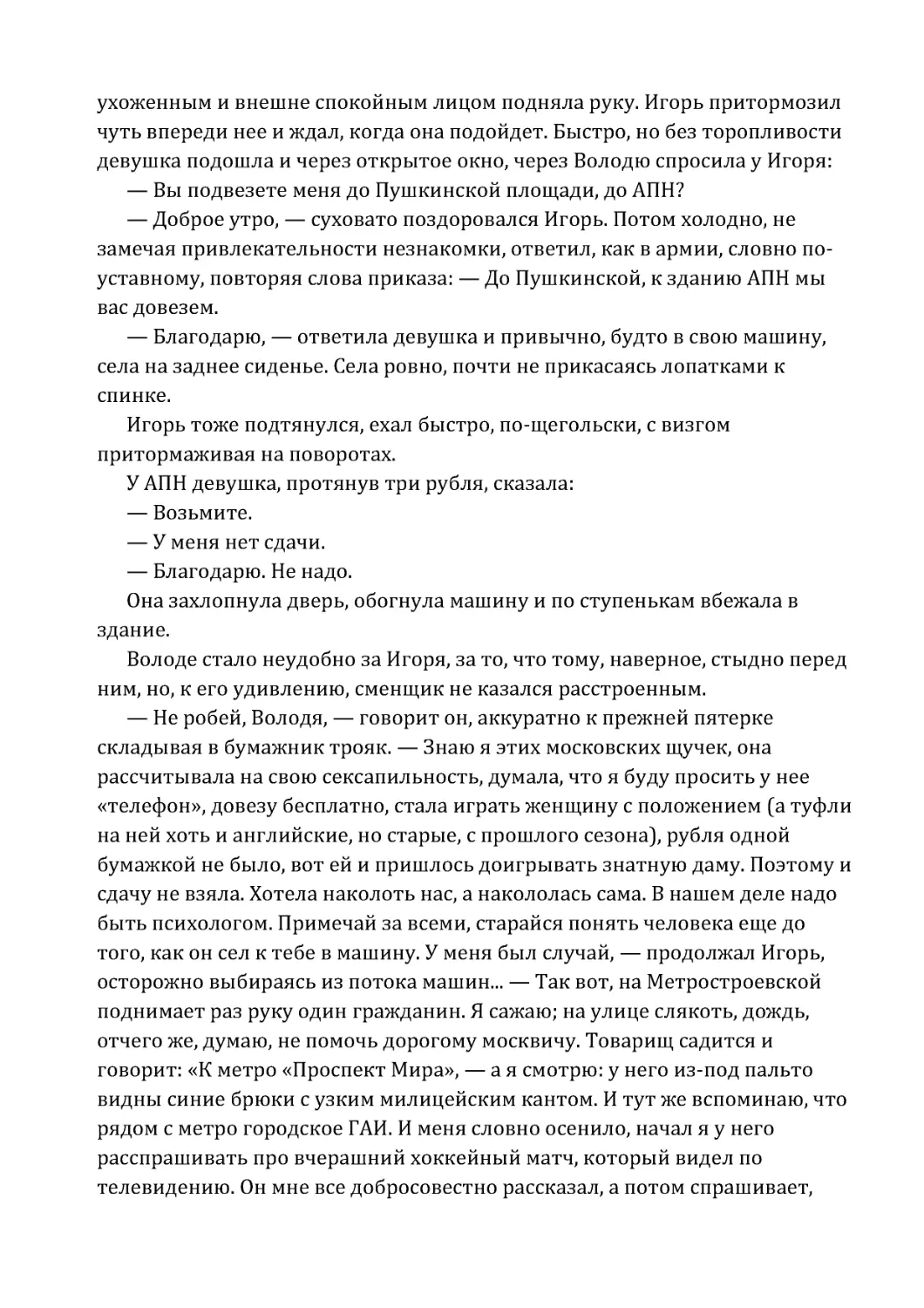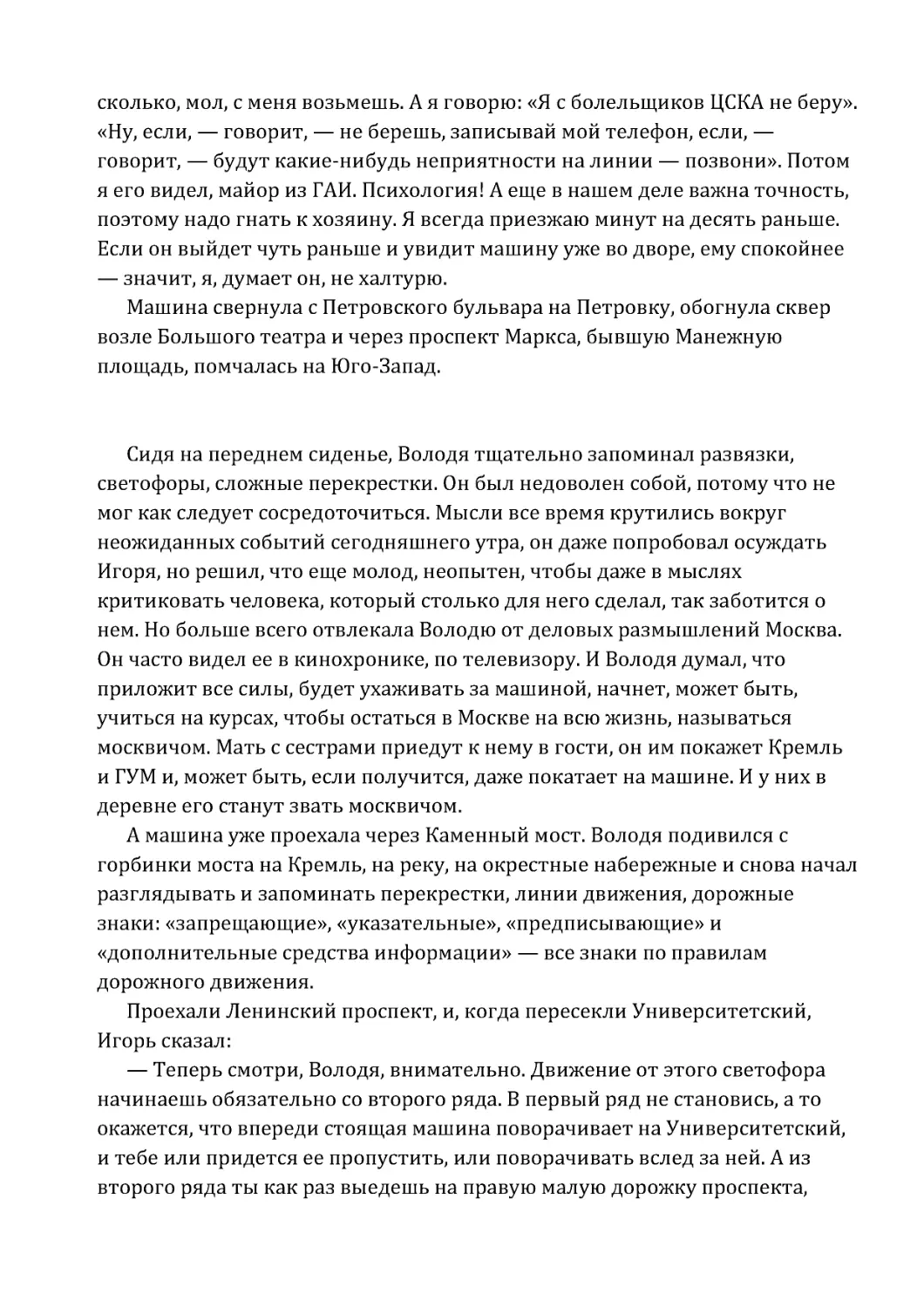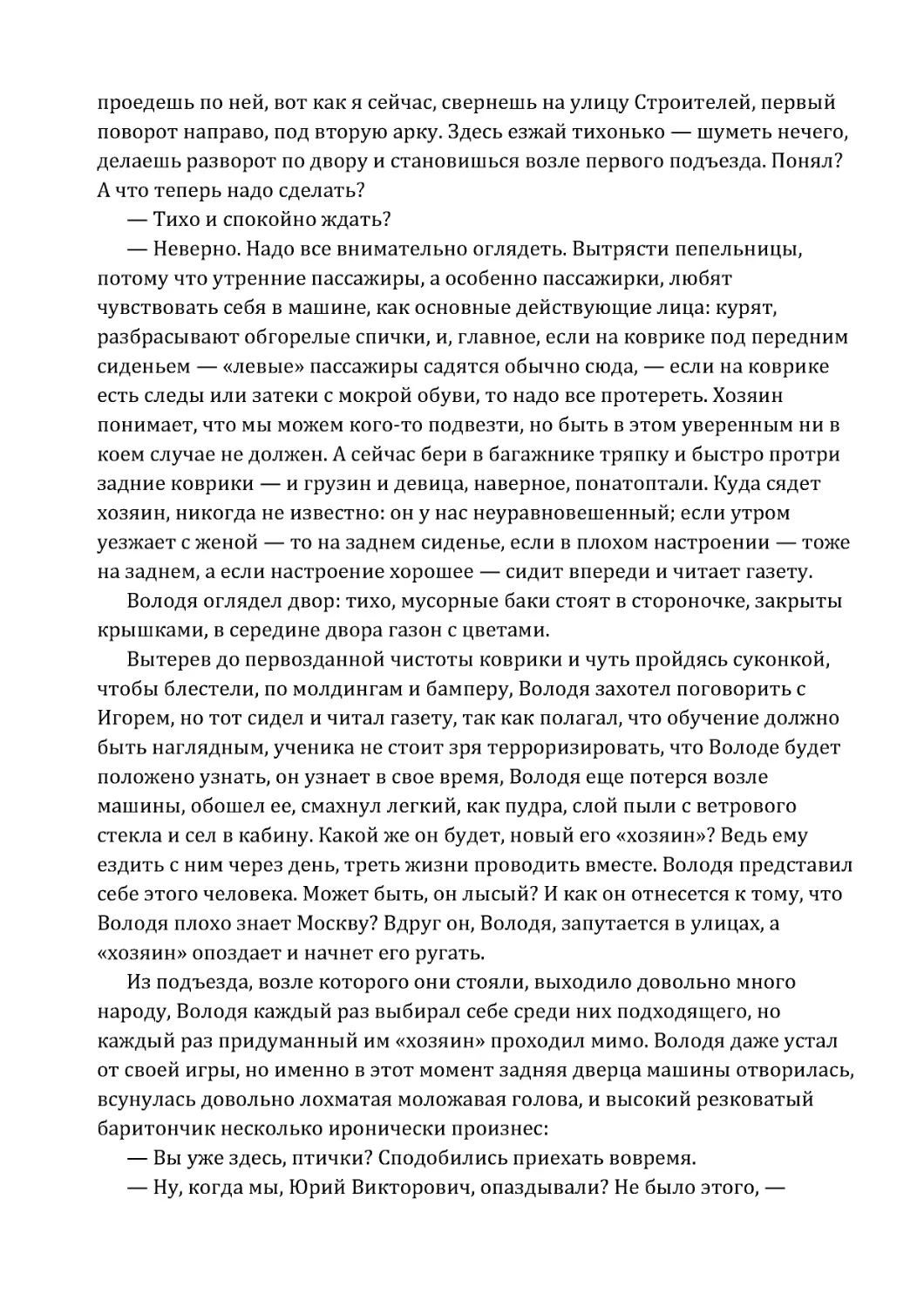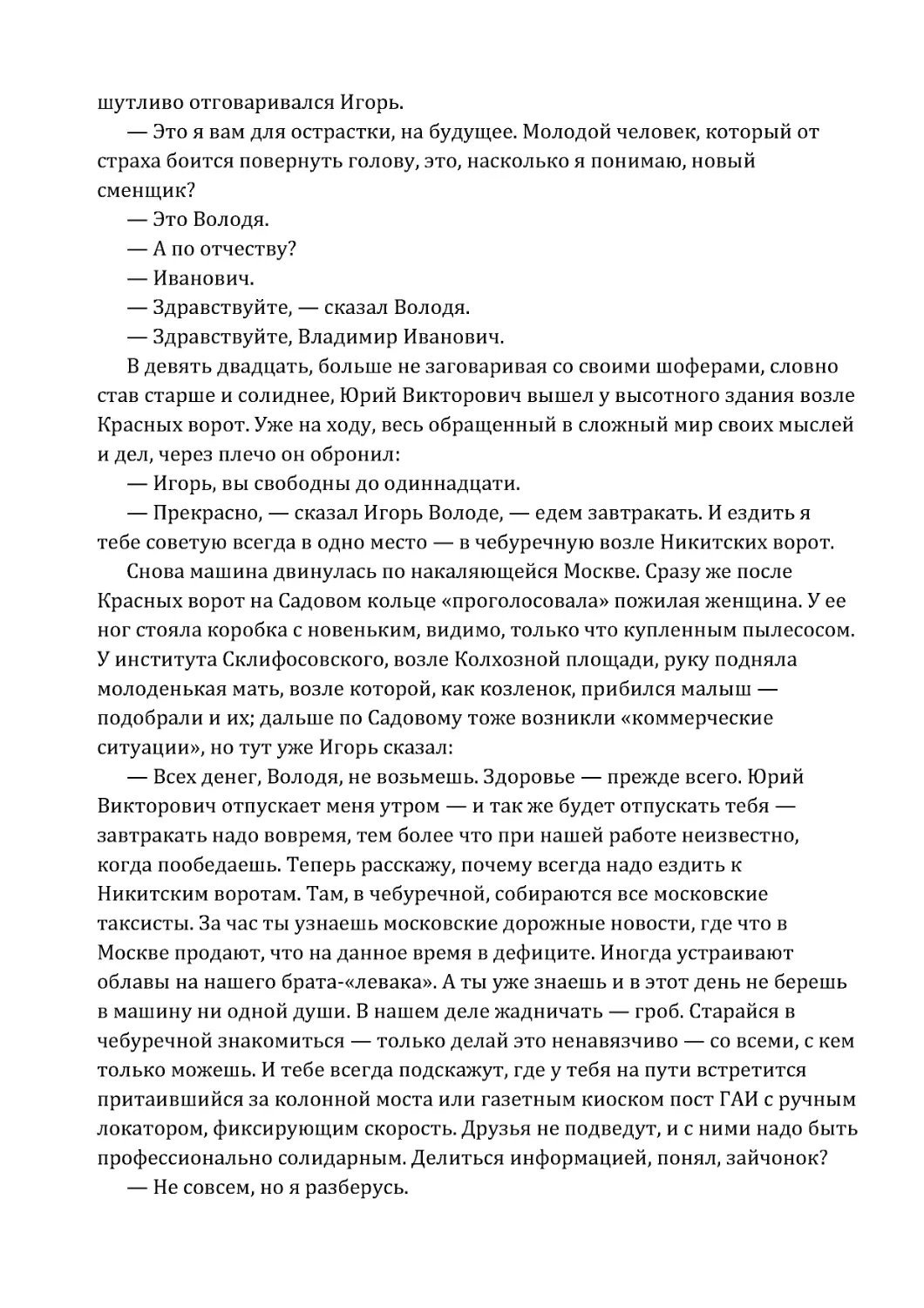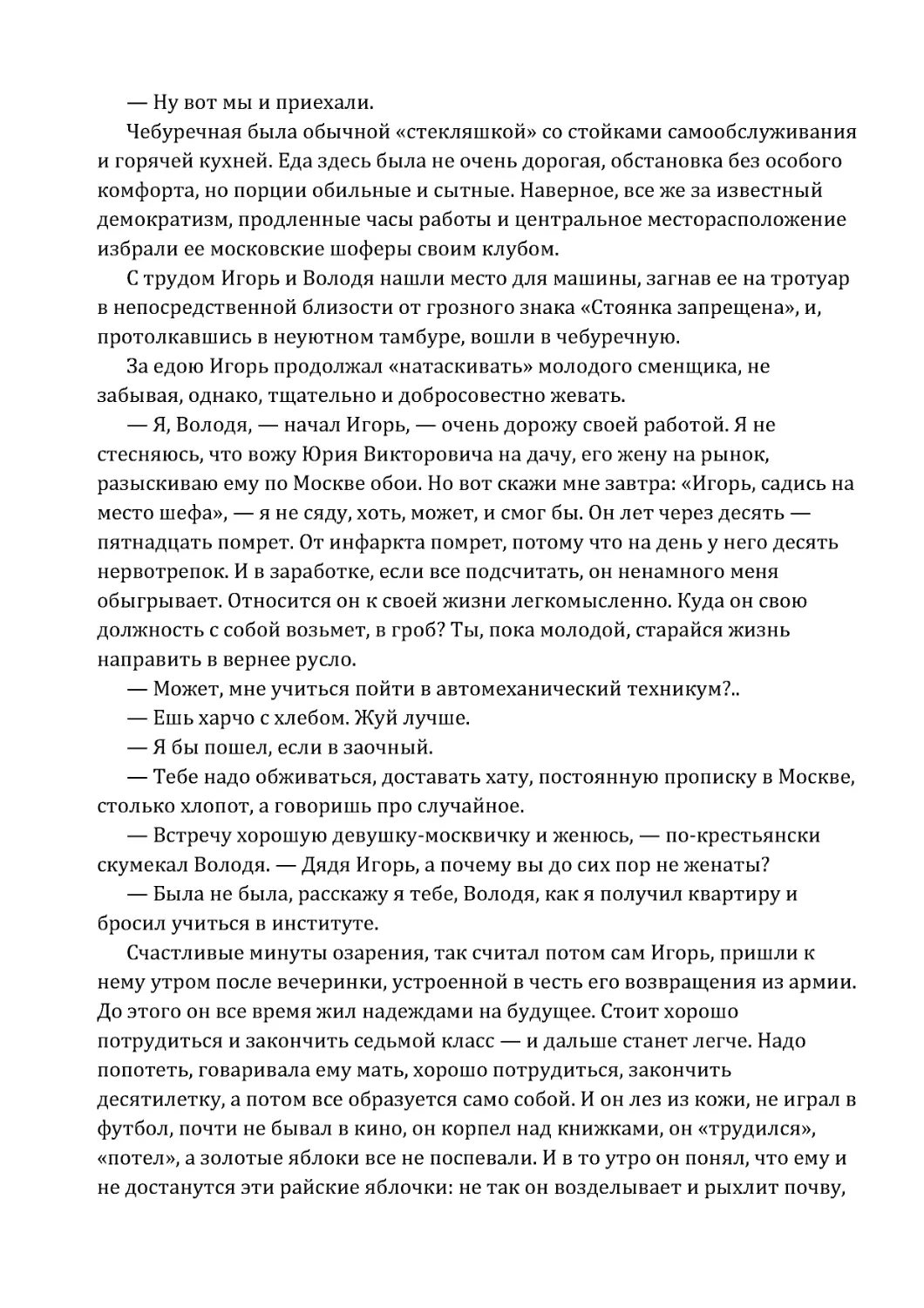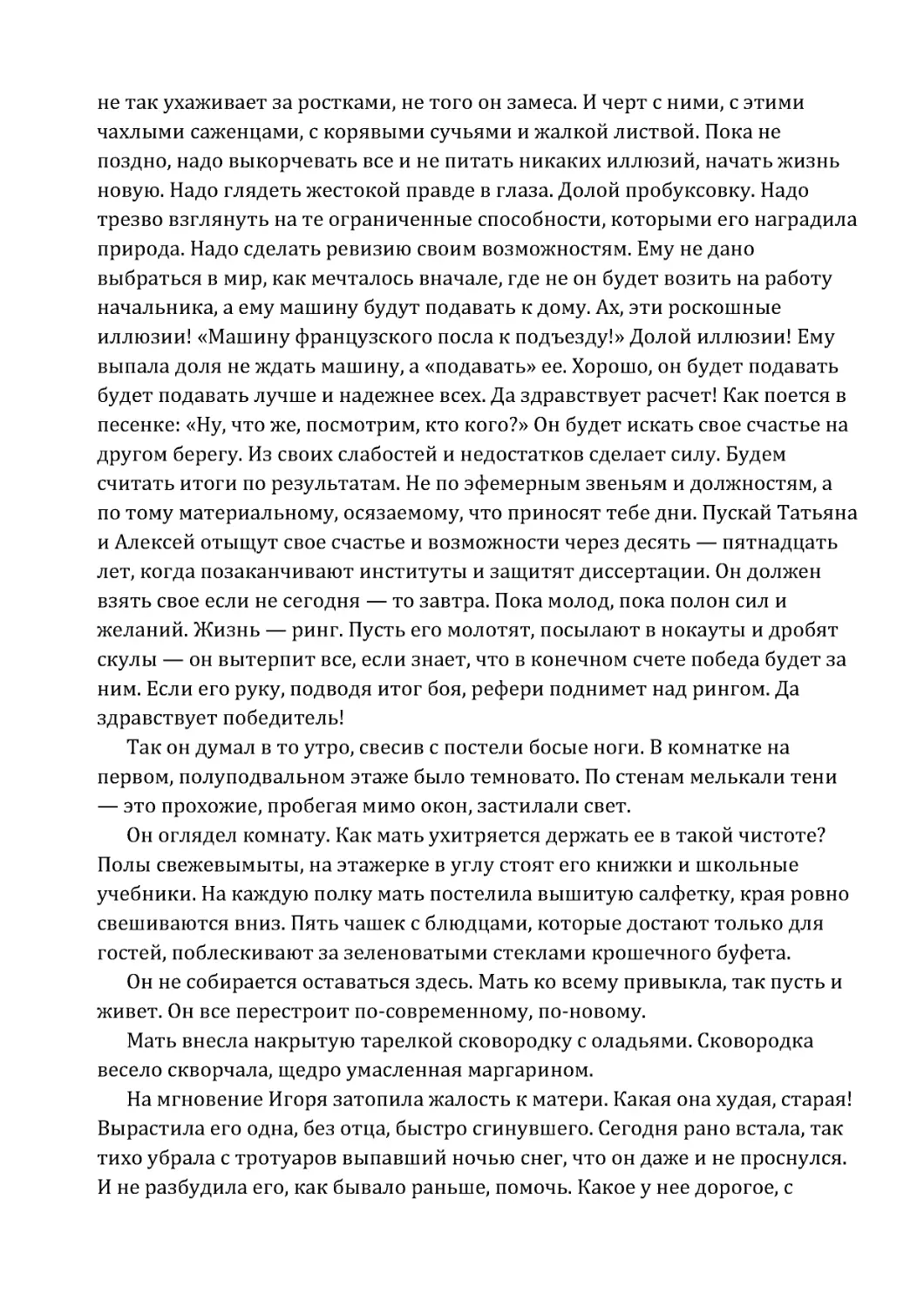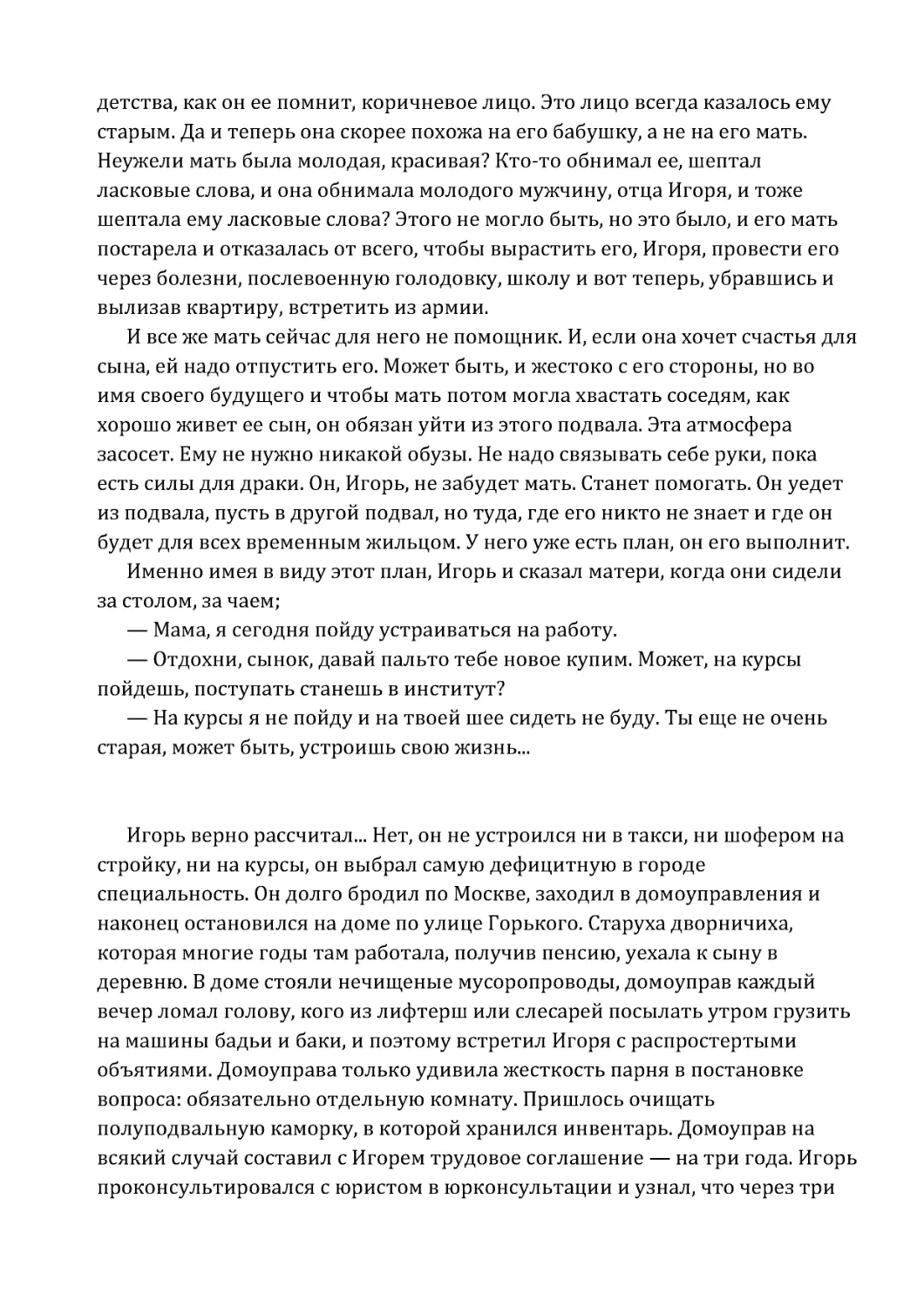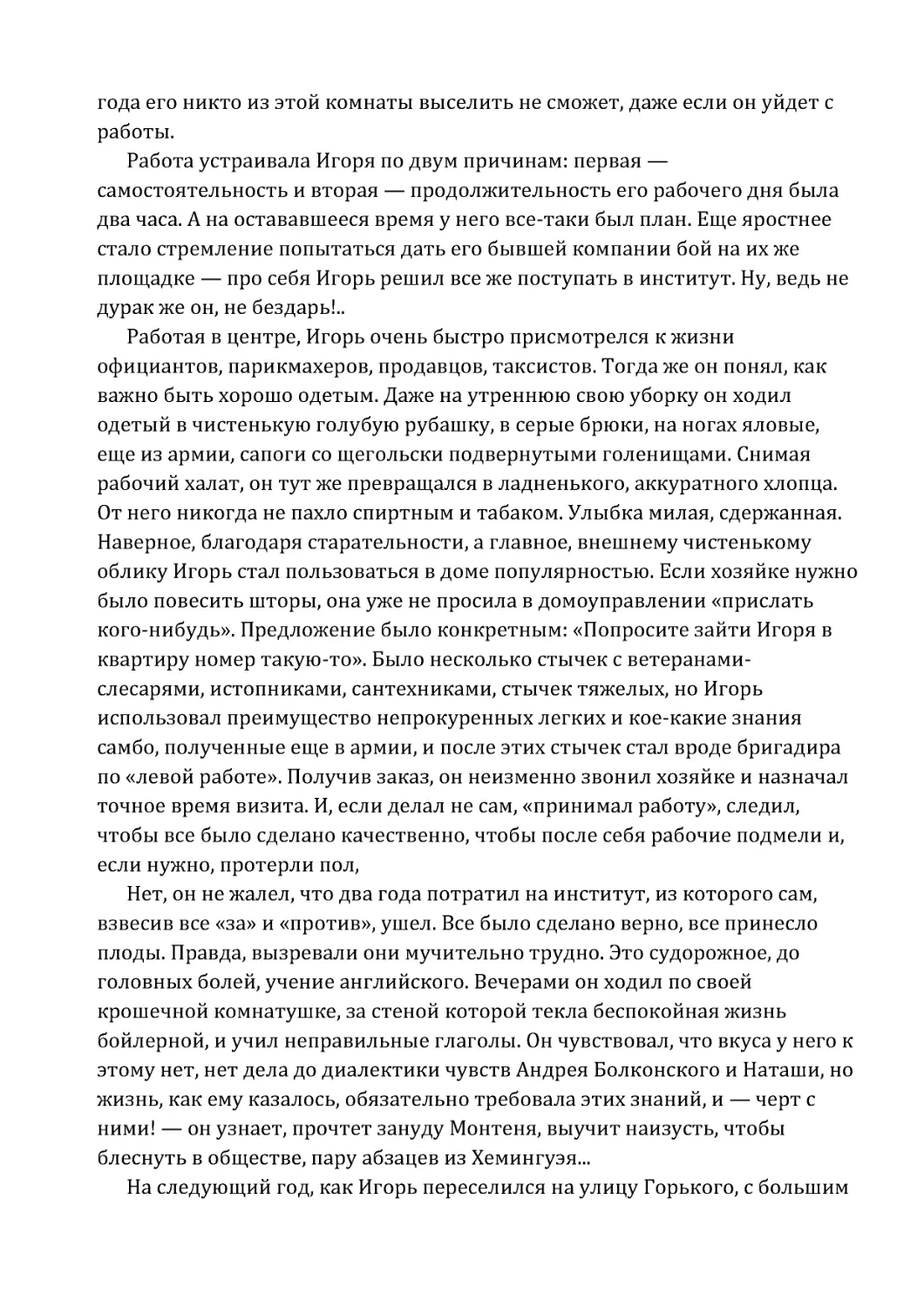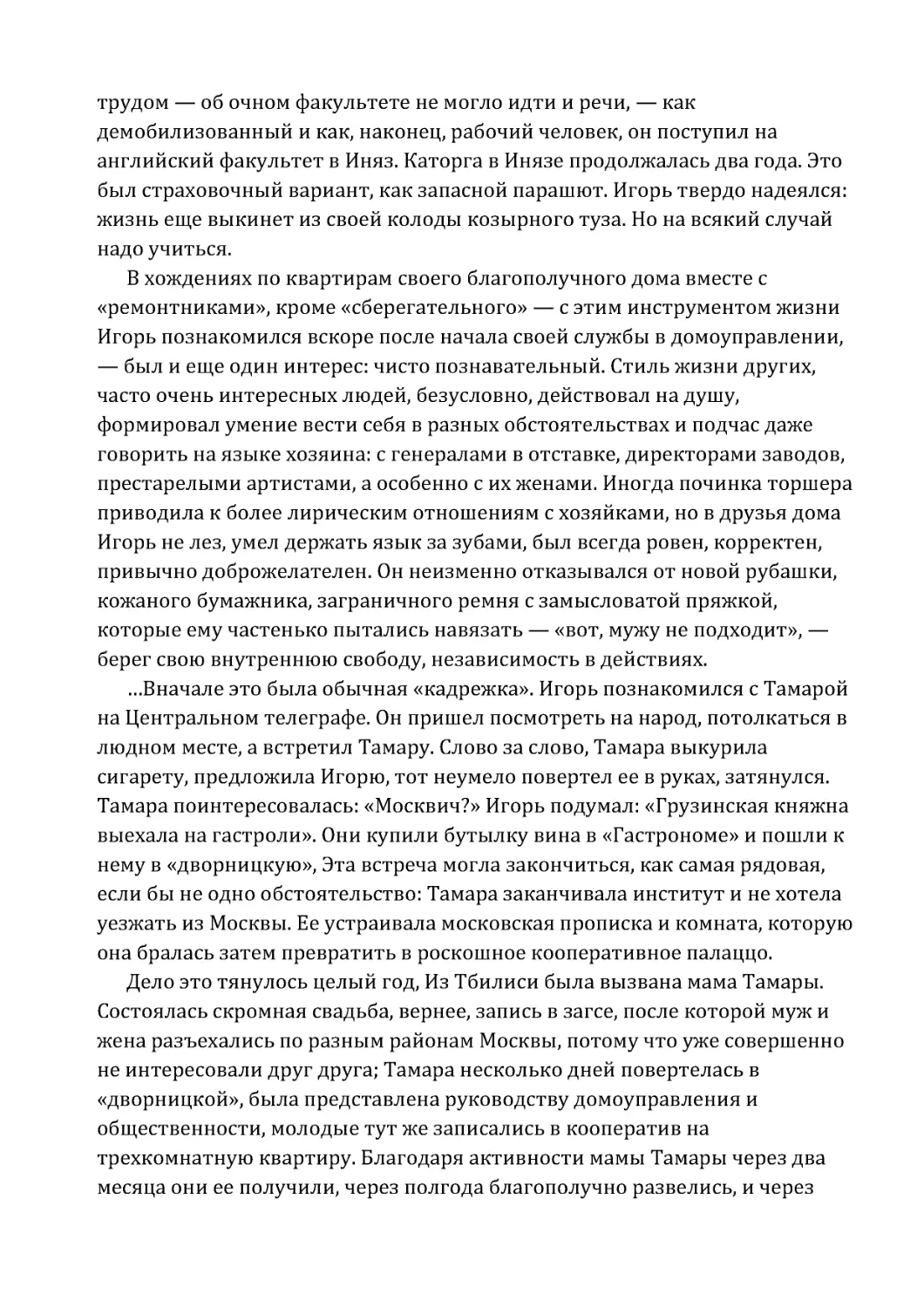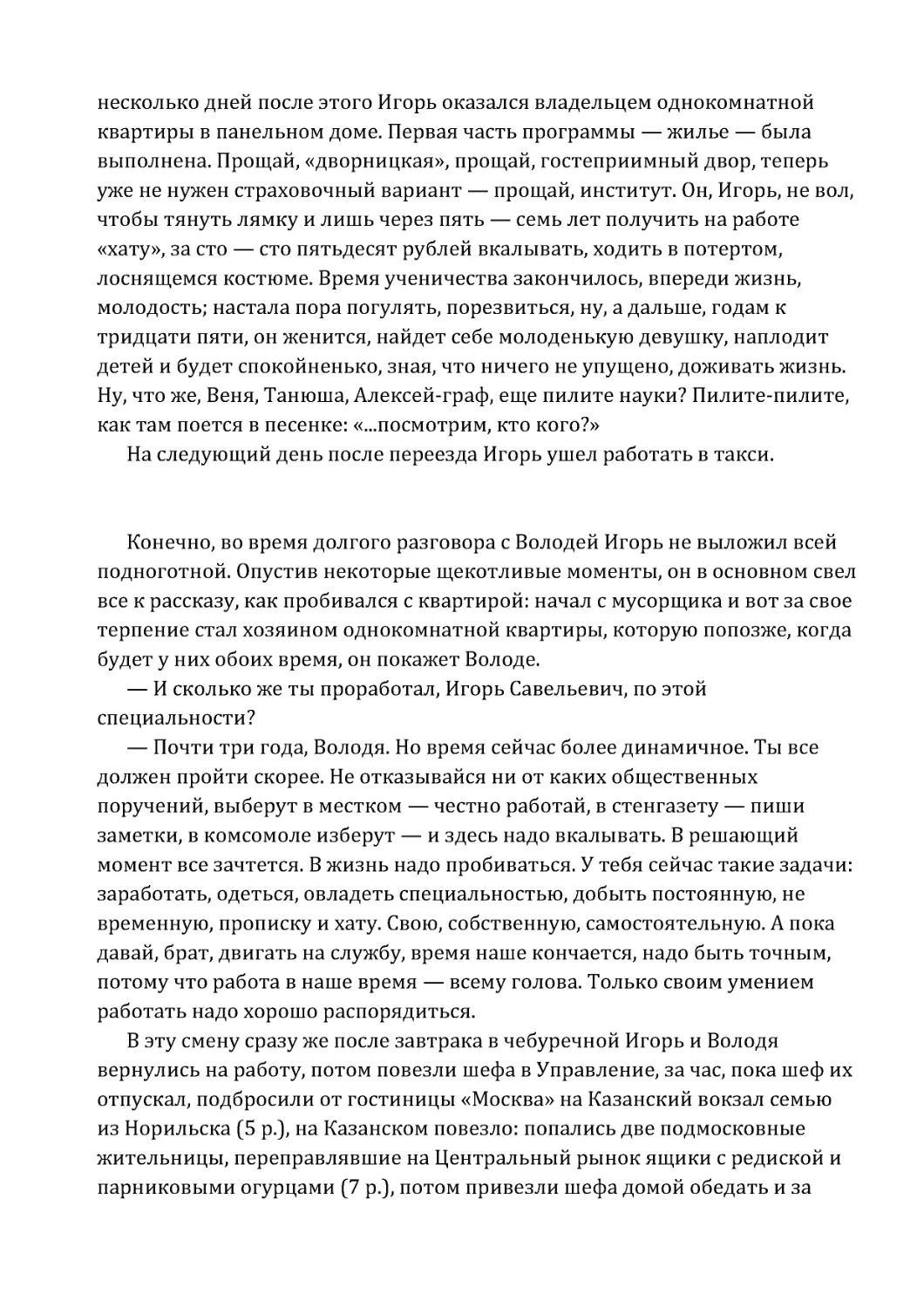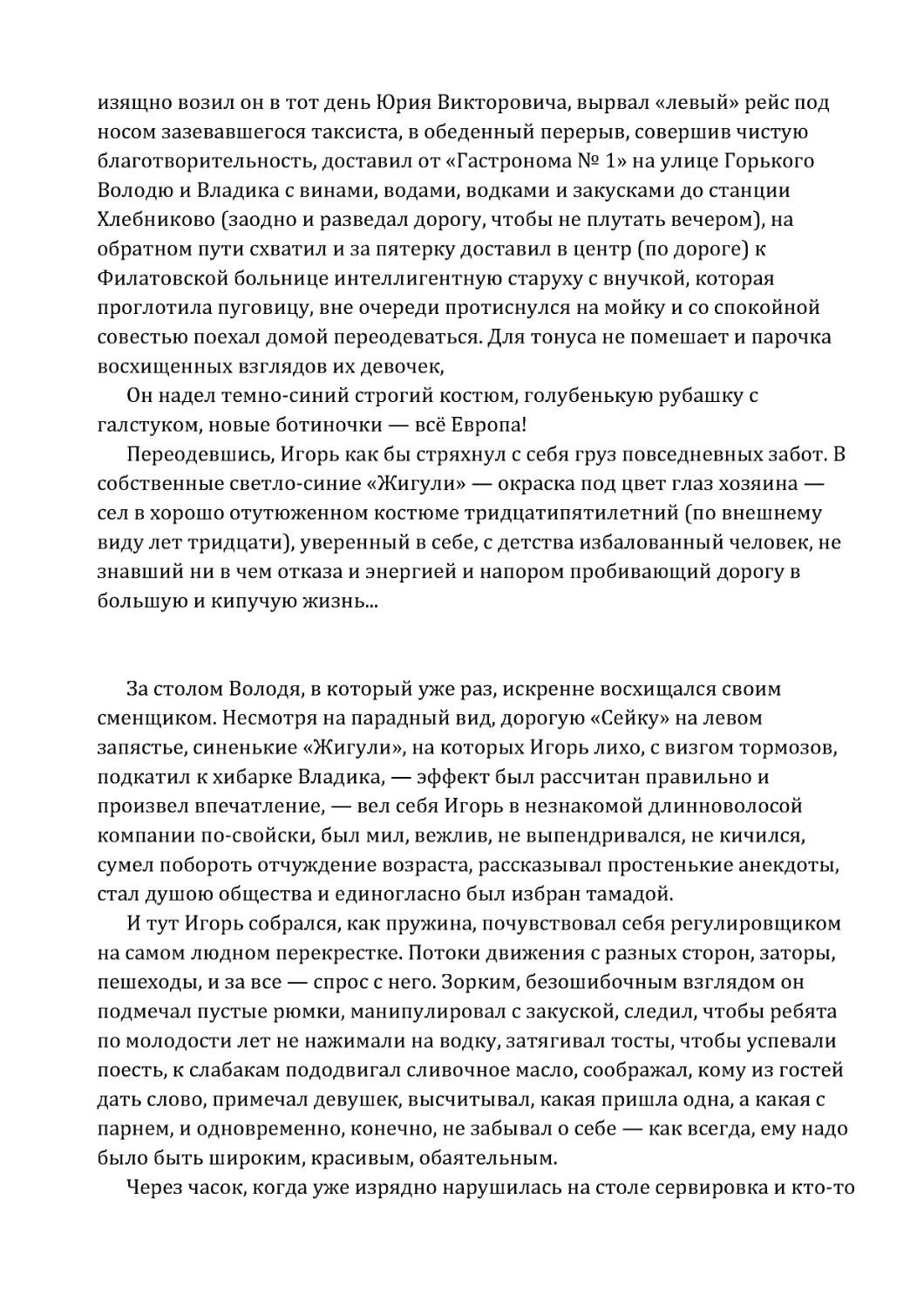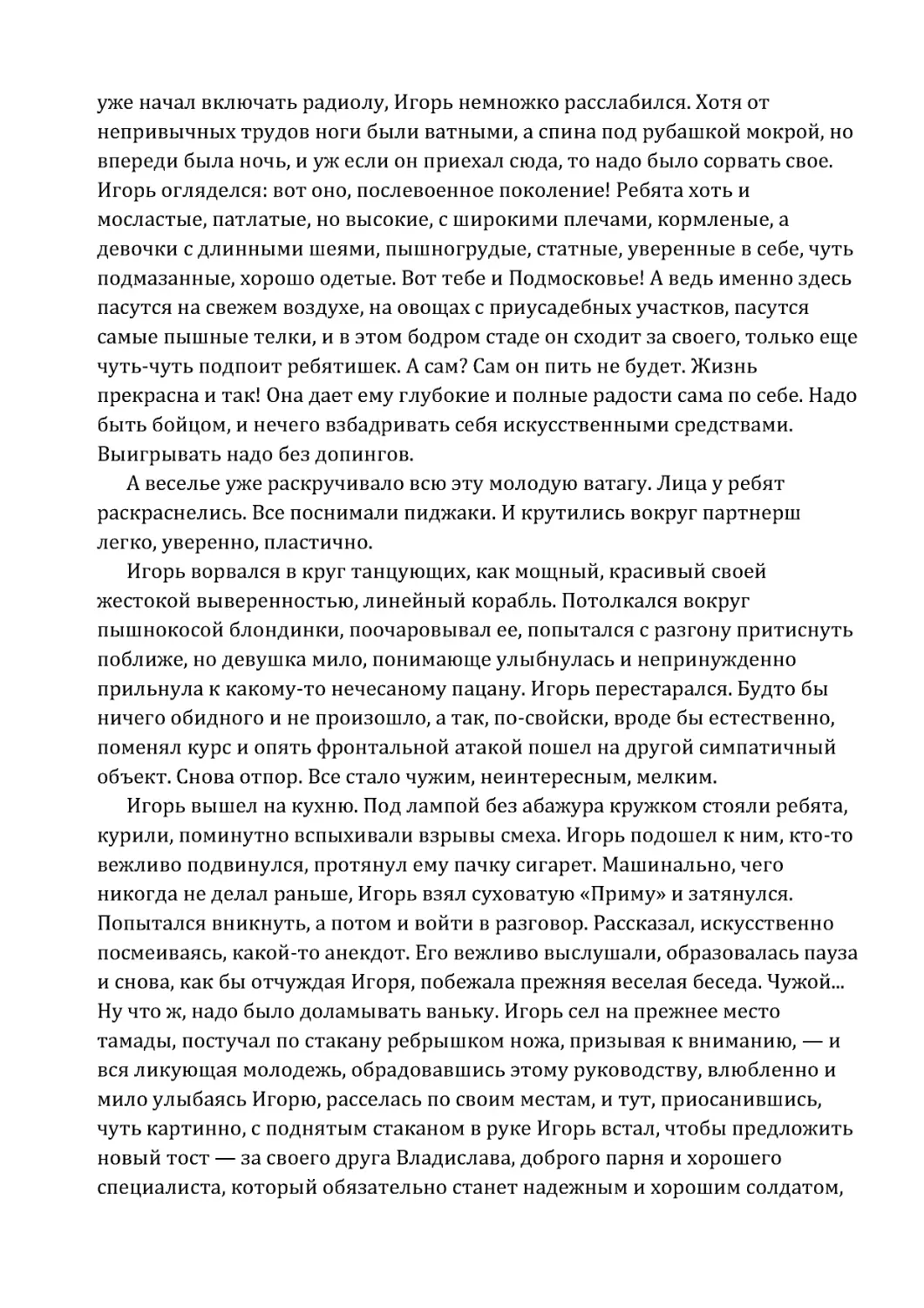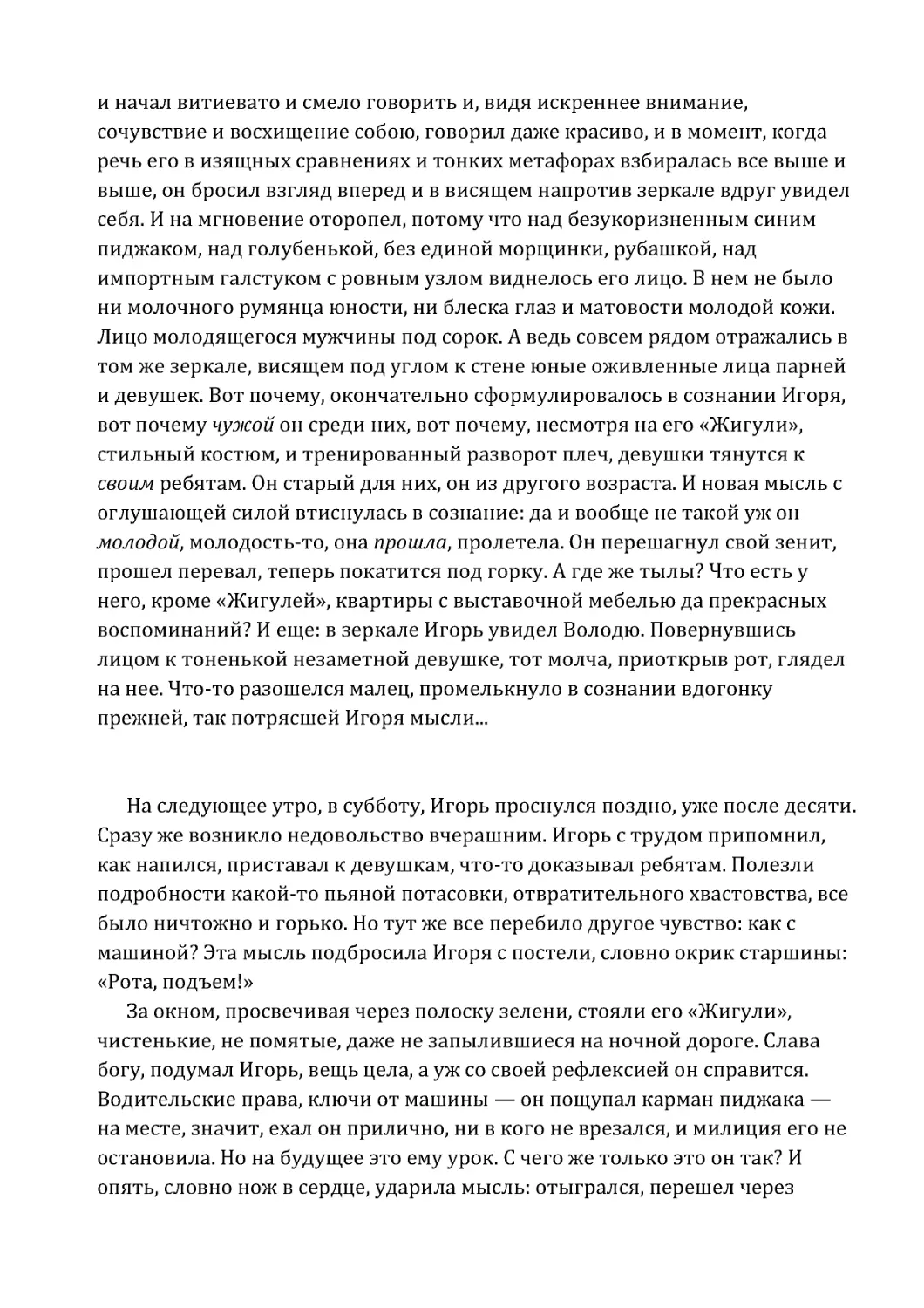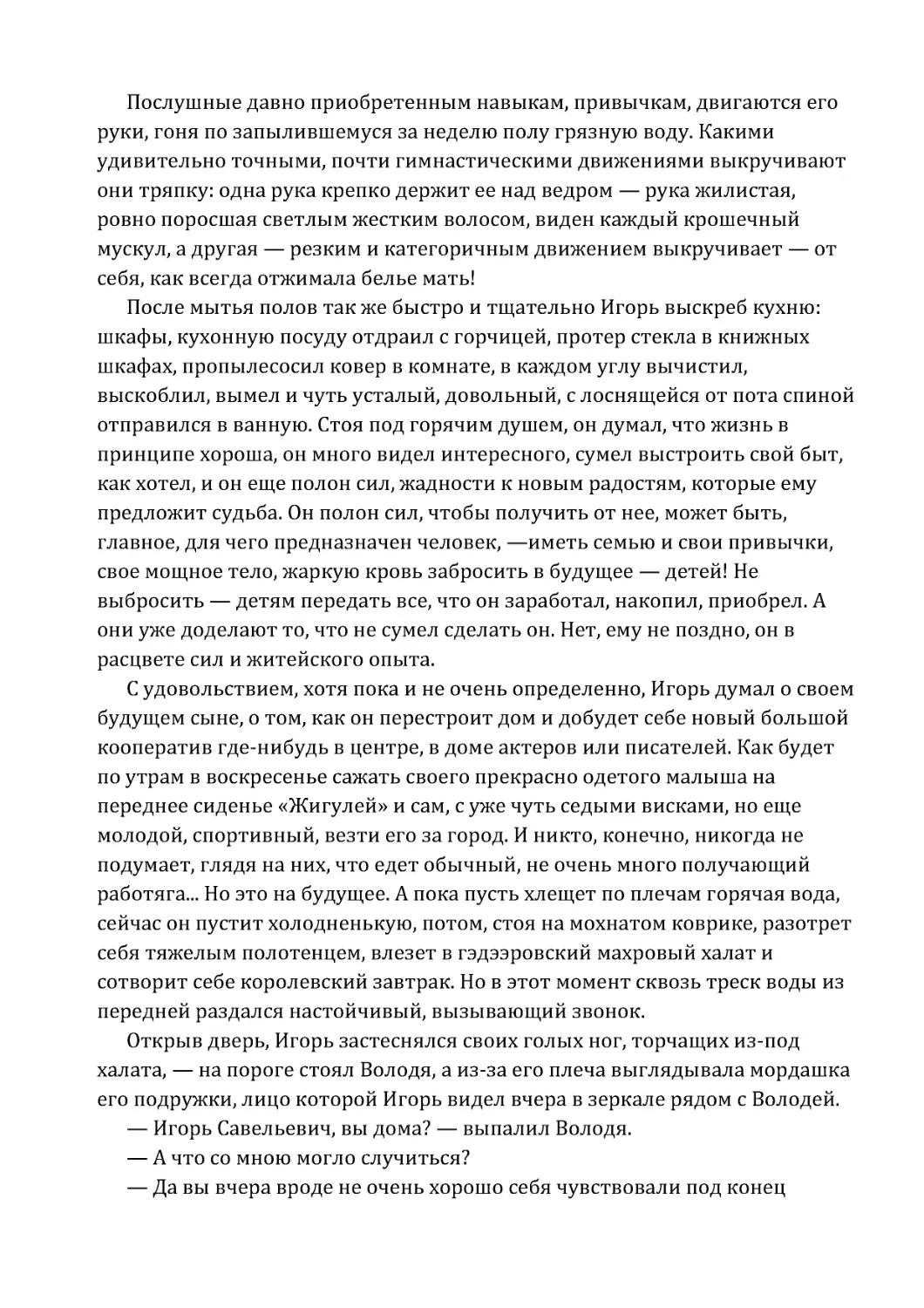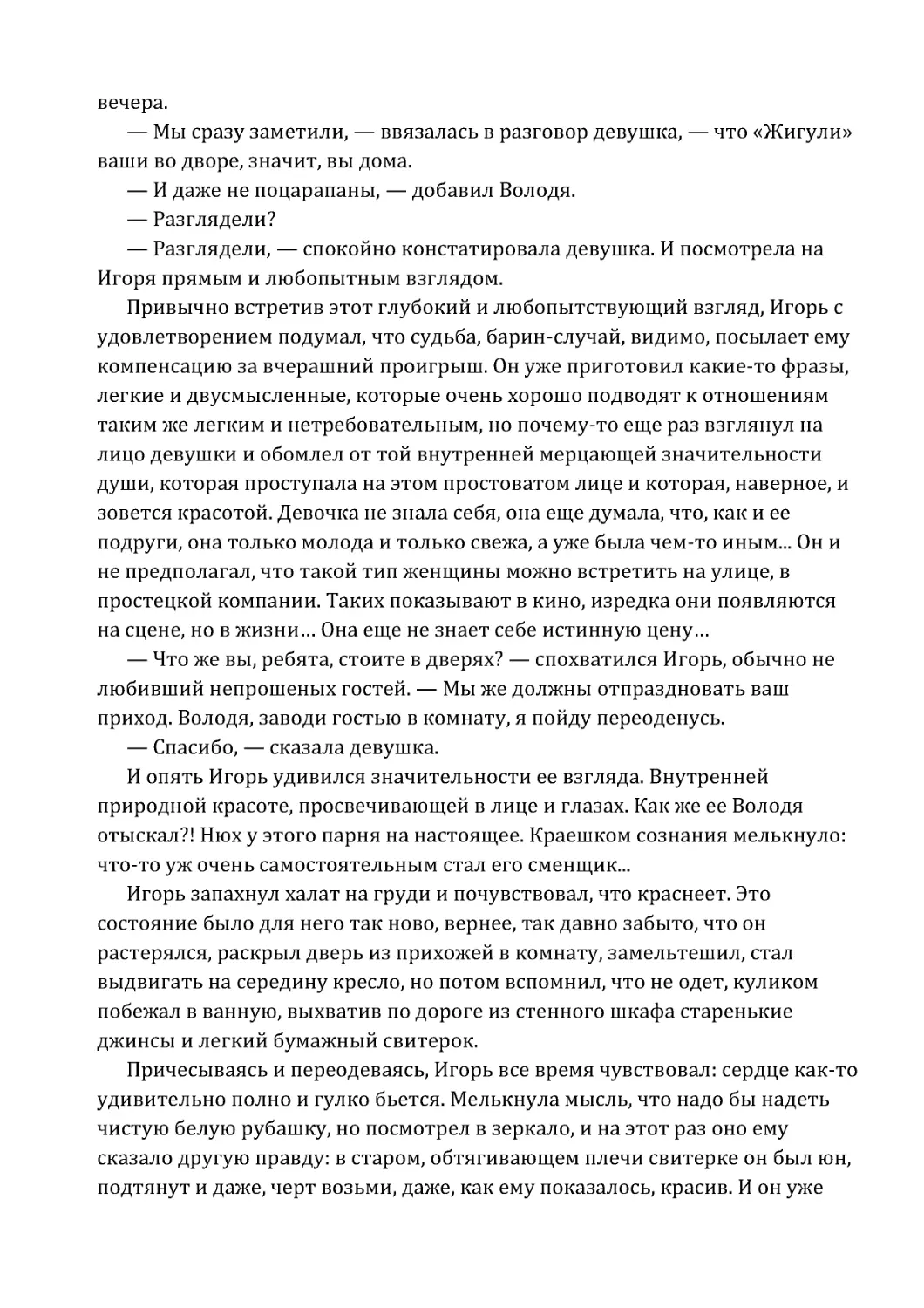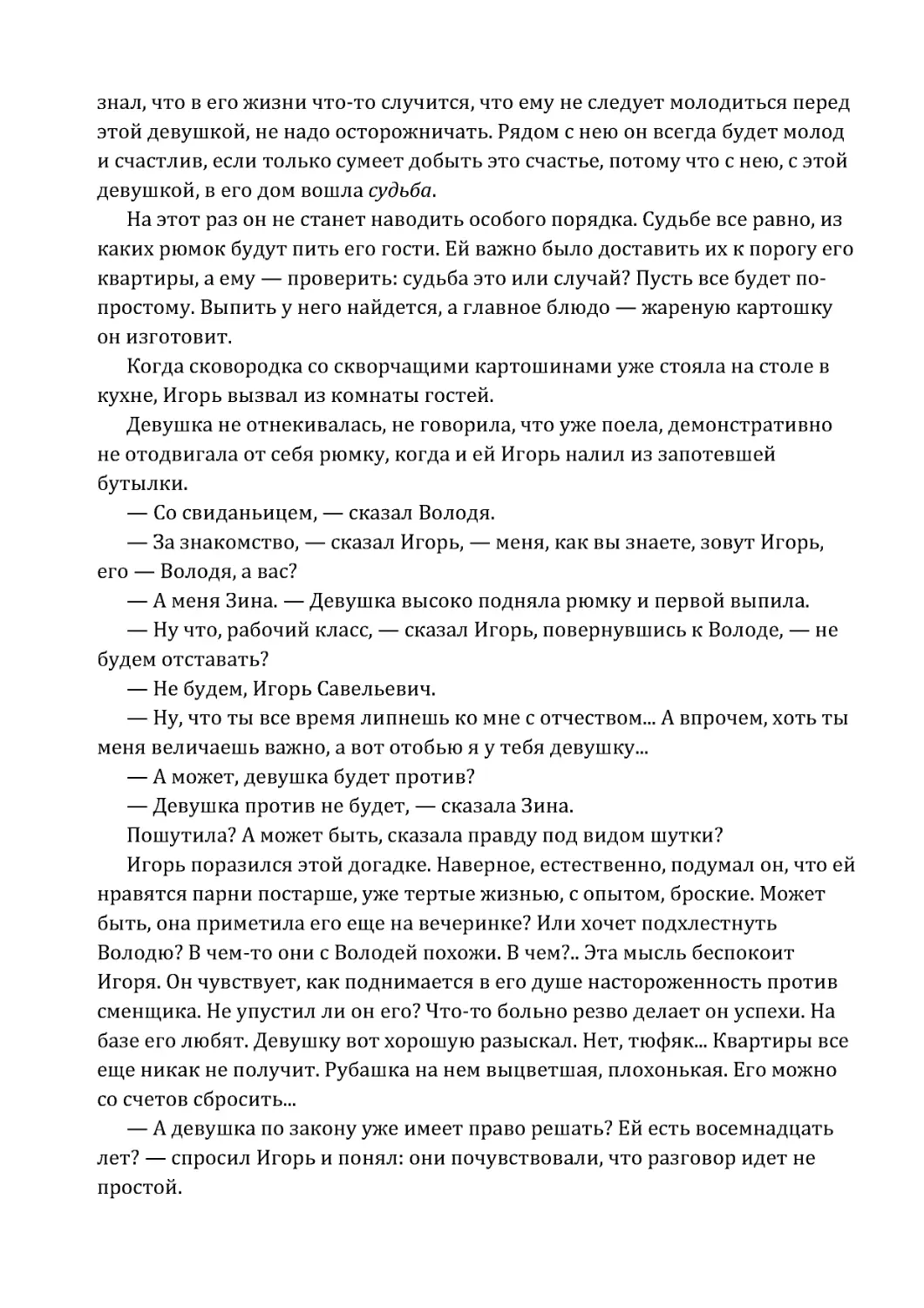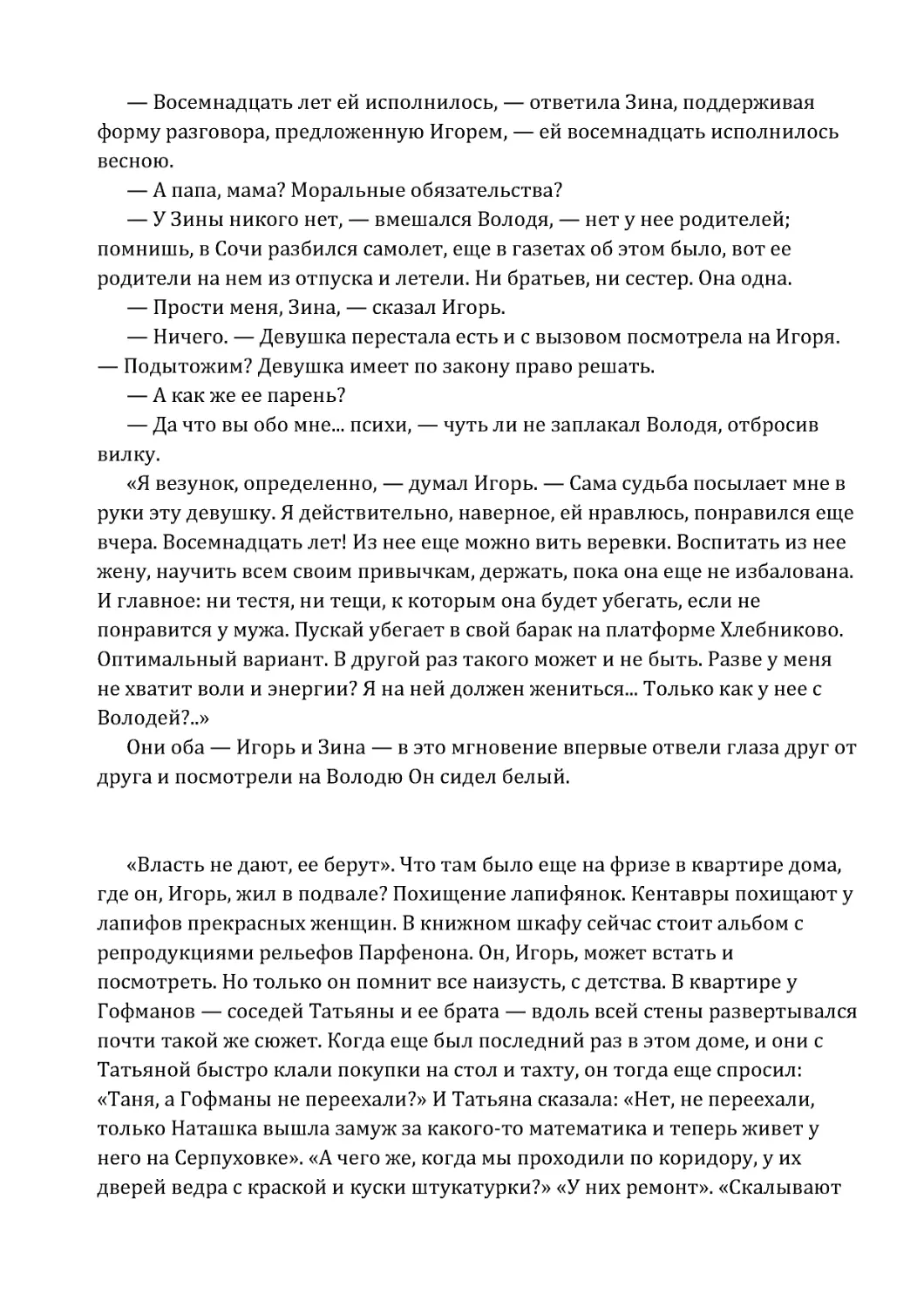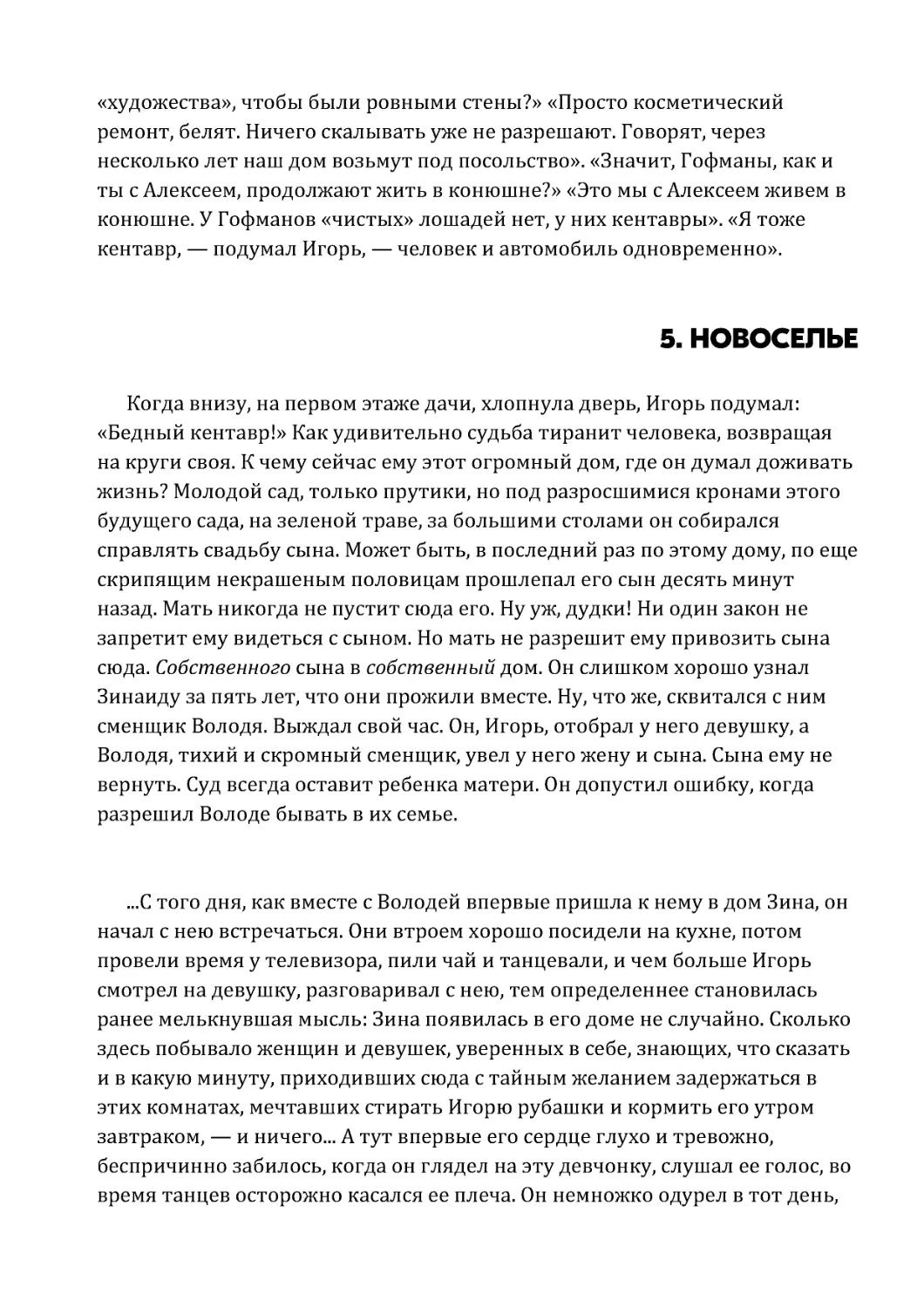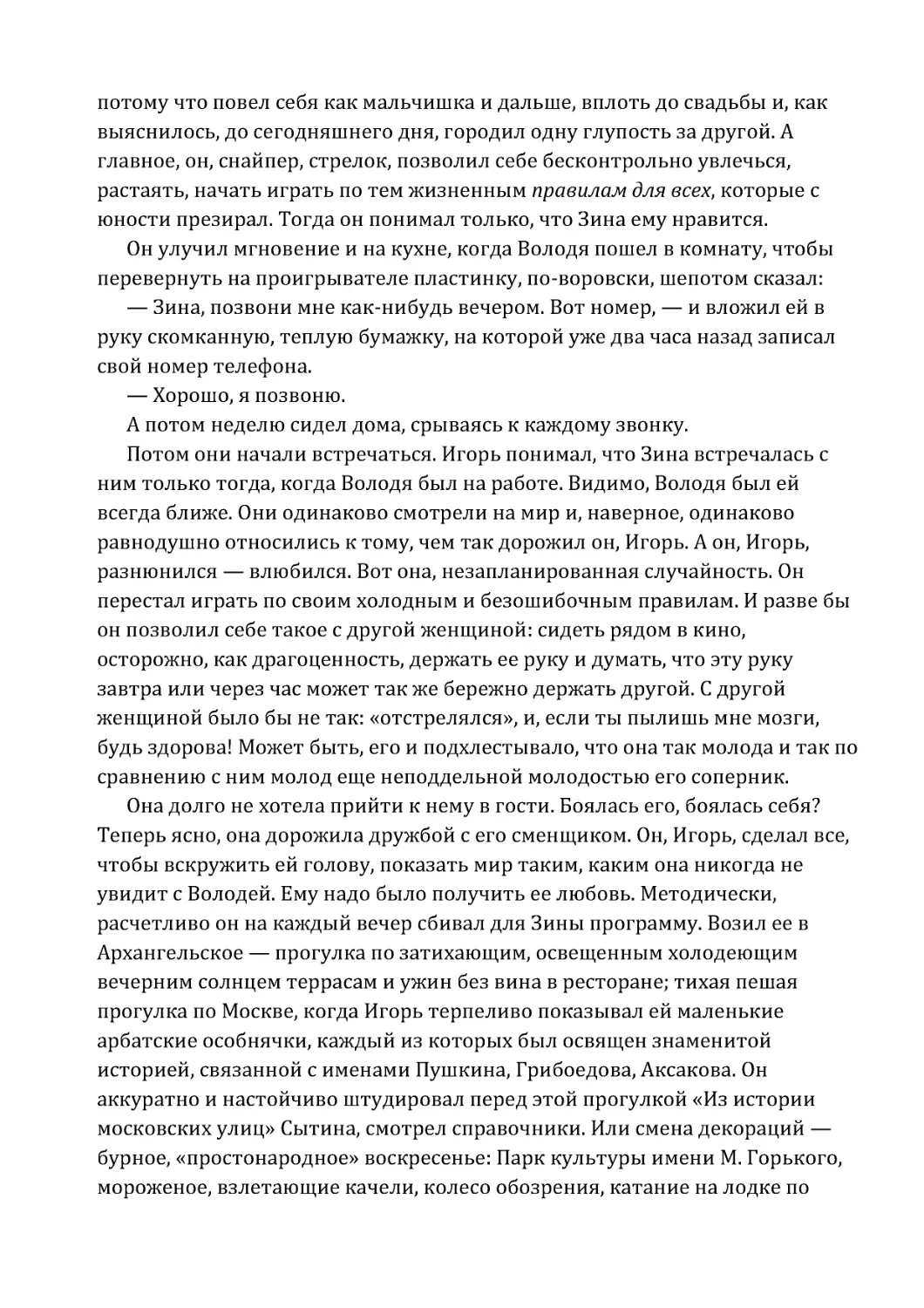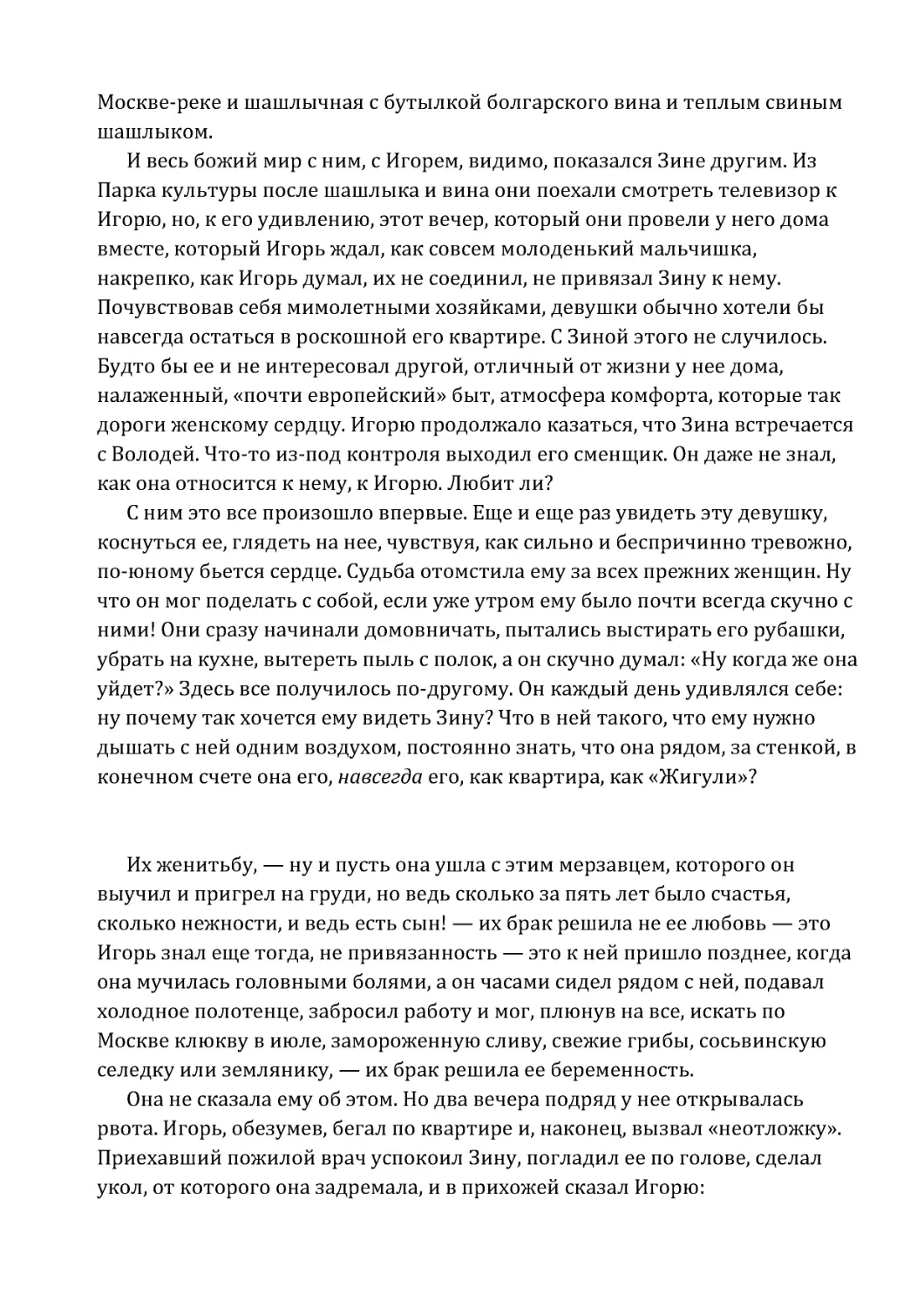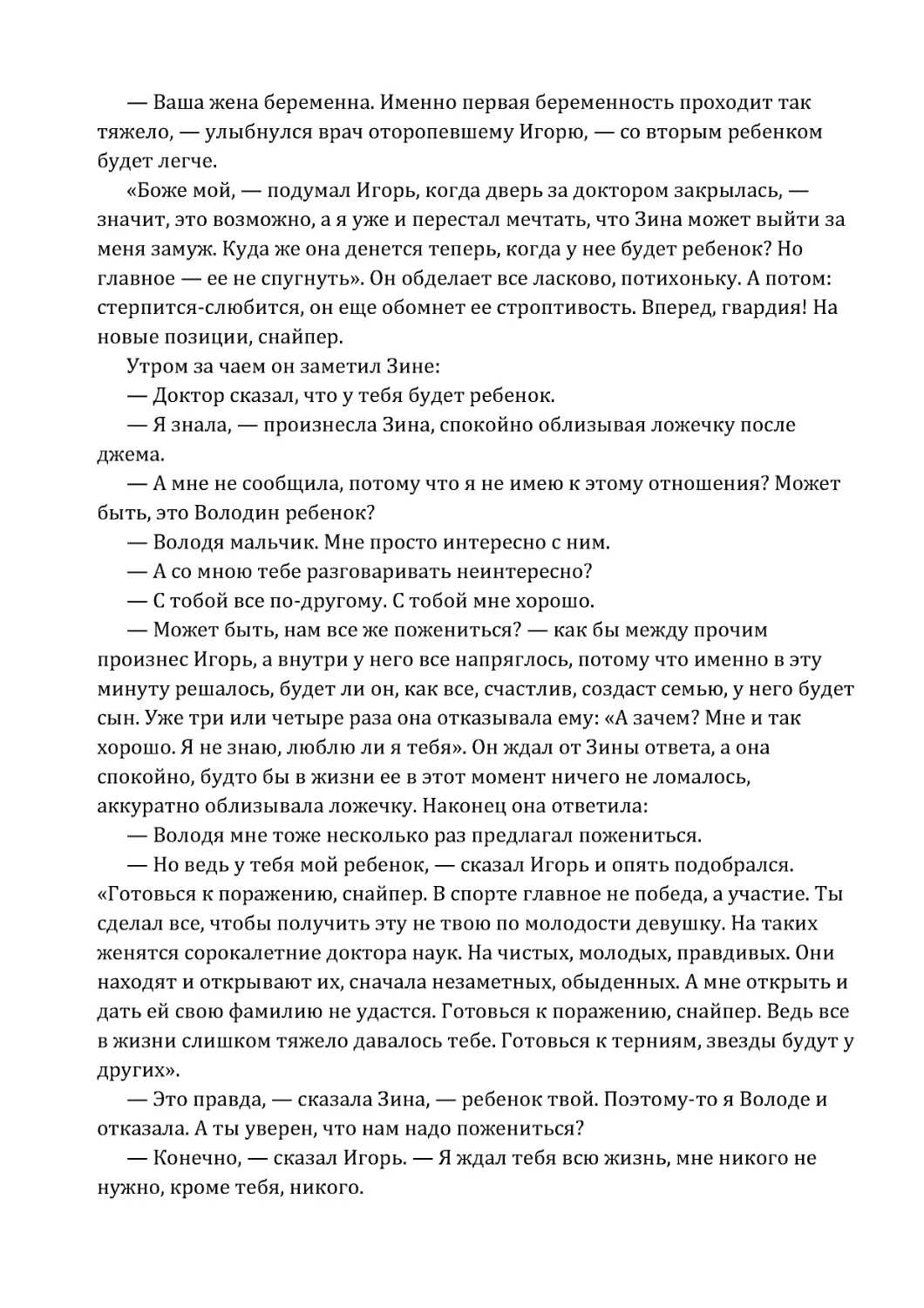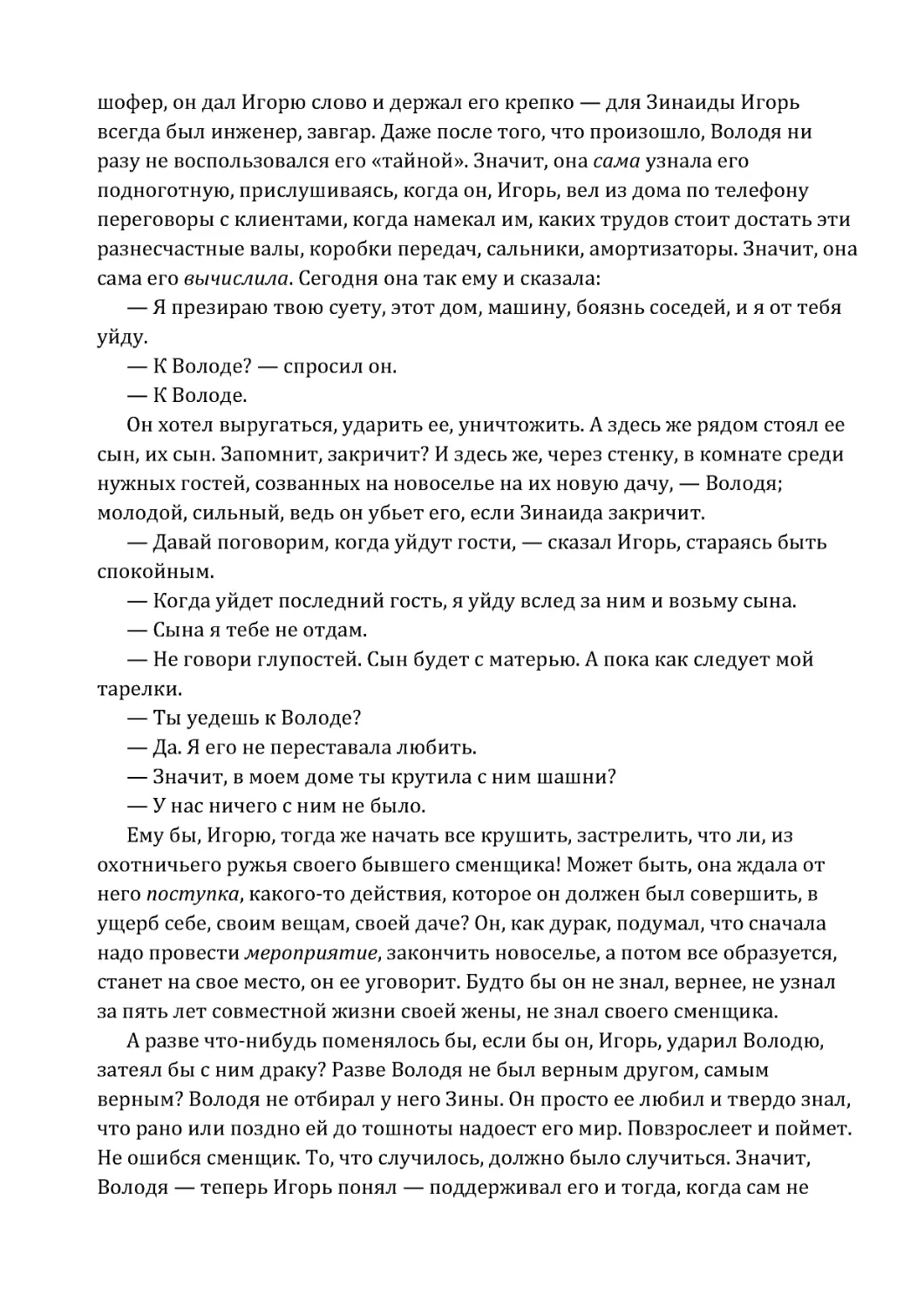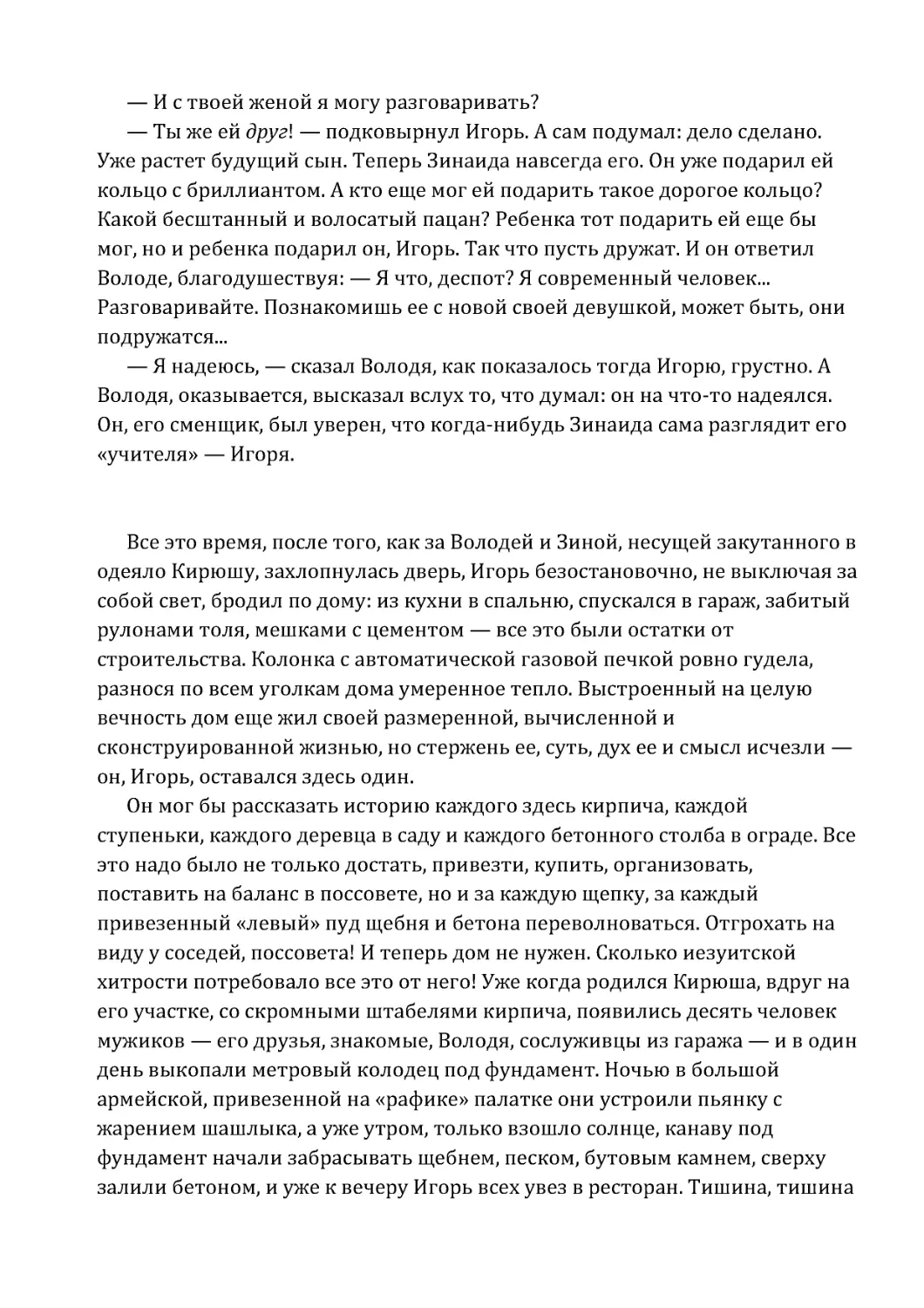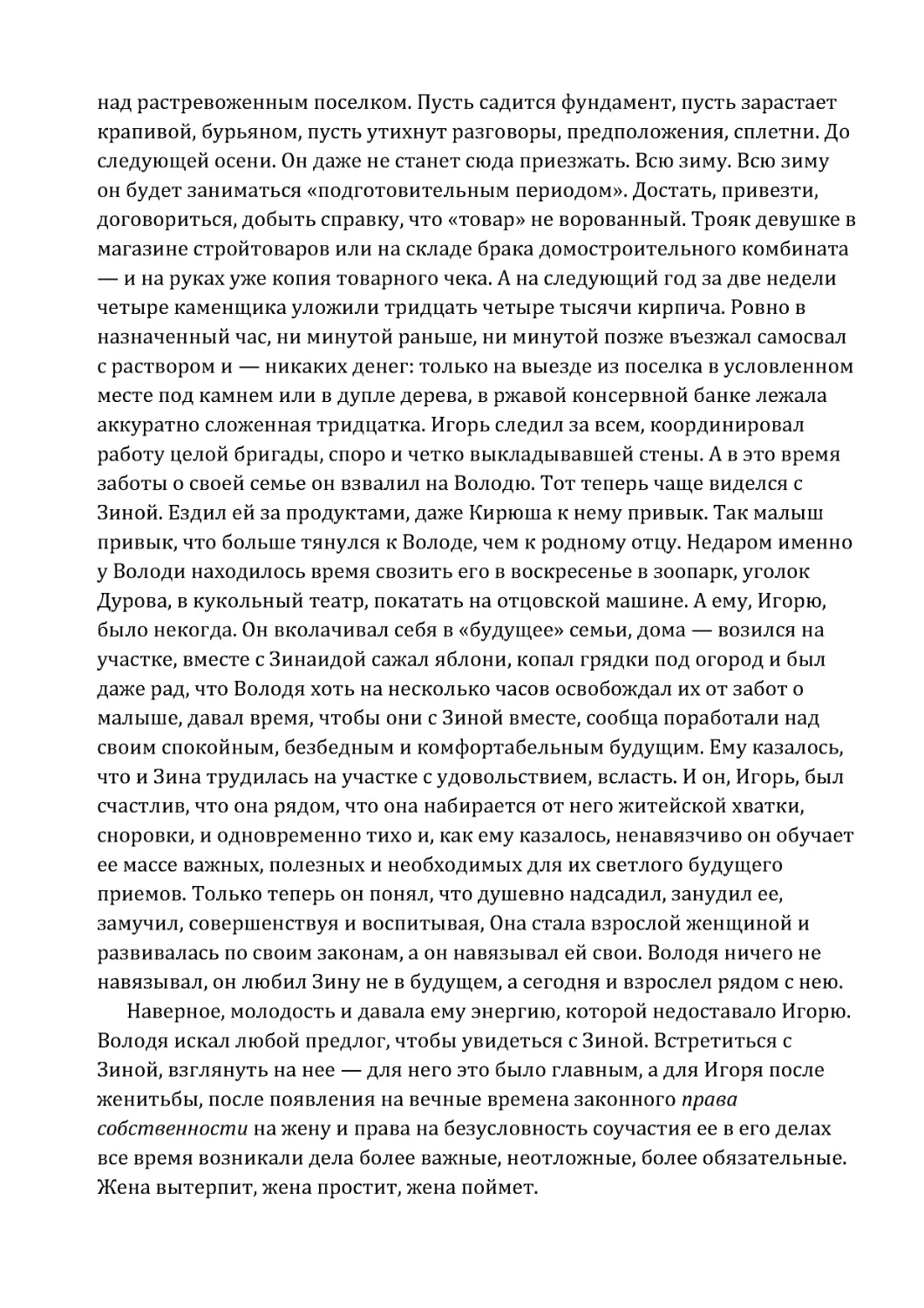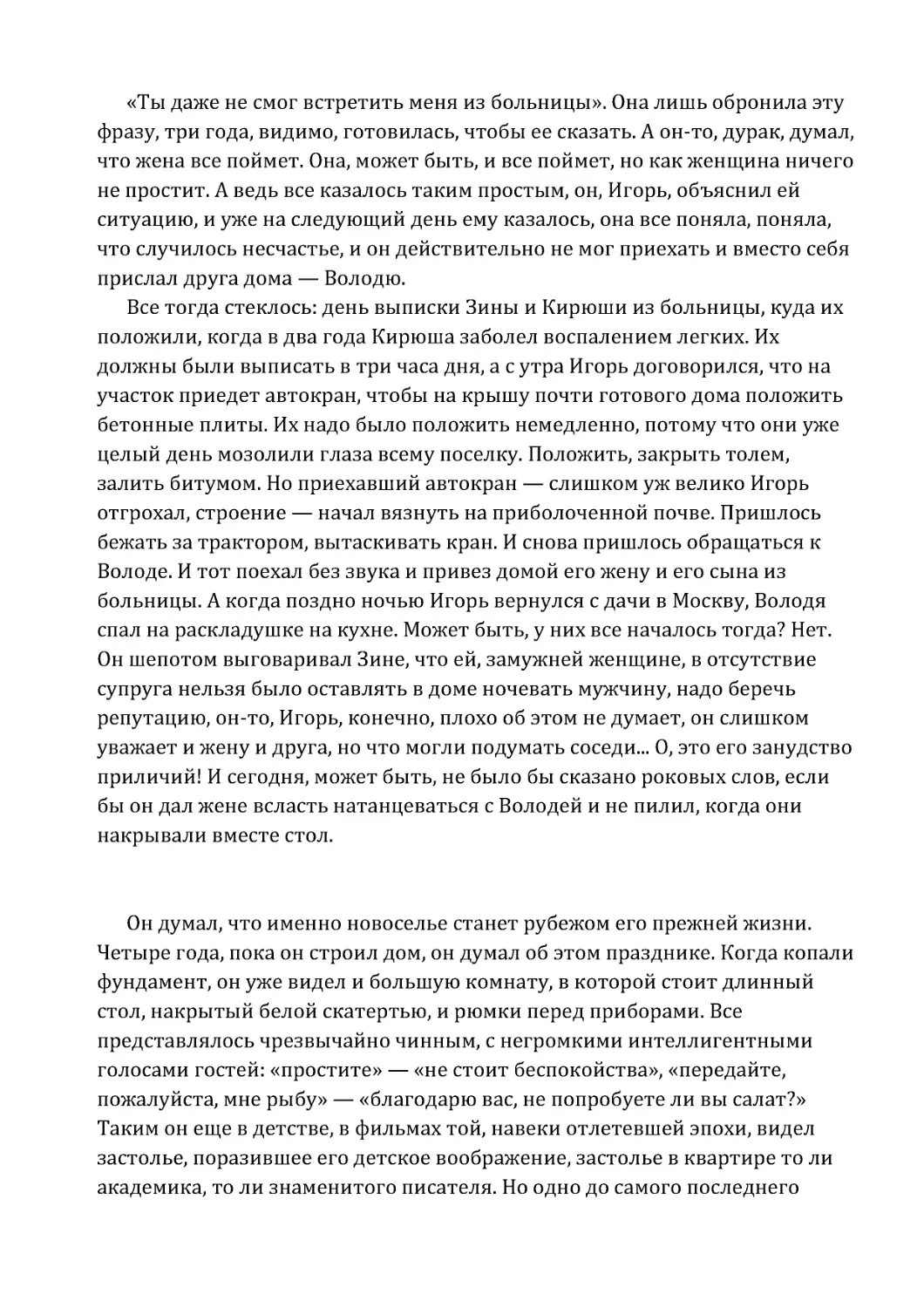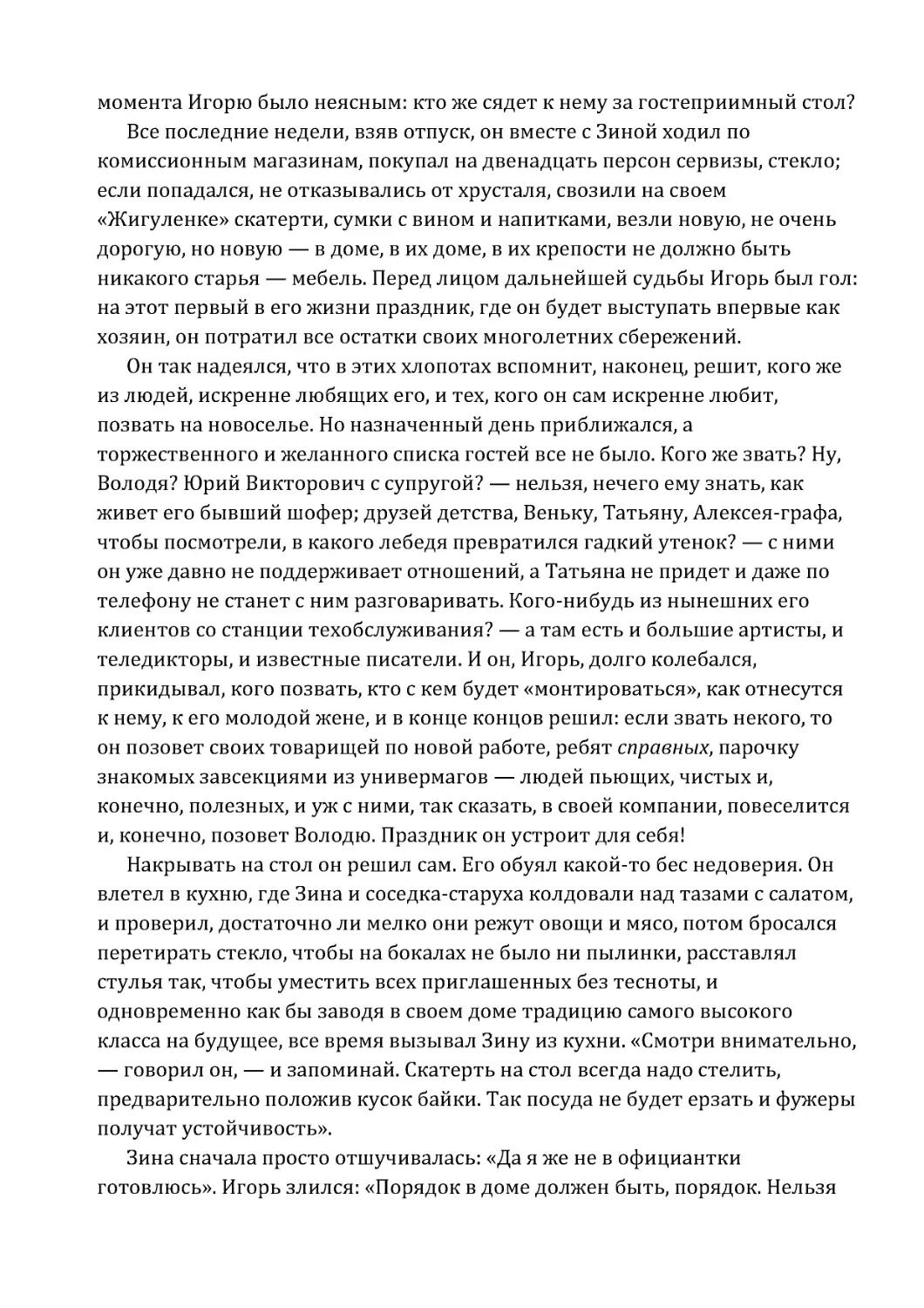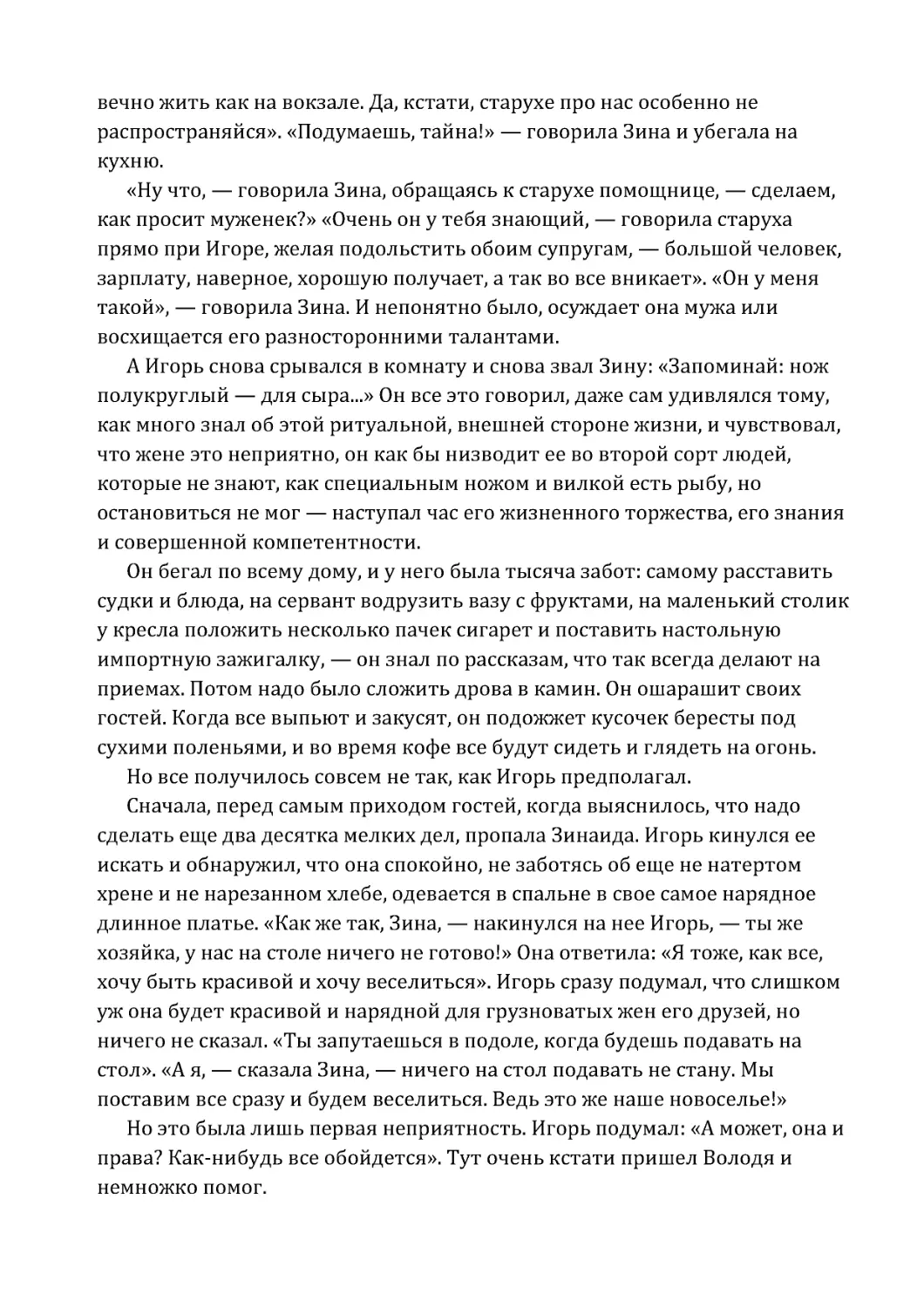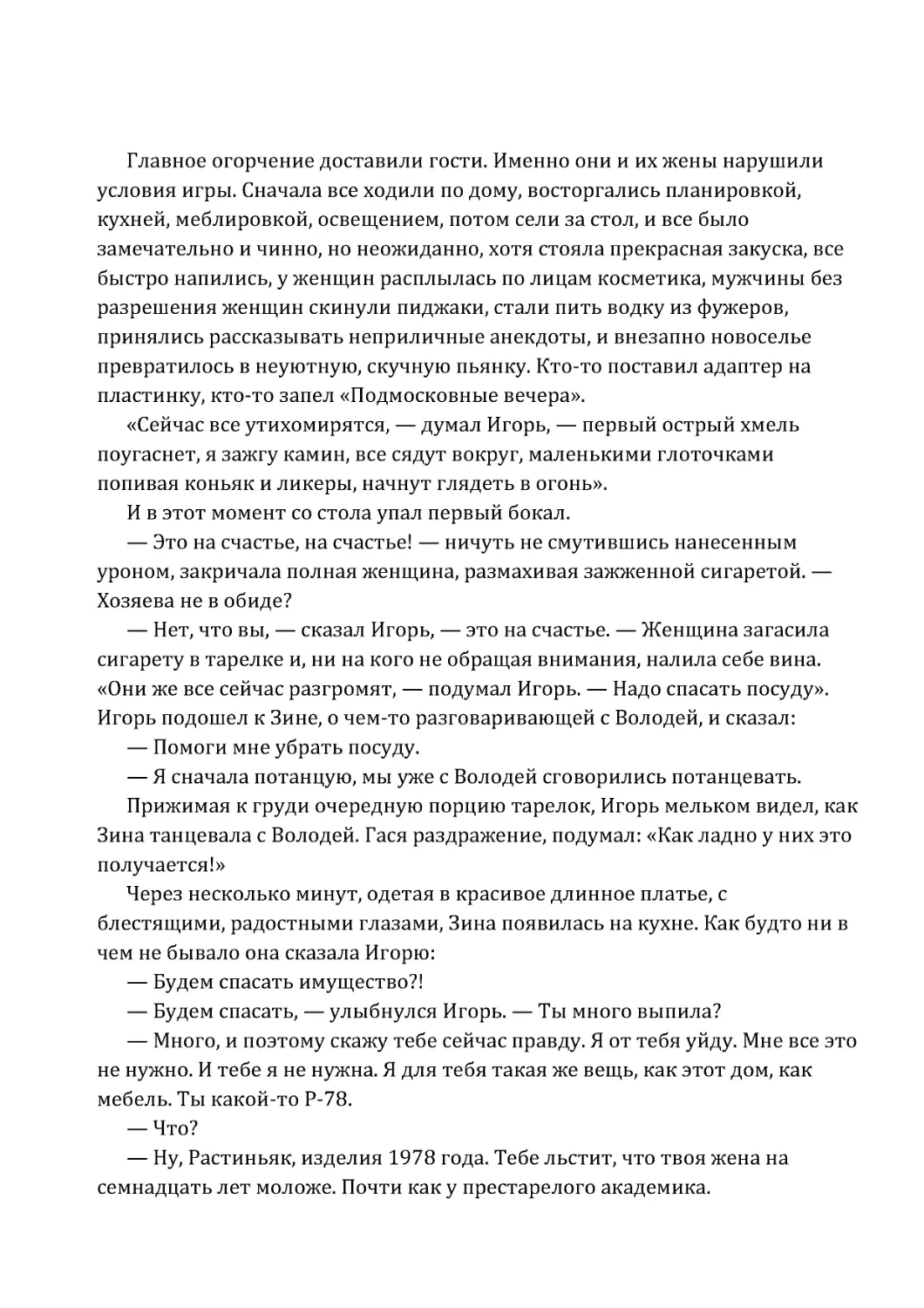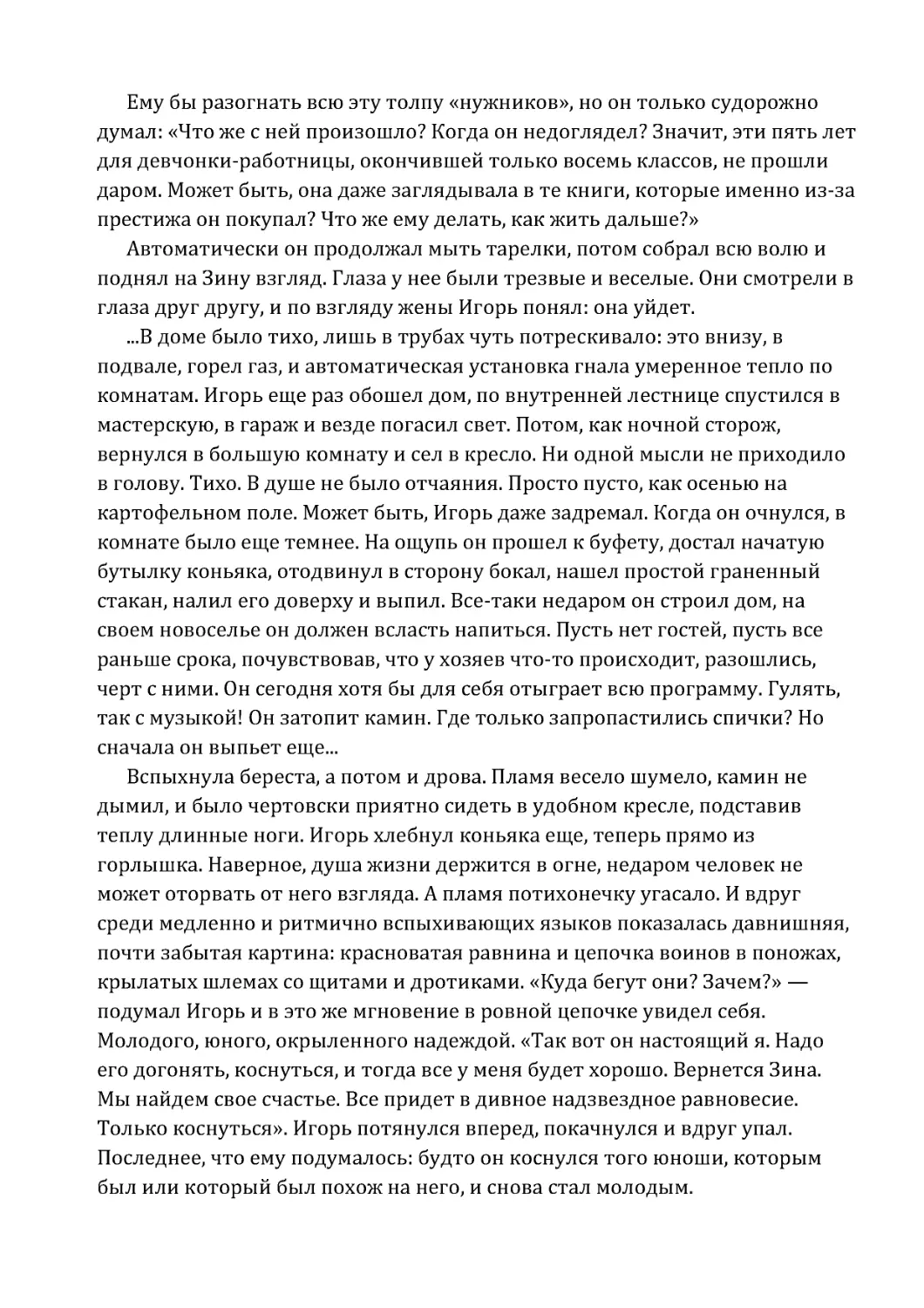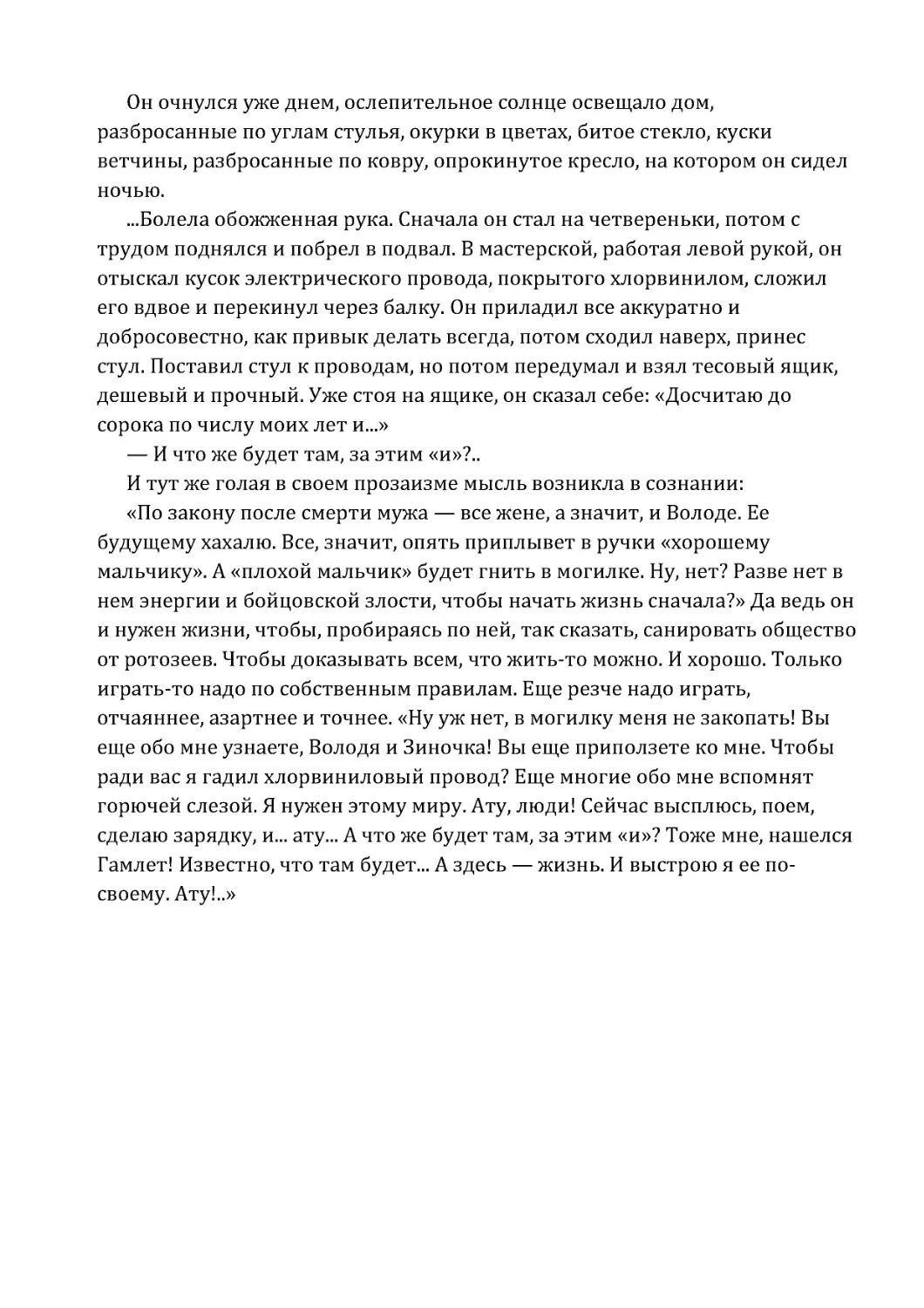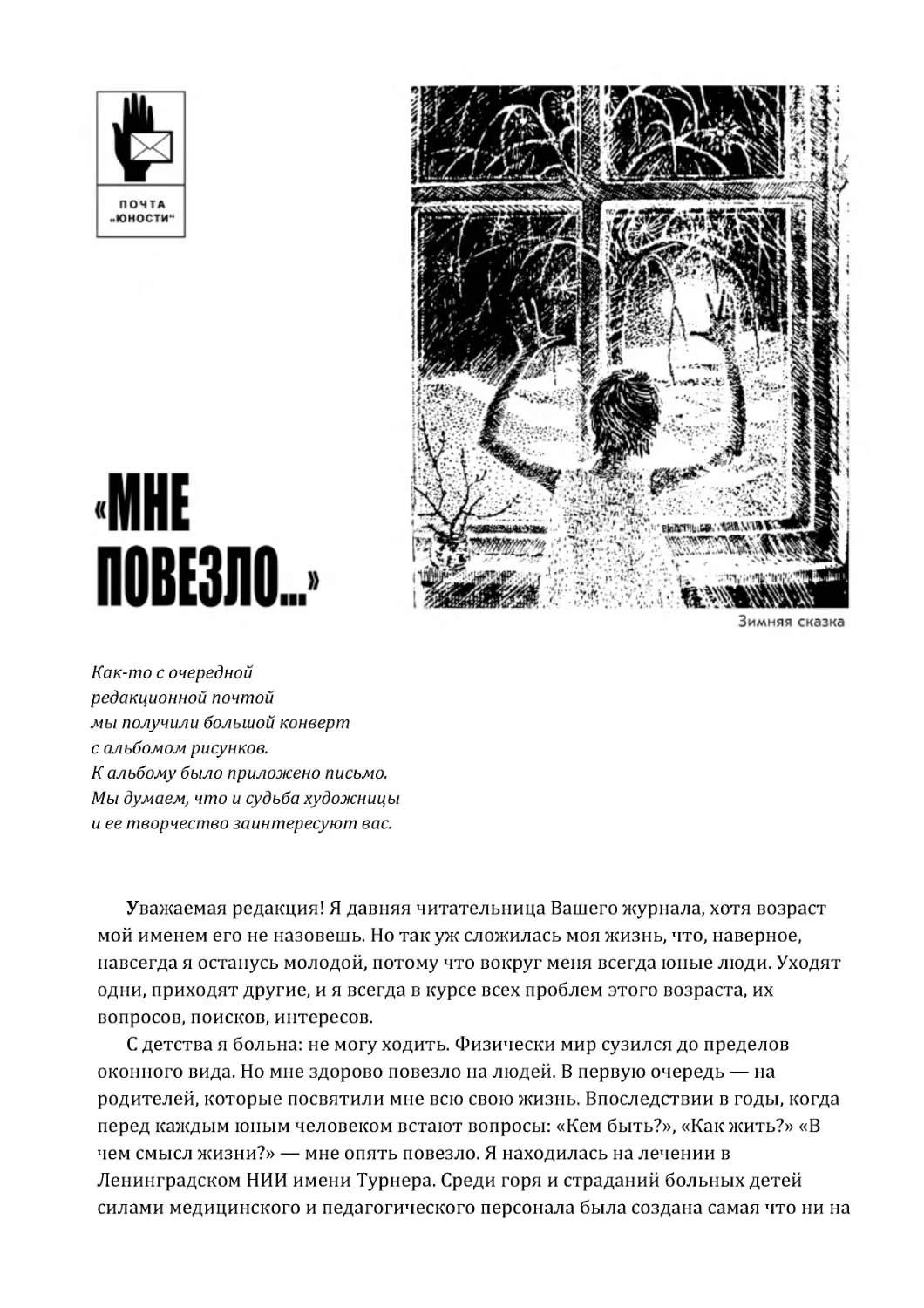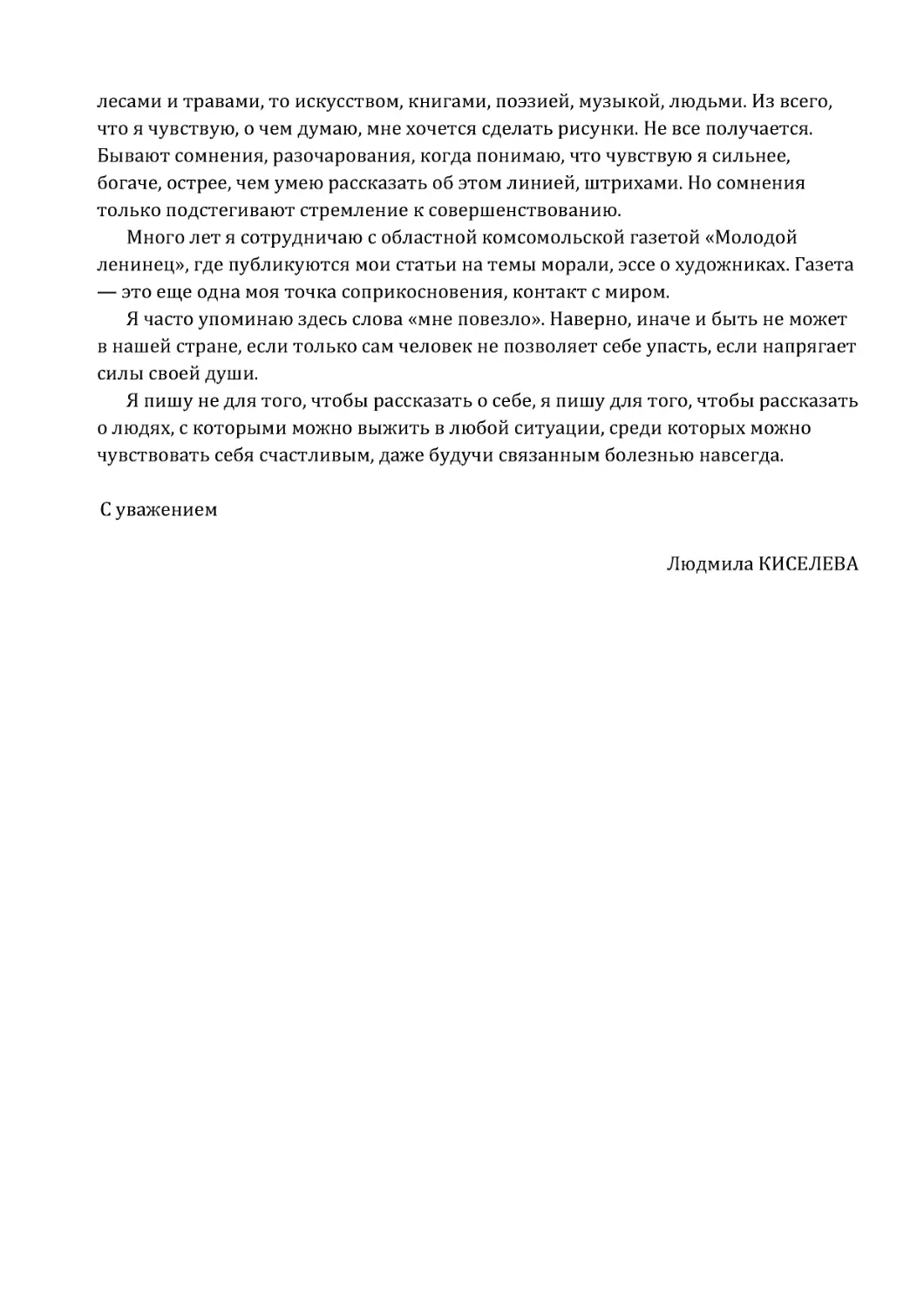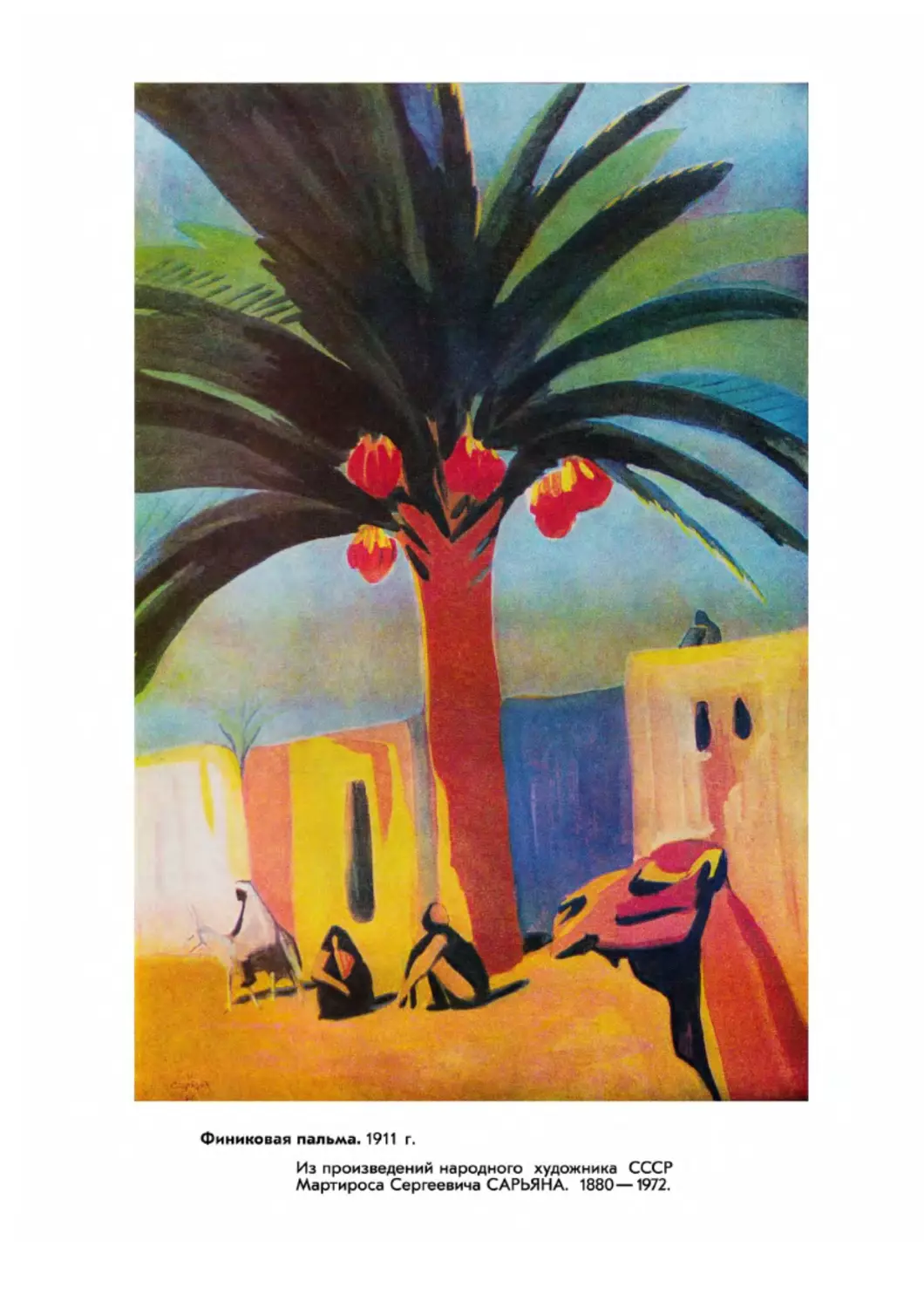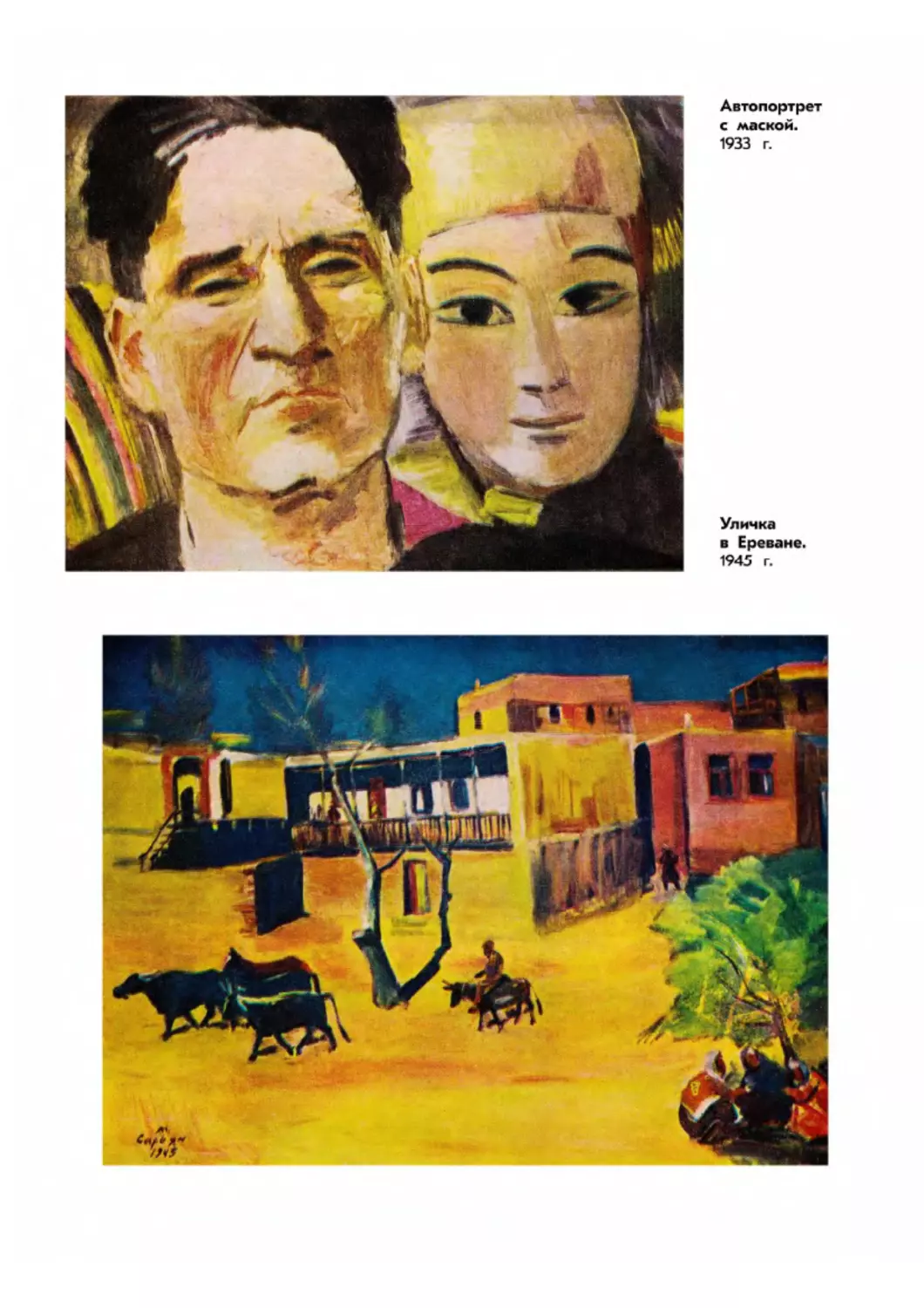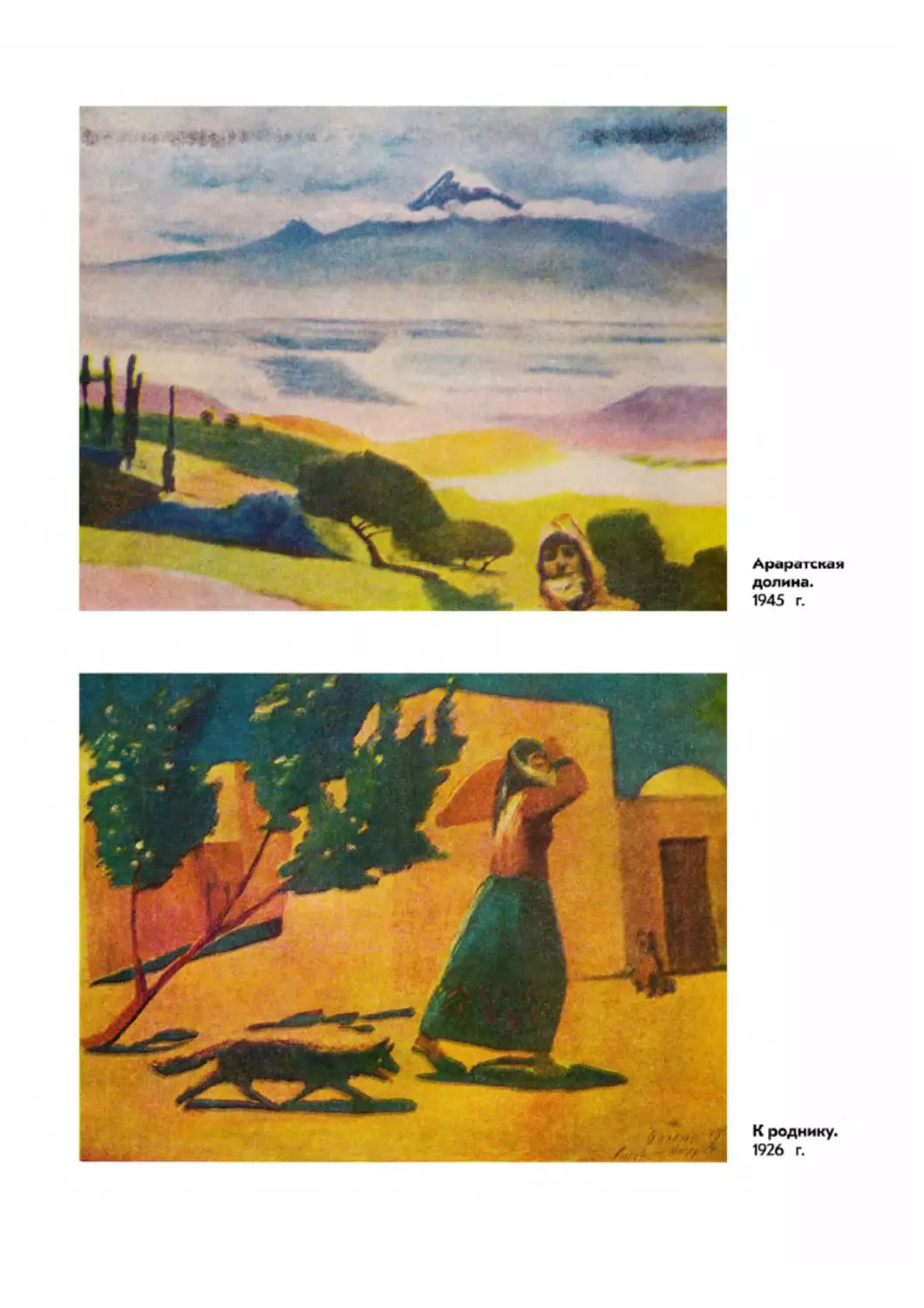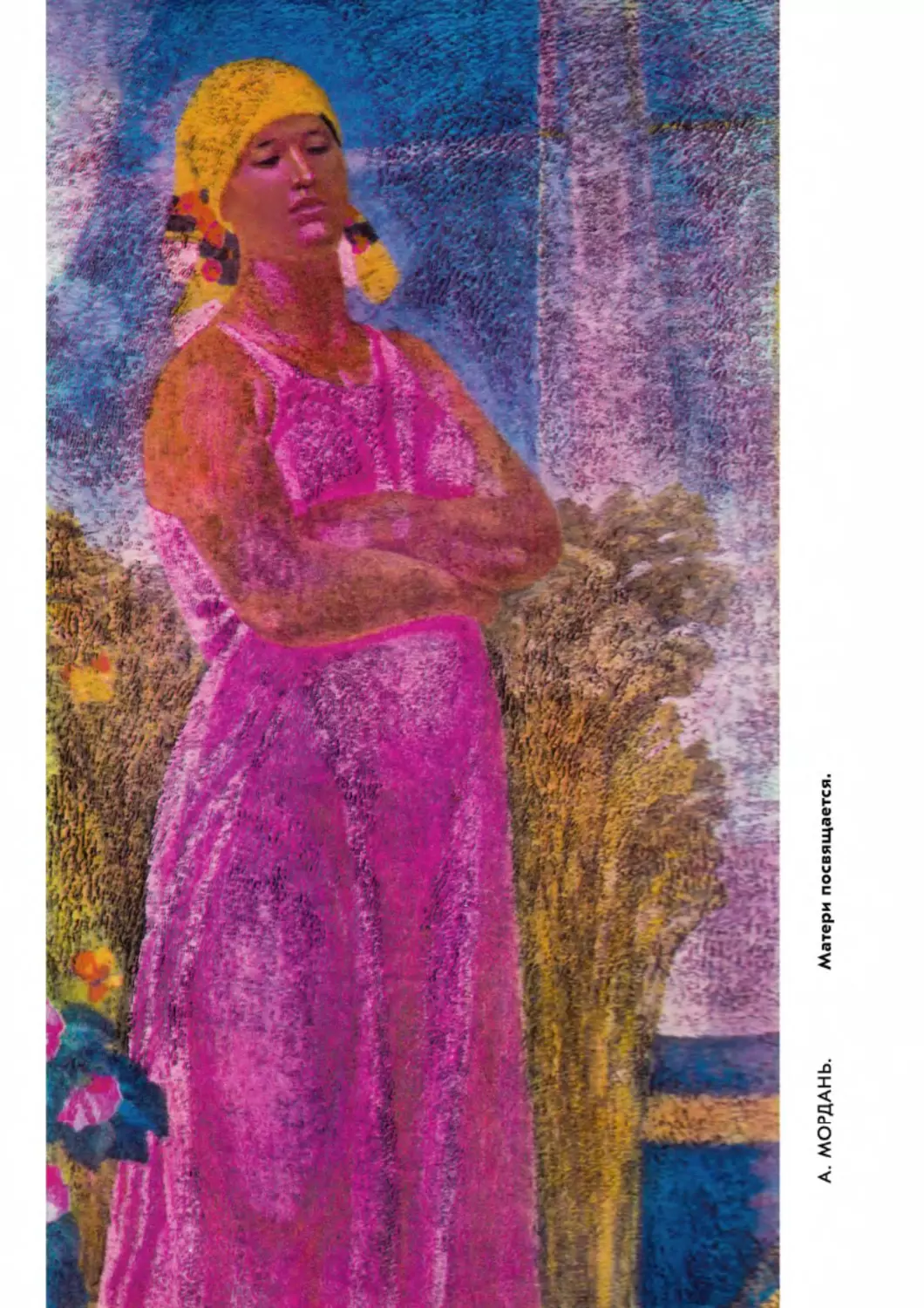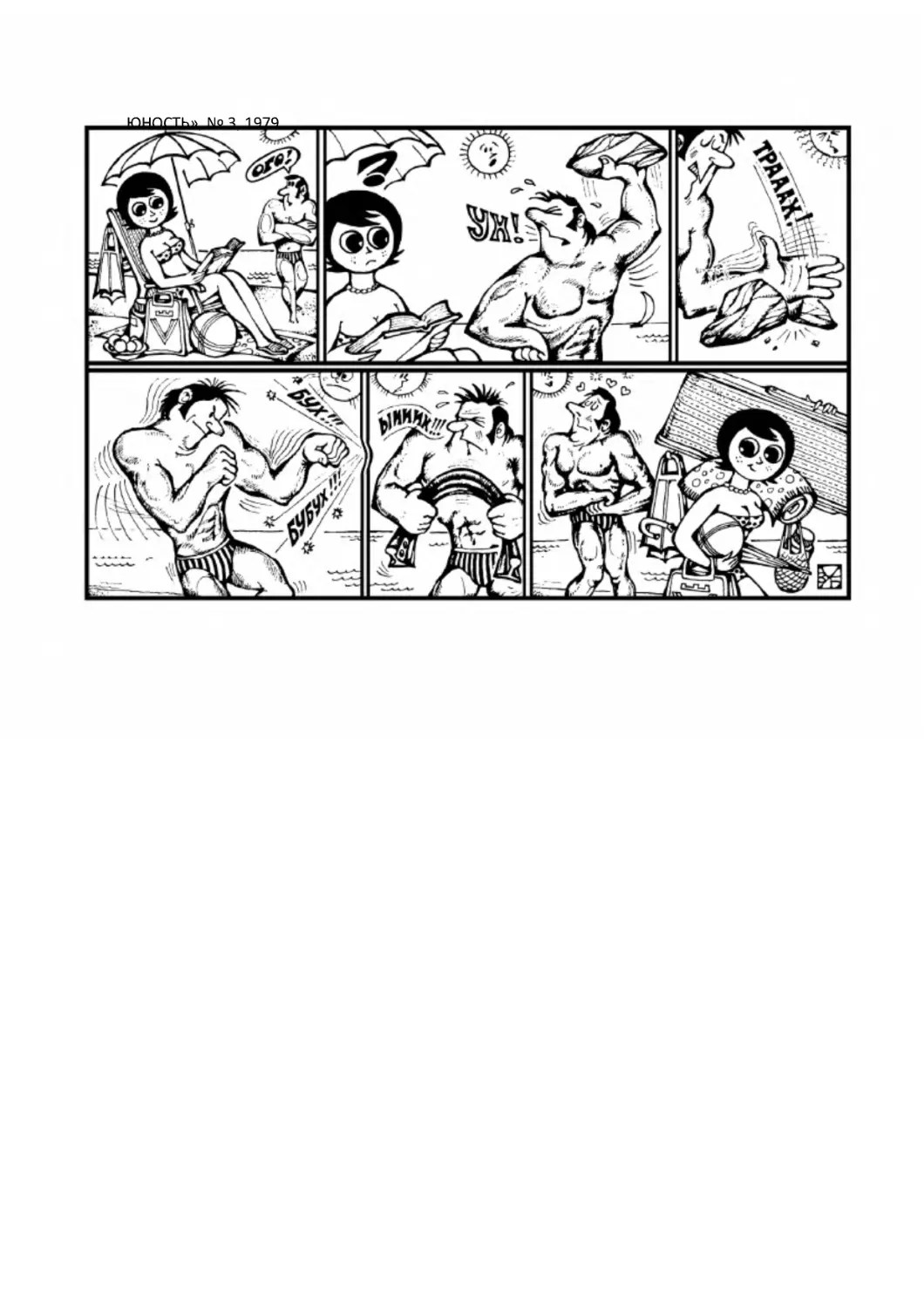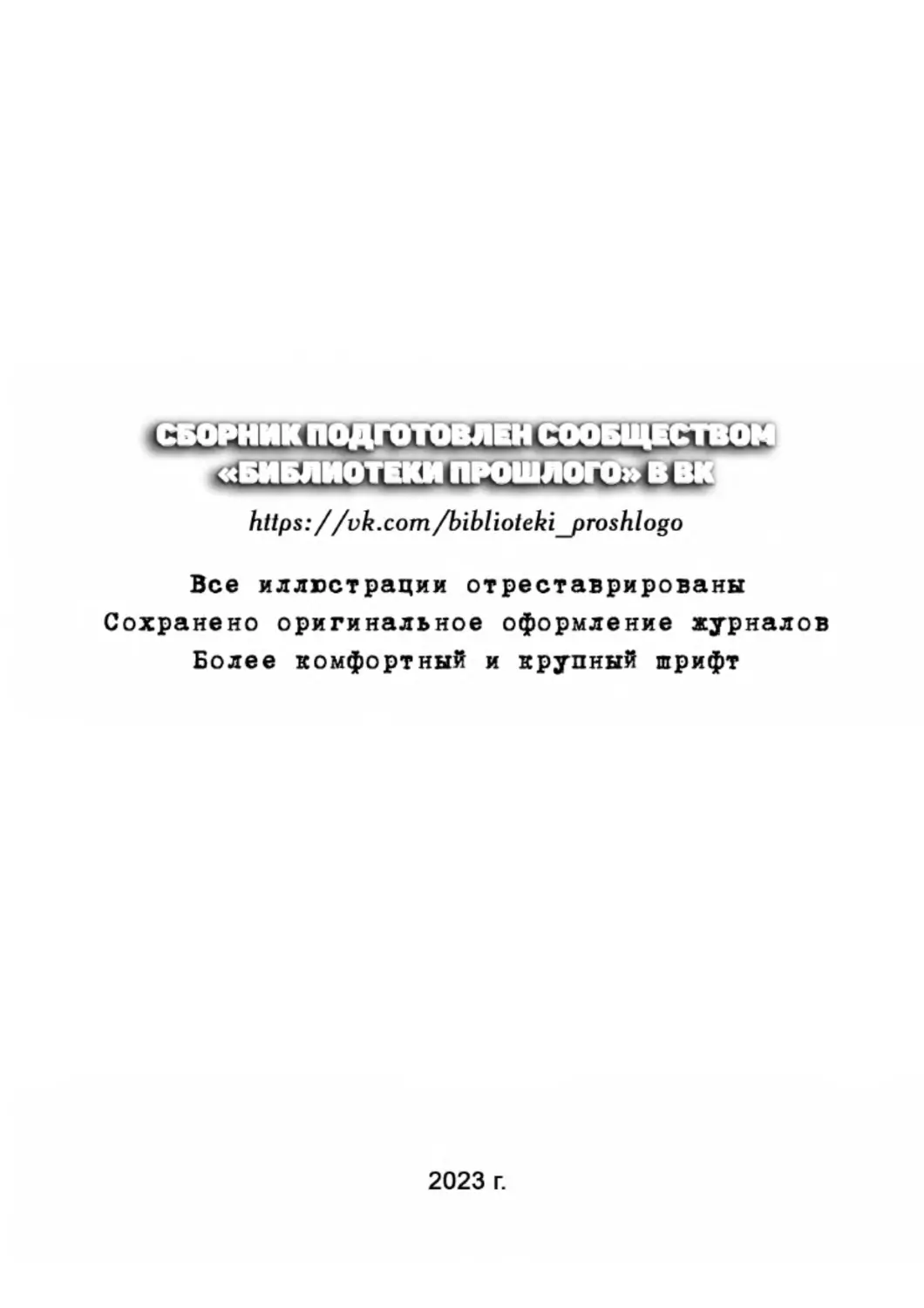Текст
СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА
01. Лев Хахалин – «Шаровая молния» /повесть/ («Юность», No 1, 1979) – стр. 6
02. Лев Хахалин – «Шаровая молния» /продолжение/ («Юность», No 3, 1979) – стр. 70
03. Александр Пастушенко – Рассказы («Юность», No 1, 1979)
● Марш-бросок – стр. 129
● На стрельбище – стр. 135
04. Екатерина Маркова – «Чужой звонок» /повесть/ («Юность», No 1, 1979) – стр. 139
05. Виктория Тубельская – «Дворец» /повесть/ («Юность», No 1, 1979) – стр. 179
06. Иллюстрации из «Юность» No 1 – стр. 212
07. Анатолий Алексин – «Раздел имущества» /повесть/ («Юность», No 2, 1979) – стр. 218
08. Марк Наумов – «Засада» /рассказ/ («Юность», No 2, 1979) – стр. 253
09. Василий Ливанов – «Мой любимый клоун» /повесть/ («Юность», No 2, 1979) – стр. 264
10. Виссарион Сиснев – «Свой остров» /повесть/ («Юность», No 2, 1979) – стр. 329
11. «Не рвётся связь времён!» /Почта «Юности»/ («Юность», No 2, 1979) – стр. 386
12. Иллюстрации из «Юность» No 2 – стр. 389
13. Эльчин – «Туман Шушу окутал» /рассказ/ («Юность», No 3, 1979) – стр. 395
14. Сергей Есин – «Р-78» /повесть/ («Юность», No 3, 1979) – стр. 420
15. «Мне повезло...» /Почта «Юности»/ («Юность», No 3, 1979) – стр. 493
16. Иллюстрации из «Юность» No 3 – стр. 496
17. Комиксы Галки Галкиной из номеров 1, 3. – стр. 501
«ЮНОСТЬ», No 1, 1979
«Скорбь без гнева —
безрассудство».
ЛЕОПАРДИ
1
Он жил уже свой пятнадцатый год, ему казалось — долго: так много он
знал. А может быть, и это ему казалось.
Он вздохнул и уловил горчащий вкус: где-то разводили вялые дымные
костры.
— Андрюша, закрой горло, — сказала мама.
Кузьмин оглянулся — она стояла с Николашкой на руках и большими
глазами смотрела на него, на Кузьмина.
Он поправил шарф и потупился. Скоро, — напомнил он себе.
Последние дни были пыткой: отец, под чьим суровым взглядом он
цепенел, мама и ее тетка, Анна Петровна, — все они пристально
разглядывали его, будто обнаружив что-то новое на его деланно
равнодушном лице.
Пятнадцатый раз для Кузьмина начиналась осень (а он уже знал, что это
лучшая его пора) — приходило успокоение, тихий восторг, и в груди,
казалось, рос живой горячий шар. Мир, великий мир со всеми своими
запахами и красками осенью подступал вплотную. Ни звон и резкость зимы,
ни неистовство и беспокойство весны не открывали ему мир в такой
полноте, как тихое утро в сентябре. Не приносили ему той радости,
которую, хоть мимолетно, он ощущал осенью и по дороге в школу и,
случайно, среди безысходности его школьных будней, взглянув в окно.
— Опять мечтает... Ну, пошли! — сказал отец. Он склонился, заглядывая
Кузьмину в лицо.
— Андрей! — сказал он. — Пожалуйста, слушайся Анну Петровну!
Кузьмин ткнулся губами в его твердую гладкую щеку, почувствовал
знакомый запах «Шипра» и перешел в мамины руки.
— Андрюшенька! — шепнула она ему, прижимаясь мокрым от слез
лицом. — Андрюшенька!..
Николашка послушно поцеловал его мокрыми губами и поспешно опять
влез маме на руки. Анну Петровну он целовать не стал, надул губы.
Они ушли в вагон, появились в окне, немые. Потом громко, напугав
Николашку, крикнул паровоз, такой длинный, сыто лоснящийся, похожий
на сжатую пружину (а отец сказал, что совсем он не похож), и, фукнув паром,
увел покорные серо-голубые вагоны с табличками «Москва — Будапешт —
Вена» в моросящую, мутную даль со странно-ярко горящими красными
семафорами.
Отец и мама что-то немо говорили из уходящего окна вагона, и Кузьмин
на все согласно кивал головой, а паровоз легко и быстро разгонялся и
уходил.
Кузьмин долго смотрел вслед поезду, не смаргивая, а Анна Петровна
терпеливо ждала, неподвижно стоя у него за спиной. Наконец он
повернулся к ней с тем равнодушным, выводящим из себя отца и учителей
выражением и стал молча ждать ее приказа. Она молчала. Ему пришлось
поднять голову.
Она спокойно и выжидательно смотрела на него. Пришлось сказать «Всё»
и первым шагнуть по направлению к выходу с перрона.
Они прошли мимо пригородных платформ с зелененькими вагончиками
и короткими, похожими на жуков паровозиками, через толпу суетящихся
людей, и, когда Кузьмин остановился, разглядывая их и заодно испытывая
Анну Петровну, она тоже остановилась. Потом они вышли на площадь, где
на том же самом месте, что и час назад, стоял отцовский «ЗИМ», сели в него,
и в последний раз добрый шофер повез их, но уже не домой.
В машине, где все еще оставался запах отца, тот, который пропитывал
весь дом, все его мундиры и даже, казалось Кузьмину, людей, у Кузьмина
сделался озноб.
Нет, у него не было предчувствия перемен, страха, жалости к себе или
заискивающей суетливости, когда Анна Петровна взяла его за руку и вместе
с ней он вошел в ее большую комнату с антресолью в коммунальной
квартире старого трехэтажного дома на другом краю Москвы.
За окном были сумерки, нудно шел дождь. Она постелила ему на
антресоли. Он сжался в комочек под одеялом и, согреваясь в подступающем
жару — он простудился — и уже плавая в нем, почувствовал толчок в
сердце: это из далекого далека маминой мыслью о нем толкнуло волнение.
«Мамочка!» — шепнул он, и тотчас натянулась звонкая струна,
затеребила его. В жару он заплакал, а струна все больнее дергала его. Когда
боль стала непереносимой, угрожающей, струна оборвалась, и, будто
омытый его горячими слезами, наутро мир предстал перед ним в
прозрачной яркости чистого синего неба и неразмытых контуров
незнакомого города, прихваченного воздвиженским морозцем.
День начинался и заканчивался полосканием горла из тяжелой, толстого
фарфора кружки с выцветшими васильками на стенках. От настоя голос
бархатен, наливался теплом, а в груди будто прибавлялось дыхания. Иногда
Кузьмин даже пробовал петь. А ангины через год кончились.
Бич последних лет — ежевечерняя проверка домашних заданий — не
свистел над головой, и Кузьмин приучился сам себя проверять: на первых
же неделях учебы в новой школе он нахватал двоек и, не слыша упреков и
нудных нотаций, а видя только напряженное лицо Анны Петровны
(Крестны), стал незаметно для себя стараться, и мало-помалу двойки
исчезли.
Он становился общительным и веселым, играл за школьную команду в
волейбол (в девятом классе он начал быстро расти, оставаясь худым и
подвижным). На фотографии тех лет нескладный Кузьмин выглядывает из
клубов дыма со сцены актового зала школы — показательный опыт на
вечере отдыха.
Он долго отвыкал от озноба страха, державшего его в постоянном
напряжении там, в старом доме и старой школе, и, когда короткий путь до
школы стал легким, веселым, когда свобода незаметно вошла в его плоть, к
нему вернулось любопытство, беззлобная шкодливость и то известное
чувство, когда нет рук, ног, горла, головной боли, а есть просто неутомимое
тело: носитель, хвататель и прыгатель.
Он учился в девятом классе, когда появилась новенькая, и ее
присутствие, ощущаемое всем телом как изнеможение, паралич, изменило
его представление о своих приятелях и еще больше — о себе.
(В тот день у него особенно сильно зудели противные розовые прыщики
на щеках; даже на контрольной он не переставал их расчесывать и,
вернувшись домой, в нетерпении сразу же бросился к зеркалу. Толстое,
благородно-овальное зеркало громоздкого трюмо — общее зеркало всей
квартиры — по краям было замутнено, слепо, и только в центре холодно и
глубинно сияло как бы изнутри освещенное поле.
Волшебное зеркало стерло случайные черты — прыщики, царапину на
подбородке, оспину над растрепанными губами, — и на Кузьмина издалека
внимательно посмотрел тонколицый красивый мужчина. Кузьмин отступил
— одежда расплылась неопределенным пятном, а лицо осунулось,
просветлели глаза, брови обрели излом, а губы сложились, упрямо
подобрались.)
Он стоял и разглядывал себя — он понимал — настоящего, того, который
уже существовал в той дали, и не знал, что лицо его в эти минуты меняется,
сродняется со своим изображением.
Он показал себе язык. За этим занятием его застала Крестна, вышедшая
из кухни посмотреть, что это он так замешкался. Ее лицо в зеркале
разгладилось, открылась теплота взгляда, а губы ее, оказывается, все время
улыбались. Кузьмин оглянулся на нее, настоящую, — и вдруг разглядел все
это.
— Да, ты будешь красивым, — спокойно сказала Крестна, и Кузьмин
заинтересовался. — Рот, лоб — все наше. Ты доброго человека как узнаешь?
— вдруг спросила она.
— По глазам, — быстро ответил Кузьмин.
— А умного?
— По глазам!
— Выходит, глаза-то главное?
— Верно! — подумав, засмеялся Кузьмин.
А вечером, сыграв на его давнишнем интересе к большой черно-лаковой
шкатулке, она допустила его к ней.
Кузьмин увидел улежавшиеся на своих местах пачку писем и документов,
замшевый мешочек-кисет с набитым брюшком, две медали военного
времени, позеленевший изящный наперсток и десяток фотографий на
картоне.
Она была дерзко-красива, высокомерна: то присевшая на минутку в
плетеное кресло (и нетерпение чувствовалось в туфельке, выглянувшей из-
под платья, в руке, сжавшей тонкие стебли тюльпанов), то в костюме
амазонки взошедшая на ступени дачной беседки (сжимающая хлыст, с
раздутыми ноздрями и косящим взглядом она была все еще в азарте
скачки); даже севшая у ног мужа с дочкой на коленях, она испытующе и
гордо глядела на Кузьмина с этих фотографий.
— Какая ты была! — восхитился Кузьмин.
— Красотою красив, да норов спесив, — усмехаясь, отозвалась Крестна.
— Ты была богатой? — еще раз разглядывая интерьеры, спросил
Кузьмин.
— Мои мужья были богаты, — сказала Крестна. — Мы с твоей бабушкой
бедные были. Какая же я тебе больше нравлюсь?
— Теперешняя, — не покривив душой, решил Кузьмин. — Там ты злая. —
Он оглянулся на нее, боясь, что обидел.
Но она улыбалась.
— Свет ты мой ясный, — чистым голосом сказала она.
В темноте, в слабом свете лампады, дождавшись, когда она отмолится, он
спросил с антресоли, где спал:
— Крестна, ты думаешь — бог есть?
И после долгого молчания, когда Кузьмин уже почти перестал дышать,
дожидаясь ответа, готовый извиниться, она ответила:
— У тех, для кого свой крест тяжел, он есть.
Он подобрал на улице мокрого, грязного котенка. Обезумевший от ужаса
перед катящейся мимо рычащей громадой машин, беззвучно разевающий
маленькую беззубую пасть, горбя спину, котенок попятился от присевшего
на корточки Кузьмина к стене, под струю из водосточной трубы. «Что, брат?
— спросил Кузьмин. — Маму потерял? Пошли к нам жить?» Всей квартирой
кота назвали Васькой. (Через год летом в деревне он исчез. И странно —
долгие годы Кузьмин помнил о нем, пока что-то не подсказало ему, что
Васьки уже нет. Но то была уже иная, другая жизнь.)
Он опять стал много читать.
По воскресеньям, получив деньги на дорогу, он ехал в центр, гордо
предъявлял офицеру читательский билет и проходил за ограду, шел мимо
очереди в Мавзолей, в юношеский филиал Исторической библиотеки. Там, в
недетской тишине, в высоком сумрачном зале уважительные,
неторопливые библиотекарши выискивали для него вытребованные книги,
и, устроившись поудобнее, он склонял над ними голову. От книги он хотел
совсем немного — чтобы она не повторяла известного ему, и как правило, у
такой книги было странное какое-то, вневременное название. Мир
действительно был неисчерпаем, но не было в нем места для Кузьмина.
Однажды, утомившись и соскучившись над медленно разматываемой
историей, он поднял голову и напротив себя увидел белобрысого Алешку
Галкина, с которым познакомился в пионерском лагере, вступившись за
него перед Косым. (Косой мордовал всех подряд, особенно безошибочно
находя паникеров. Кузьмин, вышколенный в дворовых драках старого
шумного дома, коротко двинул Косого в ухо и, вывернув ему карманы,
вернул Алешке ножичек. Остальную добычу он сунул себе в карман, чем
сильно разочаровал Алешку. И теперь Алешка несколько свысока
разговаривал с Кузьминым.) Кузьмин соврал, что им по дороге, они
разговорились, и после нескольких встреч в библиотеке Алешка ввел
Кузьмина в свой дом. Вот тогда и началась эта дружба с Галкиным-старшим,
В. А.
Кузьмину сразу же понравилась привычка В. А. гримасничать, щурить
правый глаз, задавая ехидные вопросы.
Маленький, плешивый, В. А. стремительно двигался по квартире,
оставляя за собой следы беспорядка — раскрытые книги, передвинутые с
места на место стулья, папиросный пепел. Если его монолог затягивался, то
постепенно на столе вырастали завалы книг — цитируемых, оспариваемых
или просто взятых на всякий случай.
.. . Были тихие воскресные вечера за накрытым скатертью столом под
шелковым, в те годы уже вышедшим из моды абажуром с бахромой, с чаем,
неутомительными разговорами. Были дивные рассказы в лицах — о гениях
интуиции, их видениях и миражах, об озарениях, нелепых ошибках и пустых
капризах, слепых заблуждениях, о высоте помыслов и убогости средств —
из уст бескорыстного человека, теперь работающего на тихой должности,
спрятавшегося сейчас от напасти и наветов на нелюбимой работе, человека
невыговорившегося и тайно надорвавшегося. «Гений популяризации», —
отзовется когда-нибудь о нем Кузьмин.
Если бы не долговязый, скептически настроенный ко всему на свете
Алешка (из отцовского уголка на диване зло и ехидно комментирующий
рассказы В. А.), если бы не откровенное любопытство его мамы к
подробностям жизни генеральской семьи Кузьминых, сконфуженно
обрываемое В. А., если бы не тень неуважительности в их отношении к В. А .,
то дом Галкиных стал бы для Кузьмина незамутненным источником.
Общаясь с В. А., он узнал всю меру своего невежества и безмятежно
принял это к сведению. Но пришло время, и лучший в мире слушатель стал
задавать вопросы, и их опережающая рассказ дальновидность поразила В. А.
Он осторожно подсунул Кузьмину давние работы отечественных генетиков:
полуфантастические, масштабные, они будили воображение, переступая
через скучные мелкие факты, недоказуемость некоторых положений.
Кузьмина поразил рассказ В. А. о Кольцове. В . А. работал с ним и
объяснил грузного человека, сумрачно косящегося на тихую лабораторную
возню, человека с чудовищной интуицией, заменяющей ему и электронный
микроскоп и биохимическую лабораторию.
Не ведая робости, Кузьмин спрашивал в который раз:
— Акакжеэтоонделал?
У В. А. начинало пылать лицо, потел нос, он метался по комнате под
ожидающим взглядом Кузьмина, он пытался что-то объяснить, но рано или
поздно ему приходилось выдавливать из себя:
— Это талант...
Кузьмин отмахивался:
— Нет, как он это делал?
— Андрюша, есть выражение: «Ученый — это тот, у кого не руки
чешутся, а мозги», — понимаете?
Кузьмин не понимал. Кузьмин снимал газетную обертку с возвращаемой
книги, устраивался на стуле и начинал задавать вопросы.
Очень скоро В. А. почувствовал царапающую хватку еще молочных зубов
Кузьмина, и поразительная легкость, восприимчивость с которой Кузьмин в
споре усваивал труднейшие умозрительные доказательства, удивили его,
многоопытного.
Затем, случилось, он однажды перебил Кузьмина. «Этого не может быть,
Андрюша», — сказал он твердо, как в былые времена, председательствуя
где-нибудь на семинаре. И на него, истребляя все возражения, обрушилось
доказательство, которое, он знал, играючи было рождено сейчас, в эту
минуту. В А . откинулся на спинку стула, пряча растерянное лицо в тени.
Алешка засмеялся, жмурясь от
удовольствия, и, покраснев, В. А .
потребовал, чтобы он замолчал.
В. А. попросил: «Объясните мне
все от начала до конца,
Андрюша!»
И Кузьмин развернул перед
ним поразительно гармоничную
картину устройства своего мира,
мира, в котором не было места
заданности.
Со смущением и тихим
восторгом, как перед ненароком
открывшейся наготой
совершенства, в отдельных
фрагментах этой картины В. А. с
изумлением узнал уже раньше
рожденные, но ныне
объявленные еретическими
идеи; недоступные для
ознакомления, преданные
анафеме, они вдруг стихийно
рождались вновь.
Но главное было в
диалектичности, естественности,
с которой Кузьмин объяснял
живой мир: «Не он, а мы
случайны! Какой великий дан
нам шанс!..»
В. А. перевел разговор на
другую тему, и мальчишки уже
дурачились, а он сел на диван,
закрылся от них газетой, и по
нему ударила вторая волна — он
испугался. Испугался, что это
чудо, искра задохнется. В
следующий приход Кузьмина он
попытался расспросить его о
доме — и встретил отпор. Он угадал причину и, полный сочувствия,
навсегда отступился от расспросов.
Он принял на себя добровольное бремя: охранить, напитать искру,
вздуть пламя...
— Таких книг, дорогой, еще нет, — все чаще стал отвечать он Кузьмину.
— Вот статейку из «Нейчер», свеженькую, я бы мог вам дать. Но ведь вы
английский язык не уважаете, не? — Он насмешливо улыбался.
А Кузьмина поражало иногда топтание В. А . на очевидностях, иногда В. А.
рассказывал ему вещи, о которых он, Кузьмин, как будто раньше слышал.
Однажды они поссорились. В. А. крикнул ему: «Много на себя берете,
Андрюша! Ведь вы даже не дилетант! Как вы можете спорить!» Алешка из
уголка подал реплику: «Не кричи! Сам говорил, что у него...» В. А . замахал на
Алешку руками.
Безошибочно угадав, В. А. открыл Кузьмину Баха и Бетховена и,
деликатно промолчав всю обратную дорогу с концерта, был вознагражден
трудным «Спасибо!».
Ему же он открыл тайное тайных: дал изданную в 1922 году на
шершавой желтой бумаге тетрадочку: «Опрокину мир, разломлю луну!
Разбужу грозу, молнией сгорю!» — и, смущаясь, выслушал вежливые
комплименты. «Ни черта вы в стихах не понимаете, Андрюша!» — сказал он,
странно досадуя на то, что Кузьмин не может, не станет его изначальной
копией.
Однажды вечером Алешка прибежал к Кузьмину домой: «Пошли скорей!
Отец зовет!» Была зима, но они бежали всю дорогу, не обращая внимания на
соблазнительные сугробы и накатанные ледяные дорожки. Алешка бежал
очень быстро и все время оглядывался на Кузьмина.
Еще в прихожей Кузьмин почувствовал знакомый запах валерьянки. В. А.
лежал на диване, лицом к стене. Узнав Кузьмина по шагам, он просто ткнул
рукой в сторону стола.
— Доказали! — сказал он. — Всё доказали! Запоминайте, миленький:
Уотсон и Криг. Доказали спиральную структуру ДНК.
— Спираль! — ахнул Кузьмин.
— Конечно же! — взмолился В. А. — Экономично, компактно и чудо как
просто. А знаете ли вы, миленький, — взревел он, усаживаясь на диване, —
знаете ли вы, что еще лет двадцать назад на обыкновенном семинаре
Кольцов так и сказал — и о радикалах и о нелинейной структуре!.. Боже
мой, опоздали мы, Андрюшенька!.. Дайте мне папиросы!! — скомандовал он
домашним. — Это же бред! Держать в руках ключи к ядру клетки и
получить за это по рукам! Андрюша, миленький! Если — тебе! — когда-
нибудь! — примерещится что-нибудь такое-этакое! — не болтай попусту!
Доказывай! Не спорь! Работай! Пусть все эти штукари, чиновные рожи
говорят, что ты сумасшедший! Что ты не материалист! Что ты не читал
того-то и сего-то! Плюй!! С Ивана Великого! Доказывай!.. Да дайте же мне,
наконец, папиросы! — другим тоном попросил он, и Кузьмин разыскал их на
подоконнике.
— Слушайте! — сказал В. А. — Русская наука всегда — со времен
Ломоносова! — была на узловых проблемах. Мы же великие! Мы же от
громадности своей только глобальными темами и занимаемся, мы же
фантазеры! Вот так — с мелком, по досточке — какую гипотезу родили! А
чтоб проверить — ни-ни! Спорить — будем, но доказывать — мы гордые, не
станем! Ах, Кольцов, Кольцов!.. — В . А. закурил, обвел их всех, сидящих у
дивана, обиженным взглядом и приказал Кузьмину: — Идите на кухню и
читайте — я журнал на работе украл, завтра он по рукам пойдет, потом его
не сыщешь. Дайте ему чаю!!
В первом часу ночи, когда Кузьмин, пришептывая губами, разбирал
последнюю страницу труднейшего английского текста, В. А. вышел к нему
на кухню, отобрал журнал, перевел последние абзацы и проводил до дома.
— Запомни этот день, — после долгого молчания обронил он. —
Началось! Взяли бога за бороду!..
— Алешин папа заболел? — спросила Крестна.
— Да, — сказал Кузьмин, валясь на кровать. — А хуже всего, что теперь
ему не поможешь. Сердце у него болит.
— Спи, родной, — попросила Крестна. — Сердце много стерпеть может.
2
Как обычно, весной он становился беспокоен.
Прибывающий на улицы свежий возбуждающий воздух и какой-то
резкий свет, дрожащее в небе солнце, давняя детская тревога, случалось,
тянули его за двери, но чаще он вдруг испытывал острейшее безотчетное
чувство счастья и тогда стремился к уединению. Изо дня в день что-то
росло в нем, не сообразуясь со вчерашними планами и сегодняшними
заботами, и бродило, вызывая смену настроений. Последней школьной
весной Кузьмин повадился лазить через низенькую стену Монастырского
сада — прибольничного парка — и однажды увидел Мишку-одноклассника,
мелькнувшего в окнах заброшенного корпуса.
Мишка страстно искал клад. Он планомерно и настойчиво изучал весь
этот трехэтажный пузатый корпус, начиная от сырого подвала, а Кузьмин,
покопавшись немного вместе с ним в хламе, поднялся на чердак этого
скелета, в свое время бывшего монастырским приютом, гостиницей,
учрежденческим корпусом, жилым домом.
Ветер нанес на чердачный песок тонкий слой земли, и у
растрескивающихся стен уже укоренились тонкие деревца; жесткая
высокая трава росла под открытым небом, и какие-то лишайники ютились
в сырых углах. Сгнившие тряпки, сломанные стулья, проржавевший и
рассыпающийся остов дивана лежали в мало-мальски прикрытых углах, а
все открытое пространство было обжито неприхотливой жизнью — травой,
деревцами, злой короткой крапивой, жирующей на прахе материи.
Он с удовольствием познавал, что по освоенному травой песку можно
смело шагать, твердо ставить ногу, а под сыроватой голью трещат
перекрытия, и вся ближняя поверхность приходит потом в шероховатое
движение. Чтобы слышать этот, казалось, непереставаемый шорох, он
ложился на песок и внимал; над ним текло небо с ватными клочками
облаков, под ним, покачиваясь, вращалась земля, и, если раскинуть руки,
при замирающих ударах сердца приходило освобождение: он воспарял над
собственным телом. Сначала отрешенность возникала на мгновения (он с
испугом и восторгом возвращался из нее), но ледяная ясность мышления
манила, и он повторял эти опыты до бесконечности.
Мишка, разочарованный неудачей — он верил, этот невысокий толстун,
обрастающий диким черным волосом, что монахи спрятали где-нибудь
здесь камешки и монетки, — поднялся из глубины подвала на крышу и все
так же упорно стал простукивать киянкой печные трубы, кирпичные стены.
В одной из труб он вскрыл пустую нишу. Когда свет нырнул в нее,
ограниченную первозданно розовыми кирпичами, Мишка долго
бессмысленно разглядывал что-то в ее глубине, а потом со вздохом сел на
песок.
— Чего разлегся? — буркнул он. — Не надеешься, что ли?
— Неинтересно стало, — лениво сказал Кузьмин. — Ну его, клад этот! На
фига тебе деньги, Мишк?
Мишка недоверчиво и даже как-то обиженно посмотрел на Кузьмина.
— Придуриваешься? — Он насупленно оглядел Кузьмина. — Для жизни.
К морю, например, съездить. Одеться вот, как ты. У меня папаша не
генерал...
— Ты давай папаш не трогай, — предостерег его Кузьмин. И, помолчав,
сказал: — На такую жизнь и заработать можно.
— Ага! — Мишка сплюнул. — У родоваться!
— Если клад не найдешь, будешь ведь уродоваться?
— Как все, — угрюмо согласился Мишка. — Не повезет — я на север от
папаши смотаюсь.
— Мишк! — сказал Кузьмин, начиная хихикать. — Я, наверное, дурак —
мне денег совсем не хочется... Знаешь, Крестна рассказывала — и деньги у
нее были и удовольствия всякие, а счастья не было, одни хлопоты.
— Счастье в труде, да? Это мы учили!
— Ну,авчем?
— В достатке, уважении, — объявил Мишка. — Ну, в личной жизни...
— Каком, чьем уважении? — спросил Кузьмин. Ему и в голову не
приходило, что насупленный Мишка все так точно знает.
— Чего ты привязался? Ну, самоуважении — подходит? — сказал тогда
Мишка и еще потратил много лет, работая тяжело и яростно, дозревая до
этого смысла.
Они приняли в свою компанию Алешку — в качестве эксперта-историка,
— и тот, весьма начитанный, указал им места в парке, где следовало бы
покопать. Кузьмин нахохотался до слез, слушая деловой разговор своих
компаньонов — так серьезны они были, так рассудительны.
Вечерами, после того, как больных загоняли в палаты, засидевшихся
картежников, а то и замершую в укромном уголке парочку спугивала
компания деловитых молодых людей с лопатами в руках. Во время этих
сельскохозяйственных работ Кузьмин попробовал впервые вино
(инициатива Мишки) и табак (Алешка уже покуривал).
Они много спорили — заканчивался десятый класс, двое собирались
поступать в институты, — лениво ковыряясь лопатами в тяжелой, сырой
земле, дурачились. Алешка до икоты боялся вкрадчивых вечерних шорохов
и, когда копать и куролесить надоедало, рассказывал им жуткие истории, а
они, переглядываясь, шуршали ветками за своими спинами, попугивали его.
Иногда Алешка читал им свои стихи, и завороженный Мишка и
притихший Кузьмин были первой его аудиторией.
О, предначертанность случая!
Однажды Мишкина лопата странно скребнула в земле. Они бросили свои
шуточки и принялись копать всерьез. Обнажилась округлая стенка бочонка.
Ручками лопат они стучали по ней, вызывая глухой звук. Они оглядывались,
начали суетиться. Шепотом поспорили — монастырская казна или
монастырское винцо?
Уже смеркалось, и они заспешили: подкопав бочонок, откатили его в
сторону, заметили, переглядываясь, что внутри него что-то
перекатывается.
— Дубовый! — быстро ощупывая бочонок, сообщил им Мишка. —
Солидно заховали. Значится, так, как договорились: мне — половина, вам —
другая!
— Д-давай открывай, — заикаясь, бормотал Алешка. — Торце-вой обруч
сним-ай, дурак.
Им пришлось выламывать дно. В темноте в узкую щель разбитого дна
ничего не было видно; они толкались вокруг бочонка, руки их суетились.
— Ну-ка, Леха, снимай куртку, постели — я на нее добро вывалю, —
распорядился потеющий Мишка.
Алешка подчинился; втянув голову в плечи и подавшись вперед, он
зябко обхватил себя руками. Ноги у него дрожали.
Мишка перевернул бочонок, и что-то, стукаясь о стенки, высыпалось.
Сгрудившись, все трое сели на корточки перед бочонком, и Мишка
осторожно отвалил его.
— О-о -о! — схватился за щеки Алешка и, опрокинув Кузьмина, сиганув
через него, высоко подпрыгивая, ринулся в сторону, прямо на освещенные
аллеи парка, навстречу переполошенному собачьему лаю. Было слышно, как
он икает, ломясь через кусты.
Воспоминание о выражении Мишкиного лица в ту минуту всю жизнь
вызывало хохот у Кузьмина.
— Атанда! — на карачках отползая, шепнул Мишка. Он кинулся к
монастырской стене.
На коричневой подкладке Алешкиной курточки белели разъятые
косточки детского скелетика, а поодаль — маленький череп.
Кузьмин, сначала тоже подавшийся в сторону, еще посидел над ними,
ожидая возвращения ребят, а потом, все сильнее разбираемый смехом,
пошел домой. За чаем (по обычаю, все жильцы вечером собирались на кухне
— пит ь чай) Кузьмин прыскал, и пьяненький дядя Ваня, распаренно-
красный, чисто выбритый по случаю пенсии, ласково ему кивал, и Кузьмин
уже совсем было собрался рассказать им эту смешную историю, но Крестна,
царившая за столом, взглядом пресекала его попытки.
— Тот пьяный, хоть и старый, а ты как себя вел! — отчитала она
Кузьмина в комнате. — Что за пересмешки!
— Слушай, Крестна... — хих икая, начинал в который раз Кузьмин.
Наконец ему удалось рассказать ей.
— Ох, дураки! — закачала она головой. — Монастырь-то был женский,
захудалый! Ослушниц там держали! Косточки-то хоть зарыли? Отведешь
меня завтра.
Она разбудила Кузьмина чуть свет, перелезла вместе с ним через стену.
Оглядев разорение, озабоченно покачала головой.
Она встала у ямы на колени, сложила на ее дне косточки, подкатила к
ним черепочек. Потом бросила в яму горсть сырой глины и выжидательно
посмотрела на Кузьмина. Он бросил на косточки горсть земли, и в нем что-
то изменилось.
— Засыпай, — сказала Крестна.
Кузьмин взялся было за лопату, но происшедшая в нем перемена
подтолкнула его, и он стал глину ссыпать в яму руками.
— Засыпь ровней и дерном прикрой, — настояла Крестна. — Чтобы
больше его никто не беспокоил. — Она встряхнула Алешкину курточку и
подала ее Кузьмину. — Ну, иди!
Кузьмин отошел и услышал, как Крестна сказала: «Ну, прощай!» —
поклонилась и пошла к стене. У самой стены они оглянулись.
— Вот матери бывают! — высказался дома Кузьмин. — Людоедки!
— Ей воздалось, Андрюша, — шепнула Крестна.
— От кого же это? Может быть, от бога?
— От людей, от совести... Назови это так.
— Так не бывает, — зло сказал Кузьмин. — Такие люди не меняются. Это
не люди вообще-то.
— А я? — Крестна подняла на него полные боли, с проступившими
слезами глаза. — Какая я, Андрюша?
— Ты? — изумился Кузьмин.
— Я обманула первого своего мужа, Николая Ивановича, и он
застрелился. — Она говорила это и все выпрямлялась, поднимала голову,
становилась огромной, а он, Кузьмин, — все меньше и меньше. — Да,
Андрюша. А в день моей второй свадьбы умерла Лялечка — поперхнулась
наперстком. — Крестна судорожно вздохнула. — А того мужа я бросила в
восемнадцатом году... И он умер в тюрьме, от сердечного приступа...
Кузьмин с вытаращенными глазами затряс головой.
— Неправда, Крестна! — останавливая ее, сказал он.
— Это было, миленький мой. Не бойся правды обо мне. Но посмотри на
меня — разве это живое лицо? — Она потрогала, как чужие, лоб, щеки и
губы. — Я их не чувствую — их нет... Прости меня! И пойми: все плохое
делается от головы, а хорошее — от сердца. Живи сердцем!
Кузьмин не понимал ее. Из-под него выбили опору, и он висел над
землей, и не за что было схватиться.
Он подошел к Крестне, уперся лбом в жесткое ее плечо.
— Какая страшная штука жизнь! — решил он, помолчав.
— Только когда оглядываешься, — тихо возразила Крестна. — Люби
меня по-прежнему, Андрюшенька! — сказала она, всматриваясь в его лицо.
— Я тобой свою душу спасаю.
— Я люблю тебя, — ответил Кузьмин. И она прижалась к нему лицом. —
Выпей валерьянки, — заволновался он, — сердце болит, да?
— Не волнуйся, — отстраняясь, сказала Крестна. — У меня сердце
крепкое. Мне еще тебя выводить в люди надо. А человек живет, пока что-то
не сносится: душа или тело. Дело держит человека, душу ему укрепляет. —
Она приклонила к нему голову. — Тебе в школу пора, — напомнила она, с
любовью оглядывая его, и понаблюдала, как он собирается.
Он ушел, а она прилегла отдохнуть. Закрыла глаза и вспомнила тот
жаркий летний вечер, почти ночь; затемненный город, глухую тишину
пустых улиц, свою слабость и облегчающие слезы в живой теплоте храма,
общего горя и общей молитвы. В тот день она получила повестку-похоронку
на третьего своего мужа, но было много работы, она печатала до спазма в
пальцах, и внимательный начальник канцелярии отпустил наконец ее
отоспаться и выплакаться. Город, куда она попала с эвакуированным
наркоматом, был мал, жили в тесноте, раздражающей ее, и, придя к себе
«домой», слушая тихий плач детей соседки, она припомнила недавний
рассказ знакомого о хворающем сыне племянницы. Ей представилось, что
он так же скулит, но тут же поняла, что дети плачут вместе с матерью-
вдовой, и, взвинченная этой всей безысходностью, она кинулась на улицу,
на работу, но, не дойдя до нее квартала, свернула, вошла за ограду церкви. В
храме она пробыла до утра, отходя и согреваясь проступившими наконец-то
слезами. С того дня лицо у нее стало меняться. На службе к этому долго не
могли привыкнуть — она чувствовала на себе удивленные взгляды бывших
поклонников, и у нее иногда, против воли, появлялась на губах улыбка —
они казались ей, старухе, детьми. Их удивление прошло, странно сочетаясь с
испугом и настороженностью, когда она сдала в банк прежде сберегаемые и
тщательно запрятанные драгоценности — подарки второго мужа, «цацки».
Когда она вспоминала о том лете, у нее начинала кружиться голова.
Сейчас она встала, оправила постель и пошла на кухню — надо было
готовить обед.
— Извини, Анна Петровна, — сказал дядя Ваня, — за вчерашнее.
Фронтовики собрались, ну и... Андрюша...
— Андрюша своему делу смеялся, — успокоила его Крестна.
3
Приближались выпускные экзамены и конкурс в институт, а на тумбочке
у Крестниной кровати в английском, тонком, с подкладкой конверте лежало
письмо, в котором впервые за эти годы четким мелким почерком отец
обратился к Кузьмину.
Почти три года Кузьмин писал родителям поздравления к праздникам и
дням рождения, трафаретно сообщая об отметках, благодаря за подарки. А
Крестна округлыми буквами дописывала короткие письма, дважды в год
отсылая им фотографии Кузьмина. В ответ шли наставительные письма,
изредка, с оказией, они получали посылки с вещами — пальто, костюмами,
обувью. Все эти вещи всегда были впору, потому что на обороте
фотографии Крестна указывала рост и размер обуви Кузьмина.
И теперь, круша привычную жизнь, с папиросной бумаги он услышал
громкий голос отца: «Дорогой Андрей! Все эти годы я не имел повода
упрекнуть тебя, так как ты сознательно относился к своим обязанностям и
сильно подтянулся в смысле учебы. Надеюсь, что теперь ты не тот
равнодушный мальчик, которого мы с мамой со страхом и болью оставили
на Родине.
Думаю, что аттестат зрелости у тебя будет посредственным, и это почти
не оставляет тебе шансов для поступления в серьезный институт. Это
расплата за легкомыслие и недисциплинированность, которые ты проявлял
раньше. Анна Петровна сообщила нам, что благодаря знакомству с
биологом ты выбрал медицинский институт. Это огорчает меня.
Я всегда чувствовал глубокое уважение к медикам, ты много раз слышал
о том, что во время Великой Отечественной войны они спасли мне жизнь.
Это дает мне право, помимо родительского долга, сказать, что у тебя, к
сожалению, нет качеств, которые позволят стать тебе настоящим врачом:
усидчивости, упорства, воли, чувства ответственности. Я пишу об этом,
потому что чувствую себя в ответе за твой правильный выбор жизненного
пути.
Я хотел и сейчас хочу, чтобы ты знал — только армия может помочь
слабовольным людям. В армии, где сама структура пронизана дисциплиной,
человек неглупый обязательно обретает чувство собственного достоинства,
так как обязательно находит свое место, как говорится, в общем строю.
Подумай обо всем этом, Андрей, и, прошу тебя, ответь мне, несмотря на
свою занятость, хотя бы коротко.
Крепко целую. Передай мою благодарность и пожелания здоровья Анне
Петровне. Твой папа».
Письмо, адресованное лично ему и прочитанное сначала им, а потом
Крестной, лежало на тумбочке, нарушая привычный порядок.
— Зачем ты написала им? — недовольный, спросил он Крестну.
— А чего же прятаться? Ты решил — держи ответ.
Он все тянул с ответом, как вдруг пришла телеграмма — мама и
Николашка возвращались домой.
.. . Сломали на знакомой двери рассохшиеся печати, он вошел в как бы
уменьшившуюся квартирку; он узнал, казалось, позабытый запах родного
дома.
Крестна мыла окна; Кузьмин безошибочно расставил мебель, снял
наволочку, жесткую и желтую, с люстры, и вечером, когда ее зажгли, чтобы
попить чай на дорогу, он оказался почти дома, перенесясь на три года назад,
в невозможное, оцепенелое время.
Загудел тихо лифт, поднимая кого-то к ним на этаж, и знакомый озноб
пробежал по его плечам. Он, кажется, побледнел, и Крестна заметила это.
— Тесно здесь будет, — сказала она.
— Можно я у тебя жить буду? — не глядя на нее, спросил Кузьмин.
— Хорошо, — отозвалась Крестна и отвернулась.
Он поразился тому, какая у него красивая мать.
— Войдем в купе, — сказала мама, и быстрые слезы в ее прекрасных
глазах исчезли.
Они сели на мягкие диваны и молчали, любовно переглядываясь.
— Ты совсем не изменилась, Крестна! — улыбнулась мама. — Даже
помолодела.
Крестна отмахнулась:
— Вот ты, Ниночка, прямо настоящей дамой стала. — Говорила она это
одобрительно и любовалась мамой. — Коля-то большой какой!
— У меня часы есть! — сказал пригоженький Николашка. — И тебе
купили, — сообщил он, сидя напротив Кузьмина и разглядывая его, как
будто зная про него что-то особенное.
— Посиди спокойно, Коля! — строго сказала мама. — Как твои экзамены,
Андрюшенька? — Она смотрела на Кузьмина, и ему казалось — гладила
рукой по лицу.
— Нормально, — прокашлявшись, ответил Кузьмин. — Четыре, четыре.
У мамы были новые, нерешительно округлые жесты. Он поразился
мягкому, ласкающему движению руки, когда она взяла сумочку, длинный
цветной зонтик, поправила завиток волос над нежным ушком. От нее чуждо
пахло, она была новой. Он опять удивился, поняв, что эта красивая женщина
— его мама.
Едва вошли в квартиру (мама радостно и как-то растерянно огляделась в
комнате, провела-погладила рукой сервант), как Николашка потребовал
еды. Кузьмин повел его мыть руки.
— А где ванна? — плаксиво спросил Николашка.
— Нет у нас ванны.
— Где же ты моешься? — приготовляясь зареветь, спросил он.
— В бане.
— В сауне? — поморщился Николашка. — Я не люблю сауну, а папа
любит, но ему нельзя. А кто тебе спинку трет?
— Дядя Ваня, — улыбнулся Кузьмин.
— Кто это — дядя Ваня, твой папа?
— Смотри, рукава намочил, балда, — сказал Кузьмин.
Он чинно сидел за столом, деликатно, по кусочку, без хлеба сглатывал
неведомой нежности колбасу, смаковал крепчайший кофе. Рядом с чашкой,
в нетерпеливо и неаккуратно надорванной упаковке лежали пластинки
жевательной резинки, и он косился на них. Взять ее он решился только
после того, как Николашка, намусорив, заявил, что он сыт, и потребовал
конфет. Мама, слегка нахмурясь, протянула Николашке упаковку, а потом,
спохватившись, предложила ее и Кузьмину. Потом Кузьмина отправили
укладывать Николашку спать в альков за портьерой, на родительской
кровати под голубым одеялом.
— А пижама?
— Поспи сегодня без пижамки, Коленька, — отозвалась мама. — К уда она
запропастилась?
Мама рылась в распахнутых чемоданах.
Николашка притворно захныкал.
— А ну, давай спи, — шепотом сказал Кузьмин. — Не то щелбан
заработаешь!
Николашка прикрыл один глаз, выложил ручки, пай-мальчик, на одеяло,
но хитрил. Кузьмин угрожающе выпятил подбородок. Тогда Николашка
что-то очень быстро сказал ему по-английски и замер, с испугом и
интересом ожидая реакцию.
— Спи, иностранец! — сказал Кузьмин и, отвернувшись, еще долго
улыбался.
Когда Николашкин нос уткнулся в подушку, полуоткрылся рот, лицо
потеряло капризное выражение, Кузьмин вышел в комнату.
Мама и Крестна с удовольствием, молча, рылись в чемоданах, извлекая
из них массу красивых вещей. «Все для тебя!» — довольным голосом
сказала мама, и Кузьмин, повинуясь странному чувству, попытался
благодарно ее поцеловать. С удовольствием он надел лишь тяжелые часы;
весь остальной гардероб смутил его изобилием.
«Что бы почувствовал Мишка, успокоение?» — подумал он.
Самоутверждающий вид — оценил он себя, глядя в зеркало, однако мама и
Крестна находили, что он очень хорош. Они занялись какими-то воздушно-
легкими женскими вещами, а он сел в угол дивана и стал листать кипу
журналов, привезенных мамой.
Там было много боевой техники. Со вкусом снятая, она вызывала
восхищение своим законченным видом: в танках ощущались тяжесть и
ломовая сила, в самолетах — коварная стремительность, а ракеты едва
удерживались на стартовых площадках. В статьях, помеченных отцом, были
угрозы, хвастовство, насмешка.
— Там интересно жить? — спросил Кузьмин, листая журнал мод.
— Нашим — очень трудно, — отозвалась мама, перебирая какие-то
свертки в чемодане. — С умасшедший мир. Для них войны как будто и не
было... Несутся без оглядки куда-то... — Лицо у мамы было озабоченным —
она не могла что-то отыскать в чемодане.
— А как Вася? — негромко и как бы между прочим спросила Крестна.
— Он подал рапорт о возвращении, — рассказывала мама. — Очень
устал. И еще... —Мама строго и внимательно посмотрела на Крестну и
Кузьмина. — Он считает, что его место здесь, дома — там забыли весь
пережитый ужас, опять лезут на рожон. Ну, а папа, — сказала она Кузьмину,
откладывая какую-то вещь, — ты ведь знаешь, Андрюша, — человек долга.
Он не идет с совестью на компромиссы.
— Что, может быть война? — тихо спросила Крестна. У нее было очень
напряженное лицо, в наступившей тишине заметил Кузьмин. — Ведь
прошло всего одиннадцать лет!
— Как папа жалеет, что ты не хочешь стать офицером! — сказала мама со
вздохом. — Но вот в этом — весь он. — Она протянула Кузьмину тяжелый
сверток — «Биологию» Вилли. На суперобложке отец написал: «Желаю — с
полной самоотдачей и без жалости к себе».
— Вот тебе мой отчет, — сказала Крестна маме, доставая из своей сумки
толстую тетрадь, в которой все это время она вела бухгалтерию.
— Какой отчет, Крестна! — Мама оттолкнула от себя тетрадку. —
Сколько ты для меня сделала!.. Как мне тебя отблагодарить!..
— Ну, обживайтесь, — сказала раскрасневшаяся Крестна, пряча тетрадь
обратно в сумку. — Пойдем мы с Андрюшей... Пусть у меня поживет, а ты
пока устраивайся, Ниночка.
Мама растерянно оглянулась на Кузьмина:
— Как же так?
— Ему ж заниматься нужно, — тихо сказала Крестна.
— Я каждый день к тебе приходить буду! — сказал смущенный Кузьмин.
— Так... неловко... — Мама смотрела на него, на Крестну. — Только пока
экзамены, да?
Дома Крестна сразу же стала развешивать их обновы в своем большом
шкафу — каждую вещь она еще раз ощупывала, оглаживала — и, покончив с
этим, села, довольно улыбнувшись Кузьмину:
— Что, хорошая книга?
— М-м -м! — Кузьмин помотал головой, не отрываясь от текста.
К маме он приходил после каждого экзамена; иногда гулял с
Николашкой во дворе, вводя хныкалку в традиционно спаянный коллектив
бывшего своего мира. А мама была озабочена ремонтом, оформлением
документов, Николашкой; Кузьмин все сильнее любил ее, совсем
незнакомую, ничем не напоминающую прежнюю тихую, молчаливую, но
такую родную маму. Теперь почему-то он не мог вернуть ей маленькую
записочку, подобранную им с пола, когда он расставлял мебель: «28
сентября. Поезд No 129, путь 6, вагон 9. В 13.40 . Сказать про горло у Андр.»,
— последнее, что мама написала перед отъездом.
Потом мама и Николашка уехали на юг, а Кузьмин, беззаботно
наплясавшись на выпускном вечере, подал документы в медицинский
институт, прилично сдал экзамены и был принят.
Отец приехал, когда Кузьмин уже веселился на зимних каникулах в
спортлагере, и встретились они не сразу.
4
В ответ на мою просьбу профессор Ю. Ф. Лужин написал: «Студенческий
научный кружок нашей кафедры в те годы особой любовью студентов не
пользовался... Тем более было неординарно, что в кружок пришел
второкурсник, изменив кружку при кафедре патологической физиологии,
увлечению второкурсников.
Руководя кружком (я был доцентом), я следовал правилу развивать
способности студентов к самостоятельному поиску, ограничивая, впрочем,
тематику кругом интересов кафедры.
Проблема биологических стимуляторов и их воздействия на
человеческий организм не была научной темой кафедры, и, к слову сказать,
широких исследований по ней не проводилось ни у нас, ни за рубежом. По-
видимому, за массой дел я выпустил Кузьмина из виду, а потом, часто видя
его работающим вместе с ассистентом кафедры Тишиным Б. Б . (ныне
профессором, зам. директора института фармакологии), решил, что они
проводят одно из тех крупных экспериментальных исследований, которые
создали имя уважаемому Б. Б . Тишину. В тот период Кузьмин как-то
отдалился от кружка, перестал посещать его заседания. Поэтому, когда в
октябре 1961 года (я восстановил это по архиву кружка) Кузьмин
предложил мне заслушать материалы его трехлетней работы, я, как
говорится, «ухватился» за это предложение — зная наверное, что речь идет
о фрагменте из работы Б. Б . Тишина. По этой же причине я не потребовал
предварительного представления текста доклада.
Предупредив руководителя кафедры — покойного академика АН СССР
Агеева А. С . — и сотрудников о том, что, вероятно, будет интересный
доклад, я постарался придать тому заседанию несколько официальную
обстановку. Помню, что мы заняли не ассистентскую, а учебную комнату...
Кузьмин был как-то особенно тщательно одет и сильно волновался.
Помнится, что я обратил внимание на его горящие уши и сказал что-то
вроде: «А мы вас за них еще и не трепали!»
Он отказался от привычных в те годы иллюстраций в виде таблиц, а
использовал диапроектор (в чем сказалось, на мой взгляд, уже тогда его
умение пользоваться наиболее эффективными методами работы). Кузьмин
вызвал удивление и смех аудитории, испросив час времени для доклада...»
Академик еще что-то закруглял в своем вступительном слове, а у него,
Кузьмина, уже запылало лицо и глухо забилось сердце. Он перешел к
экрану, взял холодными пальцами навязанную ему Лужиным указку и,
сдерживая себя, будто со стороны слыша свой утончившийся голос,
медленно и громко сказал ключевую фразу, эпиграф, неуместный в этой
аудитории: «По своему действию биостимуляторы напоминают эффект
живой воды, не оставляя, как и она, органических следов своего
присутствия».
Краем глаза он увидел, как взметнулись брови академика, поймал его
удивленный взгляд и, отвлекаясь от всего этого, глубоко вздохнув, начал
доклад.
Сначала он сухо изложил им содержание таблиц. Он рассказывал им
удивительные вещи, великим тщанием добытые будничными вечерами,
каникулярными днями; рассказывал им, как сказку, как историю чужих
находок и заблуждений, о связях отдельных фактов, об их грозном
невидимом значении, и, загоревшись, уже открыто пылая лицом, потеряв
над собой контроль и становясь от этого красноречивее и убедительней, не
следя за их реакцией, он все сильнее и сильнее убеждался в верности
самостоятельно складывающейся концепции. Сейчас, проверяя на слух уже
давно про себя подозреваемую истину, он вдруг увидел, именно в эту
минуту ощутил ее гармоничность, естественность и, главное, громадность,
узрел ранее не замеченные им связи собственной концепции с другими,
казалось, необъяснимыми фактами. В эту минуту он готов был крикнуть:
«Это истина!»...
.. . Уже в конце первого курса Кузьмин понял, что учеба превратится в
тоскливую зубрежку, если он не приложит к чему-нибудь свои голову и
руки. Первая же лекция по патофизиологии, вдохновенно прочитанная
молодым профессором, привела его в кружок на этой кафедре. Он взял тему
для реферативного сообщения, явился к В. А., с восторгом рассказал о своих
планах, но В. А. сморщился, как от лимона. Выяснилось, что и Алешка (он
учился на истфаке МГУ) записался в кружок. Прехитрый В. А ., помучив
скепсисом, допустил их к своей запертой в шкафах отдельной библиотеке,
собравшей в себе следы увлечений Алешкиных предков — философа-
натуралиста, историка — и биолога, самого В. А. Копаясь в неслыханно
интересных книгах, Кузьмин позабыл жалкую тему своего реферата,
открыв, что тоненьким, пересыхающим ручейком реку отечественной
медицины питало и малоизвестное направление — о воздействии
биостимуляторов на человека. Они с Алешкой, склонным к изысканиям
чудес и кладов, разделили работу: Алешка создавал историческую
композицию этого направления, а Кузьмин по крохам собирал фактический
материал.
На заседании кружка он сделал вопиюще-увлеченное сообщение и был
побит камнями — за отсутствие критического отношения к чудесам этих
ветхих старичков и земляных бабушек, пророков и колдунов.
С удовольствием выслушав рассказ Кузьмина о его позоре, В. А.
подсказал: «Иди в фармакологию». И в течение всех этих лет подкармливал
его свежайшей зарубежной информацией. «А это не блеф?» — возвращая
очередной журнал, спрашивал Кузьмин. «Все ваши учебники — просто
Ветхий завет, сборник анекдотов и урна для праха!» — кричал В. А .
Сначала Кузьмина волновали, влюбляли и просто разили наповал сами
факты. Он долгое время пребывал в восторге от самого процесса их добычи.
Но вот они стали складываться в таблицы, в них непонятно сосуществовать,
и Кузьмин, еще продолжая заниматься добычей этой руды науки, начал
время от времени задумываться, разглядывая результаты своих трудов. Он
показывал таблицы В. А., Тишину, спрашивал их совета. Оба они, казалось,
сговорившись, отвечали ему: «Здесь что-то есть...» Он сам чувствовал это и
долго ждал какого- то откровения, озарения, искал ответ в чужих работах...
Мудрость пришла к нему тихим шагом. И вот однажды, прочитав
последнюю страницу очередной статьи, он ощутил себя изменившимся —
он ясно и определенно знал, что известные ему объяснения фактов его не
устраивают. Незаметно для себя он стал фантазировать, и медленно, очень
медленно, но всегда рывками, ступеньками вверх, что-то стало
прорисовываться, и в таком законченном виде, что он не сомневался в
истинности.
.. . И теперь, заканчивая сообщение, он легко разделился на две части —
одна его половина еще делала последние выкладки, управляла его рукой,
подававшей знаки ассистирующему за диапроектором Тишину, языком и
телом, а другая — со знакомой легкостью уже жестоко препарировала его
собственный доклад, и, наконец, словно возвращаясь из полета и складывая
крылья, он оглянулся на высоту, в которой только что был, испугался ее и
не сказал — сробел, засмущался — заранее приготовленное: «Эти данные
подтверждают известное мнение, гипотезу о том, что в основе всякой
болезни лежит временная несостоятельность организма или органа и,
следовательно, средство лечения любой болезни находится в самом
организме. Его надо только возбудить».
Смолчав на этот раз, спрятав эту фразу, он смутил себя навсегда, ибо
сказано было: «Смутное чувство бездонно».
Закончив, он развязно махнул рукой — давая знак Тишину, — и сел у
экрана, мгновенно вспотев и почувствовав слабость, дурноту и почему-то
стыд.
Академик, потыкивая карандашом в листочек с повесткой заседания
кружка, сидел задумавшись. Брови у него были огорчительно-удивленно
подняты. Кузьмин увидел серебристое сияние седой его шевелюры на
макушке и усмехнулся про себя мысли о возможном символическом
значении этого сияния.
Лужин, приоткрыв рот, озадаченно и растерянно смотрел на Кузьмина и,
когда они встретились взглядами, сморгнул и, встряхнувшись, деловито
завертел головой.
Тишин, издали поглядев на Кузьмина, чуть-чуть усмехнулся. Ассистенты
и кружковцы перешептывались, посматривая на Кузьмина.
— Кто хочет высказаться? — прокашлявшись, громко спросил академик.
После минуты тишины он сказал:
— У меня есть несколько вопросов, э-э, Андрей Васильевич.
Отвечая ему, Кузьмин рассказал, что он пользовался аптечными
препаратами, что опыты с культурами тканей он ставил с сотрудниками
институтов морфологии и рака, что микрофото делались там же, что он
читает на двух языках и что он сердечно благодарит Тишина за помощь и
консультации.
Отмахнувшись от убогих вопросиков Кузьмину с мест, академик сказал:
— Мы имеем дело с законченным исследованием. По уровню исполнения
— на диссертационной глубине, — заключил он, поглядев на реакцию
Кузьмина поверх очков. Потом он их поправил. — Ряд приведенных фактов
принципиально нов, и их достоверность не вызывает сомнения.
Разработана оригинальная методика... — Академик и в самом деле
бормотал стандартные фразы, как на какой-нибудь защите. — Однако, —
академик встал, набирая в голосе и канонизме, застегнул все пуговицы на
пиджаке, — однако бросить этакую работу, не оформив ее
соответствующим образом, было бы позором и бездарностью. — Он
повернулся всем корпусом и уставился на Кузьмина. — Что это вы сидели в
уголочке три года? Где публикации? — Академик свирепо поглядел на
Лужина и Тишина. — Боря, — сердито сказал он Тишину, — вы -то куда
смотрели?!
Потом выступали ассистенты, старательная староста кружка, а Тишин
смолчал. Только один раз он заговорщицки подмигнул Кузьмину.
Уже расходились; Кузьмин, делая вид, что не замечает любопытных
взглядов, упаковывал отцовский диапроектор, когда в дверь заглянул
Лужин и увел его в ассистентскую, где на диване без пиджаков и с чашками
в руках сидели академик и Тишин. Лужин сунул в руки Кузьмину чашку
горького кофе и подпихнул его к стулу, поближе к дивану. Здесь Лужин
держался по-хозяйски гостеприимно. Сладкая улыбка на его лице о многом
сказала Кузьмину.
— А на экзамене наш Андрюша едва на четверку вытянул, —
насмешничал Тишин. — А еще надежда кафедры!
— Это пустяки, — сказал академик, глядя в чашку. — Я у вас и вовсе
«неуд» получу. Суть в другом, — сменив тон и явно прицениваясь к
Кузьмину, протянул он, — хватит ли у этого милого юноши терпения, а не
старания доказать то, что он сегодня местами декларировал? Насчет живой
воды, а?
— Хватит, — после паузы хриплым голосом сказал Кузьмин.
— Ну, договорились, — сказал академик. — Через год — понимаете? —
через год посмотрим! Не понимаете! — Академик улыбнулся. — Я о
распределении вам толкую, чудак вы этакий!
Тишин тоже насмешливо и укоризненно, как на глупого, смотрел на
Кузьмина.
— Спасибо, — сказал Кузьмин и встал. Пол под ним качался.
— А работку со всеми официальными справочками мне через недельку
представьте. И каждый квартал — мне отчет!
Только по дороге (он ее и не заметил) до Кузьмина дошло все значение
этого «Посмотрим!».
Ах, как он мучился с этой своей первой публикацией! Потом ни одна
статья так дорого ему не стоила — тогда он отмучился за все свои работы
сразу.
То непомерно большая, то куцая, она изводила его всю неделю, не
отпуская от себя ни на минуту, отравляя утро и вечер. Он не мог смотреть в
сторону машинки — повторенные по многу раз фразы бесили его своим
утраченным смыслом, невнятностью. Он пробовал вычеркнуть их, написать
по-новому и бился над бумагой с сотнями слов; но с неумолимостью истины
рано или поздно из-под ленты выбивалась та, первая, исходная фраза.
Наконец вечером, накануне последнего дня, более или менее чисто
перепечатав работу, он решил сократить статью, сведя все таблицы в одну,
и провозился до ночи.
Среди механической работы, которую он разнообразил тихим
насвистыванием, пританцовыванием и всевозможными междометиями, ему
стала мешать навязчиво пробивающаяся со столбцов таблицы некая
указательная тенденция результатов, но он уже был утомлен — и
отмахнулся от нее. Со слипающимися глазами, найдя в себе силы убрать
машинку в футляр, выбросить мусор и истерзанные черновики, он
тихонечко проскрипел ступеньками к себе на антресоль, повалился на
кровать. Сразу уснуть он не смог.
Когда отпустила затекшая спина, прошла тяжесть в затылке и сделался
прохладнее лоб, в голове стали суетиться обрывки мыслей, в ухо то басом,
то дискантом полез голос академика: «Через год — через год!» —
шевельнула хвостом мысль о зачете по нелюбимой хирургии... Когда он
ворочался, эти обрывки, казалось, пересыпаются, стукаясь друг о друга, в
голове.
Чушь какая-то, лохмотья, подумал он. Спи-засни, попросил он, оставь все
для подкорки. Тишин прав — все стоящее не пропадает. Он сел, достал из-
под матраца сигареты, закурил и стал вглядываться в мрак, рассеиваемый
лампадой, там внизу, под антресолью. Когда огонек стал подпаливать ему
нос, он пригасил сигарету и лег с закрытыми глазами.
Сначала он лежал, уговаривая себя: тише, тише. Сон пришел, как
пробуждение — испуганное, внезапное. На миг в голубом свете перед его
глазами вспыхнула таблица, странным образом, бессистемно раскрашенная.
Сворачиваясь в лист, обретая трехмерность, она приманивала к себе, а когда
он потянулся к ней рукой, стала уклоняться. Наконец эта борьба надоела
ему, во сне еще он притворился равнодушным, безразличным, и она встала
перед ним. Но как только он внимательно вгляделся в нее, она расплылась,
обманув его.
Плавая по самой поверхности сна, в этой борьбе он переваливал свое
неуклюжее длинное тело через какой-то край и с этого края неведомыми
еще анализаторами схватывал кусочек успокоительной тишины комнаты,
ровное дыхание Крестны, легкие отблески лампадного света и только тогда
позволял себе вернуться в сон.
Утром он проснулся невыспавшимся, с равнодушно-оцепенелыми
мыслями, но с тем знакомым чувством наполненности, которое всегда
означало, что из глубины сна он вынес находку.
Впереди был ужасно суетливый день — он уже цедился сереньким
светом через итальянское окно на его антресоли; внизу, на уголке
обеденного стола, аккуратной стопкой листов лежала перепечатанная
статья (он даже обрадовался ее законченному, оформленному виду), а
Крестна в углу шептала молитву.
Вчера на лекции Маринка написала ему: «Великий ученый! Если ты не
сводишь меня на этой неделе в кино — берегись!» «Идолище мое, я делаю
карьеру, образумься!» — ответил ей Кузьмин. Сейчас он решил, что отдаст
статью и уведет Маринку в кино вместо сдвоенной лекции, а потом рванет в
лабораторию.
Крестна с поклонами трижды перекрестилась, провела рукой, как
умылась, по лицу и отошла от икон. Кузьмин осторожно покашлял.
— Когда же ты лег?
— Еще темно было, — ответил Кузьмин, потягиваясь. — Слушай,
Крестна, а что за сны с четверга на пятницу?
— Все сны вещие, — в который раз сказала ему Анна Петровна, Крестна.
5
Она скоропостижно умерла в декабре 1962 года, перед самым Новым
годом.
Кузьмин пришел из института рано, сбежав с лекции по психиатрии,
предполагая пообедать, заглянуть в магазины и, дождавшись конца
рабочего дня деятелей науки, засесть в лаборатории института рака с
новым интересным знакомым — аспирантом этого института Н., очень
целеустремленным парнем.
В почтовом ящике он обнаружил открытку из «Медкниги» на
переводную монографию и, на ходу размышляя об этой книге, поднялся к
себе на третий этаж. (В доме не было лифта. Когда-то громадные
многокомнатные квартиры разгородили на коммуналочки, и теперь часть
жильцов поднималась к себе по гулкой парадной лестнице, а Кузьмин — по
черной, узкой, халтурно покрашенной. На стене между вторым и третьим
этажами сохранились еще давнишние его надписи. Проходя мимо в
хорошем настроении, Кузьмин перечеркивал их пальцем — и они уже почти
стерлись.)
За разболтанной, никогда не задерживающей кухонные запахи дверью,
слышался голос диктора радио; ключ лежал в портфеле — и Кузьмин
позвонил. В эти часы в квартире оставалась только Крестна, и он удивился
тому, что она не идет, пришаркивая одним тапочком, открывать ему дверь.
В прихожей, поставив на тумбочку трюмо портфель и мельком взглянув
на себя в зеркало, Кузьмин сбросил пальто. Он насвистывал и перед тем, как
идти мыть руки, привычно заглянул в комнату.
Крестна лежала на полу у стола, подогнув под себя руки и отвернув лицо.
Край платья задрался и был виден конец короткого чулка.
Он сразу все понял — по позе, по обвисшей тишине комнаты. Он подошел
к ее телу, ступая осторожно и нерешительно, взял тяжелую ее руку,
заглянул в чужое, незнакомое лицо — увидел пятна, широкие зрачки. В
руке, подвернутой под живот, была разбитая пипетка, а на краю стола
лежал опрокинутый пузырек с глазными каплями, тот, который еще
позавчера он принес из аптеки и за которым она потянулась в ту
последнюю минуту, когда, сказав ей из коридора «Пока!», он открыл
входную дверь.
Он посидел около нее на корточках, с закрытыми глазами, потом,
отвернувшись, поправил платье и вышел в коридор.
У телефона он сел на стул и задумался — звонить ли маме на работу. Он
вызвал милицию. Через час приехал участковый и какой-то мужчина в
гражданском. Милиционеры кое-как допросили его. Он помог им перенести
Крестну на ее кровать и сел рядом с ней.
Когда он подписал протокол, участковый пожал ему руку и, вглядываясь
в лицо, сказал: «Сочувствую вашему горю. Я сам вызову медиков».
Потом приехали грубые мужики в синих халатах с носилками, а потом он
остался один, глядя на непривычно затоптанный пол.
Ему захотелось есть. На кухне, увидев прибранный стол и подумав, что
ему придется есть одному последний приготовленный ею обед, он
почувствовал ужас.
На улице было слякотно. Навстречу ему с рынка несли жидкие елочки,
оранжевые шарики апельсинов в авоськах, все вокруг торопились, толкали
его плечами, ношей задевали по ногам. В кафе на него странно посмотрела
кассирша. Он ел теплые разваренные пельмени и считал их. Потом он
шатался по улицам; когда замерзало лицо, заходил в первый же подъезд,
вставал у батареи отопления и грелся. Внутри у него была пустота, и чужие
случайные слова долгим повторяющимся эхом стучали в голове.
Когда он открыл входную дверь, в коридор вышли соседи: дядя Ваня,
одинокая соседка-старушка. Лица у них были уже заплаканы; от небритого
дяди Вани застарело пахло неухоженностью, он обнял Кузьмина, зарыдал
ему в ухо... Они выспрашивали подробности, охали и снова принимались
плакать. Утеревшись, дядя Ваня сказал: «Вымолила Анна Петровна себе
прощение — легко-то как померла!»
Он позвонил родителям. Мама заплакала, сказала, что сейчас придет.
Пришли они через час.
В комнате, оглядевшись и поплакав, глядя на Крестнину кровать,
тумбочку, мама по-простому высморкалась в платок.
— Ах! — сказала она. — А ведь Крестна, бедненькая, предчувствовала! На
прошлой неделе всю родню обошла, в кои-то годы! К нам приходила, —
сказала она Кузьмину. — Говорила, что поздравительные открытки всем
отправила... Надо смертное искать, — сказала она Кузьмину.
Отец, Николашка и Кузьмин сидели за столом, а мама поднялась,
открыла шкаф. На полке, в глубине, лежал как-то отдельно большой узел.
Развернули грубый холст, Кузьмин увидел белые, почти физкультурные
тапочки с неудобной твердой подошвой. Под бельем лежал конверт —
«Кузьминым».
Из него на стол выпали две сберкнижки, гербовая бумага и сложенный
вчетверо лист почтовой бумаги.
«Дорогие мои родные! Пришло мое время. Благословляю вас на долгое
житье в добром здравии, благополучии и радости! Не скорбите обо мне
сердцем, вы знаете, что я свое прожила.
Простите мне невольные вины, я же прощаю вам.
Спасибо тебе, Ниночка, и тебе, Вася, за то, что украсили мою старость
Андрюшенькой, очистили мое сердце.
Положите меня между Николаем Ивановичем и Лялечкой, поставьте
православный крест, памятников не надо. Все заботы о могиле я поручила
храму Св. Петра, там же меня и проводят.
Деньги на похороны и обряд отложены, Ниночка, на твое имя на
отдельную сберкнижку. Полным наследником всего (здесь отец с мамой
переглянулись) остального имущества оставляю Андрюшеньку. Бумага в
этом конверте.
Андрюшенька, любимый мой!
Благословляю тебя на жизнь, в счастьи и уважении. Живи достойно.
Прощай. Прости.
Прощайте, мои родные, благослови вас бог!»
Похороны оказались неожиданно торжественными и легкими,
несуетливыми для Кузьминых.
Еще когда автобус подъехал к воротам кладбища, их удивило скопление
старушек в черных платках, стариков с сизыми носами; знакомая Кузьмину
молчаливая и суровая старуха (никто из Кузьминых ее чина так и не узнал),
жестом раздвинув толпу и так же коротко выслав из толпы незаметных
крепеньких мужичков — помочь вынести гроб, — поклонилась маме,
приняла, ковшиком, из рук в руки, деньги, туго завернутые в платок.
Пристойно, спервоначалу подровнявшись, а потом в ногу шагнув, мужички
внесли гроб в церковь.
На следующий день, приехав, как им было велено, в церковь к трем
часам, Кузьмины застали конец отпевания. Гроб нескромно стоял вблизи
прохода, окруженный множеством свечей. От высокого ли мрака, дрожания
голосов, запаха свечей, неизвестности церемонии у Кузьмина сделался
озноб, притом, что видел, слышал и обонял он необыкновенно ярко.
Кто-то, толкнув его плечом, быстро пробежал к гробу, в котором
неподвижно-величественно и укоряюще лежала Крестна, заглянул в ее
лицо и припал к рукам, захлебываясь в слезах и лепете. Этот человек в
длинном черном пальто, круглый и короткошеий, оглянулся на Кузьмина,
что-то шепча, и Кузьмин узнал дебила, которого дразнили все мальчишки в
округе, — и содрогнулся.
А тот шептал: «Вечная память, вечная память!» Кузьмин закрыл рукой
глаза. И тотчас рядом оказалась мама. Он освободился от ее рук.
Долго, с какими-то многозначительными паузами заканчивалось
отпевание. Слабоголосый хор печально выводил слова, и Кузьмин стал
ощущать тяжесть пальто на плечах, подступала дурнота; но тут вышел
батюшка.
С нескрываемым любопытством, какими-то озорными ясными глазами
он оглядел всех Кузьминых и их родственников и сделал приглашающий
жест. Мама громко зарыдала.
Кузьмин поцеловал Крестну в белую бумажку на разглаженном
спокойном лбу, отошел, издали разглядывая ее лицо.
Падал снежок, было очень холодно. Гроб вынесли, деликатно подождали
(мама замешкалась с кутьей), пока Кузьмины займут свое место во главе
процессии. Двинулись мелким шагом к могиле.
Вслед за Кузьминым шел хор, слабо что-то голосивший, какие-то дети со
свечами в руках догнали его.
«Навсегда, навсегда», — внушал он себе.
Уже у могилы, кружа вокруг гроба, священник среди скороговорки
бросил Кузьмину: «Ухо потри!»
От стука молотка вздрагивала кладбищенская тишина, ссыпался с веток
снег.
Поминки прошли тихо: были соседи, какая-то старушка (она все
благодарила маму за Крестнины вещи), незнакомый пьяненький мужичок.
Посидели, выпили и, не зная, о чем друг с другом говорить, разошлись.
Мама вымыла на кухне всю посуду, одарила соседей закусками и
вернулась в комнату.
Отец сидел за столом, как раз на Крестнином углу, сидел на том самом
месте, где она упала, и листал библию. Кузьмин как-то отрешенно заметил,
что у него стали совсем седые виски и уже набухли под глазами мешочки.
Надо бы ему сменить линзы, подумал Кузьмин, заметив, что отец часто
снимает очки, трет глаза.
— Пересядь, пожалуйста, — сказал он отцу, и отец пересел на диван, к
Николашке, тревожно глянув на Кузьмина.
Мама села к Кузьмину за стол, положила руки на скатерть и сказала:
— Как же жить теперь будешь, Андрюшенька?
Он непонимающе посмотрел на нее.
— Быт как устроишь? — объяснил отец.
— Я все умею, — вяло сказал Кузьмин.
— Поживи у нас!
— Вам и так тесно. Здесь я буду жить, — вздохнул Кузьмин.
— Летом переедем, — твердо сказал отец. — Дом уже отделывают.
— Тебе надо перевести лицевой счет на свое имя, — подсказала мама
Кузьмину. — Ах, Крестна! Обо всем подумала, спасибо!
— Ты ей многим обязан, — с дивана сказал отец Кузьмину. — Но
принципиальность сохрани — она хоть в бога верила, но святой не была... —
Он вопросительно посмотрел на Кузьмина. (Кузьмин вспомнил: «Ты
недостоин быть пионером — процедил отец, пристально его рассматривая.
— Я исключаю тебя! Сними галстук!» — приказал он и, не дождавшись, пока
заплакавший Кузьмин распустит узел, рванул треснувшую ткань.)
— Вася! — попросила мама. — Сегодня!..
— Ох уж эта сентиментальность, — отец посмотрел на своих сыновей.
Николашка по-волчьи осклабился. — Ладно-ладно! — согласился отец. —
Мне уже говорили — неделикатен! Ну, пошли!
Уже когда одевались, он сказал наставительно, не удержался:
— Деньгами распорядись с умом. Не так-то их много!
— Может быть, они вам нужны? — спросил Кузьмин. — Ну, переезд
ведь... — Он отметил только острое любопытство в дьявольских
Николашкиных глазах. — Или не давайте мне денег, я на эти проживу,
Крестнины...
— Что ты! — сказала мама укоризненно. — Это же завещанное!
Они ушли чем-то озабоченные, а он остался, не зная ни где лечь ему
спать, ни что делать с обедом, стоявшим в кастрюлях в холодильнике, ни
что делать с узлом ее постели, положенным на время поминок на антресоль.
Обед он в тот же вечер отдал дяде Ване. Он выпил с ним водки, но от еды
отказался, просто, испытывая впервые странное удовольствие, понаблюдал
за тем, как побритый и от этого помолодевший, дядя Ваня ест. И остался у
него ночевать.
Негасимая лампадка погасла через день. Он спохватился, внезапно на
занятиях вспомнив, что не подлил в нее масла, и бросился домой, но, когда
вошел в комнату, иконы были уже темны, а лик Христа невнятен. «Нет
тебя!» — сказал Кузьмин ему.
Первого января он вынул из почтового ящика поздравительную
открытку на свое имя. Крестна писала: «С Новым годом, с новыми
радостями и новым счастьем!..»
В зимние каникулы к нему пришла Маринка (она выскочила все-таки на
пятом курсе замуж, только что развелась и, веселая, бойкая и уже взрослая,
теперь пыталась снова прибрать Кузьмина к рукам). Они выпили совсем
немного, и выговаривался, в основном, Кузьмин, а она, научившаяся в своем
коротком замужестве, слушала, свернувшись клубочком на диване. И лицо у
нее горело. (Около полуночи у самых дверей комнаты начал беспокойно
ходить и кашлять дядя Ваня, и Кузьмину стало страшновато. «Выключи
свет, — сказала Маринка. — И он уйдет»). Утром, оглушенный, Кузьмин был
готов отдать ей все, что угодно, и она унесла одну из икон. Оставшись один,
он поглядел на развороченный стол, на лежащую на боку лампадку — она
пила из нее — и все вспомнил, волнение отступило; он снова надолго
вернулся в печаль.
Маринка приходила еще раз, уже во время государственных экзаменов, с
ничтожным поводом, что-то недоговаривая. Он поглядел на нее, чуть
располневшую, игривую...
— Позови меня замуж, — сказала Маринка в темноте.
— Нет, Идолище, не могу. — Он поцеловал ее. — Как другу тебе говорю
— не надо.
— Ну, скажи мне, товарищ, почему «не надо»? — Маринка села,
расчетливо прикрываясь простынкой.
— Этого не объяснишь, — тихо сказал Кузьмин, по кошачьему отсвету
глаз угадывая, где она. — Для тебя же во мне нет тайны?
— Андрюшенька! — сообразив, сказала Маринка. Потом она засмеялась:
— Нет такой любви, Андрюшенька, поверь! Уж как я Левку любила,
вспомню — сама себе не верю. А потом вдруг все кончилось. Начались
деловые отношения: я ему — быт, он мне — зарплату, я для него —
женщина, он для меня — мужчина. Нормально, в общем.
— А почему вы развелись? — Кузьмин закурил.
— Очень уж скучно с ним стало, разговаривать перестали даже. Ну,
соглашайся, дурашечка! — Маринка потянула его за руку, отобрала
сигарету. — Я — во! — какой женой буду!
Но замуж он ее не взял.
Колесо все раскручивалось: сдав терапию и хирургию, вместе со всеми
остальными он почувствовал, что впереди уже близко — поворот, и ему
ужасно сильно захотелось поскорее заглянуть за угол, вам знакомо это
чувство?
6
Прошло еще два года.
В «протоколе апробации кандидатской диссертации аспиранта второго
года Кузьмина А. В .» написано буквально следующее: «...Диссертация
непомерно раздута, содержит много отвлеченных рассуждений,
затуманивающих интересные конкретные факты и выводы».
Он был страшно удивлен — они не поняли, нет, не захотели понять! Он с
ревнивым страхом вложил в эти листочки всю картину ясного чистого
мира, а они... Ему не хватает плеши или, быть может, седин, они думают, что
он упражняется в... Он мучительно покраснел и обиделся, когда Тишин
глухо сказал: «Занесло!»
К этому времени он уже не был так по-детски влюблен в него, уже видел
потолок Тишина; с раздражением, еще не привыкнув, замечал, что Тишин
не всегда успевает за ним, медленно, без смака, осмысливает повороты, в
которые их толкают, втягивают прекрасные неумолимые факты, и боится,
топчется у границы обозреваемости, не хочет заглянуть в блеклую тень,
мир догадок.
Эти два года Кузьмин жил с аппетитом: почти не отвлекаясь, он лез в
дебри. Не ограничивая себя, он фантазировал немыслимые условия
экспериментов и, когда все хором доказывали бредовость его желаний,
садился на телефон и разыскивал лаборатории, безвестные НИИ, влезая то в
биофизику, то в генетику; заразил скептиков-математиков, и те, наивные,
строили ему математические модели его пробирочных чудес по оживлению
клеток.
Временами нечеловеческая интуиция вела его из эксперимента в
эксперимент, открывала короткие тропинки в джунглях вероятностей,
переносила через нагромождения невнятных результатов. Пришло
благословенное время!
Поставив эксперимент и добившись устойчивого результата, он
сбрасывал его на руки лаборантам (академик — шеф — подарил ему двух
«рабов») и шел дальше, и все не мог угнаться за опережающим шагом
догадки. И этому пути не было конца.
Дома росли вороха бумаг — таблиц, отдельных листочков, на которых он
сам себе объяснял ошеломительные результаты.
Время от времени шеф требовал с него оброк — статью. Кузьмин строил
таблицу, приписывал к ней страничку текста, и статейка выпархивала из
рук.
Время от времени Тишин мимоходом бросал: «Остановился бы! Проверь
в клинике. И вообще — для кого ты работаешь?»
— Рано еще об этом, — бормотал Кузьмин, с вожделением вглядываясь в
окуляр микроскопа. — Нет, ты погляди! Она же оживела чуть-чуть, а?
Миленькая, — говорил Кузьмин, — да ты же умница! Сейчас я тебя
подкормлю...
Крайне вежливо Лужин шептал: «Не забудьте о практической ценности
работы, Андрей Васильевич!»
— Никоим образом, — ответствовал Кузьмин. — Вот консервант
улучшили чуть-чуть... — (Делались первые пересадки почки у человека.) Но
ко всему прикладному он относился как-то равнодушно.
На кафедру зашел Н. Негромкий и вежливый, он внимательно изучил
препараты Кузьмина — бодрые культуры клеток, обработанных живой
водой, — и, чем-то озаботясь, тихо распрощался.
Пожимая его маленькую твердую ручку: «Все мышцы качаешь?
Молодец!» — позавидовал Кузьмин и объяснил:
— Не могу, понимаешь, сейчас разбрасываться! Извини, ладно?
Несколько дней его немножко грызла совесть — он знал, что приход Н.
связан, наверно, с неладами в лаборатории, но тут обнаружилось, что под
действием его живой воды клетки вдруг замерли, заснули, будто дожидаясь
от него какого-то нового толчка, инструкции.
В. А., учинив строгий допрос, говорил: «Смелее, Андрюша, смелее! Это
что-нибудь да значит! Мир велик, а в твоей живой воде слишком много
простой воды, а?» Ему Кузьмин решался сказать: «Похоже, она (клетка)
соображает, что хочет!»
Родители видели, что он счастлив. Мама следила за его костюмами,
длиной волос над воротничком и весом; отец (он нашел себя на какой-то
новой работе), ставя Кузьмина в пример Николашке, напоминал: «Цени, как
тебе повезло!»
(— Да, пап! — говорил Кузьмин. — Но для чего это все надо, если люди
заготовили такую кучу оружия? Против лома нет приема.
— Ох! — говорил отец. — Занимайся своим делом! Между прочим, у тебя
оборонная тема! Что вы топчетесь, медики-биологи! Шевели
́
тесь! Вся эта
сволочь такие гадости наприготовила! Голыми не окажемся?
— Не окажемся! — взвивался Кузьмин. — Что же вы их в сорок пятом не
добили? Они же ведь все живое хотят уничтожить. Жи-во-е . Великое,
единственное, невоспроизводимое! Отнять у человека его единственную
жизнь!..
— Ну и дурак ты, сын, — сказал отец с неожиданной обидой. — «Жизнь!
Живое!» Это что — твое собственное? В бою люди жизнь отдавали — что
же, от них ничего не осталось? Честь — вот единственное, что принадлежит
тебе лично. А твоя жизнь принадлежит Родине, делу, если человек, конечно,
не скотина у кормушки. А о таких и говорить нечего.)
Он выезжал на картошку со студентами, бывали загулы в Алешкиной
компании болтливых гуманитариев (там гремели магнитофоны, свечи
потрескивали от табачного дыма, и с лент на разных языках орали: «Ты моя
любовь, мое счастье, мое солнце! О, я люблю тебя!» — страстно, нежно,
томно, печально, торжествующе и лживо). Было два коротких романа,
безболезненно давших Кузьмину навыки веселой игры — в любовь с
открытыми глазами.
А свои двухмесячные аспирантские каникулы он проводил в
экспедициях, где с успехом совмещал приличный приработок и поиски
своих трав.
В конце второго года аспирантуры шеф остановил его, танцующего от
спешки, в коридоре.
Посмеиваясь, он оглядел — с ног до лохматой головы — беспардонно
недовольного задержкой Кузьмина и вытянул у него из рук громадный
штатив с разноцветными пробирками; стрельнув на них взглядом, шеф
хмыкнул. «Кажется, это уже не по теме диссертации, а? Молодец! Оформляй
работу — через месяц апробация. Должен успеть, понятно?» — сказал он.
Задав лаборантам работу, Кузьмин затворился дома и, в один день
переломав привычный ритм, сел писать этот злосчастный первый вариант
диссертации. Он писал, выдавая по двадцать страниц в день,
самостоятельно освоив экспресс-метод иллюстрирования — вырывая
нужные таблицы из копий собственных статей. Он еще играл в бирюльки,
баловень: все, что рождалось в нем при сведении материала в целое,
казалось блестящим ходом мысли, имело, он считал, самостоятельное
значение, и он писал легко, раскованно, без тени сомнения.
А теперь, принимая из рук Лужина исчерканную пачку листов, всю в
крючках и занозах знаков препинания, — вот теперь он скис.
Начинались каникулы. С Алешкиной помощью пристроившись в
археологическую экспедицию (ему необходимо было попасть в Среднюю
Азию — раздобыть «солнечный корень»), он весело прожил полтора месяца
и вернулся в Москву дочерна загорелый, с корявыми — он ощущал их
лопатами — руками, с набитым карманом и парочкой корней в рюкзаке,
распираемом засушенными травами, местной бузиной и неведомым
органическим составом в бутылке.
На раскопках он встретил удивительно дружно живущего со вселенной
парня, заразился — на время — от него философией фаталиста («Слушай,
брат, не суетись. Все, что с тобой должно случиться, случится!»), и поэтому,
встретив прежде других на кафедре бледную физиономию Лужина,
проторчавшего все лето в Москве, он не принял всерьез напоминание про
окончательный вариант диссертации.
В сентябре шеф потребовал ее.
— Я бы хотел кое-что довести, — сказал Кузьмин, прижимая к груди
бутылку со среднеазиатской панацеей.
— Э-э, дружок! — протянул шеф, понимающе поглядывая на бутылку. —
В докторской доведете. Место ждать не будет, понимаете?
Сев заново над листочками, Кузьмин обнаружил, что с некоторыми
замечаниями он согласен. Зато никем не тронутые «Выводы» обескуражили
его своей поверхностностью. Он переписал их, и тогда, естественно,
пришлось ломать текст.
Он сам того не заметил, что за лето в нем произошли некоторые
перемены, как будто его мозг (машинка — называл его про себя Кузьмин)
утряс всю известную ему сумму фактов, рассортировал их по полочкам, и
снова освободилось место, и снова были неясности.
— Опять что-то новое, — пожаловался Лужин шефу, покачивая на ладони
легкий кузьминский труд.
— Вы анархист, — изрек шеф для Кузьмина и забрал диссертацию с
собой.
Кузьмин ходил на кафедру каждый день, но теперь больше околачивался
в ассистентской: варил кофе для преподавателей, изредка подменял кого-
нибудь из них (к радости студентов), ходил в библиотеки, сидел в
Институте рака с Н., помогая ему наладить новые методики, и
легкомысленно ждал вердикта.
Никто не знал, что Лужин, познакомившись со вторым вариантом
диссертации и сделав из этого знакомства правильные выводы,
воспользовался паузой и занял уготованное в институте фармакологии
Кузьмину место своим заочным аспирантом, который хоть и опаздывал с
диссертацией, но не был ни выскочкой, ни торопыгой. И когда шеф, вполне
насладившись чтением кузьминской диссертации и даже сделав маленькие
выписочки в свой секретный архив, позвонил самому директору института
и они, обменявшись приятельскими приветствиями, заговорили о деле,
одними только цитатами из Кузьмина шеф заинтересовал его. Но на
следующий день директор разыскал шефа в Академии и огорошил. Шеф
бросился на кафедру, яростно выкручивая у машины руль, но по дороге
вспомнил, что дальновидный Лужин уже поправляет здоровье в
Кисловодске. В ученом совете шефу удалось отсрочить утверждение
протокола апробации Кузьмина на две недели; но не более, сказали ему.
Кузьмин же устраивал печатание автореферата. Он познакомился с
вежливыми вымогателями от полиграфии, собирал последние бумажки и
оттиски статей в свое «Дело», и высокомерные девицы из секретариата
ученого совета уже стали узнавать его.
Поднялась суета. Тишин обзванивал приятелей, искал достойное место
для Кузьмина, но все больше и больше убеждался, что кузьминские
проблемы пока мало кого интересуют. (Ему говорили: «Да что ты! Во силен!
Жаль, у нас даже пристегнуть его не к кому!..»)
Кузьмин узнал об этой суете случайно, перехватив ненароком разговор
шефа. Он перестал ходить на кафедру, сидел дома, к телефону не подходил.
Не блаженное опустошение — безразличие владело им. Откуда-то
появилась сонливость, и, случалось, целыми днями он валялся на кровати,
собирая вокруг себя пепельницы, полные окурков, и грязные бутылки из-
под кефира. Осаждалась муть, подобная обиде, безадресной и давнишней.
Однажды заспанный дядя Ваня подозвал его к телефону. («Тебя
академик кой-тех наук спрашивает», — зашептал он озабоченно.) Шеф
предложил Кузьмину место на кафедре в Челябинске. Кузьмин сразу же
отказался — дремавшая все это время интуиция, которую он воспринимал
как подталкивание изнутри, а со стороны это выглядело как
капризничанье, метание, — интуиция воспротивилась.
— У вас очень сложное положение, — попытался объяснить ему шеф. —
В прикладные лаборатории вы не пойдете — это я прекрасно понимаю. Но
тематических лабораторий пока, увы, нет. Надо думать, что делать:
досрочное завершение диссертации — это не столько почетно, сколь
хлопотно, понимаете? Зайдите-ка ко мне завтра, а?
Дядя Ваня, подмерзая на линолеуме босиком и в исподнем, дожидался,
пока Кузьмин закончит разговор.
— Точно — академик звонил? Стряслось чего? Ты скажи.
— Пустые хлопоты, дядь Вань. Иди спать. Извини!
— Если чего — ты скажи...
— Спасибо! — Кузьмин слабо улыбнулся ему. — Это судьба, дядь Вань.
Назавтра Тишин с огорчением доложил, что приказ о досрочном
отчислении Кузьмина из аспирантуры подписан и документы направлены в
министерство. Пуповина оборвалась.
— Знаете, — сказал Кузьмин шефу и Тишину, сознательно усаживаясь на
то же самое место у дивана, что и четыре года назад, — все даже к лучшему.
Мне надо оглядеться.
Они непонимающе смотрели на него.
Вечером Кузьмин с шампанским зашел к Галкину-старшему,
новоиспеченному пенсионеру. (В. А . совсем облысел; его маленькие глазки
за толстыми линзами пучились, он нездорово обрюзг. «Совсем крабом
стал», — доверчиво посетовал он еще в прихожей, энергично стаскивая с
Кузьмина пальто.)
— За чаем о серьезном не говорим, — потребовал В. А., и Кузьмин
потешал Галкиных рассказами о своих летних приключениях.
В. А. оспорил философию фатализма, но не очень-то он был убедителен.
— Ну, а как вам моя новорожденная? — спросил Кузьмин, кивая на
экземпляр диссертации, подаренный им В. А . и теперь весь проложенный
закладками.
— Заслуживает, — махнул рукой В. А . — Далеконько вы ушли!
— Это я ушел, — сказал Кузьмин.
— Ну-ну! Где же будете работать, кандидат?
— Что-то никуда не тянет, — признался Кузьмин. — Подходящее место
— тю-тю! Если бы не деньги — просто поболтался бы.
В. А. даже расцвел. Он перебежал из своего уголка на диване к Кузьмину
за стол и стал зачарованно его разглядывать.
— В пасечники, в лесники охота пойти, да?
— Ну, телепат!.. — с ка зал искренне удивленный Кузьмин.
— Хе-хе! — ужасно чем-то довольный, сказал В. А. — Слушаешь, как
травки шепчутся, птички поют...
— Ох, хорошо! — вздохнул Кузьмин.
— Вся истина в том, что себе надо довериться, — сказал В. А., вспоминая
что-то свое. — Все, что через силу, — комом идет и отрыгивается. Подари!
— Он протянул Кузьмину диссертацию. — Нет-нет, надпиши по всем
правилам, строго: «Многоуважаемому...» Вот так штука! — сказал он. — А у
нас-то — транспозиции инициалов!
— Верно! — сказал Кузьмин. — Сие что-нибудь да значит, а? — Он
написал: «Первому Учителю от Кузьмина».
— Ох, нескромный ты! — пожурил его В. А. — Хотя правильно: вера, она
горы сворачивает,
— Если честно — сам не знаю, что у меня получилось. Иногда чувствую
— истина, иногда кажется — какая-то приблизительность. Надо чтобы
отстоялось... — т ихо рассказывал Кузьмин.
Они еще пили чай, ждали Алешку; он пришел, выпотрошенный,
рассказывал про своих дураков из восьмого «А»; они вспоминали себя, свои
штучки, потом провожались — словом, когда Кузьмин вернулся домой,
было поздно. На кухне он взбодрил еще теплый чайник, заварил зеленый
чай и стал пить его, чашка за чашкой, как этим летом в экспедиции, по
ночам, пропитывая себя водой, ушедшей днем потом, сиплым дыханием и
слюной.
Телевизора у него не было, репродуктор сломался, и только мощный ход
будильника регистрировал истекающее время. Кузьмин залез на антресоль,
накурился до одури и заснул, когда исподволь пошел шелестящий дождь —
на рассвете.
В министерстве ему легко дали уговорить себя, и, получив тонюсенькую
папочку со своими документами, он вышел на улицу, имея, как говорится,
все при себе.
Деньги кончались, они расплывались, потому что он стал много
болтаться по улицам, стараясь не сидеть дома, чтобы не дергаться от
телефонных звонков. А ему звонили: Тишин, Н., даже Лужин. Пытался
дозвониться до него и отец.
Вечерами дядя Ваня отчитывался перед Кузьминым по бумажке,
присовокупляя к каждому звонившему характеристику: настырный,
вежливенький, начальник какой-то...
А на улицах и в самых неожиданных местах Кузьмин встречал массу
знакомых, на их вопросы он отвечал уклончиво, и все они, представьте,
думали, что он темнит по соображениям государственной тайны. Его брала
досада — так слепы они были!
Однажды, очутившись неподалеку от Маринкиного дома, он позвонил ей.
Ее мама дала ему новый номер телефона.
— Узнай меня, Идолище! — сказал Кузьмин.
— Андрюшенька! — обрадовалась Маринка, а за ее голосом в трубке
Кузьмин услышал нежный младенческий плач. — Как живешь, Великий
ученый?
— Успокой ребенка, — сказал ей Кузьмин.
— Сейчас папочкино дежурство, — хихикнула Маринка. — Пусть
отдувается. У меня парень, знаешь?
— Все нормально? — спросил Кузьмин и пожалел: что-то сиротское было
в его голосе.
— А ну-ка, расскажи, — велела Маринка. Вытянув из него новости, она
сказала: — Какой ты, Андрюшенька, еще ребенок!.. Ходи по земле!
За два дня она нашла ему работу.
Подстриженный, приодетый, он явился. Деловая женщина — директор
медучилища, — скептически поглядев на него, подписала заявление,
познакомила с преподавателями.
— .. . Голубкова! Не списывайте, пожалуйста! Спрячьте зеркало,
Сапожникова!.. Сегодня, девочки, мы познакомимся с обезболивающими...
— Андрей Васильевич! Вы женаты? А сколько вам лет?..
Пожалуй, только через месяц он научился не пялиться в открытую на
отовсюду торчащие круглые коленки, на точеные шейки, обвитые
прячущимися в вырезах цепочками, на дерзко облегающие свитера. У него
появилась новая привычка — перед выходом из учительской поглядеть на
себя в зеркало.
И из сотен их веселых, нежных лиц где-то в самой глубине Кузьмина
стало складываться одно единственное, необыкновенное, нежность и тайна
которого не сравнимы были ни с чем. Лишь изредка оно мелькало где-
нибудь в толпе, и он бросался ему навстречу, и всегда оказывалось, что он
ошибся.
А в декабре он случайно узнал, что неподалеку, в ближайшем
Подмосковье, создается новая лаборатория с широкой медико-
биологической тематикой, с перспективой превратиться в НИИ. Шеф и
Тишин сели на телефоны и, выяснив все подробности, нагрянули, приехали
к Кузьмину домой. До прихода Кузьмина они сидели у дяди Вани и играли с
ним в шашки на деньги, несколько проигрались, но были веселы, озорно
возбуждены.
Шеф обошел всю комнату, поднялся на антресоль и изрек оттуда,
перевесившись через перила:
— Неплохой у вас кабинетик, Андрюша. Мне бы в свое время такую лафу!
А он хитренький, — сказал шеф Тишину. — Он не зря на эту лабораторию
засмотрелся — он там будет пророк и основоположник. — Шеф подмигнул
Кузьмину. За столом он сел на Крестнино место, по-домашнему расслабился
и, как всегда, не чванился.
Одарив Кузьмина официальной справкой с перечислением заслуг, за
чаем с любопытством выслушав рассказ дяди Вани о приключениях
батальонного разведчика, они отбыли.
— Не беспокойся, Андрюша, — потирая коленки, сказал дядя Ваня, — я
деньги им в карманы ссыпал. Это я — чтоб они не скучали. А старый-то —
азартный, страсть! Кто ж такой? — И удивился: — Ну, дела!
— Опять ноги болят? — спросил Кузьмин. — Я тебе другую пропись на
растирку дам!
— А может, твоей водой побрызгать, а? — безнадежно спросил дядя
Ваня.
Собрав нужные бумаги, с отменной характеристикой («И не извиняйтесь!
Другому повороту я бы удивилась», — сказала директор медучилища),
заверенный в любви и уважении Лужина («Большому кораблю — большое
плаванье!»), Кузьмин поехал знакомиться.
7
Дорога, как всегда в первый раз, показалась долгой. Выйдя на
заваленную снегом платформу, почти в одиночестве, Кузьмин повертел
головой, у противоположного края платформы увидел красное пятно —
стрелку-указатель; нахватав в ботинки снегу, он дошел до нее, прочел
название лаборатории.
Стрелка была нацелена на поле, пустое и почти ровное из-за лежащего на
нем снега. По нему бегали спиральки холодных ветерков, взвиваясь и
опадая. Едва натоптанная тропинка привела к опушке леса, к расчищенной
асфальтовой дорожке.
Лес был гулок, пушист. Четким стуком где-то вдали работал механизм,
но ни голосов, ни других живых звуков больше не было. Кузьмин
сориентировался, пошел налево, в глубину леса, и дорожка уперлась в
зеленые ворота, из-за которых почему-то слышалось требовательное
мычание.
Кузьмин разыскал кнопку звонка и долго звонил, ему казалось,
беззвучно. Открылось окошечко, он просунул в него уже отвердевшее от
холода лицо и объяснил усатому вахтеру кто-что, был впущен за ворота, на
пустынный, заметенный снегом плац, в глубине которого стояли
низенькие, напоминающие казармы дома.
Тут же, рядом с воротами, за веревочное кольцо была привязана корова с
ужасно вздувшимися черно-белыми боками.
Она посмотрела на Кузьмина довольно-таки вопросительно, потом
задрала вверх голову с белыми закрученными рогами и опять
требовательно замычала. Кузьмин с опаской поглядел на ее бока и живот.
За спиной раздался скрип снега — подошел вахтер с белым эмалированным
ведром, присел и, не обращая внимания на Кузьмина, стал доить корову.
Она перестала орать и теперь уже с любопытством начала разглядывать
Кузьмина.
Кузьмин присвистнул, цокнул языком и, ухмыляясь, пошел разыскивать
товарища Герасименко.
— .. . Только ваша инициатива и желание будут определять круг проблем.
Нас интересует все, буквально все! Но у нас нет ничего готового. Вам самому
надо создавать лабораторию, покупать, получать оборудование. Даже
грузить его, возможно, придется лично. Есть деньги, штатные должности —
давайте работать! — горячо говорил товарищ Герасименко, сняв только
шапку в нетопленной, скучно покрашенной комнате.
Во время произнесения этой речи Кузьмин смотрел на отечные глаза,
пробивающуюся седину на висках Герасименко, и, вероятно, у него
менялось лицо, потому что Герасименко говорил все горячее и горячее. Он
сидел за неказистым канцелярским столом в овчинном полушубке, а сбоку,
грея ему щеку, стояла электрическая плитка. Герасименко перехватил
взгляд.
— Мы ведь начинаем только, — объясняюще сказал он. — Ну?
— Я подумаю, — постаравшись, веско сказал Кузьмин. Он пожал руку
Герасименко и вышел, тщательно притворив дверь, на заснеженный двор,
ограничиваемый белыми коровниками, как он теперь догадался. На его
глазах к торцу одного из зданий подъехала машина, и две тепло одетые
бабы стали сбрасывать на снег легкие кубики прессованного сена. Пахну
́
ло
летом, полем.
Герасименко удивленно поднял голову от бумаг, когда Кузьмин, крепко
прихлопнув дверь, снова вошел в комнатку. Герасименко принял папочку с
бумагами, сунул ее в стол и сказал:
— Зачислим с завтрашнего дня как «и. о .», а потом проведем по конкурсу,
младшим научным пока, конечно, до защиты.
До лета Кузьмин всего десяток раз и бывал на этой экспериментальной
базе лаборатории, а все остальное время он бегал по канцеляриям,
приемным, складам и базам, осваивал науку быть любезным и терпеливым,
терпеть хамство и чиновную вежливость, пробивая аппаратуру, посуду,
реактивы мебель, а заодно — корма, кирпич, спецодежду, транспорт и
великое множество других важных вещей.
Когда телеграммой его вызвали в ученый совет (шеф втиснул-таки
Кузьмина вне очереди на защиту), он даже в первое мгновение подосадовал
— срывалась важная деловая встреча, — но потом опомнился, обрадовался.
.. . Банкет был в «Будапеште». Кузьмина славословили. Шеф очаровал отца
категоричностью выносимых им характеристик, с ловкостью дамского
угодника ухаживал за мамой, пел туристские песни и произносил
кавказские тосты.
Тишин сказал прочувствованную речь (кое-кому она показалась
длинноватой), но Кузьмин правильно понял все намеки.
Поразительно: торопливо и горячо говорил Н. Он даже размахивал
руками, будто что-то обнимая. Могло показаться, что он подавлен
существом работы Кузьмина и видит в ней какой-то другой, скрытый
смысл. Кузьмин благодарно кивал ему, привставал, прерывая, а Н. все
пытался что-то ему объяснить. («Ну, рожай, рожай!» — пробормотал —
Кузьмин с удивлением услышал — шеф.)
Тихо, без аффектации выступил В. А. Когда Кузьмин подошел к нему —
целоваться, В. А. в ухо ему шепнул: «Ты прости, Андрюшенька, я ж совсем
пьяный!»
Кузьмину желали скорее написать докторскую, книгу... — словом, было
сказано все, что полагается говорить на банкете.
Импровизируя ответную речь, Кузьмин обнаружил, что ему надо
благодарить каждого сидящего за столом.
После банкета Кузьмин провожал до дома старенького своего оппонента.
Тот решительно отказался от такси и всю дорогу громко объяснял
Кузьмину важность каких-то там ферментных групп, а в подъезде, долго
тряся ему руку, вдруг сказал, заглядывая в глаза:
— Знаете, я не разобрал сначала, решил, что диссертация-то —
докторская. И, честное слово, так отзыв сначала и написал. А в Совете меня
отговорили — сложностей много, рассмотрение затянется... Конфуз
получился... — Он виновато глянул на Кузьмина.
— Да, действительно конфуз, — легко согласился утомленный Кузьмин и
хохотнул, что, как он полагал, от него требовалось.
Старичок отстранился, оскорбленно сказал:
— С вами конфуз приключился, молодой человек, с вами!
Летом Герасименко начал строиться и очень бурно. Он перелез в сапоги,
ходил все время в каске, не стеснялся орать или подсобить строителям.
Кузьмина (то ли оттого, что он был первым сотрудником, то ли
Герасименко испытывал к нему какую-то симпатию) посадили на бумаги:
лаборатория объявила конкурс, и в корпусах и во дворе понемногу стали
появляться новые люди.
За это время Кузьмин обучился давать уклончивые и дипломатичные
ответы, вежливо отказывать, пренебрегать лестью. Ему довелось
разговаривать по телефону с легендарными личностями, как правило,
стеснительно просившими за кого-нибудь; он сам звонил знакомым
ребятам и сманивал их в лабораторию Герасименко.
Но вот время конкурса истекло, и Кузьмин явился в уже несколько более
солидный кабинет Герасименко, торжественно выложил ему на стол
«Дела». Он собирался дать свое заключение на каждого соискателя, но
сильно изменившийся за лето Герасименко довольно-таки грубо выставил
его за дверь.
— Спасибо, — сказал он, не вставая с кресла и нехотя поднимая голову.
— Идите, я сам разберусь, кого вы наприглашали.
Холуйское выражение своего лица Кузьмин почувствовал сразу же за
дверью кабинета. Он скомкал рукой возникшую сразу после слов
Герасименко нерешительную полуулыбку и, задохнувшись, на одном ударе
сердца выскочил за проходную.
Он долго ходил по лесу, успокаиваясь, начиная трезво оценивать весь
фонтан судорожно пришедших порывов: написать заявление об уходе,
вернуться в кабинет и потребовать объяснений, надуться и не
разговаривать с Герасименко...
Совсем поздно, в сумерках, по-воровски прокравшись на территорию
лаборатории, шмыгнув под освещенными окнами герасименковского
кабинета, он на ощупь разыскал в своей комнатке портфель, плащ и шляпу,
а потом пошел на станцию. Еще по дороге он заметил устало идущего туда
же, к ярким станционными огням, Герасименко и сбавил шаг, сошел с
асфальтовой дорожки на мягкую пыльную обочину, чтобы не выдать себя.
И уехал он на следующей электричке. Поужинал в грязноватом вокзальном
буфете, против обыкновения не обращая внимания на грязь, шум и
толкотню. Опять вокруг была суета, отожествляемая им в детстве с
течением жизни, а теперь — только с придонным колыханием ее мути.
«Господи, куда же я делся», — спросил он себя.
В первый же удобный день, сказавшись занятым, он приехал на кафедру.
Начинался учебный год, все пришли из отпусков, были веселы и ничем не
озабочены. Кузьмин строил из себя облеченного полномочиями, успешно
темнил, а сам приглядывался к шефу, Тишину, ребятам.
Они попивали кофе в ассистентской, и загоревший в горах шеф обронил
фразу:
— Всегда есть два пути — лезть вглубь или оживлять теории
практическим применением. Любой из путей всегда персонифицирован, и
что-то мне не припомнится удачных раздвоений личности...
Вечером Кузьмин пошел в кинотеатр, пытался познакомиться там с
девушкой, но, то ли шутки у него были злые, то ли чувствовалось, что ему
хочется поплакаться, девушке он не понравился. Вернувшись домой, он
разыскал методические указания и написал программу для своей группы,
очень удачно сочетающую поиск с прикладным направлением, надеялся он.
С официальным видом он передал эту программу равнодушному и
вялому Герасименко. Герасименко сидел в кабинете, один, распустив узел
галстука (все труднее и труднее стало заставать его в одиночестве); он
мельком глянул в листочки, удовлетворенно хмыкнул и сунул в ящик стола.
Потом он поднял на Кузьмина глаза, и Кузьмин, сатанея от прочитанной в
них насмешки, попятился к двери.
— Задержитесь на минутку, — остановил его Герасименко, и в нагретом
кабинетике явственно пронесся коньячный запашок. — Послезавтра
приедет комиссия, — сказал Герасименко, отводя глаза. — Конкурсные
выборы, прием строительных работ, ну и разные другие дела. Постарайтесь
быть на виду...
И опять в его глазах Кузьмин увидел непереносимое выражение какого-
то знания.
Кузьмин был представлен членам комиссии, было названо имя шефа.
Кузьмин сподобился быть на банкете «а ля фуршет», Кузьмин сказал
короткий гост, но через две недели пришло утвержденное и измененное
штатное расписание, и группа биостимуляторов в нем не
предусматривалась.
Кузьмин узнал об этом на совещании, куда пришел без приглашения,
полагая, что его просто не успели оповестить — в тот день была такая
суета, такое возбуждение!
Герасименко — в новом костюме-тройке, в ослепительно белой рубашке,
воротничком которой подпиралось еще смуглое с лета его лицо, — говорил
как-то резковато, и в полной тишине аудитории голос его звучал
наставительно, по-директорски. Закончив сообщение, он пригласил
заведующих лабораториями к себе в кабинет.
Помучившись четверть часа, Кузьмин не выдержал и заглянул туда — в
кабинете сидели новые, малознакомые сотрудники, дым стоял коромыслом,
и Герасименко опять горячился. Морщась, он попросил Кузьмина зайти
через час. По взглядам Кузьмин понял, что помешал... Он с удовольствием
опять побегал бы по лесу, но уже шли затяжные дожди, лес промок, был гол
и продуваем ветром с поля, поэтому он вернулся в не свою уже комнату, сел
за еще не отчужденный от него стол и размашисто написал заявление об
уходе,
— .. . Вы меня обманули, — сказал Кузьмин.
— Меня самого обманули! — сказал Герасименко, обмякая на глазах. —
Вы думаете, я что-нибудь могу? Может быть, через год меня самого здесь не
будет! Еще бы! Вы все так ловко написали планы, — он безошибочно достал
из ящика знакомые Кузьмину листочки с программой, — что мы и на космос
и на рак выходим... Кому же, как не какому-нибудь академику, этим
заниматься!
Он закурил, не предложив сигареты Кузьмину. Кузьмин вытащил свою
пачку.
— Знал бы ты, как со мной в Академии разговаривают! Как? Как с
«временно исполняющим обязанности»! Очень уж мы масштабными
получаемся, не по мне должность! И ты хорош — собрал цветник: гений на
гении. Лаборатория-то вышла — лакомый кусочек! — Герасименко поднял,
наконец, на Кузьмина усталые, запавшие глаза.
— Я уйду, — сказал Кузьмин, обретая решительность.
— Надо бороться, — убежденно сказал Герасименко. — Надо доказать,
что только ты, именно ты можешь сделать рывок. Это азбука в науке. А
пусть-ка без меня некоторые попробуют достать и животных и все
остальное, тут-то они и!..
Герасименко думал о себе и о лаборатории, но только как о своей
лаборатории; обида мучила его, задерганного, спеленатого высокими
рекомендациями вылощенных блатных сотрудников, дипломатично-
уклончивых в высказываниях, как-то быстро нашедших друг с другом
общий язык, заполонивших своими машинами плац, но томных и ленивых,
боящихся коров, морских свинок, смеющихся над фермой кур, что казалось
ему, ветеринару, противоестественным и претило.
— После банкета я прочитал твои статьи, — совсем переходя на «ты»,
после долгого молчания сказал Герасименко. — Н у, и приятель твой, этот,
Н., объяснил мне, что к чему. Ты — на уровне! Почему ты ко мне пошел?
Деваться было больше некуда?
— Я думал, что здесь не будет прикладных тем... — признался Кузьмин.
— Биостимуляторы — это пока лабораторная проблема.
— Ну? А Н. говорит, что... Он, между прочим, очень высокого о тебе
мнения. Почему ты к нему не пойдешь? У него проблема будь здоров! И
какие возможности!.. А тебя рак не интересует?
— Почему же... — с ка зал Кузьмин. — Как модель и он годится. Но ведь
там Н. Он ведь работает параллельно.
— Ну, дела! — негромко засмеялся Герасименко, и глаза у него
потеплели, ушла напряженность. — Я и определения такому случаю не
найду! Приятеля подводить не хочешь? А если он тупой?
— Он не тупой, — со вздохом стал объяснять Кузьмин. — Он
экспериментатор не очень сильный...
Глаза у Герасименко смеялись, и даже толстоватые губы смягчились.
— Ладно! — махнул он рукой. — Значит, так: рви свое заявление, — он
глазами показал на папочку в руках у Кузьмина, — и отправляйся в
библиотеку, Читай, пиши, словом, давай печатную продукцию Срок —
месяц. За это время я что-нибудь придумаю... Нет, это я хорошо решил, —
сказал он, оживляясь. — Спрячу-ка я тебя куда-нибудь подальше, а то ведь
втянут тебя в какую-нибудь дрязгу.
До самых ноябрьских праздников Кузьмин усердно готовил обзор по
медико-биологическим проблемам, вчитывался в последние работы
генетиков, иммунологов и биофизиков, находя все новые и новые стимулы
к размышлению. За этот месяц в нем дописалась, просохла и перевернулась
страница; он освободился от последних связей со своей диссертацией; он
как бы распахнул окна, впустил свежий ветер и свет. К нему вернулось
чувство легкости и свободы, хотелось заняться чем-нибудь новеньким.
А Герасименко устроил ему командировку.
— Ну, смотри! — сказал он тоном, который теперь почему-то не коробил
Кузьмина. — Я тебя к своей учительнице посылаю. Других таких людей не
бывает. Задание у тебя одно: помоги ей, чем можешь. Если понравится,
останься, поработай. И вообще приглядись: дело там делают или так...
И Кузьмин поехал к Коломенской в маленький город, в центр России.
8
В город поезд пришел днем. Прелестная русская речь и степенность
поразили Кузьмина еще на вокзале: он вертел головой, изумлялся.
Ветеринарный институт стоял на краю старого города, открываясь
своими фермами в поля. С боем прорвавшись через проходную, Кузьмин
долго искал административный корпус и заплутался. С чемоданом,
оттягивающим руку, он одиноко бродил между невысоких построек, сильно
напоминавших ему только что покинутую экспериментальную базу
лаборатории Герасименко. В пижонские полуботинки набился снег, потому
что на многих дорожках и следов-то не было. У одних двустворчатых ворот
были свежие крупные собачьи следы. Не волки ли, подумал он. Ему
захотелось подурачиться, и, подойдя к воротам вплотную, он подвыл. И
долго стоял, принюхиваясь к живому теплу.
Чистенький двухэтажный корпус лаборатории прижимался к самому
забору. На площадке второго этажа разлетевшийся Кузьмин чуть не сбил
двух женщин. Бормоча извинения он ринулся к двери и стал дергать ее,
запертую.
«Вы к кому?» — спросила его пожилая женщина в длинном синем халате
поверх душегрейки. Он сказал. «Это я. Сейчас у нас обеденный перерыв, и
вы нас застали просто случайно», — ответила Коломенская. Кузьмин
вглядывался в ее грустное узкое лицо, ему показалось, что он видел ее
раньше.
Представив директору (они нашли его в телятнике, инспектирующим
маленькое суетливое стадо), Коломенская вновь привела Кузьмина в
лабораторию. Его посадили пить чай, накормили жареной картошкой с
салом, показали ему лабораторию — довольно слабо оснащенную,
познакомили с сотрудниками. В четыре часа помощница Коломенской,
Любочка, отвела его — через дырку в заборе — во флигелечек на усадьбе
злой институтской вахтерши — он оставил там чемодан, — а потом в
столовую камвольной фабрики: показала Кузьмина гардеробщику и
смешливым девчонкам на раздаче. С этого дня быт Кузьмина устроился.
Имея несколько дней перед командировкой, Кузьмин, добросовестно
попытался познакомиться с работами Коломенской, но, обшарив весь
авторский отдел в медицинской библиотеке, не нашел ни одной ее статьи.
Немного озадаченный и готовый выступить в любой роли, Кузьмин привез
сюда оттиски своих статей, он вручил их Коломенской вместе с личным
письмом Герасименко.
— Какие чудесные вещи вы проделываете, — сказала ему Коломенская
через два дня, возвращая оттиски. — Может быть, вы нас подучите? Нам
надо максимально возбудить клетку, подготовить ее к удару.
В ученицы Кузьмину дали тихую светлолицую Любочку, старшего
лаборанта — чуть медлительную девушку, прячущуюся в синий халатик.
Как сурово он обращался с ней! В его терпеливости совсем не было теплоты,
легкости или даже насмешливости. У Любочки под его взглядом дрожали
руки, она тихонько бегала плакать
в тесную фотокомнату, особенно
если он, сморщившись, цокал
языком и сам брался за
флакончики со средами. Около
шести вечера Коломенская
останавливала работу, и Кузьмин
отправлялся домой, во флигелек.
Здесь, в средней полосе,
начиналась тихая снежная зима:
иногда по утрам Кузьмин пыхтел,
отворяя наружную дверь,
приваленную пушистым ночным
снегом. По воскресеньям с утра он
колол на всю неделю дрова, потом
мылся в хозяйкиной баньке,
стоявшей над оврагом среди
высоких голоствольных сосен. На
задах усадьбы забор был повален, и
она, переходя в овражистый лес,
казалось, продолжалась до самого
горизонта. С этой стороны и
заходили тугие снежные тучи,
заравнивающие овраг и ключ на
его дне.
После бани, начистившись,
Кузьмин отправлялся на обед к
Коломенской. В просторном ее
доме он с удобствами располагался
около книжного шкафа и, беря
наугад книги, успевал проглотить
несколько страниц прозы, а чаще
стихов.
Вернувшись от Коломенской, он
опять шел в баню — стирать.
Первое время он щеголял в своих
модных нейлоновых рубашках, но потом, главным образом из-за холода во
всем лабораторном корпусе, перелез в свитеры. К Коломенской же он всегда
являлся при галстуке.
В декабре, накануне годовщины смерти Крестны, он получил
поздравительную телеграмму от родителей и, еще не понимая, к чему она,
пришел в лабораторию. Из заказного письма (переслал Герасименко)
выпала открытка: ВАК утвердил его в звании кандидата наук. Он
обрадовался.
— Это такой важный этап! — сказала Коломенская, когда вино было
разлито в лабораторные стаканчики и тигли. — Всегда трудно найти
подходящие слова, если хочешь быть искренним, поэтому я повторю стихи:
«Я пью за здоровье не многих, не многих, но верных друзей, друзей
неуклончиво-строгих в соблазнах изменчивых дней...»1. Дорогой Андрей
Васильевич! Вы работаете у нас недавно, но мы уже полюбили вас за умение
работать, быть неуклончиво строгим. За ваши успехи!
С Кузьминым чокались, торжественно пожимали ему руку, а Любочка
отлучилась куда-то на минутку, а потом под аплодисменты вручила ему
роскошную ручку с золотым пером. Он благодарил их всех и кланялся, а они
все хлопали, пока он не догадался поцеловать ужасно смущенную Любочку.
Он обучил Любочку своим методикам и теперь только краем глаза
следил за тем, как она работает.
После Нового года (он благостно отпраздновал его у Любочки, кроме
него, в гостях была еще Коломенская) он беззастенчиво сунул нос в
соседние комнаты, где работали ребята-аспиранты — милые солидные
парни, поначалу потешавшие его своей сугубой основательностью. С
московской легкостью он перешел с ними на «ты» и стал поглядывать на их
пробирки.
Пожалуй, только добродушно-мордастый Федор добровольно и даже
несколько суетясь подпустил Кузьмина к своим хилым культурам тканей.
Руки у Кузьмина зудели, и он целую неделю провел у Федора в комнате,
натаскивая его на культивировании фибробластов. Пока у Федора совсем
ничего не получалось, Кузьмин был терпелив, вежлив, по-столичному
академичен. Когда же Федор стал из раза в раз все тверже творить чудо
оживления этой ленивой клетки, Кузьмин стал придирчив, язвителен и
нетерпелив. При всем том он делался смешно благожелателен и даже
сюсюкал, когда Федор хоть чуть-чуть начинал задумываться о
модификации методики. «Это же классная идея! — говорил Кузьмин. — А
1 Вяземский П. А. «Друзьям».
ну, попробуем!»
Однажды он увязался с ним на ферму, но всей процедуры забора крови и
кожи не выдержал, ушел, когда увидел набычившееся, отупевшее лицо
Федора.
А в Любочкиной комнате были милый порядок, тишина. Любочка гнула
спину над препаратами. «Попробую устроить один фокус!» — пообещал
Кузьмин и порылся в термостате, ему попались подходящие культуры
ткани (он даже не спросил, зачем они здесь), и он начал, дурачась,
импровизировать.
— Любаш, — сказал он через два дня, — посмотри, какая прелесть! Давай
делать вот так, а? А потом раздобудем другие стимуляторы и ка-ак!..
— Да, интересно, — отозвалась Любочка, выбираясь из-за его
микроскопа и принимаясь за свою рутину. — Опять ругаться будут — не
успеваю!
— Что это на тебя наваливают! — возмутился большой начальник
Кузьмин, отбирая у Любочки часть стекол. — Считать трансформации?
Игнорируя правила лаборатории, он закурил и, привычно, механически
точно заправив под прижимные клеммы стеклышко с отпечатком ткани,
стал считать клетки. Потом он взял следующее стеклышко, потом еще одно.
— Что за черт! — сказал он. — Любаш, почему ты останавливаешь
трансформацию на этой стадии?
Любочка подняла голову от окуляра микроскопа, вздохнула и, умоляюще
поглядев на Кузьмина, объяснила: это они испытывали противоопухолевую
вакцину!
Кузьмин засмеялся, он смеялся, откинувшись на стуле и шаркая
ботинками по полу. Отсмеявшись, он покашлял, стараясь быть серьезным,
осторожно высказался:
— Очень странный путь, Любочка! И вообще, где логика?
Любочка только грустно поглядела на него.
Кузьмин сбегал к Федору, взял кусочек опухолевой ткани и поставил
опыт собственными руками.
Последние три часа он жил как на иголках. Пока стеклышки сушились, он
выскочил в коридор покурить. Любочка со своего места оцепенело
наблюдала за ним. В тот же день он повторил опыт, взяв другую
опухолевую ткань.
Через трое суток он постучался в дверь кабинета Коломенской.
— Неужели так просто? — спросил он ее, протягивая свои препараты.
Коломенская рассмотрела препараты под микроскопом.
— Если бы это случалось каждый раз! — вздохнула она. — А этому я не
перестаю удивляться сама...
— А если для усиления попробовать стимуляторы? — сам себя спросил
Кузьмин. — Тогда трансформация короткая, антигенность максимальная...
— Он думал вслух.
— Я надеялась на то, что вы поможете нам, — сказала Коломенская.
Кузьмин поднял голову и наконец-то понял, что заставляло его
вглядываться в ее лицо, — она была очень похожа на Крестну: взглядом,
вопрошающим «Кто ты?», лицом стоика, несуетливыми движениями
человека, экономящего силы.
Вернувшись во флигелечек, он рассеянно затопил печь, сбегал с ведрами
за водой. Он двигался, делал все механически правильно, но как с
закрытыми глазами, ибо видел только то, о чем думал. («Это бред, это чудо!
Шаманство, находка, случайность?..»)
Как всегда, он начал с программы. Она получилась большой, на полгода.
Коломенская написала Герасименко. Тот ответил: «Согласен! Желаю
успеха!»
Сначала ничего не получалось: злые толстые клетки почти не
чувствовали его живую воду.
Не хватало реактивов, стимуляторы работали отвратительно, нужны
были свои: чистые, мощные.
Кузьмин за три дня обернулся в Москву и обратно: набил чемодан
старыми запасами, побегал по аптекам и складам, где у него были
знакомые; заглянул на час к родителям, но полдня просидел с Тишиным,
клянча, выпытывая и подначивая; он обзвонил ребят, имевших выходы на
электронный микроскоп, аналитическую аппаратуру, иммунохимию, но
что-то удержало его от звонка Н. и Галкиным.
.. . Неудержим азарт поиска: сначала идешь шагом, вздрагиваешь от
неожиданных теней, миражей, но вот мелькнула цель, и ты узнаёшь ее
мгновенно, по обрывающему сердце испугу. Тогда — вперед! Что-то
выпрыгивает из-под ног, что-то цепляется за руки, но вперед, вперед! Вдруг
— удача, снова цель мелькнула раз, другой... Поворот!! — береги дыхание —
в одну сторону, в другую! Настигаешь ее на проложенной кем-то
безвестным твердой тропинке, уже ближе, ближе удача, и вдруг
проваливаешься в болото — рвешься из него! — вырвался! И вот она —
цель, близко, перед глазами — загоняй ее под флажки, ставь облаву!..
.. . Как только он вернулся к методичной лабораторной работе, вернулась,
вызывая недоумение окружающих, его аспирантская привычка поздно
вставать.
Очнувшись от глухого сна, он, прикрыв глаза, покуривал; потом, накинув
на плечи одеяло, добегал до печки, бросал в топку на угольки
заготовленную щепу и полешки и снова забирался под одеяло, иногда
задремывал. Когда флигелек прогревался, он напяливал на себя свитер и
делал зарядку. Возбуждаясь от яркого искрения снега за окном, он пил
теплый чай, брился и отправлялся на Торжок.
В лабораторию он попадал к полудню, с ярким румянцем во все щеки, то
с кульком льдистой квашеной капусты, то с мочеными яблоками,
возбужденный, с сияющими глазами, напоминая беззаботного отпускника
болтливостью, суетным любопытством к чужим делам и запасом ничего не
значащих впечатлений. Лучшие часы наступали вечером.
Коломенская и Любочка быстро поняли, что его стихия — одиночество,
работа в полном согласии и понимании, и стали подлаживаться, оставляя
его в лаборатории одного пораньше.
«Я остался без котлет — муха съела мой обед. Люба кашки принесет и от
гибели спасет», — так он тихо пел по вечерам, иногда насвистывал этот
мотивчик. И в самом деле, хлопала внизу дверь, и появлялась Любочка, в
полушубке, укутанная платком, с кастрюлькой. Идиллия — он ел кашу,
почти урча, а она смотрела на него. Днем, случалось, он все еще покрикивал
на нее или, цокнув языком, принимался готовить препарат сам, но
вечерами, когда она приходила к нему в лабораторию и сидела тут же,
рядом — протяни руку! — в домашнем платьице, он начинал дурачиться.
Смешно, но он заметил — их стараются оставлять вдвоем. Иногда он думал:
она? Тихая, ласковая, верная... Под домашним платьицем обозначались
формы, складненькая фигурка, но ни разу ему не хотелось положить руку на
ее плечо, вдохнуть запах ее волос. Иногда, когда он очень уж упрашивал, она
пела; чистый ее голос, выводящий медленные слова, волновал его, но не к
ней обращено было это волнение.
После ухода Любочки он начинал работать еще собранней — было не до
насвистывания.
Если от запахов и голода его начинало мутить, он открывал в соседней
комнатке окно и, вывалившись до пояса наружу и разглядывая яркие
ночные звезды, пил холодный вкусный воздух. Каждый вечер, около
полуночи, дождавшись мигания в проеме окна красного сигнального огня
беззвучного рейсового самолета, он уходил из лаборатории и пробирался по
черноте узких заметенных переулочков к себе во флигелек. Редкие,
золотистым дрожанием светящиеся окна томили его в эту глухую пору, как
и самолет, ушедший на Москву, и он поспешал, окоченевший, к теплу.
В черную метель, когда вихрь, кружа, обхватывал его голову, врывался
под опущенные уши шапки, он, ослепший, шатался под ветром, упираясь и
размахивая руками, и однажды, в сине-белой вспышке замыкания уличных
проводов сквозь зажмуренные веки увидел себя как бы со стороны: на
серебряно-сверкающем снегу, отчаянно, как с призраком, борясь с
невидимым сопротивлением, стоял одинокий человек. «На свету и в тьме
ночной одинокий я, нагой. И дрожу, а вдруг все так: воровской я слышу
шаг?» — вспомнились Алешкины стихи.
Растопив печь и ужасно боясь угореть, полусонный, он тыркался по
флигелечку, жуя на ходу, и одинокая свеча (там не было электричества) да
пламя из топки, стелящееся по полу, не освещающее потолок, делали его
дом похожим на нору.
Он наметил дорожку. Теперь следовало протоптать ее, ощупать ногой и
глазами каждый миллиметр. Опыт пошел в серию, и Кузьмин немного
освободился. Мало-помалу его охватила знакомая хандра — признак
неудовлетворенности. Он вдруг обратил внимание на то, что Любочка
стирает его халаты, и придал этому какое-то особое значение, сконфузил ее,
а через час, отойдя духом над препаратами, спросил, бестолковый, пойдет
ли ему борода. А вечером вдруг написал письмо родителям.
9
Он пришел обедать в столовую фабрики. Сел на свое постоянное место и,
меланхолично прихлебывая суп, отметил, что сегодня он не в одиночестве,
— за другим столиком сидели четыре девушки. Трое из них, видимо,
убеждали четвертую и, похоже, уже давно, потому что время от времени они
отвлекались, поглядывали по сторонам, и Кузьмин, конечно, попался им на
глаза.
Одна из них повернулась к нему вполоборота, и Кузьмин застыл с
ложкой в руке, проливая суп себе на колени.
Он растянул обед на полчаса, все разглядывая ее.
Она мало говорила, и ее голоса он не расслышал, но жесты — она
поправляла короткую толстую косу, провела рукой по плечу — напомнили
ему плавностью и законченностью маму. Он пригляделся к другим
девушкам, несколько развязным, с вульгарными, как он определял это про
себя, жестами, с громкими голосами, и сразу и навсегда потерял к ним
интерес.
Она встала, и он увидел легкую ее фигуру, а когда вся компания прошла
мимо него, он разглядел ее лицо, немного холодноватое из-за глаз, но
прекрасно вылепленное, с благородным подъемом бровей, маленьким
высокомерным ртом. Он ощутил спрятанную в этом лице тайну, загадку, ту
самую, которую хотел обрести и узнать. Он загляделся ей вслед.
Назавтра, естественно, он был на посту, но пообедал в одиночестве.
Поразмыслив, он походил вокруг фабрики, нашел афишу Дома культуры и,
приодевшись, явился на танцы, готовый ко всему. Он проторчал в зале у
стены до самого последнего вальса и ушел, странно опустошенный. На
следующий день в лаборатории он был рассеян и дважды ходил обедать.
Еще целую неделю он, подгадывая разные часы, высиживал в столовой
по сорок минут, но встреча не случилась.
К этому времени он стал работать с человеческой тканью, беря образцы
опухолевых клеток в отделениях городской больницы, прямо в
операционных.
.. . Он спускался по лестнице из гинекологического отделения, когда из
окна увидел эту девушку с двумя подружками.
В кармане у него лежали образцы, и надо было торопиться, но, поглядев
на часы, он разрешил себе полчаса опоздания и деланно неторопливо
спустился в вестибюль.
Девушки стояли и уговаривали равнодушную, твердо сидящую на стуле
гардеробщицу отнести в отделение пакет-передачу, говорили, что
отпросились с работы, их голоса были просительно высоки, но среди них
Кузьмин не услышал голос светловолосой.
Он подошел и спросил: «В чем дело?» По тому, как они посмотрели на
него, он понял, что узнан. Спросил-то он всех, но глядел на одну
светловолосую. Она и ответила, прямо и спокойно поглядев ему в глаза.
Он взял передачу и размеренным шагом человека в своем праве
поднялся в гинекологию, нашел четвертую подружку, передал ей пакет,
велел ей, обалдевшей, писать записку, а сам разыскал закуток
ординаторской, попросил «историю болезни» этой девушки и убедился:
конечно же, «прерывание беременности».
Спустившись вниз, он, как и надеялся, увидел, что светловолосая одна и
ждет: в расстегнутом пальто, спустив платок на плечи, она стояла у стены,
рассматривала мрачные медицинские плакаты. Она прочитала записку,
холодно сказала ему: «Спасибо», — и, на ходу застегиваясь, пошла к выходу.
Лихорадочно быстро (под насмешливым взглядом гардеробщицы) Кузьмин
оделся и побежал догонять. («Девушка, девушка! У меня ноги больные, не
успеваю!..») Он проводил ее до проходной фабрики, весь путь балагуря и
пытаясь ее разговорить, но узнал лишь, что ее зовут Наташа.
Забавляя ее, он не забывал греть ладонью флакончики с клетками и
никак, никак не мог выключить тикающие в ухе часы. Когда они
подсказали, что время отсрочки истекло и опыт не может быть признан
безупречным, он незаметно выбросил флакончики в сугроб.
Когда они с Наташей распрощались (она только кивнула, так и не
ответив, где они встретятся), он припустился бежать в лабораторию, а
Наташа осторожно подглядывала за ним через заиндевевшее стекло
проходной. На работе ее засыпали вопросами подружки; она отшучивалась
и смеялась вместе с ними.
На следующий день, встретив Наташу в столовой в свой обычный час —
и не удивившись этому! — он не вернулся в лабораторию, а поехал в центр
города покупать билеты в кино.
Еще было слишком холодно, чтобы прогуливаться по городу, поэтому
приходилось по нескольку раз смотреть один и тот же фильм (то, что
раньше раздражало Кузьмина — перешептывания в кинозале, — теперь
казалось естественным и правильным), ходить к Наташе в общежитие под
прокурорские взгляды комендантши.
Постепенно она разговорилась, перестала косить на него; если ей надо
было что-то ему сказать, она поворачивала голову, и он обалдело любовался
тем, как она говорит, как размыкаются ее губы, как она хмурит брови и,
недовольная его глупым видом, отворачивается. Иней опушал платок и
уголки воротника ее жалкого пальтеца, и из этой глубины, пронизывая,
парализуя, на него внимательно-холодновато смотрели серо-голубые глаза.
Кузьмин поражался тому, как много может сказать мимолетная улыбка,
взгляд, стремительно охватывающий всего его, и плавный жест руки,
поправляющей клапан кармана на его пальто. Он опять стал тщательно
бриться, придирчиво проверяя ладонью гладкость кожи, опять перелез в
белые рубашечки.
Он узнал, кто она и где родилась; что она учится в вечернем техникуме, а
мечтает быть художником-костюмером, что в Москве она была только раз,
на два дня, и ей понравилось. Она узнала о нем много больше, почти все.
Он приглашал ее в один из трех ресторанов города, он навязывался
познакомиться с ее родней, но она так взглянула на него — он не знал, что и
подумать.
И когда однажды, прерывая декламацию стихов, она сама, без всякого
нажима, пригласила его на танцы в Дом культуры, он, уже зная кое-что об
укладе городка, принял это приглашение как дар, как награду за
подавляемое желание взять ее за руку, приблизить к себе ее лицо и узнать,
внять его тайне.
А на танцах он усвоил и еще один урок: будучи приглашенным, он
получил, оказывается, на этот вечер какие-то права на нее — она танцевала
только с ним, в паузах держала его за руку, подвела к своим подружкам,
познакомила его с ними и позже в тесном буфете выпила с ним вино из
одного стакана. И в тот вечер он впервые поцеловал ее.
Она, как сумела, постаралась ответить на его поцелуй, и он с восторгом,
мальчишеским чувством превосходства над всем миром отметил, что
делать этого она не умеет.
А через неделю она согласилась прийти к нему после занятий в
техникуме.
Он волновался: перегрел, а потом слишком выстудил флигелечек,
наставил на стол бутылок и всякой чепухи, а не подумал о том, что она
просто голодна. Она сама приготовила яичницу на двоих, выпила без
всякого жеманства вина, когда у печки ей стало жарко, пересела поближе к
нему.
— А Таню выписали, — сказала она.
— Как долго! — отозвался Кузьмин. — Зачем она?
— Правильно сделала, — сказала Наташа. — Зачем ей ребенок, если
папаши нет. Мы ей все так и объяснили.
— Я видел, — сказал Кузьмин. — А ведь мог родиться человек... Может
быть, и папочка бы нашелся!
— Брось! — усмехнулась Наташа. — Он даже с фабрики уволился, когда
узнал. Вот так!
— А вдруг узнал бы о ребенке и вернулся...
— Может быть, ты и вернулся бы, — улыбаясь, сказала Наташа, — но
чтобы Валерка вернулся — нет!
— Наташк! А люди ведь меняются...
— А-а! Горбатого могила исправит!
Они сидели при полной иллюминации — три свечи и печная топка.
Наташа задула ближайшую к себе свечу.
— Смотри, без света останешься.
— Ну, а если бы ты попала в такую ситуацию: с ребенком и без мужа?
Наташа засмеялась:
— Ты меня совсем не знаешь, Андрей. Если я на это пойду, значит, я
решила навсегда. — Она посмотрела на него, и он понял, что она хотела
сказать ему этим взглядом.
— Слушай, — сказал Кузьмин после молчания. — Но ведь это
невозможно решать навсегда. Это как сделка. Например, вдруг ты
разлюбишь?
— Это мужикам легко говорить: любишь-разлюбишь... — с ка з ала
Наташа. — Вот такая уж я есть.
Они смотрели друг на друга, и тишина и пламень становились
непереносимыми. Он поднялся с пола, шагнул к ней, не шелохнув язычки
свечей; она потянулась навстречу его рукам, тесно прижалась грудью,
одной рукой обхватывая его за шею и пряча свое лицо в его лице, но другая
ее рука сторожила его движения. В самые мучительные мгновения он даже
чувствовал отпор этой руки; наконец он оторвался от ее губ и, отстраняясь,
поцеловал эту руку, теперь слабую, доверчивую. Ласка этой руки была
самой нежной, самой значительной, и Наташа отдала ему эту руку — до
самых дверей общежития. Там она подставила ему щеку и, попрощавшись
уже холодеющим взглядом, исчезла.
«Март неверен: то плачет, то смеется», была оттепель, оказывается.
Полдороги Кузьмин целеустремленно месил рыхлый снег, карабкаясь на
холм, а на его вершине, задохнувшись, остановился. Под ним лежал покойно
задремывающий городок с пунктирным обозначением улиц, с маленькими,
придавленными снегом домишками; где-то в этой темноте ложилась спать
Наташа.
В лицо Кузьмину мягкой, влажной волной, от самых звезд, повеял ветер.
Кузьмин снял шапку. «Наташа, — позвал он шепотом, — Наташенька!» — И
долго стоял с закрытыми глазами, дожидаясь хотя бы эха. Когда он открыл
глаза, мир был прежний, но все-таки изменившийся.
Неужели это она? — подумал он. Не ласковая, не тихая... Господи, да
разве мне мать нужна? Он нырнул в себя, прислушался: пришло ощущаемое
кожей, вызывающее головокружение и слабость воспоминание движения ее
пальцев по лицу. Нет, понял он, это навсегда, она уже во мне. Все, Кузьмин?
— спросил он себя.
Их разговор оставил в нем осадок, и он знал, что навсегда, как заклятье.
Ну, что ж, вот такая она есть, подумал он и ошибся.
Во флигелечке он разулся, рассовал носки, ботинки, брюки вокруг еще
теплой печки, допил вино и, отведя, как рукой, все тревожное, лег на
кровать. Не заснул: пришла знакомая ясность. Он поднялся, набросал в
топку дров.
Со стороны казалось — вытянувшись, почти обжигая ступни о
разогревающуюся печь, лениво покуривая, лежит человек, то потрогает
себя за ухо, то взлохматит волосы, и лицо у него спокойное. А была
легкость, быстрота. Он пробежался по результатам опытов последней
серии, быстро рассортировал их и прикинул длину дистанции.
Коломенская, методично изучив препараты (в томительном ожидании
Кузьмин успел помрачнеть), сказала:
— Боюсь, что это не совсем то. Я не вижу обычных «включений».
— «Включения» были, кажется, на предыдущей стадии трансформации,
— Кузьмин пододвинул к ней груду стеклышек. — По идее — это первая
стадия нормализации. — Он начинал сердиться.
— Я не упрямлюсь, дорогой Андрей Васильевич, — сказала Коломенская,
складывая, как девочка, руки на коленях. — Поверьте, все пятнадцать лет я
видела эффект только после появления «включений». Вы же знаете: факт
неоспорим!
«Посмотрим!» — бормотнул про себя насупленный Кузьмин.
.. . Лаборатория снова потребовала всего его внимания. Любочка,
Коломенская, перешедший в их комнату Федор — он не ощущал их рядом.
Дни летели кувырком — перепроверяя себя, он вдруг обратил внимание на
странную краткую метаморфозу опухолевой клетки, и вот уже целую
неделю, задерживаясь на этой стадии, он получал поразительные
результаты. Ему не хватало большой техники, той, которая через несколько
лет тяжелым шагом пройдет этот путь, а пока он бился, захлебываясь,
силясь переварить значение и суть открывшегося феномена. И, главное, не
мог погасить внезапно, интуитивно возникшую тревогу.
Кажется, он загрузил себя вдосталь — появилась и не уходила тупая
головная боль, однажды он испытал известное ему по клиническим
учебникам «чувство падения в лифте» — это пропустило удар сердце. За эти
дни в его лице произошли грубые перемены — на лоб легли морщины,
уголки рта поднялись, появился прищур. Иногда, обхватив голову руками,
подолгу он сидел, раскачиваясь, над микроскопом, перебирая возможные
объяснения. У него появился чудовищный аппетит к сладкому: за три дня
он съел литровую банку с медом, невесть откуда (для него) оказавшуюся в
лаборатории. Он машинально отметил, что в те дни голова не болела, и
позже сообразил: то постоянное сосущее чувство пустоты в животе —
просто глюкозный голод. Пожалуй, он впервые подумал о себе — надо себя
питать, а то тело сносится.
И все-таки он был в тупике. Уже прошло желание доказать свою правоту,
хвастливое чувство превосходства, он остался один на один с загадкой и
оказался бессилен.
Утомленный, он возвратился к простой, будничной работе, но
сосредоточенность взгляда, медлительность движений и приступы
внезапных «отсутствий» не прошли.
Все это время, возникая и исчезая в столовой, Наташа улыбалась ему
странной, ожидающей улыбкой. А он воспринимал ее, как через стекло; ему
доставало сил только на внимательное рассматривание ее. Все, что она
говорила, он тотчас забывал.
Он не знал, что пока он сидит до полуночи в лаборатории, она ходит
вдоль забора, пропуская занятия в техникуме, мучаясь недоверием и
ревностью к Любочке, только что ушедшей с кастрюлькой домой. И вот
однажды сквозь лабораторные шумы ему послышался стук в наружные
двери корпуса.
— Кто там? — рявкнул он, сбежав вниз (наверху застывал агар, и надо
было следить за температурой его охлаждения).
— Это я, — услышал он Наташин голос. И обрадовался.
Он прижался к ней, настывшей, и она, стряхнув варежку, прижала руку к
его лбу.
Укутавшись в пальто, она тихо ходила по гулкой лаборатории,
приглядывалась к его рукоделию и даже нашлась, когда надо было
перехватить флакончики. Он сел за микроскоп с фотонасадкой, настроил
его, со вздохом убедился в стабильности непонятной ему картинки, а она
хозяйственно вскипятила чай, налила ему в блюдечко сгущенки и села в
уголке на Любочкин стул.
Взъерошенный, какой-то обсосанный Кузьмин наконец сладко
потянулся:
— На сегодня все! Пошли, Наташенька. — Он вдруг разглядел ее новое
красивое платье.
— Я уже неделю в нем, — сказала Наташа.
— Знаешь, Нат, я был ужасно загружен, — смутился Кузьмин. И не
удержался: — Прости, а?
Он встретил ее странный, изучающий взгляд и, вообразив, что сейчас
был хвастлив, смутился.
Он тщательно закрыл все окна, навесил засов на наружную дверь внизу,
спрятал ключ и уже на тропинке к дыре в заборе, отходя на морозце, по
тишине, яркости звезд и устойчивости плотного воздуха понял, что время
позднее.
— Тебя же не пустят в общагу! — испугался он, наивный.
Она кивнула, поднимая на него неразличимые в темноте глаза. Он отвел
с ее лба прядку волос, взял ее лицо в ладони и долго-долго, перенесясь
далеко вперед, разглядывал его, покорное, с прикрывающимися глазами.
— Я люблю тебя, — сказал он.
— Да, — сказала Наташа. — И я люблю тебя.
Она лежала рядом, уступив ему во всем смело и откровенно, с первой
минуты, как бы решив для себя пройти этот путь до конца. Они не спали. Он
боялся, что ей тесно, отодвигался, но ее рука, та, что раньше упиралась ему в
грудь, теперь ненавязчиво касалась его, и отчуждения не возникало.
В пять утра на стекле появился отсвет. Сиплым от курения голосом
Кузьмин спросил:
— Выйдешь за меня? Я люблю тебя.
И опять та нежная рука, вытянувшись из-под одеяла, легла ему на
сердце, а другая обняла за шею, притянула.
Был будний день, и Наташа ушла на работу. Целуя Кузьмина, она сказала,
во сколько придет в столовую, велела купить торт и вина.
Вечером она перенесла к нему чемодан; чуть позже, к накрытому столу,
заявились девчонки. Когда они с обязательным визгом ввалились в
флигелечек, Кузьмин смутился, был скован, а Наташа — естественна, и это
сильнее другого открыло ему разницу в их решимости. Он другими глазами
смотрел на нее, представлял ее в московской квартире, в Алешкиной
компании, и знал уже, что и там она будет так же естественно держаться,
останется такой же красивой и близкой ему. Он подумал о том, что она
говорила: о верности и многом другом, — и обрадовался.
Кузьмин танцевал с девчонками под музыку из транзистора, припоминал
для них смешные анекдоты и подглядывал за Наташей.
В десять часов она без церемоний выставила девчонок (все они дружно
обсмеяли предложение Кузьмина проводить их до общежития), принесла
дрова и закрыла дверь.
Весь этот день, отрывая его от дела, она была с ним памятью
прикосновений, вырвавшегося стона и быстрых слез.
Он сейчас обнял ее, не жадно и слепо, а нежно, решив про себя пробиться
навсегда к ее ровному теплу — ведь каждого человека что-то греет!
Они больше не говорили о любви; слова уже были однажды сказаны, и,
значит, каждый поручился за себя; Кузьмину оставалось только ждать, и
однажды он, размыкая объятия, уловил задерживающее прикосновение ее
осторожных пальцев к своим плечам, и, наконец, пришла ночь, когда она
заснула, обняв его за шею.
А он не спал, лежал, не шевелясь, прислушиваясь, и вдруг, как
услышанный вздох, пришло: «Динь-дон! Динь-дон!.. Слышишь этот тихий
звон? В сердце он ко мне стучится — значит, что-нибудь случится?»
«ЮНОСТЬ», No 3, 1979
В дни, когда Наташа училась, Кузьмин засиживался в лаборатории. В
десятом часу с кастрюлькой приходила Наташа (а Любочка внезапно
перестала ходить, но это не задело и не заинтересовало Кузьмина).
— Натк! — взмолился он. — Ну, посмотри! Опять какая-то мазня!
Неумело настроив микроскоп, Наташа долго разглядывала
переливающуюся в окуляре картинку, так надоевшую Кузьмину.
— На симпатичный ситчик похоже, — сказала она. — Дай-ка я срисую. А
вот эти пятнышки, как розочки на льду.
— Ха, «розочки»! — отозвался Кузьмин. — Господи, — сказал он, —
просвети ты меня, невежду дикого! Но где же «включения»? Где они? Нет
их. А?
Эта картинка не давала ему покоя. Его уже не интересовало ничье
мнение, даже Коломенской. Любочка и Федор не понимали, почему он
застрял на этой картинке, да он сам не мог бы объяснить это. Просто с
первого же раза, только взглянув на нее, он понял, что в ней спрятана какая-
то разгадка, и теперь, бесконечно модифицируя методику, пробуя разные
окраски, он не переставал думать о ней. Временами он чувствовал, что
подходил к самому порогу понимания, но отступал, повинуясь интуиции и
чувству гармоничности, — во всех его трактовках этой картинки была
какая-то натянутость.
И через два дня, в тихих сумерках, сгребая фиолетово-синий снег с
тропинки от флигелечка к баньке, он отметил, что вокруг что-то
изменилось, поднял голову и увидел беспорядочно разбросанные на снегу
дрожащие розовые «зайчики»; на глазах они перемещались, бледнели и вот-
вот должны были исчезнуть. На какой-то миг картина перед глазами
совместилась с картинкой, надоевшей ему в поле окуляра, и на грани
понимания, отшвырнув лопату, спотыкаясь в неуклюжих валенках, он
бросился бежать к обрыву, а там, ухватившись с разлета за гулкий ствол
сосны, увидел: оранжевое солнце дымным размытым клубком быстро
уходило за неровный лесной горизонт, и последние его лучи отражались на
лаковой коре голых стволов сосен. У него упало сердце. «Дубина!» — сказал
он, садясь в снег. К вечеру он стал истерически хихикать и дурачиться, а на
следующий день объявил в лаборатории:
— «Розочки» — это обыкновенные «зайчики».
Все подняли головы, не понимая, стали переглядываться.
— Мы видим лишь отражения какого-то процесса. Вот теперь нужна
электронная микроскопия, — заявил Кузьмин. — Вот и узнаем, что такое
ваши «включения» и мои «розочки», — сказал он внимательно слушавшей
его Коломенской. На слух это звучало резко, не так, как про себя. — Сдается
мне — мы узнаем кое-что новое, — добавил он. — Боюсь, «включений» не
будет. Зато, может быть, обнаружатся их предшественники. Это было бы!..
— Вы не правы, — мягко сказала Коломенская и оглянулась на Любочку
и Федора. — Там ничего не будет. И этот опыт уже погублен. Раз исчезли
«включения» — опыт закончен.
— Этого не может быть, — твердо произнес Кузьмин и вспомнил: так же
говорил и В. А., а он, Кузьмин, доказал, что так быть может. — Ладно, —
примирительно сказал он, — я попробую еще. Для быстроты: пусть Любаша
и Федор помогут мне, — попросил он.
Коломенская кивнула.
Через неделю они собрались, сели в ряд за микроскопами и, передавая
друг другу стеклышки, просмотрели препараты. Когда Коломенская
отложила последнее стеклышко, стало тихо. Федор поднялся, вышел в
коридор. Торопливо закурил. Любочка сидела, как мышка, не поднимая
головы.
— Вы правы, — признала Коломенская, — делайте то, что считаете
нужным, Андрей Васильевич.
— Нужна помощь Москвы, — осторожно сказал Кузьмин. — Без нее нам
не разобраться. — И напрягся, ожидая ответа.
— Хорошо, — помедлив, согласилась Коломенская.
Любочка и Федор переглянулись — Коломенская отступила от правила
никого не допускать к проверке.
Посылочку со стеклами на почте принять отказались. Нагрубив, Кузьмин
вернулся в лабораторию. Еще в дверях он сказал:
— Надо ехать!
— Поедет Федор, — решила Коломенская. — Официально — к
Герасименко.
— .. . Вот записка для дяди Вани, — наставлял Кузьмин Федора, несколько
поглупевшего от страха и ответственности. — Он тебя приветит. По этому
телефону позвонишь Н. Ничего ему не объясняй, он сам все поймет, а не
поймет — для него же хуже. Если он откажет, звони вот сюда...
Десять дней из Москвы не было никаких вестей, работа стала. Федор
появился внезапно. Торжественно-молчаливо он вошел, еще с чемоданом и
свертками, сказал: «Все нормально!» — и, не отводя изумленных глаз от
Кузьмина, на ощупь, безошибочно вытащил из чемодана большой пакет. На
крупноформатных фотоснимках были «розочки», они были пусты, как
радужные мыльные пузыри.
— Это колоссально! — завопил Кузьмин. — Это же... черт знает что! Да
послушайте! Это же пустота неизвестного, а не вакуум. То, что там — на
молекулярном уровне. Это уже серьезно. Теперь можно браться за
содержимое «розочек»... Теперь мы...
— Здесь мы не потянем, — вдруг сказал Федор. И все замолчали. — В
Москве сказали: это успех. Вас поздравляют. — Федор преданно посмотрел
на Кузьмина.
Кузьмин удивился: все запутывалось, а Н. радовался.
— Ну, раз в Москве поздравляют!.. Я Н. верю. Просто он не договаривает,
— объяснил Кузьмин молчавшей Коломенской. — Но он никогда ничего зря
не скажет. Такой человек, — засмеялся он. — Не надо грустить. Ну,
пожалуйста! — Он дотронулся до руки Коломенской. — Это шаг вперед,
честное слово!
— Надо отметить, — подсказал Федор. — Дождались. Именины у нас...
В лаборатории был дан пир, но все боялись сглазить удачу, говорили о
пустяках. Вечером к ним заглянула Наташа, смущенный Кузьмин
представил ее как свою жену (и все обошлось очень просто и естественно).
Истекал месячный срок в загсе, и Кузьмин пошел дозваниваться в
Москву.
— Мама, — сказал он, — я женюсь!
— Господи! — сказала мама испуганно. — Где ты? Вася! — сказала она
там, в Москве. — Андрюшка женится! Свадьба в следующее воскресенье...
Как неожиданно все это...
— Привези мне черный костюм, — попросил Кузьмин. — И займи мне
денег, ладно?
— Почему ты только сейчас сообщаешь об этом? — загремел в трубке
голос отца: он говорил по параллельному аппарату.
— Я вас жду, — сказал Кузьмин.
Потом он звонил Галкиным, Тишину и шефу.
Он чинно сидел рядом с женой; когда ее отвлекали, непринужденно
общался со своей миловидной тещей, мамой, успевал перемигнуться с
Алешкой и избегал смотреть на Любочку. Коломенская молча улыбалась
ему с правого, жениховского края стола.
Свадьба была шумная. Доброжелательные незнакомые парни подходили
к нему с рюмками, пытались его упоить, разыгрывая, пытались увести его
из-за стола, но Кузьмин был начеку. В тот день, взглянув на себя в большое
чистое зеркало загса, Кузьмин узнал в себе того, давнишнего, и это
наделило его уверенностью, по крайней мере на ближайшие дни, в том, что
путь его предначертан.
Кузьмин изумлялся, глядя, как Наташа разговаривает с его родителями,
как легко меняет тон, улыбку и меру внимания. «Ух, ты!» — подумал он,
восхищенный.
— Ну, старичок, что-то ты все в десятку попадаешь! — сказал,
подсаживаясь к нему, элегантный и ироничный Алешка. — Она одна в этом
городишке такая?
— Самый ловкий парень — это я, — засмеялся победоносный Кузьмин.
— В этом городе можешь не искать. Поезжай в соседний, а?
На вокзале мама уже по-заговорщицки наставляла Наташу.
— Хоть он и не неряха, держите его в шорах, Наташенька! Господи! —
разглядывая Наташу, говорила мама. — Хоть одного балбеса пристроили
удачно...
— Да, — согласился отец, улыбаясь Наташе.
Кузьмину показалось даже, что отец выпячивает грудь. Он спрятал
ухмылку.
Гости разъехались, и молодые вздохнули, переглянулись и отправились
на танцы. В зале на них поглядывали, девицы показывали на Кузьмина
пальцем, и от этого младшим Кузьминым делалось празднично. (Последние
три дня, чтобы не вызывать лишних пересудов, Наташа жила в общежитии
и теперь, держа мужа под руку и демонстрируя всем этим недотепам
новенькое обручальное кольцо, брала реванш за прежние косые взгляды и
насмешливое осуждение.)
В ту ночь с ней случилось важное для обоих, это оказалось сильнее слов,
и утром Кузьмин почувствовал себя по-настоящему женатым человеком.
10
...Еще в марте, как-то в воскресенье, он сказал:
— Я бы не мог, как вы... в одиночку... Вопреки всему и против всех...
— Не зарекайтесь, — отозвалась с кухни Коломенская. — Кто может
сказать о себе что-нибудь наперед? У каждого свой крест, и тяжести его не
знаешь, пока не обронишь, как в притче.
Кузьмин помолчал, схлебывая с ложечки чай и смакуя варенье. Из
лопнувших ягод вытекал жгучий сок, дразнил нёбо.
— Что это за ягоды? — заинтересовался Кузьмин. — Очень вкусно!
— Калинка. — Коломенская вошла в комнату с тарелкой блинов.
— «Из ключа в глухом бору воду быструю беру; всех цветов и трав
весенних по вершинке положу. Горький лист осенний вялый, кровь земли
— калины алой: все смешаю я в воде. «Охрани меня в беде! — попрошу
лесное племя. — Стань мне братом хоть на время, подари секрет земной —
одари водой живой!» — прочитал Кузьмин Алешкины стишки. — Что-то не
получается у меня с живой водой, — сказал он. — А вообще-то нам нужна
гипотеза. Конечно! Что за работа без гипотезы? И вообще...
Коломенская внимательно смотрела на него.
— Ужас, сколько еще работы, — озаботился Кузьмин.
.. . А сейчас она неслышно вошла в комнату и весело сказала:
— Андрей Васильевич! Хватит вам сидеть по ночам. Вот вам помощница.
— Она отступила от двери, пропуская в комнату красивую женщину. — А
это наш Андрей Васильевич — погубитель моих «включений» и отец живой
воды.
Кузьмин, уже хмурящий брови и готовый возразить, поперхнулся, встал
— теперь он узнал эту женщину и вспомнил ее фамилию. Церемонно пожал
Актрисе руку. Любочка засмеялась, и тогда он еще шаркнул ножкой.
— Милый доктор, — сказала Актриса. — Используйте меня на любых
работах. Это все грязное? — Она показала на гору посуды в мойке. —
Любочка, где мой халат? Его нет на месте.
— Не так скоро, — остановила ее Коломенская. — Пойдем, расскажешь.
Мы тебя почти год не видели!
— У нас уже был твой фильм, — обрадованно выпалила Любочка. —
Очень хороший. Я плакала.
— Ах! — Актриса махнула рукой. — Забудем этот дурной сон. Как вы
здесь? — Она внимательно, по-женски, оглядела Любочку, Кузьмина. —
Работы все прибавляется? Кажется, вы строгий начальник, — сказала она
Кузьмину, уходя. — Я пропала! И красивый, — громко добавила в коридоре.
— Штатный сотрудник с отрывом от производства? — бормотнул
Кузьмин, снова берясь за гомогенизатор. Рука у него уже отдохнула, и он
затряс сосуд с новой силой. — Совместитель от искусства? В самый раз. У
нас здесь все на грани искусства. Иллюзион! Добыча философского камня!
Материализация ду
́
хов... — Он был с утра сердит.
Любочка наклонила голову, повернулась к Кузьмину спиной. Он,
задумавшись, механически-ритмично тряс сосуд и не сразу заметил, что
Любочка ушла. Еще через минуту до него дошло, что у нее дрожали плечи.
Хмурясь, он поднялся, вышел в коридор, поморгал — в окна смотрело
огромное теплое солнце, слепило. Из форточки, перебивая запах химии,
пахло вздыхающей землей, доносился торопливый перестук капели,
цвиканье птиц. Весна. Он приоткрыл окошко — в бок задул еще холодный
ветер. Обманка-весна...
Из кабинета Коломенской доносился веселый смех Актрисы — Любочке
явно там было не место. Рядом, в своей комнате, что-то писал Федор.
Кузьмин подошел к фотокомнате, постучав, толкнул дверцу. Она была
заперта изнутри.
— Люба! — тихо позвал он. — Любаша, открой! — «Драматический
шепот», — подумал он. Полный комплект с профессиональной актрисой во
главе. Театр теней. Куда они делись, «включения»?
Наконец дверь поддалась. Любочка стояла, из-за спины освещаемая
красным светом, лицо ее было в тени, неразличимо.
— Извини! — сказал Кузьмин, беря ее за руку. — У меня настроение что-
то не того...
— Она приехала помочь нам. Узнала, что вы у нас, и приехала.
— Вы ей что-нибудь написали, да? «Ура-ура!»?
Любочка молчала, теребила платочек.
— Ну, ладно! — сказал Кузьмин, собираясь выйти в коридор. — Извини
меня, Любаша!
— Вы счастливы? — недоверчивым шепотом спросила Любочка.
Он подумал: и был бы я господином ее, а она рабой моей.
— Конечно, — сказал он. — Не обращай внимания. Настроения приходят
и уходят. («А проблемы остаются», — добавил он про себя.)
Но она была еще чем-то взволнована, мяла руки, прикасалась к Кузьмину
то головой, то плечом, и Кузьмин уловил тонкий детский запах, идущий от
ее волос.
— Любочка, Любочка! — сказал он. Она подняла голову. У нее задрожали
губы и налились слезами глазки. — Мы должны делать свое дело и плевать
на все остальное! У нас все получится!
— Вы идите, уже поздно, — сказал Кузьмин Актрисе. — Мне немножко
осталось. — Он потянулся, подвигал затекшей спиной.
— Давайте я фотографировать буду, — предложила Актриса. — Я умею.
— Все-то вы умеете, — проворчал Кузьмин. — Только самому — всегда
лучше. Знаете поговорку: «Хочешь сделать хорошо — сделай сам»?
— Ее придумали неорганизованные люди, — откликнулась Актриса. —
Человечество пришло к разделению труда не случайно, не находите? По-
моему, ваше дело сейчас — думать. Идите, погуляйте. Где ваша
новобрачная? Подите к ней. Она вас ждет. У камелька. Зажжены свечи, ужин
на столе... — мечтательно и чуть-чуть насмешливо сказала она. — Выпейте
вина, обнимите любимую женщину... Я полагаю, таков нормальный быт
хорошего ученого?..
— Она сейчас переводит французский, — усмехаясь, сказал Кузьмин. —
Ей хочется диплом с отличием. — Он посмотрел в черное окно, представил,
какая, должно быть, грязь на дороге и как Наташа будет, оскальзываясь,
карабкаться на холм в этой темноте. — Вы и вправду умеете
фотографировать?
— Мой муж был фотограф-профессионал. А когда живешь рядом, чему-
нибудь да научишься. Он умер.
— От рака? — сочувственно спросил Кузьмин.
— От пьянства! Что вас удивляет? Мой тон? А как еще можно говорить о
потерянном времени? — Она села рядом, подперла голову руками. Ее глаза
говорили: «Слушай!» — Я боролась за него и не жила. Теперь живу. Вы
думаете, наверно, что я должна была делать это, да? И как вы правы, могли
бы вы себе представить! Меня он открыл. Знаете, так, случайно. Остановил
на улице и сказал: «Девочка, что у тебя с лицом?» Когда я увидела свои
портреты... Сбил меня. — Актриса улыбнулась. — Сейчас будет про любовь:
он мог смотреть на меня часами, с одной стороны, с другой... Я
гипнотизировала его. Был этим сыт и пьян. И убедил — я ведь рано начала
сниматься. И много. — Кузьмин кивнул, он помнил: Алешка таскал его по
кинотеатрам, выходил взвинченный, чуть не бросался на него от
неосторожного слова... — А он не мог смотреть на меня в фильмах, говорил:
«Это не ты. Они ничего не понимают, не видят. Твой лучший фильм будет на
стоп-кадрах. Ведь ты некрасива в движении, ты идеальна в выражении».
Представьте: нашел фанатика — мальчик такой, дипломник-оператор, —
уговорил студию. А сам — за режиссера. До просмотра дело не дошло:
собрали друзей, показать. Когда свет включили, старинный его друг,
знаменитость, сказал: «Ну что ж! Мечта есть, музыка есть, кино нет». И все!
— Жестоко, — откликнулся Кузьмин,
— Так ведь они профессионалы. Ну, он и сломался. Поставил дома
проектор и каждый день крутил ролик, под коньячок. Так что, когда он
умер, мой гипноз тоже кончился. И оказалось, что сниматься и играть мне
совсем не хочется. А хочется быть доктором. И победить эту ужасную
болезнь. Вам смешно?
— Извините, — сказал Кузьмин. — А я не доктор, я — научный
сотрудник. Лабораторная крыса. Я думал — слава, известность дали вам
удовлетворение. А почему вы здесь, а не в Москве?
— Там хватает и дипломированных помощников. Меня и не подпустят к
лаборатории, дилетантку... С другой стороны, мыть посуду мне все-таки
мало. А здесь я вроде при деле. Иной раз — в ваше отсутствие! — голос
подам. — Актриса улыбнулась. — Здравый смысл дилетанта нигде не
повредит. Андрей Васильевич!.. Что произошло с «включениями»?
— Еще не понятно. Ясно только, что они не ключ к разгадке. И потом —
ее опыты плохо воспроизводятся. Она огорчается, но, надеюсь, зря...
— Это точно? — строго спросила Актриса.
Кузьмин пожал плечами.
— Работаем вслепую! — разозлился он. — Нужны широкие
исследования, публикации. Надо выяснить, на каком уровне мы работаем:
клеточном, молекулярном, субмолекулярном?.. Здесь это невероятно. Я
верю в возможность чуда — случайного открытия, верю! Но надо
доказывать! Меня учили: не спорь, доказывай! Без жалости к себе —
доказывай!
— Вы счастливый, доктор милый! — Актриса встала, отошла к
лабораторному столу. — Тратьте себя только на дело. И идите теперь —
дороги скользкие. Если фотографии вам не понравятся, объявите мне
завтра выговор. До завтра, — попрощалась она. — Любви вам!
Кузьмин вышел на улицу.
Вокруг что-то происходило: где-то булькал ручеек, выбегающий из-под
сугроба, и хрустнул, обваливаясь, его подточенный угол, терлись друг о
друга ветки над головой — мир жил своею жизнью.
Смутно, полосой молочного тумана обозначился забор, посверкивала
игольчатыми лучиками голубая звездочка, и пахло, пахло!.. Кузьмин
зажмурился.
Когда глаза привыкли, Кузьмин увидел глубокую черноту тропинки от
корпуса к забору и удивился, что в общей темноте окружающего были
оттенки. Алешка писал: «Солнце село. Все исчезло. Свет зажгу — и вижу
снова. Мир, который существует, если есть свет, шорох, слово? Где же есть
его граница? На моих губах и коже? На глазах, на пальцах, в сердце?.. И на
что она похожа?»
Кто-то далеко в одиночку шлепал по лужам; шел медленно, в раздумье
останавливаясь перед препятствиями. Кузьмин двинулся к забору, пролез в
его дыру и увидел Наташу: в своем коротком весеннем пальто, высоко
поднимая ноги и чуть балансируя, она шла ему навстречу. Вокруг мерцала
жидкая грязь.
— Натка! — негромко окликнул ее Кузьмин. — Не ходи дальше, здесь
прямо трясина. — А сам прыгнул через лужу и еще одну, а в третьем прыжке
достиг Наташу. — Привет! — сказал он. — Как ты, Наточка? Все в порядке?
— А что может случиться с обеда до ужина? — улыбаясь, спросила его
Наташа. От ее щек вкусно пахло чем-то свежим, как яблоком с мороза,
И так — каждый будний день. Расставаясь утром на конечной остановке
автобуса, он встречал Наташу в ее обеденный перерыв в столовой. Обедали
по-семейному, и к ним никогда не подсаживались. Она сама уносила
грязную посуду и выпроваживала Кузьмина на улицу, там устраивала, как
ребенка, на солнышке и молча, лишь кивком, улыбкой поощряя, слушала
его излияния. И только изредка, освободившись пораньше, он прибегал
встречать ее к техникуму. Она выходила, брала его за руку, гордо кивала
девчонкам, и они шли во флигелечек.
Однажды она вынесла с собой маленький лоскутик синего с розовыми
пятнышками ситца.
— Как назвать, Андрюш? — блестя глазами, спросила она.
— «Надеждой», — подумав, сказал Кузьмин, а потом вдруг поправился:
— Нет, лучше «Март».
Эта поправка была не случайной. После командировки Федора в хоре
ликующих голосов вдруг исчез голос Кузьмина. Уже тогда, не препятствуя
Коломенской и Любочке изучать свои «розочки», сам он стал повторять
опыты Коломенской, вернувшись назад, к исходной точке, и как-то
особенно свободно экспериментируя. Все материалы он отсылал в Москву.
Его постоянным курьером была Наташина родственница, работавшая
вагонной проводницей.
(Неизвестно, что думала она сначала, каждый раз принимая из рук вечно
опаздывающего к отходу поезда Кузьмина аккуратный пакетик и взамен
получая в Москве от невысокого, с сухим умным лицом Н. пачки хрустящих
фотографий.
— Что вожу, скажи хоть! — взмолилась она, с ужасом разглядывая
запыхавшегося Кузьмина.
Растрепанный, в облезлой шапке Кузьмин страшно осклабился, бесовски
сверкнул глазами:
— Все золото мира! — И засмеялся, глядя на ее лицо. — Все наши
надежды, тетушка! Не боись!)
А зима кончилась, и хотелось петь и орать, таскать Наташку на руках,
построить просторный дом и купить ей приличные высокие сапоги.
Во флигелечке стало уютно — то ли от красивых занавесочек на
промытом окне, то ли от перестановки, а может быть, от ярких Наташиных
вещей или портьеры, закрывшей дальний угол с кроватью.
Наташа купила таганец с газовыми баллонами, сделала из корней
подсвечники, и теперь к ним по воскресеньям стали заходить гости на чай с
пирожками или на блины.
Еще не прошел месяц со дня свадьбы, как к ним из деревни приехала
теща. Она прожила у них неделю, торгуя под праздники на рынке
телятиной.
— Чтой-то ты мужика постом держишь? — на третий день гостевания
сказала теща. — Хоть бы выпить ему разок поставила. — Теща озорно
подмигивала Кузьмину. — Гляди, он у тебя зеленый стал. Мяска ему поболе
давай! А то орехи греческие, молоко да творог... Что он у тебя — дитя или
слабогрудый, а, зятек? И чтой-то вы, как на собрании, разговариваете? Я,
бывало...
— По-разному бывало, мама, — говорила Наташа. — Я на отца пьяного
нагляделась, хватит!
— А что отец? — возмущалась теща. — Пока был здоровый, огонь-мужик
был! Кабы не покалечился да не запил, какая жизнь была бы! И, прости
господи, насажали бы мы с ним ребятушек!.. А не тебя одну, телку
бездушную! Ну, какая ты есть жена!..
— Перестань, мама!
— Вот ты жизнь по плану строишь, выгоду ищешь, — говорила теща,
присаживаясь на стул. — По показателям, как учетчик, вычисляешь. А
жизнь-то, ребятушки, одна и, ой, какая короткая! Прожить ее надобно, как
песню спеть. А вы? Молодые!.. Ты, Андрей-свет, под Наташку не
подлаживайся! Не давай ей большой воли. Сухостойная она, прости
господи!.. Ну ладно! Запаляй свои свечки, зятек, садись родной, к столу!
Теща приехала бо-о -гатая! Зятя угощать будет! Зятя угостить мне она не
запретит, — говорила теща, роясь в чемодане. — А попробует хоть слово
поперек сказать, так я ее за косу!.. Спасибо тебе! — говорила теща. — Моей
девкой не побрезговал, да и меня освободил. Теперь и я найду себе какого
ни есть мужичка-хозяина...
— Мама, перестань! — вмешивалась в интересный разговор Наташа.
Теща быстро хмелела, размякала. Сидела, смотрела на молодых,
блаженно улыбалась. Обняв жарко Кузьмина и Наташу, пронзительным
голосом запевала. Наташа довольно безразлично подтягивала. В
трогательных местах («...и-и в той степи-и глухой...») теща поворачивалась
лицом к Кузьмину и, любовно качая головой, вопросительно-зазывно
поглядывала на него.
Кузьмин будто играл с ней в одну игру: пел ее песни, хохотал и топал
ногами от восторга над частушками, завороженно слушал ее болтовню.
Хмель его почти не брал, хотя, случалось, теща изрядно угощала его. Он
только никак не мог понять, почему Наташа не веселится вместе с ними —
ведь она так была похожа на свою мать ухваткой, статью и неизбывной
уверенностью в счастливом будущем.
Потом, когда теща уходила спать к хозяйке, он валился на кровать,
закатывался на самый ее край, к стенке, и там задремывал, чутко сторожа
шорохи.
Ложилась Наташа; некоторое время они отстранялись друг от друга, но
потом нечаянное столкновение создавало некое магнитное поле. Еще
совсем недавно лед и пламень — сейчас они любили друг друга одинаково
властно, без лепета восторга, и были этим навек сроднены.
11
В конце мая пришла телеграмма Герасименко — он отзывал Кузьмина в
Москву.
Слишком многое произошло с ним за эти месяцы, и, вернувшись в
Москву, еще на вокзале он испытал возбуждающую радость обретения
позабытого. Московский весенний воздух, веселая толкотня, звонкий спор
воробьев, знакомые интонации, знакомые улицы...
В комнате было полно пыли, и она чем-то показалась Кузьмину
незнакомой. Он оглядывался, представляя, как по ней будет ходить
Наташа... Он занял у соседки пылесос и потом долго ползал с тряпкой по
полу, расспрашивая дядю Ваню о новостях. (У дяди Вани, взобравшегося на
антресоль, на коленях лежала потрепанная тетрадка, куда он все это время
записывал телефонные звонки Кузьмину, и, исполненный важности, он все
оттягивал сладкую минуту приобщения к серьезным, государственным, как
он понимал, делам Кузьмина.) К вечеру, отведя душу в болтовне с
Галкиными и родителями и не дозвонившись до Н., Кузьмин созрел для
разговора с Герасименко.
— .. . Вам необходимо в течение недели представить отчет о проделанной
работе, — сказал суховато Герасименко. — Нам грозят неприятности с
вашей темой.
— Догадываюсь, — усмехнулся Кузьмин. — А отчет готов, — пряча
улыбку, как будто Герасименко мог ее увидеть, сказал он. Герасименковское
«вы» было достаточно многозначительно.
— У нас тут новые формы отчетности, — намекнул Герасименко. —
Познакомьтесь с ними.
— Завтра же я буду в лаборатории, — улыбнулся Кузьмин, и его улыбка
была уловлена Герасименко.
— У меня к вам просьба, — сказал он. И, поколебавшись, осторожно
складывая слова, попросил: — Не показывайте отчет до меня никому.
— Хорошо, — посерьезнев, пообещал Кузьмин.
Выло уже поздно; он поднялся на антресоль, лег, не раздеваясь, на
кровать, задремал. Привыкнув уже ощущать все время рядом Наташу,
сейчас он томился, затосковал; ему представилось, что сейчас она, растопив
печь, сидит за столом и при свете двух керосиновых ламп зубрит физику.
Он стал мысленно вызывать ее. Но, должно быть, между ними лежало
слишком много сырой тяжелой земли, и Наташа, как она это умела, не
слышала сейчас ни ее дрожания, ни зовущего его голоса.
Он решил подождать — скоро она ляжет спать, поищет его плечо, чтобы
уткнуться в него лбом, и тогда она откликнется, и натянется звонкая
струна.
Когда раздался тот чужой, длинный и настойчивый звонок во входную
дверь, он вздрогнул, сел на кровати.
По коридору легко, по-солдатски размашисто прошел дядя Ваня,
заговорил с кем-то негромко. Тревога подступила к Кузьмину.
— Открыто! — крикнул он на стук и стал спускаться с антресоли.
— Извини, что поздно, — сказал Н., осторожно входя в комнату. Он
исподлобья, как-то пристально рассматривал Кузьмина.
— Да, поздновато, молодой человек, — прогудел неодобрительно дядя
Ваня, делая Кузьмину за спиной Н. возмущенные знаки. — Вот, Андрюша
уже спать прилег...
— Привет! — нараспев, обрадованно сказал Кузьмин. — Да проходи ты,
не стой в дверях! Дядь Вань, поставь чайничек, пожалуйста, ладно? А
выпить у тебя ничего нет, а, дядь Вань?
— Поздно уж, чтобы вино пить, — сказал дядя Ваня. — Чайком
обойдетесь, чтобы не рассиживалися... — Он, бурча, пошел на кухню.
— Да проходи же! — Кузьмин сунулся к Н. с протянутой рукой, радостно
помял ее, твердую. — Раздевайся! Он добрый, только так, воспитывает...
Топчась поближе к вешалке, Н. снял свое толстое ворсистое пальто с
волосатым воротником, аккуратно сложил шарф и вдруг снял ботинки.
— Зря ты это, — смутился Кузьмин. — У меня полы все терпят. Ну,
садись! Откуда узнал, что я приехал?
Н. вошел в круг света под люстрой, и Кузьмин разглядел у него на лице
маленькие, аккуратные усики, делающие Н. значительным, даже каким-то
скрытно-строгим.
— А ты изменился, — сказал Кузьмин. — Стал — не подступись!
Н. бледно улыбался, оглядываясь.
— Ты один? — с облегчением спросил он.
— Наташка там осталась, учится. Садись, в ногах правды нет. Что
случилось-то? Ты какой-то не такой!
— Вот что случилось! — сказал Н., доставая из кармана пачку
фотографий.
— Ух, ты! — сказал Кузьмин. — Такая наглядность впервые, да? Когда,
давно? Доказали! — хмыкнул он. — Здорово!
— Я уже месяц это наблюдаю, — сказал Н. сдержанно. — Вы что,
поменяли методику?
— Это моя серия, экспериментальная, — сказал Кузьмин, поглядев на
номер. Он представил себе лицо Коломенской и испугался. Н. посмотрел на
его лицо и засмеялся:
— Ты гигант, Андрей! Молодчина! Так разнести всю ее вакцину в клочья!
Не-ет, это просто шедевр! Новая живая вода? Конец «включениям»!
— Послушай! — озаботился Кузьмин и вскочил, обежал вокруг стола. —
Это ужасно! Это ее убьет. Вот так штука! — Он опять просмотрел
фотографии. — Знаешь, я нащупал это недавно. Маялся, маялся, и вдруг
меня будто подтолкнуло! Кошмар!.. — Он схватился за голову.
— Отличная работа! — весело сказал Н. — Спасибо тебе от имени... ну,
науки! Беру на себя полномочные представительства. —
(«Уполномоченный!» — хотел съязвить расстроенный Кузьмин, но не до
того было: завертелись идейки). — Слушай, из-за чего я к тебе пришел:
надо, чтобы ты переходил в наш институт. Дадим бой по всем правилам. Ты
ее методику знаешь... С Герасименко я живо договорюсь. Ну, мы ее!..
— Обалдел? — изумился Кузьмин. — Что ты лепишь?
— Покажем всем, что нет таких вакцин. И быть не может! Ты доказал.
Гигант, товарищ Кузьмин! Эх, Андрей! Какую мы работу сделаем!.. Бога за
бороду возьмем!
— Взяли старика, за бороду, да обожглись, — огрызнулся Кузьмин. —
Меня честно допустили до проверки — тьфу! — до работы, а я, значит?.. Без
согласия Коломенской я на публикацию не пойду! — твердо сказал он.
— Ты смешной! — Н. подошел к Кузьмину. — Какой автор согласится?
Ты бы согласился, если бы взялись за твою живую воду?
— Честный — согласится! — Кузьмин встал во весь рост. — И, слушай,
без моего разрешения эти фотки никому не показывай, понял?
— Почему?
— Потому что бывают ошибки, заблуждения. Я мог ошибиться, — отводя
глаза, сказал он. — Мало ли что? Нельзя перечеркивать вот так чужую
работу. Я не ревизор. Я не прокурор. И тем более не палач. Мечта это ее,
понимаешь?
— Хорошо, — терпеливо сказал Н. Он взял одну из фотографий,
полюбовался на картинку. — Переходи ко мне в сектор. Проверим. — Он
улыбнулся. — Тебя. Раз ты так хочешь. С удовольствием проверю!
— Нет. — К узьмин махнул рукой. — Ты сядь, остынь. Понимаешь, с тобой
и у тебя это не выйдет — ты не будешь ждать, будешь торопить... И вообще,
какое тебе дело до ее вакцины? Я возьму это туда, поговорю, повторю
опыты... Может быть, я что-нибудь пропустил!
Н. посмотрел на него и усмехнулся.
— А ведь ты ничего не знаешь, — сказал он печально. — И там тебе
ничего не рассказали? Конечно. Так вот: есть желающие перенести опыты в
клинику. Понял? И найдутся жертвы...
Кузьмин передернул плечами.
— Это надо срочно публиковать, — тихо добавил Н. — Хватит сказок про
«включения» и волшебные вакцины. Про чудо. Хватит! Есть только научный
путь, Андрей, ты знаешь! Видишь, что получилось, едва ты потрогал
легенду?
— А что, собственно, получилось? — взвился Кузьмин. — Ты, наверно,
воображаешь, что все ясно? А мне не ясно! — он покосился на фотографии,
рассыпанные на столе.
— Это — ясно! — убежденно сказал Н. — Ты — ребенок! Для тебя
сантименты выше долга. А твой долг — заявить об этом. — Н. собрал
фотографии в кучу. — Ну, ладно. Ты не хочешь...
— Не могу. Я не уверен.
— А я могу. Я обязан.
— Только попробуй! — предупредил Кузьмин. — Костей не соберешь! Ты
же не сможешь воспроизвести мои фокусы. И окажешься очернителем,
клеветником.
— Во имя личной порядочности — и есть такая, а? — хочешь
заблокировать меня? — спросил Н. — Хорошо. Я прошу только об одном:
покажи эти фотки Коломенской.
— Нет! — сказал Кузьмин. — Забирай их с собой. Я их не видел!
— Я пошлю их ей, — решившись, заявил Н. Он побледнел.
— Подонок! — Кузьмин сжал кулаки. — Ты в какое меня положение
ставишь, подумал?
— А тех, кто может обратиться за вакциной, услышав про ее
разудивительные свойства? Что важней?
Кузьмин сел за стол, положил руки ладонями наверх. Линия жизни у него
была длинной и единой, и ничто не пересекало ее.
— Андрей! — вдруг шепотом сказал Н. — Я сейчас тебе скажу: ты очень,
очень талантливый человек. Поверь своим рукам! Переходи ко мне! —
попросил он. — Скажи мне по-человечески: почему ты не хочешь? Я даю
тебе шанс быстро и легко стать независимым и известным, знаменитым
Кузьминым. Пойми, рак... Ведь помогаем еще не всем! Между прочим, —
опять новым тоном сказал Н. — можно сделать так, что тебя заставят
перейти ко мне.
Кузьмин засмеялся, покачал головой:
— Это невозможно. Даже если меня уволит Герасименко — к тебе я не
пойду. Останусь у Коломенской, а? — Он хитро прищурился.
— И этот вариант я учел, — грустно сказал Н. Он с жалостью смотрел на
Кузьмина. — Останешься там навсегда — будешь ходить по кругу, как
заговоренный. Это гипноз абсурда. Заразился?
Кузьмин вспомнил, как Актриса рассказывала про своего мужа, на
мгновение задумался, смутился.
— . .. Есть вещи, которые надо принимать таковыми, как они есть, —
говорил Н. — Это тупики. От незнания, непознаваемости на данном этапе. А
я хочу, чтобы ты не потратился на пустяковые теорийки, на объяснения
мыльных пузырей и тумана, чтобы сделал то, что можешь сделать. Пойми,
ты нужен. Хорошо, — помолчав, сказал Н. Он покраснел, вытер руки
платком. — Я скажу. Ты талантливей меня. Помоги!
Кузьмин откинулся на спинку стула и стал рассматривать свои
домашние тапочки. Потом он сказал:
— Главное, что я хочу сделать, — это выяснить возможности
биостимуляторов. Может быть, за ними все будущее, за живой водой.
Н. отрицательно покачал головой, устало вздохнул. Потом расстегнул
тесноватый пиджак (кожаный, отметил Кузьмин, Наташа говорила —
модно), собрал фотографии в аккуратную пачку, словно собираясь спрятать
их на сердце, и вдруг, широко махнув рукой, пустил их по комнате. Они
разлетелись. Какие-то упали за шкаф, одна залетела за антресоль, другие
рассыпались на полу.
Кузьмин присвистнул.
— Беспорядок делаешь, — скрипуче сказал он. — Ну, да убраться
недолго, вот только выметешься за порог...
В комнату вошел дядя Ваня, держа фыркающий чайник на отлете;
оглядев их, он поставил чайник на пол, присел на диван. На длинном лице
его было внимание.
— Поругались? — спросил он, гладя худые коленки. — Так всегда: кто
ночью ломится, всегда с бедой!
— Дядь Вань, — сказал Кузьмин, с прищуром поглядев на молчащего и
не собирающегося уходить Н. — Давай его отлупим!
Дядя Ваня посидел-посидел и вдруг громко и весело расхохотался.
— Большие люди! Ученые! Ох!.. Об чем спор хоть?
— Он хочет правду скрыть, — сказал Н.
— Не слушай его, дядь Вань, — Кузьмин сел рядом с ним, обнял. —
Моими руками хочет с врагом посчитаться. Гад. — Он знал, что победил,
теперь надо было мириться.
— Ну? — насупился дядя Ваня. — Говори, гостюшка!
— Обещают смертельно больным дать жизнь. А дать не могут.
— Надежду, что ль, дают? Облегчение?
— Какое же облегчение может дать вранье? Кого обманет оно?
— Это как сказать... Бывают, знаешь, заговаривают. Слыхал? Ты, Андрюш,
чего хочешь? Чтоб верили, что ли?
— Не понять тебе этого, дядь Вань, — смягчая слова улыбкой, отозвался
Кузьмин. — У каждого своя вера. И отнимать ее — грех, верно?
— Ну и в свою веру тянуть не годится. Тем более — жизнью манить.
— Речь идет о фактах, мнимых и действительных. Скрывать факт — это,
знаешь... — с ка зал Н.
— Все, поговорили, — оборвал его Кузьмин. — Подбери, что разбросал, и
—ск атертью дорожка!
— Оставь себе на память, — сказал Н. — Между прочим, не волнуйся! С
тобою все будет хорошо. Отчет утвердят. Там все и так убедительно, без
фоток. Эх, тебя судьба бережет!..
— С чего ты взял, что я волнуюсь за отчет? — начиная злиться, спросил
Кузьмин. — Это что же, все уже предрешено? — И, не выдерживая улыбки
Н., сказал: — А теперь вали отсюда!
Н. надел ботинки, взял в руки свое толстое пальто и, уверенно
справившись с замком на двери, ушел.
— .. . Вы уверены, что к вам не прицепятся? — спросил Герасименко
назавтра, изучив коротенький отчет.
— Уверен, — сказал невыспавшийся и хмурый Кузьмин. — А в чем дело?
Чистая работа. На уровне.
— Кое от чего из тематики я отбоярился, — неторопливо сказал
Герасименко. Он все приглядывался к явно изменившемуся Кузьмину,
зацепился взглядом за обручальное кольцо (на миг его лицо расслабло,
губы смягчились, разъехались в улыбке, но потом он собрался опять в свои
новые рамки). — При благоприятном исходе дела я, пожалуй, войду с этими
данными в Академию и буду просить создать группу для изучения вот этих
дел. — Он показал на отчет. — И выполню, таким образом, свое обещание...
— Фактически такая лаборатория есть — у Коломенской, — подбираясь,
сказал Кузьмин.
— И еще есть в институтах морфологии и рака, да вы знаете. Н. ведь ваш
приятель?
— Я говорю не о формальной стороне дела, — сказал Кузьмин. — А с Н. я
покончил. Сволочь он оказался. Карьерист.
И Герасименко от неожиданности сморгнул. Потом он спросил:
— Как я понял, с вашим приходом Коломенская продвинулась вперед,
да?
— В экспериментальной части, — уточнил Кузьмин и откинулся на
спинку кресла. (А кабинет был уже другой, и другая, мягкая мебель стояла в
нем, и на полу лежал новый палас, да и сам Герасименко в достойном
костюме, спокойно, надолго усевшийся в кресло, разговаривающий веско и
без горячности, как-то округлился, потяжелел. Его смуглое лицо с седыми
висками грубо контрастировало со спокойными белыми руками, будто от
другого человека.) — Но кое-что смущает...
— У нас ведь совсем другая фирма, академическая, — сказал
Герасименко вкрадчиво. — Мы моей дорогой учительнице не помеха и
конкуренты...
— Нет, — сказал Кузьмин. — Я не хочу. Помогать — буду.
Герасименко поднял брови и укоризненно и даже как-то начальственно
посмотрел на Кузьмина.
— Это же бессовестно! — напомнил ему Кузьмин.
— Ай-я -яй! — сказал Герасименко. — В науке такого критерия нет. Что
делать-то будешь? — спросил он прежним тоном.
— Я подумаю, — сказал Кузьмин. — Мне нельзя на время туда
вернуться? На пару месяцев?
— Нельзя, — что-то взвесив, после паузы сказал Герасименко. —
Командировка закончилась.
Он проводил взглядом Кузьмина. Когда тот тихо закрыл за собой дверь,
положил его отчет в красную папку с тиснением «Академия». Он побыл еще
некоторое время на работе, дожидаясь, пока разъедутся на машинах
сотрудники, а потом электричкой поехал домой. Всю дорогу он стоял, и об
его дорогой серый плащ терлась грязным ватником старуха. У него было
много сложных проблем, но вот сейчас решалась одна из них, и он
прикидывал варианты защиты и нападения.
Дома, до отвала наевшись и распустив на себе все узлы, он полистал
газеты, посмотрел телевизор, бесстрастно регистрируя перипетии
футбольного матча, и уже совсем поздно позвонил Н.
— Я разговаривал, — сказал он.
На том конце линии промолчали.
Герасименко слышал, как Н. попыхивает сигаретой, представил себе его,
маленького, уютно свернувшегося в удобном кресле, обмысливающего
какой-нибудь новый коварный ход против Кузьмина.
— Он не хочет, — сказал Герасименко. — Наверно, не видит
перспективы. Или ты его смутил.
— Что он собирается делать?
— Думать, — усмешливо сказал Герасименко. — Типичный
лабораторный гений.
— Можешь заставить его дать публикацию?
— Нет! — открестился Герасименко. — Устроит скандал.
— Пришли мне копию его материалов. И не пускал бы ты его больше к
Коломенской!.. — с ка з ал Н., влия тельный член академической комиссии,
курирующей лабораторию Герасименко. — Может, очнется?
— Надеешься? — как бы удивился Герасименко, подавляя злорадную
улыбку, и вежливо, мягко положил трубку на рычажки аппарата. Он сел на
диване, в угол, и, почесывая висок, стал рассуждать. Время от времени его
разбирала злость: если действия Н. подчинялись законам своекорыстия и
дальновидного планирования, то Кузьмин в своих поступках был
непрогнозируем!
Отчет Кузьмина утверждали на комиссии. На этом настоял Н. Хоть так он
хотел закрепить факт.
Председателем комиссии был шеф, а среди ее членов Кузьмин заметил
Тишина и Н. В зал Кузьмина пригласили только на минутку — по-видимому,
кто-то из членов комиссии полюбопытствовал, что это за тип. Шеф вышел к
нему навстречу из- за стола, поблагодарил за работу от имени членов
комиссии, сказал, что все недоразумения исчерпаны, спросил, где Кузьмин
собирается опубликовать материалы. С понимающей улыбкой в глазах он
выслушал вежливо-уклончивый ответ, покивал Кузьмину и отпустил.
Кузьмин оценил тонкую усмешку, тронувшую губы Герасименко, и
молчание Н.
Он пошел по Солянке к Яузе, постоял полчасика на ветру и уже продрог,
когда заметил машину шефа, медленно ползущую вдоль тротуара, Тишин
пристально вглядывался в прохожих.
— А мы боялись тебя в коридоре встретить, — сказал он, тиская
Кузьмину руку.
Кузьмин заметил седину в его голове.
— Я ж давнишний конспиратор, — сказал Кузьмин. — Я вам репутацию
не испорчу.
— Зато себе в таких передрягах вы ее можете подмочить, — сказал шеф,
энергично крутя руль. — Ну, что, молодые люди, скинемся на троих?
Он увез их в какие-то переулочки. В шашлычной было сумрачно — на
улице пошел дождь, — но тихо и уютно.
Тишин разлил вино, разложил по тарелкам бутерброды.
— Боря, — сказал шеф. — Выпьем за Кузьмина, анархиста и тихоню. От
всего сердца пожелаем ему удачи и впредь! — Шеф, пристально глядя на
Кузьмина, поклонился ему и поднял бокал.
Кисленькое винцо не пьянило, утоляло жажду.
— Между прочим! — сказал шеф. — Что это Н. на вас взъелся, понимаете?
Да! Поздравляю, вас перепечатали в «Сайенс» — из «Вестника Академии».
— Ту, первую статью? — изумился Кузьмин. — Лестно!
— Дозрели американцы, — сказал Тишин. — Теперь, Андрей, держись!
— Дельный совет, — согласился шеф. — Будьте осторожны со своими
идеями. Или скажите наконец громко и ясно: про вашу живую воду, про то,
что вы натворили у Коломенской. Что вы отделываетесь таблицами?
Думаете, я скажу? Нет, дорогой мой, я человек порядочный. Лет через
десять — пятнадцать все дозреют до понимания вашего пути, и, если вы не
будете шляпой, станете великим» и единственным, гражданином мира,
понимаете? — Шеф сердился. — Ну, что там в самом деле у Коломенской?
Такой отчет написал, ловкач...
Врать шефу было бы свинством. Кузьмин поерзал и выдавил:
— На стимуляторах «включения» исчезли. Исследуем...
— И, конечно, всё на пальцах?
— Почти всё, —сказал Кузьмин. — Нет аппаратуры, штатов. Оценка
результатов больше на эмоциях. Она не хочет проверки здесь.
— Чушь какая-то... — вздохнул Тишин. — Боится?
— Зло всегда персонифицировано, поэтому зримо; можно и нужно
ткнуть пальцем в некоторых субчиков, но главное зло всегда — мы сами, —
сказал шеф. Он оглядел Тишина и Кузьмина злыми глазами. — Почему он
молчит? — Шеф ткнул пальцем в Кузьмина. — Почему? Стесняется, робеет?
Почему мы с тобой молчим? Не принято рекламировать работу товарища?
Сам он не хочет, понятно?
— Ничего еще не ясно, — сказал Кузьмин. — Мы ж ничего толком пока
еще не доказали, Пробирочная сенсация! А вдруг я ошибся? Ну, вдруг?
— Вот видишь, Боря? Один автор жмется, другая вообще молчит. А
между тем, ходят слухи. Это вредно. Делу.
— Вы что, думаете, уже все ясно? Перед самым отъездом такая ловушка
приоткрылась!.. — признался Кузьмин, немного раздраженный словами
шефа.
— И охота тебе браться за глобальные темы! — сказал Тишин со
вздохом. — Ты глупый, Кузьмин.
— Он же анархист и постник, — сказал добро очень шеф. — Я ж сразу
понял, что его объезжать бессмысленно. У вас с Коломенской один выход,
Андрюша, — разобраться во всем до конца. Я абсолютно верю в вашу
объективность. Лично вашу.
Шеф задумался, подняв брови. Они смотрели на него, мудрого, любимого,
и ждали. Он вздохнул чему-то своему и вернулся к ним.
— За вас! — сказал Кузьмин, разливая остатки вина.
— Подвезу? — предложил шеф. — Совершенно бесплатно и в лучшем
виде. В обмен на живую воду. Настоящую. — Он совсем невесело посмотрел
на Кузьмина. («И ты?» — испугался Кузьмин.)
Ночью до него дозвонилась Наташа.
— Как твои дела? — спросила она.
— Нормально. Ужасно скучаю без тебя! — кричал Кузьмин. — Меня
больше не отпускают. Я беру отпуск и приезжаю. Как ты, Наташ?
— Хорошо, — сказала Наташа тихо. — Тебе велено передать: привези
новые стимуляторы. Приезжай скорее, — как будто смутившись, сказала
она.
Через неделю он вернулся в городок. Во флигелечке его ждали накрытый
на два прибора стол с ведром, из которого торчало горлышко бутылки
шампанского, и записка: «Андрюшенька! Сразу же иди за мной на работу.
Целую!»
Они прошептались — с тихими смешками, приглушенными счастливыми
всхлипами до утра, такое повторится только еще раз. Утром, ахнув, Кузьмин
вспомнил — он бросился к чемодану, на дне его нащупал замшевый
мешочек и, вернувшись бегом на кровать, высыпал в ямку, продавленную
их головами в подушке, горсть перстней, золотые побрякушки.
Наташа, облокотившись на подушку, сначала недоверчиво
рассматривала их, потом, взглядом испросив разрешения, стала примерять
перстни, один за другим, полюбовалась удивительной формы дымчатым
аметистом.
— Вот этот, — сказал Кузьмин, надевая ей на палец темный
таинственный александрит, — за темную холодную ночь с белыми
звездами, за тебя.
Наташа, все понимая, кивнула, благодарно приклонив к нему голову.
— Вот эти, — он положил в ямки над ключицами по серьге, — за твои
глаза. А все остальное, — он осыпал ее, полунагую, — за всю тебя! Люблю
тебя, — сказал он.
И она любила его. И невозможно было понять их восторженный лепет.
— Это Крестнины? — спросила Наташа днем, осторожно украшаясь
серьгами, — они шли на обед к Коломенской. — А моя свекровь не
обидится?
— Нет, — сказал Кузьмин, —Крестна завещала их тебе — ну, моей жене.
Это от ее первого мужа — символ любви.
Он работал в лаборатории, много гулял, нашел букинистический магазин
с сокровищами и все мучился, мучился, не зная, на что решиться. Наташа
молчала.
А Коломенскую вызвали, к директору; там она узнала ошеломляющую
новость, но справилась с собой и заручилась у него обещанием — она
просила ставку для Кузьмина. Вечером у нее поднялось кровяное давление,
и она приболела.
В этот же день Федор, заманив Кузьмина в виварий, шепотом признался,
что получил приглашение из Москвы, от Н. Федор волновался, хватался
руками за клетки, и, много раз потом в памяти возвращаясь к этому
разговору, Кузьмин обязательно вспоминал вонь и шуршание пугающихся
мышей.
— У них лимит есть, Андрей Васильевич! — шептал Федор. — Да с вами!..
Вы ж знаете, я никакой работы не гнушаюсь!
— Это инициатива Н., его? — начиная кое-что понимать, спросил
Кузьмин.
Федор, сильно покраснев, кивнул.
— Она знает?
Федор пожал плечами.
— Сволочь ты! — сказал Кузьмин.
Федор быстро взглянул на него.
— Вот. — Он показал Кузьмину краешек знакомой фотографии. — Я
больше не верю. Раньше я сомневался, а теперь... не верю!
— А мне веришь?
— Верю. А если все-таки вы правы, — то есть, вот, на фото? А вы
сомневаетесь, да?
Кузьмин цокнул языком. Потом вытащил из рук Федора снимок и порвал
его.
— Послушай, — сказал он. — У Актрисы был муж, фотограф. Он в ее лице
видел что-то свое, одному ему ведомое. Может быть, Коломенская тоже
видит то, что не видим мы?
— А факты? — Федор подобрал все клочки и ушел.
«Подонки... — ши пел Кузьмин, мотаясь по флигелечку. — Ну и кашу я
заварил! Расхлебаю? Полезу вглубь. До донышка».
Два дня он просидел над программой, координируя будущие свои и
здешние опыты, Он написал ее умело, убедительно.
— .. . Вот как? — сказала Коломенская. — Прекрасно! Но весь эксперимент
вы оставляете нам, почему, Андрей Васильевич?
— Я займусь фармакологией. — К узьмин сидел подле ее кровати
подтянутый и уже наполовину нездешний.
— Вы знаете, Федор уходит.
— Я не предаю друзей, — сказал Кузьмин. — Я во всем виноват, я и
завершу эту историю.
Актриса внимательно смотрела на него; когда он замолчал, она кивнула.
Озабоченных и растревоженных каждого чем-то своим Кузьминых
шумно проводили — девчонки плакали и даже бежали за вагоном. От
лаборатории была только Любочка. В ненасильственной ее улыбке —
увидел Кузьмин — была какая-то растерянность. Сомнения опять смутили
его.
В купе он внимательно посмотрел на свою деловитую жену и понял: она
распрощалась с городком навсегда.
В Москве летом сделали ремонт и подкупили мебель (Кузьмин впервые
тронул Крестнины деньги); зажили размеренной добропорядочной
жизнью. Наташа быстро освоилась на московских улицах, в квартире. Дядя
Ваня сказал как-то: «Ну, Андрюша, хозяйка у тебя редкостная. Береги!»
Осенью Герасименко дал Кузьмину группу, провел его на должность
старшего научного сотрудника (и тем, дальновидный, уравнял его с Н. в
должности), цепляясь к пустякам, изругал два варианта программы и,
казалось, не замечал инородных «розочек», изучение которых сам себе
запланировал Кузьмин.
На некоторое время он опять увяз в хозяйственных заботах, но
сказывался опыт, мало-помалу обжился в двух комнатах, обучил
лаборантов, и начались еженедельные совещания у Герасименко, лихорадка
из-за перебоев в экспериментальных материалах и другие мелочи.
По субботам он таскался по магазинам, закупая продукты на неделю; в
воскресенье ходили в гости — к В. А., родителям или в кино. Поднатужились
(помогла премия к Новому году) и купили большой телевизор, Кузьмин
пристрастился к хоккею.
Наташа удачно устроилась на работу, нашла подходящий техникум. По
вечерам, усевшись за противоположными концами обеденного стола, они
работали до вечернего чая на кухне, Наташа — более усидчиво. Она очень
многое успевала сделать на ходу: забежать к его родителям, набраться там у
мамы тонких женских новостей и тотчас же перекроить юбку, подсунуть
Кузьмину новый галстук, сдать экзамены и все поломанные
электроприборы в ремонт, — и Кузьмин все никак не мог к ней
привыкнуть: она все время менялась. В этом и была ее тайна, а он, глупый и
счастливый, этого не знал.
(А летом, отдыхая вместе с Алешкой на юге, Кузьмины нашли ему
невесту. Именно Наташа, зорко оглядывающая пляж, обратила их внимание
на ту девушку. «Вот та брюнетка, Алеша, была бы тебе под стать», —
обронила она как бы мимоходом, и под насмешки Кузьмина Алешка пошел
знакомиться. И в том, что женщины не подружились, Наташа не видела
ничего особенного; мужчины сделали вид, будто это и в самом деле не
важно, но встречаться стали реже. Это только потом, тридцатилетние,
ставшие уже матерями, женщины посчитали допустимым близкое
существование друг друга.)
Ниспосланная ему благодать в домашних делах имела один изъян. Еще в
первую московскую зиму, в годовщину смерти Крестны, они вдвоем
поехали на кладбище. Кузьмин долго плутал, пока отыскал ухоженную
могилу. Они оставили на снежном холмике цветы, на которые, не
поскупившись, потратилась Наташа, в храме положили на поднос всю
монету, которая нашлась в карманах, а вернувшись, сели рассматривать
Крестнины фотографии.
— Ты по материнской родне пошел, — сказала Наташа, по-хозяйски
разглядывая Кузьмина. Она повертела его голову, держа за подбородок,
чмокнула в нос.
— Выходит, я красивый? — ухмыляясь, спросил Кузьмин.
— Некоторые мне завидовали, — сообщила ему Наташа. Она
понаблюдала за его реакцией и, усмехнувшись, взялась за пачку
документов. Там была справка из отделения Госбанка от августа 1942 года о
приеме драгоценностей, поздравление ко дню рождения, подписанное
Орджоникидзе... Бестрепетной рукой Наташа развязала бантик ленточки,
связывающей письма. Кузьмин накрыл ее руку своей. «Не надо», — сказал
он просительно и мягко.
В уголке шкатулки Наташа обнаружила потертый изящный футлярчик,
открыла его, и им в глаза брызнули серебристые и голубые искры.
— Какая красота! — восхитилась Наташа. — Я примерю?
— Родишь ребеночка — твое, — сказал Кузьмин, останавливая ее руку и
сетуя на свою забывчивость.
— Не ко времени нам сейчас ребенок, — упрямо сказала Наташа. —
Поживем для себя! Я хоть техникум закончу.
.. . Осенью следующего года ему позвонил шеф, и, едва услышав его голос,
Кузьмин понял. Он приехал в большую красивую квартиру шефа, был там
весел, хорохорился, но за обедом исстрадался — не мог смотреть на
исчахшего, с трудом евшего старика. Говорили о делах; Кузьмин согласился
написать главу для новой книги шефа и отводил глаза. В кабинете шеф
уселся за письменный стол, показал взглядом на стопочку
библиографических карточек, на которых всегда делал заметки для памяти.
— Сдача дел, Андрюша, — сказал он, подмигнув. — Да вы не смущайтесь,
это так естественно, но противно... — И голос его задрожал. — Извините! —
сказал он, кашлянув. — Вы так ничего и не написали, да? Ну так слушайте.
На последнем симпозиуме в Брно со мной только и разговаривали о вас. Я
уже знал про это, — шеф прижал руку к животу, — и рискнул: изложил вашу
концепцию, сославшись на диссертацию. Думаю, что к вам скоро обратится
профессор и академик Кириллов — фантазер вроде вас. Идите к нему — вам
мой совет. Они, конечно, ничего еще не умеют и мало что знают, но
Кириллов, по-моему, всерьез занялся этой гадостью. И, главное, с
современных позиций. И еще... — Шеф, морщась, боком прошел к дивану,
лег: наверно, его схватывала боль. — На ваших глазах повалятся некие
авторитеты и всплывут неизвестные имена. Пусть это станет вам уроком —
не изменяйте себе, не дешевите. Скажите мне как на исповеди: вы не
отказались от своей концепции?
— Нет... Кое-что изменилось в масштабе... — поправился Кузьмин.
— Ну, слава богу, — сказал шеф, укладываясь на бок, и Кузьмин помог
ему удобно пристроить подушку. — Надеюсь, что это у вас навсегда —
диалектичность. Вы понимаете, что ни одна гипотеза не в силах охватить
явление целиком?
— Конечно, — уверенно сказал Кузьмин.
— Когда-то, выступая — первый и последний раз, да? — вы чудесно
сказали о живой воде. Это ваш кирпичик в общем здании. Но, умоляю вас, не
замыкайтесь на этом. Ваша концепция красива и естественна, но только для
первого этапа. А вы остановились, Андрюша! — упрекнул он. — Вы уже
сжились с ней. Это плохо. На чем вы споткнулись?
Шеф вздохнул. Кузьмин сидел рядом с ним в кресле и страстно желал
одного: чтобы в комнате не было так светло.
— И не говорите надо мной, что я был очень добрым и деликатным
человеком, ладно? Хе-хе...
12
Я успею, решил он. Я сделаю.
Что-то волчье проскальзывало у него в глазах, когда он явился к
Герасименко и истребовал две недели на написание статьи. «Какая муха
тебя укусила?» — вертелся на кончике языка у Герасименко вопрос, но он,
опытный человек, смолчал.
Дома Кузьмин сел, обложился журналами и журнальчиками со своими
статьями, привычно надергал из них таблицы, прищурившись на антресоль,
сформулировал первую фразу и бойко застучал на машинке. Но на второй
странице он завяз: то, что получалось, кривило статью, загибало рельсы на
привычную колею. Он покрутился по комнате, сбегал за сигаретами на
улицу, пообедал с обрадовавшимся дядей Ваней. Всласть накурившись, он
выдрал из машинки написанное и сел писать заново. Но опять ничего
путного не получилось.
На следующий день он поехал на работу. Мотался там, спугивая младших
сотрудников в коридоре и на подоконниках, порычал на своих лаборантов и
вернулся восвояси домой.
— Пошли в кино, — за ужином предложила внимательная Наташа. Она
сидела, будто пригорюнившись, и смотрела на него большими глазами.
— В ресторан, а?
— Ну, пошли, — сказала удивленная Наташа.
Он не напился — хмель его не брал. Без сна он проворочался на кровати,
мешая спать Наташе, потом спустился с антресоли вниз, залез в книжный
шкаф, достал наугад томик, купленный еще в городке, и его захватило: «Я
люблю всегда далекое, мне желанно невозможное, призываю я жестокое,
отвергаю непреложное. Там я счастлив, где туманные раскрываются
видения, где скользят непостоянные и обманные мгновения, где сверкают
неожиданно взоры молний потухающих... мне желанно, что невиданно...»
И еще: «Я — бог таинственного мира, весь мир в одних моих мечтах. Не
сотворю себе кумира ни на земле, ни в небесах...»2.
Почти до утра он читал стихи из этого сборника и других. С чугунной
головой вернулся на антресоль и позабылся, а первой утренней мыслью
было: диссертация!
Когда он уставал, он брал стихи и, совсем не рефлексируя, расхаживал по
комнате, отмахивая рукой, читал их вслух. Несколько раз, Кузьмин слышал,
к двери подбирался дядя Ваня и (с испугом, вздрагивая, когда Кузьмин
рявкал строфу) прислушивался к незнакомому шуму.
Кузьмин не мог оторваться от статьи. Первая фраза пришла из
диссертации — она ударила его по глазам на какой-то не первой страничке,
и она же задала тон всей статье. Каждая страничка вытягивала за собой
новую; он бросил машинку, стал писать карандашом. На последних абзацах,
уже вполне осязая всю статью как ровный гладкостенный сосуд, звенящий
при прикосновении, он остановился. Не хватало последнего мазка,
маленькой детали, открывающей глубину, перспективу... Он поискал в себе,
выбранном до дна, и не нашел. А в магазине обрывок чужого разговора
напомнил ему о первой статье.
Он поднял много пыли, но нашел ее, уже на выцветшей бумаге. С
насмешливым интересом он пробежался по тексту, заглянул в таблицу — и
усмешка его погасла: в той своей сводной таблице он увидел вывод,
который еще только планировал доказать. Вот оно что — уже тогда мозг,
машинка, подсказывал ему решение, а он отмахнулся. Настроение у него
упало. И хотя та, давнишняя, проклевывающаяся через дремоту мысль
теперь была ясна, он не мог утешить себя тем, что взаимосвязь результатов
из этой таблицы стала очевидна только теперь, а в то время он ходил, не
2 Стихи Ф. Сологуба.
глядя себе под ноги, как слепой по золоту, — ведь только что, перечитав
первый вариант диссертации, он заметил, как свободен он был и раскован.
Машинистка перепечатала статью в два дня. Он успел.
Шеф уже не поднимался с постели, и около него постоянно кто-нибудь
сидел. Он взял под мышку папочку со статьей, спросил через одышку:
— А почему кислый?
Кузьмин рассказал,
— Все мы попираем ногами свою проницательность. Для всего нужно
время. — Шеф говорил, а слабость закрывала веками его глаза.
— До свидания, — тихо сказал ему Кузьмин, умоленный жестами и
выражением лица сиделки.
Шеф пожевал губами, покивал ему, но не попрощался.
В журнале, взвесив на ладони статью, редактор с сомнением покачал
головой:
— Объем, объем, Андрей Васильевич! И еще — посвящение!
— Ну, теперь мое дело сторона, — сказал Кузьмин.
Он написал Коломенской очередное — после долгого перерыва —
письмо и переслал экземпляр статьи с дарственной надписью, а на
следующей неделе уже хоронил шефа.
(Озабоченный, заплаканный Лужин растревожил Кузьмина, рассказав,
что последними словами шефа были: «И это все?»)
Статья вышла через три месяца в полном виде; он получил на нее
шестнадцать запросов из-за рубежа и четыре письма от неизвестных ему
людей. В очередной заход в библиотеку он порылся в авторском каталоге и
обнаружил несколько статей одного из них, Филина Дмитрия Ивановича,
скромного старшего преподавателя периферийного медвуза. Несколько раз
перечитав эти маленькие статьи, полные упоминаний и ссылок на свои
работы, и уловив едва проглядываемый нюанс в основной методике,
Кузьмин решил ответить ему по-человечески, без отписок, а может быть, и
пригласить к себе работать (ему дали лимитные ставки). Тогда же в
библиотеке ему пришла в голову такая мысль: не было бы меня,
естественного психологического тормоза, был бы кто-нибудь из них, как
просто!
Потом он обшарил каталог в поисках новых публикаций Н. и Федора, но
их не было вот уже целый год.
Герасименко не волновал Кузьмина по пустякам — не рассказывал про
давление и попытки Н. заставить Кузьмина опубликовать методику, но сам
очень внимательно следил за работами маленькой группы кузьминских
ребят — те распространяли слухи про фокусы и чудеса своего шефа:
Кузьмин, раздобыв кое-где суперфильтры (единственные в Союзе! —
верещали лаборанты), изредка вылавливал какую-то странную молекулу.
Страшная, еретическая идея поддразнивала Кузьмина — ему казалось, что
эта молекула и есть сердце его, клешневатого. Думать об этом было сладко,
но еще дальше он себя не пускал. Рано еще, рано, думал он. Машинка все
обработает, все прикинет, вот тогда и задумаемся. Но думалось плохо, что-
то ушло — казалось, там в груди, где раньше была теплота живого веселого
шара, теперь холодела пустота. Он стал скучать. Однажды поймал себя на
мысли о том (он сидел на совещании у Герасименко), что все эти
планирования — просто перетасовывание одних и тех же тем. Взял и
выступил в этом роде. Герасименко, выслушав его, побагровел и,
сдерживаясь, сказал:
— Ну, знаете ли! Мы в конце концов только маленькая лаборатория! —
Кузьмин пожал плечами.
Но через два месяца, когда лаборатории впервые предложили
представить перспективный, лет на десять — пятнадцать, план, втайне
торжествующий Герасименко — еще бы, это был его триумф, его
признание! — включил Кузьмина в редакционную комиссию. И на
очередном заседании-сидении, потому что все как-то заробели, обрушился
на Кузьмина: «Что вы молчите! Где ваши фантастические проекты?»
Кузьмин встал и высказался от души. Поднялся крик, гвалт. За криком
Герасименко подмигнул Кузьмину. Кузьмин потеплел к нему сердцем.
Зимой же Кузьминых разыскала Актриса. Она ворвалась к ним шумная,
цветущая, очаровала и завертела Наташу, в тот же вечер утащила ее за
кулисы к необыкновенному куаферу — они вернулись за полночь, обе с
сияющими глазами, пахнущие шампанским и, разбудив, расшевелив
Кузьмина, сообщили ему, что через две недели Наташа начнет работать в
театре — помощником художника-костюмера. Кузьмин посмотрел на
изменившуюся свою жену, оценил талант мастера, простыми ножницами
сделавшего знакомое лицо вновь непроницаемо-загадочным, и засмеялся.
— Я решила — решилась! — вас спросить. И объяснить одну вещь, —
сказала Кузьмину Актриса, когда он провожал ее домой.
Под светом фонарей искрился сыпучий снег, скрипел под их медленными
шагами. На пустынной Пушкинской она остановилась напротив памятника,
оглядела всю площадь. Было тихо; неподвижные деревья, осыпанные
снегом, и канделябрами торчащие фонари, темный фасад кинотеатра
делали пейзаж похожим на декорацию.
— Почему вы скучный, милый доктор? У вас даже нос стал расти. Ну,
посмотрите! — Актриса повела рукой, как бы открывая Кузьмину площадь.
— Какой прекрасный, торжественный и нежный мир вокруг вас!.. Вот,
смотрите, скучный гений, — идет снег! И в каждой снежинке — не
поправляйте меня! — есть хоть атом тех, кто был прежде нас. Их нет, и они с
нами. Во всем! Но тише, тише: вы на сцене, — шепнула она, и Кузьмин,
подчиняясь, прислушался — поддался ее взгляду. — Вот рампа, — так же
таинственно продолжала она шептать. — А занавес уже поднят. И зрители
на своих местах. И статисты. И у вас — роль, в этом акте. Единственная!
Безумный театр! — воскликнула она, почти заплакала. — Без сценария и
режиссера!.. Что будет, доктор милый?
— Что случилось? — Кузьмин наклонился к Актрисе, заглянул ей в лицо.
— Там плохо. Она все оставила, прекратила работу. Вы понимаете?
Сейчас все зависит от вас. Найдите «включения»! Найдите что-нибудь!
Почему, почему вы уехали?
— На том уровне я себя исчерпал, — сказал Кузьмин, и это прозвучало
снисходительно. Актриса внимательно взглянула на него, выпростала свою
руку из-под его руки и заступила дорогу.
— А сейчас у вас тот уровень?
— Сейчас у меня годовой отчет и ревизия, — отшутился он.
А между тем их старый дом стали выселять, и однажды Наташа прямо в
коридоре бросилась Кузьмину навстречу, повисла на нем, держа в руке
открытку из райисполкома.
И вот — все! Он тихо притворил знакомую дверь, расцеловался с
плачущим, дребезжаще причитающим дядей Ваней и вместе с Николашкой
поднял, понес вниз шкаф. Он никогда, никогда больше не возвращался к
этому дому, хотя бы потому, что дом сломали, размололи его кирпичи,
засыпали его фундамент песком, а потом черной пахучей землей, насадили
деревца, и получился миленький дворовый садик с уютной толстенькой
монастырской стеной в углу.
13
Прошел еще год.
До Кузьмина дошло, что понедельник — день тяжелый, что хорошо
работать поблизости от дома, что однокомнатная квартира — еще не рай.
Летали ракеты, и люди уже осторожно вышли в космос, впервые
действительно оторвав себя от среды обитания; уже осуществилась
пересадка сердца и даже гена, трансплантация почки стала обыденностью, а
люди болели и умирали от гриппа, в эпидемиях холеры; инфаркты и рак
убивали по-прежнему. В Копенгагене отец современной иммунологии
сказал журналистам: «Значит, овладеть биологией человека труднее, чем
выйти в космос, трансплантировать сердце и изменить один ген. Нужны
усилия, сравнимые с работой Создателя, ибо мы замахнулись на саму
смерть!»; а у Кузьмина родилась светловолосая и светлоглазая Анюточка.
— Эта складная девка — порох! — определила Актриса. — Ваших кровей,
— оглянувшись на дверь, шепнула она Кузьмину. — И вам с ней не
совладать. Берите меня в няньки! Я отснялась, делать ничего не хочу. А в
лабораторию к себе вы меня не возьмете? Куда бы мне приткнуться?
В любви рожденная, шустрая и предприимчивая, Анюточка сразу начала
дружить с миром; она с рождения узнавала предметы и явления, такие,
например, как отец. Еще не умея лепетать, она при виде Кузьмина начинала
вопить и распеленываться, а прилипнув к нему, успокаивалась. С того
мгновения, как Наташа подала ему пухлый кулек с чмокающей Анюткой, он
стал рабом и отцом всех детей.
Если он был дома, он не спускал Анюточку со своих рук, несмотря на
Наташины слезы и уговоры: он-то знал, что там дочкино место. Когда
Анюточку мучил животик и она беспокойно спала, Кузьмин легко
просиживал у ее кроватки ночь. Едва крошечные спеленатые ножки
начинали сучить, он клал ей на животик свою, ему казалось, огромную
ладонь, всем сердцем накрывал ее и наборматывал Анюточке давнишние
Алешкины негладкие стишки, теперь отчасти постигая их символику:
«Темень, страх и боль — не про нас, на алмазе след оставит лишь алмаз. Все
морщины на лице у меня — просто вязь, я твой вечный раб, а ты — мой
князь». Случалось, Анюточка размыкала реснички, и из-за великолепной
льдистости материнских глаз душу Кузьмина трогал теплый лучик,
натягивалась золотая струна. Он шептал ей в душистое ушко: «Не терпи,
скажи о боли, поделись со мной. Я прошу — и, значит, волен, значит, выбор
доброволен, значит, это мне нужней — стать хоть частию твоей!»
В те бессонные ночи он окончательно уверовал в телепатию — были
минуты, когда в раскрытое его сознание приходили мгла и смутные тени,
беспокоящие Анюточку, и всей силой своей он разгонял их, выводя в синь
неба ясный солнечный круг, и — видел! — как успокаивается дочка.
Она засыпала, нежная улыбка ложилась на губки, а Кузьмин, обмирая,
высвобождал ее ручку и, едва касаясь, целовал тонкие чуткие пальчики.
Солнце, свет, любовь, чудо и счастье, нежность и роза — так он называл ее,
пеленая и купая, забавляя и качая.
«Янеодин!—вопилонпросебя. — Я ужебылиесть!Новедьяещеи
буду!!!»
О себе он знал — он обрел непотопляемость.
А в лаборатории была рутина: хозрасчетные темы фантазию держат в
узде — и группа Кузьмина отрабатывала повышенные оклады. Но время от
времени Кузьмину приходили в голову какие-то странные идеи: они не
укладывались в старую концепцию, их общий характер одновременно и
волновал и расхолаживал его. Уступить их давлению значило бы предать
Коломенскую, Любочку, смутить их, безоговорочно верящих ему.
И — «. . .извините, что задержался с ответом. Результаты неплохие, а по
смыслу своему — просто великолепные. Но попросите Любочку работать
чище — было много грязных препаратов. Как ваше здоровье? — писал он
Коломенской. — У нас только и разговоров, что о проекте Энгельгардта
«Ревертаза». Как странно, что еще несколько лет назад мы говорили об
этом, используя лишь другую терминологию. Существенных новостей у
меня нет...»
Он научился ругаться и ссориться: ругался с Наташей — она хотела
отдать Анюточку в ясли. («Все нормальные дети ходят в ясли!» — «И не
вылезают из соплей, а их матери — с больничного!» — «Все дети болеют!
Наша такая же, как все!» — «Будешь сидеть два года! Это моя единственная
дочь! Тебе что, денег не хватает? Это твой единственный долг, пойми! Я
могу сделать все! Но не могу заменить ей мать, не дано!»)
Он отпраздновал тридцатилетие — дома и на работе. (Там, пожалуй,
впервые оценив, как много значит для престижа красивая и светски-
общительная жена.) А дома, когда гости разошлись и Анюточка заснула у
него на руках, прислушиваясь к Наташиным шагам на кухне и оглядываясь
округ себя, он подумал: это счастье, вот эта минута!
Тенью скользнула мысль: ничего не было ни от Актрисы, ни от
Коломенской — ни письма, ни телеграммы.
Телеграмма пришла: «Коломенской апоплексия, состояние тяжелое», —
за подписями Актрисы и Любочки. Он уже купил билет, когда позвонила
Актриса:
— Состояние лучше, она в сознании, не приезжайте.
— Нужны какие-нибудь лекарства?
— Нет-нет, все есть.
— Что я могу сделать?
— Работать, — попрекнула его Актриса.
Она вернулась через месяц, похудевшая, побледневшая. Села в углу,
закурила. Кузьмин ждал.
— Я привезла вам материалы, — сказала она устало. — Вам интересно?
Чем вы сейчас занимаетесь?
— Не обижайте меня, — сказал он. — Это, — он помахал листочками, —
говорит само за себя. Это какая-то флуктуация, тень или мираж. Да, мираж!
— Мираж?.. Вы так высокомерны! Так академичны!.. Столичный стиль
вам к лицу.
К ним на кухню вошла Наташа, расцеловалась с Актрисой.
— Наташ, что он делает?! Он остыл, он холодный, как могильный камень!
Ты помнишь, какой он был!
— Честно говоря, — сказала Наташа, — такой он меня больше
устраивает. Сейчас, во всяком случае. — Она улыбнулась Кузьмину, сильная,
уверенная. «Обопрись на меня!» — подсказала взглядом.
Все это ему не понравилось, и он взорвался, шепотом, потому что
Анюточка спала:
— Европа, черт возьми, ковыряется, как и мы. Всему свое время, —
сказал он. — Я уже не мальчик, чтобы находить удовольствие в рождении
идей — и только. Мне пора доказывать, что мои идеи чего-нибудь стоят! То,
чем я сейчас занимаюсь, — фундамент! И потом — прикладистикой в этом
направлении никто не занимается, все уже обожглись.
— А академик Кириллов? — спросила всезнающая Актриса.
— Не знаю, — буркнул Кузьмин. — Не читал.
Наташа собрала чай; умостились в узенькой кухне. Кузьмин уставился в
темное окно, непроницаемо-черное, потому что за ним был лес, а еще
дальше — окружная автодорога, и кухня, островком живой жизни,
неподвижно будто бы висела — меж звезд или у самой земли.
В молчании допили чай. В прихожей Актриса, заматываясь в длинный
шарф, сказала:
— Там все стало. Вы понимаете, какую роль в этом вы сыграли?
— Это наука, — обронил Кузьмин. — У каждого из нас своя роль. Я
сыграл свою, наверное...
Актриса усмехнулась.
— И что взамен?
— Это наука, — повторил Кузьмин.
— .. . Спасибо, — сказал Кузьмин. — Спасибо, я обязательно приеду. Да,
спасибо! — Он положил трубку на рычаги и тут же поднял ее снова.
— Вам звонили из «кадров»? — спросил Герасименко, вдруг обращаясь
на «вы».
— Только что!
— Примете приглашение? — спросил Герасименко напрямик.
— Подумаю.
— Мне знакома эта фраза, — сказал Герасименко. — Конечно,
принимайте предложение... И правильно, — неожиданно горячо сказал он.
— Наверное, пора и вам начинать главное дело. Я приказал — документы
вам уже готовят. Возьмите с собой все, что сочтете нужным: препараты и
прочее... — добавил он торопливо.
Кузьмин стал работать в отделе у странного, искалеченного неизвестной
болезнью человека по прозвищу Маньяк. Так его назвали коллеги.
Много лет назад он провел на себе опыт. Результат его оказался
неожиданным и едва не самоубийственным. Маньяк выжил, чтобы
попытаться разобраться в самом себе. Он методично, годами изучал свою
кожу, свои лимфатические узлы и кровь, пряча бинты под одеждой; если бы
можно было, он отдал бы себя целиком; если бы не было другого способа
установить истину, он устроил бы себе несчастный случай, но сам
Кириллов, его давнишний друг, попросил его не переходить границы —
какие, оба они так и не сформулировали.
(— Какая осторожная молодежь пошла, не находишь, Сережа? —
посетовал Маньяк, насаживая протестующего червяка на крючок. Они
сидели на бережке с удочками. — Ну, почему я сам должен собой
заниматься, а? Ведь это даже ненаучно в конце концов. Ну, нашелся бы хоть
какой-нибудь... умник-подонок... Покопался бы во мне всерьез, а?
— Нет, лучше не надо, — помедлив с ответом, будто взвесив все про себя,
отозвался С. В . Кириллов. — Ты уж, Витя, лучше сам...
— Старею я, Сережа. И симптоматика меняется... Будешь купаться?)
То, что делалось в тихих лабораториях этого института, удивило
Кузьмина. Он писал вставшей с постели Коломенской: «...они хотят и уже
пробуют, в отличие от всех остальных, не вламываться в генетический
аппарат клетки, а, действуя, как дрессировщики, или, может быть, как сама
природа, подчинить его себе. Смешно: они думали, давно не читая моих
работ, что я уже помер. Но наша Актриса открыла им глаза — кому из них
персонально, я еще не знаю. Мы с ней поругамшись, и она не ходит к нам, а
то бы я встал на колени. Они...»
Он наладил свои методики, обучил им лаборантов и выписанного в
помощники Филина и освободился. А его оставили в покое, будто позабыли
о нем. Маньяк только однажды появился в светлых покоях Кузьмина,
поулыбался, ослепляя американской вставной челюстью, подписал заявку
на импортное оборудование и исчез. Можно было бы предположить, что эти
богатеи накупили всяческого добра и, озабоченные новыми капризами,
оставили его без присмотра, на волю и прихоть пытливого ума, если бы не
тот спокойный дедовой настрой, напор, который ощущал Кузьмин,
заглядывая в соседние лаборатории. Он ходил по этим новеньким чистым
корпусам института, приглядывался; в столовой, в коридоре, в курительных
холлах знакомился с сотрудниками, напрашивался на экскурсии.
В отдельном корпусе разместилась клиника. Раз в неделю клиницисты
пугали теоретиков демонстрациями своих больных. Кузьмин повадился
ходить на эти конференции, и ему, много лет оторванному от больниц,
становилось страшно, особенно на демонстрациях детей. Известная ему
истина: «Пять процентов людей — носители генетических болезней» —
обретала плоть и кровь. Он прошел через фазы черных мыслей о судьбе
человечества, слепой надежды на милость и здравый смысл природы и
наконец проявил заинтересованность.
На одной из конференций он шепнул Маньяку:
— Дайте мне модели, кажется, я смогу кое в чем помочь цитогенетикам.
У вас есть модели?
— Да что вы, Андрей Васильевич! — показывая достижения
американской стоматологии, сказал Маньяк. — Какие модели! Если бы мы
имели модели! Увы! — произнес он и, совсем принижая голос, добавил: —
Вот они — модели, данные нам природой.
Лаборанты Кузьмина были завалены работой, а сам он жил скучновато...
Но однажды Филин подошел к Кузьмину с бланком анализа в руках.
— Что-то не так? — Заглянув в бумагу, Кузьмин встрепенулся и
отправился в детскую клинику.
Там шел разбор неясного случая. Полноватый шатен — молодой
заведующий отделением — удивился приходу Кузьмина, усадил его в
кресло, и Кузьмин битый час слушал разглагольствования врачей. Ничего,
казалось бы, не решив, они разошлись, очень собой довольные, и
обалдевший несколько Кузьмин протянул заведующему свой бланк.
— Объясните, пожалуйста, — попросил тот.
Кузьмин объяснил:
— Похоже на генетический дефект. Мы могли бы подтвердить или
опровергнуть одну теорию... Что это за больной?
— Понимаете, — сказал заведующий, — это третий мальчик в семье,
двое других погибли от опухолей. Даже сейчас мы не знаем, есть она у него
или нет! А что теперь — в связи с этим? — Он показал на бланк. —
Обследуйте! Родители согласны.
Кузьмин зачастил в детскую клинику, стал регулярно бывать на обходах
у Вадика (Андреева, заведующего детским отделением), стал кружить возле
кроватки пятилетнего Олежки, присаживаясь в ногах у малыша,
рассказывать ему стишата. Когда потеплело, сняв халат, Кузьмин гулял с
Олежкой по улицам и раз даже свозил его на мультипрограмму в кино.
— Перестань! — говорил ему Вадик (они сдружились, выяснили, что
окончили один и тот же институт, оба учились у Тишина, почти
одновременно женились и обожают своих детей). — Не привыкай к нему.
— Брось! — отмахивался Кузьмин. — Не делай из больницы тюрьмы. У
парнишки ни одной родной души поблизости нет, от вас он только боль
терпит, хоть я ему отдушиной буду.
— Привыкать к такому больному опасно, — обронил однажды Вадик.
К другим ребятам приезжали родители или приходили родственники, а
Олежка ждал только приходов Кузьмина. Но встал вопрос о его выписке из
клиники — обследование закончилось.
— С чем мы его отпустим? — спросил Вадик своих врачей и покосился на
Кузьмина.
Кузьмин вернулся домой, взял на руки маленькую свою нежность, свет-
солнце Анюточку, и весь вечер играл с ней. («Вот он, шанс, когда еще будет?
Ну?» — закрыв глаза, спросил совета у Коломенской.)
— Папк, спой! — попросила Анюточка, устраиваясь у него на коленях и
прикладывая ладошку к его щеке.
Срываясь, на слезе беря высокие ноты, Кузьмин запел: «Спят усталые
игрушки...» Он уложил ее в кроватку и, напрягаясь всей душой, попросил —
у кого? — если что-нибудь... то со мной, а не с ней, со мной!
Он пришел в кабинет Маньяка, выложил на стол свои материалы,
ампулы с живой водой: «Вот!»
— Вы ведь у Коломенской работали, да? — щурясь, спросил Маньяк.
— Работал. Провалил ее «включения», слышали?
— К нам набивался один энтузиаст... (Кузьмин назвал фамилию Федора.)
Этот самый. С вашей методикой.
— Ну,ичтожевы?
— Шеф ему сказал: «Гусь свинье не товарищ!», — со смехом ответил
Маньяк, обнаруживая осведомленность. — Он у нас чистюля. Пойдемте к
нему?
Последние дни Наташа с тревогой наблюдала за Кузьминым, а в этот
вечер, поправляя сбившиеся подушки, не сдержалась:
— Что с тобой делается-то?
— Новая дорога, Натк, — утыкаясь ей в шею носом, шепнул Кузьмин. —
Длинная — ох, ноги собьешь!
— Господи, твоя воля! Когда же ты успокоишься? — Она обняла его,
утешая, укрепляя, воздвигая.
Олежка, слегка напуганный скоплением народа вокруг кровати, только
поморщился, когда толстая игла скользнула в его вену. «Это большая
капельница? — спросил он у Кузьмина, откидывая голову на подушке,
чтобы видеть его лицо. — Что это, глюкоза?» — «Нет, профессор, —
отозвался Вадик, нажимая ему на нос, — би-бип! Это такая водичка, живая».
Маньяк теребил пуговицу на халате.
Капельницу отсоединили. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил
Кузьмин. — «Нормально! Дядя Андрей, сыграем в шашки? Только чура! Не
поддаваться!»
14
Кузьмин выбежал на эту полянку насквозь вымокший, простуженный и
задыхающийся; остановился, обессиленно сронил на полеглую осеннюю
траву рюкзак и повалился на него.
Отдышусь, подумал он, прикрывая глаза и подставляя лицо мелко
брызгающему дождю; почувствовал, как, покачиваясь, под ним медленно
вращается земля. Он огляделся. Серенький кривой стожок показался
спасительным островом.
Он поднялся и, раскачиваясь, пошел к нему; зарыл руки в его жесткую
скользкую поверхность, догребаясь до сухого сена, обрушил вниз, себе под
ноги, всю эту слипшуюся кору и, чувствуя немеющей спиной обступающий
холод, заторопился, стал рыться в стожке, как зверь. Обдирая лицо,
повалился в маленькую нишу, кряхтя подобрал и уместил ноги.
Сначала по животу и спине драл озноб. Температура поднимается, понял
он. Вот отчего так колотится сердце.
Он скосил глаза на рюкзак, лежавший мятым незаметным комом на
пожухлой траве, и пожалел, что не оставил себе на сегодня водки.
Незаметно он задремал, а когда очнулся, почувствовал едкий вкус во рту,
хотел сплюнуть, но, глубоко вздохнув, охнул — так сильно ударила в бока
боль. Потом боль разлилась в голове, и стали мерзнуть ноги. Он пошевелил
ими — живые...
В параличной неподвижности, обсыпанный сеном, он согрелся:
сделалось тепло, даже душно, но перед глазами все расплылось. Заходилось
сердце, разрывая грудь.
Проснулся он в сумерках, задохнувшись — верхний край ниши
обрушился, и он, как в коконе, сжатый со всех сторон сеном, стал
задыхаться. В панике разбрасывая руки и ноги, он пробился наружу.
Густеющая серая пелена, поднимавшаяся от земли, затягивала, душила
стожок, закладывала уши. Он испуганно потыкал рукой, ощутил льющийся
неслышный дождь. Потом, сквозь вату в ушах, едва расслышал его
шелестение снаружи стожка и в сене. До лица постепенно дошла сырая
прохлада, и, успокоенный, он расслабился.
Надо ночь перебиться, а утром идти искать какой-нибудь ориентир —
просеку, линию связи или еще что-нибудь, медленно подумал он. Спи,
уговаривал он себя, спи, включатся инстинкты, и ты выберешься.
Но сон не шел. Значит, подумал он, не нужно спать, значит, надо о чем-
нибудь думать, вспоминать что-нибудь нежное, теплое и хорошее, но не
дом, не мою крепость, где играет сейчас моя аккуратная девочка с ясными
глазами.
Он перевалился на бок, едва не выпав из ниши, и сразу же почувствовал
боль в боку. Плеврит, понял он.
Поднял руку и, задевая потолок своей норы, притащил ее к лицу. Оно
горело, и двухдневная щетина ощущалась, как сквозь перчатку. Неловко
нащупал пульс, сосчитал его, сбиваясь несколько раз. Циферблат часов
горел ярко и ровно. Секундной стрелки он не видел, хотел отмерить время
по движению минутной, но рука уже устала, онемела, упала.
Какой я длинный, подумал он, не ощущая ног — они вытягивались куда-
то за стожок, растворялись в темноте. Почему им не холодно? Пять часов
еще до рассвета, сосчитал он. Постой, какое же сегодня число? Удивился:
зачем мне это? И возразил себе — значит, нужно. Вчера, да, день назад, я
подумал о сегодняшнем дне.
Чей-то день рождения?
Он напрягся. А-а, вспомнил медлительно. Я смотрел на звезды и подумал
о гороскопе. Герасименко привез из Японии свой гороскоп и биоритмы. Я
засмеялся, напомнил им всем: «Человек умирает близ даты рождения». Вот
оно. А ты — хитрая машинка, мозг, сознание, с придыханием сказал он про
себя. Плоть моя страдает, а ты сам по себе. А может быть, тебе это
неинтересно? Что же сейчас общается со мной — часть тебя, обращенная ко
мне, — душа? Или ты сам со мной играешь, нет, сам с собой! Ты ведь не
спишь никогда, все что-то варишь, а утром подсовываешь мне готовую
программу поведения. Внушаешь мне, что ты — сознание! А под ним,
машинкой, — темная пещера, мрак клубка инстинктов. И мягкая интуиция,
кошка черная. Ночь — самое время жалить и кусаться. Ничего себе название
— «подсознание»! Что, боишься сдохнуть? Будоражишься! Ну, давай, дам
тебе волю, действуй!
Кузьмин прикрыл глаза, вслушиваясь в себя, как когда-то давно, на
чердаке монастырского корпуса. Пока в нем жила настороженность, ничего
не происходило, но потом пришло тепло, он задвигался во сне — теплая
темная река быстро несла его, невесомого, в себе, легко покачивая, весело с
ним играя, мимо незнакомого голого берега прямо под густую лиловую тучу
с розовым брюхом, закрывшую весь горизонт. Вода все теснее обхватывала
его, чернела; по ее поверхности пробежал глянец, и тут звонко ударил гром.
Кузьмин поднял голову, радостно улыбаясь. И в сиреневом тумане
надвигающейся лиловой стены дождя увидел выпавший из чрева тучи
ярко-красный шар. Шар покрутился под тучей, а с ее сырым глубоким
выдохом оторвался, стал падать на реку. Кузьмина пронзило множество
острых игл, и, опираясь о воду, ставшую упруго-твердой, он начал
подниматься из воды, с силой притягиваемый этим, уже оранжево-красным
шаром; с его головы и пальцев навстречу шару потекло голубое пламя. Тело
обретало невесомость, исчезало. Шар, вертящийся, корчащийся,
приблизился вплотную, заливая переплясом оттенков все вокруг, слепя
глаза и все сильнее согревая грудь, и уже сердце останавливалось в
предчувствии желанно-страшного соприкосновения, слияния, когда в
последний миг Кузьмин дернулся, убоявшись, и шар с громовым ударом
лопнул, взорвался, отшвыривая Кузьмина с волной, расколовшей реку до
дна, на берег. Кузьмин ощутил сотрясающий удар, пришедшую из глубины
тела боль, ледяной холод — и задохнулся в блаженном бесконечном вдохе.
Он открыл глаза. Полный беззвучный мрак окружал его. Под щекой была
земля и вялое преющее сено. Он задвигался, собирая свое тело в комок,
чтобы подняться и снова лечь в нишу, и, уже встав на четвереньки и с
трудом приподняв голову, услышал крик. Крик монотонно повторялся, не
давал собраться, сосредоточиться, и вдруг Кузьмина приподняло,
швырнуло на ноги: господи, подумал он, а ведь это ребенок! Он вслушался и
узнал детский крик.
Шатаясь, припадая на колени, он потащился на этот крик. Через
несколько метров он остановился, сел на землю, хватаясь за грудь, и
прислушался. Крик исчез.
Галлюцинации, понял Кузьмин. А клиника-то пневмонии — хоть в
учебники!.. Кто же зовет меня, Анютка? Нет, она здесь, во мне. Олежка?
Бедный мой мальчик, неуспокоенная душа! Я помню, я все помню!
.. .А Олежка в последнюю ночь как будто выплыл из какого-то сна. Глаза
его просветлели. Он захотел, чтобы включили свет в палате.
Он водил глазами по скудной обстановке, как бы запоминая ее,
перебирал медленными непослушными пальцами марки и значки,
натасканные Кузьминым и Вадиком, а потом попросил убрать их в
коробочки. Он ревниво проследил за тем, как сестра уложила его
сокровища, равнодушно позволил сделать себе уколы и отвернулся к стене.
Вадик и Кузьмин остались в клинике и на эту ночь; Вадик, устроившись у
себя за столом, что-то писал, роясь в Олежкиной «Истории болезни», а
Кузьмин, забравшись с ногами на кровать, тупо дремал, изредка вздрагивая
и роняя голову. Свет настольной лампы не задевал его, а заснуть всерьез он
все-таки не мог.
— Ну, все! — вздохнул с удовлетворением Вадик и потянулся. —
Осталось только три строчки написать.
— А что это? — безразлично спросил Кузьмин, не открывая глаз.
— Посмертный эпикриз, — бодро сказал Вадик. — Ну, чего ты так
смотришь?
— А ты... деловой, — с усмешечкой протянул Кузьмин. —Время —
деньги!
— Не... раскисай, — отозвался Вадик. — И потом... жизнь есть жизнь. У
меня завтра много дел, — сказал он озабоченно и устало.
— Да я разве что... А если бы я не сунулся со стимуляторами, а? Может
быть?..
— Ну, хватит! — резко сказал Вадик и встал. — Он обречен. И был... И
теперь... Дать тебе снотворного?
Когда сестра, робко постучавшись, вошла и сказала: «Андрей Васильевич!
Он вас зовет», — Кузьмин, прижимая руку к левому боку, побежал в палату.
Вадик догнал его в тихом темном коридоре, крепко взял за плечо, заступил
дорогу.
— Не ходи. — Он говорил тихо, потому что рядом сидела сестра. — Пойду
я.
— Я должен, понимаешь, должен! — забормотал Кузьмин.
— Вернись, — вглядываясь ему в лицо, попросил Вадик.
— Пусти!
Вадик оглянулся на сестру, и она, вышколенная, ушла куда-то.
— Я тебя предупреждал — не привыкай к нему! Прошу тебя — поезжай
домой. Я позвоню.
— Ты что? — еще сильнее бледнея, сказал Кузьмин. — За кого ты меня
держишь?
Вадик досадливо мотнул головой.
— Ну, прошу тебя!
Кузьмин обошел его и побрел по коридору к яркому прямоугольнику
дверного проема.
— Дяденька, подержи меня за руку, — хрипло, шепотом сказал Олежка.
— Мне стало теперь страшно, я боюсь спать.
— Конечно, малыш, — стараясь, бодро сказал Кузьмин. — Я здесь, я
посижу. Тебе не больно?
Олежка крепко схватил его руку, и, повинуясь его движению, слабому и
неуверенному, Кузьмин сел в изголовье, погладил головенку.
— Хочешь, я тебе что-нибудь расскажу? Ну вот, жил-был один мальчик...
Много лет назад. Слушаешь? Вокруг него все было живое, настоящее. Кроме
людей. Они, конечно, тоже были живые, но жили в другом мире: болели,
плакали, сердились... И мальчик придумал: им всем надо рассказать, какой
красивый мир вокруг них. Он мечтал — вот он возьмет живую воду...
Побрызгает ею на них, и они все будут жить вместе с ним... Олежка?..
А ручка уже расслабла; Кузьмин осторожно устроил ее на кровати и
пересел на стул. Он бы выключил яркий верхний свет, но подумал, что если
Олежка вдруг еще проснется и увидит темноту, то может испугаться, и
оставил лампы зажженными.
Олежка еще спал, а у него менялось лицо — ровно сложились губы,
разгладилась морщинка на лбу — лицо стало взрослым и спокойным. Он
уходил.
«Прости меня. Прости мне».
.. . Когда пришел Вадик и деловито стал мыть руки, Кузьмин ровным
голосом сказал ему:
— Уже все. Двадцать три минуты назад.
— Можешь работать? — спросил Вадик.
.. . Через два часа он принес в лабораторию флакончики. Дмитрий
Иванович Филин, поднятый Кузьминым с постели, но бодрый и уже час
бесцельно переставляющий посуду, нетерпеливо протянул за ними руку.
— Я сам. Делайте все в дубль, — приказал Кузьмин ему, испуганно
поднявшему плечи и в растерянности переводящему взгляд с Вадика на
Кузьмина и обратно. — Что вы на меня уставились?! — заорал Кузьмин. —
На мне ничего не написано! Перепроверяйте меня!
Через полтора длинных сумеречных месяца в воскресенье, рано утром
придя на работу, он обнаружил, что торопился зря: и последние культуры
Олежкиных клеток, несмотря на все усилия их сохранить,
законсервировать, погибли. Он сделал контрольные мазки и убедился —
«включений» не было. Не было! Они должны были быть, а теперь,
оказывается, их нет. Чистый опыт, поставленный природой. Насмешницей.
Вот и все ясно. Чуда не получилось. Он сбросил флакончики в мойку и сел за
свой стол, спиной к двери. Уставился взглядом на фотографию Анюточки
под стеклом (этим летом, в траве, в венке из крупных ромашек, лукаво
усмехающаяся, она обрывала лепестки цветка), подумал: это конец... концы
в воду, и никаких следов...
В лаборатории было пусто и холодно — из-за больших окон, белого
кафеля, высокого потолка, из-за порядка на лабораторных столах. За спиной
щелкнул и тихо запел термостат Дмитрия Ивановича. Кузьмин оглянулся,
но справился с любопытством и не стал копаться в нем. На крючке висел
чистенький халат лаборантки, в его кармане торчала газета. Кузьмин с
трудом встал, прошел до вешалки и взял эту газету. Позавчерашняя,
зачитанная, она была свежей для него. Слепыми глазами он просмотрел ее,
всю в пометках для политинформации, прочитал отчеркнутый абзац:
«...Убийцы использовали подлый способ расправы — на имя Камаля пришла
посылка из родных мест. Дорогим, знакомым почерком было написано его
имя. И человек, принесший посылку, был знаком — земляк, почти
родственник. Камаль и его товарищи окружили стол, на котором лежала
обычная почтовая коробка, они шутили... Когда крышку подняли, раздался
чудовищный взрыв. Здание рухнуло...»
Кузьмин представил себе ослепительную вспышку, после которой
ничего не было — ни вопросов, ни соболезнований, ни боли.
Пришел Дмитрий Иванович, тихо переоделся за его спиной, проходя
мимо, негромко поздоровался (Кузьмин только мотнул головой) и сунул
нос в термостат. Кузьмин услышал стеклянный звон передвигаемых
флакончиков и ждал какого-нибудь восклицания — Дмитрий Иванович
всегда делал какие-то необязательные вещи — жесты или восклицания, —
и, не дождавшись, сказал:
— Приобщите к моим. Они в мойке.
— Почему? — отозвался через минуту Дмитрий Иванович. — Я их
отправлю цитологам, пусть посмотрят, в чем дело...
— Вы что, обзавелись фабрикой РНК? — через два дня, позвонив
Кузьмину домой, спросила знаменитейшая иммунолог. — Откуда ее столько
в этих дохлых культурах?
— Что? Что! — чужим голосом отозвался Кузьмин. — РНК ? !
День продолжился в ночь, без сна проведенную на кухне, в тишине,
среди редких сильных ударов капель о непомытую тарелку в мойке, с
гулкими, глубокими вдруг вздохами леса под окном, с редким просверком
света фар машин, по каким-то тревожным делам летящих по шоссе.
Ему не давала покоя мысль об этой РНК, неожиданно обнаруженной в
погибших культурах опухолевых клеток Олежки.
Я унаследовал РНК и память, подумал Кузьмин на тусклом туманном
рассвете, глядя на закипающий чайник. Все, что он мне оставил. Все, что у
него было, — так продолжилась мысль. Память во мне, а РНК — как посылка
из другой жизни, из-за черты обозреваемости, из-за границы между нами. И
тут же, по странной ассоциации, он понял, как это было! Приоткрыв
крышку, Камаль услышал легчайший щелчок и, читая глазами на листе
бумаги, прикрывающем динамит, «Умри!», все понял — и лег на мину,
расплачиваясь за доверчивость и чистоту.
И вдруг все стало ясно! Эта странная живая РНК в мертвых раковых
клетках — та же мина, смерть в знакомой упаковке. Раковая клетка, убитая
живой водой, изрыгает свой яд! «Боже! — подумал он. — Я в начале пути!
Моя живая вода — просто биологический стимулятор, не больше»...
В. А. тяжело опустился на лавочку, откинулся на ее спинку. Лицо у него
было спокойное. Мимо шли сотрудники института, где проходила
конференция, с любопытством поглядывали на В. А. — он только что
открывал заседание.
— Ну и что за беда? — не понял В. А . — Это наука. Милый, оглянись:
какой век на дворе! Они слушали меня, как... граммофон, хотя прошло
только тридцать лет. Что ты скажешь о сегодняшнем дне через тридцать
лет? И хорошо! — Он погладил Кузьмина по рукаву. — Можешь представить
себе, чтобы кто-нибудь случайно создал хотя бы твою живую воду? То-то! Я
уж не говорю про настоящую. Даже в сказках у нее три хозяина: баба-яга,
черный ворон и змей. А это вековой опыт, — засмеялся он. — Собери
миллион фактов, сложи из их мозаики узор — тогда и прочтешь
заклинание, формулу. А-а-а! Чего говорить, Андрюша! В одиночку?! Соврал
ты где-то.
Он совсем замкнулся — отгородился от мира, как бы затворив все двери
и окна, опустив шторы и выключив свет, — и, лишившись даже тени, стал
заново изучать свои владения, свой замкнутый мир, сейчас заполненный
мертвяще-плоскими, необъемными обозначениями предметов, явлений и
людей.
Он обнаружил, что его концепция, здание, выстроенное им, только
кажется крепким; что оно, как тот монастырский корпус, уже обречено из-за
своего неудобства, изжитости, множества перестроек, а теперь и населено
только призраками.
В сосредоточенности своей, ибо не было на кого оглядываться в этом
безмолвии, нарушаемом лишь шорохом истекающего в никуда песка-
времени, он переступил порог, заглянул, как в открывшуюся пустую нишу, в
будущее и, обретя в нем понимание конечности своих сил и желаний,
обрушил свой мир, свой дом, хороня под обломками и маленькую тайну и
легкую веселую надежду на удачу, на клад.
Попирая развалины концепции, он растолок в песок ее руины — и
споткнулся об уцелевший неуклюжий обломок. Он перенес на него всю
ярость и ненависть и обратил его в округлый, алмазной твердости голыш,
который легко и незаметно для других можно было бы зажать в кулаке или
спрятать; но он жег ему руки и оттягивал карман. Он стал изучать его, и все,
что он наработал, уместилось в конце концов на страничке очень сухого
текста. И переписывая эту страничку много раз и исправляя до
бесконечности, до утраты смысла, испытывая болезненное наслаждение от
постепенного сокращения текста до полстранички, до абзаца, он трудно
восходил по спирали, пока наконец, с другой высоты оценив свой результат,
не сформулировал одну длинную фразу, смысл которой был понятен только
ему. Он написал ее на отдельном листочке, который положив начало его
секретному архиву, и в тот же день отдал материалы Маньяку.
Одинокий — тот же сумасшедший!
Какое-то время он ненавидел Наташу — за ее ежевечернее неделикатное
подглядывание в пустой лист бумаги, за вопросительно округлившуюся
бровь, за то уловимое, но неуличимое пренебрежение, насмешку над его
муками, за озабоченность мелочами, за то, что она подсылала к нему
Анюточку, а по воскресеньям гнала его гулять с ней в парк, тащила в гости и
была, была все время рядом, когда ни оглянись! С пугающей ясностью ему
открылась вдруг их антиподность, и в великом презрении к себе, слепцу и
недоумку, он странно вознесся в ледяное безразличие к ней. Но с последней
точкой, поставленной в отчете, только ее близость, спокойная уверенность
в неизбывности творящего жизнь мира поддержали его. В нем забрезжило
понимание великой силы жизнеутверждения.
— ... Изумительно! — сказал Маньяк, снимая очки. — Вы вскрыли новый
слой. — На его кривом лице светились глаза. Да он же красив, удивился
Кузьмин. — Вы что, не понимаете, что теперь попали в учебники? Выходит,
Коломенская-то не права!.. Столько лет!..
— Вы верили в нее? — подался вперед Кузьмин.
— Нет. — Маньяк затряс головой. — Но любой путь, пройденный до
конца, исчерпывает себя, и это тоже польза. Если заблуждения искренни и
бескорыстны, надо дать им место. Я и о себе говорю. А у вас двойная удача:
утвердили и опровергли.
— Удача? — въедливо спросил Кузьмин. — Вы смеетесь надо мной?
— Вы... чудак. — Маньяк непонимающе смотрел на Кузьмина. — Я не
хочу вас обидеть... Мне бы так повезло! За любую цену.
— Любую? — переспросил Кузьмин.
Он с трудом досидел до конца рабочего дня, а назавтра с утра пошел в
поликлинику. Больничный лист ему не дали.
«Ну, астения, — сказала врач. — У половины нас астения. Возьмите,
коллега, отпуск или смените работу...»
Окаменевший, он приехал в институт и сразу же был приглашен к
Кириллову.
— Поздравляю вас! — Кириллов, костистый, непоколебимый, стоя
протягивал ему руку, и Кузьмин машинально пожал ее.
Он много раз потом вспоминал, но не мог вспомнить эту минуту, как
будто рукопожатия не было — у ладони не осталось памяти от его сильной
теплой руки, такой дружеской, легкой.
— Очень устали? — Кириллов положил ему руку на плечо, и в этом
несвойственном ему жесте была та правда внимания и уважения, которая
едва ли передаваема словами. — Мне хочется поговорить с вами, пока все
еще горячо. Похоже, и вы хотите что-то сказать? — Он говорил это и
улыбался ему, как ровне. — Говорите, Андрей Васильевич!
Они сели в кресла напротив друг друга, и Кузьмин, чтобы не отвлекаться,
сцепил пальцы, стал смотреть в окно.
— Не волнуйтесь, — сказал Кириллов; он встал и отошел к книжному
шкафу, чтобы оказаться в тени, не мешать Кузьмину.
— Сейчас, сейчас! — сосредоточиваясь, сказал Кузьмин. — Вот! Все
замкнулось на этой РНК: она первое звено в какой-то новой цепи, может
быть, очень длинной, может быть, ведущей к истоку. За нее надо хвататься
и идти — мой метод вам хорошо подходит. Как, знаете, странно! —
вглядываясь в лицо Кириллова, пробормотал он. — Я думал о другом, а
пригодился он здесь. И вот что еще — я выбросил тогда флакончики. А РНК
нашли в препаратах Филина. Я настаиваю, чтобы было отмечено его
авторство. По небрежности могло случиться...
— Еще месяц назад Филин принес мне объяснительную записку. —
Кириллов выдвинул ящик стола, достал обыкновенную канцелярскую
папку и положил на нее руку. — Он пишет, что по вашему же приказу
перепроверял вас. Андрей Васильевич!..
Кузьмин провел рукою по лицу, отвернулся.
Кириллов включил настольную лампу и поправил ее абажур так, чтобы
свет падал только на пол.
— Я не могу работать по этой проблеме, — тихо сказал Кузьмин. —
Начав, я еще не знал, не понимал, что это такое, Олежка...
— Наше дело кровавое, — отозвался из сумрака Кириллов. —
Обоюдоострое. Но... ведь сказано было: наслаждение разума — познавать и
отдавать, а долг души — настаивать и терпеть. Долг и наслаждение. Сердце
и разум. Вместе, но сердце — впереди. Поэтому мы за все дорого платим Вы
хотите уйти? Сейчас? Когда... Доказав существование РНК? — Кириллов
вернулся в кресло Глаза его над твердым малоподвижным ртом странно
горели
— Поймите меня! — воззвал Кузьмин, подаваясь вперед. — Я не могу — я
пустой! Без желания, смысла, надежды... И я связан — это все-таки не моя
тема. И еще... Хотите, признаюсь? — Он криво усмехнулся скорчившимся
ртом. — Может быть, это объяснит — от моей теории осталась одна фраза,
а? Опроверг сам себя! Нетипичный случай, да? — Он хрипло засмеялся.
— Не стану вас утешать, — нескоро дошел до Кузьмина голос Кириллова.
— Никто ничего не знает про себя. Иная фраза стоит целой теории. Вы
знаете — природа не дублирует. Знаете это на всю глубину аксиомы. А вы
ученый. И не по должности. А, значит, носитель неповторимой, уникальной
особенности... Верно, у каждого из нас есть своя тема, предназначение, но и
долг, свой крест, — грустно сказал он. — И любой другой — не по силам, как
в притче. Мне некем вас заменить, — как будто предупредил он Кузьмина.
— Подумайте...
Кузьмин пожал плечами, встал и отошел к окну. В институтском дворе
галдели — разгружали ящики с новым оборудованием. Тут же Дмитрий
Иванович любовно поглаживал громадный кожух ультрацентрифуги.
— Поверьте мне, — сказал Кириллов, — когда кто-нибудь сделает за вас
вашу работу и вы поймете, что работа сделана плохо, что тот шаг, на
который — случаем, обстоятельствами — были предназначены вы, никто
не сделал... и время упущено, крест вас раздавит. Такое бывало...
— Я не могу. Клянусь вам, — сказал он, подходя к Кириллову, чтобы
пожать ему руку, достойно попрощаться, — даже если бы речь шла о моих
родителях, даже если бы!.. — Он задохнулся. — Я не боюсь ответственности,
нет! У меня нет сил! И права: кто мне его даст? Вы? Кто-то другой? Никто.
Они стояли рядом, равновысокие, но Кузьмин не мог дотянуться
взглядом до его лица: Кириллов становился все выше и выше, огромным.
— Ну, что ж! — ровно сказал Кириллов, уходя от него и садясь за свой
директорский стол. — Актриса ошиблась — для вас мир все-таки разделен
на свое и чужое. — Он не гнал Кузьмина, он ждал, когда Кузьмин уйдет сам.
— А право завоевывают в борьбе. Это азбука.
— Я готов помогать вам лабораторными исследованиями, — сказал
Кузьмин уже от двери.
— Благодарю! — отрезал Кириллов.
— .. . Да-а, жесткая вещь — наша профессия. — Маньяк опустился в кресло,
то самое, в котором только что сидел Кузьмин, выключил настольную
лампу, вытянулся — в эти часы он часто заходил к Кириллову, отдыхал
душой. — Мы — погубители чужих работ, идей, репутаций.
— Дутых, — скупо отозвался Кириллов Он стоял у окна, глядя в
пустынный институтский двор. Там бегал шалавый черный пес, гонялся за
сухими, шелестящими листьями и играл ими.
— Он, как... не найду сравнения. Что-то испепеляющее. Сколько же судеб
он изменил? А сам...
— Просто везло — ни с кем не пересекался. А вот случилось.
— А мне жаль его, — в тишине сказал Маньяк. — Красивый талант. А
надорвался на чужом.
Кузьмин вернулся к Герасименко, на прежнюю должность.
— Полезно иногда проветриться, — дружелюбно сказал Герасименко. —
Но он отводил глаза, смущался, руки его беспокойно шевелились. —
Подтолкните своих ребят — что-то они запутались. — Герасименковское
«вы» коробило, казалось, оскорбляло.
.. . Не скоро ушли угрюмость и ожесточение, подозрительный взгляд и
сухость. Но росла Анюточка, поражая его самобытностью, свободой, с
которой она жила в этом угрожающем мире, естественностью, с которой она
воспринимала его. И рядом была Наташа, все менявшаяся. И тайна их бытия
возвращала Кузьмина к жизни. Ужасное напряжение последнего года
рассеивалось, время от времени появлялось желание позвонить Дмитрию
Ивановичу, узнать новости, подсказать какие-то подспудно додуманные
мелочи, но он сдерживался, помня их холодное прощание.
Его переписка с Коломенской оборвалась — она не ответила ему на
последнее письмо: «...мы тратились на погоню за призраком. Меня не
хватает на то, чтобы все связать: удачи и никчемность «розочек» и
«включений», эту проклятую РНК и токсический эффект живой воды. Надо
думать. Я ушел из института».
Его тянуло к прошлому: он снова стал встречаться с неунывающим,
вернувшимся на работу В. А ., увиделся с Тишиным и даже, наткнувшись в
курительном холле библиотеки на испугавшегося Федора, спокойно
поговорил с ним.
Он стал болезненно чувствителен к музыке (ночные программы «Маяка»
— элегичные, нежно-грустные — доводили его временами до слез), к
воспоминаниям — он вдруг разыскал (в доме ветеранов войны) дядю Ваню,
довольно бодрого и веселого, выпил с ним вина и вернулся домой каким-то
расплющенным.
С ним что-то происходило: он стал часто по-детски трудно болеть; всегда
невнимательно-поверхностный, теперь он остро, наравне с родителями,
переживал выходки беспутного Николашки. А поверх всего — уже стал
задумываться над цепью случайностей, над невозможностью совпадений
удач и провалов, и над жалостью к себе поднимались снова еще зыбкие,
новые построения.
Однажды в воскресенье они всей семьей съездили за город, под Рузу.
Наслушавшись в свое время рассказов Кириллова и Вадика, он захватил с
собой наивное удилище с пробковым поплавком. Ему повезло — был клев, и
он пристрастился к рыбалке. К осени он стал законченным рыболовом:
обзавелся снаряжением, читал специальный журнал и не хвастался на
работе добычливыми местами.
Эти еженедельные вылазки как будто измучили Наташу (убедившись,
что он отвлекся, что здесь у него, часами сидящего с удочками, не бывает
того страшного опрокинутого лица, и угадав его желание), она стала
отпускать его, терпя страх до той минуты, пока не узнавала его шаги от
лифта к двери.
А он, разложив тихий костерок, валялся на бережке и, всегда мало
надеясь на удачу, варил брикетную кашу; и, будь то дождь или солнце,
возвращался домой хоть чуть-чуть, но распрямившимся. Он не признавался,
что там, особенно если на его глазах менялась погода, вдруг поднимался
мощный, порывами ветер, находили клубящиеся тучи и проливной дождь
зло лупил по равнодушной земле или, наоборот, ненастье сменялось
откровенной, щемящей, предзакатной розовой ясностью, в поднимающемся
с земли тумане наплывали тончайшие запахи, и тихо расправлялась трава,
— там, отторгая что- то изначальное и нежное, в нем поднималась
целительная боль и сладко мучила его. Он подчинялся ей, и она, как музыка,
уводила его — в мечты, к мудрости всепонимания. Там спланировалась
новая программа исследований — лабораторных, безопасных, однозначных
по результатам. И там он догадался о значении РНК, внезапно и верно:
зачерпывал котелком воду из реки и замер — будто упала пелена и он
увидел.
.. . Наташа позвонила ему на работу, прочитала телеграмму от Любочки.
Он бросился к Герасименко, вызвал его из кабинета в коридор:
— Умерла Коломенская!..
— Все, — скривился Герасименко, вздохнул. — Все, Кузьмин! Можно
ставить точку. Поздравляю!
— С чем? — ахнул Кузьмин и едва не взял тучного Герасименко за
лацканы пиджака.
— Ладно-ладно! — Герасименко похлопал Кузьмина по плечу. В хитрых
его глазах ничего нельзя было прочесть. — Мы все знаем о ваших заслугах.
— О каких заслугах? Вы на что намекаете? — закричал Кузьмин. В конце
коридора мелькнуло знакомое лицо и спряталось. Открылась соседняя
дверь и захлопнулась...
— Доказали псевдонаучность ее направления.
— Будь я проклят! — сказал Кузьмин сквозь зубы, ударил кулаком по
стене. — Б удь я проклят!..
— Поедете на похороны? — с любопытством спросил Герасименко.
— Я порядочный человек, — сказал Кузьмин. — Я и речь скажу. Если
слово дадут.
.. . Было холодно, все время начинал сыпать мелкий дождь; все дорожки
на кладбище были в грязь истоптаны. На ветках лип сидело множество
ворон и наблюдало за копошившейся внизу толпой. Когда бухнули
колокола на маленькой церквушке, вороны даже не взлетели. Они
закаркали, засуетились, едва лишь толпа отхлынула от могилы, заваленной
венками, и все поднимали головы, потому что всем, как и Кузьмину,
казалось, что в этом карканье слышатся издевательски-радостные нотки.
Поминки были в большом доме покойной.
Любочка, отозвав Кузьмина на кухню, сказала:
— Я не говорила ей и то письмо не показала. — Она вернула Кузьмину
распечатанный конверт с измятым письмом. Любочка была так худа в
черном, мешковатом платье...
— Спасибо тебе, — тихо говорил Кузьмин. — Что же будет, Любочка?
Хочешь, я поговорю, перейдешь к Кириллову? — Он вглядывался в ее лицо.
— Что я там делать буду, Андрей Васильевич? — сказала Любочка. — Я
же на подхвате была. — Она помолчала. Она уже пожалела об этом...
— Что же ты будешь делать? — спросил Кузьмин, беря ее руки. —
Будешь продолжать? Не надо.
— Я знаю, — кивнула Любочка. — Жалко только, что мы надеялись.
Много народа пришло, правда? И Федор из Москвы с кем-то приехал...
Кузьмин догадался — в толпе он видел энергично скорбящего товарища
Н.
— Я вам все испортил... — К узьмин отвел глаза. — Но знаешь, эта РНК...
— Что вы, Андрей Васильевич, не надо. — Любочка наконец посмотрела
на него, и он ладонями почувствовал вступившее в ее руки тепло. — . . . Как
вы? — шепотом спросила она. В ее зеленых незаплаканных глазах была
открытая любовь, и только. Она развязала черный платок, взяла его в руку.
— Я в порядке, — кашлянув, сказал Кузьмин.
На кухню вошла измученная Актриса; ее строгое лицо было по-бабьи
мягким, кротким, может быть, из-за такого же черного платка, что и у
Любочки. Она брезгливо отстранилась, когда Кузьмин потянулся к ней
рукой.
— Воркует? — с усмешкой спросила она, не глядя на отшатнувшегося
Кузьмина.
— За что же ты его так! — вдруг заплакала Любочка, содрогаясь
худенькими плечиками, и черный платок упал на пол. — Сегодня! Она
простила, она! А ты не можешь... Ну что он такого сделал?
— Перестань! — Актриса обняла Любочку, ладонью вытерла ей лицо. —
Не плачь над ним, плачь над ней. Почему ты над ней не плачешь? —
спросила она, ужасаясь. — Расскажи ему все, ну, расскажи! Или я расскажу!
Говори!
— Я читала ей ваши письма, — захлебываясь, из-за спины Актрисы
говорила Любочка. — Да, писала их и читала. Она улыбалась, да! —
торопливо, убежденно бормотала Любочка.
— О-о -о! — воскликнула Актриса, повернулась лицом к Кузьмину, и
ярость вспыхнула в ее глазах. — Он не понимает! Не понимаете?
Перечеркнуть все — все! — о чем она мечтала. И умыть руки!.. Он
разочаровался!.. Это... Я . . . — ск аз ала она, приближаясь в Кузьмину, — я жива!
И останусь жить, чтобы быть вам укором, напоминанием, проклятьем! Вы
ударили ее последний — значит, она умерла из-за вас! Как называется ваша
роль? Только это была не роль!
— Ну, замолчи же! — разрыдалась Любочка и встала между ними,
прижимаясь к Кузьмину спиной. — Не слушайте ее, Андрей Васильевич! Она
умерла спокойной, да! Почему вам надо взять этот груз на себя?.. Ну, скажи,
почему ему? — спросила она Актрису звонко.
— И вправду, — вдруг успокаиваясь, сказала Актриса. — Почему?
Но еще мгновением раньше вокруг них что-то изменилось. Они
оглянулись на дверь—там, привалясь плечом к косяку, стояла Наташа и
незнакомой глубины взглядом смотрела на Актрису и Любочку, — и они
притихли.
— Идем, Любаша, — со вздохом сказала Актриса. — Надо начинать. Все
собрались.
Любочка подняла с пола платок и покорно пошла за ней, мимо
непосторонившейся Наташи. Кузьмин усмехнулся белыми губами:
«Спасла?»
.. . За столом было тесно. Он сидел с краю, один: Наташа помогала
женщинам на кухне.
Тихо было за столом. Тихо говорили о покойной. Но прорывалось: «Этот,
этот!.. С краю сидит... Пусть скажет». Сердце Кузьмина онемело от боли.
«Ну, вот он — я . Казните! Но что же делать, если это тоже война — наша
работа. И в ней есть свои амбразуры и минные поля. И ловушки. Но я знаю
— она сама хотела найти истину», — вот что он сказал бы, запинаясь и
проливая водку, если бы его подняли и спросили. В духоте, Наташей тепло
одетый, он вспотел и, как-то недостойно суетясь, хватив наскоро несколько
рюмок, вышел покурить.
На крыльце, молча рассматривая моросящее дождем низкое небо,
докуривали Федор и Н.
— А-а -а! — обрадовался Кузьмин. — Вот и вся шайка в сборе! —
Плюгавый мужчина Н. внимательно посмотрел на него.
— Да вы не обижайтесь, ребята! — сказал Кузьмин. — Я же свой парень!
Венок у меня, правда, меньше вашего, но слова правильные на ленте, будто
у вас списал. — Сквозь дымку в непрестанно слезящихся глазах он
перехватил умоляющий взгляд Федора на Н. — Ты меня извини, Федор. —
Федор осторожно кивнул. Он сглотнул слюну и как будто хотел что-то
сказать, но оглянулся на Н. и сник. — А хорошо я вас подкузьмил, а, товарищ
Н.? — Кузьмин хохотнул. — С РНК, а?
Н. слушал молча, с терпеливой любезной улыбкой. Кузьмин постарался
осклабиться как можно более похоже. Его качало из стороны в сторону, и он
схватился за скрипнувшие перильца.
— А ведь ты, выродок, сопьешься, — как -то отстраненно рассматривая
его, сказал Н. очень веско и увел оглядывающегося Федора в дом.
Кузьмин довольно долго стоял на крыльце, прищуриваясь время от
времени на калитку — для координации, — и вспоминал: кто же его еще
называл так? Его уже тошнило и бросало в пот, но он вспомнил: так кричал
отец, когда он, Кузьмин, не мог объяснить, почему же он однажды взял и не
пошел в школу: ведь все уроки были приготовлены и он так хорошо знал
эту прямую дорогу!
Потом на крыльцо выбежала Наташа и, сразу все поняв, увела его за дом.
На следующий день Кузьмины уехали в деревню, навестили Наташину
мать. Вдоль дороги тянулись мокрые осевшие поля и сонный лес, такой
покойный, вечный. Захотелось уйти, раствориться в этом покое, слиться с
ним и не знать, ни что будет завтра, ни потом.
В Москву вернулись в пятницу; чихающий, с гудящей головой Кузьмин
провалялся всю субботу в постели, не позволяя приближаться к себе
Анюточке и вяло обдумывая предстоящий на следующей неделе доклад в
Академии, но в воскресенье утром, приободрившийся телом и
распластанный духом, он суетливо собрал свой рыболовный инвентарь. Он
уже натягивал в прихожей штормовку, когда вышла Наташа, встала у
косяка, сложив руки на груди.
— Хоть бы дома побыл, — сказала она, следя за ним потемневшими
глазами. — То тебя от Аньки не отдерешь, то сбегаешь, неделю не повидав...
— Ты что, не видишь, в каком я состоянии?! — взревел Кузьмин. — Могу
я собой распорядиться когда-нибудь? — Она горько усмехнулась и ушла в
комнату. Высунулась Анюточкина головенка, поморгала глазками,
поморщила носиком.
— Нюрка! — шепнул Кузьмин. — Я тебе живую рыбку привезу, ладно?
— Не надо, — попросила Анюточка. — Живая ведь рыбка! Скоро
придешь?
— Девушки мои, — сказал Кузьмин, приваливаясь к стене. — Отпустите
меня, одному мне побыть надо! — И ушел.
Растревоженный, по дороге к водохранилищу, Кузьмин купил в магазине
бутылку водки — бил озноб, его ломало — и еще днем почти всю ее выпил.
Ночью вызвездило — он не спал, хотя вставать надо было рано, чтобы
поспеть на работу. Лежал на спине, вспоминал созвездия, герасименковский
гороскоп. «Жулье! — думал он. — Всего не учтешь. И чей путь написан на
звездах? Миллиарды душ были до меня и будут после меня, но что осталось
от них на земле и на звездах бессмертного? Как странно, — подумал он. —
Когда я не имел ничего, казалось — я владел всем; теперь, когда я могу
утешиться РНК, я пуст. РНК уже существует помимо меня, крупица истины.
(... — Но какими бы буквами ни было что-либо однажды объявлено, — все
когда-нибудь уйдет в сноски, в комментарии, — давным-давно говорил В.
А., бледнея. — Но не обратится в пыль, и ветер Времени не сдует ее со
страниц книг — если это истинно и существует именно в том виде, в
котором было однажды сотворено по звездному рецепту и до тебя было в
тайне, а теперь стало известно — навеки, навсегда, покуда будет Солнце и
Земля и не прекратится род человеческий, — и бессмертно! Вот что такое
Наука, Андрюша). Узнать, был ли я прав? И так навсегда не права
Коломенская? Ну, останови время, Фауст, — засмеялся Кузьмин над собой.
— Ничтожество!»
Потом он допил водку, прилег у костра — и заснул тяжелым пустым
сном, а проснувшись, почувствовал ужасный холод и сырость, боль в спине
и груди. Он побегал по бережку, пытаясь согреться, потом взбодрил
костерок — и все под моросящим дождем. Озноб не проходил, наоборот,
волнами пробегал по телу, что-то мучительно напоминая.
С воды на берег медленно и неотвратимо наползали клубы сырого
тумана, холодный белый диск солнца едва обозначался за низкими тучами.
И за спиной был глухой и сырой лес. Собирая снасти, Кузьмин промочил
рукава куртки, и вода обожгла его. Тогда он подумал, пряча страх: надо
уходить и быстро. Кое-как запрятав в незнакомых кустах удочки, надувной
матрац и котелок, он пошел к шоссе, срезая угол, через лес, но еще сильнее
промок, замерз, побежал, не следя за ориентирами, и, обессиленный,
очутился на этой полянке.
.. . А сейчас он сидел невдалеке от стожка, окруженный туманом,
задыхающийся в нем, и ждал повторения крика. Потом он вернулся, дополз
до стожка, привалился к нему и, смертельно боясь уснуть в этой мертвой
тишине и мраке, домучился до утра. Борясь со сном, часто спрашивал себя,
иногда вслух: «Какое сегодня число?» — и запутывался. А под самое утро,
захлебываясь в холодном тумане, сказал во тьму: «И это все?»
И, как после крика о помощи, все, о ком он сейчас вспомнил, пришли
сюда и держали его, не давали провалиться в тяжелый черный сон,
теребили его сердце, замирающее от слабости. Он водил глазами по их
лицам, таким разным, пытался услышать то, что они говорили, кричали,
шептали ему...
«Почему они держат меня? — удивился, подумал он об Актрисе и Н. — А-
а-а! После меня, уже потом, они соберутся, объединенные мной,
отсутствующим, Филин встанет на мое место, Н. раскроет мою тетрадь, и
они повторят мой путь до конца, до тупика — ведь я не успел записать об
РНК...» — застонал он.
— Держите меня! — сказал он. И держался сам.
Утро пришло неожиданно: только что, с трудом открывая глаза, он едва
различал очертания опушки леса, смутные тени, — и вдруг над ним
оказалось высокое, серое с голубизной небо, он увидел заиндевевшую
солому и клочки посеребренной травы. Туман исчез, дышалось легче.
Солнце еще не вышло из-за деревьев, еще только розовели их верхушки,
и молодые елочки на опушке были дымчато-серыми, поникшими.
Кузьмин задвигался, зашуршал сеном, и тут опять раздался крик. Он
встал и, кренясь то вправо, то влево, добрался до елочек, уцепился за них.
Крик раздался над головой. Поднимая голову, Кузьмин зашатался, упал,
перекатился на спину; готовый ко всему, переждав боль, он открыл глаза.
Над ним сидела тощая ворона и, вобрав голову, испуганно смотрела на него.
Потом она подняла клюв и жалобно крикнула в пустое небо. Он засмеялся;
сначала тихо, а потом все громче. Встал, сгибая елочки.
Прекрасный мир стоял у него перед глазами, чистый и холодный.
Солнце, наливая светом лес, играло на застывшей ломкой траве, на
многоцветной опавшей листве, согревало шляпку старого повалившегося
гриба, брызгалось из капельки-дождинки, застрявшей в паутине. А там, за
стожком, раскаленная докрасна, в резной пурпурной листве стояла калина,
и все оттенки красного разбегались от нее в стороны, как от высокого
жаркого пламени.
Великий мир был прекрасен и тих, и Кузьмин улыбнулся ему
одеревенелыми сухими губами.
Огненная калина на другой стороне полянки казалась костром, и он
пошел к ней, все торопливее ступая; шатаясь, привалился всем телом к
упругим живым ее веткам и поймал губами гроздь налитых ягод. И,
зажмуривая глаза, в наслаждении изумляясь силе сладко-горького вкуса
сока жизни, упиваясь его многосложностью, теперь рукой он грубо смял
ягоды. Живое тепло вошло в его пальцы.
Солнце встало над верхушками деревьев, погладило его небритое,
иссохшее лицо, согрело, и долгожданная свобода слабостью тяжелеющего
тела, туманящейся головой и предчувствием сладкого долгого сна пришла к
нему.
Он вспомнил: в то первое утро после проводов родителей за окнами
крестниной комнаты солнце так же торжественно и нежно заново творило
мир, открывая его ярким и ясным, незнакомым и неожиданным.
«Вот теперь все!» — понял Кузьмин без страха, потому что стало легко; и,
теряя отболевшую, умершую свою часть, обретая свое единое больное тело,
тянувшее его к земле, он уступил — заснул, не слыша приближающиеся
знакомые голоса. На миг, пораженный шаровой молнией, умер. И проснулся
в слезах.
15
Не больничными испытаниями, не долгой болезнью и не мелочными
волнениями бытия, а новизной ощущений, новыми мерами боли и радости,
ненависти и любви, времени и масштаба началась его вторая жизнь. А еще
прежде он услышал: кто-то счастливо смеялся неподалеку. «Хочу туда!» —
сказал себе Кузьмин.
Дня не проходило, чтобы к Кузьмину не было посетителя. Но только
Актриса не давала о себе знать — и, получив однажды в передаче банку со
знакомым вареньем, он подошел к окну. Актриса, присев у подмороженной
кучи старых бурых листьев, раздувала под ней огонь... Она ждала Кузьмина
там, за стенами клиники. А сейчас улыбнулась ему, благодарно кивающему,
улыбнулась, как ребенку, утешившемуся малым. И он свободно и легко
улыбнулся ей — Наташа уже увезла его письмо Кириллову. Назавтра тот
приехал. За ним в палату вошли Маньяк и откровенно радующийся
Дмитрий Иванович.
За окном два часа шел тихий упорный снег, пушистый валик нарос у
стекла — зима подступала строгая, белая, а они все говорили: о цели, о
тактике...
«Папа!» — крикнула с улицы пунцовая от возни в снегу Анюточка.
Хлопья падали в ее подставленные ладони. Кириллов, из-за плеча Кузьмина
глядя на нее, улыбнулся:
— Ягодка на снегу.
— Свет мой ясный! — шепнул Кузьмин. — Так вот, первоочередное... —
глядя на дочку, говорил он.
Он жил еще только свой тридцать четвертый год, и ему казалось —
долго: так много он уже знал, так много раз изменялся, отрекаясь от себя
прежнего. Но — «на алмазе след оставит лишь алмаз» — теперь ему
открылось, что он остался прежним: все, на кого он хотел походить, стали
всего лишь его гранями.
Как безличный кристалл, скрипя и воя меж гранильных камней, брызжа
искрами, превращается в чисто светящийся изнутри, чуткий к звездному
свету бриллиант, обретает стократную ценность и завораживающую взгляд
законченность, так и талант Кузьмина освобождался от изначальных
несовершенств. Счастливчик, так рано узнал наконец он душевный покой:
закон бытия — преодоление себя в следовании цели — был усвоен им.
Охраненный величием и мощью своей державы, любовью и нежностью,
Кузьмин жил, исповедуя, что мир неделим для тех, кто часть его, что долг
души — настаивать и терпеть, а наслаждение разума — познавать и
отдавать.
Он шел к ясной далекой цели, опять и опять опровергая себя, рождая
блистательные идеи. Какие слова подставят к его имени! В каком ряду оно
прозвучит...
Но нет! Не Кузьмин, а тот, другой, некогда узнанный и взлелеянный им
талант, явившийся новый гений, пройдя по стопам своих предтеч, освоив и
опровергнув их попытки, прогремев, как шаровая молния, дойдет до цели
— ибо цепь попыток и не утраченных для человечества жизней создает
знание и энергию, сродни тем, которые подняли человека с четверенек — в
небо...
«Скорби, что ты каприз случайный природы — матери всего. Скорби, что
воздух, солнце, тайны — тебе случайно все дано. Гневись на это,
поднимайся и из крупицы развивайся — в жемчужину, в кристалл, в зерно!»
«ЮНОСТЬ», No 1, 1979
1. марш-бросок
— Рота-а -а!!! В ружье!.. — не прозвучала — пронзила Алешкино сознание
команда дневального. Спрыгнув со второго яруса койки на пол, он в
полутьме рукой нащупал табурет, на котором аккуратной стопкой было
сложено обмундирование, быстро схватил его и принялся напяливать на
себя.
Сосед по койке Ахмед Джанибеков больно толкнул локтем — голова
окончательно прояснилась. Брюки — раз, куртка — два. «Теперь сапоги.
Только бы успеть, только бы успеть». Лихорадочно ухватив портянку,
Алешка Седых одним движением обмотал ею ступню и сунул ногу в сапог.
Моментально тем же способом натянул и второй сапог. Взяв ремень и
пилотку, выдернул из-под койки вещмешок, бросился к «пирамиде» с
оружием. Краем глаза успел заметить, что Ахмед еще возится с пуговицами
на брюках.
Рванув крышку «пирамиды», отбросил ее вверх. Автомат на плечо,
противогаз — на другое. Теперь самое противное, как считал Седых: штык-
нож, подсумок с магазинами, шанцевый инструмент. Как долго с ними
всегда приходится возиться — ужас. Дрожащими от волнения руками
нанизал все это на ремень и бросился в сторону от «пирамиды». На ходу
поправляя сползшую с плеча лямку сумки противогаза и застегивая ремень,
выскочил из казармы. «Старики» уже стояли в строю. «И как это они
успевают? — удивленно подумал Алешка. — Ведь всех раньше, кажется,
вскочил, а они уже тут».
— Опаздываете, рядовой Седых, — суровым голосом произнес стоящий
перед строем и смотрящий на секундомер старшина. — Пооперативнее надо
работать,
«Опять придирается, — с раздражением подумал о нем Алешка, занимая
свое место в строю. — И что я ему плохого сделал...»
Через несколько секунд вся рота была в сборе. Строгим взглядом окинув
строй, старшина зычным голосом скомандовал:
— Рота-а -а! Равняйсь! Смирно! — И не спеша, внимательно осматривая
солдат, пошел вдоль строя.
«Сейчас наверняка подойдет ко мне и к чему-нибудь придерется. И что за
человек. Вечно мною недоволен, вечно ему что-то не так. Чего он меня так
не любит?»
Алешка служил уже второй месяц и, как ему казалось, с первого же дня не
понравился своему старшине. Всегда придирается к нему, делает
замечания: неправильно честь отдал, неправильно обратился, неправильно
отошел. До наряда вне очереди, правда, дело еще не дошло, но гроза уже
надвигалась. Алешка это чувствовал. «Вот и сейчас, всех пройдет, а возле
меня обязательно остановится, — думал он. — Чем-нибудь я ему
обязательно не понравлюсь. Такое уж, видно, создание — этот старшина.
Если не взлюбит — то до конца. Эх, не повезло со старшиной».
— Рядовой Седых, что у вас за вид? — сурово заговорил старшина,
остановившись напротив. — На каком плече должен висеть противогаз?
Почему пуговицы обмундирования расстегнуты? А это что такое? —
Нагнувшись к Алешкиному сапогу, старшина двумя пальцами потянул
торчащий из голенища кончик портянки.
«Вот оно, начинается. Никому ни слова, а мне целую кучу замечаний».
— Вольно! — скомандовал старшина. — Обмундирование и снаряжение
привести в полный порядок!
Алешка торопливо перебросил лямку сумки противогаза с одного плеча
на другое и быстрыми движениями пальцев принялся застегивать
пуговицы своего обмундирования. Едва он застегнул последнюю пуговицу,
раздалась команда:
— Равняйсь! Смирно!
Алешка вытянулся и замер.
— Нале-во! Шаго-ом марш!
Через несколько минут рота была за пределами военного городка.
Вышагивая по пыльной дороге, он на ходу засунул портянку поглубже в
сапог и время от времени бросал взгляды на шагающего сбоку старшину.
«Ишь какой, — неприязненно думал Алешка. — Ручищи что кувалды, а ноги
как у слона. Такому можно хоть сто километров без отдыха шагать. И вечно
придирается».
Неожиданно ему вспомнилось, как старшина сделал первое замечание.
Их рота построилась на обед. А перед построением Алешка не успел
почистить сапоги, что обязательно надо делать. Уже в строю он потер ногой
об ногу, стараясь смахнуть пыль. Спереди сапоги вроде заблестели, но вот
сзади... Сзади на них лежал густой слой пыли. «А-а, сойдет, — подумал он. —
Авось, не заметит». Но старшина, осмотрев строй, внезапно приказал: «Кру-
гом!» И вся грязь и пыль Алешкиных сапог бросились в глаза. Наряд он ему
в тот раз не объявил, но внушение сделал серьезное. Алешка до сих пор
помнит его строгий колючий взгляд.
— Рота-а -а! Бего-ом марш! — скомандовал старшина, прерывая его
воспоминания.
«Вот оно, начинается, — недовольно подумал он, — сейчас будет, как в
бане. Ох, старшина, старшина...» И Алешка учащенно заработал ногами.
В строю бежать тяжелее и в то же время легче. Тяжелее — потому что
нельзя самостоятельно выбирать себе дорогу; нельзя петлять, словно заяц.
А легче — потому что постоянно ощущаешь локоть товарища, и в прямом и
в переносном смысле этого слова. В трудную минуту, когда кажется, что нет
больше сил, когда уже задыхаешься и чувствуешь, что вот-вот готов
свалиться замертво — глянешь на соседа справа, на соседа слева, и будто
открывается второе дыхание. Они-то ведь бегут — и ничего, а ты чем хуже?
Алешка знал это еще с учебного пункта. Именно это во время бега
прибавляло ему сил, не давало свалиться под ноги своим товарищам,
заставляло бежать, бежать и бежать. До тех пор, пока не звучала команда:
«Стой!» Вот и сейчас, правой рукой сжав ремень автомата, а левой
прижимая к бедру сумку с противогазом, он бежал и ждал только одного:
команды «стой» или же в крайнем случае «шагом марш».
Но старшина скомандовал:
— Газы!
Это слово прозвучало резко, хлестко, для Алешки оно было словно
пощечина. «Вот когда начинается «баня», — машинально подумал он,
выхватывая из сумки шлем-маску противогаза и натягивая ее себе на лицо.
Дышать сразу же сделалось тяжело. Стекла очков мгновенно запотели и все
вокруг поплыло, как в тумане. «И кто только изобрел эти проклятые
намордники? Самого бы изобретателя сюда. Нет, не изобретатель виноват.
Ох, старшина, старшина... А может, и не старшина».
— Подтянись! — услышал Алешка голос старшины. — Шире шаг!
Когда рота пробежала километра три-четыре, Алешка почувствовал, что
его начинает подташнивать. Дышать становилось все труднее и труднее.
Стекла шлем-маски окончательно запотели, и он едва различал спины
впереди бегущих солдат. «Когда же это кончится, когда? — шептал он
самому себе. — Долго ли еще бежать? Ну, старшина, ну, погоди».
— Не отставать! Шире шаг! — глухо, будто откуда-то из подземелья,
донеслась команда старшины.
«Во, только и знаешь кричать», — уже без недовольства, как-то
равнодушно подумал Алешка. Сапоги словно сделались свинцовыми и
отрывать от земли их стало невыносимо. Хэбэ пропиталось потом, который
к тому же еще и застилал глаза. Вытереть или хотя бы смахнуть его было
невозможно! Мешала шлем-маска. А снять нельзя: «Газы». «Газы» — и все
тут, ничего не поделаешь. Многое, очень многое таится в этом слове...
Легким не хватало воздуха. Алешке казалось, что еще минута, еще
секунда — и он задохнется... Упадет. Но проходила минута, другая, третья, а
он не задыхался, бежал, бежал, все бежал и бежал. Он даже удивился. И это
придало ему силы. Растопырив локти, почувствовал, что и слева и справа от
него бегут такие же, как и он. Бегут. И ничего. И впереди него бегут и сзади.
Значит, и он будет бежать. Будет, будет, будет, черт побери, будет. И он
бежал. «Вот она. Вот она — солдатская служба, — лихорадочно вертелось у
него в сознании. — Вот она какая... Вот что такое армия... Вся тут, в этих
мгновениях. Вот как. Вот. И бежать еще целых два года, целых два года. Два
года, два года... Два года...»
— Рота-а! Шаго-ом марш
«У-ух, наконец-то! Наконец, — выдохнул Алешка, сбавляя темп бега,
переходя на шаг. — Еще бы противогаз сдернуть...»
— Рота-а! Отбой!
Молниеносным движением Алеша сорвал шлем-маску с лица. Раскрыв
рот, принялся хватать воздух.
— Ух, ох, ух, ох, — стонал он. — Хорошо! Как хорошо!
Пот катился с его лица. Теперь, когда у него была возможность, он даже и
не пытался вытереть его. Не до этого. Воздух. Какой воздух! Глубоко, всей
грудью он вдыхал его и не мог надышаться. Таким воздухом, казалось, он
еще ни разу не дышал. Чудо. Истинное чудо, а не воздух. Как хорошо, что он
есть, что его много. Хватает надолго, на всю жизнь, на вечность. А может
быть, и на всю армейскую службу — на целых два года! Хорошо. Как хорошо!
Да, оказывается, только в армии можно понять всю цену этого сокровища. А
Алешка и не знал этого раньше. Вот как бывает.
Поправив ремень автомата, он радостно улыбнулся и глянул на
шагающего сбоку старшину. Тот строго и в то же время как-то
снисходительно посматривал на молодых солдат, словно ничего и не
произошло. Весь его вид как бы говорил: «Ничего, скоро привыкнете,
втянетесь, возмужаете».
«Чудак-человек, — подумал о нем Алешка, — такой воздух чистый, а он
не радуется».
Прошагав еще несколько сот метров, старшина остановил роту на
привал. Алешка, не снимая с себя снаряжения, бухнулся в траву и блаженно
закрыл глаза. Несколько минут лежал он неподвижно. Потом,
перевернувшись на спину и усевшись прямо на земле, отложил в сторону
автомат, принялся стаскивать с ног сапоги. Старшина, сидя на невысоком
полусгнившем пеньке, о чем-то беседовал с сержантом Краснухиным —
командиром отделения, в состав которого входил Седых. Кончив говорить,
он поднялся с пенька и направился в Алешкину сторону. «Ну, опять гроза
надвигается. Опять ругать будет. К чему-нибудь да прицепится. И чего ему
от меня надо? Вот человечина».
— Ну что, Алексей, устал? —спросил старшина, садясь на землю рядом с
ним.
— Немножечко, товарищ старшина, — ответил тот. Молодому солдату
показалось, что голос у старшины сейчас прозвучал не так, как звучит
обычно; не официально, не по-командирски, а как-то по-граждански, «по-
домашнему».
— Ну, ничего, не вешай нос, — опять проговорил старшина. — Это только
сначала наша служба кажется тяжелой, а втянешься — все будет нипочем.
Помнишь, как Суворов в свое время говорил? «Тяжело в ученье — легко в
бою». Солдатская закалка ой как пригодится в жизни. А что у тебя с ногой?
— Да натер. Портянка сбилась.
— Сбилась, говоришь? Эх, дружок, да ты, видно, совсем не умеешь
наматывать портянки. Что же это ты так? Тебя что, на учебном пункте
этому не учили?
— Учили, товарищ старшина. Но она как-то сама сползла с ноги.
— Нет, если портянку намотать на ногу правильно, с умением, Она
никогда сама не сползет. Дай-я тебе покажу, как это делается. — Старшина
взял в руки портянку, расправил ее, потом подвинулся к ноге солдата и
несколькими движениями ловко обмотнул ее.
— Вот так. Смотри, показываю еще раз.
Алешке даже сделалось как-то неловко. Еще бы, старшина, сам старшина,
который только и знает, что придираться к мелочам, и вдруг ему портянку
наматывает. Такое не часто увидишь.
— Ну как, уловил? — спросил тот, не замечая Алешкиной неловкости. —
А теперь сам попробуй.
Седых нерешительно расправил портянку и стал наматывать ее на ногу.
— Так, правильно, — ободряюще звучал голос старшины. — А вот в этом
месте, на пятке, наматывай как можно плотнее. Еще плотнее. С силой. Вот
так. Ну, видишь, получилось. Вот так всегда и наматывай. И ноги твои будут
целы и боеспособность на высшем уровне. — Старшина улыбнулся.
И Алешке вдруг сделалось легко и весело, неловкость прошла.
— Спасибо, товарищ старшина, — проговорил он.
— Тебе спасибо, Алексей, — ответил тот, пряча улыбку. — Такой
слабенький на вид, а марш-бросок отмахал, и хоть бы хны. Молодец.
Настоящий солдат.
Старшина поднялся, отошел. А Седых быстро стал натягивать сапоги.
«Хороший у меня старшина, — думал он. — Простой. И совсем не грозный.
Повезло с командиром. Хорошо-то как». Вскочив на ноги, Алешка Седых
поднял с земли автомат, аккуратно повесил его на плечо. И в тот же момент
прозвучала команда:
— Рота-а! Подъем!
Старшина, расставив ноги на ширину плеч, строгим взглядом смотрел на
своих подчиненных. Марш-бросок продолжался.
2. на стрельбище
Молодые стройные березки рассыпались вдоль стрельбища, словно
атакующие новобранцы. Одни из них жались друг к другу и как бы
образовывали небольшие толпы, другие росли в одиночестве. Далее шли
крупные ветвистые березы. Эти будто старослужащие: не толпились, не
толкали друг друга локтями. Они «шли в атаку» по всем правилам военного
искусства — длинными цепями, на определенном расстоянии друг от друга.
Залюбовавшись чарующей красой леса, Степан оступился и рухнул в какую-
то канаву.
— Тьфу, дьявол, так и шею недолго свернуть, — выругался он.
Выбравшись из канавы, принялся рукавом обтирать ствол автомата. Затем
он повесил автомат на плечо и быстро зашагал по лесу.
Рота, в которой служил Степан, сейчас находилась на стрельбище,
выполняла упражнения. Несколько минут назад Степан «отстрелялся» и
теперь шагал менять оцепление.
Вскоре лес кончился, и Степан вышел к берегу небольшой речушки. В
этом месте и находился южный пост оцепления. Сменить он должен был
ефрейтора Филатова. Поискав знакомую фигуру сослуживца глазами и не
найдя ее, Степан медленно прошелся вдоль кустиков, что росли на самом
берегу реки. В этот момент сзади него что-то хрустнуло и над самым ухом
коротко прозвучало:
— Руки вверх!
Степан резко обернулся и увидел перед собой ефрейтора Филатова.
— Что, испугался? — самодовольно улыбнулся тот. — Прошел в двух
шагах от меня, а не заметил. То-то. Учись маскироваться, пока я жив. А то
демобилизуюсь — не у кого будет. Как стрельнул?
— На троечку.
— Слабо. Служишь уже четвертый месяц, а все пуляешь в «молоко».
— Да черт ее знает, эту мишень, — вздохнул Степан. — Кажется, из
рогатки легче попасть, чем из автомата.
— Ладно, научишься. — Ефрейтор ладонью хлопнул Степана по животу и
зашагал прочь. На ходу обернулся и крикнул: — Смотри в оба, а то здесь
грибники лазают! Еще забредут под пули!
— Хорошо, хорошо! — отозвался Степан.
Проводив ефрейтора взглядом, он, сам не зная почему, вздохнул, потом
повернулся и медленно побрел вдоль берега. «И кого тут смотреть? —
подумал он. — На стрельбище все равно никто не сунется. Вон
предупредительные знаки на каждом шагу стоят, да и выстрелы хорошо
слышно. Какой дурак туда полезет? Тем более что местные жители знают,
где находится стрельбище, и за грибами в эти места не ходят. Скучно.
Искупаться, что ли? Нет, не буду. Все-таки какой-никакой, а пост. Нельзя».
Степан шел, лениво переставляя ноги. Поднял голову вверх, вглядываясь
в синеву неба. Стояла прекрасная июльская пора, и небо казалось каким-то
бездонным и в то же время очень близким. Казалось, стоило протянуть руку
и можно было схватить его, подтянуть к земле.
В этот момент из-за деревьев послышался треск мотоцикла. Степан
встрепенулся. Шум мотоцикла нарастал и притом довольно быстро.
Вероятно, мотоцикл несся на полной скорости. «А ведь дороги здесь нет, —
отметил про себя Степан. — Прет прямо по лесу. Лихач».
Через несколько секунд из кустов вынырнул мотоцикл.
— Стой? Куда прешь?! — закричал Степан, бросаясь навстречу. — А ну,
поворачивай!
Взвизгнув тормозами, мотоцикл чихнул и остановился.
— Чего прешь, как на буфет?! — еще более грозно закричал Степан,
подходя к мотоциклисту. — Не видишь — стрельбище здесь!
— А я и без тебя это знаю, — ответил водитель тонким голоском,
одновременно глуша двигатель и снимая с головы шлем.
— Девчонка, — удивленно протянул Степан, увидев длинные пышные
волосы и туго обтянутую курточкой грудь. — Вот это да-а . . .
— Она самая, — озорно улыбнувшись, ответила девушка. — А ты чего
здесь торчишь?
— Значит, надо, если торчу, — ответил Степан уже менее грозно. Он
ожидал увидеть в мотоциклисте мужчину или какого-нибудь желторотого
юнца и потому приготовился как следует отчитать нарушителя. Но перед
ним на мотоцикле восседала молодая и довольно симпатичная девушка. На
вид ей было лет восемнадцать-девятнадцать. В глаза Степану бросились
новые, плотно облегающие бедра джинсы. Он растерялся и, не зная, что
предпринять, молчал. Первой нарушила паузу мотоциклистка.
— Ну, что, искупаемся? — предложила она, вешая шлем на руль
мотоцикла.
— Не положено здесь купаться.
— Мало ли что здесь не положено. А мне нравится.
— Мало ли что тебе нравится. А не положено, — в тон ей ответил Степан.
— Ух ты, какой!
— Такой.
— А я здесь всегда купаюсь. Это — мое любимое место.
— А кто же тебе, интересно, разрешает? Здесь же стрельбище.
— А я купаюсь, когда вас здесь не бывает. Тут тихо, красиво.
— Сейчас-то не тихо. Слышишь выстрелы?
— Сейчас да. Но как только вы уйдете отсюда, я приеду.
— Вот тогда и приезжай. А сейчас не положено.
— Заладил: не положено, не положено. Я же не на стрельбище хочу
проехать, а совсем в другую сторону — к речке.
— Все равно не положено.
— Ух, какой несговорчивый.
Степан промолчал. Ему показалось, что эта девчонка издевается над ним.
Он старался придумать что-нибудь веское, убедительное, но ничего не
получалось.
— А ты, я вижу, еще молодой, — произнесла мотоциклистка. — Небось,
служишь-то вторую неделю? Са-ла-га! — Запрокинув голову, она громко
рассмеялась.
— «Старик» я, — соврал Степан.
Последнее слово и особенно смех этой девчонки больно задели его
самолюбие. Поправив висящий на плече автомат и шагнув к насмешнице,
буркнул:
— Ладно, давай отсюда... А то хуже будет.
— Что хуже-то? Что хуже?!
Она опять, откинув голову назад, закатилась смехом. Голос звучал
звонко, жизнерадостно. И это еще больше обидело Степана. Не зная, что
предпринять, он рванул с правого плеча автомат и... повесил его на левое.
Эти суетливые движения еще больше рассмешили юную нарушительницу.
— Ты крепче держись за свой незаряженный автомат! Крепче! — сквозь
смех бросала она. — А то ненароком оступишься и упадешь! Ха-ха-ха-ха! Ой,
не могу! Насмешил ты меня. На целую неделю насмешил! Спасибо! Как хоть
зовут?
— Степа, — неожиданно для самого себя брякнул Степан.
— Ха-ха-ха! Спасибо тебе, Степа. Да ты не красней. Уеду я сейчас, уеду. —
Вдоволь насмеявшись, она сняла с руля шлем, надела его, застегнула
ремешок и резким движением ноги завела двигатель. Затем, прибавив газ,
включила скорость и рывком тронулась с места. На ходу обернувшись,
крикнула: — До свидания, Степа! Степа-недотепа.
Смеха ее на этот раз Степан не услышал: заглушил треск мотоцикла.
Оставшись один, он глубоко вдохнул, на секунду задержав дыхание, и с
шумом выдохнул.
«Огонь, — подумал он. — Настоящий огонь».
Ему вдруг сделалось грустно. Нестерпимо захотелось опять увидеть эту
озорную девчонку. Поговорить с ней. Посмеяться. Вместе посмеяться.
Рассказать ей какую-нибудь историю из своей жизни. Но мотоцикл трещал
уже где-то далеко за деревьями и вернуть его было невозможно.
«Эх, жалко, уехала, — с горечью подумал Степан. — И теперь, наверное,
уже никогда не увижу ее. А мотоцикл она водит классно. Вот бы мне так
научиться, а то я даже на велосипеде не умею ездить. Смешно. И зачем я ее
прогнал? Эх, Степа, Степа. Действительно, Степа-недотепа. А может быть,
она из соседней деревни, тогда еще не все потеряно».
— Эй, Соснихин, ты где?! — раздался чей-то голос за кустами.
— Здесь я! — закричал Степан.
Из-за кустов показался ефрейтор Филатов.
— Топай на стрельбище, — сказал он, подходя к Степану. — Командир
роты разрешил тебе по новой стрелять. Может быть, свою тройку
исправишь.
— А ты как стрельнул? — спросил Степан.
— Как всегда, на «отлично», — пренебрежительным тоном ответил
ефрейтор. И добавил: — Давай, чеши. Да не подкачай. А то своим трояком
весь взвод назад тянешь.
— Хорошо, я постараюсь, — сказал Степан и быстро зашагал в сторону
стрельбища.
Уже лежа на огневом рубеже и целясь в мишень, он подумал: «Если бы
той девчонке дать автомат, она бы наверняка не промахнулась. А чем же я
хуже? Попаду. Обязан попасть».
— Огонь! — раздался над ним голос командира роты.
Степан тотчас подвел мушку под обрез мишени и плавно нажал спуск.
«ЮНОСТЬ», No 1, 1979
1
В дверь позвонили. Позвонили протяжно и резко. Это был чужой звонок:
так никто не звонил из домашних. Сунув ноги в тапки и набросив халат на
плечи, я громко, пополам с зевком, крикнула хрипловатым со сна голосом:
— Кто там?
И услышала в ответ без паузы мужской голос, вяло пробормотавший свое
дежурное:
— Слесаря вызывали?
Ну да, конечно же, вызывали. Как-то не сразу сообразила, что именно
такой звонок непременно должен принадлежать слесарю, водопроводчику,
работнику Мосгаза — протяжный, равнодушный звонок, не
заинтересованный хоть маломальской надеждой на неожиданность встречи
или, наоборот, удрученный ее неизбежностью.
Вообще я бы могла по звонку определить стоящего за дверью. Мой сын
втыкался в кнопку звонка с разбегу. Не переводя дыхания, он наугад бил
наотмашь ладошкой по стене и тут же отдергивал руку, удовлетворенный
прямым попаданием. Мой муж звонил всегда виновато и напряженно,
словно еще за дверью просил прощения... Торжественно и заливисто
разливался по квартире доскональный звонок тети Даши, и как его
органичное продолжение заполнял собой все пустоты квартиры ее зычный
уверенный голос. Тимошка, моя подруга, пружинила кнопку двумя
короткими тире, как в азбуке Морзе, а звонок ее мужа Андрея уныло и
безнадежно зависал где-то на уровне антресолей, забитых пропыленными
старыми чемоданами.
Сама я звонила всегда кратко и исчерпывающе. Мой звонок как бы
снимал вопрос с лиц, открывающих мне двери моего дома. Да, именно так я
звонила — безапелляционным, не дающим права на расспросы звонком.
Продвигаясь к двери, я успела, окинув полусонным взглядом квартиру,
определить, на какое время засяду за уборку. Моя квартира в сей ранний час
представляла собой довольно тоскливое зрелище. Споткнувшись о лыжную
палку, перегородившую прихожую, залитую июльским солнцем, я
чертыхнулась и, откинув со лба волосы, пробормотала в дверь:
— Сейчас, сейчас...
В ответ молчали. Пристраивая палку острием в поролоновый коврик в
углу прихожей, я с внезапно прорвавшейся сквозь заслоны моего еще
дремлющего существа злостью успела подумать о том, равнодушно
молчавшем за дверью: «А чего ему, собственно, зря колыхать воздух? Ему-то
что? Он хоть час за дверью торчать будет. Сервис проклятый!» От этого
неожиданного всплеска моя взбудораженная мысль переметнулась к
неизбежному финалу встречи: обладаю ли я необходимой трешкой или, на
худой случай, двумя рублями за его бессмысленное ковыряние в
засорившейся раковине, которая вскоре после его ухода будет так же
безнадежно и тупо копить грязную воду. И лишь чмокающие присоски
резинового приспособления, всегда удручающего безысходностью своей
конструкции, способны будут на мгновение всколыхнуть ее мутные воды.
Еще больше разозлившись от мысли, что трешки у меня нет, я открыла
дверь.
Беспардонный солнечный зайчик, метнувшийся от зеркала прихожей, в
одно короткое мгновение высветил глаза пришедшего на помощь
«сервиса». Зажмурил их на секунду своей неожиданной выходкой, заставил
взметнуть резким движением копну прямой, непокорной «соломы» и завис
нимбообразно над его головой.
Наши глаза встретились на секунду, чтобы отпрянуть в лихорадочном
поиске спасения. Но спасения не было. Между нами лежал порог моего дома
длиной в один шаг — непреодолимый, как бездонная пропасть. Откуда-то
изнутри тупыми толчками поднималось нечто неведомое.
Интуитивно схватившись рукой за дверной проем, я нагнула голову и,
зацепившись взглядом за тупой носок его ботинка, услышала над
пылающим ухом такой далекий, такой знакомый голос:
— Слесаря вызывали?
Сейчас голос звучал жестко и чуть издевательски.
В этом голосе было что-то необъяснимое, перебросившее мостик через
непреодолимую бездну порога и как бы предлагающее суровые, но
определенные правила игры. Не смея поднять головы, я отступила назад,
перехватила побелевшими пальцами косяк двери и пропустила его в
квартиру.
...Он был ни на кого не похож.
В классе его уважали и побаивались. Он появился в этой школе год назад
и сразу заслужил прозвище «сфинкс» своей поразительной способностью
молчать, когда, казалось бы, невозможно не высказаться, и умением
заставить свое лицо оставаться бесстрастным и покойным в самые
критические минуты. Правда, Кузя заметила, что его внутреннее состояние
выдают руки. Длинные, тонкие пальцы начинали подергиваться, и он, зная
о том, прятал их в карманы брюк. Кузя единственная сделала это открытие,
и потому, когда Грымза заводилась и осыпала Турбина несправедливыми
упреками, Кузя знала, что на всегдашнюю реплику классной
руководительницы: «Что за манера держать руки в карманах?!» — Турбин
вытащит их сжатыми в кулаки и всем телом упрется на вытянутых руках в
парту.
Тесное знакомство седьмого «А» с Турбиным началось в первый же день
его появления в новой школе.
После уроков надо было мыть класс, и дежурная бригада, в которую
включили новенького, осталась в школе. Как всегда, собрали по десять
копеек и отправили толстого Макаркина в буфет за пирожками с повидлом.
В ожидании пирожков бригада «ходила на головах». Было беспричинно
весело, швабры превратились в копья, которые летали по классу, тряпки,
выданные хроменькой уборщицей Тасей, витали под потолком, кружа на
уровне качающихся светильников, из парт громоздились баррикады, а
классная доска превратилась в поле словесного боя, где все по очереди
состязались в остроумии. Дежурная гардеробщица несколько раз прибегала
с первого этажа и с опаской заглядывала в класс, откуда ревело и стонало на
всю школу.
Потом была передышка: все ели пирожки, — и снова заглядывала
дежурная, решившая, что затишье это не к добру.
Потом с удвоенной энергией на сытый желудок взметались вверх
тряпки, стучали парты и швабры — и весь этаж ходил ходуном.
От Кузи, с любопытством наблюдавшей за новеньким, не укрылось, что
он несколько раз выходил в коридор и с беспокойством глядел на часы, а
возвращаясь, вновь занимал свое место на подоконнике.
Казалось, происходящее вокруг его не интересовало, он словно
постоянно прислушивался к какому-то внутреннему процессу,
происходящему в нем, сосредоточенный и собранный. Потом, еще раз
глянув на часы, новенький, не обращая внимания на любопытные взгляды
сразу утихомирившихся одноклассников, засучил по-деловому рукава и
начал двигать парты в угол.
Все молча следили за каждым движением новенького, а когда он,
намочив в остывшей воде тряпку и лихо закрутив ее по швабре начал
шаркать по полу, всех разом прорвало:
— Во дает новенький!
— Турбин, где это ты так насобачился?
— Халтурно драишь, Турбин!
— Угол-то чего не вылизал?
— Слушай, может, тебе вместо Таси уборщицей, а?
— Эй, новенький, перед кем выпендриваешься?!
— В любимчики захотелось, новичок?
Новенький, казалось, не слышал адресованных ему реплик, которые
становились все злей и настойчивей. Он был весь поглощен мытьем пола, и
ничто в мире не волновало его, кроме ловко снующей швабры, и ничто не
радовало глаз, кроме отмытых блестящих кусков пола.
— Ну, ты, жлобье, кончай показуху! — Нога задиры и драчуна Генки
Парфенова решительно посягнула на проворные движения швабры, и
тряпка захрустела под наступившей ногой. Новенький от неожиданности
потерял равновесие, поскользнувшись на мокром полу, неловко упал в
растекавшуюся от тряпки лужу. Дикий хохот сотряс стены класса. Гурман
Макаркин даже захрюкал от восторга, а Нина Зиновьева, заложив в рот
четыре грязных пальца, засвистела соловьем-разбойником.
А потом наступила тишина... Стало на мгновение слышно, как стенные
часы в коридоре с усилием дергают тяжелыми стрелками и где-то этажом
выше Тася гремит ключами. Все столпились вокруг новенького, который
почему-то не спешил подниматься с пола.
Он сидел в луже с таким немыслимым достоинством, и так гордо торчала
на худой длинной шее его голова с пылающими оттопыренными ушами, что
у Кузи сильно защипало в носу и сглотнуть слюну вдруг стало трудно и
больно. По какому-то неведомому приказу она шагнула к новенькому и,
протянув руку, прошептала:
— Давай помогу!
Мгновенный взгляд голубых глаз обжег таким презрением, что Кузина
протянутая рука сама дернулась и спряталась за спину.
Новенький медленно поднялся с пола, с сожалением оглядел замоченные
брюки с аккуратными стрелочками, неторопливым движением втиснул в
карманы сжатые кулаки и медленно подошел к напружинившемуся Генке.
Глядя прямо ему в глаза, процедил сквозь зубы:
— Если бы мы жили в XIX веке, я бы вызвал тебя на дуэль. Но, к
сожалению, традиция сия канула в Лету. Поэтому живи! Сейчас я тебя бить
не буду, ибо времени жаль, а оно у меня, время то бишь, на вес золота...
Новенький вытащил из кармана руку и снисходительно хлопнул
обескураженного Генку по плечу: живи, живи, мол, дыши воздухом, так и
быть.
Генка от растерянности даже не оскорбился, а одноклассники стояли
пораженные манерой новичка говорить изысканно и старомодно,
ошеломленные его поведением — странным, непривычным и будто
гипнотизирующим.
А новенький домыл пол, сдвинул на место парты, тщательно протер
мокрой тряпкой батареи и подоконники, вымыл начисто доску.
Дежурная бригада седьмого «А» рассредоточилась по подоконникам
длинного школьного коридора и с напряжением, во множество глаз следила
за малейшим движением новенького.
А тот отнес пустое ведро с тряпкой в туалет, расправил засученные
рукава рубашки, причесался пятерней, вытащил из кармана сложенный
выутюженный носовой платок, вытер вспотевшее лицо, бросил
мимолетный взгляд на стенные часы и, схватив портфель, прошествовал
мимо одноклассников.
Лицо его не выражало ровным счетом ничего, и Кузе на секунду
показалось, будто все только что происшедшее в классе лишь ее
воображение.
Генка Парфенов сидел на подоконнике нахохлившийся и злой и, когда
толстый Макаркин взглянул на него с любопытством, отвесил тому
увесистый подзатыльник.
.. . Он единственный называл ее по имени. Только для него она была не
дурацкой Кузей, а Наташей или «милостивой государыней Натальей...» .
И потом, у него был свой мир...
Залитый осенним солнцем, грустным, как прощальный взгляд,
маленький дворик действительно казался частичкой другого мира. Это был
один из немногих столичных двориков, сохранивших черты своей былой
принадлежности к купеческому Замоскворечью.
Маленькая арка выводила из этого обособленного мирка в другой,
привычный мир с грохочущими грузовиками по набережной, к серым
гранитным берегам Канавы, к видоизмененному, осовремененному Балчугу.
Небольшое полукружье арки по какому-то старинному тайному сговору
не пропускало во дворик ни грохота автомобилей, ни разноголосья
прохожих, группами спешащих посетить Третьяковскую галерею, ни
любопытных взглядов туристов, посягающих на любую утаенность
нацеленными объективами фотоаппаратов.
Особенно хорош был дворик весенней порой, когда на лужайках возле
покосившихся сараюшек пробивалась трогательная, робкая травка,
желтели непритязательно скромные одуванчики. В эту пору почему-то еще
острей ощущалась изолированность дворика, еще радостней
воспринималось всемогущество этого мира, стойко отторгавшего
московскую вездесущую суету.
Небольшой двухэтажный дом смотрел окнами на набережную, а старая
каменная лестница с выщербленными временем ступенями выходила во
дворик. Под этой лестницей, как правило, выгуливались по выходным дням
два младших Турбина. В остальные дни недели двойняшки отбывали
повинность на пятидневке в детском саду.
И еще была голубятня, тоже будто бы сохранившаяся с каких-то далеких
купеческих времен. Темное деревянное сооружение с современными
заплатами-досками, со свежеоструганными перилами на шаткой
многоступенчатой лестнице. Хозяином голубятни был Игорь Турбин. К
нему слетались все голуби Замоскворечья. Облепляли сизыми стаями
голубятню, поначалу подрагивая крыльями, но постепенно, словно
успокаиваясь, примирялись с той гулкой, грохочущей жизнью, которая
бурлила за пределами двора. Их бормочущее ворчание волнами
разливалось по дворику, озвучивая его застывшее оцепенение.
И в этом монотонном клохтанье словно чудилось преклонение перед
тихим, обособленным мирком за его стремление оставаться самим собой.
Голуби, которые принадлежали Игорю, совсем не походили на тех сытых,
самодовольных, что разгуливали по переулку возле Кузиного дома.
Казалось, голуби Игоря были одухотворены жизнью дворика, и их глаза-
бусинки были осмысленными и прозрачными.
Игорь размахивал длинным шестом, развевалась красная тряпица,
привязанная на тонкий его конец, пронзительный свист разлетался над
крышами домов, а внизу, застывшие от восхищения и гордости, задрав
кверху смешные одинаковые мордашки, жмурились младшие Турбины.
Гибкий, с горящими глазами, копной непокорной соломы вокруг головы,
мечется он по площадке, и — словно продолжение его длинной
гуттаперчевой фигурки — вибрирующий шест в небе, и стаи голубей
плавают в весеннем счастливом воздухе, вобравшем в эту пору все запахи
щедрой, оживающей после спячки земли...
2
На кухне хлюпала резиновая присоска. Чавкала и словно измывалась,
назойливо утверждая свою вопиющую примитивность.
Я не могла взять себя в руки. Пальцы мелко и противно подрагивали, и
сигарета никак не укладывалась между пальцами.
Голова была пустая и гулкая. Перед глазами упорно стояла кухонная
раковина, и все мысли, как разбухшие крошки хлеба с грязных тарелок,
беспорядочно кружили по поверхности. В распахнутую форточку врывались
будничные голоса прохожих, визжали на детской площадке дети,
тормозили машины, не жалея дефицитной резины, но над всем этим миром
звуков зловеще господствовало одно — безысходное, изматывающе-
однообразное.
.. . — Турбин, выйди из класса... и без родителей в школу не возвращайся,
— зловеще прозвучал голос географички Антонины Валерьевны, и густые
брови ее свирепо сошлись на переносице. Это был самый точный признак
крайнего состояния. Брови классной руководительницы, кустистые и
широкие, были явным излишеством на ее лице с мелкими и какими-то
незаконченными чертами. Брови же словно перекочевали с чьего-то лица
по недоразумению да так и остались над маленькими черными глазками,
уныло нависая, когда ничто не выводило Антонину Валерьевну из себя, и
начиная копошиться лохматыми гусеницами при малейшем раздражении.
По ее бровям ученики седьмого «А» узнавали, есть ли какой-нибудь шанс
на спасение, или же дело гиблое и кара будет суровой.
Когда брови Грымзы стягивались к переносице, но оставалась между
ними глубокая продольная морщинка, — в глазах провинившихся еще
мелькали робкие проблески надежды, но когда обе лохматые гусеницы
безысходно срастались в одну ровную линию — дело грозило вызовом
родителей в школу или же путешествием «на ковер» к директору.
У Николая Николаевича Басова, директора школы, будто в насмешку,
брови отсутствовали напрочь, и каждый раз жертва седьмого «А»,
вызванная «на ковер», при всем трагизме ситуации силилась не прыснуть
от смеха, и все, словно по сговору, скромно опускали глаза от лица
директора на цветастый ковер под ногами, силясь сосредоточиться на
витиеватых узорах. У директора тоже была кличка, звали его Сом — за
сонный, почти неподвижный взгляд огромных серых глаз навыкате и
тяжелую астматическую одышку. Сом был справедливый и добрый...
— Турбин, выйди из класса...
Он встал, со стуком откинув крышку парты, бледный, с непроницаемым
лицом, и медленно пошел по проходу своей удивительной, гордой походкой.
У самой двери он чуть повернул голову, и Кузя с ужасом скорей
почувствовала, а не увидела, как презрительная усмешка тронула его
тонкие губы...
Длинный пепельный столбик развалился на белом подоконнике в серую
маленькую горку. Легчайшие частички пепла зашевелились от ветра и
через секунду растворились, растаяли бесследно.
На кухне из крана текла вода, текла безостановочно. Она заливала мне
глаза, щеки, затекала в рот и уши, холодила шею прохладными струйками,
стекала знобко вдоль позвоночника.
Мне казалось, что прошла вечность. Минуты исчислялись годами. Может
быть, прошло мгновение, а может, жизнь... Это мое состояние было вне всех
существующих измерений.
Беспокоила лишь одна навязчивая мысль: такое уже было... Не я, моя
природа проживала это странное оцепенение. Разум был не в состоянии
вспомнить, помнили клетки, кожа...
Я силилась вспомнить — и не могла. Я чувствовала то, всегда смешившее
меня утреннее бессилие, когда попытки сжать руку в кулак тщетны и
забавны...
Перед глазами мелькали разноцветные крестики и какие-то черточки,
похожие на иероглифы, в висках билась кровь, но Кузя и не думала
останавливаться. Она неслась по тротуару, впечатываясь с размаху в
прохожих и вместо извинений лишь переводя дух.
Люди ругались или просто укоризненно покачивали головами и
оторопело, смотрели вслед.
Ее неприлично рыжая голова дымилась в морозном воздухе, летящий
изо рта пар мгновенно индевел на бровях и ресницах, щеки горели
немыслимым жаром, а в горле стоял тугой горький комок, который никак
не таял и не глотался.
На углу машина сгребала снег в огромную кучу, и Кузя, не успев
затормозить, нелепо растопырив руки, пролетела в сугроб. Взметнулся
вверх пушистый снежный фейерверк, дружно заржали первоклашки,
стайкой слетевшие со школьной резной ограды, улыбнулась хмурая толстая
дворничиха...
Мама Игоря Турбина — молодая женщина с немолодым лицом и
странными, вывернутыми суставами пальцев — была уже в кабинете Сома.
Посреди пустынного коридора, неуютного и непривычного без звонкого
школьного многоголосия и сутолоки, стоял Игорь.
Кузя, запыхавшаяся, красная, как рак, сдернула вывалянные в снегу
варежки, шумно хлюпнула носом, шагнула к Турбину. Хотела сказать, но
вместо слов из горла вырвался всхлип. Подняла глаза. Турбин улыбался.
Кузя вдруг увидела себя со стороны: лохматую, распаренную, сопливую.
Со страхом дернулась: не смеется ли он над ней, нелепой, дурацкой
предательницей.
Он не смеялся. Глаза его, высвеченные изнутри какой-то особой
лучистой улыбкой глядели ласково и внимательно.
«Это я, то есть мы с Макаркиным... но виновата я, потому что...»
Мокрая варежка перекочевала из Кузиных рук, утонула в больших
ладонях. «Не продолжайте, мадемуазель, не стоит того. Я верую, что это
была минутная слабость. А женщинам принято прощать слабости, не так
ли?»
Кузя снова с облегчением всхлипнула, потянула мокрую варежку из рук
Турбина.
«У тебя, как у породистого щенка, лапы здоровые...»
«Это точно. Но передние конечности — это еще полбеды. Зато
интенсивный рост задних приводит в отчаяние мою родительницу. Не
напасешься, говорит, обуви на тебя... Милостивая государыня Наталья, не
разводите сырости, внемлите речам недостойного раба вашего, тем паче
что женских слез он совершенно не в силах вынести».
Но слезы из глаз милостивой государыни Натальи сыпались горохом, а
недостойный ее раб комкал в ладонях вымокшие варежки и бормотал под
нос слова, которые ровным счетом не были нужны ни ему, ни ей.
Тогда впервые Кузя поняла, что ей хорошо с ним, так покойно и
уверенно, как никогда раньше и не бывало. Слезы высохли варежки заняли
свое место на коридорной батарее, а Игорь с Кузей сидели на подоконнике,
болтали ногами, и несли несусветную чепуху.
Когда же распахнулась дверь и появилось лицо Грымзы с
распластанными в одну линию бровями, Кузю словно ветром сдуло. В одну
секунду очутилась она на ковре перед удивленным Сомом и оторопевшей
мамой Игоря.
— Что за выходки, Кузнецова? — просипел сзади Грымзин голос.
— Это не выходки, Антонина Валерьевна. Я пришла потому, что Игорь ни
в чем не виноват. Это мы с Макаркиным...
Это они, Кузя и толстый Макаркин, на ледяных дорожках катка в парке
культуры «развлекались диким способом», как потом выразилась женщина-
лейтенант в детской комнате отделения милиции. Натянули леску посреди
дорожки парка, разбили камнем лампу в фонаре, освещающем этот участок
катка, и, засев в сугробе следили за тем, как мальчишки и девчонки,
кувыркаясь на льду, квасили носы, расшибали коленки, ревели на весь парк.
Теперь Кузя даже и не могла объяснить причину этого «развлечения».
Просто в обществе Макаркина она шалела. Макаркин был ее другом с
детства; с ним пошла она в младшую группу детского сада, их горшки
стояли всегда рядом, и шкафчики с одеждой, где красовались ее клубничка
и его груша, тоже были по соседству. Их родители дружили семьями, и жили
они на одной лестничной площадке.
Макаркин наперекор всем бытующим представлениям о темпераменте
толстых людей был невероятно шумный и подвижный. «Дикошарый», —
называла его воспитательница Ольга Ивановна в детском саду и, когда
детей выводили на прогулку, первым делом объявляла: «Макаркин и
Кузнецова, отойдите дальше друг от друга. А то от вашего соседства добра
не жди...»
В детской комнате, пока они сидели вдвоем, чуть притихший, но
неутихомирившийся Макаркин развалил все игрушки, стащил с полок все
книги, и, когда в комнату заглянула женщина-лейтенант, было ощущение,
что прошел тайфун.
Кузя назвала свою фамилию и имя, телефон. При ней состоялся разговор
с отцом. Отца Кузя очень любила, но знала отлично одно его свойство.
Обычно спокойный и тихий, он, выведенный из себя, становился белый как
мел, и его гнев был страшен.
В такие минуты Кузя боялась больше всего, что с ним случится какой-
нибудь сердечный приступ или припадок: таким болезненно-страшным
выглядел он в своем гневе. По тону отца Кузя поняла, что дома ее ждет
именно это.
Хладнокровный же Макаркин спокойно соврал, что телефона у него нет,
а живет он без отца, с одной мамой.
— Ну что же, тогда придется сообщить в школу, — объявила женщина-
лейтенант.
— Сообщайте, — пожал плечами Макаркин и подмигнул Кузе.
На вопрос о фамилии и имени Кузя с ужасом услышала ответ:
— Турбин Игорь, седьмой «А», школа 556.
Хотела закричать, чтоб он не смел, но не закричала. Хотела вернуться в
детскую комнату и признаться строгой женщине-лейтенанту в
макаркинском гнусном вранье, но не вернулась...
Макаркин был другом детства, а кто такой ей этот Турбин — просто
новенький...
Когда Турбина отчитывала Грымза, а он стоял бледный и не отпирался,
не отрицал ничего, у Кузи в животе было холодно, а на душе мерзко. Она
написала Макаркину записку, что если он не признается, то это сделает она.
Макаркин порвал записку, проглотил ее, как леденец, и пошептался с
соседом по парте Генкой Парфеновым.
Потом они оба многообещающе показали ей по кулаку, состроив при
этом самые зверские физиономии.
Перед началом уроков Кузя еще в полупустом классе выболтала двум
своим подружкам, что побывала вчера в отделении милиции за хулиганство
в общественных местах. Кузя говорила об этом несвойственным ей
пижонским тоном, бравируя своей наглостью и выдавая ее за отвагу. Не
называя имени сообщника, она взяла с подруг слово, что все, о чем
поведала, останется между ними в тайне. Те пообещали молчать.
Но вдруг белобрысая очкарик Тимошка прыснула и мотнула головой в
дверной проем, где маячила фигура новенького. Он слышал, он думал, что
это она... Это было непереносимо.
В тот день на уроках она ничего не слышала, не воспринимала.
Презрительная усмешка на тонких губах новенького стояла перед ее
глазами.
Кузина мама, пощупав голову дочери, вернувшейся из школы в
состоянии тупой отрешенности, попыталась уложить ее в постель. У Кузи
было необычное свойство: когда случались какие-нибудь неприятности,
она много ела и спала.
И в этот раз, плотно пообедав, Кузя уснула мертвым сном, лишь
коснувшись щекой прохладной подушки. Проснулась час спустя от
прикосновения ко лбу мягкой маминой ладошки. Оторопело глянула на
часы и, сорвав шубу с вешалки, без шапки вылетела из дома.
Часы показывали четверть пятого, и мама Турбина, конечно же, уже была
в школе.
У них были одинаковые глаза, только у Игоря не было той непонятной
оловянной поволоки, время от времени туманившей взгляд его мамы. В
такие мгновения казалось, что снова и снова уходила она во что-то дорогое
и далекое, недоступное и невозвратное. Даже когда она смеялась, ее глаза
вдруг обращались в прошлое. Казалось, что, чем лучше ей было сейчас, тем
острей скорбела она о чем-то навсегда ушедшем. Она была верна той своей
жизни, и даже дети не могли вернуть ее в сиюминутность...
А потом Кузя попала домой к Турбиным, когда понесла больному Игорю
домашнее задание. Вскарабкалась по выщербленным ступенькам на второй
этаж и очутилась на огромной деревянной галерее с двумя дверьми,
ведущими в комнаты. Отсюда с террасы был виден весь дворик:
запорошенные снегом крыши сараюшек с длинными причудливыми
сосульками, заснеженная голубятня, несколько рядов чуть голубоватого от
синьки, схваченного морозом, стылого, заскорузлого белья.
Повеяло каким-то ароматом другой, незнакомой Кузе жизни. Долго
стояла она на старинной деревянной галерее и не могла отвести глаз от
зимнего дворика.
А потом очутилась в одной из двух маленьких комнаток, где жили
Турбины.
Игорь мыл пол. Увидев Кузю, кивнул ей, бросил под ноги отжатую
тряпку и, отвесив старомодный поклон, попросил охрипшим от простуды
голосом зайти в «хоромы». «Хоромы» по сравнению с Кузиной современной
квартирой, с изысканным полированным гарнитуром были маленькие и
полупустые — круглый обеденный стол с табуретками, обшарпанный
буфет, две железные кровати с сетками и всюду множество книг.
Мама Игоря сидела за столом, и читала. Игорь поднял ее вместе с
табуреткой и понес в другую комнату.
— Гошка, прекрати сейчас же, живот болеть будет, надорвешься, —
смеялась мама Игоря, и лицо ее розовело и становилось девчоночьим.
— Мамочка, своя же ноша-то как раз та самая, которая рук не тянет.
— Ох, и дурной ты у меня Гошка, здоровый вроде бы, а дурной. Правда
ведь, Наташенька, дурной?
— Да нет, он у вас хороший, — улыбалась смущенно Кузя.
— Да ну, — нарочито удивлялась мама. — Неужто хороший? А я думала,
дурной. Ну -ка покажись, может, я что-то просмотрела.
Игорь медленно поворачивался вокруг себя, вытянувшись на носочках и
сложив руки, как балерина, над головой.
— Точно, просмотрела. Глаза-то какие голубые. Ой, Гошенька, да ты у
меня хорошенький какой! — Мама всплескивала руками, смеялась, а глаза
подергивались уже знакомой Кузе поволокой, убегали куда-то далеко-
далеко.
Кузя с Игорем, разложив учебники, занимались за круглым столом. А
мама кипятила чайник и выкладывала из банки в вазочку вишневое
варенье, «Гошкино любимое», своими неловкими больными руками.
— Это полиартрит, — пояснил Игорь, перехватив взгляд Кузи, — такая
болезнь. Когда папа умер, маме очень тяжко приходилось. Петька с Алешкой
совсем маленькие, помощи ждать неоткуда. Мама работала на двух работах
и, видимо, надорвалась. Вообще она у меня грандиозный человек. Очень
сильная и воля железная... Ну, давай, чего там задали?
По всем предметам Турбин был первым учеником. Давалось ему все это
без усилий. Одаренный от природы поразительной цепкой памятью и
каким-то особым складом ума, он все хватал на лету и усваивал прочно и
навсегда.
За два урока контрольной он успевал решить четыре варианта, и весь
класс без зазрения совести пользовался его шпаргалками и подсказками.
Грымза, поначалу невзлюбившая новенького, уже через месяц таяла и
млела, когда Турбин выходил к доске и вместо положенного параграфа
выплескивал на притихший класс ворох интересных, раздобытых
неизвестно где сведений о Магеллане, Беринге, кругосветных
путешествиях, экзотических африканских странах.
Одна Кузя знала, откуда он их выискал. Библиотека Игоря Турбина была
уникальной.
— От отца осталось, — неохотно ответил однажды Игорь на Кузин
вопрос, откуда такое количество книг. Старые, с пожелтевшими от времени
страницами, в тяжелых золотистых и кожаных переплетах, все они были
аккуратно расставлены по полкам, опоясывающим в несколько рядов стены
обеих комнат. — Мама хотела продать кое-что, но я не дал. Во-первых, это
отцу принадлежало, а во-вторых, тридцатку в месяц я и так заработаю.
«Где?» — чуть не сорвалось у Кузи с языка, но она промолчала.
Все, связанное с Игорем, было необычно и интересно. Кузя стала частым
гостем в маленьком дворике. Даже приводила по пятницам из сада
двойняшек.
— Помощница моя, — улыбалась благодарно мама Игоря.
Одно оставалось загадкой для Кузи: куда каждый день на три часа
исчезает Игорь после школы.
Но и эту тайну он раскрыл ей охотно и без малейших сомнений.
Когда-то у отца Игоря был друг. Как и сам отец, он был физиком и
работал в какой-то лаборатории. Чтобы помочь семье друга сводить концы
с концами, он взял Игоря лаборантом. Поэтому Кузя не удивилась, когда на
имя директора школы пришло письмо из Новосибирского академгородка, в
котором говорилось о незаурядных способностях Игоря в области физики,
что было ясно из присланных им ответов и решенных задач. Московской
школе было предложено послать Игоря учиться в особую школу при
академгородке.
Кузя обрадовалась и огорчилась одновременно. Она уже не мыслила
своей жизни без Игоря, без его голубятни и старинной галереи, без
глазастых двойняшек и вечерних копаний на книжных полках.
Зато мама Игоря словно светилась изнутри гордостью и счастьем.
— Знаешь, Наташенька, я так рада за Гошку, у нас ведь там друзей много
осталось, отец наш там начинал. И потом, это верный путь в институт. Отец
был бы доволен...
3
Мама Игоря умерла две недели спустя. Просто не проснулась утром.
— Какая легкая смерть, — приговаривали соседки, сморкаясь в платки и
гладя по головам притихших, испуганных двойняшек.
Кузе было непонятно, как смерть может быть легкой, и еще ей казалось,
что эти две толстые слезливые бабки даже были рады, что вот не они, а она
умерла, еще такая молодая. Словно убийственно несправедливое
нарушение очередности вдохнуло в них ощущение собственной
незыблемости на этой земле.
Кузя впервые в жизни столкнулась так близко со смертью. Это было
непостижимо.
Добрый гармоничный мир, в котором жила Кузя, треснул, развалился.
Совсем недавно на уроке литературы Кузя читала наизусть отрывок из
«Войны и мира», который ей выбрал Игорь.
Накануне вечером Игорь проверял уже вызубренный Кузей текст. Это
была сцена смерти князя Андрея...
«Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он
умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание
отчужденности от всего земного и радостной, и странной легкости бытия.
Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То
грозное, вечное, неведомое и — далекое, присутствие которого он не
переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него
было близкое и по той странной легкости бытия, которую он испытывал —
почти понятное и ощущаемое...
Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все это время, — о жизни
и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.
«Любовь? Что такое любовь?» — думал он. Любовь мешает смерти.
Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что
люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано
одною ею. Любовь есть бог, и умереть — значит мне, частице любви,
вернуться к общему и вечному источнику».
Когда Кузя закончила читать, в глазах мамы Игоря стояли слезы, и она,
не стесняясь их, проговорила задумчиво:
— Боже мой, какой великий писатель. Только гению доступно так
написать.
Кузя тогда не поняла. Она выучила этот отрывок потому, что его выбрал
Игорь. Она даже не понимала толком, о чем он...
На кухне выключили воду. Стало тихо. Совсем тихо, до напряженного
звона в ушах. Уличные шумы, словно покорившись всеобщей минуте
молчания, какой-то единой скорби, зависли на уровне моего окна. На кухне
чиркнула спичка. Я вздрогнула. Где-то этажом выше жалобно мяукнул
котенок.
Я вспомнила. Мое теперешнее оцепенение... Такое уже было.
В белом, бесконечно длинном коридоре послеродового отделения
женщина во врачебной шапочке до бровей низким хрипловатым голосом
сказала мне, что мой ребенок, мой сын, появившийся на свет неделю назад,
не будет жить.
Я почувствовала тогда, как мое тело, перестав принадлежать мне, стало
невесомым и, отталкиваясь легкими толчками от какой-то малости меня,
способной чувствовать, закружилось и понеслось куда-то, меняясь в
размерах, разбухая каждой бывшей моей клеточкой.
А потом наступило то самое оцепенение, когда время обращается вспять
и лишь вечность — единственное точное измерение.
Я не плакала тогда, что было, наверное, неестественным и странным, не
спрашивала: почему, как же так, за что? Я видела вновь и вновь его
маленькое желтое личико в белой косыночке с какими-то лишь одной мне
видимыми подергиваниями полуприкрытых век. Потом тупо смотрела в
окно, где, задрав вверх неприкрытую голову, стоял под падающим снегом
мой тогда уже похудевший Макаркин, смотрела и не жалела ни его, ни себя,
ни нашего ребенка. Что же, так создан мир — приказывал мне жестко и
трезво мой ополчившийся разум. И я повторяла беззвучно: да, так создан
мир...
Моему сыну месяц назад исполнилось семь лет. «Дикошарый» —
называет его воспитательница Ольга Ивановна. В сентябре он пойдет в
школу.
А я все никак не могу избавиться от его маленького желтого личика в
косыночке. Иногда просыпаюсь среди ночи и брожу до утра по спящей
квартире, уговаривая себя, что все ведь уже давно в прошлом... Но, видно,
все не проходит никогда, иначе откуда эта истязающая по ночам глухая,
отчаянная тоска...
На кухне снова захлюпала присоска, или, как ее называли в
хозяйственном магазине, негодуя на мою неграмотность, вантуз.
Надо было на что-то решаться... «Слесаря вызывали?» — эхом прозвучал
в голове насмешливый знакомый голос. Только сейчас я вдруг увидела себя
со стороны — невыспавшаяся, ворчливая мегера со всклокоченными после
сна волосами, заспанными глазами, в мятом халате, из-под которого на
полметра торчит хвост ночной рубашки. Я почувствовала, как внезапно
кровь прилила к щекам... «Господи, и это взамен ясной, жизнерадостной
Кузи», — пронеслось в голове. Я прислонилась лбом к оконному стеклу в
мутных затеках и пятнах наследившего дождя. «Хотя какое это теперь
имеет значение?..»
Двойняшек Турбиных отправили к тетке в Подмосковье. У Кузи
мучительно ныло сердце, когда на вокзале они с Игорем отрывали от себя
цепляющиеся ручонки.
А когда за окном поплыли, качаясь в ритм поезда, одинаковые голубые
помпоны рядом с лицом чужой добродушной женщины, Кузя разрыдалась,
как маленькая, пряча лицо в колючем воротнике пальто Игоря.
Игорь гладил Кузины волосы и тихонько приговаривал:
— Да полноте, матушка Наталья Алексеевна, я пойду работать и совсем
скоро заберу их обратно...
Игорь перешел в школу рабочей молодежи и устроился на завод.
На носу были выпускные экзамены. Виделись Кузя с Игорем редко.
В выходные дни Игорь уезжал к тетке в Подмосковье. Он очень
изменился. Похудел, под глазами залегли темные тени, взгляд стал жестче,
а речь определенней.
Однажды выставленная мамой на улицу — проветрить голову от
учебников, — Кузя забрела во дворик.
Заброшенная голубятня уныло мокла под моросящим весенним дождем,
одинокий голубь, разгуливающий возле лестницы, увидев Кузю, виновато
спрятал голову в подмокшие взъерошенные перья и засеменил прочь,
подрагивая сложенными крыльями.
Под лестницей, ведущей на галерею, разлилась традиционная лужа.
Здесь каждую весну хлюпали резиновыми сапожками двойняшки, пуская
бумажные кораблики. Отчужденно глядела с террасы бабка Нюта. Бабкины
глаза со знакомым Кузе сиреневатым налетом старости глядели на Кузю и,
казалось, не видели ее.
— Бабушка Нюта, это я, Наташа. Вы не узнаете меня?
Бабка закивала головой.
— Да как же, узнала теперь. Редко заходишь, деточка. Как твоя учеба?
Заходи, чайком тебя сейчас напою.
Бабка засуетилась, сделалась словоохотливой и радушной.
Кузе не хотелось чаю, но она не стала обижать бабку и поднялась к ней в
комнату.
Тесная, душная, комната, с иконостасом в углу, горящей лампадкой,
цветами из бумаги и воска, скорей напоминала келью.
Прихлебывая чай из блюдечка, бабка строчила слово за слово, будто
читала заупокой по семье Турбиных.
— Истинно божий человек была мать их, Зинаида Ильинична. И
чувствовала ведь конец-то свой и никому даже пожалеть ее не дала. Сгорела
ведь, истаяла, как свеча, не пережила смерти Евгения своего. Надо было бы
взбодриться ей, ради детей зажить. А она все об нем одном тосковала.
Игорек у ней золото. На работе своей так вымотается, идет по двору, еле
ноги передвигает. Ему бы выспаться лечь, а здесь уроки... заглянула к нему
вчерась вечером, а он спит за столом с книжкой под щекой, заместо
подушки. Нельзя ему так надрываться, у него самый рост организма сейчас.
Он, вишь, в отца упорный. Должен, говорит, двойняшей в дом забрать, а то
без них совсем не жизнь. Я ему: «Игорек, может, у тетки-то им и лучше? Она
и сготовит, и постирает, и ласка им, сиротам, женская нужна». А он ни в
какую. Сам, говорит, должен отвечать за них. Мама же тащила нас три года
одна? Что же я, говорит, не выдержу, что ли? Да я, говорит, бабка Нюта
всяческое уважение к самому себе потеряю. А без этого я никак жить не
могу, ежели без уважения к себе самому. А уж как двойняшей жалко, уж как
их, сироток обездоленных, жалко...
Бабка запричитала, завыла развернувшись к божьему лику,
закрестилась мелко, выпрашивая у господа милости к рабам его
малолетним.
Кузя отодвинула чашку и, пробормотав «до свидания», вышла на
террасу.
Долго бродила она вдоль арки под мелким моросящим дождем.
Уже стемнело, когда раздались торопливые шаги и гибкая тень
заскользила по каменному своду арки.
Кузя кинулась навстречу. Игорь вздрогнул.
— Наталья, это ты? Ты чего?
Кузя мотнула головой:
— Я... ничего.
Шагнула к нему, обхватила обеими руками за шею...
На улице по-прежнему противно моросил дождь, время от времени
забрасывая резкими порывами ветра охапки сырости в полутемную арку.
Фары мчавшихся по набережной машин выхватывали на мгновение из ее
полукружия две застывшие фигуры.
Голоса редких прохожих обрывками непонятных разговоров залетали в
арку. Кузя чувствовала на лбу его теплые губы. Они двигались почти
беззвучно, но ей было внятно каждое его движение, чуть уловимый шелест
его губ
— Только не надо меня жалеть. Слышишь, Наташка, пусть все жалеют, а
ты не должна. Я не хочу... И поэтому ты не смеешь...
— Гошенька, а помнишь у Достоевского... У него любить — значит
жалеть. Я ведь жалею не так, как бабка Нюта. Я в другом смысле, еще
неискаженном... Жалею, значит...
— Если я буду знать, что ты у меня есть, — я все смогу... Мне так нужна
ты. Кузя ты моя...
На кухне резко зазвонил телефон.
Еще крепче прижавшись лбом к стеклу, сквозь муть разводов я увидела,
как гуськом потянулись на детскую площадку неуклюжие, смешные
детсадовцы.
Требовательные телефонные гудки сверлили внутренности, и с каждым
звонком поднималось откуда-то из глубины желание войти в кухню,
прижать к уху прохладную трубку, увидеть нарочито презрительную
усмешку.
Наверняка звонил мой Макаркин.
Когда я работала дома, он всегда звонил из своего МИДа и каждый раз
обеспокоенно спрашивал:
— Ну, ты по мне хоть капельку соскучилась?
Как будто я могла, не солгав ему, ответить: да.
Макаркин часто повторял изумленно:
— У меня такое чувство, что мне всю жизнь предназначено домогаться
тебя.
Мне показалось, что есть нечто символичное в том, что именно сейчас я
стою, прижавшись лбом к стеклу, и вижу мир через мутную пелену
дождевых затеков.
Полтора года назад, вернувшись из-за границы, истосковавшись по
Москве, по ее суматошным улицам, непрекращающейся толчее метро,
беспорядочной сутолоке москвичей и приезжих, я отправилась бродить по
городу. Просто так, куда приведут ноги...
Говорят, подсознание никогда не прекращает своей работы. Человек
живет, не отдавая отчета в своих мгновенных, чиркающих, как след
падающей звезды, ощущениях, не фиксируя и не запоминая своих
ассоциаций, тревожных снов. Он не ведает о разоблачительной
деятельности собственного никогда не дремлющего подсознания, которое
вдруг внезапным прорывом из подкорки выдает, как вычислительная
машина, результат многолетней работы, расшифровывая и переводя на
чувственный, эмоциональный язык свой неведомый код...
Мои ноги словно знали, куда меня привести... Я остолбенела от
неожиданности, очутившись вдруг на берегу Канавы и внезапно
зажмурившись от нахлынувших детских воспоминаний. Так же, как тогда,
спешили возбужденными группами школьники на экскурсию в
Третьяковку, а с другой стороны Канавы бронзовый Репин,
величественный и покойный, с застывшей навсегда кистью в руке, следил
издалека за потомками, спешащими на свидание к его картинам. Так же
неслись над водой напевные «и — раз!» — и легкие многовёсельные
байдарки скользили как бы без усилий по темной, неподвижной воде.
Я подошла к красному кирпичному зданию моей школы.
— Тетя, у вас случайно спичек не найдется? — таинственно, вполголоса
обратился ко мне долговязый школьник.
— Найдется, деточка, — усмехнулась я и протянула ему зажигалку.
— Ух ты! — восхитился долговязый. — Я сейчас. — И скрылся за углом
школы, откуда через несколько секунд послышался дружный кашель.
— Спасибо, — появился долговязый, пряча в кулаке дымящуюся
сигарету и с одобрением разглядывая мой «фирменный» джинсовый
комбинезон.
— Да не за что, кашляйте, — ответила я.
Долговязый довольно ухмыльнулся и скрылся за углом.
На тротуаре билась и взлетала тяжелая веревка, и школьницы,
выстроившись в длинную очередь, с визгом и хохотом мастерски прыгали
через нее, проделывая ногами всевозможные пируэты. «Мы прыгали как-то
по-другому. Ишь, как все усовершенствовалось», — пронеслось в голове. И я
почувствовала вдруг нахлынувшую жгучую зависть к этим визгливым
девчонкам с голыми коленками, к их не замутненному дождевыми
разводами веселью, ко всему их истовому школьному бытию.
Из распахнутых окон выплеснулся, зажурчал по переулку голосистый
звонок, призывавший подняться в классы и продолжить уроки.
Рванулись к школьным дверям растекшиеся по переулку школьники и,
образовав пробку, заорали, засвистели в радостном ажиотаже, завизжали
придавленные в толчее первоклашки. Высунулся из окна второго этажа
толстый флегматичный парень, жующий пирожок, захрюкал, оживился от
открывшейся ему дверной давки. А уже через секунду все окна были
облеплены смеющимися, сияющими физиономиями, все разом загомонили,
заулюлюкали...
Прошествовали шатающейся походкой на вялых ногах обалдевшие
«курильщики» из-за угла. Долговязый бросил на меня быстрый, хитрый
взгляд, замедлил шаг:
— А вы, наверное, учились здесь когда-то? Да?
— Вот именно когда-то. При царе Горохе. В другой жизни, — засмеялась
я.
Долговязый понимающе кивнул головой, опять хитро сощурился.
— А нас учат, что никакой другой жизни нет, есть одна-единственная, да
и та принадлежит не тебе, а обществу.
Я опять засмеялась:
— Сочувствую вашим учителям — если в головах учеников все ими
сказанное потом таким образом перерабатывается.
Долговязый вдруг стал серьезным и очень конкретно сказал:
— Зачем вы все время смеетесь, когда вам... совсем наоборот? — Он
зашагал к крыльцу, махнув на прощание рукой. Потом вдруг в два прыжка
вернулся и посоветовал: — А вы не расстраивайтесь. Нам сегодня историк
рассказал, будто на обратной стороне перстня царя Соломона, знаете, что
было написано: «И это пройдет...»
И, разогнавшись, долговязый одним ударом пропихнул в дверь
визжавшую пробку...
4
И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой...
Все это забирает он с собой.
Ноги принесли меня к моему первому... всему. Остальное потом было
неправдой. Может быть, случается, что первое остается последним... Только,
наверное, надо много прожить, чтобы понять это. Мой провокатор-
подсознание копило во мне все эти долгие годы свой безжалостный
приговор. Сквозь череду промелькнувших дней проступило единое: сейчас
я жила исполнением своего жгучего затаенного желания.
Ноги несли меня к прохладному полукружию арки, к старинной террасе
из потемневшего дерева, к голубятне, к незатейливым лужайкам из желтых
одуванчиков.
Мое стесненное дыхание будто экономило силы для полного глубокого
вздоха. Я знала, что лишь во дворике я наконец продохну, словно лишь
воздуху моего детства будет дано, как тому долговязому, единым толчком
пробить возникшую преграду. Я знала: там наступит долгожданный покой,
когда мой разум и совесть, освобожденные великодушием прощения,
соединятся в гармоничном понимании содеянного за долгие годы. Я
отдавала отчет, что стремлюсь даже не к прощению: кому или чему дано
быть судьей жизни человеческой? Я хотела быть понятой...
Наверное, это было непозволительной роскошью — в придачу к моей
благополучной жизни...
Мутные затеки на стекле вдруг поплыли, извиваясь, стали расползаться
и корежиться, искажая до неузнаваемости знакомую картину двора.
Телефонные звонки, затихнув ненадолго, вновь наполнили квартиру
резкими неуместными звуками. Мой Макаркин тщетно взывал ко мне...
Так далеко от него я еще никогда не была.
Инстинктивно я протерла глаза.
Картинка моего двора встала на место. На детских качелях,
подпихиваемый в спину несколькими парами ладошек, бесстрашно
взмывал к небу, мелькая зачиненными пластырем коленками, мой
дикошарый сын.
Я давно не плакала. Пожалуй, с той самой минуты, когда, ничего не
понимая, как вкопанная, я замерла перед тем местом, куда принесли меня
ноги.
Я тупо глядела тогда на аккуратные дорожки, посыпанные песком, на
зеленые свежевыкрашенные скамейки, на густую зелень скверика, по
какой-то невероятной ошибке занявшего место дворика Игоря Турбина.
Из глубины сквера холодно и строго светили окна какого-то учреждения,
голые, не утепленные занавесками или шторами.
Изумленно посмотрел на меня прохожий в очках.
Участливо глянули глаза толстой женщины с раздутыми
хозяйственными сумками в обеих руках.
— Почему плачет тетя? — заинтересовался важный щекастый малыш.
Женщина с сумками виновато улыбнулась.
— Митюша, не отставай. Держись за сумку. У тети, наверное, соринка в
глаз попала. Ты ведь сам знаешь, как это больно, когда в глаз попадает
соринка!
По моим ногам прогрохотал игрушечный самосвал на длинной веревке,
опрокинулся от неожиданной преграды. Оглушительно заревел щекастый
малыш.
Нагнувшись, я поставила самосвал на колеса.
— Ну, вот и все в порядке. Не реви. Просто случилась небольшая авария.
Малыш радостно всхлипнул, выставил вперед указательный палец.
— Сама ревешь...
Женщина поставила тяжелые сумки на асфальт, потянула малыша за
руку.
— Митюша, не приставай к тете, пойдем.
— Скажите, вы здесь давно живете?
Женщина сочувственно обвела взглядом мое мокрое от слез лицо.
— Давно.
— Здесь, на месте этого сквера, был дом... Деревянный, с каменной
аркой... с голубятней во дворе... Его снесли... Как же так?.. Давно... снесли?
Женщина нагнула голову, пригладила растрепанную челку на голове
малыша и, не глядя на меня, проговорила:
— Давно. Года три назад...
— И... куда?..
— Не знаю. Наверное, по новым районам. Как обычно. Да вы пойдите в
райжилотдел — вам скажут.
Я кивнула головой, отошла к парапету набережной. Снова прогрохотал
на длинной веревке зеленый игрушечный самосвал.
— Мама, а почему тетя плачет? Соринка — очень больно, да?
— Да, Митюша, это больно...
Говорят, когда у человека отнимают руку, она, уже несуществующая,
продолжает болеть. Это потому, что клетки мозга еще живы. Они живут
долго, истязая человека своей несуществующей, нереальной болью. А
потом... человек привыкает. Привыкает к тому, что он навсегда лишен
такой, казалось бы, необходимой части себя. Привыкает не только из-за
того, что отмирают клетки мозга. А потому, что мощью своего сознания
понимает невозвратность, невосполнимость потери.
Это навсегда...
Я поняла, что живуча, как кошка. Моя способность адаптироваться в
новых условиях была бесподобной. Она могла привести в восхищение
окружающих. Безмерно страдало от этого лишь одно существо — я сама.
Остальным всем моим так называемым близким было удобно и легко...
Я даже чувствовала тогда какое-то странное облегчение.
— Ну, вот и все, — думала я тогда. — И все. И пусть... Пусть так. Может, и
к лучшему.
Уже потом дано мне было понять, что эта моя тогдашняя невесомость
была сродни не облегчению, она была началом моей огромной пустоты.
«Так балдеть от музыки...» — неодобрительно заметила Нинка
Зиновьева на дне рождения у Кузи, когда после игры в фанты все уселись в
кресла и Кузина мама поставила «Болеро» Равеля.
Никто не умел так слушать музыку, как Игорь. Глаза его, всегда
насмешливо-тревожные, становились прозрачными и бездонными. У Кузи
замирало сердце, когда она тонула в их завораживающей глубине, понимая
обреченно, что ей не выплыть, и проживая свою гибель, как волшебный,
сладостный сон. Сердце замирало, ноги становились ватными и холодными,
боковое зрение прекращало свою деятельность, и все богатство мира
сосредоточивалось для Кузи в заполонивших голубизной весь белый свет
единственных, неповторимых его глазах. Сквозь плотность вобранных им
звуков глядел он отрешенно на Кузю, не видя ее завороженного лица,
переполненный чудодейственной силой таинственной и непостижимой
стихии.
Кузина мама занималась грамзаписью, и в их доме был культ музыки.
Огромные динамики, установленные в разных углах просторного холла,
передавали все тонкости и нюансы звуков, записанных на диски Кузиной
мамой.
Постепенно заскучавшие одноклассники перебирались в Кузину
комнату, где яростно вертелась на полу бутылка, соединяя довольных
девятиклассников в целующиеся по условиям игры пары.
— Темнота — друг молодежи, — торжественно провозглашал Макаркин,
щелкнув выключателем и поставив на пол горящую свечку.
Лишь Турбин и Кузина мама надолго замирали в удобных мягких
креслах, слушая одну за другой пластинки с классической музыкой.
— Это поразительно, как сильно мальчик чувствует классику, —
вздыхала потом на кухне мама, перемывая груды грязных тарелок.
Кузя, зная эту страсть Игоря, часто доставала через маму билеты в
консерваторию.
Он слушал музыку не расслабленно, как многие — блаженно
откинувшись в кресле и полуприкрыв глаза. Он был весь, как натянутая
тетива, — казалось, тронь его, и он зазвенит от напряжения.
Сосредоточенный и молчаливый, провожал он Кузю до подъезда и, едва
кивнув на прощание, стремительно исчезал в темноте.
Однажды Кузя, забыв отдать ему перчатки, засунутые в карман ее
пальто, побежала догонять Игоря.
Он шел, натыкаясь на прохожих, заложив руки в карманы и почему-то
неестественно задрав вверх плечи.
Выйдя на набережную, он повернул в противоположную от его дома
сторону. Кузя не осмелилась окликнуть, позвать. Она шла за ним по
петляющим переулкам Замоскворечья.
Было пусто, и сухие охапки напа
́
давших листьев внятно шелестели под
ногами в застывшем, безветренном воздухе. Каждый шаг гулко отлетал к
стенам уснувших домов и, отталкиваясь, как бы разбивался, наткнувшись
на свое спешащее навстречу повторение.
Игорь шел стремительно, не прислушиваясь к шуму торопящихся за ним
ног. На углу неожиданно открывшейся площади он вдруг резко повернул и
столкнулся с разогнавшейся Кузей. Он не удивился, не растерялся.
Жестко блеснули в полумраке глаза с незнакомым Кузе выражением.
Стиснув до боли ее ладошку, он прошептал отчетливо:
— Из кожи вон вылезу, а Алешку с Петькой буду учить музыке. Так и
запомни мои слова...
Кузя поспешно кивнула, протянула Игорю огромный кленовый лист в
багрово-желтых переливах осени. Игорь стоял, покусывая длинный
стебелек листа, а глаза его были далеко-далеко, подернутые оловянной
маминой поволокой. У Кузи тогда сжалось сердце от этого нового его
жесткого взгляда...
— Ма-а -ма, мам, — пронзительный голос моего сына требовательно
взмывал в поднебесье.
— Три-четыре. Ма-а-ма, мам, — дружно присоединились к голосу моего
Петьки солидарные с ним детсадовцы.
Я распахнула окно, махнула рукой: вижу, мол, твои подвиги, горжусь.
Вспомнила, как в первый год его пребывания в саду, когда под нашими
окнами еще не было детской площадки, я с напряжением, до боли в глазах
следила из театрального бинокля за каждой его прогулкой. Маленький,
смешной, в оранжевом тулупчике с капюшоном, он старательно слизывал
снег с варежек, а я швыряла бинокль и мчалась во весь дух спасать моего
малыша от неизбежной простуды.
Укоризненно качала головой воспитательница Ольга Ивановна. Родным
с детства, нарочито грубоватым голосом выговаривала мне:
— Кузнецова, возьми себя в руки и прекрати беготню. Ничего с твоим
ненаглядным не сделается...
Тогда во мне еще жил атавизм давнего страха за его жизнь, который
терзал меня безустанно с той минуты, когда руки впервые почувствовали
почти невесомость врученной мне ревущей, перепеленатой ноши. Это был
животный, не регулируемый сознанием страх. Уже позже, когда он стал
вытесняться постепенно другими чувствами — нежностью, гордостью,
ответственностью за его судьбу, — я поняла, что тот страх был самым
сильным ощущением в моей жизни. Он был хитроумен и действен в своей
потенциальной силе. Доведенная этим страхом до крайности, я не спала
тогда, почти не ела, я слушала дыхание сына, и каждый плач сводил меня с
ума, отнимал силы и властно выхолащивал все остальные ощущения.
Этот мой страх был способен, наверное, будь он преобразован в энергию,
совершать невероятные действия.
Кажется, тогда я была способна на все — и на любую жертву и на любую
жестокость. В редкие минуты просветления, временного освобождения от
гнета страха, я ужасалась себе. Как-то вдруг вспомнила случай из моего
детства.
На даче у соседской собаки Ласты родились щенки. Их было трое. Три
неуклюжих лохматых комочка. Они только-только встали на свои
дрожащие, неумелые лапы и тыкались друг в друга крутолобыми
мордочками смешно и трогательно. Все над ними причитали и
восторгались, гладили счастливую Ласту с блестящими, по-человечески
осмысленными от значительности происшедшего глазами.
Через несколько дней за щенком пришел человек. Он только вошел в
калитку, а Ласта уже напружинилась, забегала вокруг дремавших на солнце
детенышей. Человек тихо переговаривался с хозяйкой, пил чай под навесом
и даже не глядел в сторону щенков.
А Ласта тихо скулила и, вылизывая щенков своим горячим шершавым
языком, тоскливо глядела на пришедшего.
Мы, дети, еще не понимая сути происходящего, почувствовали ее тоску и
отчаяние, попробовали приласкать ее и щенков, но собака грозно зарычала,
шерсть вздыбилась, а в глазах вспыхнули незнакомые зловещие огоньки.
Мы были просто потрясены переменой такой всегда ласковой, покладистой
Ласты.
— О, это самый могучий инстинкт из всех существующих — инстинкт
материнства, — непонятно пояснила нам тогда хозяйка Ласты, видимо,
жалея бедную собаку и сочувствуя ей.
— А зачем же вы отдаете щенка, если сами переживаете? —
поинтересовалась я.
Ластина хозяйка грустно усмехнулась и, погладив меня по голове,
пояснила:
— Что же делать, деточка?! Не могу же я держать столько собак. Я все
понимаю, но что ж делать?!
Я всегда поражалась удивительному свойству взрослых все понимать и
тем не менее делать этому наперекор.
Поражалась до тех пор, пока сама впервые, все понимая, не поступила
иначе... Наверное, это был мой первый взрослый поступок.
Ласту заперли на маленькой застекленной веранде, пока хозяйкин
знакомый забирал щенка. Собака металась по веранде и выла высоким,
отчаянным голосом.
Когда человек, засунув за пазуху щенка, направился к калитке, зазвенели
разбитые, падающие на пол стекла и окровавленная, взъерошенная Ласта
разъяренной тигрицей в два прыжка настигла уходящего и кинулась на
него.
Страшно закричала хозяйка, завизжали дети, а большая добрая Ласта
душила в железных объятиях своего смертельного врага — существо,
посягнувшее на ее детеныша.
Я до сих пор помню ее глаза. Тоскливые, переполненные тусклым,
отчаянным страхом.
Теперь я спокойно смотрела на бесконечные синяки и ссадины моего
сына, тем более что они были непреходящи. Болел он редко и легко.
— Мам, скинь нам карамелек. Заверни в пакет — мы поймаем. Они в
вазочке на кухне...
Задрав вверх головы, детсадовцы просительно глядели в окно.
На кухне послышался лязг собираемых инструментов, поспешные шаги в
прихожей. Через секунду из вывернутого крана в ванной хлынула вода.
Я вошла в кухню. Мои ноздри с жадностью втянули запах дешевых
папирос и какой-то еще, чужой, незнакомый запах, ненадолго поселившийся
в моей кухне...
Кузя влетела на старинную террасу и, чуть не сбив с ног изумленную
бабку Нюру, повисла на шее Игоря, болтая ногами и дико выкрикивая:
— Ура! Поздравляйте! Принята!
Взлохмаченный Кузиными суматошными объятиями, Турбин счастливо
смеялся тихим, добрым смехом, целовал Кузины тугие щеки и
приговаривал:
— А кто говорил, что Кузя самая талантливая, самая умная, самая
распрекрасная...
Ах, как он умел радоваться чужому счастью, этот Турбин! Как он умел
горевать над чужой бедой...
5
Кузя была принята в Ленинградское Мухинское художественное
училище. Отец Кузи сам кончал Мухинское, был коренным ленинградцем.
В Ленинграде жила любимая Кузина бабуленция. Бабушка, прошедшая
голодную блокаду, пережившая смерть самых близких людей, заражала
Кузю своей удивительной жизнеспособностью, фанатичной любовью к
своему городу.
Каждый год на каникулах Кузя приезжала к бабуленции и неизменно
ухватывала хвостик ускользающих белых ночей. Бабушка сердилась на
Кузю, когда та возвращалась домой не на рассвете, ворчала, что так можно
проспать всю жизнь.
— Ну, явилась — не запылилась. На улице-то красота какая, а ты спать
заваливаешься. Я в твои годы в пору белых ночей и глаз не смыкала. И
хотелось спать, а чувствовала — нет, нельзя такое упускать... Бывало, весь
Петербург исколесишь. На улицах людно, весело — где песни запевают, где,
гладишь, пляски устроят под гармошку. А уж когда на острова выбирались
— дух замирал... Нельзя, Наташенька, такое проспать... Потом спохватишься,
да уж поздно будет.
У Кузи тоже замирал дух от той гармонии, которой освящен был
Ленинград в пору белых ночей. Казалось, ночь залюбовалась городом и,
оцепенев от его простой и торжественной красоты, все медлила и медлила
накинуть на него свое темное покрывало. Замешкалась ночь, а тут уж на
цыпочках подкрадывается румяный рассвет. И отступала, негодуя и
сожалея, чуть виноватая ночь, а сама ждала и томилась полюбившимся
видением города и, с нетерпением дождавшись своего часа, вновь и вновь
медлила затуманить любимые черты, смешать четкость линий, одарить
изнуренных сладостной бессонницей жителей прохладной благодатью.
А потом проходила влюбленность, и все короче становились
безудержные свидания.
Но наступала пора, когда равнодушно и делово накидывала охладевшая
к красотам города ночь свой волшебный плащ. И обессиленный город
смежал уставшие веки, мгновенно и крепко засыпал.
Кузя не очень сопротивлялась желанию родителей послать ее учиться в
Ленинград. Она знала, что будет скучать по Игорю. Но они виделись и так
очень редко.
Выпускные экзамены, напряженные занятия рисунком и подготовка
работ к творческому конкурсу в училище — это занимало весь день,
которого никак не хватало, и приходилось урывать часы, предназначенные
для сна. А тут еще внезапная, переродившаяся из детской привязанности
любовь напропалую хиппующего Макаркина. Для него вдруг свет клином
сошелся на Кузе. Макаркин таял и сох, сох и таял. Он свирепо ревновал ее к
Турбину, грозился убить Кузю, себя, Игоря. Родители Макаркина
паниковали, шептались вечерами с Кузиной мамой, приходили в отчаяние
от надвигающегося неотвратимого провала их страдающего отпрыска в
институт международных отношений. Макаркинская безумная любовь не
вызывала у Кузи особых эмоций.
Она даже немножечко презирала его за то, что он умудрялся выражать
все, что чувствует, ничего не оставляя для себя. И все-таки Макаркина Кузя
по-своему любила и даже поцеловала его в щеку, когда в день рождения он
осыпал ее дождем белой сирени.
Кузина мама нарочито равнодушным голосом стала вдруг обращать ее
внимание на то, как повзрослел Валерик, какой стал красивый, высокий и,
главное, как удивительны его манеры. Кузя смеялась, разоблачая мамины
хитрости:
— Мамочка, ну что Макаркин барышня, что ли?! Видите ли, манеры у
него удивительные! И где это ты манеры разглядела сквозь его патлы и
драные джинсы? И потом не надо меня сватать. Все равно не выйдет!..
Кулек с карамельками спилотировал на тротуар. Как по команде, все
детсадовцы дружно засопели, зашелестели фантиками, заверещали
вразнобой:
— Спасибо, тетя Наташа!
Голоса у всех были умильные, подслащенные карамельками.
Я почувствовала, как мой рот ползет к углам в невольной улыбке.
«Господи, до чего же смешные...»
— А это еще что? Что вы все едите? Сколько раз внушала вам: портить
аппетит не разрешаю. Все дети как дети, а вы — как стадо баранов.
Наказание, а не дети, — пророкотал под окнами голос Ольги Ивановны. — И
кто это вас так, кстати, угостил?! А?
Я поспешно спрятала голову за штору. А голос Ольги Ивановны бушевал
под окном.
— Кузнецова, прекрати безобразие. И нечего прятаться за штору.
Нашкодит, а потом прячется! Это же надо — всей группе аппетит
испортить! Сегодня же позвоню твоей матери. — И оставив меня в покое,
уже детям: — А теперь все хором плюнем. Три-четыре. Макаркин, почему ты
не плюешь?
И счастливый голос Макаркина:
— А я уж все заглотил, Ольга Иванна...
Первого сентября двойняшки Турбины должны были пойти в школу.
Всю весну и лето Игорь работал в две смены. Надо было
обмундировывать первоклашек по всем правилам.
Вернувшись из Ленинграда после экзаменов уже студенткой первого
курса, Кузя повела двойняшек в «Детский мир» покупать школьные формы,
ранцы, тетрадки, запасаться разными ластиками, линеечками, обложками.
Кузя чувствовала в обеих руках потные от волнения маленькие ладошки.
Двойняшки впервые попали в «Детский мир» и, изумленные, с восторгом
таращились по сторонам.
Здесь, в нарядной громкоголосой толпе детей, Кузя вдруг заметила, как
плохо одеты двойняшки. Их застиранные самодельные костюмчики были
тесными и неуклюжими. Брюки, едва доходившие до тоненьких щиколоток,
пузырились на коленках, рукава рубашек были закатаны, чтобы скрыть их
не достающую до запястьев длину. Кузя почувствовала тогда прилив острой
жалости и нежности к малышам, мысленно дала себе слово откладывать
для них всю будущую стипендию. Тогда Кузя еще не понимала, как легко
давать себе слово в семнадцать лет и какая огромная пропасть между
словом и исполнением обещанного.
Кузя чувствовала: Игорь очень хотел, чтобы она осталась в Москве на
первое сентября, разделила с ним счастливый день вступления двойняшек
в школьную жизнь. Он просил ее об этом глазами, вдруг неожиданно
повисающими паузами. Просил всем своим существом. Не было только слов.
Великодушно предоставлял ей Игорь возможность оправдаться перед
собой за свою несостоятельность якобы непониманием. Он не хотел ради
Кузи переводить свою просьбу на язык слов, когда отказать было бы уже
невероятно. Кузя знала это и злилась на себя за жгучее желание начать
студенческую жизнь с того дня, который всегда был самым любимым на
протяжении десяти школьных лет.
За три дня до начала учебного года заболела бабуленция, и Кузя тут же
взяла билет на поезд. Теперь вроде бы ее совесть была чиста.
Двойняшки, замерев от восторга, стояли перед зеркалом в новеньких
школьных формах и блестящих ботинках.
Но больше них сиял сам Игорь. Его лучистые глаза заботливо и
счастливо оглядывали малышей; руки, ловкие и сильные, любовно
расправляли складочки на одежде первоклашек. Перехватив внимательный
Кузин взгляд, он отвел глаза и нарочито грозно обратился к двойняшкам:
— Помилуйте, господа, примерка давно закончена. Позвольте помочь
вашим сиятельствам снять мундиры.
Двойняшки заливались веселым смехом, смеялся и Игорь, а Кузя стояла
посреди комнаты со своим дурацким чемоданом и чувствовала, как Игорю
не хочется смеяться.
Потом был вокзал с его привычной сутолокой, с равнодушным
немигающим глазом семафора.
Лицо Игоря, напряженное от усилий сохранить всегдашнюю
невозмутимость... Сделать вид, что ничего не произошло... И глаза почему-
то виноватые... Его, а не Кузины виноватые глаза впервые избегающие ее
растерянного взгляда...
Хрустнули суставы переплетенных побелевших пальцев.
Я вдруг задохнулась. Пронзительно и коротко чиркнула, как молния,
мысль, которая обожгла... Я знала, что потеряю его... Меня вдруг словно
сдули, точно воздушный шарик.
Как же все запутанно и сложно если через столько лет дано было мне
понять тот ускользающий его взгляд на шумной платформе
Ленинградского вокзала...
Год назад, каким-то невероятным образом разыскав мой телефон, мне
позвонила моя школьная подруга очкарик Тимошка.
— Кто это? — не поняла я, услышав, что звонит некто Людмила
Ивановна Тимофеева.
После короткой паузы Тимошка удивленно протянула:
— Ну, ты нахалка! Не узнать своей боевой подруги?! Ты эти номера,
старушка, приканчивай. Считаю до трех: не узнаешь — повешу трубку.
Действительно, как же меня угораздило не узнать сразу Тимошку?
Я представила себе, как она сейчас обескураженно хлопает бесцветными
ресничками— часто-часто, словно промаргивается, — и смешно морщит
розовый нос.
— Извини, Тимофей, родненький Мне простительно — я ведь, страшно
сказать, с другого континента недавно вернулась. Знаешь, еще в себя никак
не приду.
— Да, знаю, лягушка-путешественница. Ну, как ты? Как Валерка? Я знаю,
что у вас парень уже здоровый. Как зовут?
— Петром Валерьевичем величают. Уже шесть годков стукнуло.
Здоровый мужик. Тимош, а ты как? Работаешь там же?
— Там же. Надоело до смерти. Слушай, Кузька, мы здесь как-то
встречались... вас с Валеркой вспоминали.
— Подожди. Кто это вы?
— Ну кто, одноклассники твои бывшие, балда. Господи, такие все другие
стали... Я тогда грешным делом подумала — может, и не стоило. Веселья
было мало, а послевкусие до сих пор сохраняется... горькое-прегорькое.
— Тимош...
— Чего?
— Да нет, ничего. Когда повидаемся-то?
— Господи, да хоть сегодня. Чего спросить-то хотела? Про Турбина, что
ли?
— Ага...
— Ничегошеньки про него не знаю. Ой, погоди, как же не знаю? Знаю
самое главное. Проучился в медицинском полгода и был отчислен за
непосещаемость.
— Почему?
— Нинка Зиновьева видела Грымзу. Правда, это очень давно было. Один
из двойняшек очень чем-то болел.
— Ачем?
— Ты знаешь, не помню... У них ведь наследственность еще та. Грымза
еще вроде Нинке сказала, что Игорь на части разрывается, а мы все
свинтусы и могли бы помочь... А потом обвиняла нас, что все мы, бездари
вроде бы, институты позаканчивали, а он — самый блестящий и
расталантливый... Ну, и так далее. Сама Грымза хотела вмешаться в эту
историю с отчислением Турбина, сходить к ректору, но Игорь
категорически запретил. Ты ведь знаешь, какой он гордый. Да и как Турбин
относится ко всем, кто проявляет участие, ты знаешь. Не говоря уж о
помощи. Ты-то знаешь...
Да, я знала. Только мне — не теперешней, нет, а тогдашней Кузе —
приоткрыл он лазеечку в свою жизнь, в свою судьбу, в свое сердце. Только
мне гордый, независимый Турбин дал право участия и суматошной,
беспорядочной помощи. Только мне доверил он теплые ладошки своих
ненаглядных двойняшек и разрешил им привязаться ко мне, привыкнуть.
«И это пройдет»?
Нет, царь Соломон с долговязым курильщиком явно ошибались.
Это останется. Как бесконечный невидимый шлейф будет тянуться
всегда, опутывать, обескураживать, разбивать разумные доводы и
соображения здравого смысла, сбивать с толку — это мое вечное бремя,
вечная ноша...
Ленинградская студенческая жизнь оказалась невероятно насыщенной,
шумной.
Общительная Кузя быстро обросла компанией новых друзей.
Жить с бабушкой Кузе очень нравилось. Та не угнетала внучку
нотациями и советами, не призывала к благоразумию, охотно соглашалась
на многочисленные студенческие сборища в своей петербургской
старомодной квартире.
Бабушка познакомила Кузю с сотрудниками Русского музея и Эрмитажа,
и Кузя по целым дням пропадала в запасниках, извлекая для себя из их
богатейших коллекций новые имена, новые впечатления, новые
представления о живописи.
Иногда она просила Кузю съездить с ней в Репино, где жила ее дальняя
родственница. Кузя забирала с собой мольберт, краски, и, пока две
старушки устраивали чаепития и вспоминали дорогих ушедших из жизни
людей, она бродила по лесу, спускалась к заливу, выбирая натуру, и делала
наброски пейзажей, стараясь не упускать никаких нюансов и деталей
натуры, за что ее всегда расхваливала бабушка.
В мансарде бабушкиного дома размещалась мастерская. В ней среди
засилья гипсовых фигур работала Кузя. Бабушка была прекрасным
скульптором.
Кузе очень нравилась ее лаконичная, жесткая манера, мужская, четкая. В
то же время скульптуры ее были согреты мудрым теплым пониманием
людей, даже какой-то затаенной снисходительностью к ним.
Больше всего любила Кузя бабушкиного Чехова. Он сидел на садовой
скамейке, чуть нагнувшись вперед, его гибкие, нервные пальцы обхватили
переплетенные ноги, а голова, красивая, гордая, на длинной шее, была чуть
склонена к плечу, словно он прислушивался к себе, одухотворенный пока
еще неясными переплетениями человеческих судеб, переполненный
любовью й жалостью к своим метущимся героям.
Чем пристальнее вглядывалась Кузя в скульптуру, тем больше
поражалась тому непрерывному движению, которое было передано в
абсолютно неподвижной позе писателя, — движению мысли, интеллекта,
внутреннему беспокойству и сосредоточенной одержимости.
Кузя могла проследить каждое движение, предшествовавшее
запечатленной позе Чехова. Вот он порывисто поднял правую руку,
расстегнул тугой стоячий ворот рубашки, крутнул головой, вздохнул
глубоко-глубоко и, еще не выдохнув до конца, бросил на колени руки. Еще
раз хотел пошевелить головой, освобождаясь от крахмального воротничка,
да так и замер, чуть наклонив голову, от вдруг нахлынувших ощущений,
расслабив от всегдашнего близорукого прищура свои прекрасные
всевидящие глаза...
Игорь появился в Ленинграде внезапно.
Как всегда, Кузя позвонила в перерыве между лекциями.
— Булька, приветик! У меня все тип-топ. Как ты?
— Тоже тип-топ. Наташка, к тебе гость приехал. Турбин твой. Слушай,
замечательное лицо у него. Сейчас таких лиц уже не бывает, знаешь, какое-
то народовольческое... Я бы, пожалуй, поработала над ним...
Кузя почувствовала, как ее бросило в жар. Игорь здесь, в Ленинграде. Как
неожиданно! Три дня назад получила от него обстоятельное письмо — и
хоть бы словечко.
— Буль, подожди. Ясное дело, он тебе будет позировать. А он сам-то где?
— А он отправился Ленинград смотреть. Я его чаем напоила, и он пошел.
Я ему, конечно, сказала, что нужно увидеть в первую очередь...
На лекции Кузя ничего не слышала. Ей было не по себе. Она даже не
понимала — рада она его приезду или нет. Когда на ноябрьские праздники
как снег на голову свалился Макаркин — она была ему рада...
Да, она была рада Макаркину. С ним было всегда просто и весело. А вот
сейчас она никак не могла разгрести той сумятицы чувств, которые
нахлынули с появлением Турбина. Что-то неясное копошилось в Кузе,
какое-то незнакомое, чужеродное, как соринка в глазу, чувство. Это «что-то»
мешало ей собраться с мыслями, принять радостно и ясно его приезд.
После лекций Кузя вывалилась на крыльцо в галдящей толпе студентов.
Подхваченная с двух сторон под руки, она скользила по ступенькам, когда
вдруг увидела Турбина.
Он стоял, прижавшись спиной к толстому стволу дерева, почти
впечатавшись в его изборожденную глубокими морщинами плоть, и
глазами выискивал в толпе студентов ее рыжую голову.
Его всегдашние длинные волосы были непривычно коротко
подстрижены, открытая худая шея и торчащие уши подчеркивали
болезненную бледность кожи и угловатость хрупкой его фигуры. Светлый
вылинявший плащик казался убогим и нелепым на фоне заснеженных
ленинградских улиц. Стиснутая в руках черная меховая шапка, отделанная
кожей, так не вязалась с плащом, что он, видимо, понимая это, сдернул ее с
головы, неуклюже комкая в руках.
Кузя успела отметить, что на Игоря обращают внимание и даже
оглядываются.
— О, господи, — фыркнула бегущая впереди блондинка из параллельной
группы, оглянувшись назад, стрельнула глазами на застывшую у дерева
одинокую фигуру, привлекая к нему внимание однокурсников.
Кузя вспыхнула и опустила глаза.
— Я сейчас... тетрадку оставила... Впрочем, не ждите меня...
Рванулась обратно к институтским дверям, промчалась мимо
оторопевшей вахтерши в опустевшую аудиторию, плюхнулась с размаху на
подоконник.
В морозном воздухе, как разбухшие бабочки-капустницы, плавно
кружились громадные бесформенные снежинки. Их нежелание падать на
землю под ноги равнодушным пешеходам, их истовое стремление кружить
и плавать в воздухе — где каждая из них хороша и грациозна — словно
сообщали им силу, и они задерживали свое неизбежное слияние в
бесформенную массу, покоряясь легчайшим дуновениям ветра, украшали
своей белизной видимый мир.
Подоконник был холодным и узким. Дверь в аудиторию распахивалась и
со стуком захлопывалась пробегающими студентами.
Снежинки за окном множились, превращаясь в беспорядочный
головокружительный хоровод. К вечеру Ленинград завалит снегом...
Выйдут на улицы розовощекие дворники с метлами и лопатами, заскребут
скребками, сковыривая скользкий утрамбованный нарост. Замелькают в
воздухе слепленные снежки, зазвенят разбитые стекла под сердитые крики
непонятливых взрослых, закраснеют носами-морковками неуклюжие
снеговики во дворах и скверах...
Снег шел вовсю... В окно аудитории со звоном ткнулся туго слепленный
снежок. Махнула Кузе рукой незнакомая девушка в лохматой шапке с
ушами, сгребла снег для следующего снежка, с хохотом увернулась от
настигшего ее на месте преступления растрепанного длинноволосого
студента. Отделилась от морщинистого тополиного ствола нелепая фигура
в вылинялом плаще, медленно двинулась вдоль институтского здания,
комкая в застывших руках меховую шапку и словно нехотя переставляя
ноги. Ткнулся в воротник плаща настигший снежок, заливисто зазвенел
смех бегущей извиняться девушки в шапке с ушами — и смолк,
споткнувшись о его лицо. Наверное, у Игоря было такое лицо, что Кузя
слышала, как споткнулся этот смех...
Кузя всегда поражалась удивительному свойству взрослых все понимать
и тем не менее делать этому наперекор. Поражалась до тех пор, пока сама,
все понимая, не поступила иначе. Наверное, это был первый взрослый
Кузин поступок.
Впрочем, тогда это уже была не Кузя. Это была я...
6
В ванной не было слышно ни шума воды, ни звона инструментов, ни
шороха движений. Я вдруг четко увидела его, сидящего на краешке ванны.
Застывшая, напряженная фигура чуть внаклон, как тогда в зале
консерватории, отсутствующие, распахнутые навстречу нахлынувшим
воспоминаниям ненаглядные его глаза, тонкий рот с чуть подрагивающими
уголками, копна непокорной спутанной «соломы», в густоте которой
мгновенно теплеют замерзшие кончики пальцев.
Меня знобило.
Отшвырнув халат, путаясь в джинсах, лихорадочно ввинчивая
непослушными пальцами пуговицы кофты не в те петли, я замерла на
секунду перед дверью в ванную. Распахнула ее.
Из незавинченного крана, словно пересмеиваясь, захлебываясь, падали в
раковину торопливые звенящие капли.
Тараторя и перебивая друг друга, они, как бы боясь, что их не
дослушают, рассказывали какие-то невероятные истории.
Махровый коврик, аккуратно сдвинутый в сторону...
Резиновый вантуз, сохнущий в углу ванной...
Мое бледное лицо в зеркале над раковиной с чужими немигающими
глазами.
И все...
Я почему-то очень осторожно прикрыла дверь ванной, вышла в коридор.
Из неприкрытой входной двери доносился шум лифта, звон бутылок в
мусоропроводе. Беспардонный солнечный зайчик, метнувшийся от
коридорного зеркала, ослепил мои глаза своей неожиданной выходкой.
Со стуком упала лыжная палка, перегородив мне дорогу.
Я захлопнула дверь, пристроила палку острием в поролоновый коврик.
Откинув со лба упавшую прядку волос, оглядела квартиру, пытаясь
определить, на какое время я засяду за уборку. Моя квартира представляла
собой довольно тоскливое зрелище...
Я подошла к окну.
Как из другого мира, ворвались будничные голоса прохожих, визг
тормозов, смех куда-то спешащих людей.
На детской площадке с жалобным скрипом раскачивались пустые
качели. Брошенные, беспомощные, как чье-то безвозвратно ушедшее
детство.
«ЮНОСТЬ», No 1, 1979
Сергеев приехал в Элайне в начале лета.
Автобус, который доставил его из райцентра, был дребезжащий,
пропахший бензином и ходил редко: три раза в день.
Над шоссе, над мягким от жары асфальтом колыхалось марево.
Уходящий автобус попал в него и стал бесформенным, зыбким, как амеба.
Проселочная дорога петляла по влажному лугу. От нее ответвлялись
тропинки, терялись среди высоких трав и цветов. Они вели к хуторам, но
Сергееву не хотелось делать большой крюк, только чтобы спросить, в
правильном ли направлении он двигается.
Совсем близко от Сергеева вдоль канавы вышагивал аист. Сергеев пошел
медленнее. Ему нравилось смотреть, как аист перебирает тонкими и такими
хрупкими на вид красными ногами и как стремительно бросает вниз и
вперед маленькую головку на длинной шее. Аист, занятый ловлей лягушек,
не обращал на Сергеева ни малейшего внимания, как будто человека и
вовсе не существовало.
Сергеев поставил чемодан на дорогу, закурил.
Вдалеке показался мальчик на велосипеде. Сергеев думал, что он
затормозит, увидев незнакомого человека, сидящего посреди дороги на
чемодане, но этот мальчик, светловолосый, в шортах и теннисных тапочках,
пронесся мимо Сергеева, словно чужие встречались здесь на каждом шагу,
как аисты.
— Скажи, пожалуйста, — крикнул ему вслед Сергеев, — как пройти ко
дворцу?
Мальчик махнул рукой в сторону леса.
Сергеев не торопился. Он сидел, подставив лицо солнцу, прислушиваясь
к звукам, из которых состояла тишина: к пению жаворонков, жужжанию
шмелей и едва уловимому шороху травы.
«Узнаю дорогу в том доме, на опушке», — решил Сергеев.
Когда он подошел к ограде, большая собака, колли, лежащая у двери,
подняла голову, но вместо того, чтобы залаять, все так же лежа завиляла
хвостом.
Пожилой седоволосый человек, которого Сергеев не заметил за кустами
смородины, выпрямился.
— Не скажете ли вы, как пройти ко дворцу?
— Сейчас направо, по липовой аллее. — Он отряхнул колени,
выпачканные землей, и недоуменно посмотрел на Сергеева, который все
еще стоял у ограды, любуясь розовыми пионами.
— Вам что-нибудь еще нужно?
— Нет, нет, — смущенно пробормотал Сергеев. — Большое спасибо,
извините.
В аллее было сумрачно, пахло прелью, грибами. В нескольких местах
аллею пересекали солнечные полосы — память о срубленных липах.
Сергеев так старательно обходил лужи, что и не заметил, как оказался
перед чугунной створкой ворот — другая лежала на земле, и сквозь нее
росла трава. И неизвестно было, что легче и нежнее — зеленые перышки
травы или фантастические чугунные цветы и плоды, которые сыпались из
рогов изобилия.
Он нагнулся, потрогал чугунный виноградный лист.
Во дворе громоздился строительный мусор: битый кирпич, ржавое
железо с крыши, бидоны из-под краски. Под ногами хрустело стекло.
Дворец, чистенький, аккуратный после ремонта, выглядел
жизнерадостно, как хорошо ухоженный младенец. Победно блестели новые
водосточные трубы. Во всех трех этажах вставлены стекла и даже как будто
вымыты.
Сергеев был опытным реставратором и знал, как обманчивы фасады
дворцов, выкрашенные в веселый желтый цвет. Он умел отличать мертвые
дворцы от живых.
Этот дворец, построенный Растрелли, погиб во время войны, когда
нацисты устроили в нем штаб, а затем вывезли все: картины, мебель, даже
паркет. Потом, после войны, о дворце забыли. Конечно, в те трудные
времена было не до дворцов — Сергеев все это понимал. Но как художник
он не мог примириться с тем, что просто так, от сырости и холода, гибла
великолепная роспись, отваливалась лепнина, исчезала навсегда красота.
«Слава богу, — думал Сергеев, — сюда не успели проникнуть туристы. Уж
они бы испоганили дворец окончательно. Что им стоит вырезать
перочинным ножичком на двери, которой и цены-то нет, свои имена! Или
на стене, поверх позолоты, нецензурные слова...»
Он шагнул на мраморную лестницу. Зажмурился на мгновение,
вспомнил, какой он ее видел на гравюре. От статуи «Весна» остался только
цоколь и две маленькие узкие ступни, сахарно поблескивающие на изломе.
— Вы художник Сергеев?
— «. . .е -е-е-в», — подхватило эхо.
Он обернулся.
Девушка в белой блузке с кружевами протянула ему руку и покраснела.
— Скуиня Вия. Я сегодня дежурю по школе, и мне поручили вас
встретить.
Она повела Сергеева по галерее. Он шел немного сзади и удивился, что
Вия в такую жару в чулках и лаковых туфлях на высоком каблуке.
— Как у вас здесь хорошо! — сказал Сергеев.
— Хорошо? Вы, наверное, шутите?
— Почему?
— Вы же из Москвы. Разве ее можно сравнить с Элайне? У вас там все
есть: театры, музеи, выставки...
— По-моему, грех жаловаться. Такого дворца в Москве нет, и аистов тоже.
Она вежливо улыбнулась.
— Здесь наша школа-восьмилетка. — Вия показала на стеклянную дверь,
за которой виднелись ряды пустых вешалок.
— Школа во дворце? — удивился Сергеев.
— Это просто безобразие! — сказала Вия. — У всех школы, как школы,
новые, современные. А нам все только обещают построить.
— А вы учительница, Вия?
— Да, преподаю историю.
Сергеев не умел весело и легко болтать с незнакомыми людьми и уже
начинал мучиться оттого, что приходилось выдумывать, что бы сказать.
Молчать он не мог себе позволить — это было бы невежливо. Но Вия уже
повернула ключ и пропустила Сергеева в узкую комнату, видимо,
выгороженную из большого зала. Он протиснулся между железной
больничной кроватью и черным шкафом, обильно украшенным резьбой,
ища, куда бы поставить чемодан. Наконец Сергеев водрузил его на
единственный стул у окна, а сам остался стоять.
— Вы можете пообедать в кооперативной столовой. Это с другой
стороны парка. И магазин там же. — Вия задумалась. — Так. Что я еще
забыла вам сказать?
— А привидения здесь есть? — спросил Сергеев, просто так, чтобы
поддержать разговор.
— Что это?
Он не ожидал, что Вия не знает этого слова, и засмеялся от глупости
ситуации, в которую сам себя поставил.
Вия тоже засмеялась, как обычно смеются люди, для которых ваш язык
— не родной, если они не уловили шутки, готовые рассмеяться по-
настоящему чуть позже, когда им объяснят, в чем дело.
— Они появляются по ночам. То есть, конечно, не появляются, потому
что на самом деле их нет. — Сергеев ужаснулся собственной галиматье. —
Понимаете, это души людей, которые никак не могут найти себе покоя и
являются живым...
— А, знаю. Это spoki. Никогда не слышала.
— Значит, я могу спать спокойно.
— Здесь очень тихо, — ответила Вия серьезно. — Вам никто не будет
мешать.
Когда последний звук ее шагов отскочил, как мячик, от стен галереи,
Сергеев внезапно почувствовал, что очень устал. Устал настолько, что ему
даже не хотелось пойти посмотреть на плафоны, которые предстояло
реставрировать.
Он прилег, закрыл глаза, стремясь ни о чем не думать, но вопреки его
воле возник холодный мартовский вечер с закатом на все небо, и в этом
зеленом небе — большая, обманчиво близкая звезда. Лед на лужах был
тонкий, морщился как пенка на молоке.
— Опять эта звезда, — услышал Сергеев голос Марины. — Интересно, как
она называется?
— Давайте напишем в «Вечерку» и спросим, — сказал Сергеев. — Только
как объяснить, какую мы имеем в виду?
— Очень просто: «Дорогая редакция, как называется звезда, которая
появляется около семи часов вечера на Садовой, между овощной палаткой и
высотным зданием?»
Сергеев видел свое собственное лицо. Он улыбался через силу, только
подыгрывая ее веселости, а глаза были жалкие, с предчувствием боли. Он
знал: Марина остановится у подъезда серого дома, а он не осмелится
спросить, к кому он ее провожает.
Он ничего не знал о жизни Марины, не знал, замужем ли она, и считал
себя не в праве задавать вопросы. А может быть, просто боялся услышать
нечто такое, бесповоротно определенное, что отняло бы у него
возможность иногда видеть Марину, говорить с ней. Не знать было легче...
Так, думая о Марине, Сергеев заснул. Над ним, на потолке, утопая ногами
в облаке, стояла нимфа, держа в руках лиру. Игривый ветер раздувал ее
легкую одежду и нес пухлое облако в угол, туда, где серело зловещее пятно
сырости.
☆☆☆
Вечером, закончив работу, Сергеев шел обычно через поле на озеро
купаться. Рожь была еще зеленовато-голубая, но уже высокая, начинала
зацветать. Солнце съезжало к горизонту за огромный гранитный валун,
покрытый желтым лишайником.
Однажды Сергеев встретил на тропинке человека, у которого спрашивал
дорогу в день своего приезда, и поздоровался с ним.
Человек улыбнулся, склонил голову в вежливом поклоне.
— Позвольте представиться — Андерс, учитель латышского языка и
литературы, правда, уже на пенсии.
— Очень приятно, — сказал Сергеев. — Как поживают ваши пионы?
— Вам они понравились? Это очень редкий сорт. Что же еще делать
пенсионеру, как не разводить цветы... Вы не возражаете, если я немного
провожу вас? Здесь, в нашей глуши, редко выпадает возможность
поговорить с новым человеком, а тем более с художником.
— Боюсь, что я плохой собеседник, я больше люблю слушать.
— Я тоже. Что же нам делать? — Андерс засмеялся.
Сергееву понравилось, как учитель смеется, — он с недоверием
относился к людям, которые вкладывали в смех подтекст: иронию, сарказм
или чувство собственного превосходства. В смехе Андерса ничего этого не
было.
— Я возьму на себя инициативу в разговоре, — улыбаясь, сказал учитель,
— но прежде я хотел бы знать ваше имя.
— Владимир Сергеевич.
— Вы не против, если я буду называть вас Владимир? У нас, латышей, нет
отчеств.
— Но я же не могу называть вас по имени. Это невежливо.
— Пустяки! Выберите, что вам больше подходит: Эдгар, учитель Андерс
или просто Андерс. Я даже согласен на Эдгара Теодоровича, если вам так
удобнее.
Наступило то время перед заходом солнца, когда все становится четким
и ярким. Казалось, ничего не стоило пересчитать лепестки ромашки,
которая росла на другом конце поля, и разглядеть каждый извив на черной
коре старого дуба.
У учителя было загорелое лицо человека, живущего тихо и мирно на
лоне природы, а седину его Сергеев не мог назвать иначе, как благородной,
потому что поседел Андерс не от суеты, а оттого, что всю жизнь, наверно,
приносил пользу, учил детей.
«Какое-то особенное у него лицо, — подумал Сергеев. — Старинное».
Ему захотелось нарисовать учителя, но он не знал, как Андерс к этому
отнесется, и решил, что попросит его попозировать, когда лучше с ним
познакомится.
— Скажите, Эдгар Теодорович, откуда вы так хорошо знаете русский? —
спросил Сергеев.
— Учился в русской классической гимназии в Риге... Представьте, до сих
пор помню генеалогию русских царей. — Он замолчал, считая, видимо, что
все эти подробности Сергееву неинтересны, и спросил: — А как дворец?
Сергеев почувствовал в его вопросе неподдельную тревогу, как будто
Андерс говорил о живом существе.
— Плохо, очень плохо. Собственно, речь идет даже не столько о
реставрации, сколько об имитации. Многое придется делать заново. Мне
еще повезло: на плафонах всего три абсолютно утраченных куска, там, где
протекала крыша. Скажите, это правда, что в большом танцевальном зале
хранили картошку?
— К сожалению, правда.
— Неужели во всей округе не нашли более подходящего места?! —
взорвался Сергеев. — Или, может решили картошку облагородить,
приблизить ее по ценности к золоту? Да что там золото! Эта картошка и
вовсе бесценна...
— Дожить бы только до того времени, когда Элайне будет закончено, —
сказал Андерс. — Если бы вы знали, как мне хочется снова увидеть дворец
таким, каким он был когда-то, во времена моей молодости.
— Вашей молодости? — переспросил Сергеев.
Он, изучавший интерьеры дворца по сохранившимся описаниям, по
старинным гравюрам, совершенно упустил из виду, что на земле
существуют люди, видевшие дворец живым.
— В ту пору я сидел за одной партой с Мишей Шаховским. Его отцу
принадлежал тогда дворец, — объяснил Андерс. — Один раз Миша
пригласил меня провести несколько дней в имении. Мы ехали в экипаже. —
Учитель улыбнулся. — Кучер был в белых перчатках. У главного входа, где
пологие лестницы справа и слева...
— Рампы, — уточнил Сергеев. — До них еще не добрались. Ступеньки
держатся на честном слове, опасно ходить...
— .. . там стояла мать Миши и махала нам рукой.
— Она была красивая? — жадно спросил Сергеев. — Какого цвета на ней
было платье?
Он нуждался в деталях, чтобы представить себе тот далекий день, в
который сейчас всматривался учитель.
— Я не помню ее лица, а вот цвет платья, как ни странно, помню: светло-
розовый. Да и что я тогда понимал в красоте! Мне было всего четырнадцать
лет. Вечером устроили праздник в честь нашего приезда. Зажгли свечи.
Кругом позолота, амуры в пастушеских шляпах, все это отражается в
зеркалах, не поймешь, где отражение, где настоящее. Я был пьян, но не от
вина. Мы знали меру, не то, что нынешняя молодежь. Я был пьян от этого
великолепия. Потом долго не мог заснуть. Балкон выходит в парк,
жасмином пахнет. Вдруг слышу голос: «Господин гимназист, не скучно ли
вам?» И смех. Это горничные меня дразнили...
Кроме того, что Сергеев вообще предпочитал слушать, он особенно
любил слушать стариков и благодаря им проникать в непостижимый мир,
существовавший до его появления на свет.
В этом мире, с которым его связывали старики, все было другое: вещи, от
которых теперь не осталось даже названий, улицы и дома, человеческие
лица и взаимоотношения. Но самое главное, что Сергеев стремился понять
и что труднее всего оказывалось для его воображения — это ритм. Все
совершалось гораздо медленнее, и он сравнивал эту замедленность
времени с движением часовой стрелки — сам он жил с издерганностью
стрелки секундной.
Сергееву казалось, что в той далекой стране, откуда были родом старики,
зимой шел медленный снег и каждую снежинку, севшую на рукав, можно
было разглядеть до мельчайших подробностей.
Там текли медленные реки, а дни стояли на месте, как облака на
горизонте.
Андерс и Сергеев вышли к озеру.
У берега вода была прозрачная, чуть желтоватая, с ярко-зелеными, как
салат, водорослями на мягких, послушных любому движению воды стеблях.
Среди водорослей паслись стада мальков.
Время от времени они все, как один, фантастически согласованно
поворачивались к солнцу боком, вспыхивая ослепительным серебром.
Сергеев разделся и перешагнул через этот веселый аквариум и поплыл,
раздвигая черную тугую воду. Он перевернулся на спину, зажмурился, а
когда открыл глаза, увидел, что рядом с Андерсом на берегу сидит Вия.
— Добрый вечер! — крикнул Сергеев.
Ему внезапно стало нестерпимо весело. Он даже недоуменно огляделся,
пытаясь обнаружить источник хорошего настроения. Все так же остро пахла
озерная вода, на бреющем полете пронеслась ласточка.
И тогда Сергеев понял, что радость возникла в нем самом и радуется он
потому, что на берегу его ждут двое.
Он оделся за кустами орешника и заспешил к ним.
Тень Сергеева вытянулась и легла на траву, превратив его в солнечные
часы. Стрелка уткнулась Вии в колени Она подняла голову и взглянула на
Сергеева снизу вверх грустно и умоляюще.
Сергееву стало страшно: он узнал эту улыбку, эти жалкие, потерянные
глаза — наверное, он так смотрел на Марину, он понимал, что это такое.
Вия часто встречалась Сергееву то в магазине, то во дворе у каменных
львов, то в парке. Она как будто всегда спешила по важному и неотложному
делу и совершенно не собиралась разговаривать с Сергеевым. Только
улыбалась вежливо. Впрочем, все эти мимолетные впечатления ожили в
памяти Сергеева только сейчас. На самом деле он так же мало обращал
внимания на выражение лица этой девушки, как на выражение лица
продавщицы кооператива, куда ходил за хлебом. Если бы Сергеева
попросили описать Вию, он, пожалуй, не смог бы этого сделать.
«Оказывается, у нее веснушки, — удивился Сергеев, — а волосы чуть
рыжеватые...»
— Вы ведь знакомы с Вией, — сказал Андерс. — Она была моей лучшей
ученицей, теперь мы коллеги.
— Вам не скучно у нас? — спросила Вия. — Я после Риги, после
университета, никак не могла опять привыкнуть.
— Что вы, здесь прекрасно!
Радость не исчезла. Это было так странно и хорошо, что Сергеев
рассмеялся.
— Вспомнили что-нибудь смешное? — спросил Андерс.
— Один анекдот. — Нужно было оправдать смех.
— Расскажите.
Как назло, Сергеев ничего не мог вспомнить.
— Не стоит, — сказал он. — Ерунда какая-то.
Воздух над озером уже голубел, деревья теряли прежнюю четкость.
— Который час? — спросил Сергеев Вию. — Мои, наверно, бегут вперед.
Очень светло,
— Уже десять.
— Странно, тут никогда не бывает по-настоящему темно.
— У нас другое время, — сказал Андерс. — Раньше на границе
переводили часы.
Валун в поле почернел, расплылся.
Сергеев провел рукой по его шершавому боку с чувством посетителя
музея, за которым бдительно следят старушки-смотрительницы, а он все же
нарушает грозный запрет таблички; «Трогать руками воспрещается».
— Наверно, этот камень видел Растрелли, — сказал Сергеев.
Вот в чем причина великого музейного соблазна — иллюзия, будто
можно потрогать время.
— Подумать только, — сказал учитель, — когда Растрелли приехал сюда
к Бирону, еще не существовало ни Зимнего дворца, ни Екатерининского, ни
Смольного... Вы можете себе это представить?
— Нет, не могу.
— А молодого Растрелли можете?
Сергеев вспомнил портрет: пожилой, грузный со спокойными глазами,
мэтр в зените славы... Каков же тот, другой, почти ровесник его, Сергеева?
.. . Невысокий худенький человек в кафтане табачного цвета, размахивая
руками и что-то напевая, быстро шел по тропинке. В руке у него была
ромашка, такая же светлая, как пудреные волосы. Лицо — по контрасту с
седыми волосами — смуглое и совсем юное...
Таким показался ему молодой итальянец.
— Вероятно, он был веселый и обаятельный, — сказал Сергеев. —
Человек угрюмый и хмурый никогда бы не придумал такого дворца.
— Ему трудно, очень трудно здесь приходилось. — В голосе Эдгара
Теодоровича прозвучала такая уверенность, что он, видимо, сам ее
почувствовал, и, застенчиво улыбнувшись, пояснил: — Я уже давно
занимаюсь историей дворца, собрал много материала. Все же лучше, чем
коллекционировать на старости лет наклейки от бутылок или спичечные
коробки. Может быть, кому-нибудь пригодится. Так вот — я видел чертежи
Растрелли в одной немецкой монографии. Он много раз переделывал
первоначальный, одобренный Бироном проект. Бирон был капризен,
деспотичен: то ему одно не нравилось, то другое. То требовал убрать
лестницу при парадном въезде, то поставить трехэтажную сквозную
башню, то велел делать овальные конюшни вместо четырехугольных.
— Конечно, Бирона волновали конюшни, — сказал Сергеев. — Недаром
же он был, кажется, в свое время конюшим у Анны Иоанновны.
— Когда Растрелли строил дворец, Бирон был уже самым
могущественным человеком в Российской империи. Растрелли не мог ни
настоять на своем, ни возразить — от того, понравится проект Бирону или
нет, очень много зависело. Заказ временщика был очень почетен, или, как
теперь говорят, престижен.
— А мы Бирона в седьмом классе проходим, — сказала Вия и опять
замолчала.
Сергеев и Андерс проводили ее до дома.
В окнах горел свет. Вия все не отпирала калитку, и это ее ожидание, ее
надежда, что Сергеев условится встретиться с ней завтра, мучительно
отдавались в его душе — вот так же он до самого последнего мгновения
ждал, прощаясь с Мариной, как чуда, одной фразы, самой обыкновенной
фразы, но Марина никогда ее не произносила. Каждый раз Сергеев
прощался с ней навсегда...
На крыльце Вия обернулась. Хлопнула дверь.
— Эдгар Теодорович, — сказал Сергеев, — можно, я вам задам глупый
вопрос? Вам попадались когда-нибудь счастливые люди?
— Нет.
— Ни разу?
— Никогда. Но я считаю, что мне просто не везет. Мне обычно
рассказывают о всяких неприятностях и несчастьях и просят совета.
Думают, что раз я стар, то уже все понимаю в жизни. А счастливым советы
не нужны...
— Значит, для вас нет тайн в Элайне?
— Ну, это немудрено. У нас все про всех всё знают. Что поделаешь —
Элайне маленькое. Например, в тот же день, как вы появились в наших
краях, я был осведомлен о том, зачем вы приехали и как ваша фамилия.
Колли мчался по кирпичной дорожке навстречу хозяину.
— А вы добрый человек, — сказал Андерс. — Клаус на вас не залаял. Я
это еще тогда заметил, в первый раз, когда вы спрашивали у меня дорогу.
— У него, наверно, просто было тогда хорошее настроение.
— Нет, Клаус прекрасно разбирается в людях. Вам не нравится, что вы
добры?
— Да, — признался Сергеев. — Я бы предпочел быть злым, злым и
сильным.
— Как вы думаете, злые мечтают стать добрыми?
— Нет, им хорошо живется и так.
— То есть это люди самодовольные?
— Да, в конечном счете самодовольные, — согласился Сергеев. —
Странную мы с вами дискуссию затеяли.
— Какая же это дискуссия?! Я вам ни разу не возразил.
На западе, над лесом, еще розовели перистые облака, а над дворцом небо
уже потеряло прозрачность, стало сиреневым. Объятый светлым небом без
звезд, дворец был невесом и призрачен. Его легко мог унести туман,
наползавший из парка.
Сергеев стоял и любовался. Он никак не мог привыкнуть к красоте
дворца, к его непостижимой легкости.
Никогда еще Сергеев не представлял себе так ясно, каким был дворец —
до тончайших изгибов золотых завитков, до беспечной улыбки амура,
придерживающего пухлой ручкой картуш над входом в большой
танцевальный зал. Амуры складывали крылышки, как бабочки на цветах.
Их хохочущая золотая стая пролетела по анфиладе и рассыпалась по стенам
и карнизам. На плафонах били солнечные лучи в просвет триумфальных
облаков. Греческие боги правили колесницами. С неба сыпались розы. Их
было так много, что облака не могли их удержать — розы падали вниз,
застревали в резных рамах зеркал.
И опять будто привиделось: по выложенному звездами паркету скользил
Растрелли. Лицо его выражало недовольство — истинный мастер, он уже
испытывал неудовлетворенность тем, что сделал. Совершенство манило
его, дразнило, мучало — недосягаемое, как горизонт.
И этот дворец, несуществующий, погибший, — одновременно тот,
который будет после реставрации.
«Он опять будет таким же прекрасным, обязательно будет», — сказал сам
себе Сергеев.
С липы сорвалась птица. Тревожно закричала спросонья.
☆☆☆
Дорога упиралась в кирху.
Сергеев знал об умении старых мастеров ставить церкви так, чтобы они
казались концом пути, и все-таки это поражало. Он готов был поклясться,
что современнейшее шоссе с белыми столбиками и яркими дорожными
знаками кончается у кирхи.
Ветер раздувал кроны каштанов. Сложенная из разноцветных камней —
серых, черных, красноватых, — кирха пестрела в мелькании теней и
солнечных пятен, как птичье яйцо.
Сергеев условился встретиться здесь с Андерсом — учитель обещал
показать ему деревянные скульптуры.
Играл орган. Сергееву захотелось послушать. Он осторожно, на цыпочках,
вошел, сел на скамью. Музыка заполняла все пространство под высокими
сводами. Солнечные лучи сужались готическими окнами, становились
острыми, как лезвие.
«Это бы понравилось Марине», — подумал Сергеев.
Как много он бы отдал, чтобы Марина сидела сейчас рядом с ним...
Сергеев даже не заметил, что пастор спустился с кафедры, и служба
кончилась. Старушка с седыми букольками, двигаясь по проходу, уронила
молитвенник. Сергеев его поднял, протянул старушке. Она заулыбалась,
произнесла длинную фразу.
— А, вот вы где, — сказал Андерс. — Я так и решил, что вы Бахом
наслаждаетесь. Сейчас все выйдут, и мы, никому не мешая, полюбуемся на
апостолов.
— А пастор нас не выгонит? Он и так все время на меня смотрел.
— Он просто хороший оратор. Знаете, есть такой прием — выбрать
какого-нибудь человека и обращаться только к нему. Наверно, он вас
использовал сегодня в этом качестве, благо вы лицо для него новое.
— Но какой от меня прок? Все равно я не понимаю по-латышски и не мог
реагировать: кивать головой, выражать свое согласие или несогласие... А о
чем говорил пастор?
— О милосердии, кажется. Я застал самый конец.
В солнечном луче промелькнула оса, села на полевые цветы,
расставленные в вазах у алтаря.
— Вот они, — гордо сказал Андерс.
Деревянные фигурки украшали узкую лестницу, ведущую на кафедру,
они чинно подымались друг за другом; последнего апостола, голова
которого чуть высовывалась над краем кафедры, было трудно разглядеть.
Лица апостолов выражали простодушие и наивность. Мудрость, данная не
опытом, не знанием, а высшим неприятием зла. Даже самые отъявленные
подлецы не осмелились бы обмануть людей с такими лицами.
— Судя по манере — восемнадцатый век! — сказал Сергеев восхищенно.
— И все целы! Поразительно!
— Жаль, если апостолов заберут в музей. Я так привык к ним, часто хожу
смотреть. И здесь, в кирхе, они на месте. Остается только надеяться, что
эксперты из Риги, которые приезжали зимой, про них забыли.
— Ну, нет. Искусствоведы — люди одержимые. Такое сокровище они из
рук не выпустят. Может быть, они собираются объявить кирху
историческим памятником и поэтому не трогают скульптуры?
— Хорошо бы, — сказал Андерс. — Тогда кирху отремонтируют и будут
поддерживать в порядке, а то трудновато приходится — средств прихожан
часто не хватает. Зимой ведь каждый день надо подтапливать, иначе все
отсыреет. А откуда взять деньги на уголь? Сами видели — верующих теперь
мало.
Они возвращались через кладбище.
Солнечные пятна мелькали на сочной траве, высвечивали розовые,
белые, красные цветы, покрытые капельками воды. Пахло нагретыми на
солнце кустами туи. Повсюду сажали рассаду, поливали или разравнивали
граблями желтый песок вокруг могил. От этого кладбище становилось
похожим на сад, в нем не было мрачности — только покой летнего дня.
Но попадались и могилы, на которые никто не пришел, с замшелыми
каменными крестами, заросшие ландышами. Одну из них дикий виноград
обвил так плотно, что превратил безвкусную статую, аллегорию скорби, в
зеленую мумию.
— Кристина-Ольга Свемпе, — прочел Сергеев. — 190 0—1972 . Всего два
года прошло... Неужели у нее никого не осталось?
— Здесь никого, — ответил Андерс. — Памятник поставила дальняя
родственница из Лиепаи. Сын Кристины в прошлом году приезжал из
Канады, положил цветы...
— А как он оказался в Канаде?
— Ушел с немцами.
Сергеев родился в самом конце войны, и с ней его связывали
непосредственно только два воспоминания.
Пришел старьевщик, и мама полезла на антресоли за всякой рухлядью.
Она стояла на табуретке и бросала на пол старые платья и кофты, пахнущие
нафталином. Вдруг среди них блеснула металлическая пуговица. Володя
потянул за рукав и вытащил папину гимнастерку.
— А шинель возьмете? — спросила мама. — Тут еще сапоги есть.
— Давай, — согласился старьевщик.
Он пощупал сукно.
— Новая совсем. Не жалко продавать-то?
— Зачем она нам? — ответила мама. — Война, слава богу, пять лет назад
кончилась.
— Погоны отпори, — сказал старьевщик. — Ишь ты, майорские.
Он сложил вещи в мешок и долго отсчитывал деньги, слюнявя пальцы.
А еще летом, на даче, они с мамой ходили в магазин за хлебом. Мама
споткнулась о корень и сломала каблук. Володя очень развеселился оттого,
что мама хромает, и тоже стал прихрамывать, для компании.
На просеке какие-то люди в серо-зеленом строили дорогу. При виде
мамы и Володи некоторые выпрямились, заулыбались, другие продолжали
копать канаву и возить в тачках щебень, не обращая на них никакого
внимания.
Один, лысоватый, в очках, сказал что-то на непонятном языке, вытащил
из кармана маленький молоток. Мама сняла туфлю, отдала ему вместе с
каблуком. Он приложил каблук, дробно застучал молоточком.
Мама обулась, потопала. Человек отошел, стал сыпать щебень в тачку.
Все остальное было из книг, фильмов, рассказов отца, и Сергеев спросил
Андерса, пытаясь понять:
— Он был совсем мальчишкой тогда?
— Да, ему было лет шестнадцать. Здесь в сорок четвертом немцы
мобилизовывали всех без разбора, почти детей. Люди оказывались между
двух огней. Боялись, что если служил в немецкой армии, то русские
расстреляют, и уходили вместе с нацистами.
Аллея кончалась у полукруглой стены, сложенной из песчаника. Учитель
прошел по газону, поправил розы и гвоздики, лежавшие на траве.
По стене сверху донизу тянулись имена. Сергеев стал читать и внезапно
наткнулся на фамилию Андерс.
— Здесь ваша фамилия, — сказал он удивленно.
Эдгар Теодорович выпрямился. Солнце било ему в глаза, он щурился.
— Это мой сын. Его повесили немцы. Он прятал двух русских, бежавших
из лагеря.
Кровь бросилась в лицо Сергееву. Он готов был сквозь землю
провалиться от праздного своего любопытства.
— Извините меня, Эдгар Теодорович, я понятия не имел...
— Что вы, Володя! — Он положил руку Сергееву на плечо, успокаивая. —
Знаете то место, где яблони прямо посреди поля?
— Да, я еще удивился: сад, жасмин цветет, а дома нет.
— Там был дом, — сказал Андерс. — Полуразрушенный. В него бомба
еще в самом начале войны попала. Вот там они и прятались в подвале. Они
очень радовались, что я говорю по-русски. Я носил им еду, когда Каспар
заболел...
Он вынул тряпочку, стал протирать буквы. Но до самой верхней надписи
на двух языках — латышском и русском — «Вечная слава героям-
комсомольцам» ему было трудно дотянуться. Сергеев хотел помочь ему, но
подумал, что Андерс может воспринять это как фальшивый жест, как
внешнее выражение сочувствия.
Сергеев молчал. Любые слова казались нелепым и ненужным
сотрясением воздуха.
На лугу протяжно кричали чибисы. Дул в лицо теплый ветер. Сергеев
дошел с учителем до развилки и попрощался.
— Еще успею сегодня поработать, — сказал он.
— Отдохните хоть в воскресенье. Вы же целые дни сидите скрючившись.
— Не могу, Эдгар Теодорович.
Только там, на деревянном настиле под самым потолком, куда нужно
было карабкаться по шаткой, сколоченной из досок лестнице, исчезала
боль, засевшая в душе Сергеева с тех пор, как он полюбил Марину. Это не
значило, что боль проходит, просто за работой он забывал о ней, оставшись
один на один с греческими богами, с их величавыми или торжествующими
улыбками, странными на исковерканных лицах, покрытых оспинами там,
где осыпалась краска. Розовые, легкие тела парили в голубом небе, еле
видные, стертые сыростью...
☆☆☆
Танцевали во дворе под магнитофон. Песенка была английская,
хрипловатая. Сергеев прислушался к словам: он знал немного английский.
Обычный набор — листья падают, она его больше не любит, не покидай
меня, бэби...
Песенка дурманила, от нее исходила приятная искусственная грусть для
тех, кому грустить не о чем.
Вия танцевала с высоким красивым парнем. Когда они попадали в
широкий освещенный круг от керосиновой лампы, висевшей на дубе,
Сергеев видел, как Вия беспокойно смотрит по сторонам. Он понимал, что
Вия ищет его, и беспомощно улыбался ей, как будто Вия могла разглядеть в
темноте его улыбку.
В круг от лампы попала невеста. У нее было круглое румяное лицо, над
которым громоздилась высокая прическа. Тушь на ресницах поплыла от
духоты.
Утром Сергеев ездил в райцентр за розами для нее. Ему повезло, потому
что, как сказала продавщица в цветочном магазине, сорт «Супер Стар» —
настоящая редкость. Он купил пятнадцать роз на очень длинных стеблях и
нес их головками вниз — так носили цветы латыши.
Потом он зашел на почту и позвонил Марине. Никто не отвечал. Он долго
слушал гудки, прежде чем повесить трубку. Наверное, работает с
делегацией.
Сергеев часто вспоминал тот вечер, когда впервые увидел Марину.
В старинной подмосковной усадьбе, несмотря на мороз, было много
посетителей. Мягкое шарканье тапочек по паркету и голоса экскурсоводов
докатывались до зеленой гостиной, где работал Сергеев, как монотонный,
далекий и даже успокаивающий шум. Сергеев был надежно защищен от
экскурсий табличкой, которую он собственноручно повесил на дверную
ручку в форме орлиной головы: «Ведутся реставрационные работы. Вход
воспрещен». Вчера заведующая забыла ее повесить, и Сергееву постоянно
приходилось объявлять сверху, что зал закрыт.
Солнце разбухало, наливалось красным, теряло лучи. Сергеев спустился
покурить и увидел в окно, у флигеля, где помещалась администрация музея,
интуристовскую «Волгу». Из нее вышли пожилой стройный человек без
шапки и девушка, наоборот, закутанная, в платке с бахромой. Минут через
десять ручка с птичьей головой повернулась, и эти двое появились вместе с
заведующей.
— Владимир Сергеевич, — сказала она. — Познакомьтесь. Специалист по
туристским объектам из Франции, председатель... — Сергеев не уловил
длинного сокращения. — Интересуется реставрацией. Побеседуйте с ним,
пожалуйста.
Переводчица очень внимательно слушала Сергеева, уточняла, говорила
«Стоп» — и французские слова, звонкие и круглые, заперекатывались по
гостиной, как в те далекие времена, когда в ампирных креслах сидели
декольтированные дамы.
Она на секунду замолкала, француз, весело и лукаво глядя на Сергеева,
задавал новый вопрос. Сначала Сергеев думал, что внимание, с которым
Марина его слушает, чисто профессиональное, но потом он почувствовал,
что ей интересно тоже, и незаметно для себя Сергеев, поощряемый ее
интересом, стал рассказывать именно ей, а не французу.
Морозный румянец уже давно исчез с ее щек. Она побледнела, под
глазами обозначились круги.
— Вы, наверное, очень устали? — спросил Сергеев.
Марина кивнула, не успев ответить — заговорил француз, оживленно
жестикулируя. Убеждая в чем-то Сергеева, он несколько раз дотронулся до
его плеча. Странная вещь — переводя француза, Марина преобразилась. За
секунду до этого поникшая, она заговорила так же темпераментно, как он, с
теми же жестами и даже, как француз, дотронулась до плеча Сергеева.
— Ну, нам пора, — сказала наконец Марина, посмотрев на часы.
— Я вам покажу дорогу, — предложил Сергеев. — А то вы заблудитесь в
наших анфиладах.
Шел мелкий снег. Сергеев был без пальто, и на улице мороз сразу
пробрал его до костей.
— Идите обратно, — сказала Марина. — Вы простудитесь.
Он чувствовал печаль от непоправимости того, что сейчас будет, —
Марина захлопнет дверцу и исчезнет, и он больше ее никогда не увидит. И
тогда Сергеев сказал:
— Вы не довезете меня до Москвы?
— Пожалуйста. Только быстрей. Месье Шуар торопится.
Всю дорогу Марина что-то объясняла французу. Сергеев, естественно,
ничего не понимал, но ему просто нравилось слушать Марину и смотреть на
нее. Он долго не мог определить для себя словами то необычное, что было в
ней и так притягивало его, — вежливую доброжелательность.
Француза высадили около гостиницы. Он долго благодарил Сергеева,
потом обернулся, помахал рукой.
— На сегодня — все, — сказала Марина. — Теперь я могу помолчать. Если
бы вы знали, какое это блаженство.
Она отпустила машину.
— А теперь вы куда? — спросил Сергеев.
— Мне тут близко. Пройдусь немного пешком, подышу.
— Я вас провожу, — сказал Сергеев.
Горели желтые фонари, наполняя бульвар теплым домашним светом.
Гомонили, устраиваясь на ночлег, галки. Они пикировали на старый вяз, так
сильно раскачивая ветки, что те птицы, которые уже сидели, неминуемо
должны были свалиться. Но они оставались совершенно неподвижны,
черно-серые плотные сгустки.
Галки всегда прилетали только на это место. Сколько уже галочьих
поколений сменилось с тех времен, когда Володя играл здесь консервной
банкой в хоккей и съезжал с ледяных горок. Вероятно, этот вяз был
закодирован в птичьих генах.
Марина молчала. Сергеев молчал тоже — он знал, что такое усталость, и
уважал ее у других. Потом она спросила:
— А вы где в детстве гуляли?
— Здесь.
— Значит, мы земляки.
Нет, в его детских воспоминаниях не было девочки, похожей на Марину.
Были огромные воздушные шары, привязанные к палке. Пушкин на своем
старом месте...
— Не помните, как стоял Пушкин — лицом или спиной к бульвару? —
спросил Сергеев.
— Кажется, лицом. А помните, тут продавали восковых уточек. Очень
хотелось их иметь, но мне почему-то этих уточек никогда не покупали.
— Верно. — Он обрадовался, что есть общие воспоминания. — Они в
тазах плавали.
— А как в них играли?
— Не знаю. У меня их тоже никогда не было. Извините, что я заставляю
вас говорить.
— Нет, нет, ничего.
Снег сталкивался со светом фонарей и снова исчезал, стремительно и
неуловимо. Сергеев не подозревал еще, что будет вспоминать как счастье
каждую мельчайшую подробность этого вечера — морозное солнце за
окном, поворот ручки с птичьей головой и даже запах сигарет, которые
курил француз...
— А в Ленинграде вы тоже работали? — спросила Марина.
— Приходилось.
— Трудно?
— Трудно, — согласился Сергеев. — Вернее, кропотливо. Представляете,
какие огромные залы бывают во дворцах. И вот сравниваешь, что ты сделал
за день и что осталось. Кажется, что никогда не кончишь.
— И все же заканчиваешь, — сказала Марина. — Как это, наверно,
прекрасно — смотреть, задрав голову, на этот потолок! Он твой и больше
ничей, правда?
— Вы угадали, — засмеялся Сергеев. — Я даже потом испытываю нечто
вроде ревности. Честное слово, я ревную потолки, когда приходят
экскурсии.
— Чувствую, что если б ваша воля, вы бы закрыли дворцы и никого туда
не пускали.
— Ну, не такое уж я чудовище. — Ему нравилось, что Марина шутит. —
Вас бы я пустил.
— Спасибо, — неожиданно серьезно поблагодарила Марина.
— Раз мы уж заговорили о профессиональных тайнах, можно я вас тоже
спрошу? Когда вы переводили француза, я заметил, что вы в точности
повторяли его манеру говорить, его жесты. Вы как будто играли его...
— А, это очень хороший признак, — сказала Марина. — Значит, я уже
постигла его характер. Чтобы действительно хорошо переводить, надо
превратиться в того, кого переводишь. Но только это не похоже на
актерскую игру, это что-то другое...
— А сколько дней вы уже работаете с Шуаром?
— Три.
— И так вжились в образ?
— Это очень быстро происходит. Тем-то, наверно, переводчик и
отличается от актера, что у него нет времени на репетиции. Необходимо
выразить другого человека на русском языке сейчас, сию минуту...
— А вы всех людей изучаете с такой быстротой?
— Нет, это чисто профессиональное качество. Только тех, кого перевожу.
К сожалению, на остальных оно не распространяется...
Марина остановилась у подъезда большого серого дома.
— Ну, вот, вы меня и проводили.
— Вы здесь живете?
— Нет, я здесь не живу, — сказала Марина холодно, как будто в невинном
вопросе Сергеева крылось что-то для нее неприятное.
— Можно вам позвонить?
— Меня трудно застать. Обычно я возвращаюсь гораздо позже, часов в
одиннадцать. Сегодня просто повезло.
— Я постараюсь вам дозвониться.
Записать номер телефона было не на чем, и он записал его на снегу.
— Всего доброго, — попрощалась Марина. — И большое вам спасибо.
Шуар остался очень доволен беседой с вами.
Он долго смотрел на цифры, чтобы запомнить.
Сергеев шел по свежевыпавшему снегу, мимо посольских особняков,
милиционеров, мерзнущих у своих будок, и за ним тянулись следы,
привязывали его, как собаку на длинной веревке, к подъезду серого дома...
Музыка кончилась, и внезапно наступившая тишина отвлекла Сергеева
от его мыслей, вернула на хутор.
Никто не знал, где Сергеев сейчас. Никому там, в Москве, и в голову не
приходило, что на земле существует такой хутор, где трава во дворе мокрая
от росы, и скоро будет гроза, и пахнет укропом, и Вия безошибочно
угадывает, что Сергеев стоит у сарая, и она идет к нему, потому что больше
не принадлежит себе, а почему-то ему, Сергееву. Она зависит от его слов,
улыбки, взгляда. Он может сделать так, что ей будет отвратительно плохо
— как ему сейчас — или, наоборот, радостно. Да, как ни странно, он, человек
несчастный, мог сделать другого счастливым.
— Вам скучно? — спросила Вия.
— Нет, — ответил Сергеев и взял ее за руку.
Ее пальцы послушно лежали в его ладони.
— А теперь объясните, почему из всех, кто работает во дворце,
пригласили сюда, на свадьбу, именно меня, совершенно чужого. Ведь ни
председатель, ни его дочь со мной даже не знакомы. Уж если речь идет об
официальных отношениях, следовало бы позвать директора музея
Рокманиса. Вам это не кажется странным?
— Я не знаю...
— Это вы попросили председателя меня пригласить?
Ее рука напряглась.
Никогда еще Сергеев так остро не чувствовал одиночества. Жалость к
себе была невыносима — и он уткнулся лицом в плечо Вии, как будто она
могла спасти его от этой жалости.
Она гладила его по голове и шептала что-то по-латышски ласково и
протяжно...
☆☆☆
Моросил дождь. Во дворе, среди развороченной грузовиками глины,
растеклась лужа. Она добралась уже до лестницы, до каменных львов.
Постаменты от времени совсем ушли в землю, и львы лежали прямо в
желтой воде.
Сергееву нравилось работать в ненастье. Зал под ним исчезал в
рассеянной мгле. Яркий свет переносной лампы на длинной ноге создавал
ощущение уюта. Когда зябли руки, Сергеев грел их над ее синим колпачком.
Он опрыскал клеем щеку Афродиты, чтобы закрепить краску, включил
утюг. Под карнизами толклись комары, спасались от дождя. Тишина дворца
усиливала, как микрофон, их писк. Далеко, в самом начале анфилады,
послышались шаги.
«Только бы не сюда, — повторял, как заклинание, Сергеев. — Только бы
не сюда». Ему не хотелось ни с кем разговаривать.
Он наложил фланель на лицо Афродиты, осторожно провел утюгом и в ту
же секунду почувствовал, что на него кто-то смотрит: внизу стояла Вия.
— Я подымусь, можно? — спросила она радостно.
Вия сняла плащ и держала его в руках, ища, куда бы повесить.
— Кладите на настил, — сказал Сергеев. — Я тут еще не приспособился к
приему гостей.
Она аккуратно положила плащ на доски. Сергеев удивился выражению
озабоченности и серьезности на ее лице, как будто она совершала нечто
очень важное.
Свет лампы падал прямо на Вию, делал ядовито-розовым платье,
заставлял блестеть неподвижные волосы, покрытые лаком.
«Она специально наряжалась для меня», — подумал Сергеев.
Он не мог разделить ее праздничности и оттого чувствовал себя
последней дрянью.
«Сейчас скажу, что не люблю ее, и попрошу больше никогда не
приходить, — решил Сергеев. — Господи, как ей объяснить?»
— А я вам пирог с ревенем принесла. — Вия развернула пергаментную
бумагу. — Берите, он еще теплый.
Пирог пах корицей, праздником его детства, и это обезоружило Сергеева.
Там, где-то за тридевять лет, плыл по квартире такой же запах и
беспрерывно заливался звонок. Сергеев прислушался — время меняло
звуки, и теперь казалось, что звонок наигрывает мелодию, а гости в
прихожей смеются, шутят и здороваются ей в такт. «Как ты вырос, старик!»
— говорили они и брали Володю на руки. Все предметы становились
непривычными: вроде те и в то же время не те. Это пугало, но страх был
приятен, потому что в любую секунду Володя мог попроситься вниз.
Вия устроилась на табуретке в углу, смотрела, как он ест.
— Что нового? — спросил Сергеев, прерывая тягостное молчание.
— Сегодня в клубе концерт нашего хора. Я так боюсь. — Она приложила
ладони к щекам, и этот жест кольнул Сергеева своей деланностью: вот
именно так принято изображать страх. — Нас приедут слушать из
Министерства культуры.
— Почему из Министерства культуры?
— Они отбирают лучшие хоры для праздника песни. Если повезет, будем
выступать в Риге... Вы придете?
— В котором часу? — Он знал, что не придет.
— В семь. — Вия встала. — А здесь должно хорошо звучать.
Она запела.
Сергееву было мучительно неловко. Он уставился на сине-стальное
брюшко утюга. Еще только не хватало, чтобы сбежались скульпторы,
которые работали в белом зале под предводительством Тамары Ивановны.
Или, что еще хуже, появился директор музея Рокманис. Он ничего не скажет,
только посмотрит сквозь Сергеева и пожмет плечами. После чего удалится,
сверкая, как всегда, до блеска начищенными башмаками, худенький, туго
стянутый джинсовым костюмом. А Тамара Ивановна останется и будет
хлопать...
Так и есть. На пороге возникла беленькая, некрасивая Танечка, а за ней
еще, еще... Сергеев прикрыл глаза, чтобы не видеть их любопытные лица.
Все это было настолько нелепо, что ему стало смешно. Он попытался
сдержать смех, но не смог и громко фыркнул.
— Тише, — осуждающе сказали внизу. — Слушать мешаете.
На лицах скульпторш проступили грусть и растроганность. Танечка в
задумчивости обняла за плечи свою подругу. Они слегка раскачивались в
такт. Кто-то начал подпевать мелодию.
Вия вытянула руки и уронила их бессильным жестом. Так делали
певицы, которые выступали по телевизору...
Внизу захлопали. Вия совсем не была смущена. Сергеев поразился ее
самообладанию. А может быть, она просто не понимала.
Сергеев помог ей спуститься.
— Прекрасная песня, — вздохнула Тамара Ивановна. — Прямо за душу
берет.
— А про что она? — спросила Танечка.
— Там грустные слова. — Вия вдруг покраснела. — Девушка любит
рыбака и ждет его на берегу. А он никогда не вернется.
Тамара Ивановна смотрела на Вию с многозначительным выражением,
как человек, знающий чужую тайну.
— Вы уже кончили музицировать? — осведомился Рокманис. Он стоял в
дверях, маленький, стройный, невозмутимый. — Жаль, я не успел. Слишком
длинные залы.
На его лице сияла самая светская, самая обходительная улыбка.
Рокманис наклонился, поцеловал Вии руку. И это не показалось ни
вычурным, ни странным — такая утрированная вежливость была для него
органичной. Все так же улыбаясь и держа ее руку в своей, Рокманис спросил
о чем-то Вию по-латышски. Она не ответила. Рокманис повторил вопрос,
тихо, настойчиво. Вия вырвала руку и быстро пошла, почти побежала из
зала.
«Не может быть... — думал Сергеев. — Рокманис и Вия... Что он ей сказал?
Все из-за меня...»
Он ненавидел себя. Какое право он имел причинять боль другим людям?
Бред! Что это за право такое? Не существует такого права! Но он же ни в чем
не виноват... Так получилось. Легко сказать, получилось... Ворвался в чужую
жизнь, в чужие отношения...
Несколько минут Рокманис смотрел в окно на раскисшую дорожку, на
зеленые громады лип, и Сергеева поразило выражение глубочайшего
интереса на его лице, как будто там, в парке, происходило что-то
совершенно необычное.
Когда в зале, кроме них двоих, никого не осталось, Рокманис оторвался
от созерцания пейзажа.
— Вы, вероятно, догадались, что я сказал Вии? — обратился он к
Сергееву, сидевшему на ступеньках.
— Нет, — растерянно сказал Сергеев.
— Я вам переведу, если позволите. Я напомнил Вии, что у вас договор
только до октября. Потом вы уедете, а она останется. И еще я попросил Вию
больше не приходить сюда.
Он говорил спокойно и печально, и эта печаль уничтожила ощущение
неловкости и досады.
— Наверное, мне лучше уехать сейчас, — сказал Сергеев.
Рокманис посмотрел на него внимательно, изучающе.
— Как знаете... Но лично я не могу вас отпустить. Кем я вас заменю?
Летом трудно найти реставраторов
Директор опять подошел к окну, но уже без прежнего интереса. Скорее
всего он даже не заметил, что над парком заголубело небо.
Сергеев забрался на настил. Мыло было уже настругано, и он взбил пену
в тазике. В солнечном луче пузырьки вспыхнули зеленым и розовым. Он
приподнял кисточкой их невесомые тельца и перенес на лицо Афродиты.
Когда Сергеев смыл пену, на щеке богини проступил нежный, детский
румянец. Она была совсем еще девочка, и в том, как парила она на фоне
облаков, в растопыренных пальцах, в неловко поставленной ступне
сквозила скованность подростка.
«Это бы понравилось Марине», — подумал Сергеев. Он представил себе,
как легко и осторожно она дотрагивается до щеки Афродиты.
Сергеев помнил этот жест и из-за него — людей, спрашивающих лишние
билеты у кинотеатра, где проходила неделя французского кино, и сам
фильм, забавный и никчемный, и свое смятение, когда он увидел Марину в
толпе, на лестнице, после сеанса.
Он решил не догонять ее, предохранить душу от нового мучения, но в
следующее мгновение уже протискивался, продирался вперед. Он был
совсем рядом, но Марина не замечала его. Она смеялась, окруженная весело
переговаривающейся группой людей. Отчаянно предоставив все
счастливому случаю, Сергеев ждал, не отрывая глаз от ее лица, от волос,
таких тяжелых, что они не вздрагивали от смеха. А время уходило
беспощадно, и лестница уж кончалась, и тогда Сергеев позвал:
— Марина!
— А, Володя! — Она остановилась, улыбнулась рассеянно. — Как вам
фильм?
— Ничего особенного.
— Извините, я спешу. Я вам позвоню во вторник.
Она никогда не звонила, но Сергеев, поддерживая иллюзию, сказал:
— Я буду дома часов в семь.
Она дотронулась до руки Сергеева, заторопилась к выходу. Потом, уже у
самых дверей, в сутолоке, обернулась, посмотрела на Сергеева искоса и
грустно...
— Ку -ку! — окликнула его Тамара Ивановна. — Пошли обедать.
Сергеев не стал ей показывать богиню.
Запах мокрой травы и земли отдавал горечью. Туман обволакивал
деревья. Они теряли четкость стволов и ветвей, оставалось только
приглушенное зеленое сияние. Капли переливались с листа на лист, и липы
были полны шороха.
Тамара Ивановна остановилась, глубоко вздохнула и выдохнула через
рог, разведя руки.
— Да выпрямитесь же! — Она ткнула Сергеева в спину. — Делайте, как я.
Вдох — выдох, вдох — выдох. Это очень полезно.
— Мне и так хорошо, — сказал Сергеев.
Тамара Ивановна пугала его своей активностью. Она вечно бегала с
листом и собирала деньги: на электрический чайник, на подарки ко дню
рождения или на турпоходы. У нее была специальная карта со всеми
достопримечательностями, и в выходные дни она в сопровождении еще
двух-трех скульпторш отправлялась с рюкзаком осматривать развалины
тевтонского замка или пещеру с летучими мышами.
Особенно настойчиво Тамара Ивановна приглашала Сергеева, но он
неизменно отказывался.
Он любил просто греться на солнце, купаться в озере или идти куда глаза
глядят по лесной дороге. Он не знал, куда она ведет, потому что всегда
уставал и поворачивал обратно. Если была плохая погода, Сергеев ловил на
шоссе попутную машину и ехал в город. Какой-нибудь грузовик всегда
останавливался. Он испытывал благодарность к шоферам-латышам за их
молчаливость.
Если же Сергеева подбирали москвичи, путешествующие на «Жигулях»,
он охотно болтал с ними, показывал, где находится универмаг, и сам
заражался их беззаботным отпускным настроением.
В городе он покупал газеты и журналы, обедал в маленьком, всегда
пустом ресторане и шел звонить Марине. Никто не отвечал.
Но была, конечно, еще одна причина неприятия Сергеевым путешествий,
организуемых Тамарой Ивановной, гораздо более подспудная: он стыдился
этой женщины. Стыдился ее бесцеремонности, ярко накрашенного рта,
громкого голоса.
— Очень жаль, что вы с нами вчера не пошли, — обиженно поджав губы,
протянула Тамара Ивановна. — Прекрасное получилось мероприятие.
— Я не мог, — зачем-то стал оправдываться Сергеев.
— Вы всегда не можете... Было так интересно, мы заблудились.
Сергеева совершенно не интересовали подробности очередного
турпохода, но из вежливости он спросил:
— Где?
— В Б умбери. Там старая мельница. Посмотрели, посидели у пруда и
хотели возвращаться. Только не знаем, куда свернуть: направо или налево.
Тут на дороге женщина показалась. Мы к ней кинулись, а она говорит: «Не
понимаю». На хутор зашли, а там опять старик что-то по-своему. «Не
понимаю» — и все тут.
Тамара Ивановна так возмущалась, как будто это кто-то специально
подстроил.
— Со мной тоже так было, — сказал Сергеев.
Однажды он спросил дорогу у старушки, которая пасла корову. Старушка
уловила только слово «Элайне» и долго объясняла по-латышски и
показывала руками. Сергеев слушал и кивал головой. Но, видно, все-таки
повернул не туда — старушка догнала его и довела до развилки. Корова
нехотя тащилась сзади на длинной цепи.
Сейчас, рассказывая, Сергеев иронизировал над своей непонятливостью,
но то, что он почувствовал тогда, пожимая на прощание морщинистую,
сухонькую руку — великое людское братство, — оставалось
неприкосновенным.
— Да, местные жительницы к вам неравнодушны, — Тамара Ивановна
понизила голос, хотя рядом никого не было. — Я хочу с вами серьезно
поговорить, Владимир Сергеевич. — Обычно она называла его Володя. —
Вы думаете, что никто не замечает, а все просто возмущены вашим
поведением. — Она сделала паузу, ожидая, что Сергеев что-нибудь скажет,
но он молчал. — Привыкли в Москве к легким победам! — уже с пафосом
продолжала Тамара Ивановна. — Решили здесь попробовать. А Вия! Тоже
хороша!
— Ну, вот что, — очень тихо сказал Сергеев; веселый, легкий холодок
злобы поднимался к сердцу. — Не смейте трогать Вию! Что вы во всем этом
понимаете!
— Что я понимаю? — Тамара Ивановна отскочила и стояла теперь перед
Сергеевым, тяжело дыша. — Думаешь, все кругом слепые! Как тебе только
не стыдно!
— Если нам еще когда-нибудь придется общаться по делу, — сказал
Сергеев, прерывая ее крик, мучительно несовместимый с тишиной и
величием парка, — не забывайте, что мы на «вы» и на брудершафт никогда
не пили!
Он повернулся и зашагал обратно ко дворцу.
В голове кружились необыкновенные по своему остроумию и
унизительности фразы, но без применения они мгновенно теряли блеск.
Оставалось только омерзение, как будто он угодил лицом в паутину.
Чувствуешь ее на коже, пытаешься снять, но она так тонка, что невозможно
нащупать.
Прямо из-под ног выпрыгнул лягушонок. Сергеев нагнулся, вычерпнул
его из травы. Лягушонок смирно сидел на ладони, его белое горло чуть
заметно пульсировало.
Сергеев осторожно погладил его указательным пальцем.
Он не был больше сторонним наблюдателем, и поэтому это был теперь
его лягушонок, и парк был его, и дворец, и богиня любви с детским лицом.
И, может быть, не существовало больше одиночества.
☆☆☆
Сергеев отпер калитку и в недоумении огляделся, как будто попал не
туда: вместо пионов вдоль кирпичной дорожки росли мелкие лиловые
цветочки.
Это было, конечно, глупо: пионы не могут цвести вечно, но тот первый
день его приезда в Элайне оказался так тесно связан с ними, что Сергеев не
мог представить себе дом учителя без их розового великолепия.
Дверь была не заперта, но Сергеев все равно позвонил.
— Володя, как хорошо, что вы пришли! — Андерс раздвинул герань,
стоявшую на подоконнике. — А я болею...
Учитель лежал на тахте, укутанный по горло одеялом.
— С сердцем что-то, — пожаловался он. — Никогда со мной этого не
было. Видно, первый звоночек с того света.
— Вам ничего не нужно? Съездить в город за лекарствами?
— Нет, нет, не беспокойтесь! Все есть. Принесли из амбулатории.
Запах лекарства — смесь валерианки и камфары — чувствовался,
несмотря на открытое окно. Сергеев знал, как этот запах въедается в
одежду, в стены, в дыхание. Он напоминал больницу, улыбающееся ему
навстречу лицо отца на больничной койке и обозначал для Сергеева только
одно — смерть.
— Можно я проветрю? — Сергеев распахнул дверь и вторую створку
окна.
Сквозняк вздул занавески, смахнул с низкого столика рецепты.
Здесь все было из другого, медленного времени: оленьи рога на стене,
словарь Брокгауза и Ефрона, толстые немецкие книги с готическими
буквами на корешках, скатерть с вышитыми крестиком гномами...
Запах лекарства исчез, вытесненный запахом сена, мяты и озерной воды.
— Ну, все, — сказал Сергеев, закрывая дверь и чувствуя удовлетворение,
как после трудной работы. — Теперь я буду вас развлекать.
Он рассказал про Афродиту. Ему хотелось поделиться своей радостью со
стариком, разломить эту радость пополам, как хлеб.
Учитель оживился. Из его глаз ушел страх, внутреннее напряжение, с
каким люди прислушиваются к своей болезни.
— Знаете, она удивительная, эта Афродита, — продолжал Сергеев. — Она
совершенно не похожа на все, над чем я работал до сих пор. Ни беспечности,
ни жеманства, она даже не очень красива...
— А какой это зал? — спросил Эдгар Теодорович.
— Я теперь в голубом.
— Ну, конечно, она другая! — торжествующе сказал учитель. — Ведь
эскизы к этому залу Растрелли делал много лет спустя. Работа была
прервана, понимаете? Дворцовый переворот. Бирон был свергнут Минихом
и отправлен в ссылку. Так что несколько залов остались неоконченными.
— А сколько лет Бирон был в опале?
— Около двадцати пяти лет. Пока Екатерина Великая не даровала ему
высочайшее помилование. И вот Бирон возвращается в Курляндию и
приглашает Растрелли в Элайне. Удивительная история, лучше всяких
историй с привидениями! Вы только подумайте, как странно оказалась
связана судьба Растрелли с нашим дворцом! Между его первым приездом и
последним — когда он доделывал голубой зал — целая жизнь. Элайне в
начале и Элайне в конце... Да, конечно, Афродита совсем другая, потому что
Растрелли уже был другим. Он знал, что такое жизнь, и не питал больше
никаких иллюзий, тем более, что незадолго до того, как Бирон вызвал его,
Екатерина отправила Растрелли в отставку с пожизненной пенсией...
Поражаешься, как Екатерина могла так обойтись с великим архитектором,
нанести ему такое оскорбление, ведь она сама жила в Зимнем дворце! —
Андерс был не на шутку взволнован, даже возмущен.
— Мода изменилась, — сказал Сергеев. — Появились новые
архитекторы. Растрелли больше не был ей нужен.
— Как хорошо все-таки, что он понадобился хотя бы Бирону! Снова
Курляндский герцог, возникший из небытия, снова дворец... Подождите
меня немного, я только побреюсь, и мы пойдем смотреть Афродиту.
— Никуда я вас не пущу. Посмотрим, когда выздоровеете.
На подоконник вспорхнула синица, в крайнем любопытстве уставилась
блестящими глазками на людей в комнате. Сергеев махнул рукой.
— Зачем вы ее прогнали? — спросил Андерс.
— Есть такая примета: если птица залетит, будет известие. А я не хочу
никаких известий.
— Даже хороших?
— У меня уже так давно не было хороших известий, что, прогоняя
синицу, я ничем не рисковал.
Странно, с какой легкостью он заговорил о себе. Обычно Сергеев
всячески избегал этого. А то, что он сказал однажды учителю, что любит
слушать, — абсолютная правда. Пряча себя, Сергеев научился двумя-тремя
вопросами превращать разговор в монолог. Он не хитрил — ему неизменно
интересны были истории о чужих делах, чужой жизни, чужой любви.
Сергеев слушал их, как сказки, как нечто, не имеющее к нему никакого
отношения. Иногда он даже испытывал чувство вины перед собеседниками,
которые и не подозревали, что их желание поделиться с ним своими
горестями служило самой прочной гарантией, что они не будут
интересоваться им.
Неужели он попался в собственную ловушку? Да нет, какая ловушка!
Просто учитель добр к нему, оттого и вырвалась эта фраза о синице...
Синичка, птичка синичка...
А на стене фотография мальчика. Уши по-детски оттопырены, косой
пробор. Лицо, пожалуй, некрасивое. Нет, не некрасивое, а никакое. Может,
он нефотогеничен, этот мальчик. Или он никакой, потому что все еще
скрыто, не проявилось, жизнь не наложила пока своего отпечатка. Все еще
будет... Страшно смотреть на такие фотографии. Мы-то знаем, что
случилось, а мальчик на фотографии не знает, что его повесят... Нет, он не
может быть никаким! Просто фотографии никогда не передают
человеческой сути. Верность, доброту, способность отдать свою жизнь ради
других не заснять на пленку.
Андерс заметил направление взгляда Сергеева.
— Это Каспар, — сказал он и добавил ласковое, уменьшительное: —
Каспаринь.
Конечно, по сравнению с горем учителя его беда — совершенная ерунда.
А можно ли вообще сравнивать горе? Ведь боль у каждого своя. Ею нельзя
обменяться. Люди потому и такие разные, что у них разная беда.
— Я хотел бы нарисовать ваш портрет, Эдгар Теодорович.
— Меня рисовать? — удивился Андерс. — Неужели вы не нашли более
привлекательной модели?
— Не нашел. Ну как, согласны попозировать? Тогда я сделаю несколько
набросков прямо сейчас.
— Ничего, что я не брит? — серьезно спросил Андерс и тут же улыбнулся,
поняв, что его озабоченность смешна. — Хочется остаться красивым для
потомков.
Солнечный прямоугольник с тенью гераниевых листьев был обманчиво
неподвижным, казался навсегда повешенным у изголовья. Андерс замер, он
даже старался не мигать.
— Нет, нет, — сказал Сергеев, — разговаривайте, улыбайтесь,
двигайтесь, только не поворачивайтесь в профиль.
— Я думал, нельзя, — виновато произнес Андерс. — И вообще не
обращайте на меня внимания.
Как изобразить медленное время? Оно здесь, свернулось внутри
раковины-пепельницы, просвечивает на солнце розоватым. Оно многолико,
оно девочка Афродита, оно деревянные апостолы, карабкающиеся по
кафедре все вверх и вверх — куда только их несет? — оно такая смешная,
такая наивная теперь премудрость Брокгауза и Ефрона, оно дворец.
— Мужественный вы человек, — сказал учитель. — Других
подбадриваете, шутите, смеетесь.
— Это вам кажется, Эдгар Теодорович. — Он был удивлен неожиданной
оценкой. — Я человек слабый.
— Что с вами случилось, Володя?
Вопрос был поставлен прямо. Сергеев поднял глаза.
— Почему вы думаете, будто со мной что-то случилось?
Ради чего он так отчаянно защищается? Учитель стар, он знает людей, и
его не обмануть. И все-таки невыносимо признаться, что ты несчастен.
— Иногда вы забываете следить за выражением своего лица.
— Да, — сказал Сергеев, — всё верно. Только помочь мне нельзя, поэтому
говорить об этом бесполезно. Лучше я вам расскажу другую историю, про
Вию.
— Я все знаю, Володя.
— Откуда?
— У нас, в Элайне, ничего утаить нельзя. Для вас это, вероятно, странно.
Вы не привыкли к такому, потому что живете в огромном городе. Вот вы и
ведете себя без оглядки, открыто и не подозреваете даже, какую пищу даете
для пересудов. Одно ваше появление на свадьбе так взбудоражило умы, что
до сих пор никак не успокоятся.
— Вот видите, какая от меня польза. Есть о ком почесать языки.
— А я рад за вас, — сказал Андерс. — Разумеется, это сложно, но я уверен
— все уладится. Вия согласится переехать к вам, в Москву.
— Ну и фантазия у ваших сельских кумушек. Какая чудовищная, жуткая
нелепость! — Сергеев был в отчаянии от несуразности происходящего. —
Да ведь все по-другому, вы даже не представляете, насколько все по-
другому...
— Как же так? Значит, все неправда?
— Абсолютный бред. А правда в том, что я, к сожалению, знаю на своей
шкуре, что такое любовь, Эдгар Теодорович. И я не мог допустить, чтобы
Вия, ни в чем не повинный человек, мучилась так же, как мучаюсь я. Я не
смог, понимаете, не смог оттолкнуть ее. И у меня никогда не повернется
язык сказать Вии, что я ее не люблю.
— Но это же грех, страшный грех! Разве можно так поступать с людьми,
изображать чувства, которых нет?
— Да ничего я не изображаю, — сказал Сергеев с досадой.
Он отложил набросок: новое, гневное лицо Андерса мешало ему рисовать
то, прежнее, доброе и сосредоточенное.
— Ну вот, вы разволновались из-за меня. Честное слово, не стоит!
Сергеев вовсе не намерен был спорить, доказывать свою точку зрения.
Он и не ждал, что учитель согласится с ним, но он не предполагал, что тот
настолько нетерпим — даже не попытается понять.
Хором тикали часы: будильник — торопливо и бойко, часы с маятником
— глухо и размеренно. Они показывали одно и то же время: без пяти девять.
Солнечный квадрат над головой Андерса исчез.
— Не сердитесь на меня, Эдгар Теодорович.
— Я не сержусь.
Но Сергеев чувствовал отчужденность собеседника и не знал, как
преодолеть ее.
Он возвращался от Андерса в сумерках. Сергеев уже так привык к этим
местам, что находил путь почти рефлекторно. Неужели он когда-то
спрашивал, где находится дворец?
В липовой аллее было темно, дворец белел в самом ее конце. Казалось, он
излучает слабый свет, как звездное небо.
«По этой аллее ехал Растрелли, — думал Сергеев. — Как будто
возвращался на родину, к местам давно любимым. Ему, наверное, было
хорошо здесь когда-то, потому что он был молод и, может быть, тогда
впервые ощутил могущество своего таланта...»
Он живо представил себе, как уже старый Растрелли выходит из кареты
и идет пешком, медленно передвигая ноги, — ему хочется немного
размяться после долгого пути. Карета тихонько катится за ним.
Ворота открыты — его ждут. И Растрелли, тяжело дыша, торопится
навстречу дворцу, как к давнему другу, с которым разлучила жизнь,
улыбается ему и кивает.
Сергееву не хотелось возиться с ключами, отпирать дверь на галерею.
Можно было влезть в комнату через окно
На подоконнике что-то лежало. Он чиркнул спичкой: прижатая цветами,
светлела записка. Сергеев успел прочесть: «Я вас очень ждала, потом искала
после концерта...» Спичка погасла.
«Господи, дарить мне цветы...»
Он присел на спину каменного льва, закурил. Над дворцом стояли такие
большие размытые звезды, что, казалось, смотришь на них сквозь слезы.
Они притягивали, вызывали оцепенение, как огонь.
Из темноты возник звук шагов.
— Добрый вечер, — сказал Рокманис. — Не угостите ли вы меня
сигаретой? Мои кончились.
Сергеев протянул ему пачку, как трубку мира.
— Ну, что же вы решили? — спросил Рокманис. — К сожалению, у меня
нет юридических прав держать вас насильно.
— Остаюсь. До октября, как предусмотрено договором.
— Очень вам признателен, — сказал Рокманис. — Вам это может
показаться странным, но я рад, что вы остаетесь.
— Что же тут радостного? — спросил Сергеев недоуменно.
— Как бы вам объяснить... Люди, на которых можно положиться, для
которых дело превыше всего, встречаются очень редко. Я ведь вижу, как вы
работаете.
— Спасибо на добром слове, Валдис Янович, — сказал Сергеев. — Но все
же для всех было бы лучше, если бы я уехал. Просто я эгоист и думаю только
о себе, а мне нравится здесь работать. Я привязался к этому дворцу.
— Понимаю. Со мной тоже это произошло. Не могу бросить Элайне, хотя
мне предлагали другую должность, в Риге.
— А вы давно в Элайне?
— Восемь лет, с тех пор как кончил Академию художеств. Я тоже эгоист.
— Рокманис улыбнулся. — Я дождусь, чего бы мне это ни стоило, того дня,
когда наш дворец будет закончен.
— Представляете, — сказал Сергеев. — Гиды, автобусы с туристами,
экскурсанты в тапочках.
— Непременно в тапочках, — сурово и непреклонно произнес Рокманис.
— Я никого не пущу во дворец без тапочек.
Они замолчали, глядя на звезды.
«ЮНОСТЬ», No 2, 1979
Слушание дела было назначено на двенадцать часов. А я прибежала к
одиннадцати утра, чтобы заранее поговорить с судьей, рассказать ей о том,
о чем в подробностях знала лишь я.
Народный суд размещался на первом этаже и казался надземным
фундаментом огромного жилого дома, выложенного из выпуклого серого
камня. «Во всех его квартирах, — думала я, — живут и общаются люди,
которых, вероятно, не за что судить... Но рассудить нужно многих. И
вовремя, чтобы потом не приходилось выяснять истину на первом этаже,
где возле двери, на стекле с белесыми островками было написано:
«Народный суд».
Каждый воспринимает хирургическую операцию, которую ему
приходится вынести, как едва ли не первую в истории медицины, а о смерти
своей мыслит как о единственной в истории человечества. Суд, который
был назначен на двенадцать часов, тоже казался мне первым судом на
земле. Однако за два часа до него началось слушание другого дела. В чем-то
похожего... Но только на первый взгляд, потому что я в тот день поняла:
судебные разбирательства, как и характеры людей, не могут быть
двойниками.
Комната, которая именовалась залом заседаний, была переполнена.
Сквозь щель в дверях, обклеенных объявлениями и предписаниями, я
увидела судью, сидевшую в претенциозно-высоком кресле. Ей было лет
тридцать — и на лице ее не было величия человека, решающего судьбы
других. Склонившись над своим торжественным столом, как школьница над
партой, она смотрела на длинного, худого, словно выдавленного из тюбика
мужчину, стоявшего ко мне спиной, с детским недоумением и даже
испугом... Хотя для меня она сама была человеком с пугающей должностью.
Народных заседателей сквозь узкую щель не было видно.
Неожиданно дверь распахнулась — и в коридор вывалилась молодая,
дебелая женщина с таким воспаленным лицом, будто она была главной
героиней всего происходившего в зале. Женщина, ударив меня дверью, не
заметила этого. Мелко дрожащими пальцами она вытащила сигарету,
поломала несколько спичек, но наконец закурила, плотно закупорив собой
вновь образовавшуюся щель. Она дымила в коридор, а ухом и глазом, как
магнитами, притягивала к себе все, что происходило за дверью.
— Кого там судят? — спросила я.
Женщина мне не ответила.
— Мама, поймите, я хочу, чтобы все было по закону, по справедливости,
— донесся из зала сквозь щель слишком громкий, не веривший самому себе
голос мужчины, выдавленного из тюбика.
Возникла пауза: наверное, что-то сказала судья. Или мама, которую он
называл на «вы».
— Что там? — вновь обратилась я к женщине с воспаленным лицом.
Она опять меня не услышала.
На улице угасающее лето никак не хотело выглядеть осенью, будто
человек пенсионного возраста, не желающий уходить на «заслуженный
отдых» и из последних сил молодящийся.
В любимых мною романах прошлого века матерей часто называли на
«вы»: «Вы, маменька...» В этом не было ничего противоестественного: у
каждого времени своя мода на платья, прически и манеры общения. В
деревнях, я знала, матерей называют так и поныне: там трудней расстаются
с обычаями. Но в городе это «вы» всегда казалось мне несовместимостью с
веком, отчужденностью, выдававшей себя за почтительность и
деликатность.
«По закону, по справедливости...» — похожие слова я слышала совсем
недавно из других уст. Их чаще всего, я заметила, употребляют тогда, когда
хотят встать поперек справедливости: если все нормально, зачем об этом
кричать? Мы же не восторгаемся тем, что в наших жилах течет кровь, а в
груди бьется сердце. Вот если оно начнет давать перебои...
На улице как-то неуверенно, не всерьез, но все же заморосил дождь. Я
вернулась в коридор и опять подошла к женщине, превратившейся,
казалось, в некий звукозаписывающий аппарат.
— Перерыв скоро будет, не знаете? — спросила я, поскольку в коридоре,
кроме нее, никого не было.
Она оторвалась от щели и шепотом крикнула мне: «Не мешайте!», —
словно присутствовала на концерте великого пианиста и боялась упустить
хоть одну ноту, хоть один такт.
«Наверняка должен скоро быть, — решила я. — И можно будет
поговорить, посоветоваться...»
Всю ночь я репетировала свой разговор с судьей. Придумывала фразы,
которые, я надеялась, услышав от меня, она запомнит и повторит во время
судебного разбирательства.
Но беседа оттягивалась, и я, подобно студентке перед экзаменационной
дверью, стала вновь как бы заучивать факты, аргументы и даты. Они
незаметно вытянулись в ленту воспоминаний — не только моих
собственных, но и чужих, которые при мне повторялись так часто, что тоже
стали моими.
Я знала, что прежде существовали «родовые поместья», «родовые устои»,
«родовая знать»...
А у меня была родовая травма. Врач-акушерка на миг растерялась,
замешкалась. И в моей еще ни о чем не успевшей поразмышлять голове
произошло кровоизлияние, но, как сказал, утешая маму, один из лечивших
меня врачей, «ограниченного характера». Характер был «ограниченный», а
ненормальность охватила весь мой организм и стала всеобщей.
Собственных впечатлений о том первом дне жизни у меня, к сожалению, не
сохранилось. Но история моей болезни вошла в историю: не потому, что я
заболела, а потому, что в конце концов вылечилась. Это был уникальный
случай. И мой младенческий кретинизм даже попал в учебники.
Прославиться можно разными способами!
Я благоговела перед врачами. С заискивающей надеждой заглядывала им
в глаза... Но не раз думала и о том, что вот так, от одного неловкого
движения акушерки зависит вся человеческая жизнь: Моцарт не станет
Моцартом, а Суриков или Поленов не смогут держать кисть в руке, не
подчиняющейся рассудку. Да и простые смертные вроде меня будут
приговорены к вечным страданиям. Из-за одного неловкого движения
человека, который не имеет права на такое движение, ибо еще более, чем
судья, определяет будущую человеческую жизнь, а в случае минутной
ошибки выносит незаслуженный приговор и всем, кто к этой жизни
причастен.
В отличие от нормальных детей я не ползала и вообще не проявляла ни
малейшей склонности «к перемене мест».
На это обратили внимание в тот самый момент, когда моя бабушка
собралась выходить замуж.
«Первая и последняя!» — называл ее шестидесятилетний жених.
— Он влюбился в меня, когда нам едва исполнилось по семнадцать, —
впоследствии рассказывала мне бабушка. — Но между нами ничего не было.
— Совсем ничего? — цепко спросила я.
— Кажется, был... один поцелуй.
— Именно в семнадцать?
Бабушка кивнула.
— Синхронно! — воскликнула я. — У меня тоже в семнадцать...
— И я ничего не знала?!
— Сообщи я немедленно, этот запоздалый поцелуй показался бы
землетрясением. А так, видишь... Все живы-здоровы. Хотя мама, как
говорится, оказалась живой свидетельницей.
— Каким образом?
— Увидела из окна.
Бабушка не нашла в поцелуе ничего угрожающего моей жизни. Она
понимала меня с полуслова. А часто и полслова не нужно было произносить.
Только взглянет — и сразу готов диагноз: «Ты больна?», «Ты получила
тройку?». Во всех случаях она предлагала одно и то же, но безотказно
действовавшее средство: «Ничего страшного!»
Действительно, после того, что случилось со мной в изначальный миг
моей жизни, ничто уже не могло выглядеть страшным.
Бабушка любила вспоминать, как ее первый возлюбленный объявился
через сорок три года.
— В позднем браке есть свои преимущества: не хватит сил и времени на
развод!
Мама отговаривала ее от «неверного шага».
— Это противоестественно! — восклицала она. — Природой для всего
установлены свои сроки.
Насчет природы мама была в курсе дела: она занималась охраной
окружающей нас среды.
— Но и от окружающей среды приходится охранять! — уверяла она
бабушку. — Что ж получается? Всю жизнь имел жену, а теперь ищет няньку!
Это маму не устраивало: нянька была ей самой. Хотя тут я, наверное, не
вполне справедлива: прежде всего нянька нужна была мне,
И бабушка не пошла под венец.
— Правильно сделала! — сказала я, впервые услышав от нее эту
историю. — В семнадцать поцеловал и закрепил до шестидесяти? Где он
был раньше?
— Там же, где я: в своей семье. Нас разлучили обстоятельства. И они же
опять свели: мой муж умер, а он остался вдовцом. Встретившись, мы оба
помолодели.
— Почему же тогда...
— А ты? — перебила меня бабушка.
И больше я не задавала дурацких вопросов.
Бабушка была папиной мамой.
А мамина мама руководила моим воспитанием с другого конца города по
телефону: она объясняла, что мне рекомендуется есть, сколько часов
гулять, а сколько посвящать сну. Она изучила все случаи родовых травм — и
делала по телефону выводы, сравнения, указывала, как именно меня надо
спасать.
В пору моего раннего детства врачи предупреждали родителей, что
соображать я кое-что буду, но расти мне придется отсталым ребенком. Я
помнила эти прогнозы: значит, и в то давнее время немного соображала. Но
только чуть-чуть... И двигалась плохо и говорила с трудом.
Бабушка, отказавшись от супружеского счастья, взялась за меня.
— Мама, поверьте, мне не нужно ничего лишнего! Я по закону хочу, —
продолжал заклинать в зале судебного заседания длинный, худой сын. —
Поэтому я и пришел в суд. В наш, советский! Который по справедливости...
Что ответила ему мать, я не услышала. И отошла от двери, возле которой,
закупорив собой щель, по-прежнему дымила воспаленная дебелая
женщина.
«По закону, по справедливости!» Да, это были знакомые мне слова.
Говорят, что у каждого человека в жизни должна быть цель. Но даже
самых заветных целей бывает много. Или в редком случае несколько. У
бабушки же со дня моего рождения цель действительно была только одна:
поставить меня на ноги. Сначала в прямом, а потом в переносном смысле.
По профессии бабушка была медсестрой. Муж ее, то есть мой дедушка,
погиб на войне, когда еще его самого, девятнадцатилетнего, в доме считали
внуком.
— Вот ты не веришь, что можешь научиться читать, — воспитывала
меня бабушка. — А я даже не спать научилась. И ничего страшного! Все ночи
проводила у постели больных.
— Все ночи?!
— Почти. Помогала им, как могла. Иногда удерживала, не отпускала.
— Куда?
— На тот свет... И заодно подрабатывала.
Зачем ей нужно было подрабатывать, бабушка не объяснила мне. Но
отец однажды сказал:
— Чтобы я был одет не хуже других в своем классе. И питался не хуже...
Чтобы в театр ходил, в кино.
Бабушка хотела, чтобы и я была «не хуже других». Это стало ее основным
желанием.
Она рассталась со своей больницей.
— Это подвиг — оставить любимое дело! — сказала мама.
— Я, конечно, привыкла... — ответила бабушка. — Но ничего страшного.
— Тем более что и дома все будет, так сказать, в сфере вашей профессии.
Мама пользовалась четкими, отточенными формулировками.
Меня показывали докторам наук и профессорам. Я с утра до вечера
глотала таблетки. Меня растирали, массировали. Когда ребенок в доме
хронически болен, все подчинено этому горю. Подавлено им. Мама и папа,
когда оставались вдвоем, кажется, ни о чем, кроме моей болезни, не
говорили.
Они волновались, страдали, а бабушка общалась со мной, как со
здоровой.
— Ничего страшного! — уверяла она. — Даже твое имя говорит об этом.
Меня звали Верой.
Из всех профессоров, которые были брошены на мое спасение, главным
оказалась бывшая медсестра.
Мне трудно было ходить, а она говорила:
— Сбегай-ка за газетой!
Я плелась вниз и вверх по лестнице, но верила, что когда-нибудь побегу.
У бабушки были не сердобольные, а спасительные для больного
человека глаза: они не подавляли сочувствием, не повергали в сомнение
слезливыми, туманными обещаниями, а просто убеждали, что не
происходит «ничего страшного».
Умный, всегда загорелый лоб и абсолютно белые, без малейших
оттенков волосы укрепляли веру в бабушкины диагнозы и предсказания.
Я помню, что слова долго не вступали со мною в контакт: язык был
тяжелым, не подчинялся. А бабушка, не замечая этого, без конца со мной
разговаривала. Она вовлекала меня в беседы так естественно, а порой
властно, что язык начинал понемногу сдаваться.
Некоторые взрослые поступали иначе. Они делились в моем присутствии
своими тайнами, как при глухой. «При ней можно!» — слышала я. Сами того
не понимая, они настырно убеждали меня в моей неполноценности.
Частенько к нам наведывался мамин соратник по борьбе с загрязнением
окружающей среды Антон Александрович.
Загрязнение среды на его внешности не отразилось: он всегда был в
сахарно-белоснежных рубашках, в свитерах — то пестрых, то одноцветных,
то с короткими рукавами, то с длинными, которые сидели на нем складно,
будто в магазинной витрине.
С годами я поняла, что людям свойственно подчеркивать в своей
внешности то, что им выгодно подчеркивать, и скрывать то, что выгодно
скрывать.
«Все хотят выглядеть красиво, — позже не раз думала я. — Одна из
главных человеческих слабостей!»
Антону Александровичу выгодно было подчеркивать спортивность
своей фигуры — и он, не нуждаясь в портных, плотно облегал себя
свитерами.
Заходил он только «по делу». Меня это настораживало. Хотя мне в ту
пору исполнилось всего лишь семь лет, я догадывалась, что для дел больше
подходил научно-исследовательский институт, где они вместе работали,
чем наша квартира в отсутствие папы. Появлялся же Антон Александрович
чаще всего по субботам и воскресеньям, когда папа у себя в музее приобщал
людей к искусству минувших веков.
А может быть, я увязывала эти события бессознательно. И лишь через
много лет мне стало казаться, что я и в неразумном младенчестве все
понимала.
— Мы с вами люди самой модной профессии! — однажды сообщил маме
Антон Александрович.
Это «мы с вами» заставило меня отменить прогулку и остаться дома.
Хотя бабушка ждала во дворе...
Антон Александрович всегда приносил мне подарки. И очень шумно
вручал их. Но его шоколад я не ела: «Слишком какой-то сладкий!». А с его
куклами не играла. Он подлизывался ко мне. И это тоже было тревожно.
Особенно он заботился о том, чтобы я дышала незагрязненным воздухом
нашего двора. Но выпроводить меня на улицу ему ни разу не удалось.
Выслушав его сообщение о том, что «на дворе сегодня очаровательная
погода», я усаживалась куда-нибудь в угол и угрюмо молчала.
Он приписывал это моей крайней отсталости.
— Не достать ли какие-нибудь импортные лекарства? Японские,
например? — предлагал он. — В этой области, по части мозга, японцы
добились ошеломляющих результатов!
В конце концов полностью уверовав в мою несмышленость, он решил
объясниться маме в любви.
— Софья Васильевна... Сонечка! Загляните пристальней мне в глаза.
Неужели вам ничего не ясно?
И тут я заорала... Я схватила маму за руку и потащила ее в другую
комнату, чтобы она не успела заглянуть в глаза Антону Александровичу.
— Она все поняла! Вы видите, Антон Александрович? Это уже не просто
«некоторое улучшение», а бесспорный прогресс. Она на пороге
выздоровления. Какое счастье! Какое огромное счастье!..
Этот «порог» спутал все планы Антона Александровича — и он, мрачно
восхищаясь, покинул наш дом.
В тот же вечер мама, захлебываясь, рассказала обо всем папе:
— Ты представляешь, Антон Александрович решил выразить мне свои
чувства. Не впрямую, конечно. Полунамеками... Как джентльмен! Я не успела
еще ничего толком сообразить, а Верочка уже все поняла. И воспротивилась.
Это же замечательно! Она не просто научилась выговаривать слова и лучше
ходить — она вникает в психологию человеческих отношений!
Мама, наверно, была права, поскольку это длинное — психология —
начинается со слова «псих». Так я мысленно шутила впоследствии.
А тогда мне было радостно от сознания, что для мамы любовь ко мне все-
таки дороже успеха. Это я поняла!
Папа радовался тому, что случилось, несколько меньше мамы. Но все же
механически, вполголоса повторял:
— Это новая стадия... Новая стадия!
— Какие стадии, не пойму? — удивилась бабушка. — Она все понимает
не хуже нас с вами.
Это был ее, бабушкин, метод лечения. О новой стадии моего
выздоровления тем не менее рассказывали знакомым, врачам, и Антон
Александрович перестал забегать к нам «по делу» История его любви была
подробно описана в истории моей болезни. И тем самым увековечена!
Мамина мама сказала, что при жизни своего супруга, то есть второго
моего дедушки, она ни разу и никому не позволяла «себя любить» Но моей
сообразительности она тоже, разумеется, была рада
Все это произошло не само собой... Я в своих воспоминаниях сильно
забежала вперед. Перед «порогом» выздоровления были другие пороги и
кручи, которые я преодолевала мучительно. И всегда с помощью бабушки.
Сообщая о том, что я буду отсталым ребенком, врачи, конечно, чуть-чуть
понижали голос. Но не настолько, чтобы я их не слышала. Я все понимала и
ужасалась своей судьбе. Меня повергали в смятение и руководящие
телефонные звонки маминой мамы. По тому, как долго и тщательно она
объясняла, где надо искать пути моего спасения, я смекала, что дела мои
плохи.
А бабушка как ни в чем не бывало говорила:
— Принеси-ка коробку с нитками. Будем шить и учить стихи.
Мне становилось легче.
— Вы опять не понимаете меня... Мною движут только благородные
чувства, — донеслось из зала заседания.
«Все хотят выглядеть красиво. При любых обстоятельствах!» — опять
подумала я.
И отправилась в глубь коридора.
Маму называли «крепким специалистом». Это определение очень к ней
подходило. Всегда собранная, одетая скромно, но безупречно, с иголочки,
мама была человеком волевым и «с убеждениями», как подчеркивали ее
сослуживцы. Например, без косы, которая золотистой подковой обрамляла
голову, я маму просто ни разу в жизни не видела. Впрочем, напоминая по
форме своей подкову, эта золотистая коса, по сути, скорее была короной,
ибо, прикоснувшись к ней, мама обретала еще бо
́
льшую, чем обычно,
уверенность в себе и принимала осанку владычицы. Когда она протягивала
руку к косе, я знала, что сейчас будет сказано что-то очень важное и
поучительное.
Бездумно мама не бросала слов ни на ветер, ни в безветренную погоду.
Она выстраивала мысли с алгебраической точностью, вынося за скобки все
лишнее. И почти никогда не меняла свои твердые точки зрения на какие-
либо точки с запятыми или многоточия.
Мама всюду была как бы при исполнении служебных обязанностей. Она
без устали боролась за окружающую среду, которую постоянно кто-нибудь
загрязнял. Даже трубы, мне казалось, в ее присутствии дымили застенчиво,
не в полную силу. А курить вообще никто не решался.
Правда, порой меня удивляло, что мама, борясь с отравлением природы,
самой природой не восхищалась, не замечала ее красот. Борьба для нее
была свойственней, чем любовь. Если, конечно, речь не шла обо мне. А
может, такое обобщение было и вовсе неверным. Несправедливым...
Папа работал в музее экскурсоводом На старых фотографиях он был
высоким и статным Но с годами как-то пригнулся... Согласно домашним
легендам, его пригнула моя родовая травма Слоняясь по судебному
коридору, я думала о том, что скорее все же сильный мамин характер
заставил его изменить осанку.
А впрочем, я, наверное, опять была неправа, несправедлива к своим
родителям
Там, перед дверью суда, я не в состоянии была примириться с тем, что
мама и папа смогли...
Музейная обстановка приучила папу говорить вполголоса, а при маме
даже и в четверть. Повторявший каждый день на работе одно и то же, папа
и дома любил повторяться:
— Ты не должна игнорировать свое заболевание. Ты не можешь
равняться на тех, кто бегает во дворе: они абсолютно здоровы.
«Ты не должна, ты не можешь...» Его методы воспитания входили в
противоречие с бабушкиными.
Я слушала всех, но слушалась бабушку.
За музейные ценности папа боролся так же, как мама за окружающую
среду.
— В запасниках прозябает столько шедевров! — возмущался он. — Это
все равно, что оставлять гениальные литературные творения в рукописях,
хоронить их в столах авторов. Или лекарства, способные исцелять людей,
прятать от жаждущих и страждущих! Кстати, искусство — это тоже
сильнодействующий исцелитель. Сильнодействующий... Он необходим для
нравственного здоровья!
Папа произносил это с необычным для него душевным подъемом. И
потому чаще всего в отсутствие мамы, при которой остерегался повышать
голос.
Он вообще любил исповедоваться, когда мы были вдвоем. Наверно,
считал, что я в его исповедях ничего ровным счетом не смыслю, и поэтому
мог быть вполне откровенным, как если бы рядом с ним находилась собака.
Сначала я и правда ни во что не могла как следует вникнуть. Но
постепенно, с годами, под воздействием таблеток, массажей и бабушкиного
психологического лечения, начала понимать, что папа в юности мечтал
стать художником. У него даже находили какой-то «свой стиль». Но мама
этого стиля не обнаруживала. У нее и тут была своя твердая точка зрения:
художником нужно быть либо выдающимся, либо никаким. И папа стал
никаким.
Потом он расстался со «своим стилем» и в других сферах жизни.
— Я сделался копировщиком картин, — сообщил он однажды. —
Сделался копировщиком... Ну, а после переквалифицировался в
экскурсовода. Если бы мама тогда, давно... лучше понимала меня, я бы мог
стать личностью. Мог бы стать личностью... В искусстве по крайней мере!
Хотел создавать свои полотна — теперь рассказываю про чужие. Что делают
в подобных случаях, а?
— Разводятся, — неожиданно ответила я. Хотя он задал вопрос вовсе не
мне, а как бы бросил его в пространство... Мое присутствие он, подобно
другим взрослым, в расчет фактически не принимал.
Папа, как и мама после моей реакции на любовный взрыв Антона
Александровича, пришел в восхищение.
— Ты сама догадалась или тебе подсказали? — допытывался он.
— Подсказали, — ответила я.
— Кто?
— Ты.
— Нет, не приписывай мне этой заслуги: ты сама стала мыслить четко и
ясно! Четко и ясно... — л иковал папа. И восторженно заламывал руки. —
Мама права: ты стала постигать сложные нравственные категории. У тебя
появилась способность иронизировать!
Своими восторгами они как бы подчеркивали, что судьба-то мне
предначертала быть полной кретинкой.
Я решила отвлечь папу от моих умственных достижений и спросила:
— А почему вы все-таки не развелись?
— Потому что я... люблю маму.
— И правильно делаешь! — с облегчением сказала я.
Это привело папу в еще больший экстаз:
— Любящая дочь должна была именно так завершить обсуждение этой
деликатной проблемы. Именно так должна была завершить... Все логично!
Никаких умственных и нравственных отклонений!
Он с трудом дождался прихода мамы. И прямо в коридоре поделился
счастливой новостью:
— Она сказала буквально... цитирую слово в слово: «А почему вы все-
таки не развелись?» То есть она понимает, что если брак в чем-то не
оправдал себя, не удался, люди разводятся. Ты представляешь себе, какие
сложные аспекты человеческих отношений подвластны ее уму!
Как экскурсовод папа тяготел к возвышенным формулировкам. И
некоторые свои фразы повторял, будто кто-то рядом с ним вел конспект.
— Так и сказала?! — восхитилась и мама. — «А почему вы не развелись?»
— Слово в слово!
— Великолепно! Ты, я надеюсь, исправишь эту ошибку?
— Нет... Потому что она сразу встревожилась, как бы я не последовал ее
чисто теоретическому выводу. И подтвердила, что я должен остаться здесь,
ибо люблю тебя. Ибо люблю... Это был голос разума, помноженный на голос
сердца! — Папа, безусловно, тяготел к возвышенным формулировкам. —
Еще одна новая стадия! — зафиксировал он.
Бабушка пожала плечами:
— Какая такая стадия?
— Нет, не говорите, — возразила мама. — Мы укрепляем веру Веры в
самое себя. И кому, как не вам, главному победителю, нашему доброму
гению, сейчас радоваться?! Необходимо закрепить данное ее состояние.
Бесспорно! — Мама вновь повернулась к папе: — А в результате чего она
обратилась к этим проблемам?
— Я рассказал ей о некоторых сложностях, которые имели место... в
далеком прошлом. В очень далеком. — Папа опять стал изъясняться
вполголоса, как в музее возле картин. — Но она сама, без всякой моей
подсказки, перекинула мост от конкретных событий к логическим выводам.
К логическим выводам! — заключил папа, надеясь, что такая концовка
уведет маму от сути того, что именно мы с ним обсуждали. — Еще одна
новая стадия!
— Это бесспорно, — согласилась с ним мама. — Если так пойдет, она
вскоре сможет учиться в самой обыкновенной школе... В нормальной. Вот
тебе и отсталое развитие!
Моя неожиданная реакция на папину исповедь тоже попала в историю
болезни. И была таким образом увековечена.
О том, что я посмела представить себе возможность их развода, мама
словно забыла. И это при ее самолюбивом характере! Я еще раз поняла, что
мое выздоровление было для них важнее всего. Важнее любых жизненных
ситуаций и самолюбий.
Но никто так упорно, как бабушка, не стремился убыстрить процесс
моего замедленного развития.
Пределом мечтаний для мамы и папы было вначале мое умение
нормально ходить. А бабушка решила научить меня прыгать через
веревочку.
— Говорят, выше себя не прыгнешь. Вы хотите опровергнуть эту истину?
— с некоторым опасением сказала мама.
— Ничего страшного, — ответила бабушка.
Врачи обучали меня ясно произносить короткие фразы. Бабушка же
заставляла заучивать головоломные скороговорки, а о том, что «Карл у
Клары украл кораллы», я должна была сообщать ей, словно
уполномоченному угрозыска, ежедневно.
— Вы хотите овладеть программой максимум! — продолжала словесно
рукоплескать мама. — Мы этого никогда не забудем.
Бабушка заставляла меня, как альпинистку, не интересоваться холмами,
а стремиться к вершинам, которые издали кажутся недоступными.
Она занималась этим целыми днями — и я могла бы возненавидеть ее.
Но бабушка сумела убедить меня, как, наверное, убеждала не раз
тяжелобольных, что там, за труднодоступными хребтами, долина спасения.
Она уверяла меня в этом без истерических заклинаний — спокойным
голосом медсестры, которая подходит к постели, взбивает подушку и дарит
надежду.
Когда бабушка впервые объяснила мне, что самое дорогое слово на свете
«мама», я стала называть ее «мамой Асей»: у бабушки было редкое имя
Анисия.
— Крестьянское имя, — объяснила она.
Руки у нее тоже были крестьянские — иссеченные линиями, черточками,
морщинами и морщинками.
Бабушка не раз пыталась убедить меня, что мама у каждого может быть
только одна. Поэтому лучше уж называть ее так, как принято: бабушкой.
Я пересказала все это маме: мне было интересно, что она думает по
данному поводу. Мама думала то же, что я:
— Она подарила тебе, как пишут в газетах, «второе рождение». И поэтому
можешь называть ее матерью. Она заслужила. Это бесспорно! — Мама
любила слово «бесспорно». И в самом деле никто спорить с ней не решался.
— Я сама буду называть ее твоей «мамой Асей». Ты хочешь?
Исполнение любых желаний — привилегия больного ребенка. Но я
возразила:
— Ты называй, как раньше... Анисией Ивановной.
— Хорошо. Раз ты хочешь! Только не волнуйся. Главное, не расходовать
нервы!
— Вы вспомните меня мальчиком! — умолял в зале мужчина,
выдавленный из тюбика. — Разве я когда-нибудь огорчал вас?
Я вдруг услышала его мать. Она счастлива была сообщить всем, что в
детстве ее сын был хорошим, — и напрягла голос.
Дебелая женщина от неожиданности ввалилась обратно в зал.
Судья, похожая на школьницу, склонившись над столом, как над партой,
что-то разглядывала. Издали мне показалось, что это была фотография.
Рядом на столе лежала ее раскрытая сумочка, из которой высовывался
кончик платка. И я почему-то подумала, что она тайком разглядывала
своего собственного сына. Наверное, маленького. И, может быть,
размышляла о том, как это мальчики, которые в детстве не огорчают,
потом...
Я сама часто об этом думала. И когда видела лицо негодяя, всегда
старалась представить себе, каким это лицо было в самом начале жизни.
О том, что я не должна расходовать свои нервы, что человека,
перенесшего родовую травму, травмировать больше нельзя, у нас в доме
знали все. Это провозглашалось мамой и папой почти ежедневно. И я
научилась искусно пользоваться своим «родовым состоянием».
Речь, разумеется, идет о том времени, когда фундамент моего здоровья,
закладываемый, как говорил папа, в материнском чреве и разрушенный в
первый момент моего появления на свет, был фактически уже
восстановлен. Но я делала вид, что он все еще находится, так сказать, в
процессе восстановления. Болезнь предоставляла мне немалые льготы. И я
с ними расставаться не торопилась,
Мое настроение все обязаны были учитывать. Как только родители не
хотели выполнять какие-либо мои просьбы, состояние моего здоровья
трагически ухудшалось: я начинала спотыкаться на ровном месте и
невнятно произносить слова. Мама и папа вперегонки уверяли, что у них и в
мыслях не было наносить удар по моему душевному состоянию. И только
бабушка все понимала. Она жалела родителей: «Ничего страшного!» Но не
выдавала меня.
Когда мне исполнилось тринадцать лет, в меня влюбился самый
перспективный из начинающих хулиганов нашего двора — Федька-След.
Прозвище он получил потому, что каждую свою угрозу сопровождал
предупреждением:
— Я тебя по любому следу найду!
Как можно отыскать конкретного человека по любому следу — это было
Федькиной тайной.
Я тогда еще не совсем оправилась от своей травмы. И если кто-нибудь
позволял себе хотя бы усмехнуться по поводу моей неловкой походки или
не вполне складной речи, Федька тут же обещал отыскать этого человека
«по любому следу».
Родители одного из тех, кого он уже отыскал, истерически сообщили об
этом моим родителям.
— Почему он мстит за тебя? — напрямую спросила мама.
— Влюблен. Вот и все.
— Вот и все?!
Узнав о моем первом женском завоевании, мама очередной раз
возликовала. Она всегда беспокоилась о том, могут ли у неполноценных ног
ее дочери быть поклонники. Утешая себя, мама говорила, что в моих
недугах, бесспорно, есть некоторая пикантность, интригующая
непохожесть.
— Разумеется, — привычно соглашался с ней папа. — Отклонение от
нормы — это самобытность, оригинальность.
Хотя пилюлями, массажами и консультациями профессоров они все же
старались лишить меня той интригующей самобытности, в которой, как в
бороде Черномора, таилась моя главная сила.
На примере Федькиной страсти я поняла, что истинные чувства
действительно понятны без слов: он ни разу не обмолвился о своей
слабости. Но свою силу устремил мне на помощь: почти все мальчишки во
дворе оказались избитыми.
— Мы можем быть спокойны: ничто человеческое не обойдет Верочку
стороной! — восхищалась мама. — Бесспорно... Теперь уже окончательно и
бесспорно!
— Это взаимное или одностороннее чувство? — вполголоса
поинтересовался папа.
— Одностороннее, — ответила я.
— Всегда стремись к этому! Одностороннее движение даже на улице
безопаснее, — поощрила меня мама. — Пусть лучше они... — Она взглянула
на папу. — Пусть лучше они вкладывают эмоции и выкладывают свои
нервные клетки!
Когда я вышла в другую комнату, бабушка еле слышно сказала:
— Почему надо так восхищаться? Это же оскорбительно.
— Человек, в котором подозревают какую-либо неполноценность, —
тоном экскурсовода начал разъяснять папа, — всегда хочет опровергнуть
подобное мнение. И это — сильнейший стимул!
— А в ком подозревают неполноценность? — уже обычным голосом, не
боясь, что я услышу, и продолжая свой метод лечения, спросила бабушка.
Мамина мама, узнав о Федькиной страсти, сказала по телефону, что в мои
годы она еще никому не позволяла «себя любить».
— К сожалению, он драчун, — сказал папа таким тоном, будто речь шла о
женихе, которому придется отказать от дома. — Драчун, к сожалению.
— Разве Айвенго или, допустим, герои... «Всадника без головы» не были
драчунами? — вопросом ответила бабушка. — Они, насколько мне
помнится, оставались без головы, потому что дрались за честь. И Федька не
лезет в бой просто так... Ничего страшного!
— Плохой человек не может полюбить в столь раннем возрасте. И с
такой силой! Анисия Ивановна, как всегда, абсолютно права, — вступила в
разговор мама.
Папа сник, поскольку мамины аргументы были для него
неопровержимыми. Меня это порой раздражало. Но в данном случае я
согласилась с мамой... Однако, когда через несколько дней обнаружилась
очередная Федькина жертва и ее родители не пожелали молчать, папа, как
бы беря реванш, заявил:
— Надо с ним всерьез побеседовать. Побеседовать надо...
— О чем? — поинтересовалась бабушка.
— О том, что его любовь должна быть бескровной
— Разве он кому-нибудь говорил про любовь?
— Не говорил... Но о ней знает весь двор! И Вера выглядит вроде бы
соучастницей. Ведь из-за нее он угрожает... И даже в отдельных случаях
бьет. Даже бьет!
— Это скверно, — согласилась бабушка.
Приободренный папа выдвинул новое предложение:
— Надо побеседовать с его родителями. Все, знаете, были молодыми. Все,
знаете, были... И помнят!
Тут я вошла в комнату, где происходил разговор, заплетающейся
походкой.
Увидев это, папа взметнул руки вверх:
— Я не буду беседовать. Не буду. Обещаю тебе! Только не трать свои
нервы.
Я начала отходить. И проследовала к окну уже более твердым шагом.
Тогда, обращаясь ко мне, папа громко продолжил:
— Пойми... его интимное чувство не должно производить шум на весь
дом.
— Почему?! — вмешалась в разговор мама. — Пусть все знают, что в
нашу Верочку можно влюбиться.
— Разве в этом кто-нибудь сомневается? — тихо сказала бабушка. — Она
имеет защитника? Ничего страшного!
— По крайней мере для нее, — согласилась мама. — Анисия Ивановна,
как всегда, права! — И крикнула в папину сторону: — Просто не верится,
что ты ее родственник!
Я подошла к двери, возле которой вновь дымила не замечавшая меня
женщина.
— Зачем же делить-то, Коленька? — донесся близкий к рыданию голос
матери. — Я ведь скоро...
— Всех нас в два раза переживет! — отреагировала дебелая женщина.
И я поняла, что мужчина, выдавленный из тюбика, — ее раб.
— Что там делят? — спросила я.
Она была до того возбуждена, что выдохнула дым мне в лицо:
— Что делят в суде? Имущество!..
У бабушки была старшая сестра. Ее звали тетей Маней.
— Старшая, но не старая, — объяснила мне бабушка. — Выглядит куда
лучше меня: всю жизнь прожила в деревне. Воздух такой, что пить можно. И
спокойная она. Ни разу криком себя не унизила.
— Как раз это опасней всего, — включился в разговор папа. — Опасней
всего... Человеку необходимо разрядиться: крикнуть, выругаться, что-
нибудь бросить на пол. Иначе происходит внутреннее самосожжение.
Внутреннее самосожжение происходит...
Грамоте тетя Маня научилась поздно, уже в зрелом возрасте — и
поэтому очень любила писать письма. Бабушка читала их вслух, а мама и
папа делали вид, что им интересно.
Мама иногда даже переспрашивала:
— Сколько... сколько она собрала грибов?
Бабушка находила соответствующее место в письме.
— Сколько она наварила банок варенья?
Бабушка вновь водила пальцем по строчкам.
Но вообще-то мама могла бы и не интересоваться этими цифрами,
потому что все засоленные тетей Маней грибы и все сваренное ею варенье
отправлялось по нашему домашнему адресу.
— Куда нам столько?! — ахала мама И аккуратно размещала банки в
холодильнике и на балконе.
Всякий раз, когда потом грибы и варенье появлялись на столе, мама
подчеркивала:
— Это от тети Мани!
Когда же к папе приходили друзья — и грибы становились «грибками»,
— за здоровье тети Мани провозглашались тосты. Бабушке это было
приятно:
— Не зря Манечка спину гнула. Удовольствие людям!
Когда бабушка была маленькой, они с тетей Маней осиротели.
— Она, старшая, вы
́
ходила меня... Не дала росточку засохнуть без тепла и
без влаги.
— Как ты мне?
— Ты бы и без меня расцвела: тут и мать, и отец, и профессора!
— Нет... Без тебя бы засохла, — с уверенностью ответила я.
По предсказаниям бабушки, ее старшая сестра должна была «пить
воздух» лет до ста, если не дольше.
Но тетя Маня стала вдруг присылать письма, в которых точным был
только наш адрес. Бабушку же она называла именем их давно умершей
матери, сообщала, что грибы и ягоды растут у нее в избе, прямо на полу... из
щелей.
Потом ее сосед из деревни написал нам, что у тети Мани сосуды в голове
стекленеют, но что сквозь это стекло ничего ясно не разглядишь. Так ему
врачи объяснили.
— Стало быть, у Мани склероз, — сказала бабушка. И добавила, первый
раз изменив себе: — Очень уж это страшно. И воздух, стало быть, не помог.
— В молодости, чем больше родных, тем лучше, удобнее. Все
естественно, прямо пропорционально, — сказала мама. — А в старости,
когда наваливаются болезни, возникает нелогичная, обратно
пропорциональная ситуация: чем больше родных, тем меньше покоя.
— Но ведь и мы тоже можем стать пациентами своих близких, —
ответила бабушка. — На кого болезнь раньше навалится, никому из нас не
известно!
Мама при всей точности своего мышления как-то этого не учла.
— Никогда не кричала она. Вот и результат, — пробормотал папа. — Вот
и результат.
— Что поделаешь... Надо ехать в деревню, — сказала бабушка. И вроде бы
извиняясь, обратилась ко мне: — Ничего страшного: вас будет трое. А она
там одна.
И сразу пошла собираться.
Я почувствовала, что не может быть нас троих... без нее, без четвертой.
Я почувствовала это — и уже не нарочно споткнулась на ровном месте.
От волнения я стала, сбиваясь, проглатывая слова, объяснять, что без
бабушки все погибнет, разрушится.
Мама и папа панически испугались.
— Придумайте что-нибудь! — невнятно просила я их.
— Мы умоляем тебя: успокойся! — вталкивая мне в рот пилюлю и
заставляя запить ее водой, причитала мама. — Выход, бесспорно, есть. Пусть
тетя Маня приедет сюда. К нам... Хоть сегодня!
— Разумеется, мы будем рады, — привычно поддержал ее папа. — Мы
будем рады.
С этой вестью я заспешила в коридор, где бабушка собирала вещи.
Мама и папа примчались вслед за мной.
— Тетя Маня будет жить здесь, в нашем доме, — торжественно объявила
мама. — То, что дорого вам, дорого и нам, Анисия Ивановна! Это бесспорно.
Иначе не может быть.
— Я тоже поеду в деревню... Мы вместе привезем тетю Маню.
— Пожалуйста! — с ходу разрешила мне мама. — Только не волнуйся.
Тебе нельзя расходовать нервы.
Никогда еще не была я так благодарна своим родителям.
А они, перепуганные моей истерикой, через день собрали консилиум.
Когда меня показывали очередному профессору, мама обязательно
шепотом предупреждала, что это «самое большое светило». На сей раз
«самые большие светила» собрались все вместе. Просто слепило в глазах!
Со мной беседовали, меня разглядывали, ощупывали, будто собирались
купить за очень высокую цену.
Это происходило у нас в квартире, поскольку за годы моей болезни все
светила стали, как говорится, друзьями дома. Мама считала это своей
психологической победой, потому что к каждому профессорскому характеру
ей удалось подобрать ключ.
Потом мы с мамой и папой — бабушка при этих исследованиях никогда
не присутствовала — вышли в смежную комнату.
Мы ждали приговора... А получили награду. Консилиум объявил, что
практически я здорова. Но что поехать на время в деревню было бы хорошо!
— Это нанесло бы последний удар по ее болезни, — сказал,
поощрительно поглаживая меня по макушке, один из друзей нашего дома.
На следующий день мы с бабушкой отправились наносить последний
удар.
Девять с половиной часов мы ехали на поезде, а затем, от станции до
деревни, еще три часа на попутном грузовике.
Мы обе сидели в шоферской кабине.
— Ничего страшного: в тесноте, да не в обиде, — сказала бабушка.
Когда мы с грохотом въехали на главную улицу села, шофер налег
спиной на сиденье и нервно затормозил: он не ожидал, что на улице будет
столько людей.
Люди возвращались с кладбища... Только что похоронили тетю Маню.
Холмик с крестом был перед оградой, возле дороги. Рядом с двумя
другими крестами. На самом кладбище уже не было места.
Тетя Маня лежала под зеленой, накренившейся крышей дуба, который
был весь в зияющих ранах, нанесенных годами.
Бабушка не плакала. Она смотрела поверх могилы, на дуб, так долго, что
я тронула ее за руку.
— Что ж телеграмму-то не послали? Не дали проститься, — сказала она.
Оказалось, что сосед тети Мани, знавший наш адрес, уехал куда-то на
месяц к родным. Так получилось.
— Меня пусть тоже сюда... — с ка з ала бабушка. — Я с Маней хочу. Не
пугайся моих слов. Но запомни их, ладно?
Бабушка произнесла это так мягко и просто, что я не испугалась. Хотя о
смерти до той поры никогда не думала.
— Пока молода, считаешь себя бессмертной. Ты так подольше считай,
подольше... А я сейчас вот как решила: когда что почувствую, сразу сюда
уеду, в деревню. Поближе к этому дубу. Ты меня не удерживай.
Несколько дней мы не могли послать маме с папой письмо: не знали, как
написать о смерти.
Пока мы откладывали, почтальонша принесла нам письмо от мамы.
— Соскучилась, — сказала бабушка. И стала искать очки.
Но я остановила ее, надорвала конверт и принялась читать вслух:
— «Дорогая Анисия Ивановна, добрый наш гений! Спешу написать вам
лично, а Верочке пошлю письмо завтра...»
Я остановилась. Но бабушка махнула рукой:
— Читай... Ничего страшного.
— «Спешу потому, что после вашего отъезда не спала всю ночь: думала,
думала. Наутро поехала советоваться с профессорами, — и в результате
возникла ситуация, о которой мне нелегко написать. Но я, бесспорно,
должна это сделать. Во имя самого главного для меня и для вас: во имя
Верочкиного здоровья! Я подумала — и врачи, увы, со мной согласились, —
что постоянное общение со столь больным и, простите за эти слова, не
вполне нормальным человеком, каким является сейчас тетя Маня, может
пагубно отразиться на Вериной нервной системе. Можем ли мы, имеем ли
право подвергать риску плоды нашего и прежде всего вашего многолетнего
стоического труда? Можем ли перечеркнуть ваши и наши жертвы?
Согласитесь: бесспорно, нет. Поверьте, что рука моя сейчас сама собой
останавливается, отказывается писать дальше... И все же я обязана
преодолеть эту трудность и сказать, что приезд к нам тети Мани
нежелателен, а точней, невозможен. Не могу и никогда не сумею
свыкнуться с мыслью, что вы, Анисия Ивановна, вынуждены будете
остаться там, в деревне, рядом с больной сестрой, но...»
Я поняла, что бабушка больше уже не нужна была маме. Ведь консилиум
решил, что практически я здорова.
«Практически...» Почему-то именно это слово, возникнув в памяти,
настойчиво повторялось, не уходило.
Мама не знала о смерти тети Мани — и немного поторопилась. Она
имела возможность выглядеть красиво. И лишилась этой возможности. А
ведь желание выглядеть красиво во всех случаях жизни — одна из главных
человеческих слабостей. Так мне казалось.
На том решающем консилиуме врачи говорили, что в деревне по моей
болезни будет нанесен последний удар. Мама нанесла удар... Не по болезни:
ее ведь практически уже не было. А по моей вере в то, что люди за добро
платят добром. По крайней мере близкие мне люди, которых я хотела не
только любить (я их очень любила!), но и уважать тоже.
Удар этот не был последним... Я бы даже сказала, что он был первым.
Когда человек ощущает свою вину, это кое-что искупает. Но вести себя
естественно он не в силах.
Мама встретила нас с бабушкой слишком помпезно: цветы были во всех
углах комнаты и у мамы в руках. Даже папа протянул каждой из нас по
цветку.
Вспомнив про смерть тети Мани, которую она ни разу в жизни не видела,
мама принялась чересчур бурно восхвалять ее человеческие достоинства.
— Это было такое сердце! Такое сердце! — повторяла она, поглядывая на
пустые банки из-под грибов и варенья.
Каждым своим жестом и словом мама заглаживала тот просчет, которого
могло и не быть, если бы она не поспешила, если бы дождалась нашего
письма и узнала о кресте на холмике под неохватным, израненным дубом.
Мама упорно настаивала, чтобы мы ее «правильно поняли». Но я знала:
об этом просят тогда, когда поступают неправильно.
Наконец, очередь дошла до моего внешнего вида:
— Тебя узнать невозможно! Этот месяц в деревне просто преобразил
тебя.
— Месяц в деревне, — вполголоса подключился папа. — Так можно было
бы назвать оду в честь твоего окончательного излечения, если бы Иван
Сергеевич Тургенев уже не назвал так свою знаменитую пьесу. Если бы не
назвал...
— А знаешь, какой тебя ждет сюрприз? — вновь перехватила
инициативу мама. — Врачи разрешили тебе перейти в обычную,
нормальную школу. Правда, на один класс ниже... Но в нормальную!
Мама уже не просто «заглаживала», а старалась, чтобы мы,
ошеломленные новостями, вообще забыли о ее письме.
— Все знают, что детям и родителям лучше жить врозь. Тогда
сохраняются все чувства и отношения! — тоже «заглаживал» и заставлял
«забыть» охрипший мужчина в судебном зале. — А лишнего мне не надо!
Судья снова вынула из сумки, лежавшей на столе, фотографию,
взглянула на нее, опустила обратно и щелкнула замочком, чего я не
услышала.
Мама все делала обстоятельно и серьезно. Поэтому заглаживание вины
не ограничилось днем нашего возвращения из деревни. Мама сказала, что
на первый урок в «нормальную» школу меня должна провожать бабушка:
— Она в переносном смысле привела тебя к порогу этой школы. Пусть
так же будет и в смысле буквальном!
Взяв у бабушки фотографию тети Мани, мама увеличила ее и повесила
над бабушкиной постелью:
— Она вырастила вас, как вы Верочку. Это бесспорно!
Казалось, мама подслушала фразу, когда-то сказанную мной.
Несколько раз она спрашивала бабушку, не хочет ли та поехать в дом
отдыха. Бабушка не могла поехать в этот дом, как я не могла бы сесть за
руль мотоцикла: отдыхать она не умела.
Но постепенно чувство вины за письмо и радость от того, что я
выздоровела и ходила в «нормальную» школу, начали притупляться. Время
лишало эти события их остроты.
Мамина мама постоянно внушала по телефону, что я должна обладать
всеми качествами, необходимыми «гармонично развитому человеку».
Бабушка стремилась ликвидировать все последствия разрушений,
которым я подверглась в первый день своей жизни, а мамина мама
стремилась к гармонии.
— К примеру, любознательность... Великолепное качество! —
раздавалось из телефонной трубки. — «Любо знать» — вот откуда берет
истоки это понятие.
Вскоре, однако, я убедилась: важно, что
́
именно «любо знать» человеку.
В одну из освободившихся комнат нашего дома въехала шумливая
женщина, которая, видимо, решила провести почти весь свой «заслуженный
отдых» на скамейке возле подъезда. В первый же день она представилась
бабушке и мне, а потом стала с большой любознательностью
прислушиваться к нашим разговорам. Вечером же, когда я встретила маму,
возвращавшуюся с работы, и мы, поцеловавшись, направились к своему
подъезду, новая соседка преградила нам дорогу известиями, полученными
в результате ее любознательности.
— Анисия-то Ивановна — героиня! — сообщила она маме так, будто
знала бабушку с детских лет. — Сижу целый день и восхищаюсь: родить в
таком возрасте! И как ты, Верочка, ее называешь — это тоже удивительно...
— обратилась она и ко мне, как к старой знакомой. — Не просто мамой
зовешь, а «мамой Асей». Благодаришь, значит, за ее смелость: родить в
таком возрасте! Я вот бездетна... Сижу целый день и завидую!
Затем, проявляя еще бо
́
льшую любознательность, а может,
бесцеремонность, она спросила маму:
— А вы-то кем Вере приходитесь?
Мама ничего не ответила.
Она и после этого случая продолжала называть бабушку «добрым
гением», но делала это уже по инерции, без вдохновения.
Как раз в ту самую пору папе почему-то пришла в голову запоздалая
мысль устроить ужин для всех «светил», которые в течение многих лет
были друзьями нашего дома, но уже потихоньку переставали ими быть.
— Ты прав, — ответила мама. — Бесспорно, прав: они еще могут, тьфу-
тьфу, пригодиться.
— И поблагодарить надо, — опомнился папа. — И поблагодарить тоже.
— А как же? Бесспорно! Это само собой разумеется, — согласилась с ним
мама. И поправила золотистую подкову на голове, как бы уже готовясь к
приему.
Профессора-мужчины пришли с женами, а профессора-женщины, если у
них были мужья, с мужьями. Приглашены были и ближайшие
родственники. Собралось много людей, и все говорили о том, как они своим
врачебным искусством или своим сочувствием исцеляли меня. Я поняла,
что в такой ситуации не вылечиться было бы просто неудобно.
Чтоб отвлечь от себя внимание и восстановить справедливость, я
поднялась с бокалом, по стеклу которого прыгали лимонадные пузырьки, и
сказала, что если бы не бабушка, никакая медицина мне бы не помогла.
Я перевела стрелку — и вечер со стремительностью экспресса изменил
направление.
Светила, собравшиеся за столом, не просто лечили меня — они меня
«наблюдали». Во всех справках, которые я получала, так и было написано:
«наблюдается» там-то, с такого-то года. Но заодно они, разумеется,
«наблюдали» и бабушку, которая неизменно была рядом со мной.
Все сразу об этом вспомнили и под влиянием выпитого заговорили с
нарочитой целеустремленностью.
Повзрослев, я заметила, что если у застолья есть эпицентр, есть какой-
нибудь главный объект, вечер проходит успешно. Его участники не
распыляются; рассеянный огонь, который редко приводит к победе,
уступает огню прицельному. О главный объект, как о некий точильный
камень, все шлифуют свое остроумие, глубокомыслие.
Заговорив о бабушке сперва слишком бурно, наши гости стали
постепенно трезветь. Бабушкино лицо, ее высокий, всегда загорелый лоб,
белые, без малейших оттенков волосы да и сама неожиданность
присутствия такого человека в говорливом, чересчур раскованном
обществе — все это заставило перейти от застольной велеречивости к
более застенчивой искренности.
И хотя каждый поднимавшийся с места произносил слово «тост», рюмки
и бокалы не осушались, — просто беседовали о бабушке, о ее «человеческом
подвиге». Так прямо и говорили: о подвиге.
Чтобы не слышать всего этого, она ушла на кухню мыть посуду, готовить
чай.
Мамина мама, тоже считавшая себя гостьей, на кухню вслед за бабушкой
не удалилась. Она любила руководить, и невозможность проявить эту свою
способность ее томила. В начале вечера она пыталась объяснить, что
́
какой
вилкой и что после чего надо есть. Но к ее голосу не прислушивались:
застолье имело свои эпицентры — сперва меня, а потом бабушку.
В конце концов, чтобы обратить на себя внимание, мамина мама пошла
на решительный шаг.
— У меня создалось впечатление, что я присутствую на открытии
памятника, — внезапно заявила она.
Не все уяснили себе, что это моя вторая бабушка, и принялись возражать
ей, как посторонней.
— За такое подвижничество и надо воздвигать памятники! —
произнесла жена светилы-консультанта, не столько, мне показалось, думая
о памятниках, сколько о том, чтобы уязвить мамину маму, которая ее
раздражала.
— Памятники надо ставить при жизни, — включился в разговор папа. —
Пусть не из гранита, не из бронзы, пусть «нерукотворные»... Но при жизни.
Чтобы человек мог...
Мама дотронулась рукой до своей золотистой подковы, и папа умолк.
Приняв осанку владычицы, не допускавшую возражений, мама
поднялась и сказала:
— А у меня «средь шумного бала, случайно»... создалось впечатление, что
Верочка — круглая сирота.
Едкая мамина ирония бессильно пыталась выдать себя за юмор.
Когда вечер еще был похож на открытие памятника, папа, помня, что он
цитирует маму — а цитировать ее он очень любил! — сказал о моем
«втором рождении» с помощью бабушки.
— Человек рождается лишь однажды. Медицина, бесспорно, со мной
согласится, — задним числом одернула его мама, отрекаясь от своей давней
мысли.
Она вновь перевела стрелку, — и вечер устремился в третьем
направлении: за праздничным столом люди податливы и сговорчивы. Все
стали пить за моих родителей. Именно пить, потому что тосты были
краткими, мимоходными, а рюмки и бокалы осушались до дна.
Наступил момент, когда гости забыли уже о том, что вечер носит, так
сказать, тематический характер, что он посвящен определенному событию.
Воспользовавшись этим, я незаметно вышла из-за стола и отправилась на
кухню помогать бабушке.
С того вечера все изменилось в нашей семье.
Быть может, прояснился истинный взгляд мамы на отношения, которые
давно возникли между мною и бабушкой. Эта истина раньше искажалась
практической потребностью в бабушкиных заботах обо мне.
«Нужен тот, кто нужен? Нужен, пока нужен?..» Неужели мама
руководствовалась этой философией? Нет, не философией — зачем такие
красивые понятия! — а просто-напросто выгодой?.. Мне трудно было
понять все это. Но я видела: то, что раньше ставилось бабушке в заслугу,
теперь вызывало укор.
Мама создавала в доме угодную себе атмосферу. И делала это успешно,
ибо была специалистом в области «окружающей нас среды».
О бабушкином «подвиге» старались не вспоминать: «Хватит уже!»
Но ведь так можно забыть о любом подвиге, сперва воспользовавшись
его результатом? — думала я.
Я вспомнила бывшего фронтовика с протезом вместо ноги, которому в
парикмахерской не хотели уступать очередь, хотя возле кассы было
написано, что «инвалиды имеют право...» Неужели и его подвиг кем-то
забыт?
Люди не должны жить минувшим горем, — думала я. — Но тех, кто спас
их от горя, они обязаны помнить!
Как иные историки стараются не вспоминать неугодные им события — и
тогда становится непонятным, что из чего «проистекло», — так и мама
старалась перечеркнуть мою «родовую историю»: я всегда была здоровой,
нормальной, училась в обычной школе.
Вместе с тем мама невзначай вспомнила, что именно бабушка повезла ее
в тот родильный дом, где акушерка замешкалась и где произошло то самое
знаменитое кровоизлияние «ограниченного характера».
— Бесспорно, никто здесь не виноват, — объяснила мама. — Но надо же...
Такая трагическая случайность. Сколько в городе родильных домов?!
Я продолжала называть бабушку «мамой Асей». Не для того, чтобы
дразнить маму, а просто потому, что привыкла и по-другому уже не могла.
Решив с этим покончить, мама вернулась к проблеме моего второго
рождения.
Для начала она попыталась доверительно, «как с родной дочерью»,
поговорить со мной. Но интимные беседы у мамы не получались: слишком
ясно обозначались в ее тоне и голосе повелительные, жесткие ноты.
— Я имею дело с природой. Можно сказать, защищаю ее! — сказала мне
мама. — И у себя дома тоже хочу выступить на защиту ее законов. Пойми, их
нельзя попирать. Человек рождается лишь однажды и матерью должен
называть лишь одну — родившую его! — женщину. Иначе в родственных
отношениях возникает хаос. Нарушаются законы семейной природы...
— Эти законы нельзя менять в зависимости от выгоды, — ответила я. —
Ты же сама, первая... сказала про «второе рождение». Когда тебе было
нужно. Вспомни!
Но именно вспоминать маме меньше всего хотелось.
— Раньше ты говорила об этом втором рождении, — продолжала я, — в
романтическом смысле, а теперь нарочно говоришь только в
физиологическом.
— Какой словарный запас! Ты совершенно здорова! — в ответ
восхитилась мама.
Вскоре бабушка, как раньше, сама попросила, чтобы мамой я называла
только маму, а ее называла бы бабушкой:
— Так будет лучше.
Но я и ее не послушалась.
Месяцы, поспешно соединившись, становились годами... В обыкновенной
школе я одерживала необыкновенные, если учесть мое «родовое прошлое»,
успехи.
— Деятели мировой культуры, детство которых прошло в
неблагоприятных условиях, — тоном экскурсовода объяснял папа, — потом
становились особо выдающимися эрудитами: духовный голод вызывал
повышенный духовный аппетит. Повышенный аппетит... Что-то похожее
происходит с тобой.
Впечатления детства, когда я была отсталой, и впечатления отрочества,
когда я стала передовой, как-то переплелись. Я уже не могла провести
между ними четкой границы... Как и в своих воспоминаниях, которые,
словно выскакивая из засады, атаковали меня в коридоре суда. То, что я
помнила сама, беспорядочно перемешалось с тем, что я слышала от
родителей и от бабушки.
Я знала, что самая отчаянная борьба — это борьба за существование. В
ней порою не выбирают средств... Мама боролась за свое существование в
качестве моей единственной матери. И средств в борьбе за эту монополию
не выбирала.
На беду, с годами у меня стало появляться все больше тайн. Взрослым
часто свойственно из лучших намерений, в «воспитательных целях»,
выдавать секреты своих воспитуемых. Бабушка не выдала меня ни единого
раза. И свои тайны я несла к ней. Бабушка обладала редким умением
слушать других. Редким потому, что для этого надо хоть на время
отрекаться от себя самого. Часто, слушая чью-либо горькую исповедь, люди
сразу же примеряют ее на свою жизнь, то есть думают в этот момент о своей
судьбе и мысленно радуются тому, что несчастья, коснувшиеся или
истерзавшие собеседника, их обошли стороной. Для бабушки же события
моей биографии были гораздо важнее, чем все, что происходило в ее
собственной жизни. Поэтому советы ее, ненавязчивые, застенчивые, не
были замутнены какими-либо личными интересами или соображениями.
Одной из моих главных тайн был Федька-След... Инерция репутаций
очень устойчива, почти непреодолима: хоть Федька давно уже не извергал
ни грома, ни молний, его продолжали считать грозой нашего дома.
Когда однажды мама заметила из окна, что Федька прикоснулся губами к
моей щеке, этот факт сошел в историю нашей семьи, как «поцелуй
хулигана».
— Почему хулигана? Я сама подставила щеку!
— Бесспорно... Я этому не удивляюсь! — забыв о своей осанке,
заметалась по комнате мама. — Ведь еще в младенческие годы ты узнала о
том, что твоя бабушка целовалась в неполных семнадцать лет. То есть не
достигнув совершеннолетия! Загрязнение окружающей среды в тысячу раз
безопасней, чем загрязнение среды внутренней. Чем загрязнение юной
души! Подобными вот рассказами старших...
— Не смей обижать бабушку! — твердо сказала я. — Хорошо, что ее нет
дома. Не вздумай при ней...
— И ты еще будешь ставить условия?! — громким голосом неправого
человека продолжала мама. — После того, что я видела? Я уверена, что это
она... именно она внушила тебе в раннем детстве, что мы с папой должны
развестись!
— Ты же так радовалась этой мысли?
— Я радовалась признакам выздоровления. Твоя судьба была для меня
дороже личного счастья!
— Так за эти признаки... за то, что они появились... за то, что перестали
быть признаками, поклонись в ноги бабушке!
— Ты с ума сошла. А профессора? А лекарства? Она разлучит нас!
Бесспорно... Это случится!
Самое страшное, когда человек перестает быть самим собой. Мама в тот
день перестала. А, может, наоборот... она стала собой, поскольку моя
минувшая болезнь уже не мешала ей это сделать?
Не дожидаясь, пока бабушка нас с ней разлучит, мама решила забежать
вперед, принять меры. Или я несправедлива и выдаю стечение
обстоятельств за проявление злой, преднамеренной воли?
Точней сказать, речь идет об одном обстоятельстве. Об одном... Но
переполнившем сосуд противоречий, который становился в нашей семье
все более наполненным и тяжелым.
Когда я была в девятом классе, учительница литературы придумала
необычную тему домашнего сочинения: «Главный человек в моей жизни».
Я написала про бабушку.
А потом пошла с Федькой в кино... Было воскресенье, и у кассы,
прижимаясь к стене, выстроилась очередь. Федькино лицо, по моему
мнению и по мнению бабушки, было красивым, но всегда таким
напряженным, будто Федька изготовился прыгать с вышки вниз, в воду.
Увидев хвост возле кассы, он прищурился, что предвещало готовность к
действиям чрезвычайным. «Я тебя по любому следу найду», — говорил он,
когда был мальчишкой. Стремление добиваться своих целей немедленно и
любой ценой осталось опасным признаком Федькиного характера.
Стоять в очереди Федька не мог: это его унижало, ибо сразу присваивало
ему некий порядковый номер, и, безусловно, не первый.
Федька рванулся к кассе. Но я остановила его:
— Пойдем лучше в парк. Такая погода!..
— Ты точно хочешь? — обрадовался он: тут уж не надо было стоять в
очереди.
— Никогда больше не целуй меня во дворе, — сказала я. — Маме это не
нравится.
— А я разве...
— Под самыми окнами!
— Точно?
— А ты забыл?
— Тогда уж я имею полное право... — изготовился к прыжку Федька. —
Раз было, значит все! Тут уж цепная реакция...
Я повернула к дому, поскольку свои намерения Федька осуществлял
любой ценой и на долгий срок не откладывал.
— Ты куда? Я пошутил... Это точно. Я пошутил.
Если люди, не привыкшие унижаться, должны это делать, их становится
жаль. И все-таки я любила, когда Федька-След, гроза дома, суетился возле
меня: пусть все видят, какая я теперь полноценная!
Федька умолял пойти в парк, обещал даже, что не поцелует меня больше
ни разу в жизни, чего я от него вовсе не требовала.
— Домой! — гордо сказала я. — И повторила: — Только домой...
Но повторила уже растерянно, потому что в эту минуту с ужасом
вспомнила о том, что оставила сочинение «Главный человек в моей жизни»
на столе, хотя вполне могла бы сунуть его в ящик или в портфель. Что если
мама его прочтет?
Мама уже прочла.
— А кто я в твоей жизни? — не дожидаясь, пока я сниму пальто, голосом,
который, словно с обрыва, вот-вот готов был сорваться в крик, спросила
она. — Кто я? Не главный человек... Это бесспорно. Но все же какой?!
Я так и стояла в пальто. А она продолжала:
— Больше я не могу, Вера! Возникла несовместимость. И я предлагаю
разъехаться... Это бесспорно.
— Нам с тобой?
— Нам?! Ты бы не возражала?
— А с кем же тогда? — искренне не поняла я.
— С той, которую ты... — Ее голос был на самом краю обрыва. — Которую
ты, пренебрегая моими материнскими чувствами...
Всегда безупречно выдержанная мама, потеряв власть над собой,
зарыдала. Слезы часто плачущего человека не потрясают нас. А мамины
слезы я видела первый раз в жизни. И стала ее утешать.
Ни одно литературное сочинение, наверно, не произвело на маму такого
сильного впечатления, как мое. Она до вечера не могла успокоиться.
Когда я была в ванной комнате, готовясь ко сну, пришла бабушка. Мама и
ей не дала снять пальто. Голосом, который вернулся на край обрыва, не
стремясь что-либо скрыть от меня, она стала говорить сбивчиво, как
некогда говорила я:
— Вера написала... А я случайно прочла. «Главный человек в моей
жизни»... Школьное сочинение. Все у них в классе посвятят его матерям. Это
бесспорно! А она написала о вас... Если бы ваш сын в детстве... А? Нам надо
разъехаться! Это бесспорно. Я не могу больше. Моя мама ведь не живет с
нами... И не пытается отвоевывать у меня мою дочь!
Я могла бы выйти в коридор и объяснить, что прежде, чем отвоевывать
меня, маминой маме надо было бы отвоевать мое здоровье, мою жизнь, как
это сделала бабушка. И что совершить это по телефону вряд ли бы удалось.
Но мама опять зарыдала. И я притаилась, затихла.
— Мы с вами должны разъехаться. Это бесспорно, — сквозь слезы, но уже
твердо сказала мама. — Все сделаем по закону, по справедливости...
— Как же я без Верочки? — не поняла бабушка.
— А как же мы все... под одной крышей? Я напишу заявление. В суд! Там
поймут, что надо спасти семью. Что практически разлучаются мать и дочь...
Я напишу! Когда Вера закончит учебный год... чтобы у нее не было нервного
срыва.
Я и тут осталась в ванной комнате, не приняв всерьез угрозы насчет суда.
В борьбе за существование часто не выбирают средств... Когда я перешла
в десятый класс, мама, не боясь уже моего нервного срыва, выполнила свое
обещание. Она написала о том, что мы с бабушкой должны разлучиться.
Разъехаться... И о разделе имущества, «согласно существующим судебным
законам».
— Поймите: я ничего лишнего не хочу! — продолжал доказывать
мужчина, выдавленный из тюбика.
И тут я впервые услышала голос судьи.
— Судиться с матерью — самое лишнее на земле дело. А вы говорите: не
надо лишнего... — произнесла она бесстрастным, не подлежащим
обжалованию тоном.
«Нужен тот, кто нужен. Нужен, когда нужен... Нужен, пока нужен!» —
мысленно повторяла я слова, которые, как врезавшиеся в память стихи,
были все время у меня на уме.
Уйдя утром из дома, я оставила на кухонном столе письмо, а вернее,
записку, адресованную маме и папе: «Я буду той частью имущества, которая
по суду отойдет к бабушке».
— Тряпка... Ничего не смог доказать. Тряпка! — твердила, обращаясь в
глубь коридора, дебелая женщина.
Сзади кто-то дотронулся до меня. Я обернулась и увидела папу.
— Пойдем домой. Мы ничего не будем делать! Пойдем домой. Пойдем...
— судорожно повторял он, оглядываясь, чтобы никто его не услышал.
Бабушки дома не было.
— Где она? — тихо спросила я.
— Ничего не случилось, — ответил папа. — Она уехала в деревню. Вот
видишь, на твоей бумажке внизу написано: «Уехала в деревню. Не
волнуйтесь, ничего страшного».
— К тете Мане?
— Почему к тете Мане? Ее давно уже нет... Просто в деревню уехала. В
свою родную деревню!
— К тете Мане? — повторила я. — К тому дубу?..
Окаменевшая на диване мама вскочила:
— К какому дубу? Тебе нельзя волноваться! Какой дуб?
— Она просто уехала... Ничего страшного! — заклинал папа. — Ничего
страшного!
Он посмел успокаивать меня бабушкиными словами.
— Ничего страшного? Она к тете Мане уехала? К тете Мане?! К тете Мане,
да?! — кричала я, чувствуя, что земля, как это бывало прежде, уходит у меня
из-под ног.
«ЮНОСТЬ», No 2, 1979
Сон ушел, но открывать глаза не хотелось. Через свалявшуюся вату
спального мешка затылок ощущал твердь камня. Камень, видно, покоился
когда-то на дне реки, и терпеливый поток обточил его.
Через пятнистую захватанную марлю на входе в палатку Егор угадывал
осточертевший мир: низкое небо в грязно-серой рванине туч, безнадежный
мелкий дождь, поваленный гнилой частокол неведомо когда скочевавшего
наслега, залитое, обращенное в черную лужу кострище, обесцвеченные
временем палатки. Веселого было мало. Маршруты и шурфовка
прекратились из-за погоды, рабочие оказались не у дел. Желанный отдых
быстро обернулся тоскливым бездельем, а дожди все не проходили, их
таскало по долине от устья вверх и обратно с постоянством длинного
маятника. Долгое ненастье переполняло мир.
Давным-давно — вчера, на той неделе, в прошлой жизни? — было
переделано и заброшено все, что обычно творится от скуки. Песни, карты,
коллективное кухонное творчество, обмен биографиями — все отошло, а
скука осталась и росла. С этим ощущением Егор и проснулся окончательно.
В палатке шел обычный ленивый спор, кому первому вылезать из
нагретого спальника и топить печку.
— Мне, между прочим, и так тепло, — говорил Женька, высунув из мешка
опухшее, затянутое черной щетиной лицо. — Я это дело в гробу видал. Кто
мерзнет, тот пускай и лезет на дождь!
— Сколько раз говорить, чтоб дрова с вечера в палатке держали, — глухо,
в вату, проговорил Виктор. — Ведь ясно, кажется, что за ночь они высохнут
и на дождь выходить не надо... — Он нашаривал очки у себя в изголовье и
напряженно морщился. — И вообще были же у нас дежурства...
— Мальчишки, ну как вам не стыдно, — взорвалась Наташка, — девочки
тут мерзнут, а вы палец о палец не ударите!
— Ты здесь последняя замерзнешь, — хихикнул Женька, — ишь,
подкожные-то какие!
— Хамло ты все-таки и ничего больше, — серьезно и зло сказала
Наташка, — закройтесь все, я сама затоплю.
Егор собрался было вылезти, но Наташка уже рывками расстегивала
пуговицы на мешке, и он охотно зарылся лицом в теплую темноту.
— Во-во! — весело прогудел Николай, скаля, наверно, по обыкновению
отличные яркие зубы. — На злых воду возят!
Наташка уже не злилась:
— Для тебя, Коля, на край света побегу, не то, что по дрова!
— Подожди, помогу. — Виктор неловко высвобождал голенастые ноги.
— Ладно уж, помощник! — на ходу отмахнулась Наташка, но он все же
поплелся за ней, и телогрейка болталась на нем, как на вешалке.
— Вот и ладно, — еще раз оскалился Николай, рывком сел и потянулся.
Мышцы на ребрах вспухли крыльями, сделав его еще шире, и опали. — А
что, зяблики, неплохо бы и пожрать!
За этими словами должен был последовать новый торг.
«Господи, куда бы сбежать?» — мелькнуло у Егора.
Вошла Наташка с охапкой дров. В них застрял куст голубики, от него
расходился сильный дурман сырой тайги.
— Вера, а Вера, — зашептал Егор.
Она лежала, отвернувшись к стенке, завесившись от всего мира широкой
пшеничной гривой волос. Дышала она ровно, но чувствовалось — не спит.
— Вера, пойдем погуляем?
— Отстань, — сказала она, не тая голоса, — не хочу, отстань.
— Ну, так будем мы сегодня жрать? — громко в пустоту спросил Женька.
Потекло занудное разбирательство — кто, да когда, да за кем.
Егор одевался, слушал и не верил, что это вот те самые ребята, которые
так здорово и щедро работали, которым он изо всех сил старался быть
ровней.
— Ладно вам лаяться, — сказал он, услышав знакомые медленные шаги у
входа. — Гости.
Пришел Василий, бригадир оленеводов.
Оленям нужно от жизни не то же, что людям, поэтому оленеводы со
стадом становятся отдельно от партии. Сейчас от лагеря до их чума было
поболее километра. Василий, единственный из них, наведывался в лагерь
не только по делу, но и просто так, сказать «Здорово!», и «Как жизнь?», и
«Чай не пьешь — какая сила!». Подолгу молчал и улыбался.
Пришел и сел, скрестив ноги в резиновых сапогах, спиной к печке, лицом
к людям. Сидит и улыбается, будто ждет чего-то интересного. И выждал.
Виктор с Женькой переглянулись, Виктор взял банку тушенки, которую
Наташка выставила, чтобы разогреть, и стал ковырять ее ножом.
— Ты хоть оботри банку, Витька, — удивленно сказала Наташка, но тот с
сердцем бросил консервы на землю.
— Надоело жвачку эту жевать, свеженького хочется, — вздохнул Виктор
и искательно взглянул на бригадира.
— Точно, — подхватил Женька, — печеночки бы, а то десны закровили.
— Нельзя больше олень актировать, — изобразил улыбку Василий, —
под груз уже не хватает. Проба набрали, половина горы вывозим...
В тусклой темной палатке поднялся общий галдеж, заглушая гул печки,
свист ветра, щелканье дождя по натянутому брезенту. Вырезка! Шашлык!
Возбужденные голоса пели о пьяной сытости, о сочном, душистом, горячем
мясе. Василий встал и ушел.
— Не заколет, — грустно сказал Виктора. — По глазам вижу...
— Ну, и пес с ним, — встрял Егор, — жратвы навалом. Не «Метрополь», но
жить можно.
— Свеженького хочется, — капризно затянула Наташка,
— А, может, сама заколешь? — не отступался Егор. — Ты же с оленями
только что не целуешься.
— Егорушка у нас жалельщик: птичек, зверушек не обижает,
заступается... Только есть не отказывается. — Наташка снова злилась.
Все было так. Егор смолчал, к тому же, на его счастье, вернулся Василий и
с ним еще сухонький старик, совсем маленький рядом с массивным
бригадиром. Оба стерли с лица воду и сели на корточки, спинами к печке,
переглядываясь, громко чиркая костяными ножнами по задубелым ватным
штанам.
— Гаврилой звать, — указал Василий на старика. Тот закивал, морщась
улыбкой. — Л учший у нас охотник. Покажет, где мясо добыть.
Старик ласково улыбался, внимательно всех разглядывал. Наконец он
опустил глаза и расстегнул куртку. Девчата даже взвизгнули: засаленная,
посеченная куртка старика оказалась подбита зимним горностаем, будто он
носил тайком царскую мантию.
— Очень хороший охотник, — пряча смеющиеся глаза, продолжал
Василий, — патрон усиленный хочет, черная гильза. Место покажет, где
зверя взять.
— О чем речь! — закричал Женька. — Коль, у нас эти, усиленные, есть?
Николай кивнул.
— Давай сюда, Гаврила, чайку ахнешь. А может, бражки?
— Чаю бы хорошо, — ответил старик.
— Сейчас нарисуем, это мы враз, кипятку не жалко.
Когда гости попили чаю и покурили, Женька, проерзавший все это время,
как на угольях, потолкал старика за колено и спросил:
— Где мясо-то, дед? Далеко идти?
— На Улахан-Тас надо подниматься.
— Ну?
— Дальше сиди, жди, где покажу...
— Долго?
Василий с Гаврилой посмеялись.
— Пока зверь не придет. Потом стрелять надо.
— Такие секреты мы сами знаем, — буркнул Николай, — бегаешь по
горам до потери пульса, а потом лапу сосешь.
Гаврила возражать не стал, спросил только:
— Ходить будешь?
— Надо бы, — подал голос Виктор, — вдруг чего обломится,
— Все, заметано, — заторопился Женька, — патроны против мяса, усек,
старик?
Охотник мельком взглянул на него и спросил, ни к кому специально не
обращаясь:
— Кто идет?
— Холодно там, — раздумчиво протянул Николай, — не очень-то
усидишь.
— Егорушка нам в котел ничего не носил! — радостно закричал Женька.
— Ему и канать!
— Правильно! — подхватила Наташка. — И вообще полезно
проветриться. А то как с маршрута придет, из лагеря ни ногой...
Последние слова она пропела, косясь на Веру. Та оторвалась взглядом от
огня в прорези печной дверцы и вымолвила низким звучным голосом:
— Правильно, пусть покажет, что он за мужчина.
— Правильно, а то не разобралась, — откровенно заржал Женька.
Егор и сам бы смеялся, а может, и шутил бы так, но раньше, давно, до
того, как их потянуло друг к другу в темноте. Они не прятали особенно
своего от остальных, да и как скроешь, но Егор не хотел, чтобы Женька
марал это нечистыми своими словами. Поэтому он ударил сразу и молча.
Женька ждал, а может, добивался драки, потому что уклонился, как человек,
ожидающий удара.
Их растащили со смешками, с удовольствием даже.
— Все, заметано, — переводя дыхание, сказал Николай, — идти тебе,
Егорша, а то Семенычу доложим о твоих художествах...
Смех смехом, а драка в лагере — дело серьезное. Андрей Семенович
властью начальника партии первым же вертолетом сплавит на базу, и
привет. Все — и Вера — смотрели на Егора глазами, полными азартного
жестокого любопытства. Они и стояли так: все стеной и он перед всеми,
прижатый к брезенту чужими, недобрыми взглядами. Егору стало страшно.
Он понял, что ребята нашли наконец общую цель — переломить его — и он
лишен выбора. Чтобы остаться своим и равноправным, ему придется
сделать то, что сам он считал глупым капризом.
Гаврила, до сих пор сидевший как бы в одиночестве, спросил, обращаясь
к Николаю:
— Кто идет?
— Я иду, — ответил Егор. — Когда трогаемся?
— Дождь кончится...
Егор облегченно вздохнул. Кончится дождь и с ним тягучая скука,
заставляющая блажить.
— Завтра, думаю, — продолжал старик.
— Подожди, старый, — спохватился Николай, — а это надолго?
Старик рассмеялся, совсем сузив глаза.
— Как бог даст. День туда, день обратно, там сколько — не знаю.
— Надо Семеныча спрашивать, — разочарованно протянул Виктор. —
Андрей Семенович! — закричал он, высунув голову на дождь. — Можно к
вам?
— Спрашивай! — гулко откликнулся голос извне, со стороны камералки.
— Тут на охоту сманивают, Андрей Семенович, на засидку!
— Это Гаврила, что ли? А надолго?
— Дня три. — Витька подмигнул Егору.
— Кто пойдет?
— Егорка.
— А, толстовец! Пусть проветрится. Егор! Три отгула условно! Пустым
вернешься — прогулы запишу!
Карабин Егор взял перед самым отходом. Николай неохотно расставался
с любимой игрушкой.
— Бери чуть правей и ниже, понял?
— Да понял, понял. — Егор с раздражением чувствовал, что и его
покоряет простота и совершенство этой хищной вещи.
— Дай я тебя провожу немного, — неожиданно сказал Семеныч, — у меня
туда все равно заложен маршрут.
— Идем, что ли? — спросил Гаврила. — Погоду бы не рассердить...
Солнце играло на мелкой ряби ниже переката, глубоко отражалось на
покойной воде плеса. Ярко-синее небо опиралось краями на дымчатые горы
со слепящими пятнами ледников.
— Идем, идем, за чем задержка? — Семеныч покрутился в своих
многочисленных ремнях и кивнул Егору: — Пошли!
Тропа, на которую они вышли, была очень стара. Собственно говоря, она
была всегда — единственный удобный путь с великой реки за горы, в
оленьи тундры. В давние времена таежные люди ходили здесь белковать и
гоняли оленей на летовки за хребет, а вслед им в те дни пробирались
поджарые и предприимчивые китайские приказчики. На злых гривастых
лошадках проходили степняки, беззаботные и беспощадные. Они по-
хозяйски оглядывали землю из-под рысьих малахаев. Проходили, торопясь,
артели русских промышленников-старателей, чтобы успеть вынести на
жилуху свое золото и свои жизни. А их ждали в узких местах одичавшие
старатели-хищники с топорами и берданами. Казаки ходили здесь за
ясаком, обдирая нищие наслеги. Ходили здесь старые исследователи, торя
путь нынешним. Ну, и в годы гражданской войны комсомольцы из города
проходили по душу генерала Пепеляева и возвращались, везя в нартах
промерзшие тела своих погибших. Это была много повидавшая тропа.
Охотники долго двигались по ней молча. Гаврила лежал в нартах. Его
олень, крупный, гладкий, с мощным седым подгрудком, шел легко и ровно.
Семеныч шагал, кидая вперед длинные ноги. У скальных выходов он
задержался ненадолго, черкая что-то на обороте аэрофотоснимков. Как
всегда, Егору стало хорошо на ходу. Цель его отодвинулась далеко, как
острая, ярко высвеченная вершина Улахан-Тас. Он шел и шел, втягиваясь в
ритм, сердце работало сильнее и сильнее, он чувствовал, как свежая горячая
кровь разливается по жилам, прогоняет тоску долгого сидения. Вокруг,
вверх и вниз по долине, было хорошо. Черная прозрачная вода неслась
навстречу мощно и мягко. По желтым косам прыгали серенькие кулики.
Комариные гущи тальника сползали к воде по отлогим берегам. Незаметно
над водой вырастали огромные подковы обрывов серого камня, и вода
неутомимо билась в них, завиваясь водоворотами. По обрывам росли
чахлые лиственницы с бородами прозеленевшего мха. По дну долины, на
упругих кочках, синела голубика, березовый стланик протянул повсюду
свои изогнутые черные ветки.
Егор чувствовал нечто странное внутри, блаженное тепло растворения в
природе, будто он разошелся песком в этой земле, солью в этой воде, дымом
в этом воздухе.
— Красиво, — сказал он, не обращаясь ни к кому.
— Плохая стала река, — охотно откликнулся Гаврила, — народу очень
много, уходить надо. Ваша партия сидит, очень много людей, как город. И
ниже сидят, и в вершину один залез, зимовать, что ли, собрался. Тесно
совсем, плюнуть некуда.
— Давайте чайку попьем, да я от вас отклонюсь, — сказал Семеныч. —
Вам дальше по долине, а я хребтом вернусь в лагерь.
Возня с костром доставляла ему заметное удовольствие.
— Гаврила, парня на место посадишь, сам куда подашься? — спросил
Семеныч, прощаясь.
— Никуда не пойду, ниже льда сяду, ждать буду.
— А ну, тогда сиди, сколько пороху хватит, — обратился Семеныч к
Егору, — мой совет — до победного. А то, чувствую, заклюют тебя ребята,
если вернешься пустой.
Они еще долго шли после того, как крошечная фигура начальника
затерялась на гребне хребта. Улахан-Тас незаметно подкрался к ним так
близко, что не стало видно его вершины. Зато из темных узких распадков
потянуло холодом от близкого уже льда.
— Здесь последние дрова, — сказал Гаврила. — Давай обедать.
— Я с тобой не пойду, — сказал он, после того как поели, — старый я,
чего зря таскаться. Ты иди, иди по этому распадку, лед там, выше будет, лед
пройдешь, там ровное место под стеной, а в стене дыра. Увидишь. Шкура
там лежит сохатиная и еще эта... клеенка белая. Я на этом месте солил,
много солил, баран часто ходит, я не бил ни разу, мясо есть не нужно пока.
Место очень хорошее, стрелять хорошо. Не кури только, костер не жги, от
комаров тоже не мажься, запах сильный. — Он вдруг остро и ясно глянул в
глаза Егору. — Трудно сидеть непривычному. Ты, я думаю, на одной злости
усидишь.
Егор промолчал, удержал грубый ответ. Ему действительно стало снова
нехорошо и смутно.
— Нарты возьми, — сказал старик в спину уходящему Егору. — Тушу как
спустишь?
Нарты были легки и удобно ложились на плечи загнутыми передками
полозьев. Телогрейку Егор надел, тушенку и хлеб рассовал по карманам,
карабин взял в руки. Так и пошел он вверх по распадку, снова отдаваясь
ворожбе движения. Он совсем забыл обо всем плохом, сильно и метко
бросал послушное тело с одного скользкого валуна на другой. Он ускорял и
ускорял шаг, а может быть, уже бег, чувствуя, как твердеет изнутри.
Добравшись до льда, он изо всех сил побежал вверх по его рыхлой
поверхности, чтобы избавиться от комаров. Бежал тяжело, оскальзываясь
стертыми подошвами, с хрипом дыша в холодном легком воздухе. Он
остановился, когда дыхание сбилось совсем.
Вокруг было бело. Лед сплошной броней затянул все вокруг. Егор
постоял немного, пока унялось сердце, и тихо пошел вверх. Комаров не
было, побег удался.
Мир все расширялся и расширялся, горизонт отодвигался с каждым его
шагом. Наконец лед кончился. Впереди была ровная щебнистая площадка
— несуразно маленькое плечико каменного великана. В стене над ней, на
высоте в половину роста, была широкая треугольная, острием вверх, щель.
Человек мог поместиться в ней, лежа или сидя согнувшись. От входа
глубина ее не просматривалась даже глазами, привыкшими к темноте.
Валялась на дне пещеры волглая шкура, полиэтиленовая пленка. Егор долго
возился, устраиваясь. Было сыро и холодно. Найдя единственное
положение, в котором лежать было удобно, он задвинул карабин, установив
мушку вровень со входом, посмотрел по стволу.
Площадка уходила от него, чуть-чуть спускаясь. Постепенно она
проваливалась в середине и сбегала вниз, ко льду, промоиной с отвесными
высокими стенами. Там стеклянно отблескивали зализанные желтые комья
соли. Единственно оттуда, топча Егоровы следы, могло прийти живое,
оттуда, по узкому распадку, как бы продолжающему ствол карабина.
Оставалось ждать
Даль, открывающаяся из этой норы, была велика и лишена следов
человеческого присутствия.
Ожидание было бесконечным. Егор зяб и почти не ощущал голода. Сырой
озноб не проходил, хотя он и сумел не замочить ноги, оступившись в воду.
Сколько он лежал неподвижно, упершись взглядом в «ворота», где
нетающим льдом отсвечивали в косых лучах солнца комья соли, он не знал.
У него не было часов, но при желании он мог бы вести счет времени по
солнцу. Кроме того, где-то в последней трети дня над ним по блеклому
куполу проползала, волоча расползавшийся след, блестящая точеная
игрушка — рейсовый самолет Крайцентр — Порт. Но Егору было все равно.
После заката и перед восходом на площадку садился густой иней, и
редкие жухлые былки покрывались ледяными прозрачными ножнами. Они
позванивали, скрещиваясь под ветром. Егор не спал, а лишь проваливался
временами; возвращаясь же, помнил, что ни на миг не отрывал взгляда от
распадка. Он ел, понимая необходимость этого, и стылая тушенка мерзко
вязла на зубах. Все это не кончалось, и Егор временами бил кулаками по
ручке затвора, убеждая себя в том, что не бредит.
И вот он пришел. Он как бы возник из воздуха, всплыв между обрывами,
— матерый снежный баран с полномерными крутыми рогами. Легкость его
движений не с чем было сравнить. Он поднялся над невидимой опорой и
неуловимо перетек на округлый лоб валуна, чисто обточенный льдом.
Баран стоял неподвижно, будто не прыгнул сейчас на этот камень, а всегда
существовал как его продолжение. Он был совершенством. Ветер дул от
него, а солнце било навстречу. Ничто не могло его спасти, даже первый
промах, потому что место позволяло перезарядить и прицелиться вторично,
пока он, убегая, оставался под выстрелом.
Трясущимися липкими руками Егор свернул головку предохранителя и
приник к карабину, раскинув ноги и прижав пятки к земле. Так его учили
когда-то. «Нужно попасть, — сказал он себе, — сделают посмешищем, если
приду пустой. Залезут шуточками в душу и будут топтаться там, тяжело
обутые, пока не станет грязно и скользко». Он собрался и выстрелил
прицельно. Карабин коротко и зло ударил его в плечо.
Баран тянулся полизать соли и вдруг ткнулся в нее, разом обезножев.
Гром выстрела еще закладывал уши, и кислая пороховая вонь стояла в
горле, а зверь уже лежал, дергая задними ногами, будто бы отталкивая от
себя что-то. Егор неловко вылез из пещеры и сел на край ее, положив
карабин поперек колен. Голова кружилась, и он закурил. Табак хлестко
ударил по вялому сознанию. Баран скоро перестал дергаться, но Егор
выжидал, помня о подранках, оживленных нетерпением охотников. Он
ждал, когда жизнь зверя уйдет в мерзлый щебень. Все же ему показалось,
что баран был еще жив, когда он взвалил тушу на нарты. Могучая жизнь,
видимо, не хотела покидать такое обиталище, и руки согрелись от горячего
еще тела.
Гаврила поймал раскатившиеся нарты на нижнем конце ледника. Еще
немного, и их разнесло бы в клочья на валунах.
— Хорошо ждешь, плохо стреляешь, — после приветствий сказал
Гаврила. — Голова бить нужно, шкуру беречь.
— Как умею, — буркнул Егор.
Старик, пусто глядя в сторону и вниз, отворил барану горло. Лед вокруг
затемнел и подтаял. Старик быстро и чисто разделывал тушу.
— Печень будешь? — спросил он. — Чистый, хороший, червь нету совсем.
Давай, а то домой не дойдешь, три дня без горячего...
Егор чувствовал себя грязным, и только. От всего осталось лишь желание
умыться в проточной воде.
Когда он сделал это уже внизу, в долине, и поднял лицо от воды на
отдалившуюся вершину, ему показалось, что она отвернулась от него. И
себе он не мог объяснить это точнее. Она, светясь по- прежнему, не видела
его больше. Оставаясь стоять коленями на мокром песке, он огляделся.
Ничего не изменилось. Так же неслась вода, и летали птицы, и качались
лиственницы, и ник к земле стланик, и белые облака плыли по синему
куполу, и горы замыкали круг земли, и солнце освещало все это, но Егор
был уже чужой.
— Ты чего? — тронул его Гаврила. — Идем. Патрон мне надо брать да на
свой река идти. Пока дойду — снег, белковать надо.
— Ну, поздравляю с крещением, — крепко пожал ему руку Семеныч.
— Как игрушка-то моя, не подвела? — гудел Николай. Длинные толстые
пальцы его широченных рук касались оружия вкрадчиво и нежно, будто
ласкали женщину.
— Во, студент дает! — кричал Женька, приплясывая вокруг нарт с мясом.
— Псих, псих, а туда же!
— Жаль, возиться с мясом некогда, — озабоченно крутил головой
Виктор, — не пропало бы...
— А идите вы все! — неожиданно для себя остервенился Егор. — Спать я
хочу, который уж день толком не спал!
«ЮНОСТЬ», No 2, 1979
Когда смеюсь я.
Милый мой, приблизься
И повнимательнее посмотри.
РАСУЛ ГАМЗАТОВ
выход первый
— А вы сказали ему, о чем я вас просил?
—?
— Ну,чтоя—клоун?
— Ах, это... Да, сказала.
— Ну, и как он? Ничего? Не расспрашивал?
— Он очень смеялся и, по-моему, не поверил.
— А он когда-нибудь видел клоунов?
— Они один раз уже были в цирке, на новогодней елке. И на картинках
видел, конечно. Знаете, как обычно рисуют: красноносых таких, в колпаках.
— Во-во! Очень хорошо. А можно мне еще раз на него посмотреть?
— Сейчас? Вообще не полагается. Но если вы говорите, что завтра...
— Да, да! Обязательно!
Она встала из-за стола и оправила у пояса складки хрустящего белого
халатика. Синицын тоже поднялся со стула и энергично, всей пятерней
пригладил за уши длинную гриву своих волос. Глядя на него, молодая
женщина оставила свой халатик и тонким розовым пальцем деловито
подсунула под туго стянутую косынку жиденькую непослушную прядку.
Синицыну хотелось немного подтянуть брюки, но при женщине это было
неудобно, и он решил только запахнуть полы пиджака и застегнуться на обе
пуговицы.
Тогда она пробежала быстрыми пальцами по воротничку вокруг шеи и
выправила его там, где он запал за халат. И Синицын следом за ней одернул
зачем-то воротник рубашки, покрутил головой, ткнул себе пальцем в
переносицу, подсадив оправу повыше, и взглянул на девушку тем
ожидающим, вопросительным взглядом, каким люди обычно смотрят в
зеркало.
Она стояла, опустив руки, строгая, отчужденная, и слегка кивнула ему
головой. И они двинулись.
У двустворчатых дверей с закрашенными белой краской стеклами
воспитательница остановилась, достала из кармашка металлическую
блестящую трубочку — ключ, надела на трехгранный стержень, торчащий
из замка, повернула и отодвинула дверь в сторону.
«Как в поезде», — подумал Синицын и вдруг заволновался, тоскливо,
отчаянно, как всегда почему-то тосковал и волновался на вокзалах до
отхода поезда, хотя, можно сказать, провел в дороге полжизни и надо бы
уже ко всему этому предотъездному привыкнуть. А его проводница легко,
ровно шла перед ним по широкому пустому коридору, с выкрашенными
тусклой зеленой краской стенами.
По бокам чередовались одинаковые двери, а над головой проплывали
круглые белые шары с расплывчатыми серыми точками заметной на
просвет пыли на доньях.
— Здесь, — сказала воспитательница, указав на дверь налево. — Только
впустить я вас не могу, а... пойдите сюда.
Она опять повела его по коридору, который поворачивал под углом и за
углом оказался длинный узкий стол с ободранной крышкой.
— Беритесь, — сказала воспитательница, и он взялся за ободранную
крышку с одного торца, а она, обойдя стол, с другого.
Синицын пятился назад по коридору, уперев себе крышку в живот, пока
она не сказала.
— Все, хватит
Стол опустили против нужной двери. Девушка выставила два
указательных пальца и отчертила ими перед носом Синицына какую-то
замысловатую пружину, но он сразу понял, что стол нужно развернуть
торцом к двери, а так как она показала это жестом, а не сказала вслух, то
догадался, что вертеть стол надо тихонько
Он так и сделал и стоял у стола, ожидая дальнейших распоряжений. Она
устало улыбнулась ему и шепнула:
— Полезайте. Шестая кровать слева во втором ряду, у стены.
Синицын стал коленом на стол. В ухе надсадно зазвенело и оборвалось.
«Эх, не успел загадать желание». Он выпрямился во весь рост. Над дверью
было застекленное окно. Нижняя часть рамы пришлась Синицыну как раз
на уровень рта. Он прижался носом к стеклу. Большая, тускло освещенная
комната, в углу на тумбочке лампа, прикрытая по абажуру развернутой
газетой. Он стал считать кровати у стены слева направо, вернее считал
головы на подушках — одинаково круглые и темные
.. . Третья ...пятая ...шестая. Синицын вглядывался в темный круг на
подушке и вдруг сразу ясно и отчетливо различил уже знакомое ему
щекастое лицо с белыми бровями и круглым катышком носа. Лицо это
напряженно и испытующе смотрело прямо на Синицына своими широко
открытыми глазами.
И, как было раньше, в детстве, когда поймают за каким-нибудь
шкодливым делом, сперва испуг захолонул сердце, а после налетел откуда-
то слезный мучительный стыд и горячо заполыхали уши.
Синицын, не в силах оторваться, смотрел в круглые пронзительные
глаза малыша, и ему страшно захотелось громко пожаловаться этому
щекастому человеку, снять с себя какую-то суетную несправедливую вину
за что-то гадкое, чего он никогда не делал, и чувствовал, что и сделать бы
никогда не смог.
«Еще разревусь», — в стыдном ужасе понял Синицын и решил соскочить
со стола, чтобы разом освободиться от этих неотступных глаз и своей
неведомой вины.
Он отвел ногу в сторону, чтобы найти край стола, и тут...
— Осторожно! — громкий голос воспитательницы.
Синицын почувствовал, что теряет опору, ударился носом о раму окна,
потом коленями в створку двери, та распахнулась, и, получив крышкой
стола по затылку, клоун Синицын влетел в малышовую спальню. Проклятая
цирковая натура сработала за себя, и, падая, тело его собралось, чтоб
оттолкнуться от пола руками и, сделав кульбит, опять встать на ноги.
Хорошо, очки не слетели.
Что тут началось! Не спали они все, что ли?! Истошный вопль, в котором
клоунское ухо сразу различило восторженные взвизги, отметил его
внезапное появление.
— Что вы наделали! — Воспитательница покраснела до слез. — Уходите,
уходите же скорее. Мне из-за вас попадет.
Он выскочил через коридор в дежурку, схватил со стула свое пальто,
пихнул ногой дверь и запрыгал по лестнице.
— Синицын! Товарищ Синицын!
Он остановился на нижней площадке, глянул в пролет. Воспитательница
энергичными жестами звала его снова наверх. Он взбежал через три
ступеньки.
— Вас к телефону. Сказали, из дома. Только не долго.
Он взял лежащую на стопке пустых анкетных бланков трубку.
Звонила Мальва Николаевна.
выход второй
За плотно закрытыми дверьми профессорского кабинета простучала
длинная пулеметная очередь пишущей машинки.
— Я считаю, что должна быть с вами вполне откровенна, Сергей
Демьянович...
— Дементьевич, — поправил Синицын.
— Простите. И Владимир Карлович так считает.
Из кабинета снова пулеметная очередь
«Я считаю, Владимир Карлович считает, — пронеслось в голове
Синицына, — что это вы все тут такое высчитываете?» И Синицын прямо
взглянул теще в лицо. Она спокойно ответила ему долгим взглядом и, так
как эта игра в гляделки, по ее мнению, несколько затянулась,
вопросительно подняла и без того высокие свои собольи брови,
полуприкрыла глаза и нетерпеливо дернула подбородком: «Что, мол,
глядишь голубчик?» Ну, точь-в-точь, как Лёся. Очень они похожи. Только в
Лёсе все легкое, летящее, а Мальва Николаевна красива уже другой,
устоявшейся, немного тяжеловесной красотой. Впервые увидев тещу, он
сразу представил себе Лёсю в таком возрасте и подумал, что Лёся, как и
мать, будет и в старости очень красива И в старости он, если доживет, будет
неустанно любоваться ею и ко всем ревновать.
«Счастливый я все-таки, — подумал тогда Синицын, — какую жену из
публики взял».
Лёсю он и вправду взял из публики.
Есть у клоунов такой испытанный беспроигрышный прием: неожиданно,
ни с того, ни с сего, прервать на манеже действие и, будто бы вдруг забыв о
партнере, уставиться в кого-нибудь из публики, в кого-нибудь из первого
ряда. Такая внезапная пауза обязательно сразу собирает на себе внимание
всего цирка.
Самое верное — уставиться на женщину: они быстрее и легче
конфузятся, а ты, клоун, все глядишь, глядишь, как завороженный, —
женщина начинает без толку суетиться, хихикать, цирк веселится от души, а
если рукой еще махнет, эдак: «Уйди, дурак», — тогда все просто в восторге.
А ты тут будто пришел в себя, начинаешь играть, что влюбился с первого
взгляда, по уши влип, земли под собой не чуешь.
И если партнер хороший, то станет помогать: сперва полезет
интересоваться, что это с тобой такое, и, вдруг догадавшись, сам смутится и
отойдет, и станет украдкой через плечо подглядывать, в отличие от
публики, которая на чужую любовь глазеет во все глаза, — тут уж цирку
вовсю потеха.
Можно и на мужчину уставиться. Но тогда мужчина должен быть чем-
нибудь выдающийся: очень толстый, например, или бородатый, или с
огромной блестящей лысиной. Примечательный внешне должен случиться
мужчина, а играть с ним надо другую пантомиму: ну как, брат? В порядке?
Ничего не беспокоит?
Но с женщинами обычно проще и эффект больше.
Вот так два года тому назад уставился Синицын в белокурую девушку из
первого ряда. Уставился и погиб. Он глядел на нее, глядел, а она подняла
брови и дернула нетерпеливо подбородком. Он даже играть забыл, что
влюбился.
Он влюбился сразу, с первого взгляда.
И по уши влип и земли под собой не чуял.
Хорошо, Ромашка выручил. Оттащил его на середину манежа. Еле
репризу довели до конца.
Потом, кое-как содрав грим, бежали вдвоем через двор — без Ромашки
он бы оробел, — высматривали ее среди валившей из цирка публики.
Хорошо, лето было. В шубке он бы ее мог не узнать. Да нет, узнал бы,
наверное.
Он брюки тогда прямо на клоунский костюм натянул и плащ застегнул
под самое горло. Дурацкий вид. Но, может, это к лучшему было — клоун
ведь. Первое, что она сказала, когда знакомились:
— А на арене вы не выглядите таким высоким.
А потом:
— У вас настоящие очки, с диоптриями?
Фамилию его она брать не захотела. Осталась с девичьей — Баттербардт.
Объяснила, что папе будет неприятно, если единственная обожаемая дочь
откажется от своей фамилии.
.. . Папа Баттербардт теперь бил из-за двери короткими очередями.
— Мы с вами взрослые люди, а Лёся, согласитесь, еще совсем ребенок.
Когда вы, Сергей Данилыч...
— Дементьевич, — терпеливо поправил Синицын.
Ее родители, узнав, были категорически против. Он-то их понимал,
вернее, старался понять. Дочь известного академика Баттербардта — за
клоуном. Если бы у него было мировое имя, ну, скажем, как у Олега Попова,
тогда куда ни шло.
А то Сергей Синицын.
До недавнего времени директор московского цирка при встречах с ними
здоровался через раз:
— Извините, не узнал.
Успех обрушился на клоунов внезапно, но зато настоящий успех,
выстраданный. Именно такой, о каком они с Романом мечтали.
В рецензиях писали, что «артисты цирка С. Синицын и Р. Самоновский
смело вернули на советский манеж забытые маски белого и рыжего
клоунов... Советским клоунам удалось блестяще сочетать старую
традиционную форму со злободневным, острым и ярким содержанием... это
новое слово в советском цирковом искусстве».
Ромашка собирал газеты, аккуратно вырезал рецензии и складывал их в
бумажник. Когда рецензий накопилось достаточно, Ромашка облепил ими
всю голову и рожу, оставив только щелки для глаз, и в таком виде явился к
директору цирка.
— Здравствуйте! Попробуйте теперь меня не узнать.
Но даже если успех — Лёся только недавно кончила Иняз, ей двадцать
два, а ему, Синицыну, жизнь уже успела влепить две троечки. Лёся вышла за
него замуж, как определил Ромашка, «в знак протеста».
Свадьба была в огромной квартире Баттербардтов, заставленной старой
массивной мебелью и с толпой безделушек: «это Владимир Карлович
привез из Африки», «это Владимиру Карловичу подарили в Японии», «это на
память о Лондоне».
Были Лёсины институтские товарищи, а из цирковых только Роман, в
черном костюме и строгом темном галстуке. Баттербардтам Ромашка
представился:
— Родственник покойного. — И вообще хулиганил.
В середине вечера Ромашка куда-то исчез из-за стола и неожиданно
возник в почетной кембриджской мантии, которую выкрал из кабинета
академика. Произнес длинную лекцию о вреде вкусной пищи.
Все хохотали, как сумасшедшие, а Владимир Карлович просто умывался
слезами от смеха.
Только Мальва Николаевна не смеялась. На кухне, куда Синицын
вызвался заварить чай по-татарски, она вдруг сказала ему с истерической
дрожью в голосе:
— Владимир Карлович не для того заслужил кембриджскую мантию,
чтоб в ней клоунствовали всякие... всякий...
— Всякое, — вежливо уточнил Синицын.
Вернулся в столовую и объявил, что для татарской заварки необходимы
лошади, а их тут нет, и что он всех сейчас же приглашает к ним с Лёсей в
Орехово-Борисово, где у него есть живая лошадь, для которой он
специально выстроил однокомнатную кооперативную квартиру.
Молодежь стала шумно собираться, Владимир Карлович тоже выразил
желание ехать, уже надел теплые боты, но Мальва Николаевна его не
пустила. Потом бегали по обледеневшему Ленинскому проспекту, с риском
для жизни ловили редкие такси. От молодой жены Синицын свою
клоунскую обиду, конечно, утаил. Лёся была так счастливо-весела в тот
вечер.
В цирке все Синицына поздравили и стали звать «Академик Бутерброд».
Когда Синицын приступил к Ромашке, чтобы выяснить автора прозвища,
Роман, сведя глаза к переносице и испуганно моргая, пролепетал:
— Честное слово, не я...
И продолжал старательно называть Синицына старым прозвищем
«Птица». А силовой жонглер Рюмин, проходя мимо Синицына по коридору,
пропел:
Наш папа академик,
Он труженик пера,
А нам же, кроме денег,
Не нужно ни черта...
Ромашка сразу же повис на Синицыне и висел, пока Рюмин не скрылся из
виду.
— Бешеный ты все-таки, Птица, — со вздохом констатировал Роман.
Но это только досадные мелочи — Синицын был счастлив. Его жизнь,
казалось ему, теперь наконец-то сложилась во что-то целое, круглое,
радостное и прочное. Незыблемо прочное.
Правда, что-то толкнулось в душу, когда услышал, что в новой
программе будут работать сестры Челубеевы, но это только так, на
мгновение, выбило Синицына из счастливого круга. Полина теперь стала
для него лицом почти нереальным, будто бы читал о такой женщине или
рассказывал о ней кто-то за тесным дружеским столом.
Женщина из чужой жизни.
Как не везло ему до Лёси с женщинами! Боже мой, как не везло!
Тогда, в училище, с Ларисой. Комсомольские концертные бригады на
целину. Они с Ларисой работали партерную акробатику. Бесконечные
переезды по ровной, как доска, голой степи, ночевки в крытом кузове
грузовика, по пустым клубам или просто в стогах.
Когда Лариса, уже в Москве, сказала ему, что беременна, он разревелся.
Она не ревела, а он разревелся.
Мама была еще жива. Он хорошо помнит их комнату в двухэтажном
деревянном доме на Собачьей площадке. Окнами на скверик. Мальчишки
почему-то верили, что этот скверик — бывшее собачье кладбище. От той
обстановки у него осталась тяжелая ребристая тумба с бронзовыми
накладками — подставка под давно проданную бронзовую лампу — и,
конечно, отцовский портрет в широкой темной раме. Кстати, мамину
фотографию — в меховом воротнике мама и в черной шляпке — надо
срочно обрамить и повесить. Руки не доходят.
Он пришел и прямо сказал маме, что Лариса беременна. Лариса не пошла.
Ждала его в скверике на скамейке. Осень тогда была поздняя. Рано
смеркалось.
Мама сидела за столом, подвязав веревочкой абажур, чтобы свет падал в
ее сторону, и обшивала полями велюровую тулью, надетую на болванку.
Мамина вечная шляпная халтура. Мама посмотрела на портрет отца, потом
на него и сказала:
— Отец бы тебя выдрал, как Сидорову козу. Я не могу. К сожалению.
И стала опять подшивать поля, медленно по кругу поворачивая
болванку.
Отец Сергея, Дементий Алексеевич Синицын, был художником-
модельером. Редкая тогда профессия. Ушел на фронт с первым московским
ополчением. Воевал сапером. В сорок третьем году за боевые заслуги был
награжден двухнедельным отпуском в Москву. Его часть вышла из боев в
марте сорок пятого. Стояли на берегу Вислы. Ждали победы. Утром 10 мая
счастливо доживший до конца войны капитан Синицын пошел с молодыми
бойцами обезвреживать обнаруженную ими немецкую мину. Бойцы
окружили яму. Отрытая мина лежала на краю, на буруне сырой мягкой
земли.
— Бойцы, — сказал капитан Синицын и взялся за маленькую черную
ручку в боку мины, — чтобы обезвредить данную мину, рукоятку
взрывателя следует повернуть вот так, — повернул, — и ни в коем случае не
так, — и машинально повернул еще раз...
Молодых бойцов контузило, но чудом они уцелели.
Домой пришла похоронка, а за ней письмо командира части. В письме
говорилось, что гвардии капитан Синицын погиб смертью храбрых, все
бойцы и командиры выражают семье глубокое соболезнование и
поздравляют с победой.
Мама осталась одна с ним, Сергеем. Когда пришла пора, он отрастил усы
— «как у Дементия», говорила мама — и ни за что, никогда не соглашался
сбривать эти рыжие, закрывающие углы рта усы.
.. . Папаша Ларисы явился в училище, кричал на педагогов и чем-то
неизбежным грозился.
Они с Ларисой не поженились. Папаша забрал свою дочь из циркового
училища. И настоял, чтоб избавилась от ребенка.
Фрукт был с толстой кожурой — этот папаша Ларисы.
До Сергея доходило, что Лариса уже дважды побывала замужем и,
кажется, собирается в третий раз.
.. . А машинка за дверьми кабинета так и строчит, так и костит.
— Вы как будто даже не слышите, что я говорю, Сергей Денисович?
— Сергей Дементьевич. Моего отца звали Дементий Алексеевич.
— Простите, — Мальва Николаевна так свое «простите» произносит, что
вместо «простите» слышится «прощаю».
Крупная собой дама Мальва Николаевна Баттербардт, но до Полины ей
не дошпилить. Сестры Челубеевы! Шесть разнокалиберных баб, а
Челубеева-то по-настоящему одна Полина. В цирке так часто бывает. Они
познакомились с Полиной в Саратове, он тогда опилки один глотал, без
Ромашки. Теперь пишут: «В паузах такой-то». А тогда в афише: «Весь вечер
на манеже клоун Сережа». Сколько лет тому: пять? семь?
В гостинице попали ужинать за один стол. Она как раз напротив. На
манеже смахивает на мужика, особенно когда под першем стоит. Правда, на
очень красивого мужика, ничего не скажешь. Вблизи он рассмотрел ее лицо.
Черты крупные, грубоватые, но правильные, и глаза дивные, с опущенными
внешними уголками, дымчатые такие, очень женские глаза.
— Не гляди, все равно не разглядишь меня, — внезапно громко, низким
своим звучным голосом сказала Полина на весь стол. И подружкам: — А что,
сестрички, пусть нас коверный Сережа шампанским рассмешит?
Он купил три бутылки шампанского, на сколько денег хватило.
Поднялись к ним в просторный номер. Синицын был, что называется, в
кураже. Ему нравилось смотреть, как хохочет Полина, встряхивая темными,
коротко стриженными волосами, нравился ее голос, глаза, нравилось, как
она поет, потому что Полина вдруг запела что-то давно им позабытое,
грустное и, как показалось Синицыну, пела для него.
Несколько раз приходила коридорная, требуя тишины, и, наконец,
разогнала всю компанию. Сергей пошел к себе — его номер был в самом
конце длинного коридора на том же этаже.
Уже стал задремывать, когда услышал стук в окно. Сначала и не понял:
ведь третий этаж. Когда распахнул окно, Полина спрыгнула с подоконника
легко, беззвучно. Да еще в руке держала початую бутылку шампанского. По
карнизу с ней прошла.
— Если не нравлюсь, гони меня, дуру, Сережа.
Глотнула шампанского прямо из горлышка и протянула бутылку ему. Он
тоже глотнул. Теплое.
Под утро, стоя на подоконнике распахнутого окна, обернулась к нему и
сказала:
— Если не разлюблю тебя, Сережа, — беда будет. Моя беда.
И ушла.
Нет, не ушла. Никуда не ушла Полина Челубеева, а переступила через это
гостиничное, высокое над землей окно прямо в жизнь Сергея Синицына и
осталась с ним на все эти годы — жена не жена, друг не друг, просто Полина
Челубеева, которая знает про него, Синицына, все. Даже, может быть, чего
он сам про себя не знает. И виделись как-то странно, словно запоями.
Разъезды, разъезды.
Сергей даже думать не думал, что такое для него Полина.
А тут приехал в Ленинград этот дрессировщик из ГДР Зигфрид Вольф со
смешанной группой хищников.
И потянулась сплетня, что Полина с этим немцем. Там-то их видели
вдвоем. И там-то.
Как он бесился, клоун! Предательница! Если б встретил тогда, отколотил
бы, как бубен.
А за что, собственно? Какие у него права на Полинину любовь? Никаких.
Ну и все, сестричка Челубеева. Кантуйся со своим белобрысым дружком, айн
унд цванцих, фир унд зибцих! Ауфидерзейн!!!
Он потом встретил Полину и не поздоровался. И она как будто перестала
его замечать. Значит, правду трепали про немца, правду!
А тут его замотало по Союзу, и он постарался забыть Полину. Отказался
от нее. Совсем забыл.
.. . Лёся, любимая! За что такая беда? За что? Она захотела ребенка. Он
ликовал. Вечерами на маленькой кухне за чаем придумывали имя: какое,
если девочка, и какое, если мальчик. Спорили, смеялись, даже ссорились.
Она почему-то была уверена, что будет сын.
«Знаешь, щекастый такой и деловитый. И смешной, как ты. И умный, как
я. Ведь я умная, правда, Птица?» Она все чаще стала называть его Птицей по
наущению Романа. Про «Бутерброд» она не ведала. Ему до боли в груди
хотелось сына, Дементия Сергеевича, но он боялся спугнуть мечту и
сворачивал разговор на девочку. Поэтому и ссорились.
И вдруг... Вдруг открылось, что Лёся не может родить. Почему?!
Она объясняла ему, сыпля медицинскими терминами — девочка из
медицинской семьи, — а он ровно ничего не понимал и думал только одно:
«Почему? Почему? Не может быть».
Он так не хотел в это поверить, что вселил в Лёсю надежду. Начались
хождения по крупным специалистам, которые становились особенно
внимательны при фамилии «Баттербардт» и, окончив консультацию,
неизменно просили «кланяться Владимиру Карловичу». Разговоры про
детей прекратились. Лёся похудела, осунулась, раздражалась по пустякам.
Когда он возвращался после представления, она уже не открывала ему
дверь, на кухне было темно, а Лёся лежала, свернувшись калачиком под
одеялом, и спала.
Или делала вид, что спит.
Он по нескольку раз за ночь тихонько вылезал из постели и до головной
боли курил на кухне одну сигарету за другой, тупо следя, как кошачья
морда на ходиках водит глазами туда-сюда, туда-сюда.
И тут вмешался сам Баттербардт. Оказалось, что он с самого начала в
курсе дел, все специалисты считали долгом его уведомить.
Они — он и Мальва Николаевна — считают, что страшного ничего нет.
Масса семейств счастливо проживают всю жизнь без детей.
С Лёсей случилась истерика. Синицын никогда не видел ее такой: с
красным лицом, растрепанная, брызжа слюной, она топотала ногами, с
которых слетели расшитые цветами шлепанцы (подарок Ромашки), и
срывающимся визгливым голосом сквозь рыданья кричала на отца:
— Мне нужен ребенок, понимаешь? Нужен! Нужен! Нужен! Свой ребенок,
понимаешь? Ребенок!
А когда Баттербардт, бледный, с трясущейся челюстью, пытался ее
остановить, взвизгнула:
— Замолчи, старый дурак! Это мать тебя подослала ко мне, дрянь,
гадина... Счастливое семейство! — И дико стала хохотать.
Синицын решительно скрутил ее, хотя она бешено сопротивлялась с
неожиданной в такой изнеженной женщине силой и даже кусалась, и сунул
под холодный душ. Она мотала мокрыми волосами, выкрикивала бранные
слова, потом затихла и спокойно сказала:
— Отпусти меня, Птица. Я больше не буду. Отпусти, пожалуйста.
Он вынес ее на руках, и на коротком пути от ванны до кровати надежда
оставила его. И он все тогда же решил. Решение пришло внезапно — может
быть, из той безоблачно счастливой, уже внутренне прожитой жизни,
которую он себе нафантазировал и в которой он и Лёся были родителями
их смешного и умного сына. Но когда Синицын заставил себя обдумать свое
решение, оно представилось ему единственно верным, спасительным.
Лёся мечтала о ребенке, которого она никогда не сможет родить. Боль
этого «никогда», против которой она бессильна, останется с ней на всю
жизнь и невольно станет связанной с ним, Синицыным. Чувство своей
неполноценности как чувство вины будет угнетать Лёсю. А это несчастье.
Хоть Лёся без вины виновата в своем несчастье.
И это несчастье он будет разделять с ней. И оба будут несчастны.
Они оба мечтали о ребенке. И теперь Лёся будет думать, что он втайне
винит ее. Что бы он ни говорил, что бы ни делал, как бы ни вел себя — все
равно будет думать так. Веселый и нежный — значит, жалеет; сдержанный
и внимательный — упрекает; а если поссорились, и он сгоряча нагрубил, —
ужас!!!
Светлое и круглое, прочное клоунское счастье оказалось просто-
напросто цирковым обручем, затянутым белой бумагой, сквозь которую
легко проскочила нежданная беда. Теперь, когда выяснилось, что у них не
может быть ребенка у них обязательно должен быть ребенок. Во что бы то
ни стало. Иначе — конец их любви.
Все это Синицын, набравшись храбрости, высказал Лёсе. Она выслушала,
глядя на него широко раскрытыми, испуганными глазами.
— Не знаю... Как хочешь...
— Подумай, Лёся, любимая!
Она долго не возвращалась к этой теме.
Он ждал.
И вдруг Лёся засуетилась, стала требовать от него немедленных
действий, кажется, решилась. Остановились на том, что надо брать не очень
маленького, лет пяти, чтоб уже виден был характер.
— Ты выбери сам, а потом мне покажешь.
— Хорошо, — согласился Синицын. — Я же птица — сказочный аист.
И, как он думал, ему повезло. Он нашел такого, как она хотела: щекастого
и деловитого, смешного. И, судя по отзывам, — умного. Привел Лёсю
смотреть на него, когда малыши были на прогулке. Ванька — так звали
мальчика, что тоже нравилось Синицыну, — возился с игрушечным
грузовичком, который он с боем вынес из песочницы. Пытался сесть в
крошечный кузов и проехаться по дорожке парка. При этом проявлял
упорство и изобретательность. В конце концов поставил ногу в кузов и,
скособочившись, заскользил, как на самокате. Очень смешной маленький
человек. Но Лёся не смеялась. Она смотрела на Ваньку с тем же испугом, с
каким выслушивала решение Синицына.
— Он тебе нравится, Лёся?
— Что? Нравится. Смешной.
Когда дома на кухне обсуждали, как устроят Ваньку, где будет стоять
кроватка и прочее, Лёся вдруг расплакалась и сказала:
— Почему я должна делить тебя с кем-то? Мне хватит и твоего цирка.
И убежала в комнату. Синицын не пошел за ней. Он слышал, как она
громко, по-детски всхлипывала, а потом крикнула:
— Не слушай, не слушай меня, Сережа.
Он был бы рад не слушать.
И еще тверже укрепился в своем решении. Оставалось распутать
канитель необходимых формальностей, основанных, с одной стороны, на
заботе о будущем маленьких граждан, а с другой — на бюрократическом
недоверии к взрослым гражданам. Баттербардтам решили пока ничего не
говорить.
— Владимир Карлович все сказал мне, — донесся до Синицына
размеренный голос Мальвы Николаевны. — Это очень порядочно с вашей
стороны, что вы решили поделиться вашими секретами с Владимиром
Карловичем. Хотя бы тестю оказали доверие. Я, конечно, не в счет.
Мальва Николаевна выдержала эффектную паузу.
«Пауза, — подумал Синицын. — В паузах выходят клоуны. Мы выходим.
Антре!»
Мальва Николаевна вздрогнула. На лбу ее выступили капельки пота. Она
с ужасом смотрела на Синицына.
— Вы... — Голос у нее заметно сдал. Она кашлянула. — Прекратите, что за
глупая шутка. Сейчас не время для клоунских гримас.
Синицын ослабил мышцы лица, принял прежний облик. Мальва
Николаевна освобожденно вздохнула.
— Вы, очевидно, вообще несерьезный человек. Как вам могло прийти в
голову брать из приюта какого-то ребенка? Вы подумали, что этот
несчастный ребенок может оказаться с патологической
наследственностью? Алкоголик или... или просто дебил какой-нибудь? Нет,
вы несерьезный человек. Хорошую жизнь вы уготовили Лёсе. А еще
считаете, что любите ее.
— Бухгалтер считает, — сказал Синицын.
Мальва Николаевна брезгливо фыркнула. Помолчала. Когда снова
заговорила, голос ее звучал жестко.
— Короче говоря, мы с Владимиром Карловичем считаем, что вам с Лёсей
надо на время расстаться. Она измотана, ей необходимо переменить
обстановку. Владимир Карлович привез ее от вас в ужасном состоянии.
Мальва Николаевна особенно выделила «от вас».
— На днях Владимир Карлович уезжает на симпозиум ЮНЕСКО в Канаду.
Он берет Лёсю с собой. Владимиру Карловичу полагается личный
переводчик, и на это место в Академии оформят Лёсю. У вас, — она опять
выпучила «у вас», — у вас обоих будет время все спокойно обдумать.
И Мальва Николаевна величественно поднялась. Синицын продолжал
сидеть.
Пулемет в кабинете строчил, не умолкая.
— Мне можно видеть Лёсю?
— Сейчас это не нужно. Невозможно. Поймите меня правильно, Сергей...
эээ...
— Дерматинович, — устало подсказал Синицын, встал и, косолапо шагая,
вышел в прихожую, легко отомкнул сложные замки входной двери и тихо
прикрыл ее за собой.
выход третий
Красный «Запорожец» Синицына, слегка засыпанный снежком,
притулился между черными академическими «Волгами». Мотор тарахтел.
«Ромашка греется», — с дружеской нежностью подумал Синицын и,
нагнувшись, постучал пальцем в лобовое стекло.
— Алло, послушайте! — весело отозвался Роман. — Синицын здесь не
живет. Вы ошиблись номером. — И, когда Синицын втиснулся на сиденье,
встревоженно спросил: — Ну, что?
— Поедем, Роман, в какой-нибудь кабак.
— Уговорил! — быстро отозвался Ромашка.
Синицын свернул с Ленинского проспекта направо в туннель, на Садовое
кольцо.
— Поедем к царю Леониду.
На Садовом кольце кружилась поземка. Доро
́
гой Ромашка все выспросил.
— Михаил Николаевич у себя? — спросил Синицын внизу в гардеробе.
Так звали царя Леонида «в миру».
— Был у себя. Подымайтесь. Я вас повешу на один номер. — И
гардеробщик, старый солдат, захромал вдоль вешалок.
На третьем этаже все как обычно, огни пригашены, какой-то гигантский
укроп в керамических горшках растет между столиками с красными
скатертями. Народу — никого. Видно, туристы уже отужинали.
— Сядем у окна, — предложил Синицын.
Только сели, в глубине зала обрисовалась могучая фигура. Круглая
голова тонула в широченных сутулых плечах. Царь Леонид мрачно озирал
свое царство. И заметил клоунов.
— Сережа, Ромашка, здоро
́
во! — загудел, расплываясь в младенческой
улыбке и чувствительно похлопывая клоунов по спинам. — Где пропадаете,
балбесы? Я соскучился.
Кодовое название «балбес» применялось им ко всем без исключения
лицам мужского пола, но в устах царя Леонида имело множество оттенков
— от высшей похвалы до смертного приговора.
Женщины проходили под кодом «пупсик», который варьировался так же,
как «балбес» для мужчин.
— Сережа, тебе надо фирменную оправу для очков? Один балбес тут
предлагает. Дорого, конечно. Ну и черт с ним. — И к Роману: — Пересядь от
окна, простудишься. — И опять к Синицыну: — Ты в завязке? Нет? Что
будете пить? — И, когда Синицын сделал заказ, царь строго спросил: — Ты
пешком или на своей пожарной? А, еще не развалилась. Давай сюда ключи.
Утром заберешь.
И подставил Синицыну увесистую ладонь, на которую тот послушно
опустил ключи от машины.
— Все путем, — изрек царь Леонид, — сейчас распоряжусь. — И гуднул
проплывшему мимо сонному официанту: — Обслужи артистов.
Сидеть бы у окна в пустом ресторане с такими вот друзьями и
радоваться позднему этому снежному вечеру за высокими стеклами,
чистым тарелкам на красной скатерти, маленьким крепким розовым
помидорчикам среди московской зимы и ледяной водке, от которой
заходятся зубы.
Так нет же!
— Присядешь, царь?
Царь Леонид взглянул на часы.
— Можно. Рабочий день кончен. Отдыхаем.
И стул, скрипнув, принял тело царя Леонида.
— Поехали.
Ничего в глотку не лезет.
— Царь, можно от тебя позвонить?
— Иди, открыто.
В крохотном кабинете царя Леонида затиснуты двухэтажный сейф,
письменный стол да еще грудой сложены скатанные ковровые дорожки.
Телефон на столе.
Почему Лёся не вышла к нему? Не заперли же ее на замок, в самом деле?
Длинные гудки.
— Алло? — это Мальва Николаевна. — Алло! Ничего не слышу! Алло!
Он повесил трубку и вернулся за столик. Царь Леонид и Ромашка о чем-
то беседовали, сблизив головы, и взглянули на Синицына, как ему
показалось, с испугом.
— Плохо пьете, — прогудел царь Леонид, — а закусываете еще хуже. — И
налил всем, ловко подбросив бутылку в ладони. — Ну, Сережа, ты в
прошлый раз так мне и не ответил: как это спартанцы могли продержаться
всего тремя сотнями против целого войска?
Когда-то один приятель дал Михаилу Николаевичу, тогда просто Мише,
сочинения Геродота. И с той поры легендарный спартанский царь Леонид
прямо из-под Фермопил перескочил в Мишино восхищенное сердце и со
свойственным спартанцу героическим упрямством удерживал эти новые
рубежи. Отсюда и Мишино прозвище.
Ромашка начал что-то уморительно бредить на темы древней истории, а
царь Леонид его не опровергал. Синицын догадался: это комедия ради него.
Ромашка успел протрепаться, пока Синицын ходил звонить. Теперь
отвлекают, заботятся о нем, черти драповые.
Но все-таки ему полегчало, хотя напиться, как хотелось, никак не
получалось.
Зато Ромашка довольно скоро стал рассказывать про своих родителей. А
это у Романа первый признак опьянения. Синицын его историю слышал
неоднократно. Ромашкиного папу звали библейским именем Авель.
Появившись в Киеве после разгрома белополяков, папа Авель начал бегать
за Ромашкиной мамой, тогда студенткой киевской консерватории, и
требовать, чтобы мама вышла за него немедленно. В качестве неотразимого
аргумента показывал маме маузер, с которым не расставался.
— Для чего, ты думаешь, папа бегал за мамой с маузером? — вопрошал
Роман Авелевич царя Леонида. — Для того, чтобы родился я? Значит, у папы
все-таки был скрытый юмор...
Царь Леонид смеялся и озабоченно поглядывал на Синицына.
— С вами не соскучишься, — подытожил царь Леонид. — Кофе будете? —
и вдруг попросил Синицына: — Сережа, скорчи рожу. Ну, эту, ты знаешь.
— Сделай, Птица, дорогой ты мой, — поддержал Ромашка. — Ну, сделай
для друзей!
Синицын собрался и сделал. Они смотрели на него, задержав дыхание, а
потом оба так и покатились со смеху.
— Ой, не могу, — гудел царь Леонид. — Ну, балбес... Ослабеваю...
А Роман, отсмеявшись, тихо сказал:
— Гениально.
выход четвертый
На стоянке полным-полно такси. Светят зелеными глазками, как волчья
стая. У головной машины, переминаясь с ноги на ногу, коллективно скучают
таксисты.
— В Химки? — робко предложил один.
— Не могу! Я в парк! — сердито огрызнулся Ромашка.
Таксисты заржали.
Садились в разные машины. Сначала отъезжал царь Леонид. Синицын,
придерживая дверцу, нагнулся в темный салон.
— Ты все знаешь, царь. Что скажешь?
— Решает мужчина, а не пупсик. И не сходи с ума, понял?
Царь Леонид ободряюще подмигнул и расплылся в младенческой
улыбке.
Поехали к Ромашке, Неглинка была вся перерыта. Таксист, ругаясь
сквозь зубы, вертелся по крутым переулкам.
— Во мне умирает великий клоун, — бормотал Роман, — такой
грустный-грустный клоун. Выхожу на манеж, плачу — и все рыдают. Это
мой идеал.
Вскарабкались по выбитому асфальту мимо бань и остановились у
Ромашкиного дома. Пока Синицын расплачивался, Роман вылез на узкий
тротуарчик. Такси уехало.
Роман стоял на тротуарчике, запрокинув голову. Шапка свалилась на
мостовую. На макушке Романа сквозь перепутанные вихры просвечивала
скромная лысинка.
Окна Ромашкиной квартиры сияли праздничными огнями в ночи.
— Алиса приехала, — прошептал Роман одними губами.
В цирке ее объявляли особенно. В московском Димдимыч роскошно это
делал.
Убегали клоуны, уходили униформисты, молчал оркестр, и свет
прожекторов медленно угасал. Неясное пятно его оставалось лежать только
на форганге, когда, раздвинув половинки занавеса, возникал Димдимыч.
Широкая манишка светилась фосфорической белизной.
В пустой и темной тишине, однотонно, на низкой ноте Димдимыч
произносил:
— Народная артистка Советского Союза...
И подымал глаза вверх, под купол. Только одни глаза, но вслед за этим
взглядом весь зал задирал кверху лица. Там, под самым куполом,
высвечивалась тонкая серебряная трапеция. Трапеция тихо покачивалась,
казалось, от дыхания многих людей. Трепет пробегал по залу, и, когда
каждый зритель уже готов был сам выкрикнуть ожидаемое имя, Димдимыч,
на мгновение опередив всех, бросал под купол цирка всего два слова, словно
две яркие ракеты, озаряющие лица восторгом:
— Алиса Польди!
Она деловитой походкой выходила на манеж — маленький, хрупкий
подросток в простом белом трико — и сразу же, ухватив тонкими руками
конец, свободно висящего каната и держа под углом сомкнутые ноги,
быстро взбиралась под самый купол. Становилась в рамке трапеции и
оттуда, будто впервые заметив публику в зале, посылала во все стороны
торопливые воздушные поцелуи.
Зал отвечал приветственным ревом и сразу же смолкал.
Это Алиса начала свой номер.
Она никогда не пользовалась ни ло
́
нжей, ни страховочной сеткой. Это
допускалось правилами, ведь она работала «без отрыва от снаряда», как
говорят в цирке.
Но даже не очень слабонервные в публике нет-нет да и зажмуривали
глаза. Зал вскрикивал, стонал, поднимался над креслами, взрывался
рукоплесканиями.
И вдруг Алиса сорвалась с трапеции головой вниз — ах! — и повисла,
сильно раскачиваясь, в ужасающей вышине, зацепившись маленькой
ступней за угол снаряда, короткие светлые волосы заколыхались, как
приспущенный флаг.
Но вот подняла, нет, опустила руки, поправила прическу, сложила руки
на груди, закинула нога за ногу, словно сидит в мягком кресле и,
выгнувшись, раскачиваясь все медленней, смотрит с улыбкой на публику.
«Что, здорово испугались? Любите свою Алису, а?»
«Лю-бим! Лю-бим! Лю-бим!» — скандированно бьют аплодисменты. А
народная артистка, соскользнув по канату в центр манежа, раскланивается
во все стороны, и цирк сияет ей всеми огнями.
«Лю-бим! Лю-бим!»
Димдимыч загораживает ей путь с манежа: «Побудь еще немного с нами,
Алиса Польди».
«А разве здесь кто-нибудь есть, кроме нас двоих?» — кажется,
спрашивает она, склонив набок растрепанную головку.
«Да вот же, посмотри». — И Димдимыч широким жестом обводит зал.
«Ах, я и забыла... простите!» — И она снова бежит, торопясь вернуться в
центр манежа, и посылает во все стороны воздушные поцелуи. «И я люблю
вас. Люблю! Люблю!»
Воздушные поцелуи воздушной гимнастки,
Общая влюбленность в Алису началась еще с циркового училища.
Никаких фамильярностей Алиса не допускала — ее острый язычок так и
резал без ножа. Она была плоть от плоти цирка. Впервые вышла на манеж
пятилетней девочкой и скоро стала гордостью своей старой цирковой
фамилии. Первоклассная наездница, жонглерка, акробатка. Да, Алиса
Польди умела заставить уважать себя и на манеже и за его барьером.
Номер на трапеции был ее училищным дипломом. С тех пор Алиса
постоянно усложняла свой номер и довела его до степени
непревзойденного совершенства. Ни одни зарубежные гастроли нашего
цирка не обходились без нее.
Известные иностранные антрепренеры затевали друг против друга
рискованную игру, когда ставкой был беспроигрышный номер этой
советской воздушной гимнастки. Маленький глинобитный домик на берегу
Черного моря под Керчью, где жили воспоминаниями о цирке ее
престарелые родители, был превращен ими в музей Алисиных побед.
Роман еще с циркового училища был преданно, молчаливо и безнадежно
влюблен в Алису Польди.
Ленинград. Праздник белых ночей.
Коверный Ромашка впервые удостоился чести выступать в
прославленном ленинградском цирке, да еще в одной программе с Алисой.
После заключительного, прощального представления артисты гурьбой
отправились шататься по набережным.
На Ромашку накатило вдохновение. Его дурачества, фортели и
каламбуры буквально валили с ног испытанных на юмор цирковых.
Гуляли до утра, оттоптали ноги, охрипли от смеха, но расходиться не
хотелось.
Голодные, усталые, шумно ввалились в только что открывшийся
«поплавок». Сдвинули столы и потребовали все нехитрое меню сверху
донизу.
Кто-то сказал:
— Весело, как на свадьбе!
И решили в шутку сыграть свадьбу. Невестой выбрали Алису. А она сама
должна была подобрать для себя жениха.
Алиса внимательно и строго оглядела всю компанию. Мужчины
подтянулись.
— Роман, — сказала Алиса тоном, не терпящим возражений.
Можно было продолжать каламбурить. Например, сказать, что, наконец,
у Ались роман. Или что у воздушной гимнастки коверный роман. Или что
сначала Алиса должна оборвать с Ромашки все лепестки, чтоб узнать, любит
он ее или нет. Или...
Но у Романа язык прилип к нёбу Он онемел. Сидел рядом с Алисой и тупо
глядел в тарелку на нетронутый салат. А когда закричали «горько!», и
Алиса, решительно приблизив свое смеющееся лицо, поцеловала его в нос,
он едва не разрыдался.
Шуточная клоунская свадьба.
В гостинице он заснул кошмарным сном. Разбудил его звонок.
— Говорит Алиса Польди. Я жду тебя у загса. — И назвала адрес.
Он что-то промычал в трубку.
— Нет уж, изволь-ка явиться.
Сон продолжался наяву. Ни на мгновение не веря в реальность
происходящего, он все-таки поехал по названному адресу. И, потрясенный,
увидел Алису в белом платье. Так они стали мужем и женой.
Свадьбы настоящей тоже не было. Алиса сказала, что та шуточная
клоунская свадьба в «поплавке» на набережной и есть самая настоящая.
С той поры много невской воды утекло мимо высокой гранитной
набережной в море и дальше — в океан.
Цирковая семья только тогда семья, в принятом смысле этого слова,
когда муж и жена работают один номер.
Но купол цирка далеко от ковра. И Роман видел Алису хорошо два-три
месяца в году. За десять лет едва наберется два года совместной жизни.
«У меня с Алисой день считай за год», — грустно шутил Роман.
Он так привык к их скорым отъездам и внезапным приездам, что трудно
представлял себе другую семейную жизнь. Тосковал ли он по Алисе? Да. Его
любовь за эти годы не стала будничной и привычной, и, когда он из рядов
как простой зритель смотрел на воздушную гимнастку, то всегда с
искренним удивлением и восторгом думал:
«Господи, неужели это моя жена?»
А Польди, следя за антре своего коверного, смеялась, как ребенок, но
обязательного, строгого домашнего разбора своих новых реприз он и ждал
от нее и мучительно боялся.
Случилось, что они пробыли вдвоем неразлучно почти полгода. Они
потом условились никогда не вспоминать об этом вслух.
Во время выступления Алисы в варшавском цирке, когда она
стремительно закрутила свою знаменитую мельницу, штанга трапеции
оборвалась. Кусок пустой алюминиевой трубки, в которую забыли продеть
стальной трос, остался в руках гимнастки. Алису выбросило в сторону из-
под купола. Сальто, еще сальто, только бы не упасть в ряды...
Зрители не успели ничего понять, а она, Алиса Польди, крутясь в воздухе
и стараясь прийти на ноги, полетела к опилкам манежа.
Среди польских униформистов оказался старик, на счастье, бывший
гимнаст. Многолетний опыт, дремлющий в старых мышцах, не подвел,
сработал как надо. Старый гимнаст рванулся на манеж и успел пассировать
белую легкую фигурку, точным толчком с обеих рук изменив отвесный угол
падения над самым полом.
Алиса ударилась в барьер, вскочила, бросилась в центр манежа, отведя в
комплименте левую руку, приветствовала публику и убежала за форганг.
Зал, приняв все как должное, бушевал в восторге. А за форгангом на
ковровой дорожке без памяти лежала Алиса Польди, и старый гимнаст, стоя
на коленях, плача, целовал ее безжизненные руки.
Врачи определили три перелома — два правой руки и ключицы — и
тяжелое сотрясение мозга.
Романа вызвали в Варшаву.
Когда Алиса смогла ходить, они подолгу сидели на Старой площади,
кормили голубей и пили пиво в кабачке «Под крокодилом».
О случившемся несчастье они не разговаривали. Когда с Алисы сняли
гипс, Роман должен был вернуться домой. Провожая его, она сказала:
— Можешь быть уверен, Роман, ты еще увидишь воздушную гимнастку
Алису Польди. Даю тебе честное слово.
И свое слово Алиса сдержала.
Из подъезда с торпедной скоростью одна за другой вылетели две кошки.
На клетке допотопного лифта висела знакомая Роману до мелочей табличка
«На ремонте».
Поднимались медленно. Роман часто оскальзывался на ступеньках,
останавливался, повисал на перилах и разглагольствовал:
— Знаешь, как я представляю себе рай? Сплошной подъезд, вроде этого.
Лифт, конечно, не работает. Ступеньки, которым требуется зубной врач.
Полоумные кошки шмыгают. Постоянный запах кислой капусты, иногда для
разнообразия паленой резиной пахнет, а иногда арбузами. На первом этаже
какая-то подозрительная лужа — это обязательно! А я гуляю по лестнице и
звоню в любую дверь. И за каждой дверью — Алиса!
— А я? — ревниво поинтересовался Синицын.
— Ты, как друг, таскаешься по лестницам со мной. Разве не ясно?
— Ясно. Только я в аду.
— Акакойутебяад?
— Такой же, как у тебя рай. Только я звоню во все двери, а мне никто не
открывает.
— Брр! — затряс башкой Роман.
Они стояли перед дверью в его квартиру.
— Птица, повтори для меня эту свою гениальную рожу.
— Опять?!
— Мне нужно. Скорее.
Синицын повторил. Роман глубоко вздохнул, растроганно пролепетал:
— Спасибо, — и нажал кнопку звонка.
Дверь открылась.
За дверью стояла Алиса.
— Скажите, пожалуйста, — церемонно кланяясь, зажужжал Ромашка, —
это квартира народной артистки Советского Союза Алисы Польди?
— Нет, — отвечала Алиса. — Здесь живет великий клоун Роман
Самоновский. Но только он сейчас, к сожалению, не может к вам выйти. Он,
простите, совершенно пьян.
Потом Алиса варила им кофе, особенный, по аравийскому рецепту
разваривала кофейные зерна — Алиса вообще знала массу оригинальных
кулинарных рецептов — и слушала Синицына.
С тех пор, как Синицын подружился с Романом, у него вошло в привычку
все без утайки рассказывать о них двоих Алисе во время редких встреч.
О них двоих — потому что свою жизнь без Ромашкиной дружбы и
партнерства Синицын уже не мог себе представить.
— Сережа. — Алиса никогда не называла Синицына Птицей. — Сережа, я
все поняла, насколько может понять женщина, у которой никогда не было
детей. И, по-моему, нам, цирковым, лучше, честнее, что ли, оставаться
бездетными. Как это ни грустно. Я часто думаю об этом. Ведь я сама из
цирковой фамилии. Но прошли времена моих родителей, когда дети росли
прямо в цирке под ногами у взрослых, и цирк был для них домом, и школой,
и всем на свете. Теперь артисту приходится выбирать: его искусство или его
ребенок. Если артист хочет остаться артистом в полном, цирковом смысле
этого слова, а не просто остаться в цирке. Не таким, как ты, Сережа,
рассказывать, какое подвижничество наша работа. И ваш успех — я знаю,
читала, слышала — это только начало ваших настоящих мук, Сережа.
И в первый раз за этот вечер Синицын радостно рассмеялся и обнял
острые, обтянутые шерстяным свитером плечи этой удивительной
женщины. Вчера закончить гастроли в Лос-Анджелесе, шестнадцать часов
лететь над океаном, варить ночью кофе двум пьяным мужикам, а думать
только о цирке, каждую секунду жить только своим артистическим долгом.
— Но ты все равно сделаешь по-своему, Сережа. Я знаю.
Сели за широкий кухонный подоконник. После двух обжигающих
глотков необычайно душистого и крепкого кофе Синицын ощутил себя
абсолютно трезвым. Ромашка от кофе отказался наотрез. Пока Синицын с
Алисой разговаривали, счастливый супруг беспорядочно бродил по
квартире, отыскивая где-то им припрятанные и досадно позабытые
полбутылки вина.
Он ворвался в кухню, размахивая пыльной зеленой бутылкой, из которой
плескало во все стороны, и вопя о своей невероятной удаче.
— Нашел! В старом валенке нашел!
— Если ты на манеж теперь выходишь так темпераментно, — сказала
Алиса, — это прекрасно. Поздравляю. — И отняла у Ромашки вожделенную
бутылку. — Сейчас же пей кофе. Если будешь себя хорошо вести, тогда
посмотрим...
Роман глотал кофе и проигрывал чудовищное отвращение к этому
напитку. Допив, показал пустое дно чашки и потребовал за свои кофейные
муки немедленного вознаграждения.
Алиса протерла пыльную бутылку и достала три высоких стакана.
Ей пришлось долго шлепать Романа по рукам, но он не успокоился, пока
Алиса не разлила всем вино.
Подняли стаканы, но Алиса вдруг сказала:
— Я хочу видеть вас обоих сразу. Давайте перейдем за большой стол.
Только стаканы — чур! — не ставить.
В шесть рук перетащили все хозяйство в столовую. Уселись.
— Я скажу тост! — заорал Роман.
— Нет, скажу я. А вы будете слушать.
Алиса вдруг побледнела, губы сжались в бескровную полоску, глаза
смотрели в лица друзей с гипнотической прямотой.
— Клоуны! — Голос Алисы заметался в дружеском треугольнике,
ударяясь прямо в сжавшиеся дурным предчувствием сердца мужчин. —
Милые мои клоуны! Сегодня мы навсегда прощаемся с замечательной, да,
замечательной — мы все трое это знаем, — с замечательной цирковой
артисткой Алисой Энриковной Польди. Прошу встать!
И щелкнула языком, как шамбарьером, — ап!
Мужчины вскочили, не веря своим ушам.
Роман смотрел на нее, растеряв за эти минуты и опьянение и веселость.
— Алиса, любовь моя...
Она со стуком поставила пустой стакан.
— Ромашка, милый... Мальчики... если бы вы видели... вчера в первый раз
за всю свою жизнь... на публике... в первый раз я пристегнула лонжу.
Она опустилась на стул и устремила взгляд далеко-далеко — куда?
Может быть, на стенки в маленьком белом домике на берегу Черного моря.
— Алисочка, — утешал Роман, не решаясь к ней прикоснуться. — Ну что
ты, Алисочка... Ты же гениальная... займешься дрессурой, будешь дама с
собачками. — А сам ронял слезы и шмыгал носом.
— Не надо, мой хороший... Всему когда-то приходит конец.
.. . Синицына оставили ночевать в кухне на раскладушке.
выход пятый
День не задался с самого утра. Опять к телефону подошла Мальва
Николаевна и протрубила свое «алло».
Не завтракая, помчались к царю Леониду за машиной, но все-таки
опоздали на утреннее представление. Спасибо, Димдимыч догадался
переставить номера.
Топали за кулисы вокруг всего зала по пустому фойе.
Смешная они пара — Синицын с Ромашкой. Даже на улице, не зная, что
это клоуны, их провожают улыбками.
Сергей Синицын, гривастый, как лев, высокий, угловатый, шагает
широко, твердо опуская ногу на каблук и слегка косолапя. Но в этой на
первый взгляд нескладности его длинной фигуры таится особенная
пластика, даже элегантность движений, в полной мере оживающая на
манеже, когда Синицын облачается в белый костюм Белого клоуна.
Роман — маленький, крепкий, приземистый, можно сказать, массивный.
Но кажется совершенно невесомым благодаря своей прыгающей походке.
Эта походка создавала впечатление физической несолидности, почти
неполноценности. У людей, не знающих Романа, даже вызывала к нему
недоверие и подозрительность: чего, мол, он так подпрыгивает, с какой
стати?
Но для клоуна Самоновского его несолидность была даром божьим: по
манежу он скакал легко, как мячик.
Синицын говорит медленно, голос глуховатый, тембр такой, что ни с кем
не спутаешь, А Ромашка так и чешет языком, заливисто, звонко.
И в гриме Рыжего физиономия Ромашки такая же, как в жизни: с лукаво
шаловливыми, близко поставленными глазами и пухлыми щеками, только
нос, конечно, нормальный, не красный.
Пока поспешно одевались и гримировались, Ромашка волновался:
— Я с тобой поеду за мальчишкой. Как договорились, ладно?
Отыграли последнюю репризу и, не кланяясь, убежали с манежа.
Роман остановился зачем-то с Рюминым, а Синицын уже начал
подниматься по узкой чугунной лестнице, когда сверху, отбросив его в
сторону, пронеслись какие-то очень знакомые женщины в оранжевых трико
с большими блестками, и бегущая последней неожиданно больно прижала
его к перилам, и он близко-близко увидел грустные дымчатые глаза.
По-мужски тяжелая рука опустилась ему на плечо, и Полинин голос тихо
спросил:
— Ну что, Птица-Синица, как живешь со своими бутербродами?
И, не дожидаясь ответа, Полина Челубеева сбежала вниз, где Ромашка
«пудрил мозг» силовому жонглеру Рюмину.
— Угадай, — предлагал Ромашка. — Почему мозг клоуна стоит 10 копеек
за килограмм, а мозг силового жонглера 10 тысяч за один только грамм?
Почему такая несправедливость?
Рюмин был в большом затруднении, и Ромашка спешил ему на выручку:
— Потому что мозги силовых жонглеров — это диф-цит? Понял?
Силового жонглера Рюмина в цирке знали «Ващета». Так он произносил
мусорное словечко «вообще-то», вставляя его в свою речь кстати и
некстати.
Вне манежа Рюмин во всякое время года носил обтяжные рубахи-
сеточки с короткими рукавами, чтобы заметней вырисовывалась
мускулатура. Молодые секретарши из управления Госцирков были от него
без ума.
Рюмин заметил встречу Полины и Сергея и, загородив Полине дорогу,
бросил Синицыну:
— Оставь ее, Академик. Не твой это размер. Мне бы такую нижнюю, я бы,
ващета...
Брякнул-таки, умник.
У Полины, не слишком брезгливой к разным словечкам, залилась
краской шея. Она оттолкнула Рюмина и ушла, не обернувшись. А у
Синицына в груди и в животе стало как-то прохладно Он знал, что это для
него предвещает. Медленно спустился с лесенки и скучным голосом
признался:
— Ващета, а ведь за мной должок.
Физиономия Ващеты отразила непомерное умственное усилие.
— Что-то не припомню. А, ващета, давай!
И получил.
Ващета был настолько уверен в своем физическом превосходстве, что не
сразу сообразил, что его бьют, и бьют старательно.
Они налетели на него оба — Белый и Рыжий, и хлесткие их оплеухи
сыпались, как удары бича. Рюмин загребал воздух руками, стараясь
заграбастать клоунов и подмять под себя. Униформисты их растащили, но
под занавес Рюмин угадал боднуть Синицына головой в лицо.
Оркестр уже наяривал марш на выход силового жонглера. Димдимыч
утирал Рюмину физиономию своим белоснежным платком.
— Задушу гадов... — пы хтел Рюмин.
— Тихо. Выход. Ну?!
С Димдимычем не спорят. Ващета покорно пошел на манеж. Обогнав его,
скользнул Димдимыч, взметнув фалды безупречного фрака. И за кулисами
раздался слегка приглушенный тяжелыми портьерами торжественно-
ясный голос «шпреха»:
— Лауреат международных конкурсов силовой жонглер Валерий Рюмин!
Оркестр заиграл из «Чио-Чио-сан», значит, Ващета приступил к своему
номеру.
И тут Синицын увидел, что их окружает целая толпа артистов. Не было
только Полины. И в воздухе повисла таинственная фраза:
— Накрылись ваши зарубежные гастроли,
Не в силах удержать понятную одному ему радость, фокусник-
иллюзионист Альберт Липкин показал клоунам свои гнилые зубы.
— Всегда-то вы преувеличиваете наши скромные достижения, Альберт
Ефимович, — спокойно ответил Липкину возникший из-за портьеры
Димдимыч. — А ведь ничего и не было. Лично я, как председатель месткома,
ничего такого не видел. И если других мнений на чужой счет нет — все по
местам!
И толпа растаяла.
В гримерной Ромашка старательно замаскировал на скуле Синицына
очень качественный синяк.
— Ну, посмотри, Птица. Ты опять очень красивый, прямо как Димдимыч.
А? Ювелирная работа! Дай запудрю.
Синицын критически осмотрел себя в зеркало;
— Хорошо, что очки. За очками почти совсем незаметно.
Еще задержались, чтобы позвонить Баттербардтам со служебного входа.
Безрезультатно.
Садились в машину между цирком и Центральным рынком, в тупичке,
где цирковым разрешают оставлять личный транспорт.
— Синицын! Сергей! Синицын!
Незнакомая женщина бежала к нему, лавируя между прохожими,
придерживая рукой короткую дубленку, накинутую на плечи. Копна
курчавых волос, красные брюки... Лариса!
Он смотрел в ее умело подкрашенное располневшее лицо, вдыхал
приторно сладкий, крепкий запах духов.
— Не узнал?
— Узнал. Здравствуй.
— Здравствуй, Синицын.
Она скользнула взглядом по красному «Запорожцу».
— Твое хозяйство?
— Мое.
Ромашка, поймав взгляд Ларисы, взял за стеклом под козырек.
— Это мой партнер Роман. Самоновский. Ты смотрела представление?
— Да нет. Заехали вот на Центральный.
— Понятно. Фруктов захотелось?
Она подняла в руке полиэтиленовый пакетик, где, как шары в
лотерейном барабане, теснились яблочки.
— Представляешь, мне вдруг ужасно захотелось маринованных яблок. —
И Лариса быстро оглянулась.
На той стороне улицы у решетки бульвара бежевые «Жигули» с черной
крышей «под кожу». Около них стильный балбес закуривает. И очки на
балбесе темные, фирменные. Такие, кажется, «макнамара» называются. И
через эту «макнамару» балбес поглядывает на Синицына.
— Ты замужем?
— Обязательно. — Лариса парадно улыбнулась. — А ты женат? Есть
детишки?
— Есть. — Синицын озабоченно сморщил лоб. — Четверо. — И, глядя в ее
округлившиеся глаза, добавил: —Три девочки, остальные пятеро —
мальчики. И все, само собой, близнецы.
Лариса громко расхохоталась.
— А ты, Синицын, все такой же мальчишка.
— Да! — сказал Синицын. И, вдруг качнувшись всем телом, звонко
чмокнул ее в щеку, словно клюнул,
— Ты с ума сошел!
Махнула на него толстым пакетиком и побежала к своему «макнамаре».
Уже от самых «Жигулей» крикнула на всю улицу:
— У вас, товарищ Синицын, синяк под глазом! Кто это вас так, а?
Синицын втиснулся за руль и вылетел на проезжую часть. Он вел
машину скоро, уверенно, механически реагируя на дорожные знаки,
сигналы светофоров, маневры других автомобилей.
«Непорядок, — размышлял Синицын, — одни — вот как мы с Ларисой —
могли родить ребенка, даже не понимая, не ведая, что творим. А другие
люди за чужими детьми в очереди стоят, как во время войны стояли за
куском хлеба. Почему его мать одинокая тянула, не оставила годовалого
ребенка каким-нибудь людям вроде него с Лёсей? Растила в муках, не
вышла замуж из-за него, Сергея. Наверное, боялась, что мужик попадется
бессовестный. Бессовестные мужики — они страшней войны, от них лучше
подальше. Или стрелять их, как бешеных собак, но тогда население сильно
поубавится».
Синицын резко тормознул. Ромашка стукнулся лбом о стекло.
— Машина пожарная, но пожара пока нигде не видно, господин
брандмейстер, —резонно заметил Ромашка.
«Что это значит — остаться матерью-одиночкой? Землю надо целовать
под ногами таких матерей».
— Послушай, Ромашка, а ведь Мария, матерь божья, если разобраться
хорошенько, тоже была мать-одиночка.
— А старый плотник?
— Таким женщинам, как Мария, не обязательно иметь под рукой старого
плотника. Им пророка родить обязательно.
— Аминь! — сказал Ромашка,
Они подъехали к детдому.
Молодая воспитательница, увидев Синицына, покраснела и захихикала.
— Вам попало за меня? — спросил Синицын.
— Не очень. — И, видно, вспомнив, как все тогда было, ухватилась
руками за косынку и, не в силах сдержаться, расхохоталась в голос.
— Вы это тогда нарочно?
— Ну, как вам сказать...
Еще раз проверили бумаги. Синицын все заранее заполнил, как
полагается,
— Будете брать?
— Будем брать! — сказал Синицын и сделал зверское лицо.
Воспитательница снова рассмеялась. Опять шли по коридору мимо
одинаковых дверей.
— Сюда, — показала воспитательница, и Синицын переступил за ней
порог большой светлой комнаты, где все стены были размалеваны
медведями, зайцами, пятнистыми грибами-мухоморами и всякой яркой
дребеденью. Едва он вступил в комнату, к нему со всех сторон бросились
маленькие человечки, окружили его тесным кольцом, облепили ему ноги.
Как показалось Синицыну, совершенно одинаковые лица сияли ему
блестящими неморгающими глазами и улыбались похожими щербатыми
улыбками.
— Это ты?! Ты опять пришел?! — кричали человечки оглушительно
громко.
И тут Синицын увидел, как через эту густо облепившую его толпу
одинаковых человечков яростно пробивается белобровый щекастый
толстячок, весь багровый от неимоверных усилий, и не может никак
пробиться.
— Пустите меня! Это мой, мой папа!
— Ванька! — позвал Синицын, поймав отчаянный взгляд бирюзовых
вытаращенных глаз. Сказал и не узнал своего голоса.
Синицын перегнулся через толпу, схватил толстяка за руку, плавно
дернул на себя и выпрямился.
Истошный крик внезапно сменился полной тишиной.
Ванька сидел у Синицына на руках. На круглой Ванькиной щеке висела
большая, уже ненужная слеза.
— Я тебя знаю, — сказал Ванька Синицыну. — Ты мой папа-клоун.
выход шестой
Всю дорогу Роман приставал к Ваньке.
— У тебя, брат, щеки скоро нос задавят.
— Не задавят, — не сдавался Ванька.
— Это почему же?
— А потому, что они дружат.
— Кто дружит?
— Нос со щеками.
— А как твоя фамилия, ты знаешь?
— Знаю, Синицын. А твоя?
— А моя Самоновский. Хочешь, и я буду твоим папой? Я ведь тоже клоун.
— Нет, — сказал Ванька, подумав. — Двух папов не бывает. — И тихонько
чему-то своему рассмеялся.
— Ну, я буду немножко папой, можно?
— Немножко можно! — великодушно согласился Ванька.
Синицын ревниво вмешался:
— Вань, а ты знаешь, куда мы едем?
— Домой, — неуверенно протянул мальчик и с тревогой посмотрел на
Роллана.
— Правильно, Ванька, домой, — поспешил заверить Синицын. — В
Орехово-Борисово.
— Там орехи есть? — удивленно, с надеждой предположил Ванька.
— Орехов нет, но Борисов, наверное, достаточно.
На Каширском шоссе вдруг оттепель — слякотная грязь, вылетая из-под
колес бесчисленных грузовиков, стала залеплять стекло. Синицын пустил
щетки.
— Ты Буратино знаешь? — опять пристал Ромашка.
— Буратино — это с носом, — авторитетно отозвался Ванька.
— Помнишь, Буратино попал в страну дураков?
Мальчик утвердительно кивнул.
— Так вот: Орехово-Борисово и есть эта самая страна дураков.
— Это как понимать? — почти обиженно поинтересовался Синицын.
— Очень просто: когда в Москве мороз, в Орехове-Борисове оттепель. В
Москве проливной дождь — в Орехове-Борисове солнце сияет. В Москве
академики живут, а в Орехове-Борисове — клоун Синицын.
— Не порть мне ребенка, — сказал Синицын.
И оба клоуна дружно расхохотались, а Ванька обхватил Синицына
обеими руками сзади за шею и, веселясь, завизжал, тоненько, пронзительно
и протяжно.
Выгружались около дома.
Роман сказал Ваньке:
— Ну, Ваня Синицын, рассмотри хорошенько, какая у вас с папой машина.
Мальчишка медленно двинулся вокруг «Запорожца», ведя рукой по
корпусу и приседая, чтоб разглядеть свое неясное отражение в красных
боках.
— Птица, — горячо зашептал Ромашка, — ты догадался снять Лёсину
фотографию?
И Синицыну очень зримо представился большой портрет Лёси, всегда
улыбающейся ему со стены их однокомнатной квартиры. Он стиснул зубы
так крепко, что они скрипнули.
— Ты что-нибудь имеешь против Лёси?
— Ты же знаешь — ничего. Но подумай сам, Птица.
«Ай да Роман», — подумал Синицын.
— Папа, ты пожарный клоун? — спросил, подходя, мальчишка.
— Пожарный, — сказал Синицын, — горю ясным огнем. А ну, кто скорей?
И, подхватив чемоданчик, тючок с Ванькиной одеждой, бегом скрылся в
подъезде. Когда Роман с мальчишкой вбежали в парадное, то вызывная
кнопка лифта уже светила красным огоньком.
Синицын прятал Лесин портрет за холодильник — и вдруг увидел на
кухонном столе записку:
«Сережа! Я умолила папу заехать перед нашим отлетом. Тебя нет дома,
ждать мы не можем. Самолет из Шереметьева 16.40, рейс...»
Синицын взглянул на кошачьи ходики. 16.55.
Во рту сделалось отвратительно горько. Он облизал пересохшие губы.
«Почему ты не звонил? Ведь ты знал, что я сегодня уезжаю. Если будет с
кем переслать письмо — напишу. Где ты все время пропадаешь, я ненавижу
твой цирк. Убегаю. Целую 1000 — Лёся». И ни слова о Ваньке, ни слова!
— А где моя мама? — Ванька и Роман стояли в дверях кухни. Кошка на
ходиках дергала глазами: туда — сюда, туда — сюда.
— Мама скоро приедет, — сказал Синицын. — Раздень его, Роман,
пожалуйста.
Ванька знакомился с комнатой, пока друзья наскоро готовили на кухне
клоунский обед: на первое — второе, а на третье — по сигарете.
То и дело из комнаты долетал Ванькин голос:
— Я ничего не трогаю, я только глазками, только глазками...
— Воспитанный мальчик, — заметил Ромашка.
Когда накрыли на стол и Синицын позвал Ваньку, ответа не было.
Синицын вошел в комнату. Сон, видимо, сразил Ваньку внезапно. Он лежал
ничком на полу у кровати, в пухлом кулачке была стиснута статуэтка Чарли
Чаплина, у которой Ванька уже успел оторвать голову.
Уходя, Ромашка сказал:
— Птица, этот Липкин — большой фокусник. Он ничего не говорит
просто так. На какие это наши зарубежные гастроли он намекал? Ась?
выход седьмой
Среди ночи Ванька пробудился и «дал ревака». Требовал какую-то
загадочную «Вералавну».
Синицын, плохо соображая спросонья, с трудом догадался, что это,
должно быть, одна из любимых малышом детдомовских воспитательниц
или нянечек.
Утешал Ваньку, как мог. Наконец, Ванька потребовал пить, потом пи
́
сать,
потом опять пить и так же неожиданно, как разревелся, буйно развеселился.
Он подпрыгивал на животе у Синицына, воображая себя лихим
наездником, заливался беспричинным хохотом, показывал Синицыну, как
он делает «мостик» и умеет засовывать большой палец ноги в свой
щербатый рот. Уже под утро предложил Синицыну «немножко подраться
подушками». Закончил свою ночную гастроль горькой обидой на папу,
который, как выяснилось, дрался подушками «неправильно, потому что
больно», немножко поревел и блаженно заснул.
Синицын еще полежал в обморочном состоянии, потом поднялся с
головной болью, разбитый, и стал готовить завтрак. За завтраком
обнаружилось, что Ванька томительно долго сидит за едой. Он набивал себе
пищу за толстые щеки и замирал, что-то одному ему известное обдумывая и
не утруждаясь жевать. Синицын нервно посматривал на часы и сам
запихнул в малыша последнюю ложку каши.
— Слава богу! — в сердцах произнес Синицын.
— Не слава богу, — промямлил Ванька с набитым ртом, — а слава труду.
Первый человек, которого Синицын встретил в цирке, был Димдимыч.
Хоть и в партикулярном платье, Димдимыч держался фрачно. Склонил
величественно голову, продемонстрировав Синицыну идеально прямой
пробор, протянул Ваньке большую белую руку, которую тот не замедлил,
как мог, пожать, и концертно провозгласил:
— Ты, Синицын, молодец, и сын у тебя будет молодец. Поздравляю!
И, печатая шаги, удалился. Даже не все из цирковых знали, что
Димдимыч, успешный в прошлом артист, прямо из цирка ушел на фронт с
конной группой Туганова и, служа в кавалерии, в лавовой атаке под
Сталинградом лишился правой ноги выше колена. Чего стоило этому
красивому, невозмутимому человеку возвращение к цирковой работе, знал
только он один.
В гримерной Роман, многозначительно подмигивая и нервно
оглядываясь на малейший шорох, шепотом объявил, что у него есть
«новость со знаком качества».
Завязали Ваньке под подбородок большое чистое полотенце и велели
гримироваться на свой вкус.
В минуту мальчик сделался похож на солнечный спектр. Но решили, что
это только начальный эскиз.
Сами клоуны обсуждали новость.
Да, фокусник знал, что говорит. Намечено гастрольное турне. Большая
сборная программа. Три их лучшие антре включены. Это точно! Уже все
подписано на самом верху. Турне начнется через две недели и пройдет по
четырем странам.
— Угадай, какая первая? — Глаза у Ромашки так и лезли из орбит.
— Остров Пасхи.
— Идиот! Канада!!!
Синицын опрокинул стул, заграбастал Ромашку в объятия, и клоуны, к
полному восторгу радужного существа, которое еще совсем недавно было
мальчиком Ваней, исполнили в гримерной что-то вроде «танго смерти».
Синицын до мелочей представил себе встречу с Лёсей.
В Монреаль приезжает советский цирк. Повсюду афиши. Лёся видит их
имена и мчится к ним в отель. Но их нет. Они будут прятаться от нее в
цирке. Конечно, все советские, которые сейчас в Монреале, приходят на
представление. Лёся садится в первый ряд. Два антре прошли — Лёсю он не
замечает. И только в третьем Белый клоун вдруг видит белокурую женщину
в первом ряду... Это будет грандиозно! Она все вспомнит... А после
представления он скажет ей о Ваньке.
Да, а что же будет с Ванькой, когда Синицын уедет в Канаду? Не
возвращать же мальчишку, хотя бы на время, в детдом?
Роман успокоил. Все уладится. Он уже продумал это за Синицына. Алиса
взяла творческий отпуск на год. Роман уговорил ее заняться дрессурой.
Теперь она подыскивает для себя собак. Оказывается, «дама с собачками» ей
тогда запала в душу. На время гастролей Ванька будет жить у них. Алиса
согласна.
— А ты сам знаешь, Птица, что такое Алисино «да» или Алисино «нет».
В гримерную вступил Димдимыч.
Одобрил Ванькины художества и сделал официальное объявление о
предстоящих гастролях — повторил слово в слово то, что рассказал
Ромашка.
И добавил: через день соберутся все исполнители сборной гастрольной
программы. Назначаются общие репетиции. Теперешняя программа пойдет
уже без них. Послезавтра им дается выходной. Димдимыч желает друзьям
весело и полезно провести свободный день.
Отмыть Ваньку как следует не удалось, поэтому он смотрел папу и дядю
Романа с осветительской площадки.
Клоуны опасались, что малыш начнет во время действия громко
выкликать их по именам или во всеуслышание протестовать, когда Белый
клоун навешивает Рыжему звонкие апачи.
Но ничего подобного не произошло. Возможно, помогла
предварительная беседа и уверения, что все ссоры и оплеухи будут
«понарошку».
В награду за хорошее поведение в зале Синицын повел Ваньку за кулисы
смотреть зверей. Ванька крепко держал Синицына за руку и поглядывал на
него снизу вверх с немым обожанием. Даже зверей смотрел без особого
увлечения.
Но тигр Ваньку все-таки покорил.
Долго наблюдали, как полосатый зверюга мотается по клетке из угла в
угол, вывалив между желтых клыков широкий розовый язык.
— Папочка, почему он язык высунул?
— Ему жарко.
— А почему он не снимет шубу?
Папочка Синицын растерялся. Сын Ваня ответил за него:
— Он же не может. У него нет рук — одни ноги.
Правильно ответил. Репризно.
антракт
Синицын, само собой, за рулем. Рядом Ромашка, задавленный большой
дорожной сумкой со всякой снедью. Чудеса Алисиной кулинарии в
маленьких из-под майонеза баночках и в банках побольше, в которых когда-
то мокли в мутно-зеленом рассоле пузырчатые «огирки», или
маринованные грибы-боровички выглядывали на свет, расплющив о стекло
края розоватых шляпок, или разрезанные пополам груши привлекали
лакомок, вызывая во рту приторный вкус компотной сладости.
Сейчас, закрытые пластмассовыми крышками, а то и просто
прихлопнутые листами чистой бумаги и перехваченные вокруг горла
черными резиновыми колечками или обрывками шпагата, наполненные
новым для них содержанием, банки прижимались друг к другу
стеклянными боками и умещались в два ряда — банка на банке. Почетное
место в середине сумки занимал высокий и толстый, расписанный
красными розами по голубому фону термос с металлическим, туго
завинченным стаканом наверху. Стакан был слегка помят. В него
многократно наливали горячий чай или подслащенный кофе и часто
роняли стакан на пол, ожегши пальцы и не уставая удивляться, что термос
так хорошо и долго держит тепло.
Еще в сумке пряталась белая эмалированная кастрюля, крышка которой
была хитро прижата веревочкой, пропущенной в скобку кастрюльной
крышки и на растяжку привязанной к ручкам.
Поверх кастрюльки, упакованная в клетчатую большую салфетку,
побрякивала посуда: четыре чашки, четыре тарелки и миска. Нож, ложка и
вилки лежали на самом дне сумки, отдельно, в другой клетчатой салфетке.
Кроме этого, поверх банок и посуды в сумку были сложены свертки и
сверточки, в самой разной на вид и на ощупь бумаге: в тонкой,
промасленной и хрустящей, и в газетной, и в мягкой рябоватой, желто-
серой — оберточной. Кое-где на свертках проступали влажные пятна.
Что не влезло в дорожную сумку, стояло в ногах у Ромашки. Сок —
томатный и яблочный — и минеральная вода в бутылках разместились в
авоське с завязанными узлом ручками. Хлеб — белый и черный — сложен у
заднего стекла за спинкой сиденья. На сиденье — в тесноте, да не в обиде —
два новых пуделя Алисы, сама Алиса Польди и, конечно, Ванька.
Еще под крышкой багажника прихлопнуты новые санки, с которыми
Ваньке предстоит сегодня дебютировать.
А зима-то идет на убыль. Небо безоблачно голубое. Темное шоссе влажно
блестит под лучами раннего солнца.
По обе стороны от шоссе снег окрашен бурой грязью, бензиновой
копотью снующих на асфальте машин. Но чуть дальше, там, где тянутся
вдоль дороги ряды березок, снег ослепительно белый, искристый, не
тронутый ни людьми, ни капризами погоды — чистый, холодный снег.
Кое-где на тонких ветках берез удержались листочки с прошлогодней
осени. Сейчас они скрючились, почернели, но все еще держатся за ветку.
Хочется им, насквозь промерзшим, дожить до настоящего тепла. Даром, что
ли, перетерпели они долгую зиму, а теперь-то совсем немного осталось.
Один такой даже желтый осенний цвет сохранил. А вот еще два желтеют
— один на белом фоне, другой на голубом.
Синицын съехал на обочину.
— Ты чего останавливаешься?
— Очки темные надеть. Слепит очень.
Выбрался из сиденья на асфальт, потянулся, стал разминать ноги.
— «Запорожец» — хорошо, а олени лучше, — пропел Роман из-под сумки.
— Помолчи, Ромашка. И ты, Сережа, не скачи, как козел. Вы лучше
послушайте, какая тут тишина!
Они замолчали, замерли, и тишина, забытая ими тишина, которая всегда
таится у самого горизонта за синим лесом, раскинув над заснеженными
полями невидимые, далеко окрест звенящие крылья, прилетела к ним. А
потом зашуршала этими крыльями все слышней, все ближе.
А потом послышались такие слова:
— .. . некрашеные по сию пору стоят, а я ему говорю...
Два колхозника в потертых ватниках проследовали рядком, огибая
Синицына, мерно накручивая педали, — один в сапогах, другой в валенках с
галошами, — и оба на велосипедах.
До половины обмотанная холстиной и прикрученная к велосипедному
багажничку, покачиваясь, тонко вызванивала двуручная пила.
— Ты б, говорю, Петя, — громко продолжал хозяин пилы, мимоездом
оглядывая Синицына, — съездил бы ты в город, купил емали етой, —
велосипедисты проехали, — баллона два-а. . .аааа! — послышалось уже
издали, и улетел за горизонт обрывок чужого, случайного разговора.
Колхозники быстро удалялись, накручивая педали, двигая ногами
медленно, словно под водой, пока, уменьшаясь, совсем не пропали из глаз.
Растворились в тишине. Только звон остался, далекий-далекий.
Опять выехали на шоссе, проскочили мост через Москву-реку, обогнали
обоих велосипедистов, потом ехали по прямой между берегом и лесом,
свернули в гору мимо сплошного зеленого казенного забора, по пустому
дачному поселку. Сползли с крутого спуска, обогнули еще один зеленый
забор и уткнулись в накренившийся столб с облупленным круглым знаком
«проезд воспрещен».
Выпустили собак, вылезли сами, достали из багажника санки. Синицын
подогнал машину под самый забор и запер дверцы. Пошли по узенькой,
протоптанной в снегу тропинке вдоль берега реки. Впереди Алиса,
придерживая Ваньку за воротник шубки, за ней Роман, за ним Синицын
тащил на себе санки. Пудели, повизгивая от радости, по уши проваливаясь в
снег, скакали по целине.
А вот и киоск, закрытый на зиму фанерными щитами, унылый и забытый
до летнего пляжного сезона, гостеприимный старый киоск.
А летом зеленый, тенистый берег Москвы-реки будет опять заставлен
автомобилями всех цветов и всех марок мира. И разморенный на жаре
милиционер будет лениво, но неумолимо прогонять отсюда машины с
московскими номерами: «Пешком — пожалуйста, а колеса только для
гостей. Зона отдыха дипкорпуса как-никак».
И у открытого, заваленного закусками киоска, и вокруг большого,
горячего, установленного на простом деревянном столе самовара, и по
всему берегу, и на сероватом речном песчаном пляже, и в прохладной,
неглубокой, неторопливой воде будут барахтаться и плавать, стоять,
сидеть, ходить, лежать, есть и пить, петь, курить, смеяться, болтать и
блаженно помалкивать разноязычные и разноликие люди со всех концов
земли,
И наши московские детишки будут заводить случайные летние
знакомства с миниатюрными, похожими на веселые живые игрушки
япончиками, и с благовоспитанными немецкими «киндерами», и с
разбитными маленькими американцами, и с черными общительными
малышами Африки.
Всего триста шагов по прибрежному песку, траве; сосны, заросли бузины,
три-четыре старые ивы — и всем, собравшимся здесь в ясный солнечный
день людям не тесно, а привольно, спокойно и весело.
Маленькая модель будущего человеческого мира. Только когда, когда же
это будет?..
— Почему меня никто не встречает? Где мои советники? — шутовски
негодовал Ромашка. — Ведь я не кто-нибудь, а пресс-папье французского
посольства!
Тут около киоска очень подходящая горка. Вскарабкались повыше,
хватаясь руками за сосновые стволы. Синицын втащил Ваньку просто
волоком.
Кто-то недавно съезжал с этой горки на лыжах, еще лыжня сохранилась,
как раз на ширину полозьев.
Утоптали снег, поставили санки, С вершины горка казалась выше, чем от
подножия,
— Сначала должен съехать кто-нибудь из взрослых, — объявила Алиса.
— Это должен быть сильный, смелый человек, привыкший к трудностям,
— подхватил Ромашка.
— Такой человек есть! — крикнул Синицын и занес ногу над санками.
Но Ромашка уже успел плюхнуться на дощатую спинку. Синицын всем
весом обрушился на Ромашкины покатые плечи, полозья скрипнули, и
санки, набирая скорость, понеслись по твердой лыжне, вихляя между
стволов и вздымая снежную пыль.
— Задержите старт! — задушенным голосом взмолился Роман,
вцепившись коченеющими пальцами в железный передок саней. — Я забыл
фотографию любимой жены!..
Скорость все возрастала.
— Внимание! Выходим в открытый космос! — крикнул сверху Синицын.
Санки подбросило, полозья выскочили из лыжни, и друзья увидели, что
киоск, который должен был оставаться справа, вдруг почему-то нахально
встал на пути и начал расти, как на дрожжах.
— Катапультируйся! — басом заорал Ромашка
— Земля, Земля, — тонким голосом заверещал Синицын, которому
снежной пылью залепило очки. — Земля, ничего не вижу, дайте совет...
И санки с разлету врезались в киоск. Ромашка едва успел отдернуть руки.
Фанерный щит получил три мощных удара: сначала передком саней, потом
Ромашкиной головой и — завершающий — левой коленкой Синицына.
Дробное эхо покатилось над замерзшей рекой.
Клоуны барахтались в снегу по обе стороны от санок, не в силах
подняться, потому что их атаковали обезумевшие пудели. Очки Синицына
Ромашка аккуратно снял с куста недалеко от киоска. Когда — один хромая,
а другой прикладывая к голове снег — они залезли на горку, Алиса, обняв
древесный ствол, сотрясалась от смеха, а Ванька воодушевленно заявил:
— Я тоже хочу, как папа!
— Ванечка, — сказал Синицын, осторожно ощупывая колено, — это мы
тебе показали, как не надо кататься...
— Да, — поддержал Ромашка, — лучше не надо. А сейчас тетя Алиса
утрет слезки и покажет, как надо.
— Поедем, Ванечка. Ну их совсем, клоунов. — Алиса сняла свой длинный
шарф, перекинула через передок саней, усадила малыша, села сама, намотав
на руку концы шарфа, оттолкнулась, и санки стремительно заскользили
вниз, точно следуя поворотам старой лыжни. Миновали киоск, вылетели на
бугор, съехали в прогалину между кустов и, замедляя бег, остановились на
засыпанном снегом пляже.
Алиса, обернувшись, крикнула:
— Не слышу аплодисментов нашему дебютанту!
И клоуны, забыв про ушибы, устроили настоящую овацию в четыре руки.
Потом катались по очереди, по одному и попарно, сидя, лежа и даже стоя
пробовали, удерживая баланс с помощью Алисиного шарфа.
Вывалялись в снегу, опьянели от морозного воздуха, проголодались и с
раскрасневшимися лицами вернулись к машине,
Жадно вкушали Алисины чудеса и, к горделивой радости Алисы, горячо
внушали друг другу, что ничего вкуснее не пробовали. Все банки, баночки,
кастрюльку и термос опустошили дочиста. И свертки не пощадили. Одна
бутылка минеральной осталась
— Сейчас бы спать завалиться!
— Смотри, за рулем не засни, Птица прожорливая.
— А вы мне по дороге рассказывайте что-нибудь замечательное!
Ванька скоро уснул, положив голову на Алисины колени. Собаки тоже
подремывали.
— Ну, кто будет рассказывать?
— Я расскажу, — вызвалась Алиса.
рассказ Алисы
про белую ворону
Давно это было. До войны. Но я все хорошо помню. Отец повел меня в
зоопарк. Меня очень влекли птицы, В птичьем павильоне, кроме нас с
отцом, ходил еще какой-то старик: белая борода, широкополая соломенная
шляпа и большой альбом под мышкой. Старик мне очень понравился, я все
гадала, что у него в альбоме такое? А старик заметил, как я на него
поглядываю, и подошел.
— Как тебя зовут? — спрашивает.
— Алиса.
— А на кого ты похожа?
— На папу.
— Нет, — говорит старик, — ты похожа на маленькую цветную свечку,
которую зажгли в темной комнате на новогодней елке.
Я почему-то очень смутилась, а старик опять спрашивает:
— Как ты думаешь, — говорит, — какая птица самая красивая?
— Не знаю, — говорю, — наверное лебедь?
— Нет. — Старик покачал головой
— Тогда павлин.
— Нет. Никогда!
— Но ведь не попугай же?
Старик смеется:
— Нет, конечно. — А потом говорит: — Самая красивая на свете птица —
белая ворона.
Я на папу посмотрела тогда, а он ничего, молчит, слушает старика.
— Почему белая ворона? — спрашиваю
— А потому, — отвечает старик, — что она исключение. Можно увидеть
стаю лебедей, семью павлинов, компанию страусов. Но никто никогда не
видел целую стаю белых ворон. Да этого и не может быть. Тогда все
потеряет смысл.
Старик выставил вперед бороду и оглядел нас вызывающе. Но мы не
возражали
— Белой вороной нельзя стать по желанию, — воскликнул старик. —
Нужно призвание, талант! Белой вороной нужно родиться. Конечно, любая
ворона может вываляться в муке, выпачкаться в мелу, выкраситься
белилами. Многие обыкновенные вороны так и делают. Но они не белые —
они ряженые. И белую ворону можно очернить, но сделать ее черной
невозможно. Она белая ворона! Она самая прекрасная птица, потому что ей
труднее, чем другим. Она всегда хорошо заметна в любой стае. Поэтому она,
как правило, становится предметом всяческих охотничьих нападок. Но она
гораздо важнее любой вороны в стае. О такой стае говорят: стая, в которой
летает белая ворона. По ней одной помнят всю стаю! Но белых ворон
обычно недолюбливают,
— За исключительность? — спросил старика папа.
— Нет. За чувство ответственности. Быть исключением из общего
правила — это очень, очень ответственно. И белые вороны это понимают.
— А здесь, в зоопарке, есть белая ворона? — спросила я.
Старик рассмеялся и погладил меня по голове. Рука у него была сухая и
горячая.
— В жизни таких птиц, кажется, не бывает. Но в искусстве без них не
бывает жизни.
Некоторое время он шел с нами вдоль клеток молча. Потом кивнул нам:
— До свидания.
Мы смотрели, как он уходит от нас по дорожке, крепко прижимая локтем
свой большой альбом.
— Папа, — спросила я, — этот старик сумасшедший?
Отец строго взглянул на меня:
— Я думаю, он — художник.
выход восьмой
«Сын у меня, — думал Синицын, — сын Ванька. И я уже не тот Сергей
Синицын, каким был раньше. Синицын плюс еще что-то. Только что это
такое, я понять не могу. Только это не Ванька. Ванька сам по себе, я сам по
себе. А вот то, что мы вместе, и есть это что-то. Но что это такое?»
Репетиции гастрольной программы шли в цирке полным ходом. Утром
Синицын завозил Ваньку к Алисе, а вечером забирал домой. Алиса
старательно репетировала дома, втайне подготавливая свой дебют в новой
для нее роли.
Теперь у нее были два пуделя, мраморный дог и маленький японский
хин. У Романа в карманах пиджака стали обнаруживаться кусочки сахара и
бефстроганов в размокших обертках. И вдруг Алиса открыла в малыше дар
дрессировщика. Всячески поощряемый Алисой, Ванька стал уже
совершенно сознательно помогать ей, и Алиса призналась клоунам, что
плохо представляет себе будущий номер без Ванькиного ассистентства,
Ванька сиял от гордости, от него неистребимо попахивало псиной.
Клоуны уставали до полного изнеможения. Они пересмотрели свои
старые репризы, усложнили трюки и теперь бесконечно повторяли одно и
то же, ища нужный ритм и темп.
Синицын успевал накормить Ваньку ужином, уложить в подаренную
Димдимычем кроватку, набредить какую-нибудь диковатую колыбельную
историю, без которой Ванька не желал засыпать, и, едва коснувшись ухом
подушки, забыться тяжелым сном.
И этот вечер был похож на все предыдущие, только Ванька уснул, так и
не дослушав истории, где в финале, по замыслу Синицына, людоед по имени
Фома должен был положить свои острые зубы на полку и радостно
поступить продавцом в кондитерский магазин.
Синицыну приснилось, что он приехал за Ванькой. Но в квартире, кроме
собак, никого нет. Он ходит по комнатам и всюду — под кроватями, за
дверьми, в шкафах — ищет Ваньку, а за Синицыным ходит аленький хин и,
похрапывая, лает.
«Я ведь прекрасно говорю по-собачьи, — сообразил во сне Синицын. —
Сейчас спрошу хина, где Ванька... Как это надо протявкать-то?»
Синицын напрягся, припоминая собачий язык, ...и проснулся.
В комнате было темно. Призрачный свет от уличных фонарей расплылся
бледным пятном по низкому потолку. Послышалось, как возле дома
проехала машина, судя по звуку мотора, — грузовик.
Вдруг кто-то в комнате, прямо под ухом Синицына, захрапел и хрипло
несколько раз пролаял.
«Сплю я или с ума сошел?» — с каким-то вялым интересом подумал
Синицын.
И, словно кто-то щелчком включателя вернул ясность, Синицын
отбросил одеяло, рывком соскочил на пол и нагнулся над Ванькиной
кроваткой. Ванька сполз с подушки, лежал навзничь. Из открытого, с пухлой
верхней губой рта вырывался тугой протяжный храп.
Синицын приподнял малышу голову, подсунул под нее подушку. Ванька
открыл бессмысленные сонные глаза и закашлялся, будто залаял, — сухо,
отрывисто, жутко.
— Ванька, Ванька! — позвал Синицын.
— Папа, — неожиданно страшным хриплым басом произнес Ванька и
опять залаял прямо в лицо Синицыну.
Схватив Ваньку и укутав его одеялом, Синицын, как был босой, в одних
трусах, бормоча: «Ванечка, ну что ты, что ты...», — выбежал на лестничную
площадку и прилепился пальцем к белой кнопке соседнего звонка.
— Кто там? — спросил из-за двери испуганный женский голос.
— Это я, ваш сосед, Синицын. У меня очень плохо с ребенком. Откройте,
пожалуйста. — Синицын никак не мог вспомнить, как зовут соседку. Они
иногда встречались в подъезде, познакомились, здоровались, но на этом
общение кончалось.
За дверью зашуршало. Дверь приоткрылась. Соседка, пожилая
растрепанная женщина, с испугом оглядела Синицына через дверную
цепочку.
— Что случилось?
Ванька опять закашлялся.
Дверь захлопнулась, цепочка с грохотом слетела, и соседка, распахнув
дверь, вышла к Синицыну.
— Мальчик у вас? Какой славный...
Ванька почему-то испугался, махнул на нее рукой, собрался зареветь и
весь затрясся в кашле.
— Неотложку надо, — сказала соседка. — Я сейчас, только возьму
монетку.
Она скрылась в глубине темной квартиры и скоро появилась в
наброшенной на халат шубе. Телефон-автомат был в подъезде рядом.
— Ничего. — Соседка запирала дверь на ключ. — Вы не пугайтесь. Идите
к себе.
И она затрусила к лифту, шлепая стоптанными задниками туфель. До
Синицына донеслись ее вздохи: «Господи, господи...»
Синицын, оставив свою дверь открытой, прохаживался с Ванькой на
руках из комнаты в кухню, из кухни в комнату. Если бы не кошачьи глаза
ходиков, он бы уверился, что время остановилось. Наконец лифт загудел, и
вошла соседка, а за ней румяный врач — белый халат, шапочка, на шее
стетоскоп, в руке черный чемоданчик.
— Я их внизу подождала, — пояснила соседка. — Молодцы — как скоро
приехали.
Только взглянув на Ваньку и услышав его лающий кашель, врач
определил:
— Ложный круп.
Потребовал кипятку, много кипятку и соды. Сода у соседки нашлась. Она
принесла свой чайник и вскипятила на кухне два чайника и две полные
большие кастрюльки.
— Откройте горячий кран в ванной, — распоряжался врач.
Синицын до отказа вывернул вентиль.
— Ничего, сойдет, — констатировал врач, сунув палец под струю.
Заткнули в ванне пробку, всыпали соду и вылили две кастрюли кипятку.
Зеркало над умывальником сразу запотело.
— Давайте больного.
Заперлись в тесной ванной комнате — Синицын с Ванькой на руках, врач
и соседка с двумя чайниками. Синицын, по требованию врача, держал
Ваньку над самой водой. Соседка лила в ванну кипяток из чайников, а врач,
набросив на себя и на Ваньку мохнатую простыню, заставлял его дышать
содовым паром.
— А в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных
зверей, — приятным тенорком напевал под простыней врач.
Больному врач очень понравился. Ванька с готовностью проглотил
таблетки и продемонстрировал, как умеет показывать горло без помощи
чайной ложки.
— Браво! Артист! — оценил Ванькины способности врач и обратился к
соседке: — Запомните, бабушка...
Соседка смутилась.
— Я ихняя соседка, — сказала она, указывая на Синицына.
— Тогда проинформируем отца, — бодро исправил свою оплошность
врач.
Синицын все внимательно выслушал: ОРЗ — значит острое
респираторное заболевание. Ложный круп — это отек в горле. Форма
легкая. Но может усложниться. Если опять повторятся хрипы — содовый
пар и немедленно вызывать «неотложку». Тогда Ваньку заберут в больницу.
Вот рецепты на лекарства. Синицыну, очевидно, нужен бюллетень? Или
мать будет сидеть с мальчиком?
— Моя мама скоро приедет, — обнадежил Ванька врача.
— И прекрасно. Значит, все-таки бюллетень?
Синицын и соседка провожали врача до дверей.
— Я ему дал димедрол, он должен хорошо заснуть. Прислушивайтесь к
нему внимательно. — Врач остановился в дверях и задумался. — Да,
лекарств у вас сейчас, конечно, нет. Я вам оставлю немного олететрина. —
Он открыл чемоданчик и сунул Синицыну облатки. Щелкнув замками,
признался, улыбаясь: — Вы ведь клоун, верно? Я вас смотрел. Обоих.
Здорово!
И, тряхнув Синицыну руку, исчез.
Соседка пошла к себе, поставив Синицыну условие, чтоб он ее позвал,
если понадобится. Синицын поблагодарил.
— Простите, я забыл ваше имя-отчество,
— Зовите просто Мария. У меня отчество трудное: Евтихиановна.
выход девятый
До утра Синицын почти не смыкал глаз. Временами тонул в гулкой
бездонной черноте и, успев ужаснуться тому, что засыпает, выныривал,
приподнимался на локте и напряженно вглядывался в щекастое белобровое
лицо рядом с собой на подушках. Ванька дышал шумно, но без хрипоты.
Синицын смотрел на него и думал о себе как-то отвлеченно, как о
постороннем человеке. Ему сейчас многое надо было решить за этого
человека. Постепенно комната наполнилась серым светом зимнего утра.
Застучал скребок дворника. Щелкнули замки, и хлопнула дверь соседней
квартиры. Синицын слышал, как соседка подошла к его дверям, постояла и
ушла. Загудел лифт. Потом привычный этот гул стали забивать голоса,
доносившиеся снаружи, шум уличного движения. Откуда-то долетела
музыка — то ли марш, то ли фокстрот, не разберешь.
И Синицын незаметно для себя заснул. Его разбудил настойчиво
дребезжащий звонок. Кто-то топтался на лестничной площадке, слышались
чьи-то голоса.
Синицын нашарил туфли, накинул халат и открыл дверь.
Димдимыч и Ромашка.
— Что стряслось, Птица? Ты почему не был на репетиции?
— Тише...
На кухне коротко рассказал о Ванькиной болезни и — как под ледяной
душ ступил — объявил Ромашке:
— Если Ванька скоро не выздоровеет, поедешь в Канаду один. —
Волнуясь, стал втолковывать: — Начинайте репетировать с Димдимычем,
не теряйте ни минуты. Димдимыч, милый, вы же можете подавать Ромашке
мои реплики. Все прекрасно получится. Репризы от этого мало проиграют,
тем более для тех, кто не видел наше антре. В конце концов Рыжий в старом
цирке обычно выходил под шпрехшталмейстера. Это нормально.
— Кого ты стараешься убедить, Сергей? — спросил Димдимыч. — Нас
или себя?
Ромашка, так и не сняв шапку, сидел на табуретке, курил и смотрел в пол.
— Сними шапку, — сказал Синицын.
— Оставь меня в покое, — огрызнулся Роман. — Есть какой-нибудь
Айболит, который его быстро подымет на ноги? — спросил Ромашка после
тяжелого молчания. — Из-под земли достану.
Вступил Димдимыч. Он знает по опыту — родительскому, конечно, —
что при Ванькином заболевании Айболит бесполезен. Форсировать здесь
нельзя. Все пройдет, он не сомневается, но не сегодня и не завтра. И даже не
послезавтра. А до отъезда остается три дня.
— Мы с Романом, конечно, попробуем порепетировать. Посмотрим, что
получится. Ведь верно, Роман? — Ромашка выпустил дымное колечко. — Но
ты, Сергей, должен нам пообещать, что если твой сын через два дня
наладится, ты поедешь, а Алиса Польди, она...
— Да Алиса будет беречь Ваньку пуще глаза своего. И Айболита никакого
не нужно. — Роман наконец снял шапку.
Димдимыч, уходя, столкнулся в дверях с врачом из районной
поликлиники. Роман решил задержаться, послушать врачебный прогноз.
Врач, полная одышливая женщина долго мыла руки, а Ромашка
прислуживал ей, вертя краны, подавая чистое полотенце и распахивая
перед ней двери. Может быть, ему казалось, что если задобрить врачиху,
Ванька быстрее поправится?
— Какая температура?
Врач, хоть и была информирована «неотложкой», подробно расспросила
обо всем Синицына. Потом ласково растолкала Ваньку. Он пробудился в
мрачном настроении и с величавой надменностью позволил себя
прослушать и прощупать.
Болезнь протекает в легкой форме. Нет, температуру ему лекарством
сбили. К вечеру опять должна подняться. Давать теплое питье, как можно
больше. Хорошо молоко с боржоми или чай с лимоном. Дня через три-
четыре, если все будет идти, как положено, мальчик поправится.
И утвердила те же лекарства, что и неотложка.
Роман вызвался сходить в аптеку и обещал позвонить Алисе, чтобы
немедленно привезла лимоны и боржоми. Он пританцовывал на ходу от
радости. Громко восхищался советской медициной вообще и толстой
врачихой в частности.
— Птица, какая она милая, правда? Внимательная такая. Уж она знает...
— Быстро же ты своего Айболита забыл...
А Ромашка:
— Тита-дрита, тита-дрита, ширвандаза-ширванда. Мы родного Айболита
не забудем никогда! — пропел и упрыгал, размахивая потрепанной
хозяйственной сумкой.
Алиса приехала раньше, чем вернулся Роман. Привезла молоко, лимоны.
Боржоми не достала. Роман тоже натащил молока.
— Теперь у тебя, Птица, только кисельных берегов не хватает.
— С детства не люблю этот пейзаж, — сказал Синицын. —
Представляешь: ноги в киселе вязнут, — почмокал губами, изображая звук
шагов в кисельной жиже, — приходишь к речке, а она прокисла.
— Молоко может быть можайское, — заступился за сказку Роман. — А
кисель из диетстоловой. Знаешь, сверху пленка такая, резиновая, толстая,
как батут, слона выдержит.
— А ты по этому киселю верхом скачешь на сером волке. Беззубом,
конечно.
— Почему беззубом? — удивился Роман.
— У оптимистов все волки беззубые.
— А сам-то? А сам? — Ромашка хохотнул. — Ты же в каждой лягушке
подозреваешь прекрасную царевну. Алиса, ну скажи, что я, не прав?
— Довольно, — сказала Алиса. — Ваше антре окончено. Ване пора давать
лекарство и ставить градусник.
И решительно двинулась в комнату, неся чашку и на ходу помешивая
дымящийся чай, в котором кружилась лимонная долька, похожая на желтое
велосипедное колесо.
выход десятый
Хорошо, что у него нет телефона. Он бы обязательно стал названивать
Баттербардтам, и в конце концов отозвался бы на очередное «Алло!»
Мальвы Николаевны, и наверняка наговорил бы глупостей. Скорее всего
надерзил бы жутко, непоправимо.
«Ну, Птица-Синица, как живешь со своими бутербродами?»
«Вот так и живу. Тебе-то, Челубеева, что за дело?»
А от Лёси никаких вестей. Ну, и что особенного? Телефона у него нет,
переслать с кем-нибудь письмо мог случай не представиться, а по почте из
Канады письма, небось, целый месяц идут.
А если Лёся звонила своей матери и просила что-нибудь передать для
него, клоуна Синицына?
Пойти позвонить? И услышать: «Нет, не звонила. А вы знаете, Сергей
Димедролович, сколько долларов стоит телефонный разговор из
Монреаля?» Нет, к чертям!
Но телеграмму, всего в одно слово телеграмму, все-таки могла бы дать
ему Лёся? А она даже своего адреса не оставила. Сколько раз он
перечитывал ее последнюю записку! Никому не показал, даже Ромашке.
Прятал в холодильнике, в морозилке.
Про цирк это она, конечно, в запальчивости так написала. Лёся такая
умница... И вдруг «я ненавижу твой цирк». И Ромашке совершенно незачем
знать эту случайную фразу. Вообразит себе черт знает что. Вот они
послезавтра увидятся в Монреале, и все станет на свои места. Только бы
Ванька выздоровел. И, ухаживая за малышом, Синицын с тревогой
вглядывался в его лицо.
За время болезни Ванька стал каким-то вялым, скучным. Круглые щеки
опали и побледнели, под глазами лиловые тени. Лечится малыш послушно,
но температура не падает ниже 37,5, хотя дыхание наладилось и кашель
почти прошел.
Сегодня никак не мог сразу заглотнуть положенную таблетку
олететрина, пыжился, таращил круглые свои глаза, и Синицыну показалось,
что белки глаз у Ваньки пожелтели, как у кота. А может быть, свет от лампы
так падал? Абажур-то желтый. Врачу Синицын забыл сказать о своем
наблюдении, а она ничего нового не заметила.
— Продолжайте намеченный курс лечения.
Вчера Ванька опять спросил Синицына:
— А когда моя мама приедет?
— Скоро, скоро приедет.
— А какая моя мама? Тетя Алиса говорит, что моя мама красивая и
добрая. Только тетя Алиса никак не могла вспомнить, как мою маму зовут.
— Малыш улыбнулся. — Тетя Алиса говорит, что она маму всего один
разочек видела. А как зовут мою маму?
И уставился в глаза Синицыну пристально, не мигая, как тогда в
малышовой спальне.
Лёсино лицо — не то, что на фотографии, смеющееся, а такое, каким в
первый раз его увидел Синицын, удивленное, с высоко поднятыми бровями,
на мгновение возникло перед ним и дернуло подбородком: что, мол,
глядишь, клоун?..
Синицын с трудом перевел дыхание.
— А это секрет, — с ужасом и отвращением услышал он свой бодренько-
фальшивый голос.
— На сто лет?
— Ну, не на сто... Вот мама скоро приедет и сама тебе скажет. Ладно?
— Ладно... — медленно протянул Ванька, продолжая изучать Синицына.
И вдруг: — Какой ты смешной, папочка. Ты даже смешнее дяди Романа. Я
тебя хочу поцеловать.
И когда Синицын стиснул в объятиях похудевшее легкое тельце, Ванька
сказал:
— Когда я вырасту большой, я тоже буду клоуном. Правда?
— Правда, — сказал Синицын, пряча лицо в отросшие Ванькины вихры.
— Ты уже клоун. Мой любимый клоун.
Вечером, когда Ванька уснул, Синицын позвонил у двери соседки.
— Добрый вечер, Мария Евтихиановна.
— Запомнили! Ну, как Ванечка ваш?
— Спасибо, ничего себе. Мария Евтихиановна, мне необходимо
отлучиться часа на полтора. Вы не согласитесь посидеть у меня,
покараулить Ваньку?
— Господи, пожалуйста.
— Это вас не очень затруднит?
— Что вы! Боитесь, не справлюсь?
— Да нет, я...
— Не бойтесь. Знаете, сколько я своих детей вырастила? Девять душ.
— Девятерых? Да вы же мать-героиня!
— До героини не дотянула. Но все в люди вышли. Погодите, я только
книжку свою прихвачу.
Он поехал без предварительного звонка.
Уверен был, что застанет их дома.
— Птица! А где же Ванька? Ты его оставил одного? — И собакам: —
Молчать, тунеядцы!
— Ваньку соседка стережет.
— Святая мать Мария! Так, значит, все в порядке? Завтра Алисочка его
забирает, а мы с тобой...
Ромашка раскинул руки, турбинно взревел и закружился по комнате,
разогнав собак. «Эх, Ромашка, милый друг! Бывает, конечно, хуже, но нам с
тобой сейчас не позавидуешь».
— Я вот тут написал... — Синицын извлек из кармана вчетверо
сложенный листок.
— Что это? — Роман насторожился.
— Это в наше управление. — Синицын старался не глядеть на Романа,
когда протянул ему бумагу. — Я тут объяснил, как умел. Ты прочти.
Ромашка развернул листок и стал читать. Алиса заглядывала ему через
плечо.
Она прочла быстрее Романа.
— Поужинаешь с нами, Сережа? — спросила Алиса, подняв на Синицына
спокойные ясные глаза.
Роман все еще глядел в листок и шевелил губами, как малограмотный.
— Нет, Алиса, спасибо. Мне надо возвращаться к Ваньке.
— Да-а, свалял ты Ваньку. — Роман тоже старался не глядеть на
Синицына, протянул ему обратно листок.
Алиса вынула бумагу из Ромашкиной руки.
— Сережа, ты хочешь, чтобы мы передали твою объяснительную в
управление? Я завтра передам. Может, все-таки выпьешь чаю?
— Спасибо, не хочется. Роман, скажи, как прошла сегодня репетиция с
Димдимычем? Получается?
— Замечательно получается. Великолепно!! Уж, во всяком случае,
гораздо лучше, чем с тобой.
— Я так и думал. Желаю счастливых гастролей.
— Боже мой, — сказала Алиса, — как с вами трудно. Когда вы оба станете
взрослыми?
— Я прямо сейчас. — Синицын шагнул и обнял Романа за шею. Так они
стояли некоторое время молча.
— Ах, Птица, — вздохнул Роман, — нелепые мы с тобой люди. Одно слово
— клоуны.
И, конечно, Синицын остался пить чай. И Ромашка подробно
рассказывал, что они придумали с Димдимычем и как теперь выглядят
репризы без Синицына. И кто что сказал, когда Ромашку с Димдимычем
смотрела гастрольная комиссия.
А потом разрабатывали план, как объяснить Лёсе отсутствие Синицына в
гастролях, и решили представить дело так, что будто Синицын в последний
момент вывихнул на репетиции ногу, а про Ваньку пока ничего не говорить.
— Письмо ты ей написал? Давай мне.
— Нет, не написал. О чем писать? Что люблю ее? Она и так это знает.
— Я скажу, — оживился Ромашка, — что в спешке забыл твое письмо. Я
за тебя, Птица, ей такое письмо на словах сочиню!
— Вот и сочини, — сказала Алиса. — Если бы Сережа тебе сейчас письмо
свое передал, ты бы, Ромашка, это письмо все равно бы обязательно забыл.
— Почему?
— Потому — забыл бы, и все. И Сережа бы на тебя не обиделся.
— Не на меня, а на тебя, — сказал Ромашка. — Мне бы он просто плюх
навешал.
Синицын вернулся домой очень поздно. Тихонько открыл дверь своим
ключом.
Мария Евтихиановна мирно спала в кресле у Ванькиной кроватки.
Раскрытая книжка сползла с колен на пол.
«Интересно, что читают на сон грядущий добрые пожилые матери
Марии?» — подумал Синицын. Он поднял книжку и заглянул на обложку.
Там значилось: «О. Бальзак. Блеск и нищета куртизанок».
выход одиннадцатый
С утра у Ваньки — это же надо! — нормальная температура.
— Поздравляю вас, Иван Сергеевич! Что прикажете подать? Может быть,
желаете омлет с яблоком-с?
Молчит.
— Совсем забыл! Ванька, тебе тетя Алиса прислала какие-то куриные
котлеты по особому заказу. Говорит, твои любимые. Будешь есть?
Молчит.
— Ванька, чего молчишь? Ты себя хорошо чувствуешь?
— Хорошо. — Голосок слабый-слабый.
— Надо поесть, Ванька. Поешь, примешь лекарство, и я тебе почитаю
новую книжку, вот: Эдуард Успенский, стихи. Очень веселые.
Но Ванькины глаза наполнились слезами.
— Ванька, что с тобой, сынище?
— Лекарство противное! — Ванька раскрыл рот в беззвучном реве, и
слезы покатились, как дождь по оконному стеклу.
— Вот тебе раз! Ты же все время пил это лекарство, и вдруг — противное.
— Все равно противное!
— Ладно, пропустим один разок. Сейчас я тебе Алисины котлеты
разогрею, а ты пока посмотри картинки.
Синицын положил книжку на одеяло и вытер ладонью заплаканное
Ванькино лицо.
— Ванька, хочешь я тебя рассмешу?
Синицын состроил Ваньке знаменитую свою рожу.
Ванька смотрел, приоткрыв рот, потом стал смеяться, колотя ладошками
по одеялу. Отсмеявшись, неожиданно сказал:
— Только больше не надо, папа.
— Почему?
— Мне немножко страшно.
Когда Синицын вернулся в комнату с завтраком, Ванька спал, подсунув
сложенные ладошки под щеку. Книжку Ванька, кажется, даже не раскрывал.
Как он похудел! И личико бледное, маленькое и очень серьезное.
Ну, ничего. Пусть отсыпается. Температура нормальная, а щеки быстро
нарастут. Будем каждый день ездить за город, дышать воздухом. Скоро
весна.
Лечь бы сейчас и заснуть самому, чтоб ни о чем не думать. Но не лежится,
не сидится, все — «не».
Синицын бессмысленно слонялся по своей маленькой квартире,
останавливался у окна и смотрел на улицу. По пепельно-серому городскому
снегу от автобусной остановки шли люди. Много людей. Шли гуськом по
скользкой тропинке между сваленными грудами стройматериалов, мимо
новенькой телефонной будки и автомобильной стоянки, где среди
закутанных брезентами машин стыдливо краснел синицынский
«Запорожец», и, выйдя на сухой асфальт, разбредались в разные стороны.
Почти одни женщины. И каждая что-нибудь тащит в свою новую квартиру:
сумку или чемодан, узел или картонный ящик. Вон одна бережно несет
связанные друг с другом стулья.
Немногие идут налегке.
Двое вывалявшихся в снегу ребят прогуливают тощую черную собачонку
с нахально закрученным на спине хвостом. Около дома напротив
выгружают шкаф из мебельного фургона. Толстая дама в пегой шубе
распоряжается двумя краснолицыми парнями. Парни поставили шкаф на
тротуар и закуривают, а толстуха что-то говорит им, широко разевая рот и
размахивая пегими рукавами. Тем временем ребята, убегая от собачонки,
оказались около шкафа и в азарте игры, не замеченные никем, спрятались
за полированной дверцей — влезли в шкаф. Собачонка обежала шкаф,
сосредоточенно обнюхала новую полировку и, облюбовав себе один угол,
задрала на него ножку.
Пегая владелица всплеснула рукавами, и Синицын услышал ее сиренный
вопль. Собачонка брызнула в сторону, толстуха бросилась к своему шкафу, а
тут ей навстречу из-за полированной дверцы выскочили ребята — и наутек.
Толстуха схватилась за пежину на левой стороне груди, а парни, уронив
папиросы, сгибались в три погибели со смеху. Хорошо, что ребятишки
сейчас выскочили. «Вот если бы они обнаружились уже в квартире, когда
шкаф установят...»
Синицын усмехнулся, отошел от окна, уселся за кухонный стол и
закурил. «Человек должен построить дом, вырастить ребенка и посадить
дерево». Кто так говорил? Кажется, древние индусы... Дома он, оказывается,
не построил, ребенка не вырастил, дерева не посадил. Может быть, мадам
Баттербардт права: несерьезный он человек.
«Поговорить бы сейчас с мамой. Поговорить бы...»
То незнакомое, желтое, восковое лицо среди цветов не было лицом его
мамы. Это так поразило Синицына, что притупило стонущую боль
непоправимой беды. Это чужое лицо в гробу, за которым он шел среди
заплаканных соседских старушек, вызывало в нем чувство глухой
враждебности, почти оскорбляло его. Он до сих пор едет на кладбище, как
на муку. Заставляет себя несколько минут простоять у могилы, чтобы та
непонятная злая сила, которая, издеваясь над ним, живым, совершила эту
бесчестную подмену любимого существа, чтобы она, эта сила, не догадалась,
как он испуган и унижен ею.
А его мама теперь, наверное, шьет шляпки в дурацких каких-нибудь
антимирах. Если, конечно, там у них носят шляпки. И до Сережки, клоуна, ей
и дела нет.
Синицын встал, прошел в комнату, выдвинул ящик стола, вынул
фотографию мамы — в меховом воротнике мама и в черной шляпке, —
снова вернулся на кухню, достал из стенного шкафчика нужный инструмент
и обрезки досок, уселся на полу и занялся рамкой.
Он никого не ждал к себе сегодня. Врач придет только завтра. Алиса тоже
обещала заехать: она ведь сегодня провожает Романа, потом у нее свои
неотложные дела. И соседка не придет. Она, как выяснилось, работает одну
неделю в месяц. Где-то что-то от кого-то сторожит.
А приятели редко заглядывают к нему домой. В Орехово-Борисово — это
вам не в Черемушки и даже не в Теплый Стан добираться.
Синицын мастерил рамку и поглядывал на кошачьи ходики.
Роман улетает тем же рейсом, что и Лёся, — 16.40 . У него еще времени
вагон. Скорее всего бегает по городу, ищет по табачным киоскам «Яву» —
неуловимые наши сигареты.
Вдруг задребезжал звонок. Что такое?
— Вам телеграмма. Международная. Распишитесь вот здесь.
Синицын настолько сосредоточился на Ромашкиных предотъездных
хлопотах, что в первое мгновение у него промелькнула безумная мысль,
будто Роман каким-то одному ему известным способом долетел до Канады.
А телеграмма была от Лёси:
«Задерживаюсь три месяца переводчиком советской выставки люблю
целую Ольга Баттербардт». И не Синицына, а теперь и не Лёся, а Ольга
Баттербардт. Хотелось биться лбом о стену, хотелось орать, изойти
руганью, ломать мебель, хотелось...
Синицын сидел в кухне на полу и с подлинно цирковым упорством метал
стамеску в кухонный буфет, стараясь угодить острием в круглую ручку
дверцы. При этом он пел на мотив старого «танго соловья»:
— Задерживаюсь выставке советским переводчиком, три месяца целую
вас, вся ваша Баттербардт...
Одно и то же, без конца.
Опять звонок.
Царь Леонид заполнил собой всю переднюю и вытеснил Синицына на
кухню, где сразу померкло освещение. Привез десять бутылок «боржоми»,
помидорчики и здоровенный ломоть севрюги.
— Вот, — прогудел, — это тебе мои балбесы посылают. Что нового в
жизни артиста?
Синицын показал Лёсину телеграмму. Царь Леонид внимательно прочел,
прищелкнул языком и с размаху прилепил телеграмму Синицыну на
взмокший лоб.
— Канадский вариант, — сказал царь Леонид. — Грубый прессинг по
всему полю. Все пупсики — одинаковые. — И попросил: — Покажи своего
балбесика.
Так же внимательно и серьезно, как читал телеграмму, рассматривал
спящего Ваньку. На кухне сказал Синицыну:
— На тебя не похож, но будет похож. Мы его воспитаем настоящим
спартанцем. — И одарил Синицына счастливой младенческой улыбкой. —
Если что, знаешь, как меня найти. Я теперь по четным. Побегу, такси ждет. У
меня сегодня туристов невпроворот. Чао!
Что это Ванька так долго спит? Наверное, это к лучшему. Когда
выздоравливаешь, спится сладко. Синицын по себе знает. В детстве
переболел всеми детскими болезнями. Особенный специалист был по
ангинам. Заработал хроническую красноту гортани. В школе это очень даже
пригодилось. Не выучил урок — сразу к врачу. Покажешь горло, и ступай,
куда хочешь, хоть в кино. Правда, с портфелем замучаешься. Неотвязный,
как школьная совесть. Жалко, что они с Ромашкой не учились в одном
классе. Жалко, что нельзя с другом бродить вдвоем по общим
воспоминаниям того далекого, веселого времени. Ромашка сейчас уже
пролетает над Европой. Наверное, затеял какие-нибудь уморительные
пререкания с бортпроводницей. А Димдимыч ему подыгрывает. Только бы у
них все хорошо прошло, с успехом. Судя по тому, как Ромашка вчера
рассказывал, должно неплохо получиться. И молодцы все-таки, что не
раскисли и поехали без него. Интересно, как они стоят в афише, он забыл
вчера спросить. Скорее всего так: «В паузах соло-клоун Роман
Самоновский».
А ваша фамилия, клоун Синицын, теперь все больше на рецептах:
Синицын — олететрин, Синицын — димедрол, ацетилсалициловая кислота
— тоже Синицын.
Звонок в дверь, робкий, отрывистый. Просто день открытых дверей!
Надо как-то разнообразить прием посетителей. В благоустроенных домах,
где боятся воров, из-за двери сначала спрашивают высокими, испуганными
голосами, вот так:
— Кто там?
Нет ответа. Видно, ошиблись квартирой, или мальчишки озорничают.
Дрынь! — снова.
Явно мальчишки.
Если еще раз позвонят, распахну дверь и огрею веником. Где веник? Вот
он. Ну?
Дрынь!
Синицын рывком распахнул дверь и стеганул веником. Какое-то
солидное тело рухнуло на кафель площадки. Задрались кверху ноги в
тяжелых мужских ботинках.
— Ради бога, простите, — по-настоящему испуганным голосом
выкрикнул Синицын и нагнулся помочь безвинно пострадавшему.
На площадке лежал Ромашка. Его друг и партнер Ромашка, Рыжий
коверный, а никакой не: «В паузах соло-клоун Роман Самоновский».
Лежал себе и посмеивался. Синицын опустился рядом с ним на колени,
загородив лицо грязным разлохмаченным веником.
выход двенадцатый
Ну, Сергей Дементьевич Синицын, что тебе еще нужно от жизни? У тебя
есть друг, который с тобой неотлучно и в радости и в беде. Ты мечтал о
сыне, и вот он, сын Ванька, в твоем доме, который ты если еще не построил,
то вместе с ним, с сыном, построишь обязательно. Обязан построить. А
сколько людей так одиноко и кукуют всю жизнь. Одинокие члены
кооператива. Дом, который построил жэк. И в конце концов «люблю целую»
— это тоже не пустяки. Тебе мало? Много просишь, клоун Синицын...
Твоя настоящая любовь — это цирк, без которого ты, как перегоревшая
лампочка, никому не нужен.
— Это Ванька так буфет изуродовал? — Ромашка спросил.
— Нет, это я сам.
— Правильно! Надо увлекать детей личным примером. Очень
педагогично.
Синицын заглянул к Ваньке. Ванька спал, сбросив одеяло. Синицын
укрыл малыша и вернулся к Роману.
— Ромашка, что-то меня Ванька беспокоит. Странный он какой-то.
Целый день спит.
— Не дергайся, Птица. Это он за меня отсыпается.
Ночью, после ухода Синицына, Роман не сомкнул глаз. Под утро — Алиса
еще спала — тихонько вышел из дому и поехал к Димдимычу. Димдимыч
ничуть не удивился его раннему появлению и, когда Ромашка все свои
сомнения выложил, торжественно заключил:
— Камень ты мне с души снял, Роман. Спасибо, что приехал ко мне
первому.
Потом Димдимыч потребовал у жены свой парадный пиджак с боевыми
орденами и медалями и повез Ромашку в Управление госцирков. Там
произошел неприятный разговор. Смысл его заключался в том, что артист
Роман Самоновский — безответственный гражданин, который хочет
сорвать зарубежные гастроли советского цирка.
И тут...
— Я Димдимыча таким никогда не видел. Вот тебе и говорящая статуя! Я
даже перепугался, честное слово. И, по-моему, все там малость струхнули.
Димдимыч иссиня побледнел, рубанул кулачищем по начальническому
столу так, что подпрыгнули все, какие там были телефоны, и страшным
голосом, каким, наверное, командовал: «Эскадрон, шашки к бою!» —
закричал, что не позволит извращать честный поступок советского артиста
Романа Самоновского.
— Любой ценой хотите галочку поставить?! — атаковал Димдимыч. — А
того не понимаете, что топчете дружбу двух наших артистов, ломаете их
партнерство, нужное для советского цирка, для наших зрителей. — А потом
Димдимыч опустился на стул и тихо сказал: — Если бы не святая дружба
мужская, никаких этих гастролей бы сейчас не было, и цирка нашего не
было, и нас с вами, товарищи дорогие... Это понимать надо.
И все Димдимыча поняли. Посовещались, созвонились и решили, что
гастрольная программа и так блестящая, без коверного на этот раз можно
обойтись.
Роман расцеловал Димдимыча в обе щеки, пожелал ему от обоих клоунов
счастливых гастролей и помчался домой к Алисе.
— А что Алиса сказала?
— Алиса сказала, что ей нечем кормить собак, и погнала меня в магазин.
А когда я пришел с продуктами, так меня хвалила, будто я не в магазин
ходил, а по крайней мере летал в космос... Что же я? — Ромашка подскочил
на табуретке. — Алиса сказала, что если святая Мария согласится Ваньку
покараулить, мы у нас поужинаем. Который час?
Кошачьи ходики показывали одиннадцать.
— Не может быть! — Роман сверился по своим часам. — Ну и здоровы мы
трепаться! Мастера разговорного жанра. То-то я чувствую, у меня живот
подвело.
— Б уди Ваньку, — сказал Синицын, — он целый день ничего не ел.
Сейчас я нам ужин сочиню. Царь Леонид тут кое-что пожаловал со своего
плеча.
Роман прошел в комнату.
— Ванька, встань-ка! — весело выкрикнул Ромашка. И вдруг
срывающимся, внезапно осевшим голосом позвал Синицына: — Птица, иди
сюда скорей!..
Синицын рванулся в комнату.
Ванька сидел в кроватке. Роман поддерживал малыша под мышки.
Круглая Ванькина голова с торчащими во все стороны рыжеватыми
вихрами бессильно откинулась на тонкой шее. Глаза были широко открыты
и смотрели на Синицына одними белками, желтыми, без зрачков.
— Ванька! — как глухому, закричал Синицын, обхватил ладонями
худенькие плечи и встряхнул малыша.
Ванька моргнул и уронил голову на грудь. Вдвоем перенесли почти
невесомое тельце на большую кровать. Синицын никак не мог расстегнуть
маленькие пуговки Ванькиной пижамы — тряслись руки. Потом припал
ухом к Ванькиной груди. Сердце малыша не билось, нет, оно вздрагивало
часто-часто, словно мячик катился по неровной поверхности.
— Роман, «неотложку»...
Роман исчез.
Синицын грел в ладонях Ванькины холодные ладошки. Потом
перетащил его к батарее отопления, прижал ступни мальчика к трубам
радиатора.
— Ванька, сыночек, ну скажи мне что-нибудь, Ванька...
Ванька не отзывался. Он был без сознания.
Комната наполнилась белыми халатами. Ваньку снова перенесли на
большую кровать. Белые халаты быстро двигались по комнате, что-то
спрашивали у Синицына, он отвечал, плохо понимая смысл вопросов, его
переспрашивали.
Кто-то снял абажур с лампы, белый свет резанул по глазам, запахло
больницей. Синицын все держал Ваньку за руку, не хотел отпускать. Ему
казалось, что если он отпустит холодные Ванькины пальчики, случится что-
то ужасное, непоправимое...
— Ну-ну, товарищ папа, не надо нам мешать, дорогой... — И Синицын
узнал румяного доктора, что пел тенором под мохнатой простыней.
Синицына оттеснили к окну. Белые халаты сомкнулись над кроватью.
Врачи переговаривались тихо, отрывистыми фразами Синицын увидел
Романа. Ромашка стоял по ту сторону кровати, высоко над головой держа
лампу, морщился от яркого света.
— Слушайте меня внимательно, товарищ папа.
Румяный доктор взял Синицына за пуговицу и близко глянул в глаза.
— Мы забираем вашего мальчика в больницу. Ему необходимо сделать
переливание крови, срочно.
— Да, — сказал Синицын, — переливание крови. Я понимаю.
— Вот и прекрасно. У нас в машине места для вас, увы, нет. Придется
добираться самим. Это недалеко.
— У нас есть машина! — выкрикнул Роман.
— Полный вперед! —сказал врач.
В больничном дворе Синицын едва не врезался в красные тормозные
огни врачебной машины.
Когда подавал назад, чтобы санитары смогли вытащить носилки, на
которых лежал Ванька, Синицын увидел в свете фар у подъезда одинокую
женскую фигурку. Женщина, прикрыв глаза ладонью, пошла к машине.
— Алиса, — сказал Ромашка, — я ей звонил.
Когда он успел?
Носилки уже скрылись в подъезде.
— Нельзя, нельзя. — Дежурная нянечка, растопырив руки, загородила
собой коридор.
— Мы с этим мальчиком, — сказала Алиса. — Мы его родители.
— Что-то вас больно много, родителев. Обождите-ка, я спрошу Ивана
Ильича.
Нянечка сняла телефонную трубку и набрала три цифры непослушным
пальцем.
— Занято у них в ординаторской.
Ждали в молчании. Нянечка их разглядывала.
— Кто это — Иван Ильич? — спросила Алиса. Дежурная, не отвечая,
снова набрала.
— Иван Ильич? Это дежурная, тетя Зоя. Тут родители, значит, мальчика,
что сейчас привезли, так я... Слушаюсь, Иван Ильич! Сичас... сичас...
Она шваркнула трубку на рычажок.
— Обоих родителев требуют... срочно.
— Я останусь, — сказал Роман
Ему на руки сбросили пальто и шубку. Накинув поданные нянечкой
белые халаты, Синицын и Алиса побежали в глубь коридора.
— Не шибко, не шибко, — отдуваясь, бормотала нянечка. — Сердце у
меня... того...
В ординаторской, квадратной чистой комнате, за затиснутым между
шкафами столом сидел у телефона лысый человек в белом халате. Очки
сползли на кончик носа, усы торчком, белая бородка клинышком.
Айболит.
Человек покосился на вошедших и, не отрываясь от телефонной трубки,
время от времени сокрушенно покачивал головой. Потом заговорил
усталым голосом:
— Яжевамговорю—гемо
́
лиз. Да, реакция на олететрин. Желтушный,
желтушный белок. Все признаки. Гемоглобин 36 единиц. Ну, в том-то и дело.
Конечно, поздно уже. — И опять покосился на Алису и Синицына.
У Синицына подломились ноги. Он опустился на стул.
— Если что-нибудь придумаете, звоните. — И врач повесил трубку.
— Что поздно? — спросил Синицын.
— Вы кто, родители? — Врач заглянул в листок, лежащий у телефона. —
Родители Вани Синицына?
— Да, — сказала Алиса.
— Я сказал поздно, первый час. У вашего Вани редкая группа крови:
первая, резус отрицательный. На пункте переливания такой крови сейчас
нет. Хорошо, что вы оба здесь — такая кровь передается по наследству. У
кого из вас резус отрицательный?
— У меня вторая группа, — сказал Синицын.
— А у меня первая, — сказала Алиса, — просто первая, без этого...
— Так не может быть. — Врач улыбнулся, молодо, добродушно. — Ведь
Ваня Синицын — ваш сын?
— Мой, — сказал Синицын, —но он приемный, из детдома.
— Ясно.
Улыбка исчезла с лица Айболита. Бородка решительно выдвинулась
вперед. Врач снял очки и провел ладонью ото лба к подбородку, словно
стирая с лица усталость,
— Сейчас будут искать доноров с нужной группой крови. Но переливание
необходимо сделать срочно, как можно скорее. Постарайтесь вспомнить,
нет ли у вас друзей, знакомых с нужной группой — первая, резус
отрицательный.
— У Романа тоже вторая...
Айболит сидит нога на ногу. Левая на правую. Правой ноги не видно, она
прячется в тени за тумбой стола. А левой он слегка покачивает. Бурая
брючина без складки, обшлаг залохмачен, ниточки торчат. Из-под обшлага
высовывается тонкая лиловатая кость голени, гладкая, безволосая. Резинка
носка плохо прилегает, отвисла. Очень застиранный носок. И ботинок
какого-то мальчикового фасона, тупорылый с отстроченным носом. Хоть и
чищенный ботинок, но нос заметно обшарпан, содран, как обычно у
малышей. И шнурки слишком длинные, завязаны бантиком, свисают по
краям.
В детстве этого Айболита, наверно, часто наказывали, что быстро дерет
ботинки. Вот он старый уже, седой, с бородкой, а так и не научился беречь
обувь... Неужели вот этот тупоносый левый чужой ботинок останется с ним,
Синицыным, на всю жизнь, на всю жизнь, на всю жизнь...
— Доктор, я вспомнила! — Алиса стояла за спиной Синицына, он не
видел ее лица, а только услышал: — Этот самый резус отрицательный у
Линки Челубеевой. Мы с ней вместе медкомиссию проходили перед
поездкой в Индию.
— Где эта ваша Челубеева? — Врач весь подался навстречу Алисе. — Она
в Москве?
Алиса не отвечала.
Что подумалось в эти секунды Синицыну, что он почувствовал? Да не все
ли равно! Важно, по правде, только одно — он впервые ясно и навсегда
осознал себя Ванькиным отцом.
— Можно от вас позвонить?
— Нужно. — Врач пододвинул Синицыну телефон.
Синицын быстро накрутил тугой диск.
Гудки, гудки.
— Слушаю, — глухой старческий голос.
— Попросите, пожалуйста, Полину Никитичну.
— Вы знаете, который теперь час? Безобразие! — В трубке длинно
загудело.
Синицын набрал снова. Гудки, потрескивание.
— Я слушаю.
Она, Полина.
— Полина, это я, Синицын.
— Ты что, пьяный, Синичка?
— Полина, Ванька умирает. — Синицын отчаянным усилием воли
задавил подступившие к горлу рыдания.
В трубке разрывно трещало.
— Где ты? — спросила Полина сквозь треск и ночь.
Синицын с подсказки врача дважды выкрикнул адрес.
— Я быстро, — сказала Полина.
— Она быстро, — сказал Синицын врачу, кладя трубку. И попросил: — У
вас не найдется закурить?
Врач достал смятую пачку сигарет и протянул Синицыну.
— И мне, — сказала Алиса.
— И вам, — врач улыбнулся Алисе, — и вам обязательно!
Синицын курил и вдруг почувствовал, что Алиса тихонечко погладила
его по затылку. И еще раз погладила и еще... Он глубоко затянулся и закрыл
глаза.
— Здравствуйте! — Полина стояла в дверях и тревожно всех оглядывала.
— Это она, — сказал Синицын врачу.
Врач подошел к Полине и негромко о чем-то спрашивал. Полина тоже
негромко отвечала.
— Вам повезло, — сказал врач Синицыну. И Полине: — Идите со мной.
Синицын задержал Полину в дверях.
— Полина...
— Ауфидерзейн, дурак, — шепотом сказала Полина Синицыну.
Все сразу вспомнил Синицын, все понял, что хотела сказать ему Полина
Челубеева, и, готовый в этот миг отдать себя на растерзание смешанной
группе хищников Зигфрида Вольфа, только и нашелся, что ответить
шепотом:
— Сама дура!..
Синицын, Алиса и Ромашка сидели на узкой лавочке во дворе больницы.
Против них на снегу расположилась тощая бездомная кошка и
рассматривала всю их компанию металлическими равнодушными глазами.
— Когда я был молодой, — доверительно сообщил Роман кошке, — я был
курчавый блондин высокого роста.
Кошка зажмурилась. То ли смеялась Ромашкиной болтовне, то ли
ставила его признание под сомнение.
Роман порылся в карманах пиджака и бросил кошке кусочки
бефстроганов. Кошка принужденно поднялась, обнюхала мясо и стала есть,
вытянув шею, склонив голову набок, старательно жуя.
— Роман, — попросила Алиса, — обними меня. Меня что-то знобит.
Ромашка обхватил ее рукой за плечи, прижал к себе.
— Да, — сказала Алиса, — крепко, вот так.
Кошка встала, потянулась, выгнув спину и задрав тощий хвост, не спеша
удалилась в глубину двора.
Синицын откинулся назад и привалился спиной к шероховатой
перепачканной мелом стене больницы.
О чем он думал сейчас? О Ваньке, о Полине, Лёсе Баттербардт? О чем?
Он, как ни странно, думал вот о чем: почему одних людей смешит, а
других пугает та самая рожа, которую он умеет скорчить — иногда по
собственному желанию, а иногда по заказу?
В чем тут секрет?
Он очень сосредоточенно это обдумывал, клоун Синицын, и не находил
ответа. А наверху над ним в больничной палате Ванька лежал на спине и с
трудом дышал, захватывая воздух открытым ртом. Сознание к нему не
возвращалось.
Полина, боясь пошевелиться, чтоб не нарушить чего-нибудь в сложном
переплетении прозрачных трубок, тянущихся от нее к мальчику, лежала
рядом на кровати, тесно придвинутой к Ванькиной.
— Как чувствуете себя? — спросил врач. — Голова не кружится?
— Нет, — сказала Полина. — Только слабость какая-то...
— Это нормально. Лежите так, я вернусь. Постарайтесь уснуть.
Врач поправил Полине подушки и ушел. Полина задремала и скоро
проснулась. Ей показалось, что кто-то тронул ее за плечо.
Глаза мальчика были широко открыты. Он глядел в потолок без всякого
выражения. Потом белые брови его нахмурились, он перевел взгляд на
переплетение трубок, схваченных тут и там зажимами, долго смотрел на
капельницу, где, мерно стуча, падала ее, Полины, кровь.
Щека мальчика дернулась и поползла вбок. Он повернул голову и теперь
смотрел Полине прямо в глаза и улыбался ей щеками, губами, круглыми
ожившими глазами.
И Полина услышала его слабый тихий голос:
— Мама, это ты? Ты приехала?
Она не знала, что отвечать ему, и, уткнувшись лицом в подушку,
заплакала. Когда она решилась снова посмотреть на Ваньку, он спал,
сохраняя на лице улыбку, и ровно, глубоко дышал.
Со двора в окно палаты донеслись до Полины чьи-то голоса.
Но слов она не могла разобрать.
«ЮНОСТЬ», No 2, 1979
1
Хотя до конца смены оставалось немного, Костя, казалось, не собирался
вылезать из-под капота старенького «ЗИЛа».
— Кузовков, оторвись-ка на минуту.
Костя выпрямился и без удовольствия посмотрел на Валентина
Бухонова, секретаря заводского комитета комсомола.
— А без «ка» обойтись не можешь, начальник?
Отношения между ними были сложными.
Бригадмилец Костя однажды здорово потрепал пьяного жлоба,
оскорбившего в троллейбусе женщину. Инцидент произошел на
территории чужого района, бригадмильского удостоверения у Кости с
собой не было, да оно бы вряд ли помогло. Так что копию протокола
прислали прямо в комсомольский комитет. Бухонов чуть не навесил Косте
строгача «за превышение полномочий» Спасла тогда Костю женская часть
комитета, твердо стоявшая на том, что за его поступок не выговор, а
благодарность вынести бы стоило.
Секретарь миролюбиво ответил:
— Можно и без «ка», если оно тебя не устраивает. Тем более что в
комсомоле начальников не бывает.
— А кто же бывает?
— Старшие товарищи, пора знать.
— Ладно, старший товарищ, выступай по делу, у меня работа стоит.
— Дело вот какое, Костя. Ты слышал, что комсомол начал формировать
отряды добровольцев для работы на целине?
— Газеты читаю. Дальше?
— А дальше наша заводская организация тоже формирует группу. Как ты
к этому относишься?
— Никак не отношусь. Я к чернозему или чему там еще только один раз
близко и был — когда к бабке в деревню пацаном ездил.
— А другие что, агрономическую академию кончали? И потом, я тебе
скажу, трактористов-то из тех, кто может трактор отремонтировать, проще
сделать, чем, скажем, из счетоводов.
Костя ядовито осведомился:
— Вы-то сами, случаем, не слесарем по ремонту в прошлую бытность
вкалывали? До того, как старшим товарищем сделались? Или неохота
вспоминать?
— Нет, отчего же не вспомнить.
— Так чего ты меня пришел агитировать? — взорвался Костя. —
Складывай чемодан и валяй пахать. Покажи пример.
— Уже складываю.
— Это как понимать? — недоверчиво вгляделся в него Костя.
— В самом прямом смысле, — добродушно улыбнулся Бухонов. —
Поскольку наш авторемонтный гигант — самое крупное предприятие в
районе, я назначен комиссаром отряда.
— Проводить до целины?
— Нет, — не замечая ехидства, ответил Бухонов. — Там и останусь. Так
как? Поедем вместе или страшновато Москву бросать?
— Ты меня на «слабо» не бери. Это ведь не на маевку в Пахру, это
насовсем.
— Понимаю, — кивнул Бухонов. — Подумать, конечно, не мешает. С
учетом того, что ты комсомолец. Давай так договоримся. Завтра на
пересменке мы проводим летучее комсомольское собрание, кликнем
добровольцев. Надумаешь, подымешь руку. Идет?
— Идет, — вяло согласился Костя.
И опять спрятался под капот.
Полгода назад в моторном цехе оборудовали отличную душевую, и
Костя, лишенный такого удовольствия в своей многонаселенной квартире,
каждый день после смены мылся долго и с наслаждением. Но после
разговора с Бухоновым задерживаться не хотелось, ополоснулся кое-как и
поспешил к себе на Даниловку.
Снег только сошел, но во дворе уже начались весенние танцы. На
сколоченном из досок и врытом в землю столе играл патефон, а вокруг него
крутилось несколько пар, в том числе и Галька Филина — с кем-то другим,
не со Славкой. Ей ведь один черт с кем выкаблучивать. Хоть бы Аня ему, как
сестра, объяснила, а то просто обидно за него. Сам Костя раз попытался, но
Славка положил руку на плечо и попросил:
— Не надо мне плохого о ней говорить, поссоримся.
Славка — поэт, а поэты, говорят, все видят иначе. Вертихвостке Гальке
он написал:
Мы были в парке над рекой,
А в ней луна, качаясь, плы
́
ла,
И ты луну мне подарила.
Куда девать мне дар такой!
Хранить за форткой — не пятак.
А в комнате тесно и так.
Придумал! Спрячу, где прячу стих;
В свое же сердце. Оно вместит!
Костя про себя подумал, что это точно: если уж Славкино сердце смогло
вместить эту Гальку, то луна для него — тьфу! Но промолчал: не хватало
еще из-за нее друга потерять.
Среди играющих в домино Костя увидел Славку — торчит около Гальки.
Танцевать он не любит, зато в домино так играет, что старики боятся брать
его в свою компанию: знают, что Славку не обыграешь, даже если партнер у
него так себе. Просто фокусник по этой части.
Славка увидел Костю и приглашающе помахал рукой. Костя помахал в
ответ, но прошагал прямо к подъезду. Хотелось побыть одному, прикинуть,
что к чему и как. С одной стороны, бросить Москву, привычный старый дом,
мать, как же на такое решиться? С другой стороны... С другой стороны,
Славка наверняка поедет с ним, дух захватывало от того, как может
перевернуться вся привычная жизнь и откроется вдруг что-то новое, яркое.
Натура у Кости в отличие от его друга была не поэтическая, а скорее
практическая. Он старался отогнать романтические мечты и продумать
решение всерьез. Кроме новых краев и новых людей, ждет тяжелая работа,
разлука с близкими. Ему виделся в будущем автомобилестроительный
институт. А Аня, сестренка Славкина, виделась ему женой... Как со всем этим
быть?
Мать встретила у распахнутой двери — ждала у окна, заметила, как
появился во дворе. Оставшись вдовой в двадцать девять лет, она нового
счастья найти не смогла да в общем-то и не искала. Чего там было искать,
если и помоложе кому женихов не находилось: война всех забрала. Жила
Анна Андреевна только сыном, единственным, кто остался у нее на этом
свете. То есть были, конечно, товарки, прежде всего Мария Сергеевна
Таланкина, с которой вместе, с семнадцати лет, работали на трикотажной
фабрике, вместе проводили мужей в июне сорок первого и почти
одновременно получили похоронки. И сыновья у подруг были одногодки.
Правда, у Марии росла и дочь на три года моложе брата. И еще одна
разница: Мария не прочь была погулять. Овдовев, вскорости сошлась с
безруким демобилизованным, да тот вернулся к прежней семье.
Анна Андреевна замечала, что Костя поглядывает на Анечку, и
радовалась этому: та росла скромная, работящая, после семилетки пошла
тоже на трикотажную. Да... Дочка всегда с матерью останется, сколько у нее
ни будь своих детишек, а сын женился — только его и видели. Хорошо, если
со снохой поладишь, а если нет? И Анна Андреевна молила бога, если он
есть, чтобы соединил ее сына с дочкой Марии, уж с Анечкой-то уживутся
обязательно.
Едва глянув на Костю, Анна Андреевна почувствовала, что у него что-то
приключилось. Наливая сыну наваристых, настоявшихся за день до густого
аромата щей, как бы невзначай поинтересовалась:
— Как там в цехе-то, без происшествий?
Костя пожал плечами.
— Поругался, что ль, с кем опять? — не отставала мать.
— Ни с кем я не ругался, — ответил Костя досадливо. — И чего ты все
ждешь, что я с кем-нибудь подерусь?
— А то ты ни с кем не дрался никогда...
Было действительно в его биографии много трудного. И сейчас Анна
Андреевна все еще побаивалась, не примется ли Костя за старое. Ладно бы в
детстве: недрачливым на Даниловке туго приходилось, ребята там жили
боевые, многие, как и Костя, выросли без отцов, лишь на свои кулаки и
надеялись. А он взял да и связался с настоящей шпаной, в школу стал
ходить через два дня на третий. Немало слез пролила тогда Анна
Андреевна: единственный сынок вот-вот в тюрьму сядет.
Даниловка в то время по большей части состояла из старых-престарых
домиков. Многие были деревянными, с удобствами во дворе, так что дом,
где жили Кузовковы и Таланкины, считался по сравнению с прочими просто
хоромами. Четырехэтажный, построенный в виде буквы «П», он когда-то
принадлежал купцу и назывался доходным домом. Ребят во дворе хватало с
избытком. Именно во дворе, потому что в квартирах для них места не
оставалось, встречи происходили в подъездах или у дворовых столиков.
Как водится, имелось там и несколько парней, куривших, выпивавших;
они тянули все, что плохо лежит, не желали учиться и работать. Немолодой
участковый Потехин измучился с этой компанией, но вразумить не смог. К
ним-то мало-помалу и прилепился Костя, которому уже исполнилось
пятнадцать. Тоже шкодил по малости и, возможно, дошел бы до крупного,
как многие его прежние дружки, но вытянул его за уши новый
уполномоченный, совсем молоденький лейтенант Виктор Шаликов,
живший по соседству и потому хорошо известный Косте и его компании.
Шаликов, побеседовав с Костей и остальными, почему-то выделил его и
еще одного пацана, Геньку Голяева, и применил к ним, как он потом
выразился, «сильнодействующее средство». Пригласив их однажды к себе в
отделение, сказал:
— Пришли? Добро, сейчас я вам кое-что покажу.
— Чего ты нам покажешь? Надоел со своими показываниями, — дерзили
они, пользуясь тем, что Виктор был лишь немногим старше них.
— Будущее ваше покажу, понятно? Начальник дал разрешение. Но чтоб
сидели и рта не раскрывали, ясно?
Он привел их сначала в одну камеру, где шел допрос, потом во вторую. В
первой камере они примерно час слушали, как следователь-женщина
допрашивает одноглазого верзилу, изувечившего и ограбившего
нескольких стариков и старушек. На втором допросе происходила очная
ставка двух подонков, которые с еще двумя скотами изнасиловали и убили
пятнадцатилетнюю девочку, Костину ровесницу. Вся четверка
принадлежала к одной из дворовых шаек, Костя даже знал их понаслышке.
Двое допрашиваемых, сваливая вину друг на друга, вспоминали такие
гнусные подробности, что у Кости к горлу подступила тошнота Он, не
спросясь, выскочил в коридор, за ним вышли Генька и участковый Шаликов.
— Есть желание еще поглядеть? — спросил участковый.
— Нет, — в один голос отказались Костя с Генькой.
— Тогда можете быть свободны, — разрешил Шаликов.
Больше воспитательной работы не требовалось. Оба как отрезали
старое, хотя Косте пришлось выдержать несколько драк с бывшими
дружками. Встретив его во дворе с разукрашенной физиономией, Шаликов
велел зайти к нему в отделение вместе с Генькой Голяевым. Там он без
обиняков предложил им вступить в бригаду содействия милиции.
— В одиночку так и будете с синяками красоваться: с такими шакалами
надо всем миром воевать, уважаемые граждане.
Они согласились, и Анне Андреевне снова пришлось поволноваться, хотя
и по иной причине. Умом она понимала, что ей надо судьбу благодарить за
участкового Шаликова, но, когда Костя уходил на дежурство в милицию, она
места себе не находила до его возвращения.
Поэтому, сидя напротив сына, Анна Андреевна опять сказала:
— Кость, ты уж мне лучше скажи, я же сердцем чую, стряслось что-то.
Костя положил ложку и напрямик бухнул:
— На целину ехать надо, вот что стряслось.
— Как на целину? — ахнула Анна Андреевна. — А я-то как же? Да чего
тебе там делать-то, на целине? Нешто ты когда сеял или пахал?
— А другие, думаешь, агрономическую академию заканчивали?
— Да ты вправду, что ль? Не пущу я тебя никуда, и не думай. Растила,
растила тебя, а ты вон что... — В голосе Анны Андреевны зазвучали слезы.
— Погоди, мам, чего плакать-то раньше времени. Я еще не уезжаю, а уеду,
так и ты за мной. Неужто я тебя одну тут брошу?
— Как же из Москвы-то уехать, ты что? Говорят, теперь дома новые
тыщами строить станут, я надеялась — квартирку свою получим, внуков
нянчить буду.
— Мам, да на целине не то что квартиру — целый дом получим, нянчи
себе на здоровье.
— Так то там, а то в Москве. Всю жизнь ведь тут прожила, легко ли на
старости сняться к черту на кулички?
Помолчав, опустивши глаза к столу, Костя негромко сказал:
— Мам, помнишь, ты мне рассказывала, как отец тебе ответил, почему он
не ждет, пока его мобилизуют, зачем сам в пекло лезет? Что, если все ждать
будут, Россия скоро под немцами окажется, так?
— Ну так. Да ведь то война...
— И сейчас надо воевать, чтоб хлеба всегда всем хватало.
С каждым доводом, который Костя выкладывал перед матерью, ему
становилось все яснее, что он едет, не может не ехать, другого решения не
дано.
В дверь постучали, и вошел Славка с гитарой под мышкой.
— Тетя Аня, можно к вам?
Махнув рукой, Анна Андреевна подхватила грязную посуду и понесла на
кухню.
2
Подружились Славка и Костя едва ли не с пеленок. Идя к Анне Андреевне
посумерничать, мать Славки, чтоб не оставлять его, сопливого, одного в
комнате, брала с собой. Потом, когда сыновья стали постарше, подруги,
беседуя, выгоняли их на улицу, наказывая следить друг за другом. Вместе
отвели их в школу и посадили за одну парту. Так что волей-неволей все
детство были они неразлучны и прилепились один к другому, как братья-
близнецы. Правда, в тот год, когда Костя начал путаться с дворовой шпаной,
Славка не потянулся за другом, не интересовали его эти недоумки,
доигравшиеся впоследствии до решетки. Он очень боялся за Костю, но у
того как ватой уши заложило, ничего не слышал, ничего не понимал,
отвечал презрительной улыбочкой: поговори, мол, поговори, если больше
делать нечего. Впрочем, втянуть Славку в новую компанию Костя и не
пытался, понимал, что тот смотрит совсем в иную сторону.
Славка смотрел в сторону моря. К седьмому классу он прочитал всего
Станюковича, гончаровский «Фрегат «Паллада», историю путешествий
Кука, Крузенштерна, Врангеля, рассказы Леонида Соболева...
И надо же такому случиться, что в середине седьмого класса он
поскользнулся на ледяной полоске, намерзавшей в подворотне каждую
зиму, и сломал левую ногу. Нога срослась вроде бы нормально, но осталась
почти незаметная хромота. Из-за нее Славка так никогда и не выучился
танцевать, стеснялся.
Получив аттестат за семь классов, он отправился в Ленинград поступать
в подготовительную военно-морскую школу. Кроме всего прочего, там
брали на полное довольствие, что очень облегчило бы денежное положение
дома: Марии Сергеевне приходилось нелегко одной с двумя детьми.
Заметили все-таки на комиссии Славкин дефект. Как ни уговаривал он
председателя медкомиссии, как ни ссылался на Алексея Маресьева, который
совсем без ног летал, в ответ слышал одно: «Сейчас не военное время, нет
никакой необходимости брать на флот физически негодных к морской
службе людей». Он по примеру Маресьева грозился дойти до самого
главного начальника, но в душе сознавал, что Маресьев-то уже летал, уже
мог делать все, что другие летчики, а ему, Славке, надо начинать с
надраивания палубы. Кому он нужен, когда рядом проходили комиссию
крепкие, рослые физкультурники с бицепсами боксеров.
Вернулся он домой, охваченный отчаянием: все пошло наперекосяк, что
теперь делать, куда податься?
Тогда Славка Таланкин написал свою первую песню, которую сам же и
пел под гитару:
Ведь где-то есть еще без имя острова,
Ведь где-то есть торосы и кокосы.
Мне б надо с вами быть в пути, матросы,
А у меня болит с похмелья голова...
После первого же исполнения во дворе песня понеслась по всей
Даниловке, а в собственном дворе Славкина популярность поднялась до
небес. Несколько воспрянув духом от неожиданного успеха, Славка стал
выдавать новые песни регулярно. Бормотал под нос песенные слова даже на
заводе, собирая и разбирая автомобильные моторы, а как только слова
складывались окончательно, мелодия для них приходила сама собой.
Когда Славка устраивался с гитарой на дворовой скамейке, вокруг него
собиралась и затихала даже та шарага, которая доставляла столько хлопот
участковому Шаликову. Славкины песенки негромко рассказывали о морях
и моряках, о верной дружбе и любви, о разлуках и встречах и о том, что есть
еще на свете много, очень много путей-дорог, которыми никто пока не
проходил. А в любимой его песне, чаще других повторявшейся, была такая
строфа:
Пусть я злобно обижен судьбою,
Пусть не в море я буду, а тут,
Все равно я свой остров открою,
Все равно его мной назовут.
Поскольку после неудачи в Ленинграде ему было все равно, куда
подаваться, он, чтоб не расставаться с Костей, вместе с ним поступил в
профтехшколу при авторемонтном заводе, хотя Славка уважал автомашины
лишь как транспорт, в котором не толкаются, а для Кости в машинах
заключался смысл будущей жизни. Правда, расстаться им все же пришлось:
после профтехшколы Костю сразу взяли в армию, а Славку признали
негодным.
Костя вернулся на завод, не утеряв своей квалификации, поскольку
служил в моторизованных частях и все это время был при моторе. Славка,
пожалуй, сам даже и не сознавал того, что в нем усиливается замкнутость и,
что хуже всего, укореняется подсознательная привычка считать себя
неудачником. Он сторонился девушек и во дворе и на заводе. И получилось,
что к двадцати годам единственной девушкой, с которой он мог нормально
говорить и вести себя, была его младшая сестра Аня, названная так матерью
в честь лучшей подруги Анны Андреевны.
Именно потому, что Славка Таланкин родился натурой страстной,
питавшейся полетами воображения, и еще потому, что был он от природы
добрым и снисходительным к людским слабостям, первая девушка,
ответившая на его влюбленность, сразу же обрела сияющий ореол
непогрешимости, хотя о Гальке Филиной во дворе знали много такого, что
давало соседям право говорить, будто она «гуляет». Галька родилась на год
раньше Славки, но повидать разного успела куда больше него. Какой-то
период хороводилась с той же братией, что и Костя, но «отшилась» от нее
раньше, ей стало просто-напросто скучно с «придурками, мечтавшими стать
урками», — так написал о них в одном стихотворении Славка. За откол от
«своих» Гальку хотели сначала «встретить в переулке», но дальше
разговоров дело не пошло.
А Галька начала «гулять» где-то на стороне, никто толком не знал, где
именно. Видели только, что частенько привозят ее на машинах какие-то
пижоны, то ли спортсмены, то ли артисты. Она и одеваться стала так, как
никто во дворе не одевался. Откуда ведь деньги-то берутся, рядили соседки
на лавочке и вечерами пеняли Галькиной матери, на что она возражала:
— Вы бы, подружки, пожили с моим извергом, по-другому бы заголосили.
Сами ведь знаете, что ни вечер, то еле на ногах стоит, что ни вечер, то либо
меня, либо ее прибьет. Денег-то его и не видим, одно название, что
кормилец. Кабы не Галюшка, с голоду бы, небось, подохли.
На это соседки согласно кивали: такого, как ее мужик, на цепи бы
держать. Галька, какая она ни будь, при этих-то условиях техникум осилила,
работу на заводе не бросает, больше папаши получает, младших братишек и
сестренку тянет. Надо бы Гальке хорошего, самостоятельного мужа себе
найти, тогда бы и ей и всей семье полегчало.
И вдруг Гальку как подменили. Несколько дней она совсем не появлялась
на людях, потом ее увидели похудевшей, с черными кругами вокруг глаз,
постаревшей и притихшей.
Ее вечерние выезды прекратились начисто. На расспросы, что за беда
стряслась с Галькой, мать упорно отвечала — никакая не беда, а просто
взялась девка за ум; по молодости, по глупости на кого не находит. А
поведение главы их семейства не менялось. Галя жила этажом выше Славки,
и он чуть ли не каждый вечер слышал наверху приглушенные крики и
удары об пол.
Как-то вечером он услыхал вопли на лестнице. Выскочил на площадку и
увидал, что пьяный Галин отец наступает на жену и дочь с одностволкой в
руках. По несвязной речи Славка догадался, что тот даже не понимает, на
кого он направил дуло ружья. Но через секунду кто-то из двух женщин мог
упасть под выстрелом. И Славка кинулся вверх по лестнице с криком: «Стой!
Стой, сволочь, что ты делаешь!»
Он хотел отвлечь озверевшего пьянчугу на себя и добился своего — тот
повернул ствол к нему. Счастье, что Галин отец видел нечетко, а то снесло
бы Славке полголовы, а так отделался отстреленной мочкой правого уха и
несколькими дробинами, застрявшими в плече. Не чувствуя боли, он
выхватил ружье и что есть силы саданул прикладом под дых тому, кто чуть
не отправил его на тот свет. Участковый Шаликов, видно, находился где-то
поблизости, потому что оказался на месте происшествия буквально через
минуту, еще пороховой дым на лестнице не рассеялся. Все факты были, что
называется, налицо, и субъект, от которого Шаликов давно ждал нечто
подобное, но не мог ничего с ним поделать, исчез из дома на много лет.
Славка неделю походил с повязкой. Галю он в это время не встречал ни
разу, а заглянуть к ней вроде не было причины: еще решит, что героем себя
мнит Славка Таланкин. Разве такая красавица может проникнуться
чувством к неудавшемуся мореходу с хромой ногой? Подумаешь, песни он
поет под гитару, видала она таких певцов.
Галя сама пришла к нему. По-прежнему худая, бледная и по-прежнему
красивая.
Мария Сергеевна работала в вечернюю смену, открыл Гале сам Славка.
Открыл и оцепенел. Она слегка улыбнулась — так, тенью улыбки.
— В комнату не пригласишь, здесь постоим?
— Конечно, конечно, входи, пожалуйста.
Она огляделась — впервые попала в жилье своего спасителя, — потом
повернулась к нему, посмотрела, склонив голову к плечу, и заметила:
— Хорошо хоть, что тебе серег носить не надо... — И тут же, без перехода:
— В кино пойдешь? В «Ударнике» что-то новое пошло, итальянское.
Как будто для них ходить вдвоем в кино — самое обычное дело.
Все, что было раньше, не имело для них никакого значения, история
человечества началась в тот день, когда свершилось чудо: она постучала в
его дверь и позвала в кино. Остальное происходило, как пишут в учебниках
истории, до нашей эры. «Наша эра» была обозначена мелом на стене их
подъезда: «Галя + Слава = любовь». Славке эта надпись доставляла большое
удовольствие; проходя каждый день мимо нее, он улыбался, ощущая от
этого напоминания новый острый прилив счастья.
Костя не желал признавать Галю. Он не сомневался, что рано или поздно
она пойдет по старой дорожке. Славка ведь мальчишка рядом с ней. Это она
пока двора держится: так звери в нору заползают, чтобы раны зализать. Кто
поверит, что эта Галька Филина после шикарных ресторанов надолго
задержится на танцплощадке в старом дворе? И всячески избегал ее.
Отчасти поэтому и не захотел подойти к Славке, возвращаясь с завода после
разговора с комсомольским «старшим товарищем»: рядом в танце
кружилась Галька Филина.
Славка этого не понял и удивился поведению Кости. Когда пластинка
кончилась и Галя вернулась к Славке, он сказал, что хочет заглянуть к
Косте: кажется, у него что-то неладно. Галя, отвергнув новое приглашение
на танец, пошла со Славкой. Он проводил ее до лестницы, хотел поцеловать,
да помешал Галин сосед, строго на них посмотревший и долго, явно из
вредности, копавшийся в почтовом ящике.
Придя к Косте и увидав безнадежный жест тети Ани, Славка понял, что
предчувствие его не обмануло: у Кости есть чем с другом поделиться.
3
Есть люди, которым доброта дана, как дается талант — музыкальность,
поэтическая одаренность, способности живописца или актера. Таким
талантом природа наградила Анечку, Славкину сестру. Только так ее и
звали во дворе и на фабрике — Анечка.
При всей миниатюрности и при том, что росла она на скудном военном
рационе, Анечка обладала энергией, которой позавидовали бы
натренированные спортсмены. Она успевала и выучить уроки, и дома все
сделать по хозяйству, и сбегать за лекарством и хлебом для больной
старухи из соседнего подъезда, и проведать ребятишек в квартире, где
родители ушли оба в вечернюю смену, и книжку на сон грядущий почитать.
Книжки она любила, как и Славка.
А еще она любила Костю Кузовкова; сколько себя помнила, столько и
любила. Сначала он был для нее просто таким же привычным человеком в
доме, как Славка, готовым, если надо, всегда за нее заступиться. Потом она
страшно переживала, что Костя связался с хулиганьем, ловила его на
лестничных клетках и стыдила, это Косте было тяжелее слушать, чем
взрослые воспитательные речи. «Кость, не надо с Мартыном ходить,
Мартын ведь злой, а ты добрый, я знаю. Он у маленьких хлеб в школе
отнимал, разве так можно. Кость, приходи лучше опять к нам, Славка тоже
обрадуется, он ведь, знаешь, как за тебя волнуется. Мартыну, говорит, один
конец, а он Костю за собой в тюрьму потянет. Кость, неужели тебе в тюрьму
хочется?» И несла прочую такую же чепуху.
Чепуху-то чепуху, но когда участковый Шаликов привел их с Генькой
Голяевым на второй допрос, сильнее всего по Костиному сознанию ударила
внезапная мысль, что вот этой девчонкой, над которой надругались звери,
чем-то схожие с Мартыном, могла быть и Анечка, если бы она им в тот
момент подвернулась под руку.
Подружки, такие же ученицы на фабрике, удивлялись, что Анечка
никогда не ходит в клуб на танцы, а только на торжественные вечера и
сразу после художественной части исчезает. Зато в ее единственном
парадном голубом платье могла щеголять каждая, на кого оно налезало.
Мария Сергеевна сердилась, что кто-то изнашивает дочкино платье,
которое та сама надевает лишь по праздникам, но не ходить же каждый раз
его отнимать, как раньше приходилось разыскивать по этажам две с
половиной Анечкины игрушки, бывшие общим достоянием всей дворовой
детворы. И мать махнула рукой: жадности не научишь, если не родился
жадным. Пусть даже в этом случае она называется бережливостью.
Анечка не бегала на танцульки просто потому, что там ей было
неинтересно без Кости. А до Кости она еще не успела дорасти, это Анечка
прекрасно понимала и ждала своего часа. Хотя и слышала о Косте нечто
такое, от чего ее маленькое сердечко болело, как у взрослой. И тоже, как
взрослая, чувствовала, что ожидание ее не напрасно, что другой судьбы для
них попросту быть не может и это не девчоночья фантазия, а уверенность,
которую невозможно объяснить логически.
Будущее представлялось Анечке вполне определенным образом. Вот ей
исполняется восемнадцать, дальше ждать незачем, Косте уже стукнет
двадцать один, и они идут и расписываются. Поживут сколько-то у Кости, у
него удобнее; потом, глядишь, ему на заводе выделят собственную комнату,
а то, чего доброго, однокомнатную квартиру. В газетах пишут, что
начинается грандиозное жилищное строительство, какого еще никогда на
свете не было, общие квартиры расселят, подвалы совсем ликвидируют.
Так, может, им с Костей тоже повезет. Они же молодые, могут подождать.
Даже если лет через пять получат, и то счастье какое. Тетю Аню, конечно,
возьмут с собой, пусть со своей личной кухней поживет.
И вдруг Анечкины воздушные замки разом рушились: брат объявил, что
они с Костей решили записаться в отряд добровольцев, едущих подымать
целинные земли Кулундинской степи.
— На сколько едете-то? — спокойно осведомилась Мария Сергеевна,
решившая, что сын собирается в такое же недолгое путешествие, как
каждую осень, когда заводскую молодежь откомандировывают копать
картошку для рабочей столовой.
— Да как бы тебе сказать, мам, видать, насовсем, — тихо ответил Славка.
— Как насовсем? — ахнула Анечка. — А я как же?
— Погоди, — остановила ее мать. — Ты, Славка, серьезно или шуточки со
мной шутишь?
— Серьезно, мам.
— Да что ж они, другого кого найти не могут, из Москвы ребят шлют, с
завода? Это когда мы в самое трудное время из Москвы не уехали, всю
войну тут под бомбами пробедовали!..
— Мам, — сказал Славка, — никто меня не посылает силком, мы с Костей
сами хотим.
— Ну и дураки вы с Костей оба, — отрезала Мария Сергеевна.
— Нет, мам, мы не дураки, просто мы помним, как плохо без хлеба.
Анечка и то, наверное, помнит.
— Конечно, помню. Ты же мне свою булочку из школы приносил,
говорил, что тебе две дают, а я, дурочка, верила, каждый день ждала эту
булочку несчастную. Сколько лет прошло, а вот как сейчас представляю —
весь день есть хочется. Все надеялась: вдруг Славке сегодня целый
портфель булочек дадут. Как отличнику. Хорошо хоть я тогда не знала, что
такое шоколадные конфеты, а то бы совсем невозможно жить было, —
смеясь, заключила Анечка.
— Нас с завода двадцать шесть человек едет, а Валька Бухонов
комиссаром всего районного отряда, — сообщил Славка.
Мать сердито повязала косынку и ушла, хлопнув дверью. Славка понял:
пошла с тетей Аней совещаться, как им своих балбесов вразумить. Только
на сей раз она у подруги поддержки не найдет, тетя Аня хоть и поплакала,
но все поняла, как надо. Костя правильно ей про отцовские слова напомнил.
То же самое и с целиной: кому же ее и поднимать, если не таким, как они с
Костей, ребятам, хорошо знающим цену куска хлеба.
Анечка и не собиралась отговаривать брата, она была полностью
согласна с тем, что он сказал матери. Волновало ее другое: раз Славка уедет
навсегда в эту Кулундинскую степь, значит, и Костя тоже навсегда. А как же
она, Анечка? Неужели Костя не мог с ней если не посоветоваться, то хоть
поговорить? Берет себе и уезжает, как будто ее и на свете нет.
Как раз в эту секунду раздался стук в дверь, и появился Костя с
несколько смущенной улыбкой.
— Выгнали? — спросил Славка весело.
— Почти.
— Правильно сделали, — сказала сердито Анечка.
— Ну и ну, я с тобой поговорить хотел, а ты...
— Говорить раньше надо было, а не когда все решено и подписано, — не
могла уже остановиться Анечка, всерьез рассердившаяся чуть ли не первый
раз в жизни.
— Да погоди, уеду — поздно будет толковать.
— Я случайно не мешаю? — насмешливо спросил Славка. — Может, мне
уйти?
— Не надо, мы сами уйдем, — ответила за двоих Анечка, вдруг
осознавшая, что Костя действительно впервые пришел, чтобы поговорить
не с ее братом, а с нею самой и, значит, поговорить об их отношениях, о том,
что до сих пор существовало лишь в ее воображении.
— Да мне и так давно все ясно, — засмеялся Славка. — Тили-тили тесто,
жених да невеста. Точно?
— Точно, — серьезно согласился Костя.
— Ну и на здоровье, — разрешил Славка.
— Может, и меня кто-нибудь спросит? — вставила Анечка.
— Для того и пришел, — сказал Костя. — Правда, пошли на улицу, а то
Мария Сергеевна сейчас вернется и выгонит меня, как главного смутьяна.
Ладно, Слав? Не возражаешь? А то я откладывал, откладывал, да больше уж
некуда откладывать.
— Валяйте, — великодушно позволил Славка. — Давно пора.
Лишь долгое время спустя Анечка и Костя сообразили, что в том
вечернем московском разговоре никто из них не произнес признания в
любви. Бессознательно исходили из того, что это, основополагающее,
очевидно и так, надо в данный момент решать практические вопросы. Вот о
них-то, о практических вопросах, и проговорили-проспорили за полночь,
так что Мария Сергеевна послала Славку разыскивать пропавшую сестру.
— Значит, так, — с ходу начал Костя, — приедем мы туда со Славкой,
оглядимся, как и что, обстроимся, в курс дела войдем. А к следующей весне
ты к нам подъедешь. Как, годится?
— Нет, не годится, Костенька, — решительно отвергла Анечка.
— Да почему? — Косте даже в голову не могло прийти, что Анечка
против самого отъезда в неизвестные края, заведомо знал: как он с ней, так
и она с ним поедет куда угодно.
— Потому, Костенька, что оглядимся и обстроимся мы вместе, понятно?
Я поеду сразу. А то к весне ты еще передумаешь меня звать, найдешь там
какую-нибудь, которая не побоялась поехать.
— Чудачка! Да ты знаешь, что это такое — Кулунда? Пустое место, нет
ничего, кроме травки. Одновременно и пахать будем и поселок строить,
понятно тебе?
— Сколько с вашего завода едет?
— Двадцать шесть.
— Сколько из них девушек?
— Девять, — поколебавшись, ответил Костя.
— Ячто—хужених?
— Они поздоровее тебя.
— Костя, раз уж ты меня берешь на целину, бери сразу, я не слабее
других, не беспокойся. И вообще, помнишь, чем дело кончилось, когда
Андрей Болконский согласился не видеть Наташу Ростову целый год?
— Ну, если ты себя с графинями равняешь, тем более тебе нечего на
целине делать. Да и не возьмут тебя, тебе восемнадцати еще нет. Я с тобой
объясняюсь-то только потому, что потом меня тут не будет, а так хотел
дождаться твоего дня рождения и сразу предложить в загс. В качестве
подарка имениннице.
— Ишь, как вы себя цените... Значит, считаешь, не возьмут?
— Низачто.
— Ладно, поглядим...
Кого-нибудь иного, возможно, действительно не взяли бы, тем более
ведь Анечка потребовала в райкоме комсомола, чтобы ее включили в тот
отряд, с которым уезжали Костя и Славка. Райком в те дни и без нее
переполняла организационная кутерьма, недостатка в добровольцах не
было, а эта девушка с трикотажной фабрики не обладала никакой
квалификацией, применимой в целинных условиях. От нее отмахнулись. Но
райкомовцы не знали, что девчушка с Даниловки заряжена энергией,
которую невозможно погасить никакими отказами. И что к тому же эту
энергию умножает страх перед разлукой с Костей.
В конце концов Анечка добралась до секретаря горкома, который
внимательно ее выслушал и обратился к находившемуся у него в кабинете
пареньку с фотоаппаратом на груди:
— Ну, товарищ писатель, кого ты перед собой видишь?
— Дюймовочку, — улыбнулся паренек с фотоаппаратом.
— В каком-то смысле верно. И может стать литературной героиней не
хуже твоей Дюймовочки. Советую обратить внимание на товарища Аню
Таланкину, не прогадаешь. А это, между прочим, Анечка, корреспондент
нашей молодежной газеты, прошу любить и жаловать.
Секретарь снял трубку телефона, набрал какой-то номер и в две минуты
уладил Анечкино дело.
Напряженно вслушиваясь в то, что секретарь горкома говорил своему
телефонному собеседнику, Анечка и не заметила, как «товарищ писатель»
дважды ее сфотографировал.
4
— Кто начал драку?
Бухонов, гневно сузив глаза, обвел взглядом четверых сидевших на
вагонных полках — Костю Кузовкова, Славку Таланкина и еще двоих
неизвестных ему парней. Все четверо тяжело дышали, у одного парня глаз
быстро заплывал кровоподтеком, захватившим полщеки.
— Ребята, — обернулся Бухонов к другим, кто должен был видеть все
случившееся, — что здесь происходит? Мы кто — комсомольцы, едущие на
целину, или пьяная компания в дачной электричке?
— Да это те двое все начали.
— Они и к нам приставали.
— Правильно им влепили.
Бухонов поднял ладонь.
— Какие «те двое» — эти или те?
Он указал на Костю со Славкой, потом на незнакомцев, которые
одновременно заныли, что они ни при чем, они пострадавшие.
— А ну, дыхни, — приказал Валентин Бухонов тому, что с подбитым
глазом. — Да не в себя, этот фокус знакомый. Так, ясно. Вам что, не известно
о «сухом законе» в отряде?
Подбитый и его дружок стали божиться, что «дух с про
́
водов остался»,
что в поезде они и в рот ничего не брали, кроме чая. Тяжело поглядев на
них, Валентин спросил:
— Фамилии ваши?
— Филиппов Николай...
— Семпель Роман... — буркнул подбитый.
Оба они оказались из одной и той же подмосковной автобазы.
Уходя, Валентин объявил, что доложит штабу эшелона о безобразном
инциденте в шестом вагоне и поставит вопрос о возвращении всех
четверых на прежнее местожительство. Пусть ждут вызова в штаб.
После того как он скрылся в тамбуре, Филиппов ухмыльнулся:
— Напугал, а, Рома? «На прежнее местожительство». Небось, проживем и
на прежнем, а, Рома?
Но Семпель не принял веселого тона. Прикрыв щеку рукой, он пригрозил
Косте:
— Ты это запомни, кореш.
— Еще хочешь? — привстал Костя. Славка удержал его:
— Брось, Костя, он-то уже запомнил. Ты ему хороший узелок завязал.
В вагоне засмеялись. Кто-то тенорком сказал:
— Несправедливо будет, ребята, ей-богу. Я говорю, если всех четверых
обратно отошлют. Мы-то видели, как и что. Надо делегацию в штаб послать,
чтоб они там правильно разобрались.
Конфликт случился в отсутствие Анечки, но именно она и послужила его
невольной причиной, придя навестить брата и Костю.
Ребята и девушки ради общего удобства ехали в разных вагонах, но,
быстро перезнакомившись, днем часами гостили друг у друга. Женатые,
конечно, помещались вместе, их тоже было порядочно.
Перед приходом Ани в вагоне сначала шло все нормально: пели песни,
рассказывали всяческие были и небылицы, перешучивались с девушками,
слушали Славкину гитару, в первый же день стяжавшую известность в
эшелоне. Только Семпель и Филиппов томились. Похоже, они успели где-то
в тамбуре распить бутылку, и им хотелось внимания. Они стали вспоминать,
какие лихие штуки, бывало, откалывали в своем автохозяйстве, но на них не
обратили внимания, все слушали Славку. Скоро весь вагон дружно распевал
его любимую песню.
Потом все притихли, призадумались.
Подвыпившие дружки пытались на свой манер знакомиться с
девушками, воображая себя «первыми парнями на деревне», но девушкам
их назойливость надоела, и они ушли к себе.
— Эх, житуха, — потянувшись, пожаловался Семпель, — ни тебе бабы, ни
тебе выпить, ни тебе в картишки побаловаться.
Карты, как и выпивка, были объявлены вне закона.
И тут Костя насмешливо бросил:
— То-оже мне — в картишки. Небось, в домино-то не знаете, как
костяшки ставить, а туда же...
Подначка подействовала на Семпеля мгновенно.
—Это кто не знает, как кости переставлять? Мы с Колькой? Да мы и тебе
их за милую душу переставим, если хочешь.
Костя, незаметно подмигнув Славке, возразил:
— Это не домино, дело нехитрое.
— Ну что, Коль, — завелся Семпель, — покажем пижонам московским,
как у нас в домино рубят?
Филиппов молча кивнул, он вообще был куда менее разговорчив, чем его
напарник.
Тут Семпеля озарила новая мысль:
— Чтоб зря не чикаться, давайте по червонцу на кон.
— Не, нельзя, — для виду заколебался Костя.
— А-а, заслабило, — злорадно протянул Семпель, — трепанул — и в
кусты.
— Как, Слав, рискнем, что ль? — продолжал игру Костя.
— Не срамиться же нам на весь свет, — поддержал Славка. — И так,
видишь, что говорят — заслабило, мол.
—А то нет, — еще подбавил Семпель.
Он добился, чего хотел, наконец-то все внимание было обращено на него.
Раздались увещевающие голоса:
— Да бросьте, ребята, не связывайтесь, они вас обжулят.
— Договорились же: никаких азартных игр.
Но Костя, не слушая, поставил свой чемодан на торец, Славкин поверх
него и высыпал на образовавшийся столик домино.
— Мешай, — сказал он Семпелю.
— Руками работает, кто головой не может, ты и мешай, — изрек тот
давно затертую от употребления остроту.
Часа через два Семпель и Филиппов остались без единого рубля. Славка
во всем блеске показал свой второй талант, а Костя в меру сил помогал
разгрому и унижению типов, которые, по его мнению, сильно смахивали на
шпану. Еще в самом начале, в день отбытия из Москвы, Косте хотелось
подсказать Валентину, чтобы тот проверил, действительно ли эти двое —
комсомольцы. Только натянутые отношения с Бухоновым помешали ему
это сделать.
Криво усмехаясь, Семпель предложил сыграть в кредит или под залог
часов.
Костя жестко ответил:
— По пятницам не подаем, бог поможет.
— Кость... — примиряюще начал было Славка, считая, что дело зашло
слишком далеко, надо вернуть деньги этим лбам, и конец, проучили их
достаточно.
Костя же был уверен, что деньги, если их вернуть сразу, снова пойдут на
водку, и опять два обормота будут мешать жить вагону. Пусть перебьются
до конечной станции, там и получат. Таких полезно учить уму-разуму. И он
толкнул Славку в бок: молчи.
Ощущая себя жестоко опозоренными, Семпель и Филиппов сидели злые,
курили сигарету за сигаретой и бросали на Костю ненавидящие взгляды.
И вот тут явилась с очередным визитом Анечка, с самого отъезда весело-
возбужденная, с искрящимися глазами и румяными, как на морозе, щеками.
Тому было основание: она сразу же сделалась не менее популярной фигурой
в эшелоне, чем брат, — ее узнали по репортажу в комсомольской газете, где
повествовалось, как она преодолела все преграды, чтобы поехать вместе с
братом и его другом на целину. Репортаж назывался «Дюймовочка хочет в
Кулунду», и Анечка лишилась своего имени, превратившись для всего
эшелона в Дюймовочку.
Ее так и встретили в вагоне:
— А, Дюймовочка, опять пожаловала!
— Таланкин, готовься, ревизия идет!
Анечка, улыбаясь всем вместе и каждому в отдельности — так это у нее
получалось, — подошла к брату и жениху, улыбнулась им еще лучезарнее и
спросила, как они тут без нее поживают, не скучают ли, не голодают ли.
— Чего нам голодать, — ответил Костя, не глянув на компанию
напротив, — мы люди денежные, на каждой станции можем в ресторан
наведываться. Верно, Славка?
Поболтав о том, о сем, Анечка двинулась в обратный путь, пригласив всех
ребят заглядывать в гости. Ей вслед кричали:
— Дюймовочка, сама нас не забывай, почаще приходи.
Семпель, ухмыльнувшись, сказал приятелю:
— Слышь, Коль: Дюймовочка. Эту Дюймовочку давно бы...
Едва успев выговорить похабщину, он охнул: Костин кулак врезался ему
в подглазье. И началось. Драться в вагоне неудобно, но кой-чему обученный
Костя успел несколько раз хорошо врезать неповоротливым противникам.
Славка, не любивший пускать в ход кулаки, главным образом старался
перехватить руки то одного, то другого. Ему, конечно, досталось, губу
разбили до крови и на ребрах наверняка порядочный синяк остался.
И надо же было Бухонову именно в этот неподходящий момент
появиться с очередным обходом, которые он, как и каждый член штаба,
совершал ежедневно — знакомился, присматривался, оперативно разрешал
мелкие бытовые проблемы, и, если приглашали, то с удовольствием
присоединялся к доминошникам или к шахматистам, хотя сдержанный он
был человек, даже несколько суровый.
Суровость его проявилась и на заседании штаба, где в присутствии
участников драки решалась их комсомольская судьба. Валентин доказывал,
что на целину посланы лучшие из лучших и, если среди них случайно
нашлись такие, как «эти четверо», им не место в московском
комсомольском эшелоне, пусть возвращаются домой и там расскажут,
почему им пришлось так быстро вернуться.
Костя, само собой, не удержался:
— Нескромно себя ведете, товарищ Бухонов.
— Что вы имеете в виду? — удивленно спросил председатель.
— Нескромно себя называть лучшим из лучших. Пусть другие скажут.
Мы, конечно, виноваты — подрались, но мы же и не называли себя лучшими
из лучших, мы обыкновенные. Как те, что на заводе остались.
Кое-кто подавил улыбку, но председатель штаба строго посоветовал
Косте самому вести себя поскромнее, особенно после того, что он учинил.
Хотя в штаб и приходили комсомольцы из их вагона, доказывали, что
Кузовков с Таланкиным ни при чем, однако нынешнее поведение Кузовкова
заставляет в этом сомневаться.
И тем не менее председатель первым высказался против предложения
Бухонова. Ведь нарушение, пусть и тяжелое, но первое у всех четверых,
коллектив в эшелоне еще не устоялся, какие-то трения неизбежны, только
они, естественно, не должны переходить в рукопашную. Решили
ограничиться устным порицанием, но если будет еще одно нарушение
комсомольской дисциплины, то виновных отчислят из эшелона. На том их и
отпустили, причем Костя, уходя, опять не сдержался и подмигнул Бухонову.
Проигранные деньги штаб приказал вернуть Семпелю и Филиппову, что
Костя при свидетелях и выполнил, нехотя, с обещанием, что он их
самолично в штаб притащит, если они попробуют опять надраться.
— Давай, давай, отсчитывай, — приговаривал повеселевший Семпель, не
чаявший увидеть свои деньги. — Что мы, несознательные какие, не
понимаем? Ну, верно, раздавили с Колькой с тоски, легко, что ль, от дома-то
уезжать? Не это, так и не связались бы с вами, все она, проклятая. Вы,
братва, на нас с Колькой зуб не держите, мы же не звери, мы же тоже
комсомольцы. А, Коль?
— Это уж точно, — кивал головой Филиппов.
Их неожиданное смирение не растопило Костино сердце. Он немало в
жизни повидал наглецов, готовых растоптать того, кто неспособен дать им
отпор. Но как только они натыкаются на чужой кулак или чужую твердую
волю, начинается вот это самое: «Да бросьте, кореши, разве мы чего к вам
имеем, мы это так, шуткуем».
Зато Славка, всегда мягкий и отходчивый, принял слова Семпеля как
искреннее желание примириться и забыть ссору. И со своей стороны
всячески старался показать, что зла не помнит, мало ли что случается. Он
даже начал обучать Семпеля игре на гитаре, пока все не запротестовали
против бесконечного треньканья и не прогнали учителя с учеников в
тамбур.
И мчались они через всю Россию-матушку без дальнейших неприятных
происшествий.
Их эшелон на каждой остановке встречали и приветствовали, как будто
это ехали герои-папанинцы или челюскинцы. Весь местный комсомольский
актив заполнял на станциях большие и маленькие перроны. Члены штаба
успели осипнуть от ежедневных речей на митингах. Несколько раз
пришлось выступать и Анечке, которую сразу узнавали, радостно
приветствовали: «Дюймовочка! Привет, Дюймовочка! Ребята, ура
Дюймовочке!»
Иные подходили к ней, совали свои адреса, личные и коллективные, всем
хотелось получать письма от героини целинных земель.
— Да никакая я не героиня, я еще даже не доехала, — смеялась в ответ
Анечка, но обещала писать.
В общей постоянной веселой кутерьме Славе нет-нет, да и сжимало
сердце грустью: Галя тоже бы могла быть здесь, с ними. Он понимал, что ей
нельзя сразу бросить все свое непутевое, неустроенное семейство и
пуститься в дорогу вместе с ним. Но кто знает, когда они снова увидятся.
5
Все знавшие Валентина Бухонова считали его парнем порядочным,
который «не продаст», но вместе с тем не видит полутонов в промежутке
между черным и белым. Усвоил, дескать, в армии понятия «положено» и «не
положено», ими только и умеет оперировать, а прочее для него
«распущенность». В то же время именно его избирали комсоргом в
ремесленном училище и в цехе, а потом и секретарем всей заводской
организации. Причем голосов «против» набиралось два-три. Каждый знал,
что если Бухонов что-то считает справедливым, он все сделает, чтобы
правое дело отстоять. И, наоборот, если увидит обман, берегись, кто
виноват. В общем, его уважали, но не очень любили, да он и сам не
стремился к слишком тесному общению с товарищами вне завода.
Повинна была не его гордыня и сухость, как полагали некоторые
заводские комсомолки, а особые обстоятельства, в которых формировался
характер Валентина. Сам он никому о своей жизни не рассказывал, у людей
же не возникало желания что-то у него выпытывать, не располагал он к
этому.
А была у него много лет длившаяся трагедия, к которой невозможно
привыкнуть, которую невозможно забыть. Отец его, Семен Васильевич
Бухонов, известный всей округе баянист, красавец и весельчак, вернулся с
войны слепым и безногим. Его, раздавленного несчастьем, окончательно
добила жена, мать Валентина. Помучавшись с беспомощным слепцом
неделю, Софья Тихоновна, все еще молодая и почти не утратившая своей
яркости, тайком собралась и куда-то уехала. Видимо, с тем инженером, про
которого Валя знал, хотя никогда ей этого не показывал.
Трудно сказать, по кому сильнее ударило бегство Софьи Тихоновны — по
мужу или сыну. Отец был все-таки взрослым, закаленным человеком, да и,
вероятно, он внутренне готовился к чему-то подобному, ведь жена его
дольше жила солдаткой, чем мужней женой, а дождалась урода, который
сам до уборной не может добраться.
У Вальки критерии были иные. Никто не имеет права так поступать, если
он называется человеком, никто! Тем более по отношению к солдату,
изуродованному фашистами. И то, что это сделала его собственная мать,
было катастрофой. Он так и не оправился от душевного потрясения,
никогда даже не пытался понять поступок матери. И уж, конечно, не могло
быть и речи о прощении. Какое прощение! Он чувствовал себя обжигающе
униженным: его родная мать — предательница!
Валька не был в состоянии объяснить приятелям происшедшее и просто
начал сторониться всех подряд. Огромным моральным облегчением для
него стало то, что их с отцом забрала к себе, совсем в другой район, вдовая
отцовская сестра; благодаря ей у них как-то наладилась жизнь, хотя отец
крепко выпивал до самой смерти. Оттого, может, и помер вскоре.
Валя никогда близ прежнего дома не появлялся; встречая старых
знакомых, перебегал на другую сторону или прятался в первом попавшемся
подъезде.
Отогрелся и распрямился он в армии, там, где многим другим, наоборот,
поначалу кажется невмоготу от жесткого режима и непривычной нагрузки.
Зато здесь было все ясно и понятно, все были равны, независимо от того,
кто там у них оставался дома.
Со службы в армии начался переломный период в его жизни, он вернулся
домой, к тетке, другим человеком. Валька не сделался весельчаком и душой
общества, не об этом речь, но у него исчезли былые настороженность и
угрюмость, он даже стал опять поигрывать на отцовском трофейном
аккордеоне, который освоил самоучкой в детстве. Слух у него был
отличный, в отца, любая мелодия подхватывалась им мгновенно. В армии
этот дар мог бы сослужить Валентину хорошую службу, баянистов там
ценят, холят и лелеют, но он ни разу не прикоснулся к инструменту в клубе.
Главное, чего он хотел, — оставаться как все. Заметен он был только одним
— безукоризненной исполнительностью.
Он навсегда для себя усвоил правило: есть время рассуждать и есть
время выполнять, не пускаясь в ненужные, размагничивающие
словопрения. Надо — значит, надо. Такого принципа он придерживался
будучи комсоргом цеха, а потом и секретарем. Распространялось это не
только на других, но и прежде всего на него самого. Надо — значит, он ехал
вместе со всеми копать картошку; надо — значит, Валентин Бухонов
запирал комнату комитета комсомола и работал с другими слесарями,
чтобы досрочно отремонтировать колонну машин для вывозки зерна. Надо
поднимать целинные земли — значит, он поедет в Кулунду, хотя ему лишь
предложили выявить добровольцев.
Строгость к себе самому у него рождала и строгость к другим, временами
доходившую до крайности. Даже парторг завода после разбора одного
персонального дела сказал: «То, что ты человек с твердыми принципами,
это, Валя, хорошо. Принципы иметь — обязательное дело, особенно для
руководителя. Но и уметь прощать необходимо, братец ты мой. Если за
каждую ошибку наказывать по твоей мерке, мы все скоро в штрафниках
окажемся. Это я тебе, Валя, серьезно говорю, ты об этом поразмысли».
С девчатами у Валентина отношения складывались сложно. Если он
замечал, что у его подружки появляются на него серьезные виды, он так
или иначе отходил в тень. Жениться он не собирался вообще, это для себя
решил раз и навсегда, и потому лучше оборвать сразу, чем поощрять какие-
то иллюзии на сей счет. Вот если вдруг встретится ему девушка, в которой
он будет уверен на все сто процентов — что она его ни в беде, ни в болезни
не разлюбит, — тогда видно будет, как поступить.
Беленькая Ася, с которой он встречался последнее время,
библиотекарша райкома комсомола, несмело предложила поехать вместе с
ним на целину, но он отшутился, сказал, что когда дойдет черед до
постройки библиотеки на новом месте, он ее обязательно запросит туда как
главного консультанта. Ася пришла на вокзал провожать. Их с интересом
оглядывали те, кто знал Валентина, — впервые наблюдали его в женском
обществе. Впрочем, стояли-то они недолго. Валентин то и дело требовался
по всяким оргвопросам, и он распрощался с Асей. Она его успела поцеловать
на прощание, и в этот момент он увидел слезы на ее глазах. У него даже
немного кольнуло в сердце: «Не ошибку ли совершаю?»
Мимоходом заметил, что Костиного друга Славку Таланкина провожает
какая-то красавица явно не заводского происхождения, и удивился: ишь,
какой прыткий, оказывается, этот скромняга прямо-таки кинозвезду себе
отыскал.
Дел у Валентина, как и у всего сразу же созданного штаба эшелона,
находилось более чем достаточно. Главное — успеть превратить всех этих
парней и девушек в единый управляемый организм, что было совсем не
легко, — народ собрался в вагонах очень разный, объединяло лишь то, что
все они либо из самой Москвы, либо из Московской области. Меньше всех
было кадровых механизаторов из Подмосковья, побольше тех, кто работал
на земле только когда ездил в подшефные хозяйства. Распределили людей
по вагонам вперемежку, чтобы не создавалось деление на «городских» и
«деревенских», теперь все они — деревенские, если уж на то пошло. Ехало
также много демобилизованных солдат, успевших снять погоны, но еще не
расставшихся с гимнастеркой.
Валентин был рад, что ему поручили побеседовать как раз с
демобилизованными, эти ребята были близки и понятны, они и на целине
как в атаку пойдут и остальных за собой поведут. Вера Валентина в
крепость армейской закалки была несокрушима, он же сам прошел эту
закалку, которая помогла ему расправить плечи. Демобилизованные сразу
почувствовали в нем своего, и это было очень важно: за дорогу предстояло
распределить людей по двум совхозам так, чтобы и они не остались в обиде,
чтобы их интересы и личные привязанности учесть, но чтобы и дело не
пострадало.
При штабе находился представитель министерства сельского хозяйства,
сам бывший директор совхоза. Он, собственно, и составлял два списка,
стараясь, чтобы опытные земледельцы поровну разделились по двум
группам — остальным-то придется на ходу обучаться у них новому ремеслу.
В том числе и тем, кому уже приходилось водить машину, танк или даже
трактор. Потому что одно дело — управлять тягачом, тянущим прицеп с
грузом, и совсем иное на нем же правильно вспахать целинную делянку.
Валентин почувствовал облегчение, когда выяснилось, что он попал в
одну группу с товарищами по заводу, хотя заранее предвидел, что трения с
Костей Кузовковым никуда не исчезнут — этого парня надо держать в
строгости. Такие анархисты при самых, может, благих намерениях все на
свете развалят. Кузовкову нужно научиться подчинять свои инстинкты
здравому смыслу, вот что.
Из этих соображений на заседании штаба Валентин настаивал, чтобы
Кузовкова вместе с его приятелем и двумя другими участниками драки
отчислили из эшелона. Лучше отсечь червоточину заранее, чем проводить
эту болезненную операцию там, в боевых условиях, когда настроение
коллектива будет одним из решающих факторов.
— Кулачное право давно изжило себя, — твердо говорил он в своей
обвинительной речи. — Тем более оно не должно возрождаться в нашей
комсомольской среде. Пусть наказание, понесенное Кузовковым и его
компанией, послужит предостережением всем любителям решать спор при
помощи кулаков.
Но неожиданно для самого себя он обрадовался, когда штаб не
согласился с ним, все-таки, видимо, непримиримость его шла больше от
общего взгляда на жизнь, чем от существа натуры. И тем не менее
твердость, только твердость и бескомпромиссность должны быть правилом
для комсомольского вожака, полагал Валентин. А ведь в ЦК комсомола ясно
дали понять, что собираются рекомендовать его секретарем совхозной
организации.
— Освобожденным? — спросил он тогда с таким испугом, что все
рассмеялись.
— Не волнуйся, товарищ Бухонов, будешь работать по своей прямой
специальности. А чего ты так напугался, если не секрет?
— Напугаешься... — ответил Валентин без улыбки. — Ребята скажут: мы
вкалываем, а он опять в кабинете устроился, только агитировать горазд.
Его признание опять вызвало веселье, но потом старший среди
присутствовавших серьезно всех оглядел:
— Я думаю, товарищи, что мы приняли правильное решение —
рекомендовать не кого-то, а Бухонова. У меня лично на этот счет сомнений
нет. Других соображений не имеется? Тогда поздравляю тебя, товарищ
неосвобожденный секретарь. Желаю тебе оставаться таким же энергичным
всю жизнь. К осени жди в гости.
Он крепко пожал руку Валентина.
6
Последний вокзальный митинг состоялся в Новосибирске,
Эшелон встретила толпа молодежи, запрудившая перрон. Бравурные
звуки оркестра, возгласы «Ура москвичам!», цветы, приветственные и
ответные речи с импровизированной трибуны, ставшие привычными для
пассажиров эшелона, на этот раз имели одно существенное отличие: оба
совхоза, по которым распределились москвичи, должны были возникнуть
на территории этой области, в ее южной части, поэтому приехавших как бы
принимали в новое землячество.
Под конец митинга Валентину по цепочке передали:
— Тебя ищет девушка.
— Какая девушка? — удивился он.
— Говорит, что ей нужен комсорг «Московского».
Так решили назвать совхоз, в который определили Бухонова. Из-за
названия произошел бурный спор, на него претендовали обе половины
эшелона. Пришлось решать жребием. Второму совхозу досталось название
«Краснопресненский», в его коллектив попала большая группа с Красной
Пресни.
Сквозь толпу к Валентину, стоявшему на подножке вагона, пробиралась
девушка с зелеными, на удивление яркими глазами.
— Бухонов — это ты?
— Я. Это ты меня искала? Зачем?
— Слушай, Бухонов, может, спустишься со своего пьедестала на землю? У
меня шея затекает.
Он спрыгнул на перрон. Девушка протянула ему руку:
— Ш упта Раиса.
— Очень приятно, — строго сказал Валентин. — Ты, собственно, по
какому поводу?
— А я сама — не повод? — подбоченилась она одной рукой, другой
сдвинув на затылок свой берет. — Может, я безумно влюбилась в героя-
целинника, может, я хочу предложить тебе руку и сердце.
— Ну, ты это, тише... Ерунду-то не мели, — забормотал Бухонов,
смущенно оглянувшись по сторонам и с облегчением убедившись, что на
них никто внимания не обращает. — Если дело у тебя, так по делу и говори,
а нет...
— Дело у меня, дело, Бухонов, не волнуйся, пошутила я насчет руки и
сердца. Не знала, что ты такой серьезный товарищ... Наш завод берет
шефство над вашим совхозом. А я секретарь комсомольского комитета,
уяснил?
— Ты? — В тоне Валентина, помимо его воли, прозвучало недоверие.
Видимо, угадав его мысли, она насмешливо сказала:
— Не сомневайся, я на самом деле секретарь. Так что хочешь не хочешь,
нам с тобой не раз еще придется встречаться. Я вот тебе записала свой
телефон и адрес — заводские, конечно. Если помощь какая нужна, пиши или
звони прямо мне в комитет. Поможем.
— Я ведь временный, — впервые улыбнулся ей Валентин.
Но она уже твердо взяла деловой тон и на улыбку не ответила, все-таки
задел он ее своей сухостью.
— Не ты, так другой на твоем месте будет. Главное, не потеряй телефон и
адрес, если надо, передашь кому следует. Мы, конечно, к вам скоро
наведаемся, но на всякий пожарный случай... Ну, ладно, счастливого пути.
Она повернулась, чтобы уйти. Валентин остановил ее вопросом:
— Скажи, пожалуйста, а кем ты раньше работала? До секретарства?
— Крановщицей, а что?
— Нуда?
Она, не выдержав принятой серьезности, засмеялась.
— Чудак ты, Бухонов, опять не веришь?
— Значит, наш брат — пролетарий? — широко улыбнулся он.
— Нет, ты и правда чудило. Решил, что меня за красивые глаза
секретарем сделали?
— Глаза у тебя действительно что надо.
— Опоздал, с комплиментов начинать надо... Если хочешь знать, меня
насильно уговорили в секретари-то, я на кране вдвое больше зарабатывала.
И вообще... Был бы ты местный, ты бы мою фамилию знал. Это у нас на
заводе старейшая династия — Шупта, нас там человек пятнадцать работает.
Уяснил?
— Уяснил, что мы пара вполне подходящая. Так как насчет героя-
целинника, руки и сердца?
— Сразу надо было сориентироваться. А ты долго думаешь...
Они посмотрели друг другу прямо в глаза и расхохотались. Прощальное
рукопожатие их было дружеским.
Наблюдавший за ними Костя толкнул локтем Славку:
— Ишь, как Бухонов развеселился. А я-то думал, он на женский пол не
реагирует, только на входящие-исходящие.
— Брось, Костя, — примирительно сказал Славка, не любивший долгих
ссор и не умевший копить зло. — Что ты к нему пристал? Парень он
хороший, честный.
— Это я к нему пристал? — оскорбился Костя. — Он меня второй раз из
комсомола хочет выжить, а я к нему пристал?
— Ты же ни в первый, ни во второй раз толком не объяснил, что
произошло, гордость свою проявлял.
— Иди ты, знаешь куда! Миротворец! Нашел хорошего парня...
С этими словами Костя влез в вагон, забрался на свою полку. Очень
Костю задело, что его лучший друг внезапно стал на сторону Бухонова. Ведь
Бухонов и разобраться не пожелал, кто прав, а кто виноват. Четверо
дрались, значит, все четверо и виноваты. Бюрократ мелкотравчатый.
«Парень он хороший, честный». Так хорошие и честные поступают? А
Славка — ему-то как не обидно, что их тоже с этой шпаной в одну кучу
смешали?
Славка несколько раз безуспешно пытался заговорить с Костей и,
несмотря на неистощимый запас терпения, в конце концов рассердился:
— Ну и лежи там, чурбак с глазами.
Это у него было худшее ругательство. Костя еще больше рассвирепел и
остался лежать, уставив глаза в вагонный потолок.
Напрасно стыдила и увещевала их Аня. На пороге новой жизни Славка и
Костя, ни разу не повздорившие за все годы их дружбы, умудрились
рассориться. Даже из вагона вылезли поврозь. Аня металась между ними, не
зная, как их примирить или чью сторону взять. И все-таки приняла сторону
брата — знала, что он по своему почину ни с кем, а уж тем более с Костей,
свару не затеял бы. Так она и высказалась.
— Ничего себе семейная жизнь начинается, — процедил Костя.
Аня вспыхнула.
— А кто тебе сказал, что она начинается? Славка, я пошла к своим.
Выгрузились они на крохотном полустанке, где даже разъездных путей
не было. Поэтому высаживались очень поспешно, под обычные шуточки-
прибауточки:
— Эй, братва, выходи строиться!
— Станция Юрюзань, кто приехал — вылезай!
— Десантники, вперед!
Действительно, вышло что-то вроде десанта. А те, кто относился к
совхозу «Краснопресненский», покатили дальше. Они кричали из окон:
— Пахари, глядите не заблудитесь тут!
— Приезжайте в гости! Со своими харчами!
— Не найдете своего местожительства, догоняйте нас!
От полустанка — небольшого бревенчатого домика — начиналась
грейдерная дорога, терявшаяся где-то у горизонта. Слева, справа, со всех
сторон под полуденным солнцем переливалась совершенно ровная
поверхность зелено-голубого цвета. Это и была Кулундинская степь. Кто по
собственному опыту, кто по книгам знал, что в степи растет ковыль, всю ее
покрывает своей сединой. А тут предстало взору такое, что какой-то
романтик в матросской тельняшке пораженно протянул:
— Вот это океа-ан...
Славка мысленно с ним согласился: похоже и цветом и необъятностью, и
воздух в океане тоже такой, наверное, чистый и сладкий. Хотя нет, поправил
он сам себя, в океане воздух должен быть соленый. И пошагал вслед за
остальными туда, где вдоль грейдерки, как бы в строю, стояли новенькие
грузовики и гусеничные тракторы с прицепами. Около них похаживал
человек в кирзовых сапогах и парусиновой кепке на основательно
поседевшей голове. Из-под белых усов свешивалась кривая трубка, которую
он то и дело вынимал, покрикивая:
— Веселей, ребятки, веселей! Нам еще до места добираться да там
устроиться надо.
Проходя мимо него, раздраженный Костя бросил:
— Раскомандовался... Голос не сорви, дядя.
— А ну, погоди, — приказал «дядя». — Ты кто такой?
— Рядовой-необученный Кузовков, прибыл в ваше распоряжение.
— Вот теперь правильно говоришь, — одобрил человек с кривой
трубкой. — Именно в мое распоряжение. Я директор совхоза Рязанцев Иван
Фролович. За командование мне зарплату платить будут, ясно?
— Ясно, товарищ Рязанцев, — смущенно ответил Костя, подумав, что
сегодня ему лучше совсем помалкивать, иначе, едва приехав, со всеми
отношения испортишь.
— Ты, рядовой-необученный, кто по специальности? — спросил
директор и, узнав, что Костя слесарь, но может водить и трактор и машину,
велел ему садиться за руль «ЗИЛа» — водительский состав формировался
здесь же, на ходу.
Костя рванулся к ближней машине, но Рязанцев остановил его:
— Это моя, я впереди поеду, кроме меня-то дорогу никто не знает. Бери
вон ту, тоже пока бесхозная.
— А можно я «ЧТЗ» возьму? — попросил Костя. — Я, правда, умею.
— Не терпится, — усмехнулся директор. — Ну, давай, только без фокусов,
нежненько. А кого ж в машину-то?
— Товарищ директор! — Рядом стояли Семпель и Филиппов, а речь, как
всегда, держал первый. — Товарищ директор! А мы на что? Водители класса
номер один, могу права предъявить.
— Ладно, успеете предъявить, — разрешил директор. — Б удете
замыкать колонну, раз вы номер один. Если что, поможете другим.
— Есть! — радостно гаркнул Семпель, который задолго до Новосибирска
беспокоился, что, мол, надо будет сразу отхватить машину поприличнее, а
то ведь возьмут и за милую душу отправят тяпкой или какими-нибудь
граблями на свежем воздухе махать.
Забравшись в кузов последним. Славка уселся у заднего борта лицом к
дороге. Рядом с ним сидел на чемодане незнакомый парнишка в очках,
фетровой шляпе, странно выглядевший в этой обстановке. Само собой
шляпа сделалась мишенью для остряков, которых в кузове обнаружилось в
избытке. Владелец шляпы на обращенные к нему шпильки не отвечал, даже
не оборачивался, улыбался и поглядывал на кулундинский простор.
— Хоть и без деревьев, а красиво, — сказал Славка, которому хотелось
как-то поддержать соседа.
— Эта степь так и называется — красочная, — охотно откликнулся тот
звонким мальчишеским голосом.
— Она всегда такая голубая?
— Нет, что ты, за лето она, как хамелеон, много раз изменит раскраску.
Степные цветы очень быстро сменяют друг друга.
— А деревьев совсем тут нет?
— Мало. Разве что по оврагам, тут для них почва не та, соли всякие для
их корней не подходящие.
— Вот те на! — поразился Славка. — А чего же мы сюда приехали, раз тут
соли вредные?
— Так мы же не деревья сажать приехали, а пшеницу, для нее лучше этой
земли во всем мире нет.
— Постой! — спохватился Славка. — А откуда ты все это знаешь?
— Я здесь родился. В Сибири то есть, только в другой области.
— А как же ты к нам попал? У нас же все москвичи. Сам совхоз будет
называться «Московский». Ты по ошибке, что ли?
— Да нет, — почему-то понизив голос, ответил сибиряк. — Я к вам
главным агрономом назначен.
— Ке-ем? Разыгрываешь? — подозрительно вгляделся в него Славка,
которому казалось, что агрономы должны быть по крайней мере в возрасте
директора Рязанцева.
Сосед достал из-под пальто бумагу и показал ее Славке. Из нее
явствовало, что Петр Афанасьевич Кислых действительно тот, за кого себя
выдает. Славка не знал, что на это сказать, и лишь пробормотал
неопределенно:
— Да-а, ничего себе...
— Тебя как зовут? — спросил агроном.
— Слава... Вячеслав Таланкин то есть, Петр Афанасьевич.
Агроном покраснел и оглянулся на прочих.
— Брось, какой там Афанасьевич, я по такой же путевке, как ты, еду.
Диплом-то лишь в прошлом году получил, ну и вот...
Славка поднял руку, требуя внимания.
— Ребята! Слушайте меня! Это вот рядом со мной — главный агроном
нашего совхоза Петр Афанасьевич Кислых, сибиряк. Сам к нам попросился.
Веселье приняло новое направление. Один из заводил крикнул:
— Пете-агроному физкульт-привет!
— Ура! Ура! Ура! — ответил кузов.
Кислых смеялся вместе со всеми, хотя предчувствовал, что отныне ему
всю дальнейшую жизнь быть Петей-агрономом.
7
Их представил друг другу секретарь обкома по сельскому хозяйству.
Рязанцев только начал излагать свои проблемы, как вошел помощник
секретаря и доложил, что в приемной находится Леонид Алексеевич
Кочугин.
— Вот и прекрасно, — ответил секретарь, — зови его сюда. Это, Иван
Фролович, и есть твой заместитель по политработе.
Рязанцев с любопытством оглядел вошедшего, который был много
моложе директора совхоза и щеголял не только новенькой офицерской
формой без погон, но и выправкой кадрового военного. Он и к столу
секретаря прошел четким военным шагом, а Рязанцеву, пожимая руку,
сказал:
— Здравия желаю, товарищ Рязанцев.
— Ну вот, — сказал секретарь обкома, — это тебе, товарищ Кочугин,
новый командир, а тебе, товарищ Рязанцев, новый комиссар. Надеюсь,
сработаетесь. Так что ты, Иван Фролович, от нас требуешь?
С секретарем Рязанцев был знаком давно, встречались не раз в Москве на
разных совещаниях, ордена им вместе однажды вручали. Так что
разговаривать с ним Ивану Фроловичу было просто: можно было обойтись
без особой дипломатии.
— Требовать я могу что угодно, да ведь ясно, что я не один такой у тебя.
Ты вот что, товарищ секретарь, дай мне по старой дружбе хороших шефов, с
ними легче дело иметь, чем с обкомом, по опыту знаю. Эдакий, знаешь,
гигант индустрии.
— Сразу тебе уж и гигант, — развел руками секретарь. — Разве по старой
дружбе... А хитер ты, Иван Фролович, хитер... Сколько новых директоров
передо мной прошло, никто насчет шефов не сообразил, все о технике да о
семенах волнуются.
Рязанцев засмеялся.
— Да ведь технику ты мне и так дашь, обязан. И семена тоже.
— Вот я и говорю: хитер. Ты это, товарищ комиссар, учти.
Твердые, резкие губы Кочугина чуть шевельнулись — то ли ответить
хотел, то ли улыбнуться. Рязанцев отметил, что заместитель у него не
шибко разговорчивый: кроме приветствия, слова не произнес. Как же это он
политработу будет вести?
Секретарь добавил, что посоветуется с товарищами из промышленного
отдела, есть у него одно предприятие на примете, но надо сосватать
полюбовно, без особого нажима. Через пару деньков он даст знать
Рязанцеву, как прошли переговоры. А пока пусть они с Кочугиным не
стесняются, в случае нужды обращаются прямо к нему.
— Ты верно заметил, — добавил он, — больше, чем обязаны, мы тебе ни
техники, ни семян не дадим. Но все-таки вы у нас на особом учете, вроде
новостроек, так что чем смогу постараюсь помочь.
В обкомовском коридоре Рязанцев достал свои большие часы на цепочке,
отколупнул крышку и предложил здесь же, в столовой, пообедать, время
как раз подходящее, заодно и потолковать можно.
— А как думает комиссар?
Кочугин, видевший «Чапаева» в детстве не менее пятнадцати раз,
ответил, как положено:
— Я думаю, командир принял решение, и оно правильное.
Тут их догнал помощник секретаря: им нужно зайти к заведующему
сектором совхозов, там ждет товарищ, рекомендованный к ним в совхоз
главным агрономом.
— Штат растет на глазах, — пошутил Рязанцев. — Главный агроном —
это хорошо, без кого другого, а без него мы с тобой, комиссар, много не
наработаем.
Войдя в кабинет, они переглянулись с немым вопросом в глазах: вот это
и есть главный агроном? Кроме завсектором, сидевшего за своим столом, в
комнате находился только один человек, по виду лет двадцати, в очках, с
зеленой шляпой на коленях, которую он придерживал обеими руками.
— Петя, — вставая, начал завсектором, — знакомься с будущим
начальством.
Рязанцев с Кочугиным опять переглянулись и дружно засмеялись: в их
компании не хватало только Петьки.
Агроном понял их по-своему и залился густым румянцем, обиженно
заморгал. Завсектором тоже счел нужным обидеться:
— Зря так воспринимаете, товарищи. Петр Афанасьевич имеет диплом с
отличием, год проработал в одном из наших совхозов и зарекомендовал
себя грамотным специалистом. Между прочим, коренной сибиряк, наши
условия знает,
— Да нет, — смутился Рязанцев, — мы ж не потому... Это мы про свое
подумали, совпадение вышло. Ты, сынок, на нас не серчай, — обратился он
прямо к Кислых. — Пошли с нами обедать, там разберемся. Не будем
начальство от важных дел отрывать, тем более что я лично ему уже
порядком поднадоел, верно?
— Верно, — ответил завсектором. — Идите, но Петю мне не обижайте, а
то сразу отнимем: его любое хозяйство с руками оторвет.
Устроившись за столиком, Рязанцев огляделся и сказал:
— Вот такую столовую мы и у себя в совхозе заведем, через годик-
другой. Чтоб занавески на окнах и девушки в наколках. Нет возражений?
Тогда давайте познакомимся как следует. Я, стало быть, Рязанцев Иван
Фролович, работал первым секретарем райкома в Краснодарском крае.
— С секретарей райкома сюда? — переспросил Кочугин.
— Точно так. Думаешь, турнули? Нет, комиссар, сам напросился, еле
уговорил краснодарское начальство. Понимаю, тебе странным кажется. А
дело простое. Лет-то мне уже за шестьдесят далеко, да если бы только в
летах беда. Сердце сдавать начало, не под силу, как прежде, секретарскую
упряжку тянуть. Ну и решил; надо напоследок что-то яркое сотворить, не на
пенсию же мне уходить, я бы сразу дуба дал. До секретарства я десять лет
директором совхоза проработал на Кубани, знаю, как хлебушек дается.
Кочугин говорил о себе короткими, четкими фразами. Окончил
суворовское училище, поскольку отец, кадровый офицер-танкист, погиб при
штурме Кенигсберга. Пошел по его стопам, поступил тоже в танковое
училище. Дослужился до капитанского звания, командовал танковым
подразделением,
— Где? — быстро перебил Рязанцев и, видя, что Кочугин замялся,
успокоил: — Да ты не бойся, я у тебя тайны выведывать не собираюсь. Это
важно. Почему — потом объясню.
Услышав, что кочугинская часть базируется в области, удовлетворенно
кивнул и больше не перебивал. Кочугина демобилизовали не по каким-то
личным особенностям, а вместе с другими солдатами и офицерами,
попавшими в квоту общего сокращения Советских Вооруженных Сил, о
котором писали в газетах. Он сам попросился на целину: настоящее дело да
и к моторам поближе, хоть и не танковым, но все же. Не думал, что
замполитом предложат, это уж в обкоме так решили, сам он собирался в
трактористы податься. О двух вещах он умолчал — не из-за того, что хотел
произвести лучшее впечатление на директора, это было не в его натуре, а
по обычной своей сдержанности и еще потому, что не хотелось касаться
больной темы в присутствии Пети, безмятежно уплетавшего обед.
Умолчал он о том, что демобилизация сразила его наповал, его, который
уже не мог представить себя вне армии. Он до сих пор не пришел в себя от
этого сокрушительного удара, от обиды, которую усилило сообщение жены,
что она от него уходит.
У них давно не ладилось, поженились они, когда он служил в глухом
месте и единственный близлежащий поселок представлялся оазисом
цивилизации. Познакомились на танцах в поселковом клубе, где она
работала по распределению после института. Встречались, привыкли друг к
другу. Перед отправкой к новому месту службы он предложил ей ехать с
ним. Она сразу согласилась, они зарегистрировались в поселковом Совете, а
еще через неделю ему стало понятно, что она за него вышла с одной лишь
целью — вырваться из глуши поближе к городу. Перед разрывом жена в
порыве ярости ему так и изложила: «Не за тебя, так за другого выскочила
бы, не засиделась бы там, среди этой темноты деревенской. И лучше бы уж
обождала еще кого-нибудь, а то ведь намучилась с тобой по горло. Ничего
тебя, кроме танков твоих, не интересует. А я люблю весело жить, я не из
брони выкована, понятно?» Не любила она его никогда, потому и не
находила для него добрых слов. Кочугин часто удивлялся, откуда в таком
хрупком существе столько злости и недоброжелательства. Понимал, что
союз их рано или поздно распадется, но очень уж паршивый момент она
улучила, как в спину ударила. Тоже характер сказался, другая подождала
бы, пока он справится с первым ударом...
Пете Кислых ничего утаивать не приходилось. Школа в большом
сибирском селе южнее Томска, институт, год работы в совхозе. И вот
попросился на целинные земли.
— Отец на меня за это обиделся, — признался Петя. — Он-то думал, что я
перебьюсь год-другой в Новосибирской области и обратно вернусь, домой.
— Ты единственный сын, что ли? — спросил Рязанцев.
— Зачем единственный, — даже обиделся Петя, — у меня четверо
братьев и три сестры. Да ведь у всех такие специальности теперь, что в
деревню им возвращаться ни к чему, я один при сельском хозяйстве
остался.
— И хорошо сделал, что остался, — одобрил директор. — Таких вот
специалистов, как твои братцы да сестрички, кормить-то кто будет? Мы с
тобой будем. И вот еще, комиссар. Дел у нас — непочатый край. Я тебя,
комиссар, про твою часть вот почему спросил. Завод, конечно, шеф хороший,
но не мешало бы нам и с военными подружиться. В перспективе, глядишь, у
нас трактористов прибудет, да и на данном отрезке времени они нас
выручить могут. Как, комиссар, сможешь со своими договориться?
Для Кочугина предложение отправиться туда, где его не захотели
оставить, как оставили некоторых других, прозвучало точно выстрел над
ухом, он даже невольно отшатнулся. Директор понял его по-своему и
нахмурился.
— Вот что, други мои, давайте сразу уговоримся, что для нас с вами
никакой черной работы нет. Я понимаю, Кочугин, что ты заместитель по
политической части, а не по хозяйственной. Только сейчас самая главная
политическая работа — обеспечить для совхоза и для людей материальную
базу.
Как обычно, Кочугин не стал пускаться в долгие оправдания, лишь скупо
сказал:
— Вы не так поняли. Я готов выполнить любое поручение.
— Ну, извини, если не так, — сразу подобрел Рязанцев. — Вы уж ко мне
относитесь со снисхождением, ребятки, я ведь человек пожилой, болящий...
Короче, езжай-ка ты, Леонид Алексеевич, к своим и выпроси у них, сколько
сможешь, списанных палаток. Это — первостепенной важности дело,
никакой завод тут не поможет. А нам поначалу не до строительства будет,
сами понимаете. Какое-то количество вагончиков нам дадут, но они пойдут
под медпункт, правление, для семей с детьми. Палатки — во как нужны!
Думаю, кому-то и перезимовать разок придется в них. Так что шуруй и ни от
чего не отказывайся, в нашем хозяйстве все сгодится.
— А секретарь обкома прав, хитрости вам не занимать, — Кочугин слегка
улыбнулся.
— Вот я посмотрю, как ты без хитрости проживешь. Это тебе не армия —
все принесли, всем обеспечили. В нашем деле, если поворачиваться не
умеешь, локоть вместо калача кусать будешь. Действуй, а мы с Петром
Афанасьевичем своими проблемами займемся. Да, я же два ГАЗа-69 у
секретаря обкома выклянчил, так что один ты, Кочугин, бери в свое
распоряжение, а вторым мы с Петей на пару попользуемся.
— Да, — сказал Кочугин, — теперь я вижу, что мне еще учиться да
учиться.
— А ты думал! — довольный засмеялся Рязанцев. — Ну, в добрый час,
ребятки...
8
Когда они впервые поспрыгивали с «газика» на траву, кое-где
пестревшую синими цветами, но все еще с белыми пятнами нерастаявшего
снега, Кочугин, повертев головой во все стороны, протянул:
— Нда-а -а. . . «Среди долины ровныя...»
— Не журись, — бодро откликнулся Рязанцев. — Здесь будет город
заложен.
— Агрогород, — поправил Петя. — Всего нам остается — начать да
кончить.
— С чего будем начинать? — спросил Кочугин.
— Земельку надо прощупать, пробы взять да прикинуть, как нам тут
свой табор разбить. Как на такую диспозицию смотрит комиссар? —
спросил Рязанцев.
— Комиссар согласен с командиром.
— Ну, а Петьке положено соглашаться, — пошутил Рязанцев.
После нескольких «рекогносцировок», уяснив, что и где должно быть в
будущем совхозе, Кочугин попросил разрешения полностью переключиться
на агитработу с будущими шефами. Директор благословил его, еще раз
повторив, что брать надо все, что дадут, и Кочугин отправился в свою часть.
На душе у него лежала тяжесть, но он все время напоминал себе, что едет не
по личному вопросу, а от имени своего нового коллектива, по делу, которое,
не боясь, можно назвать партийным делом.
Так он и попросил доложить дежурного офицера, приветствовавшего его
сердечным рукопожатием: Кочугин, мол, прибыл переговорить с
замполитом подразделения по поручению руководства целинного совхоза.
Чтобы все было ясно с самого начала.
— Так ты в целинники подался? — встретил его замполит, с которым
они вместе прослужили несколько лет. — Это ты, Леня, здорово
сориентировался: сразу в атаку, чтобы времени на самоедство не
оставалось. Мы ведь часто тебя вспоминаем.
— Спасибо, Петро, — дрогнувшим голосом сказал Кочугин. — Что
поделаешь... Ладно, это все в прошлом, а сейчас я вот хочу братьев-воинов
призвать на выручку.
— Только прикажи, сейчас же всех с полным боекомплектом выведем.
Кто одолевает — суслики или хорьки?
Но когда Кочугин изложил ему просьбу, замполит призадумался.
— На другом уровне надо это решать, Леня. У тебя задача не такого
масштаба. Пошли!
Он первым прошел в кабинет и через несколько минут, приоткрыв дверь,
поманил Кочугина.
— Здравствуйте, Кочугин, — встал ему навстречу бритоголовый
полковник с тремя рядами орденских планок. — Рад вас видеть и еще
больше рад, что вы при таком интересном и важном деле. Ну рассказывайте
подробно, о чем речь. — Выслушав, взял карандаш и спросил: — Нельзя ли
точнее, капитан? Чего, сколько и когда?
Кочугин повторил слова директора, что в их хозяйстве все сгодится, в
том числе и пара тягачей.
— Тягачей? — Полковник почему-то глянул на замполита. — Надо нам
все это серьезно обсудить и взвесить свои возможности. Шефство не на
один месяц рассчитано. Прошу заглянуть ко мне ровно через неделю.
Думаю, к тому времени мы сможем обо всем договориться совершенно
конкретно.
Кочугин не посвящал директора в детали переговоров, да тот и не
спрашивал: своих забот хватало. Поэтому, когда однажды воскресным
утром Кочугин постучался к нему и доложил, что можно ехать на приемку,
тот спросонья не сразу сообразил.
— Куда ехать? Ты о чем, комиссар?
— О вверенном вам совхозном поселке, товарищ командир, — отчеканил
Кочугин.
— Каком поселке? Приснилось тебе, чи шо?
В этот момент появился Петя.
— Когда выезжаем, Иван Фролович?
— Шо вы мене морочите? — Рязанцев, случалось, иногда переходил на
кубанский выговор.
Петя понял, что директор не в курсе, и довольно потер руки.
— Приедете, товарищ директор, все своими глазами увидите.
Он-то сам уже дважды ездил в степь с Кочугиным, бродил по целине,
восхищался военными, которые за три воскресенья преобразили место,
намеченное для застройки, до неузнаваемости.
Трижды приезжали желавшие заменить увольнительную воскресником
в подшефном совхозе, территорию поселка специалисты разметили по всем
правилам квартирмейстерского искусства. По строгому ранжиру
установили добротно починенные и залатанные палатки, окопали их, хотя
до дождей было далеко. Соорудили солдатские длинные умывальники, воду
в них нужно было наливать ведрами из двух выкопанных колодцев. И,
наконец, поставили и даже выкрасили защитной краской уборные. В общем,
все как в летнем военном лагере, но, пожалуй, еще более основательно,
поскольку жить-то приезжим придется не только в летнюю пору.
Москвичи, расселившиеся по палаткам, даже демобилизованные, даже
Валентин Бухонов, восприняли преподнесенный им городок как нечто само
собой разумеющееся. Только пошучивали, что ехали на целину, а очутились
в пионерлагере. Лишь много позже, обменявшись опытом с новоселами
других совхозов, они осознали, что далеко не всем целинникам так повезло,
не везде оказались свой Кочугин, свой Рязанцев. Многим пришлось
начинать на абсолютно пустом месте, мучиться без воды, спать под
машинами, готовить на костре. А Кочугин раздобыл и четыре походные
кухни.
Если привыкшая к городским условиям молодежь не сумела всего этого
сразу оценить, то умудренный большим опытом Рязанцев обнял Кочугина
и, раскуривая свою трубку, сказал:
— Если ты и по политической части так начнешь работать, как по
хозяйственной, придется тебе двойную зарплату давать.
Дымя трубкой, прошел вдоль всего палаточного строя.
— Гарно! Дюже гарно, комиссар. Вот что, ребятки, привез я с собой
заветную бутылочку «кубанской», думал, для какого-нибудь особого случая.
Так вот же он, особый случай, день рождения поселка. В общем, поехали ко
мне, потом-то уж не до того будет. С первого дня «сухой закон» объявим,
самим придется пример подавать.
На обратном пути он вслух рассуждал:
— Теперь надо заводских шефов потрясти, чтоб они нам печек наделали
вроде «буржуек». Тогда, глядишь, и в палатках перезимуем, народ-то
молодой пожалует...
9
Самое первое утро новорожденного совхоза началось курьезом.
Подъем Рязанцев назначил с рассветом, но не успел еще побриться, как к
нему заглянул парень в старенькой гимнастерке и, давясь смехом, доложил:
— Товарищ директор, на территории вверенного вам совхоза обнаружен
нарушитель границы
Рязанцев недоумевающе посмотрел на квартировавшего вместе с ним
Кочугина.
— Какой там еще нарушитель может быть?
Пока новоселы спали, под бок к ним прикочевали чабаны-казахи с
большой отарой овец: видно, на свои обычные выпасы. Теперь овцы
бродили вокруг палаточного городка, оглашая прохладный утренний
воздух бесконечным блеянием. Метрах в трехстах виднелась юрта, над
которой курился дымок.
— Когда только успели? — удивился Рязанцев. — Ты гляди, уже чай
кипятят.
— У них это быстро, народ маневренный. Раз — и снялся, раз — и чай
готов, — сказал добродушно Кочугин, у которого в то утро было на душе
легко и даже празднично: встречая и размещая накануне ребят-москвичей,
он по-настоящему осознал, что жизнь его совсем не кончена, а только еще
начинается, и это будет интересная, насыщенная жизнь.
Пока с грехом пополам объяснялись с чабанами, пока они сбивали овец в
гурты, пока блеяние наконец замерло вдали, солнце полностью выплыло
из-за горизонта, и краски вокруг стали ярче, сочнее, степь переливалась,
будто муар.
— Смотри внимательно, комиссар, — взмахнул рукой Рязанцев, —
запоминай, какой была Кулунда, пока нас с тобой тут не было.
Ранний митинг посреди степи оказался коротким. Открыв его, Рязанцев
поздравил всех с началом новой жизни, рассказал о задачах на ближайшие
дни, еще раз зачитал список распределения по бригадам и объектам и
передал слово Кочугину.
— Сейчас, — Кочугин выдержал паузу, — нам необходимо решить один
очень важный вопрос: кому мы поручим проложить первую борозду. Вон
стоит трактор, на котором предстоит это сделать, — он указал на «ЧТЗ» с
уже прицепленными плугами.
Прежде всех взвился девичий голосок:
— Славе Таланкину!
— Таланкину! — поддержало множество голосов.
Но один из демобилизованных, сложив ладони рупором, гаркнул:
— Дюймовочке!
— Дюймовочке! Дюймовочке! — поддержали и его.
— Итак, есть две кандидатуры. — Кочугин попытался вернуть митинг в
нормальное русло.
Но вокруг брата и сестры уже закрутился шумный водоворот, их
подхватили на руки и наперегонки повлекли к трактору, оглашая степь
хохотом и криком.
— Как дети, — повернулся Кочугин к директору.
— Да они ж и есть дети, — ответил Рязанцев, сам не в состоянии
удержаться от смеха.
Состязание кончилось вничью: Анечка и Славка очутились на тракторе
одновременно. Славка поднял обе руки, призывая к тишине, и крикнул:
— Мы же не умеем! Не умеем мы на тракторе!
Тут уж раздался такой дружный и громогласный хохот, которого
Кулунда наверняка никогда не слыхала — ничего себе кандидатуры! Потом,
растолкав стоявших впереди, на трактор взобрался Костя.
— Помочь?
Славка открыто улыбнулся ему.
Костя положил руку на рычаг, почему-то глубоко вздохнул и тронул
машину с места...
Славка же, хотя и участвовал в начале пахоты лишь символически —
держался за плечо друга, шуровавшего рычагами «ЧТЗ», — совершил нечто
такое, отчего тот первый день в памяти новоселов остался навсегда
связанным с именем Славки Таланкина: он сочинил песню, которую стали
петь на всех праздниках.
Кулунда
́
, океан-Кулунда.
Столько верст — ни лица, ни следа.
И как в плаванье было всегда
Здесь дороже алмазов вода.
Кулунда, океан-Кулунда.
Здесь когда-то пылила орда.
Здесь теперь острова-города,
А меж ними одни лишь стада.
Кулунда, океан-Кулунда.
Первый раз пролегла борозда.
Срок придет и настанет страда,
Поплывут здесь комбайны-суда.
Кулунда, океан-Кулунда.
Я влюбился в тебя навсегда.
Пусть летят, пусть несутся года,
Я останусь с тобой, Кулунда.
Песню услышал и записал комсомольский корреспондент — тот самый,
который превратил Анечку в Дюймовочку. Он и примчался из-за нее:
задумал очерк «Дюймовочка в Кулунде». И страшно убивался, что опоздал к
моменту, когда целину вспорол первый трактор, — к тому же на этом
тракторе находилась «его» Дюймовочка. Он дотошно расспросил Кочугина
и Рязанцева и пришел в восторг, узнав, что над «Московским», помимо
завода, взяли шефство еще и военные.
— Это же здорово! Вы даже не понимаете, как это здорово! —
восторженно восклицал он, блестя очками.
— Почему же? — пряча усмешку, возразил Рязанцев. — Мы-то как раз и
понимаем, как это здорово. В палатках, между прочим, нам жить, кашу из
походных кухонь тоже нам жевать.
Корреспондент рассмеялся и отправился искать других героев будущего
очерка. Так он наткнулся на Славку, который в обеденный перерыв пел
уплетавшим борщ ребятам; до этого все свободные от пахоты разгружали
стройматериалы и ремонтное оборудование, и ровно в полдень повар
созвал их ударами в обрезок рельса.
Узнав, что Славка работает на том же тракторе, да еще и родной брат
Дюймовочки, корреспондент больше от него не отставал, убеждая:
— Старик, ты же сам пишущий человек, должен понимать...
— Какой я пишущий, — отшучивался Славка, — я разгружающий.
Выведав все, что его интересовало, корреспондент решил назвать свою
статью более емко — «Романтики». И говорилось в ней уже не об одной
Дюймовочке, а о многих ребятах-романтиках, таких, как Славка и Костя, для
которых покорение целины — и долг, и испытание воли, и в хорошем
смысле слова приключение.
После того, как газету прочли в совхозе, в ход пошло новое обращение:
— Эй, романтики, добавку желаете?
— Романтики, подъем!
И еще одно последствие вызвал газетный материал. Не сумев справиться
с пристрастием к порожденной его пером Дюймовочке, автор как-то так
представил события, что выходило, будто это она вела трактор тем первым
утром. Очень уж соблазнителен был образ — Дюймовочка на тракторе.
Корреспондент не утверждал, что она именно управляла, а лишь: «Трактор
вздрогнул, зарычал и пополз, оставляя за собой черные отвалы дотоле
девственной земли, а на тракторе сияла голубыми глазами Дюймовочка».
Анечка сначала расстроилась, но потом весело заявила Косте:
— Раз так, раз произвели меня на весь Союз в трактористки, давай учи
меня прямо с завтрашнего дня. Я вам всем еще покажу, как надо работать на
целине.
Костя, к которому Анечку по их общей просьбе назначили прицепщицей,
пообещал, но сдержать слова просто не смог. Не хватало времени на сон, не
только на обучение. Тем более, что избранный секретарем комсомольской
организации совхоза Валентин Бухонов тоже облюбовал профессию
тракториста. Они официально друг другу перчатку не бросали, но Славка,
например, был уверен, что оба из кожи вылезут, по два часа спать будут, но
не уступят один другому первого места добровольно,
Ревниво следили за ними ребята из Подмосковья, для которых работа в
поле была привычной и которые не ожидали такой яростной конкуренции
от «городских». Чтобы нагляднее был ход вспашки, Кочугин с помощью
знавших плотничье ремесло соорудил из досок и фанеры таблицу
соревнования, ее укрепили на столбе у вагончика правления, который
отличался от остальных тем, что к нему единственному протянулась на
шестах линия полевой телефонной связи.
Военные сдержали слово: «Московский» получил отслужившие свой срок
два тягача. Как написал один из корреспондентов, «для новорожденного
совхоза наступили трудовые будни, о которых так и хочется сказать
строчкой прекрасной песни: «Дни работы жаркие, на бои похожие...»
А Славка Таланкин остался при своем прежнем деле, ремонтником. Не
всем же водить тракторы и тягачи, кто-то ведь должен держать их в боевой
готовности. И каждую неделю писал письма в Москву — матери и Гале.
10
Между первой бороздой и первым урожаем в целинном совхозе
«Московский» пролегло почти пять месяцев. Но для Валентина Бухонова,
Кости Кузовкова, Анечки и Славы Таланкиных, для всех, кто приехал сюда
трудиться, они промелькнули, как пять дней. И не потому, что были легки
эти пять месяцев. Наоборот, в прежней жизни мало кто из новоселов
испытал такой напряженный ритм работы, когда каждые сутки незаметно
перерастают в следующие сутки, сплавляясь в недели и месяцы.
Не все приехавшие оказались скроенными из прочного материала,
несколько слабодушных сбежали, не дождавшись даже первых всходов
пшеницы. Они исчезали поодиночке: трусы никому не доверяют, а тем
более таким же, как они сами.
В самом начале уборочной случилось крупное ЧП. Обитатели одной
палатки не смогли утром выйти на работу: как выяснилось, с вечера крепко
хлебнули сорокаградусного зелья. Кочугин и Бухонов долго стыдили ребят,
прежде чем они сознались, откуда взялась водка, которая была объявлена
вне закона сразу по приезде до конца уборочной по взаимному уговору. В
районном центре, куда иногда ездили жители провинившейся палатки —
среди них три шофера, — алкогольные напитки тоже достать было почти
невозможно: «сухой закон» распространялся на всю сельскохозяйственную
зону области. Так откуда же? Колька Филиппов привез и распродал целый
ящик. Бухонов клялся, что без напарника туповатый Филиппов не сумел бы
провернуть такую коммерческую операцию, но доказательств против
Семпеля не было. Тот оказался в стороне.
Филиппова уволили и исключили из комсомола, из поселка он исчез.
Других участников пьянки решили на первый раз оставить в коллективе, но
вкатили по строгачу — и по комсомольской линии и по административной.
Почти каждое воскресенье, а иногда и в субботу, приезжали шефы — то
военные, то заводские. Общими силами к концу августа сумели поставить
ремонтную мастерскую, крытую стоянку для техники, следующим летом
планировалось пристроить стены; несколько домов для семейных и
большое клубное здание, которое можно было превращать в столовую: с
одного торца оборудовали кухню с котлами.
По поводу клуба разгорелся спор между Рязанцевым и Кочугиным.
Директор считал, что все силы надо направить на строительство жилых
домов, клуб может и подождать. Работников закрепляют и стимулируют
нормальным жильем, а не танцами-шманцами, особенно семейных.
Кочугин, опираясь на свой опыт командира, а Бухонов — на опыт
комсомольского работника, убеждали Рязанцева, что, если ребят спросить,
они сами скажут: сначала клуб, а потом все остальное. Зимой, когда дороги
заметет и поселок подолгу будет отрезан от мира, молодежь взвоет без
клуба...
— Ладно, — сказал под конец Рязанцев, — ловлю вас на слове. Решим
вопрос демократическим путем. Коли вы считаете, что ребята поддержат
вас, давайте их самих и спросим.
И вопрос решили демократическим путем: строить клуб. Кочугин и
Бухонов торжествовали. Директор «отомстил» по-своему: отметая все
возражения, что у трактористов в страду выходных быть не может,
отправил Валентина на переговоры с шефами, наказав ему, помимо книг и
кинопередвижки, добиться печек-буржуек на зиму для всех палаток. И с
деланным злорадством добавил:
— Ничего, съезди отдохни, а то Кузовков из-за тебя ноги протянет. Ишь
дуэль затеяли, гусары.
— Не дуэль, а соревнование. И неправильно это, что вы ему
подыгрываете, Иван Фролович. Пока я ездить к шефам буду, он меня
обойдет. Получится нечестно.
— Ты, мил-друг, комсомольский секретарь, тебе должно быть важнее
общественное дело, а не личный успех. К тому же насчет клуба ты ведь
затеял, а не я, тебе и ехать. Все, привет. Можешь взять мой «газик», мы с
комиссаром одним обойдемся. И без договоренности насчет печек не
возвращайся, мне работников хоронить через полгода после приезда не с
руки.
Костеря в душе упрямого директора, Валентин помчался на машине в
город. По дороге остыл и стал размышлять, как лучше подступиться к
заданию. И вспомнил представительницу рабочей династии по имени Раиса
Шупта. Она, наверное, не раз приезжала на воскресники, но он ее так и не
видел, дневал и ночевал в поле. На заводе прямо к ней и надо двигать:
комсомольский секретарь с комсомольским секретарем уж как-нибудь
договорятся, а там вдвоем и на партком и дирекцию нажать можно.
Валентин приободрился и даже начал напевать. Если эта Раиса и с
начальством на заводе такая же бойкая, как тогда на вокзале, совхозу
обеспечено все, что требуется.
Сибирячка встретила его по обыкновению весело.
— Наконец-то! Избегаешь, значит? Покорил девушку с первого взгляда и
прячешься за трактор?
Но Валентин не оробел.
— Так это ты была?
— Что я была?
— Да ребята говорят: тут одна бегает по всему совхозу, разыскивает тебя
каждое воскресенье. А я-то думаю, кто бы это такая?
Откинув кудрявую голову, Раиса расхохоталась.
— Ты и шутить умеешь?.. Говори, что надо, все сделаю.
— Явился я к тебе, товарищ Шупта...
— Можешь звать меня Раиса Афанасьевна.
— Так вот, Раиса Афанасьевна...
Валентин изложил ей свое поручение. Записав все по пунктам, Раиса по-
ученически взяла карандаш в зубы и задумалась.
— Понимаешь, Бухонов, с печками, я думаю, мы сами управимся.
Договоримся с директором, чтоб передали нам отбракованные мазутные
бочки, кликнем клич среди ребят и до холодов печек вам понаделаем по
всей норме. Книжки тоже просто: пошлем добровольцев по цехам, соберут,
да и завком подкинет. С кинопередвижкой сложнее: ведь вам старье ни к
чему, а на новый аппарат живые деньги нужны. А чего вы сами-то не
купите?
— Не заработали пока. Придет время, все сами покупать станем.
— Меня-то приглашать будешь в свое кино?
— Нет вопроса.
— А жена не побьет?
— Чья?
— Твоя.
— Ты какую имеешь в виду, новую или старую?
— Эх ты, вроде солидный человек, а неженатый.
— А сама-то?
— Что сама-то? Я тебя всю жизнь дожидалась.
— Пошла бы ты за такую деревенщину, так я тебе и поверил. Ты же
представительница царствующей на заводе династии.
— Ну и что? Я читала: сестра английской королевы за простого
фотографа выскочила.
— Тракторист «наследную принцессу» устраивает?
— Вполне.
Шагая за Раисой по коридорам управленческого корпуса, Валентин
недоумевающе размышлял, где в их беседе кончалась шутка и начиналась
истина. Несколько раз ему показалось, что в шутливом тоне Раисы
проскальзывают настойчивые нотки: «Ну пойми же, пойми, что я хочу тебе
сказать...»
По вопиющей несправедливости небесных стихий сухая летом
кулундинская степь именно той порой, когда новоселы «Московского»
готовились снимать первый урожай пшеницы, превратилась в хлябь:
частый холодный дождь как зарядил, так и лил больше недели. Рязанцев,
который привык к благодатным кубанским условиям, ходил мрачнее неба,
нависшего над совхозными полями. Если ребятишки-москвичи не
понимали, что великолепный урожай гибнет на глазах, то он-то видел, что
хлеб просто-напросто не успеет дозреть к началу комбайнирования.
В конце дождливой недели к Рязанцеву явился весь перемазанный
грязью Петя-агроном — прямо с поля, не успев лицо ополоснуть. Его глаза
под очками сверкали от возбуждения.
— Иван Фролович, больше ждать нельзя! Надо косить.
— А то я сам не знаю, что надо косить. Для чего? Для силоса? На другое
эта зелень не годится, тебе-то, как агроному, следовало бы знать.
— Нет, я не про то, Иван Фролович. Я говорю, раздельно надо уборку
проводить, коль такое дело.
— Раздельно? Всю жизнь на земле хозяйствую, а про такой способ не
слыхал.
— Да потому что у вас, на юге, он и ни к чему. Хотя здесь он тоже пока не
применяется по-настоящему, а зря. У нас в институте один преподаватель
говорил, что еще в прошлом веке сибиряки в дождливые годы такой метод
практиковали. В пределах своих возможностей, конечно.
— Ну, прошлый век — бог с ним. Что ты в этом веке предлагаешь?
— Немедленно начать покос. Но без обмолота и чтобы стерня оставалась
сантиметров в тридцать пять — сорок. Колосья на стерне полежат,
ветерком обсушатся, а там и дозреют.
— А собирать мы их руками станем, как в прошлом веке? — съязвил
Рязанцев. — М удришь ты, парень, а мне за все головой и партбилетом
отвечать.
— Ну-у, если вы ответственности испугались...
От кого, от кого, а от тихонького, застенчивого Пети-агронома такого
Рязанцев не ожидал.
— Ах ты, бисов сын! Это ты меня... — И не договорил, потому что сам не
мог ничего толкового предложить сейчас, когда урожай погибает.
Помолчав, спросил: — Ну, хорошо, скосили, оставили на стерне. Что дальше?
Петя обрадованно заторопился:
— Тем временем надо изготовить такие штуки, вроде широких вил,
прицепить их к комбайну вместо жаток и собрать хлеб, когда он дозреет.
Можем сами попробовать в мастерских, можно шефов...
— На шефах мы и так верхом ездим, — перебил Рязанцев и,
поразмыслив, закончил: — Нет, тут партизанить нельзя. Вот что, товарищ
изобретатель, бери смену белья, бритву и бегом обратно. Или ты еще не
бреешься?
— Ну да... А зачем брать, Иван Фролович?
— В город поедем, в обком. Тут надо решать по-государственному.
Небось, не мы одни в таких условиях оказались.
Выслушав Петины соображения и комментарии Рязанцева, секретарь
обкома кивнул.
— Это ты верно говоришь, Иван Фролович, не вы одни в беду попали и,
кстати говоря, не вы одни предлагаете провести уборку раздельным
способом.
— Мы на приоритет не претендуем, мы на приспособления для подборки
колосьев надеемся.
— Это я уже сообразил. И опять же не только я. Так что могу сообщить
кое-что утешительное: товарищи на нашем заводе сельхозмашиностроения
взялись за них в ударном порядке. Думаю, подборщики получите в срок.
— Значит, можно начинать косить?
— Ну, это вы уж сами решайте — можно или нельзя. Что вы на меня свою
ответственность сваливаете? Кому виднее — обкому или вам на месте?
— Обкому сверху все виднее, смотри-ка, даже насчет подборщиков
раньше нас скумекали.
— Скумекали, потому что с мест подсказали. В общем, Иван Фролович,
желаю тебе, чтоб твой первый сибирский урожай вышел не хуже
кубанского. А уж мы подсобим.
На следующее утро комбайны вышли в поле. Впереди одного из них шел
«ЧТЗ» Валентина Бухонова. Все последующие дни Валентин не покидал
трактор, ночевал в поле, как и остальные, благо что дожди наконец
оставили «Московский» в покое.
Трижды в день автолетучка доставляла горячую еду, а иногда газеты. А
один раз привезла на массив, где работал Валентин, гостью — зеленоглазую
Раису Шупту.
— Соскучилась вот, решила поглядеть, как ты геройствуешь... Да ты
настоящий Соловей-разбойник!
Валентин и правда выглядел диковато: всклокоченный, обросший
бородой, обветренный, с потрескавшимися губами.
— А ты переживаешь? Как шеф за подшефного?
— Как будущая жена за будущего мужа. Подумала я, подумала и решила
выйти за тебя, Бухонов, замуж, вот что.
— С парткомом советовалась? — поддержал Валентин шутливый тон.
— Пока только с завкомом. Одобрили мой почин. Будут рекомендовать
девчатам последовать моему примеру. Девиз: «На целине вас ждут женихи!»
— Хороший девиз. Так когда свадьба-то? Я предлагаю сразу после
окончания уборки. Само собой у нас в совхозе. Как раз клуб достроим, ты уж
там поднажми ради такого случая на своих заводских...
Расставшись с Раисой, он опять засомневался: а может, не такая уж это и
шутка? Ведь приехала же, нашла его в поле, значит, захотела увидеть.
На сердце у него становилось тепло, когда он вспоминал Раису. Особенно
часто ее лицо виделось ночами, когда Валентин вел комбайн при свете фар
и вокруг ничего не было видно, кроме отдаленных огоньков других
тракторов и комбайнов.
11
Закончив последние наставления, где и кого нужно в Москве повидать по
совхозным вопросам, Рязанцев с коротким смешком легонько ткнул
Валентина в бок рукавицей.
— Признаться, завидую вам ребятки. Сам ведь москвич. Так бы с вами и
полетел. Ну да ничего, авось, к Новому году и я выберусь. А вы, между
прочим, — обратился он к Анечке и Косте, — не вздумайте там свадьбу
сыграть, в жизни не простим, понятно?
— Понятно! — ответили они дружно.
— То-то. Мы вам тут такую свадьбу закатим — первая же!
Разговор происходил у приземистого здания Новосибирского аэропорта.
Валентин, Анечка и Костя отправлялись в Москву на слет целинников
представителями «Московского». Ехавший по своим делам в город Рязанцев
взялся лично их проводить.
Зима уже разгулялась всерьез, снега поднавалило основательно, так что
«газик» то и дело буксовал, приходилось вылезать и подталкивать, но
успели к самолету заблаговременно.
— Иван Фролович, — попросила Анечка жалобно, — вы уж без нас за
Славой приглядите, пусть вылежит как следует, на мороз не вылезает.
— Пригляжу, — пообещал директор. — Привяжем твоего братца к койке,
пускай себе лежит и стихи сочиняет. И на праздник от добровольных
сиделок, я думаю, отбоя не будет... Ладно, ребятки, в добрый час. Небось,
парад посмотрите на Красной площади, в Большом побываете.
Возвращайтесь побыстрее!
И они улетели в Москву, заранее радуясь встрече с ней, с родными. Даже
Костя оттаял и вел себя с Валентином если не по-дружески, то, во всяком
случае, по-хорошему. Ему и вообще приятно было оказаться в этой
почетной делегации, на равной ноге с Бухоновым, который так и не смог его
обскакать на тракторе.
Славка тоже, наверное, отправился бы с ними. Хотя никаких трудовых
подвигов, как Валентин с Костей и другие механизаторы, он не совершил,
но его любили в совхозе, как никого другого, — за доброту, за постоянную
готовность помогать любому нуждающемуся в помощи и, конечно, за песни.
Но Славка крепко простудился в своей ледяной мастерской. Надо было ему
сразу сознаться, что в груди похрипывает, а он, стесняясь, как всегда,
продолжал ходить на работу и спать в палатке, где от боковин несло
холодом — рука сразу окоченеет, если приложишь ее к брезенту. Вот и слег
Славка за неделю до Октябрьских праздников с воспалением легких.
Поместили его в стационар медпункта, оборудованного в одном из
домов, привезли доктора из районной поликлиники — почти такого же
молодого, как сам Славка, но с пегой бородкой и усами.
— Тэк-с . . . Отлично-с. . . Нуте-с повернитесь на другой бочок... Как же вы
это, батенька мой, этак легкомысленно-с, — смешно приговаривал он на
манер чеховских эскулапов, а в итоге осмотра приказал Славке оставаться в
постели минимум две недели, «поскольку с сибирской зимой, батенька,
шутки плохи, да-с».
Оставив медсестре, которая обнаружилась среди москвичей, какие-то
ампулы и письменное предписание, врач пообещал навещать Славку по
возможности часто.
Несмотря на уколы, в праздничный вечер у Славки опять подпрыгнула
температура, читать стало трудно, и он просто лежал, подремывая,
бессильно вытянув руки вдоль тела. Медсестра Муся, симпатичная
хохотушка, рассказала ему, что в клубном зале готовится большое,
торжество: составили тремя линиями самодельные столы и накрыли их за
отсутствием скатертей накрахмаленными простынями. Сначала шефы
покажут свою самодеятельность — приехали военные и заводчане, потом
сядут за стол, а под конец устроят танцы. По Мусиным интонациям Славка
чувствовал, как ей хочется посидеть вместе со всеми за праздничным
столом и, главное, потанцевать.
Он уговаривал Мусю пойти в клуб, все равно ведь она без толку сидит в
медпункте. Сделает вечерний укол — и на танцы, а Славка постарается
заснуть пораньше. Да и стараться не надо особенно: и так в сон клонит.
Муся отрицательно трясла тщательно накрученными к этому вечеру
кудрями, твердила, что доктор ее убьет, если она оставит больного Славку
из-за танцев. Сопротивлялась до того момента, пока в медпункт не заглянул
Гриша Долгов, такой же, как Славка, ремонтник, Мусин ухажер. Он, конечно,
сделал вид, что пришел проведать товарища.
— Ну ты как тут, не уморили тебя еще? Может, по маленькой, пока «сухой
закон» отменили?
— С ума сошел! — набросилась на него Муся. — По маленькой! Я вот
Ивану Фроловичу скажу, как о Таланкине друзья заботятся.
— Не шуми, — тут же отступил Гриша. — Нельзя — значит нельзя. Я ведь
так просто, шучу. Зашел посмотреть, как тут у вас и что, только и делов.
— Знаете что, братцы и медсестрицы, — просипел Славка, — не
мешайте-ка вы истощенному труженику спокойно спать. Гриш, бери ты эту
замучившую меня вниманием гражданку, и идите-ка вы оба туда, где сейчас
положено быть всем нормальным и здоровым людям.
— Может, нанемного... — за к олебалась Муся, вопросительно переводя
взгляд с Гриши на своего пациента.
Славка помахал ей рукой — ступайте и веселитесь. И Муся не выдержала
искушения.
Они ушли. Славка задремал, ему грезилось, что Галя уже здесь, с ним,
можно протянуть руку и дотронуться до нее, только рука никак не
поднимается. Под подушкой у него лежало письмо, в котором она сообщала,
что наконец-то дела утрясаются и в ноябре она уже будет в совхозе
насовсем. Не сознаваясь самому себе, Славка все же страшился, что она
передумает: в Москве ведь найдутся парни получше совхозного
ремонтника. Он искренне считал, что недостоин такой женщины, что ему
просто незаслуженно повезло, а раз так, то все может взять и рассеяться,
как мираж. А накануне из районного почтового отделения по телефону
передали телеграмму, в которой говорилось, что Галя вылетает из Москвы
утром девятого ноября. Едет к нему. Насовсем. Значит, хоть немножко, но
любит, а не просто чувствует благодарность...
Очнулся Славка оттого, что в соседней комнате, где стоял стеклянный
шкаф с медикаментами и находились прочие принадлежности медпункта,
что-то упало, раздалась нецензурная брань.
— Кто там? — Славка включил лампу на тумбочке. Хотя голос его звучал
слабо, Славку услышали. А может быть, заметили полоску света,
появившуюся под дверью стационара. Дверь отворилась, и в щель
просунулась голова Семпеля.
— Лежишь, герой труда? — с ухмылкой осведомился он и крикнул в
соседнюю комнату: — Колька, он тут один! — Появился Колька Филиппов с
какой-то бутылью в руках.
— А ты откуда взялся? — слабо удивился Славка. — Тебя же выгнали.
— Помалкивай, дохлятина, пока совсем не пришиб! — огрызнулся
Филиппов.
— Вы что тут делаете? — спросил Славка, пытаясь понять, почему
Колька Филиппов, которого в совхозе не было с лета, сегодня опять
появился.
— Что делаем-то? — ухмыльнулся Семпель. — Мы вот с Колькой
подумали и решили, что в самом деле не стоит жить, как черви слепые
живут, надо повеселиться, пока здоровье позволяет.
Это Семпель вспомнил давний спор в палатке, когда кто-то из ребят от
крайней усталости посетовал, что, мол, черт его дернул в эту проклятую
Кулунду, другие-то, которые поумнее, сейчас сидят в Москве, пиво
попивают да над ними, дураками, посмеиваются. Семпель тогда поддержал
захныкавшего, сказав, что и правильно посмеиваются, только дураки и
ехали, а все умные остались.
Славка спросил, чего же он сам тут оказался, раз у него такое мнение. На
это Семпель неопределенно ответил, что пришлось, вот и поехал, но на всю
жизнь закапывать себя здесь не собирается, он человек вольный, надоест
тут горбатиться, так и махнет куда глаза глядят, к пиву поближе. Пусть те,
кто шибко сознательный, дальше эту целину хоть зубами грызут, на то они
и сознательные.
Остальные палаточники наперебой накинулись на Семпеля и на парня,
начавшего разговор, поднялась громкая перепалка. Костя, перекрыв гам,
крикнул, чтобы прекратили орать, нашли с кем спорить... Пусть лучше
Славка споет что-нибудь, это приятнее, чем слушать семпелевские
откровения.
И Славка, взяв гитару, начал горьковскую песню о рыбаке Марко.
Последний куплет он негромко и насмешливо пропел, повернувшись к
Семпелю: «А вы на земле проживете, как черви слепые живут: ни сказок о
вас не расскажут, ни песен о вас не споют».
«О тебе споют, держи карман шире», — буркнул тогда Семпель,
укладываясь на лежак лицом к стенке. Но, оказывается, задело его, не
забыл.
— Червем-то будешь ты тут в земле копаться, — продолжал он, стоя у
Славкиной койки. — Пока не сдохнешь. А мы с Колькой тем временем
поживем в свое удовольствие. Точно, Коль? Грошей теперь у нас имеется
сколько хошь, понял? Вся ваша зарплата — вот она. — Семпель похлопал
себя по карману. — Теперь спиртягой на дорожку запаслись, и привет
совхозу. Точно, Коль? Ладно, будь здоров, не кашляй, а нам некогда.
Он плотно прикрыл за собой дверь, и слышно было, как с той стороны ее
чем-то приперли. Потом за окном заурчала машина, и все стихло.
Славка соображал, как ему быть. Эти сволочи, значит, украли из палаток
все деньги, которые ребята получили перед праздником. Кто мог ожидать,
что в совхозе появится вор, оставили в чемодане или под матрацем,
сберкассы-то нет. Заранее все рассчитали, гады. Даже в медпункт за
спиртом явились, зная, что все в клубе, никаких сторожей не выставлено. От
кого сторожить-то?
Славка поднялся и, чувствуя, что ноги держат плохо, по стенке добрался
до двери, которая не поддалась его слабым рукам. Но надо было
предупредить товарищей, которые, ничего не подозревая, веселятся — и
потому, что дата, и потому, что главные трудности позади, совхоз живет и
дает хлеб, а сделано это их собственными руками.
Никакой одежды в стационаре не было, даже больничного халата — не
успели еще обзавестись. Вместо тапочек Славке дали обрезки валенок. Кое-
как соорудив из собственного одеяла подобие юбки до полу, а одеяло со
второй койки накинув на голову и плечи, он после долгих, вымотавших его
окончательно усилий открыл обе оконные рамы и вылез наружу. И сразу
задохнулся, закашлялся от морозного ветра. Стягивая потуже одеяло,
побрел к светившемуся всеми окнами клубу.
Через три дня бородатый доктор порекомендовал Рязанцеву известить
Славкиных родных, что им следует срочно приехать. А еще через день
Анечка, Костя и Валентин уже находились на борту ТУ-104, летевшего в
Новосибирск. С ними была и Мария Сергеевна. Получив телеграмму, Анечка
заколебалась, стоит ли расстраивать мать, может, лучше полететь им с
Костей, самим все выяснить, а там уж и ее вызвать. Но Костя сразу понял
смысл вызова, посланного Рязанцевым, и сказал, что лучше лететь всем
вместе.
Когда сообщили о телеграмме Валентину, он без колебаний решил
вернуться вместе с ними.
— Тебе-то зачем? — по привычке возразил ему Костя. — Гуляй на
здоровье дальше.
— У меня здесь, Костя, никого нет, — просто ответил Валентин. — Тетка
померла без меня, никто из соседей написать не догадался. В общем, я с
вами.
А Галя отправилась в путь накануне — забежала к Анечке спросить, не
передать ли чего Славе и что надо в первую очередь захватить с собой:
Слава ничего в этом не смыслит, пишет, чтобы сама побыстрей ехала, а
насчет хозяйства после разобраться можно.
Рейс оборвался в Свердловске: закрутила пурга, все самолеты, летевшие
на восток, ждали в уральском аэропорту вторые сутки. Костя попытался
связаться с совхозом по телефону, но дозвонился лишь до районного узла
связи. Объяснив дежурной, какая беда стряслась в совхозе, попросил
уведомить Рязанцева или Кочугина, что они все застряли в Свердловске, и
выяснить, как там с Таланкиным. Телефонистка попалась славная, обещала
все сделать и велела позвонить снова часа через два.
Возвращаясь к своим, Костя заметил Галю Филину. И здесь, среди массы
пассажиров отложенных рейсов, она выделялась. Мужчины, проходя,
обязательно косились в ее сторону. А Галя, ничего вокруг не замечая, сидела
в уголке на чемодане и улыбалась каким-то своим мыслям. Костя сообразил,
что она ничего еще не знает.
Анечка предложила пока ничего Гале не говорить, может, к их прибытию
все уже образуется, и на этот раз Костя с ней согласился. Мария Сергеевна
вообще в их беседах не участвовала — как замерла, прочитав послание из
совхоза, так потом всю дорогу молчала.
Галя обрадовалась встрече с ними, возбужденно расспрашивала о
совхозе всех по очереди. Она не замечала общего настроения из-за того, что
вся была поглощена своими мыслями, а их сумрачность отнесла за счет
усталости и раздражения по поводу многочасового сидения в аэропорту.
Галя предложила пойти в ресторан поужинать.
Они заняли столик и сделали заказ. Мария Сергеевна отказалась от всего,
кроме чая. Косте и Валентину хотелось выпить по рюмке, чтобы немного
снять напряжение, но они постеснялись Гали. На маленькой эстраде сильно
накрашенная брюнетка пела недавно вошедшее в моду:
Домино, Домино,
Будь веселым, не надо печали...
Нехотя сжевав половину ромштекса, Костя отправился снова
дозваниваться дежурной узла связи. Потратив час, он все-таки добился,
чтобы его соединили. Выслушал дежурную и, забыв поблагодарить, повесил
трубку. И долго, не решаясь войти, простоял у дверей ресторана, из
которого слышалась веселая джазовая музыка.
12
Издавна на Руси так повелось, что родным краем считается тот, где у
человека есть родные могилки.
Анечка и Костя Кузовковы навещают две такие могилки на крошечном
еще кладбище неподалеку от поселка Таланкин. В печальный час
вспомнили вдруг, что совхоз имеет наименование, а поселок, как
географическое понятие, нет. И назвали его в память Славки Таланкина.
Рядом с ним похоронили в Кулундинской степи Анну Андреевну, Костину
мать, приехавшую погостить да и оставшуюся нянчить внуков.
Чуть поодаль покоятся Иван Фролович Рязанцев и его жена.
Совхозные дела принял Кочугин, а когда его избрали секретарем
райкома, то Валентин Бухонов.
Костя после гибели друга сгоряча хотел было податься на службу в
милицию, но не смог бросить землю. Его, Костино, призвание — кормить
людей хлебом, это он теперь точно знал.
Пережитая вместе смерть Славки сблизила их с Валентином. Они вдвоем
ездят охотиться в степь, а иногда и севернее, в лесные края. Изредка к ним
присоединяется Кочугин, и тогда они втроем где-нибудь у костра
вспоминают те первые их месяцы на кулундинской земле, после которых
минуло почти четверть века. И каждый думает: неужели уже четверть века?
Неужели?
А когда Раиса Бухонова собирает гостей, ее муж достает привезенный из
Москвы старый трофейный аккордеон, и все негромко поют песни своей
молодости. И под самый конец Славкину любимую — про остров, который
ему хотелось открыть.
В майском номере нашего
журнала за прошлый год было
опубликовано письмо 3. М.
Обуховой «Нет! Этого забыть
нельзя!». В нем разговор о
минувшей войне, о
человеческой памяти, о том,
можем ли мы сегодня забыть о
событиях 30-летней давности.
«Что вы знаете о войне? Как
воспринимаете события тех
лет?» — с такими вопросами
обратилась Зоя Михайловна к
читателям «Юности».
На это письмо
откликнулось множество
людей — и тех, кто помнит
войну, и тех, кто только
сегодня узнаёт о ней. Письма
от людей разных возрастов и
профессий, но все они
написаны от души — искренне
и взволнованно. Вместе с
рассказами о себе, своих
друзьях — фронтовые
фотографии, дневниковые записи, вырезки из военных газет — та
часть семейного архива, которая с особой любовью хранится почти в
каждом доме. Письма от разных людей, но объединяет их память о
прошедшей войне. В каждом письме скорбь по ушедшим, гордость за
наш народ, в крови и муках завоевавший мир, и глубокие раздумья о
судьбах Родины и о своей причастности к событиям тех грозных лет.
«Я войны не видел и не хотел бы видеть, — пишет двадцатилетний
Алексей Лешенко, — но через всю мою жизнь она идет рядом со мной, во
мне. Я никогда не забуду, не смогу забыть всех, до одного солдата, кто
принял первый удар, и тех, кто погиб в День Победы. Вся молодость мира
должна помнить о них!
Я работаю жестянщиком, живу в Краснодаре, но раз в год мы с друзьями
едем в горы, к местам, где наши солдаты, не альпинисты, а просто солдаты,
своей грудью закрыли перевалы Кавказа, и кладем букетики скромных
горных цветов к их обелискам. Ставим обелиски там, где их еще нет, где
только местные жители знают, что здесь были бои, стояли насмерть наши
парни. Я хочу, чтобы все знали: мы помним войну, помним ее героев... И
никогда не забудем!»
Для многих наших читателей реальность тех лет складывается из
каких-то эпизодов, связанных обычно с жизнью родных, помнящих
войну, проводивших на нее своих близких. Вот как начинаются многие
письма:
«Я родилась после войны и знаю о ней по рассказам моей мамы (она в
дни войны работала на оборонном заводе, эвакуированном из Одессы в
Рубцовск). С тех пор как я научилась читать, я читала больше всего книги о
войне» (Н. Арысланова, пос. Октябрь, Алма-Атинской обл.).
«Мой дедушка — инвалид Великой Отечественной, мама маленькой
девочкой уезжала из блокадного Ленинграда по Дороге жизни, бабушка
была на оборонных работах» (Ольга Вознесенская, 17 лет, г. Ленинград).
«Я не могу забыть, как в 10-м классе 9 Мая мы поздравляли нашего
военрука с Днем Победы. А потом он рассказывал о войне. Нет, не только о
боях рассказывал он, он рассказывал о том, как умирали люди. Я
возненавидел войну!» (Р. Борисов, 18 лет.)
«Впервые я понял, что такое война, еще в раннем детстве, когда
просыпался от стонов отца. Он стонал от ран, полученных им во время
войны. Когда отец рассказывал мне о войне, у него на глаза навертывались
слезы, и я понимал, что раз мой отец, такой сильный и мужественный,
плачет — значит, это было очень страшно» (И. Раевский, п. Ильинский,
Московской области).
«Мой отец прошел всю войну, прямо с выпускного школьного бала ушел
на фронт, дважды был ранен. Друг моего отца в предпоследний день войны
погиб от пули, которая, возможно, предназначалась моему отцу. Я не могу
забыть его! По-моему, без этой памяти нельзя считаться настоящим
человеком! Я благодарна тем, кто поддерживает в людях память» (Ольга
Цветкова, студентка, г. Калинин).
Насколько беднее чувствами стали бы мы без этих воспоминаний!
Молодые люди сегодняшнего поколения хотят как можно пристальней
вглядеться в жизнь военных лет, понять, в чем наш народ черпал свои
духовные силы для того, чтобы перенести все трудности и лишения.
«У каждого человека, даже если он не видел войны, есть свое
представление о ней. Моей бабушке пришлось растить трех детей в
эвакуации. После ее рассказов о голоде, который они испытали во время
войны, мне казалось: «Ну, что может быть страшнее?»
За работу им давали обыкновенные кормовые тыквы. Всю зиму
кормилась семья тыквами. К весне их осталось несколько штук, и
маленькая девочка сказала своей маме, что вместе с тыквами уходит их
жизнь. Поймите, что это значит! Я в шесть лет не верил в свою смерть, я не
мог понять, как такое может произойти со мной, а во время войны ребенку
это было ясно. Вот как я воспринимаю войну — через ее ужасы» (Борис
Резников, 18 лет, г. Харьков).
За сегодняшним изучением прошлого — потребность узнать,
почувствовать, как все это было, стремление хоть мысленно разделить
общую судьбу и беду.
«Мне посчастливилось побывать в Ленинграде, Волгограде, Севастополе,
Минске, Хатыни, Одессе, пройти партизанскими тропами Карпат. После
каждой поездки бросалась к книгам, постигая все заново, — пишет Ольга
Великанова из Рязани. — Семь лет я изучаю страну, и, где бы я ни была,
везде напоминания о том страшном времени. На Сангарском перевале до
сих пор можно увидеть слой патронных гильз, остатки стрелковых ячеек,
дзотов и блиндажей. Это ли не предостерегающее напоминание о войне?
В Музее обороны Приэльбрусья, на канатной станции Старый Кругозор, я
обратила внимание на фотографию двадцатилетней медсестры Орел,
студентки Ленинградского мединститута. Единственная в отряде девушка,
она погибла, защищая Старый Кругозор. Поразило меня то, что ее зовут, как
и меня, Ольгой, и то, что она родилась в один день со мной — 11 июня, но
она в 1922 году, а я ровно на 30 лет позже. Никак не могла заснуть в ту ночь,
все думала о ней. Раньше я понимала войну умом, а тут как прозрение — я
поняла войну сердцем!»
Ольга Великанова так же, как и многие, приславшие письма, не была на
войне, но воспоминания, связанные с ней, остаются на всю жизнь. Наверное,
критерий гражданской зрелости в бережном отношении к прошлому, в
благодарности к тем, кто отстоял сегодняшний мирный день.
С годами память о войне не ослабевает, напротив, она становится
достоянием не только фронтовиков, но и молодежи. Очевидно, это
связано с тем, что выросло новое поколение, не знающее войны, но
преклоняющееся перед памятью «мальчишек сороковых». Снова и
снова возвращаемся мы к рассказам, книгам, фильмам о них, заново
переживаем их судьбы.
Леонид Ильич Брежнев, выступая перед американскими
телезрителями, сказал:
— 20 миллионов жизней советских людей унесла эта война. Наш
народ не забудет ее никогда! О ней будут помнить не только те, кто,
подобно мне, прошел огонь войны от начала до конца, но и новые
поколения, которые входили в жизнь уже в послевоенные годы.
Помнить об этой войне — это для нас призыв к бдительности...
Мы говорим о памяти, о войне и мире, потому что слишком дорогой
ценой досталось нам сегодняшнее мирное небо, и оно должно быть
всегда безоблачным!
Анна ПУГАЧ
«ЮНОСТЬ», No 3, 1979
Туман Шушу окутал,
Пришла ко мне надежда,
Ты не исчезнешь утром,
Потому что ты — надежда.
Из «Душевной тетради» местного
поэта Хусаметдина Аловлу
Мелодия кеманчи3, рожденная длинным смычком хромого Дадаша,
звучала сегодня как-то особенно в прозрачном вечернем воздухе. В этой
мелодии было что-то от светлого журчания родников, от мягких
прикосновений цветов и трав, от очень отдаленного звона цикады. Большая
голова хромого Дадаша на длинной, как у жирафа, шее раскачивалась в такт
движениям его руки, а в печальных черных глазах с длинными ресницами
отражалось, как в зеркале, то, о чем пела кеманча.
Мелодия кеманчи, разливавшаяся в этот августовский вечер по двору
3 Кеманча — струнный музыкальный инструмент.
шушинского санатория, затронула и чувствительные струны сердца
Хусаметдина Аловлу, и он впервые в своей жизни принялся сочинять стихи
на русском языке, глядя при этом на голубоглазую Марусю Никифорову.
Маруся смотрела куда-то мимо Хусаметдина Аловлу, а он задержал взгляд
на ее плечах, покрытых белым шерстяным платком с вывязанными
цветами, на ее полных, таких белых руках, которые она сложила на груди;
он был поражен в самое сердце. Так и родилось это четверостишие.
С последним звуком кеманчи хромого Дадаша Хусаметдин Аловлу,
попросив слова у затейника Садыха-муэллима, ведущего культурно-
массовую работу среди отдыхающих, вышел на середину площадки и, не
сводя глаз с Маруси Никифоровой, прочитал:
Я тебя люблю,
Очень хорошо!
За тебя умру,
Очень хорошо!
Но Марусины глаза были устремлены все так же не на Хусаметдина
Аловлу. Слушая кеманчу хромого Дадаша, она думала о том, что ее младшая
сестра Василиса, впервые в жизни поехавшая на тамбовский базар продать
урожай с приусадебного участка, не сможет сделать все как следует: вдруг
Василису обманут, обведут вокруг пальца или еще что случится, вот из-за
всех этих мыслей и были так далеки голубые глаза Маруси Никифоровой.
Конечно, Хусаметдин Аловлу, выпускник финансового училища в Агдаме,
а ныне счетовод шушинского колхоза Халфали, отдыхающий этим августом
в санатории и без памяти влюбившийся в чистенькую, аккуратную,
беленькую, как хлопок, Марусю Никифорову, не мог угадать, о чем думает
девушка, и вот, испытывая большое удовольствие от собственного
творения, он еще раз прочитал:
Я тебя люблю,
Очень хорошо!
За тебя умру,
Очень хорошо!
— У этого болвана других слов будто и нет: «Очень хорошо, очень
хорошо...» — передразнила сидевшая на балконе с вязаньем Гюлендам-нене;
чтобы лучше увидеть, что происходит на танцплощадке, она приподняла
рукой очки, потом, улыбнувшись Джаванширу, спросила: — А чего же ты,
детка, не идешь на танцы?
Хусаметдин Аловлу убрался наконец с середины танцплощадки,
аккордеон Гюльмамеда заиграл свое знаменитое танго, и люди начали
танцевать, постепенно заполняя площадку; отдыхавшие в санатории
девушки танцевали друг с другом, местные парни, каждый вечер
приходившие в санаторий, также образовывали пары, и вот тут-то, под
множеством завистливых взглядов, Хусаметдин Аловлу приблизился к
Марусе и, слегка поклонившись, пригласил ее на танец. Марусины голубые
глаза наконец-то обратились на Хусаметдина Аловлу, и она приняла
приглашение смуглого парня с черными усиками. Он был чуть ниже ее
ростом.
— Ой, не могу! — сказала Гюлендам-нене и, смеясь, покачала головой. —
Комедия! — Она еще раз взглянула с балкона вниз и снова спросила у
Джаваншира: — Что ж ты не идешь танцевать, э? Не дорос еще? —
Гюлендам-нене любила иногда пошутить, поддеть внука; он же обычно не
лез за словом в карман и отвечал ей тем же, но сегодня, в этот августовский
вечер в шушинском санатории, Джаваншир почему-то разозлился на
старуху.
— Хватит! — сказал он. — Хватит уже!.. — Потом пошел в комнату и, как
был в брюках, сел на кровать, откинулся на подушку и заложил руки за
голову.
Все его такие прекрасные планы на это лето полетели ко всем чертям;
была бы его воля, Джаваншир не сидел бы сейчас с бабушкой в шушинском
санатории и не пил бы простоквашу, а ходил бы по Москве с Акшином и
Орханом. Акшина, правда, тоже не отпустили, а Орхан поехал и теперь со
своим приятелем Фазилем разгуливал себе по улице Горького.
Прошлым летом, закончив первый курс университета, Джаваншир хотел
поехать куда-нибудь один, как взрослый человек; ему не разрешили,
сказали — пока рано, в будущем году поедешь. В общем, миновал год, он
уже перешел на третий курс, но, когда снова завел речь об этом, отец с
матерью стали опять его отговаривать, потом мать заплакала, отец
разозлился — короче, его одного опять не пустили. И теперь, лежа на
кровати в шушинском санатории и вспоминая все это, Джаваншир вновь
пережил тот вечер, он вспомнил, что вдруг заплакал во время разговора о
поездке в Москву, когда отец и мать вместе уперлись, как говорится,
«сунули ноги в один башмак» и сказали «нет». Даже теперь он покраснел от
стыда, снова представив себе всю эту картину, как он, уже такой взрослый
парень, не сумев сдержаться, плакал, словно маленький, и, плача, кричал:
— До каких пор я буду для вас ребенком? Что вы все меня за руку
водите?
Нечего и говорить, веселого мало... Некоторое время после того случая
Джаваншир почти не разговаривал ни с отцом, ни с матерью, да и они, в
свою очередь, глаза отводили, потом отец предложил: пусть Джаваншир
один поедет в Шушу, в санаторий, у них на работе была путевка, а
Джаваншир сначала сказал, что никуда он не поедет, что все лето будет на
даче в Бузовнах, но, подумав день-другой, решил, что Шуша все же лучше,
чем Бузовны, и согласился; после этого отец с матерью стали его
упрашивать: мол, возьми с собой и бабушку, пусть поедет отдохнет в Шуше
старая женщина, устала тут всех обслуживать, ты уже, слава аллаху, совсем
взрослый, повези ее с собой в Шушу. «Возьми меня с собой, Джаваншир,
родной, возьми меня в Шушу, повидаю те места, десять лет я там не была,
кто знает, увижу ли еще раз Шушу, будет судьба или нет...» — говорила
Гюлендам-нене, но Джаваншир хорошо понимал, что, по существу, не он
везет бабушку, а бабушка везет его; бабушку специально приставляют к
нему для безопасности, боятся его одного отпускать: как же, «он жизни еще
не знает»; не понимают они, что он уже познал жизнь с лица и с изнанки,
ведь для того, чтобы познать жизнь, не обязательно прожить сто пятьдесят
лет... Привести бы домой какую-нибудь нахалку из тех, что не промах, и
сказать: я не ребенок, вот моя жена, прошу любить и жаловать...
Через три дня Джаванширу исполнялось девятнадцать лет.
В то время, когда Джаваншир вот так мстил домашним в своем
воображении, раздался стук в дверь, потом вошла Дурдане и, увидев
лежащего на кровати Джаваншира, постояла немного в растерянности,
потом, запинаясь, проговорила:
— Бабушка послала меня попросить у вас иголку с ниткой.
Дурдане тоже приехала в санаторий со своей бабушкой и теперь
придумала маленькую хитрость: нашла какую-то оторвавшуюся пуговицу и,
зная, что у бабушки иголок нет, забыла она их, сказала ей, что, наверно, у
Гюлендам-нене есть, пойду, мол, попрошу...
Дурдане недавно исполнилось восемнадцать лет. Джаваншир позвал
Гюлендам-нене с балкона:
— Бабушка!
Хусаметдин Аловлу, не удержавшись, снова вышел на середину
танцплощадки и снова прочитал свое стихотворение.
— О аллах, этот парень, кажется, совсем спятил, — сказала Гюлендам-
нене. — «Очень хорошо, очень хорошо»... — Потом обернулась, увидела
Дурдане и, легко поднявшись, вошла в комнату: — Проходи, пожалуйста,
дочка, добрый вечер, садись...
— Нет, большое спасибо, — сказала Дурдане. — Бабушка послала меня за
иголкой с ниткой.
— Да? Сейчас... — Потом, пошарив взглядом по столу и тумбочке,
Гюлендам-нене вдруг спросила: — Джаваншир, детка, ты не брал нитки с
иголками?
В то же мгновение лицо Джаваншира словно вспыхнуло:
— Иголки-нитки... Я иголки-нитки беру в руки?
Дурдане, тоже покраснев, сказала:
— Если нет, ничего...
Гюлендам-нене взяла свою непонятно как уцелевшую со времен Ноя
сумочку.
— Сейчас... сейчас! — Она долго копалась в сумочке, наконец достала
иголку с ниткой и, протянув Дурдане, улыбнулась:
— Возьми, милая, возьми... Этот наш Джаваншир ужасно злой!
Джаваншир хотел сказать бабушке: «Знай свое место, эй, женщина», — но
при Дурдане не сказал, еще и потому не сказал, что Дурдане, по-видимому,
серьезно отнеслась к словам Гюлендам-нене; бросив на Джаваншира
испуганный взгляд, она пробормотала:
— Извините... — И торопливо вышла из комнаты
— А-а -а. . . Девочка не сказала даже, черная нитка нужна или белая... — Т ут
Гюлендам-нене встретилась глазами с Джаванширом: — Ну, а ты что нос
повесил, мой маленький? Во дворе люди поют-пляшут, а ты сидишь тут,
нахохлился...
Джаваншир смерил бабушку взглядом
— Да что с тобой говорить, э?! — сказал он и поднялся с кровати.
Уже три дня, как они приехали в шушинский санаторий, и все эти три
дня Джаваншир думал о своей неудавшейся жизни, думал о том, что никто
его не понимает и вряд ли когда поймет, думал о том, что все в этом мире
ему уже давно известно, в общем, грустные мысли одолевали Джаваншира,
в такие минуты он часто незаметно для себя начинал придумывать другую,
воображаемую жизнь: то он был завсегдатаем ресторанов и никто не знал,
что этот кутила — человек, постигший мир; то он видел себя этаким
демоном, одиноко и молча бродящим среди людей, а все люди, в том числе
девушки и женщины, пытаются отгадать, какая тайна скрыта в его сердце,
но никто никогда не сможет открыть эту тайну... Никто... Но все же иногда в
видениях Джаваншира возникал образ такой же одинокой прекрасной
женщины, она такая же мудрая, как Джаваншир, может быть, она даже
немного старше его; Джаванширу казалось, что он видит ее высокую,
стройную фигуру, тонкое лицо с мягкими, всепонимающими глазами; да,
только такая женщина могла бы понять Джаваншира.
Кеманча хромого Дадаша опять заливалась, на этот раз было очевидно,
что она говорит о любви, о тайне ее возникновения, о мучительной тоске и
безудержной радости, и снова голова хромого Дадаша сопровождала
движения смычка, наклоняясь то влево, то вправо, а большие черные глаза
смотрели прямо перед собой, как будто видели все, о чем пела кеманча.
Люди на танцплощадке слушали кеманчу хромого Дадаша, здесь был и
Хусаметдин Аловлу, и на этот раз голубые глаза Маруси Никифоровой
смотрели на Хусаметдина Аловлу с симпатией и еще с каким-то другим,
странным и довольно сильным чувством, которое до сих пор самой Марусе
испытывать не доводилось, но которое было так совместимо с этими
прекрасными горами, чистым, прозрачным воздухом Шуши, и, пока кеманча
пела о любви, выражение глаз Маруси Никифоровой становилось все более
определенным.
Джаваншир, хмурый, вышел из подъезда своего корпуса, он все еще
сердился на бабушку. Прошелся по тутовой аллее, немного остыл и вдруг
подумал, что, вот ведь странное дело, порой при бабушке — ни при отце, ни
при матери, ни при других пожилых людях, — так вот при бабушке он
иногда, надо сказать, очень редко, действительно чувствовал себя
ребенком, он верил ее лукавым глазам: «Эй, кого ты обманываешь? Не
задавайся, не строй из себя взрослого, ты еще жизни не отведал, это еще все
впереди, мой маленький».
Выходя во двор, он краешком глаза заметил, что Дурдане стоит на своем
балконе и вроде бы смотрит, что делается на танцплощадке; он знал, что не
этим заняты ее глаза и мысли — именно для того, чтобы увидеть его,
Джаваншира, она так часто выходит на балкон; но он упорно делал вид, что
это ему безразлично, и попросту не замечал Дурдане, даже не здоровался;
вот уж кто и в самом деле ребенок, так это, конечно, Дурдане.
Она учится в университете, на курс младше Джаваншира, и в прошлом
году, когда только начались занятия, эта девушка вдруг подошла к
Джаванширу в университетском коридоре.
— Вас Джаваншир зовут? — спросила она.
Джаваншир ответил:
— Да, Джаваншир, — а про себя удивился, откуда знает его эта
невысокая черноволосая девушка; потом, через несколько дней, Джаваншир
наконец вспомнил, что три года назад, летом, был он в Кисловодске вместе с
родителями и жили они на одной улице с этой девочкой; ну, эта девочка
вроде повзрослела, но, кажется, не слишком...
Этот разговор, если его так можно назвать, и был единственным за все
время их знакомства; сначала Дурдане здоровалась с Джаванширом, и
Джаваншир небрежным кивком ей отвечал; потом она, наверно, обиделась,
перестала здороваться, но каждый раз при встрече с Джаванширом мягкие
темные глаза ее оживали и как бы ждали продолжения того единственного
разговора, но Джаваншир проходил мимо.
Вчера во время завтрака Гюлендам-нене спросила у Джаваншира:
— Что это за девушка смотрит на нас?
Джаваншир поднял голову и увидел, что через столик от них сидит
Дурдане рядом с пожилой женщиной; наверно, она только что приехала,
подумал Джаваншир, и невольно поздоровался с Дурдане, и похоже было,
что это приветствие Джаваншира сделало Дурдане счастливой, так засияли
вдруг ее глаза и лицо сразу похорошело. Пожилая женщина рядом с Дурдане
посмотрела сначала на девушку с некоторым удивлением, потом перевела
глаза на Джаваншира и тоже поздоровалась с ним и с Гюлендам-нене.
— Кто же эта девушка, а, малыш? — спросила тогда Гюлендам-нене.
Джаваншир привычно поморщился, буркнул:
— Кто ее знает? — И склонился над тарелкой с вермишелью.
А Гюлендам-нене сказала на этот раз не шутя:
— Ну, конечно, откуда тебе их знать? Дома тоже сидеть невозможно из-
за этих паршивок...
В Баку действительно девушки часто звонили и просили к телефону
Джаваншира, а он и правда не знал ни одну из них, то есть, может, и узнал
бы в лицо, если бы увидел; они со смехом говорили, что хотели бы с ним
познакомиться, что он симпатичный парень, но слишком уж серьезный;
Джаваншир с ними долго не разговаривал, просто вешал трубку, эти
девушки, что сами к нему навязывались, не могли его интересовать.
Джаваншир снова поднял глаза на Дурдане, и ему почему-то показалось, что
слово «паршивка» к этой девушке не подходит, и, что было самое странное,
Гюлендам-нене, как будто прочитав его мысли, произнесла:
— Об этой девушке я не говорю...
В полдень Гюлендам-нене сообщила Джаванширу, что эту девушку зовут
Дурдане, она тоже с бабушкой приехала в шушинский санаторий. Отца в
отпуск не пустили, мать осталась с отцом в Баку.
Аккордеон Гюльмамеда снова заиграл свое знаменитое танго, и
Хусаметдин Аловлу снова пригласил на танец Марусю Никифорову, и снова
стали танцевать друг с другом девушки, приехавшие в санаторий, и друг с
другом — местные парни.
Скоро этот обыкновенный, а для кого и особенный вечер в шушинском
санатории подойдет к концу; поднимется в санаторий из шушинского дома
отдыха малый оркестр Муслима-кларнетиста в составе его самого, зурнача
Анушавана да Мелика, играющего на нагаре, и начнется последний танец.
Так завершится рабочий день массовика Садыха-муэллима.
Диетолог Искандер Абышов, все еще в белом халате, подошел к
танцплощадке и очень серьезно взирал на Садыха-муэллима, который стоял
в центре и, ввиду запаздывания кларнетиста Муслима, развлекал публику
фокусами; помахав целой газетой, он затем разорвал ее на куски, собрал
обрывки в горсть, достал из рукава другую газету, а обрывки первой
должен был под прикрытием новой газеты незаметно спрятать в карман;
этот фокус он показывал часто, и, как всегда, один-два обрывка не хотели
попадать в карман, летели на землю, и Садых-муэллим переминался с ноги
на ногу, пытаясь наступить на них так, чтобы никто не заметил.
Диетолог Искандер Абышов не раз видел этот фокус, но каждый раз
искренне удивлялся.
— Молодец, Садых-муэллим! — сказал он и взглянул на Джаваншира,
стоявшего рядом.
Искандер Абышов уже год отработал в шушинском санатории после
окончания медицинского техникума в Баку и за этот год снискал небывалое
уважение среди местных работников; не только медицинские сестры,
фельдшеры, все — от шеф-повара до официантки — обращались к
Искандеру Абышову не иначе как «доктор». Среднего роста, с аккуратно
зачесанными назад курчавыми волосами и двумя родинками на щеке — он
всегда был в накрахмаленном белоснежном халате и белой рубашке с
черным галстуком, заколотым булавкой с маленьким стеклышком.
Регулярно перед завтраком, обедом и ужином Искандер Абышов устраивал
проверку на кухне, пробовал все блюда и частенько бывал недоволен —
морковь перепарена, гуляш недодержан, — чем приводил в трепет шеф-
повара. В столовой, прохаживаясь между столиками, он смотрел на лица
отдыхающих, определяя, нравится ли им еда, некоторым давал советы.
«Тыква — лекарство против воспаления желчного пузыря, ешьте больше
моркови, в ней много витамина А, чрезвычайно полезен чай из шиповника,
это сплошной витамин С», — говорил он. «Витамины не менее нужны
человеку, чем свежий воздух» — это было его любимым высказыванием, и
Гюлендам-нене называла Искандера Абышова «парень-витамин», добавляя,
что этот «парень-витамин» похож на парикмахера в белом халате, но это
было мнение только Гюлендам-нене.
Но вот и Муслим со своим оркестром спешит, почти вбежал во двор
санатория. Музыканты достали инструменты, расположились в центре
площадки, и кларнет Муслима, поднявшись до самой высокой ноты и затем
опустившись до самой низкой, повел за собой мелодию, окрыляемую
зурной и нагарой.
Солнце уже село, быстро стало темнеть, появлялись звезды; в хорошую
погоду Шуша со всех сторон бывала окружена звездами, звездами в небе и
огнями внизу — в селах Мухетер, Шише, Кешим, в далеком Степанакерте; в
теплые ясные вечера как бы исчезало расстояние между небом и горами,
между человеком и небом.
Джаваншир вынул из кармана сигарету, закурил, а потом вдруг
обратился к стоявшему рядом с ним Искандеру Абышову:
— Пойдем с тобой куда-нибудь, выпьем вина.
— Вина? — Искандер Абышов искренне удивился.
— Ну да. А что тут такого? Выпьем немного сухого вина.
Предложение Джаваншира было весьма неожиданным, диетолог
задумался и наконец сказал:
— Ладно, стакан сухого вина можно. Даже профессор Герасимов
рекомендует выпивать стакан сухого вина на ночь. Профессор Герасимов
говорит...
— Правильно говорит профессор Герасимов. Пошли.
— Я пойду сниму халат.
Тут только Джаваншир заметил этот халат на Искандере Абышове и
сказал:
— Жду.
Наконец Садых-муэллим пожелал всем спокойной ночи, затем повторил
это еще раз, уже по-русски, и люди постепенно, парами, по трое начали
расходиться: сегодня киномеханик Ахверди должен был показывать
индийский фильм «Бобби», кроме того, можно было, например, успеть
посетить местный театр.
Хусаметдин Аловлу подошел к Марусе Никифоровой, рядом с которой
стояла ее подруга Людмила, и пригласил девушек в театр. Людмила
многозначительно посмотрела на Марусю, а Маруся слегка покраснела,
потом улыбнулась, и приглашение Хусаметдина Аловлу было принято.
Ожидая Искандера Абышова, Джаваншир с удивлением размышлял о
своем внезапном желании выпить: ведь он очень плохо воспринимал
спиртное; что тут поделаешь — тошнило его; наверно, дело было в том, что
эти темные кусты и деревья с электрической подсветкой, эти как будто
ненастоящие звезды, этот стрекот цикад в наступившей тишине стали
раздражать Джаваншира, ему показалось, что Шуша — это не та Шуша; та,
прежняя, осталась далеко-далеко, там, в детстве, когда Джаваншир
двенадцатилетним мальчиком собирал на месте этого санатория ежевику,
играл в футбол с местными ребятами, ходил с ними за малиной чуть не до
самого Исабулага, на спор залезал в темный страшный подвал сгоревшей
мечети; теперь была совсем другая Шуша, а та, что была раньше, пропала,
исчезла, давным-давно исчезла и больше никогда не вернется.
Вернулся Искандер Абышов.
— Я готов.
И Джаваншир, еще не вполне очнувшийся от воспоминаний, даже не
узнал его; да и в самом деле Искандер Абышов в костюме, без халата, был
как будто и не Искандер Абышов, а совсем другой человек.
Когда они выходили со двора шушинского санатория, Искандер Абышов
сказал:
— Ты только посмотри, как она на тебя уставилась...
— Кто?
— Вон та девушка. — Искандер Абышов кивком головы показал на
балкон, где стояла Дурдане.
«Вот как, — подумал про себя Джаваншир, — оказывается, этот парень
интересуется не только калориями и витаминами». И вдруг, сам не понимая,
как получилось, Джаваншир снисходительно так усмехнулся: мол, кто я и
кто эта девушка? Нашел, с кем меня равнять... И что удивительно —
Искандер Абышов принял эту усмешку Джаваншира за чистую монету;
спускаясь по дорожке, ведущей из санатория в город, он сказал:
— Конечно, у тебя, небось, тысяча таких...
— Ты не представляешь, как они мне надоели... — Что его дернуло за
язык, зачем он играет в эту игру с Искандером Абышовым, да пусть даже и
не с Искандером Абышовым?
Заведующий шашлычной Абульфат, одновременно повар, буфетчик и
официант, весивший сто двадцать восемь килограммов, принес два
шампура с шашлыком из молочного барашка, зелень, овечий сыр,
армянские маринованные овощи и две бутылки вина. Искандер Абышов
глянул на Джаваншира:
— Две бутылки много.
— Почему много? — спросил Джаваншир и, перевернув поставленные
вверх донышком стаканы из толстого стекла, наполнил их вином. — Твое
здоровье, — сказал он и одним духом опорожнил свой стакан.
Искандер Абышов даже побледнел, удивляясь такой удали: он хотел и
свой стакан точно так же опрокинуть, но поперхнулся и сумел выпить
только половину.
Выпитое вино немедленно подействовало на Искандера Абышова, он
порозовел и так разговорился, как будто до этого всю жизнь молчал;
признался, что хотел бы жениться, да нет подходящей девушки, нет и
квартиры, в горсовете обещали в этом году дать, но в старом доме он не
хочет, хочет в новом доме и чтобы были все удобства; как получит
квартиру, так и маму сюда поселит, перевезет из Сабирабада, а потом и
женится; но вот беда, ни одна девушка пока не приглянулась; в прошлом
месяце он получил любовную записку без подписи, долго гадал, от кого бы
это, вдруг это от библиотекарши санатория Наргиз, но если это Наргиз
написала, то очень жаль, потому что какая-то она странная, эта Наргиз,
вертится все время под носом у Искандера Абышова — к чему бы это? — а
любить ее Искандер Абышов пока никак не может; впрочем, аллах ведает,
может, и полюбит когда-нибудь; но одно знает точно, что полюбит девушку
местную, шушинскую, потому что шушинские девушки славятся своим
здоровьем, но нет пока еще никого на примете, и вообще Искандер Абышов
просто не представляет себе, как бы он подошел к какой-нибудь девушке и
познакомился с ней, то есть теоретически, он, конечно, допускает такую
возможность, только вот...
Искандер Абышов все говорил и говорил без умолку, никак не мог
остановиться. Сам Джаваншир не произнес ни слова, только иной раз кивал
головой да легонько так усмехался, давая понять, что все эти переживания
Искандера Абышова ничто по сравнению с его, Джаваншира, жизненным
опытом; при этом Джаваншир прекрасно понимал, что поступает нехорошо.
Но вот ведь что: если бы Искандер Абышов не увидел в глазах Джаваншира
этого превосходства, которое он считал совершенно естественным, то не
был бы таким откровенным, именно из-за этой всепонимающей усмешки
Джаваншира и прорвало Искандера Абышова...
Между тем Абульфат, двигающийся между столиками с легкостью,
неожиданной для его ста двадцати восьми килограммов, подвижный, как
ртуть, Абульфат, бегающий к буфету, наливающий водку, нарезающий
зелень, колдующий над мангалом, — этот Абульфат возник вдруг перед их
столиком и, обращаясь к Джаванширу, спросил:
— Еще по шампуру на брата, свет моих очей?
Джаваншир посмотрел на Искандера Абышова, и тот сказал:
— Больше не могу. Все!
Джаваншир снова улыбнулся снисходительно и опять поймал себя на
том, что поступает нехорошо... Взяв у Джаваншира деньги за два шампура
шашлыка, две бутылки вина, зелень, сыр, маринованные овощи, Абульфат,
не считая, сунул бумажки в карман и сказал;
— Дай аллах достаток! — Потом забрал со стола вторую, запечатанную
бутылку вина и бегом отнес ее в буфет.
Джаваншир с Искандером Абышовым вышли в парк, и Искандер Абышов,
не в силах остановиться, все говорил и говорил о своих планах на будущее,
но не только о них; говорил о том, что нет у него настоящего друга, да и
товарищей нет, что дни проходят тоскливо, неинтересно, один день похож
на другой. А Джаваншир — то ли от выпитого вина, то ли еще от чего —
настолько вошел в свою роль, что и впрямь стал ощущать свое
превосходство: вот он, Джаваншир, гуляет сейчас в шушинском парке,
дышит чистым шушинским воздухом, отдыхает от городской жизни и от
всяких похождений, главным образом любовных...
В парке было темновато, безлюдно, в лунном свете чернели стволы
деревьев, и огни горели только в верхней части парка, возле здания театра.
Агдамский театр, прибывший в Шушу на гастроли, сегодня показывал
премьеру любовной драмы «Когда танцуют втроем» одного из местных
драматургов. В это время Хусаметдин Аловлу, Маруся Никифорова и ее
подруга Людмила сидели в зале и смотрели на сцену. Хусаметдин Аловлу,
правда, часто переводил взгляд со сцены на Марусю, сидевшую рядом, но не
смел даже прикоснуться плечом или нечаянно задеть локтем девушку;
только время от времени он угощал Марусю и Людмилу ирисками,
купленными в театральном буфете, и тихонько переводил на русский язык
речи героев. Когда же актер, изображая муки несчастной любви, заметался
по сцене, Маруся Никифорова не смогла удержаться от слез и достала
платочек.
И как раз в этот момент Искандер Абышов сказал Джаванширу:
— Ты только посмотри! Вах!
Шагах в десяти, на пересечении аллей показалась высокая стройная
женщина в темном костюме и шляпе с широкими полями. Походка ее была
удивительно легкой и мягкой и в то же время очень неспешной. Женщина
проплывала мимо них в лунном свете, делая, как показалось Джаванширу,
великое одолжение шушинскому парку и вообще всей Шуше, она как бы
бросала вызов дикой неупорядоченной красоте этих мест.
— И бывают же такие женщины, о аллах! — тихонько сказал Искандер
Абышов, сказал и посмотрел на Джаваншира, странно так посмотрел, будто
побуждая его, такого опытного человека к действию.
И тогда, совершенно неожиданно для себя самого, Джаваншир ускорил
шаг, приблизился к этой женщине и произнес:
— Извините...
Женщина посмотрела на Джаваншира, и только теперь он понял, что
сделал, что совершил, в горле у него внезапно пересохло, и уже каким-то не
своим голосом он повторил:
— Извините...
Женщина оказалась очень красива, хотя ей, наверно, было около сорока,
и удивительно то, что возраст свой она и не стремилась скрыть, была
только чуть подкрашена, аромат тонких духов еле уловим.
И перед этой красотой и естественностью Джаваншир показался себе
самым уродливым и глупым человеком на свете.
Искандер Абышов смотрел на них глазами, полными счастливого
изумления и тоски. Еще бы! Парень, который всего минуту назад шел
рядом, пил вместе с ним вино в шашлычной Абульфата, уже, как видно,
познакомился с этой прекрасной женщиной, с этим неземным существом,
совершенно недосягаемым для него, Искандера Абышова.
Женщина еще раз скользнула взглядом по лицу Джаваншира, и
Джаваншир сразу почувствовал, что она видит его насквозь, понимает всю
глупость его поступка. Чувствуя, что краснеет до корней волос, Джаваншир
все же выдавил из себя:
— Скажите, пожалуйста... Вы не знаете, где здесь театр?
Незнакомка внимательно посмотрела на Джаваншира, она будто
пыталась как следует разглядеть в лунном свете лицо этого длинного
молодого нахала, и Джаванширу представилось, что сейчас эта женщина
надает ему пощечин обеими руками с грубостью, совсем ей не подобающей,
но, как ни странно, женщина плавно повела своей красивой рукой в сторону
театра и произнесла:
— Театр там...
Мягкий голос ее прозвучал очень тепло и очень приветливо, и это сразу
ободрило Джаваншира. Некоторое время они молча шли рядом. Сердце
Джаваншира уже билось не так сильно, однако он еще не вполне пришел в
себя, к тому же усиленно искал тему для продолжения разговора, и все
казалось ему банальным и глупым, он страшно злился на самого себя —
зачем он затеял все это?
А сзади шел Искандер Абышов.
Вдруг женщина сказала:
— Ваш товарищ... он ждет вас...
И снова слова ее прозвучали мягко, Джаванширу даже показалось, что
ласково; он удивился, как это она, ни разу не оглянувшись, заметила
Искандера Абышова, и сказал первое, что пришло в голову:
— Ничего... — И тут же снова залился краской.
Так они дошли до здания театра. Джаваншир от досады на себя не мог
даже смотреть на спутницу, он готов был просто убежать куда-нибудь,
спрятаться в какую-нибудь нору от стыда, но сзади шел Искандер Абышов...
На досках для афиш висели написанные от руки объявления о
спектаклях, и, взглянув на них, женщина сказала:
— О-о -о, у них даже «Клеопатра» в репертуаре. — При этом она слегка
усмехнулась, и усмешка немного — не вполне, конечно, — походила на
усмешку Джаваншира, когда он сегодня разыгрывал свою роль перед
Искандером Абышовым. — Надо будет пойти... — Потом внезапно спросила
у Джаваншира тоном учительницы: — А вы смотрели «Клеопатру»?
Этим вопросом она застигла Джаваншира врасплох, и, торопливо
застегивая верхнюю пуговицу на рубашке, он ответил, как ученик, не
выучивший урок:
— Нет, не смотрел.
Они отошли от афиши, и тут — странное дело — женщина стала вдруг
разговаривать, словно сама с собой, теперь Джаваншир уже мог глядеть на
нее: так красиво слетали слова с ее чуть подкрашенных губ, и слова эти как
будто доносились из того, другого мира, в который Джаваншир обычно
уносился в своих мечтах, лежа на кровати и глядя в потолок; и постепенно
ему стало казаться, что ее слова — естественное дополнение, даже не
дополнение, а как бы просто часть этой теплой августовской шушинской
ночи.
А говорила она о том, что все в мире непрочно, все уходит в никуда и
чувства, мысли человеческие, страсти — все, все — ничто, только искусство
способно остановить бег времени, оно не увядает, оно вечно, и потому
вечны чувства, мысли человеческие, страсти, запечатленные мастером.
Джаваншир понимал, что он должен сейчас поддержать разговор,
сказать тоже что-нибудь в этом духе, но все слова вдруг куда-то исчезли, он
ощущал мучительную тоску и не мог произнести ни слова. Тем не менее
выяснилось, что женщина — бакинка, что по профессии она архитектор, а
сейчас отдыхает в шушинском доме отдыха, в Шуше она не впервые, очень
любит эти места, скучает без них, буквально влюблена в шушинский
ханский дворец и мечеть, а какова крепостная ограда — ведь это же само
совершенство, бездна вкуса, и как удачно расположены все здания, как
хорошо вписываются в окружающий ландшафт; поистине древние
архитекторы лучше нас понимали, что здание должно дополнять природу, а
не противоречить ей, а теперь такую вот очевидную мысль приходится
отстаивать на ученых заседаниях.
Джаваншир только кивал головой, соглашаясь со всем, что говорила
женщина, иногда, правда, вставлял что-нибудь вроде «конечно» или
«верно». Других добавлений он сделать не смог, и все это время, пока они
прогуливались по темным аллеям шушинского парка, Искандер Абышов
сопровождал их сзади. И, что удивительно, ему совсем не было скучно: не то
чтоб он слушал речи прекрасной незнакомки: он шел на таком расстоянии,
что ничего разобрать не мог, а просто почему-то чувствовал и себя героем
сегодняшнего вечера.
Джаванширу давно хотелось узнать имя незнакомки, но он никак не мог
заставить себя произнести простые три слова, ему казалось, что они так не
подходят к этой фантастической, немыслимой ночной прогулке. Наконец,
пересилив себя, он все-таки произнес их; выяснилось, что женщину зовут
Медина-ханум, тогда и Джаваншир представился, а затем Медина-ханум
спросила Джаваншира:
— А вы где работаете?
Этот вопрос снова привел в замешательство начавшего было
успокаиваться Джаваншира: он не предполагал все же что выглядит таким
взрослым, и, снова покраснев, ответил неопределенно:
— Я филолог. В университете...
— Преподаете?
«Что это она? Издевается?» — подумал Джаваншир
— Нет... Я — аспирант... — с ка з ал он и посмотрел на Медину-ханум, как
кролик на удава; он был уверен, что сейчас она громко расхохочется, а вслед
затем и Искандер Абышов умрет от смеха. Но, к удивлению Джаваншира,
ничего этого не произошло, просто Медина-ханум длинно так произнесла:
— А-а -а. . . Тогда для вас все еще впереди...
Джаваншир, потупившись, переживал эту неприятную минуту и молчал.
А Искандер Абышов по-прежнему следовал за ними в некотором
отдалении, по-прежнему совсем не чувствовал себя лишним, и, как видно,
напрасно, потому что между Джаванширом и Мединой-ханум произошел
такой короткий разговор:
— Ну что ж, я должна возвращаться...
— Позвольте, я вас провожу?
— Но ведь вас ждет товарищ?
— А он мне не товарищ...
— Тогда скажите ему, чтоб не ходил за нами, — произнесла Медина-
ханум с некоторым раздражением.
Джаваншир сначала не понял, почему вдруг при этой женщине он
отрицал свои приятельские отношения с Искандером Абышовым, но ведь, с
одной стороны, они действительно не были товарищами — Джаваншир
только сегодня вечером с ним познакомился, а с другой стороны, все же то,
что он отрекся от Искандера Абышова, показалось Джаванширу
предательством: впрочем, он внял словам Медины-ханум, отстал от нее и,
подождав, когда с ним поравняется Искандер Абышов, произнес:
— Ты, пожалуй, иди... Мы еще погуляем...
Искандер Абышов заморгал глазами, затем будто что-то уяснил для себя
и сказал:
— Хорошо! — повернулся и исчез в темноте.
Медина-ханум опять говорила о своей привязанности именно к Шуше; ей
было с чем сравнивать: Теберда, Дилижан, Абастумани, Кисловодск, Сочи,
Карловы Вары, Золотые пески, Ницца; но нигде, считала Медина-ханум, нет
такого воздуха, как в Шуше; только в Шуше, говорила она, чувствуешь всю
полноту настоящего отдыха, забываешь обо всех заботах и печалях, снова
радуешься жизни. И душа очищается и становится восприимчивой к новым,
не испытанным еще чувствам...
Джаваншир шел, слушая Медину-ханум, и уже не смущался, как прежде,
хотя, конечно, просто уму непостижимо, что именно он, Джаваншир, не во
сне, а наяву идет с такой женщиной и слушает такие признания...
Когда они дошли до ворот шушинского дома отдыха, было уже около
одиннадцати. Медина-ханум, протянув Джаванширу руку, сказала:
— До свидания. Спокойной ночи.
При свете электрической лампочки, висящей над воротами шушинского
дома отдыха, серые глаза Медины-ханум выражали приязнь и
приветливость, кажется, они еще о чем-то говорили, и теплая тонкая рука
Медины-ханум подтверждала то, о чем говорили ее глаза.
Джаваншир понимал, чувствовал — надо что-то сказать, обязательно
надо сказать или сделать нечто такое, от чего исчезнет едва различимая в
глубине ее глаз ирония... И вот, призвав на помощь все свое мужество, с
отчаянием в голосе он спросил:
— Завтра увидимся?
Медина-ханум улыбнулась с той же приветливостью и приязнью:
— Увидимся.
Они условились, что завтра в семь часов вечера (когда хромой Дадаш во
дворе санатория начнет настраивать струны своей кеманчи) они встретятся
в тутовнике (это место предложила сама Медина-ханум), и после этого
Медина-ханум, высвободив руку из большой ладони Джаваншира, вошла в
калитку своего дома отдыха.
Джаваншир немного постоял перед воротами, думая о собственной
глупости, неловкости и в то же время продолжая ощущать своей ладонью
теплоту, ласковость руки Медины-ханум. Потом закурил и, пройдя по
темным, вымощенным толстыми плитами улицам Шуши, стал подниматься
к своему санаторию.
И тут как раз кончилась драма «Когда танцуют втроем», и Маруся
Никифорова, Людмила и Хусаметдин Аловлу вышли из театра, причем
Хусаметдин Аловлу сразу закурил.
Джаваншир, гуляя с Мединой-ханум, не осмелился на это...
Когда Джаваншир вошел во двор санатория, свет горел только у
Гюлендам-нене, и на балконах никого не было, не считая Дурдане; накинув
на плечи шерстяной жакет, она, дрожа от холода, стояла на своем посту.
Джаваншир добрался до кровати, разделся, лег... Всю ночь он был с
Мединой-ханум, всю ночь они с Мединой-ханум бродили по шушинскому
парку. Находясь между сном и явью, Джаваншир видел большие серые глаза
Медины-ханум, слышал ее мягкий голос, ощущал аромат ее духов,
чувствовал пожатие ее руки, но все, кажется, чего-то не хватало, он
испытывал какое-то беспокойство, и только уже под утро Джаваншир понял
внезапно, чего же ему все-таки недоставало, — оказывается, раздающихся
позади шагов Искандера Абышова.
— С чего это ты так вырядился, мой маленький? К добру ли?
Джаваншир искоса посмотрел на Гюлендам-нене.
Надвигался вечер, скоро Садых-муэллим, выйдя на середину
танцплощадки во дворе санатория, улыбнется отдыхающим, а потом
заговорит, зальется кеманча хромого Дадаша, затем аккордеон Гюльмамеда
заиграет свое знаменитое танго и Хусаметдин Аловлу под завистливыми
взглядами местных парней пригласит Марусю Никифорову танцевать.
Этот день пролетел очень быстро.
Когда утром Гюлендам-нене с Джаванширом спустились в столовую,
Искандер Абышов в своем чистейшем накрахмаленном и выутюженном
халате будто только их и ждал, он уделил им особенное внимание,
поздоровался с Джаванширом с большим почтением, да и потом часто
поглядывал в их сторону, а когда Гюлендам-нене, съев утренний люля-
кебаб, не тронула испеченный помидор, Искандер Абышов подошел к их
столику.
— Простите, — сказал он. — Если бы вы только знали, от чего вы
отказываетесь!
Гюлендам-нене поглядела сначала на печеный помидор, потом на
сдвинутые брови Искандера Абышова.
— А от чего? — спросила она.
Искандер Абышов сказал:
— Вы не представляете, сколько в нем витаминов!
Гюлендам-нене снова уставилась в свою тарелку, доводы Искандера
Абышова как будто подействовали на старуху, и она опять взялась за вилку.
Искандер Абышов, конечно, был очень доволен.
После завтрака Дурдане по просьбе своей бабушки пришла в комнату
Джаваншира за ножницами, потом она принесла ножницы обратно;
спускаясь днем в столовую на обед, она столкнулась с Джаванширом лицом
к лицу, поздоровалась, и Джаваншир на этот раз отдал себе отчет в том, что
девушка при встречах с ним совершенно теряется и краснеет.
— Послушай, малыш, что ты так косо на меня смотришь, а? Опять
придешь в двенадцатом часу ночи? — Гюлендам-нене, сидя на кровати,
глядела на Джаваншира поверх очков и улыбалась, привычно подтрунивая
над внуком.
Джаваншир стоял перед зеркалом и причесывал, укладывал свои
длинные волосы. Он посмотрел на Гюлендам-нене в зеркало и сказал:
— Сегодня, может, и совсем не приду...
И тут произошло нечто вроде чуда: Гюлендам-нене не рассмеялась, не
стала издеваться над его словами, она почему-то сразу поверила, даже
всхлипнула вдруг.
— Джаваншир...
— Ну что, что Джаваншир?
Дурдане стояла на балконе, и ее глаза, полные скрытой тревоги, долго
провожали Джаваншира.
Он подошел к условленному месту на полчаса раньше срока.
В тутовнике были не одни только тутовые деревья, здесь возвышались и
шушинские дикие яблони, и дикие черешни, и на поляне, усыпанной
цветами, росли кусты шиповника, ежевики; эти места хорошо запомнились
Джаванширу, — сколько раз играл он тут в детстве, и однажды удивился,
что шиповник в этих местах, может быть, единственное растение, которое
сначала покрывается листьями, а уж потом зацветает.
Когда-то, кажется, очень давно, Джаваншир с матерью, отцом и
бабушкой каждое лето приезжали в Шушу, жили тут все лето, и, огибая
тутовые деревья, Джаваншир снова вспоминал те далекие детские годы:
как они, мальчишки, набивали свои майки дикими яблоками, еще
неспелыми синими сливами, и все эти дикие яблоки, синие сливы они ели
до оскомины, до полного онемения губ, и все никак не могли остановиться,
а потом еще перемазывались с ног до головы красным соком дикой
черешни.
Солнце понемногу склонялось к закату; в ожидании предстоящего
вечера, предстоящей ночи Джаваншир чувствовал себя свободно, но не
очень-то спокойно, хотя уже поверил в себя, ведь больше не было
необходимости притворяться ни при Искандере Абышове, ни при ком
другом, Джаваншир должен быть самим собой, потому что он тот самый
Джаваншир, который познакомился с Мединой-ханум и сейчас ее ждет.
Он как следует подготовился для сегодняшней встречи, он больше не
будет молчать, набравши в рот воды, теперь-то он уж знает, что скажет
Медине-ханум, и, бродя по тутовнику, Джаваншир повторял про себя слова,
которые он ей скажет. Да, прогуливаясь с Мединой-ханум под этими
тутовыми и грушевыми деревьями, между стволами дикой яблони, дикой
черешни, сливы, среди кустов шиповника и ежевики, Джаваншир завоюет
уважение и любовь этой необыкновенной женщины; кто знает, чем все это
кончится, может быть, даже и поженятся они с Мединой-ханум...
Джаваншир часто поглядывал вниз, на тянущуюся от шушинского дома
отдыха тропинку.
Джаваншир сначала почувствовал появление Медины-ханум, как будто
по цветам, по кустам и деревьям пробежал очень легкий, очень нежный
ветерок, потом Джаваншир, посмотрев в сторону дома отдыха, увидел
поднимающуюся по тропинке Медину-ханум.
Медина-ханум уже издалека неспешно помахала ему рукой, сердечно
приветствуя Джаваншира, и он внезапно почувствовал себя недостойным
этого расположения, ему опять показалось что он ничто перед этой
женщиной — самим воплощением приветливости и в то же время
радостной вольности и свободы.
Медина-ханум сегодня была в светлом широком платье, и это со вкусом
сшитое светлое и широкое платье тоже, казалось, говорило о радости,
вольности и свободе; Медина-ханум шла без шляпы, длинные золотистые
волосы рассыпались по ее плечам, груди, и эти золотистые волосы тоже,
казалось, чуть не кричали сейчас о радости, вольности и свободе; все это
вместе предназначено для Джаваншира, Джаваншир должен был, обязан
был в это поверить...
В глубине души он боялся, вдруг Медина-ханум не придет на свидание с
ним.
Медина-ханум пожала руку Джаваншира, и пожатие это было таким
искренним и милым. А потом Джаваншир с Мединой-ханум стали
прогуливаться рядышком под тутовыми деревьями среди цветов, и опять
заготовленные, только что повторяемые про себя слова вылетели из
головы Джаваншира, и он в который уже раз удивился, что
́
нашла в нем,
глупце, верзиле, столь прекрасная, умная женщина, за что это счастье
такому ничтожеству, как он? А самое странное — Джаваншир внезапно
почувствовал: те далекие годы, которые прошли вот здесь, в Шуше, под
тутовыми деревьями, вовсе не остались вдали, все было как будто вчера;
это ощущение потрясло Джаваншира, и он некоторое время даже не
слышал, о чем говорит Медина-ханум, затем, не попросив у нее разрешения,
он дрожащими руками достал и закурил сигарету, потом подумал, что
нужно было бы предложить сигарету и Медине-ханум и вообще сейчас надо
взять Медину-ханум под руку, сказать ей что-нибудь интересное или хотя
бы что-нибудь особенное.
Какая прекрасная держалась погода, какой чудесный ожидался закат,
каким долгим был этот день! Медина-ханум на отдых всегда ездила одна —
может быть, это эгоистично; конечно, вот такое наслаждение красотой,
такое острое ощущение ее не всегда сочетаются с альтруизмом, не правда
ли? Чувствовать красоту, наслаждаться ею — разве само по себе не эгоизм?
Видимо, эгоизм в природе человека, избавиться от него, совсем избавиться
невозможно, а может быть, и не надо? По существу, и чувство одиночества
тоже приводит к эгоизму, вот это ужасно, это плохо, вот тут нужно
обязательно думать о других, чувствовать их, не замыкаться в одиночестве,
в такое время надо уметь разделять радость других; конечно, одиночество
порой преследует человека настолько, что от него невозможно убежать,
тяжкий бич двадцатого столетия редко оставляет человека в покое.
После всех этих слов, размышлений, этих признаний Медина-ханум как
ни в чем не бывало, просто и естественно взяла Джаваншира под руку и, на
мгновение прижавшись к нему, спросила:
— Куда мы пойдем?
Конечно, Джаваншир не ожидал такого вопроса и застыл в недоумении;
внезапно ему вспомнился Искандер Абышов, вспомнилась стипендия в
кармане, и он неожиданно для себя предложил:
— Пойдемте в парк... в шашлычную...
Медина-ханум посмотрела на Джаваншира с некоторым недоумением.
— Вы проголодались?
Джаваншир почувствовал, что краснеет, и, чтобы Медина-ханум этого не
заметила, нарочно поднес руку ко лбу; на мгновение перед его глазами
появился стодвадцативосьмикилограммовый Абульфат, в нос Джаванширу
ударил запах шашлыка, водки, и он изумился, как ему могла прийти в
голову такая идиотская мысль — здесь, среди цветов, рядом с этой
прекрасной женщиной...
— Нет... не проголодался... — промолвил Джаваншир. — Просто так
сказал...
Медина-ханум снова взглянула на Джаваншира, потом, будто внезапно
обнаружив то, что искала давно, сказала едва ли не заговорщицки, понизив
голос:
— Знаете что... Давайте пойдем ко мне. Я в комнате одна, никого другого
не бывает...
Джаваншир не поверил своим ушам.
— Из моего окна и закат виден, — продолжала Медина-ханум. — Вместе
полюбуемся...
Слова Медины-ханум о закате прозвучали, пожалуй, не очень
естественно.
Они спускались по тропинке, ведущей в дом отдыха. Они направлялись в
комнату Медины-ханум, и, кроме нее и Джаваншира, в этой комнате никого
не будет. Джаванширу хотелось хотя бы пять минут побыть одному, прийти
в себя.
Внизу виднелись двух- и трехэтажные корпуса шушинского дома отдыха,
постепенно свет загорался в окнах.
Джаваншир сказал:
— Пойду куплю коньяк...
Медина-ханум ответила:
— Не нужно... У меня есть коньяк...
Все это прозвучало так, будто они в самом дело были заговорщиками.
Медина-ханум держала Джаваншира под руку, тропинка, круто шла вниз,
и, чтобы не споткнуться о камень, не поскользнуться на траве, Медина-
ханум прижималась к Джаванширу.
У Джаваншира совсем в горле пересохло, и он не мог понять почему — от
радости ли, от робости...
Медина-ханум остановилась у алычового дерева, дальше начиналась
асфальтовая дорожка.
— Вместе нам заходить неудобно, — сказала она. — Все-таки Шуша —
это Шуша, не Карловы Вары. — Она улыбнулась. — Видите вон то крайнее
двухэтажное здание, слева самое первое окно мое, на втором этаже...
Видите?
Джаваншир ответил:
— Да, вижу...
Медина-ханум продолжала:
— Давайте сначала пойду я, а потом вы — через пять-шесть минут...
Дверь я оставлю открытой... — Медина-ханум опять улыбнулась. —
Хорошо? — спросила она.
Джаваншир кивнул.
Медина-ханум отпустила руку Джаваншира, повернулась и пошла вниз
по асфальтовой дорожке.
Когда Медина-ханум убирала руку, ее горячие пальцы скользнули по
голому запястью Джаваншира, это прикосновение было жгучим...
Но вот задул прохладный ветерок, охлаждая запястье Джаваншира. Дул
прохладный ветерок, заходило ярко-красное солнце. Цикады вели свою
вечернюю стрекотню, время от времени слышалось откуда-то кваканье
лягушек.
Дождь пойдет?
Внезапно Джаванширу показалось, что он давно уже тоскует по дождю;
ливня жаждала его душа — чтобы страшно загремел гром, засверкала
молния, чтобы все вокруг содрогнулось; Джаваншир всем телом ощутил
тугие струи сильного дождя.
Солнце закатилось, край неба постепенно бледнел...
В окне Медины-ханум загорелся свет.
Джаваншир, прислонившись к алычовому дереву, смотрел на
освещенное окно и сейчас был на сто процентов уверен, что, когда он
войдет в эту комнату, Медина-ханум встретит его уже в красивом длинном
халате и, когда она сядет на диван, в просвете между полами халата будут
видны ее ноги,
Самым скверным, самым страшным было то, что ноги Медины-ханум
сейчас вовсе не возвещали Джаванширу о каком-то волшебном мире, о
каких-то неземных наслаждениях, эти стройные, красивые ноги были
несовместимы со страшной тоской по дождю, по ливню в сердце
Джаваншира...
Конечно, он понимал, что так делать нельзя, что это не по-мужски, это —
мальчишество, совершенное мальчишество, однако непонятная сила влекла
Джаваншира прочь от этой тропинки, от алычового дерева и, самое главное,
от этого света в окне.
Джаваншир, сойдя с тропинки, пошел по траве и сам не заметил, как
шушинский дом отдыха остался позади, осталось позади зовущее, ждущее
окно, совсем теперь незаметное, когда Джаваншир поднялся в полной
темноте на террасу в нижней части Шуши.
На террасе никого не было. Звезды не светили. Горели только огоньки
сел, расположенных в межгорьях, — словно далекие созвездия. Джаваншир
ощутил, почувствовал близость этой дали, свет селений как будто приносил
тепло.
Джаваншир сидел на скале, поворачивая голову, он следил за огоньками
машин на петляющей по склонам дороге. В какой-то момент ему
показалось, что он как будто не один, кто-то дышит рядом, причем какой-то
знакомый ему человек.
Здесь было очень тихо, только едва слышно журчала речка Дашалты,
текущая по дну ущелья. А на той стороне возвышалась отвесная скала
Хезне. Она была совсем как живая, эта скала, она дышала, слышала, видела и
молчала.
Если в мире существовала вот эта скала Хезне, если слышалось журчание
реки Дашалты, если вот так согревали огоньки далеких сёл, то почему
Искандер Абышов был недоволен своей жизнью и почему он говорил об
однообразии дней?
Потом вдруг ударила молния, полил дождь, а через некоторое весьма
малое время этот шушинский ливень прекратился так же внезапно, как и
начался.
В глубине души, в самой сокровенной глубине Джаваншир не боялся, что
вдруг Медина-ханум не придет к нему на свидание; Джаваншир не хотел,
чтобы Медина-ханум пришла. Он не отдавал себе в этом отчета, но это было
так.
Потом постепенно наплыл туман, огоньки напротив сначала расплылись,
потом совсем исчезли, исчезла и скала Хезне, и Джаванширу показалось, что
наступил завтрашний день, день его рождения, и одна девушка, милая,
стеснительная девушка поздравляет его, она принесла испеченный ею
очень любимый Джаванширом яблочный пирог, она считает Джаваншира
самым храбрым человеком на свете, гордится тем, что Джаваншир ничего
не боится, ни перед чем не отступает, и это действительно так; юная
девушка, милая стеснительная девушка больше ничего не говорит; страшно
смущаясь, краснея, она заставляет себя поцеловать Джаваншира в щеку, и
этот легкий поцелуй как бы приподнимет Джаваншира над землей, теперь
он может смотреть всем прямо в глаза, потому что Джаваншир любим,
потому что Джаваншир — опора, потому что Джаваншир — защита, и в
окутавшем все вокруг тумане он ясно увидел глаза, лицо, волосы Дурдане...
А музыкантам во дворе шушинского санатория играть не пришлось,
Шушу туман окутал, но перед тем, как Садых-муэллим пожелал
отдыхающим спокойной ночи, Хусаметдин Аловлу попросил у него
разрешения, вышел на середину танцплощадки и прочитал свое новое
стихотворение, написанное сегодня:
Ты опять приедешь,
Очень хорошо!
Навсегда приедешь,
Очень хорошо!
И эти строки Хусаметдина Аловлу были явно по душе Марусе
Никифоровой, как строки самого прекрасного в мире стихотворения.
А Искандер Абышов, стоя в белом халате в дверях библиотеки
шушинского санатория, поглядывал на библиотекаршу Наргиз и думал:
«Интересно, кто же ему отправил любовное письмо без подписи? Неужели
все-таки Наргиз?»
Перевел с азербайджанского
Александр ОРЛОВ
«ЮНОСТЬ», No 3, 1979
Ему было тридцать лет, когда он взял себе нового сменщика.
Лыжник, боец, стрелок; в гараже его звали «хищник».
Из-за нелепого прозвища он не переживал.
Прозвище его даже веселило, взбадривало. Про себя он думал: «Есть к
чему тянуться, молву надо оправдывать».
А в гараже отшучивался: «На вас, мужиков, бычков пегих, должен быть
один лютый зверь, а то заснете».
Шоферня — свои, и молодые и старые, в большинстве относились к нему
с дозой восхищения: ну и ловкач, ну и темнило, ну и стрелок — одним
словом, хищник. Многие, наверное, хотели бы быть на него похожими — не
получалось. Для того нужно было иметь особый склад характера,
внутреннюю струнку, бойцовость.
Все понимали, что он какой-то другой, хотя вроде и свой брат шофер, но
так выходило, что машина у него всегда была самая лучшая, новая, сменщик
самый безответный, заработки самые большие. Он всегда ходил чистый,
подтянутый, без капли жирка на широких плечах, с плоским животом.
Осенью и зимой — куртка, затянутая в талии, летом джинсы — не
индийские, американские плотные джинсы и из джинсовой же ткани
голубая стильная рубашка с медными пуговичками. Рубашка и глаза были
одного цвета. Волосы светлые, русые. Летом он быстро, несмотря на
светлую кожу, загорал. Диспетчерши, бухгалтерши, мойщицы машин —
женщины молодые и старые — его любили. Улыбнется — и ему утром
первому дают путевку.
Вечером в слякоть и распутицу, когда возле базы выстраивался
километровый хвост машин, он умудрялся без очереди мыть свою
сверкающую «Волгу», Десятикопеечную конфетку вынет из кармана,
полтинничек, анекдотец расскажет, пошутит, улыбнется. «И куда, Игорь,
торопишься?» — ворчали пожилые мойщицы. «У меня дома жена молодая.
Караулю. Ждет». «Ладно, ставь, охальник, машину сразу за директорской».
С точностью затвора на фотоаппарате — улыбка...
1. СНАЙПЕР
Благополучная жизнь Игоря Глущенко начала катиться под откос с того
момента, как взял он себе нового сменщика.
Дело это, как считал Игорь, было ответственное: от сменщика зависело
все — и исправность машины, и отношения с «хозяином», и очередность
отпусков. С прежним своим сменщиком Василием Игорь вел долгую
позиционную борьбу. Василий парень был сговорчивый, ладный, но после
того, как, разойдясь с женой, запил, несколько раз не вышел на работу и его
срочно пришлось подменять, Игорь решил от него отделаться. Конечно,
можно было бы махнуть на Василиевы художества рукой да и не выйти в
его смену, но хорошо отлаженную персональную машину, пока «болел»
лихой Василий, могли на одну-две смены отдать в чужие руки, и после
замучаешься в ремонтах. А машина для Игоря — кормилица, дойная корова,
радетельница за его безбедную жизнь. Игорь отдежурил за Василия один
раз, потом второй. День по городу — гараж — домой, поспал — снова в
гараж; здоровья, правда, у него еще хватало, но Игорь человек плановый,
все у него учтено наперед, и нарушений в распорядке жизни он не любил.
Тогда Игорь и понял, долго еще Васек будет бултыхаться в семейных
неурядицах: или вернется к жене, или ухватит его другая отчаянная
женщина, — а пока пора спускать сменщика с подножки. Это оказалось
делом нелегким, пришлось подключить жену шефа Наталью Сергеевну,
намекнуть ей, что в гараже, дескать, всем от Василия известно, что ездит
она в Серебряный бор к частной массажистке и на рынок на служебной
машине мужа. Потом Василий вовремя не подал шефу автомобиль, потому
что внезапно по дороге лопнул вроде бы новый ремень на вентиляторе, а
запасной, лежавший в багажнике с инструментами, — выписывал-то
запасной со склада сам Василий, — запасной ремень почему-то оказался
ремнем не от «Волги», а от «Москвича», тут хоть плачь. Шеф счел все это за
нерадивость, и, хотя то, что его жена раз в неделю и съездит куда-либо, его
не волновало, мелочь, но было досадно, что пошли разговоры. Выходя из
машины у подъезда министерства, он перестал говорить Василию: «Ты
свободен на полтора часа» или «Подашь к одиннадцати»; Василий изнывал
в бездействии, мрачнел, потом шеф начал на путевке писать время, когда он
отпустил своего шофера, а значит, вечером ни одной лишней ездки, на
сигареты не приработаешь. Васек вянул, тускнел и как-то шефу сказал: «Вы
бы отпустили меня на разгон, по полторы смены я стал уставать, а в разгоне
хоть каждый день, но по восемь часов». Шеф, не любивший перемен,
внезапно легко согласился. На следующее утро он уже сказал Игорю:
«Василий от нас переходит, ищите сменщика». «Слушаюсь, Юрий
Викторович, Пожелания будут?» «На ваше усмотрение. Лишь бы парень был
хороший». «Это правда, — подумал Игорь. — Лишь бы парень был хороший.
А быть хорошим шофером я его научу».
Полтора месяца после того, как Василия пересадили за руль разгонной
машины, пришлось проработать Игорю одному. Начальник колонны
несколько раз предлагал ему сменщиков, но Игорь был чудовищно
разборчив и нетороплив. Посадить за руль персональной автомашины
нового человека нетрудно, каждому лестно, да и понимают, работа хотя и
напряженная, все время начеку, но зато нет ни дальних изматывающих
рейсов, ни бездорожья, знай себе катай по столице, да и с текущим
ремонтом проще, чуть машина не вышла на линию, сбегаются всей
автобазой: и завгар Максимыч, и механик, и дежурные слесари — как же,
персоналка! — но вот снять плохого, неугодного сменщика с машины —
задача посложнее, тут нужны веские причины, Поэтому так тщательно
Игорь и занимался кандидатурами. Со всеми знакомился, будто бы
ненароком, с усмешечками, с анекдотцами, многих из шоферов знал раньше
Один пил — значит в работе ненадежный; другой слишком любил деньгу —
будет гонять машину и в хвост и в гриву, а машина Игорю нужна и самому;
третий вроде парень ничего, но курил — Игорь же десять лет к сигарете не
притрагивался, в машине, кроме жены шефа — она не спрашивала, — не
разрешал дымить никому: берег свое здоровье, ведь хорошая минута, кейф
от сигареты это временно, а здоровье, солдатская крепость организма — на
всю жизнь: у четвертого нелады в семье — значит, будет нервничать,
суетиться; у пятого недавно родился первый ребенок: молодой отец вместо
того, чтобы, приехав в гараж, лишний раз пройтись тряпкой по молдингам,
будет рваться домой... Игорь искал сменщика, как жену: ошибиться здесь
нельзя, ошибка на всю жизнь.
И наконец Игорь в своих смотринах остановился, выбор его, правда,
многих удивил, но завгар Максимыч сказал: «В конце концов тебе, Игорь, с
ним работать...»
Недели две Игорь наблюдал за новым слесарем, принятым недавно на
базу. Был парнишка худ, вежлив, робок. Челочка косенькая надо лбом, серые
глаза; не курил. Готов посторониться, чтобы дать проход встречному. Жмет
руку крепко, старательно, а рука большая, мужицкая, и хотя и слесарь, а
чувствуется рука чистая, каждый раз после смены хорошо отдраенная. И
весь парнишечка ладненький, подтянутый — и верно, оказалось, из армии,
лимитчик, значит, еще не испорченный московской жизнью,
неизбалованный. Светленький весь, румяный, если кто-нибудь выругается
при нем, краснеет до шеи.
Случай свел их на ремонте. На линии у Игоря застучал передний
амортизатор, В свободный час он заехал в гараж, по-барски, как всегда,
бросил машину дежурному механику, а когда вернулся из диспетчерской,
возле машины, поднятой на подъемник, возился молоденький слесарь.
Амортизатор он уже сменил и теперь старательно ковырялся под задним
мостом.
— Ну, а там что ты забыл? — спросил Игорь.
— На всякий случай решил сменить масло в картере.
— Ладно, снимай скорее, мне пора ехать.
Парень нажал на кнопку гидравлики и, пока машина опускалась, быстро
протер тряпкой хромированные диски, запылившиеся на смене.
— А это тоже на всякий случай?
— А это для красоты, — сказал парнишка и покраснел. И уши, и лоб, и
шея.
— А сам-то ты откуда, красавец?
— Я вологодский.
— Из деревни?
— Из деревни.
— А что в город подался?
— У нас машин мало, деревня дальняя. А я машины люблю.
— Ремонтировать?
— И ездить умею.
— Учился-то где?
— Учился ездить, — обстоятельно ответил парень, — у себя в деревне, а
права получил в армии.
— Третий класс?
— Второй.
— А чего же пошел в слесаря?
— Да Москва такая путаная, я здесь ездить не смогу.
— А с жильем как?
— В общежитии живу.
— Ну, а зовут?
— Мама Володькой кликала.
— А меня Игорем. Вот мы и знакомы.
Отъезжая с базы, Игорь уже решил, что надавит на Максимыча, чтобы
тот отдал ему в сменщики этого робкого Володьку. «Сначала договорюсь с
Максимычем, — думал Игорь, — потом уломаю мальчишку, чтобы подал
заявление, ну, а потом уж займусь его воспитанием. Сядем где-нибудь для
откровенности за бутылкой. Поговорим. Не век же малому ходить в
мужиках».
Отметить новую должность Владимира решили в ресторане. Обычно
Игорь был против хмельного — это для слабых духом и телом; лично его,
Игоря, бодрить нечего, он и так всегда, как десантник, в состоянии боевой
готовности, не промахнется ни в заработке, ни при встрече с «прекрасной
незнакомкой», — но здесь надолго влезаешь в одну упряжку. Такое дело
надо запомнить, торжественно отпраздновать.
Ни в «Якорь» на улице Горького с его скромной рыбной кухней, ни в
плавучую «Ласточку» возле Каменного моста, ни в роскошную «Россию»
Игорь для празднования торжественного момента Володю не повел. Ему
требовалось что-нибудь истинное, не убивающее внешней роскошью и
имитируемой суетой официантов, нужно было, чтобы сама атмосфера,
привычный и отработанный комфорт, изысканная, неожиданная и плотная
кухня, чтобы они безотказно, как выстрел из духового ружья, действовали
на воображение, демонстрируя на уровне таинства лишь одну его сторону:
ритуал коллективного — да — принятия пищи, по извечной человеческой
традиции связывающий, как обряд, все самые важные моменты
человеческой жизни. Ведь недаром и похороны, и свадьбы, и рождения, и
вселение в новый дом — все это сопровождается совместным вкушением
пищи. Игорь выбрал старинный и вышколенный «Метрополь».
Уже возле входа в ресторан — с улицы, через стеклянные двери, — глядя
на мраморные ступеньки, развесистые канделябры, на старинную
живопись, точнее, на отсветы от богатых рам, на зеркала в тяжелых багетах,
на мрамор, блеск, на бородатого, недвижного швейцара, пылающего
галуном, глядя из-за стеклянной двери на иной, действующий, видимо, по
другим правилам и законам мир, столь отличный от простецкой
деревенской атмосферы, в которой воспитывался он сам, Володя взмолился,
теребя Игоря за рукав:
— Дядя Игорь, а может быть, не пойдем? Может, посидим в пивбаре на
Пресне? Может, и не пустят сюда? Как увидят мою лапотную морду, так и не
пустят. Как узнают они — эти «они» для Володи были олицетворением
людей, живших в блеске искусного хрусталя и мягкости ковров, — как
узнают они, — говорил Володя, — так еще осрамят. Да кто сюда, дядя Игорь,
ходит? — почти хныкал Володя.
— Ходят сюда, Володя, — сказал Игорь, решительно взявшись за
огромную, похожую на скрипичный ключ медную дверную ручку, — ходят
сюда только те, и лишь те, — многозначительно подчеркнул, — у кого
хорошие деньги. А другие не ходят. На валюту ли, на рубли. Запомни это и
не тушуйся и вообще не тушуйся. Со мной, зайчонок, не пропадешь.
Но на пути у Игоря и Володи возникло осложнение. Швейцар. Когда они
поднялись по мраморной лестнице в гардеробную, то стоявший на пороге
служитель сделал навстречу небольшой шаг, вернее, просто потянулся
вперед, как бы преграждая дорогу, но тут Игорь, вызывая в Володе чувство
глубокого восхищения своей умелостью, чуть приостановился и пристально
и внимательно поглядел в глаза швейцару. И швейцар как бы смяк, и уже
ненароком отступил, и пропустил двух непривычных посетителей.
Огромный, как крытый стадион, зал ресторана поразил Володю. Он,
конечно, и раньше знал, как украшают вокзалы, столовые и кафе, но
никогда такого великолепия не видел. Над головою таинственно мерцала
разноцветным стеклом крыша, по бокам зала, мягко подсвеченные снизу,
тянулись колонны, в центре, как бы подчеркивая совсем не комнатные
размеры сооружения, был мраморный фонтан, и его мягкий, ненавязчивый
шепот единым фоном перекрывал отдельные выкрики официантов,
звяканье дорогой посуды и нестройный приглушенный звук шагов.
Такого великолепия Володя еще никогда не видел. Вся эта атмосфера
изысканного, редкостного старинного барства поражала, воочию
демонстрировала несоответствие его скромной зарплаты шофера этому
огромному залу, возможности вкушать здесь пищу, сидеть, слушая
негромкий, как музыка, барственный шумок этого храма веселья, тонких,
неизвестных ему, Володе, отношений, иных слов и жестов.
И Володя снова стушевался: ну куда ему-то с кувшинным рылом в эти
буржуазно-интеллигентские воздуха; как последнее спасение, мелькнула
вящая мысль: рвануть плечом на котором успокаивающе тяжелела рука
Игоря, кинуться в три прыжка мимо бородатого швейцара, мимо
гардеробщиков в галунах с красными набрякшими лицами и — на улицу, на
свежий воздух, где несутся машины, ходят такие же усталые после работы
люди, где шумно, суматошно и где, главное, он, Володя, знает, как ходить,
как спрашивать, во что быть одетым, где, сказать попросту, он знает свои
права и обязанности. Володя был на грани этого сладостного, нелегкого для
него поступка, но рука Игоря настойчиво сдавила плечо, и, словно бы
понимая, что происходит сейчас в душе его маленького товарища, Игорь
тихо, почти на ухо сказал:
— Незадача, Володя, сюда вовсе не пойти. А вот чтобы все эти шестерки,
— Игорь подбородком, взглядом указал на торжественных, одетых в черно-
белую униформу служителей, — чтобы шестерки эти вокруг тебя
крутились, чтобы признали за человека — это, зайчонок, не просто. — И уже
ничуть не волнуясь, не переживая за свой не совсем ресторанный, а скорее
спортивный, но, впрочем, по нынешним меркам вид достаточно солидный и
респектабельный — джинсы, кожаная бельгийская куртка в талию — все
импортное, дорогое, свидетельствующее не только о том, что обладатель
всех этих светских доспехов человек не без денег, а главное, со связями, —
не суетясь, не запуская руку в затылок, не одергивая на себе одежду, а
небрежно и холодно, что дается бывалостью и закалкой, проанализировав
всю свободную наличность мест, сориентировавшись таким образом, чтобы
было безусловно удобно, чтобы не тыкнуться за резервированный столик,
чтобы было видно зал, чтобы рядом со столиком не чадила кухня, не гулял
по ногам сквозняк из гардероба, и сам, чувствуя себя молодцом и умельцем,
Игорь чуть аффектированно сказал Володе:
— Я думаю, мы сядем около фонтана: и людей видно и нам удобно. — И
подошедшему официанту тут же сказал вразумительно и спокойно: —
Надеюсь, эти места свободны?
— Конечно, садитесь, у нас в это время, в пять, почти никого нет.
— Вот и прекрасно. Иногда и мы кончаем так рано, что в вашем храме
еще нет наплыва гостей.
За круглым столиком возле фонтана Володя почувствовал себя
увереннее. В конце концов тарелки обычные, побольше только вилок да
ножей, и стоят фужеры, а так — наверное, Игорь прав — обычный
«Общепит», и потом, они же за все: и за улыбку официанта и за лепетание
фонтана — они же за все заплатят полновесным рабочим рублем; вот и
него, у Володи, резервные полсотни лежат под корочкой паспорта — «нз». А
значит, коли есть материальная независимость, можно расслабиться и не
так переживать. А может быть, по московским нормам так и положено,
чтобы он, Володька, крестьянский сын, хоть изредка заходил в такое
роскошное и уютное место?
Напротив Володи, положив смуглые кисти рук на скатерть, сидел Игорь.
Лицо у него было, как всегда, чуть напряженно, но тем не менее, той
ледяной твердости во взгляде, которую заметил Володя на лестнице, когда
Игорь глядел в глаза швейцару, уже не было. Скорее наоборот, взгляд у
Игоря был теплый, и он с сочувствием смотрел на своего нового друга,
понимая, какое душевное напряжение испытал Володя, прежде чем
оказался в своем удобном полукресле, словно за спасительный якорь,
держась за кромочку круглого стола, накрытого белой, жесткой на ощупь
скатертью. Определенно, в глазах Игоря видел Володя теплоту, от которой,
судя по всему, тот отвык, да и Володя за армейской службой,
неустроенностью первых месяцев, скитаниями по общежитиям, за всей
своей трудной начинающейся мужской жизнью забыл ее, эту ласковую,
всепонимающую теплоту, которая струилась на него из голубых глаз, как из
глаз старшего, всепонимающего брата или отца. И тут у Володи даже
мелькнула мысль, будто он действительно для Игоря становится кем-то
вроде младшего брата или даже сына, и про себя решил, что всегда будет
относиться к сменщику честно и искренне, будет стараться изо всех сил
помогать ему и в гараже и на ремонте делать все, что только сможет, не
считаясь со своим временем и трудом.
Игорь, конечно, по мнению Володи, этого стоил, потому что вытащил его
из однообразной слесарской работы, взял к себе на машину, на ту
должность, о которой, как представлял себе Володя, мечтали многие и
более опытные, знающие и разбитные ребята. Вот только за что свалились
на него эти блага, почему этот прекрасный человек Игорь, умный,
уверенный в себе, самый рачительный из всех, кого Володя только узнал за
свои двадцать два года, остановил на нем свой милостивый взгляд — этого
Володя постигнуть не мог. И тут, пока эти мысли кочевали в сознании до
того, как они выпили по первой рюмке, и начался у них разговор.
Когда два товарища удобно расселись, несколько пообвыкли — это
касалось скорее Володи, — подошел прежний официант и очень
доверительно, по- свойски, и за этой свойскостью, конечно, читалось
стремление побыстрее отделаться от непривычных и, возможно,
беспокойных посетителей, сказал:
— Значит так, ребятки, по салатику, по шашлычку, минеральной
водички, а пить — водочку?..
Лицо у Игоря приняло упрямое и злое выражение, скулы обтянуло. Игорь
взглядом, как фокусник, отодвинул от себя развязно склонившегося
официанта, принудил его стоять собраннее и лишь только после этого
негромким, даже простецким, но в меру внушительным голосом сказал:
— Нет, дорогой, — и взгляд его чуть потеплел, потому что официант уже
стоял с каменным и напряженным лицом, — мы выберем несколько иное
меню, и если вы нам, дружище, — в голосе Игоря не слышалось ликования
оттого, что он так круто отбрил наглеца, — поможете, то мы будем вам
признательны. Начнем, наверное, с меню, — продолжал Игорь, — а впрочем,
может быть, не надо? Мы же не будем есть с тобой, Володя, — взгляд на
товарища, — разносолов. Мы люди с тобой простые, — Игорь чуть
куражился, — шофера, рабочий класс, работяги. Но если нам хочется
гульнуть, мы можем себе это позволить. Итак... — Игорь уже постукивал
пальцами по большой, похожей на почетную грамоту, карте меню. Карту
официант сразу же, при первых признаках несогласия клиентов с его
планами взял с сервировочного столика и подал Игорю, а сам снова застыл с
раскрытым блокнотом. — Мы возьмем, если не возражаете, мой друг,
следующее. Во-первых, конечно, салат. Мы не станем есть скверный салат,
залитый майонезом, где горку вчерашней картошки прикрывают четыре
стружки мяса. Раньше этот салат назывался «оливье», теперь «по-
московски». Мы возьмем салат из овощей: из свежих помидоров и огурцов.
Ведь в таком ресторане, как ваш, дружок, не может весною не быть
помидоров и свежих огурцов?
— Имеем.
— Отлично. Мы люди не гордые, мы попросим у вас помидоров, один
огурец, зеленого лука, тарелку и заправку: немножечко уксусу и
растительного масла. А еще на закуску, — что с нас возьмешь, грубые люди,
шоферюги! — принесите нам селедочку и, пожалуйста, без вашего
дурацкого гарнира. Так, грубо, по-солдатски, без украшений и трали-вали,
но косточки чтобы были вынуты, и к ней — мы, конечно, готовы ждать —
свежесваренную, я подчеркиваю, — продолжал куражиться Игорь, — прямо
с пылу, с жару, в кастрюльке, свежесваренную картошечку. На закуску мы не
будем заказывать ни заливную осетрину, ни буженину — буженина,
конечно, чуть лежалая, и осетрина привяла, потому что все это в
холодильнике со вчерашнего банкета. А попросим мы вас с моим другом
принести нам пару порций лососины, но только в том случае, если она у вас
малосоленая, почти сырая. Есть?! Вот и прекрасно. И к этому, чтобы почти
закончить с закуской, я подчеркиваю «почти», нам нужно всего двести
граммов водочки. Не пол-литра. Ну, вы сами подумайте, налакаемся мы
водки — ни вам от нас удовольствия, ни нам удовольствия от еды и от
беседы, а мы с другом собираемся здесь поговорить по душам. Согласны с
моими доводами?.. Вот и прекрасно. И чтобы нам покончить с закуской, как
шлифовочку под селедку и лососину, вы нам дадите горячие шампиньоны в
сметане. Эдак минут через пятнадцать после картошечки. И сразу же после
шампиньонов можно нести новое блюдо. Конечно, блюдо это должно быть
основательное. Здесь мы на всякие остроумные западные жюльены и
заедки не пойдем. Нам две бараньи отбивные котлеты. Можно и пожирнее,
мы еще молодые, болезней сосудов и гипертонии не наблюдается. Теперь
перейдем к рыбе — мы ведь даем друг другу званый обед, поэтому все
должно быть по-настоящему, хотя дичь мы, наверное, опустим. Итак, рыба.
Вы, товарищ официант, согласитесь с нами, что шашлык из осетрины,
осетрина на вертеле, судак орли, судак по-польски — несколько по-
купечески. Мы останавливаемся на карпе в сметане. Естественно, перед тем,
как карп попадет в сметану, он должен подавать некоторые признаки
жизни.
И в этот момент официант, на лице которого за время монолога Игоря
сменилось много различных выражений, какие тоже были достойны кисти
художника, как бы дернулся, будто хотел вставить в тугую и сладкую, как
нуга, речь Игоря свое замечание. Но Игорь жестом его перебил.
— Нет, нет, я ничего не хочу подумать плохого о вашем заведении.
Свежие, живые карпы у вас, конечно, наличествуют, но я вас прошу, не
делайте для нас цирковых аттракционов. Не подвозите тележку с супницей,
в которой в воде будут бить хвостами представители славного семейства
окуневых. Не заставляйте нас выбирать, тыкать пальцем, тем более, что
потом — мы-то с вами знаем! — вместо выбранного нашим тыканьем
дышащего, бодрого карпа, на кухне вполне могут кинуть на сковородку
заснувшего еще в прошлую декаду. И, конечно, карп требует завершения —
десерта: это как обычно — мороженое, кофе и... счет, и тут мы сердечно
поблагодарим вас за гостеприимство. Но мы не обсудили с вами еще одного
пункта нашего праздничного меню. Вино. Мы. конечно, как шофера, а
выпивший за рулем шофер — не шофер, люди малопьющие, но неужели два
вполне здоровых хлопца, собравшихся на дружескую пирушку, не достойны
доли более значительной, чем двести граммов водчонки?! Что бы вы, к
примеру, порекомендовали к нашему меню двум интуристам из стран с
конвертируемой валютой? К рыбе — белое, к мясу — красное и по рюмке
коньяка на десерт. Вы, конечно, не стали бы навязывать им «мартель»,
«наполеон», либо «кюрасо», вы же знаете, что коньяк для высокого
любителя и знатока определяется не древними медалями, художественно
обработанной сургучом пробкой и коробкой, в которой хранится и бутылка,
и пробка, и божественный напиток. И если иметь в виду лишь одну рюмку
коньяка, как выражение редкостного духа напитка в его самом высоком,
безусловном качестве... вы меня понимаете, вы человек современный и
интеллигентный, — обратился Игорь уже непосредственно к официанту...
Весь этот полуиронический монолог был произнесен именно ему,
холеному и уверенному в себе официанту, хотя Володя и подозревал, что в
известной мере ситуация разыгрывается и для его, Володиного,
образования, как бы в назидание будущим дням Володи. Но последние
слова — и в этом тоже был какой-то особый смысл, еще не схваченный до
конца им, Володей, — Игорь произнес, уже прямо глядя в лицо официанту,
обрамленное косыми мужественными баками, — не на его плечо, не на
черный галстук-бабочку, не в лацканы фрака, а непосредственно в лицо, в
глаза. И от этого слова «вы человек современный и интеллигентный»
прозвучали особенно значительно, наполненные каким-то тайным
смыслом, понятным, пожалуй, лишь официанту, — Володя только сейчас
обратил внимание, что возникла какая-то неуловимая связь между
вальяжно сидящим Игорем и стоящим в подчеркнуто внимательной позе
служителем. Возникла и неожиданно оказалась довольно прочной, то есть
выкованной не только тут, внезапно вспыхнувшей симпатией, а более
глубокой внутренней общностью. Вот так.
— .. . Так вот, если вы меня понимаете, — продолжал дальше Игорь;
теперь он уже говорил, одновременно как бы обращаясь и к Володе, ища в
нем внутренней поддержки и восхищенного зрителя, — то если бы на
нашем месте, у фонтана сидела пара господ, расплачивающихся свободно
конвертируемой валютой, то во имя поддержания вашей профессиональной
чести, славы нашего виноделия, вы не подали бы им ни очень дорогой «КВ»,
ни семизвездочные особые коньяки, ни эти новомодные, вроде «Большого
приза», вы бы поставили две скромных рюмочки — и цена, кстати, средняя
— коньяка «Двин». А раз ваш точный вкус и производственная грамотность
уже подсказали вам «Двин», то выбор вина к нашему обеду — это пустяк,
загадка, которую вы разрешите, как маг, как Эмиль Кио, в одно мгновение
— никаких болгарских и венгерских рислингов, ваш выбор очевиден —
грузинское. И теперь детали: белое — «Цинандали», красное — «Мукузани».
Итак, на этом все. Я прошу смиренно простить меня за велеречивый
монолог, и теперь мы, наш дорогой кормилец, с нетерпением ждем вас
скорее обратно, нагруженного припасами и по-прежнему
доброжелательного и увлеченного своим делом.
Как только ухмыляющийся развеселившийся официант бодрой упругой
рысью отошел от стола друзей, Володя, уже несколько свыкнувшийся с
обстановкой, спросил:
— Игорь Савельевич, а почему вначале, когда вы стали говорить,
официант был весь сам не свой, я думал, он нас покусает, а в конце он уже
разулыбался?
— Если говорить по существу, по-солдатски прямо, мы заказ сделали с
тобой ничего, на хорошую сумму, значит, он свое с нас возьмет, заработает,
и, главное, он понял, что мы такие же, как и он, справные мужики, не
фланеры, не фуфло, которые забрели случайно, не мелкие пижоны с
пятеркой в кармане, не киряльщики, у которых душа так пылает скорее
выпить, что им все равно, куда ворваться, а мы сюда явились, потому что
знаем, что здесь лучше всего в Москве поят и кормят, и не куражимся, а
просто требуем своего и своего не упустим. Он понял, что на дурика, за
здорово живешь, чаевых он не схлопочет, но если хорошо потопает,
попотеет, чтобы нас душевно обслужить, то ему соответственно откинут,
обязательно откинут! Он сориентировался, а справный мужик цену копейке
знает, за ней надо и побегать и покланяться.
— А что же такое «справный мужик»?
— Я тебе потом объясню. Вот я справный, официант справный, ты, если
будешь слушаться, станешь справным: который мужик пьет, который
зарплату пропивает — это не мужик. Но и который в получку за полмесяца
жене приносит шестьдесят рублей и каждый день берет у нее на метро и
пачку «Примы» — тоже не мужик. Ты думаешь, этот официант приехал на
работу на автобусе? У него где-нибудь за два квартала отсюда стоят
собственные «Жигули». Только он к подъезду на них не подъезжает, чтобы
глаза не мозолить! Ему не важно казаться, важно быть. Справный мужик —
это мужик, который умеет жить... Но только подробно я тебе потом
объясню.
Тем временем официант вернулся с подносом и стал расставлять
кушанья. Делал он все легко, быстро, и Володю смущало только то, что в
общем-то этой женской работой занимается здоровый парняга. А парняга
этот, расторопный официант, был действительно завидный. Широк в
плечах, рослый, руки сильные, волосатые, мускулистые, а посмотреть на
лицо — и симпатичный, голубоглазый, подбородок волевой, чем-то даже
парняга этот был похож на знаменитого актера Тихонова, игравшего
Штирлица. Теперь, после рассказов Игоря, на этого официанта Володя уже
смотрел несколько подозрительно. Но «подозрительным» парень ничем не
выделялся, лишь на сильной и крупной в запястье руке блестят — Володя
уже видел такие, знает — дорогие, на тяжелом браслете, заграничные часы.
Но какой же прекрасный стол накрыли эти «подозрительные» руки!
Потрудился парень на славу и всерьез: никакой скидки на простецкость
клиентов. Выстроились ряды вилок и ножей, перед каждым прибором
встала шеренга бокалов и рюмок. Тарелки закусочные, тарелки поддонные,
тарелки для хлеба — сервировка по первому дипломатическому классу,
будто премьер-министр английской королевы пригласил на ужин лидера
оппозиции. И среди фирменного фарфора, хрусталя, мельхиора,
накрахмаленного полотна цвел редкой красоты гастрономический
натюрморт. Было даже неловко и неуважительно к чужому труду начинать
рушить эту мастерскую композицию, где яркие тона овощей соседствовали
с пастельными лососины, с жемчужными селедочных спинок и мерцала
почти прозрачная сангина сливочного масла, лежащего на кубиках льда.
Официанту, увлеченному делом, видимо, и самому было грустно
расставаться с этим произведением искусства, которое создал. Он долго
крутился, поправляя то салфетку, то накидывая веточку укропа на блюдо, и
наконец, как бы нанося на картину последний штрих, снял с серебряной
кастрюльки с картошкой крышку. Волна сухого и аппетитного пара на
мгновение поднялась над столом — «пустые», холодные углы натюрморта
на миг затянуло дорогой, под старинных мастеров, патиной — все, картина
закончена.
— Давайте, ребята, — совсем по-свойски сказал официант, — рубайте,
счастливо вам провести время, справляйте...
Как и всегда, после первой рюмки, выпитой за знакомство и дружбу, за
столом попримолкли и слышалось лишь звяканье вилок и ножей, — пища
была вкусная, аппетитная. Ну, а потом, когда поутолили голод, стал Володя
спрашивать у Игоря, а тот ему отвечать про ресторанный обычай: какой
вилкой что есть и как обращаться с хлебом; оказывается, не ломать его,
кусками на скатерть не класть, а для этого есть специальная тарелочка.
Много интересного и совершенно для Володи неожиданного рассказал
здесь Игорь, он и в дальнейшем натаскивал и в быту, и на работе, и в жизни
своего младшего товарища, как младшего братишку, — так много
занимательного рассказал, что Володя даже не вытерпел:
— И откуда вы, Игорь Савельевич, про все знаете?
— И ты, Володя, узнаешь, если будешь правильно жить, а сейчас выпьем
давай за главное. Завтра ты впервые приступаешь к новой работе. Это не
обычная шоферская работа, и возможности здесь иные. Все, что связано с
обслуживанием машины, с вождением, — этому я тебя учить не стану. Ты и
сам знаешь и должен знать. Завтра в твой первый рабочий день я тоже
выйду на линию. Покажу тебе маршруты, по которым приходится ездить, а
уже со следующей смены — ты один. Старайся, Володя, все делать честно,
добросовестно, но иллюзии, всякие фантазии тебя не должны уводить в
сторону. Каждому — по труду: запомни это твердо. Помочь каждому надо,
но смотри, чтобы тебе не сели на шею. В жизни есть много интересного,
заслуживающего внимания, но без денег, без знакомств ты ничего не
достанешь. Копейку надо уметь делать и сохранять. Чужую не бери, но и то,
что можешь заработать, урвать, — от этого не отказывайся. Помни, Володя,
что начинается твой жизненный путь, тебе надо одеться, устроиться с
хатой, потом создать семью.
— Дядя Игорь, — перебил Володя, — а вы-то женаты?
— Нет. Не перебивай. Пока нет. У меня это запланировано года через три-
четыре. И ты должен жить по плану, так, чтобы суметь от жизни схватить
кейф: живем-то действительно один раз, и прожить надо, чтобы все
посмотреть, постараться почувствовать себя и барином и мужиком, понять,
как живут люди, постараться иметь все, чтобы никому не завидовать,
«чтобы не было мучительно больно»... Не быть олухом. Есть, конечно, такие,
которые по три высших образования схватили, а все это им и не нужно, не
знают, куда убить время, и специалистами хорошими не стали, а хвастают
перед соседями своими корочками. А настоящий мужчина должен все
делать рационально, никакой лирики, как в пекарне: должен быть выход
продукции — и приварок. Ну, ты, может быть, меня и не до конца понял, но
добра я тебе желаю искренне. Со временем разберешься, и что сейчас не
ухватил — досоображаешь. Жизнь, она, как пешеходный переход, как зебра
— полосами идет. А сейчас помни, Володя, у тебя хорошая полоса. Выпьем,
за твое здоровье.
В этот вечер, смакуя вино, шоферы, как и всегда в России за столом,
много говорили о работе. То есть они, собственно, весь вечер переговорили
о работе, но, как всегда, пересказать этот разговор почти невозможно,
потому что здесь шли волнующие воспоминания о сложных ситуациях на
дорогах, об не вовремя спустивших баллонах, о карбюраторах, трагически
портящихся в критические моменты, об узлах, системах, о сортах масла, о
нагаре на поршнях, о зазоре на кулачках, о давлении в тормозной системе, и
о многом таком, о чем помыслить может или шофер, или автолюбитель. Но
за этой технической мозаикой один эпизод заслуживает внимания.
Когда официант подошел, чтобы подать очередную перемену, Игорь
снова уловил восхищенный и заинтересованный взгляд, которым Володя
смотрел на импортные часы. И тогда, чтобы сделать пареньку приятное,
удовлетворить его любопытство, а может быть, имея в виду особые
педагогические цели, Игорь спросил у официанта:
— Мой товарищ интересуется, какой у тебя марки часы?
— «Сейка», Япония, — ответил официант безо всякого вызова, отодвинув
рукав на запястье, чтобы часы были лучше видны.
— Справные часы, — подтвердил Игорь. — Фирма! На всю жизнь.
— Это верно, друг. И классное они мне показывают время.
2. СПРАВНЫЙ
МУЖИК
Игорь не любил автомобилей, хотя относился к ним расчетливо-
преданно, как жокей-профессионал относится к лошади: холит ее и балует в
надежде когда-нибудь выиграть на ней приз. Но машину Игорь знал
хорошо. Когда-то, в ту пору он еще только впервые сел за руль такси, он
потратил много времени и сначала в теории, по книгам, а потом и на
практике со слесарями, которым часто, как они считали, по доброте
душевной, помогал на ремонте, беря на себя самую черную работу, — со
слесарями этими вызубрил он машину наизусть, приобрел тот автоматизм
в поисках неисправности и в ее устранении, который и свидетельствовал о
высшем, безукоризненном профессионализме. Зато теперь такой фактор,
как возможная поломка, внезапный сбой в механизме, он почти не
принимал во внимание, когда, получив машину на два-три часа в
собственное распоряжение, стремительно бросал ее, загрузив
подвернувшимися пассажирами, во Внуково, в Шереметьево или в
Домодедово. Учитывая лимит времени — только-только туда и обратно, —
если машина по дороге портилась, он почти всегда успевал, подкрутив,
поддув или заменив что надо, подать машину любившему точность шефу.
Игорь считал, что все их взаимоотношения с шефом держатся на точности.
Если шеф, Юрий Викторович, сказал, что машина нужна ему в три, значит,
без двух минут три Игорь уже стоит у подъезда. Шефа не волнует, где Игорь
пропадал два часа до трех, но зато так же не беспокоит, как и на чем Игорь
добирается из гаража, если лишь в час ночи после срочной работы будет
возвращаться домой. Но такой порядок Игоря устраивал. Машина
практически в его распоряжении. Он и гонял ее в хвост и в гриву. И в те
моменты, когда возникали «осечки», он предпочитал ни во что шефа не
ввязывать. Один раз был такой случай. Юрий Викторович приехал на
работу. Игоря отпустил. Тот предпринял небезвыгодный дальний рейс в
новый район. Когда по пути, на ухабах экспериментального квартала,
расклинило передний мост и рядом не оказалось ни одного телефона, чтоб
хотя бы предупредить секретаршу Юрия Викторовича, Игорь предпочел,
предварительно заперев машину, на такси приехать к министерству и на
этом же такси —за свой, конечно, счет, отвезти Юрия Викторовича обедать,
нежели вызвать в том неудовольствие собственным либерализмом,
дескать, если ты, голубчик, в свободное время ломаешь автомобиль, то стой,
голубчик, до потери сознания у подъезда конторы.
Игорь не брезговал ни часом, ни пятнадцатью минутами «вольной
жизни». Снайпер, стрелок с мгновенной реакцией и точными, выверенными
решениями. За деньги, за рубли надо и попотеть. Он и потел, иной раз до
седьмого пота. И это был — Игорь работал через день — каторжный труд. А
ведь все время надо было сохранять доброжелательный вид и атмосферу
барственной любезности — я вам, милые москвичи, оказываю любезность,
подвожу вас к вокзалу или в аэропорт, а уж ваше дело подумать, как
отблагодарить радивого шофера. Нет, нет, Игорь никогда не вымогал: разве
любезность требует какой-либо благодарности? Но его благодарили. Он
был физиономист, психолог. Он соображал, каким клиентам и не
«подворачиваться» с услугами. Но в конечном счете знал: разве он
зарабатывает меньше, чем его шеф, перед которым ему приходится
открывать дверцу? Разве он меньше него вкушает от прекрасного древа
жизни? Только шеф прикован к своей лямке, к своему «долгу» по
двенадцать часов в сутки, приезжает на работу в субботу, стареет в
пыльных коврах представительского кабинета, а он, Игорь, гробится только
через день, и то даже тут не шеф, а он, Игорь, хозяин положения, потому что
терпит все и сносит, чтобы работать на себя, чтобы жить весело и достойно,
с юности страхуя свое здоровьишко от излишних стрессов, чтобы
чувствовать течение жизни и счастье так, как шефу и не снилось. Чтобы
иметь потом сильных и здоровых детей, вырастить их и суметь дать им
перед выходом в жизнь хороший материальный импульс, чтобы им-то не
пришлось... Игорь считал, что он живет правильно. И эту свою заслугу видел
в главном: он вовремя определился.
В том, как сложился его характер, не следует искать социальных корней,
потому что из той послевоенной скученности, где рос он, из того же дома, из
тех же квартир, вышло много людей достойных, соединивших свою судьбу с
глубокой преданностью делу, для которых понятие совести в ее глобальном
значении не являлось незнакомым.
Наш спортсмен, снайпер не всегда был таким. Не всегда в глазах
ближайшего окружения он был в ореоле. Его авторитет теплился скорее на
скамье запасных, нежели в первой шеренге нападающих. Во дворе и в доме,
полном такой же суровой послевоенной безотцовщины, Игорь не был
лидером. Никогда не становилось решающим его мнение, идти ли купаться,
играть ли в лапту или в казаки-разбойники, а в школе его никогда не
выбирали даже звеньевым, даже в редколлегию классной стенной газеты.
Во дворе верховодили Абдулл, Сенька Воронов, Петька Гуманюк, в школе —
Венька Романский, Зойка Телегина. Это были прирожденные лидеры,
недаром Сенька стал потом прославленным бригадиром строительных
комплексов, Абдулл в двадцать девять судился как руководитель и атаман
банды и сгинул на большие сроки. Венька стал дипломатом, Зойка — в
двадцать семь — доктором наук. Это был прекрасный, личностный двор и
дом, населенный будущими гениями. В этом смысле Игорь с трудом
вписывался в собственную компанию.
Маленький, купеческий особнячок стоял в Замоскворечье на границе
довоенного, но все же нового квартала. В особнячке, в комнатах,
выгороженных из бывших гостиных и парадных спален, жили дворничихи,
медсестры, швеи из ателье, уборщицы, истопницы (уже появились первые
мусоропроводы, но почти не было теплоэлектроцентралей, котельные
существовали при каждом доме), жила аристократия — паспортистка,
официантка из «Астории» и техник-геодезист — мать Веньки Романского и
его сестры Татьяны. Все женщины одинокие, несчастные, с детьми, которые
при своей безотцовщине не чувствовали себя обойденными и задавали тон
среди сверстников улицы. И в этой жизнерадостной и талантливой бригаде
ущемленным чувствовал себя лишь Игорь. Не было в нем золотого огонька.
И если из вчера посмотреть на Игоря сегодня, то он, безусловно, как
принято говорить в интеллигентных кругах сейчас, — «человек, сделавший
себя сам».
Уже с девятого класса, особнячковая молодежь объединилась в
небольшой кружок, куда посторонние допускались с большим разбором.
Собирались обычно у Веньки Романского.
Это была прекрасная комната. В бывшем купеческом, с двумя рядами
окон зале когда-то поверху шел большой фриз из античной жизни. Мчались
короткогривые кони, запряженные в колесницы. Витали легконогие
богини, могучие кентавры похищали прекрасных женщин у ожесточенных
лапифов. Вмешивались в их битву копьеносцы, одетые в короткие панцири
и поножи. Потом, в войну, когда народу жить было негде, высокий зал
разгородили на два этажа, поставив перекрытия. И уж в каждом этаже
повыгородили комнат, коридорчиков и комнатушек. Так, мчавшиеся когда-
то под потолком кони оказались рядом с людьми.
Игорь хотя и был посвященным, как свой, особнячковый, но не являлся
жрецом, первосвященником. Хозяином положения, как и хозяином
комнаты, лидером был Венька Романский. С тщательно подавляемым
чувством зависти Игорь обычно сидел на огромном кованом сундуке —
деревенское наследство Венькиной матери — геодезистки, по своей
полевой геодезической компанейскости, позволявшей Веньке и его сестре
Татьяне все: и собирать до любого часа гостей, и приглашать к себе кого им
вздумается, и ездить в походы с субботы на воскресенье, и оставлять
ночевать, на полу, на старой железнодорожной шинельке, принадлежавшей
погибшему в войну отцу, своих гостей, а утром, несмотря на бескормицу и
трудности с продуктами, — поить чаем с хлебом и сахаром и ставить на стол
огромную сковородку картошки, жаренной на хлопковом или кукурузном
масле.
Вечерами, сидя на могучем фамильном сундуке, на стульях, обтирая
худыми спинами античных коней, в маленькой комнате говорили
категорично и небрежно, а в десятом классе говорили уже свободно и
раскованно, и староста класса Алексей-граф — так прозывали парнишку с
соседней улицы за легкую походку и подтянутое породистое тело —
Алексей-граф, философствуя, почему-то не сводил взгляда с Татьяны, он,
Игорь, тоже не сводил с нее взгляда, но Игорь был как бы вне игры, как его
слова и высказывания, его взгляд не принимался всерьез. И если Алексей-
граф изредка получал, как мячик в теннисе, свой же взгляд, только
согретый в глазах Татьяны, обратно, то Игорь — никогда. Никто не замечал,
когда он входил в комнату или выходил, и если его не было вечером, то
общий разговор не становился ни скучнее, ни интереснее. Он был свой, его
терпели и даже, наверное, любили как товарища детских игр, свидетеля и
участника общей многотрудной жизни, но он был никаким, ему еще
предстояло кем-то стать, удивить, а быть может, и восхитить своих друзей,
его слова, его поступки еще не были освещены неповторимостью его, Игоря,
личности. Он только завидовал Алексею-графу, Веньке Романскому, их
врожденному умению каждым своим словом, даже незначительным,
приковывать к себе внимание, становиться, совершенно того не желая, в
центре споров и мнений, И еще в такие вечера Игорь страстно мечтал взять
у этой компании хоть когда-нибудь, хоть в чем-нибудь реванш, чтобы хоть
раз Татьяна взглянула на него так же, как изредка глядела на Алексея-
графа.
После окончания десятого класса Игорь в институт не попал. Его взяли в
армию, и тут, по пути в часть, в вагоне, набитом такими же, как и он,
стриженными под нулевку угловатыми новобранцами, глядя в окно на
пейзажи, размываемые сухими слезами отчаяния и зависти, весь
напряженный от несправедливости жизни, поклялся себе взять этот
реванш. И даже свою солдатскую долю он должен превратить в победу и в
армии не должен потратить ни минуты даром. И тут же он составил себе
план: а) использовать службу для своего физического развития; б) получить
специальность, которая пригодилась бы ему на «гражданке».
План свой он выполнил.
Игорь оказался учеником шофера. Батальон не видел лучшего солдата.
Солдат знал или старался узнать все; он был первым в строевой подготовке,
лучше всех бежал кросс, чище всех драил автомат, яснее всех представлял
себе материальную часть автомобиля, точнее всех усвоил правила уличного
движения, был неколебимого здоровья, редкого оптимизма и
неиссякаемого веселья. Солдат взял все, что возможно, за год пребывания в
батальоне: московский худосочный паренек вымахал в гладкого молодца.
Стоячий воротничок обхватывал сильную, загорелую шею, лопалась по
швам гимнастерка на плечах, и только широкий солдатский ремень по-
прежнему стягивал тонкую мальчишескую талию. Это была надежда
батальонного начальства, золотой фонд, но пока начальство было занято,
куда же красавца распределить, какое осчастливить подразделение,
красавец внезапно заболел. Глядя на эти необъятные плечи, накачанные на
турнике и напитанные сытным солдатским приварком, глядя на сильные
кисти рук, на лицо, пышущее весенним румянцем, разве кто-нибудь мог
предположить, что чудо-богатырь начал хиреть, что его подтачивает
серьезный и совсем не юношеский недуг? На следующий день после
получения водительских прав Игорь сказал сержанту: «Ты меня больше не
тереби, я скоро демобилизуюсь».
Задолго до роковой фразы, поведавшей сержанту, что тот может не
рассчитывать на доблестного шофера, не одну ночь под солдатским
одеялом провел Игорь, обдумывая свои виды на жизнь.
Пока Алексей-граф демонстрирует перед Татьяной свою независимую
раскованную походку, шепчет ей на ушко теплые слова, пока сама Татьяна,
граф, Венька зубами грызут гранит институтской науки, он, Игорь, служит.
Золотые выходные дни в увольнении Игорь проводил в городской
библиотеке, радуясь, что десятилетка в принципе не прокатилась для него
даром: если и не втолкнула она его, сердечная, в институт, то научила, где и
что посмотреть. Он начал со «Справочника практического врача».
Медленно, нащупывая основные узлы своего будущего лелеемого
«заболевания», колеблясь и обстреливая зорким снайперским взглядом то
«Медицинскую энциклопедию», то «Домоводство» с его медицинским
разделом, постепенно расширял он круг специального чтения, доводя его до
монографий и научных журналов.
В госпитале он сразу понял, что с лечащим врачом, милой и доброй
женщиной-подполковником, у него установился контакт. Она вызвала его в
свой кабинет в пять часов. Она смотрела в его честные глаза. Вместе с ним
сокрушалась о его, Игоря, подточенном здоровье, которое вот мешает
парню, рвущемуся отдать свой гражданский долг в рядах армии, по-
настоящему служить... Когда хотел, Игорь был мудрым и точным
психологом.
Может быть, он напоминал ей погибшего сына? Или друга, исчезнувшего
на войне? Что-то произошло, когда подполковник медицинской службы
Анна Григорьевна взглянула в глаза солдата. Может быть, именно поэтому
она чего-то в последующем недоглядела? Но когда Игорь увидел эту
мерцающую вспышку сожаления и острой боли, он как-то сам поверил, что
ему стыдно не служить, как все ребята, и что, проделав вместе с ротой
марш-бросок, он думал, будто умрет.
— Ну, что вы, вам еще надо жить. Ничего страшного нет. Здоровье мы
вам подправим.
— Мне стыдно, доктор, все как люди, а я... На марш-броске или сержант,
или ребята всегда мой противогаз забирают, несут.
Игорь точно и ненавязчиво подавал детали из монографии. С
трогательно открытой шеей, в нелепой серой пижаме, подчеркивавшей
беззащитность его юношеского облика, он казался, несмотря на все свои
стенания о службе, таким штатским, домашним, случайным в жизни,
выверенной строгим армейским распорядком. Наверно, таким же казался
Анне Григорьевне ее далекий, как предполагал Игорь, знакомый, а может
быть, и сын на суровой и безжалостной войне. И опять ее глаза замерцали
сочувствием и, может быть, допуская неискренность Игоря, она ничего не
смогла с собою поделать, взглянуть на происходящее критически, и
принялась по-женски и матерински успокаивать и уговаривать солдатика.
Потом она долго слушала и стучала согнутой в ладони рукой по его
широкой грудной клетке, и, глядя сверху вниз на ее серые от седины, чуть
подкрашенные у висков волосы, на ее лицо, Игорь старался определить, что
же «тревожного» чувствует она в его организме. В этот момент ему даже
хотелось, чтобы это тревожное, пусть и непоправимое, в его организме
действительно нашлось. Невыносимо было думать, что по улице большого
города ходит и близоруко щурится на весеннее солнышко Татьяна, каждый
день звонит, а может быть, и встречается с ней Алексей-граф, и все они, его
сверстники, торопятся взять от жизни главное, разобрать все, что только
может она дать. Хотелось скорее встать в другой строй, чтобы в нем, в
яростной атаке, штурмовать будущую и обязательно прекрасную жизнь.
Старые друзья, вся их прежняя компания обрадовались появлению
Игоря. Венька даже собрал вечеринку. Все сидели на сундуке под конями и
греческими колесницами, пили сухое вино, играла музыка, и отдельные
пары танцевали. Вначале все радовались, что он снова с ними,
демобилизовался из армии, что перед ним открываются некие
возможности, а потом все его забыли, занялись друг другом, пошли иные,
часто непонятные Игорю разговоры, и лишь Татьяна, танцуя с Алексеем,
нет да нет бросала ему одобряющий, дружеский взгляд. Она стеснялась
своих очков, поэтому, почти наугад взглянув на Игоря и улыбнувшись ему,
на мгновение левой рукой прикладывала очки к глазам, как лорнет, лицо ее,
розовея от смущения, делалось прекрасным. За год, что Игорь не видел
Татьяну, она почти не изменилась, но вокруг нее возникла атмосфера
духовного преимущества, трепетного обожания, при которой не только
обидеть ее, но даже покуситься на обиду было невозможно, потому что по
какому-то негласному уговору компании право выбора и его преимущества
были за Татьяной. А она выбрала Алексея-графа. И когда ее рука лежала,
вернее, касалась плеча Алексея, это была не только награда ему за
многолетнюю верность, но одновременно и все награждались
возможностью видеть этот говорящий женственный излом руки и
медленный румянец, охватывающий ее щеки и шею, когда она снимала
очки на металлической дужке, чтобы высвободить из-под стекла
торжественный и настойчивый блеск голубых глаз. Это внимание Татьяны
к Алексею больше всего ранило Игоря. Оно как бы подчеркивало его, Игоря,
несостоятельность и те, пусть и немалые права детской дружбы, но, видимо,
единственные, дающие ему возможность быть здесь, в компании, которая
обогнала его, появились какие-то новые, уже не связанные с ним интересы,
и теперь лишь снисходит к нему, изредка дарит ему дружеский взгляд
Татьяна, по праву и, видимо, по любви выстраданный и принадлежащий
Алексею. А ему, Игорю, чужого не надо. Он еще возьмет свое, а, если нужно, и
отберет.
В конце вечера произошел незначительный эпизод. Когда все было уже
допито и пять-шесть традиционных бутербродов уничтожены, когда
компания устала и энергия теплилась лишь в последних напряжениях
споров, казавшихся им тогда умными и интеллектуальными, Татьяна
занялась чаем, Все, кроме Игоря, сгрудились, совсем продавив маленький
диванчик, и фантазировали, перебивая друг друга, в поисках какой-то
модной тогда литературной истины. Но Игорю все это было неинтересно.
Он не мог понять, почему же все не разделяют его удивительной радости,
почему все не могут оценить, как он был терпелив и мужествен, чтобы
воссоединиться с ними, с его друзьями, а они поздравили его и уткнулись в
свои дела. Где же здесь справедливость? И еще Татьяна улыбается не ему!
Неужели она-то не понимает, что он ехал к ней?! Ехал, чтобы стать таким
же, как она, как Алексей-граф и ее брат Венька. Даже ее светлая душа не
поняла его.
И в тот момент, в момент сумеречных и тяжелых раздумий, которые
Игорь вел под поднятым копьем греческого воина, Венька, стремящийся на
правах хозяина все замечать, подошел к своему засмурневшему другу и,
видимо, догадавшись о его состоянии и по сложившемуся стереотипу зная,
чем выводить Игоря из раздумий, нарочито грубовато сказал:
— Ты бы, вместо того чтобы стенку подпирать, Татьяну бы потанцевать
позвал, а то видишь, она мается с чаем.
Копье просвистело возле виска.
— Я устал, танцы — это уже не мой возраст, — ответил Игорь и тут же
ушел из комнаты и с горечью подумал, что его ухода никто не заметил.
В ту ночь Игорю снился тяжелый сон. Ему снилось, что в шеренге
знакомых греков он бежит по какой-то слабо освещенной каменной
пустыне. Они бегут один за другим, тяжело дыша в затылок бегущего
впереди. Все они одеты в короткие туники, шлемы, легкие латы и
металлические поножи. Всю пустынную местность заливает холодный
красноватый свет, струящийся навстречу то ли от еще не взошедшего над
горизонтом, то ли уже закатного солнца. И в этом кровавом свете Игорь
видит, что бесконечное пространство, которое они пересекают, завалено
осколками шлемов, мечей, смятыми автомобильными фарами,
продавленными сиденьями, отдельными автомобильными дверками.
Навстречу попадаются снесенные с шасси кузова «Москвичей»,
«Запорожцев» и «Жигулей». Потом плоскость как бы подвысилась, и опять
вперемежку с древнегреческими колесницами, так хорошо Игорю
известными по Венькиной квартире, с дышлами повозок, круглыми,
обтянутыми красной кожей щитами и поломанными, как стебли,
дротиками, замелькал всякий современный, но еще ценный мусор, мешки с
цементом, штабеля кирпичей, пластмассовые секции от устаревших
холодильников. Все это во сне Игорь удивительно отчетливо и конкретно
фиксировал и одновременно думал, что он очень устал вот так мерно и
безнадежно пересекать без ясной цели пустынное пространство. На какой
леший убивать ему его золотую молодость с этими мифологическими
греками? А если немножко приотстать, то из всего этого попадающегося на
глаза хлама при его сноровке можно сделать что-нибудь ценное,
попытаться, например, собрать автомобиль и на нем обогнать всю эту
древнюю компанию или сложить себе прекрасный особнячок с балконом,
разбить сад и в этом уюте покейфовать. И когда во сне мысль эта пришла,
он сейчас же выпустил из рук тяжелый дротик, потом неприметно бросил
щит и постепенно стал от строя отставать. И тут же, забыв о своих недавних
товарищах, он с удивительной энергией заметался по окружающему
пространству, принялся выворачивать из красноватой почвы какие-то
плиты, балки, камни, громоздить их друг на друга, и постепенно из этой
кучи, которую он накидал, стал вырисовываться контур фантастической
башни, похожей на шахматную туру. В одно мгновение Игорь оказался на ее
вершине и оттуда, с высоты, бросил взгляд на окружающую местность.
Красная долина, заваленная обломками всех эпох, простиралась — все
эти предметы не меняли своего масштаба, а как бы под увеличительным
стеклом гляделись отчетливо и крупно на любом расстоянии, —
простиралась до самого горизонта. На небе не было облаков, птиц, ветер не
шелестел над головой, все было тихо и мертво, и только на расстоянии
выпущенной с башни стрелы виднелась все так же пересекающая эту
страшную долину жизни и смерти группка бегущих людей. Левой рукой
каждый прижимал к груди щит, а правой, напряженной и готовой к резкому
движению, дротик. Их бег был размерен, мучителен и тяжел. И вдруг Игорю
удивительно остро, непреодолимо захотелось бежать вместе со своими
бывшими товарищами. Вот так же, из последних сил нести дротик и тяжело
дышать, удерживая заданный темп. Надо скорее вниз, догонять товарищей
и вместе с ними вперед, вперед по красной долине. Немедленно! Игорь во
сне почувствовал, как от этого решения скорее забилось сердце.
Немедленно! И он сделал огромный прыжок к лестнице. И этого прыжка
башня не выдержала. Она зашаталась, и внезапно бетонные плиты,
перекрытия, огромные тесаные камни, лестничные марши, вырубленные из
целых глыб, все снова обрело первозданную свободу и стало рушиться. Он,
Игорь, оказался где-то внизу на земле и со всей ужасающей очевидностью
следил, как очень плавно, словно при замедленных съемках в кино, валятся
на него обломки металла и камня. Дышать становится все труднее и
труднее, он хрипит, задыхается — в этот момент открывает глаза.
.. . Свесив ноги с кровати, закутавшись в одеяло, как больной, Игорь долго
в то утро сидел на постели. Что же делать? Как жить дальше? И постепенно,
ожесточаясь все больше, Игорь принимает решение. Он тоже справится со
своими житейскими проблемами. О, упорства, настойчивости ему не
занимать.
Он встретился с Татьяной через шесть лет, когда уже работал в такси.
Это было в июле. Город изнемогал от жары, и пока машина Игоря
пробиралась по улицам, залитым горящим маревом, казалось, что шины
прилипают к асфальту.
Как всегда зорко поглядывая по сторонам, чтобы не пропустить своего
клиента: узбека с тяжелым ковром на плече; подвыпившего
командировочного; молоденькую актрису, опаздывающую на киносъемку,
— этой все равно, она еще не знает настоящую цену деньгам; огромную
кепку и разлет кавказских усиков, прихвативших отчаянную мини-юбку:
скромно одетого воркутинца, набитого аккредитивами, — «пиджака». По-
снайперски оглядываясь по сторонам, Игорь, словно тяжелый танк между
баррикадами, тянул свою машину вдоль бровки пешеходной дорожки.
Тротуар был заставлен ларьками с молочными продуктами, ящиками со
свежей черешней и ранними помидорами, прилавками с дешевой
галантереей, распространительницами театральных билетов, сидящими
под зонтами за раскладными столиками, и отчаянно забит густой летней
толпой.
Время было около двух.
Он увидел Татьяну в открытом дешевом сарафанчике. Руку ее
оттягивала тяжелая авоська, набитая не очищенными от густой смазки
банками с тушенкой. «Значит, живет на даче, не хочет возиться с мясом», —
подумал Игорь и, обрадовавшись, весело и звонко, на всю улицу закричал:
— Та-тья -на!
Перекинув авоську из правой руки в левую, Татьяна, близоруко озираясь,
встретилась взглядом с уже притормозившим и выбравшимся из машины
Игорем.
— Игорь!
Они бросились друг к другу, будто не виделись двадцать лет.
— Игорь, милый, как рада тебя видеть! Куда же ты пропал?
Казалось, жаркий, наполненный суетливым бытом мир исчез, ушел, как в
кино, в затемнение. Игорь отчетливо услышал, как бьется его сердце. Полно,
мощно и нетерпеливо.
— Я увидел тебя случайно. Еду и вдруг вижу: Танька. Идем в машину, я
тебя подвезу.
— Ты теперь работаешь в такси?
— Это целая история...
— Ты исчез так внезапно.
— Да вы, наверное, обо мне и не вспомнили.
Машина уже мчалась по городу.
— Мы живем с Алексеем в нашем старом доме.
— Его роскошная родня не пустила вас в свои хоромы?
— У них сложившийся быт, и они большие люди. Но мы получим
квартиру.
— Тебе надо еще на работу?
— Нет, я в отпуске. Завтра уезжаю в Анапу. Алексей уже там, с ребенком.
Делаю закупки. Мужиков надо кормить.
— У вас один?
— Мальчик. Сережа.
— Алексей стал примерным папашей?
— Да. Он скоро защитится.
— А я, как видишь, в такси...
— Ты помолодел. Успел загореть, и тебе идет голубая рубашка.
Татьяна протянула руку, коснулась запястья Игоря, лежащего на руле, и
отдернула руку, стесняясь поломанных ногтей со стертым маникюром.
Игорь повернул голову и ласково, чуть улыбаясь, посмотрел на нее. И
сразу же от взволновавшего его момента их встречи ничего не осталось. А
ведь когда-то он любил эту женщину. Как быстро она постарела! Нет, сейчас
у него девочки лучше. Вышколенный жизнью, он и виду не подал, что эта
встреча его разочаровала. Снайпер должен уметь маскироваться среди
ландшафта. Его голубые глаза по-прежнему излучали тепло и радость. И
только он знал, что это имитация. Под глазами у Татьяны серые тени, чуть
отвис подбородок и через пополневшую шею легла складка: видимо, голова
часто сгибалась — над книгами, над тазиком с бельем для малыша, над
доской, на которой надо было резать лук. Танечка, ослепительная Танечка,
королева большой умной компании, в которой он, Игорек, был так, сбоку
припека, так сказать, по территориальному признаку, Танечка, тебе очень
тяжело дается твоя счастливая, интеллигентная и размеренная жизнь.
Бедный, умненький птенчик со школьной моралью и незнанием настоящей
жизни, расхлебывать тебе придется за всех: за выхоленный аристократизм
Алексея, за детское лидерство Веньки. Он постарается. Он накажет ее так,
что всю жизнь ей будет тошно от ее чистенькой морали. Безжалостно
накажет, так сказать, в память «неразделенной любви». И пусть тогда она
расскажет об этом мужу. Но только надо быть пока осторожным. В
обязанности снайпера входит умение маскироваться на местности...
— А как Венька, Танюша, как братец?
— Веня женился. Закончил аспирантуру. Сейчас преподает физику на
Кубе в университете...
— Сколотил диссертацию?
— Нет, не получилось. Все оказалось не так просто, — как бы извиняясь,
сказала Татьяна.
.. . Бедный птенчик, как он, Игорь, боится, что этому птенчику выпало
рассчитываться за всех. И он почувствовал, как прежняя и долго
скрываемая обида поднялась в его душе. Что ж, может быть, близится одна
из минут его торжества? Может быть... Он своего не упустит. Мы всё брали
по
́
том, нам ничего родители не подарили при рождении. И одновременно,
как скрытый фон, возникла все же прежняя влюбленность в Татьяну, в ее
мир, в ее руки, в ее близорукий отрешенный взгляд, влюбленность эта
забилась в груди, сделала все дальнейшее в поведении Игоря легким и
почти органичным.
— Тебя домой, Танюша?
— Вообще-то нет, мне надо еще разыскать гречневую крупу и купить
сандалеты для Алексея.
— А не заняться ли нам этим вместе?
— Я тебя, Игорь, разорю.
— Ты что думаешь, спидометр всегда крутится в пользу таксопарка? Не
робей, Танюша...
Игорь махнул рукой на план, на приработок.
Весь оставшийся день они провели вместе. Они искали по городу
гречневую крупу, потом объездили обувные магазины: на проспекте Мира,
в центре, заезжали в ГУМ, в Дом обуви на Ленинский проспект, пока на
Профсоюзной не наткнулись на сандалеты, «какие хотел Алексей». Они
ездили и говорили в машине так, будто не прекращали жить в одном доме,
встречались каждое утро и, когда Игорь приходил с работы, у Татьяны уже
был готов ужин. Будто они зачеркнули, как несуществовавшие, годы
разлуки, решили, что их не было, и за последним днем их встречи сразу
следовала эта поездка по раскаленной Москве. Уже к вечеру, когда машина
была полна пакетов, коробок, больших и маленьких сверточков, Игорь
отвез Татьяну домой. Они выгрузили покупки из машины, и опять, с какой-
то известной уже и неторопливой сноровкой то ли старого друга дома, то ли
мужа, подхватив свою долю пакетов и кульков, привычными с детства
лестницами и коридорами Игорь поднялся в квартиру Татьяны.
Старая, знакомая комната показалась Игорю меньше. Все здесь было
прежним, только возле двери встала новая широкая тахта с неубранной
постелью, и у противоположной стены, у сундука, как раз под колесницей,
управляемой бородатым возницей, одетым в короткий панцирь, стоял
детский столик с сидящим на нем печальным тряпичным зайцем. Кругом
пыль, лампочка над тахтой тлела, закутанная подгоревшей газетой, и через
всю комнату на протянутой бечевке висело свежепостиранное белье.
Извиняясь за беспорядок, Татьяна сказала:
— Я всю неделю бегаю по магазинам...
— Именно поэтому, — сказал Игорь, — и есть смысл сегодня устроить
вечер отдыха. — И как о давно решенном: — Мы вместе едем в парк, я сдаю
машину сменщику, мы садимся, на такси, и я показываю тебе свою хижину.
Странное состояние овладело Татьяной. После встречи с Игорем, когда в
свои руки он взял ее заботы, сидя рядом в машине, вспоминая недавние
беспечные годы, она как бы разгрузилась от усталости трудной жизни,
огляделась по сторонам, другими глазами увидела дома, людей, улицы, еще
раз почувствовала, что она еще кому-то интересна, отрешилась от
судорожного расчета минут, и ей захотелось продлить этот праздник,
плюнуть на уборку, на сборы, на то, что надо бы напоить Игоря чаем, и она
неожиданно для самой себя согласилась на предложение — Игорь ведь был
ее товарищ, она замужняя женщина, жена его друга, он был надежен,
предупредителен, стабилен.
— Гулять, Игорь, так гулять.
Когда они уходили, то возница на стене поднял тяжелый дротик и, как
показалось Игорю, приготовился метнуть ему в спину.
«Хижина» была на первом этаже панельного дома, и показ ее был
беспроигрышным и отработанным аттракционом. Игорь знал силу
воздействия своих апартаментов.
Уже стемнело. Во дворе от разросшихся деревьев, от индивидуальных
палисадников под окнами стояла теплая сырость. Свежеполитая зелень
блестела под светом фонаря над подъездом. Медвяно пахло резедой и
смородиной, нагретой за день.
В подъезде стояли детские коляски, которые жильцы оставляли внизу.
На пороге сидела маленькая черная кошка с белым галстуком и деликатно
умывалась, скликая гостей. Шагая впереди внезапно примолкшей Татьяны,
Игорь поднялся неполным лестничным маршем до своей двери и достал
ключ, на ощупь выделенный из связки в кармане.
Не прикасаясь к Татьяне, как должное, будто бы была она здесь не один
раз и, как и он, привыкла к небрежному спокойному комфорту этой
квартиры, маскирующейся за стандартной клееной дверью в панельном
доме, Игорь включил в прихожей свет, простецки — и это он умел, когда
хотел, — улыбнулся и сказал:
— Располагайся, Танюша, пойду порыскаю на кухне что-нибудь.
Татьяна уже давно не была в такой изысканной квартире, Все покойно,
добротно и одновременно, как она понимала, все, что ее окружало, было
дорогим, недоступным ей сейчас и вряд ли доступным в ближайшем
будущем.
Под ногами большой, во всю площадь комнаты, ковер. Не скромный и
дешевый палас — ковер с мягким, ненавязчивым, безусловно, шерстяным
ворсом. По стенам за стеклами в финских матированных шкафах стояли
книги — не привычные и никогда не читаемые собрания сочинений, а
разрозненные тома всего лучшего, что выходило за последнее время. Возле
журнального столика, покрытого стеклом, с лампой, переделанной из
хорошей, тонкого фарфора вазы, большой, подобный тем, какие она видела
в зарубежных кинофильмах, диван, обитый кожей. Тяжелые шторы из
дорогого вельвета прикрывали окна.
Татьяна, пока на кухне раздавалось звяканье посуды, покопалась в
пластинках и, выбрав японский диск с портретом европейского усатого
трубача и с обещанием, если она правильно поняла, «Русских мелодий»,
опустила тяжелый адаптер. И сразу комната наполнилась пронзительно-
светлой, грустной мелодией: «Степь да степь кругом...» Здесь были полет
ищущей души, поиск счастья, тоска по забвению. Мелодия, поднимаясь,
беспричинно выжимала из глаз слезы.
Татьяна подошла к окну. Пахло резедой, выплеснувшей в ночь свои
потаенные сладкие ароматы. Вдалеке, мягко шурша, пролетал, как
волшебная сверкающая птица, троллейбус, а в прохладных кустах под
окном настойчиво и нетерпеливо, перекликаясь с мелодией из комнаты,
говорила и говорила какая-то еще не уснувшая птица. «А жене скажи слово
прощальное, передай кольцо обручальное...»
Татьяна очнулась от голоса Игоря и внезапно вспыхнувшего верхнего
света.
— К ушать подано, — шутливо сказал он от двери. На одной руке он лихо
держал поднос, словно разбитной официант в дешевом ресторане. Игорь
успел переодеться. Голубая футболка обтягивала сильные плечи, и
закатанные рукава обнажали поросшие светлыми прямыми волосками
руки. Он улыбался, глаза были добрые и счастливые.
— Давай мне поднос, Игоряша, — назвала она его ласково, как в детстве,
— накрывать на стол — дело женское. Сиди, отдыхай.
Она сама резала холодное мясо, подсаливала помидоры, разливала по
рюмкам коньяк. И Игорь опять с каким-то расслабленным, бесконечным
умилением, прикрывающим в глубине расчетливый холодок мстительного
льда, наслаждаясь уютом, очарованием, которое женщина внесла в его дом,
ласково глядел на ее подвижные руки или, поднимая взгляд, встречался со
светлым, счастливым взглядом Татьяны, и в тот момент почти счастлив
был и сам. Он не вслушивался в то, что она говорила, и вряд ли Татьяна
отчетливо понимала, о чем спрашивала своего старого друга и что он ей
отвечал. Но в этом разговоре они находили какое-то радостное
наркотическое забвение, и оба не могли остановиться, прервать эту сеть
воспоминаний, торопливых комментариев сегодняшнего и прожитых друг
без друга прежних дней, и все чаще сияющий близорукий взгляд Татьяны
впрямую встречался с обволакивающим взглядом Игоря, и тогда все чаще,
передавая друг другу хлеб или тарелку, их руки лишь на секунду, будто
наэлектризованные, встречались и проскакивала искра, и Татьяна говорила
себе: что ты делаешь, ты замужняя женщина и хорошо знаешь, что этот
парень тебе ни к чему, тебе надо уезжать к мужу, которого ты любишь,
остановись, не порть себе жизнь.
Они не спали почти всю ночь. Изредка Игорь поднимался с дивана и шел
на кухню за новой бутылкой сухого вина. В комнате было темно, лишь свет
от выплывшей луны, от уличных фонарей освещал его гибкое тело. Татьяне
казался он вылепленным из теплого лунного свечения большим тритоном,
красиво и мощно рассекающим сгустившийся до тяжелой субстанции
воздух. Осторожно запрокидывая ладонью голову, Игорь лил ей в рот
холодное вино, капли стекали по подбородку на шею, ключицы, и,
наклоняясь, он сушил их губами и радостно, тихо, счастливо смеялся. И
Татьяна была счастлива. Она слышала биение его сердца, но иногда,
раскрыв глаза, пугалась холодной и ожесточенной сосредоточенности его
взгляда.
Она проснулась от звона будильника, стрельнувшего пулеметной
очередью в тишину. Боже мой, что она наделала? Почему позволила
постороннему человеку так истоптать свою жизнь! Как же ей теперь жить
дальше? Как глядеть в глаза сыну, мужу? Но ведь она, внушала она себе,
любит и Игоря, и он любит ее давно, всю жизнь. Да, да, он любит ее.
Игорь спал, подмяв под себя подушку. На столике у дивана громоздились
подсохшие остатки вчерашнего ужина. На полу стояли бутылка вина и два
бокала. Заметавшись по квартире, Татьяна судорожно начала собираться.
Было шесть утра, а поезд в Анапу уходил в двенадцать дня,
— Я ухожу, Игорь, — сказала она уже от двери.
Игорь заворочался, встал с дивана. Посредине комнаты, не открывая
глаз, он потянулся, шагнул к ней, к двери, повернул замок, разомкнул
наконец веки и, глядя ей в лицо холодным, сытым, равнодушным голубым
глазом, чуть позевывая, но твердо и отчетливо сказал, как ударил:
— Когда вернешься — заходи...
3. РАБОЧИЙ ДЕНЬ
В первый свой рабочий день на новом месте Володя встал пораньше,
хотя накануне они крепко посидели с Игорем в ресторане. К удивлению
Володи, настроение у него было хорошее, голова не болела, и погода стояла
замечательная: из-за крыш домов в окно сияло солнышко, поигрывал
ветерок по ранней летней зелени, воздух был бодрый, со свежестью, как
чуть холодящая зубы газировка.
Володя помахал руками для зарядки, к которой привык в армии, и, чтобы
окончательно разогнать сон и вчерашний хмель, поприседал, зычно дыша,
сбегал по длинному скрипучему коридору в душ, хорошо растерся
полотенцем, надел заранее выстиранные чешские голубенькие джинсы,
нейлоновую легкую курточку, к носу, дыбарем, натянул кепчонку, распушил
сбоку, под козырьком, чубчик и скорее, скорее побежал к Белорусской, где у
него с Игорем была назначена встреча.
Перед уходом Володя еще закричал петухом. Над смятыми постелями
показались четыре лохматых головы (одна с пегими клочковатыми усами):
Сенька Новиков, Петька Заборовский, Алик Шахназаров, Валера Перельман
— все бывшие армейцы, лимитчики, и Володя крикнул ребятам, подражая
своему бывшему старшине:
— Рре-та! Подъ-ием! — И с паузой, на выпученные глаза и сноровисто
запущенный в него ботинок: — Кончай ночевать. Седьмой час.
У сквера, напротив станции кольцевого метро, где всегда останавливался
базовский служебный автобус, Игорь уже поджидал сменщика. Своей
гибкой фигурой, чистейшей голубой рубашкой и уложенными один к
другому, еще влажными от утреннего умывания волосами он резко
отличался от галдящей толпы своих сослуживцев. Он и стоял-то немножко в
стороне, как бы подчеркивая свою исключительность.
Как ни странно, Игорь не бросился в подошедший автобус, стараясь
захватить место. Володя сказал:
— Игорь Савельевич, давайте я займу?
— Не надо, Володя, у меня свой расчет.
Они вошли в автобус уже последними. Игорь аккуратно положил
двугривенный на бортик приборной доски — за себя и за Володю и остался
на самой приступочке, почти прислонившись спиной к двери.
— Игорь Савельевич, ведь это я виноват, что мы так плохо едем, надо
было подсуетиться пораньше? Первым в автобус залезть?
— Нет, Володя. Я специально захожу в автобус последним, — почти
шепотом объяснил Игорь, — чтобы потом первым выйти. Ты когда-нибудь
на самолете летал?
— Дядя Игорь, а почему вы сказали — не садиться в наш служебный
автобус, который идет с Беговой? И вам от дома ближе и мне от общежития.
Вы не знали, что мне от общежития ближе?
— Нет, отчего же, знал. Тебе к Белорусской топать дальше. Это я
сознательно. Ты только Володя, не перебивай. Старайся сам в жизни искать
объяснения чужим поступкам и словам. Так вот летал ты в самолете?
— Ну, летал. В отпуск, когда в армии служил. Из Хабаровска до Москвы.
— И ты старался во время посадки сесть в автобус, который подвозит к
самолету, первым?
— Сначала, как положено, женщин пропустил,
— А надо, Володя, первым быть по сути, по результату. Пусть кто-то
гордится, что он первый, что висит на Доске почета, хотя на Доске почета
это действительно приятно, но если в погоне за этим почетом, за
общественным, как говорится, благом, он ходит без штанов? Если я, не
самый передовой, на май могу позволить себе съездить в Ленинград,
посидеть там в ресторане с девушками, сходить в театр и одеться при этом
хорошо, культурно, а он, этот самый передовой товарищ с этой же автобазы,
трешку у меня сшибает, разве это путем? Так вот, Володя, вспомни, когда ты
из автобуса вышел у самолета, то перед тобою уже была очередь на трап.
Правильно?
— Ну, правильно. Только все равно сначала женщин пропустили с
детьми.
— А мы разве изверги? Женщин с детьми всегда надо пропускать вперед.
И стариков и инвалидов. Мы же культурные люди. Сейчас много развелось
разных шустряков, вот их-то и надо обходить.
А служебный автобус уже отутюжил отрезок Ленинградского проспекта,
за тоннелем возле гостиницы «Советская» развернулся, пробился через
Беговую, где движение стало плотнее, и пошел петлять по нешироким
асфальтированным проездам среди гаражей, ведомственных автобаз,
автокомбинатов, строительных площадок, бензоколонок, небольших
заводиков, которые, по сути дела, и есть сама жизнь. А что же, положа руку
на сердце, есть жизнь? Прогулка в лесу? Сидение над сонной озерной водой
с удочкой в отпуск? День рождения жены или детей с хорошим столом,
сытной едой, чечеточкой у подъезда, когда изо всех окон глядят
любопытные головы? Это все то, без чего не может, наверное, жизнь
существовать, потому что дает ей терпкий аромат. Но жизнь — это густая,
сминающая тебя, но желанная и никогда не забываемая работа. Не
зарплата, которую платят за нее. Она сама. Да и разве кто-нибудь слышал,
чтобы хмельные в пивбаре мужики долго говорили о недополученных
рублях или окладах в заснеженных мифических далях? А вот о железках, о
плохом мастере, о капризах мотора и тонкостях карбюратора — вот о чем у
них долгий разговор.
Уже подъезжали к автобазе.
— И вот я, Володя, — говорил Игорь, — продолжаю. В конечном-то итоге,
войдя в автобус одним из первых и удобно прокатившись три минуты по
аэродромному полю, в самолет ты вошел после всех и сидел, наверное, в
хвосте.
— Точно.
— Трясло?
— И трясло и гудело. А здесь я вам уже тридцать минут локтем бок
мылю. Да и у меня на холке, смотрите, какой здоровый амбал сидит. — И
Володя деликатно, но настойчиво поманипулировал спиною. — Здесь какой
смысл?
— Отвечу сначала на твой самый первый вопрос. Почему едем не с
Беговой? Потому что обычно автобус с Беговой приходит на пять минут
позже, чем автобус с Белорусской. И это важно, несмотря на то, что мы, как
персональщики, могли бы выехать с базы позже всех. А ответ на второй
вопрос увидишь сам...
И в этот момент дверь открылась. Автобус стоял на знакомом
автобазовском дворе.
Игорь выходил не торопясь, подчеркнуто несуетливо, но все же
достаточно быстро прошел по двору к крылечку в диспетчерскую, так что и
не пропустил никого и другие шоферы, кто вроде бы даже и торопился,
постеснялись его обогнать.
В диспетчерской, в небольшой комнате за перегородкой, за двумя
столами с телефонами, журналами, пачками путевок сидели две немолодые,
знакомые уже Володе диспетчерши. Обе встрепенулись, когда в дверном
проеме показался Игорь. Сильным плечом он чуть-чуть, вежливенько,
попридержал колготную толпу и неожиданно для Володи совсем другим
голосом, нежели говорил с ним, каким-то веселым, простецким, бодрым
голосом сказал, будто бы не пожилым женщинам сказал, а молоденьким
девчонкам на танцах:
— Здравствуйте, лапушки, Анна Дмитриевна и Екатерина Филипповна,
соскучились? Вон я сколько мужиков вам привел, разбирайте. — А сам уже
твердо, заняв полпространства барьера, стал напротив Екатерины
Филипповны, выдающей путевки их колонне.
— Чего тянуть, давай, Катя, скорее надо!
— Опять Игорь лясы точит!
— Начинай выдавать!
Эти голоса слышались позади Игоревой широкой спины. Комната
мгновенно наполнилась, стало жарковато. Володю снова притиснули к
сменщику.
Игорь и не обращал внимания на выкрики.
Не торопясь, не уступая своего плацдарма, он вел с Екатериной
Филипповной диалог, пока та разыскивала в пухлой пачке его путевку, и,
как показалось Володе, Екатерина Филипповна даже не спешила, с
интересом слушая шофера.
— Как, Екатерина Филипповна, сынок?
— Ничего. Письмо прислал, пишет, что сержант у него хороший и служба
нравится.
— Вы, Екатерина Филипповна, не волнуйтесь, из армии придет другим
парнем; и стриженым и гитару свою бросит. А матушка?
— Все по-старому.
— Если ее снова нужно будет показать врачу, вы меня предупредите
накануне, я отпрошусь у хозяина, и мы ее с вами отвезем.
Сзади опять послышались раздраженные возгласы. Екатерина
Филипповна так же, как прежде Игорь, внезапно поменяла голос и уже
начальственно крикнула:
— А ну, тихо. Не мешайте работать. Что-то я на тебя путевку, Игорек, не
нахожу.
— А я за своего нового сменщика беру. Вот он. — Игорь, не оборачиваясь,
протянул левую руку и шутливо за ворот притянул к барьерчику стоящего
за его спиной Володю. Юное лицо Володи, наверное, в этот момент было
комично. Екатерина Филипповна улыбнулась ему кусочком улыбки,
предназначавшейся для Игоря, и сказала:
— Старый знакомый. Решил его взять к себе?
— Парень он неплохой, — опять по-простецки ответил Игорь. — Мы с
ним сработаемся.
— Ну, держи путевку на неплохого парня.
— Спасибо. Счастливо оставаться.
Как только Игорь отвернулся от диспетчерши, лицо его стало другим:
сосредоточенным, холодным, снайперским. Быстро, но не забывая
улыбаться, Игорь протолкался через толпу и двором пошел в гараж.
Навстречу им двигалось новое шумное подкрепление, прибывшее с
автобусом от Беговой.
В тихом, остывшем за ночь гараже даже шум проворачивающего мотор
стартера звучал, как обвал. Машина завелась с пол-оборота.
— Сегодня, Володя, я выеду сам. Ты садись рядом. Но примечай.
Они подрулили к пандусу, опускающемуся со второго этажа на первый.
Потом проехали по двору. Возле проходной с откинутым шлагбаумом
машину придирчиво оглядел директор. Они оба с ним поздоровались.
— Здравствуйте, Иван Максимович!
— Здравствуйте, молодцы. Ремни безопасности даны вам не для моды.
Пристегнуться.
— Слушаюсь, Иван Максимович, — по-военному четко ответил Игорь.
Володя только улыбался.
— Выводишь птенца на линию?
— Так точно, Иван Максимович, наставничаю.
— Это хорошо. Будь с ним построже, а то получится такой же разгильдяй,
как твой прежний сменщик.
— Есть быть построже! Разрешите ехать, Иван Максимович?
— Езжайте, ранние пташки.
На асфальтированных проездах, в тупичках, улочках, где еще десять
минут назад машин было сравнительно мало, движение кипело. Автобазы,
автокомбинаты и автохозяйства, сосредоточенные в этом районе Москвы,
выпускали из своих ворот грузовики, автобусы, щегольские легковушки,
рычащие дизельной гарью самосвалы. Игорь вел машину сосредоточенно,
аккуратно, но настойчиво вклиниваясь в каждую щель, образовывающуюся
в цепочке двигающихся автомобилей, и не пропуская никого вперед себя.
Это был высший пилотаж.
— Примечай, Володя, — говорил Игорь, зорко охватывая взглядом
обстановку: дорогу, характер покрытия, знаки, сигналы поворотов. —
Машину я стараюсь ставить в гараж попозже, чтобы она оказалась в первом
ряду, ближе к воротам, чтобы утром выехать первым. А теперь я тебе отвечу
на твой вопрос об автобусе. Ты уже, наверно, догадался сам: если бы мы
выехали через десять минут, то здесь, у автобазы, попали бы в
столпотворение. И по этой гари и шуму продирались бы почти сорок минут.
А если дождь, снег?.. Усек? Но это лишь одна из причин. Машина должна
тебя кормить...
Автомобиль мчался по Беговой. Было около восьми, солнце, поднявшись
из-за домов, начинало припекать улицу. Несмотря на открытые окна,
чувствовалась подступающая жара. Володя, который впервые ехал по
Москве на легковом автомобиле, заинтересованно оглядывал все вокруг.
Вид из автомобиля лучше, чем из автобуса. Москва и широкая, чистая утром,
свежеполитая Беговая ему нравились. Все было крупномасштабно, нарядно.
В витринах магазинов стоял разнообразный, яркий товар. Возле автоматов
с газировкой парни опохмелялись с утра холодной, зудящей десны водой. У
стоянок такси колготился народ. Наверху, над фасадом ипподрома,
принюхивались к московскому воздуху бронзовые, вечно бодрые кони. А
народу на улицах все прибывало. Перегруженные автобусы грустно
попыхивали. Вваренные в их днища приступки почти цеплялись за асфальт.
В автобусах и троллейбусах, несмотря на утреннюю бодрость, сейчас
плотновато и душно. Наверное, поэтому кое-кто и опаздывал на работу.
Много было людей, которые по обеим сторонам улицы поднимали руки, и,
если приглядеться, по губам можно было прочесть: «Ну подвези, друг», — и
Володя таким людям сочувствовал и, конечно, знал, что подбросить можно
и даже в благодарность схлопотать на пиво, но они же с Игорем на
персональной машине, они же не на такси в конце концов.
Володя искоса посмотрел на Игоря, тот широко, артистично, но, как
всегда, сосредоточенно вел машину. Взгляд его был напряжен, скулы
подтянуло, сидел он собранный, поджарый, как легавая, собирающаяся
сделать стойку над притаившейся птицей.
— Так вот, повторяю тебе, Володя, — сказал Игорь, продолжая прежнюю
мысль, — машина шофера должна кормить.
И опять Володя хотел спросить, как это понимать, но внезапно их
сверкающий автомобиль, чуть присев на рессорах, затормозил, щегольски, с
визгом, намертво оставляя черную масляную полосу сзади от прижженных
шин.
— Это «пиджак», — сказал Игорь Володе. А сам, развернувшись от руля,
гостеприимно откидывал правую заднюю дверь. — Садись, дорогой!..
«Пиджак» — Володя знал уже значение этого слова — усаживался на
заднее сиденье, мостя рядом с собой дорогой плащ, плоский модный
портфель с металлическими застежками и большую картонную коробку, в
которых с фабрик привозят в магазин конфеты. Дверь снова закрылась, и
только тут Игорь спрашивает, встретившись через зеркальце над рулем со
взглядом пассажира:
— А куда вам, собственно, уважаемый?
— Мне, — отвечает пассажир, — на проспект Калинина, в министерство,
— Вай-вай, очень сожалею, — Игорь излучает доброжелательность, — а я
думал, на вокзал. Нам совсем не по пути, извините, уважаемый, мы при деле,
нам надо за начальником ехать! Опаздывать нельзя. По дороге —
подбросили бы, а так никакой возможности.
Мимо проносятся автобусы, забитые троллейбусы, автофургоны,
грузовики. От асфальта идет знойный парок.
— Дорогой, — упрашивает кавказец, — режешь без ножа. У меня
совещание в министерстве, опаздываю.
Игорь тянет резину, хотя до назначенного шефом времени еще целый
час.
— Я посмотрел на коробку, —продолжает Игорь, — и подумал, что на
вокзал. Почему, думаю, хорошему человеку не помочь.
— Помоги, дорогой. Мне коробку до совещания надо в кабинет занести.
Станки нужно, оборудование нужно. Отблагодарю.
— Ну, если уж так, для хорошего человека, рискнем, Володя? —
обращается Игорь к Володе.
Володя молчит: ему неловко.
— Была не была, рискнем, — машет рукой Игорь и весь светится
дружелюбием и отчаянностью. И только когда машина трогается, глаза,
устремленные на дорогу, снова становятся цепкими и холодными, лишь в
уголках губ гуляет чуть приметная ухмылка снайпера, с первого выстрела
попавшего в десятку.
Когда машина остановилась возле министерства, Игорь сказал Володе,
складывая в бумажник пятирублевку:
— Никогда с пассажиром не веди разговоров о деньгах, потому что, если
попадешься, пропал.
— А почему, Игорь Савельевич, вы решили, что это «пиджак»?
— Я понял, что он едет не на вокзал и очень торопится. У него в руках
был такой портфель, с которым ходят на прием к министру, а не едут в
Малаховку или в Тбилиси. Мы должны, Володя, быть психологами, иначе на
табак не заработаешь. Вон, видишь, у цветочного киоска стоит и голосует
девушка. Она тоже наша.
Девушка с длинными, стройными ногами и неприступным, хорошо
ухоженным и внешне спокойным лицом подняла руку. Игорь притормозил
чуть впереди нее и ждал, когда она подойдет. Быстро, но без торопливости
девушка подошла и через открытое окно, через Володю спросила у Игоря:
— Вы подвезете меня до Пушкинской площади, до АПН?
— Доброе утро, — суховато поздоровался Игорь. Потом холодно, не
замечая привлекательности незнакомки, ответил, как в армии, словно по-
уставному, повторяя слова приказа: — До Пушкинской, к зданию АПН мы
вас довезем.
— Благодарю, — ответила девушка и привычно, будто в свою машину,
села на заднее сиденье. Села ровно, почти не прикасаясь лопатками к
спинке.
Игорь тоже подтянулся, ехал быстро, по-щегольски, с визгом
притормаживая на поворотах.
У АПН девушка, протянув три рубля, сказала:
— Возьмите.
— У меня нет сдачи.
— Благодарю. Не надо.
Она захлопнула дверь, обогнула машину и по ступенькам вбежала в
здание.
Володе стало неудобно за Игоря, за то, что тому, наверное, стыдно перед
ним, но, к его удивлению, сменщик не казался расстроенным.
— Не робей, Володя, — говорит он, аккуратно к прежней пятерке
складывая в бумажник трояк. — Знаю я этих московских щучек, она
рассчитывала на свою сексапильность, думала, что я буду просить у нее
«телефон», довезу бесплатно, стала играть женщину с положением (а туфли
на ней хоть и английские, но старые, с прошлого сезона), рубля одной
бумажкой не было, вот ей и пришлось доигрывать знатную даму. Поэтому и
сдачу не взяла. Хотела наколоть нас, а накололась сама. В нашем деле надо
быть психологом. Примечай за всеми, старайся понять человека еще до
того, как он сел к тебе в машину. У меня был случай, — продолжал Игорь,
осторожно выбираясь из потока машин... — Так вот, на Метростроевской
поднимает раз руку один гражданин. Я сажаю; на улице слякоть, дождь,
отчего же, думаю, не помочь дорогому москвичу. Товарищ садится и
говорит: «К метро «Проспект Мира», — а я смотрю: у него из-под пальто
видны синие брюки с узким милицейским кантом. И тут же вспоминаю, что
рядом с метро городское ГАИ. И меня словно осенило, начал я у него
расспрашивать про вчерашний хоккейный матч, который видел по
телевидению. Он мне все добросовестно рассказал, а потом спрашивает,
сколько, мол, с меня возьмешь. А я говорю: «Я с болельщиков ЦСКА не беру».
«Ну, если, — говорит, — не берешь, записывай мой телефон, если, —
говорит, — будут какие-нибудь неприятности на линии — позвони». Потом
я его видел, майор из ГАИ. Психология! А еще в нашем деле важна точность,
поэтому надо гнать к хозяину. Я всегда приезжаю минут на десять раньше.
Если он выйдет чуть раньше и увидит машину уже во дворе, ему спокойнее
— значит, я, думает он, не халтурю.
Машина свернула с Петровского бульвара на Петровку, обогнула сквер
возле Большого театра и через проспект Маркса, бывшую Манежную
площадь, помчалась на Юго-Запад.
Сидя на переднем сиденье, Володя тщательно запоминал развязки,
светофоры, сложные перекрестки. Он был недоволен собой, потому что не
мог как следует сосредоточиться. Мысли все время крутились вокруг
неожиданных событий сегодняшнего утра, он даже попробовал осуждать
Игоря, но решил, что еще молод, неопытен, чтобы даже в мыслях
критиковать человека, который столько для него сделал, так заботится о
нем. Но больше всего отвлекала Володю от деловых размышлений Москва.
Он часто видел ее в кинохронике, по телевизору. И Володя думал, что
приложит все силы, будет ухаживать за машиной, начнет, может быть,
учиться на курсах, чтобы остаться в Москве на всю жизнь, называться
москвичом. Мать с сестрами приедут к нему в гости, он им покажет Кремль
и ГУМ и, может быть, если получится, даже покатает на машине. И у них в
деревне его станут звать москвичом.
А машина уже проехала через Каменный мост. Володя подивился с
горбинки моста на Кремль, на реку, на окрестные набережные и снова начал
разглядывать и запоминать перекрестки, линии движения, дорожные
знаки: «запрещающие», «указательные», «предписывающие» и
«дополнительные средства информации» — все знаки по правилам
дорожного движения.
Проехали Ленинский проспект, и, когда пересекли Университетский,
Игорь сказал:
— Теперь смотри, Володя, внимательно. Движение от этого светофора
начинаешь обязательно со второго ряда. В первый ряд не становись, а то
окажется, что впереди стоящая машина поворачивает на Университетский,
и тебе или придется ее пропустить, или поворачивать вслед за ней. А из
второго ряда ты как раз выедешь на правую малую дорожку проспекта,
проедешь по ней, вот как я сейчас, свернешь на улицу Строителей, первый
поворот направо, под вторую арку. Здесь езжай тихонько — шуметь нечего,
делаешь разворот по двору и становишься возле первого подъезда. Понял?
А что теперь надо сделать?
— Тихо и спокойно ждать?
— Неверно. Надо все внимательно оглядеть. Вытрясти пепельницы,
потому что утренние пассажиры, а особенно пассажирки, любят
чувствовать себя в машине, как основные действующие лица: курят,
разбрасывают обгорелые спички, и, главное, если на коврике под передним
сиденьем — «левые» пассажиры садятся обычно сюда, — если на коврике
есть следы или затеки с мокрой обуви, то надо все протереть. Хозяин
понимает, что мы можем кого-то подвезти, но быть в этом уверенным ни в
коем случае не должен. А сейчас бери в багажнике тряпку и быстро протри
задние коврики — и грузин и девица, наверное, понатоптали. Куда сядет
хозяин, никогда не известно: он у нас неуравновешенный; если утром
уезжает с женой — то на заднем сиденье, если в плохом настроении — тоже
на заднем, а если настроение хорошее — сидит впереди и читает газету.
Володя оглядел двор: тихо, мусорные баки стоят в стороночке, закрыты
крышками, в середине двора газон с цветами.
Вытерев до первозданной чистоты коврики и чуть пройдясь суконкой,
чтобы блестели, по молдингам и бамперу, Володя захотел поговорить с
Игорем, но тот сидел и читал газету, так как полагал, что обучение должно
быть наглядным, ученика не стоит зря терроризировать, что Володе будет
положено узнать, он узнает в свое время, Володя еще потерся возле
машины, обошел ее, смахнул легкий, как пудра, слой пыли с ветрового
стекла и сел в кабину. Какой же он будет, новый его «хозяин»? Ведь ему
ездить с ним через день, треть жизни проводить вместе. Володя представил
себе этого человека. Может быть, он лысый? И как он отнесется к тому, что
Володя плохо знает Москву? Вдруг он, Володя, запутается в улицах, а
«хозяин» опоздает и начнет его ругать.
Из подъезда, возле которого они стояли, выходило довольно много
народу, Володя каждый раз выбирал себе среди них подходящего, но
каждый раз придуманный им «хозяин» проходил мимо. Володя даже устал
от своей игры, но именно в этот момент задняя дверца машины отворилась,
всунулась довольно лохматая моложавая голова, и высокий резковатый
баритончик несколько иронически произнес:
— Вы уже здесь, птички? Сподобились приехать вовремя.
— Ну, когда мы, Юрий Викторович, опаздывали? Не было этого, —
шутливо отговаривался Игорь.
— Это я вам для острастки, на будущее. Молодой человек, который от
страха боится повернуть голову, это, насколько я понимаю, новый
сменщик?
— Это Володя.
— А по отчеству?
— Иванович.
— Здравствуйте, — сказал Володя.
— Здравствуйте, Владимир Иванович.
В девять двадцать, больше не заговаривая со своими шоферами, словно
став старше и солиднее, Юрий Викторович вышел у высотного здания возле
Красных ворот. Уже на ходу, весь обращенный в сложный мир своих мыслей
и дел, через плечо он обронил:
— Игорь, вы свободны до одиннадцати.
— Прекрасно, — сказал Игорь Володе, — едем завтракать. И ездить я
тебе советую всегда в одно место — в чебуречную возле Никитских ворот.
Снова машина двинулась по накаляющейся Москве. Сразу же после
Красных ворот на Садовом кольце «проголосовала» пожилая женщина. У ее
ног стояла коробка с новеньким, видимо, только что купленным пылесосом.
У института Склифосовского, возле Колхозной площади, руку подняла
молоденькая мать, возле которой, как козленок, прибился малыш —
подобрали и их; дальше по Садовому тоже возникли «коммерческие
ситуации», но тут уже Игорь сказал:
— Всех денег, Володя, не возьмешь. Здоровье — прежде всего. Юрий
Викторович отпускает меня утром — и так же будет отпускать тебя —
завтракать надо вовремя, тем более что при нашей работе неизвестно,
когда пообедаешь. Теперь расскажу, почему всегда надо ездить к
Никитским воротам. Там, в чебуречной, собираются все московские
таксисты. За час ты узнаешь московские дорожные новости, где что в
Москве продают, что на данное время в дефиците. Иногда устраивают
облавы на нашего брата-«левака». А ты уже знаешь и в этот день не берешь
в машину ни одной души. В нашем деле жадничать — гроб. Старайся в
чебуречной знакомиться — только делай это ненавязчиво — со всеми, с кем
только можешь. И тебе всегда подскажут, где у тебя на пути встретится
притаившийся за колонной моста или газетным киоском пост ГАИ с ручным
локатором, фиксирующим скорость. Друзья не подведут, и с ними надо быть
профессионально солидарным. Делиться информацией, понял, зайчонок?
— Не совсем, но я разберусь.
— Ну вот мы и приехали.
Чебуречная была обычной «стекляшкой» со стойками самообслуживания
и горячей кухней. Еда здесь была не очень дорогая, обстановка без особого
комфорта, но порции обильные и сытные. Наверное, все же за известный
демократизм, продленные часы работы и центральное месторасположение
избрали ее московские шоферы своим клубом.
С трудом Игорь и Володя нашли место для машины, загнав ее на тротуар
в непосредственной близости от грозного знака «Стоянка запрещена», и,
протолкавшись в неуютном тамбуре, вошли в чебуречную.
За едою Игорь продолжал «натаскивать» молодого сменщика, не
забывая, однако, тщательно и добросовестно жевать.
— Я, Володя, — начал Игорь, — очень дорожу своей работой. Я не
стесняюсь, что вожу Юрия Викторовича на дачу, его жену на рынок,
разыскиваю ему по Москве обои. Но вот скажи мне завтра: «Игорь, садись на
место шефа», — я не сяду, хоть, может, и смог бы. Он лет через десять —
пятнадцать помрет. От инфаркта помрет, потому что на день у него десять
нервотрепок. И в заработке, если все подсчитать, он ненамного меня
обыгрывает. Относится он к своей жизни легкомысленно. Куда он свою
должность с собой возьмет, в гроб? Ты, пока молодой, старайся жизнь
направить в вернее русло.
— Может, мне учиться пойти в автомеханический техникум?..
— Ешь харчо с хлебом. Жуй лучше.
— Я бы пошел, если в заочный.
— Тебе надо обживаться, доставать хату, постоянную прописку в Москве,
столько хлопот, а говоришь про случайное.
— Встречу хорошую девушку-москвичку и женюсь, — по-крестьянски
скумекал Володя. — Дядя Игорь, а почему вы до сих пор не женаты?
— Была не была, расскажу я тебе, Володя, как я получил квартиру и
бросил учиться в институте.
Счастливые минуты озарения, так считал потом сам Игорь, пришли к
нему утром после вечеринки, устроенной в честь его возвращения из армии.
До этого он все время жил надеждами на будущее. Стоит хорошо
потрудиться и закончить седьмой класс — и дальше станет легче. Надо
попотеть, говаривала ему мать, хорошо потрудиться, закончить
десятилетку, а потом все образуется само собой. И он лез из кожи, не играл в
футбол, почти не бывал в кино, он корпел над книжками, он «трудился»,
«потел», а золотые яблоки все не поспевали. И в то утро он понял, что ему и
не достанутся эти райские яблочки: не так он возделывает и рыхлит почву,
не так ухаживает за ростками, не того он замеса. И черт с ними, с этими
чахлыми саженцами, с корявыми сучьями и жалкой листвой. Пока не
поздно, надо выкорчевать все и не питать никаких иллюзий, начать жизнь
новую. Надо глядеть жестокой правде в глаза. Долой пробуксовку. Надо
трезво взглянуть на те ограниченные способности, которыми его наградила
природа. Надо сделать ревизию своим возможностям. Ему не дано
выбраться в мир, как мечталось вначале, где не он будет возить на работу
начальника, а ему машину будут подавать к дому. Ах, эти роскошные
иллюзии! «Машину французского посла к подъезду!» Долой иллюзии! Ему
выпала доля не ждать машину, а «подавать» ее. Хорошо, он будет подавать
будет подавать лучше и надежнее всех. Да здравствует расчет! Как поется в
песенке: «Ну, что же, посмотрим, кто кого?» Он будет искать свое счастье на
другом берегу. Из своих слабостей и недостатков сделает силу. Будем
считать итоги по результатам. Не по эфемерным звеньям и должностям, а
по тому материальному, осязаемому, что приносят тебе дни. Пускай Татьяна
и Алексей отыщут свое счастье и возможности через десять — пятнадцать
лет, когда позаканчивают институты и защитят диссертации. Он должен
взять свое если не сегодня — то завтра. Пока молод, пока полон сил и
желаний. Жизнь — ринг. Пусть его молотят, посылают в нокауты и дробят
скулы — он вытерпит все, если знает, что в конечном счете победа будет за
ним. Если его руку, подводя итог боя, рефери поднимет над рингом. Да
здравствует победитель!
Так он думал в то утро, свесив с постели босые ноги. В комнатке на
первом, полуподвальном этаже было темновато. По стенам мелькали тени
— это прохожие, пробегая мимо окон, застилали свет.
Он оглядел комнату. Как мать ухитряется держать ее в такой чистоте?
Полы свежевымыты, на этажерке в углу стоят его книжки и школьные
учебники. На каждую полку мать постелила вышитую салфетку, края ровно
свешиваются вниз. Пять чашек с блюдцами, которые достают только для
гостей, поблескивают за зеленоватыми стеклами крошечного буфета.
Он не собирается оставаться здесь. Мать ко всему привыкла, так пусть и
живет. Он все перестроит по-современному, по-новому.
Мать внесла накрытую тарелкой сковородку с оладьями. Сковородка
весело скворчала, щедро умасленная маргарином.
На мгновение Игоря затопила жалость к матери. Какая она худая, старая!
Вырастила его одна, без отца, быстро сгинувшего. Сегодня рано встала, так
тихо убрала с тротуаров выпавший ночью снег, что он даже и не проснулся.
И не разбудила его, как бывало раньше, помочь. Какое у нее дорогое, с
детства, как он ее помнит, коричневое лицо. Это лицо всегда казалось ему
старым. Да и теперь она скорее похожа на его бабушку, а не на его мать.
Неужели мать была молодая, красивая? Кто-то обнимал ее, шептал
ласковые слова, и она обнимала молодого мужчину, отца Игоря, и тоже
шептала ему ласковые слова? Этого не могло быть, но это было, и его мать
постарела и отказалась от всего, чтобы вырастить его, Игоря, провести его
через болезни, послевоенную голодовку, школу и вот теперь, убравшись и
вылизав квартиру, встретить из армии.
И все же мать сейчас для него не помощник. И, если она хочет счастья для
сына, ей надо отпустить его. Может быть, и жестоко с его стороны, но во
имя своего будущего и чтобы мать потом могла хвастать соседям, как
хорошо живет ее сын, он обязан уйти из этого подвала. Эта атмосфера
засосет. Ему не нужно никакой обузы. Не надо связывать себе руки, пока
есть силы для драки. Он, Игорь, не забудет мать. Станет помогать. Он уедет
из подвала, пусть в другой подвал, но туда, где его никто не знает и где он
будет для всех временным жильцом. У него уже есть план, он его выполнит.
Именно имея в виду этот план, Игорь и сказал матери, когда они сидели
за столом, за чаем;
— Мама, я сегодня пойду устраиваться на работу.
— Отдохни, сынок, давай пальто тебе новое купим. Может, на курсы
пойдешь, поступать станешь в институт?
— На курсы я не пойду и на твоей шее сидеть не буду. Ты еще не очень
старая, может быть, устроишь свою жизнь...
Игорь верно рассчитал... Нет, он не устроился ни в такси, ни шофером на
стройку, ни на курсы, он выбрал самую дефицитную в городе
специальность. Он долго бродил по Москве, заходил в домоуправления и
наконец остановился на доме по улице Горького. Старуха дворничиха,
которая многие годы там работала, получив пенсию, уехала к сыну в
деревню. В доме стояли нечищеные мусоропроводы, домоуправ каждый
вечер ломал голову, кого из лифтерш или слесарей посылать утром грузить
на машины бадьи и баки, и поэтому встретил Игоря с распростертыми
объятиями. Домоуправа только удивила жесткость парня в постановке
вопроса: обязательно отдельную комнату. Пришлось очищать
полуподвальную каморку, в которой хранился инвентарь. Домоуправ на
всякий случай составил с Игорем трудовое соглашение — на три года. Игорь
проконсультировался с юристом в юрконсультации и узнал, что через три
года его никто из этой комнаты выселить не сможет, даже если он уйдет с
работы.
Работа устраивала Игоря по двум причинам: первая —
самостоятельность и вторая — продолжительность его рабочего дня была
два часа. А на остававшееся время у него все-таки был план. Еще яростнее
стало стремление попытаться дать его бывшей компании бой на их же
площадке — про себя Игорь решил все же поступать в институт. Ну, ведь не
дурак же он, не бездарь!..
Работая в центре, Игорь очень быстро присмотрелся к жизни
официантов, парикмахеров, продавцов, таксистов. Тогда же он понял, как
важно быть хорошо одетым. Даже на утреннюю свою уборку он ходил
одетый в чистенькую голубую рубашку, в серые брюки, на ногах яловые,
еще из армии, сапоги со щегольски подвернутыми голенищами. Снимая
рабочий халат, он тут же превращался в ладненького, аккуратного хлопца.
От него никогда не пахло спиртным и табаком. Улыбка милая, сдержанная.
Наверное, благодаря старательности, а главное, внешнему чистенькому
облику Игорь стал пользоваться в доме популярностью. Если хозяйке нужно
было повесить шторы, она уже не просила в домоуправлении «прислать
кого-нибудь». Предложение было конкретным: «Попросите зайти Игоря в
квартиру номер такую-то». Было несколько стычек с ветеранами-
слесарями, истопниками, сантехниками, стычек тяжелых, но Игорь
использовал преимущество непрокуренных легких и кое-какие знания
самбо, полученные еще в армии, и после этих стычек стал вроде бригадира
по «левой работе». Получив заказ, он неизменно звонил хозяйке и назначал
точное время визита. И, если делал не сам, «принимал работу», следил,
чтобы все было сделано качественно, чтобы после себя рабочие подмели и,
если нужно, протерли пол,
Нет, он не жалел, что два года потратил на институт, из которого сам,
взвесив все «за» и «против», ушел. Все было сделано верно, все принесло
плоды. Правда, вызревали они мучительно трудно. Это судорожное, до
головных болей, учение английского. Вечерами он ходил по своей
крошечной комнатушке, за стеной которой текла беспокойная жизнь
бойлерной, и учил неправильные глаголы. Он чувствовал, что вкуса у него к
этому нет, нет дела до диалектики чувств Андрея Болконского и Наташи, но
жизнь, как ему казалось, обязательно требовала этих знаний, и — черт с
ними! — он узнает, прочтет зануду Монтеня, выучит наизусть, чтобы
блеснуть в обществе, пару абзацев из Хемингуэя...
На следующий год, как Игорь переселился на улицу Горького, с большим
трудом — об очном факультете не могло идти и речи, — как
демобилизованный и как, наконец, рабочий человек, он поступил на
английский факультет в Иняз. Каторга в Инязе продолжалась два года. Это
был страховочный вариант, как запасной парашют. Игорь твердо надеялся:
жизнь еще выкинет из своей колоды козырного туза. Но на всякий случай
надо учиться.
В хождениях по квартирам своего благополучного дома вместе с
«ремонтниками», кроме «сберегательного» — с этим инструментом жизни
Игорь познакомился вскоре после начала своей службы в домоуправлении,
— был и еще один интерес: чисто познавательный. Стиль жизни других,
часто очень интересных людей, безусловно, действовал на душу,
формировал умение вести себя в разных обстоятельствах и подчас даже
говорить на языке хозяина: с генералами в отставке, директорами заводов,
престарелыми артистами, а особенно с их женами. Иногда починка торшера
приводила к более лирическим отношениям с хозяйками, но в друзья дома
Игорь не лез, умел держать язык за зубами, был всегда ровен, корректен,
привычно доброжелателен. Он неизменно отказывался от новой рубашки,
кожаного бумажника, заграничного ремня с замысловатой пряжкой,
которые ему частенько пытались навязать — «вот, мужу не подходит», —
берег свою внутреннюю свободу, независимость в действиях.
...Вначале это была обычная «кадрежка». Игорь познакомился с Тамарой
на Центральном телеграфе. Он пришел посмотреть на народ, потолкаться в
людном месте, а встретил Тамару. Слово за слово, Тамара выкурила
сигарету, предложила Игорю, тот неумело повертел ее в руках, затянулся.
Тамара поинтересовалась: «Москвич?» Игорь подумал: «Грузинская княжна
выехала на гастроли». Они купили бутылку вина в «Гастрономе» и пошли к
нему в «дворницкую», Эта встреча могла закончиться, как самая рядовая,
если бы не одно обстоятельство: Тамара заканчивала институт и не хотела
уезжать из Москвы. Ее устраивала московская прописка и комната, которую
она бралась затем превратить в роскошное кооперативное палаццо.
Дело это тянулось целый год, Из Тбилиси была вызвана мама Тамары.
Состоялась скромная свадьба, вернее, запись в загсе, после которой муж и
жена разъехались по разным районам Москвы, потому что уже совершенно
не интересовали друг друга; Тамара несколько дней повертелась в
«дворницкой», была представлена руководству домоуправления и
общественности, молодые тут же записались в кооператив на
трехкомнатную квартиру. Благодаря активности мамы Тамары через два
месяца они ее получили, через полгода благополучно развелись, и через
несколько дней после этого Игорь оказался владельцем однокомнатной
квартиры в панельном доме. Первая часть программы — жилье — была
выполнена. Прощай, «дворницкая», прощай, гостеприимный двор, теперь
уже не нужен страховочный вариант — прощай, институт. Он, Игорь, не вол,
чтобы тянуть лямку и лишь через пять — семь лет получить на работе
«хату», за сто — сто пятьдесят рублей вкалывать, ходить в потертом,
лоснящемся костюме. Время ученичества закончилось, впереди жизнь,
молодость; настала пора погулять, порезвиться, ну, а дальше, годам к
тридцати пяти, он женится, найдет себе молоденькую девушку, наплодит
детей и будет спокойненько, зная, что ничего не упущено, доживать жизнь.
Ну, что же, Веня, Танюша, Алексей-граф, еще пилите науки? Пилите-пилите,
как там поется в песенке: «...посмотрим, кто кого?»
На следующий день после переезда Игорь ушел работать в такси.
Конечно, во время долгого разговора с Володей Игорь не выложил всей
подноготной. Опустив некоторые щекотливые моменты, он в основном свел
все к рассказу, как пробивался с квартирой: начал с мусорщика и вот за свое
терпение стал хозяином однокомнатной квартиры, которую попозже, когда
будет у них обоих время, он покажет Володе.
— И сколько же ты проработал, Игорь Савельевич, по этой
специальности?
— Почти три года, Володя. Но время сейчас более динамичное. Ты все
должен пройти скорее. Не отказывайся ни от каких общественных
поручений, выберут в местком — честно работай, в стенгазету — пиши
заметки, в комсомоле изберут — и здесь надо вкалывать. В решающий
момент все зачтется. В жизнь надо пробиваться. У тебя сейчас такие задачи:
заработать, одеться, овладеть специальностью, добыть постоянную, не
временную, прописку и хату. Свою, собственную, самостоятельную. А пока
давай, брат, двигать на службу, время наше кончается, надо быть точным,
потому что работа в наше время — всему голова. Только своим умением
работать надо хорошо распорядиться.
В эту смену сразу же после завтрака в чебуречной Игорь и Володя
вернулись на работу, потом повезли шефа в Управление, за час, пока шеф их
отпускал, подбросили от гостиницы «Москва» на Казанский вокзал семью
из Норильска (5 р.), на Казанском повезло: попались две подмосковные
жительницы, переправлявшие на Центральный рынок ящики с редиской и
парниковыми огурцами (7 р.), потом привезли шефа домой обедать и за
полтора часа переделали кучу дел: гостиница «Украина» — «Шереметьево»
(8 р.), снова привезли шефа на работу, отвезли заказ на книги в Книжную
экспедицию на Беговой, привезли книги оттуда и сдали секретарше шефа
Наташе, час стояли у подъезда, потому что было неизвестно, понадобится
машина или нет; шефа вместе с женой (заезжали за ней) отвезли в театр;
через два с половиной часа (время началось уже глухое, все смотрят
телевизор, попался только лейтенант, который ехал с букетом и бутылкой
коньяка в Чертаново (4 р.); отвезли после театра шефа и жену домой, по
дороге на базу подкинули парня с девушкой до Ленинградского шоссе, до
тоннеля (70 копеек — все, что у парочки имелось), угостили вахтера на базе
сигаретами, помыли машину (мойщице тете Паше — 1 рубль), на такси
разъехались по домам (5 р. 40 к.). Высаживая Володю у общежития, Игорь
почти насильно вложил ему в карман 7 (семь) рублей. Время ученичества
закончилось.
4. ПЕРВЫЕ ИТОГИ
В тридцать пять лет Игорь обнаружил, что стареет,
.. . У него было предчувствие: не надо ходить на эту вечеринку. Но Володя
так его упрашивал, да и героя дня Владика Илюшина Игорь знал, потому
что работал тот слесарем на их же базе и заканчивал вместе с Володей
вечерний техникум. И, чтобы не обидеть обоих, а особенно своего
сменщика, потому что хоть и простоватый парень, а все же с ним и дальше
ему, Игорю, жить и варить кашу, сдался Игорь на уговоры и решил почтить
своим присутствием торжественный праздник проводов Владика в армию.
Если будут приставать на базе с воскресником в пионерлагере, подумал
Игорь, то он отговорится — скажет, что ездил на проводы в армию
Илюшина.
Решив так, Игорь повеселел. И раз уж этот испорченный вечер ему
зачтется как общественная нагрузка, то он в качестве представителя
коллектива на том вечере должен быть на высоте. Пусть знают: на всем, что
делает Игорь, стоит знак качества. Тут же забурлила в нем энергия, выбил
денег в месткоме на подарок, сумел так изловчиться, что узнали о его
самоотверженном поступке и начальник колонны, и завгар, и директор
базы, и парторг. И все это он проделал ловко и под это мероприятие сумел
даже уйти пораньше с работы, подсунув своему шефу разгонную машину.
Боевое чувство не оставляло Игоря весь день. Как-то особо лихо и
изящно возил он в тот день Юрия Викторовича, вырвал «левый» рейс под
носом зазевавшегося таксиста, в обеденный перерыв, совершив чистую
благотворительность, доставил от «Гастронома No 1» на улице Горького
Володю и Владика с винами, водами, водками и закусками до станции
Хлебниково (заодно и разведал дорогу, чтобы не плутать вечером), на
обратном пути схватил и за пятерку доставил в центр (по дороге) к
Филатовской больнице интеллигентную старуху с внучкой, которая
проглотила пуговицу, вне очереди протиснулся на мойку и со спокойной
совестью поехал домой переодеваться. Для тонуса не помешает и парочка
восхищенных взглядов их девочек,
Он надел темно-синий строгий костюм, голубенькую рубашку с
галстуком, новые ботиночки — всё Европа!
Переодевшись, Игорь как бы стряхнул с себя груз повседневных забот. В
собственные светло-синие «Жигули» — окраска под цвет глаз хозяина —
сел в хорошо отутюженном костюме тридцатипятилетний (по внешнему
виду лет тридцати), уверенный в себе, с детства избалованный человек, не
знавший ни в чем отказа и энергией и напором пробивающий дорогу в
большую и кипучую жизнь...
За столом Володя, в который уже раз, искренне восхищался своим
сменщиком. Несмотря на парадный вид, дорогую «Сейку» на левом
запястье, синенькие «Жигули», на которых Игорь лихо, с визгом тормозов,
подкатил к хибарке Владика, — эффект был рассчитан правильно и
произвел впечатление, — вел себя Игорь в незнакомой длинноволосой
компании по-свойски, был мил, вежлив, не выпендривался, не кичился,
сумел побороть отчуждение возраста, рассказывал простенькие анекдоты,
стал душою общества и единогласно был избран тамадой.
И тут Игорь собрался, как пружина, почувствовал себя регулировщиком
на самом людном перекрестке. Потоки движения с разных сторон, заторы,
пешеходы, и за все — спрос с него. Зорким, безошибочным взглядом он
подмечал пустые рюмки, манипулировал с закуской, следил, чтобы ребята
по молодости лет не нажимали на водку, затягивал тосты, чтобы успевали
поесть, к слабакам пододвигал сливочное масло, соображал, кому из гостей
дать слово, примечал девушек, высчитывал, какая пришла одна, а какая с
парнем, и одновременно, конечно, не забывал о себе — как всегда, ему надо
было быть широким, красивым, обаятельным.
Через часок, когда уже изрядно нарушилась на столе сервировка и кто-то
уже начал включать радиолу, Игорь немножко расслабился. Хотя от
непривычных трудов ноги были ватными, а спина под рубашкой мокрой, но
впереди была ночь, и уж если он приехал сюда, то надо было сорвать свое.
Игорь огляделся: вот оно, послевоенное поколение! Ребята хоть и
мосластые, патлатые, но высокие, с широкими плечами, кормленые, а
девочки с длинными шеями, пышногрудые, статные, уверенные в себе, чуть
подмазанные, хорошо одетые. Вот тебе и Подмосковье! А ведь именно здесь
пасутся на свежем воздухе, на овощах с приусадебных участков, пасутся
самые пышные телки, и в этом бодром стаде он сходит за своего, только еще
чуть-чуть подпоит ребятишек. А сам? Сам он пить не будет. Жизнь
прекрасна и так! Она дает ему глубокие и полные радости сама по себе. Надо
быть бойцом, и нечего взбадривать себя искусственными средствами.
Выигрывать надо без допингов.
А веселье уже раскручивало всю эту молодую ватагу. Лица у ребят
раскраснелись. Все поснимали пиджаки. И крутились вокруг партнерш
легко, уверенно, пластично.
Игорь ворвался в круг танцующих, как мощный, красивый своей
жестокой выверенностью, линейный корабль. Потолкался вокруг
пышнокосой блондинки, поочаровывал ее, попытался с разгону притиснуть
поближе, но девушка мило, понимающе улыбнулась и непринужденно
прильнула к какому-то нечесаному пацану. Игорь перестарался. Будто бы
ничего обидного и не произошло, а так, по-свойски, вроде бы естественно,
поменял курс и опять фронтальной атакой пошел на другой симпатичный
объект. Снова отпор. Все стало чужим, неинтересным, мелким.
Игорь вышел на кухню. Под лампой без абажура кружком стояли ребята,
курили, поминутно вспыхивали взрывы смеха. Игорь подошел к ним, кто-то
вежливо подвинулся, протянул ему пачку сигарет. Машинально, чего
никогда не делал раньше, Игорь взял суховатую «Приму» и затянулся.
Попытался вникнуть, а потом и войти в разговор. Рассказал, искусственно
посмеиваясь, какой-то анекдот. Его вежливо выслушали, образовалась пауза
и снова, как бы отчуждая Игоря, побежала прежняя веселая беседа. Чужой...
Ну что ж, надо было доламывать ваньку. Игорь сел на прежнее место
тамады, постучал по стакану ребрышком ножа, призывая к вниманию, — и
вся ликующая молодежь, обрадовавшись этому руководству, влюбленно и
мило улыбаясь Игорю, расселась по своим местам, и тут, приосанившись,
чуть картинно, с поднятым стаканом в руке Игорь встал, чтобы предложить
новый тост — за своего друга Владислава, доброго парня и хорошего
специалиста, который обязательно станет надежным и хорошим солдатом,
и начал витиевато и смело говорить и, видя искреннее внимание,
сочувствие и восхищение собою, говорил даже красиво, и в момент, когда
речь его в изящных сравнениях и тонких метафорах взбиралась все выше и
выше, он бросил взгляд вперед и в висящем напротив зеркале вдруг увидел
себя. И на мгновение оторопел, потому что над безукоризненным синим
пиджаком, над голубенькой, без единой морщинки, рубашкой, над
импортным галстуком с ровным узлом виднелось его лицо. В нем не было
ни молочного румянца юности, ни блеска глаз и матовости молодой кожи.
Лицо молодящегося мужчины под сорок. А ведь совсем рядом отражались в
том же зеркале, висящем под углом к стене юные оживленные лица парней
и девушек. Вот почему, окончательно сформулировалось в сознании Игоря,
вот почему чужой он среди них, вот почему, несмотря на его «Жигули»,
стильный костюм, и тренированный разворот плеч, девушки тянутся к
своим ребятам. Он старый для них, он из другого возраста. И новая мысль с
оглушающей силой втиснулась в сознание: да и вообще не такой уж он
молодой, молодость-то, она прошла, пролетела. Он перешагнул свой зенит,
прошел перевал, теперь покатится под горку. А где же тылы? Что есть у
него, кроме «Жигулей», квартиры с выставочной мебелью да прекрасных
воспоминаний? И еще: в зеркале Игорь увидел Володю. Повернувшись
лицом к тоненькой незаметной девушке, тот молча, приоткрыв рот, глядел
на нее. Что-то разошелся малец, промелькнуло в сознании вдогонку
прежней, так потрясшей Игоря мысли...
На следующее утро, в субботу, Игорь проснулся поздно, уже после десяти.
Сразу же возникло недовольство вчерашним. Игорь с трудом припомнил,
как напился, приставал к девушкам, что-то доказывал ребятам. Полезли
подробности какой-то пьяной потасовки, отвратительного хвастовства, все
было ничтожно и горько. Но тут же все перебило другое чувство: как с
машиной? Эта мысль подбросила Игоря с постели, словно окрик старшины:
«Рота, подъем!»
За окном, просвечивая через полоску зелени, стояли его «Жигули»,
чистенькие, не помятые, даже не запылившиеся на ночной дороге. Слава
богу, подумал Игорь, вещь цела, а уж со своей рефлексией он справится.
Водительские права, ключи от машины — он пощупал карман пиджака —
на месте, значит, ехал он прилично, ни в кого не врезался, и милиция его не
остановила. Но на будущее это ему урок. С чего же только это он так? И
опять, словно нож в сердце, ударила мысль: отыгрался, перешел через
перевал, покатилось к старости...
Почему же так быстро отлетела молодость? Куда она делась? И
оглянуться вроде не успел. Растаяла в этих «Жигулях», ковре на полу, в
книжных парадных шкафах, переполненных редко перечитываемым
дефицитом.
Игорь подошел к платяному шкафу и потянул на себя дверку с
приластованным к внутренней стороне зеркалом. Впервые, как стареющая
женщина, разглядывал он на себе шрамы времени. Нет, еще ничего, но на
боках появились брыли, чуть вырос всегда плоский живот, стали тоньше
ноги, лицо, похоже, еще не очень изменилось. Только под глазами и у носа
морщины да цвет лица потерял румяную матовость. Но глаза выдают:
тускловатые, серые глаза, без блеска и надежды. Да, да, он должен смотреть
правде в лицо — без надежды. Ему уже тридцать пять — пора подводить
первые итоги. Что дальше? Ну, еще пяток лет поимитирует молодость
подвижной фигурой, оживленным лицом с обаятельной белозубой
улыбкой. Еще пяток лет побегает в американских джинсиках — они тоже
скрадывают возраст. И все, милый, обаятельный грабитель родных
москвичей. Девушки начнут стоить дороже, уже и сейчас после работы
никуда не тянет, а хочется поваляться на диване и поглядеть телевизор. Что
выиграл он? А Алексей-граф уже защитился, должно быть, уже лет пять, как
они с Татьяной переехали из комнаты с бегущими в битву греками. Отстал
он от этого воинства, затерялся. Их сыну сейчас, наверное, уже лет десять,
ходит в третий класс. Пора догонять и Игорю. Он догонит, он обманет
жизнь. Пока он все же выиграл свою молодость. Он ее потратил красиво,
роскошно, на зависть всем. Его будущий ребенок с детства не будет знать
ни в чем отказа. Хватит, Игорек, рассусоливать. Зовет, солдат, тебя полковая
труба. Выше нос, снайпер! Пускай переживают нетренированные хлюпики,
которые с пеленок начали пускать пузыри. Ему пора приниматься за дело.
Нечего переживать из-за двух мокрохвосток, не следует падать духом.
Переключиться на возраст постарше стоит, это он примет к сведению.
Зеркало не врет. Плечищи у него еще будь здоров, шея сильная, как у
настоящего мужика, а ноги — ведь он же не футболист, шофер. Побегает
трусцой немножко по утрам. Не раскисать! Раз-два. Чем мы занимаемся в
субботу? Во-первых, легкая разминка, а во-вторых, генеральная уборка.
Никогда еще с месяцев, проведенных на армейской службе, не
чувствовал себя Игорь физически так хорошо. Хмельная ломота прошла,
организм, получив встряску, работал ровно, мощно, как хорошо обкатанный
автомобиль. И все у него в то утро получалось быстро и четко.
Послушные давно приобретенным навыкам, привычкам, двигаются его
руки, гоня по запылившемуся за неделю полу грязную воду. Какими
удивительно точными, почти гимнастическими движениями выкручивают
они тряпку: одна рука крепко держит ее над ведром — рука жилистая,
ровно поросшая светлым жестким волосом, виден каждый крошечный
мускул, а другая — резким и категоричным движением выкручивает — от
себя, как всегда отжимала белье мать!
После мытья полов так же быстро и тщательно Игорь выскреб кухню:
шкафы, кухонную посуду отдраил с горчицей, протер стекла в книжных
шкафах, пропылесосил ковер в комнате, в каждом углу вычистил,
выскоблил, вымел и чуть усталый, довольный, с лоснящейся от пота спиной
отправился в ванную. Стоя под горячим душем, он думал, что жизнь в
принципе хороша, он много видел интересного, сумел выстроить свой быт,
как хотел, и он еще полон сил, жадности к новым радостям, которые ему
предложит судьба. Он полон сил, чтобы получить от нее, может быть,
главное, для чего предназначен человек, —иметь семью и свои привычки,
свое мощное тело, жаркую кровь забросить в будущее — детей! Не
выбросить — детям передать все, что он заработал, накопил, приобрел. А
они уже доделают то, что не сумел сделать он. Нет, ему не поздно, он в
расцвете сил и житейского опыта.
С удовольствием, хотя пока и не очень определенно, Игорь думал о своем
будущем сыне, о том, как он перестроит дом и добудет себе новый большой
кооператив где-нибудь в центре, в доме актеров или писателей. Как будет
по утрам в воскресенье сажать своего прекрасно одетого малыша на
переднее сиденье «Жигулей» и сам, с уже чуть седыми висками, но еще
молодой, спортивный, везти его за город. И никто, конечно, никогда не
подумает, глядя на них, что едет обычный, не очень много получающий
работяга... Но это на будущее. А пока пусть хлещет по плечам горячая вода,
сейчас он пустит холодненькую, потом, стоя на мохнатом коврике, разотрет
себя тяжелым полотенцем, влезет в гэдээровский махровый халат и
сотворит себе королевский завтрак. Но в этот момент сквозь треск воды из
передней раздался настойчивый, вызывающий звонок.
Открыв дверь, Игорь застеснялся своих голых ног, торчащих из-под
халата, — на пороге стоял Володя, а из-за его плеча выглядывала мордашка
его подружки, лицо которой Игорь видел вчера в зеркале рядом с Володей.
— Игорь Савельевич, вы дома? — выпалил Володя.
— А что со мною могло случиться?
— Да вы вчера вроде не очень хорошо себя чувствовали под конец
вечера.
— Мы сразу заметили, — ввязалась в разговор девушка, — что «Жигули»
ваши во дворе, значит, вы дома.
— И даже не поцарапаны, — добавил Володя.
— Разглядели?
— Разглядели, — спокойно констатировала девушка. И посмотрела на
Игоря прямым и любопытным взглядом.
Привычно встретив этот глубокий и любопытствующий взгляд, Игорь с
удовлетворением подумал, что судьба, барин-случай, видимо, посылает ему
компенсацию за вчерашний проигрыш. Он уже приготовил какие-то фразы,
легкие и двусмысленные, которые очень хорошо подводят к отношениям
таким же легким и нетребовательным, но почему-то еще раз взглянул на
лицо девушки и обомлел от той внутренней мерцающей значительности
души, которая проступала на этом простоватом лице и которая, наверное, и
зовется красотой. Девочка не знала себя, она еще думала, что, как и ее
подруги, она только молода и только свежа, а уже была чем-то иным... Он и
не предполагал, что такой тип женщины можно встретить на улице, в
простецкой компании. Таких показывают в кино, изредка они появляются
на сцене, но в жизни... Она еще не знает себе истинную цену...
— Что же вы, ребята, стоите в дверях? — спохватился Игорь, обычно не
любивший непрошеных гостей. — Мы же должны отпраздновать ваш
приход. Володя, заводи гостью в комнату, я пойду переоденусь.
— Спасибо, — сказала девушка.
И опять Игорь удивился значительности ее взгляда. Внутренней
природной красоте, просвечивающей в лице и глазах. Как же ее Володя
отыскал?! Нюх у этого парня на настоящее. Краешком сознания мелькнуло:
что-то уж очень самостоятельным стал его сменщик...
Игорь запахнул халат на груди и почувствовал, что краснеет. Это
состояние было для него так ново, вернее, так давно забыто, что он
растерялся, раскрыл дверь из прихожей в комнату, замельтешил, стал
выдвигать на середину кресло, но потом вспомнил, что не одет, куликом
побежал в ванную, выхватив по дороге из стенного шкафа старенькие
джинсы и легкий бумажный свитерок.
Причесываясь и переодеваясь, Игорь все время чувствовал: сердце как-то
удивительно полно и гулко бьется. Мелькнула мысль, что надо бы надеть
чистую белую рубашку, но посмотрел в зеркало, и на этот раз оно ему
сказало другую правду: в старом, обтягивающем плечи свитерке он был юн,
подтянут и даже, черт возьми, даже, как ему показалось, красив. И он уже
знал, что в его жизни что-то случится, что ему не следует молодиться перед
этой девушкой, не надо осторожничать. Рядом с нею он всегда будет молод
и счастлив, если только сумеет добыть это счастье, потому что с нею, с этой
девушкой, в его дом вошла судьба.
На этот раз он не станет наводить особого порядка. Судьбе все равно, из
каких рюмок будут пить его гости. Ей важно было доставить их к порогу его
квартиры, а ему — проверить: судьба это или случай? Пусть все будет по-
простому. Выпить у него найдется, а главное блюдо — жареную картошку
он изготовит.
Когда сковородка со скворчащими картошинами уже стояла на столе в
кухне, Игорь вызвал из комнаты гостей.
Девушка не отнекивалась, не говорила, что уже поела, демонстративно
не отодвигала от себя рюмку, когда и ей Игорь налил из запотевшей
бутылки.
— Со свиданьицем, — сказал Володя.
— За знакомство, — сказал Игорь, — меня, как вы знаете, зовут Игорь,
его — Володя, а вас?
— А меня Зина. — Девушка высоко подняла рюмку и первой выпила.
— Ну что, рабочий класс, — сказал Игорь, повернувшись к Володе, — не
будем отставать?
— Не будем, Игорь Савельевич.
— Ну, что ты все время липнешь ко мне с отчеством... А впрочем, хоть ты
меня величаешь важно, а вот отобью я у тебя девушку...
— А может, девушка будет против?
— Девушка против не будет, — сказала Зина.
Пошутила? А может быть, сказала правду под видом шутки?
Игорь поразился этой догадке. Наверное, естественно, подумал он, что ей
нравятся парни постарше, уже тертые жизнью, с опытом, броские. Может
быть, она приметила его еще на вечеринке? Или хочет подхлестнуть
Володю? В чем-то они с Володей похожи. В чем?.. Эта мысль беспокоит
Игоря. Он чувствует, как поднимается в его душе настороженность против
сменщика. Не упустил ли он его? Что-то больно резво делает он успехи. На
базе его любят. Девушку вот хорошую разыскал. Нет, тюфяк... Квартиры все
еще никак не получит. Рубашка на нем выцветшая, плохонькая. Его можно
со счетов сбросить...
— А девушка по закону уже имеет право решать? Ей есть восемнадцать
лет? — спросил Игорь и понял: они почувствовали, что разговор идет не
простой.
— Восемнадцать лет ей исполнилось, — ответила Зина, поддерживая
форму разговора, предложенную Игорем, — ей восемнадцать исполнилось
весною.
— А папа, мама? Моральные обязательства?
— У Зины никого нет, — вмешался Володя, — нет у нее родителей;
помнишь, в Сочи разбился самолет, еще в газетах об этом было, вот ее
родители на нем из отпуска и летели. Ни братьев, ни сестер. Она одна.
— Прости меня, Зина, — сказал Игорь.
— Ничего. — Девушка перестала есть и с вызовом посмотрела на Игоря.
— Подытожим? Девушка имеет по закону право решать.
— А как же ее парень?
— Да что вы обо мне... психи, — чуть ли не заплакал Володя, отбросив
вилку.
«Я везунок, определенно, — думал Игорь. — Сама судьба посылает мне в
руки эту девушку. Я действительно, наверное, ей нравлюсь, понравился еще
вчера. Восемнадцать лет! Из нее еще можно вить веревки. Воспитать из нее
жену, научить всем своим привычкам, держать, пока она еще не избалована.
И главное: ни тестя, ни тещи, к которым она будет убегать, если не
понравится у мужа. Пускай убегает в свой барак на платформе Хлебниково.
Оптимальный вариант. В другой раз такого может и не быть. Разве у меня
не хватит воли и энергии? Я на ней должен жениться... Только как у нее с
Володей?..»
Они оба — Игорь и Зина — в это мгновение впервые отвели глаза друг от
друга и посмотрели на Володю Он сидел белый.
«Власть не дают, ее берут». Что там было еще на фризе в квартире дома,
где он, Игорь, жил в подвале? Похищение лапифянок. Кентавры похищают у
лапифов прекрасных женщин. В книжном шкафу сейчас стоит альбом с
репродукциями рельефов Парфенона. Он, Игорь, может встать и
посмотреть. Но только он помнит все наизусть, с детства. В квартире у
Гофманов — соседей Татьяны и ее брата — вдоль всей стены развертывался
почти такой же сюжет. Когда еще был последний раз в этом доме, и они с
Татьяной быстро клали покупки на стол и тахту, он тогда еще спросил:
«Таня, а Гофманы не переехали?» И Татьяна сказала: «Нет, не переехали,
только Наташка вышла замуж за какого-то математика и теперь живет у
него на Серпуховке». «А чего же, когда мы проходили по коридору, у их
дверей ведра с краской и куски штукатурки?» «У них ремонт». «Скалывают
«художества», чтобы были ровными стены?» «Просто косметический
ремонт, белят. Ничего скалывать уже не разрешают. Говорят, через
несколько лет наш дом возьмут под посольство». «Значит, Гофманы, как и
ты с Алексеем, продолжают жить в конюшне?» «Это мы с Алексеем живем в
конюшне. У Гофманов «чистых» лошадей нет, у них кентавры». «Я тоже
кентавр, — подумал Игорь, — человек и автомобиль одновременно».
5. НОВОСЕЛЬЕ
Когда внизу, на первом этаже дачи, хлопнула дверь, Игорь подумал:
«Бедный кентавр!» Как удивительно судьба тиранит человека, возвращая
на круги своя. К чему сейчас ему этот огромный дом, где он думал доживать
жизнь? Молодой сад, только прутики, но под разросшимися кронами этого
будущего сада, на зеленой траве, за большими столами он собирался
справлять свадьбу сына. Может быть, в последний раз по этому дому, по еще
скрипящим некрашеным половицам прошлепал его сын десять минут
назад. Мать никогда не пустит сюда его. Ну уж, дудки! Ни один закон не
запретит ему видеться с сыном. Но мать не разрешит ему привозить сына
сюда. Собственного сына в собственный дом. Он слишком хорошо узнал
Зинаиду за пять лет, что они прожили вместе. Ну, что же, сквитался с ним
сменщик Володя. Выждал свой час. Он, Игорь, отобрал у него девушку, а
Володя, тихий и скромный сменщик, увел у него жену и сына. Сына ему не
вернуть. Суд всегда оставит ребенка матери. Он допустил ошибку, когда
разрешил Володе бывать в их семье.
.. . С того дня, как вместе с Володей впервые пришла к нему в дом Зина, он
начал с нею встречаться. Они втроем хорошо посидели на кухне, потом
провели время у телевизора, пили чай и танцевали, и чем больше Игорь
смотрел на девушку, разговаривал с нею, тем определеннее становилась
ранее мелькнувшая мысль: Зина появилась в его доме не случайно. Сколько
здесь побывало женщин и девушек, уверенных в себе, знающих, что сказать
и в какую минуту, приходивших сюда с тайным желанием задержаться в
этих комнатах, мечтавших стирать Игорю рубашки и кормить его утром
завтраком, — и ничего... А тут впервые его сердце глухо и тревожно,
беспричинно забилось, когда он глядел на эту девчонку, слушал ее голос, во
время танцев осторожно касался ее плеча. Он немножко одурел в тот день,
потому что повел себя как мальчишка и дальше, вплоть до свадьбы и, как
выяснилось, до сегодняшнего дня, городил одну глупость за другой. А
главное, он, снайпер, стрелок, позволил себе бесконтрольно увлечься,
растаять, начать играть по тем жизненным правилам для всех, которые с
юности презирал. Тогда он понимал только, что Зина ему нравится.
Он улучил мгновение и на кухне, когда Володя пошел в комнату, чтобы
перевернуть на проигрывателе пластинку, по-воровски, шепотом сказал:
— Зина, позвони мне как-нибудь вечером. Вот номер, — и вложил ей в
руку скомканную, теплую бумажку, на которой уже два часа назад записал
свой номер телефона.
— Хорошо, я позвоню.
А потом неделю сидел дома, срываясь к каждому звонку.
Потом они начали встречаться. Игорь понимал, что Зина встречалась с
ним только тогда, когда Володя был на работе. Видимо, Володя был ей
всегда ближе. Они одинаково смотрели на мир и, наверное, одинаково
равнодушно относились к тому, чем так дорожил он, Игорь. А он, Игорь,
разнюнился — влюбился. Вот она, незапланированная случайность. Он
перестал играть по своим холодным и безошибочным правилам. И разве бы
он позволил себе такое с другой женщиной: сидеть рядом в кино,
осторожно, как драгоценность, держать ее руку и думать, что эту руку
завтра или через час может так же бережно держать другой. С другой
женщиной было бы не так: «отстрелялся», и, если ты пылишь мне мозги,
будь здорова! Может быть, его и подхлестывало, что она так молода и так по
сравнению с ним молод еще неподдельной молодостью его соперник.
Она долго не хотела прийти к нему в гости. Боялась его, боялась себя?
Теперь ясно, она дорожила дружбой с его сменщиком. Он, Игорь, сделал все,
чтобы вскружить ей голову, показать мир таким, каким она никогда не
увидит с Володей. Ему надо было получить ее любовь. Методически,
расчетливо он на каждый вечер сбивал для Зины программу. Возил ее в
Архангельское — прогулка по затихающим, освещенным холодеющим
вечерним солнцем террасам и ужин без вина в ресторане; тихая пешая
прогулка по Москве, когда Игорь терпеливо показывал ей маленькие
арбатские особнячки, каждый из которых был освящен знаменитой
историей, связанной с именами Пушкина, Грибоедова, Аксакова. Он
аккуратно и настойчиво штудировал перед этой прогулкой «Из истории
московских улиц» Сытина, смотрел справочники. Или смена декораций —
бурное, «простонародное» воскресенье: Парк культуры имени М. Горького,
мороженое, взлетающие качели, колесо обозрения, катание на лодке по
Москве-реке и шашлычная с бутылкой болгарского вина и теплым свиным
шашлыком.
И весь божий мир с ним, с Игорем, видимо, показался Зине другим. Из
Парка культуры после шашлыка и вина они поехали смотреть телевизор к
Игорю, но, к его удивлению, этот вечер, который они провели у него дома
вместе, который Игорь ждал, как совсем молоденький мальчишка,
накрепко, как Игорь думал, их не соединил, не привязал Зину к нему.
Почувствовав себя мимолетными хозяйками, девушки обычно хотели бы
навсегда остаться в роскошной его квартире. С Зиной этого не случилось.
Будто бы ее и не интересовал другой, отличный от жизни у нее дома,
налаженный, «почти европейский» быт, атмосфера комфорта, которые так
дороги женскому сердцу. Игорю продолжало казаться, что Зина встречается
с Володей. Что-то из-под контроля выходил его сменщик. Он даже не знал,
как она относится к нему, к Игорю. Любит ли?
С ним это все произошло впервые. Еще и еще раз увидеть эту девушку,
коснуться ее, глядеть на нее, чувствуя, как сильно и беспричинно тревожно,
по-юному бьется сердце. Судьба отомстила ему за всех прежних женщин. Ну
что он мог поделать с собой, если уже утром ему было почти всегда скучно с
ними! Они сразу начинали домовничать, пытались выстирать его рубашки,
убрать на кухне, вытереть пыль с полок, а он скучно думал: «Ну когда же она
уйдет?» Здесь все получилось по-другому. Он каждый день удивлялся себе:
ну почему так хочется ему видеть Зину? Что в ней такого, что ему нужно
дышать с ней одним воздухом, постоянно знать, что она рядом, за стенкой, в
конечном счете она его, навсегда его, как квартира, как «Жигули»?
Их женитьбу, — ну и пусть она ушла с этим мерзавцем, которого он
выучил и пригрел на груди, но ведь сколько за пять лет было счастья,
сколько нежности, и ведь есть сын! — их брак решила не ее любовь — это
Игорь знал еще тогда, не привязанность — это к ней пришло позднее, когда
она мучилась головными болями, а он часами сидел рядом с ней, подавал
холодное полотенце, забросил работу и мог, плюнув на все, искать по
Москве клюкву в июле, замороженную сливу, свежие грибы, сосьвинскую
селедку или землянику, — их брак решила ее беременность.
Она не сказала ему об этом. Но два вечера подряд у нее открывалась
рвота. Игорь, обезумев, бегал по квартире и, наконец, вызвал «неотложку».
Приехавший пожилой врач успокоил Зину, погладил ее по голове, сделал
укол, от которого она задремала, и в прихожей сказал Игорю:
— Ваша жена беременна. Именно первая беременность проходит так
тяжело, — улыбнулся врач оторопевшему Игорю, — со вторым ребенком
будет легче.
«Боже мой, — подумал Игорь, когда дверь за доктором закрылась, —
значит, это возможно, а я уже и перестал мечтать, что Зина может выйти за
меня замуж. Куда же она денется теперь, когда у нее будет ребенок? Но
главное — ее не спугнуть». Он обделает все ласково, потихоньку. А потом:
стерпится-слюбится, он еще обомнет ее строптивость. Вперед, гвардия! На
новые позиции, снайпер.
Утром за чаем он заметил Зине:
— Доктор сказал, что у тебя будет ребенок.
— Я знала, — произнесла Зина, спокойно облизывая ложечку после
джема.
— А мне не сообщила, потому что я не имею к этому отношения? Может
быть, это Володин ребенок?
— Володя мальчик. Мне просто интересно с ним.
— А со мною тебе разговаривать неинтересно?
— С тобой все по-другому. С тобой мне хорошо.
— Может быть, нам все же пожениться? — как бы между прочим
произнес Игорь, а внутри у него все напряглось, потому что именно в эту
минуту решалось, будет ли он, как все, счастлив, создаст семью, у него будет
сын. Уже три или четыре раза она отказывала ему: «А зачем? Мне и так
хорошо. Я не знаю, люблю ли я тебя». Он ждал от Зины ответа, а она
спокойно, будто бы в жизни ее в этот момент ничего не ломалось,
аккуратно облизывала ложечку. Наконец она ответила:
— Володя мне тоже несколько раз предлагал пожениться.
— Но ведь у тебя мой ребенок, — сказал Игорь и опять подобрался.
«Готовься к поражению, снайпер. В спорте главное не победа, а участие. Ты
сделал все, чтобы получить эту не твою по молодости девушку. На таких
женятся сорокалетние доктора наук. На чистых, молодых, правдивых. Они
находят и открывают их, сначала незаметных, обыденных. А мне открыть и
дать ей свою фамилию не удастся. Готовься к поражению, снайпер. Ведь все
в жизни слишком тяжело давалось тебе. Готовься к терниям, звезды будут у
других».
— Это правда, — сказала Зина, — ребенок твой. Поэтому-то я Володе и
отказала. А ты уверен, что нам надо пожениться?
— Конечно, — сказал Игорь. — Я ждал тебя всю жизнь, мне никого не
нужно, кроме тебя, никого.
— Правда, Игорь? — У Зины вспыхнули глаза. — Правда?
Он посмотрел на нее долгим, открытым взглядом.
Все было ошибкой. Тогда он думал: только бы зацепиться, только бы она
вышла за него, а уж удержать он ее сумеет, он будет работать, как вол, как
сорок тысяч отцов и братьев не смогут работать, и она никогда не уйдет из
комфортабельной жизни в жизнь другую. Он не оценил ни ее силу, ни
Володьку, своего — будь он проклят! — сменщика. Он перестал за ним
наблюдать. Он думал, что тот все такой же деревенский недотепа,
перенесший свои колхозные привычки в Москву. Он, Игорь, думал, что рано
или поздно Володька начнет жить, как он, — само время, дескать,
подскажет. Володька спланировал свою жизнь по иной системе координат,
ему все досталось легко, без лжи, все у него случилось незаметно, сначала
начальником колонны, а потом главным инженером автобазы назначили
именно Володьку, а тот еще каждый раз отнекивался, ему, видите ли, этого
ничего не надо. Ему же, Игорю, когда подошло время — сколько же можно
подбирать «справные» пятерочки и трояшки, шоферить, гнуть шею перед
женою начальника и ради лишнего свободного часа брать у нее поручения
съездить за картошкой на рынок или к ее приятельнице за мотком шерсти,
— а ему, Игорю, когда подошло время, пришлось уходить начальником
склада — всего лишь начальником склада на станцию техобслуживания. Он-
то, конечно, и тут свое брал, в его руках весь дефицит, а частник, он звереет,
когда часа четыре постоит на дворе с неисправной машиной в гомоне, в
крике, а потом узнает, что сделать с его «Жигулями» ничего нельзя, и ему
надо еще и еще раз приезжать на станцию и улыбаться, улыбаться
девушкам-приемщицам, знакомиться со слесарями, чтобы «сделали
получше», и тут частник готов вытрясти весь бумажник, весь, до дна,
улыбаться жалко и пакостно, и заискивать, и просить «христа ради»: только
достань ему, найди коробку передач или выжимной подшипник. Здесь
Игорь собственными унижениями, презрением, читаемым в глазах
ободранных, но тем не менее благодарных клиентов, ухватывал свои три-
четыре сотни. Но ведь Володька-то нынче брал свои три без заискиваний,
безо всякого страха перед ОБХСС, он спал спокойно, чувствовал себя правым
и потому так уверенно и прямо глядел всем в глаза. Не оценил он, Игорь, и
своей жены. Она не осталась только прямодушной и простенькой девочкой.
Игорь все от нее скрывал и знал твердо, что и Володя ей о нем ничего не
сказал — Володя ни разу не проговорился, что его «учитель» простой
шофер, он дал Игорю слово и держал его крепко — для Зинаиды Игорь
всегда был инженер, завгар. Даже после того, что произошло, Володя ни
разу не воспользовался его «тайной». Значит, она сама узнала его
подноготную, прислушиваясь, когда он, Игорь, вел из дома по телефону
переговоры с клиентами, когда намекал им, каких трудов стоит достать эти
разнесчастные валы, коробки передач, сальники, амортизаторы. Значит, она
сама его вычислила. Сегодня она так ему и сказала:
— Я презираю твою суету, этот дом, машину, боязнь соседей, и я от тебя
уйду.
— К Володе? — спросил он.
— К Володе.
Он хотел выругаться, ударить ее, уничтожить. А здесь же рядом стоял ее
сын, их сын. Запомнит, закричит? И здесь же, через стенку, в комнате среди
нужных гостей, созванных на новоселье на их новую дачу, — Володя;
молодой, сильный, ведь он убьет его, если Зинаида закричит.
— Давай поговорим, когда уйдут гости, — сказал Игорь, стараясь быть
спокойным.
— Когда уйдет последний гость, я уйду вслед за ним и возьму сына.
— Сына я тебе не отдам.
— Не говори глупостей. Сын будет с матерью. А пока как следует мой
тарелки.
— Ты уедешь к Володе?
— Да. Я его не переставала любить.
— Значит, в моем доме ты крутила с ним шашни?
— У нас ничего с ним не было.
Ему бы, Игорю, тогда же начать все крушить, застрелить, что ли, из
охотничьего ружья своего бывшего сменщика! Может быть, она ждала от
него поступка, какого-то действия, которое он должен был совершить, в
ущерб себе, своим вещам, своей даче? Он, как дурак, подумал, что сначала
надо провести мероприятие, закончить новоселье, а потом все образуется,
станет на свое место, он ее уговорит. Будто бы он не знал, вернее, не узнал
за пять лет совместной жизни своей жены, не знал своего сменщика.
А разве что-нибудь поменялось бы, если бы он, Игорь, ударил Володю,
затеял бы с ним драку? Разве Володя не был верным другом, самым
верным? Володя не отбирал у него Зины. Он просто ее любил и твердо знал,
что рано или поздно ей до тошноты надоест его мир. Повзрослеет и поймет.
Не ошибся сменщик. То, что случилось, должно было случиться. Значит,
Володя — теперь Игорь понял — поддерживал его и тогда, когда сам не
верил в то, что делал для своего «учителя», когда помогать сменщику и
«учителю» было ему неприятно. Разве бо
́
льшую часть строительства не
выволок Володя на своих бескорыстных плечах? Тут, наверное, впервые
Зина и узнала, как Игорь строил этот проклятый дом. Как же, у него родится
сын — только сын, продолжатель, наследник, собиратель! — и пусть у
парня сразу будет все! Зина еще была беременна на шестом месяце, а Игорь
уже купил развалюху-дачу, сарай, но на хорошем большом участке. Надо
торопиться, пока еще остались силы, есть знакомые, есть гараж, и ребята на
грузовиках не откажут подбросить пару машин вагонки. Пусть он пока
лишь простой шофер — тогда Игорь еще не уходил на станцию
обслуживания, но соседи не должны этого знать. Пусть эти неудачники-
интеллигенты предполагают, что поселился у них под боком писатель или
на худой конец крепышок мужичок, у которого в кубышке водятся
деньжонки! Он выстроит хоромы на грани дозволенного, они закачаются от
зависти. А уж как строить, как сделать, чтобы все было шито-крыто, он
знает. Но главное — не торопиться. Не вызывать волнений у ОБХСС и
народного контроля. Очень уж много за последнее время развелось
жалобщиков.
В те дни, наверное, Володе очень не хотелось влезать в эту
полулегальную строительную кутерьму. Но он влез. Даже не ради Зины. Он
торопился показать «учителю» на наглядном примере, что, и построив свою
сверхдачу, тот ничего не добьется. Это теперь он, Игорь, понял, догадался,
почему так терпеливо Володя сносил все тяготы этой стройки, — ведь в то
время Володя еще только заканчивал техникум.
Вскоре после того, как было решено насчет женитьбы, Игорь заставил
себя поговорить с Володей. Заставил себя, скрипя зубами, потому что ни с
кем не хотел говорить о своей женитьбе, о своей жене, о своей любви. Это
было в субботу, в тот день вдвоем, без слесарей, они делали ТО-2
профилактику. В обед они выпили «щенка» — четвертинку: на линию
обоим не выезжать, закусили килькой в масле, и, нарочито тщательно
пережевывая последний кусок, Игорь сказал, опустив глаза:
— Я женюсь на Зинаиде. У тебя что-то с ней было?
— Ничего у меня, Игорь Савельевич, с нею не было. Мы просто дружили.
— Ты прекрати эту дружбу. Она уже беременна.
— И в гости я теперь к вам ходить не могу? — после паузы спросил
Володя.
Игорь еще старательнее пережевывал кусок хлеба, потом проглотил.
— Ты мой друг. Почему же тебе не приходить в гости?
— И с твоей женой я могу разговаривать?
— Ты же ей друг! — подковырнул Игорь. А сам подумал: дело сделано.
Уже растет будущий сын. Теперь Зинаида навсегда его. Он уже подарил ей
кольцо с бриллиантом. А кто еще мог ей подарить такое дорогое кольцо?
Какой бесштанный и волосатый пацан? Ребенка тот подарить ей еще бы
мог, но и ребенка подарил он, Игорь. Так что пусть дружат. И он ответил
Володе, благодушествуя: — Я что, деспот? Я современный человек...
Разговаривайте. Познакомишь ее с новой своей девушкой, может быть, они
подружатся...
— Я надеюсь, — сказал Володя, как показалось тогда Игорю, грустно. А
Володя, оказывается, высказал вслух то, что думал: он на что-то надеялся.
Он, его сменщик, был уверен, что когда-нибудь Зинаида сама разглядит его
«учителя» — Игоря.
Все это время, после того, как за Володей и Зиной, несущей закутанного в
одеяло Кирюшу, захлопнулась дверь, Игорь безостановочно, не выключая за
собой свет, бродил по дому: из кухни в спальню, спускался в гараж, забитый
рулонами толя, мешками с цементом — все это были остатки от
строительства. Колонка с автоматической газовой печкой ровно гудела,
разнося по всем уголкам дома умеренное тепло. Выстроенный на целую
вечность дом еще жил своей размеренной, вычисленной и
сконструированной жизнью, но стержень ее, суть, дух ее и смысл исчезли —
он, Игорь, оставался здесь один.
Он мог бы рассказать историю каждого здесь кирпича, каждой
ступеньки, каждого деревца в саду и каждого бетонного столба в ограде. Все
это надо было не только достать, привезти, купить, организовать,
поставить на баланс в поссовете, но и за каждую щепку, за каждый
привезенный «левый» пуд щебня и бетона переволноваться. Отгрохать на
виду у соседей, поссовета! И теперь дом не нужен. Сколько иезуитской
хитрости потребовало все это от него! Уже когда родился Кирюша, вдруг на
его участке, со скромными штабелями кирпича, появились десять человек
мужиков — его друзья, знакомые, Володя, сослуживцы из гаража — и в один
день выкопали метровый колодец под фундамент. Ночью в большой
армейской, привезенной на «рафике» палатке они устроили пьянку с
жарением шашлыка, а уже утром, только взошло солнце, канаву под
фундамент начали забрасывать щебнем, песком, бутовым камнем, сверху
залили бетоном, и уже к вечеру Игорь всех увез в ресторан. Тишина, тишина
над растревоженным поселком. Пусть садится фундамент, пусть зарастает
крапивой, бурьяном, пусть утихнут разговоры, предположения, сплетни. До
следующей осени. Он даже не станет сюда приезжать. Всю зиму. Всю зиму
он будет заниматься «подготовительным периодом». Достать, привезти,
договориться, добыть справку, что «товар» не ворованный. Трояк девушке в
магазине стройтоваров или на складе брака домостроительного комбината
— и на руках уже копия товарного чека. А на следующий год за две недели
четыре каменщика уложили тридцать четыре тысячи кирпича. Ровно в
назначенный час, ни минутой раньше, ни минутой позже въезжал самосвал
с раствором и — никаких денег: только на выезде из поселка в условленном
месте под камнем или в дупле дерева, в ржавой консервной банке лежала
аккуратно сложенная тридцатка. Игорь следил за всем, координировал
работу целой бригады, споро и четко выкладывавшей стены. А в это время
заботы о своей семье он взвалил на Володю. Тот теперь чаще виделся с
Зиной. Ездил ей за продуктами, даже Кирюша к нему привык. Так малыш
привык, что больше тянулся к Володе, чем к родному отцу. Недаром именно
у Володи находилось время свозить его в воскресенье в зоопарк, уголок
Дурова, в кукольный театр, покатать на отцовской машине. А ему, Игорю,
было некогда. Он вколачивал себя в «будущее» семьи, дома — возился на
участке, вместе с Зинаидой сажал яблони, копал грядки под огород и был
даже рад, что Володя хоть на несколько часов освобождал их от забот о
малыше, давал время, чтобы они с Зиной вместе, сообща поработали над
своим спокойным, безбедным и комфортабельным будущим. Ему казалось,
что и Зина трудилась на участке с удовольствием, всласть. И он, Игорь, был
счастлив, что она рядом, что она набирается от него житейской хватки,
сноровки, и одновременно тихо и, как ему казалось, ненавязчиво он обучает
ее массе важных, полезных и необходимых для их светлого будущего
приемов. Только теперь он понял, что душевно надсадил, занудил ее,
замучил, совершенствуя и воспитывая, Она стала взрослой женщиной и
развивалась по своим законам, а он навязывал ей свои. Володя ничего не
навязывал, он любил Зину не в будущем, а сегодня и взрослел рядом с нею.
Наверное, молодость и давала ему энергию, которой недоставало Игорю.
Володя искал любой предлог, чтобы увидеться с Зиной. Встретиться с
Зиной, взглянуть на нее — для него это было главным, а для Игоря после
женитьбы, после появления на вечные времена законного права
собственности на жену и права на безусловность соучастия ее в его делах
все время возникали дела более важные, неотложные, более обязательные.
Жена вытерпит, жена простит, жена поймет.
«Ты даже не смог встретить меня из больницы». Она лишь обронила эту
фразу, три года, видимо, готовилась, чтобы ее сказать. А он-то, дурак, думал,
что жена все поймет. Она, может быть, и все поймет, но как женщина ничего
не простит. А ведь все казалось таким простым, он, Игорь, объяснил ей
ситуацию, и уже на следующий день ему казалось, она все поняла, поняла,
что случилось несчастье, и он действительно не мог приехать и вместо себя
прислал друга дома — Володю.
Все тогда стеклось: день выписки Зины и Кирюши из больницы, куда их
положили, когда в два года Кирюша заболел воспалением легких. Их
должны были выписать в три часа дня, а с утра Игорь договорился, что на
участок приедет автокран, чтобы на крышу почти готового дома положить
бетонные плиты. Их надо было положить немедленно, потому что они уже
целый день мозолили глаза всему поселку. Положить, закрыть толем,
залить битумом. Но приехавший автокран — слишком уж велико Игорь
отгрохал, строение — начал вязнуть на приболоченной почве. Пришлось
бежать за трактором, вытаскивать кран. И снова пришлось обращаться к
Володе. И тот поехал без звука и привез домой его жену и его сына из
больницы. А когда поздно ночью Игорь вернулся с дачи в Москву, Володя
спал на раскладушке на кухне. Может быть, у них все началось тогда? Нет.
Он шепотом выговаривал Зине, что ей, замужней женщине, в отсутствие
супруга нельзя было оставлять в доме ночевать мужчину, надо беречь
репутацию, он-то, Игорь, конечно, плохо об этом не думает, он слишком
уважает и жену и друга, но что могли подумать соседи... О, это его занудство
приличий! И сегодня, может быть, не было бы сказано роковых слов, если
бы он дал жене всласть натанцеваться с Володей и не пилил, когда они
накрывали вместе стол.
Он думал, что именно новоселье станет рубежом его прежней жизни.
Четыре года, пока он строил дом, он думал об этом празднике. Когда копали
фундамент, он уже видел и большую комнату, в которой стоит длинный
стол, накрытый белой скатертью, и рюмки перед приборами. Все
представлялось чрезвычайно чинным, с негромкими интеллигентными
голосами гостей: «простите» — «не стоит беспокойства», «передайте,
пожалуйста, мне рыбу» — «благодарю вас, не попробуете ли вы салат?»
Таким он еще в детстве, в фильмах той, навеки отлетевшей эпохи, видел
застолье, поразившее его детское воображение, застолье в квартире то ли
академика, то ли знаменитого писателя. Но одно до самого последнего
момента Игорю было неясным: кто же сядет к нему за гостеприимный стол?
Все последние недели, взяв отпуск, он вместе с Зиной ходил по
комиссионным магазинам, покупал на двенадцать персон сервизы, стекло;
если попадался, не отказывались от хрусталя, свозили на своем
«Жигуленке» скатерти, сумки с вином и напитками, везли новую, не очень
дорогую, но новую — в доме, в их доме, в их крепости не должно быть
никакого старья — мебель. Перед лицом дальнейшей судьбы Игорь был гол:
на этот первый в его жизни праздник, где он будет выступать впервые как
хозяин, он потратил все остатки своих многолетних сбережений.
Он так надеялся, что в этих хлопотах вспомнит, наконец, решит, кого же
из людей, искренне любящих его, и тех, кого он сам искренне любит,
позвать на новоселье. Но назначенный день приближался, а
торжественного и желанного списка гостей все не было. Кого же звать? Ну,
Володя? Юрий Викторович с супругой? — нельзя, нечего ему знать, как
живет его бывший шофер; друзей детства, Веньку, Татьяну, Алексея-графа,
чтобы посмотрели, в какого лебедя превратился гадкий утенок? — с ними
он уже давно не поддерживает отношений, а Татьяна не придет и даже по
телефону не станет с ним разговаривать. Кого-нибудь из нынешних его
клиентов со станции техобслуживания? — а там есть и большие артисты, и
теледикторы, и известные писатели. И он, Игорь, долго колебался,
прикидывал, кого позвать, кто с кем будет «монтироваться», как отнесутся
к нему, к его молодой жене, и в конце концов решил: если звать некого, то
он позовет своих товарищей по новой работе, ребят справных, парочку
знакомых завсекциями из универмагов — людей пьющих, чистых и,
конечно, полезных, и уж с ними, так сказать, в своей компании, повеселится
и, конечно, позовет Володю. Праздник он устроит для себя!
Накрывать на стол он решил сам. Его обуял какой-то бес недоверия. Он
влетел в кухню, где Зина и соседка-старуха колдовали над тазами с салатом,
и проверил, достаточно ли мелко они режут овощи и мясо, потом бросался
перетирать стекло, чтобы на бокалах не было ни пылинки, расставлял
стулья так, чтобы уместить всех приглашенных без тесноты, и
одновременно как бы заводя в своем доме традицию самого высокого
класса на будущее, все время вызывал Зину из кухни. «Смотри внимательно,
— говорил он, — и запоминай. Скатерть на стол всегда надо стелить,
предварительно положив кусок байки. Так посуда не будет ерзать и фужеры
получат устойчивость».
Зина сначала просто отшучивалась: «Да я же не в официантки
готовлюсь». Игорь злился: «Порядок в доме должен быть, порядок. Нельзя
вечно жить как на вокзале. Да, кстати, старухе про нас особенно не
распространяйся». «Подумаешь, тайна!» — говорила Зина и убегала на
кухню.
«Ну что, — говорила Зина, обращаясь к старухе помощнице, — сделаем,
как просит муженек?» «Очень он у тебя знающий, — говорила старуха
прямо при Игоре, желая подольстить обоим супругам, — большой человек,
зарплату, наверное, хорошую получает, а так во все вникает». «Он у меня
такой», — говорила Зина. И непонятно было, осуждает она мужа или
восхищается его разносторонними талантами.
А Игорь снова срывался в комнату и снова звал Зину: «Запоминай: нож
полукруглый — для сыра...» Он все это говорил, даже сам удивлялся тому,
как много знал об этой ритуальной, внешней стороне жизни, и чувствовал,
что жене это неприятно, он как бы низводит ее во второй сорт людей,
которые не знают, как специальным ножом и вилкой есть рыбу, но
остановиться не мог — наступал час его жизненного торжества, его знания
и совершенной компетентности.
Он бегал по всему дому, и у него была тысяча забот: самому расставить
судки и блюда, на сервант водрузить вазу с фруктами, на маленький столик
у кресла положить несколько пачек сигарет и поставить настольную
импортную зажигалку, — он знал по рассказам, что так всегда делают на
приемах. Потом надо было сложить дрова в камин. Он ошарашит своих
гостей. Когда все выпьют и закусят, он подожжет кусочек бересты под
сухими поленьями, и во время кофе все будут сидеть и глядеть на огонь.
Но все получилось совсем не так, как Игорь предполагал.
Сначала, перед самым приходом гостей, когда выяснилось, что надо
сделать еще два десятка мелких дел, пропала Зинаида. Игорь кинулся ее
искать и обнаружил, что она спокойно, не заботясь об еще не натертом
хрене и не нарезанном хлебе, одевается в спальне в свое самое нарядное
длинное платье. «Как же так, Зина, — накинулся на нее Игорь, — ты же
хозяйка, у нас на столе ничего не готово!» Она ответила: «Я тоже, как все,
хочу быть красивой и хочу веселиться». Игорь сразу подумал, что слишком
уж она будет красивой и нарядной для грузноватых жен его друзей, но
ничего не сказал. «Ты запутаешься в подоле, когда будешь подавать на
стол». «А я, — сказала Зина, — ничего на стол подавать не стану. Мы
поставим все сразу и будем веселиться. Ведь это же наше новоселье!»
Но это была лишь первая неприятность. Игорь подумал: «А может, она и
права? Как-нибудь все обойдется». Тут очень кстати пришел Володя и
немножко помог.
Главное огорчение доставили гости. Именно они и их жены нарушили
условия игры. Сначала все ходили по дому, восторгались планировкой,
кухней, меблировкой, освещением, потом сели за стол, и все было
замечательно и чинно, но неожиданно, хотя стояла прекрасная закуска, все
быстро напились, у женщин расплылась по лицам косметика, мужчины без
разрешения женщин скинули пиджаки, стали пить водку из фужеров,
принялись рассказывать неприличные анекдоты, и внезапно новоселье
превратилось в неуютную, скучную пьянку. Кто-то поставил адаптер на
пластинку, кто-то запел «Подмосковные вечера».
«Сейчас все утихомирятся, — думал Игорь, — первый острый хмель
поугаснет, я зажгу камин, все сядут вокруг, маленькими глоточками
попивая коньяк и ликеры, начнут глядеть в огонь».
И в этот момент со стола упал первый бокал.
— Это на счастье, на счастье! — ничуть не смутившись нанесенным
уроном, закричала полная женщина, размахивая зажженной сигаретой. —
Хозяева не в обиде?
— Нет, что вы, — сказал Игорь, — это на счастье. — Женщина загасила
сигарету в тарелке и, ни на кого не обращая внимания, налила себе вина.
«Они же все сейчас разгромят, — подумал Игорь. — Надо спасать посуду».
Игорь подошел к Зине, о чем-то разговаривающей с Володей, и сказал:
— Помоги мне убрать посуду.
— Я сначала потанцую, мы уже с Володей сговорились потанцевать.
Прижимая к груди очередную порцию тарелок, Игорь мельком видел, как
Зина танцевала с Володей. Гася раздражение, подумал: «Как ладно у них это
получается!»
Через несколько минут, одетая в красивое длинное платье, с
блестящими, радостными глазами, Зина появилась на кухне. Как будто ни в
чем не бывало она сказала Игорю:
— Будем спасать имущество?!
— Будем спасать, — улыбнулся Игорь. — Ты много выпила?
— Много, и поэтому скажу тебе сейчас правду. Я от тебя уйду. Мне все это
не нужно. И тебе я не нужна. Я для тебя такая же вещь, как этот дом, как
мебель. Ты какой-то Р-78 .
— Что?
— Ну, Растиньяк, изделия 1978 года. Тебе льстит, что твоя жена на
семнадцать лет моложе. Почти как у престарелого академика.
Ему бы разогнать всю эту толпу «нужников», но он только судорожно
думал: «Что же с ней произошло? Когда он недоглядел? Значит, эти пять лет
для девчонки-работницы, окончившей только восемь классов, не прошли
даром. Может быть, она даже заглядывала в те книги, которые именно из-за
престижа он покупал? Что же ему делать, как жить дальше?»
Автоматически он продолжал мыть тарелки, потом собрал всю волю и
поднял на Зину взгляд. Глаза у нее были трезвые и веселые. Они смотрели в
глаза друг другу, и по взгляду жены Игорь понял: она уйдет.
.. . В доме было тихо, лишь в трубах чуть потрескивало: это внизу, в
подвале, горел газ, и автоматическая установка гнала умеренное тепло по
комнатам. Игорь еще раз обошел дом, по внутренней лестнице спустился в
мастерскую, в гараж и везде погасил свет. Потом, как ночной сторож,
вернулся в большую комнату и сел в кресло. Ни одной мысли не приходило
в голову. Тихо. В душе не было отчаяния. Просто пусто, как осенью на
картофельном поле. Может быть, Игорь даже задремал. Когда он очнулся, в
комнате было еще темнее. На ощупь он прошел к буфету, достал начатую
бутылку коньяка, отодвинул в сторону бокал, нашел простой граненный
стакан, налил его доверху и выпил. Все-таки недаром он строил дом, на
своем новоселье он должен всласть напиться. Пусть нет гостей, пусть все
раньше срока, почувствовав, что у хозяев что-то происходит, разошлись,
черт с ними. Он сегодня хотя бы для себя отыграет всю программу. Гулять,
так с музыкой! Он затопит камин. Где только запропастились спички? Но
сначала он выпьет еще...
Вспыхнула береста, а потом и дрова. Пламя весело шумело, камин не
дымил, и было чертовски приятно сидеть в удобном кресле, подставив
теплу длинные ноги. Игорь хлебнул коньяка еще, теперь прямо из
горлышка. Наверное, душа жизни держится в огне, недаром человек не
может оторвать от него взгляда. А пламя потихонечку угасало. И вдруг
среди медленно и ритмично вспыхивающих языков показалась давнишняя,
почти забытая картина: красноватая равнина и цепочка воинов в поножах,
крылатых шлемах со щитами и дротиками. «Куда бегут они? Зачем?» —
подумал Игорь и в это же мгновение в ровной цепочке увидел себя.
Молодого, юного, окрыленного надеждой. «Так вот он настоящий я. Надо
его догонять, коснуться, и тогда все у меня будет хорошо. Вернется Зина.
Мы найдем свое счастье. Все придет в дивное надзвездное равновесие.
Только коснуться». Игорь потянулся вперед, покачнулся и вдруг упал.
Последнее, что ему подумалось: будто он коснулся того юноши, которым
был или который был похож на него, и снова стал молодым.
Он очнулся уже днем, ослепительное солнце освещало дом,
разбросанные по углам стулья, окурки в цветах, битое стекло, куски
ветчины, разбросанные по ковру, опрокинутое кресло, на котором он сидел
ночью.
.. . Болела обожженная рука. Сначала он стал на четвереньки, потом с
трудом поднялся и побрел в подвал. В мастерской, работая левой рукой, он
отыскал кусок электрического провода, покрытого хлорвинилом, сложил
его вдвое и перекинул через балку. Он приладил все аккуратно и
добросовестно, как привык делать всегда, потом сходил наверх, принес
стул. Поставил стул к проводам, но потом передумал и взял тесовый ящик,
дешевый и прочный. Уже стоя на ящике, он сказал себе: «Досчитаю до
сорока по числу моих лет и...»
— И что же будет там, за этим «и»?..
И тут же голая в своем прозаизме мысль возникла в сознании:
«По закону после смерти мужа — все жене, а значит, и Володе. Ее
будущему хахалю. Все, значит, опять приплывет в ручки «хорошему
мальчику». А «плохой мальчик» будет гнить в могилке. Ну, нет? Разве нет в
нем энергии и бойцовской злости, чтобы начать жизнь сначала?» Да ведь он
и нужен жизни, чтобы, пробираясь по ней, так сказать, санировать общество
от ротозеев. Чтобы доказывать всем, что жить-то можно. И хорошо. Только
играть-то надо по собственным правилам. Еще резче надо играть,
отчаяннее, азартнее и точнее. «Ну уж нет, в могилку меня не закопать! Вы
еще обо мне узнаете, Володя и Зиночка! Вы еще приползете ко мне. Чтобы
ради вас я гадил хлорвиниловый провод? Еще многие обо мне вспомнят
горючей слезой. Я нужен этому миру. Ату, люди! Сейчас высплюсь, поем,
сделаю зарядку, и... ату... А что же будет там, за этим «и»? Тоже мне, нашелся
Гамлет! Известно, что там будет... А здесь — жизнь. И выстрою я ее по-
своему. Ату!..»
Как-то с очередной
редакционной почтой
мы получили большой конверт
с альбомом рисунков.
К альбому было приложено письмо.
Мы думаем, что и судьба художницы
и ее творчество заинтересуют вас.
Уважаемая редакция! Я давняя читательница Вашего журнала, хотя возраст
мой именем его не назовешь. Но так уж сложилась моя жизнь, что, наверное,
навсегда я останусь молодой, потому что вокруг меня всегда юные люди. Уходят
одни, приходят другие, и я всегда в курсе всех проблем этого возраста, их
вопросов, поисков, интересов.
С детства я больна: не могу ходить. Физически мир сузился до пределов
оконного вида. Но мне здорово повезло на людей. В первую очередь — на
родителей, которые посвятили мне всю свою жизнь. Впоследствии в годы, когда
перед каждым юным человеком встают вопросы: «Кем быть?», «Как жить?» «В
чем смысл жизни?» — мне опять повезло. Я находилась на лечении в
Ленинградском НИИ имени Турнера. Среди горя и страданий больных детей
силами медицинского и педагогического персонала была создана самая что ни на
есть здоровая атмосфера, атмосфера
занятости, творчества, духовности. Там
происходило мое душевное
становление, там мне захотелось найти
себя, свое занятие, быть полезной,
нужной.
Тогда я поступила в заочный
Народный университет искусств имени
Н. К. Крупской в Москве на факультет
рисунка и живописи. Не потому, что
имела к этому выдающиеся
способности, скорее их не было совсем,
но потому, что не было иного выбора.
Мне повезло с педагогами. Они по
капле, бережно, индивидуально, исходя
из моих возможностей, «выдавливали»
из меня невозможное. Вероятно, мой
пример еще раз доказывает, что нет
детей бездарных, надо только создать
условия для рождения если не таланта,
то хотя бы маленького дара, дара творить.
В 1965 году я окончила университет. В
том же году в г. Боровске была устроена
моя первая персональная выставка,
ставшая передвижной (по Калужской
области). И потом — постоянное участие во
всех районных, областных выставках
самодеятельных художников, во
Всесоюзной выставке.
Я пришла к людям со своими
рисунками, а они, люди, пришли ко мне.
Появилось много друзей. Навсегда. Люди
всякие, разные, через них я чувствую
живое дыхание мира, его беды и радости.
Жизнь не бывает гладкой, у меня в
судьбе было больше страданий, чем
радостей, но я считаю себя счастливым
человеком, потому что чувствую себя
нужной, полезной, потому что жизнь моя
полна если не снегами и ветрами, не
лесами и травами, то искусством, книгами, поэзией, музыкой, людьми. Из всего,
что я чувствую, о чем думаю, мне хочется сделать рисунки. Не все получается.
Бывают сомнения, разочарования, когда понимаю, что чувствую я сильнее,
богаче, острее, чем умею рассказать об этом линией, штрихами. Но сомнения
только подстегивают стремление к совершенствованию.
Много лет я сотрудничаю с областной комсомольской газетой «Молодой
ленинец», где публикуются мои статьи на темы морали, эссе о художниках. Газета
— это еще одна моя точка соприкосновения, контакт с миром.
Я часто упоминаю здесь слова «мне повезло». Наверно, иначе и быть не может
в нашей стране, если только сам человек не позволяет себе упасть, если напрягает
силы своей души.
Я пишу не для того, чтобы рассказать о себе, я пишу для того, чтобы рассказать
о людях, с которыми можно выжить в любой ситуации, среди которых можно
чувствовать себя счастливым, даже будучи связанным болезнью навсегда.
С уважением
Людмила КИСЕЛЕВА
«ЮНОСТЬ», No 1, 1979
«
ЮНОСТЬ», No 3, 1979