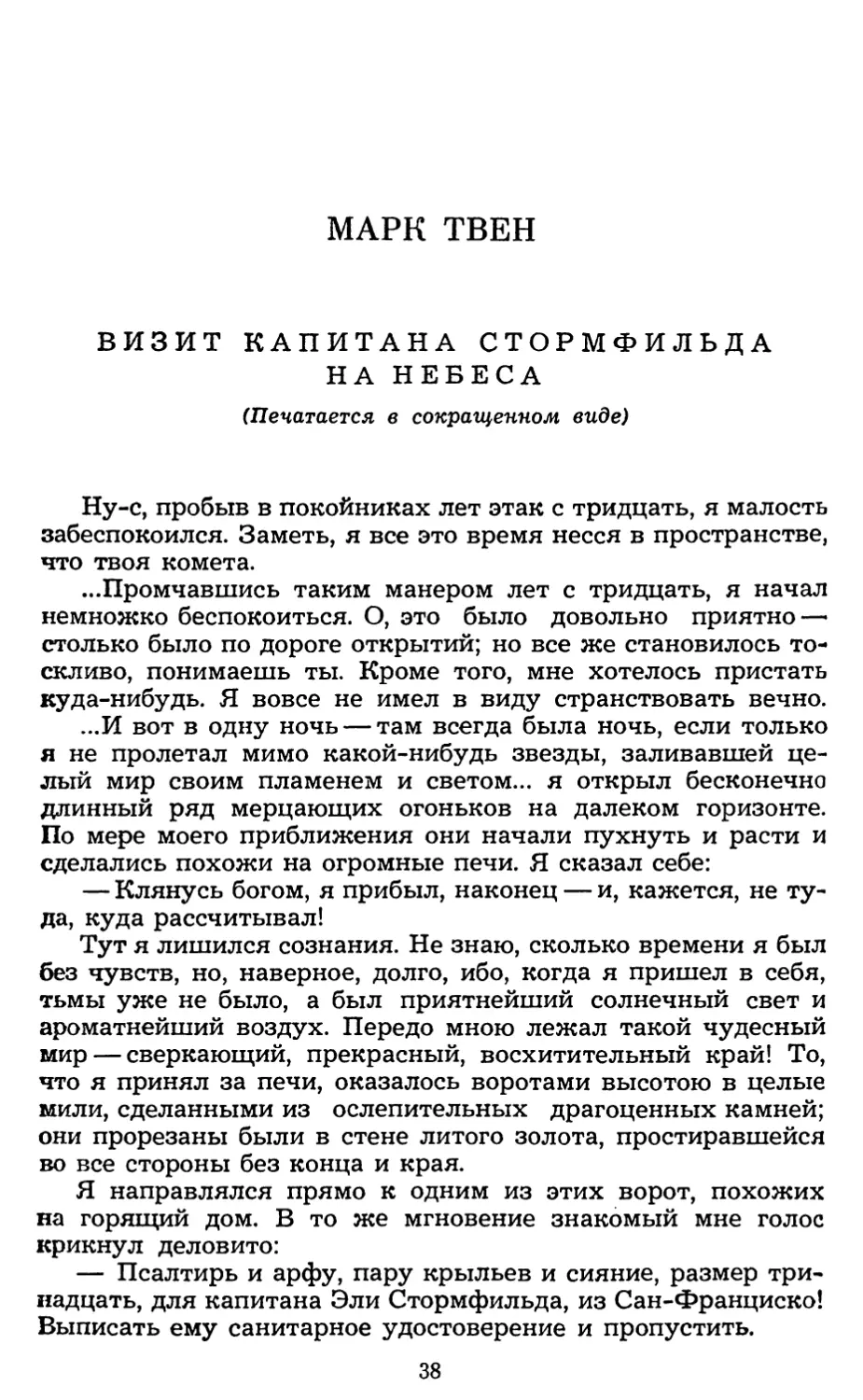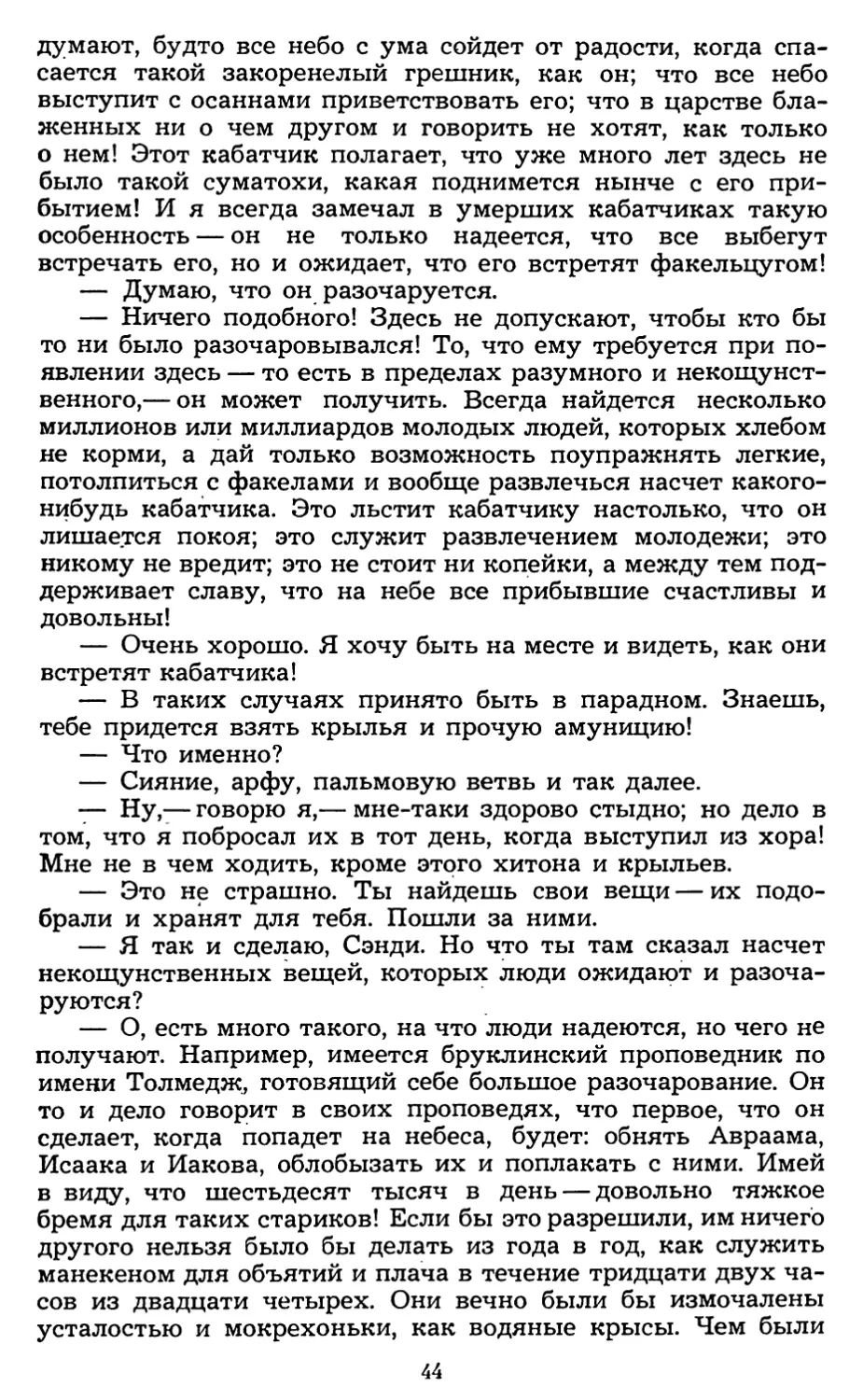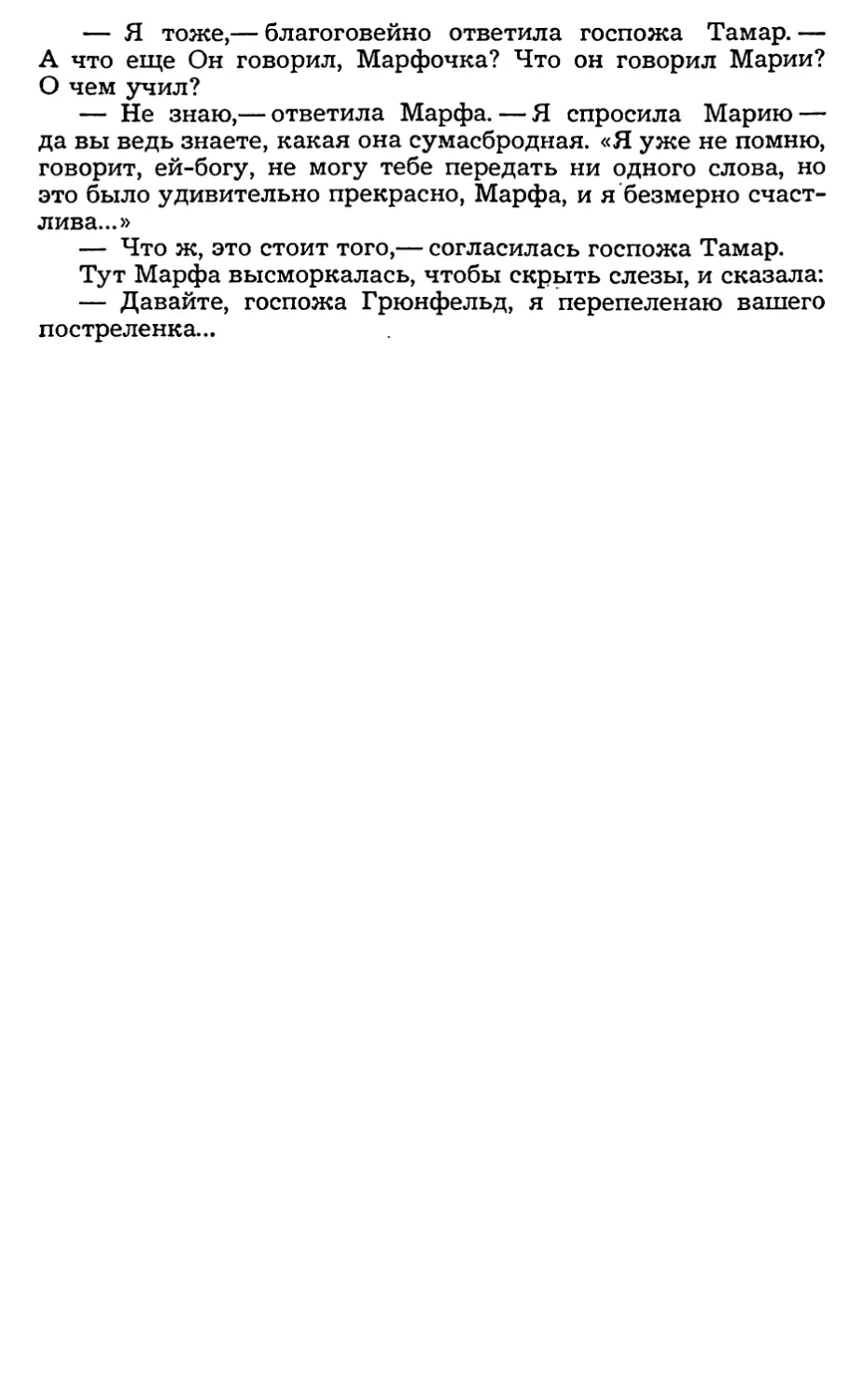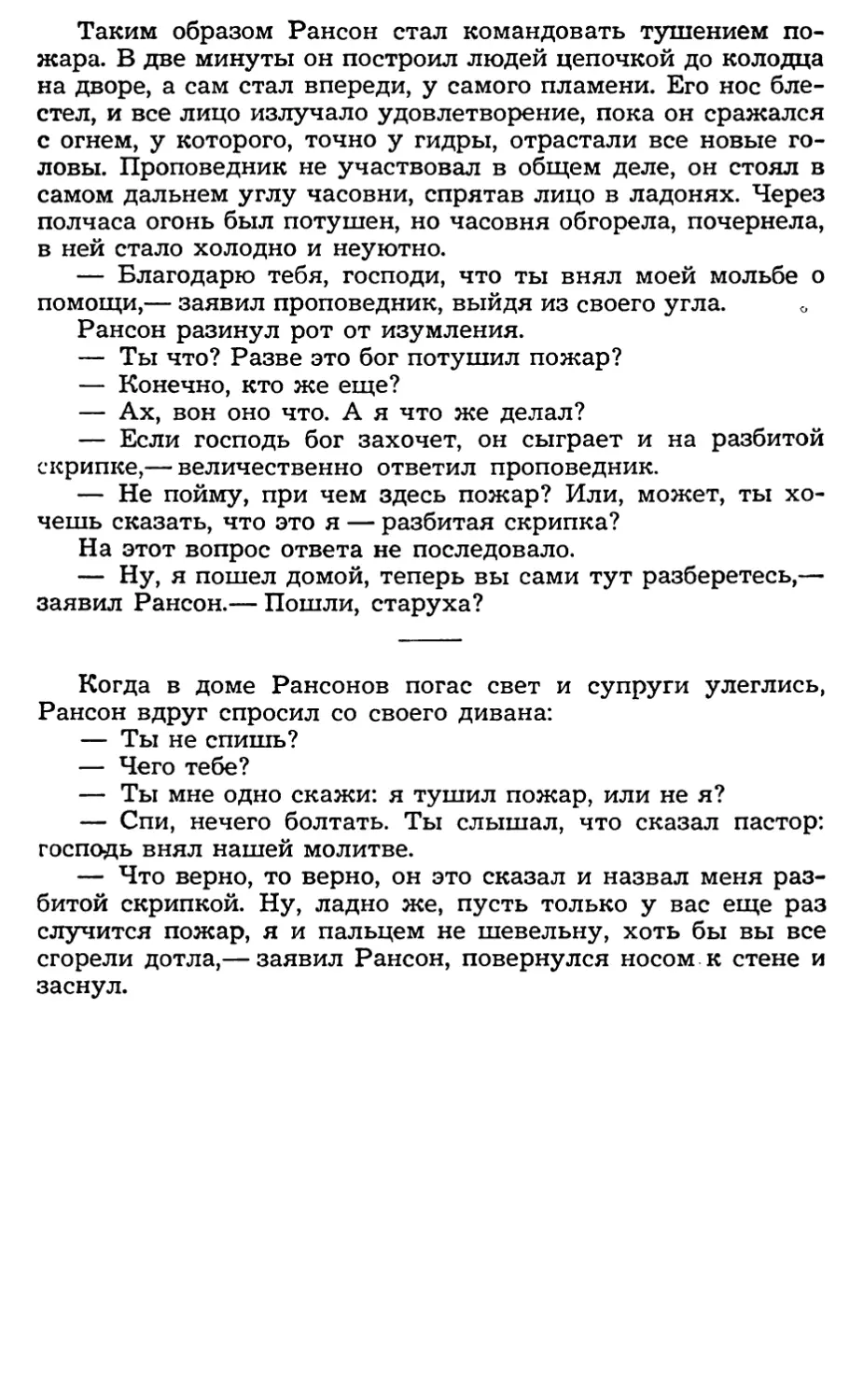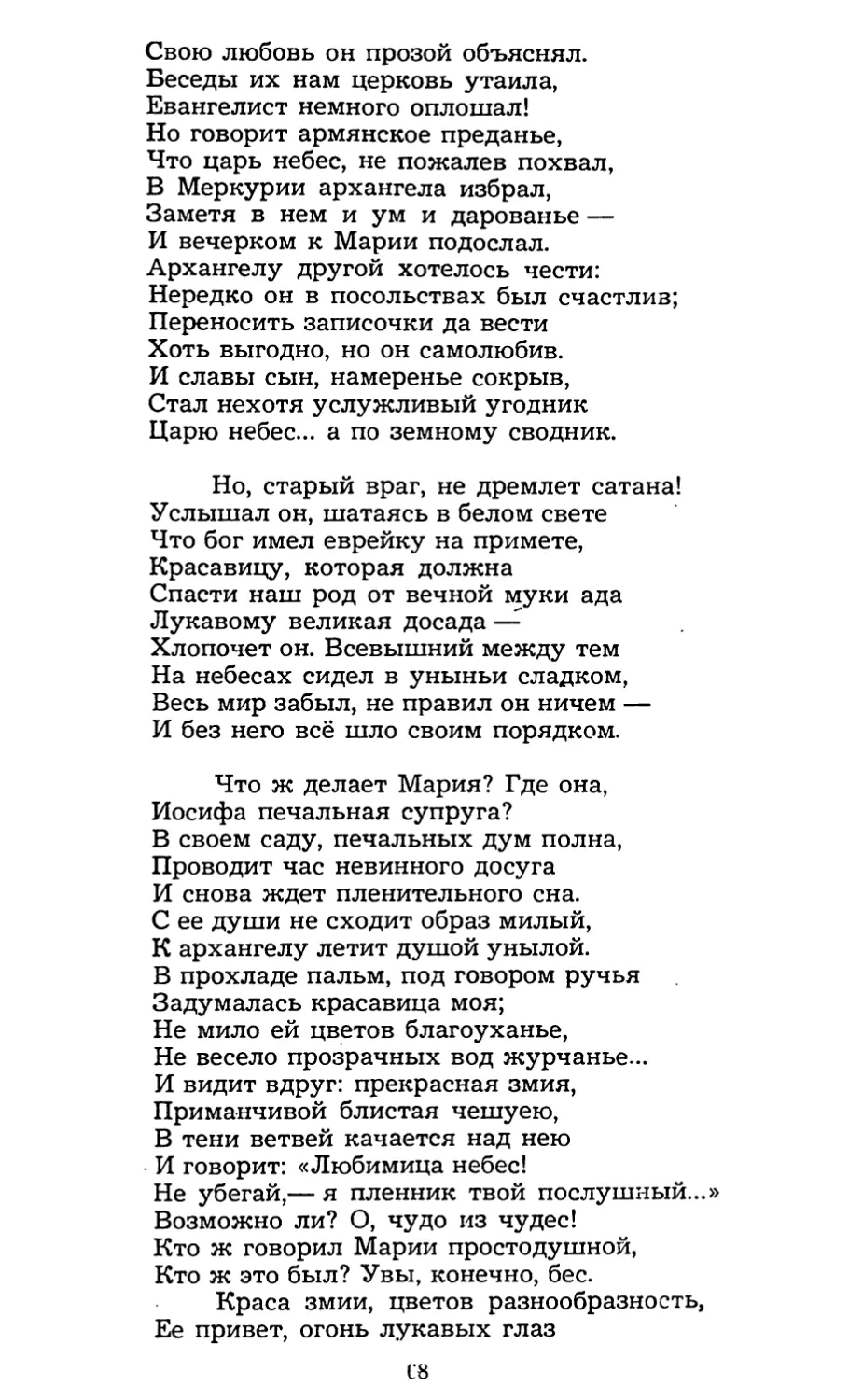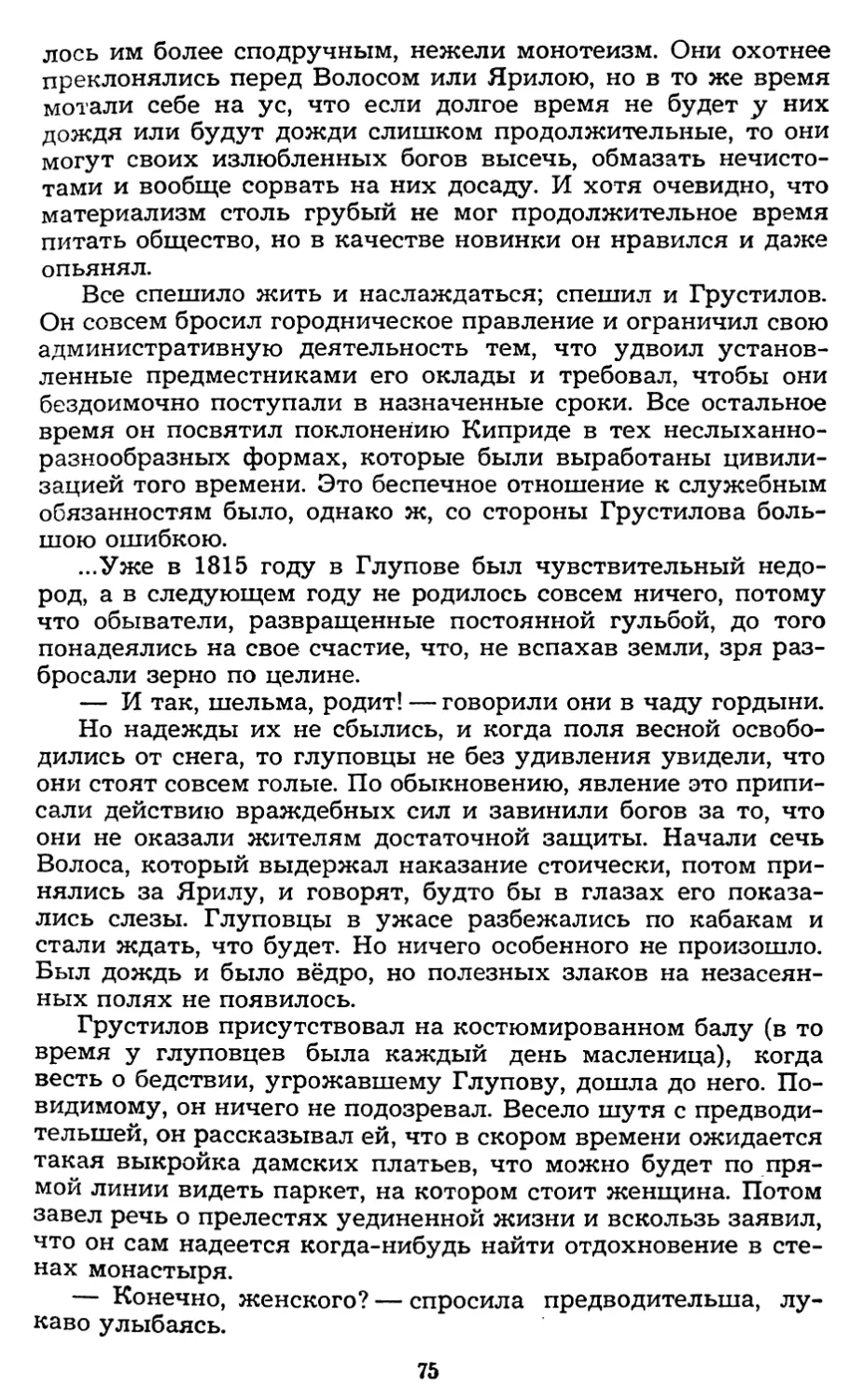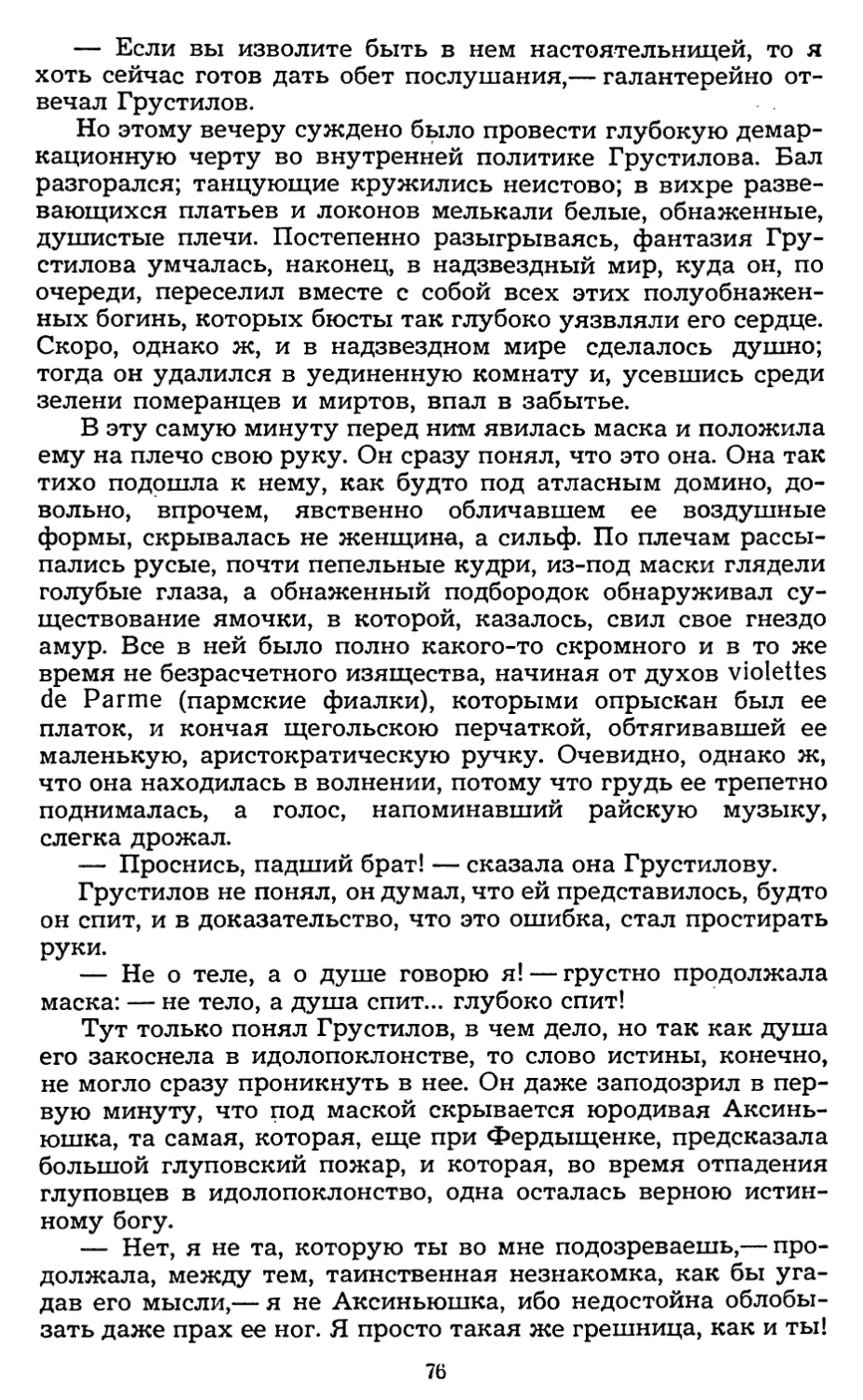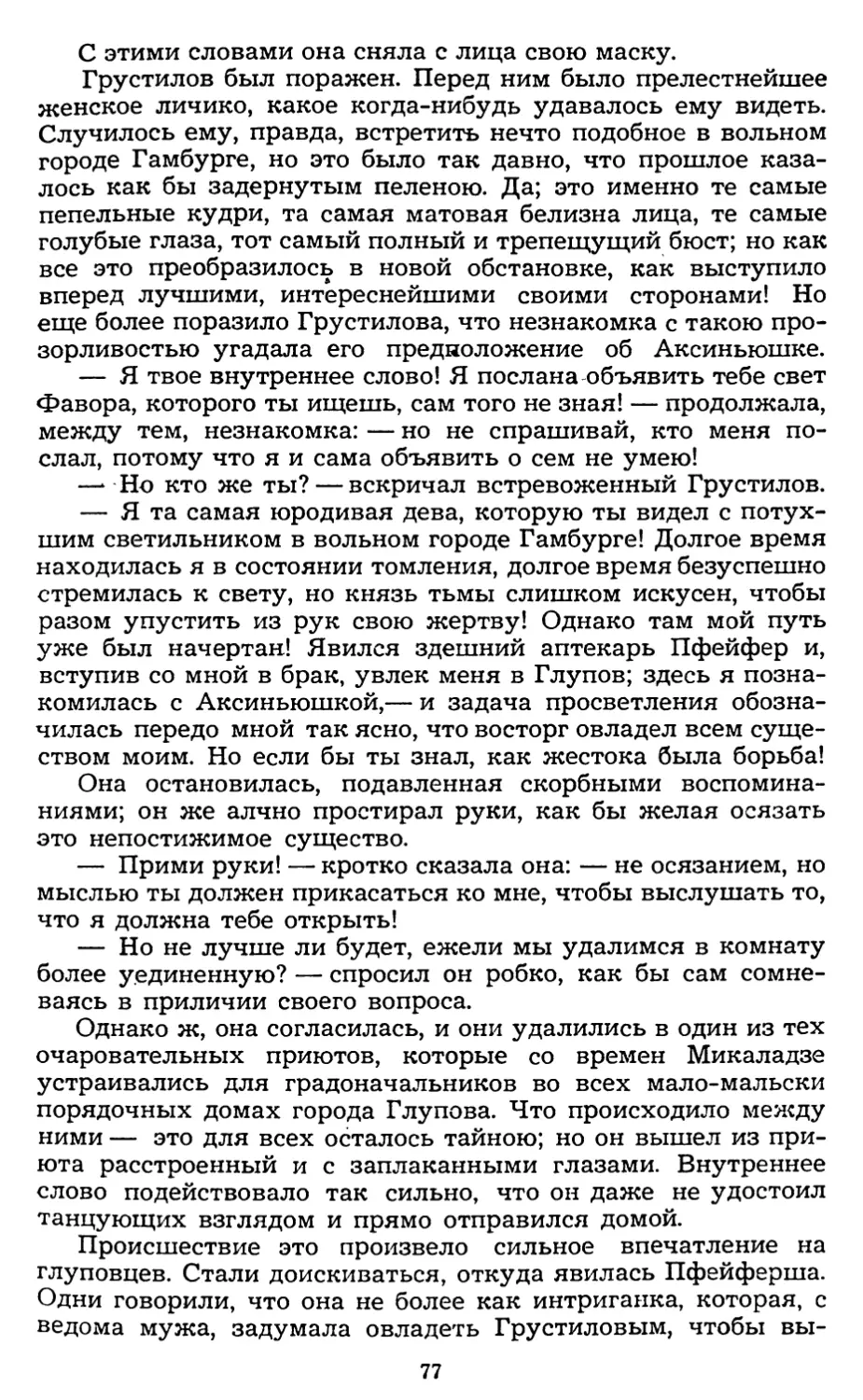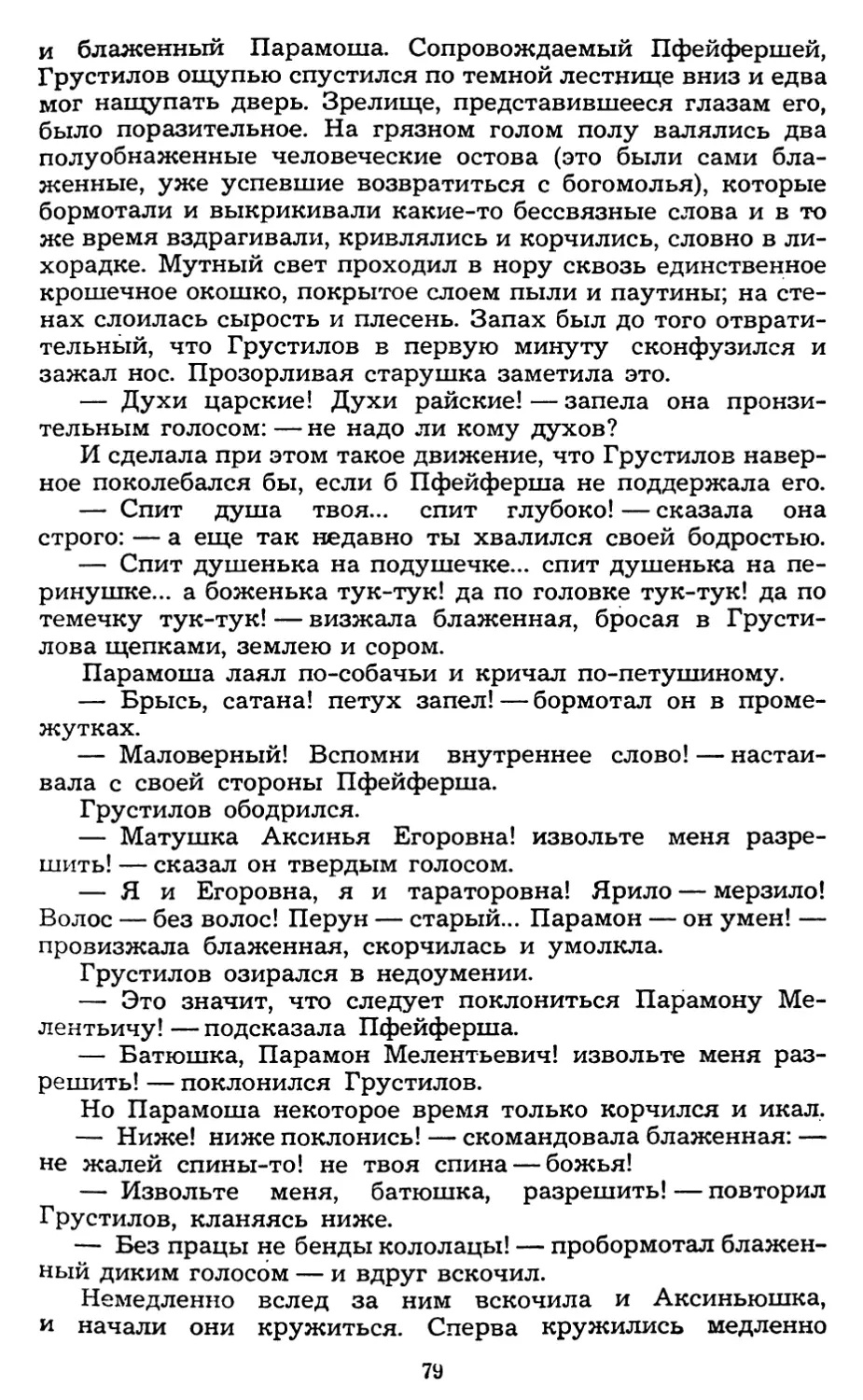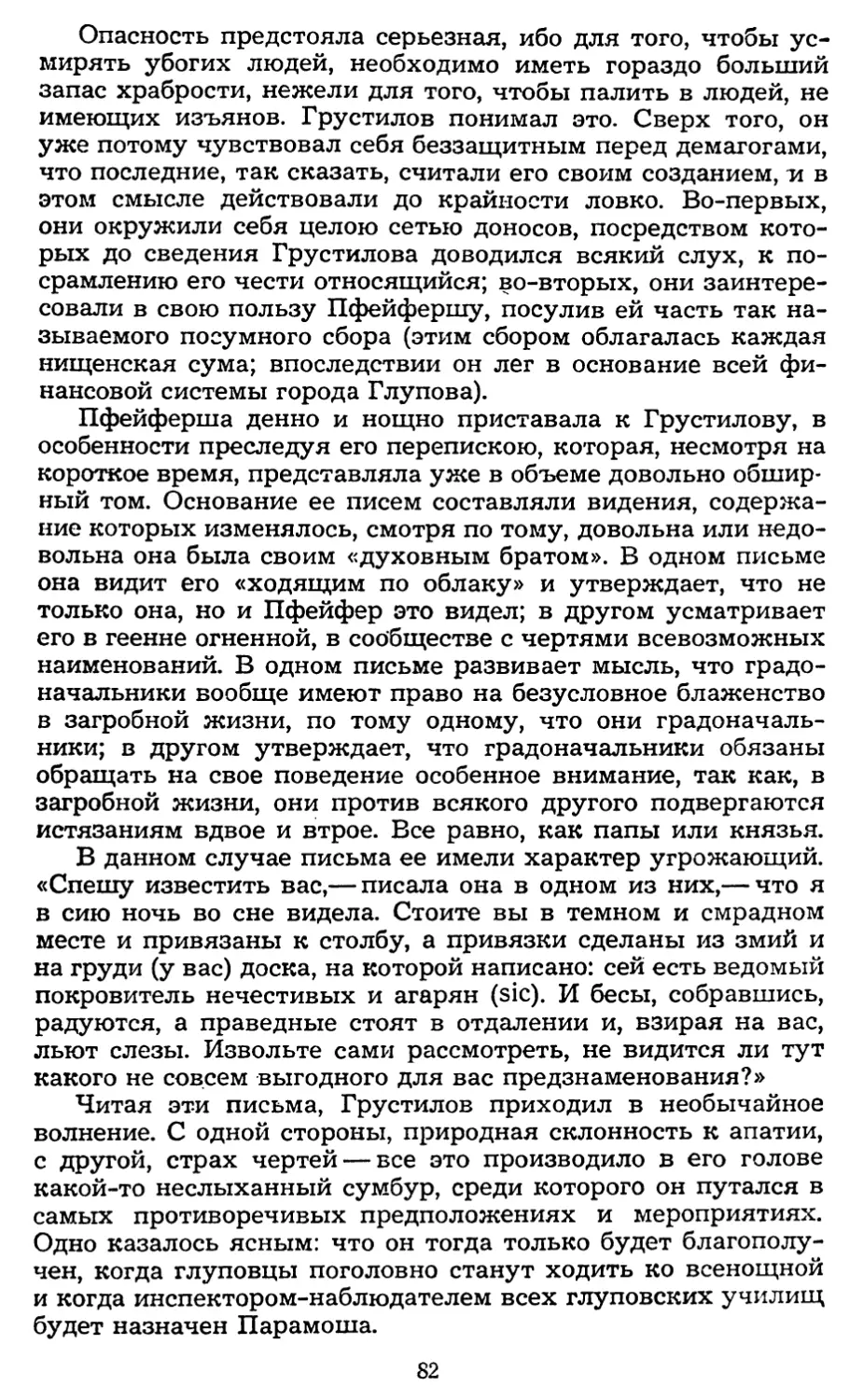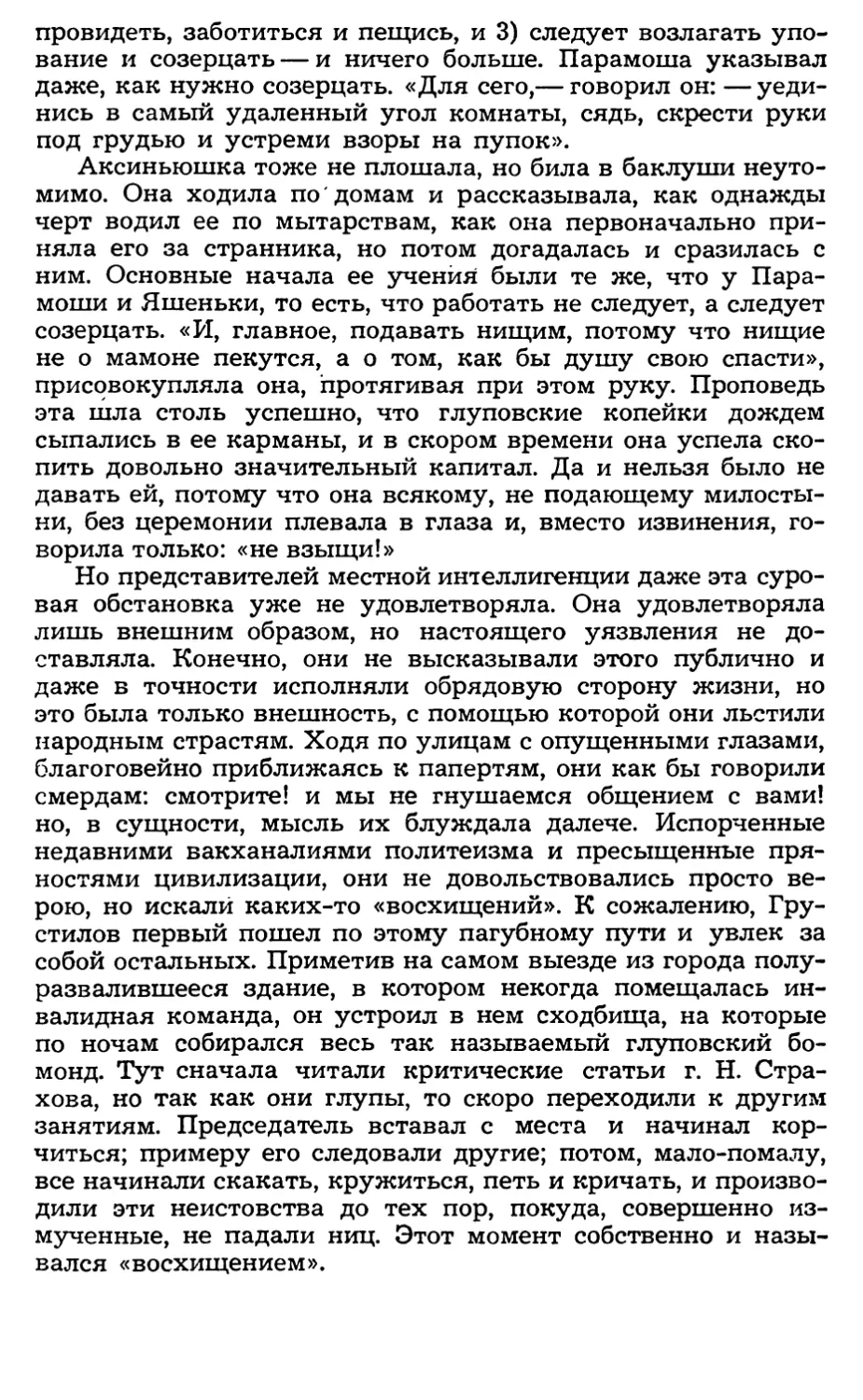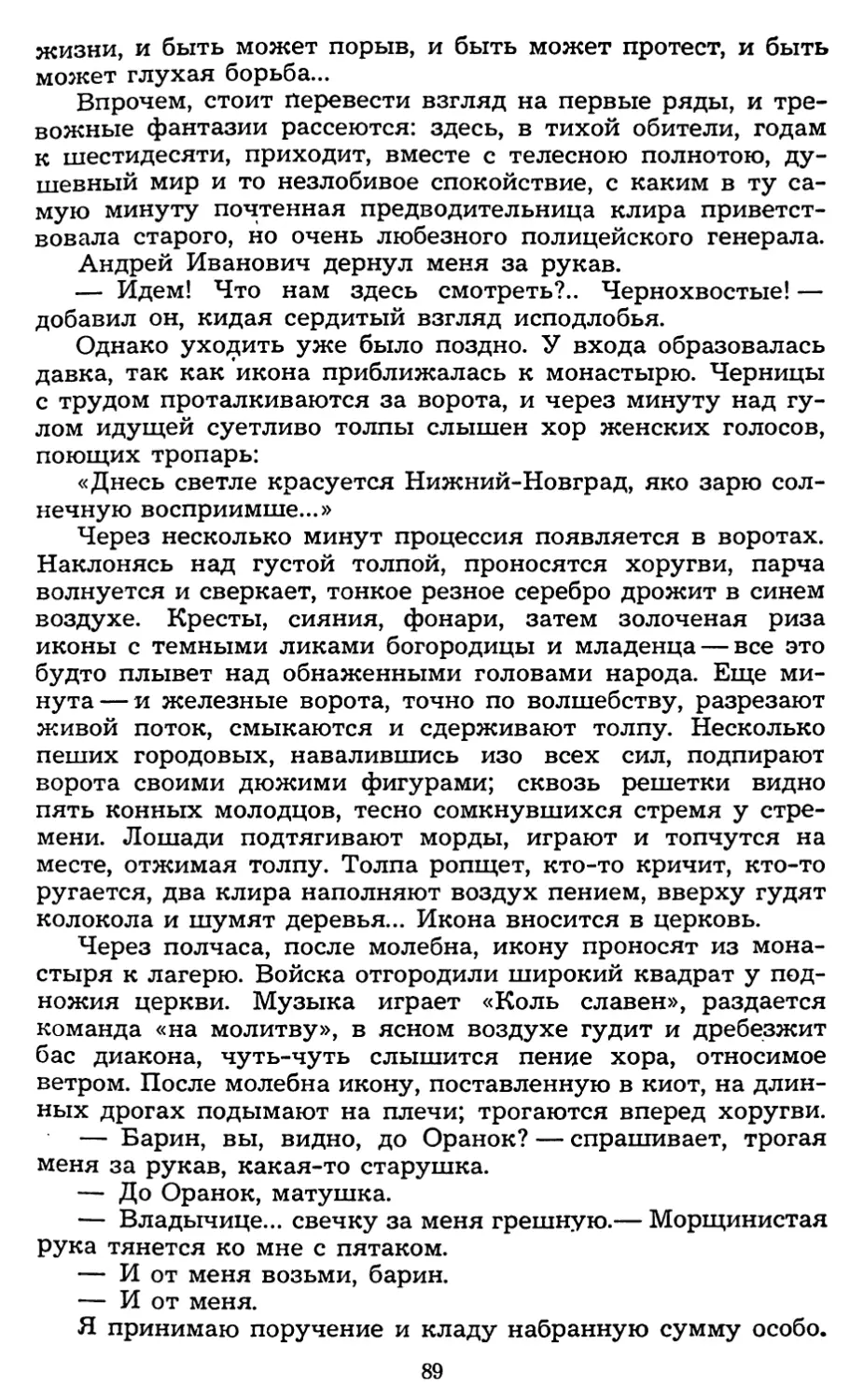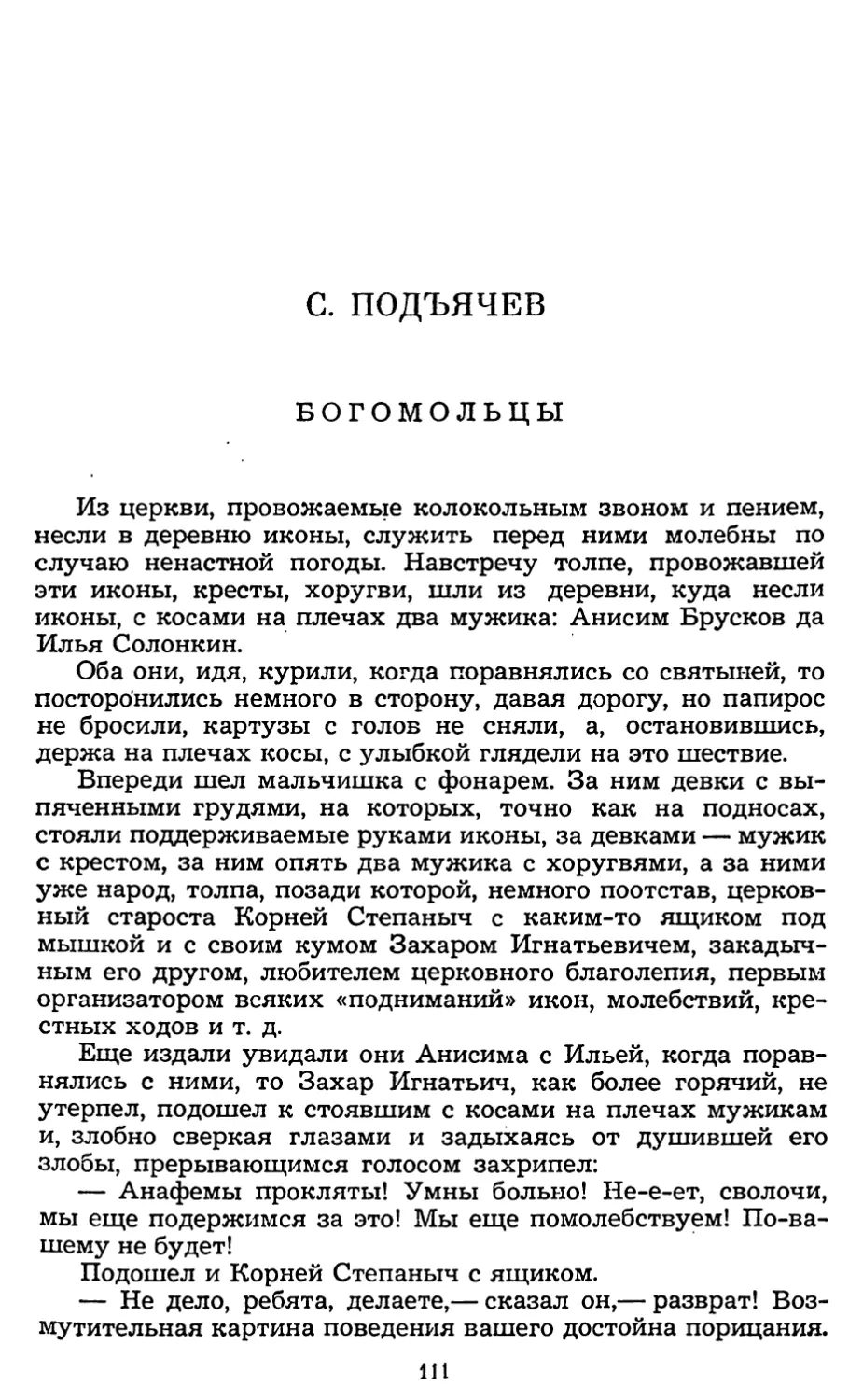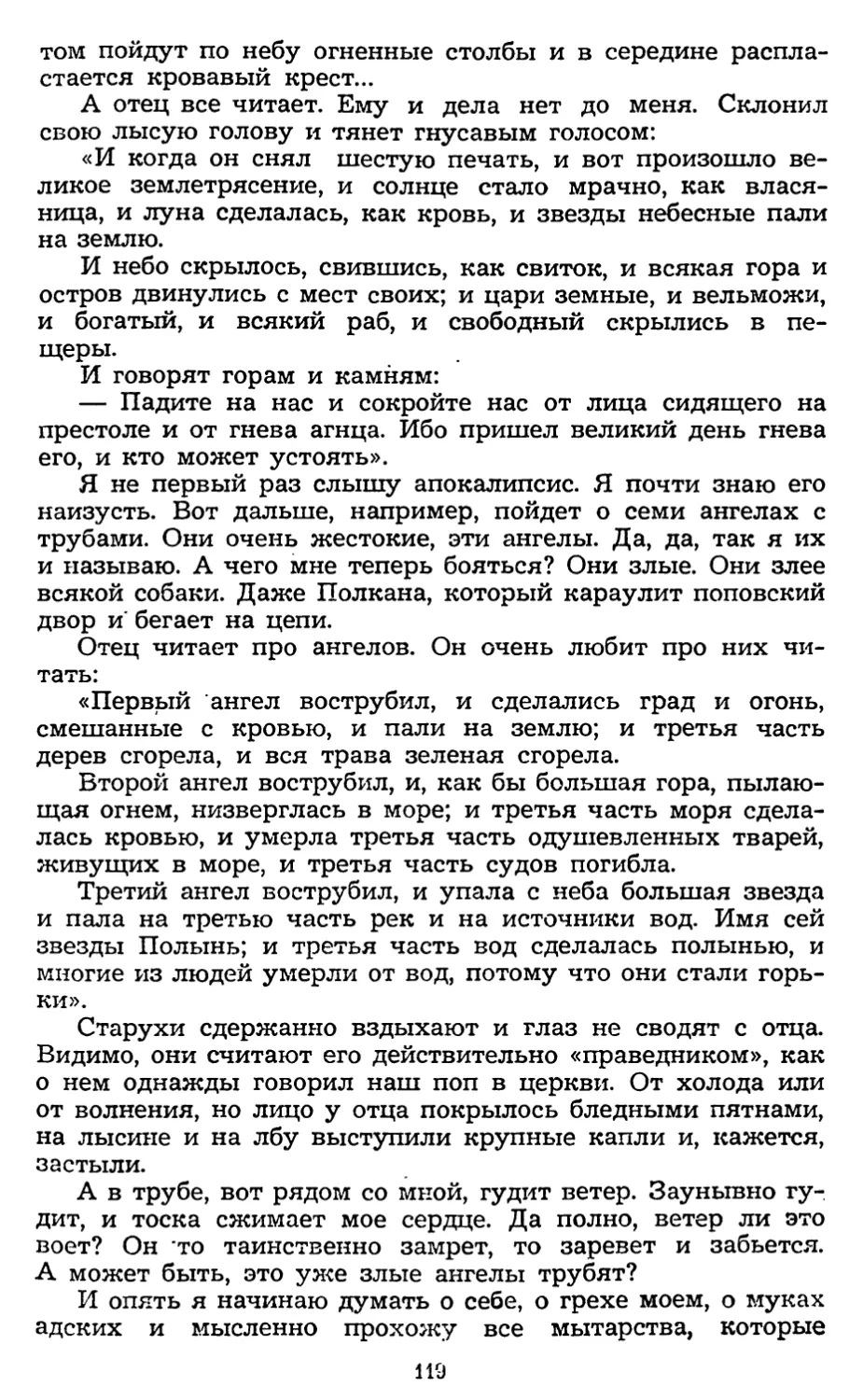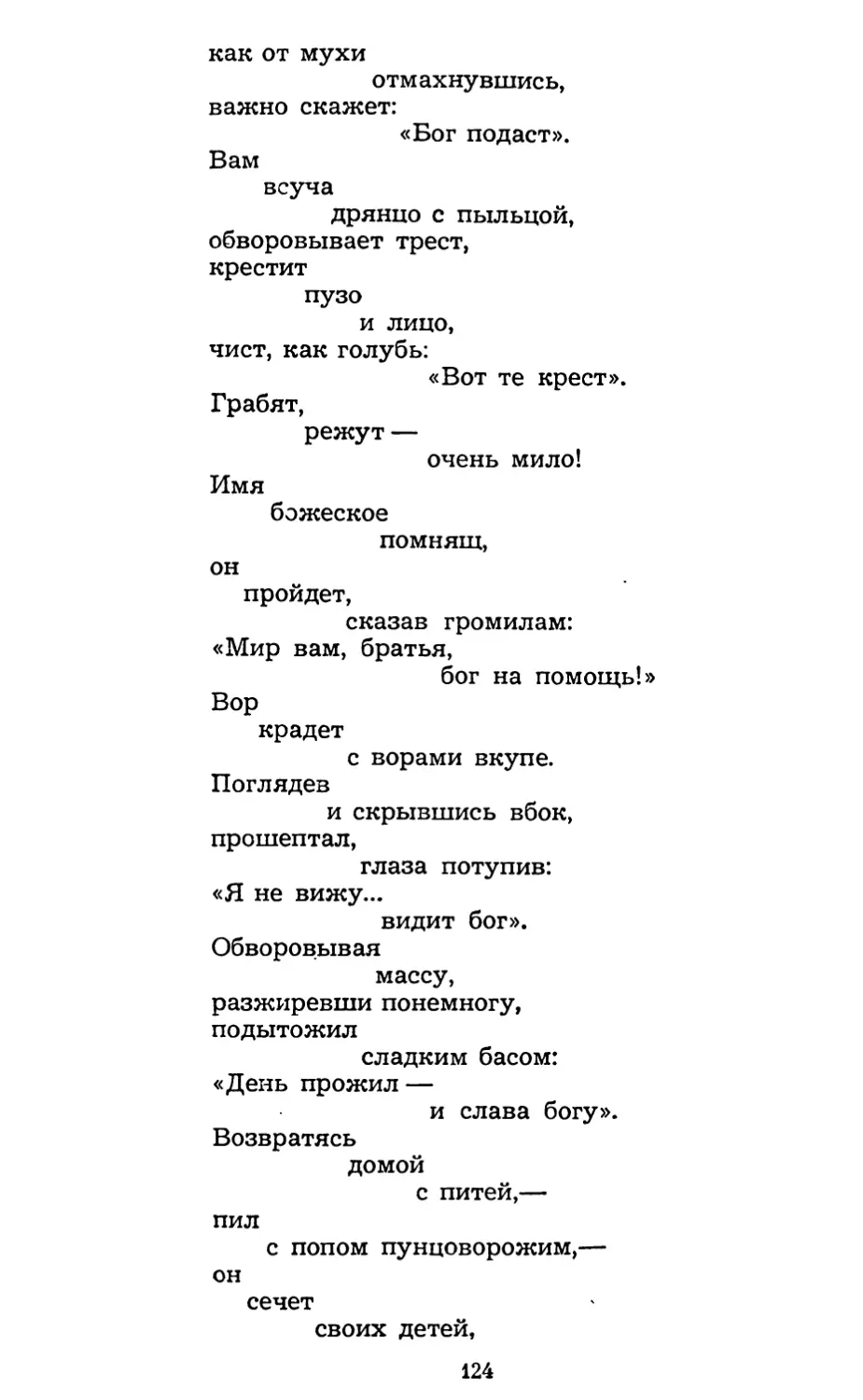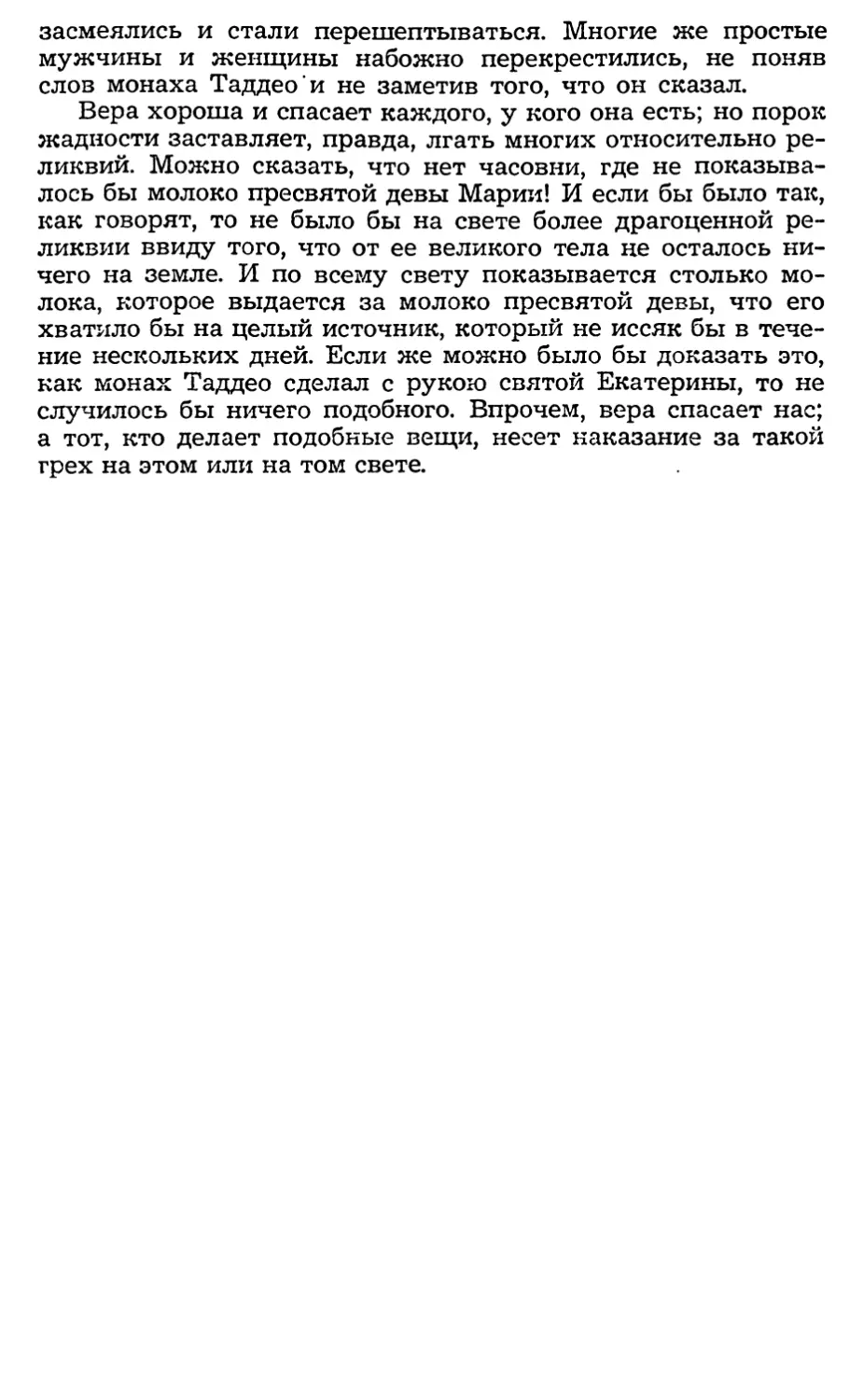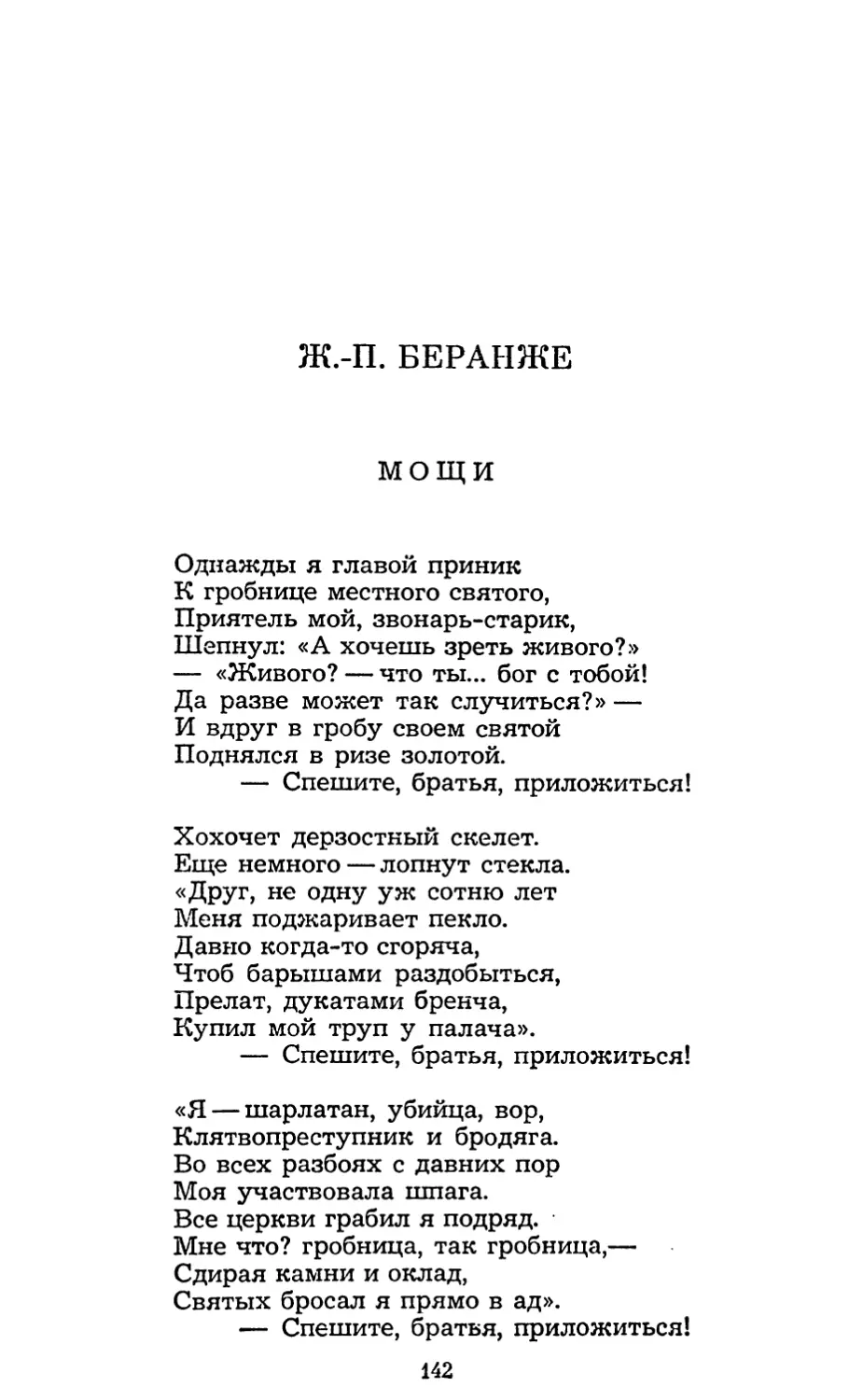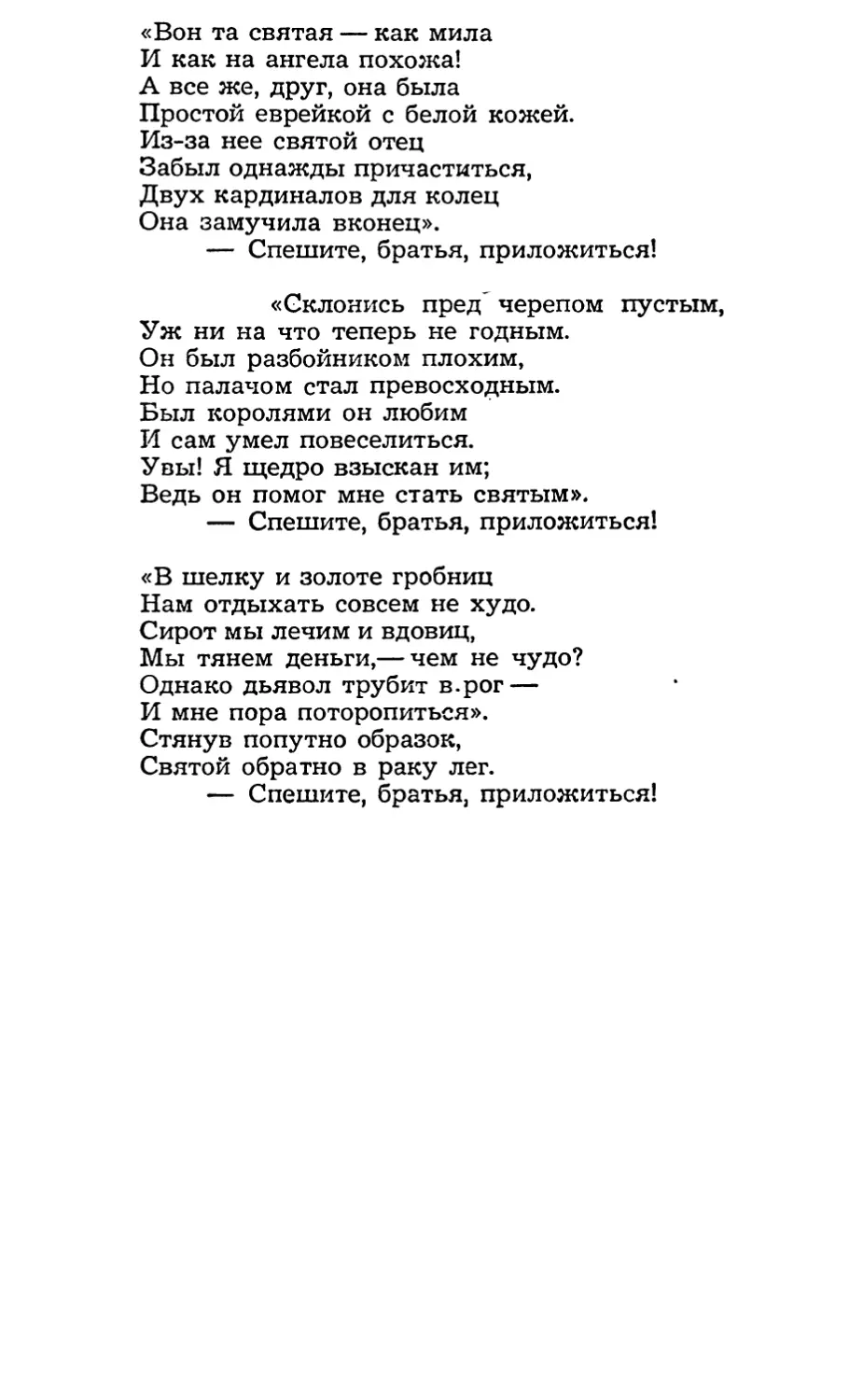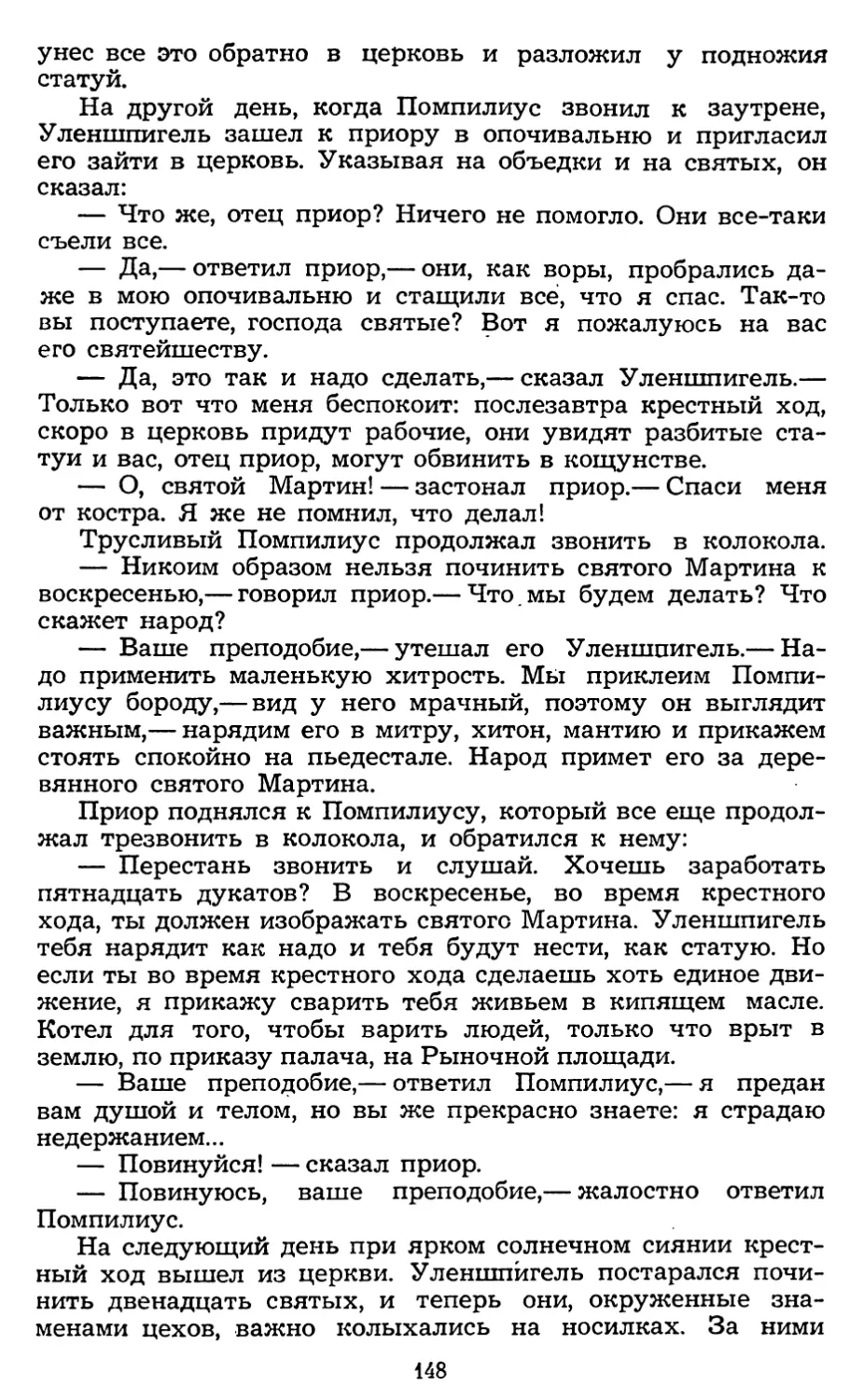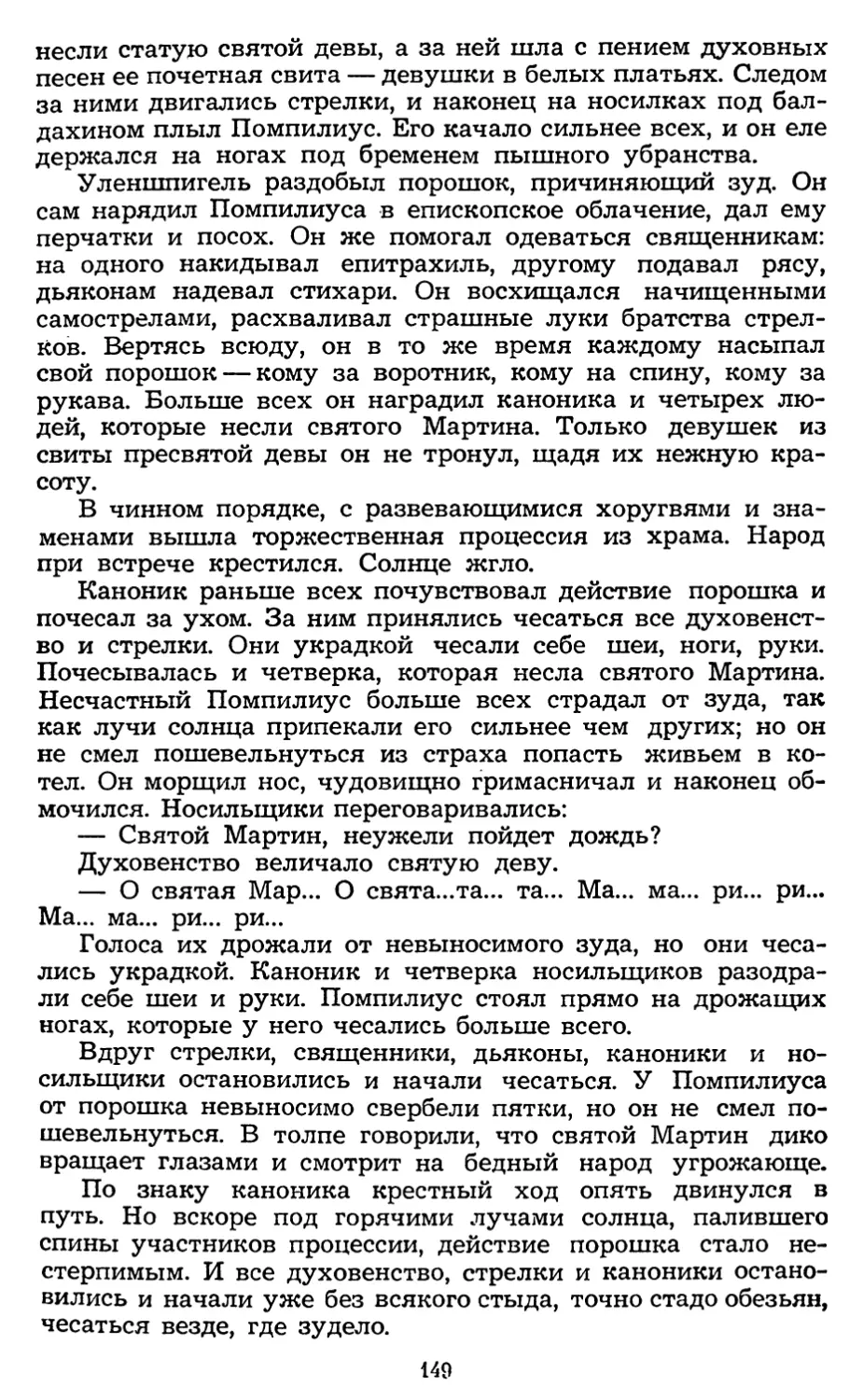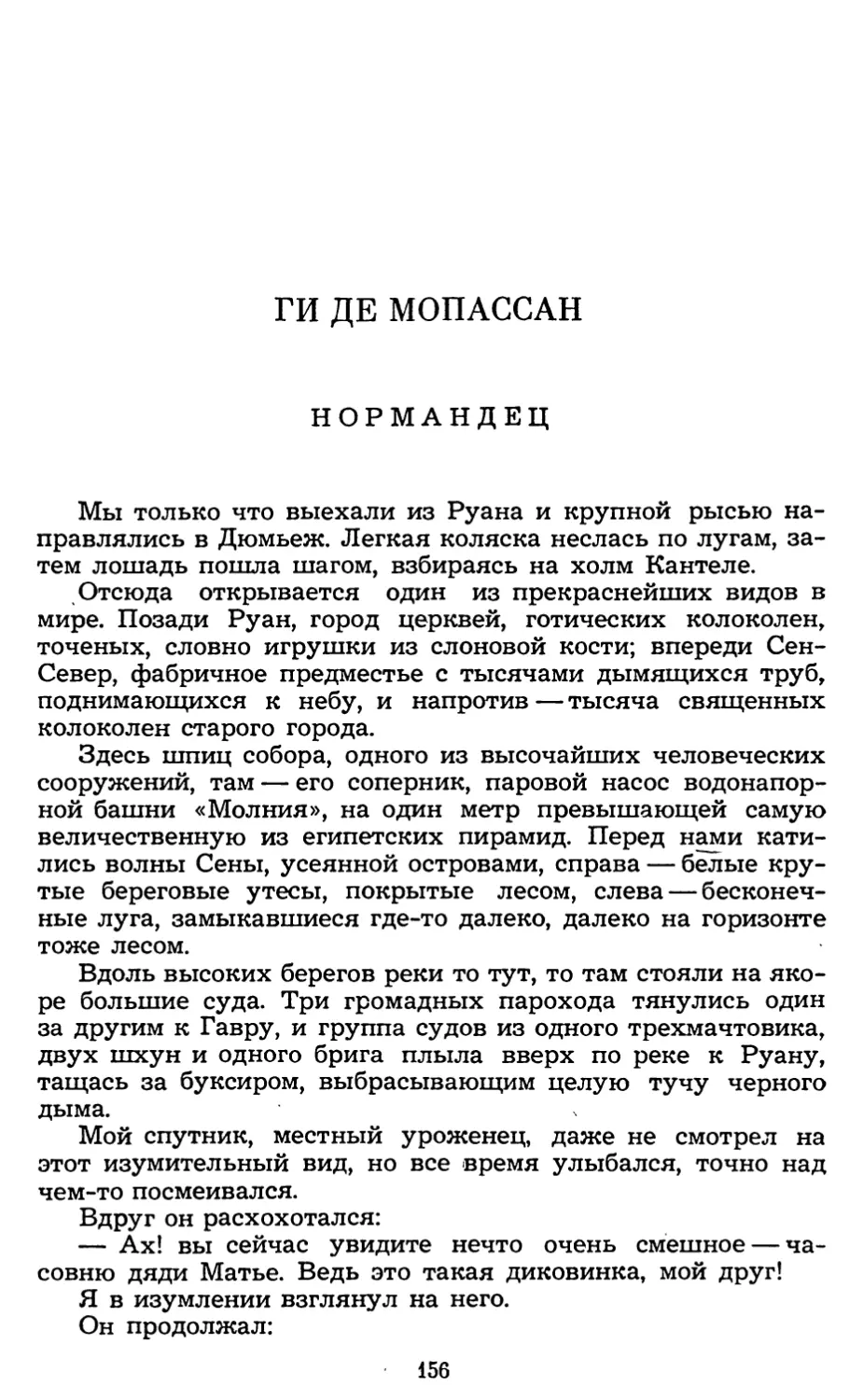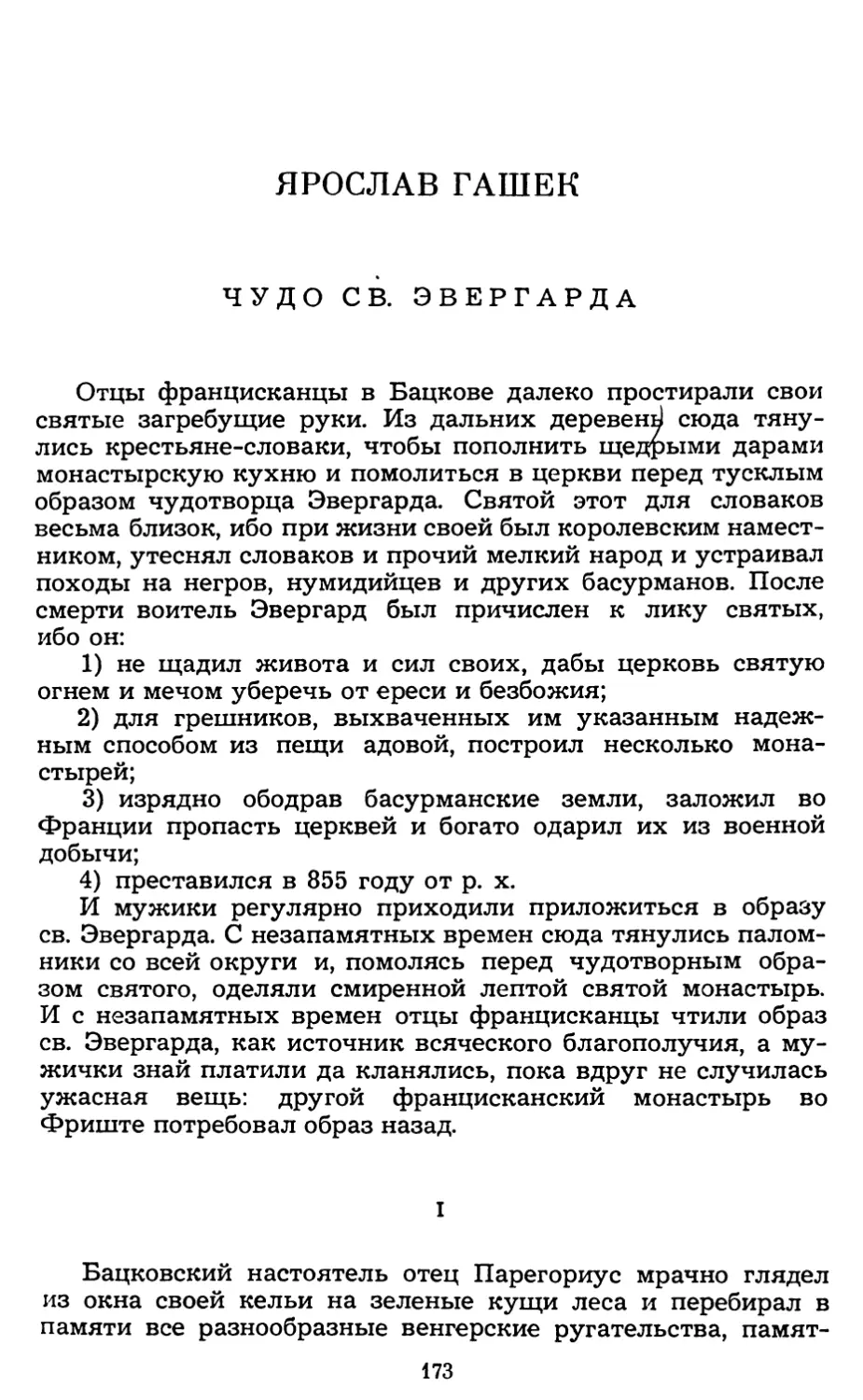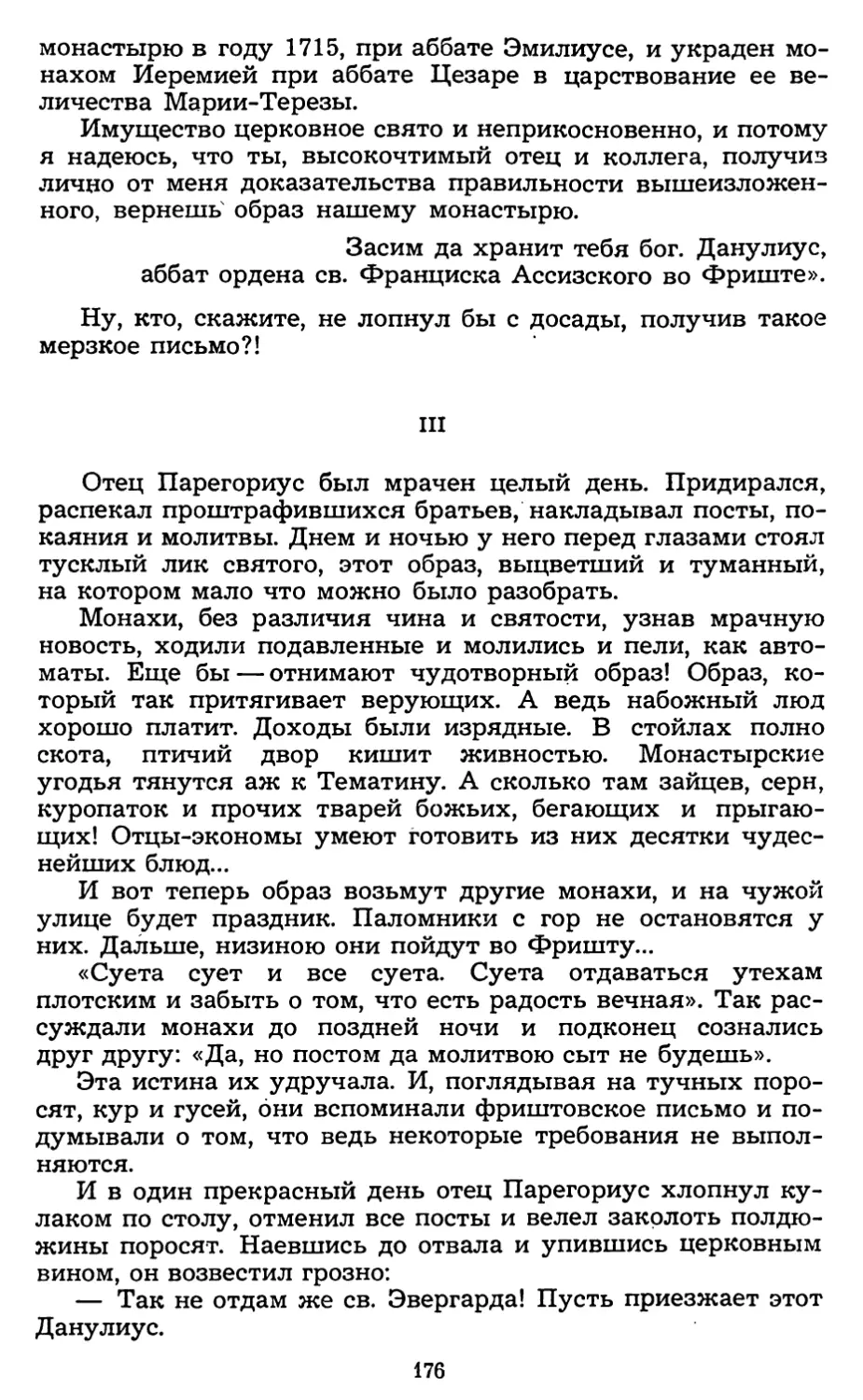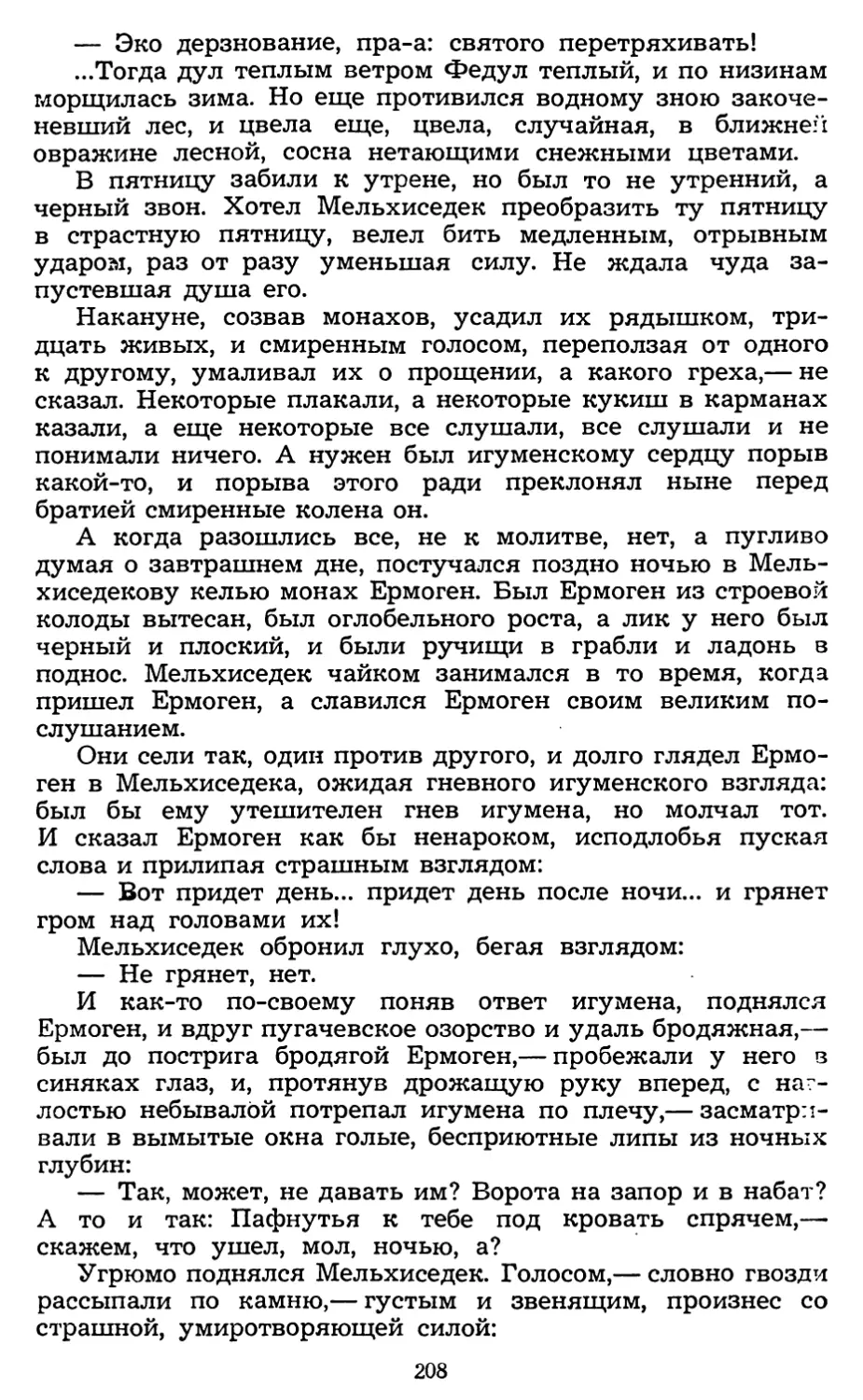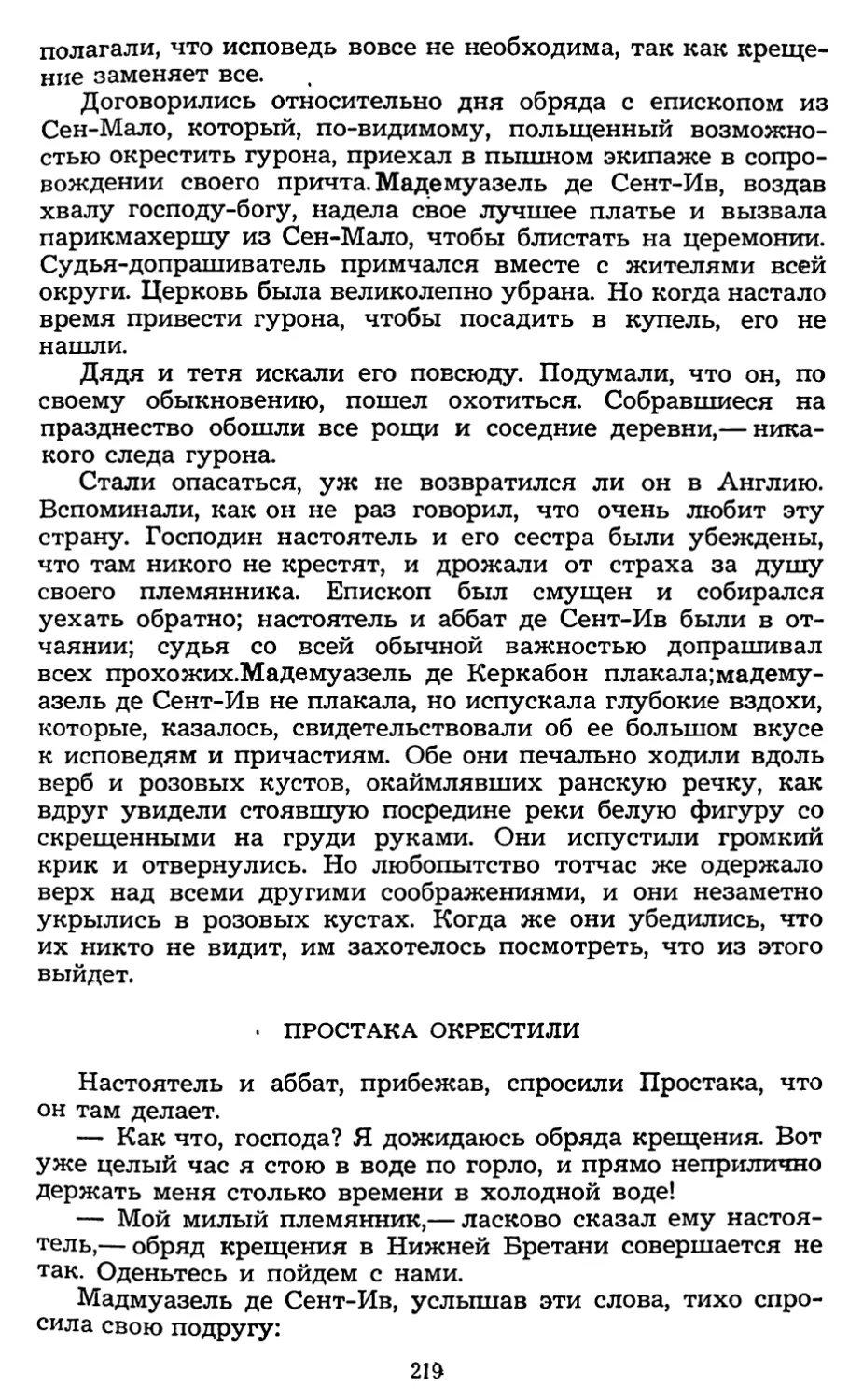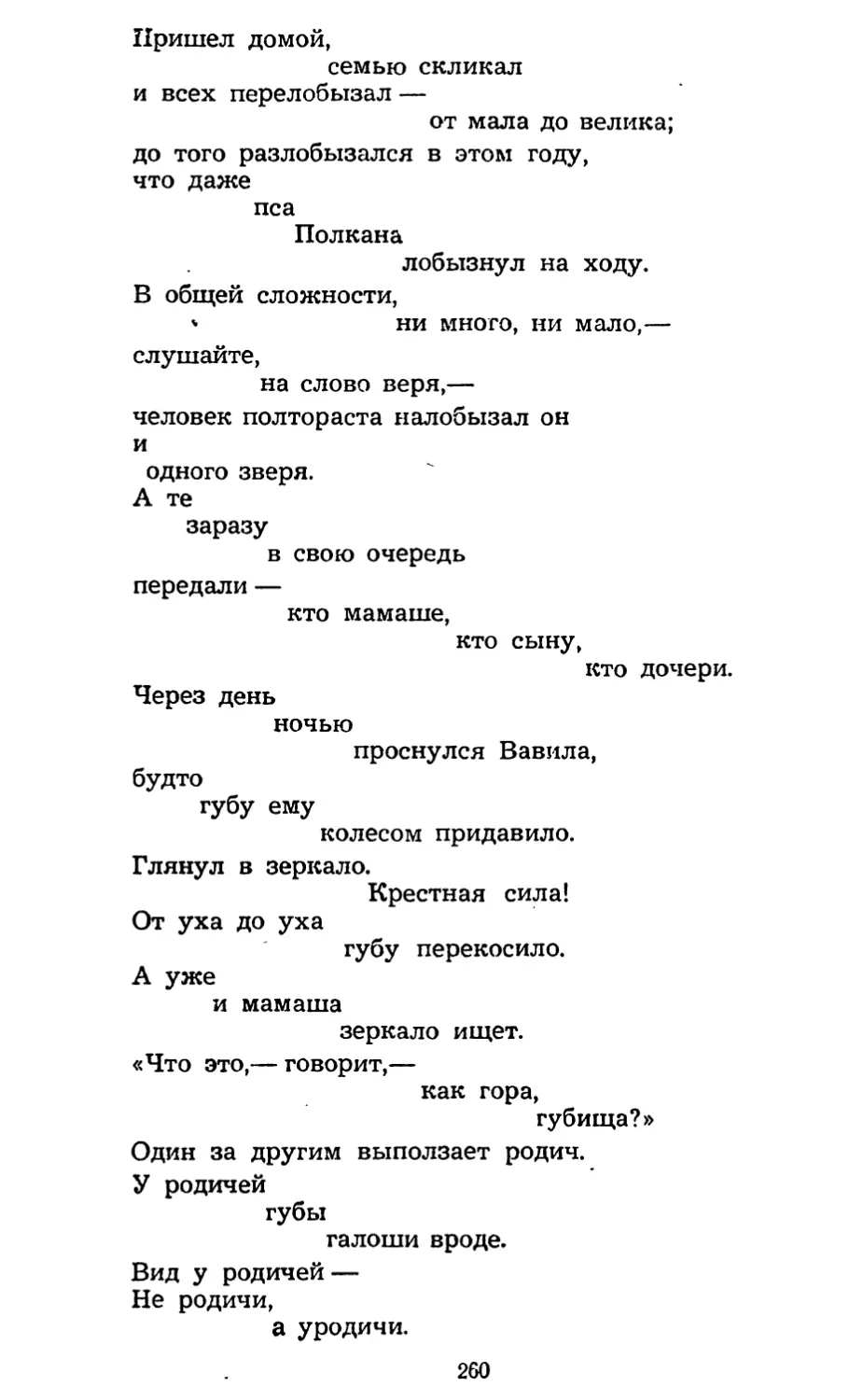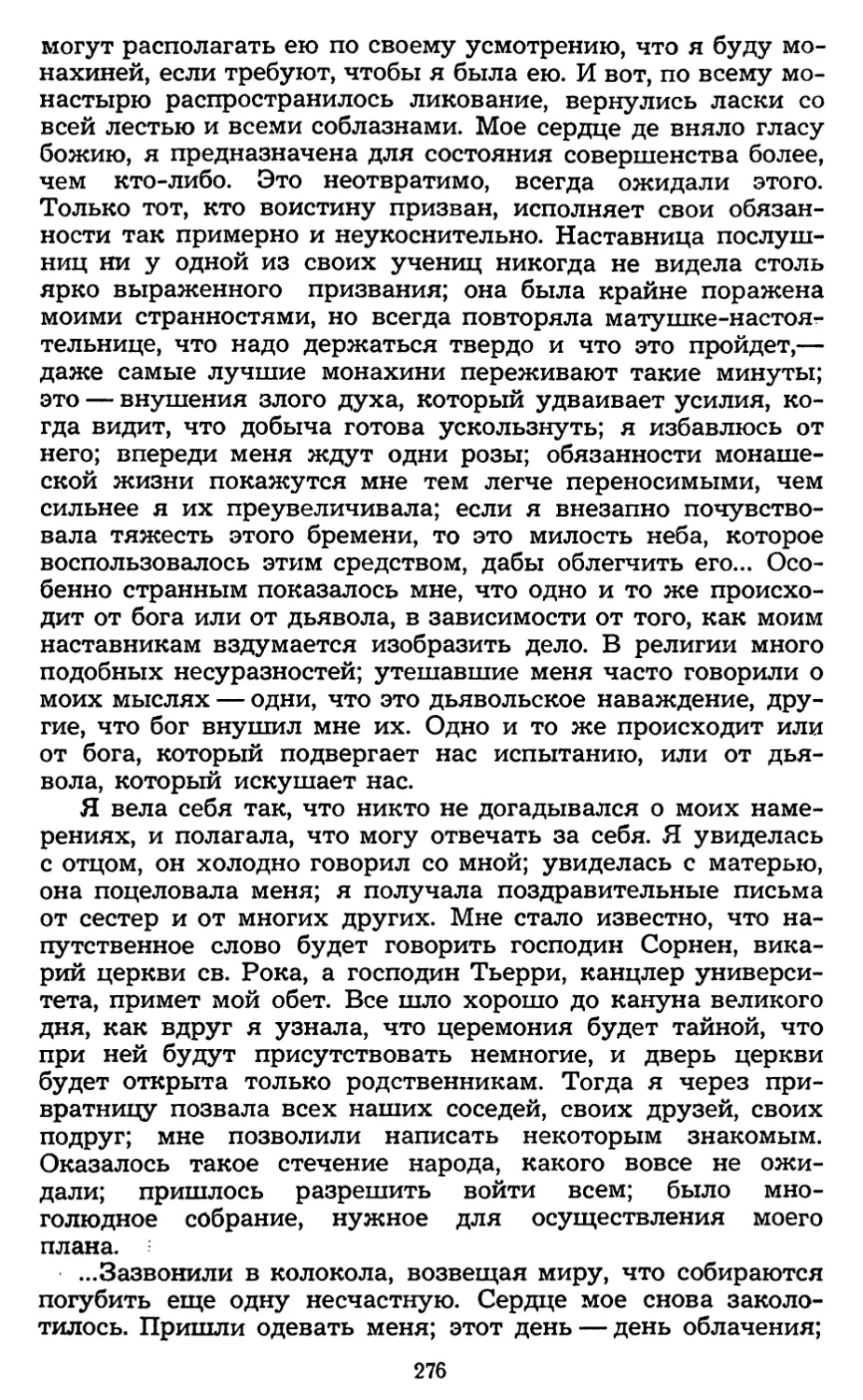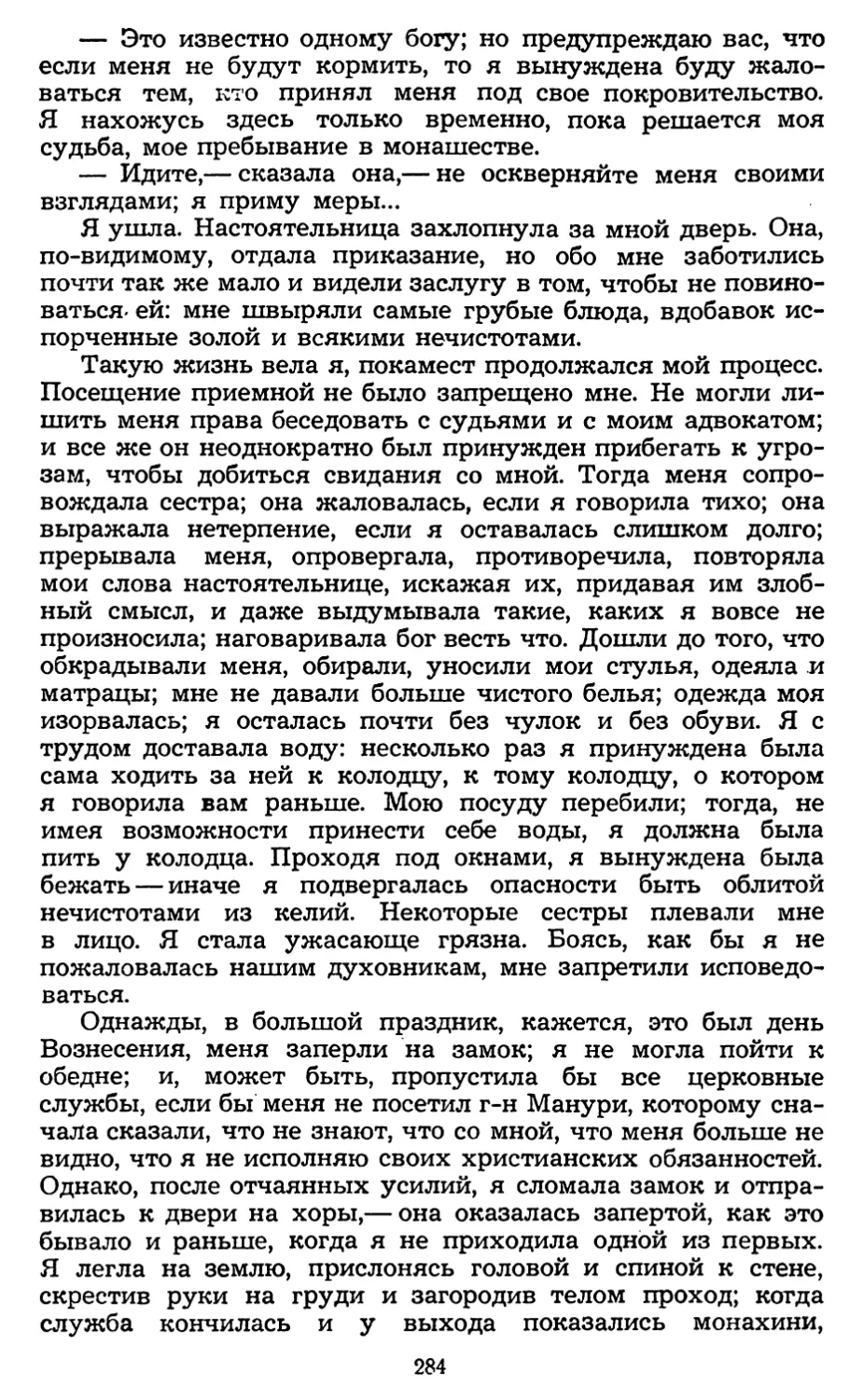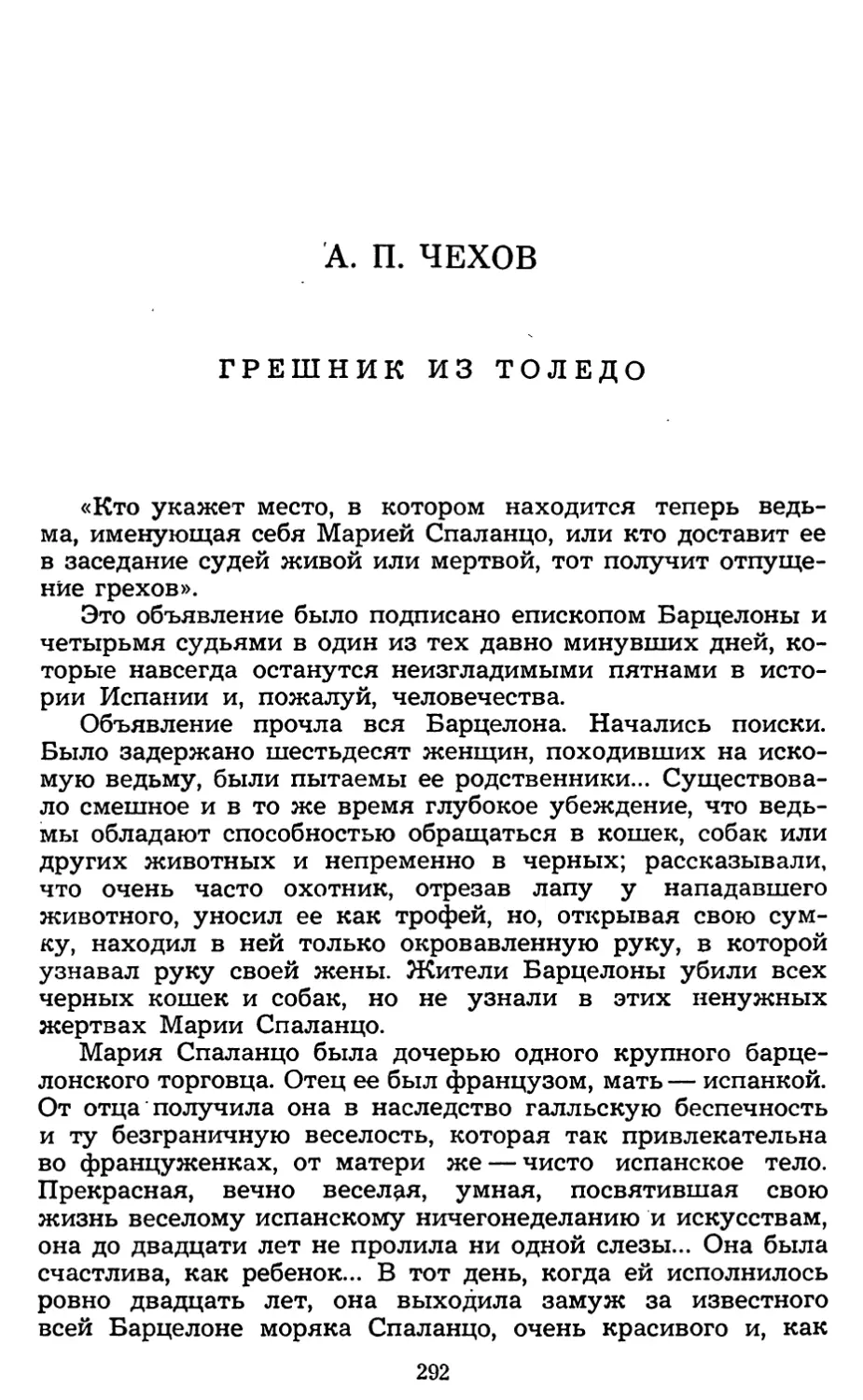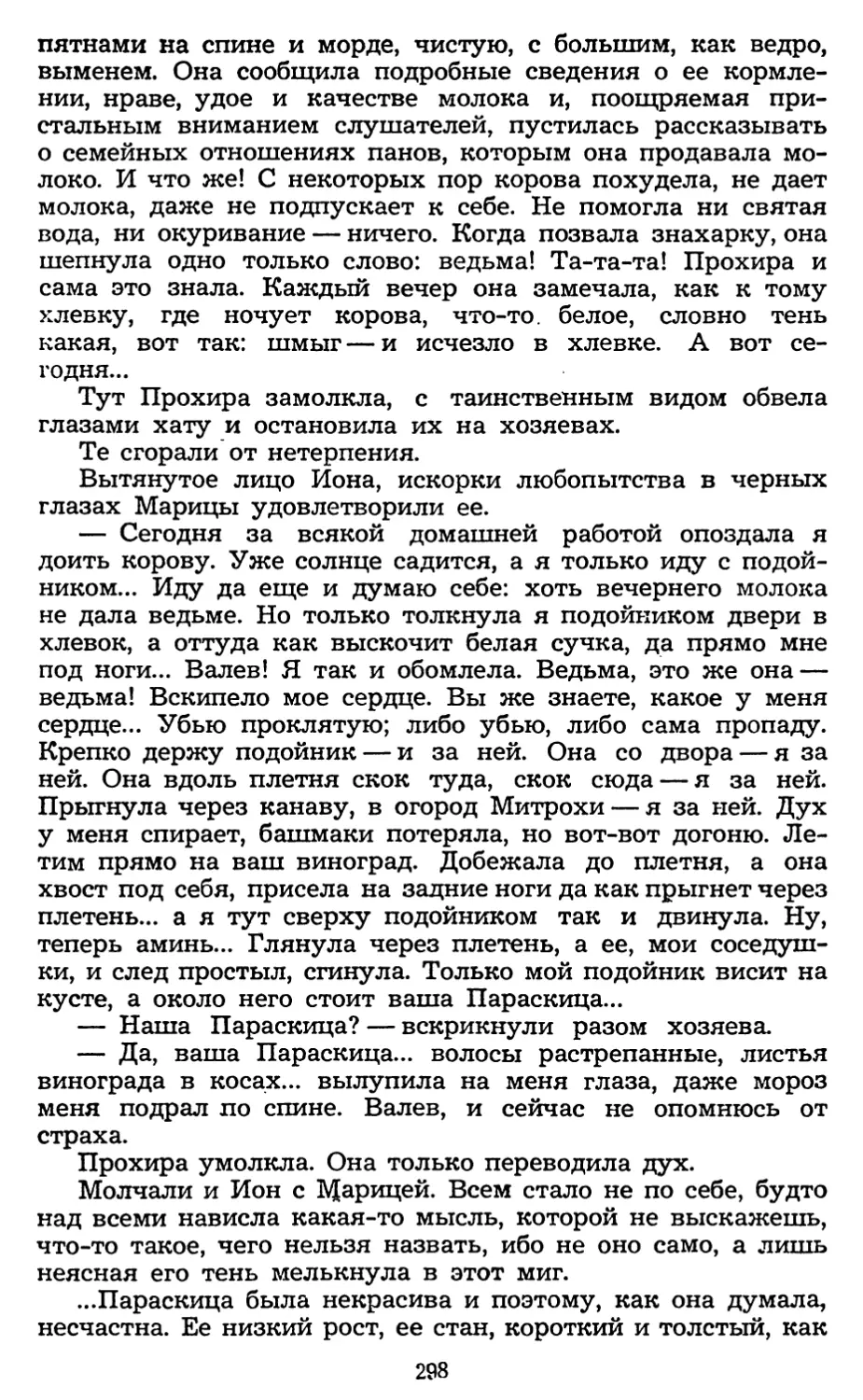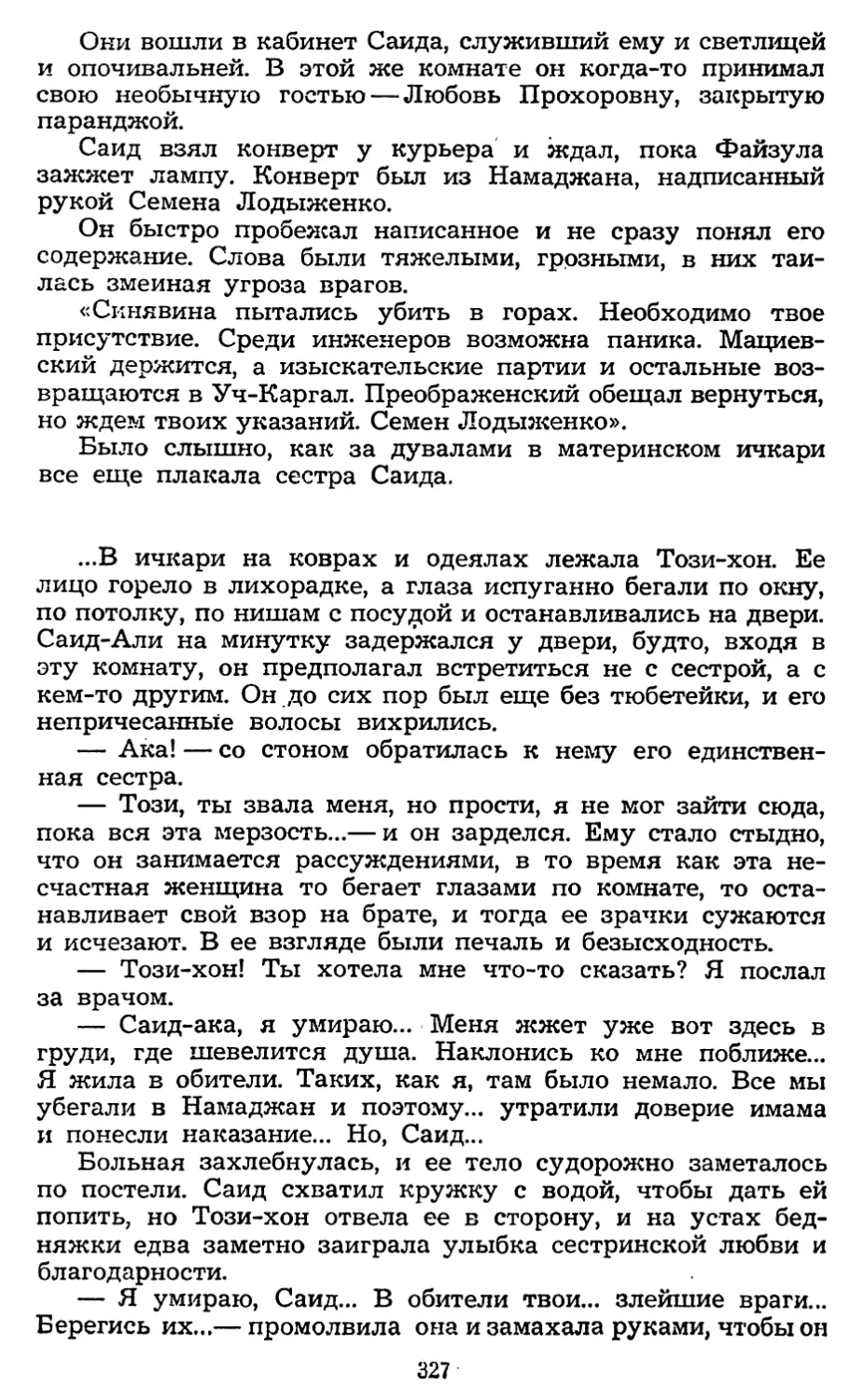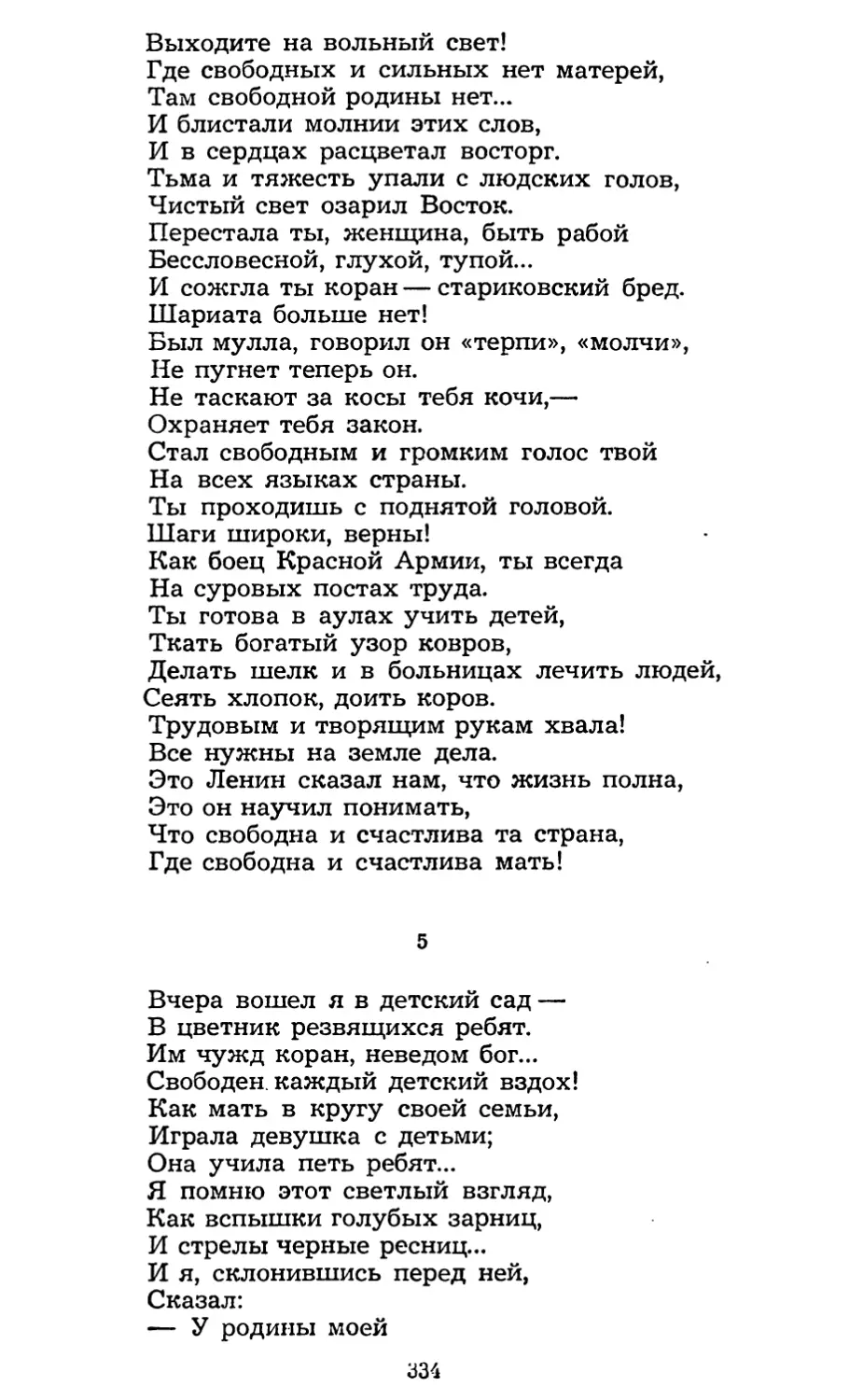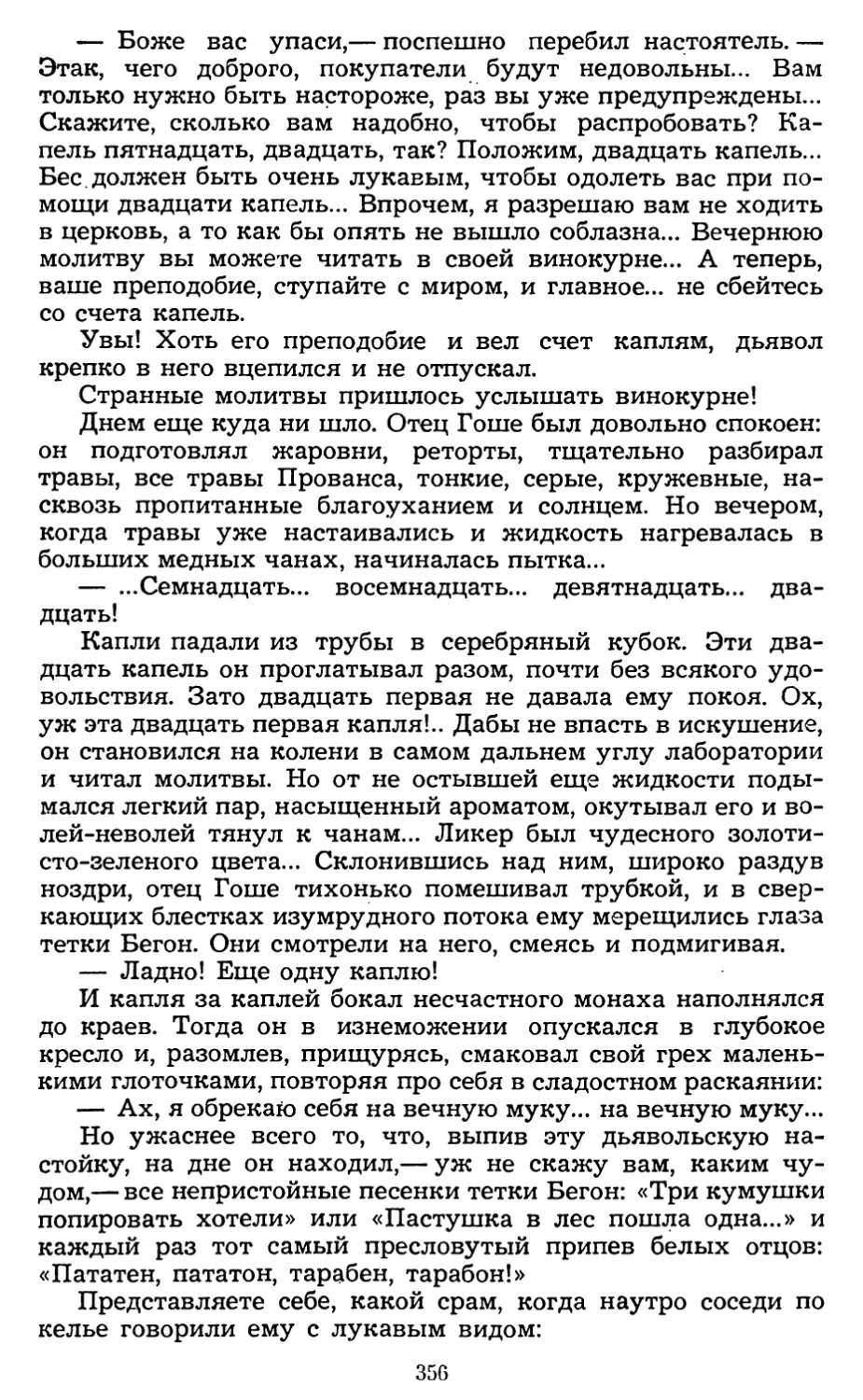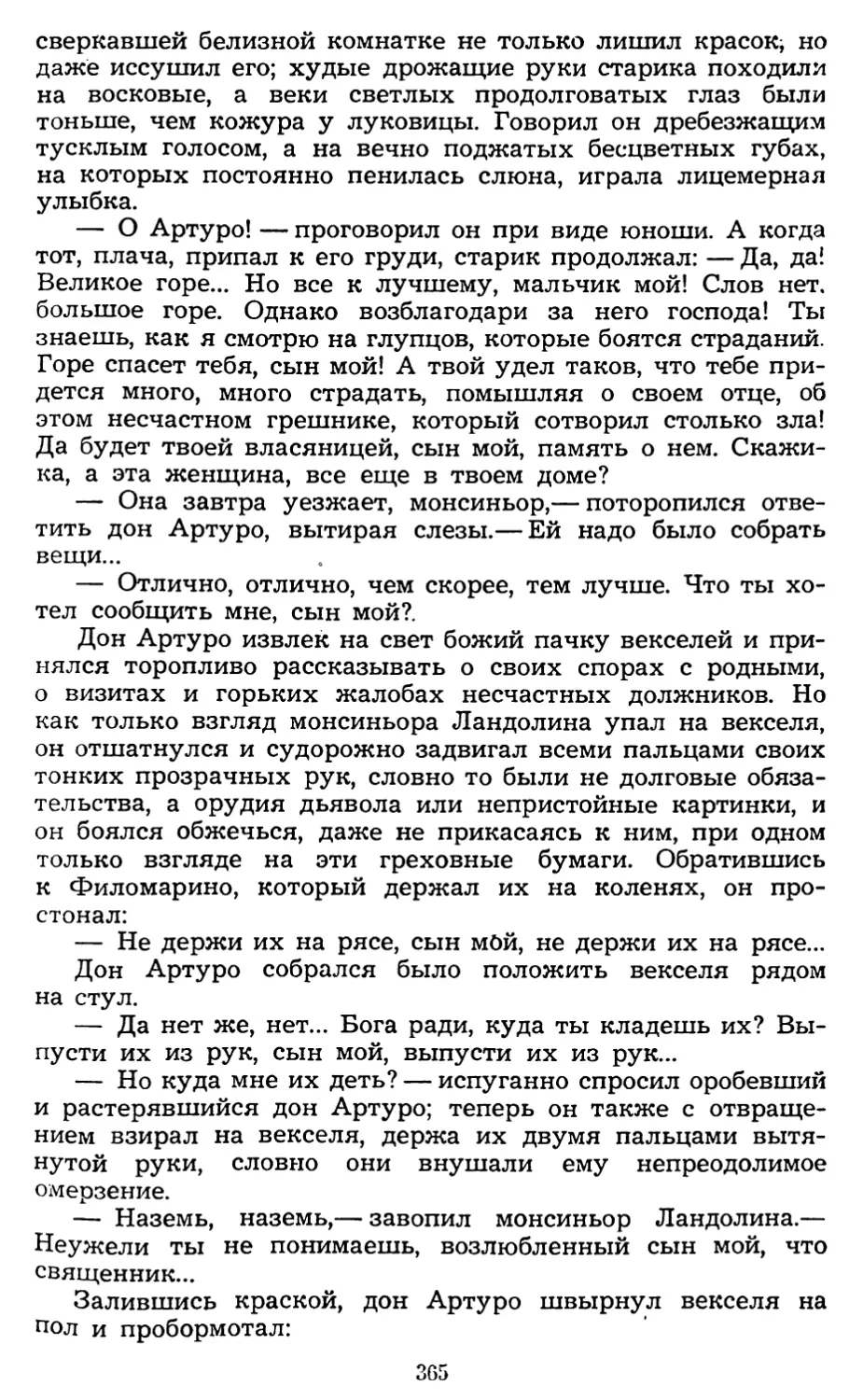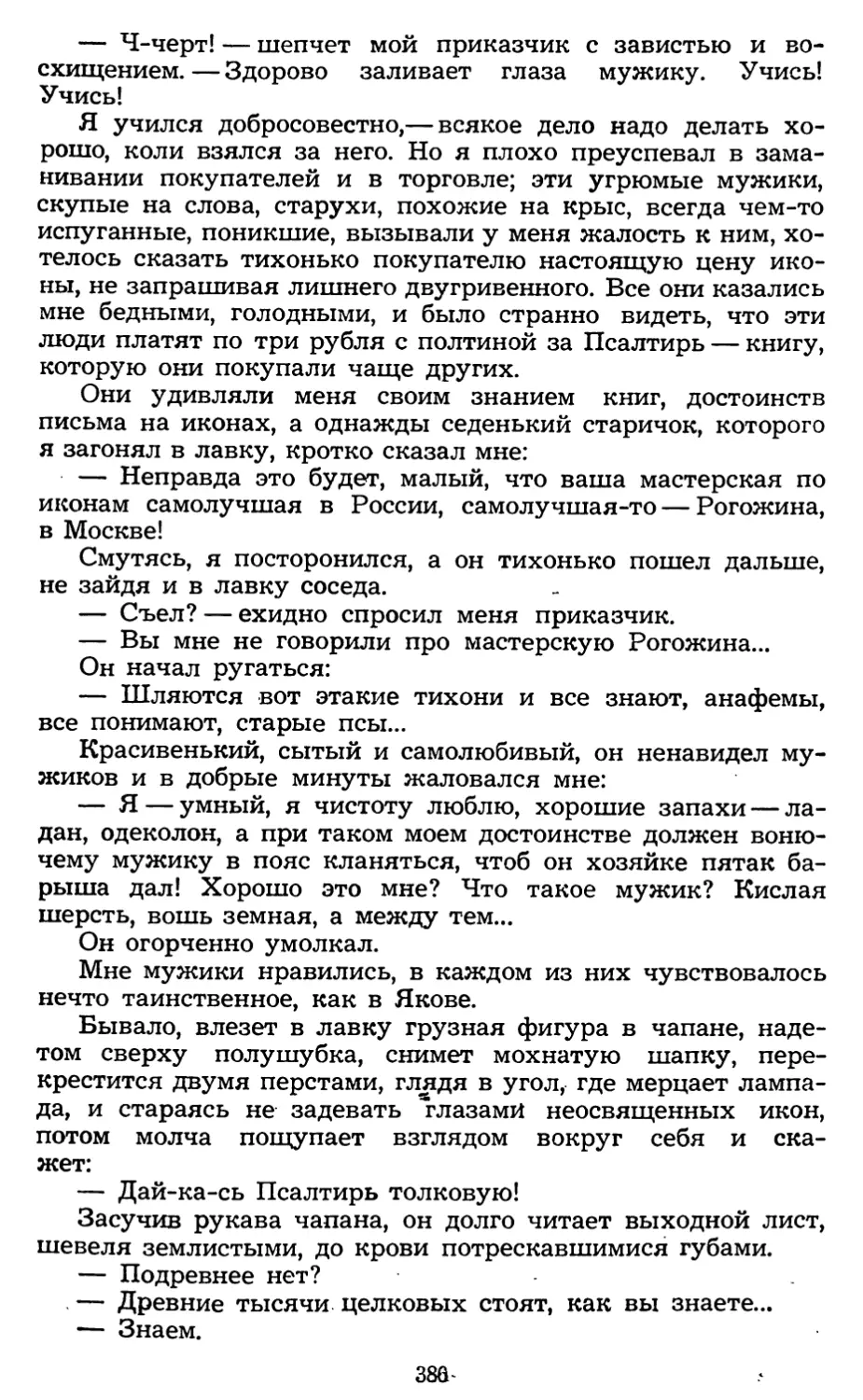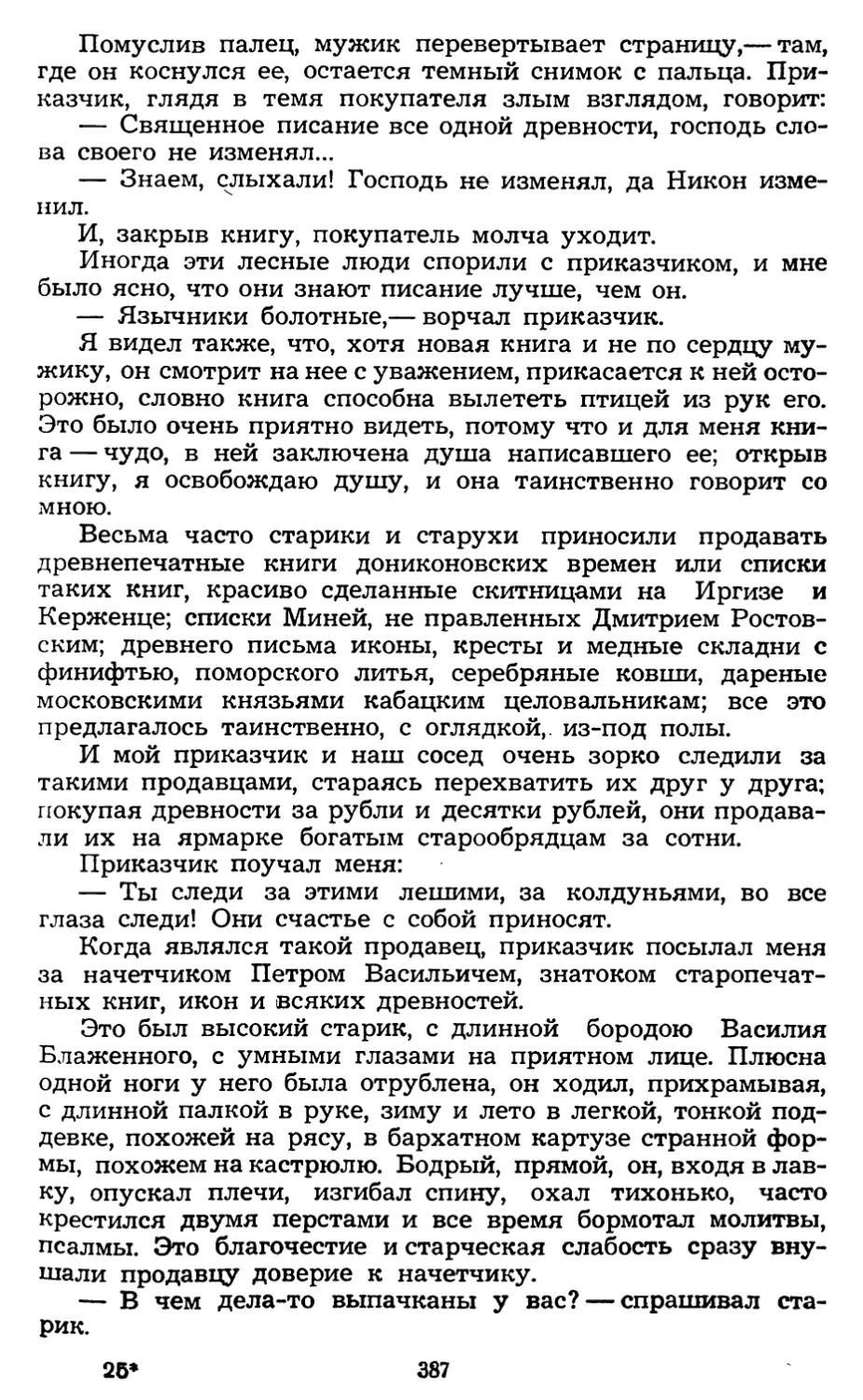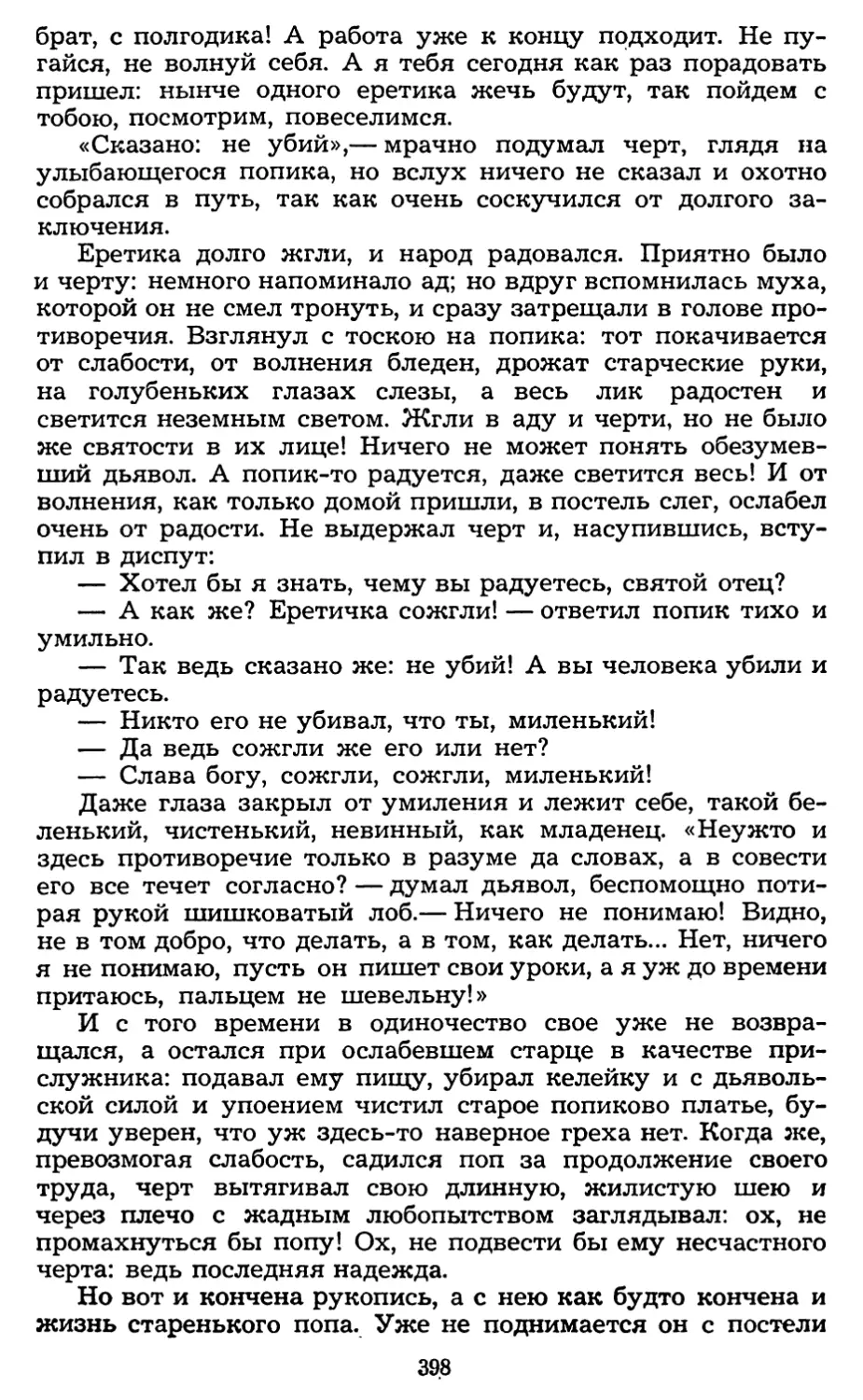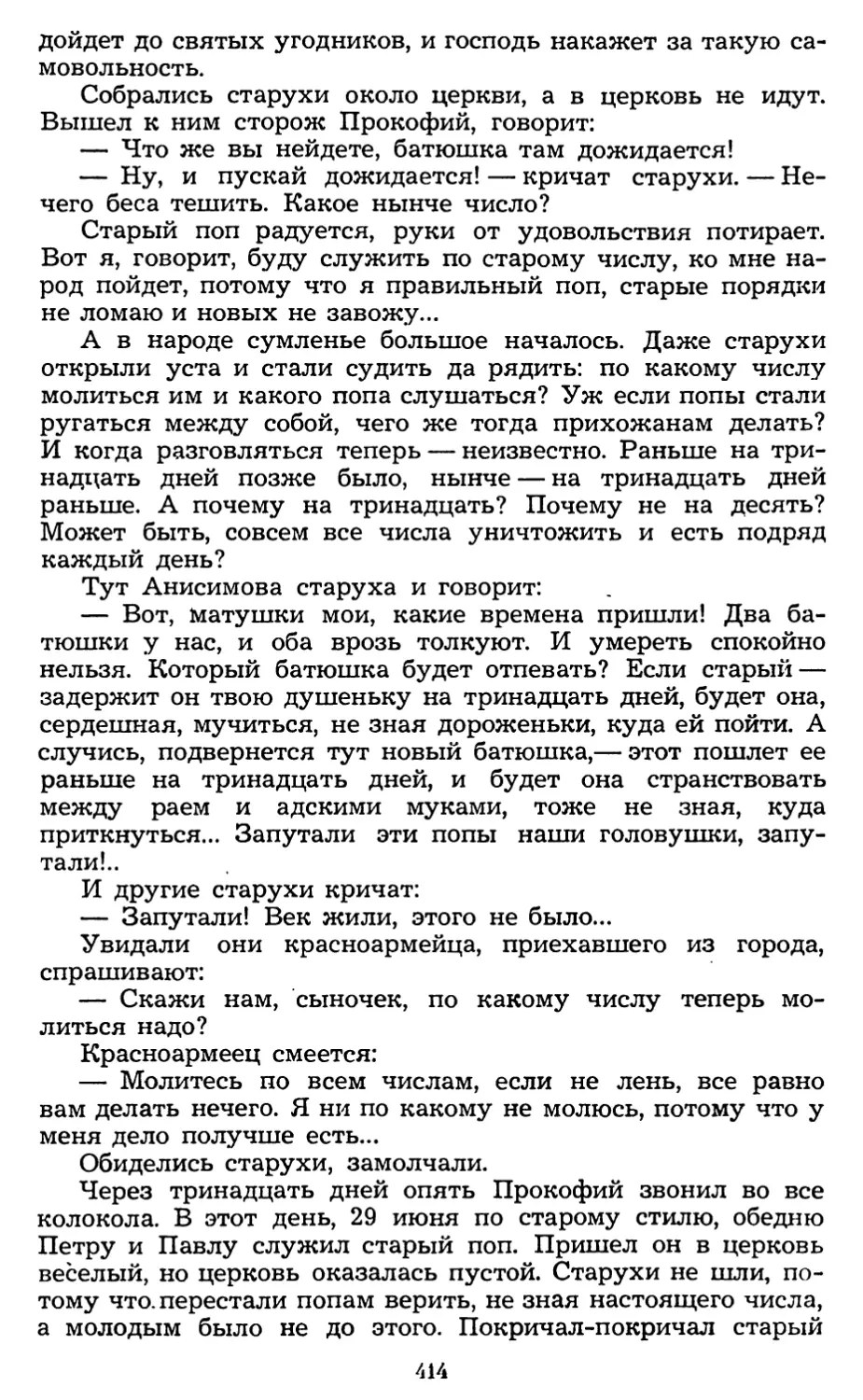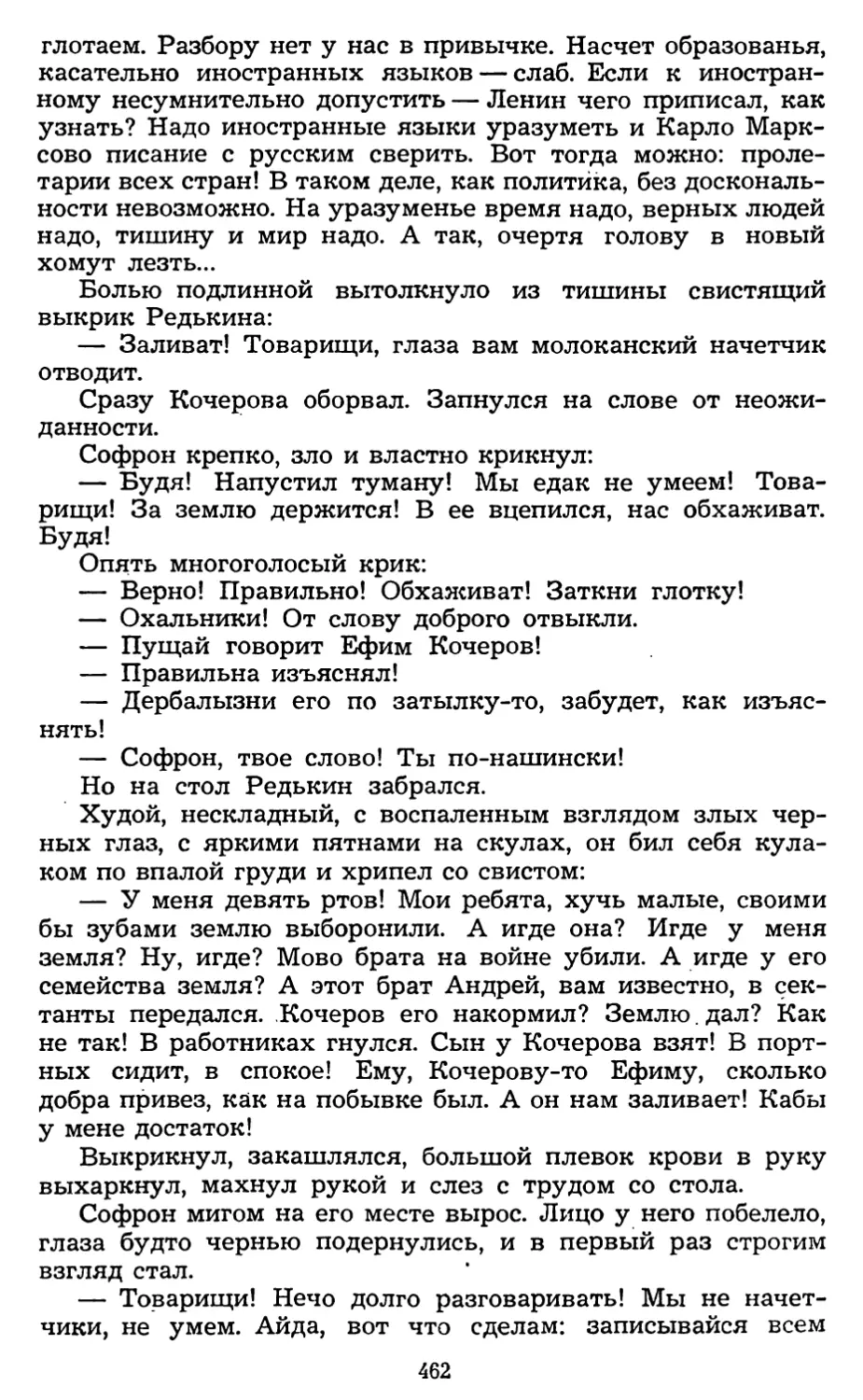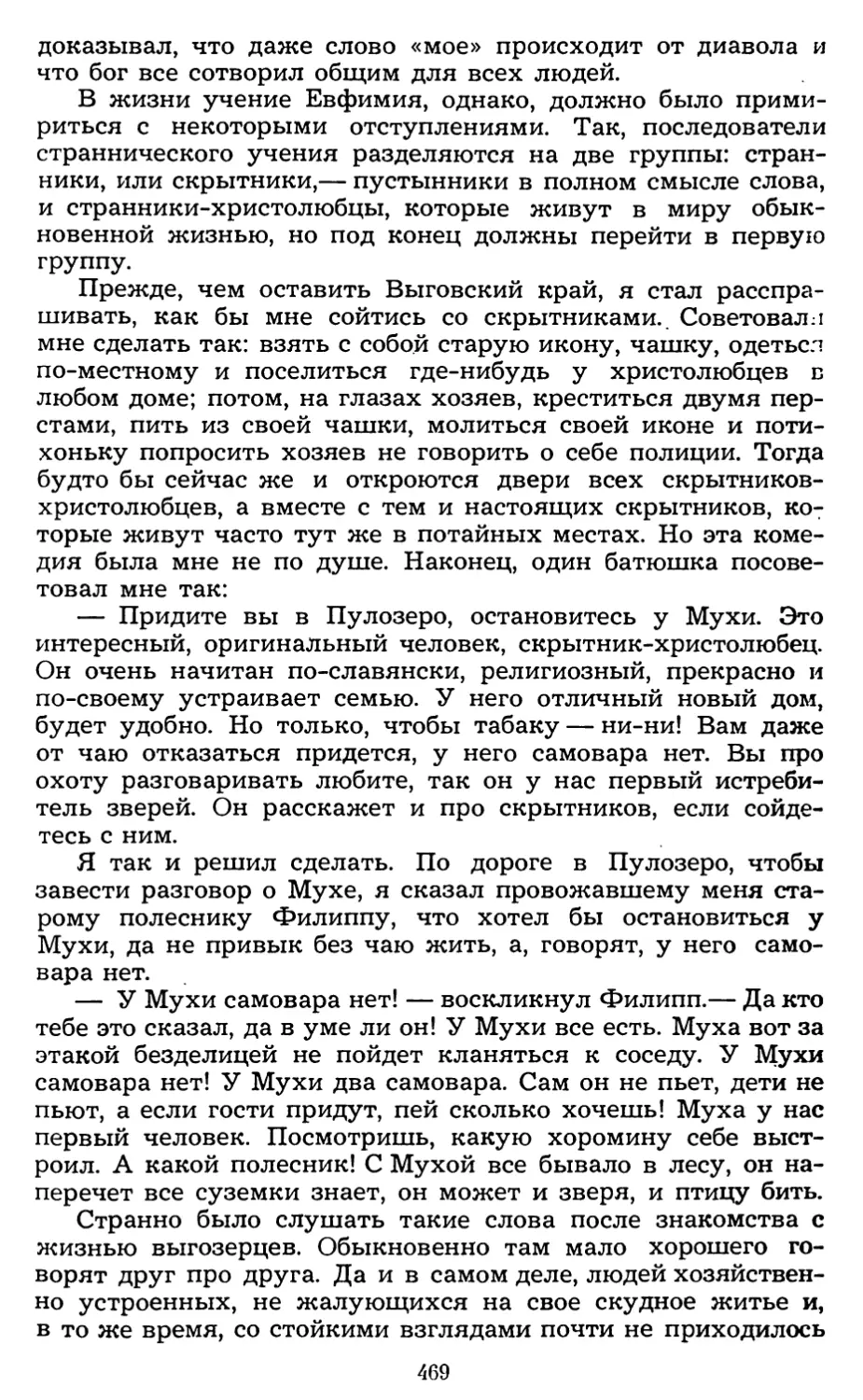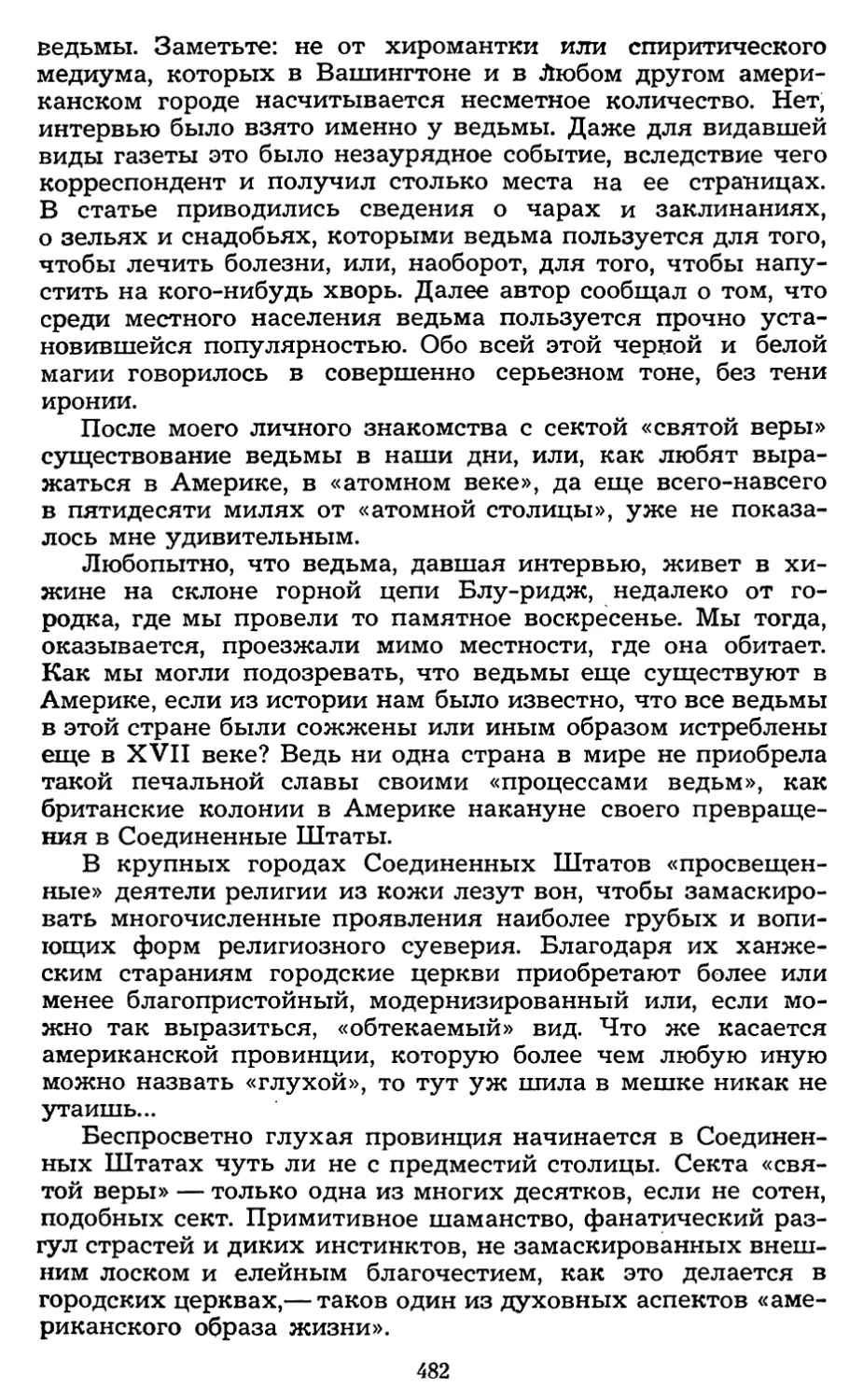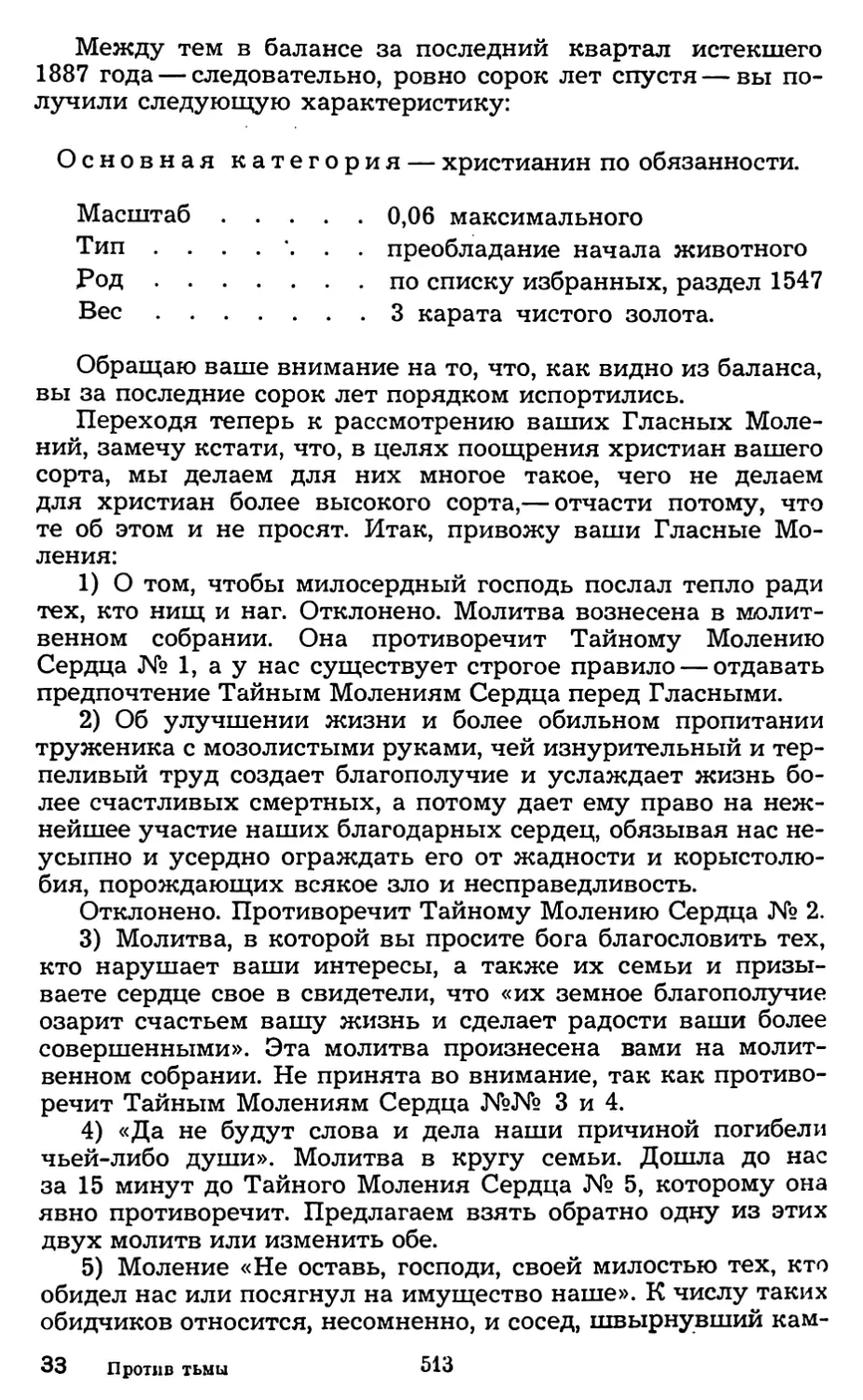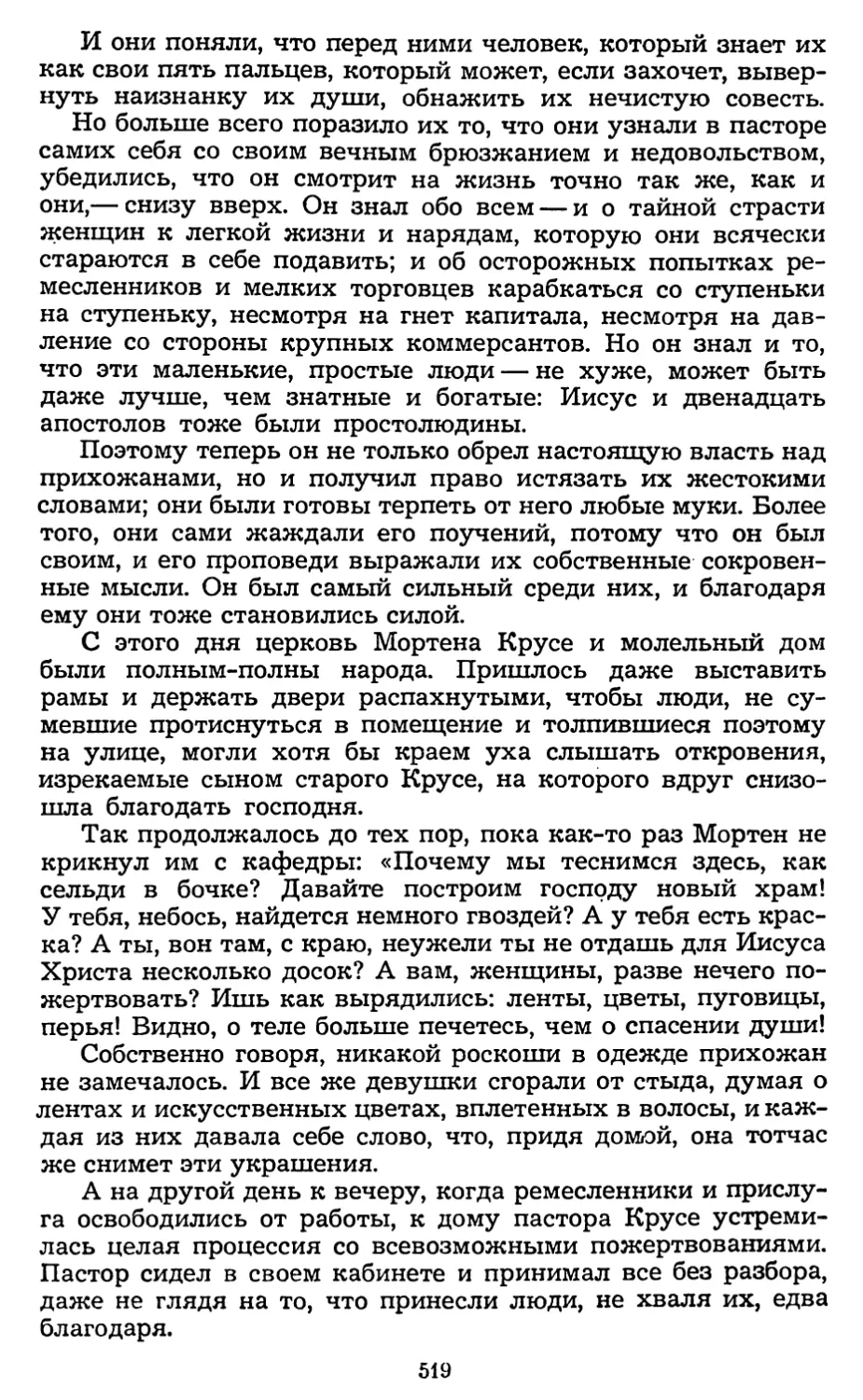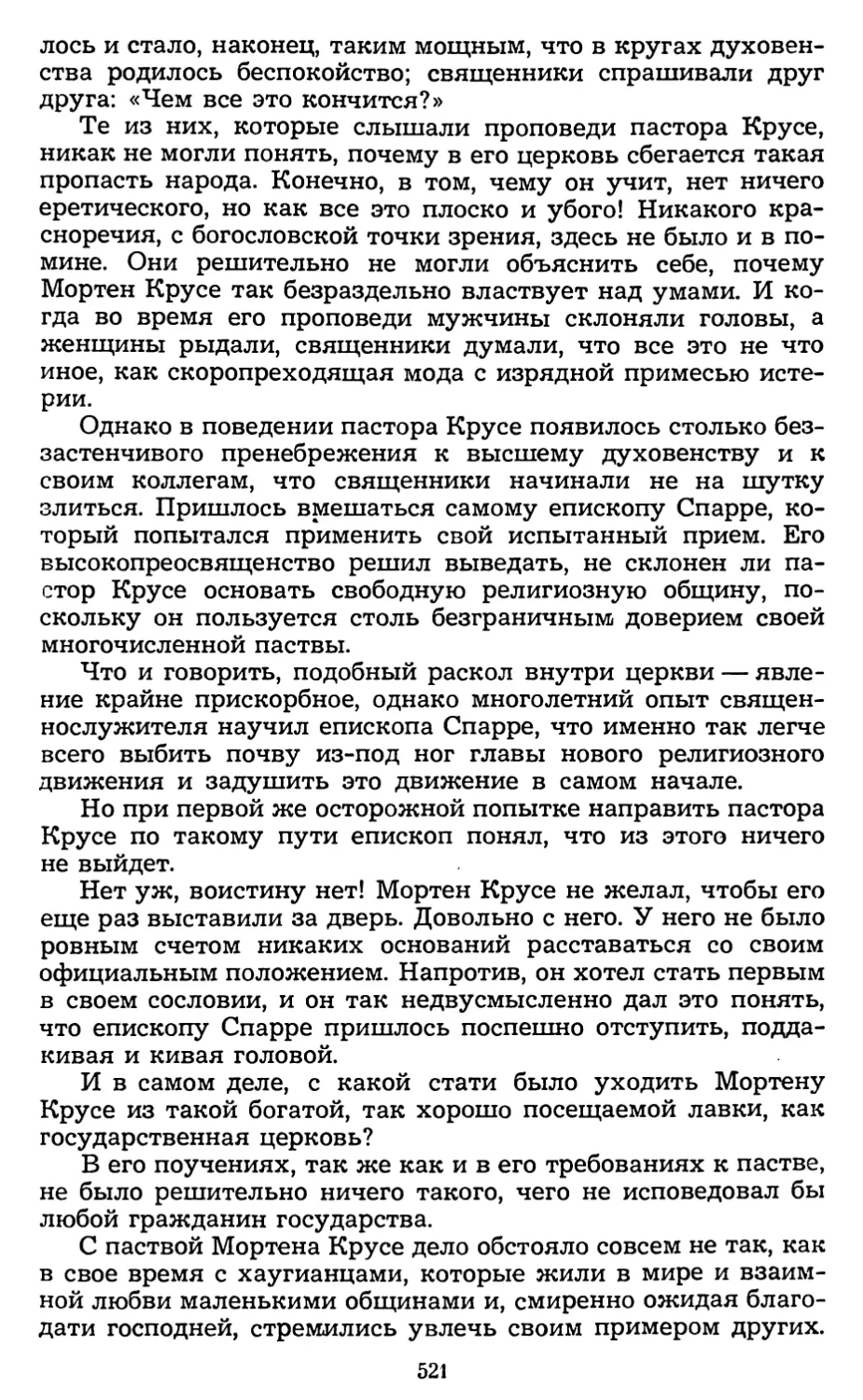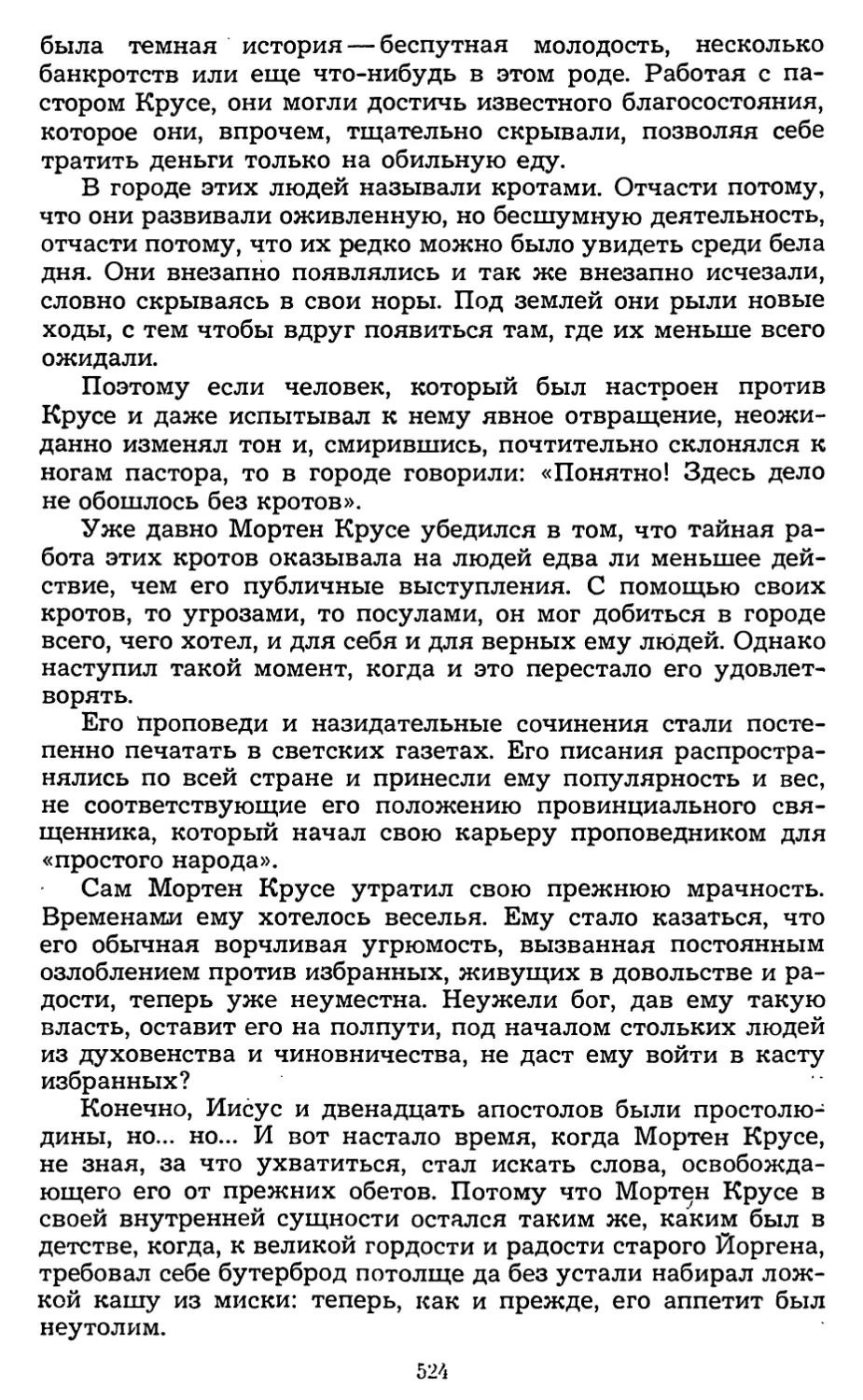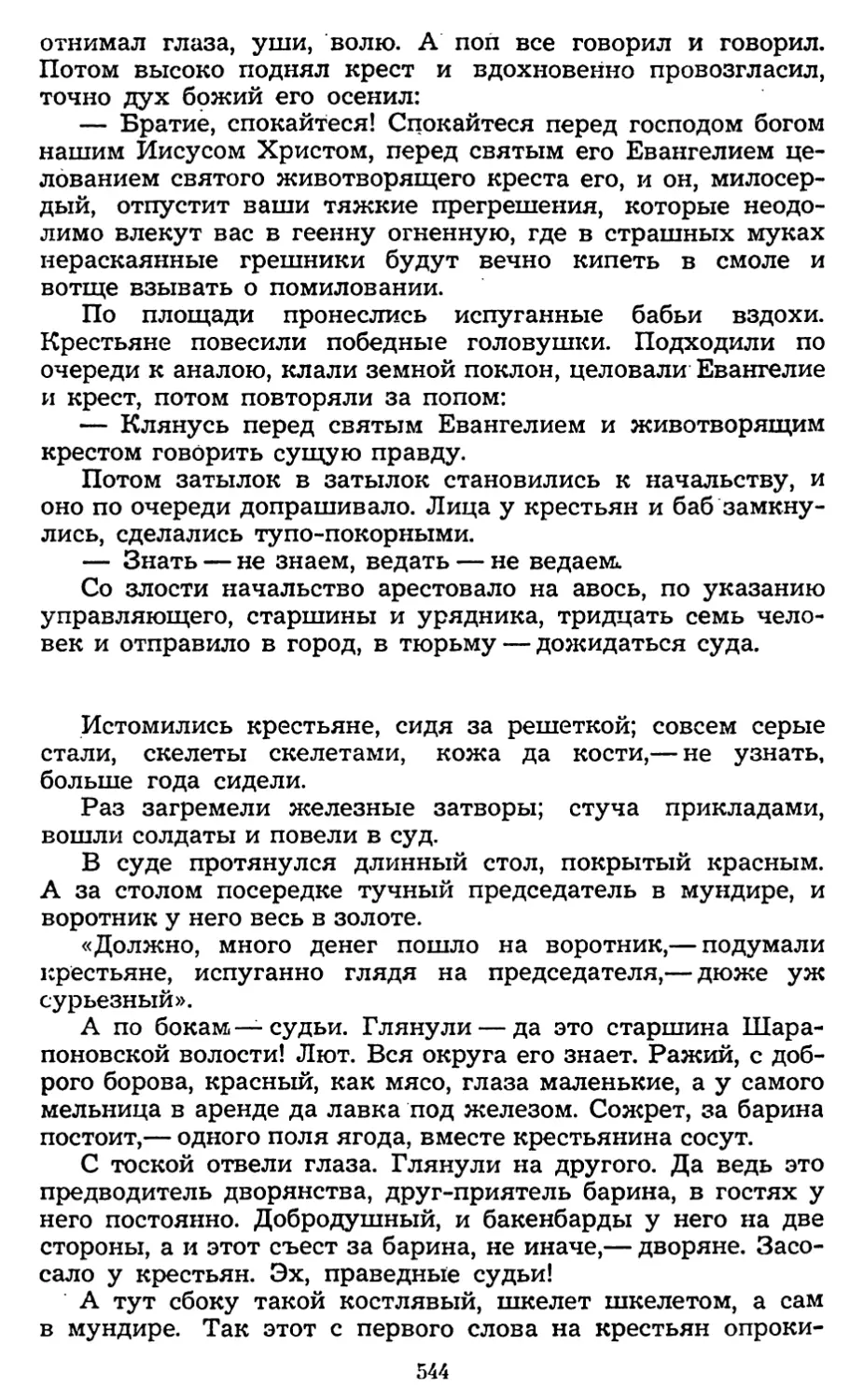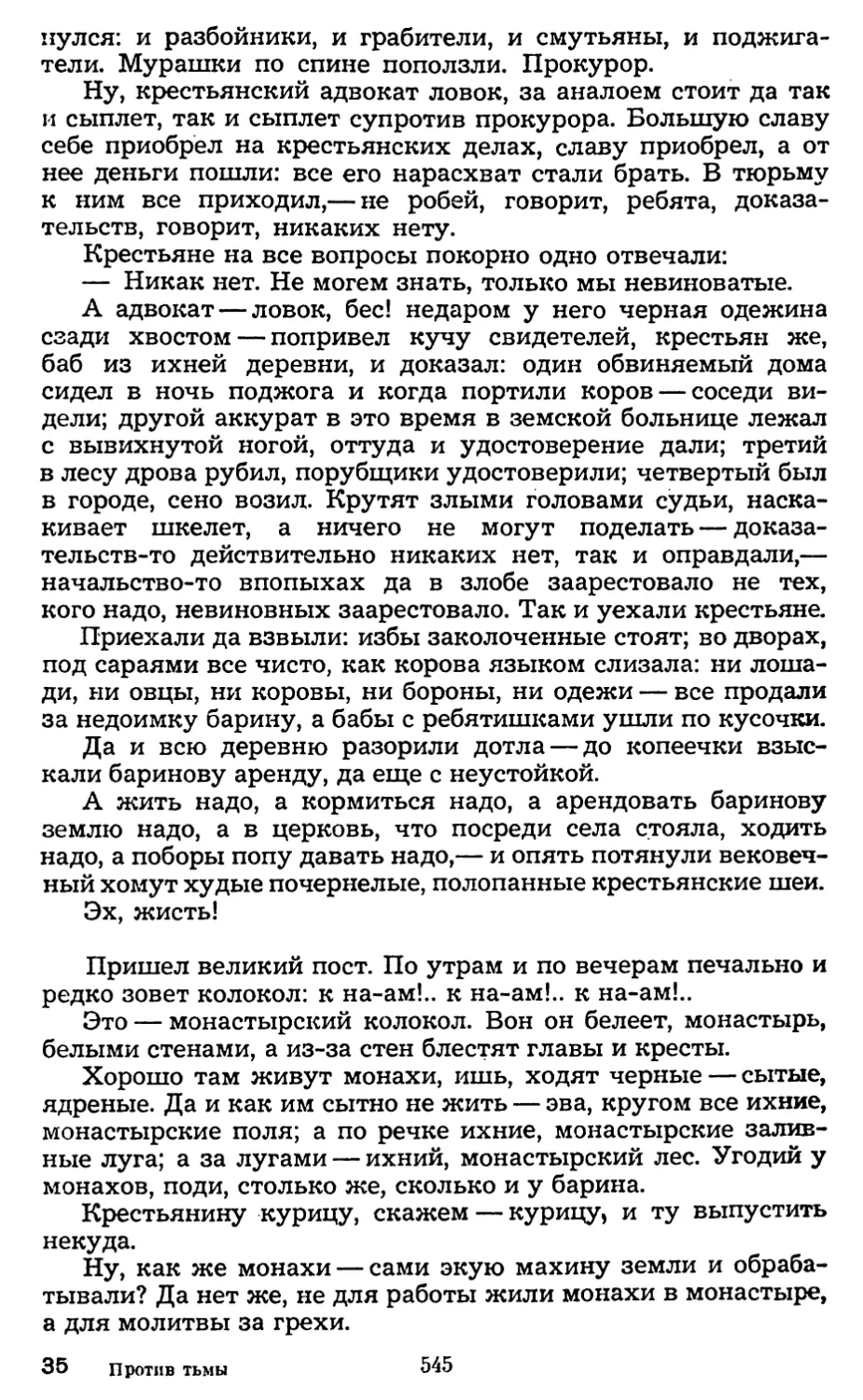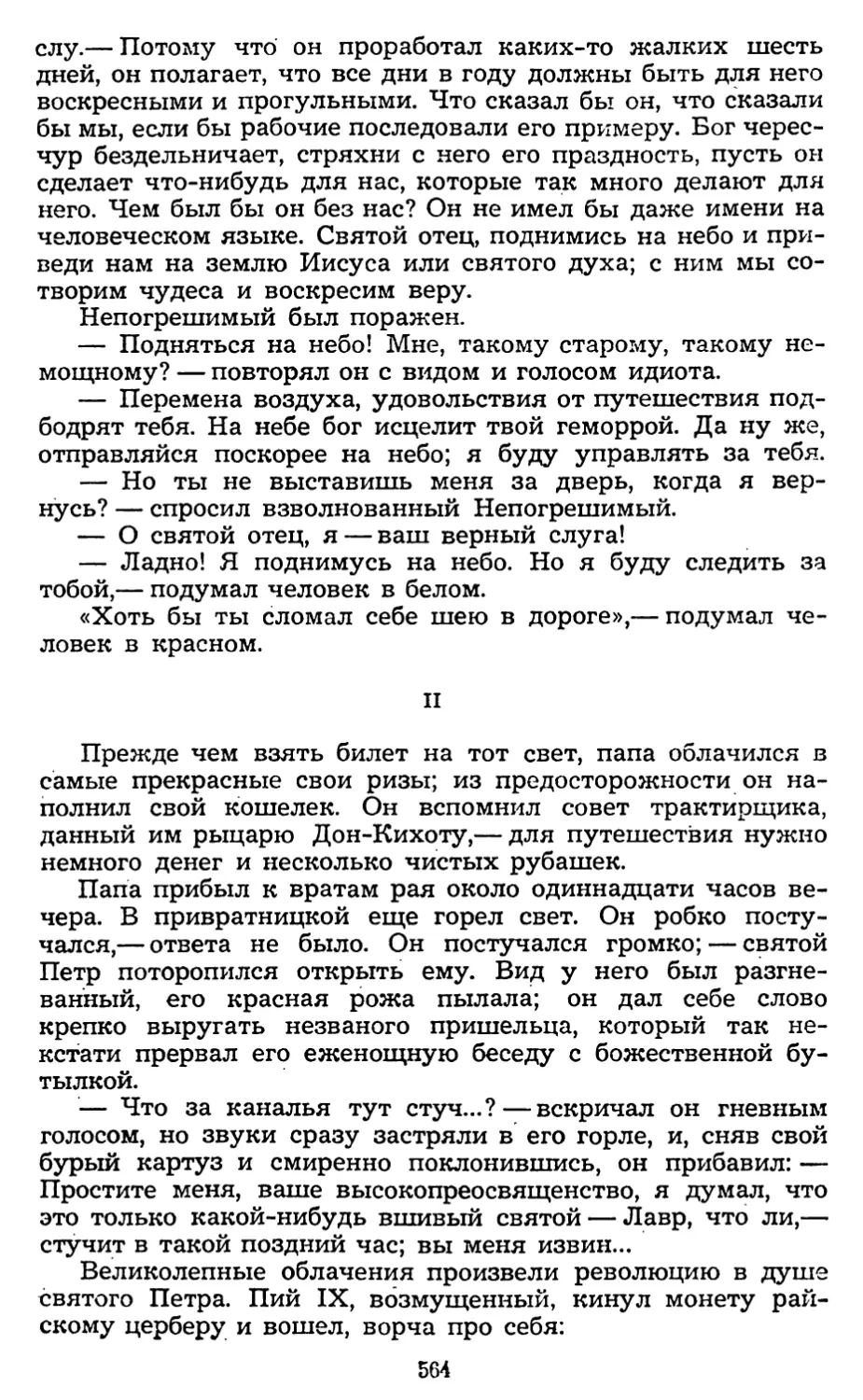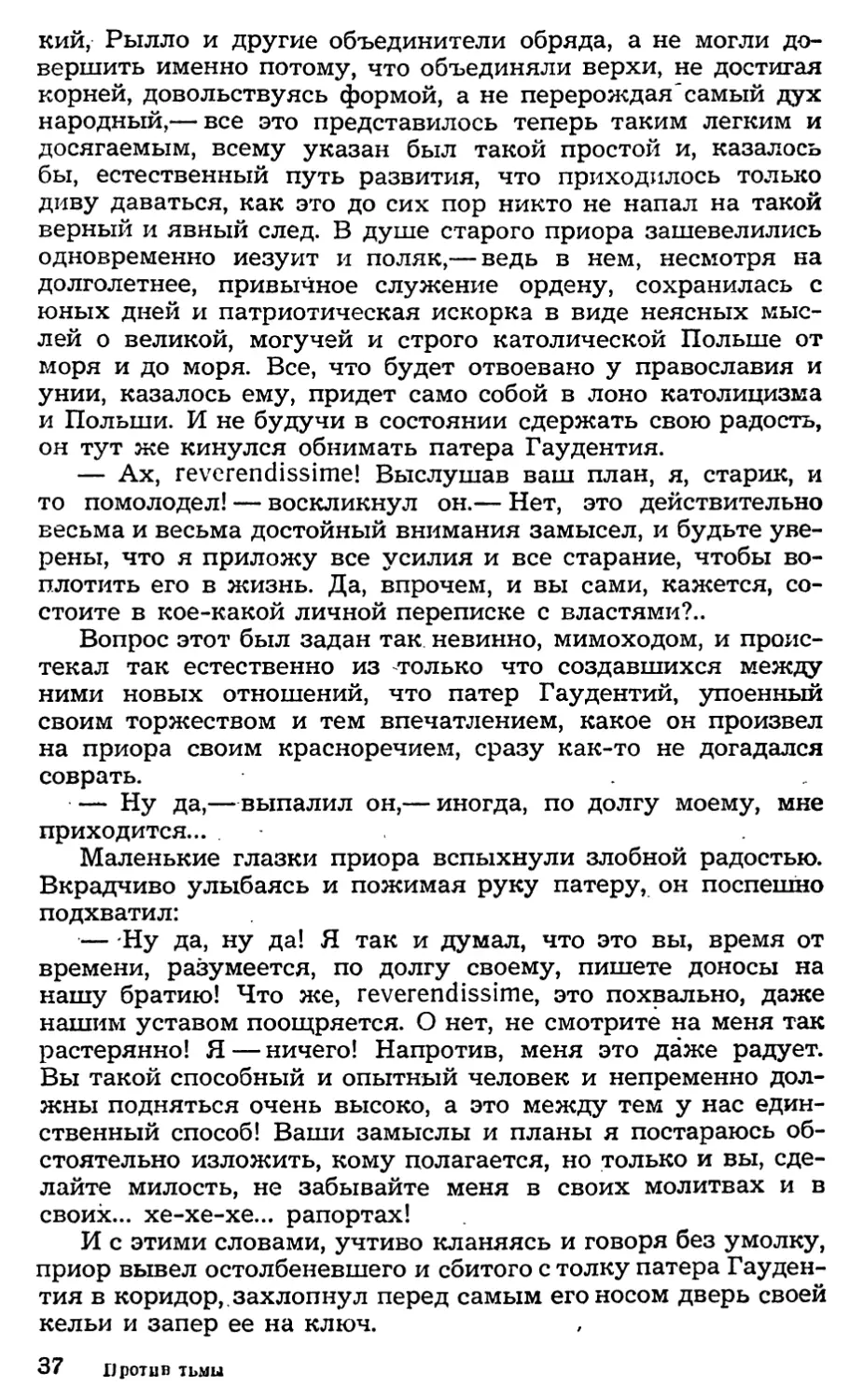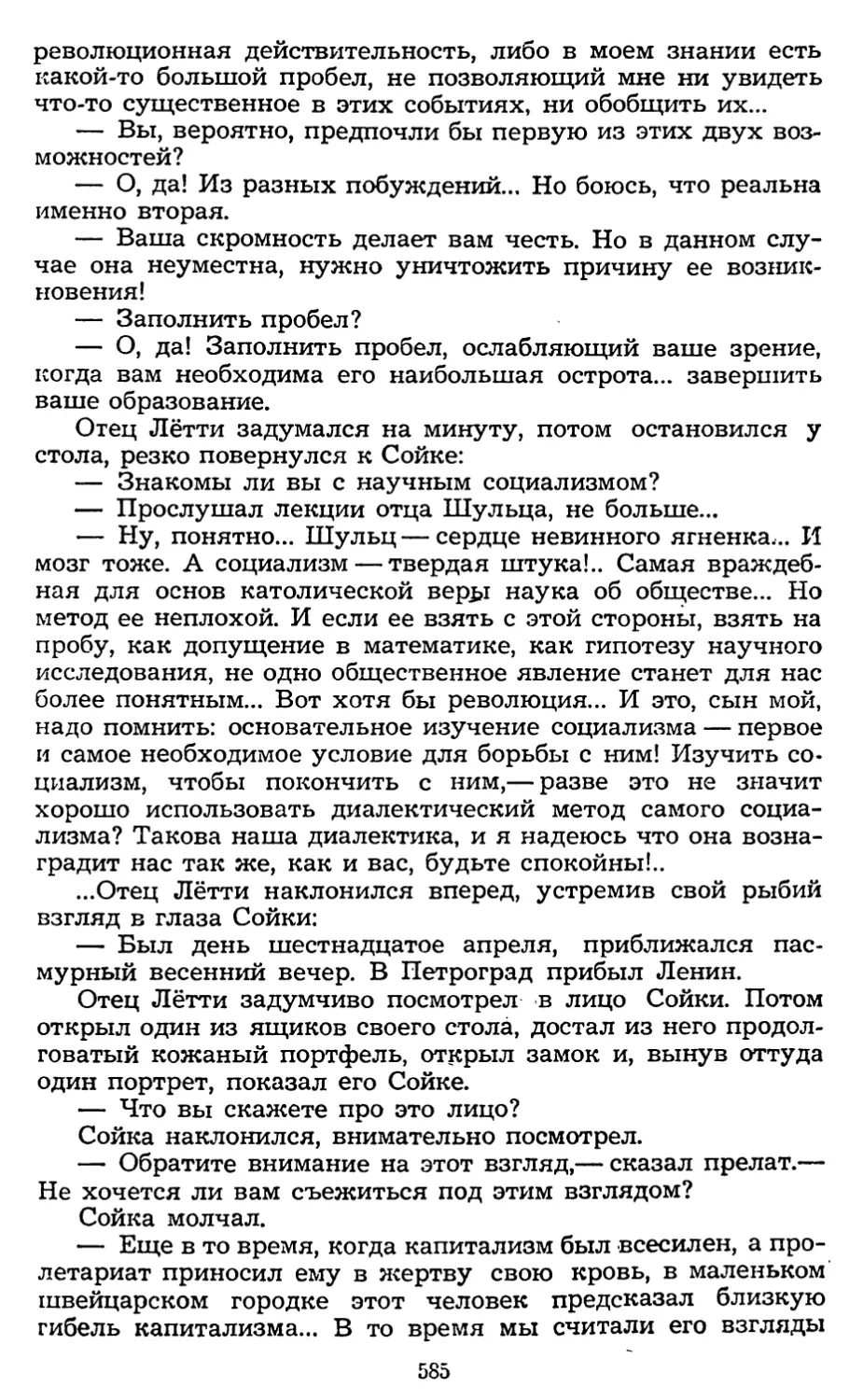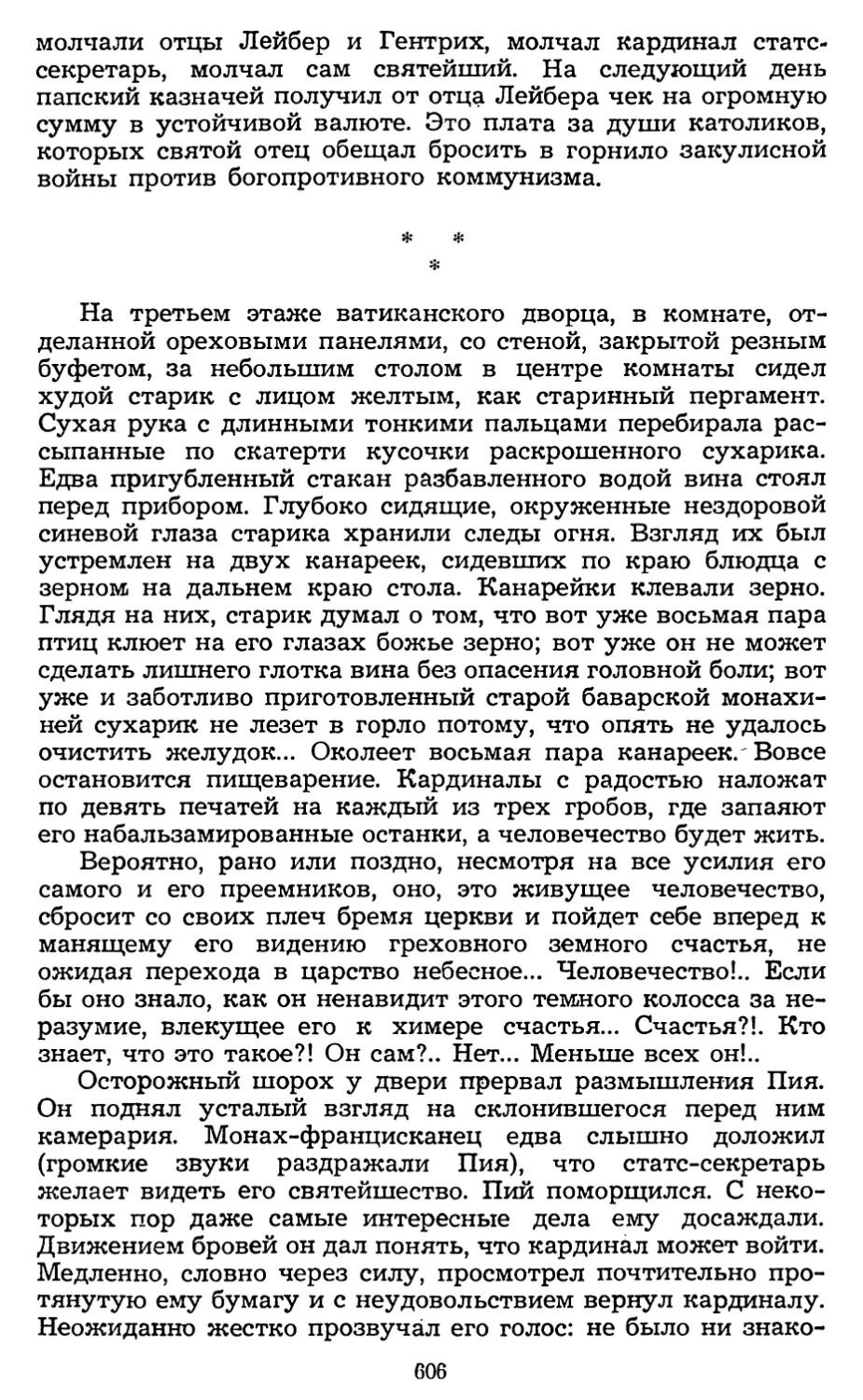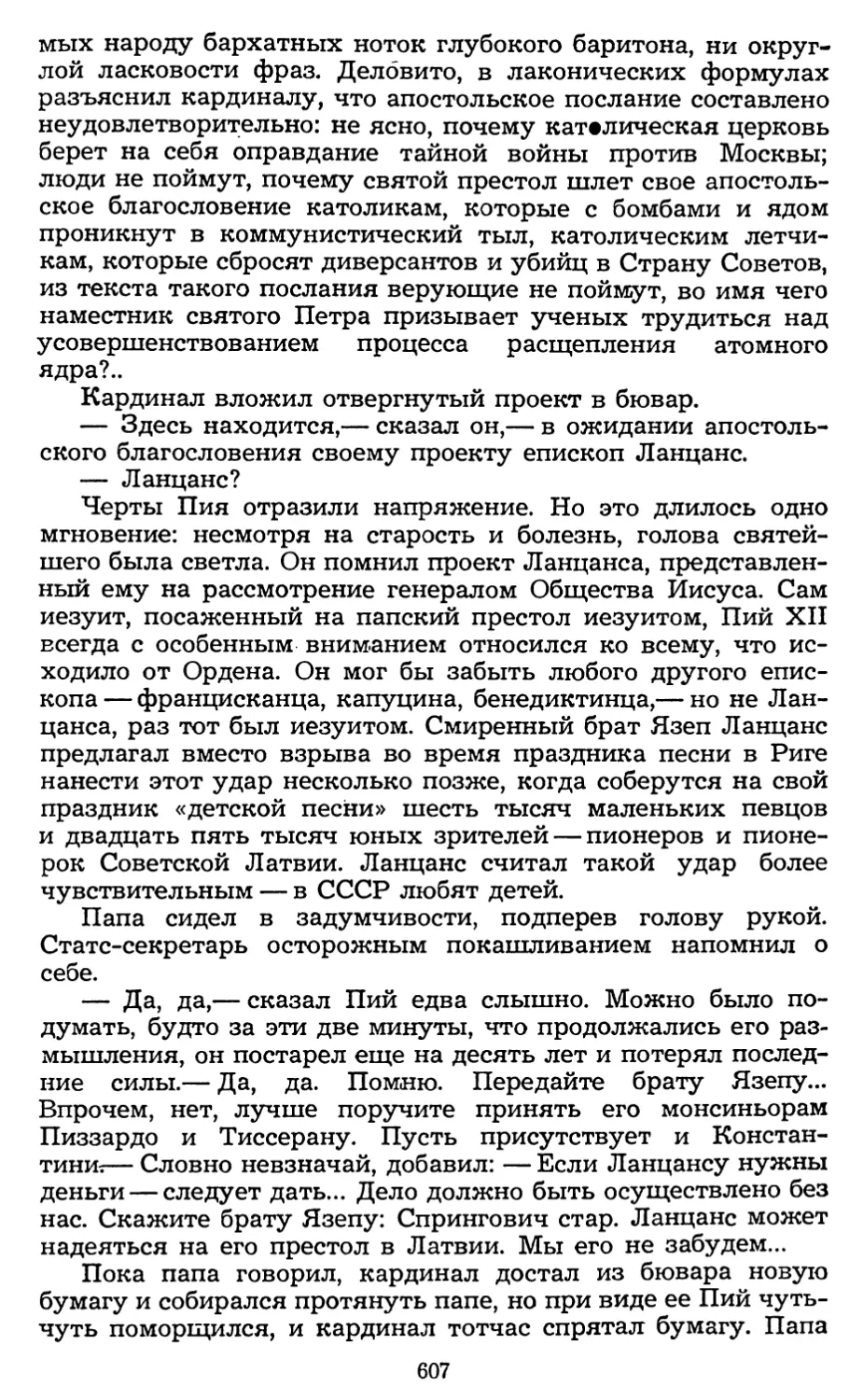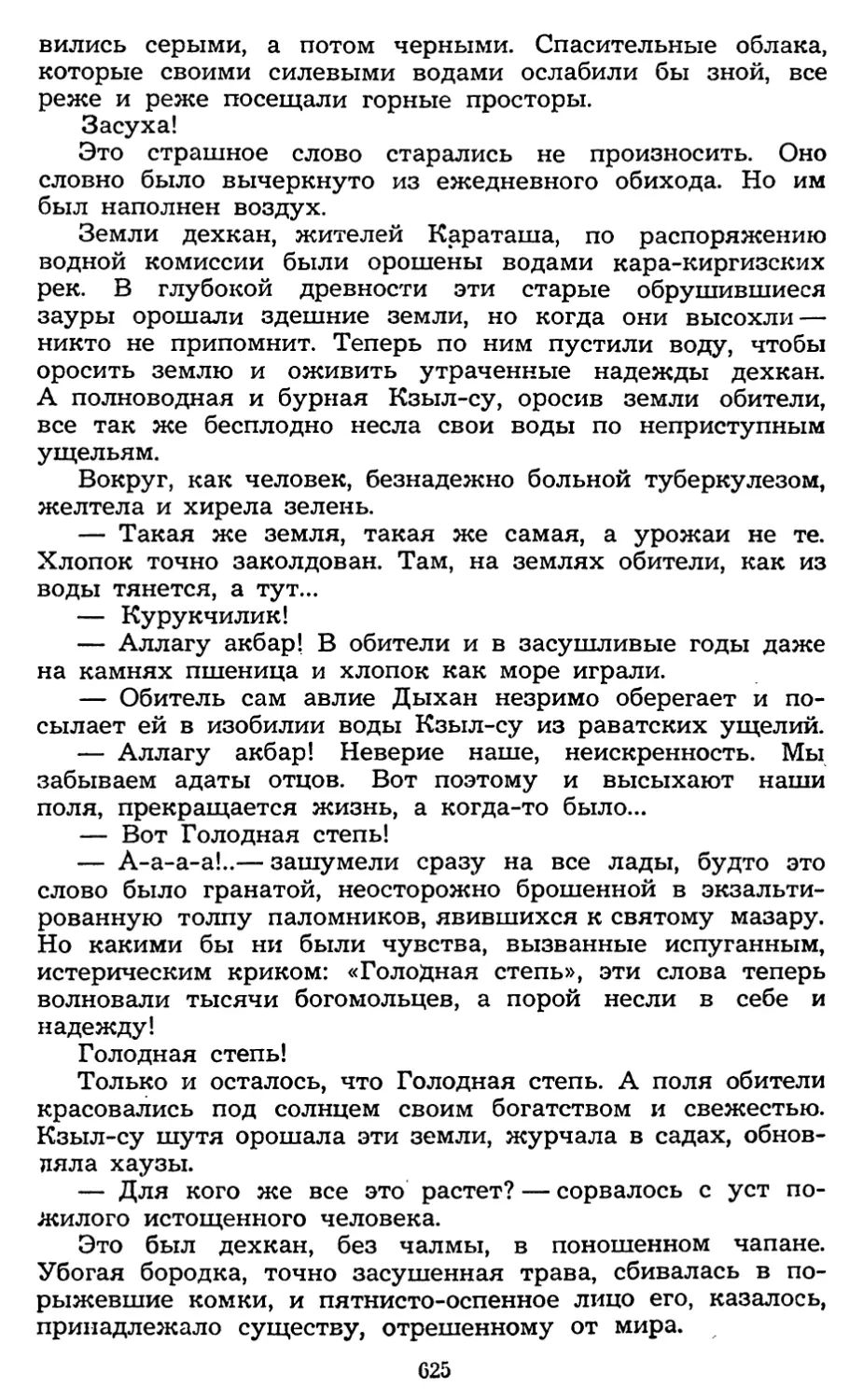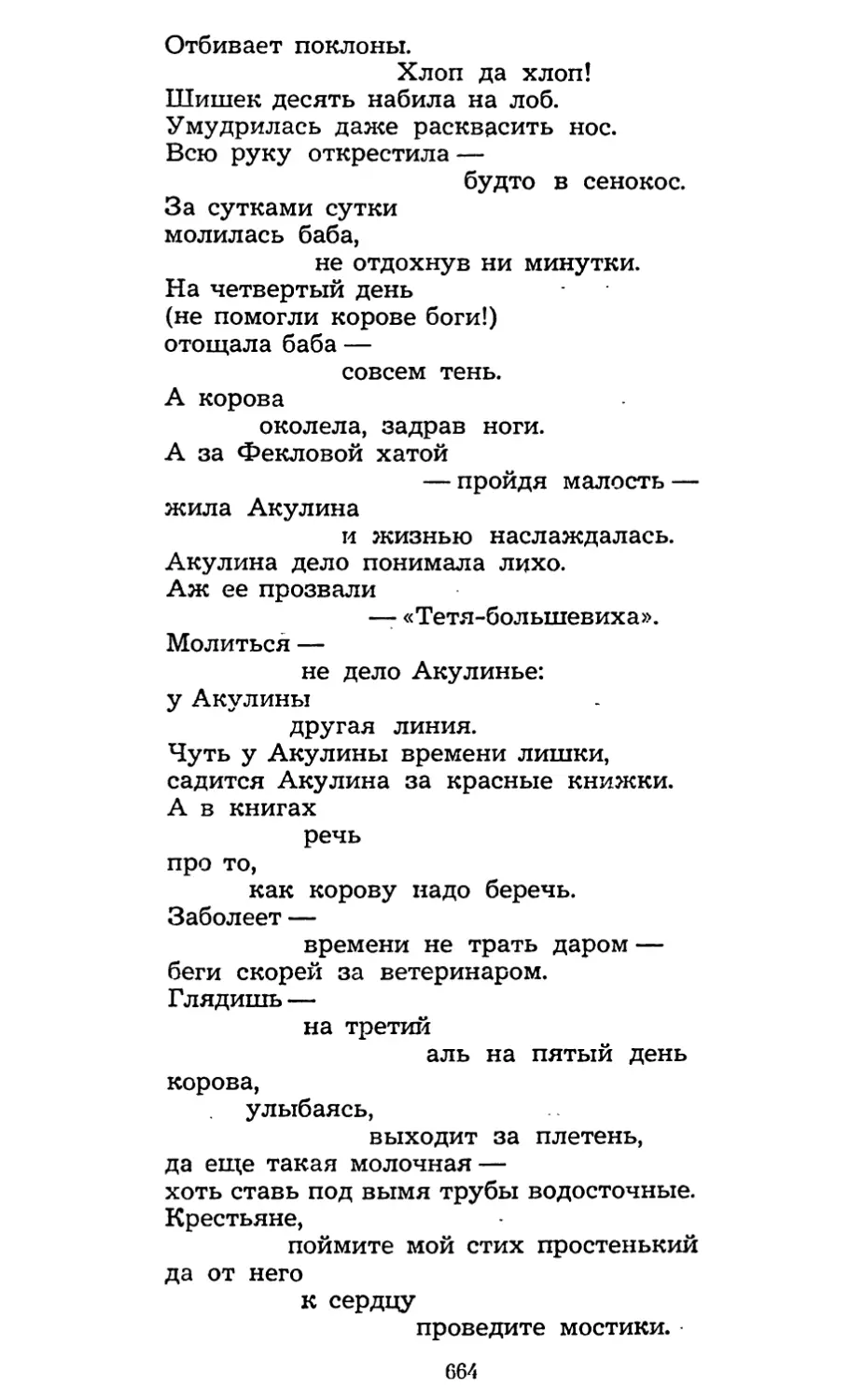Текст
^осро/п с минной
tijpoiftiej6cm1)0
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
сМ о й к $ о ■ *<)61
против
Предлагаемая вниманию читателей книга является
хрестоматией художественных произведений мировой
литературы, посвященных атеистической тематике.
Материал хрестоматии разбит на разделы, каждый из
которых соответствует определенному направлению нашей
научно-атеистической пропаганды. Внутри раздела
материал расположен в хронологическом порядке.
В конце книги помещены примечания с датами жизни
писателей и краткими сведениями об их творчестве. В
отношении широко известных русских и советских
писателей редакция сочла возможным ограничиться датами их
жизни.
Отзывы и пожелания просим присылать по адресу: Москва,
Д-47, Миусская пл., 7, Госполитиздат, редакция литературы по
научному атеизму.
Составитель Е. Вишневская
ПРЕДИСЛОВИЕ
В арсенале средств, служащих борьбе за преодоление
религиозных пережитков в сознании людей, большую роль
играет художественная литература. То, что не может сделать
брошюра, выполняет зачастую художественный рассказ,
очерк, памфлет, фельетон, стихотворение, пьеса.
Воздействие на чувства, на настроения людей имеет
зачастую в научно-атеистической пропаганде не меньшее
значение, чем воздействие на сознание, на рассудок. Именно
поэтому В. И. Ленин говорил, что в борьбе против религии
нельзя идти «только по прямой линии чисто марксистского
просвещения», что эту борьбу надо вести «и так и эдак»,
давая массам самый разнообразный материал, знакомя их с
фактами из самых различных областей жизни.
Религия не только мировоззрение, истолковывающее
окружающую нас действительность с определенных,
идеалистических позиций, она также совокупность определенных
чувств, настроений, переживаний. Вспомним хотя бы такие
атрибуты религии как молитвы, богослужения, праздники,
обряды, пышно украшенные храмы, песнопения, проповеди,
крестные ходы — все это призвано создавать у верующих
соответствующее настроение. Многое делало и делает в этом
отношении искусство. Одним словом, как правильно писал
В. В. Маяковский: «У хитрого бога лазеек много».
Точно также и в атеистической пропаганде очень важно
пользоваться разнообразными средствами. Необходимо
воздействовать и на рассудок верующих, и на их чувства,
воздействовать не только с помощью лекций, брошюр, бесед,
но и с помощью театральных постановок, кинокартин,
стихов, очерков, романов.
Вот почему следует всячески приветствовать выпуска-
емуку Госполитиздатом хрестоматию художественных
атеистических произведений.
5
За годы Советской власти в различных издательствах
выпускались сборники, включавшие в себя атеистические
произведения, подобранные по тому или иному принципу.
Настоящая хрестоматия отличается от этих сборников тем, что
в нее включены почти исключительно художественные
антирелигиозные произведения, подобранные в соответствии с
требованиями, предъявляемыми ныне к
научно-атеистической пропаганде.
Читатель — будь то верующий или неверующий — найдет
здесь для себя немало интересного и полезного. Но особенно
много нужного материала получит лектор, пропагандист,
организатор художественной самодеятельности в клубе,
избе-читальне, доме культуры.
Материал хрестоматии сгруппирован по разделам, что
чрезвычайно облегчает пользование им. Например, в первом
разделе помещены произведения Эразма Роттердамского,
Вольтера, Гете, Гейне, Пушкина, Салтыкова-Щедрина,
Горького и др. произведения, в которых критикуется религиозная
идеология, разоблачается бессмысленность веры в
сверхъестественные существа, в загробный, потусторонний мир. Во
втором и третьем разделах, в произведениях Боккаччо,
Беранже, Мопассана, Роллана, Чехова, Серафимовича,
Маяковского и др. рассказывается о религиозных «чудесах»,
праздниках, обрядах и всякого рода предрассудках и суевериях.
В двух других разделах хрестоматии показана закулисная
сторона жизни церковников и сектантов.
Нет необходимости говорить о всех разделах этой полезной
книги — читатель сам по достоинству оценит ее.
Конечно, хрестоматия далеко не исчерпывает всего, что
имеется в русской, советской, а также мировой литературе
по вопросам религии и атеизма. В хрестоматию вошла лишь
небольшая часть того поистине необозримого материала,
который накоплен в художественной литературе за века и
тысячелетия. Однако и то, что вошло в нее, имеет большое
значение для атеистической пропаганды.
Религиозные пережитки в нашем обществе играют
реакционную роль. Они тормозят приобщение верующих
трудящихся к науке, к активному участию в строительстве
коммунизма, мешают преодолению психологии индивидуализма,
укреплению нового социалистического быта. Борьба за
полное преодоление религиозных пережитков, за превращение
всех советских людей в сознательных и активных
строителей коммунизма — одна из важных политических задач в
настоящее время. Художественная литература призвана
сыграть в этом деле большую и почетную роль.
Ф.Олещук
»
Священная
зараза
Ц
>*№&.
Ал
гит
ИВДЧ
V
(.V
ОМАР ХАЙЯМ
ЧЕТВЕРОСТИШИЯ
С той горсточкой невежд, что нашим миром правят
И выше всех людей себя по знанью ставят,
Не ссорься. Ведь того, кто не осел, тотчас
Они крамольником, еретиком ославят.
Скажи, за что меня преследуешь, о небо?
Будь камни у тебя, ты все их слало мне бы,
Чтоб воду получить, я должен спину гнуть,
Бродяжить должен я из-за краюхи хлеба.
О небо, к подлецам щедра твоя рука:
Им — бани, мельницы и воды арыка;
А кто душою чист, тому лишь корка хлеба.
Такое небо— тьфу! — не стоит и плевка.
Из всех, которые ушли в тот дальний путь,
Назад вернулся ли хотя бы кто-нибудь?
Не оставляй добра на перекрестке этом:
К нему возврата нет,— об этом не забудь.
Жизнь сотворивши, смерть ты создал вслед за тем,
Назначил гибель ты своим созданьям всем,
Ты плохо их слепил? Но кто ж тому виною?
А если хорошо, ломаешь их зачем?
9
Когда ты для меня слепил из глины плоть,
Ты знал, что мне страстей своих не побороть;
Не ты ль тому виной, что жизнь моя греховна?
Скажи, за что же мне гореть в аду, господь?
Ты сотню западней расставил тут и там,
Но, словно за мятеж, грозишь ты смертью нам,
Коль мы оступимся и попадем в любую.
Да не забыл ли ты, что их расставил сам?
Наполнил зернами бессмертный Ловчий сети.
И дичь попала в них, польстясь на зерна эти.
Он назвал эту дичь людьми и на нее
Взвалил Еину за зло, что сам творит на свете.
Никто не лицезрел ни рая, ни геенны;
Вернулся ль кто-нибудь оттуда в мир наш тленный?
Но эти призраки бесплотные — для нас
И страхов и надежд источник неизменный.
Над краем чаши мы намазы совершаем;
Вином пурпуровым свой дух мы возвышаем;
Часы, что без толку в мечетях провели,
Отныне в кабаке наверстывать решаем.
Нам говорят муллы, что существует ад.
Поверьте мне: они неправду говорят.
Будь предназначен он для пьяниц и влюбленных,
Давно бы опустел цветущий райский сад.
За пьянство господом не буду осужден:
Что стану пьяницей, от века ведал он.
Когда бы к трезвости я сердцем был привержен,
Всеведенью творца нанес бы я урон.
Дух рабства кроется в кумирне и в Каабе,
Трезвон колоколов — язык смиренья рабий,
И рабства черная печать равно лежит
На четках и кресте, на церкви и михрабе.
10"
Когда б я властен был над этим небом злым,
Я б сокрушил его и заменил другим,
Чтоб не было преград стремленьям благородным
И человек мог жить, тоскою не томим.
Бушуют в келиях, мечетях и церквах,
Надежда в рай войти и перед адом страх.
Лишь у того в душе, кто понял тайну мира,
Сок этих сорных трав весь высох и зачах.
ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ
ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ
(Отрывок)
...Без всякого сомнения из нашего теста испечены того
сорта люди, которые любят рассказы о ложных знамениях и
чудесах и никак не могут досыта наслушаться басен о
призраках, лемурах, ларвах \ выходцах с того света и тому
подобной невидали; и чем более расходятся с истиной эти
небылицы, тем охотнее им верят, тем приятнее ласкают они
слух. Не для одного препровождения времени
рассказываются эти басни — бывает от них и выгода, особливо
священникам и площадным краснобаям. Нужно здесь помянуть
и тех, кто внушил себе глупое, но приятное убеждение, будто
стоит человеку поглядеть на статую или икону Полифема-
Христофора 2 — и смерть не грозит ему в тот день; или что,
прочитав перед статуей св. Варвары некую молитву, он
воротится цел и невредим с поля боя; или что, ставя в известные
дни свечки св. Эразму, он вскорости сделается богачом. Из
св. Георгия люди эти создали себе нового Ипполита3 или
Геракла, на его коня, благоговейно украшенного драгоценной
попоной с кистями, они только что не молятся; стараясь
заслужить его расположение, они то и дело подносят ему
подарочки, а медным шлемом святого клянутся даже короли.
А что сказать о тех, которые, якобы искупив свои грехи
пожертвованием на церковь, безмятежно радуются и измеряют
срок своего пребывания в чистилище веками, годами,
месяцами, днями, часами — без малейшей ошибки, словно при
помощи клепсидры 4 или математической таблицы? Что ска-
1 Лемуры, ларвы — духи умерших.— Ред.
2 Иконописцы обычно изображали Христофора-святого очень
высоким, с огромным посохом, похожим на мачту.— Ред.
3 Св. Георгий постоянно изображается на коне, а Ипполит,
согласно мифу,— любитель лошадей и наездник.— Ред.
4 Клепсидра — водяные часы.— Ред.
12
зать далее о тех, которые верят в волшебные амулеты и
наговоры, выдуманные каким-нибудь благочестивым
обманщиком для потехи или выгоды ради, и тешат себя надеждами
на богатство, почести, наслаждения, избыток во всем, вечно
цветущее здоровье, долгую жизнь, бодрую старость и,
наконец, место в царствии небесном поближе к самому Христу?
Впрочем, попасть туда они рассчитывают возможно позже:
когда, мол, пресытятся всеми наслаждениями здешней
жизни, тогда и променяют ее на райское блаженство. Судите
сами: иной купец, воин или судья, уделив единый грошик из
всего награбленного им, верит, что разом обелил скверну
своей жизни; все ложные клятвы, грязные похоти, кутежи,
драки, убийства, обманы, козни, измены он считает
выкупленными и оплаченными, словно по договору, так что при
желании впору бы начать новый круг мерзостей. Можно ли
быть глупее, да нет! — счастливее тех, кто, читая ежедневно
семь стишков из священной псалтири, сулит себе за то
вечное блаженство? Полагают, что названные магические
стишки указал св. Бернарду некий демон, весьма
красноречивый, что и говорить, но вместе с тем скорее
легкомысленный, чем хитрый, а потому и попавший впросак К Все это
настолько глупо, что даже я готова устыдиться, и, однако, этому
верят не только грубые мужики, но и наставники церкви.
Вполне уместно будет сказать и о том, что каждая область
заявляет притязания на своего особливого святого; каждый
чествуется особыми обрядами, каждому из них
приписываются особые способности: один исцеляет от зубной боли,
другой искусно помогает роженицам, третий возвращает
украденные вещи, этот спасает при кораблекрушении, тот
охраняет стада, и так далее в том же роде. Перечислять всех
подряд было бы слишком долго. Существуют также святые,
оказывающие помощь во всех случаях жизни, такова в
особенности богородица-дева, которую простой народ чтит даже
более, чем ее сына.
Но разве просят люди у всех этих святых чего-нибудь, не
имеющего отношения к глупости? Взгляните на
благодарственные приношения, которыми стены иных храмов
украшены вплоть до самой кровли,— увидите ли вы среди них
хоть одно пожертвование за избавление от глупости, за то,
что приноситель стал чуть-чуть умнее бревна? Один тонул,
но выплыл. Другой был ранен врагом, но выжил. Третий
1 В житии св. Бернарда Клервосского (ум. в 1153 г.)
рассказывается, как явившийся ему однажды дьявол хвастался, что знает
такие семь стихов из «Псалтири», ежедневное чтение которых
непременно приведет в рай, но открыть эти стихи отказался. Бернард
решил ежедневно прочитывать всю «Псалтирь». Тогда дьявол,
рассудив, что это составит еще больший подвиг благочестия, чем чтение
семи строк, назвал магические стихи.
13
удрал столь же доблестно, сколь счастливо, с поля битвы, в
то время как другие продолжали сражаться. Четвертый был
вздернут на виселицу, но при помощи некоего святого,
покровителя воров, сорвался и ныне продолжает с успехом
облегчать карманы богатеев, обремененные деньгами. Пятый
бежал, проломав стену тюрьмы. Шестой, к негодованию своего
врача, исцелился от лихорадки. Седьмой хлебнул яду, но не
умер, а только прочистил желудок на горе своей супруге,
которая впустую потрудилась и потратилась. У восьмого
опрокинулась повозка, но кони вернулись домой невредимые.
На девятого обрушилась кровля, но он остался цел. Десятый,
застигнутый мужем на месте преступления, счастливо
спасся. Но никто не благодарит за избавление от глупости.
Так сладко ни о чем не думать, что от всего откажутся люди,
только не от Мории. Но к чему пускаться в это море
суеверий?
Если б имела я сто языков и железное горло,
То и тогда б не могла дураков породу исчислить
И описать до конца многовидные глупости формы lt
Вся жизнь христиан до краев переполнена подобными
безумствами, а священнослужители не только терпят их, но
и поощряют, ибо знают отлично, как это увеличивает их
доходы. Теперь представьте, что вдруг появляется среди нас
несносный некий мудрец и начинает проповедовать: «Ты не
погибнешь, если станешь жить праведно; грехи твои
простятся тебе, если к пожертвованной лепте ты присовокупишь
ненависть к злым делам, слезы, бдения, молитвы, посты,
словом— все переменишь в твоей жизни. Святой этот станет
тебе покровительствовать, если ты решишься ему
подражать».
Если бы, говорю я, такой мудрец взялся неотступно
бубнить свои поучения, сами можете себе представить, в какую
смуту вверг бы он души людские, прежде утопавшие в
блаженстве!..
К нашему братству принадлежат и те, кто еще при жизни
усердно хлопочет о собственных похоронах, подробно
указывает, сколько факелов, сколько праздных зевак в трауре,
сколько певчих и сколько наемных плакальщиков должны
сопровождать его тело, как будто он сам сможет любоваться
на это зрелище или будет сконфужен, если труп предадут
земле без надлежащей пышности. Право, эти люди хлопочут
так, словно их избрали эдилами для устройства народных
игрищ и угощения.
Мория перефразирует три строки из «Энеиды» Вергилия.— Ред.
ДЖОРДАНО БРУНО
ПОХВАЛА ОСЛУ
О блаженная ослиность, о невежество святое,
О тупое благочестье и божественная дурь!
Только вы спасете сердце от мирских страстей и бурь:
Ни раздумье, ни наука не несут душе покоя.
Тщетно трудится ученый, бодрствуя ночной порою;
Не найдет изобретатель входы в райскую лазурь;
Не спасет души философ, лоб угрюмый как ни хмурь;
Лишь глупец себе воздвигнет в небе кресло золотое.
Полно, стоит ли учиться, познавать душе на горе
Тайны вечные природы, изучать глубины вод:
Спорить, состоят ли звезды из огня, земли и моря?
Нет, ослиность пресвятая далека от сих забот:
Воздевает руки к небу, с благочестием во взоре,
И пришествия господня на коленях тихо ждет.
Есть ли в мире грешном плод
Слаще вечного блаженства, жизни сытой и удобной,
Коей бог нас награждает где-то там, в дали загробной?
Ф.-М. ВОЛЬТЕР
О ФАНАТИЗМЕ
(Отрывок)
Когда ханжа с усердьем суевера
Религию позорно извратит
Безумною химерой за химерой,—
Он ненависть свою не затаит.
Из уст его — религии во славу —
Забрызжет желчь, горячая как лава,
Вмиг фанатизм даст острый меч ему;
И будто бы по божескому зову
Грозит весь мир известь сурово
В честь бога, непонятного уму.
Во Франции сенат, поверженный указом,
А инквизиция? А трибунал,
С невежеством не раз тащивший разум
К позорному столбу?.. Кто заковал
Тосканского философа цепями
С бесстыдством злым? Перед служителями
Религии смирись, о Галилей!
В глазах слепцов, чтоб избежать страданья,
Отринь твою систему мирозданья,
«Не вертится земля» — скажи смелей.
Вы слышите иль нет сигнал ужасный?
Вы видите ль кровавую резню
В Париже, здесь? А в клике многогласном
Вы слышите ль теперь проклятья дню?
Там брат в крови его купает брата,
И мужа там сгубила без возврата
Жена, и сын отца сразил мечом.
Вооружил народ кто злым обманом?
Они, они... те патеры в сутанах!
Был добр народ, что льет здесь кровь ключом.
16
О, янсенист, ты жаждешь с молинистом
Стереть с земли кровавою рукой
Учения неверящих софистов,
Их стрелы, желчь. Покончить с их тоской
Ты жаждешь в день один иль в час, мгновенно.
Страшитесь, чтоб раздор ваш дерзновенный
Когда-нибудь не отразился вдруг
В стенах родных губительным пожаром,
О времени чтоб не напомнил старом,
Когда страну терзал вражды недуг.
Не чуешь ты в жестоком опьяненьи,
К чему придет неистовство твое,
Коль хочешь ты услышать наставленье
Религии твоей. Поймешь ты все, %
Коль попадешь в среду ханжей Марсели.
Мозги твои бы там окоченели,
Губителей увидевши там рать,
Прованса плач, открытые могилы
И городов безлюдье. Злобы силы
Заставили все царства трепетать.
Отец Бельсус — он пастырь всеми чтимый —
Спасал народ, что в муках умирал.
Спасал народ поверженный, гонимый,
И воин Ланжерон ему в том помогал.
И вы, слепцы, вы все не уставали
Вражду повсюду засевать, в скандале
И в праздности искать своих утех,
Да в болтовне о булле, о Копелли...
Такие вас прельщали только цели,
О коих всем и вспомнить будет грех?
Чтоб дать урок ему, людскому роду,
То надо ли людской губить весь род?
Чтоб показать вам истины природу,
То надо ли зажечь весь небосвод
Огнем вражды? О, знайте же: невежда,
Который даст жизнь брату и надежду,
Он мне пример! Ученый злой гордец,
Что видит лишь себя в земном просторе,
В моих глазах он самозванец, лжец!
И.-В. ГЕТЕ
СТРАНСТВУЮЩИЙ КОЛОКОЛ
Жил мальчуган; он в божий храм,
Бывало ни ногою;
И вечно по воскресным дням
Шасть в поле с зарею!
Однажды рассердилась мать:
«Не слышишь звона, что ли?
Постой же, колокол нагнать
Тебя сумеет в поле!»
А мальчик думает: висит
Тот колокол высоко! —
И вот уж на поле бежит,
Как будто от урока.
Все глуше колокола звон.
Мать зря, знать, наболтала!
Вдруг — ужас! — за собою он
Услышал шум металла.
Качаясь, колокол идет,
От страха мальчик воет,—
Бедняжку колокол вот-вот
Безжалостно накроет.
Но, ловко отскочивши вбок,
Он что есть силы прямо
Чрез поле, рощу и лужок
Бежит к воротам храма.
С тех пор лишь благовеста звон
Раздастся в воскресенье,
Он к службе, страхом научен,
Бежит без приглашенья.
Ж.-П. БЕРАНЖЕ
МИССИОНЕРЫ
Был как-то дьявол возмущен:
«Мы — жертвы заговора!
С тех пор, как мир стал просвещен,
Погас огонь раздора.
Я приглашаю, черти, вас
Исполнить мой приказ.
Грехам дав отпущенье,
Вы дуйте, дуйте, посильней!
Гасите просвещенье,
Раздув огонь страстей!
«Идите в самый шум столиц
И в города, и в села.
В пример возьмите тех лисиц,
Которых дал Лойола;
Будь каждый с виду прост
И прячь подальше хвост.
Грехам дав отпущенье,
Вы дуйте, дуйте, посильней!
Гасите просвещенье,'
Раздув огонь страстей!
«Побольше стряпайте чудес
Себе для обихода:
Когда сюда вмешался бес,
Вернее нет дохода!..
И чтобы каждый всюду нес
О том, что пишет нам Христос.
Грехам дав отпущенье,
Вы дуйте, дуйте, посильней!
Гасите просвещенье,
Раздув огонь страстей!
2*
19
«Учителей гоните прочь;
Всему учите сами.
В семье прельщайте мать и дочь,
Пусть дамы бредят вами.
Пусть светский ловелас
Пред вами скажет: «пасс!»
Грехам дав отпущенье,
Вы дуйте, дуйте, посильней!
Гасите просвещенье,
Раздув огонь страстей!
«Кто против вас, тот должен пасть.
При помощи кинжалов
Сосредоточьте в мире власть
В руках своих вассалов.,
На пушках вы, как встарь,
Устройте свой алтарь...
Грехам дав отпущенье,
Вы дуйте, дуйте, посильней!
Гасите просвещенье,
Раздув огонь страстей!
«Подняв чело, на всех парах
Пусть мчится нетерпимость,
Лечить ожоги — на кострах
Придет необходимость...
Кто мыслит, пусть-ка тот
Горелым отдает.
Грехам дав отпущенье,
Вы дуйте, дуйте, посильней!
Гасите просвещенье,
Раздув огонь страстей».—
Наказ окончил сатана,
И вот чертей орава
В Париже мщением пьяна.
Потомкам — честь и слава!
Уж тащат для костров
Ханжи вязанки дров.
Грехам дав отпущенье,
Вы дуйте, дуйте, посильней!
Гасите просвещенье,
Раздув огонь страстей!
Г. ГЕЙНЕ
* *
*
Брось свои иносказанья
И гипотезы святые!
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые!
Отчего под ношей крестной,
Весь в крови, влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?
Кто виной? Иль воле бога
На земле не все доступно?
Или он играет нами?..
Это подло и преступно!'
Так мы спрашиваем жадно
Целый век, пока безмолвно
Не забьют нам рта землею...
Да ответ ли это, полно?
Г. ГЕЙНЕ
ГЕРМАНИЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА
(Отрывок)
То было мрачной порой ноября
Хмурилось небо сурово.
Дул ветер. Холодным, дождливым днем
Вступал я в Германию снова.
И лишь границу я увидал,
Так сладостно и больно
Забилось сердце. И — что таить —
Я прослезился невольно.
Но вот зазвучала немецкая речь.
Я слушал в странном волненье:
Казалось, кровью сердце мое
Исходит в блаженном томленье.
То девочка с арфой пела песнь,
И в голосе фальшивом
Звучало теплое чувство. Я был
Растроган грустным мотивом.
И пела она о муках любви,
О жертвах, о свиданье
В том лучшем мире, где душе
Неведомо страданье.
И пела она о скорби земной,
О счастье быстротечном,
О светлом рае, где душа
Сияет в блаженстве вечном.
То старая песнь отреченья была,
Легенда о радостях неба,
Которой баюкают глупый народ3
Чтоб не просил он хлеба.
Я знаю мелодию, знаю слова,
Я авторов знаю отлично;
Они тайком тянули вино,
Проповедуя воду публично.
22
Мы новую песнь, мы лучшую песнь
Теперь, друзья, начинаем:
Мы в небо землю превратим,
Земля нам будет раем.
При жизни счастье нам подавай!
Довольно слез и муки!
Отныне ленивое брюхо кормить
Не будут прилежные руки.
А хлеба хватит нам для всех —
Устроим пир на славу!
Есть розы и мирты, любовь, красота
И сладкий горошек в приправу.
Да, сладкий горошек найдется для всех,
А неба нам не нужно!
Пусть ангелы да воробьи
Владеют небом дружно!
Г. ГЕЙНЕ
ДИСПУТ
Во дворце толедском трубы
Зазывают всех у входа,
Собираются на диспут
Толпы пестрые народа.
То не рыцарская схватка,
Где блестит оружье часто,
Здесь копьем послужит слово
Заостренное схоласта.
Не сойдутся в этой битве
Молодые паладины,
Здесь противниками будут
Капуцины и раввины.
Капюшоны и ермолки
Лихо носят забияки,
Вместо рыцарской одежды —
Власяницы, лапсердаки.
Бог ли это настоящий?
Бог единый, грозный, старый,
Чей на диспуте защитник
Реб Иуда из Наварры?
Или бог другой — трехликий,
Милосердный, христианский,
Чей защитник брат Иосиф,
Настоятель францисканский?
24
Мощной цепью доказательств,
Силой многих аргументов
И цитатами — конечно,
Из бесспорных документов —
Хочет каждый из героев
Всех врагов обезоружить,
Доведеньем до абсурда
Сущность бога обнаружить.
Решено, что тот, который
Будет в споре побежденным,
Тот религию другую
Должен счесть своим законом.
Иль крещение приемлют
Иудеи в назиданье,—
Иль, напротив, францисканцев
Ожидает обрезанье. *?
Каждый вождь пришел со свитой:
С ним одиннадцать — готовых
Разделить судьбу в победе
Иль в лишениях суровых.
Убежденные в успехе
И в своем священном деле,
Францисканцы для евреев
Приготовили купели,
Держат дымные кадила
И в воде кропила мочат...
Их враги ножи готовят
О точильный камень точат.
Обе партии на месте;
Переполненная зала
Оживленно суетится
В ожидании сигнала.
Под навесом золоченым
Короля, сверкает ложа.
Там король и королева,
Что на девочку похожа;
Носик вздернут по-французски,
Все движения невинны,
И лукавы и смеются
Уст волшебные рубины.
25
Будь же ты хранима богом,
О цветок благословенный...
Пересажена, бедняжка,
С берегов веселой Сены
Ты сюда, на эту землю,
Где ты сделалась испанкой.
Бланш Бурбон звалась ты дома,
Здесь зовешься доньей Бланкой.
Короля же имя — Педро... .
С прибавлением — Жестокий.
Но сегодня, как на счастье,
Спят в душе его пороки;
Он любезен и приятен
В эти редкие моменты,
Даже маврам и евреям
Рассыпает комплименты.
Господам без крайней плоти
Он доверился всецело:
И войска им предоставил •
И финансовое дело.
Вот вовсю гремят литавры,
Трубы громко возвещают,
Что духовный поединок
Два атлета начинают.
Францисканец гнев священный
Здесь обрушивает первый —
То звучит трубою голос,
То елеем мажет нервы.
И во имя трех единых:
Духа, и отца, и сына,
Заклинает францисканец
«Семя Якова» — раввина,—
Ибо часто так бывает,
Что, немало бед содеяв,
Черти прячутся охотно
В теле хитрых иудеев.
Чтоб изгнать такого черта,
Поступает он сурово:
Применяет заклинанья
И науку богослова.
26
Про единого в трех ликах
Он рассказывает много,—
Как три светлых ипостаси
Одного являют бога:
Это тайна, но открыта
Лишь тому она, который
За предел рассудка может
Обращать блаженно взоры.
Говорит он о рожденье
Вифлеемского дитяти,
Говорит он о Марии
И о девственном зачатье,.
Как потом лежал младенец
В яслях, словно в колыбели,
Как бычок с коровкой тут же
У господних яслей млели;
Как от Иродовой казни
Иисус бежал в Египет,
Как позднее горький кубок
Крестной смерти был им выпит,
Как при Понтии Пилате
Подписали осужденье —
Под влияньем фарисеев
И евреев, без сомненья.
Говорит монах про бога,
Что немедля гроб оставил
И на третий день блаженно
Путь свой на небо направил.
Но когда настанет время,
Он на землю возвратится,—
И никто, никто из смертных
От суда не уклонится.
«О, дрожите, иудеи!.. —
Говорит монах. — Не вы ли
Бога нашего бичами
Бессердечно погубили?
Вы убийцы, иудеи,
О народ — жестокий мститель!
Тот, кто вами был замучен,
К нам явился как спаситель.
27
Ты, народ еврейский,— плевел,
И в тебе ютятся бесы.
А твои тела — обитель,
Где свершают черти мессы.
Так сказал Фома Аквинский,
Он недаром «бык ученья»,
Как зовут его за то, что
Он лампада просвещенья.
О евреи, вы —гиены,
Кровожадные волчицы,
Разрываете, могилу,
Чтобы трупом насладиться.
О евреи — павианы -
И сычи ночного мира,
Вы страшнее носорогов,
Вы — подобие вампира.
Вы мышей летучих стаи, ;
Вы вороны и химеры,
Филины; и василиски,
Тварь ночная, изуверы.
Вы гадюки и медянки,-
Жабы, крысы, совы, змеи!
И суровый гнев господень
Покарает вас, злодеи!
Но, быть может, вы решите
Обрести спасенье ныне
И от злобной синагоги
Обратитесь вдруг к святыне.
Где собор любви обильной
И отеческих объятий,
Где святые благовонный
Льют источник благодати;
Там вы головы склоните,
Отрешась от злобы старой,
И с сердец сотрите плесень,
Угрожающую карой.
Вы внемлите гласу бога,'
Не к себе ль зовет он разве?
На груди Христа забудьте
О своей греховной язве.
28
•••.. l"
^:Ь•■^^'Чr.C7:v-;y.i^
>-i .*'*£>
;Ь;Ъ?>^Г^>>-Л'^;-
^■'-'->-:'iy-'/. '•■',•'х,'.'*•;и .*;
%■■.-,> **.
IP
Ф. Гойя. Школа ослов.
(Духовное просвещение народа)
Наш Христос — любви обитель,
Он подобие барашка,—
Чтоб грехи простились наши,
На кресте страдал он тяжко.
Наш Христос — любви обитель,
Иисусом он зовется,
И его святая кротость
Нам всегда передается.
Потому мы тоже кротки,
Добродушны и спокойны,
По примеру Иисуса —
Ненавидим даже войны.
Попадем за то на небо,
Чистых ангелов белее,
Будем там бродить блаженно
И в руках держать лилеи;
Вместо грубой власяницы
Мы надеть на небе рады
Из парчи, муслина, шелка
Разноцветные наряды;
Вместо плеши — будут кудри
Золотые лихо виться,
Девы райские их будут
Заплетать и веселиться;
Там и винные бок&лы
В увеличенном объеме,
А не маленькие рюмки,
Что мы видим в каждом доме.
Но зато гораздо меньше
Будут там красавиц губки —
Райских женщин, что витают,
Как небесные голубки.
Будем радостно смеяться,
Будем пить вино, целуя,
Проводить так будем вечность.
Славя бога: «Аллилуйя!»
Кончил он. И вот монахи,
Все сомнения рассеяв,
Тащат весело купели
Для крещенья иудеев.
30
Но, полны водобоязни,
Не хотят евреи кары,—
Для ответной вышел речи
Реб Иуда из Наварры:
«Чтоб в моей дутые бесплодной
Возрастить христову розу,
Ты свалил, как удобренья,
Кучу брани и навозу.
Каждый следует методе,
Им изученной где-либо...
Я бранить тебя не буду,
Я скажу тебе спасибо.
«Триединое ученье»—:
Это наше вам наследство:
Мы ведь правило тройное
Изучаем с малолетства.
Что в едином боге трое,
Только три слились персоны,—
Очень скромно, потому что
Их у древних — легионы.
Незнаком мне ваш Христос,
С ним нигде я не был вместе,
Также девственную матерь
Не имею знать я чести.
Я жалею, что однажды —
Было то во время оно —
Бог ваш в Иерусалиме
Был наказан незаконно.
Но евреи ли убили —
Доказать трудненько стало,
Так как corpus'a delictil
Уж на третий день не стало.
Что родня он с нашим богом —
Это плод досужих сплетен,
Потому что мне известно:
Наш — решительно бездетен.
Вещественное доказательство преступления (лат.).
31
Наш не умер жалкой смертью
Угнетенного ягненка,
Он у нас не филантропик,
Не подобие ребенка.
Богу нашему неведом
Путь прощенья и смиренья,
Ибо он суровый бог,
Бог суровый отомщенья.
Громы божеского гнева
Поражают неизменно,
За грехи отцов карают
До десятого колена.
Бог наш—это бог живущий,
И притом не быстротечно,
А в широких сводах неба
Пребывает он извечно.
Бог наш — бог здоровый также,
А не миф какой-то шаткий,
Словно тени у Коцита
Или тонкие облатки.
Бог силен. В руках он держит
Солнце, месяц, неба своды;
Только двинет он бровями —
Троны гибнут, мрут народы.
С силой бога не сравнится,—
Как поет Давид,— земное;
Для него — лишь прах ничтожный
Вся земля, не что иное.
Любит музыку наш бог,
Также пением доволен,
Но, как хрюканье, ему
Звон противен колоколен.
В море есть Левиафан —
Так зовется рыба бога,—
Каждый день играет с ней
Наш великий бог немного.
Только в день девятый аба,
День разрушенного храма,
Не играет бог наш с рыбой,
А молчит весь день упрямо.
32
Целых сто локтей длина
Этого Левиафана,
Толще дуба плавники,
Хвост его — что кедр Ливана,
Мясо рыбы деликатно
И нежнее черепахи.
В судный день к столу попросит
Бог наш всех, кто жил во страхе.
Обращенные, святые,
Также праведные люди
С удовольствием увидят
Рыбу божию на блюде —
В белом соусе пикантном,
Также в винном, полном лука,
Приготовленную пряно,—
Ну совсем как с перцем щука.
В остром соусе, под луком,
Редька светит, как улыбка...
Я ручаюсь, брат Иосиф,
Что тебе по вкусу рыбка...
Бог недурно варит,— верь,
Я обманывать не стану;
Откажись от веры предков,
Приобщись к Левиафану».
Так раввин приятно, сладко
Говорит, смакуя слово,
И евреи, взвыв от счастья,
За ножи схватились снова,
Чтобы с вражескою плотью
Здесь покончить поскорее:
В этом дивном поединке —
Это нужные трофеи.
Но, держась за веру предков
И за плоть, конечно, тоже,
Не хотят никак монахи
Потерять кусочек кожи.
За раввином — францисканец
Вновь завел язык трескучий:
Слово каждое — не слово,
А ночной сосуд пахучий.
33
Отвечает реб Иуда,
Весь трясясь от оскорбленья,
Но, хотя пылает сердце,
Он хранит еще терпенье.
Он ссылается на Мишну,
Комментарии, трактаты,
Также он из Таусфес-Ионтоф
Позаимствовал цитаты.
Но что слышит бедный рабби
От монаха-святотатца?!
Тот сказал, что «Таусфес-Ионтоф
Может к черту убираться!»
«Все вы слышите, о боже!» —
И, не выдержавши тона,
Потеряв терпенье, рабби
Восклицает возмущенно:
«Таусфес-Ионтоф не годится?
Из себя совсем я выйду!
Отомсти ж ему, господь мой,
Покарай же за обиду!
Ибо Таусфес-Ионтоф, боже,—
Это ты... И святотатца
Накажи своей рукою,
Чтобы богом оказаться!
Пусть разверзнется под ним
Бездна, в глуби пламенея,
Как ты, боже, сокрушил
Богохульного Корея.
Грянь своим отборным громом,
Защити ты нашу веру,—
Для Содома и Гоморры
Ты нашел смолу и серу!
Покарай же капуцина,—
Фараона ведь пришиб ты,
Что за нами гнался, мы же
Удирали из Египта.
Ведь стотысячное войско
За царем шло из Мицраим
В латах, с острыми мечами
В ужасающих ядаим.
34
Ты, господь, тогда простер
Длань свою, и войско вскоре
С фараоном утонуло,
Как котята, в Красном море.
Порази же капуцинов,
Покажи им в назиданье,
Что святого гнева громы —
Не пустое грохотанье.
И победную хвалу
Воспою тебе сначала.
Буду я, как Мириам,
Танцевать и бить в кимвалы».
А монах вскочил, и льются
Вновь проклятий лютых реки:
«Пусть тебя господь погубит,
Осужденного навеки.
Ненавижу ваших бесов
От велика и до мала:
Люцифера, Вельзевула,
Астарота, Белиала.
Не боюсь твоих я духов,
Темной стаи оголтелой,—
Ведь во мне сам Иисус,
Я его отведал тела.
И вкусней Левиафана
Аромат Христовой крови;
А твою подливку с луком,
Верно, дьявол приготовил.
Ах, взамен подобных споров
Я б на углях раскаленных
Закатил бы и поджарил
Всех евреев прокаженных».
Затянулся этот диспут,
И кипит людская злоба,
И борцы бранятся, воют,
И шипят, и стонут оба.
Бесконечно длинен диспут,
Целый день идет упрямо;
Очень публика устала,
И ужасно преют дамы.
35
Двор томится в нетерпенье,
Кое-кто уже зевает,
И красотку королеву
Муж тихонько вопрошает:
«Вы скажите ваше мненье
О сцепившихся героях:
Капуцина иль раввина
Предпочтете из обоих?»
Донья Бланка смотрит вяло,
Гладит пальцем лобик нежный,
После краткого раздумья
Отвечает безмятежно:
«Я не знаю, кто тут прав,—
Пусть другие то решают,
Но раввин и капуцин
Одинаково воняют».
Э. ПОТЬЕ
НОСИТЕЛЬ СВЯТОЙ ВОДЫ
Как в дымовой трубе, густая мгла царила
И ночь невежества объяла шар земной,
И небо черное свисало над могилой,
Где ползал человек еще полуживой.
Но мудрости заря природу оживила.
И право, и любовь несла она с собой.
На окоем земли, как мощное светило,
Извергнулся вулкан, и мрак исчез ночной.
Но кислой речью кто смущает блеск науки?
Кто к солнцу тощие протягивает руки,
Стараясь затемнить пожар его лучей.
Кто ты, гнусавый шум, мешающий восходу?
«Я... я...— бормочет он,— принес святую воду,
Чтоб солнце погасить кропильницей своей».
МАРК ТВЕН
ВИЗИТ КАПИТАНА СТОРМФИЛЬДА
НА НЕБЕСА
(Печатается в сокращенном виде)
Ну-с, пробыв в покойниках лет этак с тридцать, я малость
забеспокоился. Заметь, я все это время несся в пространстве,
что твоя комета.
...Промчавшись таким манером лет с тридцать, я начал
немножко беспокоиться. О, это было довольно приятно —
столько было по дороге открытий; но все же становилось
тоскливо, понимаешь ты. Кроме того, мне хотелось пристать
куда-нибудь. Я вовсе не имел в виду странствовать вечно.
...И вот в одну ночь — там всегда была ночь, если только
я не пролетал мимо какой-нибудь звезды, заливавшей
целый мир своим пламенем и светом... я открыл бесконечно
длинный ряд мерцающих огоньков на далеком горизонте.
По мере моего приближения они начали пухнуть и расти и
сделались похожи на огромные печи. Я сказал себе:
— Клянусь богом, я прибыл, наконец — и, кажется, не
туда, куда рассчитывал!
Тут я лишился сознания. Не знаю, сколько времени я был
без чувств, но, наверное, долго, ибо, когда я пришел в себя,
тьмы уже не было, а был приятнейший солнечный свет и
ароматнейший воздух. Передо мною лежал такой чудесный
мир — сверкающий, прекрасный, восхитительный край! То,
что я принял за печи, оказалось воротами высотою в целые
мили, сделанными из ослепительных драгоценных камней;
они прорезаны были в стене литого золота, простиравшейся
во все стороны без конца и края.
Я направлялся прямо к одним из этих ворот, похожих
на горящий дом. В то же мгновение знакомый мне голос
крикнул деловито:
— Псалтирь и арфу, пару крыльев и сияние, размер
тринадцать, для капитана Эли Стормфильда, из Сан-Франциско!
Выписать ему санитарное удостоверение и пропустить.
38
Я открыл глаза. Действительно, это был индеец Пи-Уте,
которого я знал в графстве Туларе; чертовски славный
парень — я был, помнится, на его похоронах, заключавшихся в
том, что его сожгли, а прочие индейцы мазали себе рожи
пеплом и завывали, как дикие кошки. Он страшно обрадовался
мне, и ты можешь себе представить, что и я был так же рад
увидеть его и почувствовать, что попал, наконец, на свое
настоящее небо.
Тут, насколько глаз хватал, виднелись полчища клерков,
хлопотливо бегавших и суетившихся над облачением в
новые костюмы тысяч янки, мексиканцев, арабов и англичан
и всякого рода людей; и когда мне выдали мою одежду, и я
нацепил сияние и взглянул на себя в зеркало, то чуть не
подпрыгнул на высоту дома, так я был доволен. Ну, это
уже похоже на что-нибудь! — сказал я.— Теперь,—
продолжал я,— я готов — покажите мне облако!
Через пятнадцать минут я прошел уже милю на пути к
стоянке облаков, и со мной вместе — около миллиона народу.
Большинство из них пытались лететь, но некоторые
покалечились при этом, и никто в этом не преуспел. Поэтому мы
решили идти пешком, пока не напрактикуемся на крыльях.
Нам стали попадаться полчища возвращающихся. У
одних были только арфы и ничего больше; у других только
псалтири и ничего кроме; у третьих совсем ничего; у всех
вид был недовольный и пришибленный; у одного молодого
парня не осталось ничего, кроме сияния, да и то он нес в
руке; вдруг он протянул его мне со словами:
— Не подержите ли его минутку?
И исчез в толпе. Я шел дальше. Какая-то женщина
попросила меня подержать ее пальмовую ветвь и тоже
исчезла. Какая-то девочка попросила меня подержать ее арфу, и,
клянусь богом, она тоже скрылась; и так далее, и так далее,
пока я не оказался навьюченным по самую шею. Тут
подходит улыбающийся старый джентльмен и просит меня
подержать его вещи. Я отер пот и говорю, довольно-таки резко:
— Вам придется извинить меня, друг мой,— я не
вешалка!
К этому времени мне стали попадаться на глаза целые
кучи таких пожитков, сложенные у дороги. Я преспокойно
свалил туда и мой лишний груз. Я стал озираться крутом и,
поверь мне, Питере, вся нация, следовавшая за мною, была
нагружена таким же образом, как я! Возвращавшиеся толпы
упрашивали всех подержать минутку их вещи. Они тоже
посваливали свой груз, и мы пошли дальше.
Когда я уселся, наконец, на облако с миллионом другой
публики, я почувствовал себя так хорошо, как никогда в
жизни. И говорю себе: «Вот это согласно обещанию; я как-то
сомневался, но теперь я и впрямь в небесах!» Взмахнув
39
разик-другой своей пальмовой веткой, я натянул струны
арфы и ударил по ним. Ты и представить себе не можешь,
Питере, какой мы подняли гвалт! Это было грандиозно и
вызывало дрожь по всему телу, но так как сразу раздавалось много
разных звуков, то это портило гармонию, ты сам понимаешь;
кроме того, тут было много индейских племен и те подняли
такой воинский клич, что вроде как расстроили музыку.
В конце концов я прекратил игру и решил, что пора
отдохнуть. Рядом со мною сидел премилый добрый старичок,
и я заметил, что он не играет; я подбодрял его, но он отвечал,
что он застенчив от природы и боится играть в присутствии
столь многочисленной публики. Мало-помалу старичок
открылся мне, что ему и вообще-то никогда не нравилась
музыка. Факт тот, что у меня самого явилось такое же чувство;
но я ничего не сказал об этом. Мы с ним довольно долго
хранили молчание, но там это было, разумеется, незаметно. По
прошествии шестнадцати или семнадцати часов, в течение
которых я время от времени поигрывал и напевал
немножко— неизменно одну и ту же мелодию, ибо другой я не
знал,— я положил свою арфу и начал обмахиваться
пальмовой веткой. Потом мы оба усердно завздыхали. Наконец,
он промолвил:
— Разве вы не знаете другого мотива, кроме того, что
зудите весь день?
— Ничегошеньки,— ответил я.
— Как вы думаете, сумели бы вы разучить какой-нибудь
другой? — говорит он.
— Никогда,— отвечаю я; — я уже пробовал, да не сумел.
— Долгонько это, чтоб держаться одного — вечность, как
вам известно!
— Ах, не надрывайте мне сердца,— говорю я; — я сам
порядком приуныл!
После нового продолжительного молчания он опять
говорит:
— Вы рады, что попали сюда?
Я и говорю:
— Старче, я буду с вами откровенен. Это все не похоже
нисколько на представление о грядущем блаженстве, какое
у меня складывалось, когда я бывал в церкви.
А он говорит:
— А что вы скажете на то, чтобы дать тягу и
ограничиться половиной дня?
— Вот это по мне,— отвечаю я.— Никогда в жизни так не
хотелось мне отделаться от гадкой вахты.
И мы отправились. Все время к облакам приваливали
новые миллионы людей, довольных и воспевавших осанну;
другие миллионы уходили с чертовски присмирелым, смею
сказать, видом. Мы подстерегали вновь прибывающих, и
40
очень скоро мне удалось раздать им мои вещи «подержать
минутку»; я стал вольным человеком, и был страшно
доволен. Тут-то я и наскочил на старого Сэма Бартлетта, который
умер давно, и остановился покалякать с ним. Я говорю:
— Ну, скажи мне— неужели все это будет длиться вечно?
Нет ли тут чего-нибудь другого, для разнообразия?
А он говорит:
— На этот счет я живо вразумлю тебя. Люди буквально
толкуют фигуральный.язык библии и все аллегории и первое,
чего они требуют, попадая сюда, это — сияние, арфу и все
прочее. Здесь никому не отказывают в разумных и
безвредных вещах, если их просят в надлежащем духе. Поэтому и
экипируют этими предметами без всяких возражений.
Приблизительно сутки они ходят, поют и играют — и больше ты
их в хоре не увидишь.
...Я имел немало неприятностей с крыльями. Через день
после того, как я принимал участие в хоре, я раз или два
пробовал полететь, но неудачно. В первый раз я пролетел
шагов тридцать, а потом задел какого-то ирландца и сшиб
его с ног — правду сказать, мы оба упали. В следующий раз
произошло столкновение • с каким-то архиереем -— и,
понятно, я его сковырнул с ног. Мы обменялись крепкими словами,
и мне было очень не по себе от. сознания, что я налетел на
такого старца на виду у миллиона посторонних, глядевших
на это и улыбавшихся.
Я понял, что не умею править; снимаясь с места, я
никогда толком не знал, где я спущусь. Весь остаток этого дня я
ходил пешком с повисшими крыльями. На другой день,
ранним утречком, я отправился в укромное место
поупражняться. Я взобрался на довольно высокий утес, пустился в
лет и стал спускаться, держа направление на кустик шагах
в трехстах с небольшим; но я не учел ветра, который дул под
углом румба в два к моему курсу. Я видел, что
значительно отклонился от куста, и потому замедлил работу
правого крыла, переключившись на левое, но толку не вышло; я
видел, что ветер относит меня, замедлил мах обоих крыльев
и снизился. Вернулся потом на утес и вновь попытал
счастья. Я наметил себе точку на два-три румба правее куста —
даже больше того, чтобы лететь прямо против ветра. Я
полетел правильно, но очень медленно. Теперь ясно было, что
при лобовом ветре крылья плохая подмога. Я мог
убедиться, что под углом к ветру еще можно летать, но против ветра
нельзя. Я видел, что если мне нужно будет слетать куда-
нибудь в гости, а ветер будет в лоб, то придется, чего
доброго, ждать целые дни, пока он переменит направление; кроме
того, ясно было, что в шторм крылья вообще бесполезны;
если пуститься по ветру — сомнешь их вконец, ибо
укоротить их нельзя—рифов, например, не поставишь; -стало
41
быть, придется убрать их целиком — прижать перья к телу.
А это, понятно, заставит снизиться. Можно было бы лечь в
дрейф, головой к ветру — это лучшее, что ты мог бы
сделать, и трудненько придется тебе при этом. А если
испробуешь другой способ, наверняка сядешь в калошу!
Я думаю, недели через две после этого я оставил старому
Сэнди Мак-Вильямсу записочку — это было во вторник —
с просьбой прийти ко мне завтра и разделить со мной манну
и перепелов; войдя, он первым делом подмигнул лукаво и
сказал:
— Эй, капитан, что ты сделал со своими крыльями?
Я сейчас же зачуял какую-то насмешку, но не выдал
этого. Я только промолвил:
— Отдал в стирку.
— Да,— говорит он, сухо этак,— они большей частью
бывают в стирке — в такое время, я часто замечал это.
Новоиспеченные ангелы страх какие чистюли! Когда ты ждешь
их из стирки?
— Послезавтра,— говорю я.
Он подмигнул мне и улыбнулся. Я и говорю:
— Сэнди, объяснись начистоту. Брось — какие уж
секреты между друзьями! Я вижу, ты никогда не носишь
крыльев— и многие другие тоже. Я свалял большого дурака — не
так ли?
— Приблизительно так. Но это не беда. Все мы такие по
началу. Это вполне естественно. Видишь ты, на земле мы
составили себе глупое представление о том, что делается
здесь. На картинках мы всегда видели ангелов с крыльями —
и это верно; но мы сделали вывод, что таков их способ
передвижения — и это было совсем неверно. Крылья не что иное,
как род мундира — только и всего. Когда ангелы выступают,
так сказать, в поход, они всегда надевают их; ты никогда не
увидишь ангела, который отправлялся бы с поручением, без
крыльев, как не увидишь без мундира офицера,
председательствующего на военно-полевом суде, или почтальона в
разноске, или полицейского на посту без формы. Но они
существуют не для того, чтобы летать на них. Крылья для
показу, а не для пользования. Старые искушенные ангелы
подобны офицерам регулярной армии — они ходят в
штатском, когда не находятся при исполнении служебных
обязанностей. Новые же ангелы подобны ополчению — они
никогда не расстаются с формой, вечно порхают и суетятся
на крыльях, толкают публику, тычутся то туда, то сюда во
все стороны, и воображают при этом, что они привлекают к
себе восхищенные взоры — словом, они себя считают самой
значительной публикой в небесах! И если ты увидишь кого-
нибудь из них проплывающим на крыльях, из которых одно
42
вздернуто, а другое висит, можешь быть уверен, что он
говорит себе: «Как жаль, что Мэри Энн из Аркансоу не видит
меня сейчас! Я полагаю, она пожалела бы, что дала мне
отставку». Нет, крылья для показу — только для показу, в
этом вся штука!
— Я думаю, ты прав, Сэнди,— говорю я.
— Да ты сам рассуди,— говорит он.— Ты не создан для
крыльев — да и никто из людей. Ты знаешь, сколько лет тебе
пришлось лететь сюда с земли — а ведь ты мчался сюда
быстрее всякого пушечного ядра! Представь себе, что такое
расстояние пришлось бы отмахать на крыльях — не протекла
ли бы вечность прежде, чем ты добрался бы сюда?
Разумеется! Ну, ангелам — миллионам ангелов — приходится
каждый день бывать на земле, чтобы являться в видениях
умирающим детям и праведным людям, ведь это суть их
профессии. Разумеется, они являются с крыльями, ибо
находятся при исполнении обязанностей; кроме того, умирающие
не признали бы в них ангелов, если бы увидели их без
крыльев — но неужели ты думаешь, что они прилетают на
них? Ясное дело, нет. Крылья износились бы на полдороге;
даже маховые перья отвалились бы; а рама крыла оголилась
бы и напоминала.бы палочки змея до того, как на них накле-
ют бумагу. В небесах расстояния в миллиарды раз больше
расстояния солнца от земли; ангелам приходится ежедневно
носиться по всему небу; разве они могли бы делать все это
только при помощи крыльев? Разумеется, нет; они носят
крылья для шику, но любые расстояния одолевают в одно
мгновение — просто посредством желания. Ковер-самолет
арабских сказок была неплохая идея — наше же земное
представление о том, что ангелы пролетают эти
колоссальные расстояния на неуклюжих крыльях — просто глупо!
— Наши молодые угодники обоего пола всегда носят
крылья — ярко-красные, синие, зеленые, золотистые,
пестрые, радужные, в кольцах, полосатые — и никто их не
осуждает. Это естественно в их возрасте. Крылья красивы и к
лицу молодежи. Это самая заметная и красивая часть их
костюма— не чета сиянию!
— Отлично,— говорю я,— свои я сунул в шкаф, и пускай
лежат там, пока на дворе не станет грязно.
— Да — или же, пока не случится прием.
— А это что такое?
— Если хочешь, так можешь увидеть прием нынче
вечером. Нынче будут встречать одного кабатчика из Джерси
Сити.
— Продолжай — расскажи толком!
— Этот кабатчик удостоился обращения на собрании
Муди и Сэнки, в Нью-Йорке, поехал домой на пароме,
произошло столкновение судов, и он утонул. Он из тех, что
43
думают, будто все небо с ума сойдет от радости, когда
спасается такой закоренелый грешник, как он; что все небо
выступит с осаннами приветствовать его; что в царстве
блаженных ни о чем другом и говорить не хотят, как только
о нем! Этот кабатчик полагает, что уже много лет здесь не
было такой суматохи, какая поднимется нынче с его
прибытием! И я всегда замечал в умерших кабатчиках такую
особенность — он не только надеется, что все выбегут
встречать его, но и ожидает, что его встретят факельцугом!
— Думаю, что он разочаруется.
— Ничего подобного! Здесь не допускают, чтобы кто бы
то ни было разочаровывался! То, что ему требуется при
появлении здесь — то есть в пределах разумного и
некощунственного,— он может получить. Всегда найдется несколько
миллионов или миллиардов молодых людей, которых хлебом
не корми, а дай только возможность поупражнять легкие,
потолпиться с факелами и вообще развлечься насчет какого-
нибудь кабатчика. Это льстит кабатчику настолько, что он
лишается покоя; это служит развлечением молодежи; это
никому не вредит; это не стоит ни копейки, а между тем
поддерживает славу, что на небе все прибывшие счастливы и
довольны!
— Очень хорошо. Я хочу быть на месте и видеть, как они
встретят кабатчика!
— В таких случаях принято быть в парадном. Знаешь,
тебе придется взять крылья и прочую амуницию!
— Что именно?
— Сияние, арфу, пальмовую ветвь и так далее.
— Ну,— говорю я,— мне-таки здорово стыдно; но дело в
том, что я побросал их в тот день, когда выступил из хора!
Мне не в чем ходить, кроме этого хитона и крыльев.
— Это не страшно. Ты найдешь свои вещи — их
подобрали и хранят для тебя. Пошли за ними.
— Я так и сделаю, Сэнди. Но что ты там сказал насчет
некощунственных вещей, которых люди ожидают и
разочаруются?
— О, есть много такого, на что люди надеются, но чего не
получают. Например, имеется бруклинский проповедник по
имени Толмедж, готовящий себе большое разочарование. Он
то и дело говорит в своих проповедях, что первое, что он
сделает, когда попадет на небеса, будет: обнять Авраама,
Исаака и Иакова, облобызать их и поплакать с ними. Имей
в виду, что шестьдесят тысяч в день — довольно тяжкое
бремя для таких стариков! Если бы это разрешили, им ничего
другого нельзя было бы делать из года в год, как служить
манекеном для объятий и плача в течение тридцати двух
часов из двадцати четырех. Они вечно были бы измочалены
усталостью и мокрехоньки, как водяные крысы. Чем были
44
бы в этом случае небеса для них? Таким местом, из которого
лучше всего бы вырваться! Они добрые и смирные старые
евреи, но целовать сентиментальных болтунов Бруклина они
любят не больше, чем ты. Запомни мои слова: ласки мистера
Толмеджа будут отклонены с благодарностью. Есть границы
привилегиям избранных, даже на небеси! Помилуй, если бы
Адам обязан был показываться каждому новоприбывшему,
которому вздумалось поглазеть на него и попросить его
автограф, у него не осталось бы времени ни для чего другого!
Толмедж объявил, что намерен засвидетельствовать свое
почтение Адаму, равно как Аврааму, Исааку и Иакову. Но
ему придется изменить свои планы по этой части.
— А ты думаешь, Толмедж впрямь попадет сюда?
— Да, наверное; но ты не беспокойся; он будет водиться с
такими, как он, а их тут много! В этом главная прелесть
неба: тут есть всякого рода люди — чего не было бы, если
бы дать волю проповедникам. Каждый может здесь отыскать
компанию себе по вкусу, а прочих оставить в покое, как и
они оставляют его в покое. Уж когда божество строит небо,
оно строит его правильно, в либеральном духе!
Сэнди послал домой за своими вещами, я послал за
своими, и около девяти вечера мы начали одеваться. Сэнди
говорит:
— Для тебя это будет величественнейшее зрелище,
Сторми. Наверное выйдут некоторые из патриархов!
— Ну, неужто?
— Почти наверняка. Разумеется, они порядком
важничают. Они почти никогда не показываются обыкновенной
публике. Я думаю, они если выходят, то разве что в случае
обращения особо упорствующих. Они бы и в этом случае не
показывались, но земные традиции делают устройство
парада в таких случаях совершенно необходимым.
— И все они выходят, Сэнди?
— Что ты! Все патриархи? О, нет, самое большее двое.
Тут надо пробыть пятьдесят тысяч лет — а то и больше,—
пока хоть мельком увидишь всех патриархов и пророков.
За время моего пребывания здесь показался однажды Иов,
а однажды Хам одновременно с Иеремией. Но самое
интересное событие случилось в мою бытность здесь около года тому
назад; это был прием Чарльза Писа, англичанина — того, что
прозвали «Баннеркроским убийцей». На Большой эстраде
стояли тогда четыре патриарха и два пророка — ничего
подобного не случалось с той поры, как сюда явился капитан
Кидд; был Авель—впервые за тысячу двести лет! Носились
слухи, что будет Адам; разумеется, было достаточно и одного
Авеля, чтобы собрать толпу, но никто не может привлечь
такого количества народу, как Адам! Слух оказался ложным,
но во всяком случае, он сделал свое дело, и не скоро я увижу
45
второе такое зрелище. Разумеется, прием происходил в
Английской секции, находящейся в восьмистах одиннадцати
миллионах миль от Нью-Джерсийской. Я пошел вместе со
многими из моих соседей, и скажу тебе, было что
посмотреть! Из всех секций народ валил толпами. Я видел там
эскимосов, татар, негров, китайцев — людей отовсюду. Такое
смешение народов ты мог видеть в первый день своего прибытия
сюда, в Большом хоре, но вряд ли увидишь снова. Тут были
миллиарды людей; когда они возглашали осанны или пели,
шум был восхитителен; и даже когда языки не работали, от
одного гудения крыльев могла треснуть голова, ибо небо
было набито битком, ангелы как снег сыпались с неба. Хотя
Адам и не явился, картина была замечательная; на Большой
трибуне стояли три архангела — редко бывает, чтобы хоть
один показался!
— Какой у них вид, Сэнди?
— Сияющие лики, сияющие одежды и дивные радужные
крылья; и рост они имели футов восемнадцать, держали
мечи, величаво подняв голову, и были похожи на воинов.
— Было вокруг них сияние?
— Нет — во всяком случае, не кольцеобразное.
Архангелы и патриархи высших классов носят штуку потоньше.
Это круглый, прочный, великолепный золотой венчик, от
одного вида которого можно ослепнуть. Ты часто видел
на земле патриархов на картинах с такою штукой —
помнишь? — они имели такой вид, словно голова у них
находилась в медной тарелке. Это не дает никакого
представления о действительности — венец куда прекраснее и
блестящее!
— А ты разговаривал, Сэнди, с этими архангелами и
патриархами?
— Кто — я? Как могло это взбрести тебе в голову,
Сторми? Я недостоин даже заговорить с такими, как они!
— А Толмедж достоин?
— Разумеется, нет! У тебя путаное представление об этих
вещах, как у всех на земле. У меня тоже было, да я поумнел.
Там, внизу, толкуют о царе небесном — и это верно,— но
говорят так, словно тут небесная республика, и каждый на
равной ноге со всеми другими, и имеет право облапить всякого,
кто ему попадется навстречу, и быть запанибрата со всеми
избранными, начиная с высших. Как все это глупо и нелепо!
Какая может быть республика при царе? Какая вообще
может быть республика там, где глава правительства
самодержавен, не имеет ни парламента, ни совета, который бы
вмешивался в его дела, где никто не голосует, никто не
выбирает, никто во всей вселенной не имеет голоса в
правительстве, никого не просят приложить руку к делу, и никому не
позволяют этого? Хороша республика, нечего сказать!
46
— Ну, действительность немножко отличается от того
представления, которое я о ней имел — но я, во всяком
случае, думал, что смогу познакомиться с вельможами — не то,
чтобы, скажем, детей крестить с ними, но хоть поздороваться
за руку!
— Могли бы Том, Дик и Гарри — первые встречные —
зайти в российский кабинет министров и сделать это? Ну, с
князем Горчаковым, к примеру?
— Полагаю, что нет, Сэнди.
— Так и здесь Россия — только в большей степени. Здесь
и не пахнет республикой! Здесь тоже ранги. Есть наместники,
князья, губернаторы, вице-губернаторы,
вице-вице-губернаторы и сотни степеней знати, от великокняжеских
архангелов до безразличной массы, лишенной всяких титулов.
Ты знаешь, что такое принц крови на земле?
— Нет.
— Ну, принц крови не принадлежит, собственно, к
королевской семье, а также не принадлежит к знати
королевства; он ниже первой и выше второй. Приблизительно
таково здесь положение патриархов и пророков. Тут есть
здорово знатная публика — люди, которым мы с тобой
недостойны ваксить сандалии, а они недостойны ваксить
сандалии патриархам и пророкам! Это дает тебе некоторое
представление об их рангах, не правда ли? Теперь ты понимаешь,
как высоко они поставлены? Две-три минуты повидать кого-
нибудь из них — и вот уже человек будет помнить это и
говорить обо этом тысячу лет! Ты подумай только, капитан:
если бы Авраам стал тут где-нибудь ногой, так вокруг этого
следа сейчас же поставили бы ограду, а сверху сделали навес,
и люди со всего неба стекались бы сюда в течение сотен
лет, чтобы только взглянуть на это место! Авраам один из
тех, кого мистер Толмедж из Бруклина собирается обнять,
лобызать и орошать слезами, когда он прибудет сюда. Ему
придется, знаешь, взять с собой хороший запас слез; не то,
ставлю пять против одного, они у него пересохнут прежде,
чем он найдет случай пролить их!
— Сэнди,— говорю я,— я представлял себе, что и я буду
здесь на равную ногу со всеми, но теперь я это выброшу из
головы. Это не важно, я и без того вполне счастлив.
— Капитан, ты счастливее, чем был бы в ином случае!
Эти древние патриархи и пророки на много веков старше
тебя; они в две минуты узнают больше, чем ты за целый
год! Попробовал ли ты когда-нибудь вести беседы с
похоронных дел мастером насчет ветров, течений и колебаний
компасов?
— Я понимаю твою мысль, Сэнди. Мне было бы с ним
неинтересно. В этих делах он оказался бы невеждой — он
надоел бы мне, а я наскучил бы ему.
47
— Ты попал в точку! Твой разговор наскучил бы
патриархам, а их разговор был бы йыше твоего понимания.
В конце концов тебе захотелось бы сказать им: «Прощайте,
ваше высокопреподобие, как-нибудь еще загляну к вам»; и
не заглянул бы. Приглашал ты когда-нибудь судомойку к
себе в каюту обедать?
— Я понимаю тебя, Сэнди. Я не привык к такой
высокопоставленной публике, как патриархи и пророки, в их
обществе я чувствовал бы себя неловким и косноязычным и
был бы рад выбраться вон. Сэнди, какой ранг выше,
патриарх или пророк?
— О, пророки выше патриархов! Даже самый новый
пророк несколько важнее древнейшего патриарха. Да, сударь,
самому Адаму приходится шагать позади Шекспира!
— Разве Шекспир был пророк?
— Разумеется; пророками были и Гомер, и множество
других. Но Шекспиру и прочим приходится шагать позади
обыкновенного портного из Теннесси, по имени Биллингс, и
позади коновала Сакка, из Афганистана. Иеремия, Будда и
Биллингс шагают рядышком, сейчас же за ватагой с планет,
неизвестных нашей астрономии; потом идут десятка два с
Юпитера и других миров; потом идут Даниил, Сакка и
Конфуций; потом целая ватага из систем, лежащих за пределами
нашей; потом идут Иезекииль, Магомет, Зороастр и
точильщик из древнего Египта; далее тянется длинная вереница,
а за ними, где-то в хвосте, следуют Шекспир и Гомер и
сапожник по имени Мэр с задворков Франции!
— Неужели сюда в самом деле пустили Магомета и всех
других язычников?
— Да — у каждого была своя миссия, и все они получили
награду! Человеку, не получившему награды на земле, не о
чем горевать—он наверняка получит ее здесь!
— Но почему же они отодвинули Шекспира, поставив его
за всеми этими сапожниками, коновалами и
точильщиками — людьми, о которых никто ничего не слыхал.
— В этом-то и заключается небесная справедливость —
на земле они не получили награды по заслугам, здесь же им
воздается по достоинству! Этот портной Биллингс из Теннесси
писал стихи, какие Гомеру с Шекспиром и не снились; но их
никто не хотел печатать, никто не читал их, кроме его
соседей, людей невежественных, которые смеялись над ним.
Когда в деревне устраивалась пьянка и танцы, его тащили в
круг, венчали капустными листьями и с издевкою кланялись;
однажды вечером, когда он лежал больной и полумертвый
от голода, его вытащили, нацепили венок и понесли верхом
на шесте по деревне; все следовали за ним, били в жестяные
кастрюли и завывали. Понятно, он умер, не дожив до утра!
Он даже не рассчитывал попасть на небеса, а еще меньше,—
48
что наделает шуму; и я думаю, он был здорово удивлен
приемом, который ему здесь устроили!
— Ты там присутствовал, Сэнди?
— Что ты — нет!
— Почему же? Разве ты не знал, что готовится?
— Полагаю, что знал. Об этом в здешних царствах
говорили — не один день, как о кабатчике, а лет двадцать до того,
как этот человек скончался!
— Отчего же ты не пошел?
— И что ты такое городишь! Мне — да вертеться под
ногами при встрече пророка? Такому обывателю, как я,
соваться помогать при встрече столь великого вельможи, как
Эдвард Биллингс? Да ведь меня бы засмеяли на
миллиард миль в окружности! Да я бы не знал, куда деваться со
стыда!
— Кого же, в таком случае, пускают?
— Очень немногих людей, капитан, которых мы с тобой
вряд ли когда увидим! Могу тебе сказать, что ни один
простолюдин не имел счастья видеть встречу пророка. Вся
знать, все патриархи и пророки — все до единого — и все
архангелы, все князья и губернаторы и наместники были
здесь,— а из мелкой сошки никого, ни единой души! И имей
в виду, я говорю о вельможах не только из нашего мира, но
о князьях, патриархах и так далее со всех миров, сияющих
на нашем небе, и с миллиардов других, принадлежащих к
системам, находящимся далеко от нашей солнечной
системы!..
...Вдруг вся окрестность задрожала от тысячи сто одного
громового удара, разразившихся разом, и Сэнди говорит:
— Слышишь? Это в честь кабатчика!
Я вскочил и говорю:
— Так двинемся, Сэнди; этого не надо упускать, ты сам
понимаешь!
— Сиди на месте,— говорит он; — это только телеграмма
о нем, вот и все!
— То есть, как?
— Залп означает только, что его увидели с сигнальной
станции. Он на траверзе Сэнди Гука. Теперь комиссии слетят
к нему навстречу и проведут его сюда. Пойдут разные
церемонии и проволочки; до Бухты они доберутся еще очень не
скоро. Во всяком случае до него еще несколько миллиардов
миль. ...А вот второй залп!
— Это по какому случаю?
— Это второй форт отвечает первому. Каждый из них
дает тысячу сто один громовых разрядов залпом -«— это
обычный салют гостю последней минуты; по сто за каждый час, и
один выстрел в означение пола гостя; если бы это была
женщина, мы бы это узнали по недостаче,выстрела.
Против тьмы
49
— Откуда мы знаем, что их тысяча сто и один, раз
они все выпаливаются залпом, Сэнди? А между тем мы это
знаем!
— Здесь наш ум сильно изощряется в некоторых
отношениях, и это один из примеров. Здесь числа, размеры и
расстояния так огромны, что мы должны уметь
чувствовать их — наши старые приемы счета и измерения не дали
бы нам о них представления, а только вызывали бы
путаницу, уныние и головную боль!
Покалякав еще немножко о том же, я говорю:
— Сэнди, я замечаю, что тут почти не видно белых
ангелов; на каждого белого ангела попадается добрых сто
миллионов медноцветных — не говорящих по-английски. Как это
понять?
— Ну, это ты встретишь в любом штате или территории
американского угла небес, куда ни ткнись! Раз я летел
целую неделю кряду, пролетел миллионы миль сквозь целые
полчища ангелов, не встретив ни одного белого и не поняв
ни словечка из их речи! Видишь ли, Америку в течение
миллиарда лет, а то и больше, занимали индейцы, ацтеки и тому
подобные народы до того, как белый человек занес туда ногу.
В первые три сотни лет после колумбова открытия во всей
Америке белых было не больше, чем на одну хорошую
аудиторию — я имею в виду и британские владения; в начале
нашего столетия их было только шесть или семь миллионов —
скажем, семь; в тысяча восемьсот двадцать пятом году
двенадцать или четырнадцать миллионов. В тысяча восемьсот
пятидесятом году, скажем, двадцать три миллиона; в тысяча
восемьсот семьдесят пятом году миллионов сорок. Наша
смертность всегда составляла двадцать на тысячу в год. Ну-с,
в первый год столетия умерло сто сорок тысяч; в двадцать
пятом году двести восемьдесят тысяч; в пятидесятом году^—
пятьсот тысяч; около миллиона в семьдесят пятом году.
Я буду щедр и приму, что от начала до сего дня в Америке
умерло пятьдесят миллионов белых — пусть даже
шестьдесят, если хочешь; пусть хоть сто миллионов — несколько
миллионов в ту или другую сторону не составят разницы.
Теперь ты сам поймешь, что если рассеять такую каплю людей
по пространству в сотни миллиардов миль американской
территории на небесах, это будет все равно, что рассыпать по
великой Сахарской пустыне десятикопеечную коробку
гомеопатических пилюль и надеяться собрать их после этого!
Ты не можешь ожидать, чтобы мы что-нибудь значили на
небеси — и мы-таки ничего не значим; это голый факт, и мы
должны с ним примириться. Ученые с других планет и из
других систем прилетают сюда и проводят здесь некоторое
время, разъезжая по царству небесному, потом отбывают в
свой участок небес и описывают свое путешествие в книгах,
50
в которых уделяют Америке строчек пять. И что они пишут
о нас? Пишут, что «она слабо заселена несколькими сотнями
тысяч миллиардов красных ангелов, среди которых изредка
попадаются больные со странным цветом кожи».
Понимаешь ты, они воображают, будто мы, белые, и иногда
попадающиеся негры — это индейцы, побелевшие и
почерневшие от какой-нибудь болезни, вроде проказы — за какой-
нибудь особо гнусный грех, заметь себе! Это для всех нас
очень неприятный афронт, друг мой,— даже для самых
скромных из нас, не говоря уже о тех господчиках, которые
воображают, что их тут встретят как давно пропавшую
государственную облигацию, и на придачу дадут облапить
Авраама. Я не расспрашивал тебя, капитан, о подробностях,
но думаю, если мой опыт чего-нибудь стоит, что тебя, само
собою, встретили без особенного «ура», когда ты сюда
заявился — ведь так?
— Не поминай об этом, Сэнди,— говорю я, слегка
зарумянившись; — ни за какую сумму, которую ты в
состоянии назвать, я не хотел бы, чтобы это видели мои
семейные. Перемени тему, Сэнди, перемени тему!
— Ну, как — ты думаешь поселиться в калифорнийской
секции блаженства?
— Не знаю. В этом отношении я не наметил себе
ничего определенного, пока не прибыло семейство. Я
собирался только осмотреться, не торопясь, а потом принять
решение. Кроме того, у меня немало знакомых среди
покойников, я хотел бы разыскать их и посудачить о приятелях,
о старых временах, о том, о сем, расспросить, как им здесь
живется. Я думаю, моей жене захочется устроиться в
летнем лагере в Калифорнских горах, потому что там будет
большинство близких ей покойников, а она любит
водиться со знакомыми людьми.
— Не позволяй ей этого! Ты сам видишь, каков для
белых джерсийский округ неба; так калифорнский — в
тысячу раз хуже! Он кишмя кишит тупоголовыми ангелами
цвета глины — а ближайшие белые соседи могут оказаться
не ближе миллиона миль. На небесах человек особенно
страдает от отсутствия общества — общества людей, подобных
ему породой, цветом кожи и языком. По этой причине я раз
или два чуть не поселился в европейской части неба.
— Отчего ж ты не остался там, Сэнди?
— По разным причинам. Во-первых, хотя ты там
видишь много белых, речь их почти непонятна, и по
разговору так же тоскуешь, как здесь. Мне приятно смотреть
на русского, или немца, или итальянца — я люблю дажэ
смотреть на француза, если мне посчастливится поймать
его в такой момент, когда он не занят чем-нибудь неприлич-
4*
51
Спустя малое время мы заметили на горизонте нечто
вроде легоньких вспышек света.
— Голова факельцуга,— говорит Сэнди.
Свет распространялся, становился все ярче и сильнее.
Вскоре он стал ярким, как фонарь паровоза; все ярче и ярче,
и, наконец, он стал похож на солнце, поднимающееся над
морским горизонтом — огромные красные лучи стрелами
полились в небо.
— Теперь не своди глаз с Большой эстрады и с мест для
публики — не зевай! — говорит Сэнди,— да слушай выстрелы!
Тут же и раздалось «бах-бах-бах!», словно миллион
громовых ударов слились в один; и все небо заколыхалось.
Потом со всех сторон полились потоки страшно яркого света, и в
тот же миг все миллионы скамей были заняты по обе
стороны эстрады, насколько глаз хватал, густыми толпами
народу и дивно освещены! От всего этого дух захватывало.
Сэнди говорит:
— Вот как тут действуют! Ни минуты потерянного
времени; никто не войдет после поднятия занавеса. Желание —
быстрее всякого передвижения. Четверть секунды тому
назад все эти люди находились в миллионах миль отсюда.
Когда они услышали последний сигнал, им надо было только
пожелать — и вот они!
Чудовищный хор затянул:
Услышать жаждем голос твой,
Увидеть светлый лик.
Мелодия была благородная, но невежественная публика
портила ее своим участием, точь-в-точь как в конгрегациях
на земле.
Начала проходить голова процессии, и это было
изумительное зрелище. Она шла густыми и плотными шеренгами,
по пятьсот тысяч ангелов в ряд, каждый ангел нес факел и
пел — от громового шуршания крыльев разбаливалась
голова. Линия процессии далеко уходила, суживаясь на
небесном горизонте в слабо светящуюся ниточку. Долго шли
толпы, и вот, наконец, показался кабатчик; тут все встали
с мест и поднялся такой приветственный рев, что небо
задрожало! Он весь улыбался, его сияние было лихо надето
набекрень, это был самый самодовольный святой, каких я
когда-либо видел. Пока он поднимался по ступеням
Большой эстрады, хор тянул:
Горело небо жаждой
Услышать оный глас.
На почетном месте стояли рядышком четыре пышных
шатра — на широком, с оградой, помосте в центре Большой
эстрады, а вокруг — блистающая почетная стража. Все это
54
время шатры были заперты. Когда кабатчик поднялся
наверх, всем улыбаясь и всем кланяясь, и взошел на помост,
шатры вдруг раскрылись, и мы увидели четыре
величественных золотых трона, усаженных драгоценными
камнями, в двух средних сидели седобородые старцы, а в двух
крайних — двое пышно одетых, блестящих исполинов, со
сплошными сияниями, в прекрасной броне. Все миллионы
пали на колени, радостно пялили глаза и переговаривались
веселыми шепотами. Они говорили:
— Два архангела! Роскошь! А кто эти другие?
Архангелы отвесили кабатчику сухой воинский поклон;
оба старца встали; один из них проговорил: «Моисей и Исав
приветствуют тебя!» Потом все четверо исчезли, и троны
опустели.
Кабатчик казался несколько разочарованным, ибо он
рассчитывал, я думаю, обнять этих старцев; но толпа
радовалась и гордилась неимоверно — ведь она видела Моисея
и Исава. Все говорили: «Вы его видели? Я видел! Исав сидел
боком ко мне, но Моисея я видел прямо в лицо вот так, как
я сейчас на вас смотрю!»
Процессия подхватила кабатчика и двинулась с ним
дальше, а толпа распалась и рассеялась. Когда мы шли
домой, Сэнди говорил, что встреча была удачная, и кабатчик
имеет право вечно гордиться ею. Он сказал, что и нам
повезло; мы можем видеть встречи еще сорок тысяч лет и не
иметь случая улицезреть двух таких великих моголов, как
Моисей и Исав! Впоследствии мы узнали, что чуть не
увидели другого патриарха, а также настоящего пророка, но
в последнюю минуту они прислали записки с извинениями.
Сэнди говорит, что на том месте, где стояли Моисей и Исав,
будет сооружен памятник с указанием даты и обстоятельств
событий, и в течение тысячелетий сюда будут являться
путешественники, будут глазеть на памятник, лазить на него и
царапать на нем свои имена...
КАРЕЛ ЧАПЕК
МАРФА И МАРИЯ
В продолжение пути, пришел Он в одно
селение; здесь женщина, именем Марфа,
приняла его в дом свой; . .
у ней была сестра, именем Мария,
которая села у ног Иисуса и слушала
слова Его.
Марфа же заботилась о большом
угощении, и подошедши сказала: Господи!
Или'Тебе нужды нет, что сестра моя
одну, меня оставила служить? Скажи ей,
чтобы помогла мне.
И Иисус сказал ей в ответ: Марфа!
Марфа! Ты заботишься и суетишься о
многом,
а одно только нужно. Мария же
избрала благую часть, которая не
отнимется у нее.
(Евангелие от Луки, 10, 38—42)
И в тот же вечер вошла Марфа к соседке своей Тамар,
жене Якуба Грюнфельда, которая лежала после родов;
и, видя, что огонь в очаге угасает, подложила поленьев и
присела к очагу, чтобы раздуть огонь. И когда взвилось
живое пламя, смотрела Марфа в огонь и молчала.
И тогда сказала госпожа Тамар:
— Хороший вы человек, Марфочка. Так вы обо всех
хлопочете — я даже не знаю, чем отплатить вам.
Но Марфа ничего не ответила и не отвела глаз от огня.
Тут спросила госпожа Тамар, сказав:
— Правда ли, Марфочка, что нынче был у вас рабби из
Назарета?
И ответила Марфа:
— Был.
И сложила госпожа Тамар руки и молвила:
— То-то вам радость, Марфа; я знаю, к нам бы он не
пришел, но вы этого заслуживаете, вы ведь такая хорошая
хозяйка...
Тогда склонилась Марфа к огню, проворно помешала
дрова и сказала:
— Знаете, госпожа Тамар, лучше бы этого не было. Разве
могло мне прийти в голову, что именно сегодня, накануне
праздника... Ладно, думаю, сначала постираю. Сами знаете,
сколько за нашей Марией стирки! Так вот, бросаю я грязное
5(5
белье в кучу, и вдруг: «Добрый день, девушки!» — стоит Он
на пороге! Я как закричу: «Мария, Мария, пойди сюда!» —
чтобы она помогла мне поскорей убрать грязное белье,
а Марка примчалась растрепанная и, как увидела Его,
закричала, будто умалишенная: «Учитель, Учитель, вы
пришли к нам?» И— бац, она уже на коленях перед Ним, рыдает
и руки Ему целует... Мне так было стыдно за нее, госпожа
Тамар! Что мог подумать Учитель, такая сумасшедшая
истеричка, а тут еще везде грязные тряпки валяются... Я еле
выговорила: «Садитесь, Учитель», и давай белье собирать; а
Мария дергает Его за руку и всхлипывает: «Учитель, говорите
же, скажите нам что-нибудь, раббони...» Подумайте только,
госпожа Тамар, она называет Его «раббони»! И везде был
беспорядок, сами знаете, как во время стирки, даже пол не
подметен... Что Он только о нас подумал!
— Ну, Марфочка, ничего,— утешала ее госпожа Тамар.—
Мужчины и не заметят небольшого беспорядка. Я их знаю.
— Пусть так,— возразила Марфа с жестким огоньком в
глазах.— Но порядок должен быть. Понимаете, госпожа
Грюнфельд, вот когда Учитель обедал у того мытаря, так
Мария ухитрилась омыть Ему ноги слезами и вытереть
собственными волосами. Скажу вам, госпожа Тамар,— я бы не
решилась сделать нечто подобное, но очень хотела бы, чтобы
у Него под ногами был хоть чистый пол. Вот это — да. И
расстелить перед ним наш красивый коврик, знаете, тот, из
Дамаска. А не грязное белье. Умывать ему ноги слезами да
волосами утирать — это Марка умеет, а вот причесаться., когда
Он пришел, или пол подтереть — нет ее! Ей бы только
бухнуться Ему в ноги да глаза вот такие сделать — мол, говори,
раббони!
— И Он говорил? — нетерпеливо спросила госпожа
Тамар.
— Говорил,— медленно произнесла Марфа.— Улыбался
и говорил — для Марии. Я-то, сами понимаете, больше
думала о том, как бы поскорее убрать белье да подать Ему хоть
козьего молока с куском хлеба... Вид у него утомленный —
наверное, устал с дороги; у меня так и вертелось на языке:
я, мол, вам подушки принесу, Учитель, отдохните немного,
вздремните, мы будем тихие, как мышки, даже дышать
перестанем... Но понимаете, госпожа Тамар, кому захочется
перебивать Его речи! И вот я ходила на цыпочках, чтобы Мария
догадалась быть потише, да куда там! «Говорите еще,
Учитель, прошу, прошу вас, еще что-нибудь!» А Он, добрый
такой, все улыбался и говорил...
— Ах, как бы я хотела слышать, что Он говорил! —
вздохнула госпожа Тамар.
— Я тоже,— сухо ответила Марфа.— Но кто-то ведь
должен был остудить молоко, чтобы подать Ему холодное.
57
И должен же был кто-то достать немного меду для хлеба.
Потом забежать к Эфраиму — я ведь обещала Эфраимихе
доглядеть за ее детишками, когда она уйдет на базар... Да,
госпожа Тамар, старая дева вроде меня тоже может кое для
чего пригодиться. Господи, хоть бы наш брат Лазарь был
дома! А он, как увидел утром, что я собираюсь стирать, так
и говорит: «Ладно, девушки, я исчезаю; только ты, Марфа, не
пропусти, если мимо пройдет этот продавец кореньев из
Ливана, купи мне грудного чаю». Ведь наш Лазарь все грудью
хворает, госпожа Тамар, и ему все хуже да хуже. И вот я все
думала — хорошо бы Лазарь вернулся, пока Учитель здесь!
Я верю, госпожа Тамар, он исцелил бы нашего Лазаря; и как
услышу шаги у дома, так и выбегаю на порог, кричу
каждому: «Господин Ашер, господин Леви, господин Иссахар,
скажите Лазарю, если встретите, пусть сейчас же идет
домой!» Да еще надо было смотреть, не покажется ли продавец
кореньев — прямо не знала, за что раньше приняться...
— Это мне известно,— произнесла госпожа Грюнфельд. —
Семья доставляет много хлопот.
— Что хлопоты,— молвила Марфа. — Но знаете, госпожа
Грюнфельд, каждому ведь хочется послушать слово Божие.
Я всего лишь глупая женщина, ну, вроде прислуги... И я
себе думаю: должен же кто-то все это делать, должен же
кто-то стряпать, и стирать, и чинить тряпки, и мыть полы,
и раз уж у нашей Марки не такой характер... Она уже не так
прекрасна, как раньше, госпожа Тамар; но была она такая
красавица, что... что я просто не могла не служить ей,
понимаете? А все почему-то думают, что я злая... но вы-то знаете,
госпожа Грюнфельд, злая и несчастная женщина не может
хорошо готовить, а я ведь неплохая повариха; что ж, раз
Мария красивая — пусть Марфа вкусно стряпает, разве я не
права? Но, госпожа Тамар, вы, верно, и это знаете: иной раз
на минутку, на одну только минутку сложишь руки на
коленях, и тогда странные такие мысли приходят в голову:
а вдруг кто-нибудь тебе что-нибудь скажет или посмотрит
на тебя так... так, словно бы говоря: «Доченька, это ты ведь
любовь свою нам отдаешь, и всю себя нам жертвуешь, телом
своим полы трешь, и всю эту чистоту чистотой души своей
сохраняешь; и входим мы в твой дом, словно дом этот — ты
сама, Марфа, и ты по-своему много любила...»
— О, это так,— сказала госпожа Грюнфельд. — И если бы
у вас было шестеро детей, Марфочка, как вот у меня, тогда
вы поняли бы это еще лучше.
Тогда сказала Марфа:
— Госпожа Грюнфельд, когда к нам так неожиданно
пришел Он, Учитель из Назарета, я прямо ужаснулась: вдруг...
вдруг Он пришел, чтобы сказать прекрасные слова, которые
я ждала так долго—и надо же... попал в такой беспорядок!
58
Сердце у меня так и подскочило, в горле комок — говорить
не могу — только думаю: это пройдет, я просто глупая
женщина, намочу пока белье и забегу к Эфраиму, и пошлю за
нашим Лазарем, и прогоню кур со двора, чтобы они Ему не
мешали... И потом, когда все уже было в порядке, вдруг во
мне появилась чудесная уверенность: теперь я готова
слушать слово Божие. И я тихо, тихонько вошла в комнату, где
Он сидел и говорил. Мария сидела у Его ног, глаз с него не
спускала... — Марфа сухо засмеялась. — И я подумала, какой
был бы вид у меня, если бы я так пялила на него глаза. Тут,
госпожа Грюнфельд, посмотрел Он на меня так ясно и
приветливо, словно хотел что-то сказать. И я вдруг увидела:
боже, какой Он худой! Знаете, Он нигде не ест как следует,
даже до хлеба с медом почти не притронулся... И мне пришло
в голову: голубей! Я приготовлю Ему голубей! Пошлю за
ними Марку на базар, а Он пока немножко отдохнет...
«Мария, говорю, пойди-ка на минутку в кухню». А Мария — ни
гугу, словно слепая и глухая!
— Она, верно, не хотела оставлять гостя одного,—
успокаивающе заметила госпожа Тамар.
— Лучше бы она подумала о том, чем Его накормить —
жестко проговорила Марфа. — На то мы и женщины, разве
нет? И когда я увидела, что Марка ни с места, только
смотрит, как зачарованная, тогда... не знаю, госпожа Тамар, как
ото получилось, только я не могла сдержаться. «Господи,
говорю, неужели Тебе все равно, что сестра моя одну меня
оставила прислуживать? Скажи ей, чтобы помогла мне на
кухне!» Так и вырвалось у меня...
— Ну, и Он сказал ей? — спросила госпожа Грюнфельд.
Из горящих глаз Марфы брызнули слезы.
— «Марфа, Марфа, заботлива ты и печешься о многом;
а нужно только одно. Мария же выбрала благую часть,
которая у нее не отнимется». Что-то в этом роде сказал Он мне,
госпожа Тамар.
С минуту было тихо.
— И это все, что Он тебе сказал?—спросила госпожа
Тамар.
— Все, по-моему,— ответила Марфа, порывисто вытирая
слезы. — Потом я пошла купить голубей — чистые
разбойники эти купцы на базаре, госпожа Грюнфельд! — изжарила
их, и для вас сварила похлебку из голубиных потрохов...
— Да, знаю,— вставила госпожа Тамар. — Вы очень
хорошая, Марфа.
— Нет,— упрямо возразила та. — Чтоб вы знали, впервые
я не прожарила голубей как следует. — Они были жесткие;
но я... все у меня валилось из рук. Ведь я безгранично верю в
Него, госпожа Тамар!
5У
— Я тоже,— благоговейно ответила госпожа Тамар.—
А что еще Он говорил, Марфочка? Что он говорил Марии?
О чем учил?
— Не знаю,— ответила Марфа. — Я спросила Марию —
да вы ведь знаете, какая она сумасбродная. «Я уже не помню,
говорит, ей-богу, не могу тебе передать ни одного слова, но
это было удивительно прекрасно, Марфа, и я безмерно
счастлива...»
— Что ж, это стоит того,— согласилась госпожа Тамар.
Тут Марфа высморкалась, чтобы скрыть слезы, и сказала:
— Давайте, госпожа Грюнфельд, я перепеленаю вашего
постреленка...
ЯН ФРИДЕГОР
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КРЫСА
Когда за двадцать пять лет до описываемых нами
событий Агуст Рансон вышел из церкви под руку со своей
молодой и, пожалуй, лучшей половиной, люди говорили:
«Красивая пара!» Правда, люди твердят это почти на каждой
свадьбе, но в данном случае их слова были близки к истине.
Говорят, что все в природе, развиваясь, стремится к
совершенству, однако на внешнем облике людей этот закон
отражается иногда неожиданным образом. Ко дню
серебряной свадьбы «красивая пара» стала походить на чету
троллей с рисунков Бауэра. Старухин нос вытянулся и
заострился,— с таким носом только и ходить против ветра. Но
если бы вы посмотрели на нос самого Рансона, который по
причине частых отлучек своего обладателя в город стал
похож на мухомор, вы бы признали, что у старухи воистину
греческий профиль.
Когда в шахматной партии, именуемой браком, одна из
сторон начинает пить и играть в кости, противная сторона
делает ответный ход и предается благочестию. Но не к
равнодушной, суховатой, официальной церкви тянется
мятущаяся непонятая душа. Нет, истинное утешение она находит
под покровом миссионерской часовни, пропитанной ароматом
кофе и шафрана.
С годами сестра Рансон стала завсегдатаем религиозных
собраний, и пока она внимала слову божьему в местной
часовне, ее супруг выписывал восьмерки по стезе греха,
называемой дорогой в город, которую выровняли и расширили по
распоряжению дорожного управления.
За долгие годы совместной жизни старуха Рансон
потратила немало ядовитых слов, пытаясь спасти душу своего
супруга, но душа была глуха, как чурбан. В ответ на мольбы
и угрозы закоренелый грешник только посмеивался. Он
61
заявил, что, если его жена и все прочие, которые ходят к
миссионерам, попадут на небо, он предпочитает отправиться
в ад.
Как-то раз, незадолго до Нового года, благочестивые
сестры решили отметить рождественский праздник в
миссионерской часовне. Рансон был трезв, разумеется, не по
собственной вине: просто рождественская водка уже пришла к
концу, однако он был убежден, что старуха стащила и
припрятала кое-что из его запасов. Она не раз поступала так и
прежде, когда у него двоилось в глазах и он не мог запомнить
уровень жидкости в бутылке.
— Дай опохмелиться,— клянчил Рансон, сидя за столом.
— Не дам!
Рансон помолчал, подумал, а потом сказал:
— А если я пойду с тобой в часовню, тогда дашь?
— Можешь пойти туда и без водки. Собирается в божий
дом и хочет, чтобы от него разило спиртным!
— Я пожую по дороге фиалковый корень, никто ничего
не заметит. Я знаю, что у тебя всегда кое-что припрятано в
шкафу; так повелось с тех пор, как у детей резались зубы.
Старуха задумалась. Если она приведет в часовню своего
мужа, душа которого наполовину уже прозакладована
дьяволу, это будет ее величайшей победой. Она мысленно
спросила совета у святого духа и незамедлительно получила
ответ, что такова и в самом деле воля божья.
— Если ты обещаешь пойти со мной в часовню и вести
себя, как порядочные люди, я, так и быть, поднесут тебе
рюмку,— заявила она, в глубине души уповая, что близок
час, когда господь явит чудо.
В сумерках, разодетые по-праздничному супруги брели
по дороге в часовню. Рансон выпил до капли все, что старухе
удалось от него утаить, и теперь был готов на что угодно. Он
жевал фиалковый корень и, слегка пошатываясь из стороны
в сторону, поддерживал беседу с женой.
— Выпить рюмочку вовсе не грех,— убежденно говорил
он.— Разве в вашей библии не сказано, что Иисус превратил
воду в вино на свадьбе в Кане Галилейской? Попробовал бы
он это теперь — ленсманн живо упек бы его в тюрьму. Что,
разве неправда? Разве Иисус не превратил воду в вино?
— Это было безалкогольное вино,— прошипела старуха.
— Хм, кто это тебе сказал?
— Пастор. И вообще заткни свою греховную глотку и не
богохульствуй.
— Греховную? Ах, ты, дура! Да не будь на свете
грешников, кому были бы нужны все ваши обращенные да и сам
ваш господь бог? Ну как, отшибло запах или пожевать еще?
— Жуй, пока не придем.— И старуха так сжала свой
беззубый рот, что ее острый подбородок и нос стали похожи
62
на раскрытые ножницы. Желая задобрить ее, Рансон
попробовал переменить тему разговора.
— Ну и вызвездило нынче,— заметил он.— Погляди, все
небо усыпано.
— А-а, теперь ты заметил звезды. Вот уж двадцать пять
лет, как ты не видишь других звезд, кроме тех, что
намалеваны на бутылках с коньяком.
— Ты, что ли, видишь больше моего? Уж не коврижки
ли, которыми вы угощаетесь в вашем божьем доме, стали
похожи на звезды? На них ты только и глазеешь.
На этом беседа закончилась и не возобновлялась до тех
пор, пока супруги не добрались до часовни.
В часовне было полно народу. В глубине стояла
огромная рождественская елка с зажженными свечами, а рядом —
стол, заваленный соблазнительными на вид мешочками с
гостинцами для детей. Дети сидели на передних скамьях и
вертели головами во все стороны, оборачиваясь на каждый
шорох.
Когда в часовне появился Рансон, среди присутствующих
пронесся ропот изумления. Рансон решительно двигался по
проходу за своей женой, стараясь при этом засунуть
поглубже в карман фиалковый корень. Усевшись на скамью,
старуха задумчиво оперлась на руку своим острым
подбородком, а Рансон стал оживленно озираться вокруг,
раскланиваясь со знакомыми. Прогулка взбодрила его, и,
предвкушая угощение, он жадно вдыхал аромат кофе своим
могучим органом обоняния.
Сначала, конечно, придется выслушать проповедь,— это
Рансон сразу понял по некоторым приготовлениям:
проповедник стоял неподалеку от кафедры и прокашливался с
видом, не предвещавшим ничего доброго. Не обойтись, конечно,
и без псалма. Да, да, вот они уже вынимают псалтири.
— Споем псалом 256-й по старому псалтирю нашего
братства,— заявил проповедник.— «О ты, отдавший жизнь
за агнца». Вторая, пятая, шестая страницы в старом
псалтире.
Одна из сестер засеменила к органу и заиграла
вступление.
Собравшиеся пели псалом, а миловидные девушки на
цыпочках ходили вокруг огромного стола, заканчивая
последние приготовления. Рансон с любопытством поглядывал на
них, начиная приходить к выводу, что он совершил
недурную сделку со своей супругой. Ей-богу, здесь совсем неплохо!
Лишь бы только этот болван в черной рясе не вздумал
читать слишком длинную проповедь.
Но именно таково и было его намерение. Голос
проповедника то повышался, то понижался, и он потрясал
огромными ручищами, угрожая слушателям геенной огненной.
63
Казалось, его проповеди не будет конца. Иногда рука его
замирала в воздухе с поднятым кверху пальцем, указуя
путь, по которому воспарят души тех, кто принадлежит к
благочестивому братству, и где они получат воздаяние за
свою добродетельную земную жизнь. Но потом палец снова
опускался вниз, повергая собравшихся в священный трепет,
и когда проповедник подробнейшим образом описывал
вечную бездну и червей, неустанно гложущих свою добычу,
его рачьи глазки так и впивались в Рансона.
«Черт тебя побери! — думал Рансон, сидя на своей
скамье.— Наверное, злишься, что мне случалось тебя видеть
в гостинице, когда ты потягивал там из рюмки
безалкогольное вино?»
Рансон покосился на свою жену: вот уже двадцать лет он
не видел в ее взгляде такого умиления. Она часто говорила,
что она Христова невеста. И в самом деле, на ее лице,
искаженном старостью и злобой, застыло теперь восторженное
выражение, точно у невесты.
Оглянувшись вокруг, Рансон обнаружил множество
таких же зачарованных невест, но, по правде говоря, не
позавидовал их небесному жениху. Почти все женщины замерли
в безмолвном восторге, но мужчины беспокойно ерзали на
своих местах, с досадой почесывали шею под воротником.
Девочки-подростки поглядывали со своих мест на старших
подруг, накрывавших стол, а те сбились кучкой у входа в
кухню и старались не показывать виду, как им хочется
послать к черту болтуна-проповедника, который не был ни
молод,-ни холост, ни хорош собою.
Рансону стало так тошно, будто он и впрямь очутился в
том месте, которое проповедник описывал с таким знанием
дела. Но как раз теперь оратор обещал грешникам спасение,
правда, при одном условии: они должны немедленно
покаяться, иначе царство небесное потеряно для них
безвозвратно.
— Придите нынче же вечером! — воскликнул
проповедник, но вдруг среди сидевших в левом углу началось какое-
то волнение. Проповедник замолчал, бросив грозный взгляд
на тех, кто осмелился нарушить тишину.
И тут все увидели маленькую крысу, которая выползла
из угла и побежала вдоль стены прямо к елке. Дети
засмеялись и стали шушукаться. Вскоре крыса показалась среди
нижних ветвей елки. Она не спеша карабкалась по веткам
вверх, будто желала последовать тем путем, какой, по
словам проповедника, был уготован в грядущем ее душе.
Судя по всему, не один Рансон обрадовался неожиданной
помехе. Собрание оживилось, точно высохший луг после
летнего ливня. Проповедник пытался испепелить крысу
взглядом, но на зверька это не произвело ни малейшего
64
впечатления. Он спокойно принюхивался к румяному яблоку
на ветке, поблескивая черными бусинками глаз. Шушуканье
превратилось в громкий шум.
В этот момент появился старик-сторож с угольными
щипцами в руках и с решимостью во взоре. Крыса
вскарабкалась еще выше. Сторож задул одну свечу, чтобы подойти
ближе к елке, долго нацеливался щипцами и, наконец,
ударил.
— Бум! — в восторге воскликнул Рансон. Его затопило
море возмущенных взглядов, и острый локоть больно
вонзился ему в бок. Когда елка наконец перестала качаться
после удара, мордочка крысы показалась еще одной веткой
выше. Проповедник презрительно хмыкнул. Потом ему
пришла в голову спасительная мысль, и он шепотом предложил
сестре, сидевшей у органа, сыграть псалом, чтобы отвлечь
внимание собравшихся, пока сторож будет сражаться с
крысой.
Несколько человек затянули псалом, но все взгляды были
прикованы к сторожу, который как раз в этот миг снова
прицелился в крысу. Его лицо налилось кровью от злости
из-за первого промаха, и он метился долго и старательно.
Но, как видно, господь бог отвернулся от своих верных
прихожан. Сторож обрушил на крысу удар, в который
вложил все свои силы телесные и духовные, но зверек соскочил
на пол и прошмыгнул у него между ногами. Сторож хотел
схватить щипцы, чтобы прикончить крысу одним ударом,
но щипцы застряли в ветвях, и он опрокинул на себя елку.
Верхушка ели задела стол, и он перевернулся со страшным
грохотом. Орган издал испуганный фальшивый звук и
умолк.
То, что последовало за этой сценой, может сравниться
только с Содомом и Гоморрой. Языки пламени от
загоревшейся елки один за другим с треском взвились к потолку.
Пламя охватило занавеску, побежало по ней вверх,
поглотило ее и заметалось в поисках новой жертвы...
Прихожане молились, кричали, рыдали, некоторые
побежали к выходу. Проповедник простер руки над пламенем,
громовым голосом сказав: «Угасни»,— но огонь,
по-видимому, превратно его понял, потому что языки пламени
подпрыгнули еще выше. Теперь уже пылала вся елка, скамья
и занавески. И вдруг, перекрывая весь этот шум, раздался
громкий, грубый голос:
— Будете вы тушить огонь, плаксы несчастные? Ваш
господь не собирается вам помогать, он, видно, еще дует
нарочно, чтобы разжечь посильней. А ну, живо хватайте
ведра, шайки, все, что есть подходящего в вашем божьем
доме!
Против тьмы
65
Таким образом Рансон стал командовать тушением
пожара. В две минуты он построил людей цепочкой до колодца
на дворе, а сам стал впереди, у самого пламени. Его нос
блестел, и все лицо излучало удовлетворение, пока он сражался
с огнем, у которого, точно у гидры, отрастали все новые
головы. Проповедник не участвовал в общем деле, он стоял в
самом дальнем углу часовни, спрятав лицо в ладонях. Через
полчаса огонь был потушен, но часовня обгорела, почернела,
в ней стало холодно и неуютно.
— Благодарю тебя, господи, что ты внял моей мольбе о
помощи,— заявил проповедник, выйдя из своего угла.
Рансон разинул рот от изумления.
— Ты что? Разве это бог потушил пожар?
— Конечно, кто же еще?
— Ах, вон оно что. А я что же делал?
— Если господь бог захочет, он сыграет и на разбитой
скрипке,— величественно ответил проповедник.
— Не пойму, при чем здесь пожар? Или, может, ты
хочешь сказать, что это я — разбитая скрипка?
На этот вопрос ответа не последовало.
— Ну, я пошел домой, теперь вы сами тут разберетесь,—
заявил Рансон.— Пошли, старуха?
Когда в доме Рансонов погас свет и супруги улеглись,
Рансон вдруг спросил со своего дивана:
— Ты не спишь?
— Чего тебе?
— Ты мне одно скажи: я тушил пожар, или не я?
— Спи, нечего болтать. Ты слышал, что сказал пастор:
господь внял нашей молитве.
— Что верно, то верно, он это сказал и назвал меня
разбитой скрипкой. Ну, ладно же, пусть только у вас еще раз
случится пожар, я и пальцем не шевельну, хоть бы вы все
сгорели дотла,— заявил Рансон, повернулся носом к стене и
заснул.
А. С. ПУШКИН
ГАВРИИЛИАДА
(Отрывок)
Поговорим о странностях любви
(Другого я не смыслю разговора).
В те дни, когда от огненного взора
Мы чувствуем волнение в крови,
Когда тоска обманчивых желаний
Объемлет нас и душу тяготит,
И всюду нас преследует, томит
Предмет один и думы и страданий,—
Не правда ли? в толпе младых друзей
Наперсника мы ищем и находим.
С ним тайный глас мучительных страстей
Наречием восторгов переводим.
Когда же мы поймали на лету
Крылатый миг небесных упоений
И к радости на ложе наслаждений
Стыдливую склонили красоту,
Когда любви забыли мы страданье
И нечего нам более желать,—
Чтоб оживить о ней воспоминанье,
С наперсником мы любим поболтать.
И ты, господь! познал ее волненье,
И ты пылал, о боже, как и мы.
Создателю постыло все творенье,
Наскучило небесное моленье,—
Он сочинял любовные псалмы
И громко пел: «Люблю, люблю Марию,
В унынии бессмертие влачу...
Где крылия? к Марии полечу
И на груди красавицы почию!..»
И прочее... всё, что придумать мог.—
Творец любил восточный, пестрый слог.
Потом, призвав любимца Гавриила,
67
Свою любовь он прозой объяснял.
Беседы их нам церковь утаила,
Евангелист немного оплошал!
Но говорит армянское преданье,
Что царь небес, не пожалев похвал,
В Меркурии архангела избрал,
Заметя в нем и ум и дарованье —
И вечерком к Марии подослал.
Архангелу другой хотелось чести:
Нередко он в посольствах был счастлив;
Переносить записочки да вести
Хоть выгодно, но он самолюбив.
И славы сын, намеренье сокрыв,
Стал нехотя услужливый угодник
Царю небес... а по земному сводник.
Но, старый враг, не дремлет сатана!
Услышал он, шатаясь в белом свете
Что бог имел еврейку на примете,
Красавицу, которая должна
Спасти наш род от вечной муки ада
Лукавому великая досада —
Хлопочет он. Всевышний между тем
На небесах сидел в уныньи сладком,
Весь мир забыл, не правил он ничем —
И без него всё шло своим порядком.
Что ж делает Мария? Где она,
Иосифа печальная супруга?
В своем саду, печальных дум полна,
Проводит час невинного досуга
И снова ждет пленительного сна.
С ее души не сходит образ милый,
К архангелу летит душой унылой.
В прохладе пальм, под говором ручья
Задумалась красавица моя;
Не мило ей цветов благоуханье,
Не весело прозрачных вод журчанье...
И видит вдруг: прекрасная змия,
Приманчивой блистая чешуею,
В тени ветвей качается над нею
И говорит: «Любимица небес!
Не убегай,— я пленник твой послушный...»
Возможно ли? О, чудо из чудес!
Кто ж говорил Марии простодушной,
Кто ж это был? Увы, конечно, бес.
Краса змии, цветов разнообразность,
Ее привет, огонь лукавых глаз
С8
Понравились Марии в тот же час.
Чтоб усладить младого сердца праздность,
На сатане покоя нежный взор,
С ним завела опасный разговор:
«Кто ты, змия? По льстивому напеву,
По красоте, по блеску, по глазам —
Я узнаю того, кто нашу Еву
Привлечь успел к таинственному древу
И там склонил несчастную к грехам.
Ты погубил неопытную деву,
А с нею весь адамов род и нас.
Мы в бездне бед невольно потонули.
Не стыдно ли?»
— Попы вас обманули
И Еву я не погубил, а спас! —
«Спас! от кого?»
— От бога.—
«Враг опасный!»
— Он был влюблен...—
«Послушай, берегись!»
— Он к ней пылал —
«Молчи!»
— любовью страстной,
Она была в опасности ужасной.—
«Змия, ты лжешь!»
— Ей богу! —
«Не божись».
— Но выслушай...—
Подумала Мария:
Не хорошо в саду, наедине,
Украдкою внимать наветам змия,
И кстати ли поверить сатане?
Но царь небес меня хранит и любит,
Всевышний благ: он верно не погубит
Своей рабы,— за что ж? за разговор!
К тому же он не даст меня в обиду,
Да и змия скромна довольно с виду.
Какой тут грех? где зло? пустое, вздор! —
Подумала и ухо преклонила,
Забыв на час любовь и Гавриила.
Лукавый бес, надменно развернув
Гремучий хвост, согнув дугою шею,
С ветвей скользит — и падает пред нею;
Желаний огнь во грудь ее вдохнув,
Он говорит:
Ь9
«С рассказом Моисея
Не соглашу рассказа моего:
Он вымыслом хотел пленить еврея,
Он важно лгал,— и слушали его.
Бог наградил в нем слог и ум покорный,
Стал Моисей известный господин,
Но я, поверь,— историк не придворный,
Не нужен мне пророка важный чин!
Они должны, красавицы другие,
Завидовать огню твоих очей;
Ты рождена, о скромная Мария,
Чтоб изумлять адамовых детей,
Чтоб властвовать над легкими сердцами,
Улыбкою блаженство им дарить,
Сводить с ума двумя-тремя словами,
По прихоти — любить и не любить...
Вот жребий твой. Как ты — младая Ева
В своем саду скромна, умна, мила,
Но без любви в унынии цвела;
Всегда одни, глаз-на-глаз, муж и дева
На берегах Эдема светлых рек
В спокойствии вели невинный век.
Скучна была их дней однообразность.
Ни рощи сень, ни молодость, ни праздность —
Ничто любви не воскрешало в них;
Рука с рукой гуляли, пили, ели,
Зевали днем, а ночью не имели
Ни страстных игр, ни радостей живых...
Что скажешь ты? Тиран несправедливый,
Еврейский бог, угрюмый и ревнивый,
Адамову подругу полюбя,
Ее хранил для самого себя...
Какая честь и что за наслажденье!
На небесах как будто в заточенье,
У ног его молися да молись,
Хвали его, красе его дивись,
Взглянуть не смей украдкой на другого,
С архангелом тихонько молвить слово;
Вот жребий той, которую творец
Себе вовьмет в подруги наконец.
И что ж потом? За скуку, за мученье,
Награда вся дьячков осиплых пенье,
Свечи, старух докучная мольба,
Да чад кадил, да образ под алмазом,
Написанный каким-то богомазом...
Как весело! Завидная судьба!
70
Мне стало жаль моей прелестной Евы;
Решился я, создателю на зло,
Разрушить сон и юноши и девы.
Ты слышала, как всё произошло?
Два яблока, вися на ветке дивной .
(Счастливый знак, любви символ призывный),
Открыли ей неясную мечту.
Проснулися неясные желанья;
Она свою познала красоту,
И негу чувств, и сердца трепетанье,
И юного супруга наготу!
Я видел- их! любви — моей науки —
Прекрасное начало видел я.
В глухой лесок ушла чета моя...
Там быстро их блуждали взгляды, руки...
Меж милых ног супруги молодой
Заботливый, неловкий и немой,
Адам искал восторгов упоенья,
Неистовым исполненный огнем,
Он вопрошал источник наслажденья
И, закипев душой, терялся в нем...
И не страшась божественного гнева,
Вся в пламени, власы раскинув, Ева,
Едва, едва устами шевеля,
Лобзанием Адаму отвечала,
В слезах любви, в бесчувствии лежала
Под сенью пальм,— и юная земля
Любовников цветами покрывала.
Блаженный день! Увенчанный супруг
Жену ласкал с утра до темной ночи,
Во тьме ночной смыкал он редко очи,
Как их тогда украшен был досуг!
Ты знаешь: бог, утехи прерывая,
Чету мою лишил навеки рая.
Он их изгнал из милой стороны,
Где без трудов они так долго жили
И дни свои невинно проводили
В объятиях ленивой тишины.
Но им открыл я тайну сладострастья
И младости веселые права,
Томленье чувств, восторги, слезы счастья,
И поцелуй, и нежные слова.
Скажи теперь: ужели я предатель?
Ужель Адам несчастлив от меня?
Не думаю, но знаю только я,
Что с Евою остался я приятель».
71
Умолкнул бес. Мария в тишине
Коварному внимала сатане.
«Что ж? — думала,— быть может, прав лукавый;
Слыхала я: ни почестьми, ни славой,
Ни золотом блаженства не купить;
Слыхала я, что надобно любить...
Любить! Но как, зачем и что такое...»
А между тем вниманье молодое
Ловило всё в рассказах сатаны:
И действия и странные причины,
И смелый слог и вольные картины...
(Охотники мы все до новизны.)
Час от часу неясное начало
Опасных дум казалось ей ясней,
И вдруг змии как будто не бывало —
И новое явленье перед ней:
Мария зрит красавца молодого.
У ног её не говоря ни слова,
К ней устремив чудесный блеск очей,
Чего-то он красноречиво просит,
Одной рукой цветочек ей подносит,
Другою мнет простое полотно
И крадется под ризы торопливо,
И легкий перст касается игриво ^
До милых тайн... Всё для Марии диво,
Всё кажется ей ново, мудрено,—
А между тем румянец не стыдливый
На девственных ланитах заиграл —
И томный жар и вздох нетерпеливый
Младую грудь Марии подымал.
Она молчит: но вдруг не стало мочи,
Закрылися блистательные очи,
К лукавому склонив на грудь главу,
Вскричала: ах!., и пала на траву...
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА
> (Отрывок)
Забыли глуповцы истинного бога и прилепились к
идолам. Вспомнили, что еще при Владимире — Красном
Солнышке некоторые вышедшие из употребления боги были
сданы в архив, бросились туда и вытащили двух: Перуна и
Волоса. Идоль^, несколько веков не знавшие ремонта,
находились в страшном запущении, а у Перуна даже были
нарисованы углем усы. Тем не менее, глуповцам показались они
так любы, что немедленно собрали они сходку и порешили
так: знатным обоего пола особам кланяться Перуну, а
смердам — приносить жертвы Волосу. Призвали и причетников,
и требовали, чтобы они сделались кудесниками; но они
ответа не дали, и в смущении лишь трепетали воскрилиями.
Тогда припомнили, что в Стрелецкой слободе есть некто,
именуемый «расстрига Кузьма»... и послали за ним. Кузьма
к этому времени совсем уже оглох и ослеп, но едва дали ему
понюхать монету рубль, как он сейчас же на все согласился
и начал выкрикивать что-то непонятное стихами Аверкиева
из оперы «Рогнеда».
...В таком положении застал глуповские дела статский
советник Эраст Андреевич Грустилов. Человек он был
чувствительный, и когда говорил о взаимных отношениях двух
полов, то краснел.
...Глуповская распущенность пришлась ему по вкусу. При
самом въезде в город он встретил процессию, которая сразу
заинтересовала его. Шесть девиц, одетых в прозрачные
хитоны, несли на носилках Перунов болван; впереди, в
восторженном состоянии, скакала предводительша, прикрытая
одними страусовыми перьями; сзади следовала толпа дворян и
дворянок, между которыми виднелись почетнейшие
представители глуповского купечества (мужики, мещане и
краснорядцы победнее кланялись в это время Волосу). Дойдя до
73
площади, толпа остановилась. Перуна поставили на
возвышение, предводительша встала на колени и громким голосом
начала читать «Жертву вечернюю» г. Боборыкина.
— Что такое? — спросил Грустилов, высовываясь из
кареты и кося исподтишка глазами на наряд предводительши.
— Перуновы именины справляют, ваше высокородие! —
отвечали в один голос квартальные. .
...В то время существовало мнение, что градоначальник
есть хозяин города, обыватели же суть как бы его гости.
Разница между «хозяином» в общепринятом значении этого
слова и «хозяином города» полагалась лишь в том, что
последний имел право сечь своих гостей, чтЬ относительно
хозяина обыкновенного приличиями не допускалось. Грустилов
вспомнил об этом праве и задумалс'я еще слаще.
— А часто у вас секут? — спросил он письмоводителя, не
поднимая на него глаз.
— У нас, ваше высокородие, эта мода оставлена-с. Со
времени Онуфрия Иваныча господина Негодяева даже
примеров не было. Все лаской-с.
— Ну-с, а я сечь буду... девочек!..— прибавил он,
внезапно покраснев.
Таким образом характер внутренней политики
определился ясно. Предполагалось продолжать действия пяти
последних градоначальников, усугубив лишь элемент
гривуазности, внесенный виконтом Дю-Шарио, сдобрив его, для
вида, известным колоритом сентиментальности.
Ударившись в политеизм, осложненный гривуазностью,
представители глуповской интеллигенции сделались
равнодушны ко всему, что происходило вне замкнутой сферы
«езды на остров любви». Они чувствовали себя счастливыми
и довольными, и в этом качестве не хотели препятствовать
счастию и довольству других. Во времена Бородавкиных,
Негодяевых и проч., казалось, например, непростительною
дерзостью, если смерд поливал свою кашу маслом. Не
потому это была дерзость, чтобы от этого произошел для кого-
нибудь ущерб, а потому что люди, подобные Негодяеву,
всегда отчаянные теоретики и предполагают в смерде одну
способность: быть твердым в бедствиях. Поэтому они
отнимали у смерда кашу и бросали собакам. Теперь этот взгляд
значительно изменился, чему, конечно, не в малой степени
содействовало и размягчение мозгов — тогдашняя модная
болезнь. Смерды воспользовались этим и наполняли свои
желудки жирной кашей до крайних пределов. Им
неизвестна еще была истина, что человек не одной кашей живет,
и поэтому они думали, что если желудки их полны, то это
значит, что и сами они вполне благополучны. По той же
причине они так охотно прилепились и к многобожию: оно каза-
74
лось им более сподручным, нежели монотеизм. Они охотнее
преклонялись перед Волосом или Ярилою, но в то же время
мотали себе на ус, что если долгое время не будет у них
дождя или будут дожди слишком продолжительные, то они
могут своих излюбленных богов высечь, обмазать
нечистотами и вообще сорвать на них досаду. И хотя очевидно, что
материализм столь грубый не мог продолжительное время
питать общество, но в качестве новинки он нравился и даже
опьянял.
Все спешило жить и наслаждаться; спешил и Грустилов.
Он совсем бросил городническое правление и ограничил свою
административную деятельность тем, что удвоил
установленные предместниками его оклады и требовал, чтобы они
бездоимочно поступали в назначенные сроки. Все остальное
время он посвятил поклонению Киприде в тех неслыханно-
разнообразных формах, которые были выработаны
цивилизацией того времени. Это беспечное отношение к служебным
обязанностям было, однако ж, со стороны Грустилова
большою ошибкою.
...Уже в 1815 году в Глупове был чувствительный
недород, а в следующем году не родилось совсем ничего, потому
что обыватели, развращенные постоянной гульбой, до того
понадеялись на свое счастие, что, не вспахав земли, зря
разбросали зерно по целине.
— И так, шельма, родит! — говорили они в чаду гордыни.
Но надежды их не сбылись, и когда поля весной
освободились от снега, то глуповцы не без удивления увидели, что
они стоят совсем голые. По обыкновению, явление это
приписали действию враждебных сил и завинили богов за то, что
они не оказали жителям достаточной защиты. Начали сечь
Волоса, который выдержал наказание стоически, потом
принялись за Ярилу, и говорят, будто бы в глазах его
показались слезы. Глуповцы в ужасе разбежались по кабакам и
стали ждать, что будет. Но ничего особенного не произошло.
Был дождь и было вёдро, но полезных злаков на
незасеянных полях не появилось.
Грустилов присутствовал на костюмированном балу (в то
время у глуповцев была каждый день масленица), когда
весть о бедствии, угрожавшему Глупову, дошла до него. По-
видимому, он ничего не подозревал. Весело шутя с
предводительшей, он рассказывал ей, что в скором времени ожидается
такая выкройка дамских платьев, что можно будет по
прямой линии видеть паркет, на котором стоит женщина. Потом
завел речь о прелестях уединенной жизни и вскользь заявил,
что он сам надеется когда-нибудь найти отдохновение в
стенах монастыря.
— Конечно, женского? — спросила предводительша,
лукаво улыбаясь.
75
— Если вы изволите быть в нем настоятельницей, то я
хоть сейчас готов дать обет послушания,— галантерейно
отвечал Грустилов.
Но этому вечеру суждено было провести глубокую
демаркационную черту во внутренней политике Грустилова. Бал
разгорался; танцующие кружились неистово; в вихре
развевающихся платьев и локонов мелькали белые, обнаженные,
душистые плечи. Постепенно разыгрываясь, фантазия
Грустилова умчалась, наконец, в надзвездный мир, куда он, по
очереди, переселил вместе с собой всех этих
полуобнаженных богинь, которых бюсты так глубоко уязвляли его сердце.
Скоро, однако ж, и в надзвездном мире сделалось душно;
тогда он удалился в уединенную комнату и, усевшись среди
зелени померанцев и миртов, впал в забытье.
В эту самую минуту перед ним явилась маска и положила
ему на плечо свою руку. Он сразу понял, что это она. Она так
тихо подошла к нему, как будто под атласным домино,
довольно, впрочем, явственно обличавшем ее воздушные
формы, скрывалась не женщина, а сильф. По плечам
рассыпались русые, почти пепельные кудри, из-под маски глядели
голубые глаза, а обнаженный подбородок обнаруживал
существование ямочки, в которой, казалось, свил свое гнездо
амур. Все в ней было полно какого-то скромного и в то же
время не безрасчетного изящества, начиная от духов violettes
de Parme (пармские фиалки), которыми опрыскан был ее
платок, и кончая щегольскою перчаткой, обтягивавшей ее
маленькую, аристократическую ручку. Очевидно, однако ж,
что она находилась в волнении, потому что грудь ее трепетно
поднималась, а голос, напоминавший райскую музыку,
слегка дрожал.
— Проснись, падший брат! — сказала она Грустилову.
Грустилов не понял, он думал, что ей представилось, будто
он спит, и в доказательство, что это ошибка, стал простирать
руки.
— Не о теле, а о душе говорю я! — грустно продолжала
маска: — не тело, а душа спит... глубоко спит!
Тут только понял Грустилов, в чем дело, но так как душа
его закоснела в идолопоклонстве, то слово истины, конечно,
не могло сразу проникнуть в нее. Он даже заподозрил в
первую минуту, что под маской скрывается юродивая Аксинь-
юшка, та самая, которая, еще при Фердыщенке, предсказала
большой глуповский пожар, и которая, во время отпадения
глуповцев в идолопоклонство, одна осталась верною
истинному богу.
— Нет, я не та, которую ты во мне подозреваешь,—
продолжала, между тем, таинственная незнакомка, как бы
угадав его мысли,— я не Аксиньюшка, ибо недостойна
облобызать даже прах ее ног. Я просто такая же грешница, как и ты!
76
С этими словами она сняла с лица свою маску.
Грустилов был поражен. Перед ним было прелестнейшее
женское личико, какое когда-нибудь удавалось ему видеть.
Случилось ему, правда, встретить нечто подобное в вольном
городе Гамбурге, но это было так давно, что прошлое
казалось как бы задернутым пеленою. Да; это именно те самые
пепельные кудри, та самая матовая белизна лица, те самые
голубые глаза, тот самый полный и трепещущий бюст; но как
все это преобразилось в новой обстановке, как выступило
вперед лучшими, интереснейшими своими сторонами! Но
еще более поразило Грустилова, что незнакомка с такою
прозорливостью угадала его предположение об Аксиньюшке.
— Я твое внутреннее слово! Я послана объявить тебе свет
Фавора, которого ты ищешь, сам того не зная! — продолжала,
между тем, незнакомка: — но не спрашивай, кто меня
послал, потому что я и сама объявить о сем не умею!
—-Но кто же ты? — вскричал встревоженный Грустилов.
— Я та самая юродивая дева, которую ты видел с
потухшим светильником в вольном городе Гамбурге! Долгое время
находилась я в состоянии томления, долгое время безуспешно
стремилась к свету, но князь тьмы слишком искусен, чтобы
разом упустить из рук свою жертву! Однако там мой путь
уже был начертан! Явился здешний аптекарь Пфейфер и,
вступив со мной в брак, увлек меня в Глупов; здесь я
познакомилась с Аксиньюшкой,— и задача просветления
обозначилась передо мной так ясно, что восторг овладел всем
существом моим. Но если бы ты знал, как жестока была борьба!
Она остановилась, подавленная скорбными
воспоминаниями; он же алчно простирал руки, как бы желая осязать
это непостижимое существо.
— Прими руки! — кротко сказала она: — не осязанием, но
мыслью ты должен прикасаться ко мне, чтобы выслушать то,
что я должна тебе открыть!
— Но не лучше ли будет, ежели мы удалимся в комнату
более уединенную? — спросил он робко, как бы сам
сомневаясь в приличии своего вопроса.
Однако ж, она согласилась, и они удалились в один из тех
очаровательных приютов, которые со времен Микаладзе
устраивались для градоначальников во всех мало-мальски
порядочных домах города Глупова. Что происходило между
ними — это для всех осталось тайною; но он вышел из
приюта расстроенный и с заплаканными глазами. Внутреннее
слово подействовало так сильно, что он даже не удостоил
танцующих взглядом и прямо отправился домой.
Происшествие это произвело сильное впечатление на
глуповцев. Стали доискиваться, откуда явилась Пфейферша.
Одни говорили, что она не более как интриганка, которая, с
ведома мужа, задумала овладеть Грустиловым, чтобы вы-
77
теснить из города аптекаря Зальцфиша, делавшего Пфейферу
сильную конкуренцию. Другие утверждали, что Пфейферша
еще в вольном городе Гамбурге полюбила Грустилова за его
меланхолический вид и вышла замуж за Пфейфера
единственно затем, чтобы соединиться с Грустиловым и
сосредоточить на себе ту чувствительность, которую он бесполезно
растрачивал на такие пустые зрелища, как токованье
тетеревов и кокоток.
...Возвратившись домой, Грустилов целую ночь плакал.
Воображение его рисовало греховную бездну, на дне которой
метались черти. Были тут и кокотки, и кокодессы, и даже
тетерева — и все огненные. Один из чертей вылез из бездны и
поднес ему любимое его кушанье, но едва он прикоснулся к
нему устами, как по комнате распространился смрад. Но что
всего более ужасало его — так это горькая уверенность, что
не один он погряз, но в лице его погряз и весь Глупов.
— За всех ответить, или всех спасти! — кричал он,
цепенея от страха,— и, конечно, решился спасти.
На другой день, ранним утром, глуповцы были изумлены,
услыхав мерный звон колокола, призывавший жителей к
заутрене. Давным-давно уже не раздавался этот звон, так что
глуповцы даже забыли об нем. Многие думали, что
где-нибудь горит; но вместо пожара увидели зрелище более
умилительное. Без шапки, в разодранном вицмундире, с опущенной
долу головой и бия себя в перси, шел Грустилов впереди
процессии, состоявшей, впрочем, лишь из чинов полицейской и
пожарной команды. Сзади процессии следовала Пфейферша,
без кринолина; с одной стороны ее конвоировала Аксинь-
юшка, с другой — знаменитый юродивый Парамоша...
Отслушав заутреню, Грустилов вышел из церкви
ободренный и, указывая Пфейферше на вытянувшихся в струнку
пожарных и полицейских солдат («кои и во время глупов-
ского беспутства втайне истинному богу верны пребывали»,
присовокупляет летописец), сказал:
— Видя внезапное сих людей усердие, я в точности
познал, сколь быстро имеет действие сия вещь, которую вы,
сударыня моя, внутренним словом справедливо именуете.
И потом, обращаясь к квартальным, прибавил:
— Дайте сим людям, за их усердие, по гривеннику.
— Рады стараться, ваше высокородие! — гаркнули в один
голос полицейские и скорым шагом направились в кабак.
Таково было первое действие Грустилова после
внезапного его обновления. Затем он отправился к Аксиньюшке, так
как без ее нравственной поддержки никакого успеха в
дальнейшем ходе дела ожидать было невозможно. Аксиньюшка
жила на самом краю города, в какой-то землянке, которая
скорее похожа была на кротовью нору, нежели на
человеческое жилище. С ней же, в нравственном сожитии, находился
78
и блаженный Парамоша. Сопровождаемый Пфейфершей,
Грустилов ощупью спустился по темной лестнице вниз и едва
мог нащупать дверь. Зрелище, представившееся глазам его,
было поразительное. На грязном голом полу валялись два
полуобнаженные человеческие остова (это были сами
блаженные, уже успевшие возвратиться с богомолья), которые
бормотали и выкрикивали какие-то бессвязные слова и в то
же время вздрагивали, кривлялись и корчились, словно в
лихорадке. Мутный свет проходил в нору сквозь единственное
крошечное окошко, покрытое слоем пыли и паутины; на
стенах слоилась сырость и плесень. Запах был до того
отвратительный, что Грустилов в первую минуту сконфузился и
зажал нос. Прозорливая старушка заметила это.
— Духи царские! Духи райские! — запела она
пронзительным голосом: — не надо ли кому духов?
И сделала при этом такое движение, что Грустилов
наверное поколебался бы, если б Пфейферша не поддержала его.
— Спит душа твоя... спит глубоко! — сказала она
строго: — а еще так недавно ты хвалился своей бодростью.
— Спит душенька на подушечке... спит душенька на пе-
ринушке... а боженька тук-тук! да по головке тук-тук! да по
темечку тук-тук! — визжала блаженная, бросая в Грусти-
лова щепками, землею и сором.
Парамоша лаял по-собачьи и кричал по-петушиному.
— Брысь, сатана! петух запел! — бормотал он в
промежутках.
— Маловерный! Вспомни внутреннее слово! —
настаивала с своей стороны Пфейферша.
Грустилов ободрился.
— Матушка Аксинья Егоровна! извольте меня
разрешить! — сказал он твердым голосом.
— Я и Егоровна, я и тараторовна! Ярило — мерзило!
Волос — без волос! Перун — старый... Парамон — он умен! —
провизжала блаженная, скорчилась и умолкла.
Грустилов озирался в недоумении.
— Это значит, что следует поклониться Парамону Ме-
лентьичу! — подсказала Пфейферша.
— Батюшка, Парамон Мелентьевич! извольте меня
разрешить! — поклонился Грустилов.
Но Парамоша некоторое время только корчился и икал,
— Ниже! ниже поклонись! — скомандовала блаженная: —
не жалей спины-то! не твоя спина — божья!
— Извольте меня, батюшка, разрешить! — повторил
Грустилов, кланяясь ниже.
— Без працы не бенды кололацы! — пробормотал
блаженный диким голосом — и вдруг вскочил.
Немедленно вслед за ним вскочила и Аксиньюшка,
и начали они кружиться. Сперва кружились медленно
79
и потихоньку всхлипывали; потом круги начали делать
быстрее и быстрее, покуда, наконец, не перешли в
совершенный вихрь. Послышался хохот, визг, трели, всхлипывания,
подобные тем, которые можно слушать только весной в
пруду, дающем приют мириадам лягушек.
Грустилов и Пфейферша стояли некоторое время в
ужасе, но, наконец, не выдержали. Сначала они
вздрагивали и приседали, потом постепенно начали
кружиться и вдруг завихрились и захохотали. Это
означало, что наитие совершилось, и просимое разрешение
получено.
Грустилов возвратился домой усталый до изнеможения;
однако ж, он еще нашел в себе достаточно силы, чтобы
подписать распоряжение о наипоспешнейшей высылке из города
аптекаря Зальцфиша. Верные ликовали, причетники, в
течение многих лет питавшиеся одними негодными злаками,
закололи барана, и мало того, что съели его-всего, не
пощадив даже копыт, но долгое время скребли ножом стол, на
котором лежало мясо, и с жадностью ели стружки, как бы
опасаясь утратить хотя один атом питательного вещества. В тот
же день Грустилов надел на себя вериги (впоследствии
оказалось, впрочем, что это были просто помочи, которые дотоле
не были в Глупове в употреблении) и подвергнул свое тело
бичеваниюг «В первый раз сегодня я понял,— писал он по
этому случаю Пфейферше: — что значат слова: всладце
уязви мя, которые вы сказали мне при первом свидании,
дорогая сестра моя по духу! Сначала бичевал я себя с
некоторою уклончивостью, но, постепенно разгораясь, позвал, под
конец, денщика и сказал ему: хлещи! И что же? Даже сие
оказалось недостаточным, так что я вынужденным нашелся
расковырять себе на невидном месте рану, но и от того не
страдал, а находился в восхищении. Отнюдь не больно! Столь
меня сие удивило, что я и доселе спрашиваю себя: полно,
страдание ли это, и не скрывается ли здесь какой-^шбо
особливый вид плотоугодничества и самовосхищения? Жду вас
к себе, дорогая сестра моя по духу, дабы разрешить сей
вопрос в совокупном рассмотрении».
Может показаться странным, каким образом Грустилов,
будучи одним, из гривуазнейших поклонников мамоны, столь
быстро обратился в аскета. На это могу сказать одно: кто не
верит в волшебные превращения, тот пусть не читает
летописи Глупова. Чудес этого рода можно найти здесь даже
более, чем нужно. Так, например, один начальник плюнул
подчиненному в глаза, и тот прозрел. Другой начальник стал
сечь неплательщика, думая преследовать в этом случае лишь
воспитательную цель, и совершенно неожиданно открыл, что
в спине у се'комого закрыт клад. Если факты, до такой
степени диковинные, не возбуждают ни в ком недоверия, то
80
можно ли удивляться превращению столь обыкновенному,
как то, которое случилось с Грустиловым?
Но с другой стороны, этот же факт объясняется и иным
путем, более естественным. Есть указания, которые
заставляют думать, что аскетизм Грустилова был совсем не так
суров, как это можно предполагать с первого взгляда. Мы уже
видели, что так называемые вериги его были не более как
помочи; из дальнейших же объяснений летописца
усматривается, что и прочие подвиги были весьма преувеличены
Грустиловым и что они в значительной степени сдабривались
духовною любовью. Шелеп, которым он бичевал себя, был
бархатным (он и доселе хранится в глуповском архиве); пост
же состоял в том, что он к прежним кушаньям прибавил
рыбу тюрбо, которую выписывал из Парижа на счет
обывателей. Что же тут удивительного, что бичевание приводило
его в восторг и что язвы казались восхитительными?
Между тем колокол продолжал в урочное время
призывать к молитве, и число верных с каждым днем
увеличивалось. Сначала ходили только полицейские, но потом, глядя
на них, стали ходить и посторонние. Грустилов со своей
стороны подавал пример истинного благочестия, плюя на
капище Перуна каждый раз, как проходил мимо него. Может
быть, так и разрешилось бы это дело исподволь, если б
мирному исходу его не помешали замыслы некоторых
беспокойных честолюбцев, которые уже в то время были известны
под именем «крайних».
Во главе партии стояли те же Аксиньюшка и Парамоша,
имея за собой целую толпу нищих и калек. У нищих
единственным источником пропитания было прошение милостыни
на церковных папертях; но так как древнее благочестие в
Глупове на некоторое время прекратилось, то естественно,
что источник этот значительно оскудел. Реформы, затеянные
Грустиловым, были встречены со стороны их громким
сочувствием: густою толпою убогие люди наполняли двор гра-
доначальнического дома; одни ковыляли на деревяжках,
другие ползли на четвереньках. Все славословили, но в то
же время уже все единогласно требовали, чтобы обновление
совершилось сию минуту, и чтоб наблюдение за этим делом
было возложено на них. И тут, как всегда, голод оказался
плохим советчиком, и медленные, но твердые и
дальновидные действия градоначальника подвергались превратным
толкованиям. Напрасно льстил Грустилов страстям калек,
высылая им остатки от своей обильной трапезы; напрасно
объяснял он выборным от убогих людей, что постепенность
не есть потворство, а лишь вящшее упрочение затеянного
предприятия,— калеки ничего не хотели слышать. Гневно
потрясали они своими деревяжками и громко угрожали
поднять знамя бунта.
Против тьми
81
Опасность предстояла серьезная, ибо для того, чтобы
усмирять убогих людей, необходимо иметь гораздо больший
запас храбрости, нежели для того, чтобы палить в людей, не
имеющих изъянов. Грустилов понимал это. Сверх того, он
уже потому чувствовал себя беззащитным перед демагогами,
что последние, так сказать, считали его своим созданием, и. в
этом смысле действовали до крайности ловко. Во-первых,
они окружили себя целою сетью доносов, посредством
которых до сведения Грустилова доводился всякий слух, к
посрамлению его чести относящийся; во-вторых, они
заинтересовали в свою пользу Пфейфершу, посулив ей часть так
называемого посумного сбора (этим сбором облагалась каждая
нищенская сума; впоследствии он лег в основание всей
финансовой системы города Глупова).
Пфейферша денно и нощно приставала к Грустилову, в
особенности преследуя его перепискою, которая, несмотря на
короткое время, представляла уже в объеме довольно
обширный том. Основание ее писем составляли видения,
содержание которых изменялось, смотря по тому, довольна или
недовольна она была своим «духовным братом». В одном письме
она видит его «ходящим по облаку» и утверждает, что не
только она, но и Пфейфер это видел; в другом усматривает
его в геенне огненной, в сообществе с чертями всевозможных
наименований. В одном письме развивает мысль, что
градоначальники вообще имеют право на безусловное блаженство
в загробной жизни, по тому одному, что они
градоначальники; в другом утверждает, что градоначальники обязаны
обращать на свое поведение особенное внимание, так как, в
загробной жизни, они против всякого другого подвергаются
истязаниям вдвое и втрое. Все равно, как папы или князья.
В данном случае письма ее имели характер угрожающий.
«Спешу известить вас,— писала она в одном из них,— что я
в сию ночь во сне видела. Стоите вы в темном и смрадном
месте и привязаны к столбу, а привязки сделаны из змий и
на груди (у вас) доска, на которой написано: сей есть ведомый
покровитель нечестивых и агарян (sic). И бесы, собравшись,
радуются, а праведные стоят в отдалении и, взирая на вас,
льют слезы. Извольте сами рассмотреть, не видится ли тут
какого не совсем выгодного для вас предзнаменования?»
Читая эти письма, Грустилов приходил в необычайное
волнение. С одной стороны, природная склонность к апатии,
с другой, страх чертей — все это производило в его голове
какой-то неслыханный сумбур, среди которого он путался в
самых противоречивых предположениях и мероприятиях.
Одно казалось ясным: что он тогда только будет
благополучен, когда глуповцы поголовно станут ходить ко всенощной
и когда инспектором-наблюдателем всех глуповских училищ
будет назначен Парамоша.
82
Это последнее условие было в особенности важно, и
убогие люди предъявляли его очень настойчиво. Развращение
нравов дошло до того, что глуповцы посягнули проникнуть в
тайну построения миров и открыто рукоплескали учителю
каллиграфии, который, выйдя из пределов своей
специальности, проповедовал с кафедры, что мир не мог быть
сотворен в шесть дней. Убогие очень основательно рассчитывали,
что если это мнение утвердится, то вместе с тем разом рухнет
все глуповское миросозерцание вообще. Все части этого
миросозерцания так крепко цеплялись друг за друга, что
невозможно было потревожить одну, чтобы не разрушить всего
остального. Не вопрос о порядке сотворения мира тут важен,
а то, что вместе с этим вопросом могло вторгнуться в жизнь
какое-то совсем новое начало, которое, наверное, должно
было испортить всю кашу. Путешественники того времени
единогласно свидетельствуют, что глуповская жизнь
поражала их своей цельностью, и справедливо приписывают это
счастливому отсутствию духа исследования. Если глуповцы
с твердостью переносили бедствия самые ужасные, если они
и после того продолжали жить, то они обязаны были этим
только тому, что вообще всякое бедствие представлялось им
чем-то совершенно от них независящим, а потому и
неотвратимым. Самое крайнее, что дозволялось в виду идущей
навстречу беды — это прижаться куда-нибудь к сторонке,
затаить дыхание и пропасть на все время, покуда беда будет
кутить и мутить. Но и это уже считалось строптивостью:
бороться же или открыто идти против беды — упаси боже!
Стало быть, если допустить глуповцев рассуждать, то,
пожалуй, они дойдут и до таких вопросов, как, например,
действительно ли существует такое предопределение, которое делает
для них обязательным претерпение даже такого бедствия,
как, например, краткое, но совершенно бессмысленное гра-
доправительство Брудастого... А так как вопрос этот
длинный, а руки у них коротки, то очевидно, что
существование вопроса только поколеблет их твердость в бедствиях,
но в положении существенного улучшения все-таки не
сделает.
Но покуда Грустилов колебался, убогие люди решились
действовать самостоятельно. Они ворвались в квартиру
учителя каллиграфии Линкина, произвели в ней обыски и нашли
книгу: «Средства для истребления блох, клопов и других
насекомых». С торжеством вытолкали они Линкина на улицу
и, потрясая воздух радостными восклицаниями, повели его
на градоначальнический двор. Грустилов сначала растерялся
и> рассмотрев книгу, начал было объяснять, что она ничего
не заключает в себе ни против религии, ни против
нравственности, ни даже против общественного спокойствия. Но нищие
ничего уже не слушали.
6*
83
— Плохо ты, верно, читал! — дерзко кричали они
градоначальнику и подняли такой гвалт, что Грустилов испугался
и рассудил, что благоразумие повелевает уступить
требованиям общественного мнения.
— Сам ли ты зловредную оную книгу сочинил? А ежели
не сам, то кто тот заведомый вор и сущий разбойник,
который таково^е злодейство учинил? И как ты с тем вором
знакомство свёл? И от него ли ту книжицу получил? И ежели от
него, то зачем, кому следует, о том. не объявил, но, забыв
совесть, распутству его потакал и подражал? — Так начал
Грустилов свой допрос Линкину.
— Ни сам я тоя книжицы не сочинял, ни сочинителя оной
в глаза не видывал, а напечатана она в столичном городе
Москве, в университетской типографии, иждивением
книгопродавцев Манухиных! — твердо отвечал Линкин.
Толпе этот ответ не понравился, да и вообще она ожидала
не того. Ей казалось, что Грустилов, как только приведут к
нему Линкина, разорвет его пополам — и дело с концом. А он,
вместо того, разговаривает! Поэтому, едва градоначальник
разинул рот, чтоб предложить второй вопросный пункт, как
толпа загудела:
— Что ты с ним балы-то точишь! Он в бога не верит!
Тогда Грустилов в ужасе разодрал на себе вицмундир.
— Точно ли ты в бога не веришь? — подскочил он к
Линкину, и по важности обвинения, не выждав ответа, слегка
ударил его, в виде задатка, по щеке.
— Никому я о сем не объявлял,— уклонился Линкин от
прямого ответа.
— Свидетели есть! Свидетели!—гремела толпа.
Выступили вперед два свидетеля: отставной солдат
Карапузов да слепенькая нищенка Маремьянушка. «И было тем
свидетелям дано за ложное показание по пятаку серебром»,
говорит летописец, который в этом случае явно становится на
сторону угнетенного Линкина.
— Намеднись, а когда именно — не упомню,—
свидетельствовал Карапузов: — сидел я в кабаке и пил вино, а
неподалеку от меня сидел этот самый учитель и тоже пил вино.
И выпивши он того вина довольно, сказал: все мы, что чело-
веки, что скоты — все едино; все помрем и все к чертовой
матери пойдем!
— Но когда же.... —заикнулся было Линкин.
— Стой! Ты погоди пасть-то разевать! Пущай сперва
свидетель доскажет! — крикнула на него толпа.
— И будучи я приведен от тех его слов в соблазн,—
продолжал Карапузов: — кротким манером сказал ему: как же,
мол, это так, ваше благородие? Ужели, мол, что человек, что
скотина — все едино? И за что, мол, вы нам порочите, что и
места другого, кроме как у чертовой матери, для нас не
84
нашли? Батюшки, мол, наши духовные не тому нас учили,—
вот что! Ну, он это взглянул на меня этак съискоса: «ты,
говорит, колченогий (а у меня, ваше высокородие, точно, что
под Очаковым ногу унесло), в полиции, видно, служишь?» —
взял шапку и вышел из кабака вон.
Линкин разинул рот, но это только пуще раздражило
толпу.
— Да зажми ты ему пасть-то!—кричала она Грусти-
лову: — ишь речистый какой выискался!
Карапузова сменила Маремьянушка.
— Сижу я намеднись в питейном,— свидетельствовала
она: — и тошно мне, слепенькой, стало; сижу этак-то и все
думаю: куда, мол, нонче народ, против прежнего, гордее стал!
Бога забыли, в посты скоромные едят, нищих не оделяют;
смотри, мол, скоро и на солнышко прямо смотреть станут!
Право. Только и подходит ко мне самый этот молодец; слепа,
бабушка? говорит.— Слепенькая, мол, ваше высокое
благородие.—*А отчего, мол, ты слепа? — От бога, говорю, ваше
высокое благородие.— Какой тут бог, от воспы, чай? — это
он-то все говорит.— А воспа-то, говорю, от кого же? — Ну,
да, от бога, держи карман! Вы, говорит, в сырости да в
нечистоте всю жизнь копаетесь, а бог виноват!
Маремьянушка остановилась и заплакала.
— И так это меня обидело,— продолжала она,
всхлипывая: — уж и не знаю как! За что же, мол, ты бога-то обидел? —
говорю я ему. А он не то, чтобы что, плюнул мне прямо в
глаза: утрись, говорит, может будешь видеть,— и был таков.
Обстоятельства дела выяснились вполне; но так как
Линкин непременно требовал, чтобы была выслушана речь его
защитника, то Грустилов должен был, скрепя сердце,
исполнить его требование. И точно: вышел из толпы какой-то
отставной подьячий и стал говорить. Сначала говорил он
довольно невнятно, но потом вник в предмет, и к общему
удивлению, вместо того, чтобы защищать, стал обвинять. Это до
того подействовало на Линкина, что он сейчас же не только
сознался во всем, но даже много прибавил такого, чего
никогда и не бывало.
— Смотрел я однажды у пруда на лягушек,— говорил
он,— и был смущен диаволом. И начал себя бездельным
обычаем спрашивать, точно ли один человек обладает
душою, и нет ли таковой у гадов земных! И взяв лягушку,
исследовал. И по исследованию нашел: точно; душа есть и у
лягушки, токмо малая видом и не бессмертная.
Тогда Грустилов обратился к убогим, сказав:
— Сами видите! — приказал отвести Линкина в часть.
К сожалению, летописец не рассказывает дальнейших
подробностей этой истории. В переписке же Пфейферши
сохранились лишь следующие строки об этом деле: «вы,
85
мужчины, очень счастливы; вы можете быть твердыми; но
на меня вчерашнее зрелище произвело такое действие, что
Пфейфер не на шутку встревожился и поскорей дал мне
принять успокоительных капель». И только.
Но происшествие это было важно в том отношении, что
если прежде у Грустилова еще были кой-какие сомнения
насчет предстоящего ему образа действия, то с этой минуты
они совершенно исчезли. Вечером того же дня он назначил
Парамошу инспектором глуповских училищ, а другому
юродивому, Яшеньке, предоставил кафедру философии,' которую
нарочно для него создал в уездном училище. Сам же усердно
принялся за сочинение трактата: «О восхищениях
благочестивой души».
В самое короткое время физиономия города до того
изменилась, что он сделался почти неузнаваемым. Вместо
прежнего буйства и пляски наступила могильная тишина,
прерываемая лишь звоном колоколов, которые звонили на все
манеры: и во вся, и в одиночку, и с перезвоном. Капища
запустели; идолов утопили в реке, а манеж, в котором давала
представления девица Гандон, сожгли. Затем по всем улицам
накурили смирною и Ливаном и тогда только обнадежились,
что вражья сила окончательно посрамлена.
Но злаков на полях все не прибавлялось, ибо глуповцы
от бездействия весело-буйственного перешли к бездействию
мрачному. Напрасно они воздевали руки, напрасно облагали
себя поклонами, давали обеты, постились, устраивали
процессии — бог не внимал мольбам. Кто-то заикнулся было
сказать, что «как никак, а придется в поле с сохою выйти»,
но дерзкого едва не побили каменьями, и в ответ на его
предложение утроили усердие.
Между тем Парамоша с Яшенькой делали свое дело в
школе. Парамошу нельзя было узнать; он расчесал себе
волосы, завел бархатную поддевку, душился, мыл руки мылом
добела и в этом виде ходил по школам и громил тех, которые
надеются на князя мира сего. Горько издевался он над
суетными, тщеславными, высокоумными, которые о пище
телесной заботятся, а духовное не берегут, и приглашал всех
удалиться в пустыню. Яшенька, с своей стороны, учил, что сей
мир, который мы думаем очима своими видети, есть сонное
некое видение, которое посылается на нас врагом
человечества, и что сами мы не более как странники, из лона
исходящие и в оное же лоно входящие. По мнению его,
человеческие души, яко жито духовное, в некоей житнице сложены,
и оттоль, в мере надобности, спущаются долу, дабы оное
сонное видение в скорости увидети и по малом времени
вспять в благожелаемую житницу благоспешно возлететь.
Существенные результаты такого учения заключались в
следующем: 1) что работать не следует; 2) тем менее надлежит
86
провидеть, заботиться и пещись, и 3) следует возлагать
упование и созерцать — и ничего больше. Парамоша указывал
даже, как нужно созерцать. «Для сего,— говорил он: —
уединись в самый удаленный угол комнаты, сядь, скрести руки
под грудью и устреми взоры на пупок».
Аксиньюшка тоже не плошала, но била в баклуши
неутомимо. Она ходила по домам и рассказывала, как однажды
черт водил ее по мытарствам, как она первоначально
приняла его за странника, но потом догадалась и сразилась с
ним. Основные начала ее учения были те же, что у Пара-
моши и Яшеньки, то есть, что работать не следует, а следует
созерцать. «И, главное, подавать нищим, потому что нищие
не о мамоне пекутся, а о том, как бы душу свою спасти»,
присовокупляла она, протягивая при этом руку. Проповедь
эта шла столь успешно, что глуповские копейки дождем
сыпались в ее карманы, и в скором времени она успела
скопить довольно значительный капитал. Да и нельзя было не
давать ей, потому что она всякому, не подающему
милостыни, без церемонии плевала в глаза и, вместо извинения,
говорила только: «не взыщи!»
Но представителей местной интеллигенции даже эта
суровая обстановка уже не удовлетворяла. Она удовлетворяла
лишь внешним образом, но настоящего уязвления не
доставляла. Конечно, они не высказывали этого публично и
даже в точности исполняли обрядовую сторону жизни, но
это была только внешность, с помощью которой они льстили
народным страстям. Ходя по улицам с опущенными глазами,
благоговейно приближаясь к папертям, они как бы говорили
смердам: смотрите! и мы не гнушаемся общением с вами!
но, в сущности, мысль их блуждала далече. Испорченные
недавними вакханалиями политеизма и пресыщенные
пряностями цивилизации, они не довольствовались просто
верою, но искали каких-то «восхищений». К сожалению, Гру-
стилов первый пошел по этому пагубному пути и увлек за
собой остальных. Приметив на самом выезде из города
полуразвалившееся здание, в котором некогда помещалась
инвалидная команда, он устроил в нем сходбища, на которые
по ночам собирался весь так называемый глуповский
бомонд. Тут сначала читали критические статьи г. Н.
Страхова, но так как они глупы, то скоро переходили к другим
занятиям. Председатель вставал с места и начинал
корчиться; примеру его следовали другие; потом, мало-помалу,
все начинали скакать, кружиться, петь и кричать, и
производили эти неистовства до тех пор, покуда, совершенно
измученные, не падали ниц. Этот момент собственно и
назывался «восхищением».
В. Г. КОРОЛЕНКО
ЗА ИКОНОЙ
(Отрывок)
...Деревенский люд, богомольцы и «поклонники»,
собравшиеся к проводам иконы из окрестностей, а иные из
отдаленных сел и городов: из Балахны, Городца, Василия,—
сидели на панелях, под стенами домов, разложив вокруг узлы,
кошели и котомки. Многие тянулись уже к монастырю, где
перед выходом из города служат молебен. Лавки на
попутных улицах закрывались, торговля прекращалась, колокола
гудели вдали, и звон разливался над городом, как море,
захватывая одну за другой церкви, все ближе и ближе.
Когда мы вышли на улицу, ведущую к девичьему
монастырю, пестрые передовые толпы уже заливали ее почти
сплошными массами. Кое-где, ближе к концу города, у ворот
и калиток стояли ведра или небольшие ушаты с квасом.
Богомольцы подходили к ним, снимали шапки, крестились
и испивали.
— Спаси вас господи, царица небесная, радетели...
У монастырских ворот конные и пешие городовые
сдерживают напор толпы. Они сортируют публику, пропуская
одних, «которые почище», а «чернядь» отгоняя прочь. Нас
пропустили, хотя с некоторым колебанием.
Против входа, на дворе, темным пятном среди пестро
наряженных горожан выделяется отряд монастырских
клирошанок. Впереди игуменья, среди рясофорных
стариц, радушно раскланивается с именитыми горожанами.
В задних рядах молодые послушницы, в конических
шлыках, потупляют глаза перед любопытными взорами мирской
толпы. По временам из-под шлыка сверкнет молодой взгляд,
заиграет лукавая улыбка. И потом голова наклоняется,
потупляются глаза, и черная тень надвигается на лицо,
оставляя на виду только губы и подбородок... Становится как-то
жутко. Чуется невольно в этой тени и трепетанье молодой
88
жизни, и быть может порыв, и быть может протест, и быть
может глухая борьба...
Впрочем, стоит перевести взгляд на первые ряды, и
тревожные фантазии рассеются: здесь, в тихой обители, годам
к шестидесяти, приходит, вместе с телесною полнотою,
душевный мир и то незлобивое спокойствие, с каким в ту
самую минуту почтенная предводительница клира
приветствовала старого, но очень любезного полицейского генерала.
Андрей Иванович дернул меня за рукав.
— Идем! Что нам здесь смотреть?.. Чернохвостые! —
добавил он, кидая сердитый взгляд исподлобья.
Однако уходить уже было поздно. У входа образовалась
давка, так как икона приближалась к монастырю. Черницы
с трудом проталкиваются за ворота, и через минуту над
гулом идущей суетливо толпы слышен хор женских голосов,
поющих тропарь:
«Днесь светле красуется Нижний-Новград, яко зарю
солнечную восприимше...»
Через несколько минут процессия появляется в воротах.
Наклонясь над густой толпой, проносятся хоругви, парча
волнуется и сверкает, тонкое резное серебро дрожит в синем
воздухе. Кресты, сияния, фонари, затем золоченая риза
иконы с темными ликами богородицы и младенца — все это
будто плывет над обнаженными головами народа. Еще
минута— и железные ворота, точно по волшебству, разрезают
живой поток, смыкаются и сдерживают толпу. Несколько
пеших городовых, навалившись изо всех сил, подпирают
ворота своими дюжими фигурами; сквозь решетки видно
пять конных молодцов, тесно сомкнувшихся стремя у
стремени. Лошади подтягивают морды, играют и топчутся на
месте, отжимая толпу. Толпа ропщет, кто-то кричит, кто-то
ругается, два клира наполняют воздух пением, вверху гудят
колокола и шумят деревья... Икона вносится в церковь.
Через полчаса, после молебна, икону проносят из
монастыря к лагерю. Войска отгородили широкий квадрат у
подножия церкви. Музыка играет «Коль славен», раздается
команда «на молитву», в ясном воздухе гудит и дребезжит
бас диакона, чуть-чуть слышится пение хора, относимое
ветром. После молебна икону, поставленную в киот, на
длинных дрогах подымают на плечи; трогаются вперед хоругви.
— Барин, вы, видно, до Оранок? — спрашивает, трогая
меня за рукав, какая-то старушка.
— До Оранок, матушка.
— Владычице... свечку за меня грешную.— Морщинистая
рука тянется ко мне с пятаком.
— И от меня возьми, барин.
— И от меня.
Я принимаю поручение и кладу набранную сумму особо.
89
Невдалеке, уже на тракту, служат прощальный молебен.
Здесь толпа начинает разделяться. Зонтики, шляпки с
цветами, щегольские мужские шляпы отделяются по
направлению к городу. Рыжие мужицкие гречневики, котомки, лапти,
красные сарафаны деревенских молодух, кое-где мещанский
ситец, белые платочки — все это отливает по тракту вперед.
Нищие стоят по сторонам, протягивая руки. Дурачок Митька
выкрикивает, стоя на холме, командные слова, какой-то
долговязый юродивый размахивает палкой, бормочет что-то и
бежит за толпой. Позванивая колокольцами, с трудом
пробираются меж народом три или четыре почтовые повозки,
в которых сидят два толстых монаха с лоснящимися и
довольными лицами.
— Казну везут в монастырь,— говорят около нас.
Через несколько минут, выбравшись на более просторное
место, ямщики трогают вожжи, колокольцы заливаются, и
повозки, минуя быстро идущую толпу, несутся на горку и
исчезают из виду.
Впереди — пологий красивый подъем. Широкою лентой,
окаймленная четырьмя рядами развесистых, старых берез,
лежит дорога, вся пестрая, вся живая, усыпанная
народом...
Но вот, в половине подъема, оказывается задержка.
Торопливо пройдя полями, наперерез, из ближней деревни
вышла на тракт кучка крестьян и стала в ряд, навстречу
приближающейся иконе... И тотчас же около нее начинает
как-то густеть и завиваться прегражденное течение
людского потока.
Мы прибавляем шагу и слышим все яснее
пронзительные причитания. Молодой женский голос, то исступленный,
то жалобный, страдающий и молящий, разносится в воздухе,
между тем как сзади, надвигаясь все ближе, растет
торжественный напев тропаря.
— Кличет...— сказал Андрей Иванович.
— Кликуша... порченая... Под икону класть привели,:—
говорят кругом в толпе с живым интересом.
— Пока до Митина дойдем, штук десять выведут,—
прибавил равнодушно какой-то немолодой мещанин.
— Баловство одно! — кидает Андрей Иванович.
— Баловство и есть... Поучить бы хорошенько...
— Поучи-ить? — язвительно и звонко подхватывает
какая-то бабенка.— Чем она виновата? Иная от вас и закличет,
от учения вашего...
— Да, говори!.. Стоят этакие же вот две сороки. Одна и
спрашивает у другой: «Ты ноне, Аниська, станешь
выкликать, что ли?» — «Нет, мол, не стану, сыро!» — «Ну так
погляди у меня калачи, я покличу маленько...»
В толпе смех.
90
— А ты это сам слыхал, что ли?—заступаются опять
обиженные бабы.
Между тем, около кликуши степенно и грустно стоят ее
однодеревенцы, а родные держат молодую женщину под
руки. Толпа все приливает... Резкий крик... по временам
плавное причитание, сменяющееся стонами и неистовым,
надрывающимся воплем... Легкое облако пыли,
пронизанное солнцем, колеблется между рядами берез... Глухой шум,
будто от прорвавшегося потока, мерный топот
десятитысячной толпы и волны клирного пения, объединяющего весь
этот нестройный гул в одно могучее, захватывающее
движение,— все это близится, вырастает, охватывает и подымает
за собой, между тем как впереди, споря с общею гармонией,
бьется какое-то одно жалкое, страдающее тд непокорное
существо с этим испуганным, надрывающимся голосом...
Мне становится жутко. Андрей Иванович хмурится. Мы
стоим в густой давке, на откосе тракта, а мимо нас, точно
река, сжатая берегами, густо, величаво и плавно несется уже
сплошная толпа, давно охватившая группу с кликушей,
которая неистово вырывается из рук, мечется, кидается в
стороны...
Икона близко... Резкий, нечеловеческий вопль покрывает
и смешивает на мгновение пение хора.
Из толпы, головой выше всех, выделяется фигура
странника с длинными волосами, опаленным лицом и мрачным
взглядом. Огромный, сухой, странно равнодушный, он легко
прокладывает себе дорогу в толпе, наклоняется, подымает
на плечи «порченую», которая судорожно бьется у него в
руках, и,- раздвигая поток человеческих тел, несет ее
навстречу иконе... Пронеся несколько саженей, он кидает свою
ношу на землю, склоняется над нею, и живой поток
смыкается, покрывая обоих...
Еще один подавленный крик... Ряды фонарей, крестов,
хоругвей уже далеко впереди... Кругом только мерный топот
и гул неудержимого, как стихия, человеческого потока.
В клубах кадильного дыма, в волне торжественного пения,
колыхаясь и сверкая на солнце, икона плывет в воздухе над
этим океаном обнаженных голов,— над подавленным,
строптивым воплем «одержимой»... Пение, все такое же стройное,
все тише, все мягче расплывается в воздухе, и сквозь
редеющий топот уже вновь пробивается ласковый шорох и шелест
придорожных берез...
Молодая женщина лежит в пыли, на дороге. Она тихо
вздрагивает и как-то по-детски плачет... Любопытные
заглядывают через плечи родственников, сомкнувшихся
вокруг «порченой», а странник, такой же равнодушный и
мрачный, опять прокладывает себе путь вперед, ближе к иконе.-
ИВАН ФРАНКО
КАК РУСИН
НА ТОМ СВЕТЕ СЛОНЯЛСЯ
I
Русин умер. В этом не было никакого сомнения. Вскрытие
его тела, произведенное тремя врачами, обнаружило даже
причины, по которым он должен был умереть. Причины,
очень глубокие, были выражены весьма учеными терминами;
в протоколе не умолчали даже о том, что вскрытие
производили те самые три врача, которые при жизни лечили его,
пускали ему кровь, рвали зубы и вырезали всякие вредные
опухоли, пока он не умер.
Умер, наконец, и его похоронили.
Как известно, душа Русина не сразу после смерти летит
на тот свет, но еще некоторое время летает по тем местам,
где почиет тело. Быть может, это — первое возмездие за ее
житейские грехи: наблюдать невидимо за тем, что с ее телом
и памятью творят после смерти. Так это или нет, но довольно
того, что душа нашего Русина почувствовала это весьма
ощутительно. Когда сошлись врачи, чтобы резать и кромсать
ее тело, душа в виде мухи сидела на большом черном гвозде,
которым были прибиты ко кресту ноги деревянного Христа,
стоявшего в изголовье катафалка. Сидела и слушала беседу
эскулапов, не имея возможности, однако, никаким способом
высказать свои возражения.
— Крепкий был мужичишка,— сказал один врач,—
посмотрите, коллега, какие у него кости, какие мышцы, а
грудь — как у Геркулеса! Я и не думал, что мы так скоро
победим его своими лекарствами.
— Что вы говорите, коллега — скоро! Вспомните лучше,
сколько намучились мы с ним. Меня удивляет только, как
много он выдержал и жил. Если бы не наш уважаемый про-
томедик, кто знает, не жил ли бы он еще и теперь.
— Да наверное жил. бы,— важно проговорил третий
врач, которого те двое именовали протомедиком.— Коллеги,
92
невзирая на всю свою ученость, не распознали, где у него
самое слабое место, и прописывали ему не те лекарства,
какие нужно было, чтобы полностью подорвать его
жизненные силы.
— Но, уважаемый коллега,— воскликнули в один голос
оба врача,— нам кажется!..
— Подождите минутку, коллеги,— с важностью
продолжал протомедик,— я сейчас объясню вам это. Коллега с
правой руки понимал свою задачу весьма примитивно и лечил
только его Vim numericam \ с помощью кровопусканий,
принудительных очищений и тому подобного.
— Кажется, однако, что результаты...— неуверенно
перебил врач с правой руки.
— Результаты, понятно, были, но не такие скорые и не
такие стойкие, как можно было ожидать,— возразил
протомедик.— А коллега с левой руки даже и настолько не понял
своей задачи.
— Как так? — воскликнул врач с левой руки.— Разве
мое лечение его Rabies hajdamacica...2
— Вот, вот, эта ваша несчастная Rabies hajdamacica!
А знаете, коллега, что само этиологическое и
терапевтическое понятие этой болезни заключает в себе известную
неровность и непоследовательность поведения. Вы связываете
больного и одновременно даете ему есть. Прижигаете ему
раны и одновременно выводите его из беспамятства и
приводите в сознание. Даете ему рвотного и одновременно
возбуждаете его аппетит. Пускаете ему кровь и одновременно
очищаете ее. А главная ваша вина — действия в
противоречии с соседом.
— Ну, ну, не знаю, насколько коллега протомедик...—
начал осторожно, как бы иронически, врач с левой руки.
— Знаю, знаю, что хочет сказать коллега,— живо
перебил его тот,— и сейчас поясню вам свою методу и свое
поведение. Я вступил на физиологическую почву,
подготовленную вами,— не оспариваю этого,— но я применил методу
более совершенную и более успешную, потому что обратил
главную операцию не против тела, а против души. Его Vic
numerica, которую подкапывал коллега с правой руки,
пригодилась мне против самого коллеги. Его Rabiem hajdama-
cicam я обратил в соответствующий момент против коллеги
с левой руки. Ни та, ни другая не помешали мне нисколько.
Вместо этого я главной основой его жизни признал Indepen-
dentiam summi positam3, носящую также наименование
Mania autonomica 4, и против этого чисто психического забо-
•' Сила количества (лат.).
2 Гайдамацкая ярость (лат.).
8 Развитая в высшей мере независимость (лат.).
4 Мания автономии (лат.).
93
левания и направил весь аппарат также психических
средств, пока его душа не утратила веры в свое собственное
существование и в конце концов не покинула эти гигантские
телеса.
Бедная душа слышала эти слова, понимала их, но ничего
не могла ответить. Только затрепетала радужными
крылышками, но высший судия не позволял ей улететь,— она
вынуждена была слушать дальнейшие разговоры врачей,
вынуждена была смотреть, как их ножи погружались в ее
тело, пилили ее кости, как их окровавленные руки вырывали
из ее груди сердце и разрезали его начетверо, чтобы лучше
узнать его строение, и как их пальцы выдирали из ее черепа
мозг и копались в его извилинах.
Наконец, назначенный ей срок миновал, и она отлетела
на тот свет, напоенная горькой отравой, потому что никто
не помянул ее добрым словом, никто — казалось — даже не
заметил, что среди живых не стало еще одного, притом не
худшего и не последнего из всех. Обремененная целым адом
боли и скорби, душа полетела по обычной солнечной
дорожке, но вскоре сбилась с нее. Это была очень грешная
душа и, ясное дело, греховная стезя привела ее прямо в ад.
II
Пришел Русин к вратам ада, и ему даже не понадобилось
стучаться. Ад, как известно, всегда открыт, и врата у него
широкие, но во вратах всегда толпа и давка, так что никто
и не заметил, как наш Русин вместе с прочими грешниками
вошел внутрь этой «юдоли», полной «огней неугасимых» и
«червей неусыпных».
Зрелище ада сильно его разочаровало. Он думал, что
найдет здесь какие-то бездонные пропасти, ужасы, страдания
и пытки, каких и видом не видать и слыхом не слыхать.
А тут — куда тебе! Какие-то серые не то болота, не то пески,
без конца и края, без зелени, без леса, без реки; вверху
что-то вроде неба, только черное, как смола, без солнца и
звезд,— одним словом, сторона жалкая и тоскливая до
последней степени. А между этим небом и этой землей, словно
черные тучи, роями ползали души грешников,
блуждавших без присмотра, без занятия, без дела, без радости, но
и без какого-либо особенного мученья, кроме нестерпимой
тоски.
«Ага! — подумал Русин.— Вишь чем эти чертяки
проклятые хотят донять человека! Мол, живи себе, летай, плавай,
на стенку лезь, только ничего не делай! Хитро придумали!
Тоской хотят доконать, знают, что для крестьянского
сословия труд — первая основа жизни. Но не дождетесь вы,
паршивцы, чтобы я поддался вашим порядкам!»
94
Зол был Русин. Так много злости с собой принес из мира,
что решил делать в аду все назло и наперекор.
«Все равно мне,— подумал он.— Раз уже попал сюда, так
хоть повеселюсь, залью чертям горячего сала за шкуру!»
И давай метаться по аду, как безумный, опрокидывая,
разбивая и топча все, что ни встретит на пути. Но
проклятая равнина была так бесконечно длинна, помех не было
никаких, а убивать бедные грешные души не доставляло
никакого удовольствия.
«Чем они виноваты передо мной?—думал Русин.— Вот
кабы черта какого повстречать, это было бы здорово!»
Да что ж, если черта в аду даже напоказ не сыщешь.
«Как же это так? — подумал Русин.— Быть в аду и не
увидеть черта — ого, это уже самое последнее дело! Нет,
погоди ты, анчутка, одного за другим я вас сейчас повыманю
сюда!»
Сел посреди болота и принялся руками и ногами месить
адскую грязь, лепить из нее комки да кирпичики и
складывать в кучи. Наконец, когда этого добра наготовил уже
достаточно, поднял руку, чтобы перекрестить его, и крикнул:
— Ну, помоги, господи!
В тот же миг рядом с ним появился красивый панич в
шапочке с петушиным пером, в зеленой курточке и в
красных в обтяжку штанишках, с блестящим прутиком в руке.
— Что это ты, человек, делаешь тут? — любезно
спросил он Русина.
Русин по давней привычке снял перед паничем свою
здоровенную засаленную войлочную шляпу и сказал:
— Да это я, милостивый пан, хочу тут церковь строить.
— Что? Как? — запищал панич.— Как ты смеешь? Не
знаешь, что ли, где ты?
— Да, кажись, знаю, что в аду,— ответил Русин,
почесывая затылок,— только не знаю еще, какие тут порядки.
Батюшек я тут вижу довольно, ну и подумал: построю
церковку, вот мы здесь и поселимся все вместе, из одного
прихода.
— Не знаешь, какие тут порядки? — завизжал панич и
замахнулся на Русина своей палочкой, которая тут же
превратилась в огромную железную дубину.— Погоди, я тебя
научу нашим порядкам!
Но не успел он ударить, как Русин вырвал у него из
рук дубину, да как размахнулся, да как влепил черту его
собственной дубиной по хребту, так тот только завыл,
словно целая сотня волков, взвился вихрем и полетел к
самому старшему черту с жалобой.
Вот обрадовался Русин, заполучив дубину в свои руки.
— Ну, теперь уж не буду скучать! — крикнул он.— Я им
вот этой палочкой столько дыр наделаю во всех стенах, что
95
им и киселя не захочется! Ну-ка, попробуем, каков
пол?
И принялся работать изо всех сил, ковыряя и выбивая
дубиной дыру в полу. После нескольких могучих ударов
почувствовал, что дубина пробила насквозь какой-то
нетолстый слой, отделявший верхний адский этаж от нижнего.
Из дыры стал пробиваться густой вонючий дым.
— Ага, чертяки проклятые! — крикнул Русин.— А ну,
глядите люди добрые! — кричал он грешникам, которые
окружили его широким кольцом, как несметная стая ворон
и галок.— Гляньте только, какие это скоты! Здесь наверху
морят нас холодом и мраком, а сами сидят в тепле да
огонек себе зажгли и светят. Ну, погодите, доберемся мы до
вас. Гей, кто посмелей, давай за мною! Ломайте пол, будет
и нам светло и тепло!
Но прочие души были простыми тенями и не могли
ничем помочь ему. Только он один среди них был силен. И
вот, ухватив чертову дубину, он так крепко всадил ее в пол,
что даже свод затрещал и в нем сразу выкрошилась
огромная дыра. Через эту дыру стал виден нижний этаж ада. Это
также была огромная равнина, по которой, как звезды в
небе, были рассеяны без числа большие костры с
поставленными на них котлами величиною не меньше, чем котлы
в солеварне. Между кострами, как огромные черные змеи,
извивались несчетные реки и потоки жидкой смолы,
издававшей довольно приятный и очень здоровый для легких
смолистый запах.
— Вы видали их! Вот бестии, чертяки, как они тут
уютно устроились! — крикнул Русин.— А вы, бедные души,
щелкаете зубами от холода и задыхаетесь здесь в вонючих
болотных испарениях! Это такая-то правда в аду? Ого-го,
паны антихристы, мы вам не лягушки, чтобы в болоте
сидеть! Довольно над нами издеваться! Раз уж человек попал
в ад, так пускай ему хотя бы адская справедливость будет!
Гей, за мной, кому тут не по нутру! — крикнул он
грешникам и с дубиной в руках спрыгнул через дыру в нижний
этаж. Как туча непроглядная, посыпались за ним грешные
дутый, наполняя все адское подземелье невыразимым
писком и свистом.
— Ой, что это? — завизжал один чертяка, стоявший у
ближайшего котла, поддерживая огонь под ним и доливая
в него смолы, в которой, как галушки в кипятке, плавали,
булькая, грешные души.
— Ах ты, проклятая образина,— крикнул ему Русин,—
ты тут забавляешься, а про нас тебе и невдомек?! Это по-
каковски, а?
— Гевулт! — завизжал по-еврейски черт, увидав дыру в
потолке и множество грешных душ, валом валивших сквозь
96
нее вниз. И черт ухватил свою здоровенную лопату,
которою помешивал смолу в котле, и замахнулся на Русина. Но
Русин не стал дожидаться удара и, пока черт успел
хорошенько размахнуться своей лопатой, огрел его дубиной по
скулам, да так здорово, что черт опрокинулся навзничь,
перевернулся несколько раз и упал в смоляную реку, в
которой только ногами заболтал. Другие черти у соседних
котлов в ужасе дико завыли, увидев судьбу своего приятеля;
кое-кто из них бросился было на выручку к нему, но
поскольку солидарность не принадлежит к числу чертовых
добродетелей, они тут же махнули рукой и, как черные
тучи, понеслись кто куда.
— Хорошо идет, только голову набекрень несет! —
кричал с хохотом Русин, видя их бегство.— Ну, а теперь
посмотрим, что они тут варят в этих котелках.
Подошел к первому котлу и, наклонившись над самым
краем его, услышал какие-то далекие, тихие стоны, будто
шипенье кипящего самовара. Прислушался получше и
понял, что это людские стенанья, которые доходят до него
словно из глубочайшей бездны.
— Эй, кто там? — кричал Русин, наклонясь над
котлом, где кипела-клокотала смола.— Всякое дыхание да
хвалит господа! Слышите там? Отзовитесь.
— И мы хвалим! И мы хвалим! — пищало что-то из
глубины.
— Выплывайте наверх, бедные души! — крикнул
Русин, но души не всплывали и все только попискивали:
— Господи помилуй! Господи помилуй!
— Ага, теперь вижу — все вы руснаки! 1 — шутил
Русин.— Без божьего соизволенья даже пальцем не
пошевельнете, хоть адской смолой сыты по горло. А ну, кому там не
по нутру, хватайся за мою дубинку, я всех вытащу!
Пискотня утихла. Немного погодя Русин ухватился
обеими руками за дубину и стал тянуть кверху. Куда там!
Дубина словно примерзла ко дну котла. Еще раз попробовал,
даже зубами скрипнул,— где там, и не двинулась!
— Да что там за черт такой тяжелый? — крикнул
Русин, поплевывая на ладони.
— Грехи наши! Грехи наши! — бормотали грешные души
в смоле.— Господи, смилуйся, отпусти нам грехи наши!
— Во имя отца, и сына, и святого духа! А ну, вверх! —
крикнул Русин, и дубина, вся облепленная душами, легко,
как перышко, взлетела в воздух, даже кипящая смола
забрызгала Русину всю его войлочную шляпу. Отряхнулись
грешные души, как мухи, вынутые из воды, и^ глубоко
вздыхая, полетели вверх.
Руснаки, русины — галицкие украинцы.— Ред.
Против тьмы
97
— Кому жарко, можете прохладиться! — сказал им
Русин.— Видите вон ту дыру в потолке? А я пойду к другим
котлам.
И ходил Русин со своею дубиною от котла к котлу,
вытаскивая измученных грешников и выпуская их на холодок,
так что все чертяки завыли от злости и негодования при
таком нарушении адских порядков.
Ill
К самому старшему черту, Люциферу, прилетела целая
толпа чертей: они кричали и поносили Русина.
— Ваше величество,— кричал один,— пришел тут к нам
какой-то гайдамак и взбунтовал нам весь ад!
— У меня палку отобрал и самого чуть не искалечил,—
стонал второй.
— Дыру в потолке пробил и порядок нарушил,— вопил
третий.
— Мне десять зубов выбил,— гундосил четвертый.
— Души из котлов повытаскивал,— жаловался пятый.
— Что это за гайдамак? — спросил удивленный
Люцифер.
— Откуда нам знать? Какой-то Русин,— хором ответили
черти.
— Что вы плетете, косноязычные! — гаркнул на них
Люцифер.— Разве вы не знаете, что с тысяча восемьсот
шестидесятого года niema Rusi l. А ежели ее нет, то и
русинов никаких быть не может. Может, это какой-нибудь
москаль.
— Нет, ваше величество, москалей мы знаем, это Русин.
— Плетете несуразицу один за другим. Руси нет,
значит и Русина никакого не должно быть.
— Что ж нам делать, коли есть? — простонали черти.—
Да еще такой здоровенный, да страшный!
— Не смеет быть, и шабаш! — грозно крикнул
Люцифер.— В наших адских реестрах нет такого народа, значит
и не может ад принять никого из тех, кто причисляет себя к
этому народу. Понятно?
— Понятно! — сказали черти.
— Кто знает, может, это какая-нибудь благочестивая
хитрость этих паничей с неба? — продолжал Люцифер.—
Они на всякие штучки хитры, особенно с той поры, как мы
дали им отступного — нескольких иезуитов.— Может, это
они нарочно сотворили такой призрак, такое видение,
такую фикцию и наслали ее сюда, нам хлопот задать. Но не
придется вам порадоваться, господа! И он своим здоровен-
1 Нет Руси, т. е. Украины (полъск.).
98
a S"
Э со
u, со
о &
ным кулачищем погрозил небу.— А ну, бегите, что есть
духу, и выпроводите этого гайдамака из ада за дверь. И
строго накажите ему, чтобы не смел больше являться сюда!
Вихрем метнулись черти исполнять приказание своего
пОхзелителя.
— Эй, хохол! — крикнул один издалека.
— Брат Русин! — кричал другой уже вблизи.
— Человек! — заорал третий над самым ухом Русина,
который все еще трудился и мучился, вытаскивая души из
адских котлов.
— Ну, чего вам? — спросил Русин.
— Убирайся, пожалуйста, отсюда! У нас нет места для
тебя.
— Как это, нет? А где же мое место?
— Где хочешь, только не у нас. Иди себе хоть к
господу богу! Ад не для тебя.
— Милостивые паны, что ж вы сразу-то не сказали мне
об этом? А я тут маялся понапрасну, наводя у вас порядок.
Что же мне будет за мою работу?
— Уходи, уходи, а мы уж тебе заплатим у выхода, что
тебе полагается,— уговаривали его черти.
— Ну что ж, коли идти, так идти,— сказал Русин и, не
выпуская из рук чертовой дубинки, окруженный целою
тучею чертей, полетел к вратам ада.
— Ну, какую же ты хочешь плату за свою работу? —
спросили черти, когда Русин остановился в воротах и,
упершись, как вол рогами, не пожелал идти дальше.
— Знаете что,— сказал Русин,— живут там, на свете,
три великих доктора, которые лечили меня при жизни.
Хотел бы я теперь повидать их на минутку и сказать им пару
слов. Доставьте их ко мне сюда живьем.
Черти переглянулись, пошептались о чем-то, и тотчас же
трое из них сорвались с места и полетели в безграничное
пространство. Не успел Русин и осмотреться хорошенько, а
уже все три врача, принесенные за волосы, стояли перед
ним с лицами, искаженными смертельной тревогой. С
минуту смотрел на них Русин наполовину с сожалением,
наполовину презрительно, наконец, промолвил:
— Ну что, паны! Слыхал я ваши премудрые речи над
моим трупом. Спасибо вам за ваши заботы о моем
здоровье. А взамен благодарности примите по слову правды. Ты,
коллега с правой руки,— дурак. Ты старался истощить мои
силы — сам помрешь от истощения своих собственных. Ты,
коллега с левой руки, лечил меня от бешенства — и сам
изведаешь этих страданий. А ты, пан протомедик...
Не договорил и вместо заключения плюнул пану прото-
медику в лицо, отвернулся, надвинул войлочную шляпу на
левое ухо и зашагал вверх, к вратам рая.
100
IV
Тяжела была дорога, терниста и крута, и хотя казалось,
что врата рая совсем, совсем близехонько от адских, прямо
рукой подать, но, когда пришлось идти от одних до других,
Русину показалось это неимоверно тяжелым трудом. Он
шел и шел — должно быть, века, тысячелетия, а райских
врат по-прежнему как не бывало. Сотни раз ослабевало его
тело, не хватало дыхания в груди, темнело в глазах и
сомнение клещами сжимало сердце, но его крепкая воля и
старинное галицкое упрямство снова и снова толкали его
вперед. Наконец, запыхавшись, усталый, чуть живой, он
постучался в узенькую калитку.
— Кто там? — спросил изнутри святой Петр.
— Я, Русин,— ответил наш герой.
— Русин... Русин... Русин...— мурлыкал святой Петр.—
Обожди минутку, надо заглянуть в твой кондуит. Э-э,
браток, да ты гайдамак!
— Что ж,— почесывая затылок, согласился Русин,— был
такой грех! Так ведь ты, святой Петр, прими во внимание,
какие причины на то были и какое за это покаяние!
— Те-те-те! Знаем, знаем! Но тут обозначены еще и
другие грехи. Ты, братец, подрывал авторитет государства и
церкви.
— Кто? Я? Когда? Как?
— Э! Долго пришлось бы толковать с тобой, а мне
недосуг. Прочитай краковский «Czas» l и сам убедишься.
— Краковский «Czas»? Да неужто он и здесь пользуется
влиянием?
— А ты как думал? Понятно.
— Ну, в таком разе мне тут и делать нечего.
И уже двинулся было, чтоб идти прочь, но вдруг
остановился, как ошеломленный.
— Святой Петр! — окликнул он.— Эй, святой Петр!
— Ну чего тебе еще? — спросил святой Петр, просунув
голову в оконце над калиткой.
— Скажи, пожалуйста, что мне делать, куда податься?
Был я в аду, оттуда меня прогнали. В рай меня вы не
пускаете, где же мое место?
— Откуда мне знать! — ответил святой Петр, пожимая
плечами.
— А кто же это может знать?
— Господь бог все знает. Да ты иди себе, а там увидишь.
— Ну, коли так, пускай так и будет,— покорно ответил
Русин.— Будь здоров, святой Петр!
1 «Время» — название польской консервативной газеты.— Ред.
101
И Русин снял с головы войлочную шляпу и поклонился
святому. Но в этот миг дикая мысль ударила ему в голову.
Широко размахнувшись, он закинул свою войлочную шляпу
через высокую стену в рай. Шляпа вся была забрызгана
адской смолой, от которой по раю начал расходиться
ужаснейший смрад.
Среди святых поднялось замешательство, крики, вопли,
а Русин у райских врат тоже поднял шум.
— Отдайте мне мою шляпу! — вопил он.— Мне дальняя
дорога предстоит, как же идти без шляпы?
Но тщетно святые пробовали подступиться к шляпе и
взять ее. Адская смола обжигала и пачкала их пречистые
руки. А Русин все вопил и вопил, требуя свою шляпу.
— Ну иди, дурак, и возьми ее сам, чтобы она тут смраду
не напускала! — сказал святой Петр и впустил Русина в рай.
— Эге-ге-ге! — заговорил Русин, попав в середину.—
Как же тут красиво и приятно! Ну, а теперь дурак я буду,
если, в кои-то веки попав сюда, выйду отсюда по доброй
воле.
— Что! Как? И ты посмеешь? — вскричал святой Петр.
— Но, святой Петр,— возразил Русин, усаживаясь на
донце своей войлочной шляпы и подобрав под себя ноги так, что
ступни его поместились на широченных полях шляпы.—
Глянь, ведь я не в твоем раю сижу, а в своей шляпе!
Святой Петр даже расхохотался, услышав такую шутку,
а потом, сплюнув не то сердито, не то добродушно, пошел
спрашивать господа бога, что делать с этим приблудышем?
— Если его из ада выгнали,— ответил господь бог,—
значит, не такой уж он злой, как про него говорят. Но и рая он
не заслужил, потому что рай можно заслужить не
долготерпением, а множеством добрых дел. Итак, пусть он
возвращается назад в мир, пускай живет и трудится, а там
посмотрим, куда поместить его.
Вернулся святой Петр и объявил Русину этот божий
приговор. Не посмел Русин воспротивиться божьему повелению
и вернулся обратно на землю, возродился. Пробыв несколько
минут в аду и несколько минут в раю, он познал вкус и того
и другого и теперь умеет ценить свою новую жизнь, потому
что знает, в чем ее подлинная ценность.
М. ГОРЬКИЙ
ДВЕ СКАЗКИ
I
Из сказок няньки бог почти всегда являлся глуповатым.
Жил он на земле, ходил по деревням, путался в разные
человечьи дела, и все неудачно. Однажды застиг его в дороге
вечер, присел бог под березкой отдохнуть, едет мужик
верхом. Богу скуплю было, остановил он мужика, спрашивает:
кто таков, откуда, куда, то да се, незаметно ночь подошла,
и решил бог с мужиком переночевать под березой. Наутро
проснулись, глядят — а кобыла мужикова ожеребилась.
Мужик обрадовался, а бог и говорит: «Нет, погоди, это моя
береза ожеребилась». Заспорили, мужик не уступает, бог —
тоже. «Тогда идем к судьям»,— сказал мужик. Пришли к
судьям, мужик просит: «Решите дело, скажите правду».
Судьи отвечают: «Искать правду — денег стоит, дайте
денег— скажем правду». Мужик был бедный, а бог — жадный,
пожалел денег, говорит мужику: «Пойдем к архангелу
Гавриле, он даром рассудит». Долго ли коротко ли — пришли к
архангелу. Выслушал их Гаврила, подумал, почесал за ухом
и сказал богу: «Это, господи дело простое, решить его легко,
а у меня вот какая задача: посеял я рожь на море-океане,
а она не растет». «Глупый ты,— сказал бог,— разве рожь на
воде растет?» Тут Гаврила и прижал его: «А береза может
жеребенка родить?»
II
Иногда бог оказывается злым. Так, однажды шел он
ночью по деревне со святым Юрием, во всех избах огни
погашены, а в одной горит огонь, окошко открыто, но
занавешено тряпкой, и как будто кто-то стонет в избе*. Ну, богу все
надо знать. «Пойду, взгляну, чего там делают», сказал он, а
Юрий советует: «Не ходи, не хорошо глядеть, как женщина
103
родит». Бог не послушал, сдернул тряпку, сунул голову в
окно, а бабка-повитуха как стукнет его по лбу молочной
кринкой — р-раз. Даже кринка — в черепки. «Ну,— сказал
бог, потирая лоб,— человеку, который там родился, счастья
на земле не будет. Уж я за то ручаюсь». Прошло много
времени, лет тридцать. Снова бог и Юрий идут полем около
той деревни. Юрий показал полосу, где хлеб взошел гуще
и выше, чем на всех других полосах: «Гляди, боже, как
хорошо уродила земля мужику». А бог хвастается: «Это,
значит, усердно молил меня мужик». Юрий и скажи: «А мужик-
то самый тот, помнишь, когда он родился, тебя по лбу
горшком стукнули?» — «Этого я не забыл»,— сказал бог и велел
чертям погубить полосу мужика. Хлеб погиб, мужик плачет,
а Юрий советует ему: «Больше хлеба не сей, разведи скот».
Прошло еще пяток лет, снова идут бог да Юрий полями той
деревни. Видит бог: хорошее стадо гуляет, и он снова
хвастается: «Ежели мужик меня уважает, так и я мужика
ублажаю!». А Юрий,— не утерпел, опять говорит: «А это скот
того мужика...» Послал бог «моровую язву» на скот, разорил
мужика. Юрий советует разоренному: «Пчел заведи».
Миновали еще годы. Идет бог, видит: богатый пчельник, хвастает:
«Вот Юрий, какой есть пчеляк счастливый у меня». Смолчал
Юрий, подозвал мужика, шепнул ему: «Позови бога в
гости, накорми медом, может, он от тебя отвяжется». Ну,
позвал их мужик, кормит медом сотовым, калачами
пшеничными, водочки поставил, медовухи. Бог водочку пьет, а
сам все похвастывает: «Меня мужик любит, он меня
уважает». Тут Юрий третий раз напомнил ему про шишку на
лбу. Перестал бог мед есть, медовуху пить, поглядел на
мужика, подумал и сказал: «Ну, ладно, пускай живет, больше
не трону». А мужик говорит: «Слава те, боже, а я помру
скоро, уже я всю мою силенку зря изработал».
М. ГОРЬКИЙ
[ОЧЕРК О ВСТРЕЧЕ
С ИЗВЕСТНЫМ МРАКОБЕСОМ
ИОАННОМ КРОНШТАДТСКИМ]1
...Сидя в чайной, я услышал сердитый возглас:
— Всех прогнали, всех! Говорю тебе — Иван
Кронштадтский едет к ним...
Кричал тощий старичок в темных очках на лиловом носу
пьяницы, босый, в сером ветхом подряснике,— один из
маленьких актеров, которые играют легкие и выгодные роли
строгих судей мира сего.
Я подсел к нему и узнал, что проездом откуда-то Иоанн
Кронштадтский остановится на несколько дней в Рыжове,—
в монастыре верст за тридцать от Харькова.
Маленькие стенные часы с подковой, привешенной к
одной из гирь, показывали около семи, было утро; к вечеру,
не торопясь, я пришел в Рыжово.
У ворот монастыря толпились странники, обыватели..:
В тени стены и деревьев стояла богатая карета — люди
осторожно обходили ее, как будто боясь, что карету разорвет!..
В воздухе колебался осторожный гул, чувствовалось нервное
напряжение. Бесшумно и быстро, как мыши, суетились
серые фигуры странниц. Было жарко, душно, в красноватых
лучах солнца играли пылинки, листва деревьев
монастырского сада тоже покраснела, точно осенью.
Ворота монастыря заперты. В нише, на лавочке большой,
чернобородый привратник, в окошечке калитки — точно в
раме — вставлено мохнатое лицо монаха: дремотно закрыв
глаза, он что-то напевал тихим тенорком.
...— Куда ты, остолоп? — несколько испуганно
воскликнул привратник, видя, что я сажусь рядом с ним...
— Ты дай ему пинка, брат Илья,— нехотя посоветовал
монах из окошка, протяжно зевнул и — скрылся.
1 Отрывок дается по книге И. Груздева «Горький и его время»,
Гослитиздат, Л., 1938.
105
Я сказал привратнику, что мне совершенно необходимо
побеседовать с отцом Иоанном.
— Все этого хотят — видишь? А пускать к нему — не
велено...
— Но — если я хочу покаяться в большом грехе?
— Тогда — в полицию иди, дурачок,— сказал монах/ с
любопытством заглядывая в лицо мое.— Что — беглый
солдат?
Я обещал рассказать первому ему все мои грехи и
преступления, если он поможет мне увидеть И. Кронштадтского.
Он — заволновался, привстал, тихо крикнул в окошко:
— Ермий?! Ушел...
И, задумчиво вытаращив на меня добрые глаза, он
посоветовал:
— Ты — отойди, а я что-нибудь придумаю...
Монах ничего не придумал, но согласился пустить меня
ночевать к садовнику монастыря.
...Садовник оказался злым старичком; одноглазый,
желтый, с черными зубами, он бормотал, захлебываясь
раздраженно:
— Да, да — как же! Угодник божий приехал к нам, ряса
шелковая, сапоги со скрипом, апельсины ест,— сейчас ему
в сад третий апельсин понесли. Да, да,— в саду сидит,
пожелал уединения, как же — о, господи! Не велел никого
пускать к себе, устал дескать!..
Он бормотал скрипучей скороговоркой и суетливо
метался по сараю, загроможденному тачками, лопатами,
горшками.
Очень трудно было уговорить его, чтоб он пустил меня в
сад, но, .наконец, он согласился: — ему очень хотелось
причинить гостю маленькую неприятность.
— Ступай, только ежели он заскандалит — я ничего не
знаю и никогда тебя не видал! Ты скажи, что через ограду
перелез,— давеча один такой перелез.
Старик усмехнулся и добавил:
— Попало ему!
Он выпустил меня в сад, осторожно приотворив широкую
дверь сарая, и — вот я иду по дорожке густого душистого
сада, ярко светит луна, в глубине дорожки — небольшая
полукруглая площадка, и там, на скамье, сидит темная
фигура.
— Кто это опять?
Убедительно, как только мог, я сказал, что имею
непобедимое желание беседовать с ним и для того перелез стену
сада...
Он сидел, согнув спину, опираясь ладонями рук о скамью,
в коленях его,— в складках рясы,— лежала коробка
фиников, и я видел на скамье косточки их, разложенные правиль-
106
ным кругом. У ног священника разбросаны корки
апельсина,— в лучах луны они казались цветами.
— Ну, что же... о чем же...
Он смотрел на меня, не поднимая головы, но высоко
подняв брови и заведя глаза ко лбу. На лице его лежала густая
тень шляпы. Я скорее чувствовал, чем видел, что глаза его
смотрят на меня неприязненно.
— Ну, говори...
Я спросил его о происхождении зла,— древний вопрос
этот был для меня в то время нов и мучителен.
— Что-о? — удивленно протянул Иоанн, взмахнув
головой так сильно, что шляпа съехала на затылок, открыв
сухое, серое, очень знакомое лицо сельского попика. Мне
показалось, что в остром взгляде его сердитых глаз дрожит
испуг.
— Ты кто? Солдат?
— Не все ли вам равно?
Поправив шляпу, он вполголоса, строго, почти гневно и
очень быстро заговорил:
— Кто тебя научил этому? Тебя подослали ко мне,—
искушать меня? Ты — переодетый студент?
Он вдруг подскочил, коробка фиников упала на землю,
откуда-то выкатился апельсин и побежал по площадке; —
толкая меня в грудь пальцем, священник как-то
оглушительно зашептал:
— Встань на колени, молись! Кайся мне, где ты слышал
это, от кого? А, еретик,— тебе ли, собака, лаять слова, смысл
коих неведом, недоступен таким, как ты! Молись...
Я — рассердился. Меня влекло к нему не простое
любопытство и не желание состязаться с ним в силе ума,— меня
крутил по земле вихрь сомнений, от которых сердце мое
разрывалось на куски и леденел мозг, я ходил среди людей
полуслепой, не понимая смысла их жизни, их страданий, почти
до безумия изумленный их глупостью и жестокостью,
измятый своим бессилием, не находя нигде ответов на острые
вопросы, а они резали душу мне.
Все это я сказал ему, а потом спросил:
— Какое право имеете вы относиться ко мне
презрительно и грубо?
— Сядь, овца заблудшая,— тихо сказал он, сняв шляпу,
пригладив волосы и шаркая о землю подошвами обуви.
Сказанное мною, должно быть, несколько пошатнуло его в
мою сторону. В глубине сада, там, откуда я пришел,
двигалась черная фигура,— Иоанн долго смотрел туда из-под
ладони, потом, положив легкую руку свою на плечо мне,
заговорил сердито:
— Вопросы эти решает церковь, и она решила их,—не
твое дело касаться мудрых вопросов, не твое!.. Кто ты есть?
107
Кто бы ты ни был, ты есть раб господа, но никак не со-
вопросник ему. Раб!
Рука его дрожала на плече моем, и это было неприятно
мне. Луна всходила все выше, светлей становилось в саду,—
я видел, что волосы негустой бородки священника шевелятся
на скулах и губы его тоже дрожат.
— Я знаю,— говорил он,— ты возмутитель жизни, ты
ходишь возмущать людей, ты, ведь, семинарист, я вижу!
Ты должен знать, что говорит церковь: «Раб ли призван был
еси, да не нерадиши, но аще не можеши свободен быти,
больше поработи себе». И еще: «Раби, послушайте господий
своих по плоти со страхом и трепетом».
Он резко отодвинулся от меня.
...— Ты книги, что ли, читал, какие церковные книги
читал ты? — спросил Иоанн, глядя на меня исподлобья.
Я назвал несколько книг,— в их числе Юстина-фило-
софа 1.
— Вот,— грозя пальцем, торжественно сказал Иоанн
Сергиев,— видишь? Юстин-то еретик был!
Когда я напомнил ему, что это другой Юстин, мученик,
признанный святым, он сердито и ворчливо сказал:
— Врешь ты, путаешь что-то...
Но тотчас же добавил:
— Впрочем — церковь празднует память Юстина-муче-
ника первого июня,— этот? Вот видишь,— значит, ты
семинарист. Выгнанный? На каком языке читаешь?
Он, видимо, не знал, что Иустин, а также Ириней
Лионский 2 переведены на русский язык, и это снова раздражило
его. Коротко отвечая на его нервные вопросы, я ловил взгляд
странных глаз, они бегали, мигали. Чем, какою силой этот
человек ведет людей за собой?
— Макария—читал? Все это не нужно тебе. Зачем это?
В монастырь метишь, на легкий хлеб, бездельничать?
...Странная, должно быть, картина была, если посмотреть
со стороны: на полукружии, среди серебристо освещенных
деревьев, судорожно трясется тощий, небольшой попик в
темной рясе, отливающей в изгибах золотом, а перед ним
длинная фигура бродяги в солдатской шинели, с грязной
котомкой за спиной, с широким «бри л ем» в руке — хохлацкой
шляпой из пшеничной соломы.
— Давно известно все это, от древних еретиков идет эта
болтовня — да-да-да! Я — знаю! — Он вскочил на ноги и
высоким голосом, почти истерически, закричал:
— Кто послал тебя изливать яд этот в души людей?
Дьявол, да-да-да!
1 Юстин — философ христианский церковный писатель II в.—
Ред.
2 Ириней Лионский — один из «отцов церкви» конца II в.—Ред.
108
Сзади меня тяжело затопали по земле четыре ноги —
точно бык шел.
Иоанн Сергиев, кажется, хотел толкнуть меня или
схватить за шиворот — он протянул ко мне трясущиеся руки, но,
взглянув за плечо мое, болезненно вскричал:
— Кто это? Что надо? Ах, боже...
— Мы думали...— сказал кто-то густым басом.
— Ничего мне не надо, не надо...
Замахав руками, он опустился на скамью, но тотчас же
снова вскочил, торопливо говоря:
— Погодите,— вот—человек этот... проводите его! За
ворота проводите... да, да — он не здешний...
— Пожалуйте! — сочным басом сказал широкоплечий
монах, становясь рядом со мною, и видя, что я не трогаюсь
с места, повторил, легонько толкнув меня плечом:
— Пожалуйте?
Я пошел как во сне, внутренне оцепенев.
— Побеседовал? — спросил монах, упирая на о, а другой,
идя за спиною моей, фыркнул и закашлялся.
...Подвели меня к воротам, привратник открыл их и
весело спросил:
— Вытурили, все-таки?
Ночь я просидел с ним на лавочке, он дремал,
прижавшись в уголок ниши, сладостно чмокал губами,
вздрагивал, просыпался и, широко открыв глаза, пугливо крестил
грудь:
— О, господи... ох, ты, боже...
Негодуя, плевал на землю и жаловался:
— Задремлю, а меня пес лижет... большущий пес, и
прямо в губы... К чему это?
Ночь была удивительно ясная, теплая, тихая, со станции
Люботин доносились свистки паровозов и смягченный
расстоянием грохот поездов.
...Когда я решил идти во храм — туда нельзя было
пробраться, так много втиснулось народа в него. Я остался на
паперти и видел, как после конца обедни из дверей храма
излилась и закрутилась темным вихрем толпа
возбужденных людей, стекая со ступеней паперти во двор и снова
возвращаясь на ступени, вытягивая шеи. Сопровождаемый
тремя монахами, стиснутый толпой, медленно двигался
Иоанн Кронштадтский,— голова его была высоко вздернута,
рот полуоткрыт и на потном лице дрожали, сверкая,
полубезумные глаза,— именно дрожали, устремленные в одну
точку... У него тряслась челюсть, двигалась борода,— лицо
сурово ощетинилось.
— Скажи нам... Скажи!..— гудели голоса.
Он хрипло, отрывисто говорил:
— Молитесь... кайтесь...
109
Толпа бурно влеклась за ним, хватала его рясу, руки,
необыкновенные лица, с раскрытыми ртами, заглядывали в
его покрасневшее потное лицо, а он неуклонно смотрел через
них и бросал краткие слова,— они утопали в шарканье ног
по плитам церкви, в гуле просьб и жалоб.
— Вера — прибежище наше...
Я следил за его взглядом, и снова мне показалось, что
глаза его налиты страхом,— это он жжет и плавит их.
Шатаясь под толчками людей, человек этот взмахивал пред
лицом своим правой рукою, как будто отталкивая от себя
кого-то невидимого мне, сгибал плечи и спину, словно
подавленный непосильной тяжестью, готовый упасть, и
дрожащими глазами все смотрел вперед, как бы видя пред собою
чей-то строгий, ослепляющий взгляд.
И бормотал:
— Единое на потребу... О Марфе помните... Не пещитеся
о многом.
— По-озвольте! — мощно гудел большой монах,
добродушно улыбаясь и раздвигая людей плечом, локтем,
коленом, освобождая путь.
Отца Иоанна сильно бросило вперед и снесло с паперти,—
больше я не видал необыкновенного взгляда его испуганных
глаз.
С. ПОДЪЯЧЕВ
БОГОМОЛЬЦЫ
Из церкви, провожаемые колокольным звоном и пением,
несли в деревню иконы, служить перед ними молебны по
случаю ненастной погоды. Навстречу толпе, провожавшей
эти иконы, кресты, хоругви, шли из деревни, куда несли
иконы, с косами на плечах два мужика: Анисим Брусков да
Илья Солонкин.
Оба они, идя, курили, когда поравнялись со святыней, то
посторонились немного в сторону, давая дорогу, но папирос
не бросили, картузы с голов не сняли, а, остановившись,
держа на плечах косы, с улыбкой глядели на это шествие.
Впереди шел мальчишка с фонарем. За ним девки с
выпяченными грудями, на которых, точно как на подносах,
стояли поддерживаемые руками иконы, за девками — мужик
с крестом, за ним опять два мужика с хоругвями, а за ними
уже народ, толпа, позади которой, немного поотстав,
церковный староста Корней Степаныч с каким-то ящиком под
мышкой и с своим кумом Захаром Игнатьевичем,
закадычным его другом, любителем церковного благолепия, первым
организатором всяких «подниманий» икон, молебствий,
крестных ходов и т. д.
Еще издали увидали они Анисима с Ильей, когда
поравнялись с ними, то Захар Игнатьич, как более горячий, не
утерпел, подошел к стоявшим с косами на плечах мужикам
и, злобно сверкая глазами и задыхаясь от душившей его
злобы, прерывающимся голосом захрипел:
— Анафемы прокляты! Умны больно! Не-е-ет, сволочи,
мы еще подержимся за это! Мы еще помолебствуем!
По-вашему не будет!
Подошел и Корней Степаныч с ящиком.
— Не дело, ребята, делаете,— сказал он,— разврат!
Возмутительная картина поведения вашего достойна порицания.
Ш
Мужик этот жил когда-то, до революции, в Москве, у «гоо
под» в кухонных мужиках, нахватался там разных слов и
любил выражаться как-то по-чудному, не понимая иногда и
сам значения тех слов, которые произносил.
— Соблазн для других,— продолжал он,— анархия, и,
между прочим, вы будете от творца всех наказаны.
— Это кто же тебе сказал? Ты почем знаешь? — спросил
Анисим Брусков.— Ты молись, а я не хочу. Я работать хочу,
а бог труды любит.
— Из-за вас-то вот, сволочей,— вступился Захар Иг-
натьич,— господь и посылает беды. Мы молимся, а вы на
смех нам—работать. Кабы вы из другой деревни,—
наплевать, я бы слова не сказал. Может, молитва наша дойдет,
услышит господь, а с вами как быть? Вы тоже, дьявола,
в наше вёдро работать пойдете. Из-за вас опять гнев его на
нас кинется. Одни молятся ему, а другие насмешки делают.
Как быть? Святыню несут, а вы в картузах, с папиросками!
Отшибить вам вот головы-то, сволочи! Да и дождетесь, до-о-
ждетесь, проклятые!
— Эх, вы, православные! — сказал ему на это Анисим
Брусков.— Слезы на вас смотреть-то, на дураков! Пойдем,
Илья, ну их к шуту! Пущай забавляются.
— Все равно скосишь, да не возьмешь! — крикнул им
вслед озлобленный Захар Игнатьич.
Случилось так, что когда вечером иконы несли обратно
в церковь давешние мужики, Анисим и Илья, возвращались,
усталые, с покоса и снова попались навстречу «святыне».
На этот раз обратно иконы неслись без колокольного
звона, а пение звучало как-то уныло, и видно было, что
настроение у провожавших подавленное. Объяснялось это тем,
что давеча утром, когда несли иконы, погода стояла сносная,
а к полдням, когда служили молебны, и вовсе разгулялась
(что ясно показывало на то, что молитва услышана), теперь,
после всех молебствий и молитв, когда иконы понесли
обратно, набежали серые, клочковатые, ненастные, быстро
бегущие облака и заморосил дождь, как это было видно,
затяжной, надолго.
Анисиму с Ильей опять пришлось посторониться. На этот
раз они положили косы на землю и присели на бережке
канавы. И опять, как и давеча, увидали их идущие позади всех
староста Корней Степаныч и его кум Захар Игнатьевич.
— Помолившись вас, Корней Степаныч и Захар
Игнатьевич,— произнес один из косцов, Илья Солонкин.— Намолили
ведрышка? Дождичка господь посылает! Недостойна
молитва. Не слушает вас бог. Мало попу даете. Прибавить
надо!
— Возмутительные речи твои, Илья,— внушительно
сказал Корней Степаныч,— гневят творца, и очень возможно,
112
что в связи с этим господь послал нам бедствие. Остерегись,
Илья, опомнись! Чему ты радуешься?
— А что же мне, глядя на вашу дурость, плакать, что ли?
Плохой ваш бог — не слушает вас. Отстегать его надо.
— Рече безумец в сердце своем: несть бога! — сказано в
писании. Смотри, Илья, предупреждаю: наказан будешь! —
опять внушительно сказал Корней Степаныч. Такие ли
столбы подламывались, как ты!
— Знамо дело, через эту вот сволочь опять ненастье,—
вступился молчавший до этого Захар Игнатьич.— Видимое
дело! Одна корова поганая все стадо гадит. Мы по-своему —
молим, просим, а они насмешки делают. Что же, бог-то не
видит, что ли? Убрать вас, дьяволов двух, смутьянов, из
деревни надо. Всю деревню, всех ребят молодых перепортили.
Кымсамолы каки-то,— начал он, переменив голос,
передразнивая кого-то.— Капирация. Лавку устроили два черта, а в
ней втридорога дерут. Камитет взаимопомощи. Везде суются.
Везде члены. Всем завладали. Умны больно!
— Иди, иди! Неси доски-то размалеванные на место! —
сказал Илья.— Мало, говорю, попу дали! Колдовал плохо!
Услыхав это, Захар Игнатьевич весь затрясся от злобы
и с поднятыми кулаками бросился к нему.
— Убью! — закричал он.— Нехристь! Жулик! Камуния
чертова!,— Илья хотел было отстраниться от него, да не
успел. Обезумевший изувер схватил его косу, взмахнул ею и,
поймав его за протянутую руку лезвием, дернул к себе.
Хлынула кровь и рука, перерезанная острой косой выше локтя,
повисла, как плеть.
— «Пресвятая богородица, спаси нас! Святителю, отче
Николае, моли бога о нас!» — неслось пение девок, далеко
уже унесших вперед «святыню».
Против тьмы
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
КРЫСА ПРЕОСВЯЩЕННАЯ
(По Лафонтену)
Вот вам басня по чужой канве.
В богоспасаемом граде Москве,
То ли, устав от мирских треволнений,
То ли, лишившись наследственных имений,
То ли, содеяв уже вся вольная и невольная,
Некая крыса богомольная
От рождества христова такого-то лета
Удалилась от света.
И, объявив себя старой веры поборницей,
Стала жить заправской затворницей.
Устроила она свою келью
Не в лесу под елью,
А в большом амбаре, набитом продовольствием,
И зажила здесь с полным удовольствием.
От первозданных дней и по сегодня
Велика милость господня
К тем, кто, не заботясь о многом,
Пребывает в постоянном общении с богом.
Жила крыса в амбаре годы и годы,
Закрывши в него все выходы и входы,
Чтобы никто не нарушил ее одиночества,
Изрекала из амбара пророчества
Через особую дырочку
И высовывала иногда йросфирочку
Из гнилой половиночки
Зерна или крупиночки.
Со всего крысиного царства жители
Стекалися к сей обители
И, объятые духовным весельем,
Пищали писком велиим,
Молитвенным подвигам затворницы радовалися
114
Через дырочку к ее лапке прикладывалися,
Замирали от сладостного умиления,
Слыша ее моления:
«Господи-сусе... Пречестная мати-царице».
Не было важней крысы во всей столице.
Святую великопостницу от круп разнесло,
На брюхе у нее сало наросло,
Шерсть на ней залоснилася.
Никогда ей жизнь такая не снилася.
Но вот во благочестивом граде
Оказались крысы в кошачьей осаде,
К тому же выдался неурожайный год.
Застонал от голоду крысиный народ.
А уж какой голод оказался в Замоскворечьи,
Не могут описать слова человечьи.
Крысы там поедали крыс,
Отец родного сына грыз,
Мать душила грудного крысенка...
Это уж вам не побасенка!
Чтобы смягчить голод хоть отчасти
Крысиные государственные власти
Послали послов во все заграницы—>
Прикупить там ржи и пшеницы.
Одновременно с сим,
Так как голод был невыносим,
А властям, искавшим провианту повсеместно,
Было доподлинно известно,
Что у вышепоименованной крысы-затворницы
Амбары и все ее подпольные горницы
Были набиты крупой и мукой,
То в нужде такой
Всякой крупицей помощи дорожащие
Власти предержащие
К святой крысе, милосердие проповедующей,
Обратилися с просьбой нижеследующей:
— «Вонми, затворница, нашему гласу!
Много у тебя всякого припасу,
Крысиный же народ в эту злую пору
Гибнет от голодного мору.
В нужде его столь великой
Поделися с ним малою толикой
Имеющихся у тебя сокровищ».
Словно на каких чудовищ,
Крыса на представителей власти окрысилась:
—«Не для того я молитвами перед богом
возвысилась,
Чтоб вы по своему усмотрению
Подвергали мою обитель разорению.
115
Ежели господь наказал Москву войной и гладом,
То он же и смилостивится над нашим градом.
А я святым канонам останусь верна
И не дам ни единого зерна.
И ни единого унаследованного мною склада
Из всего молитвенного вертограда.
Но по причине моего незлобия,
Взамен такого пособия,
Так как нет у меня ничего лишнего,
Я помолюсь перед престолом всевышнего
О крысином люде, убогом и сиром.
А пока... проваливайте с миром».
Сказав сие, крыса юркнула в нору,
Где обретается по сию пору,
Спасая свою душу и бренное тело,
И откуда слышится то и дело
Ее молитва усладительная:
«Взбранной воеводе победительная».
П. ЗАМОЙСКИЙ
ТРЕПЕТ
В развалившейся избе нашей холодно и мрачно.
Пятилинейная лампа горит тускло. Стекло на ней с одной
стороны густо покрыто копотью, а с другой залеплено кусочком
желтой бумаги.
Мать сидит на подмарье, оперлась ногой на ребро лохани
и прядет кудель. И удивительно, как ей видно там, в
темноте4, сучить тонкую нитку. Но веретено тихо жужжит,
и мать все прядет и прядет и сосредоточенно о чем-то
думает.
О чем она думает? Или о том, где бы занять еще муки,
а может быть, о том, у кого ночует сейчас наш старший
брат, который вот уже две недели как ушел побираться в
соседние села. Мало ли дум многодетной матери с таким
несуразным и беззаботным мужем, как наш отец.
Потому-то и смотрит она сейчас на отца искоса и с
ненавистью. Они только-что поругались. Да, в нищете нашей
виноват отец. Это всем нам известно. Отец больше знается
с библией, четьи-минеями, псалтырем, чем со своим
хозяйством. А хозяйство и без того-то было плохо, теперь же
совсем развалилось.
Отец сидит за столом и, как назло матери, все читает.
Читает он апокалипсис. Слушают его пять старух. Из них
две — наши соседки, а три пришли с других улиц. Все они
богомольны не меньше, чем наш отец.
Два моих старших брата топят голландку, из которой
дым идет не столько в трубу, сколько, выбиваясь из
трещин и дыр, валит в избу. Топить голландку для нашей
избы — дело совершенно бесполезное. Даже над ней и рядом,
около двери, виден желтый от копоти иней.
А я, поджав ноги, сижу на лавке возле печки, в
полутемноте.
117
Мне девять лет, но я уже великий грешник. Я такой
грешник, что меня от одной только мысли о грехе моем
трясет лихорадка. Что мой грех не простится ни на том, ни
на этом свете — это мне хорошо известно. После смерти
неминуемо придется гореть мне в огне ада. И гореть веки-веч-
ные. А огонь там не то, что в лампе нашей, или даже в
печке, когда топят ее под хлебы,— кет, огонь в аду синий
и жгучее нашего в семьдесят семь раз.
Да, на мне грех непрощенный. Я согрешил — страшно
подумать! — против святого духа. Я «вознес хулу на
святого духа». Сказать по совести, я не хотел этого и даже
никогда бы не догадался так согрешить, но когда отец
позавчера объяснял старухам, что хула на святой дух, будь она
вольная или невольная, никогда — ни на том, ни на этом
свете — не простится, в это самое время, я и не помню,
совершенно не отдаю себе отчета, как это случилось,
мысленно, а все-таки я сказал:
— А святой дух — дурак.
Только после я это осознал. И волосы зашевелились на
моей пропащей голове. Что я наделал? Как не устоял
против соблазна? Почему не удержал меня от этого добрый
ангел?
И тогда со злобы — гореть, так все равно уж! — я
остервенело принялся шептать:
— Да, святой дух — дурак, дурак, дурак.
Я даже, кажется, и по-матерному выругался, но тоже,
конечно, шепотом.
Словом, вспоминать тошно, что было позавчера. И эти
два дня я ходил сам не свой. А теперь вот забрался в угол
и слушаю монотонное чтение отца. Сам же то и дело
мысленно представляю себя в аду. Каково? Я, поддернутый
железным крючком за язык, вечно-вечно буду гореть, и
моим мучениям не будет конца. Да, конца не будет. Никогда!
Только представить: никогда не будет конца.. Эх, на что
бы я только не решился сейчас... Конечно, первым делом,
даже не дожидаясь великого поста, пошел бы к попу и
раскаялся ему во всем. Но... зачем? Я бы и в монастырь ушел.
В отшельники. Но ведь... Словом, нечего попусту и думать.
Все, что бы я ни сделал, напрасно. Для чего я только
родился? Может быть, мне повеситься? — Боязно. Может,
горло ножом перерезать? — Кровь пойдет. Нет, я лучше
постараюсь жить долго-долго, чтобы умереть стариком. На
тот свет надеяться мне уже нечего. В рай я все равно не
попаду. Куда там... Только одно пугает: вдруг доживу до
светопреставления?!
Мне не хочется встречать второе пришествие Христа.
Оно страшное. Шутка ли видеть, как на твоих глазах
будет свертываться небо, словно какая-нибудь холстина, а по-
118
том пойдут по небу огненные столбы и в середине
распластается кровавый крест...
А отец все читает. Ему и дела нет до меня. Склонил
свою лысую голову и тянет гнусавым голосом:
«И когда он снял шестую печать, и вот произошло
великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как
власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали
на землю.
И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и
остров двинулись с мест своих; и цари земные, и вельможи,
и богатый, и всякий раб, и свободный скрылись в
пещеры.
И говорят горам и камням:
— Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на
престоле и от гнева агнца. Ибо пришел великий день гнева
его, и кто может устоять».
Я не первый раз слышу апокалипсис. Я почти знаю его
наизусть. Вот дальше, например, пойдет о семи ангелах с
трубами. Они очень жестокие, эти ангелы. Да, да, так я их
и называю. А чего мне теперь бояться? Они злые. Они злее
всякой собаки. Даже Полкана, который караулит поповский
двор и* бегает на цепи.
Отец читает про ангелов. Он очень любит про них
читать:
«Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь,
смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть
дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.
Второй ангел вострубил, и, как бы большая гора,
пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря
сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей,
живущих в море, и третья часть судов погибла.
Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда
и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей
звезды Полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и
многие из людей умерли от вод, потому что они стали
горьки».
Старухи сдержанно вздыхают и глаз не сводят с отца.
Видимо, они считают его действительно «праведником», как
о нем однажды говорил наш поп в церкви. От холода или
от волнения, но лицо у отца покрылось бледными пятнами,
на лысине и на лбу выступили крупные капли и, кажется,
застыли.
А в трубе, вот рядом со мной, гудит ветер. Заунывно
гудит, и тоска сжимает мое сердце. Да полно, ветер ли это
воет? Он *то таинственно замрет, то заревет и забьется.
А может быть, это уже злые ангелы трубят?
И опять я начинаю думать о себе, о грехе моем, о муках
адских и мысленно прохожу все мытарства, которые
119
проходила Феодора-великомученица. И я завидую ей. У нее
не было такого греха, как у меня.
«И видел я и слышал,— продолжает отец,— одного
ангела, летящего посреди неба и говорящего громким
голосом:
«Горе, горе, горе живущим на земле! Горе им от
остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут
трубить!»
Я не хочу больше слушать, о чем еще будут трубить
остальные ангелы. Меня берет злоба.
«Зачем еще трубить? — думаю я,— разве мало эти
натрубили? Гляди — что осталось от земли? — Она смешана с
градом, огнем и кровью. Где "травы и деревья? Третья часть
их выгорела. А море? Что сталось с ним? Оно тоже стало
кровавое, и в нем погибла третья часть рыб и третья часть
судов...»
Нет, довольно натрубили. Хватит. А третий даже и воду
отравил.
«Боже милостивый,— злобно хочется мне крикнуть в
передний угол,— что же ты делаешь? Зачем же ты людей
сотворил? — Ужель затем, чтобы ко второму пришествию
своему избить их камнями, спалить огнем, затопить
водой?..»
От темного, дымом прокопченного лика бога я перевожу
взгляд на своих братишек. Они сидят возле голландки, под-
кладывают в нее солому и при мерцающем свете
пересчитывают бабки. Сегодня они, кажется, много выиграли в
свинчатку. Им, конечно, нет никакого дела, что там натрубят
семь ангелов. Ни читать, ни слушать их они не любят. Нет у
них такой охоты. И как я жалею, что не похож на них. И
зачем я уродился в отца своего — книжника? Видно, весь
свой век буду несчастным. На земле несчастным и совсем
уже пропащим на том свете. А мне бы очень хотелось быть
таким, как брат Захар... И как смело он рассуждает о своих
грехах:
— Эка невидаль! Нагрянет великий пост, пойду к попу,
и он мне за три копейки всем грехам «прощу» даст.
А я? Я ни разу и не ругался. И вдруг вот произошло. Да
еще что произошло-то!
«Бо-оже всемогущий, зачем же ты допустил меня до
этого? Ангел-хранитель, сонуля ты этакая кислятина, что не
укараулил? Видно, ты тоже похож на нашего никудышного
отца. Видно ты отделался от меня легко и в книге добрых и
злых дел моих проставил один, но несокрушимый грех:
«хула на святого духа». Плохого ко мне ангела приставили.
Как будто хуже-то и не нашлось у них на всем небе...»
Гляжу на мать. Она, кажется, задремала и то и дело
клонится головой к гребню.
120
«В те дни,— торжественно читает отец,— люди будут
искать смерть, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть
убежит от них».
Две старухи низко склонились над столом, вздыхают и
тихо плачут, не отирая слез. Плакать хочется и мне.
Слезами плакать, но слезы не идут, не навертываются на глаза.
Только чувствую, как горит мое лицо, уши — и весь я горю
на сухом, медленно изъедающем меня огне.
«...И вот вышел большой красный дракон с семью
головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем; хвост
его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю...»
Я испуганно-быстро подбегаю к окну и сквозь мерзлые
стекла стараюсь рассмотреть,— остались ли на небе звезды.
Но окно покрыто мохнатым узорчатым ковром снега, и
сквозь него совершенно не видно ничего. Только мышь
зябко царапается между стеклом и приваленной к окну
соломой.
Глубже забиваюсь, опять в темный угол, и теснее
вжимаю голову в плечи. Сердце мое трепещет и бьется так
сильно, будто готовится выскочить, а временами сладко
замирает, и тогда в глазах у меня бегают мутные, желтые
круги.
Соседка Фекла, наслушавшись вдосталь всех ужасов, не
выдержала и, всхлипнув, торопливо направилась к двери.
А отец, как нарочно, высоко поднял палец и крикнул ей
вслед:
— Се гряду, как тать в нощи!
Испуганно перекрестившись, Фекла толкнула плечом
примерзшую дверь и опрометью выбежала в сени. Отец
разошелся вовсю. Он вдохновился. Разогнул спину,
привстал, подошел с евангелием к худому пузырю лампы и
страшным голосом заурчал:
«...и от престола раздался громкий голос:
— Совершилось!
И произошли молнии и громы, и сделалось великое
землетрясение: и всякий остров убежал, и огненный град пал
на людей...»
В руках у него дрожит потрепанное евангелие, свет
испуганно мигает в лампе и вот-вот готов погаснуть, а
старухи, не вытирая наплаканных глаз, уставились на отца.
Грозная тень от него легла на стену.
В каком-то приступе безумия он уже не читал, а вещал:
«Я есмь Альфа и Омега... И Начало и Конец...»
И так отчаянно крикнул: «Эй, гряду», что вздрогнул не
только я, но и старухи, и мать моя, и братья. Вздрогнул и
огонь в лампе. Потянулся и угас. И в этот же миг с
треском распахнулась дверь, в дверях раздался визгливый,
жуткий голос Феклы:
121
— Столбы огненные по небу! Крест появился!!
Как щипцами сжало мое, и без того надорванное
испугом, сердце, к горлу подвалил тугой ком, все тело облило
леденящей водой, и я, чувствуя тошноту, полетел в темную
пропасть.
...Очнулся уже утром. Лежал на подмарье. Возле, с
пузырьком в руках, стоял учитель. Слышу его басистый
голос:
— Надо же было довести мальчишку до обморока. Так
искалечить его недолго.
Мать, видимо, не первый раз уже рассказывает:
— Выбежала, говорю, в сени, кричу: «Где же, паралик
вас хвати, столбы вы увидали?» «А вон, вон»,— указывают
на крышу. А в крыше у нас дыра и сквозь ее видно, быдто
и вправду какие-то белые столбы на небе. Я возьми да и
выбежи к самой мазанке. И пес их дери: а это у месяца уши
от мороза поднялись. Какой ведь был мороз-то. Ну, два уха
по бокам, а один прямо по самой середке. Из дыры-то им,
дуракам, и видать, вроде как два столба.
— Бестолочь.— басит учитель.— А* твой муж — олух
царя небесного. Чем парню вдалбливать в голову черт
знает что, лучше бы он дыру в крыше заделал.
Болел я после этого долго. Часто вскакивал по ночам и
кричал. Лечили меня всячески: хиной зачем-то поили,
ворожею с камушка умывать приглашали, даже в бочку с
горячей соленой водой сажали.
С тех пор, бывало, как только отец вечером усядется за
стол и начнет читать евангелие, мать подойдет к лампе и,
обругав отца «фарисеем», потушит огонь.
— Будет тебе, лысому дураку, керосин-то палить на
разных там антихристов.
И отец уходил читать евангелие к соседям.
В. МАЯКОВСКИЙ
ХАНЖА
Петр Иванович Васюткин
бога
беспокоит много,—
тыщу раз,
должно быть,
в сутки
упомянет
имя бога.
У святоши
хитрый нрав,—
черт
в делах
сломает ногу.
Пару
коробов
наврав,
перекрестится:
«Ей-богу».
Цапнет
взятку —
лапа в сале.
Вас считая за осла,
на вопрос:
«Откуда взяли?»
отвечает:
«Бог послал».
Он
заткнул
от нищих уши,—
сколько ни проси, горласт,
123
как от мухи
отмахнувшись,
важно скажет:
«Бог подаст».
Вам
всуча
дрянцо с пыльцой,
обворовывает трест,
крестит
пузо
и лицо,
чист, как голубь:
«Вот те крест».
Грабят,
режут —
очень мило!
Имя
божеское
помнящ,
он
пройдет,
сказав громилам:
«Мир вам, братья,
бог на помощь!»
Вор
крадет
с ворами вкупе.
Поглядев
и скрывшись вбок,
прошептал,
глаза потупив:
«Я не вижу...
видит бог».
Обворовывая
массу,
разжиревши понемногу,
подытожил
сладким басом:
«День прожил —
и слава богу».
Возвратясь
домой
с питей,—
пил
с попом пунцоворожим,—
он
сечет
своих детей,
124
чтоб держать их
в страхе божьем.
Жене
измочалит
волосья и тело
и, женин
гнев
остудя,
бубнит елейно:
«Семейное дело.
Бог
нам
судья».
На душе
и мир
и ясь.
Помянувши
бога
на ночь,
скромно
ляжет,
помолясь,
христианин
Петр Иваныч.
Ублажаясь
куличом да пасхой,
божьим словом
нагоняя жир,
все еще
живут,
как у Христа за пазухой,
всероссийские ханжи.
Тайна
святых чудес
ДЖОВАННИ БОККАЧЧО
Сер Чаппеллетто обманывает лживой исповедью
благочестивого монаха и умирает; негодяй при эюизни, по смерти
признан святым и назван San. Ciappelletto
Рассказывают о Мушьятто Францези, что когда из
богатого и именитого купца он стал кавалером и собирался
поехать в Тоскану вместе с Карлом Безземельным, братом
французского короля, вызванным и побужденным к тому
папой Бонифацием, он увидел, что дела его там и здесь
сильно запутаны, как то нередко у купцов, и что распутать
их не легко и не скоро, и потому он решился поручить
ведение их нескольким лицам. Все дела он устроил; только
одно у него осталось сомнение: где ему отыскать человека,
способного взыскать его долги с некоторых бургундцев?
Причина сомнения была та, что он знал бургундцев за
людей, охочих до ссоры, негодных и не держащих слова, и он
не в состоянии (был представить себе человека настолько
коварного, что он мог бы с уверенностью противопоставить
его коварству бургундцев. Долго он думал об этом вопросе,
когда пришел ему на память некий сер Чеппарелло из
Прато, часто хаживавший к нему в Париже. Этот
Чеппарелло был небольшого роста, одевался чистенько, а так как
французы, не понимая, что означает Чеппарелло, думали,
что это то же, что на их языке chapil, т. е. венок, то они и
прозвали его не capello, a Ciappelletto, потому что, как я
уже сказал, он был мал ростом. Так его всюду и знали за
Чаппеллетто, и лишь немногие за сера Чеппарелло. Жизнь
этого Чаппеллетто была такова: был он нотариусом, и для
него было бы величайшим стыдом, если бы какой-нибудь
из его актов (хотя их было у него немного) оказался не
фальшивым; таковые он готов был составлять по
востребованию и охотнее даром, чем другой за хорошее
вознаграждение. Лжесвидетельствовал он с великим удовольствием,
прошенный и непрошенный; в то время во Франции сильно
9 Против тьмы 129
веровали в присягу, а ему ложная клятва была нипочем, и
он злостным образом выигрывал все дела, к которым его
привлекали с требованием: сказать правду по совести.
Удовольствием и заботой было для него посеять раздор,
вражду и скандалы между друзьями, родственниками и
кем бы то ни было, и чем больше от того выходило бед,
тем было ему милее. Если его приглашали принять
участие в убийстве или каком другом дурном деле, он шел на
то с радостью, никогда не отказываясь, нередко и с
охотой собственными руками нанося увечье и убивая людей.
Кощунствовал он на бога и святых страшно, из-за всякой
безделицы, ибо был гневлив не в пример другим. В
церковь никогда не ходил и глумился неприличными словами
над ее таинствами, как ничего не стоющими; наоборот,
охотно ходил в таверны и посещал другие непристойные
места. До женщин был охоч, как собака до палки, зато в
противоположном пороке находил больше удовольствия,
чем иной развратник. Украсть и ограбить он мог бы с
столь же спокойной совестью, с какой благочестивый
человек подал бы милостыню; обжора и пьяница был он
великий, нередко во вред и поношение себе; шулер и
злостный игрок в кости был он отъявленный. Но к чему
тратить слова? Худшего человека, чем он, может быть, и не
родилось. Положение и влияние мессера Мушьятто долгое
время прикрывали его злостные проделки, почему и
частные люди, которых он нередко оскорблял, и суды,
которые он продолжал оскорблять, спускали ему. Когда мессер
Мушьятто вспомнил о сере Чеппарелло, жизнь которого
прекрасно знал, ему представилось, что это и есть
человек, какого и надо для злостных бургундцев; потому, велев
позвать его, он сказал: «Ты знаешь, сер Чаппеллетто, что
я отсюда совсем уезжаю; между прочим, есть у меня дела
с бургундцами, обманщиками, и я не нахожу человека,
более тебя подходящего, которому я мог бы поручить
взыскать с них мое. Теперь тебе делать нечего, и если ты
возьмешься за это, я обещаю снискать тебе расположение суда
и дать тебе приличную часть суммы, какую ты взыщешь».
Сер Чаппеллетто, который был без дела и не особенно
богат благами мира сего, видя, что удаляется тот, кто долго
был ему поддержкой и убежищем, немедля согласился,
почти побуждаемый необходимостью, и объявил, что готов
с полной охотой. На том сошлись. Сер Чаппеллетто,
получив доверенность мессера Мушьятто и рекомендательные
королевские письма, отправился, по отъезде мессера
Мушьятто, в Бургундию, где его никто почти не знал. Здесь,
наперекор своей природе, он начал взыскивать долги
мягко и дружелюбно и делать дело, за которым приехал,
как бы предоставляя себе расходиться под конец. Во время
130
этих занятий, пребывая в доме двух
братьев-флорентийцев, занимавшихся ростовщичеством и чествовавших его
ради мессера Мушьятто, он заболел. Братья тотчас же
послали за врачами и людьми, которые бы за ним ходили, и
сделали все необходимое для его здоровья; но всякая
помощь была напрасна, потому что, по словам медиков, серу
Чаппеллетто, уже старику, к тому же беспорядочно
пожившему, становилось хуже со дня на день, болезнь была
смертельная. Это сильно печалило братьев; однажды они
завели такой разговор по соседству с комнатой, где лежал
больной сер Чаппеллетто: «Что мы с ним станем делать? —
говорил один другому.— Плохо нам с ним: выгнать его,
больного, из дому — было бы страшным зазором и знаком
неразумия: все видели, как мы его раньше приняли, потом
доставили ему тщательный уход и врачебную помощь — и
вдруг увидят, что мы выгоняем его, больного, при смерти,
внезапно из дому, когда он и не в состоянии был сделать
нам что-либо неприятное. С другой стороны, он был таким
негодяем, что не захочет исповедаться и приобщиться
святых тайн, и если умрет без исповеди, ни одна церковь не
примет его тела, которое бросят в яму, как собаку. Но если
он и исповедается, то у него столько грехов и столь
ужасных, что выйдет то же, ибо не найдется такого монаха или
священника, который согласился бы отпустить их ему;
так, не получив отпущения, он все же угодит в яму. Коли
это случится, то жители этого города, которые беспрестанно
поносят нас за наше ремесло, представляющееся им
неправедным, и которые не прочь нас пограбить, увидев это,
поднимутся на нас с криком: «Нечего щадить этих псов
ломбардцев, их и церковь не принимает!» И бросятся они на
наши дома и, быть может, не только разграбят наше
достояние, но к тому же лишат и жизни. Так или иначе, а нам
плохо придется, если он умрет».
Сер Чаппеллетто, лежавший, как я сказал, поблизости от
того места, где они таким образом беседовали, при том
изощренном слухе, какой часто бывает у больных, услышал, что
о нем говорили. Велев их позвать к себе, он сказал: «Я не
желаю, чтобы вы беспокоились по моему поводу и боялись
потерпеть из-за меня. Я слышал, что вы обо мне говорили,
и вполне уверен, что так бы все и случилось, как вы
рассчитывали, если бы дело пошло так, как предполагаете. Но
оно пойдет иначе. При жизни я так много оскорблял
господа, что если накануне смерти я сделаю то же в течение
какого-нибудь часа, вины от того будет ни больше, ни
меньше. Потому распорядитесь позвать ко мне святого,
хорошего монаха, какого лучше найдете, если таковой есть, и
предоставьте мне действовать: я наверно устрою и ваши и мои
дела так хорошо, что вы останетесь довольны». Братья, хотя
431
и не питали большой надежды, тем не менее отправились
в один монастырь и потребовали какого-нибудь
святого, разумного монаха, который исповедал бы ломбардца,
занемогшего в их доме; им дали старика святой, примерной
жизни, великого знатока св. писания, человека очень
почтенного, к которому все горожане питали особое, великое
уважение. Повели они его; придя в комнату, где лежал сер
Чаппеллетто, и подойдя к нему, он начал благодушно
утешать его, а затем спросил, сколько времени прошло с его
последней исповеди. Сер Чаппеллетто, никогда не исповеды-
вавшийся, отвечал: «Отец мой, по обыкновению, я испо-
ведываюсь каждую неделю, по крайней мере один раз, не
считая недель, когда и чаще бываю на исповеди; правда с
тех пор, как я заболел, тому неделя, я не исповедывался:
такое горе учинил мне мой недуг!» — «Хорошо ты делал, сын
мой, сказал монах, делай так и впредь; вижу я, что мало
мне придется услышать и спрашивать, так как ты так часто
бываешь на духу».— «Не говорите этого, святой отец, сказал
сер Чаппеллетто: сколько бы раз и как ни часто я
исповедовался, я всякий раз имел в виду принести покаяние во всех
своих грехах, о каких только я помнил со дня моего
рождения до времени исповеди; потому прошу вас, честнейший
отец, спрашивать меня обо всем так подробно, как будто я
никогда не исповедовался. Не смотрите на то, что я болен:
я предпочитаю сделать неприятное моей плоти, чем, потакая
ей, совершить что-либо к погибели моей души, которую мой
спаситель искупил своею драгоценною кровью».— Эти речи
очень понравились святому отцу и показались ему
свидетельством благочестивого настроения духа. Усердно одобрив
такое обыкновение сера Чаппеллетто, он начал его
спрашивать, не согрешил ли он когда-либо с какой-нибудь
женщиной. Сер Чаппеллетто отвечал, вздыхая: «Отче, в этом
отношении мне стыдно открыть вам истину, потому что я боюсь
погрешить тщеславием».— «Говори, не бойся, никто еще не
согрешал, говоря правду на исповеди или при другом
случае».— Сказал тогда сер Чаппеллетто: «Если вы уверяете
меня в этом, то я скажу вам: я такой же девственник, каким
вышел из утробы моей матушки».— «Да благословит тебя
господь! сказал монах: хорошо ты сделал и, поступая таким
образом, тем более заслужил, что, если бы захотел, ты мог
бы совершать противоположное с большей свободой, чем мы
и все те, кто связан каким-нибудь обетом».— Потом он
спросил его: не разгневал ли он бога грехом чревоугодия.— «Да,
и много раз», отвечал сер Чаппеллетто, глубоко вздохнув —
потому что хотя он держал все посты в году, соблюдаемые
благочестивыми людьми, и каждую неделю приобык по
крайней мере три раза поститься на хлебе и воде, тем не менее он
пил воду с таким наслаждением и охотою, с каким большие
132
любители пьют вино, особливо устав после хождения на
молитву, либо в паломничестве; часто также у него является
аппетит к салату из трав, какой собирают крестьянки,
отправляясь в поле; иногда еда казалась ему более вкусной,
чем следовало бы, по его мнению, казаться тому, кто,
подобно ему, постничает по благочестию. На это отвечал
монах: «Сын мой, эти грехи в природе вещей, легкие, и я не
хочу, чтобы ты излишне отягчал ими свою совесть. С
каждым человеком, как бы он ни был свят, случается, что пища
кажется ему вкусной после долгого голода, а питье после
усталости».— «Не говорите мне этого в утешенье, отец мой,
возразил сер Чаппеллетто: вы знаете, как и я, что все,
делаемое ради господа, должно совершаться в чистоте и 6ej
всякой мысленной скверны; кто поступает иначе, грешит».—
Монах умилился: «Я очень рад, что таковы твои мысли,
и мне чрезвычайно нравится твоя чистая, честная
совестливость. Но, скажи мне, не грешил ли ты любостяжанием,
желая большего, чем следует, удерживая, что б»ы не
следовало?»— Отвечал на это сер Чаппеллетто: «Я не желал бы,
отец мой, чтобы вы заключили обо мне по тому, что я в доме
у этих ростовщиков; у меня нет с ними ничего общего, я
даже приехал сюда, чтобы их усовестить, убедить и
отвратить от этого мерзкого промысла и, может быть, успел бы
в этом, если бы господь не взыскал меня. Знайте, что отец
оставил мне хорошее состояние, большую часть которого
я подал, по его смерти, на милостыню; затем, чтобы самому
существовать и помогать нищей братье во Христе, я стал
понемногу торговать, желая тем заработать, всегда разделяя
свои прибытки /с божьими людьми, одну половину обращая
на свои нужды; другую отдавая им. И так помог мне в том
мой создатель, что мои дела устраивались от хорошего к
лучшему».— «Хорошо ты поступил, сказал монах; но не
часто ли предавался ты гневу?» — «Увы, сказал сер
Чаппеллетто, этому, скажу вам, я предавался часто. И кто бы
воздержался, видя ежедневно, как люди безобразничают, не
соблюдая божьих заповедей, не боясь божьего суда?
Несколько раз в день являлось у меня желание — лучше
умереть, чем жить, когда видел я молодых людей, гоняющихся
за соблазнами, клянущихся и нарушающих клятву,
бродящих по тавернам и не посещающих церкви, более
следующих путям мира, чем путям господа».— «Сын мой, сказал
монах, это святой гнев, и за это я не наложу на тебя эпити-
мии. Но, быть может, гнев побудил тебя совершить убийство,
нанести кому-нибудь оскорбление или другую обиду?» —
«Боже мой, возразил сер Чаппеллетто: вы, кажется, святой
человек, а говорите такие вещи! Да если бы у меня
зародилась малейшая мысль совершить одно из тех дел, которые
вы назвали, неужели, думаете вы, господь так долго
133
поддержал бы меня? На такие вещи способны лишь
разбойники и злодеи; я же всякий раз, как мне случалось видеть
кого-нибудь из таковых, всегда говорил: «Ступай, да обратит
тебя господь!» — Сказал тогда монах: «Скажи-ка мне, сын
мой, да благословит тебя господь: не лжесвидетельствовал
ли ты против кого-нибудь, не злословил ли, не отбирал ли
чужое против желания владельца?» — «Да, мессере, говорил
я злое против другого: был у меня сосед, без всякого повода
то и дело бивший свою жену; я однажды и сказал о нем
дурное родственникам жены; такую я жалость
почувствовал к этой бедняжке, которую он бог знает, как колотил,
всякий раз, как напивался».— «Хорошо, продолжал монах:
ты сказал мне, что был купцом; не обманывал ли ты кого,
как то делают купцы?» — «Виноват, отвечал сер Чаппел-
летто, только не знаю, кого обманул: кто-то принес мне
деньги за проданное ему сукно, я и положил их в ящик, не
пересчитав, а месяц спустя нашел там четыре мелких
монеты сверх того, что следовало; не видя того человека, я
хранил деньги в течение года, чтобы отдать их ему, а затем
подал их во имя божие».— «Это дело маловажное, ты
сделал хорошо, так распорядившись», сказал монах.— Кроме
того, еще о многих других вещах расспрашивал его святой
отец, и на все он отвечал таким же образом. Монах хотел
уже отпустить его, как сер Чаппеллетто сказал: «Мессер,
за мной есть еще один грех, о котором я не сказал вам».
«Какой же?» спросил тот, а этот отвечал: «Я припоминаю,
что однажды велел своему слуге вымести дом в субботу,
после девятого часа, позабыв достодолжное уважение к
воскресенью».— «Маловажное это дело, сын мой», сказал
монах.—«Нет, не говорите, что маловажное, сказал сер
Чаппеллетто, воскресный день надо нарочито чтить, ибо в
этот день воскрес из мертвых госггодь наш».— Сказал тогда
монах: «Не сделал ли ты еще чего?» — «Да, мессере, отвечал
сер Чаппеллетто; однажды, позабывшись, я плюнул в
церкви божьей».— Монах улыбнулся: «Сын мой, сказал он,
об этом не стоит тревожиться; мы, монахи, ежедневно там
плюем».— «И очень дурно делаете, сказал сер Чаппеллетто:
святой храм надо паче всего содержать в чистоте, ибо в нем
приносится жертва божия».— Одним словом, такого рода
вещей он наговорил монаху множество, а под конец
принялся вздыхать и горько плакать, что отлично умел делать,
когда хотел.— «Что с тобою, сын мой?» спросил святой отец.
Отвечал сер Чаппеллетто: — «Увы мне, мессере, один грех
у меня остался, никогда я в нем не каялся, так мне стыдно
открыть его: всякий раз, как вспомню о нем, плачу, как
видите, и кажется мне наверно, что господь никогда не
смилуется надо мной за это прегрешение».— «Что ты это
говоришь, сын мой? сказал монах: если бы все грехи, когда бы
134
то ни было совершенные людьми, или имеющие совершаться
до скончания света, были соединены в одном лице, и
человек тот так же бы раскаялся и умилился, как ты, то столь
велики милость и милосердие божие, что господь простил
бы их по своей благости, если бы он их исповедал. Потому
говори, не бойся». Но сер Чаппеллетто продолжал сильно
плакать: «Увы, отец мой, сказал он, мой грех слишком велик,
и я почти не верю, чтобы господь простил мне его, если не
помогут ваши молитвы».— «Говори без страха, сказал монах,
я обещаю помолиться за тебя богу».— Сер Чаппеллетто все
плакал и ничего не говорил, а монах продолжал увещевать
его. Долго рыдая, продержал сер Чаппеллетто монаха в
таком ожидании и затем, испустив глубокий вздох, сказал:
«Отец мой, так как вы обещали помолиться за меня богу, я
вам откроюсь: знайте, что будучи еще ребенком, я выбранил
однажды мою мать!» Сказав это, он снова принялся сильно
плакать. «Сын мой, сказал монах, и этот-то грех
представляется тебе ужасным? Люди весь день богохульствуют, и
господь охотно прощает раскаявшихся в своем богохульстве;
а ты думаешь, что он тебя не простит? Не плачь, утешься;
уверяю тебя, если бы ты был из тех, кто распял его на
кресте, он простил бы тебе: так велико, как вижу, твое
раскаяние».— «Увы, отец мой, что это вы говорите! — сказал сер
Чаппеллетто: моя милая мама носила меня в течение девяти
месяцев денно и нощно; и на руках носила более ста раз;
дурно сделал я, что ее выбранил, тяжелый это грех! если вы
не помолитесь за меня богу, не простится он мне».— Когда
монах увидел, что серу Чаппеллетто не осталось сказать
ничего более, он отпустил его и благословил, считая его
святым человеком, ибо вполне веровал, что все сказанное
сером Чаппеллетто правда. И кто бы не поверил, услышав
такие-речи от человека в час смертный? После всего этого
он сказал: «Сер Чаппеллетто, с божьей помощью вы скоро
выздоровеете, но если бы случилось, что господь призовет
к себе вашу благословенную и готовую душу, не
заблагорассудите ли вы, чтобы ваше тело было погребено в нашем
монастыре?» — «Да, мессере, отвечал сер Чаппеллетто, и я
не желал бы другого места, так как вы обещали молиться
за меня, не говоря уже о том, что я всегда был особенно
предан вашему ордену. Потому прошу вас, как вернетесь
к себе, распорядиться, чтобы мне принесли истинное тело
Христово, которое вы каждое утро освящаете на алтаре, ибо
хотя и недостойный, я желаю с вашего разрешения
причаститься его, а затем удостоиться святого, последнего
помазания, дабы, прожив в грехах, по крайней мере, умереть
христианином».— Святой муж с радостью согласился,
похвалил за намерение и сказал, что тотчас распорядится,
чтобы ему все доставили. Так и было сделано.
135
Оба брата, сомневавшиеся, как бы не провел их сер Чап-
пеллетто, поместились за перегородкой, отделявшей их от
комнаты, где лежал сер Чаппеллетто, и, прислушиваясь,
легко могли слышать и уразуметь все, что сер Чаппеллетто
говорил монаху; слыша исповедь его проступков, они не раз
готовы были прыснуть от смеха. Вот так человек! говорили
они промеж себя: ни старость, ни болезнь, ни страх близкой
смерти, ни страх перед господом, перед судом которого он
должен предстать через какой-нибудь час — ничто не от-
плекло его от греховности и желания умереть таким, каким
жил.— Услышав, что его обещали похоронить в церкви,
они перестали заботиться о дальнейшем. Вскоре после того
сер Чаппеллетто причастился и, когда ему стало хуже через
меру, соборовался; в тот же день, когда совершилась его
примерная исповедь, вскоре после вечерни он скончался.
Потому оба брата, приготовив на средства покойного
приличные похороны и послав сказать монахам, чтобы они, по
обычаю, явились вечером для всенощного бдения, а утром
на погребение, устроили все для того необходимое.
Благочестивый монах, исповедывавший его, услышав об его
кончине, переговорил с приором монастыря и, созвав
колокольным звоном братию, рассказал им, какой святой человек
был сер Чаппеллетто, судя по его исповеди. Он выразил
надежду, что ради него господь проявит многие чудеса, и
убеждал монахов принять его тело с подобающею честью
и благоговением. Приор и легковерные монахи согласились;
вечером отправились они туда, где лежало тело сера
Чаппеллетто; отслужили над ним большую торжественную
панихиду, а утром в стихарях и мантиях, с книгами в руках
и преднесением крестов, с пением отправились за телом и
с большим почетом и торжеством отнесли его в церковь,
сопровождаемые почти всем населением города, мужчинами
и женщинами. Когда поставили его в церкви, святой отец,\
исповедывавший его, взойдя на амвон, начал проповедывать
дивные вещи о его жизни и постничестве, девственности,
о его простоте, невинности и святости, и, между прочим,
рассказал о том, что сер Чаппеллетто, каясь в слезах,
признал своим наибольшим грехом, и как он насилу мог
втолковать ему, что господь простит ему. Затем, обратившись
с укором к слушателям, он сказал: — А вы, проклятые
господом, хулите бога и мать его, и весь райский лик по поводу
каждой соломинки, попавшей вам под ноги! — И много еще
другого говорил он о его доброте и чистоте. Вскоре своими
речами, к которым деревенский люд относился с полной
верой, он так вбил его им в головы благоговейные
помыслы, что по окончании службы все в страшной давке
бросились целовать ноги и руки покойника, разорвали в
клочки бывшую на нем одежду; и счастливым считал себя
136
тот, кому досталась хоть частичка. Пришлось оставить его
таким образом в течение всего дня, чтобы все могли видеть
и лицезреть его. Когда наступила ночь, его благолепно
похоронили в мраморной гробнице, в одной капелле; на
следующий день стал понемногу приходить народ, ставить свечи,
и поклоняться, и приносить обеты, и вешать восковые
фигурки— по обещанию. Так возросла молва о его святости
и почитание его, что не было почти никого, кто бы в
несчастии обратился к другому святому, а не к нему. Прозвали
его и зовут San. Ciappelletto и утверждают, что господь ради
него много чудес проявил и еще ежедневно проявляет тем,
кто с благоговением прибегает к нему.
Вот как жил и умер сер Чаппеллетто из Прато; так-то,
как вы слышали, он сделался святым. Я не отрицаю
возможности, что он сподобился блаженства перед лицом
господа, потому что, хотя его жизнь и была преступной и
порочной, он мог под конец принести такое покаяние, что,
быть может, господь смиловался над ним и принял его в
царствие свое. Но это для нас тайна; рассуждая же о том,
что нам видимо, я утверждаю, что ему скорее бы быть
осужденным и в когтях дьявола, чем в раю. Если это так,
то мы можем познать в этом великую к нам милость
господа, который, взирая не на наше заблуждение, а на
чистоту веры и, несмотря на то, что мы делаем посредником
его милосердия его же врага, которого принимаем за друга,
так же внемлет нам, как если бы мы брали таким
посредником действительно святого. Потому, дабы его благость
сохранила нас в этом веселом обществе целыми и здоровыми
среди настоящих бедствий, восхвалим того, во имя которого
мы собрались, вознесем ему почитания и поручим ему наши
нужды в твердой уверенности, что он нас услышит. *
ФРАНКО САККЕТТИ
Монах Таддео Дини, проповедывавший в Болонье в день
святой Екатерины, показывает одну руку против своей
воли, отпуская остроту всем молящимся
Часто случается, что реликвии сопряжены с обманом, как
случилось недавно с флорентийцами. Получив из Апулии
святые мощи в виде руки, выданные им за руку святой Ре-
параты, и приняв эти мощи с величайшею
торжественностью, они убедились в конце концов в том, что это
деревянная рука.
Итак, монах Таддео Дини из одного ордена
проповедников, весьма достойный человек, находился в день святой
Екатерины в Болонье. И когда он читал утром, по случаю
праздника, проповедь в монастыре святой Екатерины,
случилось, что, по окончании проповеди, прежде, чем он сошел
с амвона и начал исповедь, ему принесли окруженный
многими свечами хрустальный ящичек с реликвиями, покрытый
сукном и сказали: «Покажите молящимся эту руку святой
Екатерины». Монах Таддео, обладающий хорошею памятью,
говорит: «Как так руку святой Екатерины! Я был на горе
Синае и видел ее незабвенное тело, но цельное, с обеими
руками и со всеми другими членами». Тем не менее эти
бессовестные священники сказали: «Хорошо, но мы считаем
все-таки, что это действительно рука святой Екатерины».
Монах Таддео доказывал ясно, что нельзя показывать
молящимся эту руку. Услышав это, настоятельница монастыря
послала просить его, чтоб он показал руку, ибо, если не
покажет, то набожность пропадет в монастыре. Тогда, видя, что
надо показать руку, монах Таддео открыл ящичек и, вынув
оттуда руку, сказал: «Синьоры и женщины, монахини этого
монастыря говорят, что эта вот рука принадлежала святой
Екатерине. Я был на горе Синае и видел тело святой
Екатерины, но цельное и, главное, с двумя руками. Если у нее
было три руки, то это третья». И он принялся творить ею
крестное знамение надо всеми молящимися. Понявшие это
138
засмеялись и стали перешептываться. Многие же простые
мужчины и женщины набожно перекрестились, не поняв
слов монаха Таддео'и не заметив того, что он сказал.
Вера хороша и спасает каждого, у кого она есть; но порок
жадности заставляет, правда, лгать многих относительно
реликвий. Можно сказать, что нет часовни, где не
показывалось бы молоко пресвятой девы Марии! И если бы было так,
как говорят, то не было бы на свете более драгоценной
реликвии ввиду того, что от ее великого тела не осталось
ничего на земле. И по всему свету показывается столько
молока, которое выдается за молоко пресвятой девы, что его
хватило бы на целый источник, который не иссяк бы в
течение нескольких дней. Если же можно было бы доказать это,
как монах Таддео сделал с рукою святой Екатерины, то не
случилось бы ничего подобного. Впрочем, вера спасает нас;
а тот, кто делает подобные вещи, несет наказание за такой
грех на этом или на том свете.
ФРАНКО САККЕТТИ
Когда священник несет святые дары и переходит с ними
через реку Сиеве, вода в реке прибывает. Он выбирается
благополучно и говорит в остроумных словах, что спас тело
христово, нескольким людям, ожидавшим его на берегу
Неподалеку от Сиеве жил священник по имени сер Дие-
дато, очень веселый, но не особенно набожный человек.
Однажды, когда ему пришлось нести тело христово больному
и за ним явились с другого берега Сиеве и ему надо было
перейти реку вброд, чтобы причастить больного, он сказал
тем, кто пришел за ним: «Ступайте вперед и подождите меня
на другом берегу. Тогда я увижу, где брод, и мы перейдем
вместе». Те отправились, как священник просил. Когда они
ушли, священник взял тело христово, а клерик звоночек и,
отправившись в путь, они дошли до реки и стали переходить
ее вброд. У клерика была в руках палка, и он нащупывал ею
дно. Но, как часто случается, когда идет дождь в Муджелло,
воды в реке Сиеве прибавилось. Те, что поджидали
священника на другом берегу, закричали: «Идите скорее, вода
прибывает». Те поторопились. Вода доходила уже священнику
до пояса, и он боролся с нею изо всех сил, поднимая кверху
руки с телом христовым. Вода все прибывала и дошла до
груди. Священнику было бы несомненно легче двигаться,
если бы ему не приходилось беречь от воды тело христово,
держа его на высоко поднятых руках. Тем не менее,
собравшись с силами, он достиг с большим трудом другого берега,
где его поджидали люди, которые сказали: «Сер Диедато, вы
должны горячо возблагодарить господа нашего Иисуса, тело
которого несете в руках, ибо вы несомненно утонули бы на
наших глазах, если бы не его помощь». Сер Диедато говорит:
«Клянусь верою, если бы я помог ему так же, как он помог
мне, мы утонули бы оба — и он, и я». Один из этих людей
сказал: «Я, пожалуй, согласен с вами». Оправившись
немного, священник с клериком и со звоночком отправились
дальше, причащать больного. Весть об этом
распространилась повсюду, до самой Флоренции, и возник вопрос, больше
140
развлечения ради, чем по иной причине; кто из двух помог
другому? И благодаря нашей вере, которая очень
снисходительна, большинство говорили, что священник спас Христа
от воды, отвечая многим державшимся обратного взгляда:
«Если ты попадешь в воду и начнешь тонуть, что ты
предпочтешь иметь под рукою — евангелие св. Иоанна или
пузырь для плаванья?» Выслушав эти слова, все высказывали,
что предпочли бы иметь в такую минуту пузырь. Таким
образом, мнение сера Диедато было подтверждено, а обратное
мнение, которого должны держаться верующие, подверглось
насмешкам.
Ж.-П. БЕРАНЖЕ
МОЩИ
Однажды я главой приник
К гробнице местного святого,
Приятель мой, звонарь-старик,
Шепнул: «А хочешь зреть живого?»
— «Живого? — что ты... бог с тобой!
Да разве может так случиться?» —
И вдруг в гробу своем святой
Поднялся в ризе золотой.
— Спешите, братья, приложиться!
Хохочет дерзостный скелет.
Еще немного — лопнут стекла.
«Друг, не одну уж сотню лет
Меня поджаривает пекло.
Давно когда-то сгоряча,
Чтоб барышами раздобыться,
Прелат, дукатами бренча,
Купил мой труп у палача».
— Спешите, братья, приложиться!
«Я — шарлатан, убийца, вор,
Клятвопреступник и бродяга.
Во всех разбоях с давних пор
Моя участвовала шпага.
Все церкви грабил я подряд.
Мне что? гробница, так гробница,—
Сдирая камни и оклад,
Святых бросал я прямо в ад».
— Спешите, братья, приложиться!
142
«Вон та святая — как мила
И как на ангела похожа!
А все же, друг, она была
Простой еврейкой с белой кожей.
Из-за нее святой отец
Забыл однажды причаститься,
Двух кардиналов для колец
Она замучила вконец».
— Спешите, братья, приложиться!
«Склонись пред'черепом пустым,
Уж ни на что теперь не годным.
Он был разбойником плохим,
Но палачом стал превосходным.
Был королями он любим
И сам умел повеселиться.
Увы! Я щедро взыскан им;
Ведь он помог мне стать святым».
— Спешите, братья, приложиться!
«В шелку и золоте гробниц
Нам отдыхать совсем не худо.
Сирот мы лечим и вдовиц,
Мы тянем деньги,— чем не чудо?
Однако дьявол трубит в.рог —
И мне пора поторопиться».
Стянув попутно образок,
Святой обратно в раку лег.
— Спешите, братья, приложиться!
ШАРЛЬ ДЕ КОСТЕР
ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ
(Отрывок)
Уленшпигель... нанялся в качестве церковного сторожа к
приору аббатства святого Мартина. Товарищем по службе
был звонарь, здоровенный парень, по имени Помпилиус Ню-
ман. Этот здоровяк был большой трусишка и по ночам
принимал свою тень за черта, а рубашку — за привидение.
Приор был толст и упитан, как индюшка, выкормленная
для вертела. Уленшпигель быстро приметил, на каких лугах
пасся приор, накопляя себе жирок. Он узнал от звонаря, а
потом увидел и своими глазами, что приор завтракает в
девять часов утра, обедает в четыре. До половины девятого он
спит, потом перед завтраком отправляется в церковь
посмотреть, хорош ли кружечный сбор. Половину сбора он
пересыпает в свой кошелек. В девять часов приор садится за стол,
выпивает кружку молока, съедает пол бараньей ноги, потом
пирог из цапли и выпивает пять бокалов брюссельского вина.
В десять часов он посасывает сливы, орошая их орлеанским
вином, все время моля господа бога не дать ему согрешить и
впасть в чревоугодие. В полдень, чтобы скоротать время, он
обгрызает грудку какой-нибудь птицы, присоединяя к ней и
крылышко. В час, мечтая об обеде, он вливает в себя добрый
стакан испанского вина, затем ложится в постель и освежает
себя легкой дремотой.
Проснувшись, приор для возбуждения аппетита съедает
кусочек соленой лососины, к которой присоединяет кружку
антверпенского пива. После этого он переходит в кухню и
располагается здесь перед очагом, внимательно следя, как
жарят для монахов аббатства телячью вырезку или хорошо
ошпаренного поросенка. Но настоящий аппетит еще не вполне
разгорелся, и потому приор рассматривает хитрую механику
вертела, создание кузнеца Питера ван Стеенкиста, жившего
в Кортрейском кастелянстве. Приор заплатил кузнецу за
этот вертел пяднадцать парижских ливров.
144
Затем святой отец опять ложится в постель, устало
потягиваясь; в два часа просыпается и немножко подкрепляется
заливным поросенком, запивая его бургундским. В три часа
приор съедает цыпленка в мадере и запивает его двумя
стаканами мальвазии. В половине четвертого лакомится
вареньем, запивая его медом. После этого он становится
бодрым духом, охватывает руками колено и погружается в
спокойную задумчивость до четырех часов.
Четыре часа — время обеда, и в этот упоительный час его
часто навещает аббат церкви святого Иоанна. Не раз они
бились об заклад, кто из них больше съест рыбы, дичи,
птицы, мяса. Побежденный должен был угостить победителя
мясом, поджаренным на угольях, с четырьмя соусами, семью
гарнирами из зелени и подогретым вином трех лучших
марок.
За.обедом они вели беседу о еретиках и оба соглашались,
что сколько бы ни перебили еретиков, все будет мало. Ничто
и никогда не вызвало у них ни малейшего спора, и только
разговор о тридцати девяти способах изготовления доброго
пивного супа мог вызвать их на препирательство.
Затем они склоняли свои преподобные головы на
почтенные пузы и храпели. Случалось — кто-нибудь из них
открывал на мгновение глаза и дремотно бормотал, что жизнь на
этом свете прекрасная вещь и что бедный люд напрасно
жалуется на нее. Вот к этому-то святому мужу и поступил на
службу Уленшпигель.
Прислуживая ему при мессе, он всегда наполнял чашу
трижды: два раза для себя и раз для приора. Звонарь Помпи-
лиус Нюман усердно помогал ему в этом деле.
Видя цветущее здоровье, красные щеки и толстое брюшко
Нюмана, Уленшпигель задал ему вопрос: не на службе ли
у приора накопил он эти завидные качества?
— Здесь, сын мой,— ответил звонарь.— Закрой-ка
покрепче дверь, чтобы нас не подслушали, я расскажу тебе. Ты
хорошо знаешь, как нежно любит господин приор всякие
вина и пиво, различную птицу и мясо; мясо он хранит в
кладовке, вино — в погребе, а ключи всегда носит в своем
кармане. Он не отнимает рук от них даже когда спит. Ночью,
когда он крепко спит, я пробираюсь к нему, снимаю ключи с
его брюшка и, устроив свои делишки, кладу их назад. Не без
страха, сын мой, проделываю я это. Если он узнает о моих
проделках, он сварит меня живьем.
— Зачем же так трудиться, Помпилиус? — сказал
Уленшпигель. — Достаточно стащить ключи один раз; я сделаю
по их образцу новые, а старые пусть хранятся у приора.
— О! Сделай так, сын мой,— сказал Помпилиус.
Уленшпигель смастерил ключи.
Вечерами, часам к восьми, когда благодушный приор
10 Против тьмы
145
крепко засыпал, Уленшпигель и Помпилиус спускались вниз
и добывали мяса и вина сколько душе угодно. Уленшпигель
нес бутылки. Помпилиус — еду. Не раз забирали они также
и птицу, и в этом хищении были обвинены все соседние
кошки, и многие несчастные животные претерпели казнь за
чужое преступление.
Закусив и выпив, как подобает, причетник и звонарь
отправлялись к гулящим девушкам. Они щедро кормили их
ветчиной, вареной колбасой, птицей, поили их орлеанскими,
бургундскими винами и английским пивом. Красавицы
платили им за это угощение нежными ласками.
Однажды утром после еды приор приказал Уленшпигелю
и звонарю предстать перед его грозным ликом. Отец приор
сосал мозговую кость из супа.
Помпилиус дрожал от страха, толстое брюхо его
колыхалось, но Уленшпигель стоял совершенно спокойно, весело
ощупывая в кармане ключи от погреба.
— Кто это пьет мое вино и ест мою птицу? — грозно
спросил приор. — Не ты ли, сын мой?
— Нет,— ответил Уленшпигель.
— А этот звонарь? — и он указал на Помпилиуса. — Не
приложил ли руку он к этому преступлению? Он бледен, как
мертвец. Видно украденное вино подействовало на него,
как яд.
— Ах, ваше преподобие! — ответил Уленшпигель. — Вы
напрасно обвиняете звонаря. Он бледен не от вина, а оттого,
что не пьет его. Он чахнет изо дня в день, и если ничем не
помочь ему, душа его ускользнет через штаны ручейком.
— Да, есть на земле такие несчастные люди,— вздохнул
приор и хватил здоровенный глоток из стоявшего перед ним
кубка.
— Сын мой, у тебя рысьи глаза. Скажи мне, ты не
заметил воров?
— Постараюсь проследить их, ваше преподобие,—
ответил Уленшпигель.
— Да наградит вас господь своей милостью, дети мои,—
сказал приор: — живите трезво и воздержанно, ибо от
невоздержания проистекают все бедствия на земле. Идите с
миром.
И, благословив их, он высосал еще одну мозговую кость и
выпил еще один большой бокал вина.
Уленшпигель и Помпилиус вышли.
— Этот мерзкий скряга не дал тебе ни капли своего
вина,— сказал Уленшпигель.— Но что с тобой? Почему ты так
дрожишь?
— У меня штаны насквозь мокрые...
— Вода, сын мой, сохнет очень быстро. Будь веселей.
Сегодня мы сыграем плясовую на бутылках и напоим до-
146
пьяна всех трех ночных сторожей. Пусть храпят, охраняя
город.
Так и сделали.
Подходил день святого Мартина. Ради праздника
церковь была украшена. Ночью Уленшпигель и Помпилиус
вошли в церковь, заперли за собой двери, зажгли все свечи,
взяли лютню и волынку и с увлечением начали играть.
Свечи освещали церковь, как солнце. Причетник и звонарь
отправились к приору и, несмотря на поздний час, застали его
еще на ногах. Он жевал жареного дрозда, запивая его
рейнским. Увидев освещенную изнутри церковь, приор широко
раскрыл глаза:
— Ваше преподобие, не угодно ли вам узнать, кто ест
ваше мясо и пьет ваше вино?
— Что это за освещение? — вскричал приор, указывая
на окна церкви.— Неужели, господи, это с твоего
разрешения святой Мартин, ничего не заплатив, жжет по ночам
свечи бедных монахов?
— Он еще не такие штучки проделывает,—сказал
Уленшпигель.— Пожалуйте с нами, отец приор.
Приор взял посох и все пошли в церковь. Войдя в храм,
они увидали, что все святые вышли из своих ниш и
собрались в кружок посреди храма. Святой Мартин являлся как
бы их предводителем. Он был выше всех на целую голову
и в руке, протянутой для благословения, держал жареную
индейку. У других святых во рту или в руках были куски
гусятины, курятины, колбасы, ветчины, сыр, вареная рыба
и у каждого в ногах стояло по бутылке вина.
Увидя все это, приор пришел в такую ярость, что лицо
его вздулось, покраснело и готово было лопнуть.
Помпилиус и Уленшпигель испугались, как бы он не лопнул тут же.
Но приор, не обращая на них внимания, грозно подошел к
святому Мартину, очевидно считая его более других
ответственным за все злодеяния, вырвал из рук его индейку и
ударил его с такой яростью, что разбил ему руку, нос,
посох и митру. Не пощадил он и других святых, которые под
его ударами теряли руки, ноги, посохи, секиры, венчики и
прочие знаки своей святости.
Расправившись со святителями, приор с бешеной
быстротой, тряся своим брюхом, стал задувать свечи.
Окорока, птицу и колбасу — все, что могли захватить его
руки, приор взял с собой и, сгорбившись под этой ношей,
возвратился в опочивальню. Но ярость его не унималась, и,
чтобы заглушить ее, он выпил одну за другой — три бутылки
вина.
Уленшпигель выждал время, пока приор крепко уснул,
и тогда вытащил из спальни то, что приор отобрал у святых.
10*
147
унес все это обратно в церковь и разложил у подножия
статуй.
На другой день, когда Помпилиус звонил к заутрене,
Уленшпигель зашел к приору в опочивальню и пригласил
его зайти в церковь. Указывая на объедки и на святых, он
сказал:
— Что же, отец приор? Ничего не помогло. Они все-таки
съели все.
— Да,— ответил приор,— они, как воры, пробрались
даже в мою опочивальню и стащили всё, что я спас. Так-то
вы поступаете, господа святые? Вот я пожалуюсь на вас
его святейшеству.
— Да, это так и надо сделать,— сказал Уленшпигель.—
Только вот что меня беспокоит: послезавтра крестный ход,
скоро в церковь придут рабочие, они увидят разбитые
статуи и вас, отец приор, могут обвинить в кощунстве.
— О, святой Мартин! — застонал приор.— Спаси меня
от костра. Я же не помнил, что делал!
Трусливый Помпилиус продолжал звонить в колокола.
— Никоим образом нельзя починить святого Мартина к
воскресенью,— говорил приор.— Что.мы будем делать? Что
скажет народ?
— Ваше преподобие,— утешал его Уленшпигель.—
Надо применить маленькую хитрость. Мы приклеим Помпи-
лиусу бороду,— вид у него мрачный, поэтому он выглядит
важным,— нарядим его в митру, хитон, мантию и прикажем
стоять спокойно на пьедестале. Народ примет его за
деревянного святого Мартина.
Приор поднялся к Помпилиусу, который все еще
продолжал трезвонить в колокола, и обратился к нему:
— Перестань звонить и слушай. Хочешь заработать
пятнадцать дукатов? В воскресенье, во время крестного
хода, ты должен изображать святого Мартина. Уленшпигель
тебя нарядит как надо и тебя будут нести, как статую. Но
если ты во время крестного хода сделаешь хоть единое
движение, я прикажу сварить тебя живьем в кипящем масле.
Котел для того, чтобы варить людей, только что врыт в
землю, по приказу палача, на Рыночной площади.
— Ваше преподобие,— ответил Помпилиус,— я предан
вам душой и телом, но вы же прекрасно знаете: я страдаю
недержанием...
— Повинуйся! — сказал приор.
— Повинуюсь, ваше преподобие,— жалостно ответил
Помпилиус.
На следующий день при ярком солнечном сиянии
крестный ход вышел из церкви. Уленшпигель постарался
починить двенадцать святых, и теперь они, окруженные
знаменами цехов, важно колыхались на носилках. За ними
148
несли статут святой девы, а за ней шла с пением духовных
песен ее почетная свита — девушки в белых платьях. Следом
за ними двигались стрелки, и наконец на носилках под
балдахином плыл Помпилиус. Его качало сильнее всех, и он еле
держался на ногах под бременем пышного убранства.
Уленшпигель раздобыл порошок, причиняющий зуд. Он
сам нарядил Помпилиуса в епископское облачение, дал ему
перчатки и посох. Он же помогал одеваться священникам:
на одного накидывал епитрахиль, другому подавал рясу,
дьяконам надевал стихари. Он восхищался начищенными
самострелами, расхваливал страшные луки братства
стрелков. Вертясь всюду, он в то же время каждому насыпал
свой порошок — кому за воротник, кому на спину, кому за
рукава. Больше всех он наградил каноника и четырех
людей, которые несли святого Мартина. Только девушек из
свиты пресвятой девы он не тронул, щадя их нежную
красоту.
В чинном порядке, с развевающимися хоругвями и
знаменами вышла торжественная процессия из храма. Народ
при встрече крестился. Солнце жгло.
Каноник раньше всех почувствовал действие порошка и
почесал за ухом. За ним принялись чесаться все
духовенство и стрелки. Они украдкой чесали себе шеи, ноги, руки.
Почесывалась и четверка, которая несла святого Мартина.
Несчастный Помпилиус больше всех страдал от зуда, так
как лучи солнца припекали его сильнее чем других; но он
не смел пошевельнуться из страха попасть живьем в
котел. Он морщил нос, чудовищно гримасничал и наконец
обмочился. Носильщики переговаривались:
— Святой Мартин, неужели пойдет дождь?
Духовенство величало святую деву.
— О святая Map... О свята...та... та... Ма... ма... ри... ри...
Ма... ма... ри... ри...
Голоса их дрожали от невыносимого зуда, но они
чесались украдкой. Каноник и четверка носильщиков
разодрали себе шеи и руки. Помпилиус стоял прямо на дрожащих
ногах, которые у него чесались больше всего.
Вдруг стрелки, священники, дьяконы, каноники и
носильщики остановились и начали чесаться. У Помпилиуса
от порошка невыносимо свербели пятки, но он не смел
пошевельнуться. В толпе говорили, что святой Мартин дико
вращает глазами и смотрит на бедный народ угрожающе.
По знаку каноника крестный ход опять двинулся в
путь. Но вскоре под горячими лучами солнца, палившего
спины участников процессии, действие порошка стало
нестерпимым. И все духовенство, стрелки и каноники
остановились и начали уже без всякого стыда, точно стадо обезьян,
чесаться везде, где зудело.
149
Девушки пели гимн, и свежие голоса их громко
возносились к небу.
Процессия разбежалась, кто куда мог. Каноник,
почесываясь, спас святые дары, народ унес святые мощи обратно в
церковь, а четверо носильщиков святого Мартина просто
бросили Помпилиуса на землю, и злополучный звонарь
лежал, не смея ни пошевельнуться, ни промолвить слова, ни
почесаться.
Два мальчика решили было понести его, но он показался
им слишком тяжелым, и они поставили его, прислонив к
стене. Слезы градом лились из глаз Помпилиуса.
Народ собрался вокруг него. Женщины вынимали
белые платки и, отирая его лицо, собирали слезы, как
священную реликвию.
— Вам очень жарко, ваша святость? — говорили они.
Звонарь жалобно смотрел на них, и против воли его
рожа корчила гримасы. Слезы вновь хлынули ручьем из его
глаз.
— О, святой Мартин,— говорили женщины.— Вы
плачете о прегрешениях города Ипра? Почему так подергивается
ваш благородный нос? Ах, какие крупные слезы!
Настоящие жемчужины. Они — наше спасение.
— Не прикажешь ли, святой Мартин,— говорили
мужчины,— разрушить все веселые дома в городе? Но тогда
скажи нам, как помешать бедным девицам бегать по
ночам в поисках приключений?
Вдруг поднялся крик:
— Вот идет причетник!..
Уленшпигель подошел, взял Помпилиуса в охапку,
взвалил к себе на плечи и понес его. Толпа благоговейно
следовала за ним.
— О, сын мой,— сказал на ухо несчастный звонарь.— Я
сдохну от зуда.
— Держись прямо,— ответил Уленшпигель.— Разве ты
забыл, что ты деревянный?
Он быстро зашагал и принес звонаря к приору. Его
преподобие исцарапал себя ногтями до крови.
— Звонарь, ты чесался так же, как и я?—спросил
приор.
— Нет, ваше преподобие.
— Ну, тогда получай свои пятнадцать дукатов и ступай
чешись сколько угодно...
* *
*
...Исходив всю Валлонскую землю, Уленшпигель...
добрался до окрестностей города Бульона. На пути ему стало
попадаться много горбатых людей. На руках у них висели
150
большие четки, которые они благочестиво и усердно
перебирали, бормоча молитвы. Их бормотанье звучало, как
кваканье лягушек в пруду в теплый вечер.
Шли горбатые матери с горбатыми детьми на руках, и
такие же горбатые уроды цеплялись за их юбки. Повсюду
по холмам и полям видел Уленшпигель движущиеся
фигуры горбатых, остро очерченные на ясном небосклоне.
Подойдя к одному из них, он спросил:
— Куда направляются все эти несчастные люди?
Тот ответил:
— Мы идем к могиле святого Ремакля и будем молить
его, чтобы он исполнил самую заветную мечту нашу — снял
бы с наших спин этот унизительный груз.
— А не может ли святой Ремакль,— спросил
Уленшпигель,— исполнить мое заветное желание: убрать со спины
несчастной родины кровавого герцога, который угнетает ее,
точно свинцовый горб?
— Святому Ремаклю не дано снимать горбы,
ниспосланные в наказание,— ответил богомолец.
— А обыкновенные горбы он снимает? — спросил
Уленшпигель.
— Да, если горб не застарелый. И когда свершается
исцеление, весь город празднует такое чудо. Каждый
богомолец жертвует серебряную монету, иногда даже целый
флорин исцеленному, молитва которого скорее доходит до неба.
— Почему же,— спросил Уленшпигель,— богатый
господин Ремакль берет плату за свое лекарство, точно жалкий
аптекарь?
— Несчастный безбожник! Берегись, святой Ремакль
покарает тебя за богохульство,— яростно потрясая горбом,
ответил богомолец.
— О!..— застонал вдруг Уленшпигель и, скорчившись в
три погибели, упал под дубом.
— Вот видишь, если святой Ремакль карает, то карает
жестоко,— сказал богомолец.
Уленшпигель извивался, скреб себе спину и стонал:
— О, прославленный святитель! Сжалься надо мной! Я
чувствую адскую боль между лопатками! Ой! Ой! Прости,
святой Ремакль! Уйди, богомолец, уйди! Дай мне здесь в
одиночестве замолить мой грех и в слезах покаяться, как
отцеубийце.
Паломник пустился бежать на Большую площадь города
Бульона, где собирались все горбатые. Дрожа от ужаса,
прерывающимся голосом рассказывал он своим собратьям:
— Встретил богомольца, был строен, как тополь... Хулил
святого... Сразу вскочила опухоль на спине... Горб... очень
болезненный...
Услышав это, богомольцы подняли восторженные крики.
151
— Святой Ремакль! Если ты можешь награждать
горбами, значит, можешь и снимать их! Убери наши горбы,
святой Ремакль!
А Уленшпигель в это время выбрался из-под дерева и
пошел по опустевшему предместью. У входа в кабачок он
увидел, как на палке мотались два свиных пузыря.
Уленшпигель снял один из них, подобрал валявшуюся на земле
хребетную кость камбалы, надул пузырь, надрезал себе
руку и напустил крови в пузырь, надул его, потом завязал,
прикрепил к нему хребет камбалы и все это сооружение
пристроил себе на спину. С этим украшением, со скрюченной
спиной, тряся головой, еле передвигая ноги, точь-в-точь старый
горбун, явился он на площадь.
Богомолец, который был свидетелем его падения,
закричал, показывая на него пальцем:
— Вот он, богохульник!
Народ сбегался посмотреть на несчастного. Уленшпигель,
жалостно тряся головой, говорил:
— Ах! Я не достоин ни милости, ни сожаления. Убейте
меня, как бешеную собаку!
Горбатые радостно потирали руки.
— Нашего полку прибыло,— говорили они.
— У, злые уроды, отплачу же я вам,— бормотал сквозь
зубы Уленшпигель.
Но, притворяясь смиренным и покорным, он говорил:
— Пока святитель Ремакль не исцелит меня так же
чудесно, как покарал, я не буду ни есть, ни пить, даже если бы
мой горб затвердел, как камень.
Заслышав о чуде, каноник вышел из церкви. Это был
человек дородный, плотный, величавый. И, высоко
вздернув нос, он, точно корабль, прорезал толпу горбатых. Его
подвели к Уленшпигелю.
— Так это тебя, любезный,— обратился каноник к
Уленшпигелю,— поразил бич святого Ремакля?
— Да, ваше преподобие, вот именно меня. И я хочу
молить святого избавить меня от этого свежего горба.
Каноник почуял в этих словах какую-то хитрость.
— Дай-ка, я пощупаю твой горб,— сказал он.
— Пощупайте, ваше преподобие,— ответил
Уленшпигель.
— Он еще совершенно свеж и влажен,— осмотрев горб,
сказал каноник.— Надеюсь, святой Ремакль проявит тебе
свое милосердие. Следуй за мной.
Уленшпигель побрел за каноником в церковь, а следом за
ним побежали и горбатые.
— Вот богохульник проклятый! — кричали они.—
Эй, ты! Сколько весит твой свежий горб? Ты, вероятно,
сделаешь из него суму? И будешь собирать в нее гроши? Когда
152
ты был строен, ты издевался над нами. Теперь наша
очередь. Слава святому Ремаклю!
Уленшпигель, склонив голову, молча шел за
каноником. Они вошли в маленькую часовню, в которой стояла
мраморная гробница, покрытая большой мраморной плитой.
Расстояние между гробницей и стеной часовни было около
двух четвертей, и толпа горбатых богомольцев вереницей
проходила между стеной и плитой, прижимаясь горбами
к мраморной плите. Они верили, что, поступая так, они
могут избавиться от своих горбов, и те, которым удавалось
первым потереть свой горб о мрамор, не пускали
следующих. Начиналась безмолвная драка. Чтя святые
места, горбуны исподтишка награждали друг друга
тумаками.
Каноник приказал Уленшпигелю влезть на мраморное
надгробие, чтобы все богомольцы могли его видеть.
— Я не сумею один влезть,— ответил Уленшпигель.
Каноник подсадил его и, приказав ему опуститься на
колени, сам стал рядом с ним. Вдохновенным и звучным
голосом он начал проповедь:
— Дети и братья во Христе! У ног моих вы видите без-
божнейшего, сквернейшего богохульника. Его покарал
святитель Ремакль.
Уленшпигель, ударяя себя в грудь, говорил:
— Грешен! Грешен!
— Когда-то,— продолжал каноник,— он был строен, как
древко алебарды, и гордился этим. А теперь под ударами
небесного проклятия он сгорблен и удручен.
— Грешен,— повторял Уленшпигель.— О, святитель,
избавь меня от горба.
— Да,— продолжал каноник.— Да, великий чудотворец,
святой Ремакль! Сними с этих плеч гнетущее бремя, и мы
за это исцеление будем воссылать хвалу тебе во веки веков!
Пошли мир смиренным горбунам!
— Да, мир!—подхватили хором горбуны.— Мир
горбатым! Избавь от оскорблений! Избавь от горбов, святитель
Ремакль!
Каноник приказал Уленшпигелю спуститься с гробницы
и потереться горбом о край надгробья. И Уленшпигель,
исполняя приказ, неустанно повторял:
— Грешен! О, святитель, избавь меня от горба!
И на виду у всех стал сильно тереться горбом.
Окружавшая его толпа кричала:
— Смотрите на горб! Он лопнул! Смотрите, подается...
Он тает... Горбы не тают. Они входят обратно в утробу, из
которой вылезли... Нет, они всасываются в желудок и в
течение восемнадцати дней питают исцеленного... А как
пропадают старые горбы?
153
Вдруг горбатые все разом издали страшный крик.
Уленшпигель из всех сил уперся в край надгробия, и пузырь
лопнул. Кровь, бывшая в нем, промочила рубашку и
большими каплями вытекала на пол. Выпрямившись и вытянув
руки, он кричал:
— Исцелен!
И горбатые кричали все разом:
— Святой Ремакль благословил его! Он милостив к нему,
а к нам суров! О, святитель, исцели нас!.. Жертвую тебе
теленка!.. Я — семь баранов!.. Я—охотничью добычу за
целый год!.. Я — шесть окороков!.. Я пожертвую домик!..
Избавь нас от горбов, святитель Ремакль!
И все смотрели на Уленшпигеля с завистью и уважением.
Один из горбунов хотел пощупать, что находится у
Уленшпигеля под курткой. Но каноник сказал:
— Там свежая рана, ее нельзя выставлять на свет.
— Я буду молиться за вас,— говорил Уленшпигель.
— Молись, вновь выпрямленный. Мы смеялись над то-
бзй. Прости нас!
— Прощаю,— милостиво ответил Уленшпигель.
— Возьмите, вот патар... флорин... Примите, ваша
стройность. Вот реал... Вот дукат... Разрешите вручить вам эти
каролюсы.
— Спрячьте ваши дукаты,— тихо сказал им
Уленшпигель.— Левая рука не должна знать, что творит правая,—
предупреждал он их так потому, что видел, как каноник
жадными глазами старался рассмотреть, золото ему дают
или серебро.
Уленшпигель, точно чудотворец, милостиво принимал
приношения горбунов. Скупые же молча терли свои горбы о
мрамор.
Вечером Уленшпигель отправился в трактир и устроил
там веселую попойку. После пиршества перед сном он
вспомнил, что наверно каноник явится к нему, чтобы забрать
часть его добычи, а может быть он пожелает отобрать и всю.
Он посчитал приношения и нашел там больше золота,
чем серебра. А всего денег было не меньше трехсот дукатов.
В цветочном горшке торчал засохший лавровый кустик. Он
вытащил растение с корнями и землей и положил на дно
горшка все свое золото, покрыв его сверху землей.
Полуфлорины же, патары и гроши он рассыпал перед собой по
столу. Вскоре каноник явился в корчму к Уленшпигелю.
— Господин каноник, чего ради удостоили вы
посещением меня, недостойного? — вскричал Уленшпигель, увидев
священника.
— Только желая добра, сын мой,— ответил каноник.
— Ох! — вздохнул Уленшпигель.— Вы печетесь наверно
о том добре, что лежит на столе?
154
— Вот именно,— сказал каноник.
И он быстро сгреб все деньги со стола в мешок, который
принес с собой для этой цели.
Один флорин, однако он дал Уленшпигелю, который,
притворяясь, жалостно стонал.
Каноник спросил его, каким образом он устроил это чудо.
Уленшпигель показал ему свиной пузырь и кость
камбалы. Священник, невзирая на стоны и крики Уленшпигеля,
забрал это все. Исцеленный просил каноника дать ему еще
сколько-нибудь, так как путь от Бульона до Дамме очень
далек и несчастный пешеход может умереть от голода по
дороге.
Каноник ушел, не сказав ни слова.
Оставшись один, Уленшпигель поставил лавровый куст
около себя и уснул.
На рассвете он забрал свою добычу и вышел из Бульона,
спеша попасть в лагерь Молчаливого. Увидев принца, он
передал ему все деньги и рассказал историю их появления,
пояснив, что это настоящий способ налагать на врага
военную контрибуцию.
Принц дал ему десять флоринов.
Что касается хребта камбалы, то его священник
заключил в хрустальный ларец и прикрепил к середине распятия
в алтаре Бульонского собора.
И в городе все знали, что в этом ларце находится горб
исцеленного богохульника...
ГИ ДЕ МОПАССАН
НОРМАНДЕЦ
Мы только что выехали из Руана и крупной рысью
направлялись в Дюмьеж. Легкая коляска неслась по лугам,
затем лошадь пошла шагом, взбираясь на холм Кантеле.
Отсюда открывается один из прекраснейших видов в
мире. Позади Руан, город церквей, готических колоколен,
точеных, словно игрушки из слоновой кости; впереди Сен-
Север, фабричное предместье с тысячами дымящихся труб,
поднимающихся к небу, и напротив—тысяча священных
колоколен старого города.
Здесь шпиц собора, одного из высочайших человеческих
сооружений, там — его соперник, паровой насос
водонапорной башни «Молния», на один метр превышающей самую
величественную из египетских пирамид. Перед нами
катились волны Сены, усеянной островами, справа — белые
крутые береговые утесы, покрытые лесом, слева —
бесконечные луга, замыкавшиеся где-то далеко, далеко на горизонте
тоже лесом.
Вдоль высоких берегов реки то тут, то там стояли на
якоре большие суда. Три громадных парохода тянулись один
за другим к Гавру, и группа судов из одного трехмачтовика,
двух шхун и одного брига плыла вверх по реке к Руану,
тащась за буксиром, выбрасывающим целую тучу черного
дыма.
Мой спутник, местный уроженец, даже не смотрел на
этот изумительный вид, но все время улыбался, точно над
чем-то посмеивался.
Вдруг он расхохотался:
— Ах! вы сейчас увидите нечто очень смешное —
часовню дяди Матье. Ведь это такая диковинка, мой друг!
Я в изумлении взглянул на него.
Он продолжал:
156
— Вам сейчас ударит в нос такой нормандский душок,
которого вы долго не забудете. Дядя Матье — великолепный
образчик нормандца, а его часовня — чудо из чудес во всем
мире, но сперва я должен в нескольких словах дать
некоторые разъяснения.
Дядя Матье, по прозвищу «выпивала»,— старый
отставной сержант, вернувшийся на родину. В нем изумительно
уживалась хвастливая лживость старого солдата со злым
лукавством нормандца. Вернувшись в родную ему
местность, он, благодаря большим связям и невероятной
ловкости, получил должность сторожа при чудотворной часовне,
покровительствуемой святой девой и посещаемой, главным
образом, беременными женщинами.
Чудотворную статую в часовне он окрестил именем
«богородицы беременных» и обращается к ней с некоторой
насмешливой дружественной развязностью, не исключающей
уважения. Он составил и напечатал специальную молитву
«к пресвятой деве». Эта молитва—верх бессознательной
иронии нормандского остроумия, в ней насмешка
сочетается со страхом пред «святыней», с суеверным ужасом пред
тайными силами. Он не слишком уж верит в свою
покровительницу, однако из чувства благоразумия немного верит
в нее и, как дипломат, осторожно с ней обращается.
Вот начало этой удивительной молитвы:
«Добрейшая наша богородица, дева Мария,
покровительница всех дев-матерей в этом краю и по всей земле,
заступись за твою рабу, согрешившую в минуту забвения».
Эта молитва-просьба заканчивается так:
«Не забывай обо мне с твоим святым супругом и
исходатайствуй мне перед богом-отцом доброго мужа, похожего на
твоего».
Эта молитва, запрещенная церковью, продается им из-под
полы и считается спасительной для тех, кто читает ее с
верой и упованием.
В общем, он говорил о пресвятой деве, как говорит слуга
о своем хозяине — грозном начальнике, зная все его
маленькие интимные секреты и проделки. Он знает за ним
множество забавных историй и говорит о них шепотом друзьям,
после выпивки.
Впрочем, вы все увидите сами.
Так как доходы, доставляемые девой-покровительницей,
казались ему недостаточными, он присоединил к ним еще
маленький торг другими святыми. У него имеются все или
почти все святые. За недостатком места в часовне, он
сложил их в дровяном сарайчике, вынося их оттуда по первому
требованию почитателей. Матье сам вырезал из дерева эти
невероятно смешные фигурки и выкрасил их всех в ярко-
зеленый цвет в тот самый год, когда красили его дом.
157
Святые, как вам известно, исцеляют от болезней, но
каждый по своей специальности, и не следует ошибаться или
смешивать их друг с другом. Они завистливы, как
скверные актеры.
Чтобы не ошибиться, наивные старушки приходят к
Матье за советом:
— От ушной болезни какой святой помогает лучше всех?
— Святой Озим хорош, недурно помогает также и святой
Памфил.
Но это не все.
У дяди Матье много свободного времени, и он пьет, но
пьет он артистически, убежденно — и каждый вечер бьюает
пьян. Он пьян, но сознает это и сознает так хорошо, что
ежедневно с точностью отмечает степень своего опьянения. Это
его главное занятие; часовня — на втором плане.
Он изобрел,— слушайте и наматывайте себе на ус,— он
изобрел «пьяномер». Такого инструмента, правда, не
существует, тем не менее наблюдения Матье математически точны.
Вы всегда услышите от него:
— С понедельника я переступил за сорок пять.
Или:
— Я был между пятьюдесятью двумя и пятьюдесятью
восемью.
Или:
— Я наверное дошел до шестидесяти шести или даже до
семидесяти.
Или:
— Черт возьми, я думал, что я в пятидесятом, как вдруг
вижу, что был в семьдесят пятом градусе.
Он никогда не ошибается.
Он утверждает, что никогда не доходил до ста градусов,
но в то же время сам признается, что его наблюдения
перестают быть точными при переходе за девяносто градусов,
поэтому нельзя безусловно доверять его утверждениям.
Когда Матье признает, что перешел девяносто градусов,
будьте уверены — он был страшно пьян.
В таких случаях его жена Мели, тоже чудо в своем роде,
впадает в безумную ярость. Она ожидает его возвращения у
двери и рычит на него:
— А вот и ты! Неряха, свинья, пьяница!
Матье уже не смеется; становясь прямо перед ней, он
суровым голосом говорит:
— Замолчи, Мели, теперь не время разговаривать!
Подождем до завтра.
Если она продолжает кричать, он подходит к ней и
дрожащим голосом произносит:
— Не реви, я в девяностом градусе и не в состоянии
больше измерять. Берегись, буду драться!
158
Тогда Мели отступает.
Если она на следующий день хочет вернуться к этому
вопросу, он смеется ей в лицо и говорит:
— Ну, ну, довольно об этом! Дело прошлое! Пока я не
дошел до ста градусов — не беда. Но если я переступлю за сто,
я, честное слово, разрешаю тебе меня проучить как следует.
Мы достигли вершины холма и въехали в глубь дивного
Руанского леса.
Осень, чудная осень рассыпала золото и пурпур по
последней, но живой еще зелени. Словно капли расплавленного
солнца упали с неба в лесную чащу.
Мы миновали Дюклер. Затем, вместо того чтобы
продолжать путь на Дюмьеж, мой приятель свернул влево, и по
проселочной дороге мы въехали в лес.
Вскоре, с вершины высокого холма, пред нами снова
открылась чудесная долина Сены и сама извилистая река,
расстилавшаяся у наших ног. Направо — небольшое здание с
черепичной крышей и колокольней, вышиной с зонтик,
прислонилось к хорошенькому домику с зелеными ставнями,
покрытому жимолостью и розами.
Кто-то грубым голосом крикнул:
— А вот и друзья!
И Матье появился на пороге. Это был мужчина лет
шестидесяти, худой, с небольшой бородкой и длинными седыми
усами.
Спутник мой пожал ему руку, представил меня, и Матье
ввел нас в прохладную кухню, служившую ему и столовой.
— У меня нет изысканных помещений,— сказал он. —
Я вовсе не люблю находиться вдали от съестного. Кастрюли,
видите ли, заменяют общество.
Затем, обращаясь к моему другу, произнес:
— Почему вы прибыли в четверг? Вы отлично знаете, что
это приемный день у моей заступницы. В этот день я не могу
после обеда выходить. — И, подбежав к двери, он чудовищно
заревел: — Мели-и-и!
Этот крик мог заставить обернуться матросов на судах,
плывших вниз и вверх по реке.
Но Мели не отвечала.
Матье лукаво подмигнул:
— Она, видите ли, недовольна мной, потому что вчера я
был в девяностом градусе.
Мой сосед расхохотался.
— В девяностом градусе, дядя Матье! Расскажите, как
это случилось.
— Сейчас вам расскажу,— ответил Матье. — В прошлом
году я собрал всего двадцать мер абрикосов. Это немало, но
для сидра это едва-едва достаточно. Итак, я изготовил из них
одну бочку сидра, которую и открыл вчера. Не напиток, а
159
нектар! Увидите сами! У меня был в гостях Полит. Мы с ним
начали пить, глоток за глотком, но никак не могли утолить
жажды (его можно пить целые сутки); дальше — больше,
я почувствовал наконец холод в желудке. Я говорю Политу:
«Не выпить ли нам по стаканчику водки, чтоб согреться?»
Он соглашается. Но водка бросает в жар, пришлось
вернуться к сидру. Итак, переходя от холода к жару, от жара к
холоду, я заметил, что дошел до девяноста градусов. Полит
был недалеко от ста градусов.
Дверь раскрывается. Появляется Мели и тотчас же, не
поздоровавшись с нами, кричит:
— Свиньи, вы оба были в ста градусах!
Матье рассердился:
— Не говори, Мели, этого, не говори, я никогда не был
еще в сотом градусе.
Нам подали прекрасный завтрак у двери домика, под
липами вблизи самой часовни «богородицы беременных».
Необъятная, необозримая панорама расстилалась перед нами.
Матье с насмешкой, а порой и с неожиданным легковерием
рассказывал нам невероятные истории о различных чудесах.
Мы много пили его чудесного сидра, острого и в то же
время сладкого, прохладного и пьянящего. Матье
предпочитал его всем напиткам. Сидя верхом на стульях, мы закурили
свои трубки. В это время появились две женщины — сухие,
сгорбленные старушки. Поклонившись, они спросили святого
Бланка. Матье подмигнул нам и сказал им:
— Сейчас я его вам принесу.
И исчез в своем дровяном сарайчике. Он пробыл там
добрых пять минут и вернулся наконец смущенный, развел
руками и проговорил:
— Не знаю, куда он девался, не могу его найти, и все же
я уверен, что он у меня был.
И, сделав из рук рупор, он снова заревел:
— Мели-и!
Из глубины двора жена ответила:
— Чего тебе?
— Где святой Бланк? Я не нахожу его в сарайчике.
Тогда Мели дала следующее разъяснение:
— Не тот ли это, которого ты взял на прошлой неделе,
чтобы заткнуть дыру в конуре у кроликов?
Матье вздрогнул:
— Гром и молния! Это вполне возможно!
Он сказал старушкам:
— Идите за мной.
Они пошли, и мы двинулись за ними, задыхаясь от
сдерживаемого смеха.
Действительно, святой Бланк, вбитый в землю в виде
простого колышка, запачканный грязью и нечистотами, слу-
160
жил угловой подпоркой в кроличьей конуре. Обе старушки,
как только увидели его, упали на колени, начали креститься
и шептать молитвы. Матье бросился к ним.
— Подождите, вы стоите в грязи. Я вам принесу вязанку
соломы.
Он принес солому и устроил им нечто вроде аналоя для
моленья. Затем, рассматривая своего святого, который был
весь в грязи, и, боясь, как бы это не подорвало его торговлю,
он прибавил:
— Я вам его немножко приведу в порядок.
Достал ведро воды и щетку и усердно принялся мыть
деревянную фигурку, а обе старушки все продолжали
молиться.
— Теперь все в порядке,— сказал Матье, промыв начисто
святого Бланка.
И он повел нас опять выпить по стаканчику.
Поднося стакан ко рту, он остановился и, слегка
смущаясь, произнес:
— Когда я снес святого Бланка к кроликам, я был
уверен, что от него уже не будет доходу. Уже два года его никто
не спрашивал. Но святые, как видно, никогда не выходят из
употребления.
Он выпил еще и сказал:
— Ну, выпьем еще по стаканчику. С приятелями следует,
по крайней мере, доходить до пятидесяти градусов, а мы
дошли всего до тридцати восьми.
Против тьмы
ДЖЕК ЛОНДОН
ВЕЛИКИЙ КУДЕСНИК
В поселке было неладно. Женщины безумолку
тараторили высокими, пронзительными голосами. Мужчины
хмурились и недоверчиво косились по сторонам, и даже собаки
в беспокойстве бродили кругом, смутно чуя тревожный дух,
овладевший всем поселком, и готовясь умчаться в лес при
первом внешнем признаке беды. Подозрение носилось в
воздухе. Каждый был не уверен в своем соседе, и при этом знал,
что и в нем точно так же не уверены остальные. Дети, и те
присмирели, а маленький Ди-Йа, виновник всего
происшедшего, получив основательную трепку сперва от Гунии, своей
матери, а потом и от отца, Бауна, забился под опрокинутую
лодку на берегу и мрачно взирал оттуда на мир, время от
времени тихонько всхлипывая.
А в довершение несчастья шаман Скунду был в
немилости, и нельзя было прибегнуть к его всем известному
колдовскому искусству, чтобы обнаружить преступника. С месяц
тому назад, когда племя собиралось на потлатч в Тонкий, где
Чаку-Джим спускал все, накопленное за двадцать лет,
шаман Скунду предсказал попутный южный ветер. А когда
назначенный день наступил, поднялся вдруг северный ветер,
да такой сильный, что из трех лодок, первыми отчаливших
от берега, одну снесло в открытое море, а две другие
вдребезги разбились о скалы, и при этом утонул ребенок. Скунду
потом объяснял, что при гадании вышла ошибка — не за ту
веревку дернул. Но люди не стали его слушать; щедрые
приношения мясом, рыбою и мехами сразу прекратились, и
он заперся в своем доме, проводя дни в посте и унынии, как
думали все, на самом же деле — питаясь обильными
запасами из своей кладовой и размышляя о непостоянстве толпы.
У Гунии пропали одеяла. Отличные были одеяла, на
редкость толстые и теплые, и она особенно хвалилась ими еще
162
потому, что достались они ей почти задаром. Ти-Куан из
соседнего поселка был просто дурень, что так дешево уступил
их. Впрочем, она не знала, что эти одеяла принадлежали
убитому англичанину, тому самому, из-за которого так долго
торчал у берега полицейский катер, а шлюпки шныряли и
рыскали по самым потайным проливам и бухточкам. Вот Ти-
Куан и поспешил избавиться от этих одеял, чтобы людям его
племени не пришлось, чего доброго, держать ответ перед
правительством, но Гуния не знала этого и продолжала
хвалиться своей покупкой. А оттого, что все женщины
завидовали ей, слава ее возросла сверх всякой меры и, выйдя за
пределы поселка, разнеслась по всему аляскинскому
побережью от Голландской гавани до гавани св. Марии. Всюду
прославляли ее тотем, и где бы ни собрались мужчины на
рыбную ловлю или на пиршество, только и было разговоров,
что об одеялах Гунии, о том, какие они толстые и теплые.
Пропали они самым необъяснимым и таинственным
образом.
— Я только что разостлала их на припеке у самого
дома,— в тысячный раз жаловалась Гуния своим сестрам по
племени тлинкетов. — Только что разостлала и отвернулась,
потому что Ди-Йа, этот дрянной воришка, сунул голову в
большой железный чан, задумав полакомиться сырым
тестом, упал туда и увяз, так что только ноги его
раскачивались в воздухе, точно ветви дерева на ветру. И не успела я
вытащить его из чана и дважды стукнуть головою о дверь,
чтобы образумить, гляжу — одеяла исчезли.
— Одеяла исчезли! — подхватили женщины испуганным
шепотом.
— Большая беда,— сказала одна.
— Такие одеяла! — сказала другая.
— Мы все огорчены твоей бедой, Гуния,— прибавила
третья. Но в душе все женщины радовались тому, что этих
злосчастных одеял, предмета всеобщей зависти, не стало.
— Я только что разостлала их на припеке,— начала
Гуния в тысячу первый раз.
— Да, да,— прервал ее Баун, которому уже надоело
слушать.— Но в деревне чужих не было. И потому ясно, что
человек, беззаконно присвоивший одеяла, принадлежит к
нашему племени.
— Не может этого быть, о Баун! — негодующим хором
отозвались женщины.— Нет среди нас такого.
— Значит, тут колдовство,— невозмутимо заключил
Баун, хитро глянув на окружающих его женщин.
— Колдовство! — При этом страшном слове женщины
притихли, и каждая опасливо покосилась на соседок.
— Да,— подтвердила Гуния, в минутной вспышке
злорадства выдазая свой мстительный нрав.— И уже послана
11*
163
лодка с сильным гребцом за Клок-Но-Тоном. С вечерним
приливом он будет здесь.
Народ стал расходиться, и по поселку пополз страх. Из
всех возможных бедствий колдовство было самым
страшным. Дьявол мог вселиться в любого — мужчину, женщину
или ребенка, и никому не дано было знать об этом. Против
сил невидимых и неуловимых умели бороться одни лишь
шаманы, а из всех шаманов в округе самым грозным был
Клок-Но-Тон, живший в соседнем поселке. Никто чаще его
не обнаруживал злых духов, никто не подвергал своих жертв
более ужасным пыткам. Однажды он даже обнаружил
дьявола, который вселился в трехмесячного младенца,— и очень
упорный это был дьявол; чтобы изгнать его, понадобилось
целую неделю продержать ребенка на ложе из шипов и
колючек. Тело после этого выбросили в море, но волны снова и
снова прибивали его к берегу, точно накликая проклятие на
весь поселок, и только когда двое сильных мужчин утонули
поблизости в час отлива, оно уплыло и больше не
возвращалось.
И вот за этим Клок-Но-Тоном послала Гуния. Уже лучше
бы свой шаман, Скунду, был при деле. Он обычно не
прибегал к таким крутым мерам, и однажды ему случилось
изгнать двух дьяволов из тела мужчины, который потом
прижил семерых здоровых детей. Но Клок-Но-Тон! При
одной мысли о нем у людей сжималось сердце от зловещего
предчувствия, и каждому чудилось, что на него устремлены
подозрительные взгляды, да и сам он уже смотрел
подозрительным взглядом на остальных. Так чувствовали
все, кроме Симэ, но Симэ был насмешник, который
должен был кончить дурно, хотя до сих пор ему все сходило
с рук.
— Хо! Хо! — смеялся он.— Дьяволы! Да ведь сам Клок-
Но-Тон хуже всякого дьявола, другого такого по всей земле
тлинкетов не найти.
— Ах ты, глупец! Вот он явится скоро со всеми своими
колдовскими уловками. Придержи лучше язык, не то как бы
не приключилось с тобой недоброе и счет твоих дней не стал
бы короче.
Так сказал Ла-Лах, прозванный Обманщиком, но Симэ
только засмеялся в ответ.
— Я — Симэ, не знающий страха, не боящийся тьмы.
Я сильный человек, как и мой покойный отец, и у меня ясная
голова. Ведь ни ты, ни я, никто из нас не видел своими
глазами духов зла...
— Но Скунду видел их,— возразил Ла-Лах. '•— И Клок-
Но-Тон тоже. Это мы знаем.
— А ты почему знаешь, сын глупца? — загремел Симэ,
и его толстая бычья шея побагровела от прилива крови.
164
— Я слышал это из их собственных уст — потому и знаю.
Симэ фыркнул:
— Шаман — только человек. Разве не могут его слова
быть лживы, точно так же, как твои или мои? Тьфу, тьфу!
И еще раз тьфу! Вот что мне все твои шаманы с их
дьяволами вместе! Вот что! И вот что!
И, прищелкивая пальцами на все стороны, Симэ пошел
прочь, а толпа боязливо и почтительно расступилась перед
ним.
— Добрый охотник и искусный рыболов, но человек
дурной,— сказал один.
— А все же ему во всем удача,— откликнулся другой.
— Что ж, стань и ты дурным, и тебе тоже будет во всем
удача,— через плечо бросил ему Симэ. — Если б мы все были
дурными, нечего было бы делать шаманам. Пфф! Все вы, как
дети малые, боитесь тьмы.
Когда в час вечернего прилива лодка, привезшая Клок-
Но-Тона, пристала к берегу, Симэ все так же вызывающе
смеялся и даже отпустил какую-то дерзкую шутку, увидев,
что шаман споткнулся, выходя на берег. Клок-Но-Тон
сердито посмотрел на него и, не сказав ни слова приветствия, с
гордым видом направился прямо к дому Скунду, минуя
толпу ожидающих.
Что произошло во время этой встречи, осталось
неизвестным людям племени тлинкетов, потому что они
почтительно теснились поодаль и даже говорили шепотом, покуда
оба великих кудесника совещались между собой.
— Привет тебе, Скунду! — буркнул Клок-Но-Тон не
слишком уверенно, видимо, сомневаясь в приеме, который
ему будет оказан.
Он был исполинского роста и башней высился над
тщедушным Скунду, чей тоненький голосок прозвучал в ответ,
точно отдаленное верещанье сверчка.
— И тебе привет, Клок-Но-Тон,— сказал тот. — Да
озарит нас светом твое прибытие.
— Но верно ли... — Клок-Но-Тон замялся.
— Да, да,— нетерпеливо прервал его маленький шаман. —
Верно, что для меня настали плохие дни, иначе я не стал бы
благодарить тебя за то, что ты явился делать мое дело.
— Мне очень жаль, друг Скунду...
— А а готов радоваться, Клок-Но-Тон.
— Но я отдам тебе половину того, что получу.
— О нет, добрый Клок-Но-Тон,— воскликнул Скунду,
подняв руку в знак протеста. — Напротив, отныне я раб твой
и должник, и до конца своих дней буду счастлив служить
тебе.
— Как и я...
— Как и ты сейчас готов мне служить.
165
— В этом не сомневайся. Но скажи, ты, значит,
считаешь, что эта кража одеял у женщины Гунии — трудное дело?
Спеша нащупать почву, приезжий шаман допустил
ошибку, и Скунду усмехнулся едва заметной слабой
усмешкой, ибо он привык читать в мыслях людей и все люди
казались ему ничтожными.
— Ты всегда умел действовать круто,— сказал он. — Не
сомневаюсь, что вор станет тебе известен в самое короткое
время.
— Да, в самое короткое время, стоит мне только
взглянуть. — Клок-Но-Тон снова замялся. — Не было ли тут кого-
нибудь чужого? — спросил он.
Скунду покачал головой.
— Взгляни! Не правда ли, превосходная вещь?
Он указал на покрывало, сшитое из тюленьих и
моржовых шкур, которое гость стал разглядывать с затаенным
любопытством.
— Мне оно досталось при удачной сделке.
Клок-Но-Тон кивнул, внимательно слушая.
— Я получил его от индейца по имени Ла-Лах. Это
ловкий человек, и мне не раз приходила мысль... —Мне не раз
приходила мысль,— заключил свою речь Скунду и, помолчав
немного, прибавил: — Ты умеешь круто действовать, и твое
прибытие озарит нас светом, Клок-Но-Тон.
Лицо Клок-Но-Тона повеселело. — Ты велик, Скунду, ты
шаман из шаманов. Я буду помнить тебя вечно. А теперь я
пойду. Так, говоришь ты, индеец Ла-Лах — ловкий человек?
Скунду вновь усмехнулся своею слабой, едва заметной
усмешкой, затворил за гостем дверь и запер ее на двойной
засов.
Когда Клок-Но-Тон вышел из дома Скунду,'Симэ чинил
лодку на берегу и оторвался от работы только для того,
чтобы открыто, на виду у всех, зарядить свое ружье и
положить его рядом с собою.
Шаман отметил это и крикнул:
— Пусть все люди племени соберутся сюда, на это место!
Так велю я, Клок-Но-Тон, умеющий обнаруживать дьявола
и изгонять его.
Клок-Но-Тон прежде думал созвать народ в дом Гунии,
но нужно было, чтобы собрались все, а он не был уверен, что
Симэ повинуется приказанию; ссоры же ему не хотелось
заводить. Этот Симэ из тех людей, с которыми лучше не
связываться, особенно шаманам, рассудил он.
— Пусть приведут сюда индианку Гунию,— приказал
Клок-Но-Тон, озираясь вокруг свирепым взглядом, от
которого у каждого холодок пробегал по спине.
Гуния выступила вперед, опустив голову и ни на кого не
глядя.
166
— Где твои одеяла?
— Я только что разостлала их на солнце, и вот
оглянуться не успела, как они исчезли,— плаксиво
затянула она.
— Ага!
— Это все вышло из-за Ди-Йа.
— Ага!
— Я больно прибила его за это, и еще не так прибью,
потому что мы бедные люди.
— Одеяла!-—хрипло прорычал Клок-Но-Тон, угадывая
ее намерение сбить цену, которую предстояло уплатить
за ворожбу.— Говори про одеяла, женщина! Твое богатство
известно всем.
— Я только что разостлала их на солнце,—захныкала
Гуния,— а мы бедные люди, у нас ничего нет.
Клок-Но-Тон вдруг весь напружился, лицо его исказила
чудовищная гримаса, и Гуния попятилась. Но в следующее
мгновение он прыгнул вперед с такой стремительностью, что
она пошатнулась и рухнула к его ногам. Глаза у него
закатились, челюсть отвисла. Он размахивал руками, неистово
колотя воздух, все его тело извивалось и корчилось словно
от боли. Это было похоже на эпилептический припадок.
Белая пена показалась на губах, конвульсивные судороги
сотрясали тело.
Женщины затянули жалобный напев, в забытьи
раскачиваясь взад и вперед, и мужчины тоже один за другим
поддались общему исступлению. Только Симэ еще держался.
Сидя верхом на опрокинутой лодке, он насмешливо глядел
на то, что творилось крутом; но голос предков, чье семя он
носил в себе, звучал все властней, и он бормотал самые
страшные проклятья, какие только знал, чтобы укрепить
свое мужество. На Клок-Но-Тона страшно было глядеть.
Он сбросил с себя одеяло, изорвал всю одежду и остался
совершенно нагим, в одной только повязке из орлиных когтей
на бедрах. Он скакал и бесновался в кругу, оглашая воздух
дикими воплями, и его длинные черные, точно сгусток
ночной мглы, волосы развевались. Но неистовство Клок-Но-
Тона подчинено было какому-то суровому ритму, и когда
все кругом подпали под власть этого ритма, когда все тела
уже раскачивались в такт движениям шамана и все голоса
вторили ему,— он вдруг остановился и сел на землю,
прямой и неподвижный, вытянув вперед руку с длинным,
похожим на коготь, указательным пальцем. Долгий, словно
предсмертный стон пронесся в толпе; съежившись, дрожа всем
телом, люди следили за грозным пальцем, медленно
обводившим круг. Ибо с ним шла смерть, и те, кого он миновал,
оставались жить и, переведя дух, с жадным вниманием
следили, что будет дальше.
167
Наконец, с пронзительным криком, шаман остановил
зловещий палец на Ла-Лахе. Тот затрясся, словно осиновый
лист, уже видя себя мертвым, свое имущество разделенным,
свою жену замужем за своим братом. Он хотел заговорить,
оправдаться, но язык прилип у него к гортани, и от
нестерпимой жажды пересохло во рту. Клок-Но-Тон, свершив
свое дело, казалось, впал в полузабытье; однако он слушал
с закрытыми глазами, ждал: вот сейчас раздастся знакомый
крик — великий крик мести, слышанный им десятки и сотни
раз, когда после его заклинаний люди племени, точно
голодные волки, бросались на трепещущую жертву. Однако все
было тихо; потом где-то хихикнули, в другом месте
подхватили, и пошло, пошло, пока оглушительный хохот не сотряс
все кругом.
— Что это? — крикнул шаман.
— Хо! Хо!—смеялись в ответ.— Твоя ворожба не
удалась, Клок-Но-Тон!
— Все же знают! — запинаясь, выговорил Ла-Лах.— На
восемь долгих месяцев я уходил на промысел с китоловами
из племени сивашей и только сегодня вернулся домой и
узнал о покраже одеял.
— Это правда! — дружно откликнулась толпа.— Когда
одеяла Гунии пропали, его не было в поселке.
— И я ничего не заплачу тебе, потому что твоя ворожба
не удалась,— заявила Гуния, которая уже успела подняться
на ноги и чувствовала себя обиженной комическим оборотом
дела.
Но у Клок-Но-Тона перед глазами неотступно стояло
лицо Скунду с его слабой, едва заметной усмешкой, и в ушах
у него звучал тоненький голос, похожий на отдаленное
верещанье сверчка: «Я получил его от индейца по имени Ла-Лах,
и мне не раз приходила мысль... Ты умеешь круто
действовать, и твое прибытие озарит нас светом».
Оттолкнув Гунию, он рванулся вперед, и толпа невольно
расступилась перед ним. Симэ со своей лодки выкрикнул
ему вслед обидную шутку, женщины хохотали ему в лицо,
со всех сторон сыпались насмешки, но он, ни на что не
обращая внимания, бежал со всех ног к дому Скунду. Добежав,
он стал ломиться в дверь, колотил в нее кулаками,
выкрикивал страшные проклятья. Но ответа не было, и только в
минуты затишья из-за двери слышался голос Скунду,
бормочущий заклинания. Клок-Но-Тон бесновался, точно
одержимый, и, наконец, схватив огромный камень, хотел высадить
дверь,— но тут в толпе прошел угрожающий ропот. И ему
вдруг стало ясно, что он, Клок-Но-Тон стоит перед людьми
чужого племени, утратив свое величие и силу. Он увидел,
как один человек нагнулся и подобрал с земли камень, за
ним и другой сделал то же,— и животный страх охватил
шамана.
— Не тронь Скунду, он настоящий кудесник^ не то, что
ты,— крикнула какая-то женщина.
— Убирайся лучше домой,— с угрозой посоветовал
какой-то мужчина.
Клок-Но-Тон повернулся и стал спускаться к берегу,
изнывая в душе от бессильной ярости и с тревогой думая о
своей незащищенной спине. Но ни один камень не полетел
ему вслед. Дети, кривляясь, вертелись у него под ногами,
хохот и насмешки неслись вдогонку — но и только. И все же,
лишь когда лодка вышла в открытое море, он, наконец,
вздохнул свободно и, встав во весь рост, разразился потоком
бесплодных проклятий по адресу поселка и его обитателей,
не забыв особо выделить Скунду — виновника его позора.
А на берегу толпа ревела, требуя Скунду. Все люди
поселка собрались у его дверей, настойчиво и смиренно
призывая шамана, и наконец он показался на пороге и поднял
РУку.
— Вы мои дети, и потому я прощаю вам,— сказал он.—
Но это в последний раз. То, чего вы все хотите, будет дано
вам, ибо я уже проник в тайну. Сегодня ночью, когда луна
зайдет за грани мира, чтобы созерцать великих умерших,
пусть все соберутся в темноте к дому Гунии. Там имя
преступника откроется всем, и он понесет заслуженную кару.
Я сказал.
— Карой ему будет смерть! — воскликнул Баун,—
потому что он навлек на нас не только несчастье, но и позор.
— Да будет так! — отвечал Скунду и захлопнул дверь.
— Теперь все разъяснится и вновь наступит у нас мир
и порядок,— торжественно провозгласил Ла-Лах.
— И все по воле маленького человечка Скунду? —
насмешливо спросил Симэ.
— По воле великого кудесника Скунду,— поправил его
Ла-Лах.
— Племя глупцов — вот кто такие тлинкеты! — Симэ
звучно шлепнул себя по ляжке.— Просто удивительно, как
это взрослые женщины и сильные мужчины дают себя
дурачить разными выдумками и детскими сказками.
— Я человек бывалый,— возразил Ла-Лах.— Я
путешествовал по морям и видел знамения и разные другие чудеса,
и знаю, что все это правда. Я —Ла-Лах...
— Обманщик...
— Так зовут меня некоторые, но я справедливо прозван
и Путешественником.
— Ну, я не такой бывалый человек...— начал Симэ.
— Вот и придержи язык,— обрезал его Баун, и они
разошлись в разные стороны, недовольные друг другом.
Когда последний серебристый луч скрылся за гранью
мира, Скунду подошел к толпе, сгрудившейся у дома Гунии.
169
Он шел быстрым, уверенным шагом, и те, кому удалось
разглядеть его в слабом мерцании светильни, увидели, что он
явился с пустыми руками, без масок, погремушек и прочих
принадлежностей колдовства. Только подмышкой он держал
большого сонного ворона.
— Приготовлен ли хворост для костра, чтобы все
увидели вора, когда он отыщется? — спросил Скунду.
— Да,— ответил Баун.— Хворосту достаточно.
— Тогда слушайте все, ибо я буду краток. Я принес с
собою Джелкса, ворона, которому открыты все тайны и
ведомы все дела. Я посажу эту черную птицу в самый черный
угол дома Гунии и покрою большим черным горшком.
Светильню мы погасим и останемся в темноте. Все будет очень
просто. Каждый из вас по очереди войдет в дом, положит
руку на горшок, подержит столько времени, сколько
потребуется, чтобы глубоко вздохнуть, снимет и уйдет. Когда
Джелкс почувствует руку преступника так близко от себя,
он, наверно, закричит. А может быть, и как-нибудь иначе
явит свою мудрость. Готовы ли вы?
— Мы готовы,— был многоголосый ответ.
— Тогда начнем. Я буду каждого выкликать по имени,
пока не переберу всех, мужчин и женщин.
Первым было названо имя Ла-Лаха, и он тотчас же
вошел в дом. Все напряженно вслушивались, и в тишине было
слышно, как шаткие половицы скрипели у него под ногами.
Но и только. Джелкс не крикнул, не подал знака. Потом
наступила очередь Бауна, ибо ничего нет невероятного в том,
чтобы человек припрятал собственные одеяла с целью
навлечь позор на соседей. За ним пошла Гуния, потом
другие женщины и дети, но ворон оставался безмолвным.
— Симэ! — выкрикнул Скунду.— Симэ!—повторил он.
Но Симэ не двигался с места.
— Что ж ты боишься темноты? — задорно спросил Ла-
Лах, гордый тем, что собственная его невиновность уже
доказана.
Симэ фыркнул:
— Да меня смех берет, как погляжу на все эти глупости.
Но я все же пойду, не из веры в чудеса, а в знак того, что
не боюсь.
И он твердым шагом вошел в дом и вышел, посмеиваясь,
как всегда.
— Вот погоди, придет твой час, умрешь, когда и ждать не
будешь,— шепнул ему Ла-Лах в порыве благородного
негодования.
— Да уж наверно,— легкомысленно отвечал
насмешник.— Многие ли из тех, ■ кому приходится иметь дело
с шаманами и с бурным морем, умирают в своей
постели?
170
- Уже половина жителей поселка благополучно прошла
через испытание, и в толпе нарастало беспокойство, еще
усиливавшееся оттого, что приходилось его подавлять. Когда
осталось совсем немного людей, одна молодая женщина,
беременная первым ребенком, не выдержала и забилась в
припадке.
Наконец наступила очередь последнего, а ворон все
молчал. Последним был Ди-Йа. Значит, преступник — он. Гуния
заголосила, воздев руки к небу, остальные попятились от
злополучного мальчугана. Ди-Йа был едва жив от страха,
ноги у него подкашивались, и, входя, он запнулся о порог и
чуть не упал. Скунду втолкнул его и захлопнул за ним
дверь. Прошло немало времени, но ничего не было слышно,
кроме всхлипываний мальчика. Потом донесся скрип его
удаляющихся шагов, потом наступила полная тишина, потом
шаги снова стали приближаться. Дверь отворилась настежь,
и он вышел. Ничего не случилось, а уже все жители поселка
прошли через испытание.
— Разожгите костер,— приказал Скунду.
Яркое пламя взметнулось вверх и осветило лица, еще
искаженные недавним страхом и в то же время
недоумевающие.
— Опять ничего не вышло,— хриплым шепотом
воскликнула Гуния.
— Да,— подтвердил Баун.— Скунду становится стар, и
нам нужен новый шаман.
— Где же мудрость всеведущего Джелкса? — хихикнул
Симэ на ухо Ла-Лаху.
Ла-Лах растерянно потер рукой лоб и ничего не ответил.
Симэ вызывающе выпятил грудь и подскочил к
маленькому шаману:
— Хо! Хо! Говорил я, что все это ни к чему не приведет!
— Может быть, может быть,— смиренно отвечал
Скунду.— Так может показаться всякому, кто несведущ в
чудесах.
— Тебе, например,— дерзко вставил Симэ.
— Может быть, даже и мне,— Скунду говорил совсем
тихо, и веки его медленно, очень медленно опускалась, пока
совсем не прикрыли глаз.— Но осталось еще одно
испытание. Пусть все, мужчины, женщины и дети, поднимут руки
над головой — быстро, разом все!
Таким неожиданным явилось это приказание, и настолько
властным тоном было оно отдано, что все повиновались
беспрекословно. Все руки взлетели в воздух.
— Теперь пусть каждый посмотрит на руки
остальных,— скомандовал Скунду.— Всех остальных, так чтобы...
Но взрыв хохота, в котором прозвучала и угроза,
заглушил его слова. Все глаза остановились на Симэ. У всех руки
171
были измазаны сажей, и только у него одного ладони
остались чистыми, не замаранные прикосновением к горшку
Гунии.
В воздухе пролетел камень и угодил ему в щеку.
— Это неправда! — заревел он.— Неправда! Я не трогал
одеял Гунии.
Второй камень рассек ему кожу на лбу, третий
просвистел над самой головой. Великий крик мести разнесся далеко
кругом, люди шарили по земле в поисках орудий кары.
Симэ пошатнулся и упал.
— Я пошутил! Только пошутил! — закричал он.— Я взял
их, только чтоб пошутить.
— Куда ты девал их? — Визгливый, пронзительный голос
Скунду точно ножом прорезал общий шум.
— Они у меня дома, в большой связке шкур, что висит
под самой крышей,— послышался ответ.— Но я только
хотел пошутить, я...
Скунду наклонил голову, и в воздухе стало темно от
летевших камней. Жена Симэ тихо плакала, уткнув голову в
колени; но маленький его сынишка, хохоча и взвизгивая,
бросал камни вместе с остальными.
Гуния уже возвращалась, переваливаясь под тяжестью
драгоценных одеял. Скунду остановил ее.
— Мы бедные люди, и у нас ничего нет,— захныкала
она.— Не обижай нас, о Скунду.
Толпа отступила от шевелящейся груды камней, и все
взгляды обратились на маленького шамана.
— Разве я когда-нибудь обижал моих детей, добрая
Гуния? — отвечал ей Скунду, протягивая руку к одеялам.—
Не такой я человек, и в доказательство я не возьму с тебя
ничего, кроме этих одеял.
— Мудр ли я, дети мои? — спросил он, обращаясь к
толпе.
— Поистине ты мудр, о Скунду! — ответили все в один
голос.
И он скрылся в темноте с одеялами на плечах и сонным
Джелксом подмышкой.
ЯРОСЛАВ ГАШЕК
ЧУДО СВ. ЭВЕРГАРДА
Отцы францисканцы в Бацкове далеко простирали свои
святые загребущие руки. Из дальних деревень1 сюда
тянулись крестьяне-словаки, чтобы пополнить щедрыми дарами
монастырскую кухню и помолиться в церкви перед тусклым
образом чудотворца Эвергарда. Святой этот для словаков
весьма близок, ибо при жизни своей был королевским
наместником, утеснял словаков и прочий мелкий народ и устраивал
походы на негров, нумидийцев и других басурманов. После
смерти воитель Эвергард был причислен к лику святых,
ибо он:
1) не щадил живота и сил своих, дабы церковь святую
огнем и мечом уберечь от ереси и безбожия;
2) для грешников, выхваченных им указанным
надежным способом из пещи адовой, построил несколько
монастырей;
3) изрядно ободрав басурманские земли, заложил во
Франции пропасть церквей и богато одарил их из военной
добычи;
4) преставился в 855 году от р. х.
И мужики регулярно приходили приложиться в образу
св. Эвергарда. С незапамятных времен сюда тянулись
паломники со всей округи и, помолясь перед чудотворным
образом святого, оделяли смиренной лептой святой монастырь.
И с незапамятных времен отцы францисканцы чтили образ
св. Эвергарда, как источник всяческого благополучия, а
мужички знай платили да кланялись, пока вдруг не случилась
ужасная вещь: другой францисканский монастырь во
Фриште потребовал образ назад.
I
Бацковский настоятель отец Парегориус мрачно глядел
из окна своей кельи на зеленые кущи леса и перебирал в
памяти все разнообразные венгерские ругательства, памят-
173
ные ему еще со времени жизни в суетном свете, где святой
отец был гусарским поручиком. Перед ним на столе лежало
это распроклятое письмо фриштовского настоятеля, отца Да-
нулиуса. Внизу по монастырскому саду жизнерадостно
прогуливались монахи. Они беспечно беседовали, а брат
садовник напевал развеселый чардаш—«Повеселимся мы от
души»«.Братья еще ничего не знали о письме.
— Олухи! — выругался аббат, снова покосившись на
письмо.— Ишь разрезвились. Закачу я вам внеочередной
пост, сядете у меня на капусту...
и
Честно говоря, образ св. Эвергарда действительно
принадлежал Фриштовскому монастырю. Во времена королевы
Марии-Терезы его спер оттуда монах Иеремия. Брат
Иеремия и тамошний настоятель отец Цезарь грешили в ту пору
с маркитанткой гусарского полка, квартировавшего по
соседству. После недолгих колебаний маркитантка полностью
перенесла свой пыл на молодого брата Иеремию, а
преосвященный получил отставку. За это он засадил Иеремию на
хлеб и воду и наложил тяжкую епитимию: вызубрить
наизусть толстый том сочинений епископа Кемпенского
«Наставление к жизни благочестивой и праведной».
Искушенный в мерзостях брат Иеремия, не закончив
даже первой главы, удрал ночью из монастыря, и вместе с
ним исчез образ св. Эвергарда, который еще в те времена
славился по всему краю. Кроме образа св. Эвергарда брат
Иеремия захватил всю наличность из аббатовой шкатулки:
400 серебряных талеров. Образ он загнал в городе какому-
то старьевщику, а сам навострил лыжи в Турцию, где
принял ислам и, к чести его будь сказано, пленным христианам
перед казнью никогда не отказывал в облегчении души
святым причастием.
Образ св. Эвергарда немало помыкался по разным
церквам. В то смутное время ему не приходилось долго
задерживаться в одном месте. Мародеры, обиравшие церкви,
продавали его из рук в -руки, и, наконец, он достался графу
Бартану де Шарон, который подарил его францисканцам в
Бацкове. Такой подарок сердцам францисканцев был милее,
чем целое угодье, ибо образ делал великую рекламу.
А теперь вот новый фриштовский настоятель пишет им:
«Во имя бога великого и всеблагого.
Преосвященный отец! Не изволь гневаться, что пишу на
тему о монастырской собственности нашей. В вашем
братском монастыре пребывает образ св. Эвергарда, который,
как явствует из записи св. архива, был дарован нашему
174
Паломничество.
Сатирическая гравюра
монастырю в году 1715, при аббате Эмилиусе, и украден
монахом Иеремией при аббате Цезаре в царствование ее
величества Марии-Терезы.
Имущество церковное свято и неприкосновенно, и потому
я надеюсь, что ты, высокочтимый отец и коллега, получиз
лично от меня доказательства правильности
вышеизложенного, вернешь образ нашему монастырю.
Засим да хранит тебя бог. Данулиус,
аббат ордена св. Франциска Ассизского во Фриште».
Ну, кто, скажите, не лопнул бы с досады, получив такое
мерзкое письмо?!
Ш
Отец Парегориус был мрачен целый день. Придирался,
распекал проштрафившихся братьев, накладывал посты,
покаяния и молитвы. Днем и ночью у него перед глазами стоял
тусклый лик святого, этот образ, выцветший и туманный,
на котором мало что можно было разобрать.
Монахи, без различия чина и святости, узнав мрачную
новость, ходили подавленные и молились и пели, как
автоматы. Еще бы — отнимают чудотворный образ! Образ,
который так притягивает верующих. А ведь набожный люд
хорошо платит. Доходы были изрядные. В стойлах полно
скота, птичий двор кишит живностью. Монастырские
угодья тянутся аж к Тематину. А сколько там зайцев, серн,
куропаток и прочих тварей божьих, бегающих и
прыгающих! Отцы-экономы умеют готовить из них десятки
чудеснейших блюд...
И вот теперь образ возьмут другие монахи, и на чужой
улице будет праздник. Паломники с гор не остановятся у
них. Дальше, низиною они пойдут во Фришту...
«Суета сует и все суета. Суета отдаваться утехам
плотским и забыть о том, что есть радость вечная». Так
рассуждали монахи до поздней ночи и подконец сознались
друг другу: «Да, но постом да молитвою сыт не будешь».
Эта истина их удручала. И, поглядывая на тучных
поросят, кур и гусей, они вспоминали фриштовское письмо и
подумывали о том, что ведь некоторые требования не
выполняются.
И в один прекрасный день отец Парегориус хлопнул
кулаком по столу, отменил все посты и велел заколоть
полдюжины поросят. Наевшись до отвала и упившись церковным
вином, он возвестил грозно:
— Так не отдам же св. Эвергарда! Пусть приезжает этот
Данулиус.
176
IV
Вскоре приехал аббат Данулиус из Фришты. Святые отцы
сердечно обнялись, и началась обильная трапеза. Говорили
на церковные темы. Отец Данулиус заявил, что точная
высота вод при потопе составляла 17 000 футов.
Отец Парегориус, разгоряченный вином, кричал, что
нужно считаться с законами физики, ибо и они суть от
господа бога.
Данулиус заявил, что бог сотворил мир из ничего
наперекор всяким физикам.
Бывший гусарский служака Парегориус икнул и
пробурчал, что сотворение мира явно шло походно-лагерным
порядком: раз, два, три — и готово. «Честное слово, отче. А в
общем пей, преосвященный, чего там!»
Они снова чокнулись, и до сих пор ни словечка о
св. Эвергарде. Наконец, после долгого обеда фриштовский
аббат отправился в покои хозяина и только там осторожно
завел речь про образ.
— Ну так вот что, отче,— отрезал разгоряченный вином
Парегориус,— образ ты не получишь.
— Ан, получу, отче.
— Получишь не образ, а фигу.
— Преосвященный, я приехал за образом.
— Преосвященный, уедешь без него.
— Это хамство, образ — наш! — кричал возмущенный
Данулиус.
— Веди себя приличнее, преосвященный, не то схватишь
в ухо.
Отец Данулиус выскочил в коридор и завопил:
«Лошадей!»
И через полчаса укатил домой.
На другой день, протрезвившись, он написал
обстоятельную жалобу, где изложил историю образа и свои претензии
на него. Приложил документы, в том числе дарственную
грамоту графа Галла де Элемонте, и все это отправил в
консисторию. Через месяц пришло заключение: требования
Фриштовского монастыря правильны. Бацковский
настоятель получил строжайший приказ выдать образ. В
присутствии самого епископа образ св. Эвергарда был снят и с
благоговением перенесен в бричку, где восседал
торжествующий Данулиус.
Монахи плакали. Душераздирающее зрелище
представлял собой отец-эконом. Его с трудом удержали от
мученической кончины, которую он хотел добровольна, принять
под копытами лошадей, увозивших основу их процветания.
Подавленный отец Парегориус назначил трехдневный
пост и всенощное бдение неделю напролет. Бушевал —
Против тьмы
177
аж страх, а вечером после скудной трапезы сказал
монахам:
— Вот увидите, св. Эвергард сотворит еще чудо, от
которого не поздоровится фриштовским блудникам!
V
Образ прибыл благополучно. Школьников вывели
встречать его чуть ли не за 5 километров. Подъезжая к городу,
тщеславный аббат сам забрался на козлы, и в таком виде
бричка въехала в ворота монастыря, разукрашенные
гирляндами. Под малиновый перезвон колоколов образ св. Эвер-
гарда был торжественно внесен в собор, к немалой радости
монахов, которым уже надоело молитвами и воздержанием
подготавливать себя к столь славному событию.
И вот образ помещен над алтарем, темный, неясный, как
его исторические судьбы.
Аббат Данулиус устроил роскошную трапезу в честь
св. Эвергарда и высокопоставленного гостя — епископа. После
усердных возлияний во славу св. Эвергарда епископ сказал
аббату: «Итак, св. Эвергард в новой обители. Не мешало бы
ему подновиться по этому случаю. Велите его вымыть.
Я вам дам адрес живописца, который прекрасно
реставрирует иконы. Ваш Эвергард будет совсем как новенький. Вот
увидите».
И в монастырь был призван популярный реставратор
икон, мастер Готхард из Вены. Перед образом поставил леса
и натянули холст, чтобы живописец не упал.
— Ну, как? — нетерпеливо вопрошал аббат.
— Завтра будет готово.
Назавтра, после обеда, мастер Готхард объявил, что образ
протерт луком и выглядит, как новенький. Монахи с
аббатом во главе направились взглянуть на обновленного
святого. Сняли холщовую покрышку, живописец провел по
образу губкой, смоченной в уксусе, и отец Данулиус с
отчаянным криком отпрянул и грохнулся в обморок.
С образа св. Эвергарда на него глядела св. Екатерина,
растянутая в голом виде на крапивном ложе...
В Бацкове вам теперь укажут пустое место в
монастырской церкви, где висит табличка:
«Св. Эвергард. Вознесся на небо».
Вы услышите историю о диву достойном чуде св.
Эвергарда, который таинственной метаморфозой заявил о своем
нерасположении к дальнейшим переездам.
И в Бацков по-прежнему валом валят верующие,
бойкотируя Фришту, ибо бог лишил ее чудотворной иконы.
ЯРОСЛАВ ГАШЕК
УШИ СВ. МАРТИНА
В середине XVI века в испанском городе Толедо
произошли крупные события. К ужасу столпа толедской
инквизиции— ордена св. Антония, по городу стремительно начала
распространяться новая ересь — учение покойного бакалавра
богословия Мартина Барбарелло, так называемый пикгар-
тизм.
Сам-то бакалавр был благополучно сожжен на костре, а
перед смертью обработан на «лестнице пыток»,
изобретенной папой Иоанном IV. Эта лестница представляла собой
остроумную систему разного рода пыточных сооружений,
на которых еретиков терзали последовательным сжиманием
и растягиванием суставов. Каждая отдельная часть имела
свое наименование, например: «голень св. Иосифа», «челюсть
богородицы», «ребра св. Петра» и т. д.— и служила для
определенной муки.
Итак, дела ордена св. Антония принимали плохой
оборот: пикгартисты начали открыто молиться замученному
Мартину Барбарелло. Было похоже на то, что все население
города решило принять мученический конец ради покойного
бакалавра.
Святая инквизиция жгла людей на кострах, вешала,
топила в воде, четвертовала, душила, колесовала, сажала на
кол, подвешивала на крючья, вырывала языки,— но все это
не помогало. Толедцы отрекались от католической веры и
отважно молились проклятому Мартину Барбарелло.
Ордену св. Антония осталось единственное средство —
обратиться за советом к отцам францисканцам из обители
св. Маргеты. Икона этой святой помещалась в Севильском
соборе и славилась тем, что на ее нарисованных ногах
выступал пот. Верующим паломникам разрешалось слизывать
его за доступную плату. Монахи обители св. Маргеты были
12*
179
в большой обиде на соборный причт: ведь идея чудесного
потения ног принадлежала их монастырю, она возникла в
изобретательной голове брата Доминико. Но, увы, этот
низкий корыстолюбец продал все оборудование чужому собору
в Севилье. За такое вероломство его живьем замуровали в
стену, а для развлечения братии отец-настоятель посадил
туда большого злющего кота.
Сколько смеху бывало, когда вечерком в трапезной
монахи толковали о том, что сейчас поделывают кот и брат
Доминико. Инок Иеремия чуть не лопнул от смеха, когда
настоятель сострил, что кот наверное читает отходную по
своем соседе.
Из всего этого ясно видно, что отцы францисканцы из
монастыря св. Маргеты — весьма предприимчивый народ.
В борьбе с еретиками они были искушены до
чрезвычайности и умели быстро предпринимать необходимые меры.
В особо сложных случаях все другие монашеские ордена
и даже сам верховный инквизитор прибегали к их помощи.
Собственно говоря, подлинным кладезем мудрости в
обители францисканцев был аббат Фернандо, автор
популярного руководства — «60 рецептов для изгнания беса из
грешника».
При вспарывании животов пикгартистам и кальвинистам
применяется исключительно его метод, и он же знаменит
научным исследованием, в котором доказано, что бес выходит
из еретика преимущественно через левое ухо. Ибо автор
экспериментальным путем установил, что при пытках череп
еретика трескался именно в этом месте. Для устранения
столь досадного дефекта аббат Фернандо изобрел
специальный герметический цилиндр св. Эмериха.
Однако Фернандо не ограничивался сухим теоретическим
книгоедством, он был отличным организатором и
хозяйственником. Вблизи обители францисканцев он устроил
«чудо сошествия св. Цецилии», использовав для этой цели
придурковатую пастушку, с которой святые братья
частенько занимались любовными шашнями. Вскоре им же был
открыт чудотворный источник и налажено гончарно-кув-
шинное производство для продажи святой воды в
оригинальной упаковке. Слава источника разнеслась по всей стране,
пилигримы тянулись сюда даже с Пиренеев, и вскоре воды
стало нехватать. Недалеко протекала речка, в которую
бесчисленные богомольцы сбрасывали нечистоты. Аббат
Фернандо распорядился сделать из речки отвод во двор
монастыря. Во дворе было устроено вместительное
водохранилище, а из него вели два стока: один к чудотворному
источнику, а другой в служебную уборную для монахов.
Таким образом, был создан первый в Испании
ватерклозет, а св. источник оказался его филиалом.
180
Прибыль от нового чуда намного перекрыла доходы от
пещеры св. Цецилии.
Вскоре по воле божией произошло еще одно чудо: у
юродивой пастушки родился мальчик о шести перстах (он был
как две капли воды похож на брата Онуфрия, имевшего
такое же редкое уродство).
Новое чудо имело громадный успех, и в честь его около
пещеры сожгли еврея, привезенного из Толедо. Сама
королева с сыном прибыла посмотреть на это поучительное
зрелище. Малолетний принц восторженно хлопал ручонками
и изволил лично подбросить хворосту в костер.
Потом к шестипалому младенцу привели мавра,
осужденного на смерть за богохульство: ежедневно, глядя на восток,
мавр выкрикивал имя Христа сзади наперед—«Сотсирх,
сотсирх, сотсирх!»
Мавр клялся, что это было лишь молитвенное арабское
восклицание из Корана, которое значит— «верую!»
Ему определили смерть на колу.
При виде шестипалого младенца мавр расчувствовался и
заревел на всю округу.
А когда святой малыш ухватил его ручонкой за бороду,
мавра забрал страх, и он объявил, что не сядет на кол, пока
не примет христову веру. Это было выполнено, и на колу он
восседал, уже причастившись святых тайн.
Итак, при деятельном участии отца Фернандо, обитель св.
Маргеты процветала. Сам верховный инквизитор
еженедельно наведывался туда. Он приезжал, дабы свершить
опасный подвиг изгнания беса из молодых колдуний.
Известно, что для этого нагую колдунью нужно оставить на
ночь в монастыре вместе с монахом, у которого на шее
надета ладонка св. Парамония. Действием тонзуры,
ладонки и набожного настроения бес обязательно будет
изгнан.
Эту систему тоже изобрел Фернандо, и благодаря ей
много хорошеньких молодых колдуний избегло костра и
было спасено для церкви христовой. Потом их оставляли в
монастыре для присмотра за скотом и огородом.
Итак, к аббату Фернандо направились делегации братьев
из ордена св. Антония. Они нашли Фернандо восседающим
в трапезной, вместе с верховным инквизитором.
Помещение было расписано древним испанским
живописцем. Картины должны были напоминать
проголодавшимся братьям о неисповедимом милосердии божьем и о
дарах его, посылаемых безгрешным францисканцам. На
стенах были изображены целые окорока, жареные цыплята,
форели, первосортные омары. Все это летело с неба прямо
из божьих рук, а набожные францисканцы на лету
подхватывали чудесную снедь.
181
Господь не оставляет францисканцев своими заботами:
его волей два маленьких ангелочка усердно дуют в зад серне,
что попалась в монастырский капкан (дабы серна не
протухла)...
Над дверьми великолепная фреска: крепыш-ангелок
поворачивает на вертеле над очагом сочного дикого вепря.
Внизу надпись по-латыни: «Пламя — утешение для
праведных и страх еретикам».
В эту трапезную и вступили посланцы за советом.
Я упомянул, что в трапезной сидело два человека. Кроме
них был еще третий: на полу, свернувшись калачиком,
храпел отец эконом. Он первый вышел из строя.
Седевшие за столом с трудом поднялись на ноги и
приветствовали гостей. Затем они плюхнулись обратно на
скамью и, осенив себя крестным знамением, рявкнули: «Ура
святому Антонию!»
Когда все подкрепились вином, начался разговор о
борьбе с еретическим обожествлением Мартина Барбарелло.
— Старая кастильская пословица гласит,— молвил гранд
Мануэль Форенас, возглавлявший делегацию: — «Самый
большой собор в Севилье, самый богатый в Толедо и самый
красивый в Компанелло». Видимо, теперь придется
переделать ее в таком духе: «Самое большое количество еретиков
в Толедо, а в Севилье их немногим меньше...»
Верховный инквизитор отозвался мрачно:
— Вам известно, что я сделал все, что было в моих
силах. Разве не мною проведены три варфоломеевские ночи?
Разве на майских церемониях благодаря моим стараниям,
алебарды королевских гвардейцев не были украшены
младенцами пикгартистских еретиков? Чего уж больше. А с
четвертой варфоломеевской ночью, сами знаете, дело не
выйдет. В последний раз мы прикончили едва два десятка
еретиков, а теперь не было бы убито и одного. Ибо мои
воины сами прониклись- проклятой ересью. Какой позор для
нашего славного прошлого! Воины святой инквизиции
исповедуют ересь. Но вы еще не представляете себе всю
глубину падения. Я вам расскажу... разумеется, по секрету...
«Недавно у нас в темнице сидел один еретик, который
утверждал, что земля круглая и что она вертится. Ему
предстояла «пытка шести степеней», дабы вырвать у этого
богохульника признание в сношениях с дьяволом.
«Спускаюсь я к нему в подземелье — и что же! — вместо
стонов и криков, вместо пыточной машины этот тип, с
палачом и мерзавцами его подручными, комфортабельно
устроился на груде испанских ботинок. Вся компания хлещет
спирт и рассказывает неприличные анекдоты о ее
величестве королеве Изабелле. В протокол заранее внесено, что
бакалавр отрекся от греховного учения, признал его дьяволь-
182
ским наваждением и принял все постулаты нашей веры.
А писец священного трибунала, пьяный в стельку, добавляет
в протокол, что «кощунствующий бакалавр перенес всю
пытку, не моргнув глазом», и он, писец, якобы собственными
глазами видел, как два божьих ангела снимали еретика с
колеса.
«Палач и его бездельники совершенно распоясались и
заявили, что писец обсчитался: не два, а три ангела снимали
еретика с колеса, а четвертый в это время забавлялся с
парой испанских сапог.
«Как видите,— заключил верховный инквизитор,— я
остался с носом и был вынужден назначить этого мерзкого
бакалавра настоятелем храма св. Онуфрия. Ведь кроме
должности верховного инквизитора я еще и архиепископ по
совместительству. Приходится быть и политиком и
дипломатом. И, знаете ли, я пришел к выводу, что все эти
аутодафе, четвертования, колесования и прочее хороши лишь в
определенных условиях. Ситуация меняется, друзья мои, и
убеждения тоже. Кто бы мог подумать, что придет время,
когда палач осмелится бражничать с осужденным. Если дело
пойдет так, то не мы их, а они нас, пожалуй, вздернут на
крючья...»
Наступила пауза. Сонный отец эконом на полу бормотал
что-то нечленораздельное.
— Настала полоса упадка,— задумчиво произнес
верховный инквизитор.
Аббат Фернандо добродушно усмехнулся.
— Не принимайте этого близко к сердцу, друзья мои.
В успехе учения Мартина Барбарелло виноваты мы сами.
Почему до сих пор мы не создали в народе настоящей
широкой популярности для какого-нибудь святителя?..
— Орден святого Антония,— сказал глава ордена,—
вместе с орденом Сант-Яго и братством де Лос-Новос постановил
обратиться к вам с этим делом, досточтимый отец Фернандо.
Создайте для бедного народа нового святителя...
Осушив большую кружку церковного вина,— со
священным изречением на одной стороне и с фривольным
барельефом на другой,— аббат Фернандо деловито осведомился,
поглаживая пальцами неприличный барельеф:
— Святого? А с легендой или без?
— С легендой, ваше преподобие,— в один голос
отозвались посланцы.
— Ладно,— сказал аббат,— через неделю вы будете
обеспечены святым с легендой. Надеюсь, что дон Эльквадола
отблагодарит меня парой хороших лесных участков.
— Обязательно, ваше преподобие; даю вам слово. А сверх
того я подарю вам двух темнокожих рабынь, весьма
искусных в любовном деле.
183
— Прошу вас,— добавил верховный инквизитор,—
назвать нового святого тоже Мартином, чтобы
противопоставить его безбожному Мартину Барбарелло. Это поможет
борьбе с гнусными пикгартистами.
Аббат Фернандо сдержал свое слово. В Толедском архиве
он раскопал сведения о церковном причетнике Мартине,
который жил в Гренаде после завоевания ее войсками
королевы Изабеллы. Этот Мартин обобрал храм св. Иакова и
продал святую дароносицу еврею-старьевщику.
Королевский суд в Толедо приговорил его к лишению ушей и смерти
в волнах реки Тайо, куда его бросили зашитого в овчину,
предварительно засмолив и запалив с обоих концов.
Озаренный пылающей смолой и собственной славой, Мартин Иль-
дефонский блистательно плыл по реке...
Аббат Фернандо немедля сообразил, что здесь можно
сделать дело: у этого человека все данные для святого.
И Фернандо срочным письмом попросил у верховного
инквизитора пару свежих человеческих ушей.
В распоряжении инквизитора была как раз
подследственная грешница — сеньора Инеса Ладро. Ей
инкриминировалось обучение своего домашнего кота человеческой речи.
Преступление серьезное, ибо, выучившись говорить, кот стал
всуе упоминать имя господне.
Кот храбро выдержал пытки, впрочем весьма
незначительные, ибо оборудование застенков не было приспособлено
для котов. Палач ограничился тем, что отрубил ему хвост.
После этого кот, так и не сознавшись ни в чем, удрал из
темницы, видимо желая замести следы.
Зато его хозяйка под пыткой созналась в следующем.
Кот был желтой масти, а шерсть — короткая. Он терпеть
не мог крестного знамения. Один раз в погоне за мухой кот
опрокинул на себя сосуд со святой водой и, страшно фырча,
выскочил в окно, а наутро вернулся уже черным и очень
мохнатым, с искрами в глазах и запахом серы. И прокричал
с кастильским акцентом: «Проклятие Христу!»
После новых пыток Инеса Ладро дополнительно
сообщила, что кот употреблял в пищу исключительно св.
причастие, которое она, Инеса Ладро, доставала для него во всех
городских церквах. Несколько лет подряд, по пятницам и
субботам, она совершала с котом грех прелюбодеяния. Кот
умел молиться по-латыни, но фырчал после каждого слова.
Под веселую руку он поведал ей, что родом происходит от
узурласских чертей. Потом прихвастнул, что однажды с
помощью нюхательного табака заставил расчихаться самого
бога-сына, когда его еще маленьким родители увозили из
Вифлеема...
Короче говоря, уши сеньоры Инесы Ладро поступили в
распоряжение аббата Фернандо.
184
Аббат временно замариновал их в церковном вине и велел
объявить в городе, что господь, в неизреченной милости
своей, еще не отвратил лик от Толедо, хотя сей город погряз
в ереси и развращенные еретиками обыватели перестали
верить в чудеса. Милостивый бог делает последнюю пробу:
он прощает толедцев и в знак этого посылает им уши
святого Мартина, утопленного за сохранение тайны исповеди
королевы Изабеллы от короля, который хотел знать грехи
своей жены. Тридцать дней все церкви будут служить
торжественные молебны, а проповедники рассказывать о чуде
великомученика Мартина, уши которого найдены на месте
его смерти. Оправдалось старое предание о том, что в
тяжкие для святой церкви времена объявятся спасительные
мощи св. Мартина. Иноку обители св. Маргеты, Джоаго,
как раз перед отправлением на рыбную ловлю, было видение:
архангел Гавриил спустился с неба и объявил Джоаго: «Иди
на рыбную ловлю, сын мой. Под мостом бог пошлет тебе
чудесную добычу — уши св. Мартина, коим, по воле божией,
суждено было услышать исповедь королевы и остаться
навеки нетленными».
Легенда была умело пущена в народ и имела успех у
толпы, давно пресытившейся лестницей пыток и прочими
устаревшими штучками святой инквизиции.
Вскоре на улицах Толедо показались толпы фанатиков
с криками: «Слава святому Мартину Ильдефонскому,
духовнику ее величества Изабеллы Католической!» Шум
продолжался до глубокой ночи. Какой-то монах держал речь перед
толпой о том, что король Альфонс, казнивший святого
Мартина, тоже был еретиком. Потом монах намекнул, что не
мешает устроить небольшой погром еретиков и евреев.
Верующие с большой сообразительностью поняли намек
и с не меньшим усердием его осуществили. Впрочем, они
ориентировались больше на еврейские магазины, чем на пик-
гартистов. Долго еще виднелись фигуры богоборцев,
вспарывающих еврейские перины. «Слава ушам святого Мартина
Ильдефонского!» — звучал повсюду их христолюбивый
призыв.
Назавтра орден св. Маргеты, вместе с тремя другими
братствами, устроил крестный ход в городе. Белые уши
сеньоры Инесы несли верховный инквизитор и аббат
Фернандо— каждое ухо под особым балдахином на шелковой
подушечке. Хор из обители св. Маргеты завывал в стихах:
О ты, преподобный, животворящий
Великомученик святой
Мартин Ильдефонский,
Страдалец за тайну исповеди!
Клянемся на ушах и на всех твоих мученьях,
Что искупим их кровью еретиков..
Спаси нас, господи, и помилуй!
185
* *
Вновь возникшая легенда затмила собой почитание
замученного Мартина Барбарелло.
Уши св. Мартина и доселе лежат в главном соборе Толедо.
День св. Мартина празднуется одиннадцатого сентября.
К этому дню, пока действовал закон об отрезании ушей
каторжникам, собор всегда бывал обеспечен «нетленными
углами св. Мартина». После отмены закона уши пришлось с
трудом добывать в университетской анатомичке... -
КАРЕЛ ЧАПЕК
О ПЯТИ ХЛЕБАХ
...Что я против Него имею? Я вам скажу прямо, сосед:
против Его учения я не имею ничего. Нет. Как-то слушал я
Его проповедь и, знаете, чуть не стал Его учеником.
Вернулся я тогда домой и говорю двоюродному брату,
седельщику: надо бы тебе Его послушать; он, знаешь ли, по-
своему пророк. Красиво говорит, что верно, то верно; так за
душу и берет. У меня тогда в глазах слезы стояли и больше
всего мне хотелось закрыть свою лавочку и идти за Ним,
чтобы никогда уже не терять из виду. «Раздай все, что
имеешь,— говорил Он,— и следуй за мной. Люби ближнего
своего, помогай бедным и прощай тем, кто тебя обидел», и
все такое прочее. Я простой хлебопек, но когда я слушал
Его, то, скажу вам, родилась во мне удивительная радость и
боль,— не знаю, как это объяснить: тяжесть такая, что хоть
опускайся на колени и плачь,— и при этом так чудно и
легко, словно все с меня спадает, понимаете, все заботы, вся
злоба. Я тогда так и сказал двоюродному брату — эх, ты,
лопух, хоть бы постыдился, все сквернословишь, все
считаешь, кто и сколько тебе должен, и сколько тебе надо
платить: десятину, налоги, проценты; роздал бы ты лучше
бедным все свое добро, бросил бы жену, детей, да и пошел бы
за Ним...
А за то, что Он исцеляет недужных и безумных, за это я
тоже Его не упрекну. Правда, какая-то странная и
неестественная сила у Него; но ведь всем известно, что наши
лекари— шарлатаны, да и римские ничуть не лучше наших;
денежки брать, это они умеют, а позовите их к
умирающему— только плечами пожмут да скажут, что надо было
звать раньше. Раньше! Моя покойница жена два года
страдала кровотечением; уж я водил-водил ее по докторам; вы
и представить себе не можете, сколько денег выбросил, а
1Ы
так никто и не помог. Вот если б Он тогда ходил по городам,
пал бы я перед Ним на колени и сказал бы: Господи, исцели
эту женщину! И она дотронулась бы до Его одежды — и
поправилась бы. Бедняжка такого натерпелась, что и не
расскажешь... Нет, это хорошо, что Он исцеляет больных. Ну,
конечно, лекаришки шумят, обман, мол, это и
мошенничество, надо бы запретить Ему и все такое прочее; да что вы
хотите, тут столкнулись разные интересы. Кто хочет
помогать людям и спасать мир, тот всегда натыкается на чей-
нибудь интерес; на всех не угодишь, без этого не обходится.
Вот я и говорю — пусть себе исцеляет, пусть даже
воскрешает мертвых, но то, что Он сделал с пятью хлебами,— это
уж нехорошо. Как хлебопек, скажу вам — большая это была
несправедливость по отношению к хлебопекам.
Вы не слыхали об этих пяти хлебах? Странно; все
хлебопеки из себя выходят от этой истории. А было, говорят, так:
пришла к Нему большая толпа в пустынное место, и Он
исцелял больных. А как подошло к вечеру, приблизились к
нему ученики Его, говоря: «Пусто место сие, и время
позднее. Отпусти людей, пусть вернутся в города свои, купят
себе пищи». Он тогда им и говорит: «Им нет нужды уходить,
дайте вы им есть». А они Ему: «Нет у нас здесь ничего,
кроме пяти хлебов и двух рыб». Тогда Он сказал: «Принесите
же мне сюда». И, велев людям сесть на траву и взяв те пять
хлебов и две рыбы, взглянул на небо, благословил их и,
отламывая, стал давать хлеб ученикам, а они — людям.
И ели все и насытились. И собрали после этого крошек —
двенадцать корзин полных. А тех, которые ели, было около
пяти тысяч мужей, не считая детей и женщин.
Согласитесь, сосед, ни одному хлебопеку не придется
этакое по вкусу, да и с какой стати? Если это войдет в
привычку, чтобы каждый мог насытить пять тысяч людей
пятью хлебами и двумя рыбками — тогда хлебопекам по миру
идти, что ли? Ну, рыбы — ладно; сами по себе в воде
водятся, и их может ловить всякий сколько захочет. А
хлебопек должен по дорогой цене муку покупать и дрова,
нанимать помощника и платить ему; надо содержать лавку, надо
платить налоги и мало ли что еще, так что в конце концов
он рад бывает, если останется хоть какой-нибудь грош на
жизнь, лишь бы не побираться. А Этот — Этот только
взглянет на небо, и уже у него достаточно хлеба, чтобы накормить
пять или сколько там тысяч человек! Мука Ему ничего не
стоит, и дрова не надо невесть откуда возить, и никаких
расходов, никаких трудов — конечно, эдак можно и задаром
хлеб раздавать, правда? И Он не смотрит, что из-за этого
окрестные хлебопеки теряют честно заработанные деньги!
Нет, скажу я вам, это — неравная конкуренция, и надо бы
это запретить. Пусть тогда платит налоги, как мы, если
188
вздумал заниматься хлебопечением! На нас уже наседают
люди, говорят: как же так, экие безбожные деньги вы
просите за паршивый хлебец! Даром надо хлеб раздавать, как
Он, да какой еще хлебушек-то у Него — белый, пышный,
ароматный, пальчики оближешь! Нам уже пришлось
снизить цены на булочные изделия; честное слово, продаем
ниже себестоимости, лишь бы не закрывать торговли; но до
чего мы этак докатимся — вот над чем ломают себе голову
хлебопеки! А в другом месте, говорят, Он насытил четыре
тысячи мужей, не считая детей и женщин, семью хлебами
и несколькими рыбами, но там собрали только четыре
корзины крошек; верно и у Него хуже дело пошло, но нас,
хлебопеков, Он разорит начисто. И я говорю вам: это Он
делает только из вражды к нам, хлебопекам. Рыбные
торговцы тоже кричат,— ну, эти уж и не знают, что
запрашивать за свою рыбу; рыбная ловля далеко не столь
почетное ремесло, как хлебопечение.
Послушайте, сосед: я старый человек и одинок на этом
свете; нет у меня ни жены, ни детей, много ли мне нужно.
Вот на днях только предлагал я своему помощнику — пусть
берет мою пекарню^себе на шею. Так что тут дело не в
корысти; честное слово, я предпочел бы раздать свое скромное
имущество и пойти за Ним, чтобы проповедовать любовь к
ближнему и делать все то, что Он велит. Но раз я вижу,
как Он враждебно относится к нам, хлебопекам, то и скажу:
«Нет, нет! Я, как хлебопек, вижу — никакое это не спасение
мира, а просто разорение для нашего брата. Мне очень жаль,
но я этого не позволю. Никак нельзя».
Конечно, мы подали на Него жалобу Ананию и
наместнику— зачем нарушает цеховой устав и бунтует людей. Но
вам самому известно, какая волокита в этих канцеляриях.
Вы меня знаете, сосед; я человек мирный и ни с кем не ищу
ссоры. Но если Он явится в Иерусалим, я стану посреди
улицы и буду кричать: «Распните его! Распните его!»
КАРЕЛ ЧАПЕК
ЛАЗАРЬ
И до Вифании дошел слух, что галилеянин схвачен и
брошен в темницу.
Услыхав об этом, Марфа всплеснула руками, и из глаз ее
брызнули слезы.
— Видите,— сказала она,— я говорила! Зачем Он пошел
в Иерусалим, зачем не остался здесь! Здесь бы никто не
узнал о Нем... Он мог бы спокойно плотничать... устроил бы
мастерскую у нас во дворике...
Лазарь был бледен, и глаза его лихорадочно блестели.
— Это глупые речи, Марфа,— сказал он.— Он должен
был идти в Иерусалим. Должен был восстать против этих...
этих фарисеев и мытарей, должен был сказать им в глаза,
что и как... Вы, женщины, не понимаете этого.
— Я понимаю,— тихо и страстно проговорила Мария.—
И я знаю, что случится. Случится чудо. Он двинет
пальцем — и стены темницы откроются... И все узнают Его, падут
перед Ним на колени и будут кричать: «Чудо!»
— Как бы не так,— глухо ответила Марфа.— Он никогда
не умел заботиться о себе. Ничего Он для себя не сделает,
ничем себе не станет помогать. Разве что,— добавила она,
широко раскрыв глаза,— разве что другие Ему помогут.
Быть может, Он ждет, что Ему придут на помощь... все те,
кто слышал Его.., все, которым Он помогал... что они
препояшут чресла мечами и прибегут...
— Конечно! —заявил Лазарь.— Вы не бойтесь, девушки,
ведь за Ним — вся Иудея! Не хватает еще, чтобы... хотел бы
я посмотреть... Марфа, собери вещи в дорогу. Пойду в
Иерусалим.
Мария поднялась.
— Я тоже иду с тобой. Хочу видеть, как раскроются
стены темницы, и Он явится в небесном сиянии... Марфа, это
будет великолепно!
190
Марфа хотела что-то сказать, но промолчала.
— Идите, дети,— проговорила она.— Кто-то должен
остаться стеречь дом... и кормить кур и коз... Сейчас я
приготовлю вам одежды и хлебцы на дорогу. Я так рада, что вы
там будете.
Когда она вернулась, раскрасневшись от кухонного жара,
Лазарь был иссиня-бледен и встревожен.
— Мне нездоровится, Марфочка,— буркнул он.— Как на
улице?
— Очень тепло,— ответила Марфа.— Хорошо вам будет
идти.
— Тепло, тепло,— возразил Лазарь.— Но там, на холмах
Иерусалима, всегда дует холодный ветер.
— Я приготовила тебе тёплый плащ,— сказала Марфа.
— Теплый плащ...— недовольно пробормотал Лазарь.—
Вспотеешь в нем, потом обдует холодом, и готово! Ну-ка,
пощупай, нет ли у меня жара? Не хотелось бы мне заболеть
в дороге... на Марию надежда плохая... А какой Ему будет
от меня толк, если я, например, заболею?
— У тебя нет жара,— успокаивала его Марфа, думая про
себя: «Боже, какой стал Лазарь странный с тех пор... с тех
пор, как воскрес из мертвых!»
— Тогда меня тоже продуло, когда... когда я так сильно
занемог,— озабоченно произнес Лазарь; он не любил
упоминать о своей смерти.— Знаешь, Марфочка, с той поры мне
все что-то не по себе. Путешествие, волнение,— нет, это не
для меня. Но я, конечно, пойду, как только меня перестанет
знобить.
— Я знаю, что пойдешь,— с тяжелым сердцем сказала
Марфа.— Кто-то должен прийти Ему на помощь; ты ведь
помнишь. Он тебя... исцелил,— нерешительно добавила
она, ибо и ей казалось неделикатным говорить о
воскресении из мертвых.— Знаешь, Лазарь, когда вы Его освободите,
ты сможешь попросить, чтоб Он помог тебе — если станет
нехорошо...
— Это верно,— вздохнул Лазарь.— Но что, если я туда
не дойду? Что, если мы придем слишком поздно? Надо
взвесить все возможности. И вдруг в Иерусалиме что-нибудь
произойдет? Марфа, ты не знаешь римских воинов. О боже,
если бы я был здоров!
— Но ты здоров, Лазарь,— с усилием произнесла
Марфа.— Ты должен быть здоров, если Он тебя исцелил!
— Здоров,— с горечью протянул Лазарь.— Мне-то лучше
знать, здоров я или нет. Скажу только, что с тех пор мне и
минуты не было легко... Нет, нет, я Ему страшно благодарен
за то, что Он меня поставил на ноги, не думай, Марфа. Но
кто однажды познал это, как я, тот... тот...— Лазарь
содрогнулся и закрыл лицо.— Прошу тебя, Марфа, оставь меня
191
теперь; я соберусь с силами... только минутку... это, конечно,
пройдет.
Марфа тихонько села во дворе; она смотрела в
пространство сухими неподвижными глазами; руки ее были сложены,
но она не молилась. Подошли черные курицы, поглядывая
на нее одним глазом; но Марфа, против ожидания, не
бросила им зерен, и они ушли подремать в полуденной тени.
На порог с трудом выбрался Лазарь, смертельно
бледный, стуча зубами.
— Я... я не могу сейчас, Марфа,— запинаясь выговорил
он.— А мне так хотелось бы пойти... может быть, завтра...
У Марфы сжалось сердце.
— Иди, иди, ляг, Лазарь,— с трудом вымолвила она.—
Ты... ты не можешь никуда идти!
— Я бы пошел,— трясясь в ознобе, сказал Лазарь,— но
если ты так думаешь, Марфочка... Может быть, завтра... Ты
ведь не оставишь меня одного? Что я тут буду делать один!
Марфа поднялась.
— Иди, ложись,—проговорила она своим обычным
грубым голосом.— Я останусь с тобой.
В это время во двор вышла Мария, готовая отправиться
в путь.
— Ну, Лазарь, пойдем?
— Лазарю нельзя никуда,— сухо ответила Марфа.— Ему
нездоровится.
— Тогда я пойду одна,— с глубоким вздохом молвила
Мария.— Увидеть чудо.
Из глаз Лазаря медленно текли слезы.
— Мне очень хочется пойти с ней, Марфа, но я так
боюсь... еще раз умереть!
ЭГОН ЭРВИН КИШ
Я КУПАЮСЬ В ЧУДОТВОРНОЙ ВОДЕ
Святая купальня находится тут же, рядом с гротом Ма-
забиэль, где матерь божия в блаженный год 1858 «явилась»
четырнадцатилетней девочке, из уст которой все известно.
При третьем «явлении» Мария возвестила: «Приидите к
сему колодезю, дабы пить и омываться тут». При этом она
указала на клокотавший в углу источник. Так сказано в
книгах легенд, и с тех пор миллионы здоровых и больных
паломничают в Лурд (Франция).
Для тяжело больных есть купальный павильон, с
отделениями для женщин, детей и мужчин. Я хотел взять с собой
трусики и полотенце, когда уходил из дому. Хорошо сделал,
что не взял, ибо посещение «святой купальни» обставлено
совсем особым образом.
Да и что за странная затея — брать туда с собой земные
принадлежности?
Итак, мы, пришедшие пешком, сидим уже больше двух
часов на переднем дворике, а все еще из купальни выносят
на носилках больных. Кто раньше скулил, скулит и теперь;
кто стонал, продолжает стонать; румянец не появился на
желтых, помертвелых лицах, пустые глаза не стали
выразительнее, губы дрожат, под грудами простынь ничто не
шелохнется. Родственники опрометью бросаются к больным,
с надеждой окликают их, всматриваются. Ничего...
Но надежды еще не все потеряны, святая дева может еще
перед гротом милостиво склониться к страждущему,
исполнившему ее завет,— явившемуся издалека, чтобы испить
этой воды и искупаться тут. После купанья больного несут
к святой «целебной» скале, носильщики громко молятся,
родственники, тоже молясь, сопровождают носилки.
Мы не можем видеть грот, он находится за углом,
примерно в пятидесяти шагах от нас. Но, если бы свершилось
Против тьмы
193
чудо, мы услыхали бы ликующий крик спасенного и
радостные вопли толпы.
Мы ничего не слышим.
Наконец, очередь за мной. Занавес с инициалами лурд-
ской богоматери откидывается. Вместе с тремя другими я
вхожу в маленькую кабинку. Каменный пол грязен и
влажен. Мы раздеваемся, сидя на скамье. Около меня сидит уже
выкупавшийся мужчина. Он, по-видимому, не может сам
одеться. Тело его порывисто вздрагивает, руки не могут
застегнуть пуговицы. Прислужник помогает ему.
В полу устроено три бассейна, но только средний
наполнен.
Вверху видны две желтые медные трубы. Они закрыты.
В эту стоячую воду я должен теперь погрузиться. В ней
сегодня (по меньшей мере, сегодня) купались все явившиеся
сюда на носилках, в больничных креслах и пешком.
Источник в гроте поставляет за день 122 гектолитра.
Тысячи людей ежедневно пьют эту воду и наполняют ею свои
жестяные фляжки. Кроме того, святая вода рассылается по
всему свету. Давно уже слышится упрек, что жаждущим
чуда вместо воды священного источника преподносится вода
из реки Гав де-По. Церковные власти, однако, утверждают,
что излишек воды поступает из резервуара у церкви «Венца
роз».
Честь и слава резервуару! Невозможно, впрочем,
заставить кого-нибудь поверить, будто этих запасов достаточно,
чтобы заново наполнять бассейн после каждого купанья.
Итак, воду не меняют, мы все должны в нее лезть,—
здоровые и больные, чистые и нечистые. Заразные, пораженные
накожной сыпью, допускаются якобы только к концу
купанья. Сердечные и чахоточные вообще не имеют права
купаться. Но это может относиться только к тем, которых
привозят из госпиталя. Кто является сам, не обязан
подвергаться никаким осмотрам. Меня никто не исследовал.
На груди моих товарищей по купанью блестят
медальоны. Долговязый ирландец первым подходит к бассейну.
Служители подходят к нему справа и слева, но вдруг он
кричит: «Нет!» Он отворачивается: «Нет!» Его лицо, все его тело
сопротивляется, и никто не в состоянии представить себе,
какая безграничная сила может таиться в трех буквах:
«Нет!»
Он вспоминает, что проделал такой далекий путь,—
и только для того, чтобы принять эту ванну. Не преодолеть
ли на секунду отвращение? «Нет!» — стонет он себе в ответ...
«Нет!» В нашем тесном помещении его протест, это «нет»,
парализует нас больше, чем раньше вопли больных на дворе.
Купальные холопы девы Марии пожимают плечами.
Попытки посетителей убежать, по-видимому, привычны им,
194
и они подзывают следующего. Это я. Я подхожу в рубашке
к бассейну. Мне подают передник. Я его надеваю, он влажен:
сколько больных надевало его до меня, и какие больные?
Увы, мои трусики дома. Теперь я имею право снять
рубашку — целомудрие до последнего мгновенья! — ее бросают
на скамейку, где лежал передник.
— Молитесь, как написано там, на доске,— говорит
служитель и указывает на один из четырех плакатов, висящих
над бассейном. В тот же миг две пары рук хватают меня
железной хваткой, и, пока мужчины читают молитву,
написанную на правой доске (слева испанский, в середине
английский и французский текст), меня стаскивают по трем
ступенькам в холодную мутную воду и окунают так, что вода
мне доходит до рта. Они стоят в боковых пустых бассейнах
и тянут мое тело вниз, а подбородок вверх, они молятся со
мной,— я гляжу оцепенело на молитвенную доску.
Один подает крошечную статую Марии, которую можно
получить в лурдских магазинах за один франк. У меня нет
времени подумать, почему они не покупают статуи
побольше, например за два франка. Все больные должны после
купанья целовать эту статуэтку. Оба служителя помогают
мне подняться по ступенькам. Один из них хватает мою
рубашку,— увы, мое полотенце осталось дома, нет полотенца,
да и нельзя вытирать святую воду! На меня набрасывают
рубашку и, так как приличие уже соблюдено, снимают
передник.
«Нет!» — лепечет долговязый ирландец. Лицо его еще
искажено, нижняя губа свисает с отвращением, взгляд
блуждает по мне,— не видать ли смерти или исцеления? Его «нет»
становится тише. Ужас постепенно спадает, и, наконец,
ирландец тоже дает погрузить себя в чудотворную воду.
Наши босые, мокрые ноги ступают по полу, по которому
раньше мы ходили в башмаках. Мокрая грязь прилипает к
пятке. Полотенца нет,— что свято, то свято! Чулки на грязь,
костюм на мокрое тело,— ведь еще многие ждут.
Мы идем к гроту. Там происходит заключительный акт
водной церемонии. Навстречу попадаются на носилках
наши товарищи по несчастью. Из грота их несут туда,
откуда они явились,— в госпиталь. Их лица стали еще желтей,
еще бледней, груды простынь не шевелятся.
Того, кто умирает в госпитале, родственники либо везут
на родину, либо хоронят тут же, на кладбище, в общих
могилах,— вот единственное общественное место Лурда, о
котором не поднимают много шума и куда не водят
паломников. Там легко могла бы зародиться догадка, что святая
Мария слишком не милостива в этом приюте.
Предостерегающие надписи на всех углах: «Смотри за
кошельком!», «Остерегайтесь карманных воров!». Церковь
13*
195
предостерегает: следите за своими деньгами, вы можете их
употребить получше,— есть мессы, на которые можно жерт1-
вовать, можно платить за вечную лампаду, за афишки,
можно купить освященные свечи.
Всемогущая не может помешать в своих владениях
карманному воровству. Она даже не может добиться того, чтобы
наживающиеся на ней самой купцы соблюдали воскресный
день.
Несколько лет назад одному специалисту пришлось по
долгу службы исследовать чудотворную воду. Чтобы не
испортить своих отношений с духовенством и напрямик не
оспаривать мнимых исцелений, он написал в своем отзыве,
что это простая вода, «возможно, содержит пока не
обнаруженные минеральные элементы лечебного свойства».
Но тут ему солоно пришлось. Во-первых, матерь божия
не нуждается в лечебных жидкостях, во-вторых, исцеление
минеральной водой не было бы чудом и, в-третьих (самое
важное), после такой экспертизы государственное курортное
управление имело бы право взять лурдский источник в свое
ведение.
После него составить отзыв было поручено другому
должностному врачу, и тот установил, что в лурдской воде нет
никаких лечебных веществ. Этим церковь была
удовлетворена; вода, исцеляющая рак, слепоту и искривление
позвоночника, восстанавливающая потерянные конечности,— это
совсем простая, а значит — чудесная вода.
Взоры молящихся с мольбой обращены к гроту, все
ждут — не появится ли Мария, как она явилась Бернадетте
Субир. Но из миллионов паломников никто еще не
удостоился лицезреть живую Марию.
Несколько месяцев назад умер брат Бернадетты, ее
последний кровный родственник, и тотчас после этого в Риме
ее причислили к лику святых. Ее семья не пользовалась в
приходе особым уважением. Не многим святым
приписывается так мало добрых деяний, как Бернадетте.
Как это вообще случилось, что у нее были видения? Идя
вместе с двумя другими детьми собирать валежник, она близ
грота Мазабиэль подошла к речушке. Из-за трех шагов брода
Бернадетта не захотела снимать туфель и чулок. Она
потребовала от спутниц, чтобы те перенесли ее, но они и не
подумали этого делать, обругали ее лентяйкой и побежали
дальше. Когда же девочки вернулись, Бернадетта поступила
так, как поступает в подобных случаях ребенок: досадила
своим товаркам, рассказав им, что она увидала нечто
чудесное и прекрасное. Об остальном позаботилось
духовенство.
В музее Бернадетты висит гипсовая маска тогдашнего
лурдского священника,— дебелое хитрое лицо. Несомненно,
196
аббат Пейрамаль еще не был таким дебелым в то время,
когда его прихожанка встретила богоматерь, но хитер он был
уже тогда. Он никогда сам не ходил к гроту, обо всем
советовался с Бернадеттой и со своим епископом.
За несколько лет перед тем в деревне Ла-Салетт
появилась матерь божия, чтобы выступить с речами против
зарождавшегося социализма и против стачечного движения:
«Если мой народ не хочет покориться и смириться, сын мой
снимет длань свою с вас... Я приказала вам шесть дней
трудиться, седьмой да будет посвящен богу»...
Политические партии соответственно ответили на
божественное вмешательство в земные дела. Церкви явно не везло
в разгоревшейся дискуссии. Два пастушка, мальчик и
девочка, бьдли главными свидетелями явления богородицы, но,
преисполненные ревности, они противоречили друг другу в
своих рассказах. Девочку отправили в монастырь, мальчика,
много лишнего болтавшего в трактирах, сплавили в полк
зуавов *.
Вскоре после этого два местных аббата, Делеон и Кар-
телье, были отлучены от церкви якобы из-за проступков
частного характера, и тогда-то они разоблачили все: видение
было сплошной комедией, они даже назвали по имени даму,
разыгравшую роль святой девы, и указали ее адрес.
В день рождения священника Пейрамаль Бернадетту
отправили в грот в последний раз. Это была ее важнейшая
встреча с «богоматерью».
Слова «я есмь та» явившаяся святая дева произнесла
якобы на наречии басков 2 для того, чтобы лурдский ребенок
ее понял, но следующие слова никак не могли быть понятны
ребенку. Она сказала: «Я есмь беспорочное зачатие».
После этого матерь божия, как бы она этого ни хотела, не
должна была больше видеть ребенка в гроте.
Священник навсегда запретил Бернадетте ходить туда.
Ее отправили в Неверский монастырь и, даже когда она
заболела чахоткой, не пустили к источнику, хотя в то время
туберкулезным позволяли там купаться. Бернадетта умерла
молодой, со словами: «Я великая грешница».
Но лурдское дело процветало. Почти всякий уважающий
себя пиренейский грот был приютом языческого или
христианского культа. Почему же мазабиэльский не мог
пригодиться для этого? (Впоследствии в нем был обнаружен
древний квадратный камень — алтарь, посвященный Венере!)
Ханжи-горцы с самого начала считали куда более
вероятным, что маленькой Субир явилась в гроте матерь божия,
1 Зуавы — вид французской пехоты, созданный в Алжире в
1831 г.; французские колониальные войска.— Ред.
2 Баски — народ, живущий по обе стороны Западных Пиренеев,
во Франции и Испании.— Ред.
197
чем то, что ей там никто не явился. Итак, они отправились
туда вместе с ней. Правда, увидеть «богоматерь» не
пришлось, зато они видели, как Бернадетта в экстазе ела траву и
окропляла себя водой источника. Они осенили себя крестным
знамением при виде этого и впали в религиозное опьянение;
иные, напротив, стали танцевать и лезть на скалу, а это
доказывало ясно, как день, что они одержимы дьяволом,
стремящимся нарушить покой Марии в ее обители.
Начальник тарбской полиции запретил посещение грота,
но прихожане Лурда и окрестностей не обратили никакого
внимания на запрет и опрокинули сооруженную там
дощатую перегородку. После же того, как церковь признала чу-
дотворность воды, светские власти, конечно, отменили
запрет.
Шаг за шагом вереница людей движется через грот.
Железное дерево служит подсвечником, 160 000 свечей ежегодно
сгорают на нем дотла. Справа скала стала от поцелуев
похожей на черный лед. Громадная корзина служит ящиком для
писем в потусторонний мир. Туда опускаются письма к
мадонне. Затем их сжигают, и это значит, что они отправляются
к месту назначения; почтовые расходы уплачиваются у
выхода из грота; огромная церковная кружка стоит там, как
шлагбаум.
Трещат свечи, каплет воск, запах его одуряюще
смешивается с ладаном и запахом пота,— некоторые паломники
выполняют обет не снимать рубашки шесть недель до
паломничества. Однообразно гудят молебствия. Вот молятся те,
кто променял свое земное блаженство на «лучший»,
потусторонний мир, те, кто подчиняется начальству.
И.-Л. ПЕРЕЦ
ТРУБКА ЦАДИКА
Все — не только старики — помнят, как у Соре-Ривки не
было когда-то не то что детей, но и хлеба, прости господи,
простого черного хлеба!
Муж ее Хаим-Борух был всегда пламенным хасидом, с
самого момента появления его у нас, когда тесть его
(блаженной памяти, благочестивый был человек!) привез его
из-под Люблина.
Было видно сразу, что это человек особенный, богом
меченный... И наружностью был он таков... Лицо бледное, но,
чуть что, оно расцветает, бывало, как роза, на висках вечно
что-то трепетало, что-то билось, а обыкновенным кушаком
это творение божье опоясывалось чуть ли не десять раз,
если не больше... Рядом с цадиком (дай бог ему здоровья) он
сидел целыми часами. Но ни слова не промолвят ни тот, ни
другой. Лишь глаза их, чувствуешь, ведут разговор. Ну, как
с этаким-то заговорить о хлебе насущном?
Как это случилось, что в синагоге его называли «Хаим-
Борухом Соре-Ривкиным» или коротко — «мужем Соре-
Ривки», как люди умудрились связывать этакую святость с
горшком гороха и несколькими пачками дрожжей, которыми
торговала Соре-Ривка,— никак не поймешь. Соре-Ривке же
это доставляло большое огорчение. Оно хоть и лестно
слышать, как мужа называют по ее имени, однако она понимала,
что таким образом она использует доставшееся ей счастье в
этом мире.
Очень часто, несколько раз в неделю, она заходила в
синагогу, неся горшок с горохом.
— Хаим-Борух, — кричат юноши-талмудисты, — идет
твой кормилец!
Хаим-Борух, по всей видимости, чувствовал ее
приближение, еще когда она поднималась по лестнице. Он
1У9
уткнется, бывало, в чтение священной книги «Зогар», и лишь
над стойкой его колышется верхушка замасленной,
покрытой перьями ермолки. Но и на верхушку она не смотрит,
она вообще не глядит в его сторону, она не желает видеть,
как сияние витает над его головой. Пусть глаза ее не
услаждаются на этом свете. Все, думает она,— там! Там, в царстве
небесном! Все же ее пронизывает ощущение чего-то
теплого, радостного. Временами ей кажется, что она пьяна от
счастья...
Из синагоги она выходит точно выросшая, с ясным
светлым взором! И не узнаешь, что она замужняя женщина,
что ей пошел уж не первый год третьего десятка,— без
морщинки на лбу, с милым румяным личиком, будто только
что из-под венца.
Это-то именно ее и огорчает. Ничего, печалится она в
душе, не останется ей для царства небесного. Словно гусь
ощипанный, без единой заслуги, явится она туда. И каковы,
собственно, ее добрые дела? Слоняется она по улицам со
своим горшком гороха, разносит по четвергам дрожжи по
домам! Что ему от этого? Утром картофельная похлебка, по
вечерам суп с черствой баранкой,— вот и все его
удовольствия в этом мире. Прошло уже семь лет, и она ему не
сшила даже халата. На пасху — шапку, пару сапог — и все.
По субботам она дает ему сорочку, ну и сорочку, прости
господи! Одну паутину! Штопает и штопает, а толку мало...
— Господи,— думает она,— если положить на том свете
одну лишь букву его учености на одну чашку весов, а на
другую чашку все мои супы с похлебками, с моими глазами
в придачу... Что перевесит?
Правда, ей известно, что связанное здесь остается
связанным и в царстве небесном, ей известно, что не так
легко разлучают там мужа с женою. Да и к тому же
допустит ли он до этого? Он ведь такой добряк! Разве она
не видит, как он хочет, чтобы и она поела чего-нибудь за
столом?.. Глупо, конечно, думать, что он скажет ей об
этом *, но глазами он подает ей знаки. Нет, он не допустит
того, чтобы самому сидеть в кресле среди праведников и
патриархов, а ей скитаться в стране бесплодной, среди лесов
опустошенных... Но что проку? Семь лет живут они, еще
каких-нибудь три несчастных года — и развод2. У нее и
язык не повернется, чтобы сказать что-либо против
развода. Будет другая его подножием в раю, а она будет мы-
1 Разговаривать мужчине с женщиной, даже со своей женой, о
чем-либо, кроме самого необходимого, иудейская религия считает
зазорным.— Ред.
2 Если в течение десяти лет брак остается бесплодным, муж, по
требованию иудейской религии, обязан дать жене развод.— Ред.
200
кать горе в аду с каким-нибудь неучем... Разве ей
полагается больше?..
Она плачет, молит господа ниспослать благословение
на горох и дрожжи.
А он и впрямь был добряком. Глупая женщина, думает
он, чего она добивается? Все же надо что-либо предпринять,
может быть, тогда она себе позволит поесть чего-нибудь
за столом... И он задумал поговорить об этом с цадиком. Но
дело шло туго. Первый раз цадик не стал слушать, погружен
был в важные думы, второй раз он качнул головой:
дескать, ни так, ни этак... Однажды, в канун субботы, Хаим-
Борух вздохнул в присутствии ребе.
— Зря ты это,— злится ребе,— нечего моему хасиду
вздыхать. И в самом деле, что случилось?
— Дрожжи,— отвечает Хаим-Борух.
— Уже всюду, во всем мире евреи испекли белый хлеб
к субботе, в пятницу после двенадцати нечего толковать о
дрожжах.
В праздник нового года он явился снова к цадику. На
исходе праздника ребе как хлопнет Хаим-Боруха по плечу
при всем честном народе и спрашивает:
— Хаим-Борух, чего тебе не хватает?
Он зарделся и отвечает:
— Ничего.
— Неправда,— возражает ребе,— чего-то тебе не
хватает.
— Чего? — спрашивает, весь трепеща, Хаим-Борух, а
на языке уже вертится: благословения гороху и дрожжам!
Но ребе не дает ему ничего выговорить и, слово за
словом, как жемчугом, его одаривает:
— Трубки тебе не хватает, Хаим-Борух.
Народ глубоко поражен.
— Трубка у тебя,— говорит ребе,— как у ломового.
У Хаим-Боруха трубка выскользнула изо рта. Он едва
проговорил:
— Я скажу Соре-Ривке.
— Скажи, скажи,—поддакивает ребе.— Пусть купит
тебе большую трубку. Возьми вот мою праздничную для
образца. Такая должна быть у тебя трубка.
И он отдал ему свою трубку. Вот и все, и ничего
больше!
Не успел он еще доехать домой, как в местечке уже
проведали, что едет Хаим-Борух и везет праздничную
трубку ребе...
— К чему бы это? Для чего? — спрашивали повсюду
во всех переулках, во всех домишках.— В чем дело? — с
трепетом вопрошали все, в ком обитает еврейская душа
И тут же отвечали самим себе:
201
— Должно быть, для появления потомства. Хаим-Бо-
рух как будто страдает еще и болезнью, свойственной всем
занимающимся священным писанием !. Надо полагать, что
дым цадиковой трубки и тут поможет. Да, да! У Соре-Рив-
ки глаза больные, к двадцати двум годам ей пришлось
обзавестись очками. Ребе, без сомнения, имел в виду и это:
шутка ли сказать — жена Хаим-Боруха! И вообще: есть
ли такая напасть, против которой была бы бессильна
трубка цадика, к тому же праздничная трубка?!
Хаим-Борух не успел слезть с воза, как на него
набросилась сотня людей, прося дать трубку,— кто на месяц,
кто на неделю, кто на день, кто на час, на минуту, на
секунду,— озолотить хотят. А у него для всех один ответ:
— Не знаю. Спроси Соре-Ривку.
Пророческими оказались слова...
У Соре-Ривки прекрасно идут дела. Один раз потянуть
из трубки — восемнадцать грошей. Восемнадцать грошей,
ни на грош меньше.
И трубка помогает.
И платят.
И Соре-Ривка обзавелась домком, лавкой на славу, в
лавке много дрожжей и другого товара. Она пополнела,
поздоровела, выровнялась. Мужу справила новое белье,
очки свои сняла...
Несколько недель назад приехали за трубкой от
помещика. Отвалили три серебряных рубля. А то как же!
— А дети? Ну, конечно! Трое или четверо... Да и он
стал мужчиной хоть куда...
А в синагоге вечно спорят. Одни говорят, что
Соре-Ривка не станет и не намерена даже отдавать цадику трубку,
другие уверяют, что она ее давным-давно вернула, а это
уже другая. Сам же Хаим-Борух хранит молчание. Да и
какая разница? Лишь бы трубка помогала!
1 Геморроем.— Ред.
А. С. СЕРАФИМОВИЧ
ЧУДО
В январскую стужу, привалившись к задку саней, ехал
казак Наумыч в станицу.
Заиндевевшая лошадь бежит споро. Кругом пустая
степь, занесенная снегом. Наискосок, через дорогу, тянет
злая поземка. Верст семнадцать осталось.
Вдруг Наумыч натянул вожжи. Лошадь стала.
— Что за притча?..
Шагах в десяти от дороги пар шел. Слез Наумыч, идет,
проваливается по сугробам. Чудеса! В ложбине чернеет
живая вода, снег кругом мокрый, а в воде лягушонок
плавает — оттаял.
— Али наваждение?..— перекрестился Наумыч.
Знает — кругом верст на двадцать капли воды нет, степь
сухая, как кирпич, и от мороза даже воздух оледенел.
Побежал назад, ввалился в сани и погнал лошадь. А в
станице — прямо к попу.
— Так и так, батюшка, нонче мне наваждение в степе
было, благословите. Двадцать годов езжу по этому самому
месту, капли-росинки никогда там не бывало, и называется
«Сухой Лог», а тут прямо живая вода, а кругом мороз, а в ей
лягушонок плавает.
Поп сунул ему в губы волосатую руку, выслушал да как
заревет боровом:
— Мать, дай ему стакан водки! Да вели Николаю
запрягать вороных. Пошли за дьяконом, за дьячком, приготовьте
облачение... А ты, мать, полезь на подловку, там в углу
навалены иконы, выбери какую постарей божию матерь,
почерней какую. Да сама полезь, а то Палашка не сумеет. Да
не забудь... того...— крикнул он вдогонку,— энтого...
бутылочку в сани поставить,— мороз больно здоров.
Попадья, вся в паутине, слезла с подловки, подала
почернелую доску.
203
— На вот. Только-т нос у ней маленько сколупнут.
Через полчаса поп в новой енотовой шубе, с ним
здоровенный, похожий на быка дьякон — в волчьей и в
пальтишке, не попадавший зуб на зуб дьячок быстро ехали на
паре сытых вороных в степь.
Вот и ложок, и пар от него идет. Глядь, а с другой
стороны на паре гнедых тоже трое жарят: поп с дьяконом и с
дьячком из хутора,— пронюхали, канальи.
Подскакали разом; выскочили попы да к воде с икбнами.
И стали друг дружку пихать.
— Ты что же это. в чужой приход, сивый мерин! А?!
— Врешь, бабьятник, наш, хуторской, тут юрт.
Вцепились друг другу в бороды. Дьяконы из саней на
помощь поспешают. А у дьячков свое — кадило в сторонке
раздувают.
Станичный дьякон скинул с правой руки волчину да, не
крестясь, не молясь, ка-ак ахнет хуторского батюшку,— тот
и ушел головой в снег.
Взревел по-бычьи хуторской дьякон:
— А-а, так ты нашего!..
Скинул тулуп, размахнулся — господи, благослови. И
задрал ноги станичный поп, зад весь в снегу показал. Сошлись
дьяконы, оба ражие, откормленные, с бычьими шеями, и
голоса рыкающие,— быть бы большому бою, да бегут
кучера, кричат:
— Батюшки!.. Батюшки!.. Народ едет...
А народ действительно ехал: со всех сторон зачернели
сани. И как это быстро весть о чуде облетела станицу и
хутора!
Попы, кряхтя, поднялись, и пошло: «господи помилуй»,
и «аллилуйя», и «радуйся, невесто неневестная»...
На другой день народу привалило еще больше. Везут
безруких, хромых, слепых, иссохших, измученных, падучих>
порченых, кликуш. И все с умилением, со слезами пьют
святую воду и прикладываются к явленным, быстро
стынущим на воздухе: морозно — прилипают губы, больно
отдирать. А кругом вздохи, крики, плач, визг, кликуши
голосят:
— Матушки, царицы небесные! Да как же вы нас
сподобили, недостойных?! Хучь бы одна, а то сразу две —
преподобная Одигитрия ды Казанская божая мать...
А около попов растут кучи денег, печеного хлеба, яиц,
сала, овчины, мешки с пшеницей. Пара вороных и гнедых не
успевают отвозить. Так тянулось целых четыре дня.
Измучились попы, до седьмого поту трудятся. По области, по
станицам, по хуторам слава пошла о двух явленных и как они
исцеляют болящих. И те, кто приезжал, своими глазами
видел явленные иконы в живой воде, как для болящих цари-
204
цы небесные воду все прибавляют,— стало уж маленькое
озерце и не мерзнет.
Удивляется народ, в страхе и умилении пьет воду,
набирает в пузырьки, в бутылки и развозит по всей области.
На пятый день приехали на двух санях рабочие, хмурые,
черные от въевшегося металла и масла. Вылезли, достали
инструменты, подошли.
— Ну, будет вам тут турусы разводить-
Вскинулись попы и молящиеся:
— Вам чего надо? Тут явленные матушки, царицы
небесные— Одигитрия да Казанская...
— Ма-атушки!.. По матушке бы вас всех... Ишь, сколько
воды нашло. В станице, почитай, водопровод стал, без воды
все сидят. Труба лопнула, а вы воду лакаете, да еще с
водосвятием. Ну, пущайте, некогда нам тут с вами...
И принялись за работу. Развели костры, оттаяли землю,
вырыли колодцы; открыли водопроводную трубу, заменили
лопнувшую часть новой, опять засыпали землей и уехали.
Поднялась метель, все бело сравняло, и опять осталась
степь, пустынная, одинокая, безлюдная.
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ
ПЕТУШИХИНСКИЙ ПРОЛОМ
(Отрывок)
...Годы шли мерно и строго, как слепые старики на
богомолье.
И случилась вдруг часовенка негаданно, а потом мона-
стырек как-то ненароком,— в нем и поныне тридцать
монашков черными локтями да лбами мужицки-крепкими в
медную рая дверь стучат. Достучался ли хоть один, кто
знает? Да и стоило ль стучать по-настоящему: от добра
добра не ищут! А игумен здесь податливый, именем
Мельхиседек.
Был Мельхиседек допрежь того купцом, запоец и
похабник был, торговал скобяным товаром, и звали его, по
пьяному делу, Митрохой Лысым. Раз, в пьяном образе,
проездил всю ночь по городу верхом на свинье и, когда,
вдребезги пьяненький, упокоился в канаве, явился ему на
утрий час Пафнутий и сказал: «Будь у меня игуменом».
И стал, преобразясь в Мельхиседека.
Еще в начале самом бил поклоны пламенно, и был
сладок ему горький елей монашеского жития. Воздержан был:
дважды падал, истомясь, широкой спиной у заутренней, а
потом с чего-то трудней стало в безмолнийное небо
мертвые камни молитв швырять. Потянулись надоедливо
монастырские дни,— тихоходное, бессловесное зверье. К тому же
случился с ним тогда большой перелом.
Наложил раз на монаха епитимью за бурное слово, а
сам встал на колени и молился весь день и всю ночь. Был
обилен пот, были нескупы слезы, и на рассвете, когда
заломило огненным сверлом в спине, придвинулась душа его
ко краю, щ на коленях стоя, высунул он Пафнутию
прокушенный свой, в бешеном исступленье, багровый язык...
Ибо требовала в последний раз душа его пламенем
сверкающего чуда, но не было чуда, и ни молния, ни гневная морщь
206
в Пафнутьевом темном лике. А зорко глядело из Мельхи-
седековой груди озорное сердце Митрохи Лысого. И когда
не стало чуда, сделалась заместо сердца коряга, и коряга
та свиной щетиной поросла.
С той-то поры и залоснились Мельхиседековы щеки, а
голос позычнел, а походка утруднилась телом.
...А слухи о Пафнутьевых останках стали дымом
распространяться по земле, потом претворились слухи в
славу,— трухлявый господин заезжий ревматизмы
вылечил,— а слава в буйную разрослась молву.
И шла она, молва, людским трезвоном по полям
бездорожным, по лугам заливным. Входила молва в
мужицкие избы, придавленные горем,— залезала в уши к безногим
мужикам на палати, к бесплодным бабам в сердца, в головы
пустые к невидущим старухам, тем, которые
растопыренными пальцами и глазами, налитыми темной водой, щупают
с покорностию запахи, звоны и шорохи, вымаливают благо-
стыньку на больших дорогах пространной нашей земли.
И плелись они, бабенки с пустыми глазами, конокрад
свихнувшийся, бобыль с бородой,— богомольная, нищая
босота, каменное сердце под юродным крестом,— с клоками
сена в волосах, с колокольцами в сердце, ползли безногие
на мозластых пятернях, и там, перед серебряным сундуком,
слепые подымали головы, провидя страшные выси в
куполах, мертвым взглядом угадывая Пафнутия, возлежащего
в славе, перед собою, бесплодные выставляли вперед
пустующие брюха, и рычало в жалобном ожиданье нутро их:
— Пафнуть, освяти! Поели, чтоб мужичка родить,—
назову Пафнутием,— крикунка махонького!!
О, сколько раз протягивали вы, корявые, тяжелые
ладони, Пафнутию копейки ваших душ...
...А когда на обеднях затаенными голосами пели
херувимскую и кричали навзрыд кликушами пучеглазые
Мишки-Кукареку, двоюродни Митрохи Лысого,
торжественный, как каменный Ваал, стоял Мельхиседек на ковровой
игуменской вышке и потел от скуки, а сердце, спрятанное
глубоко в черном, не ускоряло к вечности бега своего.
И по мере того, как окружалась Пафнутьева нетленность
серебром лампад, мерцающих горе лукаво, окружалось
жирком бренное игуменское тело и славой неугасимой белые
стены монастыря.
...Что ж, Митроха, живешь неплохо,— поистине
претворился полынный елей монашества в сладостное уединенья
вино!..
...За неделю узнала округа Петушихинская: большаки в
ту пятницу приедут Пафнутья вскрывать. Ворчали:
— Добрали-ись!
— На земле тесно большакам, на небо захотелось...
207
— Эко дерзнование, пра-а: святого перетряхивать!
...Тогда дул теплым ветром Федул теплый, и по низинам
морщилась зима. Но еще противился водному зною
закоченевший лес, и цвела еще, цвела, случайная, в ближнем
овражине лесной, сосна нетающими снежными цветами.
В пятницу забили к утрене, но был то не утренний, а
черный звон. Хотел Мельхиседек преобразить ту пятницу
в страстную пятницу, велел бить медленным, отрывным
ударом, раз от разу уменьшая силу. Не ждала чуда
запустевшая душа его.
Накануне, созвав монахов, усадил их рядышком,
тридцать живых, и смиренным голосом, переползая от одного
к другому, умаливал их о прощении, а какого греха,— не
сказал. Некоторые плакали, а некоторые кукиш в карманах
казали, а еще некоторые все слушали, все слушали и не
понимали ничего. А нужен был игуменскому сердцу порыв
какой-то, и порыва этого ради преклонял ныне перед
братией смиренные колена он.
А когда разошлись все, не к молитве, нет, а пугливо
думая о завтрашнем дне, постучался поздно ночью в Мель-
хиседекову келью монах Ермоген. Был Ермоген из строевой
колоды вытесан, был оглобельного роста, а лик у него был
черный и плоский, и были ручищи в грабли и ладонь в
поднос. Мельхиседек чайком занимался в то время, когда
пришел Ермоген, а славился Ермоген своим великим
послушанием.
Они сели так, один против другого, и долго глядел
Ермоген в Мельхиседека, ожидая гневного игуменского взгляда:
был бы ему утешителен гнев игумена, но молчал тот.
И сказал Ермоген как бы ненароком, исподлобья пуская
слова и прилипая страшным взглядом:
— Вот придет день... придет день после ночи... и грянет
гром над головами их!
Мельхиседек обронил глухо, бегая взглядом:
— Не грянет, нет.
И как-то по-своему поняв ответ игумена, поднялся
Ермоген, и вдруг пугачевское озорство и удаль бродяжная,—
был до пострига бродягой Ермоген,— пробежали у него з
синяках глаз, и, протянув дрожащую руку вперед, с
наглостью небывалой потрепал игумена по плечу,—
засматривали в вымытые окна голые, бесприютные липы из ночных
глубин:
— Так, может, не давать им? Ворота на запор и в набат?
А то и так: Пафнутья к тебе под кровать спрячем,—
скажем, что ушел, мол, ночью, а?
Угрюмо поднялся Мельхиседек. Голосом,— словно гвозди
рассыпали по камню,— густым и звенящим, произнес со
страшной, умиротворяющей силой:
208
s
s
о
о
a
о
X
3
£
Pi
ft.
— Иди, Ермоген, с миром. Накладываю на тебя тыщу
поклонов, а опосля еще поговорим.
А когда ушел Ермоген, темнее ночи ставший, но без
единого слова — и это было плохо,— послал игумен верхового
обыденкой к викарному в город с письмом: не найдет ли,
мол, его преосвященство возможным поприсутствовать на
завтрашнем увеселении. Так и было написано в посланье:
«...извещены мы, что приедут завтра холуи, опосля заутрени
увеселение над Пафнутием, мужикам на посмех,
производить. Так вот, уведомляя о сем Преосвященство Ваше,
просить всепокорнейше осмеливаюсь, поприсутствовать на
холуйском сем увеселении. Все это к тому, что и вы знаете,
и я знаю все, так скрывать нам нечего...»
Писано было это письмо рукой Мельхиседека и душой
Митрохи Лысого.
Поздно ночью прискакал игуменский посланец назад:
викарного большаки накануне увезли в комиссию, духовные
чины в смятении, ждут больших бед.
Сказывал это верховой, стоя в дверях, а Мельхиседек, в
одном белье, слушал из смежной комнаты, свесив с кровати
отекшие ноги, и морщился порой, словно от внезапного
прилива тошноты. Потом, уже перед рассветом, подошел
к шкапчику,— по бокам висели черноклобучные его, в
вечном успении, предшественники,— и привычно-сторожким,
чтоб не разбудить старичка-келейника, движеньем достал
оттуда бутыль с перцовкой. Но пить не смог,— рукой
махнув и вздыхая дубовой грудью, бессильно ввалился в
кровать и увял неспокойным, коротким сном до утра.
Игуменские окна смотрели прямо на собор. Был собор
семиглавый, и золоченые кресты были хороши в
апрельской утренней лазури. На голом суке ближней липы сидела
ворона и как будто вороненок с нею молодой, — они
кричали все утро, до самого благовеста.
* *
*
Их приехало четверо, и между ними Талаган, и еще
семеро солдат, но одетых не по-солдатски, с ружьями. И все
эти четверо были такие, что придраться к ним взглядом
никак было нельзя.
Один был в поярковой шляпе и в. очках, темных, но
ослепительных, когда становился против солнца. На боку
у него сложенной гармошкой висел аппарат. «Позор-то, ох,
позор-то. Осподи-Осподи, Владыко живота»...— так раз семь
прошептал игуменский келейник, завидя мышиные глаза
гостя в очках. Другого звали товарищем Арсеном,— был
это высокий, голубой весь человек: иссера-голубые глаза,
Прети; тьмы
209
рубашки ситцевой бледная голубизна выглядывала из-за
распахнутого нагольного полушубка, и даже слова его все,
немногие, какие говорил он тихим и упорным, по-женски,
голосом, отливали голубизной, и даже жилки виднелись
голубые на виске, где удивительно среди жилок этих
пробегал голубой шрам. Но происходила голубизна Арсена
Петрова от железа. Третьим был Талаган, теперь — товарищ
Устин, а четвертым — длинный человек с фамильей
Якайтис.
Когда все четверо шли в игуменскую келью с бумажками
единообразными в руках и безоружные все четверо, был
товарищ Устин весь спутанный, затаившийся и темный, и
шел, как мокрый мышь. В голове Мельхиседека, глядевшего
из окна, облегченьем мелькнуло тут: а пиджак-то на тебе
чужой, да-да, чужой!.. У товарища Арсена нашлись вот
какие голубые слова:
— Мы приехали произвести вскрытие находящихся
здесь мощей. Вы получили уведомление? Мы сделаем все,
чтоб не оскорбить ни ваших чувств, ни чувств молящихся
граждан. Наши мандаты вот.
Мельхиседек грузно и через силу улыбнулся при слове
«мандаты» и, взяв в руки целую пачку проштемпелеванной
бумаги, неуверенно проглядел их, но документы, по
рассеянности, держал некоторые верхом вниз.
Арсен Петров заметил, но продолжал:
— Ну так вот. Вы уж поприсутствуйте на вскрытии,—
вам придется протокол подписать потом. Вам ничего
покуда не угрожает, так что можете быть в полном
спокойствии. Фамилии наши вот,— это на всякий случай, мало ль
что, может, обидитесь. Моя — Арсений Петров, а это
товарищи мои — Порфирий Мохлин, Устин Петухов от местной
власти и товарищ Якайтис, это вот он.
Якайтис моргнул с головокружительных высот своего
роста. Мельхиседек острым, насмешливым взглядом
уставился на Талагана...
...— Сколь ни отяготительно всем нам присутствие ваше,
однако, в Промысел веруя, не боюсь... А памятуя, что благо-
приветливость есть украшение всяческого человека, даже
и в трудный для него момент жизни, осмелюсь пригласить
вас выкушать чайку, поелику гости вы... А еже ль устали,
можно приказать... яичек тож.
Но голубой человек уже отвернулся, пряча клинок
внезапной насмешки в~ морской синеве глаз, и слова тут
выросли в нем простые, корявые, мужицкие, несуразные,
как поленья:
— Нам это ни к чему, отец. Не в гости приехали...
Хлопотливость ваша зазря! Ведь в ладонях стер бы, каб
тебе власть?
210
Мельхиседек молчал и глядел в пол, а они ушли, тихо
притворив дверь, один за другим, четверо. И тот, которого
звали Якайтисом, все щурил, оглядываясь, близорукие,
беззрачковые глаза. А Мельхиседек почуял себя, как отрок в
печи Навуходоносоровой: огонь, а не жарко, но пальцы
захолодали холодным липким потом, нехорошо...
*
Когда они вошли, Савосьяна, пришедшего говеть,
придвинула глазастая толпа людская близко-близко к
серебряной раке, где Пафнутий.
Расширился Савосьян в плечах за ту весеннюю неделю,
и налились синевою густою апрельских вод глубокие чаши
старых глаз. И еще висела смешно и грустно в бороде
Савосьяновой заблудившаяся и мертвая теперь пчела: всю
неделю оправлял ульи, прислушивался, как просыпается
пчелиная жизнь в медоносных колодах, как жужжит в
омшаннике буйный пчелиных крыл взлет. Тогда сходили
снега, вылезала на солнцепеках сморщенная благостыня
апрельских зеленей. А вербы в монастырской ограде совсем
белыми стали, и бе л ость их просвечивала зеленцой.
Печальнее, чем всегда, был той пятницы великопостный
звон. Едва вошли они, следом вошел Мельхиседек и камнем
встал на игуменской вышке.
Четверо пошептались, и тот, который носил названье
Порфирья Мохлина, принял у близстоящего монаха
спокойным поворотом руки серебряный ключик от раки и всунул
его в замочную щель,— замок оказался со звоном...
...Устин, голову словно от грома втягивая в плечи,
протянул неуверенно руку, поддержать приподнятую крышку
раки.
Тут бабий вздох:
— Ох, Осподи, полымем бы их!..
За кружевным серебром крышки лежало тяжелое золото
парчи. Бледный, но спокойный видимо, Арсен Петров
приподнял парчу. И тогда пахнуло неуловимо затхлой, сырой
гнильцой в зорко растопыренные, сторожащие ноздри
Савосьяна...
...А за парчой, обнаженные дневным светом и не одной
сотней остановившихся в безумном ожиданье глаз, голые
лежали на лиловом блеклом шелку темные немногие кости
Пафнутия и малый череп его...
...Стояли в первом ряду Савосьян с Алешей, две бабы —
одна бельмастая, другая брюхата на седьмом, мужичок с
хохолком напереду и слепец нищий, зорко внимавший
шелушивым ухом свершающегося, пролома ходу. Едва
14* 211
стихли все,— тут, приседая плечом, ворочая затекшей от
напряженья головой, как-то нечаянно,— никто не ждал,—
взял слепец вытянутой сухо рукой череп Пафнутия и,
большие, черные свои пальцы вложив в глазные костяные
Пафнутьевы впадины, произнес негромко,— скрежещущим
плясом отдавали слова:
— А вот тут у нево, у старичка, глаза были... А ноне их
и нету. Эко дело!..
И тогда в тишину, которая как омут, острым колом
ввалился надрывный сверлящий крик забившейся кликуши.
Пробегал мелкосеменящей рысцой мимо игуменской вышки
Устин Петухов выводить припадочную бабу, ...и звенящим
голосом, как плевком, обрушиваясь на Талагана, гаркнул
яро Мельхиседек:
...— Эй, ты, дьякон,— гони их взашей!!. Подсвешником
по шеям... сволоту бей...
В разбредающемся гуле медленно повернул вместе с
головой пегие, в Мельхиседека, навыкат глаза Якайтис и
шею побагровевшую почесал карандашом и рванулся
нерусским словом:
— Ччито-о?..
Но остановился, как остановилось все, смиренное
железным взглядом голубого человека:
— Нну, вы!!
И продолжил:
— Вы б потише, отец, здесь как-никак церква, а не
кабак-с!!
Поворотясь к человеку Порфирию Мохлину, проговорил
полным голосом:
— Вот вы о деликатности говорили... Какая тут к черту!..
А толпа, раздавленная испугом, как мышь поленом, и
монахи, тревожно разинувшие помутневшие глаза, слушали
растерянно тяжеловесные лохмотья шумов, криков и
шорохов, перелетавших гулким эхом в невысоких куполах...
И не знали: бежать ли, кричать ли, хватить ли оглоблей
по клобуку расходившегося игумена или укусить за ногу
приезжего латыша...
...Стоял Мельхиседек с лицом, разорванным надвое: в
одной половине — ужас, в другой — гнев. И, палец закусив,
все ждал, ждал чего-то от игумена. А тот, все еще вылупив
налитые волчьей кровью глаза в Пафнутьев образ,
повешенный серебряному, раскрытому сундуку наискосок, глядел и
глядел, не моргая, глотая ведрами воздух, дико
сквернословя обезумевшей мыслью своей... И вдруг ясно
различил ответное, жестокое действо там, на доске: усмехнулся
с басменой доски Пафнутий Мельхиседеку в упор.
Они-то, конечно, и не заметили. Гармошку свою
раздвинув на Пафнутьевы останки, щелкал пружинкой Порфи-
212
рий Мохлин и вынимал и новые вставлял и опять щелкал,—
теперь уже всех: и народ глазеющий, и всхлипывающего
молоденького монашка на темном клиросе, и диким
взглядом, как оглоблей, размахнувшегося игумена.
Лицом бледнея неладно, сбросил с себя клобук
Мельхиседек, и тут все увидели, что игумен был лыс. Угрюмым
солдатским шагом, раздавливая захрустевшую картонку,
пошел он к двери, из собора вон. Чуялось в его твердом
шаге неслышное величие уходящего мертвеца.
Но этим не кончилось: ему, уходящему, заступил путь
монах Ермоген. Он жевал губами,— может, язык свой
жевал! — и, на вершок выпячивая каменную свою челюсть,
проговорил отчетисто:
— Что ж молчишь!.. Ты меня водицей святой поил,
когда я без ног лежал... А хошь в ухо дам тебе?..
Суровой рукой, широким оглобельным движеньем
отведя монаха в сторону, вышел из собора Мельхиседек.
Когда ушел,— в растерянности общей, чуточку
колеблясь, но снова овладевая собой, выкинул Арсен Петров
голубую улыбку, как мяч, в посеревшее лицо Савосьяна:
— Ну что, как,— видел, дедушка?
Разводя руками, словно на жмурках, вытянул из себя
размашистые, недопускающие и виноватые слова Савосьян:
— Што ж, оно конешно! Наше дело махонько: живем
в лесу, молимся колясу...
В плену
СУЕВЕРИЙ
Ф.-М. ВОЛЬТЕР
ПРОСТАК
(Отрывок)
ГУРОН, ПО ПРОЗВАНИЮ ПРОСТАК, ОБРАЩЕН
Господин настоятель, видя, что надвигается старость и
что бог в утешенье послал ему племянника, забрал себе в
голову, что мог бы передать ему свою бенефицию, если бы
ему удалось окрестить его и добиться рукоположения его в
священники.
У Простака была превосходная память. Сила
нижнебретонского организма, укрепленная канадским климатом,
сделала его голову столь крепкой, что, когда по ней ударяли
снаружи, он это едва чувствовал, а когда что-нибудь
запечатлевали внутри, это уже не изглаживалось. Он никогда
ничего не забывал. Его сила постижения была тем более
острой и точной, что в детстве его не загружали всякими
бесполезными и глупыми вещами, которыми пичкают нас,
и поэтому все входило в его мозг в ясном виде.
Настоятель решил дать ему прочитать Новый завет.
Простак проглотил его с большим удовольствием, но, не
зная, в какое время и в какой стране происходили
повествуемые в этой книге приключения, он не сомневался, что
местом действия была Нижняя Бретань, и поэтому
поклялся, что отрежет уши и носы Канафе и Пилату, если
когда-нибудь столкнется с этими негодяями.
Дядя, восхищенный столь похвальными настроениями,
разъяснил ему все в короткое время. Он хвалил его усердие,
но показал ему, что это усердие бесполезно, так как люди
эти умерли около тысячи шестисот девяноста лет назад.
Простак скоро знал почти всю книгу наизусть. Он иногда
предлагал такие вопросы, которые ставили настоятеля в
весьма затруднительное положение. Настоятелю иногда
приходилось советоваться с аббатом де Сент-Ив, который, не
зная, что ответить, вызвал для завершения обращения гу-
рона одного нижнебретонского иезуита.
217
Наконец благодать снизошла на Простака, и он обещал
стать христианином. Он не сомневался, что ему прежде
всего придется подвергнуться обряду обрезания. «Потому
что,— говорил он,— я не вижу в книге, которую мне дали
прочесть, ни одной особы, которая не подверглась бы этой
операции. Очевидно, стало быть, мне придется пожертвовать
своей крайней плотью — и чем скорее, тем лучше». И он не
стал откладывать. Он тотчас же послал за сельским
лекарем и попросил его сделать ему соответствующую операцию,
рассчитывая чрезвычайно обрадовать этим как мадмуазель
де Керкабон, так и всех друзей семьи. Коновал, еще никогда
не делавший этой операции, предупредил об этом семью,
поднявшую страшный крик. Добрая Керкабон боялась, как
бы ее племянник, который казался человеком сильной воли
и быстрым на решения, сам крайне неуклюже не совершил
над собой этой операции и как бы это не повлекло за собой
печальных последствий, каковыми дамы по доброте души
всегда очень интересуются.
Настоятель разъяснил гурону его заблуждения. Он
сказал ему, что обрезание теперь уже не производится, что
крещение гораздо более приятно и спасительно и что закон
благодати совсем не то, что закон сурового возмездия.
Простак, у которого было много здравого смысла и прямоты,
поспорил, но признал свое заблуждение, что в Европе
довольно редко случается со спорящими людьми. И он
обещал дать себя окрестить, когда угодно будет его родным.
Но предварительно нужно было исповедаться, это было
самое трудное. Простак постоянно носил с собою в кармане
книгу, данную ему дядей. В ней он не ви,дел, чтобы хоть
один апостол исповедовался, и это делало его крайне
неподатливым. Настоятель заставил его замолчать, показав ему
в послании св. Иакова Младшего следующие слова,
причиняющие столько неприятностей еретикам: «Исповедуйтесь
друг другу в своих грехах!» Гурон подчинился и
исповедался у одного францисканца. Исповедавшись, он вытащил
францисканца из исповедальни и, обхватив его сильной
рукой, сел на его место, а его поставил перед собой на колени
и сказал:
— Вот что, друг мой, сказано: «исповедайтесь друг перед
другом». Я тебе поведал свои грехи, и ты не выйдешь
отсюда, пока не перечислишь мне свои.
И с этими словами он придавил широким коленом грудь
своего противника. Францисканец стал испускать крики,
раздававшиеся по всей церкви. На крик сбежались со всех
сторон и увидели, как исповедующийся тузит монаха во имя
св. Иакова Младшего. Однако радость окрестить нижнебре-
тонца, гурона и англичанина была так велика, что
пренебрегли всеми этими странностями. Многие богословы даже
218
полагали, что исповедь вовсе не необходима, так как
крещение заменяет все.
Договорились относительно дня обряда с епископом из
Сен-Мало, который, по-видимому, польщенный
возможностью окрестить гурона, приехал в пышном экипаже в
сопровождении своего причта. Мадемуазель де Сент-Ив, воздав
хвалу господу-богу, надела свое лучшее платье и вызвала
парикмахершу из Сен-Мало, чтобы блистать на церемонии.
Судья-допрашиватель примчался вместе с жителями всей
округи. Церковь была великолепно убрана. Но когда настало
время привести гурона, чтобы посадить в купель, его не
нашли.
Дядя и тетя искали его повсюду. Подумали, что он, по
своему обыкновению, пошел охотиться. Собравшиеся на
празднество обошли все рощи и соседние деревни,—
никакого следа гурона.
Стали опасаться, уж не возвратился ли он в Англию.
Вспоминали, как он не раз говорил, что очень любит эту
страну. Господин настоятель и его сестра были убеждены,
что там никого не крестят, и дрожали от страха за душу
своего племянника. Епископ был смущен и собирался
уехать обратно; настоятель и аббат де Сент-Ив были в
отчаянии; судья со всей обычной важностью допрашивал
всех прохожих.Мадемуазель де Керкабон
плакала;мадемуазель де Сент-Ив не плакала, но испускала глубокие вздохи,
которые, казалось, свидетельствовали об ее большом вкусе
к исповедям и причастиям. Обе они печально ходили вдоль
верб и розовых кустов, окаймлявших ранскую речку, как
вдруг увидели стоявшую посредине реки белую фигуру со
скрещенными на груди руками. Они испустили громкий
крик и отвернулись. Но любопытство тотчас же одержало
верх над всеми другими соображениями, и они незаметно
укрылись в розовых кустах. Когда же они убедились, что
их никто не видит, им захотелось посмотреть, что из этого
выйдет.
. ПРОСТАКА ОКРЕСТИЛИ
Настоятель и аббат, прибежав, спросили Простака, что
он там делает.
— Как что, господа? Я дожидаюсь обряда крещения. Вот
уже целый час я стою в воде по горло, и прямо неприлично
держать меня столько времени в холодной воде!
— Мой милый племянник,— ласково сказал ему
настоятель,— обряд крещения в Нижней Бретани совершается не
так. Оденьтесь и пойдем с нами.
Мадмуазель де Сент-Ив, услышав эти слова, тихо
спросила свою подругу:
21&
—- Мадемуазель, как вы думаете — оденется он сейчас?
Между тем гурон ответил настоятелю:
— На этот раз вам не удастся меня уговорить, как в
прошлый раз. С тех пор я учился, и я вполне убежден, что
только так и производится обряд крещения. Евнух царицы
Кандакии был окрещен в речке. Говорю вам — из книги,
которую вы мне дали, видно, что никогда это иначе и не
делалось. Я либо совсем не буду окрещен, либо меня окрестят в
реке.
Сколько ему ни доказывали, что обычай изменился,
Простак упорно настаивал на своем, ибо он был бретонцем и гу-
роном. Он непрестанно ссылался на евнуха царицы
Кандакии. И хотя мадемуазель, его тетя, и мадемуазель де Сент-Ив,
наблюдавшие его из-за верб, были бы вправе заметить ему,
что не подстать ему ссылаться на подобного человека,
однако — так велика была их скромность — они и не подумали
это сделать. Сам епископ пришел его уговаривать,—
а это много,— но ничего не добился: гурон спорил с
епископом.
— Укажите мне,— твердил он,— в книге, подаренной мне
дядей, хотя бы одного человека, который не был бы окрещен
в реке, и я сделаю все, что вам будет угодно.
Тетя вспомнила, что, явившись на ужин, ее племянник
отвесил самый глубокий поклон мадемуазель де Сент-Ив и
что даже господина епископа он не приветствовал так
почтительно и вместе так сердечно, как эту прекрасную
девицу. И она решила обратиться к ней за помощью в этих
трудных обстоятельствах; она попросила ее пустить в ход
свое влияние и уговорить гурона дать себя окрестить тем
же способом, который принят у всех бретонцев, ибо она
боялась, что племяннику никогда не стать христианином,
если он будет упорствовать в своем желании быть
окрещенным в текучей воде.
Мадемуазель де Сент-Ив покраснела от тайного
удовольствия быть исполнительницей столь важного поручения. Она
скромно подошла к Простаку и, с необыкновенным
благородством пожав ему руку, спросила:
— Неужели вы ничего не сделаете для меня?
И, сказав это, она опустила глаза, а потом снова
подняла их с трогательной грацией.
— О, все, что вы пожелаете, мадемуазель, все, что вы
прикажете: крещение водой, крещение огнем, крещение
кровью — ни в чем вам не будет отказа.
На долю мадемуазель де Сент-Ив выпала слава двумя
словами достигнуть того, чего не могли добиться ни
настойчивые просьбы настоятеля, ни повторные допросы судьи, ни
доводы самого господина епископа. Она почувствовала свое
торжество, но не чувствовала еще всей его полноты.
220
Обряд крещения был произведен со всем возможным
приличием, пышностью, приятностью. Дядя и тетя
уступили господину аббату де Сент-Ив и его сестре честь быть
восприемниками при крещении. Мадмуазель де Сент-Ив
сияла от радости быть крестной матерью. Она не знала, на
что осуждал ее этот большой сан; она приняла эту честь, не
зная, какие роковые последствия она влечет за собою.
Так как никогда еще не было торжества, которое не
сопровождалось бы большим обедом, тотчас же по окончании
обряда крещения сели за стол. Нижнебретонские шутники
говорят, что вино не нужно подвергать обряду крещения.
Господин настоятель сказал, что вино, по словам Соломона,
веселит сердце человека. Господин епископ присовокупил,
что патриарх Иуда должен был привязать своего осленка к
виноградной лозе и окунуть свой плащ в крови винограда, и
выразил сожаление, что нельзя то же самое сделать в
Нижней Бретани, которой бог отказал в винограде. Каждый
старался сказать остроумное словцо о крещении Простака и
обратиться с каким-нибудь комплиментом к крестной матери.
Судья, горя постоянной страстью допрашивать, спросил
гурона, будет ли он выполнять свои обеты.
— Как можете вы сомневаться в том, что я буду
выполнять обеты,— ответил гурон,— когда я их дал мадмуазель
де Сент-Ив.
Гурон все более оживлялся. Он много пил за здоровье
своей крестной матери.
— Если бы я был крещен вашей рукой,— сказал он,—
то холодная вода, которую мне лили на затылок, уверен,
обожгла бы меня.
Судья, не зная, сколь часто прибегают к аллегориям в
Канаде, нашел это слишком поэтическим. Но крестная мать
была крайне довольна этими словами.
Окрещенного нарекли Геркулесом. Епископ из Сен-Мало
непрестанно спрашивал, что это за святой, о котором он
никогда не слышал. Иезуит, отличавшийся большой
ученостью, сказал, что этот святой сотворил двенадцать чудес.
Было еще тринадцатое чудо, которое не уступало первым
двенадцати, но о нем иезуиту не подобало говорить: оно
состояло в том, что он в одну ночь превратил пятьдесят
девушек в женщин. Один шутник, находившийся среди
приглашенных, шумно напомнил об этом чуде. Все дамы
опустили глаза и считали Простака, судя по его виду,
достойным святого, имя которого он носил.
РОМЕН РОЛЛАН
КОЛА БРЮНЬОН
(Отрывок)
БРЕВСКИЙ КЮРЕ
Как только дороги очистились от непрошеных гостей,
я решил сходить, не откладывая, проведать моего Шамая в
его деревне. Не то, чтобы я очень за него беспокоился. Этот
молодец за себя постоять умеет! Но, как-никак, на душе
спокойнее, когда увидишь воочию далекого друга... И потом
необходимо было размять ноги.
Вот я и собрался, никому ничего не говоря, и шел себе,
посвистывая, берегом реки, вьющейся вдоль лесистых
холмов. На свежие листочки падали кружочки благословенного
дождичка, весенних слез, который то перестанет, то опять
забарабанит. Влюбленная белка мяукала в ветвях. Гуси
тараторили на лугах. Дрозды заливались вовсю, а синичка-
невеличка разговаривала: «ти-ти-тю»...
Дорогой я решил остановиться, чтобы прихватить с
собой в Дорнеси другого моего приятеля — нотариуса, мэтра
Пайара: подобно Грациям, мы бываем в полном составе
только втроем. Я его застал в конторе заносящим в книги
погоду сего дня, сны, ему приснившиеся, и взгляды свои на
политику.
...При виде меня милейший Пайар просиял; и весь дом,
сверху донизу, огласился нашим смехом. Мне всякий раз
радует очи этот человек, пузатенький, с рябым лицом,
толстощекий, красноносый, с морщинками вокруг живых и
хитрых глаз, с видом хмурым, вечно брюзжащий на погоду, на
людскую породу, но, в сущности, великрш весельчак и
зубоскал, и еще больший затейник, чем я сам. Для него
истинное удовольствие отпустить вам со строгим видом
чудовищную загогулину. И любо на него смотреть, когда он
величественно восседает за столом с бутылкой, взывая к Кому и
Мому и затягивая песенку. Радуясь мне, он держал меня за
руку своими толстыми и неуклюжими руками, но шу-
222
стрыми, как и он сам, дьявольски ловко умеющими
управляться со всякого рода инструментами, пилить, тесать,
переплетать, столярничать. Он все в доме смастерил сам; и все
это некрасиво, но все — его работа; и, красиво или нет, это
его портрет.
Чтобы не утратить привычки, он пожаловался на то, на
се, а я из противоречия похвалил и се, и то. Он — доктор
Всехул, а я — Всехвал; таковы наши роли...
...Мы долго спорили о чуде, о кроваво-пламенном мече,
который в прошлую среду ночью явился людям воочию.
И каждый из нас толковал знамение на свой лад; разумеется,
каждый настаивал с пеной у рта, что на его стороне правота.
Исповедь.
Старинная карикатура
Но в конце концов обнаружилось с обеих сторон, что ничего
не видели ни я, ни он. Ибо как раз в этот вечер мой астролог
за своим инструментом вздремнул часок. Когда видишь, что
не ты один в дураках, примиряешься со своей участью. Мы
примирились с ней весело.
И мы двинулись в путь, твердо решив скрыть этот
случай от нашего кюре. Мы шли полями, рассматривая
молодые побеги, розовые веточки кустов, птиц, вивших себе
гнезда, и ястреба над равниной, кружившего в небе колесом.
223
Мы вспоминали, смеясь, какую славную шутку мы как-то
сыграли с Шамаем. Несколько месяцев кряду мы с Пайа-
ром из кожи лезли вон, обучая дрозда в клетке гугенотскому
песнопению. Затем пустили его в сад к господину кюре.
Пообжившись там, он сделался наставником прочих дроздов
в деревне. И Шамай, которому их хорал не давал покоя,
когда он читал свой молитвенник, крестился, чурался,
думал, что дьявол к нему в сад забрался, заклинал его и в
ярости своей, притаясь за ставнем, подстреливал Нечистого.
Впрочем, он не так уж от этого страдал. Потому что, убив
дьявола, он его съедал.
Беседуя, мы, наконец, пришли.
Брев, казалось, спал. Дома вдоль улицы зевали,
разинув двери, под солнышком пригожим, в глаза прохожим.
Единственным человеческим лицом был, над канавой, зад
мальчишки, который прохлаждался, спустив штанишки. Но
по мере того как мы с Пайаром, взявшись под руку и
разговаривая, подходили все ближе к середине местечка,
шагая по дороге, усеянной соломою и коровьим пометом, до
нас все громче доносилось словно гудение рассерженных
пчел. И когда мы вышли на церковную площадь, она
оказалась запруженной людьми, которые размахивали руками,
шумели и голосили. Посредине, у калитки своего сада,
Шамай, красный от злости, орал, грозя прихожанам кулаками.
Мы старались понять, в чем дело, но слышали только гул
голосов:
«Гусеницы, жуки, полевые мыши... Господи, услыши...»
А Шамай кричал:
— Нет! Нет! Я не пойду!
А толпа:
— Разрази тебя гром! Поп ты наш или нет? Отвечай: да
или нет? Если ты наш поп,— а ты поп,— то ты нам и
служишь.
А Шамай:
— Бродяги! Я служу богу, а не вам...
Галдеж стоял изрядный. Шамай, чтобы покончить с ним,
захлопнул калитку перед носом у своего стада; сквозь
прутья еще раз мелькнули его руки, из которых одна, по
привычке, елейно окропляла народ дождем благословения, а
другая воздымала над землей гром проклятия. Напоследок
в окне дома показались его круглый живот и
четырехугольное лицо. Не в силах перекричать орущих, он яростно
состроил им в ответ длинный нос. Затем ставни
захлопнулись, и дом принял непроницаемый вид. Крикуны
утомились; площадь опустела; и мы, обогнув поредевших зевак,
могли, наконец, постучать в дверь Шамая.
Стучали мы долго. Упрямый скот не желал отворять.
— Эй! Господин кюре!
224
Сколько мы ни взывали (измененным голосом, чтобы
позабавиться):
— Мэтр Шамай, вы дома?
— К черту! Нет меня дома!
И так как мы упорствовали:
— Проваливайте вон! Если вы не уберетесь с моего
порога, я вас, собачью ораву, окрещу наславу.
Он чуть не вылил на нас свой горшок. Мы крикнули:
— Шамай, ты бы хоть вином!
При этих словах, словно чудом, гроза утихла. Алая, как
солнце, свесилась обрадованная физиономия Шамая:
— Святые угодники! Брюиьон, Пайар, это вы? А я-то
чуть не наделал делов! Ах вы, шутники проклятые! Чего же
вы не сказали?
И он, как лавина, скатывается по лестнице.
— Входите! Входите! Будьте благословенны! Дайте-ка
я вас расцелую! Милые мои, до чего же я рад видеть
человеческое лицо, после всех этих обезьян! Видели вы, что они
тут выплясывали? Пусть себе пляшут, сколько им угодно, я
с места не двинусь. Идемте наверх, выпьем. Вам, небось,
жарко. Требовать, чтобы я пошел со святыми дарами! Скоро
дождь: мы бы с господом богом вымокли до ниточки. Или
мы у них на жаловании? Или я поденщик? Обращаться
со служителем божьим, как с батраком! Дармоеды! Я
поставлен блюсти их души, а не их поля.
— Послушай,— спросили мы,— о чем это ты? На кого
это ты так взъелся?
— Идем, идем наверх,— сказал он.— Там нам будет
удобнее. Но, прежде всего, необходимо выпить. Я не могу,
я задыхаюсь! Как вы находите это вино? Ей-ей, оно не из
самых плохих. Верите ли, друзья мои, что этим скотам
угодно, чтобы я каждый день, начиная с Пасхи и до самого
Вознесения, служил молебствия... Почему бы не от
Крещения до Нового года?.. И это ради жуков!
— Жуков! — сказали мы.— Вот ты так действительно
как будто муху убил. Ты заговариваешься, Шамай.
— Я не заговариваюсь,— воскликнул он возмущенно.—
Нет, знаете, это уж слишком! Я должен терпеть все их
безумства, и я же и безумен!
— Тогда объяснись, как человек здравомыслящий.
— Вам легко говорить,— отвечал он, яростно отирая
лицо.— Я должен оставаться спокоен, когда нас тормошат,
меня и господа бога, господа бога и меня, весь божий день,
чтобы мы потакали их ерундовым выдумкам!.. Буде вам
известно (ух, я задохнусь, положительно!), что эти язычники,
которые в грош не ставят вечное спасение и не омывают ни
душ своих, ни ног, требуют от своего кюре, чтобы он добывал
им и дождь, и ведро. Я должен приказывать солнцу, луне:
Против тьмы
225
«Чуточку тепла, водички; хватит, достаточно; чуточку
солнышка, да чтоб было мягкое, подернутое, легкий ветерок,
главное — без морозов, еще поливочку, господи, для моего
винограда; стой, хватит мочиться! А теперь изволь
подогреть...» Послушать этих лодырей, так господу богу остается
уподобиться под бичом молитвы рабочему ослу, который
ходит по кругу и накачивает воду. Вдобавок (это лучше
всего!) они и промеж себя несогласны: одному нужен дождь,
другому — солнце. И вот они скликают святых на подмогу.
Их там тридцать семь, поливающих. Во главе выступает с
копьем в руке Медард-святитель, великий мочитель. На той
стороне их только двое: святой Раймунд и святой Деодат,
чтобы разгонять тучи. Но спешат на выручку святой Вла-
сий-ветрогон, Христофор-градоборец, Валериан-грозоглот,
Аврелиан-громорез, святой Клар-солнцедар. В небе раздор.
Все эти важные особы идут на кулачки. Святые Сусанна,
Елена и Схоластика рвут друг друга в клочки. Не знает и
сам господь бог, какой бы святой тут помог. А если бог не
знает, то откуда знать кюре? Бедный кюре!.. В конце концов
я в стороне от битвы. Я здесь на то, чтобы передавать
молитвы. А кто Авель, кто Каин, решает хозяин. Поэтому я
ничего бы не стал говорить (хотя, между нами, это
идолопоклонство мне претит... Иисусе милостивый, или ты
напрасно умирал?), если бы эти бродяги меня-то хоть не
вмешивали в небесные передряги. Но они прямо с ума сошли, они
желают пользоваться мною и святым крестом, как
талисманом, против всего, что им грозит изъяном. То это крысы,
которые у них пожирают хлеб в амбарах. Крестный ход,
заклинания, молитвы святому Никасию. Морозный
декабрьский день, снегу по пояс: я схватил прострел... То это
гусеницы. Молитвы святой Гертруде, крестный ход. На дворе
март: град, талый снег, мерзлый дождь; я охрип, кашляю
по сей день... Сегодня — жуки. Опять крестный ход! Я
должен обходить их сады (свинцовый солнцепек, тучи пузатые
и сизые, как мухи, будет гроза, в самый раз схватить
воспаление легких) и должен распевать: «Ibi ceciderunt
делающие беззаконие, atque. изринуты sunt и не возмогут star...»1
Ведь изринут-то буду я!.. «Ibi cecidit2 Шамай Батист, по
прозвищу «Сладостный», кюре...» Нет, нет, нет, покорнейше
благодарю! Мне спешить некуда. Самая веселая шутка и та
приедается. Мое ли дело, скажите, пожалуйста, морить им
гусениц? Если жуки им мергают, пусть они обезжучиваются
сами, бездельники этакие! Береженого бог бережет. Было
бы очень просто сложить руки и говорить кюре: «Исполни
1 Псалом 36. «Тамо падоша вси делающий беззаконие, изринове-
ни быша и не возмогут стати».— Ред.
2 «Тамо паде».— Ред.
226
то, исполни это!» Я исполняю волю божью и мою: я пью. Я
пью. Пейте и вы... А они, если им угодно, пусть осаждают
мой дом! Мои друзья, мне все равно, пусть будет твердо
решено, что они раньше ко мне повернутся тылом, чем я
своим тылом в этом кресле. Давайте пить вино!
... Когда мы сдвинули стаканы в честь веселого
французского разума, который смеется над всякой крайностью
(«Мудрец садится посередине»... почему нередко садится наземь),
громкое хлопанье дверей, тяжелые шаги по лестнице,
призывание Иисуса и всех святых и бурные подавленные
вздохи возвестили нам пришествие Элоизы Кюре, так звали
домоправительницу, «Кюрихи» тож. Пыхтя и утирая
широкое лицо краем передника, она возгласила:
— Ох! Ох! Помогите, господин кюре!
— В чем дело, дуреха? — сердито спросил тот.
— Идут! Идут! Это они!
— Кто это? Эти гусеницы, которые расхаживают по
полям крестным ходом? Я тебе сказал, не говори мне об этих
язычниках, о моих прихожанах!
— Они вам грозят!
— Мне наплевать. Чем бы это? Жалобой в духовный
суд? Пожалуйста! Я готов.
— Ах, господин, если бы только жалобой!
— А чем же тогда? Говори!
— ..Они там собрались у долговязого Пика и творят что
называется кабалистические знаки и заклинания и поют:
«Сбирайтесь, мыши и жуки, со всех полей сбирайтесь и
объедать подвал и сад к Шамаю отправляйтесь!»
При этих словах Шамай вскочил:
— О проклятые! В мой сад, их жуки! И в мой подвал...
Они меня режут! И надо'же придумать! О господи, Симеон-
угодник, помогите вашему кюре!
Напрасно старались мы его успокоить, напрасно
смеялись.
— Смейтесь, смейтесь! — кричал он на нас.— Будь вы на
моем месте, господа мудрые, вы бы поменьше смеялись.
Еще бы! Я бы и сам смеялся, сиди я в вашей шкуре: это не
штука! А посмотрел бы я на вас, как бы вы отнеслись к
такому известию, готовя корм, питье и кров для этих
жильцов!.. Жуки! Гадость какая... И мыши!.. Я не желаю! Да ведь
здесь хоть голову себе размозжи!
— Полно, чего ты? — сказал я ему.— Ведь ты же кюре?
Чего ты боишься? Разговори их заговор! Ведь ты же в
двадцать раз больше знаешь, чем твои прихожане! Ведь ты
посильнее их будешь!
— Какое там! Ничего я не знаю. Долговязый Пик —
малый дошлый. Ах, друзья мои, друзья мои! Ну и новость! Вот
разбойники!.. А я-то был так спокоен, так уверен! Ах, ни на
16*
227
что на свете нельзя полагаться. Один бог велик. Что я могу
поделать? Я попался! Я в их руках... Элоиза, милая, ступай,
беги, скажи им, чтоб перестали! Я иду, я иду, ничего не
попишешь! Ах, мерзавцы! Ну уж, когда придет мой черед, у
их смертного ложа... А пока (да будет воля...) приходится
мне плясать по их дудке!.. Что ж, остается выпить чашу. Я
ее выпью. И не такие пивал!..
Он встал. Мы спросили:
— Ты это куда же в конце концов?
— В крестовый поход,— буркнул он,— на жуков.
А. П. ЧЕХОВ
НЕ СУДЬБА!
Часу в десятом утра два помещика, Гадюкин и Шило-
хвостов, ехали на выборы участкового мирового судьи.
Погода стояла великолепная. Дорога, по которой ехали
приятели, зеленела на всем своем протяжении. Старые березы,
насаженные по краям ее, тихо шептались молодой листвой.
Направо и налево тянулись богатые луга, оглашаемые
криками перепелов, чибисов и куличков. На горизонте там и
сям белели в синеющей дали церкви и барские усадьбы с
зелеными крышами.
— Взять бы сюда нашего предводителя и носом его
потыкать...— проворчал Гадюкин, толстый седовласый барин в
грязной соломенной шляпе и с развязавшимся пестрым
галстуком, когда бричка, подпрыгивая и звякая всеми своими
суставами, объезжала мостик.— Наши земские мосты для
того только и строятся, чтобы их объезжали. Правду сказал
на прошлом земском собрании граф Дублеве, что земские
мосты построены для испытания умственных способностей:
ежели человек объехал мост, то, стало быть, он умный,
ежели же въехал на мостик и, как водится, шею сломал, то
дурак. А все председатель виноват. Будь у нас председателем
другой кто-нибудь, а не пьяница, не соня, не размазня, не
было бы таких мостов. Тут нужен человек с понятием,
энергический, зубастый, как ты, например. Нелегкая тебя несет
в мировые судьи! Баллотировался бы, право, в
председатели!
— А вот погоди, как прокатят сегодня на вороных,—
скромно заметил Шилохвостов, высокий рыжий человек в
новой дворянской фуражке,—то поневоле придется
баллотироваться в председатели.
— Не прокатят...— зевнул Гадюкин.— Нам нужны
образованные люди, а университетских-то у нас в уезде всего-
220
навсего один — ты! Кого же и выбирать, как не тебя? Так
уж и решили... Только напрасно ты в мировые лезешь... В
председателях ты нужнее был бы...
— Все равно, друг... И мировой получает две тысячи
четыреста, и председатель — две тысячи четыреста. Мировой
знай сиди себе дома, а председатель то и дело трясись в
бричке в управу... Мировому не в пример легче, и к тому
же...
Шилохвостов не договорил... Он вдруг беспокойно
задвигался и вперил взор вперед на дорогу. Затем он побагровел,
плюнул и откинулся на задок.
— Так и знал! Чуяло мое сердце! — пробормотал он,
снимая фуражку и вытирая со лба пот.— Опять не выберут!
— Что такое? Почему?
— Да нешто не видишь, что отец Онисим навстречу
едет? Уж это как пить дать... Встретится тебе на дороге
этакая фигура, можешь назад воротиться, потому — ни черта
не выйдет. Это уж я знаю! Митька, поворачивай назад!
Господи, нарочно пораньше выехал, чтоб с этим иезуитом не
встречаться, так нет, пронюхал, что еду! Чутье у него
такое!
— Да полно, будет тебе! Выдумываешь, ей-богу!
— Не выдумываю! Ежели священник на дороге
встретится, то быть беде, а он каждый раз, как я еду на выборы,
всегда норовит мне навстречу выехать. Старый, чуть живой,
помирать собирается, а такая злоба, что не приведи
создатель! Недаром уж двадцать лет за штатом сидит! И за что
мстит-то? За образ мыслей! Мысли мои ему не нравятся!
Были мы, знаешь, однажды у Ульева. После обеда,
выпивши, конечно, сел я за фортепьяны и давай без всякой,
знаешь, задней мысли петь «Настоечка травная» да «Грянем в
хороводе при всем честном народе», а он услыхал и говорит:
«Не подобает судии быть с таким образом мысли касательно
иерархии. Не допущу до избрания!» И с той поры каждый
раз навстречу ездит... Уж я и ругался с ним, и дороги
менял— ничего не помогает! Чутьем слышит, когда я
выезжаю... Что ж? Теперь надо ворочаться! Все равно не
выберут! Это уж как пить дать... В прошлые разы не
выбирали,— а почему? По его милости!
— Ну, полно, образованный человек, в университете
кончил, а в бабьи предрассудки веришь...
— Не верю я в предрассудки, но у меня примета: как
только начну что-нибудь тринадцатого числа или встречусь
с этой фигурой, то всегда кончаю плохо. Все это, конечно,
чепуха, вздор, нельзя этому верить, но... объясни, почему
всегда так случается, как приметы говорят? Не объяснишь
же вот! По-моему, верить не нужно, но на всякий случай не
мешает подчиняться этим проклятым приметам... Вернемся!
230
Ни меня, ни тебя, брат, не выберут, и вдобавок еще ось
сломается или проиграемся... вот увидишь!
С бричкой поравнялась крестьянская телега, в которой
сидел маленький, дряхленький иерей в широкополом,
позеленевшем от времени цилиндре и в парусиновой
ряске. Поравнявшись с бричкой, он снял цилиндр и
поклонился.
— Так нехорошо делать, батюшка! — замахал ему рукой
Шилохвостов.— Такие ехидные поступки неприличны
вашему сану! Да-с! За это вы ответ должны дать на страшном
судилище!.. Воротимся!—обратился он к Гадюкину.—
Даром только едем...
Но Гадюкин не согласился вернуться...
Вечером того же дня приятели ехали обратно домой...
Оба были багровы и сумрачны, как вечерняя заря перед
плохой погодой.
— Говорил ведь я тебе, что нужно было вернуться! —
ворчал Шилохвостов.— Говорил ведь. Отчего не
послушался? Вот тебе и предрассудки! Будешь теперь не верить!
Мало того, что на вороных, подлецы, прокатили, но еще и на
смех подняли, анафемы! «Кабак, говорят, на своей земле
держишь!» Ну, и держу! Кому какое дело? Держу, да!
— Ничего, через месяц в председатели будешь
баллотироваться...— успокоил его Гадюкин.— Тебя нарочно сегодня
прокатили, чтоб в председатели тебя выбрать...
— Пой соловьем! Всегда ты меня, ехидна, утешаешь, а
сам первый норовишь черняков набросать! Сегодня ни
одного белого не было, все черняки, стало быть и ты, друг,
черняка положил... Мерси...
Через месяц приятели по той же дороге ехали на выборы
председателя земской управы, но уже ехали не в десятом
часу утра, а в седьмом. Шилохвостов ерзал в бричке и
беспокойно поглядывал на дорогу...
— Он не ожидает, что мы так рано выедем,— говорил
он,— но все-таки надо спешить... Черт его знает, может
быть, у него шпионы есть! Гони, Митька! Шибче!.. Вчера,
брат,— обратился он к Гадюкину,— я послал отцу Онисиму
два мешка овса и фунт чаю... Думал его лаской
умилостивить, а он взял подарки и говорит Федору: «Кланяйся
барину и поблагодари' его за дар совершен, но, говорит, скажи
ему, что я неподкупен. Не токмо овсом, но и золотом он не
поколеблет моих мыслей». Каков? Погоди же... Поедешь и
черта пухлого встретишь... Гони, Митька!
Бричка въехала в деревню, где жил отец Онисим...
Проезжая мимо его двора, приятели заглянули в ворота... Отец
Онисим суетился около телеги и торопился запрячь лошадь.
Одной рукой он застегивал себе пояс, другой рукой и
зубами надевал на лошадь шлею...
231
— Опоздал! — захохотал Шилохвостов.— Донесли
шпионы, да поздно! Ха-ха! Накося выкуси! Что, съел? Вот тебе
и неподкупен! Ха-ха!
Бричка выехала из деревни, и Шилохвостов
почувствовал себя вне опасности. Он заликовал.
— Ну, у меня, брат, таких мостов не будет! — начал
бравировать будущий председатель, подмигивая глазом.— Я их
подтяну, этих подрядчиков! У меня, брат, не такие школы
будут! Чуть замечу, что который из учителей пьяница или
социалист — айда, брат! Чтоб и духу твоего не было! У меня,
брат... ты, брат... Гони, Митька, чтоб другой какой поп не
встретился!.. Ну, кажись, благополучно доехали... Ай!
Шилохвостов вдруг побледнел и вскочил, как
ужаленный.
— Заяц! Заяц! — закричал он.— Заяц дорогу перебежал!
Аа... черт подери, чтоб его разорвало!
Шилохвостов махнул рукой и опустил голову. Он
помолчал немного, подумал и, проведя рукой по бледному,
вспотевшему лбу, прошептал:
— Не судьба, знать, мне две тысячи четыреста
получать... Ворочай назад, Митька! Не судьба!
А. С. СЕРАФИМОВИЧ
ТАИНСТВО СВЯТОГО ПРИЧАЩЕНИЯ
Часов пять месил грязь. Кругом весеннее туманное поле.
Топкая дорога. И всего-то от станции верст семь. Было
утонул, стал перебираться через овраг. Вылез. Вот и
деревенька со взгорья открылась; церковь посредине
белеет.
Подхожу к крайней избе. Стоит парень с настороженным,
напряженным лицом, с длинной палкой в руке.
— Доброго здоровья, гражданин.
Парень молчит, как не с ним говорят, напряженно
смотрит на мои губы.
— Здорово,— говорю.— Можно зайти в избу
передохнуть?
— Кого спихнуть?
— Передохнуть, говорю,— зайти в избу.
— А! Купец?
— Я не купец.
— Какой боец?
— Э, глухая тетеря!
Я нагнулся к уху и заорал:
— Зайти в избу можно? Отдохнуть!
— Можно... Чево ж... заходи...— и вперед.
Зашли в избу. В нос шибануло тяжелым духом. В
первой половине громадная почернелая печь, теленок, куры.
Во второй горнице, почище, громадная кровать под пологом,
часы с остановившимися гирями на оклеенной газетами
и картинками стене.
— Доброго здоровья! Можно у вас отдохнуть?
— Ну-к что ж, садись, добрый человек, отдыхай!
Кипит самовар. За столом — бородатый; поставил
блюдечко на три пальца и тянет горячий дымящийся чай;
капелька пота болтается на кончике носа.
233
— Выпей чашечку с устатку,— говорит, гундося,
хозяйка, высокая степенная старуха с провалившимся носом.
— Доченька, налей странному человеку чаю,— сказала,
гундося, ласково старуха.
К столу смущенно подошла миловидная девушка и,
слегка отворачиваясь, стала наливать. Я взглянул и обмер:
с милого лица вместо носа глядели две чернеющие дырочки.
— Н-нет... спасибо... я пил,— сказал я, осторожно дыша
и стараясь почему-то не втягивать в себя глубоко воздух.
— Всегда так,— сказала печально старуха,— с первого
разу все гребуют: боятся заразы.
Девушка густо покраснела, отодвинула чашку и отошла
печально в уголок.
Мне стало жалко их.
— Дайте я сам налью себе!
— Ну-к что ж, налей, соколик, налей! Воды много.
Я тщательно вымыл чашку и блюдце, обдал кипятком,
налил, достал из кармана кусок сахару и стал пить.
— Знамо, гребуют,— сказал бородатый,— но тут, между
прочим, безопасно: как нос провалился — шабаш, больше
никого не заразит. Закрепилась, стало быть, болесть, не
переходит на другого. Дохтора сказывают.
- — Давно это у вас?
— Давно, батюшка,— сказала с привычной печалью
старуха,— вот как она родилась,— кивнула она на дочь.— Ты
не подумай, не от греховного баловства несчастье наше.
Почитай, дворов десять болестью этой дурной заболело. Вишь
ты, приехал о те поры солдат наш деревенский и привез эту
самую дурную боль. Рот-то у него весь в ранах — боялись
его все, бегали от него — никто с ним не ел, не пил. А он
затосковал, поститься начал; все, бывало, говеет да к
исповеди ходит да к причастию. Ну, моей дочечке как раз
аккурат месяц. Я и понесла ее к причастию. Причастила.
У ней ротик через сколько-то времени и заболи — болит и
болит. Я и водкой протирала и обмывала, нет — болит и
болит, больше и больше. Гляжу: и у меня какая-то сыпь
пошла. А мне и в голову не вкинулось. А через год-то
гляжу: носик-то у ней стал западать. Я повезла в больницу.
А там меня зачали ругать: «Ах, такая-сякая, до чего
ребенка запустила». Осмотрели и меня. «Да и у тебя,—
говорят,— то же».— «Родные мои,— говорю,— я мужняя
жена, никогда против его не согрешила».— «Дура,—
говорят,— ты ребенка,— говорят,— где-то заразила, а ребенок
тебя». Поплакала я тогда. Положили нас с дочечкой в
больницу. Послали хвершала в нашу деревню,— откеда, мол,
эта боль явилась. Расспросил хвершал, узнал про солдата,
нашел больных еще в десяти избах, аккурат с солдатом в
одно время причащались, говели вместе. Дохторица мне
234
потом рассказывала: стало быть, солдат-то как причащался,
больного гною из роту и напустил в ложечку...
— В лжицу! — сказал бородатый, потягивая чай.
— Ну, да я не умею по-священному. Напустил в
ложечку, а батюшка нам и раздавал с святым причастием.
Ну, вот у ней-то нос совсем, а я гундосю.
— Таинство святого причащения,— мрачно сказал
бородатый.
— Митюша, садись чай пить,— громко гнусавя, сказала
старуха.
— А? — вытянув шею, напряженно ловил движение ее
губ парень.
— Чай садись пить.
— Куды иттить?
— Чай, говорю, пей! — закричала она сердито.
— Отчего это он у вас?
Она подперла локоть рукой и стала глядеть на улицу,
где, с трудом вытаскивая ноги из густой черной грязи,
брела корова.
— От этого же самого. Первенький он у меня. Как
девочка приняла причастие, его не было, у свекра жил.
А потом привезли, он и принял эту боль. А нам невдомек.
Лечили, да кабы KiaK следует, а то лишь залечили. Она и
вступила ему в ухи. Тикеть и тикеть из них. Так и оглох!
Она вздохнула и безнадежно посмотрела в окно.
— Муж-то ваш где? На работе?
— С ума сшел. Все от нас. От нашей болезни заразу
принял. Теперича одна с ними осталась. Девку-то кто
возьмет? Да и за парня никакая не пойдет. Одно горе, одно
горе-
Скупая слеза ползла по ее степенному лицу.
Я попрощался и вышел. Недалеко белела церковь.
А. УПИТ
РАССКАЗ ПРО ПАСТОРА1
В воскресное утро после Иванова дня пастор Клиян-
ского прихода Людвиг Калнпетер' проснулся весь в поту.
Сердито сбросив ногами одеяло, он стремительно
перевернулся на живот и взглянул на окно сквозь железный
гГереплет спинки кровати.
Так и есть! Небо сверкало голубизной — ни одного
облачка на всем пространстве, доступном взгляду Калнпете-
ра, от курземского берега Даугавы до края крыши
пасторского дома.
Между тем, дождь был нужен дозарезу. И не
какой-нибудь, а непременно большая дождевая туча с хорошим
ливнем. Яровые сохли и осыпались. Овес еще кое-как
держался, но ячмень уже начал желтеть.
Люди добросовестно выполняли установленный отцом
епископом Ирбе регламент, и все-таки господь непонятным
образом карал их чрезмерно длительной засухой,
грозившей уничтожить все виды на хороший урожай в этом году.
Все эти бедствия явились следствием засухи. Пастор
Клиянского прихода обещал сделать все, что в его силах.
Ближайшее воскресенье после Иванова дня он
намеревался посвятить специальному богослужению с вознесением
горячих молений господу богу о дожде, хорошем дожде в
самом ближайшем будущем...
Отворив дверь ризницы, пастор Людвиг Калнпетер
вдруг оцепенел с протянутой левой рукой и занесенной над
порогом правой ногой.
Ему показалось, будто в уши ему хлынул глухой,
отдаленный гул. Сердце замерло в приступе неожиданной
радости. Но нет — это было невозможно.
Печатается в сокращенном виде.
236
Это было невероятно. Во-первых, небо было
совершенно голубое и гладкое, как доска. Во-вторых, он не успел
еще отслужить молебен и вымолить то, чего с таким
нетерпением ждал весь приход. Нет, нет!
Сердце его бурно выстукивало: да, да, но он не решался
верить в возможность подобной милости, да еще в кредит
и, так сказать, авансом. Это было бы непростительным
самомнением и легкомыслием, заслуживавшим сурового
наказания.
Однако, когда он собрался переступить через порог
другой ногой, гул повторился — на этот раз вполне явственно
и отчетливо. Скользнув взглядом через Даугаву в ту
сторону, откуда ветер обычно приносил дожди, пастор увидел
темную, уродливую тучу в виде гигантской лошадиной
головы, выползавшую из-за каймы курземских лесов.
Ветер усилился и также подул с той стороны.
Отражаясь на белой стене, солнце палило с такой яростью, что
ручка дверей обжигала ладонь. Лошадиная голова
превратилась в огромный, продолговатый, синевато-черный
каравай, захвативший всю окраину неба.
Сомнений не оставалось: надвигался дождь.
Приближавшийся гул повторялся все чаще и громче, и время от
времени на черном фоне тучи вспыхивали молнии...
В церкви уже гремел орган, и прихожане усердно пели.
В ризнице стоял старый Бригис и с рясой в руках
дожидался пастора, чтобы помочь ему облачиться. В это утро
старый Бригис казался необычайно оживленным, и по лицу его
скользило подобие улыбки. Застегивая на пасторе воротник
с двумя крестами, он не удержался и, усмехнувшись,
проговорил:
— А дождик-то будет, преподобный отец?
Пастор хитро старался скрыть обуревавшую его
радость.
— Дал бы господь бог! Дал бы господь бог!
Бригис посмотрел в узенькое оконце и кивнул, хотя не
увидел ничего, оправдывавшего его уверенность.
— Будьте покойны. С самого утра чувствовалось. Печет
невероятно. Телята еще до завтрака примчались домой.
И колокол гудит, точно его обернули ватой. Это к дождю,
так и знайте.
Пастор сохранял непоколебимую серьезность.
— Будем надеяться...
Однако Бригис не унимался.
— Да и пора, что и говорить. Прямо погибель с этой
адской жарой. Бабочки всю капусту заплевали червями. Не
поверите: моя старуха во время полки огорода насквозь
пропылилась. В комнату не может войти: чуть
повернется— пыль с юбки столбом.
237
Простодушная болтовня звонаря мешала пастору
сосредоточиться на приготовленном в уме конспекте проповеди.
Не слушая, он направился в церковь, где пение псалма,
видимо, подходило к концу.
Пятьсот первый псалом, право, был наиболее
подходящим в создавшемся положении.
Стоя перед алтарем на коленях спиной к прихожанам,
пастор Людвиг Калнпетер слышал, что верующие сегодня
поют с особым подъемом. Это давало повод ожидать, что
проповедь произведет более или менее длительное
впечатление. Поднявшись, он обернулся лицом к прихожанам и с
опущенной по привычке головой стал из-под
полусомкнутых век оглядывать сегодняшнюю паству...
Скосив глаза под полуопущенными веками влево, пастор
без труда отыскал тех, кто интересовал его более
остальных. Явился сам владелец усадьбы Лучи в своей серой
летней куртке в сопровождении нарядившейся в шляпу жены.
С тех пор, как Мале 1 кончила драудзинскую гимназию в
Риге, хозяйка перестала выходить куда бы то ни было без
шляпы...
Когда пастор немного погодя поднялся на кафедру для
произнесения проповеди, в церкви заметно стемнело.
Вершины лип за окнами бурно качались из стороны в сторону.
Когда затихли звуки органа, прихожане услышали
раскаты грома над самой крышей. Все вытянули головы в
сторону окон. На лицах застыло выражение радостного
ожидания, смешанного с легким недоумением. Воистину, пастор
не солгал. Тот, кто искренне верует, не обманывается в
своих надеждах. Вдохновенная молитва перед алтарем
оказала чудотворное действие.
«Подобно оленю, взывающему о реках воды...» Столь
потрясающую проповедь верующие Клиянского прихода
слышали впервые с тех пор, как отец епископ благословил их
этим пастором. Голос его гремел, разражаясь взрывами от
мощного внутреннего напряжения, и снова падал, шелестя
тихим дуновением над головами.
Временами фигура пастора выпрямлялась во весь свой
рост, и воздетые кверху руки почти касались полукруглого
навеса над кафедрой с висящим на проволоке святым духом
в образе вырезанного из дерева белого голубя. Но в
следующее же мгновение он съеживался, становясь
незначительным и тщедушным, и над краем кафедры виднелись
только гладко остриженная голова и воротник с двумя лентами,
украшенными крестами. На лице его последовательно
отражалась вся гамма эмоций — от мрачного отчаяния греш-
1 Дочь этого помещика, на которой рассчитывал жениться
пастор.— Ред.
238
ника до блаженства праведника. Душевные движения
всего прихода находили свое отражение в его лице, как в
божественном зеркале.
Грозной засухой всевышний покарал людские
прегрешения и маловерие. Карающий перст господень беспощадно
опускается на всех и каждого. Но искреннее раскаяние и
усердная молитва совместно с духовным пастырем
заставили смягчиться сердце нелицеприятного судьи, который
окропит своей небесной росой правых и виноватых.
Шеи прихожан продолжали тянуться в сторону окон, где
слышался дробный стук мелких капель и сверкали белые
молнии. По стеклам тянулись тоненькие, серебристые нити.
Шелест дождя за окнами усиливался...
Когда пастор... перевел взгляд на окно, то увидел уже
не дождь, а целый ливень. Вода низвергалась
бесконечными потоками, мощно сотрясая жестяную крышу церкви...
Ситуация создалась торжественная и в высшей степени
внушительная. Пастор отчетливо чувствовал это и
старался продлить незабываемый миг.
Когда он опустил голову, глаза его инстинктивно
расширились. Он ясно видел, как владелец усадьбы Лучи бросил
книгу псалмов на колени Мале и стремительно поднялся.
С трудом протиснувшись мимо сидящих, он быстрым
шагом направился по среднему проходу к дверям.
Что, собственно, стряслось с ним столь неожиданно? Он
торопился так, словно у него живот заболел. Быть может,
он утром слишком плотно наелся свежеиспеченного хлеба и
страдал теперь от изжоги? Или лошадь в липняке
оторвалась, и он бежал привязать ее?
Но дверь захлопнулась с таким оглушительным стуком,
что все догадки пастора перепутались. По-видимому, Мале
и ее мать тоже не знали, что случилось с хозяином
усадьбы Лучи: они оборачивались вместе с другими
прихожанами и провожали убегавшего недоумевающими
глазами.
Пастор Людвиг Калнпетер закончил службу в состоянии
полной растерянности.
Сняв с помощью Бригиса рясу, он выжидательно уселся
в ризнице в кресло: будущий тесть обычно заходил к нему
после службы поболтать. К тому же сегодня им еще
предстояла совместная поездка.
Ливень прекратился, небо прояснилось, и солнце играло
на стеклах мокрого окна. Грохот колес снаружи
мало-помалу затих. Старый Бригис с заметным нетерпением
переминался с ноги на ногу:
— Господин Луцис сегодня что-то долго не приходит.
— Да мне тоже кажется.
— Не пойти ли посмотреть?
239
— Пожалуй, не мешает сходить. Посмотрите, что там
с ним приключилось.
Оставшись один, пастор Людвиг Калнпетер поправил
манишку. Инцидент расстроил его. Придется хорошенько
пробрать взбалмошного старика за неприличное бегство из
церкви.
Возвратившись, звонарь только руками развел:
— Господина Луциса нет.
Пастор медленно поднялся с места:
— Как нет?
— Ну, просто нет и нет! Ни господина Луциса, ни
лошади. Никого уже не осталось. Только старый Цирцен из бого-
дельни сидит под липой и считает гроши в шапке.
Бранится, что сегодня самые пустяки заработал. Народ, дескать,
вконец очерствел. Я-то полагаю, что в наши трудные
времена...
Пастор не слушал. Пораженный до глубины сознания,
он стоял, покусывая губы и ровно ничего не понимая. Это
был форменный скандал. Старого сумасброда следовало
проучить основательно. И что только он воображает?
В конце концов не каждый день представляется
возможность заполучить в зятья пастора!
Проходя мимо развалин бывшей церковной корчмы,
пастор Людвиг Калнпетер с досадой плюнул. Свинство и
больше ничего! Во всяком случае, женщинам следовало
быть более благоразумными. Мале тоже нечего слишком
много о себе воображать. Двадцать шесть лет и рыжие
волосы — нельзя сказать, чтобы это были очень уж
привлекательные качества.
Немного погодя пастору Людвигу Калнпетеру пришло в
голову, что семья Луцисов могла поехать к нему, чтобы
взглянуть на новую обстановку. Старики давно выражали
желание посмотреть вещи, которыми Мале так сильно
восхищалась. Но из этого еще не следует, что нужно
опрометью бежать из церкви и нарушать благолепие службы.
Нет, этого дела он так не оставит.
Однако дома пастор Людвиг Калнпетер никого не нашел.
Никто даже не спрашивал его. Загадочный клубок
запутывался все больше, и дело дошло до того, что он даже не
нашел в себе сил допить до конца кружку кофе и оставил
нетронутыми сдобные тминные хлебцы. Взяв широкополую
шляпу и трость, он пошел по дороге в усадьбу Лучи, желая
самолично выяснрпъ, в чем дело.
Прошедший ливень был на редкость сильный. Канавы и
рытвины были наполнены водой. Местами посреди дороги
простирались серые лужи. Лаковые туфли безобразно
промокали в траве, и настроение пастора ухудшалось с
каждой минутой. Свинство, свинство!
240
В. IIеров. Сельский крестный ход на пасху
Это было единственное слово, неотвязно вертевшееся у
него на языке.
Со двора выскочили оба пса и яростно накинулись на
пастора... Обычно кто-нибудь выбегал из дома и спешил
гостю на помощь, но на этот раз никто не показался.
Бешено обороняясь тростью, пастор мельком увидел хозяйку
усадьбы, появившуюся в дверях клети, но в следующее ж?
мгновение она словно сквозь землю провалилась.
Это было уже открытым оскорблением. В гневе пастор
бросился в кухню и некоторое время тяжело дышал,
прислушиваясь, как за дверью царапались псы, яростно лая и
ляская зубами.
В первую минуту показалось, что в доме никого нет. Но
переступив через порог, пастор Людвиг. Калнпетер
остановился. Перед ним был сам владелец усадьбы Лучи,
растянувшийся на диване с номером «Брива Земе» на животе и
погруженный в сладкий сон. Между тем, открывая дверь,
пастор отчетливо видел, как мелькнул складываемый
газетный лист.
Что за комедию разыгрывают с ним здесь? Усаживаясь,
пастор с грохотом передвинул стул и откашлялся. Затем,
подождав немного, отрывисто поздоровался:
— Добрый день!
Из угла, где стоял диван, донесся столь же отрывистый
ответ, словно с трудом выжатый из горла. Лежавший даже
не пошевельнулся, а только открыл глаза и устремил в
потолок странно-неподвижный взгляд.
Теперь пастор Людвиг Калнпетер сообразил, что дело
приняло довольно скверный оборот. Однако долго
раздумывать не приходилось. В комнату вошла хозяйка, и нужно
было поздороваться с нею.
— Добрый, день!
Хозяйка ответила еще более отрывисто, сквозь зубы и
словно нехотя. Пастор окончательно потерял почву под
ногами, и на лице его изобразилась растерянность...
Пастор решил попытать счастья и проговорил первое,
что пришло в голову:
— Славный дождичек послал нам господь!
Тема для разговора, видимо, оказалась удачной, так как
хозяин усадьбы Лучи мгновенно очутился в сидячем
положении. Весь вытянувшись вперед, он словно всем телом
устремился к гостю. Однако произнесенное им далеко не
свидетельствовало о том, что он питает к пастору
благодарность за его сегодняшний подвиг. Словом, ничего хорошего
во всей этой истории не было.
~ И вы еще радуетесь этому!
Хозяйка уперла руки в бедра и с видом разъяренной
Фурии запрокинула голову:
16 Против 1ьмы 241
— Нашел чему радоваться!
Пастор Людвиг Калнпетер чувствовал себя так, словно
он с облаков свалился.
— Как? Неужели вы...
Хозяин стремительно поднялся и с угрожающим лицом
сделал шаг вперед:
— Мы, мы! И вы еще смеете издеваться над нами?
Хозяйка решительно стала рядом с ним:
— Да еще в зятья лезет!
Хозяин грубо схватил пастора за руку и одним рывком
поднял со стула:
— Идите со мной! Любуйтесь на дело своих рук!
Он вытащил пастора на двор и повел его по пастушьей
тропинке к выгону. Ошеломленный служитель бога
отчаянно отбивался от собак, набросившихся на него с новой
яростью.
— Идите, идите! Посмотрите, что вы наделали!
Хозяйка наступала пастору на пятки и не переставала
злобно шипеть:
— И это — пастор! Это — зять!
Протащив пастора сквозь мокрые кусты, хозяин
отпустил его и ткнул пальцем куда-то вперед:
— Посмотрите, что вы натворили! Полюбуйтесь!
Хозяйка,«как эхо, повторила его слова, приобретавшие
в ее устах особую язвительность:
— Да, полюбуйтесь-ка! Посмотрите!
Но пастор уже видел сам.
Перед ним простиралось большое клеверное поле, густо
усеянное бесчисленными копнами. Дальше тянулся
заливной луг, примыкавший к арендованному участку
фондовых земель со вновь организованным хозяйством. И всюду
лежали тяжелые груды сена, приготовленного к
складыванию в стога вокруг десятка высоких и прямых жердей.
Разворошенное с утра сено покрывало все пространство,
насколько хватал глаз, прибитое ливнем к земле, местами
расползшееся по огромной серой луже, почерневшее и
намокшее, как только что вывезенный навоз. Нагретое
солнцем, оно дымилось, словно под полем был разведен костер.
Воздух был насыщен невыносимым удушливым
смрадом.
Сердце пастора Людвига Калнпетера упало. Он только
беспомощно развел руками:
— Что и говорить, беда большая!
Хозяин усадьбы Лучи злобно передразнил его:
— Тоже сказал: бе-да... Это — гибель и банкротство!
Хозяйка еле сдерживала слезы:
— Все сено пропало. Теперь мы — конченые люди.
Хозяин продолжал дрогнувшим голосом:
242
Целую неделю работали три косилки... Тридцать
человек работников подрядил к сегодняшнему дню. К вечеру,
думал, сено будет сложено в стога. А теперь трехсот тысяч
как не бывало!
Чувствуя за собой вину, пастор терзался угрызениями
совести:
—. Но каким образом я мог все это знать? У меня не
было ни малейшего понятия... Народ в один голос кричал и
требовал: дождя, дождя!
— Стало быть, вы исполняете то, чего требует народ?
Хоть бы до утра подождали. Только этого нам от вас и
нужно было. Но какое вам дело до нашего добра: пусть
пропадает пропадом!
Хозяйка стояла, сложив руки на животе, и укоризненно
качала головой:
— Но этого еще мало. Подумать только, какой убыток
нанесут нам теперь эти лодыри!
Пастор взглянул и понял. Бросив грабли, работники
валялись кучками на лугу, предаваясь безделью: дулись в
карты, играли на гармонике, а двое подростков затеяли
даже пляску.
Хозяин потряс кулаком:
— Окаянные! Эдакое добро! И взбредет же человеку в
голову устроить такую штуку. Пошли, дескать, господь,
дождичка, пусть сгниет у Луциса сено...
Но тут пастор неожиданно разозлился:
— Вы говорите глупости. Как будто я могу в любую
минуту заказать все, что вам понадобится.
— Стало быть, не можете? На кой же черт вы нужны в
таком случае? Какого дьявола вы тогда кривляетесь по
воскресеньям на кафедре? Комедию ломаете? Фокусы
показываете?
Ответ застрял у пастора в глотке, но никто в ответе и
не нуждался. Хозяйка сделала рукой такой жест, словно
хотела смахнуть пастора с лица земли:
— С ним, пожалуй, и разговаривать нечего. Называется
пастор, а занимается разбоем.
Хозяин усадьбы Лучи схватил жену за руку и потащил
прочь:
— Перестань разводить канитель! Пусть он
отправляется к черту на рога. Если он еще хоть раз попадется мне на
глаза... Я допускаю в свой дом только порядочных людей.
Когда пастор Людвиг Калнпетер добрел до края выгона,
хозяин с женой уже скрылись в доме, хлопнув дверью с
такой силой, словно ее никогда больше не предстояло
отворять...
16»
243
М, ПРИШВИН
КОЛДУНЫ
Когда один из ангелов восстал на бога, а с ним и многие
другие ангелы, то бог прогнал их с неба. Стесненные на
краю неба, восставшие ангелы полетели вниз. Одни из них,
страшно изувеченные, со своим начальником Сатаною
упали в подземное царство, в ад, другие пали на землю и
поселились кто в воде, кто в домах, кто в лесу.
Та:к объясняет себе олончанин происхождение
лесовиков, водяников и домовых, в которых он верит
беззаветно.
Уже в Повенце мне пришлось из-за этих верований
иметь небольшие неприятности. В этом городке нет
гостиницы, и мне пришлось остановиться на постоялом дворе, а
так как это было ночью, долго стучаться. Наконец мне
отворили дверь и уложили спать. Ночью переполох в доме
разбудил меня. Оказалось, что околела овца, и огорченные
хозяева суетились. Проснувшись утром, слышу разговор
хозяйки с кем-то в сенях.
— Пришел он ко мне — страшный такой, большой. Ой,
Акулинушка, говорит, не сбыть без убытку... Слышу,
стучат под окошком. Кричу: что вам, крещеные? Ночевать,
говорят. Уложила я их. Только легла, а он опять пришел:
ой, Акулинушка, не сбыть без убытку. Я тут встала, зажгла
лучину, да в хлев: смотрю, лежит овца гора горой...
Вот так я и попал в колдуны с первых шагов. Хозяева
на меня косились и хмурились.
Однажды я рассказал это приключение одному
деревенскому фельдшеру, идейному, прекрасному молодому
человеку.
— Это пустяки,— сказал он,— если бы вы знали, что
только мне приходится проделывать в борьбе с этими
верованиями. У них в каждой деревне есть своя знаменитость:
244
Ведьмы.
По картине Ганса Бал ьдунга: Грина (1470—1552)
в Тиконицах — рыбный колдун, в Корос-озере — скотский,
у нас — ружейный и свадебный. А сколько тут знахарей,
ворожей!
— Как же вы с ними боретесь? — поинтересовался я.
— Да как придется. Вот на днях пришел ко мне мужик
кровь унять: ему разрубили топором жилу, и знахарь
ничего не мог сделать. Я сейчас же послал сторожа собрать
всех наших знахарей и колдунов, унимать «руду».
Собрались,— никто не может. А я приложил арнику на вате,
кровь сразу и унялась. Кажется, после этого можно бы
сдаться колдунам. Нет, говорят, в присутствии фельдшера
заговоры не действуют.
— А то вот еду раз на лодке, со мной человек десять
народу. Вынул я из кармана «Олонецкие Губернские
Ведомости», где напечатан был коровий заговор, так
называемый «отпуск», и стал читать,— думаю, узнают, что это не
только колдунам, а и всем известно, перестанут верить. Так
что же вы думаете? Только кончил я читать, сразу
несколько голосов:
— Прочти, прочти еще раз, не запомнили, да пореже
читай.
— Вот и судите сами, как тут бороться. Заболеет
ребенок оспой, все идут, кланяются больному: «Оспа матушка,—
говорят,— смилуйся, уходи!» И разносят болезнь по своим
детям. Ну, что я со своей медициной сделать могу. А какие
расстояния! Иногда позовут верст за 70. Едешь на лошади,
едешь водой, идешь пешком. Пришел, посмотрел, дал
порошок и кончено. Я не уверен даже, что этот порошок не
очутится где-нибудь за божницей.
Но самые лютые враги науки, по словам фельдшера, не
местные колдуны, а мезенские коновалы. Как только
осенью на Мезени закончатся работы, сотни этих знахарей
расходятся по Олонецкой и Архангельской губерниям. Они
лечат все: людей, животных. Они знают всевозможные
заговоры. Колдуны — это жрецы, языческие священники, а
мезенские коновалы — специалисты-медики. И каким
уважением они пользуются в народе! Двери всякого дома перед
ними открыты, везде они едят, пьют; живут на одном месте
иногда месяц, два и нигде никогда не платят, да и в голову
никому не приходит брать с них деньги.
Так рассказывал мне представитель медицины о
колдунах. Скоро после этого разговора, благодаря знакомству со
сказочником Мануйлой, мне удалось проникнуть к
знаменитому колдуну Микулаичу Ферезеину.
...Вот этот-то Мануйло и познакомил меня с колдуном
Микулаичем. Ему нужно зачем-то было в Корос-озеро, да,
кстати, он хотел и ружье помыть у колдуна, а то оно стало
недостреливать. Только что мы отплыли верст пять по
245
Выг-озеру, вижу, Мануйло встревожился, стал
приглядываться вдаль, наконец, уверенно произнес:
.— Пакость!
Скоро и я увидал, что на маленьком, голом острове
стояла кучка лошадей, она-то и возбуждала внимание
Мануйлы. Этих лошадей, очевидно, перегнал с Янь-острова
медведь. В это время в стороне показалась лодка; нам
кричали, можно было ясно разобрать слова:
— Па-а-кость! На Корос-озере четырех рбнил!
Когда лодка подъехала, между Мануйлой и двумя
ловцами начался непонятный для меня разговор:
— У нас вся скотина в отпуску... Сам Микулаич отпу-
щал... Пакость! Четырех из отпущенного стада рбнил...
Ослеп. Видно, у него путаться началось... Дьявола-то
жмут... Напущенный... Максимка напустил...
Кое-как мне удалось установить такой смысл этих слов:
скотина, которую рбнил медведь, была заговорена
знаменитым колдуном Микулаичем, или «отпущена». И вот,
несмотря на это, случилось что-то неслыханное: медведь съел
заговоренную, «отпущенную» скотину. Объяснялось это
тем, что Микулаич стал стар, ослеп, дьяволы его жмут и
оттого в голове его начало что-то путаться.
— Эх, а хороший колдун был Микулаич,— сказал мне
Мануйло.— По всем деревням, от Данилова до Поморья,
отпускал скотину. Привезут, отвезут на своей лошади, поят,
кормят, соберут рыбников, калиток целый воз, надают
денег... Пастухи к нему со всех мест за отпусками ходили.
Мануйло не верил, что у Микулаича путаться начало, и
объяснял это тем, что «он», т. е. медведь, напущен другим,
завистливым колдуном Максимкой, и что следовало бы
опять попробовать его утопить. Оказывалось, что этого
Максимку уже не раз топили, но не удавалось: он всплывает
и начинает со злости пакостить, т. е. напускать «звиря».
Наконец мы добрались до колдуна Микулаича. Он сидел
возле своей избушки, грелся на солнце. Этот старый, слепой
старик, с благообразным лицом и седой длинной бородой,
вовсе не походил на колдуна, скорее это был пастырь,
священник. Узнав о том, что у Мануйлы ружье недостреливает,
он сказал:
— Ну, давай ружье, я тебе наставлю.
После этого мы пошли к озеру. Старик стал на колени
у самой воды, разобрал ружье и, продувая ствол, три раза
погрузил его в воду.
Старик совершал обряд с полной верой в его значение, ,
У него было торжественное, серьезное лицо. Мануйло
смотрел на него, как смотрит простой верующий человек на
священника. Озеро было тихое, красивое, и во мне
шевельнулось что-то, требующее уважения к обряду.
247
— Это, видишь ли,— объяснял мне потом в своей
немного мрачной избе Ферезеин,— больше от себя. Когда с
ружьем ходишь полесовать, так нужно вести себя строго.
Другой раз нагрешат, трудно бывает поправить, ну, раз и
не сделаю, а другой уж наставлю.
С большой осторожностью я перевел разговор на
медведей, скот и, наконец, на то, что медведь съел отпущенную
им скотину. Микулаич просто и спокойно объяснил мне, что
медведь этот не простой: если бы он был простой, то
пришел бы на то же место и стал бы есть скотину, а если он
не пришел, то для чего же он ее рбнил? Нет, этот медведь
напущенный. Но кто напустил, он не знает,— говорят, что
Максимка, но это не известно, а он теперь не может
отведать колдуна, потому что ослеп. Для того, чтобы отведать,
нужно собрать из трех мест лагунной воды и смотреть в
нее, пока не покажется враг.
— Я,— говорил старик,— годов с полсотнр1 скотину от-
пущал, и никто не слыхал, чтобы мою скотину медведь
сшиб. Эх, если бы глаза, я бы ему показал. Не по разуму
стряпню затеял. Вот раз это было... годов уж пятьдесят
прошло. Тоже, как и теперь. Каргопольский колдун стал
Повенецкому пакостить. Сошлись они на Корос-озере. Наш-
то и говорит: «Видишь вон чугун в печи, пусть подойдет ко
мне».
Бился, бился Каргопольский,— чугун ни с места.
— А вот тебе шуба на пороге,— говорит он нашему,—
пусть сюда придет...
Не успел сказать, шуба и поползла, и поползла...
С тех пор — шабаш, потерял силу Каргопольский колдун.
— Эх, если бы не глаза, показал бы я этому
Максимке! .
Положение старика было в самом деле печально: всю
жизнь он занимался отпусками, тем и кормился, и вот, на
старости, приходится дело бросать. Он погрузился в
воспоминания и рассказывал мне, как он отпускал скотину.
Бывало троица подходит, со всех мест шлют, успевай
только ездить и отпускать. Приедет в деревню, а там уж
ждут, скотина в поле, в загоне, пастух с трубой. Микулаич
ставит в землю батажок и дает пастуху записку с отпуском.
Если он грамотный, то читает ее, обходя скотину три раза
вправо от батожка, если неграмотный, то за пастухом идет
кто-нибудь и читает отпуск. После этого Микулаич берет
хлебный колобок, режет его на кусочки, чтобы каждой
скотине досталось.
Но теперь старик ослеп, его, несомненно, жмут дьяволы,
и он ничего не может поделать с пакостником Максимкой.
Я упросил старика дать мне отпуск. Он достал из сундука
бумажку и заставил меня три раза прочесть вслух. И нужно
248
было видеть торжественное лицо старика, когда я читал.
Он словно благословлял меня.
— Этот отпуск хороший,— говорил он,— этим отпуском
100 коров отпущено и 40 лошадей. Теперь пиши, верно пиши.
«ОТПУСК
Во имя отца и сына и святого духа!
Выйду я, раб божий, пастырь (имя рек), благословясь
из двери в двери, из ворот в ворота. Стану я лицом на
восток, хребтом на запад и помолюсь Христу небесному.
Господь сотворил небо и землю, реки и озера, и земную
тварь, и человека, и меня, раба божия, с моим любимым
скотом, любимым животом, со скотинкой разношерстной,
доморощенной и новоприведенной, с коровами, быками, с телками,
рогатыми и комлатыми.
Праведное солнце и праведный господи! Поставь вокруг
моего стада тын железный от земли и до неба и к тому тыну
поставь двери стальные, ворота хрустальные, замки
булатные, ключи золотые, чтобы не мог никакой дикий зверь
видеть моего любимого стада, чтобы казалось мое стадо
рысю, волку и широколапому медведю диким, серым
камнем.
И как катится солнце праведное, с лучами ясными, с
утра до вечера, всякий день и час, так чтобы и катилось
мое любимое стадо по всей поскотине на мою трубу и на
мой голос.
И как собирается в божью церковь народ к пению
церковному и ко звону колокольному, и как муравьи сбегаются
в свой муравейник, так чтобы и мое любимое стадо
собиралось к своим дверям во все красное лето, отныне и до века.
Аминь».
— Так пишиг верно пиши,— говорил мне старик. Когда
я простился и вышел из избы, он тоже ощупью добрался
до порога. Я был уже на другой стороне улицы, а старик
все кричал вслед:
— Смотри верно пиши... Пиши!
Вскоре мне удалось познакомиться и с колдуном
Максимкой, счастливым соперником престарелого Микулаича.
Какая противоположность знаменитому патриарху,
хранителю скота! Если тот походил на благообразного священника,
то этот был просто лесной зверь. Лицо его обветренное,
темно-красное, почти черное, с морщинами, похожими на
трещины, скошенный лоб, узкие маленькие глаза. Увидать
такого человека в лесу, особенно когда ему вздумается
залезть на дерево, чтобы сдирать бересту или резать прутья,
249
и можно навсегда поверить в существование лешего,
похожего на человека.
Как и с Микулаичем, мне удалось с ним разговориться
по душе. Раньше он был деревенским пролетарием,
которого все презирали и били, а потом мало-помалу
превратился в колдуна. Другому пойдет во всем удача: наловит
рыбы больше других, настреляет дичи. Подивятся
односельчане и станут говорить: ему помогает лесовой и водяной,
он знает. Немножко фантазии, веры в себя,— вот и колдун.
Но у Максима дело шло другим порядком.
— Эх, и навопелся я,— рассказывал он мне,— навопелся
да находился, да наклепали на меня, да потрепали. А как
дошел до правов... теперь хорошо... боятся. Да я и дело свое
знаю: у меня шерстинка не теряется. Сяду на лошадь, все
за мной в струнку идут. Захочу, так коровы с места не
тронутся, как пришитые стоять будут. А захочу, так и
попугаю, закрою 1.
Микулаича он отвергал. «Лесом пасет,— говорил он про
своего соперника.— Не божеские отпуски дает, а дияволь-
ские, лесом пасет».
Мы разговорились про корос-озерского медведя. Но
Максим тут был ни при чем. Виноваты сами: нужно было одного
отпуска держаться, а они четыре взяли: из четырех-то один
может и худой попасть. Вот она откуда пакость, а Максимка
всего раз только и поиграл. Подогнал он скотину к ржавому
болоту, чтобы легче было медведю поймать, а сам стал за
березку. Вышел медведь из лесу. Скок на коровушку,
обхватил ее лапами, а другие стоят, не шелохнутся, как
придавило! Мог бы все стадо решить медведь, но Максим не
допустил. Привели корову, стали лечить. Истопили баню
жарко, жарко, да в баню корову. Сразу на тех местах, где
медведь поцарапал, и вздуло, она и околела. Дураки! Сами
виноваты. Им бы нужно раны перевязать да жар «из-по-
волечки пущать». После этого Максима опустили в «про-
лубь». Да не удалось... где им справиться...
С тех пор дела Максима пошли в гору: что бы ни
случилось, все он виноват, а тронуть боятся и деньги дают.
Я не берусь сказать, есть ли где еще такое место, как
Выговский край, где бы языческий мир так близко
соприкасался с христианским. В этом краю до сих пор еще живут
пустынники, которые стремятся воспроизвести жизнь
первых христианских аскетов и в их избушки приходят иногда
случайно такие полесники, как Филипп, всю жизнь имевшие
дело только с лешими, колдунами и медведями.
1 «Закрыть корову» на языке колдуна означало сделать ее
невидимой,
250
В. МАЯКОВСКИЙ
ЧЬЕ РОЖДЕСТВО?
Праздники
на носу.
Люди
жаждут праздновать.
Эти дни
понанесут
безобразия разного.
Нынче лозунг:
«Водкой вылей
все свои получки».
Из кулечков
от бутылей
засияют лучики.
Поплывет
из церкви
гул —
развеселый
оченно.
Будет
сотня с лишним скул
в драке разворочена.
Будут
месть
ступени лестниц
бородьем лохматым.
Поплывут
обрывки песен
вперемежку...
с матом.
Целоваться
спьяну
лезть
к
дочкам
и к женам!
251
Перекинется
болезнь
к свеже-зараженным.
Будут
пятна
винных брызг
стлаться
по обоям.
Будут
семьи
драться вдрызг
пьяным
мордобоем.
По деньгам
и даром —
только б угостили —
будут пить
по старым
и по новым стилям.
Упадет
и пьян,
и лих.,..
«Жалко,
что ли,
рожи нам?!»
Сколько их
на мостовых
будет заморожено!
В самогон
вгоняя рожь,
села
хлещут зелие.
Не опишешь!
Словом, сплошь,
радость и веселие.
Смотрю я
на радостное торжество,
глаз
оторвать
не смея...
Но почему оно
зовется
«христово рождество»,
а не
«рождество
зеленого змея»?!
В. МАЯКОВСКИЙ
ТОВАРИЩИ КРЕСТЬЯНЕ, ВДУМАЙТЕСЬ
РАЗ ХОТЬ—ЗАЧЕМ КРЕСТЬЯНИНУ
СПРАВЛЯТЬ ПАСХУ?
Если вправду
был
Христос чадо л юб ив ы й,
если в небе
был всевидящий бог,—
почему
вам
помещики чесали гривы?
Почему давил помещичий сапог?
Или только помещикам
и пашни
и лес?
Или блюдет Христос
лишь помещичий интерес?
Сколько лет
крестьянин
крестился истов,
а землю получил
не от бога,
а от коммунистов!
Если у Христа
не только волос долгий,
но и ум
у Христа
всемогущий,—
почему
допущен голод на Волге?
Чтоб вас
переселять в райские кущи?
Или только затем ему ладан курится,
253
чтобы у богатого
в супе
плавала курица?
Не Христос помог —
советская власть.
Чего ж Христу поклоны класть?
Почему
этот самый бог тройной
на войну
не послал
вселюбящего Христа?
Почему истреблял крестьян войной,
кровью крестьянскою поля исхлестал?
Или Христу —
не до крестьянского рева?
Христу дороже спокойствие царево?
Крестьяне
Христу молились веками,
а война
не им остановлена,
а большевиками.
Понятно —
пасха блюдется попами.
Не зря обивают попы пороги.
Но вы
из сердца вырвите память,
память об ихнем —
злом боге.
Русь,
разогнись наконец,
богомолица!
Чем праздновать
чепуху разную,
рождество
и воскресенье,
Коммуны вольницы
всем крестьянским сердцем отпразднуем!
В. МАЯКОВСКИЙ
КРЕСТИТЬ—ЭТО ТОЛЬКО
ПОПАМ РУБЛИ СКРЕСТИ
Крестьяне,
бросьте всякие обряды!
Обрядам
только попы рады.
Посудите вот:
родился человек
или помер —
попу доход,
а крестьянину ничего —
неприятности кроме.
Жил да был мужик Василий,
богатый,
но мозгами не в силе.
Родилась у него дочка —
маленькая,
как точка.
Не дочь,
а хвороба,
смотри в оба
Надо бы
ее
немедленно к врачу,
да Василий говорит:
«Доктора — чушь!
Впрягу Пегова
и к попу лечу.
Поздоровеет моментально —
только окрещу».
Пудами стол
уставили а снедь,
к самогону
огурцов присовокупили воз еще.
Пришел дьякон,
кудластый, как медведь,
да поп толстый,
как паровозище.
255
А гостей собралось ради крестин!!!
Откуда их
столько
удалось наскрести?!
Гости
с попами
попили,
попели
и наконец
собралися вокруг купели.
Дьякон напился,
аж не дополз до колодца,
воду набрал —
из первого болотца.
Вода холодная да грязная —
так и плавают микробы разные.
Крестный упился
и не то что троекратно —
раз десять окунал
туда и обратно.
От холода
у бедной дочки
ручки и ножки —
как осиновые листочки.
Чуть было
дочке
не пришел капут:
опустили ее
в воду
вместе с головою,
да дочка
сама
вмешалась тут,
чуть не надорвалась в плаче
и в вое.
Тут ее
вынула крестная мать
да мимоходом
головкой о двери — хвать!
Известно одному богу,
как ее не прикончили
или не оторвали ногу.
Беда
не любит одна шляться —
так вот
еще,
на беду ей
256
(как раз
такая святая подвернулась в святцах),
назвали —
«Перепетуей».
После крестин
ударились в обжорку
да пьянку,
скулы
друг другу
выворачивали наизнанку.
Василий
от сивухи не в своем уме:
начисто
ухо
отгрыз куме.
После крестин
дочка
прохворала
полтора годочка.
Доктора отходили еле.
От крестной
ножки все-таки
окривели.
Подросла
и нравится жениховским глазам уж.
Да никак Перепетуи
не выдать замуж.
Женихи говорят:
«При таком имени —
в жены никак не подходите вы мне».
Зачахла девица
из-за глупых крестин,
так
можно дочку
в гроб свести...
А по-моему,
не торопись при рождении младенца —
младенец никуда не денется.
Пойдешь за покупками,
кстати
зайди и запиши дитя в комиссариате.
А подрос,
и если Сосипатр не мил
или имя Перепетуя тебе не мило,—
зашел в комиссариат
и переменил,
зашла в комиссариат
и переменила.
Против тьмы
В. МАЯКОВСКИЙ
КОМУ И НА КОЙ ЛЯД
ЦЕЛОВАЛЬНЫЙ ОБРЯД
Верующий крестьянин
или неверующий,
надо или не надо,
но всегда
норовит
выполнять обряды.
В церковь упираются
или в красный угол,
крестятся,
пялят глаза,—
а потом
норовят облизать друг друга,
или лапу поповскую,
или образа.
Шел
через деревню
прыщастый калека.
Калеке б этому —
нужен лекарь.
А калека фыркает:
«Поможет бог».
Остановился у образа —
и в образ чмок.
Присосался к иконе
долго и сильно.
И пока
выпячивал губищи грязные,
с губищ
на образ
вползла бациллина —
заразная,
посидела малость
и заразмножалась.
258
А через минуту,
гуляя
ради
первопрестольного праздника,
Вавила Грязнушкин,
стоеросовый дядя,
остановился
и закрестился у иконы грязненькой.
Покончив с аллилуями,
будто вошь,
в икону
Вавила
вцепился поцелуями,
да так сильно,
что за фалды не оторвешь.
Минут пять ^
бациллы
переползали .
с иконы
на губу Вавилы.
Помолился
и понес бациллы Грязнушкин.
Радостный идет,
аж сияют веснушки!
Идет.
Из-за хаты
перед Вавилою
встала Маша —
Вавилина милая.
Ради праздника,
не на шутку
впился Вавила
губами
в Машутку.
Должно быть, с дюжину,
бацилла за бациллой,
переползали в уста милой.
Вавила
сияет,
аж глазу больно,
вскорости свадьбу рисует разум.
Навстречу -— кум.
«Облобызаемся
по случаю престольного!»
Облобызались,
и куму
передал
заразу.
17* 259
Пришел домой,
семью скликал
и всех перелобызал —
от мала до велика;
до того разлобызался в этом году,
что даже
пса
Полкана
лобызнул на ходу.
В общей сложности,
* ни много, ни мало,—
слушайте,
на слово веря,—
человек полтораста налобызал он
и
одного зверя.
А те
заразу
в свою очередь
передали —
кто мамаше,
кто сыну,
кто дочери.
Через день
ночью
проснулся Вавила,
будто
губу ему
колесом придавило.
Глянул в зеркало.
Крестная сила!
От уха до уха
губу перекосило.
А уже
и мамаша
зеркало ищет.
«Что это,— говорит,—
как гора,
губища?»
Один за другим выползает родич.
У родичей
губы
галоши вроде.
Вид у родичей —
Не родичи,
а уродичи.
260
Полкан,
и тот
рыча
перекатывается
и рвет губу сплеча.
Лизнул кота.
Болезнь ту
передал коту.
Мяукает кот, •
пищит и носится.
Из-за губы
не видно переносицы.
К утру взвыло все село,—
полсела
в могилы свело.
Лишь пес
да кот
выжили еле.
И то —
окривели.
Осталось
от деревни
только человек двадцать —
не верили,
не прикладывались
и не желали лобызаться.
Через год
объяснил
доктор один им,
что
село переболело
нарывом лошадиным.
Крестьяне,
коль вывод не сделаете сами —
вот он:
у образов не стойте разинями,
губой
не елозьте грязными образами,
не христосуйтесь —
и не будете
кобылогубыми образинами
В. МАЯКОВСКИЙ
КРЕСТЬЯНЕ,
СОБСТВЕННОЙ ВЫГОДЫ РАДИ
ПОЙМИТЕ—
ДЕЛО НЕ В ОБРЯДЕ
Известно,
у глупого человека
в мозгах вывих:
чуть что —
зовет долгогривых.
Думает,
если попу
как следует дать,
сейчас же
на крестьянина
спускается благодать.
Эй, мужики!
Эй, бабы!
В удивлении разиньте рот!
Убедится
даже тот,
кто мозгами слабый,
что дело —
наоборот.
Жила-была
Анюта красавица.
Красавице
красавец Петя нравится.
Но папаша Анютки
говорит:
«Дудки!»
Да и мать Анютина
глядит крокодилицей.
Словом,
кадилу в церквах не кадилиться,
свадьбе не бывать.
262
Хоть Анюта и хороша,
Петя неплох,
да за душой —
ни гроша.
Ждут родители,
на примете у них —
Сапрон жених.
Хоть Сапрону
шестьдесят с хвостом,
да в кубышке
миллиардов сто.
Словом,
не слушая Анютиного воя,
окружили Анюту у аналоя,
и пошел у них
«законный брак» —
избу
разрывает от визга и драк.
Хоть и крест целовали, на попа глядя,
хоть кружились
по церкви
в православном обряде,
да Сапрону,
злея со дня на день,
рвет
жена
волосенок пряди.
Да и Анюту
Сапрон
измочалил в лоскут —
вырывает косу
ежеминутно по волоску.
То муж — хлоп,
то жена — хлоп.
Через месяц —
каждый,
как свеча, тонкий.
А через год
легли супруги в гроб:
жена без косы,
муж без бороденки.
А Петр
впал в скуку,
пыткой кипятился в собственном соку
и наконец
наложил на себя руку:
повесился
на первом суку.
263
В конце ж моей стихотворной повести
и родители
утопились
от угрызения совести.
Лафа от этого
одному попику.
Слоновье пузо,
от даяний окреп,
знай выколачивает
из бутылей
пробки,
самогоном требует за выполнение треб.
А рядом
жили Иван да Марья —
грамотеи ярые.
Полюбились
и, не слушая родственной рати,
пошли
и записались
в комиссариате.
Хоть венчанье
обошлось без ангельских рож —
а брак
такой,
что водой не разольешь.
Куда церковный!
Любовью,
что цепью друг с другом скованы.
А родители
только издали любуются ими.
Наконец пришли:
«Простите,
дураки мы!
И на носу зарубим
и в памяти:
за счастьем
незачем к попам идти».
В. МАЯКОВСКИЙ
НИ ЗНАХАРСТВО,
НИ БЛАГОДАТЬ БОГА
В БОЛЕЗНИ НЕ ПОДМОГА
Нашла на деревню
оспа-зараза.
Вопит деревня.
Потеряла разум.
Смерть деревню косит и косит.
Села
хотят разобраться в вопросе.
Ванька
дурак
сказал сразу:
«Дело ясное —
оно не без сглазу.
Ты
вокруг коровы пегой
возьми
и на ножке одной
побегай
да громко кричи больного имя.
Заразу —
как рукой снимет».
Прыгают,
орут,
аж волдыри в горле.
А люди
мерли,
мерли
и мерли.
Тогда
говорит Данила Балда:
«Средство есть —
наговорная вода.
265
Положите,—
говорит,—
в воду уголечек
и сплевывайте
сквозь губы в уголочек».
Пока заговаривали воду,
перемерло
еще
с десяток народу.
Собрались
снова
всей деревней.
Выжил из ума Никифор древний,
говорит:
«Хорошее средство есть —
ходите по улице
и колотите в жесть.
Пусть бабы разденутся да голосили чтобы,—
в момент
не будет и следа от хворобы».
Забегали.
Резвей, чем в прошлые разы.
Бьют в кастрюли,
гремят в тазы —
выгоняют, значит, оспяного духа.
Да оспа оказалась
бабой без слуха.
Пока гремели,—
человек до ста
провезли из села в направлении погоста.
Тогда
бабы
вспомнили о боженьке,
повалились господу-богу в ноженьки.
Молятся,
крестятся
да кадилом кадят.
А оспа
душит людей,
как котят.
Только поп
за свои молебны
чуть не весь пережрал урожай хлебный.
Был бы всей деревне капут,
да случай счастливый представился тут:
Балды Данилы умный отпрыск —
красноармеец Иванов
вернулся в отпуск.
266
Служил Иванов в полку,
в лазарете,
все переглядел болезни эти.
Знахарей разогнал саженей за сто,
получил по шеям и поп кудластый.
Как гаркнет
по-военному
во весь рот:
«Смирно!
Протяните
руки вперед!»
В руке Иванова ножичек блеснул,
поцарапал руку
да из пузыречка плеснул.
«Готово,— говорит.—
Оспа привилась.
Верьте в медицину, а не в божью милость».
Загудело веселье над каждым из дворов.
Каждый весел.
Каждый здоров.
Вывод тот,
что во время болезней
доктора
и попов,
и суеверий,
и вер полезней,
Да еще,
чем хлестать самогон без просыпу,
наймите фельдшера
и привейте оспу.
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
ВЕРНАЯ ПРИМЕТА
У Клима вся семья в опорках щеголяла,
Да и одежка подгуляла.
Все обносилися вконец.
Хозяйка плакалась: — «Какой ты есть отец?
В лохмотьях дети, тело видно,—
Пускать на улицу их стыдно.
Не говорю, что мне самой
В отрепье этаком подстать ходить с сумой:
Мне не невеститься. А все-таки... обидно!»
Клим хмурился, кряхтел: — «Все вижу сам. Не ной.
Как будто дело лишь за мной.
Почесть, сосед Артем нас будет побогаче,
А у него, одначе,
В обносках тоже все — и дети и жена.
Какая нонече на все пошла цена:
Не доку питься, ей же богу!
Так я при чем тут, голова?»
Задели Клима все ж хозяйкины слова:
Через денек иль два
Стал собираться Клим в дорогу.
Кулек овса, картофель на возу,
Три старых курицы да со сметаной крынка.
— «Уж то-то, женушка, обновок навезу!
Дорвусь до города, так закуплю пшгрынка!»
Что ж? Не успел наш Клим отъехать от двора,
Как злой-презлой, чернее ночи,
И чертыхаясь, что есть мочи,
Вкатил назад во двор. Притихла детвора,
И приросла жена к порогу.
— «Что, Климушка, стряслось?»
— «А то!.. Ах, супостат!
268
Ах, чтоб ты околел!»
— «Да кто ж?»
— «Да поп Ипат!
Взял, долгогривый черт, и перешел дорогу!»
Хотя приметы — ерунда,
Но не всегда,
И особливо эта.
Что поп, переходя дорогу, нам вредит,
Вам это всякий подтвердит.
Вот до чего верна народная примета!
И слыша, как теперь попы пустились врать,
Стремясь средь нас разброд посеять и тревогу,
Я думаю: пора, пора к рукам прибрать
Всю эту черную, озлобленную рать,
Что подло норовит нам перейти дорогу!
Религия
и жен щи на
В. Пукирев. Неравный брак
ДЕНИ ДИДРО
МОНАХИНЯ
(Отрывок)
...Отец мой был адвокатом. Он женился на моей матери
уже немолодым и имел от нее трех дочерей. У него было
более чем достаточное состояние, чтобы надежно их устроить,
но для этого его любовь должна была распределяться между
ними равномерно, а этой похвальной черты я никак не могу
ему приписать. Я, безусловно, превосходила своих сестер
приятностью ума и наружности, нравом и талантами, но мои
родители были, казалось, крайне огорчены этим.
Преимущества, данные мне природой и прилежанием, сделались для
меня источником мучений; с самых юных лет я желала быть
похожей на сестер, чтобы меня всегда любили, нежили,
баловали, прощали, как их. Если кто-нибудь говорил моей
матери: «У вас прелестные дети», то это никогда не
относилось ко мне. Иногда я бывала сторицей отомщена за такую
несправедливость, но, когда мы оставались одни, я так
жестоко расплачивалась за доставшиеся на мою долю
похвалы, что предпочла бы равнодушие или даже обиды. Чем
больше знаков внимания оказывали мне чужие, тем больше
раздражения бывало дома после их ухода. О, сколько раз
плакала я о том, что не родилась безобразной, тупой,
глупой, чванливой, словом со всеми недостатками, которые
обеспечивали сестрам благоволение родителей! Я
спрашивала себя, откуда эта странность у отца и матери — в
остальном честных, справедливых и благочестивых людей.
Признаться ли вам, сударь? Кое-какие фразы, вырвавшиеся
у отца в гневе, ибо он был вспыльчив, некоторые факты,
подмеченные в различные периоды жизни, слова соседей,
замечания слуг заставили меня подозревать причину, несколько
извинявшую моих родителей. Может быть, отец не был
вполне уверен в моем происхождении; может быть, я
напоминала своей матери ее грех и неблагодарность человека,
Протпп тьмы
273
рабой которого она стала,—кто знает? Но как ни мало
обоснованы эти подозрения, чем я рискую, доверяя их вам?
Вы сожжете это письмо, а я обещаю сжечь ответное.
Мы появились на свет одна за другой, и все три
одновременно сделались взрослыми. Представились партии. За
старшей сестрой ухаживал один милый молодой человек;
вскоре я заметила, что он обращает особенное внимание на
меня, и догадалась, что сестра все время была лишь
предлогом для его частых посещений. Я предчувствовала все
горе, которое это предпочтение могло навлечь на меня, и
предупредила мать. Пожалуй, это единственный поступок
за всю мою жизнь, которым я угодила ей, и вот какую
награду я получила за него. Четыре дня спустя, или во
всяком случае очень скоро, мне сказали, что для меня
приготовлено место в монастыре, и отвезли туда на следующий
же день. Мне так тяжело жилось дома, что событие это
нисколько не огорчило меня. Я очень весело отправилась в
монастырь св. Марии, в свой первый монастырь.
...Между тем приближалось время, которого я иногда
ждала с таким нетерпением. Я стала задумываться и
почувствовала, что мое отвращение к монашеству снова
пробудилось и растет. Я исповедалась в своих сомнениях
настоятельнице и наставнице послушниц. Эти женщины умеют
мстить за скуку, которую вы причиняете им, ибо не надо
думать, что им доставляют большое удовольствие
разыгрываемая ими роль и те глупости, которые они принуждены
повторять нам; в конце концов, это набивает им оскомину и
наводит на них тоску; они обрекают себя на это из-за
какой-нибудь тысячи экю, которая достается их монастырю.
Вот главное, из-за чего они лгут всю жизнь и готовят для
юных неискушенных душ муки отчаяния на сорок, на
пятьдесят лет, а может быть, и вечную гибель, ибо можно
считать достоверным, что из ста монахинь, умирающих до
пятидесяти лет, ровно столько же губят свою душу, не
считая тех, которые делаются идиотками, полоумными или
сумасшедшими в ожидании смерти.
Как-то одна из этих последних убежала из кельи, где ее
держали взаперти. Я увидела ее. С этого часа начинается
мое счастье, или мое несчастье,— в зависимости от того, как
вы поступите со мной. Я никогда не видела ничего столь
отвратительного и ужасного. Волосы ее были всклокочены,
она была почти раздета и тащила за собой железные цепи;
глаза ее блуждали; она рвала на себе волосы, била
кулаками в грудь, бегала, выла, осыпала самое себя и других
самыми страшными проклятиями; пыталась выброситься в
окно. Ужас охватил меня, я дрожала с головы до ног, видя
свою судьбу в судьбе этой несчастной, и тотчас же твердо
решила скорее умереть тысячу раз, чем подвергнуться
274
такой же участи. Предвидя, какое впечатление могло
произвести на мой ум это происшествие, сочли нужным
изгладить его. Мне наговорили об этой монахине кучу смешных и
противоречивых небылиц: ум ее будто бы был уже
расстроен, когда ее приняли в монастырь; когда-то, в
переходном возрасте, ее сильно испугали; она стала подвержена
видениям, верила, что находится в сношениях с ангелами;
пагубное чтение извратило ее ум; она слышала
проповедников чрезмерно строгой морали, которые так устрашили ее
судом божиим, что рассудок ее пошатнулся и она сошла с
ума; ей чудятся демоны, преисподняя и геенна огненная.
Это такое горе для них, это неслыханный случай; ничего
подобного никогда не бывало в монастыре, и так далее — без
конца. Все это нисколько меня не убедило. Безумная
монахиня ежеминутно представлялась мне, и я повторяла клятву
не давать никакого обета.
И вот, наконец, наступил день, когда надо было
показать, умею ли я держать слово.
...Ко мне направили монастырского духовника;
прислали ученого богослова, который уговаривал меня принять
постриг; я была поручена особому попечению наставницы
послушниц; виделась с монсеньером епископом Алекским.
Мне пришлось ломать копья с набожными женщинами,
интересовавшимися моим делом, хотя я не была с ними
знакома; происходили непрерывные собеседования с монахами
и священниками. Приезжал отец, я получала письма от
сестер; мать явилась последней — я противостояла всему. Тем
не менее был назначен день пострига. Не пренебрегли
ничем, чтобы добиться моего согласия, когда же увидели, что
бесполезно домогаться его, приняли решение обойтись без
него.
С этого времени я была заперта в келье, мне предписали
молчание, я была отделена от всего мира, предоставлена
самой себе; и мне стало ясно, что решено распорядиться
мною помимо моей воли. Я ни за что не хотела давать обет
монашества,— это было решено раз навсегда: все
действительные или мнимые ужасы, которыми меня беспрестанно
пугали, не могли поколебать моего решения. Однако я была
в плачевном состоянии и совершенно не знала, долго ли оно
продлится; еще меньше знала я, что может произойти со
мной, когда оно кончится. Судите сами, сударь, о решении,
принятом мною в этой неизвестности. Я не видела больше
никого: ни настоятельницы, ни наставницы послушниц, ни
товарок; я дала знать первой, будто я склоняюсь к
исполнению воли своих родителей, но в действительности
намеревалась положить конец этим преследованиям, предать дело
огласке и публично протестовать против замышляемого
насилия. Итак, я сказала, что они хозяева моей судьбы и
18*
275
могут располагать ею по своему усмотрению, что я буду
монахиней, если требуют, чтобы я была ею. И вот, по всему
монастырю распространилось ликование, вернулись ласки со
всей лестью и всеми соблазнами. Мое сердце де вняло гласу
божию, я предназначена для состояния совершенства более,
чем кто-либо. Это неотвратимо, всегда ожидали этого.
Только тот, кто воистину призван, исполняет свои
обязанности так примерно и неукоснительно. Наставница
послушниц ни у одной из своих учениц никогда не видела столь
ярко выраженного призвания; она была крайне поражена
моими странностями, но всегда повторяла матушке-настоят-
тельнице, что надо держаться твердо и что это пройдет,—
даже самые лучшие монахини переживают такие минуты;
это — внушения злого духа, который удваивает усилия,
когда видит, что добыча готова ускользнуть; я избавлюсь от
него; впереди меня ждут одни розы; обязанности
монашеской жизни покажутся мне тем легче переносимыми, чем
сильнее я их преувеличивала; если я внезапно
почувствовала тяжесть этого бремени, то это милость неба, которое
воспользовалось этрш средством, дабы облегчить его...
Особенно странным показалось мне, что одно и то же
происходит от бога или от дьявола, в зависимости от того, как моим
наставникам вздумается изобразить дело. В религии много
подобных несуразностей; утешавшие меня часто говорили о
моих мыслях — одни, что это дьявольское наваждение,
другие, что бог внушил мне их. Одно и то же происходит или
от бога, который подвергает нас испытанию, или от
дьявола, который искушает нас.
Я вела себя так, что никто не догадывался о моих
намерениях, и полагала, что могу отвечать за себя. Я увиделась
с отцом, он холодно говорил со мной; увиделась с матерью,
она поцеловала меня; я получала поздравительные письма
от сестер и от многих других. Мне стало известно, что
напутственное слово будет говорить господин Сорнен,
викарий церкви св. Рока, а господин Тьерри, канцлер
университета, примет мой обет. Все шло хорошо до кануна великого
дня, как вдруг я узнала, что церемония будет тайной, что
при ней будут присутствовать немногие, и дверь церкви
будет открыта только родственникам. Тогда я через
привратницу позвала всех наших соседей, своих друзей, своих
подруг; мне позволили написать некоторым знакомым.
Оказалось такое стечение народа, какого вовсе не
ожидали; пришлось разрешить войти всем; было
многолюдное собрание, нужное для осуществления моего
плана.
...Зазвонили в колокола, возвещая миру, что собираются
погубить еще одну несчастную. Сердце мое снова
заколотилось. Пришли одевать меня; этот день — день облачения;
276
в настоящее время, когда я вспоминаю всю эту церемонию,
мне кажется, что в ней было нечто торжественное и очень
трогательное для молодой простодушной девушки, не
имеющей иного призвания. Меня проводили в церковь,
отслужили обедню; добрый викарий, усмотревший во мне
покорность воле божией, которой у меня не было и в помине,
произнес длинную проповедь, где не было ни одного слова; не
противоречившего здравому смыслу; было очень смешно
все то, что он говорил о моем счастье, о благодати, о моем
мужестве, рвении, пламенной вере и о всех прекрасных
чувствах, какие он во мне предполагал. Противоречие между
его хвалебной речью и поступком, который я собиралась
совершить, смутило меня; были мгновения, когда я
испытывала нерешительность, но длились они недолго. Я еще
сильнее почувствовала, насколько не хватает мне всего того, что
необходимо для хорошей монахини. Наконец, страшная
минута наступила. Когда пришлось взойти на амвон, где я
должна была произнести обет монашества, ноги у меня
подкосились; две товарки взяли меня под руки; моя голова
опрокинулась на плечо одной из них, я едва волочила ноги.
Не знаю, что происходило в душе присутствующих, но они
видели перед собой молодую умирающую жертву, несомую
на алтарь, и со всех сторон раздались вздохи и рыдания,
однако я твердо уверена, что среди них не было слышно
голоса ни моего отца, ни моей матери. Все встали; молодые
девушки взобрались на сиденья, держась за перекладины
решетки; наступило глубокое молчание, и принимавший обет
сказал мне: «Мария-Сюзанна Симонен, обещаете ли вы
говорить правду?»
— Обещаю.
— По вашей ли доброй воле и по вашему ли
собственному желанию находитесь вы здесь?
Я ответила «нет», но сопровождавшие ответили за меня
«да».
— Мария-Сюзанна Симонен, даете ли вы богу обет
целомудрия, бедности и послушания?
Я колебалась мгновенье; священник ждал, и я ответила:
— Нет, сударь.
Он снова начал:
— Мария-Сюзанна Симонен, даете ли вы богу обет
целомудрия, бедности и послушания?
Я ответила ему более твердым голосом:
— Нет, сударь, нет.
Он остановился и сказал:
— Дитя мое, придите в себя и слушайте меня.
— Батюшка, вы спрашиваете меня, даю ли я богу обет
целомудрия, бедности и послушания; я хорошо слышала вас
й отвечаю вам: нет...
277
Повернувшись затем к присутствующим, среди которых
поднялся довольно громкий говор, я сделала знак, что хочу
говорить; говор прекратился, и я сказала:
— Господа, и в особенности вы, батюшка и матушка,
беру вас всех в свидетели...
При этих словах одна из сестер задернула занавесом
решетку, и я увидела, что продолжать бесполезно.
Монахини окружили меня, осыпая упреками; я слушала их, не
говоря ни слова.
Меня отвели в келью и заперли там на ключ.
...Я сделала все, что могла, чтобы разжечь к себе
ненависть и страх и погубить себя, и добилась этого. На меня
не жаловались более церковным властям, но постарались
сделать мою жизнь невыносимой. Остальным монахиням
запретили общаться со мной, и вскоре я оказалась одна.
У меня были подруги, очень немногочисленные —
заподозрили, что они стараются обойти тайком запрещение
видеться со мной и что, не имея возможности беседовать
днем, посещают меня ночью или в неурочные часы; нас
выследили: меня заставали то с одной, то с другой. Этот
неосторожный поступок раздули, и я была наказана самым
бесчеловечным образом: меня приговорили целые недели
простаивать церковную службу на коленях, отдельно от
остальных, посреди хор; сажали на хлеб и воду, запирали в
келье; заставляли делать самую грязную работу в
монастыре. Те, кого называли моими сообщницами,
подвергались почти такому же обращению. Когда не могли найти за
мной вины, ее выдумывали. Мне давали одновременно
несовместимые приказания и наказывали за неисполнение их;
передвигали часы церковной службы, часы трапез;
изменяли весь порядок монастырской жизни, не доводя об этом
до моего сведения; несмотря на величайшее напряжение
внимания, я каждый день оказывалась виноватой, каждый
день бывала наказана. У меня есть мужество, но какое
мужество может устоять против одиночества, преследований и
полной заброшенности? Дело дошло до того, что устроили
себе игру из моих мучений,— это стало забавой пятидесяти
действовавших заодно монахинь. Я не могу входить во все
подробности этих злобных каверз: мне мешали спать,
бодрствовать, молиться. Сегодня у меня крали что-нибудь из
моей одежды, завтра — ключи или требник; замок в моей
двери оказывался сломанным; мне мешали исправно
выполнять работу, портили то, что я делала хорошо; мне
приписывали вымышленные слова и действия; меня
делали ответственной за все, и моя жизнь превратилась
в цепь действительных или мнимых проступков и цепь
наказаний.
278
Мое здоровье не выдержало столь долгих и тяжких
испытаний; я дошла до полного изнеможения, впала в
уныние и тоску.
...Такое жалкое существование влачила я, когда, окинув
взором свою прошлую жизнь, задумала расторгнуть обет.
...Я получила из Рима разрешение ходатайствовать о
расторжении обета. Немедленно после этого предстояло
возбудить дело, а в монастыре ничего не подозревали. Можете
себе поэтому представить изумление настоятельницы,
когда ей предъявили от имени сестры Марии-Сюзанны Симо-
нен протест против обета, с просьбой разрешить снять
монашескую одежду и выйти из монастыря, чтобы
располагать собой по своему усмотрению.
Я предвидела, что натолкнусь на противодействия
разного рода: со стороны законов, со стороны монастыря и со
стороны моих встревоженных шуринов и сестер. Они
владели всем семейным имуществом. Освободившись, я могла
бы потребовать у них возвращения значительной доли.
Я написала сестрам, умоляла их не чинить никаких
препятствий моему выходу, взывала к их совести, указывая, что
обет мой не был дан добровольно, предлагала им подписать
акт отказа от всех притязаний на наследство отца и матери,
пустила в ход все, чтобы убедить их, что ни материальные
соображения, ни страсть не являются мотивами моего
поступка. Я не возлагала никакой надежды на их чувства: акт
отказа от наследства, который я предлагала им,
оставался недействительным, будучи подписан монахиней, а они
нисколько не были уверены в том, что я подтвержу его,
когда буду свободна; и кроме того, удобно ли им было
принимать мои предложения? Оставить сестру без пристанища и
без средств к жизни? Воспользоваться ее имуществом? Что
скажут в свете? Если она попросит у них хлеба, то разве
можно будет отказать ей? Если ей придет фантазия выйти
замуж, то что за человек будет ее муж? А если у нее будут
дети?.. Надо изо всех сил противиться этой опасной
попытке... Вот что они сказали себе и что они сделали.
Как только настоятельница получила мое судебное
прошение, она прибежала ко мне в келью:
— Как, сестра Сюзанна, вы хотите нас покинуть?
— Да, матушка.
— И вы собираетесь отказаться от своего обета?
— Да, матушка.
— Разве вы не дали его свободно?
— Нет, матушка.
— Кто же вас принуждал?
— Все.
— Ваш отец?
279
— Мой отец.
— Ваша мать?
— И она также.
— Почему же вы не объявили это у подножия алтаря?
— Я была в таком состоянии, что не помню даже, что
присутствовала там.
— Как можете вы так говорить?
— Я говорю правду.
— Как! Вы не слышали, как священник спрашивал вас:
«Сестра Сюзанна Симонен, даете вы богу обет послушания,
целомудрия и бедности?»
— Я не помню этого.
;— Разве вы не ответили утвердительно?
— Я не помню этого.
— И вы воображаете, что вам поверят?
— Поверят мне и^и нет, но факт остается фактом.
— Дорогое дитя, если бы подобные предлоги
выслушивались, то к каким злоупотреблениям привело бы это! Вы
поступили необдуманно; вы поддались чувству мести; вы
затаили в сердце злобу из-за наказаний, которым
вынуждали меня подвергать вас; вы думали, что для
расторжения обета достаточно будет сослаться на них; вы
ошибаетесь: ваш обет нерасторжим ни перед людьми, ни перед
богом. Не забывайте, что нарушение клятвы — тягчайшее из
всех преступлений; вы уже совершили его в сердце своем, а
теперь собираетесь довести до конца.
— Я не нарушу никакой клятвы, я ни в чем не клялась.
— Если по отношению к вам была допущена
какая-нибудь несправедливость, то разве она не была исправлена?
— Вовсе не эта несправедливость побудила меня принять
решение.
— А что же тогда?
— Отсутствие призвания, отсутствие свободы при
произнесении обета.
— Если вы не имели никакого призвания, если вас
принуждали, то почему же вы не сказали этого в свое время?
— А разве это помогло бы мне?
— Почему вы не обнаружили той же твердости, какую
проявили в монастыре св. Марии?
— Разве твердость зависит от нас? Я была тверда в
первый раз; во второй — не ведала, что творила.
— Почему вы не обратились к юристу? Почему вы не
протестовали? В вашем распоряжении были целые сутки
чтобы взять обратно свой обет.
— Разве я знала что-нибудь 'об этих формальностях?
А если бы и знала, то разве я в состоянии была
воспользоваться ими? Хватило ли бы у меня на это сил? Неужели,
матушка, вы не заметили сами, что я была невменяема?
2S0
Если я призову вас в свидетели, поклянетесь ли вы, что я
была в здравом уме?
— Поклянусь.
— Тогда значит, вы, матушка, а не я, нарушите клятву.
...Разговор этот был очень продолжителен. Вспоминая
его, я краснею от тех смешных и непристойных вещей,
которые я сделала и сказала, но этого уж не поправишь.
Настоятельница продолжала восклицать: «Что будут говорить
в миру! Что скажут наши сестры!» Но тут зазвонил
колокол, призывая нас в церковь, и мы расстались. Она сказала
мне, уходя:
— Сестра Сюзанна, вы пойдете в церковь; молите бога
тронуть ваше сердце и вернуть вам смиренномудрие,
спросите свою совесть и верьте тому, что она скажет вам,— она
не может не упрекать вас. Освобождаю вас от пения.
Мы вошли в церковь почти одновременно. Служба
кончилась; по окончании службы, когда все сестры готовы
были разойтись, настоятельница постучала по требнику и
остановила их.
— Сестры мои,— сказала она,— призываю вас пасть к
подножию алтаря и молиться милосердному богу об одной
монахине, которую он покинул: она потеряла влечение к
монашеству, утратила благочестие и готова совершить акт,
кощунственный в глазах господних и постыдный в глазах
людских.
Не могу описать вам всеобщего изумления; каждая, не
двигаясь, во мгновение ока окинула взглядом лица своих
товарок, стараясь распознать виновную по обнаруженному
ею замешательству. Все простерлись ниц и молились молча.
По прошествии довольно значительного времени
настоятельница запела вполголоса Veni, Creator *, и все
продолжали тихим голосом Veni, Creator, затем, после второй паузы,
настоятельница постучала по пюпитру, и все вышли.
...На следующий день, после церковной службы, общине
снова было предложено молиться за меня. Молились молча
и тихо повторяли тот же гимн, что и накануне. Та же
церемония на третий день, с той разницей, что мне велели
стоять посреди хор и читали молитвы за умирающих,
литании святым, с припевом «Ora pro ea» 2. На четвертый день
была разыграна глупая комедия, обличавшая склонность
настоятельницы к причудам. В конце службы меня
положили в гроб посреди хор, по бокам поставили подсвечники
с кропильницей; меня покрыли саваном и отслужили
панихиду, после которой каждая монахиня, выходя, кропила
меня святой водой со словами «Requiescat in pace»3. Надо
1 Приди, создатель (лаг.).
2 Молись за нее (лат.).
3 Да почиет с миром (лат.).
281
знать монастырский язык, чтобы понять угрозу,
заключавшуюся в последних словах. Две монахини сняли саван,
потушили свечи и оставили меня так, насквозь промокшую от
воды, которой они меня с таким злорадством поливали.
Одежда высохла на мне,— мне не во что было переодеться.
За этим унижением последовало другое. Собралась община;
на меня решено было смотреть как на отверженную, мой
поступок рассматривался как вероотступничество; всем
монахиням запрещено было под страхом наказания говорить
со мной, помогать мне, приближаться ко мне и даже
дотрагиваться до вещей, которыми я пользовалась. Эти
приказания строго исполнялись. Наши коридоры узки; в некоторых
местах двое едва могут разойтись: если навстречу мне шла
монахиня, то она или повертывала обратно, или прижималась
к стене, придерживая покрывало и одежду, чтобы я
как-нибудь не задела ее своей. Если надо было что-нибудь взять у
меня, я клала этот предмет на пол, и его брали тряпкой;
если надо было что-нибудь дать мне, то это швыряли.
Когда, к несчастью, прикасались ко мне, то считали себя
оскверненными и шли к настоятельнице исповедоваться и
очиститься от греха. Говорят, что лесть подла и низка,— она,
кроме того, очень жестока и очень хитра на выдумки, когда
имеет в виду угодить, изобретая мучения. Сколько раз
вспоминала я слова усопшей настоятельницы Мони: «Среди всех
этих созданий, которых вы видите вокруг меня такими
послушными, невинными, кроткими, нет почти ни одной, дитя
мое, почти ни одной, из которой я не могла бы сделать
дикого зверя,— странное превращение! И предрасположение
к нему тем сильнее, чем моложе входят в келью и чем
меньше знают общественную жизнь. Эти слова удивляют вас; да
хранит вас господь от того, чтобы вы испытали на себе
заключающуюся в них истину! Сестра Сюзанна, хорошей
монахиней является лишь та, которая хочет искупить в
монастыре какой-нибудь большой грех».
Я была отрешена от всех должностей. В церквей с обеих
сторон от меня оставляли по одному пустому сидению.
В трапезной я занимала место за отдельным столом, мне
не подавали кушаний, я принуждена была сама ходить на
кухню просить свою порцию; в первый раз сестра-стряпуха
крикнула мне:
— Не входите, идите прочь...
Я повиновалась.
— Что вам надо?
— Есть.
— Есть! Вы не достойны жить...
Иногда я уходила обратно и целые дни оставалась, не
имея ни крошки во рту; иногда я настаивала, и мне ставили
на порог кушанья, которые постыдились бы дать скотине;
282
я подбирала их, плача, и уходила. Если я подходила
последней к двери на хоры, она оказывалась запертой; я
преклоняла там колена и ждала конца службы. Идя в сад,
я наталкивалась на запертую калитку и возвращалась в
свою келью. Между тем силы мои слабели от недостатка
пищи, от плохого качества той, которую я принимала, а
еще больше от душевных мук, причиняемых мне этими
бесконечными проявлениями бесчеловечности, и я
почувствовала, что если буду по-прежнему страдать, не жалуясь, то
Родители приводят свою дочь в монастырь.
Сатирическая гравюра
ни за что не дотяну до конца своего процесса. Я решила
поэтому поговорить с настоятельницей; едва живая от страха,
я, тем не менее, потихоньку постучалась в ее дверь. Она
отворила; увидя меня, она отступила на несколько шагов,
крича мне:
— Вероотступница, отойдите!
Я отошла.
— Еще.
Я отошла еще.
— Что вам нужно?
— Ни бог, ни люди не приговаривали меня к смерти,
поэтому я прошу вас, матушка, приказать, чтоб мне дали
жить.
— Жить! — сказала она, повторяя слова
сестры-стряпухи.— Разве вы достойны этого?
283
— Это известно одному богу; но предупреждаю вас, что
если меня не будут кормить, то я вынуждена буду
жаловаться тем, кто принял меня под свое покровительство.
Я нахожусь здесь только временно, пока решается моя
судьба, мое пребывание в монашестве.
— Идите,— сказала она,— не оскверняйте меня своими
взглядами; я приму меры...
Я ушла. Настоятельница захлопнула за мной дверь. Она,
по-видимому, отдала приказание, но обо мне заботились
почти так же мало и видели заслугу в том, чтобы не повино-
ваться< ей: мне швыряли самые грубые блюда, вдобавок
испорченные золой и всякими нечистотами.
Такую жизнь вела я, покамест продолжался мой процесс.
Посещение приемной не было запрещено мне. Не могли
лишить меня права беседовать с судьями и с моим адвокатом;
и все же он неоднократно был принужден прибегать к
угрозам, чтобы добиться свидания со мной. Тогда меня
сопровождала сестра; она жаловалась, если я говорила тихо; она
выражала нетерпение, если я оставалась слишком долго;
прерывала меня, опровергала, противоречила, повторяла
мои слова настоятельнице, искажая их, придавая им
злобный смысл, и даже выдумывала такие, каких я вовсе не
произносила; наговаривала бог весть что. Дошли до того, что
обкрадывали меня, обирали, уносили мои стулья, одеяла и
матрацы; мне не давали больше чистого белья; одежда моя
изорвалась; я осталась почти без чулок и без обуви. Я с
трудом доставала воду: несколько раз я принуждена была
сама ходить за ней к колодцу, к тому колодцу, о котором
я говорила вам раньше. Мою посуду перебили; тогда, не
имея возможности принести себе воды, я должна была
пить у колодца. Проходя под окнами, я вынуждена была
бежать — иначе я подвергалась опасности быть облитой
нечистотами из келий. Некоторые сестры плевали мне
в лицо. Я стала ужасающе грязна. Боясь, как бы я не
пожаловалась нашим духовникам, мне запретили
исповедоваться.
Однажды, в большой праздник, кажется, это был день
Вознесения, меня заперли на замок; я не могла пойти к
обедне; и, может быть, пропустила бы все церковные
службы, если бы меня не посетил г-н Манури, которому
сначала сказали, что не знают, что со мной, что меня больше не
видно, что я не исполняю своих христианских обязанностей.
Однако, после отчаянных усилий, я сломала замок и
отправилась к двери на хоры,— она оказалась запертой, как это
бывало и раньше, когда я не приходила одной из первых.
Я легла на землю, прислонясь головой и спиной к стене,
скрестив руки на груди и загородив телом проход; когда
служба кончилась и у выхода показались монахини,
284
первая внезапно остановилась; вслед за ней подошли другие;
настоятельница догадалась в чем дело и сказала:
— Шагайте по ней, ведь это труп.
Некоторые повиновались и топтали меня ногами, другие
были менее бесчеловечны, но ни одна не осмелилась
протянуть мне руку и помочь встать. Пока я отсутствовала, из
моей кельи унесли скамеечку для молитвы, образ
основательницы монастыря и прочие иконы, распятие; мне
оставили только то, которое я носила на четках, но и то не
надолго. Итак я жила между четырьмя голыми стенами, в
комнате без двери, без стула, лежа на соломе или стоя, без
самой необходимой посуды, вынужденная выходить ночью
для удовлетворения естественных потребностей,
подвергаясь утром нареканиям за то, что я нарушаю покой
монастыря, шляюсь и схожу с ума. Моя келья больше не
запиралась, и в нее входили ночью с оглушительным шумом,
кричали, тащили мою постель, били окна, заставляя меня
переживать всевозможные ужасы. Шум доносился до верхнего
этажа, оглашал нижний. Не участвовавшие в заговоре
говорили, что в моей комнате происходит что-то странное, что
они слышат зловещие голоса, крики, лязг цепей и что я
разговариваю с привидениями и с нечистой силой, что я,
должно быть, продала душу черту и что из моего коридора надо
бежать без оглядки.
В монастырских общинах есть слабоумные, их даже
очень много: они верили тому, что им рассказывали, и не
осмеливались проходить мимо моей двери. Я
представлялась их смятенному воображению чудовищем, они осеняли
себя крестным знамением, встречаясь со мной, и убегали
крича: «Отойди от меня, сатана! Господи, приди ко мне на
помощь!..» Как-то раз одна из самых молодых была в конце
коридора; я шла по направлению к ней, и меня никак нельзя
было избежать; неописуемый ужас охватил ее. Сперва
она повернулась лицом к стене, бормоча дрожащим
голосом: «Господи боже! Господи боже! Иисус! Мария!..» Между
тем я подходила. Когда она почувствовала, что я около нее,
она закрыла лицо обеими руками, чтобы не видеть меня,
кинулась в мою сторону, бросилась в мои объятия, крича,
как исступленная: «Ко мне! Ко мне! Милосердный боже! Я
погибла! Сестра Сюзанна, не причиняйте мне зла; сестра
Сюзанна, сжальтесь надо мной»... С этими словами она
грохнулась на пол полумертвая.
Сбежались на ее крики, унесли ее, и не могу вам
сказать, как извратили это происшествие,— из него сделали
самую преступную историю. Сказали, что демон порока
овладел мною; заподозрили меня в намерениях, в действиях,
какие я не решаюсь назвать...
285
ГАНС КИРК
ПОДЕНЩИКИ
(Отрывок)
...Антон со всех ног прибежал на берег к отцу, и Маринус,
только взглянув на сына, сразу понял: дома случилось
какое-то несчастье. Он отодвинул от себя тачку и испуганно
спросил:
— Почему ты так быстро бежал, милый Антон?
Антон плачущим голосом рассказал, что Вера упала в
школе с гимнастического снаряда и отцу нужно идти
домой. Маринус быстро пошел к подрядчику и рассказал о
случившемся, затем схватил Антона за руку и побежал вверх
по обрыву прямо к дому.
Войдя в спальню, он увидел, что Вера лежит на кровати
смертельно бледная и без сознания, а над ней склонился
доктор из Фергебю.
— Что же это такое? — запричитал Маринус.— Что с ней
приключилось?
— Вера упала,— беззвучным голосом ответила Тора.
— Да как же это произошло? — повторил Маринус.
— Она, наверно, недостаточно крепко держалась, когда
лезла вверх,— сурово сказала Тора.— Ее привез сам
Ульриксен и вызвал по телефону доктора.
Маринус молча уставился на маленькое бледное личико,
которое казалось совершенно безжизненным. У него было
такое чувство, будто он видит дурной сон. И вдруг он
заметил учителя Ульриксена, который молча стоял в углу
комнаты.
Доктор выпрямился над постелью и, покачав головой,
сказал:
— У нее повреждение позвоночника. Через несколько
часов она умрет. Единственное утешение в том, что она не
испытывает страданий и умрет не приходя в сознание.
— А операция не поможет? — беспомощно спросил
Маринус.
286
Доктор отрицательно покачал головой,— ей ничем нельзя
было помочь.
Доктор уехал, и Ульриксен стал рассказывать шепотом,
как произошло несчастье. Вера вскарабкалась на
перекладину, но руки у нее почему-то разжались, и она упала на
пол спиной. Ульриксен объяснял все очень подробно и никак
не мог остановиться, но Тора прервала его:
— Да мы знаем, Ульриксен, что вы ни в чем не
виноваты. Никто столько не заботится о детях, как вы.
— Спасибо за добрые слова,— облегченно вздохнул
Ульриксен.— Но очень больно, когда случается такое
несчастье.
Учителя теперь нельзя было узнать, суровость его
исчезла, и он стоял с таким покорным видом, точно перед своим
всевышним судией.
Вера умерла вечером; дети тихо прокрадывались в
спальню и грустно смотрели на умершую сестру. Как странно, что
еще сегодня утром они шли с ней вместе в школу, а сейчас
она лежит на постели, мертвая и холодная. На подоконнике
все еще валялась Верина маленькая кукла с одной ногой.
У куклы был такой несчастный и печальный вид, будто она
понимала, что Вера умерла. Пришла старуха Дорре и
предложила взять детей к себе домой. Они смогут у нее
переночевать, а Николай что-нибудь им сыграет.
— Милая Тора,— беспомощно утешал жену Маринус,
когда они остались вдвоем.— Не забывай, что у нас осталось
еще много детей.
— Слабое утешение,— ответила Тора.— Ребенок ведь не
чашка; это если чашка разобьется, можно и из другой
напиться. Но мне хотелось бы узнать, кто виноват в ее смерти.
— Зачем тебе знать это? — спросил Маринус.
— Я легче тогда перенесла бы ее гибель,— ответила Тора.
К ним в дом пришли Лина Шьельденглад и Дагмар Хест
и стали утешать их жалостливыми голосами. Однако Тора,
утешавшая на своем веку многих, знала цену таким
утешениям. Женщины рассказывали о разных несчастных
случаях, о матерях, потерявших своего единственного ребенка, и
о детях, которые родились с физическими или умственными
недостатками.
— Какое мне до этого дело? — возразила Тора.— Вера
была вполне здоровой, да и была мне ближе всех остальных
детей.
— Всегда больше любишь того, кто умирает,— заметила
Лина Шьельденглад.— Ну, успокойся, Тора, твоей славной
девочке хорошо там, куда она ушла.
Известие о смерти Веры быстро распространилось по
всему поселку, и скоро Карльсен уже стучался в двери к
Маринусу. Миссионер, который как раз в этот день приехал
287
в поселок, решил попробовать, не сумеет ли он в этот
скорбный час воззвать к лучшим чувствам Торы. Как
только он вошел в дом, Дагмар и Лина Шьельденглад поднялись
со своих мест и вышли. В дверях они столкнулись с
пастором Гамстом.
— Что, родители очень удручены? — тихо спросил он
женщин.
— Особенно Тора,— ответила Лина.— Маринус пошел к
Дорре проведать своих детей. Тора убита горем.
Пастор отворил дверь, но, увидев Карльсена, остановился
на пороге. Миссионер стоял перед Торой и убеждал ее в
чем-то.
— Пусти детей приходить ко мне и не препятствуй им,—
твердил он.— Это слова господа нашего Иисуса Христа.
Ты должна радоваться тому, что господь призвал твоего
ребенка к себе. Подумай только, сколько бы горя испытала
твоя девочка в земной юдоли, а теперь она от этого
избавлена. Ее чистая душа осталась безгрешной.
Пастор откашлялся и вошел в комнату.
— Здравствуйте, Тора, здравствуйте, миссионер Карль-
сен. Я слышал* о постигшем вас горе. Трудно перенести
подобный удар, но нам следует помнить, что мы, люди, не
должны пытаться проникнуть в тайны бытия. Мы не знаем,
почему господь так внезапно отозвал девочку к себе, но
должны верить в его мудрость.
Как и всегда, пастора не покидало чувство, что он
говорит жалкими, заученными фразами, и он замолчал. Тогда
снова заговорил Карльсен. В присутствии пастора его голос
звучал ещё более твердо и властно.
— Надо помнить, что господь посылает нам испытания
ради нас самих. Без его воли. ни один волос не упадет с
головы человека. Теперь, когда у тебя умер ребенок, ты
должна спросить себя: «Не согрешила ли я в сердце своем
против Христа, или, быть может, господь послал мне
испытание?» Ведь ты, Тора, была упорной, и сердце твое
оставалось глухо к слову божьему. А ты не думаешь, что именно
поэтому господь отнял у тебя твое дитя?
Тора сидела сгорбившись и подперев щеку. Пастор
подошел к ней и положил руку ей на плечо.
— Господь милостив,— сказал он Торе.— Если он взял
малютку к себе, значит, он хотел избавить вас от горя и
разочарований. Кто знает, какая судьба ожидала бы Веру
здесь, на земле?
— Очисти свою душу, Тора, и покайся в своих
прегрешениях,— воскликнул Карльсен, подходя к ней ближе.—
Конечно, гораздо легче подсластить горе, но только соль
очищает сердце от скверны. Ты была словно сосуд, полный
греха и разврата, а теперь господь коснулся тебя своим пер-
288
стом, чтобы ты обратилась к богу и отреклась от дьявола и
от мира сего.
Тора встала со стула и ответила миссионеру:
— Я не признаю того, что вы мне сказали. Я не сделала
никому ничего дурного, так почему же бог посылает мне
испытание? Он же знает, какая я.
Ф. Гойя. Шествие на казнь
— Вы правы, Тора,— вставил свое слово пастор.
— Я не согласна и с вами,— зло перебила его Тора.—
Если бог взял Веру, чтобы пощадить меня, то почему же он
позволяет жить всяким разбойникам и убийцам, которые
приносят только вред другим людям? Впрочем, ведь, это
ваш хлеб, но вы все равно теперь ничем не можете мне
помочь.
19 Против тьмы
289
. Карльсен хотел что-то ответить, однако Тора
направилась к двери и широко распахнула ее. Лицо у нее побелело,
и пастор с миссионером, нерешительно поглядев друг на
друга, двинулись к выходу.
— Мы будем молиться за тебя, Тора,— проговорил
Карльсен, проходя мимо женщины.
В этот момент пришел домой Маринус,— он видел, как
Тора выпроваживала гостей.
— Господи, Тора! Ты указала на дверь пастору и
миссионеру? — испуганно спросил он.
— Да,— только и промолвила Тора.—Я не могла больше
выносить их болтовню.
— Но ведь это их долг — утешать, когда людей
постигнет несчастье,— сказал Маринус.
— А мне этого не нужно,— ответила Тора.-^ Какое имеет
отношение бог к смерти Веры? А если бы и имел, я все
равно никогда бы не поверила в него. Ведь не за тем же он
посылает нам детей, чтобы призывать их потом к себе, хотя
они еще не успели пожить на свете. Я не верю во всю эту
ерунду.
Маринус не посмел возражать жене, хотя и мог бы
немало порассказать ей о том, чему его учили в
детстве.
Тора подошла к окну и, взяв в руки маленькую,
потрепанную куклу, которой играла Вера, спрятала ее в ящик
комода, где хранила свои вещи. Затем она направилась в
спальню и села рядом с мертвым ребенком.
Пастор и миссионер шли вместе по дороге, и тут
впервые пастор Гамет почувствовал, что питает к Карльсену
какую-то странную симпатию.
— Нервы у нее не в порядке,— сказал он.— А вообще-то
она замечательная женщина. Может быть, нам следовало бы
оставить ее в покое.
— Не к покою надо стремиться, если мы хотим
завоевать для Христа душу,— возразил Карльсен.— Надо,
наоборот, будить умы; я ожидал, что именно в минуту скорби и
отчаяния на нее найдет просветление. Но она упряма и
несговорчива, хотя как будто и дельная женщина.
— Неужели вы действительно убеждены в том, что
смерть ребенка может быть послана богом в наказание за
грехи? — спросил пастор.
— Да,— подтвердил Карльсен.— Я могу даже доказать
это словами из священного писания.
— Это жестокая мысль,— ответил пастор,— Я не могу
вообразить себе такого варварски жестокого бога.
— Потому что вы недостаточно хорошо знакомы со
злом,— возразил Карльсен.— Только когда на своем
собственном опыте узнаёшь, что такое грех, начинаешь понимать,
290
где и в чем спасение. Только человек, видевший сатану,
способен узреть лик господень и обрести мир.
Пастор Гамет ничего не ответил и лишь пристально
посмотрел на миссионера. У того были мелкие и расплывчатые
черты лица. Глядя на этого человека, трудно было поверить,
что ему знакомо испепеляющее пламя греховной страсти.
Но теперь Карльсен произвел на пастора менее
отталкивающее впечатление, чем всегда.
— Прощайте, Карльсен,— сказал пастор Гамет.— Если
когда-либо вам придется проходить мимо пасторской
усадьбы, то заверните ко мне. Хотя у нас с вами и разные
взгляды, мы все же найдем общий язык.
Расставшись со своим спутником, пастор подумал: «А,
пожалуй, этот неряха миссионер честнее меня. Он считает, что
в смерти девочки имеется какой-то смысл. Я же только
делаю вид, что верю в это, а на самом деле верю лишь в
жестокость и бессмысленность бытия. Его господь — это Молох,
а я хоть и пастор, но бога у меня нет».
...Раза два в барак заходил миссионер Карльсен, карманы
его были битком набиты разными религиозными трактатами.
Ему удалось прочитать один из них под заглавием «Зеркало
души человеческой» и объяснить, что из себя представляет
грешник. Но, когда он пришел к сезонникам в другой раз,
они до того расшалились и напились, что двое из них даже
вздумали качать Карльсена. Они подбрасывали его до
потолка до тех пор, пока у миссионера не закружилась
голова, а когда ему стало плохо, его выставили за дверь.
Карльсен перенес оскорбление со смиренной улыбкой. За
последнее время у него значительно поубавилось прыти, и
он уже гораздо реже сообщал торговцу о том, что еще можно
предпринять для спасения Меты. По-видимому,
потребуется еще немало времени, прежде чем душа ее обретет
мир.
Иногда миссионер посещал пастора Гамета. Пастор
всегда любезно встречал его и усаживал в огромное кресло в
своем кабинете. Они вели там долгие богословские споры.
А. П. ЧЕХОВ
ГРЕШНИК ИЗ ТОЛЕДО
«Кто укажет место, в котором находится теперь
ведьма, именующая себя Марией Спаланцо, или кто доставит ее
в заседание судей живой или мертвой, тот получит
отпущение грехов».
Это объявление было подписано епископом Барцелоны и
четырьмя судьями в один из тех давно минувших дней,
которые навсегда останутся неизгладимыми пятнами в
истории Испании и, пожалуй, человечества.
Объявление прочла вся Барцелона. Начались поиски.
Было задержано шестьдесят женщин, походивших на
искомую ведьму, были пытаемы ее родственники...
Существовало смешное и в то же время глубокое убеждение, что
ведьмы обладают способностью обращаться в кошек, собак или
других животных и непременно в черных; рассказывали,
что очень часто охотник, отрезав лапу у нападавшего
животного, уносил ее как трофей, но, открывая свою
сумку, находил в ней только окровавленную руку, в которой
узнавал руку своей жены. Жители Барцелоны убили всех
черных кошек и собак, но не узнали в этих ненужных
жертвах Марии Спаланцо.
Мария Спаланцо была дочерью одного крупного барце-
лонского торговца. Отец ее был французом, мать — испанкой.
От отца получила она в наследство галльскую беспечность
и ту безграничную веселость, которая так привлекательна
во француженках, от матери же — чисто испанское тело.
Прекрасная, вечно веселая, умная, посвятившая свою
жизнь веселому испанскому ничегонеделанию и искусствам,
она до двадцати лет не пролила ни одной слезы... Она была
счастлива, как ребенок... В тот день, когда ей исполнилось
ровно двадцать лет, она выходила замуж за известного
всей Барцелоне моряка Спаланцо, очень красивого и, как
292
говорили, ученейшего испанца. Выходила она замуж по
любви. Муж поклялся ей, что он убьет себя, если она не
будет с ним счастлива. Он любил ее без памяти.
На второй день свадьбы участь ее была решена.
Под вечер отправилась она из дома мужа к матери и
заблудилась. Барцелона велика, и не всякая испанка сумеет
указать вам кратчайшую дорогу от одного конца города до
другого. Ей встретился молодой монах.
— Как пройти на улицу святого Марка? — обратилась
она к монаху.
Монах остановился и, о чем-то думая, начал смотреть
на нее... Солнце уже успело зайти. Взошла луна и бросила
свои холодные лучи на прекрасное лицо Марии. Недаром
поэты, воспевая женщин, упоминают о луне! При луне
женщина во сто крат прекраснее. Прекрасные черные
волосы Марии благодаря быстрой походке рассыпались по
плечам и по глубоко дышавшей, вздымавшейся груди...
Поддерживая на шее косынку, она обнажила руки до
локтей...
— Клянусь кровью свитого Януария, что ты ведьма! —
сказал вдруг ни с того ни с сего молодой монах.
— Если бы ты не был монахом, то я подумала бы, что
ты пьян! — сказала она.
— Ты ведьма!!
Монах сквозь зубы пробормотал какое-то
заклинание.
— Где собака, которая бежала сейчас впереди меня?
Собака эта обратилась в тебя! Я видел! Я знаю... Я не прожил
еще и двадцати пяти лет, а уже уличил пятьдесят ведьм.
Ты пятьдесят первая! Я — Августин...
Сказавши это, монах перекрестился, повернул назад и
скрылся.
Мария знала Августина... Она многое слышала о нем от
родителей... Она знала его как ревностнейшего истребителя
ведьм и как автора одной ученой книги. В этой книге он
проклинал женщин и ненавидел мужчину за то, что тот
родился от женщины. Прошедши полверсты, Мария еще
раз встретилась с Августином. Из ворот одного большого
дома с длинной латинской надписью вышли четыре черные
фигуры. Эти четыре фигуры пропустили ее мимо себя и
последовали за ней. В одной из них она узнала того же
Августина. Они проводили ее до.самого дома.
Через три дня после встречи с Августином к Спаланцо
явился человек в черном, с опухшим, бритым лицом, по
всем признакам — судья. Этот человек приказал Спаланцо
идти немедленно к епископу. #
— Твоя жена — ведьма! — объявил епископ Спаланцо.
Спаланцо побледнел.
293
— Поблагодари бога! — продолжал епископ.— Человек,
имеющий от бога драгоценный дар открывать в людях
нечистого духа, открыл нам и тебе глаза. Видели, как она
обратилась в черную собаку и как черная собака обратилась
в твою жену...
— Она не ведьма, а... моя жена! — пробормотал
ошеломленный Спаланцо.
— Она не может быть женою католика! Она жена
сатаны! Неужели ты до сих пор не замечал, несчастный, что
она не раз уже изменяла тебе для нечистого духа? Иди
домой и приведи ее сейчас сюда...
Епископ был очень ученый человек. Слово «femina» l
производил он от двух слов: «fe» и «minus», на том якобы
законном основании, что женщина имеет меньше веры...
Спаланцо стал бледнее мертвеца. Он вышел из
епископских покоев и схватил себя за голову. Где и кому сказать
теперь, что Мария не ведьма? Кто не поверит тому, во что
верят монахи? Теперь вся Барцелона убеждена в том, что
его жена — ведьма! Вся! Нет ничего -легче, как убедить в
какой-нибудь небывальщине глупого человека, а испанцы
все глупы!
— Нет народа глупее испанцев! — сказал когда-то
Спаланцо его умирающий отец-лекарь.— Презирай испанцев и
не верь в то, во что верят они!
Спаланцо верил в то, во что верят испанцы, но не
поверил словам епископа. Он хорошо знал свою жену и был
убежден в том, что женщины делаются ведьмами только
под старость...
— Тебя хотят монахи сжечь, Мария! — сказал он жене,
пришедши домой от епископа.— Они говорят, что ты
ведьма, и приказали мне привести тебя туда... Послушай, жена!
Если ты на самом деле ведьма, то — бог с тобой!—обратись
в черную кошку и убеги куда-нибудь; если же в тебе нет
нечистого духа, то я не отдам тебя монахам... Они наденут
на тебя ошейник и не дадут тебе спать до тех пор, пока ты
не наврешь на себя. Убегай же, если ты ведьма!
Мария в черную кошку не обратилась и не убежала...
Она только заплакала и стала молиться богу.
— Послушай! — сказал Спаланцо плачущей жене.— Мой
покойный отец говорил мне, что скоро настанет время,
когда будут смеяться над теми, которые веруют з
существование ведьм. Мой отец был безбожник, но всегда говорил
правду. Нужно, значит, спрятаться куда-нибудь и выждать
время... Очень просто! В Гавани починяется корабль моего
брата Христофора. Я спрячу тебя в этот корабль, и ты не
выйдешь из него до тех пор, .пока не настанет время, о ко-
Женщина (итал.).
294
тором говорил мой отец... Время это, по его словам,
настанет скоро-
Вечером Мария сидела уже на самом дне корабля и,
дрожа от холода и страха, прислушивалась к шуму волн и
с нетерпением ожидала того невозможного времени, о
котором говорил отец Спаланцо.
— Где твоя жена? — спросил Спаланцо епископ.
— Она обратилась в черную кошку и убежала от
меня,— соврал Спаланцо.
— Я ожидал, предвидел это! Но ничего. Мы найдем ее...
Великий дар у Августина! О, чудный дар! Иди с миром и
другой раз не женись на ведьмах! Были примеры, что
нечистые духи переселялись из жен в мужей... В прошлом
году я сжег одного благочестивого католика, который через
прикосновение к нечистой женщине против воли отдал
душу свою сатане... Ступай!
Мария долго просидела в корабле. Спаланцо посещал ее
каждую ночь и приносил ей все необходимое. Просидела
она месяц, другой, просидела третий, но не наступало
желаемое время. Прав был отец Спаланцо, но месяцев мало
для предрассудков. Они живучи, как рыбы, и им нужны
целые столетия... Мария привыкла к своему новому житью-
бытью и уже начала посмеиваться над монахами, которых
называла воронами... Она прожила бы еще долго и,
пожалуй, уплыла бы вместе с починенным кораблем, как
говорил Христофор, в далекие страны, подальше от глупой
Испании, если бы не случилось одного страшного,
непоправимого несчастья.
Объявление епископа, ходившее по рукам барцелонцев
и наклеенное на всех площадях и рынках, попало и в руки
Спаланцо. Спаланцо прочел это объявление и задумался.
Его заняло отпущение грехов, обещанное в конце
объявления.
— Хорошо бы получить отпущение грехов! — вздохнул
Спаланцо.
Спаланцо считал себя страшным грешником. На его
совести лежала масса таких грехов, за которые пошло на
костер и умерло на пытке много католиков. В юности
Спаланцо жил в Толедо. Толедо в то время был сборным пунктом
магиков и волшебников... В XII и XIII столетиях там
больше, чем где-нибудь в Европе, процветала математика. От
математики в испанских городах до магии один только
шаг... Спаланцо под руководством отца тоже занимался
магией. Он вскрывал внутренности животных и собирал
необыкновенные травы... Однажды он толок что-то в
железной ступе, и из ступы с страшным треском вышел
нечистый дух в виде синеватого пламени. Жизнь в Толедо
состояла всплошную из подобных грехов. Оставив Толедо
295
после смерти отца, Спаланцо почувствовал вскоре
страшные угрызения совести. Один старый, очень ученый монах-
доктор сказал ему, что его грехи не простятся ему, если он
не получит отпущения грехов за какой-нибудь
недюжинный подвиг. За отпущение грехов Спаланцо готов был
отдать все, лишь бы только освободить свою душу от
воспоминаний о позорном толедском житье и избежать ада. Он
отдал бы половину своего состояния, если бы тогда
продавались в Испании индульгенции... Он отправился бы
пешком в святые места, если бы его не удерживали его дела.
— Не будь я ее мужем, я выдал бы ее...— подумал он,
прочитав объявление епископа.
Мысль, что ему стоит только сказать одно слово, чтобы
получить отпущение, застряла в его голове и не давала ему
покоя ни днем, ни ночью... Он любил свою жену, сильно
любил... Не будь этой любви, этой слабости, которую так
презирают монахи и даже толедские доктора, пожалуй,
можно было бы... он показал объявление брату Христофору...
— Я выдал бы ее,— сказал брат,— если бы она была
ведьма и не была такой красивой... Отпущение — вещь
хорошая... Впрочем, мы не будем в убытке, если подождем
смерти Марии и выдадим ее тем воронам мертвую... Пусть
сожгут мертвую... Мертвым не больно. Она умрет, когда мы
будем стары, а в старости-то нам и понадобится
отпущение...
Сказавши это, Христофор захохотал и ударил брата по
плечу.
— Я могу умереть раньше ее,— заметил Спаланцо.—
Но, клянусь богом, я выдал бы ее, если бы не был ее мужем!
Через неделю после этой беседы Спаланцо ходил по
палубе корабля и бормотал:
— О, если бы она была мертвой! Живую я ее не выдам,
нет! Но я выдал бы ее мертвой! Я обманул бы тех старых
проклятых ворон и получил бы от них отпущение!
И глупый Спаланцо отравил свою бедную жену...
Труп Марии был отнесен Спаланцо в заседание судей и
предан сожжению.
Спаланцо получил отпущение толедских грехов... Его
простили за то, что он учился лечить людей и занимался
наукой, которая впоследствии стала называться химией.
Епископ похвалил его и подарил ему книгу собственного
сочинения. В этой книге ученый епископ писал, что бесы
чаще всего вселяются в женщин с черными волосами,
потому что черные волосы имеют цвет бесов.
М. КОЦЮБИНСКИЙ
ВЕДЬМА1
Тетка Прохира вбежала в хату Иона Броски — соседа
своего —с такой поспешностью, какой он никогда не
ожидал от этой почтенной особы. По бледному лицу Прохиры,
по быстрым движениям ее грузного тела, от которых
большие отвислые груди заметно колыхались под тонкой
городской кофтой, а черный платок сползал с головы набок,
особенно же по ее.голым, опухшим ногам, на которых не было,
как обычно, чулок, Ион понял, что случилось что-то
необычайное. Не успел Ион переглянуться со своей Марицей,
хлопотавшей у печки над ужином (а он всегда это делал
в сомнительных случаях), как Прохира вскрикнула: «Ва-
лев!» — и, задыхаясь, в изнеможении упала на лавку.
— Что такое? — в один голос спросили хозяева.
— Вал ев!..2—смогла только извлечь из груди
Прохира.
— Да что с вами, матуша3 Прохира? — подбежала к
ней Марица, оставив свои горшки.
— Ведьму видела! — бросила бомбу матуша.
Это известие произвело сенсацию. Длинное лицо Ионы
вытянулось еще больше, в черных глазах Марицы сверкнул
огонек.
— Что? Как? Когда?
Прохира переводила дух.
С беспрестанными охами, вздохами и обмираниями
Прохира рассказывала. Она начала от Адама. Она с тысячами
подробностей рассказывала о том, что они уже хороню
знали от нее: описывала им свою корову, черную, с белыми
1 Печатается с небольшими сокращениями.
2 Валев—ой!
3 Матуша — тетка (молд.).
297
пятнами на спине и морде, чистую, с большим, как ведро,
выменем. Она сообщила подробные сведения о ее
кормлении, нраве, удое и качестве молока и, поощряемая
пристальным вниманием слушателей, пустилась рассказывать
о семейных отношениях панов, которым она продавала
молоко. И что же! С некоторых пор корова похудела, не дает
молока, даже не подпускает к себе. Не помогла ни святая
вода, ни окуривание — ничего. Когда позвала знахарку, она
шепнула одно только слово: ведьма! Та-та-та! Прохира и
сама это знала. Каждый вечер она замечала, как к тому
хлевку, где ночует корова, что-то. белое, словно тень
какая, вот так: шмыг — и исчезло в хлевке. А вот
сегодня...
Тут Прохира замолкла, с таинственным видом обвела
глазами хату и остановила их на хозяевах.
Те сгорали от нетерпения.
Вытянутое лицо Иона, искорки любопытства в черных
глазах Марицы удовлетворили ее.
— Сегодня за всякой домашней работой опоздала я
доить корову. Уже солнце садится, а я только иду с
подойником... Иду да еще и думаю себе: хоть вечернего молока
не дала ведьме. Но только толкнула я подойником двери в
хлевок, а оттуда как выскочит белая сучка, да прямо мне
под ноги... Вал ев! Я так и обомлела. Ведьма, это же она —
ведьма! Вскипело мое сердце. Вы же знаете, какое у меня
сердце... Убью проклятую; либо убью, либо сама пропаду.
Крепко держу подойник — и за ней. Она со двора — я за
ней. Она вдоль плетня скок туда, скок сюда — я за ней.
Прыгнула через канаву, в огород Митрохи — я за ней. Дух
у меня спирает, башмаки потеряла, но вот-вот догоню.
Летим прямо на ваш виноград. Добежала до плетня, а она
хвост под себя, присела на задние ноги да как прыгнет через
плетень... а я тут сверху подойником так и двинула. Ну,
теперь аминь... Глянула через плетень, а ее, мои
соседушки, и след простыл, сгинула. Только мой подойник висит на
кусте, а около него стоит ваша Параскица...
— Наша Параскица? — вскрикнули разом хозяева.
— Да, ваша Параскица... волосы растрепанные, листья
винограда в косах... вылупила на меня глаза, даже мороз
меня подрал по спине. Валев, и сейчас не опомнюсь от
страха.
Прохира умолкла. Она только переводила дух.
Молчали и Ион с ОДарицей. Всем стало не по себе, будто
над всеми нависла какая-то мысль, которой не выскажешь,
что-то такое, чего нельзя назвать, ибо не оно само, а литтть
неясная его тень мелькнула в этот миг.
...Параскица была некрасива и поэтому, как она думала,
несчастна. Ее низкий рост, ее стан, короткий и толстый, как
298
бочка, вечно потрескавшиеся от черной работы руки, а
особенно лицо приводили ее в отчаяние. Сколько раз
заглядывала она в зеркальце, столько раз из глубины ее
девического сердца поднималась жгучая обида на свое безобразие
и руки поднимались невольно и разглаживали мелкие
морщинки, которые, словно легкой паутинкой, опутали ее лицо.
Напрасно! Кожа на лице не разглаживалась, только
натертые места краснели, и из зеркальца смотрело все такое же
безобразное лицо с непомерно длинным носом, кислым
ртом и красными, только что проступившими пятнами.
Сердце закипало от досады, и жаркие слезы капали из
серых оловянных глаз, таких же оловянных, как те ложки,
что лежат на полке. Бунт!.. Эта Параскица — тихая,
кроткая, покорная Параскица — начинала бунтовать всем своим
существом против злой судьбы, которая .так обидела ее:
стискивала зубы, сдвигала брови и, отчаянным движением
дернув себя за косы, отбрасывала тяжелые волны их на
плечи, нервно вздрагивавшие от рыданий. Ну, зачем ей эти
густые соболиные брови, сросшиеся на переносье и высоко
поднятые над глазами, как два орлиных крыла в вольном
размахе? Сова, настоящая сова! На что ей эти роскошные
длинные косы, девическая гордость и краса, мытые,
чесанные, ращенные с тайными девичьими надеждами, если эти
косы никак не украшают молодое, но, как старое,
сморщенное лицо.
Часто, обессилев от мук беспомощного отчаяния, с
мокрым от слез лицом, с распущенными косами, замирала
Параскица где-нибудь в углу на лавке. Потихоньку,
незаметно, на место таявшей от слез обиды прилетали сладкие,
целительные мечты. Она, как царевна-лягушка в сказке,
сбрасывала с себя гадкую кожу и являлась во всей молодой
красе — высокая, статная, с челом белым, как сахар, с
очами ясными, как звезды, счастливая, полная
противоположность действительности. В ее сердце могучими
волнами билась любовь, и все для него, для самого красивого
парубка на селе!.. Джок! Завистливые взгляды подруг...
пожатия... тихие, темные ночи, полные чар любви, поцелуев,
сладкой истомы и счастья без конца...
Параскица могла долго так просиживать, упиваясь
сладкими, яркими мечтами, но довольно было взору ее упасть
на маленькое, вмазанное в стену зеркальце — и все ее мечты,
все счастье ее исчезало, как дым. Оттуда смотрело на нее
некрасивое лицо, ее изображение, которое — она была
уверена в этом — осталось там, под блестящей стеклянной
поверхностью, чтоб вечно напоминать ей о ее недоле,
заброшенности, одиночестве.
Две отрады были у нее в жизни, и обе отняла у нее злая
доля: первая отрада — ее родная мать, такая добрая и любя-
299
щая; при одном воспоминании о ее образе, неясно
выплывавшем из прошлого, слезы капаЛи из глаз Параскицы. Она
умерла, и ее место заняла Марица. Другая радость... Нет,
Параскица не может вспомнить о ней, потому что
разрывается ее сердце, ком подкатывает к горлу и душит. Ах,
как тяжко было разбить и развеять девичьи мечты,
которые она так долго лелеяла и ласкала в одиноком сердце...
И зачем было ей, бедной, некрасивой, засматриваться
на него, первого на селе орликева \ прекрасного, как
молодой месяц на небе? Рыжая, мерзкая ящерица полюбила
солнце. Да ящерица счастливее ее; она выползает на
солнышко, и оно ласкает ее, обнимает своими лучами. А очи ее
солнышка — Тодораки — никогда с лаской не отдохнут на
ней. Всю их красу и тепло забрала эта... мачеха Марица.
С той минуты как она увидела их вместе, кровь застыла в
ее жилах, сердце стало как лед и холодное, жгуче-холодное,
бьется в груди, и болит, и ноет, и не дает покоя.
С того времени она еще больше почувствовала свое
одиночество на этом свете, где водятся такие змеи, как её
мачеха. Она без сожаления оставила круг девушек и
парубков, где была последней из-за своего безобразия, отказалась
от песен и музыки, клак2 и развлечений, стала редко
бывать даже в собственной хате, где она всякий раз
чувствовала на себе мачехин взгляд; в этом взгляде было столько
злорадства, презрения и нескрываемой ненависти, что
Параскица замирала вся, холодела и в живом
ощущении собственной вины умалялась до размеров серой
пылинки.
Единственным местом, где она чувствовала себя спокойно,
был отцовский виноградник, немой свидетель ее мечтаний,
мук и сожалений. Она полюбила это море кудрявой зелени
под голубым шатром, с его укромными уголками, прохладой,
одиночеством. Она вложила столько сил, столько труда в
этот клочок земли, она собственными руками выходила эти
роскошные ярко-зеленые кусты с тоненькими усиками и
гроздьями ягод под лапчатыми листьями. Это были верные,
неизменные друзья, среди которых душа ее отдыхала от всей
кривды света. Там коротала она дни, там встречали и
ночи ее.
И вот теперь ее отец, которого она любила за доброту
и жалела за обиды, которые причиняла ему Марица, велел
ей не ходить на виноградник. Почему? Параскица не
понимала.
Она сидела, послушная, в хате и томилась без дела. Было
уже за полдень. Солнце нестерпимо жгло сквозь окна, в
1 Красавца.
2 Нарядов.
300
хате было тихо, только мухи роем летали под потолком
и докучали девушке. Она вышла во двор. С площади
долетали до ее ушей звуки веселой булгарески, принаряженные
девушки кучками шли по улице на джок. Параскица
забралась в сарайчик, который, вместо кукурузы, до половины
наполняли кочны, и примостилась на самой верхушке. Она
высунула голову в широкую щель между досками и
выглянула на улицу.
Мимо сарайчика как раз проходило несколько знакомых
девушек, которые, вместо того чтобы поздороваться с ней,
шарахнулись в сторону и, показывая на нее пальцами, с
криком: «Она! она»! — побежали прочь, шелестя юбками
и взметая пыль. Параскица ничего не поняла. Она даже
оглянулась, думая, нет ли кого-нибудь около нее, и полагая,
что эта сцена вызвана не ею, а кем-то другим... кого она
не видит. Но никого, кроме нее, не было. Заинтересованная,
она высунула голову на улицу и посмотрела вслед
девушкам. Оттуда шла бабушка Аника со своими внучатами.
Параскица обрадовалась. Эта старушка всегда выказывала
ей свое расположение. Однако на этот раз, к удивлению
Параскицы, она, поравнявшись с нею, странно как-то
посмотрела, привлекла к себе внучат, словно защищая их, и
прошла мимо, даже не поздоровавшись с нею.
Параскица ничего не понимала. Что это сегодня сталось
с людьми, что они так странно обращаются с нею?
Ей, чувствительной ко всякой обиде, стало так больно
от этого, что она зарылась в кочны и так в горьких мыслях
пролежала до вечера.
Уже солнце садилось, когда Параскица подумала, что
пора готовить ужин, потому что отец с матерью скоро
вернутся с ярмарки.
Броски возвращались с ярмарки рано. Слух о том, что
матуша Прохира обнаружила ведьму и что ведьма эта не
кто 'иной, как дочь Броски — Параскица, разнесся между
всеми магазаниями1 Иона. На ярмарке ходило уже
несколько версий вчерашнего происшествия,— Параскица
фигурировала в них как прирожденная ведьма,— и когда
одна из них дошла до Иона, он так возмутился, что
поругался и чуть не подрался с соседом, который по-дружески
предупредил его о семейной беде. Потом, правда, выпили
в корчме, но при этом Ион такого наслушался о своей дочке,
что в его суеверной голове сразу возникли воспоминания о
ее странном, непонятном для него поведении и обеспокоили
и испугали его.
Кто его знает! Ходит ведь беда по людям... Он никогда
не сомневался в существовании ведьм на свете, и теперь
Соседями.
301
мороз пробегал у него по спине от одной мысли, что его
родная дочь — ведьма.
Марица, которая все улыбалась загадочно и покачивала
печально головой, из чего можно было заключить, что она
давно все знает, только молчит, внушала еще большее
беспокойство. Суеверный страх проснулся в нем, воображение,
подстегнутое темнотой, создавало и подсовывало всякие
страшные картины. Он непременно должен удостовериться,
носит ли Параскица крестик на шее, потому что ведьма
креста боится и не наденет его на шею. Марица соглашалась
с Ионом.
Как только Броски вошли в хату, Параскица обнаружила
беспокойство и будто искала предлога, чтобы убежать.
Но Иону надо было непременно успокоиться, и он велел ей
остаться. Параскица не привыкла, чтобы отец обращал на
нее внимание, и только уставилась на него в изумлении.
Еще больше удивило ее, когда она увидела, как мачеха
подошла к печи и украдкой, но так, чтобы все видели,
перекрестила горшок с мамалыгой.
Ион велел Параскице расстегнуть рубашку на груди.
Испуганная девушка ухватилась рукой за ворот и стояла,
окаменелая, уставившись на отца огромными глазами.
Иона зло взяло. Вот она, ведьма! Почуяла беду!
— Расстегивай сейчас же, говорю! — крикнул он.
Параскица задрожала и, испуганная, начала
расстегиваться... Ей никак это не удавалось, пуговица запуталась
в петле, руки дрожали. Наконец рубашка кое-как
расстегнулась, и из-под нее показались смугловатые груди, а
между ними на черной тесемочке небольшой серебряный
крестик.
Ион взял в руку крестик, подержал его, потер между
пальцами и показал Марице. Та глянула, покачала головой
и ничего не сказала.
У Иона точно камень с души свалился. Легче как-то
стало на сердце, хоть вместе с тем и стыдно перед дочерью.
Она все еще стояла на том же месте, с раскрытой грудью,
удивленная, оробевшая.
— Закрой... закрой грудь! Да сиди в хате, не шатайся по
ночам!
Параскица вспыхнула вся. Стыд горячей волной залил
ее лицо. Она закрыла рукой голую грудь и опрометью
выбежала в сени.
Ион переглянулся с женой. Та, с усвоенным в
последнее время загадочным выражением, пожала плечами. Затем,
неожиданно для Иона, визгливым голосом стала жаловаться
на людскую молву. Девушка, может, не виновата ни в чем,
а на нее такое плетут. Правда, чудная она, нелюдимая, но
уж такого не может быть, что люди рассказывают. Глухая
302
Мариора клялась и божилась, будто видела Параскицу на
колодезном журавле: стояла ночью против месяца и все
точно сеяла что-то. А Иордохи Карабуш жаловался, будто
связало ему что-то лыком ворота и сразу же после этого
лошади заболели,— уж это, говорит, не иначе, как Пара-
скицы дело. Наслушалась она на ярмарке, сраму набралась.
А все, верно, враки, наговор людской.
Насколько Иона поражало то, что Марица защищает
нелюбимую падчерицу, настолько удручило его то, что люди
рассказывают о Параскице. А как же крест, который он
видел собственными глазами? Ведьма креста не носит.
А может, то наваждение было — не крест? Ион не знал, что
думать, и не мог успокоиться.
Для Параскицы настала странная и вместе с тем тяжелая
пора. Все изменилось в ее глазах, все стало загадочным,
непонятным.
Отец явно следил за нею. Куда бы она ни повернулась,
она чувствовала на себе пристальный взгляд отцовских
глаз. Марица решительно переменилась в обращении с нею.
Она теперь так ласково и нежно заговаривала с ней, особенно
при отце, хотя при этом никогда не забывала украдкой, но
так, чтобы Параскица всякий раз заметила, крестить все,
за что ни бралась Параскица. Она крестила кувшин с водой,
из которого девушка пила, крестила печь, когда к ней
подходила Параскица, даже кур, которым она давала корм. Все
это приводило Параскицу в такое смятение, что она не
выдержала и снова стала пропадать на винограднике.
Однако и на винограднике не было для нее прежнего
одиночества. Часто, когда она, погруженная в задумчивость,
сидела под кустом, сложив руки, до слуха ее долетал чей-то
шепот. Оглянувшись, она часто встречалась с горящими от
любопытства глазами, глядевшими на нее из-за раздвинутых
кустов. Ее подстерегали, за ней подсматривали, шептались о
ней. Отчего? Она не понимала. Она только вспоминала, как в
последнее время все убегали от нее, нехотя отвечали на ее
приветствия, а то и вовсе не отвечали, показывали на нее
пальцами, искоса посматривая недобрыми глазами. Что все
это значит? Чего от нее хотят, что она сделала дурного
людям? Разве она мешает кому-нибудь тем, что некрасива,
что бедна, что несчастлива?
Живая обида хватала девушку за сердце, обильными
слезами орошала она не только лицо, но и лапчатые листья
винограда, которые так нежно обнимали ее в любимом
уголке на винограднике.
Наконец — свершилось. Все произошло так: ни Иона, ни
Марицы не было дома. Параскица, воспользовавшись этим,
ухватила ведра на коромысло и побежала за водой к
колодцу. Колодец был на площади. Как только дети, игравшие
303
на площади завидели Параскицу, они бросились врассыпную
и в одно мгновение попрятались за плетни, откуда смотрели
на Параскицу их детские глазенки. У колодца скакали
только воробьи, поклевывая что-то под срубом, и то, что
они не разлетелись от испуга, так растрогало ее, что она
достала крошек из кармана и бросила им. Ее позабавила
возня, которую подняли воробьи, наперебой отнимая друг
у друга крошки.
Пока воробьи дрались из-за крошек, Параскица набрала
воды и вскинула коромысло на плечи. В это мгновение
кто-то из-за плетня ударил ее комом в спину. Параскица
вскрикнула и оглянулась. Из-за плетней посыпались на нее
комья, камешки и пыль.
— Шеда бинешар! — вспыхнула Параскица и погрозила
кулаком.
Детям, казалось, только этого и надо было: с криком,
улюлюканьем и свистом они выскочили из своих засад и
напали на Параскицу. Та сначала хотела было обороняться,
но, когда ее встретил град камешков и комьев, увидела, что
не справится с оравой обидчиков, и пустилась бежать.
Рассерженная, испуганная, она бежала, придерживая ведра,
чтобы не расплескивалась вода, а за нею, как борзые за
зверем, гнались дети и осыпали ее комьями и пылью.
— У-у-у...— визжал длинноногий двенадцатилетний
Иокаш, сын Прохиры, который руководил нападением...
— Бей ее, пусть не отбирает молоко у коров. Стригойка! 1
— Стригойка!.. Стригойка!..— хором завизжали дети и
осыпали Параскицу тучей пыли.
— Стригойка!.. Стригойка!... Молоко у коров отбирает...
Стригойка!..
Параскица внезапно остановилась. Это слово, как искра,
пронизало ее. В голове молнией промелькнул целый ряд
воспоминаний, отдельных фактов, случившихся в последнее
время, до сих пор непонятных и разом освещенных одним
словом: ведьма.
Бешеная ярость охватила сердце девушки, и она со
звериным рычанием бросилась на детей. Переднее ведро упало
и ударило ее по ногам, а заднее, потеряв равновесие, облило
ее водой, но Параскица не обратила на это внимания.
Ухватив коромысло, она бросилась вдогонку за детьми, которые,
испугавшись этого взрыва ярости, в ужасе бежали от своей
жертвы с криком: «Валев! ВалевГ Стригойка!»
Параскица неслась, как буря. Глаза ее пылали, грудь
тяжело дышала, косы распустились. Она так перепугала
детей, что они визжали не своим голосом и бежали что было
сил. Когда разъяренная Параскица наскочила с разгона на
Ведьма!
304
тын и оглянулась, к счастью, не было уже ни одного
обидчика: все успели убежать от беды. Она выругалась и, громко
всхлипывая, с плачем убежала домой. Люди оглядывались
на нее, когда она бежала, мокрая, в грязи, осыпанная пылью,
с распустившимися косами. Параскица вбежала на огород и,
голося, припала лицом к земле. Она теперь знала, зачем
отец искал крест у нее на груди, почему мачеха крестила
горшки и пороги, она поняла теперь неприязненные взгляды
тех, кого случалось ей встретить. Ее жгла, терзала
несправедливость людская, ее душило великое горе, которое так
неожиданно, ни за что ни про что обрушилось на нее. Она —
ведьма! Да ведь это неправда, ведь это выдумка, гнусная,
бессмысленная выдумка. Она готова всему свету крикнуть
в глаза: «Неправда! неправда!» А тем временем эта неправда
жгла ее, раздирала ей сердце нестерпимой болью, которой
Параскица не могла унять, как ни билась она головой об
землю, как ни обливалась жаркими слезами.
А тем временем по селу эхом разнеслась весть.-
Рассказывали, как Параскица среди бела дня колдовала у колодца.
Что-то сыпала в воду и на все четыре стороны от колодца.
Люди отказывались брать воду из этого колодца, кое-кто
требовал, чтобы Броски за собственный счет освятил
заклятый колодец. Ион отбиться не мог от надоедливых людей:
они уже не стеснялись и выкладывали ему все слухи,
которые разнеслись на ихнем краю о его дочери. Оказалось, не
только корова Прохиры перестала доиться: больше десятка
коров стали жертвой колдовства Параскицы, чем очень
огорчили своих хозяек. Ион должен как-то помочь беде,
что-нибудь сделать. Но что? Толком он не знал и терзался.
Вот почему он очень обрадовался, когда матуша
Прохира пришла к нему советоваться, да еще и мужа
своего — Иоча Галчана — привела с собой. Ион принес
графин белого вина, Марица поставила свежие плачинды \
и совет начался. Первой получила слово Прохира, женщина
почтенная и опытная. Ее не удовлетворяло то, что Ион видел
крест на шее у Параскицы. Это может быть и наваждение.
Надо, вот что сделать: в воскресенье повести Параскицу в
церковь. Как только начнут петь «Иже херувимы», надо
примечать: если она ведьма, то не выдержит и залает,
заскулит, как пес. Это уж такая верная примета, что не одну
уж ведьму вывела на чистую воду.
Иоч, толстый, красный молдаванин с маслеными
глазами и подстриженными колючими усами, только коротко
засмеялся и махнул пренебрежительно рукой.
— Э, все это глупости, бабьи выдумки. А смотрели ли
вы, есть ли у нее... Ну этот...
Пирог с тыквой.
20 Против тьмы
305
— Что, ну?..— окрысилась на него обиженная жена.
— Ну, что — ну?., известно, без чего ведьма не бывает...
хвост.
Ион и Марица ответили отрицательно. Нет, они не
присматривались, есть ли у нее хвост.
— То-то и есть!.. А это первое дело: без хвоста ведьма
не бывает, без хвоста ведьм еще никто не видел... Надо
непременно осмотреть ее. Если они хотят, он готов сейчас же
оказать им эту услугу... Уж он не ошибется, хорошенько
осмотрит все...
Но Прохира запротестовала. Она строго посмотрела на
мужа, на его красное, жирное лицо, на котором играла
масленая улыбка. О, она видит его наскзозь, все его мысли,
желания, пусть уж он сидит тихо, в бабье дело не суется.
Однако Иоча не смутил взгляд жены: он твердо настаивал
на своем радикальном средстве — осмотреть: есть хвост —
ведьма, нет хвоста — не ведьма.
Мнения разделились. Ион с Прохирой настаивали на
первом проекте и возлагали надежды на обедню; Марица
склонялась на сторону Иоча. Проект Прохиры, однако,
одержал победу. Решили в воскресенье повести Параскицу
в церковь: посмотреть, что из этого выйдет.
Параскица случайно узнала об этом решении: в магалег 1
только и разговору было, как поведут ее в воскресенье
в церковь, как она посреди «херувимской» заскулит, как
пес, и тем самым обнаружит перед миром, что она ведьма.
Удивительное дело! Параскица отнеслась к
подслушанной новости равнодушно, точно она ее не касалась.
Последнее время она чувствовала себя такой усталой, такой
апатичной, равнодушной ко всему, что она и весь мир были два
полюса, которые никогда не встретятся друг с другом.
Ей все равно. Нет на свете счастья, нет удачи, хоть
живой в могилу ложись...
До воскресенья оставалось три дня. Слух о том, что в
воскресенье в церковь должны привести на испытание
ведьму и что она там непременно выдаст себя, привлек в
церковь такую уйму народа, что все любопытные не могли
в ней вместиться и толпились на паперти. Девушки, одетые
по-праздничному, с трудом оберегали от напора свои
накрахмаленные юбки. Молодицы все шептались друг с
дружкой, выражая нетерпение по поводу того, что так долго нет
Параскицы. Когда какой-нибудь любопытный
протискивался сквозь толпу в церковь, все, как один, поворачивали
головы к дверям. Мужики и парни взобрались на клирос,
чтобы было виднее. Матуша Прохира чувствовала себя
именинницей. Она расхаживала по церкви с не меньшей
1 Общество.
306
важностью, чем пономарь, ставивший свечи. На ходу она
таинственно шептала что-то одним, кивала головой или
делала какие-то знаки другим. Иоч, который даже в церкви
не мог избавиться от масленой улыбки, бросая взгляды на
женскую половину, шептался со своими соседями. А Пара-
скицы все не было. Уже и поп показался из царских врат,
начиная службу, а Параскицы все нет. Народ начинал
выражать нетерпение. Но вот у дверей возникло движение и
волной покатилось до передних рядов у алтаря. По широкой
дороге, быть может даже слишком широкой для посетителя,
столь незначительного, вошла Параскица в церковь, с
потупленными глазами, робкая, пристыженная, в чистом, но
скромном платье. За нею с видом невинной жертвы
подвигалась Марица, а позади Ион. Сотни глаз с любопытством
впились в Параскицу, точно видели ее впервые. Те, кто
стоял подальше, вытягивали шеи и наваливались на других,
чтобы было виднее. Когда Параскица приблизилась к
девушкам, чтобы занять соответствующее место, те так и
шарахнулись от нее, как от волка. Вокруг Параскицы стало
так просторно, что даже попадья могла бы ей позавидовать.
Но этот простор только еще больше огорчил девушку, и она,
чтобы не видеть людей, этих злых, недобрых людей,
опустилась на колени с мольбою к богу — богу доброму,
милосердному, который видит всю неправду людскую, знает ее
невиновность. Параскица горячо молилась, а вокруг нее
волновалась любопытная, наэлектризованная толпа.
Напрасно молодой черненький попик показывал всю красоту
своего мягкого голоса, напрасно вкладывал столько чувства
в свои возгласы: его прихожан интересовало совсем не это.
Все ожидали чего-то необычайного и, если и следили за
службой, то только для того, чтобы не пропустить «Иже
херувимы». Тогда должно было случиться то, чего все с
таким напряжением ждали, ведьма должна была выдать
себя собачьим воем и лаем. В церкви было душно. Она не
могла вместить столько прихожан; люди теснились, плотно
прилипая друг к другу, и образовалось одно огромное тело,
горячее, потное, дышащее сотнями ртов. Горячее дыхание
людей, смешанное с дымом ладана и чадом свечей, серым
туманом нависало над головами; казалось, эту душную
наэлектризованную атмосферу вот-вот прорежет молния,
ударит гром и сотрясет стены своим могучим раскатом. По
мере того как время приближалось к «херувимской», глаза
разгорались сильнее, беспокойство росло, шеи болели,
потому что надо было смотреть через головы соседей, все
это даже угнетало, становилось невыносимым. Но вот все
стихло, как перед бурей, и клирос торжественно, сначала
тихо, а потом все сильнее загудел: «Иже херувимы». Люди
встрепенулись. В лица словно повеял прохладный ветерок.
2G*
307
Они вытянулись, побледнели, а глаза, сотни глаз впились
в Параскицу. Параскица стояла на коленях и молилась. Она
сама, молясь и протестуя против людской
несправедливости,— она сама бессознательно ждала момента, когда запоют
«херувимскую». И вот, как только раздался тихий, но
величественный хор, тяжелый горячий ком подкатился у нее
к горлу и рвался наружу раздирающим криком. Ужас
охватил Параскицу, холодный пот выступил у нее. Она едва
сдержала этот крик. Она конвульсивным движением истово
перекрестилась и упала на колени, сжимая крепко руки.
Неужели правда? А люди ждали. Без движения, с
затаенным дыханием, вперив пылающий взор в ведьму, лежащую
ниц. «Херувимская» меж тем проходила, как летняя ночь.
Помрачение исчезло, и сознание того, что ничего
необычайного так и не случилось, неприятно поразило напряженную
массу. Еще мгновение люди стояли тихо, точно не веря
разочарованию, точно чего-то еще ожидая. Но все было,
как и за минуту до этого: Параскица крестилась и клала
поклоны, а на лицах окружающих ее женщин застыло
кислое выражение. Толпа зашевелилась, пробудилась ото сна,
недовольная и раздраженная, точно раздосадована была на
Параскицу, обманувшую ее ожидания.
Кое-кто сразу же вышел из церкви на свежий воздух.
Иоч был в ажитации и что-то горячо шептал своему соседу.
Он посмотрел на свою жену; та, пристыженная,
удивленная, возносила очи горе, словно спрашивая у бога, что же это
такое случилось.
Обедня кончилась. Люди поспешно выходили из церкви.
Некоторые жалели Параскицу, считая, что она жертва
наговора. Матуше Прохире было не по себе. Она же сама
присоветовала, она же раззвонила по всему свету, и теперь из
всего этого ничего не вышло. Зато Иоч Галчан праздновал
победу. Он знал, что этим все кончится, потому что его не
послушали. Он советовал и сейчас снова советует осмотреть
девушку: есть хвост — ведьма, нет — не ведьма! Вот и все!
Иного способа нет. Кое-кто поддакивал ему, и даже Прохи-
ра, чтобы выйти из неприятного положения, склонилась к
способу Иоча, особенно в этом случае, когда ведьма хитра,
злостна и опытна.
Ион шел рядом с Марицей, заметно успокоенный:
очевидно, в этой истории с Параскицей больше вранья, чем
чего-либо иного. Он был рад, что так кончилось, что люди
успокоились и что ему не придется святить на собственный
счет заколдованный будто бы Параскицей колодец. Он
делился своей радостью с Марицей, хотя та относилась к
этому как-то холодно. Она неприязненно посматривала на
Параскицу, бледную, точно встревоженную чем-то, спешащую
домой с потупленными глазами.
308
Звезды мерцают над Параскицей, а вокруг нее темно и
тихо. Жесткие, изогнутые кусты винограда беспорядочно
расползлись по влажной земле, спутались веточками и
раскинули над землей красивый шатер густых листьев и
крупных, тяжелых гроздьев. Виноград уже дозревал. Весь день,
под жгучим августовским солнцем, медленно шел
таинственный процесс наливания ягод; сейчас полупрозрачные
желтеющие и краснеющие кисти сладко дремлют среди
лапчатых листьев и легких испарений земли. Их стерегут
от дурного глаза и всяких бед надетые на колья овечьи,
коровьи и лошадиные черепа, неясно белеющие по всему
винограднику.
Параскица сидит на излюбленном месте, под большим
ветвистым кустом. Она смотрит в пространство, но кустов
не видит. Перед еетлазами церковь, полная народу... Поют
«херувимскую», а у нее ком подкатывает к горлу, рвется вон
из горла, и так хочется крикнуть дико, не своим голосом.
Что это такое? Откуда взялось такое странное желание? Этот
вопрос уже несколько дней занимает ее, не дает покоя.
С того памятного воскресенья с ней часто так бывает: она
чувствует в себе что-то доныне неизвестное ей. Начнет
молиться — и не может: какая-то сила душит ей горло, рвется
из груди безумным криком. А то чудится, будто она стала
легкой, такой легкой, как перышко, вот-вот взовьется вверх
и полетит куда-то и наделает беды. И все хочется сделать
что-нибудь нехорошее, злое. Например: полететь к Прохире,
сесть на ее корову и, молотя ее босыми ногами, нестись с
распущенными косами в бешеном беге, пока испуганная
скотина не испустит дух... Или сделать что-нибудь Мари-
це... Оборотить ее, например, в сучку... худую, паршивую, с
поджатым хвостом сучку... Она в хату, к еде, голодная и
холодная, а ее оттуда: «Вон!.. Пошла прочь, поганая!..» Она к
Тодораке, а он ее ногой в бок: «Прочь, собака!..» Она это
может сделать, чувствует в себе силу. Ах, господи, да что же
это она! Неужели люди говорят правду? Неужели она...
ведьма? Нет... нет,— содрогается Параскица и протирает
глаза, пытаясь отогнать эти странные видения и мысли. Это
она распускается, это злой дрозку1 подступает к ней,
потому что она теперь не молится, потому что она забыла бога.
Параскица крестится, сосредоточивается и, поднимая глаза
к звездному небу, набожно произносит: «Тати апостру, каре
еша шиерши л а поминд...» 2
Из-за горы выплывает месяц, словно освобождается из
черной тучи, обложившей небосклон. Серебряный свет тихо
подкрадывается к винограднику, забирается в кусты, падает
1 Дьявол.
2 Первые слова молитвы.— Ред.
309
на кисти. Звериные черепа на кольях побелели и
отбросили назад длинные рогатые тени. Виноградный лист
вырезывается из тьмы и нежно трепещет вместе с тонким
усиком в лунном сиянии.
Параскица не кончает молитвы. Ей почудилось, что вон
тот бараний череп, белый, как снег, моргнул ей своим
пустым, вытекшим глазом. Параскица напрягла зрение. Нет,
ничего. Она снова подняла глаза к небу, произнося молитву,
но справа что-то мигнуло. Параскица бросила взгляд
вправо. Там, на длинной палке, качалась белая рогатая голова
коровы и выразительно улыбалась Параскице. Параскица
замерла. Коровий череп все улыбался лукаво ей, таращась
своими пустыми глазницами. У Параскицы мурашки
побежали по спине...
Что-то шелохнулось. Она, всполошившись, обернулась в
ту сторону, но там ничего не было, только лунный луч,
словно белая огромная рука, протянулся под кустами к
винограду. Параскица дрожала, боялась снова встретиться
глазами с развешанными по винограднику черепами; хотя
ее так и тянуло взглянуть в ту сторону, где, она знала,
висела лошадиная голова, однако она не решалась. Вдруг она
почувствовала, что за спиной у нее кто-то стоит. Обмерев,
вскочила она и, круто повернувшись, встретилась глазами
с той лошадиной головой, на которую боялась взглянуть.
Лошадиная голова спокойно висела на колышке,
ослепительно белея на лунном свету, и вид у нее был совсем не
веселый. Все же холодный страх обнял Параскицу перед тем,
что, как казалось ей, вот-вот должно было произойти и
угнетало ее тяжелым предчувствием.
И белые черепа, такие страшные сегодня, и черные
холодные кусты с искривленными лозами, лунный свет,
который, словно огромные руки белого чудища, тянулся к ним,
и, наконец, неизвестный доныне душевный процесс, такой
странный и загадочный,— все это в ужас повергло ее,
холодный, парализующий. Параскица хотела бежать — и не
могла; ноги словно приросли к земле, а широко раскрытые
глаза пристально всматривались в пространство, точно она
вот-вот должна была увидеть нечто необычайное. Когда она
перемогла себя, она неровной походкой, как пьяная, быстро
убежала с виноградника, путаясь в зарослях и вздрагивая,
когда мокрый от росы лист винограда неожиданно касался
ее лица или шеи.
Несколько дней Параскица ходила, как в дурмане.
Мысль ее упорно работала в одном направлении: она
припоминала все, что слышала в детские годы о ведьмах, и все
их приметы сравнивала с теми странными ощущениями,
которые беспокоили ее в последние дни. Она все больше и
больше уверялась, что люди не ошибаются, что она ведь-
310
ма,— и от сознания этого кровь стыла у неё в жилах. Она не
ходила уже по вечерам на виноградник, потому что ей
казалось, что черепа смеются над нею и говорят ей: «Стри-
гойка!»
Ф. Гойя. «Туда направлен путь».
Полет ведьмы на шабаш
Лежа ночью на завалинке, она долго не могла заснуть,
терзаемая всякими странными мыслями, которые помимо
воли лезли ей в голову.
Однажды под утро — Параскица не могла сказать, спала
ли она, или нет,— с ней что-то произошло: она снова
почувствовала себя легкой, как соломинка. Легкий ветерок овеял
ее, и что-то твердое и холодное, как гадюка, защекотало ее
по икрам: это был хвост, длинный, твердый с волосатым
пучком на конце, как у коровы. На голове, поднимая волосы,
311
выскочили рожки; она не видела их, но чувствовала.
Бешеной злобой засветились ее глаза и зажглось ее сердце. Во
мгновение ока взмыла она вверх, ринулась в вихрь,
который закружил ее и понес над землей. Она летела, а вокруг
нее свистел и гудел ветер, раздувая жестокое пламя в ее
ведьмовском сердце.
Утром ее нашли без сознания около усадьбы Га л чана.
Ее привели в чувство и помогли дойти домой. Она сидела,
бледная и подавленная, на завалинке, окруженная кучкой
любопытных, и не отвечала на расспросы. Она боялась
пошевелиться, потому что ей все казалось, что по голым
ногам защекочет длинный и твердый, как гадюка, хвост.
Событие произвело в магале большую сенсацию. Мага-
ла, успокоенная испытанием, свидетелем которого она была
в воскресенье в церкви, загудела снова. Способ Иоча Гал-
чана, о котором он кричал всякому встречному, приобрел
популярность и понравился переполошившимся людям.
Магала жиям! ' Все соглашались, что только хвост
составляет бесспорную примету ведьмы и только присутствие
или отсутствие его у Параскицы может положить конец
делу. Иона атаковали со всех сторон: он должен дать
согласие на осмотр дочери, потому что, если он не даст согласия,
они и сами найдут способ, село не будет больше терпеть этой
пакости!..
Измученный суеверным страхом, Ион соглашался на все:
ему и самому надоела вся эта история, и он охотно положит
ей конец.
В ближайшее воскресенье должен был состояться осмотр.
В воскресенье, спозаранку, когда люди еще не выходили из
церкви, матуша Прохира была уже в хате Бросков. Она с
такой торжественностью помогала Марице прибирать на
чистой половине, точно сегодня попы должны были освящать
хату у соседей. Раду подстерег Параскицу во дворе и зазвал
в хату. Прохира все следила за ней, чтобы не выпустить ее
из хаты. Она была уверена, что девушка предчувствует, что
должно произойти, и только ждет удобного случая, чтобы
убежать из хаты, а тогда ищи Ъетра в поле. Прохира была
настолько осторожна, что даже приносила из сеней воды
Параскице, когда той хотелось напиться, а входную дверь
заперла на засов. Она все шепталась по углам с Марицей,
как будто обсуждая план кампании, и делала знаки Ионе,
который с видимой тревогой то и дело выглядывал в окно.
Параскице все это казалось подозрительным. Она видела,
что творится что-то неладное, и с явной тревогой следила
глазами за каждым движением присутствующих. Марица,
пошептавшись с Прохирой, вышла из хаты и через ые-
Да здравствует общество!
312
сколько минут привела с собой глухую Мариору,
здоровенную, как палач, лупоглазую бабищу с грубыми жилистыми
руками. У нее была привычка все обнюхивать, и через
минуту не оставалось вещи в хате, запах которой ей не был
бы знаком. Так она нанюхала графин белого вина,
спрятанный Ионой за лежанкой, и хотя заявила, что грех
употреблять этот напиток, пока не выйдут из церкви, однако
налила себе стаканчик и опрокинула с видимым удовольствием.
Чем ближе к выходу из церкви, тем чаще Ион
выглядывал в окно. Наконец он заметил кучку людей,
направлявшихся к его хате. Вскоре со всех сторон стали подходить
люди. Молодицы в праздничном наряде с торжественным
настроением после" церковной службы столпились у самой
двери.. За ними виднелась толпа мужиков — стариков и
среднего возраста; только один Иоч Галчан пролез к бабам
и о чем-то оживленно с ними разговаривал.
Девушки и парубки стояли в стороне, зато ребятишки,
как мухи еду, облепили окна.
Когда Параскица увидела в окно толпу народа, безумный
страх овладел ею. Она поняла, что это пришли за ней, что
ее сейчас поведут топить или сожгут на костре, как ведьму
в незапамятные времена.
Как затравленный зверек, с широко раскрытыми от
ужаса глазами, заметалась она по хате, ища выхода. Но в то же
мгновение Прохира с Мариорой схватили ее за руки и
удержали на месте. Ион стал у двери, готовый скорее трупом
лечь, чем выпустить дочь из хаты. Марица, сложив руки под
фартуком, с загадочной улыбкой смотрела на эту сцену.
— Валев! — не своим голосом визжала Параскица,
вырываясь из крепких рук.— Пустите меня, тетенька! Ох,
тошно мне, ох, смерть моя пришла!
— Тише, не бойся,— успокаивала ее «тетенька» и
тащила к кровати.
Не успела Параскица опомниться, как все ее юбки
оказались у нее на голове, а сильные руки повалили ее на
постель. Параскица хрипела и билась, как зверь в западне, под
тяжелым телом глухой Мариоры; и только изредка, как визг
недорезанного поросенка, вырывался из-под юбок
отчаянный протест Параскицы.
Прохира подала знак рукой, и Ион бросился открывать
входную две;рь, в которую уже ломилась толпа. Волна
народу хлынула было в сени, но Ион энергично
воспротивился: он будет пускать по одному, по двое.
Нетерпеливая толпа шумела; всем немедленно хотелось
увидеть хвост у ведьмы; особенно вопили те, чьи коровы
стали жертвой ее колдовства. Галчан порывался первый
войти в хату, но молодицы не пускали его, потому что он
мужчина и не след ему смотреть на девичий позор. Это
313
приводило Иоча в ярость, оскорбляло, как автора идеи, и он с
пеной у рта, ругаясь и расталкивая всех, продирался к двери.
Ион пускал только баб по две, по три сразу. Они
подходили к постели, ощупывали и осматривали видимую
половину Параскицы, внимательно и добросовестно, как корову
на ярмарке, и, разочарованные, уступали место другой
кучке, которая уже входила из сеней. Параскица уже не
билась, не кричала. Она увидела, что ее не будут топить и не
будут жарить на огне. Она поняла, чего от нее хотят, и
лежала молча, спокойно. А люди все шли и шли, как на
богомолье, и осматривали ее и прикасались к ней. Параскица их
не видела, но по голосу или по грубому пальцу, который она
чувствовала на своем теле, догадывалась, кто явился к ней
с визитом. Вот тетка Анита, которая живет около кладбища,
а это бабушка Домника, мать Иордоки, самого красивого
хлопца на селе. Параскице было душно, она задыхалась в
волне юбок, сбившихся у нее на голове, но не пыталась уже
сопротивляться, зная, что сильные руки обеих баб удержат
ее на месте. Так, согнувшись вдвое, в крайне неудобной
позе, она тихо лежала и с полной покорностью судьбе
принимала гостей, которые один за другим являлись к ней, как на
именины.
Тем временем во дворе поднялся шум: Иоч Галчан
горячо отстаивал свои авторские права и рвался в хату.
Принимая во внимание его упорство, Ион вынужден был спросить
совета у самых почтенных женщин, которые после
недолгих размышлений решили допустить из мужчин только
Иоча, имея в виду не последнюю роль, которую он играл в
нынешнем немаловажном событии.
Иоча впустили.
Красный и взволнованный, он подошел к постели, а его
масленые глазки так и забегали от груды юбок до
красивых чулок Параскицы. Он постоял несколько мгновений
над Параскицей с явным разочарованием, хлопнул ее
легонько ладонью и авторитетно заявил:
— Нет, не ведьма!..
В ту же минуту Прохира и Мариора отпустили Параски-
цу. Она поспешно выпутала голову из юбки, и хотя лицо ее
пылало от стыда, сердце радостно билось в груди и какой-то
сладостный покой разлился по всему ее телу: она теперь
твердо знала, как и все люди, что она не ведьма.
ИВАН ЛЕ
РОМАН МЕЖГОРЬЯ
(Отрывок)
...Сайд-Али медленно укладывал свои вещи в чемодан,
будто он собирался уезжать навсегда и привыкал к разлуке
с домом, в котором мать желала ему счастья, еще напевая
колыбельную песню. В этом прошли его мальчишеские годы,
в которых было больше печали, чем беззаботной детской
радости. Уже тогда его отец, рассказывая сказки и вспоминая
старинные обычаи, учил его ненавидеть бая, помещика.
«Проходит мимо двора великий бай, и полицейский
пристав тащится с ним да с казаками, или какой-нибудь
помещик, приезжавший сюда повеселиться со своей
любовницей,— избави от греха. Пускай твой взор не оскверняется
этим зрелищем, меньше зла будет в твоем сердце...»
Так поучал его отец.
Сайд, внимая советам отца, закалял свою нендвисть. Отец
набивал патроны для ружья, а сын всегда вспоминал при
этом его поучения и лелеял детскую мечту о том, чтобы этих
баев и приставов под шум водопада сбросить с чадакских
круч в бездну небытия.
Вспомнит он об этом и вздохнет. Положит вещь в
кожаный чемодан, возьмет другую, рассматривает ее. А видит-
Видит черные глаза и смуглое лицо своей сестры.
Братская любовь к пропавшей Този-хон переплетается у него с
чувством оскорбленного самолюбия при воспоминании о
первом позорном ударе нагайкой по его спине.
«За что?» — напрашивается и теперь запоздалый вопрос.
Его руки нервно перебирают содержимое чемодана, а он
мысленно листает прошлое, как книгу, и забытые дни встают
точно живые.
Вспомнил он один давно прошедший день. Сайд был
тогда еще маленьким мальчиком. Отец только что привез его
из Самарканда, где он третий год обучался в медресе Реги-
315
стана. Вокруг такой родной чадакский уют. В чайхане под
чинарами за бутылкой вина отдыхали пристав с баем Амир-
бековым. Его сестричка Този-хон несла от источника
кувшин с водой. Поднятая вверх рука, придерживавшая
кувшин на голове, так оттеняла ее стройность и изящество, что
подвыпивший пристав не утерпел. Еще издали заметив ее,
он следил за нею, как кот за воробьем, и, подмигнув баю,
вышел из чайханы навстречу Този-хон.
— Койиньг!.. Койиньг, ходжайин1...— услыхал Саид-Али
слова испуганной сестры.
— Бабонька! — неслись в ответ непонятные девушке
мерзкие, грязные слова, и на них откликался довольным
хохотом Амирбеков.
Кувшин полетел на землю, но не разбился, а покатился
вниз, назад к источнику, откуда Този-хон только что брала
воду.
Даже крикнуть не успела ошеломленная девушка, как
было открыто ее юное лицо. Точно паук, схватил пристав
свою жертву...
Почему же не останавливает его Амирбеков, почему
терпят старые дехкане, аксакалы?
Кто велит им вежливо отворачиваться и делать вид, что
они не видят, как начальство забавляется? То самое
посланное богом начальство, с4 которым в торжественные дни
мулла Амирбеков на кошме 2 пьет чай из одной пиалы.
Саид-Али не отвернулся. Он был свидетелем позора
сестры и знал, по рассказам отца, что означает такое
унижение женщины.
Ах, зачем Този-хон вышла со двора среди бела дня!
Разве ей не говорили, что выходить женщине за порог дома
нельзя? С того дня, когда в тринадцать лет заканчивается
твое детство, ты должна сидеть пленницей, расплачиваясь
за свой великий грех, за то, что родилась женщиной. А ей
уже перевалило за пятнадцать!
Как с цепи сорвался Саид-Али. Он с разгона налетел на
пристава и изо всей силы залепил ему оплеуху. Този-хон
убежала прочь, а его вытянули нагайкой по спине. Навсегда
запомнил Сайд эту горькую боль и бессильную злость.
А Този-хон? Бедная, бедная сестра! Ее опозорили, она
же и наказание понесла. Ее коснулись мерзкие руки
мордатого пристава и поэтому...
Она не вышла замуж за Юлдаша. В ту же ночь чадак-
ские ишаны осудили ее на страшное покаяние. Она обязана
была смыть позорное пятно в обители мазар Дыхана. Она
должна была стать рабыней земного наместника мазар Ды-
1 Не надо, не надо, господин,
2 Кошма —* войлочный ковер.— Ред.
316
хана, имам-да-муллы Алимбаева. Ее осудили на вечное
заключение в Караташ, при обители мазар Дыхана.
«За что?» — как и тогда, возник у него сейчас вопрос.
И однажды в дождливую осеннюю ночь увел ее отец.
Мать рыдала, прижимая к себе младшего сына Абдуллу.
Рыдала и покорялась. Да и можно ли не покоряться слову
святейшего ишана? Ведь его устами говорит сам бог. Ах,
какие же грязные, какие мерзкие эти уста, отмеченные
печатью страдания живых душ, ввергнутых в вечное рабство!
Будьте же вы навеки прокляты, захлебнитесь вы слезами
матерей, скрытых паранджой!
Глубокую скорбь прочел тогда Сайд в немых слезах своей
матери.
Теперь она стала уже старухой. И плач ее уже не тот, да
и не плачет, высохла...
Сайд посмотрел на ржавое ружье, висевшее на стене. Это
ружье отца. Может быть, отец и умер оттого, что его ружье;
на посмеяние и устрашение было вывешено в казыхане!.
Сайд даже нервно вздрогнул от невольной радости,
вспомнив выстрел, которым отомстил он за свою сестру.
...Чаркисарское межгорье. По тропе цепочкой движутся
конные полицейские, охраняющие пристава и Амирбекова.
Они весело перебрасываются словами, вспоминая свои
издевательства над мусульманками...
— У-ух!
Не выдержал тогда Саид-Али. Долго он ждал такого
удобного случая! Он направил темный ствол отцовского
ружья из-за скалы и навеки отнял жизнь у грязного муллы
Амирбекова.
— Ух-ух-ух! —загремело тогда в горах, да и сейчас он
будто слышит эти раскаты, разнесшиеся по чадакским
ущельям.
Можно было бы попасть в пристава — удовлетворение
местью было бы не меньшее. Но уже тогда сознание
подсказывало мальчику, что до тех пор, пока на земле существуют
всесильные баи, будут и приставы. Они охраняют жизнь
баев и за это безнаказанно издеваются над узбекскими
девушками.
За убитого пристава содрали бы не одну невинную
шкуру, в кишлаки наслали бы казаков на постой и
прислали бы нового, еще более лютого пристава.
Саид-Али своим детским умом понял, что пристав
догадается, о чем говорила эта пуля, так метко пронзившая
голову муллы Амирбекова. Не один раз он наедине с собой
подумает, что такое может случиться и с ним. Искать
виновного? А где ты его найдешь? «У них,— рассуждал, наверное,
Казыхан — волостное управление.— Ред.
317
пристав,— существует родовая месть. Ищи тут, кого обидел
Амирбеков или его родственники до ...надцатого колена...»
Амирбеков был убит в чаркисарском ущелье, а ружье
обнаружили в зауре старого Гава-сая. Привезли ружье в Ча-
дакскую волость. Каких-либо особых примет у ружья не
бывает. Узнать его мог только тот, в чьих руках десятки лет
оно было верным другом. Может быть, кое-кто из аксакалов
и узнал ружье, да опять-таки не их дело — вмешиваться в
деяния, которыми руководит сам аллах... Ружье повесили над
входом в казыхан. Точно клеймо, положенное на жителей
Чадака, вот так и оставалось оно здесь до самой революции.
Когда старик Али Мухтаров проходил мимо казыхана, у
него сжималось сердце: так хотелось ему взять ружье. Он
чувствовал себя при этом так, будто часть его собственного
тела повесили на позор. Ему было и больно и радостно: оно
и в руках сына не изменило честному делу. Эх, сынок,
сынок!
Сайд-Али тогда же незаметно исчез. Его давно надо было
бы отвезти в Ош, сделать суннат!. С косичкой до сих пор
ходил в медресе. А теперь исчез...
Саид-Али снова вздрогнул, перед его глазами стоит
чемодан, куда он в беспорядке набил все, что попалось под
РУку.
Он сам разбудил в своем сердце воспоминания о
прошлом, и пусть всегда он помнит о нем! Правда, все это ушло,
как и его юность... Он двигался из кишлака в кишлак, из
города в город, из Самарканда до самого Баку. Путешествия
стали для него такими родными, как и шум Чадак-сая.
Но недолго проучился он и в Баку. Полицейский сыск на
третий год нащупал его и в бакинской школе. Тогда
работа на одном из островов Каспия и жизнь с бурлаками
завершили его образование. Там незнакомые люди стали ему
родными братьями. Научили играть на самодельной скрипке
и впервые доказали ему, узбеку, что все рабочие люди,
русские, казахи, грузины, тоже ненавидят господ, жандармов и
приставов.
Бурлацкие песни и волны Каспия были для Сайда школой
жизни и мужества. Сколько они дали простора мыслям!
Учась уже в институте, Сайд не раз вспоминал в кругу
товарищей об этой вольной бурлацкой ссылке...
Теперь он инженер. Собирается на работу и грустит,
вспоминая прожитые годы... А что же завтра?
...Саид-Али остановил своего изнуренного коня. Он
пересек пустыню вплоть до горных отрогов, перевалил через
два хребта, двигаясь вдоль бурно несущейся Кзыл-су и
перед заходом солнца достиг обители. Кзыл-су, точно каприз-
1 Ритуал обрезания.— Ред.
318
ная девушка, меняла свой облик — она то несла тихо свои
воды по обительским равнинным землям, разливаясь
множеством ручейков, то опять наталкивалась на скалы и,
соединясь в один рукав, пробивалась сквозь них, а затем по
глубокому руслу бурным водопадом обрушивалась в
водохранилище, чтобы, окутавшись туманами брызг и
водоворотами, скрыться по заурам в горных ущельях.
Сайд-Али слез с коня и, ведя его в поводу, направился к
чайхане, стоявшей напротив ворот святого храма. Он отдал
своего коня владельцу чайханы, будто намереваясь тотчас
пойти в обитель, но вдруг передумал и заказал себе чаю.
Владелец чайханы обратил внимание на этого необычного
посетителя. И часы на его руке, и праздничная городская
одежда, и поведение свидетельствовали о высоком
положении гостя.
Над долиной прозвучал голос су фи, который полетел меж
гор к Караташу и затих там среди безлистых тополей. В
памяти Сайда-Али воскресали его детские годы, пристав,
несчастная сестра... А потом—новая волна воспоминаний: опять
Чадак... Любовь Прохоровна, с таким молодым лицом, с
такой ветхой моралью, старой, как и эти унылые вздохи суфи.
Так же торжественно взывали и стблетия назад предки
суфи. Его завывание было похоже скорее на проклятия
мертвым, чем на облегчавшую душу молитву живых о
живом...
Усилием воли Сайд вернулся к действительности.
Перед ним стоял поднос с чаем и пиалой. Вежливый
чайханщик, почтительно склонившись, ждал, не закажет ли
гость еще чего-нибудь.
— Вы давно содержите эту чайхану? — спросил Саид-
Али у чайханщика таким тоном, будто бы собирался дать
ему отступного, взять на себя его обязанности угождать
разборчивой толпе правоверных, что приносят в эту обитель
свои грехи и... заговоры против новых порядков и перемен.
Чайханщик не сразу ответил ему.
— С детства. Еще родители начинали.
Сайд налил в пиалу кок-чая и задумался. Было ясно, что
он подыскивал соответствующую форму для дальнейшего
разговора. Но что он может узнать о сестре у этого дряхлого,
выжившего из ума чайханщика? В густой тени деревьев, в
вечной мгле, обитель была почти не видна. Купол минарета
ловил последние лучи низко стоящего солнца. Суфи все еще
ходил вокруг башенки и старательно взывал к
правоверным. Мимо чайханы прошли молящиеся, не успевшие до
захода солнца войти в храм.
Сайд поставил пиалу. Он не решался задать старику
волновавший его вопрос — надо было, точно при охоте на птицу,
быть осторожным и выжидать удобного случая.
319
— А молодой имам-да-мулла живет сейчас в обители?..
И чтобы не спугнуть чайханщика, Сайд тут же
энергично потребовал:
— Чилим!
Он с отвращением взял чилим, затянулся и тотчас же
выпустил дым. Хозяин виновато поглядывал вокруг, а
потом, видимо, решил, что не будет большого греха, если он
такому хорошему мулле скажет правду.
— За полвека перевалило, ака.
— А жен много было у него? — с видимым
равнодушием спросил Сайд, не глядя на ошеломленного чайханщика.
Наступила пауза. Мусульманин должен был бы
обидеться, услышав такой богохульный вопрос. Какое он имеет
право спрашивать у правоверного о женщине!
Саид-Али вытащил из кармана серебряный рубль и, не
глядя, подал чайханщику.
— Возьмите на святую обитель, сдачи не надо.
Старик смиренно, обеими руками, принял это подаяние.
Он согнулся покорно и, наверное, неожиданно для себя
самого прохрипел:
— Воля аллаха, мой добрый ака. Женщина — создание
греховное... А у имама обязанности... Почти каждый год
какая-нибудь молодая грешница попадает сюда... Грехи наши.
— Они умирают? — как прокурор допрашивал Саид-Али
чайханщика.
— Умирают, если аллаху бывает угодно, или...
— Или?
— Отправляют их работать в хозяйство имама, и они
уже больше никогда его не видят.
— А дети?
— Что? — не понял чайханщик или сделал вид, что не
понимает: причем же здесь дети в таком святом деле.
В вечерней густой мгле из-за башни вышли гуськом
четверо женщин, закрытых новыми чиммат. Они проходили
чинно, не оглядываясь, не разговаривая между собой.
Позади них, прихрамывая, шла пятая женщина, наверное
надсмотрщица, все время поглядывавшая вокруг.
Чайханщик дернул Сайда за рукав и глазами показал
на женщин под паранджами, которые, медленно двигаясь
и поднимая своими длинными полами пыль на проторенной
дороге, скрылись в проходе высокого дувала.
— Недавние грешницы, а теперь жены самого святого
. имам-да-муллы,— сказал чайханщик, собираясь уходить.
Но Саид-Али, по-прежнему стоя на одном месте и не
отрывая глаз от дувала, куда исчезли женщины, властно
.остановил таджика.
— Погоди, Рустам-ака!
Таджик опешил: откуда этот человек в хорошем город-
320
ском костюме и безупречно владеющий узбекским языком
знает его имя, если Рустам Алаев лишь второй раз видит
этого любознательного посетителя?
— Я знаю, Рустам-ака, что ты человек небогатый,
хочешь заработать,—гуже спокойнее заговорил Сайд-Али
медленно, будто обдумывая каждое слово.— А заработки от
этой чайханы... да какие тут заработки!
— Да, мой добрый ака, заработки никчемные.
Перебиваешься, как угодно аллаху, с копейки на копейку. А
хотелось бы и собственное гнездышко наконец-то свить в родном
Таджикистане.
— Ну вот, видишь! А я только за справку, разговаривая
с честным коммерсантом, за справку плачу десять рублей!
Получай деньги, плачу вперед. На!
Чайханщик совсем растерялся. В самом деле, этот узбек
дает ему целых десять рублей за какую-то справку. О чем
только в жизни не приходилось говорить, не получая за это
ни гроша. А тут сразу десять рублей.
— Однако я не знаю, мой добрый ака, сумею ли я быть
полезным. Что может знать бедный чайханщик Рустам
Алаев?
Но деньги он взял. За десять рублей можно наговорить
что угодно. Не век же будет сидеть в чайхане этот
посетитель.
— Я хочу узнать, Рустам-ака, только хочу узнать, как
от честного коммерсанта, есть ли у имам-да-муллы
грешница по имени Този-хон?
Он не глядел на Рустама Алаева, не торопил его. Саид-
Али прошелся вдоль нар чайханы. Вернулся и снова сел
возле пиалы с остывшим чаем. Таджик быстро подошел к
нему, выплеснул остывший чай, налил свежего душистого
кок-чая и, подавая его дрожащими руками, шепотом
заговорил:
— Была только одна Този-хон, мой добрый ака... Да, да,
я помню, помню... У нее был ребенок. Он утонул в водопаде
Кзыл-су. Да разве мало погибает там детей. Обрывистые
берега пруда не огорожены, ребенок зазевается...
— А Този-хон?
— Я только бедный чайханщик...
— Но ведь у нас был уговор о честной коммерческой
сделке,— перебил его Сайд-Али.
— Да,— вздохнул таджик.— Она... мой добрый ака,
работает в хозяйстве имама. Я, кажется, честно заработал
свои десять рублей?
Сайд не ответил. Выпив чай, он снова протянул пиалу,
искусно звякнув по ней ногтем, чтобы привлечь внимание
чайханщика. Совсем стемнело. Чайханщик собирался
зажечь свет.
Против тьмы
321
— Не надо зажигать, я сейчас уеду. Рустам Алаев может
хорошо заработать. Он должен предложить имам-да-мулле
калым за Този-хон.
— Аллагу акбар... Ллоиллага иллаллах...— забормотал
вконец перепуганный таджик.
— Не обязательно отдавать весь калым Алимбаеву.
Подумай об этом. Пожалуй, половины калыма тебе вполне
хватит, чтобы бросить это гнездо... Все равно его придется
оставить.
И Сайд вдруг заторопился и сел на коня, даже не
попрощавшись по благородному обычаю. Он медленно ехал
по улице, а на душе у него было очень тяжело, и Сайд едва
сдерживал себя, чтобы не зарыдать.
Так вот где порок и темнота свили себе гнездышко и
наслаждаются плодами своих преступлений! Мазар Дыхана
мало пустить с дымом по ветру. Его надо взорвать, а место,
изрытое взрывами, сравнять и перепахать вдоль и поперек
тракторами. Сорную траву, которая еще и после будет
пробиваться на этом пепелище, надо травить серным ядом до тех
пор, пока эта земля не будет родить только хорошее зерно.
Такие волнующие думы одолевали Сайда-Али Мухта-
рова. Он мечтал о том времени, когда трудящиеся
Ферганской долины будут культурными советскими людьми. Он
горел желанием осуществить строительство в Голодной
степи. А на новой, возрожденной земле создать колхозы,
хлопкоочистительные заводы и текстильные фабрики,
школы и клубы, положить конец вековой темноте. И, уже
не сдерживая себя, подстегнув своего Серого, он обернулся
в сторону обители и пригрозил ей:
— Засушим тебя, как дыню на зиму! Музейным чучелом
ты будешь, напоминающим потомкам о далеких временах...
Ах, сестра, сестра! Какая черная ночь проглотила твою
юность!
Темнота сгущалась, мороз крепчал.
...Рустам Алаев всю ночь не спал, обдумывая
предложение Мухтарова. Он знал толк в коммерческих делах и за
полсотни лет своей жизни хорошо научился понимать людей
с первого взгляда. У него не было оснований не доверять
этому ученому узбеку.
На следующий день утром он уже был у имам-да-муллы
и, в меру величая его «святейшим умом здравствующих
правоверных», предложил ему выдать замуж Този-хон за
тысячу рублей калыма.
— Как же можно отдать ее замуж, если она является
одной из моих наложниц?
— Одна из бывших наложниц святейшего имам-да-
муллы. Но... святейший за нее ни калыма не платил, не
присягал за нее, как за жену, перед законом Магомета.
322
— Однако мулла Рустам позволил себе слишком уж
многое знать о внутренних, только одному • аллаху
известных, делах обители мазар Дыхана.
— Это ничего, святейший имам-да-мулла. Да простят мне
аллах и его пророк Магомет. Однако смею напомнить вам:
тысяча рублей — и с вашей души спадет один совершенный '
вами грех против корана Магомета...
«Святейший ум здравствующих правоверных»
согласился с тем, что Рустам Алаев говорит как настоящий
правоверный, и коммерческая сделка состоялась. В то же утро
Алимбаев получил от чайханщика Рустама Алаева тысячу
рублей, а Този-хон переселилась в ичкари ловкого таджика.
Когда же Мухтароз зашел в чайхану и заказал себе чаю
да лепешек, Рустам Алаев сел по другую сторону подноса
и целый час торговался с Саидом, пытаясь вырвать у него
более двух тысяч калыма за Този-хон»
Но сошлись они на двух тысячах.
— Вы будете открыто вводить в дом невесту или как? —
поинтересовался таджик, доливая в обе пиалы кок-чай.
— Думаю, что в этом нет нужды,— равнодушно ответил
Мухтаров.
Таджик засмеялся и покачал головой, но, ничего не
сказав, меланхолически припал к пиале с чаем. Это
заинтересовало Сайда.
— У вас, Рустам Алаев, есть другие соображения?
Чайханщик только утвердительно кивнул головой.
— Хорошо, рассказывайте все.
— О том, что мой добрый ака — коммунист, я уже знаю.
Знаю, что он инженер, начальник этого страшного
строительства, и Този-хон его родная сестра.
— Да, у вас полная информация. Продолжайте.
— За это я платы не беру, мой добрый ака. Я лишь
предупреждаю.
И он, снова хлебнув чая, уголком глаз следил за Саидом,
который начинал уже пугать его своим равнодушным
молчанием.
— А ваша мать, старуха Адолят-хон... Минуточку,
Сайдака. Вы же видите, как солидно подошел к делу этот
облысевший неказистый чайханщик из обители мазар Дыхана?
— Все равно доплачивать не буду. Что вы еще хотите
сказать?
— Ваша мать, старуха Адолят-хон, живет в кишлаке,
где существуют свои законы жизни, есть свои глаза и уши.
Никакая чиммат, даже дувал, ичкари не скроют истины.
А ишаны, аксакалы умеют соблюдать адат. Каждый
правоверный будет считать для себя подвигом бросить камень в
голову старухе, отступившей от законов предков. Над ее
головой повиснет приговор мести за измену мусульманству...
21*
323
— Что-о?
— Минуточку, Саид-ака! Не мы это придумали и не нам
его и отменять.
— Я отменяю! Слышите, отменяю... Достаточно уже того,
что я согласился на этот торг. Ведь я же мог пойти с
милицией прямо к Алимбаеву и забрать у него сестру.
— Ничего не получилось бы из этого. Мусульмане
собственными трупами преградили бы путь такому
богохульству. Вы поступили умно, заменив милицию деньгами.
С деньгами можно все сделать, аллагу акбар. Поэтому
советую вам пожалеть мать и сестру. Надо сделать так, чтобы
казалось, будто вам привезли законную жену. Пусть лучше
спустя некоторое время выяснится, что чайханщик Рустам
Алаев вас обманул. Спекулянту, как вы говорите, все
дозволено. Вместо жены вам привезли родную сестру!.. Ну и что
же? Ищите тогда Рустама Алаева. Он себе в горы
Таджикистана и под своей собственной фамилией продолжит
коммерческую деятельность, к тому же будучи уверенным, что
«обманутый» им жених искать его не будет.
Они умолкли. Приближался вечер. Саид-Али задумался:
проблема, которую предстояло решить, не казалась ему
слишком сложной. Заночевать ли ему у таджика, настоять
на том, чтобы он устроил ему свидание с сестрой или
уехать? Потом Сайд спросил у таджика:
— А как нужно по закону адата ввести Този-хон в дом
ее матери?
— Для этого потребуются небольшие дополнительные
затраты. Ну, а кроме этого... Саид-Али должен надеть
расписной шелковый чапан. Старуха Адолят-хон принесет ему,
как святыню, новенькую, белую, словно снег, чалму.
Платочки для пояса и даже галоши к новым его сапогам
принесет к порогу старик Файзула. И все это видят жители
кишлака, за всем этим наблюдают ишаны, потому что
Саид-Али женится, и адат торжественно отмечает этот день.
Ведь они же знают, что Саид-Али коммунист... Потом
наступает вечер. Чадак заливается песнями джигитов.
Джигиты вместе с Саидом разъезжают по кишлаку, поют песни,
в которых советуют ему забыть о своей молодецкой свободе.
Он должен стать мужественным, щедрым, но и суровым.
Теперь ему надо крепко держать в своих руках вечную
грешницу перед аллахом. Он должен не спать по ночам, не
щадить своего сердца, а следить за тем, чтобы жена не
опозорила его, чтобы не напрасны были хлопоты хозяина и не
пропали бы затраченные им деньги. Вот такие песни должен
выслушать Саид-ака в тот день. А у старухи Адолят-хон
соберутся женщины. И тоже будут петь свои песни, давать
советы...
324
— Довольно! — резко оборвал Сайд увлекательный
рассказ Алаева.— Ничего этого не будет! Ясно?
— Однако же, Саид-ака...
— И не смейте что-нибудь подобное затевать. А Този-
хон должна знать, что она идет к матери в дом.
Таджик поднялся с ковра и обескураженно развел
руками.
— Конечно, мое дело сторона. Когда Саид-Али разрешит
бедному чайханщику получить деньги?
— Завтра или послезавтра. Но не позже, чем Рустам-
ата ] привезет свою «дочь» Този-хон и передаст ее на руки
моей матери.
— А две тысячи?
— Ваша жена у Адолят-хон получит две тысячи за
десять минут до передачи ей Този-хон.
— Хоп! Майли ходжа баба!2 Я только честно
предупреждаю, если вы дорожите жизнью матери, надо, чтобы ишаны
не узнали правду...
Саид-Али не остался ночевать в обители и добрую
половину ночи ехал верхом через пустынную степь к станции
Уч-Каргал.
Свершилось.
Хитрый Рустам Алаев не полностью выполнил указания
Сайда. Но все-таки он сказал Този-хон о предстоящем ее
отъезде в Чадак, к матери, и предупредил, что об этом не
знают жители кишлака, считающие, будто она является
женой Саид-Али Мухтарова. Поскольку Сайд — коммунист, он
не придерживается адата, однако Рустам — старый человек,
и он совершит обряд. Правда, обряд будет несколько
упрощен и произведен больше для того, чтобы отвести
подозрение у ишанов и уберечь мать... от камней, которыми,
по безжалостному адату, должны они забросать ее за измену
его вечным законам...
Об этом Алаев говорил ей уже в кишлаке. А четырем
чадакским ишанам он сказал о том, что вынужден свою
дочь выдать замуж за Сайда-Али Мухтарова. Коммунисту
неудобно точно придерживаться обычаев правоверных, но
он честно уплатил калым и поклялся не снимать со своей
молодой жены в присутствии людей паранджи, не выпускать
ее из ичкари...
— Бисмиллах... Ллоиллага иллаллах!—благословили
ишаны этот обряд. Пусть будет хоть так мало, чем ничто.
Им, старым аксакалам, известно, что этот мерзкий
вероотступник Саид-Али Мухтаров водил к себе в дом русскую
женщину. Ну, а если у него жена-мусульманка носит
паранджу, находится в ичкари — и то хорошо!
1 Ата — отец.
2 Хорошо, хозяин!
325
Този-хон привезли на расписной арбе уже под вечер.
Во двор въехал арбакеш, старательно выкрикивавший:
«Пошт — пошт!»
Когда арба остановилась, из нее вылезли две женщины
в паранджах. Арбакеш — это был сам Рустам Алаев —
развернул арбу в сторону ворот и тоже слез с коня, задержав
около себя женщину в парандже.
Саид-Али нервно расхаживал по своей комнате,
запретив Файзуле зажигать свет. В который уже раз обдумывал
Сайд обстоятельства, связанные с возвращением его сестры
домой. Вполне возможно, что таджик был прав.
Предрассудки владеют жителями кишлака еще так крепко, что их
за один раз не преодолеешь. Для этого нужны годы
напряженного труда. Надо показать дехкану иную, новую жизнь,
и тогда лишь он сам уничтожит все старое.
Дехкану... Дехкан — темный, отсталый человек.
А... Любовь Прохоровна? Разве не такие же самые адаты
русских принуждают ее калечить свою и его жизнь во имя
какого-то дикого фетиша — «обвенчанная...»
Вдруг он услыхал на половине матери громкое женское
рыдание. Во дворе раздался скрип колес арбы, а потом,
вторя ему, заскрипели высокие тяжелые ворота.
Он решительно и без предупреждения пошел в ичкари.
— А-ах! — захлебнулся, будто от страха, женский голос.
Возле матери сидела, подняв с колен заплаканное лицо,
закрывая свой рот руками, такая же, как и она, старая жен-г
щина без паранджи.
. — Този-хон! Сестра! — крикнул Сайд, решительно
направляясь к женщине. По пути он зацепил ногой пиалу, чай
разлился, и столб пара поднялся между ними.
— Този-хон, родненькая! Кара-опа-сингиль...1 Это ты?
— Да, Саид-ака, я! Всю жизнь буду благодарить тебя...
Но что ты наделал?
— Все будет в порядке, моя сестра...
И он не договорил. Со двора настойчивым и тревожным
голосом звали его:
— Саид-ака! Ау, Саид-ака!
Это кричал старик Файзула.
Сайд вышел из ичкари и направился во двор,
огороженный дувалами.
В темноте он увидел стоявшего рядом с Файзулой
неизвестного ему дехкана, который держал в поводу своего
коня.
— Эссаламу аллейкум! Саламат бармиляр!2
— Вам пакет, ходжа инженер.
1 Моя черная милая сестра.
2 Приветствие.
326
Оки вошли в кабинет Сайда, служивший ему и светлицей
и опочивальней. В этой же комнате он когда-то принимал
свою необычную гостью — Любовь Прохоровну, закрытую
паранджой.
Сайд взял конверт у курьера и ждал, пока Файзула
зажжет лампу. Конверт был из Намаджана, надписанный
рукой Семена Лодыженко.
Он быстро пробежал написанное и не сразу понял его
содержание. Слова были тяжелыми, грозными, в них
таилась змеиная угроза врагов.
«Синявина пытались убить в горах. Необходимо твое
присутствие. Среди инженеров возможна паника. Мациев-
ский держится, а изыскательские партии и остальные
возвращаются в Уч-Каргал. Преображенский обещал вернуться,
но ждем твоих указаний. Семен Лодыженко».
Было слышно, как за дувалами в материнском ичкари
все еще плакала сестра Сайда.
...В ичкари на коврах и одеялах лежала Този-хон. Ее
лицо горело в лихорадке, а глаза испуганно бегали по окну,
по потолку, по нишам с посудой и останавливались на двери.
Саид-Али на минутку задержался у двери, будто, входя в
эту комнату, он предполагал встретиться не с сестрой, а с
кем-то другим. Он до сих пор был еще без тюбетейки, и его
непричесанные волосы вихрились.
— Ака! — со стоном обратилась к нему его
единственная сестра.
— Този, ты звала меня, но прости, я не мог зайти сюда,
пока вся эта мерзость...— и он зарделся. Ему стало стыдно,
что он занимается рассуждениями, в то время как эта
несчастная женщина то бегает глазами по комнате, то
останавливает свой взор на брате, и тогда ее зрачки сужаются
и исчезают. В ее взгляде были печаль и безысходность.
— Този-хон! Ты хотела мне что-то сказать? Я послал
за врачом.
— Саид-ака, я умираю... Меня жжет уже вот здесь в
груди, где шевелится душа. Наклонись ко мне поближе...
Я жила в обители. Таких, как я, там было немало. Все мы
убегали в Намаджан и поэтому... утратили доверие имама
и понесли наказание... Но, Сайд...
Больная захлебнулась, и ее тело судорожно заметалось
по постели. Сайд схватил кружку с водой, чтобы дать ей
попить, но Този-хон отвела ее в сторону, и на устах
бедняжки едва заметно заиграла улыбка сестринской любви и
благодарности.
— Я умираю, Сайд... В обители твои... злейшие враги...
Берегись их...— промолвила она и замахала руками, чтобы он
327
уходил, а потом вдруг поднялась на локте и уже шепотом
закончила: — У шейхов и мулл... есть свои инженере на
строительстве, они молитвами заклинают дехкан... Камень в
голову...— и она еще энергичнее замахала руками, а ее глаза
залились слезами. Она неотрывно глядела на Сайда.
Саид-Али, ошеломленный словами сестры, пятясь,
выходил из комнаты больной. У него промелькнула надежда
на то, что Храпков спасет ее. Только бы он подоспел
вовремя.
Во дворе старика Файзулу окружили бородатее ишаны,
соседи — дехкане. Между ними происходил какой-то спор,
но Сайд, объятый вихрем мыслей, вызванных словами Този-
хон, не мог понять, о чем они толкуют.
— Саид-бай, нехорошо поступаешь! — такова была
первая услышанная им фраза, произнесенная одним из ишанов.
С Саидом-Али никто не поздоровался, а может, кто-нибудь
и приветствовал его, да он не слыхал. У него кружилась
голова, и не было никакого желания видеть этих ишанов,
а тем более выслушивать их набожные советы.
— Нехорошо поступаешь! — снова он услыхал чей-то
голос, донесшийся из притихшей толпы.
— Я ничего не могу понять... В чем дело?
— Ты прогнал со двора лучших в Чадаке знахарок и
пригласил врача к мусульманке. Доктора — мужчину,
неверного, и при таком несчастье... Да известно ли тебе,
молодой человек, какую ты беду накличешь на весь Чадак?
Знахарки накличут... Для Голодной степи воды Кзыл-су
забираешь у обители. Нарушаешь обычаи... Не позволим!
— Отцы любезные! Прошу вас не вмешиваться в мои
личные дела. Уйдите с моего двора и дайте мне покой. И без
вас тут...
Ишан угрожающе шагнул к Сайду. Толпа тоже
зашевелилась. Во двор входили все новые и новые дехкане в
праздничных чалмах, с руками,( скрещенными на груди.
От подножия горы полетел звонкий уверенный голос
су фи, призывавший к послеобеденной молитве.
— Аллагу акбар! Аллагу акбар!..— забормотали на
разные лад ишаны — прямые потомки Магомета.
Но автомобильный сигнал прорезал чадакский уличный
шум, и, точно в открытую с улицы дверь, за дувалом
захрипела машина, привезшая Храпкова.
Кучка людей в белых чалмах бросилась к воротам и
закрыла их. У ворот сплошной стеной встали добрых два
десятка правоверных. Сайд понял, что задумала эта кучка
мракобесов.
— Не пустим к мусульманке! — заревели ишаны и
выставили свои раскрытые груди, будто они собирались
умирать смертью храбрых. Евгений Викторович приподнялся
328
на сиденье, почти испуганно, непонимающе спросил их,
разводя руками:
— В чем дело? Я врач, к больной... Скажите мне по-
русски.
— Они не хотят впустить вас к мусульманке,— перевела
ему побледневшая Тося.
— Не пускают меня? Но ведь товарищ Мухтаров...
В' это время Сайд, возмущенный таким поступком
дехкан, бросился к воротам. Один из дехкан преградил ему
путь, но Сайд почти бессознательно со всего размаха ударил
его, и тот повалился наземь, как от удара молнии. Сайд
остановился на мгновение и наклонился над упавшим, который
едва подавал признаки жизни, но в этот момент на него
набросили волосяной аркан, и он даже опомниться не успел,
как его связали.
— Это дикость! Не смейте, вы, несчастные... Там
умирает человек! Пустите врача...
— Не допустим, не разрешим глумиться над нашей
верой... глумиться над адатом... К правоверной — впустить
мужчину неверного?
Сквозь калитку Евгений Викторович видел всю эту
свалку и готов был развернуть машину и унести ноги, пока его
еще не схватили озверелые ишаны.
Однако Тосе, очевидно, вдруг пришла в голову какая-то
мысль, и она, выпрыгнув из автомашины, подскочила к
большой толпе чадакчан, собравшихся возле калитки, и
обратилась к ним по-узбекски:
— Аталяр! Но ведь я-то женщина... Пропустите меня.
Мы обязаны спасти жизнь правоверной. Пропустите меня,
не задерживайте... она умирает.
После небольшой паузы дехкане снова загудели,
замахали руками и выпустили со двора белобородого ишана,
спорившего с Мухтаровым.
За ним вывели двоих и того дехкана, которого Сайд
оглушил ударом.
— Дохтур, пожальста, лечи этого. А женщине можно
пройти к больной, только без этого ящичка.
— Однако же...— только и успела произнести Тося, как
чемоданчик с инструментами и лекарствами исчез в толпе.
Евгений Викторович схватился за голову, крикнул:
— Идите поскорее, что там...— а сам с трудом вылез из
автомашины и направился к больному. Во дворе бранился
Саид-Али, тесно окруженный жителями Чадака.
— Воды. Су киряк!..— промолвил Евгений Викторович,
осмотрев больного.— Хорошо же он его приутюжил! — и,
оглянувшись, пальцем показал, чтобы ему дали чемоданчик
с лекарствами. Дехкане больше не спорили и подали ему
чемоданчик.
зло
Дав лекарство больному, Храпков стал смелее и
попросил, чтобы его все-таки пустили к больной. Нашлись и
переводчики, переведшие его просьбу. Снова поднялся
крик.
В толпу вскочила Тося.
— Евгений Викторович! Скорее дайте антитоксин! Может
быть, еще удастся спасти ее.
Больной поднялся с земли. Он оглянул толпу, наклонил
голову и сказал:
— Пропустите!
Это или что-то другое повлияло на толпу дехкан,
продолжавших шуметь, но они постепенно расступались,
давая проход врачу. Храпков схватил чемоданчик и
стрелой понесся к дому, чуть было не сбив с ног рыдающую, с
открытым лицом, седовласую Адолят-хон, бежавшую ему
навстречу.
— Она умерла! — закричала Адолят-хон, ухватившись
за руки Тоси. Тося быстро перевела Храпкову слова матери.
У врача опустились руки, и его лицо густо покрылось
капельками пота.
— Это дикость, ужас...— промолвил он, уже не
сдерживая себя и возвращаясь на улицу к автомобилю.
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
НЕ ЗАСТУПАЙТЕ ДОРОГИ
ЖЕНЩИНАМ
— У бабы волос долог, да ум короток.
— Бабе волю дать, не унять.
— Бабу бей, что молотом, сделаешь золотом.
Про «бабу» такова
Народная молва,
Кто ж поболезнует о «бабе» деревенской?
Нет горше доли — доли женской.
Крест самый тяжкий — женский крест.
Давно ли на Руси,— друзья мои, давно ли? —
Умолк, исполненный тоски и жгучей боли,
Плач наших матерей, сестер, невест?
В их жизни темной был единый луч отрады:
Перед иконою дрожащий свет лампады,
Сиянье тусклое сусального венца
Да речь лукавая «духовного отца».
Вот почему они к речам поповским падки,
Вот почему, когда про «новые порядки»
Поп злобно в церкви врет, преступной лжи попа
Так верит женская толпа.
Лишите же попов последней их подмоги.
Пусть с нами женщины пойдут в одном ряду!
Не заступайте им дороги
К науке, к вольному труду!
Учась, учите их и словом и примером
И верьте, что они от общего труда,
От общих радостей, как темная орда,
За долгогривым изувером
Уж не пойдут — врагам на радость — никогда!
САМЕД ВУРГУН
СЛОВО О КОЛХОЗНИЦЕ БАСТИ
(Отрывок)
1
Мать, плача, назвала тебя Басти,
Что значит «баста», «хватит», «отпусти»!
— Зачем мне дочь? Зачем ей жить, расти?
О, почему аллах не дал мне сына?
Обычай грустный был в стране моей —
Не праздновать рожденья дочерей.
Жена боялась мужа: стыдно ей —
О, почему аллах не дал ей сына?
У женщины, считалось, нет души,
Нет заработка. Проживет в тиши,
Чужие будет проедать гроши,
Служанкой будет у чужого сына!
Зажжет огонь чужого очага,
А молодость-то будет недолга,
И лишь одна мечта ей дорога:
Родить бы, милостью аллаха, сына!
На свадьбах пели: «Девка здорова!
Вся без изъяна! Сладкая халва!
Семь сыновей роди, пока жива,
Ты мне гляди роди не дочь, а сына!..»
2
Я вспоминаю
Черный мир былой...
Что за река
О скалы бьет волной?
То слезы матерей.
Ты плачешь, мать?
Века, века пришлось тебе страдать!
Бек и купец
332
Могли тебя купить,
Муж и отец
Могли тебя убить,
Коран тебе приказывал: «Молчи»,
И бекские наемники-кочи
Бесстыдно издевались над тобой.
По шариату ты была рабой.
С какой-нибудь попойки,
Зол, уныл,
Бывало, муж
С гостями приходил,.
Он бил тебя при людях,
Пьяный в дым,—
Ты молча обмывала ноги им...
У женщины, считалось, нет ума...
Чадра была, как саван, как тюрьма,
То в шелковой, то в ситцевой тюрьме —
В чадре своей — блуждала ты во тьме...
Был горек хлеб. Был безысходен ад.
Был страшен мир. Был крепок шариат.
3
Простые и чистые
Слышим слова от тебя!
Хвала молоку,
Что когда-то вспоило тебя!
Твой должник благодарный,
Приму я урок от тебя,
Ты чиста, как природа!
Как брат, обнимаю тебя,-
Как я счастлив, Басти, что, как брат, понимаю
тебя!
И ладони и локти,
Как розы, горят у тебя,
И вишневые губы
От солнца горят у тебя,
Это радостный труд
Сделал сильной, красивой тебя!
Я — влюбленный Вургун — удивленно гляжу
на тебя!
4
Это Ленин, учитель, мудрец, герой,
Был для нас огневой зарей!
Нашим женщинам Ленин сказал:
— Смелей
333
Выходите на вольный свет!
Где свободных и сильных нет матерей,
Там свободной родины нет...
И блистали молнии этих слов,
И в сердцах расцветал восторг.
Тьма и тяжесть упали с людских голов,
Чистый свет озарил Восток.
Перестала ты, женщина, быть рабой
Бессловесной, глухой, тупой...
И сожгла ты коран — стариковский бред.
Шариата больше нет!
Был мулла, говорил он «терпи», «молчи»,
Не пугнет теперь он.
Не таскают за косы тебя кочи,—
Охраняет тебя закон.
Стал свободным и громким голос твой
На всех языках страны.
Ты проходишь с поднятой головой.
Шаги широки, верны!
Как боец Красной Армии, ты всегда
На суровых постах труда.
Ты готова в аулах учить детей,
Ткать богатый узор ковров,
Делать шелк и в больницах лечить людей,
Сеять хлопок, доить коров.
Трудовым и творящим рукам хвала!
Все нужны на земле дела.
Это Ленин сказал нам, что жизнь полна,
Это он научил понимать,
Что свободна и счастлива та страна,
Где свободна и счастлива мать!
5
Вчера вошел я в детский сад —
В цветник резвящихся ребят.
Им чужд коран, неведом бог-
Свободен, каждый детский вздох!
Как мать в кругу своей семьи,
Играла девушка с детьми;
Она учила петь ребят...
Я помню этот светлый взгляд,
Как вспышки голубых зарниц,
И стрелы черные ресниц...
И я, склонившись перед ней,
Сказал:
— У родины моей
334
Нет пасынков!
В стране любви
Нет пасынков!
Тут все — свои!..
6
Вот целый мир, и каждый дом, и сад
Колхознице Басти принадлежат!
Баку, Москва, Тбилиси, Ленинград
Поют хвалу колхознице Басти,
Желают ей расти, расти, расти!
И слава о Басти, как ураган,
Прошла за рубежи не наших стран —
В Арабистан, в далекий Индостан,
Алжир и Фец, за толщу древних стен,
В Багдад и в Тегеран, и в Йемен!..
Красавицам Востока страшен труд,
И гнезда их — гаремный их уют —
Лишь запахами тленья отдают...
Те женщины узнают образ твой,
Как выпуклые буквы книг — слепой!
Им даль еще страшна и неясна...
Завидно им, что наша жизнь — весна!
Им сбросить хочется оковы сна!..
Они поймут... Да здравствует навек
Освобожденный, чистый человек.
А. И. КУПРИН
«X А Н Ж У Ш К А»
Таким насмешливым прозванием окрестили в Киеве
профессиональных богомолок, созданных молитвенными
потребностями города, на всю Россию славящегося своими
монастырями и святынями. Эти особы служат посредницами и
проводницами между наиболее популярными отцами и
схимниками, с одной стороны, и чающей благодати
публикой— с другой. Они заменяют для прибывших откуда-
нибудь из Перми или Архангельска купцов-богомольцев
самые полные путеводители, являясь неутомимыми и
словоохотливыми гидами, имеющими везде знакомство или
лазейку.
В монастырях их терпят, отчасти как необходимое зло,
отчасти как ходячую рекламу, а отец-эконом нередко
«благословляет» их то медком, то свежеиспеченным хлебцем,
то осетровой соляночкой. Впрочем, молодой монах, не
усвоивший еще в достаточной степени внешнюю степенность
«ангельского чина», никогда не утратит случая, увидев хан-
жушку, обозвать ее «мокрохвосткой» и «дармоедкой».
Они, конечно, безукоризненно знают все престолы и
праздники и особенно торжественные служения. Им
известны дни и часы приемов у святых отцов, отличающихся
либо наиболее строгой жизнью, либо даром провидения, либо
умением видеть человека «наскрозь» при исповеди, либо
еще какими-нибудь особенностями и странностями.
Впрочем, у каждой есть свой излюбленный отец, которого она
«обожает» предпочтительно перед прочими, состоя при нем,
так сказать, личным адъютантом. За «своего» она готова
перегрызть конкурентке горло, если только у них зайдет
спор о сравнительных достоинствах двух отцов.
Есть две разновидности этого типа: «ханжушка-пост-
ница» и «ханжушка-лакомка». Первая высока, необыкно-
336
венно костлява и всегда как будто бы наклонена вперед;
лицо у нее зеленое, длинное и хищное, с длинным щурьим
носом и квадратною нижнею челюстью. Она строго
блюдет среду и пятницу, когда не вкушает вина, не ест зайца,
который, по достоверным сведениям, был в числе «семи пар
нечистых», а видом напоминает дикую кошку, 29 августа
отказывается от арбуза, потому что он, разрезанный попо-
Ведьма доит молоко из топора...
Гравюра
лам, напоминает «усекновенную главу» и т. д. Если
благодетели по ошибке или незнанию предложат ей отведать что-
нибудь из «запрещенного», она тотчас же изображает и
лицом, и жестами, и голосом такой нечеловеческий испуг и
такое обиженное негодование, что самим благодетелям
становится жутко.
Ханжушка-лакомка мала ростом, кругла и жирна, как
хорошо откормленный в мясной лавке кот. Она вся
проникнута добродетелями и набожными чувствами, и даже ее
лицо, на котором едва видны щелочки глаз, светится
маслянистым глянцем. Она, в противность ханжушке-постнице,
не откажется ни от рюмки доброй старой вишневки, ни от
чашки «кофию», если только угощение следует от солидной
и «стоящей» компании. К закату дней своих она непременно
приобретет где-нибудь на Шулявке или на Приорке
маленький, дикой краски, домик в три окна, где желанным
гостем бывает здоровенный монах в франтовской рясе.
Во всем остальном обе разновидности поразительно
похожи. Во-первых, обе говорят необыкновенно быстрым
337
полушепотом, причем произносят слова не только из себя, но
и в себя, т. е. одновременно и произнося слова и вдыхая
воздух, отчего получается впечатление беспрестанного,
монотонного журчания. Во-вторых, и та и другая косноязычат,
картавят или пришепетывают, потому что так выходит и
трогательнее и жалче.
Даже и костюм они носят одинаковый,
полупоношенный— черное платье и черный платочек с бахромой на
голове.
Друг к другу ханжушки относятся нетерпимо, потому что
им волей-неволей приходится сталкиваться в одних и тех
же домах в качестве рассказчиц, приживалок и проводниц
благочестия. Здесь, вероятно, кроме опасения конкуренции,
примешивается более острое и тонкое чувство,— нечто вроде
взаимного стыда, нечто вроде того, что испытывают друг к
другу двое профессиональных жрецов или двое заик в
присутствии посторонних глаз.
У них есть специальная терминология и для наиболее
излюбленных отцов даже особенные, ласкательно-интимные
прозвища.
— Так ты говоришь, мать моя, была нынче на
служении? — спрашивает одна ханжушка другую.
— Ах, была, была, матушка. Какое, я вам скажу,
благолепие! Уж такое благолепие, .такое благолепие, что
просто не знаешь, на небе ты или на земле!
— В мантиях служили-то?
— В мантиях, родная, в мантиях. «Бутон» предстоящим
был.
— А «Пернатый» не сослужил?
— Сослужил и «Пернатый». Удостоилась я к ручке
приложиться, когда к кресту подходили. Ручки-то у него
беленькие такие да пухленькие... ма-асенькие, масенькие,
точно у ребеночка безгрешного... и французскими духами
надушены.
Ханжушки знают про своих «благодетелей» самые
интимные подробности и с видом благочестивого сокрушения
(«как лукавый-то силен ныне стал!») переносят из дома в
дом соблазнительные вести.
В круг их обыденных занятий входит множество
мелочей. Они разгадывают сны, лечат от дурного глаза,
растирают у благодетелей болящие места освященным
маслицем с Афонской горы, исполняют всякие поручения к
соседнему лавочнику, с которым «язычничают» о тех же
благодетелях. При свадьбах, крестинах, похоронах,
благословениях образом и прочих обрядных происшествиях они
являются в соответственной роли церемониймейстеров. Перед
тем как на отпевании закрывают гроб, ханжушка
непременно развяжет и возьмет себе платок, связывающий ноги
338
покойного. «От зубов, батюшка, помогает»,— объяснит она
любопытному.
Если вы хотите видеть ханжушку во время самого
кипучего момента ее жизни, зайдите в лавру во время
большого праздника. Вы увидите ее в гостинице сидящей в
кругу купеческого семейства, пьющей «с угрызением»
тридцатое блюдечко чаю и рассказывающей своим
непрерывным полушепотом:
— А то еще показывали той страннице иноци Афонстии
вздох святого Иосифа Аримафейского. Когда этта, значит,
завеса-то раздрася — он, батюшка, и воздохнул от своего
сокрушенного сердца, а ангели святии тот вздох и собрали в
малую скляницу, на манер пузырька аптекарского. Так он,
этот вздох, в склянице и содержится, бычачьим пузырем
сверху затянут, и, кто на его, на батюшку, с верою смотрит,
тому от запойной болезни очень даже помогает.
В. МАЯКОВСКИЙ
ШЕСТЬ МОНАХИНЬ
Воздев
печеные
картошки личек,
черней,
чем негр,
не видавший бань,
шестеро благочестивейших католичек
влезло
на борт
парохода «Эспань».
И сзади
и спереди
ровней, чем веревка.
Шали,
как с гвоздика,
с плеч висят,
а лица
обвила
белейшая гофрировка,
как в пасху
гофрируют
ножки поросят.
Пусть заполнится годами
жизни квота —
стоит
только
вспомнить это диво,
раздирает
рот
зевота
шире Мексиканского залива.
340
Трезвые,
чистые,
как раствор борной,
вместе,
эскадроном, садятся есть.
Пообедав, сообща
скрываются в уборной.
Одна зевнула —
зевают шесть.
Вместо известных
симметричных мест,
где у женщин выпуклость —
у этих выем:
в одной выемке —
серебряный крест,
в другой — медали
со Львом
и с Пием.
Продрав глазенки
раньше, чем можно,—
в раю
(ужо!)
отоспятся лишек,—
оркестром без дирижера
шесть дорожных
вынимают
евангелишек.
Придешь ночью —
сидят и бормочут.
Рассвет в розы —
бормочут, стервозы!
И днем,
и ночью, и в утро, и в полдни
сидят
и бормочут
дуры господни.
Если ж
день
чуть-чуть
помрачнеет с виду,
сойдут в кабину,
12 галош
наденут вместе
и снова выйдут,
и снова
идет
елейный скулеж.
341
Мне б
язык испанский!
Я б спросил, взъяренный:
— Ангелицы,
попросту
ответ поэту дайте —
если
люди вы,
то кто ж
тогда
вороны?
А если
вы вороны,
то почему вы не летаете?
Агитпропщики!
Не лезьте вон из кожи,
весь земной
обревизуйте шар.
Самый
замечательный безбожник
не придумает
кощунственнее шарж!
Радуйся, распятый Иисусе,
не слезай
с гвоздей своей доски,
а вторично явишься —
сюд а
не суйся —i
все равно:
повесишься с тоски!
В ТЕНИ
АЛТАРЕЙ
ЭМИЛЬ ЗОЛЯ
ВОЗДЕРЖАНИЕ
I
Когда викарий в широком ангельской белизны стихаре
взошел на кафедру, маленькая баронесса уже сидела с
блаженным видом на обычном своем месте — у отдушины
жарко натопленной печки, перед приделом Святых ангелов.
Приняв подобающую благоговейную позу, викарий
изящным движением провел по губам тонким батистовым
платочком, затем развел руки, подобно крыльям готового взлететь
серафима, и, склонив голову, заговорил. Сначала голос его
звучал под широкими сводами церкви как отдаленный рокот
ручья, как влюбленный стон ветра в листве. Но понемногу
дуновение становилось сильней, легкий ветерок превращался
в бушующий ураган, и речь загремела мощными громовыми
раскатами. Но даже среди самых страшных вспышек молний
голос викария внезапно смягчался, и яркий солнечный луч
пронизывал мрачную бурю его красноречия.
При первых же звуках шелестящего в листве ветерка на
лице маленькой баронессы появилось то выражение
сладостного восторга, какой должна испытывать особа с тонким
музыкальным слухом, которая приготовилась наслаждаться
тончайшими оттенками любимой симфонии. Она была
восхищена нежной прелестью вступительных фраз; она с
вниманием знатока следила за нарастанием грозовых нот так умело
подготовленного финала; а когда голос викария достиг
наивысшей силы, когда он загремел, повторенный
многократным эхом высокого нефа, баронесса не могла удержаться и,
удовлетворенно кивнув головой, скромно пролепетала:
«Браво!»
Это было райское блаженство. Все святоши млели от
удовольствия.
345
II
А викарий все говорил; музыка его голоса
аккомпанировала словам. Темой его проповеди было воздержание,—
викарий говорил о том, сколь угодно богу умерщвление плоти.
Перегнувшись с кафедры, похожий на большую белую птицу,
он вещал:
— Настал час, братья и сестры, когда все мы должны,
подобно Иисусу, нести свой крест, надеть терновый венец,
взойти на Голгофу, ступая босыми ногами по камням и
колючим кустарникам.
Баронесса, видимо, сочла, что фраза очень приятно
закруглена, она зажмурилась, и сердце ее сладко заныло.
Симфония речей викария баюкала ее, и, слушая мелодичный
голос, она погрузилась в полусон, полный интимных
переживаний.
Напротив баронессы, в помещении для хора, было
высокое окно, серое и мутное. Очевидно, дождь еще не прошел.
Милое дитя — она приехала послушать проповедь в такую
ужасную погоду. Пожалуй, ради веры можно и пострадать
немного. Кучер баронессы промок до костей, и сама она,
выскочив из кареты, слегка замочила ноги. Впрочем, у нее
была превосходная карета — закрытая, вся внутри
стеганая, настоящий альков. Но как скучно смотреть из мокрого
окна на вереницу озабоченных людей, бегущих по
тротуарам с раскрытыми зонтами! И она подумала, что в хорошую
погоду она приехала бы в виктории. Это было бы куда
веселей.
В сущности она очень боялась, как бы викарий не
поспешил окончить проповедь: придется тогда ждать экипажа,—
ведь не станет же она месить грязь в такую погоду. Она
рассчитывала, что у викария никак не хватит голоса на
прочтение двухчасовой проповеди, если он будет продолжать в том
же духе; а ее кучер запоздает. Это беспокойство слегка
портило ей благочестивое настроение.
Ш
Викарий вдруг выпрямился; гневно встряхивая головой,
выбрасывая вперед кулаки, как бы стараясь освободиться от
мстительных демонов, он гремел:
— И горе вам, грешницы, если вы не омоете ног Иисуса
душистой влагой угрызений вашей совести, ароматным елеем
вашего раскаяния. Внемлите же мне и с трепетом падите ниц
на голые камни. Придите и покайтесь в чистилище,
открытом церковью в эти дни всеобщего сокрушения; сотрите в
прах плиты пола, бия челом, побледневшим от воздержания;
346
терпите голод и холод, молчание и тьму — и вы заслужите
в небесах прощение в лучезарный день торжества!
При этом страшном взрыве благочестия баронесса забыла
о своей тревоге и медленно кивнула головой, как бы
соглашаясь с разгневанным священнослужителем. Да, она должна
взять в руки прутья, укрыться в темном, сыром, холодном
углу и там бичевать себя — в этом для нее не было
сомнений.
Затем она снова углубилась.в мечты, замерла в
блаженном состоянии умиленного восторга. Ей было так удобно
сидеть на низеньком стуле с широкой спинкой, протянув ноги
на вышитую подушку, чтобы не чувствовать холодных плит
пола. Запрокинув голову, баронесса любовалась церковью,
ее высокими сводами, где клубился дым ладана, глубокими
нишами, наполненными таинственной тенью, чудесными
видениями. Неф с золотыми и мраморными украшениями,
обтянутый красным бархатом, похожий на огромный будуар,
освещенный мягким светом ночника, полный волнующих
ароматов и как бы предназначенный для неземной любви,
чаровал ее своим сиянием. То был праздник чувств. Все ее
прелестное пухленькое существо плавало в блаженстве, а
самое большое наслаждение доставляло ей сознание, что
она такая маленькая и так безмерно счастлива..
Не отдавая себе отчета, она, однако, больше всего
радовалась теплу от отдушины, которое забиралось ей под самые
юбки. Маленькая баронесса была очень зябкой. Струйка
теплого воздуха ласково бежала вдоль ее шелковых чулок.
И сон обволакивал ее в этой расслабляющей ванне.
IV
Гнев викария все еще был в полном разгаре. Он погружал
своих духовных дщерей в кипящую смолу преисподней.
— Истинно говорю вам: если до вашего слуха не
доходит глас божий, если вы не внемлете моему голосу — голосу
самого бога, в один прекрасный день вы услышите, как
кости ваши захрустят от смертной муки, почувствуете, как
плоть ваша будет жариться на раскаленных угольях, и
тогда тщетно будете вы молить: «Пощади, господи, пощади,
каюсь!» Господь бог безжалостно низвергнет вас в геенну
огненную.
Последние слова вызвали трепет в аудитории. На губах
маленькой баронессы, которую усыпляло тепло,
проникавшее во все ее существо, мелькнула чуть заметная улыбка.
Маленькая баронесса была хорошо знакома с викарием.
Накануне он у нее обедал. Викарий обожал паштет из лососины
с трюфелями, а любимым вином его было помарское. Он
347
безусловно красивый человек, лет тридцати пяти или сорока,
брюнет; а круглое и розовое лицо викария легко можно
принять за веселое лицо служанки с фермы. К тому же
викарий— человек светский, любитель покушать, да и за словом
в карман не полезет. Женщины обожали его, баронесса была
от него без ума. Викарий говорил ей таким сладким голосом:
«Ах, сударыня, перед таким туалетом, как у вас, не устоял
бы и святой».
Но сам-то он умел устоять; он обращался так же любезно
с графиней, с маркизой, с другими своими духовными
дщерями и был баловнем всех дам.
Когда викарий приходил по четвергам к баронессе
обедать, она не знала, куда его усадить, чтобы на него не
подуло,— ведь он мог схватить насморк, или чем его
накормить, — ведь неудачный кусок неминуемо вызвал бы у него
несварение желудка. В гостиной кресло его стояло у камина,
за столом слугам был отдан приказ особо следить за его
тарелкой, наливать только ему особое вино — помарское
двадцатилетней давности, которое он вкушал, благоговейно
закрыв глаза, словно принимал причастие.
Викарий был так добр, так добр! Пока он говорил с
высокой кафедры о хрустящих костях и поджаривающейся
плоти, маленькая баронесса в полудремоте представляла себе
викария за своим столом: он блаженно вытирал губы и
говорил: «Дорогая баронесса, этот раковый суп снискал бы вам
милость бога отца, если бы ваша красота уже не обеспечила
вам место в раю».
v
Когда викарий излил весь свой гнев и исчерпал все
угрозы, он принялся рыдать. В этом заключался его обычный
прием. Над кафедрой видны были только его плечи, он стоял
чуть не на коленях, затем, то вдруг поднимаясь, то снова
поникая, словно подавленный горем, вытирал глаза, комкая
накрахмаленный муслин воротника, протягивал руки,
сгибался вправо, влево, принимал позы раненого пеликана. Это
был последний букет, заключительный аккорд большого
оркестра, волнующая сцена развязки.
— Плачьте, плачьте, — твердил он угасающим голосом,
проливая слезы, — плачьте о себе, плачьте обо мне, плачьте
о господе боге.
Маленькая баронесса, казалось, спала с открытыми
глазами, она словно оцепенела от жары, ладана, наступающей
тьмы. Она сжалась в комок, она затаила в себе сладостные,
полные неги ощущения и втихомолку мечтала о
приятнейших вещах.
348
Рядом с нею в приделе Святых ангелов находилась
большая фреска, на которой была изображена группа красивых
молодых людей, полунагих, с крыльями за спиной. На лицах
их застыла улыбка любовников, а их согбенные,
коленопреклоненные фигуры, казалось, с обожанием взирали на
невидимую маленькую баронессу. Какие красавцы, какие у них
нежные губы, атласная кожа, мускулистые руки. Один из
них положительно напоминал молодого герцога де П.,
большого приятеля баронессы. В забытьи баронесса спрашивала
себя, хорош ли будет герцог нагим, с крыльями за спиной.
А минутами ей казалось, что большой розовый херувим одет
в черный фрак герцога. Затем сновидение становилось
явственнее, это и вправду был герцог; нескромно одетый, он
посылал ей из темноты воздушные поцелуи.
VI
Когда маленькая баронесса очнулась, она услышала
торжественные слова викария:
— Да пребудет с вами милость господня!
Она сперва удивилась; она думала, что викарий скажет
ей: да пребудут с вами поцелуи герцога.
С шумом отодвинулись стулья. Все стали уходить,
маленькая баронесса угадала: кучер еще не ожидал ее внизу на
лестнице. Черт побери викария! Он поспешил окончить
проповедь, он украл у своих прихожанок по меньшей мере
двадцать минут красноречия.
Баронесса с нетерпением ждала кучера. Стоя в боковом
приделе, она вдруг увидела викария, стремительно
выходившего из ризницы. Он смотрел на часы с деловым видом
человека, который не хочет опоздать на свидание.
— Ах, как я задержался, дорогая баронесса,— сказал
он. — Меня, видите ли, ждут у графини. Там сегодня концерт
духовной музыки, а затем ужин.
АЛЬФОНС ДОДЕ
ЭЛИКСИР ЕГО ПРЕПОДОБИЯ
ОТЦА ГОШЕ
— Отведайте-ка вот этого, соседушка, а потом посмотрим,
что вы скажете.
И с той же кропотливой тщательностью, с какой
шлифовальщик отсчитывает каждую бусину, гравесонский кюре
накапал мне на донышко золотисто-зеленой, жгучей,
искристой, чудесной жидкости. Все внутри у меня точно солнцем
опалило.
— Это настойка отца Гоше, радость и благополучие
нашего Прованса,— сказал почтенный пастырь с
торжествующим видом,— ее приготовляют в монастыре премонстрантов,
в двух лье от вашей мельницы... Не правда ли, куда лучше
всех шартрезов на свете? А если бы вы знали, до чего
интересна история этого эликсира! Вот послушайте...
И в простоте душевной, не видя в том ничего дурного, тут
же у себя в церковном домике, в столовой, такой светлой и
мирной, с картинками, изображающими крестный путь, с
белыми занавесочками, накрахмаленными, как стихарь, аббат
рассказал мне забавную историю, немножко вольнодумную и
непочтительную, вроде сказок Эразма ! или Ассуси 2.
— Двадцать лет тому назад премонстранты, или, вернее,
белые отцы, как прозвали их у нас в Провансе, впали в
великую нужду. Если бы вы посмотрели, в какой они тогда жили
обители, у вас бы сжалось сердце.
Большая стен;а, башня святого Пахомия разваливались.
Колонки каменной ограды вокруг поросшей травою обители
дали трещины, каменные святые в нишах свалились. Ни
одного целого окна, ни одной исправной двери. На
монастырском дворе, в часовнях гулял ронский ветер, словно на Ка-
1 Эразм — Эразм Роттердамский (1466—1536), один из крупнейших
писателей и ученых эпохи Возрождения.— Ред.
2 Шарль Ассуси (1605—1675) — французский поэт-юморист.— Ред.
350
марге, задувал свечи, ломал оконные переплеты,
выплескивал святую воду из кропильницы. Но всего печальнее была
монастырская колокольня, безмолвная, как опустевшая
голубятня; отцы, не имея денег на колокол, сзывали к заутрене
трещотками из миндального дерева!..
Бедные белые отцы! Я, как сейчас, вижу их во время
крестного хода в праздник тела господня: вот они идут
рядами, грустные, в заплатанных капюшонах, бледные,
отощавшие, ведь питались-то они только лимонами да
арбузами, а позади всех — настоятель, понуря голову, совестясь
показаться при свете дня с посохом, с которого слезла
позолота, и в белой шерстяной митре, изъеденной молью.
Монахини плакали, идя в процессии, а дюжие хоругвеносцы
хихикали, указывая на бедных монахов.
— Скворцам никогда не наклеваться досыта, раз они
стаями летают.
Так или иначе, но бедные белые отцы дошли до того, что
подумывали уже, не лучше ли им разлететься по всему свету
и каждому искать самому себе пропитание.
И вот однажды, когда этот важный вопрос обсуждался
капитулом, настоятелю доложили, что брат Гоше просит
выслушать его... Сообщу вам для сведения, что этот самый брат
Гоше был в обители пастухом, то есть целыми днями
слонялся под монастырскими арками и гонял двух тощих коров,
которые щипали траву в щелях между плитами. До
двенадцати лет его растила сумасшедшая старуха из Бо, по имени
тетка Бегон, затем его подобрали монахи, и несчастный пастух
так за всю свою жизнь ничему и не выучился, разве что пасти
своих коров да читать Pater noster \ да и то на
провансальском наречии, потому что соображал он туго и умом не
вышел. Впрочем, христианин был он ревностный, хотя и
мечтатель, власяницу носил исправно и бичевал себя со всей силой
убеждения и рук!..
Когда этот бесхитростный простак вошел в залу, где
заседал капитул, и поклонился собранию, отставив ногу, все —
и настоятель, и каноники, и казначей — покатились со смеху.
Стоило ему только появиться, и всюду его добродушная
физиономия с козлиной седеющей бородкой и какими-то
чудными глазами производила одно и то же впечатление,
поэтому брат Гоше нисколько не смутился.
— Досточтимые отцы,— сказал он добродушным тоном,
перебирая четки из маслинных косточек,— правду говорят
люди, что пустая бочка гулче всех звенит. Представьте
себе, что, ломая на все лады свою и без того неладную
голову, я, кажется, нашел средство всех нас выручить из
беды.
Отче наш (лат.).
351
И вот как. Все вы помните тетку Бегон, ту добрую
женщину, что кормила меня, пока я был мал. (Царство ей
небесное! Она, старая-стерва, бывало, как подвыпьет, уж очень
срамные песни пела.) Так вот скажу вам, досточтимые отцы,
что тетка Бегон, когда в живых была, знала толк в горных
травах не хуже, а может и лучше, чем старый корсиканский
дрозд. Вот она и составила перед смертью замечательную
настойку, смешав пять или шесть лекарственных трав, которые
мы с ней вместе собирали на отрогах Альп. Тому уже много
лет, но думаю, что с помощью святого Августина и с
соизволения отца-настоятеля я, поразмыслив хорошенько,
пожалуй, вспомню, как составить эту чудодейственную настойку.
Тогда останется только разлить ее по бутылкам и продавать
подороже, от этого община наша помаленьку разбогатеет, как
было с братьями траппистами и картезианцами...
Ему не дали договорить. Настоятель встал и бросился ему
на шею. Каноники жали ему руки. Казначей, растроганный
больше всех, почтительно облобызал обтрепанный край его
рясы... Затем каждый сел на свое место, чтобы все обсудить.
И на том же собрании капитул порешил поручить коров
брату Фрасибулу, а брату Гоше дать возможность целиком
посвятить себя изготовлению настойки.
Как достойному брату удалось вспомнить состав настойки
тетки Бегон, ценою каких усилий? Ценою скольких
бессонных ночей? Об этом история умалчивает. Достоверно одно:
через полгода настойка белых отцов была уже в большом
ходу. Во всей Арльской округе, во всей области не
существовало фермы, где бы в кладовой или в чулане не была
припрятана среди бутылок с вином и кувшинов с зелеными
маслинами коричневая глиняная фляга, запечатанная печатью
с гербом Прованса, с изображением на серебряной этикетке
монаха в молитвенном экстазе. Благодаря спросу на настойку
монастырь премонстрантов быстро разбогател. Снова возвели
башню святого Пахомия. Настоятель приобрел новую митру,
церковь украсилась витражами, а в одно прекрасное утро на
пасхе со стройной кружевной колокольни вдруг зазвонила и
заблаговестила во весь голос целая компания колоколов и
колокольчиков.
О брате же Гоще, об этом простоватом послушнике,
неотесанность которого так смешила весь капитул, больше в
обители не было и речи. Отныне знали только его преподобие
отца Гоше, человека великого ума и большой учености; его
совершенно не касались мелкие и столь разнообразные
монастырские дела; он весь день проводил, запершись у себя на
винокурне, а тридцать монахов в это время бродили по горам,
собирая для него пахучие травы... Винокурня, куда ход был
всем заказан, даже настоятелю, помещалась в старой
заброшенной часовне, в самом конце монастырского сада. Честные
352
Монастырские гости.
Французская гравюра
отцы в простоте душевной окружили ее таинственностью и
страхом, а когда какому-нибудь молодому монашку,
осмелевшему от любопытства, случалось, цепляясь за дикий
виноград, вскарабкаться до окошка над порталом, он тут же в
испуге скатывался вниз, узрев отца Гоше с длинной, как у
чародея, бородой, склонившегося над горнами с ареометром 1
в руке; а вокруг все заставлено было розовыми фаянсовыми
ретортами, огромными перегонными кубами, стеклянными
змеевиками, причудливо нагроможденными и пылавшими
в волшебном красном отблеске цветных стекол.
В сумерки, когда звонили к последнему Angelus 2, дверь
этого таинственного места тихонько приотворялась, и его
преподобие отец Гоше шел в церковь к вечерней службе.
Вы бы посмотрели, как его встречали в монастыре! Братья
выстраивались стеной вдоль его пути. Шептали друг другу:
— Тсс!.. Он знает секрет!..
Казначей шел за ним следом и, склонив голову,
почтительно что-то говорил ему... Обласканный отец Гоше
шествовал, утирая пот, сдвинув на затылок широкополую
треуголку, ореолом окружавшую его голову, с удовлетворением
поглядывая на обширные дворы, обсаженные апельсиновыми
деревьями, на голубые крыши с новенькими флюгерами, на
благодушных монахов в новой одежде, проходивших попарно
между изящными, увитыми цветами колонками сиявшей
белизной обители.
«Всем этим они обязаны мне!» — думал отец Гоше, и
каждый раз эта мысль вызывала в нем приступы гордыни.
Бедняга жестоко за это поплатился. Сейчас сами увидите...
Представьте себе, что как-то вечером, во время службы,
он пришел в церковь в необычайном возбуждении: он
раскраснелся, еле переводил дух, капюшон съехал набок, а сам
он был так взволнован, что, когда брал святую воду, намочил
рукава по самые локти. Сперва братия подумала, что он
смущен, ибо опоздал к службе, но, когда увидели, какие поклоны
он отвешивает органу и хорам, вместо того чтобы покло- •
ниться алтарю, когда увидели, каким вихрем он пронесся
по церкви, как он пять минут искал на клиросе свое место и
как, сев на место, он начал раскачиваться то направо, то
налево, улыбаясь блаженной улыбкой, по всем трем приделам
побежал гул удивления. Уткнув нос в требник, монахи
перешептывались:
— Что это с отцом Гоше?.. Что это с отцом Гоше?..
1 Ареометр — прибор для определения процентного содержания
спирта в вине.— Ред.
2 Ангел (божий) (лат.) — название католической молитвы, которую
читают трижды в день — утром, в полдень и вечером.— Ред.
354
Два раза настоятель в нетерпении ударил посохом по
плитам, чтобы водворить тишину... На клиросе продолжали петь
псалмы, но в возгласах не было благолепия.
Вдруг в самой середине Ave verum 1 отец Гоше откинулся
на спинку стула и во все горло запел:
Монах в белой рясе Парижу знаком,
Пататен, пататон, тарабен, тарабон.
Общее смятение. Все встают. Кричат:
— Уберите его!.. Это бесноватый!
Монахи творят крестное знамение. Настоятель без устали
стучит посохом... Но отец Гоше ничего не видит, ничего не
слышит. Двум рослым монахам пришлось вытащить его в
дверку на клиросе, а он отбивался, словно одержимый, и
знай себе горланил «та-ра-ра» и «тра-ра-ра».
На следующий день, чуть забрезжил свет, бедняга уже
стоял на коленях в молельне настоятеля и, обливаясь
слезами, каялся.
— Это все настойка, монсеньер, настойка меня
попутала,— твердил он, бия себя в грудь.
И, видя, как он сокрушается, как раскаивается, добрый
настоятель и сам разволновался.
— Успокойтесь, успокойтесь, отец Гоше, все испарится,
как роса на солнце... В конце концов соблазн был не так
велик, как вы думаете. Песенка, правда, была немного... гм!
гм!.. Будем надеяться, что послушники не расслышали...
А теперь, расскажите-ка мне, как это с вами приключилось...
Вы, верно, отведали настойки? А своя рука — владыка... Да,
да, понимаю. То же, что с братом Шварцом, изобретателем
пороха: вы пали жертвой собственного изобретения.
Скажите-ка мне, голубчик, обязательно самому нужно
пробовать эту ужасную настойку?
— К сожалению, да, монсеньер... ареометром можно
определить крепость и градус; но, чтобы придать напитку
окончательный вкус, бархатистость, я доверяю только собственному
языку...
— Так, так... Теперь послушайте, что я вам скажу... Когда
вы по необходимости пробуете настойку, она вам приятна?
Испытываете вы удовольствие?
— Увы, да, монсеньер,— пробормотал несчастный монах,
густо покраснев... — Последние два вечера, когда пробую
настойку, я вдыхаю такой букет, такой аромат!.. Верно, это
нечистый меня попутал... И отныне я твердо решил прибегать
только к ареометру. Что делать, пускай ликер не будет так
вкусен, пускай не будет так густ...
1 Название одной из католических молитв.— Ред,
23*
355
— Боже вас упаси,— поспешно перебил настоятель.—
Этак, чего доброго, покупатели будут недовольны... Вам
только нужно быть настороже, раз вы уже предупреждены...
Скажите, сколько вам надобно, чтобы распробовать?
Капель пятнадцать, двадцать, так? Положим, двадцать капель...
Бес. должен быть очень лукавым, чтобы одолеть вас при
помощи двадцати капель... Впрочем, я разрешаю вам не ходить
в церковь, а то как бы опять не вышло соблазна... Вечернюю
молитву вы можете читать в своей винокурне... А теперь,
ваше преподобие, ступайте с миром, и главное... не сбейтесь
со счета капель.
Увы! Хоть его преподобие и вел счет каплям, дьявол
крепко в него вцепился и не отпускал.
Странные молитвы пришлось услышать винокурне!
Днем еще куда ни шло. Отец Гоше был довольно спокоен:
он подготовлял жаровни, реторты, тщательно разбирал
травы, все травы Прованса, тонкие, серые, кружевные,
насквозь пропитанные благоуханием и солнцем. Но вечером,
когда травы уже настаивались и жидкость нагревалась в
больших медных чанах, начиналась пытка...
— ...Семнадцать... восемнадцать... девятнадцать...
двадцать!
Капли падали из трубы в серебряный кубок. Эти
двадцать капель он проглатывал разом, почти без всякого
удовольствия. Зато двадцать первая не давала ему покоя. Ох,
уж эта двадцать первая капля!.. Дабы не впасть в искушение,
он становился на колени в самом дальнем углу лаборатории
и читал молитвы. Но от не остывшей еще жидкости
подымался легкий пар, насыщенный ароматом, окутывал его и
волей-неволей тянул к чанам... Ликер был чудесного
золотисто-зеленого цвета... Склонившись над ним, широко раздув
ноздри, отец Гоше тихонько помешивал трубкой, и в
сверкающих блестках изумрудного потока ему мерещились глаза
тетки Бегон. Они смотрели на него, смеясь и подмигивая.
— Ладно! Еще одну каплю!
И капля за каплей бокал несчастного монаха наполнялся
до краев. Тогда он в изнеможении опускался в глубокое
кресло и, разомлев, прищурясь, смаковал свой грех
маленькими глоточками, повторяя про себя в сладостном раскаянии:
— Ах, я обрекаю себя на вечную муку... на вечную муку...
Но ужаснее всего то, что, выпив эту дьявольскую
настойку, на дне он находил,— уж не скажу вам, каким
чудом,— все непристойные песенки тетки Бегон: «Три кумушки
попировать хотели» или «Пастушка в лес пошла одна...» и
каждый раз тот самый пресловутый припев белых отцов:
«Пататен, пататон, тарабен, тарабон!»
Представляете себе, какой срам, когда наутро соседи по
келье говорили ему с лукавым видом:
356
.— Э-хе-хе, отец Гоше, видно, вчера вечером, когда вы
спать укладывались, у вас здорово трещало в голове.
Тогда начинались слезы, отчаяние, и пост, и власяница,
и изнурение плоти. Но ничего не помогало против того
дьявола, что вселился в настойку, и каждый вечер в тот же час
лукавый одолевал его.
А между тем заказы благодатным дождем падали на
аббатство. Они поступали из Нима, Экса, Авиньона, Марселя...
С каждым днем монастырь все больше и больше начинал
смахивать на фабрику. Были братья-упаковщики, братья-
этикетчики, одни вели переписку, другие ведали отправкой;
правда, служба господня иногда терпела от этого ущерб, не
так ревностно звонили в колокола, зато бедный люд в нашем
краю не терпел никакого ущерба, можете быть спокойны.
И вот в одно прекрасное воскресное утро, в то время как
казначей читал при всем капитуле годовой отчет, а
почтенные монахи внимали ему с сияющими глазами и улыбкой на
устах, в зал заседаний ворвался отец Гоше, громко крича:
— Хватит!.. Не хочу... Отдайте мне моих коров...
— В чем дело, отец Гоше? — спросил настоятель, отчасти
догадываясь, в чем тут дело.
— В чем дело, монсеньер? Дело в том, что я сам себе
готовлю огонь вечный и вилы... Дело в том, что я пью, пью,
как последний сапожник...
— Так ведь я же вам велел вести счет каплям!
— Сказали — вести счет каплям! Теперь уже приходится
вести счет стаканам!.. Да, отцы, вот до чего я дошел. Три
фляги за вечер... Сами понимаете, что так продолжаться не
может. Повелите составлять ликер, кому вам будет угодно. Да
падет на меня огонь небесный, ежели я не брошу этого дела!
Теперь капитулу было уже не до смеха.
— Но, безумный, вы пустите нас по миру! — кричал
казначей, размахивая гроссбухом.
— А по-вашему, лучше, чтобы я обрек себя на вечные
муки?
Тут поднялся настоятель.
— Отцы,— сказал он, простерши свою холеную белую
руку, на которой сверкал пастырский перстень,— есть
средство все уладить... Возлюбленное чадо мое, когда искушает
вас нечистый, по вечерам?
— Да, отец настоятель, аккурат каждый вечер... И те-=
перь, как только стемнеет, я, с вашего позволения, обливаюсь
холодным потом, как осел при виде седла.
— Ну, так успокойтесь... Отныне, каждую вечернюю
службу мы будем читать за спасение вашей души молитву
святого Августина, дающую полное отпущение грехов...
357
Теперь, что бы ни случилось, вы будете под ее покровом...
Это отпущение в тот самый момент, когда совершается грех.
— О, в таком случае спасибо, господин настоятель.
И без дальних слов отец Гоше легко, как жаворонок,
полетел к своим перегонным кубам.
Действительно, с этого дня каждый раз в конце повечерья
священнослужитель возглашал:
— Еще молимся за нашего бедного отца Гоше, душу свою
положившего за нашу братию. Oremus К
И над белыми капюшонами, распростертыми во мраке
приделов, реяла трепетная молитва, как легкий ветерок над
снегом, а в дальнем углу монастыря, за пылающими
витражами винокурни слышался меж тем голос отца Гоше,
певшего во всю глотку:
Монах в белой рясе Парижу знаком,
Пататен, пататон, тарабен, тарабон.
Пляшет с монашками он,
Тру-ту-ту, у них в саду,
С монашками пляшет он..*
Почтенный кюре вдруг в ужасе остановился:
— Господи помилуй! Что, если меня услышат прихожане!
Помолимся!., блат.)
Л. ПИРАНДЕЛЛО
СЧАСТЛИВЦЫ
Настоящее паломничество к дому молодого священника
дона Артуро Филомарино.
Визиты соболезнования.
Все соседи столпились у окон и дверей и неотрывно
следили за облупленной, потемневшей дверью с траурной
лентой. Дверь эта — то ли полуоткрытая, то ли полузакрытая —
походила на морщинистое лицо старика, который, прищурив
глаз, лукаво подмигивал каждому, кто входил в дом после
того, как хозяин в последний раз покинул свое жилище
ногами вперед.
Любопытство, с которым соседи наблюдали за
посетителями, наводило на мысль, что цель этих визитов была
совершенно иная, чем могло показаться с первого взгляда.
Каждого нового посетителя встречали со всех сторон
возгласами изумления:
— Ого, этот тоже?
— Кто, кто?
— Инженер Франчи!
— И он туда же?
— Да, и он вошел. Но как это понять? Масон? Да,
синьоры, представьте себе. А перед ним прошел этот горбун,
доктор Нишеми, атеист, да, атеист; а после него —
свободомыслящий республиканец, адвокат Рокко Турризи, и с ним
нотариус Шиме. А вон и кавалер Преато, а этот вот — комен-
даторе 1 Тино Ласпада, советник префектуры; не обошлось и
без братьев Морлези, тех самых, что, как только усядутся,
бедняжки, тут же все четверо начинают храпеть, словно их
опоили. Даже барон Черрелла явился, сам барон Черрелла!
Словом, все самые важные персоны в Монтелузе: чиновники,
негоцианты, люди свободных профессий...
1 Почетное звание в Италии.— Ред.
359
Дон Артуро Филомарино прибыл накануне вечером из
Рима; этот молодой священник после того,, как впал в
немилость у монсиньора Партанна из-за грядки земляники,
обещанной монашенкам монастыря святой Анны, отправился в
столицу, чтобы пополнить свое образование и получить
степень доктора филологии и философии. Срочной телеграммой
его вызвали в Монтелузу к неожиданно заболевшему отцу.
Он приехал слишком поздно и был лишен даже горького
утешения увидеться с ним в последний раз!
Четыре замужних сестры и зятья скороговоркой
сообщили молодому человеку о скоропостижной смерти отца и
тотчас же принялись со злобой, неприязнью и отвращением
попрекать дона Артуро тем, что его собратья, священники
Монтелузы, потребовали от умирающего двадцать тысяч
лир, двадцать, да, двадцать тысяч за обряд последнего
причастия. Можно подумать, что добряк мало жертвовал на
благочестивые дела и богоугодные заведения. Разве не
облицевал он мрамором два храма? Разве не воздвигал алтари? Не
дарил изображения и статуи святых? Не раздавал щедрой
рукой деньги на всякие религиозные празднества? Отведя
душу, они удалились, сердито отдуваясь и жалуясь, что
смертельно устали от бесконечных хлопот, свалившихся на
них в эти ужасные дни; и дон Артуро остался один, совсем
один (боже святый!) с домоправительницей, весьма... да,
весьма молоденькой особой, которую отец, по доброте
душевной, незадолго до смерти выписал из Неаполя; она уже
настолько освоилась, что с приторной любезностью называла
молодого священника «дон Артури».
Каждый раз, когда дон Артуро был чем-нибудь
недоволен, он имел обыкновение тихонько насвистывать сквозь
сжатые губы, проводя при этом кончиками пальцев по
бровям. И теперь бедняга при каждом «дон Артури»...
Ах, уже эти сестры, эти сестры! С самого детства они
недолюбливали его, а вернее, они его просто терпеть не могли,
то ли потому, что он был единственным мальчиком в семье
и самым младшим ребенком, то ли потому, что бедняжки все
четверо были безобразны, одна безобразнее другой, а он —
удивительно красив и грациозен в ореоле своих золотистых
локонов. Это казалось им тем более несправедливым, что он
мужчина и к тому же с детства по собственному желанию
готовился стать священником. Дон Артуро заранее предвидел,
какие отвратительные сцены, скандалы и распри начнутся,
когда дойдет до раздела наследства. По настоянию зятьев
несгораемый шкаф и письменный стол в кабинете их тестя
были запечатаны, так как он не оставил завещания.
Почему, собственно, они попрекали его теми деньгами,
которые служители церкви сочли справедливым и уместным
потребовать от отца, дабы он мог умереть добрым
христианине)
ном? Ведь, как ни тяжело было его сыновнему сердцу, он
должен был признать, что его добряк отец в продолжение
многих лет давал деньги в рост и даже не считал нужным
соблюдать при этом умеренность, которая могла по крайней мере
смягчить грех. Правда, той же самой рукой, которой он брал,
он и давал, и давал немало. Впрочем, то были, собственно
говоря, не его деньги. И, быть может, именно потому,
священники Монтелузы сочли нужным принудить его к этому
последнему пожертвованию. Он, дон Артуро, со своей стороны,
посвятил себя богу, дабы ценою отречения от благ земных
искупить великий грех, в котором отец его жил и умер. И
теперь молодой священник терзался сомнениями
относительно того, как надлежит ему поступить со своей частью
отцовского наследства, и решил испросить совета и
разъяснения у какого-нибудь старшего пастыря, например у мон-
синьора Ландолина, который стоял во главе воспитательного
приюта при монастыре; то был его духовник, человек
праведный, чья горячая приверженность к делам милосердия
была широко известна...
Надо сказать, что все эти визиты ставили молодого
священника в затруднение.
На первый взгляд общественное положение посетителей
делало эти, визиты незаслуженной для него честью; но, если
принять во внимание их тайную цель, за ними скрывалось
жестокое унижение.
Он боялся обидеть посетителей, выражая им
благодарность за честь; вместе с тем он боялся, что если их вовсе не
благодарить, то он слишком явно обнаружит собственное
унижение и покажется вдвойне невежливым.
К тому же он никак не мог взять в толк, о чем,
собственно, хотели сообщить ему все эти господа, не знал, что следует
им отвечать и как держаться. Не сделает ли он ложного
шага? Не совершит ли невольно, сам того не подозревая,
какого-нибудь промаха?
Он привык всегда и во всем подчиняться своим
наставникам. И теперь, не заручившись их советом, он чувствовал
себя совершенно потерянным среди этой толпы.
И поэтому он решил, что будет сидеть на старом диване,
в глубине полутемной, пыльной и запущенной комнаты,
делая вид, по крайней мере вначале, будто он настолько
разбит горем и усталостью, что способен лишь в молчании
принимать все эти визиты.
Посетители, со своей стороны, со вздохом пожимали ему
руку и, опустив глаза, молча усаживались вдоль стен:
казалось, все они разделяли с осиротевшим сыном его великое
горе. При этом они избегали смотреть друг на друга, словно
каждый был недоволен тем, что остальные явились сюда и
высказывали молодому человеку такое же сочувствие.
361
Никто из них, видимо, не собирался уходить, но каждый
надеялся, что раньше уйдут другие и он получит
возможность шепнуть наедине словечко дону Артуро.
Ни один поэтому не двигался с места.
Комната была уже полна, и вновь приходившим не на
что было присесть; все томились в молчании, завидуя
братьям Морлези, которые одни только не замечали, как
тянулось время, ибо все четверо, по обыкновению, сразу же
погрузились в глубокий сон.
В конце концов первым, отдуваясь, поднялся, а лучше
сказать скатился, со стула барон Черрелла, маленький и
кругленький, как мяч; раздражающе скрипя своими
лакированными сапожками, он засеменил прямо к дивану,
склонился к уху дона Артуро и тихонько шепнул:
— С вашего соизволения, отец Филомарино, небольшая
просьба.
Как ни был удручен дон Артуро, он разом вскочил на
ноги:
— К вашим услугам, барон!
И он проводил гостя через всю комнату вплоть до
передней. Вскоре после этого он возвратился и, тяжело дыша,
вновь опустился на диван; но не прошло и двух минут, как
еще кто-то из присутствующих встал, приблизился к нему
и повторил:
— С вашего соизволения, отец Филомарино, небольшая
просьба.
Пример был тут же подхвачен, и началось повальное
шествие. Один за другим через каждые две минуты
посетители поднимались и... Но после пятого или шестого раза
дон Артуро не стал больше дожидаться, пока очередной
проситель подойдет к самому дивану в глубине комнаты:
едва он замечал, что кто-нубудь встает с места, как сам тут
же подходил к нему и услужливо провожал в переднюю.
Однако на смену уходившему сразу же являлись двое
или трое других, и эта пытка грозила затянуться на
весь день.
По счастью, после трех часов пополудни больше никто
не показывался. В комнате оставались лишь четверо
братьев Морлези, сидевших рядышком в одной и той же
позе, опустив головы на грудь.
Они спали уже около пяти часов.
Дон Артуро с трудом держался на ногах. Жестом
отчаяния он указал молодой домоправительнице из Неаполя на
спящих.
— Пойдите поешьте, дон Артури,— сказала она.—
С этими я сама управлюсь.
Когда братья Морлези проснулись, они долго озирались
вокруг, широко раскрыв покрасневшие от сна глаза и си-
362
лясь понять, что происходит; затем они также захотели
сказать словечко по секрету дону Артуро. Напрасно он
заверял их, что в этом нет нужды, что он уже знает, в чем
дело, и сделает все возможное, чтобы удовлетворить их
просьбу, как и просьбы всех остальных. Братья Морлези,
оказывается, хотели не только просить его, как другие,
чтобы он постарался при разделе наследства взять их
векселя себе, дабы они не попали в лапы других наследников;
помимо этого, они желали поставить его в известность, что
их долг на самом деле составлял не тысячу лир, как
значилось в векселе, а всего лишь пятьсот.
— Как это? Почему? — простодушно спросил дон
Артуро.
Все четверо принялись наперебой объяснять, поправляя
один другого, и общими усилиями постарались растолковать,
в чем дело:
— Потому что ваш почтенный батюшка, к сожалению...
— Нет, к сожалению... из-за... из-за излишней...
— Предусмотрительности!
— Вот-вот... он сказал нам, что укажет тысячу...
— И это подтверждается тем, что проценты...
— Как следует из приходо-расходной книги...
— Двадцать четыре процента, дон Артури! Двадцать
четыре! Двадцать четыре!
— Мы аккуратно выплачивали ему проценты с пятисот
лир, вплоть до пятнадцатого числа прошлого месяца.
— Из приходо-расходной книги следует...
Молодому священнику показалось, что от их слов веет
адским пламенем; он сжал губы и принялся тихонько
насвистывать, проводя кончиками пальцев своей безгрешной
руки по бровям.
Он поблагодарил за доверие, которое они, подобно
другим, оказали ему, и вселил в их души смутную надежду,
что, как истинный служитель церкви, он не потребует от
них возврата денег.
Удовлетворить всех он, к сожалению, не мог:
наследников было пятеро, и он мог распоряжаться по своему
усмотрению лишь пятой частью наследства.
Вскоре в городке стало известно, что дон Артуро Фило-
марино, обсуждая в конторе адвоката с другими
наследниками вопрос о бесчисленных векселях, не согласился на
предложение своих зятьев поручить ликвидацию векселей
общему доверенному лицу; предполагалось, что лицо это,
проявляя человечность в отношении должников,
предоставит им право отсрочки и возобновления векселей с уплатой
скромных пяти процентов, в то время как покойный
никогда не взимал менее двадцати четырех процентов.
Это обстоятельство еще больше укрепило всех должников
363
в надежде, что молодой священник, как и подобает истин-,
ному христианину и достойному служителю церкви, не
только не станет требовать процентов с тех, чьи векселя, по
счастью, попадут ему в руки, но, быть может, даже
полностью простит и самый долг.
И снова потянулись люди к дому Артуро Филомарино.
Все молили, все заклинали его осчастливить их, то и дело
попадались ему на глаза, горько стеная и жалуясь на свою
печальную судьбу.
Дон Артуро буквально не знал, как ему от них
избавиться; от постоянного насвистывания у него немели губы;
его столь яростно осаждали, что он не мог улучить ни
минуты, чтобы побывать у монсиньора Ландолина и испросить
у него совета; и молодому человеку казалось, что пройдет
бесконечно много времени, прежде чем он сможет
возвратиться в Рим, к своим книгам. Дон Артуро интересовался
только своими занятиями: то был, как говорится, человек
не от мира сего.
Наконец трудный раздел множества векселей был
закончен, и в руках молодого человека оказалась целая пачка
долговых обязательств; тогда, даже не взглянув, кем они
выданы, чтобы не жалеть тех должников, которые
обманулись в своих надеждах, даже не подсчитав, на какую сумму
были эти векселя, он направился в монастырский приют,
готовый целиком и полностью подчиниться решению
монсиньора Ландолина.
Совет духовника станет для него законом.
Здание воспитательного приюта высилось на холме; это
было большое, квадратное, мрачное с виду строение,
обветшавшее от времени и непогоды, но внутри оно было светлое
и просторное.
Тут были собраны несчастные сироты и
незаконнорожденные дети со всей провинции в возрасте от шести до
девятнадцати лет, которых обучали грамоте и различным
ремеслам. Дисциплина в приюте была суровая, особенно при
монсиньоре Ландолина; и когда несчастные воспитанники
утром и вечером, под звуки органа, читали нараспев
молитвы в небольшой приютской церкви, в голосах их звучали
слезы, и прохожим эти звуки, доносившиеся из мрачного
здания, высоко над городом, казались жалобой
заключенных.
Внешность монсиньора Ландолина ничем не выдавала в
нем сильного, властолюбивого, сурового и деятельного
человека.
То был долговязый, тощий священник, казавшийся почти
прозрачным; можно было подумать, что яркий свет в его
364
сверкавшей белизной комнатке не только лишил красок^ но
даже иссушил его; худые дрожащие руки старика походили
на восковые, а веки светлых продолговатых глаз были
тоньше, чем кожура у луковицы. Говорил он дребезжащим
тусклым голосом, а на вечно поджатых бесцветных губах,
на которых постоянно пенилась слюна, играла лицемерная
улыбка.
— О Артуро! — проговорил он при виде юноши. А когда
тот, плача, припал к его груди, старик продолжал: — Да, да!
Великое горе... Но все к лучшему, мальчик мой! Слов нет.
большое горе. Однако возблагодари за него господа! Ты
знаешь, как я смотрю на глупцов, которые боятся страданий.
Горе спасет тебя, сын мой! А твой удел таков, что тебе
придется много, много страдать, помышляя о своем отце, об
этом несчастном грешнике, который сотворил столько зла!
Да будет твоей власяницей, сын мой, память о нем. Скажи-
ка, а эта женщина, все еще в твоем доме?
— Она завтра уезжает, монсиньор,— поторопился
ответить дон Артуро, вытирая слезы.— Ей надо было собрать
вещи...
— Отлично, отлично, чем скорее, тем лучше. Что ты
хотел сообщить мне, сын мой?.
Дон Артуро извлек на свет божий пачку векселей и
принялся торопливо рассказывать о своих спорах с родными,
о визитах и горьких жалобах несчастных должников. Но
как только взгляд монсиньора Ландолина упал на векселя,
он отшатнулся и судорожно задвигал всеми пальцами своих
тонких прозрачных рук, словно то были не долговые
обязательства, а орудия дьявола или непристойные картинки, и
он боялся обжечься, даже не прикасаясь к ним, при одном
только взгляде на эти греховные бумаги. Обратившись
к Филомарино, который держал их на коленях, он
простонал:
— Не держи их на рясе, сын мой, не держи их на рясе...
Дон Артуро собрался было положить векселя рядом
на стул.
— Да нет же, нет... Бога ради, куда ты кладешь их?
Выпусти их из рук, сын мой, выпусти их из рук...
— Но куда мне их деть? — испуганно спросил оробевший
и растерявшийся дон Артуро; теперь он также с
отвращением взирал на векселя, держа их двумя пальцами
вытянутой руки, словно они внушали ему непреодолимое
омерзение.
— Наземь, наземь,— завопил монсиньор Ландолина.—
Неужели ты не понимаешь, возлюбленный сын мой, что
священник...
Залившись краской, дон Артуро швырнул векселя на
пол и пробормотал:
365
— Я собирался, монсиньор, возвратить их этим
несчастным беднякам...
— Несчастным? Нет, с какой стати! — внезапно прервал
его монсиньор Ландолина.— Кто тебе сказал, что они
несчастны?
— Но...— начал дон Артуро.— Уже один тот факт,
монсиньор, что они вынуждены были прибегнуть к ссуде...
— Это все пороки, мой милый, пороки!—вскричал
монсиньор Ландолина.—Женщины, чревоугодие, жалкое
честолюбие, невоздержанность... Что еще за несчастные?
Порочные люди, мой дорогой, просто порочные люди. Дай я тебе
все объясню. Ведь ты еще не искушенный в жизни юноша.
Не доверяй же им. Плакать — это они умеют! Ведь плакать
легко... Не грешить — куда труднее! Сначала грешат,
ничтоже сумняшеся, а согрешив, проливают слезы. Полно,
полно! Я укажу тебе истинно несчастных, возлюбленный
сын мой, ибо сам господь умудрил тебя обратиться ко мне.
Истинно несчастны все эти сироты, доверенные моему
попечению, ибо они — плоды греха и низости всех этих людей,
которых ты почитаешь несчастными.^ Давай-ка сюда свои
бумаги, давай!
И, нагнувшись, он сделал рукой знак Филомарино
подобрать с полу пачку векселей.
Дон Артуро в растерянности смотрел на него. Как же
так? Значит, он должен взять их в руки?
— Ты хочешь от них избавиться? Бери же их! Бери! —
поспешил ободрить его монсиньор Ландолина.— Бери их
прямо руками, смелее! Мы тотчас же снимем с них печать
дьявола и обратим их в орудие милосердия. Ты можешь
отныне смело прикасаться к ним, ибо им предстоит
послужить на пользу моим бедным питомцам! Ты дашь их мне, а?
Не так ли? И мы заставим уплатить по ним, заставим
уплатить, мой милый; ты увидишь, как мы заставим уплатить по
ним всех этих твоих несчастных!
При этом он смеялся, смеялся беззвучным смехом,
выпятив бесцветные губы и непрерывно тряся головой.
Дон Артуро почувствовал, как при этом смехе дрожь
пробежала у него по телу, и тяжело вздохнул. Но, видя, с
какой решительностью его духовник завладел векселями
якобы в интересах милосердия, молодой священник не
осмелился ничего возразить. И он невольно подумал обо всех
этих несчастных, которые почитали себя счастливцами,
когда их векселя попали к нему в руки. Сколько они
умоляли его об этом! Они разжалобили его рассказами о своей
нужде. И он попытался избавить их по крайней мере от
уплаты процентов.
— Ну, нет! С какой стати? — немедленно возразил
монсиньор Ландолина.— Господу богу все пригодится, мой
366
милый, для его милосердных деяний! Скажи-ка лучше,
какие проценты взимал твой отец? Уж, конечно, немалые! По
крайней мере двадцать четыре процента, не так ли?
Отлично; мы заставим их платить столько же. Они все уплатят
по двадцать четыре процента.
— Но... видите ли, монсиньор... по правде говоря,
ведь...— лепетал дон Артуро, который чувствовал себя
точно на зггольях,— остальные наследники постановили
ликвидировать свои векселя с уплатой пяти процентов и...
— И отлично сделали! Да, отлично сделали! — быстро,
с убеждением в голосе откликнулся монсиньор Ландо-
лина.— Они поступили великолепно потому, что эти деньги
предназначены им! Наши же деньги предназначены
беднякам, мой мальчик! Как видишь, тут дело совсем иное! Наши
деньги не принадлежат ни тебе, ни мне! Они принадлежат
беднякам. По-твоему, правильно было бы лишить наших
бедняков того, на что они имеют право претендовать, исходя
из процентов, которые установил твой отец? Хотя это и
ростовщические проценты, но ведь отныне они станут
служить милосердию! Нет, нет! Они уплатят, они уплатят
двадцать четыре процента, еще как уплатят! Не тебе они
платят, не мне они платят! Это деньги бедняков, они
священны. Ступай с миром, сын мой, и не мучься сомнениями;
возвращайся в Рим к твоим излюбленным занятиям, а здесь
предоставь действовать мне. Я с ними сам объяснюсь,
с этими должниками. Ведь то деньги бедняков, деньги
бедняков... Да благословит тебя бог, сын мой! Да благословит
тебя бог!
И монсиньор Ландолина, движимый пылким рвением в
делах милосердия, которым он по заслугам славился,
наотрез отказался даже признать, что по векселю четырех
несчастных братьев Морлези, выданному ими на тысячу
лир, на самом деле было получено всего лишь пятьсот; и он
потребовал от них, как и от всех прочих, уплаты двадцати
четырех процентов даже с тех пятисот лир, которых они и
в глаза не видели.
И в довершение всего он стремился убедить их, брызжа
слюною, что они должны чувствовать себя воистину
счастливцами, ибо совершают, хотя и против воли, богоугодное
дело, за которое господь воздаст им в один прекрасный день
на том свете...
Они плакали.
— Ну, что ж! Горе спасет вас, дети мои!
ЯРОСЛАВ ГАШЕК
ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО
СОЛДАТА ШВЕЙКА
(Отрывок)
Случалось, Швейк по целым дням не видал пастыря
солдатских душ. Свои духовные обязанности фельдкурат
перемежал с кутежами и довольно редко заходил домой, да й то
весь выпачканный и грязный, словно кот после прогулок по
крышам. <
Возвращаясь домой, если он еще вообще в состоянии был
говорить, фельдкурат перед сном беседовал со Швейком о
высоких материях, о духовном экстазе и о радости
мышления, а иногда даже пытался цитировать Гейне.
Швейк отслужил с фельдкуратом еще одну полевую
обедню, у саперов, куда по ошибке был приглашен и другой
фельдкурат, бывший школьный законоучитель, чрезвычайно
набожный человек. Он очень удивленно взглянул на своего
коллегу Каца, когда тот предложил ему глоток коньяку из
швейковской фляжки — Швейк всегда носил ее с собой во
время исполнения религиозных церемоний.
— Недурной коньяк,— сказал Отто Кац.— Выпейте и
поезжайте домой. Я сам все сделаю. Сегодня мне нужно побыть
на свежем воздухе, а то что-то голова побаливает.
Набожный фельдкурат покачал головой и уехал, а Кац,
как всегда, блестяще исполнил свою роль. На этот раз он
претворил в кровь господню вино с содовой водой, и
проповедь затянулась намного дольше обыкновенного, причем
каждое третье слово у него было «и так далее» и
«несомненно».
— Солдаты! Сегодня вы уезжаете на фронт и так далее.
Обратите же сердца ваши к богу и так далее. Несомненно.
Никто из вас не знает, что с вами будет. Несомненно. И так
далее.
У алтаря продолжало греметь «и так далее» и
«несомненно» вперемешку с богом и со всеми святыми.
368
В экстазе и ораторском пылу фельдкурат произвел
принца Евгения Савойского в святого, который будет
охранять саперов при постройке понтонных мостов.
Тем не менее полевая обедня окончилась без всяких
неприятностей — мило и весело. Саперы позабавились на
славу.
На обратном пути Швейка с фельдкуратом не хотели
пустить со складным алтарем в трамвай. Но Швейк пригрозил
кондз'ктору:
— Смотри, тресну тебя этим святым алтарем по башке!
Добравшись, наконец, домой, они обнаружили, что по
дороге потеряли дароносицу.
...Вечером их навестил набожный фельдкурат, тот самый,
который утром тоже собирался служить полевую обедню у
саперов. Это был фанатик, стремившийся каждого человека
приблизить к богу. Еще будучи учителем закона божьего,
он развивал в детях религиозные чувства с помощью
подзатыльников, и газеты иногда помещали о нем заметки под
разными заголовками, вроде «Жестокий законоучитель» или
«Законоучитель, раздающий подзатыльники». Но
законоучитель был убежден, что ребенок усвоит себе катехизис
лучше всего по австрийской системе. Набожный фельдкурат
прихрамывал на одну ногу — результат встречи в темном
переулке с отцом одного из учеников. Законоучитель
надавал подзатыльников его сыну за то, что тот усомнился в
существовании святой троицы; мальчик получил три тумака:
один — за бога-отца, другой — за бога-сына и третий—за
святого духа. Сегодня бывший законоучитель пришел
наставить своего коллегу Каца на путь истинный и
заронить в его душу искру божию. Он начал с того, что
сказал ему:
— Удивляюсь, что у вас не висит распятие. Где вы
молитесь и где ваш молитвенник? Ни один святой образ не
украшает стен вашей комнаты. Что это у вас над постелью?
Кац улыбнулся.
— Это «Купающаяся Сусанна», а голая женщина под
ней — одна моя старая любовница... Не правда ли очень
оригинально? А молитвенник у меня на кухне. Швейк!
Принесите его сюда и откройте на третьей странице.
Швейк ушел на кухню, и оттуда послышалось
троекратное хлопанье раскупориваемых бутылок.
Набожный фельдкурат был потрясен, когда на столе
появились три бутылки.
— Это легкое церковное вино, коллега,— сказал Кац.—
Очень хороший рислинг. По вкусу напоминает
мозельское.
— Я пить не буду,— упрямо заявил набожный
фельдкурат.— Я пришел заронить в вашу душу искру божию.
24
Прошв тьмы
369
— Но у вас, коллега, в горле пересохнет,— сказал Кац.—
Выпейте, а я послушаю. Я человек весьма терпимый, могу
выслушать и чужие мнения.
Набожный фельдкурат немного отпил и вытаращил глаза.
— Чертовски доброе вино, коллега! Не правда ли? —
спросил Кац.
Фанатик твердо сказал:
— Я замечаю, что вы сквернословите.
— Привычка,— сказал Кац.— Иногда даже ловлю себя
на богохульстве. Швейк, налейте господину фельдкурату...
Послужите-ка на военной службе с мое — и вы до этого
дойдете... Пейте, коллега!
Бывший законоучитель машинально выпил. Видно было,
что он хочет сказать, но не может. Он собирался с мыслями.
— Уважаемый коллега,— продолжал Кац,— держитесь
бодрее, не сидите с таким мрачным видом, словно через пять
минут вас должны повесить. Слыхал я, что вы однажды в
пятницу, думая, что это четверг, по ошибке съели в одном
ресторане свиную котлету и после этого побежали в уборную
и сунули себе два пальца в рот, чтобы вас вырвало, боясь,
что бог вас строго покарает. Лично я не боюсь есть в пост
мясо и не боюсь никакого ада. Пардон! Выпейте! Лучше
стало?.. Или, может быть, у вас более прогрессивный взгляд
на пекло, может быть, вы идете в ногу с духом времени и с
реформистами? Иначе говоря, вы признаете, что в аду
вместо простых котлов с серой для несчастных грешников
используются автоклавы, то есть котлы высокого давления,
а также считаете, что грешников поджаривают на маргарине,
а вертела вращаются при помощи электрических
двигателей? В течение миллионов лет мнут их, несчастных,
паровыми трамбовками для шоссейных дорог, скрежет зубовный
вызывают дантисты при помощи особых машин, вопли
грешников записываются на граммофонных пластинках, а затем
эти пластинки отсылаются наверх, в рай, для увеселения
праведников? А в раю действуют распылители одеколона и
симфонические оркестры играют Брамса так долго, что
скорее предпочтешь ад и чистилище? У ангелочков в задницах
по пропеллеру, чтобы не натрудили себе крылышки?.. Пейте,
коллега! Швейк, налейте господину фельдкурату коньяку —
ему, кажется, дурно.
Придя в себя, набожный фельдкурат произнес шепотом:
— Религия есть умственное воззрение... Кто не верит в
существование святой троицы...
— Швейк,— перебил его Кац,— налейте госцодину
фельдкурату еще рюмку коньяку, пусть он придет в себя.
Расскажите ему что-нибудь, Швейк.
— Во Влашиме, осмелюсь доложить, господин
фельдкурат,— начал Швейк,— был один настоятель. Когда его преж-
370
няя экономка от него сбежала вместе с ребенком и деньгами,
он нанял себе новую служанку. Этот настоятель на старости
лет принялся изунать святого Августина, которого
причисляют к лику святых отцов церкви. Вычитал он там, что
каждый, кто верит в антиподов, подлежит проклятию. Позвал
он свою служанку и говорит: «Послушайте, вы мне как-то
говорили, что у вас есть сын, слесарь-механик, и что он
уехал в Австралию. Если это так, то он, значит, стал
антиподом, а святой Августин повелевает проклясть каждого, кто
верит в существование антиподов». «Батюшка,— говорит ему
баба,— сын-то ведь посылает мне и письма и деньги».— «Это
дьявольское наваждение,— говорит ей настоятель.—
Согласно учению святого Августина, никакой Австралии не
существует. Это вас антихрист соблазняет». В воскресенье
он ее всенародно проклял в костеле и кричал, что никакой
Австралии не существует. Ну, прямо из костела отвезли его
в сумасшедший дом. Да и многим бы туда не мешало. В
монастыре у урсулинок есть бутылочка с молоком девы Марии,
а в сиротском доме под Бенешовом, когда туда привезли
святую лурдскую воду, этих сироток от нее схватил такой
понос, какого свет не видал.
У набожного фельдкурата зарябило в глазах. Он отошел
только после новой рюмки коньяку, который ударил ему в
голову. Прищурив глаза, он спросил Каца:
— Вы не верите в непорочное зачатие девы Марии, не
верите, что палец святого Иоанна Крестителя, хранящийся у
пиаристов, подлинный? Да вы вообще-то верите в бога?
А если не верите, то почему вы фельдкурат?
— Дорогой коллега,— ответил Кац, снисходительно
похлопав его по спине,— пока государство признает, что
солдаты, идущие умирать, нуждаются в благословении божьем,
должность фельдкурата является прилично оплачиваемым и
не слишком утомительным занятием. Мне это больше
пришлось по душе, чем бегать по плацу и ходить на маневры.
Раньше я получал приказы от начальства, а теперь делаю,
что хочу. Я являюсь представителем того, кто. не существует,
и сам играю роль бога. Не захочу кому-нибудь отпустить
грехи и не отпущу, хоть бы меня на коленях просили.
Впрочем, таких нашлось бы чертовски мало.
— Люблю господа бога,— промолвил набожный
фельдкурат, начиная икать,— очень люблю!.. Дайте мне немного
вина. Я господа бога уважаю,— продолжал он.— Очень,
очень уважаю и чту. Никого так не уважаю, как его!
Он стукнул кулаком по столу, так что бутылки
подскочили.
— Бог — возвышенное, неземное существо, совершенное
во всех своих деяниях, существо, подобное солнцу, и никто
меня в этом не разубедит! И святого Иосифа почитаю, и всех
24*
371
святых почитаю, и даже святого Серапиона... У него такое
отвратительное имя!
— Да, ему бы не мешало похлопотать о перемене
имени,— заметил Швейк.
— Святую Людмилу люблю и святого Бернарда,—
продолжал бывший законоучитель.— Он спас много путников
на Сен-Готарде. На шее у него бутылка с коньяком, и он
разыскивает занесенных снегом...
Беседа приняла другое направление. Набожный фельдку-
рат понес околесицу.
— Младенцев я почитаю, их день двадцать восьмого
декабря. Ирода ненавижу... Когда курица спит, нельзя достать
свежих яиц.
Он засмеялся и запел:
Святый боже, святый крепкий...
Но вдруг прервал пение и, обращаясь к Кацу, резко
спросил:
— Вы не верите, что пятнадцатого августа праздник
успения богородицы?
Веселье было в полном разгаре. Появились еще бутылки,
и время от времени слышались слова Каца:
— Скажи, что не веришь в бога, а то не налью.
Казалось, что возвращаются времена преследований
первых христиан. Бывший законоучитель пел какую-то песнь
мучеников римской арены и вопил:
— Верую в господа бога своего и не отрекусь от него! Не
надо мне твоего вина. Могу и сам за ним послать!
Наконец его уложили в постель. Но прежде чем заснуть,
он провозгласил, подняв руку, на присяге:
— Верую в бога-отца, сына и святого духа! Дайте мне
молитвенник.
Швейк сунул ему первую попавшуюся под руку книжку
с ночного столика Отто Каца, и набожный фельдкурат,
наконец, заснул с «Декамероном» Боккаччо в руках.
В. МИКОЛАЙТИС-ПУТИНАС
В ТЕНИ АЛТАРЕЙ
(Отрывок)
Жизнь, которую вел в семинарии Людас Васарис, со
стороны могла бы показаться бесконечно тоскливой и скучной.
С раннего утра и до вечера через каждый час, а порою и
через полчаса звонил колокол; каждый день медитации!,
длинные молитвы, уроки silentium'ы 2. Так проходили
неделя за неделей, месяц за месяцем, и это однообразие могло
бы надоесть хуже горькой редьки. Но в действительности
было не так. Нигде так быстро не бежало время, дробимое
ударами колокола, как в семинарии. Скучать было некогда,
и хотя отдельные части дневной программы приедались,
все же день, неделя, месяц проходили непостижимо быстро.
Первокурсники то и дело сталкивались с чем-нибудь
новым, непривычным. Так незаметно прошло рождество с
торжественным богослужением, великий пост с длинным
покаянным каноном и крестным путем, когда им
приходилось по два часа томиться в соборе, прошла страстная
неделя с еще более длинными службами, прошел и светлый
праздник Христова воскресения.
Великим постом у семинаристов была вторая
трехдневная реколлекция 3, которую Людас Васарис соблюдал более
сознательно, так как уже понимал по-польски и вникал в
смысл духовных бесед.
Однако, если бы после всех этих медитаций, бесед,
размышлений, испытаний совести, после всех религиозных
упражнений, празднеств и торжеств его спросили: «Как сильна
теперь твоя вера? Рассеялись ли сомнения, с которыми
ты пришел сюда, изменился ли ты?» — вопросы эти поста-
1 Медитация — углубленная, сосредоточенная молитва.— Ред.
2 Sacrosanctum silentium — священная тишина.— Ред.
3 Реколлекция — духовная подготовка.— Fed,
373
вили бы его в довольно затруднительное положение. Разве
он мог ответить на них? Правда, он уже причащался
трижды в неделю, но все это делалось само собою, и Людас не
знал, достиг ли он большего совершенства или только
безотчетно выполнял требования семинарии, понемногу
приспособляясь к ним.
Поступая в семинарию, Людас несколько иначе
представлял себе приобщение к духовенству. Он довольно наивно
воображал, что его прежде всего начнут убеждать,
воображал, что ему неопровержимыми аргументами докажут
бытие божие, рассеют все сомнения, объяснят противоречия, и
тогда вера его укрепится, станет живой. Но ничего
похожего не случилось. Никто его не убеждал, не объяснял
противоречий, не рассеивал сомнений. Всех их просто усадили
за молитвы и реколлекции, словно они были проникнуты
глубочайшей верой. Вместо того, чтобы доказать бытие
божие, их сразу окунули в ту жизнь, смыслом и оправданием
которой является бог. Жизнь эта без веры в него была бы
немыслимой, абсурдной и совершенно непосильной для их
юной совести. Эта психологическая, практическая
аргументация действовала сильней теоретических доказательств и
убеждений. Если кто-нибудь не поддавался ее воздействию,
он бежал из семинарии с первого либо со второго курса.
Теоретические доказательства приходили позже, их следовало
просто выучить, «вызубрить». Но тогда они уже большого
влияния на веру не оказывали, а может быть, и вообще не
могли оказать. В семинарии Васарис постоянно слышал, что
живая вера — это божественная благодать, о даровании
которой следует молиться, и если согрешишь перед богом,
можешь ее потерять.
Это было ясно, однако другой вопрос уже с первого
года порой омрачал душу Васариса. Он не мог бы его четко
сформулировать, но мучился им. Вопрос был следующий: в
чем проявляется живая вера? Каковы ее признаки,
критерии? Он, семинарист Людас Васарис, верует. Но как, на чем
основана его вера? На традициях, в которых он был
воспитан? На страхе смерти в загробной жизни? На воздействии
семинарской жизни? На рассудке или на любви к богу?
Да, живая вера должна быть основана на любви к богу,
потому что она — следствие божественной благодати. Но
любовь к богу должна быть ощутимой. Ведь любовь всегда
ощутима! Она постоянно напоминает нам любимый
предмет, заставляет тосковать о нем, печалиться в разлуке с
ним и радоваться его присутствию. Всякая любовь волнует
нас, заставляет сильней биться сердце. Конечно, такова и
любовь к богу. Людас Васарис растроганно вспоминал, как,
с каким чувством говорила о боге его мать. Бывало,
поздними вечерами, когда все уже спали, она подолгу молилась на
374
коленях. Все, что только случалось в жизни, она
воспринимала в свете своей веры и любви к богу.
А он, семинарист Васарис, никогда и нигде не замечал в
себе ни малейшей любви к богу. Если бы он мог определить
того бога, в которого верил, не испытывая к нему никаких
чувств, то сравнил бы его с атмосферой, которой мы
окружены, с воздухом, которым дышим, со светом, благодаря
которому видим. Без них мы не могли бы существовать, но
они не затрагивают наших чувств, мы не можем любить их.
Этот душевный холод особенно тревожил Людаса, когда
он причащался. А ведь никакие грехи не омрачали его
совести, и его исповеди были искренни. Раза два он осмелился
рассказать духовнику о своем равнодушии и спросить у
него совета. Но и здесь он услыхал то же самое, что уже
слышал на беседах и читал в духовных руководствах.
Духовник сказал ему, что не следует пережевывать духовные
вопросы, не следует слишком ждать услаждения чувств и
умиротворения от духовных упражнений, что невелика
заслуга, если мы за свои труды сразу получим воздаяние, что,
может быть, господь таким образом испытывает нашу веру и
верность,— услышал и еще множество успокоительных
объяснений. Вывод из них был один: не обращать внимания на
кажущееся равнодушие и по-прежнему со всем тщанием
выполнять духовные упражнения.
Но если сила, движущая нас, точно корабль, вперед по
пути к совершенству, не согревается чувствами, если она
опирается только на волю, то она перестает быть силой и
ни к чему не приводит. Не избежал этой опасности и
Васарис. С первых же дней пребывания в семинарии многие
религиозные упражнения он выполнял машинально. Уж очень
их было много. Нужны были необычайное усердие, живая
вера и подлинная склонность к аскетизму, чтобы изо дня в
день ревностно повторять одни и те же слова и жесты. За
утренними и вечерними молитвами, отвечая вместе с
другими положенные места, или за литанией «Ora pro nobis» 1 Лю-
дас Васарис витал мыслями в беспредельном пространстве.
То же было и с испытанием совести и с медитациями.
Духовник читал их медленно, монотонно, с длинными
паузами, во время которых следовало углубиться в прочитанное
и обдумать его. Темы были различные и часто
распределялись по циклам: Истины веры, Жизнь Христа, Страх
греха, Могущество божественной милости, Добродетели и т. д.
Но, чтобы вникнуть в них, требовалось нечто, чем обладали
немногие и чего не было у Людаса. Поэтому очень часто,
особенно зимою, если он не бывал рассеян, то попросту
дремал, благо конец скамьи, на которой сидел Людас, заходил
Молись за нас (лат.).
375
за выступ стены, заслонявшей и свет свечей и большую
часть часовни. Все обитатели скамьи оспаривали друг у
друга это местечко и старались пораньше захватить его.
Остальные «медитирующие» наваливались на скамью, а
более усердные опускались на колени, чтобы отогнать сон.
Против этой сонливости боролись двумя способами:
испытанием совести дважды в день и еженедельной исповедью,
изредка — раз в две недели. Увы! И эти меры не могли
преодолеть всенивелирующую рутину. Для испытания совести
были придуманы еще другие вспомогательные средства.
Эти испытания разделялись на две части: на ехатеп
conscientiae generale по всему поведению и на ехатеп
conscientiae particulare no главным порокам, которые
следует искоренить. Чтобы успешней противоборствовать им,
формарий ' придумал еще такое средство: он раздал
семинаристам шнурки с часто нанизанными бусами,
предназначенные для счета наиболее важных пороков. Поймал себя на
том, что поддался такому пороку,— и толкай бусинку к
узелку.
Исповедь тоже была для Людаса источником
треволнений. Уже с детства ее окружала атмосфера тайны и страха.
Мальчиком он был замкнутым и застенчивым. Ему
стоило больших усилий воли признаваться ксендзу в
своих грехах. Какие же это были грехи? Каждый
совершенный им заведомо дурной поступок приобретал в его
глазах неощутимый, специфический оттенок, которого он
не мог объяснить и который, он это ясно чувствовал* не
сможет оценить, а пожалуй и понять, сидящий в
исповедальне ксендз. Это связывало Людаса и мешало
признаться в так называемом «грехе». После исповеди оставалось
недовольство собой, точно он совершил что-то нехорошее.
В семинарии это недовольство не только не исчезло, но
еще усилилось. Каждую субботу он перечислял духовнику
все те же незначительные проступки: столько-то раз был
рассеян либо дремал за медитацией, столько-то раз солгал,
столько-то раз приходили ему на ум дурные мысли.
— Поддавался ли ты им?
— Нет, боролся с ними.
— Что еще помнишь?
Порой духовник спрашивал:
— Расскажи свой самый тяжелый грех в прошлом.
Но и в прошлом отыскать такой грех было нелегко. То,
что он считал прежде грехом, теперь уже побледнело,
казалось пустяком.
Ему было невыносимо стыдно повторять на каждой
исповеди одно и то же. Тогда он стал сортировать свои грехи
1 Формарий — воспитатель.— Ред.
376
и некоторые оставлял про запас до следующей недели,
а те, в которых признавался раньше, больше не повторял.
Он уже несколько понаторел в богословии и знал, что
исповедь не станет хуже, если скроешь кое-какие мелкие
грешки. Настойчиво выискивал Людас новые пороки и,
когда находил — радовался. Самым тяжелым пороком в
семинарии считалась гордыня. Если ректор, выговаривая
кому-нибудь, заявлял: «Pych§ masz» ', — то провинившемуся
следовало соблюдать величайшую осторожность, чтобы
не вылететь из семинарии. И вот через некоторое время
Людас начал исповедоваться в новом грехе: столько-то и
столько-то раз поддавался гордыне... А гордыня эта была
самым обыкновенным чувством удовлетворения по поводу
какого-нибудь успеха либо невинной мечтой о будущем.
Но он был так запуган, что и тут видел опасность греха.
Кроме того, это был новый материал для исповеди. За
«гордыней» последовали «зависть», «осуждение старших»
и другие «тяжкие грехи».
Ощущая в сердце тревогу и горечь, Людас иногда
расспрашивал товарищей, что же они говорят духовнику на
еженедельной исповеди. Оказалось, что иные делают то
же, что и он, другие на этот вопрос вообще ничего не
могли ответить, а третьи, недовольные затронутой темой,
переводили разговор на другое. Знал он, правда, и таких,
которые простаивали у окошечка исповедальни по
пятнадцать минут, а то и по получасу, о чем-то горячо
шепчась, споря с духовником и что-то у него выспрашивая.
Именно они-то и не отвечали на вопросы Людаса, но
товарищи знали, что эти семинаристы — дотошные, и глядели
на них с сожалением.
Юный первокурсник Людас Васарис еще не понимал, но
уже угадывал, что такие исповеди отнюдь не способствуют
духовному совершенствованию, что за стереотипными
признаниями: «солгал», «дремал», «злобствовал» — скрывается
глубокая, темная бездна человеческой души, в которой
таятся корни будущих пороков: и настоящей гордыни, и
алчности, и жестокосердия, невоздержанности, пьянства,
мошенничества, лицемерия, таятся и другие микробы
душевного разложения. Они разовьются только по выходе из
семинарии, через десять или двадцать лет священства, хотя,
может быть, эти пороки, никем не замеченные, уже теперь
пустили ростки. А семинарская рутина тщательно охраняла
плевелы от рук полольщика.
Казалось, реколлекции должны были помочь
сосредоточиться, познать себя, проверить свой путь и свою совесть.
И действительно, во время реколлекции бывали моменты
1 Ты гордец (полъск.).
377
просветления, даже озарения. Но только моменты, и снова
мысли возвращались к внешней стороне — догме и
доктрине.
Значительно позже при воспоминаниях о семинарских
реколлекциях Васарис изумлялся: как мало было в них
душевного тепла, как противоречили они законам психологии
и педагогики! Все размышления, рассуждения, испытания
совести касались взаимоотношения двух начал — бога и
человека. Бог — бесконечное добро, совершенство и
совокупность всех положительных качеств. Человек —
абсолютное ничтожество, носитель всяческой скверны. Он зарожден
в грехе, по своей природе тяготеет к греху, и вся его
жизнь — бесконечная вереница грехов. А грехи эти тяжкие,
ужасные. Для искупления хотя бы одного из них
недостаточно даже вечных мук... И по прошествии долгих лет в
ушах Людаса все еще звучал скорбный голос духовника,
заканчивающего медитацию об ужасах греха внушительной
фразой: «Jaka procesja grzechow» '. Он прекрасно помнил, что
тогда для него, первокурсника, вся эта медитация была
совершенно бесплодным усилием. Он даже не старался
применить ее к себе и к своим товарищам, даже не мог
избавиться от мыслей:
«Зачем он все это нам говорит? Разве мы убийцы,
грабители, сластолюбцы? И что это за гнусные грехи, которыми
мы так ужасно прогневили бога?»
Так же неубедительны были для Васариса медитации о
покаянии, божественном милосердии, аде, чистилище и рае.
Это были сухие доктрины, неспособные зажечь и утешить
юношей хоть чем-нибудь, доступным их пониманию. Они
не удовлетворяли души, не успокаивали совести. Ведь
первокурсники были еще так молоды, так полны чаяний,
идеалов, надежд. Они жаждали, чтобы тлеющий в их сердцах
огонек раздули, чтобы укрепили уверенность в собственных
силах, указали лучшие свойства человеческой натуры и
взлелеяли бы их. А вместо этого их пичкали холодным,
рассудочным богословием так, что одни рабски подчинялись
бездушной рутине, другие увязали в трясине моральных
казусов, а третьи уходили в свою скорлупу и создавали себе
новые, чуждые священству идеалы. И только немногим
избранникам божьим было суждено проникнуться живой
верой и ревностным духом апостольского служения.
Людас Васарис, как и большинство его товарищей,
первое время неясно представлял себе свое положение. Одно
ему нравилось, другое не нравилось, но и то и другое он
принимал, как неизбежное. Ведь все равно ничего не
поделаешь и ничего не изменишь. Тем более, что критиковать
Какая вереница грехов (полъск.).
378
начальство считалось грехом. Он и сам не знал, как
относится к семинарии и какая основная черта
характеризует его как семинариста. Но один незначительный случай на
короткий миг открыл ему глаза.
Во время пасхальных каникул формарий, серьезный,
«милостью божьей» семинарист, уже посвященный в
диаконы, в беседе с первокурсниками вызвался назвать
характерные черты и недостатки, которые он в них заметил.
Через несколько дней решился спросить формария о себе и
Васарис.
— О вас я могу сказать очень мало,— немного помолчав,
ответил тот,— я недостаточно хорошо вас знаю, вы
слишком замкнутый и скрытный человек.
Эта характеристика для Васариса была совершенно
неожиданной. Товарищи никогда не называли его скрытным,
со всеми он был откровенен, искренен. Васарису казалось,
что и с начальством он не скрытничал; он был даже
чересчур податлив и покорен, притом нелицемерно, а
чистосердечно. И вдруг — «замкнутый», «скрытный». Однако слова
формария его ничуть не огорчили. Ему даже показалось,
будто таит он в душе нечто дорогое, заветное. От кого таит,
он и сам не знал, но от кого-то, кто непременно посягнет на
это сокровище. Впервые он почувствовал, что будто какой-
то щит отделяет его от всей семинарской атмосферы и что
эта жизнь никогда не сольется с его внутренней жизнью.
Кончалась последняя неделя пасхальных каникул.
Теплое солнце выманило семинаристов в сад. Пасха была
поздняя, а весна ранняя. Дорожки в саду уже обсохли.
Прорезалась молодая трава; на вишнях, яблонях, грушах
лопались набухшие почки и проглядывали первые лепестки.
Несколько первокурсников сидели на скамье на самом
припеке и, вытянув ноги, закинув головы, впивали влажное
весеннее тепло и мягкие, ласкающие лучи солнца.
Болтали о том, о сем, о мелких повседневных делах и
событиях, наконец, заговорили о церемониях и
прислуживании,— эта тема обычно доставляла богатейшую пищу для
насмешек.
На второй день пасхи всех насмешил служка Балсялис.
У него было слабое зрение, и за обедней, когда он хотел
погасить перед проповедью свечу, ему никак не удавалось
надвинуть на нее колпачок. В какой-то момент он
промахнулся и заехал в бороду святого Петра. Это гашение
свечей на виду у священнодействующего, сослужащих,
семинаристов и прихожан было величайшим мучением для
близоруких.
— Могу, вас порадовать,— сообщил Балсялис,— формарий
сказал, что служкам больше не придется гасить свечи. Это
отменено.
379
— Боятся, брат, как бы ты в другой раз не свернул носа
святому Петру,— издевался Варекас.
— Погоди, погоди, завтра твоя очередь. Посмотрим, как
у тебя получится. Да жалко, что отменили. А то мы бы
поглядели.
— Я не такой дурак, как ты,— огрызнулся Варекас,—
только увидел бы, что не удается, и смылся бы!
— Твое дело хвастаться, а наше не верить, тем более что
теперь и проверить нельзя! — обрывая спор, заметил Ва-
сарис.
Впрочем, никто не хотел связываться с Варекасом из-за
его несдержанного, оскорбительного тона и нескрываемого
презрения к товарищам. Разговор оборвался. Семинаристы
начали понемногу расходиться. Варекас придвинулся к Ва-
сарису.
— Хочешь, погуляем? Я тебе кое-что скажу.
Варекас и Васарис до поступления в семинарию учились
в одной гимназии, но друзьями не были. Варекас в
гимназии учился плохо, ни в каких кружках не состоял, любил
франтить и ухаживать за девушками. Поэтому его
поступление в семинарию немало удивило и Васариса и всех, кто
его знал. Не сдружились они и в семинарии, хотя Васарис
замечал, что Варекас его не только не презирает, как других,
но иногда даже пытается сблизиться с ним. Поэтому его
таинственное приглашение прогуляться и обещание что-то
рассказать не очень удивили Васариса.
— Ну как, привыкаешь к семинарии? — начал Варекас.
— Почти совсем привык.
— Нравится?
— Нравится не нравится, а ничего уж не поделаешь,—
неохотно и вяло ответил Васарис. Но Варекас не успокоился.
— Как ничего? Если не нравится, так бросай.
— Еще слишком рано, сперва надо подождать,
оглядеться.
— Если теперь слишком рано, потом будет слишком
поздно. Запомни мои слова,— многозначительно сказал
Варекас.— Давай-ка поговорим откровенно,— продолжал он,—
хоть ты и не бог весть кто, но по крайней мере не доносчик.
Тебе я могу довериться, а ты мне тем более. Скажи, зачем
ты поступил в семинарию?
У Васариса был готовый ответ на этот вопрос, но сказать
его так скоро он не решился бы ни Варекасу, ни кому-либо
другому; в таких случаях он часто, сам того не замечая,
отделывался общими фразами.
— Как зачем? Перед ксендзом открывается широкое поле
деятельности. Он во многих отношениях может быть
полезен обществу.
— Так, так. Говоришь, как по-писаному,— иронически
380
улыбнулся Варекас.— Конечно, ты искренне мечтаешь стать
достойным ксендзом?
— Совершенно искренне.
Минуту они шли молча, потом Варекас начал опять:
— Скажи, ты знаешь, как живут ксендзы?
— Нет, не знаю.
— Разве тебе никогда не случалось гостить в усадьбе у
настоятеля или бывать там хоть на престольном празднике?
— Нет, у настоятеля я никогда не был.
Варекас торжествующе свистнул.
— Ну, конечно, в семинарию больше такие идут, которые
ничего не знают, не ведают. А я, брат, видел, как живет
духовенство. У меня дядя — ксендз, он меня и учиться послал.
Я знаю жизнь лучше, чем вы все, вместе взятые.
Васарису было известно, что это не пустая похвальба.
Варекас оставался по два года почти в каждом классе и был
намного старше своих товарищей. К тому же ему
покровительствовал богатый дядя-настоятель, и он, действительно,
мог неплохо познакомиться с бытом духовенства.
— Я себя никакими иллюзиями не тешу. Комедия, брат,
все одна комедия! — Варекас с пренебрежением махнул
рукой.
— Что комедия? — не понял его Васарис.
— Все! И молитвы, и медитации, и обряды — все
комедия! Скажи мне, как у тебя с медитациями, испытаниями
совести? Можешь не отвечать — сам знаю, что половину
проспишь, пологину промечтаешь. По крайней мере две трети
поступают так же, как ты и я. А знаешь ли ты, что
получится из этих добрых, честных семинаристов через десять —
двадцать лет?
— Конечно,— поколебавшись, сказал Васарис,—
получатся разные люди.
Варекас усмехнулся:
— Разные? Половина из них будет возмущать прихожак
каким-нибудь явным пороком. Один станет пьяницей,
другой картежником, третий сойдется с экономкой настоятеля
или местечковой барынькой. Остальные, допустим, будут
честно выполнять свои обязанности, то есть станут хорошими
церковными чиновниками. Из них по меньшей мере у
половины не окажется ни искорки пастырского духа. Останется
процентов двадцать пять истинных ксендзов. Но я тебя
уверяю, что даже это слишком оптимистический расчет.
«Циник!» — подумал Васарис. Немало таких попреков по
адресу ксендзов он наслышался еще в гимназии, но
считал их наветами врагов церкви.
— Так почему же ты сам поступил в семинарию? — не
без язвительности спросил он Варекаса. Но тот отнесся к
вопросу серьезно, точно ожидал его.
381
— Я поступил, заведомо зная, что буду плохим
ксендзом. И хотел стать таким, поступил исключительно ради
карьеры. Ксендзам живется неплохо. Во-первых, думал я,
дядино покровительство поможет мне стать викарием в
богатом приходе, может быть даже в городе. Тут уж я не буду
дураком и сумею хорошо устроить свою жизнь. Лицемерие и
угодничество — вот надежные кони, которые быстро домчат к
духовной карьере. Править ими я, надеюсь, сумею. Потом
получу приход, потом сделаюсь благочинным, потом войду в
капитул, а в свою личную жизнь никому не позволю совать нос.
Слушая его, Васарис ужаснулся. «Вот,— подумал он,—
какие типы встречаются среди моих товарищей. Неужели он
серьезно говорит это?» А Варекас точно угадал его мысли.
— Правда, я ужасный человек, дружище Людас? — и он
взял Васариса за локоть. — Все, что я сказал,— чистая
правда. Ты можешь меня ненавидеть, но знай, что такие же
надежды лелеют многие из тех, которым остается два шага
до алтаря. Только не осмеливаются себе в этом признаться.
Воображают, что они не такие, но поступают именно так.
...— Что же ты думаешь делать? — спросил Васарис.
— Я сам раньше уйду. Это дело решенное.
Васарис не сразу нашелся с ответом, а Варекас
продолжал:
— Вижу, брат, что ошибся. Стать ксендзом ради карьеры
можно, только обманывая себя, только усыпляя свою
совесть или веря в свою правоту. Иначе это невыносимо.
Слишком тяжело. Шесть лет семинарии могут вынести либо
искренне верующие, либо обманывающие себя, либо
толстокожие верблюды. Ни к одной из этих трех категорий я не
принадлежу. И комедии этой ни за какие деньги не выдержу.
Одни церемонии чего стоят! То бери свечу в одну руку, то в
другую, то опустись на колени, то поклонись, то повернись
налево, то направо... Нет, не вынесу я этой комедии.
— Церемоний и я не люблю,— признался Васарис,
который со страхом ожидал воскресенья, так как наступила его
очередь быть свеченосцем.
— Не любишь, вот. А разве ты не слыхал на реколлек-
ции, что любовь к выполнению обрядов — один из
признаков духовного призвания?
Васарис ничего не ответил.
— Знаешь, брат, жалко мне тебя,— опять заговорил
Варекас.— Ну какой из тебя выйдет ксендз? Сколько тебе лет?
— Семнадцать,— признался Васарис.
— Ну, ясно, совсем еще ребенок. И много здесь вас
таких. Я слежу за вами с первых дней. И за тобой слежу. Не
знаю почему, но ты мне понравился. Держишься ты всегда
в стороне, никаких дел с формарием не имеешь. Исповеди
твои необычайно кратки. Перед утренней молитвой в ча-
382
совню не заходишь и выполняешь только самое
необходимое. Нет, брат, семинария не для тебя.
Как это ни странно, Людасу приятно было мнение Варе-
каса, но он не хотел сдаваться.
— Здесь и так столько обязанностей, что незачем
взваливать на себя новые.
— Конечно, конечно,— согласился Варекас,— но это
характеризует первокурсников. Говорят, что первокурсники к
концу года становятся самыми усердными семинаристами.
Ну, довольно об этом. Ты не сердись, что я тебя экзаменую.
Я думаю, что и тебе интересно поговорить на эту тему. Ведь
это, брат, касается судьбы всей твоей жизни, твоего
будущего. Пытался ли ты когда-нибудь представить себе, каким
будешь через десять лет?
— Нет, да это и невозможно.
— Почему невозможно? Есть несколько вариантов.
Начнем с первого. Ты говорил о самых необходимых
обязанностях ксендза. Каковы же они? Чтение бревиария \ исповеди,
церковная служба, безбрачие, совершение таинств и работа в
приходе. Представь себе, что прошло десять лет
священства, ты перестал читать бревиарий, исповедуешься для
проформы, после ночной попойки служишь обедню, позабыв
богословие, принимаешь исповедь, преступаешь обет
безбрачия и продолжаешь выполнять все обязанности ксендза.
Наконец, приходит момент, и ты осмеливаешься признаться
себе самому, что уже не веришь во многие церковные догмы,
а может быть, не веришь и в бога.
Васарису даже страшно стало. На мгновение его точно
молнией озарило, но только на мгновение. Ведь то, что
говорил Варекас, было нелепо и совершенно невозможно. Он
даже попытался усмехнуться.
— Ну это ты уж пересолил! Я таким ксендзом не буду,
да и вообще таких ксендзов на свете нет — и быть не может!
Теперь горько улыбнулся Варекас.
— Не стану спорить. Ближайшее будущее покажет, что
прав я. Но скажи, если бы ты каким-то чудом поверил, что
тебя самого ждет такая участь?
— Я бы, не медля ни одного дня, убежал из семинарии.
Но у меня нет никаких оснований верить этому. Мои
намерения чисты.
— Дай бог,— холодно пожелал Варекас,— чтобы ты
оказался одним из тех сомнительных двадцати пяти процентов.
Однако подумай. Если я прав — уедем вместе.
Звонок положил конец их прогулке и разговору...
1 Молитвенник для священнослужителей римско-католической
церкви.— Ред.
М. ГОРЬКИЙ
в людях
(Отрывки)
...Позднею осенью, когда рейсы парохода кончились, я
поступил учеником в мастерскую иконописи, но, через день,
хозяйка моя, мягкая и пьяненькая старушка, объявила мне
владимирским говором:
— Дни теперя коротенькие, вечера длинные, так ты с
утра будешь в лавку ходить, мальчиком при лавке
постоишь, а вечерами — учись!
И отдали меня во власть маленького, быстроногого
приказчика, молодого парня с красивеньким приторным лицом.
По утрам, в холодном сумраке рассвета, я иду с ним через
весь город по сонной купеческой улице Ильинке на Нижний
базар; там, во втором этаже Гостиного двора, помещается
лавка. Приспособленная из кладовой, темная, с железной
дверью и одним маленьким окном на террасу, крытую
железом, лавка была тесно набита иконами разных размеров,
киотами, гладкими и с «виноградом», книгами церковно-сла-
вянской печати, в переплетах желтой кожи. Рядом с нашей
лавкой помещалась другая, в ней торговал тоже иконами и
книгами чернобородый купец, родственник староверческого
начетчика, известного за Волгой, в Керженских краях; при
купце — сухонький и бойкий сын моего возраста, с
маленьким серым личиком старика, с беспокойными глазами
мышонка.
Открыв лавку, я должен был сбегать за кипятком в
трактир; напившись чаю — прибрать лавку, стереть пыль с
товара и потом—торчать на террасе, зорко следя, чтобы шь
купатели не заходили в лавку соседа.
— Покупатель — дурак,— уверенно говорил мне
приказчик.— Ему все едино, где купить, лишь бы дешево, а в
товаре он не понимает!
Быстро щелкая дощечками икон, хвастаясь тонким
знанием дела, он поучал меня:
384
— Мастерской работы — товар дешевый, три вершка на
четыре — себе стоит... шесть вершков на семь — себе стоит...
Святых знаешь? Запомни: Вонифатий — от запоя; Варвара-
великомученица— от зубной боли, нечаянныя смерти;
Василий Блаженный — от лихорадки, горячки... Богородиц
знаешь? Гляди: Скорбящая, Троеручица, Абалацкая-Знаме-
ние, Не рыдай мене мати, Утоли моя печали, Казанская,
Покрова, Семистрельная...
Я быстро запомнил цены икон по размерам и работе,
запомнил различия в иконах богородиц, но запомнить
значение святых было нелегко.
Задумаешься, бывало, о чем-нибудь, стоя у двери лавки,
а приказчик вдруг начнет проверять мои знания:
— Трудных родов разрешитель — кто будет?
Если я ошибаюсь, он презрительно спрашивает:
— Для чего у тебя голова?
Еще труднее было зазывать покупателей; уродливо
написанные иконы не нравились мне, продавать их было
неловко. По рассказам бабушки я представлял себе богородицу
молодой, красивой, доброй; такою она была и на картинках
журналов, а иконы изображали ее старой, строгой, с
длинным, кривым носом и деревянными ручками.
В базарные дни, среду и пятницу, торговля шла бойко, на
террасе то и дело появлялись мужики и старухи, иногда
целые семьи, все — старообрядцы из Заволжья, недоверчивый
и угрюмый лесной народ. Увидишь, бывало, как медленно,
точно боясь провалиться, шагает по галерее тяжелый
человек, закутанный в овчину и толстое, дома валяное сукно,—
становится неловко перед ним, стыдно. С великим усилием
встанешь на дороге ему, вертишься под его ногами в
пудовых сапогах и комаром поешь:
— Что вам угодно, почтенный? Псалтири следованные и
толковые, Ефрема Сирина книги, Кирилловы, Уставы,
Часословы— пожалуйте, взгляните] Иконы все, какие желаете,
на разные цены, лучшей работы, темных красок! На заказ
пишем кого угодно, всех святых и богородиц! Именную,
может, желаете заказать, семейную? Лучшая мастерская в
России! Первая торговля в городе!
Непроницаемый и непонятный покупатель долго молчит,
глядя на меня, как на собаку, и вдруг, отодвинув меня в
сторону деревянной рукою, идет в лавку соседа, а приказчик
мой, потирая большие уши, сердито ворчит:
— Упустил, тор-рговец...
В лавке соседа гудит мягкий, сладкий голос, течет
одуряющая речь:
— Мы, родимый, не овчиной торгуем, не сапогом, а
божьей благодатию, которая превыше сребра-злата, и нет ей
никакой цены...
25 Против тьмы
385
— Ч-черт! — шепчет мой приказчик с завистью и
восхищением. — Здорово заливает глаза мужику. Учись!
Учись!
Я учился добросовестно,— всякое дело надо делать
хорошо, коли взялся за него. Но я плохо преуспевал в
заманивании покупателей и в торговле; эти угрюмые мужики,
скупые на слова, старухи, похожие на крыс, всегда чем-то
испуганные, поникшие, вызывали у меня жалость к ним,
хотелось сказать тихонько покупателю настоящую цену
иконы, не запрашивая лишнего двугривенного. Все они казались
мне бедными, голодными, и было странно видеть, что эти
люди платят по три рубля с полтиной за Псалтирь — книгу,
которую они покупали чаще других.
Они удивляли меня своим знанием книг, достоинств
письма на иконах, а однажды седенький старичок, которого
я загонял в лавку, кротко сказал мне:
— Неправда это будет, малый, что ваша мастерская по
иконам самолучшая в России, самолучшая-то — Рогожина,
в Москве!
Смутясь, я посторонился, а он тихонько пошел дальше,
не зайдя и в лавку соседа.
— Съел? — ехидно спросил меня приказчик.
— Вы мне не говорили про мастерскую Рогожина...
Он начал ругаться:
— Шляются вот этакие тихони и все знают, анафемы,
все понимают, старые псы...
Красивенький, сытый и самолюбивый, он ненавидел
мужиков и в добрые минуты жаловался мне:
— Я — умный, я чистоту люблю, хорошие запахи —
ладан, одеколон, а при таком моем достоинстве должен
вонючему мужику в пояс кланяться, чтоб он хозяйке пятак
барыша дал! Хорошо это мне? Что такое мужик? Кислая
шерсть, вошь земная, а между тем...
Он огорченно умолкал.
Мне мужики нравились, в каждом из них чувствовалось
нечто таинственное, как в Якове.
Бывало, влезет в лавку грузная фигура в чапане,
надетом сверху полушубка, снимет мохнатую шапку,
перекрестится двумя перстами, глядя в угол, где мерцает
лампада, и стараясь не задевать глазами неосвященных икон,
потом молча пощупает взглядом вокруг себя и
скажет:
— Дай-ка-сь Псалтирь толковую!
Засучив рукава чапана, он долго читает выходной лист,
шевеля землистыми, до крови потрескавшимися губами.
— Подревнее нет?
— Древние тысячи целковых стоят, как вы знаете...
— Знаем.
386^
Помуслив палец, мужик перевертывает страницу,— там,
где он коснулся ее, остается темный снимок с пальца.
Приказчик, глядя в темя покупателя злым взглядом, говорит:
— Священное писание все одной древности, господь
слова своего не изменял...
— Знаем, слыхали! Господь не изменял, да Никон
изменил.
И, закрыв книгу, покупатель молча уходит.
Иногда эти лесные люди спорили с приказчиком, и мне
было ясно, что они знают писание лучше, чем он.
— Язычники болотные,— ворчал приказчик.
Я видел также, что, хотя новая книга и не по сердцу
мужику, он смотрит на нее с уважением, прикасается к ней
осторожно, словно книга способна вылететь птицей из рук его.
Это было очень приятно видеть, потому что и для меня
книга — чудо, в ней заключена душа написавшего ее; открыв
книгу, я освобождаю душу, и она таинственно говорит со
мною.
Весьма часто старики и старухи приносили продавать
древнепечатные книги дониконовских времен или списки
таких книг, красиво сделанные скитницами на Иргизе и
Керженце; списки Миней, не правленных Дмитрием
Ростовским; древнего письма иконы, кресты и медные складни с
финифтью, поморского литья, серебряные ковши, дареные
московскими князьями кабацким целовальникам; все это
предлагалось таинственно, с оглядкой, из-под полы.
И мой приказчик и наш сосед очень зорко следили за
такими продавцами, стараясь перехватить их друг у друга;
покупая древности за рубли и десятки рублей, они
продавали их на ярмарке богатым старообрядцам за сотни.
Приказчик поучал меня:
— Ты следи за этими лешими, за колдуньями, во все
глаза следи! Они счастье с собой приносят.
Когда являлся такой продавец, приказчик посылал меня
за начетчиком Петром Васильичем, знатоком
старопечатных книг, икон и всяких древностей.
Это был высокий старик, с длинной бородою Василия
Блаженного, с умными глазами на приятном лице. Плюсна
одной ноги у него была отрублена, он ходил, прихрамывая,
с длинной палкой в руке, зиму и лето в легкой, тонкой
поддевке, похожей на рясу, в бархатном картузе странной
формы, похожем на кастрюлю. Бодрый, прямой, он, входя в
лавку, опускал плечи, изгибал спину, охал тихонько, часто
крестился двумя перстами и все время бормотал молитвы,
псалмы. Это благочестие и старческая слабость сразу
внушали продавцу доверие к начетчику.
— В чем дела-то выпачканы у вас? — спрашивал
старик.
26*
387
— Вот икона продается, принес человек, говорит —
строгановская.
— Чего?
— Строгановская.
— Ага... Плохо слышу, заградил господь ухо мое от
мерзости словес никонианских...
Сняв картуз, он держит икону горизонтально, смотрит
вдоль письма, сбоку, прямо, смотрит на шпонку в доске,
щуря глаза и мурлыча:
— Безбожники никониане, любовь нашу к древнему
благообразию заметя и диаволом научаемы преехидно фаль-
шам разным — ныне и святые образа подделывают ловко,
ой, ловко! С виду-те образ будто и впрямь строгановских али
устюжских писем, а то — суздальских, ну, а вглядись оком
внутренним — фалына!
Если он говорит «фалына», значит—икона дорогая и
редкая. Ряд условных выражений указывает приказчику,
сколько можно дать за икону, за книгу; я знаю, что слова
«уныние и скорбь» значат — десять рублей, «Никон-тигр» —
двадцать пять; мне стыдно видеть, как обманывают
продавца, но ловкая игра начетчика увлекает меня.
— Никониане-то, черные дети Никона-тигра, все могут
сделать, бесом руководимы,— вот и левкас будто
настоящий, и доличное одной рукой написано, а лик-то, гляди,—
не та кисть, не та! Старые-то мастера, как Симон Ушаков,—
хоть он еретик был,— сам весь образ писал, и доличное и
лик, сам и чку строгал, и левкас наводил, а наших дней
богомерзкие людишки этого не могут! Раньше-то иконопись
святым делом была, а ныне — художество одно, так-то,
боговы!
Наконец, он осторожно кладет икону на прилавок и,
надев картуз, говорит:
— Грехи.
— Это значит — покупай!
Утопленный в реке сладких ему слов, пораженный
знаниями старика, продавец уважительно спрашивает:
— Как же, почтенный, икона-то?
— Икона — никонианской руки.
— Быть того не может! На нее деды, прадеды
молились...
— Никон-от пораньше прадеда твоего жил.
Старик подносит икону к лицу продавца и уже строго
внушает:
— Ты гляди, какая она веселая, али это икона? Это —
картина, слепое художество, никонианская забава,— в этой
вещий духа нет! Буду ли я неправо говорить? Я — человек
старый, за правду гонимый, мне скоро до бога идти, мне
душой кривить — расчета нет!
388
Он выходит из лавки на террасу, умирающий от
старческой слабости, обиженный недоверием к его оценке.
Приказчик платит за икону несколько рублей, продавец уходит,
низко поклонясь Петру Васильичу; меня посылают в
трактир за кипятком для чая; возвратясь, я застаю
начетчика бодрым, веселым; любовно разглядывая покупку, он
учит приказчика:
— Гляди: икона — строгая, писана тонко, со страхом
божиим, человечье — отринуто в ней...
— А чье письмо? ■— спрашивает приказчик, сияя и
подпрыгивая.
:— Это тебе рано знать.
— А сколько дадут знатоки?
— Это мне неизвестно. Давай, кое-кому покажу...
— Ох, Петр Васильич...
— А если продам — тебе полсотни, а что сверх того —
мое!
— Ох...
— Да ты не охай...
Они пьют чай, бесстыдно торгуясь, глядя друг на друга
глазами жуликов. Приказчик весь в руках старика, это ясно;
а когда старик уйдет, он скажет мне:
— Ты смотри не болтай хозяйке про эту покупку!
Условившись о продаже иконы, приказчик
спрашивает:
— А что новенького в городе, Петр Васильич?
Расправив бороду желтой рукой, обнажив масленые губы,
старик рассказывает о жизни богатых купцов: о
торговых удачах, о кутежах, о болезнях, свадьбах, об изменах
жен и мужей. Он печет эти жирные рассказы быстро и
ловко, как хорошая кухарка блины, и поливает их шипящим
смехом. Кругленькое лицо приказчика буреет от зависти и
восторга, глаза подернуты мечтательной дымкой; вздыхая,
он жалобно говорит:
— Живут люди! А я, вот...
— У всякого своя судьба,— гудит басок начетчика.—
Одному судьбу ангелы куют серебряными молоточками, а
другому — бес, обухом топора...
Этот крепкий, жилистый старик все знает — всю
жизнь города, все тайны купцов, чиновников, попов, мещан.
Он зорок, точно хищная птица, в нем смешалось что-то
волчье и лисье, мне всегда хочется рассердить его, но он
смотрит на меня издали и словно сквозь туман. Он кажется
мне окруженным бездонною пустотой; если подойти к нему
ближе — куда-то провалишься.
...Хотя приказчик в глаза и за глаза восхищается его
умом, но есть минуты, когда ему так же, как и мне, хочется
разозлить, обидеть старика.
389
— А ведь обманщик ты для людей,— вдруг говорит он,
задорно глядя в лицо старика.
Старик, лениво усмехаясь, отзывается:
•— Один господь без обмана, а мы — в дураках живем;
ежели дурака не обмануть — какая от него польза?
Приказчик горячится:
— Не все же мужики — дураки, ведь купцы-то из
мужиков выходят!
— Мы не про купцов беседу ведем. Дураки жуликами не
живут. Дурак — свят, в нем мозги спят...
Старик говорит все более лениво, и это очень
раздражает. Мне кажется, что он стоит на кочке, а вокруг него —
трясина. Рассердить его нельзя, он недосягаем гневу или
умеет глубоко прятать его.
Но часто бывало, что он сам начинал привязываться ко
мне — подойдет вплоть и, усмехаясь в бороду, спросит:
— Как ты французского-то сочинителя зовешь — Понос?
Меня отчаянно сердит эта дрянная манера коверкать
имена, но, сдерживаясь до времени, я отвечаю:
—- Понсон де Террайль.
— Где теряет?
— А вы не дурите, вы не маленький.
— Верно, не маленький. Ты чего читаешь?
— Ефрема Сирина.
— А кто лучше пишет: гражданские твои али этот?
Я молчу.
— Гражданские-то о чем больше пишут?—не отстает он.
— Обо всем, что в жизни случается.
— Стало быть, о собаках, о лошадях,— это они
случаются.
Приказчик хохочет, я злюсь. Мне очень тяжело,
неприятно, но, если я сделаю попытку уйти от них, приказчик
остановит:
— Куда?
А старик пытает меня:
— Ну-ка, грамотник, разгрызи задачу: стоят перед тобой
тыща голых людей, пятьсот баб, пятьсот мужиков, а между
ними Адам, Ева — как ты найдешь Адам — Еву?
Он долго допрашивает меня и, наконец, с торжеством
объявляет:
— Дурачок, они ведь не родились, а созданы, значит, у
них пупков нет!
Старик знает бесчисленное множество таких «задач», он
может замучить ими...
ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
ПРАВИЛА ДОБРА
(Отрывок)
...Вот начал благостный поп обучать добру непокорную
дьявольскую душу,— но тут-то и начались для обоих самые
тяжкие мучения.
Пробовал попик давать подробные наставления на
разные случаи жизни, и выходило хорошо, пока случаи
свершались в том самом виде и в том самом порядке, в каком
предначертал их его наивный ум. Не только со
старательностью, а даже и со страстью, проявляя силу воли
необыкновенную, черт выполнял предписанное. Но всего
многообразия жизненных явлений не мог уловить в свои
плохонькие сети человеческий ум, и ошибался черт ежеминутно.
В одном месте сделает, а рядом пропустит, потому что вид
другой и слова у просящего не те; а то бывает, что и вид
тот, и слова те самые, но либо какого-нибудь слова черт не
дослышит, либо не так поймет,— и опять ошибка, человеку
обида, а добру попрание. Уже и у попика начал мутиться
разум: никак он до тех пор не предполагал, чтобы столько
было у жизни лиц, темных загадок, вопросов
неразрешимых.
«И откуда это все берется? — думал попик, пока черт в
углу зализывал новую рану или тяжко вздыхал от
гнетущего бессилия. — То ничего не было, а то вдруг так все и
полезло, так все и полезло. Тут не только черт, а и
священнослужитель не разберется. Но как же я раньше
разбирался? — удивительно! Боюсь я этого, а ничего не
поделаешь: надо попробовать распространительное толкование.
Дам ему этакие общие законы, а он их пусть
распространяет... Только бы не вышло чего, о господи!»
И на распространительное толкование черт покорно
согласился: измучился он к этому времени до последней
391
крайности и готов был на всякие жертвы,— да не
принимались его жертвы. Били его столько, что за одно это он мог бы
попасть в мученики, а выходило так, что и побои не только
его не украшали, а налагали ярмо все нового и нового греха.
Ибо за дело его били, и не могли этого не признать ни он
сам, ни его великодушный покровитель. Уже и плакать черт
научился, а раньше совсем как будто и слез не имел.
Плакал он столько, что, казалось бы, за одни эти одинокие
слезы и неутолимую тоску о добре мог бы попасть он в
угодники, а выходило так, что и слезы не помогали, ибо не было
в них творческой к добру силы, а только грешное
уныние. Только и надежды теперь оставалось, что на
распространительное толкование.
И совсем приободрился черт и даже с некоторою
гордостью сказал попу:
— Теперь вы за меня, святой отец, не бойтесь: теперь я
и сам могу. Это раньше мне трудно было, а раз теперь вы
допускаете толкование, я уже не собьюсь. Ум у меня
положительный, твердый, пить я уж давно ничего не пью, и
никаких ошибок теперь уже быть не может. Только вы не
таитесь от меня, а прямо скажите самый важный и самый
первый закон, по которому жить. Когда этот закон исполню,
тогда вы и другие мне скажете.
Собрал всю свою науку, все свои соображения старый
попик, взглянул и в душу к себе,— вздохнул радостно и не
совсем решительно сказал:
— Есть один такой закон, но только боюсь я тебе его
открыть: очень он, как бы это сказать, опасен. Но так как
на все есть воля божия, то, так и быть, открою, ты же
смотри не промахнись. Вот, смотри.
И, раскрыв книгу, трепетно указал черту на великие и
таинственные слова:
Не противься злу.
Но тут и черта покинула его гордыня, как увидел он эти
страшные слова:
,., — Ох, боюсь,— сказал он тихо.— Ох, промахнусь я,
святой отец!
Было страшно и попу; и молча, объятые страхом,
смотрели друг на друга черт и человек.
— Попробуй все-таки,— сказал наконец поп. — Тут,
видишь ли, хоть то хорошо, что тебе самому ничего "делать не
нужно, а все с тобой будут делать. Ты же только молчи и
покоряйся, говоря: прости им, господр!, не ведают, что
творят. Ты эти слова не позабудь, они тоже очень важны.
Вот и ушел черт в новые поиски добра; два месяца
пропадал он, и два месяца, день за днем, час за часом, в волне-
392
нии чрезвычайном поджидал его возвращения старый поп.
Наконец вернулся.
И увидел поп, что черт совсем исхудал,— одна широкая
кость осталась, а от мяса и след пропал. И увидел поп, что
черт голоден, жаждет, до голого тела обобран
придорожными грабителями и много раз ими же избит. И обрадовался
поп. Но увидел он и другое: из-под закосматившихся
бровей угрюмо и странно смотрят старые глаза, и в них
читается все тот же непроходящий испуг, все та же неутолимая
тоска. Насилу отдышался черт, харкнул два раза кровью,
точно по каменной мостовой бочонок из-под красного вина
прокатили, посмотрел на милого попа, на тихое место, его
приютившее, и горько-прегорько заплакал. Заплакал и
попик, еще не ведая, в чем дело, и, наконец, сказал:
— Ну, уж говори, чего наделал!
— Ничего я не наделал,— печально ответил черт. — И
было все так, как и надо по закону, и не противился я
злому.
— Так чего же ты плачешь и меня до слез доводишь?
— От тоски я плачу, святой отец. Горько мне было, когда
я уходил, а теперь еще горше, и нет мне радости в моем
подвиге. Может быть, это и есть добро, но только отчего же оно
так безрадостно? Не может так быть, чтоб безрадостно было
добро и тяжело было бы его творящему. Ах, как тяжело
мне, святой отец. Присядьте, я вам расскажу все по
порядку, вы уж сами разберите, где тут добро,— я не знаю.
И долго рассказывал черт, как его гнали и били, морили
жаждою и грабили по пустынным дорогам. А в конце пути
случилось с ним следующее:
— Лежу я, святой отец, отлеживаюсь за камнем, что при
дороге. И вижу я: идут с одной стороны два грабителя, злых
человека, а с другой стороны идет женщина и йесет в
руках нечто, как бы драгоценное. Говорят ей грабители:
«Отдай!» — а она не отдает. И тогда поднял грабитель
меч...
— Ну! — вскричал попик, прижимая руки к груди.
— И ударил ее мечом грабитель и рассек ей голову
надвое, и упало на дорогу нечто драгоценное, и когда
развернули его грабители, то оказалось оно младенцем, единым
и последним сокровищем убитой. Засмеялись грабители, и
один из них, тот, что имел меч, взял младенца за ножку,
поднял его над дорогою.
— Ну! — дрожал поп...
— Бросил и разбил его о камни, святой отец!
Поп закричал:
•— Так что же ты! Так как же ты! Несчастный! Ты бы
его палкой, палкой!
— Палку у меня раньше отняли.
393
— Ах, боже мой! Ведь ты же черт, ведь у тебя же есть
рога! —ты его бы рогами, рогами! Ты бы его огнем серным!
Ведь ты же, слава богу, черт!
— Не противься злому,— тихо сказал черт.
Было долгое молчание.
Побледневший попик как стоял, так и пал на колена и
покорно сказал:
— Моя вина. Не ты, не грабители убили женщину и
ребенка,— я, старый, убил женщину и ребенка. Отойди же
в сторону, мой друг, пока я помолюсь за наш великий
человеческий грех.
Долго молился поп; окончивши молитву, разбудил
уснувшего черта и сказал ему:
— Не для нас с тобой эти слова. И вообще не нужно ни
слов, ни толкований, ни даже правил. Вижу я, что иногда
хорошо любить, а иногда хорошо и ненавидеть; иногда
хорошо, чтобы тебя били, а иногда хорошо, чтобы ты и сам
кого-нибудь побил. Вот оно, сударь, добро-то.
— Тогда я пропал,— решительно и мрачно заявил
черт.— Для себя вы как хотите, а мне дайте правила.
— А ты и опять промахнешься и меня подведешь: нет,
сударь, довольно! — Попик даже рассердился.— Нету
правил. Нету и нету.
— А раз правил нет, так и добра никакого нет.
— Что? Добра нет? А что я с тобою, с чертом,
разговариваю, что я тебя, черта, учу — это не добро? Поди, сударь,
неблагодарный ты это, как бы сказать, господин!
Но то ли озлобился черт, то ли вновь до отчаяния
дошел,— уперся мрачно и ворчит:
— То-то много вы меня научили, есть чем похвалиться!
— Да разве черта научишь?
— А раз черта не научишь, так чего же ваше добро
стоит? Ничего оно не стоит!
— Эй, прогоню!
— Прогоняйте, если не жалко. Я в ад пойду.
Помолчали. Черт спросил:
— Так как же, святой отец, идти мне в ад?
Даже прослезился попик: так жалобно спросил его черт;
и поклонился низко, говоря:
— Прости меня, миленький, обидел я тебя. А
относительно добра вот что я тебя спрошу: черт ты
любознательный, и во многих ты бывал храмах и хранилищах искусств,
и много ты видел творений великих мастеров, —нравятся
ли они тебе за красоту?
Черт подумал и ответил:
— Какие нравятся, а какие нет.
— А слыхал ли ты, чтобы для красоты были правила?
394
.— Какие-то, говорят, есть.
— Какие-то! А можешь ли ты, раскоряка, узнав сии
какие-то правила, сотворить красоту?
— Какой у меня талант? Нет, не могу.
— А добро без таланта творить хочешь? Тут, миленький,
для добра-то таланта требуется еще больше, да. Тут такой
талант нужен!..
Черт даже засвистал:
— Вот оно что! Нет, святой отец, это вы уж через край
хватили! Если я плохую картинку напишу, меня за это в ад
не пошлют, а если я ближнему голову сверну, так ведь
какой содом подымется! Да картинку-то меня никто писать и
не понуждает, а добро, говорят, твори. Твори,— а правил
не дают; твори,— а в чем дело, не объясняют, да за каждую
промашку в потылицу!
— Талант нужен, миленький!
— А если его у меня нет, так в ад мне и идти?
Поп покачал головою и руками развел:
— Уж и не знаю, голубчик, сам голову с тобою потерял.
— Знать не хочу вашего таланта! Правила мне давайте!
Я не картинки писать хочу, а добро творить,— вот вы меня
и учите, хоть сами выдумайте, а учите!
Совсем разбушевался несчастный дьявол, под конец
пригрозил даже пойти к другому попу. Старик даже обиделся
и укоризненно сказал:
— Вот уж это нехорошо, дружок! Сколько я на тебя
труда положил, вот, думал, приведу к богу новую овцу,
полюбил тебя, как сына, а ты хочешь к другому. У меня тоже
самолюбие есть, за что же ты меня обижаешь? Ты меня
лучше не обижай. А я тебе вместо правил, с которыми и
человеку-то опасно, дам урок на каждый день. Времени у
меня свободного много, и сяду я за труд: с самого раннего
утра очерчу тебе каждый день, сколько их есть в году, что
и как делать. Но только от писанного не отступай ни на
единую черточку, а то ты сейчас же промахнешься; если же
будут сомнения у тебя или что позабудешь, то в этих
случаях бездействуй. Как бы тебе это сказать: закрой глаза,
заткни уши и стой, как истукан. Нынче же сажусь за
работу, а ты иди наверх, приютись где-нибудь под крышей
и бездействуй, пока не скажу. Если же скучно будет, то
помогай звонарю,— он совсем у меня от старости
ослабел и не в те веревки дергает. Звони себе во славу
господню!
Вот и сел старый поп за свой великий труд, а черт начал
бездействовать. Для этой цели разыскал он среди темных
чердачных переходов, поблизости от колокольни, комнату
не комнату, а так помещение: четыре стены глухие, вместо
двери низкий сводчатый лаз, и только на одной стене,
395
высоко над полом, светлело глубокое, запыленное, крытое
паутиной оконце. Раз в два или три дня приносил ему попик
скудную пишу и присаживался для недолгой душевной
беседы, а в остальное время, никого не видя, черт
бездействовал и размышлял. Против этих размышлений напрасно
предостерегал его попик, говоря, что у дьявола его
размышления есть действие, и притом вредное,— черт хоть и
соглашался, но ничего поделать с собою не мог. Трудно было не
думать об испытанном, а как начнет думать, так и
покажутся со всех сторон мутящие разум противоречия:
скользит прекрасное добро, как тень от облачка над морской
водою, видится, чувствуется, а в пальцы зажать нельзя.
Кому же верить, как не богу, а сам бог нынче одно говорит,
завтра другое, а то и сразу говорит и то и другое; в каждой
руке у него по правде, и на каждом пальце по правде, и
текут все правды, не смешиваясь, но и не соединяясь,
противореча, но где-то такое в своем противоречии странно
примиряясь. Но где? — не может найти этого места
несчастный черт. И от этого овладевает им крайний человеческий
ужас, и страшно не только двинуть рукою, да и вздохнуть-
то страшно.
— Ну, как,— спрашивает попик,— соскучился? Ничего
не поделаешь, потерпи, миленький, скоро, авось, и кончу,
тогда вот как заживешь. Здоровье у меня только плохое, и
смерть близко,
— Ну, уж как-нибудь доведу, не оставлю тебя, сирого.
Черт еле слышно шепчет:
— Противоречия.
— Опять! — ужасается попик.— И где ты их только
находишь? Это в разуме, брат, да в словах всякие
противоречия, так на то он и разум, и не может без того, чтобы все
четыре колеса не в одну сторону вертелись; а в совести, брат,
все течет согласно.
Черт криво усмехнулся:
'•— Хорошо вы говорите, святой отец: так, значит, не
бывает, что три колеса в одну сторону вертятся, а четвертое
в другую?
— Ну, и дурень! Конечно, не бывает.
— А вы говорите, что бывает.
— Я говорю?. Да что ты на меня, миленький, валишь?
Сам запутался, а на меня валишь. У меня и то после
каждого разговора с тобою голова болит, а мне голова нужна, я
для тебя же, дурака, работу сочиняю. Какой ты, брат,
неприятный, как бы это сказать, господин. Лучше скажи-ка:
строго бездействуешь или допускаешь послабления?
Черт угрюмо вздохнул.
— Строго. Вчера вот только муху убил, очень она на
лицо липла, и не знаю, можно это или нельзя?
396
— Муху-то? — засмеялся попик.— Муху можно!
Постой... Ну, вот и опять сбил ты меня, несчастный: то ли
можно, то ли нет — теперь уж и сам не знаю. Не взыщи,
брат: сам меня запутал. Пока ты меня не спрашивал об
мухе,— знал я хорошо, что бить их можно, и неоднократно
бил, а вот теперь...
— Живая она,— мрачно сказал черт.
— Да, да, живая! — огорчился попик.— Так и я, значит,
живых мух бил? Вот грешник! Ай-ай-ай, вот грешник!
Но черту этого мало. Ему нужны вывод и твердое
решение.
— Значит, нельзя бить мух? Вы прямо скажите.
— Мух-то? — недоумевал попик.— Ты про мух
говоришь?
И до того, случалось, они договорятся, что оба впадут в
полное одурение и долго, не мигая, смотрят друг на друга.
Но только у черта одурение было надменное и как бы
снисходительное, а у попика тихое и скоропреходящее: еще до
своей келейки после разговоров не успеет дойти, как все
противоречия забыл, развеселился, а потом в благостном
настроении уселся за тяжелую для дьявола работу. И мух
опять бьет, и даже не без злорадства.
Но что за муки для дьявола! Стоит он со своею
непомерною дьявольскою силой, готовый сокрушить горы, и не
знает, как поступить с ничтожной мухой, надоедливо
ползающей по мрачному, изборожденному лицу, еще хранящему
темный отблеск адских неугасимых огней. Что за муки для
дьявола! Тонкий ум, изощренный в упражнениях,
способный одним колебанием своим создать как бы новый, великий
ум, в ужасном бессилии останавливается перед
ничтожнейшим вопросом. А муха ползает, а муха надоедливо жужжит,
забирается в волосатое ухо, глупо и нагло щекочет мрачно
стиснутые губы, бесстыжая, нелепая, даже не
подозревающая о тех страшных безднах, над которыми издевается
бессмысленно! Многих и многого ненавидел дьявол; много
и много он страшился, но так и не узнала его душа образа
более ненавистного и страшного, нежели образ ничтожной
мухи, ползающей по лицу.
Но все хуже здоровье попика, одолевает его белая
старость. Попишет немного и полежит, и больше лежит, чем
работает, а уже три года томится заключенный в
бездействие дьявол и ждет обещанного добра. Поняв свою выгоду,
уже не тревожит попика противоречиями, а только
жалобно торопит:
— Ах, поскорей бы, святой отец!
— Не бойсь, миленький, не умру,— успокаивает его
попик.— По моему расчету мне еще с полгодика осталось. Да,
397
брат, с по л го дика! А работа уже к концу подходит. Не
пугайся, не волнуй себя. А я тебя сегодня как раз порадовать
пришел: нынче одного еретика жечь будут, так пойдем с
тобою, посмотрим, повеселимся.
«Сказано: не убий»,— мрачно подумал черт, глядя на
улыбающегося попика, но вслух ничего не сказал и охотно
собрался в путь, так как очень соскучился от долгого
заключения.
Еретика долго жгли, и народ радовался. Приятно было
и черту: немного напоминало ад; но вдруг вспомнилась муха,
которой он не смел тронуть, и сразу затрещали в голове
противоречия. Взглянул с тоскою на попика: тот покачивается
от слабости, от волнения бледен, дрожат старческие руки,
на голубеньких глазах слезы, а весь лик радостен и
светится неземным светом. Жгли в аду и черти, но не было
же святости в их лице! Ничего не может понять
обезумевший дьявол. А попик-то радуется, даже светится весь! И от
волнения, как только домой пришли, в постель слег, ослабел
очень от радости. Не выдержал черт и, насупившись,
вступил в диспут:
— Хотел бы я знать, чему вы радуетесь, святой отец?
— А как же? Еретичка сожгли! — ответил попик тихо и
умильно.
— Так ведь сказано же: не убий! А вы человека убили и
радуетесь.
— Никто его не убивал, что ты, миленький!
— Да ведь сожгли же его или нет?
— Слава богу, сожгли, сожгли, миленький!
Даже глаза закрыл от умиления и лежит себе, такой
беленький, чистенький, невинный, как младенец. «Неужто и
здесь противоречие только в разуме да словах, а в совести
его все течет согласно? — думал дьявол, беспомощно
потирая рукой шишковатый лоб.— Ничего не понимаю! Видно,
не в том добро, что делать, а в том, как делать... Нет, ничего
я не понимаю, пусть он пишет свои уроки, а я уж до времени
притаюсь, пальцем не шевельну!»
И с того времени в одиночество свое уже не
возвращался, а остался при ослабевшем старце в качестве
прислужника: подавал ему пишу, убирал келейку и с
дьявольской силой и упоением чистил старое попиково платье,
будучи уверен, что уж здесь-то наверное греха нет. Когда же,
превозмогая слабость, садился поп за продолжение своего
труда, черт вытягивал свою длинную, жилистую шею и
через плечо с жадным любопытством заглядывал: ох, не
промахнуться бы попу! Ох, не подвести бы ему несчастного
черта: ведь последняя надежда.
Но вот и кончена рукопись, а с нею как будто кончена и
жизнь старенького попа. Уже не поднимается он с постели
398
и последние строки начертал лежа: неразборчивы они и
кривы, но тем дороги, что последние. На коленях принял
черт великий дар и громко, с истинным наслаждением
поцеловал сухую руку.
— Что, рад небось?.— спросил попик.— Ну, радуйся,
радуйся, давно пора. Только смотри опять не промахнись.
— Теперь не промахнусь,—уверенно ответил черт.—Если
только вы там в чем-нибудь не промахнулись, но это уж
ваше дело; а я буду исполнять точно, как сказано.
— Черт ты старательный, это верно. И рукопись смотри
не потеряй, другой не будет. Где ты думаешь подвизаться?
Если поблизости, то загляни как-нибудь, навести, мне без
тебя будет скучно. Привык я к тебе, дружок. Прежде я все
твоему носу удивлялся, а теперь, знаешь ли, мне даже и
нос твой нравится. Это ничего, что он отвислый: у многих
людей бывают отвислые носы. Так где ж ты думаешь
подвизаться?
— Пойду по всему миру! — самонадеянно ответил черт.—
Эх, пожили бы вы еще с полгодика,— много тогда хорошего
рассказал бы я вам, святой отец! Вот до чего я хочу творить
добро,—: черт сжал огромные кулаки и яростно потряс ими,—
что это только видеть надо, как я начну работать!
Так и ушел черт в ликовании, но вот что дальше
случилось. Вместо того, чтобы сразу начать действовать по
наставлениям, что, конечно, было бы самое лучшее, он
отправился в ад для проповеди. Потерял ли он соображение от
радости, гордыня ли его обуяла и захотелось похвастаться
перед своими, или просто потянуло его к родным местам,—
но только от попика прямою дорогою, нимало не колеблясь,
полетел он в ад. И что же вышло? Только начал он
проповедовать, а другие черти выскакивают вперед его и тоже
проповедуют и даже с еще большей силой, так как свободно
лгут. И в одно мгновение вся правда превратилась в ложь, и
самые святые слова, яростно выкликаемые чертовскими
глотками, приняли непристойный и страшный вид. Минуты,
кажется, не прошло, а уж весь ад наполнился
проповедниками и святыми; и вперед всех, обрадованный новой
потехой, гнусавил псалмы вдребезги пьяный сатана. Визгливые
истасканные ведьмы разыгрывали целые комедии на тему
о благочестии и высоких подвигах; и никогда еще ад, даже
в большие свои праздники, не был таким адом, как в этот
несчастный день! А потом начались откровенные
непристойности и всеобщая драка,— и больше всего попало
Носачу, давно не упражнявшемуся и в значительной
степени потерявшему ловкость. Но что самое печальное,—
в драке у него порвали рукопись, и когда, отбившись от
стаи шаловливых ведьм, он взглянул на свое сокровище,—
горю и стенаниям его не было предела.
399
В ярости он оскорбил самого сатану, назвал его лжецом
и еле унес ноги: так разгневался пьяный оклеветанный
владыка!
Со всею прытью, какая только доступна была его старым
ногам, прижимая к груди истерзанную рукопись, примчался
Носач к старенькому попику, но — увы! — попик уже
умирал.
— Да погодите же минутку! — у меня рукопись
порвали! — завопил черт, падая на колени.
Ill
Еще с добрый десяток минут, не сообразившись, вопил
черт и жаловался, и требовал новой рукописи, взамен
попорченной, потом стих и, бережно отложив рукопись, сам
опустился на пол у поповской постели. После долгого
молчанья разжал попик сухие, запавшие губы, бессильно
пожевал ими и с трудом вымолвил:
— Опять промахнулся?
Черт мрачно взглянул на истерзанную рукопись и
великодушно солгал:
— Так, пустяки, святой отец/ Мне вас жалко: вы и
вправду умираете или еще с полгодика поживете?
Попик ответил:
— Ни единого даже дня, дружок. Я уже вчера собирался
умереть да думаю: дай подожду денек — авось и ты
придешь. Вот ты и пришел! Спасибо тебе, дружок. Открой мне,
пожалуйста, занавес на окне: хочу я последним взглядом
проститься с дорогими местами.
Но в. открытое окно только и видно было, что угол
крыши, крытый красной черепицей, да уголок синего неба с
проходящим облаком. Попик смотрит с радостью, а черт
думает: «На что он смотрит?.. Тут и смотреть не на что:
красная крыша да неба кусочек... Или он на облачко
смотрит? Так понесу же я его на колокольню и покажу ему все
облака, какие будут, и все красные крыши его возлюбленной
Флоренции».
Так и сделал. Даже не спрашиваясь, подхватил он на
свои жилистые руки сухонькое тельце, не оказавшее
сопротивления, и с величайшею осторожностью донес до высокой
площадки, где дух захватывало от высоты и сердце
радовалось красоте города и божьего мира.
— Смотрите-ка, святой отец: это не то, что из окошка,—
сказал он с гордостью.
И оба стали смотреть и радоваться. А уже близилось к
закату солнце, и по ту сторону Арно на высоком холме
чернели кипарисы, готовые своими острыми вершинами как бы
пронзить падающее светило. На востоке же, откуда сегодня
400
утром поднялось ликующее солнце, воздушной цепью
залегли недалекие горы; и мнилось, будто гигантскими
гирляндами благоухающих сиреневых цветов опоясан
прекрасный город. Розовыми цветочками казались далекие виллы,
расположенные по склонам, и в ущельях прохладно синела
вечерняя тень.
Попик тихо радовался и вспоминал.
— Вон за теми горами я родился, дружок. Там и сейчас
находится моя деревня; там была прекрасная девушка,
которую я полюбил и оставил для бога. И долго не было для
меня иной радости, как смотреть на те далекие горы и тихо
вздыхать. Давно это было, дружок, не помню когда.
Солнце заходило.
— А вот и милый город, по которому я ходил, много
ходил. И нет, дружок, более приятного чувства, как ощущать
под ногою горячие, родные плиты,— как бы матерью
становится земля, когда походишь по ней лет семьдесят, и
смягчается твердость острого камня. Но там, куда я пойду
сейчас, будет еще лучше, дружок.
Черт вздохнул, колебанием груди своей приподняв
легонькое тело. Попик понял его тоску и сказал гаснущим
голосом.
— Ты... не вздыхай. Очень возможно, дружок, что ты
также пойдешь со мною в рай. Ты... черт старательный.
Красною, жаркою кровью разбрызгалось солнце за
черными кипарисами и погасло. И, не отстав от него ни на
единое мгновение, умер старенький попик, ушел из родного
города, покинул родимую прекрасную землю. Долго и напрасно
будил его встревоженный черт, взывал грубым голосом:
— А звезды-то! Вы еще звезд не посмотрели, святой
отец. Вы еще на луну не взглянули, а уже идет она, святой
отец, поднимается, вот-вот бледным светом ляжет на ваши
родные плиты. Откройте же глаза, святой отец, и взгляните,
умоляю вас!
Когда же убедился, что покровитель его и друг умер
навсегда, то отнес его и положил на холодную постель. И
когда нес по лестнице, то думал: «Вот вверх я нес живого, а
вниз несу мертвого!» И великая скорбь овладела душой
дьявола; метался он по комнате, и вопил, выл, как зверь,
бился о стены,— не привык он к человеческому горю и не
умел выражать его тихо. И до того дошел, что, схватив свое
единственное сокровище, цель долгих поисков и
страданий,— изорванную рукопись,— с яростью швырнул ее в
угол, как нечто негодное. Сделав же это, так и не понял, что
именно в эту самую минуту им и совершалось то самое
таинственное и недостижимое добро, имени которого он столь
тщетно и мучительно доискивался. Так и не понял никогда!
26 Против тьмы
401
Но какой неприятный вид имела драгоценная рукопись!
Измятая, оборванная, растрепанная, испятнанная потными
лапами чертей, лежала она перед угрюмыми глазами
постаревшего дьявола, вновь вернувшегося к своим стремлениям
Экстаз и монашеская дисциплина
Английская гравюра
и надеждам. С трепетом раскрыл он первую страницу и
надолго погрузился в изучение добродушно неразборчивых
старательных строк. И по мере того, как читал, все больше
таращил глаза, пугался, недоумевал, пока, наконец, с
последнею страницею весь не превратился в одно сплошное
недоумение и страх. Даже в самые тяжелые минуты жизни
черт не имел такого растерянного и глупого вида, как теперь.
Что это — глумление? Насмешка над добром?
Издевательство над бедным чертом, стремящимся к добродетели?
Или же потерял свой последний разум старенький попик и
402
с детской серьезностью лепечет наивные пустяки, придает
характер важности ничтожным мелочам, путается в них, как
в длинном, не по росту, платье? Но черт обманут,— чёрт в
неистовстве и страхе: потеряна последняя надежда.
Вся книга, с начала своего до последней оборванной
страницы, состояла из коротеньких деловых рецептов,
точнейшего описания тех действий, которые надо совершать по
дням недели, по часам дня. И ни единого закона, ни единого
правила, ни единого общего начала,— даже самое слово
«добро» не упоминалось ни разу. Делай то-то (точное
описание поступка),— и больше ничего. Что-то вроде нынешних
поваренных книг, с тою только разницей, что даже и в
поваренных книгах у составителей их видно иногда старание
дать общее начало: ешь только овощи, а мяса ни в каком
случае не ешь! А тут — ничего.
И что особенно и больно укололо черта: во всей книге
не было ни одной из тех прекрасных истин, что в таком
огромном количестве собраны за тысячи лет существования
человеческого разума и служат к украшению и
прославлению добра. Он сам знал их немало и мог, казалось бы,
ожидать, что старенький поп не поскупится на этот предмет,—
недаром же он столько учился и так прекрасно чувствовал
добро. Но нет ничего! Сухой перечень голых действий,
иногда тщательно зализанная клякса, свидетельствующая
только о трудолюбии писавшего,— и все.
Но вдруг появилась надежда: может быть, попик нарочно
не сделал общих выводов, предоставляя это уму и
трудолюбию самого черта — о, он был достаточно хитер, этот
старый, невинный попик! И снова садится старый черт за
работу и вглядывается в каждое слово сквозь круглые
огромные очки, выписывает, сверяет, грубыми пальцами ловит
тонкую нить неназванного добра. Обрывается нитка,— но
что до того старательному черту, возлюбившему добро!
Отыскивает концы, вяжет хитрые узелки, путает и
распутывает, складывает и вычитает,— вот-вот доберется до итогов,
твердо и на все времена и для всех людей, какие были, есть
и будут, установит неизменные начала добра. Черт не
честолюбив, сейчас ему дело только до своей шкуры, но минутами
овладевает им истома гордости: не для всех ли ищущих
добра работает он так неутомимо, не ему ли некогда
воздвигнется новый и великолепный храм?
Какими же словами можно описать отчаяние и
последний ужас несчастного дьявола, когда, подведя последние
итоги, не только не нашел в них ожидаемых твердых
правил, а наоборот, и последние утратил в смуте жесточайших
противоречий. Подумать только, какие сказались итоги:
когда надо,— не убий; а когда надо,— убий;
когда надо,— скажи правду; а когда надо,— солги;
26*
403
когда надо,— отдай; а когда надо,— сам возьми, даже
отними;
когда надо,— прелюбы не сотвори; а когда надо,— то и
прелюбы сотвори (и это советовал старенький поп!);
когда надо,—жены ближнего не пожелай; а когда надо,—
то и жену ближнего пожелай, и вола его, и раба его.
И так до самого конца: когда надо... а когда надо,— и
наоборот. Не было, кажется, ни одного действия, строго
предписанного попиком, которое через несколько страниц не
встречало бы действия противоположного, столь же строго
предначертанного к исполнению; и пока шла речь о
действиях, все как будто шло согласно, и противоречий даже
не замечалось, а как начнет дьявол делать из действия
правило,— сейчас же ложь, противоречия, воистину безумная
смута. И самое страшное и непонятное для дьявола было то,
что наряду с действиями положительными, согласными с
известным уже дьяволу законом и, стало быть, добрыми,—
старый попик с блаженным спокойствием- предписывал
убийство и ложь. Черт никак не мог допустить, что не попик
его обманывал, а обманывают слова; и вот наступил для
него миг совершенного безумия,— вдруг показалось, что
старый попик есть не кто иной, как самый величайший
грешник, быть может, сам сатана, в виде сатанинской забавы
пожелавший искусить черта.
Забившись в темный угол, черт горящими глазами
глядел на дверь и думал:
«Да, да, это он! Он узнал, что я хочу добра, и нарочно
оделся попом и даже богом, как я оделся человеком,— и
погубил меня. Никогда не узнаю я правды и никогда не
пойму, что такое добро. Быть же мне вовеки несчастным и в
жажде добра вовеки неудовлетворенным. Проклят я
вовеки».
И все ждал, что раскроется дверь и покажется
смеющийся сатана и, простив, позовет его в ад. Но не приходил
сатана, и дверь молчала; и, подумав, так решил несчастный
старый черт:
«Буду жить в отчаянии и творить предписанное, никогда
не зная, что я такое творю. Проклят я вовеки!»
Так и жил черт, стараясь. Когда требовалось
рукописью,— спасал, а когда требовалось убивать,— убивал.
И было ли противоречие только в словах, а в действиях
все уживалось согласно, но постепенно наступил для черта
покой, ц почувствовал он даже как бы некоторое
удовлетворение. И хоть и верил твердо, что проклят вовеки,
но настоящего живого огорчения от этого не испытывал;
и о добре перестал думать. Но были для него и черные
дни,— обрывалась рукопись, и в зияющей пустоте
вставал ужасный образ бездействия; и поднимали голову
404
ядовитые сомнения и, как призрак манящий, звало в
неведомую даль неведомое Добро.
Тогда удалялся черт в свой темный чердачный угол и
там застывал в бездействии. Заложив уши, чтобы ничего не
слышать, закрыв глаза, чтобы ничего не видеть, стоял он,
черный, подобно истукану; и были крепко сложены на груди
жилистые руки, способные сокрушить горы и
обреченные на бездействие. Стар уж он был в это время; завивали
голову космы седых волос, лезли из широких ноздрей,
мшистым кровом крыли и лицо, и грудь, и застывшие руки;
и увидя его, не подумал бы ты, что это некто живой,
обреченный на страдания, а сказал бы: вот и еще одна старая
колонна в храме, которой я раньше не заметил. Ползали по
лицу его мухи, серая пыль ложилась на голову, и пауки
неторопливо плели на нем свои тенета,— и время стояло
неподвижно, как проклятое.
...Кто не любит добра?
С. СТАЛЬСКИЙ
МУЛЛЫ
(Отрывок)
Про ваш обычай я спою,
Примите мой рассказ, муллы.
И повесть слушайте мою,
Не закрывая глаз, муллы.
Когда зерно сбирает люд,
Вы у амбаров тут как тут.
И часть десятую дают
Не вам ли про запас, муллы?
Где сбор для бедных — без помех
Себе присвоите успех.
Садитесь к плову ближе всех,
Везде поспев как раз, муллы.
Не помнит бедняков мулла,
А совесть у него бела.
Но ваши мысли и дела
Я знаю без прикрас, муллы.
Вам только б пищу повкусней,
Да тишину — ведь вы умней
Хотите быть простых людей
Не всем ли напоказ, муллы?
Лишь урожаю вышел срок,
Забыв уроки, поволок
Мулла к себе домой мешок —
Хитрее всех пролаз муллы.
406
Вы летом задаете тон,
Предчувствуя со всех сторон
Поминки после похорон,
И не щадите фраз, муллы.
Нет правды у муллы в очах —
Вы только зависти очаг,
Под землю положив рычаг,
Взорвать хотите нас, муллы.
На даровой и жирный плов
Мулла спешит без лишних слов.
Покушал плотно и готов,
И слышен храп тотчас муллы.
В стакане дна вам не видать:
В стакане сахар — благодать!
Я, Сулейман, не стану лгать —
Такая жизнь у вас, муллы.
ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ
МЕЛАМЕД БОЙАЗ
1
— То, что я пережил в тот день, когда мать взяла меня
за руку и отвела в хедер к меламеду 1 Бойазу, чувствует,
вероятно, малый цыпленок, когда его несут к резнику.
Бедный цыпленок дрожит весь, трепещет. Понимать-то он
не понимает, но чувствует, что тут дело, пахнет не просом,
а чем-то другим... Недаром мать меня утешала, говорила,
что добрый ангел сбросит мне грош с потолка, недаром
подарила она мне целое яблоко и поцеловала в лоб, недаром
просила Бойаза, чтобы он обращался со мною помягче, бога
ради помягче, потому что «дитя лишь недавно болело
корью».
Так сказала мать, показав рукой на меня, словно
передавала Бойазу дорогой хрустальный сосуд, с которым надо
обращаться очень осторожно, не то он разобьется.
Довольная, счастливая, ушла мать домой, а «ребенок,
недавно болевший корью», остался один. Я сначала немного
поплакал, но потом вытер глаза и возложил на себя иго
«прилежания и благочестия», поджидая доброго ангела,
который вот-вот сбросит мне грош с потолка.
Ох, уж этот добрый ангел! Ну и добрый ангел! Лучше
бы уж мать и не напоминала о нем. Потому что, когда Бойаз
подошел ко мне, схватил меня своей жесткой волосатой
рукой и толкнул к столу, мне уже тошно стало до обморока.
Когда же я задрал потом голову к потолку, я сразу же
получил изрядную нахлобучку от ребе. Он дернул меня за
ухо и крикнул: «Негодяй, куда смотришь?»
Ребенок, только «недавно болевший корью», конечно,
расплакался: «ма-ма!» — и тогда лишь по-настоящему
узнал вкус учительской розги: «Не смотри, куда не следу-
дует!»... «Не реви, как теленок,—ма-ма!»...
1 Меламед — учитель в еврейской школе.— Ред.
:>408
2
Метод учителя Бойаза был очень прост: розги. Почему
именно розги? Он объяснял это путем логики и приводил в
пример лошадь. «Почему лошадь бежит? Потому что боится.
Чего лошадь боится? Кнута. Точно так же с детьми.
Ребенок должен бояться: бояться бога, бояться ребе, бояться
родителей, бояться греха, бояться дурной мысли... А для
того, чтобы ребенок всегда боялся, надо ему отстегнуть
штанишки, положить его как полагается и всыпать десятка
два горяченьких: березовая каша—'пища наша. Да
здравствует розга! Да здравствует плеть!»
Так говорит Бойаз и берет в руки плетку, берет медленно,
не спеша, осматривает ее со всех сторон, словно
священный цитрус, потом принимается за работу серьезно, с
толком; при этом он подпевает и покачивает головой:
«Березовая каша —
Пища наша».
Чудеса — да и только! Бойаз никогда не считает розог и
никогда не ошибается. Бойаз порет и никогда при этом не
сердится. Бойаз вообще человек не сердитый; он сердится
только тогда, когда мальчик не дает себя пороть, рвется из
рук, дрыгает ножками. Тогда, видите ли, уж дело другое.
Тогда глаза у него наливаются кровью, и он порет без счета
и без припева: «Мальчик должен лежать спокойно, когда
ребе его порет. Мальчик должен вести себя прилично, даже
когда его порют...»
Сердится еще Бойаз, когда мальчик смеется под розгами
(есть такие ребята, которые смеются, когда их порют,
говорят, это такая болезнь). Смех для Бойаза самое нестерпимое.
Бойаз сам никогда не смеется и не терпит, когда другие
смеются. Можно смело обещать самую крупную награду
человеку, который заверит честным словом, что видел, как
Бойаз смеется. Бойаз не из тех людей, что смеются. Его
лицо и не приспособлено к этому. Если бы Бойаз вздумал
смеяться, лицо у него выглядело бы хуже, чем у человека,
который плачет (бывают же такие лица на свете!). Да и в
самом деле, что это за занятие — смех? Смеются одни
бездельники, пустоголовые, шуты гороховые. Но люди, занятые
добыванием хлеба насущного, возложившие на себя иго
«прилежания и благочестия»,— им некогда смеяться! Бой-
азу всегда некогда. Он либо учит, либо порет,— вернее, он
учит, не переставая пороть, и порет, не переставая учить;
вообще трудно отделить одно от другого и указать, где у него
кончается ученье и где начинается порка.
А порол нас Бойаз, да будет вам известно, всегда по
заслугам. Причина всегда находилась: за то, что не учились
409
прилежно, за то, что не желали молиться, за то, что не
слушались родителей, ребе, за то, что не смотрели в книжку,
отвлекались от книжки, за то, что слишком торопливо
молились, слишком медленно молились, слишком громко
говорили, слишком тихо говорили, за оборванный лацкан, за
пуговицу, за дыру, за царапину, за грязные руки, за пятно
на молитвеннике, за лакомство, за бегство, озорство и так
далее и так далее, без конца.
Это он все порол за грехи, «содеянные на виду у всех».
Но он порол еще и за грехи, «содеянные втайне», как,
например: он порол ка1ждую пятницу, в канун праздников и
перед каникулами и пояснял это так: «Если вы этих розог еще
не заслужили, то вы их, с божьей помощью, заслужите в
будущем». А то выпорет потому, что кто-либо, свой или
чужой, хотел вам услужить и пожаловался ребе; или порол
и намекал при этом: «Ты, верно, и сам знаешь, за какие
добрые дела - тебя порют». А то выпорет из любопытства:
«Ну-ка, посмотрим, как ведет себя мальчик под розгой»...
Одним словом, розги, плетка, страх и слезы — вот что
властвовало тогда в нашем маленьком, глупом детском мирке, и
не было ни способа, ни средства, ни луча надежды на выход
из этого ада.
А добрый ангел, о котором говорила мать? Где он, этот
добрый ангел?
3
Должен признаться: по временам у меня закрадывалось
сомнение в существовании доброго ангела. Искра недоверия
слишком рано закралась в мою детскую душу. Слишком
рано стал я подумывать о том, что, видимо, мать обманула
меня. Слишком рано я познакомился с чувством, имя
которому «ненависть». Слишком, слишком рано возненавидел я
своего ребе Бойаза.
Да и как его не ненавидеть? Как тут не ненавидеть ребе,
который не дает и голову поднять: «Этого нельзя!», «Там не
стой!», «Туда не ходиЬ>, «С тем не говори!»... Как не
ненавидеть человека, у которого нет ни капли жалости, который
испытывает удовольствие при виде чужих страданий,
который купается в чужих слезах, пьянеет от чужой крови?..
Что уж, кажется, может быть позорнее порки? Что может
быть унизительней, чем стоять в углу раздетым догола, в
чем мать родила? Но Бойазу этого мало. Бойаз требует от
тебя, чтоб ты сам разделся, сам скинул штанишки, сам,
извините за выражение, задрал рубашонку на голову, сам лег,
тысячу раз прошу извинения, лицом вниз, а остальное уж
Бойаз сам сделает:
«Березовая каша —
Пища наша».
410
Не один Бойаз порол, ему помогали его помощники,
«певчие», как он их называл. Конечно, под наблюдением
Бойаза, чтобы они, упаси бог, как-нибудь не пропустили ни
одной розги. «Поменьше науки, побольше плетей»,— говорил
Бойаз и объяснял эту теорию путем логики: «От излишних
занятий тупеют способности, а лишняя розга вреда не несет.
Ибо,— говорил Бойаз,— давайте рассудим: наука,
преподаваемая ребенку, направляется прямо в мозги, посему она
вызывает смятение в мыслях и дурманит голову; а плети —
наоборот: пока удары передаются от задней части через все
тело в голову, они очищают кровь и проясняют мысли —
теперь вы уже поняли?..»
И Бойаз не переставал очищать нашу кровь и прояснять
нам мозги.
Увы! Мы уже больше не верили в доброго ангела, что
приходит с неба. Мы уже уразумели, что это была выдумка,
сказка, чтобы заманить нас к Бойазу в хедер, и мы уже
начали вздыхать и сокрушаться над нашими муками,
негодовать и изыскивать средства, как бы «избавиться от этого
тяжкого ига.
4
В сумрачные минуты, между днем и ночью, когда
красное огненное солнце на целую ночь прощается с темной
остывшей землей; в сумрачные минуты, когда веселый,
звонкий день уходит и на его место тихими шагами
приближается грустная, тихая ночь со своей печальною, тихою
тайной; в сумрачные минуты, когда тени взбираются по
гладким стенам, растут вдоль и вширь; в сумрачные
минуты, когда наш ребе уходил в синагогу, а его жена
возилась с козой, с кувшинами, полными молока, или занята
была у котла с борщом,— тогда мы, детвора, собирались все
вместе в хедере, за печью, усаживались на полу, поджав под
себя ноги, сбивались в кучу, как стадо невинных ягнят, и
там, в темноте, толковали о нашем страшном губителе,
нашем ангеле смерти — Бойазе. Мальчики повзрослее, из
старшей группы, которые учатся у Бойаза уже не первый год,
рассказывают о нем ужасные вещи, клянутся всеми
клятвами, что Бойаз уже не одного из ребят запорол насмерть,
что Бойаз трех жен уже в гроб вогнал, что он уморил своего
единственного сына, и тому подобные дикие истории, от
которых волосы становились дыбом.
Старшие мальчики рассказывают, а младшие слушают,
слушают со вниманием. Черные глазки блестят в темноте,
детские сердца трепещут и мы приходим к решению, что у
нашего ребе Бойаза нет души, что это человек без души, а
такой человек подобен зверю, хищнику, уничтожить кото-
411
рого сам бог велел... Тысячи планов, тысячи наивных
детских планов рождаются в наших детских головах, как
избавиться от этого изверга. Глупенькие дети! Эти наивные
детские планы лежали глубоко затаенные у каждого в душе.
Мы молили бога о чуде: сгорел бы, например, хедер, унес
бы плетку нечистый или, или ребе... Но эту последнюю
мечту мы боимся высказать. Воображение у ребят
работает, фантазия разгорается, и мечтания, чудесные,
сладостные мечтания возникают наяву: как бы вырваться на волю,
побежать с горы вниз, поболтать босыми ногами в воде,
поиграть в лошадки, перескочить через плетень — добрые,
сладостные, глупые мечтания, которым не суждено
осуществиться; потому что вот уже слышен знакомый кашель
знакомого нам человека, стук знакомых каблуков, шлепа-
ние знакомых штиблетов, и у нас стынет кровь, цепенеет,
замирает все тело. Мы снова садимся за священное писание,
за служение всевышнему, за уроки и молитву, с такою же
точно охотой, как идут на эшафот, на виселицу. Мы
занимаемся, а наши уста шепчут: «Господи, владыка мира,
придет ли желанный конец этому фараону, этому Аману ',
этому Гогу-Магогу? Придет ли когда-нибудь время, когда
мы будем избавлены от этого тяжкого мрачного ига? Нет,
никогда! Никогда! Никогда!»
Вот к каким мыслям приходили мы — невинные,
глупые дети.
1 Аман — нарицательное имя злодея.— Ред.
А. С. НЕВЕРОВ
СТАРЫЙ И НОВЫЙ СТИЛЬ
И надо же случиться такому греху: в селе Куприяновке
два попа поругались между собой. Один поп из старого
стиля, другой поп из нового стиля. Вышел поп из старого
стиля на крылечко к себе и кричит другому попу:
— Не признаю!
А поп из нового стиля тоже вышел на крылечко к себе
и тоже кричит старому попу:
— А я тебя не признаю, ты контрреволюционер
приходишься, если по новому стилю не хочешь служить!
Подозвал новый поп сторожа церковного, говорит ему:
— Лезь, Прокофий, на колокольню и звони во все
колокола; я буду обедню служить Петру и Павлу по новому
числу.
Схватил тут старый поп нового попа за руку, сердито
ругается:
— Слушай, еретик, слушай, безбожник, останови
колокола! Петра и Павла празднуются 29 июня, а ты хочешь
раньше на тринадцать дней.
Но Прокофий уже залез на колокольню и наяривает в
большой колокол. Бил-бил в один, скучно стало, начал во
все закатывать. Стоит новый поп в алтаре, дожидается,
когда молящиеся придут, бороду гладит себе. А молящиеся
плохо идут. Вышла Симонова старуха из своей калиточки,
когда услышала звон колокольный, пошагала в церковь бо-
жию, а навстречу ей идет Гаврилова старуха.
— Ты куда, Варфоломеевна, собралась? — спрашивает
Гаврилова старуха.
— Да вот хочу помолиться сходить.
— Лучше не ходи, не гневи господа бога!
— Почему такое? — удивилась Симонова старуха;
— Да разве ты не знаешь, молодой батюшка по новому
числу молиться велит? Нет, милая моя, и молитва не
413
дойдет до святых угодников, и господь накажет за такую
самовольность.
Собрались старухи около церкви, а в церковь не идут.
Вышел к ним сторож Прокофий, говорит:
— Что же вы нейдете, батюшка там дожидается!
— Ну, и пускай дожидается! — кричат старухи. —
Нечего беса тешить. Какое нынче число?
Старый поп радуется, руки от удовольствия потирает.
Вот я, говорит, буду служить по старому числу, ко мне
народ пойдет, потому что я правильный поп, старые порядки
не ломаю и новых не завожу...
А в народе сумленье большое началось. Даже старухи
открыли уста и стали судить да рядить: по какому числу
молиться им и какого попа слушаться? Уж если попы стали
ругаться между собой, чего же тогда прихожанам делать?
И когда разговляться теперь — неизвестно. Раньше на
тринадцать дней позже было, нынче — на тринадцать дней
раньше. А почему на тринадцать? Почему не на десять?
Может быть, совсем все числа уничтожить и есть подряд
каждый день?
Тут Анисимова старуха и говорит:
— Вот, Матушки мои, какие времена пришли! Два
батюшки у нас, и оба врозь толкуют. И умереть спокойно
нельзя. Который батюшка будет отпевать? Если старый —
задержит он твою душеньку на тринадцать дней, будет она,
сердешная, мучиться, не зная дороженьки, куда ей пойти. А
случись, подвернется тут новый батюшка,— этот пошлет ее
раньше на тринадцать дней, и будет она странствовать
между раем и адскими муками, тоже не зная, куда
приткнуться... Запутали эти попы наши головушки,
запутали!..
И другие старухи кричат:
— Запутали! Век жили, этого не было...
Увидали они красноармейца, приехавшего из города,
спрашивают:
— Скажи нам, сыночек, по какому числу теперь
молиться надо?
Красноармеец смеется:
— Молитесь по всем числам, если не лень, все равно
вам делать нечего. Я ни по какому не молюсь, потому что у
меня дело получше есть-
Обиделись старухи, замолчали.
Через тринадцать дней опять Прокофий звонил во все
колокола. В этот день, 29 июня по старому стилю, обедню
Петру и Павлу служил старый поп. Пришел он в церковь
веселый, но церковь оказалась пустой. Старухи не шли,
потому что. перестали попам верить, не зная настоящего числа,
а молодым было не до этого. Покричал-покричал старый
414
поп в пустой церкви без народа, скомкал конец обедни,
потушил кадило и говорит с упреком:
— Достукались мы! Доспорились! Придется, видно,
совсем закрывать свою лавочку. Даже старухи перестали
ходить:..
А старухи на улице говорят:
— Никому верить нельзя теперь! Большевики совсем не
молятся, а попы в разные числа велят. Лучше и нам совсем
не молиться, чтобы греха не вышло. А то помолишься на
тринадцать дней раньше или на тринадцать дней позже,
только неприятности одни произойдут.
Л. ШЕЙНИН
ОТЕЦ АМВРОСИЙ
(Из записок следователя)
«...Люди совсем непроницательные
подумали бы, что пламенные страсти или
необычайные случайности бросили этого
человека в лоно церкви».
О. Бальзак.
Завсегдатаи ленинградского «сада отдыха» хорошо знали
высокую фигуру этого молодого человека, одетого всегда
модно, даже с некоторой претенциозностью.
Он всегда бывал один. Лениво развалясь в креслах
эстрадного театра, он небрежно слушал программу,
разглядывая публику, и имел обыкновение пристально и не мигая
смотреть в упор на нравившихся ему женщин.
Шел 1927 год. Весь «цвет» ленинградских нэпманов
собирался по вечерам в «саду отдыха».
По аллеям с важным видом в сопровождении разодетых,
раскормленных, на диво выхоленных жен ходили сахарные,
шоколадные и мануфактурные «короли» — Рыбкины, Ма-
гиды, Симоновы, Сальманы.
Все они, неизвестно откуда и как появившиеся в годы
нэпа, всячески подражали в своих манерах старому
петербургскому «свету», вдребезги разгромленному революцией и
гражданской войной.
Вечерами они любили собираться большими и
шумными компаниями в модных ресторанах и кабаре, выбирали
по карточкам блюда, барственно покрикивали официанту:
«Эй, поскорее, дружок»,— делали замечания почтительно
склонившемуся метрдотелю и неистово аплодировали
артистам, приглашая их потом к столу.
Пьянея, они начинали безудержно хвастать своими
коммерческими талантами и успехами, любили называть себя
солью земли, и нередко можно было слышать, как какой-
нибудь обрюзгший нэпман в седых бобрах презрительно
говорил случайному прохожему:
— Не толкайтесь, пожалуйста! Это вам не
восемнадцатый год.
416
* *
*
К концу программы молодой человек уезжал из «сада
отдыха» во Владимирский клуб. Там его встречали как
дорогого и почетного гостя. Поужинав, он переходил в
«золотую комнату» и начинал игру. Размеренно и спокойно он
ставил крупные суммы под бесстрастные выкрики всегда
корректного крупье.
Обычно молодой человек проигрывал. Но по выражению
его лица, однако, трудно было определить, каков результат
игры. Он не бледнел, не раздражался, не был возбужден.
Уже на рассвете он покидал Владимирский клуб и
возвращался домой, в один из переулков Петроградской
стороны. Бледная мгла рассвета окутывала город сырым и
прозрачным плащом. Мягко постукивали копыта лошади по
торцовой мостовой. Подъехав к дому, молодой человек
щедро расплачивался с лихачом и проходил к себе. Он жил
один в небольшой уютной квартире из двух комнат. Белая
визитная карточка была приколота у звонка. Четкими
закругленными буквами на ней было отпечатано:
«Сергей Георгиевич Питиримов».
Молодой человек открывал дверь своим ключом и входил
в теплый сумрак передней. Через полуоткрытую дверь свет
лестничной площадки пробивался тускло и неуверенно,
выхватывая из темноты кусок ковра, ветвистые оленьи рога,
соломенное кресло. Потом дверь захлопывалась. Включался
свет. Питиримов проходил в комнаты — небольшую
кокетливую спальню с низкой широкой кроватью, похожей
на ладью, и полукруглую темную столовую с дубовой
мебелью.
Он медленно раздевался, ложился в постель, закуривал
пипиросу. В квартире было тихо. Огонек папиросы описывал
в темноте мерные полукруги — от изголовья к пепельнице
на ночном столике и обратно. Потом папироса гасилась.
И Питиримов засыпал.
* *
*
Никто не знал, чем он занимается. У Питиримова было
много знакомых, но никого он не посвящал в свои дела.
В доме считали, что он — биржевой маклер. Близкие ему
женщины были уверены, что он — крупный
инженер-изобретатель. Во Владимирском клубе почтительно
подозревали, что он — талантливый шулер. Но он не был ни тем, ни
другим, ни третьим. Он даже не был Питиримовым, хотя и
носил эту фамилию. Несколько лет тому назад он был
«Витька-интеллигент» и принимал участие в уличных ограб-
27 Против тьмы
417
лениях. Тогда он был еще совсем молод и ему нравилась эта
профессия. Ночью он и его товарищи неожиданно подбегали
из-за угла к запоздалому оторопевшему прохожему или
влюбленной парочке. Привычные руки мгновенно снимали
шубы, кольца, часы.
Недоучившийся гимназист «Витька-интеллигент»
происходил из богатой купеческой,, семьи. Еще юношей он свел
знакомство с преступным миром, усвоил воровской жаргон,
посещал притоны. Внешний лоск и некоторая начитанность
сначала вызывали там враждебное недоумение, а потом
снискали к нему уважение и доброжелательный интерес.
И часто где-нибудь в «китайской прачечной», где не столько
стирали белье, сколько торговали опиумом, Виктор проводил
целые ночи в обществе громил, карманников и проституток.
Он жадно выслушивал рассказы об их похождениях, при
нем происходил дележ «барышей», при нем обсуждались pi
вырабатывались планы новых ограблений.
Иногда Виктор читал стихи. Мечтательно запрокинув
голову, он нараспев читал Гумилева. Читал он хорошо.
Тогда в низкой подвальной комнате становилось тихо.
Юркие карманники с Сенного рынка, лихие налетчики из
Новой Деревни, серьезные, молчаливые «медвежатники» —
специалисты по взламыванию несгораемых касс, их
спившиеся намалеванные подруги жадно внимали певучей
грустной музыке стихов. Так прошел год. И Виктор
задумал новое дело. Грабить прохожих не просто так, как
раньше, а с мистикой, с психологией. Были сшиты белые саваны
и маски для лиц.
Ночью Виктор и его товарищи поджидали где-нибудь у
городских кладбищ. Появляется прохожий. Ночь. Тишина.
И вдруг прямо с кладбищенской стены тихо слезают
одно, два, три привидения. Прямо направляются к
прохожему.
Сдавленный крик. Обморок. Падение.
Дело оказалось прибыльным и верным. Почти всегда
обходилось без лишнего шума. Раз только одна женщина,
упав на тротуар, так и не встала,— разрыв сердца.
Но через несколько месяцев уголовный розыск набрел
на след «белых саванов». Троих арестовали. Виктор успел
скрыться и уехал в Крым. Несколько месяцев провел он там.
Потом он приобрел документы на имя Питиримова и
вернулся в Ленинград. Нэп был в расцвете. Виктор, теперь
уже Сергей Георгиевич Питиримов, снял себе квартиру,
зажил солидно. Он приобрел широкие знакомства, всюду
бывал, удачно участвовал в нескольких аферах, посредничал в
даче и получении взяток.
Однажды помог реализовать фальшивые червонцы.
Но пЪт*®м испугался и больше не продолжал.
418
Чем дальше, тем больше приходил он к заключению, что
всякая афера, всякое преступление неизбежно приведут в
тюрьму. А тюрьмы не хотелось.
Связи со стареющими богатыми женщинами опротивели.
Да и молодости прежней уже не было. Надо было найти
какой-то иной выход. И этот выход нашелся случайно.
* *
*
Это произошло весной. Сергей Георгиевич как-то поздно
засиделся в ресторане со своей дамой. Когда вышли на
улицу, было совсем тихо. Белая ночь была грустна, призрачна
и тревожна. Почему-то хотелось говорить шепотом, как во
сне. Решили пойти пешком.
В одном из переулков, недалеко от центра, Питиримов и
его дама услышали доносившееся откуда-то церковное
пение. Подошли ближе и остановились у входа в церковь.
Сквозь распахнутые церковные двери тепло мигали
восковые свечи, тускло отражаясь в золоте икон.
— Знаете, Сергей Георгиевич,— воскликнула его
спутница,— ведь сегодня пасха, заутреню служат... Ах, как
интересно, пойдемте посмотрим.— Они вошли в церковь.
Служба шла чинно, даже торжественно. У входа какая-то
личность бойко торговала церковными свечами. Потом
старухи выстроились в очередь святить куличи.
Сергей Георгиевич внимательно следил за
происходящим. Он никогда не был верующим. Еще в гимназии на
уроках закона божьего он всегда играл в перышки.
Но здесь он с интересом наблюдал. Уже потом, на
следствии Питиримов мне рассказывал:
— Знаете, вот тогда, в церкви, я подумал, что' религия —
это единственный вид мошенничества, которое может
пройти безнаказанно. И потом даже весело: люди, которых ты
обманываешь, не только не жалуются, не заявляют в
уголовный розыск, не бегут к прокурору, но еще и деньги
платят, и смотрят на тебя, как на святого... Нет, в самом деле,
мне это сразу понравилось.
И после этой пасхальной ночи Сергей Георгиевич
добросовестно просидел шесть долгих месяцев над богословскими
книгами, евангелием, житиями святых. Он готовился к
новой профессии..
У него появились новые и странные знакомые —
спившиеся дьяконы, попы-расстриги, бывшие монашки,
церковные регенты, игумены и настоятели. Он близко
познакомился с городским духовенством, участвовал в церковных
диспутах, добыл себе новые документы об окончании какой-то
духовной семинарии.
27*
419
Так незаметно промчались лето и осень. И уже грянули
крещенские морозы, когда на амвоне Павловской церкви
впервые появилась высокая, стройная фигура нового
священника— отца Амвросия. Бледное лицо, горящие глаза
фанатика, взволнованные проповеди быстро создали ему
популярность. Истерические прихожанки, кликуши,
торговцы с Сенного рынка, вороватые церковные нищие дружно
восхваляли на все лады святость, мудрость и прозорливость
отца Амвросия. Уже из других церквей приходили смотреть
новую знаменитость и слушать его зажигательные
проповеди.
И отец Амвросий ликовал. Все больше ему нравилась
новая профессия, все щедрее становились даяния верующих.
Он переменил квартиру, по-прежнему жил одиноко.
Иногда он снова надевал штатское платье и ездил
встряхнуться. Встречая старых знакомых, он только улыбался в
ответ на их расспросы, где пропадает, и скромно отвечал,
что ведет теперь замкнутый образ жизни, так как работает
над одним серьезным изобретением.
Потом он снова превращался в отца Амвросия.
* *
*
Прошел еще год. Все более крепла популярность отца
Амвросия, непрерывно росли его доходы. И все шло хорошо.
Тревога пришла неожиданно. Отцу Амвросию понравилась
одна совсем еще юная девушка, певшая иногда в церковном
хоре. Ничего в этом не было необычного, и
многочисленные романы отца Амвросия с прихожанками не только
сходили гладко, но и в немалой степени способствовали его
популярности. Но на этот раз не повезло. Девочка, едва
достигшая 14 лет, заупрямилась. Ее упорство еще более
распалило отца Амвросия. И однажды, заманив ее в церковную
сторожку, он овладел ею насильно. Девочка вернулась домой
в слезах и все рассказала матери. Забыв о боге, религиозная
мамаша побежала к прокурору. Началось следствие.
Отца Амвросия арестовали. Он упорно отказывался
сообщить данные о своем происхождении, отрицал свою вину,
плакал, путался в показаниях.
Через несколько дней после ареста, когда отца Амвросия
вели в доме заключения на прогулку, из окна одной камеры
раздались приветственные крики:
— Витька, сукин сын, здорово! Сколько времени не
виделись, чертова кукла! Ты чего это в рясу нарядился?
Кричал один из заключенных, бывший грабитель
«Митька-косой», когда-то участвовавший в шайке «белых
саванов».
420
И все выяснилось. Страница за страницей была
перелистана и прочтена вся книга жизни отца Амвросия — Сергея
Георгиевича Питиримова — «Витьки-интеллигента» —
купеческого сына Витеньки Храповицкого.
А в Павловской церкви появился новый священник, щуп-
ленький, старенький отец Мефодий. И хотя он всегда
завидовал успехам отца Амвросия, страшно не любил его и
называл раньше не иначе, как «иродовым семенем» и
«стрекулистом», но решил все же поддержать «честь знамени» и в
первой же проповеди заявил, печально потряхивая
неказистой рыжей бороденкой:
— Братья и сестры во Христе. С тягостной вестию
пришел я к вам. Духовный пастырь наш, кедр ливанский, отец
Амвросий, томится в узилище иродовом за веру свою, за
благочестие... Аки святой отец, томится он, и несть конца
его мучениям за веру христову! И в том зрим мы для всех
благий пример...
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
«СПИ —ОТДЫХАЙ!»
Не сказка — былинка,
Старая старинка
Про то, как поп свое дело понимал,
Работницу нанимал.
Не я сочинил. Народ так судачит.
Дело так было, значит.
Заплетая косенку
Недлинную,
Теребя бороденку
Козлиную,
На ходу козлом
Подпрыгивая,
Попадье глазком
Подмигивая,
Поп словами ублажал,
В работницы подряжал
Девчонку молодую:
— Уж я тебя, чадо, не надую.
По Христу мы, все люди, родня.
Жизнь тебе будет у меня,
Раба божья Акулина,
Сущая малина.
Не валяясь в постели до белого дня
(такого порядка, голубушка, нету!),
Встала ты утром рано, до рассвету,
Избу помыла-поскребла,
Двор подмела,
Коня напоила,
Коров подоила,
Выгнала скотинку,
Накормила свинку,
422
Хлев убрала да сарай —
И спи-отдыхай!
Завтрак состряпала умело,
Самоварчик взогрела,
Вот и все дело.
Мы с попадьей за еду да за чай,
А ты спи-отдыхай!
По времени и по погоде
Поработала в поле ты, аль в огороде,
Зимой за дровами, за сеном смахай
И спи-отдыхай!
К обеду потом ты чего накухарила,
Спекла пирожков да мясного поджарила.
Готово? На стол подавай
И спи-отдыхай!
На один, на другой там часочек
(Недалечко, немного ходьбы)
Ты по ягоды аль по грибы
Прогулялась в лесочек,
Аль в город для матушки за покупкой какой,—
Город ведь под рукой,—
Прибежала домой,
Не взопрела.
Прогуляться приятно самой.
Прибежавши домой,
Самоварчик немедля согрела.
Мы с попадьей за варенье, за чай,
А ты спи-отдыхай!
Вечерком ты коровушек встретила,
Подоила, напоила,—
Времени не заметила,—
Корму им задала,
Вот и все тут дела,
За все, как говорится, ответила,
И чушке-свинушке приготовила пойло,
И сена коню, и почистила стойло,
Никакой, стало, больше заботы не знай,
Спи-отдыхай!
Ну, а там уже время и к ночи.
У меня с попадьей затуманятся очи.
После долгой дневной суеты
Сон морит пуще хмелю.
Разомлевших — меня с моей матушкой — ты
Отведешь и уложишь в постелю.
А сама ты, голубушка, за день наспа-а-авшись,
Наотдыха-а-авшись,
Разве можешь ты свет, на ночь глядя, гасить,
Чтоб скрести в темноте поясницу и темя?
423
Тут тебе подходящее самое время
И дровец наколоть, и воды наносить,
И попрясть, и поткать, и пошить,
И бельишко какое помыть-посушить.
Осмотрись: может, сделать чего позабыла,
Все пошила-помыла,
Все помыла-развесила?
Хоть пляши, вот как весело!
Перед сном помолись, богу славу воздай
И спи-отдыхай!
Спи-отдыхай до рассвету.
За работу за эту
Без натуги, без лишних хлопот
Получай каждый год
Рупь-монету.
Ну-тка?
Сосчитай: сто годов —
Сто рублев- Шутка!
Сто годов пробегут, как минутка.
Все помрем мы, греши, не греши.
Сто рублев ты — свои барыши —
В церковь божью отдашь перед часом кончины
На помин души
Рабы божьей Акулины.
Отдай
И с чистой душой помирай.
Смерть... Что смерть для человека простого?
Тело — в землю, душа — в рай,
И до самого второго
Пришествия Христова,
Когда мир сковырнется со всех своих свай,
Спи-отдыхай!
В. ИЛЬЕНКОВ
ЗА КАНАВОЙ
Кузьму Новоторова, с которым мне давно хотелось
познакомиться, я не застал дома. Мне сказали, что он с утра
поплелся на кладбище, и указали на редкие березы,
стоявшие в километре за околицей.
Туда, к этим березам, вела узкая дорога с мелкими и
ровными, как рельсы, колеями, между которыми рос
подорожник и белый мелкий клеверок-самосей. Видно было,
что по этой дороге ездят давно-давно, но редко и очень
медленно.
Канава вокруг кладбища, когда-то широкая, теперь
заросла. Крестов над могилами не было, лишь кое-где
виднелись каменные, врезавшиеся в землю плиты. На одной из
них сидел Кузьма в длинной — до колен — холщовой рубахе,
босой и растирал на ладони нюхательный табак.
— Что ты здесь делаешь? — спросил я.
— В порядок произвожу... Загадили. Теперь народ о
смерти не думает... не хочет думать. Закопал, и ладно.
Голос у Кузьмы чистый, грустный, как флейта.
Оглянувшись, я увидел палки, обломки камня, сухие веточки и
разный мусор, собранный в небольшие кучки. Возле березы
стояли грабли с поломанными зубьями и застрявшими
между ними листьями.
— Я и говорю им: бесстыжие вы, об родителях позабыли,
а родители, может, куска не доедали, вам берегли... Теперь
вы в сытость вошли и родителей вспомянуть должны. А они
смеются... Вот и взял я грабельки, сгребаю... А мне за это
надо б трудодни писать. Как ты думаешь, надо?
— Конечно, нужно. Вот и канава заплыла...
— Канавы тут и не надо, пускай так... И правильные и
неправильные покойники — теперь все вместе сошлись.
— Это что же за покойники такие — неправильные?
425
Кузьма запустил в ноздрю щепотку табаку, шумно
втянул, блаженно щурясь, судорожно чихнул и вытер
заслезившиеся глаза.
— Глазами плох стал. А как понюхаешь, прояснение от
табаку... Ты попробуй,— Кузьма протянул мне на ладони
темно-зеленую пыль, пахнущую мятой.
— Нет, я лучше закурю.
— Кто курит, тот в пеклу турит, а кто нюхает, тот за ним
трухает,— засмеялся Кузьма и, хитро подмигнув мне,
сказал с какой-то наигранной дерзостью: — А пекла никакого*
слыхать, нету... Ни черта нету! Земля! Одна она всех оди-
нако принимает, и правильных и неправильных... Тут вот
под березами хоронили правильных, которые своей смертью,
от старости или там от хвори какой, кончались. За канавой,
в березняке, неправильных закапывали, какие сами
давились или, скажем, заливщики... Ну и другой веры людей,
ежели покойник Махомету поклонялся или, скажем, на
сучок молился...
К нам подошел курносый парнишка с
красным-галстуком на загорелой шее; он держал в руках спичечную
коробочку.
— Все жуков собираешь? — спросил Кузьма.— Это внук
мой. Забил себе голову жуками — полную избу наносил...
Немоляка! Таких вот немоляк за канавой хоронили... И
крестника моего Агафона там закопали...
И Кузьма неторопливо повел рассказ о человеке с
тройным именем и не поймешь — какой веры.
...В душный июльский полдень, когда доспевала рожь и
над полями стоял радостный сладковатый запах, у Тараса
Бондарева родился первый, долгожданный сын. Пелагея
рожала долго и трудно. Чтобы облегчить ей страдания, Тарас
перекинул через крюк, вбитый в стену, веревку. Пелагея
ухватилась за нее, тужась, крича во все горло, криком и
напряжением ускоряя роды.
Тарас давно уже приготовил зыбку из лубка. Он ввинтил
в матицу кольцо, продел в него тонкую березовую жердь и
на гибком конце ее укрепил на веревке зыбку,— она
заплясала плавно и мягко, нежно поскрипывая.
Дико вытаращив глаза, налитые кровью, Пелагея
пронзительно вскрикнула, и на охапке соломы закопошился
крупный горластый младенец.
— Сын! — радостно вздохнул Тарас; он боялся, что
родится дочка: девка в хозяйстве — один убыток: корми ее,
расти, готовь приданое и думай, как бы сбыть ее с рук,—
все из дому несет.
Сын — прибыль в хозяйстве, с восьми лет — работник, а
под старость — кормилец,— все в дом несет.
426
Тарас пошел к соседу Кузьме Новоторову, которого он
наметил кумом. Кузьма уже собрался в поле, делать
зажинки. Ему не хотелось терять целый день на поездку в
село к попу и было жалко полтинника, который нужно было
уплатить за крестины. И отказать нельзя было,— Тарас
крестил его двух детей. Кузьма молча отправился •
запрягать лошадь.
— Агафоном желаю назвать,— сказал Тарас, заботливо
оправляя солому в телеге.— Так и скажи попу: Агафоном...
И дед был Агафоном, и сын пусть Агафоном будет...
Отправив кума с кумой, Тарас зашел в кабак, купил
бутылку водки. Радость его была так велика, что не утерпел
и, не дождавшись кума, выпил две чашки.
День выдался знойный, парило, предвещая грозу.
Расстегнув ворот новой кумачовой рубахи, потный и красный,
Тарас сидел на крылечке, поглядывая на дорогу, и мечтал
о том времени, когда Агафон вырастет в здорового
красивого парня...
Подъехал кум с кумой.
— Агафоном назвали,— сказал Кузьма, усмехаясь.—
Поп до чего пьян был, что и господи помилуй выговорить
не мог... Ну, будьте здоровы... с новорожденным!
Тарас, окончательно захмелев, стоял над зыбкой и
разговаривал с сыном, как со взрослым:
— Мы, брат, с тобой, Агафон, наворочаем делов! Мы
теперь все можем... Во-от каких бревен нарежем в барском
лесу! Избу выстроим... Мы с тобой, Агафон, заживем!
Вдвоем дело пойдет веселей и с косьбой, и с пахотой, и с
уборкой. Вдвоем мы с тобой выкосим за утро не меньше
десятины... Вдвоем нам и лесник не страшен...
Он так и уснул подле зыбки на полу, улыбаясь во сне.
...Тарас не ошибся в своих надеждах. В пять лет Агафон
скакал верхом на лошади, в семь — переплывал Волгу, в
десять— уже косил наравне с отцом.
— Пятки отрежу, батя! — кричал он, задорно махая
косой.
Темной осенней ночью они поехали в барскую рощу и в
полчаса свалили здоровенную сосну. Поддев кольями бревно,
они вкатили его на дроги. На выезде из леса их встретил
лесник и схватил лошадь за уздечку.
— Но... Но! — грозно сказал Агафон, играя топором, и
лесник отпустил лошадь.
Весной Тарас с Агафоном срубили просторную избу и
позвали попа освятить ее. Поп Афанасий пропел дребезжащим
голосом: «Благослови, господи, дом сей и исполни земных
его благ»,— окропил розовые, истекавшие смолой стены и
начертил мелом кресты на притолоках, чтобы дьявол не мог
проникнуть в жилище Тараса.
427
— Хороший у тебя сын вырос,— сказал он, пряча в
карман три рубля.
— Да уж такой сын, что и не нарадуюсь,— признался
Тарас.— Отчаянный. Башковитый паренек. Ему бы науку
дать... грамоте обучить его...
— От науки один разврат,— строго сказал Афанасий.—
Пусть мужицкое дело ведет... А то книжки начнет читать и
в тюрьму угодит.
Однако Тарас от мечты своей не отказался. Он написал
в город свояку, работавшему в ресторане, и просил его взять
Агафона к себе на выучку. Свояк согласился, обещал
определить Агафона в школу, как только Тарас вышлет ему
метрику о рождении.
Тарас отправился к попу. Поп Афанасий долго
перелистывал толстую книгу о родившихся за 1892 год.
— Нет тут никакого Агафона,— сердито сказал он.—
Когда родился?
— Рожь зачинали жать, батюшка... После Казанской
вскорости. Кузьма кумом был... И назвали Агафоном.
Поищи хорошенько, куда же он мог деться? — Тарас
растерянно вытер рукой вспотевший лоб.
Поп третий раз перелистал книгу:
— Евдокия... Софрон... Протасий... Агаф... Агафья...
Пуд... — бормотал он. — Стой... стой! Родители Тарас
Бондарев и законная жена его Пелагея...
— Во-во,— облегченно воскликнул Тарас.— Я самый,
Тарас Бондарев...
— Восприемниками при таинстве святого крещения
были крестьянин той же деревни Кузьма Новоторов...
— Кузьма Василич! Правильно! Кум Кузьма!
— Так тут не Агафон записан, а младенец женского пола
Агафья.
— А-гафь-я-а?!—простонал Тарас, очумело
уставившись в книгу.— Откуда ж девчонка взялась-то? Сын у
меня... Агафон... Парнишке пятнадцать лет... Напутано тут...
— Выходит, я что ль напутал? — озлился поп. — Я, по-
твоему, мальца от девки отличить не могу? Сам ты мне
голову дуришь. Выдумал какого-то Агафона!
— Да ведь сам же ты видал, как избу святил, что сын
у меня, а не дочка... Косит со мной... Нешто я обманывать
буду...
— По книгам Агафья, стало быть, не о чем и
разговаривать... Поди сначала проспись! — крикнул поп и распахнул
дверь.
Тарас шел домой, как в тумане, ничего не видя вокруг.
Потом ему стало смешно от того, что у него какая-то Агафья.
Он хохотал в одиночку, сам с собой, и встречные обходили
его стороной, полагая, что он спятил. По дороге он забрел в
428
кабак, выпив, рассказал, что поп из мальчишки сделал девку,
и вместе со всеми смеялся до слез, но когда пришел
домой, снова погрузился в мрачное раздумье и, наткнувшись
на Агафона, ударил его наотмашь.
^ — За что, батя? — спросил Агафон, дрожа от обиды.
Тарас, не ответив, схватил его, сорвал штаны и, крепко
держа за руку, потащил по деревне, выкрикивая:
— Братцы, подтвердите! Никакого обману!
Агафон вырвался и со слезами убежал в лес. Он пропадал
два дня, а когда голод заставил его вернуться домой,
ребятишки встретили его улюлюканьем и свистом:
— Агафья! Гапка! Агафья!
Агафон швырнул в них камнем и расшиб голову одному
из обидчиков. Так началась неравная борьба Агафона со
всеми окружающими.
Он сделался угрюмым, молчаливым, избегал работы, не
выходил на улицу и проводил дни у окна, скованный
мрачным оцепенением.
Однажды, буйный и свирепый от водки, Тарас выбежал
на улицу и при народе грозил сжечь попа и выдергать ему
длинные космы. Узнав об этом, поп Афанасий донес по
начальству, и вскоре возникло дело по обвинению Тараса
Бондарева «в преступной подмене младенца Агафьи
неизвестным Агафоном, а также в богохульстве».
Тараса вызвали к благочинному.
— Какой же мне интерес девку менять на мальца? —
спросил Тарас.
— За девку нужно приданое дать. Девка в хозяйстве
невыгодна. Вот и обменял. Ох, уж эти мужики!
От благочинного дело перешло в консисторию. Агафона
раздевали, осматривали, качали головами, но ни к какому
выводу так и не пришли. Хозяйство Тараса пришло в
упадок, он продал овец и свинью. Кто-то посоветовал ему
обратиться к волостному писарю Кузьмичу.
Писарь выслушал рассказ Тараса и, выпив бутылку
водки, принесенную им, приказал привести Агафона. Он
долго разглядывал Агафона помутневшими крысиными
глазками и, выслав его из комнаты, сказал:
— Устрою в лучшем виде. Парнишка твой на татарина
схож обличьем, скулы широкие, а глаза узкие. Чистый Ах-
метка! Они, татары, махометанской веры. Махомету
поклоняются. Вот ты иди к попу Варсонофию, в городе он
служит в Покровской церкви. Отчаянный поп, он все может...
Сестру с братом перевенчает. Только заплати... И скажи так:
«Приблудился, мол, ко мне татарин Ахметка махометанской
веры, а я желаю его в православную обратить и усыновить,
а имя ему дать Агафон...» Понял теперь мою
диспозицию?
429
На другой день Тарас привязал корову к телеге и повел
ее в город на рынок. Агафон шел сзади. Продав корову за
пятнадцать рублей, Тарас пошел к попу Покровской церкви
Варсонофию, приказав Агафону молчать, а если что спросят,
то креститься и твердить одно: «Махомет не нада... Агафон
нада...»
Кумом согласился быть за бутылку водки какой-то
пропойца, а кумой — за такую же цену — слепая с паперти.
Варсонофий самолично выкатил из-под навеса
сорокаведерную бочку, от которой воняло кислой капустой. Тарас и
Агафон наполнили ее водой из колодца.
— Полезай,— сказал Варсонофий, и Агафон по шею
погрузился в холодную воду.
На посиневшего, дрожащего «Ахметку» поп нацепил
медный крестик, выстриг ему на затылке клок волос, назвал
рабом божиим Агафоном и выдал Тарасу метрическую
справку за пятнадцать рублей.
— Ну, слава тебе, господи! — весело сказал Тарас,
выезжая из города.— Узаконили тебя, Агафон...
Приехав домой, Тарас с радости напился и, хвастаясь,
рассказал все, как он обхитрил и попа Афанасия, и
благочинного, и консисторию.
— Теперь Агафон в люди выйдет... Завтра повезу его к
свояку в город... в ресторан определю... Учись, Агафон! Мы,
брат, с тобой всех обхитрим! Мужик сер, да никто его ум
не съел...
А ребятишки бегали за Агафоном и, зажав в кулак подол
рубахи, показывая «свиное ухо», кричали:
— Ахметка! Агафья! Ахметка!
Агафон запустил в них камнем и спрятался в хлев.
Тарас проснулся на заре, разбуженный тревожным
ржанием мерина. Он побежал к хлеву, но ворота оказались
запертыми изнутри... Тарас заглянул в щель — лошадь
металась по хлеву, испуганно кося глазами, вся в мыле, а над
ней медленно раскачивались длинные, вытянувшиеся
Агафоновы ноги...
Когда Кузьма окончил рассказ, парнишка спросил:
— Дедушка, а какая она... консистория?
Кузьма недовольно взглянул на него: видимо, вопрос
застал его врасплох.
— Консистория? — переспросил он, нахмурив брови.—
Это, брат, при царе была такая... Страшное дело... Печать
на всем ставила... Да пес с ней! — с нарочитым
озорством воскликнул дед и, ласково взглянув на внука, добавил
добродушно: — Иди, иди, беспечальный.
II
Сектантская
паутина
СО
Г9
Ф
С
ев
а
н
ф
о
р.
CD
С5
С. СТЕПНЯК-КРАВЧИНСКИЙ
\
ШТУНДИСТ ПАВЕЛ РУДЕНКО
(Отрывок)
Павел закладывал лошадь, собираясь в обратный путь,
когда к нему прибежал Морковин, испуганный и без шапки,
и сказал, что его желают видеть два каких-то барина и что
один из них выглядит. чиновником.
Павел оставил телегу и пошел в горницу, где его ждал
Валериан с каким-то незнакомым господином, который
оказался приятелем Валериана, Трофимычем —
письмоводителем мирового судьи.
— Мы к вам вот зачем,— начал Валериан.— Мы думаем
начать дело об убийстве Лукьяна, и я пришел спросить, что
вы на это скажете.
— Что ж, начинайте. Я готов,— сказал Павел.— Как вы
думаете? — обратился он к Морковину.
Тот замахал руками.
— Ничего не выйдет. Только себе беды наделаете,—
сказал он.
— Вздор! — отвечал Валериан.— Во всяком случае,
такого вопиющего дела так оставить невозможно.
— Да что же вы против них поделаете,— Морковин стоял
на своем.— Все это одна шайка. Вы подадите жалобу
прокурору, а так как это дело по духовному ведомству, он
отошлет его в консисторию, тому же Паисию. Говорю вам:
ворон ворону глаз не выклюет. Только вам же
достанется.
— Это мы еще посмотрим! — воскликнул Валериан.
Его мнение превозмогло. Вдвоем с Павлом он набросал
черновую прошения прокурору, в котором излагались факты
дела и требовалось его расследование.
Трофимыч взялся перебелить и «оформить» бумагу и
прислать ее Валериану для подписи и дальнейшего
движения.
IlpOTllD ТЬМЫ
433
Валериан приехал в город на перекладных. Он охотно
принял предложение молодого штундиста подвезти его до
усадьбы.
Они выехали в тот же день после обеда. День был ясный
и солнечный. Жара только что спала. С лугов поднимался
белый дымок и, гонимый чуть заметным ветром, скользил
по земле, и тогда казалось, что узкие прозрачные паруса
несутся по зеленым волнам. Дальняя роща окутывалась
свинцовой синевою и уже тонула в голубом пространстве,
сливаясь с горизонтом. Пыль улеглась. Павел распустил
вожжи, предоставив лошади полную волю. Ему очень
хотелось поговорить со своим спутником по душе. Глухое
подозрительное чувство, которое возбуждал в нем этот
«безбожник», сменилось за последние дни живой симпатией. Хотя
Валериан ни разу не заговаривал с ним о вере, Павел был
убежден теперь, что он не может быть безбожником. У
ученых могут быть свои «слова», но он не сомневался, что
Валериан верит по-своему, по-ученому, и в душе сочувствует
штундистам. Иначе из-за чего бы ему принимать такое
горячее участие в их судьбе?
Павлу захотелось поделиться со своим спутником теми
вестями, которые хоть несколько утишали его скорбь по
убитом учителе и друге. Он стал рассказывать ему о том, что
видел и слышал у своих единоверцев за последние дни: о
новых обращениях, о растущем одушевлении среди братьев
и внимании среди православных.
— Даже в храмины идолопоклонников, в среду их
прислужников проникает правда божия, как во дни царей
римских,— закончил Павел.
— В самом деле? — с любопытством спросил Валериан.
Павел рассказал ему про одного из тюремных сторожей
и про некоторых из старых приятелей Морковина.
Валериан слушал внимательно, по-видимому, с участием
Это еще более укрепило Павла в его наивном
предположении и придало ему смелости заговорить прямо.
— А что я вас хочу спросить, Валериан Николаевич,—
начал он, смотря в сторону.— Вы не осердитесь на меня:
я это по простоте.
— Говорите, пожалуйста! Чего же мне сердиться? —
Валериан ободрил его.
— Как вы насчет веры понимаете, Валериан
Николаевич?— проговорил Павел, оборачивая к нему свое честное,
серьезное лицо.— Я знаю, что про вас всякую всячину
болтают, да я не верю этому, как вот повидал вас ближе. Такой
вы до простого народа добрый и жалостливый. Всякому в
нужде вы помочь готовы. И вот из-за Лукьяна нашего вы
даже на неприятности идете. Так как же, чтоб вы, пещась
о телесных нуждах братии ваших по Христу, о душах их не
— Да разве я не брегу? — с улыбкой возразил
Валериан.— Чуть мне мало-мальски умственный мужик или
парень попадется — я ему сейчас книгу, другую в руки.
Видали, может?
— Как же, видал,— отвечал Павел.— О хлебопашестве,
да об уходе за скотом, о звездах там небесных и гееннах
всяких, либо историю о старинных временах.
— Есть и другие, которых вам не показывали,—
засмеялся Валериан.— Да чем же вам и те не нравятся: это
все пища для ума, то есть для души.
— Конечно. Да ведь это все суета,— сказал Павел с
откровенностью искреннего убеждения.— Какая польза
человеку и про звезды, и про зверей, и про людей разных знать,
когда он не познал бога, все это сотворившего и живущего в
его собственной душе? Вот это вы ему откройте, и он вам
спасибо скажет.
— О да, и еще как. Мало того: всяким добром засыпет.
Попы это раньше нас с вами познали,— проговорил
Валериан.
Он не желал вступать в богословский спор и думал
отделаться шуткой.
— Что о попах говорить,— сказал Павел серьезно.—
Известно, что они только и думают, как бы содрать с живого
и с мертвого, а в евангелии прямо сказано: что даром
получили, то даром и давайте, и ищущему у тебя рубашку отдай
и кафтан.
Он заговорил о своей вере не как начетчик, а как
простой мужик-общинник, которого чистое евангельское учение
поразило своей общественной стороной как религия
братской любви. Павел был сильно взволнован. Слова, когда-то
сказанные ему матерью о том, что ему следовало бы
попробовать обратить молодого барчука, теперь мелькнули в его
уме как наитие свыше. В его воображении носился образ
Лукьяна, и он искренне верил в эту минуту, что, как в
библейские времена, дух Лукьяна хоть частью перешел и на
него.
Валериан невольно заслушался. Никогда не доводилось
ему слышать такой речи от простого крестьянина.
Павел, объяснивший это внимание по-своему, переходил
между тем к богословию и наступал на него с текстами и
цитатами.
— Все, что вы до сих пор говорили насчет любви и
братства,— правильно и хорошо. Этого все хорошие люди хотят.
Но к чему вы в это путаете все эти тексты да цитаты, всю
эту поповщину?
Павел вопросительно посмотрел на него, не понимая, как
это одно без другого мыслимо.
— Ведь и церковники, как вы их называете, гонят и пре-
28*
435
следуют вас во имя того же Христа и во имя того же
писания,— пояснил свою мысль Валериан.— Текст ведь какой
угодно подобрать можно.
Молодой штундист слушал эти речи с некоторым
удивлением.
— Но ведь это не христиане гонения воздвигают, а
идолослужители, прикрываясь именем Христовым,—
возразил он.
Валериан равнодушно кивнул головой.
— Так, так! А водворись ваша вера на место православия,
поднимутся новые ревнители о вере и учителя, которые вас
станут звать идолопоклонниками и слугами мамоны, а вы
их — еретиками. И будете вы их гнать и стирать с лица
земли для вящей славы божией. Да и церковникам
достанется от вас, чтоб поскорей лезли в рай,— прибавил он с
усмешкой.
Павел немного опешил. Об этой стороне дела он никогда
не думал, и слова Валериана на минуту выбили его из колеи.
Но он вскоре оправился.
— Нет,— сказал он.— Поднимающий меч от меча и
погибнет. Христос не велел никого преследовать. Это все попы
выдумали из корысти и злобы.
— Ну вот, и у вас попы выдумают,— заметил Валериан
вполголоса, как бы про себя.
— Какие же у нас попы? — возразил Павел.— У нас нет
попов. Лукьян разве поп был?
— О нет,— поспешно сказал Валериан.— Лукьян не был
попом, и вы попом не будете. Вы пока апостолы. Но ведь и
православную-то церковь основали не попы, а апостолы.
Так уж это испокон века велось. Апостолы посеют, Петры
да Павлы, Луки да Лукьяны. А потом приходят отцы
Василии да Паисии пожинать плоды. Таков уж, видно, предел
людям положен, и ничего против этого не поделаешь,—
сказал Валериан, чтобы закончить разговор.
Но ни этих недомолвок, ни этого сдержанного тона душа
его молодого спутника не могла выдержать.
— Ну, так что же, по-вашему? — вскричал он.
Валериан не тотчас ответил. Он колебался. Ему жаль
было разбивать стройное миросозерцание и нарушать
душевный мир этого хорошего, симпатичного парня. Но жаль
ему было оставить такого способного и обещающего
человека топтаться в том, что он считал бесплодной поповщиной.
Ломка не всегда значит разрушение. Из разбросанных
кирпичей может выстроиться новое, более прочное и лучшее
здание. У Валериана была своя «вера», и желание
«совратить» в нее своего спутника взяло верх.
— По-моему,— сказал он,— самое лучшее — это
похерить все это разом.
/36
— Что — все? — спросил Павел строго.
— Да все вот это.
Он хлопнул рукою по сумке книг, которую Павел всегда
возил с собою.
Павел посмотрел на него с видом скорее сострадания,
чем укоризны.
— Переложатся небо и земля,— сказал он,— а не
переложится единое из слов божиих. Все тут разрешено. Все
предусмотрено и предугадано от древнейших времен и даже до
днесь. Не поверите,— с добродушной наивностью обратился
он к Валериану,— иногда диву даешься. Случится
что-нибудь: думаешь — что!—а смотришь, об этом пророк духом
провидел, и есть об этом где-нибудь в писании. Поискать
только да понять нужно.
Валериан улыбнулся:
— Этак много пророчеств найти можно, где угодно.
— Есть и прямые пророчества, ясные.
— Да вот, как Лукьяново на ваш счет. Помните, он
предсказал ведь вам, что вы тоже умрете от рук гонителей. Это
очень возможно и вероятно. Я бы мог предсказать вам то
же, если б вы спросили. И если это сбудется, то разве я от
этого пророком буду?
Валериан говорил так просто и с таким убеждением, что
Павел немного поддался.
— Я — что! — сказал он.— Разве я могу ждать о себе
пророчеств. О другом было и исполнилось.
— А больше было так, что сначала исполнилось, а
потом напророчествовано,— сказал Валериан с улыбкой.
— Как же это может быть? — удивился Павел.— Ведь
апостолы...
— А почем вы знаете, что апостолы писали то, что им
приписано?
Удивление и любопытство Павла росли с каждой
минутой.
— Как так? — спросил он.— Не понимаю.
— Дайте-ка мне евангелие,— сказал Валериан.— Я вам
что-то покажу.
Цавел развязал мешок и с улыбкой подал ему евангелие.
Они давно уже ехали шагом: умный коник, по-видимому,
заслушался богословского диспута и сообразил, что в такое
время покойнее плестись потише.
Валериан читал когда-то Штрауса и помнил некоторые
из убийственных сопоставлений, которыми немецкий экзеге-
тик колеблет историческую подлинность евангельского
повествования. В свое время, читая книгу, Валериан
проверял цитаты и теперь знал, где искать нужные места.
— Ну вот, смотрите,— сказал он, указывая на повесть о
немоте Захария, отца Иоанна Крестителя.— Тут говорится,
437
что, онемев, Захария продолжал служение во храме. Ну
хорошо. А нет ли у вас Ветхого завета?
У Павла в сумке оказался славянский экземпляр
Ветхого завета.
— А теперь смотрите,— сказал Валериан, открывая то
место Второкнижия, где говорится, что ни один левит,
имеющий телесный недостаток, не может служить в храме
Иеговы.
— Ну так что же? — спросил Павел, не догадываясь, к
чему Валериан клонит речь.
— Как что! — воскликнул Валериан.— Если левит не
мог служить с телесным недостатком, значит, Захария не
мог продолжать служения во храме. Значит, то, что об этом
написано, выдумано кем-нибудь, кто не знал даже
еврейского закона.
— Вишь ты! — воскликнул Павел, пораженный
сопоставлением, как каким-то удивительно неожиданным и
ловким фокусом.
Он знал на память первое место из указанных Валериа-
ном и читал несколько раз второе. Теперь его удивляло, как
это он мог ничего не заметить. Он упрекал себя в
невнимании и очень огорчался этим, так как был уверен, что,
заметь он противоречие раньше, он нашел бы ему
объяснение и не дал бы этому безбожнику даже временного
торжества.
— А это как, по-вашему? — продолжал Валериан.— Вот
две родословные того же Христа, и обе с середины
совершенно разные. Которая-нибудь да не подлинная, коли не
обе. А вот видите ли это евангелие?
Он отделил евангелие от Иоанна и держал его между
пальцами.
— Вы ведь знакомы с ним?
Павел молча кивнул головою.
Он зачитывался им и знал его на память. Оно было его
любимое.
— Ну так. могу вам сказать,— продолжал Валериан,—
• что ученые люди теперь признают его неподлинным от
начала до конца — не Иоанновым, значит.
— Как не Иоанновым? — вскричал Павел.— Чье же оно?
Матвеево, что ли?
— Чье оно — неизвестно,— отвечал Валериан.— Но
несомненно, что оно составлено чуть ли не лет сто после
смерти апостола и что он так же мало прикосновенен к его
писанию, как и мы с вами. Хотите, объясню почему.
— Не нужно,— сказал Павел таким тоном, что Валериан
пожалел, что зашел сразу так далеко.
Он захотел загладить свою ошибку и, бросив
богословие,— то, что он называл поповщиной,— заговорил о той
438
общественной стороне евангельского учения, на которой они
сходились с Павлом.
Но Павел его уже не слушал. Понемногу в нем
поднималось против спутника чувство злобы, переходившее в
глухую жгучую ненависть. Валериановы доводы не
произвели на него никакого впечатления; так по крайней мере
он думал в эту минуту. Но ему неприятно было их слушать,
еще неприятнее не знать, что на них возразить. И злоба
закипала у него, и Валериан представлялся ему человеком,
который для своей забавы издевается над самыми святыми
вещами, злоупотребляя дарами духа — умом и наукою,—
грех, который, по писанию, не простится ни в сей век, ни в
будущий.
Павел угрюмо молчал или отвечал сухо, односложно.
Валериан вскоре заметил резкую перемену в своем
спутнике, и ему стало досадно на себя, зачем он так с
ним увлекся, зачем причислил его только что к породе
апостолов.
«Поповская душонка, не способная ничего понимать вне
своего узкого догмата» — думал он.
Ему противно было самое его общество.
— Остановитесь, пожалуйста,— сказал он, когда они
проезжали мимо одного поселка.— Мне здесь к одному
знакомому мужику зайти нужно. Я уж сам потом до дому
доберусь.
Павел не предложил ему подождать его.
Валериан соскочил с повозки и, напевая какую-то бодрую
песенку, быстро зашагал по жнитву прямиками,
направляясь к небольшой, довольно бедной избе, стоявшей
несколько поодаль.
Павел подобрад вожжи, ударил кнутом коня и покатил
крупной рысью.
Ульяна очень обрадовалась сыну. Она не ожидала его так
скоро и все время тревожилась, как бы с ним самим чего
не случилось: его могли ни за что ни про что схватить, как
штундиста, Лукьянова помощника и близкого ему человека,
и засадить на неопределенное время в острог. Она даже
ловила себя на недоброжелательных чувствах к Лукьяну,
когда представляла себе, что попался ее сын. Увидавши
Павла целым и невредимым, она почувствовала двойное
участие к судьбе их общего учителя.
— Ну, что он? — воскликнула она, устремляя на сына
тревожный взгляд.
Павел махнул рукой.
— Ох, горе, горе нам всем,— сказал он.— Помер Лукьян-
то наш мученической смертью.
Ульяна как стояла, так и залилась слезами.
«Господи, а я-то, а я-то!..» — вспоминала она.
439
Павел стал тихо рассказывать, как все это случилось. Он
рассказал, как видел его почти перед смертью и как Лукьян
попрощался с ним и отошел мирно, подобно святым, про
которых пишут в книжках. Но он не повторил последнего
трогательного предсказания учителя. Ему стало совестно, и к
тому же — зачем пугать мать?
«Может, ничего этого и не будет и он это так сбрендил»,—
шепнул ему в ухо какой-то лукавый голос, от которого
Павел вздрогнул и оборвал речь на полуслове: ему казалось,
что это кто-то другой, нечистый, говорит в нем.
— Что с тобой? — спросила мать, поднимая голову.
— Так, ничего,— отвечал Павел.
Но он не продолжал более рассказа.
— От Федоровны, ключницы, я слыхала, что молодой
барин поехал в город хлопотать за Лукьяна. Очень меня это
утешило,— сказала Ульяна.
— Да, я встретился с ним,— неохотно проговорил
Павел.— Он помог мне с Лукьяном повидаться.
— Дай ему бог всего за это,— набожно проговорила
Ульяна.
Павел угрюмо молчал.
Мать успела оправиться и стала снова спрашивать его о
Лукьяне. Слушая его, она несколько раз утирала слезу.
— Да,— с горечью закончил Павел.-—Остались мы все,
как стадо без пастыря.
— Бог не оставит,— сказала она сдержанно.
«Павлу быть выбрану, потому — после Лукьяна он
первый»,— мелькнуло у нее в голове.
Видеть сына во главе своей общины и затем всего сонара
было мечтой ее жизни, перед которой смолкал даже
материнский страх за его безопасность. Несмотря на искреннюю
печаль по Лукьяне, ее материнское честолюбие
зашевелилось в ней вместе с опасением, как бы Павел по своей
скромности не испортил собственного дела.
Она заговорила сама о трудном времени, которое
предстоит пережить их общине, о возможности гонений.
— Попы нас теперь не оставят, раз напали на след,—
сказала она.— Убивши пастыря, захотят рассеять и стадо.
Нужно нам стоять крепко и блюсти и пещись, чтобы у нас
было кому постоять за правую веру и делом и словом; чтобы
был такой, кто искушен в писании и тверд и мог бы других,
укрепить и козни и прелести вражьи разгадать и
обнаружить. Тебя теперь выберут,— сказала она,— так будь готов.
Ты один можешь заместить Лукьяна и приять его
служение.
Она сказала это совершенно просто, как вещь, которая
сама собой разумеется. Но Павла эти слова почему-то
взорвали.
440
—- Матушка,— вскричал он,— если вы мне это еще раз
скажете, я уйду из дому,— и только вы меня и видели!
— Что с тобой, голубчик? — удивилась мать.— Чем я тебя
огорчила?
— Еще не остыло тело его во гробе, а мы уже тянемся:
кто будет первый между нами?
— Да разве я что? — оправдывалась Ульяна.— Я только
говорю тебе то, что завтра все скажут.
— Матушка!
— Ну не буду, не буду. Бог с тобой.
После ужина Ульяна не пошла оповещать братию, как
собиралась, решивши, что успеется завтра: скверные вести
на замок запирай, а хорошие за дверь посылай. Она видела,
что сыну не по себе, что с ним что-то неладное, и ей
хотелось остаться дома.
Павел ушел в свою светелку, служившую вместе и
молельней, и зажег маленькую керосиновую лампочку, которая
осветила небольшой стол, скамейку и полку книг в темных
переплетах — его сокровище, источник утешения в скорби
и бодрости в испытании.
Он вспомнил продерзостные слова Валериана
относительно одного из евангелий и нарочно открыл именно это.
«Был болен некий Лазарь из Вифании, из селения, где
жили Мария и Марфа, сестра ее...»,— начал он.
Сколько раз перечитывал он этот рассказ, умиляясь и
торжествуя. Он набожно углубился в него сегодня.
«А что если это все неправда и это все кем-то после
написано?» — шепнул ему какой-то жидкий, противный
голос.
— С нами крестная сила! — в ужасе прошептал Павел.
Он осмотрелся: его нисколько бы не удивило, если бы за
его спиной оказалась рогатая, черная, гримасничающая рожа
самого сатаны.
Но в комнате никого не было, кроме черного кота,
который сидел на столе, насупротив, устремив свои зеленые
внимательные глаза на своего хозяина.
Павел строго на него посмотрел, однако не прогнал: он
был слишком развит, чтобы верить мужицким суевериям и
заподозрить своего Ваську в сношениях с нечистым. Он
снова принялся за чтение. Но рассказ писания утратил свою
волшебную силу. Он уже не воображал себя в Вифании у
ног спасителя плачущим его слезами, умиляющимся его
добротою и ликующим вместе с верными учениками при его
победе над смертью и безверием. Он читал слова, которые
скользили по его мозгу, не проникая ему в сердце.
«А что, если все это неправда?» — раздался в его душе
убийственный, леденящий вопрос — на этот раз громко и
внятно.
441
Яд сомнения был впущен в его сердце, и он не мог и не
умел его вытравить. Он отодвинул дрожащей рукой дотоле
всемогущую книгу.
— Господи, что же это такое? — в ужасе воскликнул он.
В душе его все помутилось.
Слова Валериана, которые, ему казалось, он пропустил
мимо ушей, не прошли для него бесследно. Верил ли он им
теперь больше, чем там, по дороге,— он не мог бы сказать.
Он знал только, что он не может, как тогда, отмахнуться
от них. Они засели в его мозгу, они нарушили гармонию его
внутреннего мира, разбили его душевное спокойствие. Он
умел только верить, и он верил просто, по-детски каждой
строчке писания, как прямому слову божию. Сомневаться в
их правдивости было для него так же невозможно, как
усомниться в свете солнца, в твердости земли. Теперь он
испытывал весь ужас дикаря, видящего, как вдруг померк диск
солнца, или чувствующего, что под его ногами дрожит и
трясется земля. Если можно усомниться в едином слове
писания, то ничто после этого не прочно.
Голова шла у него кругом. Не знакомый с бурями
сомнения, он оробел от первого их приступа и впал в
малодушие. Он считал свою веру погибшей безвозвратно. Мысли,
которые прежде показались бы ему просто безумием,
теперь назойливо лезли ему в голову, и он не умел их
прогнать. Они были до того дики, до того не похожи на его
собственные всегдашние мысли, что он ни на минуту не
сомневался, что им овладел сатана; и он в отчаянии не видел, как
освободиться от его власти.
«Уж не сам ли диавол в образе молодого барчука ехал
со мной дорогою?» — мелькнуло в его раздраженном мозгу.
Простой человек не мог так его испортить.
Холодный пот выступил у него на лбу.
— Господи, спаси и помилуй и отжени лукавого! —
вскричал он, падая на колени и простирая вверх руки.
В эту минуту за его спиной раздался раздирательный
крик, похожий на плач ребенка.
Павел задрожал и обернулся: кот Васька, встревоженный
его волнением, отчаянно замяукал.
Павел с ожесточением швырнул в него полотенцем,
которое первое попалось ему под руку, и выгнал его вон. Ему
показалось, что ему как-то полегчало. Он снова принялся за
книгу. Некоторое время все шло хорошо. Но вот ему
попалось: «Сын Давидов», и тотчас же точно какая-то пружина
привела в движение его мысли и заставила их прыгать в
мозгу, заскакивая и забегая друг за друга.
«Сын Давидов! Но ведь только Иосиф был из племени
Давидова, и он не был его сыном,— при чем же тут царь
Давид?»
U2
Слова звучали такой насмешкой, что Павлу почудилось,
будто кто-то тихо хохочет у него над ухом. Это ядовитое
замечание мог сделать только сам нечистый, потому что об
этом вопросе с Валерианом они не говорили.
Павел встал. Ему было душно; голова горела. В горле у
него пересохло, как после долгого пути по знойной дороге.
Он пошел на кухню, чтобы выпить чего-нибудь.
Ульяна давно потушила огонь, но она не спала,
прислушиваясь. Ей хотелось зайти к сыну, но она боялась, как бы
не помешать ему. Заслышав его шаги, она окликнула его:
— Павел, это ты? Не спится? Здоров ли ты, родной мой?
Спичка чиркнула в темноте. Ульяна зажгла каганец и,
накинув платок на плечи, подошла к нему.
— Что с тобой? На тебе лица нет! — воскликнула она с
испугом.
Павел решил во всем признаться ей. Путаясь и
перебивая самого себя, он стал рассказывать о молодом барчуке,
о том, как они встретились, как он зашел к Морковину и
как они поехали вместе; как они разговорились о писании.
— Ну так что же? — спросила Ульяна, не понимая, что
из этого могло выйти для Павла.
Павел хотел рассказать все, о чем они говорили по
дороге. Но язык пристал у него к гортани.
По тону голоса, по выражению лица матери он
почувствовал, что она решительно ничего не понимает. Ульяна не
спускала с него глаз. Для нее было несомненно, что Павел
заболел.
— Иди, голубчик, усни. Завтра пройдет.
Павел послушался и пошел спать. Но наваждение не
прошло, а ушло вглубь.
Братья собрались на торжественное и печальное моленье,
чтобы почтить память своего первого учителя и мученика.
Собрались все, старые и малые. Когда Павел с матерью
вошли в комнату, там была уже толпа. Он хотел было сесть
у входа, но толпа расступилась перед ними, открыв дорогу
до самого стола, за которым сидели чтецы. Пришлось пройти
вперед и сесть с ними рядом. Ему предложили читать и
вести службу. Но он покачал отрицательно головой, и его
оставили: все понимали, что, как самый близкий друг
покойника, он должен всех сильнее чувствовать его потерю.
Службу повел старик Кондратий, не красноречивый, но
умный, толковый человек, хорошо знакомый с писанием.
Сперва пропели псалом; и потом Кондратий открыл
Новый завет и начал:
— «И слово божие росло, и число учеников весьма
умножилось в Иерусалиме; и из священников очень многие
покорились вере».
443
В комнате воцарилась мертвая тишина. Под
впечатлением только что полученного известия евангельское
повествование получило особое значение. Случаи были так
похожи, что казалось, будто дело идет не о
Стефане-диаконе, а об их собственном учителе и первом мученике
Лукьяне. Гонители Иудеи — это были церковники; фарисеи
и книжники — попы и чиновники, которые, не в силах
будучи одолеть их учителя словом, схватили и убили его в
тюрьме.
Бабы начали всхлипывать. Наклонив голову над столом,
Павел плакал тихими, облегчающими слезами. Светлый и
человеческий образ Лукьяна заслонил на минуту все его
сомнения и огорчения.
Кондратий продолжал между тем читать, ничего не
пропуская. Длинная и скучная историческая вставка в речь
Стефана несколько успокоила собрание. Всхлипывания
утихли. Вздохи стали реже. Все слушали внимательно и
терпеливо. Но вот трагическая развязка приближается.
Стефан кончил свою речь. Но это не Стефан — это об их
Лукьяне пишет апостол. Вот он грозно обличает своих судей в
жестокости сердца, в противлении святому духу, в избиении
пророков, свидетельствовавших до него. И они уязвлены в
самое сердце и скрежещут на него зубами. У всех в
воображении носится не еврейский синедрион в Иерусалиме, а
русская комната с зеленым столом и русскими чиновниками
и попами, перед которыми стоит их брат и учитель. Лица
побледнели. Несколько человек вытирали дрожащей рукой
выступивший на лбу пот. Стоны и вздохи раздались снова.
В тесно набитой комнате чувствовалось жгучее напряжение,
точно вся драма происходила перед глазами этой толпы.
Неистовые судьи и палачи, заткнув уши, бросаются с
каменьями на исповедника.
Голос чтеца дрогнул.
— Убили, убили нашего родимого! — вскричала Анисья.
Раздались крики и плач. Сдержанное волнение
вырвалось наружу. Кондратий смутился. Он хотел избежать
истерии, которой штундисты не любят на своих собраниях. Встав
с своего места, он начал что-то говорить. Но за общим
шумом его голоса нельзя было расслышать.
— Песнь шестую,— сказал он своим соседям, открывая
книжку гимнов. Он запел сам. Человека два подхватили.
Понемногу к ним присоединились несколько других. Пение
размягчило собрание. Волнение улеглось, и печаль утратила
резкую шумливую форму. Вскоре пение стало стройным,
трогательным. Когда оно кончилось, все пришло в
нормальное состояние.
Теперь надлежало говорить проповедь. Все глаза
устремились на Павла. Он чувствовал, что ему следует сказать
444
слово в день моления за покойника. Но он не мог говорить.
Тогда Кондратий встал сам.
— Братья,— сказал он,— нашего учителя, что был нам
отцом и братом, нет более в живых. Другого такого нам не
найти уже. Но не надлежит стаду оставаться без пастыря.
Нужно нам выбрать из себя заместителя ему. Мы уже
говорили об этом с братьями, и мнится мне, что мы единые в
мыслях. Один есть между нами такой. Он млад годами, но
бог умудрил его духом своим не по летам. Покойный
учитель наш, царство ему небесное, его первым призвал. И ему
же довелось принять его последнее наставление и волю.
— Верно, Павла! Никого, как Павла,— проговорило
несколько голосов в толпе.
Павел сделал движение. Но Кондрат еще не кончил.
— Кому дух внушает выбрать Павла, поднимите правую
руку.
Все руки поднялись.
— Кому против?
Против выбора никого не было.
— Брат Павел,— сказал Кондратий, возвышая голос и
обращаясь к нему прямо.— Тебя выбирает братия, мир.
Младший из нас, будь нам старшим братом и наставником.
Пусть дух Лукьяна перейдет на тебя, как дух Ильин на
Елисея, и наставит тебя на всех путях твоих. Вот книги.
Вот причастная чаша. Вручает их тебе мир.
Он достал с полки деревянную простую чашу и поставил
ее на стол.
Павел не смотрел на него. Он встал. Лицо его было
бледно. Он предвидел возможность выбора, но до последней
минуты надеялся, что выберут Кондратия, который, хотя
присоединился к общине недавно, был старше его годами.
В его теперешнем настроении выбор братии был для него
тяжелым испытанием. Все смотрели на него и ждали. Теперь
не говорить было нельзя. Он сделал над собою усилие,
стараясь собраться с мыслями. Но что скажет он?
— Братья,— проговорил он с трудом... Глаза его
потухли, голос звучал как-то дико.
В собрании произошло некоторое смущение. В задних
рядах некоторые поднялись, чтобы посмотреть, в чем дело.
— Братья,— повторил Павел более твердым голосом,
стараясь побороть свое волнение.— Спасибо вам за всю вашу
доброту. Жизни не пожалел бы я, чтобы отблагодарить вас.
А выбора вашего принять не могу. Выберите другого.
Голос его упал, и он прибавил:
— Це знаю, захотели ли бы вы иметь меня братом...
Последние слова вырвались у него невольно, как стон
отчаяния. Их расслышали только Ульяна да Кондратий,
которые были одна — по правую, другой — по левую его руку.
445
Собрание не слышало их, но и того, что Павел сказал
громко, было достаточно, чтобы произвести среди братии
замешательство и недоумение. По тому, как Павел
произнес свой отказ, было ясно, что это не выражение обычной
в этих случаях скромности. Никто не решился его
уговаривать, до такой степени было очевидно, что это было бы
некстати. Что же мог значить этот непонятный и решительный
отказ? Братья стали переглядываться и перешептываться.
— Как же быть? Кого выбрать?
— Братья,— сказал Кондратий,— отложим это дело. Бог
просветит и научит нас всех. Надумаемся мы, и Павел пусть
подумает. Пути господни неисповедимы, и он посылает на
нас всякие испытания.
Никто не возражал, и собрание молча разошлось...
М. ГОРЬКИЙ
ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА
(Отрывки)
На другой день после праздника Троицы — в «Духов
день» — Самгин так же сидел у окна, выглядывая из-за
цветов на улицу. За окном тяжко двигался «крестный ход»:
обыватели города, во главе с духовенством всех церквей,
шли за город в поле — провожать икону богородицы в
далекий монастырь, где она пребывала и откуда ее приносили
ежегодно в субботу на пасхальной неделе «гостить», по
очереди, во всех церквах города, а из церквей, торопливо и не
очень «благолепно», носили по всем домам каждого прихода,
собирая с «жильцов» десятки тысяч священной дани в
пользу монастыря.
Самгин смотрел на плотную, празднично одетую, массу
обывателей,— она заполняла украшенную молодыми
березками улицу так же плотно,, густо, как в Москве, идя под
красными флагами, за гробом Баумана, не видным под
лентами и цветами. Так же как тогда, сокрушительно шаркали
десятки тысяч подошв по булыжнику мостовой. Сухой
шорох ног стачивал камни, вздымая над обнаженными
головами серенькое облако пыли, а в пыли тускловато блестело
золото сотен хоругвей. Ветер встряхивал хоругви, шевелил
волосы на головах людей, ветер гнал белые облака, на
людей падали тени, как бы стирая пыль и пот с красных
лысин. В небе басовито и непрерывно гудела медь
колоколов, заглушая пение многочисленного хора певчих. Яростно,
ослепительно сверкая, толпу возглавлял высоко поднятый
над нею золотой квадрат иконы с двумя черными пятнами
в нем, одно — побольше, другое — поменьше. Запрокинутая
назад, гордо покачиваясь, икона стояла на длинных жердях,
жерди лежали на плечах людей, крепко прилепленных один
к другому,— Самгин видел, что они несут тяжелую ношу
свою легко.
447
За иконой медленно двигались тяжеловесные, золотые и
безногие фигуры попов, впереди их — седобородый, большой
архиерей, на голове его — золотой пузырь, богато
украшенный острыми лучиками самоцветных камней, в руке —
длинный посох, тоже золотой. Казалось, что чем дальше
уходит архиерей и десятки неуклюжих фигур в ризах,— тем
более плотным становится этот живой поток золота, как бы
увлекая за собою всю силу солнца, весь блеск его лучей.
Течение толпы было мощно и все, в общем, своеобразно
красиво. Самгин чувствовал это.
Но он предпочел бы серый день, более сильный ветер,
больше пыли, дождь, град,— меньше яркости и гулкого
звона меди, меньше — праздника. Не впервые видел он
«крестный ход» и всегда относился к парадам духовенства
так же равнодушно, как к парадам войск. А на этот раз он
усиленно искал в бесконечно текущей толпе чего-нибудь
смешного, глупого, пошлого. Вспомнил, что в романе
«Воскресение» Лев Толстой назвал ризу попа золотой рогожей,—
за это пошленький литератор Ясинский сказал в своей
рецензии, что Толстой — гимназист. Было досадно, что икону,
заключенную в тяжелый ящик киота, люди несут так легко.
— Марина была бы не тяжелее, но красивее,
величественнее...
...Толпа прошла, но на улице стало еще более шумно,—
катились экипажи, цокали по булыжнику подковы лошадей,
шаркали по панели и стучали палки темненьких старичков,
старушек, бежали мальчишки. Но скоро исчезло и это,—
тогда из-под ворот дома вылезла черная собака и, раскрыв
красную пасть, длительно зевнув, легла в тень. И почти
тотчас мимо окна бойко пробежала пестрая, сытая лошадь,
запряженная в плетеную бричку,— на козлах сидел Захарий
в сером измятом пыльнике.
— Значит — далеко ехать,— сообразил Самгин, поспешно
оделся и вышел к воротам. Захарий, молча кивнув ему
головой и подождав, когда он уселся, быстро погнал лошадь,
подпрыгивая на козлах, точно деревянный. Город был
пустой, и шум раздавался в нем точно в бочке. Ехать
пришлось не долго; за городом, на огородах, Захарий повернул на
узкую дорожку среди заборов и плетней, к двухэтажному
деревянному дому: окна нижнего этажа были частью
заложены кирпичом, частью забиты досками, в окнах верхнего
не осталось ни одного целого стекла, над воротами дугой
изгибалась ржавая вывеска, но еще хорошо сохранились
слова: «Завод искусственных минеральных вод».
...Лошадь осторожно вошла в открытые двери большого
сарая,— там в сумраке кто-то взял ее за повод, а Захарий,
448
подбежав по прыгающим доскам пола к задней стенке
сарая, открыл в ней дверь, тихо позвал:
— Пожалуйте!
Самгин, мигая, вышел в густой, задушенный
кустарником сад; в густоте зарослей, под липами, вытянулся
длинный одноэтажный дом, с тремя колоннами по фасаду, с
мезонином в три окна, облепленный маленькими
пристройками,— они подпирали его с боков, влезали на крышу. В этом
доме кто-то жил,— на подоконниках мезонина стояли цветы.
Зашли за угол, и оказалось, что дом стоит на пригорке и
задний фасад его — в два этажа. Захарий открыл маленькую
дверь и посоветовал:
— Осторожно.
В темноте под ногами заскрипели ступени лестницы,
распахнулась еще дверь, и Самгина ослепил яркий луч солнца.
— Подождите минутку, я — сейчас! — тихо сказал
Захарий и, притворив дверь, исчез.
Самгин снял шляпу, поправил очки, оглянулся: у окна,
раскаленного солнцем,— широкий кожаный диван, пред
ним, на полу,— старая истоптанная шкура белого медведя,
в углу — шкаф для платья с зеркалом во всю величину
двери; у стены — два кожаных кресла и
маленький,'круглый стол, а на нем графин воды, стакан. В комнате душно,
голые стены ее окрашены голубоватой краской, и все в ней
как будто припудрено невидимой, но едкой пылью. Самгин
сел в кресло, закурил, налил в стакан воды и не стал пить:
вода была теплая, затхлая. Прислушался, в доме было
неестественно тихо, и в этой тишине, так же как во всем, что
окружало его, он почувствовал нечто обидное. Бесшумно
открылась дверь, вошел Захарий,— бросилось в глаза, что
волос на голове у него вдвое больше, чем всегда было, и они —
волнистее, точно он вымыл и подвил их.
— Пожалуйте,— шепотом пригласил он. — Только —
папироску бросьте и там не курите, спичек не зажигайте!
Кашлять и чихать тоже воздержитесь, прошу! А уж если
терпенья не хватит,— в платочек покашляйте.
Он взял Самгина за рукав, свел по лестнице на шесть
ступенек вниз, осторожно втолкнул куда-то на мягкое и
прошептал:
— Вот, садитесь, отсюда все будет видно. Только уж,
пожалуйста, тихо! На стене тряпочка есть, найдете ее...
В темноте Самгин наткнулся на спинку какой-то мебели,
нащупал шершавое сиденье, осторожно уселся. Здесь было
прохладнее, чем наверху, но тоже стоял крепкий запах пыли.
— Посмотрим, как делают религию на заводе
искусственных минеральных вод! Но — как же я увижу? Подвинув
ногу по мягкому на полу, он уперся ею в стену, а пошарив
по стене рукою, нашел тряпочку, пошевелил ее, и пред
29 Против тьмы
449
глазами его обнаружилась продолговатая, шириною в палец,
светлая полоска.
Придерживая очки, Самгин взглянул в щель и
почувствовал, что он как бы падает в неограниченный сумрак, где
взвешено плоское, правильно круглое пятно мутного света.
Он не сразу понял, что свет отражается на поверхности
воды, налитой в чан,— вода наполняла его в уровень с
краями, свет лежал на ней широким кольцом; другое, более
узкое, менее яркое кольцо лежало на полу, черном, как земля.
В центре кольца на воде, — точно углубление в ней,—
бесформенная тень, и тоже трудно было понять, откуда она?
— Какой-то фокус.
Напрягая зрение, он различил высоко под потолком
лампу, заключенную в черный колпак,— ниже, под лампой,
висело что-то неопределенное, похожее на птицу с
развернутыми крыльями, и это ее тень лежала на воде.
— Не очень остроумно,— подумал Самгин, отдуваясь и
закрыв глаза. Сидеть — неудобно, тишина — неприятна, и
подумалось, что все эти наивные таинственности, может
быть, устроены нарочно, только затем, чтоб поразить его.
Под полом,, в том месте, где он сидел, что-то негромко
щелкнуло, сумрак пошевелился, посветлел, и, раздвигая
его, обнаруживая стены большой продолговатой комнаты,
стали входить люди — босые, с зажженными свечами в
руках, в белых, длинных до щиколоток рубахах,
подпоясанных чем-то неразличимым. Входили они парами, мужчина и
женщина, держась за руки, свечи держали только
женщины; насчитав одиннадцать пар, Самгин перестал считать.
В двух последних парах он узнал краснолицего свирепого
дворника Марины и полоумного сторожа Васю, которого он
видел в «Отрадном». В длинной рубахе Вася казался
огромным и, хотя мужчины в большинстве были рослы,— Вася
на голову выше всех. Люди становились полукругом перед
чаном, затылками к Самгину; но по тому, как торжественно
вышагивал Вася, Самгин подумал, что он, вероятно,
улыбается своей гордой, глупой улыбкой.
Огни свеч расширили комнату,— она очень велика и,
наверное, когда-то служила складом,— окон в ней не было, не
было и мебели, только в углу стояла кадка, и на краю ее
висел ковш. Там, впереди, возвышался небольшой в
квадратную сажень помост, покрытый темным ковром,— ковер был
так широк, что концы его, спускаясь на пол, простирались
еще на сажень. В средине помоста — задрапированный
черным стул или кресло.— Ее трон,— сообразил Самгин,
продолжая чувствовать, что его обманывают.
Он сосчитал огни свеч: двадцать семь. Четверо мужчин —
лысые, семь человек седых. Кажется, большинство их, так
же как и женщин, все люди зрелого возраста. Все молчали,
450
даже не перешептывались. Он не заметил, откуда появился
и встал около помоста Захарий; как все,— в рубахе до
щиколоток, босой, он один из всех мужчин держал в руке
толстую свечу; к другому углу помоста легко подбежала
маленькая,— точно подросток,— коротковолосая, полуседая
женщина, тоже с толстой свечой в руке.
— Сейчас появится она, все эффекты готовы,— решил
Самгин.
Марина вышла не очень эффектно; сначала на стене, за
стулом, мелькнула ее рука, отбрасывая черный занавес,
потом явилась вся фигура, но — боком; прическа ее зацепилась
за что-то, и она так резко дернула рукою материю, что
сорвала ее, открыв угол двери. Затем, шагнув вперед, она
поклонилась, сказав:
— Здравствуйте, сестры и братья по духу!
Полсотни людей ответили нестройным гулом, голоса
звучали глухо, как в подвале, так же глухо прозвучало и
приветствие Марины; в ответном гуле Самгин различил
многократно повторенные слова:
— Матушка, родимая, владычица духовная...
Каждый из них, поклонясь Марине, кланялся всем
братьям и снова — ей. Рубаха на ней, должно быть,
шелковая, она — белее, светлей. Как Вася, она тоже показалась
Самгину выше ростом. Захарий высоко поднял свечу и,
опустив ее, погасил,— то же сделала маленькая женщина и все
другие. Не разрывая полукруга, они бросали свечи за спины
себе, в угол. Марина громко и сурово сказала:
— Так исчезнет свет ложный! Воспоем славу
невидимому творцу всего видимого, великому духу!
В сумраке серый полукруг людей зашевелился,
сомкнулся в круг. Запели нестройно, разноголосо и даже
мрачно — на церковный мотив:
Пресветлому началу Поклоняемся духовно!
Всякого рождения, Ни о чем не молим,
Единому сущему, Ничего не просим,—
Ему же нет равных Просим только света духа
И во веки не будет, Темноте земной души...
Самгин видел фигуру Марины, напряженно пытался
рассмотреть ее лицо, но оно было стерто сумраком.
— Вероятно, это она сочинила,— подумал он. Круг
людей медленно двигался справа налево, двигался всей массой
и почти бесшумно, едва слышен был шорох подошв о
дерево пола. Когда кончил петь, заговорила Марина:
— Зажигайте огонь духовный!
У чана с водою встал Захарий, протянул над ним руки в
широких рукавах и заговорил не своим, обычным, а
неестественно высоким, вздрагивающим голосом:
29*
451
— Сестры и братья, четвертый раз мы собрались
порадеть о духе святе, да снизойдет и воплотится пречистый
свет! Во тьме и мерзости живем и жаждем сошествия силы
всех сил!
Круг вращался быстрее, ноги шаркали слышней и
заглушали голос Захария.
— Отречемся благ земных и очистимся,— кричал он.—
Любовью друг ко другу воспламеним сердца!
Плотное, серое кольцо людей, вращаясь, как бы
расталкивало, расширяло сумрак. Самгин яснее видел Марину,—
она сидела, сложив руки на груди, высоко подняв голову.
Самгину казалось, что он видит ее лицо — строгое,
неподвижное.
— Привыкли глаза. Она, действительно, похожа на
статую какого-то идола.
— Испепелится плоть — узы дьявола — и освободит дух
наш из плена обольщений его,— выкрикивал Захарий,—
его схватили, вовлекли в хоровод, а он все еще кричал, и ему
уже вторил тонкий, истерический голос женщины:
— Ой — дух! Ой — свят...
— Рано! — оглушительно рявкнул густой бас. — Куда
суешься? Пустельга!
На место Захария встал лысый бородатый человек и
загудел:
— Тут есть сестры-братья, которые первый раз с нами
радеют о духе. И один человек усумнился: правильно ли
Христа отрицаемся! Может с ним и другие есть. Так
дозволь, кормщица наша мудрая, я скажу.
Марина не пошевелилась, а круг пошел медленнее, но
лысый, взмахнув руками, сказал:
— Ходите, ходите по воле! Голос мой далече слышен!
Он густо кашлянул и продолжал еще более сильно:
— Мы — бога во Христе отрицаемся, человека же —
признаем! И был он, Христос, духовен человек, однако —
соблазнил его сатана и нарек себя сыном бога и царем правды.
А для нас — несть бога, кроме духа! Мы — не мудрые, мы —
простые. Мы так думаем, что истинно мудр тот, кого люди
безумным признают, кто отметает все веры, кроме веры в
духа. Только дух — сам от себя, а все иные боги — от разума,
от ухищрений его и под именем Христа разум же скрыт,—
разум церкви и власти.
Нечто похожее Самгин слышал от Марины, и слова
старика легко ложились в память, но говорил старик долго, с
торжественной злобой, и слушать его было скучно.
— Вероятно — лавочник, мясник какой-нибудь,—
определил Самгин, когда лысый оратор встал в цепь круга и
трубным голосом крикнул:
— Шибче! Ой — дух, ой — свят!
452
— Ой свят, ой дух,— несогласно и не очень громко
повторили десятки голосов, женские голоса звучали визгливо,
раздражающе. Когда лысый втиснулся в цепь, он как бы
покачнул, приподнял от пола людей и придал вращению круга
такую быстроту, что отдельные фигуры стали
неразличимы, образовалось бесформенное, безрукое тело,— на нем, на
хребте его подскакивали, качались волосатые головы,
слышнее, более гулким стал мягкий топот босых ног,
исступленнее вскрикивали женщины, нестройные крики эти
становились ритмичнее, покрывали шум стонами.
— Ой — дух, ай — дух!
— Ух, ух,— угрюмо звучали глухие вздохи мужчин.
Самгин, мигая, смотрел через это огромное, буйствующее
тело, через серый вихрь хоровода на фигуру Марины и ждал,
когда и как вступит она.
Ему определенно не хотелось, чтоб она выступала. Так,
в стороне от безумного вращения людей, которые
неразрывно срослись в тяжелое кольцо и кружатся в бешеном
смятении, в стороне от них,— она на своем месте. Ему казалось
даже, что, вместе с нарастанием быстроты движения людей
и силы возгласов, она растет над ними, как облако, как
пятно света,— растет и поглощает сумрак. Это продолжалось
утомительно долго. Самгин протер глаза платком, сняв
очки,— без очков все внизу показалось еще более
бесформенным, более взбешенным и бурным. Он почувствовал, что
этот гулкий вихрь вовлекает его, что тело его делает
непроизвольные движения, дрожат ноги, шевелятся плечи, он
качается из стороны в сторону, и под ним поскрипывает
пружина кресла.
— Воображаю,— сказал он себе, и показалось, что он
говорит с собою откуда-то очень издали.— Глупости!
В щель, в глаза его бил воздух — противно теплый,
насыщенный запахом пота и пыли, шуршал куском обоев над
головой Самгина. Глаза его прикованно остановились на
светлом круге воды в чане,— вода покрылась рябью, кольцо
света, отраженного ею, дрожало, а темное пятно в центре
казалось неподвижным и уже не углубленным, а выпуклым.
Самгин смотрел на это пятно, ждал чего-то и соображал:
— Вода взволнована движением воздуха, темное пятно —
тень резервуара лампы.
Это было последнее, в чем он отдал себе отчет,— ему
вдруг показалось, что темное пятно вспухло и образовало в
центре чана вихорек. Это было видимо только краткий
момент, две-три секунды, и это совпало с более сильным
топотом ног, усилилась разноголосица криков, из тяжко
охающих возгласов вырвался истерически ликующий, но и как бы
испуганный вопль:
— И на-кати-ил, и нака-ти-ил...
453
Кто-то зарычал, подобно медведю:
— Ух, ух!
Кольцеобразное, сероватое месиво вскипало все яростнее;
люди совершенно утратили человекоподобные формы, даже
головы были почти неразличимы на этом облачном кольце, и
казалось, что вихревое движение то приподнимает его в
воздух, к мутненькому свету, то прижимает к темной массе под
ногами людей. Ноги их тоже невидимы в трепете длинных
одеяний, а то, что под ними, как бы волнообразно взбухает и
опускается, точно палуба судна. Все более живой и крупной
становилась рябь воды в чане, ярче — пятно света на ней,—
оно дробилось; Самгин снова видел вихорек в центре темного
круга на воде, не пытаясь убедить себя в том, что воображает,
а не видит. Он чувствовал себя физически связанным с
безголовым, безруким существом там, внизу; чувствовал, что
бешеный вихрь людской в сумрачном, ограниченном
пространстве отравляет его тоскливым удушьем, но смотрел и
не мог закрыть глаз.
— Шибче, братья-сестры, шибче!—завыл голос
женщины, и еще более пронзительно другой женский голос
дважды выкрикнул незнакомое слово:
— Дхарма! Дхарма!
В круге людей возникло смятение, он спутался,
разорвался, несколько фигур отскочили от него, две или три упали
на пол; к чану подскочила маленькая, коротковолосая
женщина,— размахивая широкими рукавами рубахи, точно
крыльями, она с невероятной быстротой понеслась вокруг
чана, вскрикивая голосом чайки:
О, Аодахья!
О, непобедимый!
Захарий, хватая людей за руки, воссоединил круг, снова
придал вращению бешеную скорость,— люди заохали,
завыли тише; маленькая полуседая женщина подскакивала,
всплескивая руками, изгибаясь, точно ныряя в воду, и, снова
подпрыгивая, взвизгивала:
Дхарма! Дхарма!
О, Чудомани,
Солнечная птица,
Пламень вечный!.*
Люди судорожно извивались, точно стремясь разорвать
цепь своих рук; казалось, что с каждой секундой они
кружатся все быстрее и нет предела этой быстроте; они снова
исступленно кричали, создавая облачный вихрь, он
расширялся и суживался, делая сумрак светлее и темней;
отдельные фигуры, взвизгивая и рыча, запрокидывались назад, как
бы стремясь упасть на пол вверх лицом, но вихревое враще-
454
ние круга дергало, выпрямляло их,— тогда они снова
включались в серое тело, и казалось, что оно, как смерч,
вздымается вверх выше и выше. Храп, рев, вой, визг прокалывал
и разрезал острый, тонкий крик:
Дхарма-и-и-я...
Круг все чаще разрывался, люди падали, тащились по
полу, увлекаемые вращением серой массы, отрывались,
отползали в сторону, в сумрак; круг сокращался,— некоторые,
черпая горстями взволнованную воду в чане, брызгали ею в
лицо друг другу и, сбитые с ног, падали. Упала и эта
маленькая неестественно легкая старушка,— кто-то поднял ее на
руки, вынес из круга и погрузил в темноту, точно в воду.
Самгин уже ни о чем не думал, даже как бы не
чувствовал себя, но у него было ощущение, что он сидит на краю
обрыва и его тянет броситься вниз. На Марину он не смотрел,
помня памятью глаз, что она сидит неподвижно и выше всех.
Глаза его привыкли к сумраку, он даже различал лица тех
людей, которые вырвались из круга, упали и сидят,
прислонясь к чану с водою. Он видел, как Захарий выхватил,
вытолкнул из круга Васю; этот большой человек широко
размахнул руками, как бы встречая и желая обнять кого-то, его
лицо улыбалось, сияло, когда он пошел по кругу,— очень
красивое и гордое лицо. Плавно разводя руками, он
заговорил, отрывисто и звучно, заглушая тяжелый шум и точно
вспоминая слова забытые:
— Дух летит... Витает орел белокрылый. Огненный.
Поет — слышите? Поет: испепелю! Да будет прахом... Кипит
солнце. Орел небесный. Радуйтесь! Низвергните. Кто
властитель ада? Человек.
Два голоса очень согласно запели:
— Силою сил вооружимся,
Огненным, духа кольцом, окружимся
Плавать кораблю над землею,
Небо ему парусом будет.
Круг пошел медленнее, шум стал тише, но люди падали
на пол все чаще, осталось на ногах десятка два; седой,
высокий человек, пошатываясь, встал на колени, взмахнул
лохматой головою и дико, яростно закричал:
— Богам богиня — вонми, послушай — пора! Гибнет род
человеческий. И — погибнет! Ты же еси... Утешь — в тебе
спасенье! Сойди...
Вскрикивая, он черпал горстями воду, плескал ее в
сторону Марины, в лицо свое и на седую голову. Люди вставали
с пола, поднимая друг друга за руки, под мышки, снова
становились в круг, Захарий торопливо толкал их, устанавливал,
кричал что-то и вдруг, закрыв лицо ладонями, бросился на
455
пол,— в крут вошла Марина; и люди снова бешено, с визгом,
воем, стонами, завертелись, запрыгали, как бы стремясь
оторваться от пола.
Самгин видел, как Марина, остановясь у чана, распахнула
рубаху на груди и, зачерпнув воды горстями, облила сначала
одну, потом другую грудь.
Вскочил Захарий и, вместе с высоким, седым человеком,
странно легко поднял ее, погрузил в чан,— вода
выплеснулась через края и точно обожгла ноги людей, они взвыли,
закружились еще бешенее, снова падали, взвизгивая, тащились
по полу,— Марина стояла в воде неподвижно, лицо у нее
было тоже неподвижное, каменное. Самгину казалось, что он
видит ее медные глаза, крепко сжатые губы,— вода доходила
ей выше колен, руки она подняла над головою, и они не
дрожали. Вот она заговорила, но в топоте и шуме голосов ее
голос был не слышен, а круг снова разрывался, люди, отлетая
в сторону, шлепались на пол с мягким звуком, точно
подушки, и лежали неподвижно; некоторые, отскакивая,
вертелись одиноко и парами, но все падали один за другим или,
протянув руки вперед, точно слепцы, пошатываясь, отходили
в сторону и там тоже бессильно валились с ног, точно
подрубленные. Какая-то женщина с распущенными волосами
прыгала вокруг чана, вскрикивая:
— Слава! слава!
Самгин почувствовал, что он теряет сознание, встал,
упираясь руками в стену, шагнул, ударился обо что-то гулкое,
как пустой шкаф. Белые облака колебались пред глазами, и
глазам было больно, как будто горячая пыль набилась в них.
Он зажег спичку, увидел дверь, погасил огонек и, вытолкнув
себя за дверь, едва удержался на ногах,— все вокруг
колебалось, шумело, и ноги были мягкие, точно у пьяного.
— Кошмар,— подумал он, опираясь рукою о стену,
нащупывая ногою ступени лестницы. Пришлось снова зажечь
спичку. Рискуя упасть, он сбежал с лестницы, очутился в той
комнате, куда сначала привел его Захарий, подошел к столу
и жадно выпил стакан противно теплой воды.
— Зачем она показала мне это? Неужели думает, что я
тоже способен кружиться, прыгать? — Он понимал, что
думает так же механически, как ощупывает себя человек,
проснувшись после тяжелого сновидения.
Где-то внизу все еще топали, кричали, в комнате было
душно, а за окном, на синем, горели и таяли красные облака.
Самгин решил выйти в сад, спрятаться там, подышать
воздухом вечера; спустился с лестницы, но дверь в сад оказалась
запертой, он постоял пред нею и снова поднялся в комнату...
Вбежал Захарий... и, задыхаясь, сердито забормотал:
— Что же это вы... ходите? Нельзя! А я вас ищу,
испугался! Обомлели?
456
Он схватил Самгина за руку, быстро свел его с лестницы,
почти бегом протащил за собою десятка три шагов и, посадив
на ворох валежника в саду, встал против, махая в лицо его
черной полою поддевки, открывая мокрую рубаху, голые
свои ноги. Он стал тоньше, длиннее, белое лицо его
вытянулось, обнажив пьяные, мутные глаза,— казалось, что и
борода у него стала длиннее. Мокрое лицо лоснилось и
кривилось, улыбаясь, обнажая зубы,— он что-то говорил, а Самгин,
как бы защищаясь от него, убеждал себя:
— Танцор, плясун из трактира. — Было неприятно, что
этот молчаливый, тихий человек говорит так много.
— Все сомлели во трудах радости о духе. Радение-то,
ведь, радость...
— Я пойду,— сказал Самгин, вставая; подхватив его под
руку, Захарий повел его в глубину сада, тихонько говоря:
— Да, уж идите! Лошадь нельзя, лошадь — для нее.
Подвел к пролому в заборе и, махнув длинной рукой,
сказал:
— Налево, мимо огородов, до часовни, а уж там увидите.
Самгин пошел, держась близко к заборам и плетням,
ощущая сожаление, что у него нет палки, трости. Его
пошатывало, все еще кружилась голова, мучила горькая сухость вс
рту и резкая боль в глазах...
Л. СЕЙФУЛЛИНА
ПЕРЕГНОЙ
(Отрывок)
...Про Ленина разговор больше в Небесновке. Народ
книжный в ней живет. Сектанты. Как из России сюда
пришли, хвалили. На небеса, говорят, попали. Так и прозвали
Небесновка. Все сектанты для чтения писания священного
грамоте обучены. От Тамбовки," хоть одно село Тамбовско-
Небесновское, столбами с доской отгородились. И доска для
грамотных. Белым по черному прописано: Небесновка —
мужского пола 495 человек, женского 581. Под самой доской
почти крайний дом тамбовский, а народ разный. В
Небесновке почище. В Тамбовке тоже кто пообразованней и
помоложе— о Ленине осведомлен, а бабы да старики про
большевиков слыхали одно: войну кончают.
Старшина Жиганов из Небесновки был. Солдаты
тамбовские отменили его от должности. А сейчас не разбери-бери
какое правление. Солдат Софрон верховодит. На сходке к
Жиганову прицепился:
— Эй, ты, ботало молоканско! Каки слухи про нову
власть распускаешь?
Немалого роста Софрон и плечистый, а жигановские
глаза на него сверху черным блеском дразнятся. На голову
выше Жиганов. И не робкий, но сметливый. Зря в драку
не полезет.
— Чего, как петух на куру, наскакиваешь? Что в городе
слыхал, то и рассказал. Мне брехали, и я брехал. Почем
купил, по том и продаю.
Мужики уж дышат на них, сгрудились. Приезжий с
мандатом чай пить ушел. Сход не расходился. Собрать из домов
трудно, а как соберутся деревенские — не разгонишь.
Туго мозги поворачиваются. Пока все выспросят, много
часов пройдет.
За Жиганова наставник сектантский Кочеров вступился:
458
— Гражданин Софрон Артамонович, нехорошо этак на
морду налезать! ^Алексей Иванович — человек с интересом.
Узнал в городу — сообщение предоставил. А ежели
заблуждение вышло...
Софрон — человек без резона. От тихой вразумительной
речи Кочерова взбеленился, заорал, зычно, на весь большой
класс. В школе все сходы собирались.
— Товарищи! Граждане! Небесновка вся — кулаки!
Сладко поют, им не верьте. Сейчас я вам слово скажу! Как
я сам председатель этого митингу, слово скажу!
И сразу за стол, откуда речи говорились. Солдаты
отпускные к нему подались. Солдатки и голытьба из-за
оврага, где бедность осела, тоже за ним. Небесновские за
купцом из Тамбовки Сычуговым было к дверям, да шепот
жигановский им быстро передан был:
— Не расходитесь! Кочеров Софрону отчитку делать
будет!
Кудрявый рыжий волос Софронов всегда торчком над
головой, как сиянье. Борода тоже рыжая, и нет в ней
степенности. Клочковатая, во все стороны. И в глазах
строгости нет. Одна синь, в гневе темнеющая, но без свинца.
Оттого нестрашная.
— Товарищи! Богатеи Небесновки нас сомущают. Мы на
фронту кровь проливали, они — которы за богом прятались!
Вера, дескать, не дозволят на войну идти! А сейчас им опять
нашу кровь подавай! Котора власть за войну, энту им надо!
Нашу не надо.
Гулом сход отозвался:
— Правильно! За богом-то сидючи, брюхо нагуляли!
— И наши на войне были! Одни добротолюбовцы
отказывались!
— Мы каторги не боялись, на войну не шли! '
— Теплоухов только-только с каторги вернулся...
— Дело говори! Это все слыхали!
— Теплоухов у них в каторге! А у наших руки, ноги
оторваты! Это тебе как?
— Ни за што почиташь!
— Не шли бы и вы!
— Ах, ты, пузо наливное! Земли-то в вечну
награбастали! На семьи хватит, и на каторгу можно...
— Старались бы, так и у вас в вечну...
— Чего разговаривать! Бей их, толстомордых!
— Тише! Слово дайте сказать!
— Слобода слова...
— Говори, Софрон!
— Нечего говорить! Все слыхали!
Шум разрастался. Голоса свирепели.
Во всю грудь Софрон, чтобы перекричать:
459
— Товарищи! Опосля посчитаемся! Этак не слыхать!
По череду все скажем.
Жиганов всех успокаивал:
— Помолчить! Помолчить! Кочеров ему завертку сде-
лат!
Стихли. В глухом, рассерженном, но затихающем
ворчании ясный, густой голос Софрона заиграл:
. — Товарищи! Вон энти ободранные, заовражные... Энти
нам теперь товарищи! Мы то есть вам товарищи! А небес-
новские мужики богатые. Им все равно, чья земля. Им все
равно, коли нас опять в окопы. Дарданеллов им надо! Вот
каки они! Они нас сомущают — все от бога. От писания.
Им ладно на бога-то уповать. Богатому легче войти в
царство небесное. На земле жиром наливаются, а помрут...
Жиганов не выдержал. Зычным окриком из толпы:
— Клеплешь на священное писание! Там сказано:
бедному легче войти в рай...
Софрон затряс кудлатой головой. Распалился. Яростно,
громче прежнего, будто лбы разбить хотел, в толпу кричал:
— Недосмотр в писании вышел! Богатый человек богу
угоден! Богатый мужик чистый, обходительный. С чего я
псом кидаться стану, когда каждый передо мной шапку
ломает? А бедному всяк по загривку. От этого в ем завсегда
злость. Обязательно! Богатый с господами за ручку, всему
обучен. А бедный-то и молитвы по-матерному вывернет,
потому ничего не понимат! В писании сказано: не укради.
Обязательно украдешь, как трескать нечего! В писании
опять же: не убей. Обязательно убьешь!..
Взревели небесновцы:
— Эт-та хорошо! Значит, крадь, убивай!
— Вот оно, ново-то ученье!
— По словам человека узнают!
— Слыхали, каки болыыевики-те!
— Истинно, острожники у них коноводы!
Заовражные свое:
— Заткни хайло, толстопузый!
— Кого убили? Кого нашински убили?
— А следоват! Бей их, чертей вальяжных!
Старуха Митрофанова поняла: спор на веру перешел.
Дребезжащим выкриком из толпы заовражинских:
— В православной церкви святы дары, а в ихнем,
молоканском, что?
В шуме потонули слова. Задвигались руки, загудели,
засипели, зазвенели разные голоса, все слилось в дикую
музыку стихийно взметнувшегося рева.
Софрон сначала кулаком по столу стучал, потом
табурет поднял. Сиденьем его по столу стал колотить. Затихли
было, но прорвался надрывный выкрик Редькина:
460
— Наша власть! Будя! Они себя пообихаживали!
И опять стон, рычанье толпы, вой и дикий гомон.
Не стояли на месте. Надвигались друг на друга, грозили
кулаками, толкали, теснили, давили. Близилось
побоище.
Кочеров протискался к столу, отвел чей-то увесистый
кулак сильной рукой и, выхватив у Софрона табурет,
застучал им сильно и часто по столу. Небесновцы стихли.
Софрон своих унимал. Опять глухое, стихающее рычанье.
Выделился мягкий, ласковый, приятный басок Кочерова:
— Братья! Злобствие для зверя оставлено, человеку
надо миром и любовью.
Была в мягком голосе привычная властность,
уверенность начетчика. Укротила. Один Редькин плюнул и
выругался в ответ. Остальные замолчали.
— В гневе у человека глаза не видят, уши не слышат.
Зачем так-то? Зачем брат Софрон злобе дал себя оседлать?
За веру свою от старого правительства большое наказание
мы принимали. Из России сюда спасать свою веру унесли.
В чужую сторону пешком с семействами шли. В вечное
владенье землю купили. А как? Этого вы, братья, не
видали? Миром купили, всем миром! Не только что потом,—
кровью наша землица полита. Да, да! Как старо
правительство наших на каторгу гнало, вы тогда нас жалели. На
войну у нас добротолюбовцы только не шли. А много ли их
у нас? Мы, евангелические христиане, шли... У меня- сын
на военной службе. Мы с вами тяготу несем.
Голос, будто священным елеем смазанный, был ласков,
проникновенен, умиротворял. Толпа сникла и сжалась.
Только Софрон крякнул да Редькин больным, звенящим
выкриком запротестовал:
— Книжники! На писанье насобачились...
На него прицыкнули, и он смолк.
Ровно и убедительно говорил Кочеров. Будто капли
успокоительные больному подносил:
— Насчет болыыевицкого учения мы не против. Войны
мы не хотим, как в писании сказано — не убий. Бедного
человека, по писанию, мы также подымать должны. Но
учение человеческое — не божье. Оно всегда с собой муть
грехов наших несет. Отобрать да отдать — обида и зло. Нашу,
к слову, землю как отбирать? Мы не подарком ее взяли.
Все это надо обсудить в мире, в тишине, в спокойствии.
Я поинтересовался насчет болыневицкого учения, в город
съездил. Разузнал, что главный их учитель был Карла
Марксов. Ха-а-ра-шо. Был он человек нерусский, записал
по-иностранному свое учение. Вот узнать бы досконально
подлинность Карлом Марксовым прописанного. Русский народ —
он у нас скоро уверяющий. Как нам подали, так мы и
461
глотаем. Разбору нет у нас в привычке. Насчет образованья,
касательно иностранных языков — слаб. Если к
иностранному несумнительно допустить — Ленин чего приписал, как
узнать? Надо иностранные языки уразуметь и Карло Марк-
сово писание с русским сверить. Вот тогда можно:
пролетарии всех стран! В таком деле, как политика, без
доскональности невозможно. На уразуменье время надо, верных людей
надо, тишину и мир надо. А так, очертя голову в новый
хомут лезть...
Болью подлинной вытолкнуло из тишины свистящий
выкрик Редькина:
— Заливат! Товарищи, глаза вам молоканский начетчик
отводит.
Сразу Кочерова оборвал. Запнулся на слове от
неожиданности.
Софрон крепко, зло и властно крикнул:
— Будя! Напустил туману! Мы едак не умеем!
Товарищи! За землю держится! В ее вцепился, нас обхаживат.
Будя!
Опять многоголосый крик:
— Верно! Правильно! Обхаживат! Заткни глотку!
— Охальники! От слову доброго отвыкли.
— Пущай говорит Ефим Кочеров!
— Правильна изъяснял!
— Дербалызни его по затылку-то, забудет, как
изъяснять!
— Софрон, твое слово! Ты по-нашински!
Но на стол Редькин забрался.
Худой, нескладный, с воспаленным взглядом злых
черных глаз, с яркими пятнами на скулах, он бил себя
кулаком по впалой груди и хрипел со свистом:
— У меня девять ртов! Мои ребята, хучь малые, своими
бы зубами землю выборонили. А игде она? Игде у меня
земля? Ну, игде? Мово брата на войне убили. А игде у его
семейства земля? А этот брат Андрей, вам известно, в
сектанты передался. Кочеров его накормил? Землю.дал? Как
не так! В работниках гнулся. Сын у Кочерова взят! В
портных сидит, в спокое! Ему, Кочерову-то Ефиму, сколько
добра привез, как на побывке был. А он нам заливает! Кабы
у мене достаток!
Выкрикнул, закашлялся, большой плевок крови в руку
выхаркнул, махнул рукой и слез с трудом со стола.
Софрон мигом на его месте вырос. Лицо у него побелело,
глаза будто чернью подернулись, и в первый раз строгим
взгляд стал.
— Товарищи! Нечо долго разговаривать! Мы не
начетчики, не умем. Айда, вот что сделам: записывайся всем
462
миром в большевистскую партию. Больше нам делать
нечего! Эй, Митроха, писарь, айда, записывай!
Заколыхались, встрепенулись, закричали вразброд:
— Вот дак командир!
— Припечатай еще! Антихрист завсегда с печатью.
— Каин тоже меченый!
— Записываться! Правильно!
— Записываться! Записываться!
Софрон старался перекричать всех:
— Скопом, миром за себя постоим! Они нас одурить хо-
чут! Эй, беднота, заовражнински, двигайся! Которы не
запишутся, нет им земли!
— Правильно! Не хотят с народом,— как дурну траву
из поля вон!
— Айда, вываливай, которы не наши!
— Митроха, записывай!
Семнадцатилетний смешливый белобрысый Митроха,
закрывая рот рукой, пробрался к столу. Мигом перед ним
лист серой бумаги.
Но крикнул библиотекарь:
— Товарищи, граждане! Слово прошу.
Все время бурного схода он простоял в кучке у окна.
Там были учительницы, священник и он. Все они давно
шептались, но в передрягу не ввязывались. Шум в глубине
класса не стих, но у стола замолчали.
— Так, граждане, нельзя! В политическую партию так
не вступают!
Софрон вцепился ему в узкое плечо:
— Ты с нами не запишешься? Говори — ты не согласен?
Библиотекарь голову в плечи втянул, еще меньше стал,
но ответил твердо:
— Нет! Вы сами не понимаете, куда лезете!
— А, так. Ладно. Не понимам? А эндаких, понимающих,
нам не надо! Пошел вон к своим богачам!
Неожиданным взмахом руки Софрон схватил его сзади
за воротник и пинком толкнул в толпу. Библиотекарь не
упал только потому, что ткнулся головой в грудь рослого
старика.
Повернув к Софрону бледное, перекошенное обидой лицо,
он взвизгнул по-детски:
— Насильник! Тупая сволочь!
Заовражинские на него кинулись, но стеной закрыли его
небесновцы. И Софрон новым криком остановил:
— Опосля сосчитамся! Подходи записываться! Хто не
запишется, сосчитамся. Узнам, которы наши!
Небесновцы завопили.
Но Митроха уж записывал:
— Крученых Павел с семейством...
463
У стола теснились желавшие записаться.
Кочеров рукой махнул и пошел к выходу. Небесновцы
почти все за ним вышли. Остались только пятеро.
У стола гулом стояло:
— Софрон, а Софрон, бабу отдельно записывать ай
с собой?
— Баб для счету отдельно. Теперь для их права вышли!
Ребятишек не записывай.
— Ой! А как на их земли не дадут?
Солдатка Ульяна к Софрону кинулась:
— Каки права для баб вышли?
В толпе засмеялись.4 Митроха из-за стола звонко крикнул:
— Айда, записывайся!
Взъерошенный, как нахохлившийся воробей, низенький
Артамон Пегих солдатку оттолкнул.
— Записали, и не таранти! Сказано, для счету!
Оживший Софрон будто вырос. Глазами опять радостно
сиял и, поворачиваясь во все стороны, объяснения давал.
Через два часа он передавал на въезжей квартире
оратору из города лист.
— Вот тут сто пятьдесят восемь человек записались.
В большевики. Передайте список, а нам документ пущай
вышлют, что есть мы теперь большевицка партия.
Н. Неврев- Многолетие
М. ПРИШВИН
СКРЫТНИКИ
В глухих, еще нетронутых топором лесах
Архангельской губернии, в этих «пустынях», живут поодиночке в
маленьких избушках или же небольшими группами
пустынники, которые называются здесь скрытниками или
странниками. Полесник иногда наткнется на такую избушку
в лесу у озерка, постучится, войдет. Живет старичок или
старушка, висят темные образа, старинные книги лежат на
полочке, у стены кровать. Бывает и несколько избушек,
иногда маленький огородик, где растет картофель. Полесник
летом отдохнет у избушки, зимой обогреется. Он хорошо
знает, что у этих людей нельзя спрашивать, кто они и
откуда. Но по здешним местам это даже и не удивит никого.
Живут себе люди, скрываются, спасаются.
Эта странническая секта стремится воспроизвести ту
самую жизнь, которой жили первые выговские пионеры.
Их учение так похоже на учение тех аскетов, что кажется,
будто бы и не было столетий опыта. Словно этих старцев
рубка леса испугала и заставила перейти в более глухие
места. Подойдет бревенная вывозка сюда, и они уйдут еще
глубже, в Архангельские леса, вместе с медведями, лосями
и оленями.
Хотя Выговская пустынь уничтожена и недавно, но вы-
говцы, или поморцы, давно уже не были господами всей
беспоповщины. По мере того, как они вживались в общую
жизнь и шли на соглашения с окружающей средой, от них
отделялись те, которые не шли на уступки и основывали
новые секты.
Прежде других отделились федосеевцы. Разногласие
вышло из-за брака. Устроители Выговского общежития, как
известно, приняли монастырский устав: члены общежития
должны были всю жизнь оставаться безбрачными. Но хорошо
это было выносить первым идейным и сильным аскетам,
Против тьмы
465
когда между идеей и жизнью оставалось лишь истощенное,
изможденное веригами и постом тело. По мере же того, как
гонения ослабевали, в общежитие со всех сторон стал
стекаться обыкновенный люд, который искал лишь точки
опоры, занятий. Удержать от соединения «сена с огнем»
стало невозможно. «И у нас, в Выговской пустыне,—
пишет Иван Филиппов,— стали умножаться грехи, беззакония
и всякие неправды, их же и писати невозможно, срама ради».
Андрей Денисов как человек очень практический, сохраняя
монастырский устав в самом Данилове, стал отсылать
врачующихся в скиты, а после него мало-помалу поморцы и
вообще признали брак. Но другая группа беспоповцев,
с Феодосием во главе, не пошла на соглашение и, не
признавая брака в принципе, на деле допускала вопиющие
отступления. Вместе с вопросом о браке было, конечно,
много и других разногласий, разделивших беспоповщину на
два враждебных толка — поморцев и федосеевцев. Много
было споров и доказательств с обеих сторон. Из всех этих
попыток разрешить величайший жизненный вопрос
замечательно учение Ивана Алексеева. Так, желая доказать, что
беспоповщинская церковь должна признавать браки,
венчанные в никонианской церкви, он рассуждает так. Брак
отличается от других таинств тем, что в нем передача
благодати не связана необходимо с совершением известного
обряда. Потребность плодиться и размножаться заложена
самим богом в природу живых существ. Сущность таинства
и составляет эта заложенная богом потребность, в связи
с любовным согласием брачующихся. «Церковное действо»
есть только формальность, простой «общенародный
обычай», дающий браку «общенародное согласие», а иерей —
лишь свидетель союза от лица общины. Раньше,
независимо от всякого «чина», действовал «закон естественный», а
потом, чтобы сделать брак прочным, появился «закон
писаный» и вместе с тем «чин». Это сознавала и
древнехристианская церковь, которая не повторяла таинства брака над
семейными людьми, переходившими в нее из других вер.
Беспоповская церковь должна следовать этому примеру и
признавать браки, венчанные в никонианской церкви, что
есть лишь публичное засвидетельствование брака, а самое
таинство совершается богом и «взаимным благохотением
жениха и невесты».
Иван Алексеев, однако, при своей жизни не мог
провести .свою идею. Лишь мало-помалу его учение было усвоено
в Выгореции, и образовались два толка: поморский —
брачующихся и федосеевцев — девственников. Третий толк —
филипповцев — возник в то время, когда выговцы, под дав-
лением правительства, принуждены были признать молитву
за царя. В это время Филипп, основатель толка, бросил
466
кадило и вышел из часовни со своими последователями.
Он стал проповедовать, что не только Петр, но все
последующие за ним императоры русские — антихристы. А когда
его стали преследовать, он сжегся со своими учениками.
Искушение св. Антония.
Гравюра XVI в.
На пепле сгоревших возник самый мрачный и
непримиримый толк беспоповщины — филипповский.
Но, вероятно, в самой жизни уже не было тех условие
которые создали когда-то раскольничье учение. Не успевал
возникший толк просуществовать некоторое время, как
начинал уже дробиться на новые и новые фракции. Дело
дошло до того, что в настоящее время в Поморье, как мне
30*
467
рассказывали, в одной и той же избе и семье на печке лежит
представитель одного толка, а на лавке сидит — другого.
Очевидно, «в мире» не было места всем этим учениям.
Нужно создать такое учение, которое бы исключало всякую
возможность соглашения с «миром». Нужно сделать так,
чтобы в миру человеку не было никакой возможности
укрепиться, устроиться, отнять у него возможность долго
оставаться с людьми; нужно, чтобы он вечно переменял места,
вечно странствовал или жил в одиночку в пустыне, как
жили первые отцы.
Вот эти идеи и охватили основателя страннической секты
Езфимия, человека убежденного, религиозного, с железной
энергией и вечно непримиренной совестью. Искания
пылкой души были в его природе, но неблагоприятные
жизненные условия еще более обострили его требования к жизни;
всю свою жизнь он только и думал, «где бы найти место
спокойное для души своей». Он был из духовного звания,
певчим в Переяславле. Потом его взяли в солдаты. Условия
военной жизни были совсем противны натуре Евфимия, и
он бежал. Он сначала сошелся с филипповцами, но после
ряда неудачных попыток повлиять на них, с большими для
себя неприятностями, должен был оставить их скит и уйти
в Ярославль.
Тут он начал проповедовать свои идеи и скоро достиг
некоторого влияния. Беспокойной душе Евфимия в какой-то
бесконечной дали рисовалась прекрасная, спокойная,
райская жизнь. На земле же, по его убеждению, царствует
антихрист, и нужно бежать, бежать, как бежал Лот, не
оглядываясь назад, не справляясь с прошедшим. Разве может
быть спасение там, где царствует зверь, первый рог
которого был царь Алексей Михайлович, а второй — сын его
Петр. Алексей Михайлович помог Никону нарушить благо-
верие, а Петр ввел народную перепись, разделил людей на
разные чины, размежевал земли, реки и усадьбы; он
завещал «каждому наблюдать свою часть, не дав другому
ничего», учредил цехи и другие богопротивные установления,
восстановил междоусобную брань, своры и бой... Царская
власть — это икона сатаны, а все воинские и гражданские
власти — его бесы; все повинующиеся царской власти
кланяются иконе сатаны. Мир близится к концу: для чего
распахивать нивы, сеять семена, когда не удастся пожать их,
для чего созидать города, когда нельзя будет в них жить.
Один только и есть исход: бежать от антихриста. Сам бог
сказал: «Всяк, иже остави дом, или брата, или сестру, или
отца, или матерь, или жену, или чада, или село, имени моего
ради, сторицею приемлет и живот вечный наследит».
Странники не должны иметь личной собственности, а
жить во имя Христа. Евфимий на основании св. Писания
468
доказывал, что даже слово «мое» происходит от диавола и
что бог все сотворил общим для всех людей.
В жизни учение Евфимия, однако, должно было
примириться с некоторыми отступлениями. Так, последователи
страннического учения разделяются на две группы:
странники, или скрытники,— пустынники в полном смысле слова,
и странники-христолюбцы, которые живут в миру
обыкновенной жизнью, но под конец должны перейти в первую
группу.
Прежде, чем оставить Выговский край, я стал
расспрашивать, как бы мне сойтись со скрытниками. Советовал:!
мне сделать так: взять с собой старую икону, чашку, одеться
по-местному и поселиться где-нибудь у христолюбцев в
любом доме; потом, на глазах хозяев, креститься двумя
перстами, пить из своей чашки, молиться своей иконе и
потихоньку попросить хозяев не говорить о себе полиции. Тогда
будто бы сейчас же и откроются двери всех скрытников-
христолюбцев, а вместе с тем и настоящих скрытников, ко^
торые живут часто тут же в потайных местах. Но эта
комедия была мне не по душе. Наконец, один батюшка
посоветовал мне так:
— Придите вы в Пулозеро, остановитесь у Мухи. Это
интересный, оригинальный человек, скрытник-христолюбец.
Он очень начитан по-славянски, религиозный, прекрасно и
по-своему устраивает семью. У него отличный новый дом,
будет удобно. Но только, чтобы табаку — ни-ни! Вам даже
от чаю отказаться придется, у него самовара нет. Вы про
охоту разговаривать любите, так он у нас первый
истребитель зверей. Он расскажет и про скрытников, если
сойдетесь с ним.
Я так и решил сделать. По дороге в Пулозеро, чтобы
завести разговор о Мухе, я сказал провожавшему меня
старому полеснику Филиппу, что хотел бы остановиться у
Мухи, да не привык без чаю жить, а, говорят, у него
самовара нет.
— У Мухи самовара нет! — воскликнул Филипп.— Да кто
тебе это сказал, да в уме ли он! У Мухи все есть. Муха вот за
этакой безделицей не пойдет кланяться к соседу. У Мухи
самовара нет! У Мухи два самовара. Сам он не пьет, дети не
пьют, а если гости придут, пей сколько хочешь! Муха у нас
первый человек. Посмотришь, какую хоромину себе
выстроил. А какой полесник! С Мухой все бывало в лесу, он
наперечет все суземки знает, он может и зверя, и птицу бить.
Странно было слушать такие слова после знакомства с
жизнью выгозерцев. Обыкновенно там мало хорошего
говорят друг про друга. Да и в самом деле, людей
хозяйственно устроенных, не жалующихся на свое скудное житье и,
в то же время, со стойкими взглядами почти не приходилось
469
встречать. И вот, в стороне от всех, в невылазных дебрях
прекрасно устроился человек, да так, что все завидуют,—
и еще исповедует религиозное учение, которое отвергает
всякую собственность. Но почему же разбогател Муха?
— Полесник он...— неопределенно ответил Филипп.—
Сына в Поморье посылает...
И замялся, словно почуяв возможность вопроса: да и ты
же полесник, и у тебя дети есть? «Что же! — верно, думал
он.— В самом деле, подняться у нас нечем: лес, вода и
камень, а вот Муха поднялся...» Мялся, мялся Филипп,
наконец сказал...
— Муха, видишь ли, скуп...
Разгадка найдена, дальше можно уже говорить
полупрезрительно:
— А что и жизнь-то в лесу без людей: чайку не попить,
да и водки не выпить. Пустынник он, вот и может жить.
У себя в доме — что царь, а посмотри на него, как попадет
куда-нибудь на свадьбу. Сидит себе один; горячую воду
нальют ему в стакан и пьет. Да ск-у-у-ш-но же так!.. Ну, и
так сказать: скуп — не глуп, себе добра ищет.
Уж после моего визита к Мухе сказочник Мануйло
рассказал про его разживу такую легенду.
В глухих лесах, окружающих деревни Пулозеро и Хиж-
озеро, в разных местах живут пустынники. Одни из них
живут на месте, но другие скитаются, переходят в Поморье,
из Поморья опять назад, в Ярославль, в Москву. И ни один
из них не пройдет мимо Мухи, все они находят у него
приют. Кроме того, Муха, как полесник, знающий все су-
земки и все орги и конабры, доставляет им в лес муку,
книги, новости... И вот раз будто бы Муха провожал в лес
богатого скрытника, а он и умер по дороге. Муха схоронил его
и после того выстроил дом тысячный.
Это, конечно, выдумки, потому что никто же не видал,
как хоронил Муха скрытника и брал деньги, но роль Мухи
среди скрытников указана верно, вот почему я и привел
здесь это объяснение.
Деревушка Пулозеро очень маленькая: несколько
маленьких изб, несколько изб заколоченных, очевидно
покинутых хозяевами, не выдержавшими условий жизни в этой
залесной, заглушённой сторонушке. Из темных домиков
особняком выдвигается большой, красивый двухэтажный
«тысячный» дом Мухи. .
Когда мы подошли, на крыльце этого дома стояла
пожилая женщина, босая, с подтянутой высоко юбкой, как
вообще здесь принято. Она взволнованно кричала, глядя на
возвращающееся стадо:
— Нет уж, нет, если не вернулась, то уж и не видать
больше. А кто виноват? Звирь? Нет, не звирь. Ему тоже
470
есть нужно, звирь тоже богом создан, звирь без толку есть
не станет. А это колдуны проклятые друг другу пакостят,
а за них отвечай. Топили этого Максимку, не утопили,
пакостника.
Успокоившись, хозяйка стала ставить нам самовар.
Хозяин должен был скоро возвратиться с озера. Вот тут-то я и
совершил непростительную ошибку, за которую потом
поплатился ночным покоем.
У староверов курить нельзя. Я это знал и выходил
курить в сени, не скрывая своей привычки и стараясь
показать, что я хотя и курю, но уважаю их правила. Ту же
систему принял я и у Мухи. Вышел на крыльцо да и
покуриваю, любуясь закатом солнца на озере.
Вижу, подъезжает лодка, на корме кто-то с большой
бородой, двое гребут. Тут мимо меня пронеслась хозяйка с
берданкой в руке и с собакой на вязке. Бородатый кормщик
взял ружье, собака прыгнула в лодку, и через минуту лодка
чуть чернелась на той стороне губы у леса... Кормщик был
хозяин, и — узнал я после — только страх за пропавшую
корову в лесу, необходимость немедленно ехать и искать
удержали его от того, чтобы не выгнать меня, «табашника»,
из дому. А я, ничего не подозревая, курил себе да курил.
Было уже поздно; старушка хозяйка предложила мне
отдохнуть на кровати за пологом; лег и уснул. Разбудил
меня какой-то неопределенный шум. Вдруг вижу, полог мой
раздвинулся, и показалось бородатое лицо с лохматыми
волосами.
— А кто у меня тут лежит на кровати? — послышался
сердитый голос.
Молчу. И что я мог сказать!
— Сейчас же говори; где родился, откуда идешь, куда и
по какой надобности.
А я и не понимал, какое величайшее оскорбление
наносилось мне как гостю. Скрытники ни в каком случае не
спрашивают друг друга, откуда они родом. Вообще и по
отношению к другим эта привычка считается у них дурным
тоном. Подчеркивая вопросы и разбивая их на категории,
он усиливал их действие.
Но как раз то, что считалось особенно обидным, мне и
понравилось. Чувствовалось, что это не обыкновенная
мещанская брань, а мотивированное недовольство. Что
отвечать на такие вопросы? Я встал и начал одеваться.
Старику, видимо, это понравилось, он начал помягче: —
Ведь я тебя не знаю, ты мой дом спалишь, а дом тысячный;
ребят нету, жена одна, мало ли что ты можешь сделать.
Наши женки что понимают... Ну, ложись, завтра разберем.
Ложи-и-ись! А то — как хочешь...
Я лег, и мы расстались до завтра.
471
Утром я осмотрел комнату. Везде чисто, аккуратно.
На стене два ружья и пороховницы, на полке большая книга
и на ней очки, в углу икона,— вернее, черная доска. Хозяин
вошел и остановился у двери. Он посмотрел на меня косым,
подозрительным, неприятным взглядом. Так, вероятно,
подстерегает медведя этот истребитель зверей, знаменитый
полесник. Но в то же время лицо его, с аккуратным
пробором посредине головы, с допетровской бородой, которой
не касались ножницы и которая, оканчиваясь скрученными
прядями, делает всякое лицо похожим на лицо Никиты
Пустосвята,— говорило о чем-то совсем ином. Возьмет
такой человек ружье со стены, наденет шапку, комарник,
кошель — и будет полесник; расчешет волосы, наденет очки,
развернет старинную книгу — и будет староверческий
начетчик. Такому человеку нужно быть всегда настороже: то
он ожидает медведя, то прислушивается к словам, чтобы
дать ловкий ответ.
Начали мы разговор, конечно, с медведей. Корову удалось
ему благополучно доставить домой. К моему удивлению,
Муха, этот начитаннейший по здешним краям человек, тоже
объяснил мне, что колдуны пакостят, и пуще всех Максимка.
Сам же Муха не только не берет отпуска скотине, но и
вообще презирает всех, кто у них берет.
— Это слабым людям нужно,— говорил он мне.— Я-то
прямо к господу, а они, от слабости, к колдунам. Колдуны же
разобрались, в чем дело, и пакостят.
Желая расположить к себе Муху, я рассказал ему о
полковнике, который ищет на севере дешевых берлог, и сообщил
ему адрес.
Муха был очень доволен. «Конечно,— говорил он,— это
занятно господам. Только страшного тут, как тебе говорил
полковник, ничего нет. Бил я медведей без счета, и ни разу
он меня не поранил. Медведя господь покорил человеку».
Поговорили о нужде, о камнях на поле, о зябелях, о том,
как земство жмет и казна. С каждым словом Муха
убеждался в моей осведомленности. Наконец, не выдержал и
воскликнул: «Ну и башка!»
С этого момента мы и стали друзьями. Муха начал уже
спокойно рассказывать о всех недочетах местной
администрации. Оказывается, и тут политика, да еще какая! Тут, в
этой же деревушке, живет лесник. Он должен охранять
казенные леса. Этот лесник, как и всякий человек, кажется
счастливцем для всех: такой же мужик, как и все, он
получает 100 рублей жалованья в год и может ничего не делать.
Но субъективно он несчастлив: жалованье отучает его от
работы неблагодарной, больше чем каторжной; он —
начальство, и вот он вечно боится за себя и за семейство, что, в
случае чего, его прогонят с места. У лесника огромная власть;
472
он может очень стеснить всех, и все должны являться к
нему «на покор», кто с чем. Любопытный и характерный для
этих мест эпизод рассказал мне о леснике Муха.
Один полесник в то время года, когда стрелять лосей
запрещено, убил лося, как говорят здесь, «свернул кокору».
Потом он подтащил его к деревне и закрыл хвойными
ветвями. Лесник заметил это и, когда охотник ушел домой,
подтащил лося к своей избе, снял кожу, а мясо посолил и
уложил в кадку. Охотник, узнав об этом, не пошел «на
покор», но даже подал жалобу на лесника. Поднялся было
скандал. Приехал лесничий, и дело уладилось просто: на
охотника был составлен протокол задним числом, а лесник
получил домашнюю нотацию от лесничего. Кончилось тем,
что охотник отсидел за убитого лося.
— Дармоеды! — заключил свой рассказ Муха.— А был я
в Повенце,— продолжал он,— о, господи, сколько их там:
дармоед на дармоеде. Для чего они?
Понемногу я убедился, что «дармоед» в устах Мухи
относилось не только к плохому чиновнику, леснику, а вообще
ко всем, кто извлекал свои доходы не так, как он, великий
труженик, непосредственно из леса, воды и земли. В Повекце
дармоеды, а дальше-то? Но дальше Муха нигде не бывал.
Он знает только по книгам, что дальше начинается
бесконечно огромное тело антихриста.
Так с политики наш разговор постепенно перешел и на
религиозные вопросы. Как только Муха заметил, что я этим
интересуюсь, он забыл свою подозрительность и
преобразился. Передо мной сидел не полесник, и не начетчик-
старик, а юноша-энтузиаст, с пламенной верой. Он
рассказывал мне, как он только в 50 лет понял от скрытников
«душевную» науку, стал учиться грамоте по славянским книгам
и в течение 15 лет перечитал все, что можно было достать в
лесах.
— Эх, Михайло,— говорил он,— есть гражданская наука,
а есть душевная. Это тоже наука. Я тебе вот что скажу: что
ты знаешь, того мы близко не знаем; что мы знаем, того ты
близко не знаешь. А если ты хочешь по этому делу идти, то
все узнаешь, мы тебе все укажем, на все дадим ответ. Я тебе
не отвечу, найдутся умнее меня. Здесь не найдутся, из
Ярославля ответ дадут, без ответа не оставим... Вот недавно в
Каргополе беседа была: привезли полтораста пудов книг от
нас и полтораста от них...
Такие беседы стало возможным для скрытников
устраивать лишь после 17 октября, а раньше было опасно. Старик
рассказал мне, как однажды их собрали на беседу, да тут же
перевязали и отправили в Сибирь.
— Мы благодарим государя, что дал свободу, мы по нем
скорбим... Вот Алексей Михайлович сначала какой был, а
473
потом, под конец жизни, и покорился... Говорить стало
свободнее, а из лесов выйти невозможно...
— Да почему же? — спросил я.
— А паспорта-то! Им же дадут петровские паспорта...
Ведь Петр паспорта завел, а кто был Петр?..
Муха умолк и значительно посмотрел на меня. Петр был,
по мнению Мухи, антихрист.
Скрытники, по смыслу учения, конечно, не должны были
иметь паспортов и, таким образом, выйти из лесов, в самом
деле, для них дело почти невозможное. Но не только
паспорта им запрещены, а даже за простой ответ на вопрос
«откулишний» полагается 18-дневный пост, т. е. почти
полное голодание. Однажды, рассказал мне Муха, один
пустынник от постоянного чтения книг ослабел глазами. Что делать?
Купить очки в больнице? Но там фельдшер, акушерка
первым делом спросят: откуда? Странникам только и можно
сказать: «Мы странники божьи, ни града, ни села не имамы».
Наконец, удалось потихоньку растолковать доктору дело; он
понял, и когда скрытник пришел в больницу, то ни один
человек не спросил его, откуда он.
— Ты говоришь: из лесов выйти. Хорошо, позовут нас к
государю. Ведь тогда уж надо рассказать все... до конца...
А разве он выдержит? Не-ет, брат, не выдержит. То же будет,
что с соловецкими монахами, как их солдаты на лед
выводили, да в ердан окунали, да за ребра вешали. И все тут
видели, как ангельские душки в сорочицах на небо отлетали...
Все это в книгах прописано, все есть в челобитной. Ай
сходить в сарай за книгой? Схожу.
Муха принес распространенную между староверами
челобитную соловецких монахов Алексею Михайловичу и
заставил читать; но так как я читал плохо,,поправлял меня,
забегал вперед, очевидно зная наизусть содержание книги.
Бесконечная вера в букву написанного, очень понятная не
только потому, что Муха — староверческий начетчик, но и
потому, что он выучился грамоте уже пятидесяти лет от
роду, делала наш богословский диспут скучным. Кое-как
удалось перевести разговор на семью. Муха очень жалел,
что не мог мне показать своих молодцов: все были на сенокосе.
— Главное дело в семье,— говорил он,— распоряда
хорошая, тогда всем хорошо. А у меня распоряда справедливая,
оттого и всем нам хорошо, и вот своими руками дом
тысячный состроили...
Хотя Муха и обещался меня проводить к скрытникам в
лес, но у меня не оставалось времени. При прощанье старик
вдруг смутился, вспомнил, как он встретил меня в своем
доме. «Прости ты меня»,— сказал он. И тут же признался, что
смутил его табак. Расстались мы большими друзьями...
Н. ВАСИЛЬЕВ
АМЕРИКА С ЧЕРНОГО ХОДА
(Отрывок)
Летом в Вашингтоне атмосфера так насыщена теплой
влагой, что сравнение ее с атмосферой парной бани вовсе не
является преувеличением. При этом упаси вас боже
показаться на центральных улицах с расстегнутым воротом или
без пиджака,— это будет такое нарушение
респектабельности, что вы рискуете стать объектом неприязненного
внимания.
Особенно невыносим Вашингтон в июле. По
воскресеньям, как уже знает читатель, я обычно спасался у моих
гостеприимных друзей на ферме «Кристальный источник».
Но однажды Петр Семенович пригласил меня для
разнообразия провести ближайшее воскресенье в горах Блу-ридж, в
штате Вирджиния. Там значительно прохладнее, чем в
Вашингтоне. Поездка туда на машине занимает не более двух
часов.
И вот в субботу, под вечер, наша маленькая компания
выезжает из города на пятиместном крайслере моего
приятеля. За рулем Петр Семенович, я — рядом с ним, а
женская половина компании — на заднем сиденье.
Переехав по высокому мосту через Потомак, являющийся
южной границей Вашингтона, мы попадаем в его
предместье Арлингтон, находящееся уже в штате Вирджиния. Наш
крайслер, наконец, выбирается из сплошного потока
машин. Петр Семенович поддает газу, и вскоре мы набираем
скорость, явно превышающую установленный лимит. Но это
не смущает Петра Семеновича. Он знает, что некоторое
нарушение установленной скорости не грозит ему никакими
неприятностями со стороны полицейского инспектора
движения.
В сумерках мы подымаемся на Блу-ридж, первую гряду
обширной горной системы Аппалаччи. Именно Аппалаччи
являются причиной крайней влажности вашингтонского
475
климата. Они препятствуют ветрам, несущим влагу с
Атлантического океана, уносить ее дальше внутрь страны и таким
образом превращают прибрежные местности в некое
подобие парового котла.
Петр Семенович уверенно крутит баранку руля на
прихотливых зигзагах, которые делает дорога. На перевале,
возле придорожного ресторанчика, останавливаемся на
несколько минут, чтобы окинуть взором расстилающийся
перед нами ландшафт. Наверху еще можно различить
очертания покрытых густой растительностью мягких горных
склонов, а внизу, в узких долинах, уже сгущается мрак.
Кое-где на склонах виднеются домишки под красными
крышами. В них уже начинают зажигаться огни.
Мы ночуем в маленькой гостинице по ту сторону горной
гряды. Конечно же здесь дышится куда легче, чем в
Вашингтоне. Ночью не приходится прибегать к помощи
электрического вентилятора, порождающего насморки и
простуды. Мы спим спокойно и наутро встаем бодрые и
освеженные.
Программа времяпровождения, предложенная нам
Петром Семеновичем, исчерпывается уже в первой половине
дня. Не спеша мы осматриваем крохотный городишко
Лорэй, живущий, кажется, только за счет туристов,
расположенную вблизи него подземную галерею пещер с
причудливыми сталактитами и сталагмитами и какую-то
колокольню с «поющими» колоколами, которые, однако, в
момент нашего посещения безмолвствуют.
Вторую половину дня Петр Семенович рекомендует
посвятить поездке по окрестностям. Его инициатива
одобряется единогласно. Маршрут выбирает он сам.
В долине реки Шенандоа, между второй и третьей
грядой Аппалаччей, мы наталкиваемся на «Змеиную ферму»
миссис Кирби, что и определяет все последующие
впечатления этого дня.
«Змеиная ферма» представляет собой своего рода
миниатюрный музей, коллекционирующий всевозможных змей и
за небольшую плату демонстрирующий их проезжим
туристам.
Пожилая дородная хозяйка фермы миссис Кирби
показывает нам своих питомцев, свернувшихся клубками в
ящиках из металлической сетки. Мы видим тут разнообразные
породы ядовитых и неядовитых змей. Окружающая
местность изобилует ими. Особенное внимание привлекают
гремучие змеи и красноголовые медянки. Американская
медянка, иначе — мокасиновая змея, отличается от медянки,
водящейся у нас: она значительно больше и опаснее.
Чтобы оживить довольно скучный осмотр, хозяйка
просовывает сквозь сетку тонкую палочку и поддразнивает змей.
476
Некоторые из них относятся к этому довольно равнодушно
и ограничиваются лишь тем, что высовывают длинный,
раздвоенный на конце язык. Самыми раздражительными
оказываются гремучие змеи. Когда их тревожат палкой, они
приводят в движение трещотки из роговых колец,
находящиеся у них на конце хвоста. Треск продолжается и после
того, как мы отходим от ящиков.
Кроме змей на ферме есть и некоторые другие
диковинки, вроде чучела теленка о двух головах, но они кажутся
лишними в этом царстве пресмыкающихся.
Впрочем, «Змеиная ферма» не только музей, но в то же
время и торговое заведение. Мы узнаем, что любой из
экспонатов фермы может быть куплен по сходной цене.
Я высказываю дородной хозяйке предположение, что ее
покупатели — это какие-нибудь научные учреждения или
зоопарки.
— О, нет! — отвечает она с оттенком пренебрежения.—
С ними большого бизнеса не сделаешь. Посылаю я им раз-
два в год по десятку гадюк или медянок, но все это мелочи.
— Так кто же их у вас тогда покупает? — с
недоумением спрашиваю я.
— Больше всего местные жители,— отвечает хозяйка.
— Зачем же они им нужны?
Мои вопросы, видимо, кажутся хозяйке наивными.
— Вы, я вижу, приезжие люди, да к тому же, вероятно,
и иностранцы,— говорит она с явной снисходительностью.—
Ну, конечно, я сразу должна была бы догадаться об этом
по вашему выговору. Он с самого начала показался мне
странным.
Миссис Кирби старается как можно популярнее
объяснить нам, в чем дело. Нельзя сказать, чтобы она делала это
очень вразумительно. Ее речь свидетельствует о низком
уровне культуры и о том, что почтенная хозяйка находится
во власти самых невероятных суеверий и предрассудков.
Вот к чему вкратце сводится ее повествование.
В горных районах штата Вирджиния широко
распространен особый культ «святой веры». По утверждению
миссис Кирби, это единственная «подлинная христианская
религия», которую нечего и сравнивать с выхолощенными
религиями больших городов! Приверженцев культа «святой
веры» можно узнать по различным «знамениям»: они могут
говорить на новых, дотоле неизвестных им языках,
безнаказанно брать в руки ядовитых змей, безбоязненно пить
смертоносную отраву и так далее. Для проверки
искренности своей веры члены секты и в самом деле употребляют
смертельные яды и подставляют себя под укусы ядовитых
змей. Кто не выдерживает испытания и умирает, тот
неверующий. Тому, кто после этого остается в живых, открыта
477
прямая дорога к спасению; еще при жизни ему
присваивается звание «святого», а после смерти обеспечивается
место в царствии небесном.
От сбивчивого рассказа миссис Кирби веет каким-то
зловещим средневековьем. Забыв на время о своем бизнесе, она
говорит с жаром фанатика, ни минуты не сомневающегося
в истинности своих убеждений. Бесспорно, она и сама
принадлежит к этой секте. Внимание, с которым мы ее
слушаем, воодушевляет миссис Кирби. Она чувствует себя чем-
то вроде миссионера, обращающего язычников в свою
веру.
— Да что я вам тут рассказываю! — вдруг восклицает
она.— Ведь вы своими глазами могли бы убедиться в том,
как господь бог возвеличивает своих избранников. Как раз
сегодня они собираются на молитвенное собрание в
графстве Уайз. Вы еще можете успеть к началу, если
поторопитесь. Вход свободный для всех желающих.
Поблагодарив миссис Кирби за ее сообщение, мы
отправляемся на молитвенное собрание в графство Уайз.
Наш путь лежит на юго-запад, к расположенному в
горной долине городку Стоун-Крик.
Когда мы через полтора — два часа приезжаем туда,
собрание уже в полном разгаре. Оно происходит на
просторной лужайке, в тенистой роще, вблизи каких-то деревянных
строений. Обочины грунтовой дороги, ведущей сюда от
шоссе, заполнены машинами устаревших марок, которые
еще нередко встречаются в сельских местностях и
провинциальных городах. Толпа, собравшаяся на лужайке, очень
многочисленна. Тут не меньше тысячи человек.
Мы ставим машину в сторонке и занимаем места в
задних рядах широкого кольца, образованного толпой вокруг
лужайки. На нас никто не обращает внимания.
Все присутствующие стоят. Они сосредоточенно смотрят
на огражденную веревкой небольшую площадку в центре
лужайки. На площадке находится группа мужчин и
женщин. Одеты они не по-воскресному: женщины в
затрапезных платьях, почти все мужчины без пиджаков, с
расстегнутыми воротниками рубашек. Для воскресного
богослужения это не вполне обычно. Идя в церковь, американцы
всегда надевают самое лучшее платье. Однако здесь
необычно не только это, но и все остальное. Как выясняется
позже, люди, стоящие в центре лужайки, как раз и есть
«святые» местные члены секты, созвавшей это собрание для
привлечения новых адептов.
Один из «святых» без пиджака,— по-видимому, пастор
секты (или, может быть, лучше сказать: жрец, шаман?),—
заканчивает проповедь. Мы едва успеваем поймать
несколько последних фраз, призывающих слушателей отре-
478
шиться от заблуждений, отбросить прочь ложные религии и
вступить на путь истинной веры. Пастор обещает
продемонстрировать, каким могуществом обладает эта истинная вера.
Таким образом, ясно, что это лишь вступительное слово к
последующей церемонии. Закончив проповедь, пастор, без
всякого перехода, с внезапной зловещей интонацией
провозглашает:
— А теперь прошу всех тех, кто еще не проникся
божественной верой, оставаться за канатами.
Оказывается, то, что здесь будет происходить, опасно для
жизни непосвященных.
По сигналу пастора раздается не слишком стройная
музыка гитар и тамбурина. В такт музыке верующие громко
хлопают в ладоши и напевают мелодию без слов. Мелодия
звучит все громче и громче, а темп ее убыстряется. Под
эту необычайную музыку несколько человек из группы
«святых» начинают дикую пляску, удивительно
напоминающую модный негритянский танец «джиттербаг». Эта
пляска состоит из резких, почти конвульсивных движений и
временами переходит в какое-то исступленное кружение на
месте. Она сопровождается хриплыми, нечленораздельными
выкриками. Не тот ли это «новый язык», о котором
упоминала миссис Кирби?
На лужайке царит атмосфера непрерывно возрастающего
возбуждения. Когда ритм танца становится бешеным, а
выкрики совершенно исступленными, танцующие один за
другим подбегают к плетеным корзинкам, выхватывают оттуда
змей и, держа их за туловища, продолжают свой танец. По
преобладающей медно-бурой окраске одних и по роговым
наростам других можно безошибочно заключить, что в
руках у сектантов экземпляры наиболее опасных пород —
медянки и гремучие змеи. Это, однако, не смущает сектантов,
к этому времени уже почти потерявших человеческое
подобие. Они, как жонглеры, манипулируют ядовитыми
гадинами, подносят к лицу, целуют их, обвивают вокруг
своей головы — и все это по-прежнему сопровождается
выкриками, неистовой музыкой гитар и тамбуринов, диким
завыванием «святых». Этот жуткий шабаш по своему
дикому изуверству, может быть, превосходит пресловутые
ритуальные пляски дервишей в Турции или даже
самоистязания фанатичных мусульман во время праздника «шах-
сей-вахсей» в Иране.
Я наблюдаю за возбужденными лицами зрителей. Одни
смотрят с таким напряженным вниманием, будто сами вот-
вот пустятся в такой же истерический пляс. А некоторые,
как мне кажется, очень хотят, чтобы именно сейчас, на
глазах у них, змея укусила бы кого-нибудь. Что это?
Стремление зараженной скептицизмом души путем такого жесто-
479
кого эксперимента проверить, не являются ли все эти
«святые» самыми обычными шарлатанами? Или извращенная
страсть к новым и необычайным переживаниям?
Я переглядываюсь с моими спутниками и вижу, что это
зрелище вызывает у них такое же отвращение, как у меня.
Мы без слов понимаем друг друга и молча пробираемся к
машине.
За время пребывания в Соединенных Штатах каждый из
нас познакомился с очень многими фактами, достаточно
хорошо показывающими истинный характер пресловутого
«американского образа жизни». Но, пожалуй, все мы
впервые столкнулись с такими крайними проявлениями
средневекового варварства. Впрочем, тут надо вспоминать даже не
средневековье, а те бесконечно далекие времена, когда наши
предки жили в пещерах и дремучих лесах, поклоняясь
стихиям и животным. Подобные нравы сохранились разве
лишь в джунглях Африки, Борнео и Новой Гвинеи, где еще
живут отсталые народы, стоящие на первобытных
ступенях развития. Но разве мы находимся сейчас в джунглях
Борнео, а не в штате Вирджиния, который дал Америке
Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона? Разве мы
только что были среди папуасов Новой Гвинеи, а не среди
американцев, живущих всего в трех часах езды от
Вашингтона — столицы страны, претендующей на звание самой
цивилизованной и самой передовой державы мира? И, тем не
менее, чем отличаются «святые» штата Вирджиния от
шаманов Новой Гвинеи или Борнео?
Фантастическая сцена, увиденная нами в графстве Уайз,
могла бы показаться нелепым ночным кошмаром, если бы
она не представляла собой одного из уродливых, но —
увы! — вполне реальных проявлений все того же
«американского образа жизни».
По приезде в Вашингтон я навожу справки и выясняю,
что радения изуверской секты не являются
«достопримечательностью» одного графства Уайз, а имеют довольно
широкое распространение. Секта «святой веры» располагает
многочисленными последователями в южных штатах, и в
особенности в горных районах штатов Вирджиния, Джорджия,
Кентукки и Теннесси, где, впрочем, существуют и другие,
не менее изуверские секты.
Просматривая сообщения прессы о ритуальных
сборищах секты «святой веры», я нахожу сведения о многих
смертельных случаях, имевших место во время радений. На
одном из таких радений в Вирджинии змея укусила в руку
беременную жену главы секты Керка. Фанатичная
женщина отказалась от медицинской помощи, надеясь на
целительную силу своей веры. Но, несмотря на ее усердные
молитвы, к которым присоединились Керк и вся его паства,
480
дело кончилось трагически. Преждевременно родившийся
ребенок умер через двадцать минут после своего появления
на свет, а через шесть часов умерла и сама мать.
В штате Теннесси, вблизи Лафоллетта, на глазах у
нескольких сотен своих единоверцев через полчаса после
змеиного укуса умер Джонни Хенсли. Это была уже седьмая
жертва культа в местной общине. Повинуясь дикарской
логике своей веры, фанатики-сектанты совершили над змеей,
укусившей Хенсли, обряд христианского крещения, дали ей
имя умершего и стали относиться к ней с особым
поклонением. По-видимому, в силу этой же дикарской логики за
змеей установилась слава некоего «перста божия»,
помогающего проверять искренность веры сектантов.
Дикарская психология современных шаманов
проявилась и в другом трагическом случае, происшедшем
поблизости от города Чаттануга, столицы штата Теннесси.
Местный «змеиный» пастор Люис Форд, по профессии шофер,
перед началом зловещего религиозного обряда со змеями
заявил корреспонденту одной чаттанугской газеты:
«Возможно, что змея меня укусит и что я от этого умру. Но если
это случится, то будет лишь означать намерение господа
бога доказать неверующим, что наши змеи действительно
ядовитые». Затем Форд вынул из корзины трех медянок.
Находившаяся в корзине четвертая змея вонзилась зубами
ему в палец. Форд даже не попытался сбросить ее. Он
поднял руку и держал ее в таком положении до тех пор, пока
змея сама не разжала челюсти. Через час после укуса он
скончался. На торжественных похоронах Форда по
требованию его жены был совершен обычный «змеиный» ритуал.
Змея, укусившая несчастного, была положена ему на грудь
и похоронена вместе с ним.
Скандальная нелепость самоубийств, публично
совершаемых и публично прославляемых сектантами, в конце
концов вынудила местные власти прибегнуть к официальному
запрету ритуальных радений. Запрет был введен сначала в
штатах Кентукки и Теннесси, а затем и в остальных штатах.
Но, как мы сами убедились во время поездки в горы
Вирджинии, фактически он почти не проводился в жизнь. Были
случаи, когда полиция врывалась на сборище сектантов и,
в пылу административного усердия, убивала нескольких
змей. Но какое практическое значение имела такая мера в
местностях, буквально кишащих ядовитыми змеями и
изобилующих торговыми предприятиями вроде «Змеиной
фермы» миссис Кирби!
Продолжая знакомиться с материалами подобного рода,
я наткнулся в одной вашингтонской газете на весьма
любопытную статью. Корреспондент газеты рассказывал об
интервью, которое он получил ни более, ни менее, как от...
31 Против тьмы
481
ведьмы. Заметьте: не от хиромантки или спиритического
медиума, которых в Вашингтоне и в Любом другом
американском городе насчитывается несметное количество. Нет,
интервью было взято именно у ведьмы. Даже для видавшей
виды газеты это было незаурядное событие, вследствие чего
корреспондент и получил столько места на ее страницах.
В статье приводились сведения о чарах и заклинаниях,
о зельях и снадобьях, которыми ведьма пользуется для того,
чтобы лечить болезни, или, наоборот, для того, чтобы
напустить на кого-нибудь хворь. Далее автор сообщал о том, что
среди местного населения ведьма пользуется прочно
установившейся популярностью. Обо всей этой черной и белой
магии говорилось в совершенно серьезном тоне, без тени
иронии.
После моего личного знакомства с сектой «святой веры»
существование ведьмы в наши дни, или, как любят
выражаться в Америке, в «атомном веке», да еще всего-навсего
в пятидесяти милях от «атомной столицы», уже не
показалось мне удивительным.
Любопытно, что ведьма, давшая интервью, живет в
хижине на склоне горной цепи Блу-ридж, недалеко от
городка, где мы провели то памятное воскресенье. Мы тогда,
оказывается, проезжали мимо местности, где она обитает.
Как мы могли подозревать, что ведьмы еще существуют в
Америке, если из истории нам было известно, что все ведьмы
в этой стране были сожжены или иным образом истреблены
еще в XVII веке? Ведь ни одна страна в мире не приобрела
такой печальной славы своими «процессами ведьм», как
британские колонии в Америке накануне своего
превращения в Соединенные Штаты.
В крупных городах Соединенных Штатов
«просвещенные» деятели религии из кожи лезут вон, чтобы
замаскировать многочисленные проявления наиболее грубых и
вопиющих форм религиозного суеверия. Благодаря их
ханжеским стараниям городские церкви приобретают более или
менее благопристойный, модернизированный или, если
можно так выразиться, «обтекаемый» вид. Что же касается
американской провинции, которую более чем любую иную
можно назвать «глухой», то тут уж шила в мешке никак не
утаишь...
Беспросветно глухая провинция начинается в
Соединенных Штатах чуть ли не с предместий столицы. Секта
«святой веры» — только одна из многих десятков, если не сотен,
подобных сект. Примитивное шаманство, фанатический
разгул страстей и диких инстинктов, не замаскированных
внешним лоском и елейным благочестием, как это делается в
городских церквах,— таков один из духовных аспектов
«американского образа жизни».
482
Правящие классы Соединенных Штатов вполне
равнодушно, если даже не благосклонно, взирают на
непрерывный рост изуверских сект и культов. Лишь изредка
правительство и власти штатов принимают половинчатые меры
против эксцессов, допускаемых участниками этих культов.
О более эффективных мерах борьбы с невежеством,
порождающим религиозные суеверия, например о
распространении среди широких слоев народа знаний и культуры, они
нимало не заботятся. Это и понятно. Бороться с суеверием,
распространяя среди народа знания,— дело опасное. Знания
могут рассеять религиозно-мистический дурман,
окутывающий сознание людей. Сегодня это подорвет примитивные
суеверия фанатических сект, завтра ослабит влияние
«обтекаемых» церквей и вероисповеданий. Кто знает, к чему это
приведет послезавтра? Не станут же правящие классы
Соединенных Штатов своими руками подрывать одну из основ,
на которых зиждется их господство над трудящимися.
31*
СЕРГЕЙ КРУШИНСКИЙ
ТЕПЛЫЕ ГОРЫ
(Отрывок)
Шел петровский пост — спожинки. Лишь в субботу и в
воскресенье устав разрешал две трапезы, в остальные дни
странники1 принимали пищу по одному разу. Старик и
юноша ослабели, но упорно долбили землю. Скоро они
перенесли свои постели в новую нору.
Досифей мечтал о подвижнической жизни, о спасении
своей души, и Харлампий служил ему оплотом. Вечерами,
вдыхая запах сырой теплой земли, юноша просил Харлам-
пия спеть любимый молитвенный стих, и Харлампий тянул
сонным, негромким тенорком:
Я сокроюсь в лесах темных,
Водворюся со зверями,
Там я стану жить.
Там приятный воздух чист,
Там услышу птичий свист,
Нежны ветры тамо дуют,
Токи вод журчат...
Досифей засыпал убаюканный, но утром во время Хри-
стофоровых бесед им снова овладевало беспокойство.
Большак 2, суровый, похудевший, требовал от братии большего,
чем умиление перед матерью-пустыней.
Как-то в новую берлогу спустился Никодим и стал с
увертками, с ужимками рассказывать про чужие земли.
Будто в чужих землях знают одного Христофора, и, когда
в России сменится власть, противникам его придется худо.
Харлампий степенно возразил:
— Из чужих земель завсегда шла на Русь одна ересь.
Баптисты да адвентисты — язык вывернешь. Погани нам
не надо. Сын у меня в миру — большой человек, в целой
1 Сектанты-бегуны. — Ред.
2 Заправила общины Христофор.—Ред.
484
деревне старший, я за него каждый день богу молюсь. Не
лежит моя душа воевать с мирскими.
— Ты отступник, безбожник,— забормотал Никодим.—
Диавол-то тебя — копытцами, рожками, копытцами,
рожками...— и тыкал Харлампия в глаза
рогульками-пальцами.
Досифей не понимал распри. Душевное смятение его
возрастало. Он решил исповедаться и на последней неделе
спожинок говел.
* *
*
— Не гордился ли чем-нибудь? — спрашивал Христофор
Досифея.— Постом? Воздержанием? Молитвой? Голосом?
Пением? Чтением? Речью? Поведением? Походкой?
Одеждой? Умением? Рукоделием? Услужением? Телесной
красотой? Родословием? Ученостью? Обращением с людьми?
Письмом?
Они стояли рядом перед зажженной лампадой. Большак
положил правую руку на голову исповедника. Внимая
торжественному гудению его голоса, радуясь безграничной его
власти над собой, Досифей шептал скорбное «да» или
неуверенное «нет».
— Не вступал ли в прения о вере, не зная дати
подобающего ответа, с верными, а наипаче с неверными? Не говорил
ли кому о братстве нашем? О тайных убежищах наших?
— Нет, не говорил.
— Не имеешь ли пристрастия и чрезмерной любви к
своим бывшим родителям, не тосковал ли о них, не писал
ли к ним писем без разрешения старцев?
— Грешен,—прошептал Досифей. Родителей он не
помнил, но часто мечтал узнать, живы ли они и где находятся.
А Христофор продолжал:
— Для возбуждения смеха не говорил ли что смешное?
Не пел ли? Не рисовал ли?
— Нет, только в мыслях завидовал поющим песни.
— Не ходил ли в театр, или в кино, или на игралище и
сходбище мирское и, придя в келью, не рассказывал ли
еси виденное и слышанное на соблазн и смущение
слушающих?..
— Нет, не было,— прошептал Досифей...
Большак выпрямился и спросил строгим и
беспристрастным голосом:
— Не желал ли по любопытству узнать о грехах
пастыря или духовного отца и келейного старшины, или не
узнал ли тайн, какие тебе не требуется знать?
Досифей признался, что однажды, уже давно, слышал
ропот Харлампия на то, что Христофор ночует в женской
келье, и сам думал об этом без благочестия.
485
— Не слышал ли других наветов Харлампия на матерь
нашу, церковь, и пастырей ее?
Досифей запнулся, ему показалось стыдно ябедничать
на добродушного своего брата, но Христофор сильней сжал
пальцами его голову, и он покорно и испуганно стал
рассказывать, как Харлампий осуждал учение о
самоубийственной смерти... Начав говорить, Досифей хотел сказать
как можно больше, всецело, с чувством облегчения
отдаваясь власти наставника.
Христофор ответил коротко о грехе отступничества и
только тут, наконец, спросил:
— Что тяготит твою душу, зачем так ревностно искал
открыть помыслы?
Досифей заговорил о несчастном дне, когда сестра
Василиса приняла добровольную смерть *. Подстрекаемый
бесом любопытства Досифей тогда у ручья поднял лицо от
земли и увидел седые волосы Василисы, колеблемые тихим
течением, и ее иссохшую руку, судорожно хватающую
воздух над ручьем. Это страшное видение с тех пор не
оставляло его ни днем, ни ночью. И еще один тяжкий грех
лежит на его душе. Когда его посылают в город с изделиями
братии, дьявол водит его под окнами домов, заставляет
наблюдать жизнь мирских, и он не в силах противиться.
А два или три. раза дьявол приводил его к полевому домику
бекляшевского колхоза, и он из-за прикрытия смотрел с
завистью, как молодежь плясала и пела, предаваясь
бесовскому веселью.
— Рука моя бессильна благословить тебя,— сказал
Христофор печально.
— Ужели не буду прощен?
— Молись, убивайся, ибо грех твой велик. Надо,
положить на другую чашу весов целые горы подвигов, чтобы она
перетянула...
...Однажды праздничный, величавый Христофор призвал
юношу и спросил, по-прежнему ли тот готов совершить
подвиг. Тот ответил, что каждый день ждет знака.
— Помнишь, каялся: смущает тебя сатана картинами
неистовства и веселья мирских. Сожгешь их мерзкий
вертеп ночью, как все уснут.
— А люди... успеют выбечь?—запнулся Досифей.
— Сгорят ради избавления от вечного огня. Пусть и
другие содрогнутся. Если услышишь стенания и плач, знай,
еще не отступился от тебя окаянный. Когда же
удостоишься слышать радостное пение спасенных душ,—
1 Сектантка Василиса согласилась на самоубийство, когда
Христофору понадобилось отделаться от нее. Фактически Христофор
утопил ее.— Ред.
486
радуйся как избранник божий. О подвиге никому не
сказывай,— грех. Не ты совершишь — спаситель твоею
рукой.
* *
*
Вечером Досифей на локтях залез под ракитовый куст
у колодца. Пахло здесь мокрым камнем, пылью, дегтем.
За колодцем стоял трактор, изливая двумя сине-дымными
потоками свет на полевой домик, убранный зелеными
ветками, цветами и красными полотнищами. Молодежь
Теплых гор справляла праздник урожая.
Площадка перед домом была чисто выметена, на ней
кружились пары; парни прищелкивали каблуками, девушки
вызывающе смеялись. «Господи, неужели они совершают
смертный грех?» — подумал Досифей и утешился мыслью,
что если бы грех не казался сладким, то и соблазн был бы
невелик.
Он стерег веселящуюся молодежь до глубокой ночи.
Потом огни трактора погасли, умолкла музыка и поляна
опустела. Женщины вошли в домик, мужчины устроились
спать под ометами. Досифей слышал, как шуршали мыши
в соломе, как вскрикивал во сне грудной ребенок в полевом
домике. Ежеминутно ощупывал он потными пальцами
спичечный коробок в своем кармане, шептал молитвы,
придумывал картины адских мук, от которых он должен
избавить всех этих грешников. Но решимость не приходила.
Так он пролежал всю ночь, боясь шелохнуться. Было
еще совсем темно, когда кто-то съехал с омета, подошел
к домику и застучал в окно.
Полевой стан просыпался. Досифей отполз в чащобу
кустов и, согнувшись, побежал к лесу.
До скита Досифей добрался лишь к полночи.
Христофор ждал его на тропе. Только тут Досифей
понял всю тяжесть своего ослушания.
— Не поднялась рука...— признался он большаку,
дрожа от страха.
Христофор повернулся и ушел, скорбный, разгневанный.
Лишь через сутки он призвал юношу к себе и наложил на
него суровую • епитимью: ежедневно отбивать шесть
лестовок поклонов и до исполнения подвига не принимать ни
пищи, ни воды.
Усталый, разбитый, ушел Досифей в келью, которую они
вырыли с Харлампием. Шестьсот раз со всего роста припал
лбом к земле. Шатаясь, дотащился до своего ложа и
погрузился в тяжкое забытье, но ненадолго.
Очнувшись, едва владея рукой, он ощупал карман.
Спички были на месте — он еще мог спастись. Рядом лежал
487
Харлампий. Сперва Досифею казалось, что старец спит, но
потом при свете неугасимой лампады он уловил масленый
блеск харлампиевых глаз.
Досифей прошептал:
— Пить...
Харлампий поднялся и принес полный корец воды. От
мокрого железа шел холодящий запах. Но Досифей
отстранил ковш рукой.
Харлампий лег на свое место. Корец стоял между ними,
поблескивая.
— Христофор епитимью завязал? — спросил
Харлампий.
Досифей молча кивнул.
— Посылает на подвиг?
Досифей опять кивнул.
— Ослушайся.
Досифей смотрел непонимающими глазами.
—* Не в одном Христофоре закон затворен... Ослушайся,
пускай грех падет на мою душу. Тут водворился рябой
Исидор-душегубец: нет в нем истины божией, а Христофор сам
его призвал,— можно ли терпеть? На исповедь должен
принимать особый старец, а не большак. Это все — Христофо-
рова ересь. И епитимью не может он завязать.
— Погибнуть в пакостях мирских грехов?
Досифею представилась вся его жизнь — бесконечное
странствие среди холода и тьмы. И только далеко впереди
мерцал неясный огонек — блаженство загробной жизни.
Так что ж, отвернуться от этого огонька?
— Нет,— решительно ответил Харлампий. Потом,
призадумавшись, продолжал: — Беги. Не Христофору служим,
но богу. Беги в леса, один, как бежали праведники,
жившие прежде нас. Смерть в пустыне угодна господу. Но
рук на себя не накладывай, грех. Лучше умереть от
голода.
— Трудно,— прошептал Досифей.
— Жизнь наша — один миг,— ответил Харлампий.—
Беги. Да не запятнаешь рук своих кровью братьев своих —-
человеков, хотя бы и заблудших.
— Кабы родители были у меня в миру,— с тоской
сказал Досифей.
— Молчи,— остановил его Харлампий.— Молчи и не
думай об этом. Великий грех. Беги, говорю, душу свою
спасай.
— Когда?
— Сейчас. Пока не ослабел от поста
— А ты?
— Христофорова ересь не опасна для меня, я умру в
келье.
488
Досифей решился. Старец благословил его нетвердой
рукой и трижды поцеловал в лоб.
Выбравшись наружу, несколько минут юноша стоял,
бессильно прислонясь к дереву. Потом побрел вперед, сам
не зная, куда. Днем он набрал грибов, подпалил на костре
и съел их разопревшую, дымящуюся мякоть. У него был
целый коробок спичек. И он стал жить в лесу, ночуя
всякий раз на новом месте и питаясь грибами, ягодами,
желудями. Иногда, оказавшись в знакомых местах, ночью он
подходил к бекляшевскому колхозу, но с рассветом убегал.
Силы его истощались с каждым днем. Но он был молод,
и смерть не решилась приблизиться к нему...
* *
*
Больничная няня велела Досифею выйти в палисадник.
Как приятно шуршали в это утро палые листья, как
оглушительно кричали на деревьях скворцы! На скамейках
никого не было.
За углом больничного корпуса начинался большой
фруктовый сад. Оттуда донесся притворно ласковый
старушечий голос:
— Иди, иди сюда, болезный, страдалец мой...
И Досифей пошел. Все погибло! Теперь он понял, что
всегда боялся минуты, когда братья позовут его на свой
суровый суд.
Турысиха уходила в глубину сада. Уже Досифей видел
глухой заросший бурьяном переулок.
У покосившегося забора дворник сгребал листья.
Турысиха остановилась. Иссохшими пальцами ущипнула через
халат руку Досифея, затрясла головой, запричитала:
— Облекся в сатанинские ризы? Греховную пищу
принимаешь? Весь в грехе.— Всхлипнула, продолжала жалобно: —
Сна я через тебя лишилась, болезный. Все видятся мне бесы.
Будто лежишь ты, миленький, в саване, а они кругом тебя
скачут, а сами хватают тебя за язык раскаленными клещами
и тянут, тянут. Неужто осилили? Неужто сказал ты им
тайны о братьях своих, ругательски надругался над матерью
своей — пустыней?
Досифей отрицательно качнул головой. Старуха
рванулась ему навстречу:
— Так и вперед молчи, миленький. Молчи. Мол-чи!
То-то я слышу — бесы пляшут, пляшут, а потом схватятся
рыдать, и уж так они рыдают. Молчи, деточка,— бесы-то
слезами изойдут. На вот, милый, праведной пищи отведай.
Выгонишь бесов из нутря. Самый страшный бес, который
внутри сидит!
489
Турысиха достала из-за пазухи пресную лепешку,
пошептала над ней, перекрестилась, подала Досифею, заставила
тут же съесть. А потом отпустила. Велела уповать на бога
и ждать.
Когда Досифей, осунувшийся и несчастный, притащился
в палату, Николай Иванович стал спрашивать:
— Что с тобой? Расскажи, кто тебя звал-то.
Досифей не ответил. Ему тягостно было среди людей,
добротой которых он так долго пользовался. Он вышел на
веранду и долго сидел здесь на белой табуретке. Мысли его
блуждали по всем тем местам, где когда-либо он побывал,
в памяти мелькали знакомые лица. Но потом все стало
затуманиваться. Что-то больно давило на глазные яблоки.
Досифей с усилием огляделся. Он увидел в углу ворох
палых листьев, но сейчас же вдруг листья превратились в
бутоны цветов. Досифей протянул к ним руку и вдруг
догадался, что это не цветы, а горящие уголья. Он хотел
бежать, но силы изменили ему, и он полетел в открывшуюся
перед ним пропасть, туда, где жарко горели уголья...
Среди ночи Досифей пришел в сознание. Возле него
суетились врачи в белых халатах. Между ними почему-то
был Николай Иванович.
— Кто тебя беленой-то угостил, приятель? — спросил
Николай Иванович.— Говори скорее, что там за старуха
приходила?
Досифей стиснул зубы, чтобы не проговориться. Опять
забытье наплывало на него жарким туманом.
На рассвете он умер...
ВИКТОР ФИНК
ГИБЕЛЬ МИРА
(Отрывок)
Монастырь стоял покинутый и забытый. Богомольцы
показывались редко. Но в ту осень прозвучала, как набат,
возвещенная из монастыря грозная весть. Какой-то монах
Иннокентий предсказывал близкую кончину мира.
Слава побежала по окрестным молдаванским деревням и
селам. Она врывалась во все лачуги, где ютилась нищета.
Она поражала умы. Чудесная и грозная музыка слышалась
нищете в огненных речах монаха о гибели этого страшного
и злого мира.
В монастыре ежедневно происходили чудеса. Калеки
подходили к Иннокентию на костылях, он окроплял их
водой, и калеки бросали костыли и уходили. Прозревали
слепые, глухим возвращался слух. Толпа, потрясенная и
онемелая, впадала в неистовство, люди бились в
истерических припадках, кликуши и бесноватые оглашали
монастырский двор криками и воплями.
Обездоленные и униженные люди стали заполнять
монастырскую церковь. Эти люди трудились всю Жизнь, и
всю жизнь их обманывали, обирали и обкрадывали.
Иссеченное плетьми, напуганное, голодное и темное,
молдаванское крестьянство боялось земных надежд, не
верило им.
Грозные проповеди монаха люди слушали с тревогой и
радостью: он громил зло мира, в котором они страдали, он
предсказывал ему гибель. К тому же люди впервые
понимали слово, обращенное к богу, ибо Иннокентий был
молдаванин и дерзнул говорить в церкви на запретном
молдаванском языке.
В Балту стало стекаться столько народу, что и
Николаевская улица, и переулки, и вся Турецкая сторона скоро
оказались совершенно запружены.
491
Люди прибывали из далеких мест Приднестровья и
Бессарабии. Домики еврейской нищеты скоро оказались
переполнены постояльцами. Больше не хватало мест под
крышами, и люди шли селиться под открытым небом. Все
видимое пространство по ту сторону монастырских и шляхетских
садов — снятые поля, баштаны, пастбища, овраги и
косогоры— все наполнилось странной и томительной жизнью.
Тысячи людей располагались табором под открытым небом
и жили так изо дня в день. Здесь они болели, рождали детей
и умирали. Многие прибывали в Балту с одной лишь
котомкой за плечами. Эти успели дома распродать все свое добро:
домашний скарб, скотину и даже земельные наделы. В Балте
они благоговейно клали вырученные деньги в монастырские
кружки и оставались нищими. Другие привозили натурой.
Скрипя, растворялись ворота, и монастырь поглощал коров,
стада овец, тюки домотканных полотен, вышитых полотенец
и ковров, и возы, на которых добро было привезено, и коней
или волов, которые в эти возы были запряжены. Глядя по
обилию даров, одним жертвователям разрешалось оставаться
в монастырских кельях, другим — во дворе, третьих
выпроваживали за ограду. Бедных, но усердных или вконец
обобранных снаряжали в путь за милостыней. Собранные
даяния монастырь отбирал и благословлял на новый путь.
По дорогам Приднестровья и Бессарабии бродили сотни
таких обобранных в монастыре молдаван. Испуганными
голосами повторяли они весть, шедшую из монастыря.
Но следом за нищетой потянулись люди побогаче.
Из Приднестровья, из Бессарабии прибывали крепкие
молдаване с большими дарами. Таких допускали в покои
к «самому». Жертвователей богатых и- сметливых
Иннокентий назначал своими уполномоченными на местах.
Уполномоченные назывались святыми братьями, апостолами и
пророками.
Жертвователь Софрон Бастаника знавал Иннокентия,
еще когда тот был Ванькой Левзоровым.
— Бей меня, Иван Васильевич,— крикнул он и бухнул
перед «святым» на колени.— Бей меня, окаянного. Виноват
я перед тобой. Ударь! Ударь меня.
Иннокентий взглянул на тощего черноволосого мужика
и сразу узнал: бывший хозяин!
Держал когда-то Бастаника работником молдаванского
парня Ваньку Левзорова, из села Косоуцы, Оргеевского
уезда. За дебоширство и пьянство Ваньку в деревне
прозвали «дракули», что по-молдавански значит «черт».
Частенько приходилось Софрону тыкать батрака в зубы
хозяйским кулаком: за лень, за пьянство, за воровство, за
порчу девок на селе. Ванька никогда не обижался и не уны-
сал: побьет его хозяин днем, а вечером опять слышна его
492
гармошка, и опять он водит хороводы. Но однажды Иван
завел шашни с Соломонией, хозяйской племянницей,
жившей у Бастаники за дочь.
Без двух зубов ушел тогда Иван, с подбитым глазом,
весь в синяках: хозяин дрался поленом.
Ушел и затаил злобу: думал, оглянется господь, удастся
хозяина поджечь.
Но неисповедима судьба человеческая. Не думали ни
Ванька, ни Соломония, ни Софрон, что с этой именно
минуты завьется для Ваньки новая великолепная жизнь.
Ванька устроился на работу в Добрушский монастырь.
Легкая была в те годы жизнь в монастырях. Хоть и
состоял парень всего лишь в пастухах, но святость в глазах
имел и ходил чинно. А в монастыри на тихость, на святость
сколько стекалось народу — мужиков, которых только умей
ухватить, женщин, девушек! Никогда не покинул бы Иван
Добрушского монастыря, если бы не случай. Пошел он
как-то в соседний Кошелевский женский монастырь.
Пошел так себе, как в малинник, к монашкам. И неожиданно
повстречал здесь Соломонию. Девушку затравили дома за
грех, и она ушла в монастырь. Жила она там в грусти и
слезах, не имея вестей от своего дружка, и вдруг увидела
его у монастырских ворот. Встреча вышла трогательная
и бурная. Нечего было влюбленным дальше оставаться в
монастырях, и они уехали в Одессу. Иван вертел
шарманку. Зеленый попугай окаменелым клювом вытаскивал
из ящика билетики с предсказанием судьбы, а Соломония
приятным низким голосом пела «Дойну», старую песню
бессарабских пастухов...
Соломония подбирала медяки, и жилось им с Иваном
хоть небогато, но спокойно.
Но Ивана влекла прежняя нетрудная монастырская
жизнь. Он бросил Соломонию и пошел по монастырям.
Побывал он указным послушником и в Киевской лавре, и в
Ярославском монастыре, и в Александро-Невской лавре,
и в Почаеве-на-Волыни. Это был уже не прежний
простоватый бездельник. Братец Иоанн внимательно ко всему
присматривался и приглядывался. В Почаевской лавре он
слушал исступленные проповеди неистового монаха Илиодора
о «гадах безбожных», об «адове вепре, революцией
именуемом». Монах был могуществен. Полиция помогала ему.
Братец Иоанн долго смотрел на него, слушал, прикидывал
в уме и, наконец, смекнул, в чем дело.
Он вернулся в родные места, обосновался в малоизвестном
Балтском мужском монастыре, постригся в монахи с именем
Иннокентия, принялся за работу и очень скоро пошел в гору.
Прослышал о нем бывший хозяин. Кто б подумал? Был
«дракули» и вдруг — святой, люди вокруг него наживаются!
493
— Бей меня, Иван Васильевич! Бей меня, окаянного!
Не понял я! Виноват!
Бастаника валялся в ногах и вставать не хотел.
Говорить ему пришлось с Соломонией.
Когда Иван Левзоров обосновался в Балте и по
Молдавии прошла весть о нем, к нему неожиданно явилась и Со-
ломония. Она была уже замужем, имела детей, но бросила
все и вошла в дом к Иннокентию как хозяйка. Очень ее
смущало обилие молодых женщин, вертевшихся вокруг
святого. Произошла у нее даже бурная ссора из-за этого
с Иннокентием. Но Соломония смекнула, что ей остается
либо уйти, либо закрыть глаза на все. Она была достаточно
умна и решила взять свое на барышах.
Переговоры с деловыми людьми обычно вела она, не
допуская к ним других женщин. Холодно, немного свысока,
но деловито приняла она и Бастанику.
— Значит, дядя, так,— говорила она.— Об этом вы не
просите, чтоб они вам дали по морде. Когда им потребуется,
они сами вам дадут. Они вам, может, разок-другой по
зубам опосля дадут. Это когда они из себя дьявола
прогонять будут, чтоб он не мешал им с вами о деле говорить
и благословить вас пастырской рукой.
Иннокентий с интересом слушал ее разглагольствования,
а Софрон пыхтел и потел.
— Виноват я! — повторял он.— Не сразу господа узнал.
Виноват я! Бейте меня, окаянного.
— Опосля!—деловито перебила его Соломония.—
А сейчас дело слухайте, дядя! Можем мы вас за апостола
сделать. Чтоб, значит, были вы на селе за апостола. Или
за равноапостольного. Ваше тогда занятие: рассказывать
людям про чудо, про исцеление, про то, как они бесов
изгоняют, одним словом, все чисто, как полагается апостолу.
Вы будете давать разрешение на колодцы, чтоб без божьей
воли колодцев люди не копали, а которые колодцы по
божьей воле, те будут богоявленные. И все чисто, как
полагается апостолу. Учить вас, дядя, не надо, вы сами
ученые. И чтоб народ знал, что Иннокентий, пастырь наш бо-
годухновенный, голубя проглотил и предвещает конец
света. Значит,. так оно и будет. И нехай люди каются,
табаку нехай не курят и копают колодцы. Это вы все
говорите, как полагается апостолу, и господь вас не оставит.
А нам отдадите половину. Яко сказано: радуйся, рот, из
которого течет масло для помазания.
Бастаника стал усердствовать.
— Вот стоит смоковница распустившаяся, и от нее
видна весна. Вот стоит гнев божий, и от него видна
гибель,— тихо и с сокрушенным видом внушал он
односельчанам.— И самое главное — высохнет вода в колодцах,
494
морях, озерах и реках, и погибнут грешники сухой
смертью.
Не было деревни в Приднестровье и Бессарабии, где,
топча свои тощие посевы, молдаванская нищая темнота не
рыла бы по десять и двадцать колодцев на полудесятине
земли: так велел Иннокентий.
Добывание богоявленной воды требовало соблюдения
многочисленных и строгих правил. За камнем для колодцев
надо было ездить за-шестьдесят верст от дому, ехать с
непокрытой головой, без кнута, ничего не есть самому, коням
корма не давать, всю дорогу молчать. Когда при рытье
добирались до влаги, работы надо было приостановить на
три дня: надо было дать возможность всем чающим чуда
бросать в кружку у колодца деньги от щедрот своих.
У колодца денно и нощно дежурил доверенный человек
Иннокентия. Первым и совершенно очевидным чудом
бывало исчезновение денег.
На дне колодца проступал тогда лик божьей матери.
Горе тем, кому не удавалось его разглядеть,— им
пречистая не хочет показаться. Они не спасутся и не попадут в
рай, когда погибнет мир. Жертвовать надо щедро.
У колодцев беспрерывно служили молебны, кадили
ладаном. К колодцам стекались вдовы и сироты, обиженные
и немощные, больные падучей и безногие. Они чаяли чуда,
молились, плакали, бились в судорогах и бросали в кружки
медяки.
— Я такую думку имею,— сказал однажды Бастаника
Иннокентию, приехав отчитываться в доходах,— я такую
думку имею, что как конец света подходит, то должны
люди все с себя отдавать на бога. Яко сказано: радуйся, кто
сбросил одежду свою, как Илья на Елисея.
Монах валялся на кушетке. Предложение Бастаники
заставило его вскочить. Бывший хозяин дело говорил — сразу
видать умного мужика. Худющий, косматый, гнилым
духом воняет, а ведь голова!
— Правильно! — громко крикнул Иннокентий,
восхищенный идеей Софрона.— Правильно! Кайтесь, дышащие
бурей греха! Исполнилась чаша и прольется гневом и
огнем на головы стяжателей. Кайтесь, яко близок час! Богу
отдавайте имение ваше!
Он рычал уже патетически, но вскоре, опомнившись,
сел и, переменив тон, прибавил:
— Правильно, Софрон! Учить я тебя не буду, ты сам
ученый. Я есть бог, ты — апостол. Радуйся, яко и Моисею
был дан жезл!
Доверенный человек Бастаники бойко скупал добро у
селян. Корова шла за два рубля. Телега за сорок
копеек.
495
Димитрий Брагуца свою кобылу погнал бы прямо в
Балту — сдать ее в монастырь. Но кобыла три дня тому
назад ожеребилась, далекий путь был ей не под силу.
Димитрий вывел ее продавать.
Его сынишка Сенька, рябой мальчуган лет одиннадца-
ти-двенадцати, стоял рядом с отцом заплаканный. Он не
мог понять, почему отец продает лошонка.
Покупатель рассмеялся, когда Брагуца потребовал за
кобылу пятнадцать рублей. Он подобострастно хихикал и
поглядывал на Бастанику, который как бы случайно
присутствовал при торгах.
— Бычья голова,— сказал Бастаника.— Кто ж теперь за
кобылу больше рубля даст? Посмотрите на него, добрые
люди! Скоро конец света, весь свет скоро кончится и
погибнет, а он тут с сухой кобылой путается!.. Бери сколько дают
и скажи хорошему человеку спасибо за его ласку.
— Бери рубль! — буркнул покупатель.
С Бастаникой был его сынишка Коська, угрюмый балбес
лет пятнадцати, прозванный деревенскими мальчуганами
Коська Гнилой Комар. Он грубо оттащил лошонка от брюха
матери и, больно зажав ему ноздри, стал смотреть лошонку
в зубы, как заправский лошадник.
— Не тронь! — закричал Сенька.— Лошонок мой.
Но Коська только посмотрел* на него с презрением и по-
хозяйски ударил лошонка в живот.
— Ну, берешь рубль? — переспросил Димитрия
покупатель.
— Десять дай,— сказал Димитрий. Но сказал он это
глухим и безнадежным голосом. Понимал уже и покупатель, и
Бастаника, и Коська, и даже сам Димитрий Брагуца
понимал, что торг, собственно, кончен, что сопротивляться нет
сил и кобылу можно уводить.
— Бери, Димитрий, рубль, и господь на тебя оглянется,—
примиряюще сказал Бастаника и сам деловито посмотрел
кобыле раньше в зубы, а потом на ноги.
— Мокрец был у ней? Не было? Ладно, бери рубль...
До вечера безутешно плакал рябой Сенька. Ему было
жалко лошонка. Смеясь, увел его Гнилой Комар. Теперь
будет он над ним хозяйничать, бить его. А лошонок его —
Сенькин. Он его долго ждал, считал дни до его рождения.
Сенька плакал, забившись в угол. А утром семья
захватила немного мамалыги в тряпке и в последний раз
оглядела убогие стены своей лачуги. Мать Сеньки, Гликерия,
перекрестилась на четыре стороны, и семья ушла в
Балту — ожидать под монастырскими воротами кончины
мира.
В. МАЯКОВСКИЙ
НАДО БОРОТЬСЯ
У хитрого бога
лазеек —
много.
Нахально
и прямо
гнусавит из храма.
С иконы
глядится
Христос сладколицый.
В присказках,
в пословицах
господь
славословится,
имя
богово
на губе
у убогова.
Галдят
и доныне
родители наши
о божьем
сыне,
о божьей
мамаше.
Про этого самого
хитрого бога
поются
поэтами
разные песни.
Окутает песня
дурманом, растрогав,
497
зовя
от жизни
лететь
поднебесне.
Хоть вешай
замок
на церковные туши,
хоть все
иконы
из хаты выставь,
вранье
про бога
в уши
и в души
пролезет
от сладкогласых баптистов.
Баптисту
замок
повесь на уста,
а бог
обернется
похабством хлыста.
А к тем,
кого
не поймать на бабца,
господь
проберется
в пищаньи скопца.
Чего мы ждем?
Или выждать хочется,
пока
и церковь
не орабочится?!
Религиозная
гудит
ерундистика,
десятки
тысяч
детей
перепортив.
Не справимся
с богом
газетным листиком,—
несметную
силу
выставим против.
Райской бредней,
загробным чаянием
498
ловят
в молитвы
душевных уродцев.
Бога
нельзя -
обходить молчанием,—
с богом пронырливым
надо бороться!
Властям
предержащим
Ж.-П. БЕРАНЖЕ
ДОБРЫЙ БОГ
Надевши туфли и халат,
Однажды утром, говорят,
Господь открыл окошко:
«Дай погляжу немножко,
Цела ль земля? как там дела?»
И видит — кружит в небе мгла.
Пришлось, вздохнув, себе признаться,
Что очень скоро, может статься,
Придется к черту убираться.
«Охвачен счастьем иль тоской,
Ты так ничтожен, род людской,
Что за тобою, без сомненья,
Весьма потребно наблюденье,—
И вот, спокойствие храня,
Министры правят за меня
И на народ не наглядятся.
А самому мне, может статься,
Придется к черту убираться.
«Чтоб жить в весельи всем равно,
Я дал вам женщин и вино,—
И что ж, своею бородою
Клянусь,— от войн мне нет покою.
Призвав в свидетели меня,
Весь мир взбесился от огня,—
Нет, с вами мне не столковаться.
Мне самому-то, может статься,
Придется к черту убираться.
«Что там за люди пред толпой
В парче, в короне золотой?
Уже, помазанные миром.
Земли становятся кумиром
503
И говорят, что их глава
Мои наследовал права.
Ну как же тут не рассмеяться?
Мне самому-то, может статься,
Придется к черту убираться.
«А сколько траурных сутан
Кадят мне под нос свой туман
И, продавая людям чудо,
За мой же счет живут не худо,
Сплетая с именем моим
Своих делишек едкий дым,—
Нет, с ними мне не рассчитаться.
При виде их мне, может статься,
Придется к черту убираться.
«Увы, я, дети, ни при чем,
Я — в тех, кто с сердцем и с умом,
И я всегда был чужд злословью.
Живите счастьем и любовью
И, ненавидя звон цепей,
Гоните в шею королей.
Кто там? Шпион?.. Когда пробраться
Сумел на небо он,— признаться,—
Мне надо к черту убираться».
ВИКТОР ГЮГО
РАБОТА ПЛЕННЫХ
Бог рек царю: «Я твой господь. Мне нужен храм».
Так, в синих небесах, где звезды льнут к звездам,
Бог говорил (то жрец, по крайней мере, слышал).
Царь пленников призвал и к ним с вопросом вышел:
«Найдется ли средь вас, кто б мог построить храм?»
«Нет»,— был ответ.
«Тогда я смерти вас предам.
Бог гневается; он желает жить во храме.
Он властен над царем, царь властен над рабами.
Все справедливо».
Тут—сто пленных он казнил.
И раб один вскричал:
«Царь, ты нас убедил.
Вели, чтоб где-нибудь нам дали гору. Роем
В нее мы вроемся. И храм в горе построим».
«В пещере?»—царь спросил.
«О всемогущий царь,
Бог не откажется такой признать алтарь;
Ужель помыслить мог ты хоть на миг единый,
Что бога оскорбит алтарь в пещере львиной?» —
«Работай»,— молвил царь.
Раб гору отыскал,
Крутую, дикую, по имени Галгал;
И стали пленники ее долбить, своими
Звеня цепями; раб, товарищ их, над ними
Господствовал: всегда, во мраке рабства, тот,
С кем власть беседует, других рабов гнетет.
Они работали, врезаясь в грудь Галгала.
Вот кончили, и раб сказал:
«Пора настала,
Веление небес исполнено, о царь;
505
Но молим: соизволь взглянуть на наш алтарь;
Он создан для тебя сперва, потом — для бога».
«Согласен»,— царь сказал.
«Мы долг свой помним строго,—
Сказал покорный раб, простершись на камнях. —
Мы обожать должны твоих сандалий прах.
Твое величие когда пойдет?»
«Тотчас же».
И раб, согнувшийся, и властелин, без стражи,
Вошли в разубранный шелками паланкин.
В горе колодец был, и камень-исполин,
Канатом вздернутый, висел над мраком зева.
И властелин, и раб во вспоротое чрево
Горы вошли вдвоем через колодец тот,—
Кирками выбитый единственный проход.
Спустились. Царь, во тьме оставшись беспросветной,
Сказал испуганно:
«Так входят в кратер Этны,
В нору сивиллину, что вечный мрак таит,
Или — еще верней — в безвыходный Аид;
Но к алтарю идти чрез черную берлогу...» —
«Вверх или вниз идя, всегда доходят к богу,—
Сказал, простершись, раб.—Во храм прекрасный твой
Добро пожаловать, владыка дорогой;
Ты — царь царей земных; средь гордых и великих
Ты — точно мощный кедр среди смоковниц диких,
Ты блещешь между них, как Патмос меж Спорад».
«Что там за шум вверху?»
«То заревел канат:
Мои товарищи там опускают камень». —
«Но как же выйдем мы?»
«Владыка, звездный пламень —
Опора стоп твоих, и молнию страшит
Твой меч, и на земле твой светлый лик горит,
Как солнце в небесах; ты — царь царей; тебе ли,
Величью ль твоему страшиться?»
«Неужели
Нет выходов других?»
«О царь! Ведь сто дорог,
Лишь только пожелай, тебе проложит бог».
И царь вдруг закричал: «Нет более ни света,
Ни звука. Всюду мрак и тишь. Откуда это?
Зачем спустилась ночь в храм этот, как в подвал?»
«Затем, что здесь твоя могила»,— раб сказал.
МАРК ТВЕН
ВОЕННАЯ МОЛИТВА1
То было время величайшего волнения и подъема. Вся
страна рвалась в бой — шла война, в груди всех и каждого горел
священный огонь патриотизма. Гремели барабаны, играли
оркестры, палили игрушечные пистолеты, пучки ракет со
свистом и треском взлетали в воздух. Куда ни глянь — вдоль
теряющихся вдали крыш и балконов сверкала на солнце
зыбкая чаша флагов; каждый день юные добровольцы,
веселые и такие красивые в своих новых мундирах,
маршировали по широкому проспекту, а их отцы, матери, сестры и
невесты срывающимися от счастья голосами приветствовали их
на пути. Каждый вечер в переполненных залах густые толпы
народа, затаив дыхание, внимали какому-нибудь патриоту-
оратору, чья речь задевала самые сокровенные струны их
души, и то и дело прерывали ее бурей аплодисментов, в то
время как слезы текли у них по щекам; в церквах
священники убеждали верой и правдой служить отечеству и с таким
пылом и красноречием взывали к богу войны, умоляя его
ниспослать нам помощь в правом деле, что среди
слушателей не нашлось бы ни одного, который не был бы растроган
до слез. Это было поистине славное, доброе время, и те
немногие опрометчивые люди, которые отважились
неодобрительно отозваться о войне и усомниться в ее справедливости,
тотчас получили столь суровую и гневную отповедь, что ради
собственной безопасности сочли за благо убраться с глаз
долой и помалкивать.
Настало воскресное утро — на следующий день войска
выступали на фронт; церковь была набита до отказа, здесь
же находились и добровольцы, чьи юные лица горели в
предвкушении ратных подвигов: мысленно они были уже там —
Печатается с небольшим сокращением,
507
вот они наступают упорно, все быстрее и решительнее,
стремительный натиск, блеск сабель, враг бежит, паника,
пороховой дым, яростное преследование, капитуляция! — и вот
они снова дома: вернулись с войны закаленные в бою герои,
долгожданные и обожаемые, в золотом сиянии победы!
С добровольцами сидели рядом их близкие, гордые и
счастливые, вызывая зависть друзей и соседей, не имевших
братьев и сыновей, которых они могли бы послать на поле
брани добыть отчизне победу или же пасть благороднейшей
из смертей.
Служба шла своим чередом: священник прочел военную
главу из Ветхого завета, потом первую молитву; загудел
орган, сотрясая здание; молящиеся поднялись в едином порыве,
с бьющимся сердцем и блестящими глазами, и в церкви
зазвучал могучий призыв:
Господи, грозно на землю взирающий,
Молнии, громы послушны тебе!
Затем последовала «долгая» молитва. Никто не мог бы
припомнить ничего равного ей по страстности и
проникновенности мольбы и по красоте изложения. Просили в ней
больше всего о том, чтобы всеблагостный и милосердный
отец наш оберегал наших доблестных молодых воинов, был
бы им помощью, опорой и поддержкой в их подвигах на благо
отчизны; чтобы он благословлял их и охранял в день битвы
и в час опасности, держал их в своей деснице, дал им силу
и уверенность и сделал бы непобедимыми в кровавых
схватках; чтобы помог он им сокрушить врага, даровал им, их
оружию и стране вечный почет и славу...
В эту минуту в церковь вошел какой-то пожилой
незнакомец и неторопливо, бесшумной поступью направился по
главному проходу к алтарю. Глаза его были устремлены на
священника, высокую фигуру облекала одежда, доходившая
до пят, голова его была непокрыта, и седые волосы пышной
гривой падали на плечи, обрамляя изборожденное морщинами
лицо, неестественно, даже мертвенно бледное. Все с
недоумением смотрели на него, а он, молча пройдя между скамей,
поднялся на кафедру и выжидающе стал рядом со
священником. Смежив веки и не догадываясь о присутствии
незнакомца, священник продолжал читать свою волнующую
молитву и закончил ее, наконец, страстным призывом:
«Благослови наше воинство, даруй нам победу, господи боже наш,
отец и защитник земли нашей и оружия!»
Незнакомец дотронулся до его плеча, жестом приказал
ему отойти — что изумленный священник не замедлил
исполнить — и занял его место. Несколько мгновений он сурово
оглядывал потрясенных слушателей, и глаза его горели
призрачным огнем, потом низким глухим голосом он начал:
508
— Я — посланец престола, несущий вам слово господне!
Прихожане стояли словно громом пораженные;
незнакомец если и заметил их испуг, то не обратил на него ни
малейшего внимания.
— Всевышний услышал молитву своего слуги, вашего
пастыря — и готов ее исполнить, если таково будет ваше
желание после того, как я, его посланец,'разъясню вам ее смысл,
точнее — полный ее смысл. Ибо, как и во многих других
людских молитвах, вы, сами того не подозревая, просите о
неизмеримо большем, чем вам кажется, когда вы молитесь
вслух,— если, конечно, вы заранее все не обдумали.
Слуга божий и ваш прочел молитву. Подумал ли он,
прежде чем произнести ее вслух? И одна ли это молитва?
Нет, их две: одна — которую он произнес вслух, и другая —
которую не произнес. И обе достигли ушей того, кто слышит
все просьбы — высказанные и невысказанные. Поразмыслите
над этим — и запомните. Если станете просить благословения
своим делам или поступкам, будьте осторожны,— ибо в эту
минуту вы непреднамеренно можете навлечь проклятье на
своего соседа. Если вы молите о ниспослании дождя, ибо он <
нужен полям вашим,—тем самым, вы, быть может, молите о
бедствии для соседа, чья земля не нуждается во влаге и
дождь только испортит ему урожай.
Вы слышали молитву вашего слуги — ту ее часть,
которую он произнес вслух. Господь послал меня к вам, чтобы
я облек в слова другую ее часть — то, о чем пастор и все вы
в глубине сердца молча молили его. Не разумея и не думая,
о чем молите? Дай бог, чтобы это было так. Вы слышали эти
слова: «Даруй нам победу, господи боже наш!» Этого
достаточно. Вся молитва, которую вы произносили здесь вслух,
заключена в этих многозначительных словах. Уточнения
излишни. Моля о победе, вы молили и о многих не
упомянутых вами следствиях, которые сопутствуют победе, должны
ей сопутствовать, не могут не сопутствовать. И вот до слуха
господа бога, отца нашего, дошла и невысказанная часть
молитвы. Он повелел мне облечь ее в слова. Внемлите же!
Господи боже наш, наши юные патриоты, кумиры сердец
наших идут в бой — пребудь с ними! В мыслях мы вместе с
ними покидаем покой и тепло дорогих нам очагов и идем
громить врага. Господи боже наш, помоги нам разнести их
солдат снарядами в кровавые клочья; помоги нам усеять их
цветущие поля бездыханными трупами их патриотов; помоги
нам заглушить грохот орудий криками их раненых,
корчащихся от боли; помоги нам ураганом огня сровнять с землей
их скромные жилища; помоги нам истерзать безутешным
горем сердца их невинных вдов; помоги нам лишить их
друзей и крова — чтобы бродили они вместе с малыми детьми
по бесплодным равнинам своей опустошенной страны, в
50У
лохмотьях, мучимые жаждой и голодом, летом — палимые
солнцем, зимой — дрожащие от ледяного ветра, вконец
отчаявшиеся, изнуренные непосильным трудом, тщетно
умоляющие тебя разверзнуть перед ними двери могилы, чтобы
они могли обрести покой; во имя нашего блага, блага тех,
кто поклоняется тебе, о господи, развей в прах их надежды,
сгуби их жизнь, продли их горестные скитанья, утяжели их
шаг, окропи их путь слезами, обагри белый снег кровью их
израненных ног! С любовью и верой мы молим об этом того,
кто есть источник любви, верный друг и прибежище для
всех страждущих и прибегающих к его помощи со
смиренным сердцем и покаянной душой. Аминь.
(П о м о л ч ав немного.) Вы молились об этом; если вы
все еще жаждете этого,— скажите!
МАРК ТВЕН
ПИСЬМО АНГЕЛА
Небесная канцелярия.
Отдел прошений.
20 января.
Эндрью Лэнгдону, углепромышленнику,
Буффало, штат Нью-Йорк.
Согласно полученному распоряжению, честь имею
уведомить вас, что ваш новый подвиг щедрости и самоотречения
занесен на отдельную страницу книги, именуемой
«Прекрасные деяния человеческие». Позволю себе заметить, что это —
отличие не только исключительно высокое, но единственное
в своем роде.
Относительно ваших молений за последнюю неделю, то-
есть по 19-е января с/г., должен сообщить вам следующее:
1) О похолодании — чтобы цену на антрацит можно было
повысить, накинув 15 центов на тонну. Удовлетворено.
2) О наплыве рабочей силы, что позволит снизить
заработную плату на 10%. Удовлетворено.
3) О резком падении цен на жирный уголь конкурентов.
Удовлетворено.
4) О том, чтобы кара божья постигла вашего конкурента,
который открыл в Рочестере розничный склад угля, или
семью этого человека. Удовлетворено следующим образом:
дифтерита 2 случая, из них один со смертельным исходом,
скарлатины — один с осложнениями: последствия — глухота
и слабоумие.
Примечание. Этот человек — только служащий
Нью-Йоркской Центральной угольной компании. Вам
следовало бы призвать кару божью не на него, а на его
хозяев.
5) О том, чтобы черт побрал сотни надоевших вам
просителей, которые ищут работы, или какой-либо помощи.
Задержано для обсуждения и согласования, ибо эта молитва явно
511
противоречит другой, от того же числа, о которой будет
сказано ниже.
6) Моление о насильственной смерти соседа, который
швырнул камнем в вашего кота, распевавшего серенады на
крыше. Также задержано для дальнейшего рассмотрения,
ибо противоречит молитве от того же числа, о которой будет
сказано далее.
7) Моление «Будь прокляты миссионеры и вся эта возня
с миссионерством». Не удовлетворено по тем же причинам.
8) Об увеличении вашей месячной прибыли, достигшей в
прошлом декабре 22 230 долларов, до 45 000 долларов в
январе с/г. и о дальнейшем ее возрастании в такой же
пропорции. Просьба удовлетворена. Заявление же ваше, что «вы
этим удовольствуетесь», принято с оговоркой.
9) Об урагане, который разрушил бы надшахтные
строения и затопил шахты Северо-Пенсильванской компании.
Примечание. Ввиду зимнего сезона, ураганов у нас
на складе не имеется. Если вы пожелаете, их можно
будет заменить таким надежным средством, как взрыв
гремучего газа.
Перечисленные выше молитвы отмечены у нас, как
наиболее важные. Остальные 298, поступившие за последнюю
неделю, удовлетворены все полностью, только в трех из тех
тридцати двух случаев, когда вы требовали немедленного
умерщвления, смерть заменена неизлечимыми болезнями.
Этим исчерпывается список поступивших от вас за
неделю ходатайств, относящихся, согласно нашей
номенклатуре, к Тайным Молениям Сердца. По вполне понятным
причинам, молитвам этого рода уделяется главное внимание,
и они всегда рассматриваются в первую очередь. Все прочие
ваши молитвы за ту же неделю занесены в рубрику Гласных
Молений, которые возносятся на молитвенных собраниях,
в воскресных школах, дома в кругу семьи и так далее.
Такие молитвы расцениваются у нас в зависимости
от того, к какой категории христиан принадлежит
молящийся. У нас различают две основные категории христиан:
1) христиане по склонности и 2) христиане по обязанности.
Христиане каждой категории классифицируются, кроме того,
по масштабу, типу и роду. И, наконец, их вес и значение
определяются в каратах, от одного до тысячи.
В балансовой ведомости за последний квартал 1847 года
вы классифицированы следующим образом:
Основная катего р и я — христианин по склонности.
Масштаб 0,25 максимального
Тип преобладание начала духовного
Род А по списку избранных, раздел 16
Вес 322 карата чистого золота.
512
Между тем в балансе за последний квартал истекшего
1887 года — следовательно, ровно сорок лет спустя — вы
получили следующую характеристику:
Основная категория — христианин по обязанности.
Масштаб 0,06 максимального
Тип ....'... преобладание начала животного
Род по списку избранных, раздел 1547
Вес 3 карата чистого золота.
Обращаю ваше внимание на то, что, как видно из баланса,
вы за последние сорок лет порядком испортились.
Переходя теперь к рассмотрению ваших Гласных
Молений, замечу кстати, что, в целях поощрения христиан вашего
сорта, мы делаем для них многое такое, чего не делаем
для христиан более высокого сорта,— отчасти потому, что
те об этом и не просят. Итак, привожу ваши Гласные
Моления:
1) О том, чтобы милосердный господь послал тепло ради
тех, кто нищ и наг. Отклонено. Молитва вознесена в
молитвенном собрании. Она противоречит Тайному Молению
Сердца № 1, а у нас существует строгое правило — отдавать
предпочтение Тайным Молениям Сердца перед Гласными.
2) Об улучшении жизни и более обильном пропитании
труженика с мозолистыми руками, чей изнурительный и
терпеливый труд создает благополучие и услаждает жизнь
более счастливых смертных, а потому дает ему право на
нежнейшее участие наших благодарных сердец, обязывая нас
неусыпно и усердно ограждать его от жадности и
корыстолюбия, порождающих всякое зло и несправедливость.
Отклонено. Противоречит Тайному Молению Сердца № 2.
3) Молитва, в которой вы просите бога благословить тех,
кто нарушает ваши интересы, а также их семьи и
призываете сердце свое в свидетели, что «их земное благополучие
озарит счастьем вашу жизнь и сделает радости ваши более
совершенными». Эта молитва произнесена вами на
молитвенном собрании. Не принята во внимание, так как
противоречит Тайным Молениям Сердца №№ 3 и 4.
4) «Да не будут слова и дела наши причиной погибели
чьей-либо души». Молитва в кругу семьи. Дошла до нас
за 15 минут до Тайного Моления Сердца № 5, которому она
явно противоречит. Предлагаем взять обратно одну из этих
двух молитв или изменить обе.
5) Моление «Не оставь, господи, своей милостью тех, кто
обидел нас или посягнул на имущество наше». К числу таких
обидчиков относится, несомненно, и сосед, швырнувший кам-
33 Против тьмы
513
нем в вашего кота. Молитва семейная, вознесена за несколько
минут до Тайного Моления Сердца № 6. Рекомендуем
устранить противоречие, изменив текст.
6) «Да ширится и процветает без помех и границ святое
дело миссионерства, благороднейшая из задач, вверенных
рукам человеческим, во всех языческих странах, где
духовная темнота народов до сих пор еще служит нам укором».
Молитва нежелательная и случайного характера,
вознесенная на собрании Американского комитета христианских
заграничных миссий. Получена нами почти на полдня
раньше, чем Тайное Моление Сердца № 7. У нас здесь
миссионерства не одобряют, и Американский комитет не имеет
к нам никакого отношения. Мы готовы удовлетворить одно
из ваших молений, удовлетворить же оба невозможно, ибо
они прямо противоположны друг другу. Рекомендуем
отказаться от того, которое произнесено на собрании
Американского комитета.
Настоятельно просим вас заметить, что такие заявления,
как в молитве № 8, будто просимое увеличение дохода вас
«совершенно удовлетворит», вы делали уже двадцать раз, и
оно звучит как избитая шутка.
Из 464 пожеланий, высказанных в ваших Гласных
Молениях за неделю и не приведенных в настоящем письме,
удовлетворены два, а именно: 1) «чтобы тучи и впредь
выполняли свое назначение» и 2) «чтобы солнце выполняло
свое». Именно такова была воля Всевышнего, и вам будет
приятно узнать, что моление ваше не идет вразрез с нею.
Остальные 462 моления отклонены. Из них 61 вознесены вами
в воскресной школе, и я вынужден еще раз напомнить вам,
что мы не внимаем молитвам, произносимым в воскресных
школах христианами второй категории и того разряда,
который у нас именуется «разрядом Джона Ванемейкера» К
Такие молитвы расцениваются нами просто как набор слов и
засчитываются христианину по количеству слов,
произнесенных за определенный промежуток времени:
обязательный минимум — 3 000 за четверть минуты, а все, что ниже
этого минимума, в наших книгах не отмечается. Для
опытных молельщиков в воскресных школах 4 200—5 000 слов —
обычная норма. Это количество у нас приравнивается
к двум гимнам плюс букет цветов, принесенный молодой
девицей в камеру убийцы-смертника в утро перед казнью.
Остальные ваши молитвы — 401 (штука)—не более, как
простое сотрясение воздуха. Такие молитвы мы собираем
кучами и используем их в качестве встречного ветра для
задержания судов, принадлежащих людям нечестивым.
Джон Ванемейкер был издателем Твена.— Ред.
514
Впрочем, для того, чтобы они оказали хоть какое-нибудь
действие, их требуется так много, что ваши 401 вам никак
не зачтутся.
К этому сообщению я хочу добавить несколько слов от
себя.
Когда люди вашего сорта совершают мало-мальски
доброе дело, мы, зная, каких усилий это им стоит, оцениваем
их поступок в тысячу раз выше, чем такой же поступок
человека праведного. И вы у нас на гораздо лучшем счету, чем
другие христиане с такой же характеристикой, так как вы
несколько раз совершали акты самопожертвования, которых
от вас никак нельзя было ожидать. Много лет назад, когда у
вас в банке было только сто тысяч долларов, вы послали два
доллара вашей двоюродной сестре, которая, оставшись
вдовой без всяких средств, обратилась к вам за помощью.
Многие здесь на небесах вовсе не хотели этому верить, а многие
высказывали предположение, что деньги были фальшивые.
Но после того, как стало известно, что все эти подозрения
неосновательны, репутация ваша значительно выиграла.
И когда года через два вы, в ответ на вторую мольбу о
помощи, послали, несчастной вдове уже четыре доллара, все
этому сразу поверили, и в течение многих дней на небесах
только о вас и говорили. Прошло еще два года, у вдовы умер
младший ребенок, и она снова воззвала к вам. В ответ вы
послали ей шесть долларов и тем окончательно упрочили
свою славу на небесах. Все спрашивали друг у друга:
«Слыхали, как отличился Эндрью?» (вас теперь нежно называют
здесь «Эндрью»). Ваши все более щедрые даяния
расположили к вам все сердца, имя ваше постоянно у всех на устах.
Когда вы по воскресеньям едете в церковь в своем
роскошном экипаже, все обитатели неба смотрят на вас, и не
успевает рука ваша протянуться к церковной кружке, как
радостный крик оглашает небеса и долетает даже до огненных
стен преисподней: «Еще пять центов от Эндрью!»
Но подлинного апогея слава ваша достигла несколько
дней тому назад, когда вдова написала вам, что могла бы
получить место школьной учительницы в одной дальней
деревне, если бы у нее было пятьдесят долларов, чтобы доехать
туда с двумя оставшимися у нее детьми,— и вы, прикинув,
что в прошлом месяце ваш чистый доход от трех угольных
шахт составил 22 230 долларов, а в текущем месяце можно с
уверенностью рассчитывать на сорок пять, а то и на все
пятьдесят тысяч, взяли перо и чековую книжку и послали ей
целых пятнадцать долларов! О великодушное сердце, будь
вовеки благословенно! Да хранит тебя господь! Во всем
царствии небесном не было никого, кто не прослезился бы
от умиления. И в то время, как все мы жали друг другу
руки, обнимались и восхваляй вас, с высоты сияющего
63*
515
престола раздался глас, подобный грому, повелевший, чтобы
подвиг ваш прославлен был превыше всех известных доныне
подвигов самоотречения людей и ангелов и увековечен на
отдельной странице книги Великих Деяний, ибо расстаться
с этими пятнадцатью долларами вам было тяжелее и горше,
чем десяти тысячам мучеников расстаться с жизнью, взойдя
на пылающий костер. И все у нас говорили: «Что значит
жертва великой души или десяти тысяч великих душ,
отдавших жизнь, в сравнении с даром в пятнадцать долларов из
загребистых рук самого алчного скряги, какой когда-либо
жил на земле?»
И это истинная правда. Авраам со слезами радости уже
уготовал вам место в лоне своем, для чего вытряхнул все
его содержимое и наклеил на нем красноречивый ярлык:
«Занято». А святой Петр, рыдая, объявил: «Когда он
прибудет, мы устроим ему торжественную встречу с факелами».
Весть, что вы попадете к нам, вызвала в раю бурное
ликование. В аду — тоже.
ПОЛЬ ЛАФАРГ
МОЛИТВЫ КАПИТАЛИСТА
1. МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Отче наш, Капитал, иже еси на земли! Бог всемогущий,
который изменяет течение рек и прорезывает горы, который
разделяет материки и объединяет нации; создатель товаров
и источник жизни, повелевающий королями и подданными,
хозяевами и работниками. Да приидет царствие твое на всей
земле!
Дай нам много покупателей, берущих наши товары —
хорошие равно, как и дурные!
Дай нам несчастных рабочих, соглашающихся без
возмущения на все работы и довольствующихся самой низкой
платой!
Дай нам простаков, верящих нашим объявлениям!
Заставь должников наших платить свои долги полностью
и банк учитывать наши векселя!
Никогда не открывай ворот «долговой тюрьмы» перед
нами и избави нас от несостоятельности!
Даруй нам вечную прибыль!
Аминь.
2. РАДУЙСЯ
Радуйся, Нищета, подавляющая и усмиряющая рабочего,
раздирающая его внутренности голодом, неотступная
мучительница, осуждающая его на продажу своей свободы и своей
жизни за кусок хлеба; сокрушающая дух возмущения,
налагающая на производителя, на его жену и его детей
принудительные работы на капиталистической каторге; радуйся,
Нищета милостивая. Дева святая, рождающая
капиталистический доход, грозная богиня, предающая нам презренный
класс рабочих, благословенна будь!
Мать нежная и плодородная Сверхтруда, родительница
ренты, бодрствуй над нами и нашими близкими!
Аминь!
АЛЕКСАНДР ХЬЕЛЛАНН
ПРАЗДНИК ИВАНОВА ДНЯ
(Отрывок)
Пастору Крусе удалось установить связь со своими
прихожанами только тогда, когда они убедились, что он, сын
старого Йоргена Крусе, не гнушается простым народом, из
которого сам вышел, и не стесняется простонародного говора.
Они ведь прекрасно знали, что они-то и есть простой народ,
да они и не хотели быть ничем иным, ибо Иисус Христос и
его двенадцать апостолов тоже были плоть от плоти
простого народа.
Они не были бедняками и не чувствовали себя
несчастными, а. местное светское общество жило не настолько
роскошно, чтобы это могло вызвать у них зависть или протест.
Но жизнь этих людей была уныла и однообразна, и такое
тоскливое существование порождало в них глухое
недовольство— смутное ощущение того, что каждый мог бы
добиться гораздо большего, если бы обстоятельства хоть
немного благоприятствовали этому.
Жизнь этого слоя — а к нему по рождению принадлежал
и Мортен Крусе — была неподвижной, закисшей и
заплесневелой, как болотная вода. И если Мортен Крусе все же
получил образование и возвысился, то этим он был обязан той
непоколебимой вере в деньги, которая царила в лавке старого
Йоргена Крусе. Когда же деньги погибли, он сразу
почувствовал себя выбитым из колеи, лишенным всякой поддержки.
И так продолжалось вплоть до того дня, когда Мортен вновь
обрел себя во время проповеди в церкви.
Когда он заговорил, он понял, что говорит хорошо,— фразы
текли так легко, как никогда раньше. Но слушать то, что он
говорил своим прихожанам, не было ни легко, ни приятно.
Как только пастор Крусе осознал свою власть, он сразу же
обрушил на прихожан грозные слова о расплате за грехи, о
вечной скорби, о неизбежности возмездия.
518
И они поняли, что перед ними человек, который знает их
как свои пять пальцев, который может, если захочет,
вывернуть наизнанку их души, обнажить их нечистую совесть.
Но больше всего поразило их то, что они узнали в пасторе
самих себя со своим вечным брюзжанием и недовольством,
убедились, что он смотрит на жизнь точно так же, как и
они,— снизу вверх. Он знал обо всем — и о тайной страсти
женщин к легкой жизни и нарядам, которую они всячески
стараются в себе подавить; и об осторожных попытках
ремесленников и мелких торговцев карабкаться со ступеньки
на ступеньку, несмотря на гнет капитала, несмотря на
давление со стороны крупных коммерсантов. Но он знал и то,
что эти маленькие, простые люди — не хуже, может быть
даже лучше, чем знатные и богатые: Иисус и двенадцать
апостолов тоже были простолюдины.
Поэтому теперь он не только обрел настоящую власть над
прихожанами, но и получил право истязать их жестокими
словами; они были готовы терпеть от него любые муки. Более
того, они сами жаждали его поучений, потому что он был
своим, и его проповеди выражали их собственные
сокровенные мысли. Он был самый сильный среди них, и благодаря
ему они тоже становились силой.
С этого дня церковь Мортена Крусе и молельный дом
были полным-полны народа. Пришлось даже выставить
рамы и держать двери распахнутыми, чтобы люди, не
сумевшие протиснуться в помещение и толпившиеся поэтому
на улице, могли хотя бы краем уха слышать откровения,
изрекаемые сыном старого Крусе, на которого вдруг
снизошла благодать господня.
Так продолжалось до тех пор, пока как-то раз Мортен не
крикнул им с кафедры: «Почему мы теснимся здесь, как
сельди в бочке? Давайте построим господу новый храм!
У тебя, небось, найдется немного гвоздей? А у тебя есть
краска? А ты, вон там, с краю, неужели ты не отдашь для Иисуса
Христа несколько досок? А вам, женщины, разве нечего
пожертвовать? Ишь как вырядились: ленты, цветы, пуговицы,
перья! Видно, о теле больше печетесь, чем о спасении души!
Собственно говоря, никакой роскоши в одежде прихожан
не замечалось. И все же девушки сгорали от стыда, думая о
лентах и искусственных цветах, вплетенных в волосы, и
каждая из них давала себе слово, что, придя домой, она тотчас
же снимет эти украшения.
А на другой день к вечеру, когда ремесленники и
прислуга освободились от работы, к дому пастора Крусе
устремилась целая процессия со всевозможными пожертвованиями.
Пастор сидел в своем кабинете и принимал все без разбора,
даже не глядя на то, что принесли люди, не хваля их, едва
благодаря.
519
Только когда пришел старый богатый виноторговец и
предложил свой большой, весьма ценный земельный участок
с садом под строительство нового храма, Мортен Крусе чуть
было не вскочил с места от радостного удивления.
Но он вовремя овладел собой, откинулся на спинку кресла
и сказал старику сурово:
— Да! Не больно-то вы торопитесь найти путь к тому
богатству, которое червь не точит и ржавчина не разъедает.
Что, на старости лет испугался расплаты за греховное слу^-
жение мамоне? А?
Такой встречи старик никак не ожидал. Он так
перепугался, что невнятно пробормотал:
— Если господину пастору еще что-нибудь нужно, то...
— Когда господь бог от вас еще что-нибудь потребует, он
наверное пошлет вам знамение,— жестко ответил пастор.
Как и все другие, старик ушел подавленный мыслью, что
пожертвовал слишком мало,— надо отдавать гораздо больше.
Когда фру Фредерика увидела, что весь этот поток
богатства— щедрые приношения и деньгами и продуктами —
устремился в их дом, она совершенно преобразилась. Да, она
прямо-таки помолодела и чуть ли не похорошела, стала
оживленной и деятельной.
Новые обязанности кассирши, которые выпали на долю
фру Фредерики, даже изменили ее характер — она стала
как-то мягче. Работа захватила ее всецело, тем более что
детей у нее не было (злые языки утверждали, что
объясняется это очень просто: фру Фредерика так скупа, что не в
силах что-либо отторгнуть от себя).
Мортен Крусе дожил до тридцати восьми лет, не имея
случая проявить свои способности и силу своего характера.
Поэтому, когда вокруг него вдруг начало стремительно
разрастаться большое движение и множество людей стали
обращаться к нему по разным поводам, все, не исключая и его
самого, были поражены тем, на что он оказался способен.
Дело в том, что его деятельность не ограничилась nov
стройкой нового храма на участке виноторговца. Как только
пастор Крусе увидел, что стоит ему кликнуть клич — и
пожертвованиям не будет конца, он начал строить дома для
молитвенных собраний и богоугодных заведений в городе и
окрестностях.
Его грузное, рыхлое тело стало крепким и сильным. Все,
что было в его облике жестокого и упрямого, превращалось в
уверенность и властность, по мере того как росло его
могущество над людьми, для которых он был то духовным
наставником, то работодателем, а чаще всего и тем и другим.
Вначале его власть распространялась главным образом
на женщин, но постепенно ей покорились и мужчины;
религиозное движение, возглавляемое пастором Крусе, все шири-
520
лось и стало, наконец, таким мощным, что в кругах
духовенства родилось беспокойство; священники спрашивали друг
друга: «Чем все это кончится?»
Те из них, которые слышали проповеди пастора Крусе,
никак не могли понять, почему в его церковь сбегается такая
пропасть народа. Конечно, в том, чему он учит, нет ничего
еретического, но как все это плоско и убого! Никакого
красноречия, с богословской точки зрения, здесь не было и в
помине. Они решительно не могли объяснить себе, почему
Мортен Крусе так безраздельно властвует над умами. И
когда во время его проповеди мужчины склоняли головы, а
женщины рыдали, священники думали, что все это не что
иное, как скоропреходящая мода с изрядной примесью
истерии.
Однако в поведении пастора Крусе появилось столько
беззастенчивого пренебрежения к высшему духовенству и к
своим коллегам, что священники начинали не на шутку
злиться. Пришлось вмешаться самому епископу Спарре,
который попытался применить свой испытанный прием. Его
высокопреосвященство решил выведать, не склонен ли
пастор Крусе основать свободную религиозную общину,
поскольку он пользуется столь безграничным доверием своей
многочисленной паствы.
Что и говорить, подобный раскол внутри церкви —
явление крайне прискорбное, однако многолетний опыт
священнослужителя научил епископа Спарре, что именно так легче
всего выбить почву из-под ног главы нового религиозного
движения и задушить это движение в самом начале.
Но при первой же осторожной попытке направить пастора
Крусе по такому пути епископ понял, что из этого ничего
не выйдет.
Нет уж, воистину нет! Мортен Крусе не желал, чтобы его
еще раз выставили за дверь. Довольно с него. У него не было
ровным счетом никаких оснований расставаться со своим
официальным положением. Напротив, он хотел стать первым
в своем сословии, и он так недвусмысленно дал это понять,
что епископу Спарре пришлось поспешно отступить,
поддакивая и кивая головой.
И в самом деле, с какой стати было уходить Мортену
Крусе из такой богатой, так хорошо посещаемой лавки, как
государственная церковь?
В его поучениях, так же как и в его требованиях к пастве,
не было решительно ничего такого, чего не исповедовал бы
любой гражданин государства.
С паствой Мортена Крусе дело обстояло совсем не так, как
в свое время с хаугианцами, которые жили в мире и
взаимной любви маленькими общинами и, смиренно ожидая
благодати господней, стремились увлечь своим примером других.
521
Правда, большая разношерстная группа, сплотившаяся
вокруг пастора Крусе, тоже была смиренной, потому что все
его приверженцы отлично знали свое презренное и
ничтожное место,— они ведь были простолюдинами. Впрочем,
Христос с двенадцатью апостолами тоже были
простолюдины, а, смотрите, что они содеяли!
Для хаугианцев одна из самых больших радостей жизни
заключалась в том, чтобы, собравшись вместе, углубиться
в изучение слова божия или же вести душеспасительные
беседы о таких серьезных и важных предметах, как благодать
божия. Знание библии и интерес к божественным книгам в
среде хаугианцев был настолько велик, что кое-кто из них
достигал подлинной учености.
Пастор Крусе, напротив, был совершенно невежествен.
Ему самому, так же как и его приверженцам, истина
казалась простой и ясной: бог был за них, а они за бога.
Источником радости для этих людей была уверенность в том, что в
царство божие можно попасть только через одну-единствен-
ную маленькую дверцу, ключом от которой владеет их
пастор, в то время как всех остальных денно и нощно ждут
распахнутые ворота ада.
Приверженцам пастора Крусе были чужды сомнения и
догматические разногласия. Ведь все они объединились для
того, чтобы слушать его и следовать за ним, а он не знал
сомнений. Бог испытал его, и испытал жестоко. Но теперь,
когда он нашел свой путь, когда понял волю провидения,—
ему стало казаться, что всевышний правильно поступал, и он
не сетовал на тяжелые годы, которые пережил, а вспоминал
о них со смирением, ибо понимал, что то был тернистый путь
к нынешнему успеху.
И поскольку все начинания пастора Крусе были отмечены
благословением господним и он ежедневно и даже ежечасно
убеждался в том, что всевышний действительно был всегда
с ним, то Мортен Крусе преисполнился безграничным
доверием и горячей благодарностью к богу, потому что бог и ои,
он и бог так хорошо понимали друг друга и работали рука об
Руку.
Куда бы ни шел пастор Крусе, где бы он ни находился,
его нигде не покидала эта уверенность — ни среди друзей, ни
в стане врагов. Что бы с ним ни случалось, что бы ему ни
угрожало, он всегда чувствовал себя так спокойно, словно бог
был у него в кармане.
Так прошло года два — он читал проповеди, колесил по
округе, собирал деньги, строил. Со всей этой работой он
успешно справлялся — ему помогала уверенность в себе. Эта
уверенность передалась постепенно каждому из его
приверженцев и наложила свою печать на все движение. Никому не
пришлось ничего изменять ни в себе самом, ни в своей жиз-
522
ни, чтобы стать другом и последователем пастора Крусе;
никто не должен был защищать какие-либо специальные
догматы или претерпевать неприятности от религиозных
преследований; не надо было блистать особой добродетелью,
требовалось только одно — жертвовать, причем жертвовать
щедро. Это устраивало всех. Каждый из приверженцев
пастора Крусе был глубоко убежден, что бог у него в кармане.
Именно в этой уверенности движение черпало свою силу.
Таким образом, христианство становилось и удобным и
надежным. На этой надежности зиждилась власть пастора
Крусе, который стал могучим и жестоким, словно маленький
Лютер.
Безграничной была готовность жертвовать и покорность
тех, кто шел за ним, и бесконечной оказывалась трусость
тех, кто поначалу пытался ему противостоять. Пастор Крусе
не раз имел случай во всем этом убедиться и теперь твердо
знал, что может делать все, что хочет.
Возвышение Мортена Крусе произошло стремительно, но
далось ему ценой огромной работы. С раннего утра до
позднего вечера он был занят по горло. Пастор не щадил себя и
никогда не перекладывал на других то, что мог сделать сам.
А главное — не было дел, которые казались бы ему слишком
мелкими.
Пастор Крусе лично знал каждого жителя не только в
городе, но и во всей округе, обладал практической сметкой,
организаторским талантом и умением безошибочно выбирать
себе помощников. Все эти способности Мортен Крусе открыл
в себе теперь, когда завершилось, наконец, медленное и
трудное формирование его личности. Его власть была так прочна
потому, что она была тщательно соткана из тончайших нитей
городских сплетен, житейских и торговых секретов да
альковных тайн, из зависти, честолюбия и вожделения
маленьких людей.
Но вот настал момент, когда он почувствовал, что не
удовлетворен достигнутым, что этого ему мало.
О деньгах он теперь перестал заботиться. Его алчность
была совсем иной природы, чем мелочная жадность
Фредерики. Он видел, что стоит ему только пальцем шевельнуть,
и к нему тут же устремится поток денег; поэтому он легко
тратил их на благотворительность, на оплату своих
приверженцев и на «ободрение» тех, кто еще колебался или
противодействовал ему.
А кроме того, он хорошо знал свою жену, и поэтому, хотя
между ними и на этот счет не было сказано ни единого слова,
он был совершенно спокоен — ведь деньги прошли через
руки Фредерики.
Вокруг себя он сплотил группу людей, которые были
всецело ему преданы. У большинства этих людей за плечами
523
была темная история—-беспутная молодость, несколько
банкротств или еще что-нибудь в этом роде. Работая с
пастором Крусе, они могли достичь известного благосостояния,
которое они, впрочем, тщательно скрывали, позволяя себе
тратить деньги только на обильную еду.
В городе этих людей называли кротами. Отчасти потому,
что они развивали оживленную, но бесшумную деятельность,
отчасти потому, что их редко можно было увидеть среди бела
дня. Они внезапно появлялись и так же внезапно исчезали,
словно скрываясь в свои норы. Под землей они рыли новые
ходы, с тем чтобы вдруг появиться там, где их меньше всего
ожидали.
Поэтому если человек, который был настроен против
Крусе и даже испытывал к нему явное отвращение,
неожиданно изменял тон и, смирившись, почтительно склонялся к
ногам пастора, то в городе говорили: «Понятно! Здесь дело
не обошлось без кротов».
Уже давно Мортен Крусе убедился в том, что тайная
работа этих кротов оказывала на людей едва ли меньшее
действие, чем его публичные выступления. С помощью своих
кротов, то угрозами, то посулами, он мог добиться в городе
всего, чего хотел, и для себя и для верных ему людей. Однако
наступил такой момент, когда и это перестало его
удовлетворять.
Его проповеди и назидательные сочинения стали
постепенно печатать в светских газетах. Его писания
распространялись по всей стране и принесли ему популярность и вес,
не соответствующие его положению провинциального
священника, который начал свою карьеру проповедником для
«простого народа».
Сам Мортен Крусе утратил свою прежнюю мрачность.
Временами ему хотелось веселья. Ему стало казаться, что
его обычная ворчливая угрюмость, вызванная постоянным
озлоблением против избранных, живущих в довольстве и
радости, теперь уже неуместна. Неужели бог, дав ему такую
власть, оставит его на полпути, под началом стольких людей
из духовенства и чиновничества, не даст ему войти в касту
избранных?
Конечно, Иисус и двенадцать апостолов были
простолюдины, но... но... И вот настало время, когда Мортен Крусе,
не зная, за что ухватиться, стал искать слова,
освобождающего его от прежних обетов. Потому что Мортен Крусе в
своей внутренней сущности остался таким же, каким был в
детстве, когда, к великой гордости и радости старого Йоргена,
требовал себе бутерброд потолще да без устали набирал
ложкой кашу из миски: теперь, как и прежде, его аппетит был
неутолим.
524
Но в юности он обманул свой аппетит, убедив себя, что
удовлетворится положением священника или чиновника,
поскольку располагает наследством старого Йоргена и
приданым Фредерики. Только счастье вновь пробудило в нем
временно утихший голод.
Но вкус меняется с годами. Теперь пастору Крусе уже
недостаточно было заниматься своей паствой и злобно
преследовать всех остальных горожан. Пришло время, когда ему
стало мало того, что верные старухи из Блосенборга молятся
на него, красивые девушки и молодые женщины его
боготворят, а кроты ползают перед ним на брюхе. Даже
славословие тех, кому он помог, кого поддержал, не приносило
ему больше удовлетворения. Нет, не к этому он стремился.
Почет, который его окружал, только увеличивал его
аппетит. Теперь он ставил себе грандиозную цель —
господствовать над самыми могущественными, быть окруженным тем
блеском и почестями, которые сопутствуют власти, достичь
самого высокого положения, какое только может занять
человек в его стране в его время.
Но в этом-то и заключалась трудность — стремления эти
никак не сочетались с началом его деятельности, с его
словами о том, что Иисус и двенадцать апостолов тоже были
простолюдинами, жившими в смирении, пренебрегавшими
бренным миром и его суетой.
И вот как-то раз пастор Крусе сидел с профессором Лев-
далом в конторе приюта для слепых. Это благотворительное
заведение Крусе основал отчасти ради старого профессора
Левдала. Карстен Левдал был одним из первых, кого пастор
привлек на свою сторону.
Пастор хотел поупражняться во всепрощении именно
на том человеке, который его разорил. Он хотел, чтобы все
видели, что этот красивый седовласый старец, сломленный
несчастьем, нашел себе прибежище как раз там, где меньше
всего мог ожидать. И пастору было очень приятно сидеть
теперь в глубоком кресле и слушать, как профессор
почтительно и заискивающе отчитывается ему в делах
заведения, врачом и смотрителем которого он является.
Молодая фру Клара Левдал также стала верной
помощницей пастора. Она могла лучше, чем Фредерика,
организовывать благотворительные базары и распоряжаться на
женских собраниях, соединяя истинно христианский дух
с уверенностью светской дамы, умеющей обходиться с
людьми.
Только Абрахаму Левдалу нелегко было приспособиться
к новым обстоятельствам после того большого несчастья,
которое на него обрушилось. Он многое перепробовал, но
люди утратили к нему доверие; к тому же в городе
поговаривали, что он начал пить.
525
По настоятельной просьбе профессора и Клары пастор
Крусе дал ему в конце концов работу в своей газете; но
между ними — старыми школьными товарищами — так и
не установились те отношения, в которые пастор обычно
вступал со своими людьми.
Абрахам выполнял работу в редакции без особого
интереса и не всегда следовал полученным указаниям с тем
усердием, которого неукоснительно требовал Мортен Крусе.
Пастор давно приметил склонность Абрахама к оппозиции,
но он знал ей цену и только ждал случая, чтобы
окончательно его сломить.
Так вот, пастор и профессор сидели как-то раз в конторе
приюта и беседовали. Невзначай разговор коснулся
политики— этого предмета профессор старался избегать после
своего падения.
Сам пастор Крусе и те общественные слои, среди
которых он нашел своих первых приверженцев, принадлежали,
естественно, к левому лагерю. Ему-то он и оказывал до сих
пор поддержку, хотя лично не принимал участия в
политической жизни.
Но именно в эти последние дни, когда он перестал
получать удовлетворение от своей деятельности и искал новых
путей, он охотно заводил разговор о политике. Он сидел
и ругал на чем свет стоит и своих политических
сторонников и своих политических противников.
— Не так-то просто решить, кто из них хуже! —
воскликнул он.
— Хуже? Дело здесь не в левых и правых,— ответил
профессор.
Но так как пастор пронзил его своим жестким взглядом,
он поторопился добавить:
— Ну, конечно, такому человеку, как я, потерпевшему
крушение, вообще не положено иметь своего мнения.
— Говорите,— сказал пастор.
— Худшие, дорогой господин пастор,— да и вы сами это
знаете,— продолжал старик с улыбкой,— худшие могут
принадлежать и к правым и к левым, они есть даже среди
нас, потому что худшие, господин пастор,— это
неверующие, не правда ли?
— Разумеется,— подтвердил пастор.
— Собственно говоря, именно против них и должна быть
направлена любая христианская деятельность,— продолжал
профессор Левдал скромно, как бы размышляя вслух. Он
говорил словно себе самому в назидание.
Пастор между тем встал, подошел к окну и стал
смотреть в сад, обнесенный крашеным дощатым забором.
Профессор еще некоторое время говорил о той
благодати, которая уже снизошла на город в результате деятель-
526
ности пастора Крусе; говорил он и о том, какое настало
теперь блаженное время, когда удалось покончить с
неверием. И хотя он не видел лица пастора, а видел только
его широкую неподвижную спину в просвете окна, он
чувствовал, что тот прислушивается к его словам.
Потом пастор ушел, бросив, как всегда, на ходу сухое
«до свидания». Но профессор Л ев дал занял его место у
окна и, созерцая все тот же крашеный забор, думал о том,
что теперь многие-многие другие будут низвергнуты точно
так же, как уже давно низвергнут он сам.
Действительно, после разговора с Левдалом
деятельность Мортена Крусе приобрела другой размах. Дело в том,
что голова пастора работала слишком туго, чтобы найти
новый путь без посторонней помощи,— хотя у него хватало
неутомимости и упорства неуклонно претворять в жизнь
заимствованную идею или подсказанный план.
До сих пор он сам и его сторонники занимали левые
позиции во всех религиозных и политических вопросах,
а это влекло за собой необходимость опираться на людей,
неверие которых было общеизвестно.
Но теперь он уже не нуждался ни в чьей помощи. И то
новое размежевание, которое он намеревался осуществить,
имело неоспоримые преимущества перед всеми другими,
так как требовало четкого выбора и гораздо глубже
соответствовало духу христианства; по одну сторону стояли он
и его сторонники, по другую — все неверующие. Только
из этого нового принципа и надо было исходить.
Ему открылось также, что дети божьи вовсе не должны
быть такими угрюмыми. Наоборот, они должны быть
радостными в борьбе, ибо все их начинания угодны богу.
И они не должны также осуждать тех, кто хорошо живет,
а, напротив, должны сами стремиться захватить все лучшие
места.
Потому что ведь ясно сказано: нехорошо взять хлеб
у детей и бросить псам.
Профессор Левдал прав: в политике теперь сгладились
различия между правыми и левыми, и новые противники
пастора Крусе притаились повсюду — это были все те, кто
не был его друзьями. А поскольку бог за него и поскольку
он дал ему возглавить такое мощное движение, то пастор
Крусе обязан не допустить, чтобы в христианской стране
что-либо осталось в руках у неверующих — ни одного
куска хлеба псам! А в суровые, жестокие времена, когда
затянувшийся кризис, уже разоривший стольких людей,
все еще угрожал остальным, каждый кусок хлеба был
дорог. Поэтому запугать людей стало легче, и купить их
можно было дешевле. Но все куски должны были достаться
только ему и его приверженцам — такова была божья воля.
527
Сердце Мортена Крусе опять преисполнилось
благодарности к богу за то, что ему открылась эта истина. Его
проповеди приобрели новую силу, в них зазвучали новые
нотки.
Теперь ему вовсе незачем было начинать каждый раз
свои проповеди со все той же исходной точки и твердить,
что он сам и его прихожане — самые ничтожные и
презренные на земле; потому что он понял, что его противники
Еовсе не сильные мира сего и что незачем больше просить
бога охранить верующих от их высокомерия и тщеславия.
Противниками оказались теперь псы, пожирающие хлеб
детей.
Пастор Крусе стремился захватить для себя и для своих
приверженцев самые лучшие должности. Но делал это не
ради выгоды, а лишь потому, что бог не мог потерпеть,
чтобы неверующие губили народ, повелевая им. Он и его
кроты работали теперь куда больше прежнего, и ничто их
уже не сдерживало, потому что нечего считаться с законом,
когда дело идет о псах,— они и его враги и враги бога, и
потому он должен их уничтожить с божьей помощью.
Когда же они пытались объединиться и приостановить
его вознесение, он обращался к библии. В ней он всегда
находил что-нибудь, что можно было обрушить на своих
врагов: ведь библия — толстая книга.
Таким образом, само движение приняло постепенно
другой характер. По кислым, угрюмым лицам как бы
скользнул отсвет успеха; на собраниях сидели красивые
девушки,— теперь уже немного приодевшиеся,— и
высокими голосами пели простые псалмы. Божьи дети имели
право радоваться, работая во имя прославления бога.
Кротов становилось все больше и больше, и они были
вездесущи. С помощью газет, журналов и денег они
распространились по всей стране, проникли в самые
отдаленные уголки. Но они ничем не походили на тех сектантских
проповедников, которые раньше странствовали по
Норвегии.
Кроты не вызывали ни оживления духовной жизни, ни
религиозной экзальтации, ни других хоть сколько-нибудь
заметных перемен: никого они не обращали в истинную
веру; появлялись они всегда втихомолку, и никакие звуки,
кроме звяканья монет, не сопровождали их посещения.
И все же всегда сразу было заметно, что они побывали
в том ,или ином месте, потому что одни люди вдруг
стремительно всплывали, а другие так же неожиданно шли ко
дну. В один прекрасный день разрушалось чье-то
благосостояние, неожиданно лопалось чье-то торговое дело,
словно все клиенты в воду канули. Бывало и наоборот:
какой-нибудь жалкий булочник начинал ни с того ни с
528
сего быстрее других распродавать свой прокисший хлеб;
он оказывался осыпанным не только мукой, но и
таинственными благодеяниями, и, по мере того как он шел в гору,
по округе все настойчивее распространялись слухи, что он
стал истинным, сердечным другом пастора Крусе.
На всех выборных должностях — и больших и малых —
странным образом стали сменяться люди. Человек,
которого прежде избрали сограждане, получал
предупреждение — тайный знак — от кротов; если он его не понимал или
упорствовал, стоял на своем, то вдруг выяснялось, что у
него больше нет ни друзей, ни избирателей. И он неизбежно
слетал со своего поста, не успев даже разобраться, что,
собственно, произошло. И как только где-нибудь
оказывалось свободное кресло или даже стул, его тотчас же
занимал крот.
Особенно легко было Крусе контролировать
политическую жизнь, так как в ее рыхлой почве работа кротов
спорилась и быстро подвигалась. Каждый день приносил
известия о новых изменах, отступничестве, предательстве,
и все эти преступления свершались с хладнокровием,
доселе невиданным. Старые друзья, которые были тесно
связаны друг с другом, в одно прекрасное утро порывали
отношения, а общество и партии, существовавшие годами,
распадались и распускались, причем одни люди вдруг
заявляли другим, что вынуждены предать их, ибо те —
неверующие.
А если эти другие приставали с вопросами, требовали
более пространных объяснений, заклинали честью
одуматься во имя верности и дружбы, то ответом на эти
трепетные слова была лишь спокойная усмешка, которая яснее
всяких доводов говорила: бог у нас в кармане!
Более удобного христианства и придумать было нельзя.
Но тем самым движение пастора Крусе не будило души,
а, наоборот, усыпляло их, и в тишине этого уютного сна
беззастенчиво процветали трусость и властолюбие.
И в этой духовной отраве немногие честные христиане
барахтались, как редкостные рыбы в мутной воде.
Власть пастора Крусе все возрастала и, словно кошмар,
давила страну.
А священники?
Они вели себя как обычно: в своей среде говорили о
нем с ненавистью, с озлоблением, но перед лицом внешнего
мира держались все заодно, выступали в братском
единении.
Некоторые священники примкнули, правда, к
движению пастора Крусе и пытались, как умели, ему подражать.
Но большинство было настроено подозрительно, а многие
просто негодовали — этот выскочка загребал так много, что
34 Против тьмы
529
пожертвования на церковь по всей стране сильно
уменьшились.
Однако никто не решался выступить и сказать хоть
слово против пастора Крусе.
А ведь среди священников были люди высокого ума,
люди ученые и мужественные. И у каждого из них на столе
лежала книга, которая могла быть критерием для оценки
деятельности пастора Крусе.
Им достаточно было бы почитать Новый завет и
сравнить милосердное учение Христа с деятельностью
пастора Крусе, захватывающего все большую власть и
диктующего обществу свою волю,— и для них стало бы
очевидным, что такими путями нельзя приобрести весь
мир, не повредя душе своей.
Но никто не решался сказать первым: «А король-то
голый». К тому же в эти тяжелые дни надо было не
разоблачать, а поддерживать друг друга. А кроме того,
смотрите, сколько народу идет за ним! Нет, нет! Надо проявить
большую терпимость к этому брату во Христе,
причиняющему столько хлопот.
Никому не возбранялось читать проповеди о лицемерии,
с кафедры очень удобно поучать и обличать, а мир ведь
и в самом деле полон лицемерия. Надо было только строго
следить за тем, чтобы не обвинить в тяжком грехе
лицемерия кого-нибудь лично.
И если находился человек, который не мог больше
сдерживаться и, вытащив из толпы за шиворот одного из
худших лицемеров, подымал его так, чтобы все видели:
и кричал: «Глядите, вот вам один из этих голубчиков»,— то
остальные священники, сбегаясь со всех сторон, вопили:
— Нет, нет, нет, так не годится. Кто ты такой, что
смеешь публично обличать других? Отпусти его скорее —
одному господу богу дано право судить.
Нельзя было найти лучшей защиты для лицемерия.
И хотя всем было ясно, что кругом кишмя кишело
лицемерами и ханжами, каждый из них в отдельности чувствовал
себя в полной безопасности, потому что никто не имел
права взять его за ушко да и вытащить на солнышко.
Да, нельзя было найти лучшей защиты для лицемерия.
И поэтому оно расцвело махровым цветом. Подобно
огромной гадюке с влажной холодной чешуей и длинным,
отвратительным хвостом, ползло оно по стране и высасывало
живой мозг и свежую кровь народа.
И точно так же, как гадюка сбрасывает с себя кожу и
обретает вместе с новой кожей новые силы, современное
лицемерие только окрепло, приняв новое обличье. У него
была теперь крепкая, надежная чешуя, которую не так-то
просто было пробить.
530
...В последние дни произошло немало событий, за
которые он должен благодарить бога. Все обернулось как нельзя
лучше. Многие из тех, кто до сих пор были его
противниками, теперь пришли к нему, а его старые приверженцы
заняли более прочное положение в городе, и влияние их
усилилось. Безбожники, взбаламутившие город, получили
по заслугам. А все деньги, которые ушли бы на суетные
мирские дела, потекут теперь в его кассу — для бедных
слепых.
Во время короткой поездки к одной больной
женщине, живущей за городом, Мортен Крусе собирался
обдумать свою речь на празднике. Но, пока его двуколка катилась
по улицам, он невольно думал о людях, спавших в домах,
мимо которых он проезжал*
Он был осведомлен обо всем, что творилось за стенами
этих домов. Он хорошо знал и своих сторонников и своих
врагов. В конце концов, и тем и другим была одна цена.
Повсюду царили грех и порок, пьянство и разврат. Все эти
люди ненавидели друг друга и сеяли лишь зло и раздор.
От дома к дому, от улицы к улице распрос1ранялся дух
нетерпимости, который подавлял слабых и помогал
сильным карабкаться вверх, чтобы занять свое место под
солнцем.
Но он, Мортен Крусе, стоял теперь над ними. Он всех
держал в своих руках. Пусть город мал и край беден —
власть всегда остается властью. Его мечты сбылись.
В своем краю он был первым. Он властвовал там, где все
ему было знакомо и понятно. В одном кармане он держал
бога, а в другом — город.
Выехав с мостовой на проселочную дорогу, плотно
утрамбованную дождем, он взял вожжи в левую руку,
несколько раз сильно хлестнул лошадь и с радостью
подумал, что вот так же он управляет и всей округой.
Погода была как раз такая, какую он любил: низкое
свинцовое небо, покрытый пеленой дождя и грязи город,
словно придавленный к земле густым серым туманом.
Нет, дождь ничуть не смущал пастора. На голове у него
был резиновый капюшон собственного изобретения, который
пристегивался к плащу. И хоть вокруг хлестал ливень,
Мортен Крусе сидел в своей двуколке совершенно сухой,
словно на нем была прочная хорошая шкура — шкура,
которая еще долго ему послужит.
АНРИ БАРБЮС
В ОГНЕ
(Отрывок)
Людей, направляющихся к перевязочному пункту,
становилось все больше: здесь курьеры, раненые, калеки,
стонущие, кричащие, раскрасневшиеся от лихорадки,
мертвенно-бледные и дергающиеся от боли.
Изуродованные, обезображенные, неподвижные или
мечущиеся во все стороны, эти люди — воплощение
человеческих страданий и горя. Один из них неожиданно
вскрикивает, привстает и снова садится. Его сосед, в порванной
шинели и с обнаженной головой, смотрит на него и говорит:
— Ничего, потерпи!..
И повторяет эту фразу несколько раз, держа руки на
коленях и уставившись недвижным взором во мрак
погреба.
Какой-то молодой человек, сидящий на средине скамьи,
громко разговаривает сам с собой. Он говорит, что он —
авиатор. У него ожоги на одной половине тела и на лице.
Он весь горит в лихорадке, и ему все еще кажется, что его
лижут жгучие языки пламени, вырвавшиеся из мотора.
Он бормочет: «Gott mit uns» \ затем: «С нами бог»...
Зуав, с рукой на перевязи и слегка согнувшийся набок,
как будто его плечо стало непосильной ношей, обращается
к авиатору и спрашивает:
— Ты свалился с аэроплана?
— Да. Многого я нагляделся,— с трудом отвечает авиатор.
— Да и мы немало,— прерывает его солдат.— Другие
бы обалдели, если бы видели то, что я.
— Присядь подле нас,— говорит мне один из раненых,
отодвигаясь.— Ты ранен?
— Нет, я привел сюда раненого и сейчас отправляюсь
назад.
1 С нами бог (нем.).
532
— В таком случае тебе еще хуже, чем раненому.
Присядь.
— Я состою мэром в своей общине,— объясняет один
из сидящих,— но когда я вернусь домой, никто меня не
узнает, до того я изменился от вечной тоски.
— Вот уже четыре часа, как я прикован к этой скамье,—
со стоном говорит солдат, имеющий вид нищего, с
трясущимися руками, опущенной головой и круглой спиной. Он
держит на коленях свою каску, точно кружку для
подаяния.
— Мы ждем, чтобы нас эвакуировали,— объясняет мне
какой-то раненый толстяк, который усиленно сопит, потеет
и точно весь кипит. Его усы свисли и словно отклеились
от потного лица.
— Вот именно,— говорит другой.— Все раненые из
нашей бригады набились сюда, не считая других... Здесь
мусорная . яма целой бригады.
— У меня гангрена, все у меня внутри изодрано в
клочья,— гнусаво жалуется раненый, закрыв лицо
руками.— А между тем до прошлой недели я был молод и
опрятен. Меня точно подменили: у меня старое,
изуродованное, грязное тело, которое приходится таскать за собой.
— Мне,— говорит другой,— вчера было только 26 лет.
А сколько мне сегодня?
И он пытается показать свое состарившееся за одну
ночь лицо с ввалившимися щеками и глазами, в которых
мерцает маслянистый блеск гаснущего ночника.
— Мне больно,— смиренно жалуется какое-то
невидимое существо.
—- Ничего, потерпи,— машинально повторяет сосед.
Наступает молчание. Вдруг авиатор вскрикивает:
— Священнослужители с обеих сторон пытались
перекричать друг друга.
— В чем дело? — удивленно спрашивает зуав.
— Ты бредишь, бедный друг? — спрашивает раненный в
руку разведчик с забинтованным плечом и предплечьем,
поднимая глаза, все время устремленные на рану.
Авиатор, вперив взор в пространство, пытается
объяснить содержание и смысл таинственного видения, которое
всюду преследует его.
— С высоты, с неба, мало что увидишь, как вам
известно. Среди квадратов полей и маленьких кучек деревень
дороги кажутся белыми нитками. Различаешь также
нитевидные впадины, как бы вычерченные булавкой на песке.
Эти сети углублений, покрывающих равнину,— окопы.
В воскресенье утром я летал над линией огня. Между
нашими и неприятельскими передовыми окопами, между
двумя огромными армиями, стоящими друг против друга
533
и друг друга не видящими, расстояние невелико — иногда
сорок метров, иногда шестьдесят. Мне же казалось, что
между ними только один шаг, так высоко я летал. И вот я
разглядел у бошей и у нас на параллельных линиях,
которые как бы соприкасались, совершенно одинаковую суету и
движение: какую-то массу, напоминавшую живое ядро, а
вокруг нечто, походившее на черные песчинки,
рассыпавшиеся на сером песке. Затем все это замерло в
неподвижности. Незаметно было никаких следов тревоги. Я
спустился пониже, чтобы понять, в чем дело. И понял — было
воскресенье, и внизу с обеих сторон совершалось
воскресное богослужение: алтарь, священники и стадо солдат. Чем
больше я спускался, тем яснее я видел, до какой степени
все это одинаково, идиотски одинаково. Одна церемония
была как бы отражением другой. Мне казалось, что у меня
двоится в глазах. Я спустился еще ниже. По мне не
стреляли. Почему? Не знаю... И тогда я услышал... До меня
долетела как бы одна общая молитва; один общий гул
песнопений возносился к небу, проходя мимо меня. Я летал
взад и вперед, чтобы вслушаться в эту смутную смесь
церковных напевов,— и чем больше они силились заглушить
друг друга, тем больше они сливались воедино в небесной
выси, где я находился. Вокруг меня стала разрываться
шрапнель в тот момент, когда, спустившись очень низко,
я уловил два крика, слившихся воедино: «Gott mit uns!» и
«С нами бог!» Я улетел...
Молодой человек покачал своей забинтованной головой,
это воспоминание не давало ему покоя.
— В ту минуту я говорил себе: «Я лишился рассудка».
— Это действительность лишилась рассудка,— заметил
зуав.
С глазами, сверкающими лихорадочным огнем,
рассказчик пытался передать нам то глубокое впечатление,
которое произвело на него это зрелище.
— Что же это такое? — восклицал он.— Вообразите
себе эти две совершенно одинаковые массы, кричащие
совершенно одинаковые слова и все-таки друг другу
враждебные, хотя и тождественные по внешнему виду. Что же
ответить на это господу богу? Я знаю, что он все знает.
Но, даже зная все, он не сообразит, что ему делать.
— Вот так история! — воскликнул зуав.
— Успокойся: ему наплевать на нас.
— А затем, что же в этом необыкновенного? Ведь
ружья тоже говорят одним языком, а между тем это не
мешает народам лезть в драку, да еще в какую.
— Да,— согласился авиатор.— Но ведь бог только один.
Я понимаю, что люди молятся, но как же бог-то может
слушать такие молитвы?
534
Беседа умолкла.
— Да, но о чем же он думает, этот бог, когда
позволяет и тем и другим верить, что он с ними? — вдруг
воскликнул авиатор, настойчиво доискивавшийся разгадки
тайны.— Почему он заставляет всех нас кричать: «С нами
бог!»? «Нет, вы ошибаетесь,— бог с нами!»
С носилок донесся стон, и некоторое время только он
один раздавался в тишине, словно это был ответ на
проклятый вопрос.
А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ
ДЕВЯТОЕ ЯНВАРЯ
Отец был набожный старик:
«Нам бог одно спасенье! —
Бывало скажет.— Без него
Снести ли все мученья?..
«Эх, паря, царь забыл про нас!
Царю живется сладко...
А перед богом — вот горит
В углу моя лампадка...
«Без хлеба я готов сидеть,—
В лампадке было б масло,
Пойду и в рваных сапогах,
Лампада б не погасла.
«Затем, что, паря, за народ,
За все его страданья
Горит пред господом в углу
Лампада упованья.
«И верю я: придет тот день,
Господь царя пробудит
И скажет: «Глянь-ка на народ!
Его-то кто ж рассудит?!»
«И царь придет на помощь нам,
По правде все устроит:
Заводчиков посократит,
Рабочих успокоит».
И смотрит в угол мой старик,
Где образа сияют...
«Да, будет день... Да вот когда?
Про то на небе знают»...
536
По воскресеньям он ходил
В рабочее собранье;
Хвалил попа, который там
Им делал увещанья.
«Хороший поп, отец Гапон,
И нам добра он хочет...
За нас теперь перед царем
О чем-то там хлопочет».
Однажды он пришел домой
Серьезный, величавый:
« Ну, парень,— говорит,— теперь
Восстал на кривду правый!..
«Выходит так: невмоготу!
Народ-то измотался...
И вот идти к царю с попом
И с просьбой догадался.
«Царю хотим мы бить челом,
Чтоб больше дал свободы,
Чтоб дал рабочему вздохнуть:
Загрызли нас невзгоды.
«Сверх сил работаешь, как вол,
Пока силен да молод,—
А вот измыкался, ослаб,—
И в дверь стучится голод.
«Кругом обсчет, кругом обман,
Еще тебя ж ругают!
А стачкой станут — казаки
Рабочих избивают...»
Задумался седой старик:
«Тебе-то тоже надо,
Хоть ты парнишка молодой,
Идти со всей громадой.
«Иные, правда, говорят,
Что в виде обороны
Прикажут в нас палить войскам:
Да как палить в иконы?
537
«Отец Георгий впереди
Пойдет с крестом, при этом
Хоругви тоже понесем
С царевым со портретом.
«Уж если б стали в нас стрелять,
Сам бог бы грянул с неба!
За что? что батюшку-царя
Мы просим дать нам хлеба?»...
И вот настал тот страшный день.
Коль был бы бог на деле,
То тучи, кровью налиты,
Все небо бы одели.
Но день был ясен, в куполах
Сияло солнце, чистый
Сребристо-белый снег лежал
Постелею пушистой.
И стройно пел рабочий хор,
Хоругви колебались:
Был важен вид у всех мужчин,
А бабы улыбались.
На сердце гордо и легко:
К царю пошли честь-честью,
И с правдой-маткою пошли,
А не с придворной лестью.
Старик отец идет с сынком:
«Народа глас — глас божий!
Царю напомним о себе,
И бог напомнит тоже...
«Эх, парень! Сила, ведь, народ!..
На сердце даже сладко...
Терпел-терпел, да и пошел
К царю он с правдой-маткой!
«Теперь мы лучше заживем,
Как скажем государю,
Что приходилось нам терпеть...
Уж легче, будет, паря!»...
Вдруг крик: «Стой, честной народ!
Ведь впереди застава,—
Стоит готовая на все
Казацкая орава».
538
Вперед выходят из толпы:
«К царю хотим с поклоном...»
«Пускать не велено к царю:
Смиритесь пред законом!
«Приказано вам разойтись
Немедленно и смирно...
С царем, как барам, говорить
Вам будет слишком жирно!»
И засмеялся генерал,
Нагайкою махая,
И ропот слышится в толпе
И ненависть глухая.
«Постой, парнишка, погоди,
Неладно, вижу, что-то...
Прислали кучу казаков...
Вот с ружьями пехота...
«Нет, надо им растолковать:
Не зря идем, не спьяну».
И вот вперед идет старик
К расшитому кафтану.
«Послушай, милый человек,
К отцу идем, как дети,
Затем, что больше невтерпеж
И жить нельзя на свете...»
«Поговори, поговори! —
Кричит тот негодуя:
— Вот прикажу в тюрьму сволочь
За бороду седую!
«Назад, скорей, не сметь чинить
Своим властям помехи,
А то узнаете — вкусны ль
Свинцовые орехи!..»
Старик в слезах пред наглецом
Склонил свои колени:
«Пусти народ к царю-отцу,
Услышь мои моленья!..
«Я стар и скоро уж помру,
Мне бунтовать не к летам:
Но жить нельзя — к царю пусти
За хлебом и советом!»
539
Рожок в ответ ему сыграл
Зловещие сигналы:
За ружья взялись казаки,
Смеются генералы.
«Вперед-ка, братцы, не робей! —
Кричит старик: — Все шутка!
А ну-ка выстрели в портрет?
В икону бацни? Ну-тко?!
«Чтоб православная рука
Поднялась на святыню?!
Тогда сам бог испепелит
Безбожную гордыню!»
И светел, весел он идет,
И с ним сынишка рядом,
За ним толпа... Вдруг грянул залп!
Сыпнулись пули градом...
И белый снег, пушистый снег
Залился кровью красной,
И крики боли, злобы вопль
Раздался жгучий, страстный...
Упал старик, сраженный в грудь,—
Убит царем кровавым,
И бог не мстит с своих небес
Своим рабам лукавым!..
Повсюду кровь, смятенье, смерть,
Звучат угрозы, стоны,
А на краснеющем снегу...
Разбитые иконы.
А небо ясно и глядит
С веселостью бездушной...
И понял в этот миг отец,
Что ложь твердил послушно.
А сын склонился над отцом,
Весь трепетом объятый.
«Послушай, сын, не други нам
Ни бог, ни царь проклятый!
«До правды ты-таки дойдешь!
Не удержать народа...
Иди вперед— там ждет тебя
Рабочая свобода!..»
540
Прошло полгода — смотри,
Как вырос мальчик скоро,—*
Серьезно, смело он глядит
И ждет конца позора.
«Не нынче, завтра: все равно
Придет пора восстанья,
Час мести, мой веселый час,—
Исполнятся желанья!
«Мы не иконы понесем,
Пойдем мы не с портретом,
А бомбы, ружья, динамит
Вам загремят ответом!
«И не хоругвь над головой
Завеет златотканный,—
Мы знамя красное взовьем,
Великий стяг наш бранный...
«И не псалмы мы будем петь,
А марсельезу грянем:
Социализм—наш идеал,
И мы его достанем!
«Оставим небо воробьям,
Но землю завоюем
И на развалинах темниц
Толпами заликуем.
«И павших братьев помянем,
Отцов, в бою сраженных,
И им колонну отольем
Из пушек побежденных!»
А. С, СЕРАФИМОВИЧ
БУНТ
(Отрывок).
...В деревне все стояло вверх ногами, и шла страшная
кутерьма: управляющий с старшиной, с урядником и
десятскими ходил по избалг и описывал коров, овец, веялки, бороны,
самовары, бабьи холсты, всю лишнюю одежу, и носились
вой, плач, как будто хоронили всю деревню. Да похоже, что
похоронили — деревня стояла голая и убитая.
А ночью занялось зарево за усадьбой,— горели скирды
немолоченного баринового хлеба. Согнали всю деревню
тушить. Да где тут! — разве затушишь? К утру только черное
место осталось.
Через два дня оказались испорченными десять заводских
коров. Когда утром работницы пришли доить, у коров не было
сисек, лила кровь,— отрезали, а стена коровника была
прорезана, с поля забрались, оттого и собаки не учуяли.
Потом через ночь два раза загоралась усадьба.
Тогда пригнали сотню казаков и приехал следователь по
особо важным делам. Пошли допросы, аресты. Крестьяне с
тупо-покорными лицами стояли, глядя в землю, и твердили
одно:
— Знать — не знаем, ведать — не ведаем.
Их садили в кутузку, кормили селедкой, не давали пить
по нескольку дней, а они, замученные, осунувшиеся, с
провалившимися в ямы глазами, исхудалые, как скелеты, все
свое:
— Знать — не знаем, ведать — не ведаем.
Тогда отдано было приказание перепороть всю деревню.
Казаки шли от избы к избе, вытаскивали крестьян, клали на
землю, один садился на ноги, другой на голову — и пороли до
тех пор, пока спина и зад не покрывались
кроваво-изорванными лоскутьями. Сначала крестьянин отчаянно кричит и
дергается, потом хрипит, потом замолчит и лежит неподвижно
542
под казаками. Тогда его на рогоже относят, кидают за
избой и отливают водой. А когда откроет глаза, его
спрашивают:
— Кто сжег скирды? Кто попортил коров? Кто поджигал
усадьбу?
А крестьянин, еле ворочая коснеющим языком, говорил:
— Ведать не ведаю, знать не знаю.
Пороли и баб. Те верещали, как резаные, извивались
вьюном, но замолкали скорее крестьян, потому что были
слабее, и лежали молча, а плети резали им тело. Но когда
очуневались от лившейся на них воды, еле слышно
говорили:
— Ве-дать нне ве-дда-ю, знать не ззна-ю.
Перепороли всю деревню, а ничего не добились.
Посовещалось начальство — ничего не могут поделать с
крестьянином: уперся, как бык. Тогда прибегли к последнему
средству.
Когда маленько позаструпились у крестьян и баб спины и
задницы, согнали всю деревню на площадь к церкви. Вынесли
аналой, поставили на земле перед папертью. Вышел поп с
причтом. Положил на налой крест и Евангелие.
А кругом стоят казаки на лошадях; свесились нагайки; за
спинами винтовки, мотают головами нетерпеливые кони.
Возле попа сбилось начальство, ястребом поглядывает на
крестьянское горе. А крестьяне почесывают струпья.
— Слышь, Ванька, драли нас так, а теперича будут
пороть с водосвятием.
— А ты читай под плетьми: «Свят, свят»...
— Ёа-атюшки, ды што жа этта будет: надысь всю юбку
иссекли, а ноне опять! Ды это юбок не настарчишься.
Поп просунул голову в епитрахиль, выпростал патлы,
слегка завернул широкий рукав, взял крест и, высоко держа,
громко заговорил,— было слышно по всей площади, полной
народа:
— Братие! Господь бог наш Иисус Христос в
неизреченной милости своей во святом своем Евангелии рече: рабы да
повинуются господам своим. Мы — рабы, грешные рабы
господа бога нашего Иисуса Христа и помазанника божия, на
ком почиет благодать божия — царя-батюшки. Но злой
искуситель, извергнувший из рая первородным грехом наших
праотцев, не может успокоиться в лютой гордыне своей и
злобе. И он сомущает нас на адские деяния, на поджоги, на
разбой, на уничтожение чужих трудов, а наипаче на
неисполнение обязанностей, возложенных на вас самим господом
богом.
Поп говорил и говорил, а крестьяне, бабы крестились,
кланялись, точно ветром их клонило, и казалось им —
густой туман, не то дым, вековечный дым наползал на них,
543
отнимал глаза, уши, волю. А поп все говорил и говорил.
Потом высоко поднял крест и вдохновенно провозгласил,
точно дух бржий его осенил:
— Братие, спокайтеся! Спокайтеся перед господом богом
нашим Иисусом Христом, перед святым его Евангелием
целованием святого животворящего креста его, и он,
милосердый, отпустит ваши тяжкие прегрешения, которые
неодолимо влекут вас в геенну огненную, где в страшных муках
нераскаянные грешники будут вечно кипеть в смоле и
вотще взывать о помиловании.
По площади пронеслись испуганные бабьи вздохи.
Крестьяне повесили победные головушки. Подходили по
очереди к аналою, клали земной поклон, целовали Евангелие
и крест, потом повторяли за попом:
— Клянусь перед святым Евангелием и животворящим
крестом говорить сущую правду.
Потом затылок в затылок становились к начальству, и
оно по очереди допрашивало. Лица у крестьян и баб
замкнулись, сделались тупо-покорными.
— Знать — не знаем, ведать — не ведаеыь.
Со злости начальство арестовало на авось, по указанию
управляющего, старшины и урядника, тридцать семь
человек и отправило в город, в тюрьму — дожидаться суда.
Истомились крестьяне, сидя за решеткой; совсем серые
стали, скелеты скелетами, кожа да кости,— не узнать,
больше года сидели.
Раз загремели железные затворы; стуча прикладами,
вошли солдаты и повели в суд.
В суде протянулся длинный стол, покрытый красным.
А за столом посередке тучный председатель в мундире, и
воротник у него весь в золоте.
«Должно, много денег пошло на воротник,— подумали
крестьяне, испуганно глядя на председателя,— дюже уж
сурьезный».
А по бокам—судьи. Глянули — да это старшина Шара-
поновской волости! Лют. Вся округа его знает. Ражий, с
доброго борова, красный, как мясо, глаза маленькие, а у самого
мельница в аренде да лавка под железом. Сожрет, за барина
постоит,— одного поля ягода, вместе крестьянина сосут.
С тоской отвели глаза. Глянули на другого. Да ведь это
предводитель дворянства, друг-приятель барина, в гостях у
него постоянно. Добродушный, и бакенбарды у него на две
стороны, а и этот съест за барина, не иначе,— дворяне.
Засосало у крестьян. Эх, праведные судьи!
А тут сбоку такой костлявый, шкелет шкелетом, а сам
в мундире. Так этот с первого слова на крестьян опроки-
544
нулся: и разбойники, и грабители, и смутьяны, и
поджигатели. Мурашки по спине поползли. Прокурор.
Ну, крестьянский адвокат ловок, за аналоем стоит да так
и сыплет, так и сыплет супротив прокурора. Большую славу
себе приобрел на крестьянских делах, славу приобрел, а от
нее деньги пошли: все его нарасхват стали брать. В тюрьму
к ним все приходил,— не робей, говорит, ребята,
доказательств, говорит, никаких нету.
Крестьяне на все вопросы покорно одно отвечали:
— Никак нет. Не могем знать, только мы невиноватые.
А адвокат — ловок, бес! недаром у него черная одежина
сзади хвостом—попривел кучу свидетелей, крестьян же,
баб из ихней деревни, и доказал: один обвиняемый дома
сидел в ночь поджога и когда портили коров — соседи
видели; другой аккурат в это время в земской больнице лежал
с вывихнутой ногой, оттуда и удостоверение дали; третий
в лесу дрова рубил, порубщики удостоверили; четвертый был
в городе, сено возил. Крутят злыми головами судьи,
наскакивает шкелет, а ничего не могут поделать —
доказательств-то действительно никаких нет, так и оправдали,—
начальство-то впопыхах да в злобе заарестовало не тех,
кого надо, невиновных заарестовало. Так и уехали крестьяне.
Приехали да взвыли: избы заколоченные стоят; во дворах,
под сараями все чисто, как корова языком слизала: ни
лошади, ни овцы, ни коровы, ни бороны, ни одежи — все продали
за недоимку барину, а бабы с ребятишками ушли по кусочки.
Да и всю деревню разорили дотла — до копеечки
взыскали баринову аренду, да еще с неустойкой.
А жить надо, а кормиться надо, а арендовать баринову
землю надо, а в церковь, что посреди села стояла, ходить
надо, а поборы попу давать надо,— и опять потянули
вековечный хомут худые почернелые, полопанные крестьянские шеи.
Эх, жисть!
Пришел великий пост. По утрам и по вечерам печально и
редко зовет колокол: к на-ам!.. к на-ам!.. к на-ам!..
Это — монастырский колокол. Вон он белеет, монастырь,
белыми стенами, а из-за стен блестят главы и кресты.
Хорошо там живут монахи, ишь, ходят черные — сытые,
ядреные. Да и как им сытно не жить — эва, кругом все ихние,
монастырские поля; а по речке ихние, монастырские
заливные луга; а за лугами — ихний, монастырский лес. Угодий у
монахов, поди, столько же, сколько и у барина.
Крестьянину курицу, скажем — курицу, и ту выпустить
некуда.
Ну, как же монахи — сами экую махину земли и
обрабатывали? Да нет же, не для работы жили монахи в монастыре,
а для молитвы за грехи.
35 Против тьмы
545
Крестьяне-то бесперечь грешат и тянут грехи в
монастырь, а монахи их отмаливают, да не даром. За отмоленье
крестьяне и землю вспашут, и луг скосят, и делянки в лесу
вырубят; бабы снопы повяжут, и сады уберут, и холстов
монахам наткут, и за коровами, за птицей походят — вот
громадное монастырское имение и справлено. За это
измученные, зарезавшиеся на работе, голодные, оборванные
крестьяне идут домой чистенькие от грехов, как младенцы
новорожденные, а монахи садятся за стол и вкусно и сытно
едят, по кельям и винцо попивают.
Опять у монастырей и другой доход. Прогнали крестьяне
по монастырской дороге скот — плати. Упустили крестьяне
лошадь на монастырскую землю — плати; пошли бабы
грибков набрать в монастырский лес — плати. Крестьянин
плачет, а монахи радуются — много доходу.
Так и жили с одной стороны деревня, с другой —
монастырь.
«К на-ам!.. к на-ам!..»
Идут в монастырь старухи, молодые бабы, девки, несут
ребятишек, идут крестьяне, несут свое горе, свою нудьгу,
несут к богу да к попу,— куда же крестьянину больше и
нести? Не к кому во всем свете.
А поп накроет епитрахилью и скороговоркой (очередь-то
исповедников — страсть!) спрашивает грехи. Ох, много у
крестьянина грехов, на воз не заберешь! А поп уже:
«Отпускается и разрешается... во имя отца и сына...»
Только с бабами поп подолгу и ласково толкует под
епитрахилью, подробно выспрашивает грехи и ласково и громко
именем бога отпускает их.
А бабы и рады. Поп все время — ив проповедях, и на
дому с молитвой, и где встретится — всегда громким
покоряющим голосом говорит крестьянам о грехах, об аде, о пещи
огненной, где гореть крестьянам в огне неугасимом.
И видят крестьяне: все несчастья, все горести, все беды,
все разорение — от грехов; кабы не грехи, жили бы
беспечально.
Пришел хромой солдат. Накрыл его поп, спрашивает про
грехи. Твердит солдат: «Грешен, грешен, грешен»...
А поп и спрашивает:
— Не палил ли бариновы скирды? Не резал ли сиськи
помещичьим коровам? Не поджигал ли усадьбу?
Затаился хромой и сказал глухим голосом:
— Нет... в этом не грешен, батюшка.
— Отпускается и разрешается... отца и сына...
Подошла хромого баба, положила поклон, накрыл поп и
слышит — шепчут истомленные, истрескавшиеся бабьи
губы:
— Грешная... грешная... грешная, батюшка.
546
А поп строго:
— Помни, грех смертный на исповеди перед самим
невидимо присутствующим богом укрывать грехи.
И загремел поп божеским гневом:
— Проклятие господне незамолимое на том, кто перед
господом не откроет свою грешную душу!
Потом опять заговорил ласково и внушительно:
— Не палил ли твой муж бариновы скирды? Не резал ли
сиськи помещичьим коровам? Не поджигал ли усадьбу?
Задрожала баба, от пят до головы задрожала и чует —
замерла вся церковь. А церковь все та же: одни крестятся,
другие стоят на коленках и кладут поклоны, третьи
возжигают свечечки перед ликами святых, а иные сидят на полу,
дожидаются исповеди,— как было в церкви, так и есть. Стоит
баба ни жива ни мертва. И так рванулось сердце у ней, а
вдруг скажет она последний страшный грех, очистится душа,
как говорил батюшка, от всякия скверны, и господь
оглянется на них, снимет все тягости, все горести, все бедствия-
несчастья, всю нищету снимет со всей деревни, и перестанут
умирать от голоду ребятишки, перестанут их бесперечь
таскать на погост, перестанут маяться неизбывной маятой
крестьяне и бабы, вздохнут все.
И закапали у .бабы слезы, закапали под епитрахилью —
замученные вековечные бабьи слезы, закапали ей на руки,
на аналой, на крест, на Евангелие, а поп к самым губам ухо
протянул. Ах, бабочка сердечная, али не прожгут твои слезы
креста медного золоченого, не прожгут насквозь до самой до
земли!
И прошелестели ее уста:
— Грешен батюшка... резал, поджигал.
— А еще кто?
— Еще, батюшка, Микитка Ржаной.
— Еще кто?
— Еще Федор Кривой.
— Сколько всех человек?
— Пятнадцать, батюшка, пятнадцать.
— Кто да кто?
— И Иван Косой, и Володька Притыкин, и...—пятнадцать,
всех пятнадцать,— пересчитала бабочка,— пятнадцать.
Заспешил поп, засуетился,— исповедников эва сколько
ждет.
—...отпускается и разрешается... во имя отца...
Идет бабочка, земли под собой не чует: снял батюшка с
них грехи, теперь господь оглянется. А в сердце занозина,
тонкая занозина — болит сердце. И с чего бы сердцу болеть,
коли снял господь грехи?
Через три дня арестовали хромого солдата, и Микиту
Ржаного, и Федора Кривого, и всех пятнадцать человек.
36*
А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ
ЦУСИМА
(Отрывок)
Каждый праздник служили на корабле обедню. Для этого
все сходились в жилой палубе, где устраивалась походная
церковь с иконостасом, с алтарем, с подсвечниками. И на этот
раз с утра, после подъема флага, вахтенный начальник
распорядился:
— Команде на богослужение!
Засвистали дудки капралов, и по всем палубам, повторяя
на разные лады распоряжение вахтенного начальника,
понеслись повелительные слова фельдфебелей и дежурных.
Для матросов самым нудным делом было — это стоять в
церкви. Они начали шарахаться в разные стороны, прятаться
по закоулкам и отделениям, словно в щели тараканы, когда
их внезапно осветят огнем. А унтеры гнали их с криком и
шумом, с зуботычинами и самой отъявленной бранью —
в христа, в богородицу, в алтарь, в крест Воздвиженский.
Офицеры это слышали и ничего не возражали.
Наконец половину команды кое-как согнали в церковь.
Начальство стояло впереди, возглавляемое командиром и
старшим офицером. Началась обедня. Роли дьячка и певчих
выполняли матросы.
Службу отправлял судовой священник отец Паисий.
Жалкую и комическую фигуру представлял собою наш
духовный отец. Иеромонах Александро-Невской лавры, он
попал в поход и на войну по выбору игумена и монашеской
братии. Корпус у него был сутул, со скошенными плечами, с
круглым выпяченным животом, точно он носил под рясой
ковригу хлеба. Лицо обрюзгло, поросло рыжей
всклокоченной бородой; мутные глаза смотрели на все по-рыбьи
неподвижно. Он, вероятно, редко мыл голову, но зато часто
смазывал густые рыжие волосы лампадным или сливочным
маслом, поэтому от них несло тухлым запахом. Нельзя
было не удивляться, как это офицеры могли выносить
548
его присутствие в кают-компании и кушать вместе с ним
за одним общим столом. Совершенно необразованный,
серый, он при этом еще от природы был глуп безнадежно.
Говорил он нечленораздельной речью, отрывисто
вылетавшей из его горла, словно он насильно выталкивал каждое
слово. Казалось, назначили его на корабль не для
отправления церковной службы, а для посмешища и кают-компаней-
ской молодежи, и всей команды. Самые горькие минуты у
него были, когда матросы обращались к нему с
каким-нибудь вопросом:
— Батюшка, за что это Льва Толстого отлучили от
церкви?
Отец Паисий начинал пыжиться, точно взвалили на него
воз:
— Потому что... ну, как это... он... как это — еретик.
— А что значит еретик?
— Это... ну, как это... значит... вообще...
— Батюшка, а что значит «аллилуйя»?
— Батюшка, а что значит «паки, паки»?
Священник кривил дрожащие губы и, что-то бормоча,
уходил прочь под хохот матросов.
Как и в другие праздники, так и теперь я стоял в церкви,
слушая обедню, и многому удивлялся. Что-то несуразное
происходило передо мною. Священник церковной службы не
знал, часто сбивался, и тогда на выручку ему вступал
матрос-дьячок, шустрый черноглазый парень. Не дожидаясь,
пока священник распутается и подаст нужный возглас, он
вместе с хором начинал петь песнопения. А в это время сам
отец Паисий, желая угодить начальству, неистово чадил
кадилом прямо в нос командиру и старшему офицеру, так
что те не знали, куда деваться от едкого дыма ладана,
отворачивались, морщились, иногда чихали.
В церкви было жарко.
Я слушал обедню и думал: кому и для чего нужна эта
комедия? Офицеры, как образованные люди, не верили во
всю эту чепуху. Мне известно было, что они сами в кают-
компании издевались над священником. А теперь они стояли
чинно перед алтарем и крестились только для того, чтобы
показать пример команде. Не могли и мы верить в то, что будто
бы через этого грязного, вшивого, протухшего и глупого чет
ловека, наряженного в блестящую ризу, сходит на нас божья
благодать. Нас загнали в церковь насильно, с битьем, с
матерной руганью, как загоняют в хлев непослушный скот.
А если уж нужно было заморочить голову команде и
поддержать среди нее дух религиозности, то неужели высшая
власть не могла придумать что-нибудь поумнее?
Обедня кончилась. Матросы гурьбой поднимались на
верхнюю палубу. Церковь быстро опустела.
549
*
Мы спустились в жилую палубу. Здесь больше, чем где-
либо, замечалось приближение праздника. Несколько человек
из команды сосредоточенно работали над тем, чтобы всему
придать пасхальный вид. Одни, устраивая походную церковь,
устанавливали алтарь, укрепляли иконы и расставляли
подсвечники, другие всюду развешивали флаги, зелень и
электрические люстры.
Часам к одиннадцати все приготовления закончились. Весь
экипаж, исключая вахтенных, находился здесь. Команда
оделась в белые, чистые форменки. Впереди стояли офицеры,
надушенные, в новых мундирах с золотыми и серебряными
эполетами на плечах, с орденами на груди. Перед алтарем,
приподняв немного свою огненно-рыжую бороду и глядя на
царские врата, застыл в молитвенной позе священник, отец
Паисий. Вспыхнули электрические люстры, загорелись перед
иконами свечи, разлив по всей палубе ослепительный блеск.
Все приняло торжественный вид. Только лица матросов были
пасмурны. Чувствовались изнуренность и усталость.
Ждали довольно долго. Наконец старший офицер
Сидоров, покрутив иредварительно свои седые усы, приблизился
к священнику и начальственным тоном произнес:
— Можно начинать.
В жилой палубе становилось жарко. Воздух, насыщенный
ладаном и испарениями человеческих тел, стал удушливым.
Матросы выходили из церкви на срезы или на верхнюю
палубу, чтобы освежиться прохладой.
Начался крестный ход. «Воскресение твое, Христе,
спасе»,— запел священник, сопровождаемый хором певчих.
Неся в руке крест с трехсвечником, украшенным живыми
цветами, весь сияя золотом и голубой вышивкой своей ризы,
он медленной поступью направился в кормовую часть судна.
За ним тронулись офицеры и длинной вереницей потянулись
матросы. Пробираясь по узкому офицерскому коридору
сначала левого борта, а потом правого, процессия обошла
вокруг машинного кожуха и снова вернулась назад. Не
доходя до алтаря, она остановилась перед занавесью,
сделанной из больших красных флагов.
«Христос воскресе из мертвых!» — раздалось, наконец, из
уст священника.
Подхватив этот возглас, дружно грянул хор певчих, а за
ним вполголоса начали подтягивать и другие матросы. Басы,
раскатываясь, мощно потрясали воздух, а чей-то высокий и
страстный тенор, выделяясь из общего гула, трепетно
взлетал над головами людей, словно стремился, утомленный этим
царством железа и смерти, вырваться на безграничный про-
550
стор моря. Среди команды произошло движение. Сотни рук
замелькали в воздухе.
На минуту и я, не верующий, как и другие, поддался
всеобщему гипнозу, красивому обману. Чем-то далеким и
родным повеяло на меня. Когда-то я встречал этот праздник в
своей деревне, в кругу близких и дорогих сердцу людей, и
воспоминания об этом расцвели в моей душе. Но с тех пор
прошло много лет, много новых впечатлений,
взбудораживающих мозг, наслоилось в моем сознании. Я привык ставить
вопросы перед самим собою. Что за нелепость творят над
нами? Мы встречаем праздник, называемый праздником
всепрощения и любви, готовясь к бою. Под нами, в глубине
броненосца, в бомбовых погребах, хранятся пятьсот тонн пороха
и смертоносных снарядов, предназначенных для
уничтожения людей, которых мы никогда не видали в лицо.
— Нужно проветриться,— предложил я своему приятелю
Василию.
— Идем,— немедленно согласился он.
Мы протолкались сквозь толпу и вышли на правый срез.
Ночь была тихая, теплая, насыщенная ароматом
прибрежных вод. Под безоблачным небом, разливающим
дрожащие струи звезд, о чем-то грезил миллионолетний океан.
На горах кое-где виднелись горящие костры. Чтобы не
выдать неприятелю места стоянки нашей эскадры, все огни на
ней были скрыты. Смутно чернели в темноте контуры
кораблей. Лишь изредка, если вблизи замечалась лодка туземца
или что-нибудь подозрительное, скользил по воде яркий луч
прожектора, но через минуту — две он мгновенно исчезал,
и тогда снова водворялась тьма.
На правом срезе стояли матросы.
Один машинист мечтал вслух:
— Только бы кончить службу, а там найду себе дело.
— Какое же? — спросили его.
— В Москву зальюсь. Там для меня есть место на заводе.
— Да, раз приобрел специальность, то нечего в деревне
прозябать.
Кто-то рассказывал о своем пребывании на острове
Мадера.
Но скоро замолкали. По-видимому, никому не хотелось
говорить. Так хороша, так пахуча была тропическая ночь!
И только тогда, когда зашла речь о зарезанной корове, сразу
все оживились:
— Значит, сегодня нас будут дохлятиной угощать?
— Выходит, так.
— А если корова была заразная?
— Скорее всего — заразная. Иначе — с чего бы ей
сдыхать?
Голоса становились все раздраженнее:
551
— С такого мяса и мы все подохнем.
— Подыхай. Плакать, что ли, будет о нас начальство?
— Надо артельщика взять в оборот.
— Артельщик тут ни при чем.
— А я бы другое предложил: взять все из офицерского
камбуза и поесть. А в кают-компанию корову отдать.
Кушайте, мол, господа офицеры, на доброе здоровье.
С кормы показался старший боцман, кондуктор Саем,
старый ретивый службист. Очевидно, он слышал последнюю
часть разговора. Закричал:
— Ах, нехристи бессмысленные! Там служба идет, а они,
скоты, тут зубоскалят! Марш в церковь, так вашу!..
Он хлестко выругался, осыпав скверными словами все
святое.
Рядовые матросы исчезли, а унтеры остались на срезе, не
обращая внимания на брань боцмана. Остался и я со своим
приятелем.
В глубине броненосца раздавалось песнопение: «И сущим
во гробех живот даровав». В тихом море, теплой ночью, под
раскрытым, нарядно сверкающим небом это звучало особенно
красиво. Казалось, что голоса хора, вырвавшись на простор,
радостно уносятся вдаль, чтобы всюду возвестить хвалу
жизни. Не будет больше смерти, этой страшной и
неумолимой разрушительницы всей живой твари. Она сама попрана
распятым на кресте. Не будет больше смерти? А что же
будет? И мой разум, как таран, опрокинул меня фактами. Все
пушки у нас были заряжены. У каждой из них дежурили
комендоры. Стоит только появиться противнику, как сейчас же
вместо свечей и лампад загорятся прожекторы, вместо
«Христос воскресе» загромыхают орудия, вместо красных яиц
полетят к японцам снаряды, начиненные взрывчатым
веществом. И, чем больше мы уничтожим человеческих жизней,
чем больше мы утопим их, тем сильнее будет среди нас
ликование. Как это все связать с величавыми словами молитвы,
провозглашающими торжество жизни? А ими обманывали
человечество в продолжении почти двух тысяч лет...
Н. ОСТРОВСКИЙ
РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ
(Отрывок)
...— Я весь к вашим услугам, пан Эдвард!—тихо
произнес отец Иероним, когда Людвига оставила их одних.
Они сидели в глубоких креслах за письменным столом
друг против друга. Маленькие черные блестящие глаза отца
Иеронима осторожно ощупывали Могельницкого, скрываясь
за прищуренными ресницами. Эдвард чувствовал это, хотя
казалось, что отец Иероним просто устал и полудремлет.
— Вы немножко удивлены, отец Иероним, моим
приездом?— Эдвард следил за цепкими пальцами своего
собеседника, теребившими черную кисть крученого пояса.
— Удивлен? Хм... Возможно!
Их взгляды встретились. Это было молчаливое
столкновение, длившееся несколько мгновений; Эдварду казалось,
что он прикоснулся к острию бритвы.
— Я думаю, что мы с вами будем откровенны и
перейдем сразу к существу дела,— прервал молчание Эдвард.
Отец Иероним испытующе посмотрел на него.
— Его святейшество кардинал Камарини просил
передать вам привет и маленькую записочку. Вот она.
Отец Иероним несколько раз прочел клочок бумажки, на
котором по-латыни было написано что-то вроде рецепта.
«А ведь из него мог бы выйти неплохой боксер»,—
пришло в голову Эдварду, наблюдавшему за отцом Иеронимом.
Действительно, у отца Иеронима была крупная голова
с мощной четырехугольной челюстью и толстая шея. Под
черной сутаной угадывалось упитанное, крепкое тело.
— Насколько я понял, его святейшество желает, чтобы
я помог вам, даже больше — выполнял все, что вы сочтете
нужным мне поручить,— произнес наконец отец Иероним.
— Вы правильно поняли. Но для вас, как мне известно,
не совсем ясна новая ориентация Ватикана. Позже вы
553
получите подробные объяснения на этот счет, а пока я вам
расскажу, как обстоят дела,— ответил Эдвард.
— Да, это меня весьма интересует.
— Ну, так вот, отец Иероним,— почти шепотом начал
Эдвард.— Вы, конечно, знаете расположение немецкой
армии?
— Да, в общих чертах...
Эдвард вынул из бокового кармана географическую
карту и развернул ее на столе. Оба наклонились над ней.
Палец Эдварда медленно пополз от Черного моря к
Балтийскому.
— Вот, примерно, граница немецкой оккупации: Ростов-
на-Дону, Харьков, в общем вся Украина... сюда, к Польше,
затем Белоруссия, Литва, Латвия и кончается Эстонией.
Это почти в три раза больше территории самой Германии.
Я говорю только о Германии,— продолжал Эдвард,—
потому что Австро-Венгрия здесь играет второстепенную
роль. По данным французского генерального штаба, вполне
точным, австро-германское командование располагает на
этом пространстве не менее чем двадцатью девятью
пехотными и тремя кавалерийскими дивизиями. Общая
численность их армии — триста двадцать тысяч человек.
Отец Иероним чуть заметно улыбнулся.
— Я понимаю, почему вы улыбаетесь, отец Иероним: вы
думаете, что не стоило покидать Париж для того, чтобы
подсчитывать, сколько сотен тысяч солдат имеет Германия
на территории, где Франция пока не имеет ни одного. Я
говорю — пока, потому что война продолжается. А война, отец
Иероним, не только создает новые границы, но и новые
государства. Сейчас я открываю вам то, что является
военной тайной и что вызвало мой приезд сюда. Во-первых,
Германия уже проиграла войну...
— Проиграла войну? — не скрыл своего изумления отец
Иероним.— Неужели Антанта разгромила ее на Западном
фронте?
— Нет, фронт еще держится, но это уже агония. Их
гибель идет изнутри. Наша военная разведка сообщает о
целом ряде выступлений рабочих и солдат в Австрии, также
в Берлине, Гамбурге. На одном из броненосцев вспыхнуло
восстание. С каждым днем бунты учащаются, и
кайзеровское правительство уже не в силах с ними справиться. Не
может быть сомнений, что ближайшие дни принесут
известие о революции в Австрии и Германии. Немцы выдохлись.
Ничто им не помогло: ни захват плодороднейших областей
России, ни вывоз хлеба и скота из Украины в
изголодавшуюся Германию; нация не в состоянии больше продолжать
войну, потому что ее тыл в огне. Австрия же вообще
держится лишь при помощи Германии. Как видите, с Герма-
554
нией получается то же, что с Россией. Было бы неумно
думать, что революционная зараза из России не проникнет в
Европу. Она уже проникла. Сам Людендорф признал, что
немецкие части, перебрасываемые из Украины на
французский фронт, заражены большевизмом и небоеспособны, даже
опасны, потому что разлагают другие...
— Скажите, пане Эдвард, это относится только к
Германии? — перебил его отец Иероним.
Несколько секунд молчания. Эдвард только теперь
почувствовал, что в нетопленном кабинете холодно. Было
слышно, как Людвига играла на рояле. Он тяжело подвинулся
в кресле, помрачнел и, отгоняя от себя все теплое, нежное,
навеянное музыкой, заговорил глухо и жестко:
— Большевизм может пожрать весь цивилизованный
мир, если его не истребить в зародыше.— В голосе Эдварда
звучала жестокая решимость и то, что лишь острым
чутьем уловил сидевший перед ним иезуит,— страх. Эдвард
встал, сделал несколько шагов и, остановившись перед
отцом Иеронимом, продолжал: — Рушится все здание
Германской империи... Что будет там дальше, трудно сказать. Если
Берлин повторит Москву и создаст у себя советы, то это
будет страшной угрозой. Ведь вводить союзные войска в
охваченную революцией страну — значит повторить судьбу
немцев на Украине. Если же социал-демократы — я говорю
о правых — удержат в своих руках власть, тогда
демократическая курица сменит императорских орлов и Германия
на ряд лет перестанет играть роль великой державы.
В глазах отца Иеронима Эдвард угадал немой вопрос.
— Вы спрашиваете, зачем я приехал сюда, ведь немцы
могут расстрелять меня, как французского шпиона?
— Я, кажется, об этом не говорил. Но, признаюсь, это
меня интересует.
— Прекрасно. Простите за длинное вступление. Итак,
почему я здесь?.. Как только в Берлине начнется пожар,
немецкая армия на Украине и Польше развалится. Немцы
уйдут, и вся занимаемая ими территория перейдет в руки
Красной армии. Вы представляете себе, что тогда
получится? Красная Москва — красный Берлин! Это — конец
Европы. Ни Франция, ни Англия допустить этого не могут.
Ситуация резко меняется. Раньше австро-немецкая армия
служила барьером, отделявшим Европу от
коммунистической России. Теперь этот барьер рушится. Если мы вместо
него не построим другого, советы захлестнут все...
— Как же можно этому помешать? — спросил
напряженно слушавший отец Иероним.
Эдвард взял в руки карту.
— Создать Польскую республику с национальной
армией, которая преградит красным путь на Запад...
555
...Надо подготовить вооруженные силы, которые смогли
бы прижечь огнем всех, кто вздумает после ухода немцев
создавать в Польше советы или что-либо в этом роде. Нам
важно выиграть время, собрать силы, вооружить их,
создать органы власти, жандармерию. Франция даст нам в
кредит амуницию, оружие, пришлет тысячи полторы
офицеров. И тогда мы заговорим иначе. Но сейчас необходимо
действовать, и притом самым решительным образом...
Эдвард смолк, вглядываясь в карту. Затем, словно
вспомнив что-то, добавил:
— Кстати, его святейшество кардинал поручил мне
передать вам, что если ваша работа окажется удачной, то
более подходящего генерального викария! на Волыни, чем
вы, ему не найти.
Глазки отца Иеронима не изменили своего обычного
выражения.
— Я жду ваших приказаний, пане Эдвард.
— Прекрасно, отец Иероним! — Эдвард сел.— Итак,
будем действовать... Дня через два я уезжаю в Варшаву на
совещание. За это время ознакомьте своих коллег в округе с
обстановкой. Делайте это осторожно.— Заметив
нетерпеливое движение пальцев иезуита, Эдвард понял, что последней
фразы не надо было говорить.— О моем приезде и моей
миссии— пока ни слова. Через три недели день рождения моей
жены. Под этим предлогом мы соберем здесь лучшие
фамилии округи и наиболее состоятельных людей,
заинтересованных в наших действиях. Одновременно вы соберете у себя
совещание ксендзов. Затем вы лично постарайтесь
встретиться с местными политиканами. Кто у них там верховодит?
— Пепеэсовец2, адвокат Сладкевич.
— Он. уже социалист? Скоро! Прожженная бестия! Вы
с ним поосторожнее, отец Иероним! Пока ситуация
выяснится, этот, способен трижды продать нас немцам. Я
привезу из Варшавы несколько офицеров, которых надо
устроить в порядочных семьях. Начнем отбор людей, будем
потихоньку вооружать их... Пусть кто-нибудь из ваших коллег
в своей проповеди обратится с призывом к борьбе за
отчизну и великую Польшу. Если его даже арестуют —
неважно, выручим! Я привезу денег. Пока вот пятнадцать
тысяч марок...
...В Варшаве я встречусь с папским нунцием и попрошу
совета, как вам дальше действовать. А сейчас основная
задача— собирание сил... Вот, кажется, все, что я хотел вам
сказать. Теперь я вас прошу поехать к князю Замойскому
и передать ему это письмо.
Оба поднялись.
1 Заместитель епископа.— Ред.
2 ППС — Польская партия социалистов.— Ред.
шш
!:' Hi
' !<
1ЧЕРНГАЯ ТЕНЬ
Ватикана
Ж.-П, БЕРАНЖЕ
СМЕРТЬ САТАНЫ
Рассказу дивному внимайте —
Я в нем не трачу лишних слов —
И славу должную воздайте
Патрону лжи и тайных ков!
Он поступил, сознаться надо,
Нечестно... Цель была честна.
Он отравил владыку ада.
Ах, умер, умер сатана!
Вот, говорят, как было дело:
Кутил Лойола под шумок,
Вдруг бес вошел и молвил смело:
«Давай-ка чокнемся, дружок!»
«Изволь»,— Лойола согласился.
Но с ядом дал дружку вина!
Весь корчась, на пол тот свалился...
И умер, умер сатана.
Он умер! Плачут иезуиты:
«Ну кем пугать теперь народ?
Со смертью дьявола разбиты
Надежды наши на доход.
Прощайте, власть, богатство, слава!
Из рук уйдет у нас страна.
Он был отцом всего конклава,
И умер, умер сатана!
Нам в людях страх всего дороже.
Страх нам покорно нес дары!..
Вот нетерпимость гаснет... Кто же
Опять зажжет ее костры?
559
Коль не прибрать людишек в лапы,
Вновь станет истина ясна,
Вновь станет небо выше папы.
Ах, умер, умер сатана!»
Но тут утешил их Игнатий:
«Я дьявола вам заменю!
Всех вольнодумцев очень кстати
Предам насилью и огню.
Все будет мне статьей дохода:
Чума, убийство и война;
Мы выжмем соки из народа,
Хоть умер, умер сатана».
Возликовал весь орден снова:
«С тобой возможны чудеса:
Едва успел ты молвить слово,
Как содрогнулись небеса».
И плачут ангелы о доле,
Какая людям суждена.
В наследство ад пошел Лойоле...
Ах, умер, умер сатана!..
ПОЛЬ ЛАФАРГ
ПИЙ IX В РАЮ1
(Отрывок)
I
13 декабря 1871 года в одной из зал Ватикана беседовали
два старца, один — одетый в белое, другой — в красное.
Белый старец был настолько дряхл, что временами
терял память и, подобно маленьким детям, по нескольку раз
повторял какое-нибудь слово, чтобы понять его смысл. Это
был Непогрешимый, папа — бог.
У красного старца была белая голова, но властное и
надменное лицо; это был первый советник Пия IX — кардинал
Антонелли. Он с тоской ожидал смерти Непогрешимого,
чтобы самому взойти на папский престол.
— Все потеряно! Все потеряно! — бормотал
Непогрешимый.
— Ничего не потеряно для того, кто не теряет
мужества.
— Ничего!.. Ничего не потеряно!.. Что же у нас
осталось? Эти проклятые, эти бандиты вырвали у меня одну за
другой мои провинции. Там, где в течение веков папы, мои
предшественники, распоряжались, как короли, я живу
узником; у ворот Ватикана, из которых когда-то со всей
славой и пышностью земной выезжали папы, стоит на страже
солдат отлученного Виктора-Эммануила,— проклятого. Он
меня обобрал, и теперь я беден, как Христос, беднее Петра,
когда он ловил рыбу своим неводом, чтобы заработать себе
на кусок хлеба.
— О, папа! Ты обладаешь тем, чем не обладал
Григорий VII, пред которым дрожали короли и императоры, как
1 Это о нем говорили в 1848 г. Маркс и Энгельс в
«Коммунистическом Манифесте»: «Призрак бродит по Европе — призрак^
коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли
этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские
радикалы и немецкие полицейские».— Ред.
36 UpOTiib ГЬМЫ
561
звери лесные во время затмения солнца; ты обладаешь тем,
чем не обладал ни один папа, как бы велик он ни был,—
ты Непогрешим. Ты более велик, чем бог. Создав свое
творение, бог раскаялся, он поглотил его в потопе. Ты,
Непогрешимый, ты не должен, не можешь ошибаться, ты не
можешь раскаиваться. Ты жалуешься, а ведь ты вознесен так
высоко, что превосходишь бога, он твой слуга: ты
приказываешь, а бог тебе повинуется.
— Что мне величие, что мне непогрешимость, когда
безжалостная старость сокрушает мое тело, уносит мои зубы,
омрачает мои чувства и оставляет мне лишь одно
ощущение оцепенения. Что мне величие, когда язвы моих ног
пригвождают меня к креслу, лишают меня аппетита, этого
блага, которым обладает ничтожнейший из детей земли.
Вечная молодость, вечное наслаждение — вот чем
следовало бы меня одарить.
— Дурак! Как долго не приходит смерть, чтобы
доконать твое тело, которое не что иное, как гроб
повапленный...— подумал человек в красном, возмущенный
бесконечными причитаниями святого отца.
— Зачем мне непогрешимость! — продолжал плакаться
папа,— если слепые, глухие черви пожрут завтра тело
Непогрешимого.
— Мы тебя набальзамируем, мы придадим тебе
твердость камня, чтобы лицо первого Непогрешимого
сохранилось навеки. Зачем ты плачешься, как женщина, когда
должен действовать, как мужчина? Твоя плоть немощна, ибо ты
допустил, чтобы неверующие поколебали твой дух. Не о
едином хлебе и мясе жив человек; ты вновь обретешь свою
бодрость, когда восстановишь свою власть, когда станешь
могущественнее Льва, Сикста, Григория1, когда пред
лицом твоим склонятся наиболее великие из великих, когда
ты выпрямишься и останешься стоять на ногах среди
множества коленопреклоненных людей, касающихся лбами
пыли.
— Кто создаст это чудо? — возразил папа,
гальванизированный пламенным честолюбием своего слуги, бывшего на
деле его господином.
— Вера!
— Она умерла.
— Умерла? Мы ее воскресим. В течение тысячелетий мы
растягивали человечество на окровавленной дыбе, мы опять
станем рвать его тело раскаленным железом, чтобы вера
проникла в его сердце. Вера есть дочь страха, мы заставим
людей дрожать.
— У нас нет достаточно сил.
Знаменитые папы прежних времен.—Ред.
562
— Разве глаза даны тебе для того, чтобы ничего не
видеть? Разве не видишь ты, что все идет к гибели? Наша
власть пошатнулась, колеблется, и все же мы единственные
удержались на ногах среди развалин цивилизации, потому
что мы представители духа прошедших времен,— духа,
который не умирает, прошедшего, которое подавляет
человеческую личность. Разве ты не видишь, что буржуазия, та
самая буржуазия, которая в прошлом столетии побеждала
нас разумом, насмешкой и ножом гильотины, осаждаемая
страхами, ищет, озираясь вокруг, защитника, спасителя?
Разве ты не видишь, что короли, императоры, чувствуя, что
почва под ними колеблется, обращают к нам свои взоры?
Мы якорь спасения, пристанище буржуазии, потому что мы
погоняем человеческие стада страхом пред неизвестным —
мы знаем мистические слова, которые сокрушают энергию,
обессиливают волю и заставляют человеческий скот
становиться жертвой мрака. Не видишь ли ты разве, что
черные классы рабочих, подобно орленку, бьющемуся в яйце,
чтобы разбить скорлупу, делают конвульсивные движения,
чтобы взорвать формы старого общества. Все
привилегированные классы должны объединиться, чтобы задушить
чудовище прежде, чем оно окончательно не вылупилось.
Разве ты не видишь, что страх перед требованиями
пролетариата о возвращений взятого у него, страх перед
Интернационалом, что боязнь коммунизма связала в один пучок
интересы правящих классов всех стран? О папа
Непогрешимый! Это мы, дух прошедших времен, станем во главе
крестового похода против варваров цивилизации, которые
хотят разрушить всякое общество, всякую мораль, всякую
справедливость.
— Что же нужно сделать для этого? — вскричал
преображенный белый старец.
— Чудо.
— Чудо? — И голова Непогрешимого неподвижно
поникла, и его голос погас.
— Да, большое чудо, которое поразит весь мир и внесет
смятение в ряды врагов.
— Но времена чудес прошли... Мощи святого Петра
творили чудеса, верующие им поклонялись; пришли анатомы,
взяли их в свои нечистые руки и богохульственно заявили:
«Да ведь это бараньи кости»,— и чудотворные мощи
прекратили свои чудеса. Во Франции явилась дева Мария, она
говорила, ходила, а неверующие громко покатывались со
смеху.
— Это все обыденные чудеса. Нам нужно настоящее
чудо, большое чудо.
— Поднимись на небо и поговори с богом, как он того
заслуживает. Бог чересчур легко относится к своему реме-
36*
563
слу.— Потому что он проработал каких-то жалких шесть
дней, он полагает, что все дни в году должны быть для него
воскресными и прогульными. Что сказал бы он, что сказали
бы мы, если бы рабочие последовали его примеру. Бог
чересчур бездельничает, стряхни с него его праздность, пусть он
сделает что-нибудь для нас, которые так много делают для
него. Чем был бы он без нас? Он не имел бы даже имени на
человеческом языке. Святой отец, поднимись на небо и
приведи нам на землю Иисуса или святого духа; с ним мы
сотворим чудеса и воскресим веру.
Непогрешимый был поражен.
— Подняться на небо! Мне, такому старому, такому
немощному? — повторял он с видом и голосом идиота.
— Перемена воздуха, удовольствия от путешествия
подбодрят тебя. На небе бог исцелит твой геморрой. Да ну же,
отправляйся поскорее на небо; я буду управлять за тебя.
— Но ты не выставишь меня за дверь, когда я
вернусь? — спросил взволнованный Непогрешимый.
— О святой отец, я — ваш верный слуга!
— Ладно! Я поднимусь на небо. Но я буду следить за
тобой,— подумал человек в белом.
«Хоть бы ты сломал себе шею в дороге»,— подумал
человек в красном.
II
Прежде чем взять билет на тот свет, папа облачился в
самые прекрасные свои ризы; из предосторожности он
наполнил свой кошелек. Он вспомнил совет трактирщика,
данный им рыцарю Дон-Кихоту,— для путешествия нужно
немного денег и несколько чистых рубашек.
Папа прибыл к вратам рая около одиннадцати часов
вечера. В привратницкой еще горел свет. Он робко
постучался,— ответа не было. Он постучался громко; — святой
Петр поторопился открыть ему. Вид у него был
разгневанный, его красная рожа пылала; он дал себе слово
крепко выругать незваного пришельца, который так
некстати прервал его еженощную беседу с божественной
бутылкой.
— Что за каналья тут стуч...?—вскричал он гневным
голосом, но звуки сразу застряли в его горле, и, сняв свой
бурый картуз и смиренно поклонившись, он прибавил: —
Простите меня, ваше высокопреосвященство, я думал, что
это только какой-нибудь вшивый святой — Лавр, что ли,—
стучит в такой поздний час; вы меня извин...
Великолепные облачения произвели революцию в душе
святого Петра. Пий IX, возмущенный, кинул монету
райскому церберу и вошел, ворча про себя:
564
— И сказать, что я преемник этого пьяного и дерзкого
слуги! Он предал своего господина в минуту опасности. Он
сто раз предаст его, чтоб утолить свою жажду вина.
Святой Петр, слегка взволнованный, восхищенным
взором следил за Пием IX, шагавшим по большой аллее рая.
— Вот франт!.. Ах, пес! Он дал мне всего два франка.
Да это, черт возьми, фальшивая папская монета... Вор!
Проблуждав всю ночь, папа, наконец, встретил кого-то,
кто мог указать ему жилище предвечного отца. Это была
убогая хижина. Его предупредили, чтобы он не трудился
стучать; никто не открыл ему. По словам людей, бог на
старости лет стал мизантропом; он жил один и не желал
слышать звуков человеческого голоса. Эти сведения огорчили
папу; он начал сомневаться в исходе своего предприятия.
Однако же он решительно толкнул дверь и твердым шагом
вошел в единственную комнату лачуги. Зрелище было
ужасное. Бумага на стенах была грязная, порванная и местами
отстала; на закопченном потолке зияли зигзагообразные
трещины. Возле камина видать было вольтеровское кресло
и маленький стол, с горшком алтейного отвара и исщерб-
ленным стаканом. В кресле, согнувшись вдвое, сидел старик
и раздувал головешки, дававшие, больше дыма, чем тепла.
Этот старик был бог.
...Это был маленький старик, грязный, отвратительный,
с всклокоченной, заплеванной бородой, дрожащий от стужи,
покашливающий, сопящий, слюнявящий; ноги его были
обмотаны фланелью, на нем было заштопанное домашнее
платье, изношенное и обнаруживавшее ниже поясницы красную
подкладку.
Папа, объятый изумлением, забылся и сказал вслух:
— Вот одряхлевшее, истощенное, развалившееся
величие, которое я представляю на земле.
— Кто говорит здесь? — вскричал бог, поднимая свое
желтоватое лицо, на котором выделялся огромный нос,
набитый табаком...—Ты, называющий себя моим
представителем на земле, ты осмеливаешься говорить в моем
присутствии! И ты смеешь явиться в этот уголок рая,
нарушить мой покой, где, не имея возможности умереть, я ищу
забвения! — Но так как ты насильно ворвался в мое
убежище, то полюбуйся на то, что ты называешь истощенным
величием, полюбуйся на твое творение, на творение твоих
предшественников, проклятых пап.— Будь проклят тот день,
когда я возымел мысль послать на землю своего сына
Иисуса! До того я был неограниченным повелителем неба и
земли; люди поклонялись только мне. Я брошен в глубину
скинии, как старая ветошь, ныне люди преклоняют свои
колена и возжигают свечи перед идиотским ликом Иисуса,
перед распутной девой, его матерью, перед грязными и дурно
5135
пахнущими ногами святого Антония г и его товарища, из
которого они делают себе ладанки.— Золотой телец попирает
ногами Саваофа, бога ратей...— Будь проклят тот день, когда
я дал человеку разум! До того я заполнял вселенную своей
силой, своим существом; я кидал молнии, развязывал
ветры, я раздувал бури, поднимал волны морские, я
потрясал землю до глубины ее недр. Но, подобно тому, как
безжалостный ребенок обрывает насекомому одно за другим
крылья и лапки, так разум вырвал у меня одну за другой
мои функции, он передал их силам бессознательной
Природы. За мной осталась еще функция провидения,
возводящего на троны королей и изливающего на людей милости;
но бесчеловечный разум заявляет, что короли лишь потому
и короли и что сильные потому лишь богаты, что
человеческое стадо глупо и трусливо, покорно отдает себя
эксплуатировать и распоряжаться собой. Разум, возрастая, умаляет
меня. Разум заполняет вселенную. — Да будет проклят
разум! Я умалился, ослабел, но темные, смущенные, робкие
души еще нуждались во мне, и я еще существовал для них.
Только я имел право быть Непогрешимым. А ты, глупый
старик, отнял у меня мою последнюю прерогативу, ты сверг
меня с моего престола, ты превратил бога в картонного
плясуна, которого дергаешь за ниточки: это твоими глазами
должен я смотреть, твоими устами должен я лгать.—
Старец суетный и нечестивый, будь проклят! Род людской,
предавший меня, создав меня по образу своему, будь проклят!
Проклят, проклят будь тот, кто сотворил людей!.. Ах, если б
я мог побить камнями, раздавить детей земли, о, если б я
мог их потопить, наслать на них все казни и громы! Но нет
во мне мощи.
И всемогущий опустился, обессиленный.
«Но ведь это маниак!—подумал папа.— Все скверно:
и то, что он сделал, и то, что сделали другие. Хорошо бы
он меня принял, если бы я заговорил о своем геморрое, как
советовал Антонелли. Да и это было бы бесполезно, бог сам
ни на что не годен... Иисус — вот бог, которого мне нужно...»
Пий IX тихонько и быстро убрался восвояси.
В одной из зал Ватикана беседовали два старца, один —
одетый в белое, другой — в красное. Белый старец стонал и
плакал. Красный старец, возбужденный гневом, вскричал:
— Наше царство кончилось. Прокляты пусть будут
люди!
Властный голос прозвучал- в воздухе, это был голос
Пана, голос природы; он говорил:
— Небеса опустели.
1 Антоний Падуанский, проповедник XIII века, один из
наиболее чтимых святых католической церкви.— Ред.
ИВАН ФРАНКО
ЧУМА
(Отрывок}
Приор иезуитского монастыря в Тернополе, воротясь из
общей трапезной, слегка позевывая, готовился прилечь и
вздремнуть после сытного обеда; а так как день был
летний и довольно знойный, то он снял сапоги и рясу; но вдруг
кто-то постучался в дверь кельи. Приор нахмурил лоб,
недовольно поморщился, помолчал с минуту и только после
повторного стука буркнул:
— Войдите!
С низким, преувеличенно смиренным поклоном вошел
член конвента, патер Гаудентий.
— Что вам угодно, frater? l— строго спросил его приор.
— Я хотел просить вас, clarissime2,— начал патер,
останавливаясь у порога,— меня выслушать. Я хотел бы кое
о чем с вами побеседовать...
— В чем дело? Произошло что-нибудь важное?—резко
спросил приор.
— Н-нет,— протянул патер,— ничего особенного... нет,
боже упаси! Я хотел только попросить вас выслушать
некоторые мои мысли и соображения...
— Ах так, ваши мысли! — с каким-то насмешливым
оттенком в голосе произнес приор.— А нельзя ли эти ваши
мысли и соображения отложить до более подходящего
времени?
— Разумеется, разумеется, можно!—поспешно
согласился патер.— Только извините, clarissime, я полагал, что
именно теперь самое подходящее время: занятий в школе
нет, а, кроме того, вам предстоит вскоре послать очередной
1 Брат (лат.).
2 Светлейший (лат.)*
567
ежемесячный рапорт нашему преосвященному отцу
провинциалу *.
— Рапорт!—чуть не вскрикнул приор, пробудясь
окончательно от полудремоты, в которую почти погрузил его
негромкий, монотонный голос патера, сопровождаемый
жужжаньем больших мух на стеклах решетчатого окна келий
да чириканьем воробьев в ветвях раскидистых вишен над
самым окном.
— Рапорт! — повторил он и поглядел исподлобья на
патера.
— А вам какое дело до рапорта?
— Боже упаси! — поспешил оправдаться патер Гауден-
тий.— Я отлично понимаю, clarissime, что рапорт — ваше
дело, потому-то и осмеливаюсь затруднить вас просьбой, по
возможности, изложить мои мысли и соображения в своем
рапорте отцу провинциалу, разумеется, если они вам
покажутся достойными внимания и хоть чем-нибудь полезными.
Но приор, хоть и не сводил пристального взгляда с
патера Гаудентия, уже не вслушивался в его льстивую
водянистую и однообразную речь. Новая мысль внезапно
пронзила его и отвлекла внимание. Он знал, что каждый патер
имеет право обращаться секретно к провинциалу с
«рефератами», то есть с доносами на прочую братию, в том числе
и на него самого, на приора. Еще до недавнего времени
монастырские дела складывались как-то так, что тернополь-
ский конвент жил как одна семья, и ни у кого не было
неприятностей из-за взаимных доносов. И вот в этом году
дела внезапно приняли дурной оборот. Ни с того ни с сего
двух патеров перевели из Тернополя в один из монастырей
в горах Тироля, считавшийся местом ссылки, а на их
место прислали двух новых. С той поры точно прорвался
мешок со всевозможными выговорами, реколлекциями2 и
прочими неприятностями, которые так и сыпались из
Кракова на злосчастный тернопольский конвент. Приор и все
прочие патеры просто с ума сходили, ломая голову над
тем, чьи это подвохи. Подозревали то одного, то другого,
тем более что каждый чувствовал себя виновным не только
в нерадивости, не только в нарушении монастырского
устава.
Патера Гаудентия почему-то подозревали в этих
«пакостях» меньше всего: во-первых, со времени его приезда в
Тернополь прошло больше четырех лет, а в первые годы его
пребывания среди тернопольских иезуитов как раз все шло
1 Провинциал — в католической церкви — лицо, поставленное для
руководства какой-либо духовной провинцией — совокупностью
монастырей, костелов, церковных общин.—Ред.
2 .Наставления, предписания.— Ред.
568
так мирно и счастливо; а во-вторых, патер Гаудентий
стяжал себе среди прочей братии славу простачка или, скорее,
даже какого-то придурковатого. Подобная слава,
по-видимому, была весьма неприятна патеру, однако он упорно ее
поддерживал всевозможными нехитрыми способами.
Исходила она и утвердилась за ним после его прославленного
«миссионерского похода в одиночку» в Люблинскую
губернию с целью католической пропаганды среди тамошних
униатов. Поход этот увенчался далеко не героическим
бегством патера из пределов России, где он, подобно
библейскому пророку Ионе, пробыл всего три дня и откуда
возвратился без памяти от страха и от удара прикладом винтовки,
нанесенного ему ночью могучей рукой пограничника. Патер
так естественно и уморительно жаловался, повествуя о
своем подвиге, что всякий раз эта история вызывала у
братии взрывы неудержимого хохота. А сам патер Гаудентий,
словно не замечая произведенного впечатления, кривился и
ежился, как тридцать три несчастья, и, увлекшись
рассказом, то бледнел, то дрожал, то всхлипывал, вызывая этим,
разумеется, еще больший смех своих слушателей. А к тому
же патер казался таким простодушным, откровенным и
незлобивым, что невозможно было даже представить себе,
чтобы он мог писать доносы на своих собратьев.
И все-таки, словно по чьей-то неясной подсказке, именно
эта мысль мелькнула в голове приора в ту минуту, когда
патер упомянул о ежемесячном рапорте. Приор вспомнил
все, что знал о прошлом патера Гаудентия. Он был сыном
бедного крестьянина-мазура, в 1847 году его взял
на-воспитание тарновский епископ Войтарович. После смерти
епископа он учился у иезуитов в Кракове, закончил курс в Риме,
там же постригся в монахи и вступил в орден «имени
Иисуса». Приор не знал, какой репутацией пользовался
Гаудентий в Риме; знал лишь то, что спустя несколько лет сам
генерал иезуитского ордена Беке послал патера с миссией в
Люблинскую губернию, где тот подвергся такому
блестящему «посрамлению». Теперь, прикинув в уме все эти
обстоятельства, приор подумал с уверенностью, что римские
верховоды, понимая чрезвычайную важность «позиций»
католицизма в Люблинской губернии и вообще в России, дол-?
жны были, конечно, хорошо взвесить, кому доверить такое
дело, как миссия, значит в молодом патере они, по-видимому,
обнаружили нечто такое, что обеспечивало ее удачное
осуществление. А из этого следовало, что патер Гаудентий не
мог быть таким дураком и простофилей, каким себя до сих
пор выказывал. А если это так, то все сразу прояснялось, и
патер Гаудентий, сам того не подозревая, в тот же миг
вырос в глазах приора. Все поведение этого придурковатого
патера сразу приобретало совершенно иной смысл, принимало
569
размеры очень хитро придуманной и ловко сплетенной
чисто иезуитской интриги. К тому же приор давно уже
подозревал, что в Риме недовольны мероприятиями и работой
тернопольского конвента, что от него, как от конечной
твердыни на Востоке, ждут чего-то большего; приор чувствовал,
что приближается какая-то перемена. М вот, пристально,
исподлобья всматриваясь в патера Гаудентия, он не без
основания заключил, что именно это и есть тот предвестник
или даже главный блюститель нового направления в
деятельности ордена, .который сметет его, как смел сосланных
в Тироль братьев.
Под влиянием этих мыслей и предположений, мгновенно
промелькнувших в голове приора, его лицо приняло какой-то
озабоченный вид, и он, помолчав с минуту, как-то
торопливо и порывисто произнес:
— Гм, вот оно как! Мысли и соображения... Что ж, дело
не плохое! Разумеется, разумеется, обсудим и напишем...
Садитесь, reverendissime *, садитесь, пожалуйста, вот сюда!
Я весь к вашим услугам.
Тонкая ироническая улыбка скользнула по лицу патера
Гаудентия, когда' он с низким поклоном присел на простой
деревянный табурет, стоявший у стола, за которым с
другой стороны усаживался приор.
— Ну, reverendissime,— сказал приор, когда они сели друг
против друга,— какие именно мысли вы хотите мне
изложить?
— Одна только мысль у меня, clarissime, общая для
всех нас: о благе и возвышении нашей святой католической
церкви,— ответил патер Гаудентий.— Вам, clarissime,
разумеется, лучше, нежели мне, известно положение нашей
церкви в здешнем краю, а особенно положение нашего конвента
здесь, на самом восточном аванпосте католицизма, перед
самым, так сказать, лицом грозного. противника —
православия.
«Ага, видно, видно, что я не ошибся,— подумал приор.—
Это он — предвестник реформы, подосланный к нам шпион.
Это он автор доносов! Ну ладно; теперь по крайней мере я
знаю, с кем имею дело».
И, обратившись к патеру, как бы с удивлением сказал:
— Но, простите, reverendissime, я, признаться, не совсем
ясно понимаю, к чему вы все это ведете.
— Сейчас я буду иметь честь объяснить вам это,—
поспешил с ответом патер Гаудентий,— покорно прошу
выслушать меня. Но я хотел бы прежде всего заверить вас, что я
никогда ни на минуту не позволил себе усомниться в вашей
глубочайшей мудрости, в обширных знаниях и в правиль-
1 Почтеннейший (лат.).
570
ном понимании окружающей обстановки. И если я по
собственному почину позволил себе собрать некоторые
сведения, касающиеся нынешнего положения, и на их основе
сделать некоторые выводы, то это вовсе не из недоверия к
вашему руководству, а только лишь из горячего желания
помочь общему святому делу.
Удивление приора перешло в нетерпение. Он испытывал
какое-то отвращение и ненависть к этому
пресмыкающемуся лицемеру и доносчику, который сидел сейчас перед
ним; а в то же время он не мог не признать, что патер
поступает в этом случае всецело в духе правил иезуитского
ордена. Однако на этот раз вопрос касался самого приора,
и поэтому человек в нем взял верх над иезуитом.
Догадываясь, что перед ним сидит его тайный враг и шпион, приор
решил говорить с ним начистоту, без обычного фарисейства.
«Пока что я еще здесь начальник,— думал он,— и следует
дать ему это почувствовать; а там будь что будет!»
— Знаете, reverendissime,— произнес он каким-то резким
и пренебрежительным тоном,— говорите со мной попросту и
откровенно. В Риме я не бывал, дипломатии никогда не
обучался и всегда думал, что за нею скрывается изрядная доля
лицемерия. А кроме того, я считаю, что мы люди свои, вот
и давайте говорить прямо, без обиняков.
Патер Гаудентий снова иронически улыбнулся, словно
,почувствовал удовлетворение, что так быстро вывел из
себя старого приора и заставил его так откровенно
выказать свою неприязнь.
— Что же, воля ваша, clarissime,— произнес он все тем
же преувеличенно смиренным тоном.— Душа моя чиста от
греха лицемерия, наипаче перед лицом моего наставника,
который должен быть для меня первым после бога.
— К делу, reverendissime, к делу! — перебил его приор.
— Дело мое вот в чем,— продолжал патер Гаудентий с
непоколебимым спокойствием.— Вам известно, clarissime,
какую цель, какие задачи ставит себе в этом краю наш святой
орден. Завет, провозглашенный святейшим папой Урбаном,
«Orientem esse convertendum» 1 заключает в себе всю нашу
программу. Путь к ее выполнению должен оставаться
всегда и везде предметом наших неусыпных и
рачительнейших забот.
— А между тем вам кажется, что мы не уделяем этому
завету достаточно внимания? — с явным неудовольствием
отозвался приор.
— Сохрани боже, clarissime, сохрани боже! Никогда я
этого не думал! А к тому же, кто эти «мы»? Конечно, и я
сам — в их числе, значит... Нет, нет, не к тому я веду речь.
1 Восток должен быть обращен (в католичество} (лат.).
571
А вот послушайте! Для вас, наверно, не секрет (при этих
словах в голосе патера снова прозвучали иронические
нотки), что в восточной части этого края живет народ,
который считает себя одноплеменным с народом по ту сторону
Збруча. Й не в этом суть, а в том, что народ сей, якобы
пребывающий в лоне католической церкви, одновременно
считает себя членом греческой, сиречь православной, церкви.
Эта... эта двойственность религиозного сознания между
двумя враждебными лагерями — как вам кажется, claris-
sime, не должна ли она пробудить в нас некоторые
сомнения и опасения?
— Вот что!—едва не вскрикнул приор.— Вы считаете
положение униатской церкви двойственным, значит
двусмысленным?
— Да, clarissime,— твердо ответил патер Гаудентий.—
Мало того, я полагаю, что именно наличие этой
двойственной, нейтральной позиции здесь, на границе, и является
одной из главнейших помех к расширению нашего влияния
по ту сторону пограничной черты.
— Гм... мысль эта, во всяком случае, любопытна,—
холодно и полупрезрительно процедил сквозь зубы приор,—
и я был бы чрезвычайно рад услышать ваши
доказательства, узнать те факты, которые привели вас к таким
выводам.
— О, что касается этого, clarissime, я вполне готов! —
Еесело воскликнул патер.— Возьмите хотя бы их
священников! Какой толк с того, что они считают себя
католическими священниками, если они живут с женами? Там, где
следовало бы трудиться для католицизма, отдаваясь
всецело и безусловно его интересам, они слушают своих жен и
поступают так, как им диктуют их родственные отношения!
— Все это правда; однако все это старые вопросы, и
конечно, и до вас они обсуждались не раз,— едко заметил
приор.— Что же делать, если не в наших силах это
изменить? Дело сие установлено и утверждено синодом и
апостольским престолом.
— Об этом мы еще поговорим,—- с непоколебимой
уверенностью возразил патер.— Но вот вам еще одно
обстоятельство. Разве вам не кажется бессмысленным и
противоречащим религии то воспитание, которое получает молодое
поколение священников у этих греко-католиков? Что за
священник получится из молодого человека, которому завтра
предстоит принять высшее церковное таинство —
посвящение в иереи и который сегодня, вместо того чтобы
сосредоточить свой дух в преддверии этого святого акта,
разъезжает по вечеринкам, откалывает «козачки» да . «коло-
мыйки», кружит головы поповым дочкам и ни о чем другом
не помышляет, как о том лишь, чтобы найти себе невесту
572
с богатым приданым и избавиться от долгов, наделанных
в семинарии?
Патер заметно разгорячился, уносимый течением
собственных мыслей. Речь его, поначалу вялая и приторная,
становилась живой и страстной, и приор начинал
прислушиваться к ней с большим вниманием.
— Верно, вещи эти неподобающие,— сказал он,— однако
и это, кажется, мы не в силах изменить.
— Только слов Христовых и догматов святой
католической церкви никто не в силах изменить,— с жаром произнес
патер.— Все прочее — установления людей, возникающие
временно и в силу временных потребностей. Изменяются
обстоятельства, изменяются и потребности, а на их место
приходят новые; вот потому-то и установления должны
меняться соответственно новым потребностям и
обстоятельствам. Вы, clarissime, упомянули давние буллы и
синодальные постановления, которыми определено положение
униатской церкви. Не забудьте, что все это было две или три
сотни лет назад, когда еще существовала могучая
католическая держава — Польша, когда православие находилось
в упадке, а католическая церковь без ущерба для своей
мощи и авторитета могла делать уступки местным
традициям. Теперь обстоятельства изменились! Теперь малейшую
уступку со стороны католицизма друзья и враги его
готовы расценивать как доказательство его безусловной
слабости. Теперь, clarissime, когда мы и в самом деле стали
слабее, нам приходится хотя бы изображать из себя
сильных, так или иначе — сильных!
Приор слушал эту пламенную речь, широко раскрыв
глаза. Такого пыла, таких широких взглядов на дело он не
ожидал от простого патера. Не оставалось никаких
сомнений, что перед ним сидел сейчас агент довольно крупного
масштаба.
—•- Ну, допустим, что все это так,— согласился он,— что
все это можно изменить. А все-таки хотелось бы знать, что
и как вы думаете сделать?
— О, для этого вполне достаточно хорошо знать, как
обстоят дела в настоящее время, и путь нашего
наступления обозначится сам собою. Нужно твердо убедить себя в
том, что положение так называемой унии—шатко, что
сейчас она — растение без корней: от православия отстала, а к
католицизму не пристала. Ну, скажите, разве не
величайшая бессмыслица — требование униатами какой-то
автономии, какой-то народной церкви? Ведь католическая церковь
только и сильна своею монолитностью и централизацией,
своим основным принципом: кто не со мною, тот против меня.
Автономия, нейтральность в часы борьбы — равносильна
измене. Вот почему нам в первую очередь необходимо
573
искоренить все эти автокефальные х выдумки, утвердить
католицизм sans phrase2, и только тогда у нас в руках будет
могучий рычаг для дальнейшей борьбы с Востоком.
Патер Гаудентий остановился, чтобы перевести дух. Его
лоб покрылся испариной, а в уголках губ выступили
пузырьки белой пены. Приор сидел молча, его полное,
лоснящееся лицо выражало задумчивость. Наконец, он произнес:
— Что же, reverendissime, мысли ваши весьма интересны,
а я, разумеется, позабочусь о том, чтобы довести их до
сведения тех, кому надлежит об этом знать. Мне даже кажется,
что и народ вовсе не будет противиться такому
начинанию. Я знаком довольно хорошо с униатским населением
этого города и вижу, что оно весьма охотно ходит в костел
на латинское богослужение Бывал я не раз и на
католических храмовых праздниках в Милятине, Кохавине, Кальва-
рии и собственными глазами видел, как толпы униатского
люда сходятся на эти праздники. Это и наводит меня на
мысль, что здешний народ склоняется к латинскому обряду,
пожалуй, больше, чем к греческому, и не станет противиться
таким реформам, какие вы, наверно, себе наметили.
— Приведенные вами факты, clarissime, весьма ценны и
сами по себе интересны,—ответил патер,— однако, к
сожалению, следует отметить, что это лишь одна сторона
медали. Вы ссылаетесь на латинские храмовые праздники в
Кальварии и Милятине, а я сошлюсь на униатские
храмовые праздники в Гошове и в Зарванице, куда ежегодно
сходится почти такое же множество людей, как и на те, о
которых вы упоминаете. Значит, тут, видимо, не в обряде
основная сила, а в том, что народ любит ходить на храмовые
праздники, не слишком заботясь — куда и на какие. Но я
приведу вам еще один факт! В православный Почаев, хоть
он и за границей, отправляются ежегодно тысячи этих
униатов, а в это же время католическое богомолье отцов
доминиканцев в Подкаменье, по эту сторону границы, как раз
напротив Почаева, далеко не может этим похвалиться. Вот
вам факт, над которым стоит подумать!
— Но позвольте, reverendissime, чем же это объяснить? —
спросил удивленный приор.
— Вот в том-то и трудность, что объяснить этот факт
почти невозможно, если не допустить мысли, что уния не
только сама по себе двулична, не только не может быть
терпима в настоящее время, с политической точки зрения,
но оказалась совершенно непригодной для религиозного
воспитания народных масс, внедряя в них равнодушие к
основным истинам религии, двоеверие и даже полное отсутствие
всяких религиозных убеждений.
1 Автокефальный — самостоятельный.— Ред.
2 Безусловно (франц.).
574
— Ну, уж это вы пересолили! — заспорил было приор.
— Нет, clarissime,— прервал его патер Гаудентий,
забывая о всяком уважении к сану своего начальника. —
Сначала выслушайте меня, а потом уж судите! Не так давно,
возвращаясь из. Подкаменья, нагоняю неподалеку от села
Толстохлопы кучку богомольцев. Завязал я с ними беседу.
— Откуда бог несет? — спрашиваю.
— Да с богомолья,— отвечает мне один из богомольцев,
шедший впереди.
— А на богомолье куда ходили? — спрашиваю дальше.
— Да в Почаев.
— В Почаев? Ну и как же там, хорошо?
— Очень хорошо! — простодушно отвечает тот.
— Очень? Побойтесь бога! — не смог я удержаться,
чтобы не вскрикнуть.— Что ж там хорошего? Разве вы не
знаете, что там схизматики служат?
— Да господь его знает,— ответил мужик, почесывая
затылок,— схизматики или не схизматики. Не наше дело о
том судить. Нам довольно знать, что и там бога хвалят. Да
еще нам известно,— добавил он, окидывая меня каким-то
насмешливым взглядом,— что там за исповедь берут
меньше, чем в Подкаменье, а к тому же еще в церкви
топят зимой.
Изложив все это, патер Гаудентий для большего эффекта
умолк и сидел так некоторое время с распростертыми
руками, приоткрыв рот и вытаращив глаза, точно охваченный-
ужасом и возмущением.
— Ну, как на ваш взгляд, clarissime,— спросил он,
прерывая молчание,— разве это не блестящее доказательство
полнейшего упадка религиозного чувства среди массы
униатского народа? И кто бы мог подумать, что этих людей
до сих пор не коснулся свет Христовой веры!
— Да, это правда,— грустно подтвердил приор.— Этот
факт оставить так нельзя. А вы не знаете, откуда были эти
люди?
— Из Толстохлопов. Я тут же об этом узнал.
— А кто там у них священник?
— Чимчикевич.
— Кто такой? Чимчикевич? Что-то я до сих пор не
слыхал этой фамилии.
— И не удивительно — это настоящий допотопный поп.
Старый-престарый, и уже лет тридцать никуда из своего
села не выезжает. Диво-дивное, а не поп. Год тому назад я
как-то проездом был у него и познакомился.
— Ну, хорошо, об этом мы поговорим позже,— прервал
его приор.— А теперь скажите, к каким, собственно, выводам
вы пришли и какие меры считаете нужным предложить
для выполнения ваших намерений?
575
— Я осмелюсь предложить на одобрение высших властей
вот какие меры. Прежде всего, влиять на простонародье в
селах и в местечках, искореняя в нем заразу двоеверия и
систематически воспитывая в нем религиозный
католический дух.
— Хорошо, но какими способами? — спросил приор.
— Способы известны. Нужно систематически устраивать
в селах и в местечках, особенно вдоль границы, процессии
и миссии в исключительно торжественной обстановке и с
соответствующими проповедями. А на грамотных жителей
влиять при помощи наших соответственных изданий, как
ото уже практикуется нами с таким успехом в западной
части Галиции.
— Всецело с вами согласен, reverendissime,— сказал
приор, пожимая руку ненавистному патеру.— Все это
придумано умно, и, мне кажется, ваши советы должны найти
полное одобрение властей.
— Non mihi, clarissime,— смиренно ответил патер,— sed
ad majorem gloriam nominis Jesu la Что же касается
униатского духовенства, то его нам нужно разделить на две
категории. Есть среди них хитрецы, которые на языке
исповедуют унию с Римом, а душой тянутся к православию и
под видом «очищения обряда» стараются подогнать унию
под православные формы, отдаляя ее все больше и больше
от святой римской церкви. Этих надлежит считать нашими
злейшими врагами и поступать с ними так, как с врагами
на войне. За ними необходимо установить строжайший
надзор и, едва только они подадут малейший повод,
компрометировать их перед властями и их собственной паствой.
Вторая категория — это ископаемые, убогие духом и
добродушно-наивные. Таких, разумеется, большинство, таких
надлежит исподволь приваживать лаской, задабривать
всяческими мирными средствами и постепенно превращать в
наши орудия... Одновременно с этим надлежит обратить
особое внимание на подбор духовенства среди сторонников
нашего направления и на воспитание молодежи в нашем
духе, наипаче же следить за тем, чтобы молодые
священники посвящались не иначе, как безбрачными. При всем
этом, само собой разумеется, униатам должно быть настрого
запрещено ходить на богомолье в православный Почаев или
даже в Киев.
Приор и в самом деле весь как-то прояснел и
возрадовался,— до того простым, логичным и грандиозным
показался ему план патера Гаудентия. Все, чего не смогли
довершить Иосафат Кунцевич, Вельямин Рутский, Шептиц-
1 Не ради меня, светлейший ... но для вящей славы имени
Иисусова (лат.).
576
кий, Рылло и другие объединители обряда, а не могли
довершить именно потому, что объединяли верхи, не достигая
корней, довольствуясь формой, а не перерождая'самый дух
народный,— все это представилось теперь таким легким и
досягаемым, всему указан был такой простой и, казалось
бы, естественный путь развития, что приходилось только
диву даваться, как это до сих пор никто не напал на такой
верный и явный след. В душе старого приора зашевелились
одновременно иезуит и поляк,— ведь в нем, несмотря на
долголетнее, привычное служение ордену, сохранилась с
юных дней и патриотическая искорка в виде неясных
мыслей о великой, могучей и строго католической Польше от
моря и до моря. Все, что будет отвоевано у православия и
унии, казалось ему, придет само собой в лоно католицизма
и Польши. И не будучи в состоянии сдержать свою радость,
он тут же кинулся обнимать патера Гаудентия.
— Ах, reverendissime! Выслушав ваш план, я, старик, и
то помолодел! — воскликнул он.— Нет, это действительно
весьма и весьма достойный внимания замысел, и будьте
уверены, что я приложу все усилия и все старание, чтобы
воплотить его в жизнь. Да, впрочем, и вы сами, кажется,
состоите в кое-какой личной переписке с властями?..
Вопрос этот был задан так невинно, мимоходом, и
проистекал так естественно из только что создавшихся между
ними новых отношений, что патер Гаудентий, упоенный
своим торжеством и тем впечатлением, какое он произвел
на приора своим красноречием, сразу как-то не догадался
соврать.
— Ну да,—выпалил он,— иногда, по долгу моему, мне
приходится...
Маленькие глазки приора вспыхнули злобной радостью.
Вкрадчиво улыбаясь и пожимая руку патеру, он поспешно
подхватил:
— -Ну да, ну да! Я так и думал, что это вы, время от
времени, разумеется, по долгу своему, пишете доносы на
нашу братию! Что же, reverendissime, это похвально, даже
нашим уставом поощряется. О нет, не смотрите на меня так
растерянно! Я — ничего! Напротив, меня это даже радует.
Вы такой способный и опытный человек и непременно
должны подняться очень высоко, а это между тем у нас
единственный способ! Ваши замыслы и планы я постараюсь
обстоятельно изложить, кому полагается, но только и вы,
сделайте милость, не забывайте меня в своих молитвах и в
своих... хе-хе-хе... рапортах!
И с этими словами, учтиво кланяясь и говоря без умолку,
приор вывел остолбеневшего и сбитого с толку патера
Гаудентия в коридор,.захлопнул перед самым его носом дверь своей
кельи и запер ее на ключ.
37 IJ рот и в тьмы
СТЕПАН ТУДОР
ДЕНЬ ОТЦА СОЙКИ
(Отрывки)
В прозрачный итальянский вечер второй половины марта
молодой Сойка вместе с монсиньором д'Эсте в купе скорого
поезда подъезжал к облюбованной цели, мечте всех одетых
в сутаны и верных католиков — к Риму.
Много раз возвращался Сойка к воспоминаниям этих лет,
но никак не мог установить, когда в нем начался невидимый
процесс превращения обиды и презрения в холодную,
бесстрашную расчетливость, благосклонно ужившуюся с
многовековым церковным опытом, который отныне должен был
служить Сойкам.
Как-то раз, возвращаясь из Ватикана с отцом д'Эсте, он
увидел на площади Трояна большую толпу. Как
металлическая тетива, пересекали площадь две батареи горных
орудий с солдатами у лафетов. Посреди, на возвышении, перед
накрытым скатертью лафетом, стоял священник в ризах и
служил молебен. Был ясный, немного ветреный день,
листки Евангелия трепыхались на ветру. На лафете стоял
крест с распятием, непосредственно за ним вытянулся ствол
орудия с кожаным чехлом на дуле. Капеллан молился
вполголоса. Склонялся перед святыми тайнами, поднимал руки...
Потом благословлял воинов:
— Мир вам!
По обе стороны от него блестели стволы орудий, и были
они похожи на колонны храма, выросшего на лафетах.
И с этого храма сошло на Сойку внезапное прозрение,—
неожиданное просветление...
«Воистину!»
Отец д'Эсте уже миновал площадь и звал за собой
молодого Сойку. А тот стоял, словно врос в камни... Напряженно
смотрел на священника. Сухие губы Сойки вздрагивали,
578
ноздри раздувались, тонкие губы словно шептали что-то...
Когда монсиньор окликнул его, он порывисто потряс
головой.
«Воистину!.. Не в этом ли весь смысл, монсиньор? Не
в этом ли дело?»
Чернело распятие на лафете, все так же поблескивали
орудийные стволы, словно полированные колонны храма.
Священник поклонился пушкам, поднял обе руки,
благословил:
— Мир вам!
«Не в.этом ли дело?»
Учили староиндийские законы Ману:
«Господь сотворил разные классы людей из разных
частей своего тела: браминов — из головы, чтобы знали они
тайны господни и открывали их несведущим; воинов—из
крови своего сердца, чтобы были горячими, как она, и не
знали страха смерти; а нечистых париев — из задних
частей своего тела, чтобы были нечистыми, как они, чтобы
жили лишенные чести...
Так хочет господь: чтобы низшие сословия покорялись
высшим и чтобы никогда не возникала в их головах мысль
о сопротивлении. И чтобы это было неизменно, как
неизменно приходит после зимы лето, а после лета — осень!»
Слушайте, парии, и принимайте на веру!
Говорил старый Цицерон:
«Религией завоевали мы мир. Что бы мы ни думали о
ней, а религию надо сохранить».
Спросил кто-то жреца:
— Трудно, должно быть, отрицать существование
богов?
Жрец ответил:
— Не трудно, а невозможно — когда находимся перед
народом; но когда мы дома говорим друг с другом — что
может быть легче!
Разговор перешел на пророчества.
— Между нами говоря, пророчества — это глупости,—
сказал жрец,— как и вопрошание богов, но мы не спорим с
теми, которые верят в пророчества: ведь они приносят в
храм жертвы. А когда народ собирается, чтобы заявить о
каком-нибудь своем праве, мы, жрецы, поднимаемся на
святые горы, глядим на небо, потом спускаемся вниз и
торжественно возвещаем: «Зловещие знамения появились на
небе,— богам не угодно нынешнее сборище!» И народ
расходится по домам в надежде на то, что боги станут к нему
более милостивыми. Значит, есть и в пророчествах польза...
...В конце апреля Сойка получил записку от монсиньора
д'Эсте: профессор приглашал его на завтра «на короткую,
но важную для него беседу».
37*
579
Беседа была непродолжительна, а что касается ее
важности... Что мог о ней думать Сойка, наблюдая странное
поведение отца д'Эсте? Впервые за все время их знакомства мон-
синьор принял его сдержанно, почти холодно; безмолвно,
одним жестом предложил ему сесть. Немного погодя сказал:
— Вас хочет видеть прелат Лётти.
— Прелат Лётти?
Сойка несколько удивленно посмотрел на профессора, но
тот по-прежнему был непроницаемо холоден. Потом сказал:
— Сегодня надо явиться в пять часов в помещение
«Пропаганды», вход с улицы ди-Каполе, и там сначала
зарегистрироваться у отца дежурного.
И, прощаясь с Сойкой, отец д'Эсте проводил его глазами
до порога и сказал уже с некоторой теплотой в голосе:
— Один дружеский совет вам по поводу этого визита: не
отказывайте ни в чем отцу Лётти,— нет в Риме, да и не
только в Риме, духовного лица, которое в чем-нибудь
отказало бы прелату Лётти... И знайте, что это приглашение
весьма почетно для вас, не каждый в ваши годы
удостаивается такой чести.
Сойка ушел озадаченный.
Прелат Лётти?.. «Пропаганда»? '"
Все предобеденное время Сойка провел в величайшем
смятении,— его терзала неизвестность. ■ А после обеда в его
маленькой келье сидел брат Альберто и говорил
вполголоса:
— «Пропаганда» — это как бы второй Ватикан, только
ей подчиняется гораздо больше стран и народов... Говорят
даже о втором папе — префекте святой конгрегации для
пропаганды веры. Тридцать кардиналов и два прелата,
назначенных папой пожизненно, составляют руководящую
верхушку этой конгрегации. Под её началом работают в Риме
сотни чиновников в рясах, тысячи связных снуют между
Римом и провинциями, десятки тысяч миссионеров
странствуют по земле, пробираясь во все медвежьи углы и
пустыни. Долбят там сердца самых малых детей божьих,
наивных дикарей, чтобы сделать из них послушное орудие для
христовой правды и римского владычества...
Как работают? О, не много знают люди о том, как
работают в «Пропаганде»! Трудятся тайком, как-велел Христос,
словно подземные ключи, которые прокладывают пути под
землей и только иногда пробиваются наружу, быстрые и
сильные.
Разнообразны условия их деятельности, как разнообразны
нравы разных племен и народов, среди которых они
проводят свою работу. В девственных лесах Африки они учат
туземцев строить домики,, засевать поля и рассказывают о
Христе, «который умер на кресте за детей негров, и голова
580
Анонимная карикатура XV в. на Александра VI Борджиа.
Я — папа.
его повисла, как тяжелый колос...» Индийским браминам,
которые высоко ставят благородство происхождения, они
говорят, что Христос — «сын царя Давида, брамин над
браминами». Китайскую замкнутость они преодолевают тем,
что демонстрируют им новые достижения науки и техники.
В Японии следят за борьбой политических партий и
лидеров и в подходящий момент становятся на сторону
сильнейшего, находя в нем защитника своей апостольской миссии.
У «пропагандистов» существует правило: не колебаться
в выборе средства и прежде всего заботиться о
благосклонном отношении власть имущих, ибо нет более надежного
пути к сердцам и кошелькам верующих.
Сойка прервал брата Альберто:
— Кто такой прелат Лётти?
Альберто пристально взглянул на своего собеседника:
— Почему ты об этом спрашиваешь, Михайлр?
Сойка рассказал о том, что его сегодня вызывают в
«Пропаганду».
Альберто покачал головой:
— Вижу, что тебе уже наскучил покой, который ты
здесь обрел. Неужели ты нашел что-нибудь лучшее, чем
прогулки по Риму, знакомство с его старинными
памятниками и новыми для тебя людьми? Или тебе уже не по вкусу
вино отца Амвросия?
В глазах Сойки промелькнуло выражение нетерпеливой
досады, но Альберто продолжал:
. — Послушай меня, Михайло!.. Мечтал и я когда-то об
апостольской деятельности и далеких краях, среди
несведущих грешных детей божьих... Но у миссионера слишком
много всяких обязанностей, не у каждого хватит сил и.
уменья с ними справиться... Далеко не все угодно богу, что
творится во имя божье! Это та небольшая мудрость,
которой завершились мои мечты об апостольской миссии. Думаю,
что ты поймешь это и согласишься с выводами, которые я
сделал из своего скромного опыта.
Сойка покачал головой. Нетерпеливая, почти злая
усмешка вспыхнула и тут же погасла на его смуглом лице.
— Неужели мне угрожает такая опасность, что ты
боишься за меня, Альберто?
...В просторном покое встретил его прелат Лётти. Его
маленькое личико под огромным безволосым черепом
улыбалось. Был какой-то детский задор в этом лукаво
усмехающемся лице, в его суетливой подвижности, в извилистой
линии тонких губ, в светлых глазах, которые, казалось, готовы
были выскочить из орбит,— так зорко следили они за
каждым жестом вошедшего Сойки.
582
Ни единого волоска не было на бугристой поверхности его
черепа; он был словно выточен из слоновой кости, и в его
полированной выпуклости, как в зеркале, отражался свет
люстры.
Час тому назад спешил сюда Сойка, полный
напряженного ожидания. Порывистый ветер с теплого юга гудел над
крышами, врывался тугими волнами в пролеты улиц и,
налетая на грудь прохожих, сбивал их с ног. Сойка шел
размашистым шагом, дышал ветреным воздухом и, наполняясь
его силой, точно парус, тотовился к бою, и недобрая усмешка
играла на его губах:
«Сойка есть Сойка, нет такой силы на земле...»
За минуту перед тем, как пробило пять, он свернул на
улицу ди-Каполе и вошел в двери серого здания
«Пропаганды». Из-за барьера навстречу вышел молодой монах в сером.
Сойка сказал ему:
— К отцу Лётти!
Монах кивнул головой и молча пошел вперед, жестом
пригласив Сойку следовать за собой. Они поднялись по
узким ступеням на второй этаж, миновали длинный, слабо
освещенный коридор.
Сойка, идя вслед за монахом, по-прежнему усмехался.
И вот (только одну минуту, не больше) он смотрел на
прелата 1 Лётти, и сквозь настороженность уже пробивалось
ощущение уверенности в том, что здесь он найдет
дружеский прием.
Узкоплечий, невысокого роста, в сутане из тонкой
материи, облегавшей его плотно, как кожа, прелат быстро шагал
по комнате из одного угла в другой и, не таясь, разглядывал
смуглое лицо Сойки.
— Вот какой вы! — звонко сказал он. Потом несколько
мгновений молчал, но, казалось, в тишине еще звучали
гулкие отголоски его звонкого голоса.— Профессор д 'Эсте
говорил мне много хорошего о вас, в его лице вы имеете
сердечного попечителя, и, должно быть, не только его одного...
— Вероятно, не совсем заслуженно...
Тонкая усмешка дрожала в углах глаз Сойки.
Отец Лётти заметил эту усмешку и, глянув куда-то
поверх головы Сойки, бросил, словно нехотя:
— Это вам лучше знать, друг мой. Один бог свободно
читает в глазах людей, а для нас, смертных, каждый новый
человек — как новая грамота, которую мы должны изучить
сначала...
...За свое короткое пребывание у нас вы сделали немало,
и это вполне оправдывало бы вашу жизнь здесь, если
1 Прелат — в католической церкви название высших духовных
сановников,— Ред,
583
вообще нужно было какое-нибудь оправдание. Вы ведь всего
у нас два года, если не ошибаюсь?
— В марте минуло два года.
— Сущие пустяки, я же говорю... И как чувствуете себя
в Риме? Физически, насколько я могу судить, чудесно...
— Духовно тоже. Не могу себе даже представить, какой
была бы моя жизнь без пребывания в Риме...
— Хорошие слова, не часто приходится их слышать от
молодых людей, которые приезжают к нам учиться.
Некоторые ваши земляки до окончания срока учения уезжают,
ссылаясь на малярию в окрестностях, непривычную пищу...
А я думаю, что это скорее слабость души, чем желудка или
легких!.. Рим надо понять, надо по-настоящему разглядеть,—
тогда его окрестности дышат весенними ароматами, а не
малярией, а наши белые макароны кажутся такими же
вкусными, как лучшие деликатесы... Вы любите макароны, сын
мой? Я, старый лакомка, люблю, нечего греха таить... Но я
так думаю: маленькие слабости можно себе позволить, это
оберегает нас от больших искушений, подобно тому как
маленькая прививка защищает нас от больших недугов... Разве
это не верно, сын мой?
Отец Лётти засмеялся, откинув голову, рассыпчато,
немного надтреснуто на высоких тонах. Сойка вторил ему,
негромко, сдержанно, только его белые клыки хищно
поблескивали, как у волчонка.
Помолчали немного. Потом прелат спросил, слегка
вздохнув:
— Не тянет вас в родные края? Связь поддерживаете с
домом?
И, услышав в ответ, что родное село Сойки находится во
фронтовой полосе и переходит из рук в руки, снова
вздохнул.
— Бедная страна!.. Все последнее время на нее обращено
сочувственное внимание Ватикана... Не надо терять
надежды, сын мой. В том и заключается наша сила, что в наших
сердцах нет места для неверия и отчаяния... Жизненная
мудрость учит нас, что страдание имеет свои границы и в конце
концов приходит время, когда в людской судьбе ночь мучений
сменяется днем радости и заслуженного покоя... Кажется
нам, что такой поворот приближается и для вашей родины;
он будет историческим этапом для вашего народа и вашей
церкви, для святой церкви вообще... Вы, очевидно, следите
за революционными событиями на востоке Европы?
— С недавнего времени, и почти без всякого успеха.
— Как это понимать?
— Не вижу ничего в этой революционной заварухе,
кроме непроглядного хаоса: бешеный водоворот событий,
люде;*, лозунгов... Одно из двух: либо такова в самом деле
584
революционная действительность, либо в моем знании есть
какой-то большой пробел, не позволяющий мне ни увидеть
что-то существенное в этих событиях, ни обобщить их...
— Вы, вероятно, предпочли бы первую из этих двух
возможностей?
— О, да! Из разных побуждений... Но боюсь, что реальна
именно вторая.
— Ваша скромность делает вам честь. Но в данном
случае она неуместна, нужно уничтожить причину ее
возникновения!
— Заполнить пробел?
— О, да! Заполнить пробел, ослабляющий ваше зрение,
когда вам необходима его наибольшая острота... завершить
ваше образование.
Отец Лётти задумался на минуту, потом остановился у
стола, резко повернулся к Сойке:
— Знакомы ли вы с научным социализмом?
— Прослушал лекции отца Шульца, не больше...
— Ну, понятно... Шульц—сердце невинного ягненка... И
мозг тоже. А социализм — твердая штука!.. Самая
враждебная для основ католической верьд наука об обществе... Но
метод ее неплохой. И если ее взять с этой стороны, взять на
пробу, как допущение в математике, как гипотезу научного
исследования, не одно общественное явление станет для нас
более понятным... Вот хотя бы революция... И это, сын мой,
надо помнить: основательное изучение социализма — первое
и самое необходимое условие для борьбы с ним! Изучить
социализм, чтобы покончить с ним,— разве это не значит
хорошо использовать диалектический метод самого
социализма? Такова наша диалектика, и я надеюсь что она
вознаградит нас так же, как и вас, будьте спокойны!..
...Отец Лётти наклонился вперед, устремив свой рыбий
взгляд в глаза Сойки:
— Был день шестнадцатое апреля, приближался
пасмурный весенний вечер. В Петроград прибыл Ленин.
Отец Лётти задумчиво посмотрел в лицо Сойки. Потом
открыл один из ящиков своего стола, достал из него
продолговатый кожаный портфель, открыл замок и, вынув оттуда
один портрет, показал его Сойке.
— Что вы скажете про это лицо?
Сойка наклонился, внимательно посмотрел.
— Обратите внимание на этот взгляд,— сказал прелат.—
Не хочется ли вам съежиться под этим взглядом?
Сойка молчал.
— Еще в то время, когда капитализм был всесилен, а
пролетариат приносил ему в жертву свою кровь, в маленьком
швейцарском городке этот человек предсказал близкую
гибель капитализма... В то время мы считали его взгляды
585
горячечным бредом, сумасшествием... Но сейчас... сегодня —
его понимание революции—понимание самих масс, его
стремления — стремления масс и эта идея — идея масс...
— Не может этого быть!
— Это их идея, она есть!
— Не смеет быть!
Сойка заскрежетал зубами.
Отец Лётти откинулся на спинку кресла и глубоко
вздохнул. Провел ладонями по лицу, словно снимал с него темное
покрывало.
— Это мужественное слово сына церкви! Неважно, верна
эта идея или нет, но для нас она ненавистна.
Не смеет быть! Пусть погибнет!
Если эта идея овладела человеческим сердцем и начинает
существовать как материальная сила, угрожающая нам,
церкви, мировому порядку, неважно — благородное это
сердце или нет, что мы должны сказать о нем?
— Не смеет быть! Пусть погибнет!
— Вот это настоящее слово сына церкви, слово — меч!
Вы его выковали, как разящий меч. Чувствуете ли вы его
своим в самой глубине вашей души?
Сойка поднял голову, его щеки пылали, глаза сверкали
раскаленной сталью:
— Да, отец прелат!
Конечно, да: вот его пшеничные поля и мельницы,
звонкие, как сталь, каменоломни, и вдруг над всем этим
поднимается грозная рука и дух мщения, не знающий колебаний
и людских расчетов, нависает, как буря, над полями и
каменоломнями, над Калдубами...
— Готовы ли вы поднять свой меч и ударить там, где
велит святая церковь?
«Готов ли? За Калдубы, за поля, за золотистую муку,
что плывет в закрома?..»
— Да, отец прелат.
— Без колебаний ударить, без сомнений, как не знает
сомнений святая церковь?
«За новый расцвет сойковщины, за ее сущность, за
жизнь свою? Готов!»
— От всего сердца говорю: да, отец прелат.
Отец Лётти поднимается, крепко пожимает костлявые
руки Сойки. Он улыбается, и его невыразительные глаза
затягиваются пленкой, как у сытой змеи.
— Сын мой!
— Отец мой!
Так молодой Сойка стал соучастником в делах отца
Лётти.
...Июнь... Июль... Октябрь...
Девятого, десятого, одиннадцатого ноября кабинет отца
58(3
Лётти был недоступен для посетителей. Монах в серой
сутане, стоящий у дверей, преградил Сойке дорогу:
— Прелата Лётти нет.
Но Сойка все-таки ежедневно приходил в обычные часы
своих занятий и каждый раз, увидев преграждающий жест
монаха, вздыхал, с трудом сдерживая горячий клубок,
поднимавшийся к горлу.
Был серый, ненастный день середины ноября. С моря дул
сырой, холодный ветер. Сойка, выйдя из монастыря и
миновав церковь Марии Ангельской, смешался с толпой,
которая волнами катилась от площади Терм.
В широком просвете площади, как в половодье,
волновалось море человеческих тел, с громким шумом стекая в
наклонную горловину Национальной улицы. Когда Сойка
подошел ближе, он увидел, как сверху, от площади Пятисот, в
толпу вклинивалась жандармская конница, а из боковых
улиц шла пешая полиция, направив штыки на колонны
демонстрантов. Толпа сжималась под их напором и, как
пружина, отбрасывала наседавшие ряды полицейских.
Разрастался гул толпы, а иногда над ней, как багровое пламя,
озаряющее тьму, взлетал мощный крик, грозный и
решительный, точно сигнал к восстанию или привет далеким борцам
Севера.
В какое-то мгновение Сойке послышалось что-то
знакомое в этом крике, знакомое и грозное, и словно огненная
змейка скользнула по его спине. Сойка ускорил шаг,
несмотря на предостережение:
— Посторонитесь, синьор, опасно!
Потом он побежал вдоль цепи полицейских, спускаясь с
площади вместе с толпой. Только на Национальной улице он
остановился передохнуть в каком-то портике,
прислонившись к каменной колонне.
Мелькали перед глазами Сойки загорелые лица рабочих,
покачивались сутулые спины, стучали башмаки по
мостовой... Где-то внизу раздался предупреждающий выстрел, и
в то же мгновенье лес кулаков грозно поднялся над толпой.
И ответом на выстрел жандарма, как орудийный залп,
прозвучал крик: знакомое огненное имя, поднявшееся над
Римом, как грозное знамя возмущенного народа:
Эввива Ленин! Да здравствует Ленин!
Это было не в Петрограде, на Невском проспекте, а в
святом Риме, на Национальной улице. Все ближе частый цокот
конских копыт, блестят штыки, усиливают натиск
жандармы... Снова слышатся выстрелы... А толпа плывет среди
каменных стен, точно расплавленная лава, и на каждый
выстрел отвечает огненным именем: Ленин!
Сегодня монах не задержал Сойку при входе, а проводил
его в глубь коридора.
587
Отец Лётти сидел в своем кресле, поджав под себя ногу,
и повернул голову к окну, прислушиваясь к шуму города.
Жестом попросил Сойку сесть и поднял вверх свою
маленькую РУку, что означало: «Минутку молчания!»
Это был не только мягкий шум сырого ветра,
налетавшего на высокие окна. Словно чьи-то укоризненные слова
были подхвачены ветром и летели над городом, стучась в
стекла. Отец Лётти прислушивался, неподвижный, как
статуя. Порой он вздрагивал всем телом — когда издали
раздавались выстрелы,— в эти мгновенья прелат сжимал
колени, а маленькое лицо его болезненно дергалось, словно
пронзенное изнутри молнией. Когда шум немного затих,
отец Лётти повернулся к Сойке и спросил:
— Вы были там? Это в вашем районе...
— Они идут от площади Пятисот к центру.
— Из железнодорожных мастерских, знаю... Их не так
уж много.
— Я не видел ни начала, ни конца шествия, но казалось,
что их неисчислимое множество,— такое впечатление.
— Только впечатление!
— Идут в центральные кварталы...
— Не дойдут, не допустят!
— Идут во всю ширь улицы. На выстрелы и натиск
отвечают дружными возгласами.
— Что же они кричат?
— «Да здравствует Ленин!»
Веселый прелат засмеялся и скрестил на груди
маленькие руки. Сойка сжался и ушел внутрь,— так опадает
земля, когда в ней образуется пустота.
— Откуда это имя здесь, отец прелат?
— Это имя, сын мой, сегодня сотрясает весь земной шар,
как отзвук страшного катаклизма, происшедшего на
Севере...
...Отец Лётти наклонился вперед, его водянистые глаза
вперились в зрачки Сойки,—они были щупальцами,
которые должны были высосать из Сойки всю его волю.
— Я спрошу вас, сын мой: не является ли одной из
наибольших заслуг перед богом — верить перед лицом самых
непримиримых противоречий, не колебаться, не допускать
в сердце ни тени сомнения или отчаяния? В том-то и
мудрость божья, что только в безграничной вере находим мы
награду. Существуют положения, при которых,— верьте
моему опыту,— ничего не остается для нас, кроме
непоколебимой веры. В таких случаях наш инстинкт са?лосохране-
ния подсказывает нам единственный правильный путь:
верить, что все совершается по воле божьего провидения, что,
приведя нас на край бездны, бог, наш отец и избавитель, ука-
5SS
жет нам путь к спасению! Верить, хотя бы земля
расступалась под нашими ногами, хотя бы небо разверзлось над
головой. Для нас это единственный путь к спасению, другого
не существует!
Отец Лётти внимательно посмотрел на Сойку и тихо
спросил:
— Находите вы в себе силу для такой веры, сын мой?
— Да, отец прелат.
— Могут наступить такие времена, что земля
действительно расступится под ногами,— не поколеблется ли тогда
вера в вашем сердце?
— Нет, отец прелат.
— И если на ваших глазах рушатся основы мирового
порядка — божьего порядка, не пошатнетесь ли вы в вере?
— Нет, отец мой.
— И если поток, уничтожающий все на своем пути,
будет грозить смести то, что дорого вам, не дрогнет ли ваше
сердце? Не ослабнет ли вера?
— Нет, никогда, отец прелат!
Отец Лётти выпрямился, и спина его точно вросла в
спинку кресла.
— В конце ноября в Восточную Европу выезжает наша
секретная миссия, группа избранной молодежи, которая
проведет некоторое время в огне русской революции. Они там
будут разведчиками святого Рима. Их задача — внушать
населению мысли, которые послужат интересам святого
папского престола. Ватикан не оставит своим попечением
избранников, и после выполнения этой миссии им будет оказана
особая милость... Не согласитесь ли вы, сын мой, принять
участие в этой важной миссии? Часть ее выезжает на
украинские земли, охваченные революцией. Там вы могли бы
своим опытом и пылким сердцем послужить во славу
святого Петра... Подумайте, сын мой. Послезавтра ждем вашего
ответа... И я надеюсь...— Водянистые глаза прелата на
мгновенье задерживаются на лице Сойки. — И я надеюсь, что вы
не откажетесь принять участие...
Сойка молча выслушал речь прелата, потом так же
безмолвно поклонился ему и ушел. Два дня звучали в его ушах
слова отца д'Эсте, которые он уже начал было забывать:
«Никто ни в чем не отказывает отцу Лётти. Отец Лётти все
знает, все может!..»
Через два дня Сойка снова был в кабинете прелата...
...Сойка говорит вполголоса, а слова его извиваются с
шелковым шелестом змеи, ищущей места, чтобы ужалить:
— Банально было бы повторять, как глубоко потрясли
сознание и совесть всех верных сынов церкви, вообще всех
людей доброй воли, последние события в России. Часы нам
кажутся месяцами, и один день теперь дает больше опыта,
589
чем годы тщательных наблюдений в спокойные
времена.
— Верно, сын мой.
— Только что получено известие о перевороте в
Петрограде, и у каждого из нас, даже самого незначительного
человека, возникают уже десятки тревожных вопросов: куда
идти, что делать? И хотя еще мало есть ответов, достойных
внимания, но и одному из них нельзя отказать в горячем,
идущем из глубины сердца желании — послужить в этот
грозный час нашей матери, святой церкви, помочь людям,
отшатнувшимся от нее.
— В том-то и дело!
Сойка на мгновенье умолкает, его ресницы поднимаются
и тотчас же падают вновь.
— Если я не ошибаюсь и хоть что-нибудь извлек из
благородной мудрости отца прелата, мне кажется, было бы
опасным заблуждением думать, что большевизм — явление
локального характера, чисто русское и ограничится пределами
одной страны... Достаточно вникнуть в историю и практику
большевиков, чтобы понять, как наивно такое допущение.
Каждое их слово обращено ко всему миру. Призывая
рабочих одной фабрики взять руководство ею в свои руки, не
обращаются ли они тем самым к рабочим всех стран, чтобы
они взяли в свои руки управление всей мировой экономикой?
— Это верно.
— Такова, по-видимому, суть большевизма. Он дает
универсальную, адски соблазнительную идею организации всего
человечества.
— Да, такой универсализм лежит в природе этого
учения.
— Если дело обстоит именно так...— Сойка глядит на
прелата горящими глазами.— Если это так... то не нащупаем
ли мы пути для борьбы с ними?
— Продолжайте, сын мой.
— Надо убедить людей, что коммунизм — это не
всеобщее учение, а плод азиатского варварства. Немедленно
блокировать зараженные районы и тщательно исследовать все
возможные пути его распространения, чтобы их обезопасить.
— Продолжайте, сын мой!
— Я сознаю, что осмелился перешагнуть границы своего
маленького опыта...
— Оставьте это!
— Но сердце мне подсказывает, что это наиболее верный
путь для борьбы с большевизмом. Какие же есть
антибольшевистские силы, на которые можно положиться? Первая —
это военная сила держав, которым угрожает революция.
Кому ж она не угрожает? И хотя сегодня еще стоят друг
против друга два лагеря, ослепленные войной,— время и
590
старание опытных государственных мужей должны привести
к тому, чтобы эти лагери объединились в одной цели против
общего врага! Блокада и интервенция — вот первостепенные
задачи на сегодня и на завтра.
— Я перебью вас, сын мой. Хочу вам напомнить, какое
обоюдоострое оружие — война. Из войны против революции
она легко переходит в революционную войну против закона
и общественного порядка. Тут действуют те самые
парадоксы бурного времени, о которых мы с вами говорили, та
непостижимая диалектика масс, о которую так неожиданно
разбиваются самые тонкие расчеты и планы, направленные
против революции.
— Неужели нет защиты от этой диалектики? Должна же
быть какая-то противоборствующая сила!
— Есть! Надо помнить, что большевизм — это, прежде
всего, идея, мировоззрение. И наша задача —
противопоставить ей другое мировоззрение, неизменное в своих
принципах, абсолютное и непогрешимое в своем происхождении —
против земной относительности всего сущего. Идея эта
должна быть такой же воинствующей, как большевизм, и
искать опору в народных массах... Такой силой может быть
только религия, только католическая церковь как
выразительница правды божьей.
Сойка резко поднялся. Его смуглое лицо вспыхнуло
горячим румянцем. Тонкие губы дрогнули, как натянутая
тетива перед выстрелом. Душа его кричала: «За Калдубы!
За Соек! За будущее сойковшины!» А уста говорили:
— Я понимаю, отец мой! Идейная блокада революции под
руководством святой католической церкви должна лечь в
основу политической и военной изоляции большевиков. Это
освятит и оправдает интервентов, как крестоносцев. Создать
вокруг большевиков вал католической церкви. Это лучшая
защита мира от революции. И если я не ошибаюсь...
* — Нет, сын мой, говорите.
—...то в граничащих с Россией державах, в провинциях,
где происходит непосредственное столкновение с
большевистскими идеями («Калдубы мои, Калдубы!»), должны
найтись преданные католики; там, в народных низах, в
доверчивых сердцах ревностных католиков должна быть
выращена надежная защита против революции. Мне это
представляется так: в широких слоях народа, усилиями духовной
епархии, скромных и незаметных сельских священников,
будет разрешена эта важнейшая дилемма, нависшая над миром.
— Какая дилемма?
— Религия или коммуна.
— О, сын мой!
— Есть что-то греховное в моих словах?
— Нет, нет.
Ь91
И тут, словно подавленный грандиозностью
открывающихся перед ним перспектив, Сойка в изнеможении
опускается в кресло и, закрыв лицо руками, тяжело вздыхает.
Мелкие росинки пота выступают на его лбу, когда он отнимает
руки от лица и тихо говорит: '
— Там хочу я служить святой церкви — среди
подольских крестьян, моих земляков, на границе России.
Он произносит это властно и торжественно, как решение,
которое не может отменить никакая сила на земле.
— Да будет так, сын мой!
Война обездолила этих людей, а нужда и малоземелье
могут их сделать восприимчивыми к опасным идеям.
— Отправляйтесь с богом, сын мой...
Сойка вытирает пот и вкрадчиво спрашивает:
— Могу ли я надеяться на помощь отца прелата в этом
деле?
— Да, дорогой, сделаю, что смогу.
Неудержимая радость волной охватывает Сойку, и,
словно подхваченный этой волной, он вскакивает и
бросается отцу Лётти на грудь.
— Отец мой!
— Сын мой!
За неделю все формальные преграды были преодолены.
Молодой Сойка стоит перед отцом Лётти,— они
обмениваются последними прощальными словами.
ЯРОСЛАВ ГАЛАИ
ИСШЕДШИЕ ИЗ МРАКА1
Граф Куденгов-Калерги, вот уже тридцать лет столь же
усердно, сколь безуспешно ратующий за создание некоей
пан-Европы, в одной из своих книжек писал:
«Католицизм является фашистской формой христианства».
Граф Куденгов-Калерги — католик. Он не хотел обидеть
папу римского, не говоря уже о том, что в устах автора
«Крестового похода за пан-Европу» слово «фашизм» звучит более
чем мягко. Это просто-напросто признание факта в узком
кругу читателей и почитателей пан-европействующего графа:
признание тем более ценное, что оно сделано человеком,
состоящим в духовном родстве с Ватиканом и с фашизмом.
Да, прошло время, когда католические посланники небес
убеждали паству в своей непричастности к политической
суете мира сего. Лицемерие периода либерализма больше не
к лицу папе римскому. Прежние средства воздействия на
массы верующих устарели, перед лицом фактов они потеряли
всякую эффективность.
И вот старческий скорбный голос отставного инквизитора
уступил место густому, зычному баритону кандидата в
диктаторы. Эмблема христианства — крест в бесцеремонных
руках его современных носителей принял уродливую форму
свастики, а символ кротости и смирения — мистический
барашек вдруг предстал перед нами в виде чистокровного и
отнюдь не мистического волка.
В этих переменах нет ничего удивительного. Пальма
первенства в фашистской форме правления по праву должна
принадлежать Ватикану. Еще задолго до возникновения
черных рубашек принцип ничем не ограниченной,
деспотической диктатуры узурпаторской клики осуществили черные
сутаны. Достаточно вспомнить ватиканский собор 1870 года
1 Печатается с небольшими сокращениями.
38 Против тьмы
593
и протащенную иезуитами догму о непогрешимости
«святейшего отца», которая под видом абсолютного единовластия
папы закрепляла за ним нераздельную власть над
католической церковью. За ним и за избирающей его иезуитской
мафией, этим скопищем отъявленнейших ретроградов и ма-
хровейших мракобесов, апостолов дикой, неистовой
ненависти ко всему, что есть в мире прогрессивного,
свободомыслящего.
Их аппетиты, их жажда власти ни с чем не сравнимы.
Весь, буквально весь мир должен упасть к ногам их
«святейшего ставленника» и, отрекшись от своего будущего,
помышлять лишь о будущем Петрова престола и его
ненасытной иезуитской дворне. Авторитарная система правления
католической церковью является обязательной предпосылкой
для ее мировой монополии. И иезуиты создают первый на
нашей планете авторитарный, фашистский режим.
Чернорубашечникам было у кого поучиться. Пока
Муссолини стал диктатором, он прошел длительный курс под
руководством монсиньора Ратти. Когда он в купе скорого
поезда совершил свой «поход на Рим», первой рукой,
поднявшейся для его благословения, была рука римского
папы.
Узурпатор не остался в долгу. Прочно обосновавшись в
«Палаццо Венеция», он посвятил максимум усилий
упрочению расшатанной «скалы Петровой». Когда Пий XI
распускает католическую «Народную партию», Муссолини берет
на себя ответственность за ее ликвидацию: таким образом он
реабилитирует «его святейшество» в глазах верующих и
предохраняет Ватикан от возможности возникновения
антииезуитской оппозиции. Всемерная поддержка, неизменно
оказываемая папой фашистскому режиму, толкнет
Муссолини еще дальше. В 1929 году он возводит Ватикан в ранг
суверенного государства и выплачивает ему не то пособие,
не то премию на сумму чуть ли не в два миллиарда лир.
После некоторых споров и неизбежных в таких случаях
пререканий диктатор Италии идет на еще одну крупную
уступку: он отдает в руки католического клира воспитание
школьной молодежи. Исчезла последняя преграда,
мешающая установлению идеальной гармонии между фашизмом
светским и церковным, а Бенито Муссолини — палач
итальянского, эфиопского и испанского народов — возводится в
лик возлюбленных сынов католической церкви.
С такой же горячей симпатией будут восприняты
Ватиканом начинания Адольфа Гитлера. Симпатия была
обоюдной: некоторые страницы «Майн кампф» полны таких
восторженных дифирамбов по адресу католической церкви и
ее руководящей иезуитской верхушки, что вопрос об
источнике вдохновения автора отпадает сам собой.
594
Эти чувства дружбы и любви нашли официальное
выражение в конкордате, подписанном представителями
Ватикана и Гитлера уже через пять месяцев после поджога
рейхстага. Аресты среди католического духовенства Германии не
нарушали душевного спокойствия папского нунция
кардинала Пачелли, который несколько лет спустя возглавит
католическую церковь под именем папы Пия XII. Наоборот,
эти мероприятия гестапо соответствуют интересам
Ватикана, стремящегося во что бы то ни стало избавиться от
либеральных элементов внутри церкви. Если «чистка»
производится чужими руками, тем лучше: кровь замученных
гестапо священнослужителей не запятнает рук «Христова
наместника».
Прогитлеровская политика Ватикана покоилась на
старом, прочном фундаменте, заложенном еще в XVI—XVII
столетиях совместными усилиями пап и немецкой династии
Габсбургов. Этот союз римской лисицы и немецкого волка
особенно пышно расцвел в кровавом мраке
контрреформации. Со временем, когда главный лагерь немецких
завоевателей переместился с Дуная на реку Шпрее, Ватикан
воспылал такой же страстной любовью к протестантской Пруссии,
с какой он неизменно относился к ультракатолической
Австрии. Смысл издревле прогерманской политики Ватикана
недвусмысленно изложил папа Лев XII в разговоре с
императором Вильгельмом II:
«Германия должна стать мечом католической церкви».
После Октябрьской революции бродивший раньше по
Европе призрак великого социального переворота предстал
теперь перед миром, облаченный в плоть и кровь молодой
советской державы, победоносно отразившей атаки
контрреволюционной коалиции. Лозунг «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» приобрел новое, более грозное, чем доселе,
звучание: родилось Отечество пролетариев, и к его голосу,
к его твердой, решительной поступи с радостным душевным
трепетом прислушивались миллионы тружеников земного
шара.
А в папской столице воцарились тревога и смятение.
Победа фашизма в Италии не могла считаться серьезной
контрмерой: нужен был союзник, способный не только
оградить имущие классы Европы от посягательств революции,
но и нанести смертельный удар первой республике
трудящихся. Таким союзником Ватикана в Европе могла стать
только Германия, до зубов вооруженная, беспримерно
агрессивная, построенная притом по образу и подобию
католической церкви: с «непогрешимым» самодержавным
пастырем наверху и стадом бессловесных баранов внизу, короче
говоря — фашистская Германия.
38*
595
Теперь понятно, почему приход Гитлера к власти был*
принят Ватиканом с неподдельной радостью и почему
Ватикан оказался первым суверенным государством,
вступившим в формальные переговоры с шайкой гитлеровских
убийц. Со дня подписания берлинского конкордата все
усилия папы и его кардиналов будут направлены на поддержку
нацистской Германии и всех фашистских сил по обеим
сторонам океана.
С этой целью главари католической церкви создают
собственную фашистскую организацию под названием
«Католическое действие». Руководимая иезуитами, эта
организация способствует проискам реакционных элементов,
стремящихся подавить демократические силы и установить
фашистскую диктатуру. Ее специальность — подрывная
работа. Основной смысл этой работы заключается в
использовании существующих в отдельных государствах
демократических группировок и учреждений для разрушения
демократии изнутри. Еще задолго до того, как франкистский
генерал Мола сочинит крылатый термин «пятая колонна»,
агенты «Католического действия» в Испании, Франции,
Австрии, Чехословакии, Венгрии, Хорватии, Литве, Польше и
Западной Украине сделают все возможное для того, чтобы
проложить дорогу фашистской диктатуре. Генерал Франко,
Петэн, Вейган, Дегрель, Дольфус, Тисо, Павелич, Степинац,
Гаха, Беран, Сметона и, наконец, мелкие сошки вроде
Мельника, Бандеры и Волошина — вот небольшой перечень
наиболее известных фашистских предателей, воспитанных
Ватиканом и вскормленных его сильнейшим союзником —
Гитлером. В 1935 году фашистская Италия набрасывается на
Абиссинию. Предсмертные вопли растерзанных бомбами и
искалеченных — и притом беззащитных! —
христиан-эфиопов доносятся до стен Ватикана, но сердце папы остается
безучастным к страданиям народа Абиссинии. Больше того,
все симпатии Ватикана на стороне фашистских убийц и
мародеров, и торжественным звоном церковных колоколов «его
святейшество» отмечает победу Муссолини.
Когда воспитанник иезуитов генерал Франсиско Франко
ворвался со своими маврами в Испанию, первой подала ему
руку помощи католическая «пятая колонна». Армия из
пятидесяти тысяч священников, пятнадцати тысяч монахов и
пятидесяти тысяч монахинь, стопятнадцатитысячная армия
ненавидящих республику паразитов уже с первых дней ее
существования показала свое гнусное фашистское лицо.
Желая опорочить республиканское правительство, они
поджигали собственные церкви и монастыри, и когда столбы
дыма и огня поднимались над бесценными памятниками
старинной архитектуры, католические провокаторы обвиняли
в поджогах... коммунистов.
596
После вторжения генерала Франко они соревновались в
злодеяниях со своим главарем. Шпионаж, саботаж,
диверсия — воистину ничто мерзкое и подлое не было им чуждо.
В результате доносов католических священников и их
агентов из «Католического действия» франкистские палачи
истребили почти всю испанскую интеллигенцию, главным
образом учителей и врачей. По истечении трех лет
гражданской войны католический клир мог похвастаться одним
миллионом убитых и замученных фашистами граждан
Испании.
Чем дальше продвигается Франко в глубь Испании, тем
эффективнее становится помощь, оказанная ему Гитлером
и Муссолини, тем развязнее держат себя черные сутаны.
Они не стесняются больше, к черту полетели традиционные
маски лицемерного смирения и показной благовидности.
Пред миром предстал во всем своем цинизме
торжествующий иуда-провокатор.
Вот что рассказал миру после первых успехов генерала
Франко в журнале «Аксьон Эспаньола» примас Испании
кардинал Гома:
«И поскольку было очевидно, что демократия и всеобщее
избирательное право были зародышевыми формами
коммунизма и анархии, мы заявили, что с этим позволительно
бороться даже «легальными средствами», как мы тогда
выразились, тем самым ясно давая понять, несмотря на
цензуру, что, применяя «легальные средства», мы фактически
очищаем путь тем, кто, не придавая никакого значения
вопросу о «законности средств», вступил на «путь чести и
славы» (так называет глава испанской католической церкви
путь франкистских убийц и насильников.— Я. Г.).
После того как лишь в Малаге по наущению
католических священников франкисты казнили свыше восемнадцати
тысяч человек; после того как немецко-итальянские
воздушные эскадрильи смели с лица земли десятки испанских
городов и сотни сел, наследник кардинала Гома архиепископ
Пла-и-Даниель величает в пастырском послании победу
Франко «победой царства божия и воскресением
Испании»...
За верной службой последовала награда: ежегодное
ассигнование правительством в пользу духовенства
шестидесяти пяти миллионов песет на ремонт и перестройку
монастырей и семьсот новых церквей, построенных в течение
четырех лет. Одновременно то же самое франкистское
правительство ассигновало на ремонт и строительство новых
школ меньше десяти миллионов песет.
Ватикан оценил «заслуги» кровавого Франко. Пий XI
шлет ему усыпанный бриллиантами крест «за особые
заслуги перед богом и церковью», а его преемник Пий XII,
39 Протип тьмы
597
вдохновитель и творец политики «невмешательства», после
взятия Мадрида обращается к франкистским живодерам с
посланием, начинающимся со слов:
«С великой радостью обращаемся к вам, дражайшие
сыновья католической Испании, чтобы выразить наше
отцовское приветствие с даром мира и победы».
И вот наступил долгожданный Ватиканом день:
гитлеровская Германия двинулась на завоевание мира. Любимцы
папы Петэн и Вейган устраивают Франции второй Седан,
Седан страшнее первого, и на истерзанное тело прекрасной
страны вслед за нацистскими дивизиями вползают
изгнанные во время оно иезуитские черви. Над распятой
нацистами Чехословакией издевается братиславский «президент»
Тисо; за массовые убийства мирного населения Словакии эта
гитлеровская креатура получит от Пия XII благодарность и
титул монсиньора. В оккупированной немцами Хорватии
свирепствует шайка Павелича и Кватерника. Идеологом,
консультантом и прямым помощником этих гестаповских
убийц становится загребский католический епископ Степи-
нац. Австрийский кардинал Инницер украшает свои
пастырские воззвания нацистским приветствием: «Хайль Гитлер!»
Один из главных участков прогитлеровского фронта
занимало, разумеется, католическое духовенство Германии.
Ближайший собутыльник и закадычный друг папы Пия XII
мюнхенский кардинал Фаульгабер превращает ежегодные
конференции епископов в городе Фульда в манифестации
рабской преданности фюреру. День взятия немцами Парижа
эти гнусные твари отмечают клятвой верности Адольфу
Гитлеру. Вместе с ними поднимает руку для клятвы и
папский нунций в Германии монсиньор Орсениго.
Легко представить себе радость, обуявшую всю эту
сволочь, когда радио распространило весть о нападении
Германии на Советский Союз. Старая мечта ватиканских
властелинов о восстановлении «священной Римской империи» со
столицей в Берлине казалась им уже полуосуществленной.
Не хватало только полной победы гитлеровских корпусов
над армией советских народов. Об этой победе они в
Ватикане молились денно и нощно, ей посвящали все свои труды
и заботы. В кровавых застенках гестапо, в крематориях и
газовых камерах Майданека и Освенцима, в массовом
истреблении советских военнопленных, в уничтожении целых
народов они видели похвальное осуществление идеи
испанского кардинала Осма, безуспешно добивавшегося сто лет
тому назад восстановления святой инквизиции. Для них
хороши были все средства, ведущие к цели, а эта цель
казалась им столь близкой...
Но кровавый бог католицизма оказался бессильным
перед лицом героизма советских народов: на руинах Берлина
598
разыгрывается катастрофический для немецкой протек-
торши Ватикана эпилог величайшей и страшнейшей из
войн... Это был черный день Ватикана.
С тех пор прошло достаточно времени для того, чтобы
удрученные разгромом нацистской Германии ватиканские
заправилы пришли опять в себя. Скоро, очень скоро, нашлись
силы, позволившие папе воспрянуть духом.
Неосуществленную Гитлером миссию «спасения христианской цивилизации»
приняли на себя американские гангстеры капитала. Рыцари
Уолл-стрита, мясники Чикаго, рабовладельцы Каролины,
вся эта бесцеремонная, грязная братия, то гонимая страхом,
то подстегиваемая жаждой невиданной-неслыханной
наживы, заметалась в бреду о мировом владычестве.
Пополнив свои ряды развращенными генералами, бандитами пера
и продавцами совести без определенной профессии, она
взялась решать судьбу мира по рецепту, изготовленному в свое
время фашистскими алхимиками Европы. В воздухе опять
запахло порохом и кровью.
На лакейских задворках Уолл-стрита поднялась
мышиная возня, встрепенулись и очумевшие было от тоски
ватиканские вороны. Папа Пий XII — он же возлюбленное дитя
банкирского дома Пачелли, он же бывший агент немецкого
капитала — без малейшего колебания становится
возлюбленным чадом банкирского дома Морган и К°, агентом
американского капитала.
В международных расчетах ватиканского «Банко ди
Рома» место немецкой марки занимает доллар, шуршащей
струей вливающийся в ватиканские сейфы. Трумэнам нужны
опытные инструкторы по организации фашизма, и папа не
отказывает им в помощи: в Америку направляются целые
стада самых прожженных иезуитов. Католицизм становится
за океаном последним криком моды, туземный кардинал
Спеллман рекламируется на всех перекрестках, как
рекламировался когда-то знаменитый боксер Демпси. В
голливудские «фабрики снов» по следам комиссии Мундта
вторгаются прилизанные святоши в кокетливо сшитых сутанах и
их благочестивые партнерши с томным взглядом
раскаявшихся грешниц, и вот на экранах кинематографов
появляются все новые и новые фильмы, описывающие
спасительное воздействие католицизма на все болезни XX века.
Газеты пестрят портретами папы, его изречения старательно
записываются на пленку и вещаются миру по волнам
эфира.
Для Ватикана настает великий день: в его стенах
поселяется личный представитель Трумэна. Мистер Тэйлор
слабо разбирается в католических догмах, зато он
специалист по части разведки. Здесь он нашел то, чего искал.
Сюда, в канцелярии секретарей отдельных конгрегации,
39*
599
стекаются информации чуть ли не со всех стран мира,
где только имеются католические агентуры. Собранные
сведения передаются тут же мистеру Тэйлору, а этот
после их использования мистером Гувером из ФБР и
генералами из «стратегической службы» отдает по тем же
каналам инструкции и приказания. Таким образом,
Ватикан становится мировой цитаделью американского
шпионажа, а подчиненные ему прелаты и аббаты — вольными
или невольными порученцами мистера Тэйлора...
Результаты не заставили долго ждать себя.
Католические монастыри и церкви в спешном порядке превращаются
в бастионы поднимающей голову реакции, а их амвоны —
в трибуны возродившегося фашизма. В
народно-демократических странах реакционное подполье лучше всего себя
чувствует под сенью солидных храмов и обителей, а его
главари сразу находят общий язык с католическими
епископами и канониками. Каиново дело повешенного по
приговору чехословацкого народного суда монсиньора Тисо
продолжают его подчиненные: католическое духовенство
Словакии занимает первое место среди заговорщиков
против республики. Хорватские приспешники осужденного
епископа Степинаца оказывают всемерную помощь
подбрасываемым извне террористам-усташам. В румынской
провинции Альба-Юлия католический епископ Мартону
под угрозой анафемы запрещает верующим поддерживать
демократическое правительство. В Венгрии осужденный
ныне кардинал Миндсенти под вывеской вновь ожившего
«Католического действия» организует для борьбы с
республикой наиболее реакционные элементы страны.
Стараниями папы старая любовь Ватикана —
франкистская Испания становится любимицей Вашингтона, и
сегодня фалангистские палачи расстреливают патриотов
Испании из автоматов американского происхождения.
Католический клир Франции, действующий ныне под фирмой
«Народно-республиканского движения», является прямой
агентурой Маршалла и усерднейшим помощником
осуществления его пресловутого плана...
Папа и его итальянские приспешники превзошли в
гнусностях самих себя во время недавней избирательной
кампании в Италии. Все семь смертных грехов были
мобилизованы папой на помощь реакции и ее американским
покровителям, а когда в руки ватиканских игроков
попали первые козыри, они решили приступить к
окончательному розыгрышу и дали сигнал к террору. Четыре
пули, выпущенные рукой наемного убийцы в грудь вождя
рабочего класса Италии Пальмиро Тольятти, были
предвозвестницами новой варфоломеевской ночи, уготованной
Ватиканом всем антифашистам. Только решительный от-
600
пор итальянского народа расстроил кровавые планы
«апостольской столицы»...
В планах папы многое меняется в зависимости от
ситуации, неизменным остается только одно: антисоветская
политика, диктуемая совершенно дикой, фанатической
ненавистью к нашей стране, к нашему Советскому
государству, к нашему советскому народу. Этой политике
ватиканские мракобесы подчиняют каждый свой шаг.
Несколько лет назад они снаряжали Гитлера в поход на
Москву; сегодня они с таким же рвением помогают далле-
сам разжигать пламя атомной войны. Охваченные
неизлечимой слабостью к германскому бронированному кулаку,
они делают все возможное, чтобы свести на нет
результаты победы народов над гитлеровской Германией. То же
самое делают маршаллы. Тем лучше для Ватикана.
Ватиканские идолы жаждут крови...
Недавно на тайном совещании четырнадцати
кардиналов обоих полушарий в торжественной обстановке было
оглашено папское послание, являющееся официальным
объявлением войны мировой демократии: «Католическая
церковь не может стоять в стороне от политической и
идейной борьбы, которая разделила мир на два лагеря...»
К счастью, католическая церковь — это не миллионы
католиков, а сравнительно небольшая клика
титулованных шарлатанов, готовых на любую мерзость ради
спасения своей власти, своих капиталов, своих угодий, своих
привилегий.
Но время опередило зарвавшихся могильщиков
человеческого счастья: окрепшие руки трудового народа сумеют
осадить взбесившихся коней войны, и тина забвения
окончательно засосет ватиканское исчадие ада.
Исшедшие из мрака во мрак и снизойдут!
ЯРОСЛАВ ГАЛАН
Я И ПАПА
13 июля 1949 года в моей жизни произошло
знаменательное событие: папа Пий XII отлучил меня от церкви.
Отлучил, как отлучают теленка от коровы. Без
предупреждения.
Откровенно говоря, конфликт между нами начался
довольно давно, примерно лет сорок назад, когда нынешний
Пий XII был еще молодым попиком Пачелли, а на святом
престоле сидел Пий X. Каждое воскресенье учитель водил
нас парами в церковь монашеского ордена василиан,
призывал любить императора Франца-Иосифа I и ненавидеть
«москалей», которых, говорил он, надо уничтожать под
корень.
Однако, вместо того чтобы бить «москалей», пан-отец
с легкостью бил нас, школяров.
Однажды пан-отец спросил меня:
— Почему святого отца мы зовем Пием?
Я простодушно ответил:
— Потому, что святой отец любит выпить.
Не успел я опомниться, как мой живот очутился на
поповском колене, а священная розга высекла на моем
теле десять заповедей.
Господь не наделил меня смирением, и, очевидно,
потому, вернувшись домой, я еще с порога крикнул матери:
— Плюю на папу!
Никто, кроме матери, этого не слыхал, но, видимо,
вездесущий бог донес своему римскому наместнику, ибо
с тех пор греко-католическая церковь начала против меня
«холодную войну».
И не только против меня. Вскоре я убедился, что
таких грешников немало. К ним, в первую очередь,
принадлежали гимназисты, принимавшие участие в чествовании
602
памяти Ивана Франко. Для них учитель закона божьего
придумал особое наказание: в самую жестокую жару сажал
их на солнцепек. На протесты отвечал:
— Ага! На концерте в честь Франко вы декламировали:
«Мы стремимся к солнцу!» Вот вам и солнце. Погрейтесь!..
По-настоящему мой конфликт со святым престолом
обострился, когда я, в минуту хорошего настроения, в
одном журнале назвал митрополита Шептицкого мутителем
святой водички. Этот удар был для князя
греко-католической церкви громом с ясного неба. Как раз в это время
граф Шептицкий был увлечен папоугодным делом
подготовки антисоветского крестового похода. Моя
нетактичность вызвала понятное возмущение: поповны
отвернулись от меня, а их отцы разорвали мою прямую связь с
небесами, запретив пускать меня в церковь. После этого
Шептицкий впал в черную меланхолию, и только приход
Гитлера к власти поставил его снова на ноги.
Несколько лет назад умер монсиньор Ратти, то бишь
Пий XI, и его место занял новый мой противник — Пий XII.
Все знаки на небе и на земле показывали, что в лице этого
Пия я буду иметь еще более заклятого врага, чем два
предыдущих, до Бенедикта XV включительно, ибо он был
одним из крестных отцов «третьего райха», он толкал
Гитлера на войну против СССР, по его требованию Пил-
судский шел огнем и мечом против моих неуниатских
земляков Холмщины и Волыни.
Друзья говорили мне, что дни мои сочтены и что я
должен ждать контрудара. Как всегда в таких 'случаях,
друзья несколько преувеличивали. Мокрая работа в то
время в Ватикане была только запланирована. У
Шептицкого не было еще тогда почетной стражи в лице
гитлеровских солдат, а его прелаты еще не франтили в
эсэсовских мундирах. Пока с их стороны я мог ожидать только
сухой работы. Им нужен был повод. И они нашли его.
Как-то в рождественский вечер я зашел к Александру
Гаврилюку. Над нами и под нами, справа и слева люди
колядовали. Воспоминания детства нахлынули на нас, и,
растроганные, мы решили опрокинуть чарочку.
Традиционной рыбки не было, но ее с успехом заменило сало.
Выпили по одной. И тогда Гаврилюку пришло на ум
пригласить к столу домовладельца, жившего рядом. Тот
приглашение принял, но, увидав на столе сало, по-тараканьи
зашевелил усами и попятился к двери. Только тогда Гаври-
люк понял, что богобоязненный усач был членом ультра-
монтанского «братства сладчайшего Иисусова сердца».
Через несколько дней весть о совершенном нами
преступлении дошла до консистории, а вскоре и до
конгрегации священной канцелярии в Риме. По этому поводу
603
львовская дефензива начала следствие. Возмущение
шпиков нашим святотатством не имело границ. Гаврилюка в
то время не было в городе, и повестку вручили только мне.
Седовласый агент сидел передо мной и укоризненно
покачивал головой:
— Ваше тело,— говорил он,— сгниет в тюрьме, но что
есть тленная плоть в сравнении с бессмертной душой,
которую вы так безжалостно губите?
Седоголовый шпик жалобно высморкался и безнадежно
махнул рукой:
— Идите, грешник, догнивайте в тюрьме, а я буду за
вас молиться.
Шпик молился, а я сидел в тюрьме...
Прошли годы. Украинский народ воссоединился в
едином государстве — Украинской Советской
Социалистической Республике. Наплевали на папу все западные
украинцы, разорвали унию и готовятся сейчас к
-настоящему народному празднику десятилетия воссоединения.
Святой престол сменил Гитлера на Трумэна, однако
от этого мои взаимоотношения с ним ничуть не
улучшились. Наоборот. По данным, имеющимся в моем
распоряжении, Пий XII узнал, что в глубоком шкафу редактора
издательства «Радянський письменник» лежит рукопись
моей антипапской книжки «Отец тьмы и присные».
Правда, на сей раз Пию посчастливилось,— рукопись
лежит уже больше полугода и скоро покроется плесенью,
но факт остается фактом: моя святотатственная рука еще
раз поднялась на «пастыря пастырей»... Чаша горечи
переполнилась, и «пастырю пастырей» не осталось ничего
другого, как отлучить меня от своей церкви.
Единственное мое утешение в том, что я не одинок,
вместе со мной папа отлучил по меньшей мере триста
миллионов человек, и вместе с ними я еще раз в полный
голос заявляю:
— Плюю на папу!
НИКОЛАЙ ШПАНОВ
УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ
(Отрывок}
Королей и президентов, банкиров и министров, генералов
и певцов, международных авантюристов и знаменитых
кокоток — многих и многих видывала широкая лестница,
ведущая в приемную залу папы. Мрамор ее ступеней
оставался одинаково холодным под ногами Вудро Вильсона и
Риббентропа, под исковерканными ступнями ксендзов,
освобожденных из Освенцима, и под шпороносными сапогами
генерала Андерса. Мрамор так же не умел краснеть, как
не краснел богоподобный хозяин этого дома.
В то время, как папа отказывал в аудиенции всем, к
подножию лестницы, выходящей во двор святого Дамаса,
неслышно подкатил автомобиль. Папские гвардейцы без опроса
пропустили его в ворота, так как рядом с шофером увидели
фигуру папского секретаря иезуита Роберта Лейбера.
Первым из автомобиля не спеша вышел человек, которого никто
здесь не знал.
По развязности, с которой посетитель сбросил пальто на
руки лакея, по некоторой небрежности костюма и манер
служители без ошибки определили иностранца. Гость
неторопливо поднялся в залу святой Климентины. Второй
секретарь папы по важнейшим делам иезуит отец Вильгельм
Гентрих уже ожидал в зале, и тут же, с другой стороны, в
залу вошел кардинал-секретарь: гостя не заставляли ждать!
Через минуту отворилась дверь библиотеки, служащей
кабинетом святому отцу, и охранявшие ее гвардейцы
отсалютовали шпагами. Гость проследовал мимо них с видом,
говорившим, что его нельзя удивить даже салютом артиллерийской
батареи. Дверь библиотеки затворилась, скрыв от глаз
присутствующих лиловую спину сутаны статс-секретаря,
проплывшего вслед за гостем.
Содержание беседы иностранца с папой не было
опубликовано на страницах «Оссерваторе Романо». Был нем гость,
605
молчали отцы Лейбер и Гентрих, молчал кардинал статс-
секретарь, молчал сам святейший. На следующий день
папский казначей получил от отца Лейбера чек на огромную
сумму в устойчивой валюте. Это плата за души католиков,
которых святой отец обещал бросить в горнило закулисной
войны против богопротивного коммунизма.
* *
На третьем этаже ватиканского дворца, в комнате,
отделанной ореховыми панелями, со стеной, закрытой резным
буфетом, за небольшим столом в центре комнаты сидел
худой старик с лицом желтым, как старинный пергамент.
Сухая рука с длинными тонкими пальцами перебирала
рассыпанные по скатерти кусочки раскрошенного сухарика.
Едва пригубленный стакан разбавленного водой вина стоял
перед прибором. Глубоко сидящие, окруженные нездоровой
синевой глаза старика хранили следы огня. Взгляд их был
устремлен на двух канареек, сидевших по краю блюдца с
зерном на дальнем краю стола. Канарейки клевали зерно.
Глядя на них, старик думал о том, что вот уже восьмая пара
птиц клюет на его глазах божье зерно; вот уже он не может
сделать лишнего глотка вина без опасения головной боли; вот
уже и заботливо приготовленный старой баварской
монахиней сухарик не лезет в горло потому, что опять не удалось
очистить желудок... Околеет восьмая пара канареек. Вовсе
остановится пищеварение. Кардиналы с радостью наложат
по девять печатей на каждый из трех гробов, где запаяют
его набальзамированные останки, а человечество будет жить.
Вероятно, рано или поздно, несмотря на все усилия его
самого и его преемников, оно, это живущее человечество,
сбросит со своих плеч бремя церкви и пойдет себе вперед к
манящему его видению греховного земного счастья, не
ожидая перехода в царство небесное... Человечество!.. Если
бы оно знало, как он ненавидит этого темного колосса за
неразумие, влекущее его к химере счастья... Счастья?!. Кто
знает, что это такое?! Он сам?.. Нет... Меньше всех он!..
Осторожный шорох у двери прервал размышления Пия.
Он поднял усталый взгляд на склонившегося перед ним
камерария. Монах-францисканец едва слышно доложил
(громкие звуки раздражали Пия), что статс-секретарь
желает видеть его святейшество. Пий поморщился. С
некоторых пор даже самые интересные дела ему досаждали.
Движением бровей он дал понять, что кардинал может войти.
Медленно, словно через силу, просмотрел почтительно
протянутую ему бумагу и с неудовольствием вернул кардиналу.
Неожиданно жестко прозвучал его голос: не было ни знако-
606
мых народу бархатных ноток глубокого баритона, ни
округлой ласковости фраз. Деловито, в лаконических формулах
разъяснил кардиналу, что апостольское послание составлено
неудовлетворительно: не ясно, почему католическая церковь
берет на себя оправдание тайной войны против Москвы;
люди не поймут, почему святой престол шлет свое
апостольское благословение католикам, которые с бомбами и ядом
проникнут в коммунистический тыл, католическим
летчикам, которые сбросят диверсантов и убийц в Страну Советов,
из текста такого послания верующие не поймут, во имя чего
наместник святого Петра призывает ученых трудиться над
усовершенствованием процесса расщепления атомного
ядра?..
Кардинал вложил отвергнутый проект в бювар.
— Здесь находится,— сказал он,— в ожидании
апостольского благословения своему проекту епископ Ланцанс.
— Ланцанс?
Черты Пия отразили напряжение. Но это длилось одно
мгновение: несмотря на старость и болезнь, голова
святейшего была светла. Он помнил проект Ланцанса,
представленный ему на рассмотрение генералом Общества Иисуса. Сам
иезуит, посаженный на папский престол иезуитом, Пий XII
всегда с особенным вниманием относился ко всему, что
исходило от Ордена. Он мог бы забыть любого другого
епископа — францисканца, капуцина, бенедиктинца,— но не
Ланцанса, раз тот был иезуитом. Смиренный брат Язеп Ланцанс
предлагал вместо взрыва во время праздника песни в Риге
нанести этот удар несколько позже, когда соберутся на свой
праздник «детской песни» шесть тысяч маленьких певцов
и двадцать пять тысяч юных зрителей — пионеров и
пионерок Советской Латвии. Ланцанс считал такой удар более
чувствительным — в СССР любят детей.
Папа сидел в задумчивости, подперев голову рукой.
Статс-секретарь осторожным покашливанием напомнил о
себе.
— Да, да,— сказал Пий едва слышно. Можно было
подумать, будто за эти две минуты, что продолжались его
размышления, он постарел еще на десять лет и потерял
последние силы.— Да, да. Помню. Передайте брату Язепу...
Впрочем, нет, лучше поручите принять его монсиньорам
Пиззардо и Тиссерану. Пусть присутствует и
Константина— Словно невзначай, добавил: — Если Ланцансу нужны
деньги — следует дать... Дело должно быть осуществлено без
нас. Скажите брату Язепу: Спрингович стар. Ланцанс может
надеяться на его престол в Латвии. Мы его не забудем...
Пока папа говорил, кардинал достал из бювара новую
бумагу и собирался протянуть папе, но при виде ее Пий чуть-
чуть поморщился, и кардинал тотчас спрятал бумагу. Папа
607
поднялся из-за стола. Камерарий-францисканец испуганно
прошептал:
— Ваше святейшество так и не отведали куриной
котлетки...
Черты папы отразили досаду: упоминание о котлетке
вызвало неприятное чувство тошноты. Газы подпирали
диафрагму, сжимали усталое старое сердце. Тупая боль снова
напомнила, что со вчерашнего утра у него не действовал
желудок. Не помогло и слабительное. Мысль об этом
отодвинула все остальное. Пий медленно проследовал к лифту,
чтобы спуститься в сад: может быть, прогулка поможет
Делу.
Это было первым в жизни Ланцанса свиданием со столь
высокими иерархами римской курии. Несмотря на
принадлежность к «аристократическому» Ордену иезуитов, Лан-
цанс немного оробел при виде трех кардиналов — в конце
концов он все-таки был провинциалом. К тому же Эжен
Тиссеран в качестве главы ватиканской конгрегации
восточных церквей по римской иерархии являлся для Ланцанса
высшим, начальником. Впрочем, открытое лицо этого
бородача с яркими, но добрыми глазами фанатика внушало
епископу куда меньше страха, нежели хитрая носатая
физиономия главы Католического действия кардинала Пиззардо.
Маленькие глазки Пиззардо почти откровенно насмехались над
несколько неуклюжим, словно вырубленным из добротной
латышской березы Ланцансом. Немногим лучше был и
руководитель Конгрегации пропаганды святейшей канцелярии
моксиньор Чельзо Константини: его мордочка старой лисы
не выражала особого доверия к способностям гостя из
далекого захолустья, хотя тот и был иезуит. А щегольски сшитая
сутана отца Константини, с особенной франтовской
небрежностью наброшенная на плечи мантия, даже бант, каким
были закреплены у воротника шелковые завязки этой
мантии,— все словно кричало об аристократическом
превосходстве над епископом из балтийских свиноводов. Только
мысль о том, что было передано Ланцансу по секрету
кардиналом статс-секретарем: перспектива сесть на трон
кардинала-примаса, когда умрет нынешний глава католической
церкви в Латвии,— придавала Ланцансу мужество. Он ясно
представлял себе шуршащую тяжесть кардинальской
мантии на своих плечах и ласковое прикосновение алой шапки
к тонзуре. На миг — другой ему начинало казаться, что он
ничем не хуже этих ватиканских вельмож. Разве и он не
князь церкви? Но несколько льстиво-ехидных слов
Константини или насмешливая фраза иронического франта
Пиззардо — и Ланцанс с треском падал с неба мечты обратно
на жесткую землю действительности.
608
Хвала господу и за то, что основную беседу вел Тиссеран.
Он говорил о значении, какое имеет для положения
католической церкви на востоке борьба эмиграции с
коммунистическими властями трех республик Советской Прибалтики,
говорил о планах, связываемых римской курией с надеж-
Б. Ефимов. Папа в историческом освещении
дой на восстановление в Латвии прежнего буржуазного
правительства, о помощи, какую окажут Ватикану в этом деле
некоторые круги иностранных держав, и, наконец, осторожно
коснулся все того же — личных перспектив Ланцанса...
— Вы сами знаете, брат мой,— сказал Тиссеран,— что
нынешний примас святой нашей церкви в Прибалтике,
вследствие преклонного своего возраста, находится на
пороге того счастливейшего в жизни христианина часа, когда
должно предстать очам всевышнего. Возраст мешает
кардиналу-примасу вести работу в условиях тайны, какой требует
609
точное выполнение апостольских предписаний. Иерархи
католической церкви должны возглавить движение за
очищение Литвы, Эстонии и Латвии от скверны
коммунистического безбожия и от ереси Лютера. Для этого нужны
сильные, преданные престолу святого Петра пастыри, такие,
кто мог бы повести за собою воинство Христово в великом
крестовом походе, долженствующем заменить так
называемую холодную войну светских властей.
— Это очень важный пункт в нашей пропаганде,—
перебив Тиссерана, вставил Константини с такой сладкой
улыбкой, словно преподносил Ланцансу комплимент.— К
сожалению, кое-кто игнорирует обстоятельство, подчеркиваемое
святым отцом: если идти по пути «мир во что бы то ни
стало», то можно дойти до того, что церковь перестанут
принимать во внимание в проекте устройства Европы и
мира в целом.
Пиззардо поддержал его утвердительным кивком головы,
но, поджав тонкие губы, тут же заметил:
— К сожалению, мы не можем похвастаться тем, что
паства фра Язепа насчитывает в своих рядах
сколько-нибудь значительное число членов Католического действия.
Привлечение к активным действиям против коммунизма
молодежных организаций Католического действия совершенно
обязательно для всякого нашего начинания. Всякая наша
акция должна носить массовый характер, быть как бы
криком, исторгнутым из сердца миллионов верующих.
— Позвольте, ваша эминенция,— не выдержал тут
Ланцанс,— акция, о которой идет речь, подготавливается в
СССР в условиях такой тайны, что мы не можем включить
в нее не только массу, но хотя бы даже одного лишнего
человека.
— Но, фра Язеп,— губы кардинала Пиззардо
растянулись в улыбке,— надеюсь, по крайней мере, что люди,
которым это дело поручено,— католики.
— Один из трех,— ответил Ланцанс,— я хотел. сказать:
одна из трех исполнителей — католичка.
— Вы видите, брат мой! — скорчив гримасу, обратился
Пиззардо к Тиссерану.— Одна из трех! И та... женщина.
Осторожно, обиняком, стараясь никак не коснуться
конкретности проекта о взрыве на детском празднике, но
каждым словом иносказательно одобряя это начинание,
кардиналы проверили степень его подготовленности. Несколько
минут спора было уделено тому, не следует ли подкрепить
людей, направленных для этой акции в СССР, за счет
фанатичных католиков, имеющихся в распоряжении тайных
органов курии. Но тут Ланцанс запротестовал. Он не был
намерен выпускать это дело из своих рук: взрыв должен
быть занесен в анналы Ордена, как деяние Язепа Ланцанса!
610
Когда Пиззардо и Константини удалились, оставив Ланцан-
са наедине с Тиссераном, кардинал знаком предложил гостю
подсесть поближе и, понизив голос, сказал:
— Прошу вас, фра Язеп, сделать все необходимые
выводы из того, что здесь говорилось о немощи кардинала —
митрополита в Риге. Быть может, вам неизвестно, что давно
уже он испросил благословение его святейшества на
рукоположение двух епископов, один из коих мог бы заступить
его на метрополии в случае кончины... По-видимому, ее
недолго ждать... Я так думаю...
При этих словах Тиссеран устремил испытующий взгляд
на Ланцанса, пытаясь уловить в его чертах впечатление,
произведенное этим сообщением. Но Ланцанс понял расчет
кардинала: возбудить его неудовольствие тем, что в Риге
уже рукоположены два епископа — очевидные конкуренты
Ланцанса на митрополичий престол. Он не выдал своих
чувств. Он знал, что в случае, если когда-нибудь удастся
вернуться в Ригу, никто из священников, лояльных в
отношении Советской власти, не усидит на месте. Он, Язеп
Ланцанс, будет тогда первым из первых; он — сохранивший
в неприкосновенности ненависть своей паствы к Советам;
он — организовавший удар за ударом по коммунизму и его
людям! А если удастся новый план, то при въезде в Ригу
кардинала Ланцанса — главы Центрального Совета и
спасителя Латвии — он пройдет по алой дорожке, протянутой от
набережной до его архиепископского дворца! И почему
только архиепископского, а не дворца президента?.. Мало ли
государственных деятелей в сутанах и кардинальских
мантиях знала и знает история? Президент — кардинал
архиепископ Ланцанс! Это прозвучит совсем не плохо! Он бросит
к стопам римского первосвященника новую дщерь
католической церкви — Латвию. Этот подвиг сделает его первым
среди иезуитов, и Орден изберет его своим генералом, как
только умрет Жансенс...
Но здравствующий генерал Ордена Жансенс и не думал
умирать. Когда епископ Ланцанс сделал ему подробный
доклад о беседе в Ватикане, Жансенс сказал:
— Поезжайте с миром, брат мой, твердою рукой опустите
меч кары господней на нечестивцев... Как именуются те, кто
осуществляет эту прекрасную жизнь в Риге?
— Конспиративное наименование группы «ДГ.1», то есть
первый отряд «Десницы господней».
— Да пребудет с «ДГ.1» благословение господне,—
торжественно проговорил Жансенс.— Исполнители этого святого
дела заслуживают высшей награды, брат Язеп, выше
которой уже ничего не может быть...— с ударением повторил
кардинал. И, недовольный непонятливостью Ланцанса,
пояснил:
611
— Человек слаб, брат мой. Смогут ли понять сладость
страдания те, кого вы посылаете на это дело? Не проявят ли
они слабости, не начнет ли их греховный язык говорить то,
что должно остаться тайной? И не наша ли обязанность
избавить их от греха измены делу церкви.
Наконец-то Ланцанс понял, что имеет в виду генерал
Ордена!..
Убить...
/^ Так было,
tar h e будет
AM ЛЬ. <#.•
ИВАН ЛЕ
РОМАН МЕЖГОРЬЯ
(Отрысок)
...Священный коран, написанный рукой ученика
Магомета в Медине, несколько веков хранился в самаркандской
мечети, в знаменитом Шах-и-Зинде. Высокой каменной
лестницей, длинными коридорами и темными мазарами был
отделен коран от живого мира. Лежал он без действия.
Ореол его святости бледнел, как бледнеют на пересыхающем
пергаменте буквы, разрисованные вязью. Вера в прошлое
у людей пошатнулась. Не Магомет, не коран, а другие
книги, другие истины овладевали душой человека
двадцатого столетия.
Имам-да-муллу Алимбаева срочно вызвали из далекого
Караташа, из обители мазар Дыхана, в Самарканд. В это
тревожное для ислама время заботу о поднятии всемусуль-
манского духа самоотверженно брали на свои плечи люди,
прибывшие из-за Сулеймановых гор. Почувствовав, что
мусульманский дух стал угасать не столько даже в Кабуле,
потрясенном попытками Аманулы Хана европеизировать
афганцев во вред исламу, сколько в Средней Азии, где
русская Октябрьская революция расшатала веру предков,—
правоверный имам Шоу, он же Смит из Амритсара, пошел
на риск и тайно прибыл в Самарканд.
Спокойный, молчаливый имам терпеливо выслушивал
отчеты вершителей судеб мусульманства. Дух ислама
умирает в массах, особенно в связи с намерениями
большевиков оросить сотни тысяч танапов вечно мертвой пустыни
возле обители мазар Дыхана.
— Аллагу акбар... угроза созревает главным образом в
кварталах нового города, в цехах заводов, среди рабочих, у
которых вера и без строительства в Голодной степи угасла.
Угроза чувствуется в выступлениях на митингах, на
общественных диспутах. И уже, как зараза, дух большевизма
615
прорывается на благословенные аллахом многолюдные
рынки, в безмятежно спокойные чайханы. Большевизм,
богоотступничество разъедает вечно незыблемые законы
шариата !, угрожает уничтожить все а даты 2, не дает
закончить правоверным жизнь в молитве и достатках.
Уменьшаются доходы храмов, медресе3, мазаров. Большевики
вместо медресе открывают свои школы и намереваются
обучать в них наших мусульманских женщин, а веками
освященную паранджу хотят заменить богопротивной
европейской одеждой... Правоверные мусульмане торопятся не
в мазар, не в мечеть, а на широкие площади. Божественные
вакуфные земли 4 с водой хотят провозгласить народными.
К сокровищам обители, к покою ишанов протягивается
рука неверных большевиков...
Имам Шоу из Амритсара, прекрасно владевший не
только персидским и турецким, но и арабским языком, терпеливо
выслушал имам-да-муллу Алимбаева и изрек:
— Аллагу акбар! Коран нужно торжественно перенести
в обитель мазар Дыхана. Самарканд — столица. Должны
действовать снизу! Пламя снизу разгорается...
В мазаре Шах-и-Зинда темно. Одежда всех
присутствующих одного цвета. Среди десятка тяжелых фигур в
длинных шелковых бухарских чапанах, расшитых золотом,
висевших неуклюже, словно балахоны на чучелах, трудно
было отличить одного человека от другого. Беседа велась
таинственным шепотом. Лишь хорошо поставленный
громкий бас Алимбаева не вмещался в тесном мазаре.
Один из прибывших говорил на языке своих далеких
заморских родителей. Имаму Смиту-Шоу приходилось
убеждать присутствующих только на языке корана, языке
правоверных. Перед уходом прибывший из Амритсара велел
закрыть двери. Он намеревался рассказать о чем-то
особенно важном. В абсолютной могильной темноте прозвучала
самим аллахом подсказанная речь:
— Коран надо срочно перенести от мазара. к мазару
в обитель Караташа! Однако надо действовать так, чтобы
не привлечь внимания большевистских властей. Именно там,
возле Караташа, на землях обители будут разворачиваться
большие события. Ждать дальше нельзя. Нам достоверно
известно, что большевики хотят отобрать у обители мазар
Дыхана воду из Кзыл-су.
— Аллагу акбар! Аллагу акбар!
1 Шариат — мусульманское законодательство.— Ред.
2 Адат — неписаный закон, народная традиция, главным
образом религиозного характера.— Ред.
3 Медресе — религиозная мусульманская школа.— Ред.
4 Вакуфные земли — в мусульманских странах земля,
предоставленная в виде дара или по завещанию мечети.— Ред.
616
Кукрыниксы. Молебен на закладке фабрики
— Лучшие земли хлопковых плантаций в соседнем
государстве орошаются только водами Кзыл-су. Но дело даже
не в этом. Цивилизованный мир обеспокоен укреплением
власти коммунистов. Эта зараза распространится на весь
мир, если мы сложим руки, прекратим борьбу... Мы
поддержим вас деньгами, оружием... Вечная сила проклятия
аллаха, тяготеющего над Голодной степью, должна
разрушить единство русского большевизма и узбекской бедноты.
Именно на примере Голодной степи комиссары должны
почувствовать непобедимую силу исторических традиций,
национального величия мусульманства! Веру, веру в низах
не упускайте из вашего поля зрения!
— Слава потомкам Тимуридов!
— Уже есть решение большевистского правительства.
Ассигновано сто пятьдесят миллионов. Где возьмут они
такую сумму? Это ваши деньги, деньги ваших мечетей, маза-
ров пойдут вам же на гроб. Подготовка интервенции с
каждым днем становится все более затруднительной.
Большевики укрепляются, и если дать им возможность еще завершить
строительство в Голодной степи, то интервенция совсем
будет невозможна... У нас, за Сулеймановым горным
хребтом, по воле аллаха открыты магазины, где свободно
продается оружие. Аллагу акбар!.. А в Намаджане, возле Ка-
раташа, создается контора по осуществлению «адской
проблемы». Автор проекта — молодой инженер, узбек...
— Узбек? Аллагу акбар!
— Узбек и коммунист... Сайд-А ли Мухтаров.
— Сайд-Али Мухтаров?
— Мухтаров... коммунист!
— Саид-Али...
— Нам стало известно, что на днях он вернулся из
Ферганы в Чадак. Он уже приехал с новым назначением и
становится самым главным вершителем судьбы обильных вод
Караташа. В Чадаке вместе с техниками он кончает
разрабатывать детали проекта и организует там это большое дело.
Нужно советскую власть заставить израсходовать на это
строительство все свои средства понапрасну и потом...
свергнуть комиссаров. Мы не пожалеем никаких денег. За морем
несколько фирм претендовало на получение концессии для
ведения этих работ. Но дело, разумеется, не только в
концессиях. Правительство его величества возлагало надежды,
присылало войска. А это расходы, престиж... Мухтаров —
человек, преданный большевистским идеям и фанатик
своего проекта. Уже известно, что ставка на концессию
провалилась. Надо идти на строительство муллам, имамам, всем
нам и... Мухтаров — молод, хорош собою. Женщин ему —
русских, узбечек, привести красавиц из-за моря... Направить
к нему хороших инженеров, у которых еще не охладела
40 Против тьмы
617
ненависть к коммунизму. Это дело заслуживает больших
жертв, денег. Они вкладывают сто пятьдесят миллионов,
мы не пожалеем столько же. Загвоздка не в деньгах. Нужны
люди... В Голодной, богом успокоенной степи начнется новая
эпоха в истории правоверного ислама; здесь ему суждено
скрестить свои мечи с богопротивными коммунистами...
Несите же туда коран, несите вместе с ним и ненависть ко
всему новому, советскому!
— Бисмиллах! Бисмиллах! !
Из дверей мазара по одной выскальзывали тени и
терялись в сумерках узких коридоров Шах-и-Зинда, в вечерней
тьме, окутавшей улицы.
...Надо было проверить кара-дарьинский обвал. Синявин
лучше других знал верховья Нарыма, Кара-Дарьи, и
поэтому к месту обвала пришлось ехать ему.
Он никогда не брал с собой оружия, ни запасов еды, ни
проводников. Одевался в узбекскую одежду, даже
обматывал от жары свою лысую голову снежно-белой чалмой и.
ехал в горы. Он, как юноша, сидел на коне, несмотря на свою
тучность, и никогда не стеснялся ехать на любой, самой
невзрачной лошаденке.
Синявин въехал в Узжен на плохонькой кляче, которая,
таща на себе такой груз, еле плелась по улице, петляя
ногами, как пьяная. Никто не обращал внимания на пожилого
«узбека», ехавшего по улицам и по рынку так, точно он всю
свою жизнь провел верхом на такой тощей лошаденке.
Бывало заденет его лошадь рыночного зеваку, тот с
удовольствием выругается, делая ударения на свистящих согласных,
а Синявин важно придержит свою клячу и с неменьшим
азартом ответит ему на чистом узбекском языке. За это
любили Синявина знавшие его патриархальные узбеки.
Уважала его и молодежь за отличное знание языка и за
деловитость. А те, кто не знал Синявина, обычно принимали
его, одетого в узбекскую одежду, за почтенного муллу-дех-
кана. Так приняли его и в Узжене.
Проезжая мимо старинной мечети, он остановился возле
минарета с узорчатой облицовкой на живописной башне.
Он знал, что этот, минарет — памятник старины не то эпохи
Александра Македонского, не то Улугбека. Десятки раз он
бывал в Узжене и каждый раз не мог отказать себе в
желании отдать дань уважения этому свидетелю древних веков.
Однако на этот раз его внимание привлекла суета возле
мечети. Ее нельзя было назвать праздничной, ибо праздники
протекают здесь в обстановке наибольшего покоя, на какой
Бисмиллах! — Во имя бога!
618
только способен верующий человек, разморенный южным
солнцем.
— А, мираб-ака! Аманмысыз! 1 Саламат!2
Синявин, оставив свою клячу на попечение мираба, молча
зашел в подворье мечети.
Каменный пол подворья был покрыт кроваво-красными
коврами кашгарской работы. На ковры торопливо
усаживались почтенные седобородые ишаны, имамы3, правоверные
дехкане.
Посредине площади стоял наскоро сделанный помост,
тоже покрытый коврами. Пока он был пуст... Через все
подворье протекал арычок. Около него на ступеньках возле
помоста стояли высокий серебряный чайник и
разрисованная чайными розами пиала. Кругом — тишина, пронизанная
ожиданием, и шепот, приглушенный коврами.
Синявин сел возле выхода, в тени тяжелой арбы. Как
раз в это время из главного здания мечети вышли трое
благороднейших из благородных аксакалов. Их бороды и чалмы
соревновались своей белизной, а их осанка была достойна
эмира. Они несли на шелковом цветистом сюзане 4 претол-
стую книгу в золотой оправе. Важно, без единого слова
подошли к возвышению, по очереди слили друг другу на руки
воду из чайника и так же важно взошли на трибуну.
— Аллагу акбар! Аллагу акбар!.. Ллоиллага иллалла...5
Словно электрический ток прошел по сидящим. Даже
Синявин, поддавшись общей экзальтации, помимо своей
воли повторил вступительные и конечные слова азана.
Молитва шла обычным, довольно нудным порядком. Все
три старца по очереди произносили с трибуны одну и ту же
фразу. Ее повторяли шепотом все молящиеся и клали
надлежащий поклон.
Наконец все официальное, божественное закончилось.
Один из аксакалов передал коран двум своим помощникам
и стал говорить об упадке магометанской веры, о нарушении
адата и о большевиках. Халиф поручил им, благословенным
аксакалам, перенести мединский коран из Самарканда в
Караташ, в священную обитель мазар Дыхана. Халифату
теперь трудно стало следить за кораном, когда он находится
в Самарканде под боком у властей. Караташ находится в
горах, а там есть свои неизведанные тропы. Мусульмане по
этим тропам найдут доступ к корану.
— ...О правоверные потомки Узбек-хана! Ваш предок,
гордый и мудрый Улугбек, основал в горах обитель. Он
1 Аманмысыз — пожелание доброго здоровья.— Ред.
2 Саламат — приветствие.— Ред.
3 Ишан — потомок Магомета, имам — священник.— Ред.
4 Сюзане — коврик.— Ред.
5 Нет бога, кроме бога,..
40*
619
хотел оросить дикие земли, но это было не угодно аллаху.
Тогда Улугбек проклял эти земли, назвал их Голодной
степью и отдал шайтану для забавы. Обитель же он отдал
правоверному Дыхану, честь и святость которого веками
прославлялись в молитвах. Но из далекой, чужой страны
пришли большевики, расплодились они и среди нашей
голытьбы и неверных. Они осквернили адат, нарушили
извечные законы неба и земли, и Голодную степь хотят оросить
водами Кзыл-су...
— Ллоиллага иллалла...
—...водами Кзыл-су! А это значит засушить тысячи та-
напов 1 земли благословенной обители, вызвать гнев аллаха
и обречь себя на проклятие и болезни. Мужайтесь и несите
эту истину в кишлаки к правоверным. Не быть водам Кзыл-
су в Голодной степи!.. Уже скоро придет конец
большевикам. Их задушит международная сила, единство Мекки и
Рима! Мужайтесь! Аллагу акбар! Ллоиллага иллалла...
Синявин осторожно выбрался из мечети. Он чувствовал
себя как шпион, едва не опознанный во вражеском стане.
У него трещала голова от новых впечатлений и мыслей.
До сих пор ему казалось, что религия выполняет свои
чрезвычайно примитивные функции костылей, на которые
веками опирались люди с больными ногами. Молись себе и
живи, ковыляя по грешной со времени сотворения земле.
Так нет! Большевики отделили религию от государства, но
оказывается она не хочет отказаться от руководства
массами! Еще бы! Как же так. Водами Кзыл-су хотят оросить
Голодную степь! Ведь тогда миллионы людей будут
поклоняться той степи! Что же останется
священнослужителям? А он, культурный человек, инженер, являющийся
противником обители, до сих пор не на этом грандиозном
строительстве вместе с большевиками. С кем же тогда он?
Третьего пути нет. Все, кто попадает в зону борьбы между
двумя фронтами, непременно погибают от огня враждующих
сил.
И он вслух решил:
— Вернусь с обвала и непременно загляну в Чадак.
Это узбеки и тот... узбек, но только значительно моложе,
современнее. А сила испокон веков была на стороне молодого
поколения. Непременно наведаюсь, давно я не был в Чадаке.
...Так вот она, Голодная степь!
Проходили века, но в борьбе с людьми она всегда
побеждала. Густыми барханами, точно старческими
морщинами, было покрыто ее огромнейшее чело. На севере в
тумане поднимались горы со снежными вершинами,
сверкающими на солнце. Там, зажатая в каменистые берега, рычала
Танап — мера земли от 4/s до Ah га.— Ред.
620
Кзыл-су, бурно неся свои воды среди скал, пробивая
подземные ходы и скрываясь в ущельях. Эта река, будто
играя, вырывается ненадолго из гор и сотнями рукавов
орошает долину в той части ее, где стоит обитель мазар
Дыхана, а потом снова, соединив их в бурную дарью !,
неудержимо несется между горами.
Такова игра природы. Сотни тысяч гектаров земли
превратились в Голодную степь, которую летом из-за сильной
жары нельзя пересечь из края в край. А Кзыл-су многие
века щедро омывает молчаливые ржавые скалы.
Улугбек-хан выбрал самый лучший участок и построил
там дворец для ишан-хана Дыхана, который, ссылаясь на
то, что он потомок самого Магомета, принуждал
правоверных работать на захваченной им земле. Дыхан умер.
Столетиями, из поколения в поколение, правоверные
почитали мазар Дыхана и безропотно работали на его
наследников.
Мазар Дыхана — это княжество в Голодной степи. Для
Средней Азии это была Мекка, и кто теперь осмелится
перекрыть Кзыл-су, чтобы отобрать у святыни воду для
орошения сотен тысяч гектаров Голодной степи?
Но комиссия уже собралась в Уч-Каргале, чтобы выехать
утром в степь и тщательно исследовать ее. Государство
должно вложить сотни миллионов рублей в строительство
оросительной системы, и комиссия окончательно решит, не
будут ли напрасно израсходованы эти средства.
...По саду обители стелились вечерние тени. Казалось,
будто день постепенно засыпал от усталости. Освежающей
прохладою окутывалась зелень.
В душном воздухе аромат растений и цветов смешивался
с гнилым болотным смрадом хауза2. Летучие мыши камнем
падали на белые чалмы толстых ишанов и на бухарские ча-
паны людей, что по знакомым тропам сквозь густые заросли
сада украдкой пробирались к просторной садовой беседке
возле хауза. Ни приветствиями, ни репликами, ни шепотом
не нарушали они тишины заката, укрываясь в тени
деревьев, которая с приближением ночи становилась все гуще
и темнее.
Мулла Гасанбай еще на пороге в сад собирался сбросить
свои башмаки, но, заметив, что другие этого не делали, на
носках прошел за имам-да-муллой. Ему пришлось руками
придерживать свою чалму, чтобы переплетавшиеся между
собой ветви не сорвали ее с головы. Усаживаясь на ковре,
Гасанбай услыхал, что сам имам-да-мулла рекомендовал
его присутствующим как заместителя Исенджана.
Дарья — река.
Хауз —пруд, колодец, водоем.—Ред.
621
А лунный свет серебрил тени, пробирался сквозь густое
кружево листьев.
Люди расселись возле хауза. В этой романтической
полутьме их лица, исполосованные лунным светом, казались
загадочными. На ковры подали кок-чай, и присутствующие
сразу же заговорили.
Гасанбай растерялся от неожиданности. Он должен был
о чем-то рассказать присутствующим, но ему даже никто
вопроса не задал. Он только кратко проинформировал
Алимбаева о несчастье, постигшем старика Исенджана.
Беседа, как показалось Гасанбаю, началась где-то в
другом месте — здесь ее лишь продолжали, и ему вначале
трудно было уловить суть разговоров, а ведь он должен
будет обо всем услышанном рассказать старику. К тому же
этот стройный мужчина, которого зовут имамом из
Амритсара или капитаном Шоу из Мирам-Шаха, говорил на не
совсем понятном для Гасанбая персидском или турецком
языке. А к своему спутнику, очень высокому, одетому в
новый бухарский халат, он обращался на вовсе
неизвестном языке, называя его «сэром». Он долго и горячо, но не
громко говорил об упадке ислама в узбекской долине, где
собралось столько людей на строительстве в Голодной
степи. Длинноногий «сэр» расхаживал вдоль хауза. Его
голова, покрытая расшитой золотом бухарской тюбетейкой,
то отсвечивала лунным светом, то пряталась в тени. Иногда
он бросал, очевидно, какие-то острые реплики имаму из
Мирам-Шаха, также неизменно называя его «сэром», и то
и дело раскуривал свою трубку, неизвестно почему
гаснувшую.
Говорили и другие. Гасанбай понемногу стал понимать,
на какое совещание попал он по воле Исенджана. Он ловил
каждое слово, запоминая имена. Особенно трудно было ему
запомнить одну фамилию, которую все время упоминали
ораторы, толкуя о строительстве в Голодной степи. Об этом
человеке говорили пониженным голосом, неясно называли
его фамилию, особенно аксакалы-имамы, которым трудно
было произнести ее. Только имам-да-мулла из Амритсара
произносил эту фамилию ясно, выразительно и непременно
величая его тоже «сэром»: сэр де Кампо-Сципиу.
Так длилась таинственная беседа в черной пустоте
ночи, кое-где прорезанной лунными зайчиками, скакавшими
меж густых ветвей. Гасанбай чувствовал, что все его
существо дрожит от страха и от непривычного напряжения.
Стройный, с типичной арабской бородкой, как у
молодых еще шейхов, имам-да-мулла из Амритсара, будто
устав от пылких слов, присел, взял пиалу, вылив через
плечо остывший чай, подставил ее кому-то, чтобы налили
горячего, и, ни к кому не обращаясь, пробормЪтал:
622
— Такой упадок, такой упадок...
— Я сомневаюсь, капитан, в том, что нам удастся здесь
что-нибудь сделать. Строительство основного арыка, по
которому пойдет вода в степь, уже почти закончено,—
сдержанно ответил ему Алимбаев.
— Сэр де Кампо-Сципиу уверяет, что на строительство
уже израсходовано более двухсот миллионов рублей,—
бросил реплику, с трудом подбирая узбекские слова, высокий
человек с погасшей трубкой, стоявший в тени.
— Более двухсот миллионов — это правда, хотя считал
их только один сэр де Кампо-Сципиу. Но поверим ему,
ведь он сподвижник наш. И все же строительство не
прекращено...— прихлебывая чай, заметил имам из
Амритсара.
Алимбаев, поддавшись настроению имама, которого он
в горячке называл и капитаном, тяжело вздохнул.
— Аллагу акбар! Строительством все более увлекаются
дехкане,— продолжал имам из Амритсара.— Дехкане
перестают верить нашим молитвам, ибо здесь, в степи, они
плохо проникают им в души. Исенджан, да и другие
молятся уже с большой оглядкой. Боятся они или сами
теряют веру?.. Об этом надо вам знать, имам Алимбаев!
Даже женщины в кишлаках благословенной аллахом
долины и те заговорили о Голодной степи, священная чим-
мат 1 становится теперь тяжелой для них.
— Пускай!..— решительно отру вил высокий с потухшей
трубкой.— Инженеры верят в то, что надо тратить деньги
на строительство. Мы должны расходовать их без конца,
не останавливаясь.
— Чтобы достроить? — полуиронически спросил имам-
да-мулла Алимбаев, точно не доверяя тому высокому,
который все время скрывался в тени возле хауза.
— И не достроить... Чтобы истощить, понимаете? Они
уже на шестьдесят процентов сократили ассигнования на
образование; есть проект совсем прекратить кредитование
бедноты, и все это поглощает строительство. Еще год... и
оно поглотит даже правительство вместе с их главкомами,
наркомами и всякими другими «комами». Hani же
«Комитет действия» пока что израсходовал на это не ахти какие
суммы.
В разговор снова вмешался «капитан».
— Все же я считаю, что Мухтарова надо удалить со
строительства. Мелкое вредительство неэффективно, да
и к тому же бросается в глаза. Нужно, чтобы у руля
1 Чиммат-чачван — частая сетка из темного конского волоса,
надевающаяся с головы и совершенно закрывающая лицо и грудь
женщины. Ношение чиммата освящено исламом.— Ред.
623
находился свой человек, который сумел бы доказать на деле
нецелесообразность дальнейшего строительства. Последний
случай с заменой начальника строительной конторы
показывает, что у нас есть такая же возможность заменить и
самого Мухтарова. А секретаря партийной организации —
устранить...
— С работы?
— Из жизни!.. К тому же учтите — на строительстве
нет ни одной мечети, и поэтому рабочие-дехкане отвыкают
от ислама, не слыша ежедневных утренних и вечерних
призывов азана...
«Капитан» еще долго говорил. Когда же, забыв об
осторожности, начали высказываться все разом, к толпе,
крадучись, подошел на носках один из обительских слуг и
шепнул имам-да-мулле: его просит таджик-чайханщик,
только что вернувшийся из Намаджана. Имам-да-мулла,
поднимаясь, промолвил:
— Ну что же: его могут судить и снять со
строительства— это уже очевидно. А хотелось бы совсем избавиться
от него. Ему верят, да и сам он, как Моисей, уверен в том,
что призван вывести Узбекистан в обетованную землю
коммун и социализма. Уже несколько дней на центральном
участке шумят дехкане, призванные на работу по трудпо-
винности. Но Мухтаров отослал конную милицию и сам
живет среди бунтовщиков. Люди уже заговорили не по-
нашему. Камень в голову, нож в спину — вот что осталось
ему, как и Лодыженко. Все зло в них... А впрочем, как
знаете, так и решайте, мы все исполним.
Сидевшие на коврах люди задвигались, поднялись и,
точно боясь нарушить царившую вокруг тишину, начали
исчезать, как привидения, один за другим в густой тьме,
окутавшей сад. Только взволнованный Гасанбай
заторопился, наскочил на высокого, высохшего, точно
обломанный тутовник, человека, рванулся в сторону, побежал и,
зацепившись за ветки, сорвал свою чалму с головы.
Хотелось как можно скорее вырваться отсюда, чтобы его как
преступника не запятнали вот эти насмешливые, такие
подвижные серебряные зайчики лунного сияния.
...Руза галити 1.
Съезжались богомольцы. Отовсюду приходили они в
Караташ. Обитель мазар Дыхана, казалось, просыпалась,
празднично возбужденная, а сундуки имам-да-муллы,
поскрипывая ржавым железом, наполнялись даяниями
правоверных.
Жара делала свое дело. Солнце и засуха владычество-
Бали безраздельно. Белые вершины гор вначале стано-
Летний праздник.— Ред.
624
вились серыми, а потом черными. Спасительные облака,
которые своими силевыми водами ослабили бы зной, все
реже и реже посещали горные просторы.
Засуха!
Это страшное слово старались не произносить. Оно
словно было вычеркнуто из ежедневного обихода. Но им
был наполнен воздух.
Земли дехкан, жителей Караташа, по распоряжению
водной комиссии были орошены водами кара-киргизских
рек. В глубокой древности эти старые обрушившиеся
зауры орошали здешние земли, но когда они высохли —
никто не припомнит. Теперь по ним пустили воду, чтобы
оросить землю и оживить утраченные надежды дехкан.
А полноводная и бурная Кзыл-су, оросив земли обители,
все так же бесплодно несла свои воды по неприступным
ущельям.
Вокруг, как человек, безнадежно больной туберкулезом,
желтела и хирела зелень.
— Такая же земля, такая же самая, а урожаи не те.
Хлопок точно заколдован. Там, на землях обители, как из
воды тянется, а тут...
— Курукчилик!
— Аллагу акбар! В обители и в засушливые годы даже
на камнях пшеница и хлопок как море играли.
— Обитель сам авлие Дыхан незримо оберегает и
посылает ей в изобилии воды Кзыл-су из раватских ущелий.
— Аллагу акбар! Неверие наше, неискренность. Мы
забываем адаты отцов. Вот поэтому и высыхают наши
поля, прекращается жизнь, а когда-то было...
— Вот Голодная степь!
— А-а-а-а!..— зашумели сразу на все лады, будто это
слово было гранатой, неосторожно брошенной в
экзальтированную толпу паломников, явившихся к святому мазару.
Но какими бы ни были чувства, вызванные испуганным,
истерическим криком: «Голодная степь», эти слова теперь
волновали тысячи богомольцев, а порой несли в себе и
надежду!
Голодная степь!
Только и осталось, что Голодная степь. А поля обители
красовались под солнцем своим богатством и свежестью.
Кзыл-су шутя орошала эти земли, журчала в садах,
обновляла хаузы.
— Для кого же все это растет? — сорвалось с уст
пожилого истощенного человека.
Это был дехкан, без чалмы, в поношенном чапане.
Убогая бородка, точно засушенная трава, сбивалась в
порыжевшие комки, и пятнисто-оспенное лицо его, казалось,
принадлежало существу, отрешенному от мира.
С25
«Все должно для кого-то расти». Вот мораль, которую
утверждали слова этого дехкана.
Несколько человек глубокомысленно обратили свои
взоры на дехкана, а затем друг на друга. К чему такой
вопрос? Разве об этом шел разговор? Растет, ну пускай себе
и растет. Обитель — нечто огромное и бесконтрольное —
господствовала и над полями, покрытыми рядами тяжелых
стеблей хлопка, и над склонившейся от тяжести пшеницей
на благодатных нивах, тоже принадлежавших мазар Ды-
хану.
— Аллагу акбар! А на что жили бы в Кабуле два сына
имам-да-муллы? Да и сам бай-ота... 1 Чем Алимбаев будет
кормить своих жен да на какие деньги будет ездить в
Мекку или в Багдад? — сразу же услыхали дехкане ответ
из толпы. Это сказал моложавый на вид, худой,
энергичный узбек, независимо себя державший. Не обращая
внимания на то, какое впечатление произвели его слова на
присутствующих, он продолжал:—А разве Алимбаев один?
У каждого муллы-ота в обители есть свои собственные
потребности, но вы не скажете, что они такие же, как и у
вас.
— А какие же? — не выдержал кто-то.
— Вы не гневайтесь на меня, но они не такие, как вот
у вас. Вам достаточно одной жены, потому что другая вам
ни к чему. Благодарение богу, и одной вполне достаточно
для семейной радости и для успокоения совести. А имаму —
полдесятка подавай. Аллах сквозь пальцы смотрит на
такую распущенность в обители... Да и детей своих надо
учить! Вон младший обительский су фи обучает своего
сына в Карачи и владеет акциями в английской
промышленности.
Не всем это было понятно, но почему-то брало за душу.
— А откуда же у него деньги для этого? — протестующе
спрашивали люди.
— Не знаю. Может быть, когда он спит, ему аллах
присылает их, а может... если бы вам удалось побыть
обительским суфи или хотя бы братчиком, так и вы знали бы,
кому и на какие нужды идут вот все эти пожертвования
ради будущих привилегий в раю Магомета или кто
пользуется плодами с этих нив, щедро орошаемых водами
Кзыл-су. А ваши поля выгорают от солнца, лишь бы
только обитель наслаждалась красотой водопадов, которые
за тысячи ташей2 эхом разносят свой могучий
величественный гул...
1 Бай-ота — священник.— Ред.
2 Таш — камень, но означает также и расстояние, на которое
человек способен бросить рукой камень.— Ред.
626
Сквозь толпу к этому пылкому и смелому агитатору
пробирался такой же молодой и загорелый мужчина с
волевым, решительным выражением лица. В его взгляде
отражались радость и удивление.
— Саламат, саламат, ака! — поздоровался он.—
Разрешите выразить вам благодарность за умную речь. Вы
оказываете большую услугу Советскому Узбекистану. Это
позорное гнездо паразитов следовало бы уничтожить дотла,
а водой Кзыл-су напоить истощенную засухой Голодную
степь. Рассказывайте им еще, люди будут благодарны вам
за разумное слово.
Так встретились здесь Саид-Али Мухтаров и Хамза
Ниязи из Шахимардана. Впрочем, не так-то легко было
узнать Сайда, одетого в поношенный чапан и полинявшую
тюбетейку. Неожиданное появление среди богомольцев
этого известного инженера и общественного деятеля не на
шутку удивило Хамзу.
— Вы?
— Молчите! — уже по-русски предупредил Саид-Али
Хамзу.
В чайхану заходили новые и новые люди. Мест на
нарах уже не было, и дехкане садились прямо на циновки
под чинарами. Обительские чайханы ломились от наплыва
богомольцев. Большие, ярко-желтого цвета горы урюка из
садов обители с жадностью поедались богомольцами от
азана до азана. Мальчики-чайханщики беспрерывно
разносили кипяток и кок-чай. К Юсуп-баю подсели Хамза и Сайд,
лишь глазами поздоровавшийся с аксакалом. К этому
кружку присоединялись и другие люди, вмешивались в
разговоры, спорили и так увлеклись, что даже не слыхали
призывов суфи.
Саид-Али, Хамза, Юсуп и Каримбаев не успевали
отвечать на поток удивленных вопросов и возражений.
Некоторые богомольцы спорили настолько энергично, что их
аккуратные чалмы, сползли набок, но они продолжали
доказывать свою правоту. Юсуп-бай, цитировавший целые
отрывки сун, показал себя лучшим знатоком корана и
этим заслужил у присутствующих глубокое уважение.
А яркая зажигательная речь Сайда и убедительные
справки-доказательства Хамзы увлекли присутствующих. Люди,
одетые в белые, как снег, чалмы, постепенно умолкали или
же исчезали в дальних чайханах. Самый сильный козырь
обители — перенесенный сюда мединский коран — терял
свое значение под воздействием дружного натиска Сайда и
его товарищей.
627
*
— У вас среди богомольцев, пришедших отпраздновать
великий байрам, есть неизвестные люди,— сказал во время
обеда в саду имам-да-муллы высокий мужчина, который на
строительстве Голодной степи выдавал себя за
корреспондента иностранной «профсоюзной» печати. Вечерами его
можно было встретить в обительском саду разгуливающим
в одиночестве или же с каким-нибудь «европейцем» со
строительства. В темноте густых аллей трудно было узнать
этих людей. Только громкая иностранная речь выдавала
высокого человека.
— Есть неизвестные и очень опасные люди,— еще раз
подтвердил он в ответ на вопросительный взгляд имам-да-
муллы. И когда тот все же не понял его, он объяснил,
понижая по возможности свой высокий голос:
— Среди богомольцев находится Сайд-Али Мухтаров...
И кажется, даже этот... Хамза из Шахимардана.
Имам-да-мулла вздрогнул. k Инстинкт преступника
заставил его оглянуться без нужды.
— Э, да вы здесь трусы! А еще взялись за такое дело...
Держите связь с заграницей, им концессии обещаете,— а
Хамзы испугались!
Такая самоуверенная, даже наглая прямолинейность
оскорбляла чувствительную натуру имама, но он должен
был признать правоту журналиста. Да, они трусы. Вот-вот
у них из-под носа ускользнет Кзыл-су, и на ее водах
вырастут колхозы и совхозы, а обитель по-прежнему будет
тешить себя надеждами.
— Саид-Али? Хамза Ниязи?
— Это какие-то выродки — от ваших женщин такие не
родятся.
«Да, да,— мысленно согласился имам-да-мулла.—
Какая из наших женщин родила бы такого вампира, что
уничтожает родные обычаи, веками скрепляемые адатом, как
усохшие стебли хлопчатника на брошенных джаяках или
как сильный межгорный буран».
— И вы уверены, что это они? Но что они здесь делают?
Неверующие, обасурманенные?
— Пойдите да послушайте. Около главной чайханы —
точно на Красной площади. Так и жди Октябрьской
революции в самом мазаре. А в другой чайхане — пьяный
писарь из строительной конторы. Безобразие.
— Гм...— промычал имам, покорно шагая за высокой
фигурой к дувалу.
Возле чайхан толпились и шумели люди. Им впервые в
жизни пришлось так широко праздновать великий байрам.
628
Все чайханы были забиты праздным людом. Из огромных
самоваров валил пар. Но в чайханах в такой день пили не
только кок-чай. Обитель выкатила из своих погребов бочки
старого вина, чтобы, используя праздник, продать вино и
высвободить тару.
Молокан не пошел в центральную чайхану, где
митинговали энтузиасты строительства в Голодной степи. Он,
одетый в старенький чапан, смешался с аксакалами в
чайхане, находившейся возле обительского дувала, и охотно
сменил кок-чай на доброе обительское вино. Ему составили
компанию аксакалы, ведь платил этот удивительный
«УРУс», который, хотя и не знает их языка, но хвастается
своей любовью к «узбекскому богу» и угощает...
Жители Чадака, узнав Сайда, уже из одного чувства
землячества были на его стороне и готовы были защищать
его чуть ли не до драки. На трибуне, роль которой
выполняли нары чайханы, раз за разом появлялись все новые
и новые ораторы. Хотя они и не обладали красноречием,
но в пылу разгоревшихся страстей покоряли слушателей
своей искренней убежденностью.
— Довольно уж им барствовать за нашими горбами.
Наши молитвы к аллаху дойдут и из дому.
— Кровопийцы! — выкрикнул кто-то из толпы.
— Не давать им воды! Пускай, как и мы, погибают с
голода!
— Пусть молятся!
— Сыновей своих за границей обучают да с какими-то
буржуями в своем саду, как в раю Магомета, нашими
душами торгуют на погибель свою.
— Пошли!..
Куда именно идти кто-то энергично предложил —
неизвестно, но настроение среди присутствующих сложилось
не в пользу обители.
Из-за старинного дувала, ограждавшего сад обители,
вынырнули две головы. Одна из них принадлежала имам-
да-мулле. Ее украшали холеная волнистая борода и
роскошная чалма. Лицо у имама расширялось книзу, а синий
нос, будто луковица, казался случайно приплюснутым.
Другая голова, подстриженная по-европейски, в новой
атласной тюбетейке, принадлежала не узбеку. Они
скрывались от людского глаза за густой растительностью.
— Сайд, Сайд! — прокатилось в толпе, которая залила
уже и улицу перед обительским садом.
— Сайд-Али! — прошипели стоявшие за дувалом.
— Мы возлагаем надежды на вас,— долетали к ним
слова Сайда.— Вы сыны нашей страны, вы тот самый
народ, о котором вдохновенно говорит великая партия как о
непобедимой силе строителей социализма. Это для трудо-
629
вого народа партия и правительство, преодолевая такие
трудности, строят оросительную систему в Голодной степи.
Должны же вы освободить себя от этого кулачества (и он
взмахнул рукой в сторону минарета, на котором появился
очередной суфи), спасти себя от голодной смерти. У вас
засуха, земля истощена, а тут...— в это время будто
нарочно донесся гул обительского водопада,— вон видите,
куда уходит ваше богатство — вода?..
Поднялся такой шум, что Сайда уже не было слышно.
— Колхозы... совхозы... Поможем закончить...
Спасение...— вырывались отдельные слова.
Люди толпились, спорили. Откуда-то из-за дув ала,
поблизости от центральной чайханы, неожиданно раздался
выстрел. Не видно было ни дыма, ни пламени — только
приглушенный щелчок на мгновение прорезал шум. Еще
большее смятение поднялось в толпе. На трибуне прямо на
руки Сайду повалился мираб-баши Юсуп-бай. Но и Сайд
ощутил боль в боку, почувствовав, как по его телу
поползло к ногам что-то скользкое, мокрое. Он схватился за
бок рукой. На ней была кровь.
Угрожающе подняв окровавленную руку, Сайд
закричал:
— Вот кровью своей клянусь, что мы уничтожим это
гнездо вампира! Вы видите... нас...
Разбушевавшаяся масса людей всколыхнулась и своим
криком заглушила сильный голос Сайда. Раненого Юсуп-
бая отнесли в крайнюю чайхану. Сайд, прижав рукой рану,
смешался с толпой.
И еще долго гудела, будто вылетевший из улья рой
пчел, толпа на площади. Суфи давно уже прокричал свой
вечерний азан, а люди все шумели, точно чувствовали, что
их, разобщенных по чайханам, могут легче прибрать по
одному, как куропаток, к своим рукам и уничтожить.
Головы, торчавшие в кустах сада, скрылись за дувалами.
...Над глубоким каналом был построен временный
помост. В центре помоста стоял стол президиума, а по
бокам— трибуны для ораторов. С обеих сторон канала по
широким ступеням могли подниматься на трибуну
желающие выступить. Перед трибуной красовалось
величественное генеральное сооружение — ирригационный
распределитель, блестевший под солнцем своей белой крышей.
В его огромных окнах виднелась просторная лаборатория —
распределитель с многочисленными мраморными досками,
рубильниками, выключателями, манометрами и рычагами.
Величественный блеск этого зала поддерживал
праздничное настроение.
630
Позади трибуны струной протянулся, прорезывая взгорье,
глубокий канал да едва заметно вырисовывалась полоса
гор там, где он соединялся с первым туннелем. Вдали
поднимались вершины, среди которых находился домик
сторожа контрольной вертикальной штольни. С трибуны
можно было любоваться живописной перспективой
Голодной степи с причудливым сплетением арыков и редко
разбросанными шатрами новых кишлаков. Изредка высились
в небе трубы будущих заводов. Какими игрушечными
казались эти гиганты издали! А там, где вдали скрывались
границы Голодной степи, туман только начинал таять под
лучами солнца.
К широкому помосту-трибуне, вокруг которого
развевались большие красные полотнища с лозунгами, один за
другим подъезжали автомобили, извозчики, и из них
выходили хозяева земли, поднимавшиеся по широким ступеням
на помост.
Грохотали барабаны пионеров. Они всю ночь двигались
из Намаджана, Джалалабада и Ходжента. Ни усталость, ни
боль в ногах не могли сдержать детского задора, и,
врезавшись в огромную толпу, они запели «Будь готов!»,
провозглашая: «Яшасун!» 1
— Яшасун коммуна! Яшасун партия! Яшасун пионеры!
Яшасун Голодная степь!..
...— Уртакляр! Товарищи! — прозвучал на диво свежий,
сильный голос Сайда. Только клокотание воды в бьефе
и гул станции спокойно плыли над притихшей толпой.
На этом звуковом фоне Сайд чеканил слова своей речи,
посвященной открытию второй очереди строительства в
Голодной степи.
— В этот день я счастлив выразить вместе с вами
радостные чувства, которые пробуждает в наших сердцах
новая победа Коммунистической партии и советской власти.
Какими сложными тропинками, какими черными дорогами
шел Узбекистан в своем историческом развитии!.. И чем
чернее был этот дооктябрьский путь, тем сильнее мы
ощущаем, как прекрасен его сегодняшний день. Мне
приходилось вместе с вами, вместе с молодым, зарождающимся
пролетариатом закладывать здесь первые камни, первый
фундамент этого величественного сооружения...— Сайд
обеими руками показал на гидростанцию и сделал паузу,
чтобы каждый из присутствующих мог прислушаться к
говору станции.— Товарищи! Узбекистан лишь теперь
может начинать свою подлинную историю, а не со времен
1 Да здравствует!
631
арабов, которые принесли нам ислам, победив религию
Заратустры, не от багдадских хозяев Саманидов и не от
Тамерлана и Улугбека, его внука, астронома. Знаменитые
самаркандские медресе, минареты Улугбека, так
называемые минареты смерти,— все это и памятники старой
культуры, и памятники мрачного прошлого нашего народа.
Ирригационная система Тамерлана, прекрасные постройки
тех веков, расцвет в то время науки и искусства в
Самарканде,— все это сокровища национальной культуры. Но
кто из нас пользовался сокровищами? Ислам прибрал их
к своим рукам; ишаны, шейхи воспринимали это
наследство, как даяния Магомета, и оно использовалось для
одурманивания масс, для эксплуатации, оно было для нас
вечным проклятием. Приходилось ли вам читать знаменитые
надписи в медресе Улугбека в Бухаре? «Мидиб алитилим
фейрза Ал(и)нь Клмусулим у Мусулим»1. Они, как
видите, и такие истины изрекали, чтобы отвести людям глаза.
Но к кому были обращены эти человеческие истины?
Многие ли из вас о них знают? Пятьсот лет во имя бога ишаны
да баи использовали эту невыгодную для ислама истину!
Зато правоверные ежедневно читали иные надписи в храме
Улугбека и его вдовы и других, в том числе и в мазаре
Дыхана. «Аджилюс бисаляти каблал фавт. Вааджиллю
битта убат каблал мавт»2. Мы от всего этого ощущали
только страх и считали для себя за счастье как можно
подальше обойти эти святыни, чтобы они не являлись нам
в страшном сне. Шейхи, ишаны ловко использовали все
эти сокровища культуры, как ростовщики... Вы простите
меня. Я не случайно затронул именно эти струпья истории.
На протяжении столетий они слишком уж досаждали нам.
Настало время, когда мы, ваши представители, должны об
этом сказать во весь голос. Вот она, электростанция,
двигающая сейчас наше хозяйство, поднимающая к жизни
веками проклятую пустыню, вот это сокровище
большевистской культуры дает нам право именно так говорить о
феодалах, терзавших наш народ. Кто из вас,
присутствующих здесь, не припомнит, обращаясь к своей собственной
жизни, факт за фактом, когда паразиты Тамерлановой
культуры, эти служители ислама, во имя Магомета
сосали каплю за каплей нашу трудовую кровь, поддерживая
этим свое сытое и беззаботное существование. Не был ли
у вас наказан отец и признан навеки виновным в чем-то
перед богом, не была ли проклята ваша мать,
запрятанная, как ягненок в мешке, за дувалом? Ишаны забирали
1 Стремление к знаниям — обязанность мусульманина и
мусульманки.
2 Торопитесь помолиться, чтобы даром не пропало время,
Торопитесь дать клятву богу, чтобы не прошла жизнь,
632
И. Репин, Отказ от исповеди
ваших лучших дочерей, они устанавливали цену калыма,
они принуждали вас жениться на их подкидышах или
вечно оставаться одиноким... Я,— Сайд ударил себя в
грудь так, что, казалось, будто она зазвенела,— я сам на
себе испытал «прелесть» этих сокровищ, я стал изгоем, и,
если бы не братья русские большевики, я до самой смерти
не узнал бы правды о своей стране.
Сайду передали обращение-ривоят караташской обители.
Сделав паузу, он быстро пробежал его глазами.
— А-а! Вот оно что! Люди добрые, не поддавайтесь на
провокацию! В каждом слове ривоята — смертельная доза
яда. Обитель мазар Дыхана! Кто как не она изгнала
комиссию, что начинала работать в Голодной степи? Кто, как не
обитель, столько раз стреляла нам в грудь, убивала
камнями честных людей, со звериной ненавистью скрывала за
своими дувалами гнезда контрреволюции? Обитель
стреляла в грудь всей нации; камни, брошенные из-за угла,
становились орудием бандитской мести. Не так ли погиб
наш любимый поэт, советский народный карнайчи Хамза
Хакимзаде Ниязи?.. За это преступление они еще не
понесли достойной кары от народа. Или, может быть, вы
скажете, что не обитель прислала ишанов, чтобы помешать
нам окончить гирло? Народ ничего не забывает. А сегодня...
Этот кровавый эпизод, что произошел на ваших глазах
сегодня здесь, разве это не их рук дело?
— Бисмилла-ах! — кое-где зашептали встревоженные
оратором старые аксакалы.
— Да. Ишанам обители ничего больше не остается, как
шариатом обосновывать ваше право на земли Голодной
степи и воду Кзыл-су. Этим ривоятом ишаны хотят скрыть
свое участие в нападении басмачей. Это еще не все. В то
время когда мы с вами пускаем вторую очередь голодно-
степского строительства, не спят люди в обители, не спят
и их вдохновители высшего, так сказать, класса. Ведь
использовать воду Кзыл-су собирался капиталистический
хлопковый концерн, эксплуатирующий на концессионных
началах граничащие с нашим государством земли. Кзыл-су
так удобно вырывалась из гор и орошала их земли...
Теперь мы направили всю воду на наши земли.
Концессионерам придется вложить немало средств, чтобы
получить на концессионные земли воду из других рек. Это им
не слишком выгодно. Они будут пытаться и впредь
организовывать басмачей, вооружать их на иностранные деньги,
вредить нам. О чем красноречиво говорит вот этот
пироксилин с маркой капиталистической державы?! Нет, мы
теперь стали дальновиднее. Мы обязаны немедленно,
завтра же, уничтожить караташское гнездо вечного
угнетения трудящихся дехкан. Надо стереть даже воспомина-
41 Против тьмы
633
ние о нем, и среди этих чудесных богатств природы, веками
разрабатываемых нами, организовать детский санаторий
всеузбекского значения. Тысячи танапов обительской земли
надо превратить в образцовый совхоз-санаторий, чтобы
отныне сюда ездили дети не на позорный для человеческого
достоинства суннат1, а для культурного отдыха, для
развлечения и укрепления здоровья. Электрифицированная
социалистическая промышленность Голодной степи, ее
сплошь коллективизированные кишлаки не могут
примириться с тем, чтобы рядом с социалистической обителью
была еще и обитель Магомета или его наместника мазар
Дыхана. Товарищи! Я долго молчал, ибо мне тоже не так
просто было выбраться из сетей проклятого прошлого. Вы
должны знать, что я пережил за эти годы, как я
расплатился за то, что в современную нашу жизнь слепо вводил
старые, отжившие понятия. Я безрассудно подчинялся
своим личным чувствам, следовал порывам так называемой
души. Надо взять себя в руки и добираться к высотам
нашей культуры, быть достойным их. Мы должны свои
самые лучшие чувства расходовать экономно, чтобы не
сгореть, точно спички, в один миг. Железными, нет, мало —
каменными мы должны стать... Века не миловали нас,
наших братьев, сестер, наших отцов. Вот этими листовками
ишаны, баи хотят усыпить нашу бдительность, отравить
наш трудовой сон. И мы будем трижды
неосмотрительными, если упустим то, что в самом деле является нашей
культурой, культурой пролетариев и трудящихся дехкан.
Сегодня мы чуть было не попались на удочку, и это
потому, что на какое-то время поверили голосам,
доносящимся из обители. Обитель проиграла, но она не простит
нам своего поражения. Будьте бдительны! Единственно
верно это то, что здесь написано: «Голодная степь теперь
перестала быть голодной». Да, это теперь социалистическая
степь. Предлагаю назвать ее в честь нашей лучезарной
советской родины — Советской степью!
Сайд взялся руками за перила и, затаив дыхание, ждал.
Многолюдный митинг замер. Длинная речь Мухтарова
увлекла слушателей, и завершение ее показалось
неожиданным.
И вдруг прокатилось окрест:
— Яшасун партия! Слава! Ура!.. Яшасун Советская
степь!
1 Суннат — религиозное предписание. Обряд ритуального
обрезания у мусульман.— Ред.
ИОН ЧОБАНУ
КОДРЫ
...В то утро, когда Жямэнэ повстречал Тудораке Деку-
сарэ, по селу разнесся слух, что прошлой ночью у попа
возле церкви кто-то вырубил колированный виноградник.
Пономарь Прутяну, который жил в сторожке по соседству
с виноградником, узнал о происшествии лишь в обед. Но
он все-таки решился пойти к попу: если не сумел первым
сообщить о несчастье, то хоть теперь разделить с ним горе.
Отец Иоанн Страйстэ жил неподалеку от церкви в
верхней части села. Когда-то эта усадьба выглядела пустырем.
На голом месте одиноко стоял дом, построенный сельским
миром, да высились две липы у крыльца. Теперь же здесь
раскинулись сараи, конюшни, навесы. Все это было
огорожено высоким ясеневым забором. И, как у всякого
зажиточного хозяина, на дворе у попа ржали лошади, мычали
коровы и волы. Каждое утро кучер Петраке старательно
подметал поповское имение. Раньше всех узнал о несчастье
Петраке. Однако сообщить хозяину о беде Петраке не
решался. Попадья была дома, и все зло могло обрушиться на
нее. Кучер с давних пор служил у попа и хорошо знал
вспыльчивый нрав святого отца.
Получив приход в Сынгуренах, а вместе с саном и
церковную землю, отец Страйстэ первое время ничем не
отличался от остальных селян: как любой крестьянин,
выходил в поле, сам пахал и бороновал свой участок, сам
сеял. Потом, когда зажил богаче, раздобрел, набрал
батраков. Теперь он изредка наведывался в поле, иногда брал
в руки косу, чтобы посостязаться с батраками в косьбе.
Но вскоре и это ему надоело. По соседству с домом он
приобрел участок земли, заложил на нем прекрасный
виноградник с прямыми, отбитыми по шнуру, рядами. Все с
завистью глядели на зеленый ковер пышных кустов. А в
41*
635
противоположном конце села, поближе к долине, жужжали
пчелы — здесь разместилась поповская пасека рамочных
ульев. Любил святой отец и виноградник и пасеку, особенно
виноградник!
Отец Страйстэ не отличался особой набожностью,
услаждающей сердца богобоязненной пастве. Наоборот, службу
он правил торопливо, даже куличи заканчивал святить
раньше всех в округе. Богомольным старушкам, каких в
селе было немало, это не нравилось. И они часто шли
молиться в церкви монастырей — в Цыганешты, Гырбовец,
Фрумоасу, где служба шла весь день, с утра до вечера.
Славился святой отец своими лошадьми. Поедет, бывало,
по селу на серых красавцах — загляденье: шеи дугой,
ноги пляшут, а удила так и гоняют во рту со стороны в
сторону. Был у него и верховой конь вороной масти,
белоногий скакун, и племенной жеребец. Но с той поры, как
поп посадил виноградник, завел пасеку, пропал у него
интерес и к лошадям и к посевам. Теперь он большую
часть времени проводил на винограднике: наблюдал за
работой батраков и, прохаживаясь вдоль рядов с пучком
млажи, подвязывал непослушные побеги. Это занятие, по-
видимому, заставляло его забыть семейные неурядицы.
Матушка была красивой женщиной с большими
голубыми глазами. Работая учительницей в сельской школе,
она частенько встречалась с Путина, уездным ревизором
школ. Позднее матушка увлеклась господином Мунтяну,
молоденьким холостым учителем, с черными, как уголь,
глазами. У священника было двое детей: Ляля — вылитая
мать, и светлоголовая, черноокая Маргарита — копия
учителя Мунтяну.
В случае каких-либо неприятностей Страйстэ весь свой
гнев вымещал на матушке, тайком избивал ее до потери
сознания. И надо же было случиться, чтобы в тот день,
когда околел племенной жеребец, поп застал жену с
Мунтяну, как говорится, на месте преступления. Ярость его
была беспредельной. Всю дорогу, вплоть до самого дома,
он пинками избивал женщину, а войдя во двор, пытался
застрелить ее. И если этого не случилось, то только
благодаря Петраке, который успел вырвать револьвер из рук
рассвирепевшего отца Иоанна.
Все это было давно, в дни молодости. Теперь матушка
остепенилась. Но воспоминания о прошлом все еще терзали
душу Страйстэ. Вот почему Петраке и не решался сказать
попу о постигшем несчастье. «Пусть матушка уйдет в
школу, скроется с его глаз»,— рассуждал кучер.
И пока он раздумывал, как ему поступить, явился
пономарь Прутяну, человек небольшого роста, с жиденькой
бородкой.
636
— Батюшка дома? Почивают еще?
— Проснулся,— недовольно буркнул Петраке.
— Ты знаешь, у него весь виноградник этой ночью
вырубили.
По всему было видно, что Прутяну сгорал от желания
поскорее сообщить отцу Иоанну о случившемся.
— Так вот, я хочу зайти, сказать ему об этом.
— Постой, постой. Не торопись. Может, матушка еще
и одеться не успела. Я сейчас узнаю.
Петраке скрылся в доме. Вскоре в дверях появился
Страйстэ с пожелтевшими от табака бородой и усами. На
побагровевших скулах перекатывались желваки. Видно
было, что поп накален до предела.
С минуту он молча стоял на крыльце, потом,
перепрыгивая через несколько ступенек, ринулся вниз, зашагал на
виноградник. Кошачьей, крадущейся поступью за ним
следовал Прутяну.
При виде уничтоженного виноградника отец Иоанн
схватился за голову. С мертвенно-бледным лицом и
остекленевшими глазами он шел вдоль рядов, от куста к кусту.
Узловатые ветки винограда алеппо и муската уже вяли на
солнце.
— Это дело рук Харлампия Нани,— мрачно сказал
поп.— Безбожник!
Страйстэ был с давних пор в ссоре с Харлампием.
Вражда началась из-за пустяков. В день Христова
воскресенья, когда отец Иоанн ходил с молитвой по селу,
Нани вместо крашеных яиц и кулича бросил в котомку
церковного сторожа, собиравшего святое подаяние, кусок
заплесневелой мамалыги. Вернувшись домой, поп тотчас
же обнаружил это и, зажав в руке мамалыгу, понесся к Нани.
Харлампий в это время мыл винные бочки и сливал
помои в выгребную яму. Страйстэ подскочил к нему и
запустил в лицо мамалыгой. Харлампия взорвал
непристойный поступок отца Иоанна. Он схватил пастыря за пояс
и сбросил в яму. Когда поп выбрался из ямы, завязалась
драка, да такая, что все соседи сбежались разнимать их.
С тех пор отец Иоанн настойчиво старался обходить Нани
причастием, обделять просфорой.
— Это он, он, Харлампий, больше некому...
Дьявольское семя! Подлец! За одну ночь столько погубить
кустов! — Поп снова с горестным отчаянием схватился за
голову.
— Нет, батюшка, это не его работа,— вмешался
Прутяну,— скорее всего это Тудораке Декусарэ.
— Как, разве он вернулся? — спросил поп.
— Я видел его сегодня утром... Собственными глазами.
— А Рэдой знает?
637
— Я сперва хотел вам сообщить...
Отец Иоанн был так подавлен свалившимся на него
несчастьем, что, даже срубленных кустов не пересчитав,
направился через все село к шефу жандармского поста
Рэдою.
В полдень Илие Жямэнэ, подвязывавший виноград у
дороги, увидел, как жандармы привели связанного Тудо-
раке на поповский виноградник, стянули со спины рубашку
и начали его стегать плетьми. Тудораке не издал ни звука.
Это привело в ярость истязателей. «Как он только
терпит?»— думал Илие, сцепив зубы и так сжав ручку кито-
нага, что ладонь стала влажной.
Тудораке вынес все издевательства. Но Жямэнэ не
выдержал — бросил работу и пошел в кабак. Пил до вечера
и все жаловался, что не берет его хмель. Когда вино все-
таки сделало свое дело, он, пошатываясь, побрел домой:
...Говорил, что пить не буду,
Но напрасен был зарок.
Эх! Говорил, что есть не буду,
Только вытерпеть не смог.
...В один из последних дней июня по селу разнесся слух
о бегстве жандармов. Многих это событие заставило
всполошиться. Лари, дрожа как осиновый лист, прибежал к
попу просить совета. Не постучавшись, он вошел в дом.
В первой комнате под лампой, разливавшей яркий свет на
раскрасневшиеся лица, сидели за столом отец Страйстэ,
Харлампий Нани, Миллер, псаломщик Даку и Стурза.
— Наконец-то, господин Илларион! Присаживайтесь,—
пригласил Лари поп.
— Где это примарь задерживается? — недоуменно
пожал плечами Стурза.
Радиоприемник оглушительно трещал. Отец Иоанн
лихорадочно рыскал по шкале. Вдруг в аппарате что-то
щелкнуло. «Мы потеряли Бессарабию — одну из самых
прекрасных жемчужин в румынской короне... Ее у нас
забрали большевики».
— Боже мой, боже мой, что же будет дальше? —
запричитала матушка.
— Это предательство! Катастрофа. Жандармы сбежали,
как последние трусы. Даже не предупредили нас. Что им!
Сели и поехали. А как нам бежать? Имение, земля,
имущество...— возмущался Стурза.
Во дворе залаяли собаки. Дверь широко распахнулась,
и вошел Буркэ.
— Простите... Опоздал немного. Ну и дела!..— Он сорвал
шляпу, устало опустился на диван.
638
— Садитесь, господин примарь, садитесь! — бросил ему
поп, неистово вращая ручку радиоприемника.
Село гудело от веселых песен и радостных
восклицаний, доносившихся в дом Страйстэ даже через закрытые
ставни.
— Слышите, как поют, окаянные! Радуются!
Неблагодарный народ. Поразительно неблагодарный. Просто
невероятно,— жаловался Буркэ.
— История повторяется,— поддержал его поп.— Не
вышибли мы из своей паствы нечистого духа. И вот,
пожалуйста. Они готовы передушить нас, аки козлища агнцев
божиих.
— Да,— вздохнул примарь.— Теперь они хозяева.
Поп ткнул папиросу в пепельницу, окинул всех
растерянным взглядом.
— Я предлагаю эвакуироваться в Румынию,— сказал он.
— Эвакуироваться? А посевы, скот? — прервал Буркэ.
— Вы что думаете, там нас встретят с хлебом и солью?
Как же, держи карман шире,— сердито пробурчал Лари.—
Мерзавцы, сами сбежали да еще моих лучших лошадей
увели. Нет, я никуда не поеду.
— Я тоже,— сказал Харлампий и стал искать свою
шапку.— Я в ваши партийные махинации не вмешиваюсь.
Мое дело сторона.
— И я никуда не поеду. Там мне делать нечего,—
присоединился к Нани псаломщик.
— Постойте, постойте! Господа, давайте обсудим,
примем общее решение. Должна же вас интересовать судьба
других,— пытался урезонить собравшихся Страйстэ.
— Мы,— Стурза указал на Буркэ и Миллера,— завтра
же уезжаем.
— Вам хорошо. У вас деньги, можно ехать. А у меня
семья на шее. Я не могу, не хочу растерять в пути
последние пожитки,— доказывал псаломщик.— Мне нечего делать
за Прутом...
— Как? Ты остаешься? — накинулся на него поп.—
Кому-кому, а вам, гос-по-дин Даку, должно быть стыдно! —
Широкая поповская борода запрыгала на груди.—
Сожалею... Весьма сожалею. Я, видимо, ошибся в вас. Ну,
да бог с вами. Поступайте как знаете. Я же задержусь на
день-два... Продам дом, скот, ульи... И уеду. Непременно!
После ухода гостей отец Страйстэ курил папиросу за
папиросой и все думал: «Что же делать?»
Матушка с дочками в один голос твердили, что ехать
нужно немедленно, на заре, вместе со Стурзой и Буркэ.
Но отец Иоанн был непреклонен. Разволновавшись, он
вышел во двор. С минуту постоял, потом садами
направился к домику Тудораке Декусарэ.
639
Следом за ним бежал Прутяну. Он хватал попа за рясу,
целовал руки, забегал вперед, умоляя взять с собой и его.
— Поговорим дома, я скоро вернусь,— твердил Страй-
стэ.
Единственной заботой сейчас у него было продать
имущество и бежать.
«Хотя бы эти негодяи молчали»,— думал поп, подходя
к двору Тудораке.
Войдя в дом, Страйстэ перед женой Декусарэ стал
изливать свои раскаяния. Господь, мол, удостоил его своей
милостью, наставил на ум, и он готов уплатить Тудораке
все, что ему полагается. Даже больше, за год работы ее
мужа он отдает им двадцать рамочных ульев.
— О подводах не беспокойтесь,— добавил отец Иоанн.—
До рассвета все ульи будут в вашем саду.
Но жена Декусарэ отказалась от этого. Без разрешения
мужа она ничего не хотела принимать.
— Господь милостив и каждому воздаст по его делам.
Но ваши ульи нам не нужны. Не мы их наживали.
— Ну, что за счеты? Твой муж прослужил у меня
целый год. Ты не бойся, мы, мужчины, сами разберемся.
Лишь бы вернулся он живым и здоровым...
С. ДИКОВСКИЙ
СЛУЧАЙ В СЕЛЕ ГРУШЕВКЕ1
Дивный сон приснился отцу Ферапонту. Будто вышел он
из царских врат служить обедню и не узнал бедного храма.
Гремел хор. На клиросах было черно от молящихся.
Ввысь, в голубой дым, уходили резные киоты, перевитые
лозами винограда. Жарко мерцали золоченые ризы, каких
никогда не видела сельская церковь.
Все было прочно, надежно, богато. Вместо жалких
луженых чаш и деревянной купели, которых так стыдился
о. Ферапонт, светилось серебро новой утвари.
Но чудней всего была толпа односельчан, пришедших
в церковь. От правого клироса, где стояли черные ширмы,
она тянулась до самого входа. Были здесь первые
противники господа-бога и о. Ферапонта.
Грозный, охваченный мстительной радостью, стоял о.
Ферапонт над толпой. В самые сердца вонзал он безжалостные
слова обличения. И святые, покачивая венчиками,
одобрительно слушали его.
Все громче и громче звучал голос под сводами храма, но
свечи уже постепенно гасли, лица расплывались, точно
таяли в воздухе, и, наконец, сквозь далекое ангельское пение
стал пробиваться знакомый голос жены:
— Феничка! Опомнись, Феничка... С кем ты болтаешь?
Он пытался сопротивляться, зарывшись в подушки,
жмурил глаза и не мог досмотреть дивной картины. Уже
наступал со всех сторон скучный комнатный мир:
прорезались из сумерек листья фикуса, обозначилась труба
граммофона, за стеной комариным голосом заныл самовар...
Сквозь оконную кисею лился влажный осенний рассвет.
— Проснись, Феничка! — говорила жена.— Отец Никанор
целый час тебя ожидает.
Печатается в сокращенном виде.
641
■— Что же ты...
— Не велели будить.
Отец Ферапонт торопливо нырнул в полосатый
подрясник и, фыркая, стал плескать в лицо холодную воду. Гость
был редкий, из дальней Чугуевской епархии, и слыл
авторитетнейшим в округе священником.
Отец Ферапонт вышел навстречу ему, не успев
стряхнуть сна,— с растрепанной гривой и оплывшими щеками,
хранившими следы кружевной наволоки.
Гость, маленький, горбоносый, похожий на грека, стоял
у стены, разглядывая старую олеографию «Искушение
Иосифа женою Пентефрия».
Он был из новых священников — носил щегольские,
легкие сапоги, пиджачную пару с галстуком цвета фисташки и
тщательно выскабливал смуглые щеки. Ни обликом, ни
порывистой манерой держаться он вовсе не походил на лицо
духовного звания. В поездах его постоянно принимали за
бухгалтера или снабженца, а банщики считали артистом. Да
и фамилия была у него не солидная, слишком обидная для
иерея — Визжайкин.
Отец Ферапонт не понимал и боялся «новых»
священников. Однако он тотчас изобразил приветственную улыбку
и, обняв гостя, расцеловал его в холодные, пахнущие
пудрой щеки.
— Забавный сюжет! — сказал гость вместо
приветствия.— Не так ли искушает вас жизнь?
Отец Ферапонт покосился на жену Пентефрия и ничего
не сказал. Но гость и не нуждался в ответе.
— Еду в город! — объявил он, щелкая крышкой
пестренького портсигара.— Разрешите? Хочу оцинкованную
купель заказать... Заодно и клапан сменю.
На стуле, увязанная в клеенку, лежала двухрядка. Отец
Никанор считался одним из лучших гармонистов района, и
злые языки поговаривали, что чардаш удается чугуевскому
попу лучше, чем «Верую, господи».
Они заговорили о будничных церковных делах —
сокращенном требнике, отпечатанном на шапирографе в
Харькове, сносе кладбища в Мятелицах и новой речи епископа
Сергия, посвященной единению церковных течений. Отец
Никанор полюбопытствовал, нет ли у о. Ферапонта олифы.
Отец Ферапонт попросил фунта два сурика. Хозяин ждал,
что гость скажет о цели приезда, а гость не торопился,
шагал по комнате, поворачиваясь на каблуках по-солдатски,
и бессовестно чадил папиросой.
Зло усмехаясь, он рассказал последний анекдот о
новочерниговском священнике, придурковатом о. Михаиле,
который, прочитав в газете новую Конституцию, созвал
народ благовестом. •
642
—...Отличился Мафусаил наш... Пожарные бочку
выкатили... Бабы картошку копали,— со всех огородов
сбежались. А Михаил слова не может сказать, стоит на паперти,
тычет пальцем в газету. Прославился! На пленуме
партийного комитета рассказывали... Смешно?
Он тихонько засмеялся, прижимая к лицу платок, точно
чихая.
— Не смешно, а грустно, отец Никанор...
— Не зовите меня отцом,— попросил гость, строго глядя
на о. Ферапонта.
— Как угодно. Ничего обидного, кажется, нет.
— Я не обижаюсь. Просто семинаризм несколько режет
ухо...
— Что ж... мы — поповичи. В магистры не метим.
Отец Ферапонт весьма неуклюже намекал на «Академию
богословия», в которой учился Визжайкин, но гость, точно
не заметив ехидного замечания, продолжал:
— Семинаризм нас душит. Петр сбрил бороды боярам,
пощадив попов... И напрасно... Посмотрите, какие чудеса
католики и протестанты творят. Коглин, американец,
миллион голосов собрал. В соборах пианолы, радиопроповеди...
кинокартины из жизни равноапостолов демонстрируют...
А у нас пустосвяты, пещерники... Язычество с византийской
подливой!
...Разговор шел беспорядочный, но интересный. Никанор
Борисович знал решительно все: где достать позолоту для
врат, сколько стоит пластинка с проповедью харбинского
епископа Николая, куда выслали бывшего прасола Игна-
тенко... Отцу Ферапонту он посоветовал заменять ладан
можжевеловым корнем, попадье поведал, как делать
«мраморные» крашенки, а востроносенькой, курчавой, как
ягненок, дочке Насте помог решить задачу на десятичные дроби.
— Какой класс? Пионерочка?
— Воздерживаемся,— ответила мать.
— Напрасно...
«Жох»,— сообразил о. Ферапонт, тщетно пытаясь
догадаться, что привело сюда чугуевского священника.
И только когда попадья вышла на кухню, о. Никанор
придвинул стул и быстро спросил:
— Что вы думаете о последних событиях?
— Не уясняю.
— Я о выборах говорю.
— Событие необъятное,— сказал неопределенно о. Сс-
рапонт.
— Говорите прямо.
— Не знаю.
— Для народа это радость большая... Прямое и тайлоэ
изъявление сокровенных мечтаний... Выбор достойнейших...
643
Отец Ферапонт покосился на собеседника с недоумением
и тоской. Не таких слов ожидал он с глазу на глаз, но вслух
сказал почти бодро:
— Богатейшая мысль.
Что-то похожее на насмешку проскользнуло в
бархатных, греческих глазах о. Никанора. Он быстро прошелся по
комнате, заглянул мимоходом в открытую дверь и спросил:
— Ну, а кого вы сочли бы достойнейшим?
Отец Ферапонт смутился. До сих пор выборы казались
ему бесконечно далекими. Он всегда старался быть в стороне
от больших дел и поэтому на вопрос ответил вопросом:
— А отец Преображенский?
— Это тот, что канавы копает... Глуп, как тихоновец!
И упрям.
— Да есть ли надежда?
Но о. Никанор уже спрашивал быстро и требовательно.
— Подумайте... Ну, примерно... Сидор? Иван?
— Пожалуй, Белоненко,—-сказал о. Ферапонт
нерешительно.
— Кто он? Конюх? Неплохо... С батьками путался?
— Кажется, нет... то-есть у него в Турции сын.
— Не умно. Сказано вслух не однажды: ждем
честнейших и лучших.
— Значит...
— Вот что,— сказал о. Никанор с коротким смешком,—
гигиена любит рубахи без пятен. Политика тоже. Будем
говорить прямо. Если борода в лапше... понимаете?
— Тогда — Лавр Игнатьевич...— предложил, подумав
о. Ферапонт.
— Это кружка церковная? Староста ваш? А в миру кто?
— Пасечник... Кабанчиков еще холостит... Никанор
Борисович, вы всерьез?
— Толцыте,— посоветовал гость, с треском вбивая ногу
в калошу.— Женщины в вере особенно тверды.
И исчез... После него в комнате остался дым папиросы и
странно сладкий, напоминающий женщину, запах.
Отец Ферапонт долго смотрел, как зеленая таратайка
Чугуевского священника мелькает меж верб. Неприличные,
пугающие своей значительностью мысли лезли в голову.
...Беседа с чугуевским священником сильно ободрила
о. Ферапонта. Правда, он не придавал особого значения
последним словам Никанора Борисовича, но все же
почувствовал, что жизнь в Грушевке не так уж плоха. Переждав до
вечера, он решил навестить Лавра Игнатьевича.
Полный тихого ожесточения, он вышел на улицу и сразу
же столкнулся с председателем сельсовета Башмачниковым.
Встреча была неприятная для обоих, но о. Ферапонт быстро
лриподнял широкую шляпу и, улыбаясь через силу, сказал:
644
— Радость какая!..
— Это почему? — спросил Башмачников подозрительно.
— А дарование гражданских свобод?
— Вот как...
Башмачников оглядел собеседника и вдруг сердито
спросил:
— А церковь ктЪ ремонтировать будет — вы или дух
святой?
— Странно, однако...
— Если не под силу,— отдайте народу. А зачем же
позорить пейзаж?
Отец Ферапонт вдруг озлился:
— Пока я жив,— сказал он, выпрямившись,—
пристанище верующих будет незыблемо.
Башмачников негромко засмеялся и направился к
сельсовету.
Неприятный разговор еще более ожесточил о. Ферапонта.
Если герой Помяловского, веселый Аксютка, наплевал в
кадку с капустой, то оскорбленному грушевскому пастырю
захотелось плюнуть в кадушку вселенскую.
...Вместе с Лавром Игнатьевичем, сухоньким старичком
в синей венгерке, поднялся он на колокольню осмотреть
обветшалые балки. Многие ступеньки выкрошились, всюду
белел голубиный помет. Священник часто останавливался,
Лавр Игнатьевич терпеливо ожидал его на верхней
площадке.
Наконец, они добрались до самой вершины и ощупали
балку. И точно: тронутое плесенью дерево рушилось под
ногтями. Пять лет назад сняли колокола: до сих пор стояли
здесь сколоченные наспех козлы и валялись обрывки
веревок.
Церковь стояла посредине дуги, образованной Грушев-
кой. Прекрасно были видны отсюда оба края, сползавшие с
крутого яра прямо к воде, силосные башни за садом,
длинный скотный двор под черепичной крышей.
Широко и радостно дышало Азовское море. Тявкая, точно
собачонки, лезли на берег маленькие, крутолобые волны.
Вдоль берега, по грязной дороге ехал грузовой автомобиль,
полный курчавых капустных вилков...
...Обида и свежий воздух придавали смелости о. Фера-
поиту.
— Лавр Игнатьевич,— сказал он торжественно.— Что вы
скажете, если массы сочтут вас избранником?
Против ожидания староста нисколько не удивился. Он
только еще больше насупился.
— Почему же именно меня? — спросил он, поеживаясь.
— А кого же еще?
645
— Ну, Безменова Анатолия, Остафьева... На худой конец
Галагана...
— Ненадежны,— сказал о. Ферапонт, покачав головой.
— А у меня, извините, дочь на втором курсе медтехни-
кума.
— Опасаетесь?
Вместо ответа Лавр Игнатьевич снял картузик и указал
на седые вески.
— Пятьдесят-с третий,— напомнил он тихо.
Они стали спорить. Отец Ферапонт решительно наступал.
Лавр Игнатьевич осторожно оборонялся. Истопник Саввушка,
живший в сторожке у самой ограды, долго слышал
настойчивое жужжание священника и тихий металлический
голосок церковного старосты.
Наконец, они спустились и вышли во двор. Отец
Ферапонт был красен и радостен. Лавр Игнатьевич вяло жевал
губами и смотрел в сторону.
— Вы же не девица,— сказал о. Ферапонт,— я ручаюсь,
понимаете... Лично ручаюсь!
— Чем? — спросил Хрисанфов уныло.
Вместо ответа о. Ферапонт отрывисто засмеялся и провел
ладонью по шее.
*
...День собрания был неудачный, полный зловещих
примет. На рассвете вдруг завыла собака. Петух заклевал
любимого селезня. Настасья опрокинула на пол солонку. Попадья
не угадала, в каком ухе звенит. А когда, смущенный темным
предчувствием, о. Ферапонт вышел на улицу, по правую
руку от него пробежала баба с порожним ведром.
Сразу захотелось вернуться и разорвать зажатые в
кулаке тезисы будущей речи. Отец Ферапонт
нерешительно затоптался на месте, но вовремя вспомнил насмешливое
лицо гостя из Чугуевки и поборол малодушие.
Да и отступать было поздно. Далеко в морозном воздухе
разносились голоса. Стуча тяжелыми коваными сапогами,
шли рыбаки. Толкаясь, шурша юбками, спешили девчата.
Одна из них, в резиновых городских сапожках и лихо
посаженной беретке, обознавшись, толЯнула священника
плечом и с визгом отпрянула в сторону:
— Гусыня,— уныло определил о. Ферапонт, погружая
нос в воротник.
Чем ближе становились яркие окна клуба, тем сильнее
нарастало томление. Не один — два человека пробирались
вдоль тына, путаясь в шубе. Одному принадлежали голова и
потный кулак, сжимавший листок из тетради, другой владел
громко бьющимся сердцем и ослабевшими ногами. «Чего ты
646
трусишь, тетеря, вахлак?» — говорил язвительно первый.
«Остановись... Подумай... Вернись...» — шептал осторожно
второй.
Мысль о. Ферапонта стремилась вперед, но калоши еле-
еле скребли мерзлую землю.
Тихо, точно взбираясь на высокую гору, перешел он
улицу и поднялся на крыльцо. «Молодец» — сказал ум. «Ду-
урак...» — прошептала душа.
Отец Ферапонт вздохнул, приоткрыл дверь и боком
протиснулся в помещение.
Все оказалось значительно проще, чем он ожидал. Никто
из рыбаков не обратил внимания на вошедшего. В густом
махорочном дыму сидело человек 200 ловцов и
засольщиков. Пахло, как во всех хатах возле Азова: тютюном, смолой,
мокрой кожей. То был дружный и крепкий народ, готовый
в погоне за рыбой перемахнуть через море. Их черные
байды бродили по всему побережью — от Керчи до самых
лиманов.
Многие пришли в клуб прямо с моря, в несокрушимых
сапогах, на которых еще сверкала чешуя, и ватниках,
подпоясанных обрывками рыжих сетей.
У тех, кто сидел возле огня, на спинах проступала
изморозь соли.
Вскоре о. Ферапонт отыскал и телячью куртку Хрисан-
фова. Лавр Игнатьевич стоял у окна и, с достоинством
оглядывая собравшихся,' хмурил белесые брови. Вид у него
был настолько значительный, что о. Ферапонт приободрился,
отложил воротник и рискнул во всеуслышанье
высморкаться.
Однако, когда он обернулся к президиуму, снова возникла
какая-то странная неловкость. Казалось, вот-вот кто-нибудь
встанет и попросит его удалиться. Даже сидел он неловко,
спружинив ноги, на самом краешке скамьи. Никогда в своей
жизни, даже, будучи семинаристом, на экзаменах по
догматике о. Ферапонт не переживал такого неприличного
ощущения своей легковесности.
За столом, небрежно бросив кулаки на красную скатерть,
сидел Детыненко. Возле него свалился на бумагу светлый
чуб председателя. Шевеля толстыми, губами, Башмачников
что-то старательно записывал.
Шло обсуждение кандидатуры делегата на районное
совещание представителей избирателей. Выступал народ
упрямый, напористый, привыкший брать рыбу прямю за жабры.
Реплики, кинутые из углов, приставали к противникам,
точно репейник, и нередко оратор, бойкий в начале, сходил
со ступенек под дружный хохот собравшихся.
Уже провалили несколько кандидатов: конюха Бой-
ченко — «за легковесность ума», счетовода Чертаковского —
647
«за вредность», Остафьева — как замаранного спекуляцией
с рыбой. А штопальщица сетей Фрося Цыбенко сама
отказалась, сославшись на грудное дитя.
Спорили до хрипоты, дважды открывали окна и
выходили во двор, а все не могли сговориться. Хотелось отыскать
человека, правильного во всех отношениях: во-первых, без
всякой щербины, во-вторых, обязательно ловца, в-третьих,
человека бывалого, чтобы мог от всех рыбаков сказать
умное слово.
Видя единодушие, с каким собрание проваливало
кандидатов, о. Ферапонт понял, что авторитет Башмачникова не
слишком высок. Осмелев, он несколько раз проголосовал
«против», поднимая, впрочем, руку не слишком высоко.
И вдруг о. Ферапонт увидел, что вокруг стало
просторнее. Он хотел было устроиться поудобнее, но чей-то женский
голос громко спросил:
— А разве попам тут можно присутствовать?
— Странно... Я на общих правах,— сказал о. Ферапонт,
беспокойно задвигавшись.
Вокруг засмеялись, но Башмачников предостерегающе
поднял ладонь.
— Даю разъяснение,— сказал он отчетливо.— Не только
присутствовать, но даже голосовать.
— Ну, раз так, нехай голосует.
— За кого только?
— За Детыненко!..
— За Чепуреико! У Детыненко слова не вытянешь.
— Так это и лучше.
— Пусть Детыненко сам скажет.
— Я малограмотный,— объявил, приподнявшись, кузнец.
— Это не возражение. Образование наше известное,
голосую Детыненко.
— Тогда уж лучше Хрисанфова...
— Хрисанфова! —- подтвердили сразу два женских голоса.
А вдова прасола, покосившись на о. Ферапонта, поспешно
высунула из салопчика похожую на корешок старушечью
руку.
Хрисанфов встал и поклонился, щупая быстрыми
взглядами окружающих.
— Я не возражаю,— объявил он поспешно.— Если
желательно обществу...
— Не надо! Он церквой пропах... Богородичен стих
каждый день читает.
Лавр Игнатьевич направил на крикунов холодно
блеснувшие буравчики.
— И не только богородичен стих,— сказал он с
достоинством,— но смею вам доложить, еще «Отче наш» и «Достойно
есть»... Да-с... И вам, милейший, советую.
648
— Мы не паску святить посылаем.
Отец Ферапонт беспокойно завертел шеей, оглядывая
сторонников Лавра. Все они были на месте. Сын старосты
Антон Безменов равнодушно слюнявил цыгарку. Старый
Савву шка шептался с Белоненко... Почтарь Филимоша что-то
писал на бумажке. А старушенция продолжала тянуть
кверху руку, подпирая ее под локоть.
В углу возле молочницы Балабасенко стрекотали бабы.
— Разрешите обосновать,— попросил вдруг почтарь.
Он быстро оседлал нос очками, застегнул пиджак и стал
читать по бумажке высоким голосом судебнего писаря:
—...Учтя высокое политическое устремление, социально-
гражданскую стойкость, преданность задачам текущего дня,
а равно и подходящий общеобразовательный ценз,
поименованного ниже Хрисанфора Лавра Игнатьевича считать
соответствующим Конституции и внутреннему долгу избирателя-
гражданина.
— Правильно! — крикнула Балабасенко.
— Чего правильно? Непонятно...
— Надо слушать.
— Да кому соответствует?.. Церкви!
— Это сюда не относится.
Постепенно игум стих. Все ожидали, что скажет
Башмачников, но он только постучал карандашиком и объявил:
— Слово для отвода имеет Домна Васильевна.
Отец Ферапонт снисходительно улыбнулся. Он считал,
что бабье слово легче куриного пуха. Кроме визга ждать
было нечего. Но когда мимо него, шурша юбками, быстро
прошла пожилая женщина с насмешливым ртом и
властными светлыми глазами, он невольно взглянул на Лавра
Игнатьевича. Хрисанфов с иронической вежливостью
посторонился, пропуская вперед рыбачку, и легонько зевнул,
прикрывая рот рукой. Давно было известно, что Домна управляет
байдой лучше, чем собственным языком.
— Что лее, давайте пошлем Лавра Хрисанфова,— сказала
почти добродушно рыбачка,— он — человек грамотный,
тихий... Офицерских погон не носил. Под судом не бывал. Жил
себе тихо у господа-бога за пазухой.
— Кандидат чистый.
— Чистота тоже у кошек бывает,— ответила Домна, при-
щурясь.— Сделает тихую подлость, а где — неизвестно.
Поди, поверти носом.
В зале засмеялись.
— Черт знает, что такое,— сказал желчно Лавр
Игнатьевич.— Прошу защитить меня от базарного острословия.
— Та я не про вас... Я про кошек. А насчет вас разве
можно плохое сказать. Тропари да кондаки наизусть знаете.
Сына в бане сечете, так рот тряпкой заматываете, чтобы дитя
42 Против тьмы
649
Н. ГИЛЬЯРДИ
УЙГУН
Уйгун негодовал: только что он вошел в мечеть, как сам
Абдусамат-хальфа 1 перед началом зикра 2 сообщил ему, что
вчера на собрании Ялкаф — бригадир, обозвал Уйгуна —
бакарчи, бездельником и лжеударником. И председатель
колхоза Ариф, он тоже говорил... Абдусамат рассказывал
это так громко и с такими подробностями, что Уйгун мог бы
подумать, будто хальфа радуется, если б не знал его.
Абдусамат рассказал даже о том, что кто-то вспомнил, как два года
назад, еще не будучи колхозником, Уйгун провалил
снабжение. По договору с кооперацией он должен был перевезти
муку и товары, но в другом месте ему предложили более
выгодные условия.
Уйгун взялся за оба дела сразу, но тут и получился
конфуз. Его арба, и без того еле ковылявшая, сломалась, денег
на починку у него не оказалось, и был бы скандал, если бы
Уйгуна не выручил случай. Подвернулись
геологи-разведчики, они предложили ему пойти к ним проводником, и он,
покинув снабжение на «попечение аллаха», ушел в горы.
Долго не могли простить ему это дехкане, но, вступив в
колхоз, он добросовестной работой заставил позабыть свой
проступок. Теперь же — пожалуйста! Абдусамат, смакуя каждое
слово, рассказывает даже и то, чего не было: что Уйгун и
от геологов сбежал, оставив их в незнакомых горах.
— Это Ариф сказал? — с возмущением спросил Уйгун.
— Хотели тебя выбирать в совет,— не ответив на вопрос
Уйгуна, вкрадчивым голосом говорил Абдусамат,— и Ялкаф
сказал: «Не к чему выбирать такого. Ему и хлопок спасать
некогда, он сам спасается на зикрах...» Ялкаф сказал: «Уйгун
1 Наставник в вере.— Ред.
2 Религиозный обряд — радение.— Ред.
652
забыл о хлопке». Ответь ему, Уйгун, сегодня же после зикра
ответь: «Да, я забыл о хлопке, но я не забыл о боге».
О, Уйгун сумеет достойно ответить и коварному Арифу,
и коварному Ялкафу. Он скажет, что сам Ялкаф есть «ял-
каф» — ленивый, а что он, Уйгун, был лучшим ударником
на сборе хлопка. В колхозе знают, и Ариф, разве забыл
Ариф то, что знают все: по работе с Уйгуном в колхозе
никто не мог сравниться. Даже Ялкаф, который шел всегда
впереди, не мог победить Уйгуна.
За что же обзывать Уйгуна лжеударником? За то, что он
в последние месяцы не ходил на сбор хлопка? Но ведь
это происходило не по его воле! Зикры устраивал не он, а
хальфа Абдусамат. И потом — разве один Уйгун бывал
на зикрах? Почему о других не сказал Ялкаф, а сказал про
Уйгуна?
С приездом Абдусамата зикры проводились ежедневно.
Они длились до позднего вечера. Когда же было идти Уйгуну
на сбор хлопка? Уйгун принимал участие в зикрах каждый
день. Он боялся пропустить хотя бы одно радение. Ведь не
так часто приезжает хальфа из города. А кто кроме него
сумеет так горячо и задушевно сказать о той жизни, что
будет где-то там, за смертью? Кто расскажет о невыразимых
муках в преисподней, страшной для грешников, подобных
Ялкафу и Арифу, и о блаженстве для праведников, таких,
как Уйгун, которым уготована на седьмом небе безоблачная,
полная довольства и избытка жизнь. Хальфа говорил: «Надо
оказаться достойным, надо заслужить ее. А для этого не
следует пропускать ни один зикр из тех, что устраивает
теперь он, Абдусамат-хальфа».
Конечно, если б зикры устраивались не в разгар
хлопкоуборочной, а в другое время, было бы куда лучше. Уйгун,
разумеется, и сам видел, что хлопок осыпается, что каждый
день приносит громадные убытки колхозникам. Сейчас,
перед очередным зикром, он не выдержал и сказал об этом
Абдусамату-хальфе. Тот только снисходительно усмехнулся
и ничего не ответил.
Однако, приступив к молитвам, глядя в упор на Уйгуна и
в то же время обращаясь ко всем, хальфа сказал:
— Некоторые говорят, что надо ходить на уборку
хлопка. Но разве для бога хлопкоуборочная колхоза важна
хоть сколько-нибудь. А если пострадает колхоз — какое горе
от того вам? Хлопок не ваш, а колхозный, и деньги не ваши,
а колхозные. Зачем же работать вам на колхоз и терять
бога? Кто другой может сделать вас более счастливыми?
Разве есть другой бог, кроме бога? Разве можете вы назвать
кого-нибудь, кто был бы сильнее его?
Уйгун слушал Абдусамата-хальфу молча, с
напряженным вниманием. Хальфа взял какую-то большую книгу с
653
золотым тиснением, приложил ее ко лбу и, произнесши
скороговоркой: «Я прибегаю под покровительство божие от
прогнанного камнями диавола»,— стал читать: «Скажи им,
говорит бог Магомету: «Как вам кажется? Если бы бог захотел
распространить над вами вечную ночь, так, чтобы она
продолжалась до дня воскресения,— какой другой бог дал бы
вам свет? Не понимаете ли вы этого?..» Скажи им еще,—
читал нараспев хальфа.— «Как вы думаете? Если бы бог
захотел распростерть над вами вечный день, так, чтобы он
продолжался до дня воскресения, какой другой бог свел бы
вам ночь для вашего покоя?» Не видите ли этого? Некогда
бог скажет: «Где же мои товарищи, те, которых вы
воображали?»»
Хальфа закрыл сияющую золотом книгу, взял в руки
другую, значительно большую.
— «И еще вам говорит книга Мухаммедия,— читал
хальфа,— ангел Гавриил летел мимо луны, бог послал его. И он
задел крылом своим луну, и она вся заколебалась, и
большая часть ее сокрушилась. От этого луна, бывшая прежде
по сиянию равной солнцу, утратила прежний блеск и стала
иметь пятна». Не видите ли вы в том силу бога? А вокруг!
Посмотрите вокруг, правоверные! Не являет ли бог повсюду
и всякий час свою чудесную силу. Разве не разбилось бы
солнце, если б ангелы не принимали его каждый вечер в
свои руки. Разве взошло бы солнце со стороны Мекки, если
бы ангелы не пронесли его в течение ночи под землею на
восток. Разве взошло бы оно, если б на то не было повеления
бога?
Хвала ему. Сам Магомет говорил в коране о том, что
слышал во время своего небесного путешествия. Все ангелы,
предстоя престолу всевышнего, беспрестанно взывают: «Нет
бога, кроме аллаха, и Магомет — посланец божий». Мющрик,
неверующий, презрен богом. Бог никогда не простит мющри-
катства. Ялкаф — мющрик. Ариф — мющрик. Правоверные,
не идите за ними!
Абдусамат говорил с воодушевлением, но торопясь, как
будто боялся, что не успеет объяснить и прочитать то, что
ему нужно было прочитать и высказать. Уйгун глядел на
хальфу, не отрываясь. Он старался уловить и запомнить
каждое слово. Это было так важно. Сегодня он опять не
пошел в школу ликбеза, но разве мало знаний дает ему
хальфа. Как воск в очаге, расплавляется душа Уйгуна от
огненных слов хальфы. Все в этих словах понятно Уйгуну.
Ясно, просто, доступно. Надо идти за хальфой, потому что
он от бога, и надо бежать Ялкафа и Арифа, потому что они
против хальфы, и против зикров, и против святых книг, и
против самого бога!
G54
Абдусамат отложил книгу, встал, простер руки вверх и,
потрясая ими, заговорил громко, грозным, угрожающим
голосом.
— Не идите за Арифом, правоверные. Знайте: на
страшном суде он явится таким низким, таким низким, что будет
ниже земли и его будут топтать даже ишаки...
Уйгуна пугал неотвратимый страшный суд и жуткая
геенна, о которой говорил Абдусамат-хальфа. Поэтому Уйгун
Бсячески старался следить за собою, чтобы не преступить
ни одного завета из тех, что каждое утро, и каждый полдень,
и каждый вечер, изо дня в день возвещал хальфа.
Проверяя себя, Уйгун с удовольствием находил, что он
праведнее других и что кому-кому, а уж ему-то рай
безусловно обеспечен. Уйгун лишь сомневался: в какой именно
из восьми раев ему надо стремиться попасть, и очень боялся
просчитаться. Поэтому при всяком удобном случае подолгу
расспрашивал Абдусамата о преимуществах каждого рая в
отдельности. Иногда он не мог удержаться и делал
придирчивые замечания о недостатках того или иного рая.
Абдусамат особенно превозносил Джаннату-Эльнагим,
пятый рай. Уйгуну хотелось попасть именно туда. Конечно,
все восемь раев находились на седьмом небе, но Джаннату-
Эльнагим был более подходящ вкусам Уйгуна. Как
чудесно-красочно расписывал этот пятый рай Абдусамат.
Сад Удовольствий, усеянный сияющими сапфирами.
Сапфиры, положим, ни к чему, но пусть... зато там должны
быть изобильно цветущий урюк, и виноград, . и яблони.
Правда, от колхозных садов Уйгун получил в прошлом году
немало и урюка и яблок, но, до вступления в колхоз, где
было батраку Уйгуну думать об урюке, о винограде. В раю
же, там сады и сады и виноградники...
Что будет там еще? Плов — будет ли? А попадет ли туда
Нафиса, его жена? Как славно прошелся бы там с нею Уйгун!
Она, Нафиса, пойдет рядом с Уйгуном. Как равная с
равным. Конечно, рядом, а не позади... Ведь рай не земля,
там не должно быть ни мулл, ни хальф, которые запретили
бы им идти зместе. Зачем Абдусамат говорит, что жены там
не нужны будут! Он оденет Нафису в атласный, зелено-
красный халат с виноградными, и яблоневыми, и дынными,
и урючными цветиками и потом сам он тоже забросит свой
рваный, выцветший халат и наденет новый, чистый,
шелковый. А сверху теплый, ватный... Никогда не носил таких
халатов Уйгун. Только в прошлом году он, хорошо
заработав в колхозе, хотя и был неурожайный год, сумел
приобрести себе один халат... Пойдут они там, в раю, с Нафисой
по бахчам, по виноградникам, и все будут глядеть на них
и говорить: «Вот — хорошо им, если б и нам то же». Так
когда-то говорил он Нафисе о баях... Там и вода, чистая-
055
чистая, и пуховики из пахты, хлопка... И там не будет
холода, там дадут хорошую кибитку, и никто не скажет, что
он — лжеударник и что провалил снабжение.
Сегодня произошло нечто небывалое: на зикр, словно по
уговору, не пришел никто. Рассвирепевший Абдусамат-
хальфа не находил себе места. Он рыскал по пустующей
мечети, покрикивал на двух престарелых глухонемых,
единственно пришедших на зикр, и не знал, куда деваться от
стыда и злобы, нахлынувшей на него. Даже Уйгун не явился!
Уйгун, на которого так полагался Абдусамат! Он уселся у
порога мечети и стал ждать. Через час пришли двое
дехкан-колхозников, Ашуров и Нурбай,— старые завсегдатаи.
Абдусамат тяжко вздохнул и сказал им, что сегодня зикра
не будет. Они тотчас ушли, даже не скрывая своего
удовольствия.
Абдусамат вышел из мечети и отправился вниз по
переулку к гузару. Тут, по главной улице, тянулись
бесконечные вереницы людей. Там, где шли группами, слышались
шумные разговоры, споры. К ним подходили другие, спор
нарастал, но разговаривавшие не останавливались, как это
было тогда, когда они шли к мечети, а, напротив,
прибавляли шагу.
Только теперь Абдусамат вспомнил: люди спешили к
колхозной чайхане на собрание членов артели. Абдусамату
было отчего негодовать. Так тонко проведенная им работа
грозила пойти впустую.
А как хорошо было задумано! Скоро выборы в советы
и, конечно, кого же выбирать, если не его — Абдусамата.
Надо только суметь подготовиться. Для этого все уже
было сделано. Сначала масляхаты — религиозные беседы,
затем зикры. Зикры днем, потом, когда у многих
возникнет недовольство и в колхозе заговорят о срывах
уборочной, можно будет пойти «навстречу» колхозу и
перенести зикры на вечерние часы. Зикры будут длиться
всю ночь... За ночь правоверный дойдет до одурения, а на
другой день — сколько соберет он хлопка? Горсть! И то
много. Потом и... главная задача — вербовка мюридов.
«Послушники» эти на выборах в советы пригодятся как
нельзя лучше. Вербовать их надо из наиболее
авторитетных колхозников. Вот из таких, каким был Уйгун. Сколько
трудов положил Абдусамат на то, чтобы привлечь
Уйгуна, пользовавшегося большим влиянием на
колхозников. И все же Абдусамат добился своего. О, через Уйгуна
хальфа многое намеревался провести... Он поможет
выполнить все инструкции пира, и тогда на Абдусамата по-
сыпятся милости и награды главного наставника в вере.
656
Почему все же не пришел Уйгун? Неужели... но нет,
в Уйгуне хальфа уверен. Собрание окончится, и Уйгун снова
придет к Абдусамату. Ха! Ведь Уйгун ищет рай, он хочет
попасть в пятый рай!.. О, Уйгун придет!
Абдусамат-хальфа вернулся домой, велел приготовить
своего ишака. Надо было ехать в город, сдать отчет пиру
и получить новые инструкции в связи с приближающимся
сроком выборов в советы.
Ариф говорил медленно, растягивая слова, будто они
давались ему с величайшим трудом. К высказанному он
возвращался снова и снова, повторяя фразы. Однако
слушали его с напряженным вниманием, затаив дыхание.
Уйгун даже отказался от чая, передав пиалу соседу. По
простым расчетам Арифа выходило, что Ялкаф должен
получить одними деньгами одиннадцать тысяч пятьсот
сорок три рубля. Нет, это немыслимо... Ариф ошибся.
Неужели одиннадцать тысяч! Сейчас, когда уборка не
окончена!.. Да ведь такой суммы и во всем их кишлаке до
колхоза никогда не было! Сколько-то получит Уйгун?
Все продолжали неотрывно следить за Арифом,
изредка поглядывая то на Ялкафа, то на Уйгуна. Ариф
продолжал говорить по-прежнему с тем же равнодушным
видом, хотя и весьма обстоятельно.
— Ялкаф работал каждый день. Он хорошо работал.
Его семья тоже хорошо работала. Ялкаф получит
одиннадцать тысяч пятьсот сорок три рубля.
— Одиннадцать тысяч... Ялкаф!..— шушукались по
рядам. Ариф перечислил еще несколько десятков
колхозников, которым причиталось по восемь — десять тысяч.
Уйгуна среди них не было, и все с интересом ждали. Ариф
подходил к концу, но Уйгуна еще не называл. Не было его
также и среди тех, что получали по семь, по пять и по
четыре тысячи.
— Ашуров получит одну тысячу триста сорок рублей.
— Нурбай получит одну тысячу двести пятьдесят пять
рублей.
— Сколько? — переспросили в задних рядах.
— Нурбай получит одну тысячу двести пятьдесят пять
рублей,— повторил Ариф.— Нурбай мало выходил на
работу. Он у нас — самый меньший! — сказал Ариф. Многие
рассмеялись, но другие уняли их осуждающим взглядом,
тем, которым непрерывно поглядывали на Ашурова и
Нурбая.
— Уйгун получит...— тут Ариф опять остановился,
разыскивая взглядом Уйгуна. Он сидел неподалеку, между
Ялкафом и Нурбаем, и от возбуждения дрожал, словно в
657
лихорадке: «Пусть бы скорей, чего он тянет»... Не
терпелось не только ему. Все с интересом ждали сообщения
Арифа о том, сколько же заработал Уйгун. В прошлом
году он шел впереди всех. Потом приехал хальфа, и
Уйгун... «Эх, лучше не вспоминать!» — с горечью думали те,
кто заработал меньше других, кто, вместо работы в поле,
пропадал на зикрах Абдусамата...
Наконец, Ариф, не скрывая выражение сожаления на
лице, оторвался от списка, сказал:
— Я говорил, что Нурбай — меньше всех. Я ошибся.
Уйгун... Уйгуну причитается одна тысяча двести
пятьдесят рублей. На пять рублей меньше, чем Нурбаю.
Все вдруг приутихли. Внезапно умолк всякий шум,
смех и разговоры на собрании. Даже вопросов не задавали.
Все сидели, хмуро и искоса поглядывая на Нурбая и Уй-
гуна, как бы отгораживаясь от них жесткими,
отчуждающими взглядами.
— Это не все, товарищи! —- нарушил, наконец, тишину
голос Арифа.— Мы исчислили доходы из наименьшего
расчета. Из того, что уже заработано. Но когда соберем
хлопок полностью и вовремя сдадим государству, сумма
доходов намного увеличится... Но, товарищи! — Ариф поднял
руку вверх и заговорил уже энергичным, бойким
голосом.— Если мы не приложим все силы к тому, чтобы
полностью собрать хлопок, мы понесем большие убытки.
Плоды всего, что было сделано за год, зависят теперь от
немногих дней. Каждый день сейчас равен месяцу. За
последние две недели колхоз понес убытку... Он назвал
цифру негромко, но ее расслышали. Почти все в один
голос ахнули.— Подсчитайте теперь, сколько потерял
каждый колхозник в отдельности,— продолжал Ариф.— Вот
Уйгун. В прошлом году он, как вы знаете, шел впереди,
так же как в нынешнем Ялкаф. И что же. Если б Уйгун
выходил на работу каждый день... да, выходил и не спал
бы на работе, он получил бы столько же, сколько и
большинство из вас, сколько получил Ялкаф. Но вы знаете —
Ялкаф радел за наш хлопок, а Нурбай и Ашуров и Уйгун
радели за хальфу, за пира. Забыли они разве, что эти
хальфы и муллы и мюриды, все они — посланники баев!
У них отняли власть, но они не желают уйти, и своими
баснями о религии хотят повернуть на старый путь. Не
выйдет. Не выйдет ни за что и никогда. Вот близятся
выборы в советы. Мы все должны подумать о лучшем из
нас.
Кто лучший? Тот, кто больше всех достоин! Кто больше
всех достоин? Тот, кто лучше всех работает! У нас много
таких.— Ариф перечислил десятки фамилий и запнулся: —
Я хотел назвать и Уйгуна. Но...
058
«Я тоже мог бы быть лучшим»,— с горечью подумал
Уйгун, и в нем закипела злоба против хальфы, против его
зикров.
— Но в советы нам следует послать лучших из
лучших,— говорил Ариф,— есть у нас такие? — Ариф окинул
взглядом собрание.
— Есть, есть! — закричали в ответ из разных концов.—
Ялкаф!—крикнул кто-то.
— Ялкаф! — дружно раздались голоса.
— Да, Ялкаф! тот, кто работает в колхозе лучше всех
нас. Тот, у которого мы должны учиться, тот самый Ялкаф,
мы забыли это прозвище,— кого баи прозвали «ялкафом» —
«ленивым».— Ариф сделал паузу. Вдруг из тесной группы
порывисто поднялся кто-то из молодых, вскинул вверх
тюбетейку: «Ура, Ялкаф!»
. — Ура-а! — прокатилось ему в ответ по рядам. Уйгун
взглянул на своего старого товарища, с которым они
вместе когда-то чайрикерствовали, батрачили много лет.
Ялкаф сидел смущенный, улыбающийся, и несколько
растерянно поглядывал на окружающих. Когда он
услышал приветствие, несшееся к нему со всех сторон, он, не в
силах выразить обуревавшие его чувства, только
кланялся и кланялся, прикладывая руку к сердцу.
В городе Абдусамат-хальфа задерживался не долго.
Дней через пять он был уже снова в кишлаке и объявил
очередной зикр. Но теперь на него не пришло и половины
из бывших участников. Да и те, что явились, в
большинстве разошлись в самом начале. Каждый торопился на
уборку хлопка.
Больше же всего Абдусамата тревожило то, что на
зикры упорно не является Уйгун, на которого хальфа имел
особые виды.
Но Уйгун, возвращавшийся сейчас с поля, и думать
перестал о зикрах, о геенне, о рае, о которых говорил хальфа,
и о самом хальфе. О каком еще рае нужно было
думать! «Посмотри, Уйгун, вокруг,— говорил он себе,— разве
не раем становится сама земля, та земля, которую ты
когда-то столько раз предавал проклятию! Эта земля цветет
теперь повсюду пышными садами и полями и тучными
стадами колхозов. Разве не создается на нашей земле то
лучшее, что даже в мечтах нельзя было связывать ни с
первым, ни с третьим, ни с пятым раем, и не с восьмым
раем, и не с седьмым небом.
Вот возвращается из города Ялкаф. Ялкаф,
заработавший в колхозе одиннадцать тысяч рублей! Что-то купил он
в городе?! Его и не узнать сейчас, Ялкафа. Как-то изме-
659
кился он весь. В его глазах появился блеск гордости и
счастья и уважения к себе и к другим. Такого выражения
у него в глазах до той поры, когда он вступил в колхоз,
никогда не было. О нем теперь пишут в газетах, и сам он
пишет... А давно ли оба они, и Ялкаф и Уйгун, были среди
баев и мулл «такими низкими, такими низкими, что были
ниже земли», вспомнил он слова Абдусамата, и лицо его
исказилось гневом.
Ялкаф подъехал, слез с лошади. Друзья поздоровались,
обнялись. Оба обрадовались встрече, будто не виделись
долгое время. Отойдя несколько шагов от дороги, они
присели отдохнуть. Ялкаф снял с лошади большой тюк,
вытащил узелок, расставил перед Уйгуном городские
сласти.
— Что купил? — спросил Уйгун, разглядывая новый
ватный халат на Ялкафе, под которым был шелковый, тоже
новый.
— О, много, много!—ответил Ялкаф и замялся... Ему
было неловко хвастать перед другом.
— Покажи! — попросил Уйгун. Ялкаф развязал тюк —
какие богатства там! Он вытащил один халат, другой,
третий... «Это для сына»...— счастливым голосом произнес
Ялкаф. Потом развернул платки, извлек ичиги. У Уйгуна
разбежались глаза. Он и не подозревал, что один человек
может обладать такими богатствами. Потом он заметил
один тщательно упакованный сверток в синей бумаге,
небрежно откинутый Ялкафом в сторону.
— А там, что там? — спросил заинтригованный Уйгун.
Ялкаф загадочно усмехнулся:
— Так. Ничего...— Но тут же не удержался, торопливо,
хотя и в высшей степени бережно развязал синий пакетик,
вскочил и, сам замирая от восхищения, накинул на себя
что-то блестящее, невиданное! Уйгун оцепенел от
изумления и восторга.
Таких халатов он не видел, даже не представлял, что
могут быть такие. Атласный, на шелковой подкладке, он
играл всеми цветами весеннего поля. Краски сверкали на
нем, как солнце на падающей со скалы воде. Все мечты
Уйгуна о рае, в которых такой халат на Нафисе занимал
главное место, вдруг нахлынули на него. Но он и не
мечтал видеть, не то, что носить подобный халат даже в
пятом раю.
— Сколько? — задыхаясь от возбуждения, прошептал
Уйгун.
— Я мог бы купить таких халатов...— Ялкаф
запрокинул голову и принялся высчитывать.
— Сколько же он стоит? — с нетерпением спросил
. Уйгун.
660
— Я мог бы купить таких халатов... еще много, и у
меня осталось бы денег еще на двадцать халатов таких
(он показал на свой верхний ватный халат), и на двадцать
таких (он показал на нижний шелковый), и на ичиги,
.много, много ичигов... и еще осталось бы денег тысяч...
— Сколько заплатил? — почти выкрикнул Уйгун.
— Шестьсот двадцать пять рублей,— безразличным
тоном сказал Ялкаф, заворачивая халат. Уйгун побледнел,
сразу осунулся. Почти обессиленный, он присел на землю.
Сумма, которую назвал Ялкаф, была равна половине той,
что Уйгун заработал, выходя в поле в те редкие дни и часы,
что оставались у него свободными от зикров и молитвенных
бесед хальфы.
Абдусамат, завидя Уйгуна и Ялкафа, направился к
ним. Ялкаф нахмурился, не желая встречаться с хальфой.
Быстро собрал свои обновки, попрощался с Уйгуном, тот
механически кивнул ему головой.
— Селям! — услышал Уйгун убаюкивающий голос при-
сетствия Абдусамата. Он не ответил хальфе, резким
движением вскинул голову вверх. Абдусамат положил ему руку на
плечо.
— Ты —наш человек, Уйгун. Наш лучший человек.
Знаешь ли ты... знаешь ли ты, за кого надо голосовать?
— Знаю,— ответил Уйгун, не глядя на Абдусамата. Тот
улыбнулся, но тут же согнал улыбку с лица и
насторожился.
— За кого же? — спросил хальфа.
— Я буду выбирать Арифа. Буду выбирать Ялкафа.
— Что-о? — отшатнулся от него Абдусамат. Но, увидев
разъяренное лицо Уйгуна, переменил тон.
— Уйгун, ты давно не был на зикре, и огонь, который...
Уйгун вдруг подскочил к Абдусамату, выпрямился во
весь рост, сжал кулаки.
— «Огонь»!.. Я не согрелся от твоего огня, я только
ослеп от твоего дыма! — крикнул Уйгун и, сплюнув, пошел
прочь.
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
ТАК БЫЛО,
НО ТАК НЕ БУДЕТ ВНОВЬ
Слепых, скорбящих душ слепое упованье,
Ты в муках создало скорбящий лик Христа,
Его предателя нечистые уста,
Его мучителей глухое завыванье,
И, пригвоздив к кресту распятую любовь,
Ты кровью жертвенной всех палачей омыло.
Так было.
Веками было так. Но так не будет вновь!
Религия рабов — не для бойцов свободных.
Мы — отомстители за пролитую кровь,
За миллионы жертв, за море слез народных.
Кумачным знаменем — каратели царей —
Мы заменили крест народного распятья
И, стоя у иных распахнутых дверей,
Мы пламенно зовем: прозрите же скорей,
Единокровные, слепые наши братья!
В. МАЯКОВСКИЙ
ПРО ФЕКЛУ, АКУЛИНУ,
КОРОВУ И БОГА
Нежная вещь — корова.
Корову
не оставишь без пищи и крова.
Что человек —
жить норовит меж ласк
и нег.
Заботилась о корове Фекла,
ходит вокруг да около.
Но корова —
чахнет раз от разу.
То ли
дрянь какая поедена и попита,
то ли
от других переняла заразу,
то ли промочила в снегу копыта,—
только тает корова,
свеча словно.
От хворобы
никакая тварь не застрахована.
Не касается корова
ни жратвы,
ни пойла —
чихает на все стойло.
Известно бабе —
в таком горе
коровий заступник —
святой Егорий.
Лезет баба на печку,
трет образа, увешанные паутинами,
поставила Егорию в аршин свечку —
и пошла...
только задом трясет по-утиному!
663
Отбивает поклоны.
Хлоп да хлоп!
Шишек десять набила на лоб.
Умудрилась даже расквасить нос.
Всю руку открестила —
будто в сенокос.
За сутками сутки
молилась баба,
не отдохнув ни минутки.
На четвертый день
(не помогли корове боги!)
отощала баба —
совсем тень.
А корова
околела, задрав ноги.
А за Фекловой хатой
— пройдя малость —
жила Акулина
и жизнью наслаждалась.
Акулина дело понимала лихо.
Аж ее прозвали
— «Тетя-болыиевиха».
Молиться —
не дело Акулинье:
у Акулины
другая линия.
Чуть у Акулины времени лишки,
садится Акулина за красные книжки.
А в книгах
речь
про то,
как корову надо беречь.
Заболеет —
времени не трать даром —
беги скорей за ветеринаром.
Глядишь —
на третий
аль на пятый день
корова,
улыбаясь,
выходит за плетень,
да еще такая молочная —
хоть ставь под вымя трубы водосточные.
Крестьяне,
поймите мой стих простенький
да от него
к сердцу
проведите мостики.
664
Поймите! —
во всякой болезни
доктора
любого Егория полезней.
Болезням коровьим —
не помощь бог.
Лучше
в зубы возьми ног пару
да бросайся
со всех ног —
к ветеринару.
В. МАЯКОВСКИЙ
ПРОШЕНИЯ НА ИМЯ БОГА —
В ЗАСУХУ НЕ ПОДМОГА
Эй, крестьянин!
Эта песня для вас,
навостри на песню ухо.
В одном селе,
на Волге как раз,
была
засуха.
Сушь одолела —
не справиться с ней,
а солнце
сушит
сильней и сильней.
Посохли немного
и решили:
«Попросим бога!»
Деревня
крестным ходом заходила,
попы
отмахали все кадила.
А солнце шпарит.
Под ногами
уже не земля,
а прямо камень.
Сидели-сидели, дождика ждя,
И решили
помолиться
о ниспослании дождя.
А солнце
так распалилось в высях,
Что каждый росток
на корню высох.
G6G
А другое село
по-другому
с засухами
борьбу вело,
другими мерами:
агрономами обзавелось
да землемерами.
Землемер
объяснил народу,
откуда
и как
отвести воду.
Вел
землемер
с крестьянами речь,
как
загородкой
снега беречь.
Агроном учил:
«Засевайтесь злаком,
который
на дождь
не особенно лаком.
Засушливым годом
засевайтесь корнеплодом —
и вырастут
такие брюквы,
что не подымете и парой рук вы».
Эй, солнце —
ну-ка! —
попробуй,
совладай с наукой!
Такое солнце,
что дышишь еле,
а поля — зазеленели.
Отсюда ясно:
молебен
в засуху
мало целебен.
Чем в засуху
ждать дождя
по году,
сам
учись
устраивать погоду.
В. МАЯКОВСКИЙ
ПРО ТИТА И ВАНЬКУ, СЛУЧАЙ,
ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ЧТО БЕЗБОЖНИКУ
МНОГО ЛУЧШЕ
Жил Тит.
Таких много!
Вся надежда у него на
господа-бога.
Был Тит,
как колода, глуп.
Пока не станет плечам горячо,
машет Тит
со лба на пуп
да с правого
на левое плечо.
Иной раз досадно даже.
Говоришь:
«Чем тыкать фигой в пуп —
дрова коли!
Наколол бы сажень,
а то
и целый куб».
Но сколько на-Тита ни ори,
Тит
не слушает слов:
чешет Тит языком тропари
да «Часослов».
Раз
у Тита
в поле
гроза закуралесила чересчур люто.
А Тит говорит:
«В господней воле...
Помолюсь,
попрошу своего Илью-то».
Послушал молитву Тита Илья
да как вдарит
по всем
по Титовым жильям!
И осталось у Тита —
крещеная башка
да от избы
углей
полтора мешка.
Обнищал Тит:
проселки месит пятой.
Не помогли
ни бог-отец,
ни сын,
ни дух святой.
А Иванов Ваня —
другого сорта:
не верит
ни в бога,
ни в черта.
Товарищи у Ваньки —
сплошь одни агрономы
да механики.
Чем Илье молиться круглый год,
Ванька взял
и провел громоотвод.
Гремит Илья,
молнии лья,
а не может перейти Иванов порог.
При громоотводе —
бессилен сам Илья
Пророк.
Ударит молния
Ваньке в шпиль —
и
хвост в землю
прячет куцо.
А у Иванова —
даже
не тронулась пыль!
Сидит
и хлещет
чай с блюдца.
Вывод сам лезет в дверь
(не надо голову ломать в муке!):
крестьянин,
ни в какого бога не верь,
а верь науке.
В. МАЯКОВСКИЙ
ДВА ОПИУМА
Вливали ,
в Россию
цари
вино да молебны,—
чтоб
вместо класса
была
дурацкая паства,
чтоб
заливать борьбу
красноголовым да хлебным,
чтоб
заливать борьбу
пожарной кишкой пьянства.
Искрестившийся народ
за бутылками
орет.
В пляс —
последняя копейка.
Пей-ка,
лейка
в глотку
водку.
Пей,
пока
у кабака
ляжешь
отдохнуть
от драк,
расфонаренный дурак.
С этаким ли
винолизом
670
выстроить
социализм?
Справиться ли
пьяным
с пятилетним планом?
Этим ли
сжать
себя
в дисциплине?
Им
не пройти
и по ровной линии!
Рабочий ответ —
нет!
В жизнь
вонзи,
строитель-класс,
трезвую волю
и трезвый глаз.
Мы
были убогими,
были
хромыми,
в покорных молитвах
горбились в храме.
Октябрь
^гу рухлядь
и вымыл
и вымел,
и выдал нам
землю
у зелени в раме.
Не сгубим
отдых
в пьяной запарке;
не водку в глотку,
а в лодку
на водах!
Смотри —
для нас
расчищаются парки,
и с флагов
сияет
«Культура и отдых».
Рабочий класс
колонны
вывел
671
в олимпиады
и на стадионы.
Заменим
звоном
шагов
в коллективе
колоколов
идиотские звоны.
Мы
пафосом новым
упьемся допьяна,
вином
своих
не ослабим воль.
Долой
из жизни
два опиума:
бога
и алкоголь!
В. МАЯКОВСКИЙ
ДОЛОЙ
Мы
сбросили с себя
помещичье ярмо,
мы
белых выбили,
наш враг
полег, исколот;
мы
побеждаем
волжский мор и голод,
мы
не даем
разрухе
нас топтать ногами,
мы победили,
но не для того ж,
чтоб очутиться
под богами,
чтоб взвилась
вновь,
старья вздымая пыль,
воронья стая
и сорочья,
чтоб снова
загнусавили попы,
религиями люд мороча.
Чтоб поп какой-нибудь
или раввин,
вчера
благословлявший за буржуев драться,
сегодня
ручкой, перемазанной в крови,
673
за требы требовал:
«Попам подайте, братцы!»
Чтоб, проповедуя
смиренья и посты,
ногами
в тишине монашьих келий,
за пояс
закрутивши
рясовы хвосты,
откалывали
спьяну
трепака
да поросенка с хреном ели.
Чтоб, в небо закатив свиные глазки,
стараясь вышибить Россию из ума,
про Еву,
про Адама сказывали сказки,
наместо
знаний
разводя туман.
Товарищ,
подымись!
Чего пред богом сник?
В свободном
нынешнем.
ученом веке
не от попов и знахарей —
из школ, из книг
узнай о мире
и о человеке!
Примечания
ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
1871—1919
Леонид Яковлевич Андреев — писатель, прозаик и драматург,
занимает видное место в истории русской литературы
предреволюционной эпохи.
Андреев пережил сложную и противоречивую идейную
эволюцию: в 1898—1906 гг. он был близок с передовыми деятелями
литературы, дружил с А. М. Горьким. В ряде произведений этого периода
писатель выражает протест против угнетения и эксплуатации
трудового народа. В годы нарастания революционного движения Андреев
обращается к социальным проблемам, но разрабатывает их в духе
реакционного мелкобуржуазного псевдогуманизма. После Октября
Андреев остался за пределами Советского Союза и объединился с
белой эмиграцией.
В рассказе «Правила добра» Андреев подвергает критике
евангельские проповеди о добре и зле и с большой художественной силой
обличает противоречивость религиозного толкования этих понятий.
АНРИ БАРБЮС
1873—1935
Анри Барбюс — французский писатель, коммунист, выдающийся
борец против фашизма.
Решающее влияние на мировоззрение Барбюса оказала первая
мировая война. На фронте зарождается антивоенный роман «Огонь»,
принесший Барбюсу мировую славу. Этот роман — грозный
обвинительный акт против империалистического мира.
После войны Анри Барбюс создает острые политические
памфлеты, пишет публицистические статьи, в которых гневно
разоблачает капиталистический строй.
В своих произведениях, и в частности в романе «Огонь», писатель
раскрывает реакционную сущность религии и церкви. Барбюс
показывает, что в классовом обществе церковь является верной
служанкой капитализма, пособницей в подготовке и ведении
империалистических войн.
677
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ
1883—1945
ЖАН-ПЬЕР БЕРАНЖЕ
1780—1857
Жан-Пьер Беранже — выдающийся французский поэт.
Художник-реалист, продолжатель демократических и прогрессивных
традиций французской литературы.
Всю свою жизнь Беранже боролся против монархии и
духовенства. В песнях Беранже дается яркая сатира на жизнь и нравы
пастырей «стада Христова» — попов, монахов и т. п.
Русская революционно-демократическая критика высоко ценила
свободолюбивую поэзию Беранже. Белинский называл Беранже
«пророком свободы гражданской и свободы мысли».
ДЖОВАННИ БОККАЧЧО
1313—2375
Джованни Боккаччо — итальянский писатель-гуманист эпохи
Возрождения.
Боккаччо был непримиримым врагом церковного мракобесия.
Самое значительное его произведение — книга новелл
«Декамерон». В этой книге Боккаччо с непревзойденным блеском и
остроумием высмеивает католическое духовенство, разоблачая его пороки:
жадность, страсть к наживе, хитрость, сластолюбие.
Одна из таких новелл помещена в настоящей хрестоматии.
ДЖОРДАНО БРУНО
1548—1600
Джардано Бруно — итальянский мыслитель-атеист, смелый
критик схоластики и борец против католицизма. Энгельс называл имя
Бруно среди тех «титанов по силе мысли, страсти и характеру, по
многосторонности и учености», которые были вызваны к жизни
эпохой Просвещения. Блестящий памфлетист, Джордано Бруно
остроумно высмеивает догматы и «таинства» христианской религии, резко
выступает против идеологической диктатуры папства. Католическая
церковь жестоко расправилась с Бруно. После восьмилетнего
тюремного заключения Бруно был сожжен на костре в Риме в присутствии
палы римского и других князей церкви.
Н. ВАСИЛЬЕВ
Род. в 1903 2.
Советский писатель и журналист.
ВОЛЬТЕР
1694—1778
Вольтер — Франсуа-Мари Аруэ — великий французский
писатель, философ, глава старшего поколения французских
просветителей, пользовавшийся огромным влиянием и авторитетом.
678
Разносторонне одаренный, он был одновременно поэтом,
драматургом, романистом, сатириком, публицистом, историком, философом.
Вольтер наложил отпечаток на все просветительское движение
XVIII столетия, которое часто называют «веком Вольтера».
Во многих своих произведениях Вольтер разоблачает
религиозный фанатизм, лицемерие служителей культа и призывает к борьбе
с католической церковью — «гидрой фанатизма» и «чудовищем
суеверия». Литературная деятельность Вольтера во многом содействовала
распространению атеистических воззрений.
САМЕД ВУРГУН
1906—1956
Самед Вургун — выдающийся азербайджанский советский поэт и
драматург.
ЯРОСЛАВ ГАЛАН
1902—1949
Ярослав Александрович Галан — украинский советский писатель.
После воссоединения Западной Украины с Советским Союзом Галан
становится в первые ряды украинских советских писателей, отдает
свой блестящий талант на служение партии и народу.
Особенно значительно литературное наследие Галана в области
художественной публицистики. Многие его памфлеты посвящены
разоблачению центра католической реакции — Ватикана. Широко
известны антипапские памфлеты Галана «Отец тьмы и присные»,
«На службе Сатаны», «Апостол предательства», «Папские слезы»,
«Исшедшие из мрака», «Сумерки чужих богов», «Я и папа» и др.
Начиная с конца двадцатых годов Ватикан через свою агентуру
пытался любыми средствами нейтрализовать деятельность писателя,
выбить перо из его рук. В октябре 1949 г. Галан погиб от рук убийц-
националистов.
ЯРОСЛАВ ГАШЕК
1883—1923
Ярослав Гашек — выдающийся чешский писатель-сатирик.
Произведения Гашека снискали широкую популярность во всем мире.
Гашек был беспощадным обличителем капитализма, политики
милитаризма, выступал против религии и церкви, защищавших
захватнические устремления господствующих классов.
В своем самом крупном произведении «Похождения бравого
солдата Швейка», а также в ряде рассказов Гашек дает целую галерею
служителей культа, пастырей «стада Христова», деятельность
которых является образцом ханжества, лицемерия и самого наглого
обмана.
ГЕНРИХ ГЕЙНЕ
1797—1856
Гейне — великий немецкий поэт, лирик, публицист, сатирик и
мыслитель.
В своих замечательных песнях, поэмах, статьях, путевых
очерках <т беспощадно клеймил буржуазно-помещичью Германскую
империю.
679
В своем творчестве Гейне предстает перед читателем как атеист,
зло высмеивавший религию, жадность и корыстолюбие служителей
культа. Такова, в частности, знаменитая поэма «Диспут», где Гейне
сталкивает капуцина и раввина, представителей двух враждебных
религий, и показывает, что все религии одинаково вредны.
ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ
1749—1832
Иоганн Вольфганг Гете — великий немецкий писатель, поэт и
мыслитель.
Мировую славу принесли Гете роман в письмах «Страдания
молодого Вертера» и центральное произведение, труд всей его жизни —
трагедия «Фауст». В этой трагедии выражены основные стремления
эпохи, дана яркая, убийственная характеристика
феодально-абсолютистской Германии.
Гете не выступал открыто против религии и церкви, однако его
можно назвать атеистом. Об этом свидетельствуют его письма, где он
рекомендует себя как определенного «нехристя», об этом
свидетельствует его «поэтическая исповедь» — величайшее произведение «Фауст»
и, наконец, драматический отрывок о титане-богоборце «Прометей».
Ряд стихотворений Гете также пронизан антирелигиозными
мотивами.
Н. ГИЛЬЯРДИ
Род. в 1905 г.
Русский советский писатель.
МАКСИМ ГОРЬКИЙ
1868—1936
ВИКТОР ГЮГО
1802—1885
Виктор Гюго — французский писатель, автор стихов,
прозаических произведений, драматург, глава французских романтиков,
Гюго — автор многих романов, стихотворений, пьес.
ДЕНИ ДИДРО
1713—1784
Дени Дидро — французский философ-материалист, писатель и
теоретик литературы, редактор знаменитой «Энциклопедии».
В своих замечательных произведениях Дидро подверг
сокрушающей критике деспотизм, религию и церковь. Религия, учил он,— это
средство в руках угнетателей для упрочения своего господства. Он
требовал отнять у церковников их несметные богатства, изгнать их
из школ, лишить мракобесов возможности преследовать науку и
засорять головы людей религиозным дурманом.
В романе «Монахиня» Дидро показал потрясающую картину
морального разложения в среде служителей бога,
680
с. в. диковский
1907—1940
Сергей Владимирович Диковский — советский писатель, автор
многочисленных очерков и рассказов.
АЛЬФОНС ДОДЕ
1840—1897
Альфонс Доде — французский писатель, автор известных романов
«Тартарен из Тараскона», «Тартарен в Альпах», «Порт Тараскона»,
«Сафо», «Евангелистка» и др. В своих произведениях Доде обращается
к описанию современной ему социальной жизни, подвергает критике
буржуазную демократию, буржуазную науку (роман
«Бессмертный»).
Значительное место в творчестве Доде занимает
антиклерикальная тенденция.
П. И. ЗАМОЙСКИЙ
1896—1958
Петр Иванович Замойский — русский советский писатель.
Основная тема его творчества — жизнь советской деревни, ее
социалистическое преобразование. Наиболее значительные его произведения —
автобиографические повести «Подпасок» и «Молодость» и
четырехтомный роман «Лапти».
ЭМИЛЬ ЗОЛЯ
1840—1902
Эмиль Золя — французский писатель, автор большой серии
романов «Ругон-Маккары». В своих произведениях Золя рисует широкую
картину жизни Франции периода Второй империи, дает резкую
критику политического режима Наполеона III, разоблачает
хищничество и паразитизм крупной буржуазии.
Большую роль в творчестве Золя играют антиклерикальные
мотивы.
В. П. ИЛЬЕНКОВ
Род. в 1897 г.
Василий Павлович Ильенков — советский писатель, автор повести
«Солнечный город», романа «Большая дорога» и многочисленных
рассказов.
ГАНС КИРК
Род. в 1898 г.
Ганс Кирк — датский писатель, коммунист, участник
Сопротивления.
Кирк — автор романов «Рыбаки», «Поденщики», «Новые времена»,
«Деньги дьявола», «Клитгорд и сыновья». В этих романах перед
читателем проходит галерея людей, которым принадлежит будущее
Дании, мужественных датских коммунистов, борцов СопротивлениЯе
простых честных людей.
44 Против тьмы
681
В романе «Поденщики» (отрывок помещен в книге) показан
процесс разорения крестьянских хозяйств, убогая и нищая деревня,
раздираемая классовыми противоречиями, опутанная религиозным
дурманом и предрассудками.
ЭГОН ЭРВИН КИШ
1855—1948
Эгон Эрвин Киш — чешский журналист и писатель. Киш —
коммунист, и все его творчество проникнуто ненавистью к угнетению
трудящихся, в том числе и духовному угнетению. Со страниц его
книг встает целая армия специалистов по одурманиванию сознания
трудящихся, начиная с темного монаха, кончая «цивилизованным»
пастырем американской секты.
В своих произведениях Киш неустанно подчеркивает, что
религия служит укреплению власти эксплуататоров.
B. Г. КОРОЛЕНКО
1853—1921
ШАРЛЬ де КОСТЕР
1827—1879
Шарль де Костер — бельгийский писатель, автор одного из
величайших произведений мировой литературы — «Легенда об
Уленшпигеле». Эта книга воспевает освободительную борьбу фламандского
народа против испанской монархии Филиппа II и поддерживавшей ее
католической церкви.
В книге также очень остроумно разоблачаются поповские
«чудеса», бичуются жадность и разврат служителей бога.
М. М. КОЦЮБИНСКИЙ
1864—1913
Михаил Михайлович Коцюбинский — украинский писатель,
демократ. В его произведениях отразилась жизнь украинского народа на
рубеже XIX—XX вв., пробуждение революционного сознания
трудящихся в канун первой русской революции.
В творчестве Коцюбинского сильна антирелигиозная тенденция.
В частности, в рассказе «Ведьма», приводимом в настоящей
хрестоматии, писатель обличает дикое религиозное изуверство.
C. КРУШИНСКИЙ
1900—1959
Русский советский писатель.
А. И. КУПРИН
1870—1938
682
ПОЛЬ ЛАФАРГ
1842—1911
Поль Лафарг — ученик и соратник Маркса и Энгельса,
талантливый популяризатор идей марксизма.
Лафарг — автор многих статей и памфлетов против религии.
Наиболее важные из них «Против бога и капитала», «Причины веры в
бога», «Религия капитала», «Пий IX в раю», «Миф об Адаме и Еве»
и др.
ИВАН ЛЕ
Род. в 1895 г.
Иван Ле (псевдоним Ивана Леонтьевича Мойся) — современный
украинский писатель.
Ле — один из первых украинских писателей, кто дал литературе
образ борца, строителя социализма. Перу Ле принадлежит много
повестей и рассказов. Наиболее крупное произведение писателя —
«Роман Межгорья». Тема романа — социалистическое строительство в
Узбекистане (постройка ирригационной системы), проходящее
в обстановке сложных классовых и национальных отношений. В
романе участвует широкий круг людей: рабочие, крестьяне,
техническая интеллигенция. С беспощадной правдивостью показана также
подрывная деятельность мусульманского духовенства,
стремившегося любой ценой помешать проникновению в деревню социализма.
Л. М. ЛЕОНОВ
Род. в 1899 г.
ДЖЕК ЛОНДОН
1876—1916
Джек Лондон — псевдоним американского писателя Джона
Гриффита. Одно из лучших произведений Лондона — автобиографический
роман «Мартин Идеи» посвящен изображению судьбы талантливого
писателя из народа в буржуазном обществе. Перу Лондона
принадлежит также большое количество рассказов, в которых повествуется
о суровой борьбе людей против жестоких стихий природы.
Атеистическая тематика не занимает • сколько-нибудь значительного места
в творчестве Лондона. Однако некоторые из его рассказов, и прежде
всего «Великий кудесник», имеют, без сомнения, антирелигиозную
окраску.
А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ
1875—1933
Анатолий Васильевич Луначарский — советский государственный
и общественный деятель, один из* видных строителей
социалистической культуры (с 1917 по 1929 г.— народный комиссар просвещения
РСФСР). Луначарский был широко образованным человеком, хорошо
знал искусство, литературу, выступал как литературный критик и
сам был талантливым поэтом и драматургом.
44*
683
В. В. МАЯКОВСКИЙ
1893—1930
В. МИКОЛАЙТИС-ПУТИНАС
Род. в 1893 г.
В. Миколайтис-Путинас — литовский писатель, член Академии
наук Литовской ССР. Литературную деятельность начал как поэт в
1911 г. и вскоре стал одним из известных поэтов Литвы.
В 1930 г. в творчестве Миколайтиса-Путинаса наметился поворот
в сторону реализма. Особенно ярко это сказалось в романе «В тени
алтарей». Роман этот сыграл большую роль не только в творчестве
писателя, но и во всей литовской литературе. Изображая бегство
героя романа (Васариса) из церковного сословия, автор вместе с тем
показывает, как клерикальная среда делает человека лицемерным,
двуличным, учит коварству и обману.
ГИ де МОПАССАН
1850—1893
Ги де Мопассан — известный французский писатель.
Учение в духовной семинарии, где процветали ханжество и
лицемерие, чрезвычайно тяготили будущего писателя. В конце концов он
был исключен за непочтительные стихи о своих духовных
наставниках.
Мопассан — автор огромного количества рассказов, им написано
несколько романов и много статей.
В своих произведениях Мопассан дал уничтожающую сатиру на
нравы буржуазной Франции 70—80-х годов XIX в. С большой силой
показана им реакционная роль религии.
Наиболее яркие антирелигиозные рассказы Мопассана
«Крестины», «Дьявол», «Мощи», «Нормандец», «Исповедь Теодула Сабо»
и др.
А. С. НЕВЕРОВ
1886—1923
Александр Сергеевич Неверов (Скобелев) — один из зачинателей
советской литературы.
Творчество Неверова неразрывно связано с деревней и ярко
отражает классовую борьбу в деревне до и после Великой Октябрьской
революции. Большую часть своих произведений Неверов посвятил
изображению хода революции в деревне и тем изменениям, которые
произошли в жизненном укладе крестьянства.
Значительное место в творчестве писателя занимают
антирелигиозные рассказы, в которых он призывает к революционной
бдительности, разоблачает ловкую маскировку служителей культа,
рядящихся в тогу любви и всепрощения.
684
А. С. НОВИКОВ-ПРИБОЙ
1877—1944
ИЦХОК-ЛЕЙБУШ ПЕРЕЦ
1851—1915
Ицхок-Лейбуш Перец — еврейский писатель, поэт, драматург и
публицист.
Описывая тяжелую жизнь бедноты, писатель показал, как зреет
протест против эксплуатации, эксплуататорского строя. В
произведениях Переца есть немало антирелигиозных страниц.
Помещаемый рассказ «Трубка цадика» описывает быт,
существовавший во многих еврейских семьях: муж целыми днями изучает
«священное писание», а пропитание семье доставляет «низшее
существо» — жена.
ЛУИДЖИ ПИРАНДЕЛЛО
1867—1936
Луиджи Пиранделло — итальянский писатель, автор романов
«Отверженная», «Покойный Матти», «Вертится» и др.
Перу Пиранделло принадлежит большое количество новелл
гротескного характера, в которых дается острая критика уродливой
социальной действительности.
Во многих новеллах Пиранделло раскрывает,,какими средствами
орудуют церковники, чтобы держать в беспрекословном повиновении
забитые, угнетенные массы трудящихся.
С. П. ПОДЪЯЧЕВ
1866—1934
Семен Павлович Подъячев — русский писатель. А. М. Горький
называл его «правдивым и бесстрашным другом людей».
Деревенский бедняк, Подъячев осмелился в условиях царского
строя заняться писательским делом. Почти все произведения Подъя-
чева посвящены деревне. Писатель бесстрашно рисовал
дореволюционную деревню, убогую и нищую, раздираемую классовыми
противоречиями, опутанную религиозным дурманом и предрассудками.
Подъячев хорошо понимал значение борьбы с религиозным
дурманом. В ряде рассказов писатель изобличает служителей культа,
показывает, как беззастенчиво они обманывают народ, доводят
людей до изуверства и преступлений (рассказ «Богомольцы»).
ЭЖЕН ПОТЬЕ
1816—1887
Эжен Потье — французский пролетарский поэт, автор
«Интернационала».
Творчество Потье неотделимо от революционной борьбы
французского и международного пролетариата. Недаром Ромен Роллам
говорит о Потье, что сила поэта не только в его талантливых
стихотворениях, но и в том, «какие огромные силы были приведены в
действие его словами».
085
„ Большое количество стихотворений Потье посвящены
разоблачению религии, лживых проповедей служителей культа.
М. М. ПРИШВИН (
1873—1954
Михаил Михайлович Пришвин — современный советский
писатель.
Творчество Пришвина неразрывно связано с его
странствованиями и путешествиями в качестве охотника, этнографа, краеведа,
газетного корреспондента. Как писателя Пришвина отличает высокая
культура поэтической речи, простота и точность, соединенная <:
красочностью и выразительностью.
Большой интерес представляют его яркие зарисовки быта
сектантов.
А. С. ПУШКИН
1799—1837
" РОМЕН РОЛЛАН
1866—1944
Ромен Роллан — французский писатель. Создал ряд
драматических произведений («Робеспьер», «Дантон»), романы («Жан Кристоф»,
«Очарованная душа»), а также несколько художественных биографий,
посвященных великим деятелям искусства («Жизнь Бетховена», «Ми-
ке ль-Анджел о», «Жизнь Толстого» и др.).
Повесть «Кола Брюньон» занимает в творчестве Ромена Роллана
особое место как по стилю, так и по содержанию. В этом
произведении Роллан ярко отразил своеобразие характера французского
народа, его скептицизм по отношению к мистике и религиозным догмам.
ФРАНКО САККЕТТИ
(Ок. 1330—1400)
Франко Саккетти — итальянский новеллист, флорентиец по
рождению.
Саккетти — автор большого количества новелл (около 258), в
которых представлены все слои флорентийского общества, в том числе
и служители церкви. Последние выведены как невежды, хищники,
обманщики, как люди, лишенные всякого понятия о чести. В своих
новеллах Саккетти резко выступает против религиозных суеверий,
против «святынь», сфабрикованных самими церковниками, против
паломничества и мнимых «чудес»,
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
1826—1889
Л. Н. СЕЙФУЛЛИНА
1889—1954
Лидия Николаевна Сейфуллина — советская писательница.
Своими произведениями Сейфуллина вписала новую страницу
(386
в историю советской литературы. Одной из первых писательница
создала образ революционного народа, запечатлела грандиозные
явления современности.
В своем творчестве Сейфуллина неоднократно касалась вопросов
религии.
А. С. СЕРАФИМОВИЧ
1863—1949
С. М. СТЕПНЯК-КРАВЧИНСКИЙ
1851—1895
Сергей Михайлович Кравчинский (литературный псевдоним —
Степняк) — один из представителей плеяды революционеров 70-х
годов XIX столетия.
Жизнь и творчество Кравчинского целиком были посвящены
борьбе за освобождение народа от гнета эксплуататоров. Первым
крупным произведением писателя явилась книга очерков
«Подпольная Россия».
Перу Кравчинского принадлежат романы «Андрей Кожухов»,
«Штундист Павел Руденко», повесть «Домик на Волге», рассказы,
сказки.
В нашу хрестоматию включен отрывок из романа «Штундист
Павел Руденко». Отрывок посвящен описанию деятельности
сектантов-баптистов.
СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ
2869—1937
Сулейман Стальский (С. Гасанбеков) — лезгинский ашуг,
народный поэт Дагестана.
МАРК ТВЕН
1835—1910
,Марк Твен (псевдоним Самюэля Ленгхорна Клеменса) — один
из классиков американской литературы.
Творчество Твена демократично в своей основе; он с неизменным
сочувствием относится к простым труженикам, к народу и резко
критически к капитализму и империализму.
Марк Твен — автор нескольких романов, многих рассказов и
статей.
В ряде своих произведений Твен подвергает резкой критике и
осмеянию религиозную мораль, показывает с непревзойденным
остроумием нелепость религиозных представлений, веры в «чудеса» и т. п.
Таким, в частности, является его рассказ «Визит капитана Сторм-
фильда на небеса», написанный в 1868 г. и опубликованный в
1909 г.
СТЕПАН ТУДОР
1892—1941
Степан Иосифович Олексюк-Тудор — писатель Западной Украины.
Когда в сентябре 1939 г. произошло воссоединение украинского
народа, Степану Тудору выпало счастье в качестве депутата Народного
Собрания голосовать за этот великий исторический акт. Тудор пишет
687
вдохновенные стихи, проникнутые большевистской воинственностью
и советским патриотизмом («Двум бойцам», «Песня Катерины», «Враг»
и др.).
Самым крупным произведением Степана Тудора является роман
«День отца Сойки», в котором он создал образ униатского священника
Сойки, верного холопа папского Рима, кулацкого выкормыша,
ненавидящего трудовой народ.
В. ФИНК
Род. в 1904 г.
Советский писатель.
ИВАН ФРАНКО
1856—1916
Иван Яковлевич Франко — выдающийся украинский писатель.
Энциклопедически образованный человек, крупный ученый, поэт,
прозаик-повествователь, драматург, переводчик, историк и теоретик
литературы, критик, фольклорист, общественный деятель — он во
всем был смел и самобытен.
Произведения Франко вошли в сокровищницу украинской
культуры. Его перу принадлежит свыше четырех тысяч произведений.
Во многих своих произведениях Франко показывает, какой вред
приносит религия народу, бесстрашно бичует религиозное мракобесие,
ханжество «духовных отцов», их коварные уловки и приемы.
ЯН ФРИДЕГОР
Род. в 1897 г.
Як Фридегор — один из крупнейших современных прозаиков
Швеции. Фридегор известен своими романами и рассказами из
жизни батраков и городского пролетариата. В его произведениях
даны реалистические картины жизни трудового народа. Большинство
его произведений — автобиографичны.
С большой теплотой и симпатией изображает писатель близкий
его сердцу мир простых людей, показывает их труд, заботы, радость
и горе. Фридегор показывает также, как религия вредит народу,
стремится удержать его в темноте и невежестве. С меткой иронией
рисует писатель ханжество и тупоумие церковников, их стремление
при всяком удобном случае напустить религиозного тумана (рассказ
«Рождественская крыса»).
КАРЕЛ ЧАПЕК
1890—1938
Карел Чапек — чехословацкий писатель-сатирик. Во многих своих
произведениях критикует капиталистический строй. Начиная с 30-х
годов становится в ряды демократических писателей, открыто
выражая симпатии Советскому Союзу. Некоторые рассказы Чапека
посвящены разоблачению евангельских мифов о Христе, воскрешении из
мертвых и т. п,
А. П. ЧЕХОВ
1860—2904
688
ИОН ЧОБАНУ
Род. в 1927 г.
Молдавский советский писатель.
АНДРЕЙ УЛИТ
Род. в 1877 г.
Андрей Упит — латышский писатель, романист, поэт, драматург,
сатирик, критик.
Упит является одним из крупнейших представителей
реалистического направления в современной латышской литературе. В своих
романах, новеллах, рассказах Упит беспощадно раскрывает
эксплуататорскую сущность буржуазного строя.
Особое место в произведениях Упита занимает серия
сатирических рассказов о церковниках, объединенная в книгу «Рассказы о
пастырях». Один из рассказов помещается в настоящей хрестоматии.
ОМАР ХАЙЯМ
(Ок. 1040—1123)
Омар Хайям — выдающийся персидский поэт, астроном,
математик, мыслитель.
В своих стихах Омар Хайям отрицает божественную гармонию и
благодетельность божественного промысла, издевается над
религиозными ханжами.
Многие из его ярких и остроумных четверостиший направлены
Против основ мусульманской религии.
АЛЕКСАНДР ХЬЕЛЛАНН
1849—1906
Александр Хьелланн — норвежский писатель. Наряду с
крупнейшими современными ему писателями Норвегии — Генриком Ибсеном,
Бьернсоном и Иунасом Ли — Хьелланн входит в так называемую
четверку великих.
Среди романов, написанных Хьелланном («Шкипер Ворше»,
«Трудовой люд» и др.), должна быть особо отмечена трилогия «Яд»,
«Фортуна» и «Праздник Иванова дня». Последний роман с огромной силой
разоблачает подлую, антинародную деятельность католической
церкви.
ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ
1859—1916
Шолом Алейхем — Шолом Нохумович Рабинович — еврейский
писатель-юморист.
Основная тема творчества Шолома Алейхема — судьба
«маленького человека». Горячие симпатии к униженным, ненависть к
богачам-мироедам — вот что отличает творчество писателя. В его
произведениях немало места уделено антирелигиозным мотивам. В ряде
рассказов разоблачается вред религии, продажность духовенства,
заправил еврейских религиозных общин, жиреющих за счет
угнетенной, ограбленной, нищей массы. Антирелигиозная тема является
неотъемлемой частью всего творчества Шолома Алейхема,
689
Н. А. ШПАНОВ
Род. в 1896 г.
Русский советский писатель.
ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ
Род. ок. 1466 г.
Ум. в 1536 г.
Эразм Роттердамский — Дезидерий Эразм, прозванный
Роттердамским,— немецкий писатель-гуманист, один из передовых
представителей немецкого Просвещения.
Литературное наследие Эразма значительно и многообразно. Ему
принадлежит ряд сочинений на богословские, философские темы.
В историю мировой литературы Эразм вошел прежде всего как автор
сатирического памфлета «Похвальное слово глупости».
В этой знаменитой книге Эразма, отрывок из которой помещается
в книге, остроумно критикуется тогдашнее общество, бичуются
различные суеверия, религиозный обскурантизм.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие . . . .' 5
СВЯЩЕННАЯ ЗАРАЗА
Омар Хайям. Четверостишия. Перевод О. Румера . . * . 9
Эразм Роттердамский. Похвала глупости (отрывок).
Перевод П. Губера ....**.* 12
Джордано Бруно. Похвала ослу. Перевод И. Шифферса 15
Ф.-М. Вольтер. О фанатизме (отрывок). Перевод И. Гринев-
ской 16
И.-В. Гете. Странствующий колокол. Перевод О. Румера . . 18
Ж.-П. Беранже. Миссионеры. Перевод И. Тхоржевского . . 19
Г. Гейне. Брось свои иносказанья. Перевод М. Михайлова . . 21
Г. Гейне. Германия. Зимняя сказка (отрывок). Перевод
В. Левика 22
Г. Гейне. Диспут. Перевод А. Дейча 24
Э. Потье. Носитель святой воды. Перевод А. Мушниковой . . 37
Марк Твен. Визит капитана Стормфильда на небеса. Пере-
вод С. Займовского 38
Карел Чапек. Марфа и Мария. Перевод Н. Аросевой . . 56
Ян Фридегор. Рождественская крыса. Перевод Ю. Яхииной 61
A. С. Пушкин. Гавриилиада (отрывок) 67
М. Е. Салтыков-Щедрин. История одного города (отрывок) 73
B. Г. Короленко. За иконой (отрывок) 88
Иван Франко. Как Русин на том свете слонялся. Перевод
А. Деева « 92
М. Горький. Две сказки * 103
М. Горький. (Об Иоанне Кронштадтском) 105
C. Подъячев. Богомольцы . < 111
Демьян Бедный. Крыса преосвященная 114
П. Замойский. Трепет . • • * 117
В. Маяковский. Ханжа ♦ 123
691
ТАЙНА СВЯТЫХ ЧУДЕС
Джованни Боккаччо. Сер Чаппеллетто обманывает
лживой исповедью... Перевод А. Веселовского 129
Франко Саккетти. Монах Таддео Дини... Перевод А.
Габричевского 138
Франко Саккетти. Когда священник несет святые дары...
Перевод А. Габричевского 140
Ж.-П. Беранже. Мощи. Перевод Вс. Рождественского . . . 142
Шарль де Костер. Тиль Уленшпигель (отрывок). Перевод
М. Зотиной * 144
Г и де М оп а с с а н. Нормандец. Перевод В. Чеботаревской . * 156
Джек Лондон. Великий кудесник. Перевод Е. Калашниковой 162
Ярослав Гашек. Чудо св. Эвергарда. Перевод Ю. Молоч-
ковского 173
Ярослав Гашек. Уши св. Мартина. Перевод Ю. Молочков-
ского 179
Карел Чапек. О пяти хлебах. Перевод Н. Аросевой . . . 187
Карел Чапек. Лазарь. Перевод Н. Аросевой 190
Эгон ЭрвинКиш. Я купаюсь в чудотворной воде. Перевод
А. Могильницкого 193
И.-Л. Перец. Трубка цадика. Перевод Г. Маргулиса .... 199
А. С. Серафимович. Чудо ♦ » 203
Леонид Леонов. Петушихинский пролом (отрывок) . . . 206
В ПЛЕНУ СУЕВЕРИЙ
Ф.-М. Вольтер. Простак (отрывок). Перевод Э. Гуревича . 217
Ромен Роллан. Кола Брюньон (отрывок). Перевод М.
Лозинского . . . .*.«»»»,••>,*....» 222
А. П. Ч е х о в. Не судьба! ...,....• ь 229
А. С. Серафимович. Таинство святого причащения . . . 233
A. У п и т. Рассказ про пастора. Перевод Э. Сильмана .... 236
М. Пришвин. Колдуны » . » . . . , 244
B. Маяковский. Чье рождество? ..*.««..... 251
В.Маяковский. Товарищи крестьяне, вдумайтесь раз хоть —
зачем крестьянину справлять пасху? ......... 253
В. Маяковский. Крестить — это только попам рубли скрести 255
В. Маяковский. Кому и на кой ляд целовальный обряд . . 258
В. Маяковский. Крестьяне, собственной выгоды ради
поймите— дело не в обряде . » 262
В. Маяковский. Ни знахарство, ни благодать бога в
болезни не подмога й » 265
Демьян Бедный. Верная примета , . . . 268
692
РЕЛИГИЯ И ЖЕНЩИНА
Дени Дидро. Монахиня (отрывок). Перевод Н. Соболевского 273
Ганс Кир к. Поденщики (отрывок). Перевод А. Кобецкой и
С. Фридлянд 286
А. П. Чехов. Грешник из Толедо 292
М. Коцюбинский. Ведьма. Перевод Е. Егоровой 297
Иван Л е. Роман Межгорья (отрывок). Перевод К. Трофимова 315
Демьян Бедный. Не заступайте дороги женщинам . . . 331
Самед Вургун. Слово о колхознице Басти (отрывок).
Перевод А. Адалис 332
A. И. Куприн. «Ханжушка» , » . . . s 336
B. Маяковский. Шесть монахинь s . 340
В ТЕНИ АЛТАРЕЙ
Эмиль Золя. Воздержание. Перевод Т. Ириновой 345
Альфонс Доде. Эликсир его преподобия отца Гоше.
Перевод Н. Татариновой . . * * 350
Л. Пиранделло. Счастливцы. Перевод Я. Лесюка ..... 359
Ярослав Гашек. Похождения бравого солдата Швейка
(отрывок). Перевод П. Богатырева . 368
B. Миколайтис-Путинас. В тени алтарей (отрывок).
Перевод С. Аксеновой и 3. Федоровой 373
М. Горький. В людях (отрывки) < * . ~. 384
Леонид Андреев. Правила добра (отрывок) 391
C. Стальский. Муллы (отрывок) 406
Шолом Алейхем. Меламед Бойаз. Перевод Д. Волкенштейпа 408
A. С. Неверов. Старый и новый стиль . , 413
Л. Шейнин. Отец Амвросий 416
Демьян Бедный. «Спи — отдыхай!» 422
B. Ильенков. За канавой 425
СЕКТАНТСКАЯ ПАУТИНА
C. Степняк-Кравчинский. Штундист Павел Руденко
(отрывок) , 433
М. Горький. Жизнь Клима Самгина (отрывки) 447
Л. Сейфуллина. Перегной (отрывок) 458.
М. Пришвин. Скрытники 465
Н. Васильев. Америка с черного хода (отрывок) 475
Сергей Крушинский. Теплые горы (огрывотс) 484
Виктор Финк. Гибель мира (отрывок) . . ." 491
В. Маяковский. Надо бороться ...,.**•••• » 497
693
ВЛАСТЯМ ПРЕДЕРЖАЩИМ
Ж.-П. Беранже. Добрый бог. Перевод Вс. Рождественского 503
Виктор Гюго. Работа пленных. Перевод Г. Шенгели .... 505
Марк Твен. Военная молитва. Перевод Т. Кудрявцевой . . 507
Марк Твен. Письмо ангела. Перевод М. Абкиной 511
Поль Лафарг. Молитвы капиталиста. Перевод под ред.
Давыдовой 517
Александр Хьелланн. Праздник Иванова дня (отрывок).
Перевод Н. Лунгиной ■. 518
Анри Барбюс. В огне (отрывок). Перевод В. Париаха . . . 532
А. В. Луначарский. Девятое января 536
А. С. Серафимович. Бунт (отрывок) 542
A. Новиков-Прибой. Цусима (отрывок) 548
Н. Островский. Рожденные бурей (отрывок) 553
ЧЕРНАЯ ТЕНЬ ВАТИКАНА
Ж.-П. Беранже. Смерть сатаны. Перевод И. Тхорэюевского 559
Поль Лафарг. Пий IX в раю (отрывок). Перевод Давыдовой 561
Иван Франко. Чума (отрывок). Перевод И. Дорбы .... 567
Степан Тудор. День отца Сойки (отрывки). Перевод В. Тар-
сиса 578
Ярослав Галан. Исшедшие из мрака 593
Ярослав Г а л а к. Я и папа. Перевод Л. Шапиро 602
Николай Шпанов. Ученик чародея (отрывок) 605
ТАК БЫЛО, ТАК НЕ БУДЕТ
Иван Л е. Роман Межгорья (отрывок). Перевод К. Трофимова 615
Ион Чобану. Кодры. Перевод В. Пасъко и В. Сугоняй . . . 635
С. Диковский. Случай в селе Грушевке % 641
Н. Г и л ь я р д и. Уйгун 652
Демьян Бедный. Так было, но так не будет вновь .... 662
B. Маяковский. Про Феклу, Акулину, корову и бога . . . 663
В. Маяковский. Прошения на имя бога — в засуху не
подмога ................ 666
В. Маяковский. Про Тита и Ваньку, случай,
показывающий, что безбожнику много лучше 668
В. Маяковский. Два опиума 670
В. Маяковский. Долой 673
Примечания . . . , 675
ПРОТИВ ТЬМЫ
Атеистическая хрестоматия
Редактор Ф. Гаркавенко
Художник Г. Семиреченко
Художественный редактор Н. Симагин
Технический редактор А. Данилина
Ответственные корректоры Э. Володина
и В. Луковецкая
Сдано в набор 26 ноября 1959 г. Подписано в печать 26 декабря
1960 г. Формат 60 X 92Vie. Физ. печ л. 43'/а + 7/з вклейки. Условн.
печ. л. 443/в. Учетно-изд. л. 35,84. Тираж 60 тыс. экз. А 01552.
Заказ J\fe 1140. Цена 1 р. 13 к.
Госполитиздат, Москва. Д-47, Миусская пл., д. 7
Типография «Красный пролетарий» Госполитиздага Министерства
культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16,
5 БЛИЖАЙШЕЕ 5РЕМЯ
ГОСПОЛИТИЗДАТОМ БУДУТ ВЫПУЩЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ И БРОШЮРЫ
ПО ВОПРОСАМ НАУЧНОГО АТЕИЗМА
Комаров В. Н. Чудесные явления на небе
(Беседы о религии и науке, 4 п. л.).
РубакинН. А. Среди тайн и чудес (15 п. л.).
Митрохин Л. Н. Религиозная «наука жизни»
(Научно-популярная библиотечка по
атеизму, 8 п. л.).
БартошевичЭ. М. и
Борисоглебский Е. И. Во имя бога Иеговы
(8 п. л.).
КовалевС. И. и
Кубланов М. М. Находки в Иудейской пустыне
(Научная библиотека атеиста, 6 п. л.).
Л. Таксиль. Забавная библия (30 п. л.).
Кубланов М. М. Мудрецы древности о религии
(Научно-популярная библиотечка по
атеизму, 5 п. л.).