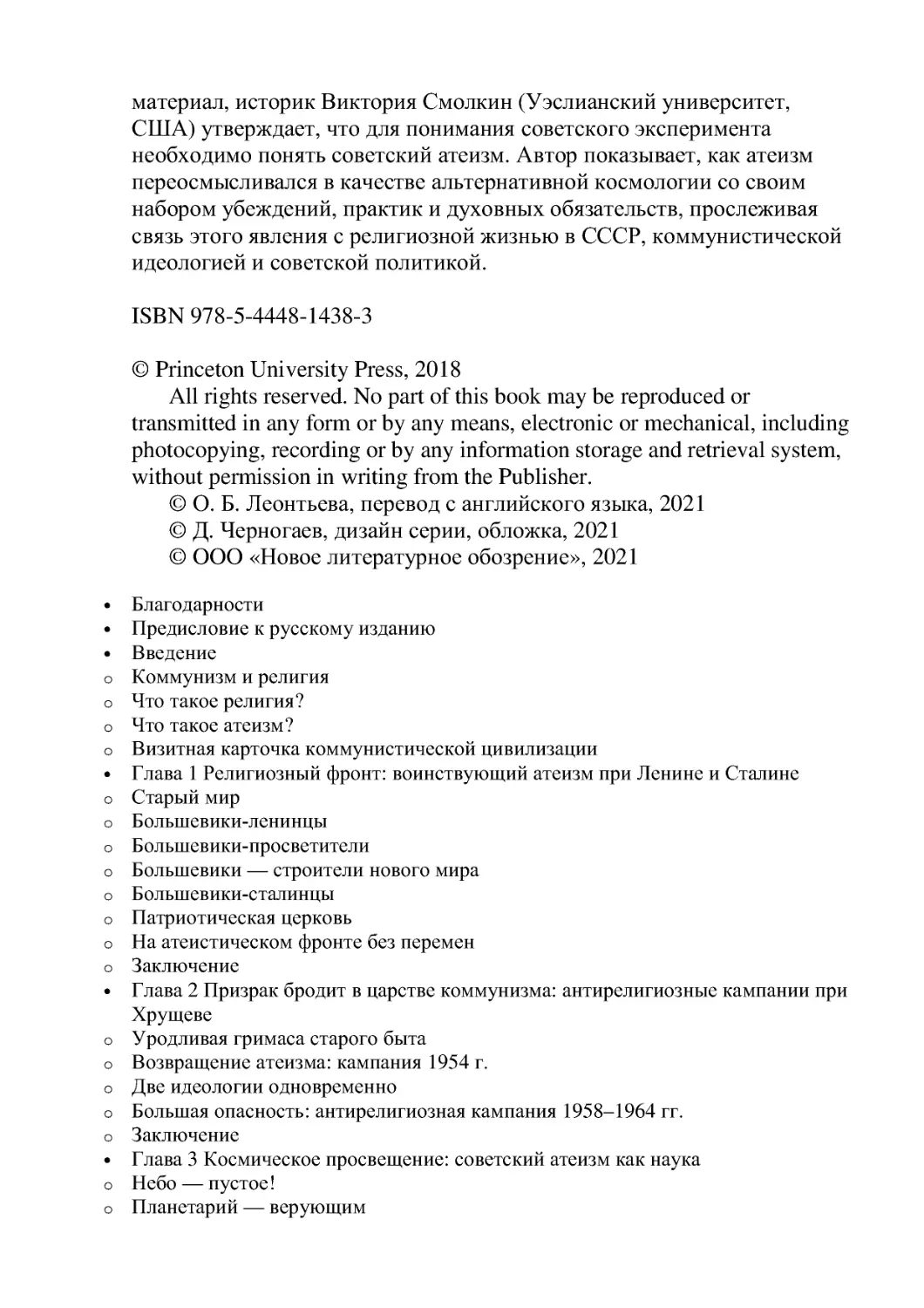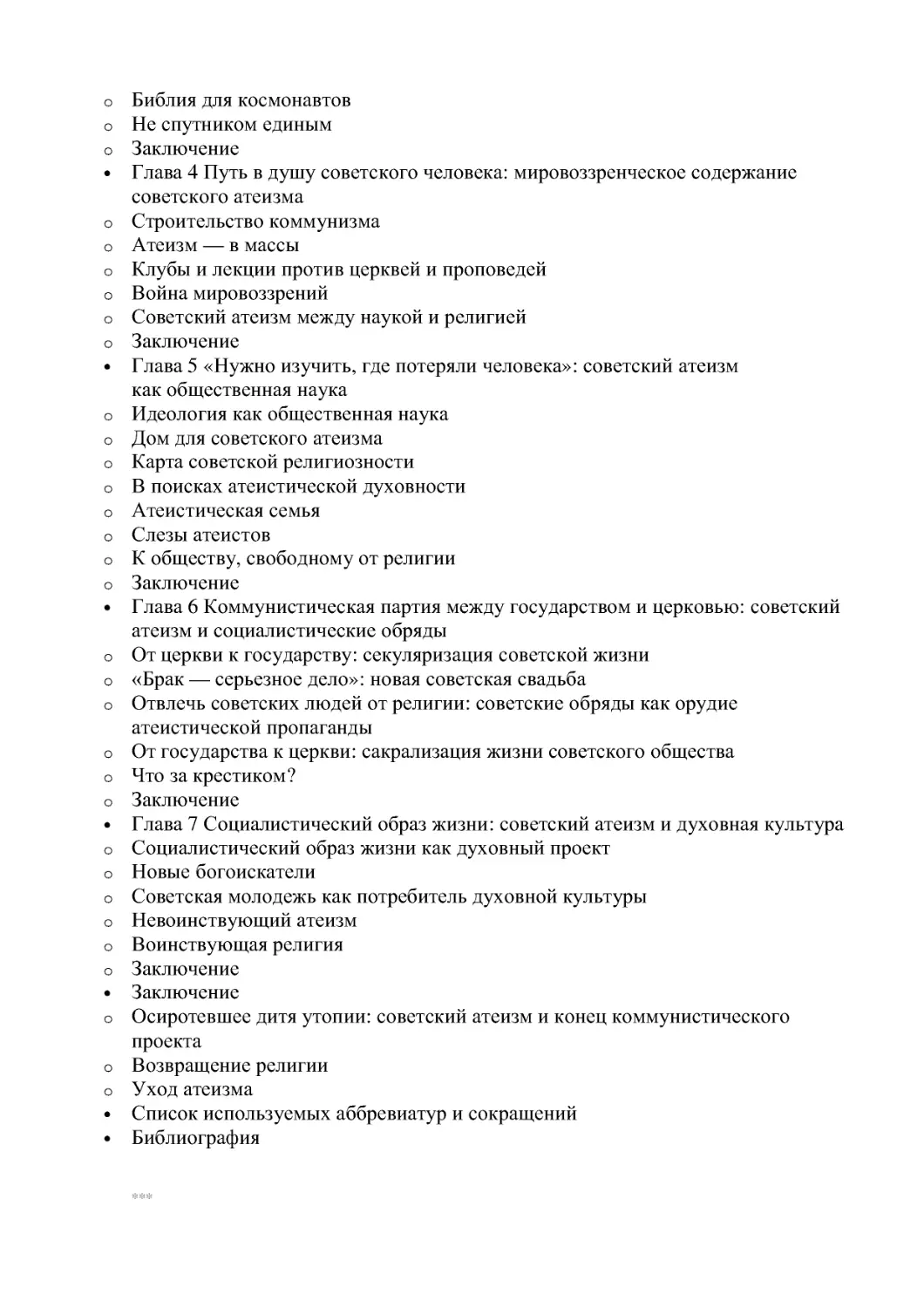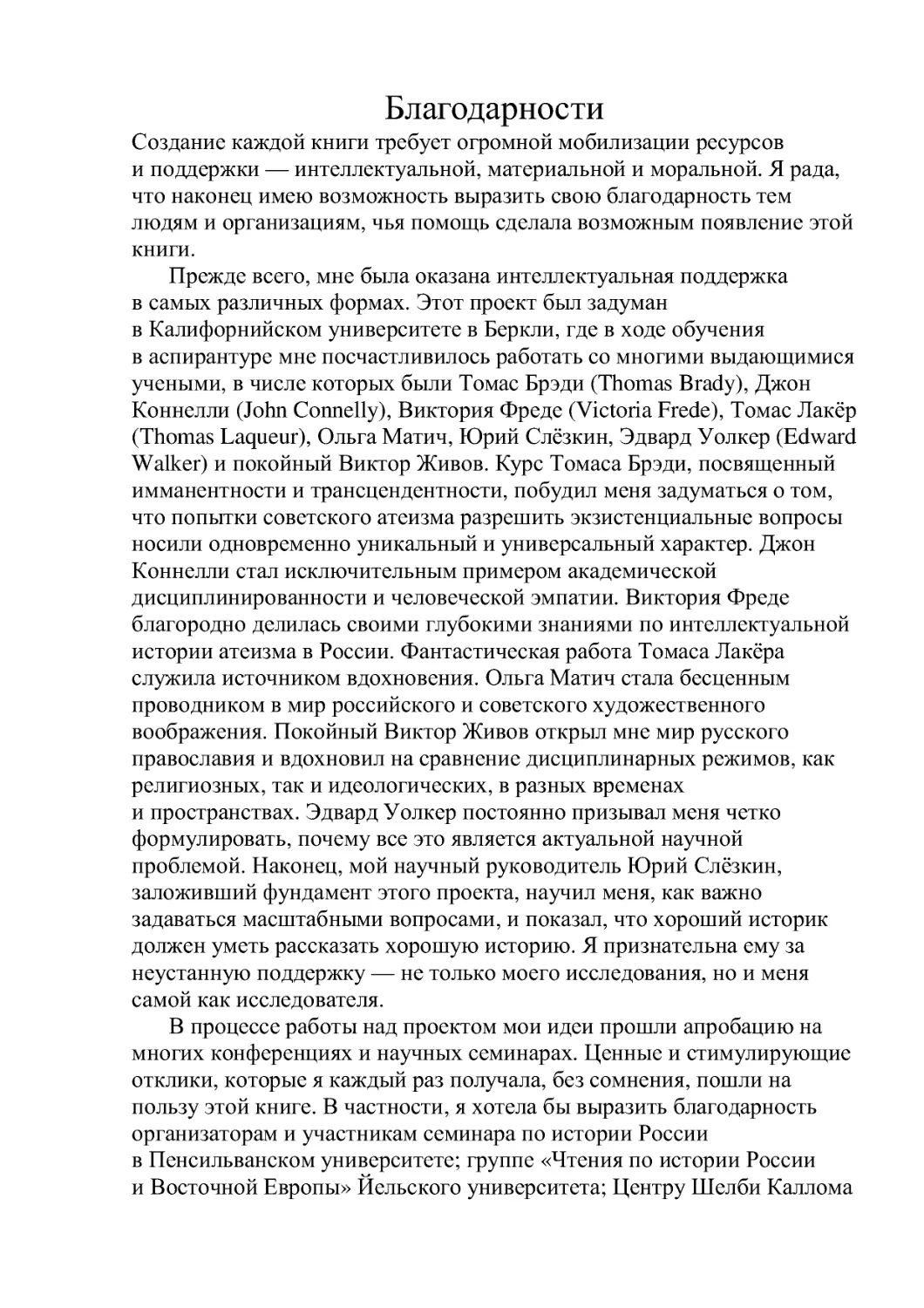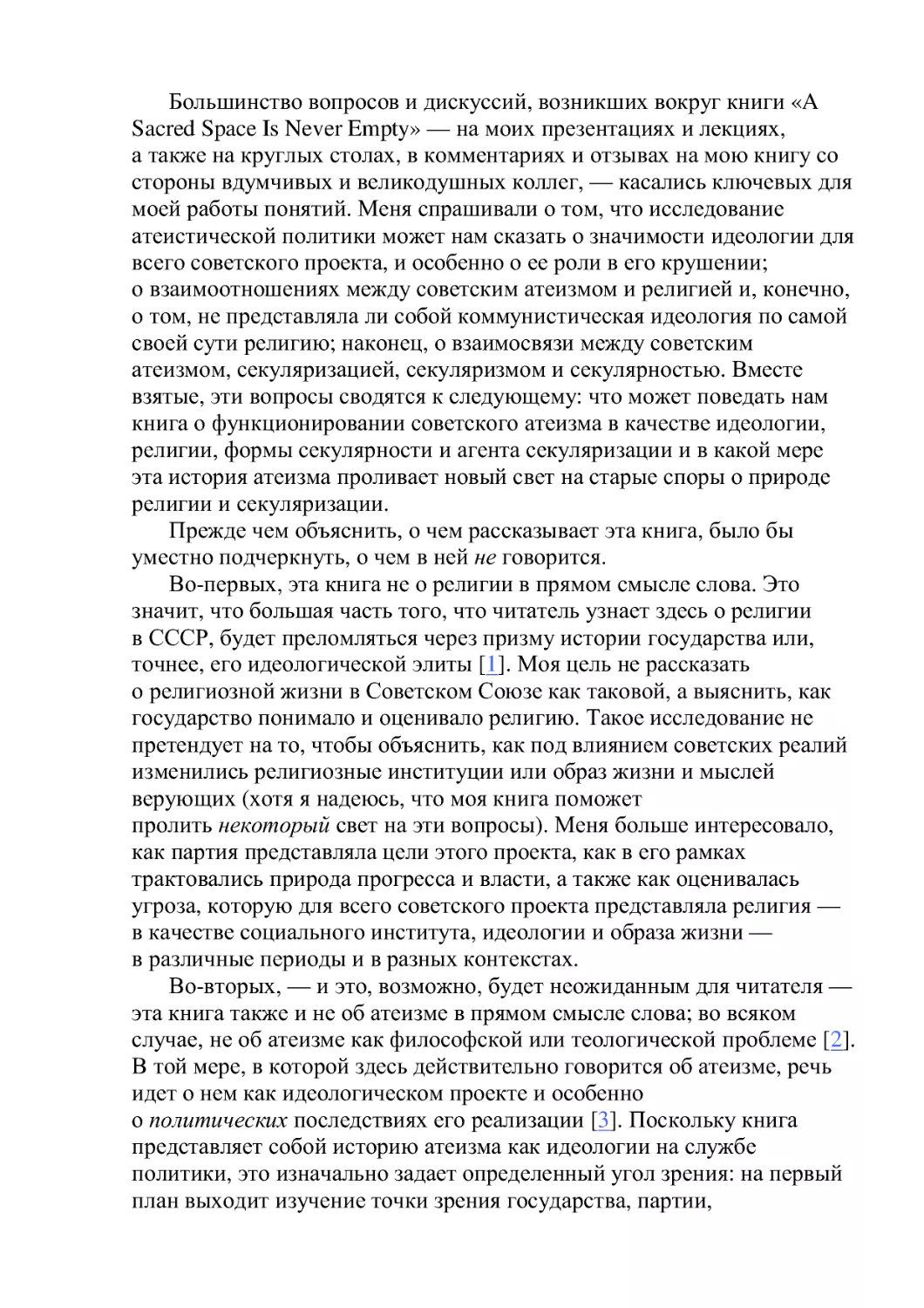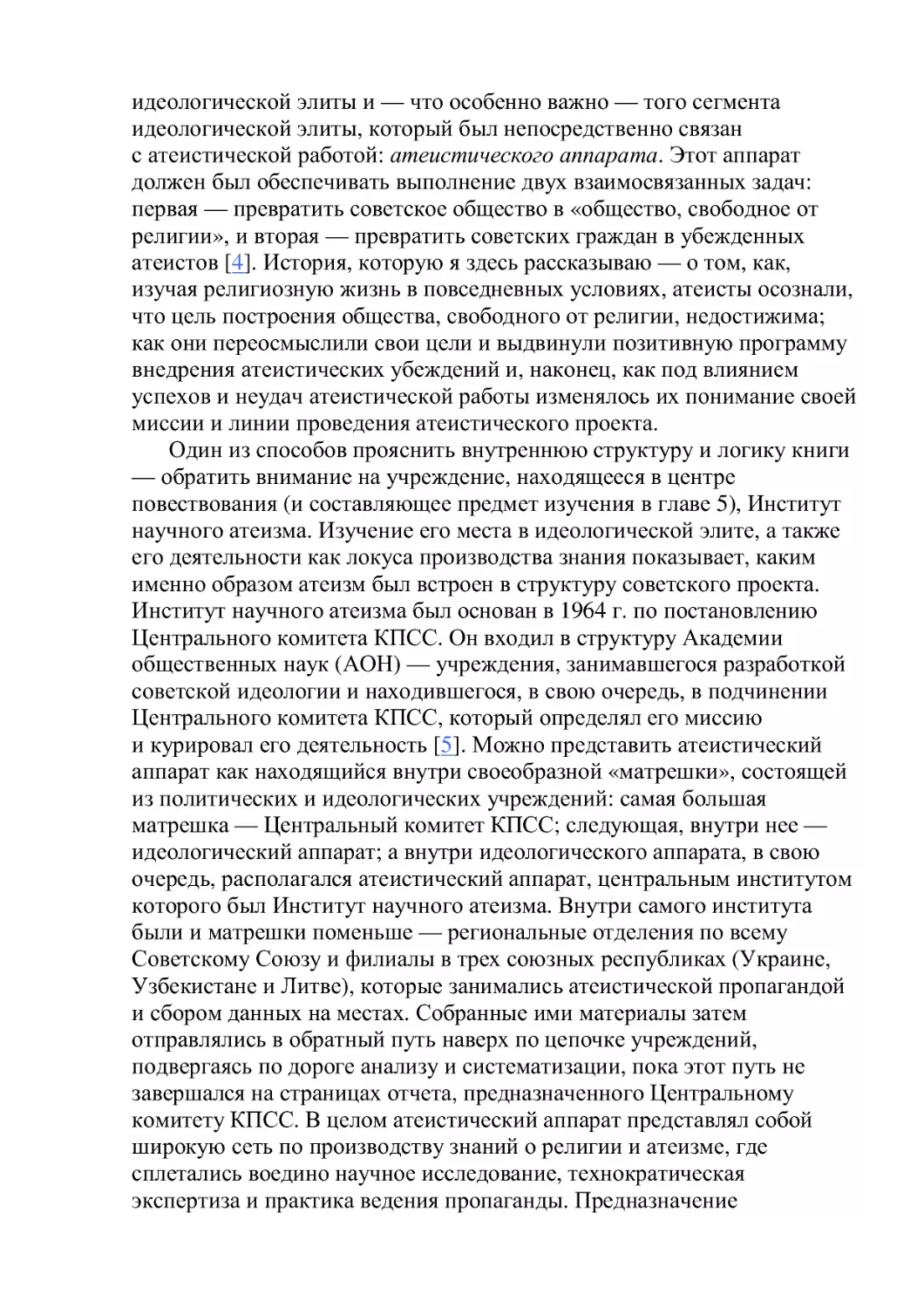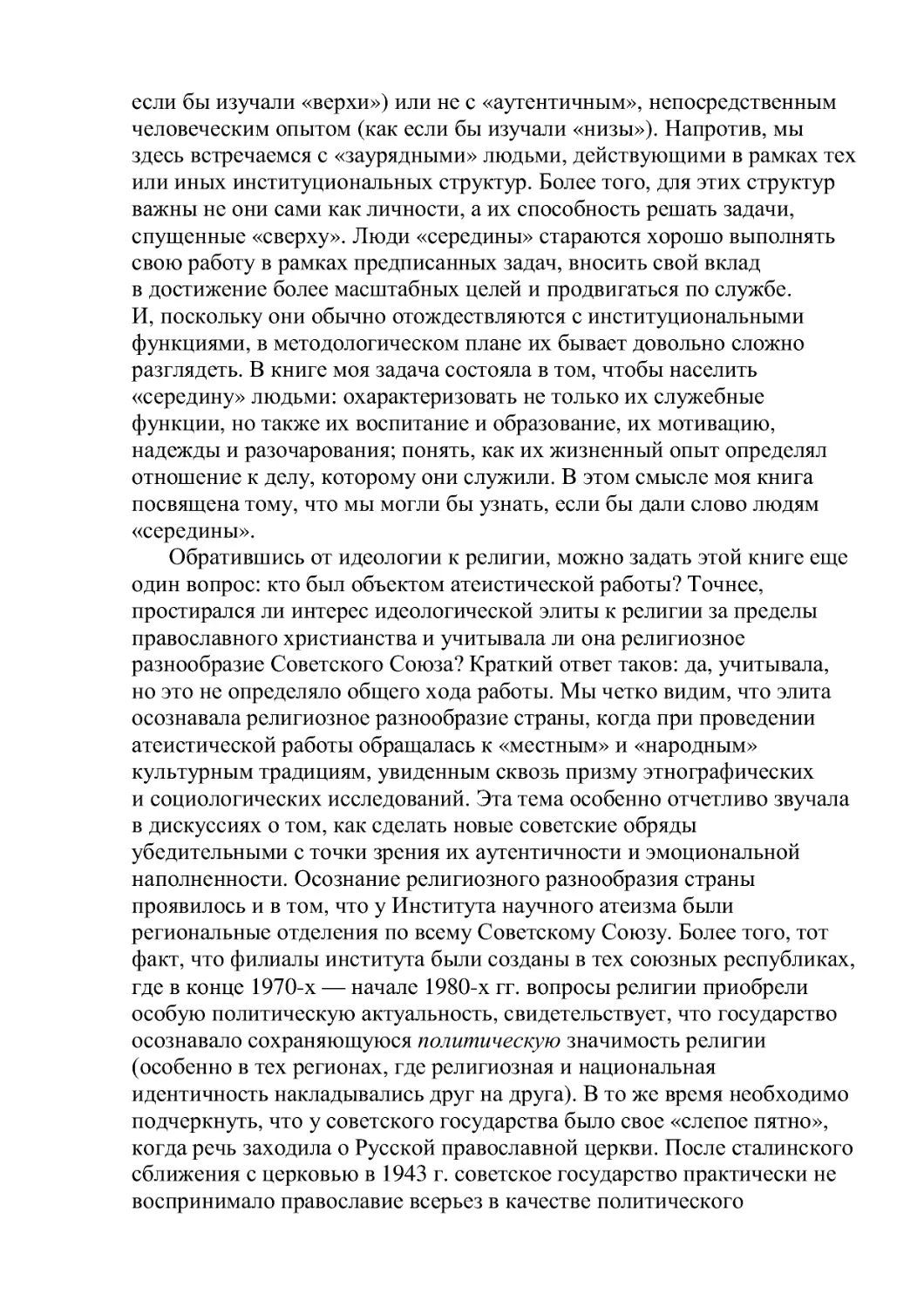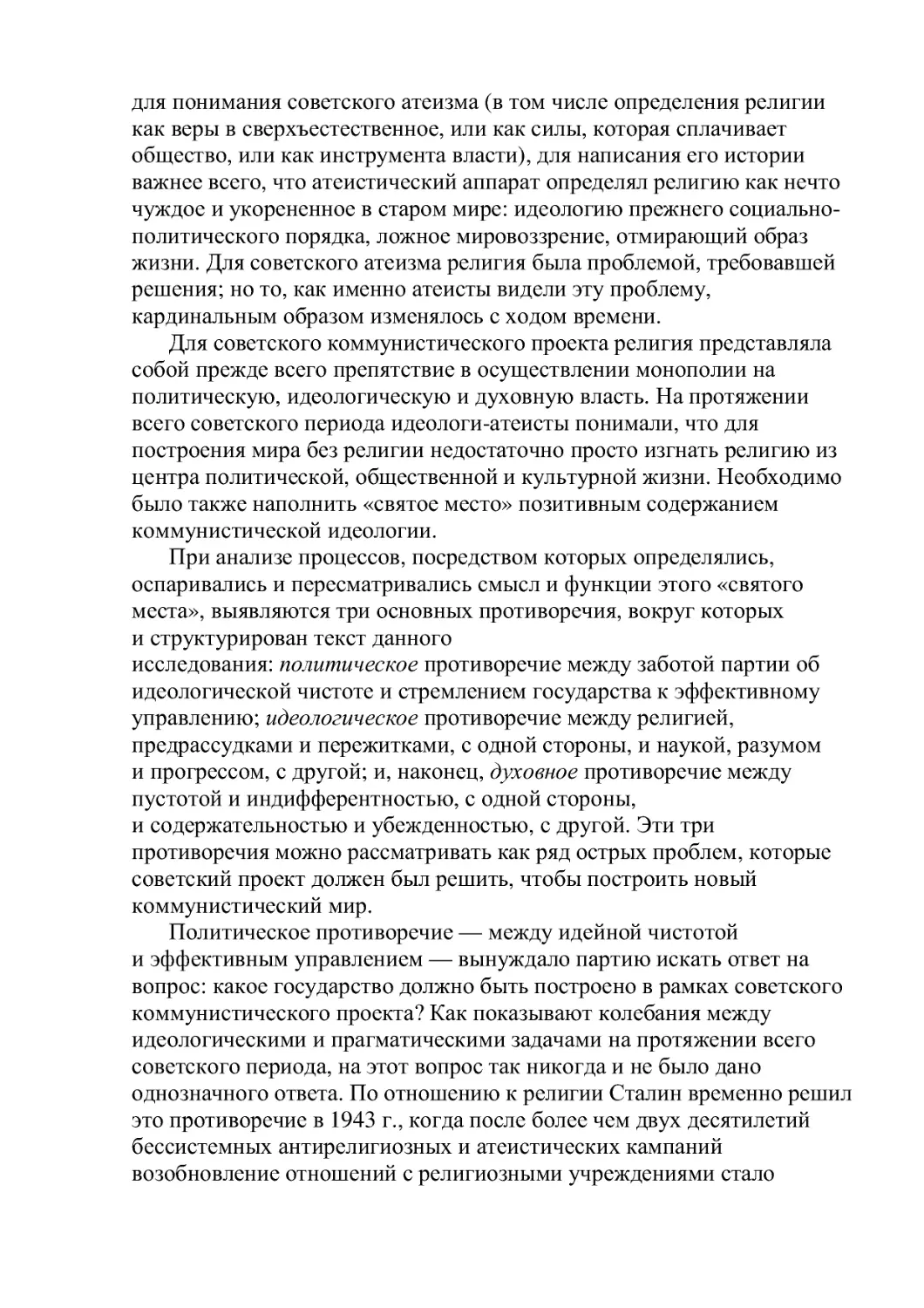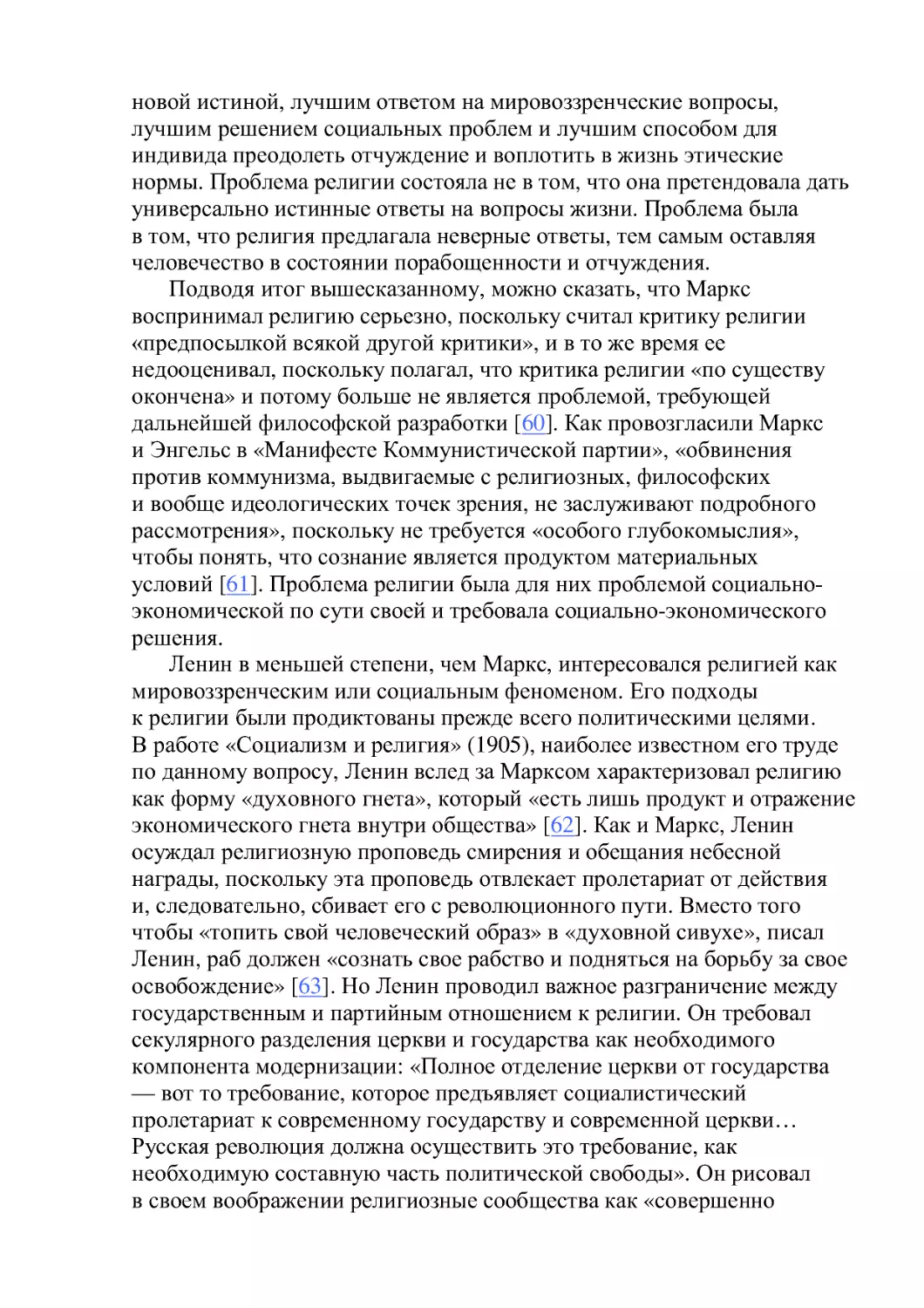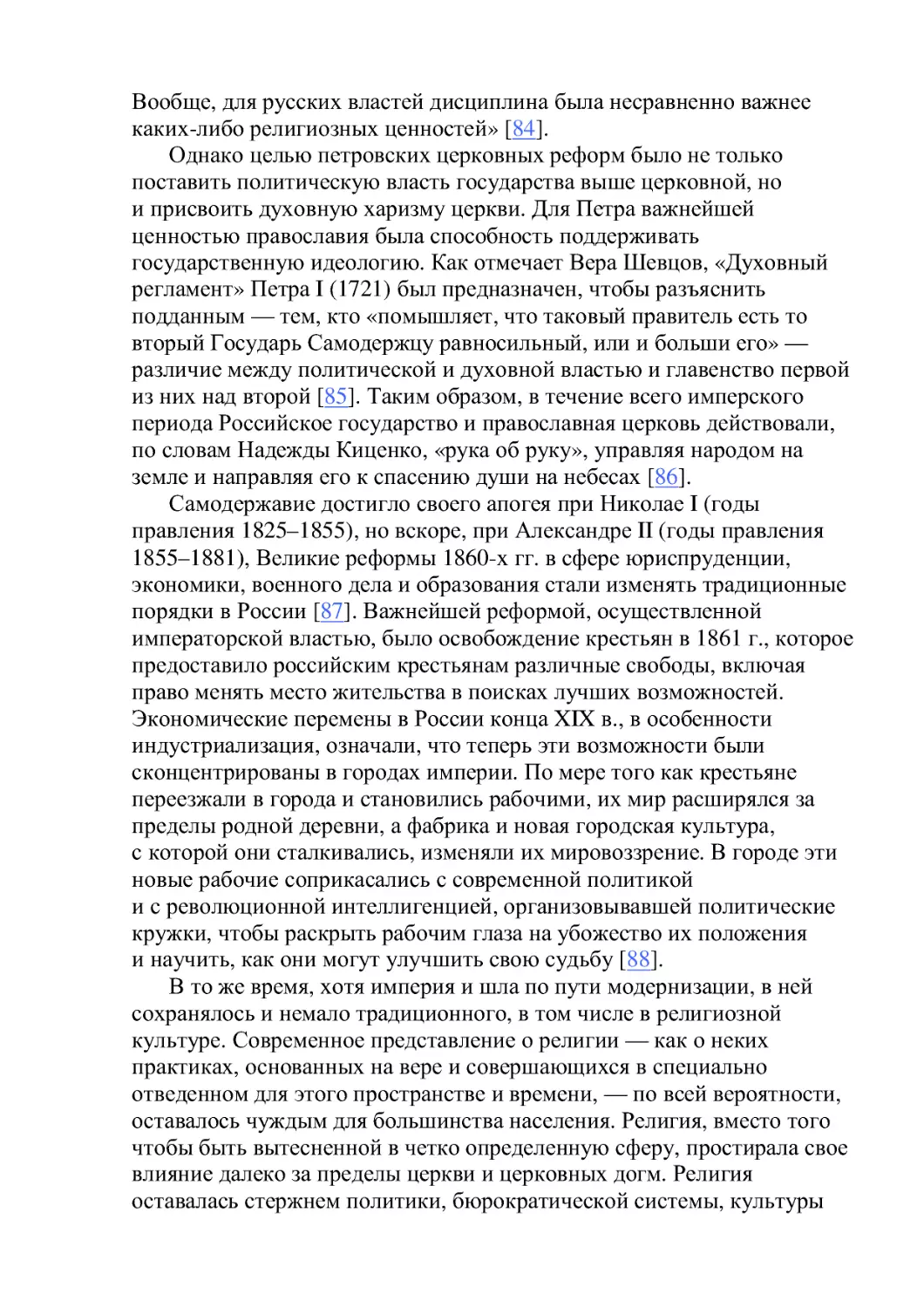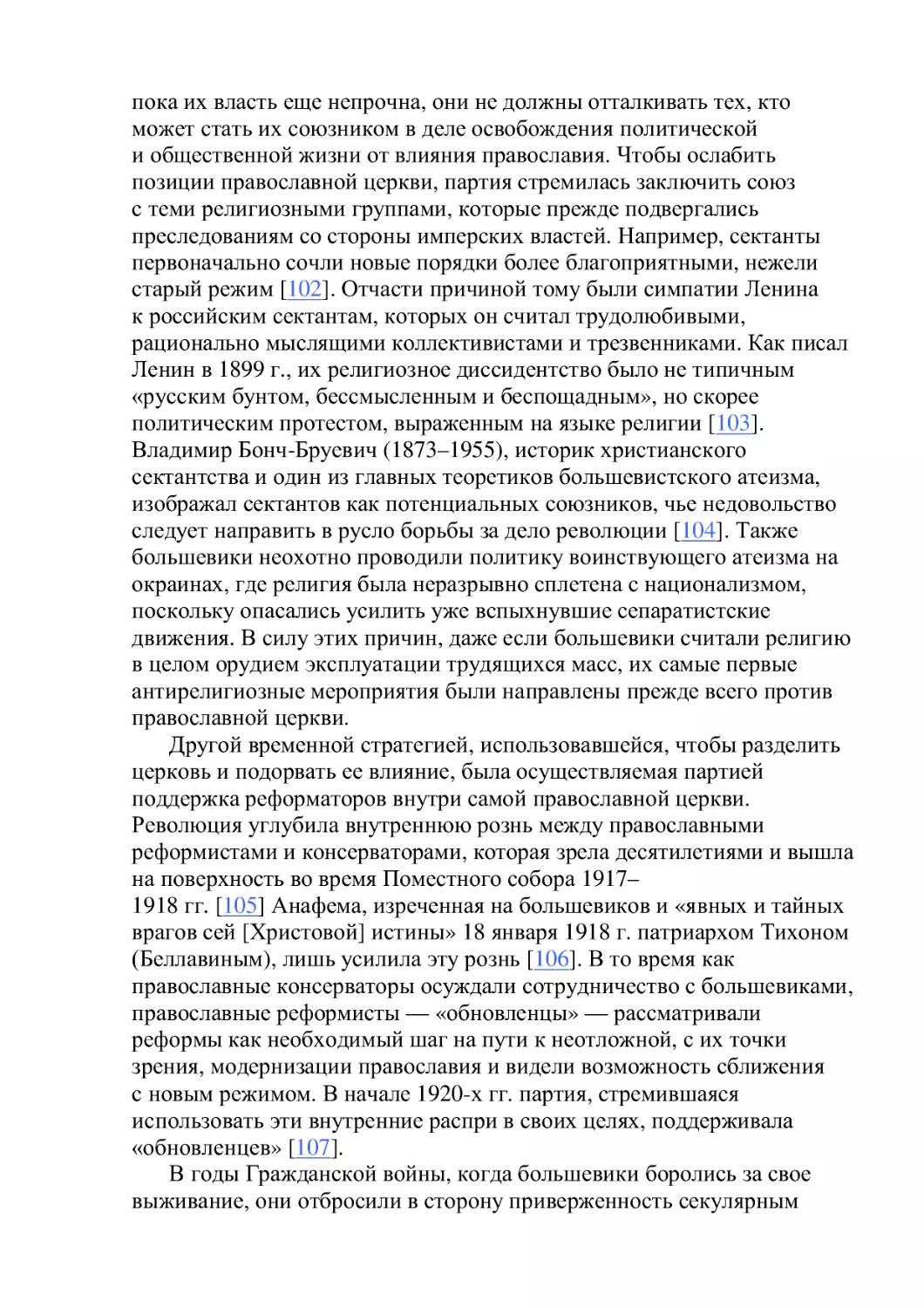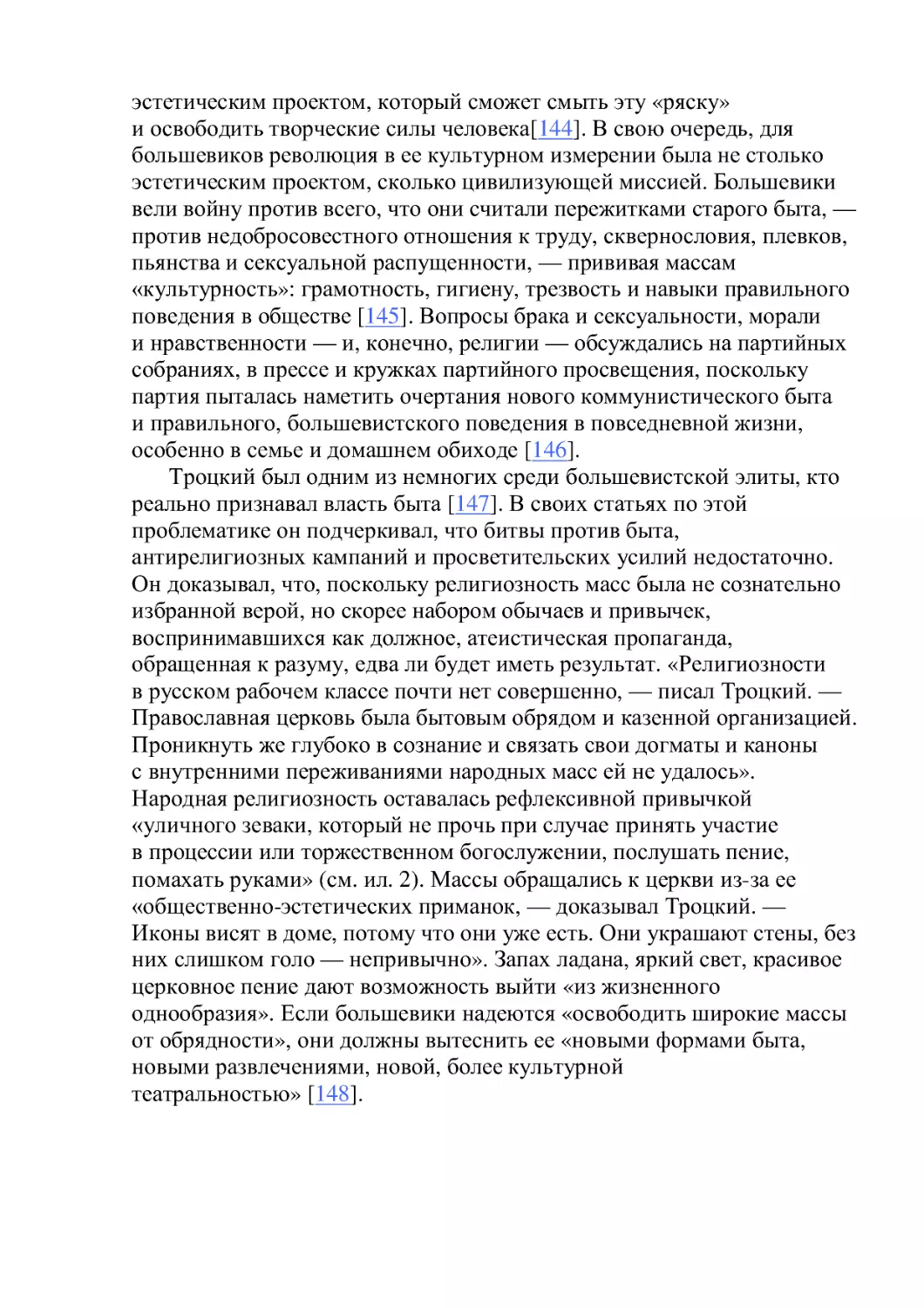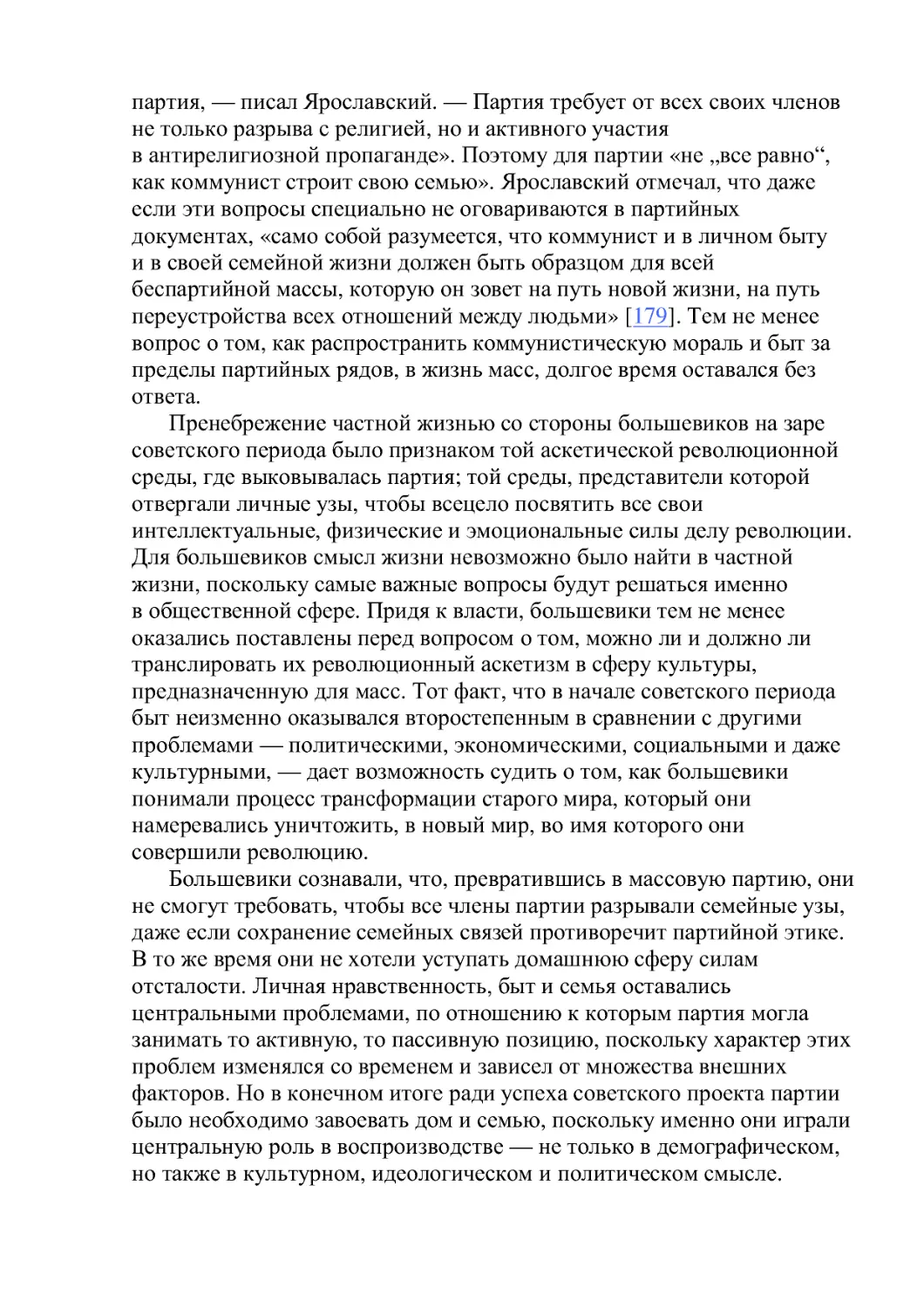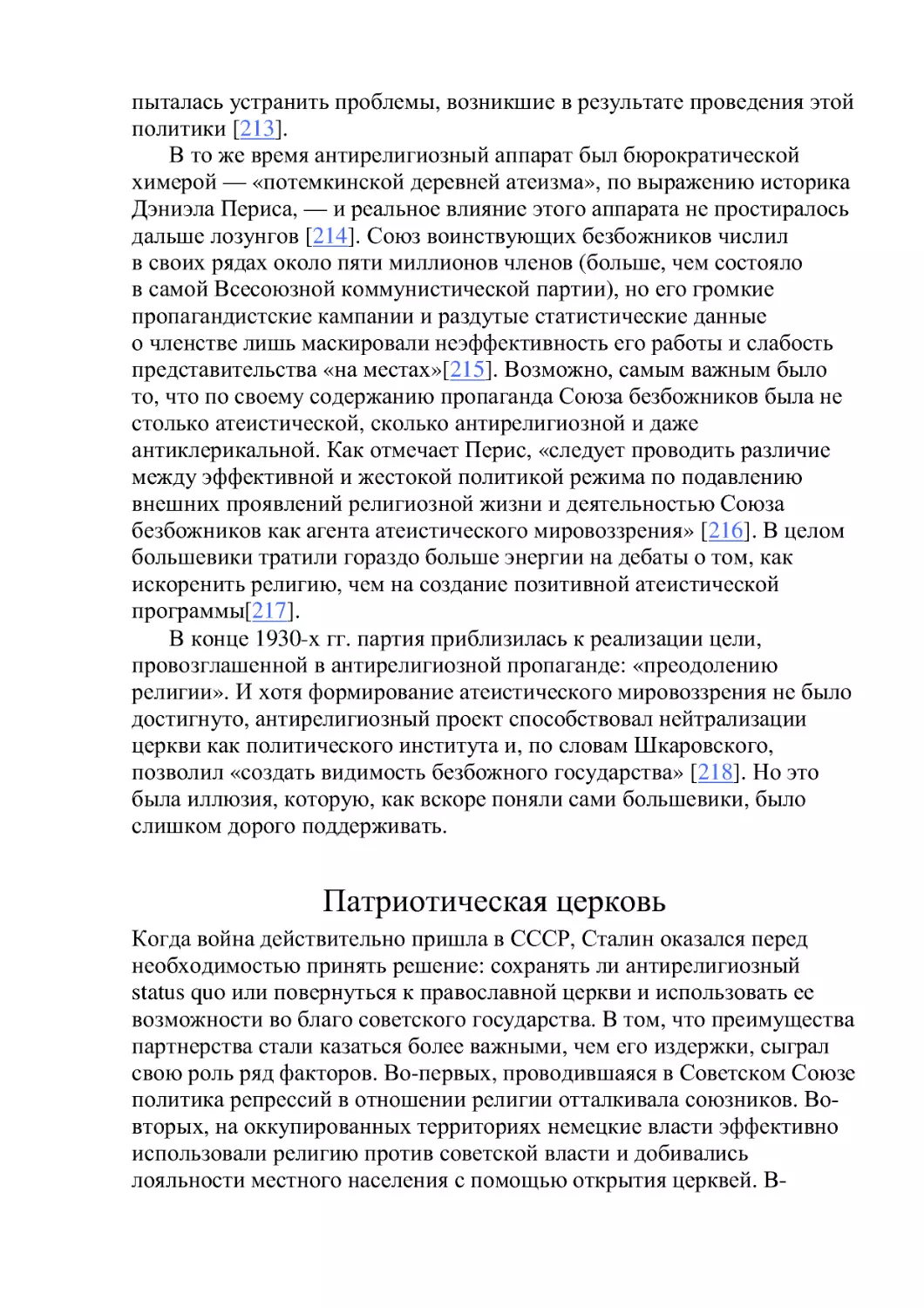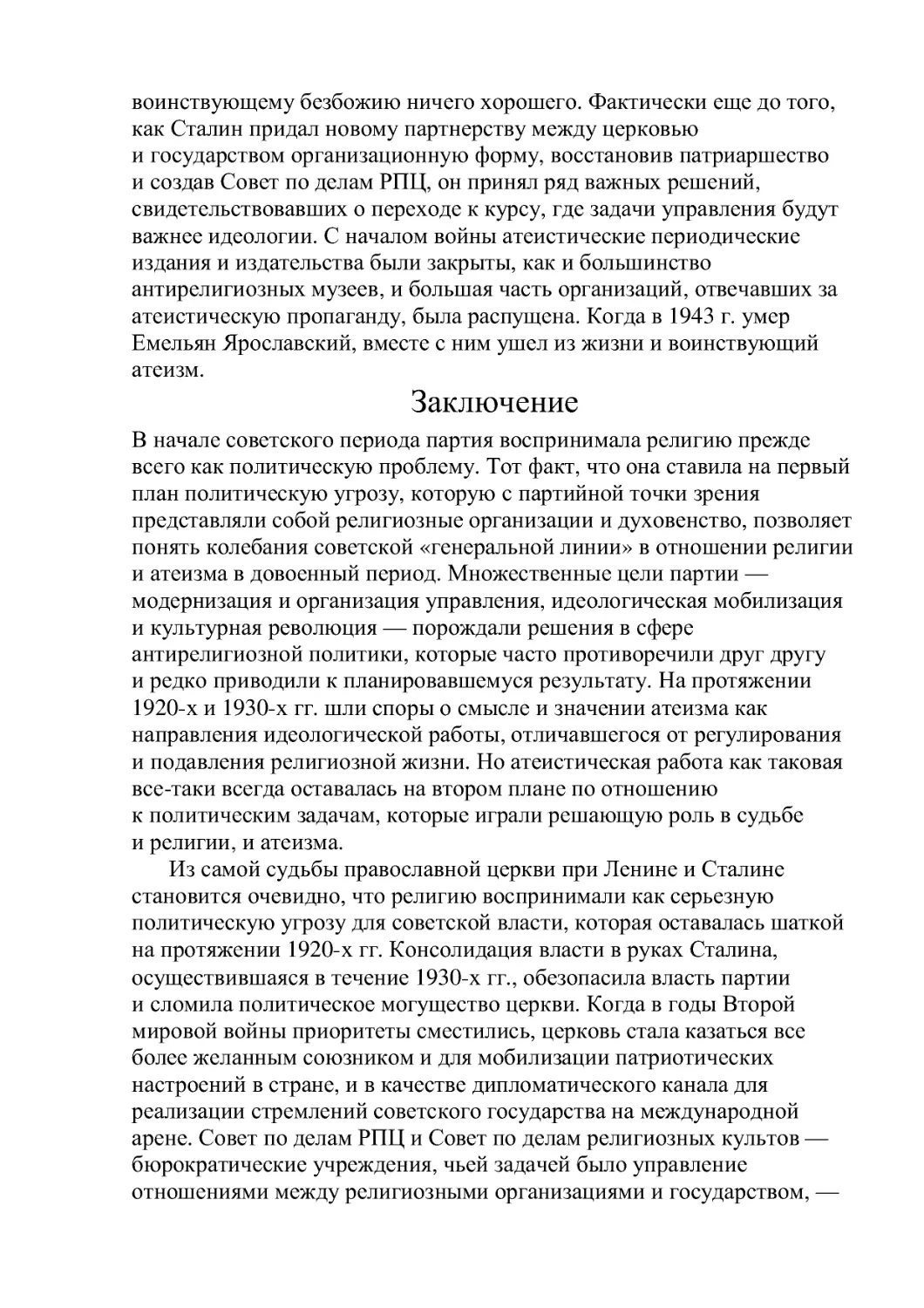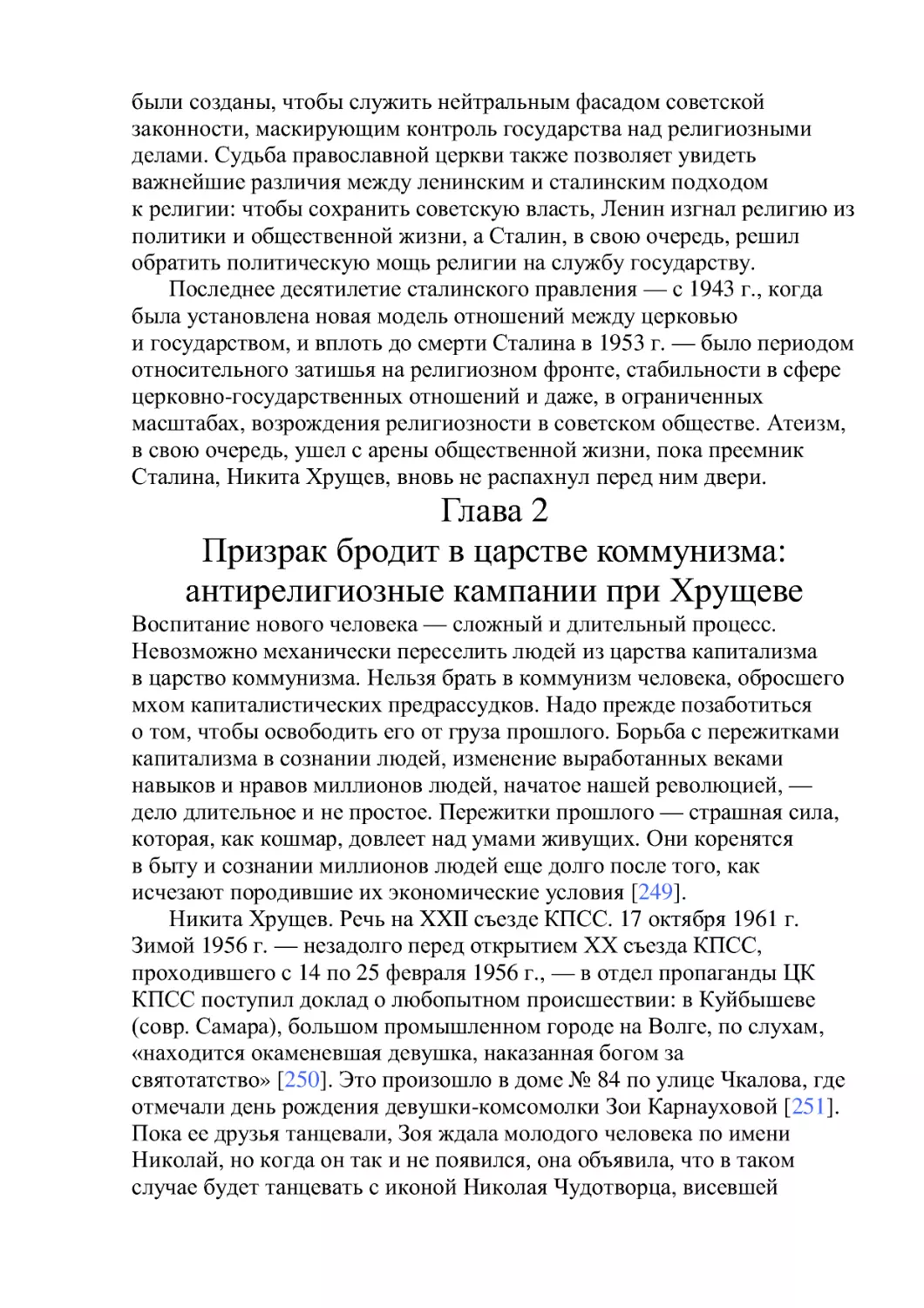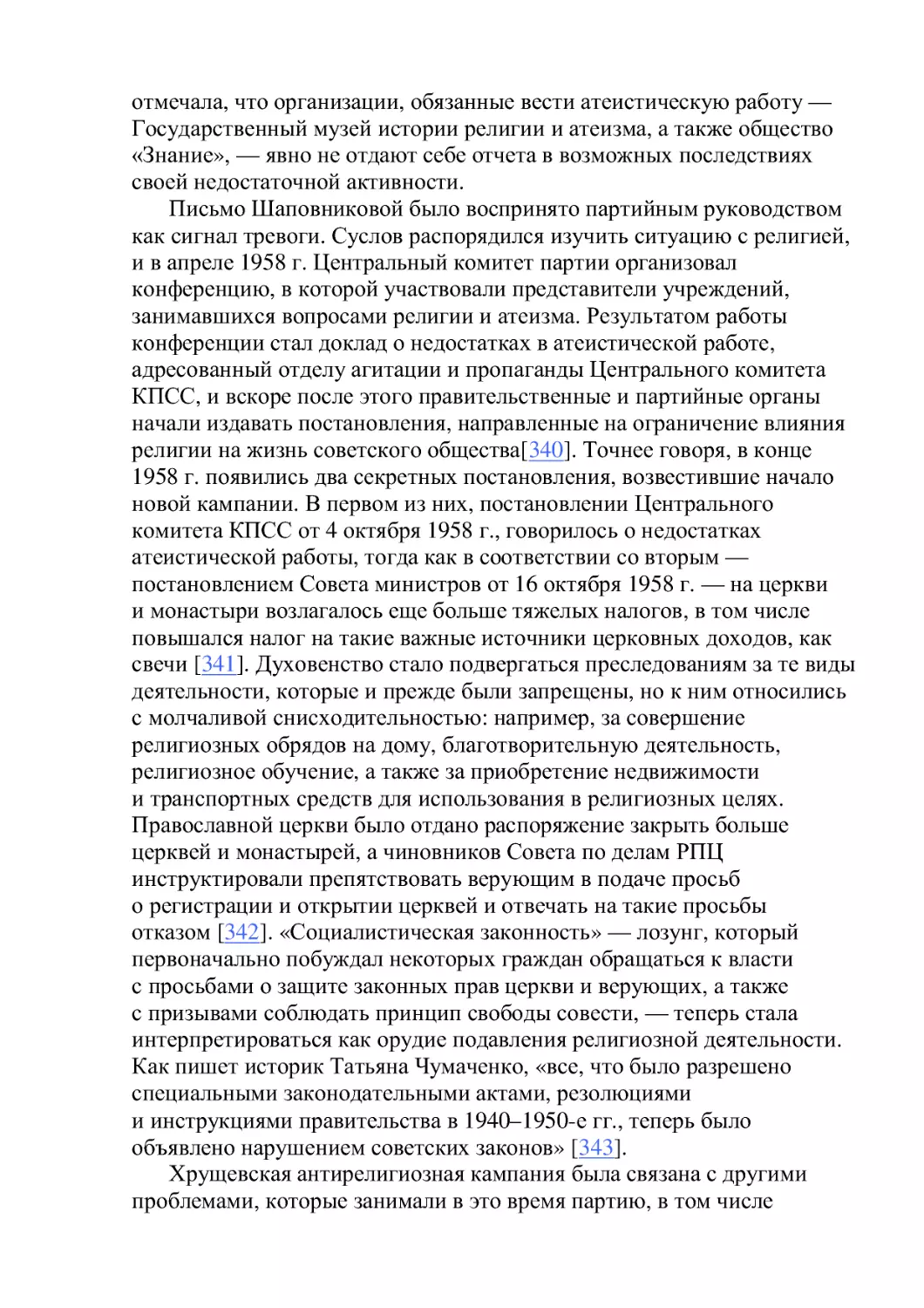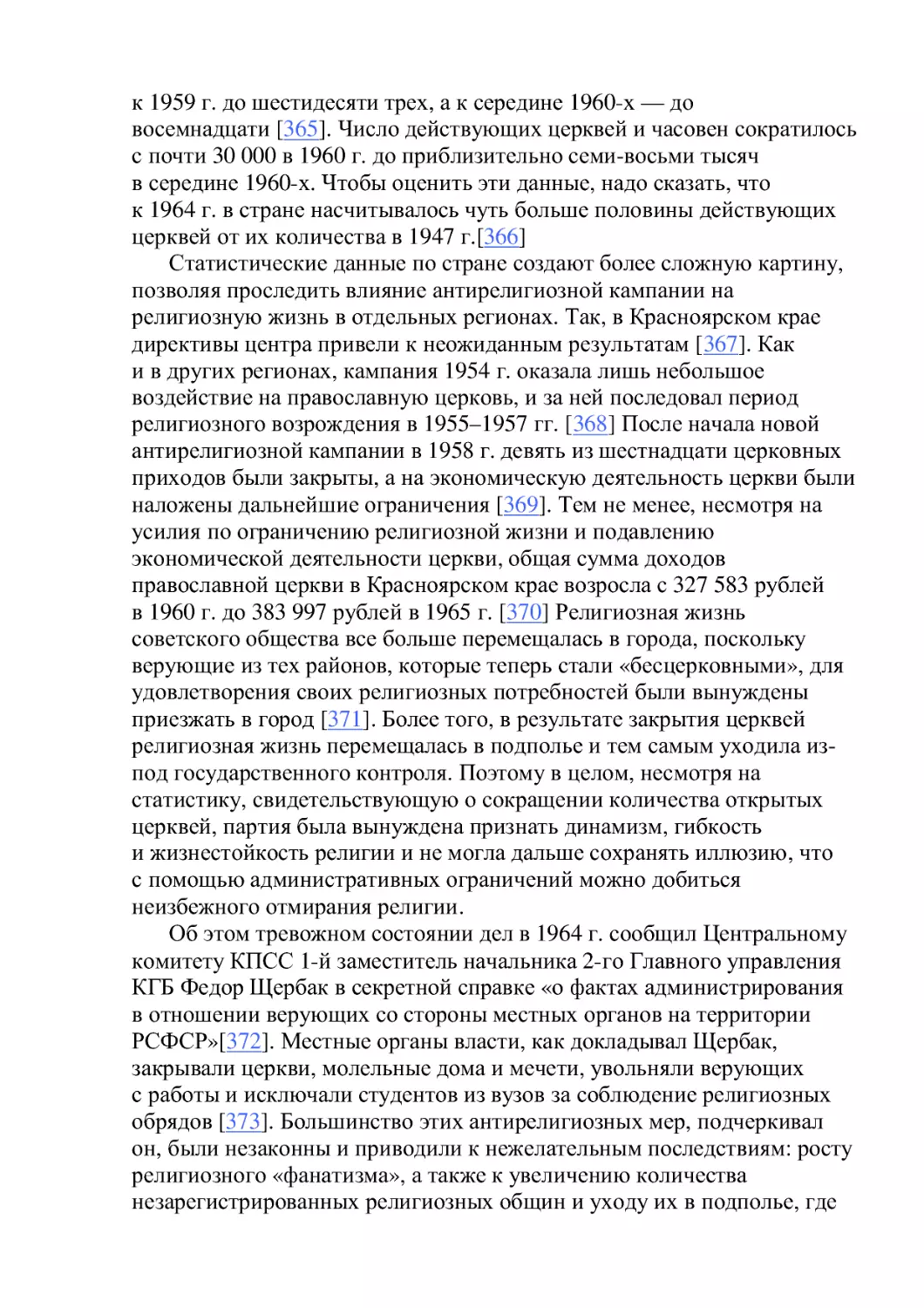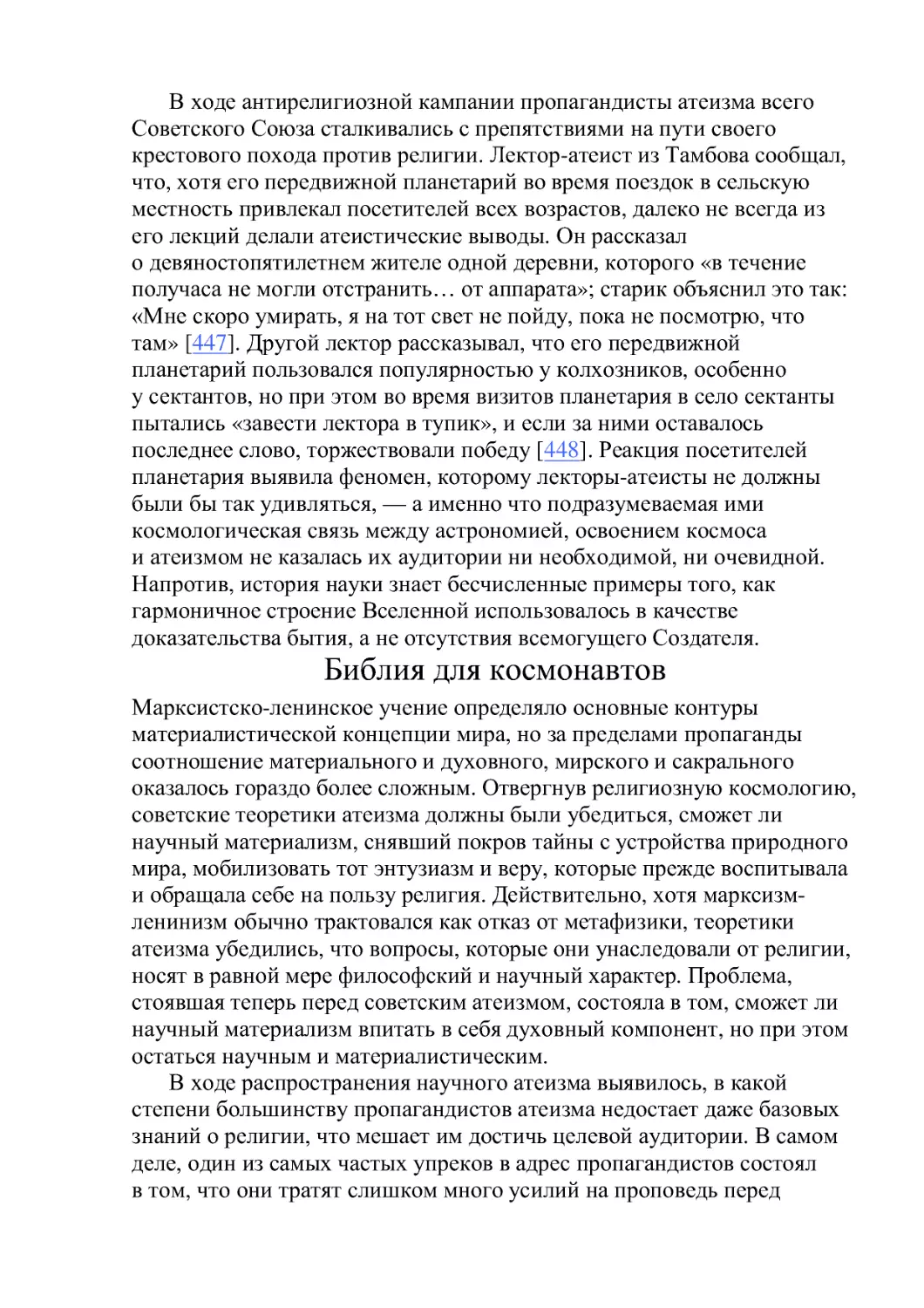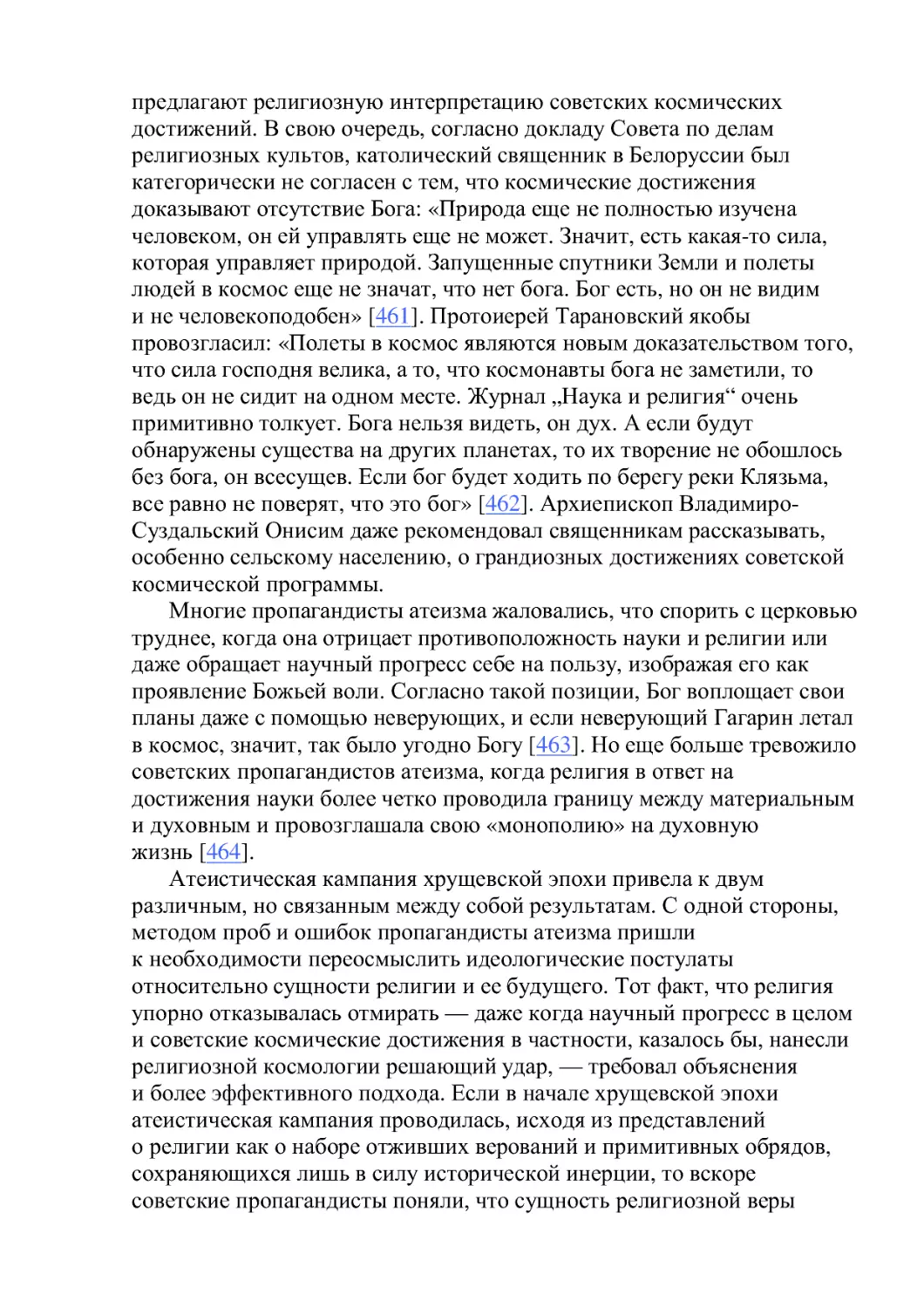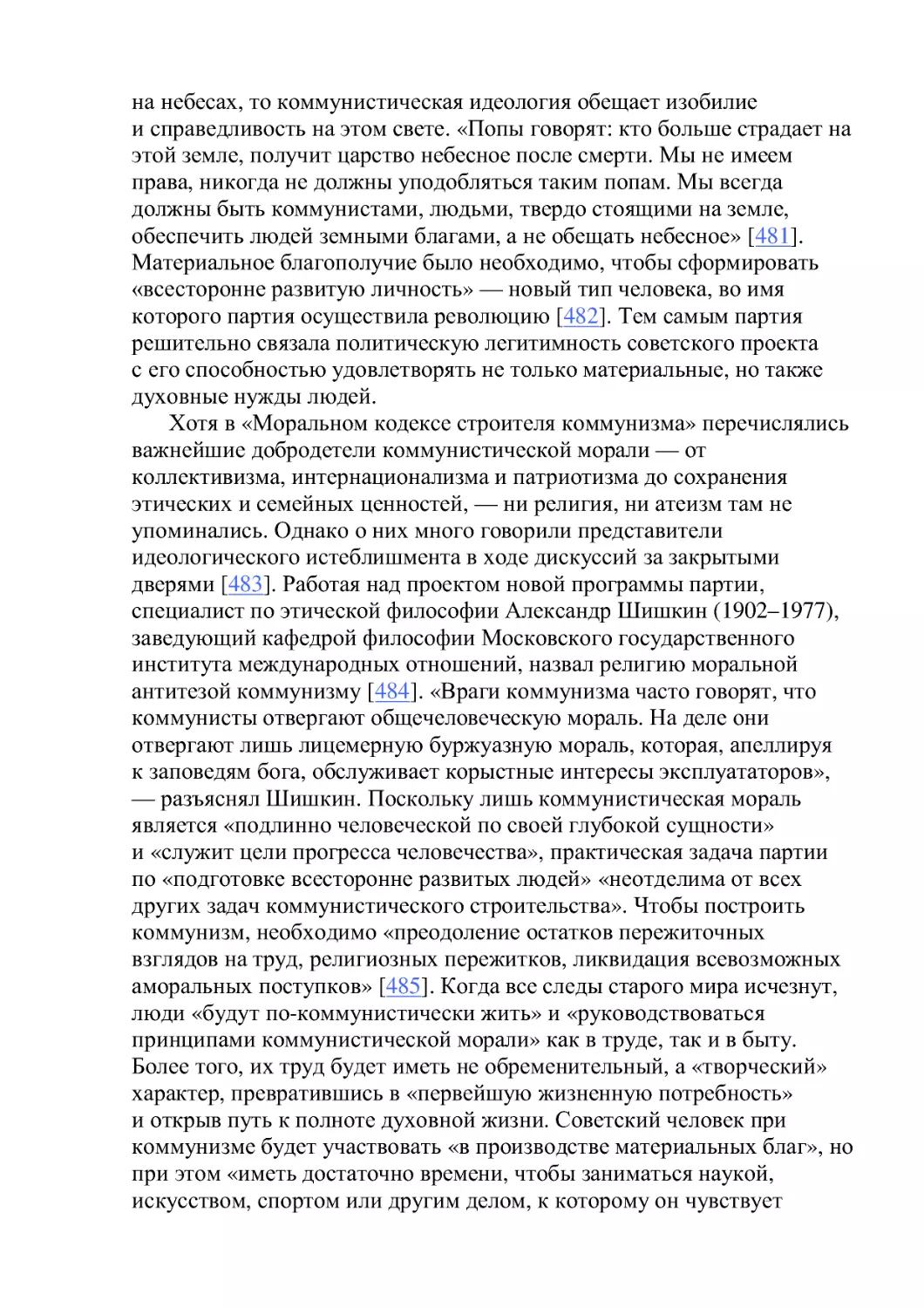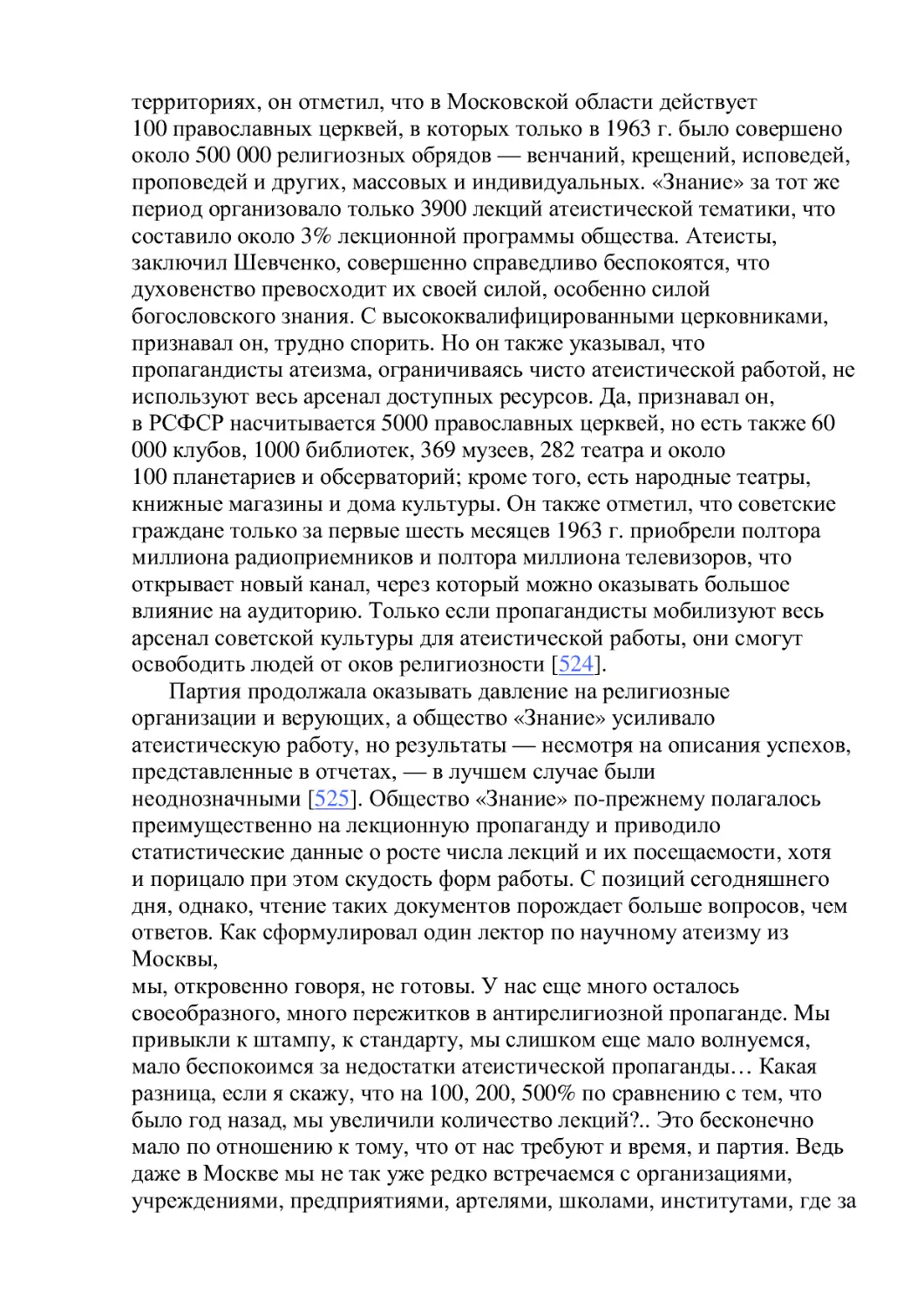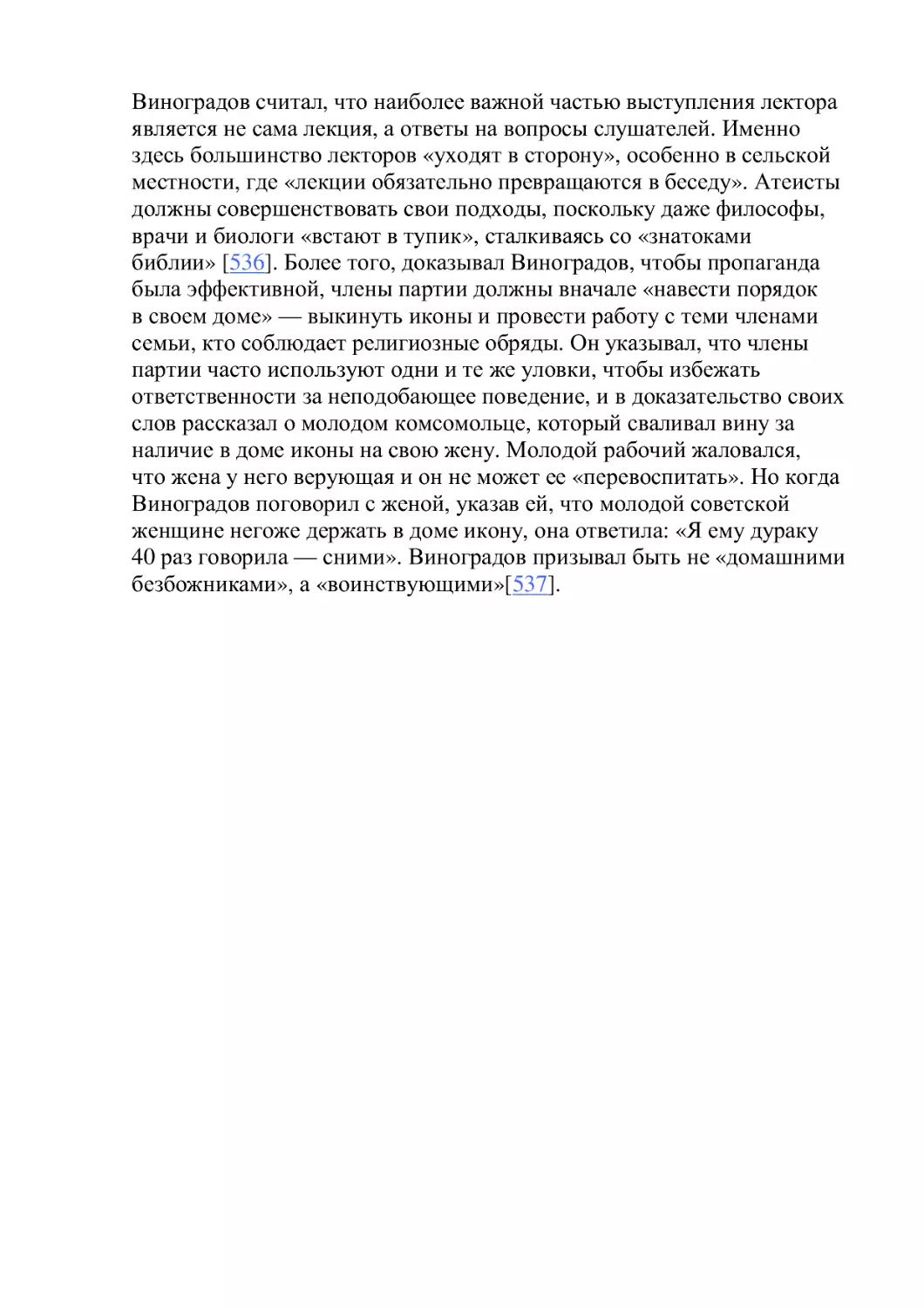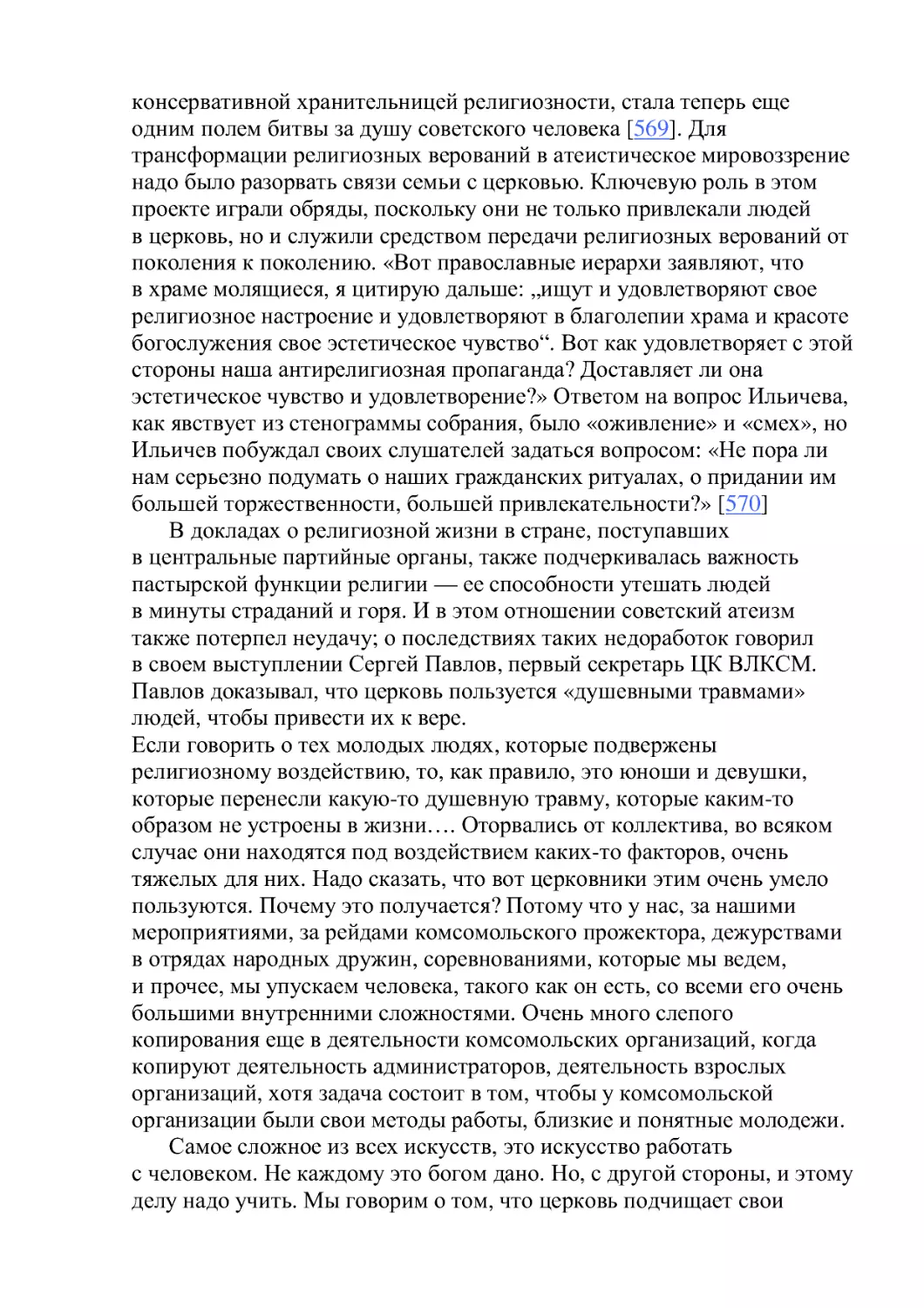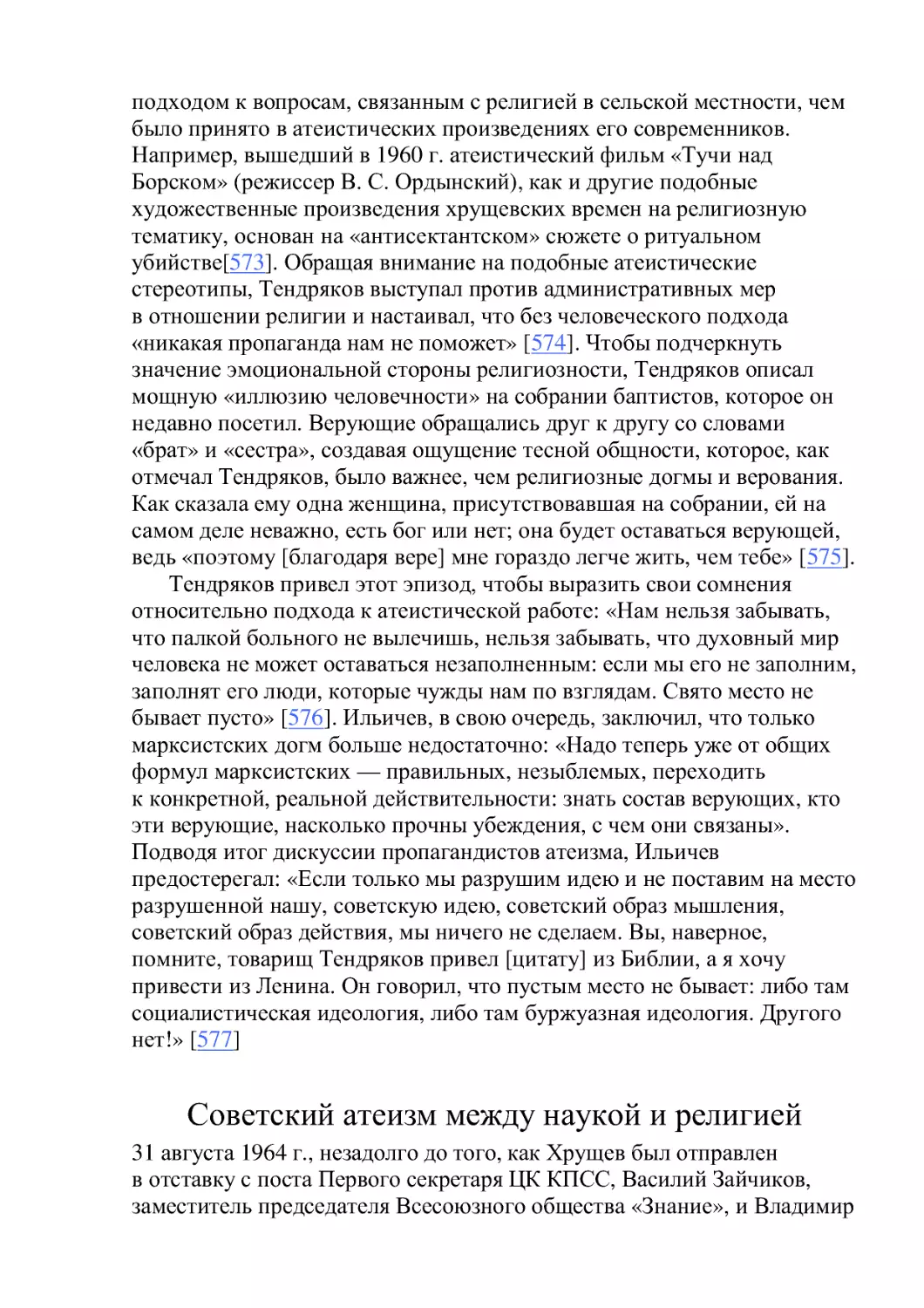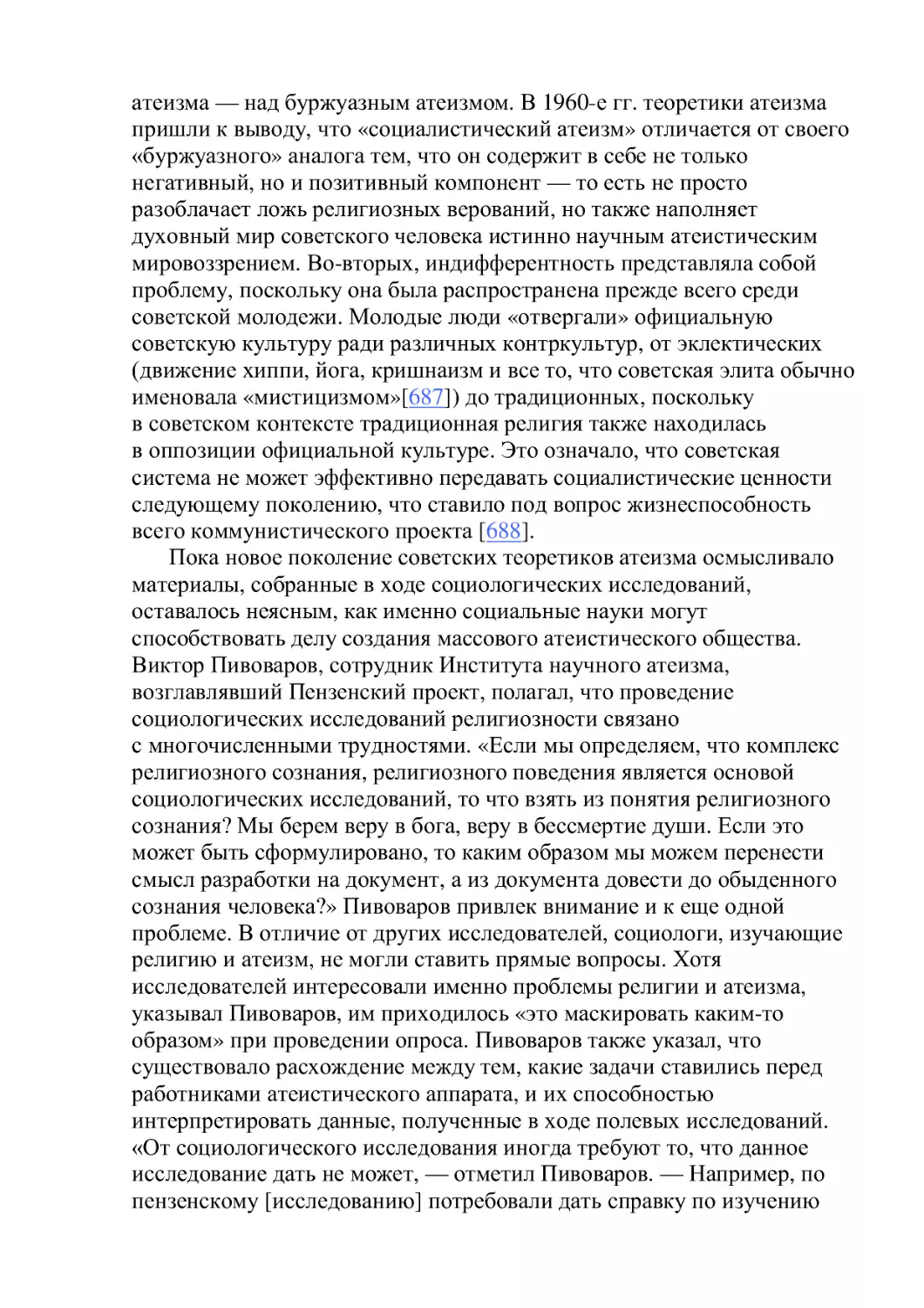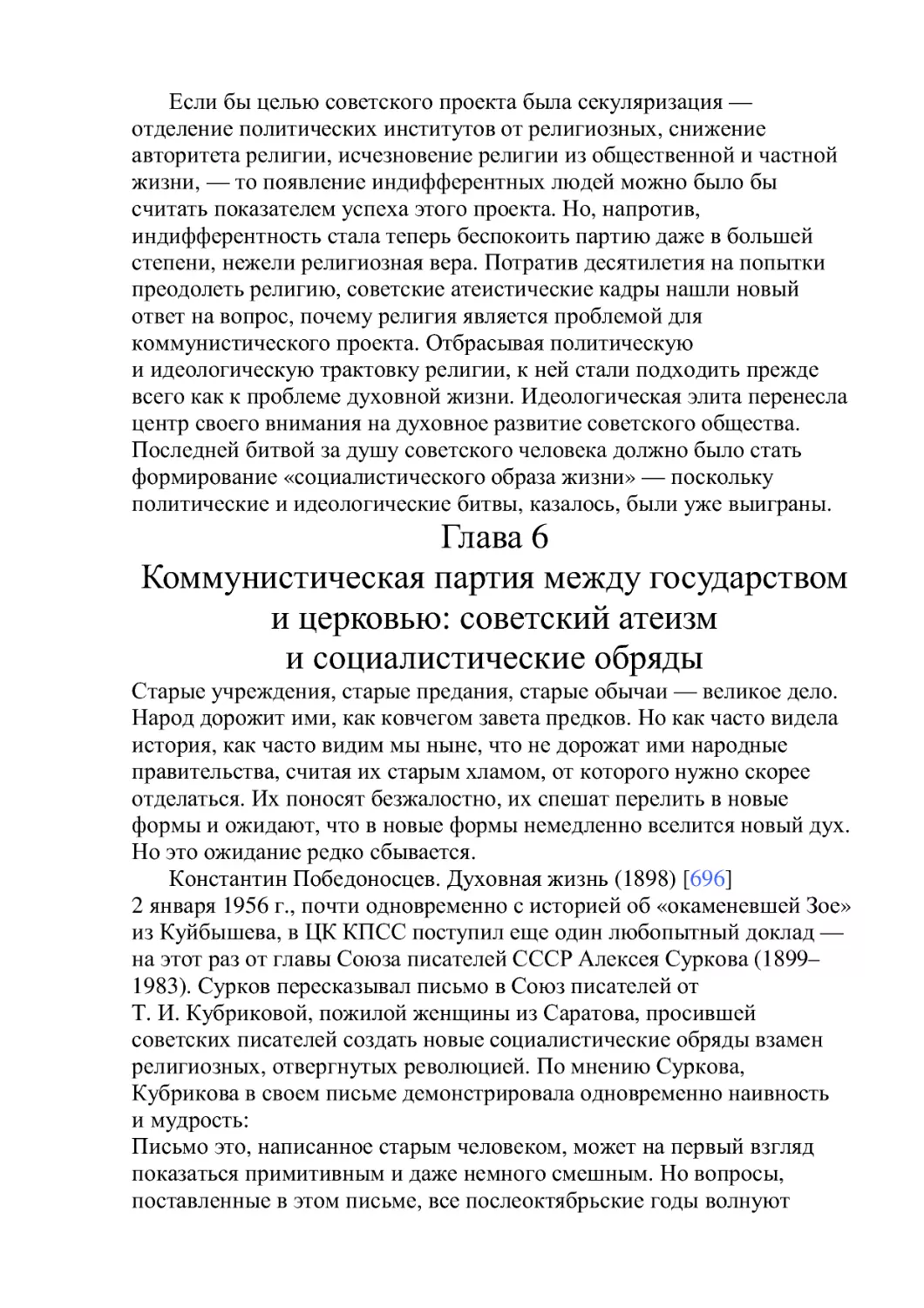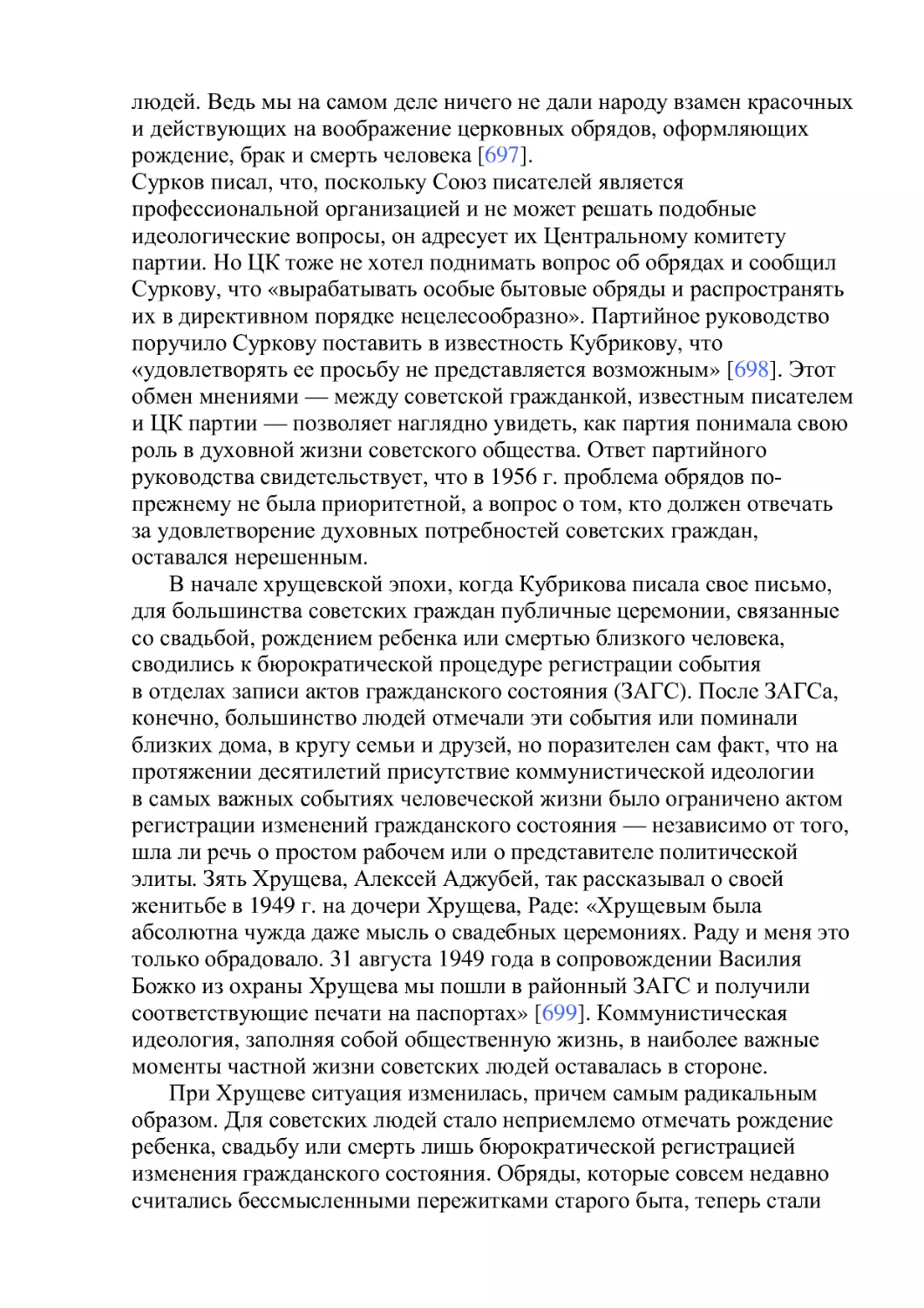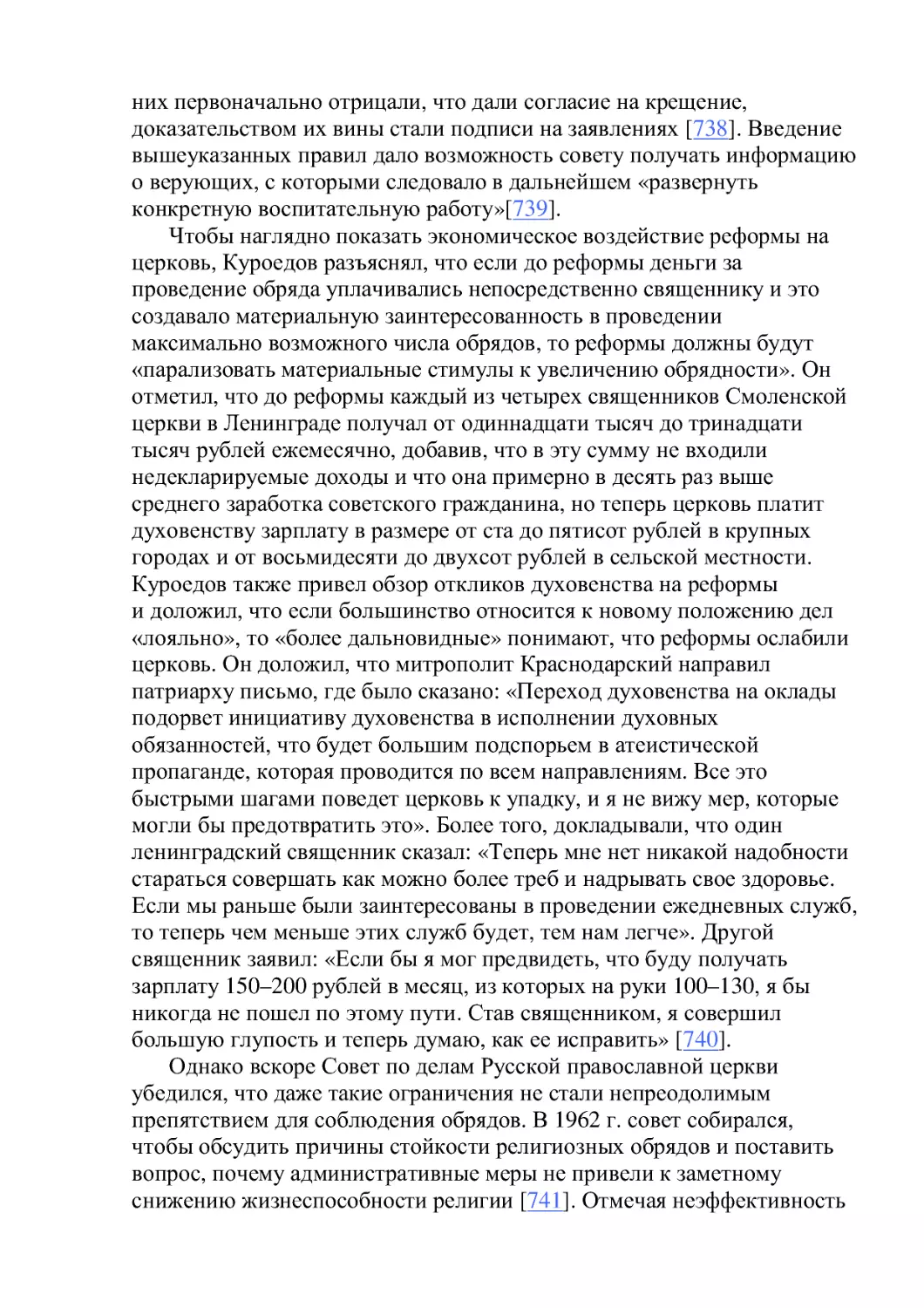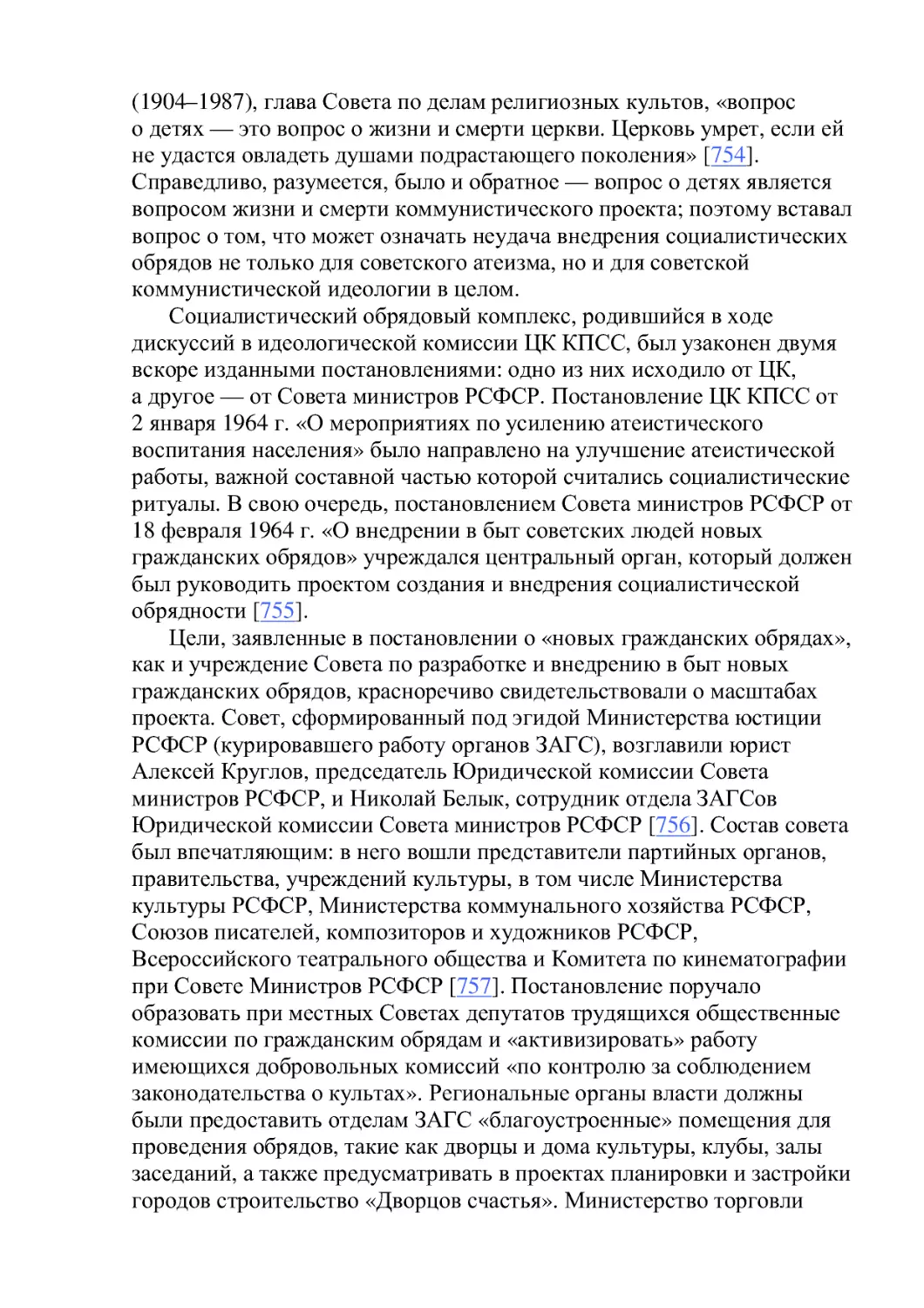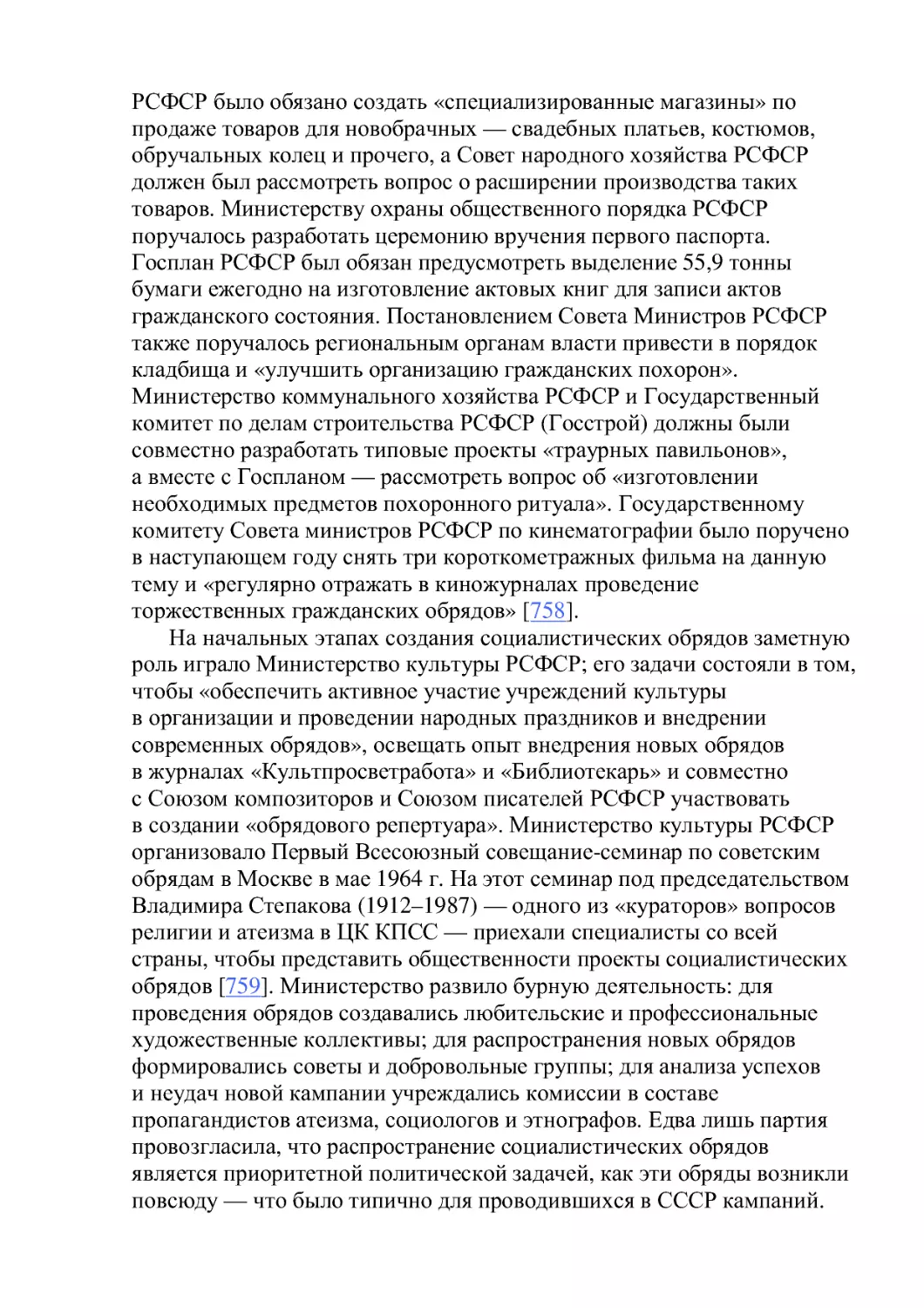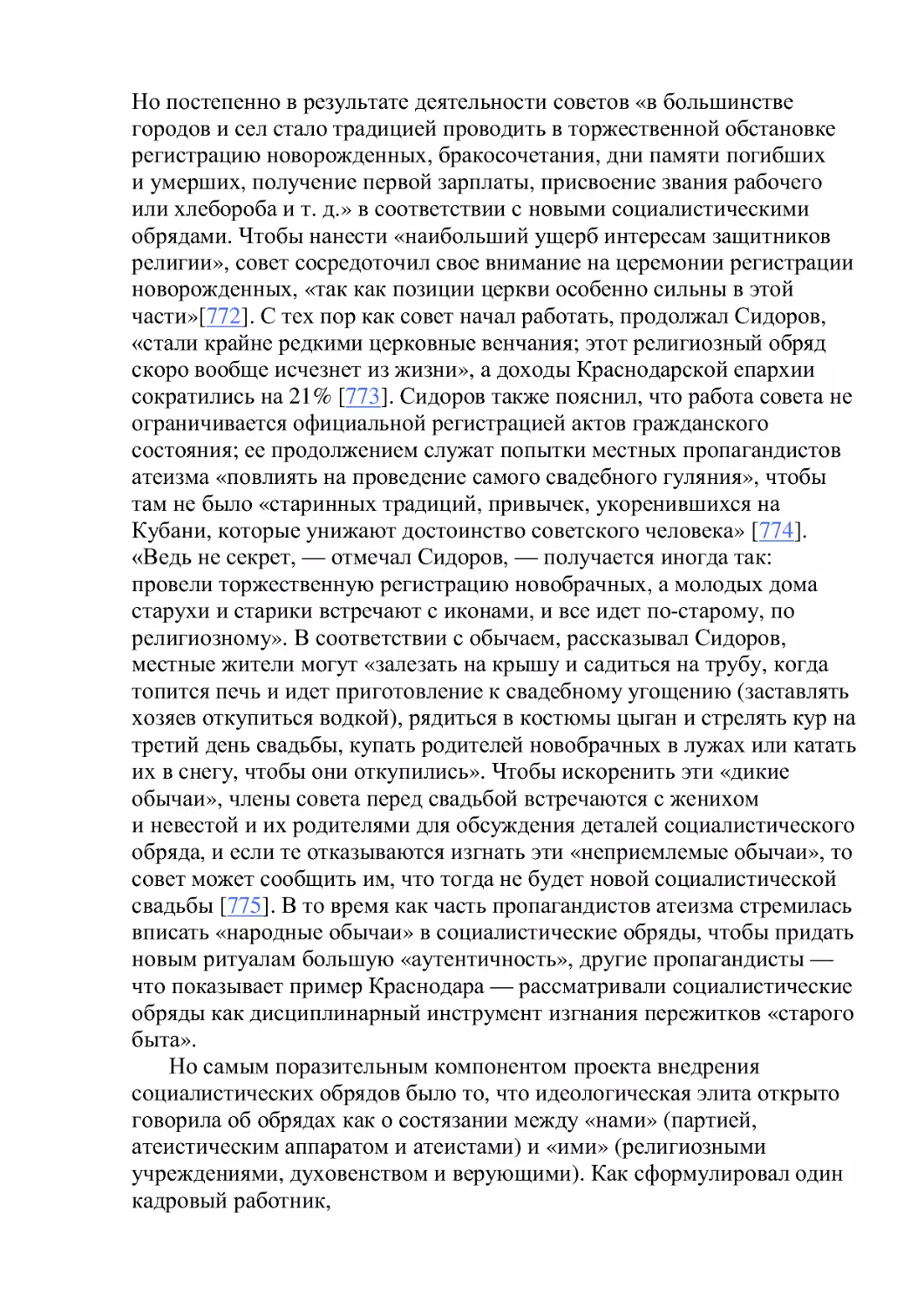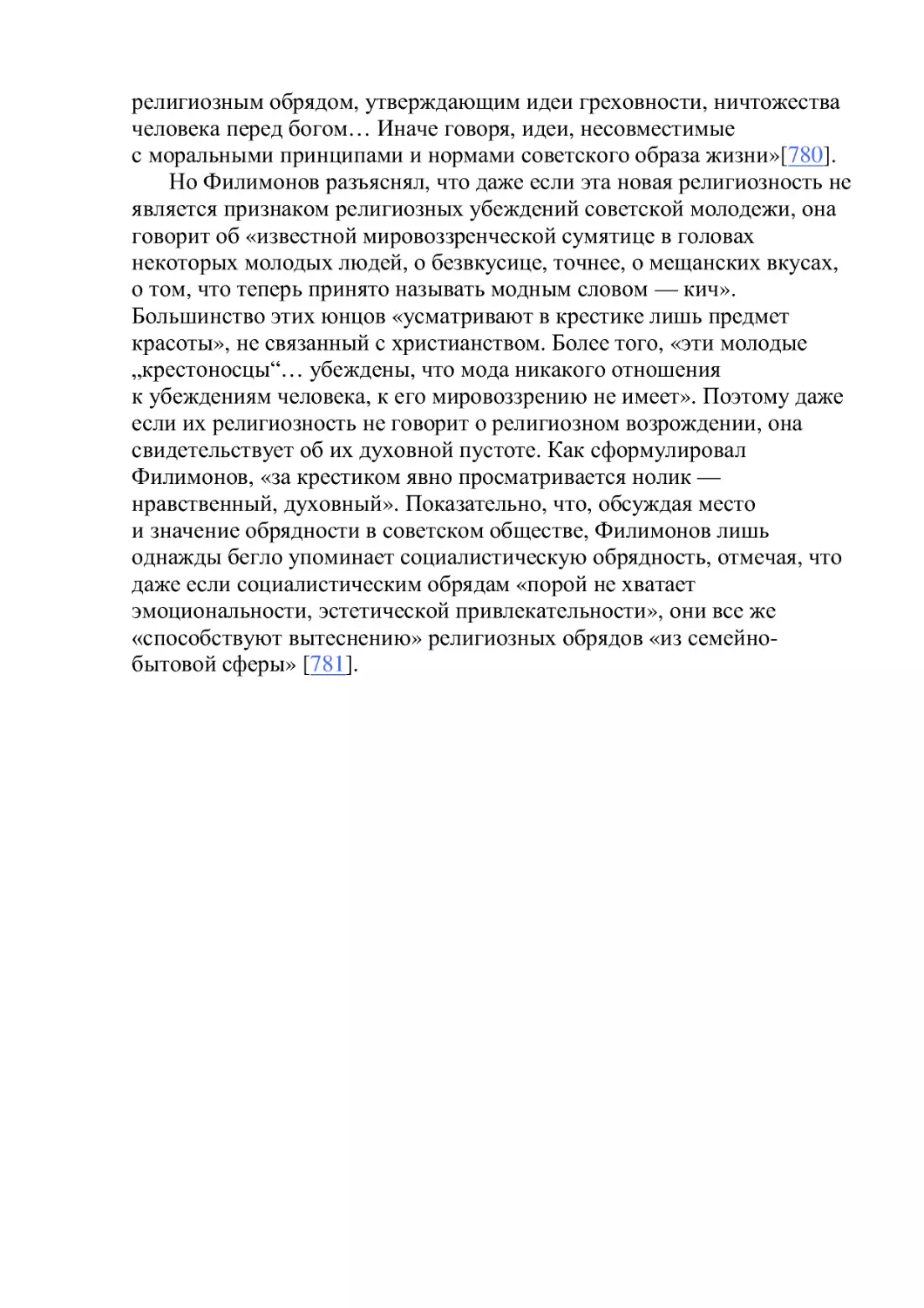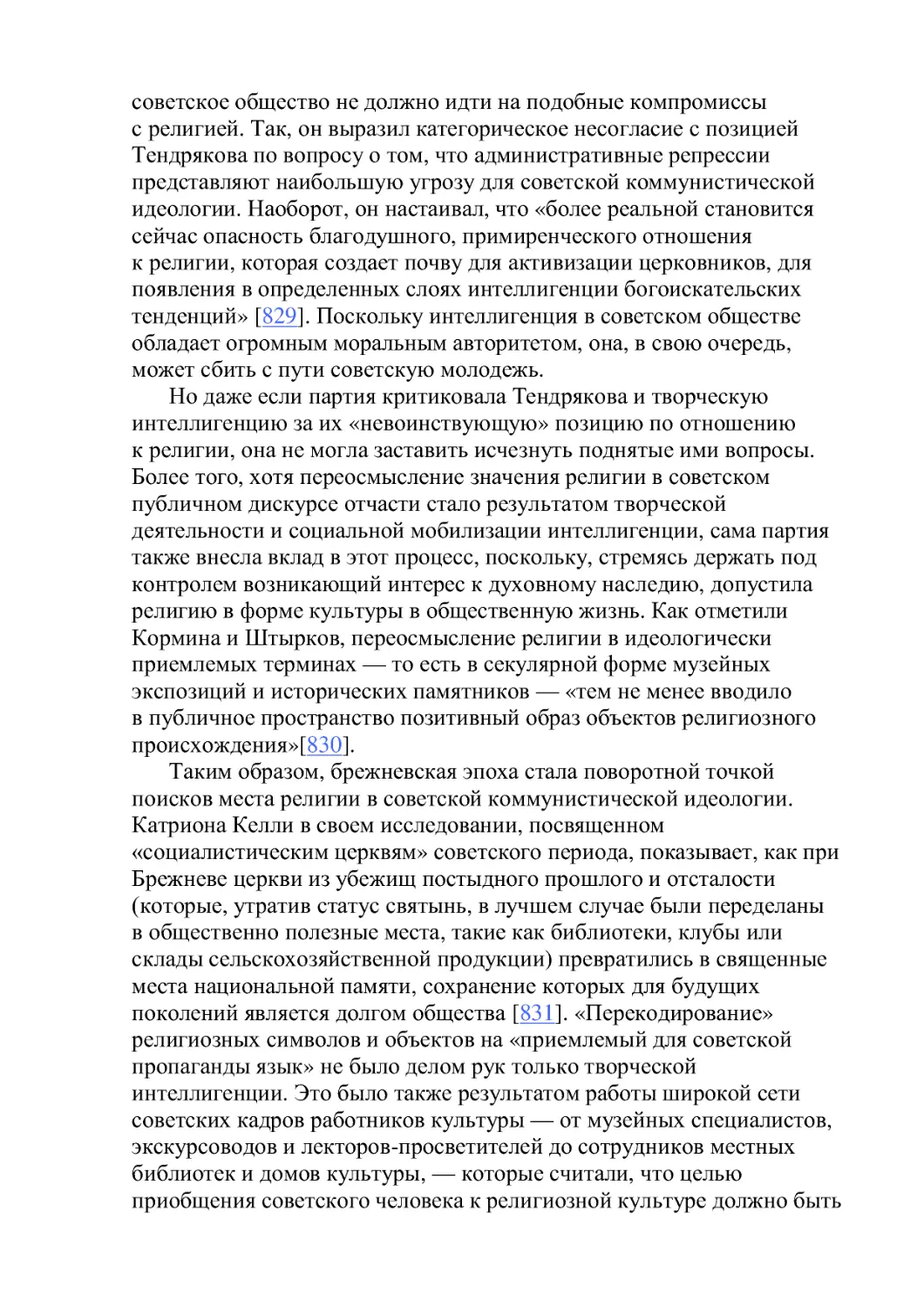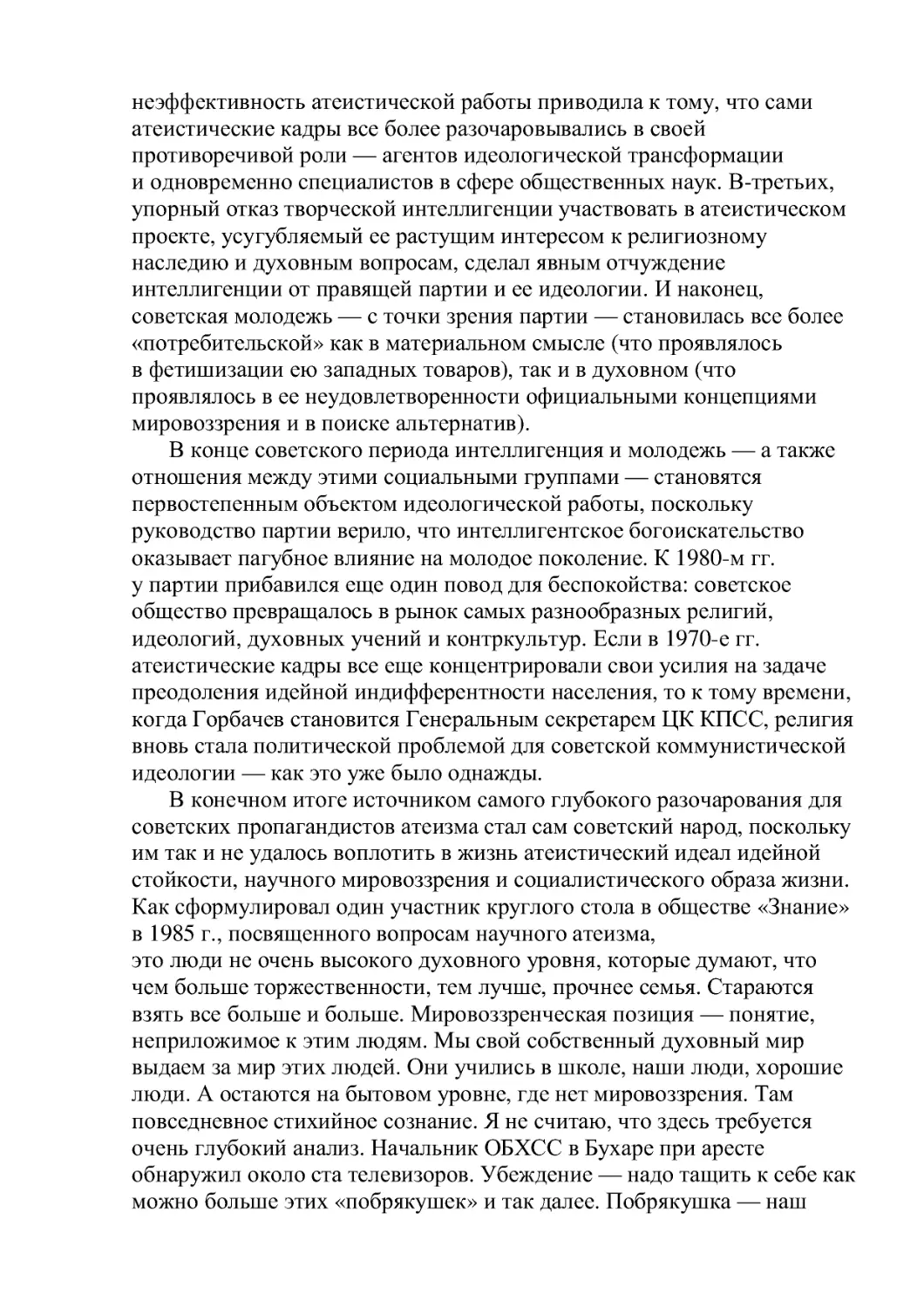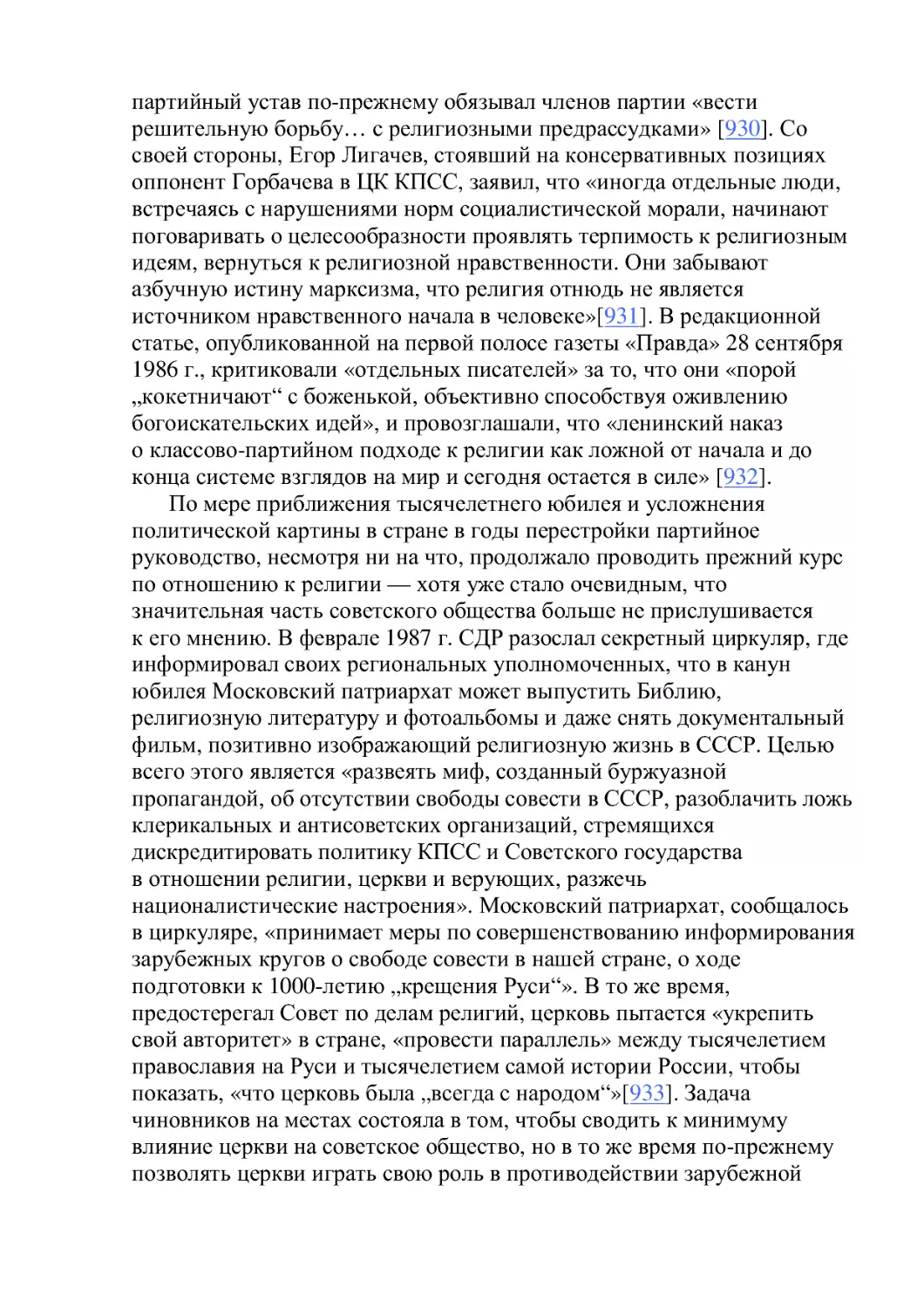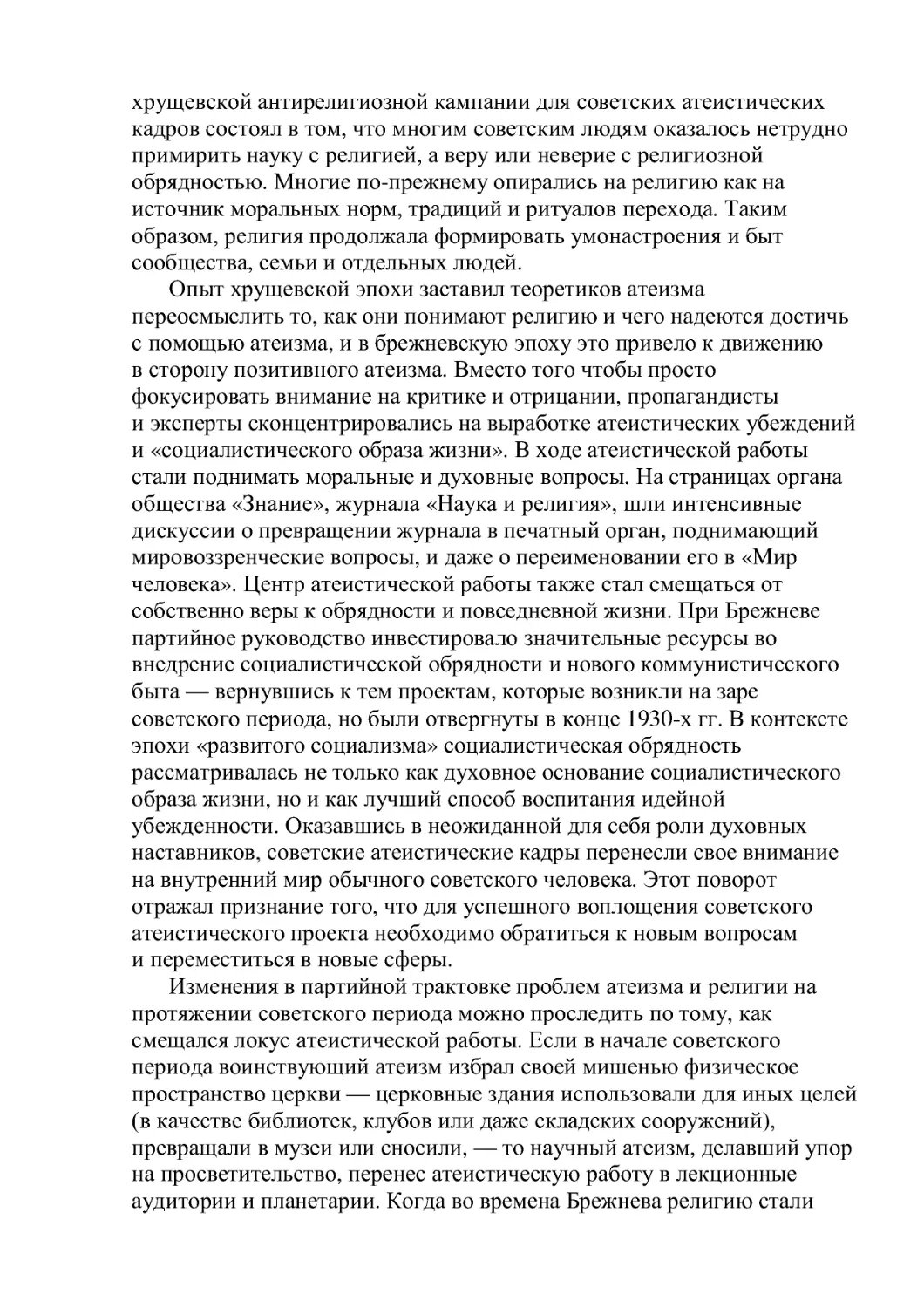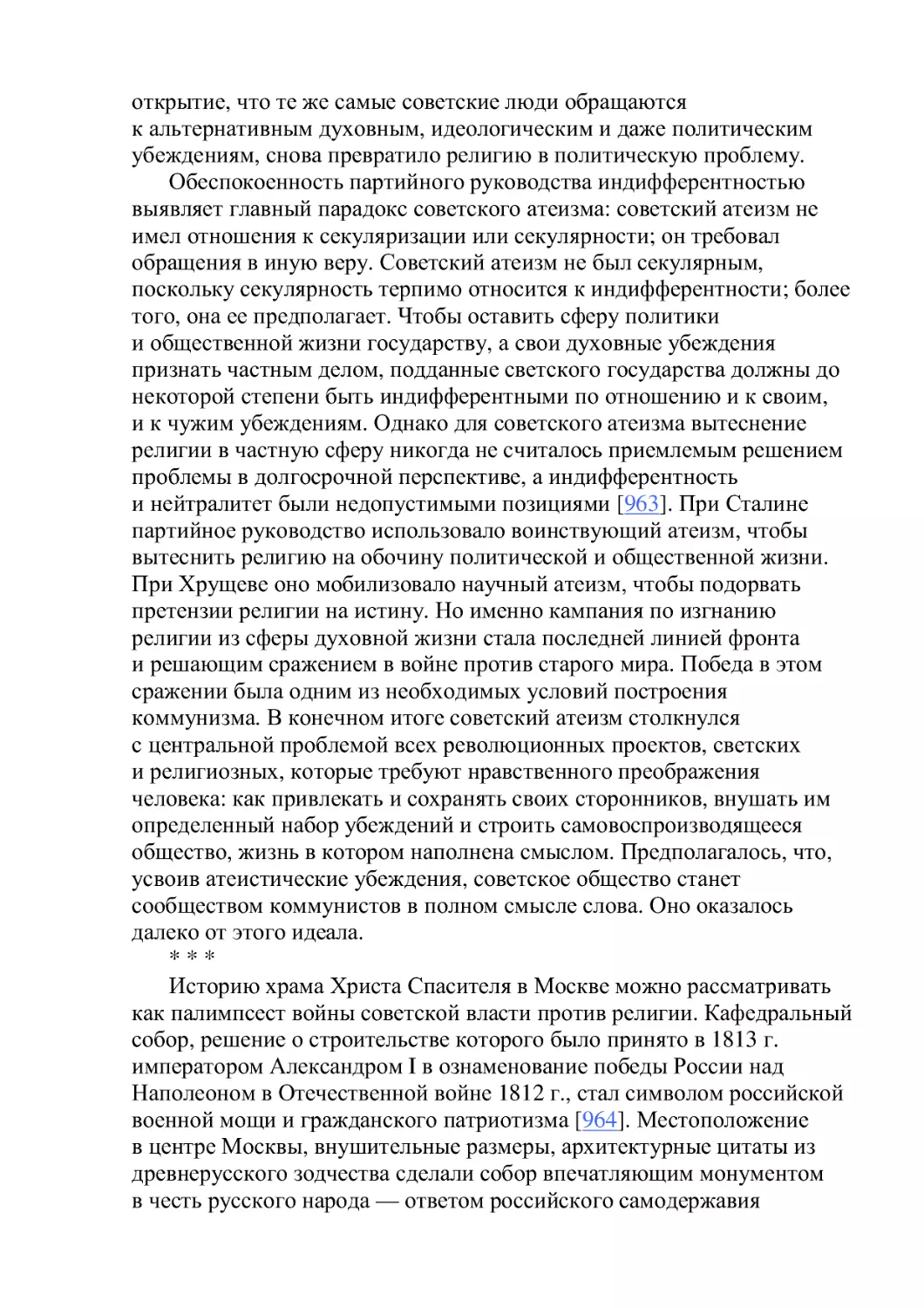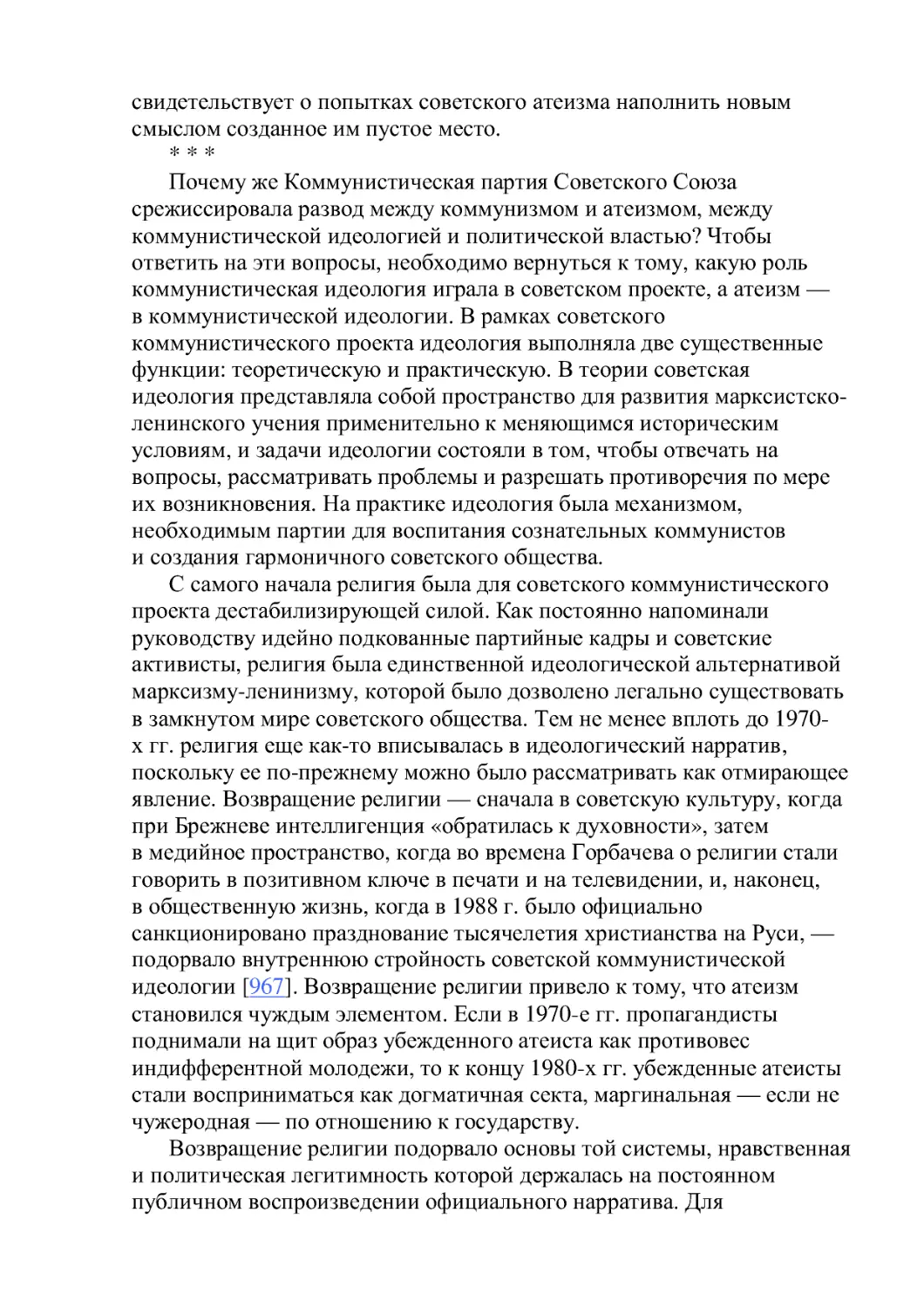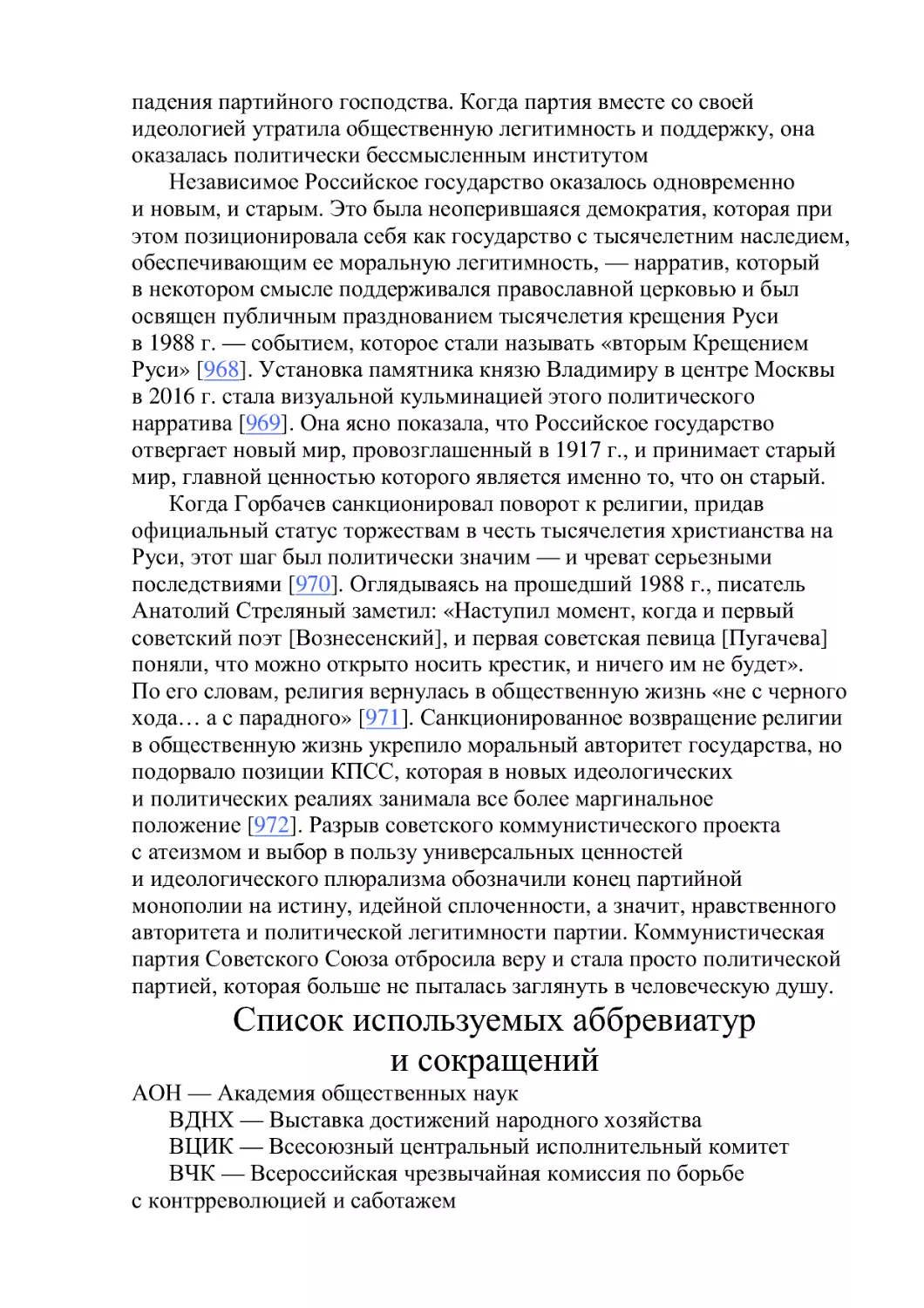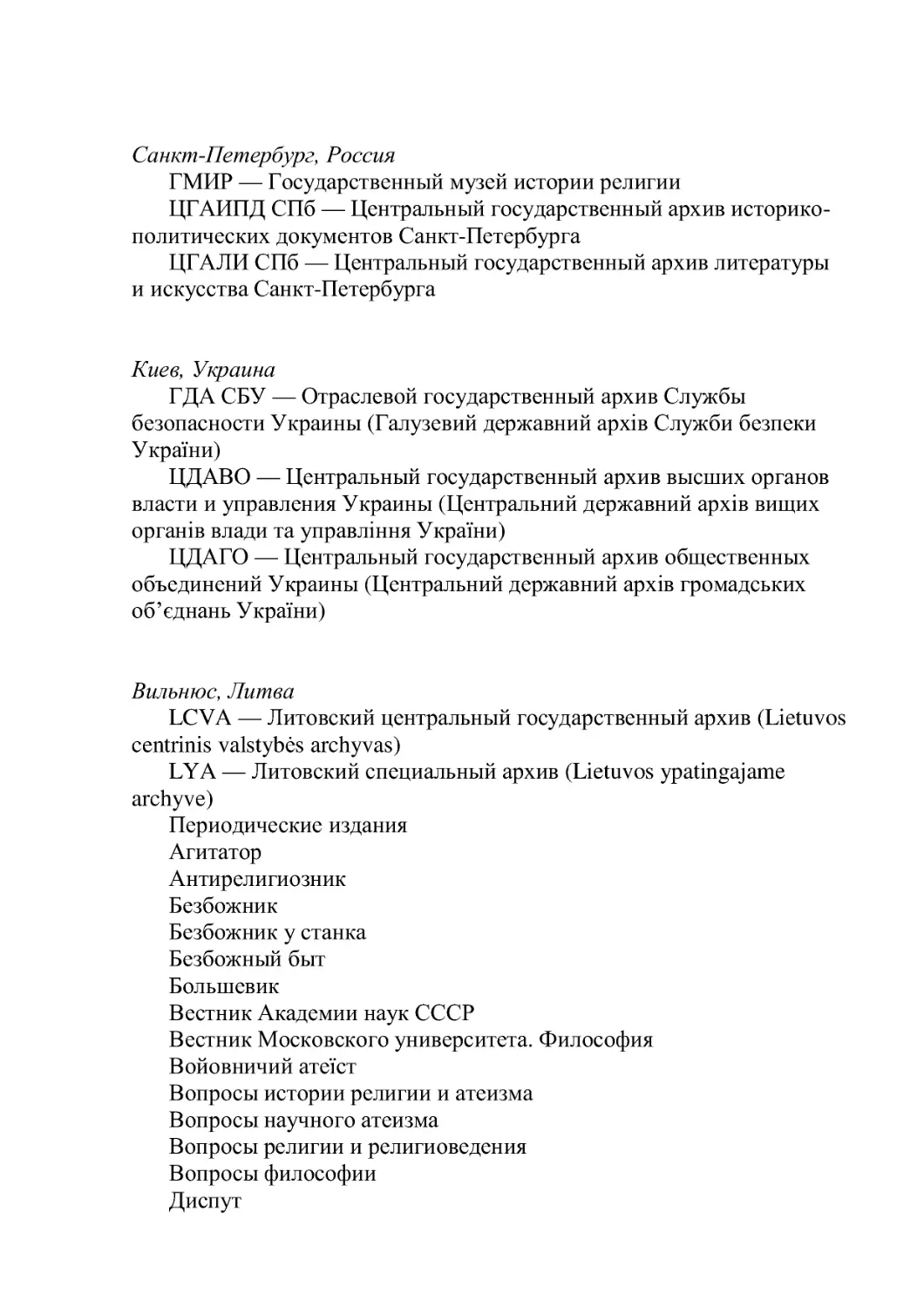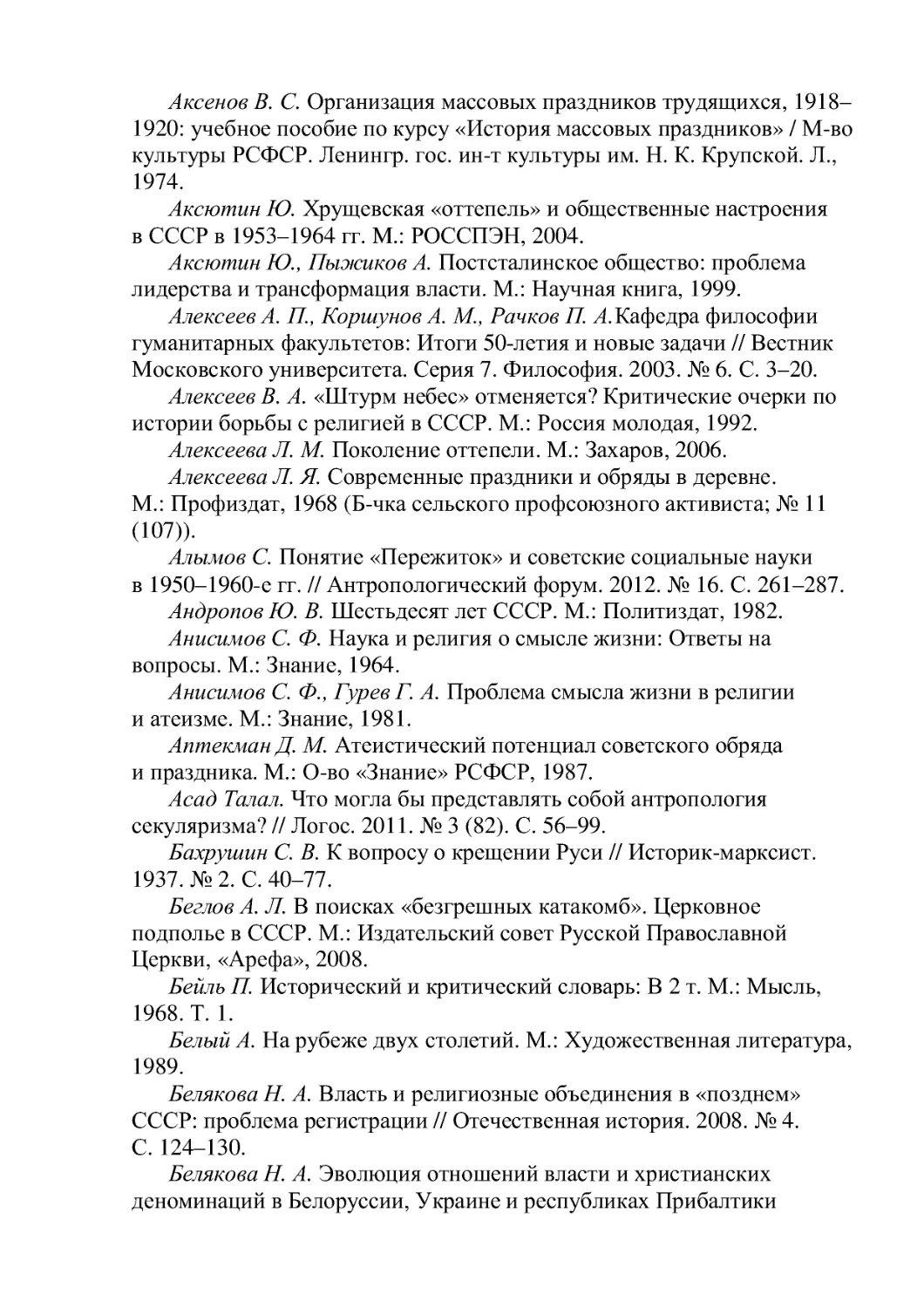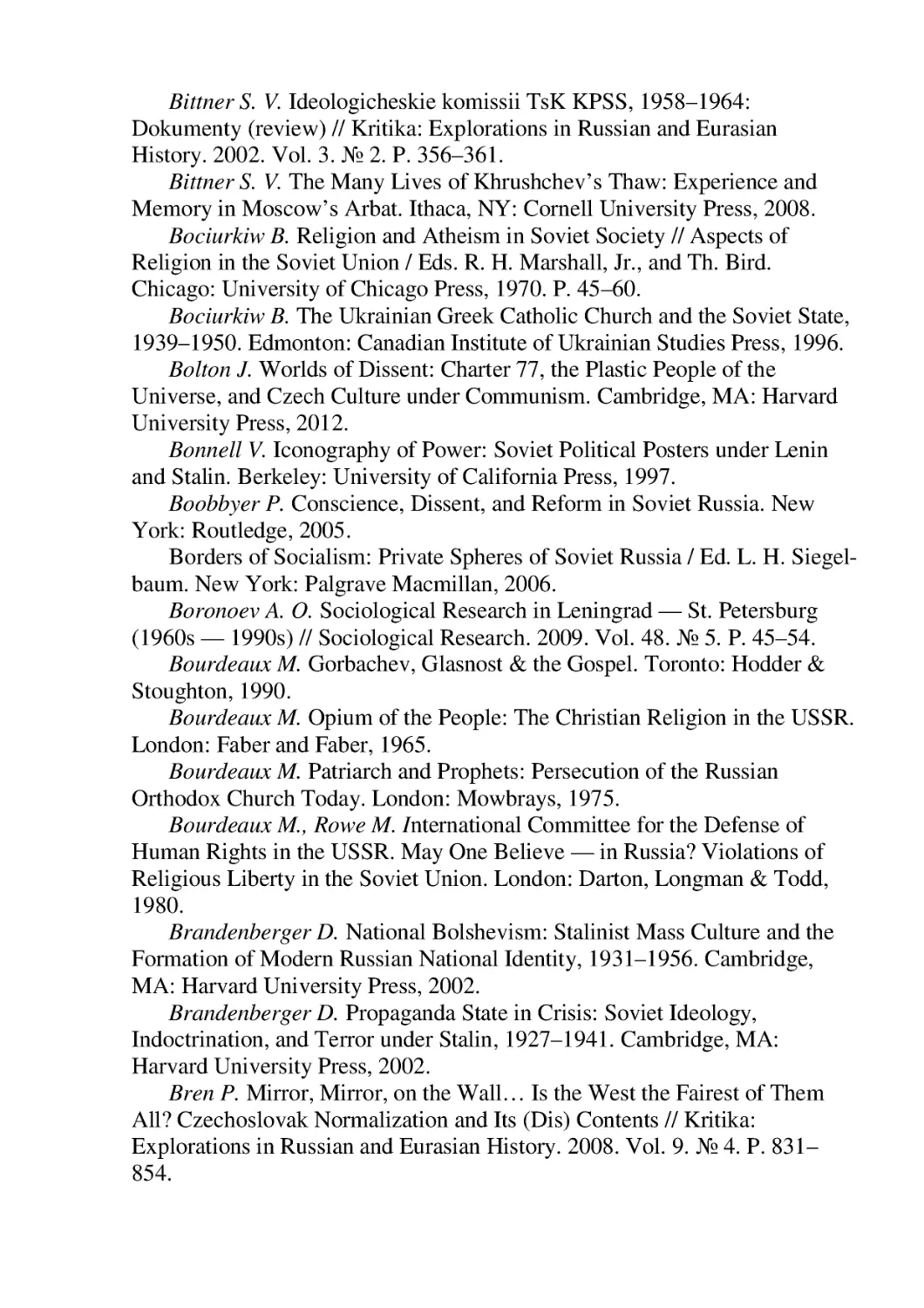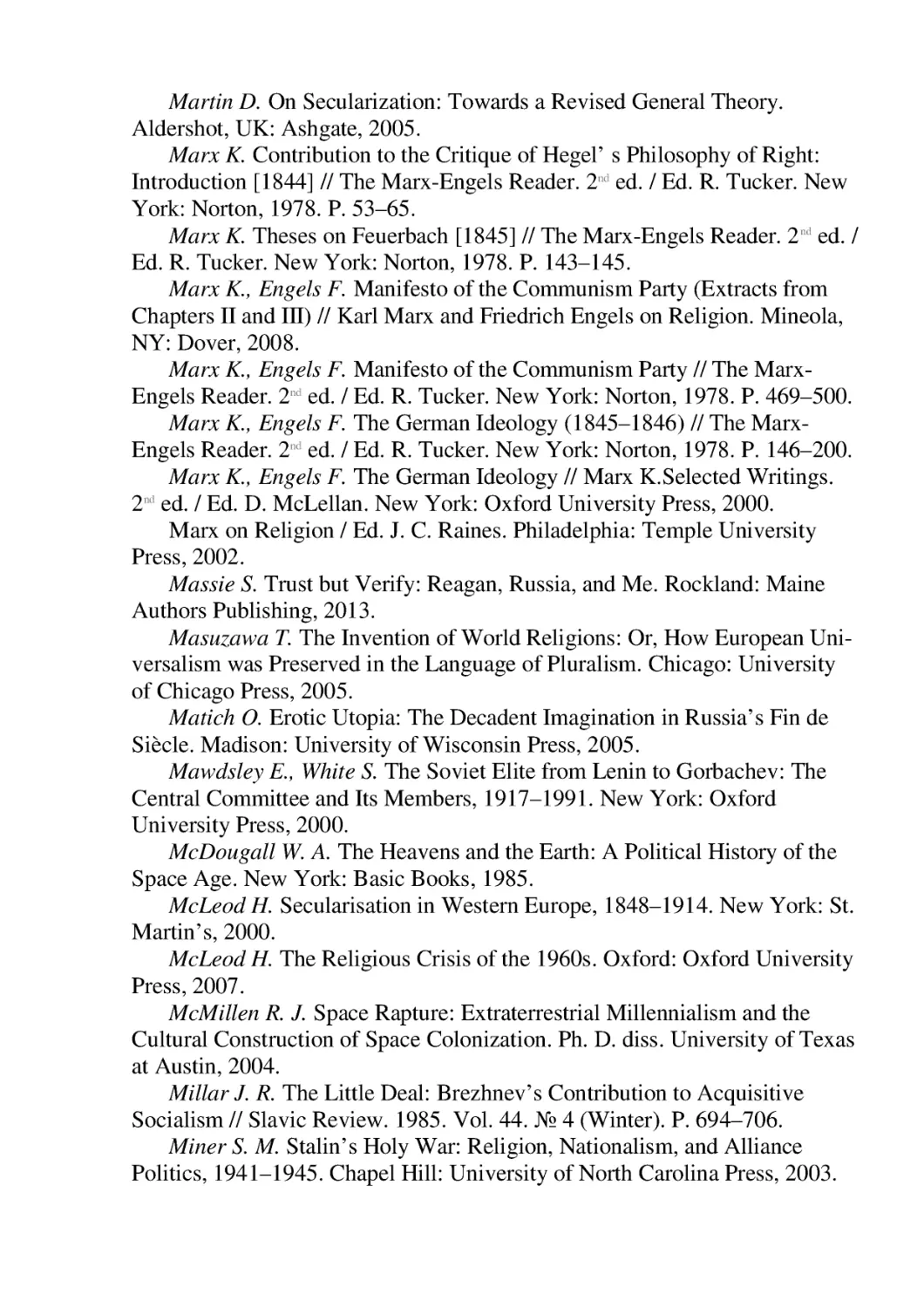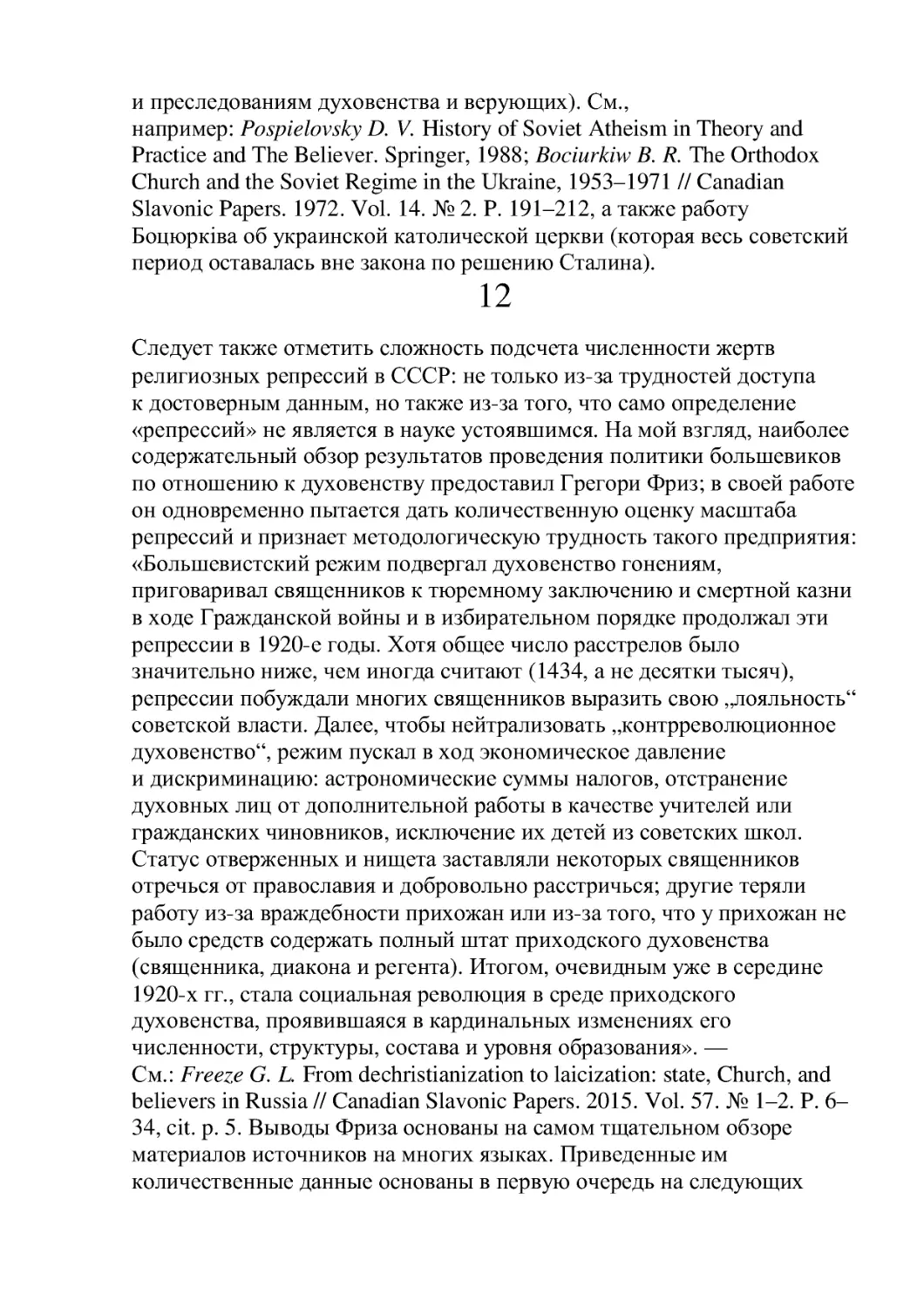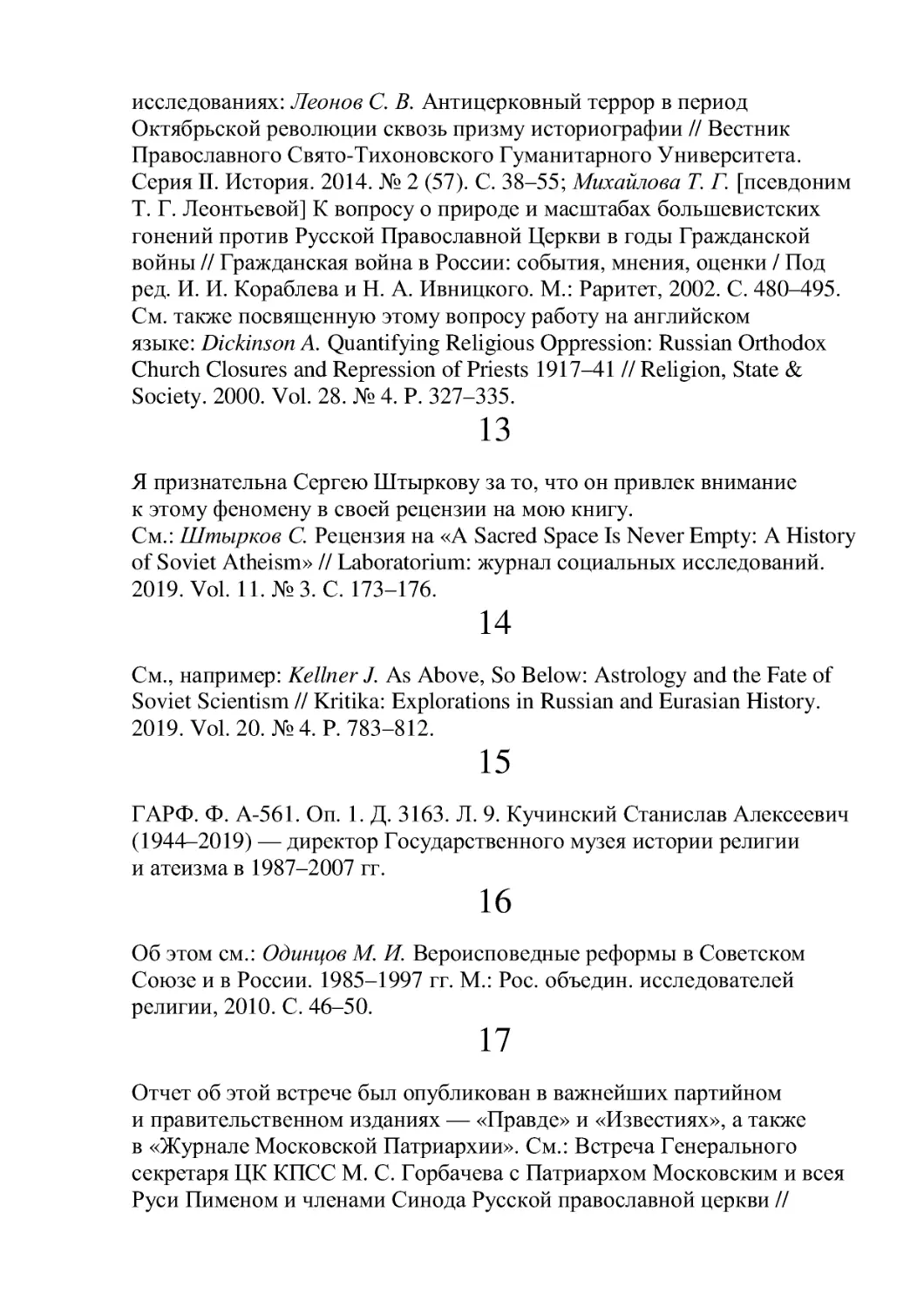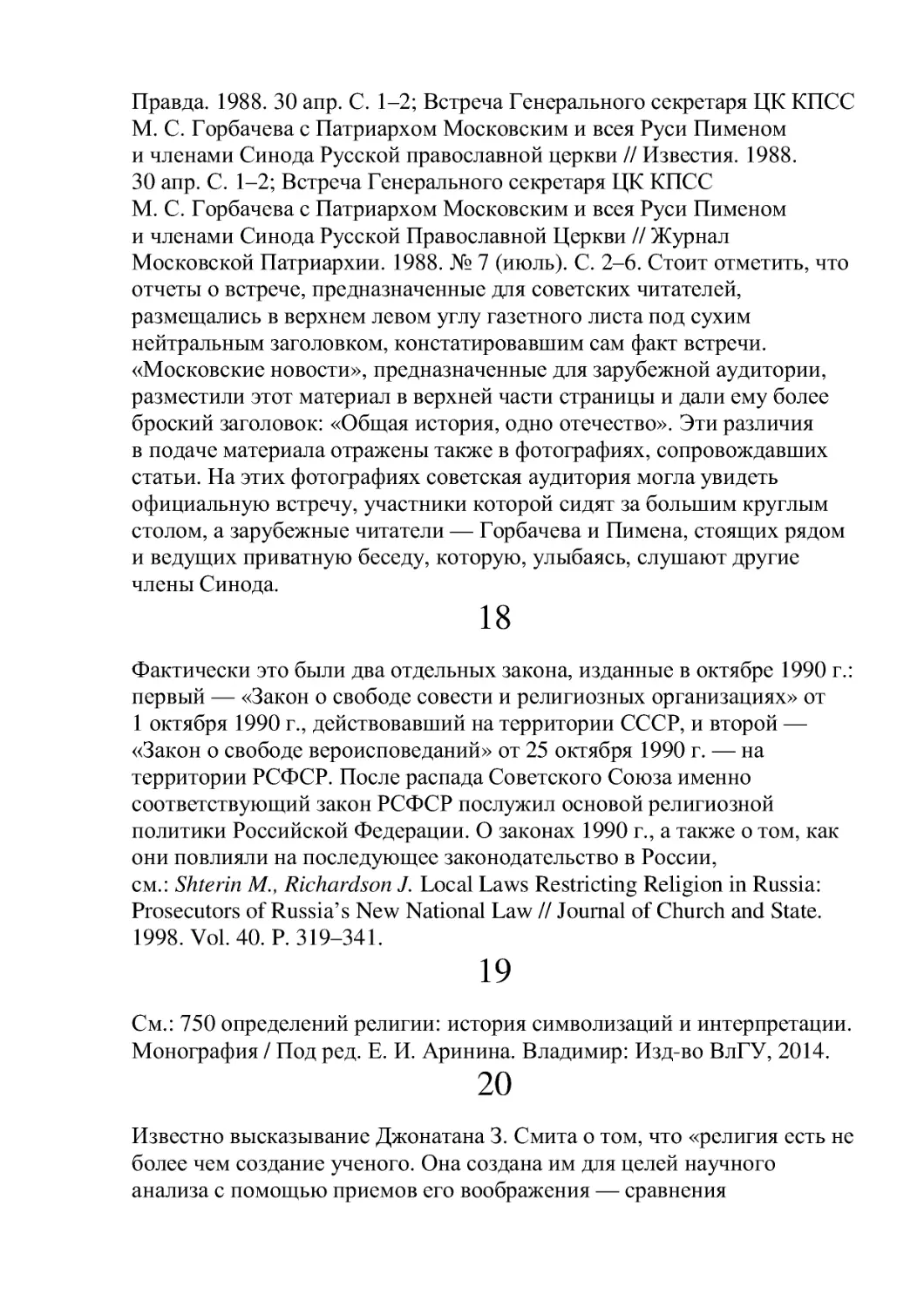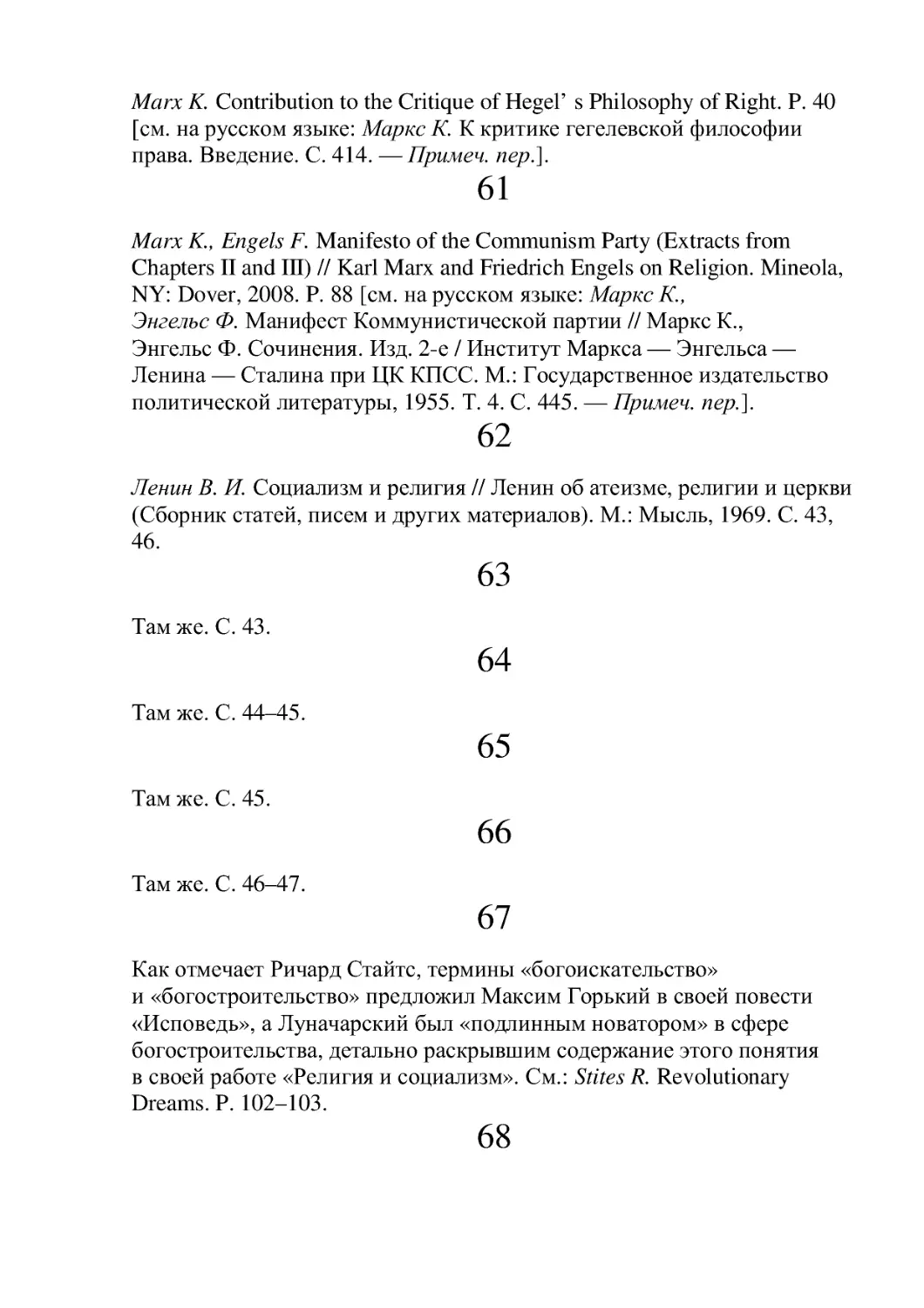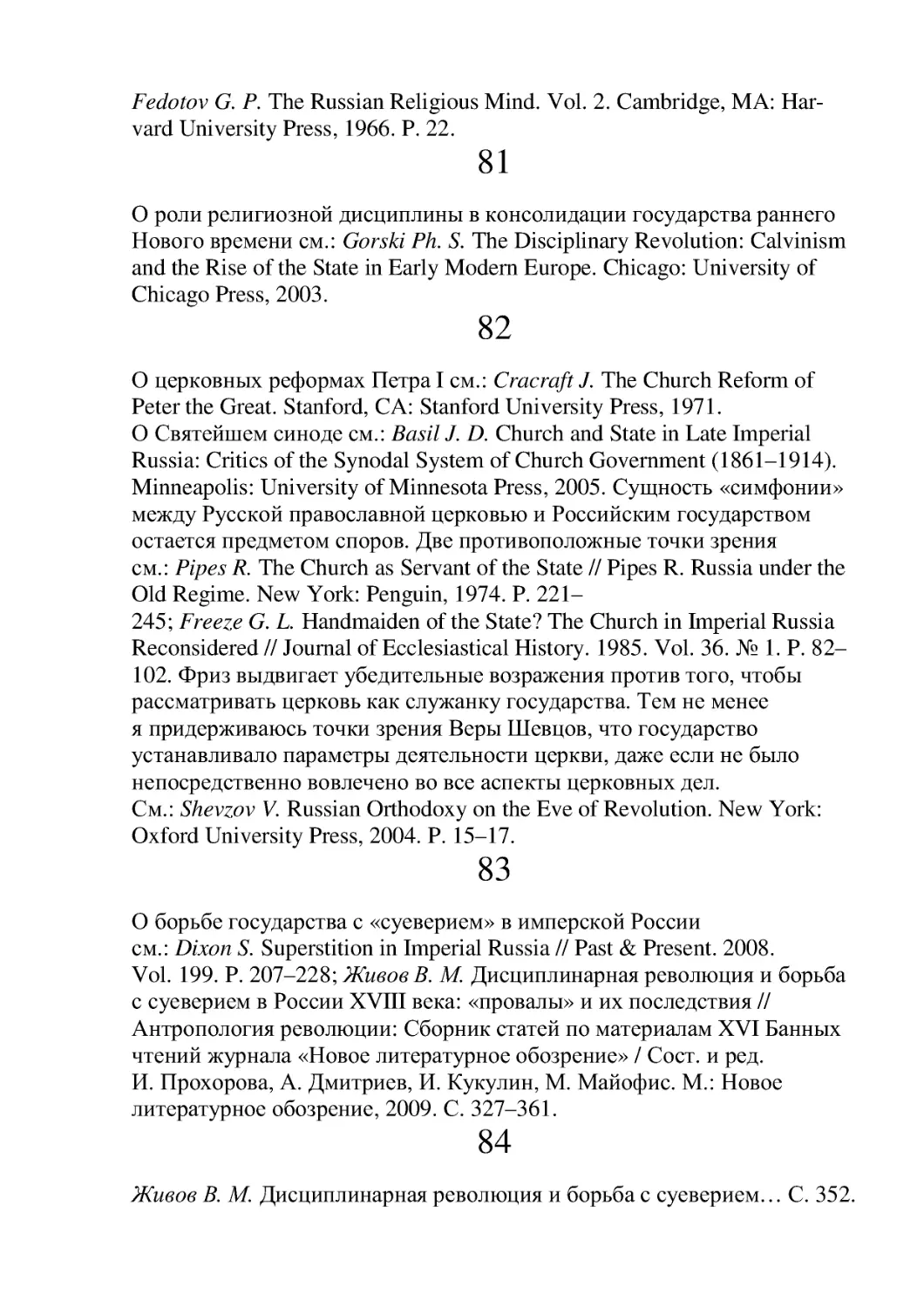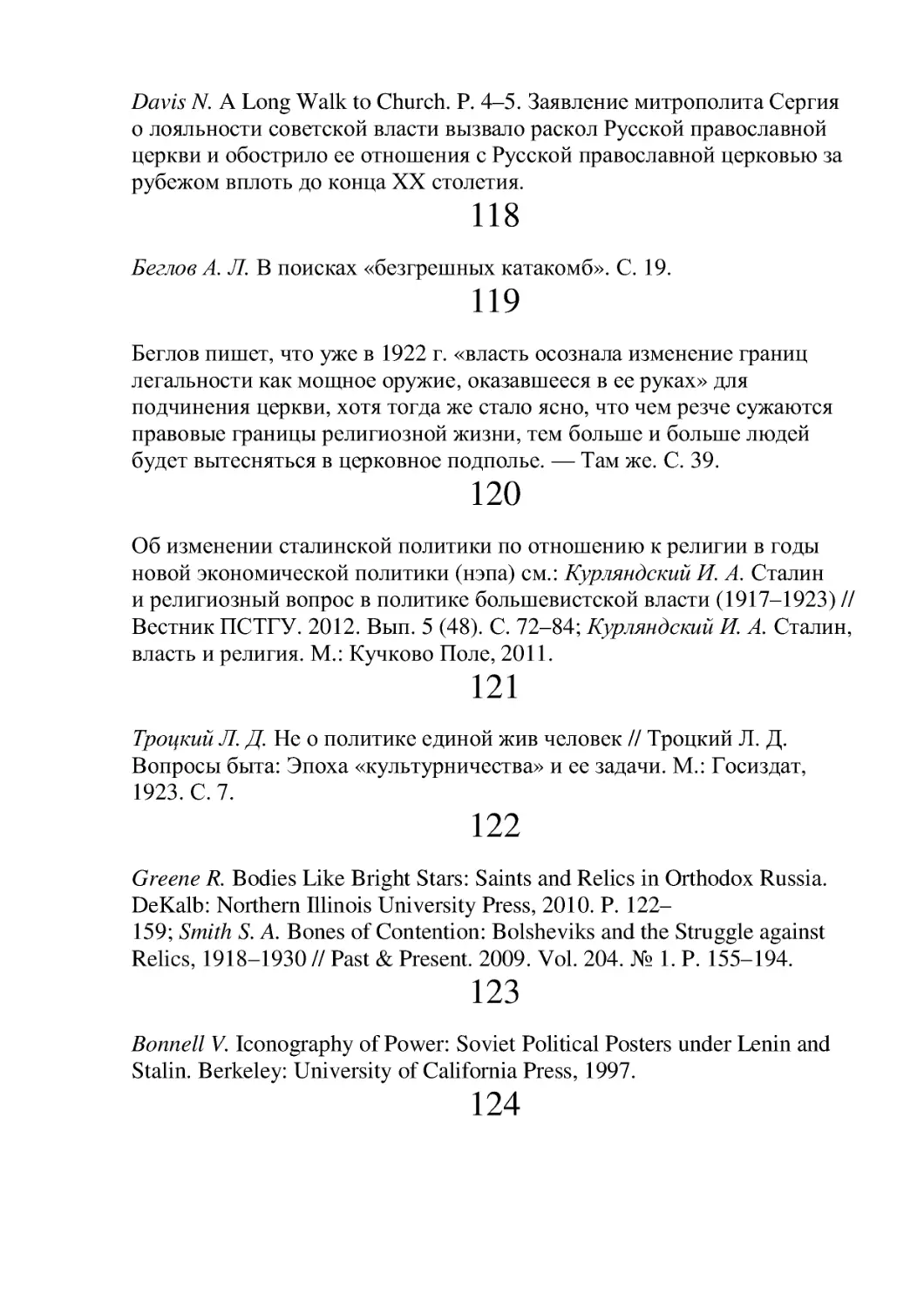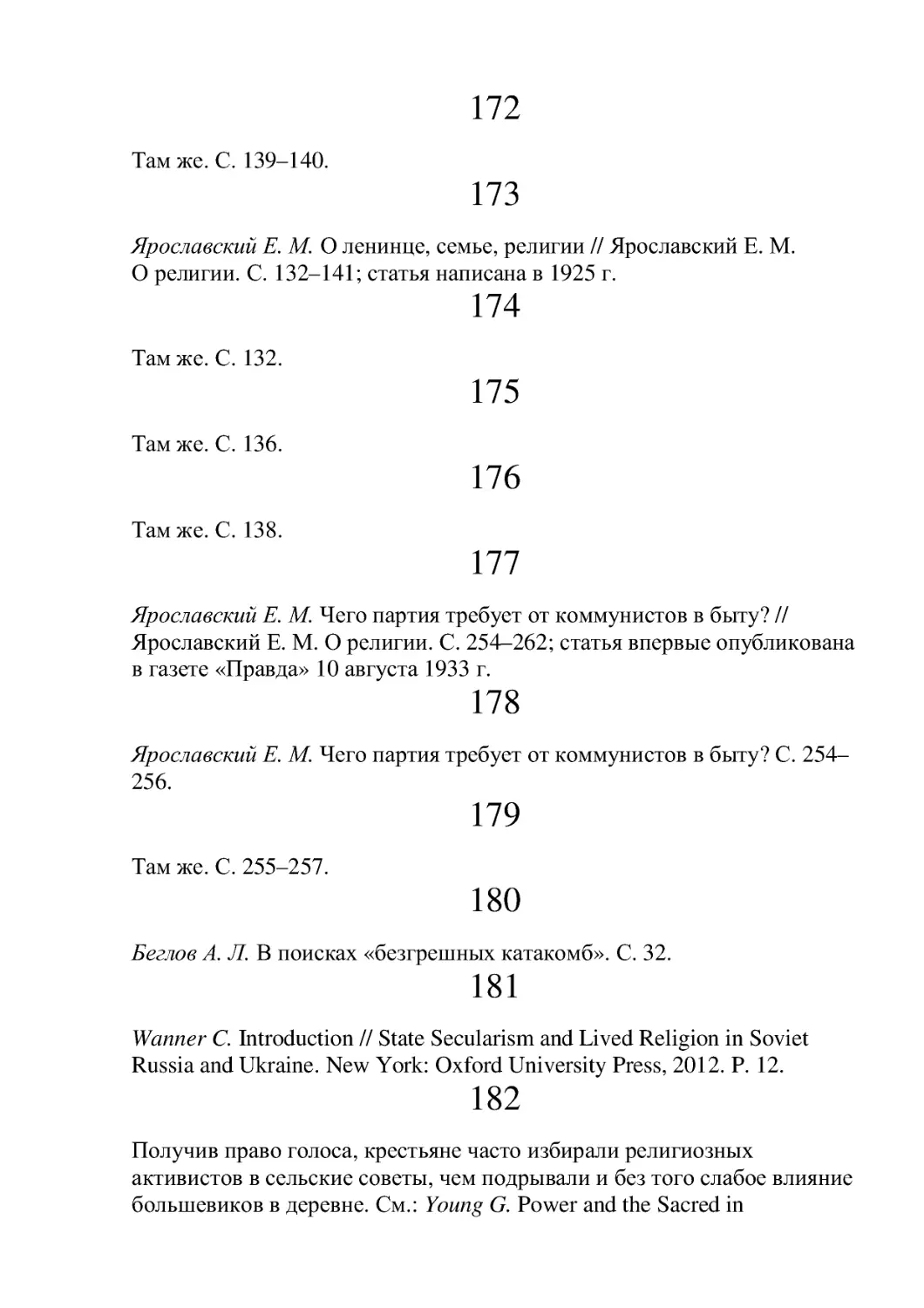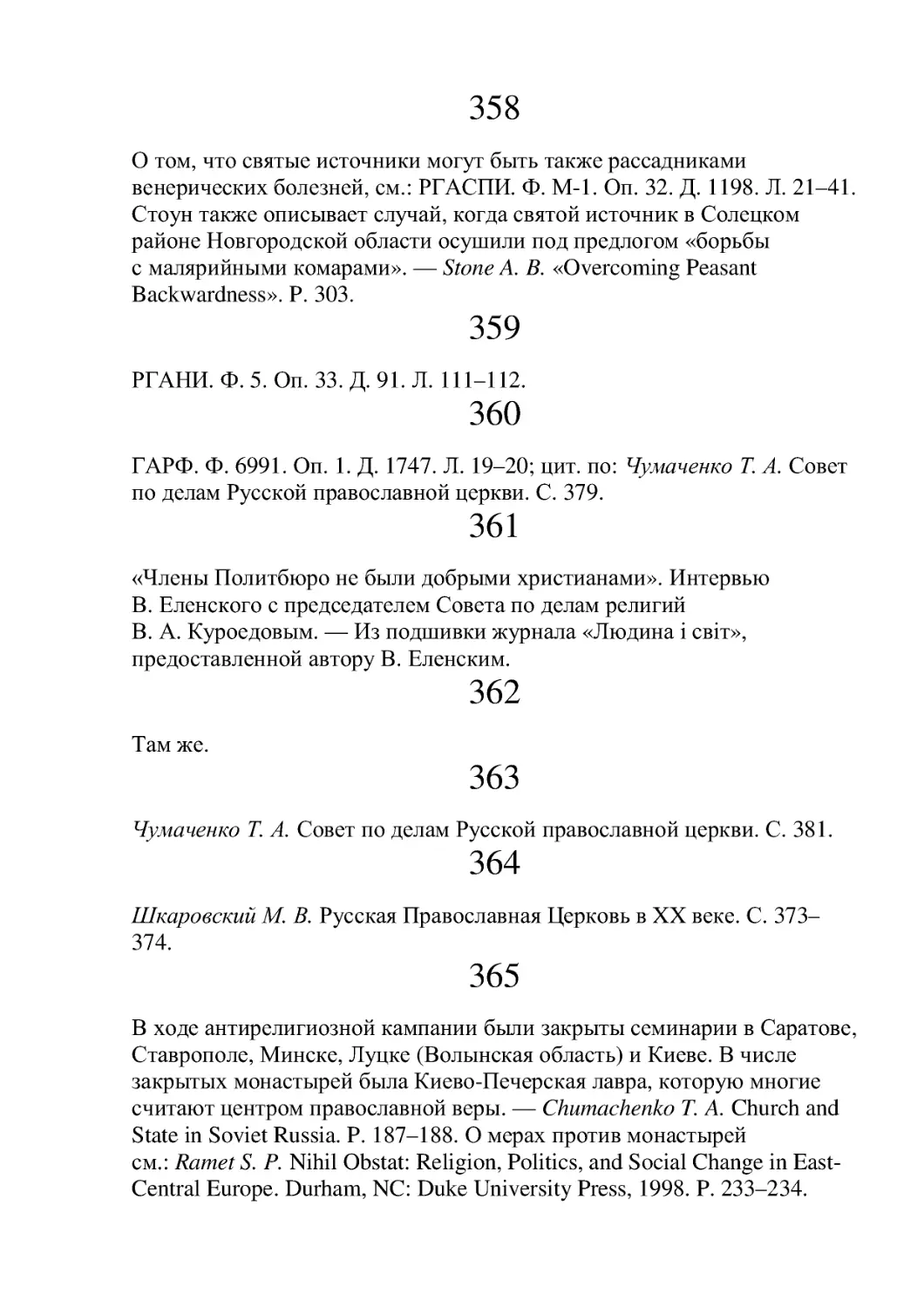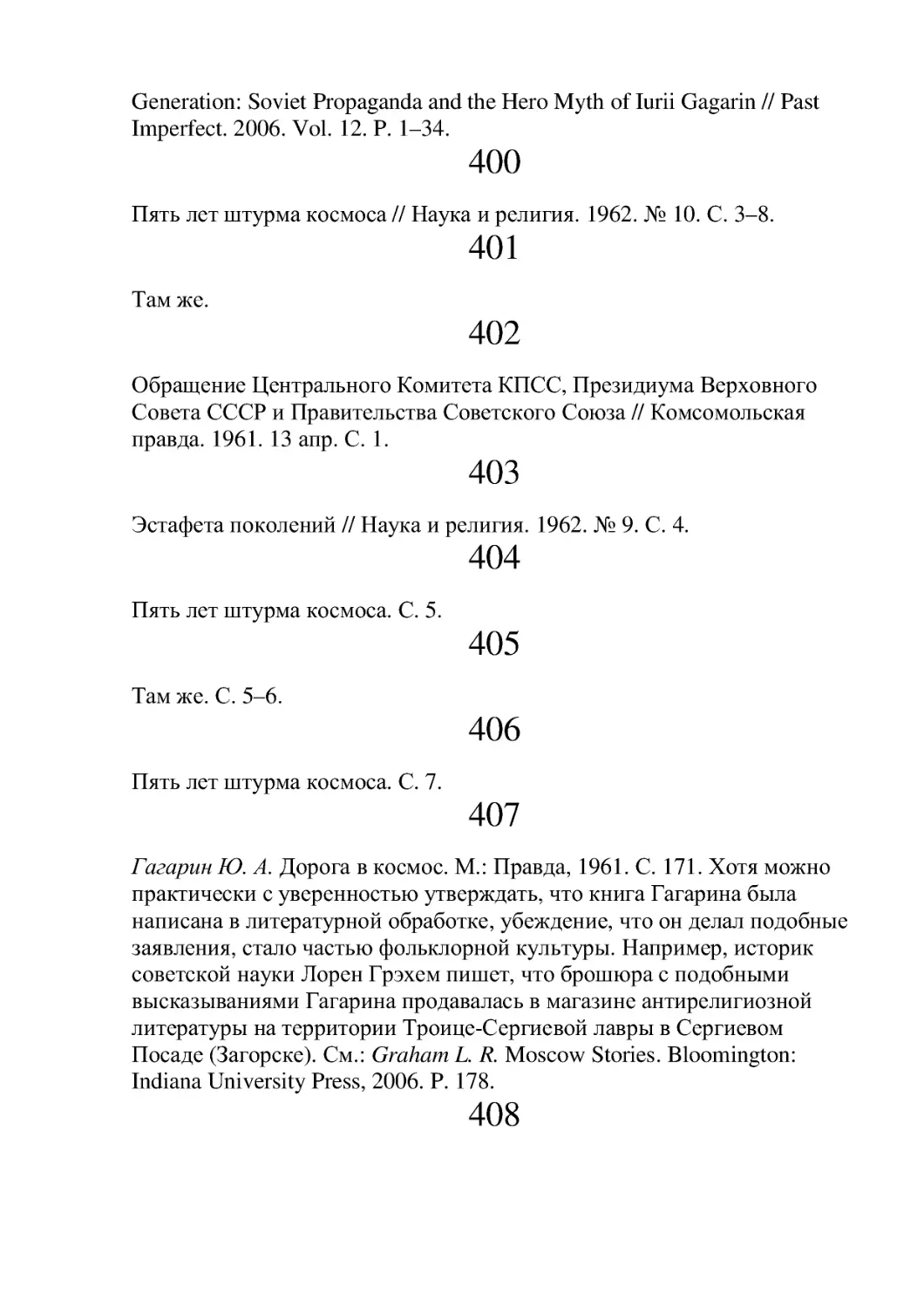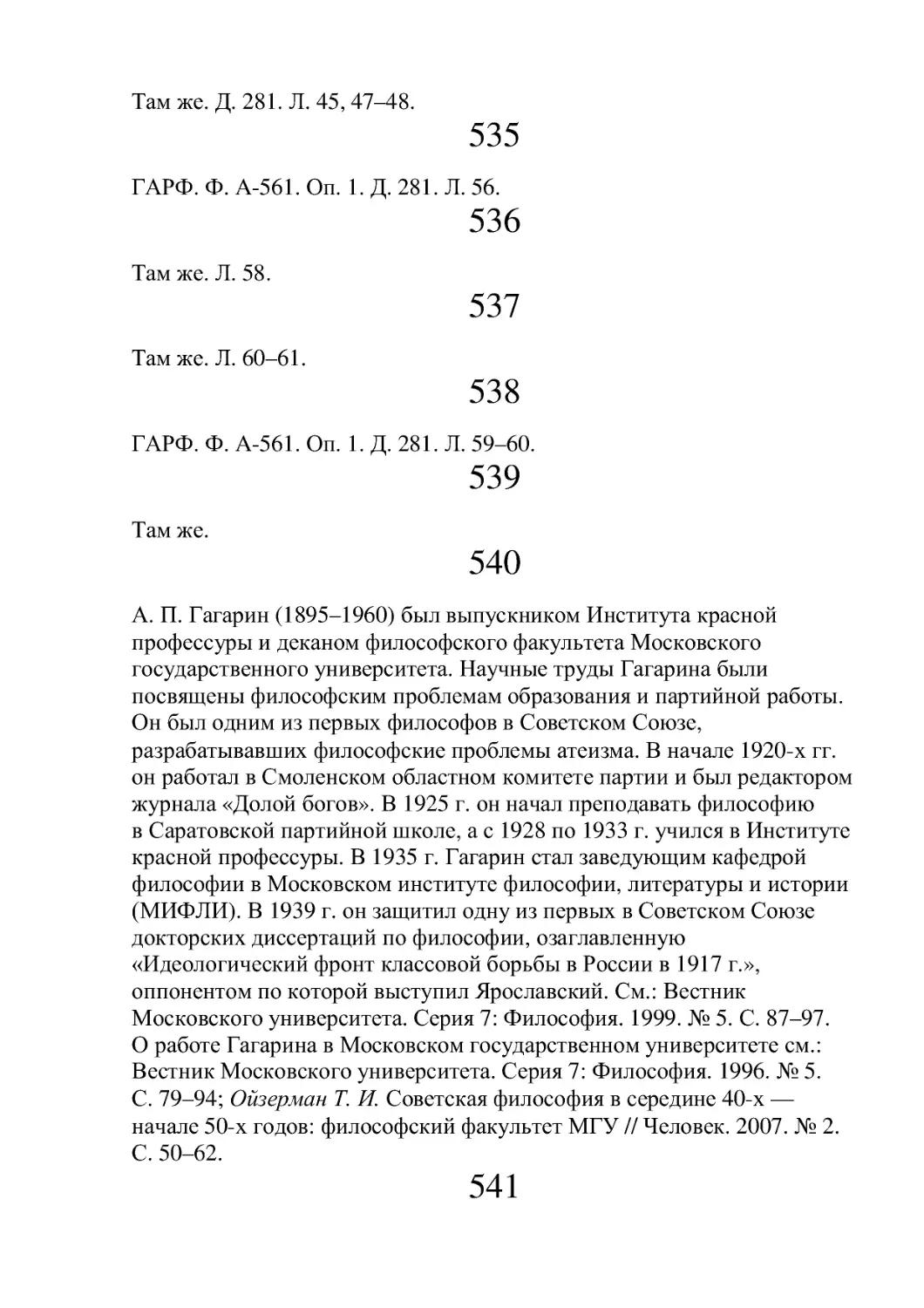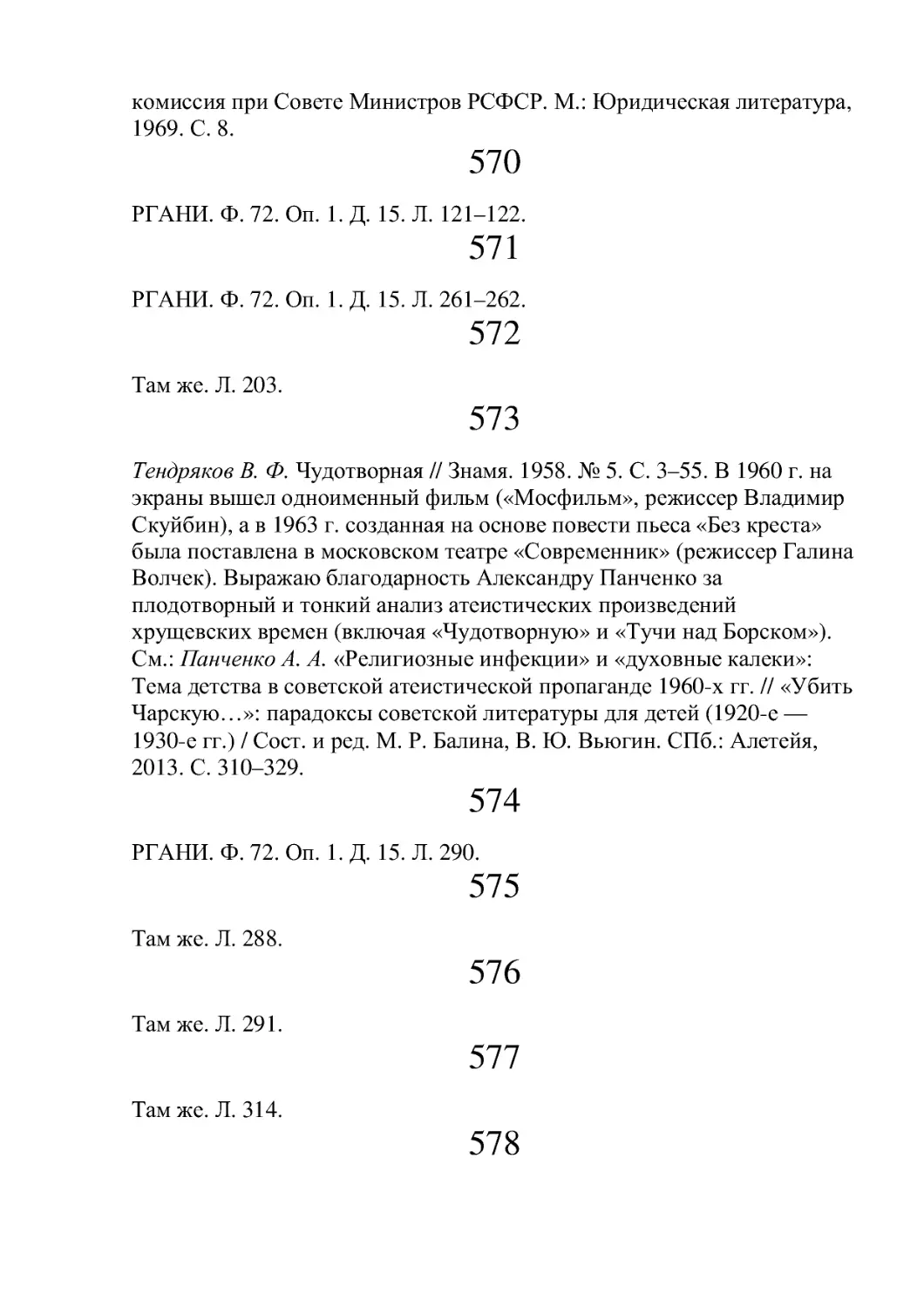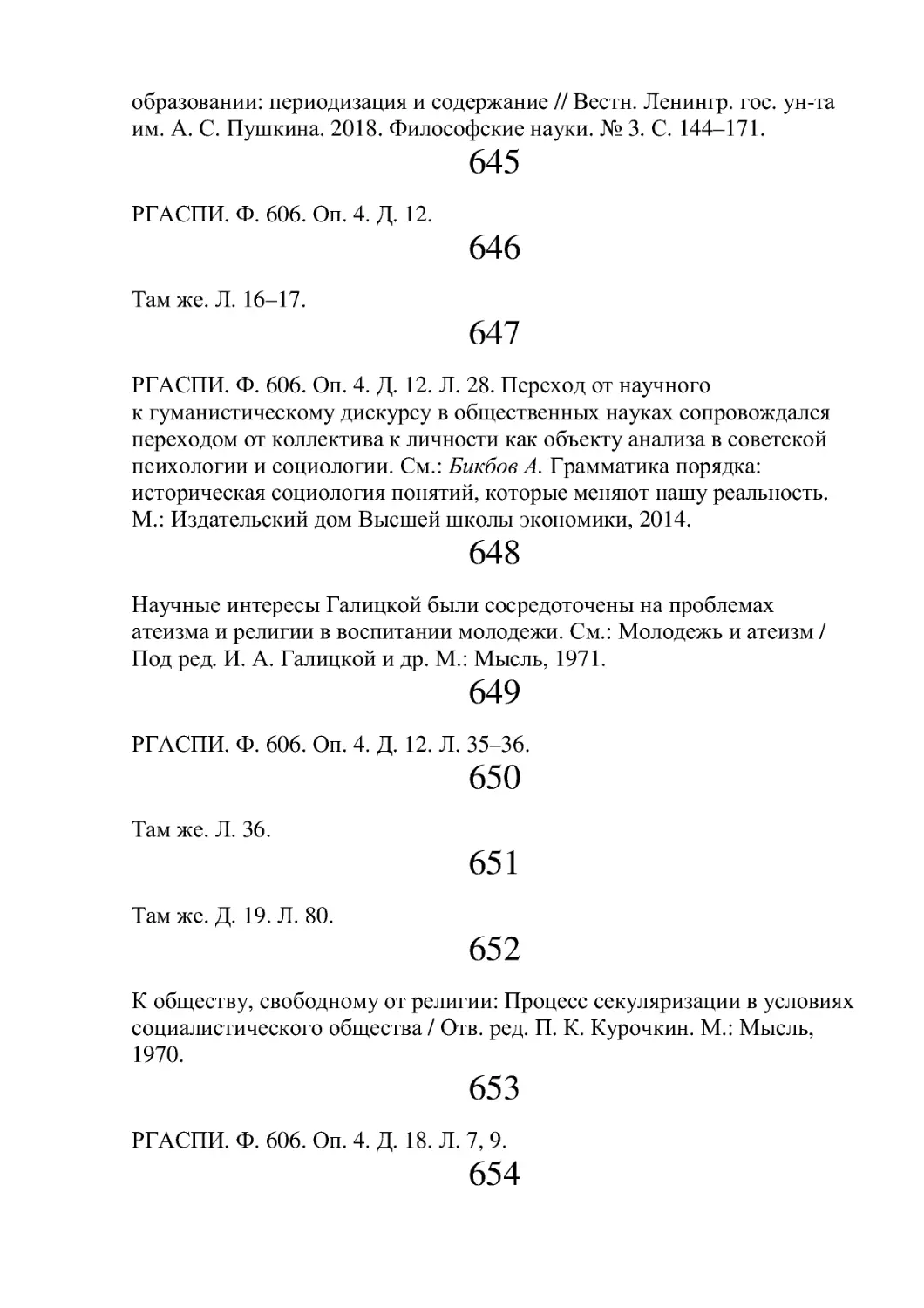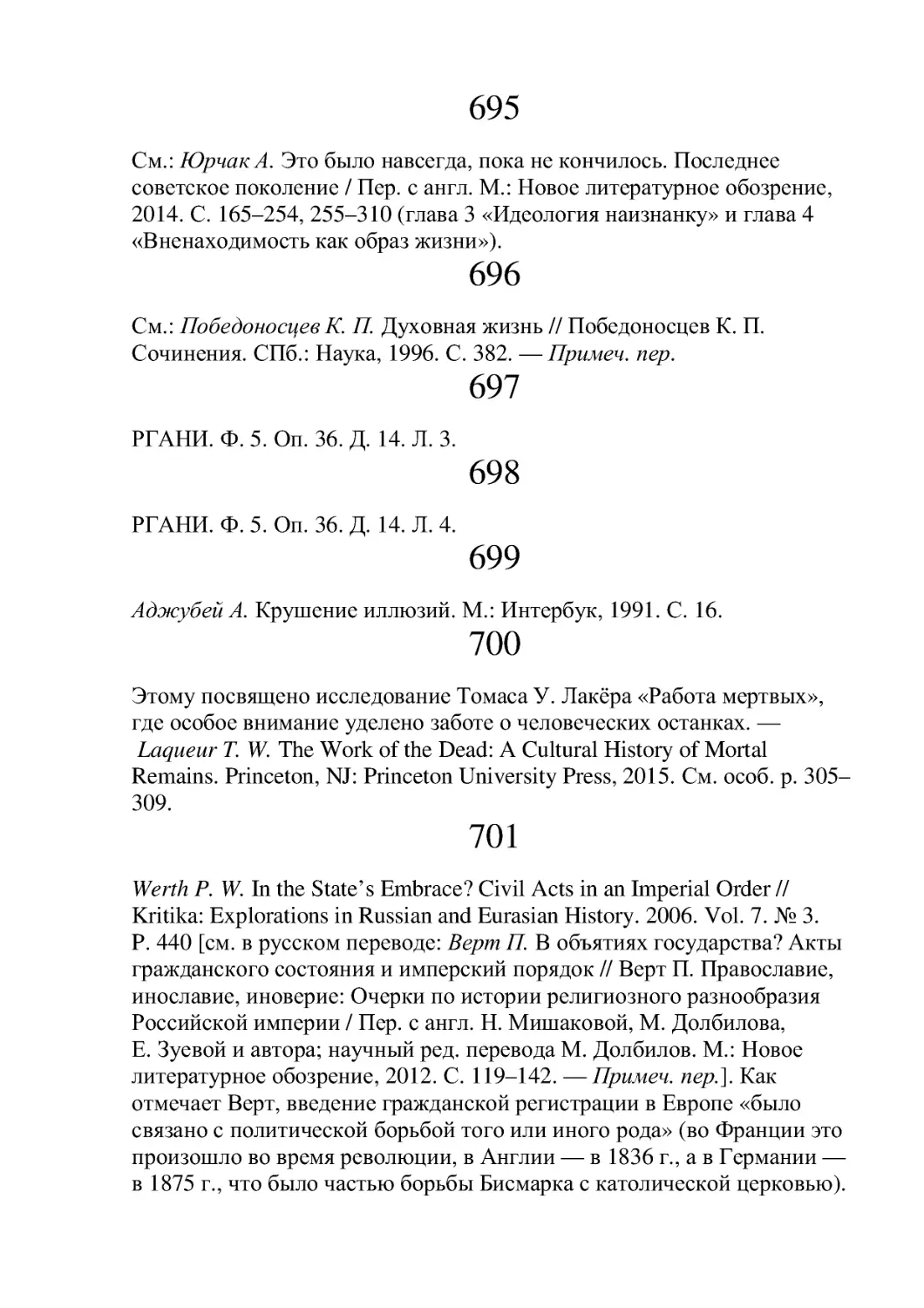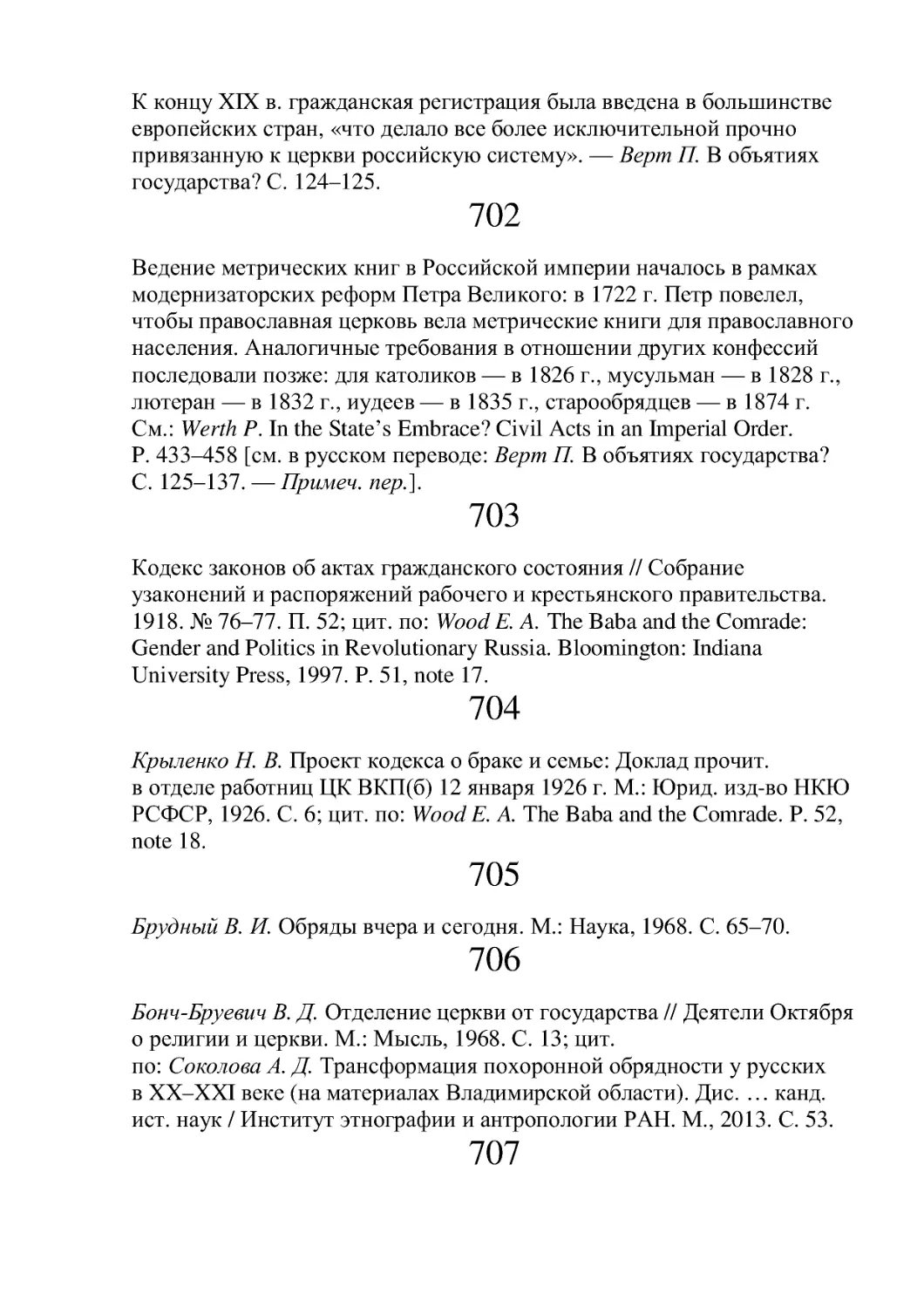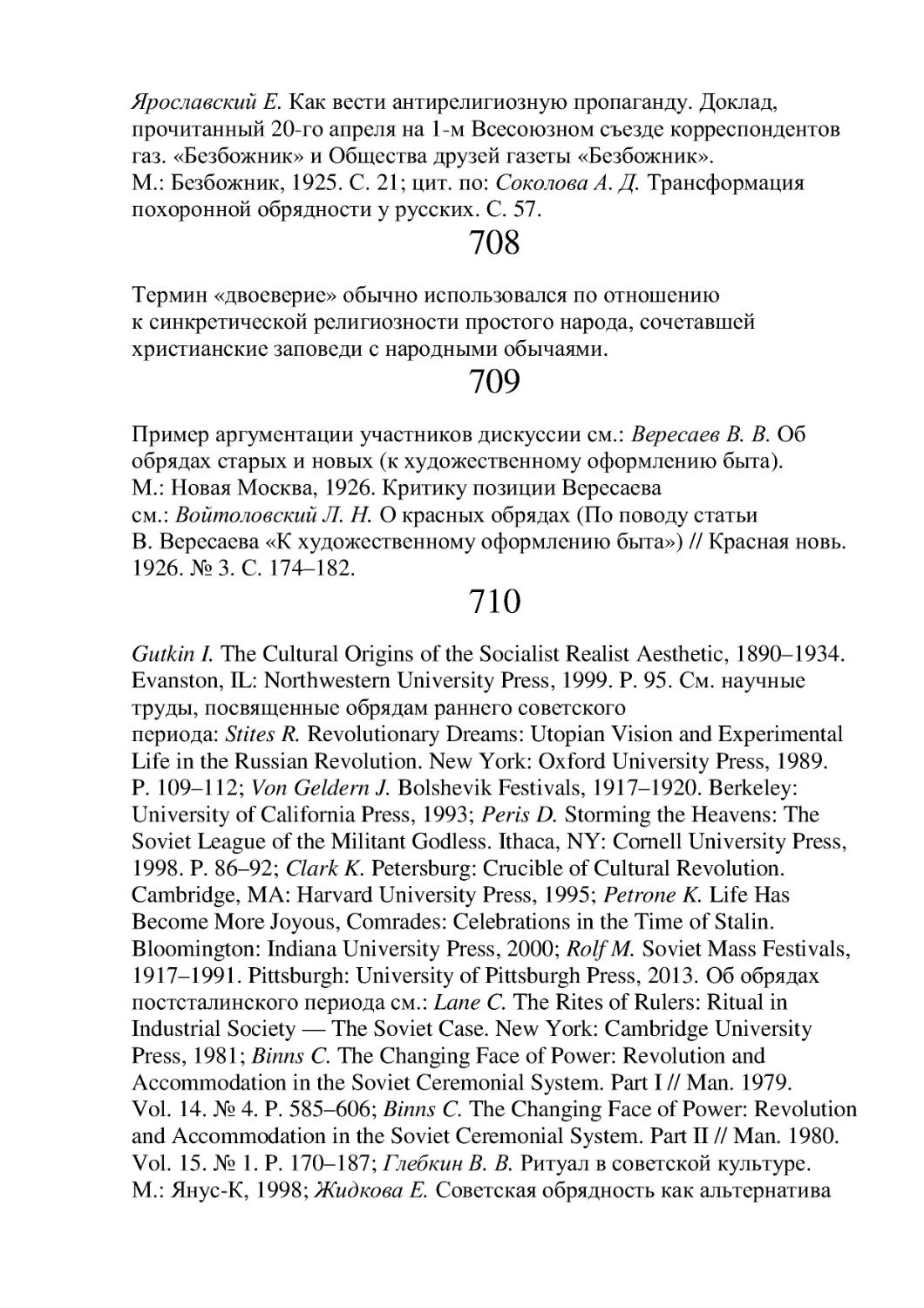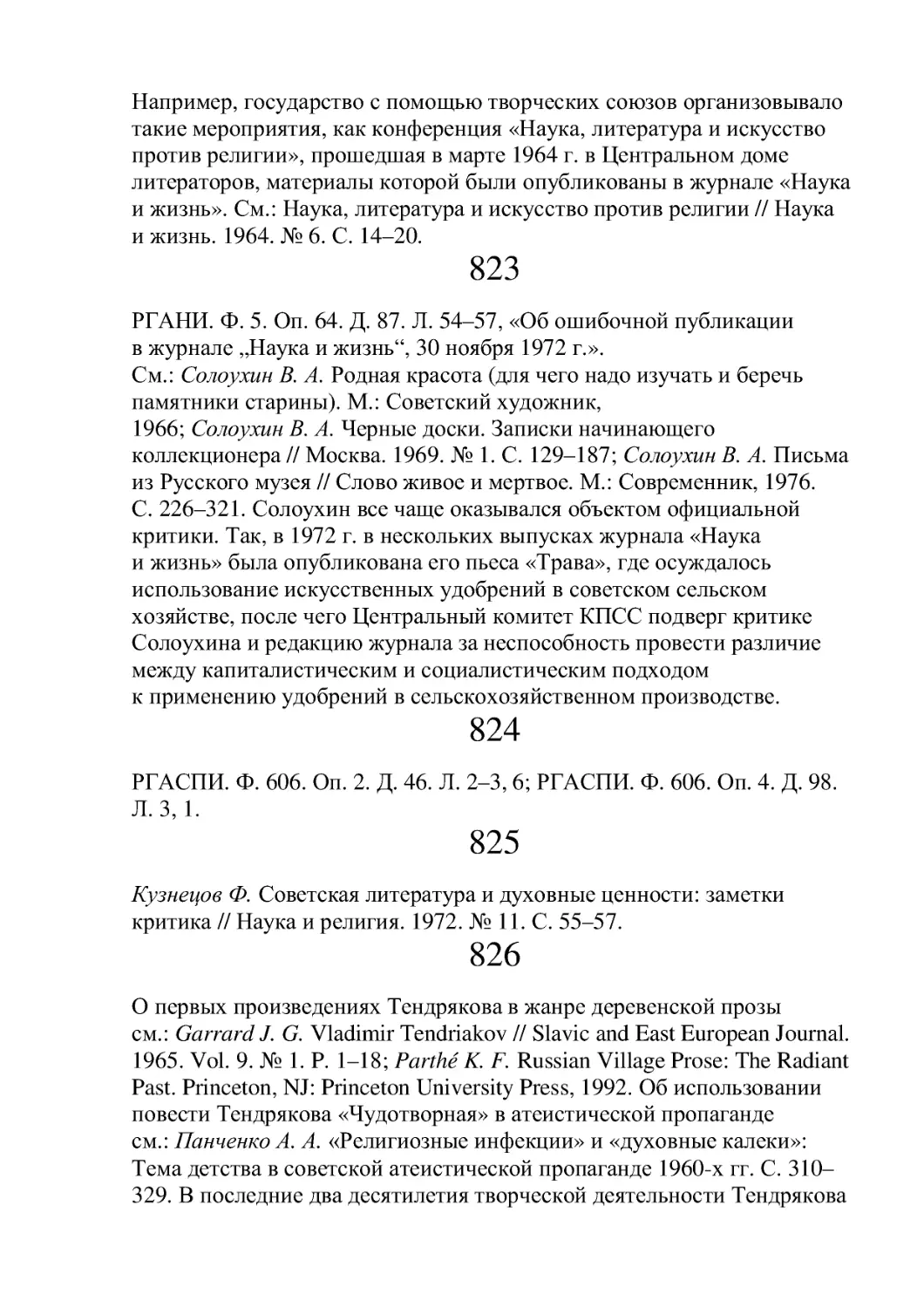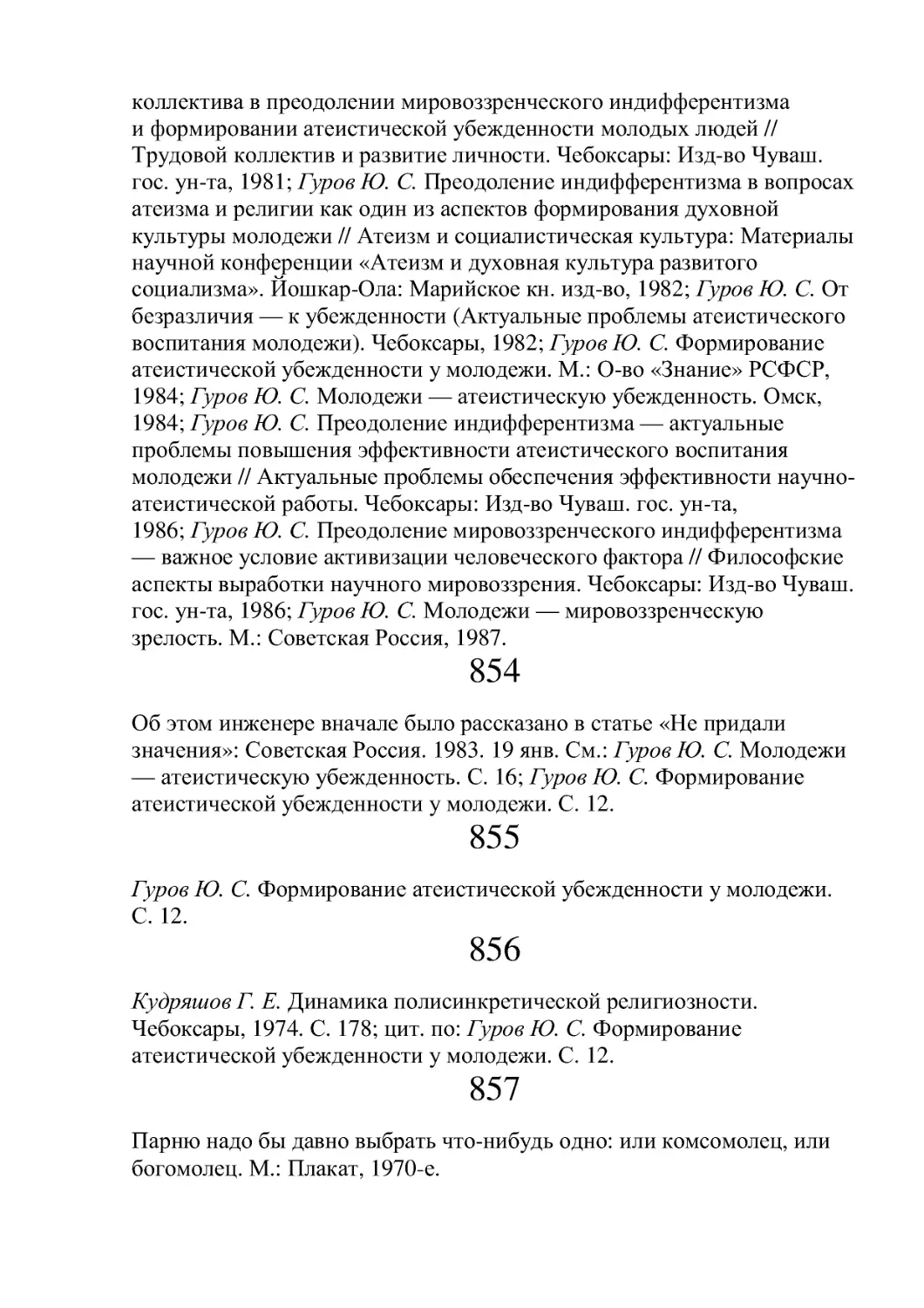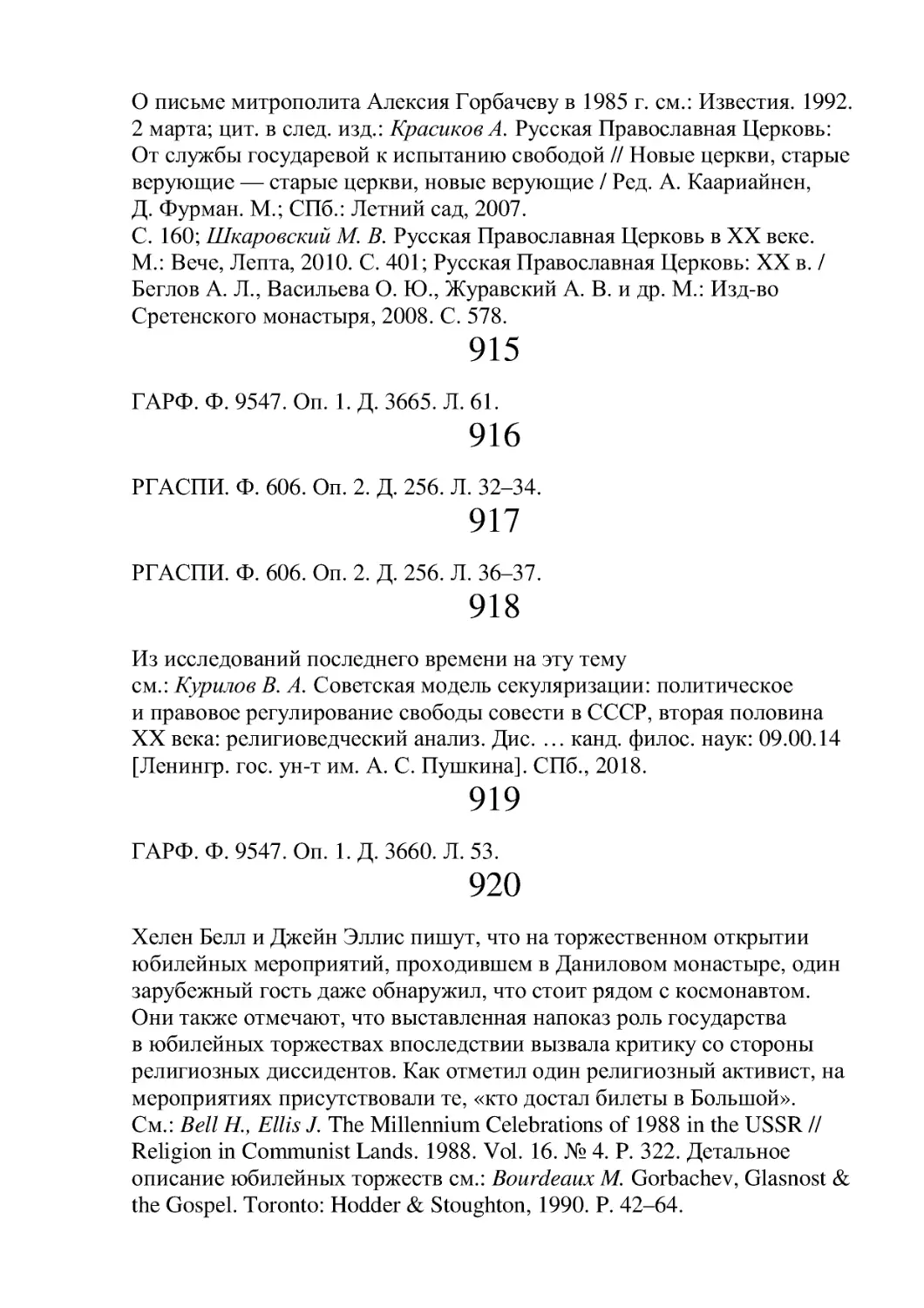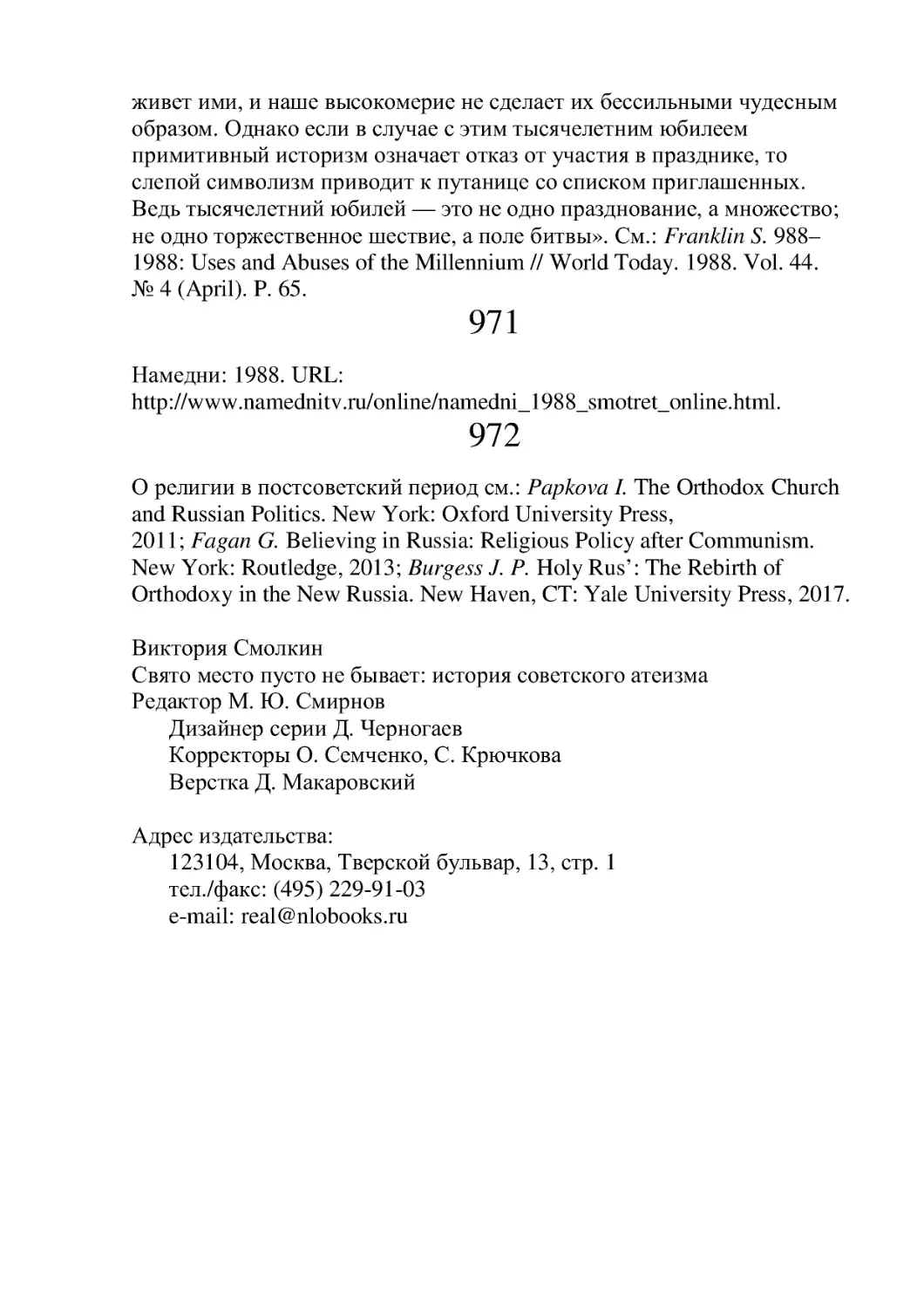Автор: Смолкин В.
Теги: философские системы и концепции биологические науки в целом история свободомыслия и атеизма религия история советский союз атеизм
ISBN: 978-5-4448-1438-3
Год: 2021
Текст
VICTORIA SMOLKIN
A SACRED SPACE IS NEVER EMPTY: A HISTORY OF SOVIET
ATHEISM
Princeton University Press
2018
Studia religiosa
Виктория Смолкин
Свято место пусто не бывает: история советского атеизма
Новое литературное обозрение
Москва
2021
УДК 141.45(091)(47+57)«19»
ББК 86.73(2)6
С51
Редактор серии С. Елагин
Научный редактор М.Ю. Смирнов, д-р социол. наук, профессор
Перевод с английского О.Б. Леонтьевой
Виктория Смолкин
Свято место пусто не бывает: история советского атеизма /
Виктория Смолкин. — М.: Новое литературное обозрение, 2021. —
(Серия «Studia religiosa»).
Когда после революции большевики приступили к строительству
нового мира, они ожидали, что религия вскоре отомрет. Советская
власть использовала различные инструменты — от образования до
пропаганды и террора, — чтобы воплотить в жизнь свое видение мира
без религии. Несмотря на давление на верующих и монополию на
идеологию, коммунистическая партия так и не смогла преодолеть
религию и создать атеистическое общество. «Свято место пусто не
бывает» — первое исследование, охватывающее историю советского
атеизма, начиная с революции 1917 года и заканчивая распадом
Советского Союза в 1991 году. Опираясь на обширный архивный
материал, историк Виктория Смолкин (Уэслианский университет,
США) утверждает, что для понимания советского эксперимента
необходимо понять советский атеизм. Автор показывает, как атеизм
переосмысливался в качестве альтернативной космологии со своим
набором убеждений, практик и духовных обязательств, прослеживая
связь этого явления с религиозной жизнью в СССР, коммунистической
идеологией и советской политикой.
ISBN 978-5 -4448-1438-3
© Princeton University Press, 2018
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including
photocopying, recording or by any information storage and retrieval system,
without permission in writing from the Publisher.
© О. Б. Леонтьева, перевод с английского языка, 2021
© Д. Черногаев, дизайн серии, обложка, 2021
© OOO «Новое литературное обозрение», 2021
•
Благодарности
•
Предисловие к русскому изданию
•
Введение
o Коммунизм и религия
o Что такое религия?
o Что такое атеизм?
o Визитная карточка коммунистической цивилизации
•
Глава 1 Религиозный фронт: воинствующий атеизм при Ленине и Сталине
o Старый мир
o Большевики-ленинцы
o Большевики-просветители
o Большевики — строители нового мира
o Большевики-сталинцы
o Патриотическая церковь
o На атеистическом фронте без перемен
o Заключение
•
Глава 2 Призрак бродит в царстве коммунизма: антирелигиозные ка мпании при
Хрущеве
o Уродливая гримаса старого быта
o Возвращение атеизма: кампания 1954 г.
o Две идеологии одновременно
o Большая опасность: антирелигиозная кампания 1958–1964 гг.
o Заключение
•
Глава 3 Космическое просвещение: советский атеизм как наука
o Небо — пустое!
o Планетарий — верующим
o Библия для космонавтов
o Не спутником единым
o Заключение
•
Глава 4 Путь в душу советского человека: мировоззренческое содержание
советского атеизма
o Строительство коммунизма
o Атеизм — в массы
o Клубы и лекции против церквей и проповедей
o Война мировоззрений
o Советский атеизм между наукой и религией
o Заключение
•
Глава 5 «Нужно изучить, где потеряли человека»: советский атеизм
как общественная наука
o Идеология как общественная наука
o Дом для советского атеизма
o Карта советской религиозности
o В поисках атеистической духовности
o Атеистическая семья
o Слезы атеистов
o К обществу, свободному от религии
o Заключение
•
Глава 6 Коммунистическая партия между государством и церковью: советский
атеизм и социалистические обряды
o От церкви к государству: секуляризация советской жизни
o «Брак — серьезное дело»: новая советская свадьба
o Отвлечь советских людей от религии: советские обряды как орудие
атеистической пропаганды
o От государства к церкви: сакрализация жизни советского общества
o Что за крестиком?
o Заключение
•
Глава 7 Социалистический образ жизни: советский атеизм и духовная культура
o Социалистический образ жизни как духовный проект
o Новые богоискатели
o Советская молодежь как потребитель духовной культуры
o Невоинствующий атеизм
o Воинствующая религия
o Заключение
•
Заключение
o Осиротевшее дитя утопии: советский атеизм и конец коммунистического
проекта
o Возвращение религии
o Уход атеизма
•
Список используемых аббревиатур и сокращений
•
Библиография
***
Благодарности
Создание каждой книги требует огромной мобилизации ресурсов
и поддержки — интеллектуальной, материальной и моральной. Я рада,
что наконец имею возможность выразить свою благодарность тем
людям и организациям, чья помощь сделала возможным появление этой
книги.
Прежде всего, мне была оказана интеллектуальная поддержка
в самых различных формах. Этот проект был задуман
в Калифорнийском университете в Беркли, где в ходе обучения
в аспирантуре мне посчастливилось работать со многими выдающимися
учеными, в числе которых были Томас Брэди (Thomas Brady), Джон
Коннелли (John Connelly), Виктория Фреде (Victoria Frede), Томас Лакёр
(Thomas Laqueur), Ольга Матич, Юрий Слёзкин, Эдвард Уолкер (Edward
Walker) и покойный Виктор Живов. Курс Томаса Брэди, посвященный
имманентности и трансцендентности, побудил меня задуматься о том,
что попытки советского атеизма разрешить экзистенциальные вопросы
носили одновременно уникальный и универсальный характер. Джон
Коннелли стал исключительным примером академической
дисциплинированности и человеческой эмпатии. Виктория Фреде
благородно делилась своими глубокими знаниями по интеллектуальной
истории атеизма в России. Фантастическая работа Томаса Лакёра
служила источником вдохновения. Ольга Матич стала бесценным
проводником в мир российского и советского художественного
воображения. Покойный Виктор Живов открыл мне мир русского
православия и вдохновил на сравнение дисциплинарных режимов, как
религиозных, так и идеологических, в разных временах
и пространствах. Эдвард Уолкер постоянно призывал меня четко
формулировать, почему все это является актуальной научной
проблемой. Наконец, мой научный руководитель Юрий Слёзкин,
заложивший фундамент этого проекта, научил меня, как важно
задаваться масштабными вопросами, и показал, что хороший историк
должен уметь рассказать хорошую историю. Я признательна ему за
неустанную поддержку — не только моего исследования, но и меня
самой как исследователя.
В процессе работы над проектом мои идеи прошли апробацию на
многих конференциях и научных семинарах. Ценные и стимулирующие
отклики, которые я каждый раз получала, без сомнения, пошли на
пользу этой книге. В частности, я хотела бы выразить благодарность
организаторам и участникам семинара по истории России
в Пенсильванском университете; группе «Чтения по истории России
и Восточной Европы» Йельского университета; Центру Шелби Каллома
Дэвиса Принстонского университета; Центру Леонарда Гринберга по
изучению религии в общественной жизни Тринити-колледжа
(Хартфорд, Коннектикут); исследовательской группе «Религиозные
культуры в Европе XIX–XX вв.» Центра перспективных исследований
Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана
(Германия); организаторам Лекций молодых ученых имени Вирджинии
и Деррика Шермана в Университете Северной Каролины
в Уилмингтоне и Институту славянских, восточноевропейских
и евразийских исследований Калифорнийского университета в Беркли,
который оставался моим интеллектуальным домом и куда я много раз
возвращалась, в том числе для участия в Семинаре Карнеги по
идеологии и религии и, конечно, в работе кружка по российской
истории.
Воплощению этого проекта помогли также глубокие знания
и помощь многих замечательных архивных работников, библиотекарей,
научных сотрудников и коллег, без которых эта книга не смогла бы
появиться на свет. Я хотела бы поблагодарить сотрудников
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ); Российского
государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ),
в том числе архива Комсомола (ВЛКСМ); Российского
государственного архива новейшей истории (РГАНИ);
Государственного музея истории религии (ГМИР); Центрального
государственного архива общественных объединений Украины
(ЦДАГО); Центрального государственного архива высших органов
власти и управления Украины (ЦГАВО) и, наконец, Литовского
специального архива (LYA). Я также выражаю свою благодарность
талантливым сотрудникам Европейского читального зала Библиотеки
Конгресса, Мемориальной библиотеки Файрстоуна Принстонского
университета, Центра Вудро Вильсона и библиотеки Уэслианского
университета. Также я признательна за помощь замечательным
научным сотрудникам, среди которых: Саманта Айбиндер (Samantha
Aibinder), Булат Ахметкаримов (Bulat Akhmetkarimov), Массимо Белони
(Massimo Beloni), Габриэль Финкельштейн (Gabriel Finkelstein), Аарон
Хейл-Доррелл (Aaron Hale-Dorrell), Эмили Хогэ (Emily Hoge), Миша
Яковенко (Misha Iakovenko), Иосиф Келлнер (Joseph Kellner), Яков
Лассин (Jacob Lassin), Джоэл Майклс (Joel Michaels), Джеймс Рестон
(James Reston), Элиас Сайф (Elyas Saif), Катя Собченко (Kathryn
Sobchenko), Кэйла Столер (Kayla Stoler) и Ольга Якушенко (Olga
Yakushenko). Людмила Миронова и Валерий Любяко, которые помогали
стенографировать интервью, были примером профессионализма
и самоотдачи.
Также я признательна всем, кто делился со мной своими
профессиональными знаниями и оказывал поддержку, особенно Синтии
Бакли (Cynthia Buckley), Татьяне Чумаченко, Майклу Фрогатту (Michael
Froggatt), Алексею Гайдукову, Ремиру Лопаткину, Николаю
Митрохину, Михаилу Одинцову, Михаилу Смирнову, Анне Соколовой,
Александру Титову (Alexander Titov), Кэтрин Уоннер (Catherine
Wanner), Виктору Еленскому и Сергею Штыркову. Я благодарю тех, кто
согласился дать мне интервью, за их понимание и за доверие. Я многим
обязана моим студентам из Уэслианского университета: наши
дискуссии принесли большую пользу этому проекту. Наконец, я хочу
особенно поблагодарить тех великодушных людей, кто читал мою
рукопись и давал на нее критические отзывы. Одни из них — Эмили
Барэн (Emily Baran), Дэвид Бранденбергер (David Brandenberger), Пол
Бушкович (Paul Bushkovitch), Джон Коннелли, Николь Итон (Nicole
Eaton), Кристин Эванс (Christine Evans), Виктория Фреде (Victoria
Frede), Сюзанна Фуссо (Susanne Fusso), Анна Гелцер (Anna Geltzer),
Майкл Гордин (Michael Gordin), Стевен Хэррис (Steven Harris), Иосиф
Келлнер (Joseph Kellner), Надежда Киценко, Соня Люрман, Николай
Митрохин, Алексис Пери (Alexis Peri), Итан Поллок (Ethan Pollock),
Жюстин Кихада (Justine Quijada), Питер Ратленд (Peter Rutland), Магда
Тетер (Magda Teter), Хелена Тот (Helena Toth), Тод Уэйр (Todd Weir)
и Виктор Живов — читали отдельные части моей работы. Другие —
Ричард Элфик (Richard Elphick), Денис Козлов и Эрик Скотт (Erik Scott)
—
прочли рукопись целиком. А самые невезучие — Юрий Слёзкин
и Пол Верт (Paul Werth) — прочли всю рукопись несколько раз.
В каждом случае их проницательность и их вопросы принесли мне
огромную пользу. Изъяны и ошибки, которые, может быть, есть в этой
книге, остались лишь потому, что я не всегда следовала их советам.
Отмечу материальную поддержку, без которой исследовательская
работа и написание этой книги оказались бы невозможны.
Я признательна историческому факультету и Программе евразийских
и восточноевропейских исследований Калифорнийского университета
в Беркли; Стипендиальному фонду поддержки исследований для
подготовки диссертации Совета по исследованиям в области
социальных наук (SSRC); грантовой программе поддержки зарубежных
исследований для написания докторских диссертаций фонда Фулбрайта;
Стипендиальному фонду поддержки передовых научных исследований
Американских советов по международному образованию
(АСПРЯЛ/АКСЕЛС); Стипендиальному фонду декана по
своевременному завершению диссертаций Калифорнийского
университета в Беркли и Стипендиальному фонду Шарлотты Ньюкомб
(Charlotte Newcombe) по поддержке диссертаций в области религии
и этики фонда Вудро Вильсона за предоставленные мне средства,
позволившие завершить диссертацию, которая была первым
воплощением этого проекта. Еще несколько организаций предоставили
средства, позволившие мне продолжать размышлять и писать на эту
тему и превратить диссертацию в книгу. Премия фонда поддержки
постдокторальных исследований Евразии Совета по исследованиям
в области социальных наук позволила мне провести существенную
дополнительную научную работу. Центр изучения истории имени
Шелби Каллома Дэвиса в Принстонском университете, под блестящим
руководством Филипа Норда (Philip Nord), создал стимулирующую
творческую атмосферу, необходимую для развития этого проекта.
Институт Кеннана центра Вудро Вильсона предоставил мне идеальное
пространство для обсуждения научных идей с внешним миром.
Уэслианский университет был прекрасной средой для созревания
этого проекта. Я признательна моим коллегам, которые помогли сделать
мою работу в университете столь плодотворной, особенно
преподавателям и сотрудникам исторического факультета, Колледжа
социальных наук и Программы российских, восточноевропейских
и евразийских исследований. Мне посчастливилось работать под
руководством мудрых и великодушных наставников, в числе которых
я в первую очередь хочу назвать Сюзанн Фуссо, Брюса Мастерса (Bruce
Masters), Питера Ратленда, Гэри Шоу (Gary Shaw) и Магду Тетер.
Я также пользовалась щедрой грантовой поддержкой университета.
В особенности я хотела бы выразить мою признательность
историческому факультету и грантовой Программе имени полковника
Ретурна Джонатана Мейгса Первого (1740–1823) за возможность
совершить несколько поездок в Россию, в Украину и в Литву для
проведения дополнительных поисков в архивах и интервьюирования,
а также Центру гуманитарных наук, который под безупречным
руководством Итана Кляйнберга (Ethan Kleinberg) стал прекрасным
местом, где можно думать и писать.
Я в большом долгу перед теми людьми, которые участвовали
в подготовке, редактировании и издании этой книги в ее первом
варианте, в США. Я благодарна редактору по развитию Мадлен Адамс
(Madeleine Adams) за ее вмешательство на ранней стадии подготовки
книги. Если бы она мне не объяснила, что я пытаюсь писать две книги
одновременно, и не настояла, чтобы я выбрала одну, я бы до сих пор
ходила по кругу. Также я признательна издательству Принстонского
университета (Princeton University Press) за поддержку и за терпение,
когда я отклонялась от первоначального маршрута. В особенности
я хотела бы поблагодарить редактора Бригитту ван Рейнберг (Brigitta
van Rheinberg) за веру в проект; помощников редактора Куинн Фустинг
(Quinn Fusting) и Аманду Пири (Amanda Peery) за отличное
взаимодействие и компетентность и производственного редактора
Карен Картер (Karen Carter) за профессиональный контроль над
процессом. Я также хотела бы сказать спасибо Синди Милстейн (Cindy
Milstein) и Иосифу Даму (Joseph Dahm) за тщательное техническое
редактирование; Кэролин Шерайко (Carolyn Sherayko) за работу
с указателем имен и Кристоферу Шенье (Christopher Chenier) за помощь
с иллюстрациями.
Я также многим обязана тем людям, которые помогли сделать эту
книгу доступной для российской читательской аудитории. Прежде
всего, безусловно, я выражаю признательность издательству «Новое
литературное обозрение», в особенности редактору серии Сергею
Елагину, который настойчиво добивался перевода этой книги
и руководил процессом на всех многочисленных стадиях работы.
Удовольствием для меня было работать над переводом с Ольгой
Леонтьевой. Ее мастерство, профессионализм, внимательность
и отзывчивость на протяжении всего процесса работы были
образцовыми — я не могла бы рассчитывать на лучшего партнера
в этом деле. Я также благодарна Роману Уткину, Сюзанне Фуссо
и Наташе Карагеоргос за их ценный вклад в процесс перевода. Многие
коллеги помогли мне своей строгой и детальной критикой, побудившей
меня прояснить ряд ключевых вопросов книги, и я особенно
признательна Николаю Митрохину и Сергею Штыркову за их отклики,
поступавшие, когда я работала над русским изданием монографии.
Барбара Мартин буквально в последний момент помогла с архивными
поисками, за что я перед ней в долгу. Я не могла бы надеяться на
лучшего научного редактора, чем Михаил Смирнов. Не могу
представить никого другого, в ком встретилось бы столь редкое
сочетание глубокого знания материала и интеллектуальной дистанции,
необходимой для анализа, и моя книга чрезвычайно выиграла от его
критических замечаний. Он присоединился к этому проекту на ранней
стадии, почти десять лет назад, и то, что он сыграл столь важную роль
на финальных этапах, стало в высшей степени уместным и отрадным.
Его участие в работе принесло книге большую пользу.
В эту книгу вошли материалы, которые были впервые
опубликованы в следующих изданиях: «Свято место пусто не бывает»:
Атеистическое воспитание в Советском Союзе, 1964–1968 //
Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2009. No 3 (65).
С. 36 –52; The Contested Skies: The Battle of Science and Religion in the
Soviet Planetarium // Soviet Space Culture: Cosmic Enthusiasm in Socialist
Societies / Eds. E. Maurer, J. Richers, M. Rüthers, C. Scheide. Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2011. P . 57–78; Cosmic Enlightenment: Scientific
Atheism and the Soviet Conquest of Space // Into the Cosmos: Space
Exploration and Soviet Culture in Post-Stalinist Russia / Eds. J . T. Andrews
and A. A . Siddiqi. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2011. P . 159–194;
The Ticket to the Soviet Soul: Science, Religion and the Spiritual Crisis of
Late Soviet Atheism // Russian Review. 2014. Vol. 73. No 2. P . 171 –197.
Я признательна за разрешение воспроизвести эти материалы в книге.
Я также благодарю Информационное агентство России «ТАСС»,
Государственный музей истории религии и Центральный
государственный архив города Москвы за разрешение на публикацию
иллюстраций.
Наконец, без моральной поддержки невообразимо было бы обрести
силы и терпение, необходимые для завершения книги. Моя
исследовательская работа в России и в Украине не была бы столь
памятной и столь плодотворной без общения с друзьями и коллегами.
Но больше всего я хотела бы поблагодарить мою семью, большую
и маленькую, тех, кто был рядом со мной — душой и телом — в ходе
работы над этим проектом. Мои бабушка и дедушка и их рассказы
научили меня в размышлениях об истории ставить на первый план
человеческий опыт. Мне жаль, что моя бабушка Алла и мой дед Петр не
успели увидеть эту книгу завершенной, но они всегда знали, что книга
выйдет, даже когда я сама не была в этом уверена, и это служит мне
утешением. Мои родители, Диана и Олег, всегда верили в меня и всегда
знали, когда помочь: мама — постоянно и щедро стараясь взять на себя
часть моей ноши, а отец — шутками и историями, которые вызывали
столь необходимый смех и делали эту ношу не такой тяжкой. Мой брат,
Владислав, постоянно был примером творческой энергии и самым
неутомимым членом группы поддержки, в критические моменты
вдыхавшим жизненные силы и в книгу, и в ее автора. Наконец, я хочу
сказать спасибо моей дочери Софии за ее терпение, любознательность
и любовь. Она родилась одновременно с замыслом этой книги
и терпеливо разделяла с ней материнское внимание и заботу. С тех пор
как София узнала, что ее мама пишет книгу, она проверяла почтовый
ящик, чтобы увидеть, не доставили ли ее. Я довела работу до конца,
чтобы книга, которую ждала моя дочь, наконец появилась на свет.
Предисловие к русскому изданию
Бывает так, что книга долго не хочет отпускать своего автора. Она
продолжает преследовать нас вопросами, оставшимися без ответа.
Поэтому я признательна за публикацию этой книги в русском переводе
—
это дало мне возможность вновь вернуться к рукописи и обдумать
некоторые из проблем, которые волновали меня с момента ее издания
на английском языке в 2018 г.
Большинство вопросов и дискуссий, возникших вокруг книги «A
Sacred Space Is Never Empty» — на моих презентациях и лекциях,
а также на круглых столах, в комментариях и отзывах на мою книгу со
стороны вдумчивых и великодушных коллег, — касались ключевых для
моей работы понятий. Меня спрашивали о том, что исследование
атеистической политики может нам сказать о значимости идеологии для
всего советского проекта, и особенно о ее роли в его крушении;
о взаимоотношениях между советским атеизмом и религией и, конечно,
о том, не представляла ли собой коммунистическая идеология по самой
своей сути религию; наконец, о взаимосвязи между советским
атеизмом, секуляризацией, секуляризмом и секулярностью. Вместе
взятые, эти вопросы сводятся к следующему: что может поведать нам
книга о функционировании советского атеизма в качестве идеологии,
религии, формы секулярности и агента секуляризации и в какой мере
эта история атеизма проливает новый свет на старые споры о природе
религии и секуляризации.
Прежде чем объяснить, о чем рассказывает эта книга, было бы
уместно подчеркнуть, о чем в ней не говорится.
Во-первых, эта книга не о религии в прямом смысле слова. Это
значит, что большая часть того, что читатель узнает здесь о религии
в СССР, будет преломляться через призму истории государства или,
точнее, его идеологической элиты [1]. Моя цель не рассказать
о религиозной жизни в Советском Союзе как таковой, а выяснить, как
государство понимало и оценивало религию. Такое исследование не
претендует на то, чтобы объяснить, как под влиянием советских реалий
изменились религиозные институции или образ жизни и мыслей
верующих (хотя я надеюсь, что моя книга поможет
пролить некоторый свет на эти вопросы). Меня больше интересовало,
как партия представляла цели этого проекта, как в его рамках
трактовались природа прогресса и власти, а также как оценивалась
угроза, которую для всего советского проекта представляла религия —
в качестве социального института, идеологии и образа жизни —
в различные периоды и в разных контекстах.
Во-вторых, — и это, возможно, будет неожиданным для читателя —
эта книга также и не об атеизме в прямом смысле слова; во всяком
случае, не об атеизме как философской или теологической проблеме [2].
В той мере, в которой здесь действительно говорится об атеизме, речь
идет о нем как идеологическом проекте и особенно
о политических последствиях его реализации [3]. Поскольку книга
представляет собой историю атеизма как идеологии на службе
политики, это изначально задает определенный угол зрения: на первый
план выходит изучение точки зрения государства, партии,
идеологической элиты и — что особенно важно — того сегмента
идеологической элиты, который был непосредственно связан
с атеистической работой: атеистического аппарата. Этот аппарат
должен был обеспечивать выполнение двух взаимосвязанных задач:
первая — превратить советское общество в «общество, свободное от
религии», и вторая — превратить советских граждан в убежденных
атеистов [4]. История, которую я здесь рассказываю — о том, как,
изучая религиозную жизнь в повседневных условиях, атеисты осознали,
что цель построения общества, свободного от религии, недостижима;
как они переосмыслили свои цели и выдвинули позитивную программу
внедрения атеистических убеждений и, наконец, как под влиянием
успехов и неудач атеистической работы изменялось их понимание своей
миссии и линии проведения атеистического проекта.
Один из способов прояснить внутреннюю структуру и логику книги
—
обратить внимание на учреждение, находящееся в центре
повествования (и составляющее предмет изучения в главе 5), Институт
научного атеизма. Изучение его места в идеологической элите, а также
его деятельности как локуса производства знания показывает, каким
именно образом атеизм был встроен в структуру советского проекта.
Институт научного атеизма был основан в 1964 г. по постановлению
Центрального комитета КПСС. Он входил в структуру Академии
общественных наук (АОН) — учреждения, занимавшегося разработкой
советской идеологии и находившегося, в свою очередь, в подчинении
Центрального комитета КПСС, который определял его миссию
и курировал его деятельность [5]. Можно представить атеистический
аппарат как находящийся внутри своеобразной «матрешки», состоящей
из политических и идеологических учреждений: самая большая
матрешка — Центральный комитет КПСС; следующая, внутри нее —
идеологический аппарат; а внутри идеологического аппарата, в свою
очередь, располагался атеистический аппарат, центральным институтом
которого был Институт научного атеизма. Внутри самого института
были и матрешки поменьше — региональные отделения по всему
Советскому Союзу и филиалы в трех союзных республиках (Украине,
Узбекистане и Литве), которые занимались атеистической пропагандой
и сбором данных на местах. Собранные ими материалы затем
отправлялись в обратный путь наверх по цепочке учреждений,
подвергаясь по дороге анализу и систематизации, пока этот путь не
завершался на страницах отчета, предназначенного Центральному
комитету КПСС. В целом атеистический аппарат представлял собой
широкую сеть по производству знаний о религии и атеизме, где
сплетались воедино научное исследование, технократическая
экспертиза и практика ведения пропаганды. Предназначение
атеистического аппарата состояло в том, чтобы формировать советский
атеизм и внедрять его в массы; этот атеизм должен был выполнять
политические задачи, основываться на теоретических достижениях
общественных наук и при этом быть достаточно практичным
и убедительным, чтобы стать органичной частью жизни советского
общества. Для выполнения этой миссии атеистический аппарат
сформировал обширный комплекс экспертного знания о религии
в СССР, и эта сторона его работы, как я надеюсь, показана в книге.
В то же время нужно иметь в виду тот факт, что в конечном итоге все
проводившиеся атеистическим аппаратом теоретические
и практические исследования были подчинены реализации проекта
КПСС: укреплению ее политической, идеологической и духовной
власти в советском обществе. Когда в ходе перестройки партия начала
рассматривать советский атеизм не как средство осуществления этого
проекта, а как помеху на его пути, атеизм был отброшен за
ненадобностью. Вот почему, на мой взгляд, история советского атеизма
—
это прежде всего политическая история.
Тем не менее, чтобы понимать политику, мы должны оценить,
какую роль здесь играла идеология. В книге я подчеркиваю, что мы
должны воспринимать атеизм как конструктивный, а возможно, даже
и центральный элемент советской идеологии. В исследованиях по
истории советского общества такой подход встречается не часто,
особенно когда речь заходит о постсталинской эпохе. Напротив,
история советской идеологии до сих пор обычно представала
в исследованиях как история ее постепенного ветшания. Советская
идеология в целом и атеизм в частности обычно изображались — за
исключением нескольких примечательных работ — как лишенные
новаторского духа и неуклонно оттесняемые на обочину политики
советского государства и жизни советского общества. Чтобы оспорить
обоснованность этого нарратива, я подчеркиваю творческие и, если
можно так выразиться, созидательные компоненты атеизма, а не только
те стороны его деятельности, которые были направлены на разрушение
религии. Также подчеркивается неизменная значимость атеизма для
идеологии, а идеологии — для советского проекта вплоть до самого его
конца.
Мы можем задаться вопросом: что такое идеология?
Я рассматриваю идеологию как дисциплинарный инструмент, что
до некоторой степени созвучно мнению тех людей, которые являются
главными героями этой истории. Для тех, кто занимался разработкой
идеологии, она была тесно связана с понятием «мировоззрение»
и трактовалась как система идей и принципов, которая, как пишет
историк Дэвид Бранденбергер, «руководит принятием решений,
легитимизирует осуществление власти и управления и помогает
в создании культуры и практики управления» [6]. Мы можем даже
предположить, что в какой-то степени идеология выполняет те же
функции, что и религия (по крайней мере, в некоторых ее формах):
устраняет сомнения и выковывает убежденность. В книге определение
«религии» — или, скорее, мое заключение о невозможности найти
определения религии — связано с устойчивым выражением «свято
место», которое, как известно, пусто не бывает. Иными словами,
предлагаемый здесь подход заключается в том, чтобы рассматривать
«религию» и «идеологию» как способы упорядочения мира (с помощью
действий и верований, представлений о времени и пространстве,
о самом себе и об отношениях с другими), которые становятся для тех,
кто ими живет, вопросами жизни и смерти. Понятие «святое место»
оставлено намеренно расплывчатым. Оно призвано скорее побуждать
к размышлениям, нежели давать окончательное объяснение [7].
В советском контексте, где, как говорилось в одном документе того
времени, не могли существовать «две идеологии одновременно», любые
проявления «религии» — будь то искренняя вера, пассивное участие
в религиозных обрядах или даже расплывчатые «мистические»
и «суеверные» представления — воспринимались как показатель
сомнений; то есть как сигнал, что человек, хоть как-то причастный
к чему-то религиозному, не всей душой предан правде и власти партии.
Если мы будем рассматривать идеологию в вышеуказанном смысле, мы
сможем понять, почему идейная убежденность или ее отсутствие были
для партии вопросом жизни и смерти. Именно поэтому партия
продолжала считать религию потенциальным соперником, и именно
поэтому в поздний советский период главным объектом атеистической
работы оказались уже не «верующие», а идейно индифферентные.
Обратившись к более практическим аспектам проблемы, мы
могли бы также задаться вопросом: где мы можем найти идеологию?
В книге я стремилась показать, что идеологию разрабатывает и внедряет
особая социальная среда, а не государство («сверху») или народ
(«снизу»). Изначальным местом идеологической продукции является
скорее «середина»: специалисты и функционеры, чья цель состоит
в том, чтобы претворять политические задачи в идеологическую
теорию, а идеологическую теорию — в социальную практику. Взгляд на
историю с позиций этой «середины» позволяет нам, по словам историка
Пола Кеннеди, увидеть, «как все совершилось и кто это совершил» [8].
Именно этот средний слой применял теории на практике и оценивал
полученные результаты. Именно благодаря посредничеству этого слоя
теория адаптировалась, трансформировалась или отвергалась. Изучая
«середину», мы имеем дело не с «великими» личностями и идеями (как
если бы изучали «верхи») или не с «аутентичным», непосредственным
человеческим опытом (как если бы изучали «низы»). Напротив, мы
здесь встречаемся с «заурядными» людьми, действующими в рамках тех
или иных институциональных структур. Более того, для этих структур
важны не они сами как личности, а их способность решать задачи,
спущенные «сверху». Люди «середины» стараются хорошо выполнять
свою работу в рамках предписанных задач, вносить свой вклад
в достижение более масштабных целей и продвигаться по службе.
И, поскольку они обычно отождествляются с институциональными
функциями, в методологическом плане их бывает довольно сложно
разглядеть. В книге моя задача состояла в том, чтобы населить
«середину» людьми: охарактеризовать не только их служебные
функции, но также их воспитание и образование, их мотивацию,
надежды и разочарования; понять, как их жизненный опыт определял
отношение к делу, которому они служили. В этом смысле моя книга
посвящена тому, что мы могли бы узнать, если бы дали слово людям
«середины».
Обратившись от идеологии к религии, можно задать этой книге еще
один вопрос: кто был объектом атеистической работы? Точнее,
простирался ли интерес идеологической элиты к религии за пределы
православного христианства и учитывала ли она религиозное
разнообразие Советского Союза? Краткий ответ таков: да, учитывала,
но это не определяло общего хода работы. Мы четко видим, что элита
осознавала религиозное разнообразие страны, когда при проведении
атеистической работы обращалась к «местным» и «народным»
культурным традициям, увиденным сквозь призму этнографических
и социологических исследований. Эта тема особенно отчетливо звучала
в дискуссиях о том, как сделать новые советские обряды
убедительными с точки зрения их аутентичности и эмоциональной
наполненности. Осознание религиозного разнообразия страны
проявилось и в том, что у Института научного атеизма были
региональные отделения по всему Советскому Союзу. Более того, тот
факт, что филиалы института были созданы в тех союзных республиках,
где в конце 1970-х
—
начале 1980-х гг. вопросы религии приобрели
особую политическую актуальность, свидетельствует, что государство
осознавало сохраняющуюся политическую значимость религии
(особенно в тех регионах, где религиозная и национальная
идентичность накладывались друг на друга). В то же время необходимо
подчеркнуть, что у советского государства было свое «слепое пятно»,
когда речь заходила о Русской православной церкви. После сталинского
сближения с церковью в 1943 г. советское государство практически не
воспринимало православие всерьез в качестве политического
соперника. Действительно, как и в случае с категорией «русскости»
в национальной сфере, государство упорно воспринимало православное
христианство как синоним религии вообще (православие зачастую
именовалось просто «религией»), в то время как неправославные
группы неизменно маркировались как «другие», и, говоря об этих
группах, всегда указывали их конкретные наименования. Все это
в результате усиливало различия и разобщенность между этими
идентичностями и сообществами.
Атеистический аппарат, особенно в поздний советский период,
признавал конфессиональное разнообразие населения СССР и пытался
хотя бы в некоторой степени разнообразить репертуар атеистической
работы применительно к разным религиозным культурам.
«Православный атеизм» был, безусловно, нормативным отправным
пунктом для всей атеистической деятельности, но при этом не был
единственным вариантом советского атеизма. Я надеюсь, что в будущих
исследованиях мы сможем, помимо прочего, увидеть, что представлял
собой «мусульманский», «католический» или «лютеранский»
атеизм [9]. К сожалению, несмотря на появление в последние годы
блестящих исследований, степень изученности религии в послевоенном
СССР все еще недостаточна, чтобы делать широкие обобщения, не
говоря уже об изучении разновидностей послевоенного атеизма
в странах социалистического лагеря — работа, которая лишь
начата [10]. Тем не менее первоисточники о разновидностях советского
атеизма многочисленны и разнообразны. В их числе публикации
и диссертации советских времен, а также социологические
и этнографические обзоры, ожидающие своих исследователей в архивах
по всей территории бывшего СССР.
Еще один пункт: в книге следовало бы уделить больше внимания
роли и последствиям насилия, поскольку различные формы насилия по
отношению к религии и верующим продолжали применять вплоть до
конца советского периода, уже после широко известных репрессий,
уничтожения религиозных объектов, учреждений и верующих
в сталинскую эпоху. Тот факт, что до сих пор история атеизма
была главным образомисторией о насилии, побудил меня подчеркивать
конструктивные элементы атеистического проекта в большей степени,
чем деструктивные. В этом отношении я рассматривала книгу как
дополнение к этой истории, а не как ее ревизию [11]. Но, оглядываясь
назад, я думаю, что попытки писать «против течения» привели
к созданию несколько искаженной картины, где не отражен адекватно
ряд основных истин: размах и природа насилия по отношению
к религии в начале советского периода [12], тот факт, что в СССР
вплоть до 1980-х гг. существовали «узники совести» и что нарушения
прав человека в отношении верующих и диссидентов продолжались
вплоть до горбачевской перестройки. В постсталинскую эру
антирелигиозные репрессии стали принимать новые формы, власти от
прямого насилия переходили к «профилактическим» мерам, но
воздействие государственного насилия на жизнь верующих по-
прежнему было значительным.
То, что атеистический проект оказался безуспешным — даже
в условиях монополии партии на власть и на истину, — делает эту
историю еще более примечательной. Поскольку условия для состязания
коммунистической идеологии с религией были явно неравными, сам
факт сохранения религии в СССР приобретает особое значение.
Особенно важен тот факт, что это имело серьезное значение для самой
партии. Вплоть до самого конца партия рассматривала религию как
нечто «другое», нечто несоветское по определению — хотя партийная
элита хорошо знала, что многие советские люди не видят противоречия
между религией и коммунистической идеологией. Тем не менее, хотя
партия могла бы молчаливо смириться с существованием религии
и позволить атеизму тихо сойти со сцены, она этого не сделала.
Напротив, после смерти Сталина партия с новой силой взялась за
искоренение религии и построение атеистического общества. Даже при
том, что противоречие между религией и идеологией не составляло
проблемы для обычных советских людей, атеисты оставались
приверженцами бинарной логики, не позволявшей им примириться
с реальным положением дел. Таким образом, их неустанная
обеспокоенность вакуумом, существовавшим в самом центре советской
идеологии, а также бездуховностью и индифферентностью советских
людей заставляла атеистов гоняться за призраком, который создали они
сами [13].
Так насколько успешен был советский атеизм как идеология
и политический проект? Этот вопрос мне задают чаще всего. Если под
победой понимать построение не просто «общества, свободного от
религии», но общества убежденных атеистов, то история, рассказанная
в книге, не свидетельствует о победе атеизма. Но ее также нельзя
считать и историей безусловного торжества религии. Оставляя
в стороне религиозное возрождение постсоветского периода, значение
и очертания которого до сих пор остаются неясными [14], советское
общество действительно стало более секулярным. Но это не значит, что
оно стало более атеистическим или в некотором смысле более
религиозным. Даже если те процессы, которые мы обычно
отождествляем с секуляризацией, оказались «успешными», а отношение
советских людей к религии, а именно степень и тип их включенности
в регулярную жизнь религиозных институций, было фундаментально
трансформировано, все же атеизм, предназначенный служить опорой
советского коммунизма, был очень далек от того, чтобы успешно
выполнить эту функцию, — может быть, особенно далек, если измерять
успех его собственной меркой.
Виктория Смолкин
Июнь 2020 года
Введение
В исторической миссии религии нашли отражение вопросы добра и зла,
совести, справедливости, воздаяния. < ...>
Религия обещает в потенции решать проблему человека. Церковь
нельзя упрекнуть в том, что она не решала вопросы. Поэтому церковь
в течение 1000 лет стоит на этой позиции и не надоедает людям.
Марксизм — тоже выступил как всеобщая теория человечества,
новой цивилизации, облик нового человека. Заявка была серьезная, но
результаты не соответствуют заявке. Жизнь показала свои проблемы.
Все упреки, которые высказываются в адрес социализма —
коммунизма, отразились на авторитете атеизма. Атеизм — это визитная
карточка новой цивилизации.
С. А. Кучинский, директор Государственного музея истории
религии и атеизма в Ленинграде (1989) [15]
29 апреля 1988 г., в разгар перестройки, Генеральный секретарь ЦК
КПСС Михаил Горбачев принял неожиданное решение о встрече
с патриархом Пименом (Извековым) и Священным синодом Русской
православной церкви [16]. Это была первая официальная встреча лидера
Коммунистической партии Советского Союза с иерархами
православной церкви с 1943 г., когда Иосиф Сталин глубокой ночью
пригласил трех православных митрополитов в Кремль, чтобы сообщить
им, что после более чем двух десятилетий репрессий православная
церковь может вернуться в жизнь советского общества.
Непосредственным поводом для встречи Горбачева с патриархом было
приближающееся тысячелетие крещения Руси, и мотивы, которыми
руководствовался Горбачев, встречаясь с патриархом, не так уж сильно
отличались от сталинских — они тоже были по сути своей
политическими. Подобно тому, как Сталин положил конец двум
десятилетиям антирелигиозной политики, чтобы во время войны
мобилизовать патриотические настроения в стране и воззвать
к зарубежным союзникам, Горбачев пытался использовать моральный
авторитет православия для решения внутренних проблем и заслужить
благоволение противников в холодной войне, чтобы спасти
перестройку, которая к началу 1988 г. не только теряла массовую
поддержку, но и приобретала оппонентов внутри политической элиты
в лице партийных консерваторов, а также националистов в союзных
республиках СССР, в том числе в самой России.
В своем выступлении Горбачев заметил, что его встреча
с патриархом происходит «в преддверии 1000-летия введения
христианства на Руси». Это событие, заявил он, приобретает сегодня
«не только религиозное, но и общественно-политическое звучание, ибо
это знаменательная веха на многовековом пути развития отечественной
истории, культуры, русской государственности». Горбачев признал
глубокие «мировоззренческие различия» между советской
Коммунистической партией и Русской православной церковью, но
подчеркнул, что православные верующие тем не менее — «это
советские люди, трудящиеся, патриоты» и в этом качестве могут «без
всяких ограничений» пользоваться всеми правами советских граждан,
включая и «полное право достойно выражать свои убеждения». В ходе
встречи Горбачев также призвал церковь внести свой вклад в дело
морального возрождения советского общества, в котором
«общечеловеческие нормы и обычаи могут способствовать нашему
общему делу» [17]. И наконец, Горбачев пообещал церкви
беспрецедентные уступки: возвращение зданий и прочей собственности,
национализированных при советской власти , разрешение
благотворительности и религиозного воспитания детей, отмену
ограничений на издание религиозной литературы, в том числе Библии,
а также либерализацию законодательства, регулировавшего
религиозную жизнь. Новые правовые нормы, введенные в 1990 г.,
наделяли религиозные организации правами юридических лиц
и собственников, а также ограничивали государственное вмешательство
в религиозную жизнь [18]. Но, как оказалось, наиболее существенным
новшеством стало прекращение использования государственных
ресурсов для атеистической пропаганды. В результате границы между
партией и государством стали более четкими.
Встреча Горбачева с патриархом превратила празднование
тысячелетия христианства на Руси из мероприятия с узко религиозным
значением, занимавшего маргинальное положение в советской
общественной жизни, в общенародное событие, санкционированное
советским правительством. Этот неожиданный и драматический
перелом в религиозной политике советского государства оказался
чрезвычайно важным и вызывает много вопросов. Почему советская
коммунистическая идеология отказалась от своей приверженности
атеизму? Существовала ли взаимосвязь между двумя политическими
разрывами, произошедшими в последние годы существования СССР:
разрывом коммунистического проекта с атеизмом и разрывом
советского государства с Коммунистической партией?
Настоящая книга посвящена истории советского атеизма от революции
1917 г. до возвращения религии в политическую и общественную жизнь
в последние годы существования Советского Союза. Большевики
представляли себе коммунизм как мир без религии. Советский
эксперимент был первой попыткой воплотить это видение в жизнь.
Когда в октябре 1917 г. большевики захватили власть, они обещали
освободить людей от старого мира: эксплуатацию заменить
справедливостью, конфликты — гармонией, предрассудки — разумом,
а религию — атеизмом. Принявшись за строительство нового —
коммунистического — общества, они отвергли все прежние источники
легитимности, заменяя старый порядок властью Советов, религиозную
мораль — моралью классовой, а суеверия и предрассудки —
просвещенным, рационалистическим, современным образом жизни.
Стремясь построить мир заново, большевики пытались вытеснить
религию из «святых мест» жизни общества. Они отбрасывали
традиционные религиозные учреждения, богословие, религиозный
уклад жизни, предлагая взамен коммунистическую партию, которая
провозгласила свою монополию на власть и правду, и идеологию —
марксизм-ленинизм, которая обещала придать новый смысл жизни
коллектива и индивида. Но, несмотря на секулярность государства,
приверженность партии культурной революции, а также несколько
антирелигиозных и атеистических кампаний, советская
коммунистическая идеология не заменила собой религию и не породила
атеистическое общество. Напротив, как это выявил горбачевский
поворот от атеизма обратно к религии, религия оставалась нерешенной
проблемой советского проекта вплоть до самого его конца — и решить
эту проблему атеизм оказался бессилен.
Чтобы понять, почему религия представляла собой проблему для
советской коммунистической идеологии, нужно переключить внимание
с самой религии на атеизм. Безусловно, официальная позиция
советского государства по отношению к религии в основе своей
оставалась неизменной от революции до распада СССР. В то же время
атеизм не раз подвергался фундаментальному переосмыслению, что
имело важные последствия для Коммунистической партии
и марксистско-ленинской идеологии. За антирелигиозными
репрессиями и «воинствующим безбожием» первых лет советской
власти последовало сталинское возобновление отношений с религией
в 1943 г. При Хрущеве вновь была провозглашена антирелигиозная
кампания и поворот к «научному атеизму», но неоднозначные
результаты хрущевской кампании привели к отступлению от
идеологического утопизма в брежневскую эпоху. Наконец, при
Горбачеве происходит разрыв с атеизмом и возвращение — с 1988 г. —
религии в политическую и общественную жизнь. Изменения
действовавшей в СССР концепции религии влияли на проводимую
государством атеистическую линию. Отношение государства как
к религии, так и к атеизму отражало перемены в коммунистической
идеологии. Советский атеизм имеет свою собственную историю, хотя
она тесно переплетена с историей религии.
Что такое религия? Специалисты по изучению религий признают,
что ее определение изменяется в зависимости от исторического
и культурного контекста [19]. Это утверждение справедливо не только
в отношении советской истории. С XIX столетия, когда ученые стали
изучать религию как особый атрибут человеческого бытия, определение
религии претерпело эволюцию от признания, что она является
универсальным феноменом, присущим в той или иной форме всем
человеческим обществам, к утверждению, что религии не существует за
пределами воображения самого ученого [20]. Привычное понимание
религии, сложившееся в Новое время, отождествляет ее
с индивидуальной верой (в большей мере, чем, например, с ритуальной
практикой, традицией или властью религиозных учреждений
и духовенства) [21]. Однако определения религии не являются ни
нейтральными, ни универсальными. По наблюдению Джонатана
З. Смита, религия является не «врожденной», а «навязанной извне»
категорией с корнями в христианской Европе [22]. Таким образом,
религию определяет история, а также те, кто применяет эту категорию
для решения конкретных аналитических — а зачастую также
и политических — задач.
Тем не менее для истории советского атеизма теоретические
проблемы дефиниций религии вторичны, поскольку независимо от того,
действительно ли религия является универсальным атрибутом
человеческого общества, все те, кто составлял так называемый
«аппарат» советского атеизма — партийные и правительственные
чиновники, идеологи и пропагандисты, обществоведы, работники
культуры и активисты, — принимали за аксиому, что религия
существует, что она является антитезой коммунистической идеологии,
представляет собой угрозу коммунистическому проекту и потому
должна быть изгнана из жизни советского общества.
Как изменялись у советских атеистов представления о том, что
значит борьба с религией для построения коммунистического
общества? Хотя различные дефиниции религии остаются значимыми
для понимания советского атеизма (в том числе определения религии
как веры в сверхъестественное, или как силы, которая сплачивает
общество, или как инструмента власти), для написания его истории
важнее всего, что атеистический аппарат определял религию как нечто
чуждое и укорененное в старом мире: идеологию прежнего социально-
политического порядка, ложное мировоззрение, отмирающий образ
жизни. Для советского атеизма религия была проблемой, требовавшей
решения; но то, как именно атеисты видели эту проблему,
кардинальным образом изменялось с ходом времени.
Для советского коммунистического проекта религия представляла
собой прежде всего препятствие в осуществлении монополии на
политическую, идеологическую и духовную власть. На протяжении
всего советского периода идеологи-атеисты понимали, что для
построения мира без религии недостаточно просто изгнать религию из
центра политической, общественной и культурной жизни. Необходимо
было также наполнить «святое место» позитивным содержанием
коммунистической идеологии.
При анализе процессов, посредством которых определялись,
оспаривались и пересматривались смысл и функции этого «святого
места», выявляются три основных противоречия, вокруг которых
и структурирован текст данного
исследования: политическое противоречие между заботой партии об
идеологической чистоте и стремлением государства к эффективному
управлению; идеологическое противоречие между религией,
предрассудками и пережитками, с одной стороны, и наукой, разумом
и прогрессом, с другой; и, наконец, духовное противоречие между
пустотой и индифферентностью, с одной стороны,
и содержательностью и убежденностью, с другой. Эти три
противоречия можно рассматривать как ряд острых проблем, которые
советский проект должен был решить, чтобы построить новый
коммунистический мир.
Политическое противоречие — между идейной чистотой
и эффективным управлением — вынуждало партию искать ответ на
вопрос: какое государство должно быть построено в рамках советского
коммунистического проекта? Как показывают колебания между
идеологическими и прагматическими задачами на протяжении всего
советского периода, на этот вопрос так никогда и не было дано
однозначного ответа. По отношению к религии Сталин временно решил
это противоречие в 1943 г., когда после более чем двух десятилетий
бессистемных антирелигиозных и атеистических кампаний
возобновление отношений с религиозными учреждениями стало
отступлением от идеологической чистоты ради политических
прерогатив и мобилизации общества в годы войны.
Идеологическое противоречие между религией и наукой, которое
преобладало в дебатах хрущевской эпохи, выдвигает на первый план
попытки партии ответить на вопрос, какое общество должно быть
построено в рамках советского коммунистического проекта. В то время
как «строительство социализма» при Сталине было прежде всего
политическим проектом по формированию экономической
инфраструктуры и социального единства современного
социалистического государства, «строительство коммунизма» при
Хрущеве было идеологическим проектом по созданию разумного,
гармоничного и нравственного коммунистического общества. В рамках
этого проекта религия, которую пассивно терпели в годы войны, снова
стала проблемой, хотя сущность этой проблемы изменилась. Религия
больше не считалась политическим врагом; она стала преимущественно
идеологическим оппонентом.
Наконец, духовное противоречие — между индифферентностью
и убежденностью — связано со стремлением партии определить, какой
тип личности должна воспитать советская коммунистическая
идеология. Этот вопрос стоял на повестке дня с самого начала
советского периода, но центральной проблемой атеистического
аппарата он становится с середины 1960-х гг . , когда приход к власти
Брежнева положил конец хрущевскому идеологическому утопизму.
Советские пропагандисты атеизма начали беспокоиться, что «свято
место», которое они столь ревностно очищали от старой веры, так и не
становится атеистическим, а попросту остается пустым. Как наполнить
это «свято место» атеистическими убеждениями? Вот в чем был
фундаментальный вопрос, стоявший перед атеистическим аппаратом
вплоть до конца советского периода.
В брежневскую эпоху пропагандисты атеизма начали также
опасаться нового явления: мировоззренческой индифферентности. Они
усматривали симптомы индифферентности в растущей политической
апатии, идеологическом лицемерии, моральном разложении
и мещанском индивидуализме, которые, по их мнению, все больше
распространяются в советском обществе, особенно среди молодежи.
Индифферентность советских людей казалась более глубокой, чем
приверженность любым убеждениям, религиозным или
коммунистическим. И с ней было труднее бороться, поскольку она не
имела ни своих институций, ни служителей культа, ни догматов. Когда
пропагандисты атеизма попытались осмыслить, почему же
индифферентность стала массовым феноменом, они поняли, что если
они не смогут заполнить «свято место» советской коммунистической
идеологией, его могут заполнить чуждые идеологии и убеждения,
поскольку, как гласит русская пословица, «свято место пусто не
бывает». Таким образом, мы можем рассматривать советский атеизм как
зеркало, отражающее значимость религии для коммунистической
идеологии на протяжении всего исторического развития советского
общества.
Коммунизм и религия
Идеологии принято сравнивать с религией, и в этом отношении
советская коммунистическая идеология, хотя и своеобразна, не
уникальна. Уже после Французской революции французский историк
Алексис де Токвиль заметил, что, несмотря на свою антирелигиозную
риторику, революционная идеология усвоила все «особые
и характерные черты» религии — настолько, что «скорее сама стала
своего рода новой религией, правда религией несовершенной, без Бога,
без культа и без иной жизни» [23]. Как и Токвиль, многие из тех, кто
сравнивал идеологии с религиями, использовали эту аналогию для
осуждения революционных проектов как радикальных
и иррациональных [24]. В межвоенной Европе интеллектуалы,
находившиеся в оппозиции коммунизму, фашизму и нацизму, изобрели
понятие «политической религии», чтобы подчеркнуть, что эти новые
идеологии воплощают качественно иную разновидность политики:
политику, которая претендует на тело и дух человека [25].
Советский коммунизм был в центре этой «религиозной» концепции
идеологии [26]. Религиозный — или, говоря более точно,
антирелигиозный — аспект советского коммунизма воспринимался как
одна из его важнейших черт. Действительно, начиная с осуждения
Ватиканом «атеистического коммунизма» в 1937 г. и вплоть до
холодной войны с ее походами против «безбожного коммунизма»
атеизм зачастую воспринимался не просто как компонент
коммунистической идеологии, но как сама ее сущность [27]. Может
показаться удивительным, что — учитывая распространенность
сравнения коммунистической идеологии с религией и центральную
роль советского примера в этом нарративе — до сих пор появилось
относительно немного исследований, где объясняется, почему позиция
Советского Союза по отношению к религии и атеизму менялась с ходом
времени [28].
То, как ученые интерпретировали историю религии и атеизма
в Советском Союзе, тоже имеет свою историю — и она отражает как
исторический, так и академический контекст появления научных
исследований. Со времени окончания Второй мировой войны, когда
советология (Soviet studies) начала оформляться как сфера
исследований, ученые предложили три нарратива о месте религии
и атеизма в советской коммунистической идеологии. Приверженцы
первого нарратива, доминировавшего в годы холодной войны, уделяли
особое внимание антирелигиозной репрессивной политике; создатели
второго нарратива, преобладавшего в первые годы после распада СССР,
исследовали роль атеизма в более обширном проекте утопического
переустройства общества и культурной революции; наконец,
приверженцы третьего нарратива воспринимали советскую
религиозную политику как одну из форм современного секулярного
общества. В рамках этих трех нарративов советская коммунистическая
идеология трактовалась как тоталитарная «политическая религия»,
рухнувшая утопия, или же как вариант секуляризма: в этом смысле они
посвящены гораздо большему, чем религия и атеизм; в центре этих
нарративов вопрос о сущности советской коммунистической идеологии.
Первый из этих нарративов, созданный в первые годы после
Октябрьской революции в основном зарубежными наблюдателями,
посещавшими Советский Союз, и русскими эмигрантами, задал
параметры, в соответствии с которыми впоследствии, особенно в годы
холодной войны, характеризовалась советская коммунистическая
идеология [29]. Еще до Октябрьской революции русская религиозная
интеллигенция открыто порицала милленаризм русских
революционеров и обличала социализм как ложную веру [30]. После
1917 г. русские эмигранты — здесь, пожалуй, стоит выделить
религиозных философов Николая Бердяева (1874–1948), Сергея
Булгакова (1871–1944) и Николая Трубецкого (1890–1938) —
продолжали рассматривать коммунистическую идеологию
в религиозных терминах [31]. В своем влиятельном труде «Истоки
и смысл русского коммунизма», впервые опубликованном в 1937 г.,
Бердяев писал, что «воинствующий атеизм» коммунизма и его
«непримиримо враждебное отношение» к религии были не «явлением
случайным», но «самой сущностью коммунистического
миросозерцания». Тот факт, что коммунистическая идеология
претендует дать «ответы на религиозные запросы человеческой души,
дать смысл жизни», делает коммунизм чем-то большим, чем
«социальная система» или «научная, чисто интеллектуальная теория».
Претендуя на то, чтобы охватить всю полноту человеческого опыта,
коммунизм впадает в «нетерпимость, фанатизм» и становится таким же
«эксклюзивным», как любая религиозная вера [32].
Писатель Рене Фюлёп-Миллер, размышляя о своей поездке в СССР
в начале 1920-х гг., заметил, что хотя «большевизм до сих пор почти
всегда рассматривался как чисто политическая проблема», эта проблема
простирается «далеко за пределы узкого горизонта политических
симпатий и антипатий». Он заметил, что большевистская «доктрина
предлагает не смутную надежду на будущее утешение в ином, лучшем
мире, а рецепты немедленного и конкретного воплощения этого
лучшего мира». По мнению Фюлёп-Миллера, радикальная
нетерпимость партии к иным верам — в том числе и, возможно,
особенно к религии — носила «специфически сектантский характер».
«Яростная враждебность» большевизма к другим верованиям была
«одним из важнейших доказательств, что сам большевизм может
рассматриваться как разновидность религии, а не как отрасль науки».
Действительно, продолжал Фюлёп-Миллер, именно благодаря
большевистской «войне против религии» «можно с наибольшей
ясностью увидеть религиозный характер большевизма». Это делает
большевиков не политической партией, а скорее милленаристской
сектой [33]. Нарративы, порожденные ранней идейной борьбой
с большевизмом, отбрасывают длинную тень. Они определяли образ
советского коммунизма на протяжении почти всего двадцатого
столетия [34].
Многие авторы первых академических исследований о положении
религии в СССР фокусировали внимание на преследованиях
религиозных институтов и верующих — и у них были на то
основания [35]. Советская система подавляла религиозную жизнь
в СССР. Большевики разрушали религиозные учреждения,
национализировали религиозную собственность, заключали в тюрьмы
и убивали священников и верующих, искореняли религиозные общины
и загоняли религиозную жизнь во все более узкие рамки частной сферы.
Однако, сосредоточив внимание на религиозных гонениях, авторы
уделяли меньшее внимание тому, как определялся сам атеизм в качестве
политического, идеологического и духовного проекта. Исследования
антирелигиозных репрессий способны многое поведать нам
о разрушительном влиянии религиозной политики советского
государства, но гораздо меньше о ее продуктивной стороне — о том,
как советский проект пытался решать те задачи и вопросы, которые он
унаследовал от религии, и о том, как оценивались успехи и поражения
антирелигиозных и атеистических стратегий по созданию
альтернативной космологии и образа жизни.
Вторая волна литературы, в основном появившаяся в конце
советского периода и после него, когда советские архивы были наконец
открыты для исследователей, переключила внимание на атеизм [36].
Под влиянием «культурного поворота» в гуманитарных
и общественных науках авторы таких исследований рассматривали
атеизм в более широком контексте большевистского утопизма.
Основным предметом дискуссий стал вопрос о том, в какой степени
партия и ее идеология проникали в душу советского человека [37].
Чтобы понять это, авторы исследований, посвященных религии
и атеизму, изучали организации и кадры, чьей задачей было развитие
и распространение идеологии — Коммунистическую партию, комсомол,
Союз воинствующих безбожников, — а также то, как они понимали
и воспитывали атеизм. Исследователям удалось показать, что, несмотря
на организационную мобилизацию и пропаганду атеистического
проекта в 1920–1930-е гг., воинствующий атеизм оказал лишь малое
влияние на то, как мыслили и жили обычные люди. Значимость этих
исследований в том, что они позволяют выявить и логику,
и ограниченность атеистического проекта на его ранних стадиях. При
этом их авторы обращали особое внимание лишь на ранний советский
период, а послевоенный и в особенности постсталинский период —
когда советский атеизм превратился в теоретическую дисциплину
и внедрялся на массовом уровне [38] — остается в основном
неизученным. Некоторые недавние исследования внесли ценный вклад
в реконструкцию специфического духовного ландшафта позднего
советского периода [39], но авторы большинства работ, чьи
хронологические рамки простираются в послевоенный период,
концентрируют свое внимание не столько на идеологических
трансформациях советского проекта, сколько на том, как этот проект
влиял на конкретные религиозные сообщества [40].
Для третьей волны изучения религии и атеизма в СССР характерно
смещение внимания с антирелигиозных репрессий и атеистической
пропаганды на рассмотрение советской коммунистической идеологии
сквозь призму секуляризма [41]. В этих исследованиях проводится
важное разграничение между секуляризацией как социальным
процессом и секуляризмом как политическим проектом [42]. Далее,
авторы этих исследований рассматривают советский проект не
изолированно, но в компаративной перспективе, сопоставляя
с различными моделями секулярности, от французской laïcité до
секуляризма в Турции и Индии. Эти исследования, основанные на
теоретических постулатах антропологии, социологии и религиоведения,
характеризуют секуляризм как дисциплинарный проект, целью
которого является эффективное управление и воспитание рационально
мыслящих и действующих граждан-подданных [43]. Их авторы
утверждают, что, хотя современное секулярное государство
преподносит секуляризм как нейтральный по отношению к религии, на
самом деле «секулярное» (the secular) является продуктивной
категорией, укорененной в христианской традиции и в европейской
истории. Секуляризм, взятый на вооружение современным
государством, определяет и регулирует религиозную жизнь, проводя
четкие границы между личными страстями и общественным порядком.
Для основоположников этого понятия секуляризма, таких как Талал
Асад, религия становится чем-то «укорененным в личном опыте,
выразимым как убеждение, зависящим от частных институций,
практикуемым в свободное время [и] несущественным для нашей общей
политики, экономики, науки и морали» [44].
Подхватывая темы, поднятые в литературе по секуляризму,
исследователи советского феномена рассматривают его как вариант
современного секулярного общества [45]. Даже отмечая советскую
специфику, они указывают на общие основания либерального
и коммунистического политических проектов в их отношении
к религии: с точки зрения того и другого религия является отсталой
и иррациональной и тем самым представляет угрозу политической
и социальной стабильности — особенно когда она выходит за пределы
частной сферы, где, с точки зрения секуляризма, она только и может
царить полновластно [46]. В действительности либеральные
предпосылки секуляризма являются тем фоном, на котором прежде
анализировались идеологии, нетерпимые к другим ценностям, такие как
коммунизм, — что заставляет нас вернуться к концепции политической
религии. То, что делало коммунистический проект особенным для таких
авторов, как Фюлёп-Миллер и Бердяев, то есть то, что превращало
коммунизм в «религию», было именно насильственное нарушение
границ, установленных современным либеральным государством,
в котором (иррациональные) религиозные страсти должны были быть
исключены из (рациональной) политики, и, следовательно, из
общественной жизни.
Наконец, советский атеизм оставался маргинальной темой
и в быстроразвивающихся исследованиях, посвященных периоду
позднего социализма. В этих работах обычно отмечается постепенная
потеря социалистическим обществом веры в коммунистический проект
и в то же время вносятся дополнения и усложнения в картину позднего
социализма как эпохи застоя [47]. Напротив, подчеркивается
креативность и динамичность культурного развития эпохи позднего
социализма, анализируется та сложная субъективность, которая
формировалась в позднесоветскую эпоху. Но в той мере, в которой
авторов этих трудов интересует советская идеология, их внимание
фокусируется в основном на проблемах дискурса и потребления
идеологии, а не на идеологической продукции [48]. Исследователи
раннего советского периода сравнительно недавно сместили свое
внимание с идеологического дискурса на историю институтов
и механизмов идеологического производства сталинской эпохи [49], но
изучение идеологической продукции позднего советского периода еще
только начинается [50].
Центральным для исследований по советской идеологии является
вопрос о том, была ли идеология значима для советского политического
проекта и для опыта советских людей. Из той картины, которая
вырисовывается в исследованиях по позднему советскому периоду,
следует, что в тот период идеология, как правило, не имела особого
значения. Бесспорно, что в брежневские времена официальная
идеология выглядела окостенелой и что научный атеизм, возможно, был
самой застойной из ее догм. Однако если исследовать те дебаты,
которые велись внутри идеологического аппарата — как правило, за
закрытыми дверями, — мы получим иную картину. Выявляя
внутреннюю архитектуру и логику идеологической продукции, можно
увидеть, что идеология в целом и атеизм в частности имели значение
для жизни советского общества — даже в конце советского периода,
когда большинство советских людей уже не воспринимали их серьезно.
Напротив, идеология и атеизм приобретали тогда особое значение
именно потому, что большинство советских людей были
индифферентными к советскому атеизму, научно-материалистическому
мировоззрению и советской коммунистической идеологии, тем самым
поставив партию перед серьезной политической дилеммой.
Возвращаясь к истории советского атеизма, можно заключить, что
три нарратива об отношениях между идеологией, религией и атеизмом
в СССР — что советский проект был политической религией, или
неудавшейся утопией, или же специфическим вариантом современного
секуляризма — не дают полной картины, если рассматривать каждый из
них в отдельности; если же объединить эти нарративы, они
свидетельствуют о трансформации подходов к религии и атеизму
в СССР, но не объясняют ее.
Без сомнения, они высвечивают существенные черты советского
проекта: что советский проект был репрессивным от начала до конца,
хотя объекты репрессий менялись; что советская утопия, в том числе
и ее атеистический компонент, безусловно провалилась; и, наконец, что
советский проект породил разнообразные светские учреждения
и светских субъектов, что позволяет сравнивать советское государство
с другими современными государствами. Но восприятие этих
нарративов в изоляции, а не как переплетенных вместе затемняет те
сложности и противоречия, которые существенны для понимания
советского взаимодействия с религией и атеизмом. Без этого мы не
можем понять, почему эта политика изменялась с ходом времени.
Выясняя, как советское государство понимало «религию» и «атеизм»
и применяло эти категории в различных контекстах для реализации
различных политических, социальных или культурных задач, эта книга
вскрывает те противоречия, которые определяли основу советской
коммунистической идеологии и в конце концов подточили ее изнутри.
Что такое религия?
Основоположники советской коммунистической идеологии — Карл
Маркс (1818–1883) и Владимир Ленин (1870–1924) — не так уж много
писали о религии. То, что они писали, складывалось в общую
концепцию прогрессивного движения человечества по пути
к коммунизму. Для Маркса история была непрерывно
разворачивающимся повествованием о взаимодействии человека
и природы, а исторический материализм — философский базис
марксизма — ясно и недвусмысленно отвергал религиозные объяснения
исторического развития. Маркс доказывал, что если религия предлагает
трансцендентную иллюзию для объяснения земной нищеты
и страданий, то исторический материализм выявляет политические,
экономические и социальные причины, заложенные в фундаменте всех
несправедливостей существующего порядка. «С тех пор как
исчезла правда потустороннего мира», писал Маркс, задача истории
состоит в том, чтобы «утвердить правду посюстороннего мира».
Философия, «находящаяся на службе истории», должна преодолеть
человеческое самоотчуждение и дать ответы на вопросы о жизни в этом
мире. В этом смысле «критика неба превращается, таким образом,
в критику земли, критика религии — в критику права, критика
теологии — в критику политики» [51]. Но одной лишь философии
недостаточно. Как сформулировал Маркс, «философы лишь различным
образом объясняли мир; но дело заключается в том,
чтобы изменить его» [52].
Маркс не столько отвергал религию, сколько предлагал новый мир,
где религия больше не будет нужна. Религия, по Марксу, представляет
собой иллюзорную форму сознания, и потому это ложное сознание [53].
По словам Маркса, «человек создает религию, религия же не создает
человека». Религия, таким образом, представляет собой «самосознание
и самочувствование человека, который или еще не обрел себя, или уже
снова себя потерял». Она была отражением этого мира, и, поскольку
сам старый мир был «превратным миром», его отражение — религия —
была «превратным мировоззрением» [54]. Для правящих классов
религия — орудие подчинения трудящихся масс. Для масс она —
«в одно и то же время выражение действительного убожества
и протест против этого действительного убожества», а потому —
бальзам, облегчающий страдания. Религия — это «вздох угнетенной
твари, сердце бессердечного мира... дух бездушных порядков» и в этом
смысле — согласно знаменитой формулировке Маркса —
«опиумнарода» [55]. Но, облегчая страдания народа, религия ослепляет
массы и не дает им осознать собственное человеческое достоинство
и свободу воли. Когда человечество постигнет свою истинную
сущность, оно отбросит религиозные иллюзии, поскольку «требование
отказа от иллюзий о своем положении есть требование отказа от
такого положения, которое нуждается в иллюзиях». Упразднение
религии «как иллюзорного счастья народа» есть в то же время
«требование его действительного счастья». «Освободившийся от
иллюзий» человек будет «вращаться вокруг себя самого и своего
действительного солнца» [56]. Коммунизм, таким образом, положит
конец экономической нужде и политической несправедливости,
которые лежат в основе всех конфликтов, отчуждения и страданий —
социальных корней религии, и создаст справедливый гармоничный мир,
где власть имущие не будут никого угнетать, а народ не будет
нуждаться в иллюзорном опиуме для облегчения своей боли.
Декларируемое марксизмом освобождение от религии во многом
отражает присущий девятнадцатому столетию оптимизм —
воплотившийся в новых идеологиях той эпохи и главным образом
в социализме — в отношении освободительного потенциала науки,
особенно приложения научных принципов к изучению общества. Новые
идеологии рассматривали религию как основу осмысления мира,
отражающую определенный этап исторического развития. Однако наука
показала, что религия больше не является адекватным объяснением
того, как устроен мир (природа) или как жить в гармонии с другими
(культура). Возникновение социальных наук в XIX в. было в конечном
итоге связано с убежденностью, что они смогут лучше, чем религия,
объяснить, как устроен мир и каково в нем место человечества. Эти
новые науки — от позитивизма, разработанного Огюстом Контом
(1798–1857), до «утопического социализма» Шарля Фурье (1772–1837)
и Роберта Оуэна (1771–1858), а затем до «научного социализма» Карла
Маркса и Фридриха Энгельса (1820–1895) — были не только
политическими, но также и этическими проектами[57]. Конт считал
позитивизм «религией человечества», которая сможет решить проблему
конфликтов между людьми, разработав научный — а значит,
рациональный — метод достижения социальной гармонии раз
и навсегда [58]. Как доказывает Гарет Стедман Джонс, «„социализм“
в его различных вариантах позиционировал себя как универсальную
замену старым мировым религиям, основанную на новой „научной“
космологии и новом этическом кодексе», так что марксизм был
«разработан для того, чтобы завершить и заменить собой
христианство» [59]. Для Маркса и его последователей социализм был
новой истиной, лучшим ответом на мировоззренческие вопросы,
лучшим решением социальных проблем и лучшим способом для
индивида преодолеть отчуждение и воплотить в жизнь этические
нормы. Проблема религии состояла не в том, что она претендовала дать
универсально истинные ответы на вопросы жизни. Проблема была
в том, что религия предлагала неверные ответы, тем самым оставляя
человечество в состоянии порабощенности и отчуждения.
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что Маркс
воспринимал религию серьезно, поскольку считал критику религии
«предпосылкой всякой другой критики», и в то же время ее
недооценивал, поскольку полагал, что критика религии «по существу
окончена» и потому больше не является проблемой, требующей
дальнейшей философской разработки [60]. Как провозгласили Маркс
и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии», «обвинения
против коммунизма, выдвигаемые с религиозных, философских
и вообще идеологических точек зрения, не заслуживают подробного
рассмотрения», поскольку не требуется «особого глубокомыслия»,
чтобы понять, что сознание является продуктом материальных
условий [61]. Проблема религии была для них проблемой социально-
экономической по сути своей и требовала социально-экономического
решения.
Ленин в меньшей степени, чем Маркс, интересовался религией как
мировоззренческим или социальным феноменом. Его подходы
к религии были продиктованы прежде всего политическими целями .
В работе «Социализм и религия» (1905), наиболее известном его труде
по данному вопросу, Ленин вслед за Марксом характеризовал религию
как форму «духовного гнета», который «есть лишь продукт и отражение
экономического гнета внутри общества» [62]. Как и Маркс, Ленин
осуждал религиозную проповедь смирения и обещания небесной
награды, поскольку эта проповедь отвлекает пролетариат от действия
и, следовательно, сбивает его с революционного пути. Вместо того
чтобы «топить свой человеческий образ» в «духовной сивухе», писал
Ленин, раб должен «сознать свое рабство и подняться на борьбу за свое
освобождение» [63]. Но Ленин проводил важное разграничение между
государственным и партийным отношением к религии. Он требовал
секулярного разделения церкви и государства как необходимого
компонента модернизации: «Полное отделение церкви от государства
—
вот то требование, которое предъявляет социалистический
пролетариат к современному государству и современной церкви...
Русская революция должна осуществить это требование, как
необходимую составную часть политической свободы». Он рисовал
в своем воображении религиозные сообщества как «совершенно
свободные, независимые от власти союзы граждан-
единомышленников». Государство должно быть нейтральным по
отношению к религии, пока религия остается «частным делом»[64]. При
этом Ленин противопоставлял нейтральность государства по
отношению к религии требованию партии, чтобы члены партии не
только отвергали религию, но также проповедовали атеистические
убеждения. «По отношению к партии социалистического пролетариата,
—
настаивал Ленин, — религия не есть частное дело». Партия есть
«союз сознательных, передовых борцов за освобождение рабочего
класса», и такой союз «не может и не должен безразлично относиться
к бессознательности, темноте или мракобесничеству в виде
религиозных верований»[65].
Но даже когда Ленин требовал от членов партии строгого
соблюдения идеологической дисциплины, он был прежде всего
обеспокоен вопросами политики и обоснования претензий партии на
власть. Допуская, что надо «привлекать науку к борьбе с религиозным
туманом», он недвусмысленно выступал против репрессий
и дискриминации по религиозному признаку. Напротив, он требовал,
чтобы большевики помогали верующим освободиться от «религиозного
тумана», пользуясь «чисто идейным и только идейным оружием». Для
Ленина марксизм был идеологией, построенной на рациональных
основаниях, а пропаганда — способом распространения
коммунистической идеологии и приближения к миру, свободному от
религии. Но пропаганда для него была лишь средством подготовки
политической революции, которая, перестраивая экономический
и политический базис, изменит и общественный строй, равно как
сознание и образ жизни людей. «Никакими книжками и никакой
проповедью нельзя просветить пролетариат, если его не просветит его
собственная борьба против темных сил капитализма, — писал Ленин. —
Единство этой действительно революционной борьбы угнетенного
класса за создание рая на земле важнее для нас, чем единство мнений
пролетариев о рае на небе». Партия, как считал Ленин, должна
тщательно взвесить, что для нее важнее — преимущества
идеологической чистоты или же императив расширения партийных
рядов и обеспечение политической власти. Действительно, Ленин
призывал членов партии избегать педалирования религиозного вопроса
и не «допускать раздробление сил действительно революционной,
экономической и политической борьбы ради третьестепенных мнений
или бредней, быстро теряющих всякое политическое значение, быстро
выбрасываемых в кладовую для хлама самым ходом экономического
развития» [66]. Важнейшей задачей было осуществление революции во
имя коммунизма; когда коммунизм будет построен, религия просто
отомрет сама собой.
Более того, для Ленина коммунизм, несомненно, не был религией.
Об этом свидетельствует его полемика с «богоискателями» — группой,
включавшей видных русских марксистов, таких как Александр
Богданов (1873–1928), член Центрального комитета Российской социал-
демократической рабочей партии; писатель Максим Горький (1868–
1936) и Анатолий Луначарский (1875–1933), будущий народный
комиссар просвещения. В ходе этой полемики Ленин объявил попытки
построить социалистическую «религию человечества» недостойным
«кокетничаньем с боженькой» [67]. Как сформулировал это Ленин
в 1913 г. в письме к Горькому, «богоискательство отличается от
богостроительства или богосозидательства или боготворчества и т. п .
ничуть не больше, чем желтый черт отличается от черта синего».
Поскольку любая религия, даже «самая чистенькая, идеальная, не
искомая, а построяемая», является идеологической «заразой», любой
большевик, который борется против богоискательства, предлагая
рабочим социалистического Бога, занимается «худшим видом
самооплевания» и практикует «труположство» [68]. Ленину
представлялось, что различия между коммунизмом и религией далеко
не мелкие. Если религия представляет собой иррациональную иллюзию,
то коммунизм — это наука, основанием которой является разум; если
религия обращается к высшим силам, чтобы объяснить чудеса
Вселенной, то коммунизм полагается на материалистическое
объяснение эволюции природы; если религия апеллирует
к трансцендентному, чтобы решить проблемы этого мира, то коммунизм
передает силу действия в руки человека. Для марксизма-ленинизма
коммунизм не был религией, политическим движением или
философией, поскольку он превосходил религию, политику
и философию и путем революции изменял мир во всей его полноте.
Что такое атеизм?
Большевики, как верные марксисты-ленинцы, не считали религию
серьезным препятствием на пути революционного переустройства мира.
Конечно, они понимали, что захват политической власти не повлечет за
собой немедленной переделки общества, но верили в марксистскую
модель исторического развития, в соответствии с которой религия
с ходом истории неизбежно отомрет. Тем не менее изначально
существовало некоторое противоречие между большевиками как
марксистами, приверженными атеизму, и большевиками как
модернизаторами, для которых секуляризация — создание светского
государства, где религиозные организации были бы отделены от
политики, образования, экономики, медицины и права, — была орудием
построения современного государства. Ленин расценивал
конфессиональные порядки старого режима как феодальные пережитки,
которые свидетельствуют об отсталости России в сравнении с Европой.
Хотя устав партии требовал от членов придерживаться атеистических
убеждений, с точки зрения Ленина, новые порядки должны были стать
светскими (а значит, современными), прежде чем они станут
атеистическими (а значит, коммунистическими). Консолидация
политической власти в руках партии и строительство экономического
фундамента социализма должны были стать предпосылками создания
современного коммунистического строя.
Но что такое атеизм? Если Маркс и Ленин мало писали о религии,
об атеизме они писали еще меньше — в основном потому, что считали
его не столь важным для революционного хода истории. Как для
Маркса, так и для Ленина религия была не самостоятельной силой,
а одной из форм общественного сознания, определяемой строем
общественного бытия. Без капиталистического общественного строя
и религиозных институтов, эксплуатировавших массы в угоду
капитализму, религия просто исчезнет — вместе с частной
собственностью, классовым делением, семьей и всей буржуазной
капиталистической системой. Ни Маркс, ни Ленин не придавали
большого значения атеизму как философской позиции, поскольку
обращения к разуму не будут иметь воздействия на массы, пока они
пребывают в бедственных условиях и пока они ослеплены
религиозными иллюзиями [69]. Только уничтожение тех социально-
экономических причин, что порождают иллюзии, приведет массы
к атеизму. Таким образом, атеизм воспринимался как продукт
коммунистического общества, а не как предпосылка его создания.
Как в таком случае большевики представляли себе исчезновение
религии и обращение к атеизму после революции? В теории
большевистское понимание религии и атеизма в новом
коммунистическом обществе было довольно простым. В своей книге
«Как родятся, живут и умирают боги и богини» (1923) Емельян
Ярославский (1878–1943) — который, будучи основателем Союза
воинствующих безбожников и издателем журнала «Безбожник»,
являлся главным большевистским рупором советского атеизма, —
рассматривал атеизм как финальную главу в той истории, которую
люди рассказывают самим себе о мире и своем месте в нем. Вслед за
немецким философом XIX в. Людвигом Фейербахом (1804–1872), чья
антропологическая концепция религии была основой мировоззрения
Маркса, Ярославский доказывал, что у религии всегда «земные корни»
и божества являются просто отражением тех человеческих обществ,
которые создали их. Когда общество становится более сложным по
своей структуре, усложняются и его мифы, которые отражают теперь
более высокий уровень развития. По этой причине разные народы мира,
не имеющие прямой связи друг с другом (но находящиеся на сходных
стадиях развития), придумывают сходных богов. Ярославский
постулировал, что если на ранних этапах своей истории человечество
страшилось непознанных сил природы и создавало богов, чтобы
осмыслить и приручить стихийные силы, скоро придет время, когда
человечество осознает самого себя как высший авторитет и больше не
будет нуждаться в том, чтобы населять небеса могущественными
сверхъестественными божествами. Точно так же как «было время, когда
люди не знали никакой религии, — объяснял Ярославский, — ныне
наступило время, когда миллионы людей порывают с ней
и отказываются от нее» [70]. Таким образом, религия не была ни
вечной, ни трансцендентной, но скорее представляла собой продукт
истории. Когда-то она родилась, пережила свой исторический этап,
а при коммунизме она умрет.
После революции выяснилось, что религия не собирается умирать
своей смертью. Закономерный ход истории требовал активного
вмешательства партии. Большевики понимали религию как феномен,
который включает три компонента: политический, основу которого
составляют религиозные учреждения; идеологический, воплощенный
в превратном мировоззрении, основанном на вере в сверхъестественное;
и, наконец, духовный, охватывающий разнообразные ценности,
практики и обычаи, которые придают повседневной жизни, или быту,
сакральное измерение [71]. Партийная политика по отношению
к религии была отражением этих концепций. По отношению к религии
как политическому феномену партия применяла воинствующие
антиклерикальные меры, стремясь с помощью административного
регулирования и репрессий обозначить пределы автономии
религиозных институтов, оттеснить религию на обочину общества,
ограничив рамками частной жизни, и подорвать ее социальное влияние.
По отношению к религии как идеологическому феномену партия
полагалась на пропаганду, образование и просвещение как
необходимые институты внедрения научно-материалистического
мировоззрения. Наконец, по отношению к религии как к феномену
духовной жизни партия использовала оружие культурной революции,
чтобы превратить традиционный образ жизни в «новый
коммунистический быт».
В то же время, если мы исходим лишь из марксистско-ленинской
теории, мы не поймем, как и почему политика советского государства
по отношению к религии и атеизму менялась с ходом времени. От
нашего внимания ускользнут те специфические исторические условия,
в которых партия должна была принимать решения и формировать свой
политический курс. Коммунистическая революция осуществлялась без
заранее разработанного плана, и для реализации советского проекта
необходимо было разрабатывать стратегию отношения к религии
и атеизму не только в теории, но и на практике. Маркса уже давно не
было, Ленин умер в 1924 г., однако реализация советского проекта
должна была продолжаться, и сам проект развивался еще семь
десятилетий. Теория марксизма-ленинизма предлагала концептуальный
подход, который использовали советские пропагандисты атеизма,
осмысливая феномен религии, но на них воздействовал и собственный
опыт соприкосновения с религией в жизни. По мере того как история
шла вперед и революция уходила все дальше в прошлое, атеисты
должны были определить, как марксизм-ленинизм поможет им ответить
на вопросы непосредственно окружавшей их реальности, по-прежнему
противоречивой и далекой от совершенства.
В течение советского периода эти три аспекта партийной концепции
религии — как политического, идеологического и духовного феномена
—
сосуществовали друг с другом, но не без напряженности
и противоречий. Отчасти это определялось тем, что приоритеты
советской власти менялись с ходом времени, а отчасти — тем, что
советская власть решала вопросы религии и атеизма с помощью разных
институций, которые действовали в соответствии со своей особой
логикой. Действительно, за монолитным фасадом советской власти
скрывалась сложная структура, включавшая партийные,
правительственные, охранные и культурные организации. Платформа
партии состояла в том, чтобы руководить политическим развитием
советского общества в соответствии с идеологией марксизма-
ленинизма, а также воспитывать политическую дисциплину и идейную
сознательность в партийных кадрах и в массах советских граждан.
Задача правительственной бюрократии заключалась в том, чтобы
исполнять веления партии с помощью государственного
административного аппарата. Тем временем органы безопасности
видели свою миссию в том, чтобы поддерживать политический порядок
и идеологическую ортодоксию, защищая систему от внутренних
и внешних врагов. Задачей учреждений культуры было формирование
советского общества путем воспитания просвещенных, рационально
мыслящих и дисциплинированных граждан.
У каждой из этих институциональных систем — партии,
правительства, органов безопасности и учреждений культуры — были
свои собственные цели в отношении религии и атеизма, и они
использовали различные стратегии для достижения этих целей.
Конечная цель партии, как было сказано в ее уставе, заключалась
в создании общества, свободного от религии. Задача правительственных
органов — прежде всего Совета по делам религий при правительстве
СССР — состояла в том, чтобы управлять отношениями между
религиозными учреждениями и государством, а также руководить
религиозной жизнью на местах, используя правовые
и административные меры [72]. Задача органов безопасности была
в том, чтобы правовыми или внеправовыми средствами, в том числе
с помощью террора, нейтрализовать оппозицию, в рядах которой были
религиозные организации и отдельные верующие с репутацией
антисоветчиков [73].
Но в сфере внимания автора этой книги находятся преимущественно
культурные, научные и образовательные учреждения, занимавшиеся как
теоретическими, так и практическими аспектами атеистической работы.
На теоретических аспектах атеистической пропаганды сосредоточивали
свое внимание такие учреждения, как находившийся в Ленинграде
Музей истории религии (МИР), созданный в 1932 г. и в 1954 г.
получивший новое название — Государственный музей истории
религии и атеизма (ГМИРА), кафедры научного атеизма, открытые
в ведущих университетах и институтах страны в хрущевский период;
а также учрежденный в 1964 г. Институт научного атеизма (ИНА)
Академии общественных наук при ЦК КПСС (АОН). Практическая
работа по распространению атеизма в массах была возложена на
просветительские организации, такие как Союз воинствующих
безбожников (СВБ), действовавший с 1925 по 1941 г., и Общество по
распространению политических и научных знаний (общество
«Знание»), которое было учреждено в 1947 г. в том числе и для того,
чтобы продолжить атеистическую работу СВБ. Преследуя разные цели,
эти организации и учреждения часто действовали наперекор друг другу,
а иногда — даже наперекор более широким задачам советской власти.
Даже если у партии, правительства, органов безопасности и культурных
учреждений была общая всеобъемлющая цель, построение коммунизма,
их приоритеты различались. Их специфические цели — идейная
чистота, эффективное управление, нейтрализация оппозиции или
культурное преображение общества — соперничали друг с другом, что
делало советскую политику в сфере религии и атеизма
непоследовательной и зачастую контрпродуктивной по отношению
к целям советского проекта.
И наконец, следует отметить, что когда партия использовала слово
«религия» как обобщающее понятие, чаще всего под этим
подразумевали православное христианство и Русская православная
церковь: и потому, что православие в начале века было религией
большинства, составлявшего около 70% населения страны, и потому,
что православную церковь и Российское государство связывали
прочные исторические узы[74]. К другим сообществам — мусульманам,
иудеям, баптистам, буддистам, католикам и иным религиозным
направлениям, представленным в СССР, — понятие «религия»
применялось намного реже [75]. Это обстоятельство определяло логику
внутреннего развития советского атеизма, заставляя, например,
пропагандистов атеизма переносить фокус своего внимания с борьбы
против церкви и церковных догм на поиск замены религиозным
обрядам и ритуалам — той сфере, которая имеет особенную важность
для православия. Именно потому, что Русская православная церковь
имела ключевое значение для партийной политики в сфере религии
и атеизма, некоторые важные вопросы — например, связь между
религией и национализмом за пределами СССР или роль религии
в международном контексте, особенно в годы холодной войны, —
в меньшей степени затрагиваются в этой книге, хотя, безусловно, они
были значимы для истории Советского Союза.
Визитная карточка коммунистической цивилизации
«Свято место пусто не бывает» начинается с исследования того, какую
политику вели большевики в отношении религии во времена Ленина
и Сталина (от революции 1917 г. до смерти Сталина в 1953 г.),
используя правовые и административные механизмы, внеправовые
репрессии и террор, а также воинствующую антирелигиозную
пропаганду. Но, несмотря на призывы большевиков к строительству
нового мира, преобразованию общества и человеческой натуры, религия
в ранний советский период оставалась в первую очередь политической
проблемой. Если в теории воинствующий атеизм трактовался как
важное оружие на религиозном фронте, то на практике его постоянно
оттесняли на второй план другие задачи: политической консолидации,
экономической мобилизации и социальной стабильности. Религия
имела значение для большевиков ровно в той степени, в какой она
представляла угрозу советской власти, и к концу 1930-х гг. — когда
политическая мощь Русской православной церкви как организации была
практически утрачена — они сочли, что эта угроза эффективно
нейтрализована. С этого времени религия могла продолжать
существовать в Советском Союзе, но только на условиях, диктуемых
государством. Сталин определил эти условия в 1943 г.; возвращение
к вопросам религии в военное время и создание правительственных
органов для ведения религиозных дел означали оформление новой
системы координат в политике советского государства по отношению
к религии. Эта система сохранялась вплоть до конца советского
периода. Последнее десятилетие пребывания Сталина у власти было
временем относительной стабильности на религиозном фронте, тогда
как ослабление политической поддержки атеизма сделало его
практически незаметным в общественной жизни.
Затем в книге прослеживается, как революционный лозунг создания
нового мира воплощался в жизнь во время «второго акта» революции,
когда после смерти Сталина Хрущев попытался утвердить советский
проект на новом фундаменте, объявив, что СССР вступил в стадию
«строительства коммунизма». Для Хрущева политическая
десталинизация, экономическая модернизация и идеологическая
мобилизация были важны как составляющие его попытки вдохнуть
новую революционную жизнь в марксистско-ленинскую идеологию.
Наступление коммунизма, как заявлял Хрущев, неизбежно; «внуки
революции» — молодые люди, повзрослевшие в 1960-е гг., — смогут
увидеть его своими глазами. В то же время религия по-прежнему была
позорным пятном на советской современности, чуждой идеологией
в недрах советского коммунистического проекта. Поскольку религия
по-прежнему была фактом жизни советского общества и Хрущев верил,
что она в основе своей несовместима с коммунизмом, атеизм вернулся
в жизнь советского общества. Во времена Хрущева партия развернула
широкую антирелигиозную кампанию, закрыв почти половину объектов
культа в стране, установив репрессивные ограничения автономии
религиозных организаций и духовенства и вложив беспрецедентные
ресурсы в создание централизованного атеистического аппарата. Более
того, советский атеизм был переосмыслен: поскольку религиозные
институции считались политически лояльными и даже стоящими на
патриотических позициях, религия стала идеологической проблемой,
«пережитком», который необходимо искоренить в сознании советского
человека путем просвещения. В хрущевскую эпоху, таким образом, на
смену воинствующему атеизму раннего советского периода пришел
научный атеизм.
В брежневский период упорное нежелание религии «отмирать» —
даже после того, как партия приложила все возможные усилия, чтобы
с помощью антирелигиозных мер ускорить этот процесс, — вынудило
пропагандистов атеизма противодействовать живой религиозности как
сложной реальности, еще раз заново переосмыслив свое понимание
религии и подходы к атеистической работе. Атеистический аппарат был
вынужден признать, что хотя в теории коммунистическая идеология
пронизывает индивидуальную человеческую жизнь от колыбели до
могилы, по-прежнему оставалось неясным, что она значит на практике
—
в живом опыте советских людей. В поздний советский период
пропагандисты все чаще начинали рассматривать религию не просто
как политическую или идеологическую, но также как духовную
проблему. Они считали, что эта живая религиозность, глубоко
укорененная в мировоззрении и образе жизни людей, может быть
побеждена только осознанным атеизмом, который будет охватывать не
только сферу институций и убеждений, но также нравственность,
чувства, эстетику, ритуалы и общий опыт. Пропагандистский аппарат
оказался перед необходимостью отойти от чисто отрицательных
характеристик религии и внести в атеизм позитивное содержание,
которое могло бы стать привлекательным и эффективным
функциональным эквивалентом религии.
Однако парадокс советского атеизма состоял в том, что, несмотря на
его важную роль для коммунистической идеологии, на практике
никогда так и не было определено, что же он собой представляет и кто
конкретно должен его разрабатывать и распространять в массах.
Советские пропагандисты атеизма, поневоле ставшие опекунами душ
советских людей, обнаружили, что сами непрерывно ищут новые
ответы на религиозные вопросы. В ходе этого поиска борьба
коммунистической идеологии против религии стала превращаться
в конструирование позитивного содержания атеизма. В этом отношении
советская коммунистическая идеология попыталась превратить атеизм
в его противоположность: в некий набор позитивных убеждений
и практик с отчетливо выделяющимся духовным центром.
Атеизм по сути своей отвергает идею, что на мир воздействуют
некие трансцендентные или сверхъестественные силы. В советском
контексте атеизм служил обоснованием самого радикального и самого
утопического постулата коммунистической идеологии: обещания, что
человек станет хозяином мира и что несправедливость и зло будут
преодолены не в будущей, а уже в этой жизни. Но советский атеизм был
также инструментом власти, орудием, которым можно было громить
конкурирующие источники политического, идеологического
и духовного авторитета. Оспаривая правдивость и авторитет других
учений и институтов, советская коммунистическая идеология
возложила на себя нелегкую задачу — дать ответы на жизненно важные
вопросы и предложить решения жизненных проблем. В этом смысле
атеизм стал полем битвы, на котором советская коммунистическая
идеология столкнулась с экзистенциальными проблемами,
составляющими самую сущность человеческого бытия: с проблемами
смысла жизни и смерти.
Попытка советского атеизма конкурировать с религией
и в конечном итоге победить ее дает нам возможность увидеть, как
в рамках советской коммунистической идеологии определялась борьба
между старым и новым и как коммунистическая идеология искала
подходы к сознанию, сердцам и душам советских людей. Эта книга
посвящена тому, как партия осознала необходимость превратить
идеологию в религию — не только в теории, но и в жизни. Прослеживая
специфические значения и функции атеизма на протяжении советской
истории, мы можем выявить значение атеизма для советского
коммунистического проекта. Атеизм был «визитной карточкой»
коммунистического общества, поскольку он был предпосылкой
наступления коммунизма: свидетельством убежденности советского
человека в политической, идеологической, духовной правде
и авторитете коммунистической идеи. Пока атеистические убеждения
не заполнили сакральное пространство советской коммунистической
идеологии, преданность советских людей коммунистической идее
оставалась условной, а советский проект — незавершенным.
Глава 1
Религиозный фронт: воинствующий атеизм
при Ленине и Сталине
В канун революции 1917 г. российское самодержавие представляло
собой православное государство, управлявшее многоконфессиональной
империей. Российская империя занимала одну шестую часть земной
суши, и среди 130 миллионов ее подданных были православные,
мусульмане, иудеи, буддисты, католики, лютеране и представители
различных протестантских конфессий, а также приверженцы
бесчисленных туземных культов. Чтобы управлять этим огромным
и разнообразным населением, имперская власть опиралась, по
определению историка Пола Верта, на «конфессиональное управление»,
используя религиозные институты для увеличения сферы своего
влияния — все шире раздвигая пределы империи и все глубже проникая
в жизнь рядовых подданных, чей мир по-прежнему был далек от центра
царской власти [76]. С помощью религиозных институтов государство
демонстрировало свою власть, объединяло свое разнородное население,
управляло возрастающим числом «инославных» конфессий
и осуществляло дисциплинарное воздействие на индивидуальную
мораль [77]. Православная церковь занимала привилегированное
положение на вершине имперской иерархии конфессий и наряду
с выполнением своей духовной миссии играла существенную
политическую роль, обеспечивая трансцендентную легитимацию
земной власти царя. Положение православной веры как первой среди
равных было формально обосновано в середине XIX в. теорией
«официальной народности» — трехчастной идеологической формулой
имперской власти, включавшей православие, самодержавие
и народность. Последний термин означал «национальное мышление»
народа, выражающееся в его повиновении царю и преданности
православной церкви [78]. Религия вообще — и православие
в особенности — играла ключевую роль в политической, социальной
и культурной структуре старого режима.
Если российское самодержавие было православным государством,
управляющим многоконфессиональной империей, то большевики были
партией, стремившейся создать светское государство для строительства
коммунизма. Но на пути к достижению этой цели большевикам сначала
пришлось иметь дело с унаследованными от императорской России
учреждениями, идеологиями и парадигмами культуры и лишить
религию ее центрального положения в политической, общественной
и культурной жизни.
Придя к власти, большевики использовали различные каналы для
воплощения своих идей в жизнь: от образования, просвещения
и реформ в сфере культуры до административного регулирования,
политических репрессий, террора и насилия. Но, несмотря на
антирелигиозные лозунги внутри страны и на репутацию безбожных
атеистов, которую они быстро приобрели за рубежом, на самом деле
у партии не было ни системного подхода к управлению религией, ни
консенсуса относительно сущности и назначения атеизма как
составляющей части советского проекта. Вместо того чтобы
руководствоваться последовательным и ясным представлением о роли
атеизма в строительстве нового коммунистического мира, советская
политика в отношении религии и атеизма диктовалась
противоречивыми целями и носила характер импровизации. Более того,
ее применение сдерживалось политической и социальной обстановкой
на местах. В стремлении спасти революцию и консолидировать власть
большевики зачастую были вынуждены делать выбор между
противоположными императивами: идеологической чистотой или
эффективным управлением, культурной революцией или социальной
стабильностью. Вопрос о том, как приверженность партии атеизму
повлияет на советскую религиозную политику, долгое время оставался
без точного ответа, что порождало колебания и противоречия,
определявшие политическую, социальную и духовную жизнь страны
при Ленине и Сталине.
Старый мир
Для России история «старого мира» началась в 988 г., с крещения Руси.
Согласно «Повести временных лет», начало «Русской земли» было
связано с принятием христианства великим князем Владимиром,
который благодаря этому смог объединить подвластные ему земли
и народы. До 988 г. Владимир, чтобы сосредоточить власть в своих
руках, уже пытался создать пантеон из многочисленных языческих
богов, которым поклонялись проживавшие в его владениях восточные
славяне, но когда языческий пантеон оказался бесполезным для
достижения политических целей, Владимир обратился
к монотеистическим религиям своих соседей. В 986 г., как рассказывает
летопись, к нему прибыли посланцы от мусульман из Волжской
Булгарии, иудеев из Хазарии, западных христиан из Рима и восточных
христиан из Константинополя. Воодушевленный тем, что он услышал
о Константинополе, Владимир отправил своих послов в Византию; по
возвращении послы доложили, что храм Святой Софии
в Константинополе столь величествен, что они «и не знали — на небе
или на земле мы» [79]. Владимир обратился в христианство, разрушил
языческое святилище и насильственно крестил свой народ. Таким
образом в 988 г. Русская земля стала христианской.
История крещения Руси в равной степени повествует о духовном
спасении и консолидации политической власти. С самого начала
российская государственность и политическая идентичность были
неразрывно связаны с православным христианством. В какой-то мере
причиной тому был рост напряженности в отношениях между
латинским Западом и византийским Востоком, что в конце концов
привело к расколу христианской церкви в 1054 г. Киевская Русь,
незадолго до этого обращенная в христианство, осталась под контролем
Византии. В течение двух следующих столетий Византийская империя
клонилась к упадку и в 1439 г. на Флорентийском соборе пошла на
компромисс с католической церковью, признав главенство папы
римского в обмен на помощь в борьбе против османской угрозы.
Православная церковь, не желая заключать такой компромисс, де-факто
стала независимой от византийской церкви[80]. После падения
Константинополя в 1453 г. Московская Русь стала позиционировать
себя как единственное политически независимое православное
государство, что придало ей существенный политический капитал.
По мере того как Московское царство укрепляло свою политическую
власть, православная церковь также держалась все увереннее и в 1589 г.
учредила собственную патриархию. Что касается отношений между
церковью и государством, то они носили взаимовыгодный характер.
Если православная церковь нуждалась в Российском государстве, чтобы
отстаивать свою церковную автономию, то Российское государство
нуждалось в православной церкви для утверждения своей политической
легитимности. Теоретические основания российской государственности
были сформулированы церковными авторами, и согласно им авторитет
православного правителя определялся его способностью отстаивать
и защищать истинную веру. Правители России, таким образом, зависели
от православия, символически наделявшего политические порядки
сакральным смыслом.
Через всю историю России красной нитью проходит идея, что
спасение России — в способности государства противостоять двум
извечным угрозам его территориальному и культурному суверенитету:
внутренней разобщенности и иностранной оккупации. Необходимым
условием выполнения этой задачи считалось сильное государство —
или образ сильного государства, что, возможно, еще важнее.
Старый режим в России представлял собой традиционный
политический порядок: правитель был самодержцем, а народ —
подданными. В то же время начиная с Петра Великого (годы правления
1682–1725) российское самодержавие было вовлечено
в общеевропейские процессы роста и консолидации государств.
Европейские государства раннего Нового времени, чтобы
мобилизовывать ресурсы и управлять наиболее эффективным образом,
заручались поддержкой церкви как партнера в деле дисциплинарного
воздействия на своих подданных. Представления Петра о рациональном
государстве включали Россию в это широкое европейское течение [81].
Неустойчивая власть Российского государства и его слабый контроль
над местным управлением приводили к тому, что государство всегда
видело в церкви одновременно союзника и угрозу — конкурирующую
властную структуру, которая может поддерживать государство, а может
и подрывать его власть. Петр, чье взросление пришлось на время
подъема движения старообрядцев — церковного раскола, которым было
ознаменовано беспокойное правление его отца, царя Алексея
Михайловича (годы правления 1645–1676), — своими глазами видел,
к каким бедствиям может привести соперничество властных структур.
В ходе своих церковных реформ Петр поставил церковь под контроль
Святейшего синода, новой правительственной структуры, которую
возглавлял мирянин. Петровские реформы расширили сферу
бюрократического и политического влияния государства, внедрив
ведение записей о рождениях, браках и смертях (которые должны были
вести приходские священники), упорядочив борьбу с «суеверием»,
сделав обязательной ежегодную исповедь и обязав духовенство
сообщать о содержании исповеди, если оно могло быть истолковано как
политическая угроза [82]. С точки зрения самодержавного управления
огромной и мультиконфессиональной страной работа по определению
и регулированию норм поведения была слишком важна, чтобы доверять
ее кому-то, кроме самого государства [83]. Как показывает Виктор
Живов, «Петр ни к какому обновленному благочестию не стремился.
Вообще, для русских властей дисциплина была несравненно важнее
каких-либо религиозных ценностей» [84].
Однако целью петровских церковных реформ было не только
поставить политическую власть государства выше церковной, но
и присвоить духовную харизму церкви. Для Петра важнейшей
ценностью православия была способность поддерживать
государственную идеологию. Как отмечает Вера Шевцов, «Духовный
регламент» Петра I (1721) был предназначен, чтобы разъяснить
подданным — тем, кто «помышляет, что таковый правитель есть то
вторый Государь Самодержцу равносильный, или и больши его» —
различие между политической и духовной властью и главенство первой
из них над второй [85]. Таким образом, в течение всего имперского
периода Российское государство и православная церковь действовали,
по словам Надежды Киценко, «рука об руку», управляя народом на
земле и направляя его к спасению души на небесах [86].
Самодержавие достигло своего апогея при Николае I (годы
правления 1825–1855), но вскоре, при Александре II (годы правления
1855–1881), Великие реформы 1860-х гг. в сфере юриспруденции,
экономики, военного дела и образования стали изменять традиционные
порядки в России [87]. Важнейшей реформой, осуществленной
императорской властью, было освобождение крестьян в 1861 г., которое
предоставило российским крестьянам различные свободы, включая
право менять место жительства в поисках лучших возможностей.
Экономические перемены в России конца XIX в., в особенности
индустриализация, означали, что теперь эти возможности были
сконцентрированы в городах империи. По мере того как крестьяне
переезжали в города и становились рабочими, их мир расширялся за
пределы родной деревни, а фабрика и новая городская культура,
с которой они сталкивались, изменяли их мировоззрение. В городе эти
новые рабочие соприкасались с современной политикой
и с революционной интеллигенцией, организовывавшей политические
кружки, чтобы раскрыть рабочим глаза на убожество их положения
и научить, как они могут улучшить свою судьбу [88].
В то же время, хотя империя и шла по пути модернизации, в ней
сохранялось и немало традиционного, в том числе в религиозной
культуре. Современное представление о религии — как о неких
практиках, основанных на вере и совершающихся в специально
отведенном для этого пространстве и времени, — по всей вероятности,
оставалось чуждым для большинства населения. Религия, вместо того
чтобы быть вытесненной в четко определенную сферу, простирала свое
влияние далеко за пределы церкви и церковных догм. Религия
оставалась стержнем политики, бюрократической системы, культуры
и образования; она была встроена в повседневную жизнь, упорядочивая
время и пространство, разделяя труд и отдых, сплачивая людей общей
историей и формируя основу индивидуальной и групповой
идентичности. Именно вокруг религии объединялись люди, чтобы
вместе совершать паломничества, встречать праздники, соблюдать
посты и отмечать рождения, свадьбы и смерть. Религия затрагивала не
столько веру, сколько весь образ жизни людей, охватывая те ценности
и обычаи, которые в большинстве своем просто воспринимались как
должное [89]. Даже когда связи между рабочим и деревней ослабевали,
они редко исчезали полностью.
В начале ХХ в., в царствование последнего российского императора
Николая II (годы правления 1894–1917), самодержавный порядок
рушился под напором модернизации. В ходе революции 1905 г.
требования народа вынудили царя предоставить населению
определенные гражданские права и политические свободы, в том числе
«укрепить начала» веротерпимости, что позволило отдельным людям на
законных основаниях отпадать от православной церкви [90].
На возникшем плюралистическом «рынке» религий православие как
традиционное вероисповедание с трудом выдерживало конкуренцию
с другими конфессиями [91]. Это особенно касалось различных «сект»,
которые становились все многочисленнее и все громче заявляли
о себе [92]. В то же время религия была настолько важна для
политического, социального и культурного порядка империи, что даже
либеральные реформаторы опасались строить Российское государство
на секулярном основании — как в административном отношении, путем
создания светской бюрократии, так и идеологически, последовательно
проводя в жизнь принцип «свободы совести», провозглашенный царем
в Манифесте 17 октября 1905 г. [93]Действительно, Указ «Об
укреплении начал веротерпимости» ярко высветил противоречия
модернизирующегося самодержавия, поскольку в нем не хватало
настоящей свободы совести — он лишь дозволял переход в иные
христианские конфессии (но не отпадение от христианства) [94].
Российские государственные деятели также опасались, что без
религиозной опоры расширяющаяся пропасть между государством
и народом — который, с точки зрения государства, оставался
суеверным, иррационально мыслящим и потому потенциально
непокорным и неуправляемым — станет непреодолимой.
Консервативные чиновники боялись, что отказ от религии как от
политического и идеологического фундамента имперских порядков
приведет к атеизму, а тот, в свою очередь, к моральному коллапсу
и подрыву основ самого государства. В свою очередь, либеральные
реформаторы, приверженные принципу свободы совести, признавали,
что Российскому государству недостает бюрократических кадров,
которые позволили бы обходиться без конфессионального управления.
Наконец, с точки зрения большинства революционной интеллигенции,
прочные связи между российским самодержавным государством
и православной церковью превращают церковь — и религию вообще —
во врага всего хорошего, справедливого и просвещенного. Атеизм,
который, как доказывает Виктория Фреде, в начале XIX в. был
«немыслим» даже для образованной элиты, к началу XX столетия стал
способом достижения моральной и политической автономии и от
церкви, и от государства [95].
В период от Великих реформ до 1917 г. традиционные порядки
в России содержали множество противоречий. Власти приходилось
иметь дело с быстрым распространением новых сект и «инославных»
вероисповеданий, с усиливающимися требованиями гражданских прав
со стороны увеличивающегося городского образованного населения
и с новыми представлениями о религии как о вопросе личной совести,
а не групповой принадлежности. Вопреки всему этому государство
продолжало опираться на политическую, идеологическую
и административную функцию религии. Модернизация
трансформировала самодержавный режим и поставила его лицом к лицу
с вопросами и проблемами, которые он не мог игнорировать. Тем не
менее царь по-прежнему, и до самого конца, видел в своем народе
скорее подданных, нежели граждан. Его подданные, в свою очередь, все
чаще выходили за рамки традиционной сословной и вероисповедной
идентичности, осознавая себя членами этнических и национальных
групп, представителями классов, а также личностями, обладающими
правами и свободами.
Таков был политический, социальный и культурный ландшафт,
доставшийся в наследство большевикам, когда они захватили власть
в октябре 1917 г.
Большевики-ленинцы
Из марксистско-ленинского учения, в соответствии с которым
большевики трактовали религию, следовали четкие выводы. Религия
воспринималась как порождение деспотических политических структур
и несправедливых экономических отношений, и Маркс верил, что
религия исчезнет с ликвидацией политической и экономической
основы, в которой она укоренена. Энгельс, помимо этого, ставил акцент
на необходимости научного просвещения, которое избавит людей от
ложных и примитивных представлений о мире. Ленин уповал на
авангардную роль партии большевиков, требуя, чтобы каждый член
партии активно боролся против религии во всех ее видах, — хотя, как
и Маркс, он предупреждал, что оскорбление религиозных чувств может
превратить пассивных верующих в активных контрреволюционеров.
Для большевиков преодоление религии было длительным процессом:
прежде чем освободить мировоззрение от религиозных верований,
следовало приступить к перестройке повседневной жизни, а прежде чем
искоренять религиозные верования, следовало политически
нейтрализовать религиозные институты. Таким образом, первым шагом
должно было стать решение политических проблем, связанных
с религией.
После Октябрьской революции большевики оказались в окружении
враждебных держав и были втянуты в Гражданскую войну (1917–1921),
поэтому их первостепенной задачей было удержаться у власти. Для
Ленина успех дела революции определялся модернизацией государства,
и он считал, что существенным компонентом современных
политических порядков является подчинение религии государственной
власти. В своей работе «Социализм и религия» (1905) он доказывал, что
только революция может «покончить с тем позорным и проклятым
прошлым [России], когда церковь была в крепостной зависимости от
государства, а русские граждане были в крепостной зависимости
у государственной церкви... Полное отделение церкви от государства
—
вот то требование, которое предъявляет социалистический
пролетариат к современному государству и современной церкви» [96].
Следуя этой логике, партия сразу же выпустила серию декретов,
которые должны были заложить фундамент современного секулярного
государства. Согласно Декрету о земле (26 октября 1917 г.) были
национализированы все монастырские и церковные земли [97]. Другой
декрет, «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов
состояния» (18 декабря 1917 г.), объявлял о создании новых
государственных органов — отделов записи актов гражданского
состояния (ЗАГС), чтобы вывести регистрацию рождений, браков,
смертей и разводов из сферы контроля религиозных учреждений [98].
Наконец, согласно третьему декрету, «Об отделении церкви от
государства и школы от церкви» (23 января 1918 г.), религиозные
организации лишались статуса юридического лица, а религия
выводилась из сферы государственного управления и образования [99].
Лишив церковь гражданских прав, большевики также изъяли из рук
духовенства управление и контроль над самой религиозной жизнью.
Поскольку церковным приходам более не дозволялось владеть
собственностью, теперь они должны были арендовать церковные здания
у государства. Священники стали служащими по найму у приходских
«двадцаток», групп прихожан-мирян, зарегистрировавшихся в качестве
религиозной общины и ведавших приходскими делами. В совокупности
эти меры резко сократили автономию религиозных учреждений
и сделали высшей инстанцией в религиозных делах государство.
Для партии самым важным в деле секуляризации государства было
вывести религию из сферы политики и общественной жизни.
Конституция РСФСР 1918 г. предоставляла индивиду «свободу
совести», понимаемую как право исповедовать любую религию или не
исповедовать никакой, а также удовлетворять религиозные
«потребности». Советские законы также определяли, что деятельность
правительственных и общественных организаций больше не должна
сопровождаться публичными религиозными ритуалами или
церемониями, а частное исполнение религиозных обрядов допускается
«постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не
сопровождаются посягательствами на права граждан Советской
Республики» [100]. Однако для атеизма ограничений в публичной сфере
не существовало. Тем самым религия превращалась в нечто
маргинальное — имеющее отношение к внутренней, частной жизни
индивида и приуроченное к определенному времени и пространству,
тогда как антирелигиозная пропаганда и атеизм стали нормативными
для советских порядков.
В то же время Ленин был политиком и понимал, что перспективы
строительства коммунизма зависят от способности партии не только
осуществить революцию, но и удержаться у власти. Если в теории
отношение партии к религии определялось идеологической доктриной,
то на практике она руководствовалась приоритетами и нуждами
текущего момента. Большевики серьезно относились к религии,
поскольку она представляла политическую угрозу, а наиболее
серьезную угрозу советской власти представляла православная церковь.
Потому первоочередной задачей большевиков было нейтрализовать ее
влияние [101]. Если они могли презрительно отмахнуться от частной
религиозности как от признака культурной отсталости, обреченного на
отмирание, то в православной церкви они видели влиятельное
учреждение, обладающее символическими и материальными ресурсами.
Ее авторитет мог быть обращен в политическое оружие, разжигающее
религиозную оппозицию за рубежом и мобилизующее религиозную
активность в пределах советской страны. Большевики опасались —
и небезосновательно, — что православие может превратить личную
религиозность в общественно значимое действие.
В силу этого партийная политика не была одинаковой по
отношению ко всем конфессиям. Если они решительно урезали
привилегии, привычные для православной церкви как официальной
государственной церкви при старом режиме, то другим конфессиям они
предоставляли новые права и возможности. Большевики понимали, что,
пока их власть еще непрочна, они не должны отталкивать тех, кто
может стать их союзником в деле освобождения политической
и общественной жизни от влияния православия. Чтобы ослабить
позиции православной церкви, партия стремилась заключить союз
с теми религиозными группами, которые прежде подвергались
преследованиям со стороны имперских властей. Например, сектанты
первоначально сочли новые порядки более благоприятными, нежели
старый режим [102]. Отчасти причиной тому были симпатии Ленина
к российским сектантам, которых он считал трудолюбивыми,
рационально мыслящими коллективистами и трезвенниками. Как писал
Ленин в 1899 г., их религиозное диссидентство было не типичным
«русским бунтом, бессмысленным и беспощадным», но скорее
политическим протестом, выраженным на языке религии [103].
Владимир Бонч-Бруевич (1873–1955), историк христианского
сектантства и один из главных теоретиков большевистского атеизма,
изображал сектантов как потенциальных союзников, чье недовольство
следует направить в русло борьбы за дело революции [104]. Также
большевики неохотно проводили политику воинствующего атеизма на
окраинах, где религия была неразрывно сплетена с национализмом,
поскольку опасались усилить уже вспыхнувшие сепаратистские
движения. В силу этих причин, даже если большевики считали религию
в целом орудием эксплуатации трудящихся масс, их самые первые
антирелигиозные мероприятия были направлены прежде всего против
православной церкви.
Другой временной стратегией, использовавшейся, чтобы разделить
церковь и подорвать ее влияние, была осуществляемая партией
поддержка реформаторов внутри самой православной церкви.
Революция углубила внутреннюю рознь между православными
реформистами и консерваторами, которая зрела десятилетиями и вышла
на поверхность во время Поместного собора 1917–
1918 гг. [105] Анафема, изреченная на большевиков и «явных и тайных
врагов сей [Христовой] истины» 18 января 1918 г. патриархом Тихоном
(Беллавиным), лишь усилила эту рознь [106]. В то время как
православные консерваторы осуждали сотрудничество с большевиками,
православные реформисты — «обновленцы» — рассматривали
реформы как необходимый шаг на пути к неотложной, с их точки
зрения, модернизации православия и видели возможность сближения
с новым режимом. В начале 1920-х гг. партия, стремившаяся
использовать эти внутренние распри в своих целях, поддерживала
«обновленцев» [107].
В годы Гражданской войны, когда большевики боролись за свое
выживание, они отбросили в сторону приверженность секулярным
нормам и обратились к внеправовым методам борьбы с теми, кого
считали врагами советской власти. В феврале 1922 г. они
воспользовались ситуацией вызванного экономической политикой
опустошительного голода, — который, как считается, унес около
7 миллионов жизней, — чтобы развязать открытый конфликт
с церковью, потребовав от нее сдать свое имущество в помощь
голодающим [108]. Осознавая уязвимость церкви, патриарх Тихон
согласился пойти на сотрудничество, но большевики сочли
неприемлемым его условие, что церковь будет участвовать в оказании
помощи голодающим. Тем не менее когда большевики начали силой
реквизировать церковную собственность, они столкнулись
с сопротивлением местных жителей, не желавших сдавать
богослужебные предметы. Конфликт вокруг реквизиции церковных
ценностей вспыхнул в тот момент, когда советская власть была
особенно неустойчивой. Гражданская война опустошала деревню
и ложилась непомерным бременем на городскую инфраструктуру,
порождая голод, преступность и болезни; но, кроме того, партия начала
утрачивать свою социальную базу, что самым болезненным образом
проявилось в восстании моряков Кронштадта в 1921 г.
С точки зрения Ленина, нельзя было мириться с массовым
сопротивлением попыткам конфисковать церковные ценности — не
потому, что это сопротивление действительно могло остановить
реквизиции (это едва ли было возможным), но потому, что оно
мобилизовало массы на борьбу против советской власти. Ленин
полагал, что организация сопротивления является делом рук
духовенства, а это означало, что церковь отныне считалась не просто
реакционной силой, но активным агентом контрреволюции, а значит,
участницей политической борьбы. В секретном письме от 19 марта
1922 г., адресованном Политбюро ЦК РКП(б), Ленин провозгласил, что
советская власть объявляет «беспощадное сражение черносотенному
духовенству», и заявил, что «чем большее число представителей
реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по
этому поводу расстрелять, тем лучше» [109]. Ленинское письмо,
остававшееся неизвестным в течение всего советского периода
и опубликованное только в 1990 г., означало начало новой, открытой
фазы той войны, которую большевики объявили религии.
Но даже считая церковь и духовенство своими политическими
противниками, которых необходимо нейтрализовать, Ленин продолжал
предостерегать против агрессивной антирелигиозной агитации в массах,
поскольку опасался, что это может политизировать вопросы религии.
Незадолго до отправки секретного письма в Политбюро Ленин написал
статью «О значении воинствующего материализма», которую позже
стали считать его «философским завещанием», где он предупреждал,
что даже после захвата власти дело революции может потерпеть
поражение из-за отсутствия союзников за пределами партийных
рядов [110]. «Одной из самых больших и опасных ошибок
коммунистов, — провозглашал Ленин, — ...является представление,
будто бы революцию можно совершить руками одних
революционеров»[111]. В то же время он указывал на опасность того,
что многие из числа небольшевистской интеллигенции привержены
религии, а зачастую — «предрассудкам и буржуазной
реакционности»[112]. Для «разоблачения и преследования» этих
«дипломированных лакеев поповщины» Ленин призывал освободить
массы от религиозного дурмана путем пропаганды воинствующего
материализма [113]. Чтобы воздействовать на «многомиллионные
народные массы... осужденные всем современным обществом на
темноту, невежество и предрассудки», большевики должны
использовать все доступные орудия и методы, особенно атеистическую
литературу и естественные науки. «Было бы величайшей ошибкой
и худшей ошибкой, которую может сделать марксист, думать, что...
массы... могут выбраться из этой темноты только по прямой линии
чисто марксистского просвещения» [114]. Напротив, массам следует
«дать самый разнообразный материал по атеистической пропаганде...
подойти к ним и так и эдак для того, чтобы их заинтересовать,
пробудить их от религиозного сна, встряхнуть их с самых различных
сторон, самыми различными способами и т. п.» [115]. В совокупности
два этих документа — ленинское письмо с призывом к расправе над
духовенством и его статья в защиту воинствующего материализма как
орудия просвещения — определяют подход Ленина к вопросам религии
и атеизма и обеспечивают контекст для понимания поворота от
пассивной политики секуляризма, проводившейся сразу после
революции, к воинствующему атеизму.
Для партии кампания по реквизиции религиозных ценностей была
выгодна и в том отношении, что она углубляла внутренний раскол
в церкви, поскольку сопротивление патриарха Тихона изъятию
ценностей дало «обновленцам» возможность сместить его. В апреле
1922 г. Тихон был арестован и заключен в Донской монастырь,
а большевики открыто поддержали «обновленцев». Подобным образом
разделились по вопросу об отношении к советской власти
и православные миряне, многие из которых предпочли уйти
в подпольную «катакомбную церковь», но не признавать главенства
«обновленцев» [116]. После смерти Тихона в 1925 г. и отмены
патриаршества большевиками в 1926 г. перед православной церковью
встал вопрос, связано ли будущее православной веры с подпольной
церковью или компромиссом с советской властью, которая теперь, по-
видимому, установилась прочно и надолго. В 1927 г. митрополит
Сергий (Страгородский), местоблюститель вакантного патриаршего
престола и реальный глава церкви, издал Декларацию, открыто
объявившую о лояльности церкви советскому государству. В этом
документе он связал судьбу православной церкви с судьбой советского
проекта, заявив: «Мы хотим быть православными и в то же время
сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости
и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши
неудачи» [117]. Заявление Сергия о лояльности советской власти
обеспечило православию ограниченные «права гражданства»
в Советском Союзе, но и заставило многих верующих уйти в подполье,
что, в свою очередь, навлекло на православие новые подозрения со
стороны советской власти. Для партии, с точки зрения которой
различные религиозные движения сливались в одну монолитную
контрреволюционную силу, существование религиозного подполья
представляло собой политическую угрозу, на которую они ответили
административными запретами и террором [118], используя наличие
подполья как предлог для репрессий против легально действующей
православной церкви [119].
В целом в течение первого десятилетия советской власти ее
взаимоотношения с религией определялись представлением
большевиков, что для удержания власти им необходимо создать
государственные структуры, способные выдержать войну с внешним
противником, гражданскую войну, экономическую отсталость
и социальную нестабильность. Поэтому, пока партия боролась за
выживание своего режима и создавала учреждения, которые будут
определять лицо советской системы, в религиозной политике они
руководствовались скорее привычным антиклерикализмом радикальной
интеллигенции, чем сколь-нибудь серьезной концепцией атеизма.
Поскольку партия считала секуляризацию неотъемлемой частью
модернизации (а также важным шагом на пути к атеистическому
обществу), первоначально практиковались правовые
и административные меры по управлению религиозной жизнью
общества. Действительно, первым — а до создания Комиссии по
вопросам культов при Президиуме Всесоюзного центрального
исполнительного комитета (ВЦИК) в 1929 г. единственным — органом,
занимавшимся делами религий, был VIII отдел Народного комиссариата
юстиции, действовавший с 1918 по 1924 г. [120] В то же время,
поскольку большевики верили, что секуляризация отделила религию от
политики, они преследовали тех представителей духовенства и мирян,
кто, с их точки зрения, нарушал вновь установленные границы между
частной и публичной религиозностью, между церковью и государством,
карая их не как религиозных, а как политических деятелей; их
преследовали не за религиозные верования, но скорее за проводимую
ими контрреволюционную политику. Светский облик советского
государства определялся поддержкой внеправовых органов
безопасности, которые всегда действовали закулисно, помогая партии
достичь поставленных ею целей.
Большевики-просветители
Согласно учению марксизма-ленинизма, революция создала условия
для построения светлого коммунистического будущего, и это будущее
должно было быть свободным от религии и по сути своей
атеистическим. Но чтобы его достичь, партия по-прежнему должна
была играть центральную роль в революционной драме. Ее роль как
политического авангарда и путеводного маяка классовой морали
состояла в том, чтобы воспитать в «человеческом материале»
революции коммунистическую сознательность. Для самой партии
завершение Гражданской войны и переход к новой экономической
политике (нэпу) означал, что революция прошла стадию борьбы за
выживание и перешла к стадии построения нового мира. Теоретик
большевизма Лев Троцкий (1879–1940), наиболее четко
формулировавший идею культурной революции и нового быта, так
писал об этом в своей статье «Не о политике единой жив человек»:
Дореволюционная история нашей партии была историей
революционной политики. Партийная литература, партийные
организации, все сплошь стояло под лозунгом «политики»... После
завоевания власти и упрочения ее в результате гражданской войны
основные задачи наши передвинулись в область хозяйственно-
культурного строительства, усложнились, раздробились, стали более
детальными и как бы более «прозаическими» [121].
Религиозность масс, разумеется, принадлежала к наиболее
прозаическим аспектам жизни. Поскольку в новом коммунистическом
мире не было места религии, партия была вынуждена взяться за
преодоление религиозности в сфере культуры и повседневной жизни,
или быта.
В принципе, народная религиозность — если она оставалась
в секулярных рамках, установленных после революции, — не должна
была восприниматься как проблема. Какое дело партии до того, есть ли
в домах советских людей иконы, отмечают ли они Пасху и крестят ли
своих детей? В конце концов, ни одна из этих религиозных практик не
нарушала советских законов; напротив, свобода совести была в числе
прав, предоставленных гражданам советской Конституцией. Но для
партии секуляризация была не конечной целью революции, а лишь
предварительным условием построения нового коммунистического
строя. Поскольку религиозные учреждения утратили свою
политическую и экономическую мощь, а люди были освобождены от
влияния духовенства и обращены на путь просвещения, у большевиков
не было сомнений, что массы придут к атеизму — особенно если партия
будет направлять и ускорять этот процесс.
С точки зрения партийной идеологии народная религиозность была
результатом отсталости: образование и просвещение должны были
снять завесу суеверия с очей масс и просветить их светом разума. Они
верили в преображающую силу пропаганды, образования
и просвещения, причисляя их к основным инструментам культурной
трансформации. Первая из этих стратегий, антирелигиозная пропаганда,
осуществлялась под руководством партийных и комсомольских
активистов, которым также помогали члены Союза безбожников
(с 1929 г. — Союза воинствующих безбожников). Воинствующие
атеисты считали себя бойцами, сражающимися на религиозном фронте,
и их первостепенная задача состояла в том, чтобы расшатывать
авторитет религии среди населения, подрывая влияние церкви
и разоблачая духовенство. На практике это означало изъятие
и уничтожение религиозной собственности и зданий, преследование
и «разоблачение» духовенства (как двуличных вражеских агентов или
аморальных мошенников, наживающихся за счет простого народа)
и подрыв веры в сверхъестественное (особенно в его материальные
воплощения, такие как мощи и чудотворные иконы) [122]. Партия
верила в силу слова и развернула издание многочисленных печатных
органов — журналов «Революция и церковь» (1919) и «Под знаменем
марксизма» (1921), газет «Безбожник» (1921) и «Безбожник у станка»
(1922), а также многих других, — чтобы изображать религию как
отсталую, реакционную силу на службе контрреволюции. Но прежде
всего партия опиралась на визуальную пропаганду. В стране, где
большинство населения по-прежнему было малограмотным, газеты
и памфлеты едва ли могли нести идеи атеизма в достаточно широкие
круги, и партийные теоретики быстро поняли, что эффективное
распространение коммунистической идеологии зависит от
выразительных средств наглядной агитации, использующей знакомые
образы [123]. Антирелигиозные плакаты и карикатуры стали главным
орудием в арсенале воинствующего атеизма (см. ил. 1).
Ил. 1 . Н. Когоут. Троица единосущная. Плакат. М.: Гублит,
Мосполиграф, 1926. Коллекция советской антирелигиозной
пропаганды, Библиотеки Сент-Луисского университета, США / Anti-
Religious Propaganda Collection, Saint Louis University Libraries Special
Collections, St. Louis, MO
Если целью административных репрессий и воинствующей
атеистической пропаганды было вытеснить религию из общественной
жизни, то цель образования и просвещения состояла в том, чтобы
изменить личностное мировоззрение и озарить умы светом научного
материализма. В отличие от воинствующей атеистической пропаганды,
чьей мишенью были церковь и духовенство, образование
и просвещение метили в массы советского населения, считая их
жертвами отсталости. Вслед за реформаторами XIX в. большевики
полагали, что образование является важнейшим способом превратить
людей в сознательных активных деятелей, способных изменить
мир [124]. Луначарский, глава Народного комиссариата просвещения,
рассматривал школу как орудие культурной трансформации, которая
обращается «к тем свежим сердечкам, к тем светлым, открытым
маленьким умам, из которых можно сделать так страшно много и из
каждого из которых при правильном педагогическом подходе можно
сделать настоящее чудо» — «сделать подлинного человека» [125].
У учителя, таким образом, была своя священная «миссия» в деле
просвещения человека [126]. Любопытно, что религия была настолько
далека от этого видения образования, что Луначарский — как Маркс,
Энгельс и Ленин — вначале не видел необходимости вводить
в школьную программу специальные антирелигиозные дисциплины;
казалось достаточным убрать из школы религиозное обучение
и распространять просвещение.
В первые десятилетия советской власти идея превращения школы
в храм атеизма не была воплощена в жизнь. Как отмечает историк
Ларри Холмс, люди продолжали рассматривать школу как «канал
полезной информации», а не как орудие культурной
трансформации [127]. Учитывая скудость ресурсов и массовый
абсентеизм, учителя считали приоритетной задачей учить детей чтению,
письму и арифметике, а не заниматься антирелигиозной агитацией, видя
в ней «непозволительную роскошь» [128]. Те учителя, которые
пытались делать упор на антирелигиозную тематику, не получали
поддержки «сверху» и сталкивались с враждебностью «снизу»,
поскольку многие родители возражали против изъятия религии из
школьного образования и иногда угрожали насилием в отношении
учителей [129]. Более того, даже если религия со временем ушла из
школы, атеизм так и не пришел ей на смену. Советская школа стала
безрелигиозным, но не атеистическим пространством.
За пределами школьного класса массы советского народа должны
были перевоспитываться с помощью учреждений культуры; там они
могли услышать и усвоить рассказы о научном прогрессе и о науке как
неутомимом противнике религии, преграждавшей дорогу
освобождению человека [130]. В рамках этого нарратива религия
изображалась как одна из попыток человека преодолеть свое бессилие
перед лицом природы, а атеизм фигурировал как неизбежный результат
растущего понимания человеком тех грандиозных сил, которые правят
вселенной. По мере развития человеческого знания материализм должен
был заменить собой религиозные объяснения мира. История прогресса
завершалась картиной триумфа человека над природой, включавшего
и освобождение человечества от власти засухи и голода, и покорение
других планет, и победу над смертью.
Центрами и атеистической пропаганды, и научного просвещения
чаще всего служили новые учреждения, такие как избы-читальни,
клубы, дома культуры и антирелигиозные музеи. Клубы и дома
культуры рассматривались как центры просветительской работы
(чтения, политических дискуссионных кружков) и развлечений (танцев,
любительских спектаклей, просмотра кинофильмов). Клубы служили
теми каналами, через которые партия могла распространять
политическое и культурное просвещение; они были предназначены
заменить церковь в качестве центра общественной жизни .
Действительно, активисты часто пытались превратить местную церковь
в сельский клуб, тем самым преображая ее в светское пространство.
В более населенных городах партия создавала антирелигиозные
музеи[131]. Как и школы, антирелигиозные музеи находились
в юрисдикции Народного комиссариата просвещения; их обычно
возглавляли активисты местной партийной ячейки или Союза
воинствующих безбожников. Музейная экспозиция состояла из
антирелигиозных плакатов и предметов культа из недавно закрытых
церквей, мечетей или синагог; считалось наиболее эффективным, когда
такие музеи располагались в бывших религиозных учреждениях,
переделанных для целей пропаганды атеизма. Действительно, наиболее
значимые антирелигиозные музеи были созданы в помещениях самых
известных в стране монастырей и церквей: Антирелигиозный музей
искусств — в московском Донском монастыре (1927), Центральный
антирелигиозный музей — в московском Страстном монастыре (1928),
Государственный антирелигиозный музей — в ленинградском
Исаакиевском соборе (1931), Музей истории религии —
в ленинградском Казанском соборе (1932). Эта музеефикация религии
превращала священные предметы и священные места в преподносимые
надлежащим образом культурные артефакты. Чтобы подчеркнуть
приверженность делу научного просвещения, большевики привлекли
значительные ресурсы для создания двух памятников научно-
материалистического мировоззрения в центре Москвы. Одним из них
был Донской крематорий (1927), построенный на территории Донского
монастыря и пропагандировавший приемлемое с точки зрения новой
идеологии видение смерти, не оставлявшее места для веры в бессмертие
души[132]. Другим, и гораздо более популярным, был Московский
планетарий (1929), где наука представала как триумф разума [133].
Московский планетарий, первый в Советском Союзе, был создан
как воплощение обещания Народного комиссариата просвещения
создать «научно-просветительное учреждение нового типа» [134].
Спроектированный архитекторами-конструктивистами Михаилом
Барщем и Михаилом Синявским в соответствии с самыми
прогрессивными принципами архитектуры и градостроительства
и оснащенный новейшим немецким оборудованием, планетарий стал
средоточием надежд советского просветительского проекта [135].
Учитывая материальные трудности в СССР 1920-х гг., сам факт, что
большевики выделили ресурсы на строительство планетария,
свидетельствует об их вере в преобразующую силу научного
просвещения [136]. Географическое расположение планетария рядом
с Московским зоопарком свидетельствует о дидактической миссии,
которую он был призван воплотить: за одну экскурсию с помощью
просветительских лекций посетитель мог проследить пути эволюции
и открыть для себя материальную природу вселенной.
Подчеркивая преобразующую мощь планетария, художник-
конструктивист Алексей Ган описывал его как «оптический научный
театр», чья функция состоит в том, чтобы «прививать зрителю любовь
к науке». В целом Ган считал театр скорее регрессивной, чем
прогрессивной силой. Театр, как писал Ган, был просто «зданием,
в котором происходит служение культу», местом, где люди
удовлетворяют свою первобытную потребность в зрелище — инстинкт,
который будет сохраняться, «пока общество не вырастет до степени
научного миропонимания и его зрелищные инстинкты не наткнутся на
остроту реальных явлений мира и техники». Планетарий, таким
образом, удовлетворит зрелищный инстинкт, но переключит его «от
служения культу... к служению науке». В этом театре нового типа
перед массами раскроется движение вселенной; все будет
«механизировано» и у людей появится возможность управлять
«сложнейшим в мире по технике аппаратом». Этот опыт поможет
зрителю «выковывать в себе научное миропонимание и отделаться от
фетишизма дикаря, поповских предрассудков и псевдо-научного
миросозерцания цивилизованного европейца» [137].
Когда в ноябре 1929 г. Московский планетарий распахнул свои
двери, убежденность, что свет науки победит тьму религии, была
небывало высока [138]. Так, Емельян Ярославский наделял планетарий
огромным идеологическим потенциалом, утверждая, что «поповские
сказки о вселенной распадаются в прах перед доводами науки,
подкрепленными такой картиной мира, которую дает планетарий» [139].
В 1930-е гг. планетарий провел около 18 000 лекций и принял
8 миллионов экскурсантов. При нем был организован астрономический
кружок, «звездный театр», где ставили пьесы о Галилее, Копернике
и Джордано Бруно, и Стратосферный комитет, в числе членов которого
был инженер-механик и «неутомимый пионер космоса» Фридрих
Цандер, а также отец советской космонавтики Сергей Королев [140].
Главный вопрос, занимавший пропагандистов атеизма, состоял не в том,
победит ли научный материализм в битве с религией, а в том, когда
и благодаря чему такая победа будет достигнута.
Большевики — строители нового мира
Быт был последним рубежом в борьбе партии против религии. Если
религиозные учреждения считались неисправимыми и потому
становились объектом антирелигиозных репрессий и воинствующего
атеизма, то ситуация с народной религиозностью оказалась сложнее.
Как писал Троцкий, «благодаря своему реализму, своей диалектической
гибкости, коммунистическая теория вырабатывает политические
методы, обеспечивающие ей влияние при всяких условиях. Но одно
дело — политическая идея, а другое — быт. Политика гибка, а быт
неподвижен и упрям. Оттого так много бытовых столкновений
в рабочей среде, по линии, где сознательность упирается
в традицию» [141]. Теоретически большевики верили, что культурная
революция и просвещение помогут человечеству вернуть себе свободу
воли и преодолеть отчуждение. На практике они постоянно
сталкивались с «упрямой» религиозностью масс [142].
Проблема быта долгое время была камнем преткновения как для
политизированной, так и для творческой интеллигенции. Русская
творческая интеллигенция с начала ХХ в., используя фразу поэта
Андрея Белого, вела свою «борьбу с бытом», видя в буржуазном быте
воплощение ханжества и морального разложения [143]. Быт, по словам
теоретика Романа Якобсона, был «тиной», «будничной ряской»,
«замиранием жизни в тесные окостенелые шаблоны», а революция —
эстетическим проектом, который сможет смыть эту «ряску»
и освободить творческие силы человека[144]. В свою очередь, для
большевиков революция в ее культурном измерении была не столько
эстетическим проектом, сколько цивилизующей миссией. Большевики
вели войну против всего, что они считали пережитками старого быта, —
против недобросовестного отношения к труду, сквернословия, плевков,
пьянства и сексуальной распущенности, — прививая массам
«культурность»: грамотность, гигиену, трезвость и навыки правильного
поведения в обществе [145]. Вопросы брака и сексуальности, морали
и нравственности — и, конечно, религии — обсуждались на партийных
собраниях, в прессе и кружках партийного просвещения, поскольку
партия пыталась наметить очертания нового коммунистического быта
и правильного, большевистского поведения в повседневной жизни,
особенно в семье и домашнем обиходе [146].
Троцкий был одним из немногих среди большевистской элиты, кто
реально признавал власть быта [147]. В своих статьях по этой
проблематике он подчеркивал, что битвы против быта,
антирелигиозных кампаний и просветительских усилий недостаточно.
Он доказывал, что, поскольку религиозность масс была не сознательно
избранной верой, но скорее набором обычаев и привычек,
воспринимавшихся как должное, атеистическая пропаганда,
обращенная к разуму, едва ли будет иметь результат. «Религиозности
в русском рабочем классе почти нет совершенно, — писал Троцкий. —
Православная церковь была бытовым обрядом и казенной организацией.
Проникнуть же глубоко в сознание и связать свои догматы и каноны
с внутренними переживаниями народных масс ей не удалось».
Народная религиозность оставалась рефлексивной привычкой
«уличного зеваки, который не прочь при случае принять участие
в процессии или торжественном богослужении, послушать пение,
помахать руками» (см. ил. 2). Массы обращались к церкви из-за ее
«общественно-эстетических приманок, — доказывал Троцкий. —
Иконы висят в доме, потому что они уже есть. Они украшают стены, без
них слишком голо — непривычно». Запах ладана, яркий свет, красивое
церковное пение дают возможность выйти «из жизненного
однообразия». Если большевики надеются «освободить широкие массы
от обрядности», они должны вытеснить ее «новыми формами быта,
новыми развлечениями, новой, более культурной
театральностью» [148].
Ил. 2 . Н. Когоут. Как вколачивают в человека религию. М.: Гублит,
Мосполиграф, 1926. Коллекция советской антирелигиозной
пропаганды, Библиотеки Сент-Луисского университета, США / Anti-
Religious Propaganda Collection, Saint Louis University Libraries Special
Collections, St. Louis, MO
Размышляя над проблемой быта, Троцкий отмечал огромное значение
ритуалов жизненного цикла (рождения, брака, смерти) для укоренения
религии в жизни человека. Хотя Троцкий провозглашал, что «рабочее
государство отвернулось от церковной обрядности, заявив гражданам,
что они имеют право рождаться, сочетаться и умирать без магических
движений и заклинаний со стороны людей, облаченных в рясы, сутаны
и другие формы религиозной прозодежды», он также предупреждал, что
если большевики надеются построить новый мир без религии, они не
должны игнорировать ритуалы [149]. «Как ознаменовать брак или
рождение ребенка в семье? — задавался он вопросом. — Как отдать
дань внимания умершему близкому человеку? На этой потребности
отметить, ознаменовать, украсить главные вехи жизненного пути
и держится церковная обрядность» [150]. Троцкий подчеркивал, что
эмоциональный компонент ритуала является важной частью
человеческого опыта, отмечая: «быту гораздо труднее оторваться от
обрядности, чем государству». Те, кто верит, что можно быстро
внедрить новый образ жизни без ритуалов, «хватают через край»
и «рискуют расшибить себе при этом лоб» [151].
Таким образом, теоретически большевики пытались превратить
отсталые массы в новый советский народ [152]. Но на практике в 1920-е
и 1930-е гг. формы нового коммунистического быта оставались
неясными и были скорее предметом дебатов творческой интеллигенции
и партийных теоретиков, чем живым опытом масс.
Для большевиков также стоял вопрос о том, как коммунистическая
идеология сможет воздействовать на мораль и быт самих партийных
кадров. С переходом к нэпу борьба за идеологическую чистоту
переместилась в сферу быта, норм поведения и морали коммуниста.
Историк Майкл Дэвид-Фокс заметил, что «озабоченность
„революционным бытом“ вышла на первый план как способ превратить
нэповское „отступление“ в наступление на культурном фронте»,
поскольку быт все в большей степени рассматривался как показатель
«отношения к революции» и как «признак политической
принадлежности, обозначающий границы революционного
и реакционного» [153]. Большевики разделяли ленинскую концепцию
нравственности, отвергая универсальность религиозной морали,
которая, с их точки зрения, служит интересам эксплуататорских
классов [154]. Все, что способствовало делу революции, было
нравственным, так как, по определению Ленина, в основе
коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление
и завершение коммунизма. В течение 1920-х
—
начала 1930-х гг.
мораль и быт превратились в инструменты дисциплинарного
воздействия на рядовых членов партии, которые регулярно попадали
под взыскания из-за различных отступлений от норм коммунистической
морали.
***
Одна из проблем, связанных с ленинским определением партии как
авангарда революции, состояла в том, что теоретически каждый член
партии был обязан являть собой образец политической сознательности
и живое воплощение нового быта. Поэтому ни в одной другой сфере
противоречия между коммунистической идеологией и советской
реальностью не выступали столь явственно, как в истории попыток
партии дисциплинировать собственные кадры. После революции
численность партии заметно возросла, и особенно много новых членов
вступило в ее ряды после смерти Ленина в 1924 г. в ходе «ленинского
призыва». По мере роста партии большевистская «старая гвардия»
оказалась перед необходимостью определять и зачастую отстаивать
идейную чистоту партии. Требовалось найти равновесие между
приверженностью идейной чистоте и массовостью партии, в то время
как для рядовых партийцев требование занимать активную
атеистическую позицию нередко становилось невыполнимым условием.
В первые пореволюционные годы в Центральный комитет РКП(б)
регулярно поступали письма из местных партийных ячеек с просьбами
дать им руководящие указания по вопросу об отношении
к религиозности членов партии: нужно ли, например, исключать из
партии коммуниста, который крестил своих детей или обвенчался
в церкви? Для «старой гвардии» ответ был прост с идеологической, но
сложен с политической точки зрения. Ведущие партийные теоретики —
Ем. Ярославский, Луначарский, Троцкий, Иван Скворцов-Степанов
(1870–1928) и Николай Бухарин (1888–1938) — доказывали, что
религия отождествляется с бессилием, слабостью и пассивностью, тогда
как атеизм означает действие, силу и творчество [155]. Быть атеистом
означало избавиться от удобных иллюзий и взять на себя
ответственность за свою судьбу. Быть атеистом также означало
избавиться от индивидуалистического страха смерти и озабоченности
спасением души и принять идею коллективного бессмертия, которого
можно достичь, лишь отдав всего себя делу революции и строительства
нового мира. Член партии, придерживающийся религиозных убеждений
—
в отношении веры в сверхъестественные силы или соблюдения
обычаев и традиций, — был, по словам партийного теоретика Арона
Сольца, занимавшегося разработкой вопросов коммунистической
морали, «дезертиром с бытового фронта» [156]. Чтобы построить новый
мир, большевики должны быть атеистами.
Вторая программа партии, принятая на VIII съезде РКП(б),
проходившем с 18 по 23 марта 1919 г., ясно постулировала, что
в отношении религии партия не удовлетворяется «буржуазно-
демократическим» отделением религии от государства и школы,
декретированным в 1918 г. Напротив, партия требовала, чтобы ее члены
стремились «к полному разрушению связи между эксплуататорскими
классами и организацией религиозной пропаганды, содействуя
фактическому освобождению трудящихся масс от религиозных
предрассудков и организуя самую широкую научно-просветительную
и антирелигиозную пропаганду» [157]. Как утверждали Бухарин
и Евгений Преображенский (1886–1937) в «Азбуке коммунизма» (1919),
брошюре, популярно излагавшей новую программу партии для ее
рядовых членов, религия несовместима со званием коммуниста, но
персонального неверия, хотя оно и необходимо, еще недостаточно.
Истинный коммунист должен активно работать над искоренением
религии и распространением атеизма [158]. Тем не менее ни программа
партии, ни «Азбука коммунизма» не объясняли точно, что именно
должен делать каждый член партии, чтобы освободить массы от
религии, и не оговаривали со всей определенностью последствия
нарушения партийных директив, оставляя без ответа вопросы о том, как
именно большевистская программа будет внедряться в жизнь рядовых
партийных кадров.
Задачу вооружить партию руководящими указаниями по данному
вопросу взял на себя Ем. Ярославский. В большой статье,
опубликованной в двух выпусках газеты «Правда» под названием «Дань
предрассудкам» (1919), он сформулировал позицию партии
в отношении религиозности партийных кадров [159]. В первой части
статьи Ярославский ясно дал понять, что для большевиков религия
является не «частным делом», а политической позицией, напрямую
нарушающей Устав партии. «Для того, чтобы вести среди других
религиозную пропаганду, — писал Ярославский, — члены партии
должны сами быть свободны от религиозных предрассудков». В конце
концов, большевик не может быть убежденным агитатором-атеистом,
если он продолжает «отдавать дань» религии [160]. Но логические
рассуждения Ярославского вызвали жаркие дебаты в среде рядовых
членов партии, и в Центральный комитет приходили многочисленные
письма как от партийцев, так и от рядовых советских людей
с просьбами прояснить позицию партии по отношению к религии.
Ярославский изложил суть этой дискуссии во второй своей статье,
которую он построил вокруг трех писем: одно из них было от
двенадцатилетнего мальчика по фамилии Вендровский, два других —
от людей, подписавшихся псевдонимами «Русский» и «Едущий
в Москву спекулянт». Главные возражения против требования, чтобы
все члены партии были активными атеистами, Ярославский разделил на
три категории: что пункт 13 партийной программы противоречит
советской Конституции, гарантирующей всем гражданам право вести
религиозную и антирелигиозную пропаганду, что партия должна
учитывать религиозные предрассудки, если она не желает «поставить
жизнь многих коммунистов в деревне и городе в очень тяжелые
семейные условия», и что «надо различать, отдает ли товарищ дань
чужим предрассудкам, или он сам с предрассудками» [161].
Относительно первого пункта, касающегося противоречий между
светской Конституцией государства и атеистическими обязательствами
членов партии, Ярославский отвечал, что партия представляет собой
добровольную организацию, и это означает, что «для „всех граждан“
программа нашей партии необязательна, а для коммунистов
обязательна». Для Ярославского обращение к Конституции по этому
вопросу было «совершенно детской вещью», как будто «каждый
коммунист — сначала гражданин Советской республики, а затем уже —
член партии», как будто «партия — лишь часть государства», а не
«передовой отряд» революции. У этого отряда есть «строго
установленные правила поведения, обязательные для всех его членов».
Тем, кто «еще не понимают этого и хотели бы, чтобы партия
коммунистов открыла широко двери всем, кто желает вступить в нее,
независимо от убеждений», следует напомнить, что партия, как
добровольная организация, имеет право «требовать разрыва членов
этого отряда со всем, что мешает им целостно воспринять программу
коммунизма» [162]. Ярославский также напоминал партийным кадрам,
что большевикам, действовавшим до революции в условиях подполья,
приходилось «окончательно порывать с семьей, настроенной враждебно
к нашей революционной деятельности» и что эта ситуация для многих
осталась актуальной и после революции. Ярославский допускал, что это
создает для некоторых членов партии трудную семейную ситуацию, но
он был беспощаден к тем, кто соблюдал религиозные обычаи
и традиции лишь для того, чтобы избежать семейных раздоров. «Им нет
веры, их называют лицемерами, — настаивал Ярославский. — Не им
проводить в жизнь коммунистическую программу» [163]. Коммунисты
должны быть образцом нравственности, поскольку масса, особенно
крестьянская, «очень чутка к тому, чтобы слово коммуниста не
расходилось с делом»[164]. В 1921 г. ЦК РКП(б) издал постановление
«О постановке антирелигиозной пропаганды и нарушении пункта 13
программы», где партийным кадрам вновь напомнили, чего от них
ждут [165].
Усилия по установлению партийной дисциплины в отношении
религии пришлось умножить, когда после смерти Ленина (21 января
1924 г.) в ряды партии влились новые члены, не имевшие опыта
подпольной революционной борьбы и обладавшие лишь
поверхностными знаниями марксистско-ленинской теории. Когда
Ярославский поднял вопрос партийной дисциплины вскоре после
смерти Ленина, он обращался к новым партийцам ленинского призыва,
в большинстве своем рабочим и крестьянам, многие из которых не
видели противоречия между коммунизмом и религией и не понимали,
почему они должны изменить привычный образ жизни [166]. В статье,
озаглавленной «Можно ли прожить без веры в бога?», Ярославский
отмечал, что на каждом партийном собрании религиозный вопрос для
рабочих оказывается камнем преткновения. «Почти не было случаев,
когда рабочие заявляли бы несогласие с каким-нибудь другим
положением нашей коммунистической программы: они принимают ее
целиком, — писал Ярославский. — Но вот вопрос о религии, о богах, об
иконах, об исполнении тех или других обрядов... нередко для рабочих,
особенно женщин-работниц, как будто труднее всего разрешить».
Чтобы помочь партийным неофитам найти выход из этого
противоречия, Ярославский напоминал им о ленинской позиции по
вопросу религии:
Здесь не может быть никакого сомнения в том, что Ленин стоял за
пропаганду, т. е. за проповедь безбожия, что Ленин считал религиозные
верования бессознательностью, темнотой или мракобесием, орудием
классового господства буржуазии. А можем ли мы относиться
безразлично к бессознательности, к темноте, к мракобесничеству?
На это должен ответить каждый ленинец, каждый рабочий. И если он
продумает мысли свои до конца, то, конечно, он не сможет принять тот
половинчатый путь, то половинчатое, трусливое решение, которое
говорит ему: ты можешь и коммунистом оставаться, ты можешь
оставаться и ленинцем, а мысли Ленина о религии отбросить
и отношение Ленина к религиозному вопросу считать ошибочным,
неприемлемым. Нет, наша программа в религиозном вопросе полностью
увязана со всей программой нашей партии [167].
Коммунистическая программа, продолжал Ярославский, «основана на
научном мировоззрении», и потому «в ней нет места ни богам, ни
ангелам, ни чертям, никаким другим измышлениям человеческой
фантазии». Поэтому религия несовместима с партийным званием.
«Стать настоящим ленинцем — это значит полностью принять всю
программу, все понимание явлений общества и природы, которое дается
в нашей программе, которое не нуждается ни в богах, ни в чертях, ни
в попах, под каким бы соусом они ни преподносились» [168].
Коммунисты не нуждаются в религиозном утешении, в мечтах
о бессмертии, провозглашал Ярославский, потому что они твердо
намерены «и на земле... создать жизнь такую, которая полна была бы
радостей».
Умер Маркс. Умер Ленин. А мы говорим: Маркс жив в умах миллионов
людей, в их мыслях, в их борьбе; жив Ленин в каждом ленинце,
в миллионах ленинцев, во всей пролетарской борьбе, в ленинской
партии, осуществляющей заветы Ленина, руководящей рабочим
классом в его борьбе за строительство нового мира. Вот это —
бессмертие; и только о таком бессмертии думаем мы, коммунисты; не
в воздухе, не в небесах, не на облаках, которые мы можем предоставить
охотно и бесплатно попам и птицам, а на земле, на которой мы живем,
радуемся, страдаем и боремся за коммунизм.
Без веры в бога не только можно жить: вера в бога мешает жить
радостно, бороться уверенно, действовать смело.
Нельзя быть ленинцем и верить в бога [169].
Для «старой гвардии» большевиков те члены партии, которые верили
в Бога или просто «отдавали дань» религиозным предрассудкам, не
были истинными коммунистами, поскольку они были лояльны к тому
и другому или — что еще хуже — испытывали колебания.
В то же время Ярославский признавал, что в доме и семье религия
по-прежнему обладает огромным влиянием [170]. В «домашнем быту,
—
писал Ярославский, — ни одно событие, начиная с рождения
человека, не проходит без участия духовенства. Во все сколько-нибудь
важные случаи жизни человека вмешивается священник». Для масс «без
участия этого священника, без его молитв, без опрыскивания „святой
водой“... без всего этого колдовства жизнь человеческая, можно
сказать, лишена смысла». Для крестьянской массы в особенности «все,
что говорит священник, есть святая истина» [171]. Большевики были
убеждены, что для построения нового коммунистического мира они
должны преобразовать семью как социальный институт; но в то же
время они осознавали, что задача перевоспитания в семье требует
особенного подхода.
Члены партии из провинции обращались в центр с просьбами дать
указания, как вести себя в ситуации домашних конфликтов;
Ярославский охотно делился такими указаниями на страницах
«Правды». Крестьянин по фамилии Суравегин рассказывал, как в ходе
такого спора его жена выколола глаза висевшим у них дома портретам
партийных вождей, после чего он швырнул на пол принадлежавшую
жене икону Богоматери и разбил ее на куски. В другой семье муж-
коммунист вместе с детьми в отсутствие верующей жены сожгли ее
иконы; жена, в свою очередь, сожгла их «уголок безбожника» [172].
«Что надо делать ленинцу, если семья его еще религиозна, не позволяет
снимать икон, водит детей в церковь и так далее? — спрашивал
сельский коммунист по фамилии Глухов. — Должен ли он принудить,
заставить семью подчиниться его взглядам и доводить дело до
развода?.. Могут ли в квартире ленинца висеть иконы против его воли
и желания?..» [173] Позиция самого Глухова была категоричной: если
семья не подчиняется его взглядам, нужно «порвать с семьею»,
поскольку «недопустимо, чтобы в квартире ленинца висели иконы,
чтобы детей ленинца крестил поп и чтобы дети ленинца ходили
в церковь» [174].
Ярославский подходил к этим вопросам более прагматично. Он
отмечал, что если большевик желает избегать семейных раздоров по
идеологическим вопросам, то «коммунисты должны жениться только на
коммунистках»; но, поскольку в партии мужчин в восемь раз больше,
чем большевичек-женщин, это значит, что «из каждых восьми
коммунистов может жениться только один на коммунистке,
остальные же осуждены на безбрачие» [175]. Взамен Ярославский
предлагал более мягкий и постепенный подход к семейным
разногласиям по вопросам религии. Вместо того чтобы разрывать
с семьей, ленинец должен пытаться ее просветить. «Если жена повесила
иконы, — советовал Ярославский, — надо ей сказать: ты оскорбляешь
меня как коммуниста, я тоже могу повесить рядом с твоей иконой
антирелигиозный плакат, что будет тебе неприятно» [176]. В более
общем плане задачей ленинца, как ее видел Ярославский, должна быть
работа над моральным воспитанием и политической сознательностью
членов семьи, чтобы коммунист был уверен: его дети придут в ряды
партии через пионерскую организацию и комсомол.
Когда советский строй стал более устойчивым, а власть партии —
более прочной, личное поведение членов партии снова привлекло
острый интерес блюстителей партийной ортодоксии [177].
Рассматривая вопрос о том, какого поведения требует партия от
коммунистов и может ли она вмешиваться в их частную жизнь,
Ярославский определенно указывал, что личные «убеждения» членов
партии не могут считаться их «частным делом» [178]. Советское
государство, подчеркивал Ярославский, «не требует ни от кого, чтобы
он принадлежал к Союзу безбожников или чтобы он порвал
с религией». Напротив, правительство «предоставляет полную свободу
каждому гражданину» веровать или не веровать, принадлежать
к религиозной общине или к Союзу безбожников. «Но другое дело —
партия, — писал Ярославский. — Партия требует от всех своих членов
не только разрыва с религией, но и активного участия
в антирелигиозной пропаганде». Поэтому для партии «не „все равно“,
как коммунист строит свою семью». Ярославский отмечал, что даже
если эти вопросы специально не оговариваются в партийных
документах, «само собой разумеется, что коммунист и в личном быту
и в своей семейной жизни должен быть образцом для всей
беспартийной массы, которую он зовет на путь новой жизни, на путь
переустройства всех отношений между людьми» [179]. Тем не менее
вопрос о том, как распространить коммунистическую мораль и быт за
пределы партийных рядов, в жизнь масс, долгое время оставался без
ответа.
Пренебрежение частной жизнью со стороны большевиков на заре
советского периода было признаком той аскетической революционной
среды, где выковывалась партия; той среды, представители которой
отвергали личные узы, чтобы всецело посвятить все свои
интеллектуальные, физические и эмоциональные силы делу революции.
Для большевиков смысл жизни невозможно было найти в частной
жизни, поскольку самые важные вопросы будут решаться именно
в общественной сфере. Придя к власти, большевики тем не менее
оказались поставлены перед вопросом о том, можно ли и должно ли
транслировать их революционный аскетизм в сферу культуры,
предназначенную для масс. Тот факт, что в начале советского периода
быт неизменно оказывался второстепенным в сравнении с другими
проблемами — политическими, экономическими, социальными и даже
культурными, — дает возможность судить о том, как большевики
понимали процесс трансформации старого мира, который они
намеревались уничтожить, в новый мир, во имя которого они
совершили революцию.
Большевики сознавали, что, превратившись в массовую партию, они
не смогут требовать, чтобы все члены партии разрывали семейные узы,
даже если сохранение семейных связей противоречит партийной этике.
В то же время они не хотели уступать домашнюю сферу силам
отсталости. Личная нравственность, быт и семья оставались
центральными проблемами, по отношению к которым партия могла
занимать то активную, то пассивную позицию, поскольку характер этих
проблем изменялся со временем и зависел от множества внешних
факторов. Но в конечном итоге ради успеха советского проекта партии
было необходимо завоевать дом и семью, поскольку именно они играли
центральную роль в воспроизводстве — не только в демографическом,
но также в культурном, идеологическом и политическом смысле.
Большевики-сталинцы
Секулярная структура, введенная сразу же после революции,
существенно подорвала юридическую, экономическую и политическую
мощь православной церкви. Тем не менее на протяжении 1920-х гг .
церковь оставалась «мощнейшей общественной корпорацией» [180].
Хотя большевики могли рассматривать Декларацию митрополита
Сергия о лояльности советской власти как свою политическую победу,
они не питали иллюзий, что народ отказался от веры или от традиций.
До начала коллективизации советская власть в первую очередь
стремилась подчинить себе церковь как учреждение, а религиозная
жизнь на местах могла в большей или меньшей степени идти своим
чередом [181]. В какой-то мере это была осознанно выбранная
политическая стратегия, поскольку репрессии зачастую приводили не
к подавлению религиозных общин, а к мобилизации религиозной
активности [182]. Историк Гленнис Янг показывает, что в начале
советского периода сфера религии все в большей мере
политизировалась. Так, Янг прослеживает трансформацию слова
«церковник» в советской прессе, замечая, что если в середине 1920-х
журналисты «обычно использовали слово „церковник“ как синоним
„духовного лица“», то постепенно этот термин «перестал быть
исключительно религиозной категорией» [183]. Когда религиозные
активисты начали влиять на политику в деревне, вступая в местные
советы, риторический термин «церковник» стал обозначать «в равной
степени политического и религиозного деятеля», чья «идентичность
ассоциировалась с озлобленностью в отношении целей и ожиданий
советской власти» [184]. К началу 1930-х гг. термин «церковник» стал
«синонимом фракционного политика на селе» [185]. Действительно, как
показывает Грегори Фриз, зачастую большевики считали религиозных
активистов большей угрозой советской власти, чем церковь
и духовенство, поскольку таких активистов поддерживали
националисты, кулаки и другие антисоветские группы [186].
Когда большевики мобилизовались на выполнение первого
пятилетнего плана (1928–1932), такие партийные лидеры, как Бухарин,
называли религиозный вопрос «фронтом классовой войны», а саму
религию — «врагом социалистического строительства», который
«борется с нами на культурном фронте» [187]. Эти перемены
антирелигиозной риторики — осуждение религии в целом, а не
конкретных религиозных учреждений — были признаком того, что
социалистическое строительство вступило в новую фазу.
В годы первой пятилетки партия стремилась мобилизовать все
ресурсы на нужды индустриализации, коллективизации и культурной
революции. Антирелигиозная кампания была важной частью более
широкой кампании — культурной революции, поскольку культурная
революция была разновидностью классовой борьбы, а религия была
идеологией классового врага. Партия использовала все средства,
которые были в ее распоряжении, — атеистическую пропаганду,
правовые и административные запреты, внеправовые репрессии, —
чтобы религия не смогла оказаться препятствием на пути построения
«социализма в одной, отдельно взятой стране».
Прежде чем сделать смену курса достоянием общественности,
партия провела подготовительную закулисную работу. 24 января 1929 г.
был выпущен секретный циркуляр, озаглавленный «О мерах по
усилению антирелигиозной работы», где было заявлено, что
«религиозные организации... являются единственной легально
действующей контрреволюционной организацией» на территории
СССР, что заставляет «решительно бороться» с ними. Резолюция
призывала Союз безбожников (который в том же году добавил к своему
названию слово «воинствующих») усилить атеистическую пропаганду
и стать более влиятельной силой в деревне [188]. Вскоре после этого,
8 апреля 1929 г., Совет народных комиссаров (Совнарком) и ВЦИК
издали постановление «О религиозных объединениях», которое дало
официальный старт реализации партийного плана по вытеснению
религии из сферы политики и общественной жизни, радикально сузив
«зону легальной церковной жизни» [189]. Целью принятия
постановления 1929 г. было поставить все аспекты религиозной жизни
под контроль государства путем отмены многочисленных положений,
законодательно установленных в 1918 г.: запрещалось религиозное
образование детей и благотворительная работа, монастыри подлежали
закрытию, а религиозные объединения были обязаны регистрироваться
в местных органах власти. Чтобы быть уверенными, что у Союза
воинствующих безбожников не будет оппонентов, большевики изъяли
право на «религиозную пропаганду» из четвертой статьи Конституции
РСФСР, которая до этого гарантировала советским гражданам «свободу
религиозной и антирелигиозной пропаганды» [190]. Но и этого
оказалось недостаточно, чтобы вытеснить религию на обочину
общественной жизни; общественная жизнь теперь должна была стать
зримо советской[191]. В конечном итоге единственным правом в сфере
религии, которое оставалось у советских граждан, было право молиться
в пределах специально отведенных для этого зданий и помещений.
***
Поскольку религия играла центральную роль в жизни русской
деревни, а коллективизация была в числе приоритетных задач
сталинской программы модернизации, в первый пятилетний план было
включено требование решения религиозного вопроса. В июне 1929 г. на
Втором съезде Союза воинствующих безбожников ленинградский
пропагандист атеизма Иосиф Элиашевич провозгласил «безбожную
пятилетку», и перед местными ячейками Союза была поставлена задача
«принять меры к массовому выходу трудящихся из религиозных
общин» [192]. Как объявил Ярославский на съезде Союза
воинствующих безбожников в 1930 г., «процесс сплошной
коллективизации связан с ликвидацией... значительной части
церквей» [193]. На практике процесс коллективизации часто начинался
с принудительного закрытия местной церкви, что вызывало народные
протесты. Такой сценарий повторялся настолько часто, что 14 марта
1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) выпустило постановление, направленное
против «искривления партийной линии», в том числе в области «борьбы
с религиозными предрассудками». Это постановление, разумеется, не
имело ничего общего с борьбой за законность и было вызвано лишь тем
фактом, что, начиная кампанию коллективизации с закрытия сельских
церквей, тем самым ставили под угрозу эффективное осуществление
всей кампании. Указ сигнализировал не об изменении политики,
а о необходимости следовать иной стратегии. Церкви по-прежнему
продолжали закрывать, церковные здания использовали не по
назначению или разрушали, а религиозные объединения
распускались [194].
Второй пятилетний план (1933–1937) поставил задачу
«окончательной ликвидации капиталистических элементов и классов
вообще» и построения бесклассового общества, что делало положение
религии еще более шатким. С одной стороны, согласно
социалистической идеологии, у религии в Советском Союзе не было
будущего; вопрос состоял лишь в том, какие политические усилия
придется приложить партии, чтобы ускорить кончину религии.
С другой стороны, протесты зарубежных стран против антирелигиозных
репрессий советской власти расшатывали позиции СССР, надеявшегося
на признание на мировой арене. Но к середине 1930-х гг. — поскольку
именно в 1934 г. убийство Сергея Кирова, чья популярность превращала
его в потенциального соперника Сталина, привело к эскалации
классовой войны и политического террора — в среде большевиков
наблюдался крепнущий консенсус в отношении того, что религиозные
учреждения в целом и православная церковь в частности по-прежнему
представляют политическую угрозу и что поэтому их необходимо
окончательно и бесповоротно нейтрализовать [195].
В 1937 г., на пике Большого террора, большевистская политическая
элита обсуждала идею полного освобождения Советского Союза от
религии. Партия обвинила православную церковь в сотрудничестве
с религиозным подпольем в стране и агентами контрреволюции за
рубежом[196]; Постановление 1929 г. теперь расценивалось как
чересчур либеральное, поскольку оно позволяло дальнейшее
существование и даже распространение религии [197]. Только за 1937 г.
большевики закрыли более восьми тысяч церквей (и еще шесть тысяч
—
в 1938 г.) и арестовали тридцать пять тысяч «служителей
религиозных культов» [198]. Большевики также отправили в лагеря или
расстреляли большинство иерархов православной церкви. Историк
Михаил Шкаровский пишет, что к 1938 г. православная церковь была
«в основном разгромлена» [199]. Местные органы, в чьи обязанности
входило взаимодействие с религиозными объединениями, были
ликвидированы за ненадобностью, и «это означало уничтожение самой
возможности контакта Церкви и государства» [200]. К концу 1930-х гг.
единственным государственным учреждением, которое по-прежнему
занималось делами религий, был Народный комиссариат внутренних
дел (НКВД).
Но за статистическими данными о закрытии церквей скрывался
факт, который, безусловно, был очевиден самим большевикам: что
религия по-прежнему была способна поднять народ на сопротивление.
Они едва ли питали иллюзии, что религия изгнана из жизни советского
общества. Изучавшие жизнь деревни этнографы, такие как
Н. М . Маторин (1898–1936) и В. Г . Богораз-Тан (1865–1936),
предпринимали исследования «живой религии» и «народного
православия», позволяющие судить о сохранении религиозности
в сельской местности на протяжении 1920–1930-х гг . [201]Итоги
Всесоюзной переписи населения 1937 г. также явно свидетельствовали
о том, что религия была реальностью социальной жизни [202].
Программа переписи, подготовленная при участии советских
этнографов и под личным контролем Сталина, включала пункт
«Религия», который был добавлен в финальный проект по инициативе
Сталина [203]. В инструкции к переписи уточнялось, что целью этого
вопроса было скорее определить убеждения опрашиваемого, чем
конфессиональную принадлежность; результаты переписи показали, что
из 98 412 тысяч опрошенных в возрасте 16 лет и старше более половины
(56,17%) заявили о себе как о верующих, а в сельской местности их
удельный вес составил две трети населения. Официальным ответом на
это стали обвинения в плохом ведении антирелигиозной работы
и аннулирование результатов переписи. Но большевики не могли
игнорировать тот факт, что более половины населения страны по-
прежнему ощущают приверженность религии и что продолжение
антирелигиозной политики приведет к тому, что эти люди перестанут
быть опорой советского проекта [204]. При проведении новой переписи
населения в 1939 г. проблему попытались обойти, убрав из программы
переписи вопрос о религии; но на самом деле эта перепись еще ярче
выявила издержки антирелигиозной политики, когда некоторые
респонденты на вопрос «Гражданин какого государства?» ответили:
«Христианин» или «Православный» [205].
В какой-то мере народное сопротивление участию в советском
проекте росло, поскольку партия, провозглашая свои планы по
переустройству мира, объявляла коммунистический строй полной
противоположностью традиционным порядкам, что у многих людей
вызывало неприятие. Слухи о коллективизации, которые цитирует Линн
Виола в своей работе о крестьянских восстаниях при Сталине, ярко
иллюстрируют крестьянские представления о колхозах и о советской
власти как о воплощении зла:
В колхозах будут класть специальные печати, закроют все церкви, не
разрешат молиться, умерших людей будут сжигать, воспретят крестить
детей, инвалидов и стариков будут убивать, мужей и жен не будет,
будут спать под одним стометровым одеялом... Детей от родителей
будут отбирать, будет полное кровосмешение: брат будет жить
с сестрой, сын — с матерью, отец — с дочерью, и т. д. Колхоз — это
скотину в один сарай, людей в один барак... [206]
Другой показательный пример народного отношения к советскому
проекту — слух о том, что советские паспорта, введенные в городах,
отмечены печатью Антихриста. В народных представлениях советский
строй был перевернутым миром, и жизнь в нем регулировалась
перевернутыми моральными нормами.
В канун Второй мировой войны советская власть оказалась
в сложной ситуации. Она практически уничтожила церковь как
социальный институт — из более чем пятидесяти тысяч православных
церквей, существовавших в 1917 г. на территории России, в 1939 г.
осталось меньше тысячи [207]. Но советская власть не сумела ни
разорвать узы, связывающие людей с православием, ни создать
конкурирующий атеистический нарратив, который сумел бы выйти за
пределы общественной жизни и проникнуть в домашний обиход. Даже
когда политическая элита вела разговоры о перспективах страны,
свободной от религии, она сигнализировала и о другом курсе. В 1936 г.
статья 124 новой сталинской Конституции признала право советских
граждан «отправлять религиозные культы», что, учитывая
опустошительные итоги недавней антирелигиозной кампании, было
воспринято некоторыми представителями духовенства и верующими
как признак наступления лучших времен [208]. Сталин также дал сигнал
о смене курса советской политической элите. В 1937 г. историк Сергей
Бахрушин (1882–1950) опубликовал в журнале «Историк-марксист»
статью, озаглавленную «К вопросу о крещении Киевской Руси», где
доказывал, что принятие христианства великим князем Владимиром
было скорее не средством порабощения трудящихся масс, а зрело
обдуманным политическим шагом, позволившим усилить и укрепить
государство [209]. В своей статье Бахрушин подверг критике
существовавшие на тот момент нарративы о крещении Руси в 988 г.; до
сих пор, как он доказывал, на первый план неправомерно выдвигались
психологические аспекты обращения Владимира или же заслуги в деле
крещения приписывались усилиям зарубежных миссионеров. Со своей
стороны Бахрушин представлял принятие христианства как осознанное
политическое решение, принятое правящей верхушкой Руси, которое
должно рассматриваться как часть истории формирования Российского
государства. Хотя статья Бахрушина была написана в узких рамках
академической истории, она была признаком идеологического
отступления, поскольку религия в ней представала как прогрессивный
исторический фактор, способствовавший укреплению государства.
Бахрушинская статья вышла в свет сразу после завершения работы
правительственной комиссии, в задачу которой входило выработать
каноны написания учебников по истории для высшей школы; комиссия
приняла решение вернуть религию в исторический нарратив,
сформулировав тезис, что «введение христианства было прогрессом по
сравнению с языческим варварством» [210]. Этот пересмотр
исторической роли христианства свидетельствовал о более глубоких
переменах в идеологической практике советской власти [211].
В течение 1930-х гг. в определении целей религиозной политики
сталинизма задачи управления стали соперничать с идеологическими
задачами. Чтобы консолидировать общество и воспитывать советский
патриотизм в условиях назревающей войны с империализмом, которую
Сталин считал неизбежной, партия отступила от идеологического
иконоборчества периода культурной революции и вернулась
к традиционным ценностям и популистским стереотипам [212].
В какой-то мере этот поворот стал возможен потому, что
институциональная мощь православной церкви была сломлена
и религия больше не представляла серьезной политической угрозы. Но,
кроме того, поворот стал необходимым, поскольку антирелигиозная
кампания явным образом не достигала своей цели: утверждения
атеистического мировоззрения. Комиссия по делам культов, которая
была сформирована в апреле 1929 г. для проведения в жизнь нового
законодательства о религии, занималась не только вопросами
налогообложения и закрытия церквей, конфискацией религиозной
собственности и репрессиями в отношении духовенства, но также
пыталась устранить проблемы, возникшие в результате проведения этой
политики [213].
В то же время антирелигиозный аппарат был бюрократической
химерой — «потемкинской деревней атеизма», по выражению историка
Дэниэла Периса, — и реальное влияние этого аппарата не простиралось
дальше лозунгов [214]. Союз воинствующих безбожников числил
в своих рядах около пяти миллионов членов (больше, чем состояло
в самой Всесоюзной коммунистической партии), но его громкие
пропагандистские кампании и раздутые статистические данные
о членстве лишь маскировали неэффективность его работы и слабость
представительства «на местах»[215]. Возможно, самым важным было
то, что по своему содержанию пропаганда Союза безбожников была не
столько атеистической, сколько антирелигиозной и даже
антиклерикальной. Как отмечает Перис, «следует проводить различие
между эффективной и жестокой политикой режима по подавлению
внешних проявлений религиозной жизни и деятельностью Союза
безбожников как агента атеистического мировоззрения» [216]. В целом
большевики тратили гораздо больше энергии на дебаты о том, как
искоренить религию, чем на создание позитивной атеистической
программы[217].
В конце 1930-х гг. партия приблизилась к реализации цели,
провозглашенной в антирелигиозной пропаганде: «преодолению
религии». И хотя формирование атеистического мировоззрения не было
достигнуто, антирелигиозный проект способствовал нейтрализации
церкви как политического института и, по словам Шкаровского,
позволил «создать видимость безбожного государства» [218]. Но это
была иллюзия, которую, как вскоре поняли сами большевики, было
слишком дорого поддерживать.
Патриотическая церковь
Когда война действительно пришла в СССР, Сталин оказался перед
необходимостью принять решение: сохранять ли антирелигиозный
status quo или повернуться к православной церкви и использовать ее
возможности во благо советского государства. В том, что преимущества
партнерства стали казаться более важными, чем его издержки, сыграл
свою роль ряд факторов. Во-первых, проводившаяся в Советском Союзе
политика репрессий в отношении религии отталкивала союзников. Во-
вторых, на оккупированных территориях немецкие власти эффективно
использовали религию против советской власти и добивались
лояльности местного населения с помощью открытия церквей. В-
третьих, среди советских граждан с начала войны, даже на территориях,
не занятых врагом, наблюдался подъем религиозных чувств, что
выразилось в возросшем числе петиций с просьбами открыть местные
церкви [219]. Активная поддержка православной церковью боевых
действий Красной армии стала доказательством политической
лояльности церкви, равно как и ее потенциальной пользы для советской
власти. Показателем поворота к новому курсу стало осторожное
возвращение церкви в общественную жизнь. Так, вслед за вторжением
нацистской Германии в СССР 22 июня 1941 г. митрополит Сергий
обратился к советскому народу еще до того, как со своим обращением
выступил Сталин. В своем «Послании пастырям и пасомым Христовой
Православной Церкви» Сергий подчеркнул историческую роль церкви
в мобилизации русского народа на борьбу против «жалких потомков
врагов православного христианства», которые «хотят еще раз
попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым
насилием принудить его пожертвовать благом и целостью родины».
Сергий напомнил советским людям, что хотя их предки проходили
через еще более суровые испытания, они не падали духом, «потому что
помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге
пред родиной и верой и выходили победителями»[220]. Вскоре после
этого, летом 1941 г., на территории Советского Союза начали снова
открывать церкви. В годы войны церковь служила молебны о победе
Советского Союза и жертвовала средства на нужды обороны, в том
числе финансировала создание танковой колонны имени Дмитрия
Донского [221]. Для Сталина мобилизация церкви в годы войны была
доказательством не только ее лояльности, но и ее потенциальной
ценности для советского государства. Уничтожив православную
церковь как политическую силу, Сталин теперь решил изменить
курс [222].
В 1943 г., когда появилась надежда, что Советский Союз выстоит
в войне и удержит западные территории, аннексированные им в 1939 г.,
Сталин предложил новую модель управления делами религий в СССР.
4 сентября 1943 г. он вызвал в свою летнюю подмосковную резиденцию
Георгия Маленкова, секретаря ЦК ВКП(б), Лаврентия Берию, главу
НКВД, и Георгия Карпова, полковника НКГБ (Народного комиссариата
государственной безопасности), ответственного за
контрразведывательные операции, в том числе связанные с религией.
Встреча превратилась в собеседование с Карповым перед новым
назначением. В ходе беседы Сталин задавал Карпову вопросы об
истории и современном положении церкви, а также о ее связях
с зарубежными религиозными организациями. Он также интересовался
у Карпова характеристикой нескольких митрополитов православной
церкви, расспрашивая об их политической лояльности, материальном
положении и авторитете, которым они пользуются в церкви [223]. Затем
Сталин сообщил Карпову, что ведется работа по созданию
специального органа, который будет ведать отношениями между
государством и церковью, — Совета по делам Русской православной
церкви и что Карпов будет назначен его руководителем. Он
распорядился, чтобы Карпов позвонил митрополиту Сергию
и пригласил его вместе с митрополитами Алексием (Симанским)
и Николаем (Ярушевичем) на беседу в Кремле. Встреча состоялась
тем же вечером; на ней присутствовали митрополиты, Карпов, Вячеслав
Молотов и Сталин. Сталин сообщил церковным иерархам, что
патриархия будет восстановлена и что церковь может теперь
рассчитывать на государственную поддержку [224]. Далее Сталин
распорядился, чтобы Карпов начал процесс работы над созданием
Совета по делам РПЦ, но при этом предупредил, что, во-первых, совет
не должен подрывать имидж церкви как автономной и независимой
организации и, во-вторых, новый пост Карпова не делает его новым
обер-прокурором Святейшего синода, влиятельного правительственного
учреждения, которое ведало взаимодействием церкви и государства
в имперский период [225]. Судя по всему, никто — включая НКВД
и иерархов православной церкви — не предвидел сделанного Сталиным
поворота в религиозном вопросе.
8 сентября 1943 г. православная церковь созвала Собор с участием
19 епископов, 16 из которых только что были освобождены из лагерей;
Собор избрал митрополита Сергия патриархом Русской православной
церкви. 14 сентября 1943 г., через два дня после интронизации
патриарха, Совет народных комиссаров учредил Совет по делам
Русской православной церкви. 19 мая 1944 г. был создан еще один
орган, Совет по делам религиозных культов, в задачу которого входило
руководство отношениями с неправославными конфессиями. Сразу же
после своего создания Совет по делам РПЦ и Совет по делам
религиозных культов при СНК СССР начали работу по открытию
церквей и иных культовых сооружений и регистрации религиозных
общин [226].
Следует отметить, что оба Совета были учреждены в качестве
консультативных органов при правительстве, а не при органах
государственной безопасности. Несмотря на то что надзор НКГБ за
деятельностью Советов молчаливо признавался внутри страны
и открыто осуждался за рубежом, положение Советов как
правительственных органов придало повороту в советской религиозной
политике теперь уже правовой статус. Это весьма примечательно,
поскольку с момента роспуска Комиссии по делам культов в 1938 г.
и вплоть до учреждения Советов единственными учреждениями,
занимавшимися делами религий, были органы безопасности.
Политическое значение новых порядков еще более подчеркнули усилия
по возведению видимой преграды между Советами и НКГБ. 7 июля
1945 г. НКГБ издал секретную ориентировку, где его местным органам
разъяснялось, что после создания «специальных органов» по
религиозным делам функции аппарата госбезопасности будут
«ограничиваться интересами разведывательной
и контрразведывательной работы» [227]. Местных сотрудников НКГБ
проинструктировали о разделении полномочий между органами
безопасности и уполномоченными Советов. Офицеры НКГБ не должны
были вмешиваться в деятельность обоих Советов, обсуждать их работу
со своей агентурой или использовать институт уполномоченных
Советов для прикрытия оперативных мероприятий. В одном случае
сотрудник НКГБ получил выговор за использование «внутренних
каналов» для передачи Карпову письма от своего агента, поскольку это
«подчеркнуло перед агентом связь органов НКГБ с Советом по делам
Русской православной церкви при СНК СССР» [228]. Сотрудникам
НКГБ также напомнили, что Советы подотчетны не им, а Совету
министров и что «открытое и прямое использование органами НКГБ
института уполномоченных в своих целях может привести также
к утверждению среди церковников нежелательного мнения о том, что
[Советы] являются „филиалами“ органов НКГБ» [229].
Тот факт, что решение о возвращении религии в жизнь советского
общества исходило лично от Сталина, подтверждает, что он считал
политическую угрозу, которую представляла собой религия,
эффективно нейтрализованной [230]. Тем самым перед религиозными
организациями была открыта возможность стать партнерами
государства в деле послевоенного восстановления народного хозяйства.
Более того, после аннексии территорий Прибалтики (Эстонии, Латвии
и Литвы), Молдовы, Западной Украины и Западной Белоруссии, ни одна
из которых, в отличие от прочих советских территорий, не прошла
в 1920–1930-е гг. ни через кампанию воинствующего атеизма, ни через
коллективизацию, на территории расширившегося Советского Союза
появились тысячи церквей, священников и верующих. В то время как
численность открытых церквей на неоккупированных территориях
СССР в довоенный период снизилась с 3617 (в 1936 г.) до
приблизительно 950 (в 1939 г.), после аннексии на территории
Советского Союза было уже 8279 православных церквей, а также
тысячи религиозных общин, представлявших другие конфессии —
римско-католическую церковь, украинскую греко-католическую
(восточного обряда, униатскую) церковь, а также сектантов, чья
лояльность по отношению к советской власти была под вопросом [231].
Столкнувшись с вновь возникшей религиозной проблемой, Сталин
рассматривал православную церковь как орудие установления контроля
над западными территориями, где советская власть была наиболее
слабой, и даже поддерживал православную церковь, чтобы ослабить
местные доминирующие конфессии, такие как литовская католическая
церковь или украинская греко-католическая церковь [232]. С этой
целью Сталин сразу же после войны распустил и объявил вне закона
украинскую греко-католическую церковь и передал ее имущество
православной церкви. Сталин также считал православную церковь
полезным орудием международной политики, противовесом влиянию
Ватикана в Европе в условиях начинавшейся холодной войны [233].
Новая советская модель церковно-государственных отношений
имела явное сходство с церковно-государственными отношениями
имперского периода. Так, Иван Полянский, полковник НКГБ,
назначенный председателем Совета по делам религиозных культов,
четко объяснил, каким он видит традиционное положение православной
церкви как младшего партнера государства, не имеющего собственных
политических амбиций. Как он докладывал Отделу пропаганды
и агитации ЦК ВКП(б) в 1947 г.,
... Подавляющее большинство религиозно настроенных граждан СССР
исповедуют православие и тем самым находятся под известным
влиянием Русской православной церкви, которая, следуя своей
исторически сложившейся догматике, никогда не претендовала и не
претендует на первенствующую политическую роль, а всегда шла
и идет в фарватере государственной политики. <...> Иерархически-
организационная структура православной церкви более совершенна,
чем структура любого другого культа, что дает возможность более
гибко и эффективно контролировать и регулировать ее внутренние
процессы [234].
Вслед за инкорпорацией православной церкви в советское государство
Сталин стал применять сходную стратегию по отношению к другим
конфессиям. Подобно тому как он восстановил патриаршество, чтобы
создать централизованный иерархический орган по управлению
православной церковью, в 1943 г. он создал аналогичное исламское
учреждение — Духовное управление мусульман Средней Азии
и Казахстана [235]. Он также разрешил создание союза евангельских
христиан-баптистов, чтобы вывести баптистов из подполья и подчинить
их контролю Совета по делам религиозных культов; но проведение
в жизнь этой меры вызвало впоследствии раскол между теми
баптистами, которые хотели легализоваться на условиях, предложенных
государством, и теми, кто предпочитал не регистрироваться
в официальных органах и оставаться в подполье [236].
На атеистическом фронте без перемен
Означало ли сближение Сталина с православной церковью и сам
поворот в религиозном вопросе отказ от прежнего партийного
понимания религии? Безусловно, новые отношения между государством
и церковью порождали у современников множество толкований
и дезориентировали как обычных советских граждан, строивших
различные умозаключения о месте религии в послевоенном обществе,
так и партийных работников, которые восприняли новые порядки как
предательское отступление от идейной чистоты [237]. В своем
исследовании, посвященном религиозному возрождению в годы войны,
Перис отмечает, что многие верующие воспринимали сталинский
поворот как возвращение к «естественному» порядку вещей.
«Верующие, давно привыкшие к тому, что государство берет на себя
ответственность за все сферы деятельности и даже мысли, теперь
уверовали, что забота об их православных душах тоже перешла
в компетенцию государства». В самом деле, некоторые верующие
воспринимали Совет по делам РПЦ как возрожденный Святейший
синод и обращали свои прошения одновременно патриарху и Карпову,
используя «смесь дореволюционной и советской терминологии,
свидетельствовавшей о союзе церкви и государства» [238]. Как пишет
Перис, «сталинская реплика, обращенная к Карпову на встрече
в сентябре 1943 г., что Карпов не должен стать обер-прокурором
церкви... звучала неубедительно. Практически на следующее утро были
восстановлены многие элементы дореволюционных отношений между
церковью и государством» [239].
«Активное ядро» партии, с другой стороны, чувствовало себя
чуждым новому порядку вещей[240]. Партийных работников, которые
в течение 1930-х гг. закрывали церкви, проводили репрессии против
духовенства и выискивали подпольные религиозные общины, сбивало
с толку санкционированное возвращение религии в общественную
жизнь и явное исчезновение атеистической пропаганды [241]. Так,
Шкаровский отмечает, что многие чиновники выражали свое
неудовольствие «сближением» государства и церкви [242].
Но идеологические ортодоксы составляли относительно небольшую
когорту членов партии, тогда как большинство партийцев едва ли
глубоко овладели марксистским или марксистско-ленинским учением.
Более того, идеология сталинизма уже претерпела существенные
изменения в 1930-е гг., когда партия боролась за создание
официального нарратива, который оставался бы в пределах
марксистско-ленинской доктрины и при этом был адресован не только
убежденным сторонникам этой доктрины, но и более широкой
аудитории [243]. Поэтому большинство партийных работников
практически не были обеспокоены возвращением религии
и исчезновением атеизма. По словам Периса, они «полагали, что
возродившаяся церковь займет свое „естественное“ место —
подчиненного элемента государства» [244].
Некоторые исследователи подчеркивают преемственность между
политикой первых лет советской власти и новым сталинским курсом,
отмечая, что большевики в религиозном вопросе последовательно
ставили политические задачи выше идеологических. Историк Арто
Луукканен в своей работе, посвященной Комиссии по делам культов,
пишет, что советская «генеральная линия» в отношении религии всегда
диктовалась в большей степени нуждами политики, чем идейными
мотивами [245]. Шкаровский считает Сталина политическим
прагматиком, за чьим противоречивым курсом в отношении религии
скрывались неизменные приоритеты — забота об эффективном
управлении и безопасности. Шкаровский подробно рассматривает
процесс «огосударствления» церкви, развернувшийся в период с 1943
по 1948 г., считая, что речь шла о мобилизации церкви государством
ради внешнеполитических и внутриполитических целей. Все это
подтверждает, что для Сталина политические задачи были приоритетны
по сравнению с идейными убеждениями. Как пишет Шкаровский,
«и в атеизме, и в религии он [Сталин] видел общественные феномены,
которые должны служить его системе каждый по-своему» [246].
Сталинский отказ от воинствующего атеизма может служить
подтверждением этих выводов. Религиозное возрождение в военные
годы как на тех территориях, которые были оккупированы немецкой
армией, так и на тех, которые оставались под советским контролем,
показало, что воинствующий атеизм был лишь тонкой оболочкой,
которую легко снять [247]. Действительно, к концу 1930-х гг .
официальная поддержка воинствующего атеизма практически
прекратилась, хотя сами воинствующие безбожники, кажется, еще не
понимали этого. В 1939 г. Федор Олещук, сын священника
и заместитель председателя Союза воинствующих безбожников,
опубликовал в партийном журнале «Большевик» статью, где призывал
к интенсификации пропаганды воинствующего безбожия. «Всякий,
даже самый „советский“ поп — мракобес, реакционер, враг
социализма», — писал Олещук, настаивая, что партия не должна знать
отдыха, пока не сумеет «сделать всех трудящихся атеистами» [248].
Хотя одинокие голоса безбожников продолжали твердить о своей
преданности делу атеизма, новый политический климат не сулил
воинствующему безбожию ничего хорошего. Фактически еще до того,
как Сталин придал новому партнерству между церковью
и государством организационную форму, восстановив патриаршество
и создав Совет по делам РПЦ, он принял ряд важных решений,
свидетельствовавших о переходе к курсу, где задачи управления будут
важнее идеологии. С началом войны атеистические периодические
издания и издательства были закрыты, как и большинство
антирелигиозных музеев, и большая часть организаций, отвечавших за
атеистическую пропаганду, была распущена. Когда в 1943 г. умер
Емельян Ярославский, вместе с ним ушел из жизни и воинствующий
атеизм.
Заключение
В начале советского периода партия воспринимала религию прежде
всего как политическую проблему. Тот факт, что она ставила на первый
план политическую угрозу, которую с партийной точки зрения
представляли собой религиозные организации и духовенство, позволяет
понять колебания советской «генеральной линии» в отношении религии
и атеизма в довоенный период. Множественные цели партии —
модернизация и организация управления, идеологическая мобилизация
и культурная революция — порождали решения в сфере
антирелигиозной политики, которые часто противоречили друг другу
и редко приводили к планировавшемуся результату. На протяжении
1920-х и 1930-х гг. шли споры о смысле и значении атеизма как
направления идеологической работы, отличавшегося от регулирования
и подавления религиозной жизни. Но атеистическая работа как таковая
все-таки всегда оставалась на втором плане по отношению
к политическим задачам, которые играли решающую роль в судьбе
и религии, и атеизма.
Из самой судьбы православной церкви при Ленине и Сталине
становится очевидно, что религию воспринимали как серьезную
политическую угрозу для советской власти, которая оставалась шаткой
на протяжении 1920-х гг. Консолидация власти в руках Сталина,
осуществившаяся в течение 1930-х гг., обезопасила власть партии
и сломила политическое могущество церкви. Когда в годы Второй
мировой войны приоритеты сместились, церковь стала казаться все
более желанным союзником и для мобилизации патриотических
настроений в стране, и в качестве дипломатического канала для
реализации стремлений советского государства на международной
арене. Совет по делам РПЦ и Совет по делам религиозных культов —
бюрократические учреждения, чьей задачей было управление
отношениями между религиозными организациями и государством, —
были созданы, чтобы служить нейтральным фасадом советской
законности, маскирующим контроль государства над религиозными
делами. Судьба православной церкви также позволяет увидеть
важнейшие различия между ленинским и сталинским подходом
к религии: чтобы сохранить советскую власть, Ленин изгнал религию из
политики и общественной жизни, а Сталин, в свою очередь, решил
обратить политическую мощь религии на службу государству.
Последнее десятилетие сталинского правления — с 1943 г., когда
была установлена новая модель отношений между церковью
и государством, и вплоть до смерти Сталина в 1953 г. — было периодом
относительного затишья на религиозном фронте, стабильности в сфере
церковно-государственных отношений и даже, в ограниченных
масштабах, возрождения религиозности в советском обществе. Атеизм,
в свою очередь, ушел с арены общественной жизни, пока преемник
Сталина, Никита Хрущев, вновь не распахнул перед ним двери.
Глава 2
Призрак бродит в царстве коммунизма:
антирелигиозные кампании при Хрущеве
Воспитание нового человека — сложный и длительный процесс.
Невозможно механически переселить людей из царства капитализма
в царство коммунизма. Нельзя брать в коммунизм человека, обросшего
мхом капиталистических предрассудков. Надо прежде позаботиться
о том, чтобы освободить его от груза прошлого. Борьба с пережитками
капитализма в сознании людей, изменение выработанных веками
навыков и нравов миллионов людей, начатое нашей революцией, —
дело длительное и не простое. Пережитки прошлого — страшная сила,
которая, как кошмар, довлеет над умами живущих. Они коренятся
в быту и сознании миллионов людей еще долго после того, как
исчезают породившие их экономические условия [249].
Никита Хрущев. Речь на XXII съезде КПСС. 17 октября 1961 г.
Зимой 1956 г. — незадолго перед открытием ХХ съезда КПСС,
проходившего с 14 по 25 февраля 1956 г., — в отдел пропаганды ЦК
КПСС поступил доклад о любопытном происшествии: в Куйбышеве
(совр. Самара), большом промышленном городе на Волге, по слухам,
«находится окаменевшая девушка, наказанная богом за
святотатство» [250]. Это произошло в доме No 84 по улице Чкалова, где
отмечали день рождения девушки-комсомолки Зои Карнауховой [251].
Пока ее друзья танцевали, Зоя ждала молодого человека по имени
Николай, но когда он так и не появился, она объявила, что в таком
случае будет танцевать с иконой Николая Чудотворца, висевшей
в «красном углу». Она забралась на стул, схватила икону и принялась
кружиться в танце по комнате, восклицая: «Если бог есть, пусть он меня
накажет!» Внезапно, по словам автора доклада, «прогремел гром,
сверкнула молния, и девушку заволокло дымом». Когда дым рассеялся,
сообщалось в докладе, «девушка превратилась в каменный столб
с иконой в руках»[252].
Вести о чуде — или, по словам автора доклада, «нелепая сказка» —
стремительно распространились по Куйбышеву, и люди стали
собираться на улице Чкалова, чтобы посмотреть на девушку,
обращенную в камень за богохульство. 19, 20 и 21 января, сообщалось
в докладе, «толпа достигла нескольких сот человек», и власти, уже
отправившие на улицу Чкалова милицию, вскоре «усилили пост»
с помощью подразделения конной милиции. При этом власти
«вмешались в дело с опозданием» и выжидали несколько дней, прежде
чем выразить в местной газете свое отношение к происшествию.
В статье, озаглавленной «Дикий случай», утверждалось, что «дикий,
позорный случай» на улице Чкалова служит укором местному
партийному комитету: «Пусть же уродливая гримаса старого быта,
которую многие из них видели в эти дни, станет для них уроком
и предостережением!» [253] Местные партийные функционеры вняли
предостережению, и вскоре бюро горкома «обсудило этот факт
и наметило меры по усилению естественнонаучной пропаганды» [254].
Эти просветительские мероприятия тем не менее не могли соперничать
с ажиотажем вокруг «окаменевшей Зои», превратившим улицу Чкалова
в место паломничества советских людей — набожных и просто
любопытствующих, — жаждущих увидеть чудо своими глазами.
История «окаменевшей Зои», безусловно, была сенсационной, но
как проявление народной религиозности она не была ни уникальной, ни
новой. В Совет по делам РПЦ и Совет по делам религиозных культов
регулярно поступали доклады со всей страны, где содержались сходные
«дикие» истории о «предрассудках», варьировавшие в диапазоне от
чудесного обновления икон и явлений Богородицы до обвинений
в колдовстве, приводивших к убийству [255]. Более проблематичными,
чем сенсационные инциденты вроде «окаменевшей Зои», были не столь
громкие, но достаточно частые признаки послевоенного оживления
религиозности, такие как отраженный в государственной статистике
рост церковных доходов, числа прихожан и церковных треб. И еще
более тревожными, чем признаки санкционированного религиозного
возрождения, были проявления несанкционированной народной
религиозности — групповые крещения, паломничество к святым
местам, поклонение чудотворным иконам и обращение к услугам
знахарей, — выносившие религиозность за пределы церковных стен.
Почему же в таком случае история Зои — комсомолки из Куйбышева,
«обращенной в камень» после кощунственного танца с православной
иконой, — была настолько важна, что ее довели до сведения
Центрального комитета КПСС? Почему советское государство
нарушило равновесие, достигнутое после войны в церковно-
государственных отношениях, и снова стало воспринимать религию как
проблему? И почему Хрущев вернул в общественную жизнь атеизм,
выведенный из активного оборота Сталиным?
Уродливая гримаса старого быта
Хрущевская эпоха ознаменовалась новой волной антирелигиозных
и атеистических кампаний; первой из них стала так называемая
«стодневная кампания» летом 1954 г., затем последовала еще более
масштабная кампания, начавшаяся в 1958 г. и продолжавшаяся вплоть
до отстранения Хрущева от власти в 1964 г. [256] История
антирелигиозных кампаний хрущевской эпохи вплетается в историю
попыток Хрущева пересмотреть советский идеологический курс после
Сталина. Смерть Сталина создала идейный и политический вакуум
в самом сердце советской коммунистической идеологии и потрясла
советское общество до основания. Как пишет историк Стефан Биттнер,
«вселенная смыслов была ввергнута в хаос, и этот процесс был сродни
той „всеобъемлющей перестройке“, которая последовала за крушением
коммунистической системы» [257]. Что значил советский
коммунистический проект без Сталина? Для преемников Сталина поиск
ответа на этот вопрос стал механизмом определения курса развития
советского общества и консолидации политической власти. В конечном
счете в борьбе за власть после смерти Сталина победителем стал
Хрущев, и ему это удалось, поскольку он переосмыслил значение
советской коммунистической идеологии в новую историческую эпоху.
25 февраля 1956 г. на заседании ХХ съезда КПСС Хрущев сделал
секретный доклад, где осудил «культ личности» Сталина как
отступление от ленинизма и оценил принуждение, насилие и террор
сталинской эпохи как предательство по отношению к партии и ее
идеологии. Поскольку советское общество было потрясено
хрущевскими разоблачениями Сталина, партия изо всех сил старалась
избежать нежелательных последствий. Чтобы воскресить веру
в советский проект, Хрущеву было необходимо заново
легитимизировать партию и ее революционную идеологию [258]. Если
десталинизация была негативной стороной политической платформы
Хрущева, то Третья программа партии, утвержденная на XXII съезде
КПСС (17–31 октября 1961 г.) , была ее позитивной стороной:
возвращение к идейной чистоте, лидерству партии и создание
материально-технической базы коммунистического будущего [259].
Хрущев заявил гражданам Советского Союза, что страна вступила
в новую эру строительства коммунизма — эру, отмеченную заботой
партии о материальном благосостоянии, развитии личности
и моральном возрождении. Он объявил, что в течение десятилетия
СССР обгонит по экономическому росту страны Запада, и пообещал,
что нынешнее поколение советских людей будет жить при
коммунизме [260]. 31 октября 1961 г., в последний день заседания XXII
съезда, Хрущев распорядился вынести тело Сталина из мавзолея на
Красной площади, где он лежал рядом с Лениным с 1953 г.
Трудно определить степень личной вовлеченности Хрущева
в антирелигиозную кампанию [261]. Во всяком случае, воспоминания
самого Хрущева, как и мемуары его сына Сергея Хрущева и зятя
Алексея Аджубея, ничего не содержат по данному вопросу [262]. Тем не
менее Хрущев несколько раз делал публичные заявления относительно
религии. Когда зарубежные журналисты побуждали его высказаться
о положении религии в Советском Союзе, Хрущев говорил о своем
персональном неверии, оспаривал утверждение, что атеисты менее
нравственны, чем верующие, и часто подчеркивал лицемерие
религиозных учреждений и служителей культа. В то же время, помня
о политической значимости религиозного вопроса в сфере
международных отношений, Хрущев настаивал, что в Советском Союзе
религиозная вера остается скорее вопросом личной совести, чем
государственной политики. Как он заявил в интервью французской
газете Le Figaro в 1958 г., «вопрос о том, кто верит в бога или не верит,
—
это не вопрос для конфликтов — это личное дело каждого человека.
Поэтому давайте не будем подробно говорить на эту тему» [263].
Но если личная роль Хрущева в антирелигиозной кампании остается
неясной, не может быть сомнений относительно его вклада
в строительство коммунизма — в проект, который был неразрывно
связан с искоренением религиозных «предрассудков» и формированием
научно-материалистического мировоззрения советских людей.
В течение пребывания Хрущева у власти его высказывания
относительно религии становились все более подробными
и агрессивными. В статье, опубликованной в газете «Правда» в 1958 г.,
приводились такие слова Хрущева: «Думаю, что бога нет. Я давно
освободился от такого понятия. Я сторонник научного мировоззрения.
А наука и вера в сверхъестественные силы — это несовместимые,
взаимоисключающие взгляды» [264]. В начале 1960-х гг., когда
Советский Союз претендовал на мировое первенство в сфере науки
и техники, особенно после первого полета человека в космос, Хрущев
в шутку просил советских космонавтов посмотреть во время полета,
есть ли на небе Бог. Антирелигиозные настроения того времени
характеризуются двумя высказываниями, приписываемыми Хрущеву,
которые циркулируют в массовой культуре: что скоро религия
сохранится только в музеях и что Хрущев покажет советским людям по
телевизору последнего попа [265]. Хотя оживление антирелигиозной
кампании при Хрущеве может показаться странным в контексте
политической либерализации и оттепели в сфере культуры, оно было
существенным для выполнения важной миссии — очищения
коммунизма от искажений сталинской эпохи, в том числе от
сталинского компромисса с религией и разрыва с атеизмом.
Вопрос, который неотступно преследовал советскую
коммунистическую идеологию в хрущевскую эпоху, состоял в том,
почему религия остается частью жизни советского общества спустя
десятилетия после Октябрьской революции. В ходе строительства
социализма экономические и социальные корни религии, казалось бы,
были выкорчеваны. Более того, когда Сталин подчинил религиозные
учреждения правительственным структурам, религия как
самостоятельная политическая сила, способная влиять на советское
общество или историческое развитие коммунистического проекта,
считалась эффективно нейтрализованной. Тем не менее марксистские
утверждения, что с приходом коммунизма религия исчезнет, вошли
в противоречие с открытием, что религиозность была гораздо более
распространена и устойчива, чем предрекала идеологическая модель.
Странная история «окаменевшей Зои», разыгравшаяся за месяц до
открытия ХХ съезда КПСС, стала неприятным напоминанием о том, что
религия остается фактом жизни общества. Разумеется, продолжение
существования религии всегда создавало проблему для первого в мире
социалистического государства, но на новом этапе строительства
коммунизма религия стала новой проблемой. История публичной
демонстрации религиозности вокруг девушки-комсомолки, обращенной
в камень за богохульство, явно звучала диссонансом на фоне обещаний
Хрущева относительно научно-технического прогресса и неминуемого
наступления коммунизма. Оптимизм Хрущева сдерживало признание
того факта, что через пятьдесят лет после Октябрьской революции
гримасы старого мира все еще являются частью жизни советских
людей. Как признал сам Хрущев на XXII съезде партии, «пережитки»
старого мира, «как кошмар, довлеют над умами живущих... еще долго
после того, как исчезают породившие их экономические условия» [266].
В этих условиях единственным идеологически выверенным
объяснением сохранения религии в Советском Союзе было то, что она
является неподатливым осколком старого мировоззрения и образа
жизни. Таким образом, во времена Хрущева партия осознала, что
недостаточно уничтожить политический и экономический базис
религии. Чтобы превратить современное советское общество
в коммунистическое общество будущего, религию следовало
искоренить не только из политической и общественной жизни, но и из
сознания советских людей.
Возвращение атеизма: кампания 1954 г.
За время от захвата власти большевиками в 1917 г. до прозвучавшего на
«съезде победителей» (XVII съезде партии) в 1934 г. заявления Сталина,
что социализм в СССР в основном построен, Советский Союз
превратился из государства, балансирующего на краю гибели,
управляемого кучкой революционеров и находящегося
в международной изоляции, в дееспособное государство, признанное на
мировом уровне [267]. Консолидация власти в середине 1930-х гг.
сопровождалась отказом от революционного утопизма в пользу
неотложных политических приоритетов. В частности, необходимость
мобилизовать ресурсы в годы войны и обеспечить поддержку советской
власти как внутри страны, так и за рубежом ускорила пересмотр
позиции советского руководства по отношению к религии. После
сталинского «конкордата» с православной церковью, заключенного
в 1943 г., религия вновь стала частью жизни советского общества —
впрочем, жестко регулируемой и по большей части безгласной.
После войны православная церковь заново создала свою
инфраструктуру, практически разрушенную в ходе антирелигиозных
кампаний раннего советского периода. Было восстановлено
патриаршество, открылось около 10 000 церквей, возвращались из
лагерей священники [268]. Чтобы восполнить жесточайшую нехватку
кадров, молодых людей рекрутировали в семинарии, и число
абитуриентов возрастало с каждым годом: от 269 человек в 1950 г. до
560 в 1953 г. [269]Верующие постоянно обращались к государству
с просьбами разрешить открыть больше церквей и более регулярно
проводить службы. В то же время атеистическая работа переживала
застой, особенно в консервативной атмосфере конца сталинской эпохи.
Когда пропаганда того времени подчеркивала важность просвещения,
имелась в виду грамотность, гигиена и воспитание «культурности».
Атеизм больше не акцентировался даже в научно-просветительской
работе.
Показателем перехода от атеистической пропаганды к более
широкому пониманию просвещения стало создание общества «Знание»
в 1947 г. Основанное как добровольное объединение интеллигенции,
приверженной делу просвещения народных масс, «Знание» взяло на
себя функции распущенного Союза воинствующих безбожников.
Тематика его работы тем не менее была существенно шире и включала
в себя популяризацию науки, вопросы марксистско-ленинской теории,
внутренней политики и международного положения [270]. Хотя
атеистическая пропаганда формально входила в широкую категорию
научно-просветительской работы, вплоть до смерти Сталина она
составляла лишь малую часть деятельности общества «Знание».
Ветераны-безбожники время от времени читали лекции и публиковали
памфлеты на темы науки и религии, но в целом атеистическая работа
зашла в тупик [271]. На XIX съезде партии, состоявшемся в 1952 г.,
незадолго до смерти Сталина, вопросы атеизма даже не
затрагивались[272]. В 1940-е и начале 1950-х гг . идеологическая элита
и атеистические кадры молчаливо признавали, что атеистическая работа
не является приоритетной.
Смерть Сталина нарушила временное затишье в послевоенной
религиозной жизни [273]. После войны в советской религиозной
политике задачи управления ставились выше идеологии. Поскольку
религия была фактом общественной жизни, задача государства
заключалась в том, чтобы наладить партнерство с религиозными
организациями; Совет по делам РПЦ и Совет по делам религиозных
культов были созданы для «нормализации» отношений с религиозными
организациями и верующими. После смерти Сталина функции этих
органов оказались под вопросом. В июне 1953 г., через три месяца после
смерти Сталина, Карпов, глава Совета по делам РПЦ, направил в ЦК
КПСС заявление, где просил дать ему руководящие указания, «какой
линии следует придерживаться, какие принципы и методы работы
допустимы»[274]. Карпов полагал, что, памятуя о религиозном
возрождении, Совет по делам РПЦ должен фокусировать внимание на
налаживании деловых отношений с церковью — цель, достижению
которой, по его мнению, по-прежнему мешают неформальные, но
тесные связи Совета с КГБ [275]. В течение 1953 г. и в начале 1954 г.
Совет по делам РПЦ продолжал направлять заявления
в государственные и партийные органы, но его вопросы оставались без
ответа, даже когда просьбы были адресованы лично главам государства
и партии — Маленкову и Хрущеву [276]. Работа Совета по делам РПЦ,
остерегавшегося действовать без указаний сверху, приостановилась.
Для приверженцев чистоты партии, которые расценивали
послевоенное перемирие с религией как отступление от ленинских
принципов и с беспокойством наблюдали возрождение религиозной
жизни и стагнацию атеистической работы, смерть Сталина открывала
новые возможности. Владимир Бонч-Бруевич — видная фигура
атеистической «старой гвардии» — воспользовался шансом, чтобы
вновь поставить на повестку дня вопросы атеизма [277]. Бонч-Бруевич
указывал, что Государственный музей истории религии в Ленинграде
(ГМИР) является единственным атеистическим учреждением,
пережившим войну. Основанный в 1932 г. и располагавшийся
в Казанском соборе на Невском проспекте, ГМИР понес серьезный
ущерб во время блокады Ленинграда, а после войны был практически
закрыт. От участи других советских атеистических музеев, открытых
в начале советской эпохи и закрывшихся в годы войны, ГМИР спасло
то, что, в отличие от прочих подобных музеев, чьей главной задачей
была пропаганда, он считался научно-исследовательским учреждением
и поэтому находился в ведении Академии наук СССР, а не
Министерства культуры или Министерства просвещения [278].
В 1946 г. Бонч-Бруевич стал новым директором музея. Как и сам музей,
Бонч-Бруевич был одним из немногих сохранившихся связующих
звеньев с эпохой воинствующего атеизма первых лет советской власти.
Поскольку собор, где размещался музей, был серьезно разрушен во
время войны, музей был закрыт для посетителей вплоть до 1951 г.,
а Бонч-Бруевич в это время проживал в Москве, где работал
в Институте истории Академии наук СССР. Там он посвятил себя делу,
которому отдавал все силы вплоть до своей смерти в 1955 г.:
возрождению советского атеизма [279]. Чтобы вернуть атеизм
в актуальную политическую повестку, Бонч-Бруевич пытался привлечь
к нему интерес академических кругов и с этой целью в 1947 г. создал
в Институте истории АН СССР сектор истории религии и атеизма.
Но даже этой половинчатой инициативе недоставало двух компонентов,
необходимых для успеха: поддержки со стороны коллег-академиков
и покровительства партийной элиты. Вплоть до смерти Сталина сектор
не проявлял практически никакой активности [280].
Первым признаком того, что политическая судьба советского
атеизма начала изменяться к лучшему, стал успех инициативы Бонч-
Бруевича по добавлению в название музея слова «атеизм»; в январе
1954 г. музей стал Государственным музеем истории религии и атеизма
(ГМИРА). В письме коллеге Бонч-Бруевич сообщал: «Таким образом,
впервые за все время существования АН СССР слово „атеизм“
официально введено Президиумом АН СССР в название
академического учреждения... Я считаю это событие весьма важным на
фронте нашей борьбы» [281]. Вскоре после этого некоторые
высокопоставленные партийные деятели начали проявлять интерес
к пересмотру вопроса о религии. В марте того же года Дмитрий
Шепилов, редактор «Правды», направил Хрущеву письмо, где указывал,
что сообщения корреспондентов газеты свидетельствуют «о серьезной
активизации церковных деятелей и различного рода сектантов, о явном
неблагополучии с научно-атеистической пропагандой». Далее Шепилов
приводил сведения, что в СССР существует 18 609 действующих
церквей, мечетей и синагог и более 18 000 официально
зарегистрированных служителей культа — существенно больше, чем
в предвоенный период[282].
Вслед за этим 27 марта 1954 г. заведующие двумя отделами
Центрального комитета КПСС — отделами пропаганды и науки —
подготовили доклад, озаглавленный «О крупных недостатках
в естественнонаучной, антирелигиозной пропаганде», где со своей
стороны пытались убедить Хрущева, что идеологическая пассивность
может оказаться опасной [283]. Затем, весной 1954 г., у атеизма наконец
появились высокопоставленные партийные покровители: заведующий
отделом культуры ЦК КПСС Алексей Румянцев, секретарь ЦК КПСС
Петр Поспелов, руководитель отдела пропаганды Михаил Суслов,
министр культуры Екатерина Фурцева, а также Шепилов и Александр
Шелепин — члены новой когорты комсомольских работников,
группировавшейся вокруг Хрущева. Однако нужен был кто-то еще, кто
смог бы возглавить кампанию, — и Бонч-Бруевич, с его научными
и революционными заслугами, стал катализатором возвращения
атеизма. Шквал докладов по внутренним каналам, встреч и телефонных
звонков, которыми обменивались высокие покровители Бонч-Бруевича
в течение мая и июня, свидетельствовал о том, что новая
антирелигиозная кампания неминуема [284].
7 июля 1954 г. ЦК КПСС издал постановление «О крупных
недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее
улучшения», ставшее одной из первых идеологических деклараций
Хрущева. Постановление, подготовленное в тесных кругах партийного
аппарата, застало врасплох всех — религиозные объединения, рядовых
советских граждан и даже Совет по делам РПЦ и Совет по делам
религиозных культов [285]. Его авторы исходили из тезиса, что религия
и коммунистическая идеология несовместимы и что сохранение
религии в условиях социализма является, с одной стороны, результатом
оживления деятельности религиозных организаций, а с другой —
результатом невнимания со стороны партии к атеистической работе
со времен войны. Партийные работники подверглись критике за
идейную пассивность и призывались к активному участию
в атеистической работе. Призыв к улучшению атеистической работы
был обращен не только к партийным рядам, но также к Министерству
культуры, Министерству просвещения и среди прочих обществу
«Знание». Авторы постановления призывали Министерство
просвещения насытить школьную программу атеистическим
содержанием, комсомол — активнее вести атеистическую пропаганду
среди молодежи, Государственное издательство политической
литературы (Госполитиздат) — публиковать лучшие произведения
атеистической литературы, а общество «Знание» — начать издание
ежемесячного журнала «Наука и религия» для широких кругов
населения.
Антирелигиозная кампания затевалась не только ради очищения
коммунистической идеологии, но также во имя модернизации. Хрущев
воспринимал религию как проблему по преимуществу сельскую,
и одной из целей кампании была борьба с народными религиозными
практиками, которые наносили ущерб сельскохозяйственному
производству, например с паломничествами и религиозными
праздниками, которые в партийной пропаганде изображались как
дебоши, ведущие к срыву работы в колхозах и часто заканчивающиеся
драками [286]. «В результате активизации деятельности церкви, —
гласило постановление, — наблюдается увеличение количества
граждан, соблюдающих религиозные праздники и отправляющих
религиозные обряды, оживляется паломничество к так называемым
„святым местам“... Празднование религиозных праздников, нередко
сопровождающееся многодневным пьянством, массовым убоем скота,
наносит большой ущерб народному хозяйству, отвлекает тысячи людей
от работы, подрывает трудовую дисциплину» [287]. Местные
уполномоченные Совета по делам РПЦ докладывали о простоях
в работе, возникающих, когда колхозники отмечают религиозные
праздники, и жаловались, что эти празднования часто происходят
с молчаливого разрешения местного начальства, а иногда даже при его
участии [288]. Так, в докладе о религиозных праздниках в одном из
колхозов Костромской области подчеркивался экономический
и моральный ущерб от подобных народных традиций:
До самого последнего времени в каждом населенном пункте отмечалось
много религиозных праздников; в том числе по одному, а то и по два
престольных. Всего по селам и деревням отмечалось 39. Партийные
органы и правление колхозов решили подсчитать, во что обходятся
артели все эти праздники. Установлено, что каждый религиозный
праздник отмечали в среднем 500 человек престарелых колхозников,
причем празднования длились три-четыре дня, и колхоз, таким образом,
ежегодно терял около восьмидесяти тысяч трудодней. От одного только
невыхода колхозников на работу, хозяйство ежегодно недопроизводило
продукции более чем на три миллиона рублей (старыми). Но были
и такие потери, которые не поддаются обсчету — это моральные
потери... Можно наблюдать массовое пьянство, сопровождающееся
хулиганством, дебошами и драками с серьезными последствиями[289].
Хотя коллективные праздники с выпивкой и гуляньями долгое время
были традиционными формами досуга в российской деревне, теперь
они расценивались как отклонения от нормы и проявления отсталости,
а значит, как помеха достижению важной цели советского общества —
стиранию материальных и культурных различий между городом
и деревней.
Как и в ранний советский период, средства массовой информации
должны были оказаться на переднем крае битвы с религией. Издателей
и журналистов критиковали за то, что в послевоенный период они не
уделяли внимания атеистической тематике; указывалось, что в таких
толстых журналах, как «Коммунист», «Новый мир» и «Октябрь», с 1945
по 1954 г. не было опубликовано ни одной статьи атеистического
содержания. Не лучше обстояло дело и с газетами. Партийный орган,
газета «Правда» опубликовала лишь одну атеистическую статью за
десять лет, и даже орган ВЛКСМ, «Комсомольская правда», обычно
выступавшая в авангарде идеологических кампаний, за тот же период
поместила на своих страницах только пять статей атеистического
содержания [290]. Партия призывала издательства публиковать
атеистическую литературу, в том числе зарубежных классиков, таких
как Джованни Боккаччо, Вольтер и Анатоль Франс, и произведения
отечественных авторов, таких как Антон Чехов, Горький, Александр
Серафимович и Владимир Маяковский, обращавшихся
к антиклерикальной и атеистической тематике [291]. Журналистам
и редакторам вменяли в обязанность публиковать новые атеистические
статьи, обращенные к современной аудитории, и модернизировать
содержание атеистической пропаганды, уделяя большее внимание
достижениям науки и техники. Наконец, партия подчеркивала
необходимость обращаться к массам через телевидение и радио,
отмечая, что радиовещание является особенно эффективным орудием
пропаганды, поскольку оно достигает сельской местности [292].
Тем временем в газетах публиковались статьи, где не только
использовались старые приемы, такие как знакомые образы пьющих,
аморальных и жадных священников, но и поднимались новые темы,
в частности об опасности предрассудков[293]. Советских читателей
потчевали поучительными рассказами, например историей Наташи
Шичалиной, имевшей несчастье влюбиться в «задумчивого, всегда
молчаливого» Гавриила, молодого баптиста, который убил ее, потому
что она пыталась противиться «требованиям его секты» [294].
Читателям также поведали историю Геры Бородина, мальчика-
подростка, который временно потерял зрение, играя с самодельными
ракетами. Вместо того чтобы положиться на современную советскую
медицину, простодушные мать и бабушка Геры отвели его в сельскую
церковь, чтобы помолиться святому Пантелеймону-целителю
и пообещать святому, что, если он вернет Гере зрение, они будут
и дальше водить мальчика в церковь. Это решение, заключала
«Комсомольская правда», стало «первым шагом к гибели Геры»,
поскольку привело его к изоляции от сверстников и в конце концов
подтолкнуло к самоубийству [295].
Пресса также избрала своей мишенью местных партийных
и комсомольских работников за их пассивность в деле атеистической
пропаганды, доказывая, что они несут свою долю ответственности за
сохранение религии в условиях социализма. В партийных директивах
критиковали местные партийные кадры за то, что они «идут на поводу
у церковников», а в докладах указывались случаи, когда местные
ответственные работники обращались к церкви за финансовой
помощью или, напротив, использовали свои ресурсы, чтобы помочь
церкви (например, один партийный работник направил десять
колхозников на работу в местный монастырь на три дня) [296].
«Комсомольская правда» писала, что среди жителей нескольких сел
в Ульяновской области распространились слухи о «большой белой
бабе», которая, «обнаглев», бродит по селам, причем из-за этих слухов
опустели все улицы и сельский клуб[297]. Вскоре после того как
история с «белой бабой» была объявлена шуткой, поступили сообщения
о том, что в доме местной жительницы «обновилась» икона, благодаря
чему хозяйка лишь за один день «только медными и серебряными
монетами полтора ведра набрала» с приходивших поклониться иконе
верующих. Комсомол между тем игнорировал атеистическую работу,
несмотря даже на то, что только в одном районе Ульяновской области
было четыре места паломничества, куда летом «стекаются» верующие,
и все это происходило «на глазах у руководителей района
и комсомольских работников» [298]. В другой статье сообщалось
о сходном положении дел в Курской области, где «среди людей,
идущих в дни религиозных праздников за „исцелением в святые места“,
можно увидеть и молодежь», тогда как местный комитет комсомола
«остается беспристрастным созерцателем происходящего»[299]. Еще
один очерк в «Комсомольской правде» был посвящен ситуации
с религией в Горьковской области; там с тревогой отмечалось, что
духовенство выигрывает войну за умы и сердца советских людей. Как
писал автор, «старообрядческий священник призывает родителей
надевать кресты детям, учить их псалмам да молитвам.
А комсомольские пропагандисты молчат» [300]. Комсомол, доказывал
он, «обязан оберегать всю молодежь от влияния церковников
и сектантов, вести антирелигиозную пропаганду среди всего
населения», поскольку священники «действуют не в небесных
пространствах, а на земле, среди населения», сея свой «дурман» среди
сельских жителей. В свете этого партия призывала каждого члена
комсомола бороться с религией, распространять атеизм и объяснять
массам, что религия несовместима ни с наукой, ни с коммунистической
идеологией [301].
Представители церкви были обеспокоены июльским
постановлением ЦК КПСС; их пугало возвращение
к административным мерам, направленным против духовенства
и верующих, а также клеветническая кампания в прессе, изображавшая
священников и верующих политически неблагонадежными элементами.
В разговоре с местным уполномоченным Совета по делам РПЦ
ленинградский протоиерей Медведевский пожаловался, что у церкви
нет возможности ответить на нападки атеистов в прессе. Он также
настаивал, что церковь не несет ответственности за пьянство
и хулиганство, имеющие место во время религиозных праздников,
возразив, что, напротив, церковь призывает верующих «проводить
праздничные дни достойным образом». Церковь, доказывал он, сделали
козлом отпущения. Когда местным чиновникам не удается выполнить
план, они обвиняют церковь, «чтобы скрыть истинные причины
отставания» [302]. Другие, однако, не считали антирелигиозную
кампанию опасной. В секретных докладах, направлявшихся в Совет по
делам РПЦ, КГБ отмечал, что были даже священники, которые не
придавали значения атеистической пропаганде и высмеивали ее.
Согласно одному из таких донесений, православный священник
в Латвии отметил, что качество советского атеизма настолько низкое,
что церкви не о чем беспокоиться: «Очень много говорят, что Бога нет.
Если Бога нет, то незачем об этом так много агитировать и ломиться
в открытую дверь. Такая пропаганда не оставляет впечатления
у верующих» [303].
Доклады из регионов показывают, что обычные люди по-разному
интерпретировали новую антирелигиозную кампанию. Летом 1954 г.
Совет по делам РПЦ был завален письмами с вопросами о том, не
является ли кампания в прессе прелюдией к массовому закрытию
церквей и арестам. Слухи о неминуемом закрытии церквей вызывали
массовый протест, и советские граждане спешили крестить своих
детей [304]. Усиление антирелигиозной пропаганды в прессе, как
докладывал Совет по делам РПЦ, в действительности вызвало
внезапный рост потребности в религиозных требах, особенно крещении.
В октябре 1954 г. Совет по делам РПЦ и Совет по делам религиозных
культов направили в Центральный комитет совместное письмо, где
указывали на контрпродуктивные результаты кампании. В этом письме
Карпов и Полянский писали следующее: «Этими ошибками
и извращениями приведены в движение не тысячи, а миллионы
населения нашего Советского Союза, которые из этих ошибок делают
провокационные выводы. Делают такие выводы и отдельные церковные
руководители в странах народной демократии. Поставлены
в затруднительное положение те руководящие представители
религиозных центров в СССР, которые ежедневно принимают почти все
приезжающие в страну иностранные делегации, и те церковные лица,
которые выезжают за границу» [305]. Тем самым Карпов и Полянский
стремились показать, что антирелигиозная кампания подрывает
социальную и политическую стабильность и грозит разрушить
позитивный образ Советского Союза за рубежом. Согласившись
наконец, что кампания 1954 г. потерпела фиаско, партия отступила.
Постановление ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно-
атеистической пропаганды среди населения» от 10 ноября 1954 г. было
посвящено итогам летней антирелигиозной кампании и представляло
собой попытку исправить нанесенный ею вред. В отличие от июльского
постановления, которое было предназначено для внутреннего
пользования, ноябрьское постановление было опубликовано в «Правде»
и широко распространялось. Также, в отличие от июльского
постановления, которое готовила небольшая группа пропагандистов из
партийного аппарата, ноябрьское постановление было результатом
консультаций как с Советом по делам РПЦ, так и с Советом по делам
религиозных культов, и в нем были заметны и повышение
осведомленности о советском религиозном ландшафте, и изменение
партийного понимания религии [306]. Основной смысл ноябрьского
постановления состоял в том, что в современных исторических
условиях по отношению к религии необходимо применять скорее
идеологические, чем политические механизмы. Как разъяснялось
в постановлении, хорошо известно, что до революции церковь
оправдывала эксплуатацию народных масс и служила самодержавному
режиму, а после революции поддерживала внутреннюю контр-
революцию и международный империализм. Тем не менее партийные
кадры должны были понять, что, поскольку теперь социальные корни
религии подорваны, борьба против религии превратилась
в «идеологическую борьбу научного, материалистического
мировоззрения против антинаучного, религиозного
мировоззрения» [307]. Религия стала скорее идеологической, чем
политической проблемой.
В постановлении разъяснялось, что некоторые религиозные культы
не утратили политической окраски. Например, на западных границах
СССР, где вероисповедание соответствовало национальной
принадлежности и мобилизовывало националистическое
сопротивление, религия по-прежнему обладала политическим
влиянием. Кроме того, сектанты, особенно те из них, которые считались
членами «зарубежных» сект (таких, как Свидетели Иеговы или
адвентисты Седьмого дня), оказались под растущим подозрением — не
только из-за их упорного отказа признать советскую власть, но также
из-за нелегальных связей с зарубежными единоверцами [308]. Но те
религиозные организации, которые действуют легально, как
разъяснялось в постановлении, занимают патриотические позиции.
Поэтому было бы неправильно рассматривать духовенство и верующих
как внутренних врагов, а не как граждан, чьи права и чувства
заслуживают уважения. Религия теперь являлась не политическим
противником, которого следует подавлять, а скорее чуждой идеологией,
которую следует искоренять путем просвещения. Борьба велась с верой,
но не с верующими.
Вскоре после обнародования ноябрьского постановления
Центральный комитет КПСС получил обратную реакцию [309]. Как
и в случае с июльским постановлением, реакция населения была
разнообразной и порой удивительной. Хотя партийное руководство
первоначально опасалось, что переход к более либеральной линии
приведет к оживлению религиозной активности, местные
уполномоченные Совета по делам РПЦ сообщали, что, как только
верующие перестали опасаться скорого закрытия церквей,
посещаемость церкви сократилась. По их сообщениям, ноябрьское
постановление «внесло в среду верующих успокоение за судьбу своей
церкви, что нашло[?] свое выражение в некотором снижении количества
участников торжественных богослужений в такой особо чтимый
праздник, как Рождество, в отдельных местностях Советского Союза».
В Риге (Латвия) «даже постоянные любители торжественных
богослужений в эти рождественские праздники поленились
присутствовать на всех таких богослужениях, которые они обычно
раньше не пропускали» [310]. В Краснодарском крае священники
предсказывали, что численность прихожан будет расти, поскольку
верующих «больше не будут притеснять», но их ожидания «оказались
неоправданными». В целом отношение населения к более либеральной
партийной линии было положительным, и верующие выражали
«удовлетворение», что Центральный комитет «предупредил всех, что
конституционные права советских граждан никому не дозволено
нарушать» [311].
Во время партийных собраний на местах люди спрашивали,
разрешено ли тем коммунистам, которые проживают вместе
с верующими членами семьи, держать дома иконы, почему так много
советских офицеров посещают церковь, почему коммунистов,
соблюдающих религиозные обряды, не исключили из партии, означает
ли новое постановление, что всем молодым людям теперь разрешено
венчаться в церкви, почему в Советском Союзе до сих пор действуют
семинарии и почему государство не может просто закрыть все церкви
и покончить с этим [312]. В то же время в докладах с мест отмечалось,
что некоторые местные чиновники, как представляется, «неверно
понимают постановление». Один рабочий выразил это мнение, говоря
о праве на участие в религиозных обрядах: «В последнее время
в газетах стали много писать, осуждая тех, что пошел в кумовья или
крестил в церкви ребенка. Кому какое дело до этого? Лишь бы на
производстве честно работать. Это дело совести каждого, о чем
записано в нашей Конституции. Людям надо разъяснять их
неправильное мировоззрение, но нельзя за это преследовать». Других
критиковали за то, что они впадают в противоположную крайность
и понимают постановление «как свободу отправления религиозных
верований членами и кандидатами в члены партии». Колхозника из
Липецка по фамилии Маленков привела в ярость мысль о том, что
необходимо уважать права духовенства: «И чего мы нянчимся
с попами? Собрать бы их всех да и прибрать к рукам. И уж если этого
сделать нельзя, то ведь можно дать указание патриарху, чтобы он
выпустил всем попам такой приказ, после которого они прекратили бы
свою работу. А то получается, что у нас одновременно существуют две
идеологии» [313]. В целом кампания 1954 г. несла в себе двойственный
смысл и порождала замешательство. Существование «двух идеологий
одновременно» допускало широкий спектр мнений относительно места
и значения религии в жизни советского общества.
После антирелигиозной кампании 1954 г. с ее противоречивыми
результатами партия отступила с религиозного фронта. Но вторичное
вторжение советского государства в сферу религии проливает свет не
столько на вопросы, на которые оно ответило, сколько на вопросы,
которые оно поставило. Перефразируя слова латвийского священника,
можно было бы спросить: почему партия ломится в открытую дверь?
Иными словами, почему — учитывая политическую лояльность
большинства религиозных организаций и приверженность партии
марксизму-ленинизму — после смерти Сталина религия снова оказалась
проблемой? Чтобы дать ответ на этот вопрос, полезно вернуться к Бонч-
Бруевичу. Выступая на собрании в Академии наук вскоре после выхода
ноябрьского постановления ЦК КПСС, Бонч-Бруевич осудил
отступление партии от атеизма. Он вспомнил, что во время своей
недавней поездки в Ленинград «поразился громадным количеством
ремонтируемых церквей», но когда пришел в областной комитет партии
спросить, что за «богомольный город» они строят, местные
функционеры отвечали ему уклончиво. «Оказывается, — продолжал
Бонч-Бруевич — что, очевидно патриарх, через своих людей, вхожих
в ГИОПС [Государственную инспекцию по охране памятников
старины], получил разрешение реставрировать эти церкви в качестве
особенных ценностей». Особенно обидным для Бонч-Бруевича было то,
что он добивался у той же самой инспекции реставрации Казанского
собора, где располагался Государственный музей истории религии
и атеизма, но получил «категорический» отказ. Бонч-Бруевич считал
противоестественной такую ситуацию, когда церкви
восстанавливаются, а атеистический музей остается заброшенным. Этот
факт так потряс Бонч-Бруевича, что он грозился написать Хрущеву
и Маленкову и рассказать им «о тех безобразиях, которые творит эта
организация, которую с точки зрения моей, старого большевика, нужно
немедленно распустить, потому что там сидит чорт знает кто!
Я полагаю, что они кресты носят и под жилетками крестятся, а мы
должны им подчиняться» [314].
В конечном итоге кампания 1954 г. по большей части свелась
к публикациям в прессе, которые оказали лишь ограниченное влияние
на религиозную жизнь советского общества. Несмотря на
воинствующую риторику, в реальности было закрыто лишь несколько
церквей. Если в 1953 г. в стране было 13 508 православных церквей,
60 монастырей и 12 089 священнослужителей, то в 1954 г. эти
показатели снизились лишь незначительно: 13 422 церкви,
59 монастырей и 11 912 священнослужителей. Статистические данные
не изменялись существенным образом вплоть до 1961 г. [315] Учитывая
тот факт, что антирелигиозное постановление ЦК не распространялось
открыто и имело относительно небольшое воздействие на религиозную
жизнь, его важнейшей целью было послать сигнал партии,
правительству и служителям церкви о смене партийной линии по
религиозному вопросу.
Две идеологии одновременно
Новая партийная линия в отношении религии породила множество
разнообразных трактовок будущего религии в СССР. Начало
десталинизации в 1956 г. еще более запутало ситуацию, поскольку ни
у религиозных деятелей, ни у государственных чиновников не было
четкого представления о том, как новые политические тенденции
повлияют на курс в отношении религии и атеизма. С началом
десталинизации существенно возросло число православных
священников, поскольку те, кто находился в заключении или в местах
ссылки, теперь были амнистированы или реабилитированы. Отменив
свой прежний запрет, Совет по делам РПЦ теперь позволил местным
уполномоченным регистрировать священнослужителей, имевших
тюремный срок, так что к концу 1950-х гг . бывшие заключенные
составляли 30% священнослужителей в Латвии и Литве, 45% —
в Белоруссии и 80% — в Украине [316]. Также было разрешено
публиковать религиозную литературу бóльшими тиражами, и в 1956 г.
впервые в советской истории была опубликована Библия на русском
языке; тираж издания составлял 28 000 экземпляров [317]. Религиозный
вопрос оставался и фактором внешней политики, поскольку Хрущев
пытался установить более широкие контакты с зарубежными странами.
Срежиссированные демонстрации жизнеспособности религии в СССР
обеспечивали Советскому Союзу важный политический капитал за
границей, и партия позаботилась о том, чтобы иностранным туристам
показывали церкви, где они могли воочию наблюдать религиозную
свободу в СССР [318]. Во время Всемирного фестиваля молодежи
и студентов 1957 г. в Москве советские молодые люди даже вели
дебаты с верующими гостями из Англии о сравнительных достоинствах
социалистической и христианской нравственности[319].
В 1955–1957 гг. советская политическая элита столкнулась и с более
неотложными политическими проблемами, от проведения курса
десталинизации до борьбы за власть внутри самой элиты. Поэтому
в период с 1955 по 1958 г. религиозный вопрос отошел на задний план,
а религиозная жизнь вернулась на круги своя. Советы по делам РПЦ
и по делам религиозных культов продолжали собирать данные
о религиозной жизни, вести учет действующих церквей и духовенства,
финансовых средств духовенства и церкви, посещаемости воскресных
служб, проявлений народной религиозности и соблюдения обрядов,
особенно крещений, венчаний и отпеваний, которые считались главным
источником доходов церкви и лучшим показателем жизнеспособности
религии. Доходы православной церкви, в основном складывавшиеся из
сборов за совершение треб и доходов от продажи свечей, продолжали
расти. Так, в Украине церковные доходы возросли со 130 миллионов
рублей в 1955 г. до 145 миллионов в 1956 г. [320] В целом Совет по
делам РПЦ объяснял улучшение финансового положения церкви не
только более либеральной атмосферой, но также повышением уровня
жизни, отмечая: «Размеры доходов церкви и духовенства
свидетельствуют о том, что забота верующих об интересах церкви не
ослабевает, а возрастает, и что теперь отдельно взятая религиозная
община может уже расходовать больше средств на благоустройство
своих молитвенных зданий» [321].
Увеличение доходов церкви было по большей части связано
с ростом количества религиозных треб. Ленинградский
уполномоченный Совета по делам РПЦ Ф. В. Федосеев докладывал, что
в первом квартале 1957 г. по сравнению с первым кварталом 1956 г.
количество крещений возросло с 2697 до 3769, венчаний — с 70 до 111,
отпеваний — с 1955 до 1958, а доходы церкви соответственно возросли
с 85 768 до 94 894 рублей [322]. Продолжала расти и посещаемость
воскресных служб. В больших городах в дни главных церковных
праздников, особенно Рождества и Пасхи, церкви были переполнены.
Московские чиновники отмечали, что, когда религиозные праздники
приходятся на выходные или официальные праздничные дни, церкви
заполняются до отказа, а в некоторые из них приходит не менее четырех
тысяч человек [323]. В целом завершение антирелигиозной кампании
1954 г. в сочетании с заметным экономическим ростом в середине 1950-
х гг. принесло больше пользы религии, чем атеизму [324].
Верующие трактовали десталинизацию как признак того, что
политическая либерализация распространяется и на позицию советского
государства в отношении религии. Уполномоченный Совета по делам
РПЦ в Москве Алексей Трушин докладывал, что после ХХ съезда
партии возросло количество обращений верующих с просьбами открыть
церкви [325]. Он также сообщал, что авторы петиций связывают свои
просьбы открыть церковь или зарегистрировать религиозную общину
с современными политическими тенденциями, упоминая в своих
обращениях новый партийный лозунг соблюдения социалистической
законности, встречу председателя Совета министров Николая
Булганина с патриархом Алексием, а также освещение в прессе визитов
в СССР делегаций зарубежных церквей [326]. Как писал один из
авторов такой петиции, «мы раньше не хлопотали об открытии нашей
церкви, потому что думали, что все это будет напрасно. Теперь, когда
мы узнали из заявлений Булганина и Хрущева, сделанных в Индии, что
у нас полная свобода вероисповеданий, мы взялись за это дело» [327].
Неопределенность положения религии в Советском Союзе даже
побуждала некоторых верующих выдвинуть идею «третьего пути»,
который состоял бы в привлечении религии на службу делу
коммунизма. Борис Рославлев, называвший себя «голосом общества
верующих из интеллигенции», отправил в Совет по делам РПЦ
пространную записку о роли религии в современных условиях, которую
Совет по делам РПЦ, в свою очередь, переслал в ЦК КПСС. В своей
записке Рославлев акцентировал внимание на той положительной роли,
которую религия, особенно религиозная нравственность, может играть
в период, когда советское общество находится «в движении
к коммунизму». Он отмечал, что «верующая интеллигенция» тянется
к религии, потому что видит в ней «улучшение человеческой
нравственности». Иногда, писал Рославлев, «хочется побыть самим
с собой, лицом к лицу со своей совестью только. И видя перед собой
в мыслях образ того, каким должен быть человек. Образ этот —
Христос. От людского суда, говорят можно отвеется, от образа этого
нет» [328]. Рославлев спрашивал, может ли коммунистическая
нравственность влиять на отдельных людей так же глубоко, как
перспектива Страшного суда, и задавался вопросом, можно ли считать,
что советские люди уже достигли той степени моральной чистоты,
которая сделала бы их достойными гражданами коммунистического
общества. Он считал, что для построения идеального
коммунистического общества советское государство нуждается
в Русской православной церкви (которая, как отмечал Рославлев,
представляет большинство советских граждан). «Коммунизм требует
всеобщего развития, всеобщей чистоты духовной, высокого поднятия
нравственности, душевнейшего отношения друг к другу, — писал
Рославлев. — И церковь, подлинная церковь, может в нашем этом
преддверии к коммунизму, как и в духовном укреплении правового,
справедливого, при социализме помочь, очень помочь».
Коммунистическая мораль, доказывал Рославлев, не подходит для
решения этой задачи:
Нам скажут — у нас есть коммунистическая мораль — вот что надо
вкладывать в людскую массу. Верно. Но это требует и огромного
всеобщего образования, требует не одного десятка лет большой работы.
Мы можем планировать это, что и делает наше правительство, но
сказать, что безусловно полностью осуществим... Нельзя сказать. Есть
много неизжитых условий, в силу которых некоторые останутся вне
этого благого и великого плана; вне образования. К душе или совести,
если говорить о широкой народной массе, подойти легче. Улучшить
нравственность таким методом и с помощью такого образа, как
Христос, можно скорее успешнее. Тем более, если мы видим
(несомненно видим), религию не так-то легко выхолостить [329].
Отмечая многочисленные недостатки как советских реалий, так
и коммунистической морали, Рославлев указывал неспособность
коммунистической идеологии преодолеть религию, и высказывал
мнение, что религия продолжает существовать в СССР не только
потому, что это ей дозволено, но и в силу того, что коммунистический
проект не смог обеспечить людям ни материального благополучия, ни
духовной пищи. Разумеется, для Коммунистической партии
предложенное Рославлевым решение — поставить религию на службу
делу коммунизма — не было выходом, поскольку при Хрущеве
религию трактовали как чуждую идеологию, угрожающую расшатать
строящееся здание коммунизма. По мере того как кристаллизовалась
идеологическая платформа партии, попытки примирить религию
с коммунистической идеологией — неважно, исходили ли они от
рядовых граждан, правительственных чиновников, духовенства или
интеллигенции — все реже приветствовались.
Наконец, десталинизация также поставила в сложное положение те
учреждения, которые были обязаны поддерживать «нормальные»
отношения с религиозными организациями, — Совет по делам РПЦ
и Совет по делам религиозных культов, поскольку те две модели, по
которым строилась их работа, — сталинская модель, где на первый план
выдвигались задачи управления, и хрущевская, где подчеркивались
идеологические задачи, — зачастую противоречили друг другу.
На протяжении 1956 и 1957 гг. Совет по делам РПЦ раздирали
внутренние разногласия относительно его миссии, что заставило его
обратиться за руководящими указаниями к партийным органам[330].
В записке, направленной в ЦК КПСС и адресованной Поспелову,
И. Иванов, глава отдела инспекции Совета по делам РПЦ, просил
прояснить партийную линию в отношении религии в свете решений ХХ
съезда партии. Поскольку изначальная задача Совета состояла в том,
чтобы поддерживать стабильность и контролировать дела религии,
Иванов доказывал, что игнорирование петиций верующих с просьбами
открыть церкви, нарушающее их конституционное право «отправления
религиозных культов», подрывает выполнение задачи Совета —
обеспечивать «отдушину» для недовольства [331]. В другом письме
помощник Иванова В. Спиридонов предупреждал, что в целях
«успешного выполнения решений Двадцатого съезда партии и быстрого
продвижения к коммунизму, для преодолений усилий умирающего
капитализма разжечь вновь пожар мировой войны» Совет «не должен
превращаться в штаб политической войны с религией, и не делал ничего
такого, что нарушало бы нормальные отношения между церковью
и государством, что могло бы повредить благожелательной для нас
политической линии церкви». Первостепенной целью Совета, доказывал
Спиридонов, является поддержка церкви в ее «активной борьбе за мир
и в поддержке мероприятий партии и правительства внутри страны.
В этом главное, а не в том, чтобы изобретать какие-то стратегические
и тактические действия в войне с религией» [332]. Партия, заключал
Спиридонов, должна вместе с церковью работать над достижением
общих международных и внутренних целей и может бороться
с религией «только словом» [333].
Однако в условиях хрущевской идеологической мобилизации было
бессмысленно делать упор на задачи управления и поддержания
стабильности, как это предлагал Совет по делам РПЦ. К 1957 г. партия
становится все более нетерпеливой. Многое зависело также от
расстановки сил внутри советской политической элиты и от того, будет
ли перевес на стороне партийного аппарата или правительственных
учреждений [334]. Когда в 1957 г. Хрущев в конце концов одержал
победу над своими политическими соперниками, так называемой
«антипартийной группой», чаша весов в борьбе за власть склонилась
в пользу партии. Взяв на себя выработку политического курса
в отношении религии, партийное руководство ожидало от Совета по
делам РПЦ и Совета по делам религиозных культов не столько
«нормализации» религиозной жизни, сколько ограничения влияния
религии на советское общество. Вскоре после этого в прессе стали
вновь появляться статьи антирелигиозного содержания [335].
Таким образом, в 1958 г. сошлись воедино несколько факторов,
мобилизовавших партию на новое наступление на религиозном фронте:
обеспокоенность религиозным возрождением, более активная позиция
православной церкви и мирян и, наконец, изменение баланса сил внутри
советской политической элиты от государственных структур в пользу
партийных [336]. Когда о новых тенденциях религиозной жизни
становится известно представителям партийного руководства —
Суслову, Фурцевой, Поспелову, Леониду Ильичеву, а также таким
комсомольским энтузиастам, как Шелепин, Аджубей, Сергей Павлов
и Владимир Семичастный, — это было воспринято ими как
недопустимое отступление от коммунистической идеологии. Вскоре
стало ясно, что определять политику советской власти в отношении
религии будет именно партия, а не правительственные органы.
Антирелигиозная кампания, готовившаяся за закрытыми дверями,
наконец началась, и маскировать ее больше не считали нужным [337].
Большая опасность: антирелигиозная
кампания 1958–1964 гг.
Искрой, от которой вспыхнуло пламя новой антирелигиозной кампании,
стало письмо, поступившее 15 апреля 1958 г. в адрес Суслова,
блюстителя партийной ортодоксии, от В. Шаповниковой, специального
корреспондента «Литературной газеты» [338]. В этом письме
Шаповникова описывала шок, который она испытала, впервые
столкнувшись с религией во время недавней командировки в сельскую
местность, куда она отправилась, чтобы написать о баптистских
молитвенных собраниях. То, чему она стала свидетельницей, а также
последующие отклики читателей на ее статью раскрыли ей глаза на тот
факт, что «за проповедником стоит большая сила»; она предупреждала
Суслова, что «мы очень слабо вооружены против этой силы».
Шаповникова указывала, что городская интеллигенция очень мало знает
о месте религии в современной жизни. «Мы не можем даже в точности
сказать, сколь велика опасность, стоящая перед нами, — писала она. —
Убеждена, опасность большая...» [339]Серьезной проблемой было
отсутствие эффективно действующего атеистического аппарата,
способного противостоять мощной зримой угрозе; Шаповникова
отмечала, что организации, обязанные вести атеистическую работу —
Государственный музей истории религии и атеизма, а также общество
«Знание», — явно не отдают себе отчета в возможных последствиях
своей недостаточной активности.
Письмо Шаповниковой было воспринято партийным руководством
как сигнал тревоги. Суслов распорядился изучить ситуацию с религией,
и в апреле 1958 г. Центральный комитет партии организовал
конференцию, в которой участвовали представители учреждений,
занимавшихся вопросами религии и атеизма. Результатом работы
конференции стал доклад о недостатках в атеистической работе,
адресованный отделу агитации и пропаганды Центрального комитета
КПСС, и вскоре после этого правительственные и партийные органы
начали издавать постановления, направленные на ограничение влияния
религии на жизнь советского общества[340]. Точнее говоря, в конце
1958 г. появились два секретных постановления, возвестившие начало
новой кампании. В первом из них, постановлении Центрального
комитета КПСС от 4 октября 1958 г., говорилось о недостатках
атеистической работы, тогда как в соответствии со вторым —
постановлением Совета министров от 16 октября 1958 г. — на церкви
и монастыри возлагалось еще больше тяжелых налогов, в том числе
повышался налог на такие важные источники церковных доходов, как
свечи [341]. Духовенство стало подвергаться преследованиям за те виды
деятельности, которые и прежде были запрещены, но к ним относились
с молчаливой снисходительностью: например, за совершение
религиозных обрядов на дому, благотворительную деятельность,
религиозное обучение, а также за приобретение недвижимости
и транспортных средств для использования в религиозных целях.
Православной церкви было отдано распоряжение закрыть больше
церквей и монастырей, а чиновников Совета по делам РПЦ
инструктировали препятствовать верующим в подаче просьб
о регистрации и открытии церквей и отвечать на такие просьбы
отказом [342]. «Социалистическая законность» — лозунг, который
первоначально побуждал некоторых граждан обращаться к власти
с просьбами о защите законных прав церкви и верующих, а также
с призывами соблюдать принцип свободы совести, — теперь стала
интерпретироваться как орудие подавления религиозной деятельности.
Как пишет историк Татьяна Чумаченко, «все, что было разрешено
специальными законодательными актами, резолюциями
и инструкциями правительства в 1940–1950-е гг., теперь было
объявлено нарушением советских законов» [343].
Хрущевская антирелигиозная кампания была связана с другими
проблемами, которые занимали в это время партию, в том числе
с проблемами молодежи, образования, нравственности и быта. Меры по
борьбе с религией были направлены на то, чтобы ограничить влияние
религии на детей и молодежь, особенно потому, что из-за убыли
населения в результате войны новое поколение стало составлять
большую часть взрослого населения страны [344]. Совет по делам РПЦ
отмечал, что судьба религии в Советском Союзе зависит от ее
способности воспроизводить себя в следующем поколении. Как
отмечалось в докладе о росте посещаемости церквей, «посещаемость
церкви растет не только за счет пожилых, но и, в значительной степени,
за счет молодых. Рост числа венчаний и крещений доказывает это,
поскольку только молодые женятся и крестят детей» [345]. Было
очевидно, что религия не исчезнет, пока новое поколение остается под
ее влиянием. Комсомольская пресса начала широкую дискуссию по
проблемам атеизма, публиковала письма читателей с вопросами о том,
могут ли комсомольцы ходить в церковь, и поднимала вопросы атеизма
в контексте более общей проблемы «нового здорового быта» [346].
Церкви было велено ограничить число абитуриентов, поступающих
в семинарии, и поднять минимальный возраст абитуриентов
с восемнадцати до тридцати лет. Иногда комсомольские и партийные
активисты физически перекрывали доступ в церковь для бабушек,
которые пытались провести с собой внуков.
Советские чиновники считали, что религиозность молодежи связана
с проблемами в других сферах, особенно в сфере образования
и семейной жизни. Они критиковали школы за невнимание
к атеистическому воспитанию и побуждали учителей бдительнее
следить за жизнью семей своих учеников и оказывать большее влияние
на мировоззрение своих подопечных [347]. Совет по делам РПЦ
сообщал, что учителя часто не желают вмешиваться в вопросы
религиозной веры, объясняя отсутствие атеистической работы в школе
тем, что, мол, научное содержание советского образования органически
приведет учеников к атеистическим убеждениям. Совет указывал, что
пренебрежение школы вопросами религии и атеизма оставляет место
для опасного влияния семьи. Как объяснял один семиклассник на
школьном собрании, посвященном вопросам религии,
учителя в школе учат нас, чтобы мы слушались родителей. Дома
родители учат нас, чтобы мы уважали и слушали учителей. Учителя,
перед Пасхой или после Пасхи, один раз в году говорят нам, чтобы мы
не ходили в церковь, а наши матери и отцы каждый день заставляют
Богу молиться и в церковь ходить. Учителя говорят, кто пойдет
в церковь, отметки снизят, а родители говорят, не пойдешь в церковь из
дому выгонят. Кого же нам слушаться? Необходимо, чтобы все
взрослые люди, и учителя и наши родители, договорились между
собой [348].
В условиях нарастающей антирелигиозной кампании соперничество
семьи и школы за влияние за детей становилось еще более очевидным.
Наконец, важным новшеством антирелигиозной кампании было
внимание партии к народной религиозности и обычаям, которые теперь
были включены в более широкое определение религии [349].
Во времена Ленина и Сталина, когда религия определялась
преимущественно в политических терминах, нейтрализация
религиозных организаций и духовенства требовала прямого действия.
Искоренение народной религиозности, напротив, рассматривалось как
длительный процесс, который будет развиваться органически под
влиянием распространения образования, просвещения и модернизации.
При Хрущеве партия начала фокусировать внимание на тех практиках,
которые до того времени не были первостепенной мишенью
антирелигиозной политики: паломничествах, почитании местных
святых, религиозных праздниках и святых местах. Стирание различий
между организованной религией и народной религиозностью
выразилось в том, что и то и другое стали характеризовать как форму
суеверий [350]. Как указывает антрополог Сергей Штырков, произошло
«резкое расширение сферы применения термина „религия“. Многое из
того, что до этого воспринималось скорее в терминах местной и/или
этнической традиции или обычая, стало „религиозным“
и, следовательно, подлежащим искоренению» [351]. Народная
религиозность и местные традиции оказались мишенью атеистической
работы.
Пресса, как и прежде, играла важную роль в процессе
переосмысления религии, практикуясь в том, что Штырков называл
«обличительной этнографией» [352]. Так, в газете «Социалистическая
Осетия» журналист Снегирев опубликовал разоблачительную статью
о местных членах партии, которые, как и другие жители города, не
появлялись на работе в течение трехдневного отмечания местного
праздника. Вместо «борьбы с этим злом», писал Снегирев, коммунисты
сами оказались «в плену отживших традиций». В другом селе «тремя-
четырьмя стариками» было организовано шествие на кладбище
и ритуальное жертвоприношение, чтобы «вызвать дождь». Эти пожилые
люди смогли «дурманить головы» целому городу, включая
впечатлительных детей, тогда как партийные чиновники, председатели
колхозов и учителя «равнодушно взирали» на происходящее. Также
Снегирев поделился историей о том, как «мракобес и авантюрист»
Закаря Хосонов организовал у себя на дому «мастерскую по
изготовлению талисманов». Хосонов объявил, что талисманы, на
которых начертаны «непонятные самому Хосонову, какие-то
таинственные знаки», приносят удачу и любовь, защищают от болезней
и гарантируют рождение мальчиков. Когда «простаки» повалили толпой
покупать талисманы, двор Хосонова заполнился разнообразной
живностью, которую деревенские жители отдавали ему в качестве
оплаты; «рекой текут сюда и трудовые рубли». В числе жертв
махинаций Хосонова оказался даже бригадир колхоза. Такие
разоблачительные очерки были призваны убедить читателя, что на
современной стадии исторического развития «суеверия» недопустимы,
особенно для советских чиновников и членов партии [353].
Партия считала церковь движущей силой подобных проявлений
народной религиозности, но фактически кампания по борьбе
с суевериями велась на том поле, где интересы государства совпадали
с интересами церкви [354]. 10 сентября 1958 г., перед тем как
информация о начале новой антирелигиозной кампании стала
достоянием общественности и еще до того, как партия и правительство
приняли секретные постановления, Карпова направили в Одессу для
встречи с патриархом Алексием [355]. Карпову было дано поручение
деликатного свойства: проинформировать патриарха о начинающейся
кампании и заручиться его содействием, но в то же время заверить, что
государство по-прежнему будет поддерживать «нормальные»
отношения с церковью. Тем не менее когда Карпов проинформировал
патриарха о намерении партийного руководства закрыть Киево-
Печерскую лавру, патриарх пригрозил уйти в отставку — а такой ход
событий был бы совершенно неприемлем для Совета по делам РПЦ,
который всегда следил за реакцией зарубежной общественности на
положение религии в СССР. Карпов был вынужден разрядить
напряженную обстановку и заверить патриарха, что у того «нет
оснований... сомневаться в искренности отношений [государства]
к нему», а затем перевел разговор на тему, по которой они могли
достичь компромисса: о мерах по искоренению суеверий. Карпов
попросил патриарха заняться проблемой так называемых «кликуш» —
этот термин использовался в отношении верующих женщин, которые
считались одержимыми демонами; кликуши были постоянным
явлением в жизни православной церкви [356]. Докладывая об этой
встрече, Карпов отметил, что хотя патриарх оценил ситуацию вокруг
Киево-Печерской лавры как «сложную», он сказал Карпову, что церковь
считает кликушество формой суеверия, и отозвался о кликушах как
о «шарлатанках», «жулье» и «беснующихся больных людях».
Поскольку церковь считала суеверие грехом и «плодом невежества»,
патриарх заверил Карпова, что он уже дал указания священникам,
чтобы те не совершали молебствий у любых «так называемых „святых“
деревьев, колодцев, родников, ключей», и что он даст также указания
относительно кликушества.
28 ноября 1958 г. Президиум ЦК КПСС принял постановление
«О мерах по прекращению паломничества к так называемым „святым
местам“» [357]. В ходе антирелигиозной кампании власти захватывали
такие святые места и либо закрывали их, либо приспосабливали для
иных целей. Святые колодцы заливали цементом, оправдывая их
закрытие тем, что они были антисанитарными и являлись рассадниками
малярии и венерических болезней [358]. Иногда святые места
превращали в пионерские лагеря[359]. В других случаях они
становились свинофермами. Новая антирелигиозная кампания была
также направлена на разоблачение самозваных религиозных лидеров
(«самочинцев»), в частности местных жительниц, которые в отсутствие
религиозных учреждений часто выступали как хранительницы
религиозных знаний, или же незарегистрированных органами власти
священников и мулл, которые осуществляли богослужения и требы
и иногда переходили из деревни в деревню, чтобы избежать наказания.
Даже накануне периода наиболее антагонистических отношений между
советским государством и церковью обе стороны могли прийти
к соглашению относительно некоторых дефиниций и задач, например
относительно антагонизма отсталости и просвещения. легитимной
и нелегитимной власти. Антирелигиозная кампания, таким образом,
была еще и дисциплинарным проектом: чтобы контролировать религию,
было пересмотрено понятие религии, с тем чтобы включить в него такие
элементы, которые не были институциональными и коренились
в индивидуальной вере. В этом смысле заинтересованность церкви
в том, чтобы провести более четкую границу между верой и суеверием,
совпадала с повесткой хрущевской кампании, в рамках которой борьба
с суеверием была частью более масштабного проекта строительства
современного, рационального советского общества.
В январе 1960 г., вскоре после того, как Центральный комитет
КПСС издал постановление «О мерах по ликвидации нарушений
духовенством советского законодательства о культах», Карпов написал
письмо Хрущеву. В этом письме он доказывал необходимость
сохранения «нормальных» отношений с церковью, особенно поскольку
Советский Союз «еще не може[т] отказаться от известного
использования церковных организаций за границей в наших
государственных политических интересах...» [360]Тем не менее на
фоне агрессивной антирелигиозной политики того времени позиция
Карпова становилась все более шаткой. Вскоре после отправки этого
письма Хрущеву Карпов был смещен со своего поста, а большая часть
«старой гвардии» Совета по делам РПЦ подверглась чистке; тем самым
был послан недвусмысленный сигнал, что миссия Совета заключается
не в нормализации церковно-государственных отношений, а в том,
чтобы служить орудием партии в антирелигиозной кампании.
Письмо Карпова и реакция на него партийного руководства
подчеркнули увеличивавшийся разрыв между «старой гвардией», по-
сталински ставившей акцент на задачах управления, и новым
поколением, акцентировавшим задачи хрущевской идеологической
мобилизации. Показателем этого разрыва стало назначение Владимира
Куроедова на место Карпова. Куроедов, которому предстояло занимать
пост председателя Совета по делам РПЦ (а затем — Совета по делам
религий) в следующие двадцать пять лет, сделал карьеру партийного
аппаратчика, в том числе возглавлял отдел пропаганды ЦК
Коммунистической партии Литовской ССР, был секретарем
Свердловского и Горьковского областных комитетов партии и главным
редактором областной газеты «Горьковская коммуна». Перед тем как
возглавить Совет по делам РПЦ, он работал в партийном аппарате
Москвы. В 1960 г. Фурцева, которая в тот период курировала дела
религий в Центральном комитете КПСС, пригласила к себе Куроедова
и сообщила, что его кандидатура рассматривается как возможная замена
Карпову [361]. У Куроедова не было ни знаний, ни опыта в религиозных
делах; как он вспоминал впоследствии, руководство делами религий
было для него «совсем незнакомое дело и должность» и он не
испытывал «восторга» в отношении перспектив этой работы. Тем не
менее на следующий день Куроедова вызвали на заседание Постоянной
комиссии по идеологическим вопросам при Президиуме ЦК КПСС, где
Суслов сообщил ему, что назначение утверждено, и проинструктировал,
что церковь получила слишком много свобод и «распустилась» и что
«надо наводить порядок». Настроение было воинственное,
и идеологический истеблишмент, судя по всему, был уверен, что СССР
стоит на пороге «окончательного искоренения религии» [362].
При Куроедове функции Совета по делам РПЦ изменились,
поскольку теперь Совету было рекомендовано использовать все
доступные административные и идеологические меры, чтобы
ограничить влияние религии на советское общество [363]. В 1961 г.
были изданы секретные инструкции, где подчеркивалось расширение
сферы ответственности местных уполномоченных Совета. Как
и прежде, они должны были сообщать в центр об отношении
духовенства к политической жизни и текущим событиям, вести учет
местных верующих, фиксировать, сколько средств церковь перечисляет
в советский Фонд мира, учрежденный в 1961 г. в ходе кампании по
борьбе за мир, и какой доход получает церковь от продажи свеч,
крестиков и венчиков, а также собирать информацию о собственности
религиозных учреждений и о составе приходских советов,
зарегистрированных и незарегистрированных религиозных общин.
Но уполномоченным Совета по делам РПЦ также предписывались
дополнительные обязанности. Теперь они должны были заниматься
организацией атеистической работы, внедрять в жизнь новые
социалистические ритуалы и помогать священникам, порвавшим
с религией, найти новую работу. 16 марта 1961 г. Совет министров
СССР издал постановление «Об усилении контроля за выполнением
законодательства о культах», согласно которому местные должностные
лица наделялись полномочиями по вмешательству в дела религиозных
общин. В этом им должны были помогать недавно созданные комиссии
содействия по наблюдению за выполнением законодательства о культах
—
группы добровольцев, помогавшие следить за тем, например, как
используется собственность религиозных организаций или кто
соблюдает религиозные обряды.
Наконец — и, возможно, это была наиболее последовательная
стратегия антирелигиозной кампании — партия использовала Совет по
делам РПЦ, чтобы оказать давление на церковь и вынудить ее одобрить
внутренние реформы, ограничившие экономические возможности
и социальную автономию духовенства. Священнослужителям было
запрещено участвовать в принятии приходскими советами любых
административных или финансовых решений; они стали служащими по
найму у прихожан, зависимыми от воли приходских советов.
В частности, эти реформы были направлены против религиозных
обрядов, соблюдение которых партия стремилась предотвратить,
предусматривая различные препятствия. С точки зрения партии
священники, став наемными служащими, утратят материальную
заинтересованность в совершении религиозных обрядов, поскольку их
заработок будет оставаться неизменным независимо от того, сколько
детей они окрестят [364]. Советские граждане теперь были обязаны при
совершении религиозного обряда предъявлять паспорт, их личные
данные записывались и могли быть переданы по инстанциям —
местным властям, в школы, по месту работы, результатом чего могло
стать исключение из партии или комсомола, понижение в должности
или увольнение. С помощью этих мер партия надеялась удержать
религию внутри церковных стен, а советских людей — вне сферы
влияния церкви.
Антирелигиозная кампания такого масштаба должна была принести
результаты, но не обязательно такие, на которые рассчитывала партия.
В течение хрущевской эпохи было закрыто пять из восьми духовных
семинарий, существовавших в Советском Союзе, а количество
действующих монастырей, достигшее в 1945 г. ста, сократилось
к 1959 г. до шестидесяти трех, а к середине 1960-х
—
до
восемнадцати [365]. Число действующих церквей и часовен сократилось
с почти 30 000 в 1960 г. до приблизительно семи-восьми тысяч
в середине 1960-х. Чтобы оценить эти данные, надо сказать, что
к 1964 г. в стране насчитывалось чуть больше половины действующих
церквей от их количества в 1947 г.[366]
Статистические данные по стране создают более сложную картину,
позволяя проследить влияние антирелигиозной кампании на
религиозную жизнь в отдельных регионах. Так, в Красноярском крае
директивы центра привели к неожиданным результатам [367]. Как
и в других регионах, кампания 1954 г. оказала лишь небольшое
воздействие на православную церковь, и за ней последовал период
религиозного возрождения в 1955–1957 гг. [368] После начала новой
антирелигиозной кампании в 1958 г. девять из шестнадцати церковных
приходов были закрыты, а на экономическую деятельность церкви были
наложены дальнейшие ограничения [369]. Тем не менее, несмотря на
усилия по ограничению религиозной жизни и подавлению
экономической деятельности церкви, общая сумма доходов
православной церкви в Красноярском крае возросла с 327 583 рублей
в 1960 г. до 383 997 рублей в 1965 г. [370] Религиозная жизнь
советского общества все больше перемещалась в города, поскольку
верующие из тех районов, которые теперь стали «бесцерковными», для
удовлетворения своих религиозных потребностей были вынуждены
приезжать в город [371]. Более того, в результате закрытия церквей
религиозная жизнь перемещалась в подполье и тем самым уходила из-
под государственного контроля. Поэтому в целом, несмотря на
статистику, свидетельствующую о сокращении количества открытых
церквей, партия была вынуждена признать динамизм, гибкость
и жизнестойкость религии и не могла дальше сохранять иллюзию, что
с помощью административных ограничений можно добиться
неизбежного отмирания религии .
Об этом тревожном состоянии дел в 1964 г. сообщил Центральному
комитету КПСС 1-й заместитель начальника 2-го Главного управления
КГБ Федор Щербак в секретной справке «о фактах администрирования
в отношении верующих со стороны местных органов на территории
РСФСР»[372]. Местные органы власти, как докладывал Щербак,
закрывали церкви, молельные дома и мечети, увольняли верующих
с работы и исключали студентов из вузов за соблюдение религиозных
обрядов [373]. Большинство этих антирелигиозных мер, подчеркивал
он, были незаконны и приводили к нежелательным последствиям: росту
религиозного «фанатизма», а также к увеличению количества
незарегистрированных религиозных общин и уходу их в подполье, где
власть не могла следить за их деятельностью. Так, в Брянске местные
чиновники закрыли несколько баптистских молельных домов, не
принимая во внимание протесты части верующих. Это поставило
верующих в полулегальное положение (они были вынуждены
проводить службы в частных домах) и в конечном итоге привело
к созданию религиозного сообщества, которое стало и более стойким,
и более рассредоточенным — и потому с трудом поддающимся
регулированию. Если ранее баптистская конгрегация насчитывала
двести членов, одного пресвитера и трех пасторов, то теперь, как
сообщал Щербак, хотя молельные дома закрыты, численность пасторов
достигла двадцати четырех, а верующих — трехсот человек [374].
Далее Щербак продолжил приводить многочисленные примеры
контрпродуктивных антирелигиозных мероприятий. В одном случае
брянская милиция и группы добровольцев разогнали собрание
баптистов, выгнали верующих из молельного дома, конфисковали
Библию, арестовали и оштрафовали некоторых из них и добились
увольнения одной из женщин с работы. В результате, как отмечал
Щербак, сектанты организовали для нее сбор материальной помощи
и использовали этот факт как пример несправедливого обращения
с верующими со стороны государства [375]. В Башкирской АССР
местного муллу вызвали в районный совет и потребовали прекратить
службы в мечети, предложив в том случае, если он согласится,
повысить размер пенсии, которую он получал за погибшего на фронте
сына, с 28 до 35 рублей. В Калинине и Тамбове местные чиновники
сопровождали закрытие церквей атеистическими кампаниями, когда
специально собранные группы пропагандистов ходили по домам
колхозников и членов приходской «двадцатки» и требовали, чтобы те
вышли из религиозных общин, угрожая, что в противном случае их
подсобные участки урежут, а их самих лишат пенсии или уволят
с работы. В Томске местные власти конфисковали у члена собрания
свидетелей Иеговы путевку в отпуск, выданную профсоюзом за
отличную работу, а затем продолжили вести с ним атеистическую
работу, состоявшую, как с иронией было сказано в докладе, в том, что
местный коммунист пришел к нему на квартиру «в нетрезвом
состоянии» и пытался с помощью различных неуместных методов его
«воспитывать»[376].
Подобные «грубые извращения» в религиозной работе, заключал
Щербак, приводят к различным нежелательным явлениям: недовольству
населения работой местных властей, а также оживлению и росту
религиозного «фанатизма» у тех групп верующих, за которыми ранее
эффективно следило государство. Поскольку религиозные сообщества
увеличивают свою численность и уходят в подполье, КГБ становится
все труднее контролировать их и вести «профилактическую работу».
Кроме того, религиозные общины становятся более активными.
Большие группы верующих приезжают в Москву, чтобы подавать
жалобы в центральные органы власти, а некоторые даже пытаются
проникнуть в иностранные консульства или вступить в контакт
с иностранцами, чтобы передать тенденциозную информацию
о положении церкви в СССР. В Алтайском крае баптисты после того,
как их конгрегация была распущена, неустанно обращаются
с петициями в местные органы власти и угрожают пойти в зарубежные
консульства, если их жалобы останутся без ответа. В июле 1964 г.
группа баптистов из Татарской, Чувашской и Марийской АССР
прибыла в Москву и потребовала, чтобы их приняли в Президиуме
Верховного Совета СССР, ЦК КПСС и Совете по делам религиозных
культов [377]. Щербак доказывал, что в целом репрессивная
антирелигиозная политика привела к тому, что религия стала
привлекать к себе больше внимания в политической сфере, особенно за
рубежом, но при этом не способствовала достижению целей
атеистической работы.
Размышляя о ходе антирелигиозной кампании в 1966 г., Иван
Бражник — заместитель председателя Совета по делам религий,
образованного в 1965 г. за счет слияния Совета по делам РПЦ и Совета
по делам религиозных культов, чтобы сосредоточить управление
жизнью всех религиозных объединений в руках одного учреждения, —
отметил, что «незаконное, поспешное закрытие церквей» при Хрущеве
привело лишь к росту религиозности. Бражник сообщил своим
слушателям, что в недавнем докладе Совета по делам религий
Центральному комитету КПСС были представлены тревожные
статистические данные: в Днепропетровской области, где в период
с 1961 по 1966 г. было закрыто 129 церквей (83,5% от общего числа),
«в оставшихся 20 храмах совершили в прошлом году на 17% больше
обрядов, чем их было в 150 церквах» [378]. В то же время
в Вологодской области, где не было закрыто ни одной церкви,
количество крещений, церковных браков и отпеваний снизилось.
В Молдавской ССР в период с 1961 г. было закрыто более половины
церквей, но, «несмотря на это, точнее, вопреки этому, может быть, еще
точнее, благодаря этому, в республике не снижается, а повышается
уровень религиозности населения». В Молдавской ССР 31% умерших
в 1963 г. были похоронены с соблюдением религиозных обрядов, тогда
как в 1965 г. соответствующий показатель превысил 40%. Доходы
Русской православной церкви в Молдавской ССР в 1962 г. составили
1 миллион рублей, а к 1964 г. достигли 1,8 миллиона рублей. Чтобы
проиллюстрировать этот тезис, Бражник рассказал, что в Тираспольской
области, где закрыты все церкви, были крещены
1000 новорожденных [379]. «Я прошу не устанавливать такую прямую
закономерность. Мы понимаем, что такое наличие церквей и как оно
содействует обрядности, — заключал Бражник. — Но пусть молдавские
и днепропетровские товарищи объяснят и те цифры, которые
приводятся о закрытии церквей» [380].
Исходя из таких результатов, и КГБ, и СДР рекомендовали партии
смягчить административную политику по отношению к религии.
Разумеется, это не означало, что советская политическая элита
усомнилась в важности атеизма как цели, но она утратила уверенность,
что к атеистическому обществу можно прийти с помощью
административных методов.
Заключение
В 1848 г. Маркс и Энгельс начали свой «Манифест Коммунистической
партии» знаменитой фразой: «Призрак бродит по Европе — призрак
коммунизма» [381]. В хрущевскую эпоху призрак бродил в самом
царстве коммунизма — призрак религии. В начале хрущевской
антирелигиозной кампании партийное руководство было уверено
в возможности победить религию и построить атеистическое общество.
Эта уверенность основывалась на вере в то, что у истории есть своя
логика, что эта логика заключается в движении к коммунизму и что
поэтому религия неизбежно должна отмереть. Этот оптимизм отражен
в отчете, составленном в 1961 г. В. Г. Фуровым, новым заместителем
председателя Совета по делам РПЦ, о его беседе с патриархом
Алексием. Патриарх, как писал Фуров, «на многое смотрит с позиций
человека из прошлого века, на наш взгляд уместным будет разъяснить
ему и некоторые общие проблемы развития нашего советского
общества: страна строит коммунизм, развивается наука, растет культура
людей... И разве не ясно, какова перспектива церкви, скажем, лет через
20–30, когда люди, в силу законов развития общества и в результате
воспитания, будут атеистами» [382]. К концу хрущевской эпохи
подобная наивность была уже редкостью.
Существование религии в Советском Союзе всегда представляло
собой проблему для тех, кто считал СССР маяком всемирного
коммунизма, но в контексте хрущевского утопического стремления
построить коммунизм за несколько десятилетий религия превратилась
в постыдное пятно, которое следовало вывести. В то же самое время,
хотя в публичной сфере постоянно звучали оптимистические заявления
о прогрессе и строительстве коммунизма, советское общество всегда
осознавало противоречия и недостатки реальной советской жизни [383].
Действительно, обещания Хрущева — что советская экономика
«закопает» Соединенные Штаты к 1970 г. или что нынешнее поколение
советской молодежи будет жить при коммунизме — требовали не
меньшей веры, чем вера в трансцендентного Бога, который обратил
девушку в каменный столб за богохульство. Поэтому за закрытыми
дверями уверенность в прогрессивном движении советского общества
к коммунизму была более сдержанной и религия во все большей
степени рассматривалась как показатель дистанции между современным
советским обществом и приходом коммунизма.
Амбициозной целью антирелигиозной кампании хрущевской эпохи
было изгнание религии из советской жизни. Ради достижения этой цели
партия мобилизовала значительные ресурсы и с помощью
определенных мер добилась успеха в реализации атеистической миссии.
К 1964 г. половина религиозных объектов в стране была закрыта,
а автономия религиозных учреждений — жестко ограничена. Партии
также удавалось во все большей степени вытеснять религию в частную
жизнь с помощью слежки, вмешательства в религиозные обряды,
разрушения религиозных объектов и борьбы с народными
религиозными практиками. Партия сделала соблюдение религиозных
обрядов более труднодоступным, а последствия их соблюдения — более
существенными. Наконец, в публичной сфере советского общества
постоянно звучала антирелигиозная и атеистическая пропаганда, тогда
как религиозные организации практически не имели права голоса
в общественной жизни и доступа к средствам массовой информации.
В той мере, в какой религия присутствовала в публичном пространстве
—
в советских газетах, на радио, в кинофильмах, — она представала как
объект страха, снисходительного отношения или насмешки.
В то же время, хотя антирелигиозная кампания, бесспорно, оказала
разрушительное воздействие на жизнь религиозных учреждений
и сообществ, пропагандисты атеизма сознавали свое поражение.
Несмотря на все административные ограничения, марксистско-
ленинские предсказания относительно исчезновения религии не
оправдывались — религия оставалась фактом советской жизни, и это
наглядно подтверждал постоянный рост церковных доходов
и количества религиозных обрядов. Разнообразная реакция населения
на антирелигиозную кампанию также показала: далеко не всем
очевидно, что религии не должно быть места в коммунистическом
обществе. Как было сказано в одном партийном докладе, «все чаще
можно услышать: „Мы верим в Бога, Ленина и Хрущева“, [и] нередки
случаи, когда в доме верующего можно встретить лежащие рядом
молитвенник и Программу Коммунистической партии» [384]. В то
время как официальная идеология убеждала, что религия и коммунизм
органически несовместимы, многие — в том числе даже некоторые
члены партии — не видели тут противоречия и не понимали стержневой
идеи атеистического проекта. Некоторые пропагандисты атеизма по-
прежнему с энтузиазмом сообщали об отдельных примерах успеха, но
большинство жаловалось, что против религии они смогли достичь
немногого.
Вторая битва советского государства с религией при Хрущеве
вынудила партию пересмотреть и представления о религии, и подход
к атеистической работе. Религия теперь считалась не политическим
врагом, а идеологическим оппонентом, верующие превратились
в патриотичных советских граждан — правда, нуждающихся в спасении
от их собственных суеверий и отсталости. Поскольку религия стала
идеологической проблемой, мировоззрением, в основе которого лежит
ложное представление о мироустройстве, советский атеизм должен был
отречься от своего воинствующего прошлого и стать «научным».
Глава 3
Космическое просвещение: советский атеизм
как наука
—
Небо! — сказал Остап. — Небо теперь в запустении. Не та эпоха.
Не тот отрезок времени. Ангелам теперь хочется на землю. На земле
хорошо, там коммунальные услуги, там есть планетарий, можно
посмотреть звезды в сопровождении антирелигиозной лекции.
И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок
6 мая 1962 г., во время широко освещавшейся в прессе поездки на
Всемирную выставку в Сиэтле, советский космонавт Герман Титов —
второй человек, побывавший в космосе после космонавта номер один,
Юрия Гагарина, — попал в заголовки газет разных стран, сказав, что за
семнадцать оборотов вокруг Земли не видел «ни Бога, ни ангелов». Эти
слова прозвучали в ответ на вопрос корреспондента о том, изменило ли
путешествие в космос его мировоззрение. Ответ Титова указывает на
радикальный гуманизм, неотделимый от советского сциентизма: «Перед
нашим первым орбитальным полетом, совершенным Юрием
Гагариным, никакой бог не помогал построить нашу ракету, — объявил
Титов. — Ракету сделали наши люди. Я не верю в бога. Я верю
в человека, его силу, его возможности и его разум»[385]. Заявление
Титова вызвало мощную реакцию американской общественности.
Газеты были наводнены письмами от читателей. Религиозные деятели,
в том числе известный телепроповедник Билли Грэм, высказывали
возмущение нападками Титова на Бога. А астронавт Джон Гленн
ответил прямо, что Бог, в которого он верит, «не так мал, чтобы
я надеялся встретиться с ним [в космосе]»[386].
Может показаться странным, что космонавты и астронавты делали
публичные заявления на тему, которая обычно остается прерогативой
богословов. Но космическая гонка никогда не была только научным или
технологическим соревнованием[387]. В политическом контексте
холодной войны космические путешественники были необходимы
обеим сторонам для демонстрации политического, экономического
и технического превосходства, и их свидетельства о небесах несли
существенную идеологическую нагрузку [388]. Космонавты
и астронавты играли центральные роли в драме холодной войны,
и окутывавшая их мифология имела немало общего [389].
И астронавтам, и космонавтам отводилась роль патриотичных, смелых
и при этом каждому близких — обычных парней и в то же время
супергероев [390]. Между ними было лишь одно ключевое различие:
астронавты были богобоязненными, космонавты — безбожниками.
Джон Ф. Кеннеди и Хрущев, лидеры двух сверхдержав,
противостоявших друг другу в холодной войне, уже с 12 апреля 1961 г.,
когда Гагарин стал первым человеком в космосе, обменивались
взглядами на философский смысл космических путешествий. Когда
в космос полетел Титов, Хрущев рассказал американским журналистам,
что поручил ему на всякий случай проверить, есть ли на самом деле Бог
и рай, о которых так много говорят священники. «В конце концов,
Гагарин был там всего полтора часа, — шутил Хрущев. — Так что он
мог и не заметить рая». Напротив, Титов летал целый день
и подтвердил, что «там ничего нет» [391]. В свою очередь, Кеннеди на
президентском молитвенном завтраке — церемонии, введенной
Дуайтом Эйзенхауэром в годы холодной войны для духовной
мобилизации американского общества, — сказал собравшимся, что
религия является «сутью наших разногласий с теми, кто сделался
нашим противником» [392].
Резонанс, вызванный заявлением Титова на Всемирной выставке
в Сиэтле, как и вообще высказывания космических путешественников
на религиозные темы, был важным, но весьма своеобразным продуктом
войны двух культур, достигшей апогея в 1950–1960-е гг.: войны между
наукой и религией, соперничеством благочестивого Запада
и безбожного коммунизма. Фактически сама Всемирная выставка
в Сиэтле была плодом этого противоборства: изначально она была
задумана как способ повысить общественный престиж науки,
поскольку, по выражению редактора журнала Astounding Science-Fiction
Джона У. Кэмпбелла, «американский народ был до смерти напуган
достижениями науки» — атомной бомбой, спутником и перспективой
советского вторжения в американское воздушное пространство [393].
Но хотя выставка была задумана как ответ на вызов, брошенный
советскими научно-техническими достижениями, она сама вскоре стала
площадкой идеологических баталий, когда религиозные группы
в противовес триумфу науки воздвигли павильон Христианского
свидетельства напротив башни «Космическая игла» и по соседству
с павильоном Науки.
Советское правительство извлекало свою пользу из достижений
космических первопроходцев, чтобы провозгласить правоту научно-
материалистического мировоззрения и доказать, что атеизм устраняет
те препятствия на пути технических достижений , которые до сих пор
существуют в капиталистическом мире. Соединенные Штаты,
в противовес попыткам Советского Союза связать освоение космоса
с атеизмом, подчеркивали религиозную веру астронавтов — этот
процесс достиг кульминации в Рождество 1968 г., когда
с американского космического корабля, совершающего облет Луны,
транслировалось на Землю чтение Книги Бытия астронавтом Джимом
Ловеллом. По мере эскалации противостояния коммунистического
и капиталистического мира обе стороны искали способ показать, как
влияет на человеческую жизнь «научное освоение той сферы, которая
когда-то была заповедником тайн и вотчиной религии »[394]. Их
расхождения по этим вопросам считались важнейшим индикатором
противоположности двух мировоззрений и двух образов жизни и тем
самым служили обоснованием претензий каждой стороны на
моральную и политическую легитимность.
В то же время, несмотря на политические и идеологические
различия, обе стороны, каждая по-своему и с разной мотивацией, были
привержены концепции секуляризации, согласно которой сам ход
исторического прогресса — индустриализация, бюрократизация,
становление государства всеобщего благосостояния, покорение
природы с помощью науки и техники — постепенно лишит религию ее
значения не только в политической сфере и общественной жизни, но
также в убеждениях и быту человека. Наука, в рамках этой концепции,
не только лишает религию ее претензий на истину; она делает
возможными чудеса, такие как космические путешествия. Чудеса науки,
таким образом, позволяли поднять экзистенциальные вопросы о месте
человечества во вселенной, и ничто не могло выразить этого более ярко,
чем истории людей, достигших в своих путешествиях границ
технических возможностей и философского воображения.
Дебаты о философском смысле космических путешествий и влиянии
научно-технической революции на человечество были яркой чертой
общественной жизни как в социалистическом мире, так и в его
капиталистическом зазеркалье[395]. Действительно, аргумент, что
научные и технические достижения изгнали сверхъестественное из
повседневной жизни — в том числе из космоса, в который, по словам
социолога Питера Бергера, «возможно проникнуть систематически,
рационально, как в мысли, так и в действии», — был общим ответом
той и другой стороны на замечательные достижения космической эры.
Как отметил Бергер, научное завоевание небес сдернуло «священную
завесу», оставив «небо без ангелов», куда «может проникнуть астроном,
а затем — космонавт» [396]. Поэтому в 1960-е гг., когда космонавты
и астронавты покоряли космос, дебаты о смысле религии были
определяющей чертой и советской, и американской общественной
жизни, хотя на Западе обсуждался «религиозный кризис», а в СССР —
победа коммунистической идеологии над религией [397].
Помимо геополитического контекста холодной войны, советский
культ науки и покорения космоса играл важную роль во внутренней
политике хрущевской эпохи и был нацелен на преодоление
идеологического сумбура, возникшего после смерти Сталина.
Хрущевская десакрализация Сталина усугубила политический кризис
тем, что потрясла идейные основания советского коммунистического
проекта. С помощью культа науки, космических полетов и космонавтов
партия пыталась в какой-то мере заполнить образовавшуюся пустоту на
святом месте — иногда в буквальном смысле, например когда ракета-
носитель «Восток» заняла на Выставке достижений народного
хозяйства (ВДНХ) именно то место у павильона «Космос» (только что
получившего это название), где прежде стояла статуя Сталина [398].
О том, что целью космического энтузиазма было не столько
просвещение масс, сколько их воодушевление и мобилизация,
свидетельствует тот факт, что на выставках космической техники
детали советской космической технологии намеренно скрывались,
чтобы сохранить преимущество над противником в холодной войне.
Для советской коммунистической идеологии космонавты были
воплощением утопии — ожившими героями произведений
социалистического реализма. Социалистический реализм никогда не
был так близок к социалистической реальности, как в космическую
эру [399]. Более того, отношения между космонавтами
и коммунистической идеологией были основаны на взаимности,
и доказательством этого служит тот факт, что Гагарин посвятил свой
исторический полет в 1961 г. приближающемуся XXII съезду партии.
В контексте перехода советского общества от социализма к коммунизму
космонавты представали прототипами нового советского человека,
гражданами коммунистического будущего, которое, как обещал
Хрущев, было уже близко. В мире марксистско-ленинской утопии
космонавты сомкнули дистанцию между научным и философским,
реальным и идеальным. Бесстрашие и позитивная, жизнеутверждающая
позиция делали их олицетворением безграничных возможностей
человека, которые, в соответствии с марксистско-ленинским учением,
станут доступны для всех советских граждан. Их жизненный путь
и путь в космос преподносились как противовес и противоядие от того
страха и слабости, которые, по заявлениям пропагандистов атеизма,
внушает человеку религия.
Народный энтузиазм в отношении покорения космоса и лично
космонавтов наглядно свидетельствовал, что идеологические выгоды
освоения космоса далеко превышают выгоды материальные.
Несомненно, покорение космоса советскими людьми доказывало, что
историю человечества направляют силы разума, а не
сверхъестественные божественные силы. Отсюда логически следовал
вывод, что, если использовать космический энтузиазм в атеистической
работе, наука наконец сможет нанести религии решающий удар.
В соответствии с классическим атеистическим нарративом, научные
достижения — и освоение космоса как вершина возможностей науки —
смогут верующих обратить в атеистов. Но это убеждение
распространялось не только на естественные науки. Внедряя
технократический стиль управления, партия мобилизовала себе на
службу социальные науки, обратившись к таким дисциплинам, как
этнография и социология, чтобы получить научные данные о советском
обществе и, говоря языком того времени, «приблизить теорию
к жизни». Но когда социологи исследовали религиозную жизнь
общества, выяснилось, что отклик обычных советских граждан на
научно-просветительскую работу не всегда соответствует
классическому атеистическому нарративу, согласно которому наука
побеждает религию. Эта научная истина пришла в противоречие
с фактами, вскрытыми социологией, и это в конечном счете поставило
перед советским атеизмом новые вопросы.
Небо — пустое!
В октябре 1962 г. — через пять лет после того, как 4 октября 1957 г.
Советский Союз запустил в космос первый искусственный спутник
Земли, и через полтора года после того, как 12 апреля 1961 г. Гагарин
совершил первый управляемый космический полет, — новый советский
атеистический журнал «Наука и религия» опубликовал большую
статью, где шла речь о «первой советской космической
пятилетке» [400]. Статья, озаглавленная «Пять лет штурма космоса»,
прославляла достижения Советского Союза в области космических
полетов человека, до недавнего времени возможных лишь в сфере
фантастики [401]. Статья предлагала ответ на вопрос, занимавший
воображение всего мира с момента запуска спутника: как произошло,
что Советский Союз осуществил то, о чем «отсталая царская Россия не
могла и мечтать», а именно «о свершении таких героических подвигов
в борьбе за прогресс, о соревновании с более развитыми технологически
и экономически державами»? [402]Почему советским космонавтам
удалось осуществить давнюю мечту человечества о том, что человек
«перестанет завидовать птице» и полетит, «опираясь не на силу своих
мускулов, а на силу своего разума»? [403] И наконец, что означал тот
факт, что первым человеком, «штурмующим небо», стал «Гагарин —
сталевар, сын столяра, выходец из крестьянской семьи, русский,
советский, коммунист, „безбожник“?» [404]
В условиях холодной войны и противостояния двух мировых систем
предполагаемое безбожие Гагарина приобретало символическое
значение. Редколлегия журнала заявляла, что советское лидерство
в космосе напрямую связано с «научным, материалистическим,
а значит, и последовательно атеистическим мировоззрением» советских
людей — и потому воплощает «логику современной истории». Путь
человека в космос был связан с «яростным сопротивлением религии»,
но человек «изгнал мифического бога из земных пределов», заставил
природу подчиниться своей воле и «стал великаном, побеждающим
стихию, управляющим законами природы и общества». Наконец, став
хозяином Земли, человек начал покорение небес, «святая святых».
Материальные объекты, «изготовленные „грешными“ руками
безбожников», врываются в небесные сферы, и «человек,
о ничтожности которого столетия твердили церковники, осуществляет
небесные полеты, создает искусственные планеты, управляет ими,
покоряет космос» [405]. Этот нарратив не оставлял места сомнениям; он
призывал верующих отринуть свои «темные суеверия», а атеистов —
бороться с религией, которая оставалась препятствием на пути
к просвещенному коммунистическому обществу. Покорение небес,
осуществленное советскими космонавтами, было необходимо для того,
чтобы «солнце разума» засияло над теми, кто отстает от победного хода
человеческого прогресса[406]. Как было сказано в автобиографии
Гагарина под названием «Дорога в космос», «Полет человека в космос
нанес сокрушительный удар церковникам. В потоках писем, идущих ко
мне, я с удовлетворением читал признания, в которых верующие под
впечатлением достижений науки отрекались от бога, соглашались с тем,
что бога нет и все связанное с его именем — выдумка и чепуха»[407].
Приписываемые Гагарину высказывания о том, что в космосе нет ни
Бога, ни ангелов, зажили собственной жизнью. В свою очередь, слова
Титова, действительно произнесенные им на Всемирной выставке
в Сиэтле, сделали его лицом научного атеизма — роль, которую Титов
вроде бы принимал и даже поддерживал [408]. Вскоре после того как он
стал вторым человеком, побывавшим в космосе, Титов опубликовал
передовицу в журнале «Наука и религия»; заглавие статьи повторяло
вопрос, который он часто слышал: «Встретил ли я бога?» Вселенная
открылась человеку, отмечал Титов, а не «призрачному небожителю».
Он писал, что во время своего полета услышал радиопередачу из
Японии на русском языке, участники которой говорили о «боге, святых
и прочих хитрых вещах». Ему захотелось послать им привет, но потом
он подумал: «Зачем это нужно? Еще подумают, что, правда, бог есть».
Несмотря ни на что, продолжал Титов, «молитвы верующих до бога не
дойдут хотя бы потому, что там, где он якобы должен находиться, даже
воздуха нет. Поэтому, что молись, что не молись, — бог не услышит.
Никого я в космосе не встречал и, конечно, встретить не мог» [409].
В прессе, на радио и телевидении широко распространялись
сюжеты, соответствовавшие этому нарративу научного просвещения, —
о том, что полеты советских людей в космос разрушили грань между
земным и небесным и превратили религиозную веру в атеистическую
убежденность[410]. В газеты, журналы и на имя самих космонавтов
приходило множество писем, где, наряду с выражением энтузиазма
относительно советской космической миссии, говорилось о влиянии
космических достижений на религиозное мировоззрение [411].
На страницах «Науки и религии» публиковались письма от бывших
верующих — зачастую от пожилых женщин, но иногда также от
«сектантов» и даже священников, — которые рассказывали о том, как
космические полеты и научный прогресс в более широком смысле слова
заставили их усомниться в религиозной вере. Еще до того, как Гагарин
поднялся в космос, «Наука и религия» напечатала письмо рабочего из
Черкасской области Ивана Довгаля, который утверждал, что запуск
искусственных спутников в открытый космос является весомым
аргументом против религиозной веры. Довгаль писал, что
к сохраняющимся религиозным верованиям других рабочих он
относился с недоверием: «И вот находятся еще такие люди, которые
располагают попасть в рай на том свете, сознательно закрывая глаза на
то, что советские спутники Земли, облетая наш земной шар на большой
высоте, не обнаружили никакого рая, что советская космическая ракета,
облетая вокруг Солнца, также не обнаружила рая» [412]. Подобная
риторика стала гораздо чаще использоваться после полета Гагарина,
когда люди, побывавшие в космосе, начали рассказывать о том, что они
видели на небесах (и чего там не видели). Редакционная статья
в центральной газете, «Известиях», торжествующе объявляла: «Вот
задал задачу верующим Юрий Гагарин! Облетел всю небесную
канцелярию и никого не встретил — ни всемогущего, ни архангела
Гавриила, ни ангелов небесных. Выходит, небо-то чистое!» [413]
Одно из писем — от Е. Даниловой, семидесятиоднолетней
жительницы Куйбышевской области — настолько точно
соответствовало атеистическому нарративу, что было не только
полностью напечатано в «Известиях», но и цитировалось
в бесчисленных более поздних публикациях, на лекциях и даже
партийных собраниях [414]. В этом письме простым народным слогом
рассказывалось, как Данилова узнала о полете Гагарина:
12 апреля утром я сидела на маленькой скамеечке и топила печку-
голландку. Слышу по радио позывные. Сердце у меня дрогнуло:
неужели что-нибудь случилось?
... И вдруг слышу: человек в космосе! Боже ты мой! Бросила
я топить печку, села у приемника, боюсь отойти хоть на одну минутку.
И сколько я за эти минуты передумала...
Как же это — человек хочет быть выше Бога! Ведь нам попы
говорили, что бог — на небеси. Да как же человек может летать там и не
заденет ни за Илью-пророка, и ни за одного из божьих апостолов?
Как же бог, если он всемогущий, может допустить такой подрыв своего
авторитета?
... Вдруг бог накажет его за дерзость? А по радио передают:
приземляется... Приземлился! Слава богу, жив-здоров! Не удержалась:
перекрестилась большим крестом. Теперь я убедилась, что бог — это
наука, это человек. Юрий Гагарин победил в моей душе всякую веру
в небесные силы. Он сам — небожитель. И нет в небе никого сильнее
его.
Слава тебе, советский человек — победитель неба! [415]
Николай Русанов, священник, написавший в партийный журнал
«Коммунист», чтобы поведать о том, как в результате полета Гагарина
он порвал с церковью, тоже описывал свое обращение к атеизму как
освобождение от религиозной тьмы с помощью науки. В этом письме,
датированном 1962 г., Русанов называл себя «блудным сыном»:
20 лет я был оторван от мира, не приносил никакой пользы ни себе, ни
обществу, ни государству. Теперь мне, равному со всеми тружениками,
особенно чувствительна перемена в моей жизни. Зашел бы я до
отречения в госуниверситет — как бы на меня посмотрели? Конечно,
с презрением. А теперь принимают с радостью, как «блудного сына»,
который вернулся после своих заблуждений в единую советскую семью.
Теперь смогу приносить пользу государству и народу [416].
Русанов писал, что утратил веру после того, как у него открылись глаза
на «безобразие... лицемерие, мародерство, стяжательство, фарисейство,
ханжество» духовенства, а также на «кричащие» противоречия между
Библией и наукой:
Можно ли теперь, в век атома, в век искусственных спутников, в век
освоения космоса, в век полетов к звездам, верить в то, что где-то
находится бог, ангелы, черти, где-то существует «потусторонний мир».
Нет! В это теперь верить нельзя. Знает об этом все духовенство и нет
среди них почти верующих. Почти все, кто служил по религиозному
убеждению, потеряли веру, порвали с религией, и остались в церкви
в основном все, кто служит из-за денег. Вот это их бог [417].
Русанов описывал религиозную жизнь как безнравственную
и лицемерную в основе своей, а религиозную веру — как изначально
лживую и антисоциальную. Поэтому атеистическая работа для него
превратилась в миссионерское призвание:
Народ хочет знать правду о религии, особенно сейчас, когда многим
становится ясно, что религия — обман, многие перестают верить в бога.
В этот период нужно усугубить антирелигиозную пропаганду,
побольше нужно индивидуальных бесед с верующими, побольше
доступных лекций, которые могли бы заставить задуматься верующего
над своим положением, чтобы он понял вред религии, чтобы знал, как
обманывает его духовенство, чтобы на факте убедился, что жизнью
человека не бог руководит, а сам человек. Человек сам, без помощи
божьей, строит новую счастливую жизнь. Не рая небесного должен
верующий ждать, ибо такого нет и не будет, а рай земной, который
через лет 15–20 будет построен и именно у нас, в Советской безбожной
стране. Имя этому раю — коммунизм [418].
Как и другие отступники от религии, ставшие пропагандистами
атеизма, — например, профессор богословия Александр Осипов или
преподаватель семинарии Евграф Дулуман, — Русанов стал читать
атеистические лекции, разъезжая по всей стране, чтобы поведать
историю своего обращения к атеизму.
Энтузиазм в отношении достижений науки, составлявший
сердцевину таких историй обращения к атеизму, не требовал ни
рационализации, ни расколдовывания мира. Действительно, эти
нарративы поражают смешением научных и магических элементов.
Например, история Даниловой насыщена экзальтированной лексикой,
религиозная вера в ней заменяется верой в искупительный потенциал
науки, а одна харизматическая фигура на небесах (Бог) вытесняется
другой (Гагариным). Подобным образом и Русанов со своей верой
в неминуемое пришествие коммунизма предает веру в «небесный рай»
ради «земного рая» советского коммунизма. Объект преданности
меняется, неизменным остается образ мысли.
Обращения к атеизму, однако, не были широко распространенными
или типичными; эти истории носили скорее предписывающий, чем
описывающий характер. В то же время они выполняли важную
функцию, демонстрируя народным массам, как наука может привести
к атеизму. Это наиболее явно выступало, когда в пропаганде
использовались визуальные средства — плакаты и карикатуры, где
ракеты и космонавты то и дело вторгались на небеса и выставляли на
посмешище разнообразных божеств, представавших в образе
херувимов, ангелов и бородатых стариков. На одной такой карикатуре,
опубликованной в сатирическом журнале «Крокодил», был изображен
Бог, который парит в космосе рядом с космонавтом и предлагает ему
свой нимб в обмен на шлем (см. ил. 3) [419].
Ил. 3. Е. Гуров. «Давай меняться: я тебе — нимб, ты мне — шлем».
Карикатура. Крокодил. 1965. No 9
Другие карикатуры наглядно показывали, как наука, воплощенная
в космических технологиях, разрывает связь между старым и новым
миром. На одном плакате была изображена молодая женщина,
молящаяся перед иконами под присмотром суровой, мрачно одетой
бабушки; рядом та же самая молодая женщина бросает прочь иконы,
увидев по телевизору летящую в небе ракету. Подпись гласила:
«Говорила бабка строго: Без бога не до порога! Но науки яркий свет
доказал, что бога нет!» На другом плакате священник пытается
дозвониться до Бога по телефону, но летящие в небо ракеты разрывают
телефонный провод между ними; подпись гласила: «Связь прервана!»
Но наиболее прозрачным был смысл плаката с космонавтом в красном
скафандре, машущим зрителю рукой и парящим в небе над церковью,
кирхой и мечетью — все три были изображены завалившимися набок —
с подписью: «Бога нет!» (см. ил. 4).
Ил. 4 . В. Меньшиков. «Бога нет!». Плакат. Л.: Художник РСФСР, 1975.
Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург
Даже если многие атеистические пропагандисты признавали, что образ
космонавтов, сменяющих богов на небесах, был упрощенным и порой
грубым, широкое распространение этого образа может многое поведать
о том, какие тропы использовала советская пропаганда, чтобы
в популярной форме донести до аудитории научную составляющую
научного атеизма. В то же время вопрос о том, что останется на небе,
когда наука и технология (или же ракеты и космонавты) изгонят старых
богов, все еще был открытым.
Планетарий — верующим
В ходе хрущевской антирелигиозной кампании обществу «Знание»
были выделены новые ресурсы для проведения атеистической работы.
Общество наконец стало издавать атеистический журнал «Наука
и религия» (который был задуман еще в 1954 г.); первый номер журнала
вышел в сентябре 1959 г. Миссия журнала состояла в том, чтобы
пропагандировать официальную позицию партии в отношении религии,
демонстрировать достижения советской науки и возвещать о триумфе
человечества над природой и советском лидерстве во всех областях
изучения и освоения мира. Неудивительно, что на страницах журнала
были широко представлены достижения в космической сфере —
с самого первого выпуска, где с гордостью демонстрировали проект
монумента покорителям космоса, который планировалось воздвигнуть
на территории ВДНХ[420]. Рассказы о героях космоса были самым
мощным и действенным способом привлечь искренний читательский
интерес, и, поскольку научные достижения Советского Союза по-
прежнему изумляли мир, партия призывала редакцию журналов «Наука
и жизнь» и «Наука и религия» использовать космический энтузиазм,
чтобы сделать атеистическую пропаганду более привлекательной,
особенно для молодежи [421]. За время правления Хрущева тиражи
обоих журналов заметно выросли; так, тираж «Науки и религии»,
составлявший в 1959 г. 70 тысяч экземпляров, к 1965 г. достиг
200 тысяч экземпляров (хотя его тиражи были относительно скромными
в сравнении с более популярной «Наукой и жизнью») [422].
Весной 1959 г. обществу «Знание» было передано еще одно
атеистическое учреждение: Московский планетарий. Как подчеркивало
руководство общества, «это решение правительства дает возможность
Обществу использовать планетарии как базу для значительного
расширения и улучшения проводимой естественно-научной и научно-
атеистической пропаганды»[423]. Целью передачи планетария из
ведения московской городской администрации (Мосгорисполкома)
Всесоюзному обществу «Знание» было превращение планетария в более
эффективное орудие пропаганды «естественно-научных знаний
о строении вселенной» [424]. Московский планетарий должен был стать
координирующим центром советской атеистической работы. И если
космонавты были святыми научно-атеистической веры, то планетарий
стал ее храмом.
В хрущевскую эпоху планетарий считался наиболее подходящим
местом для проведения атеистической работы, поскольку в центре
эстетически и интеллектуально привлекательной методологии его
просветительской работы был эмпирический компонент образования.
Но, несмотря на многообещающее начало при Сталине, на протяжении
многих лет Московский планетарий оставался единственным
в Советском Союзе. Однако в годы хрущевской антирелигиозной
кампании вера в атеистический потенциал планетария воскресла
и государство стало вкладываться в строительство новых планетариев
(хотя еще в 1959 г. даже Московский планетарий был
убыточным) [425]. При Хрущеве количество планетариев в стране
выросло, как и масштаб их атеистической работы. Было признано, что
тринадцати планетариев, существовавших в Советском Союзе в начале
1950-х гг., недостаточно; пропагандисты атеизма призывали построить
планетарии во всех крупных городах Советского Союза [426]. К 1973 г.
в стране насчитывалось более 70 планетариев, и большинство из них
были построены в хрущевскую эпоху [427].
Ил. 5 . Лектор Московского планетария Н. И. Тулупов демонстрирует
модель, иллюстрирующую движение Земли и Луны вокруг орбиты
Солнца, в Центральном доме культуры трудовых резервов. Москва,
8 октября 1959 г. Фото Э. Евзерихина. ЦГА Москвы. Арх. No 1 -3094
Специально построенный в соответствии с авангардистскими
принципами архитектурного конструктивизма Московский планетарий
оставался единственным в своем роде. Многие планетарии, созданные
после войны — в Горьком (Нижнем Новгороде), Киеве, Риге, Барнауле
и других городах, — были размещены в переоборудованных церковных
зданиях, что имело как практическое, так и идеологическое
значение [428]. В помещениях планетариев проходили научно-
просветительские лекции, демонстрации фильмов, вечера вопросов
и ответов, дискуссии, заседания кружков юных астрономов и, что было
особенно важно, лекции под названиями типа «Почему я порвал
с религией», «Секты и их реакционная сущность», «Человек, космос
и бог», «Наука и религия о Вселенной», «Как религия
приспосабливается к науке», «Атеистическое значение полетов
в космос», «Полеты в космос и религия» и, наконец, «Небо
и религиозные праздники» (см. ил. 5) [429]. Эти лекции проводились
штатными сотрудниками Московского планетария; в их числе был
Виктор Комаров, известный автор публикаций на темы атеизма, много
писавший о том, как использовать планетарий для атеистической
работы [430]. Планетарии также становились площадкой для
увлекательных встреч с приглашенными лекторами, такими как
Алексей Чертков, бывший священник и видный пропагандист
атеизма [431]. Но прежде всего планетарий был идеальным местом для
мобилизации энтузиазма, порожденного советскими успехами
в освоении космоса, и самыми популярными лекторами были,
конечно же, советские космонавты. Посетителей привлекало
современное техническое оборудование планетария и особенно
возможность услышать о том, с чем сталкивались космонавты во время
своих небесных странствий [432].
Планетарии не только приглашали верующих на лекции, но и сами
приходили к верующим. Так называемые передвижные планетарии
могли организовывать лекции и выставки за пределами главного здания,
в ходе рейдов «агитационного автобуса» в дома культуры, пионерские
лагеря, дома отдыха, военные городки, студенческие общежития,
школы, библиотеки, «красные уголки», парки культуры и отдыха,
заводы и даже домоуправления. В рамках массовой кампании по
просвещению сельского населения, которая стартовала в конце 1950-
х гг., передвижные планетарии с лекторами приезжали в колхозы. Там
они могли привлечь аудиторию возможностью посмотреть в телескоп
и узнать о новейших достижениях советских космонавтов, а заодно
сделать перерыв в работе. После лекции в поле слушатели могли
отдохнуть, послушать праздничную музыку, звучащую из
громкоговорителей планетария, и даже завершить вечер танцами [433].
К 1963 г. Московский планетарий ежегодно продавал почти 280
000 билетов на лекции, вечера вопросов и ответов, экскурсии
в обсерваторию, а выездные мероприятия позволили увеличить
посещаемость до 278 000 слушателей массовых лекций и 517
083 слушателей образовательных лекций [434]. За год Московский
планетарий специально посвятил атеистическому просвещению
53 вечера, что составило 18,8% от всех лекций планетария — заметный
рост по сравнению с 14,4% в 1962 г. Московский планетарий
рапортовал, что атеистические программы оказали воздействие на
аудиторию; посетители записывали в книге отзывов: «...в планетарии
по-настоящему понимаешь абсурдность и несостоятельность всех
религиозных сказок»; «посетив планетарий, можно успешно вести спор
с верующими»; «надо больше привлекать в планетарий верующих, это
величайшая школа по извержению бога»; «прослушав лекцию „Наука
и религия о строении вселенной“, убеждаешься, что труды великих
астрономов прошлого не пропали даром, они не зря отдавали свои силы
и жизнь в борьбе с религией, ради прогресса науки»; «планетарий
оказал огромное влияние на наше сознание и помог разобраться во
многих неясных вопросах; знания, полученные в планетарии,
окончательно убедили нас в том, что бога не было, нет и не может
быть»[435].
На конференции, проходившей в Москве в мае 1957 г., незадолго до
запуска первого спутника, специалист по марксистско-ленинской
философии, академик Марк Митин (1901–1987), впоследствии
возглавивший Всесоюзное общество «Знание», подчеркнул, что,
поскольку битва с религией переместилась из сферы политики в область
идеологии, пропагандисты атеизма должны помнить о новой тактике,
которую используют их оппоненты. Теперь представители религиозных
организаций «предпочитают не выступать открыто против науки. Они
выдают себя за „друзей“ науки, стремятся „доказать“ связь науки
и религии, возможность союза между ними, основанного на взаимном
уважении и „невмешательстве“. Они тщатся доказать, что наука
и религия не противоположны друг другу, а наоборот, нуждаются друг
в друге» [436]. Пропагандистов атеизма инструктировали ясно
показывать, почему наука и религия непримиримы — подчеркивать, что
если религиозное мировоззрение провозглашает конечность вселенной,
то научный материализм раскрывает ее бесконечность во времени
и пространстве [437]. По словам эстонского астронома Густава Наана,
когда люди уяснили, что космос и земля подчиняются одним и тем же
законам природы, «в „небесах“ не осталось уже, собственно, ничего
„небесного“» [438].
Но опыт непосредственной работы лекторов-атеистов с аудиторией
свидетельствовал, что мышление верующего не обязательно следует
этой логике, и сами лекторы отмечали, что внедрение атеистического
компонента в научное просвещение шло не без проблем.
Атеистическую работу в планетарии критиковали за то, что она
опирается исключительно на материалы естественных наук и избегает
«мировоззренческих» вопросов [439]. Недостаточно посвящать лекции
химии и физике, доказывали критики; необходимо особо выделять их
значение для воспитания атеистического мировоззрения,
противопоставляя религии и идеализму химию и физику. В 1955 г.
Б. Л. Лаптев привлек внимание к необходимости подчеркивать
атеистическое значение лекций по естественным наукам, указывая, что
без этого научное просвещение нельзя эффективно использовать
в борьбе с религией. «Когда речь идет об естественных науках, она не
носит характера воинствующего материализма, — говорил Лаптев. —
Мы годами читаем лекции, и все еще требуется постановление
Центрального Комитета, чтобы указать нам, что мы не ведем научной
атеистической пропаганды»[440]. Острие этой критики было
направлено на кадры, поскольку, по его мнению, не все лекторы
планетария понимают, как важно открыто связывать лекции по
астрономии или физике с атеистической тематикой. Это была типичная
жалоба на ученых, которые, поставив свои знания на службу делу
просвещения масс, зачастую не проявляли желания использовать эту
возможность для открытой антирелигиозной агитации [441]. Чтобы
наглядно показать последствия уклонения от открытой борьбы
с религией, Лаптев описал лекцию по астрономии, которую он как
сотрудник планетария прочитал для колхозников. Закончив лекцию,
сопровождавшуюся звукозаписью и наглядными материалами, он
спросил у аудитории, понравилось ли им ее содержание. Слушатели
ответили, что лекция понравилась, но в ответ на следующий вопрос —
чем именно — сказали: «Нам понравилось, как прекрасно Бог построил
вселенную» [442].
Это был не первый случай, когда советские пропагандисты атеизма
поняли, что научное просвещение не обязательно связано
с атеистическим воспитанием, но, учитывая длительный перерыв
в атеистической работе при Сталине и официально признанные
недостатки атеистической работы при Хрущеве, это был урок,
нуждавшийся в повторении. Чтобы научить лекторов-атеистов
использовать возможности планетария, общество «Знание»
организовало встречу с ветераном лекторской работы в планетарии
Иваном Шевляковым, на которой обсуждались его лекции «Наука
и религия о Вселенной» и «Атеистическое значение открытий
в астрономии и космонавтике» [443]. К тому времени Шевляков работал
в Московском планетарии почти сорок лет, и он отметил, что за это
время изменилась как аудитория, так и сама религия. Аудитория стала
более сведущей в науке и гораздо менее — в религии.
Если в первые годы революции приходилось доказывать, что Земля —
шар, и другие элементарные вещи, если приходилось иметь аудиторию,
которая разбиралась в библии, евангелии, ветхом и новом завете,
заповедях, символе веры и т. д., то в настоящее время сами служители
культа говорят, что эта аудитория почти ничего не знает, и мы,
пропагандисты, пожинаем плоды этой революции в сознании
подрастающего поколения, которое начало жить после Октябрьской
революции, после отделения церкви от государства и школы от
церкви [444].
Однако и церковь больше не была прежней. Она отказалась от
противостояния науке — и это, как отметил Шевляков, атеисты смогут
увидеть сами, если пролистают «Журнал Московской Патриархии».
Шевляков указывал коллегам, что религия давно стремится
приспособить науку к своим потребностям. Даже до революции, когда
он был гимназистом, «никто не защищал библейских сказок... в том
буквальном смысле, прямом значении, в котором там излагается».
Шевляков поделился воспоминаниями, как он, узнав на уроке физики,
что Земле шесть миллиардов лет, задумался, как это согласуется
с библейским учением, согласно которому мир был сотворен за шесть
дней. Но когда он задал на уроке закона Божьего вопрос священнику,
есть ли здесь «противоречие между религией и наукой», законоучитель
ответил: «Никакого противоречия нет, а то, что для бога один день, для
человека миллиард лет», и велел ему сесть на место [445]. «Это не
теперь, а в 1916 году», — подчеркнул Шевляков. Он также рассказал
своим слушателям, что Надежда Крупская, вдова Ленина и ведущий
идеолог советского образования, во время визита в Московский
планетарий отметила, что лекторам надо делать атеистическую
составляющую просветительской работы более явной. Послушав «не
очень опытного» лектора, рассказывавшего о строении Вселенной,
Крупская заметила, что если в лекции по астрономии не будет
атеистических выводов, «каждый верующий уйдет после такой лекции,
перекрестится в душе и скажет: как велик и прекрасен божий мир».
Астрономии самой по себе, заключил Шевляков, недостаточно, чтобы
«разрушить религиозное мировоззрение» [446].
В ходе антирелигиозной кампании пропагандисты атеизма всего
Советского Союза сталкивались с препятствиями на пути своего
крестового похода против религии. Лектор-атеист из Тамбова сообщал,
что, хотя его передвижной планетарий во время поездок в сельскую
местность привлекал посетителей всех возрастов, далеко не всегда из
его лекций делали атеистические выводы. Он рассказал
о девяностопятилетнем жителе одной деревни, которого «в течение
получаса не могли отстранить... от аппарата»; старик объяснил это так:
«Мне скоро умирать, я на тот свет не пойду, пока не посмотрю, что
там» [447]. Другой лектор рассказывал, что его передвижной
планетарий пользовался популярностью у колхозников, особенно
у сектантов, но при этом во время визитов планетария в село сектанты
пытались «завести лектора в тупик», и если за ними оставалось
последнее слово, торжествовали победу [448]. Реакция посетителей
планетария выявила феномен, которому лекторы-атеисты не должны
были бы так удивляться, — а именно что подразумеваемая ими
космологическая связь между астрономией, освоением космоса
и атеизмом не казалась их аудитории ни необходимой, ни очевидной.
Напротив, история науки знает бесчисленные примеры того, как
гармоничное строение Вселенной использовалось в качестве
доказательства бытия, а не отсутствия всемогущего Создателя.
Библия для космонавтов
Марксистско-ленинское учение определяло основные контуры
материалистической концепции мира, но за пределами пропаганды
соотношение материального и духовного, мирского и сакрального
оказалось гораздо более сложным. Отвергнув религиозную космологию,
советские теоретики атеизма должны были убедиться, сможет ли
научный материализм, снявший покров тайны с устройства природного
мира, мобилизовать тот энтузиазм и веру, которые прежде воспитывала
и обращала себе на пользу религия. Действительно, хотя марксизм-
ленинизм обычно трактовался как отказ от метафизики, теоретики
атеизма убедились, что вопросы, которые они унаследовали от религии,
носят в равной мере философский и научный характер. Проблема,
стоявшая теперь перед советским атеизмом, состояла в том, сможет ли
научный материализм впитать в себя духовный компонент, но при этом
остаться научным и материалистическим.
В ходе распространения научного атеизма выявилось, в какой
степени большинству пропагандистов атеизма недостает даже базовых
знаний о религии, что мешает им достичь целевой аудитории. В самом
деле, один из самых частых упреков в адрес пропагандистов состоял
в том, что они тратят слишком много усилий на проповедь перед
неверующими, но даже не пытаются наладить плодотворный диалог
с верующими [449]. На конференции, организованной Центральным
комитетом партии в 1963 г. и посвященной вопросам атеистической
пропаганды, Осипов — преподаватель богословия, обратившийся
к атеизму, — доказывал, что одна из сложностей атеистической работы
заключается в том, чтобы найти верный тон, обращаясь к разнородной
аудитории. Осипов отметил, что «любому пропагандисту, дерущемуся
на переднем крае», приходится иметь дело с разными людьми, «как мне
три дня назад в Киеве. Приходят одновременно две записки: „Что Вы
думаете об атеизме Фейербаха“ и рядом записка „А скажи-ка ты
батюшка, ты вот бывший, есть ли все-таки ведьмы на свете“». Члены
ЦК разразились смехом. «Вот наш диапазон», — заключил
Осипов [450]. Переосмысливая свою стратегию, советские
пропагандисты атеизма убедились, что им необходимо глубже понимать
и религию, и религиозность.
Выступая на той же партийной конференции, космонавт Титов
отметил, что, когда ему приходилось рассказывать любознательным
слушателям о космосе, он часто сталкивался с аналогичной проблемой.
То, что в небе, святая святых всех религий, в обиталище бога побывали
люди, обычные жители земли, производит потрясающее впечатление на
верующих, ни одного из них не оставляет равнодушным, заставляет
глубоко задуматься над своими взглядами и убеждениями. И многих
верующих поражает, что бог никак не проявил себя в ответ на то, что
простые смертные вторглись в его владения, не выразил своего гнева, не
свергнул смельчаков на землю. <...>
Я еще хотел бы привести одно письмо, которое прислал нам житель
Казани (67-летний). Я сейчас не помню его фамилии. Письмо прислал
к нам в адрес почты «космонавт». Он пишет так: «Мне уже 67 лет,
я неграмотный, и я хотел бы все-таки, чтобы меня взяли в космический
полет. Я понимаю, что ничего для науки, так сказать, не принесу. Но вот
говорят, что бога нет. Я верю, что нет, но мне все-таки на старости лет
нужно было бы убедиться, что его действительно нет».
(Оживление и смех в зале).
Ильичев: Доверяй, доверяй, но и руками пощупай [451].
Титов жаловался, что в целом не чувствует себя подготовленным
к атеистической работе. Он признавал, что космонавты, выступая
с лекциями, как правило, не разъясняют атеистического значения своей
космической миссии и что их ответы на вопросы аудитории —
например, о том, видели ли они Бога в космосе, — неубедительно
звучат для верующих. По наблюдениям Титова, космонавты в принципе
незнакомы с религией и им недостает религиозной грамотности,
которая могла бы придать их словам убедительность.
Я не знаю ни одной молитвы и не слышал ее даже, потому что я, как
и все мои друзья-космонавты, выросли в нашей социалистической
действительности, учились в нашей советской школе. Потом, когда
я учился в учебных заведениях, в средних, и сейчас в Академии
занимаюсь, мне кажется, такое же положение и в большинстве наших
учебных заведений, мне об этой религии никто никогда не говорил.
А если мне под руку попадались книжки какие-то, за редким
исключением... эти книжки скучные, которые, если нет необходимости,
то читать не хочется (Смех в зале, аплодисменты).
И вот сейчас мы посоветовались с нашими ребятами-космонавтами,
летавшими и не летавшими еще, мы были вынуждены обратиться
с просьбой в Идеологический отдел, чтоб нам помогли достать библию
(Смех). Сейчас нам достали, у меня в библиотеке есть библия, потому
что, выступая, особенно за границей, нам приходится очень тяжело.
И поэтому мне казалось бы, и мы ставили вопрос и обменивались
мнениями о том, что, может быть, в порядке учебы летчикам-
космонавтам как-то рассказать немножко, чтобы они имели
представление, что все-таки на самом деле представляет из себя бог
и вся эта религия (Веселое оживление) [452].
Парадоксальная просьба Титова о Библии для космонавтов
подчеркивает тот факт, что атеистическая работа не может быть
эффективной, если пропагандисты незнакомы с религией.
Просветительская работа выдвигала на первый план научные
достижения советских космических полетов, но не выявляла
философское значение освоения космоса для научного атеизма
и атеистического воспитания. Неожиданная и противоречивая реакция
как рядовых верующих, так и церкви на научные достижения
вынуждала пропагандистов атеизма пересмотреть и свое понимание
религии, и представления о будущем религии в современном обществе.
Реакция верующих и церкви также заставляла усомниться в том, что
наука является самым мощным орудием атеистической пропаганды.
Не спутником единым
Вопреки типичным рассказам об обращении к атеизму, влияние
освоения космоса на верующих было не столь прямолинейным, как
представлялось пропагандистам атеизма, и в их отчетах зачастую
звучит чувство бессилия перед тем, что им казалось неискоренимым
суеверием. Один пропагандист пересказывал свой диалог с сектанткой
из Иркутска, которая, услышав, что космическая ракета совершила
посадку на Луну, ответила: «Этого не будет и не было. Бог не допустит,
чтобы инородное тело попало на Луну». Когда ее спросили, откажется
ли она от религии, если ракета действительно полетит на Луну, она
снова ответила: «Этого не было и не будет» [453].
Социологические исследования религиозного мировоззрения,
проводившиеся в деревне Третьи Левые Ламки Тамбовской области,
показали также, что многие верующие не видят противоречия между
верой и энтузиазмом в отношении советских космических достижений.
Пятидесятидвухлетняя Анна Добрышева на большинство вопросов
исследователя отвечала: «А кто его знает» и даже после повторных
объяснений так и не поняла разницу между наукой и религией. Как
записал исследователь в своем докладе, Добрышева «верит
в космические полеты, но никак не может понять, почему не верят
в бога и почему науку и религию сопоставляют» [454]. По ее мнению,
«если мы [верующие] верим вам [атеистам], то и нам надо
верить» [455]. Одним из самых неверующих респондентов был Петр
Мешуков, повар в колхозе, которого охарактеризовали так: «к религии
не принадлежит, однако в доме держит иконы». Причиной этого
является, по мнению исследователя, «сила привычки и традиции». Как
объяснил Мешуков, «я держу иконы. Иконы висят и у других. Что ж
мне отставать от них?» [456] (Его сосед, Михаил Поплевкин, на тот же
вопрос ответил, что иконы у него дома, «чтобы соседи нас не считали
безбожниками» [457].) Согласно описанию, Мешуков испытывает
энтузиазм в отношении науки, «полностью поддерживает теорию
Дарвина о происхождении человека от обезьяны, что побуждает его
в нетрезвом состоянии обидевших его людей называть „выродками рода
обезьяньего“»[458]. По сообщению исследователя, расспрашивавшего
Мешукова о его понимании природы, «о причинах различных явлений
и процессов в окружающем его мире имеет некоторое представление,
однако уверен, что „бог к ним имеет такое же отношение, как и хвост
крокодила к человеку“» [459]. В целом позицию деревенских жителей
выразила Матрена Архипова, заявившая: «Всем хороши коммунисты,
только в бога они не верят, вот это плохо» [460]. Советских
пропагандистов атеизма постоянно раздражало то, что верующие, даже
принимая достижения советской науки и освоения космоса, по-
прежнему пытались согласовать их со своим религиозным
мировоззрением.
Проблематичной, по мнению пропагандистов, была и ситуация
с церковью. На конференции, посвященной развитию отношений между
наукой и религией, выступающие подчеркивали опасность попыток
церкви «примириться» с наукой и «приспособить» религию
к современным условиям. Так, изучение проповедей священников во
Владимирской области показало, что священники либо отрицают
атеистическое значение освоения космоса, либо, что еще хуже,
предлагают религиозную интерпретацию советских космических
достижений. В свою очередь, согласно докладу Совета по делам
религиозных культов, католический священник в Белоруссии был
категорически не согласен с тем, что космические достижения
доказывают отсутствие Бога: «Природа еще не полностью изучена
человеком, он ей управлять еще не может. Значит, есть какая-то сила,
которая управляет природой. Запущенные спутники Земли и полеты
людей в космос еще не значат, что нет бога. Бог есть, но он не видим
и не человекоподобен» [461]. Протоиерей Тарановский якобы
провозгласил: «Полеты в космос являются новым доказательством того,
что сила господня велика, а то, что космонавты бога не заметили, то
ведь он не сидит на одном месте. Журнал „Наука и религия“ очень
примитивно толкует. Бога нельзя видеть, он дух. А если будут
обнаружены существа на других планетах, то их творение не обошлось
без бога, он всесущев. Если бог будет ходить по берегу реки Клязьма,
все равно не поверят, что это бог» [462]. Архиепископ Владимиро-
Суздальский Онисим даже рекомендовал священникам рассказывать,
особенно сельскому населению, о грандиозных достижениях советской
космической программы.
Многие пропагандисты атеизма жаловались, что спорить с церковью
труднее, когда она отрицает противоположность науки и религии или
даже обращает научный прогресс себе на пользу, изображая его как
проявление Божьей воли. Согласно такой позиции, Бог воплощает свои
планы даже с помощью неверующих, и если неверующий Гагарин летал
в космос, значит, так было угодно Богу [463]. Но еще больше тревожило
советских пропагандистов атеизма, когда религия в ответ на
достижения науки более четко проводила границу между материальным
и духовным и провозглашала свою «монополию» на духовную
жизнь [464].
Атеистическая кампания хрущевской эпохи привела к двум
различным, но связанным между собой результатам. С одной стороны,
методом проб и ошибок пропагандисты атеизма пришли
к необходимости переосмыслить идеологические постулаты
относительно сущности религии и ее будущего. Тот факт, что религия
упорно отказывалась отмирать — даже когда научный прогресс в целом
и советские космические достижения в частности, казалось бы, нанесли
религиозной космологии решающий удар, — требовал объяснения
и более эффективного подхода. Если в начале хрущевской эпохи
атеистическая кампания проводилась, исходя из представлений
о религии как о наборе отживших верований и примитивных обрядов,
сохраняющихся лишь в силу исторической инерции, то вскоре
советские пропагандисты поняли, что сущность религиозной веры
и перспективы ее развития изменились. Более того, они предположили,
что их собственные аргументы и методы довольно примитивны
и нуждаются в модернизации, чтобы угнаться за оппонентом.
Но когда пропагандисты атеизма пытались победить веру силой
факта, им приходилось иметь дело с людьми, не придававшими
никакого значения противоречиям между наукой и религией, которые
столь страстно разоблачала атеистическая пропаганда, и, более того,
пытавшимися самым неожиданным образом примирить научную
и религиозную космологию. Обратившись к изучению мировоззрения
обычных людей, пропагандисты атеизма выявили широкий диапазон
представлений о мире: от несистематических до эклектичных и таких,
которые можно было назвать дуалистическими, — то есть опиравшихся
на науку для объяснения материального мира и на религию для
объяснения мира духовного. В этом отношении показательны ответы
Ульяны Лукиной из Ульяновской области в ходе социологического
опроса на тему «Представления современного верующего о боге»,
проводившегося в 1964 г. Когда Лукину спросили, как в ее сознании
сочетаются идея бога и закономерность Вселенной, та ответила, что
«о Вселенной никогда рассуждениями не занимается». Когда ее
спросили, что она думает о полетах космических кораблей в космос,
Лукина ответила: «Летают, ну и что? Когда-то я из Уфы с трудом сюда
доехала, теперь мне можно на неделе два раза побывать там. Бог здесь
ни причем. Бог ведь в каждом из нас». Когда ее спросили, что она
думает о теме опроса в целом, Лукина подвела черту: «Чего тут много
думать? Спокойнее как-то с богом» [465].
Теоретики атеизма по-прежнему пытались осмыслить религиозную
модернизацию, поскольку различные гипотезы о причинах сохранения
религии были признаны несостоятельными, а новые методы
атеистической пропаганды не давали желаемого результата.
Выдвижение новых теорий о сущности религии привело к появлению
новых методов атеистической пропаганды, и все чаще философия
воспринималась как важнейшее оружие в атеистическом арсенале. Эти
сдвиги заставили осознать теоретический вакуум, который проявился
благодаря конкуренции научного атеизма с религиозным
мировоззрением.
Заключение
Советский атеизм стремился выработать собственные
эпистемологические и моральные позиции и первоначально в качестве
наиболее мощного оружия атеистической работы использовал реальный
и символический потенциал советских космических достижений.
Но неоднозначное соотношение космического энтузиазма и научного
атеизма выдвинуло на первый план изменения в понимании религии
и подходов к ней. Космонавты заняли место между утопией
и реальностью, став олицетворением воплощения желаний, стремлений
и веры. С помощью харизмы космонавтов обычный советский человек
мог проникнуться идейным энтузиазмом, который постоянно
требовался от советских граждан, и, возможно, под воздействием этого
опыта мог даже пережить идейное обращение. Но как идеологическая
модель космонавты оставались отделены от масс советского общества
непроницаемой завесой, а дорога в небо была открыта немногим, а не
большинству. Советские космические достижения преподносились как
наглядное доказательство великих шагов, сделанных страной на пути
к коммунистическому будущему, но сохранение религии в жизни
советского общества, как и попытки изгнать ее с помощью усиления
и улучшения атеистической пропаганды, подчеркивали ту дистанцию,
которая все еще отделяла идеального советского человека,
демонстрируемого на мировой сцене (воплощенного в образе
космонавта), от наблюдавшего за ним из зрительного зала обычного
советского человека. Советские достижения в освоении космоса не
только не смогли сформировать атеистическую убежденность, но
и выявили «белые пятна» марксистско-ленинской идеологии.
В конечном счете советский научный атеизм столкнулся с той же
проблемой, что и любая разновидность сциентизма: проблемой
обращения к духовному. Вебер выразительно охарактеризовал эти
трудности в своем докладе «Наука как призвание и профессия»,
прочитанном в 1918 г., — основополагающей попытке осмыслить
науку, религию и светскую культуру с точки зрения социальных
наук [466]. «Судьба нашей эпохи», согласно высказыванию Вебера,
характеризуется «рационализацией и интеллектуализацией и прежде
всего расколдовыванием мира». Но даже если наука «расколдует»
материальный мир, она будет оставаться за пределами царства этики
и духовной жизни. Наука, доказывал Вебер, это не «„путь к истинному
бытию“, „путь к истинному искусству“, „путь к истинной природе“,
„путь к истинному Богу“, „путь к истинному счастью“». Это означало,
что даже если наука полезна, она не обязательно обладает смыслом.
Описывая, как мучительно искал Лев Толстой ответы на ключевые
вопросы жизни современного человека, Вебер указывал, что Толстой
считал науку бессмысленной, поскольку она не дает ответа на
единственно важные для человека вопросы: «Что нам делать?», «Как
нам жить?». Вебер пришел к заключению, что религия остается
возможным выбором тех, кто ищет трансцендентного смысла, но лишь
при условии, что они готовы принести «жертву интеллекта»: «Кто не
может мужественно вынести этой судьбы эпохи, тому надо сказать:
пусть лучше он молча... тихо и просто вернется в широко и милостиво
открытые объятия древних церквей» [467].
Для советской коммунистической идеологии возвращение советских
граждан в милостиво открытые объятия церкви могло
интерпретироваться только как поражение. Цель состояла прежде всего
в том, чтобы воспитать нового советского человека, который целиком
и полностью живет разумом, — человека, чья тотальная преданность
коммунистическому проекту выражается в бескомпромиссной
атеистической убежденности, отвергающей любые другие притязания
на власть и смысл. Тот факт, что чудеса науки и покорение космоса не
смогли воспитать атеистическую убежденность, заставил
коммунистических идеологов понять, что недостаточно согнать богов
и ангелов с небес с помощью ракет и космонавтов и что советский
научный атеизм должен, кроме того, заполнить пустое место
позитивным содержанием. Пропагандисты атеизма поняли, что, если
они хотят проникнуть в душу советского человека, они должны
обратиться не к науке, а к нравственности и заняться не только
рациональным, но и духовным.
Глава 4
Путь в душу советского человека:
мировоззренческое содержание советского
атеизма
—
Стало быть, тот бог есть же, по-вашему?
—
Его нет, но он есть. В камне боли нет, но в страхе от камня есть
боль. Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам
станет бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, всё новое... Тогда
историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения бога
и от уничтожения бога до...
—
До гориллы?
—
...До перемены земли и человека физически. Будет богом
человек и переменится физически . И мир переменится, и дела
переменятся, и мысли, и все чувства.
Федор Достоевский. Бесы
18 января 1960 г., в разгар хрущевской антирелигиозной кампании,
общество «Знание» провело конференцию, чтобы подвести итоги
очередного наступления на антирелигиозном фронте. Настроение было
унылое. Николай Губанов, видный пропагандист атеизма, в своем
выступлении обрисовал особенно пессимистичную картину. Губанов
жаловался, что атеисты недопонимают и недооценивают религию и что
атеизм не проникает глубоко в душу советского человека. Религия не
отмирала. Наоборот, она сохранялась — а часто даже процветала —
далеко не в тепличных условиях советского строя. Чтобы наглядно
показать то затруднительное положение, в котором оказались атеисты,
Губанов напомнил своей аудитории юмористический рассказ Чехова:
«На заводе было два бухгалтера, один старичок, другой молодой, и был
в то же время человек, который во всех торжественных случаях —
свадьбах и похоронах — речи закатывал. Когда умер бухгалтер, ему на
сей раз тоже поручили закатить речь. Но он думал, что умер старик
бухгалтер, а на самом деле умер молодой бухгалтер, и он произнес речь
в память старичка бухгалтера, который стоял рядом с ним и очень
радовался, что ему еще при жизни удалось заслушать некролог
о себе» [468]. Губанов перепутал детали чеховского рассказа, но он был
прав в главном: социализм не хоронил религию. Напротив, атеисты
присутствовали на собственных поминках.
Когда советские атеисты столкнулись с живой религиозностью, они
обнаружили, что — вопреки сценарию исторического развития,
предначертанному марксизмом-ленинизмом, — религия не исчезала
в условиях строительства социализма и научно-технического прогресса.
Этому явлению предлагали множество объяснений: ссылались на
экономический фактор — сохранение социального неравенства или на
политический — подрывную работу реакционных религиозных
организаций. Выдвигали теории о временном промежутке между
материальным развитием и трансформацией сознания и отмечали, что
религия является продуктом невежества и отсталости. Но все
привычные объяснения не могли охватить сложного духовного
ландшафта советской жизни. Обычных людей, как выяснилось, не
обязательно смущали противоречия между наукой и религией. Религия
оказалась не пристанищем маргиналов, сектантов и старушек, а гибким
и динамичным явлением, прочно укоренившимся в жизни современного
советского общества. Губанов рассказал, что многие советские люди
используют свободное время и материальный достаток, созданные
хрущевскими экономическими реформами и социальной политикой,
чтобы посещать церковь, соблюдать религиозные обряды и материально
поддерживать местные религиозные общины. Чтобы
проиллюстрировать этот тезис, Губанов описал разговор с пожилой
женщиной, с которой он встретился на лекции в провинции. Женщина
признала, что жизнь ее семьи в конце 1950-х гг. стала лучше, но когда
Губанов спросил, как эти улучшения изменили ее отношение к религии,
она ответила: «Ну что же, можно сейчас и в церковь походить, и попу
больше дать» [469]. Столкнувшись с результатами новой
антирелигиозной кампании, атеисты приходили к пониманию, что
антирелигиозные меры не соответствуют задаче строительства
атеистического общества — или, как сформулировал Губанов: «в нашей
научно-атеистической пропаганде мы хороним не того
бухгалтера» [470].
Ил. 6 . А. Каневский. В тени. Карикатура. Обложка журнала
«Крокодил». 1962. No 3
Строительство коммунизма
Новая битва партии с религией сыграла ключевую роль в формировании
идеологического климата хрущевской эпохи и сохраняла свою
значимость до конца советского периода. В период между ХХ съездом
КПСС, на котором Хрущев положил начало процессу десталинизации,
и XXII съездом, где он представил третью Программу КПСС (что стало
первой после 1919 г. ревизией коммунистической идеологической
платформы), Хрущев сосредоточил в своих руках личную власть
и руководство политическим проектом, который должен был стать его
наследием: строительством коммунизма[471]. Как провозглашалось
в новой Программе партии, в процессе перехода от социализма
к коммунизму будет уменьшаться значение административного
регулирования отношений между людьми и возрастать роль
нравственных начал и морального фактора [472]. В этом контексте
новое значение приобретала нравственность и духовность советских
людей — не только их политическая лояльность, но также
мировоззрение и образ жизни. Идейные трансформации хрущевской
эпохи поэтому касались не только содержания идеологии — замены
сталинизма новой коммунистической догматикой, — но также ее
формы, отражающей новую концепцию идеологической работы
и требовавшихся от нее результатов [473]. Идеология отныне должна
была стать не только орудием контроля, но и инструментом духовной
трансформации реального советского человека в образцового
гражданина коммунистического будущего.
Идея формирования нового человека, строителя коммунизма, не
была изобретением хрущевской эпохи; она составляла стержень
коммунистического проекта с самого его зарождения. Известно
знаменитое высказывание Маркса, что коммунизм будет таким
обществом, где «никто не ограничен исключительным кругом
деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой области».
Поскольку при коммунизме производство станет регулируемым
и общество освободится от экономической нужды, люди смогут
посвящать свою жизнь личностному развитию. При коммунизме,
полагали Маркс и Энгельс, будет возможно «делать сегодня одно,
а завтра другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером
заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, — как
моей душе угодно, — не делая меня, в силу этого, охотником, рыбаком,
пастухом или критиком» [474]. Тем не менее, вопреки столь
величественной картине человеческой эмансипации, советский
коммунистический проект по-прежнему развивался в пространстве
между идеологическими декларациями и повседневной борьбой за
существование, которая все так же определяла жизнь советского
общества. Как в 1963 г. писала в ЦК партии одна женщина из
Ростовской области, трудно поверить, что в такое время, когда люди
покоряют космос, в ее деревне все еще нет радио, а некоторые ее соседи
никогда не смотрели кино [475]. Перемены, произошедшие при
Хрущеве, состояли в том, что теперь, с точки зрения партии, настало
время уничтожить разрыв между коммунистической идеологией
и советской реальностью. Поскольку основы материальной базы
коммунистического общества считались построенными, теперь
возникла возможность перейти к финальной стадии коммунистического
строительства: духовной трансформации советского общества.
О новом значении, которое придавалось теперь идеологии, можно
было судить по возросшему вниманию партии к идеологической работе.
Когда в 1956 г. Хрущев объявил о начале разработки новой Программы
партии, он поручил партийным теоретикам, академикам
и пропагандистам изучать мировоззрение и быт советских людей, чтобы
теоретически обосновать пути перехода от социализма
к коммунизму [476]. Советский народ со своей стороны с энтузиазмом
откликнулся на столь явный интерес партии к его мнению,
и Центральный комитет наводнили письма, авторы которых предлагали
свою верную дорогу к коммунизму [477]. Чтобы разобраться в этом
беспрецедентном потоке информации о советском обществе, партия
расширила идеологический аппарат. Социология и этнография —
научные дисциплины, с 1930-х гг. занимавшие маргинальное
положение, — были восстановлены в прежнем статусе, и для изучения
советского общества были созданы новые учреждения, например
Институт общественного мнения «Комсомольской правды»
и Лаборатория социологических исследований в Ленинградском
государственном университете[478]. Хрущев также учредил
«идеологические комиссии» при ЦК КПСС, поручив им разрабатывать
новый курс в сфере пропаганды, науки, культуры, литературы,
искусства, средств массовой информации и образования [479].
Дорожной картой партии на пути от социализма к коммунизму
стали третья Программа КПСС и включенный в нее «Моральный кодекс
строителя коммунизма»; в них революционное нетерпение первых лет
советской власти сочеталось с характерными для послевоенного
времени обещаниями материального изобилия. Хрущев инициировал
множество реформ, направленных на повышение уровня жизни
советских людей, от масштабной кампании жилищного строительства
с целью обеспечить советские семьи индивидуальными квартирами до
роста производства потребительских товаров [480]. Но по-прежнему,
хотя повышение уровня жизни считалось необходимым условием
строительства коммунизма, сам по себе рост материального
благосостояния не был конечной целью. Хрущев недвусмысленно
связывал материальные условия жизни советских людей с духовными
перспективами коммунизма. Как он провозгласил в одной из своих
речей в 1961 г., «нельзя народу лишь обещать красивую перспективу».
Было уже достаточно «маниловщины», пустых обещаний; теперь
настало время сделать «все необходимое», чтобы добиться роста
производства, чтобы «у людей уже сегодня было и молоко, и мясо,
и другие продукты». Хрущев указывал, что если религия сулит награду
на небесах, то коммунистическая идеология обещает изобилие
и справедливость на этом свете. «Попы говорят: кто больше страдает на
этой земле, получит царство небесное после смерти. Мы не имеем
права, никогда не должны уподобляться таким попам. Мы всегда
должны быть коммунистами, людьми, твердо стоящими на земле,
обеспечить людей земными благами, а не обещать небесное» [481].
Материальное благополучие было необходимо, чтобы сформировать
«всесторонне развитую личность» — новый тип человека, во имя
которого партия осуществила революцию [482]. Тем самым партия
решительно связала политическую легитимность советского проекта
с его способностью удовлетворять не только материальные, но также
духовные нужды людей.
Хотя в «Моральном кодексе строителя коммунизма» перечислялись
важнейшие добродетели коммунистической морали — от
коллективизма, интернационализма и патриотизма до сохранения
этических и семейных ценностей, — ни религия, ни атеизм там не
упоминались. Однако о них много говорили представители
идеологического истеблишмента в ходе дискуссий за закрытыми
дверями [483]. Работая над проектом новой программы партии,
специалист по этической философии Александр Шишкин (1902–1977),
заведующий кафедрой философии Московского государственного
института международных отношений, назвал религию моральной
антитезой коммунизму [484]. «Враги коммунизма часто говорят, что
коммунисты отвергают общечеловеческую мораль. На деле они
отвергают лишь лицемерную буржуазную мораль, которая, апеллируя
к заповедям бога, обслуживает корыстные интересы эксплуататоров»,
—
разъяснял Шишкин. Поскольку лишь коммунистическая мораль
является «подлинно человеческой по своей глубокой сущности»
и «служит цели прогресса человечества», практическая задача партии
по «подготовке всесторонне развитых людей» «неотделима от всех
других задач коммунистического строительства». Чтобы построить
коммунизм, необходимо «преодоление остатков пережиточных
взглядов на труд, религиозных пережитков, ликвидация всевозможных
аморальных поступков» [485]. Когда все следы старого мира исчезнут,
люди «будут по-коммунистически жить» и «руководствоваться
принципами коммунистической морали» как в труде, так и в быту.
Более того, их труд будет иметь не обременительный, а «творческий»
характер, превратившись в «первейшую жизненную потребность»
и открыв путь к полноте духовной жизни. Советский человек при
коммунизме будет участвовать «в производстве материальных благ», но
при этом «иметь достаточно времени, чтобы заниматься наукой,
искусством, спортом или другим делом, к которому он чувствует
особую склонность». При коммунизме развитие человеческой личность
наконец «будет процветать», и в человеке нового коммунистического
общества будут гармонически сочетаться «духовное богатство,
моральная чистота и физическое совершенство» [486].
Этот идеал гармонического, всесторонне развитого, сознательного
и нравственного человека коммунистического общества
просматривается и в письмах граждан, посвященных обсуждению новой
программы партии. Один из авторов такого письма, П. Т. Мельников из
Москвы, предложил указать в программе, что целью
коммунистического воспитания является «воспитание человека
коммунизма, человека с руками рабочего, головою ученого, с глазами
художника и ваятеля, с душой поэта и композитора, с письмом писателя
и телом гимнаста» [487]. В свою очередь, член КПСС с 1918 г. тов.
Добряков из г. Краснокамска Пермской области писал: «Надо, чтобы
все трудящиеся поняли всю несуразность и глупость всевозможного
религиозного дурмана в наш век — век космонавтов, всех
замечательных открытий. Не может наш замечательный советский
человек... войти в коммунизм вместе с попами
и проповедниками» [488].
Проект строительства коммунизма привел к осмыслению религии
как по преимуществу идеологической проблемы. Как декларировалось
в новой Программе партии, «Партия считает главным в идеологической
работе на современном этапе — воспитание всех трудящихся в духе
высокой идейности и преданности коммунизму, коммунистического
отношения к труду и общественному хозяйству, полное преодоление
пережитков буржуазных взглядов и нравов, всестороннее,
гармоническое развитие личности, создание подлинного богатства
духовной культуры». Коммунистическое воспитание должно было
вестись «в духе научно-материалистического миропонимания», чтобы
обеспечить «преодоление религиозных предрассудков» — разумеется,
«не допуская оскорбления чувств верующих». Партия рассматривала
«борьбу с проявлениями буржуазной идеологии и морали,
с остатками... суеверий и предрассудков» [489] как составную часть
своей работы. Ее задача состояла в том, чтобы устранить препятствия на
пути в коммунистическое будущее.
Но партийные идеологи также понимали, что забота о духовных
потребностях является более сложной задачей, чем решение проблемы
материального дефицита. Если партийная пропаганда, адресованная
массовой аудитории, содержала ясную и оптимистичную программу
коммунистического строительства, то дискуссии об идеологии, которые
велись за сценой, были более напряженными. Действительно, не
забывая о ключевой роли идеологии в советской жизни, следует
помнить также, что идеология не была монолитным нарративом,
эффективно распространявшимся слаженно работающим аппаратом;
что ее создавали и распространяли конкретные люди, зачастую не
согласные друг с другом относительно целей и стратегий. Историк
Николай Митрохин доказывает, что советские «идеологические жрецы»
руководствовались не столько марксистско-ленинской теорией, сколько
собственными представлениями об истинно «советских» ценностях
и нормах [490]. Для многих, отмечает он, марксистское образование
«осталось на уровне чего-то сданного и забытого в вузе», что также
оставляло возможность путаницы, различных интерпретаций
и споров [491].
***
При Хрущеве Центральный комитет издавал директивы партийным
кадрам в новом ключе, акцентируя внимание на недостатках
и подчеркивая необходимость новых подходов к идеологической
работе. Постановление от 9 января 1960 г. «О задачах партийной
пропаганды в современных условиях» содержало критику пропаганды
за догматизм, который оценивался как наследие «культа
личности» [492]. Центральный комитет рекомендовал партийным
кадрам отказаться от неэффективных подходов, которым свойствен
«отрыв от жизни», и сфокусировать внимание на «одной из главных
практических задач» — воспитании «нового человека
с коммунистическими чертами характера, привычками и моралью».
Но проблемы пропаганды состояли не только в том, что она была
чересчур догматичной, но и в том, что она не воздействовала на массы.
В постановлении было отмечено, что если прежде пропагандистская
работа была направлена на членов партии и интеллигенцию, то
«в современных условиях» необходимо, чтобы все советские люди
«овладевали марксизмом-ленинизмом», поскольку после перехода от
«социалистической государственности» к «коммунистическому
общественному самоуправлению» личная сознательность станет
важнейшей формой регулирования жизни советского общества.
«Некоторые группы населения, — отмечалось в постановлении, —
находятся вообще вне идейно-политического влияния», и перед лицом
«враждебной марксизму-ленинизму идеалистической, религиозной
идеологии» партийные кадры не могут оставаться пассивными. Они
должны «доходить до каждого советского человека» и «предметно
бороться против пережитков капитализма в сознании людей» [493].
Центр тяжести идеологической работы следовало перенести за пределы
публичного пространства — заводов, библиотек, музеев и домов
культуры — в дом каждого советского человека.
Но даже когда идеологический истеблишмент обратил внимание на
атеизм, все еще оставалось неясным, в чем именно заключается
«научно-атеистическое мировоззрение» и как именно его следует
внедрять. Распространение атеистического мировоззрения в массах
было невозможно без создания эффективной системы учреждений,
которые формировали бы это мировоззрение; без продуманного
нарратива, который сделал бы его убедительным; и без обученных
кадров, которые могли бы его распространять. Когда Хрущев объявил
начало проекта строительства коммунизма и преодоления религии,
такого атеистического аппарата не существовало.
Чтобы получить представление о состоянии атеистической работы
в начале хрущевской антирелигиозной кампании, полезно обратиться
к деятельности центрального партийного издательства —
Государственного издательства политической литературы
(Госполитиздата) — по выпуску атеистической литературы. 21 марта
1958 г., незадолго до того, как партия и правительство издали
постановления, давшие старт антирелигиозной кампании, на заседании
редколлегии Госполитиздата обсуждалась роль издательства в выпуске
атеистических материалов. Хотя основным вопросом повестки дня была
подготовка к изданию «Справочника атеиста», обсуждение быстро
перешло на более общие проблемы советской атеистической
пропаганды. Пропагандисты были обеспокоены, в частности, тем, что
атеистическая работа, основанная на антиклерикализме, была
неэффективной. Показательна внезапная вспышка одного из участников
дискуссии, спросившего: «Сколько еще мы собираемся говорить
о сожжении Джордано Бруно?!» Более того, он отметил, что пока
атеисты занимаются разоблачением религии, их оппоненты
сосредоточили внимание на другой задаче — отрицании
противоположности между религией и коммунистической идеологией:
«Под тем или иным соусом и за рубежом, и у нас идет попытка
объединить коммунизм и религию, отождествить их, даже показать, что
учение Маркса — это есть развитие учения раннего христианства.
Словом, делается это под каким угодно соусом. Мы обязаны это
разоблачить» [494].
Пропагандисты атеизма были также обеспокоены и количеством,
и качеством атеистических кадров. «Старый атеист» Люциан Климович
(1907–1989), специалист по исламу, начинавший свою работу еще
в Союзе воинствующих безбожников 1920-х гг., отметил, что
противоречивая позиция партии в отношении религии и атеизма после
войны породила путаницу в сознании как партийных кадров, так
и верующих. «И пропагандисты, и рядовые слушатели часто
неправильно понимают отношения между государством и церковью,
пытаются сейчас церковь считать чуть ли не государственной
организацией, — отметил он. — Этот вопрос обязательно требует
всестороннего освещения» [495]. Новое поколение атеистических
кадров следует «вооружить» знанием Библии и Корана, поскольку эти
книги «приходится критиковать, а не всегда можно достать» [496].
Между тем среди советских верующих существуют «настроения», что
религия и коммунистическая идеология «прекрасно уживаются, что
можно входить в коммунизм с религией. Мы говорим, что это вредно,
так будьте любезны объяснить в чем вред, почему вредно... Мы ответа
убедительного пока не дали, только общие слова и фразы» [497].
Дискуссии внутри Госполитиздата показывают: идеологи осознали,
что у них недостаточно средств для реализации партийных указаний.
Поэтому, чтобы выполнить партийный наказ, сотрудникам редакции
Госполитиздата пришлось заняться непривычными для них делами:
изучать доклады партийных органов, КГБ, Совета по делам Русской
православной церкви и Совета по делам религиозных культов
о ситуации с религией в СССР; искать новых авторов, особенно бывших
верующих, порвавших с религией, чьи рассказы могли бы особенно
эффективно способствовать атеистическому воспитанию; посещать
книжные магазины, чтобы выяснить, какие книги атеистического
содержания пользуются спросом и почему; и даже ходить в церковь
и слушать проповеди, чтобы научиться более доходчиво говорить
с людьми и освободить их от влияния духовенства. Короче говоря,
амбициозные планы антирелигиозной кампании заставили
идеологическую элиту осознать, что для проведения атеистической
работы ей недостает ресурсов, учреждений и кадров. Практически
демонтировав атеистический аппарат при Сталине, партия теперь
должна была создавать его заново.
Идеологи также осознали: чтобы донести до людей идеи атеизма,
необходимо привлечь научную и творческую интеллигенцию
к созданию привлекательной атеистической пропаганды — книг, пьес,
фильмов, тематических программ на радио и телевидении. Но прежде
всего они осознавали потребность в атеистических кадрах
и в учреждениях, которые должны были координировать их работу.
Когда при Хрущеве религиозный вопрос был поставлен заново,
численность пропагандистов, имевших знания или опыт в сфере
антирелигиозной работы, была незначительной. Поставив задачу не
только регулировать и репрессировать религию, но и понимать ее,
партия обратилась к небольшому кругу экспертов в этой сфере,
работавших в различных структурах Академии общественных наук при
ЦК КПСС, Академии наук и на недавно созданных в ведущих вузах
страны кафедрах научного атеизма. Она также обратилась к «старым
атеистам», бывшим членам распущенного Союза воинствующих
безбожников. Наконец, она обратилась к «отступникам», которые
публично порвали с религией и объявили о переходе к атеизму. Самыми
известными из них были Евграф Дулуман, бывший студент Московской
духовной академии и преподаватель Саратовской духовной семинарии,
и Александр Осипов, бывший профессор Ленинградской богословской
академии. Оба сделали личный религиозный кризис достоянием
общественности, опубликовав статьи о своем разрыве с религией
в «Комсомольской правде»[498].
Стремясь сделать массы советских людей атеистами, партия могла
обратиться за помощью к трем типам специалистов по религии :
воинствующим атеистам, академическим и преподавательским кадрам
и вероотступникам, особенно бывшим служителям религиозных
культов. Но у каждой из этих категорий были свои недостатки. Хотя
поколение старых атеистов — сформировавшихся, как Климович,
в годы воинствующих антирелигиозных кампаний раннего советского
периода, — основательно владело марксистской теорией и было
искренне предано своей миссии, их воинственность и догматизм не
соответствовали постсталинскому идеологическому климату.
Академические ученые и вузовские преподаватели, в свою очередь,
обладали знаниями о религии, но не испытывали особого желания нести
атеизм в массы. Наконец, отступники могли убедительно рассказывать
массам о религии как царстве тьмы, вскрывая противоречия
в богословии и разоблачая внутреннюю жизнь церкви, но они были
слишком далеки от советского народа, особенно от молодого
поколения. Партии была нужна армия «новых атеистов», которые
были бы хорошо образованны, полны энтузиазма и способны вызвать
доверие у советских людей. Вместо этого в распоряжении партии была
когорта кадров, которые обладали небольшим опытом атеистической
работы, которым недоставало даже элементарных знаний о религии
и которые зачастую занялись атеистической работой по чистой
случайности и потому не обладали ни знаниями, ни убежденностью, ни
энтузиазмом.
Атеизм — в массы
После того как в годы войны Союз воинствующих безбожников был
распущен, главная роль в атеистической работе перешла к обществу
«Знание», созданному в 1947 г. Как и большинство советских
учреждений, общество «Знание» представляло собой централизованную
организацию. Всесоюзное общество «Знание», руководство которого
находилось в Москве, координировало работу республиканских,
краевых, областных и районных организаций. Среди его членов были
академики, представители научной и творческой интеллигенции,
специалисты — доктора, агрономы, инженеры, учителя —
и пропагандисты, сочетавшие деятельность в обществе «Знание»
с партийной или комсомольской работой. Во времена Хрущева
показатели активности общества и численность его членов резко
возрастали. Так, если за 1948 г. — первый полный календарный год
своей работы — общество «Знание» провело 83 000 лекций, то к 1957 г.
количество лекций возросло до 3 217 000, а к 1962 г. — до 12 757
000 [499].
С наступлением эпохи строительства коммунизма требования,
предъявляемые обществу «Знание» — «академии миллионов», стали
особенно высоки [500]. На фоне набиравшей силу антирелигиозной
кампании в докладе о деятельности общества «Знание»,
предназначавшемся для внутреннего пользования, разъяснялось, что
успех коммунистического строительства зависит от идейной
убежденности и моральных качеств людей. Это требовало преодоления
пережитков капитализма в сознании людей, причем одним из наиболее
существенных пережитков считалась религия [501]. Идеология
Коммунистической партии, как отмечалось в докладе, основана на
науке и всегда была несовместима с религией, которая играет роль
«духовной сивухи», отравляющей сознание людей. Если
коммунистическая идеология требует от человека активности в этой
жизни, то религия проповедует смирение с судьбой, пассивное
ожидание царствия небесного в загробном мире. Религия угрожает
советскому проекту не только тем, что представляет собой вредную
традицию, но и тем, что, по мнению авторов доклада, религиозная вера
часто ведет к нарушениям трудовой и государственной дисциплины,
причиняет ущерб сельскому хозяйству и оставляет человека духовно
опустошенным [502].
Ил. 7. Заседание библиотечной секции Московского дома научного
атеизма. Москва, 21 ноября 1963 г. ЦГА Москвы. Арх. No 1-48741
Прежде главным объектом атеистической работы был верующий;
теперь общество «Знание» инструктировало своих пропагандистов
шире воздействовать на массы трудящихся, идти в каждую заводскую
бригаду, отдел, общежитие, домоуправление и во дворы [503]. Как
разъясняло руководство, пропаганда научно-атеистического знания
требуется каждому: одним она поможет противостоять влиянию
религиозной идеологии, другим — стать знающими антирелигиозными
агитаторами [504]. Каждая лекция должна была отличаться
атеистической заостренностью, и при чтении лекций на любые темы —
от естественно-научных до международных — рекомендовалось делать
четкие атеистические выводы.
Чтобы добиться воздействия на массы, общество «Знание»
применяло новые формы и методы атеистической работы: учреждало
атеистические клубы, атеистические вечерние школы, атеистические
музейные выставки, уголки атеиста в библиотеках и даже атеистические
театры и танцевальные коллективы. Оно также фокусировало внимание
на подготовке кадров, организуя курсы и учебные семинары в вузах,
партийных школах и «народных университетах» в провинции и проводя
конференции и семинары в центральных учреждениях общества
«Знание», таких как Московский планетарий и Дом научного атеизма
(см. ил. 7) [505]. Атеистическая работа стала более разнообразной, когда
атеисты, чтобы достичь своей аудитории, обратились к новым
педагогическим приемам — использованию визуальных материалов,
организации дискуссий и игр. Например, в одном атеистическом клубе
было организовано мероприятие под названием «Наука и суеверие»,
сочетавшее дидактику со сценическим представлением и включавшее
в себя вечер вопросов и ответов с участием представителей местной
интеллигенции (директора школы, учителей, врачей и журналистов),
пьесу Сергея Михалкова «Темнота» в постановке любительского театра
и просмотр фильма «У порога сознания» [506].
На собраниях общества «Знание» обсуждались в основном примеры
успешной атеистической работы, такие как деятельность
вышеупомянутого клуба. Будучи регламентированными по форме, эти
собрания выполняли двойную функцию: распространять эффективные
стратегии работы и отмечать достигнутый прогресс. Так, на семинаре
в 1960 г. лектор общества «Знание» и преподаватель Московского
института культуры по фамилии Шевченко рассказал историю
о ситуации в Ивантеевке, маленьком подмосковном городе, как
о примере атеистической работы. В то время как «некоторые наши
товарищи» полагают, что «корни религии подорваны, религия —
отмирающий пережиток, все грамотные, ходят только в кино и на
танцы, да на лекцию „Есть ли жизнь на Марсе“», говорил Шевченко,
религия все еще остается существенной частью жизни советского
общества [507]. Шевченко попросил свою аудиторию представить себе
«город трикотажной промышленности», где «многие потеряли отцов,
мужей, сыновей на фронтах Великой Отечественной войны». Из
уцелевших мужчин многие работают в Москве или в соседних колхозах,
оставив «много матерей-одиночек», которым «нелегко... воспитывать
детей» [508]. «В темном зале окружной Новосельской церкви, —
продолжал он, — тени женщин метались, теплились свечки»; перед
Пасхой там выстраивались очереди мальчиков и девочек, которых
бабушки послали святить куличи. Затем в церкви появился новый
священник, отец Василий. Он имел педагогическое образование, был
майором запаса и проявлял «исключительную маневренность»,
демонстрируя «класс приспособленчества духовенства к современным
условиям» [509]. Он также ввел «солидную таксу» на церковные требы.
Вскоре религия стала глубже внедряться в жизнь обитателей
Ивантеевки. Приходскую общину возглавила пенсионерка, бывшая
учительница. Она познакомила своих учеников со священником,
который сказал им, что если кто-то из них не ходит в церковь, «значит,
тот против дела мира, а значит, политики Советской власти» [510].
Вскоре «на шее многих детей заблестели крестики». Дети стекались
в отремонтированную церковь на рождественскую службу, где пел хор,
сверкала огнями елка, а батюшка раздавал подарки. Вскоре церковь уже
не могла вместить всех верующих, и «бархатный голос отца Василия
загремел из радиодинамика, установленного на колокольне»[511].
Конечно, отметил Шевченко, «хоть и с опозданием, наши организации
забили тревогу». В местной газете появились письма возмущенных
трудящихся. Митрополит перевел отца Василия в другой приход
и заменил его «смирным старичком». Но проблему было не так просто
решить. На протяжении нескольких месяцев после перевода отца
Василия «фанатички поклонницы уехавшего красавца — мужчины
в соку — держат вокруг церкви пикеты и не допускают приезжего
старца даже на паперть, пишут всюду письма, добиваясь возврата
своего кумира. Церковь пока закрыта!» Но хотя церковь в Ивантеевке
и закрыта, «а дело сделано — мракобесие черной пеленой застлало
город славных подмосковных текстильщиц» [512].
Чтобы исправить положение, Шевченко встретился с местными
активистами и напомнил им о важности идеологической работы.
Партийная организация и районный отдел общества «Знание»
направили лучших агитаторов в дома местных жителей для проведения
«индивидуальных бесед». Клуб организовал публичные лекции, вечера
вопросов и ответов, антирелигиозный кинофестиваль. Учителя
пытались «страстно убеждать» верующих родителей прекратить
«калечить души детей — людей эпохи коммунизма»[513]. По городу
были расклеены афиши, приглашавшие жителей на лекции и диспуты
по «коренным вопросам мировоззрения», таким как «Правда о счастье,
смысле жизни, будущем» и «Учит ли библия добру?». Шевченко
рассказал, что в ходе своих лекций он часто получал от слушателей
записки с вопросами о том, когда будет конец света и может ли атомная
бомба убить всех на свете, и поэтому он организовал для молодежи
цикл бесед о будущем и о научно-фантастической литературе. Вместо
апокалиптических ужасов он поведал своим слушателям
«эмоциональную, взволнованную правду о будущем... будущем света,
радости, дерзаний человека-творца, образ того, по словам
К. Э . Циолковского, „невозможного сегодня“, которое станет
„возможным завтра“» [514]. К концу кампании несколько учеников
отвергли религию и даже сумели заинтересовать своих матерей
«увлекательными приключениями людей в космосе из романов
о межпланетных путешествиях». Под влиянием детей родители начали
«задумываться о „тверди небесной“ и усомнились в реальности
„царствия небесного“, проникнувшись уважением к большой советской
науке» [515].
Ил. 8 . Атеистическая лекция под открытым небом, организованная
Московским Домом научного атеизма. Москва, 1963 г. ЦГА Москвы.
Арх. No 1 -48745
Еще одним новшеством хрущевской эпохи стали так называемые
«народные университеты» — программа непрерывного образования,
направленная на просвещение рабочего класса. На четвертом съезде
Всесоюзного общества «Знание» в 1963 г. руководство общества
представило Народный университет в Тарту (Эстония), созданный
в 1959 г., как образцовый пример атеистической работы, и попросило
А. М. Митта, учителя физики и лектора по научному атеизму, доложить
об успехах программы [516]. Митт сообщил, что Народный университет
в Тарту, предназначенный по большей части для сельскохозяйственных
рабочих, выигрывает от своей близости к Тартускому университету,
одному из старейших в Советском Союзе. Но он подчеркнул, что
в проведении программы атеистического образования на вновь
созданном факультете естествознания и атеизма местным
преподавателям пришлось начинать с нуля. Совет факультета
разработал двухгодичный учебный план, включавший 25 лекций,
которые читались по вечерам каждое воскресенье, четыре вечера
вопросов и ответов, три тематических вечера, а также экскурсии, в том
числе посещение фестиваля атеистических фильмов и поездку
в ГМИРА в Ленинград. Атеистическое образование также включало
экскурсии в Геологический и Зоологический музеи, астрономическую
обсерваторию, вычислительный центр Тартуского университета
и Музей этнографии.
Митт разъяснил, что, хотя студенты, записавшиеся на эту
программу, как правило, уже являлись атеистами, программа также
привлекла большое количество любопытных, многие из которых были
верующими. Показателем успеха, по словам Митта, могло служить то,
что мероприятие Народного университета на тему о религиозных
чудесах в свете науки собрало аудиторию в 300 человек, хотя
проводилось на следующий день после Рождества. Кроме того,
фестиваль атеистических фильмов, специально приуроченный
к пасхальной неделе, собрал 8000 зрителей, что составляло около 10%
населения Тарту [517]. Митт подчеркивал, что успех Народного
университета в Тарту во многом объясняется тем фактом, что лекции
в нем часто читали профессора Тартуского университета, обладавшего
большим авторитетом в регионе. Территориальное расположение
позволяло привлечь к чтению лекций в Народном университете
нескольких видных академиков и деятелей культуры — известных
биологов, астрофизиков и даже Осипова, знаменитого отступника от
православия.
По завершении атеистической программы, как сообщал Митт,
студенты и посетители лекций «убеждаются, что атеизм — это не
причудливость „профессионалов от богохульства“, а прямое
и неопровержимое следствие достижений науки»[518]. Количество
религиозных обрядов в Тарту существенно уменьшилось, причем
количество крещений и конфирмаций в период с 1957 по 1963 г.
снизилось на 90%, а отпеваний — на 50% [519]. Две церкви были
закрыты «из-за отсутствия прихожан», а численность сектантов
неуклонно сокращалась, причем один бывший сектант даже вошел
в состав Совета факультета естествознания и атеизма. Наконец, Митт
поведал о самом примечательном выпускнике программы —
восьмидесятилетнем старике «с бородой „преподобного Авраама“»,
который последние тридцать лет своей жизни был адвентистом
Седьмого дня. По окончании программы, рассказывал Митт, этот
старик «заявляет, что он загубил половину своей жизни, и благодарит за
то, что в конце концов ему помогли разобраться во всех этих вопросах».
Митт говорил, что лекции кафедры побуждают людей задуматься над
главным вопросом — где правда, в науке или религии, и где искать ее
—
в церкви с попами или в Доме культуры с учеными? [520] Митт даже
должен был выделить приемные часы для собеседований с людьми,
которые «приходят изливать свою душу и просят разъяснить им
различные вопросы, которые у них наболели, и на которые они ищут
ответа» [521].
***
Успех атеистической работы измерялся отказами от религии: когда
верующие навсегда порывали с религией и полностью принимали
советскую действительность, «активно включаясь в общественную
жизнь и честно трудясь на разных участках народного хозяйства
и культуры» [522]. Таких «обращений», как разъясняло своим кадрам
руководство общества «Знание», можно было добиться, увеличив
масштаб и глубину личных контактов пропагандиста с верующим.
Например, один лектор общества «Знание» из Ставрополя рассказал,
как он проводил работу с местной верующей, чей ребенок был болен.
Она хотела отвести сына к местной «знахарке», но лектор навестил ее
и рассказал о ребенке из соседней деревни, который умер в результате
неквалифицированного лечения. Но работа лектора не ограничилась
попытками воздействовать на женщину с помощью аргументов
и наглядных примеров. Он следил за ситуацией, приезжал домой
к женщине на лошади и отвозил ее вместе с сыном к доктору
в ближайший город. Потом он посещал эту семью еще двенадцать раз,
пока муж и жена не порвали с религией. Такое личное внимание
и индивидуальный подход, объяснял лектор, помогли ему обратить
к атеизму почти двести человек [523].
Но такие истории успешной атеистической работы были лишь
каплей в море. В 1964 г., когда занятые атеистической пропагандой
сотрудники общества «Знание» снова собрались, чтобы подвести итоги
работы, они говорили о своей деятельности исключительно как
о своеобразном соревновании с церковью — причем соревновании,
в котором они оказались отстающими. Чтобы объяснить трудности,
Шевченко (тот самый, который рассказывал о своем опыте
атеистической работы в Ивантеевке) сопоставил относительные
возможности противоборствующих сторон. Он указал, что в СССР
насчитывается 15 000 религиозных организаций, 10 500 из которых
относятся к православной церкви. Половина из них — 5000
—
находятся на территории РСФСР. Фокусируя внимание на ближних
территориях, он отметил, что в Московской области действует
100 православных церквей, в которых только в 1963 г. было совершено
около 500 000 религиозных обрядов — венчаний, крещений, исповедей,
проповедей и других, массовых и индивидуальных. «Знание» за тот же
период организовало только 3900 лекций атеистической тематики, что
составило около 3% лекционной программы общества. Атеисты,
заключил Шевченко, совершенно справедливо беспокоятся, что
духовенство превосходит их своей силой, особенно силой
богословского знания. С высококвалифицированными церковниками,
признавал он, трудно спорить. Но он также указывал, что
пропагандисты атеизма, ограничиваясь чисто атеистической работой, не
используют весь арсенал доступных ресурсов. Да, признавал он,
в РСФСР насчитывается 5000 православных церквей, но есть также 60
000 клубов, 1000 библиотек, 369 музеев, 282 театра и около
100 планетариев и обсерваторий; кроме того, есть народные театры,
книжные магазины и дома культуры. Он также отметил, что советские
граждане только за первые шесть месяцев 1963 г. приобрели полтора
миллиона радиоприемников и полтора миллиона телевизоров, что
открывает новый канал, через который можно оказывать большое
влияние на аудиторию. Только если пропагандисты мобилизуют весь
арсенал советской культуры для атеистической работы, они смогут
освободить людей от оков религиозности [524].
Партия продолжала оказывать давление на религиозные
организации и верующих, а общество «Знание» усиливало
атеистическую работу, но результаты — несмотря на описания успехов,
представленные в отчетах, — в лучшем случае были
неоднозначными [525]. Общество «Знание» по-прежнему полагалось
преимущественно на лекционную пропаганду и приводило
статистические данные о росте числа лекций и их посещаемости, хотя
и порицало при этом скудость форм работы. С позиций сегодняшнего
дня, однако, чтение таких документов порождает больше вопросов, чем
ответов. Как сформулировал один лектор по научному атеизму из
Москвы,
мы, откровенно говоря, не готовы. У нас еще много осталось
своеобразного, много пережитков в антирелигиозной пропаганде. Мы
привыкли к штампу, к стандарту, мы слишком еще мало волнуемся,
мало беспокоимся за недостатки атеистической пропаганды... Какая
разница, если я скажу, что на 100, 200, 500% по сравнению с тем, что
было год назад, мы увеличили количество лекций?.. Это бесконечно
мало по отношению к тому, что от нас требуют и время, и партия. Ведь
даже в Москве мы не так уже редко встречаемся с организациями,
учреждениями, предприятиями, артелями, школами, институтами, где за
послевоенное время не было ни одной лекции, ни одной беседы на
атеистическую тему... Наша пропаганда требуется сейчас для всего
населения, в том числе для верующего человека, главным образом. Ведь
мы систематической антирелигиозной пропаганды, регулярной,
постоянной пропаганды не ведем 17 лет. Выросло за это время целое
поколение людей, которое не воспитано в атеистическом духе, в духе
непримиримости, ленинского отношения к религии, воинствующих
безбожников [526].
Чтобы проиллюстрировать этот тезис, он привел записку, которую
получил в ходе недавней лекции для пятисот работников пропаганды,
проходившей в Москве: «В силу традиции во время Пасхи дома у нас
куличи и крашенные яйца, а в бога мы не верим, я — коммунист, брат
—
комсомолец, отец — член коммунистической партии. Что же,
неужели это очень плохо?» [527]
Клубы и лекции против церквей и проповедей
На протяжении хрущевской эпохи партия пыталась убедить своих
приверженцев, что коммунист, который красит яйца на Пасху — или
ходит в церковь, или соблюдает религиозные обряды, — в самом деле
поступает «очень плохо». Как отмечала одна из идеологических
комиссий, «поступает много сигналов о том, что партийные
организации не проявляют должного внимания к вопросам
атеистического воспитания трудящихся. Примиренчески относятся
к деятельности церковников и сектантов, не ведут активной борьбы
с пережитками прошлого. Нередко коммунисты мирятся с тем, что в их
семьях исполняются религиозные обряды, а иногда и сами принимают
в них участие» [528]. В этом не было ничего нового, но в свете
перспектив строительства коммунизма эти привычные жалобы на
нарушения партийной дисциплины зазвучали с новой силой. В Уставе
КПСС было четко сказано, что пассивное отношение к религии для
коммуниста неприемлемо и что члены партии обязаны вести
решительную борьбу с религиозными предрассудками [529].
В докладах для внутреннего пользования постоянно отмечалось, что
даже члены партии не могут служить образцовыми атеистами.
Например, лектор-атеист по фамилии Руденко сообщал о своем
разговоре с секретарем местного комитета партии, состоявшемся
в поезде, по дороге на партийную конференцию [530]. «Знаем мы вас,
атеистов, — съязвил секретарь партийного комитета в адрес Руденко, —
вы сами себе лекции читаете». Руденко привел эту насмешливую
реплику, чтобы указать, что понятия «коммунист» и «атеист» не всегда
совпадают друг с другом, и поделился еще одной историей, чтобы
проиллюстрировать пренебрежительное отношение к атеизму со
стороны местных партийцев:
Мы помогали в одном районе обкому партии слушать вопрос
о развертывании научно-атеистической пропаганды в связи с последним
постановлением ЦК КПСС. Секретарь одного района сказал, давайте
проверим, каково положение в семьях коммунистов, как там в быту
дело.
Поскольку приехало из края много людей, мы сразу во всех селах
проверили, зашли к каждому коммунисту и оторопев смотрели на
иконостас. Много случаев, не буду говорить о проценте, но было
немало людей с иконами.
Что же они объяснили, эти коммунисты? Это не мои, это бабушки,
тетушки; и когда мы доложили секретарю горкома партии, он сказал,
надо коммунистов спросить, в идеологических вопросах они
руководятся указаниями партии или бабушек и тетушек, а мы не читаем
лекции для коммунистов, не читаем лекции для советского актива [531].
Руденко отметил, что, даже если этот инцидент «не характерный»,
подобные факты не так уж редки: «Если вы посмотрите у себя, боюсь,
вы найдете подобное явление» [532]. Идеологическая элита
интерпретировала идейную пассивность партийных кадров как
доказательство, что религия по-прежнему пронизывает жизнь
советского общества. Тот факт, что дом советского человека не
обязательно дом коммуниста, а коммунист не обязательно атеист,
считался показателем дистанции, отделяющей настоящее советского
общества от коммунистического будущего. «Наивное»
и «невоинственное» отношение членов партии к религии означало, что
коммунисты не признают идеологической и политической значимости
атеизма.
Ил. 9 . А. Цветков. «Если они будут так работать, на клубе поставим
крест». Карикатура. Крокодил. 1962. No 10
Общество «Знание» также указывало на рискованность прямых
контактов со священнослужителями и верующими, отмечая, что когда
атеисты напрямую противостоят религии, они обычно оказываются
в невыгодном положении (см. ил. 9). Один сотрудник общества
описывал атеистическое мероприятие во Владивостоке, на котором
глава местной общины пятидесятников сообщил аудитории, что они
только что слушали клеветника, и настаивал, что сам он может доказать
с научной точностью историческую реальность Иисуса Христа
и библейских мифов, вроде всемирного потопа. Лекция во
Владивостоке, вместо того чтобы служить целям атеистического
воспитания, наглядно показала, что болезненные столкновения
верующих с неверующими могут привести к разжиганию религиозного
фанатизма[533].
Пропагандистов атеизма предупреждали, что верующие могут
использовать лекции по атеизму как трибуну для пропаганды
религиозного мировоззрения. Чтобы состязаться с религией, лекторы
нуждались в практической подготовке, связанной с жизнью. Более того,
лектор-атеист по фамилии Усков проводил прямую аналогию между
подготовкой лекторов по научному атеизму и обучением священников:
Почему в духовной семинарии гумилетика [sic] — искусство
проповедования — читается как один из главных предметов, а у нас
никогда не говорят о том, как читать, какой должен быть язык, как
нужно держать себя, в зависимости от аудитории [?] Ведь лектор не
только тот, кто написал текст и знает вопрос, кроме того, он должен
ясно говорить, просто, чистым русским языком, доходчиво, понятно,
ясно, чтобы это дошло до сознания масс. Ведь религия не только в ...
[пропуск в источнике], она в чувствах людей и лектор должен
будоражить эти чувства... В этом главное искусство — уметь общаться
с массами.
Также Усков, показывая опасность прямых столкновений с верующими,
подчеркивал важность правильного обучения лекторов. Он описывал
недавнюю читательскую конференцию в Москве с провокационным
названием «Есть ли бог», которая закончилась «большим конфузом».
Встретившись с аудиторией, насчитывавшей триста человек — именно
тех, «кого мы должны обслуживать», преимущественно пожилых людей
и верующих, — лектор быстро обнаружил недостаточную
подготовленность, когда «старушки забили его вопросами», а он только
«мямлил и ничего не мог ответить». Усков настаивал, что лекторы-
атеисты должны уделять внимание не только теории, но также
«способности просто, доступно, а главное — убедительно и ярко
донести свои знания в такой важной и трудной сфере нашей
пропаганды» [534].
На сходные «подводные камни», угрожающие плохо обученным
атеистическим кадрам, обращал внимание ветеран атеистической
работы Виноградов, участвовавший в атеистической пропаганде
с 1928 г. Антирелигиозная пропаганда, как отмечал он, представляет
собой «самый трудный вид пропаганды». Она требует «большого такта,
методического мастерства и серьезных знаний», которые подвергаются
особенно серьезному испытанию, если лекции проходят в сельской
местности.
Скажем, читается вопрос о Христе, то сразу после такой лекции задают
вопрос, а кто же создал землю и солнце, почему сейчас обезьяны не
производят на свет людей, почему в станице Волчаковке поп
бесплатные обеды дает, а советской чайной — за деньги. Когда на такие
вопросы лектор говорит, что он на них не ответит, он теряет авторитет.
Если лектору в деревне задают вопрос, не относящийся к теме и он на
такой вопрос не отвечает, то там говорят — в этих вопросах не
разбирается, а приехал о боге говорить [535].
Виноградов считал, что наиболее важной частью выступления лектора
является не сама лекция, а ответы на вопросы слушателей. Именно
здесь большинство лекторов «уходят в сторону», особенно в сельской
местности, где «лекции обязательно превращаются в беседу». Атеисты
должны совершенствовать свои подходы, поскольку даже философы,
врачи и биологи «встают в тупик», сталкиваясь со «знатоками
библии» [536]. Более того, доказывал Виноградов, чтобы пропаганда
была эффективной, члены партии должны вначале «навести порядок
в своем доме» — выкинуть иконы и провести работу с теми членами
семьи, кто соблюдает религиозные обряды. Он указывал, что члены
партии часто используют одни и те же уловки, чтобы избежать
ответственности за неподобающее поведение, и в доказательство своих
слов рассказал о молодом комсомольце, который сваливал вину за
наличие в доме иконы на свою жену. Молодой рабочий жаловался,
что жена у него верующая и он не может ее «перевоспитать». Но когда
Виноградов поговорил с женой, указав ей, что молодой советской
женщине негоже держать в доме икону, она ответила: «Я ему дураку
40 раз говорила — сними». Виноградов призывал быть не «домашними
безбожниками», а «воинствующими»[537].
Ил. 10. Кукрыниксы. Вознесение (Текст: — За что возносите? — За
плохие атеистические лекции!). Карикатура. Крокодил. 1962. No 17
Наконец, Виноградов призывал атеистов уделять личное внимание
верующим, доказывая, что именно на индивидуальном подходе
и держится сила религии. Он описывал деревню, где в 1958 г. было
несколько сотен баптистов, причем примерно сто из них было
в возрасте от 16 до 20 лет. Для Виноградова столь высокая численность
баптистов, особенно взрослых, служила доказательством, что церковь
и сектанты умеют найти подход к местному сообществу.
Не секрет, что сектанты ходят по квартирам, беседуют. А ходил ли по
квартирам секретарь партийной организации, ответственный секретарь,
председатель областного отделения [общества «Знание»]? А я знаю
другой случай, когда Исполком отказывается покрыть крышу, то
сектанты это делают, т. е. они завоевывают сердца людей. Сектанты
применяют все и индивидуально занимаются с каждым... Мне кажется,
что самое сильное влияние можно оказать путем индивидуальных
бесед... чтобы посеять по крайней мере крупицу сомнения [538].
По мнению Виноградова, атеистическая работа не должна
ограничиваться только религиозными вопросами. Он отмечал, что на
лекциях встречал многих людей, которых потом продолжал навещать:
«Они пишут мне — вы читали нам лекции о морали, а нас председатель
каждый день матом ругает. Другая пишет, что нет яслей, куда можно
было бы ребенка поместить. И лектору в деревне приходится идти
в Райком, в Райисполком по этим вопросам» [539]. В конечном итоге
Виноградов говорил о том, что атеистическая пропаганда — это не
только диспуты, но и забота о людях, проводя параллель между работой
лектора-атеиста и пастырской миссией священника.
Алексей Гагарин, преподаватель философии в Московском
государственном университете, возглавлявший секцию научного
атеизма общества «Знание» РСФСР, также критиковал атеистическую
работу за слишком абстрактный характер и призывал лекторов-атеистов
обращаться к человеческим чувствам [540]. Но когда он
охарактеризовал недостатки, пропагандисты попросили Гагарина
пояснить, как на практике выглядит новый подход к атеистической
работе с верующими. «Я делаю это таким образом, — объяснил
Гагарин, — живу вместе с людьми и разъясняю им [многое]... [Людей
нужно] расположить к нам, как в свое время располагал поп к себе,
войти в доверие человеку. Работа эта трудная, гонорары за это не
платят, но это революционная работа, и эта работа сыграет
огромнейшую роль, только надо захотеть» [541]. Как и Гагарин,
теоретики атеизма, принадлежавшие к идеологическому
истеблишменту, стали доказывать, что атеистическая работа не должна
сводиться к лекциям. Чтобы добиться результатов, пропагандисты
должны быть вовлечены в повседневную жизнь своих слушателей,
понимать их опыт, обращаться к их проблемам. Подобные призывы
совершенствовать атеистическую работу, заимствуя оружие
и стратегию из арсенала оппонентов, весьма показательны [542].
Разумеется, по-прежнему использовались и старые методы, но все чаще
теоретики атеизма призывали местные кадры подходить к своей работе
как к пастырской миссии. Действительно, на конференции по научному
атеизму Гагарин охарактеризовал коммунистических атеистов как
своеобразных духовных наставников. Если буржуазные атеисты
удовлетворяются тем, что оставляют человека в неустойчивом
состоянии индифферентности, без отчетливой идеологической позиции,
то подлинные атеисты должны направлять человека, который отчалил
от берега религии, но еще не причалил к берегу атеизма [543].
9 мая 1963 г. общество «Знание» провело конференцию на тему
«Закономерности формирования и развития духовной жизни
коммунистического общества» [544]. В центре внимания конференции,
участники которой обсуждали подготовку пятитомного издания
«Социализм и коммунизм», были проблемы духовного развития
советского общества в переходный период от социализма
к коммунизму. В ходе конференции постоянно затрагивались вопросы
религии: участники обсуждали роль социальной психологии
и общественного мнения в религиозной жизни, а также конкретные
меры по воспитанию нового человека коммунистического общества
и внедрению научно-материалистического мировоззрения.
Присутствующие признали, что обращение к разуму и науке не
превратило советских граждан в атеистов [545]. Поскольку требовались
новые объяснения сохранения религии в жизни советского общества,
некоторые участники конференции доказывали, что достичь успеха
мешает отсутствие ясной картины эмоционального мира и быта
советских людей. Как заявил один из выступающих, «основным
объектом идеологической работы должен быть человек, мир его мыслей
и чувств, воспитание в нем лучших мыслей и чувств... В поле зрения
нужно держать каждого человека, видеть, знать, каким он является не
только на производстве, в общественных местах, но и в семье,
в быту» [546].
Чтобы подчеркнуть неоднозначность проблем быта, художник
Борис Неменский рассказал о своем разговоре с директором сельской
школы.
Недавно я был в деревне, где была выставка моих этюдов. Директор
школы пришел туда. Я рассказал об искусстве, об эстетике и т. д. И он
мне сказал, когда мы шли обратно: «знаете, Борис Михайлович, я сам
знаю не больше художников, которые здесь присутствовали. Когда по
радио передают симфоническую музыку, я говорю жене: „А ну, давай,
забьем козла!“».
И забота о тех людях, которые не слушают симфоническую музыку,
а забивают в это время козла, это ваше дело. Побывайте в наших домах,
посмотрите, как проводит инженерно-техническая интеллигенция свое
свободное время, которое наше государство сейчас стремится
освободить как можно больше. Забивают козла. А мы должны сделать
так, чтобы это время использовать для духовного воспитания наших
людей, а чтобы это сделать, мы должны развивать духовные процессы
и выявлять, что мешает на этом пути, а вы, философы, должны сыграть
в этом главную роль[547].
Опаснее всего в идеологической работе было пренебрежение семейной
и повседневной жизнью людей, поскольку материальные условия жизни
в стране улучшались и у советских людей становилось все больше
личного времени и пространства. Тем не менее когда участники
конференции определяли стоявшие перед ними проблемы, они по-
прежнему не знали, как найти подход к «духовному миру советского
человека» со всеми его особенностями [548].
Когда мы говорим о пережитках, мы видим, что не все жизненные
явления мы охватываем новым и в связи с этим люди придерживаются
старых традиций, или, лучше даже сказать, обрядов. Я имею в виду, что
философы мало разрабатывают новые социалистические обряды в таких
явлениях жизни, как рождение человека, вступление в брак, создание
семьи, как другие моменты, пусть даже печальные в жизни, как смерть
человека. Эти элементы в жизни полностью игнорируются [549].
Общество «Знание» продолжало обсуждать препятствия, которые
необходимо преодолеть для успешного перехода к коммунизму, и при
этом изо всех сил пыталось найти реальную стратегию влияния на
духовную жизнь советского общества. Как выразительно
сформулировал один из ораторов, «раньше мы переживали тот период,
когда речь шла, чего не будет при коммунизме, а сейчас настала пора
говорить, что будет при коммунизме» [550].
Война мировоззрений
Самую деятельную из идеологических комиссий, созданных при
Хрущеве, возглавлял его протеже Леонид Ильичев, влияние которого
в идеологических вопросах уступало лишь влиянию Михаила Суслова,
стоявшего на страже партийной ортодоксии [551]. Работа комиссии,
учрежденной в 1962 г., достигла своего пика в 1963 г., когда было
проведено два пленума Центрального комитета КПСС — в июне
и в ноябре, посвященных решающей роли научно-материалистического
мировоззрения в системе коммунистического воспитания.
Если главным идеологическим проектом хрущевской эпохи было
строительство коммунизма, то стержнем этого проекта было внедрение
научно-атеистического мировоззрения. Дискурсивные практики,
связанные с понятием «мировоззрение», были укоренены в европейском
социалистическом движении XIX в., для которого трансформация
мировоззрения была решающим механизмом культурной
и политической революции [552]. Хотя в идеологических дискуссиях
хрущевской эпохи эта генеалогия явно не прослеживалась , термин
«мировоззрение» в советском лексиконе соответствовал немецкому
понятию Weltanschauung, которое, как пишет историк Тодд Уэйр,
означало «систематизированное представление о мире как смысловой
целостности, формирующее основу сообщества» и которое должно
было не только объяснять «нынешнее состояние социального
и физического мира», но и «содержать в себе систему нормативов
и многоплановую программу спасения» [553]. Как объяснял Ильичев на
собрании идеологической комиссии, мировоззрение представляет собой
комплекс политических, экономических, философских, естественно-
научных, этических и эстетических идей, и если в рамках этого
комплекса «религиозные идеи доминируют над всеми остальными, то
мировоззрение человека является религиозным, противоположным
научному мировоззрению»[554].
Июньский пленум ЦК КПСС, прошедший 18–24 июня 1963 г., был
созван для разработки позитивного определения научно-
материалистического мировоззрения. Это был первый партийный
пленум, посвященный исключительно вопросам идеологической
работы, и на нем подчеркивалось, что в условиях нового этапа перехода
от социализма к коммунизму — когда Советский Союз, «в прошлом во
всех отношениях отсталая страна», поднялся «к вершинам социально-
экономического прогресса» — борьба между двумя доминирующими
мировыми системами сосредоточилась в сфере идеологии [555].
Ильичев предупреждал, что современный мир стал ареной
«ожесточенной борьбы двух противоположных образов жизни», что
«империалисты» рассчитывают на «идеологическую эрозию»
советского общества. Он говорил о том, что «откровенный гангстеризм
идеологов империализма» играет на человеческих слабостях
и рассчитывает на неспособность партии преобразовать сознание
советского человека и создать нового человека коммунистического
общества [556]. В этой битве мировоззрений религия играет
центральную роль. Ильичев доказывал, что когда религия уступила
науке свою власть над тайнами природного мира, она стала стремиться
монополизировать «моральную» сферу, что переносит поле битвы
с религией в мировоззренческую область. Стремясь защитить советских
граждан от «бацилл» капитализма, партия расценивала «воспитание
нового человека как самое трудное дело коммунистического
преобразования» [557].
Несмотря на призывы к сражению, идеологическая комиссия
предлагала не так уж много конкретных мер по ведению войны
мировоззрений. Когда она вновь была созвана в конце 1963 г., чтобы
обсудить проведение в жизнь решений июньского пленума по развитию
атеистического воспитания, Ильичев доказывал, что страх перед
секуляризацией заставил религиозные учреждения
модернизироваться [558]. Вместо того чтобы бороться с прогрессом
науки и оставаться в стороне от жизни этого мира, религия теперь
стремится адаптироваться к современной науке и политике.
Христианство, долгое время считавшееся «отмиравшим», перешло
в наступление — и эта тенденция противоречила марксистским
представлениям о том, что религия по сути своей является
ретроградной, реакционной, неспособной к модернизации. Как стало
очевидно из деятельности Второго Ватиканского собора (1962–1965),
религиозные организации не были намерены оставаться на обочине
современной жизни и продолжали заявлять право на участие в жизни
как отдельного человека, так и общества в целом.
На собрании идеологической комиссии 31 октября 1963 г. открыто
обсуждались недостатки «борьбы с религиозной идеологией»,
развернувшейся в ходе антирелигиозной кампании. Ильичев предложил
несколько объяснений того, почему, несмотря на социальный и научный
прогресс, религия сохраняет свое влияние на «сотни миллионов людей».
Во-первых, указывал он, в то время как лояльность религии по
отношению к советской власти в годы войны укрепила ее авторитет,
государство не противодействовало возвращению религии в жизнь
советского общества и не усиливало атеистическую пропаганду. Как
объяснял Ильичев, «ведь не секрет, что именно в тот момент, когда
церковь... укрепила свои позиции, почти прекратилась научно-
атеистическая работа — вплоть до известных постановлений
Центрального Комитета 1954 г.». В результате «кое-кто воспринял
изменение в позиции церкви как основание чуть ли не для пересмотра
нашего отношения к религиозной идеологии». В самом деле, именно
потому, что религия больше не считалась политической проблемой, она
стала представлять собой серьезную идеологическую проблему. Во-
вторых, отмечал Ильичев, секуляризация является промежуточной
стадией, которая позволяет сосуществовать в сознании человека
противоположным верованиям. «Верующие вместе с атеистами
участвуют в строительстве коммунизма. Многие из них искренне
пытаются совместить в своем сознании социалистические идеи
с религиозными верованиями. В доме верующего нередко можно
встретить рядом и молитвенник, и Программу КПСС». Наконец,
наиболее тревожной тенденцией партия считала то, что религия
повернулась от вопросов происхождения и сущности мира
к нравственным и общественным проблемам. Даже хрущевская
платформа «мирного сосуществования» с капиталистическим миром,
отмечал Ильичев, привела к «клерикализации» коммунистической
идеологии [559]. Упор религии на «социальную доктрину» мешает
коммунистической идеологии претендовать на роль единственного пути
спасения для бедных и угнетенных. В Советском Союзе, где
религиозные учреждения больше не считаются реакционной
политической силой, верующие не видят противоречия между своими
религиозными убеждениями и преданностью советскому государству.
Более того, многие из участников социологического опроса считали
коммунизм воплощением христианских идеалов.
Чтобы воздействовать на массы, пропагандисты атеизма должны
были связать марксистско-ленинскую теорию с вопросами, которые
беспокоят рядового советского человека. Ильичев критиковал тех
пропагандистов атеизма, которые «превратили в мертвую догму
марксистское положение о социальных корнях религии, в частности,
о причинах пережитков религиозных верований в социалистическом
обществе». Чтобы подчеркнуть плачевное состояние атеистической
работы, Ильичев рассказал, что, хотя в ходе атеистической кампании
количество действующих православных церквей с 1960 по 1962 г.
сократилось на 34%, число религиозных обрядов, зафиксированных
в этот период, «сократилось незначительно» [560]. Так, в Украине было
крещено 40% новорожденных детей, во многих регионах РСФСР доля
крещеных детей колебалась от 30 до 40%, а в Молдавии достигла 47%.
Уровень религиозности оставался высоким в республиках Прибалтики;
так, в Литве религиозными обрядами сопровождалось 68% рождений,
50% свадеб и 70% похорон. В некоторых регионах СССР количество
религиозных обрядов даже возросло. Самым настораживающим был тот
факт, что религиозные обряды зачастую соблюдали даже представители
интеллигенции и члены партии. Для членов партии это считалось
особенно вопиющим проступком; Ильичев отмечал:
Надо с присущей для нашей партии принципиальностью ставить вопрос
об ответственности тех коммунистов, которые не только уклоняются от
выполнения уставных требований партии о борьбе с религиозными
пережитками, но и сами на деле поддерживают эти пережитки. Среди
окрещенных много детей коммунистов и комсомольцев.
В Краснодарском крае только за первые 3 месяца 1963 г. было окрещено
около 100 детей членов КПСС. В Днепропетровской области были
окрещены дети заместителя секретаря парткома по идеологической
работе, зав. отдела райисполкома, прокурора, и многих других
коммунистов. В селе Голубково этого управления 147 коммунистов, из
них у 73 дети окрещены [561].
Наряду с «объективными» условиями сохранения религии
в социалистическом обществе существовали также и «субъективные»
причины, порожденные недоработками со стороны партии.
Ильичев обличал идеологическую «раздвоенность, двоедушие»
советской интеллигенции. «Но есть еще такие „интеллигенты“, —
разъяснял Ильичев, — которые не только не участвуют в научно-
атеистическом воспитании трудящихся, но и сами посещают церковь,
крестят детей, венчаются у попа, на пасху пекут куличи. На работе
такой интеллигент изображает себя атеистом, а дома соблюдает
религиозные обряды... Ради мира с набожной тещей или бабушкой он
поступается самым дорогим для человека твердых убеждений:
идеалами, научными истинами». Творческая интеллигенция лишь
в малой степени участвовала в атеистической работе, и, учитывая
заметную роль интеллигенции в общественной жизни Советского
Союза, ее «двоедушие» было «делом не безобидным» [562].
С другой стороны, духовенству, указывал Ильичев, удается
привлекать людей в лоно религии, хотя у церкви нет доступа в органы
печати, на радио и телевидение [563]. Это происходит потому, что
церковь никогда не забывала об отдельном человеке, сопровождая его
от колыбели до могилы. Для партии, напротив, отдельная личность
часто ускользала из сферы внимания, особенно если он или она больше
не принадлежали к трудовому коллективу. Ильичев описал типичную
историю советского рабочего, который после выхода на пенсию был
забыт коллективом своей фабрики и «затянут в сети» религии. «Горько
на старости лет оказаться забытым товарищами, — подчеркивал
Ильичев. — ...Нет ничего опаснее для общества и обиднее для живого
человека, чем забвение». Это является отступлением от принципов
коммунистической идеологии. Коммунистическая идеология
утверждает, помимо прочего, что общество, «проникнутое заботой
о благополучии человека, служит ему твердой опорой в жизни от
рождения до глубокой старости». «Здоровый коллектив», доказывал
Ильичев, дает человеку «необходимую духовную гармонию,
уверенность в завтрашнем дне, способность твердо противостоять
жизненным трудностям и невзгодам». Пропагандисты атеизма должны
сосредоточить усилия не на лекциях, дискуссиях или фельетонах, а на
индивидуальной работе с советскими людьми. «Вы должны знать, что
одними лекциями о науке религию не победишь. Чтобы вытеснить бога,
нужно сперва самим стать настоящими людьми». Настоящий
пропагандист атеизма, провозглашал Ильичев, «это человек, кровно
заинтересованный в судьбах тех, кто стал жертвой религиозной
идеологии... это человек, смело вторгающийся в жизнь, несущий людям
тепло своего большого сердца, это гуманист, сражающийся за
человеческие души» [564].
Религия, в свою очередь, «паразитирует на нерешенных вопросах
нашего строительства [коммунизма], на тех или иных недостатках
нашего движения вперед, на неурядицах в личной жизни человека, и на
многом другом». В своих проповедях «идейные противники из
религиозного лагеря» высказываются по «важнейшим человеческим
проблемам»: о смысле жизни, совести и нравственности; о месте
человека в обществе и его обязанностях перед обществом; о радости,
страдании и смерти. «Короче, — заключил Ильичев, — религия
спекулирует на волнующих умы и сердца людей жизненных проблемах,
навязывая и верующим, и неверующим свое решение. Мы же нередко
ограничиваемся лишь негативной оценкой религиозной трактовки, ни
всегда предлагаем верующему наше позитивное решение жизненных
проблем... Мы окончательно выиграем борьбу за умы всех людей, если
не будем отгораживаться от философских проблем, поднимаемых
нашими идейными противниками»; главное сейчас для коммунистов, по
его словам, — «не оставлять церковникам и сектантам никакой лазейки
к душам людей» [565]. Причиной сохранения религии в Советском
Союзе, таким образом, в какой-то мере были пробелы
в коммунистической идеологии — те вопросы, на которые она не давала
ответа, и те потребности людей, которые она не удовлетворяла.
Прежде всего, сохранение религии воспринималось как результат
наличия в ней психологической, эстетической и эмоциональной
составляющих, к которым в должной мере не обращались ни марксизм-
ленинизм, ни научный атеизм. Результаты социологических
исследований показывали, что в отношении человека к религии
определяющую роль часто играли эстетические и эмоциональные
компоненты религиозного опыта, традиций и обрядов. Повторяя
доводы, часто звучавшие в ходе дебатов на заре советской власти,
Ильичев выдвинул идею, что «религиозность прежде всего проявляется
в быту. Такие события, как рождение ребенка, вступление в брак,
смерть близких, верующий стремится сопровождать религиозными
обрядами. В случае горестей и неудач верующий так же обращается
к священнику или проповеднику за утешением»[566]. Пока
коммунистическая идеология не предоставит собственных ответов на
эти запросы и собственных обрядов на такие случаи, люди будут по-
прежнему привязаны к церкви и религии, если не силой убеждения, то
силой традиции. Требовалось, чтобы атеисты заполнили пустоту,
оставшуюся после негативной антирелигиозной пропаганды,
позитивным атеистическим мировоззрением и обрядностью.
В ноябре 1963 г. идеологическая комиссия снова собралась, чтобы
обсудить атеистическую работу в свете статьи Ильичева
«Формирование научного мировоззрения и атеистическое воспитание».
В этой статье Ильичев доказывал, что атеистическая пропаганда
апеллирует к разуму, но упускает из виду чувства; церковь же
и сектанты, как писал Ильичев, «стремятся воздействовать не только
и не столько на разум, сколько на чувство... Нам надо самим не только
понять значение эмоционального фактора, но и практически
использовать его» [567]. Чтобы найти подход к бытовой сфере,
комиссия сфокусировала внимание на семье как объекте
идеологического воздействия [568]. Семья, долгое время считавшаяся
консервативной хранительницей религиозности, стала теперь еще
одним полем битвы за душу советского человека [569]. Для
трансформации религиозных верований в атеистическое мировоззрение
надо было разорвать связи семьи с церковью. Ключевую роль в этом
проекте играли обряды, поскольку они не только привлекали людей
в церковь, но и служили средством передачи религиозных верований от
поколения к поколению. «Вот православные иерархи заявляют, что
в храме молящиеся, я цитирую дальше: „ищут и удовлетворяют свое
религиозное настроение и удовлетворяют в благолепии храма и красоте
богослужения свое эстетическое чувство“. Вот как удовлетворяет с этой
стороны наша антирелигиозная пропаганда? Доставляет ли она
эстетическое чувство и удовлетворение?» Ответом на вопрос Ильичева,
как явствует из стенограммы собрания, было «оживление» и «смех», но
Ильичев побуждал своих слушателей задаться вопросом: «Не пора ли
нам серьезно подумать о наших гражданских ритуалах, о придании им
большей торжественности, большей привлекательности?» [570]
В докладах о религиозной жизни в стране, поступавших
в центральные партийные органы, также подчеркивалась важность
пастырской функции религии — ее способности утешать людей
в минуты страданий и горя. И в этом отношении советский атеизм
также потерпел неудачу; о последствиях таких недоработок говорил
в своем выступлении Сергей Павлов, первый секретарь ЦК ВЛКСМ.
Павлов доказывал, что церковь пользуется «душевными травмами»
людей, чтобы привести их к вере.
Если говорить о тех молодых людях, которые подвержены
религиозному воздействию, то, как правило, это юноши и девушки,
которые перенесли какую-то душевную травму, которые каким-то
образом не устроены в жизни.... Оторвались от коллектива, во всяком
случае они находятся под воздействием каких-то факторов, очень
тяжелых для них. Надо сказать, что вот церковники этим очень умело
пользуются. Почему это получается? Потому что у нас, за нашими
мероприятиями, за рейдами комсомольского прожектора, дежурствами
в отрядах народных дружин, соревнованиями, которые мы ведем,
и прочее, мы упускаем человека, такого как он есть, со всеми его очень
большими внутренними сложностями. Очень много слепого
копирования еще в деятельности комсомольских организаций, когда
копируют деятельность администраторов, деятельность взрослых
организаций, хотя задача состоит в том, чтобы у комсомольской
организации были свои методы работы, близкие и понятные молодежи.
Самое сложное из всех искусств, это искусство работать
с человеком. Не каждому это богом дано. Но, с другой стороны, и этому
делу надо учить. Мы говорим о том, что церковь подчищает свои
аргументы, совершенствует форму работы, специально
специализируется для работы на молодежь, причем каждая религия
и секта делает это по-своему. Надо иметь в виду, что веками накопились
формы, традиции у религии.
В комсомольских организациях что-то делается, но здесь не хватает
знаний, опыта, просто умения разобраться в сложностях судьбы какой-
то человеческой и найти наиболее правильные решения. Церковь очень
здорово создает внешнюю обстановку для того, чтобы туда человек
приходил со своими и радостями, и горестями. Возьмите такой пример.
Трудно представить себе, чтобы молодой человек пришел в наш клуб,
скажем, и стал советоваться по каким-то сердечным делам — они у него
не устроены. Если бы он даже и пришел туда, к директору клуба, то
он бы сказал: «Слушай, обратись в больницу, потому что у тебя видимо,
какое-то расстройство». Очень часто так бывает.
Но церковь и внешнее и внутреннее... человек идет в церковь за
этим, потому что там посадят, будет задушевная беседа, всякие
разговоры, советы хорошие. И здесь не будет издевки, здесь не будет
нотации, здесь не будет прописных каких-то истин.
Даже внешне возьмите. Ну, вот церковь, туда и верующие, и мы
заходим, в костел или в церковь, хочешь не хочешь, а шляпу сдернешь
все-таки, так как тебя обстановка немножко собирает. И возьмите наши
клубы [571]...
Чтобы решить эту проблему, идеальный советский пропагандист
атеизма должен был искать личностный подход к каждому советскому
человеку, проявлять интерес к тем радостям и горестям, которыми
сопровождается его жизнь, и вмешиваться, если необходима помощь.
Как подытожил Ильичев, «борьбу с религией надо поставить в связь
с борьбой за улучшение условий жизни людей, за перестройку их быта.
Эта борьба должна вестись так, чтобы верующий видел в атеисте
близкого друга, желающего ему добра, а не зла» [572]. Чтобы добиться
успеха, недостаточно было налагать административные ограничения на
религиозную жизнь и вести научно-просветительскую работу через
газеты и лектории. Атеизм нуждался в собственном духовном сословии,
способном вести пастырскую работу, что и приведет советских людей
к атеизму.
О необходимости «человеческого подхода» говорил и писатель
Владимир Тендряков (1924–1984), наиболее заметная фигура среди
представителей творческой интеллигенции, участвовавших
в хрущевской атеистической кампании. Его произведения (самым
популярным из которых была повесть «Чудотворная», опубликованная
в 1958 г., несколько раз переизданная и послужившая основой для
театральной постановки и киносценария) отличались более чутким
подходом к вопросам, связанным с религией в сельской местности, чем
было принято в атеистических произведениях его современников.
Например, вышедший в 1960 г. атеистический фильм «Тучи над
Борском» (режиссер В. С. Ордынский), как и другие подобные
художественные произведения хрущевских времен на религиозную
тематику, основан на «антисектантском» сюжете о ритуальном
убийстве[573]. Обращая внимание на подобные атеистические
стереотипы, Тендряков выступал против административных мер
в отношении религии и настаивал, что без человеческого подхода
«никакая пропаганда нам не поможет» [574]. Чтобы подчеркнуть
значение эмоциональной стороны религиозности, Тендряков описал
мощную «иллюзию человечности» на собрании баптистов, которое он
недавно посетил. Верующие обращались друг к другу со словами
«брат» и «сестра», создавая ощущение тесной общности, которое, как
отмечал Тендряков, было важнее, чем религиозные догмы и верования.
Как сказала ему одна женщина, присутствовавшая на собрании, ей на
самом деле неважно, есть бог или нет; она будет оставаться верующей,
ведь «поэтому [благодаря вере] мне гораздо легче жить, чем тебе» [575].
Тендряков привел этот эпизод, чтобы выразить свои сомнения
относительно подхода к атеистической работе: «Нам нельзя забывать,
что палкой больного не вылечишь, нельзя забывать, что духовный мир
человека не может оставаться незаполненным: если мы его не заполним,
заполнят его люди, которые чужды нам по взглядам. Свято место не
бывает пусто» [576]. Ильичев, в свою очередь, заключил, что только
марксистских догм больше недостаточно: «Надо теперь уже от общих
формул марксистских — правильных, незыблемых, переходить
к конкретной, реальной действительности: знать состав верующих, кто
эти верующие, насколько прочны убеждения, с чем они связаны».
Подводя итог дискуссии пропагандистов атеизма, Ильичев
предостерегал: «Если только мы разрушим идею и не поставим на место
разрушенной нашу, советскую идею, советский образ мышления,
советский образ действия, мы ничего не сделаем. Вы, наверное,
помните, товарищ Тендряков привел [цитату] из Библии, а я хочу
привести из Ленина. Он говорил, что пустым место не бывает: либо там
социалистическая идеология, либо там буржуазная идеология. Другого
нет!» [577]
Советский атеизм между наукой и религией
31 августа 1964 г., незадолго до того, как Хрущев был отправлен
в отставку с поста Первого секретаря ЦК КПСС, Василий Зайчиков,
заместитель председателя Всесоюзного общества «Знание», и Владимир
Мезенцев, новый редактор журнала «Наука и религия», направили в ЦК
КПСС письмо с просьбой дать разрешение на преобразование журнала.
Авторы письма отмечали, что за пять лет с момента выхода первого
номера журнала в свет он — единственный в стране атеистический
журнал — «сыграл свою положительную роль», но теперь пришло
время устранить недостатки в его работе [578].
Чтобы не бить мимо цели, журнал должен отвечать на все те вопросы,
которые возникают у широкой массы советских людей, в том числе
и у верующих, и на которые по-своему отвечает церковь. Это самые
разнообразные вопросы современной жизни, далеко выходящие за
пределы взаимоотношения естествознания и религии: о смысле жизни,
о счастье и утешении, о нравственном и безнравственном в поведении
человека, о правде и совести, о добре и зле, о воспитании детей
и о традициях, об отношении к различным событиям и фактам [579].
Зайчиков и Мезенцев доказывали, что журнал «Наука и религия»
должен обратиться «к житейской тематике», поскольку именно
«вопросы нравственно-этического характера» стали центральными
в современном религиозном дискурсе. Поскольку успех атеистической
пропаганды зависел от способности журнала воздействовать на
массовую аудиторию, «Наука и религия» должна была стать
«популярным философским журналом, какого у нас нет» [580]. Более
того, журнал виделся его создателям непохожим на «воинствующие»
издания раннего советского периода, такие как «Безбожник» [581]. Но,
как показали первые пять лет публикации журнала, атеистическая
пропаганда не проникала в душу советского человека. Как сообщал
коллегам сам Мезенцев, «в идеологическом отделе [ЦК КПСС] мне
неприятно было слышать, что мы не умеем, и до сих пор очень мало
популяризируем, пропагандируем наше мировоззрение... Ведь на
читательских конференциях читатели говорят очень резонные вещи, что
вы отнимаете от нас веру, а что даете взамен?» [582]
«Наука и религия» воплощала историю советского атеизма
в миниатюре, отражая все его взлеты, падения и противоречия. Проект
издания атеистического журнала, разработанный в ходе
антирелигиозной кампании 1954 г., вначале не был реализован и на
несколько лет был «положен на полку». Когда наконец в 1959 г. «Наука
и религия» начала выходить в свет, она должна была стать орудием
распространения атеизма для двух категорий читателей журнала:
атеистических кадров и верующих [583].
Первоначально журнал воплощал два подхода к ведению
антирелигиозной кампании: антиклерикальный — разоблачение
политически реакционных религиозных учреждений и догм,
коррумпированного и фанатичного духовенства; и просветительский —
распространение научных и технических знаний с целью утверждения
истины научного материализма. К концу хрущевской эпохи «Наука
и религия» ощутила необходимость обратиться к новым темам, как
правило, в ответ на те вопросы и проблемы, которые ставили ее
читатели. Стало ясно, что журналу необходимо не сосредоточиваться на
«негативной» антирелигиозной пропаганде, а подчеркивать
«позитивные» элементы атеизма — обсуждать житейские вопросы,
обращаться к эмоциям и повседневным заботам читателя.
Дискуссии о миссии «Науки и религии» по большей части
вращались вокруг названия журнала. Зайчиков и Мезенцев доказывали,
что название «Наука и религия» «не способствует распространению
журнала в массах» и более «не оправдано», поскольку оно
провозглашает ту самую оппозицию — противоположность науки
и религии, которую атеисты перестали считать убедительной[584].
Название журнала преподносило науку как лучшее оружие борьбы
против религии, но атеисты утратили уверенность в том, что наука
может предоставить все ответы, которые позволят атеизму проникнуть
в дом — и в душу — обычного советского человека [585]. Но если не
наука, то что же? Предлагавшиеся вначале названия — «Свет», «Знание
и вера» и даже «Жизнь и религия» — были вариациями на ту же тему,
поскольку они по-прежнему утверждали оппозицию между светом,
наукой, разумом и жизнью, с одной стороны, и религиозной темнотой,
иррациональностью и смертью, с другой.
К 1964–1965 гг., когда редакционная коллегия на своих собраниях
стала обсуждать будущее журнала, атеисты уже начали воспринимать
религию не как политическую или идеологическую проблему, но скорее
как проблему духовной жизни. Мезенцев доказывал, что
коммунистической альтернативой религии должна быть не наука или
даже философия, а марксистско-ленинское мировоззрение: «Ведь
религия — это все-таки мировоззрение, а не круг знаний, надо называть
[журнал] более правильно, более правильно сказать марксизм-ленинизм
и религия, по характеру пропаганды». Чтобы ответить на вызов,
брошенный религией, «мы можем и должны давать взамен наши
взгляды на мир, наше коммунистическое мировоззрение», и поскольку
«в основе идет борьба по линии нравственности, и мы должны брать
в основу эти проблемы, воинственно ставить эти вопросы». Мезенцев
предлагал еще несколько возможных названий журнала, которые, по его
мнению, более соответствовали его новой миссии: «Родник», «Знания
для всех», «Светоч», «Человек и мир», а также небольшую (но
существенную) вариацию на эту тему — «Мир человека» [586].
В дискуссиях вокруг названия «Науки и религии» отразились и более
масштабные перемены, развернувшиеся в тот период в сфере идеологии
советского общества. Тот факт, что в большинстве предложенных
названий журнала не было ни слова «наука», ни слова «религия», как
и предположение, что название «Мир человека» будет наилучшим
образом соответствовать новому видению атеизма, позволяет
обнаружить значительные сдвиги в понимании сущности религии
и миссии атеизма.
Конференция, проведенная обществом «Знание» и посвященная
судьбе журнала «Наука и религия», стала своего рода референдумом по
хрущевским подходам к религии и позволила поставить важнейшие
вопросы о будущем советского атеизма. Александр Окулов, директор
Института научного атеизма, задавался вопросом о том, отойдет ли
журнал от атеизма или нет. По его мнению, если судить по заглавию, то
может показаться, что журнал уйдет от атеизма; если судить с точки
зрения содержания, то, напротив, журнал будет двигаться навстречу
человеку. Важнее всего, подчеркивал он, проблемы человеческих
отношений; церковь играла на этом и прежде, а редакции журнала
необходимо узаконить внимание к проблеме человеческих отношений
на земле как к очень важному вопросу. Окулов отметил, что вместо
того, чтобы критиковать религиозные учреждения и догмы,
пропагандистам атеизма необходимо обратиться к духовным проблемам
современных верующих. Что действительно необходимо для
атеистического воспитания, настаивал он, так это «журнал,
посвященный человеку, человеческим отношениям» [587].
Но если по вопросу о новом направлении журнала был достигнут
консенсус, оставался ключевой вопрос: как «Наука и религия» сможет
донести это новое видение позитивного атеизма до своего читателя?
И кто будет составлять целевую аудиторию журнала? Редакторы
отмечали, что журнальные материалы, предназначенные двум разным
целевым аудиториям — верующим и пропагандистам, — часто
противоречат друг другу. «Очевидно, что у каждой аудитории есть свои
собственные запросы в отношении тематики, уровня и формы
преподнесения материала — и эти запросы часто абсолютно
несовместимы друг с другом. Например, верующего могут только
оттолкнуть различные методические материалы, предназначенные
пропагандистам, где обсуждаются различные подходы к верующим
и методы отвлечения их от религии, тогда как для пропагандиста эти
материалы существенны» [588]. Руководство общества «Знание»
жаловалось на трудности, связанные с двойственностью самой природы
журнала, и доказывало, что необходимо принять решение, будет ли
журнал специализированным изданием, предназначенным для
атеистических кадров, или же массовым, нацеленным на обращение
верующих к научно-материалистическому мировоззрению [589].
В свете новых требований, предъявляемых к идеологической работе,
обращение верующих к атеизму представлялось более важной задачей,
чем инструктивные установки перед отрядом пропагандистов. Но даже
если по вопросу о превращении «Науки и религии» в популярное
издание удалось достичь консенсуса, участники дискуссии отмечали,
что массы все же остаются вне зоны воздействия. Окулов заявил, что
«у нас журналов много, но ни газет, ни журналов нет массовых, нет
в них конкретных социологических исследований . Ведь даже в таких
крупных городах, как Воронеж, много людей не читает газет, не
слушает радио, даже не ходит в кино». Указав, что в РСФСР
насчитывается 23 миллиона человек «с низшим образованием», он задал
вопрос: «Что для этих людей в духовном отношении делают наши
газеты?» [590] Специалист по истории философии Мовсес Григорьян
согласился с тем, что атеисты должны найти путь к этим
«малограмотным» людям: «Если мы сумеем оторвать эту массу от
религии, то это будет решение основной задачи». Он доказывал, что
реформу журнала нельзя рассматривать как отступление от его
атеистической миссии: «Надо популярным, увлекательным языком
утверждать новое миропонимание, убедить человека, что есть какая-то
другая духовная опора. Это и есть основная атеистическая
направленность. Воспринимать это как отход от атеистических проблем
неверно» [591].
Тем не менее даже если атеисты были согласны с тем, что успех
пропаганды зависит от их способности воздействовать на массы, они
сходились в том, что «перестройку надо проводить очень
осторожно» [592]. Дмитрий Угринович, заведующий кафедрой
диалектического и исторического материализма гуманитарных
факультетов Московского государственного университета, отмечал, что
«Наука и религия» станет первым советским печатным изданием,
поднимающим вопросы духовной жизни. Если журнал «Наука и жизнь»
опирался на давнюю традицию научно-популярных изданий, делавших
науку доступной для масс, то атеизм все еще должен был искать общий
язык с рядовыми советскими людьми. В результате журнал столкнулся
с проблемой, свойственной всей советской идеологии: как удержать
равновесие между массовыми запросами и идейной чистотой,
удовлетворять запросы потребителя и в то же время выполнять
политические и педагогические функции? [593] Атеистам был нужен
журнал, который затрагивал бы духовные проблемы и давал ответы на
экзистенциальные вопросы, чтобы привести читателя к идеологически
правильным выводам о месте религии и атеизма в жизни советского
общества.
Атеистов также беспокоило, что, обращаясь к массам, они упустят
из виду атеистические кадры, поскольку для пропагандистов атеизма
«Наука и религия» была одним из немногих — если не единственным
—
источником атеистических материалов. В. Е. Чертихин,
возглавлявший атеистический отдел Госполитиздата, предупреждал:
Вы будете искать более широкого читателя, но складывается
впечатление, что заботясь об этом широком читателе, стараясь его
заинтересовать, мы можем забыть о научной пропаганде, об уровне
научной пропаганды, который может снизиться, потому что
о квалифицированном читателе будем заботиться меньше. Надо сказать,
что нашим атеистам негде побеседовать, негде обсудить свои
проблемы, которых очень много, обсуждаются эти проблемы
кустарно... Много неразрешенных проблем [594].
П. И. Сумарев, преподаватель философии в Институте
железнодорожного транспорта, поделился своими соображениями:
«Атеистическая пропаганда сложна и многогранна, она ведется
и в ВУЗах, и среди верующих в Домах культуры, избах-читальнях, но
нет единого центра, мы не знаем, где, что делается» [595]. В середине
1960-х гг. центры атеистической работы — Московский планетарий,
Дом научного атеизма в Москве, ГМИРА в Ленинграде, а также недавно
учрежденный Институт научного атеизма (ИНА) — лишь начинали
координировать атеистическую работу во всесоюзном масштабе.
Реальность состояла в том, что для большинства атеистических кадров
из провинции Москва и Ленинград оставались недоступны.
Действительно, в адрес партийного руководства и общества «Знание»
регулярно поступали жалобы и просьбы провинциальных
пропагандистов, нуждавшихся в систематической подготовке
и в атеистических материалах большего количества и лучшего качества .
Даже при своих скромных тиражах «Наука и религия» была
единственным широкодоступным атеистическим периодическим
изданием в Советском Союзе.
Необходима была и площадка для общения атеистических кадров,
поскольку ошибки в атеистической работе носили повсеместный
характер. И. К. Панчин, преподаватель кафедры атеизма Московского
технологического института пищевой промышленности, доказывал, что
лишь немногие атеисты преодолели традицию 1920–1930-х гг. —
делить людей на атеистов и верующих [596]. Юрий Стельмаков,
аспирант недавно созданной кафедры истории и теории атеизма
и религии МГУ и сотрудник отдела пропаганды ЦК ВЛКСМ, также
настоятельно подчеркивал, что атеизм должен выйти за рамки простых
противопоставлений и разоблачения религии, должен воспринимать
сложную динамику религиозности сквозь призму индивидуальной
психологии и личного опыта [597]. Он напомнил своим коллегам, что
стандартная формула, применяемая для объяснения религиозности
людей — «человек попал в беду и его затащили в секту», отличается
«вредным примитивизмом», поскольку «у человека назревает сначала
такая потребность, а церковники этим пользуются и человек не
затягивается, он сам идет в секты». Стельмаков упрекал атеистическую
пропаганду в том, что она ведется примитивно, на уровне
использования банальных противоречий в таком роде — космонавты
полетели в космос, значит, бога нет, поскольку они его там не видели,
и так далее. Он побуждал атеистов вместо этого стараться охватить всю
сложность человеческого опыта, ссылаясь на «удачное» письмо,
напечатанное в первом выпуске журнала, где было сказано, что Библия
так же противоречива, как сама жизнь. По мнению Стельмакова, это
высказывание удачно, поскольку в нем отражено несовершенство
человеческого разума. Именно так часто возражают пропагандистам
прогрессивные верующие, отвечая на все их доводы, что космонавт был
ограничен стенками своего космического корабля и не мог видеть бога,
что бог на самом деле пребывает в сердце человека или
в бесконечности. В конечном итоге, заключил Стельмаков,
пропагандисты атеизма отталкивают верующих тем, что пытаются
подменить правду жизни правдой факта [598].
Но реальная опасность «примитивного» атеизма состояла в том, что
он отпугивал свою целевую аудиторию и в конечном итоге отталкивал
именно тех людей, на которых атеисты стремились воздействовать:
Стельмаков упоминал лектора по атеизму, бывшего сотрудника КГБ,
который даже на самого обычного баптиста смотрел как на врага,
и отмечал, что пропагандисты в целом склонны смотреть на верующих
как на политически неблагонадежных, потенциально опасных людей.
Но в таких условиях, отмечал он, никакая атеистическая работа
невозможна, потому что после таких атеистических мероприятий
верующие скажут: мы принимаем коммунистическую идеологию, но не
в такой форме [599].
Еще один пропагандист заметил, что советские атеисты поднимают
мировоззренческие вопросы впервые, тогда как все религии «задолго до
них ставили подобные вопросы». Тем не менее больше всего его
беспокоило, что марксистско-ленинскому учению недостает
содержательного духовного компонента. Когда верующие спрашивают,
что атеисты могут им дать взамен религии, констатировал он, атеисты
предлагают только научную статистику или философию и больше
ничего [600].
Коммунистическая идеология сулила блестящие перспективы, но
внутренний мир советских людей оставался полным противоречий
и повседневных проблем. Борис Марьянов, ответственный секретарь
редакции журнала, отмечал, что необходимо больше писать о «трагедии
душевного мира». Недостаточно обращаться к человеку вообще;
атеисты должны обсуждать конкретный духовный опыт. Как
сформулировал это Сумарев, «„Мир человека“ — это, пожалуй, более
подходящее название... Но нет человека вообще, а есть конкретный
человек. К какому человеку мы будем обращаться. Мы часто говорим
о верующем человеке, но забываем, что он не существует в нашем
обществе изолированно, и если его окружение идет в ногу с жизнью, то
его легче оторвать от верующих и легче воспитывать в духе нашей
коммунистической морали». Сумарев настаивал, что недостатки
атеистической пропаганды воплощают в себе более общие проблемы
советской системы. Он побуждал работать над «эмоциональной
насыщенностью» пропаганды. «Недостаток научно-атеистической
пропаганды заключается в том, что мы ее крайне засушили, — отмечал
он, — она крайне бедна в эмоциональном отношении, а верующий
человек живет чувствами». По мнению Сумарева, «не должны стоять
в стороне от этой пропаганды писатели, художники, музыканты,
а вопрос об атеистических традициях в искусстве совершенно не
разработан» [601].
Формирование позитивного содержания научного атеизма было не
просто теоретическим вопросом. Это затрагивало саму ткань
повседневной жизни, поскольку любое проявление бюрократического
равнодушия к людям подрывало веру в обещания советской
коммунистической идеологии. А. Т. Москаленко, работавший
в Сибирском отделении Академии наук СССР, подчеркивал, что журнал
должен уделять внимание субъективному жизненному опыту советских
людей.
Название. «Мир человека» — это хорошо. Есть мир человека, но мы его
многие годы игнорировали. Верующие говорят, что вас интересуют
только международные проблемы, а в душу человека вы не
заглядываете, душа человека вас никогда не интересовала.
Могу привести такой пример: женщина приходит в Обком партии,
просит помощи, а ей ее там не оказывают. До этого женщина уже
обошла все секты, но правды она нигде не нашла, думала найти ее
в Обкоме партии, пришла, но и там ей не помогли. Человек уже не
знает, где ему искать правду...
Мы иногда волнений нашего советского человека не понимаем, не
учитываем. В результате такие примеры, когда человек 20–30 лет
работал на производстве, или работал руководящим работником, уходит
на пенсию, болеет и перед смертью просит пригласить священника,
бывши долгое время членом партии, отдает свой партийный билет,
уходит в секту. А мы боимся сказать, что у нас есть такие изъяны.
Давайте вспомним и о субъективных переживаниях человека, слишком
много мы говорим об объективности и забываем о субъективных
переживаниях [602].
Советский атеизм, таким образом, столкнулся с трудностями в двух
отношениях: в повседневной жизни, поскольку местные органы власти
не могли удовлетворить индивидуальные жалобы (что побуждало
обычных советских женщин, разочаровавшись в советских
учреждениях, «идти в секту»), и в поиске ответов на экзистенциальные
вопросы, как в том случае, когда образцовый рабочий, член партии
с длительным стажем, перед смертью зовет священника и «отдает свой
партийный билет, уходит в секту». С учетом того, сколь
широкомасштабны были задачи советского атеистического проекта,
показательно, что Москаленко описывает поставленную им проблему
практически словами Достоевского: точно так же, как Иван Карамазов
возвращал свой «билет» на вход в будущую гармонию, потому что не
мог смириться с неразрешимыми противоречиями религии, член партии
«отдает свой билет» на пороге смерти, отвергая советский строй
и мировоззрение.
В своей идеологической основе коммунистический проект сулил
эмансипацию человека через гармонизацию социальных отношений
и избавление индивида от отчуждения. Обещанный коммунистической
идеологией светский вариант «спасения» должен был уничтожить саму
потребность в религии: коммунистическое общество должно стать столь
справедливым и гуманным, что «опиум народа» больше не
понадобится. Но в конце 1960-х гг ., когда в центре советской идеологии
оказалась задача воспитания человека новой коммунистической
формации, реальный советский человек по-прежнему обращался
к религии — что наводило на еретические размышления о том, не
коренятся ли причины сохранения религии в самóм советском
социалистическом обществе. Пока местные органы власти отказывают
в помощи женщине, историю которой рассказал Москаленко, религия
будет препятствовать переходу советских граждан на позиции
коммунистической идеологии. Даже самый примерный советский
человек в свой последний час мог вернуть партийный билет.
Дискуссия, разгоревшаяся в редакции журнала «Наука и религия»,
не только характеризовала направления развития советского атеизма, но
и изменяла их. Изучение религиозности в советском обществе
позволило обнаружить феномен «модернизированной» религии
и выявить недостатки различных стратегий борьбы с ней —
противопоставления науки и религии или изображения религии как
политически реакционной силы. Более того, интерес рядовых людей
к вопросам духовной жизни побудил редакцию журнала сместить фокус
внимания на мировоззренческие вопросы, и в результате к началу 1970-
х гг. одной из важнейших функций журнала стала пропаганда
позитивного мировоззренческого содержания научного атеизма[603].
Анатолий Иванов, возглавлявший редакцию журнала в 1968–1982 гг.,
размышлял об этом так:
В центре борьбы между религией и атеизмом по вопросам морали стоит
человек, вопрос о его месте в окружающем мире, смысле его бытия,
цели его жизни. Эти так называемые вечные вопросы всегда волновали
и волнуют людей независимо от того, веруют они в бога или нет.
Религия предлагает человеку определенную жизненную программу,
в которой указывает, как человек должен строить свои
взаимоотношения с другими людьми... исходя из признания
постоянного божественного вмешательства в его мысли и дела [604].
Поскольку новая задача журнала заключалась в том, чтобы
демонстрировать читателям «жизненность норм коммунистической
морали, величие нравственного мира советского человека», в журнале
появились новые рубрики, посвященные таким темам, как «смысл
жизни» [605]. Конечно, журнал продолжал уделять существенное
внимание и научно-просветительской работе, и критике религии, чему
были посвящены такие рубрики, как «Природа и разум», «Горизонты
науки», «Теология и наука» и «В научных лабораториях»; в нем по-
прежнему публиковались материалы о достижениях научно-
технической революции и характерные для эпохи холодной войны
обличения клерикальных кругов, стремящихся подорвать мощь СССР
с помощью религиозной пропаганды. И все же интерес журнала
к мировоззренческим вопросам был симптомом более масштабных
перемен советского атеизма [606].
Заключение
В течение хрущевской эпохи политика партии в отношении религии —
от жестких административных ограничений деятельности религиозных
организаций до провозглашения триумфальной победы науки над
религией — выявляла пределы атеистической работы. Становилось
ясно, что идеология рассыпается в прах на пороге дома советского
человека, тогда как религия по-прежнему тесно вплетена в жизнь
многих советских людей, определяя их мировоззрение и быт. Когда
партия провозгласила курс на «строительство коммунизма», она видела,
что дверь в дом советского человека — и, следовательно, в его душу —
оставалась закрытой; когда же она открылась, внутри обнаружились не
только газеты, где превозносились научно-технические достижения
и космические полеты, но также иконы и крещеные дети. Если сами
советские люди зачастую не видели противоречий между этими
конкурирующими нарративами и не понимали, почему приверженность
обоим нарративам может помешать им быть полноправными членами
советского общества, то партия все в большей степени воспринимала
эти противоречия как существенную проблему. Идеологический
истеблишмент начал осознавать: чтобы воспитать человека
коммунистического общества — трансформировать не только его
политическое поведение, но также мировоззрение и образ жизни, —
идеология в широком смысле слова и атеизм в частности должны были
искать ответы на новые вопросы, решать новые проблемы и вторгаться
в новое пространство.
Действительно, в переходный период от социализма к коммунизму
проект преобразования быта — который был частью
коммунистического дискурса с момента революции, но, как правило,
считался проблемой внутрипартийной дисциплины, — должен был
охватить все население Советского Союза. Парадоксально, что именно
усилия партии по улучшению материальных условий жизни советского
человека заострили идеологические проблемы быта, поскольку
в результате кампании Хрущева по жилищному строительству и реформ
законодательства о труде советские люди получили в свое
распоряжение личное жилье и больше свободного времени — то есть
собственное время и пространство, недоступные партийному контролю.
Идеологическая работа должна была теперь выйти за привычные рамки
публикаций в средствах массовой информации, собраний по месту
работы и лекций в местах отдыха и проторить себе дорогу в дом
советского человека. Поскольку успех коммунистического проекта
зависел от нравственного и духовного перерождения людей, партия
должна была воздействовать на душу советского человека. Иными
словами, чтобы построить коммунизм, советское общество должно
было стать продолжением Коммунистической партии.
История общества «Знание» и его флагманского журнала «Наука
и религия» дает возможность увидеть идеологический ландшафт
позднего советского периода. Идейная убежденность и идеологическая
мобилизация в начале хрущевского периода обернулись
разочарованиями и породили новые вопросы. В то же время кризис
идейной убежденности породил новое поколение атеистических кадров,
которые не просто воспроизводили официальную доктрину, но
подвергали сомнению привычные представления и подходы. За
официальным фасадом идеология позднего советского периода
претерпевала трансформацию. Опыт хрущевских антирелигиозных
кампаний заставил идеологическую элиту осознать расхождения между
атеистической теорией и практикой — и эта проблема продолжала
стоять на повестке дня еще долгое время после вынужденного ухода
Хрущева с политической сцены.
Для понимания новых политических, материальных и социальных
условий жизни позднего советского общества советские теоретики
атеизма обращались к марксистско-ленинской идеологии. Официально
философы продолжали публично превозносить эту доктрину как
единственно верную. Как провозгласили Юрий Францев и Юрий
Филонович в редакционной статье, опубликованной в «Известиях»,
«у нас в руках поистине чудесное средство превращения, наш
„философский камень“ — философия марксизма-ленинизма» [607].
Но если на официальном уровне марксизм-ленинизм по-прежнему
характеризовался как дорожная карта, указывающая путь к светлому
коммунистическому будущему, идеологическая элита позднего
советского периода более противоречиво относилась к обещаниям
коммунистической идеологии. Партия осознавала, что формальные
идеологические лозунги, прославляющие производительный труд
и утверждающие приоритет общественного над личным, стали звучать
фальшиво в модернизирующемся обществе, где все большую роль
играло индивидуальное потребление как в материальной, так
и в духовной форме.
Более того, в борьбе с конкурирующими мировоззрениями
советские пропагандисты атеизма начали сознательно копировать своих
оппонентов. Отмечая разнообразие и динамичные изменения живой
религиозности, они открыто осуждали поворот религии от попыток
отстоять свою правду в спорах с наукой к нравственным и духовным
проблемам. Но даже когда атеисты клеймили модернизацию религии
как лицемерие и «приспособленчество», они тем не менее были
обеспокоены ее способностью к адаптации и жизнестойкостью. Между
тем попытки советского атеизма обращаться к таким вопросам часто
заканчивались неудачей. Как показала практика, атеизм проигрывал
именно в тех сферах, где религия добивалась успеха — и это, как
опасалась партия, могло быть использовано противниками Советского
Союза. Опыт антирелигиозных кампаний заставлял советских атеистов
осознавать возможные последствия неудачи. Как сформулировал Борис
Григорьян, в будущем заместитель главного редактора «Науки
и религии», в своем выступлении на партийной конференции 1964 г.,
задачей атеистической пропаганды является «показать ту
созидательную работу и позитивные основы естественно-научные,
исторические, философские, которые могут заполнять вакуумы,
которые образуются в результате освобождения личности от
религиозных представлений или верований» [608]. Эта попытка
объяснить сохранение религии при социализме и выработать
позитивное содержание научного атеизма позволяет увидеть, что
идеологический истеблишмент поздней советской эпохи активно
занимался осмыслением категории «духовного».
И наконец, вновь и вновь звучавшие напоминания о том, что
советскому атеизму необходимо обратиться к эстетической,
эмоциональной и обрядовой сторонам человеческого опыта,
спровоцировали расширение масштабов атеистической работы
в поздний советский период. Глядя в будущее, атеисты осознали, что им
необходимо концентрировать свою работу в двух направлениях. Во-
первых, необходимо было лучшее понимание расхождений между
постулатами марксизма-ленинизма и реалиями советской жизни,
с которыми они непосредственно сталкивались в своей работе. Во-
вторых, нужно было превратить атеизм из дидактического оружия,
апеллирующего к разуму, в эмоционально и духовно сильную
позитивную программу. Чтобы решить первую из этих проблем, партия
обратилась за помощью к общественным наукам, создав для изучения
религии и формирования системы научно-атеистического воспитания
новые научные институты. Для решения второй проблемы партия
обратилась к академическим, правительственным, просветительским
организациям и учреждениям культуры с призывом создавать
и распространять социалистическую обрядность, которая смогла бы
удовлетворить эстетические, эмоциональные и духовные потребности
советского человека. Реализацией этих двух проектов — научного
проекта по изучению религии и духовного проекта по созданию ей
замены — атеистический аппарат занимался вплоть до окончания
советского эксперимента.
Глава 5
«Нужно изучить, где потеряли человека»:
советский атеизм как общественная наука
Между «есть бог» и «нет бога» лежит целое громадное поле, которое
проходит с большим трудом истинный мудрец.
А. П. Чехов. Из записных книжек [609]
Создание Института научного атеизма — структурного подразделения
Академии общественных наук при ЦК КПСС, высшего партийного
органа, занимавшегося проблемами идеологии, — было наиболее явной
попыткой заполнить вакуум, оставшийся после первых идеологических
кампаний хрущевской эпохи: десталинизации и антирелигиозной
кампании. Важнейшими задачами института, основанного
в соответствии с постановлением Центрального комитета КПСС от
2 января 1964 г. «О мероприятиях по усилению атеистического
воспитания населения», были разработка более глубокого
теоретического понимания религии и атеизма, централизация
и координация во всесоюзном масштабе атеистической работы,
осуществлявшейся местными научно-исследовательскими институтами
и партийными органами, и, наконец, подготовка новой когорты
специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями
в сфере атеистической работы. К 1964 г. идеологическая элита
убедилась, что атеистическая пропаганда должна быть направлена на
борьбу с модернизированной религией, которая не обязательно
противопоставляет себя науке или даже коммунистической идеологии,
а скорее обращается к социальным и моральным проблемам [610]. Как
сказал ректор Академии общественных наук Ю. П. Францев на одном из
первых собраний коллектива Института научного атеизма (ИНА),
в соответствии с новыми задачами атеистической работы следует
фокусировать внимание «не на том, как представляется современному
верующему бог, с усами, бородой или без оных, а на роли, которую
приписывают верующие сверхъестественной силе в жизни человека,
в жизни современного общества» [611]. Францев, который ранее много
писал по вопросам религии, а с 1937 по 1942 г. даже занимал пост
директора Государственного музея истории религии, настаивал, что
если теоретики атеизма не придут к более глубокому пониманию
религии, они не могут надеяться разработать эффективную программу
атеистической работы[612].
Хотя Институт научного атеизма появился на свет в результате
идеологических кампаний хрущевской эпохи, он стал символом
атеистической работы брежневского периода (1964–1982), когда
государство стало придерживаться более технократического подхода
к проблемам идеологии и управления. Общественные науки должны
были помочь атеистическому аппарату изучить формы секуляризации
в СССР и осмыслить модернизацию религии. Но, обратившись
к общественным наукам для решения идеологических проблем,
атеистический истеблишмент должен был устранить противоречие
между двумя формами истины, которые не просто было согласовать
друг с другом; по сути дела, предполагалось, что научные методы
приведут к истине, провозглашенной марксизмом-ленинизмом.
Но конкретные результаты исследований стали серьезным вызовом
марксистско-ленинской теории общественного развития и, в свою
очередь, заставили пропагандистов атеизма пересмотреть свои
представления о религии и ее месте в жизни советского общества. Когда
теоретики атеизма, чтобы понять религию, обратились к таким
дисциплинам, как этнография, психология и социология, они сделали
неожиданное открытие: вместо того чтобы позиционировать себя как
верующих или неверующих, многие советские люди стали
индифферентны как к религии и атеизму, так и к идеологическим
вопросам в более широком смысле. В конце советского периода, когда
институт зарекомендовал себя как всесоюзный центр изучения религии
и атеизма, атеистический аппарат стал считать уже не веру, а скорее
индифферентность наиболее существенной идеологической проблемой,
к решению которой должна была обратиться коммунистическая
идеология.
Идеология как общественная наука
Умеренный идеологический климат брежневской эпохи порой
заставляет оценивать ее как «застой» — этот ярлык, введенный в оборот
Горбачевым для характеристики состояния дел в стране при его
предшественниках, с тех пор прочно утвердился в трудах многих
исследователей [613]. Разумеется, по сравнению с бурными
административными и идеологическими переменами предшествующей
хрущевской или последующей горбачевской эпохи, брежневский
период был отмечен стабильностью — если не летаргией — во многих
областях жизни. Но под казавшейся незыблемой поверхностью сфера
советской идеологии переживала кардинальные перемены. Даже
применительно к наиболее догматичной сфере советской идеологии —
атеизму — термин «застой» обманчив.
Идеологические перемены брежневской эпохи становятся заметны,
если обратить внимание на то, что государство в те годы обращается
к общественным наукам как орудию управления. Действительно, начало
брежневской эпохи для советских общественных наук стало временем
«второго рождения» и даже «золотым веком» [614]. Возрождение
общественных наук в СССР стало возможным благодаря двум
факторам. Прежде всего, период от смещения Хрущева на октябрьском
Пленуме ЦК КПСС 1964 г. и до оформления брежневского курса
в конце 1960-х гг. был временем закулисной подготовки реформ.
Многие реформаторские планы были порождены дискуссиями о том,
насколько реальная жизнь советского общества отличается от
пропагандистских заявлений о неуклонном движении к коммунизму.
Фактически попытки сократить разрыв между коммунистической
идеологией и реальной жизнью советского общества начались еще при
Хрущеве, когда идеологический аппарат обратился к «конкретным
социальным исследованиям», чтобы получить научные данные
о советском обществе и использовать их для решения экономических
и социальных проблем.
Возрождению социальных наук способствовали также
существенные экономические, демографические и культурные
перемены в жизни советского общества, начавшиеся в середине 1950-
х гг. [615] Население СССР молодело, увеличивалась доля городских
жителей, повышался уровень образования и материальной
обеспеченности — и эти тенденции быстро изменяли облик советского
общества. У советских граждан стало больше личного пространства,
свободного времени и потребительских возможностей, а значит, больше
независимости в решении жизненных вопросов. Характерно, что первые
проекты «конкретных социальных исследований» были посвящены
быту. Изучение жизни сельчан Горьковской области, осуществленное
Сектором новых форм труда и быта, созданным в 1960 г. в Институте
философии Академии наук СССР, касалось влияния экономических
и политических перемен на повседневную жизнь села [616]. Вскоре
и в Ленинграде была создана социологическая лаборатория, изучавшая
«человека и его работу» — временные модели труда и отдыха
городского населения [617]. Но в наибольшей степени партию
интересовал вопрос о том, почему советские граждане отворачиваются
от коммунистических идеалов и почему идеологическая работа не
оказывает заметного влияния на такое положение дел. На протяжении
брежневского периода идеологический истеблишмент продолжал
создавать научные институты и лаборатории, надеясь, что более
обширная и качественная информация о населении страны позволит,
используя знаменитую формулировку антрополога Джеймса С. Скотта,
лучше «видеть» советское общество [618].
Партийное руководство демонстрировало свою неизменную
приверженность социальным наукам, издавая многочисленные
постановления, призывавшие социологов играть более активную роль
в идеологической работе [619]. На заседании идеологической комиссии,
проходившем с 15 по 18 ноября 1965 г. и посвященном общественным
наукам, партийный философ Петр Федосеев (1908–1990), который
впоследствии стал вице-президентом Академии наук СССР и членом
ЦК КПСС, высказал пожелание о создании научного института,
который занимался бы социологическими исследованиями; на
бюрократическом языке того времени этот «сигнал» означал, что
данный вопрос уже стоит на повестке дня партийного
руководства [620]. Предложение Федосеева было поддержано
Митиным, который аргументировал свою позицию тем, что в данной
сфере Советский Союз отстает не только от капиталистических стран,
но и от других стран социалистического блока. «В США, — отметил
Митин, — расходуется на организацию социологических исследований
свыше 250 млн. долларов в год, в стране работает 25 тысяч
социологов...» [621]. Тем, кто сомневался в необходимости проведения
социалистических исследований, Митин с оттенком иронии предложил
«послать бригаду теоретических работников... на завод им. Кирова
в Ленинград и действительно изучить, посмотреть, как идет
становление нового человека» [622].
Специфика социального контекста, в котором развивались советские
общественные науки, определялась тесными внутренними связями
между социологами, идеологическим истеблишментом и политической
элитой. Чтобы осуществлять социологические исследования, ученые
нуждались в содействии местных партийных органов, а если результаты
исследований отклонялись от партийной ортодоксии, местное
руководство могло сразу отказаться их поддерживать — как, например,
произошло, когда результаты исследований в Горьковской области
показали, что тезис о сглаживании различий между умственным
и физическим трудом и между городом и деревней не подтверждается
реалиями советской сельской жизни. Поставив общественные науки
себе на службу, теперь партия была вынуждена решать, как быть
с очевидными расхождениями между марксистско-ленинской
идеологией и советской реальностью.
В то время как «отцы» — приверженцы исторического
материализма в его редакции по образцу «Краткого курса истории
ВКП(б)» — отвергали любые научные выводы, противоречащие
партийной догматике, «сыновья» все в большей степени разделяли
профессиональную этику ученых-обществоведов. Постепенно
стремление получить правдивые научные данные стало у них
преобладать над приверженностью истине марксизма-ленинизма, что,
в свою очередь, усложнило их задачу по воплощению
коммунистической идеологии в советскую реальность.
Дом для советского атеизма
Институт научного атеизма был основан, чтобы решение религиозного
вопроса могло опираться на общественные науки, и следовал этой цели,
систематизируя изучение религии, развивая теорию атеизма
и координируя атеистическую работу на местах. В институте шла
подготовка аспирантов, которые проводили полевые исследования;
предполагалось, что аспиранты, в свою очередь, будут обучать местные
кадры вести атеистическую работу. Чтобы результаты исследований
и партийные директивы были доступны не только в центре, но и на
периферии, институт организовывал конференции, проводил семинары
и публиковал работы своих сотрудников. Первоначально партийное
руководство определило, что в штате ИНА будет состоять тринадцать
сотрудников. Эта когорта новоиспеченных экспертов-атеистов вышла
как из партийных и комсомольских органов, так и из университетов
и научно-исследовательских институтов, в том числе с кафедры истории
и теории атеизма и религии МГУ и из Институтов философии, истории
и этнографии АН СССР [623].
Вопрос о руководстве ИНА решался в течение 1964 г. Учитывая
значение института для развития советского атеизма, изучения религии
и выработки партийного курса по отношению к религии, важно
подробно охарактеризовать людей, которые возглавили атеистический
аппарат. На должность директора Францев рекомендовал Александра
Окулова (1908–1993), заместителя директора Института философии АН
СССР и профессора философии АОН при ЦК КПСС. На должность
заместителей директора были рекомендованы Павел Курочкин (1925–
1981) и Лев Митрохин (1930–2005). Спустя некоторое время Францев
добавил еще кандидатуру Владимира Евдокимова (1923–1969), который
на тот момент работал в ЦК КПСС[624]. Выдвижение кандидатуры
Окулова было предсказуемо. Ко времени своего назначения на этот пост
Окулов, начинавший трудовую карьеру лесорубом в Вятской губернии
в конце 1920-х гг., но быстро перешедший на культурно-
просветительскую и партийную работу, был известным партийным
философом и с 1951 г. параллельно работал в Академии наук и АОН.
По образованию Окулов был журналистом (с 1934 по 1937 г. он учился
в Коммунистическом институте журналистики в Москве), что
в условиях советского общества привело его в сферу пропаганды
и идеологии. В 1959–1960 гг. он также был главным редактором
журнала «Вопросы философии». Благодаря всему этому выбор Окулова
в качестве руководителя нового всесоюзного центра атеистической
работы представлялся обоснованным политическим решением [625].
Кандидаты на должность заместителей директора — Курочкин
и Евдокимов — были представителями более молодого поколения; их
профессиональное становление пришлось на послевоенный период.
Курочкин с 1938 по 1945 г. служил в рядах Красной армии , в 1946 г.
вступил в партию, а с 1945 по 1951 г. учился в партийных школах
Новгорода и Ленинграда. В 1950-е гг. Курочкин работал в партийном
аппарате Новгородской области, а в 1959 г. поступил в аспирантуру на
кафедру философии АОН, где, как и Окулов, после защиты диссертации
остался в качестве преподавателя. В течение десяти лет Курочкин вел
научную работу по проблемам теории и практики религии и атеизма. Он
опубликовал восемь работ по этим темам и являлся членом
методического совета по пропаганде научного атеизма общества
«Знание» [626]. В свою очередь, Евдокимов пришел в ИНА после
работы в аппарате ЦК КПСС, где он был помощником Ильичева,
возглавлявшего идеологические комиссии хрущевского периода.
У Курочкина были научные труды по философии, но не по проблемам
религии и атеизма [627]. На посту заместителя директора ИНА
Курочкин осуществлял руководство научными исследованиями, в то
время как Евдокимов курировал практические аспекты атеистической
работы [628].
Для координации исследовательской и атеистической работы
в Институте научного атеизма был создан ученый совет, подотчетный
ЦК КПСС и в силу этого получавший и распространявший партийные
идеологические директивы [629]. Призыв объединить науку и политику,
идеологию и реальность, теорию и практику привел к созданию
«опорных пунктов» института — региональных центров
социологических исследований и подготовки кадров. Их
первостепенной задачей было изучение религиозности населения
и подготовка рекомендаций по улучшению атеистической работы на
местах. Каждым опорным пунктом руководил совет, получавший
директивы как от ИНА, так и от местных партийных органов
и докладывавший «наверх» о результатах своей работы. В свою
очередь, институт распространял информацию о результатах
деятельности региональных отделений путем проведения конференций
и публикации результатов исследований в отчетах для внутреннего
пользования, бюллетенях и журнальных статьях, доступ к которым был
открыт, как правило, лишь для атеистических кадров. За два года ИНА
открыл сорок региональных отделений по всему Советскому Союзу;
большинство из них было создано в крупных городах или в регионах
с высокой концентрацией религиозных сообществ (например,
в Западной Украине) [630].
ИНА не только выполнял функции всесоюзного центра изучения
проблем атеизма, но и осуществлял лучшую в стране программу
подготовки научных кадров в аспирантуре по проблемам религии
и атеизма. Для обучения нового поколения атеистических кадров
институт собрал в своих стенах философов, историков и этнографов,
а также партийных работников и государственных чиновников.
Большинство аспирантов, готовившихся работать в атеистическом
аппарате, первоначально очень мало знали о религии, хотя, конечно,
многие из них были крещены и в детстве или юности познакомились
с религиозностью в той или иной форме — через верующего члена
семьи, одноклассника или благодаря близости к местному религиозному
сообществу. Более того, подавляющая их часть до этого практически не
интересовалась религией и не питала энтузиазма по отношению
к атеистической работе, хотя, конечно, были и исключения —
например, Юрий Зуев, который вспоминал, как мчался мимо
охранников по зданию АОН, чтобы подать заявление в аспирантуру
Института научного атеизма, о которой он только что прочитал
в газете [631]. Но в большинстве своем представители последнего
советского поколения профессиональных пропагандистов атеизма
приходили в эту сферу случайно [632]. У некоторых из них интерес
к религии пробудился благодаря неожиданной встрече
с верующим [633]. Для других атеистическая работа была ступенькой
к карьерному росту или ученой степени. Для третьих это просто была
возможность перебраться из провинции в столицу. В то же время, даже
если их личные знания о религии и атеизме были довольно ограниченны
и интерес к обоим вопросам чаще всего пассивный, многие из нового
поколения атеистических кадров были убеждены в переходящем
характере религии, в неизбежности ее «преодоления» и в правильности
курса на замещение религии научным мировоззрением путем
атеистического воспитания.
Аспиранты института приезжали из различных регионов страны,
обычно по направлению местных комсомольских или партийных
органов. Над их научной работой надзирали «кураторы» по вопросам
религии из ЦК КПСС (такие, как Эмиль Лисавцев), побуждавшие
изучать именно те темы, которые особенно интересовали партийные
органы, например тенденции в соблюдении религиозных обрядов или
процесс секуляризации в условиях советского общества [634]. Собирая
материал для своих диссертаций, аспиранты часто согласовывали свои
исследования с местными отделениями института [635]. Теоретическую
подготовку, полученную в Москве, они подкрепляли знанием ситуации
на местах, а затем, вооруженные теоретическими знаниями,
возвращались в провинцию, чтобы проводить полевые исследования
и заниматься подготовкой местных кадров. Цель заключалась в том,
чтобы создать систему взаимовыгодных отношений; идеологическому
истеблишменту были нужны данные о религиозном ландшафте,
а местным кадрам была необходима методическая подготовка,
политическое руководство и доступ к данным, хранящимся в центре.
Карта советской религиозности
Одна из первых проблем, вставших перед Институтом научного
атеизма, состояла в том, что просветительская работа не отвечала
вызовам религиозной модернизации. Для решения этой проблемы
Францев предложил сделать важнейшим направлением атеистической
работы социологический анализ современной религиозности:
пропагандисты атеизма должны были беседовать с верующими, чтобы
узнать, как обстоятельства жизни повлияли на их мировоззрение.
Цитируя работу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»,
основополагающий текст, где была сформулирована марксистско-
ленинская философская методология подхода к религии, Францев
указывал, что религия является результатом проблем
социалистического общества. «Ленин говорит там, что он поставил
своей задачей узнать, на чем споткнулись люди, — разъяснял он. — Вот
и надо узнать, на чем споткнулся человек, идущий по советской
жизненной дороге, какие камни надо убрать с его пути, какие ямы надо
зарыть, как помочь ему так, чтобы он не спотыкался». Исследования,
проводившиеся институтом, должны были прояснить, почему
верующий обратился к религии и что можно сделать, чтобы изменить
ситуацию. Францев напомнил атеистическим кадрам, что если
пропагандисты прежних лет фокусировали внимание на разоблачении
реакционной политической роли религии, сегодня изучение религии
«должно идти гораздо глубже, затрагивать все стороны и все этапы
общественного сознания, где может гнездиться религия» [636].
Как пример тех взглядов, на которые теоретики атеизма должны
дать адекватный ответ, Францев привел труды западногерманского
католического богослова, доказывавшего, что наука предоставляет
человеку лишь фрагменты реальности, а не целостную картину мира.
Это и заставляет человечество стремиться к целостности, но если
верующие могут «преодолеть разорванность современного знания,
современной науки», то положение атеиста намного сложнее.
Товарищи, если перевести это на язык материалистов, атеистов, борцов
против этих концепций фидеизма и религии, то эта стратегическая
линия обозначается примерно так: поповщина старается заполнить
незаполненные пространства в знаниях, в науке, пытается устремиться
туда, заполнить эти белые пятна, которых все меньше и меньше
в научном знании остается сегодня, для того чтобы создавать
извращенную религиозную картину... Мы еще не знаем, есть ли жизнь
на Марсе. Но это не мешает нам сказать, что в этом незнании нашем не
прячется ни черт, ни чудеса, ни сверхъестественные силы. Эту
уверенность дает материалистическое научное мировоззрение [637].
Францев признавал, что у большинства обычных людей нет такой
«уверенности», и чтобы выработать ее, пропагандистам атеизма
придется выйти за рамки отрицания чертей и чудес и осмыслить
религиозный опыт.
Институт подводил итоги атеистической работы, выделял
недостатки практической постановки дела и определял проблематику
будущих исследований. Окулов отметил, что с конца 1950-х гг. была
проделана существенная работа по изучению религиозности населения.
Институты АН СССР организовывали экспедиции по всей стране;
аспиранты недавно созданных кафедр научного атеизма Московского
и Киевского университетов также вели полевые исследования
и собирали материалы для работы [638]. Уже в середине 1960-х гг .
результаты этих исследований были опубликованы в монографиях
и специализированных журналах, таких как «Вопросы философии»
и «Советская этнография». «Все это говорит об оживлении, о повороте
нашего внимания к конкретному изучению состояния религиозности
и нашей атеистической работы», — отметил Окулов. Но, несмотря на
заметную интенсификацию атеистической работы, Окулов настаивал,
что «общая картина религиозности населения в стране остается по-
прежнему неясной». Атеистическая работа все еще носит
несистематический характер, практически не изучается воздействие
атеистической пропаганды на верующих. Настало время «внести
ясность» в картину религиозности советского общества[639].
В Институте научного атеизма было создано несколько
тематических исследовательских групп, где бок о бок работали зрелые
ученые, аспиранты и местные кадры, фокусируя внимание на
специфических «проблемных» зонах с целью координации
атеистической работы в масштабах страны и согласования теории
с практикой [640]. Первые исследования института были посвящены
деятельности религиозных организаций и религиозности населения
определенных районов; в них были поставлены вопросы
о представлениях современных верующих о Боге и общественных
отношениях (1964–1965), о причинах соблюдения религиозных обрядов
(1964), о сущности религиозных эмоций (1964), об эмоциональном
воздействии религиозных обрядов (1964) и о причинах, по которым
люди разрывают с религией (1964) [641]. В исследованиях ИНА
анализировались социальные и культурные условия жизни советских
людей: где и как часто они ходят в церковь; насколько они знакомы
с историей и догматикой своей веры; что они думают о местном
религиозном сообществе и о священнике; какую часть своего дохода
они отдают церкви и как много тратят на религиозные нужды; а также
соблюдают ли они обряды, и если да, то какие именно [642]. Но хотя
специалисты собирали все больше информации, а ее качество все
улучшалось, тем не менее сохранялась несогласованность между
проблематикой этих трудов и запросами атеистического аппарата.
Внутреннее противоречие между описывающей (исследовательской)
и предписывающей (политической) функциями института — а также
между обеспокоенностью современным состоянием идеологической
работы и осторожным подходом к переменам — становилось все более
и более явным.
В поисках атеистической духовности
Теоретики атеизма осознавали необходимость изучения психологии
религиозности, чтобы определить, каким образом атеизм может
удовлетворить духовные потребности человека; но для этого
предстояло определить, что именно представляет собой атеизм.
По существу, этим вопросом теоретики атеизма задавались постоянно.
Есть ли у атеизма собственное позитивное содержание, помимо
отрицания религии? В поисках ответа теоретики вели дискуссии о том,
как атеизм соотносится с другими научными дисциплинами, такими как
философия, история, богословие и религиоведение, и является ли
атеизм (и сопутствующая ему критика религии) составной частью
марксистско-ленинской философии или же самостоятельной
дисциплиной. Прежде всего эта проблема встала в ходе дискуссии
о том, как преподавать научный атеизм в высших учебных
заведениях [643]. В соответствии с постановлением ЦК КПСС от
2 января 1964 г. научный атеизм стал обязательным курсом для
студентов университетов и педагогических институтов, но теоретики
атеизма не могли прийти к согласию даже по вопросу о том, какая
кафедра должна преподавать эту дисциплину, что и выявило
существенные расхождения даже на самом верху относительно
сущности этой дисциплины. Не было консенсуса и по вопросу о том,
каково должно быть содержание курса. Следует ли в программе курса
с критических позиций преподносить историю религии, прослеживать
развитие неверия в философской мысли или, наконец, сосредоточиться
на том, как достижения науки разрушают религиозную картину мира?
Кроме того, теоретики атеизма столкнулись с практическим вопросом
—
кто будет преподавать новую дисциплину. Поскольку прежде такой
курс никогда не преподавался систематически в высших учебных
заведениях, не было и подготовленных преподавателей, а это означало,
что преподавание курса следует поручить преподавателям других
дисциплин, прошедшим ускоренную переподготовку [644]. Лишь
немногие специалисты в области естественных наук, историки
и философы были хорошо знакомы с предметом, а многие к тому же
сопротивлялись попыткам привлечь их к атеистической пропаганде.
Например, преподаватели естественно-научных дисциплин
оправдывались тем, что их дисциплины являются атеистическими если
не по форме, то по содержанию, поскольку дают студентам научные
знания — такой аргумент звучал в ранний советский период в ходе
дебатов о том, должно ли советское образование быть антирелигиозным
или просто безрелигиозным, но в поздний советский период он уже
исчерпал себя.
Пытаясь создать позитивные основания атеизма, теоретики
критиковали те определения, где делался упор на его негативные
характеристики. Например, Губанов проводил аналогию между
понятиями «атеизм» и «коммунизм» и отмечал, что коммунизм как
категория существенно пострадает, если определять его только как
противоположность капитализму; впрочем, сам он так и не дал
позитивного определения коммунизма [645]. В свою очередь, философ
Борис Григорьян доказывал, что отрицание составляет саму сущность
атеизма, поскольку он основан на критике. «Мне кажется, мы можем
говорить о некоторых особенностях критического духа, негативного
духа, если хотите, нашего атеизма как науки», — заявил Григорьян;
более того, продолжил он, «нет ни одного раздела, ни одного пункта
в марксизме, который не носил бы критический характер, не имел бы
в той или иной форме, по вашей терминологии, негативную
форму» [646]. Тем не менее, хотя теоретики не могли прийти
к консенсусу по определению атеизма, они единодушно соглашались,
что, акцентируя внимание на критической стороне атеизма, невозможно
преобразовать сердца, умы и мировоззрение советских людей. Инга
Кичанова, молодой специалист из ИНА, доказывала, что причиной
неудач атеистического воспитания была недооценка роли религии
в индивидуальной и социальной психологии. Проблема атеизма, по
мнению Кичановой, связана с разработкой «проблем гуманизма»,
необходимой для определения «путей к тому, чтобы восполнить
в человеке ту потребность, которая заставляет его обращаться за
помощью не к земным силам, не к социальной организации,
а к потусторонним силам». Социалистический гуманизм должен был
«создать гармонический духовный мир человека, не нуждающегося
в обращении к потусторонним силам» [647].
Некоторые участники дискуссии доказывали, что атеизм можно
рассматривать как часть философских дисциплин и что он требует
серьезного отношения к человеческой личности[648]. Молодой
специалист из ИНА Ирина Галицкая соглашалась с тем, что
происхождение атеизма связано с отрицанием религии, но настаивала,
что пришло время «расширить» круг проблем атеизма и включить
в него проблемы, «связанные с личностью человека, отношением
человека к жизни и себе, то есть теми проблемами, на которых
вырастает религия». Галицкая отмечала, что в советской философии нет
практически ни одного исследования на тему личности человека.
Человек рассматривается «то как субъект, то как объект познания, т. е.
как носитель производительных сил, но как личность в целом человек
не рассматривается, как рассматривался человек философией
Возрождения». Поскольку личность остается на заднем плане советской
философии, связанные с ней проблемы — счастье, страдание, смысл
жизни и смерти — также вытеснены на периферию. «У нас, — заметила
Галицкая, — молчаливо как-то исходят из того, что человек не должен
страдать, что он при коммунизме страдать не будет». Поэтому советская
этика предпочитала концентрировать внимание на проблеме счастья.
Результаты, по наблюдениям Галицкой, часто были комичны, поскольку
«в действительности смешно утверждать, что человек не будет всегда
страдать по той или иной причине, не социальной. И это религия
прекрасно использует и сумела дать утешение человеку». Религия,
в отличие от атеизма, способна предложить человеку утешение перед
лицом трудностей, горя и особенно смерти. Это становится очевидным,
если обратиться к вопросу бессмертия. Диалектический материализм
исходит из того, что люди смертны; но, по словам Галицкой, «какое
утешение здесь человеку, когда говорят, что ты смертен, а материя
вечна?» В советской философии подобные проблемы «не
используются», тогда как религия «на этих проблемах расцветает».
В результате она сделала вывод, что предметом атеизма должны быть
проблемы «не чисто философские, может быть, это философско-
этические, психологические [проблемы], которые связаны с личностью
человека, его отношением к жизни» [649]. «Может быть, атеистическое
воспитание будет состоять в том, что мы будем воспитывать такую
личность, которая смысл... будет искать не в религии», — заключила
Галицкая[650].
Галицкая отметила, что советский атеизм не смог удовлетворить
стремление к поиску смысла человеческого бытия и потребность
в утешении перед лицом страданий. Если в этом свете рассматривать
вехи атеистической работы, вопрос о том, как заполнить эту пустоту,
становится не только схоластическим, но и практическим. Как
сформулировал Окулов, «мы должны посмотреть, изучая
атеистическую работу, насколько богата наша духовная жизнь, какие
звенья и как работают в нашей идеологической работе, какие колеса не
работают, нужно изучить, где потеряли человека»[651]. Для
сотрудников ИНА, занятых поиском путей создания атеистического
общества, атеизм был поэтому не теоретической проблемой
академической науки, а практическим вопросом с реальными
последствиями.
Атеистическая семья
Конечной целью советского атеизма было построение общества,
свободного от религии. Именно так звучало название первого крупного
социологического исследования по вопросам секуляризации
в советском обществе, проведенного ИНА в Пензенской области
в 1967–1969 гг. [652]Однако, чтобы достичь этой цели, специалистам
требовалось выявить те места, где сохраняется религия, и механизмы ее
воспроизводства. Это имело решающее значение, поскольку данные
полевых исследований начали подтачивать давнее представление, что
религия является уделом бабушек. Партия допускала, что поколение
бабушек, наполнявших церкви, постепенно исчезнет и религия угаснет
вместе с ними, но эта гипотеза становилась все менее убедительной по
мере того, как в церковь приходили новые поколения бабушек .
Чтобы понять, почему секуляризация не следует ожидаемой логике,
теоретики атеизма должны были выяснить, где возникает современная
религиозность. ИНА проводил исследования в нескольких
направлениях: численность и облик религиозных общин различных
конфессий, динамика их религиозной жизни и организационной
структуры; способы проявления религиозности у разных групп людей,
выделенных по возрасту, полу и социально-экономическому
положению; современные формы религиозности в различных
конфессиональных сообществах и значение, которое эти сообщества
придают обрядности; и, наконец, эволюция современного массового
религиозного сознания и формы сочетания религиозных убеждений
с научным знанием. Окулов побуждал исследователей уделять
внимание не только количественным показателям религиозности, но
также качественным изменениям религии в условиях современного
общества. Что отмирает и что сохраняется, когда религиозное
мировоззрение изменяется под давлением современности?
И появляются ли новые функции у сохраняющихся элементов
религиозного мировоззрения? Францев настаивал: чтобы социо-
логические исследования принесли больше пользы атеистической
работе, верующих необходимо изучать в их социальной среде. Он
побуждал исследователей изучать религиозную психологию, доказывая,
что для проникновения во внутренний мир советского человека
интервью более результативны, чем опросы [653]. Один из
исследователей предлагал вместо того, чтобы напрямую спрашивать
верующих о религии, задавать вопросы о вере «между прочим»,
перемежая их более общими вопросами о жизни человека, поскольку
этот подход гораздо более эффективен [654].
Но, изучая религиозность в более широком контексте,
исследователи получили хаотичную картину, не укладывающуюся
в четкие категории. Н. П. Алексеев, аспирант кафедры научного атеизма
МГУ, изучавший религиозность сельского населения трех колхозов
в Орловской области, охарактеризовал религиозные воззрения
современных колхозников как «очень упрощенные». Их религиозность,
доказывал он, вырастала из обычаев и традиций, а не религиозных
убеждений. Алексеев сообщал, что подавляющее большинство
колхозников — более 90% — имели в своих домах иконы, а 87%
опрошенных — как верующие, так и неверующие — принимали участие
в религиозных обрядах [655]. В некоторых районах 60% населения
крестили своих детей, в других этот показатель колебался между 30
и 40%. Одной из причин столь высоких статистических показателей, как
предполагал Алексеев, было то, что духовенство даже после введения
«чрезвычайных законов» продолжало «заниматься левыми
заработками» при совершении треб. Например, из колхоза могли
принести крестить в церковь десять детей, но официально
регистрировалось лишь одно крещение. «Доморощенные» священники
могли также «обходить колхозы и крестить всех детей». В самом деле,
крещение и другие обряды по-прежнему были распространены
повсеместно, несмотря на тот факт, что многие из соблюдавших
религиозные обряды были неверующими. По мнению Алексеева, этот
феномен можно объяснить силой общественного мнения и социальной
психологии. Многие неверующие, утверждал он, не считают
«зазорным» участвовать в религиозных обрядах, поскольку они живут
в коллективе и вынуждены к нему «пристраиваться». Возможно,
неверующий не всегда доволен таким положением дел, но вынужден
«считаться с мнением матери, тещи». Короче говоря, заключал
Алексеев, современный колхозник религиозен, потому что «так его
воспитала мать — „старшие верили, и мы верим“»[656].
Вадим Ольшанский, сотрудник сектора «новых форм труда и быта»
Института философии РАН, был согласен с тем, что центральную роль
в понимании религии должна играть социальная психология, поскольку
нельзя правильно интерпретировать данные о соблюдении религиозных
обрядов, не принимая во внимание групповую динамику. Давление
коллектива, доказывал он, является одним из самых сильных факторов,
мотивирующих народную религиозность[657]. Лев Митрохин,
работавший в Институте философии РАН и специализирующийся на
изучении религии и атеизма, отмечал, что его коллеги должны изучать
богословие различных конфессий, поскольку «человек часто
высказывает свои взгляды в полном соответствии с канонами своей
религии. И если вы этих канонов не знаете, то, естественно, ваши
выводы не будут иметь никакой научной ценности» [658].
Окулов был обеспокоен низким качеством подготовки
атеистических кадров и рекомендовал, чтобы специалисты по
атеистической работе проводили свои исследования совместно
с психологами, филологами, социологами и философами. Настало
время, говорил Окулов, «покончить с таким положением, когда
атеистическую работу считают вторым планом, что это удел ущербных
людей. Эта работа требует большой культуры, всесторонне
образованных людей» [659]. Окулов указывал на необходимость
определять практический эффект социологических исследований
и атеистической работы. «Нельзя изолировать атеизм от всей духовной
жизни общества, — настаивал он. — Вообще речь идет о практической
применимости наших исследований» [660].
Евграф Дулуман, известный отступник от православия, ставший
в конце 1950-х выдающимся пропагандистом атеизма, сообщал
о тревожной тенденции, обнаруженной им в ходе изучения
религиозности в Украине: как оказалось, многие верующие были
молодыми людьми, родившимися через десятки лет после революции
1917 г. и получившими образование в советской школе[661]. Чем можно
было объяснить религиозность советской молодежи? Поскольку
материальных условий для сохранения религии «объективно» не
существовало, Дулуман пришел к выводу, что эти пережитки должны
передаваться молодым людям через некий «субъективный» элемент. Он
рассматривал молодежную религиозность как свидетельство
недоработок советской школьной системы и доказывал, что учителя
должны знакомиться с жизнью семей своих учеников, регулярно
посещая их дома [662].
Подобные открытия заставляли теоретиков атеизма сосредоточить
внимание на женщинах и пожилых людях, которые теперь
рассматривались не просто как носители религиозных пережитков, но
как опасные распространители религии [663]. Некоторые специалисты
по атеизму полагали, что успех атеистического проекта зависит от
работы с женщинами, поскольку те не просто составляют большинство
верующих, но — как мамы и бабушки, которые воспитывают детей
в религиозных традициях, водят их в церковь и настаивают на
соблюдении ими религиозных обрядов, — также играют важнейшую
роль в передаче религии от поколения к поколению. Иногда они
предлагали вовлекать женщин в атеистическую работу с лекциями на
темы, соответствующие их интересам, например о воспитании детей
или о «смысле женского счастья». В Горьком, который служил
образцом эффективной атеистической работы (и где женщины
составляли 80% верующих), активистки Дворца культуры им. Ленина
организовали «Клуб домохозяек» под уютным названием «За чашкой
чая». Атеистический компонент работы клуба не бросался в глаза,
поскольку акцент был сделан на поиске более культурных и полезных
форм проведения досуга. Используя разговорный язык, женщин
приглашали прийти на «встречу за чашкой чая», где они смогут
высказать свое мнение о том, как лучше организовать досуг, а также
получат возможность обсудить все, что им «хотелось бы знать о жизни
на белом свете» [664].
Пожилые люди, которых раньше считали неисправимыми
и оставляли не охваченными атеистической работой, также стали новым
объектом работы, поскольку в результате исследований было выявлено,
что старшее поколение оказывает решающее влияние на воспитание
детей. Поскольку большинство родителей работали и часто были
вынуждены полагаться в уходе за детьми на дедушек и бабушек,
дедушки и бабушки могли настоять на крещении ребенка, а иногда даже
отказывались растить некрещеных внуков. Так, в ходе исследования,
проведенного в Горьком и охватывавшего три тысячи заводских
рабочих, было выявлено, что важнейшей причиной исполнения обряда
был отказ родственников или других лиц ухаживать за некрещеным
ребенком [665]. Из тех, кто крестил своих детей, только 8%
идентифицировали себя как верующих; большинство их были
образцовыми рабочими, но более 75% не имели возможности
регулярного ухода за детьми.
Старшее поколение оставалось неконтролируемым хранилищем
религиозных традиций и обычаев, даже когда государство пыталось
ограничить религиозные практики, сокращая количество мест, где их
можно было осуществлять легально. М. К. Тепляков, возглавлявший
опорный пункт Института научного атеизма в Воронеже, доказывал, что
важнейшим механизмом распространения религии является
«авторитарная семья», особенно дедушки и бабушки, которые «на
приеме ласковости» внедряют религию в жизнь детей. Проблема
коренится в том, продолжал Тепляков, что пожилые люди изолированы
в социальном плане; даже у тех, кто прежде был передовиком
производства, связь с трудовым коллективом слабеет после выхода на
пенсию. Воронежские партийные органы предприняли более или менее
успешную попытку преодолеть эту тенденцию, организовав «клуб
пожилых» и превратив его «в своеобразного помощника партийных
организаций при решении многих вопросов». Представители местных
властей — председатель колхоза или секретарь парткома — могут
прийти в этот клуб, чтобы попросить совета по какому-либо делу,
и «старикам очень приятно», что их мнение принимают во внимание.
Задача, как отмечал Тепляков, состояла в том, чтобы «нейтрализовать
религиозное влияние пожилых на детей в семьях, это как минимум,
а главное завоевать стариков на свою сторону, чтобы они содействовали
атеистическому воспитанию детей в школе» [666]. Наконец, изучение
религиозности пожилых людей позволило также понять, что религия не
является статичным феноменом и может иметь разное значение для
одного и того же человека в течение его жизни [667].
Все чаще исследователи приходили к выводу, что атеистическая
работа должна переместить фокус своего внимания на «микросферу» —
локальное сообщество и семью. Но теоретики атеизма признавали
также, что трудно повлиять на эту микросферу с помощью
просветительской работы. Они утверждали, что воздействовать на
духовную жизнь можно с помощью эмоций. Чтобы объяснить
«подвижность, нетематизированность, хаотичность и смутность
религиозного сознания большинства современных верующих»,
следовало обратить внимание на внутренний мир обычных советских
людей — этот проект, по общему признанию, было трудно
осуществить, поскольку живая религиозность была переменчивой, не
поддающейся точным определениям и почти всегда оставалась нечетко
выраженной. Тем не менее новые подходы строились на том, что
наилучший путь к духовному миру советского человека лежит через
обрядность. Теоретики атеизма доказывали, что обряды обеспечивают
не только сохранение, но и распространение религии и что
атеистическая работа должна выработать эффективные меры по
перекрытию этого канала религиозного влияния[668].
Особенно тревожило воздействие религиозных обрядов на
советскую молодежь. Работник атеистического аппарата из Горького по
фамилии Стемаков сообщал, что социологические данные, полученные
в результате изучения социально-экономического статуса, культурных
особенностей и выраженных мотивов тех, кто принимает участие
в религиозных обрядах, существенно отличаются от традиционных
представлений. Одно из исследований показало, что большинство тех,
кто приносит крестить своих детей, являются молодыми (68% —
в возрасте от 16 до 45 лет) и высококвалифицированными рабочими
(66,2%). Аналогичные результаты были получены по итогам
исследования соблюдения католических и мусульманских обрядов.
Причины, которыми взрослые объясняли свое решение крестить
ребенка, были весьма далеки от сознательной веры; чаще речь шла об
удовлетворении пожеланий друзей и родственников, а также
о соблюдении норм местного сообщества. Было отмечено
высказывание, что крещение — старинный русский ритуал, который
надо соблюдать, чтобы быть не хуже других. Еще более неожиданным
было то, что большинство этих молодых рабочих (60%), прежде чем
нести ребенка в церковь, выполнили советские обряды, связанные
с рождением ребенка, и все же до сих пор не понимали «вредной
сущности религиозных обрядов», что свидетельствовало об отсутствии
у них «какого-либо мировоззренческого и нравственного барьера
против религиозной идеологии и обрядности» [669]. В результате,
жаловался Стемаков, атеисты не знают, «за что прежде всего
ухватиться, по чему прежде всего бить» [670].
В целом советские атеистические кадры оказались в весьма
затруднительном положении. С одной стороны, они признавали, что
будущее атеистической работы «зависит от убежденности молодежи»,
что стариков «трудно исправить», а молодежь «нужно спасать» [671].
С другой стороны, молодежь приобщалась к религиозности в семье.
Даже если участие молодых людей в религиозном обряде — «скорее не
доказательство распространенности религиозности, а в большей
степени это „мама/папа велят“», это все же указывало на отсутствие
у молодежи идейной убежденности. А если убежденность молодежи
была «кардинальным вопросом» атеистической работы, у атеистических
работников едва ли были причины для самодовольства. «Трудно
говорить об их [верующих] переубеждении всерьез, это бывает очень
редкий случай». Для «простого человека», как признавали
пропагандисты, религия — это прежде всего чувство, и, «если это
чувство сформировалось, заменить его очень трудно» [672]. Но еще
более тревожным представлялось, что для молодежи религия — это
«форма скептицизма... вакуум, который... образуется из-за
разочарования в наших идеологических ценностях» [673].
Слезы атеистов
Изучение религиозности в советском обществе изменило представления
теоретиков атеизма о религиозном ландшафте и позволило яснее
представить цели идеологической работы. Начал формироваться
консенсус по вопросам о функциях религии в личной и общественной
жизни, о решающей роли семьи в ее сохранении и распространении,
о важности ее психологического, эмоционального, эстетического
и обрядового элементов. Религия, по наблюдениям специалистов,
представляла собой не столько систему взглядов, сколько «систему
чувствований»[674]. Михаил Бриман, журналист из Коми АССР,
писавший по вопросам атеизма, высказал предположение, что сила
религии в современном обществе заключается в том, что она научилась
«удовлетворять интерес человека к самому себе», и пропагандистам
нужно «четко осознать», что «большего интереса, чем интерес человека
к самому себе, не существует». Бриман описал «необычный конкурс»,
проведенный сыктывкарской газетой «Красное знамя», в ходе которого
читателей попросили в течение одного месяца 1967 г. вести дневник,
а затем прислать его в редакцию. «Когда эта затея рождалась, внутри
нас был страшный раздор, — поделился Бриман. — Одни говорили, что
никто искренне не напишет, другие говорили, что в лучшем случае вы
получите 6–10 дневников. Наш опыт показывал, что это ограничивалось
15–20 письмами максимум, за исключением ответов на кроссворды, где
получали 30–40 писем. А тут вдруг дневник, казалось бы, самое
интимное». Однако, вопреки ожиданиям, сотрудники редакции были
поражены, получив 81 дневник. По словам Бримана, содержание
дневников следовало определенному характерному шаблону: на первых
страницах люди писали «в угоду» редакции, но по прошествии двух-
трех дней «постепенно увлекались и начинали говорить о себе: об
интимном, о своем одиночестве или о своих болезнях и так далее» [675].
С точки зрения марксистско-ленинской идеологии внимание Бримана
к эмоциям было странным, но другие атеистические работники
выразили с ним согласие. Другой специалист указал, что если бы
пропагандисты атеизма внимательно посмотрели на верующих, они
увидели бы, что религия в большей степени зависит от чувств, чем от
веры.
Заместитель директора ИНА Евдокимов доказывал, что
эмоциональная и психологическая сторона играют «колоссальную роль
в религиозном комплексе», и считал, что пропагандисты атеизма
должны «иметь постоянно в виду, что религия — это не только
идеология, если бы религия была только идеологией, только
мировоззрением, дело было бы проще. Религия — это идеологический
и эмоциональный комплекс, это обрядность, тесно связанная
и пронизывающая быт, и все это усложняет, конечно, задачу».
Евдокимов побуждал пропагандистов атеизма признать «морально-
эстетическое удовлетворение, эмоционально-эстетическую
насыщенность религиозных переживаний и чувственное
удовлетворение от посещения храма, собрания общины, молитвы,
заповеди». В заключение он процитировал одного из респондентов
социологического опроса, сказавшего интервьюеру, что «любовь к богу
нужна не богу, а нам». Другие также указывали, что подавляющую
массу верующих составляют те, чья вера выражается в «привычке
к исполнению обрядов — привычке, главным образом психологической,
а не логической» [676]. Духовенство пользуется этим, пробуждая
религиозные эмоции с помощью проповедей, эстетического
оформления службы, проведения обрядов в богато украшенных
церквях. Религиозные переживания, как признавали теоретики атеизма,
могут вызвать слезы у прихожан. Атеистическую пропаганду, напротив,
критиковали за невзрачное содержание и вялое преподнесение.
Поскольку проигрыши атеизма оборачивались выигрышем религии,
специалисты подчеркивали насущную необходимость улучшения
теории и методов атеистической работы. Чтобы пропаганда была
эффективной, атеистическому содержанию должна была
соответствовать блестящая форма и яркая манера преподнесения. Марк
Персиц, занимавшийся историей атеизма, подчеркивал, что успех
лекции по атеистическим вопросам зависит не столько от ее
содержания, сколько от самого лектора. Священникам специально
преподают гомилетику, тогда как некоторые лекторы-атеисты читают
свой текст по бумажке, и лучше бы вместо них это делали актеры. Для
установления контакта с аудиторией нужно, чтобы лектор «отличался
известной эмоциональностью, чтобы испытывал какие-то чувства, а не
жевал мочало. У нас часто бывает так: человеку безразлично, читать ли
атеистическую лекцию или лекцию о пользе слонового кефира
в зоопарке. Он совершенно не думает о том, что читает, ему совершенно
безразличны те вопросы, которые составляют предмет его чтения.
В результате нет никакой удовлетворенности» [677]. Персица
поддержали Юрий Красовский и Евгений Рюмин, изучавшие роль
эмоций в атеистической работе и пришедшие к выводу, что «главное
в работе пропагандиста научного атеизма — умелое заполнение
идеологического и эмоционально-психологического „вакуума“, который
образуется в сознании верующих после разрушения религиозных
представлений и чувств» [678].
В атеистической работе необходимо было стремиться к синтезу
разума и чувств. Как отмечал Евдокимов, изучение религиозной
психологии позволило выявить, что связь верующих с религией
невозможно объяснить только давлением со стороны социума
и приверженностью обычаям, хотя, безусловно, эти факторы играют
важную роль; для верующих религия является также чем-то личным,
«чем-то более высоким, духовным», помогающим им уходить за
пределы земных интересов и забот.
Не страшась «высоких слов», можно сказать, что верующий ищет
в религии идеал прекрасного и возвышенного, ищет цель и смысл своей
жизни на земле, ищет правду-справедливость, правду-истину... Что
можем мы противопоставить веками сложившейся и применяемой
сегодня церковью мощной силе эмоционального воздействия религии
на верующего? Насколько глубоко мы перепахиваем атеистическим
плугом доставшуюся нам после многих лет бездействия целину? [679]
Вывод, разумеется, гласил, что научный атеизм ничего не может этому
противопоставить. Эту точку зрения поддержал Бриман, рассказавший,
как после его лекции о смысле жизни и смерти верующие подошли
к нему и недоверчиво спросили: «Вы тоже думаете о таких вещах?
Оказывается, вы, атеисты, также думаете о смерти. Как это
странно»[680].
Обсуждая эти темы, пропагандисты возвращались и к вопросу,
который постоянно преследовал их в ходе работы: закрадывалось
подозрение, что неудачи атеистической пропаганды были лишь
симптомами неудач идеологической работы в целом. Евдокимов
говорил об этом так: «...Меня, например, в нашей практике волнует не
только то, что не плачут на лекциях о происхождении религии, а то, что
у нас не плачут и на лекциях о патриотизме, о человеколюбии, у нас
вообще не плачут ни на каких лекциях. Поэтому, очевидно, речь должна
идти о том, что наш атеистический эмоциональный фонд лишь
продолжает и повторяет наш общий эмоциональный фонд» [681].
Пропагандисты атеизма также обнаружили, что люди, которых они
изучают, могут легко примирять друг с другом кажущиеся
противоречия. Дулуман предоставил тому наглядное доказательство,
поделившись с коллегами рассказом о той действительности, с которой
специалистам часто приходилось сталкиваться в ходе полевых
исследований:
В Черкасскую область выехала группа в село Белоозерье. Я поселился
у верующего молодого человека (мне сказали, что он верующий), но
я не говорил, что я атеист. Я не веду атеистической работы, но вижу,
что здесь религиозностью не пахнет. Вечером садятся и играют в карты
под иконами. Я терпел три вечера в том отношении, что не вижу
взаимоотношения карт с богом, а потом спрашиваю: «Почему вы под
иконами в карты играете?» Они отвечают: «А нам там очень удобно!»
Я говорю, что там ведь бог нарисован, а хозяин отвечает: «Ну, они
привыкли!»
(Смех в зале)
Говорят, что не верят в бога. Я спрашиваю: «А в церковь ходите?»
Отвечают: «Все ходят, и мы ходим!» — «Ребенка крестили?» — «Все
крестят, и мы крестили!» Я начинаю читать лекцию, что это дикарство,
что дикари проводят такой обряд и т. д. Хозяин слушал внимательно
и говорит, что интересно послушать, но заявляет, что «Все дикари,
и я дикарь».
(Смех в зале)
Я знал, что он не любит попа, и спрашиваю: сколько заплатил попу?
Он говорит, что поп — тунеядец, что все идет ему в карман, что ребенка
крестил и дал трешник в кассу, а два рубля попу. Я говорю: «5 рублей
дали дармоеду», а хозяин отвечает: «Пусть он ими подавится!»
Я начал взывать к родительским чувствам, что как это вы ребенка
в холодную воду опускаете? Хозяин в ответ: «А мы договорились
с попом, он воду подогрел!» Я продолжаю, что это антисанитарно, что
в воде есть бактерии, что ребенка вы подвергаете опасности заболеть,
заразиться, но он спрашивает: «А вас крестили?» Я говорю: «Крестили».
Он заявляет: «И меня крестили. Всю матушку-Русь крестили,
а, смотрите, какая она вымахала!»
(Веселое оживление, смех)
И вместе с этим люди ходят в церковь, деньги дают, поддерживают
ее. Поэтому трудно определить, верующие они или неверующие.
Дулуман заключил свою историю, резюмировав: «Кроме всего прочего,
критерии религиозности нужны не только, чтобы „отделить агнцев от
козлищ“, но и чтобы понимать, с кем именно нам следует работать. Мы
ведь не всегда можем объяснить, к какой категории относить тех или
иных людей» [682]. Теперь было недостаточно традиционной шкалы
оценок, на одном конце которой находились религиозный «фанатик»
и «убежденный верующий», а на другом — «убежденный неверующий»
и «атеист».
Самое поразительное в рассказе Дулумана о его общении
с деревенским верующим — то, что Дулуман критикует этого человека
не за саму веру, но скорее за недостаток сознательности и дисциплины.
Кажется, Дулуман придает тому факту, что люди играют в карты под
иконами, больше значения, чем сам предполагаемый «верующий».
В той сцене, которую Дулуман увидел в Белоозерье, его задевало не то,
что в доме молодого человека висят иконы, а то, что хозяин дома
индифферентен к противоречию между исповедуемой им религиозной
верой и неуважительным отношением к ней. Как видим, теоретики
атеизма были педантами в том отношении, что пытались отыскать не
просто идейную приверженность, но специфический тип разума
и сознательности. Религия в их понимании представляла собой
сочетание личной веры и сознательной дисциплины. Поведение
верующего должно было соответствовать догматам его религии.
Но вместо этого они видели противоречия, которые были очевидны для
теоретиков атеизма, но далеко не очевидны для самих верующих.
Жизнь, как показывали социологические исследования, не
укладывалась в критерии, заданные учеными, и это заставляло
теоретиков атеизма пересмотреть свои гипотезы и переосмыслить
понятийный аппарат. Они поняли, что без выработки особого языка, на
котором можно было бы обсуждать противоречия религиозности,
выявленные в ходе полевых исследований, нельзя вести успешную
атеистическую работу. Попытки создать типологию «веры» по-
прежнему занимали центральное место в работе Института научного
атеизма. На конференциях и семинарах непрерывно звучали вопросы
и предложения, выявлялись разногласия и вспыхивали дискуссии
относительно того, как использовать в атеистической работе
полученные социологами знания о религиозном ландшафте страны. Эти
вопросы имели решающее значение, поскольку к концу 1960-х гг.
теоретики атеизма пришли к пониманию, что недостаточно просто
разрушить религиозную веру и что неверующий еще не то же самое, что
атеист. В результате некоторые специалисты предлагали сфокусировать
атеистическую работу на середине воображаемой шкалы
религиозности: направить ее на колеблющихся и пассивных атеистов.
Но точно так же, как по вопросу о том, что является определяющей
чертой верующего, не было единогласия и по вопросу о том, что делает
человека атеистом. Один московский специалист сформулировал это
так: «Товарищи, мы должны видеть идеал, к которому мы стремимся.
Что значит „атеист“? Атеист: тот, что совершенно не подвержен
никаким сверхъестественным тенденциям по линии церковной, по
линии любой мистики» [683].
И все же наиболее заметным, особенно среди молодежи, был рост
той категории, которую называли «индифферентными». Это означало,
что «атеистов» следовало отличать не только от «верующих», но и от
тех, кто был безразличен и к религии, и к атеизму [684]. Категория
индифферентных возникла как показатель критического состояния
веры, и атеистические кадры с тревогой отмечали, что численность
именно этой категории росла особенно быстро.
К обществу, свободному от религии
Поворотным пунктом в развитии советского научного атеизма стал
Пензенский проект — первое крупное социологическое исследование
религиозного ландшафта советского общества, проводившееся
в Пензенской области с 1967 по 1969 г. [685] Авторы проекта
исследований, носившего название «Атеизм и духовный мир человека»,
исходили из предположения, что если бы атеистический аппарат смог
поставить себе на службу социологические науки, ему удалось бы
наконец разработать эффективный план продвижения к «обществу,
свободному от религии». Надежды идеологов атеизма тем не менее
быстро развеялись. Пензенский проект не просто подтвердил
обоснованность их опасений, что атеистическая пропаганда не
порождает атеистов; результаты проекта показали, что и модернизация
не всегда порождает секуляризацию. В результате социологического
исследования также подтвердилось наличие индифферентности как
критически важного сегмента духовного и идеологического ландшафта
советского общества. В то время как 58% из 30 674 респондентов
определили себя как неверующих, только 11,1% опрошенных
идентифицировали себя как убежденных атеистов [686]. Открытие
индифферентности позволило увидеть различия между неверием,
с одной стороны, и атеистической убежденностью, с другой. Даже когда
уровень религиозности, казалось бы, снижался, атеистические
убеждения все же не укоренялись в советском обществе; можно было
предположить, что хотя советские люди считают себя неверующими,
атеизм не проторил себе дорогу в их духовный мир.
Индифферентность воспринималась как серьезная проблема по
многим причинам. Во-первых, ее наличие заставляло усомниться
в заявлениях советской пропаганды о моральном превосходстве
социалистического общества над капиталистическим, а советского
атеизма — над буржуазным атеизмом. В 1960-е гг. теоретики атеизма
пришли к выводу, что «социалистический атеизм» отличается от своего
«буржуазного» аналога тем, что он содержит в себе не только
негативный, но и позитивный компонент — то есть не просто
разоблачает ложь религиозных верований, но также наполняет
духовный мир советского человека истинно научным атеистическим
мировоззрением. Во-вторых, индифферентность представляла собой
проблему, поскольку она была распространена прежде всего среди
советской молодежи. Молодые люди «отвергали» официальную
советскую культуру ради различных контркультур, от эклектических
(движение хиппи, йога, кришнаизм и все то, что советская элита обычно
именовала «мистицизмом»[687]) до традиционных, поскольку
в советском контексте традиционная религия также находилась
в оппозиции официальной культуре. Это означало, что советская
система не может эффективно передавать социалистические ценности
следующему поколению, что ставило под вопрос жизнеспособность
всего коммунистического проекта [688].
Пока новое поколение советских теоретиков атеизма осмысливало
материалы, собранные в ходе социологических исследований,
оставалось неясным, как именно социальные науки могут
способствовать делу создания массового атеистического общества.
Виктор Пивоваров, сотрудник Института научного атеизма,
возглавлявший Пензенский проект, полагал, что проведение
социологических исследований религиозности связано
с многочисленными трудностями. «Если мы определяем, что комплекс
религиозного сознания, религиозного поведения является основой
социологических исследований, то что взять из понятия религиозного
сознания? Мы берем веру в бога, веру в бессмертие души. Если это
может быть сформулировано, то каким образом мы можем перенести
смысл разработки на документ, а из документа довести до обыденного
сознания человека?» Пивоваров привлек внимание и к еще одной
проблеме. В отличие от других исследователей, социологи, изучающие
религию и атеизм, не могли ставить прямые вопросы. Хотя
исследователей интересовали именно проблемы религии и атеизма,
указывал Пивоваров, им приходилось «это маскировать каким-то
образом» при проведении опроса. Пивоваров также указал, что
существовало расхождение между тем, какие задачи ставились перед
работниками атеистического аппарата, и их способностью
интерпретировать данные, полученные в ходе полевых исследований.
«От социологического исследования иногда требуют то, что данное
исследование дать не может, — отметил Пивоваров. — Например, по
пензенскому [исследованию] потребовали дать справку по изучению
причин религиозности. Но ведь причины религиозности в Пензе не
изучались» [689]. Вместо этого исследователи в Пензе искали
проявления секуляризации, чтобы дать пропагандистам атеизма
практические советы о том, как построить «общество, свободное от
религии».
Тем не менее к концу 1960-х гг. стало очевидно: все участвовавшие
в атеистической работе испытывали глубокое разочарование.
Партийное руководство было разочаровано тем, что пропагандисты
атеизма продолжали толочь воду в ступе. Лисавцев, курировавший в ЦК
КПСС работу ИНА, в 1971 г. жаловался на собрании, что теоретики
атеизма снова и снова ставят одни и те же вопросы, но не предлагают
ответов. Специалисты по изучению религии и атеизма были
разочарованы, поскольку чем больший профессиональный опыт они
приобретали и чем больше они знакомились с живой религией, тем
больше противоречили друг другу две их роли — активистов
атеистической работы и ученых-социологов. В среде атеистических
кадров увеличивался разрыв между теми, кто понимал под атеизмом
преимущественно изучение религии с теоретической и социологической
точки зрения, и теми, кто видел свою миссию в обращении советских
людей на путь научного материалистического мировоззрения. Была ли
цель атеистической работы в том, чтобы научиться понимать религию,
или в том, чтобы формировать атеистическую убежденность? Эти две
задачи, конечно, рассматривались как неразрывно связанные; считалось,
что необходимо понимать религию во всей ее полноте, чтобы
разработать программу, с помощью которой можно было бы
результативно воспитать атеистическую убежденность. Но с течением
времени теоретики атеизма все больше интересовались самой религией
и тем, какие социальные и культурные перемены в жизни советского
общества позволяет выявить ее изучение, и все меньше были убеждены
в необходимости пропагандистской миссии атеистической работы.
Действительно, ведущим специалистам и кадровым сотрудникам
идеологических и академических учреждений по-прежнему были
неясны основы атеистической работы, и среди них были расхождения
даже по фундаментальному вопросу о том, что именно представляет
собой атеизм [690]. В университетах не могли прийти к согласию
относительно того, должен ли научный атеизм быть самостоятельной
дисциплиной или же разделом какой-либо уже существующей
дисциплины, и если да, то какой именно (например, истории
философии) [691]. Не было консенсуса даже по вопросу о том, должен
ли вообще научный атеизм быть обязательной частью университетской
программы. Характеризуя эту дилемму, Илья Панцхава, заведующий
кафедрой теории и истории атеизма и религии МГУ, процитировал
философа Теодора Ойзермана, приводившего доводы против передачи
курса научного атеизма на кафедру философии: «Научный коммунизм,
социология, этика, эстетика, атеизм не являются философскими
дисциплинами. Что касается атеизма, то мне вообще непонятен профиль
этой дисциплины. Если убрать из него выводы диалектического
и исторического материализма, то от него вообще останется одна
история» [692].
Все были согласны, что атеистическая работа состоит из двух
компонентов — негативного (критика религии) и позитивного
(утверждение атеизма), — но даже под давлением лишь немногие могли
ясно выразить, что представляет собой позитивный атеизм или кто
должен отвечать за его внедрение в социалистическое общество,
которое должно было стать «свободным от религии». Философ
Дмитрий Угринович, профессор МГУ, рассматривал критику религии
как форму «религиоведения» и доказывал, что задачей академических
ученых является понимание религии, а не формирование атеизма.
Угринович призывал других разрабатывать позитивное содержание
атеизма, подразумевая, что формирование позитивного атеизма —
что бы оно ни означало — не дело ученых [693]. Но по-прежнему, хотя
цель атеистической миссии оставалась туманной, ИНА продолжал
изучать религию и тем самым продвигался к лучшему пониманию
процесса секуляризации. Профессионализация сотрудников ИНА и их
постепенное превращение из активистов атеистической работы
в ученых-социологов, изучающих атеизм, поставили институт
в затруднительное положение, сущность которого охарактеризовал
Лисавцев, сетовавший, что план научной работы ИНА «нужно серьезно
доработать... чтобы он стал планом института научного атеизма, а не
института религиоведения» [694].
Заключение
Мобилизация общественных наук на службу атеистическому проекту
позволила выявить сложный идеологический ландшафт, существование
которого непрестанно бросало вызов привычному пониманию религии
со стороны партии. Когда пропагандисты атеизма стали социологами,
опыт полевых исследований показал им, что религия имеет отношение
не только к «вере», но и к практике, эмоциям, сообществам
и человеческому опыту. Атеисты, собиравшиеся бороться с религией
как иллюзорной верой, обнаружили, что борются с религией как
образом жизни. Проблема живой религии для них заключалась в том,
что она представляла собой целый мир, отличающийся — а порой
весьма далекий — от религиозных догм и институтов. Вместо того
чтобы быть связанной с определенными пространствами и текстами
(которые можно регулировать с помощью церкви и государственных
учреждений), живая религия оказалась домашней, рассредоточенной
и потому ускользавшей из сферы доступа партии. Когда теоретики
атеизма пошли в народ, они пытались объяснить, почему советский
человек, который лоялен по отношению к советской власти, не ходит
в церковь или даже не верует в Бога — но по-прежнему держит дома
иконы и крестит детей, — несмотря на все это, не соответствует
коммунистическому идеалу убежденного атеиста. Но обычным людям,
с которыми встречались социологи-атеисты, трудно было понять,
почему, чтобы считаться полноправными членами советского общества,
они должны активно отвергать религию и исповедовать атеизм.
Изучение советскими учеными религии привело к тому, что они
осознали ограниченность своих возможностей и искренне попытались
преодолеть недостатки атеистической работы. Поскольку они
занимались теоретическим осмыслением проблем атеизма и прилагали
свои теории к широкому кругу явлений, цели и методы их работы
менялись: если первоначально успех измерялся снижением уровня
религиозности, то к концу 1960-х гг . главным предметом беспокойства
стала индифферентность. Индифферентность свидетельствовала
о недостаточной убежденности человека в коммунистических идеалах
и о том, что партия утрачивает контроль над советским обществом. Еще
большей проблемой было преобладание индифферентности среди
советской молодежи, поскольку оно означало, что коммунистическая
система ценностей не воспроизводится в следующем поколении.
Действительно, когда идеологическая элита изучала убеждения
советских людей, ее в наибольшей степени беспокоили молодые люди,
которым недоставало убежденности в советском проекте, даже если на
публике они демонстрировали уверенное владение языком
и практиками официальной идеологии. По мнению идеологов,
решением проблемы должно было стать развитие системы
идеологической социализации, внедрения в жизнь ценностей советского
общества с помощью атеистического, этического, эстетического,
интернационалистского и патриотического воспитания; ее созданием
они занимались с 1960-х по 1980-е гг. Но даже когда эта система
становилась более обширной и комплексной, тем не менее невозможно
было определить, насколько успешно она формирует атеистические
и коммунистические убеждения. Как показывает Алексей Юрчак
в своем исследовании, посвященном последнему советскому
поколению, молодые люди могли принимать советскую
идеологическую систему и считать ее нормой — и в то же время не
питать иллюзий в отношении того, адекватно ли эта идеология
описывает их жизненный опыт [695].
Если бы целью советского проекта была секуляризация —
отделение политических институтов от религиозных, снижение
авторитета религии, исчезновение религии из общественной и частной
жизни, — то появление индифферентных людей можно было бы
считать показателем успеха этого проекта. Но, напротив,
индифферентность стала теперь беспокоить партию даже в большей
степени, нежели религиозная вера. Потратив десятилетия на попытки
преодолеть религию, советские атеистические кадры нашли новый
ответ на вопрос, почему религия является проблемой для
коммунистического проекта. Отбрасывая политическую
и идеологическую трактовку религии, к ней стали подходить прежде
всего как к проблеме духовной жизни. Идеологическая элита перенесла
центр своего внимания на духовное развитие советского общества.
Последней битвой за душу советского человека должно было стать
формирование «социалистического образа жизни» — поскольку
политические и идеологические битвы, казалось, были уже выиграны.
Глава 6
Коммунистическая партия между государством
и церковью: советский атеизм
и социалистические обряды
Старые учреждения, старые предания, старые обычаи — великое дело.
Народ дорожит ими, как ковчегом завета предков. Но как часто видела
история, как часто видим мы ныне, что не дорожат ими народные
правительства, считая их старым хламом, от которого нужно скорее
отделаться. Их поносят безжалостно, их спешат перелить в новые
формы и ожидают, что в новые формы немедленно вселится новый дух.
Но это ожидание редко сбывается.
Константин Победоносцев. Духовная жизнь (1898) [696]
2 января 1956 г., почти одновременно с историей об «окаменевшей Зое»
из Куйбышева, в ЦК КПСС поступил еще один любопытный доклад —
на этот раз от главы Союза писателей СССР Алексея Суркова (1899–
1983). Сурков пересказывал письмо в Союз писателей от
Т. И. Кубриковой, пожилой женщины из Саратова, просившей
советских писателей создать новые социалистические обряды взамен
религиозных, отвергнутых революцией. По мнению Суркова,
Кубрикова в своем письме демонстрировала одновременно наивность
и мудрость:
Письмо это, написанное старым человеком, может на первый взгляд
показаться примитивным и даже немного смешным. Но вопросы,
поставленные в этом письме, все послеоктябрьские годы волнуют
людей. Ведь мы на самом деле ничего не дали народу взамен красочных
и действующих на воображение церковных обрядов, оформляющих
рождение, брак и смерть человека [697].
Сурков писал, что, поскольку Союз писателей является
профессиональной организацией и не может решать подобные
идеологические вопросы, он адресует их Центральному комитету
партии. Но ЦК тоже не хотел поднимать вопрос об обрядах и сообщил
Суркову, что «вырабатывать особые бытовые обряды и распространять
их в директивном порядке нецелесообразно». Партийное руководство
поручило Суркову поставить в известность Кубрикову, что
«удовлетворять ее просьбу не представляется возможным» [698]. Этот
обмен мнениями — между советской гражданкой, известным писателем
и ЦК партии — позволяет наглядно увидеть, как партия понимала свою
роль в духовной жизни советского общества. Ответ партийного
руководства свидетельствует, что в 1956 г. проблема обрядов по-
прежнему не была приоритетной, а вопрос о том, кто должен отвечать
за удовлетворение духовных потребностей советских граждан,
оставался нерешенным.
В начале хрущевской эпохи, когда Кубрикова писала свое письмо,
для большинства советских граждан публичные церемонии, связанные
со свадьбой, рождением ребенка или смертью близкого человека,
сводились к бюрократической процедуре регистрации события
в отделах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). После ЗАГСа,
конечно, большинство людей отмечали эти события или поминали
близких дома, в кругу семьи и друзей, но поразителен сам факт, что на
протяжении десятилетий присутствие коммунистической идеологии
в самых важных событиях человеческой жизни было ограничено актом
регистрации изменений гражданского состояния — независимо от того,
шла ли речь о простом рабочем или о представителе политической
элиты. Зять Хрущева, Алексей Аджубей, так рассказывал о своей
женитьбе в 1949 г. на дочери Хрущева, Раде: «Хрущевым была
абсолютна чужда даже мысль о свадебных церемониях. Раду и меня это
только обрадовало. 31 августа 1949 года в сопровождении Василия
Божко из охраны Хрущева мы пошли в районный ЗАГС и получили
соответствующие печати на паспортах» [699]. Коммунистическая
идеология, заполняя собой общественную жизнь, в наиболее важные
моменты частной жизни советских людей оставалась в стороне.
При Хрущеве ситуация изменилась, причем самым радикальным
образом. Для советских людей стало неприемлемо отмечать рождение
ребенка, свадьбу или смерть лишь бюрократической регистрацией
изменения гражданского состояния. Обряды, которые совсем недавно
считались бессмысленными пережитками старого быта, теперь стали
стимулом создания новых ритуальных пространств, услуг,
материальных атрибутов, обрядового искусства и песен, подготовки
профессионалов и разработки методик и, конечно, изобретения самих
социалистических обрядов. Если в начале хрущевской эпохи, когда
Кубрикова писала свое письмо в Союз писателей, социалистическая
обрядность все еще считалась неважным вопросом, от которого можно
было с легкостью отмахнуться, то к тому времени, когда Брежнев
сменил Хрущева на посту Первого секретаря ЦК КПСС,
социалистическая обрядность стала восприниматься как одно из
важнейших средств партии в борьбе с религией и, соответственно, как
центральное звено идеологической работы. Борясь с идеологическим
вакуумом, угрожавшим советскому обществу, идеологический
истеблишмент уверовал, что перспективы атеистической работы зависят
от того, насколько успешно коммунистическая идеология выполнит
пожелания обычных советских людей, таких как Кубрикова.
От церкви к государству: секуляризация советской
жизни
Один из центральных сюжетов модерности — история о том, как забота
о людях из рук церкви переходит к государству [700]. Эта
трансформация подчеркивается изменениями ритуалов перехода.
В случае советского общества перемены были более стремительными
и радикальными, чем где-либо в Европе [701]. Если до революции
духовенство и религиозные учреждения отвечали и за
административные, и за обрядовые аспекты важнейших событий
жизненного цикла, то после революции, когда большевики создали
бюрократические органы для регистрации изменений гражданского
состояния, рождение, брак и смерть перешли в юрисдикцию
государства[702]. Эти перемены стали важнейшим компонентом
партийной программы секуляризации. Новый режим постановил, что
«брак, совершенный по религиозным обрядам и при содействии
духовных лиц, не порождает никаких прав и обязанностей для лиц,
в него вступивших, если он не зарегистрирован установленным
порядком», а правовой статус получали только акты гражданского
состояния, зарегистрированные в отделах ЗАГС [703]. Отобрав
у религиозных учреждений документирование рождений, браков
и смертей, большевики стремились подорвать символическую власть
религии и вытеснить ее на обочину общественной жизни. Эту цель
открыто поставил заместитель народного комиссара юстиции РСФСР
Николай Крыленко, описывая новое законодательство как оружие, чье
острие направлено против церковного брака, чтобы разрушить его
авторитет в глазах масс[704]. В то же время ЗАГС как орудие
секуляризации носил скорее деструктивный, чем конструктивный
характер. ЗАГС оставался прежде всего бюрократическим органом,
который просто регистрировал изменения гражданского состояния, —
процесс, эффектно отображенный в фильме Дзиги Вертова «Человек
с киноаппаратом» (1929), где была показана очередь людей в ЗАГСе,
регистрирующих свадьбы, рождения, разводы, смерти и быстро
сменяющих друг друга. Роль ЗАГСа, таким образом, состояла в том,
чтобы осуществлять советские правовые нормы, а не в том, чтобы
торжественно проводить обряды перехода или наполнять жизнь
смыслом.
Должен ли кто-либо отвечать за обрядовую сторону жизненного
цикла, а если да, то как будут выглядеть новые социалистические
обряды, оставалось неясным [705]. Такие представители лагеря
социалистов, как В. Д. Бонч-Бруевич, считали, что развитие светских
обрядов будет естественным результатом отделения церкви от
государства. После революции, писал Бонч-Бруевич, у советских людей
появится возможность отмечать переходные события своей жизни либо
«гражданским порядком», либо «по-старому, с духовенством» [706].
Его оппоненты выражали сомнение в том, должна ли революция иметь
свои ритуалы и вообще будут ли обряды играть какую-либо роль
в новом мире. Фактически дебаты по этим вопросам начались еще до
1917 г. Одни участники дискуссии считали любые обряды
примитивными по сути своей и доказывали необходимость полностью
искоренить религиозные праздники, обряды, ритуалы и даже воинскую
присягу. Общество будущего виделось им свободным от
бессмысленных ритуальных действий и избавленным от толпы,
жаждущей зрелищ. Как рассказывал Ярославский в докладе на первом
съезде Союза безбожников в 1925 г. [707], один пламенный большевик,
борясь с тем, что он называл «коммунистическим двоеверием», даже
завещал отдать свое тело в мыловарню в качестве сырья [708]. Другие
рассматривали обряды как пережиток старого быта, который массы
постепенно перерастут, и считали, что партия должна удовлетворять
потребность народа в обрядах в качестве промежуточной меры. С их
точки зрения, пусть лучше это будут «наши» социалистические обряды,
очищенные от мистических и сверхъестественных элементов, а не «их»
религиозные обряды. Третьи, наконец, указывали, что обряды
существуют в разных культурах на протяжении всей истории
человечества и потому не обязательно являются чем-то ретроградным
по сути своей, но скорее представляют собой исторически конкретное
воплощение универсального человеческого опыта. Они доказывали, что,
учитывая преобразующий потенциал ритуального опыта, в интересах
партии было бы предложить людям свои ритуалы [709]. В первые
пореволюционные годы, пока большевики обсуждали место обрядов
в новом коммунистическом быту, советские люди продолжали
влюбляться и жениться, создавать семьи и рожать детей, стареть
и умирать, и эти обыденные, но неизбывные социальные явления
придавали вопросу обрядности непреходящую актуальность.
Тем не менее, отрицая старый быт вместе со всеми его
учреждениями, верованиями и практиками, большевики не спешили
предлагать ему значимую замену [710]. Картина А. Моравова под
названием «В волостном загсе», написанная в 1928 г., воплощает
видение нового быта на заре советской власти. Картина, выполненная
в насыщенных красных тонах, изображает деревенскую парочку —
причем жених все еще носит буденовку, — весело регистрирующую
свой союз в темном помещении ЗАГСа в кругу друзей[711].
Немногочисленные попытки ввести социалистические обряды в ранний
советский период предпринимались отдельными энтузиастами,
изобретавшими процедуры социалистических крестин («октябрин»),
свадеб и похорон. Проводились эти «красные обряды» местными
советами, партийными и комсомольскими ячейками, обычно на
предприятии или в колхозе, где работал человек. Обряды носили
торжественный, но аскетичный характер, были лишены каких-либо
ритуальных украшений и зачастую становились не столько
коммеморацией перехода из одного социального статуса в другой,
сколько площадкой для антирелигиозной пропаганды. Более того, хотя
партия пропагандировала социалистические обряды в прессе,
неуклюжее исполнение часто превращало их не в предмет подражания,
а в объект сатиры. Так, в статье, опубликованной в «Правде» в 1935 г.,
популярные писатели Илья Ильф и Евгений Петров в пародийном
ключе изобразили обряд «октябрин», описывая, как председатель
месткома дарил каждому новорожденному красное сатиновое одеяльце,
а потом «брал реванш» — «над люлькой младенца он произносил
двухчасовой доклад о международном положении», пока «взрослые
тоскливо курили». Когда председатель завершал доклад, «все
с чувством какой-то неловкости шли домой», где, «конечно, все
приходило в норму... Но чувство неудовлетворенности оставалось еще
долго» [712]. В подобных публикациях подчеркивалось несоответствие
между высокими идейными целями социалистических обрядов и не
слишком удачными способами их проведения.
В начале советского периода большевики создали широкий набор
политических ритуалов, символически организующих и оформляющих
общественную жизнь, но почти не уделяли внимания поиску
социалистических альтернатив религиозным обрядам и традициям,
которые организовывали и оформляли жизнь частного лица и малого
сообщества. Несмотря на революционные мечты о трансформации
общества и человеческой природы, спорадические попытки
большевиков внедрить социалистические обряды в повседневную
жизнь, как правило, не имели успеха, и вопрос о том, как превратить
религиозные ритуалы и верования в социалистические обряды
и убеждения, оставался без ответа. Фактически после первых неудач
большевики сняли этот вопрос с повестки дня.
К концу 1930-х гг., когда Сталин отказался от воинствующей
антирелигиозной пропаганды, постепенно сошли на нет даже
эпизодические попытки энтузиастов ввести социалистические обряды.
По мере становления культуры сталинизма аутентичным воплощением
советской идентичности стали считаться массовые празднества, тогда
как ритуалы частной жизни изображались как прибежище религиозной
отсталости и мещанской сентиментальности. Это отношение передает
антирелигиозный плакат 1939 г., пространство которого разделено
пополам между миром религии (слева, погруженное во мрак) и миром
социализма (справа, залитое светом). Слева изображен низкорослый
священник, указывающий на прейскурант с надписью «Свадьбы,
крестины, похороны», справа — молодая пара (теперь уже одетая не
в военную форму, а по городской моде) с благодушной
снисходительностью смотрит на священника, а на заднем плане
молодежь танцует перед клубом. Подпись к плакату гласит:
«У церковного порога ждешь, поп, напрасно — без икон и бога мы
живем прекрасно!» (см. ил. 11) [713]. Конечно, за пропагандистским
фасадом жизнь многих советских людей оставалась связанной
с религией, тогда как с социалистическими обрядами в более широком
смысле слова люди чаще сталкивались на плакатах, чем в своей
повседневной жизни.
Ил. 11 . М. Черемных. У церковного порога / Ждешь, поп, напрасно — /
Без икон и бога / Мы живем прекрасно. Плакат. М.; Л.: Искусство, 1939.
Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург
После войны профиль работы ЗАГСов стал меняться. Постановление
Совета народных комиссаров РСФСР от 8 января 1946 г.
«О мероприятиях по упорядочению регистрации актов гражданского
состояния» обязывало органы ЗАГС превратить регистрацию актов
гражданского состояния в торжественную церемонию, сделав
помещения отделов ЗАГС более благоустроенными и улучшив
подготовку их работников. В какой-то мере эти реформы отражали
стремление партии исцелить травмы военного времени, укрепив
советскую семью, основы которой были поколеблены, поскольку в ходе
войны мужья и жены погибали, дети оставались сиротами, а новые
супружеские союзы возникали без расторжения прежних [714].
Превращая ЗАГСы из чисто административных в «воспитательные»
органы, партия пыталась упрочить связь каждой советской семьи
с большой семьей народов СССР[715]. Но, несмотря на такие
намерения, заметных изменений в работе ЗАГСов не произошло,
и только в 1956 г., когда органы ЗАГС были переданы из юрисдикции
Министерства внутренних дел в ведение исполкомов местных советов,
реформа начала реально осуществляться. В продолжение инициатив
1946 г. отделы ЗАГС были выведены из структуры районных отделов
милиции, а к уровню образования и профессиональной подготовки
сотрудников ЗАГСов стали предъявляться более высокие требования.
ЗАГСы также старались добиться «торжественности» гражданских
церемоний; для начала были предусмотрены определенные часы для
регистрации радостных событий — рождения детей и заключения
брака, чтобы отделить их от регистрации не столь радостных событий
—
развода и смерти (см. ил. 12)[716]. Затем, когда в конце 1950-х гг.
началась хрущевская антирелигиозная кампания, ЗАГСы стали
в гораздо большей степени связаны с идеологическими работниками,
особенно когда были вовлечены в дело разработки и внедрения
социалистической обрядности. За сорок лет после революции профиль
работы и задачи органов ЗАГС существенно изменились: если в первые
годы советской власти партия использовала ЗАГСы как орудие
секуляризации, то в хрущевскую эпоху ЗАГСы превратились в орудие
сакрализации жизни советского общества.
Ил. 12. Сотрудники ЗАГСа Киевского района поздравляют
молодоженов — Леонида и Надежду Антошиных. Москва, январь
1956 г. Фото А. Агапова. ЦГА Москвы. Арх. No 1 -19838
«Брак — серьезное дело»: новая советская свадьба
В хрущевскую эпоху важную роль в возрождении дискуссии об
обрядности играл комсомол, как и в ранний советский период, когда он
был на передовой линии борьбы за новый социалистический быт.
Неудивительно, что внимание комсомола фокусировалось на тех
обрядах, которые знаменуют собой центральные события в жизни
молодых людей: вступление во взрослую жизнь, свадьбу, рождение
ребенка [717]. На XIII съезде ВЛКСМ (15–18 апреля 1958 г.) Шелепин
—
комсомольский секретарь и активный участник хрущевской
«команды», мобилизованной на антирелигиозную кампанию, —
говорил о необходимости создания социалистических обрядов,
которыми должны сопровождаться важнейшие вехи в жизни советской
молодежи:
Народ тысячелетиями создавал свадебный обряд. А сейчас уж очень все
упрощено. Надо завести нам свои хорошие свадебные обряды. Свадьба
должна навсегда оставаться в памяти у молодых. Может, стоит, чтобы
молодожены давали торжественное обязательство честно нести
супружеские обязанности. Может, стоит носить обручальные кольца,
ибо в этом нет ничего религиозного, а это память и знак для других:
человек женат. И брачные свидетельства должны быть красивыми,
памятными... Может, стоит, чтобы в клубах и других помещениях,
пригодных для проведения свадебных торжеств, было бы
соответствующее убранство, посуда.
Известно, что в 16 лет юноши и девушки получают паспорт.
Следует ввести в традицию торжественное вручение паспортов, чтобы
к молодежи приходили в этот день коммунисты, кадровые рабочие,
напутствовали ее в жизнь... Надо отмечать и такие значительные
события в жизни молодежи, как окончание школы, получение
специальности, рождение ребенка, призыв в армию[718].
В ходе комсомольских дебатов о новой обрядности, развернувшихся
после съезда, было затронуто множество идеологических тропов,
циркулировавших в советской общественной жизни того времени: брак,
семья и нравственность; материальное благосостояние и рост уровня
жизни; оживление интереса к фольклорным и этническим традициям;
и, конечно, борьба с религией [719].
Действительно, проект новой обрядности был связан с важнейшими
демографическими, социальными и культурными переменами,
произошедшими в советском обществе в результате быстрой
урбанизации, роста жилищного строительства и воздействия
десталинизации на политическую культуру [720]. Поскольку молодые
люди становились более независимыми и переезжали в отдельное
жилье, комсомол привлекал внимание к моральным ценностям брака
и семьи, публикуя доклады на такие темы, как «О проблеме
регулирования брачно-семейных отношений (Брак — серьезное
дело)» [721]. Начало семейной жизни в форме торжественной
церемонии, утверждалось в докладе, подчеркивает значение, которое
партия придает браку как общественному институту. Участие
комсомольской организации в проекте создания социалистических
обрядов отвечало и проявившемуся недавно интересу партии
к вопросам благосостояния и потребления. В своем выступлении на
съезде комсомола Шелепин привлек внимание не только
к необходимости создавать идеологически выверенные
социалистические обряды, но и к более прозаическим вещам, например
к облагораживанию мест проведения обрядов и доступности
необходимых товаров. Советская молодежь, доказывал Шелепин, имеет
право отмечать свои личные радости, и в ее стремлении к материальным
удобствам и к традициям нет ничего идеологически неверного.
Шелепин даже писал по этому вопросу Клименту Ворошилову,
председателю Президиума Верховного Совета, предлагая ввести для
молодоженов трехдневный оплачиваемый отпуск [722].
Вскоре после окончания съезда ВЛКСМ ленинградская
комсомольская организация стала проводить работу с городскими
отделами ЗАГС, добиваясь создания первого советского Дворца
бракосочетаний, который открыл свои двери 1 декабря 1959 г. Вскоре
еще два новых Дворца бракосочетаний были открыты в Москве (первый
—
в конце 1960 г., второй — в 1962 г.), а в течение следующих трех
десятилетий по всему СССР появились десятки новых Дворцов
бракосочетаний[723]. Комсомол, партия и учреждения культуры
вводили новые традиции и разрабатывали образцы сценариев новой
советской свадьбы, принимая во внимание даже такие факторы, как
местный этнический и культурный контекст, а также то, происходит ли
бракосочетание в селе, провинциальном городке или большом
городе [724].
Социалистические обряды начали освещать в прессе, причем иногда
их изображали как орудие борьбы с религией, а иногда возвращались
к вопросу, поставленному еще в первые годы советской власти, —
о том, нужны ли вообще обряды советскому народу. Летом 1959 г.
газета «Смена», орган ленинградской комсомольской организации,
опубликовала серию статей, где социалистические обряды
изображались как способ воспитывать коммунистическую мораль
и «нанести удар религии» [725]. Почти одновременно, 3 октября 1959 г.,
газета «Известия» поместила статью, озаглавленную «Нужны ли
советские обряды?», которая положила начало дискуссии,
продолжавшейся на страницах нескольких номеров газеты [726].
К концу 1950-х гг., когда антирелигиозная кампания шла полным
ходом, дискуссию вели уже не о том, должны ли быть обряды
в советском обществе, а о том, как лучше сделать, чтобы обряды
служили и идеологическим целям партии, и духовным потребностям
общества: кто будет их создавать? Как они будут внедряться в жизнь?
Должен ли этот процесс быть спонтанным или направляться «сверху»?
Какие ценности должны воплощать новые обряды? И что необходимо
сделать, чтобы они стали неотъемлемой частью жизни советского
общества?
Поскольку вопрос о социалистических обрядах был поднят на
страницах прессы, читатели начали присылать в редакции газет
и журналов свои вопросы и комментарии, вовлекая в разговор
о социалистических обрядах широкую советскую общественность. Эти
дискуссии в прессе позволили выявить перемены в общественном
мнении по поводу определения ценностей советского общества
и отражали политические, идеологические, социальные и культурные
новшества хрущевской эпохи. Например, предметом небольшого
скандала стала свадебная открытка, опубликованная в газете «Советская
культура» в 1958 г., поскольку представленное на ней символическое
изображение «хорошей жизни», предложенное художником Леонидом
Владимирским [727], — дом, автомобиль, три малыша, подкова, а рядом
черная кошка, перечеркнутая красной чертой, — подверглось критике
со стороны нескольких читателей как отступление от ценностей
советского общества. Характер идеологических претензий к открытке
лучше всего отражен в письме, присланном А. Шешиным
в сатирический журнал «Крокодил». В своем письме Шешин
саркастически поздравлял издательство «с выпуском брака,
прилагаемой открытки художника Л. Владимирского, изданной
тиражом 350 тыс. экз.» и содержащей «изображение „счастья“ в виде
подковы, индивидуального домика, трех первенцев, автомашины». «Для
полного мещанского счастья», по мнению Шешина, не хватало лишь
«семи слонов», декоративных мраморных фигурок, которые в советском
лексиконе стали символом обывательского образа жизни [728].
Опубликованный в прессе ответ художника тем не менее
свидетельствует, что Владимирский был убежден: в начавшейся
культурной баталии он занимает верную сторону, и доказательством, по
его аргументации, служит то, что весь тираж открытки, составлявший
350 000 экземпляров, уже раскуплен. «Когда мы в редакции начинали
работу над этой, несколько необычной поздравительной открыткой, —
писал Владимирский, — то были уверены, что найдутся отдельные
люди, которым она не понравится, которые поспешат показать свою
„политичность“ и свой „тонкий вкус“, раскритиковать ее». «Можно
сказать, — продолжал Владимирский, — что, создавая эту открытку, мы
осознанно шли на спор с теми людьми, которые еще находятся в плену
устарелых представлений». Почему, спрашивал он, когда партия
призывает «к еще большему увеличению благосостояния народа»,
нельзя пожелать советскому человеку «зажиточной жизни», если он
достиг этой жизни честным трудом? Когда-то, указывал он, считалось
«мещанством» наряжать елку на Новый год, тогда как «теперь мы не
только елку, но и зимний русский народный праздник Масленицу
в Москве во Дворце спорта целую неделю отмечаем». «Мы за то, чтобы
торжественно и весело справлять комсомольские свадьбы, за то, чтобы
женихи дарили невестам обручальные кольца, — заключал он. — Пусть
жизнь советских людей с каждым годом становится богаче, интересней,
содержательнее. И не будем бояться нового, даже если это новое
использует старые традиционные формы» [729]. Таким образом, для
Владимирского сочетание потребительства и традиций
не противоречило советским ценностям, а скорее отражало новые
возможности современной советской жизни. Публикуя подобный обмен
мнениями, пресса представляла советским людям новую
идеологическую модель, которая легитимизировала социалистические
обряды, в том числе самые «традиционные» и «мещанские» их
элементы.
Ил. 13. Свадьба космонавтов В. В. Терешковой и А. Г. Николаева.
А. Г. Николаев расписывается в книге регистрации актов. Москва,
ноябрь 1963 г. Фото Б. Н. Ярославцева. ЦГА Москвы. Арх. No 0-99270
Ил. 14 . Свадьба космонавтов В. В. Терешковой и А. Г. Николаева.
Свидетельница В. И. Гагарина расписывается в книге регистрации
актов. Москва, ноябрь 1963 г. Фото Б. Н. Ярославцева. ЦГА Москвы.
Арх. No 0-99271
Но, возможно, ничто в такой мере не способствовало внедрению новых
социалистических ритуалов, как превращение свадьбы космонавтов
Андрияна Николаева и Валентины Терешковой в публичное зрелище
(см. ил. 13). Свадебная церемония состоялась 3 ноября 1963 г.
в московском Дворце бракосочетаний в присутствии видных партийных
и правительственных чиновников и деятелей культуры, в том числе
Хрущева и Юрия Гагарина (см. ил. 14). Пресса, жаждущая запечатлеть
рождение «первой космической семьи», подробно описывала составные
части социалистического свадебного ритуала [730]. Советские читатели
узнали, что Терешкова, ставшая интернациональным символом
прогресса гендерных отношений в советском обществе, была одета
в традиционное белое платье с фатой и что жених и невеста вошли в зал
Дворца бракосочетаний под звуки фортепианного концерта No 1
П. И. Чайковского. Сам свадебный обряд включал несколько
компонентов: Терешкова и Николаев расписались в книге записей актов
гражданского состояния, обменялись кольцами и поцеловались, а затем
председатель исполкома Моссовета вручил им свидетельство о браке.
После официальной церемонии, как сообщалось в прессе, новобрачные
вошли в банкетный зал, где «по старинному обычаю все поднимают за
счастье молодоженов бокалы». Хрущев поздравил новобрачных,
а Гагарин провозгласил тост за то, как хорошо видеть таких «богатых
духовно людей», вступающих в брак [731]. Вскоре после свадьбы
космонавтов, 19 ноября 1963 г., советское телевидение показало
репортаж со свадьбы двух работников Московского автомобильного
завода имени И. А. Лихачева (ЗИЛа)[732]. Социалистический
свадебный обряд вошел в жизнь советского общества.
Отвлечь советских людей от религии: советские
обряды как орудие атеистической пропаганды
Хотя проект новой обрядности внедрялся в жизнь советских людей
через комсомольские инициативы, дискуссии в прессе и медиасобытия
(такие, как свадьба двух космонавтов), процедуры социалистических
обрядов создавались за закрытыми дверями, силами партийных
организаций, правительственных органов и учреждений культуры.
Академия наук СССР изучала изменения быта советских людей, уделяя
особое внимание обрядовой культуре [733]. Этнографы, историки
и фольклористы выявляли и документировали примеры
социалистических обрядов, спонтанно возникавших на просторах
Советского Союза. Исследователи из Государственного музея истории
религии в Ленинграде проводили полевые исследования в глубинке,
отыскивая факты успешно укоренившихся социалистических обрядов,
а также доказательства снижения числа религиозных обрядов [734],
а Центральный дом народного творчества имени Н. К. Крупской
(ЦДНТ) в Москве отправлял любителей-фольклористов в сельскую
местность изучать опыт проведения социалистических свадеб
и колхозных праздников. Помимо собирания примеров органически
возникших социалистических ритуалов, этнографы и фольклористы
также изучали религиозные обряды, чтобы освободить их от
религиозного значения, выявив их дохристианские корни [735]. 25–
27 октября 1960 г. ЦДНТ и общество «Знание» провели совместную
конференцию на тему «Советские праздники, народные традиции и их
роль в преодолении пережитков религии», где представители партии,
правительства и учреждений культуры впервые собрались вместе,
чтобы обсудить разработку и внедрение в жизнь социалистических
обрядов как централизованный проект [736]. За ней последовало еще
несколько республиканских и всесоюзных конференций, посвященных
социалистическим обрядам; в совокупности все эти меры положили
начало тому, что может быть названо социалистическим обрядовым
комплексом.
Изначально проекту создания социалистических обрядов дала
политический импульс антирелигиозная кампания. Поскольку мизерные
результаты антирелигиозных инициатив показали, что религию
невозможно преодолеть ни силой, ни дискуссиями, лучшим орудием
атеистической пропаганды стали считать социалистические обряды.
Значимость обрядов для атеистической работы возрастала еще
и потому, что обрядность представлялась теперь самым важным
в религии: с точки зрения правящей партии именно соблюдение
религиозных обрядов позволяло успешно сохранять жизнеспособность
религии, а также было одним из наиболее существенных источников
церковных доходов. В силу этого проект внедрения социалистической
обрядности преследовал две цели: ослабить церковь и религию,
расшатывая религиозную обрядность, и упрочить авторитет партии
и коммунистической идеологии, воздействуя на идейное и духовное
развитие советского общества.
Чтобы ослабить церковь, Совет по делам Русской православной
церкви осуществлял давление на нее, настаивая на необходимости
внутрицерковных реформ, которые и были проведены в 1961 г. Для
сохранения видимости отделения церкви от государства Совет
тщательно создавал впечатление, что инициатива реформ исходит от
самой церкви. Как докладывал ЦК КПСС новый председатель Совета по
делам Русской православной церкви, Куроедов, «Совет убедил
патриарха Алексия дать указание епархиальным управлениям
о целесообразности перевода духовенства по оплате на твердые оклады
под тем предлогом, что такой мерой устраняются различные
недоразумения между священнослужителями и местными финансовыми
органами в начислении подоходного налога» [737]. Русская
православная церковь была вынуждена превратить
священнослужителей в наемных работников — эта стратегия Совета по
делам Русской православной церкви была намеренно направлена на то,
чтобы снизить число церковных обрядов, лишив духовенство
«материального стимула» совершать их. Церковь также стала требовать
от тех людей, которые хотели совершить обряд крещения, венчания или
отпевания, сообщать приходской администрации свои паспортные
данные, чтобы создать препятствия для тех, для кого огласка была
нежелательной. Более того, теперь для крещения ребенка требовалось
согласие обоих родителей, а крещение без такого согласия
квалифицировалось как посягательство на свободу совести родителей-
атеистов. На практике это означало, что бабушкам стало гораздо
труднее окрестить внуков втайне, хотя часто предполагаемое
самоуправство бабушек было лишь способом отрицания вины
родителей, чтобы уберечь их от возможных неприятностей. Как отметил
один уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви,
введение новых правил позволило одному городскому совету выявить
одиннадцать коммунистов, окрестивших своих детей, и хотя четверо из
них первоначально отрицали, что дали согласие на крещение,
доказательством их вины стали подписи на заявлениях [738]. Введение
вышеуказанных правил дало возможность совету получать информацию
о верующих, с которыми следовало в дальнейшем «развернуть
конкретную воспитательную работу»[739].
Чтобы наглядно показать экономическое воздействие реформы на
церковь, Куроедов разъяснял, что если до реформы деньги за
проведение обряда уплачивались непосредственно священнику и это
создавало материальную заинтересованность в проведении
максимально возможного числа обрядов, то реформы должны будут
«парализовать материальные стимулы к увеличению обрядности». Он
отметил, что до реформы каждый из четырех священников Смоленской
церкви в Ленинграде получал от одиннадцати тысяч до тринадцати
тысяч рублей ежемесячно, добавив, что в эту сумму не входили
недекларируемые доходы и что она примерно в десять раз выше
среднего заработка советского гражданина, но теперь церковь платит
духовенству зарплату в размере от ста до пятисот рублей в крупных
городах и от восьмидесяти до двухсот рублей в сельской местности.
Куроедов также привел обзор откликов духовенства на реформы
и доложил, что если большинство относится к новому положению дел
«лояльно», то «более дальновидные» понимают, что реформы ослабили
церковь. Он доложил, что митрополит Краснодарский направил
патриарху письмо, где было сказано: «Переход духовенства на оклады
подорвет инициативу духовенства в исполнении духовных
обязанностей, что будет большим подспорьем в атеистической
пропаганде, которая проводится по всем направлениям. Все это
быстрыми шагами поведет церковь к упадку, и я не вижу мер, которые
могли бы предотвратить это». Более того, докладывали, что один
ленинградский священник сказал: «Теперь мне нет никакой надобности
стараться совершать как можно более треб и надрывать свое здоровье.
Если мы раньше были заинтересованы в проведении ежедневных служб,
то теперь чем меньше этих служб будет, тем нам легче». Другой
священник заявил: «Если бы я мог предвидеть, что буду получать
зарплату 150–200 рублей в месяц, из которых на руки 100–130, я бы
никогда не пошел по этому пути. Став священником, я совершил
большую глупость и теперь думаю, как ее исправить» [740].
Однако вскоре Совет по делам Русской православной церкви
убедился, что даже такие ограничения не стали непреодолимым
препятствием для соблюдения обрядов. В 1962 г. совет собирался,
чтобы обсудить причины стойкости религиозных обрядов и поставить
вопрос, почему административные меры не привели к заметному
снижению жизнеспособности религии [741]. Отмечая неэффективность
как церковных реформ, так и антирелигиозных мер, Совет по делам
Русской православной церкви предположил: причиной того, что
религиозные обряды не исчезли под давлением административных
ограничений, является отсутствие привлекательной социалистической
альтернативы этим обрядам.
Почти повсеместно религиозным обрядам не противопоставляются
яркие, эмоционально насыщенные гражданские обряды. Регистрация
рождений и браков в большинстве случаев проходит буднично,
формально, в неприспособленных помещениях, что не отражает ни
важности, ни торжественности этих событий. Не случайно некоторые
граждане после регистрации актов брака и рождения в ЗАГСах
совершают еще и торжественные религиозные обряды, не являясь по
существу верующими людьми. До сих пор у нас еще не создано
композиторами, писателями, художниками музыкальных произведений,
песен, картин, сценариев, связанных с советскими гражданскими
обрядами [742].
Чтобы решить эти вопросы, Совет рекомендовал, чтобы местные
партийные органы «систематически занимались вопросами исполнения
актов гражданского состояния, организацией и внедрением советских
обрядов, проводя эту работу с учетом национальных особенностей,
местных обычаев и традиций». Более конкретно, совет рекомендовал
местным органам внедрять ленинградскую модель и создавать
обрядовые комиссии — куда должны входить представители партии,
комсомола, местных советов, профсоюзов, общественных организаций
и учреждений культуры, — чтобы помогать ЗАГСам улучшать
процедуру регистрации актов гражданского состояния [743]. В январе
1963 г. Совет по делам Русской православной церкви собрал
расширенное заседание уполномоченных совета, представителей
партии, Министерства культуры СССР, всесоюзного общества «Знание»
и Министерства юстиции РСФСР (в ведении которого находились
отделы ЗАГС), чтобы обсудить «работу по отвлечению населения от
исполнения религиозных обрядов путем внедрения советских
обрядов» [744].
Следует уточнить: утверждения Совета по делам Русской
православной церкви о том, что религия сохраняется, поскольку
«религиозным обрядам не противопоставляются красивые советские
обряды», были удобны, поскольку переносили тяжесть ответственности
за пределы компетенции самого совета [745]. Но эти утверждения
подчеркивают более общий вывод — что атеистический аппарат
в конечном итоге не справился с задачами идеологического обращения.
Это и заставляло заниматься проектом внедрения социалистических
обрядов с особенным рвением, и к концу хрущевской эпохи вопрос
о социалистической обрядности занял заметное место в партийной
повестке — с учетом того, что всего лишь несколько лет назад
партийное руководство пренебрежительно отмахнулось от предложения
Кубриковой ввести социалистические обряды, это говорит о заметных
переменах, происходивших в самом советском идеологическом
аппарате.
От государства к церкви: сакрализация жизни
советского общества
В истории борьбы Коммунистической партии с религией наступил
момент, когда партия начала по-другому воспринимать и религию,
и атеизм. Это произошло в конце 1963 г., когда на заседании
идеологической комиссии ЦК КПСС был поставлен вопрос о том,
почему религия остается частью жизни советского общества, а атеизм
безуспешно пытается отыскать путь в душу советского человека.
Несмотря на явную обеспокоенность перспективами атеистической
работы, партийное руководство по-прежнему оптимистично верило, что
при наличии политической воли и необходимых ресурсов можно будет
исправить ошибки прошлого и атеистический проект наконец-то будет
успешно реализован. Центральную роль в этих планах должны были
сыграть социалистические обряды. Различные инициативы по
«отвлечению» населения от религиозных обрядов и созданию
социалистической обрядности обсуждались еще с конца 1950-х гг., но
только теперь, когда политический истеблишмент начал осознавать,
сколь высоки ставки в конкурентной борьбе с церковью, проект по
внедрению новых обрядов получил политическую поддержку
и ресурсы, позволившие развернуть полномасштабную работу.
В ноябре 1963 г., когда идеологическая комиссия обсуждала
внедрение социалистических обрядов, ее председатель, Ильичев,
предложил представителям разных регионов доложить о достигнутых
результатах. Секретарь Ленинградского горкома партии Юрий
Лавриков рассказал, что в 1959 г. около 25% свадеб и 30% рождений
сопровождались религиозными обрядами, а число похорон по
религиозному обряду было «очень высоким». Когда ленинградские
партийные работники попытались понять, что стоит за этими числами,
они обнаружили, что статистические показатели столь высоки из-за
людей, «которые отправляют религиозные обряды, но, как правило,
в бога не веруют». С «этой категорией людей», по мнению партийных
работников, «можно работать только одним образом: противопоставить
религиозным обрядам наш советский ритуал» [746]. Поскольку
в Ленинграде социалистические обряды уже активно внедрялись
(в 1959 г. был открыт первый Дворец бракосочетаний, в 1962 г. —
второй, а также уже велось переоборудование исторического особняка
в центре Ленинграда под Дворец торжественной регистрации рождений
«Малютка»), Лавриков доложил, что социалистические обряды
изменили ситуацию с соблюдением религиозных обрядов в городе,
поскольку после открытия Дворцов бракосочетаний доля церковных
венчаний упала с 25 до 0,24%, так что, «по существу, церковный обряд
венчания был сведен на нет» [747].
Эти статистические данные произвели впечатление на
идеологическую элиту. Участники встречи признали, что
социалистический свадебный обряд — это несомненный успех
и советские ритуалы действительно смогут стать мощным идейным
оружием. Аудитория забросала Лаврикова вопросами: сколько Дворцов
бракосочетания уже открыто и смогут ли они удовлетворить спрос
населения? А как выглядит обряд регистрации рождения? Что
специалисты, проводящие ритуал, говорят родителям? Что они вручают
родителям в честь появления ребенка на свет? И сколько все это стоит?
В ответ Лавриков заверил, что у социалистического обряда регистрации
рождения также большое будущее. Чтобы проиллюстрировать
ключевые моменты ритуала, Лавриков описал свидетельства
о рождении, выдававшиеся в ходе церемонии, а также специальные
медали для новорожденных, где на аверсе изображен памятник Ленину
на броневике у Финляндского вокзала, а на реверсе начертано
«Родившемуся в Ленинграде» и оставлено свободное место для имени
ребенка[748]. Лавриков также затронул вопрос о денежных затратах,
сообщив аудитории, что церемония регистрации новорожденного стоит
один рубль шесть копеек, причем в стоимость входит медаль
и поздравительная открытка. Ильичев поинтересовался, покрывает ли
эти расходы государство или платить должны родители; Лавриков
ответил, что платят родители, и «с большим удовольствием оплачивают,
кстати говоря». Ответ Ильичева — «Это правильно. А почему нет?
Конечно» — вызвал «оживление в зале». Но Лавриков указал: «Если так
сравнивать с церковными обрядами, мы прикидывали: церковный обряд
крещения ребенка стоит от трех до пяти рублей, это без свечи и прочих
атрибутов, по существу это обходится иногда до 10 рублей, то есть, по
существу, целиком выкачивали довольно значительные суммы только
на совершение обряда крещения». В сравнении с этим
социалистический обряд регистрации новорожденного был
«посильным, недорогим, и очень важным для атеистического
воспитания трудящихся» [749].
В целом, как объяснил Лавриков, ленинградские специалисты
«исходили из того, чтобы создать такой ритуал, который бы мог
эстетически приподнять людей в эту торжественную минуту, т. е. такой
обряд, который бы мог полностью противостоять той пышности,
которой встречают родителей, когда они появляются с детьми
в церкви» [750]. После открытия Дворца «Малютка» число крещений
в городе резко сократилось.
Даже такой был факт: вдруг позвонили из Управления ЗАГСа
Ленинграда и спросили: «Что происходит, почему резко снизилось
в Ленинграде рождение детей?» Это объяснялось очень просто. Люди,
зная о том, что через несколько дней рождение детей будет оформлено
соответствующим образом, с выдачей медалей, воздержались от того,
чтобы зарегистрировать рождение ребенка старым способом
в ЗАГСе [751].
Тем не менее Лавриков отметил, что ритуалы все еще «далеко не
совершенны». Ленинградские партийные работники продолжают
прилагать усилия, чтобы обряды «эстетически отвечали духу нашего
времени», но их огорчает отсутствие направляющих указаний из центра.
Лавриков предложил, что, «поскольку этой работой занимаются во
многих городах СССР, наступило время в государственном масштабе
обобщить эту работу, отобрать все лучшее, наиболее интересное,
наиболее красочное, что появилось в городах нашей страны, с тем
чтобы в государственном масштабе рекомендовать это для внедрения
уже, так сказать, в качестве стабильного, прочного обряда, который бы
мог противостоять церкви» [752]. Чтобы социалистические обряды
действительно смогли «отвлечь» советских людей от церкви, они
должны были координироваться из центра и пользоваться поддержкой
высших правительственных органов.
Ильичев согласился, что социалистические обряды все еще
находятся на начальной стадии развития. Их внедряют эпизодически,
в отдельных местах, и им недостает общего теоретического фундамента.
Например, если в Ленинграде новорожденным вручают медали
с отчеканенной на реверсе надписью «Родившемуся в Ленинграде», то
в Краснодарском крае «медали не дают, но дают текст, письмо
с пожеланиями новорожденному, в котором перечислены все принципы
кодекса строителя коммунизма» [753]. Эта идея — вручать
новорожденным письма с текстом «Морального кодекса строителя
коммунизма» — вызвала смех идеологической элиты, собравшейся
в конференц-зале, но Ильичев напомнил им, что на кон поставлено
многое. Действительно, примечателен сам по себе факт, что партийные
бюрократы собрались на совещание, чтобы обсуждать в мельчайших
деталях, как на социалистический лад отмечать рождение ребенка.
Советский идеологический истеблишмент начал осознавать опасность
проигрыша в состязании с религией. Как заключил Алексей Пузин
(1904–1987), глава Совета по делам религиозных культов, «вопрос
о детях — это вопрос о жизни и смерти церкви. Церковь умрет, если ей
не удастся овладеть душами подрастающего поколения» [754].
Справедливо, разумеется, было и обратное — вопрос о детях является
вопросом жизни и смерти коммунистического проекта; поэтому вставал
вопрос о том, что может означать неудача внедрения социалистических
обрядов не только для советского атеизма, но и для советской
коммунистической идеологии в целом.
Социалистический обрядовый комплекс, родившийся в ходе
дискуссий в идеологической комиссии ЦК КПСС, был узаконен двумя
вскоре изданными постановлениями: одно из них исходило от ЦК,
а другое — от Совета министров РСФСР. Постановление ЦК КПСС от
2 января 1964 г. «О мероприятиях по усилению атеистического
воспитания населения» было направлено на улучшение атеистической
работы, важной составной частью которой считались социалистические
ритуалы. В свою очередь, постановлением Совета министров РСФСР от
18 февраля 1964 г. «О внедрении в быт советских людей новых
гражданских обрядов» учреждался центральный орган, который должен
был руководить проектом создания и внедрения социалистической
обрядности [755].
Цели, заявленные в постановлении о «новых гражданских обрядах»,
как и учреждение Совета по разработке и внедрению в быт новых
гражданских обрядов, красноречиво свидетельствовали о масштабах
проекта. Совет, сформированный под эгидой Министерства юстиции
РСФСР (курировавшего работу органов ЗАГС), возглавили юрист
Алексей Круглов, председатель Юридической комиссии Совета
министров РСФСР, и Николай Белык, сотрудник отдела ЗАГСов
Юридической комиссии Совета министров РСФСР [756]. Состав совета
был впечатляющим: в него вошли представители партийных органов,
правительства, учреждений культуры, в том числе Министерства
культуры РСФСР, Министерства коммунального хозяйства РСФСР,
Союзов писателей, композиторов и художников РСФСР,
Всероссийского театрального общества и Комитета по кинематографии
при Совете Министров РСФСР [757]. Постановление поручало
образовать при местных Советах депутатов трудящихся общественные
комиссии по гражданским обрядам и «активизировать» работу
имеющихся добровольных комиссий «по контролю за соблюдением
законодательства о культах». Региональные органы власти должны
были предоставить отделам ЗАГС «благоустроенные» помещения для
проведения обрядов, такие как дворцы и дома культуры, клубы, залы
заседаний, а также предусматривать в проектах планировки и застройки
городов строительство «Дворцов счастья». Министерство торговли
РСФСР было обязано создать «специализированные магазины» по
продаже товаров для новобрачных — свадебных платьев, костюмов,
обручальных колец и прочего, а Совет народного хозяйства РСФСР
должен был рассмотреть вопрос о расширении производства таких
товаров. Министерству охраны общественного порядка РСФСР
поручалось разработать церемонию вручения первого паспорта.
Госплан РСФСР был обязан предусмотреть выделение 55,9 тонны
бумаги ежегодно на изготовление актовых книг для записи актов
гражданского состояния. Постановлением Совета Министров РСФСР
также поручалось региональным органам власти привести в порядок
кладбища и «улучшить организацию гражданских похорон».
Министерство коммунального хозяйства РСФСР и Государственный
комитет по делам строительства РСФСР (Госстрой) должны были
совместно разработать типовые проекты «траурных павильонов»,
а вместе с Госпланом — рассмотреть вопрос об «изготовлении
необходимых предметов похоронного ритуала». Государственному
комитету Совета министров РСФСР по кинематографии было поручено
в наступающем году снять три короткометражных фильма на данную
тему и «регулярно отражать в киножурналах проведение
торжественных гражданских обрядов» [758].
На начальных этапах создания социалистических обрядов заметную
роль играло Министерство культуры РСФСР; его задачи состояли в том,
чтобы «обеспечить активное участие учреждений культуры
в организации и проведении народных праздников и внедрении
современных обрядов», освещать опыт внедрения новых обрядов
в журналах «Культпросветработа» и «Библиотекарь» и совместно
с Союзом композиторов и Союзом писателей РСФСР участвовать
в создании «обрядового репертуара». Министерство культуры РСФСР
организовало Первый Всесоюзный совещание-семинар по советским
обрядам в Москве в мае 1964 г. На этот семинар под председательством
Владимира Степакова (1912–1987) — одного из «кураторов» вопросов
религии и атеизма в ЦК КПСС — приехали специалисты со всей
страны, чтобы представить общественности проекты социалистических
обрядов [759]. Министерство развило бурную деятельность: для
проведения обрядов создавались любительские и профессиональные
художественные коллективы; для распространения новых обрядов
формировались советы и добровольные группы; для анализа успехов
и неудач новой кампании учреждались комиссии в составе
пропагандистов атеизма, социологов и этнографов. Едва лишь партия
провозгласила, что распространение социалистических обрядов
является приоритетной политической задачей, как эти обряды возникли
повсюду — что было типично для проводившихся в СССР кампаний.
Одним из наиболее примечательных аспектов партийной кампании
по «изгнанию пережитков прошлого из быта и семейных отношений»
была амбициозность ее целей. Это проявлялось не только
в предполагаемых масштабах внедрения социалистических обрядов
и размерах ресурсов, мобилизованных на нужды кампании, но и в том
факте, что, согласно постановлению Совета министров РСФСР, от
Совета по разработке и внедрению в быт новых гражданских обрядов
требовалось представить свои предложения по проведению
социалистических обрядов в трехмесячный срок после создания совета.
Конечной целью проекта по созданию социалистических обрядов было
формирование эмоциональной связи с каждым советским человеком от
колыбели до могилы [760]. Сфера публичных обрядов расширялась по
мере того, как государственные, профессиональные и календарные
праздники становились все более значимой частью жизни советского
общества. Первая и наиболее развитая категория обрядов, связанных
с государственными праздниками, уже стала центральной частью
советской культуры; важнейшими событиями советского календаря
были празднования годовщины Октябрьской революции и Дня
международной солидарности трудящихся 1 мая. В 1960-е гг. к этим
массовым праздникам были добавлены годовщины памятных дат
патриотического нарратива — наиболее значимым было 9 мая, День
Победы в Великой Отечественной войне [761].
Ил. 15. Торжественный акт регистрации новобрачных «Крепкая семья
—
крепкое государство» во Дворце культуры им. М. Горького. Москва,
4 июня 1977 г. Фото А. Ашкинейзера. ЦГА Москвы. Арх. No 0-30538
Более широкое распространение получила и вторая категория
публичных праздничных обрядов, связанных с трудовой деятельностью,
поскольку теперь создавались церемонии, призванные отмечать каждый
этап трудовой карьеры — от вступления в ряды рабочего класса до
вручения наград за профессиональные достижения, чествования
семейных «трудовых династий» (нескольких поколений семьи,
трудившихся на одном предприятии) и проводов на пенсию.
В календаре были отведены специальные дни, объявленные
праздниками людей определенных профессий (от учителей и врачей до
шахтеров и космонавтов), а трудовые коллективы непрерывно
участвовали в «социалистическом соревновании», чтобы добиться
славы для своего предприятия и привилегий для его работников.
По существу, задача профессиональных праздников в поздний
советский период заключалась в том, чтобы еще глубже вплести
трудовую деятельность в ткань человеческой жизни, превратив род
занятий в стержень личностной идентичности, — и это подчеркивалось
еще одним новым явлением: указанием профессии умершего на
надгробии. В 1970-е гг. возникла практика изображать на надгробиях не
только героический труд полководцев в военной форме или
космонавтов в шлемах, но и трудовую деятельность людей не столь
героических профессий — ученых со своими приборами, докторов
в белых халатах, геологов с полевым оборудованием,
а профессиональных спортивных тренеров — с хоккейными клюшками,
пересекающими надгробие. Публичные обряды третьей категории,
связанные с календарным циклом, вводились, чтобы вытеснить
религиозные праздники (такие, как Рождество, Пасха или Троица)
обрядами, знаменующими смену времен года и цикл
сельскохозяйственных работ; при этом акцентировалось языческое
происхождение и фольклорные элементы календарных праздников,
а также священный характер сельскохозяйственного труда.
Ил. 16. Перед началом торжественной регистрации новорожденных
во «Дворце счастья». Москва, конец 1950-х гг. Автор: Московский Дом
научного атеизма. ЦГА Москвы. Арх. No 1 -52311
Но наиболее впечатляющим было создание и распространение
советских обрядов перехода, которыми должен был сопровождаться
каждый значимый момент жизни человека и его семьи . Для регистрации
новорожденных были тщательно разработаны церемонии
символического принятия младенца в советское общество (см. ил. 16).
Жизнь детей и подростков была отмечена многочисленными ритуалами
перехода. Они начинались с «первого звонка» — праздничного начала
школьного обучения, продолжались торжественным вступлением
в ряды детских и юношеских коммунистических организаций
(в октябрята, пионерскую и комсомольскую организации)
и завершались церемонией вручения паспорта, когда, получив свой
первый советский паспорт, молодые люди становились полноправными
гражданами советского государства (см. ил. 17). Молодожены могли
теперь заключать брак в соответствии с новым социалистическим
ритуалом, в церемониальном пространстве, созданном специально для
таких случаев, — Дворце бракосочетаний или Дворце счастья. Там
сотрудник ЗАГСа, облаченный в особую церемониальную одежду
и прошедший специальную подготовку, чтобы придать событию
требуемую торжественность, напоминал жениху и невесте
о серьезности их шага. После этого новобрачные могли обменяться
кольцами, поцеловаться и расписаться в официальной актовой книге —
что означало правовое признание государством их союза. По окончании
официальной церемонии обряд продолжался: новобрачные посещали
наиболее важные исторические места города, имевшие патриотическое
значение, такие как памятник Ленину, Вечный огонь, Могила
неизвестного солдата. Если семейный союз оказывался прочным, пара
могла торжественно отмечать его важные вехи, например серебряную
и золотую годовщины свадьбы.
Ил. 17 . Торжественное вручение советского паспорта. Москва, конец
1950-х гг. ЦГА Москвы. Арх. No 1 -52306
В начале кампании по внедрению новых обрядов оптимизм
идеологической элиты в отношении того, что социалистические
ритуалы смогут решить идеологические проблемы, в том числе
проблему религии, не знал границ. Годом позже, когда Совет по
разработке и внедрению в быт новых гражданских обрядов собрался на
недельную конференцию, чтобы оценить успехи кампании, настроение
стало более сдержанным. Как доложил сопредседатель совета Белык, за
год, прошедший с момента его создания, на территории РСФСР было
учреждено 148 общественных комиссий по гражданским обрядам,
докладывавших совету о своей работе; с их помощью совет мог
внедрять и координировать новые инициативы. Совет также подготовил
предложения по проведению официальных церемоний регистрации
новорожденных, свадьбы и вручения паспорта и начал работу над
социалистическим похоронным ритуалом. Совместно с Госстроем
РСФСР совет разработал архитектурные проекты Дворцов счастья,
которые следовало воздвигнуть по всей стране и использовать для «всех
событий в личной жизни советского человека» [762]. Местные органы
власти поддерживали в порядке кладбища и начали работу над
возведением социалистических траурных павильонов, а Госплан
РСФСР выделил для использования на похоронах сто автобусов.
Совет также рассматривал вопросы о материальных атрибутах
социалистических обрядов, например об оформлении свидетельств
о браке и униформе для служащих, проводящих ритуалы. Для «создания
торжественной обстановки при совершении новых гражданских
обрядов» совет считал «необходимым ввести государственный знак для
должностных лиц, совершающих обряды бракосочетания, регистрации
рождения», например герб своей республики [763]. Но Белык также
отметил трудности с обеспечением материальной базы ритуалов.
Например, чтобы выпустить красивые свидетельства о браке, в проекте
должны были участвовать художники и государству необходимо было
выделять больше средств (шестьсот тысяч рублей дополнительно
каждый год) для покрытия расходов ЗАГСов. Более того, как отметил
Белык, «не очень это легкое дело, изготовить государственный
документ, который удовлетворял бы художественный вкус многих
художественных советов и отвечал бы требованиям, которые
предъявляются к государственным документам» [764]. Белык несколько
раз привлекал внимание к тому факту, что, пока «церковь в связи
с внедрением новых гражданских обрядов принимает меры
к совершенствованию своих ритуалов, улучшает состав хоров,
модернизирует обряды крещения и венчания, вводит заочное отпевание
умерших», творческая интеллигенция не участвует в проекте создания
новых обрядов. В результате социалистические ритуалы имеют «слабую
эмоциональную насыщенность» [765]. Киностудии не снимают
достаточно фильмов о новых обрядах, а «маститые» композиторы
избегают участия в создании обрядовой музыки. Совет направлял
в адрес Союза композиторов два письма с просьбой о помощи
в создании музыки для ритуала социалистических похорон, но письма
остались без ответа. «Мы, конечно, понимаем, что творчество — вещь
тонкая и очень сложная, — посетовал Белык. — Но, видимо,
в правлении Союза композиторов есть коммунисты, которые должны
понять, что нам трудно без них, без опытных людей создать хороший
ритуал гражданских панихид» [766].
Чтобы устранить этот дефицит творческих сил, совет обратился
к Министерству культуры, которое стало проводить конкурсы на
лучшие проекты новых социалистических обрядов [767]. Но в конечном
итоге, настаивал Белык, может потребоваться давление со стороны
партии. «Крайне необходимо в настоящее время указание партийных
органов творческим союзам с тем, чтобы заставить правление союзов
писателей, композиторов, художников более активно работать над
обрядовыми темами». Без творческой интеллигенции, предупреждал он,
будет трудно создать привлекательные обряды и подготовить
специалистов по проведению ритуалов, владеющих «мастерством
художественного слова» [768]. Проблема заключалась не только
в количестве, но и в качестве кадров. Администраторы ЗАГС
жаловались, что им не хватает «сил» для проведения социалистических
церемоний при регистрации рождений, поскольку во многих районных
отделах ЗАГС работает только один сотрудник, и даже там, где
несколько сотрудников, они не готовы проводить новые обряды, потому
что их «на протяжении многих лет никто не обучал, как надо проводить
ритуал в дворцах бракосочетания и ЗАГСов» [769].
Очень разные промежуточные результаты кампании по созданию
социалистической обрядности показали, что цели проекта
интерпретировались неодинаково, его внедрение зависело от энтузиазма
и возможностей местных кадров, а также от того, насколько новые
обряды соответствовали местной культуре. В Ярославской области,
известной высоким уровнем религиозности и плотной сетью церквей,
высокие показатели соблюдения обрядов (в 1960 г. было крещено 60%
новорожденных, а в некоторых районах их доля достигала 78–80%)
снизились после того, как местные активисты стали внедрять
социалистические ритуалы. Как сообщил Совету по разработке
и внедрению в быт новых гражданских обрядов партийный функционер
из Ярославля, «отчитываясь перед патриархом в конце 1964 года, новый
Ярославско-Ростовский архиепископ Сергий вынужден был
констатировать, цитирую: „К сожалению, надо отметить, наблюдается
интенсивное развитие отсутствия религиозности епархии. Это можно
подтвердить на уменьшении таинств венчаний и крещений, особо
таинства крещения“» [770].
Сотрудник атеистического аппарата из Краснодара, Сидоров,
докладывал, что местные пропагандисты атеизма в 1963 г. создали совет
по социалистическим обрядам. Как рассказывал Сидоров,
Понятно, что в начале мы столкнулись с определенными трудностями.
Было не ясно, кто на местах должен практически осуществлять работу
по внедрению новых обрядов, люди еще не были психологически
подготовлены к этому, наши идейные противники через фанатично
верующих старались оказать влияние на молодых людей и таким
образом противодействовать нашим мероприятиям. Одна женщина из
города Новороссийска рассказывала, что с ней беседовала верующая
старушка, которая предупреждала: «Имей в виду, не ходи в клуб и не
крести там ребенка, это крестит сам сатана» [771].
Но постепенно в результате деятельности советов «в большинстве
городов и сел стало традицией проводить в торжественной обстановке
регистрацию новорожденных, бракосочетания, дни памяти погибших
и умерших, получение первой зарплаты, присвоение звания рабочего
или хлебороба и т. д.» в соответствии с новыми социалистическими
обрядами. Чтобы нанести «наибольший ущерб интересам защитников
религии», совет сосредоточил свое внимание на церемонии регистрации
новорожденных, «так как позиции церкви особенно сильны в этой
части»[772]. С тех пор как совет начал работать, продолжал Сидоров,
«стали крайне редкими церковные венчания; этот религиозный обряд
скоро вообще исчезнет из жизни», а доходы Краснодарской епархии
сократились на 21% [773]. Сидоров также пояснил, что работа совета не
ограничивается официальной регистрацией актов гражданского
состояния; ее продолжением служат попытки местных пропагандистов
атеизма «повлиять на проведение самого свадебного гуляния», чтобы
там не было «старинных традиций, привычек, укоренившихся на
Кубани, которые унижают достоинство советского человека» [774].
«Ведь не секрет, — отмечал Сидоров, — получается иногда так:
провели торжественную регистрацию новобрачных, а молодых дома
старухи и старики встречают с иконами, и все идет по-старому, по
религиозному». В соответствии с обычаем, рассказывал Сидоров,
местные жители могут «залезать на крышу и садиться на трубу, когда
топится печь и идет приготовление к свадебному угощению (заставлять
хозяев откупиться водкой), рядиться в костюмы цыган и стрелять кур на
третий день свадьбы, купать родителей новобрачных в лужах или катать
их в снегу, чтобы они откупились». Чтобы искоренить эти «дикие
обычаи», члены совета перед свадьбой встречаются с женихом
и невестой и их родителями для обсуждения деталей социалистического
обряда, и если те отказываются изгнать эти «неприемлемые обычаи», то
совет может сообщить им, что тогда не будет новой социалистической
свадьбы [775]. В то время как часть пропагандистов атеизма стремилась
вписать «народные обычаи» в социалистические обряды, чтобы придать
новым ритуалам большую «аутентичность», другие пропагандисты —
что показывает пример Краснодара — рассматривали социалистические
обряды как дисциплинарный инструмент изгнания пережитков «старого
быта».
Но самым поразительным компонентом проекта внедрения
социалистических обрядов было то, что идеологическая элита открыто
говорила об обрядах как о состязании между «нами» (партией,
атеистическим аппаратом и атеистами) и «ими» (религиозными
учреждениями, духовенством и верующими). Как сформулировал один
кадровый работник,
посмотрите, насколько все продумано в христианской религии!
Возьмите обрядность: человек родился, его крестят; начинает учиться,
обряд, живет дальше, свадьба, опять обряд, исповедь, похороны, то есть
человек постоянно находится под влиянием церкви. А какое наше
воздействие на наш народ, как мы эту часть продумываем? Поскольку
я сам атеист, могу сказать, что... у нас не продумана единая система
в этом. Почему? Если человек родился, мы ему что-то должны сделать
приятное, дать ему программу какую-то, чтобы она потом служила ему
руководством, чтобы этот молодой человек подрастал и видел, что ему
кто-то написал это письмо и он не должен забывать о нем. И когда этот
паренек подрастет, станет совершеннолетним и пойдет получать
паспорт, то при вручении паспорта в торжественной обстановке ему
напомнят, как он выполнял эту программу. И потом, когда этот человек
становится совершеннолетним, мы ведь опять будем с ним встречаться
при его бракосочетании. В этой части наше влияние будет от рождения
до конца жизни человека. В этой части у нас не все продумано [776].
Но если в христианстве все это вырабатывалось в течение многих лет,
то атеистическая работа ведется нерегулярно, урывками, и, чтобы
должным образом воздействовать на формирование научно-
атеистического мировоззрения, ей недостает «системы» [777].
В Курской области крещено было 50% новорожденных и только 19,5%
были зарегистрированы в соответствии с социалистическим обрядом.
В Ярославской области, где церкви «работают очень напряженно»,
в одном из районов доля крещеных младенцев достигла 118,8% — это
означало, что районное духовенство крестит не только местных
новорожденных, но также новорожденных из других районов или же
детей, которые не были крещены в первый год жизни [778].
Не все доклады были столь мрачными. Тем не менее в поздний
советский период, по мере осуществления проекта внедрения
социалистической обрядности, идеологическая элита все больше
сомневалась в том, что новые обряды помогут достичь целей
атеистической пропаганды.
Что за крестиком?
В октябре 1981 г. редакция «Известий» попросила Эдуарда
Филимонова, заместителя директора Института научного атеизма,
подготовить ответ на письмо советского гражданина, просившего
прояснить статус религии и религиозных обрядов в советском обществе.
Автор письма, П. Ковалев, вспоминал, что, когда он был ребенком, его
бабушка со своими подругами ходила в церковь, но его удивляло,
«почему даже некоторые комсомольцы и члены партии крестят своих
детей». Даже если «двурушничество» такого поведения было очевидно,
Ковалев не был уверен, как понимать «так называемую „моду“ на
крестики и иконы, которыми украшают иные люди „красные углы“
своей квартиры». Мода ли это, задавался он вопросом, или пробел
в воспитании советской молодежи? Эти вопросы, как писал Ковалев,
«волнуют» его. Тем не менее еще больше его волновало, что когда он
пытался поднимать эти темы в кругу своих друзей и знакомых, «у иных
это вызывает улыбку. Пустяки, мол» [779]. Письмо Ковалева — и его
публикация в «Известиях», что, возможно, не менее значимо —
свидетельствовали как об изменении отношения советского общества
к религии, так и о растущем замешательстве идеологических
работников по поводу того, как понимать эти перемены и в каком свете
представить их общественности.
Ответ Филимонова на письмо Ковалева свидетельствует об этой
двойственности. Филимонов заверил Ковалева, что «в развитом
социалистическом обществе» атеизм «стал одной из неотъемлемых черт
духовного мира советского человека», даже если все еще есть люди,
которые не могут «овладеть научно-материалистическим
мировоззрением». В то же время «нельзя не согласиться с автором
письма», что «в нравственном воспитании нашей молодежи налицо
определенные пробелы». Для некоторых атеистические знания, которые
они получили в школе, «не превращаются в твердые убеждения» и не
сопровождаются «выработкой активной жизненной позиции по
отношению к религии и ее традициям». Вместо картин или эстампов
светского содержания юнцы вешают на стены иконы, носят крестики,
посещают «памятники старины, носящие культовый характер» и читают
книги об иконописи и церковной архитектуре — все это модничающая
советская молодежь считает признаками «хорошего тона». Таким
образом, даже если оживление интереса к религии имело место на
самом деле, Филимонов заверял Ковалева, что это надо воспринимать
не как свидетельство религиозных убеждений или признак
«религиозного возрождения», но скорее как нездоровую моду. Он
рассказал, что в результате социологических исследований было
сделано «парадоксальное» открытие: среди тех, кто крестит своих
детей, верующие составляют меньшинство. «Иными словами,
отправляют этот религиозный обряд, оказывая материальную
и моральную поддержку церкви, те, кто, как говорится, ни в бога, ни
в черта не верит». Те, кто крестит своих детей, разъяснял Филимонов,
не верят в бога или сверхъестественные силы, негативно относятся
к церкви и религии как учреждениям, но видят в крещении «красивую
народную традицию». Крещение для них — это «игра, представление»,
просто повод для застолья, и «никто не задумывается над тем, что этот
обряд, какие бы новшества ни вводило в него духовенство, остается
религиозным обрядом, утверждающим идеи греховности, ничтожества
человека перед богом... Иначе говоря, идеи, несовместимые
с моральными принципами и нормами советского образа жизни»[780].
Но Филимонов разъяснял, что даже если эта новая религиозность не
является признаком религиозных убеждений советской молодежи, она
говорит об «известной мировоззренческой сумятице в головах
некоторых молодых людей, о безвкусице, точнее, о мещанских вкусах,
о том, что теперь принято называть модным словом — кич».
Большинство этих юнцов «усматривают в крестике лишь предмет
красоты», не связанный с христианством. Более того, «эти молодые
„крестоносцы“... убеждены, что мода никакого отношения
к убеждениям человека, к его мировоззрению не имеет». Поэтому даже
если их религиозность не говорит о религиозном возрождении, она
свидетельствует об их духовной пустоте. Как сформулировал
Филимонов, «за крестиком явно просматривается нолик —
нравственный, духовный». Показательно, что, обсуждая место
и значение обрядности в советском обществе, Филимонов лишь
однажды бегло упоминает социалистическую обрядность, отмечая, что
даже если социалистическим обрядам «порой не хватает
эмоциональности, эстетической привлекательности», они все же
«способствуют вытеснению» религиозных обрядов «из семейно-
бытовой сферы» [781].
Ил. 18. В. Кюннап. Стихи В. Алексеева. У беспринципных — не секрет
—
/ Есть тоже принцип вроде: / Удобно — скажут «Бога нет!» / Удобно
—
в церковь сходят. Плакат. Л .: Художник РСФСР, 1975.
Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург
Творческая интеллигенция тем не менее в лучшем случае двойственно
относилась к проекту создания социалистической обрядности и, более
того, даже критиковала новые ритуалы в прессе. Самым ярким
образцом этой критики стал очерк «Бумажные цветы» А. Петухова
(1969) [782]. Петухов ясно выразил свое неоднозначное отношение
к новой обрядности. Он указывал, что с самого начала не было согласия
по вопросу о том, какую цель преследует введение этих обрядов. Если
для одних введение социалистических обрядов объяснялось ростом
материального благосостояния и культурного уровня населения, то для
других обряды были существенной частью человеческой жизни,
поскольку без них жизнь становится «обыденной, выщелоченной,
прозаически серой». Третьи, продолжал Петухов, видят в обрядах
способ решения самых разных социальных проблем, от алкоголизма
до исхода советской молодежи из деревни. Короче, иронически отмечал
Петухов, «праздники, обряды кажутся чуть ли не универсальным
средством разрешения сложнейших социальных проблем». Петухов
признавал великую силу обрядов, «которые выработаны многими
поколениями», но сомневался в эффективности новых
социалистических обрядов, которые «совсем недавно порождены
фантазией и волей отдельных энтузиастов» [783]. Он задавался
вопросом, как судить об успехе новых социалистических обрядов.
Определяется ли успех тем, что обряд привлекает большую аудиторию,
а если это так, чем он отличается от любого другого «организованного
представления», например от концерта, КВН или даже гастролей
выездного цирка? Или, чтобы обряд стал чем-то большим, чем просто
спектакль, люди должны стать его участниками? Наконец, Петухов
подчеркивал, что зачастую «такие праздники срывались, не получались,
и, как неудавшийся концерт, вызывали у людей чувство досады,
неудовлетворенности, разочарования». «Продуманный»
социалистический обряд, созданный специальной комиссией
и внедренный «сверху», — это «еще не обряд, а всего лишь
инсценировка, спектакль, который, может быть, интересен и даже
красив, но не больше» [784]. В любом случае, заключал Петухов, эти
«изобретения и „возрождения“» обрядов «не накладывают сколь-нибудь
заметного отпечатка» на жизнь и быт советского народа, который
«с равнодушным спокойствием воспринимает перенасыщенные
„воспитательными моментами“ новшества, и лишь усмехается, дивясь
наивности тех, кто таким способом надеется убить сразу двух зайцев:
и украсить нашу „обыденную, выщелоченную, прозаически серую“
жизнь, и заодно очистить сознание людей от пережитков
прошлого» [785].
В другой статье писатель Леонид Жуховицкий говорил о том, что
если церковное венчание вызывало «достаточный пиетет», то форма
регистрации гражданских актов является «достаточно нелепой».
Описывая недавно просмотренный им короткометражный фильм
о новой советской свадебной обрядности, он отметил, что большую
часть времени зрители в кинозале смеялись «не громко, не весело —
скорее от неловкости» [786]. Более того, этнограф Юлиан Бромлей
(1921–1980) привлек внимание к потребительскому характеру новых
социалистических обрядов. Советская свадьба «с сотнями
приглашенных», доказывал он, превращается в «мещанскую погоню за
престижем, стремление „переплюнуть“ соседей, знакомых пышностью
и расточительностью». Советские люди, продолжал Бромлей, тратят на
организацию такой свадьбы все свои сбережения, даже влезают в долги,
которые потом выплачивают годами. Он также выражал недоумение по
поводу причин живучести обряда крещения. Вроде бы, писал он, этот
обряд «не содержит в себе ничего привлекательного для наших
молодых современников»; он негигиеничен и опасен для здоровья
ребенка — «а все же крестят детей многие». Наконец, подчеркивал
Бромлей, особую «опасность» для коммунистического мировоззрения
представляет смерть. «Это событие, как никакое иное, остается
областью самого острого столкновения с религией», отмечал он,
поскольку «порой дело доходит даже до пересмотра мировоззренческих
установок у близких умершего»[787].
К концу 1970-х гг. вера в преобразующий потенциал
социалистических обрядов сошла на убыль. Некоторые причины этого
отметил Филимонов: говоря о том, что социалистическим обрядам
недостает эстетической притягательности, он просто повторял
критические доводы, ставшие к тому времени расхожими. Кроме того,
творческая интеллигенция никогда по-настоящему не участвовала
в этом проекте, судьба которого была вверена энтузиастам-любителям
и чиновникам, занимавшимся вопросами идеологии и культуры.
Фактически творческая интеллигенция все более явно выражала свой
скептицизм не только по отношению к стратегиям внедрения
социалистических ритуалов, но и относительно самой цели проекта
создания новой обрядности — «вытеснения» религиозных обрядов из
повседневной жизни советских граждан. Наконец, по мере того как
партия продолжала развивать этот проект, а социалистические ритуалы
распространялись все шире, возникла более сложная проблема.
К большому разочарованию идеологической элиты, советские люди
приняли новые социалистические ритуалы, но не взамен религиозных
обрядов, а в дополнение к ним.
Заключение
Начиная с хрущевской эпохи, партия выделяла гигантские ресурсы
и мобилизовывала специалистов на ритуализацию всех сфер жизни
советского человека. Государство, в 1950-е гг. задавшееся вопросом,
почему советские люди вообще испытывают потребность в обрядах,
в конце концов стало создавать собственный обрядовый комплекс,
который должен был охватить всю полноту человеческого опыта.
К концу советского периода многие социалистические ритуалы стали
важной частью жизни советского общества — настолько, что сейчас
трудно даже представить без них жизнь советских людей. Однако
принятие и повсеместное распространение новых обрядов скрывают
историю их своеобразного происхождения. Создание социалистических
обрядов было особым государственным проектом, который
разрабатывался специальными комиссиями, образованными для
распространения этих обрядов среди многочисленных и несхожих друг
с другом народов СССР. Проект создания социалистической обрядности
должен был решить конкретные идеологические задачи: изгнать
религию из жизни советского общества, чтобы сформировать
определенный образ жизни, общий для всех советских людей [788].
Советские теоретики атеизма первоначально видели
в социалистических обрядах лучшее средство решить проблему
религии, против которой оказались бессильны и политические
репрессии, и административные ограничения, и научно-
просветительская работа. Но теоретики видели в обрядах не просто
инструмент политической социализации; многие из них расценивали
обрядность как феномен, выполняющий важные социальные
и духовные задачи, которые до сих пор не смогла решить
коммунистическая идеология. Борясь за преодоление религии, они
поняли, что людей связывает с религией не только вера, но
и эстетические, психологические, эмоциональные, социальные
и духовные компоненты религиозного опыта. В результате теоретики
атеизма стали считать преобразующую мощь обрядов центральным
звеном в формировании атеистического мировоззрения
и социалистического образа жизни — и потратили огромные ресурсы на
то, чтобы вплести новые обряды в жизнь советского общества.
Но социалистические обряды так никогда и не оправдали
возлагавшихся на них ожиданий. Было ясно, что даже когда они
приживались как ритуалы — то есть распространялись повсеместно, как
в случае социалистической свадьбы, — они все же не смогли стать
мощным антирелигиозным оружием. Вместо того чтобы воспитать
атеистическую убежденность, они выявили идейную гибкость
советских людей. Несмотря на широкое распространение многих
социалистических обрядов, пропагандисты атеизма чувствовали, что
они проигрывают свою битву с религией. У религии были свои
учреждения, подготовленные кадры, понятная идеология, эстетическая
привлекательность и устоявшиеся традиции, тогда как атеисты лишь
начинали свои эксперименты.
Глава 7
Социалистический образ жизни: советский
атеизм и духовная культура
Религия... должна опираться на достоверность; ее цель, воздействие,
обряды падут, как только исчезнет в душе твердое убеждение в их
истинности.
Пьер Бейль. Исторический и критический словарь [789]
В 1969 г. Владимир Тендряков — самый известный атеист-
общественник среди творческой интеллигенции — навлек на себя гнев
ЦК КПСС из-за повести, которую он опубликовал в журнале «Наука
и религия». Повесть, озаглавленная «Апостольская командировка»,
была посвящена духовному кризису советского молодого человека
в конце 1960-х гг. [790] Протагонист, чей возраст близится к сорока
годам, пишет статьи для научно-популярного журнала и живет с женой
и дочкой в отдельной квартире в Москве. Он представляет собой
архетип советской городской технической интеллигенции позднего
советского периода: молодой, образованный, материально
обеспеченный — воплощение советской мечты. Но при этом, как
определяет Тендряков, его герой — «духовный инвалид». Протагонист
отвергает свои профессиональные, социальные и семейные обязанности
и решает покинуть Москву, чтобы пуститься в духовное странствие
с неизвестным пунктом назначения. Впервые мы видим героя в очереди
за железнодорожным билетом на одном из московских вокзалов.
По ходу ожидания он видит идущего по улице паренька-хиппи,
у которого к лодыжке привязана консервная банка; люди в очереди
называют прохожего «тунеядцем», а протагонист молчит, поскольку
у него есть собственная тайна: он стал верующим. Хотя он не
выставляет свою тайну напоказ и не привязывает ее к лодыжке, тем не
менее он чувствует внутреннее родство с «тунеядцем» и признает его
своим духовным «родственником», так как им обоим нет места
в официальном советском нарративе. Протагонист из повести
Тендрякова воплощает собой самые заветные ценности советского
проекта, но отвергает их в пользу воображаемого «другого» по
отношению к коммунизму: религии. Он — это новый советский
человек, вывернутый наизнанку.
К духовному кризису рассказчика привело осознание, что ему чего-
то недостает: трансцендентной нравственной и духовной опоры, чтобы
вместить и простить человеческую слабость. Это осознание
кристаллизуется после того, как соседка по подъезду Риточка,
раздражающая членов домового комитета своей бурной — и постоянно
выносимой на публику — личной жизнью, просит рассказчика
выступить в ее защиту на близящемся товарищеском суде, где будут
разбирать ее аморальное поведение. Вместо того чтобы проявить
сочувствие и поддержку, рассказчик ничего не предпринимает, а на
следующий день узнает, что Риточка покончила с собой. Рефлексия над
собственной моральной трусостью — «Шофера, сбившего ребенка,
судят: не успел нажать на тормоз, а мог бы. Мог бы и я затормозить» —
доводит молодого человека до духовного кризиса, который в конце
концов заставляет его купить билет в один конец из советской
жизни [791]. Любопытно, что именно от Риточки мы узнаем имя
рассказчика: Юрий.
Переживаемый Юрием духовный кризис тем не менее имеет более
глубокие истоки, чем его роль в несчастливой судьбе Риточки. Кризис
начинается, когда рассказчик и его жена, бенефициарии хрущевской
кампании жилстроительства, получают собственную отдельную
квартиру. Обретенный материальный комфорт, вместо того чтобы
принести герою удовлетворение, порождает новые ожидания
и дальнейшие неудовлетворенные желания. Рассказчик втягивается
в погоню за повседневными нуждами — мебелью, отделкой квартиры,
проектами благоустройства жилья, — но он больше не понимает цели
этих непрестанных усилий. Ощущая отчужденность и подавленность,
Юрий начинает задаваться вопросами о причинах своей духовной
опустошенности и задумываться, может ли быть в жизни что-то
большее, чем карьерный рост и материальное благополучие.
Поиски смысла приводят Юрия в маленькую деревушку
в российской глубинке, где он снимает койку в доме пожилой
женщины, у которой единственная отрада в жизни — тоже
несчастливой, но на иной лад, — религиозность. Продолжая поиски
истины, он вступает в споры и с молодым деревенским священником,
и с местной религиозной «фанатичкой» (которая из-за попытки
остановить разрушение сельской церкви в годы сталинской культурной
революции провела двадцать лет в лагерях). Юрий проводит дни
в колхозе, копая строительные котлованы и пытаясь объяснить
озадаченным колхозникам, почему он отверг комфорт советской мечты,
чтобы заниматься физическим трудом в глухой деревне. Тот же вопрос
он задает самому себе, но не может найти адекватный ответ и через
несколько недель возвращается в Москву, осознав, что религия не
может дать ответы, которых он ищет.
Возвратив в финале Юрия в лоно советской жизни, Тендряков, на
первый взгляд, последовал мастер-нарративу советской
коммунистической идеологии, но тем не менее вызвал неодобрение
руководства Коммунистической партии. С партийной точки зрения
биографическая траектория героя Тендрякова — который совершает
путь из города в деревню, от современности к отсталости, от знания
к вере, — ставила под вопрос прогрессистские цели советского
коммунистического проекта, а финальное возвращение героя к атеизму
казалось неправдоподобным. Как было сказано в докладной записке ЦК
КПСС, в повести «Апостольская командировка» «атеисты...
изображены людьми малопривлекательными; обращение героя повести
к религии выглядит более убедительно, чем его возврат
к атеизму» [792]. Вместо того чтобы найти удовлетворение
в материальных и духовных посулах советской коммунистической
идеологии, протагонист повести Тендрякова обращается
к религии [793]. Да, в конце концов он видит ошибочность своего пути
и отвергает религиозные ответы на свои вопросы, но он так и не
достигает другого берега: атеистических убеждений.
Духовный кризис протагониста повести был во многих отношениях
микрокосмом духовного кризиса советского атеизма и указывал на
более глубокий кризис советской коммунистической идеологии
в поздний советский период. Если в 1967 г., когда в Советском Союзе
отмечалась пятидесятая годовщина Октябрьской революции, Брежнев
все еще произносил речи о том, что Советский Союз движется
«к развернутому строительству коммунистического общества», то после
1968 г. советский проект развивался в качественно ином политическом
и идеологическом ландшафте [794]. К 1970-м гг. те тенденции, которые
укрепляли оптимизм советских людей — политическая и культурная
либерализация, экономический рост и улучшение материальных
условий жизни, научно-техническая революция и покорение космоса, —
исчерпали себя. Экономическое развитие достигло своего апогея.
Наука, технологии и даже освоение космоса утратили новизну и дух
свободы по сравнению с 1961 г., когда Гагарин стал первым человеком,
совершившим космический полет, — особенно когда в конце 1960 -х
американские астронавты (а не советские космонавты) высадились на
Луне. Когда стало ясно, что обещание Хрущева построить коммунизм
на протяжении жизни нынешнего поколения не будет выполнено
в указанные сроки, идеологический утопизм отступил еще дальше
в прошлое и на смену ему пришло идеологическое нездоровье
брежневской эпохи.
В этом широком контексте партия все чаще рассматривала
отношение советских граждан к религии и атеизму как критический
показатель степени их преданности советской коммунистической
идеологии. Вооруженная методами социальных наук и результатами
социологических исследований, партия располагала теперь более ясным
портретом советского общества, чем когда-либо ранее, и обнаружила
две особенно тревожные тенденции. Первой из них была растущая
индифферентность советской молодежи по отношению
к идеологическим и мировоззренческим вопросам в целом и вопросам
религии и атеизма в частности. Второй тревожной тенденцией был
растущий интерес к религии как части национальной культуры
и духовного наследия среди определенных слоев советского общества
—
во главе этих течений была творческая интеллигенция, но
существовала опасность, что они охватят и молодежь. Поскольку
партия работала над созданием унифицированного советского
общества, состоящего из убежденных атеистов, сознательных
коммунистов и преданных своей Родине патриотов, формирование
социалистического образа жизни рассматривалось как важнейшее
средство преодоления идеологической индифферентности и воспитания
атеистических убеждений, особенно в среде советской молодежи.
В конце концов — и партия осознавала это с растущей тревогой, —
будущее советской коммунистической идеологии зависело от того,
сможет ли она воспроизвести себя в следующем поколении.
Социалистический образ жизни как духовный
проект
К концу 1960-х гг. советская политическая элита не только отступила от
идеологического утопизма, но и утратила терпимость по отношению
к реформистскому дискурсу в более широком смысле, особенно когда
дебаты о смысле и будущем коммунизма стали идти не в замкнутом
мирке бюрократических комитетов, а в публичном пространстве.
Брежнев ясно обозначил свою нетерпимость к отступлениям от
партийно-советской линии в 1968 г., на улицах Праги, когда
возглавляемая Советским Союзом вооруженная интервенция положила
конец «Пражской весне» — попытке Чехословакии бросить вызов
советской идеологической гегемонии и предложить в качестве
альтернативы «социализм с человеческим лицом». Но хотя
насильственное подавление «Пражской весны» решило первоочередную
политическую проблему, упрочив власть Брежнева как в пределах
социалистического блока зарубежных стран, так и внутри КПСС,
в то же время оно породило новую и, возможно, более сложную
дилемму: растущий разрыв между коммунистической идеологией
и советским обществом. Разочарование 1968 г. превратило многих
оптимистично настроенных реформаторов в разных странах
социалистического блока в пессимистически настроенных диссидентов
или разуверившихся циников [795]. Пытаясь предотвратить
нежелательные последствия новых политических вызовов
и компенсировать утрату прежних ожиданий, партия в деле руководства
советским обществом по-прежнему полагалась на идеологию. К тому
времени, как в марте 1971 г. Центральный комитет провел XXIV съезд
КПСС, партия изобрела новую идеологическую формулу — «развитой
социализм»; назначение этой формулы заключалось в том, чтобы
возобновить социальный контракт, связавший советских граждан
с делом строительства коммунизма, заново подтвердить правильность
выбранного партией исторического курса и осмыслить сложные
политические, экономические и социальные реалии позднего советского
общества [796].
Брежнев характеризовал развитой социализм как особую
историческую стадию строительства коммунизма, когда внимание все
в большей степени смещается на экономические преобразования,
необходимые для того, чтобы экономика соответствовала
потребительским ожиданиям. Продолжая хрущевскую риторику о том,
что коммунизм должен улучшить уровень жизни советских граждан,
Брежнев объяснял, что если в первые годы советской власти
экономические ресурсы должны были концентрироваться в сфере
тяжелой индустрии, поскольку от этого зависело «само существование
молодого советского государства», зрелое социалистическое общество
должно изменить свои приоритеты и направить экономику к «решению
задач, связанных с повышением благосостояния советских людей».
Повышение уровня жизни, как отмечал Брежнев, было условием
дальнейшего развития, поскольку современное производство зависит от
того, «насколько полно могут быть удовлетворены материальные
и духовные потребности» [797]. Поэтому развитой социализм
предполагал не только достижение экономических целей, но и развитие
личности советских граждан. Для осуществления этого проекта партия
вновь подтвердила свою приверженность идее формирования нового
советского человека, чья «коммунистическая мораль и мировоззрение
утверждаются в постоянной, бескомпромиссной борьбе с пережитками
прошлого» [798]. Вскоре после этого, 16 июля 1971 г., было принято
постановление ЦК КПСС «Об усилении атеистического воспитания
населения». В нем партийное руководство критиковало членов партии
за терпимость к религии и примирение с религиозностью в собственной
жизни и поясняло, что партийная критика «административных
перегибов» в отношении религиозных объединений и верующих не
означает, что партия отказывается от приверженности атеизму. Даже
теперь, во время очередной разрядки напряженности в холодной войне,
партийное руководство подчеркивало, что как не может быть
нейтралитета в идеологической борьбе между социализмом
и капитализмом, так не может быть нейтралитета и в религиозном
вопросе.
В поздний советский период атеизм все в большей степени
воспринимался как индикатор проблем, возникающих на пути
советского общества к коммунизму, и потому религия оставалась
в центре идеологической работы. В контексте внутренней политики
религия по-прежнему рассматривалась как цепкий пережиток прошлого
в сознании советских людей, который необходимо преодолеть
с помощью атеистической работы. В контексте внешней политики
религия считалась оружием, которое используют враги дела
коммунизма для своих политических целей — прежде всего для того,
чтобы дезориентировать молодежь, заразить ее чуждыми ценностями
и подорвать единство советского общества. Тем не менее при Брежневе
религия стала рассматриваться преимущественно как духовная, а не
политическая или идеологическая проблема. Если при Сталине была
обезврежена политическая опасность религиозных учреждений, а при
Хрущеве в фокусе внимания атеистической работы была
идеологическая опасность религиозной веры, то при Брежневе религия
стала расцениваться как угроза, поскольку она подчеркивала
ослабление влияния партии на духовную жизнь советского общества.
Под религией стали понимать не столько учреждения и верования,
сколько культуру, традиции, уклад повседневной жизни. Чтобы
противостоять религии как духовной проблеме, теоретики научного
атеизма расширили границы самого понятия атеизма. Новый образ
атеизма должен был обратиться к традиции и наследию, живому опыту
и духовным потребностям и, наконец, создать собственную космологию
и образ жизни.
Партия осознавала, что в новой политической ситуации ей
необходимо по-новому решать старые проблемы. Это сместило центр
тяжести атеистической работы на формирование социалистического
образа жизни — проекта, который возник в 1970-е в рамках концепции
развитого социализма и оставался центральной темой советского
идеологического дискурса вплоть до того, как Горбачев в 1985 г.
провозгласил курс перестройки. Понятие социалистического образа
жизни было выработано в течение 1960-х гг. в ходе дискуссий
идеологического истеблишмента о месте и сущности быта
в строительстве коммунизма, но вошло в официальный партийный
дискурс лишь на XXV съезде партии в 1976 г. [799] В своем докладе
съезду Брежнев охарактеризовал социалистический образ жизни как
«атмосферу подлинного коллективизма и товарищества, сплоченность,
дружбу всех наций и народов нашей страны, которые крепнут день ото
дня, нравственное здоровье, которое делает нас сильными,
стойкими» [800]. К концу 1970-х гг. социалистический образ жизни был
в центре идеологического дискурса; его развитию и характеристикам
было посвящено более 150 исследований, бесчисленные партийные
учебы и конференции на такие темы, как «Социалистический образ
жизни и современная идеологическая борьба» (М., 1976),
«Социалистический образ жизни и вопросы идеологической работы»
(Киев, 1977) или «Социалистический образ жизни и формирование
идейных убеждений молодежи» (Вильнюс, 1977)[801].
Определяющей характеристикой социалистического образа жизни
была его противоположность буржуазному, или, точнее, американскому
образу жизни. Действительно, Американская национальная выставка
в Москве в 1959 г., которая актуализировала идеологическую
значимость потребления — что самым ярким образом выразилось
в знаменитых «кухонных дебатах» между Хрущевым и вице-
президентом Ричардом Никсоном, — называлась «Американский образ
жизни» (American Way of Life) [802]. Социалистический образ жизни,
следовательно, был и результатом внутреннего развития советской
идеологии, и продуктом холодной войны, в ходе которой противники —
социализм и капитализм — противостояли друг другу не только как
экономические и политические, но также как нравственные
системы [803]. Как сформулировал партийный философ, вице-
президент АН СССР Федосеев, «соревнование социализма
с капитализмом не сводится только к технико-экономическим
показателям; оно захватывает также сферу общественных идеалов
и ценностей, жизненный уклад человека» [804]. Но вскоре, когда стало
ясно, что Советский Союз не может одержать победу в состязании
с американской экономикой потребления и далеко отстает от нее
в сфере обеспечения материального благосостояния населения,
советская идеология начала обосновывать превосходство
социалистического образа жизни преимущественно в терминах
нравственности и духовной жизни. Даже если советские граждане по-
прежнему дожидались обещанных им отдельных квартир, советские
женщины еще не были освобождены бытовыми приборами от
домашней работы, а централизованное планирование пока не
обеспечило потребительского рая, Советский Союз все же превосходил
Запад по своей приверженности коллективизму, интернационализму
и гуманизму. Если капитализм был миром бесчестной конкуренции,
ненасытного и неразумного потребительства, социальной аномии
и духовной пустоты, то социализм предлагал рациональное
потребление, коллективное сотрудничество, духовно насыщенный
творческий труд и досуг [805].
И все же рассуждения о нравственном и духовном превосходстве
социалистического образа жизни прикрывали беспокойство партийного
руководства по поводу товарного дефицита, который становился все
более угрожающим на фоне растущих материальных запросов
советских граждан [806]. Молодежь, конечно же, считалась наиболее
подверженной искушениям потребительства и поэтому наиболее
нуждающейся в идейном руководстве. Чтобы укрепить способность
советской молодежи противостоять искушениям не только
материального, но и духовного потребительства, партия все в большей
степени подчеркивала цель идеологической работы — формирование
убежденности. Это становилось все более необходимо, поскольку
с избранием Рональда Рейгана президентом США разрядка уступила
место возобновленному идеологическому противостоянию противников
в холодной войне. В этом контексте внедрение социалистического
образа жизни было необходимо, «чтобы каждый советский человек
глубоко понимал всей душой и сердцем историческую правоту
социализма»[807].
Новые богоискатели
8 апреля 1970 г. на конференции в ИНА Иосиф Крывелев (1906–1991)
—
ветеран атеистической работы, начинавший еще в Союзе
воинствующих безбожников, — рассказал присутствующим, что на
недавнем собрании редколлегии журнала «Наука и религия» Тендряков,
автор «Апостольской командировки» и член редколлегии, заявил, что
ненавидит воинствующий атеизм. Крывелев счел тревожным, что
видный советский писатель, известный критическими по отношению
к религии произведениями, выражает антипатию именно к тому, что для
Крывелева было необходимым основанием советского атеизма: к его
воинствующему характеру. Как сказал Крывелев, ему бы хотелось,
чтобы все члены редколлегии любили воинствующий атеизм и сами
были воинствующими атеистами [808]. Тем не менее к 1970 г. голос
Тендрякова не был одиноким или маргинальным; скорее его
высказывание было символичным и свидетельствовало о намечающейся
двойственности советского атеизма, ощущавшейся даже внутри
атеистического аппарата. Действительно, в контексте политической
демобилизации и идеологической дезориентации позднего советского
периода все более маргинальным становился именно воинствующий
атеизм Крывелева.
Одна из самых актуальных проблем, стоявших перед советским
идеологическим истеблишментом в эпоху Брежнева, была связана
с возрастающим интересом творческой интеллигенции к религии как
к хранилищу духовного наследия и национальных традиций. В России
этот импульс возник в 1950-е, с появлением «деревенской прозы»,
авторы которой осуждали надругательство над жизнью русской
деревни. Изображая в ностальгических тонах умирающую сельскую
глубинку, деревенская проза задавалась вопросом, не является ли утрата
традиционной культуры и сельского образа жизни слишком высокой
ценой прогресса. Для таких писателей, как Владимир Солоухин (1924–
1997), разоренная деревня стала символом тех глубоких ран, которые
советская модернизация нанесла русской национальной культуре, и он
использовал мощные образы заброшенных церквей и разбитых икон,
а также забытых религиозных обрядов и обычаев, чтобы наглядно
и зримо показать оторванность современных советских людей от их
национальных корней.
Вопросы и темы, поднятые деревенской прозой, имели большой
резонанс особенно в среде советской интеллигенции. Уже в 1960 г.
несколько видных деятелей культуры инициировали общественную
дискуссию о месте русской истории и культуры в жизни современного
советского общества, подготовив почву для явления, которое
антропологи Жанна Кормина и Сергей Штырков определили как
«идеология советского ретроспективизма» [809]. В статье,
озаглавленной «Непомнящие родства», писатель Юрий Чаплыгин писал
о нравственных аспектах российской культурной амнезии, а историк
Дмитрий Лихачев в статье «Во имя будущего» призывал советскую
общественность сохранять памятники национальной культуры — что
в российском контексте означало сохранение объектов, связанных
с историей русского православия, — видя в этом гражданский
и патриотический долг [810]. На протяжении 1960-х гг. интеллигенция
мобилизовывала советское общество на участие в таких новых
культурных инициативах, как охрана памятников истории и культурный
туризм [811].
Для партии богоискательство интеллигенции — в форме
литературных произведений или защиты памятников культуры — было
серьезным вызовом. Особенно проблематичным поворот интеллигенции
к религии был потому, что интеллигенция рассматривала разрыв
с прошлым и культурную амнезию современного советского общества
в рамках нарратива национального упадка [812]. В этом отношении
поворот к религии переплетался с формирующимся
националистическим дискурсом и звучал диссонансом по отношению
к обветшавшему официальному нарративу, для которого религия
и прежний образ жизни были пережитками, подлежащими преодолению
на пути к коммунизму[813].
Поскольку возрастающий интерес советского общества к своему
духовному наследию становился все более явным, партия попыталась
решить эту проблему двумя способами. Первый подход заключался
в том, чтобы направлять и поддерживать этот интерес, а при
необходимости регулировать наиболее тревожные его проявления[814].
Партия применяла завуалированные стратегии, чтобы «нейтрализовать»
влияние наиболее сомнительных фигур среди творческой
интеллигенции. Например, будущий председатель КГБ Юрий Андропов
в докладной записке КГБ 1976 г. о художнике-«русофиле» Илье
Глазунове (1930–2017), привлекавшем к себе нежелательное внимание
за рубежом, писал: «Может быть, было бы целесообразным привлечь
его к какому-то общественному делу, в частности, к созданию в Москве
музея русской мебели» [815]. Наиболее показательным и успешным
примером использования партией общественного интереса
к религиозному и духовному наследию было создание Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК)
в 1965 г.[816] Во многих отношениях ВООПИК, который постепенно
стал одной из самых крупных советских общественных организаций
(в 1985 г. в нем насчитывалось 15 миллионов членов), был ответом на
все более громкое осуждение интеллигенцией идеологического
иконоборчества[817]. Хотя у ВООПИКа не было власти, чтобы
принимать политические решения, и он в конечном итоге оставался под
контролем государства, его деятельность — от туризма до
просветительских и реставрационных проектов — дала советским
людям возможность знакомиться с религиозными объектами и создала
пространство для публичного диалога о религии в жизни советского
общества.
Другая стратегия партии состояла в том, чтобы присвоить
символический капитал религии, придав ей идеологически приемлемую
форму — а именно трансформировав ее в культуру. С этой целью
идеологическая элита стремилась подчеркнуть различие между
здоровым интересом к духовному наследию и идеологически
подозрительной «идеализацией» религии. Так, журнал «Наука
и религия» пытался направить общественный интерес к духовному
наследию в более безобидное русло, предлагая читателю новые
рубрики, например «Святыни нашей родины». Анатолий Иванов,
редактор журнала на протяжении большей части брежневской эпохи,
объяснял: «Главное сейчас состоит в том, чтобы шире развернуть
работу по исследованию духовных ценностей прошлого, в которых
тесно переплетается религиозное и художественное, с тем чтобы
освободить от религиозной оболочки все ценное как с исторической, так
и с художественной, эстетической точки зрения» [818]. Как отмечал
Иванов, крайне важно проводить различие между религией как
ненаучным мировоззрением и религией как культурой, поскольку
«резко возрос и продолжает расти интерес советского народа, особенно
молодежи, к культурному наследию» [819]. В рамках советской
коммунистической идеологии религию можно было примирить
с советской жизнью как культурный артефакт, но не как живую веру
и развивающийся социальный институт.
Вполне возможно, что самым большим концептуальным
препятствием для идеологического истеблишмента, стремящегося
включить духовное наследие в официальный советский нарратив, был
атеизм как таковой. На собрании, где обсуждалась работа журнала
«Наука и религия», историк А. В. Мельникова подчеркнула внут-
реннюю связь между религией и культурой. Мельникова
предупреждала, что религия использует любые средства, чтобы
защитить себя; что идейные противники атеизма стремятся представить
все созданное человечеством как достижения религии, как
доказательства ее видного места в истории человечества; она поставила
перед теоретиками атеизма задачу обдумать, что атеизм может
противопоставить традициям, эстетике и эмоциональной
притягательности религии [820]. Проблема советских атеистов —
которую они с готовностью признавали — была в том, что на арену
идеологических баталий они вышли позднее религии. Более того, даже
если атеисты могли нейтрализовать влияние религии, превратив ее
в культурный артефакт, им было необходимо воплотить позитивную
роль атеизма в духовной культуре, создав нарратив, который придал бы
атеизму историческую преемственность и культурную
аутентичность [821].
Для этого советский атеизм нуждался в мощных творческих силах,
способных создать привлекательную атеистическую культуру. Но хотя
в теории партия располагала целой армией кадров интеллигенции, на
практике ей так и не удавалось мобилизовать творческие силы на
атеистическую работу [822]. Научная интеллигенция разочаровывала
идеологических работников тем, что без энтузиазма относилась
к атеистической работе, а с творческой интеллигенцией дело обстояло
еще хуже. Идеологические работники высшего звена жаловались, что
творческая интеллигенция не просто остается «в стороне» от
атеистического проекта, но создает в своих произведениях позитивный
образ религии в советском обществе. Так, в аналитической записке,
представленной в ЦК КПСС в 1971 г., «Об ошибочных оценках религии
и атеизма в некоторых произведениях литературы и искусства»,
руководство ИНА отмечало, что интеллигенция не просто питает
симпатию к религии, но изображает ее как стержень духовного
наследия страны. Свидетельством тому был «повышенный спрос на...
произведения русских религиозных философов-идеалистов» (таких, как
Владимир Соловьев и Сергей Булгаков), возрождение интереса
к посещению «туристских объектов культового характера»
и «некритическое» изображение религии в некоторых произведениях
современной литературы, например в повести Веры Пановой (1905–
1973) «Сказание о Феодосии» (1967) или в очерках Солоухина «Родная
красота (Для чего надо изучать и беречь памятники старины)» (1966)
и «Письма из Русского музея» (1967) [823]. Солоухин, как
подчеркивалось в записке, дошел до того, что в одной из своих
публикаций назвал атеистов «иконоборцами».
Еще более тревожным, с точки зрения партии, было то, что
«в определенных кругах интеллигенции становится „модным“, своего
рода признаком „хорошего тона“, иметь в квартире вместо картины или
эстампа — икону, возвеличивать „исторические заслуги“ церкви
и „моральные достоинства“ религии и, наоборот, — высказывать
ироническое или даже неприязненное отношение к атеизму» [824]. Как
сформулировал литературный критик Феликс Кузнецов в статье,
опубликованной в «Науке и религии» в 1972 г., «чем полнее
и эффективнее будет решаться в нашем обществе вопрос о хлебе
насущном, тем быстрее будет вставать перед людьми весь непростой
комплекс проблем, связанных с хлебом духовным». Советские писатели
ищут на них ответы «в разных, не всегда результативных
направлениях» и иногда запутываются во «внеисторических,
бесклассовых иллюзиях в отношении нашего исторического прошлого
и настоящего, когда в качестве истока и резервуара духовных ценностей
современного социалистического общества утверждалось
патриархальное крестьянство, а также абстрактно понимаемый
„национальный дух“» [825]. Даже немногие представители творческой
интеллигенции, принимавшие участие в атеистической работе при
Хрущеве, теперь, как Тендряков, все более отстранялись от
атеистического проекта.
В 1950–1960-е гг. Тендряков занял особое место в советской
литературе, создавая атеистические произведения в жанре деревенской
прозы [826]. Хотя произведения Тендрякова строились вокруг
деревенской тематики, они несли в себе совершенно иное послание, чем
произведения большинства его современников, работавших в этом
жанре. В отличие от таких писателей, как Солоухин, считавших
деревенскую жизнь сокровищницей аутентичной духовности
и национального наследия, Тендряков создавал идиллические образы
сельской культуры и обращался к теме ностальгии по религиозным
традициям, чтобы показать ошибочность попыток укрыться от
современности в мире, обреченном на отмирание. Если Тендряков
начинал литературный путь как приверженец советского атеизма, то
к концу 1960-х гг. он все громче критиковал атеистический проект,
создавая такие произведения, как «Апостольская командировка», где
ставились под сомнение материальные и духовные ценности
коммунистической идеологии и даже отвергался воинствующий атеизм.
Вскоре после злополучного собрания в редакции «Науки и религии», на
котором он схлестнулся с Крывелевым по поводу воинствующего
атеизма, Тендряков представил записку в Центральный комитет, где
в полном объеме изложил свое мнение относительно советского
атеизма. Тендряков доказывал, что воинственность атеистической
пропаганды может иметь опасные политические последствия, и взамен
призывал к более тесному сотрудничеству с верующими ради единства
советского общества. Тендряков писал, что «так называемый
„воинствующий атеизм“ в том виде, в каком он у нас существует»
должен быть признан «вредным» и «опасным», потому что он ведет
к отчуждению верующих от общества, создает разделение
и напряженность, которые могут подорвать сплоченность советского
общества. За десятилетия атеистической работы «мы, увы, так и не
смогли „осилить бога“», тогда как численность верующих продолжает
расти от двадцати, тридцати или сорока миллионов до, возможно, ста
миллионов. Кто же эти миллионы, спрашивал Тендряков — «враги ли
нам, нашему строю, нашей политике? Или же нет?» [827]
Что должна делать партия с тем фактом, что миллионы граждан
страны остаются верующими? До сих пор, писал Тендряков, в этих
вопросах партия полагалась прежде всего на репрессивные
административные меры, которые проводили в жизнь плохо обученные
атеистические кадры. Такой работник был «не только крайне
невежественен в вопросах религии, но зачастую считает это невежество
доблестью». И поскольку такой атеист был невежественным
и некомпетентным, все, что ему оставалось, — «увильнуть, спрятаться,
отмолчаться, втихомолку пнуть противника административным
сапогом». Но, спрашивал Тендряков, разве опасность от такого
воинствующего атеизма не перевешивает пользу? Поскольку «никто не
сомневается, что современный верующий не враг» и религия по-
прежнему является важной частью жизни миллионов советских
граждан, Тендряков доказывал, что не принимать это во внимание
было бы «преступной беспечностью». Он описывал свои беседы со
студентами, литераторами, деятелями искусства и учеными, которые,
хотя сами и не были верующими, сочувственно отзывались о религии.
Тендряков настаивал, что агрессия со стороны атеистов может заставить
«неискушенных сторонних наблюдателей» думать, что «в борьбе
атеизма с религией правда на стороне религии». Это, в свою очередь,
приведет к росту числа «сочувствующих» религии, «которых во много
раз больше, чем самих верующих». Не лучше ли было бы «ее [религию]
поддерживать, ибо она несет в массы пусть примитивные, но все-таки
человеколюбивые идеалы»? Важнейшей целью советской религиозной
политики, как предлагал Тендряков, должно стать «единение
с верующими на почве признания общечеловеческих норм
нравственности и справедливости, которые являются общими для
религии и коммунизма»[828].
В своей докладной записке ЦК КПСС «По вопросу оценки
писателем В. Ф. Тендряковым современного состояния атеистической
работы в стране» директор ИНА Окулов признал правоту Тендрякова
относительно возрастающего интереса советского общества к религии,
но не согласился с его заключением, что это сочувственное отношение
стало результатом «извращений, допускаемых в борьбе с религией».
Окулов разъяснял ЦК, что Тендряков утратил веру в атеистическую
миссию, потому что он не понимает всей сложности процесса
секуляризации. «Процесс преодоления религии оказался по ряду причин
более сложным и длительным, чем это ожидалось и предполагалось в те
годы, когда атеизм в нашей стране становился массовым», — отмечал
Окулов. Хотя «общая тенденция» свидетельствует об упадке
религиозности, это «сложный процесс, который в отдельные периоды
и в определенных условиях не исключает некоторого роста числа
верующих». Поэтому преодоление религии «идет не только по пути
перехода верующих на позиции атеизма, но и по пути деформации
и размывания религиозных взглядов». Тендряков же, поскольку он не
осознает сложности секуляризации, как доказывал Окулов,
представляет себе религию как «нечто, обладающее чуть ли не
мистической жизненной силой и стойкостью». В своих рассуждениях
Тендряков руководствуется «логикой капитуляции перед религией», что
ведет в конечном итоге к ее дальнейшей консервации. Если довести эти
рассуждения до логического вывода, «нужно думать не о преодолении
религии, но главным образом о том, чтобы „цементировать общество“,
разделенное на верующих и неверующих». Но, по мнению Окулова,
руководствоваться в атеистической работе лишь универсальными
моральными принципами означает игнорировать не только
«мировоззренческую суть» марксистского атеизма, но и его классовую
сущность, что противоречит марксистско-ленинской модели
исторического развития. Пытаясь свести марксистскую философию
к «антропологии или аксиологии, к одной лишь гуманистической
проблематике», Тендряков предлагает «выбросить за борт теорию
и законы развития объективного мира». С точки зрения Окулова,
советское общество не должно идти на подобные компромиссы
с религией. Так, он выразил категорическое несогласие с позицией
Тендрякова по вопросу о том, что административные репрессии
представляют наибольшую угрозу для советской коммунистической
идеологии. Наоборот, он настаивал, что «более реальной становится
сейчас опасность благодушного, примиренческого отношения
к религии, которая создает почву для активизации церковников, для
появления в определенных слоях интеллигенции богоискательских
тенденций» [829]. Поскольку интеллигенция в советском обществе
обладает огромным моральным авторитетом, она, в свою очередь,
может сбить с пути советскую молодежь.
Но даже если партия критиковала Тендрякова и творческую
интеллигенцию за их «невоинствующую» позицию по отношению
к религии, она не могла заставить исчезнуть поднятые ими вопросы.
Более того, хотя переосмысление значения религии в советском
публичном дискурсе отчасти стало результатом творческой
деятельности и социальной мобилизации интеллигенции, сама партия
также внесла вклад в этот процесс, поскольку, стремясь держать под
контролем возникающий интерес к духовному наследию, допустила
религию в форме культуры в общественную жизнь. Как отметили
Кормина и Штырков, переосмысление религии в идеологически
приемлемых терминах — то есть в секулярной форме музейных
экспозиций и исторических памятников — «тем не менее вводило
в публичное пространство позитивный образ объектов религиозного
происхождения»[830].
Таким образом, брежневская эпоха стала поворотной точкой
поисков места религии в советской коммунистической идеологии.
Катриона Келли в своем исследовании, посвященном
«социалистическим церквям» советского периода, показывает, как при
Брежневе церкви из убежищ постыдного прошлого и отсталости
(которые, утратив статус святынь, в лучшем случае были переделаны
в общественно полезные места, такие как библиотеки, клубы или
склады сельскохозяйственной продукции) превратились в священные
места национальной памяти, сохранение которых для будущих
поколений является долгом общества [831]. «Перекодирование»
религиозных символов и объектов на «приемлемый для советской
пропаганды язык» не было делом рук только творческой
интеллигенции. Это было также результатом работы широкой сети
советских кадров работников культуры — от музейных специалистов,
экскурсоводов и лекторов-просветителей до сотрудников местных
библиотек и домов культуры, — которые считали, что целью
приобщения советского человека к религиозной культуре должно быть
пробуждение «эстетических и патриотических переживаний», а не
религиозных или националистических убеждений или сочувствия
к таковым [832]. Размывание границ между религией как «русской
культурой» и конфессиональной традицией тем не менее создало
пространство для споров о значении религии и дестабилизации
официального советского нарратива.
Советская молодежь как потребитель
духовной культуры
16 апреля 1971 г., вскоре после XXIV съезда КПСС, Ленинградская
комсомольская организация объявила о проведении семинара по
обсуждению значения последних партийных решений для
атеистической работы среди советской молодежи[833]. В числе тех,
кому было поручено обратиться к аудитории молодых пропагандистов,
были два видных ленинградских специалиста по атеистической работе:
Михаил Шахнович (1911–1992), профессор, читавший курс научного
атеизма в Ленинградском государственном университете, и Николай
Гордиенко (1929–2011), заведующий кафедрой научного атеизма
Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена[834].
Шахнович начинал свою карьеру в воинствующей антирелигиозной
среде раннего советского периода и был одним из сотрудников ГМИРА
в Ленинграде, где в течение многих лет занимал должность заместителя
директора [835]. Гордиенко, напротив, был человеком хрущевской
эпохи; на волне антирелигиозной кампании он приобрел известность
как автор трудов по научному атеизму (в том числе учебника «Основы
научного атеизма»). Как Шахнович, так и Гордиенко были
специалистами в области изучения религий и имели опыт атеистической
работы среди молодежи, и оба, обращаясь к комсомольской аудитории,
говорили о том, почему религия до сих пор остается частью жизни
советского общества, и о требованиях, которые предъявляет комсомолу
новая эпоха развитого социализма.
По мнению Шахновича, религия сохраняется в Советском Союзе по
двум причинам: во-первых, подрывной работы капиталистического
окружения, использующего религию для расшатывания советской
власти, и, во-вторых, идейного разоружения советского общества
в целом и советской молодежи в частности. Как объяснял Шахнович,
спустя пятьдесят лет после революции в стране больше нет
эксплуататорских классов, нет внутренних врагов дела коммунизма, но
религия остается слабым звеном — чуждой идеологией внутри
советского общества. Кроме того, религия является главным оружием
в мировой «идеологической войне», поскольку именно через нее
капиталистический мир может сеять раскол в советском обществе.
Но сохранению религии в жизни советского общества способствуют
и внутренние причины: духовная пустота и идейная индифферентность
советской молодежи. В отличие от того поколения, к которому
принадлежал сам Шахнович и которое было закалено в огне революции,
сталинских пятилеток и войны, новое поколение выросло в условиях
относительной политической стабильности и материального
благополучия 1950-х и 1960-х гг . Молодежь оказалась заражена
потребительской фетишизацией вещей («вещизмом») и начала
«покоряться самим вещам» [836]. В результате советская молодежь
стала духовно опустошенной. Молодые люди больше не радеют
о строительстве коммунизма; все, что имеет для них значение, — это
«стяжательство, приобретение вещей, когда ради вещей человек
жертвует всем».
Этот вещизм, который проникает из старой буржуазной психологии, он
очень опасен. Отсюда и противопоставление против него, которое
может идти в форме исканий. Иногда находятся у нас люди, которые
говорят, что мужчины за водкой гонятся, женщины больше насчет
покупок, приобретений, а все забыли о душе, о боге. Есть честные
люди, которые духовной жизнью не живут и свои интересы направляют
к низменным инстинктам. И в этом отношении борьба против
мещанства есть в то же время и борьба против всех пережитков, потому,
что реакция на такие настроения получается неправильная и в качестве
противопоставления этому люди обращаются к поискам духовной
жизни, но не настоящей духовной жизни, а к извращениям и иллюзиям,
которые дает религия [837].
Шахнович разъяснял опасность ситуации следующим образом: если
у одних молодых людей, попавших под разлагающее влияние
потребительства, удовлетворение материальных нужд превратилось
в самоцель, то других образовавшаяся духовная пустота повергает
в отчаяние. Именно в поисках спасения от этой духовной пустоты
некоторые молодые люди впадают в заблуждение и обращаются
к религии. Сила религии, таким образом, теперь заключается не в ее
правде, а скорее в ее функциях. «Религия не спорит по вопросу о том,
что бог сотворил Землю в 6 дней или в 6 миллионов лет, — объяснял
Шахнович, — она ставит вопрос глубже, вопрос о смысле
существования человека, отношении человека к социальной
действительности», — и именно поэтому молодые люди могут владеть
научными знаниями, которые они получили в советской школе, и все же
обращаться к религии в поисках смысла. Таким образом религия,
переключая внимание молодежи на потусторонний мир, отвлекает ее
«от задач строительства коммунизма».
В чем же, с учетом всего вышесказанного, заключается миссия
комсомола? Шахнович указывал, что превращение идеологически
неопределившихся молодых людей в сознательных коммунистов не
произойдет само по себе. Оно требует активного идеологического
вмешательства. Было бы неверно думать, подчеркивал Шахнович, «что
сами по себе появятся честные, святые люди, которые будут строить
коммунистическое общество». И поскольку новый человек не появится
сам, пережитки тоже не могут исчезнуть сами собой. Шахнович
отмечал, что те, кто думает, что за полвека советской власти не должно
остаться пережитков, упускают из виду главное.
Рассуждающие так люди... думают, что все сводится к вопросу о том,
что если человек жил до 17-го года, то у него могут быть пережитки,
а если человеку сейчас 18–20 лет, то какие у него могут быть
пережитки, он прошлого не знает. В действительности, вопрос стоит
иначе. Люди могут жить в социалистическом обществе, а в голове у них
может быть сознание не только времен до 17-го года, а сознание,
которое соответствует условиям XVII века. Есть люди, у которых
в голове такое дремучее миропонимание, которое уже в буржуазном
обществе было пережитком... [П]олучается, что сознание людей может
отставать от изменившихся условий не только на 10–15 лет, но и на сто
лет. И когда мы говорим о преодолении религиозных пережитков, то
нужно сказать, что нам часто приходится сталкиваться с преодолением
пережитков, которые были уже архаичны еще до Октябрьской
революции.
Поэтому цель атеистической работы состоит не в том, чтобы делить
людей «на верующих и неверующих, первые строят коммунизм,
а вторые тянутся на небо», а скорее в том, чтобы «идея строительства
коммунизма стала целью жизни» и верующих, и неверующих. Вера
в коммунистическое будущее должна стать внутренним убеждением —
«и тогда иллюзия о небе, о „загробном царстве“ уйдет, угаснет,
исчезнет» [838].
Как же Шахнович предлагал трансформировать идеологическую
индифферентность и духовные искания в идейную убежденность
и духовное здоровье? Для начала явлениям религиозной жизни надо
противопоставить советские: Пасхе — всесоюзный субботник,
крещению — социалистическую регистрацию новорожденных: «Для
того, чтобы решить эту задачу, задачу освобождения религиозной части
населения от пережитков, нужно провести очень большую
деятельность. В нашей практической жизни эти явления сталкиваются
и сталкиваются не на страницах книги, а в реальной жизни: субботник
и пасха, крещение и советская обрядность, вытеснение советским
образом жизни религиозного образа жизни» [839]. При этом Шахнович
подчеркивал, что недостаточно заменить один набор символов
и действий другим. Атеистические убеждения должны прийти изнутри.
Нужно стремиться, чтобы все люди, особенно молодое поколение, жили
красочной духовной жизнью. Если человек будет понимать свою
трудовую деятельность только как борьбу за кусок хлеба насущного
и за этим не увидит лучезарной цели своего труда, не будет осознавать
свой долг перед родиной, не будет чувствовать себя частью советского
народа и т. д., то он будет испытывать пустоту жизни и эта пустота
приведет к тем или иным извращениям, пусть не прямо к религии, но
какие-то пережитки у него воскреснут.
Поскольку духовное утешение, предлагаемое религией, иллюзорно,
комсомольские работники должны направить духовные поиски
советской молодежи к социалистическому образу жизни и стремиться
«как можно богаче сделать духовную жизнь каждого человека,
труженика». «Овладение научными знаниями, искусством, всем
богатством [культуры]» должно помочь преодолению «религиозных
пережитков» [840]. Но освобождение советской молодежи от
пережитков — еще не конечная цель идеологической работы. Скорее
это средство, с помощью которого новый советский человек сможет
ощутить себя членом единого советского общества и выработать в себе
убежденность, что это общество в моральном и духовном плане стоит
выше любых других.
Воссоздавая идеал Шахновича, трудно не расценить его усилия
передать собственную идейную убежденность аудитории как своего
рода миссионерство. В конце концов, он призывал своих слушателей не
следовать определенным предписаниям, но пережить внутреннее
обращение к всеобъемлющему мировоззрению, в рамках которого
строительство коммунизма трактовалось как смысл жизни .
Действительно, размышляя впоследствии о деле всей своей жизни,
Шахнович описывал коммунистический проект как «нашу
Реформацию» [841]. Но не менее примечателен растущий разрыв между
Шахновичем, представителем первого советского поколения,
сформированного «воинствующим безбожием» 1920–1930-х гг., и его
аудиторией, поколением хрущевской эпохи, чьи представления
о полноте духовной жизни были связаны с иными ценностями помимо
строительства коммунизма и включали в себя приносящий
удовлетворение досуг, личное пространство и материальное
благополучие. В то время как Шахнович и его поколение были преданы
делу коммунизма, послевоенное поколение выросло равнодушным
к коммунистическому идеалу несмотря на относительный достаток.
Наконец, для Шахновича атеистическая работа с советской молодежью
была связана с проблемой идейной дисциплины, и первостепенной его
целью было сформировать личность, которая сможет противостоять
искушениям потребительства как в материальной, так и в духовной
форме.
Гордиенко предлагал иную интерпретацию препятствий, которые
мешают атеизму одержать триумфальную победу над религией. Он
призывал своих слушателей перестать рассматривать религию как нечто
абстрактное и исследовать конкретные причины, по которым люди
обращаются к религии в поисках ответов, решений и удовлетворения.
Иллюстрируя свою мысль, Гордиенко поделился результатами
недавнего социологического исследования. Чтобы понять религиозные
мотивации ленинградцев, местные сотрудники исследовали, что
происходит в часовне Ксении блаженной, одной из наиболее
популярных религиозных фигур в Ленинграде [842]. Несмотря даже на
то, что в советский период часовня была превращена в мастерскую
и склад, местные жители продолжали оставлять там записки
с просьбами, адресованными Ксении блаженной. Когда эти записки
собрали и изучили, рассказывал Гордиенко своим слушателям,
выяснилось, что люди обращаются к религии по «чисто житейским
обстоятельствам»:
О чем просят эти люди? Не будем брать верующих людей, которые
просто говорят: «Ксения Блаженная, моли бога за меня». Но содержание
записок, поступающих к ней, вполне конкретно, например: я собираюсь
поступить в ПТУ, помоги мне сдать экзамены; дорогая Ксения,
я собираюсь поступить на курсы шоферов, помоги мне; я хочу
поступить в Текстильный институт, поможешь — уверую в тебя;
дорогая Ксения, у меня сын запил, с дурными людьми связался, помоги
развязаться; у моей дочки муж пьяница, помоги ей, и т. д. [843]
Гордиенко заключил, что записки, которые люди пишут Ксении
блаженной, — это «крик души», но по сути своей они не отличаются от
«заявлений в местком». Для тех, кто «запутался в жизни» и не может
найти решения своих проблем в рамках советской системы, Ксения
блаженная стала альтернативным «месткомом», другим средством
связи, с помощью которого их просьбы могут быть услышаны
и исполнены.
Гордиенко доказывал, что чем больше пропагандисты атеизма
помогают людям в их нуждах, «тем меньше у них будет необходимости
обращаться к сверхъестественному». Комсомольские работники
должны понимать, что «создание дружеских, сердечных отношений, то,
что в докладе т. Брежнева было названо как создание товарищеской
атмосферы» — это тоже форма атеистической работы. Более того,
атеистическая работа должна достичь тех, чья мировоззренческая
позиция остается неопределенной, — «колеблющихся»
и индифферентных, — поскольку недостаток убежденности делает их
уязвимыми в идеологическом и духовном отношении. Гордиенко
объяснял, что именно из этой «серой массы» вербуют людей
в семинарии, и потому миссия комсомола состоит в том, чтобы
приобщить индифферентную советскую молодежь
к социалистическому образу жизни [844].
***
О том, что партия действительно считала массу индифферентной
молодежи серьезной политической проблемой, красноречиво говорил
тот факт, что данной проблеме уделялось все больше внимания, а на ее
решение выделялось все больше ресурсов. С одной стороны, об этом
свидетельствовали проводившиеся по инициативе партийного
руководства исследования демографического, социального
и культурного облика советской молодежи; с другой стороны, об этом
можно было судить по интенсификации и массовости проектов,
связанных с идейным воспитанием молодежи. Традиционное
образование, которое молодые люди получали в школах, все в большей
степени дополнялось внеурочной нагрузкой, включавшей в себя, наряду
с атеистическим, военно-патриотическое (для укрепления гражданского
единства) и интернационалистическое воспитание (чтобы
противостоять национализму) [845].
Чтобы понять духовный мир советской молодежи и отыскать
каналы воздействия, с помощью которых ее можно направить на
верный путь, Институт научного атеизма в течение двух лет проводил
изучение «процесса формирования атеистических убеждений
у студенческой молодежи», о результатах которого Окулов в 1974 г.
докладывал ЦК КПСС [846]. Окулов отмечал, что, хотя большинство
советских молодых людей «свободно от религиозных предрассудков»,
ситуация более сложна, чем представляется на первый взгляд,
поскольку зачастую индифферентизм к религии связан с «безразличным
отношением к мировоззренческим вопросам вообще, со своеобразной
„бездуховностью“, безыдейностью, с ошибочными представлениями
о том, будто самое главное для человека в нашу эпоху это
профессиональная подготовка и ничего более»[847].
Для других молодых людей характерно «примиренческое
отношение» к проявлениям религиозности, особенно к религиозным
праздникам и обрядам. Как было отмечено в докладной записке, в ходе
исследования «выяснилось, что некоторая часть студентов видит
в религиозных обрядах и праздниках народный обычай», а религия в их
представлениях «выступает носительницей национальных традиций
и чувств, осуществляет связь прошлого с настоящим». Эта «тревожная»
тенденция была лишь малой частью выявленных примеров
удивительной трансформации религиозности в советском обществе.
«Имеют место факты, когда к религиозным взглядам и религиозной
обрядности начинают проявлять интерес некоторые студенты, ранее
бывшие неверующими или индифферентными к религии, — отмечал
Окулов; этот интерес часто бывает порожден «ошибочными
нравственными и мировоззренческими „исканиями“». Более того,
продолжал Окулов, религиозные организации извлекают из этих
исканий выгоду. Они распространяют «ошибочные представления»
о том, что религия является «единственной хранительницей
нравственности» и что она даже при социализме служит «регулятором
нравственного поведения, прежде всего в сфере личной морали». Но,
с точки зрения партийного руководства, наиболее тревожащей
тенденцией было то, что иногда интерес молодых людей к религии
принимает форму «фрондерства, претензий на оригинальность», а это
может в свою очередь привести к идеологическому разоружению
и даже оппозиционным политическим настроениям [848].
Львиная доля ответственности за сохранение религиозности среди
советской молодежи возлагалась на интеллигенцию. Констатировалось,
что на советском телевидении, в советских кинофильмах и повестях
писатели и художники проявляют «тенденцию идеализации»
религиозных обрядов и традиций, вследствие чего «оживляется
своеобразная мода на церковную обрядность, символику, предметы
религиозного культа — иконы, крестики и т. д.». Обследование
студентов-гуманитариев показало, что они зачастую восприимчивы
к идеализации эстетической стороны религии, поскольку их
восхищение «шедеврами того искусства, которое связано в своем
историческом прошлом с религией», порождает «неоправданно
положительную оценку роли религии в истории культуры, в развитии
общества, сомнение в необходимости атеистической работы». Одна
студентка объясняла, что изображение религиозных обрядов
в современных фильмах и других произведениях искусства «доставляет
эстетическое наслаждение и верующему, и неверующему».
Их увлечения, доказывал автор текста, свидетельствуют об «идейной
незрелости, аморфности мировоззренческих и нравственных
убеждений, а порой и о низкой духовной культуре». И это было
тревожнее всего, поскольку именно студенты творческих
и гуманитарных специальностей должны быть «резервом нашей
художественной интеллигенции, которой предстоит развивать
и пропагандировать искусство с позиций научно-материалистического,
социалистического мировоззрения». Возможно, наиболее опасным было
то, что «отдельные писатели», такие как Солоухин, пытаются «выдать
„церковное“ за „национальное“», что превращает религию не просто
в модное увлечение, но в «выражение антисоциалистических
и националистических настроений» [849].
В финале докладной записки автор переключил внимание на саму
идеологическую элиту. По его мнению, не только атеистическое
воспитание в школах и высших учебных заведениях по-прежнему
оставляет желать лучшего, но и сам фокус атеистической работы
направлен не туда. Пропагандисты, сосредоточив свои усилия на
верующих, оставляют без внимания тех молодых людей, «которые, хотя
и относят себя к числу неверующих, отрицательно относятся
к религиозному мировоззрению, чужды религиозным обрядам, однако
необходимых научно-атеистических знаний и убеждений еще не
имеют». Эти молодые люди — неверующие, но им недостает
атеистической убежденности, и потому они «не могут дать отпора
клерикальной и сектантской пропаганде, а иногда и испытывают ее
тлетворное влияние» [850].
В целом со страниц документа вставал противоречивый образ
советской молодежи. Одни молодые люди идеализируют культурную
и эстетическую ценность религии; другие отвергают религию как
таковую, но их сознание «засорено всякого рода суевериями
и предрассудками»; третья группа индифферентна к религии, но эта
индифферентность распространяется на мировоззренческие
и идеологические вопросы в целом; тогда как для четвертой группы
интерес к религии связан с национализмом, который угрожает
перерасти в протест против социалистического образа жизни.
Объединяет эти различные категории молодежи отсутствие «глубокого
и цельного научно-материалистического мировоззрения, стойких
атеистических убеждений» [851]. Атеистический аппарат все больше
видел в индифферентности не только социальную, но также
и политическую проблему. Тот факт, что индифферентность была
особенно широко распространена в среде молодежи, лишь подчеркивал
ее политическую опасность, поскольку это означало, что советская
система не нашла эффективного способа передачи своих ценностей
следующим поколениям.
В течение 1970-х гг. фигура индифферентного молодого человека
внушала все большее беспокойство партийному руководству и в силу
этого занимала центральное место в идеологических дебатах. Два
показателя характеризовали человека как идеологически
индифферентного. Первый — безразличное отношение к религии,
которое преподносилось как «невмешательство» в религиозные
вопросы и означало, что либо человек «мало знает по данному
вопросу», либо «не убежден в том, что знает, и потому не может или не
решается отстаивать свои взгляды» [852]. Но определяющей
характеристикой идеологической индифферентности в еще большей
степени, чем нейтральное отношение к религии, было потребительское
отношение к ней, выражавшееся прежде всего в соблюдении
неверующими религиозных обычаев. Философ Юрий Гуров, один из
наиболее плодовитых авторов, обращавшихся к теме молодежной
индифферентности [853], приводил примеры, когда индифферентность
порождает беспринципное поведение: комсомолка идет креститься на
спор, чтобы выиграть полкило конфет; молодой инженер венчается
в церкви, «преследуя меркантильные интересы», потому что будущая
теща пообещала ему подарить на свадьбу автомобиль [854]. Для других
молодых людей, объяснял Гуров, религиозные обряды стали «лишним
поводом повеселиться», и они идут в церковь, «как в театр или на
праздник» [855]. Чтобы подчеркнуть это, он процитировал
высказывание православного священника, который жаловался, что
молодые родители на крестинах «в церковь... приходят как в цирк:
накрашенные, разодетые. Смеются в церкви. Крестики не одевают.
Молитв не знают и повторять за служителем не хотят. Какой толк от
такого крещения. Они его воспринимают как светское, а не церковное
дело»[856].
Духовное потребительство и индифферентность советской
молодежи стали частой темой сатирических фельетонов , карикатур
и пропагандистских плакатов. На одном плакате были изображены
новобрачные, выходящие из церкви, и девушка, которая в стороне
жалуется своей матери: «...А ведь честное комсомольское давал, что на
мне женится...» Плакат сопровождался коротким стихотворением, где
говорилось, что молодой человек должен был давно сделать выбор,
хочет ли он быть богомольцем или комсомольцем [857]. На другом
плакате был изображен молодой человек, колеблющийся между двумя
мирами: с одной стороны — современность (изображенная как
современный городской пейзаж, залитый светом), с другой —
отсталость (изображенная в виде церкви, погруженной в сумрак). Быть
современным означало заключать брак во Дворце бракосочетаний
и регистрировать новорожденного в ЗАГСе с соблюдением
соответствующих социалистических церемоний; однако, как было
изображено на плакате, наряду с выполнением этих социалистических
ритуалов молодой человек также венчался и крестил своего ребенка
в церкви. Подпись внизу гласила: «Так и живет ханжа иной, всю жизнь
меж небом и землей» [858].
Если кто-то считал пассивное участие неверующих в религиозных
обрядах безобидным, Гуров разъяснял, что такое поведение отражает
неразвитость политического сознания. Комсомольцы, объявляющие
себя неверующими или даже воинствующими атеистами, своим
участием в религиозных обрядах показывают, что их атеизм — «это
всего лишь слова, не превратившиеся в убеждения, в жизненную
позицию» [859]. Они смогут исправиться, только если глубоко усвоят
атеистические ценности, что не позволит им идти наперекор своим
убеждениям.
Поскольку советские пропагандисты атеизма пытались бороться
с идейной индифферентностью, им пришлось расширить охват
атеистической работы. «Атеистическое воспитание нельзя сводить
только к работе среди верующих — такое мнение было высказано на
собрании местного филиала Института научного атеизма. — Оно несет
более широкие функции, в нем нуждается все население, и стало быть,
в этот критерий, очевидно, надо включать и выработку атеистических
убеждений активной части населения» [860]. Атеист из Ставрополя
обрисовал проблему более детально:
... Критерий для атеистической убежденности у нас отсутствует. Почему
мы с вами атеисты? Человек говорит: «Я не верю в бога» и считается
атеистом. А можно ли такого человека считать убежденным атеистом,
который считает, что вообще проблема атеистической работы в нашей
стране не актуальна, проблемы религии в нашей стране — удел
немногих людей. Которые говорят: «да, знаете, атеизм подождет, есть
более актуальные задачи». Разве можно считать таких людей
убежденными атеистами?! От такого взгляда один шаг к практической
деятельности — когда сына или дочь крестят или делают обрезание,
а когда спрашиваешь, как это могло случиться, то получаешь ответ, что
этот «атеист» был в командировке, ребенка увезли в деревню
и проделали все это без его согласия. Таких отговорок можно найти
тысячи. В этом-то и состоит степень атеистической убежденности,
чтобы этого никак не могло быть... Вот и получается такая
парадоксальная вещь... когда так поступает известный писатель,
известный литератор. А столько таких неизвестных или мало
известных, которые придерживаются подобных настроений
и в определенном кругу излагают подобные взгляды, что атеизм дело не
особенно актуальное... [861]
Поскольку конечной целью атеистической работы стало теперь
считаться воспитание атеистической убежденности, теоретики атеизма
выделили два этапа этого процесса. На первом этапе — которым прежде
ограничивалась атеистическая работа — следовало препятствовать
«воспроизводству религиозности в сознании молодежи» [862].
Парадоксальным образом именно успешное решение этой задачи
породило индифферентизм и вызвало необходимость перехода ко
второй стадии атеистической работы: замене индифферентизма
атеистической убежденностью. Гуров разъяснял, что индифферентизм
как социальный феномен «противоречив». С одной стороны, «это
результат большой работы, проводимой под руководством нашей
партии по отрыву верующих от религии, что можно расценивать как
положительный момент». С другой стороны, это «следствие
недостатков в атеистической работе по воспитанию неверующей
молодежи», — и в этом отношении это «явление отрицательное,
мешающее утверждению гражданской, идейно-политической
сознательности и активности молодых людей». Гуров отмечал, что если
неверие пассивно, то задачей атеизма является выработка
воинствующей позиции, поскольку «твердо стоять на позициях атеизма
значит решительно, беспощадно и, главное, вполне сознательно, вполне
последовательно порвать с нейтральным, примиренческим отношением
к религии и ее культу» [863].
Но что же такое атеистическая убежденность? Гуров доказывал, что
«знания», приобретенного путем образования и просвещения, еще
недостаточно. Поясняя свою мысль, он рассказал историю про
студентку университета, баптистку, которая получила отличную оценку
на экзамене по научному атеизму. Когда ее спросили, как ей удается
примирить знания по этому предмету с религиозной верой, она
ответила, что ей задавали вопросы, касающиеся знания материала, но
при этом «ни разу не поинтересовались по существу, каково мое мнение
по рассматриваемой проблеме. Оценивали мои знания, а не
убеждения» [864]. Чтобы пассивное неверие стало активной
атеистической позицией, знания должны «соединяться
с эмоциональным фактором», должна сформироваться «уверенность
в их истинности и надежности» и на основе этих знаний должен
сложиться «устойчивый стереотип отрицательного отношения
к религии и ее культу». Знание, рассуждал Гуров, необходимо
превратить в «атеистическую мировоззренческую позицию, сделать их
убеждениями», чтобы эти убеждения могли, говоря словами Маркса
и Энгельса, стать «узами, из которых нельзя вырваться, не разорвав
своего сердца» [865]. Человек, обладающий атеистической
убежденностью, «не смешивает религиозный обряд с народной
традицией, религиозное с национальным, он займет четкую классовую,
партийную позицию по отношению к любой религиозной идее,
к любому церковному обряду» [866]. Такая атеистичность, по словам
другого теоретика, размышлявшего на темы индифферентности,
Соловьева, «должна рассматриваться не как некий жупел,
направленный против религии», но скорее «как важная черта духовного
мира образованного, культурного человека, проявляющаяся в активной
жизненной позиции, сознательном, творческом участии... в борьбе за
все передовое, прогрессивное». «Главным показателем подлинной
атеистичности советского человека» было «утверждение поведением,
делами, всем образом жизни реальных ценностей социализма» [867].
Если индифферентность была тем пространством, где могли
укорениться и расцвести чуждые идеи, практики и воззрения, то
атеистическая убежденность была необходима, чтобы наполнить это
пространство твердой мировоззренческой позицией. Для человека
с атеистическими убеждениями противоречия между верой, словом
и делом были невозможны. Это делало воспитание атеистической
убежденности — особенно у молодежи — критически важным для
выработки коммунистических убеждений и, следовательно, для
воспроизведения советской коммунистической идеологии [868].
Невоинствующий атеизм
В течение брежневской эпохи консенсус по вопросу о том, что такое
атеизм, в чем он должен воплощаться и какова именно его роль
в широкомасштабном проекте строительства коммунизма, начал
утрачиваться. Социологические исследования показали, что, несмотря
на десятилетия административных запретов и пропагандистских
кампаний, религия — как в традиционных формах, так и в виде новых
духовных исканий — остается фактом советской жизни. Окулов
приводил статистические данные, собранные Советом по делам религий
(СДР), которые показывали, что, несмотря на усиление атеистической
работы в 1960-е гг., наблюдался рост религиозности по меньшей мере
в двадцати пяти — тридцати регионах страны, в том числе в Москве.
«Они [церковники] не складывают своего оружия и не хотят уходить
с поля боя», — предупреждал Окулов, и потому атеистам «нельзя не
в коем случае впадать в состояние анабиоза» [869].
К 1970-м гг. общая картина стала еще хуже. Даже в наиболее
развитых регионах страны — в том числе в Московской, Харьковской,
Пензенской и Курской областях — от 40 до 50% новорожденных были
крещены, хотя, как признавал Окулов, «мы не можем дать конкретных
серьезных рекомендаций, которые значительно бы обогатили нашу
пропаганду» [870]. Еще большее беспокойство вызывал тот факт, что
религия, по-видимому, возрождалась — она не просто
воспроизводилась в рамках религиозных объединений, но привлекала
людей извне, в том числе молодежь. Некоторые из них даже пополняли
ряды духовенства, а это означало, что духовенство не просто
воспроизводит себя, но омолаживается. Жизнеспособность церкви
означала, что «миллионы людей еще тянутся к религии. В Московской
области крестят каждого второго ребенка... В некоторых областях этот
процент увеличивается, нужно здесь разобраться, потому что это
большая, крупная, государственная и диалектическая проблема» [871].
Атеистический истеблишмент был вынужден вновь искать ответ на
давний вопрос о том, почему через полвека после установления
советской власти «в такой культурной, политически зрелой стране»
религия сохранилась и даже процветает [872].
Проблему, однако, составлял не столько ответ, сколько сам вопрос.
Когда специалисты по научному атеизму на основе социологических
исследований получили более достоверное представление
о религиозной жизни советского общества, они стали громче
высказываться о том, что марксистско-ленинский материализм оказался
бессилен объяснить ту реальность, с которой столкнулись на местах.
Прежде всего, связь религии с экономическим развитием оказалась
гораздо более сложной, чем предполагала марксистская модель. Если
марксизм считал религию продуктом социальной и экономической
зависимости, то теоретики научного атеизма заметили, что интерес
к религии в контексте духовных потребностей часто возрастает вместе
с материальным благосостоянием. Действительно, атеист из Молдавии
сообщал, что самый высокий уровень религиозности наблюдается
в богатых селах: «Товарищи! В чем тут дело? Мы пытались изучить
экономические показатели села и пришли к выводу, что с ростом
благосостояния советских людей, с высоким материальным уровнем,
с улучшением условий жизни, повышается и их духовная потребность,
которую мы должны удовлетворить»[873]. У верующих зачастую
отсутствовали те черты, которые по-прежнему упоминались
в атеистической пропаганде. Поскольку пропагандисты стали уделять
больше внимания «духовному облику» современного советского
верующего, стало ясно, что верующие далеко не обязательно
принадлежат к маргинальным слоям общества — алкоголикам,
тунеядцам, сектантам — но, напротив, могут быть образцовыми
работниками, уважаемыми членами общества и даже членами
партии [874]. Среди них были молодые и пожилые, мужчины
и женщины, представители интеллигенции и «непросвещенных» масс,
горожане из центральных регионов страны и сельские жители
с отдаленных окраин.
Специалисты также выяснили, что для того, чтобы найти верующих,
не обязательно снаряжать этнографические экспедиции в отдаленные
деревни, поскольку религия «пряталась» на самом виду.
Уполномоченный Совета по делам религий города Москвы Алексей
Плеханов сообщал, что в период с 1971 по 1976 г. только в Москве было
зарегистрировано больше 400 000 фактов совершения религиозных
обрядов — крещений, венчаний и отпеваний [875]. Эти данные не
учитывали тех москвичей, которые не регистрировали религиозных
обрядов или регистрировали их в других регионах, чтобы избежать
нежелательных проблем по месту жительства [876]. Статистические
данные также не учитывали других участников религиозных обрядов,
которые тоже подпадали под влияние религии. Плеханов указывал, что
даже если в религиозной церемонии принимают участие всего четыре
человека — родители ребенка и крестные родители, — это означает, что
только с января по сентябрь 1976 г. в Москве в религиозных обрядах
приняли участие 80 000 советских граждан. Совершение религиозных
обрядов не было единственным показателем уровня религиозности
в городе. В ходе проверки атеистической работы, проведенной в 1977 г.
в Красногвардейском районе Москвы, в парке «Коломенское» были
обнаружены «святые места» — «колодец Георгия Победоносца»
и другие источники, куда верующие совершали паломничество, чтобы
набрать «святой воды», обладающей, по их мнению, целебными
свойствами. Местные чиновники пытались воспротивиться этому,
однако паломники снова возвращались; было заметно, что за «святыми
источниками» кто-то ухаживает — они были заключены в цементные
трубы большого диаметра. В качестве доказательства Плеханов
приложил к своему докладу фотографии, тайком снятые на этом
месте [877]. Таким образом, к 1970-м гг. специалисты по научному
атеизму вынуждены были признать, что религия представляет собой не
маргинальный пережиток прошлого на обочине современности, но
скорее сложную живую часть советской жизни — даже в Москве,
столице социализма.
Сферой, где положение вещей было особенно неопределенным, —
что подчеркивало внутренние противоречия самого атеистического
проекта — была проблема ритуалов. Несмотря на широкое внедрение
социалистических обрядов, молодые люди продолжали соблюдать
обряды церковные, и пропагандисты не знали, что предпринять, когда
они «практически сталкиваются с этим вопросом»: «Ну, мы знаем, что
[социалистический] обряд бракосочетания очень нужный и хороший
обряд, но он не так торжественен, как в церкви, хотя, конечно,
эмоциональность и торжественность в нем есть... А как другие обряды?
Думается, что не одни атеисты должны думать над разработкой этих
обрядов» [878]. Редакция газеты «Правда» продолжала критиковать за
идейную пассивность тех, кто публично поддерживает атеизм, но за
закрытыми дверями участвует в религиозных обрядах; но и позиция
самой партии за закрытыми дверями расходилась с делами [879].
В 1967 г. на встрече директоров Домов атеизма один из участников
задал вопрос Лисавцеву, курировавшему религиозные вопросы в ЦК
КПСС: можно ли по-прежнему критиковать в городской прессе
коммунистов за соблюдение религиозных обрядов и «как лучше
поступить в таком деликатном случае?». Лисавцев указал, что позиция
партии по данному вопросу выражена ясно: «По поводу этого
деликатного дела есть указание Ленина. Он за то, чтобы исключать
коммунистов из партии, которые отправляют религиозные обряды. Что
касается публикации, то мы никогда не стеснялись открыто критиковать
наши недостатки. Это говорит о нашей силе, а не о слабости» [880].
Но если партия четко указывала генеральную линию, кадровые
работники Совета по делам религий (СДР) — правительственного
учреждения — были менее категоричны. Когда Ивану Бражнику,
заместителю председателя СДР, задали схожий вопрос на семинаре по
атеистической работе, его ответ был более уклончивым. «Я могу
привести случаи, когда комсомольские билеты предъявляют [при
крещении ребенка] потому, что нет другого документа, а при крещении
требуется предъявить документ... — з аметил Бражник. — Фактов
крещения детей неверующими родителями много, причины разные,
поступать надо в этих случаях также по-разному. Одна мера наказания
и требований к коммунистам, комсомольцам, другая —
к беспартийным». Но когда Бражника спросили, должен ли член партии
выполнить последнюю волю верующего отца или матери, если они
хотят, чтобы их «похоронили с попом», Бражник ответил: «Я думаю,
что должен» [881]. Еще более красноречивый пример: Плеханов
сообщал председателю СДР Куроедову, что в 1974 г. чиновник СДР г.
Москвы отпевал своего отца в московской Троицкой церкви и что на
отпевании присутствовали несколько служащих совета [882]. Проблема
соблюдения религиозных обрядов, таким образом, служила
своеобразной лакмусовой бумажкой верности идеологическим
предписаниям партии тех людей, которые по долгу службы были
обязаны бороться с религиозностью и насаждать атеизм [883].
Пока ИНА боролся за переосмысление миссии атеизма с учетом
новых социально-политических реалий, местные атеистические кадры
критиковали центр за отсутствие руководящих указаний. Атеистические
работники, приезжавшие на конференции ИНА, чтобы получить
практические советы, как правило, уезжали обратно разочарованными.
На одной такой конференции председатель атеистического совета
московской фабрики «Красное знамя» пожаловался, что сотрудники
ИНА ставят вопросы и сообщают информацию, но не дают
ответов [884]. Комсомольский работник из Москвы заметил: «С точки
зрения марксизма религия идет от нищеты и невежества. Но сейчас мы
богаты, достаточно хорошо живем, но люди идут к богу»[885].
На другой конференции представитель Московского обкома партии
задал вопрос о критериях религиозности и о том, должна ли
религиозность измеряться доходами церкви, соблюдением обрядов или
наличием икон [886]. Атеистические кадры также жаловались на застой
в развитии теории и методов атеистической работы. Представитель
Эстонии отметил, что материалы по атеистической работе, от книг по
научному атеизму до лекционных программ, выпущены еще
в хрущевскую эпоху и потому бесполезны, а новых пособий по
атеистической работе не издают [887]. С ним согласилась лектор
общества «Знание», директор школы из Загорска: «Можно взять план
[атеистического воспитания в школе] 10-летней давности, и вы увидите
эти же пункты и в теперешних планах. Почему? Потому что люди не
знают, что делать, вернее, они знают, что делать, но не знают как».
Жизнь, заключила она, «требует конкретные ответы на конкретные
вопросы» [888].
Все меньше ясности было и по вопросу о том, какую значимость
партия на самом деле придает атеистической работе. Окулов доказывал,
что даже если партия говорит о необходимости выработки научного
мировоззрения, атеистическая работа для местных партийных органов
остается далеко не самой приоритетной задачей. Он описывал
ситуацию, с которой обычно сталкиваются представители центральных
атеистических структур, когда во время поездок по стране они
встречаются с местными партийными работниками: «Приходят
в партийную организацию и спрашивают, кто сейчас отвечает за
атеистическую работу? Называют Ивана Ивановича. А почему он, а не
кто-нибудь другой? Да потому что, если поручить Ивану Ивановичу
организационную работу, то он ее завалит. Дать ему партийное
просвещение, также завалит, а тут делать нечего, вот мы и поручили это
дело». Другой сотрудник атеистического аппарата описывал ситуацию
так: «Говорят, что такое религия, за это особенно ругать не будут, а за
другое будут. И пускают это дело на самотек». В результате, несмотря
на значительные усилия и ресурсы, затраченные на подготовку кадров,
в атеистическом аппарате по-прежнему недоставало
квалифицированных сотрудников[889].
Как центральные, так и местные атеистические кадры были
разочарованы тем, что позиция партии в отношении религии по-
прежнему оставалась колеблющейся, и это означало, что атеистические
кадры часто оказывались не на той стороне генеральной линии. Как
сформулировал это один сотрудник атеистического аппарата, сегодня
ты можешь назвать верующего «религиозным фанатиком», а завтра тебя
обвинят в «нарушении свободы совести» [890]. Общее настроение
атеистического истеблишмента выразил Евдокимов, заместитель
директора Института научного атеизма, рассказавший, что после
недавней встречи один местный сотрудник заявил: если раньше по
крайней мере общее направление атеистической работы было «более
или менее ясно», то «теперь вообще ничего не ясно» [891].
И наконец, сотрудники атеистических структур начали сознавать,
что совмещать две роли — партийных пропагандистов и ученых-
обществоведов — становится все труднее. На семинаре по
атеистической работе в 1979 г. Курочкин, один из заместителей
директора ИНА, задал важный вопрос: «Не слишком ли жесткой
и прямолинейной в нашей стране выглядит связь партийных
организаций с проблемой атеизма и преодолением религии ? Каким
образом надо сделать нашу пропаганду, чтобы пропаганде преодолеть
жесткость и прямолинейность, которая в определенном случае может
служить поводом для выпячивания религиозного вопроса на первое
место, отнюдь, как говорил Ленин, ему не
принадлежащее?» [892] В какой-то мере это был призыв делать упор на
позитивное содержание атеизма, а не на антирелигиозную пропаганду.
Однако внимание Курочкина к тому, как «выглядит» атеистическая
работа, свидетельствует также о растущем беспокойстве атеистических
кадров, вызванном изменениями глобального политического
ландшафта, поскольку эти изменения — наряду с консолидацией
правозащитного движения, добивавшегося свободы религиозных
убеждений в странах социалистического блока, — привлекали все
большее и большее внимание международных кругов к положению
религии в СССР [893].
Воинствующая религия
К концу 1970-х гг. насущной проблемой для советского государства,
наряду с идеологической индифферентностью населения, становится
возвращение религии в общественную жизнь. Религия начинает вновь
быть заметной на мировой арене и превращается в предмет
политических дебатов в самых разных контекстах: от повышения
активности религиозных правых в США до мобилизации религиозных
объединений для защиты прав человека (особенно после подписания
Хельсинкского соглашения в 1975 г.), от растущего политического
влияния Ватикана на страны социалистического блока и избрания
польского кардинала Кароля Войтылы римским папой под именем
Иоанна Павла II в 1978 г. до исламской революции 1979 г.
в Иране [894]. Для КПСС стало очевидным, что религия по-прежнему
способна мобилизовать общество на политические действия. Даже если
все эти процессы зарождались за пределами Советского Союза, они
вызывали опасения, что религиозная мобилизация за рубежом может
заразить советских граждан, особенно тех, кто представлялся удобной
целью идеологических диверсий: баптистов, свидетелей Иеговы,
адвентистов Седьмого дня, литовских и украинских католиков, а также
мусульман, большинство которых было сконцентрировано
в приграничных регионах СССР.
Поскольку религия вернулась в политику и общественную жизнь на
мировой арене, у партии не было иного выбора, кроме как отнестись
к этому с должной серьезностью. Так и произошло, если судить,
в частности, по таким признакам, как открытие филиалов Института
научного атеизма в политически значимых регионах. Первый филиал
был открыт в 1977 г. в Киеве, отчасти потому, что именно Украину —
советскую республику, отличавшуюся самым высоким уровнем
религиозности и конфессиональным разнообразием, — сочли
наилучшей площадкой для атеистической пропаганды, которую можно
было бы противопоставить хлынувшей в страну «буржуазно-
клерикальной пропаганде» [895]. Второй филиал был открыт
в Ташкенте в 1980 г. как ответ на исламскую революцию 1979 г.
в Иране и события в Афганистане. Наконец, третий филиал —
в Вильнюсе, столице Литовской ССР — был создан в 1983 г. для
решения проблемы растущего влияния католической церкви на страны
социалистического блока и, в частности, в ответ на ту роль, которую
сыграл во время своего визита в Польшу 1979 г. папа Иоанн Павел II
в мобилизации польского движения «Солидарность» (практически
парализовавшего деятельность Польской объединенной рабочей партии
в 1980–1981 гг.). До конца советского периода филиалы Института
научного атеизма выполняли функцию «мозговых центров» партии,
разрабатывая доклады и предложения, определявшие подход ЦК КПСС
к новому формату присутствия религии в публичном пространстве[896].
Растущее беспокойство советского государства относительно
превращения религии в политическую силу за рубежом заставляло
сильнее тревожиться и по другим поводам, включая все громче
заявлявшие о себе националистические движения внутри страны
и эскалацию напряженности в ходе холодной войны [897]. Как
результат осмысления этих новых проблем, официальные заявления
партии по вопросам атеизма и идейного воспитания теперь включали
четкие указания на необходимость противостоять националистическим
движениям внутри страны и иностранным усилиям по подрыву
единства советского общества. В постановлении ЦК КПСС от 26 апреля
1979 г. «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-
воспитательной работы» объединялись задачи атеистического
и интернационалистического воспитания как способа противостоять
любым проявлениям национализма и отмечалась, в частности, важность
идеологической работы с подрастающими поколениями, у которых под
влиянием семей складывается искаженное представление о связи
религиозной и национальной идентичности [898]. 22 сентября 1981 г.
ЦК КПСС принял секретное постановление «Об улучшении
атеистического воспитания», в котором призывал формировать
атеистические убеждения, чтобы вооружить советское общество против
чуждых идеологических влияний [899]. В докладе Академии
общественных наук Центральному комитету партии «Формирование
убежденности в преимуществах социализма в современной борьбе
идей», подготовленном в 1982 г., отмечалось, что стратеги
антикоммунизма сосредоточили свои усилия на том, чтобы подорвать
веру в «преимущества социалистического строя» [900].
Смерть Брежнева 10 ноября 1982 г. и приход к власти его
преемников — Юрия Андропова (находившегося на посту Генерального
секретаря ЦК КПСС вплоть до своей смерти 9 февраля 1984 г.)
и Константина Черненко (до его смерти 10 марта 1985 г.) — не привели
к существенным изменениям официальной позиции в отношении
религии и атеизма. На посту Генерального секретаря Андропов,
который преследовал инакомыслие в бытность председателем КГБ,
подтвердил приверженность партии делу борьбы с религией. Так, на
июньском (1983) Пленуме ЦК КПСС по вопросам идеологии Андропов
обвинил религиозных диссидентов в том, что они «стремятся не только
поддерживать, но и насаждать религиозность, придать ей
антисоветскую, националистическую направленность», и напомнил
собравшимся, что «под влиянием религии еще остается часть людей
и часть, прямо скажем, не такая уж малая» [901]. Даже будущий
реформатор Горбачев поддерживал партийную линию, подчеркивая
необходимость «преодоления многовековых пережитков, предрассудков
и привычек в сознании людей» [902].
Вслед за избранием Горбачева на пост Генерального секретаря ЦК
КПСС в марте 1985 г. общество «Знание» провело серию закрытых
круглых столов, где обсуждались три темы: социалистическая
обрядность, атеизм и место религии — и русского православия
в частности — в жизни советского общества. Первый из этих круглых
столов, «Развитие и совершенствование советской обрядности
в развитом социалистическом обществе» (4–5 апреля 1985 г.), подводил
итоги развития социалистических обрядов с момента их появления.
Участники сошлись в том, что обрядность можно считать центральным
звеном духовной культуры социализма, поскольку в ней отражаются
«основные черты социалистического образа жизни, традиции, обычаи
советского народа, созидающего новую коммунистическую
цивилизацию». В своей идеальной форме социалистическая обрядность,
как предполагалось, должна была выступать «как средство регуляции
процессов общественной жизни, выработки и совершенствования
способов организации производства, труда, различных видов и способов
общения и коллективного творчества» — иными словами, «охватывать
все сферы духовной жизни нашего народа». Предполагалось также, что
социалистические обряды будут способствовать формированию
атеистических убеждений, «умело сочетая национальные формы
с интернациональным содержанием», и служить «более эффективным
средством социализации новых поколений социалистического
общества... передачи им разностороннего социального опыта
нравственных, эстетических сторон жизни нашего народа». Однако, как
заметил один из участников круглого стола, даже через двадцать лет
степень влияния социалистических обрядов остается неясной,
поскольку одни видят в них новую моду, а другие ожидают, что
обрядность решит «все воспитательные проблемы, даже те, которые
к ней не относятся» [903].
Кроме того, было трудно измерить эффект от внедрения
социалистической обрядности. В то время как социалистическая
обрядность, без сомнения, стала мощным государственным проектом —
в Украине, например, в этой сфере было занято более двух тысяч
работников, — специалисты по научному атеизму признавали: ни для
кого «не секрет», что после гражданских церемоний, связанных
с рождением, свадьбой и похоронами, люди обычно исполняют
религиозные обряды. «Что ищут люди в религиозной обрядности?.. —
задавался вопросом один из экспертов. — Это все вещи, которые надо
взвесить, измерить и постараться понять» [904]. Если важнейшим
назначением советских обрядов было «способствовать вытеснению
религиозной обрядности», то результат — синкретизм и «параллелизм»,
смешение гражданской и религиозной обрядности в быту советских
людей — безусловно, порождал сомнения в успешности данного
проекта. Советские ритуалы теоретически должны были способствовать
«формированию нужных нам социальных и духовных качеств
личности» и «утверждать ценности социалистического образа жизни»,
но вместо этого, как могли убедиться специалисты, результаты
свидетельствовали об «индифферентности по отношению к атеизму
и религии» [905].
Когда несколько месяцев спустя был организован круглый стол на
тему «Актуальные вопросы атеистического воспитания в условиях
современной идеологической борьбы» (30–31 октября 1985 г.) ,
в выступлениях собравшихся открыто звучали пессимистические
настроения в отношении перспектив атеистического воспитания.
Филимонов, один из заместителей директора Института научного
атеизма, признавал, что вера в секуляризацию была неоправданной:
Вообще одна из реальностей современной жизни состоит в том, что
вопреки слишком оптимистическим оценкам, процесс преобразования
общественного сознания, который связан с освобождением его от
церковного и религиозного влияния, не развивается слишком быстро.
К сожалению, вот эта истина стала как-то утверждаться в сознании как
у нас, так и в других странах, в сознании ученых не так-то четко, да и не
так уж давно... господство научно-материалистического мировоззрения
в нашем обществе и успехи атеистического воспитания не дают
оснований для самоуспокоенности. Все-таки религия, религиозные
организации обладают немалыми возможностями для сохранения своих
позиций, иногда даже для временного оживления, активизации.
Филимонов поделился своими наблюдениями, что если в сельской
местности влияние православия продолжает снижаться, как и удельный
вес самого сельского населения, то городское население растет,
и благодаря этому за несколько предшествующих лет церковные
доходы выросли более чем на 300%. Более того, статистика
религиозной обрядности «не может дать вразумительного ответа о том,
что же происходит на самом деле», и реальный уровень соблюдения
религиозных обрядов в несколько раз выше того, который отражен
в официальных данных. Так, в официальных статистических сводках не
отражен тот факт, что за предшествующие четыре года существенно
возросло число крещений детей школьного возраста, а также взрослых.
«Чем объяснить это? — задавался вопросом Филимонов. — Ведь речь
идет не о крещении младенцев, а школьников, которых раньше-то
можно было отнести в церковь для совершения этого обряда?»[906]
Как отметил Филимонов, международная обстановка вокруг
приближающегося тысячелетия крещения Руси создает исключительно
благоприятные условия для того, чтобы Русская православная церковь
стала более активной в советском обществе и более заметной
в общественной жизни. Поэтому атеистическая работа в Советском
Союзе, наряду с задачами преодоления религии и формирования
атеистических убеждений, должна была теперь включать в себя третий
компонент: пропагандисты атеизма должны были сосредоточить усилия
на противостоянии «попыткам использовать религию в политических
целях как оружие в идеологической борьбе». Решить эту проблему было
поручено Киевскому филиалу Института научного атеизма, и его
директор, Александр Онищенко, сообщил о мерах, которые
применялись в Украине для организации «атеистической
контрпропаганды» и противодействия иностранным попыткам
политизировать приближающийся юбилей. Задача атеистической
работы, доказывал Онищенко, состоит в том, чтобы помешать западной
«клерикальной пропаганде» успешно проникать в СССР и «нагнетать
антисоветскую истерию». Онищенко подчеркивал, что РПЦ стоит на
позициях патриотизма, но не исключал того, что она воспользуется
возможностью обратиться к всемирной аудитории по случаю
тысячелетнего юбилея для продвижения собственной программы. Тем
не менее, отмечал он, абсолютное большинство духовенства
и верующих никоим образом и ни в какой форме не разделяют
антисоветских позиций зарубежных клерикальных центров, не
преследуют антиобщественных целей и отвергают «антисоветчину»
буржуазно-клерикальной пропаганды. Поэтому необходимо сочетать
«разоблачительную контрпропаганду», противодействующую
иностранной подрывной деятельности, с позитивной пропагандой,
которая должна показать атеизм «в подлинном объеме» и во всем
богатстве его содержания и форм. Советский атеизм, заключал
Онищенко, представляет собой выражение, отражение и воплощение
глубоких духовных ценностей, основанных на научном мировоззрении,
и у него больше прав на духовность, чем у религии [907].
Какое же место в таком случае отводится церкви в жизни
современного советского общества? Этот вопрос стал темой
финального круглого стола, проведенного обществом «Знание» 15–
16 декабря 1985 г. Главной проблемой обсуждения было то, как
удержать в определенных рамках растущее влияние Русской
православной церкви в советском обществе и прояснить, какую роль
она может играть в «активизации человеческого фактора»
и мобилизации верующих. Один из участников круглого стола в своем
докладе об «обыденном сознании современных православных
верующих» сообщил, что, согласно социологическим исследованиям,
православные верующие в целом не обладают стойкими религиозными
убеждениями и несведущи в богословских догматах. Это означало, что
их православие в первую очередь носит характер специфической
культуры; современные верующие, как он утверждал, считают
православие основой традиций и фундаментом сообщества и выражают
свою конфессиональную принадлежность преимущественно путем
соблюдения обрядов, особенно ритуалов перехода. А это, в свою
очередь, означало, что православные верующие «сравнительно редко
занимаются распространением религиозного вероучения и их
религиозное воздействие на других обычно ограничивается
семьей» [908].
С другой стороны, церковь создавала дополнительные причины для
беспокойства. Как сообщил бывший священник, а ныне активист
атеистической пропаганды Чертков, церковь стала в большей степени
интересоваться проблемами общественной жизни, которые выходят за
рамки религиозных вопросов, и все более открыто участвует
в советской политической жизни. Более того, она подчеркивает
собственный патриотизм и необходимость воспитывать патриотизм
у духовенства и православных прихожан [909]. Недавно возникшее
стремление церкви участвовать в общественных делах, тем более под
флагом патриотизма, ставит советское государство в сложное
положение — особенно если учитывать внимание к этим вопросам за
рубежом. В своем сообщении Григорий Жаринов, долгое время
являвшийся уполномоченным СДР в Ленинграде, обозначил выгоды
и потери от участия церкви в жизни советского общества:
Выступления духовенства с призывами к честному труду, против
пьянства, стяжательства, с осуждением всяких аморальных поступков
—
это исходит из христианской концепции, из самого вероучения, тут
мы ничего не можем и говорить, а с другой стороны, почему бы не
запрещать это? Другое дело, что мы не подталкиваем их, не заставляем
это делать, а если они выступают на эти темы, то мы будем смотреть на
это дело одобрительно. Но сами мы этого поощрять не должны. Ну,
в отношении включения церкви в сферу общественно-политической
жизни страны — правомерно ли это? В условиях отделения церкви от
государства, когда религия является частным делом каждого
гражданина. Отделение церкви от государства предусматривает
взаимное невмешательство в дела друг друга. Поэтому, если мы
говорим о том, что церковь ведет сейчас активную борьбу за мир, за
разоружение, за предотвращение ядерной войны, то это дело не только
и не столько государства, сколько всей общественности, всего
человечества, как у нас в Советском Союзе, так и за рубежом. Поэтому
было бы абсурдным, если бы мы исключили церковь с ее влиянием на
еще значительные слои наших граждан, с ее потенциальными
возможностями влиять на значительные силы приверженцев религии за
рубежом, на их отношение к вопросам войны и мира. В условиях
обострения идеологической борьбы с силами империализма ни в коей
мере нельзя пренебрегать возможностями религиозных деятелей в деле
разоблачения распространяемых нашими противниками инсинуаций
о правах человека, о якобы имеющих место преследованиях верующих,
служителей культа в нашей стране. Религиозные деятели в этом
отношении ведут большую работу, нам об этом известно, и делают ее
довольно умело. < ...> Мы считаем, что это положение связано с тем,
что духовенство сейчас приобрело уверенность в себе, уверовало в свою
полезность, что мы с ними так носимся и нянчимся, поощряем его
деятельность, поэтому они и ведут себя даже немного нагловато.
Я думаю, что со своей стороны примем тут меры воспитательного
характера и постараемся поставить все на свои места, но видимо,
первые варианты законодательства о религиозных культах, где-то там
имеется такая возможность что-то пересмотреть, об участии
духовенства в составе членов-учредителей и исполнительных органах,
такая информация просочилась и сейчас они носятся вот с этой
идеей[910].
В то же время Жаринов отмечал, что выгоды церковной деятельности
на международной арене нивелируются тем, что это «поднимает
престиж церкви и духовенства, религии в целом в глазах верующих
и неверующих, позволяет ей укрепить свои позиции, создать иллюзии
безвредности церкви и религии, чуть ли не ее полезности, привлекает
внимание и интерес к церкви и религии» [911].
Со своей стороны, РПЦ расценивала избрание молодого,
энергичного, нацеленного на реформы Горбачева на пост Генерального
секретаря как возможность начать играть более активную и заметную
роль в жизни советского общества. 17 декабря 1985 г. — на следующий
день после круглого стола общества «Знание» о роли церкви
в советском обществе — митрополит Алексий (Ридигер) направил
Горбачеву письмо, где изложил свое видение этой проблемы.
Сотрудничество между церковью и государством, писал Алексий, не
должно ограничиваться только делами на международной арене:
Закон об отделении церкви от государства — основополагающий
принцип, на котором строятся наши отношения, — отнюдь не означает,
что церковь находится вне государства, а верующие граждане — вне
советского общества. Напротив, тысячами видимых и невидимых нитей
церковь связана с государством... Одним словом, отделение церкви от
государства не исключает сотрудничества между ними и даже, более
того, только при отделении и возможно подлинное
сотрудничество [912].
Алексий заверял советского лидера, что интересы церкви неотделимы
от интересов советского народа и что поэтому церковь может и должна
играть более заметную роль в советской общественной жизни. Он
считал, что одним из «основных направлений сотрудничества» может
стать участие церкви в «патриотическом и гражданском воспитании,
в дальнейшем укреплении единства нашего общества, что столь
необходимо в нынешней сложной международной обстановке». Он
отмечал, что де-факто церковь уже занимается этой деятельностью.
Но Алексий предлагал, чтобы она стала «более активно и решительно
бороться с различными пороками и „болезнями в обществе“, не только
с пьянством, но и с моральной распущенностью, черствостью,
эгоизмом, добиваясь укрепления советской семьи как важнейшей
ячейки общества, выступать за духовное и нравственное здоровье
людей» [913].
После обсуждения письма членами Политбюро предложение
митрополита было отвергнуто. Вскоре после этого он был смещен со
своего поста управляющего делами Московской патриархии
и переведен из Москвы в Ленинград. Таким образом партия напомнила
церкви, что ее дело — «удовлетворять религиозные потребности
верующих», а не решать социальные или политические проблемы [914].
В результате религиозный вопрос, особенно в той мере, в какой он
касался статуса Русской православной церкви, выявил главную
затруднительную проблему, стоявшую перед партией в начале
перестройки: как подходить к решению религиозного вопроса, если
сама сущность этого вопроса зависит от того, глядеть ли на него сквозь
призму политики или идеологии? Как сформулировал это Жаринов,
«мы должны разбирать, где политика, а где идеология. Хотя политика
и идеология не разделяются, но в данном вопросе, в вопросе отношения
к церкви, мы ведь поощряем деятелей церкви за миротворческую
деятельность, это вопрос не идеологический, это политический вопрос,
а в области идеологии религия как была, так и остается нашим идейным
противником, мы не скрывали этого никогда и скрывать не
должны» [915]. Вопрос о том, какую позицию займет советская
правящая верхушка по отношению к религии, отражал внутренние
противоречия между идеологией и политикой, присущие советскому
строю, и порождал другой вопрос — возможно ли разделить идеологию
и политику в рамках советского коммунистического проекта. Когда
в 1985 г. партия взвесила возможные потери и выгоды от допуска
Русской православной церкви в сферу общественной жизни, она
приняла решение сохранить status quo. Но к 1988 г., когда в канун
тысячелетия крещения Руси Горбачев решил встретиться в Кремле
с патриархом Пименом, партия пришла к иным выводам.
Заключение
В конце 1979 г. ИНА командировал социолога Ремира Лопаткина
в Чехословакию, где он должен был принять участие в работе
симпозиума по научному атеизму и провести консультации по вопросам
ситуации с религиозностью и атеистической работой после «кризиса»
1968 г. Вернувшись из поездки, Лопаткин сообщил, что в то время как
Коммунистической партии Чехословакии «в целом удалось преодолеть
его [кризиса] последствия в сфере религиозных отношений», причины
для беспокойства тем не менее сохраняются. Руководствуясь закрытым
постановлением ЦК Коммунистической партии Чехословакии от
1973 г., которое «предусматривало вовлечение верующих
и прогрессивно настроенного духовенства в процесс консолидации
общества», местные атеистические кадры старались «нейтрализовать
активность реакционной части духовенства и мирян» и дать отпор
«проискам церковной эмиграции и попыткам давления со стороны
Ватикана». Они организовали «четкий контроль над деятельностью
церквей» и удвоили усилия по подготовке кадров пропагандистов
атеизма, воспитанию научного мировоззрения и внедрению в жизнь
гражданской обрядности. Лопаткин докладывал, что социологические
исследования религиозного ландшафта Чехословакии выявили
снижение уровня религиозности; «преобладающее число» религиозных
организаций «стоит на лояльных позициях», и большинство верующих
граждан «добросовестно участвуют в созидательных усилиях народа,
строящего под руководством КПЧ развитое социалистическое
общество». Тем не менее, отмечал Лопаткин, «религиозный вопрос»
в Чехословакии остается «сложным и острым». Кризис 1968 г. показал,
что «при определенных обстоятельствах церковь может выступить
в качестве активной антисоциалистической силы», и для некоторых
граждан, в том числе для части интеллигенции, «религиозность...
нередко выступает как своего рода форма „внутренней эмиграции“,
неприятия социалистического образа жизни». Более того, диссиденты
сплотились вокруг так называемой «Хартии-77», стремясь к «блоку
с церковью», а зарубежные клерикальные круги пытаются использовать
идеологическую дезориентацию чешского общества в целях
«империалистической, клерикальной и ревизионистской
пропаганды» [916].
При этом Лопаткин также подчеркивал идеологические трудности
чехословацкого атеистического аппарата, отмечая, что «диссонансом
звучат некоторые тревожащие тенденции в среде научных работников
по атеизму». На симпозиуме, как он докладывал, «неожиданно одно из
главных мест в дискуссии занял казалось бы давно решенный вопрос
о том, как называть нашу научную дисциплину: научный атеизм или
религиоведение». Но за этим, казалось бы, «внешне академическим»
спором, объяснял Лопаткин, крылось «определенное идеологическое
размежевание между сторонниками партийно организованного
научного атеизма, который включает религиоведение как составную
часть, и сторонниками объективистской, идеологически расплывчатой
„науки о религии“ с явным сползанием к позитивизму». Лопаткин
подчеркивал, что, хотя на первый взгляд эти дискуссии могут казаться
бесконечно далекими от вопросов текущей политики, сходная ситуация
наблюдалась незадолго до кризиса 1968 г. и, «как показали
последующие события, за подобной позицией может скрываться
негативное отношение к марксизму и социализму». Особенно
беспокоило Лопаткина то, что «подобные объективистские настроения
характерны прежде всего для молодых научных сотрудников
и аспирантов». Молодые специалисты по научному атеизму проявляли
«нездоровый интерес» к наследию Томаса Масарика, к работам
«ревизионистов 1968 г.» и западных социологов и позволяли себе
«высказывания такого рода как „надо очистить социологию от
идеологии“ и т. п.». Некий чешский коллега даже доверительно
сообщил Лопаткину, что «один аспирант Института научного атеизма
в Брно подписал „Хартию-77“ и собирается эмигрировать, другой
в прошлом году нелегально бежал за границу» [917].
Восприятие Лопаткиным сквозь атеистическую призму
нестабильной идеологической ситуации в Чехословакии после 1968 г.
может многое поведать о том, как тенденции позднего
коммунистического периода вынуждали советское руководство
пересматривать отношения между политикой, идеологией, религией
и атеизмом. В неспокойном политическом климате Чехословакии тех
лет — и не только там — религиозность стала восприниматься не
только как признак принадлежности к отмирающей духовной культуре,
которая постепенно вытесняется из жизни атеистическим просвещением
и социалистической обрядностью, но и как политическое выражение
оппозиционности по отношению к социалистическому образу жизни.
В этой атмосфере чья-либо позиция по академическому вопросу —
например, о том, является ли научный атеизм составной частью
партийной работы по коммунистическому воспитанию (то есть
идеологией) или же академической дисциплиной, изучающей религию
(социологией), — приобретала политическое значение. Сам факт, что
молодые атеистические кадры стремились очистить социологию от
идеологии — и что некоторые из них желали отвергнуть
социалистический проект в целом, — делал позицию по отношению
к религии и атеизму индикатором политической преданности делу
коммунизма.
Вплоть до 1970-х гг. специалистов по научному атеизму больше
всего беспокоило, что секуляризация продвигается не так быстро, как
предсказывал марксизм-ленинизм, но они по-прежнему были уверены,
что секуляризация воплощает собой логику истории и что история
завершится исчезновением религии и построением коммунизма [918].
В течение 1970-х гг. эта уверенность начала подтачиваться на фоне ряда
тенденций. Во-первых, все более сложная панорама духовной жизни
в СССР, вырисовывавшаяся в ходе социологических исследований,
заставила пересмотреть сложившееся понимание перспектив религии
и выделить в спектре человеческих убеждений еще одну возможную
позицию — индифферентность. Во-вторых, сохраняющаяся
неэффективность атеистической работы приводила к тому, что сами
атеистические кадры все более разочаровывались в своей
противоречивой роли — агентов идеологической трансформации
и одновременно специалистов в сфере общественных наук. В-третьих,
упорный отказ творческой интеллигенции участвовать в атеистическом
проекте, усугубляемый ее растущим интересом к религиозному
наследию и духовным вопросам, сделал явным отчуждение
интеллигенции от правящей партии и ее идеологии. И наконец,
советская молодежь — с точки зрения партии — становилась все более
«потребительской» как в материальном смысле (что проявлялось
в фетишизации ею западных товаров), так и в духовном (что
проявлялось в ее неудовлетворенности официальными концепциями
мировоззрения и в поиске альтернатив).
В конце советского периода интеллигенция и молодежь — а также
отношения между этими социальными группами — становятся
первостепенным объектом идеологической работы, поскольку
руководство партии верило, что интеллигентское богоискательство
оказывает пагубное влияние на молодое поколение. К 1980-м гг.
у партии прибавился еще один повод для беспокойства: советское
общество превращалось в рынок самых разнообразных религий,
идеологий, духовных учений и контркультур. Если в 1970-е гг.
атеистические кадры все еще концентрировали свои усилия на задаче
преодоления идейной индифферентности населения, то к тому времени,
когда Горбачев становится Генеральным секретарем ЦК КПСС, религия
вновь стала политической проблемой для советской коммунистической
идеологии — как это уже было однажды.
В конечном итоге источником самого глубокого разочарования для
советских пропагандистов атеизма стал сам советский народ, поскольку
им так и не удалось воплотить в жизнь атеистический идеал идейной
стойкости, научного мировоззрения и социалистического образа жизни.
Как сформулировал один участник круглого стола в обществе «Знание»
в 1985 г., посвященного вопросам научного атеизма,
это люди не очень высокого духовного уровня, которые думают, что
чем больше торжественности, тем лучше, прочнее семья. Стараются
взять все больше и больше. Мировоззренческая позиция — понятие,
неприложимое к этим людям. Мы свой собственный духовный мир
выдаем за мир этих людей. Они учились в школе, наши люди, хорошие
люди. А остаются на бытовом уровне, где нет мировоззрения. Там
повседневное стихийное сознание. Я не считаю, что здесь требуется
очень глубокий анализ. Начальник ОБХСС в Бухаре при аресте
обнаружил около ста телевизоров. Убеждение — надо тащить к себе как
можно больше этих «побрякушек» и так далее. Побрякушка — наш
обряд — я возьму, религиозный — тоже возьму. Это тип людей. Здесь
не при чем убеждения. И Бог и не Бог [919].
В отличие от убежденных пропагандистов научного атеизма,
большинство советских людей так никогда и не смогло впустить
атеистические убеждения в свой внутренний мир и принять
идеологическую концепцию социалистического образа жизни — что
оставило коммунизм недостижимым.
Заключение
Осиротевшее дитя утопии: советский атеизм
и конец коммунистического проекта
С 5 по 12 июня 1988 г. в Москве широко отмечалось тысячелетие
крещения Руси; на территории СССР юбилейные мероприятия
продолжались в течение всего месяца. Юбилейные торжества были
отмечены всеми символическими атрибутами политического
покровительства: как и мероприятия, имеющие отношение к важным
советским учреждениям, они проходили в Большом театре, где
присутствовали видные официальные лица и общественные деятели,
в том числе председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей
Громыко, председатель СДР Константин Харчев, курировавший дела
религий в ЦК КПСС Вадим Медведев и, наконец, супруга Горбачева —
Раиса [920]. Харчев даже вызвал лимузин марки ЗИЛ — автомобиль,
закрепленный за советской политической элитой, — чтобы доставить на
юбилейное торжество патриарха Пимена. Тем самым он дал понять
публике, что новый курс в отношении религии официально
санкционирован[921]. Юбилейные торжества широко освещались
в печати и на телевидении — к большому удивлению советской
аудитории, привыкшей, что религия изображается как мир отсталых
старушек и фанатиков-сектантов [922]. Впервые после Октябрьской
революции религия стала считаться полноправной частью прошлого
страны и — что, возможно, было еще важнее — нормальной частью
настоящего [923].
Возвращение религии
Трудно противостоять искушению рассматривать поворот
официального курса советского государства по отношению к религии
и атеизму как часть более широких процессов либерализации
советского общества в ходе перестройки, но это было бы ошибочно.
На самом деле, когда Горбачев в 1985 г. был избран на пост
Генерального секретаря ЦК КПСС, он не дал партии повода усомниться
в искренности своей веры, что коммунистический строй является
лучшей из всех возможных общественных систем и что текущая
политическая задача состоит в том, чтобы устранить препятствия,
мешающие идеалам коммунизма наконец воплотиться в жизнь.
Но перестройка была не только экономической и политической
программой; это был призыв к моральному и духовному обновлению.
Когда Горбачев подвергал критике застой брежневских времен, он имел
в виду не только снижение экономических показателей, но также
всепроникающую коррупцию, цинизм и падение нравов, ставшие
негласной нормой жизни советского общества. Настоятельные
требования партии преодолеть индифферентность и воспитывать
идейную убежденность означали, что к 1985 г. самой партии стало ясно:
она утрачивает влияние на советское общество, а экономические
и политические реформы смогут принести результат только в случае,
если советские граждане смогут вновь поверить в систему, — цель,
которую партия обозначила как «активизацию человеческого фактора».
Когда Горбачев приступил к перестройке, его позиция в отношении
религии и атеизма оставалась той же, что и у его предшественников.
Даже когда Горбачев диагностировал падение нравов и духовное
нездоровье советского общества, первоначально он не предлагал
религию в качестве лекарства. Партия ослабила контроль в сфере
экономики и общественной жизни, но не отказалась от приверженности
атеизму.
Несмотря на то что для православной церкви празднование юбилея
крещения Руси имело огромное значение, вопрос, насколько этот
юбилей привлек внимание общества, остается без ответа. Хотя церковь
еще в 1980 г. сформировала Юбилейную комиссию, чтобы планировать
праздничные мероприятия, а советское государство в 1983 г. сделало
в высшей степени символический жест, возвратив церкви Данилов
монастырь в Москве, официальная линия предполагала, что
празднование тысячелетия христианства на Руси должно быть
исключительно религиозным делом. Тем не менее партийная элита
продолжала вести закулисные споры о том, как позиционировать себя
по отношению к тысячелетнему юбилею, особенно поскольку
идеологические противники на Западе постоянно указывали, что
крещение Руси в 988 г. ознаменовало рождение не только русского
православия, но и Российского государства. Это ставило партию
в затруднительное положение, поскольку ей нужно было либо признать
политическую преемственность между советским строем
и дореволюционным прошлым России, либо отречься от священных
истоков российской государственности. Когда в 1986 г. Горбачев
провозгласил курс перестройки, он никак не высказывал своей позиции
по отношению к событию, которое многие в стране считали
краеугольным камнем российской истории, и многие наблюдатели за
рубежом сочли это своеобразным тестом на искренность
реформаторских намерений [924].
В первые годы после избрания Горбачева на высший партийный
пост партия не давала повода думать, что она планирует привлечь
общественное внимание к приближающемуся тысячелетнему юбилею.
Напротив, она старалась минимизировать такое внимание. В марте
1985 г. на заседании ЦК КПСС обсуждались меры контрпропаганды,
которые должны были отвлечь внимание преимущественно зарубежных
кругов от юбилея. Александр Яковлев, заместитель заведующего
отделом пропаганды и будущий идеологический «архитектор»
перестройки, проинформировал собравшихся:
Через три года исполняется 1000-летие введения христианства на Руси.
Противник пытается использовать эту дату в подрывных целях. Такая
работа ведется уже сейчас. На Западе издается 10-томная «История
Русской Православной Церкви». Широкая пропаганда ведется по радио.
Осуществляются нападки на нашу демократию. Стремится усилить свое
влияние Ватикан. Войтыла мечтает приехать в СССР с политическими
целями. Украинская буржуазно-националистическая клерикальная
эмиграция муссирует вопрос о восстановлении униатской церкви
в Украине, способной якобы защитить украинский народ от «угрозы
русификации». Не следует преувеличивать возможности влияния на
население нашей страны зарубежной клерикальной пропаганды, но
в то же время нельзя и недооценивать действия идеологического
противника.
Если Яковлев подчеркивал опасность зарубежного внимания к юбилею,
то Николай Рыжков, занимавший пост председателя Совета министров
СССР, выступал против организации широкой кампании
контрпропаганды: «С одной стороны, мы не можем недооценивать
зарубежную клерикальную пропаганду и должны давать должный отпор
враждебным акциям против нашей страны. С другой стороны, нужно
проявить взвешенный, спокойный подход, чтобы не привлекать к этому
событию особого внимания». Харчев, который недавно, после ухода
в отставку Куроедова в 1984 г., был назначен председателем Совета по
делам религий, также отмечал угрозу политизации юбилея: «Объектом
своей пропаганды зарубежные антисоветские, клерикальные центры
избрали не только верующих, но и церковь, стремясь воздействовать на
ее иерархию, чтобы столкнуть ее с лояльных позиций в отношении
государства» [925].
Готовясь к тысячелетнему юбилею, советская политическая элита
пыталась найти баланс между конкурирующими целями партии
и правительства внутри страны и учесть деликатный характер
религиозного вопроса на международной арене.
Пока партия пыталась нейтрализовать «буржуазно-клерикальную
пропаганду», значимость приближающегося юбилея выходила из-под ее
контроля. 2 июня 1985 г., когда папа Иоанн Павел II издал энциклику
«Slavorum Apostoli» («Апостолы славян») — в память святых Кирилла
и Мефодия, которые принесли христианство на славянские земли
в IX в., — партийное руководство отметило, сколь изобретательно папа
использует этот повод для обращения к современной ситуации. В своей
энциклике Иоанн Павел II рассуждал о том, что Европу объединяют
общие христианские корни, говорил о Кирилле и Мефодии как об
«отцах их [славян] христианской веры и их культуры» и подчеркивал
различие между нацией, или народом, и государством, которое он
считал искусственной целостностью и моральная легитимность
которого основывается на обеспечении достойного существования
народа (а не наоборот). Партийное руководство также обратило
внимание на то, что папа уделил особое внимание религиозным
юбилеям, вспомнив о тысячелетней годовщине крещения Польши
в 1966 г., но отдельно упомянул «тысячелетие крещения киевского
князя святого Владимира», которое, как он педантично указал, будет
праздноваться «через несколько лет, а именно в 1988 году» [926].
В ответ Секретариат ЦК КПСС в сентябре 1985 г. принял секретное
постановление «О противодействии зарубежной клерикальной
пропаганде в связи с 1000-летием введения христианства на
Руси» [927] и дал указания Институту научного атеизма и его
Киевскому филиалу усилить меры по контрпропаганде «в связи
с активизацией православного духовенства внутри страны
и зарубежных религиозных центров» [928].
Даже в 1986 и 1987 гг., когда после открытия шлюзов гласности
в советской общественной жизни зазвучало множество голосов, в том
числе и религиозных, партия оставалась приверженной атеизму.
В феврале 1986 г. на XXVII съезде КПСС Горбачев призвал членов
партии проявлять бдительность, когда «под видом национальной
самобытности» в некоторых произведениях литературы и искусства
религия изображается «в идиллических тонах». Горбачев напомнил
своим слушателям, что религия противоречит «нашей идеологии,
социалистическому образу жизни, научному мировоззрению». Далее он
указал, что равнодушие к религии и атеизму является симптомом более
глубокого кризиса, поразившего советское общество, и настаивал, что
в сферах нравственного и атеистического воспитания «застой просто
нетерпим» [929]. Новая Программа партии, принятая на съезде, по-
прежнему включала раздел «Атеистическое воспитание», а новый
партийный устав по-прежнему обязывал членов партии «вести
решительную борьбу... с религиозными предрассудками» [930]. Со
своей стороны, Егор Лигачев, стоявший на консервативных позициях
оппонент Горбачева в ЦК КПСС, заявил, что «иногда отдельные люди,
встречаясь с нарушениями норм социалистической морали, начинают
поговаривать о целесообразности проявлять терпимость к религиозным
идеям, вернуться к религиозной нравственности. Они забывают
азбучную истину марксизма, что религия отнюдь не является
источником нравственного начала в человеке»[931]. В редакционной
статье, опубликованной на первой полосе газеты «Правда» 28 сентября
1986 г., критиковали «отдельных писателей» за то, что они «порой
„кокетничают“ с боженькой, объективно способствуя оживлению
богоискательских идей», и провозглашали, что «ленинский наказ
о классово-партийном подходе к религии как ложной от начала и до
конца системе взглядов на мир и сегодня остается в силе» [932].
По мере приближения тысячелетнего юбилея и усложнения
политической картины в стране в годы перестройки партийное
руководство, несмотря ни на что, продолжало проводить прежний курс
по отношению к религии — хотя уже стало очевидным, что
значительная часть советского общества больше не прислушивается
к его мнению. В феврале 1987 г. СДР разослал секретный циркуляр, где
информировал своих региональных уполномоченных, что в канун
юбилея Московский патриархат может выпустить Библию,
религиозную литературу и фотоальбомы и даже снять документальный
фильм, позитивно изображающий религиозную жизнь в СССР. Целью
всего этого является «развеять миф, созданный буржуазной
пропагандой, об отсутствии свободы совести в СССР, разоблачить ложь
клерикальных и антисоветских организаций, стремящихся
дискредитировать политику КПСС и Советского государства
в отношении религии, церкви и верующих, разжечь
националистические настроения». Московский патриархат, сообщалось
в циркуляре, «принимает меры по совершенствованию информирования
зарубежных кругов о свободе совести в нашей стране, о ходе
подготовки к 1000-летию „крещения Руси“». В то же время,
предостерегал Совет по делам религий, церковь пытается «укрепить
свой авторитет» в стране, «провести параллель» между тысячелетием
православия на Руси и тысячелетием самой истории России, чтобы
показать, «что церковь была „всегда с народом“»[933]. Задача
чиновников на местах состояла в том, чтобы сводить к минимуму
влияние церкви на советское общество, но в то же время по-прежнему
позволять церкви играть свою роль в противодействии зарубежной
антисоветской пропаганде, обвинявшей Советский Союз в нарушении
прав верующих.
Партия продолжала противодействовать попыткам признать
крещение Руси поворотным событием отечественной истории,
а православие — стержнем русской культуры. В 1987 г. на страницах
партийного журнала «Коммунист» историк Александр Клибанов
и философ Лев Митрохин признали важность этих вопросов, особенно
в связи «с приближением тысячелетия введения христианства на Руси»,
но предостерегали от «нездорового ажиотажа, нагнетаемого как
церковными апологетами, так и теми неразборчивыми в средствах
зарубежными дилетантами, которые обслуживают подрывные
идеологические центры на Западе» [934]. В другой статье,
опубликованной в том же 1987 г., Яковлев признал, что «принятие
христианства способствовало связям Киевской Руси с тогдашними
центрами цивилизации» и что тем самым «церковь сыграла
определенную роль, умалять которую нет оснований». Но при этом он
категорически отрицал стержневую роль религии в русской культуре.
«Но, как говорится, богу — богово, церкви — церковное, а нам,
марксистам — полнота правды, — писал Яковлев. — И с этих позиций
должны быть решительно отвергнуты любые попытки изобразить
христианство как „матерь“ русской культуры» [935]. В то же время
Харчев продолжал настаивать на строго религиозном характере
приближающегося юбилея, доказывая в своей статье, опубликованной
в ноябре 1987 г. в журнале «Наука и религия», что это «праздник ряда
христианских конфессий, существующих в нашей стране», но его
нельзя «причислять к числу общенародных празднеств»[936]. В начале
1988 г. партия продолжала наставлять свои кадры, как противостоять
идеологическим диверсиям. Московская городская партийная
организация в январе проводила семинар в Доме политического
просвещения, а в феврале созвала двухдневную конференцию по
«усилению атеистического воспитания в современных условиях», где
провела инструктаж партийных кадров относительно приближающегося
юбилея [937].
В этой обстановке решение Горбачева о встрече с патриархом
Пименом 29 апреля 1988 г., во время которой было объявлено, что
государство считает тысячелетие крещения Руси общенародным
торжеством, стало неожиданностью не только для зарубежных
наблюдателей и советского общества, но даже для самого партийного
аппарата [938]. Харчев, комментируя событие по горячим следам,
объяснил это решение желанием исправить ошибки советского
прошлого [939], но были и основания усмотреть в нем политический
расчет, порожденный самой непосредственной причиной: кризисом
политики перестройки. Горбачев только что пережил так называемое
«дело Нины Андреевой» — наступление консервативных
антиперестроечных сил, срежиссированное Лигачевым: 13 марта 1988 г.
газета консервативной направленности «Советская Россия»
опубликовала письмо ленинградского преподавателя химии Нины
Андреевой, где утверждалось, что политика гласности и перестройки
зашла слишком далеко и угрожает дискредитацией советской истории
и советских ценностей. Письмо, озаглавленное «Не могу поступаться
принципами», вышло в свет, именно когда Горбачев и Яковлев,
принципиальные сторонники реформ, были в заграничной поездке;
в письме цитировалась речь самого Горбачева на февральском Пленуме
ЦК КПСС, где он говорил, что «мы должны и в духовной сфере,
а может быть, именно здесь в первую очередь, действовать,
руководствуясь нашими, марксистско-ленинскими принципами.
Принципами, товарищи, мы не должны поступаться ни под какими
предлогами»[940]. Следование этому призыву, как доказывала
Андреева, должно означать сворачивание тех самых реформ, которые
были инициированы Горбачевым, поскольку они дезориентируют
советскую молодежь и ставят под угрозу моральное единство
советского общества. Письмо Нины Андреевой, а затем медийные
и общественные дискуссии вокруг него стали критической точкой
в назревающем конфликте между партийными либералами
и консерваторами по вопросу о масштабах и курсе реформ [941].
Безусловно, в перспективе Горбачев учитывал и приближавшийся
приезд в СССР президента Рейгана на саммит, проходивший в Москве
с 29 мая по 3 июня 1988 г. Хотя официальная повестка саммита была
посвящена проблемам ядерного оружия средней дальности,
религиозный вопрос всегда был значим в столкновениях Рейгана
с «империей зла» и приобретал особую важность в свете
приближавшегося юбилея крещения Руси[942]. Действительно, в ходе
своего визита Рейган встретился с советскими религиозными
диссидентами в посольстве США в Москве и посетил Данилов
монастырь, место важнейших торжеств в честь тысячелетнего
юбилея [943]. Поэтому необходимо рассматривать обращение
Горбачева к религиозному вопросу в политическом контексте того
момента. Горбачев принял решение встретиться с патриархом Пименом
буквально за несколько недель до дня этой встречи, 29 апреля 1988 г.,
—
вскоре после «дела Нины Андреевой», разгоревшегося в марте,
и незадолго до приезда Рейгана в Москву, который ожидался
в мае [944].
В конце марта 1988 г., вскоре после визита патриарха в Кремль,
Харчев, выступая перед партийными кадрами в Высшей партийной
школе в Москве, объяснил своей обескураженной аудитории, что новая
партийная линия в отношении религии представляет собой
политическую стратегию: «Мы, партия, попали в ловушку своей
антицерковной политики запрещений и ущемлений — отсекли попа от
верующих, но верующие не стали от этого больше доверять местным
органам, а партия и государство все больше теряют над верующими
контроль. И вдобавок, как следствие, мы имеем появление бездуховных
верующих, т. е. тех, которые исполняют обрядовую сторону
и безразличны ко всему. А главное — безразличны к коммунизму...
искренне верующего для партии легче сделать верующим также
и в коммунизм». Церковь, как признал Харчев, уцелела, и не только
уцелела, но и «омолодилась». Поэтому, чтобы держать религию под
контролем, у партии возникает новая задача: «воспитание нового типа
священника». Он также рассказал слушателям, что получает
многочисленные жалобы о растущем освещении религиозных тем
в советских средствах массовой информации, но что в новой
политической реальности люди должны начать воспринимать религию
и церковь как нормальную часть жизни советского общества [945]. Эти
закулисные маневры показывают, что даже когда Горбачев сменил курс
в отношении религии, политическая элита продолжала воспринимать
православную церковь прежде всего как лояльное учреждение, которое
можно использовать в политических целях, и считать, что даже когда
религия станет частью общественной жизни СССР, партия должна по-
прежнему держать ее под контролем. Но в 1989 г., когда в Советском
Союзе были проведены первые многопартийные выборы, патриарх
Пимен и митрополит Алексий, а также около 300 священнослужителей
(190 из них представляли Русскую православную церковь) были
избраны в советы народных депутатов разных уровней — подобное
было бы просто немыслимым до 1988 г. и тем более до
перестройки [946]. Религия вошла в сферу политики.
Для партии возвращение религии в политику и общественную жизнь
стало неожиданностью, поскольку это входило в противоречие
с конечной целью построения коммунистического общества,
исходившей из того, что религия неминуемо изживет себя и исчезнет.
В XX в. эти ожидания базировались на теории секуляризации,
подразумевавшей, что по мере того, как общество становится более
индустриализованным, урбанизированным, образованным
и разнообразным, религия будет утрачивать свое значение — как для
общества в целом, так и для отдельного человека. Религия будет
уходить из публичной сферы и останется важным феноменом только
в частной жизни, постепенно утрачивая свою значимость даже в этой
узкой области человеческого опыта. На протяжении почти целого
столетия модель секуляризации определяла понимание места религии
в современном обществе и достигла пика своего авторитета в 1960-е гг.,
когда светские и религиозные наблюдатели и в капиталистических,
и в социалистических странах сходились в том, что конец религии
неизбежен и неминуем — хотя одни сожалели об этом, а другие
торжествовали [947]. В течение 1970–1980-х гг. тем не менее
представители общественных наук (и в капиталистических,
и в социалистических странах) утратили былую уверенность
в отношении сущности религии и ее будущего, а к 1990-м гг . все громче
стали звучать высказывания о неадекватности модели секуляризации
для объяснения места религии в современном мире. Более того, иногда
те же самые ученые, которые построили свою научную карьеру на
изучении процессов секуляризации, стали публиковать работы, где
размышляли, в чем именно эта концепция оказалась неверной [948].
Идеологические и политические перемены, которые последовали за
широким празднованием тысячелетия христианства на Руси, были
радикальными и стремительными. На XIX партийной конференции
(28 июня — 1 июля 1988 г.), состоявшейся всего через пару недель
после окончания юбилейных торжеств, Горбачев по существу
инициировал отделение коммунистической идеологии от советской
политики, сказав: «Мы не скрываем своего отношения к религиозному
мировоззрению как нематериалистическому, ненаучному. Но это не
основание для неуважительного отношения к духовному миру
верующих людей» [949]. Идея отделения идеологии от политики
получила дальнейшее развитие в докладе о праздновании тысячелетия
крещения Руси, который директор ИНА Виктор Гараджа 1 августа
1988 г. направил в отдел пропаганды ЦК КПСС. Гараджа утверждал,
что партии удалось вывести юбилей «за рамки чисто церковного
праздника», и расценил это как событие, имеющее «важное культурно-
историческое и политическое значение». Он также отметил, что
первоначальные попытки партии «ограничить» масштаб празднования
и «придать ему исключительно религиозный характер» были
ошибочны, что позволило «буржуазно-клерикальной пропаганде»
заработать «идеологический капитал» [950]. В то же время Гараджа
отметил, что масштаб юбилейных торжеств дезориентировал рядовых
членов партии. Это также мобилизовало консервативные
антиперестроечные элементы, которые «под флагом борцов за
„воинствующий атеизм“» теперь обвиняют саму партию
в богоискательских тенденциях и в «заигрывании с религией
и церковью». Советское общество тем не менее определенно
отвернулось от атеизма. Опросы общественного мнения вскоре после
юбилея показали следующее: 41,4% опрошенных считали, что
атеистическая работа принесла больше вреда, чем пользы, 34,3%
считали, что она была бесполезной, и только 24,3% увидели в ней хоть
какой-то смысл. С точки зрения Гараджи, это подчеркивает, что встреча
Горбачева с патриархом и последующее празднование тысячелетия
крещения Руси имели «принципиальное значение» и означали
«официальное признание того, что религиозные организации могут
и должны найти свое место в решении стоящих перед всем нашим
обществом задач» [951].
В 1989 г. партийные теоретики продолжали размышлять об
«атеистическом аспекте работы партии по идеологическому
обеспечению перестройки», признав необходимость не только изменить
подходы к атеистической работе, но и пересмотреть марксистскую
позицию по вопросу о значении религии в социалистическом обществе.
Религиозность, как говорилось в докладе Гараджи, остается массовым
явлением и «представлена практически во всех социальных
и национальных средах». Даже если советское общество «в целом»
может считаться светским, «миф о социализме как обществе, свободном
от религии, подталкивает к попыткам преодолеть религию». Если
в теории этой цели предполагалось достичь «за счет идеологического
воздействия, т. е. „перевоспитания“ верующих в атеистов», то на
практике это вело к применению «административно-командных
методов». Теперь стало ясно, что такая форма атеистической работы «не
только не эффективна, но нередко сопряжена с серьезными
политическими и идеологическими издержками». В условиях
«социалистического плюрализма мнений», сохраняющейся массовой
религиозности и «активной деятельности религиозных организаций»
автор доклада предлагал, что было бы важно «четко разграничить два
аспекта в отношении партии к религии и церкви — политический
и мировоззренческий, т. е. исключить возможность перевода
мировоззренческой противоположности марксизма и религии в русло
политической конфронтации коммунистов с верующими». Короче
говоря, если религия сохраняется в «долгосрочной перспективе»,
существенно важно «обеспечить консолидацию общества на платформе
обновления социализма» — задача, которая потребует «сотрудничества
верующих и неверующих, нормальных государственно-церковных
отношений» [952].
В 1989 г. партия также предприняла изучение «идеалов
и ценностных ориентаций советской молодежи», проведя опрос 10
549 молодых людей в разных регионах Советского Союза, чтобы
определить, «сохранили ли широкие массы свою приверженность
идеалу коммунизма». Как оказалось, не сохранили. Партия выяснила,
что в условиях идеологического и политического плюрализма советская
молодежь не проявляет «идейно-политического единства» в оценке
«исторического выбора», сделанного в 1917 г. Кроме того,
в большинстве своем советская молодежь отвергает классовые
ценности, принимая ценности общечеловеческие, и характеризуется
«полицентричным нравственным сознанием». С другой стороны,
больше не пользовалась поддержкой коммунистическая идея, и только
9% опрошенных молодых людей признались, что убеждены
«в истинности одного из основополагающих тезисов марксизма-
ленинизма о неизбежности перехода всех стран к новому типу
формации» [953]. К 1990 г. партия была вынуждена признать, что
советское общество снялось с идеологического якоря и стремительно
уплывает прочь от коммунизма. В великой битве за сердца и души
человечества партия потерпела поражение.
Но где же в таком случае остался атеизм? В декабре 1988 г.
Филимонов, заместитель директора ИНА и председатель секции
пропаганды научного атеизма общества «Знание» РСФСР, отметил, что
пропагандисты атеизма оказались в «странной» ситуации:
Возвращение к ленинским принципам отношения к религии
рассматривается как уступка религии. В Литве — атеизм похоронен,
в обществе «Знание» ликвидирована секция по пропаганде научного
атеизма. В Латвии вводится закон божий.
Мы выступаем за перестройку, за отказ от привычных стереотипов.
В связи с этим встает вопрос: быть атеистической пропаганде или не
быть. Как быть с формой диалога верующих и неверующих? Надо ли
бороться с религией? Как быть с самим понятием «научный атеизм»,
убрать его или заменить его другим? Вопросов много и отвечать на них
надо [954].
В течение всего советского периода атеистические кадры пытались
ответить на эти вопросы в разное время и разным образом. В ходе
поисков ответа они многое узнали о своем оппоненте и сущности
религии, о самих себе и сущности атеизма и, наконец, об отношениях
между религией и атеизмом. За 1989–1990 гг. общество «Знание» вело
долгие споры с уклоном в самоанализ о том, что ждет советский атеизм
в свете политических перемен, которые несет с собой перестройка.
Одни члены общества настаивали, что атеистам «необходимо
определить, от какого наследства мы отказываемся», тогда как другие
задавались вопросом, мудро ли «отказаться от каких-то стереотипов,
которые мы сами и создавали». Кто-то даже заявил: «Теперь ясно всем,
что социализма у нас не было, а та система, в которой мы существуем,
причина обострения религиозных вопросов. Плюрализм плюрализмом,
а атеизм остается, как мировоззрение. Средства массовой информации
подогревают интерес к религии». Некоторые ставили вопрос, нужна ли
вообще секция пропаганды научного атеизма в обществе «Знание».
Вскоре затем секция пропаганды научного атеизма сменила название
и стала секцией «религиоведения и свободомыслия» [955].
Когда советский эксперимент провалился, журнал общества
«Знание» «Наука и религия» из платформы советского атеизма
превратился в механизм религиозного возрождения [956].
Действительно, многие атеистические акции журнала, проводимые
в конце советского периода, имели непредвиденные последствия. Этот
журнал был первым советским периодическим изданием,
предоставившим религии право голоса путем публикации бесед
с верующими. На страницах журнала читатели знакомились с историей
религии, с сакральными местами и религиозными обрядами [957].
Работа в журнале изменила и самих специалистов по научному атеизму.
В то время как они пытались осмыслить позднесоветский
идеологический и духовный ландшафт, «Наука и религия» продолжала
поиски материалов с позитивным содержанием, стремясь «не оставлять
читателя духовно пустым» [958]. Пытаясь улучшить атеистическую
работу, сотрудники журнала становились все более сведущими
в вопросах истории религии и современного религиозного ландшафта,
что заставляло их отказываться от идеологических стереотипов
и задаваться новыми вопросами — хотя показательно, что даже после
интенсивных дискуссий о смене названия журнала, которое должно
было отразить поворот к вопросам мировоззрения и духовной жизни,
журнал в конце концов сохранил прежнее название — «Наука
и религия» [959]. В 1991 г. общество «Знание» лишилось двух главных
центров атеистической работы: Дома научного атеизма в Москве
и Московского планетария. Дом научного атеизма превратился
в Центральный дом духовного наследия [960]. Московский планетарий
был приватизирован и пришел в упадок. 12 апреля 1999 г., когда День
космонавтики совпал с православной Пасхой, группа российских
художников накрыла купол планетария гигантским красным
полотнищем с буквами «ХВ» — то есть «Христос Воскресе!» — над
входом (см. ил. 19) [961]. В 1991 г. Институт научного атеизма был
преобразован в Институт религиоведения АОН при ЦК КПСС —
и вскоре после этого ликвидирован вместе с Коммунистической партией
Советского Союза.
Ил. 19. Акция ХВ-1999. К. Асс, К. Вытулева, А. Добров, Д. Лебедев,
О. Саркисян. Пасхальная инсталляция в Московском планетарии.
12.04.1999. Фото С. Н . Поминов. ЦГА Москвы. Арх. No 0-7027
Уход атеизма
В 1879 г. Карл Маркс, отвечая на вопрос репортера газеты «Чикаго
трибьюн» о том, хотел ли бы он и его последователи, чтобы религия
«была уничтожена, искоренена до основания», сказал: «Мы знаем... что
насильственные меры против религии бессмысленны; но наше мнение
таково: религия будет исчезать в той мере, в какой будет развиваться
социализм» [962]. По мере развертывания советского эксперимента эта
цитата из Маркса, которую регулярно приводили в публикациях, речах
и докладах на темы атеизма, стала звучать скорее зловеще, чем
пророчески. Если в Советском Союзе до сих пор сохранялась религия,
трудно было не задуматься о том, насколько Советский Союз
приблизился к коммунизму, и, более того, о самих перспективах
коммунистического строительства. На протяжении всей своей истории
советский атеизм был орудием расчистки пути к новому миру — он был
нужен, чтобы сметать с дороги все старое, отсталое и ложное,
освобождая место для нового, прогрессивного и истинного.
Предназначение атеизма состояло в том, чтобы изгонять чуждые
убеждения, идеи и образ жизни, укрепляя политический,
идеологический и духовный авторитет советского коммунистического
проекта. В этих пределах на протяжении советского периода атеизму
давали разные определения и по-разному трактовали его функции; эти
изменения отражали то, как партия на том или ином этапе понимала
опасность религии для советского проекта.
На раннем этапе советской истории, когда власть партии была еще
неустойчивой и на кону стояла судьба революции, большевики
воспринимали религию в первую очередь как политическую проблему.
Секулярный характер ленинского декрета 1918 г. об отделении церкви
от государства и школы от церкви изначально был направлен на то,
чтобы лишить православную церковь привилегированного положения,
которое она занимала в российской политической жизни , и укрепить
господство большевиков над центральными институтами современного
государства: бюрократией, правом и образованием. Однако —
благодаря массовому сопротивлению большевистским реквизициям
церковной собственности в годы Гражданской войны
и сохраняющемуся влиянию духовенства на протяжении 1920-х гг. —
быстро выяснилось, что религия по-прежнему остается значимой
социальной силой. Поэтому даже после декларации митрополита
Сергия о лояльности советской власти (1927), означавшей отказ
православной церкви от претензий на политическую автономию,
большевики продолжали видеть в религии политическую угрозу,
поскольку она могла мобилизовать рядовых людей на борьбу против
революции и советской власти.
Принятое в годы первой сталинской пятилетки постановление
1929 г. «О религиозных объединениях» должно было подорвать
социальное влияние религии, вытеснив ее из общественной жизни.
С этого времени религиозные организации не только были отделены от
бюрократии, права и образования, но и утратили право заниматься
любыми видами благотворительности и социальной работы, вести
религиозное образование. Постановление 1929 г. ограничило
религиозную активность литургической практикой в церковных стенах,
что и означало вытеснение религии из общественной жизни. В этом
контексте атеистическая работа при Ленине и Сталине — хотя она
включала множество компонентов, в том числе научно-
просветительскую работу и борьбу за новый коммунистический быт —
носила прежде всего антиклерикальный характер. Воинствующий
атеизм раннего советского периода, достигший своего апогея в годы
«безбожной пятилетки» и сталинской культурной революции, должен
был подорвать авторитет церкви как учреждения и очистить публичное
пространство Советского Союза от символического влияния религии.
К тому времени, как Сталин в разгар Второй мировой войны, в 1943 г.,
возродил православную церковь, религия была практически вычеркнута
из советской общественной жизни и у церкви не было политического
влияния за пределами тех функций, которые ей оставило советское
государство. Воинствующий атеизм сделал свое дело и мог уходить.
Когда после смерти Сталина в 1953 г. Хрущев вернулся
к религиозному вопросу, религия стала расцениваться как
идеологическая проблема. После того как идеологическая кампания,
развернутая в июле 1954 г., привела к «грубому администрированию»
в отношении церкви и верующих, ЦК КПСС издал постановление от
10 ноября 1954 г., где указывалось, что теперь религию следует считать
не политически враждебной силой, а скорее чуждой идеологией.
Поскольку и сама православная церковь, и верующие теперь считались
«патриотичными», религия больше не представляла политической
опасности для советской власти, но по-прежнему обладала
способностью разлагающе воздействовать на сознание советских людей
и тем самым препятствовала дальнейшему движению по пути
прогресса. В соответствии с хрущевским проектом построения
коммунизма религию следовало истребить на корню, чтобы воспитать
в советских людях коммунистическую сознательность.
Поскольку передовой фронт войны с религией теперь проходил
через сознание советского человека, воинствующий атеизм раннего
советского периода уступил место научному атеизму. Целью
атеистической работы при Хрущеве было развитие научно-
материалистического мировоззрения, и для достижения этой цели
государство применяло две стратегии. Первая — осуществлявшаяся
правительственными чиновниками, в чью компетенцию входили дела
религий, — включала закрытие культовых учреждений, роспуск
религиозных общин и резкое снижение активности церкви путем
установления новых правовых и финансовых ограничений как для
религиозных организаций, так и для духовенства. Вторая стратегия —
проводившаяся через партийные органы и общественные организации,
такие как общество «Знание», — предполагала распространение
научного просвещения через формальное и неформальное образование,
средства печати и публичные лекции. Результаты были неоднозначны.
К концу кампании, в 1964 г., более половины культовых учреждений
в стране было закрыто, а энтузиазм советских людей в отношении
освоения космоса свидетельствовал, что они восприняли научное
просвещение. Но, взявшись за социологическое изучение советского
общества, специалисты по научному атеизму выяснили, что закрытие
церквей не повлекло за собой ожидаемого сокращения числа
религиозных обрядов или сумм церковных доходов, а научное
просвещение не всегда порождало атеистические убеждения. Урок
хрущевской антирелигиозной кампании для советских атеистических
кадров состоял в том, что многим советским людям оказалось нетрудно
примирить науку с религией, а веру или неверие с религиозной
обрядностью. Многие по-прежнему опирались на религию как на
источник моральных норм, традиций и ритуалов перехода. Таким
образом, религия продолжала формировать умонастроения и быт
сообщества, семьи и отдельных людей.
Опыт хрущевской эпохи заставил теоретиков атеизма
переосмыслить то, как они понимают религию и чего надеются достичь
с помощью атеизма, и в брежневскую эпоху это привело к движению
в сторону позитивного атеизма. Вместо того чтобы просто
фокусировать внимание на критике и отрицании, пропагандисты
и эксперты сконцентрировались на выработке атеистических убеждений
и «социалистического образа жизни». В ходе атеистической работы
стали поднимать моральные и духовные вопросы. На страницах органа
общества «Знание», журнала «Наука и религия», шли интенсивные
дискуссии о превращении журнала в печатный орган, поднимающий
мировоззренческие вопросы, и даже о переименовании его в «Мир
человека». Центр атеистической работы также стал смещаться от
собственно веры к обрядности и повседневной жизни. При Брежневе
партийное руководство инвестировало значительные ресурсы во
внедрение социалистической обрядности и нового коммунистического
быта — вернувшись к тем проектам, которые возникли на заре
советского периода, но были отвергнуты в конце 1930-х гг . В контексте
эпохи «развитого социализма» социалистическая обрядность
рассматривалась не только как духовное основание социалистического
образа жизни, но и как лучший способ воспитания идейной
убежденности. Оказавшись в неожиданной для себя роли духовных
наставников, советские атеистические кадры перенесли свое внимание
на внутренний мир обычного советского человека. Этот поворот
отражал признание того, что для успешного воплощения советского
атеистического проекта необходимо обратиться к новым вопросам
и переместиться в новые сферы.
Изменения в партийной трактовке проблем атеизма и религии на
протяжении советского периода можно проследить по тому, как
смещался локус атеистической работы. Если в начале советского
периода воинствующий атеизм избрал своей мишенью физическое
пространство церкви — церковные здания использовали для иных целей
(в качестве библиотек, клубов или даже складских сооружений),
превращали в музеи или сносили, — то научный атеизм, делавший упор
на просветительство, перенес атеистическую работу в лекционные
аудитории и планетарии. Когда во времена Брежнева религию стали
воспринимать прежде всего как духовный феномен, укорененный
в повседневной жизни, атеистическая работа была перенесена
в приватную сферу. Поскольку дом и семью теперь рассматривали как
центры сохранения и воспроизводства религии, наиболее важными
местами атеистической работы стали считаться обрядовые
пространства, такие как новые дворцы бракосочетания и дома
свадебных торжеств.
Наконец, когда стало ясно, что религия не подчиняется
марксистским законам исторического развития, атеисты были
вынуждены примерить на себя новую роль и стать не только
пропагандистами, но и социологами. Когда партия мобилизовала на
изучение религии и секуляризации такие дисциплины, как социология
и этнография, восприятие духовного ландшафта советского общества
в глазах партийной элиты стало более детальным и сложным. Наиболее
важной и удивительной тенденцией, которую обнаружили специалисты
по научному атеизму, взявшись за изучение советского общества, стала
индифферентность как особая позиция. Это представлялось более
тревожной тенденцией, чем сохраняющаяся религиозность. Если
верующих можно было переубедить и обратить на путь истины, то
индифферентные люди не питали интереса к тем вопросам, которые
составляют сущность религии и атеизма. Им не было дела до
религиозных или идеологических претензий на истину, и они ничуть не
беспокоились о том, соответствуют ли их действия их убеждениям,
поскольку у них не было твердых убеждений. Тот факт, что
индифферентность была особенно выражена в среде советской
молодежи, только подчеркивал опасность, которую она представляла
для коммунистической идеологии, и делал воспитание атеистических
убеждений главной целью атеистической работы в конце советского
периода.
Исторически советский атеизм развивался через полемический
диалог с религией в теории и через прямое противоборство с религией
на практике. Именно благодаря этому противоборству были выявлены
противоречия атеизма, указывавшие на более глубокий кризис
коммунистической идеологии. Сражаясь с религией как политической,
идеологической и духовной инстанцией, советский атеизм боролся за
право заполнить святые места, которые теперь стали пустыми.
Неспособность атеизма обращаться к экзистенциальным вопросам,
соответствовать духовным потребностям людей и воспитывать в массах
атеистические убеждения породила представление, что атеизм — скорее
пустое место, чем значимая категория. Но если сделанное в 1970-е гг.
открытие, что советские люди безразличны к религии и атеизму,
указывало на поражение советской идеологии, то сделанное в 1980-е гг.
открытие, что те же самые советские люди обращаются
к альтернативным духовным, идеологическим и даже политическим
убеждениям, снова превратило религию в политическую проблему.
Обеспокоенность партийного руководства индифферентностью
выявляет главный парадокс советского атеизма: советский атеизм не
имел отношения к секуляризации или секулярности; он требовал
обращения в иную веру. Советский атеизм не был секулярным,
поскольку секулярность терпимо относится к индифферентности; более
того, она ее предполагает. Чтобы оставить сферу политики
и общественной жизни государству, а свои духовные убеждения
признать частным делом, подданные светского государства должны до
некоторой степени быть индифферентными по отношению и к своим,
и к чужим убеждениям. Однако для советского атеизма вытеснение
религии в частную сферу никогда не считалось приемлемым решением
проблемы в долгосрочной перспективе, а индифферентность
и нейтралитет были недопустимыми позициями [963]. При Сталине
партийное руководство использовало воинствующий атеизм, чтобы
вытеснить религию на обочину политической и общественной жизни.
При Хрущеве оно мобилизовало научный атеизм, чтобы подорвать
претензии религии на истину. Но именно кампания по изгнанию
религии из сферы духовной жизни стала последней линией фронта
и решающим сражением в войне против старого мира. Победа в этом
сражении была одним из необходимых условий построения
коммунизма. В конечном итоге советский атеизм столкнулся
с центральной проблемой всех революционных проектов, светских
и религиозных, которые требуют нравственного преображения
человека: как привлекать и сохранять своих сторонников, внушать им
определенный набор убеждений и строить самовоспроизводящееся
общество, жизнь в котором наполнена смыслом. Предполагалось, что,
усвоив атеистические убеждения, советское общество станет
сообществом коммунистов в полном смысле слова. Оно оказалось
далеко от этого идеала.
***
Историю храма Христа Спасителя в Москве можно рассматривать
как палимпсест войны советской власти против религии. Кафедральный
собор, решение о строительстве которого было принято в 1813 г.
императором Александром I в ознаменование победы России над
Наполеоном в Отечественной войне 1812 г., стал символом российской
военной мощи и гражданского патриотизма [964]. Местоположение
в центре Москвы, внушительные размеры, архитектурные цитаты из
древнерусского зодчества сделали собор впечатляющим монументом
в честь русского народа — ответом российского самодержавия
европейской эпохе национализма. 5 декабря 1931 г., в разгар
культурной революции, разворачивавшейся в годы первой сталинской
пятилетки, по решению советских властей храм Христа Спасителя был
взорван, а его материалы были использованы при строительстве разных
объектов эпохи социализма, в том числе московского метрополитена.
На месте храма большевики планировали воздвигнуть Дворец Советов,
колоссальную башню, увенчанную гигантской статуей Ленина. Дворец
Советов был задуман как свидетельство триумфа нового мира,
воздвигнутое на руинах старого — дворец для пролетариев на месте
дворцов их угнетателей.
В первые годы после разрушения собора москвичей, проходивших
мимо огороженной территории, где он прежде был расположен,
встречал начертанный на заборе лозунг «Вместо очага дурмана —
дворец» [965]. Но пролетариат так и не дождался обещанного ему
дворца. С началом войны в 1941 г. стальные конструкции фундамента
были переплавлены, а проект был отвергнут, оставив котлован в центре
Москвы. Затем в 1960 г., на пике хрущевской антирелигиозной
кампании, пустое место было наконец заполнено: его занял
грандиозный открытый бассейн с подогревом, радовавший москвичей
на протяжении десятилетий. Но история собора на этом не кончается.
В 1988 г. сатирический журнал «Крокодил» опубликовал любопытную
репродукцию картины В. Балабанова «Пловец», где была изображена
вышка для прыжков над бассейном, а в воде под ней — перевернутое
отражение храма Христа Спасителя и торжествующий Георгий
Победоносец. Картина оказалась пророческой; по окончании
коммунистической эпохи, после распада СССР правительство Москвы
восстановило храм Христа Спасителя на изначальном месте
и в изначальном виде [966].
Во многих отношениях историю храма Христа Спасителя можно
воспринимать как аллегорию судьбы религии и атеизма в рамках
советского коммунистического проекта. Большевики воспринимали
разрушение символов старого мира как способ во всеуслышание
заявить о своем видении будущего. Но поскольку разрушение
религиозных объектов, символов и традиций несло в себе явное
антирелигиозное послание, оно едва ли могло укрепить приверженность
народа делу коммунизма. Тот факт, что собор был разрушен якобы для
того, чтобы освободить место для Дворца Советов, а дворец так никогда
и не воплотился в реальность, подчеркивает, что после разрушения
святынь осталось пустое место. То, что это место пустовало
десятилетиями и было наконец занято плавательным бассейном —
пространством современного досуга, которое едва ли можно считать
памятником утопическим революционным обещаниям, — красноречиво
свидетельствует о попытках советского атеизма наполнить новым
смыслом созданное им пустое место.
***
Почему же Коммунистическая партия Советского Союза
срежиссировала развод между коммунизмом и атеизмом, между
коммунистической идеологией и политической властью? Чтобы
ответить на эти вопросы, необходимо вернуться к тому, какую роль
коммунистическая идеология играла в советском проекте, а атеизм —
в коммунистической идеологии. В рамках советского
коммунистического проекта идеология выполняла две существенные
функции: теоретическую и практическую. В теории советская
идеология представляла собой пространство для развития марксистско-
ленинского учения применительно к меняющимся историческим
условиям, и задачи идеологии состояли в том, чтобы отвечать на
вопросы, рассматривать проблемы и разрешать противоречия по мере
их возникновения. На практике идеология была механизмом,
необходимым партии для воспитания сознательных коммунистов
и создания гармоничного советского общества.
С самого начала религия была для советского коммунистического
проекта дестабилизирующей силой. Как постоянно напоминали
руководству идейно подкованные партийные кадры и советские
активисты, религия была единственной идеологической альтернативой
марксизму-ленинизму, которой было дозволено легально существовать
в замкнутом мире советского общества. Тем не менее вплоть до 1970-
х гг. религия еще как-то вписывалась в идеологический нарратив ,
поскольку ее по-прежнему можно было рассматривать как отмирающее
явление. Возвращение религии — сначала в советскую культуру, когда
при Брежневе интеллигенция «обратилась к духовности», затем
в медийное пространство, когда во времена Горбачева о религии стали
говорить в позитивном ключе в печати и на телевидении, и, наконец,
в общественную жизнь, когда в 1988 г. было официально
санкционировано празднование тысячелетия христианства на Руси, —
подорвало внутреннюю стройность советской коммунистической
идеологии [967]. Возвращение религии привело к тому, что атеизм
становился чуждым элементом. Если в 1970-е гг. пропагандисты
поднимали на щит образ убежденного атеиста как противовес
индифферентной молодежи, то к концу 1980-х гг. убежденные атеисты
стали восприниматься как догматичная секта, маргинальная — если не
чужеродная — по отношению к государству.
Возвращение религии подорвало основы той системы, нравственная
и политическая легитимность которой держалась на постоянном
публичном воспроизведении официального нарратива. Для
устойчивости советской коммунистической идеологии была
исключительно важна идейная последовательность, и в этом отношении
атеизм был необходим, чтобы подкреплять претензии партии на
монопольное владение истиной и доказывать нелегитимность
притязаний ее конкурентов. Однако к 1988 г. советское руководство
убедилось в концептуальных противоречиях и практической
неэффективности атеизма. Партийная верхушка уже не была уверена,
что идеология марксизма-ленинизма сможет преодолеть пропасть
между Коммунистической партией и советским обществом. Атеизм
оказался неспособен помочь партии справляться с охватившим
советское общество социальным кризисом или удерживать все менее
прочную монополию на власть. Тем не менее КПСС пыталась сохранять
идейную верность атеизму даже после 1988 г. Важнейшие перемены
заключались в том, что теперь партия отделяла собственную
атеистическую платформу от той позиции, которую было вынуждено
занять государство по отношению к религии, — а это означало, что
партия отказалась от своей монополии на истину. Отказ
Коммунистической партии от атеизма и поощрение религии пошатнули
устои идеологии марксизма-ленинизма, что, в свою очередь, подрывало
легитимность партии, которая всегда выступала против политических ,
идеологических и духовных притязаний религии и считала, что путь
к коммунистическому обществу лежит через отмирание религии.
Поэтому советский атеизм не умер; он был отвергнут той политической
силой, которая убедилась в его непригодности для удержания власти.
Брошенный в ходе развода между коммунистической идеологией
и государственной политикой, советский атеизм оказался осиротевшим
детищем утопии.
История советского атеизма в значительной степени помогает
понять логику едва ли не самых запутанных взаимоотношений
в советской истории: отношений между партией и государством.
Распространенное использование термина «партия-государство» для
характеристики советского политического строя предполагает, что
государство как таковое не было значимой политической целостностью.
И в значительной степени это справедливо — поскольку в течение
большей части советского периода принятие политических решений
было сосредоточено в высших эшелонах КПСС, тогда как государство
выступало в основном как исполнитель партийной воли. Но тем не
менее государство никогда не было полностью поглощено партией. Оно
сохраняло институциональную автономию, которая поддерживалась
благодаря юридическому разделению партийных и государственных
органов. Даже если это разделение было правовой фикцией (поскольку
власть была сконцентрирована в руках партии), оно создало условия для
падения партийного господства. Когда партия вместе со своей
идеологией утратила общественную легитимность и поддержку, она
оказалась политически бессмысленным институтом
Независимое Российское государство оказалось одновременно
и новым, и старым. Это была неоперившаяся демократия, которая при
этом позиционировала себя как государство с тысячелетним наследием,
обеспечивающим ее моральную легитимность, — нарратив, который
в некотором смысле поддерживался православной церковью и был
освящен публичным празднованием тысячелетия крещения Руси
в 1988 г. — событием, которое стали называть «вторым Крещением
Руси» [968]. Установка памятника князю Владимиру в центре Москвы
в 2016 г. стала визуальной кульминацией этого политического
нарратива [969]. Она ясно показала, что Российское государство
отвергает новый мир, провозглашенный в 1917 г., и принимает старый
мир, главной ценностью которого является именно то, что он старый.
Когда Горбачев санкционировал поворот к религии, придав
официальный статус торжествам в честь тысячелетия христианства на
Руси, этот шаг был политически значим — и чреват серьезными
последствиями [970]. Оглядываясь на прошедший 1988 г., писатель
Анатолий Стреляный заметил: «Наступил момент, когда и первый
советский поэт [Вознесенский], и первая советская певица [Пугачева]
поняли, что можно открыто носить крестик, и ничего им не будет».
По его словам, религия вернулась в общественную жизнь «не с черного
хода... а с парадного» [971]. Санкционированное возвращение религии
в общественную жизнь укрепило моральный авторитет государства, но
подорвало позиции КПСС, которая в новых идеологических
и политических реалиях занимала все более маргинальное
положение [972]. Разрыв советского коммунистического проекта
с атеизмом и выбор в пользу универсальных ценностей
и идеологического плюрализма обозначили конец партийной
монополии на истину, идейной сплоченности, а значит, нравственного
авторитета и политической легитимности партии. Коммунистическая
партия Советского Союза отбросила веру и стала просто политической
партией, которая больше не пыталась заглянуть в человеческую душу.
Список используемых аббревиатур
и сокращений
АОН — Академия общественных наук
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства
ВЦИК — Всесоюзный центральный исполнительный комитет
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе
с контрреволюцией и саботажем
ГИОПС — Государственная инспекция по охране памятников
старины
ГМИРА — Государственный музей истории религии и атеизма
ЗАГС — Отдел записи актов гражданского состояния
ИНА — Институт научного атеизма
КГБ — Комитет государственной безопасности
МГУ — Московский государственный университет
МИР — Музей истории религии
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
РПЦ — Русская православная церковь
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
СВБ — Союз воинствующих безбожников
СДР — Совет по делам религий
СНК — Совет народных комиссаров
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ЦДНТ — Центральный дом народного творчества имени
Н. К. Крупской
ЦК КПСС — Центральный комитет Коммунистической партии
Советского Союза
ЦК РКП(б) — Центральный комитет Российской коммунистической
партии (большевиков)
Библиография
Архивные источники
Москва, Россия
Архив РАН — Архив Российской академии наук
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
РГАНИ — Российский государственный архив новейшей истории
РГАСПИ — Российский государственный архив социально-
политической истории
ЦАГМ — Центральный архив города Москвы (в настоящее время
в составе ЦГА Москвы)
ЦАОПИМ — Центральный архив общественно-политической
истории Москвы (в настоящее время в составе ЦГА Москвы)
ЦГА Москвы — Центральный государственный архив города
Москвы, Центр хранения электронных и аудиовизуальных документов
Москвы (бывш. Центральный архив электронных и аудиовизуальных
документов Москвы)
Санкт-Петербург, Россия
ГМИР — Государственный музей истории религии
ЦГАИПД СПб — Центральный государственный архив историко-
политических документов Санкт-Петербурга
ЦГАЛИ СПб — Центральный государственный архив литературы
и искусства Санкт-Петербурга
Киев, Украина
ГДА СБУ — Отраслевой государственный архив Службы
безопасности Украины (Галузевий державний архів Служби безпеки
України)
ЦДАВО — Центральный государственный архив высших органов
власти и управления Украины (Центральний державний архів вищих
органів влади та управління України)
ЦДАГО — Центральный государственный архив общественных
объединений Украины (Центральний державний архів громадських
об’єднань України)
Вильнюс, Литва
LCVA — Литовский центральный государственный архив (Lietuvos
centrinis valstybės archyvas)
LYA — Литовский специальный архив (Lietuvos ypatingajame
archyve)
Периодические издания
Агитатор
Антирелигиозник
Безбожник
Безбожник у станка
Безбожный быт
Большевик
Вестник Академии наук СССР
Вестник Московского университета. Философия
Войовничий атеїст
Вопросы истории религии и атеизма
Вопросы научного атеизма
Вопросы религии и религиоведения
Вопросы философии
Диспут
Журнал Московской Патриархии
Известия
Клуб и революция
Коммунист
Комсомольская правда
Красная новь
Крокодил
Культурно-просветительная работа
Литература и жизнь
Литературная газета
Мироведение
Молодая гвардия
Молодой коммунист
Москва
Наука и жизнь
Наука и религия
НГ-Религии
Новый мир
Огонек
Партийная жизнь
Правда
Революция и культура
Революция и церковь
Смена
Советская Россия
Советская этнография
Советские профсоюзы
Современная архитектура
Социологические исследования
Труд
Юность
Chicago Defender
Chicago Tribune
Hartford Courant
Los Angeles Times
New York Amsterdam News
New York Times
Religion in Communist Lands
Seattle Daily Times
Washington Post
Опубликованные труды
Аджубей А. Крушение иллюзий. М.: Интербук, 1991.
Аксенов В. С . Организация массовых праздников трудящихся, 1918–
1920: учебное пособие по курсу «История массовых праздников» / М-во
культуры РСФСР. Ленингр. гос. ин -т культуры им. Н. К. Крупской. Л .,
1974.
Аксютин Ю. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения
в СССР в 1953–1964 гг. M.: РОССПЭН, 2004.
Аксютин Ю., Пыжиков А. Постсталинское общество: проблема
лидерства и трансформация власти. М.: Научная книга, 1999.
Алексеев А. П., Коршунов А. М., Рачков П. А.Кафедра философии
гуманитарных факультетов: Итоги 50-летия и новые задачи // Вестник
Московского университета. Серия 7. Философия. 2003. No 6. С. 3 –20.
Алексеев В. А . «Штурм небес» отменяется? Критические очерки по
истории борьбы с религией в СССР. М.: Россия молодая, 1992.
Алексеева Л. М . Поколение оттепели. М .: Захаров, 2006.
Алексеева Л. Я. Современные праздники и обряды в деревне.
М.: Профиздат, 1968 (Б-чка сельского профсоюзного активиста; No 11
(107)).
Алымов С. Понятие «Пережиток» и советские социальные науки
в 1950–1960-е гг. // Антропологический форум. 2012. No 16. С . 261–287.
Андропов Ю. В . Шестьдесят лет СССР. М.: Политиздат, 1982.
Анисимов С. Ф. Наука и религия о смысле жизни: Ответы на
вопросы. М.: Знание, 1964.
Анисимов С. Ф ., Гурев Г. А. Проблема смысла жизни в религии
и атеизме. М.: Знание, 1981.
Аптекман Д. М . Атеистический потенциал советского обряда
и праздника. М.: О-во «Знание» РСФСР, 1987.
Асад Талал. Что могла бы представлять собой антропология
секуляризма? // Логос. 2011. No 3 (82). С. 56–99.
Бахрушин С. В. К вопросу о крещении Руси // Историк-марксист.
1937. No 2. С. 40–77 .
Беглов А. Л . В поисках «безгрешных катакомб». Церковное
подполье в СССР. М.: Издательский совет Русской Православной
Церкви, «Арефа», 2008.
Бейль П. Исторический и критический словарь: В 2 т. М.: Мысль,
1968. Т. 1.
Белый А. На рубеже двух столетий. М.: Художественная литература,
1989.
Белякова Н. А . Власть и религиозные объединения в «позднем»
СССР: проблема регистрации // Отечественная история. 2008. No 4 .
С. 124 –130.
Белякова Н. А . Эволюция отношений власти и христианских
деноминаций в Белоруссии, Украине и республиках Прибалтики
в последней четверти XX — начале XXI в. Дис. ... канд. ист. наук /
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
М., 2009.
Бергер П. Священная завеса. Элементы социологической теории
религии. М.: Новое литературное обозрение, 2019.
Бердяев Н. А . Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное
воспроизведение издания YMCA-PRESS, 1955 г. М.: Наука, 1990.
Береговой Г. Т. Шаги по земле, шаги в космосе // Я — атеист:
25 ответов на вопрос «Почему вы атеист?». М.: Изд-во политической
литературы, 1980. С. 32–39 .
Бершова Н. Если звезды зажигают... (Записки лектора Харьковского
Планетария). URL: http://kharkov.vbelous.net/planetar/index.htm.
Бикбов А. Грамматика порядка: историческая социология понятий,
которые меняют нашу реальность. М.: Издательский дом Высшей
школы экономики, 2014.
Бокань Ю. И., Болгарин Г. Р., Герасименко В. К. и др. Наши
праздники: (Сов., общегос., труд., воин., молодеж. и семейн.-быт.
праздники, обряды, ритуалы) / Сост. В. В. Заикин; под общ. ред.
В. Г. Синицына. М.: Политиздат, 1977.
Бонч-Бруевич В. Д. Избранные сочинения. М.: Изд-во АН СССР,
1959. Т. 1.
Бранденбергер Д. Кризис сталинского агитпропа: пропаганда,
политпросвещение и террор в СССР, 1927–1941. М .: Политическая
энциклопедия, 2017.
Бранденбергер Д. Сталинский руссоцентризм: советская массовая
культура и формирование русского национального самосознания (1931–
1956 гг.) . М.: Политическая энциклопедия, 2017.
Брежнев Л. И. О коммунистическом воспитании трудящихся: Речи
и статьи. М.: Политиздат, 1974.
Брежнев Л. И. Отчетный доклад Центрального комитета КПСС
XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза 30 марта
1971 г. М .: Политиздат, 1972.
Брежнев Л. И. Пятьдесят лет великих побед социализма: Доклад
и заключительная речь на совместном торжественном заседании
Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного
Совета РСФСР в Кремлевском Дворце съездов 3–4 ноября 1967 года //
Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи. М.: Политиздат, 1973.
Т. 2.
Брудный В. И. Обряды вчера и сегодня. М.: Наука, 1968.
Бухарин Н. И . Избранные сочинения. М., 1927.
Бухарин Н. И., Преображенский Е. А. Азбука коммунизма.
Популярное объяснение программы Российской коммунистической
партии (1919). Харьков: Гос. изд., 1925.
Вайль П., Генис А. 60 -е: Мир советского человека. Изд. 3 -е .
М.: Новое литературное обозрение, 2001.
Введенский А. Церковь и государство. М.: Мосполиграф «Красный
Пролетарий», 1923.
Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные
произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 707–735.
Вересаев В. В . Об обрядах старых и новых (к художественному
оформлению быта). М .: Новая Москва, 1926.
Верт П. В объятиях государства? Акты гражданского состояния
и имперский порядок // Верт П. Православие, инославие, иноверие:
Очерки по истории религиозного разнообразия Российской империи /
Пер. с англ. Н. Мишаковой, М. Долбилова, Е. Зуевой и автора; науч.
ред. пер. М. Долбилов. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 119–
142.
Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции Н. А. Бердяева,
С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона, А. С. Изгоева, Б. А. Кистяковского,
П. Б. Струве, С. Л. Франка. Репринтное издание 1909 г. М.: Новости
(АПН), 1990.
Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина: Коллективизация
и культура крестьянского сопротивления. М.: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2010.
Власть и церковь в Восточной Европе, 1944–1953: Документы
российских архивов / Отв. ред. Т. В. Волокитина. В 2 т. М.: РОССПЭН,
2009. Т. 1.
Волков А. Г. Из истории переписи населения 1937 года // Вестник
статистики. 1990. No 8. С. 45–56 .
Вопросы мировоззрения в лекциях по астрономии: Сборник / Сост.
В. Н. Комаров, В. В. Казютинский. М.: Знание, 1974.
Воронцов-Вельяминов Б. А . Астрономическая Москва в 20-е годы //
Историко-астрономические исследования. Вып. 18. М .: Наука, 1986.
Воронцов-Вельяминов Б. А . Вселенная. М.: Гостехиздат, 1947.
Гагарин Ю. А . Дорога в космос. М.: Правда, 1961.
Геродник Г. Дорогами новых традиций. М.: Политиздат, 1964.
Глебкин В. В . Ритуал в советской культуре. М.: Янус-К, 1998.
Глезерман Г. Е . Ленин и формирование социалистического образа
жизни // Коммунист. 1974. No 1. С. 105–118.
Григорьян Б. Т. Социология религии или апология религии?
М.: Наука, 1962.
Григорян М. М . Курс лекций по истории атеизма. М.: Мысль, 1970.
Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов
общественного мнения: очерки массового сознания россиян времен
Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина: В 4 книгах. М.: Прогресс-
Традиция, 2001–2006.
Грушин Б. А., Чикин В. В. Исповедь поколения: [Обзор ответов на
анкету Ин-та обществ. мнения «Комсомольской правды»]. М.: Молодая
гвардия, 1962.
Гурев Г. А. Атеизм Чарльза Дарвина. М.; Л.: Изд-во Акад. наук
СССР, 1941.
Гурев Г. А. Дарвинизм и атеизм: популярные очерки. М.; Л.: Гос.
изд-во, 1930.
Гурев Г. А. Коперниковская ересь в прошлом и настоящем и история
взаимоотношений науки и религии. Л.: ГАИЗ, 1933.
Гурев Г. А. Мир безбожника. Л .: Прибой, 1931.
Гурев Г. А. Наука и религия о вселенной. М.: ОГИА, 1934.
Гурев Г. А. Наука о вселенной и религия: космологические очерки.
М.: ОГИЗ, 1934.
Гуров Ю. С . Мировоззрение и мировоззренческий
индифферентизм // Формирование научного мировоззрения. Чебоксары:
Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 1977.
Гуров Ю. С . Мировоззренческий индифферентизм и формирование
научно-атеистических взглядов у молодежи // Атеистическое
воспитание: опыт и задачи. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1974.
Гуров Ю. С . Молодежи — атеистическую убежденность. Омск,
1984.
Гуров Ю. С . Молодежи — мировоззренческую зрелость.
М.: Советская Россия, 1987.
Гуров Ю. С . Новые советские традиции, праздники и обряды.
Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 1990.
Гуров Ю. С . О преодолении явлений индифферентизма в отношении
религии и атеизма среди учащейся молодежи // Информационный
бюллетень Института научного атеизма. No 17 . М.: АОН при ЦК КПСС,
1977.
Гуров Ю. С . От безразличия — к убежденности (Актуальные
проблемы атеистического воспитания молодежи). Чебоксары, 1982.
Гуров Ю. С . Преодоление индифферентизма — актуальные
проблемы повышения эффективности атеистического воспитания
молодежи // Актуальные проблемы обеспечения эффективности научно-
атеистической работы. Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 1986.
Гуров Ю. С . Преодоление индифферентизма в вопросах атеизма
и религии как один из аспектов формирования духовной культуры
молодежи // Атеизм и социалистическая культура: Материалы научной
конференции «Атеизм и духовная культура развитого социализма».
Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во, 1982.
Гуров Ю. С . Преодоление мировоззренческого индифферентизма —
важное условие активизации человеческого фактора // Философские
аспекты выработки научного мировоззрения. Чебоксары: Изд-во Чуваш.
гос. ун-та, 1986.
Гуров Ю. С. Причины мировоззренческого индифферентизма среди
части неверующей молодежи: На материалах Чувашской АССР //
Научный атеизм: Вопросы теории и практики. Пермь: Перм. гос. пед.
ин-т, 1979.
Гуров Ю. С . Роль трудового коллектива в преодолении
мировоззренческого индифферентизма и формировании атеистической
убежденности молодых людей // Трудовой коллектив и развитие
личности. Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 1981.
Гуров Ю. С . Секуляризация молодежи — закономерный процесс
духовного роста личности в условиях социального прогресса //
Духовный рост личности в период строительства коммунизма.
Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 1971.
Гуров Ю. С . Формирование атеистической убежденности
у молодежи. М.: О-во «Знание» РСФСР, 1984.
«Два члена редколлегии журнала были работниками ЦК КПСС»:
Беседа Николая Митрохина с Ольгой Тимофеевной Брушлинской //
Неприкосновенный запас. 2008. No 3. URL:
http://magazines.russ.ru/nz/2008/3/dv15-pr.html.
XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17–
31 октября 1961 г. Стенографический отчет. М.: Государственное
издательство политической литературы, 1962. Т. 1 .
Декреты Советской власти. М.: Гос. изд-во полит. литературы, 1957.
Т. 1.
Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви
1917–1918 гг.: В 3 т. [М.: Изд-во Соборного Совета, 1918.] Репр. изд.
М.: Новоспас. монастырь, 1994.
Долбилов М. Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная
политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М.: Новое
литературное обозрение, 2010.
Долгих Ф. И., Курантов А. П. Коммунистическое воспитание
и религия. М.: Воениздат, 1964.
Дулуман Е. К . Почему я перестал верить в бога: Рассказ бывшего
кандидата богословия. М.: Молодая гвардия, 1957.
Дулуман Е., Лобовик Б., Танчер В. Современный верующий.
Социально-психологический очерк. М.: Политиздат, 1970.
Еленский В. Религия и перестройка в Украине // Людина і світ. 2003.
10 дек. URL: http://www.religare.ru/2_7596_1 _21 .html.
Емельянова К. Л . Некоторые вопросы совершенствования
деятельности органов ЗАГС // Правоведение. 1968. No 4. С. 101–103.
Емельянова К. Л . Первый в стране. Л.: Лениздат, 1964.
Живов В. М. Дисциплинарная революция и борьба с суеверием
в России XVIII века: «провалы» и их последствия // Антропология
революции: Сборник статей по материалам XVI Банных чтений
журнала «Новое литературное обозрение» / Сост. и ред. И. Прохорова,
А. Дмитриев, И. Кукулин, М. Майофис. М.: Новое литературное
обозрение, 2009. С. 327–361.
Жидкова Е. Советская обрядность как альтернатива обрядности
религиозной // Государство, религия и церковь в России и за рубежом.
2012. No 3–4 . С. 408–429.
Жиромская В. Б., Киселев И. Н., Поляков Ю. А.Полвека под грифом
«секретно»: Всесоюзная перепись населения 1937 года. М.: Наука, 1996.
За коммунистический быт / Науч. ред. М. И. Лифанов. Л .: Общество
по распространению политических и научных знаний РСФСР, 1963.
Завоевание неба и вера в бога. Сб. статей / Ред. К. К. Габова.
М.: Знание, 1964.
Зайчиков В. Н . Академия миллионов: О работе Всесоюзного
общества «Знание». М.: Знание, 1967.
Законодательство о религиозных культах (Сборник материалов
и документов). 2-е изд., доп. М.: Юрид. лит., 1971.
Зенькович Н. А . Самые закрытые люди: энциклопедия биографий.
М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
Зубкова Е. И. Общество и реформы, 1945–1964. М.: Россия молодая,
1993.
Зубкова Е. И. Послевоенное сталинское общество: политика
и повседневность: 1945–1953. М.: РОССПЭН, 2000.
Зуев Ю. П. Динамика религиозности в России в XX веке и ее
социологическое изучение // Гараджа В. И. Социология религии:
Учебное пособие для студентов и аспирантов гуманитарных
специальностей. М.: Наука, 1995. С. 187–194.
Зуев Ю. П. Институт научного атеизма (1964–1991) // Вопросы
религии и религиоведения. Антология отечественного религиоведения.
2009. No 1. С. 9–34.
Зуев Ю. П., Шмидт В. В. От Института научного атеизма к кафедре
государственно-конфессиональных отношений: становление
религиоведческой школы (1964–1991, 1992–2010) // Вопросы религии
и религиоведения. Вып. 2: Исследования: сборник / Сост. и общ. ред.
В. В. Шмидта, И. Н. Яблокова при участии Ю. П. Зуева,
З. П. Трофимовой. Книга 1 (I): Религиоведение в России в конце XX —
начале XXI в. М .: ИД «МедиаПром», 2010. С . 15–28.
Из глубины: Сборник статей о русской революции [Репр. изд.
1918 г.]. М .: Новости, 1991.
Измозик В., Лебина Н. Петербург советский: «новый человек»
в старом пространстве, 1920–1930-е годы. СПб.: Книга, 2010.
Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 году: сб. док. из
фонда Реввоенсовета Республики / Православ. Свято-Тихон. гуманитар.
ун-т, Рос. гос. воен. арх.; сост.: диак. Александр Мазырин,
В. А. Гончаров, И. В. Успенский. М.: Изд-во Православ. Свято-Тихон.
гуманитар. ун-та, 2006.
Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок.
М.: Эксмо, 2006.
Ильф И., Петров Е. Мать [1935] // Ильф И., Петров Е. Собрание
сочинений. М.: Гос. изд. худ. лит., 1961. Т. 3 . С. 382–388 .
Иоанн Павел II. Энциклика «Slavorum Apostoli» Его Святейшества
Папы Римского Иоанна Павла II в память о заслугах святых
благовестников Кирилла и Мефодия. URL:
https://www.katolik.ru/dokumenty-vatikana/item/1363-entsiklika-slavorum-
apost.html.
История Коммунистической партии Советского Союза / Отв. ред.
А. Б. Безбородов; науч. ред. Н. В. Елисеева. М.: Политическая
энциклопедия, 2014.
История религий в России: учебник / Под общ. ред.
О. Ю. Васильевой, Н. А. Трофимчука. 2 -е изд., доп. М.: Изд-во РАГС,
2004.
К обществу, свободному от религии: Процесс секуляризации
в условиях социалистического общества / Отв. ред. П. К. Курочкин.
М.: Мысль, 1970.
Каменьщиков Н. П . Астрономические задачи для юношества.
М.: ГИЗ, 1923.
Каменьщиков Н. П . Астрономия безбожника. Л .: Прибой, 1931.
Каменьщиков Н. П . Начальная астрономия. М.: ГИЗ, 1924.
Каменьщиков Н. П . Правда о небе: Антирелигиозные беседы
с крестьянами о мироздании. Л .: Прибой, 1931.
Каменьщиков Н. П . Что видели на небе попы, а что видим мы.
М.: Атеист, 1930.
Кампарс П. П., Закович Н. М. Советская гражданская обрядность.
М.: Мысль, 1967.
Касьяненко В. И . Историография социалистического образа жизни
в СССР // Вопросы истории. 1980. No 1 . С. 3–20.
Каулен М. Е . Музеи-храмы и музеи-монастыри в первое десятилетие
Советской власти. М.: Луч, 2001.
Кашеваров А. Н. Государство и церковь: Из истории
взаимоотношений Советской власти и Русской Православной Церкви,
1917–1946. СПб.: Санкт-Петербургский государственный технический
университет, 1995.
Кашеваров А. Н. Православная Российская Церковь и советское
государство 1917–1922. М .: Изд-во Крутицкого подворья, 2005.
Кириченко Е. И . Храм Христа Спасителя в Москве. М.: Планета,
1992.
Кларк К. Петербург, горнило культурной революции. М.: Новое
литературное обозрение, 2018.
Клибанов А. И . История религиозного сектантства в России.
М.: Наука, 1965.
Клибанов А. И . Конкретные исследования современных
религиозных верований. М.: Наука, 1967.
Клибанов А. И . Религиозное сектантство в прошлом и настоящем.
М.: Наука, 1973.
Клибанов А. И . Религиозное сектантство и современность:
социологические и исторические очерки. М.: Наука, 1969.
Клибанов А. И . Реформационные движения в России. М.: Наука,
1960.
Коган Ю. В. Д. Бонч-Бруевич и научно-атеистическая работа АН
СССР (1946–1955) // Вопросы истории религии и атеизма. 1964. No 12 .
С.11–21.
Кодекс о браке и семье РСФСР: официальный текст / Юридическая
комиссия при Совете Министров РСФСР. М.: Юридическая литература,
1969.
Козлов В. А . Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве
и Брежневе: 1953 — начало 1980-х гг . Новосибирск: Сибирский
хронограф, 1999.
Комаров В. Н. Космос, бог и вечность мира. М.: Госполитиздат,
1963.
Комаров В. Н., Порцевский К. А. Московский планетарий.
М.: Московский рабочий, 1979.
Комаров В. Н., Чертков А. Б. Беседы о религии и атеизме.
М.: Просвещение, 1975.
Конт О. Дух позитивной философии. СПб.: Санкт-Петербургское
философское общество, 2001.
Кормина Ж. Исполкомы и приходы: религиозная жизнь Псковской
области в первую послевоенную пятилетку // Неприкосновенный запас.
2008. No 3 (59). С . 52–57. URL:
http://magazines.russ.ru/nz/2008/3/ko11.html.
Кормина Ж., Штырков С. «Это наше исконно русское, и никуда нам
от этого не деться»: предыстория постсоветской десекуляризации //
Изобретение религии в постсоветском контексте / Науч. ред.
Ж. В. Кормина, А. А. Панченко, С. В. Штырков. СПб.: Изд-во
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. С. 7 –45.
Корнев В. В . Преследования Русской Православной Церкви в 50–60 -
х годах XX века // Ежегодная богословская конференция ПСТБИ:
Материалы 1997 г. М.: ПСТБИ, 1997. С . 212 –217 .
Коткин С. Говорить по-большевистски (из кн. «Магнитная гора:
Сталинизм как цивилизация») // Американская русистика: Вехи
историографии последних лет. Советский период: Антология / Сост.
М. Дэвид-Фокс. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2001.
С. 250–328.
КПСС о формировании нового человека: Сборник документов
и материалов (1965–1981). М .: Политиздат, 1982.
Красиков А. Русская Православная Церковь: От службы государевой
к испытанию свободой // Новые церкви, старые верующие — старые
церкви, новые верующие / Ред. А. Каариайнен, Д. Фурман. М.; СПб.:
Летний сад, 2007.
Красников Н. П. Предварительные результаты изучения
религиозных верований и обрядности // Конкретные исследования
современных религиозных верований (методика, организация,
результаты). М.: Мысль, 1967. С. 129–137.
Кривова Н. А . Власть и церковь в 1922–1925 гг.: Политбюро и ГПУ
в борьбе за церковные ценности и политическое подчинение
духовенства. М .: АИРО-XX, 1997.
Круз Р. За Пророка и царя. Ислам и империя в России
и Центральной Азии. М.: Новое литературное обозрение, 2020.
Крывелев И. А . О формировании и распространении новых обычаев
и праздников у народов СССР // Советская этнография. 1963. No 6.
С. 16–24 .
Крывелев И. А . Преодоление религиозно-бытовых пережитков
у народов СССР // Советская этнография. 1961. No 4. С. 30 –43.
Крывелев И. А . Традиционные и новые обряды в быту народов
СССР. М.: Наука, 1981.
Куприн О. В. Быт — не частное дело. М.: Госполитиздат, 1959.
Курляндский И. А . Сталин, власть и религия. М.: Кучково Поле,
2011.
Курляндский И. А . Сталин и религиозный вопрос в политике
большевистской власти (1917–1923) // Вестник ПСТГУ. 2012. Вып. 5
(48). С . 72 –84.
Ламанская Н. Б. Государственная политика по отношению
к религии и верующим в 1954–1964 гг. На материалах Красноярского
края. Дис. ... канд. ист. наук / Хакас. гос. ун-т им. Н. Ф . Катанова.
Абакан, 2004.
Лебина Н. Б. Деятельность «воинствующих безбожников» и их
судьба // Вопросы истории. 1996. No 5–6 . С. 154–157.
Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: нормы
и аномалии: 1920–1930-е годы. СПб.: Летний сад, 1999.
Легостаев В. Письмо Алексия М. Горбачеву // Завтра. 1999. 10 авг.
URL: http://flb.ru/info/4265.html.
Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. М., 1958–1965. Т. 45, 48.
Ленин В. И . Проект программы нашей партии // Ленин В. И. Об
атеизме, религии и церкви (Сборник статей, писем и других
материалов). М .: Мысль, 1969. С . 16–18.
Ленин В. И. Социализм и религия // Ленин В. И. Об атеизме, религии
и церкви (Сборник статей, писем и других материалов). М.: Мысль,
1969. С . 43–48.
Лисавцев Э. Новые советские традиции. М.: Советская Россия, 1966.
Луначарский А. В . О воспитании и образовании: Избранные статьи
и речи. М., 1981.
Ляхоцкий П. В . Завоевание космоса и религия. Грозный: Чечено-
Ингушское кн. изд-во, 1964.
Манчестер Л. Поповичи в миру: Духовенство, интеллигенция
и становление современного самосознания в России. М.: Новое
литературное обозрение, 2015.
Маркс К. и Энгельс Ф. об атеизме, религии и церкви / Редкол.:
А. Ф. Окулов (предисл.) и др. 2 -е изд., доп. М.: Мысль, 1986.
Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение //
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2 -е / Институт Маркса —
Энгельса — Ленина — Сталина при ЦК КПСС. М .: Государственное
издательство политической литературы, 1955. Т . 1 . С . 414 –429.
Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.
Изд. 2 -е / Институт Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина при ЦК
КПСС. М.: Государственное издательство политической литературы,
1955.Т.3.С.1–4.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии //
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2 -е / Институт Маркса —
Энгельса — Ленина — Сталина при ЦК КПСС. М .: Государственное
издательство политической литературы, 1955. Т . 4 . С . 419–459.
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. Изд. 2-е. М.: Государственное издательство политической
литературы, 1955. Т. 3. С. 7–544.
Марьянов Б. М . Вопросы мировоззрения в лекциях по астрономии:
Сборник. М.: Знание, 1974.
Марьянов Б. М . Отвоеванное небо. М .: Московский рабочий, 1971.
Маслова И. И . Вероисповедная политика в СССР: поворот курса
(1985–1991 гг.) / Междунар. независимый эколого-политол. ун-т .
М.: Изд-во МНЭПУ, 2005.
Маслова И. И . Совет по делам религий при Совете Министров СССР
и Русская православная церковь (1965–1991 гг.) // Государство
и церковь в XX веке: Эволюция взаимоотношений, политический
и социокультурный аспекты: опыт России и Европы / Отв. ред.
А. И. Филимонова. М.: Либроком, 2011. С. 78–106.
Маслова И. И . Советское государство и Русская православная
церковь: политика сдерживания (1964–1985 гг.) / Междунар.
независимый эколого-политол. ун-т . М.: Изд-во МНЭПУ, 2005.
Материалы XIX Всесоюзной конференции КПСС. М.: Политиздат,
1988.
Материалы XXII съезда КПСС. М.: Госполитиздат, 1961.
Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. 14 –15 июня
1983 года. М.: Политиздат, 1983.
Медведев Р. А., Ермаков Д. А. «Серый кардинал». М. А. Суслов:
Политический портрет. М.: Республика, 1992.
Мезенцев В. А. Знание — народу (К 25-летию Всесоюзного общества
«Знание»). М.: Знание, 1972.
Митин М. Б . О содержании и задачах научно-атеистической
пропаганды в современных условиях // Наука и религия: Сборник
стенограмм лекций, прочитанных на Всесоюзном совещании-семинаре
по научно-атеистическим вопросам. М.: Знание, 1958.
Митрофанов Г., прот. История Русской Православной Церкви
1900–1927. СПб.: Сатис, 2002.
Митрохин Л. Н . О времени и о себе // Митрохин Л. Н. Религия
и культура (философские очерки). М.: ИФ РАН, 2000. С . 9 –37.
Митрохин Н. «Обыденное сознание любит простые решения...»
Беседа Николая Митрохина с Владимиром Александровичем
Сапрыкиным // Неприкосновенный запас. 2008. No 3 (59). URL:
http://magazines.russ.ru/nz/2008/3/sa14.html.
Митрохин Н. «Ответственный работник ЦК КПСС» Владимир
Сапрыкин: карьера одного советского профессионального атеиста //
Человек и личность в истории России, конец XIX — XX век: Материалы
международного коллоквиума. СПб.: Нестор-История, 2012. С . 613–626.
Митрохин Н. Религиозность в СССР в 1954–1965 годах глазами
аппарата ЦК КПСС // Неприкосновенный запас. 2010. No 5 (73). URL:
http://magazines.russ.ru/nz/2010/5/re8.html.
Митрохин Н. Русская партия: Движение русских националистов
в СССР. 1953–1985 гг. М .: Новое литературное обозрение, 2003.
Митрохин Н. Русская Православная Церковь в 1990 году // 1990:
Опыт изучения недавней истории. Сборник статей и материалов. / Ред.
А. Дмитриев, М. Майофис, И. Кукулин, О. Тимофеева, А. Рейтблат.
В 2 т. М .: Новое литературное обозрение, 2011. Т . 1 . С. 300 –349.
Молодежи — атеистическую убежденность: Сб. статей / Сост.
Ю. Гуров; вступ. ст. В. Мезенцева. М.: Молодая гвардия, 1977.
Молодежь и атеизм / Под ред. И. А. Галицкой и др. М.: Мысль,
1971.
Наан Г. И. Человек, бог и космос. М.: Советская Россия, 1963.
Наследие. Вып. 1: Религия — общество — государство: институты,
процессы, мысль. Книга 1: История государственно-конфессиональных
отношений в России (X — начало XXI века): хрестоматия в двух
частях / Сост. Ю . П. Зуев; под общ. ред. Ю . П. Зуева, В. В. Шмидта.
Часть II: XX — начало XXI века. М.: Изд-во РАГС; ИД «МедиаПром»,
2010.
Немцев М. К истории советской академической дисциплины
«Основы научного коммунизма» // Идеи и идеалы. 2016. Т. 27 . No 1.
С. 23–38 .
Никольская Т. К . Русский протестантизм и государственная власть
в 1905–1991 годах. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-
Петербурге, 2009.
Нравственные принципы строителя коммунизма / Ин-т философии
Академии наук СССР; под общ. ред. М. Г. Журавкова
и О. П. Целиковой. М.: Мысль, 1965.
О задачах партийной пропаганды в современных условиях:
постановление ЦК КПСС. М.: Госполитиздат, 1960.
О религии и церкви: сборник документов. М.: Политиздат, 1965.
Одинцов М. И. Вероисповедная политика советского государства
в 1939–1958 гг. // Власть и церковь в СССР и странах Восточной
Европы, 1939–1958 (дискуссионные аспекты). М.: Институт
славяноведения РАН, 2003. С. 7 –68 .
Одинцов М. И. Государство и церковь (История взаимоотношений,
1917–1938 гг.). М.: Знание, 1991.
Одинцов М. И., Чумаченко Т. А. Совет по делам Русской
православной церкви при СНК (СМ) СССР и Московская патриархия:
эпоха взаимодействия и противостояния 1943–1965 гг. СПб.:
Российское объединение исследователей религии, 2013.
Озуф М. Революционный праздник: 1789–1799. М.: Языки
славянской культуры, 2003.
Ойзерман Т. И. Советская философия в середине 40-х
—
начале 50-
х годов: философский факультет МГУ // Человек. 2007. No 2 . С. 50–62.
Осипов А. А . Мой ответ верующим. Л .: Лениздат, 1960.
Осипов Г. В . Мы жили наукой // Российская социология
шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. и авт.
предисл. Г. С. Батыгин; ред. -сост. С. Ф . Ярмолюк. СПб.: Русский
христианский гуманитарный институт, 1999. С. 95 –109.
Павлов А. Т . Философия в Московском университете
(Институциональные и кадровые аспекты после 1917 года) // Вестник
Московского университета. Серия 7: Философия. 1996. No 5. С. 79–94.
Панцхава И. Д. Жизнь, смерть и бессмертие. М., 1966.
Панцхава И. Д. О смерти и бессмертии. М.: Знание, 1972.
Панцхава И. Д. Человек, его жизнь и бессмертие. М.: Политиздат,
1967.
Панченко А. А . «Религиозные инфекции» и «духовные калеки»: Тема
детства в советской атеистической пропаганде 1960-х гг. // «Убить
Чарскую...»: парадоксы советской литературы для детей (1920-е
—
1930-е гг.) / Сост. и ред. М. Р. Балина, В. Ю. Вьюгин. СПб.: Алетейя,
2013. С . 310–329.
Петров Е. Космонавты. М.: Красная звезда, 1963.
Письма и диалоги времен «хрущевской оттепели» (Десять лет из
жизни патриарха Алексия, 1955–1964 гг.). Публикацию подготовил
М. И. Одинцов // Отечественные архивы. 1994. No 5. С. 25–83 .
Пихоя Р. Г. Москва, Кремль, власть. Сорок лет после войны: 1945–
1985. М.: Астрель, 2007.
Платонов Г. В., Недзвецкая Э. А. Полвека на службе высшей школе
(кафедра философии ИППК МГУ им. М. В. Ломоносова в 1949–
1999 гг.) // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия.
1999. No 5. С. 87–97.
Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии
Советского Союза, 18–21 июня 1963 г.: Стенографический отчет.
М.: Изд-во политической литературы, 1964.
Победоносцев К. П . Духовная жизнь // Победоносцев К. П.
Сочинения. СПб.: Наука, 1996.
Повесть временных лет / Подгот. текста, пер. ст. и коммент.
Д. С. Лихачева. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. Изд. 2-е, испр.
и доп. СПб.: Наука, 1999.
Попова К. Ю. Религиозные объединения в Оренбургской области
в 1960–1980-е гг.: проблема регистрации // Оренбургский край: история,
традиции, культура: сборник / Отв. ред. Г. И. Биушкин. Оренбург, 2009.
С. 88 –92.
После Сталина: позднесоветская субъективность (1953–1985):
сборник статей / Под ред. А. Пинского. СПб.: Издательство
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018.
Поспеловский Д. В . Русская православная церковь в XX веке.
М.: Республика, 1995.
Поспеловский Д. В . Тоталитаризм и вероисповедание.
М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, 2003.
Президиум ЦК КПСС 1954–1964: Черновые протокольные записи
заседаний, стенограммы, постановления / Гл. ред. А. А. Фурсенко.
М.: РОССПЭН, 2004. Т. 1 .
Программа Коммунистической партии Советского Союза.
М.: Политиздат, 1986.
Программа Коммунистической партии Советского Союза: Принята
XXII съездом КПСС. М .: Изд-во политической литературы, 1971.
Программа Российской коммунистической партии (большевиков):
принята 8-м Съездом Партии 18–23 марта 1919 г. М.; Пг.: Коммунист,
1919.
Пугачева М. Г . Институт конкретных социальных исследований
Академии наук, 1968–1972 годы // Социологический журнал. 1994. No 2 .
С. 158–172 .
Разувалова А. Писатели-«деревенщики»: литература
и консервативная идеология 1970-х годов. М.: Новое литературное
обозрение, 2015.
Резник А. Быт или не быт? Лев Троцкий, политика и культура
в 1920-е годы // Неприкосновенный запас. 2013. No 4. С. 88–106.
Рейли Д. Советские бэйби-бумеры: Послевоенное поколение
рассказывает о себе и о своей стране / Пер. с англ. Т. Эйдельман.
М.: Новое литературное обозрение, 2015.
Ремник Д. Могила Ленина. Последние дни советской империи.
М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2017.
Рольф М. Советские массовые праздники. М.: РОССПЭН, 2009.
Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях
и документах / Отв. ред. и авт. предисл. Г. С. Батыгин; ред. -со ст.
С. Ф . Ярмолюк. СПб.: Русский христианский гуманитарный институт,
1999.
Руднев В. А . Коммунистическому быту — новые традиции. Л .:
Лениздат, 1964.
Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной
войны. 1941–1945 гг.: Сборник документов / Сост. О. Ю. Васильева,
И. И. Кудрявцев, Л. А. Лыкова. М.: Изд-во Крутицкого патриаршего
подворья, 2009.
Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991).
Материалы и документы по истории отношений между государством
и Церковью / Сост. Г. Штриккер. Кн. 1 и 2. М.: Пропилеи, 1995.
Русская Православная Церковь: XX в. / Беглов А. Л .,
Васильева О. Ю ., Журавский А. В. и др. М.: Изд-во Сретенского
монастыря, 2008.
Русские патриархи XX века: Судьбы отечества на страницах
архивных документов. М.: Изд-во РАГС, 1999.
Рыков А. И . Религия — враг социалистического строительства. Она
борется с нами на культурной почве // Стенограмма X съезда Советов.
М., 1928. С. 191.
Сафонов А. А. Свобода совести и модернизация вероисповедного
законодательства Российской империи в начале XX в. Тамбов: Изд-во
Р. В. Першина, 2007.
Свешникова О. Юбилей Геродота: Шестидесятническое прошлое
в зеркале современной социологии // Новое литературное обозрение.
2009. No 98. С . 97–110.
Семья и новый быт: споры о проекте нового кодекса законов о семье
и браке: Сборник / Я. Бранденбургский и др. М.; Л.: Гос. изд-во, 1926.
Синицын В. Г. Быт эпохи строительства коммунизма. Челябинск:
Челябинское книжное изд-во, 1963.
Синицын В. Г. О советском образе жизни. М., 1967.
Синицын В. Г. Образ жизни, достойный человека. М.: Знание, 1970
[В помощь лектору: библиотечка «Советский образ жизни»].
Синицын В. Г. Советский образ жизни. М.: Советская Россия, 1969.
Скворцов-Степанов И. И . Мысли о религии [1922] // Скворцов-
Степанов И. И. Избранные атеистические произведения / Ред.
В. Ф . Зыбковец. М., 1959. С . 299–331.
Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как
проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни / Пер.
с англ. Э. Н. Гусинского, Ю. И. Турчаниновой. М.: Университетская
книга, 2005.
Слёзкин Ю. Дом правительства: сага о русской революции.
М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2019.
Слезкин Ю. СССР как коммунальная квартира, или Каким образом
социалистическое государство поощряло этническую обособленность //
Американская русистика: Вехи историографии последних лет.
Советский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара: Изд-во
«Самарский университет», 2001. С . 329–374.
Смирнов Г. Л . Формирование нового человека — программная цель
КПСС. М.: Знание, 1983.
Смирнов М., Круг П. В защиту свободомыслия: Исполнилось
полвека журналу «Наука и религия» // Независимая газета. 2009. 21 окт.
URL: http://www.ng.ru/ng_re ligii/2009-10-21/2_magazine.html.
Смирнов М. Ю. Религиоведение в России: проблема
самоидентификации // Вестник Московского университета. Сер. 7.
Философия. 2009. No 1 . С. 90 –106.
Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–
1918 гг. / Управление Совнаркома СССР. М., 1942.
Соколова А. Д. «Нельзя, нельзя новых людей хоронить по-
старому!» // Отечественные записки. 2013. No 5 (56). URL:
http://www.strana-oz.ru/2013/5/nelzya-nelzya-novyh-lyudey-horonit-po-
staromu.
Соколова А. Д. Трансформация похоронной обрядности у русских
в XX–XXI веках (на материалах Владимирской области). Дис. ... канд.
ист. наук / Институт этнографии и антропологии РАН. М., 2013.
Соловьев В. С. По пути духовного прогресса: Некоторые итоги
повторных социологических исследований проблем быта, культуры,
национальных традиций, атеизма и верований Марийской АССР.
Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1987.
Солоухин В. А. Письма из Русского музея // Солоухин В. А. Слово
живое и мертвое. М .: Современник, 1976. С. 226–321.
Солоухин В. А. Родная красота (для чего надо изучать и беречь
памятники старины). М.: Советский художник, 1966.
Социология в Ленинграде — Санкт-Петербурге во второй половине
XX века / Под ред. А. О. Бороноева. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007.
Сталин И. В. Сочинения. М.: Государственное издательство
политической литературы, 1951. Т. 13.
Стейнведел Ч. Создание социальных групп и определение
социального статуса индивидуума: Идентификация по сословию,
вероисповеданию и национальности в конце имперского периода
в России // Российская империя в зарубежной историографии. Работы
последних лет. Антология / Сост. П. Верт, П. С. Кабытов, А. И. Миллер.
М.: Новое издательство, 2005. С . 610–633 .
Степаков В. И. Новые праздники и обряды — в народный быт
(Стенограмма лекции, прочитанной на Всесоюзном совещании-
семинаре по советским праздникам и гражданским ритуалам в мае
1964 г.). М.: Об-во «Знание» РСФСР, 1964.
Такахаси С. Образ религиозного ландшафта в СССР в 1965–
1985 годы (на примере Соловецкого музея-заповедника) // Вестник
Евразии. 2008. No 4. С. 9–26.
Таубман У. Хрущев. 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 2008.
Тейлор Ч. Секулярный век. М.: ББИ, 2017.
Тендряков В. Ф . Апостольская командировка // Тендряков В. Ф.
Собрание сочинений. М.: Художественная литература, 1980. Т. 4 .
С. 230–420.
Тендряков В. Тысяча первый раз о нравственности // Звезда. 2003.
No 12. URL: http://magazines.russ.ru/zvezda/2003/12/tendr-pr.html.
Титов А. Партия против государства: реформа аппарата ЦК КПСС
при Никите Хрущеве // Неприкосновенный запас. 2012. Т. 83. No 3.
С. 155–166.
Титов Г. С. Первый космонавт планеты. М.: Знание, 1971.
Токвиль А. Старый порядок и революция / Пер. с фр. Л . Н. Ефимова.
СПб.: Алетейя, 2008.
Троцкий Л. Д . Вопросы быта: Эпоха «культурничества» и ее задачи.
М.: Госиздат, 1923.
Троцкий Л. Д . О задачах деревенской молодежи. О новом быте.
М.: Новая Москва, 1924.
Угринович Д. М . Обряды: за и против. М.: Политиздат, 1975.
Устав Коммунистической партии Советского Союза.
М.: Политиздат, 1986.
Устав КПСС. М.: Изд-во политической литературы, 1961.
Фаддеев Е. Т. О человеке, космосе и боге. М.: Знание, 1965.
Филатов А. Н. О новых и старых обрядах. М.: Профиздат, 1967.
Фирсов Б. М. История советской социологии 1950–1980-х годов.
СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2001.
Фирсов С. Л . Власть и огонь. Церковь и советское государство: 1918
—
начало 1940-х гг. М.: Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет, 2014.
Фокин А. «Коммунизм не за горами»: образы будущего у власти
и населения СССР на рубеже 1950–1960-х годов. Челябинск:
Энциклопедия, 2012.
Халид А. Ислам после коммунизма. Религия и политика
в Центральной Азии. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
Хархордин О. Обличать и лицемерить: генеалогия российской
личности. Изд. 2. СПб.: Издательство Европейского университета
в Санкт-Петербурге, 2016.
Хелльбек Й. Революция от первого лица: дневники сталинской
эпохи. М .: Новое литературное обозрение, 2017.
Хрущев С. Н. Трилогия об отце. Кн. 1: Никита Хрущев. Реформатор.
М.: Время, 2010.
Чумаченко Т. А. Государство, православная церковь, верующие.
1941–1961 гг. М .: АИРО-ХХ, 1999.
Чумаченко Т. А. Совет по делам Русской православной церкви при
СНК (СМ) СССР. 1943–1965 гг. Дис. ... д -ра ист. наук. М., 2011.
Шахнович М. И. Библия в современной борьбе идей. Л .: Лениздат,
1988.
Шахнович М. И. Коммунизм и религия. Л .: Общество «Знание»
РСФСР, 1966.
Шахнович М. И. Критика религиозных истолкований экологических
проблем. М.: Знание, 1985.
Шахнович М. И. Ленин и проблемы атеизма. М.: Изд-во Академии
наук СССР, 1960.
Шахнович М. И. Мистика перед судом науки. М.: Общество
«Знание», 1970.
Шахнович М. И. Новые вопросы атеизма: Социологические очерки.
Л.: Лениздат, 1973.
Шахнович М. И. От суеверий к науке. М.: Молодая гвардия, 1948.
Шахнович М. И. Происхождение философии и атеизм. Л .: Наука,
1973.
Шахнович М. И. Русская церковь в борьбе с наукой. Л.: Газетно-
журнальное книжное издательство, 1939.
Шахнович М. И. Современная мистика в свете религии. Л .: Наука,
1965.
Шахнович М. И. Социальная сущность Талмуда. Л ., 1929.
Шахнович М. И. Суеверие и научное предвидение. Л .: Лениздат,
1945.
Шахнович М. М. Музей истории религии АН СССР и отечественное
религиоведение // Религиоведение. 2008. No 4. С. 150–158.
Шахнович М. М. Отечественное религиоведение 20–80 -х годов
XX века: От какого наследства мы отказываемся // Шахнович М. М.
Очерки по истории религиоведения. СПб.: Изд-во С. -Петерб. ун-та,
2006. С . 181–197.
Шахнович М. М., Чумакова Т. В. Музей истории религии Академии
наук СССР и российское религиоведение. СПб.: Наука, 2014.
Шахнович М. М., Чумакова Т. В. Н. М. Маторин и его программа
изучения народной религиозности // Религиоведение. 2012. No 4 . С. 191–
193.
Шелепин А. Н . Отчетный доклад Центрального Комитета
Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи XIII
съезду комсомола (15 апреля 1958 г.) . М .: Молодая гвардия, 1958.
Шердаков В. Н. Музей истории религии и атеизма в системе научно-
атеистической пропаганды // Вопросы научного атеизма. 1976. No 19.
С. 97–106.
Шкаровский М. В. Обновленческое движение в Русской
Православной Церкви XX века. СПб.: Нестор, 1999.
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке.
М.: Вече, Лепта, 2010.
Шкаровский М. В. Русская православная церковь и советское
государство в 1943–1964 годах: от «перемирия» к новой войне. СПб.:
Изд. объед. «ДЕАН+АДИА-М», 1995.
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине
и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–
1964 годах). М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1999.
Шкаровский М. В. Сталинская религиозная политика и Русская
Православная Церковь в 1943–1953 годах // Acta Slavica Iaponica. 2009.
Vol. 27 . P. 1–27.
Шлихта Н. От традиции к современности: православная обрядность
и праздники в условиях антирелигиозной борьбы (на материалах СССР,
1950-e
—
1960-e гг.) // Государство, религия и церковь в России и за
рубежом. 2012. No 3–4 . С . 380 –407.
Штырков С. «В городе открыт Дворец счастья»: Борьба за новую
советскую обрядность времен Хрущева // Топография счастья:
этнографические карты модерна. Сборник статей / Сост. Н. Ссорин-
Чайков. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 261–275.
Штырков С. Обличительная этнография эпохи Хрущева: большая
идеология и народный обычай (на примере Северо-Осетинской АССР) //
Неприкосновенный запас. 2009. Т . 65 . No 1 . С . 147 –161.
Штырков С. Практическое религиоведение времен Никиты
Хрущева: республиканская газета в борьбе с «религиозными
пережитками» (на примере Северо-Осетинской АССР) // Традиции
народов Кавказа в меняющемся мире: преемственность и разрывы
в социокультурных практиках: Сборник статей к 100-летию со дня
рождения Леонида Ивановича Лаврова / Сост. и отв. ред. Ю . Ю. Карпов.
СПб.: Петербургское востоковедение, 2010. С. 306 –343.
Штюка В. Г . Быт и религия. М.: Мысль, 1966.
Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке // Маркс К.,
Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2 -е / Институт марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС. М.: Государственное издательство политической
литературы, 1961. Т . 19. С. 185–230.
Энгельштейн Л. Скопцы и Царство Небесное. Скопческий путь
к искуплению. М.: Новое литературное обозрение, 2002.
Эткинд А. Русские секты и советский коммунизм: Проект
Владимира Бонч-Бруевича // Минувшее: исторический альманах. 1996.
No 19. С. 275–319.
Эткинд А. Хлыст: Секты, литература и революция. М.: Новое
литературное обозрение, 1998.
Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее
советское поколение / Пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение,
2014.
Якобсон Р. О поколении, растратившем своих поэтов // Якобсон Р.,
Святополк-Мирский Д. Смерть Владимира Маяковского. The Hague:
Mouton, 1975. С. 8–34.
Ярославский Е. М . Библия для верующих и неверующих. Л.:
Лениздат, 1975.
Ярославский Ем. Как родятся, живут и умирают боги и богини.
М.: Советская Россия, 1959.
Ярославский Е. М . О религии. М.: Госполитиздат, 1957.
Alexeyeva L., Goldberg P. The Thaw Generation: Coming of Age in the Post-
Stalin Era. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1993.
Altshuler M. Religion and Jewish Identity in the Soviet Union, 1941–
1964. Waltham, MA: Brandeis University Press, 2012.
Alymov S. The Concept of the «Survival» and Soviet Social Science in
the 1950s and 1960s // Forum for Anthropology and Culture. 2013. Vol. 9 .
P. 157–183.
Anderson J. Religion and the Soviet State: A Report on Religious
Repression in the USSR on the Occasion of the Christian Millennium.
Washington, DC: Puebla Institute, 1988.
Anderson J. Religion, State and Politics in the Soviet Union and
Successor States. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
Anderson J. The Hare Krishna Movements in the USSR // Religion in
Communist Lands. 1986. Vol. 14 . No 3. P . 316–317.
Andrew C., Mitrokhin V. The Sword and the Shield: The Mitrokhin
Archive and the Secret History of the KGB. New York: Basic Books, 2000.
Andrews J. T . Inculcating Materialist Minds: Scientific Propaganda and
Anti-religion in the USSR during the Cold War // Science, Religion and
Communism in Cold War Europe / Eds. P. Betts, S. A. Smith. Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2016. P . 105–125.
Andrews J. T . Red Cosmos: K. E . Tsiolkovskii: Grandfather of Soviet
Rocketry. College Station: Texas A&M University Press, 2009.
Andrews J. T . Science for the Masses: The Bolshevik State, Public
Science, and the Popular Imagination in Soviet Russia, 1917–1934. College
Station: Texas A&M University Press, 2003.
Asad T. Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in
Christianity and Islam. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993.
Atheist Secularism and Its Discontents / Eds. T . T . Ngo and
J. B . Quijada. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.
Baidukov G. Russian Lindbergh: The Life of Valery Chkalov / Transl.
P. Belov, ed. Von Hardesty. Washington, DC: Smithsonian Institution Press,
1991.
Bailes K. E . Technology and Society under Lenin and Stalin: Origins of
the Soviet Technical Intelligentsia, 1917–1941. Princeton, NJ: Princeton
University Press, 1978.
Baran E. B . Dissent on the Margins: How Soviet Jehovah’s Witnesses
Defied Communism and Lived to Preach about It. Oxford: Oxford University
Press, 2014.
Basil J. D . Church and State in Late Imperial Russia: Critics of the
Synodal System of Church Government (1861–1914). Minneapolis:
University of Minnesota Press, 2005.
Batnitzky L. How Judaism Became a Religion: An Introduction to
Modern Jewish Thought. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011.
Bayle P. Historical and Critical Dictionary: Selections / Transl. Richard
H. Popkin. Indianapolis: Hackett, 1991.
Bell C. Paradigms Behind (and Before) the Modern Concept of
Religion // History and Theory. 2006. Vol. 45. No 4. P. 27–46.
Bell H., Ellis J. The Millennium Celebrations of 1988 in the USSR //
Religion in Communist Lands. 1988. Vol. 16. No 4 . P. 292–328.
Belmonte L. A. Selling the American Way: US Propaganda and the Cold
War. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013.
Bemporad E. Becoming Soviet Jews: The Bolshevik Experiment in
Minsk. Bloomington: Indiana University Press, 2013.
Berdiaev N. The Russian Revolution. Ann Arbor: University of Michigan
Press, 1961.
Berdiaev N., Bulgakov S., Frank S., Gershenzon M., Izgoev A. Vekhi
(Landmarks). New York: M. E . Sharpe, 1994.
Berdyaev N. The Origin of Russian Communism [1937; repr.] Ann
Arbor: University of Michigan Press, 1960.
Berger P. L. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of
Religion. Garden City, NY: Doubleday, 1967.
Binns C. The Changing Face of Power: Revolution and Accommodation
in the Soviet Ceremonial System. Part II // Man. 1980. Vol. 15. No 1. P . 170–
187.
Binns Ch. The Changing Face of Power: Revolution and Accommodation
in the Soviet Ceremonial System. Part I // Man. 1979. Vol. 14. No 4. P. 585 –
606.
Bittner S. V. Ideologicheskie komissii TsK KPSS, 1958–1964:
Dokumenty (review) // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian
History. 2002. Vol. 3 . No 2. P . 356–361.
Bittner S. V. The Many Lives of Khrushchev’s Thaw: Experience and
Memory in Moscow’s Arbat. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008.
Bociurkiw B. Religion and Atheism in Soviet Society // Aspects of
Religion in the Soviet Union / Eds. R. H. Marshall, Jr., and Th. Bird.
Chicago: University of Chicago Press, 1970. P. 45–60 .
Bociurkiw B. The Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet State,
1939–1950. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1996.
Bolton J. Worlds of Dissent: Charter 77, the Plastic People of the
Universe, and Czech Culture under Communism. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 2012.
Bonnell V. Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin
and Stalin. Berkeley: University of California Press, 1997.
Boobbyer P. Conscience, Dissent, and Reform in Soviet Russia. New
York: Routledge, 2005.
Borders of Socialism: Private Spheres of Soviet Russia / Ed. L. H . Siegel-
baum. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
Boronoev A. O . Sociological Research in Leningrad — St. Petersburg
(1960s — 1990s) // Sociological Research. 2009. Vol. 48. No 5. P. 45–54.
Bourdeaux M. Gorbachev, Glasnost & the Gospel. Toronto: Hodder &
Stoughton, 1990.
Bourdeaux M. Opium of the People: The Christian Religion in the USSR.
London: Faber and Faber, 1965.
Bourdeaux M. Patriarch and Prophets: Persecution of the Russian
Orthodox Church Today. London: Mowbrays, 1975.
Bourdeaux M., Rowe M. International Committee for the Defense of
Human Rights in the USSR. May One Believe — in Russia? Violations of
Religious Liberty in the Soviet Union. London: Darton, Longman & Todd,
1980.
Brandenberger D. National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the
Formation of Modern Russian National Identity, 1931–1956. Cambridge,
MA: Harvard University Press, 2002.
Brandenberger D. Propaganda State in Crisis: Soviet Ideology,
Indoctrination, and Terror under Stalin, 1927–1941. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 2002.
Bren P. Mirror, Mirror, on the Wall... Is the West the Fairest of Them
All? Czechoslovak Normalization and Its (Dis) Contents // Kritika:
Explorations in Russian and Eurasian History. 2008. Vol. 9. No 4. P . 831–
854.
Bren P. The Greengrocer and His TV: The Culture of Communism after
the 1968 Prague Spring. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2010.
Breslauer G. W . Khrushchev and Brezhnev as Leaders: Building
Authority in Soviet Politics. Boston: Allen & Unwin, 1982.
Breslauer G. W. Khrushchev Reconsidered // The Soviet Union since
Stalin / Eds. S. F. Cohen, A. Rabinowitch, R. S. Sharlet. London: Macmillan,
1980. P. 50 –70.
Brezhnev Reconsidered / Eds. M . Sandle, E. Bacon. New York: Palgrave
Macmillan, 2002.
Brooks J. Thank You, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from
Revolution to Cold War. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.
Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature,
1861–1917. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985.
Brown A. The Gorbachev Factor. New York: Oxford University Press,
1996. P. 172 –175.
Brudny Y. M. Reinventing Russia: Russian Nationalism and the Soviet
State, 1953–1991. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998.
Brzezinski M. Red Moon Rising: Sputnik and the Hidden Rivalries That
Ignited the Space Age. New York: Times Books, 2007.
Burchardt M., Wohlrab-Sahr M., Middell M. Multiple Secularities
beyond the West: An Introduction // Multiple Secularities beyond the West:
Religion and Modernity in the Global Age / Eds. M . Burchardt, M. Wohlrab-
Sahr, and M. Middell. Berlin: De Gruyter, 2015. P . 1–15.
Burgess J. P . Holy Rus’: The Rebirth of Orthodoxy in the New Russia.
New Haven, CT: Yale University Press, 2017.
Burrin P. Political Religion: The Relevance of a Concept // History and
Memory. 1997. Vol. 9 . No 1–2 . P. 321–349.
Bushkovitch P. Religion and Society in Russia: The Sixteenth and Seven-
teenth Centuries. New York: Oxford University Press, 1992.
Bushnell J. The «New Soviet Man» Turns Pessimist // The Soviet Union
since Stalin / Eds. S. F. Cohen, A. Rabinowitch, R. S. Sharlet. London:
Macmillan, 1980. P . 179–199.
Cady L. E.; Hurd E. Sh. Comparative Secularisms and the Politics of
Modernity: An Introduction // Comparative Secularisms in a Global Age /
Eds. L. E . Cady, E. Sh. Hurd. New York: Palgrave Macmillan, 2010. P. 3 –24 .
Casanova J. Public Religions in the Modern World. Chicago: University
of Chicago Press, 1994.
Casier T. The Shattered Horizon: How Ideology Mattered to Soviet Poli-
tics // Studies in East European Thought. 1999. Vol. 51. P . 35–59 .
Castillo G. Cold War on the Home Front: The Soft Power of Midcentury
Design. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.
Chamedes G. The Vatican, Nazi-Fascism, and the Making of
Transnational Anti-communism in the 1930s // Journal of Contemporary
History. 2016. Vol. 51. No 2 . P . 261–290.
Chernyshova N. Soviet Consumer Culture in the Brezhnev Era.
Abingdon, UK: Routledge, 2013.
Christianity and Modernity in Eastern Europe / Eds. B . R. Berglund,
B. Porter. Budapest: Central European University Press, 2010.
Chulos Ch. J. Converging Worlds: Religion and Community in Peasant
Russia, 1861–1917. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2003.
Chumachenko T. A . Church and State in Soviet Russia: Russian
Orthodoxy from World War II to the Khrushchev Years / Transl. and ed.
Edward E. Roslof. Armonk, NY: M. E . Sharpe, 2002.
Clark J. C. D . Secularization and Modernization: The Failure of a
«Grand Narrative» // Historical Journal. 2012. Vol. 55 . P . 161–191.
Clark K. Petersburg: Crucible of Cultural Revolution. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1995.
Cohn E. D . Sex and the Married Communist: Family Troubles, Marital
Infidelity, and Party Discipline in the Postwar USSR, 1945–64 // Russian
Review. 2009. Vol. 68 . No 3. P. 429–450.
Coleman H. J . Russian Baptists and Spiritual Revolution, 1905–1929.
Bloomington: Indiana University Press, 2005.
Communism Unwrapped: Consumption in Cold War Eastern Europe /
Eds. P . Bren, M. Neuburger. New York: Oxford University Press, 2012.
Comte A. The Positive Philosophy // Introduction to Contemporary Civi-
lization in the West. New York: Columbia University Press, 1961. Vol. 2 .
P. 767–791.
Cooke C. Russian Avant-Garde: Theories of Art, Architecture, and the
City. London: Academy Editions, 1995.
Corley F. Believers’ Responses to the 1937 and 1939 Soviet Censuses //
Religion, State, and Society. 1994. Vol. 22. No 4. P. 403–417 .
Cosgrove S. Ligachev and the Conservative Counter-Offensive in Nash
Sovremennik, 1981–1991: A Case Study in the Politics of Soviet Literature.
Ph. D . diss. University of London, School of Slavonic and East European
Studies, 1998.
Cracraft J. The Church Reform of Peter the Great. Stanford, CA:
Stanford University Press, 1971.
Crews R. D . Empire and the Confessional State: Islam and Religious
Politics in Nineteenth-Century Russia // American Historical Review. 2003.
Vol.108.No1.P.50–83.
Crews R. D. For Prophet and Tsar: Islam and Empire in Russia and
Central Asia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006.
Critical Terms for Religious Studies / Ed. M . C . Taylor. Chicago:
University of Chicago Press, 1998.
Daly J. W . «Storming the Last Citadel»: The Bolshevik Assault on the
Church, 1922 // The Bolsheviks in Russian Society: The Revolution and the
Civil Wars / Ed. V. N . Brovkin. New Haven, CT: Yale University Press,
1997.
Daniel E. V . The Arrogation of Being by the Blind-Spot of Religion //
International Studies in Human Rights. 2002. Vol. 68. P. 31–54.
Daniloff N. The Kremlin and the Cosmos. New York: Knopf, 1972.
David-Fox M. Religion, Science, and Political Religion in the Soviet
Context // Modern Intellectual History. 2011. Vol. 8 . No 2. P. 471–484.
David-Fox M. Revolution of the Mind: Higher Learning among the Bols-
heviks, 1918–1929. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997.
Davis N. A Long Walk to Church: A Contemporary History of Russian
Orthodoxy. Boulder, CO: Westview, 2003.
Davis N. The Number of Orthodox Churches before and after the Khru-
shchev Antireligious Drive // Slavic Review. 1991. Vol. 50 . No 3. P . 612–
620.
The Decline of Christendom in Western Europe, 1750–2000 / Eds.
H. McLeod, U. Werner. New York: Cambridge University Press, 2003.
Desan S. Reclaiming the Sacred: Lay Religion and Popular Politics in
Revolutionary France. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1990.
The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World
Politics / Ed. P. L . Berger. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999.
The Dilemmas of De-Stalinization: Negotiating Cultural and Social
Change in the Khrushchev Era / Ed. P . Jones. New York: Routledge, 2006.
Dixon S. Superstition in Imperial Russia // Past & Present. 2008.
Vol. 199. P . 207–228.
Dobson M. The Social Scientist Meets the «Believer»: Discussions of
God, the Afterlife, and Communism in the Mid-1960s // Slavic Review.
2015. Vol. 74. No 1. P. 79–103.
Documenting Individual Identity: The Development of State Practices in
the Modern World / Eds. J. Caplan, J. Torpey. Princeton, NJ: Princeton
University Press, 2001.
Donovan V. «Going Backwards, We Stride Forward»: Kraevedenie
Museums and the Making of Local Memory in North West Russia, 1956–
1981 // Forum for Anthropology and Culture. 2011. No 7 . P . 211 –230.
Donovan V. «How Well Do You Know Your Krai?» The Kraevedenie
Revival and Patriotic Politics in Late Khrushchev-Era Russia // Slavic
Review. 2015. Vol. 74 . No 3. P. 464–483.
Dragadze T. The Domestication of Religion under Soviet Communism //
Socialism: Ideals, Ideologies, and Local Practice / Ed. C. M. Hann. London:
Routledge, 1993. P. 148–156.
Dunlop J. B . The Faces of Contemporary Russian Nationalism.
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983.
Dunlop J. B . The New Russian Nationalism. New York: Praeger, 1985.
Dunlop J. B. The Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire.
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.
Dunlop J. B . The Russian Orthodox in the Millennium Year: What It
Needs from the Soviet State // Religion in Communist Lands. 1988. Vol. 16.
No 2. P. 100–116.
Engels F. Socialism: Utopian and Scientific // The Marx-Engels Reader.
2nd
ed. / Ed. R. Tucker. New York: Norton, 1978. P. 683–717.
Engelstein L. Castration and the Heavenly Kingdom: A Russian Folktale.
Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003.
Engelstein L. Holy Russia in Modern Times: An Essay on Orthodoxy and
Cultural Change // Past & Present. 2001. Vol. 173. P . 129–156.
Engelstein L. Slavophile Empire: Imperial Russia’s Illiberal Path. Ithaca,
NY: Cornell University Press, 2009. P. 92–94.
Etty J. Comic Cosmonaut: Space Exploration and Visual Satire in
Krokodil in the Thaw // Russian Aviation, Space Flight, and Visual Culture /
Eds. V . Strukov and H. Goscilo. New York: Routledge, 2016. P . 89 –115.
Evans A. B . Soviet Marxism-Leninism // Brezhnev Reconsidered / Eds.
M. Sandle and E. Bacon. New York: Palgrave Macmillan, 2002.
Evans A. B . Soviet Marxism-Leninism: The Decline of an Ideology.
Westport, CT: Praeger, 1993.
Evans A. B . The Decline of Developed Socialism: Some Trends in Recent
Soviet Ideology // Soviet Studies. 1986. Vol. 38 . No 1 . P . 1 –23.
Evans C. E . Between Truth and Time: A History of Soviet Central
Television. New Haven, CT: Yale University Press, 2016.
Everyday Life in Early Soviet Russia: Taking the Revolution Inside /
Eds. Ch. Kiaer, E. Naiman. Bloomington: Indiana University Press, 2006.
Fagan G. Believing in Russia: Religious Policy after Communism. New
York: Routledge, 2013.
Fedor J. Russia and the Cult of State Security: The Chekist Tradition,
from Lenin to Putin. New York: Routledge, 2013.
Fedotov G. P . The Russian Religious Mind. Vol. 2 . Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1966.
Fernando M. L. The Republic Unsettled: Muslim French and the Cont-
radictions of Secularism. Durham, NC: Duke University Press, 2014.
Field D. A . Private Life and Communist Morality in Khrushchev’s
Russia. New York: Peter Lang, 2007.
Fitzpatrick S. Social Parasites: How Tramps, Idle Youth, and Busy Entre-
preneurs Impeded the Soviet March to Communism // Cahiers du Monde
russe et soviétique. 2006. Vol. 47. No 1–2 . P. 377–408.
Fitzpatrick Sh. The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization
of Education and the Arts under Lunacharsky (October 1917–1921).
Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
Fitzpatrick Sh. The Cultural Front. Power and Culture in Revolutionary
Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992.
Franklin S. 988 –1988: Uses and Abuses of the Millennium // World
Today. 1988. Vol. 44. No 4. P. 65–68.
Franklin S., Shepard J. The Emergence of Rus 750–1200. London:
Longman, 1998.
Frede V. S . Doubt, Atheism, and the Nineteenth-Century Russian
Intelligentsia. Madison: University of Wisconsin Press, 2011.
Frede V. S . Freedom of Conscience, Freedom of Confession, and «Land
and Freedom» in the 1860s // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian
History. 2012. Vol. 13. No 3. P . 561–584.
Freeze G. L. All Power to the Parish? The Problem and Politics of
Church Reform in Late Imperial Russia // Social Identities in Revolutionary
Russia / Ed. M. K. Palat. London: Macmillan, 2001. P. 174 –208.
Freeze G. L. Counter-reformation in Russian Orthodoxy: Popular
Response to Religious Innovation, 1922–1925 // Slavic Review. 1995.
Vol. 54. No 2. P. 305–339 .
Freeze G. L. From Dechristianization to Laicization: State, Church, and
Believers in Russia // Canadian Slavonic Papers. 2015. Vol. 57. No 1–2. P . 6–
34.
Freeze G. L. Handmaiden of the State? The Church in Imperial Russia
Reconsidered // Journal of Ecclesiastical History. 1985. Vol. 36 . No 1 . P . 82–
102.
Freeze G. L. Subversive Atheism: Soviet Antireligious Campaigns and
the Religious Revival in Ukraine in the 1920s // State Secularism and Lived
Religion in Soviet Russia and Ukraine / Ed. C. Wanner. New York: Oxford
University Press, 2012. P . 27 –62.
Freeze G. L. Subversive Piety: Religion and the Political Crisis in Late
Imperial Russia // Journal of Modern History. 1996. Vol. 68 . No 2. P. 308–
350.
Freeze G. L. The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis,
Reform, Counter-Reform. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983.
Freeze G. L. The Russian Levites: Parish Clergy in the Eighteenth
Century. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977.
Freeze G. L. The Stalinist Assault on the Parish, 1929–1941 //
Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg: Neue Wege der Forschung / Ed.
M. Hildermeier. Munich: Oldenburg Verlag, 1998. P. 209–232.
Froese P. The Plot to Kill God: Findings from the Soviet Experiment in
Secularization. Berkeley: University of California Press, 2008.
Froggatt M. Renouncing Dogma, Teaching Utopia: Science in Schools
under Khrushchev // The Dilemmas of De-Stalinization: Negotiating Cultural
and Social Change in the Khrushchev Era / Ed. P. Jones. New York:
Routledge, 2006. P. 250–267.
Froggatt M. Science in Propaganda and Popular Culture in the USSR
under Khrushchev (1953–1964). Ph. D . thesis. University of Oxford, 2006.
Fülöp-Miller R. The Mind and Face of Bolshevism: An Examination of
Cultural Life in Soviet Russia. New York: Harper & Row, 1965.
Fürst J. Friends in Private, Friends in Public: The Phenomenon of the
Kampaniia among Soviet Youth in the 1950s and 1960s // Borders of
Socialism: Private Spheres of Soviet Russia / Ed. L . H . Siegelbaum. New
York: Palgrave Macmillan, 2006. P . 135–153.
Fürst J. Introduction: To Drop or Not to Drop? // Dropping Out of
Socialism: The Creation of Alternative Spheres in the Soviet Bloc / Eds.
J. Fürst, J. McLellan. New York: Lexington Books, 2017. P. 1–20.
Fürst J. Late Stalinist Russia: Society between Reconstruction and Rein-
vention. New York: Routledge, 2006.
Fürst J. Stalin’s Last Generation: Soviet Post-war Youth and the
Emergence of Mature Socialism. Oxford: Oxford University Press, 2010.
Fürst J. The Arrival of Spring? Changes and Continuities in Soviet
Youth Culture and Policy between Stalin and Khrushchev // The Dilemmas
of De-Stalinization: Negotiating Cultural and Social Change in the
Khrushchev Era / Ed. P . Jones. New York: Routledge, 2006. P. 135–153.
Garrard J. G . Vladimir Tendriakov // Slavic and East European Journal.
1965.Vol.9.No1.P.1–18.
Gatejel L. Appealing for a Car: Consumption Policies and Entitlement in
the USSR, the GDR, and Romania, 1950s — 1980s // Slavic Review. 2016.
Vol. 75. No 1. P. 122–145.
Gentes A. The Life, Death and Resurrection of the Cathedral of Christ the
Saviour // History Workshop Journal. 1998. Vol. 46. P . 63 –95 .
Gentile E. Political Religion: A Concept and Its Critics — A Critical
Survey // Totalitarian Movements and Political Religions. 2005. Vol. 6 . No 1 .
P. 19–32.
Geppert A. C. T . Flights of Fancy: Outer Space and the European
Imagination, 1923–1969 // Societal Impact of Spaceflight / Eds. S . J . Dick,
R. D . Launius. Washington, DC: National Aeronautics and Space
Administration, History Division, 2007. P . 585 –599 .
Gerovitch S. Soviet Space Mythologies: Public Images, Private
Memories, and the Making of a Cultural Identity. Pittsburgh: University of
Pittsburgh Press, 2015.
Gilbert J. Redeeming Culture: American Religion in an Age of Science.
Chicago: University of Chicago Press, 1997.
Gitelman Z. Y. Jewish Nationality and Soviet Politics: The Jewish
Sections of the CPSU, 1917–1930. Princeton, NJ: Princeton University Press,
1972.
Glenn J., Taylor N. John Glenn: A Memoir. New York: Bantam Books,
1999.
Gorlizki Yo. Too Much Trust: Regional Party Leaders and Local Political
Networks under Brezhnev // Slavic Review. 2010. Vol. 69 . No 3. P. 676–700.
Gorski P. S . The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the
State in Early Modern Europe. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
Gorski P. S . , Atinordu A. After Secularization? // Annual Review of
Sociology. 2008. Vol. 34. P . 55 –85 .
Gottschalk P. Religion, Science, and Empire: Classifying Hinduism and
Islam in British India. Oxford: Oxford University Press, 2013.
Graham L. R . Moscow Stories. Bloomington: Indiana University Press,
2006.
Greene R. Bodies Like Bright Stars: Saints and Relics in Orthodox
Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2010.
Grossman J. D. Khrushchev’s Antireligious Policy and the Campaign of
1954 // Soviet Studies. 1973. Vol. 24 . No 3. P . 374–386 .
Grossman J. D. Leadership of Antireligious Propaganda in the Soviet
Union // Studies in Soviet Thought. 1972. Vol. 12 . No 3. P . 213–230.
Gunn T. J. Spiritual Weapons: The Cold War and the Forging of an Ame-
rican National Religion. Westport, CT: Praeger, 2008.
Gurian W. Bolshevism: An Introduction to Soviet Communism. Notre
Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1952.
Gutkin I. The Cultural Origins of the Socialist Realist Aesthetic, 1890–
1934. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1999.
Hagemeister M. Konstantin Tsiolkovsky and the Occult Roots of Soviet
Space Travel // The New Age of Russia: Occult and Esoteric Dimensions /
Eds. M. Hagemeister, B. Menzel, B. G. Rosenthal. Munich: Verlag Otto
Sagner, 2012. P. 135–150.
Hagemeister M. Russian Cosmism in the 1920s and Today // The Occult
in Russian and Soviet Culture / Ed. B . G. Rosenthal. Ithaca, NY: Cornell
University Press, 1997. P . 185–202.
Halfin I. From Darkness to Light: Class, Consciousness, and Salvation in
Revolutionary Russia. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2000.
Halfin I. Stalinist Confessions: Messianism and Terror at the Leningrad
Communist University. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009.
Halfin I. Terror in My Soul: Communist Autobiographies on Trial. Cam-
bridge, MA: Harvard University Press, 2003.
Hardesty V., Eisman G. Epic Rivalry: The Inside Story of the Soviet and
American Space Race. Washington, DC: National Geographic Society, 2007.
Hardesty V., Eisman G. Red Phoenix: The Rise of Soviet Air Power,
1941–1945. Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1982.
Harris S. E . Communism on Tomorrow Street: Mass Housing and
Everyday Life after Stalin. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.
Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cam-
bridge, MA: Harvard University Press, 2006.
Herrlinger P. Working Souls: Russian Orthodoxy and Factory Labor in
St. Petersburg, 1881–1917. Bloomington, IN: Slavica, 2007.
Herzog J. P. The Spiritual-Industrial Complex: America’s Religious
Battle against Communism in the Early Cold War. Oxford: Oxford
University Press, 2011.
Hirsh F. Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of
the Soviet Union. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005. P . 276–292.
Hoffman D. L. Stalinist Values: The Cultural Norms of Soviet Modernity,
1917–1941. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003.
Holmes L. E. Fear No Evil: Schools and Religion in Soviet Russia, 1917–
1941 // Religious Policy in the Soviet Union / Ed. S . P . Ramet. New York:
Cambridge University Press, 1993.
Holmes L. E. The Kremlin and the Schoolhouse: Reforming Education in
Soviet Russia, 1917–1953. Bloomington: Indiana University Press, 1991.
Hosking G. The Russian Orthodox Church and Secularisation // Religion
and the Political Imagination / Eds. I . Katznelson, G. Stedman Jones.
Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Huhn U. Glaube und Eigensinn: Volksfrömmigkeit zwischen orthodoxer
Kirche und Sowjetischem Staat, 1941 bis 1960. Wiesbaden: Harrassowitz
Verlag, 2014.
Humphrey C. The «Creative Bureaucrat»: Conflicts in the Production of
Soviet Communist Party Discourse // Inner Asia. 2008. Vol. 10. No 1 . P. 5 –
35.
Hurd E. S . The Politics of Secularism in International Relations.
Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007.
Husband W. B . «Godless Communists»: Atheism and Society in Soviet
Russia, 1917–1932. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2000.
Ilf I., Petrov E. The Twelve Chairs / Transl. J. H. C. Richardson.
Evanston, IL: Northwestern University Press, 1997.
The Invention of Tradition / Eds. E . Hobsbawm, T. Ranger. New York:
Cambridge University Press, 1984.
Jolles A. Stalin’s Talking Museums // Oxford Art Journal. 2005. Vol. 28.
No 3. P. 429–455.
Jones P. From the Secret Speech to the Burial of Stalin: Real and Ideal
Responses to De-Stalinization // The Dilemmas of De-Stalinization:
Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev Era / Ed. P. Jones.
New York: Routledge, 2006. P . 41 –63 .
Jones P. Myth, Memory, Trauma: Rethinking the Stalinist Past in the
Soviet Union, 1953–70. New Haven, CT: Yale University Press, 2013.
Kääriäinen K. Discussion on Scientific Atheism as a Soviet Science,
1960–1985. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia Akateeminen
Kirjakauppa, 1989.
Kane E. Russian Hajj: Empire and the Pilgrimage to Mecca. Ithaca, NY:
Cornell University Press, 2015.
Kashirin A. Protestant Minorities in the Soviet Ukraine, 1945–1991.
Ph. D . diss. University of Oregon, 2010.
Keller Sh. To Moscow, Not Mecca: The Soviet Campaign against Islam
in Central Asia, 1917–1941. Westport, CT: Praeger, 2001.
Kellner J. The End of History: Radical Responses to the Soviet Collapse.
Ph. D . diss. University of California, Berkeley, 2018.
Kelly C. Socialist Churches: Radical Secularization and the Preservation
of the Past in Petrograd and Leningrad, 1918–1988. DeKalb: Northern
Illinois University Press, 2016.
Kemper M. Studying Islam in the Soviet Union. Amsterdam: Vossiuspers
UvA, 2009.
Kenez P. The Birth of the Propaganda State: Soviet Methods of Mass
Mobilization, 1917–1929. New York: Cambridge University Press, 1985.
Kenworthy S. M . The Heart of Russia: Trinity-Sergius, Monasticism, and
Society after 1825. Oxford: Oxford University Press, 2010.
Khalid A. Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia.
Berkeley: University of California Press, 2007.
Kharkhordin O. The Collective and the Individual in Russia: A Study of
Practices. Berkeley: University of California Press, 1999.
Kizenko N. Hand in Hand: Church, State, Society, and the Sacrament of
Confession in Imperial Russia (в печати).
Klibanov A. I. History of Religious Sectarianism in Russia (1860s —
1917) / Transl. E. Dunn, ed. S. Dunn. New York: Pergamon Press, 1982.
Kline G. L. Religious and Anti-religious Thought in Russia. Chicago:
University of Chicago Press, 1968.
Koestler A. The God That Failed. New York: Harper, 1950.
Kolarz W. Religion in the Soviet Union. London: Macmillan, 1969.
Kormina J., Shtyrkov S. Believers’ Letters of Advertising: St. Xenia of
Petersburg’s «National Reception Centre» // Russian Cultural Anthropology
after the Collapse of Communism / Eds. A. Baiburin, C. Kelly, N. Vakhtin.
London; New York: Routledge. P . 155–182.
Kormina J., Shtyrkov S. St. Xenia as a Patron of Female Social
Suffering // Multiple Moralities and Religions in Post-Soviet Russia / Ed.
J. Zigon. New York: Berghahn Books, 2011. P. 168–190.
Kornblatt J. D. Doubly Chosen: Jewish Identity, the Soviet Intelligentsia,
and the Russian Orthodox Church. Madison: University of Wisconsin Press,
2004.
Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: Uni-
versity of California Press, 1995.
Kozlov D. The Historical Turn in Late Soviet Culture: Retrospectivism,
Factography, Doubt, 1953–1991 // Kritika: Explorations in Russian and
Eurasian History. 2000. No 3. P. 577–600 .
Kozlov D. The Readers of Novyi Mir: Coming to Terms with the Stalinist
Past. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013.
Kuromiya H. Conscience on Trial: The Fate of Fourteen Pacifists in
Stalin’s Ukraine, 1952–1953. Toronto: University of Toronto Press, 2012.
Kuromiya H. Why the Destruction of Orthodox Priests in 1937–1938 //
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2007. Vol. 55 . P. 86 –93 .
Lambert Y. New Christianity, Indifference and Diffused Spirituality //
The Decline of Christendom in Western Europe, 1750–2000 / Eds.
H. McLeod, U. Werner. New York: Cambridge University Press, 2003.
P. 63 –78.
Lane Ch. Christian Religion in the Soviet Union: A Sociological Study.
Albany: State University of New York Press, 1978.
Lane Ch. The Rites of Rulers: Ritual in Industrial Society — The Soviet
Case. New York: Cambridge University Press, 1981.
LaPierre B. Private Matters or Public Crimes: The Emergence of
Domestic Hooliganism in the Soviet Union, 1939–1966 // Borders of
Socialism: Private Spheres of Soviet Russia / Ed. L . H . Siegelbaum. New
York: Palgrave Macmillan, 2006. P . 191–207.
Laqueur T. W . The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal
Remains. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015.
Laukaityte R. The Orthodox Church in Lithuania during the Soviet
Period // Lithuanian Historical Studies. 2002. Vol. 7 . P . 67–94.
Launius R. D . Escaping Earth: Human Spaceflight as Religion //
Astropolitics. 2013. Vol. 11 . No 1 –2 . P . 45–64.
Launius R. D . Heroes in a Vacuum: The Apollo Astronaut as Cultural
Icon // Florida Historical Quarterly. 2008. Vol. 87. No 2 . P . 174 –209.
Lewin M. Popular Religion in Twentieth-Century Russia // The World of
the Russian Peasant: Post-emancipation Culture and Society / Eds. B. Eklof,
S. Frank. Boston: Unwin Hyman, 1990. P. 155–168.
Lewis C. The Birth of the Soviet Space Museums: Creating the
Earthbound Experience of Spaceflight during the Golden Years of the Soviet
Space Programme, 1957–1968 // Showcasing Space. 2005. Vol. 6 . P. 148–
150.
Lewis C. The Red Stuff: A History of the Public and Material Culture of
Early Human Spaceflight in the U. S. S . R. Ph. D. diss. George Washington
University, 2008.
Lopez D. S ., Jr. Belief // Critical Terms for Religious Studies / Ed.
M. C. Taylor. Chicago: University of Chicago Press, 1998. P . 21 –35 .
Lovell S. Broadcasting Bolshevik: The Radio Voice of Soviet Culture,
1920s — 1950s // Journal of Contemporary History. 2013. Vol. 48. No 1 .
P. 78–97.
Lovell S. Russia in the Microphone Age: A History of Soviet Radio,
1919–1970. Oxford: Oxford University Press, 2015.
Luehrmann S. Religion in Secular Archives: Soviet Atheism and
Historical Knowledge. New York: Oxford University Press, 2015.
Luehrmann S. Secularism Soviet Style: Teaching Atheism and Religion
in a Volga Republic. Bloomington: Indiana University Press, 2011.
Luehrmann S. The Modernity of Manual Reproduction: Soviet
Propaganda and the Creative Life of Ideology // Cultural Anthropology.
2011. Vol. 26. No 3. P. 363 –388 .
Luehrmann S. Was Soviet Society Secular? Undoing Equations between
Communism and Religion // Atheist Secularism and Its Discontents / Eds.
T. T . T . Ngo and J. B. Quijada. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.
P. 134–151.
Luukkanen A. The Party of Unbelief: The Religious Policy of the
Bolshevik Party, 1917–1929. Helsinki: Societas Historiae Finlandiae, 1994.
Luukkanen A. The Religious Policy of the Stalinist State. A Case Study:
The Central Standing Commission on Religious Questions, 1929–1938.
Helsinki: Suomen Historiallinen Seura, 1997.
Magdo Z. The Socialist Sacred: Atheism, Religion, and Mass Culture in
Romania, 1948–1989. Ph. D. diss. University of Illinois at Urbana-
Champaign, 2016.
Mahmood S. Religious Difference in a Secular Age: A Minority Report.
Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015.
Manchester L. Holy Fathers, Secular Sons: Clergy, Intelligentsia, and the
Modern Self in Revolutionary Russia. DeKalb: Northern Illinois University
Press, 2008.
Martin D. On Secularization: Towards a Revised General Theory.
Aldershot, UK: Ashgate, 2005.
Marx K. Contribution to the Critique of Hegel’ s Philosophy of Right:
Introduction [1844] // The Marx-Engels Reader. 2
nd
ed. / Ed. R. Tucker. New
York: Norton, 1978. P. 53 –65 .
Marx K. Theses on Feuerbach [1845] // The Marx-Engels Reader. 2
nd
ed. /
Ed. R . Tucker. New York: Norton, 1978. P. 143–145.
Marx K., Engels F. Manifesto of the Communism Party (Extracts from
Chapters II and III) // Karl Marx and Friedrich Engels on Religion. Mineola,
NY: Dover, 2008.
Marx K., Engels F. Manifesto of the Communism Party // The Marx-
Engels Reader. 2
nd
ed. / Ed. R . Tucker. New York: Norton, 1978. P . 469–500 .
Marx K., Engels F. The German Ideology (1845–1846) // The Marx-
Engels Reader. 2
nd
ed. / Ed. R . Tucker. New York: Norton, 1978. P . 146–200.
Marx K., Engels F. The German Ideology // Marx K.Selected Writings.
2nd
ed. / Ed. D . McLellan. New York: Oxford University Press, 2000.
Marx on Religion / Ed. J . C. Raines. Philadelphia: Temple University
Press, 2002.
Massie S. Trust but Verify: Reagan, Russia, and Me. Rockland: Maine
Authors Publishing, 2013.
Masuzawa T. The Invention of World Religions: Or, How European Uni-
versalism was Preserved in the Language of Pluralism. Chicago: University
of Chicago Press, 2005.
Matich O. Erotic Utopia: The Decadent Imagination in Russia’s Fin de
Siècle. Madison: University of Wisconsin Press, 2005.
Mawdsley E., White S. The Soviet Elite from Lenin to Gorbachev: The
Central Committee and Its Members, 1917–1991. New York: Oxford
University Press, 2000.
McDougall W. A . The Heavens and the Earth: A Political History of the
Space Age. New York: Basic Books, 1985.
McLeod H. Secularisation in Western Europe, 1848–1914. New York: St.
Martin’s, 2000.
McLeod H. The Religious Crisis of the 1960s. Oxford: Oxford University
Press, 2007.
McMillen R. J. Space Rapture: Extraterrestrial Millennialism and the
Cultural Construction of Space Colonization. Ph. D. diss. University of Texas
at Austin, 2004.
Millar J. R . The Little Deal: Brezhnev’s Contribution to Acquisitive
Socialism // Slavic Review. 1985. Vol. 44 . No 4 (Winter). P . 694–706.
Miner S. M . Stalin’s Holy War: Religion, Nationalism, and Alliance
Politics, 1941–1945. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003.
Mitrokhin N. Back-office Михаила Суслова, или Кем и как
производилась идеология брежневского времени // Cahiers du monde
russe. 2013. Vol. 54. No 3. P . 409–440.
Moyn S. The Last Utopia: Human Rights in History. Cambridge, MA:
Belknap, 2012.
Multiple Moralities and Religions in Post-Soviet Russia / Ed. J. Zigon.
New York: Berghahn Books, 2011.
Myers D. Marx, Atheism and Revolutionary Action // Canadian Journal
of Philosophy. 1981. Vol. 11 . No 2 . P. 317–318.
Naiman E. Sex in Public: The Incarnation of Early Soviet Ideology. Prin-
ceton, NJ: Princeton University Press, 1997.
Nakachi M. Gender, Marriage, and Reproduction in the Postwar Soviet
Union // Writing the Stalin Era: Sheila Fitzpatrick and Soviet Histo-
riography / Eds. G . Alexopoulos, J. Hessler, K. Tomoff. Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2011. P . 101–116.
Nakachi M. Replacing the Dead: The Politics of Reproduction in the
Postwar Soviet Union, 1944–1955. Ph. D . diss. University of Chicago, 2008.
Nathans B. The Dictatorship of Reason: Aleksandr Vol’ pin and the Idea
of Rights under «Developed Socialism» // Slavic Review. 2007. Vol. 66 .
No4.P.630–663.
Ngo T. T. T., Quijada J. B . Introduction: Atheist Secularism and Its Dis-
contents // Atheist Secularism and Its Discontents / Eds. T. T. T. Ngo and
J. B . Quijada. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. P . 1 –26.
O’Connor K. Intellectuals and Apparatchiks: Russian Nationalism and
the Gorbachev Revolution. Lanham, MD: Lexington Books, 2006.
Of Religion and Empire: Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist
Russia / Eds. R . P. Geraci, M. Khodarkovsky. Ithaca, NY: Cornell University
Press, 2001.
Ostrowski D. The Christianization of Rus’ in Soviet Historiography:
Attitudes and Interpretations (1920–1960) // Harvard Ukrainian Studies.
1987. Vol. 11. No 3–4 . P. 446–447 .
Oushakine S. «Against the Cult of Things»: On Soviet Productivism,
Storage Economy, and Commodities with No Destination // Russian Review.
2014. Vol. 73. No 2. P. 198–236.
Ozouf M. Festivals and the French Revolution. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1991.
Paert I. Demystifying the Heavens: Women, Religion and Khrushchev’s
Anti-religious Campaign, 1954–64 // Women in the Khrushchev Era / Eds.
M. Ilic, S. E. Reid, L. Attwood. New York: Palgrave Macmillan, 2004.
P. 203–221 .
Paine C. Militant Atheist Objects: Anti-religion Museums in the Soviet
Union // Present Pasts. 2009. Vol. 1 . P. 61–76.
Panchenko A. A. Morality, Utopia, Discipline: New Religious
Movements and Soviet Culture // Multiple Moralities and Religions in Post-
Soviet Russia / Ed. J . Zigon. New York: Berghahn Books, 2011. P. 119–145.
Panchenko A. Popular Orthodoxy in Twentieth-Century Russia:
Ideology, Consumption and Competition // National Identity in Soviet and
Post-Soviet Culture / Eds. M . Bassin, C. Kelly. Cambridge: Cambridge
University Press, 2012. P . 321–340.
Papkova I. The Orthodox Church and Russian Politics. New York:
Oxford University Press, 2011.
Parthé K. F. Russian Village Prose: The Radiant Past. Princeton, NJ:
Princeton University Press, 1992.
Peris D. «God Is Now on Our Side»: The Religious Revival on
Unoccupied Soviet Territory during World War II // Kritika: Explorations in
Russian and Eurasian History. 2008. Vol. 1 . No 1. P. 97–118.
Peris D. Storming the Heavens: The Soviet League of the Militant
Godless. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998.
Peris D. The 1929 Congress of the Godless // Europe-Asia Studies. 1991.
Vol. 43. No 4. P. 711–732.
Petrified Utopia: Happiness Soviet Style / Eds. M. Balina, E. Dobrenko.
New York: Anthem Press, 2009.
Petroff S. The Red Eminence: A Biography of Mikhail A. Suslov.
Clifton, NJ: Kingston Press, 1988.
Petrone K. Life Has Become More Joyous, Comrades: Celebrations in
the Time of Stalin. Bloomington: Indiana University Press, 2000.
Petrovsky-Shtern Yo. Lenin’s Jewish Question. New Haven, CT: Yale
University Press, 2010.
Pipes R. The Church as Servant of the State // Pipes R. Russia under the
Old Regime. New York: Penguin, 1974. P. 221 –245.
Pobedonostsev K. P . The Spiritual Life // Pobedonostsev K. P.
Reflections of a Russian Statesman. Ann Arbor: University of Michigan
Press, 1965. P. 184–194.
Polianski I. J . The Antireligious Museum: Soviet Heterotopia between
Transcending and Remembering Religious Heritage // Science, Religion and
Communism in Cold War Europe / Eds. P. Betts and S. A . Smith.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016. P . 253–273.
Pollock E. Stalin and the Soviet Science Wars. Princeton, NJ: Princeton
University Press, 2006.
Poole R. A . Religious Toleration, Freedom of Conscience, and Russian
Liberalism // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2012.
Vol. 13. No 3. P . 611–634.
Pope John Paul II. Slavorum Apostoli (June 2, 1985). URL:
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-
ii_enc_19850602_slavorum-apostoli.html.
Pope Pius XI. Divini Redemptoris. (March 19, 1937). URL:
http://www.vatican.va/holy_father /pius_xi/encyclicals/documents/hf_p -
xi_enc_19031937_divini-redemptoris_en.html.
Pospielovskii D. V . A History of Marxist-Leninist Atheism and Soviet
Antireligious Policies. New York: St. Martin’s, 1997.
Pospielovskii D. V . Soviet Antireligious Campaigns and Persecutions.
New York: St. Martin’s, 1988.
Pospielovskii D. V . Soviet Studies on the Church and the Believer’s
Response to Atheism. New York: St. Martin’s, 1988.
Pospielovskii D. V . The Orthodox Church in the History of Russia.
Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1998.
Pospielovskii D. V . The Russian Church under the Soviet Regime, 1917–
1982. Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1984.
Powell D. E. Antireligious Propaganda in the Soviet Union: A Study in
Mass Persuasion. Cambridge, MA: MIT Press, 1975.
Powell D. E. The Revival of Religion // Current History. 1991. Vol. 90 .
P. 328–332.
Preston A. The Sword of the Spirit, the Shield of Faith: Religion in
American War and Diplomacy. New York: Knopf, 2012. P . 579–586 .
Raleigh D. J. Soviet Baby Boomers: An Oral History of Russia’s Cold
War Generation. New York: Oxford University Press, 2013.
Ramet S. P . Nihil Obstat: Religion, Politics, and Social Change in East-
Central Europe. Durham, NC: Duke University Press, 1998.
Read Ch. Religion, Revolution and the Russian Intelligentsia, 1900–
1912. London: Palgrave Macmillan, 1979.
Reconsidering Stagnation in the Brezhnev Era: Ideology and Exchange /
Eds. D . Fainberg, A. Kalinovsky. Lanham, MD: Lexington Books, 2016.
Redefining the Sacred: Religion in the French and Russian Revolutions /
Eds. D . Schonpflug, M . Schulze Wessel. Frankfurt am Main: Lang, 2012.
Redko M. V . Realization of the State Religious Policy of the Krasnoyarsk
Kray in 1954–1964 (on the Example of the Russian Orthodox Church) //
Journal of Siberian Federal University. 2010. Vol. 1 . No 3. P. 154–158.
Reid S. E. Cold War in the Kitchen: Gender and the De-Stalinization of
Consumer Taste in the Soviet Union under Khrushchev // Slavic Review.
2002. Vol. 61. No 2. P. 211 –252.
Reid S. E. Communist Comfort: Socialist Modernism and the Making of
Cosy Homes in the Khrushchev-Era Soviet Union // Gender and History.
2009. Vol. 21. No 3. P. 465–498.
Religion and Atheism in the USSR and Eastern Europe / Eds.
B. Bociurkiw, J . Strong. Toronto: University of Toronto Press, 1975.
Religion and Modernization: Sociologists and Historians Debate the
Secularization Thesis / Ed. S. Bruce. New York: Oxford University Press,
1992.
Religion and Politics in Russia: A Reader / Ed. M. Mandelstam Balzer.
Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2010.
Religion and the Political Imagination / Eds. I. Katznelson, G. Stedman
Jones. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Religion, Morality, and Community in Post-Soviet Societies / Eds.
M. D . Steinberg, C. Wanner. Bloomington: Indiana University Press, 2008.
Religious Policy in the Soviet Union / Ed. S. P. Ramet. New York: Cam-
bridge University Press, 1993.
Remnick D. Lenin’s Tomb: The Last Days of the Soviet Empire. New
York: Random House, 1993.
A Revolution of the Spirit: Crisis of Value in Russia, 1890–1924 / Eds.
B. G . Rosenthal, M. Bochachevsky-Chomiak, transl. M. Schwartz. New
York: Fordham University Press, 1990.
Riasanovsky N. Russian Identities: A Historical Survey. New York:
Oxford University Press, 2005.
Rockwell T. The Molding of the Rising Generation: Soviet Propaganda
and the Hero Myth of Iurii Gagarin // Past Imperfect. 2006. Vol. 12 . P. 1 –34.
Rogers D. The Old Faith and the Russian Land: A Historical
Ethnography of Ethics in the Urals. Ithaca, NY: Cornell University Press,
2009.
R’oi Ya. Islam in the Soviet Union: From the Second World War to Gor-
bachev. London: Hurst, 2000.
R’oi Ya. The Task of Creating the New Soviet Man: «Atheistic
propaganda» in the Soviet Muslim Areas // Europe-Asia Studies. 1984.
Vol.36.No1.P.26–44.
Rolf M. Das sowjetische Massenfest. Hamburg: Hamburger Edition,
2006.
Rolf M. Soviet Mass Festivals, 1917–1991. Pittsburgh: University of
Pittsburgh Press, 2013.
Roslof E. E . «Faces of the Faceless»: A. A. Trushin Communist Over-
Procurator for Moscow, 1943–1984 // Modern Greek Studies Yearbook.
2002–2003. Vol. 18–19. P . 105–125.
Roslof E. E . Red Priests: Renovationism, Russian Orthodoxy, and
Revolution, 1905–1946. Bloomington: Indiana University Press, 2002.
Roth-Ey K . Moscow Prime Time: How the Soviet Union Built the Media
Empire That Lost the Cultural Cold War. Ithaca, NY: Cornell University
Press, 2011.
Russian Aviation and Air Power in the Twentieth Century / Eds.
R. Higham, J. T . Greenwood, V. Hardesty. Portland, OR: Frank Cass, 1998.
Ryan J. Cleansing NEP Russia: State Violence against the Russian
Orthodox Church in 1922 // Europe-Asia Studies. 2013. Vol. 9 . P. 1807–
1826.
Schattenberg S. «Democracy» or «Despotism»? How the Secret Speech
was Translated into Everyday Life // The Dilemmas of De-Stalinization:
Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev Era / Ed. P. Jones.
New York: Routledge, 2006. P . 64–79.
Science, Religion and Communism in Cold War Europe / Eds. P . Betts,
S. A. Smith. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016.
Scott J. C . Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the
Human Condition Have Failed. New Haven, CT: Yale University Press,
1998.
Secularism and Its Critics / Ed. R. Bhargava. New Delhi: Oxford
University Press, 1998.
Shevzov V. Russian Orthodoxy on the Eve of Revolution. New York:
Oxford University Press, 2004.
Shlapentokh V. Public and Private Life of the Soviet People: Changing
Values in Post-Stalin Russia. New York: Oxford University Press, 1989.
Shlapentokh V. Soviet Intellectuals and Political Power: The Post-Stalin
Era. New York: I. B. Tauris, 1990.
Shlapentokh V. Soviet Public Opinion and Ideology: Mythology and
Pragmatism in Interaction. Westport, CT: Praeger, 1986.
Shlapentokh V. The Politics of Sociology in the Soviet Union. Boulder,
CO: Westview, 1987.
Shlikhta N. «Orthodox» and «Soviet»: On the Issue of the Identity of
Christian Soviet Citizens (1940s — Early 1970s) // Forum for Anthropology
and Culture. 2015. Vol. 11 . P . 140–164.
Shterin M., Richardson J. Local Laws Restricting Religion in Russia:
Prosecutors of Russia’s New National Law // Journal of Church and State.
1998. Vol. 40. P. 319–341.
Shternshis A. Soviet and Kosher: Jewish Popular Culture in the Soviet
Union, 1923–1939. Bloomington: Indiana University Press, 2006.
Siddiqi A. A . Imagining the Cosmos: Utopians, Mystics, and the Popular
Culture of Spaceflight in Revolutionary Russia // Osiris. 2008. Vol. 23. No 1 .
P. 260–288.
Siddiqi A. A . Sputnik and the Soviet Space Challenge. Gainesville:
University Press of Florida, 2003.
Sidorov D. National Monumentalization and the Politics of Scale: The
Resurrections of the Cathedral of Christ the Saviour in Moscow // Annals of
the Association of American Geographers. 2000. Vol. 90 . No 3. P . 548–572.
Siegelbaum L. H ., Moch L. P. Broad Is My Native Land: Repertoires and
Regimes of Migration in Russia’s Twentieth Century. Ithaca, NY: Cornell
University Press, 2014.
Sinitsyn V. G . The Soviet Way of Life. Moscow: Progress Publishers,
1974.
Slezkine Yu. The House of Government: A Saga of the Russian
Revolution. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2017.
Slezkine Yu. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist
State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. 1994. Vol. 53 . No 2 .
P. 414 –452.
Smith J. Z. Imagining Religion: From Babylon to Jonestown. Chicago:
University of Chicago Press, 1982.
Smith J. Z. Religion, Religions, Religious // Critical Terms for Religious
Studies / Ed. M . C. Taylor. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
P. 269–284.
Smith K. E . Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory during
the Yeltsin Era. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002.
Smith S. A. Bones of Contention: Bolsheviks and the Struggle against
Relics, 1918–1930 // Past & Present. 2009. Vol. 204. No 1. P . 155–194.
Smolkin-Rothrock V. «The Confession of an Atheist Who Became a
Scholar of Religion»: Nikolai Semenovich Gordienko’s Last Interview //
Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2014. Vol. 15. No 3.
P. 596 –620.
Smolkin-Rothrock V. The Contested Skies: The Battle of Science and
Religion in the Soviet Planetarium // Soviet Space Culture: Cosmic
Enthusiasm in Socialist Societies / Eds. E . Maurer, J. Richers, M. Rüthers,
C. Scheide. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. P. 57–78.
Soviet Society in the Era of Late Socialism, 1964–1985 / Eds.
N. Klumbytė, G. Sharafutdinova. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2012.
Soviet Space Culture: Cosmic Enthusiasm in Socialist Societies / Eds.
E. Maurer, J. Richers, M. Rüthers, C. Scheide. Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2011.
Soviet State and Society under Nikita Khrushchev / Eds. M. Ilic,
J. Smith. New York: Routledge, 2009.
The Soviet Union since Stalin / Eds. S. F. Cohen, A. Rabinowitch,
R. S. Sharlet. London: Macmillan, 1980.
Stark R. Secularization, R. I. P . // Sociology of Religion. 1999. Vol. 60 .
P. 249–273.
State Secularism and Lived Religion in Soviet Russia and Ukraine / Ed.
C. Wanner. New York: Oxford University Press, 2012.
Stedman Jones G. Religion and the Origins of Socialism // Religion and
the Political Imagination / Eds. I . Katznelson, G. Stedman Jones. Cambridge:
Cambridge University Press, 2010. P. 171 –189.
Steinberg M. D . Workers on the Cross: Religious Imagination in the
Writings of Russian Workers, 1910–1924 // Russian Review. 1994. Vol. 53 .
No 2. P. 213–239.
Steinwedel Ch. Making Social Groups, One Person at a Time: The Identi-
fication of Individuals by Estate, Religious Confession, and Ethnicity in Late
Imperial Russia // Documenting Individual Identity: The Development of
State Practices in the Modern World / Eds. J. Caplan, J. Torpey. Princeton,
NJ: Princeton University Press, 2001. P. 67–82.
Stites R. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in
the Russian Revolution. New York: Oxford University Press, 1989.
Stites R. Russian Popular Culture: Entertainment and Society since 1900.
New York: Cambridge University Press, 1992.
Stone A. B . «Overcoming Peasant Backwardness»: The Khrushchev Anti-
religious Campaign and the Rural Soviet Union // Russian Review. 2008.
Vol. 67. P. 297–320.
Stroop C. The Russian Origins of the So-Called Post-secular Moment:
Some Preliminary Observations // State, Religion and Church. 2014. Vol. 1.
No 1. P. 59–82.
Sullivan W. F . The Impossibility of Religious Freedom. Princeton, NJ:
Princeton University Press, 2005.
Swiderski E. From Social Subject to «Person»: The Belated
Transformation in Latter-Day Soviet Philosophy // Philosophy of the Social
Sciences. 1993. Vol. 23. No 2 . P. 199–227 .
Takahashi S. Church or Museum? The Role of State Museums in
Conserving Church Buildings, 1965–85 // Journal of Church and State. 2009.
Vol. 3 . P. 502–517.
Tasar E. M . Soviet and Muslim: The Institutionalization of Islam in
Central Asia, 1943–1991. New York: Oxford University Press, 2010.
Taubman W. Khrushchev: The Man and His Era. New York: Norton,
2003.
Taylor Ch. A Secular Age. Cambridge, MA: Harvard University Press,
2007.
The Thaw: Soviet Society and Culture during the 1950s and 1960s / Eds.
D. Kozlov, E. Gilburd. Toronto: University of Toronto Press, 2013.
The 24th
Party Congress of the CSPU — Documents. Moscow, 1971.
Thrower J. Marxist-Leninist «Scientific Atheism» and the Study of
Religion and Atheism in the USSR. New York: Mouton, 1983.
Timasheff N. The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism
in Russia. New York: E. P . Dutton, 1946.
Titov A. The 1961 Party Program and the Fate of Khrushchev’s
Reforms // Soviet State and Society under Nikita Khrushchev / Eds. M . Ilic,
J. Smith. New York: Routledge, 2009. P. 8 –25.
Tocqueville A. de. The Old Regime and the French Revolution. New
York: Anchor Books, 1983.
Tóth H. Shades of Grey: Secular Burial Rites in East Germany //
Changing European Death Ways / Eds. E . Venbrux, T. Quartier. Münster:
LIT Verlag, 2013. P . 141 –164.
Tóth H. Writing Rituals: The Sources of Socialist Rites of Passage in
Hungary, 1958–1970 // Science, Religion and Communism in Cold War
Europe / Eds. P . Betts, S. A. Smith. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016.
P. 179–203.
Tsekhanskaia K. V . Russia: Trends in Orthodox Religiosity in the
Twentieth Century (Statistics and Reality) // Religion and Politics in Russia:
A Reader / Ed. M. M. Balzer. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2010. P. 3–17 .
Tsekhanskaia K. V . The Icon in the Home: The Home Begins with the
Icon // Religion and Politics in Russia: A Reader / Ed. M. Mandelstam
Balzer. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2010. P. 18–30.
Tumarkin N. Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia. Cambridge,
MA: Harvard University Press, 1983.
Tumarkin N. The Living and the Dead: The Rise and Fall of the Cult of
World War II in Russia. New York: Basic Books, 1994.
Uhl K. B . Building Communism: The Young Communist League during
the Soviet Thaw Period, 1953–1964. Ph. D . thesis. University of Oxford,
2014.
Van den Bercken W. Holy Russia and the Soviet Fatherland // Religion in
Communist Lands. 1987. Vol. 15. No 3. P . 264–277 .
Van den Bercken W. Ideology and Atheism in the Soviet Union. New
York: Mouton de Gruyter, 1989.
Van den Bercken W. The Rehabilitation of Christian Ethical Values in the
Soviet Media // Religion in Communist Lands. 1989. Vol. 17. No 1. P. 6–7 .
Van Kley D. K. The Religious Origins of the French Revolution: From
Calvin to the Civil Constitution, 1560–1791. New Haven, CT: Yale
University Press, 1999.
Varga-Harris C. Stories of House and Home: Soviet Apartment Life
during the Khrushchev Years. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015.
Viola L. Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of
Peasant Resistance. New York: Oxford University Press, 1999.
Vlasto A. P. The Entry of the Slavs into Christendom: An Introduction to
the Medieval History of the Slavs. Cambridge: Cambridge University Press,
1970.
Voegelin E. Political Religion [1938; repr.:] Lewiston, NY: Edwin
Mellen, 1986.
Volkov V. The Concept of Kul’ turnost’: Notes on the Stalinist Civilizing
Process // Stalinism: New Directions / Ed. Sh. Fitzpatrick. New York:
Routledge, 2000. P. 210–230.
Von Geldern J. Bolshevik Festivals, 1917–1920. Berkeley: University of
California Press, 1993.
von Zitzewitz J. The «Religious Renaissance» of the 1970s and Its Reper-
cussions on the Soviet Literary Process. Ph. D . thesis. University of Oxford,
2009.
Wallace J. C. A Religious War? The Cold War and Religion // Journal of
Cold War Studies. 2013. Vol. 15. No 3. P. 162–180.
Wanner C. Communities of the Converted: Ukrainians and Global Evan-
gelism. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2007.
Ward Ch. J . Brezhnev’s Folly. The Building of BAM and Late Soviet
Socialism. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009.
Warner M., Van Antwerpen J., Calhoun C. J. Varieties of Secularism in
a Secular Age. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010.
Weber M. Science as a Vocation // From Max Weber: Essays in
Sociology / Ed. and transl. H. H . Gerth, C. Wright Mills. New York: Oxford
University Press, 1946. P . 129–156.
Weeks Th. R . Nation and State in Late Imperial Russia: Nationalism and
Russification on the Western Frontier, 1863–1914. DeKalb: Northern Illinois
University Press, 2008.
Weir T. H . Säkularismus (Freireligiöse, Freidenker, Monisten, Ethiker,
Humanisten) // Handbuch Religionsgeschichte des 20. Jahrhunderts im
deutschsprachigen Raum / Eds. L. Hoelscher, V. Krech. Paderborn:
Schönigh, 2016. Vol. 6/2. S . 189–218.
Weir T. H . The Christian Front against Godlessness: Anti-secularism and
the Demise of the Weimar Republic, 1928–1933 // Past & Present. 2015.
Vol. 229. No 1. P . 201–238.
Weir T. H . The Riddles of Monism: An Introductory Essay // Monism:
Science, Philosophy, Religion, and the History of a Worldview / Ed.
T. H . Weir. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2012. P . 1 –45.
Werth P. W . In the State’s Embrace? Civil Acts in an Imperial Order //
Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2006. Vol. 7 . No 3.
P. 433–458.
Werth P. W . The Emergence of «Freedom of Conscience» in Imperial
Russia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2012.
Vol. 13. No 3. P. 585–610.
Werth P. W . The Tsar’s Foreign Faiths: Toleration and the Fate of
Religious Freedom in Imperial Russia. Oxford: Oxford University Press,
2014.
Wolfe T. C. Governing Soviet Journalism: The Press and the Socialist
Person after Stalin. Bloomington: Indiana University Press, 2005.
Women in the Khrushchev Era / Eds. M. Ilic, S. E. Reid, L. Attwood.
New York: Palgrave Macmillan, 2004.
Wood E. The Baba and the Comrade: Gender and Politics in
Revolutionary Russia. Bloomington: Indiana University Press, 2000.
Worobec Ch. D . Lived Orthodoxy in Imperial Russia // Kritika:
Explorations in Russian and Eurasian History. Vol. 7 . No 2 (2006). P . 329–
350.
Worobec Ch. D . Possessed: Women, Witches, and Demons in Imperial
Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2001.
Yelensky V. The Revival before the Revival: Popular and Institutionalized
Religion in Ukraine on the Eve of the Collapse of Communism // State
Secularism and Lived Religion in Soviet Russia and Ukraine / Ed.
C. Wanner. New York: Oxford University Press, 2012. P . 302–330 .
Yemelianova G. Russia and Islam: A Historical Survey. Basingstoke:
Palgrave, 2002.
Young G. Power and the Sacred in Revolutionary Russia: Religious
Activists in the Village. University Park: Pennsylvania State University
Press, 1997.
Yurchak A. Everything Was Forever until It Was No More: The Last
Soviet Generation. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006.
Zahra T. Imagined Noncommunities: National Indifference as a Category
of Analysis // Slavic Review. 2010. Vol. 69 . No 1 . P. 93 –119.
Zelnik R. E . «To the Unaccustomed Eye»: Religion and Irreligion in the
Experience of St. Petersburg Workers in the 1870s // Russian History. 1989.
Vol. 16. No 2–4. P. 297–326.
Zhuk S. I. Rock and Roll in the Rocket City: The West, Identity, and
Ideology in Soviet Dniepropetrovsk, 1960–1985. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 2010.
Zhuk S. I. Russia’s Lost Reformation: Peasants, Millennialism, and
Radical Sects in Southern Russia and Ukraine, 1830–1917. Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 2004.
Zubkova E. I . Russia after the War: Hopes, Illusions, and
Disappointments, 1945–1957 / Transl. and ed. H . Ragsdale. Armonk, NY:
M. E. Sharpe, 1998.
Zubok V. Zhivago’s Children: The Last Russian Intelligentsia.
Cambridge, MA: Belknap, 2009.
Zuckerman P., Shook J. R . Introduction: The Study of Secularism // The
Oxford Handbook of Secularism / Eds. Ph. Zuckerman, J. R . Shook. New
York: Oxford University Press, 2017. P. 1 –17 .
Zwahlen R. M. The Lack of Moral Autonomy in the Russian Concept of
Personality: A Case of Continuity across the Pre-Revolutionary, Soviet, and
Post-Soviet Periods? // State, Religion and Church. Vol. 2. No 1. P. 19–43.
1
Я использую термин «идеологический аппарат» («ideological estab-
lishment») вслед за историком Дэвидом Бранденбергером — возможно,
самым увлеченным специалистом по советской идеологии, — который
ввел этот термин для собирательного обозначения разнообразных
официальных кругов, связанных с производством и распространением
государственной пропаганды и проведением официальной
идеологической линии. См.: Brandenberger D. Propaganda State in Crisis:
Soviet Ideology, Indoctrination, and Terror under Stalin, 1927–1941. New
Haven: Yale University Press, 2011. P. 7.
2
См. недавно вышедшую работу, где атеизм исследуется с такой точки
зрения: Gray J. Seven Types of Atheism. New York: Farrar, Straus and
Giroux, 2018.
3
Замечу на полях: когда я начинала свое исследование, я не намеревалась
писать политическую историю; первоначально меня интересовала
скорее проблема обрядности и, в частности, обращений
коммунистического проекта к обрядам жизненного цикла, отмечающим
рождение, брак и смерть, которые столь важны для религиозной жизни,
однако в окончательном варианте книги эта проблематика
разрабатывается лишь в одной главе.
4
Словосочетание «общество, свободное от религии» обычно
употреблялось идеологической элитой для обозначения цели
атеистической работы и стало заглавием наиболее комплексного
исследования процессов секуляризации, осуществленного в советский
период. См.: К обществу, свободному от религии: Процесс
секуляризации в условиях социалистического общества. Сб. статей /
Ред. коллегия: П. К. Курочкин (отв. ред.) и др. М.: Мысль, 1970. Это
исследование рассматривается в главе 5 настоящей книги.
5
Наряду с партией надзор за деятельностью учреждений, где
формировался идеологический аппарат, осуществляли также органы
безопасности. Например, авторы статьи, опубликованной в журнале,
предназначенном для внутреннего пользования сотрудников КГБ,
и озаглавленной «Печать — острое оружие в профилактической работе
органов КГБ», отмечали, что не далее как в 1959 г. в центральных
и местных печатных органах, которые были, безусловно, самым явным
и самым широким по охвату средством воздействия идеологической
элиты на советское общество, «по материалам органов КГБ только
о реакционной и враждебной деятельности церковников и сектантов
опубликовано около 5 тысяч статей и фельетонов». — Ермоленко Г.,
Трубицын А. Печать — острое оружие в профилактической работе
органов КГБ // Сборник статей по вопросам агентурно-оперативной
и следственной работы Комитета государственной безопасности при
Совете Министров СССР. 1960. No 3 (6). С. 103–108, цит. с. 103.
6
Brandenberger D. Propaganda State in Crisis. P. 5–6.
7
Термин «свято место» был мне подсказан прежде всего самими
источниками, где по разным поводам приводилась пословица «свято
место пусто не бывает». Наиболее яркий пример использования этой
пословицы, приведенный на страницах моей книги, — выступление
советского писателя Владимира Тендрякова на заседании
идеологической комиссии ЦК КПСС в 1964 г., где Тендряков говорил
о недостатках антирелигиозной пропаганды, не учитывающей
эстетических, эмоциональных и житейских аспектов религии.
8
Kennedy P. History from the Middle: The Case of the Second World War //
Journal of Military History. 2010. Vol. 74 . No 1. P. 35–51, 38.
9
Ислам в СССР: Особенности процесса секуляризации в республиках
советского Востока / Академия общественных наук при ЦК КПСС.
М.: Мысль, 1983; Вагабов М. В . Ислам и вопросы атеистического
воспитания. М.: Высшая партийная школа, 1984.
10
С 2018 г., когда эта книга была опубликована на английском, появилось
несколько новых проектов, в том числе: Goeckel R. Soviet Religious
Policy in Estonia and Latvia: Playing Harmony in the Singing Revolution.
Bloomington, IN: Indiana University Press, 2018. У проекта Мириам
Добсон (Miriam Dobson), предварительно озаглавленного
«Неправославные сообщества в годы холодной войны: протестантизм,
секуляризация и советский атеизм, 1945–1985» («Unorthodox
Communities in the Cold War: Protestants, Secularisation, and Soviet
Atheism, 1945–1985»), есть собственный сайт, который она создала
вместе с Надеждой Беляковой, посвященный устной истории:
«Protestant Communities in the USSR» (URL:
https://www.dhi.ac .uk/protestantizm/about. Последнее посещение
29.05 .2020). Об атеизме в Эстонии см.: Remmel A. (Anti)-Religious
Aspects of the Cold War: Soviet Religious Policy as Applied in the Estonian
SSR // Behind the Iron Curtain. Estonia in the Era of the Cold War / Ed.
T. Tannberg. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. P . 359 –392,
а также Remmel A. Ambiguous Atheism: The Impact of Political Changes on
the Meaning and Reception of Atheism in Estonia // Annual Review of the
Sociology of Religion. 2016. Vol. 7 . P. 233–250. О ситуации в Украине
см.: Basauri Zyuzina A. M., Kyselov O. Atheism in the Context of the
Secularization and Desecularization of Ukraine in the 20th
Century //
Freethought and Atheism in Central and Eastern Europe: The Development
of Secularity and Non-Religion / Eds. T . Bubík, A. Remmel, D. Václavík.
New York: Routledge, 2020; Кисельов O. «На периферії»: науковий
атеїзм у структурі Інституту філософії // Філософська думка. 2016. No 6.
С. 46–51; Кисельов O. Монографія «Культура. Религия. Атеизм» як
документ часів перебудови // Історія релігій в Україні: Науковий
щорічник. 2016. No 2 –3 . С . 43–51.
11
Это прежде всего касается работ эмигрантских историков, таких как
Дмитрий Поспеловский (Dimitry V. Pospielovsky) и Богдан-Ростислав
Боцюрків (Bohdan R. Bociurkiw), чьи труды о религиозной жизни
в СССР были преимущественно посвящены репрессиям против религии
—
как в широком смысле слова (ликвидации религиозных учреждений,
секуляризации образования, ограничению возможностей для
религиозной деятельности), так и в узком (разрушению церквей
и преследованиям духовенства и верующих). См.,
например: Pospielovsky D. V . History of Soviet Atheism in Theory and
Practice and The Believer. Springer, 1988; Bociurkiw B. R . The Orthodox
Church and the Soviet Regime in the Ukraine, 1953–1971 // Canadian
Slavonic Papers. 1972. Vol. 14. No 2. P. 191–212, а также работу
Боцюркiва об украинской католической церкви (которая весь советский
период оставалась вне закона по решению Сталина).
12
Следует также отметить сложность подсчета численности жертв
религиозных репрессий в СССР: не только из-за трудностей доступа
к достоверным данным, но также из-за того, что само определение
«репрессий» не является в науке устоявшимся. На мой взгляд, наиболее
содержательный обзор результатов проведения политики большевиков
по отношению к духовенству предоставил Грегори Фриз; в своей работе
он одновременно пытается дать количественную оценку масштаба
репрессий и признает методологическую трудность такого предприятия:
«Большевистский режим подвергал духовенство гонениям,
приговаривал священников к тюремному заключению и смертной казни
в ходе Гражданской войны и в избирательном порядке продолжал эти
репрессии в 1920-е годы. Хотя общее число расстрелов было
значительно ниже, чем иногда считают (1434, а не десятки тысяч),
репрессии побуждали многих священников выразить свою „лояльность“
советской власти. Далее, чтобы нейтрализовать „контрреволюционное
духовенство“, режим пускал в ход экономическое давление
и дискриминацию: астрономические суммы налогов, отстранение
духовных лиц от дополнительной работы в качестве учителей или
гражданских чиновников, исключение их детей из советских школ.
Статус отверженных и нищета заставляли некоторых священников
отречься от православия и добровольно расстричься; другие теряли
работу из-за враждебности прихожан или из-за того, что у прихожан не
было средств содержать полный штат приходского духовенства
(священника, диакона и регента). Итогом, очевидным уже в середине
1920-х гг., стала социальная революция в среде приходского
духовенства, проявившаяся в кардинальных изменениях его
численности, структуры, состава и уровня образования». —
См.: Freeze G. L. From dechristianization to laicization: state, Church, and
believers in Russia // Canadian Slavonic Papers. 2015. Vol. 57. No 1–2. P . 6–
34, cit. p . 5 . Выводы Фриза основаны на самом тщательном обзоре
материалов источников на многих языках. Приведенные им
количественные данные основаны в первую очередь на следующих
исследованиях: Леонов С. В. Антицерковный террор в период
Октябрьской революции сквозь призму историографии // Вестник
Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета.
Серия II. История. 2014. No 2 (57). С. 38 –55; Михайлова Т. Г. [псевдоним
Т. Г. Леонтьевой] К вопросу о природе и масштабах большевистских
гонений против Русской Православной Церкви в годы Гражданской
войны // Гражданская война в России: события, мнения, оценки / Под
ред. И. И. Кораблева и Н. А. Ивницкого. М.: Раритет, 2002. С. 480–495.
См. также посвященную этому вопросу работу на английском
языке: Dickinson A. Quantifying Religious Oppression: Russian Orthodox
Church Closures and Repression of Priests 1917–41 // Religion, State &
Society. 2000. Vol. 28. No 4. P . 327–335.
13
Я признательна Сергею Штыркову за то, что он привлек внимание
к этому феномену в своей рецензии на мою книгу.
См.: Штырков С. Рецензия на «A Sacred Space Is Never Empty: A History
of Soviet Atheism» // Laboratorium: журнал социальных исследований.
2019. Vol. 11. No 3. С. 173–176.
14
См., например: Kellner J. As Above, So Below: Astrology and the Fate of
Soviet Scientism // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History.
2019. Vol. 20. No 4. P. 783–812.
15
ГАРФ. Ф . A-561. Оп. 1 . Д. 3163. Л . 9. Кучинский Станислав Алексеевич
(1944–2019) — директор Государственного музея истории религии
и атеизма в 1987–2007 гг.
16
Об этом см.: Одинцов М. И . Вероисповедные реформы в Советском
Союзе и в России. 1985–1997 гг. М.: Рос. объедин. исследователей
религии, 2010. С. 46–50.
17
Отчет об этой встрече был опубликован в важнейших партийном
и правительственном изданиях — «Правде» и «Известиях», а также
в «Журнале Московской Патриархии». См.: Встреча Генерального
секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева с Патриархом Московским и всея
Руси Пименом и членами Синода Русской православной церкви //
Правда. 1988. 30 апр. С . 1 –2; Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева с Патриархом Московским и всея Руси Пименом
и членами Синода Русской православной церкви // Известия. 1988.
30 апр. С. 1–2; Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева с Патриархом Московским и всея Руси Пименом
и членами Синода Русской Православной Церкви // Журнал
Московской Патриархии. 1988. No 7 (июль). С. 2–6 . Стоит отметить, что
отчеты о встрече, предназначенные для советских читателей,
размещались в верхнем левом углу газетного листа под сухим
нейтральным заголовком, констатировавшим сам факт встречи.
«Московские новости», предназначенные для зарубежной аудитории,
разместили этот материал в верхней части страницы и дали ему более
броский заголовок: «Общая история, одно отечество». Эти различия
в подаче материала отражены также в фотографиях, сопровождавших
статьи. На этих фотографиях советская аудитория могла увидеть
официальную встречу, участники которой сидят за большим круглым
столом, а зарубежные читатели — Горбачева и Пимена, стоящих рядом
и ведущих приватную беседу, которую, улыбаясь, слушают другие
члены Синода.
18
Фактически это были два отдельных закона, изданные в октябре 1990 г.:
первый — «Закон о свободе совести и религиозных организациях» от
1 октября 1990 г., действовавший на территории СССР, и второй —
«Закон о свободе вероисповеданий» от 25 октября 1990 г. — на
территории РСФСР. После распада Советского Союза именно
соответствующий закон РСФСР послужил основой религиозной
политики Российской Федерации. О законах 1990 г., а также о том, как
они повлияли на последующее законодательство в России,
см.: Shterin M., Richardson J. Local Laws Restricting Religion in Russia:
Prosecutors of Russia’s New National Law // Journal of Church and State.
1998. Vol. 40. P. 319–341.
19
См.: 750 определений религии: история символизаций и интерпретации.
Монография / Под ред. Е. И. Аринина. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014.
20
Известно высказывание Джонатана З. Смита о том, что «религия есть не
более чем создание ученого. Она создана им для целей научного
анализа с помощью приемов его воображения — сравнения
и генерализации». См.: Smith J. Z. Imagining Religion: From Babylon to
Jonestown. Chicago: University of Chicago Press, 1982. P . XI. Вслед за
Смитом Э. Валентайн Дэниел пишет: «После почти двадцати лет
сопротивления этой идее я пришел к выводу, что религия не является
универсальной категорией человеческого бытия. И никогда ею не была.
В этом мире, стремительно движущемся по пути глобализации, она
может однажды стать единой. Но пока она не едина».
См.: Valentine D. E . The Arrogation of Being by the Blind-Spot of
Religion // International Studies in Human Rights. 2002. Vol. 68. P. 31.
21
Дональд Лопес — младший отмечает, что это понимание религии
породило «предположение, обычно не подвергаемое сомнению, что
приверженцы данной религии — любой религии — сами трактуют эту
приверженность в терминах веры». — Lopez Jr. D . S . Belief // Critical
Terms for Religious Studies / Ed. by M. C. Taylor. Chicago: University of
Chicago Press, 1998. P. 21 .
22
Smith J. Z. Religion, Religions, Religious // Critical Terms for Religious
Studies. P. 269. В трудах по религиоведению эта дефиниция религии как
«веры» трактуется как продукт колониализма, Реформации, эпохи
Просвещения, а также социальных наук, возникших в Европе в течение
«долгого» XIX в. Однако безотносительно к специфике того или иного
нарратива все сходятся в том, что, когда мы говорим о «религии», мы
используем понятие, которое является европейским по своему
происхождению, протестантским по форме и модерным по содержанию.
См.: Bell C. Paradigms Behind (and Before) the Modern Concept of
Religion // History and Theory. 2006. Vol. 45. No 4. P. 27–
46; Batnitzky L. How Judaism Became a Religion: An Introduction to
Modern Jewish Thought. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011.
О колониальных истоках религии и о ее появлении в раннее Новое
время см.: Smith J. Z. Religion, Religions, Religious; Asad T. Genealogies of
Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam.
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993; Gottschalk P. Religion,
Science, and Empire: Classifying Hinduism and Islam in British India.
Oxford: Oxford University Press, 2013. Об «изобретении» мировых
религий в XIX в. см.: Masuzawa T. The Invention of World Religions: Or,
How European Universalism Was Preserved in the Language of Pluralism.
Chicago: University of Chicago Press, 2005. P. 2 .
23
Tocqueville A. de. The Old Regime and the French Revolution. New York:
Anchor Books, 1983. P . 13 [см. в русском переводе: Токвиль А. Старый
порядок и революция / Пер. с фр. Л. Н. Ефимова. СПб.: Алетейя, 2008.
С. 22 –23. — Примеч. пер.] . Существует солидный массив литературы
о религии и Французской революции, но на российском материале
аналогичная тема до сих пор в такой же степени не изучена.
См.: Desan S. Reclaiming the Sacred: Lay Religion and Popular Politics in
Revolutionary France. Ithaca, NY: Cornell University Press,
1990; Ozouf M. Festivals and the French Revolution. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1991; Van Kley D. K. The Religious Origins of the
French Revolution: From Calvin to the Civil Constitution, 1560–1791. New
Haven, CT: Yale University Press, 1999; Redefining the Sacred: Religion in
the French and Russian Revolutions / Ed. by D. Schonpflug, M. Schulze
Wessel. Frankfurt am Main: Lang, 2012.
24
Koestler A. The God That Failed. New York: Harper,
1950; Voegelin E. Political Religion [1938; repr.:] Lewiston, NY: Edwin
Mellen, 1986; Gurian W. Bolshevism: An Introduction to Soviet
Communism. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1952.
25
Burrin Ph. Political Religion: The Relevance of a Concept // History and
Memory. 1997. Vol. 9 . No 1 –2 . P. 321–349; Gentile E. Political Religion:
A Concept and Its Critics — A Critical Survey // Totalitarian Movements and
Political Religions. 2005. Vol. 6 . No 1 . P. 19–32.
26
О большевистском милленаризме см.: Slezkine Yu. The House of Govern-
ment: A Saga of the Russian Revolution. Princeton, NJ: Princeton University
Press, 2017. См. в русском переводе: Слезкин Ю. Л . Дом правительства:
сага о русской революции. М.: Издательство АСТ: Corpus, 2019.
27
Энциклика папы Пия XI «Divini Redemptoris (О безбожном
коммунизме)», 19 марта 1937 г. Все цитаты взяты из официального
перевода энциклики на английский:
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p -
xi_enc_19031937_divini-redemptoris_en.html. О значении советского
атеизма для антикоммунизма в межвоенный период см.: Weir T. H . The
Christian Front against Godlessness: Anti-secularism and the Demise of the
Weimar Republic, 1928–1933 // Past & Present. 2015. Vol. 229. No 1 .
P. 201–238; Chamedes G. The Vatican, Nazi-Fascism, and the Making of
Transnational Anti-communism in the 1930s // Journal of Contemporary
History. 2016. Vol. 51. No 2 . P . 261–290. О религиозной мобилизации
против коммунизма в годы холодной войны см.: Herzog J. P . The
Spiritual-Industrial Complex: America’s Religious Battle against
Communism in the Early Cold War. Oxford: Oxford University Press, 2011.
28
О взаимоотношениях науки и идеологии в сталинский период
см.: Pollock E. Stalin and the Soviet Science Wars. Princeton, NJ: Princeton
University Press, 2006. Даже в ходе дискуссий о сущности
«политической религии» и «тоталитаризма» тем не менее очень редко
комплексно рассматриваются взаимоотношения между наукой,
религией и атеизмом в рамках советской коммунистической идеологии.
О науке, религии и идеологии см.: David-Fox M. Religion, Science, and
Political Religion in the Soviet Context // Modern Intellectual History. 2011.
Vol. 8. No 2 . P. 471–484. См. также новое исследование, где изучаются
эти взаимоотношения: Science, Religion and Communism in Cold War
Europe / Ed. by P. Betts, S. A. Smith. Basingstoke: Palgrave Macmillan,
2016.
29
Luehrmann S. Was Soviet Society Secular? Undoing Equations between
Communism and Religion // Atheist Secularism and Its Discontents / Ed. by
T. T . T . Ngo and J. B. Quijada. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015.
P. 140.
30
См. статьи Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, С. Л . Франка,
М. О. Гершензона и А. С. Изгоева в сборнике «Вехи»: Vekhi
(Landmarks). New York: M. E . Sharpe, 1994. [См. на русском языке:
Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции Н. А. Бердяева,
С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона, А. С. Изгоева, Б. А. Кистяковского,
П. Б. Струве, С. Л. Франка. Репринтное издание 1909 г. М.: Изд-во
«Новости» (АПН), 1990. — Примеч. пер.]
31
Из глубины: Сборник статей о русской революции [1918]. М.: Новости,
1991.
32
Berdyaev N. The Origin of Russian Communism [1937; repr.]. Ann Arbor:
University of Michigan Press, 1960. P. 158. [См. на русском
языке: Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное
воспроизведение издания YMCA-PRESS, 1955 г. М.: Наука, 1990.
С. 129. — Примеч. пер.] См. также: Berdiaev N. The Russian Revolution.
Ann Arbor: University of Michigan Press, 1961.
33
Fülöp-Miller R. The Mind and Face of Bolshevism: An Examination of Cul-
tural Life in Soviet Russia. New York: Harper & Row, 1965. P . ix, 71–72 .
34
О философах русского зарубежья и об антикоммунизме в годы
холодной войны см.: Stroop Ch. The Russian Origins of the So-Called Post-
secular Moment: Some Preliminary Observations // State, Religion and
Church. 2014. Vol. 1. No 1. P . 59–82.
35
Примеры исследований, где акцент делается на антирелигиозных
репрессиях: Religion and Atheism in the USSR and Eastern Europe / Ed. by
B. Bociurkiw and J. Strong. Toronto: University of Toronto Press,
1975; Bourdeaux M. Opium of the People: The Christian Religion in the
USSR. London: Faber and Faber, 1965; Bourdeaux M. Patriarch and
Prophets: Persecution of the Russian Orthodox Church Today. London:
Mowbrays, 1975; Bourdeaux M., Rowe M. International Committee for the
Defense of Human Rights in the USSR. May One Believe — in Russia?
Violations of Religious Liberty in the Soviet Union. London: Darton,
Longman & Todd, 1980; Kolarz W. Religion in the Soviet Union. London:
Macmillan, 1969; Pospielovskii D. V . A History of Marxist-Leninist Atheism
and Soviet Antireligious Policies. New York: St. Martin’s,
1997; Froese P. The Plot to Kill God: Findings from the Soviet Experiment
in Secularization. Berkeley: University of California Press, 2008. Соня
Люрман предлагает анализ того, каким образом первые исследования
положения религии в Советском Союзе стали частью практик холодной
войны. См.: Luehrmann S. Religion in Secular Archives: Soviet Atheism and
Historical Knowledge. New York: Oxford University Press, 2015;
в особенности см. главу 4 «Counter-Archives: Sympathy on Record».
36
Примеры исследований, где атеизм рассматривается прежде всего
в идеологическом контексте: Powell D. E . Antireligious Propaganda in the
Soviet Union: A Study in Mass Persuasion. Cambridge, MA: MIT Press,
1975; Thrower J. Marxist-Leninist «Scientific Atheism» and the Study of
Religion and Atheism in the USSR. New York: Mouton,
1983; Stites R. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life
in the Russian Revolution. New York: Oxford University Press,
1989; Young G. Power and the Sacred in Revolutionary Russia: Religious
Activists in the Village. University Park: Pennsylvania State University
Press, 1997; Peris D. Storming the Heavens: The Soviet League of the
Militant Godless. Ithaca, NY: Cornell University Press,
1998; Husband W. B . «Godless Communists»: Atheism and Society in Soviet
Russia, 1917–1932. DeKalb: Northern Illinois University Press,
2000; Алексеев В. А . «Штурм небес» отменяется? Критические очерки
по истории борьбы с религией в СССР. М.: Изд. центр «Россия
молодая», 1992. Арто Луукканен изучал и идеологию, и управление, но
в разных работах. См.: Luukkanen A. The Religious Policy of the Stalinist
State. A Case Study: The Central Standing Commission on Religious
Questions, 1929–1938. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura,
1997; Luukkanen A. The Party of Unbelief: The Religious Policy of the
Bolshevik Party, 1917–1929. Helsinki: Societas Historiae Finlandiae, 1994.
37
Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley:
University of California Press, 1995 [см. в русском
переводе: Коткин С. Говорить по-большевистски (из кн. «Магнитная
гора: Сталинизм как цивилизация») // Американская русистика: Вехи
историографии последних лет. Советский период: Антология / Сост.
М. Дэвид-Фокс. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2001.
С. 250–328. — Примеч. пер.]; Halfin I. Stalinist Confessions: Messianism
and Terror at the Leningrad Communist University. Pittsburgh: University of
Pittsburgh Press, 2009; Halfin I. From Darkness to Light: Class,
Consciousness, and Salvation in Revolutionary Russia. Pittsburgh: University
of Pittsburgh Press, 2000; Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a
Diary under Stalin. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006 [см.
в русском переводе: Хелльбек Й. Революция от первого лица: дневники
сталинской эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2017. — Примеч.
ред.].
38
См.: Смирнов М. Ю. Научный атеизм в советском высшем образовании:
периодизация и содержание // Вестн. Ленингр. гос. ун-та им.
А. С. Пушкина. 2018. Философские науки. No 3. С. 144 –171 .
39
Примеры работ, охватывающих послевоенный
период: Anderson J. Religion, State and Politics in the Soviet Union and
Successor States. Cambridge: Cambridge University Press,
1994; Luehrmann S. Secularism Soviet Style: Teaching Atheism and
Religion in a Volga Republic. Bloomington: Indiana University Press,
2011; Luehrmann S. Religion in Secular Archives; State Secularism and
Lived Religion in Soviet Russia and Ukraine / Ed. by C. Wanner. New York:
Oxford University Press, 2012; Huhn U. Glaube und Eigensinn:
Volksfrömmigkeit zwischen orthodoxer Kirche und Sowjetischem Staat,
1941 bis 1960. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014; Baran E. B . Dissent
on the Margins: How Soviet Jehovah’s Witnesses Defied Communism and
Lived to Preach about It. Oxford: Oxford University Press,
2014; Kelly C. Socialist Churches: Radical Secularization and the
Preservation of the Past in Petrograd and Leningrad, 1918–1988. DeKalb:
Northern Illinois University Press, 2016. Примечательно, что, в отличие от
англоязычной научной традиции, российские ученые, изучающие
судьбу религии в СССР, подчеркивают институциональные различия
между правительственной и партийной политикой по отношению
к религии. См.: Chumachenko T. Church and State in Soviet Russia: Russian
Orthodoxy from World War II to the Khrushchev Years / Transl. and ed. by
E. E . Roslof. Armonk, NY: M. E . Sharpe, 2002 [см.
также: Чумаченко Т. А. Государство, православная церковь, верующие.
1941–1961 гг. М .: АИРО-ХХ, 1999. С. 11 . — Примеч.
пер.]; Шкаровский М. В . Русская Православная Церковь при Сталине
и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–
1964 годах). М.: Крутицкое Патриаршее Подворье,
1999; Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке.
М.: Вече, Лепта, 2010; Одинцов М. И ., Чумаченко Т. А . Совет по делам
Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР и Московская
патриархия: эпоха взаимодействия и противостояния 1943–1965 гг.
СПб.: Российское объединение исследователей религии, 2013.
40
О православии в СССР см.: Roslof E. E . Red Priests: Renovationism,
Russian Orthodoxy, and Revolution, 1905–1946. Bloomington: Indiana Uni-
versity Press, 2002; Davis N. A Long Walk to Church: A Contemporary
History of Russian Orthodoxy. Boulder, CO: Westview,
2003; Kenworthy S. M . The Heart of Russia: Trinity-Sergius, Monasticism,
and Society after 1825. Oxford: Oxford University Press,
2010; Фирсов С. Л . Власть и огонь. Церковь и советское государство:
1918 — начало 1940-х гг. М.: Православный Свято-Тихоновский
Гуманитарный Университет, 2014. О баптизме и протестантизме
см.: Wanner C. Communities of the Converted: Ukrainians and Global
Evangelism. Ithaca, NY: Cornell University Press,
2007; Coleman H. J . Russian Baptists and Spiritual Revolution, 1905–1929.
Bloomington: Indiana University Press, 2005; Никольская Т. К. Русский
протестантизм и государственная власть в 1905–1991 годах. СПб.: Изд-
во Европейского университета в Санкт-Петербурге,
2009; Kashirin A. Protestant Minorities in the Soviet Ukraine, 1945–1991.
Ph. D . diss. University of Oregon, 2010. Об исламе см.: R’oi Ya. Islam in
the Soviet Union: From the Second World War to Gorbachev. London:
Hurst, 2000; Tasar E. Murat . Soviet and Muslim: The Institutionalization of
Islam in Central Asia, 1943–1991. Ph. D. diss. Harvard University,
2010; Keller Sh. To Moscow, Not Mecca: The Soviet Campaign against
Islam in Central Asia, 1917–1941. Westport, CT: Praeger,
2001; Khalid A. Islam after Communism: Religion and Politics in Central
Asia. Berkeley: University of California Press, 2007 [см. в русском
переводе: Халид А. Ислам после коммунизма. Религия и политика
в Центральной Азии. М.: Новое литературное обозрение, 2010. —
Примеч. ред.].; Kemper M. Studying Islam in the Soviet Union. Amsterdam:
Vossiuspers UvA, 2009; Yemelianova G. Russia and Islam: A Historical
Survey. Basingstoke: Palgrave, 2002. Об иудаизме
см.: Gitelman Z. Y. Jewish Nationality and Soviet Politics: The Jewish
Sections of the CPSU, 1917–1930. Princeton, NJ: Princeton University Press,
1972. P. 298–318; Kornblatt J. D. Doubly Chosen: Jewish Identity, the
Soviet Intelligentsia, and the Russian Orthodox Church. Madison: University
of Wisconsin Press, 2004; Shternshis A. Soviet and Kosher: Jewish Popular
Culture in the Soviet Union, 1923–1939. Bloomington: Indiana University
Press, 2006. P. 1 –43; Altshuler M. Religion and Jewish Identity in the Soviet
Union, 1941–1964. Waltham, MA: Brandeis University Press, 2012. P. 1 –22 ,
90–116, 205–314; Bemporad E. Becoming Soviet Jews: The Bolshevik
Experiment in Minsk. Bloomington: Indiana University Press, 2013. P. 112 –
144; Petrovsky-Shtern Yo. Lenin’s Jewish Question. New Haven, CT: Yale
University Press, 2010.
41
О секулярной модели управления см.: State Secularism and Lived
Religion in Soviet Russia and Ukraine. P . 1 –26; Luehrmann S. Secularism
Soviet Style; Atheist Secularism and Its Discontents; Burchardt M.,
Wohlrab-Sahr M. , Middell M. Multiple Secularities beyond the West: An
Introduction // Multiple Secularities beyond the West: Religion and
Modernity in the Global Age / Ed. by M. Burchardt, M. Wohlrab-Sahr,
M. Middell. Berlin: De Gruyter, 2015. P. 1 –15.
42
О дискуссиях вокруг политики секуляризма см.: Zuckerman Ph.,
Shook J. R . Introduction: The Study of Secularism // The Oxford Handbook
of Secularism / Ed. by Ph. Zuckerman, J. R. Shook. New York: Oxford
University Press, 2017. P. 1–17.
43
Asad T. Genealogies of Religion; Sullivan W. F . The Impossibility of
Religious Freedom. Princeton, NJ: Princeton University Press,
2005; Warner M., Van Antwerpen J., Calhoun C. J. Varieties of Secularism
in a Secular Age. Cambridge, MA: Harvard University Press,
2010; Mahmood S. Religious Difference in a Secular Age: A Minority
Report. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015; Hurd E. Sh. The
Politics of Secularism in International Relations. Princeton, NJ: Princeton
University Press, 2007; Taylor Ch. A Secular Age. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 2007 [см. в русском переводе: Тейлор Ч. Секулярный
век. М.: ББИ, 2017. — Примеч. ред.]; Cady L. E., Hurd E. Sh. Comparative
Secularisms and the Politics of Modernity: An Introduction // Comparative
Secularisms in a Global Age / Ed. by L. E . Cady, E. Sh. Hurd. New York:
Palgrave Macmillan, 2010. P. 3–24; Christianity and Modernity in Eastern
Europe / Ed. by B. R . Berglund, B. Porter. Budapest: Central European
University Press, 2010.
44
Asad T. Genealogies of Religion. P. 207 [см. на русском языке: Асад
Талал. Что могла бы представлять собой антропология секуляризма? //
Логос. 2011. No 3 (82). С. 56–99 . — Примеч. пер.]. Майянти Л. Фернандо
отмечает, что с появлением секулярного вера становится «аутентичным
вместилищем религии». См.: Fernando M. L . The Republic Unsettled:
Muslim French and the Contradictions of Secularism. Durham, NC: Duke
University Press, 2014. P . 166.
45
Так, Кэтрин Уоннер считает, что более продуктивный способ
понимания советского секуляризма — изучение его в контексте
структур и методов управления, поскольку «именно потребности
управления жизнью общества, изменяющиеся с ходом истории,
провоцируют взлеты и падения интенсивности религиозных чувств
и изменяют понимание того, что представляет собой вера
и соответствующая практика». См.: State Secularism and Lived Religion.
P. 9.
46
Atheist Secularism and Its Discontents. P . 7 . См. компаративное
исследование по секуляризму, где предпринята попытка максимально
расширить спектр конституирующих черт «секулярного» и указать на
ограниченность отождествления секуляризма с либерализмом:
Secularism and Its Critics / Ed. by R. Bhargava. New Delhi: Oxford
University Press, 1998.
47
Fürst J. Stalin’s Last Generation: Soviet Post-war Youth and the Emergence
of Mature Socialism. Oxford: Oxford University Press,
2010; Raleigh D. J. Soviet Baby Boomers: An Oral History of Russia’s Cold
War Generation. New York: Oxford University Press, 2013 [см. в русском
переводе: Рейли Д. Советские бэйби-бумеры: Послевоенное поколение
рассказывает о себе и о своей стране / Пер. с англ. Т. Эйдельман.
М.: Новое литературное обозрение, 2015. — Примеч. пер.];
Reconsidering Stagnation in the Brezhnev Era: Ideology and Exchange / Ed.
by D. Fainberg, A. Kalinovsky. Lanham, MD: Lexington Books, 2016.
Особенно ценный вклад в изучение идеологии позднего советского
периода внесли труды по истории советских средств массовой
информации. См.: Wolfe Th. C . Governing Soviet Journalism: The Press and
the Socialist Person after Stalin. Bloomington: Indiana University Press,
2005; Bren P. The Greengrocer and His TV: The Culture of Communism
after the 1968 Prague Spring. Ithaca, NY: Cornell University Press,
2010; Roth-Ey K . Moscow Prime Time: How the Soviet Union Built the
Media Empire That Lost the Cultural Cold War. Ithaca, NY: Cornell
University Press, 2011; Evans Ch. E . Between Truth and Time: A History of
Soviet Central Television. New Haven, CT: Yale University Press, 2016.
48
Kharkhordin O. The Collective and the Individual in Russia. Berkeley:
University of California Press, 1999; Yurchak A. Everything Was Forever
until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton, NJ: Princeton
University Press, 2006, а также переработанное издание этой книги на
русском языке: Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось:
Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение,
2014; Zhuk S. I. Rock and Roll in the Rocket City: The West, Identity, and
Ideology in Soviet Dniepropetrovsk, 1960–1985. Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 2010; После Сталина: позднесоветская субъективность
(1953–1985): сборник статей / Под ред. А . Пинского. СПб.:
Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018.
49
Kenez P. The Birth of the Propaganda State: Soviet Methods of Mass
Mobilization, 1917–1929. New York: Cambridge University Press,
1985; Brandenberger D. Propaganda State in Crisis: Soviet Ideology, Indoc-
trination, and Terror under Stalin, 1927–1941. Cambridge, MA: Harvard
University Press, 2002.
50
О подспудных течениях в Коммунистической партии
см.: Митрохин Н. Русская партия: Движение русских националистов
в СССР. 1953–1985 гг. М .: Новое литературное обозрение,
2003; Mitrokhin N. Back-office Михаила Суслова, или Кем и как
производилась идеология брежневского времени // Cahiers du monde
russe. 2013. Vol. 54. No 3. P . 409–440; Humphrey C. The «Creative
Bureaucrat»: Conflicts in the Production of Soviet Communist Party
Discourse // Inner Asia. 2008. Vol. 10. No 1. P. 5–35.
51
Marx K. Contribution to the Critique of Hegel’ s Philosophy of Right: Intro-
duction [1844] // The Marx-Engels Reader. 2
nd
ed. / Ed. by R. Tucker. New
York: Norton, 1978. P. 54 [см. на русском языке: Маркс К. К критике
гегелевской философии права. Введение // Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. Изд. 2-е / Институт Маркса — Энгельса — Ленина —
Сталина при ЦК КПСС. М.: Государственное издательство
политической литературы, 1955. Т. 1 . С. 415. — Примеч. пер.] .
52
Marx K. Theses on Feuerbach [1845] // The Marx-Engels Reader. P. 145 [см.
на русском языке: Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. Изд. 2-е / Институт Маркса — Энгельса — Ленина —
Сталина при ЦК КПСС. М.: Государственное издательство
политической литературы, 1955. Т. 3 . С. 4 . — Примеч. пер.] .
53
Marx K., Engels F. The German Ideology (1845–1846) // The Marx-Engels
Reader. P. 158 [см. на русском языке: Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая
идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2 -е. Т . 1 . С . 29–31. —
Примеч. пер.].
54
Marx K. Contribution to the Critique of Hegel’ s Philosophy of Right. P . 59
[см. на русском языке: Маркс К. К критике гегелевской философии
права. Введение. С. 414 . — Примеч. пер.] .
55
Ibid. P. 54 [см. на русском языке: Там же. С. 415. — Примеч. пер.] .
56
Ibid. Курсив оригинала [см. на русском языке: Там же. — Примеч. пер.] .
57
Engels F. Socialism: Utopian and Scientific // The Marx-Engels Reader.
P. 725–727 [см. на русском языке: Энгельс Ф. Развитие социализма от
утопии к науке // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2 -е / Институт
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. М.: Государственное издательство
политической литературы, 1961. Т. 19. С. 191–194. — Примеч. пер.] .
58
Comte A. The Positive Philosophy // Introduction to Contemporary
Civilization in the West. New York: Columbia University Press, 1961.
Vol. 2 . P. 767–791 [см. на русском языке: Конт О. Дух позитивной
философии. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001.
—
Примеч. пер.].
59
Stedman Jones G. Religion and the Origins of Socialism // Religion and the
Political Imagination / Ed. by I. Katznelson, G. Stedman Jones. Cambridge:
Cambridge University Press, 2010. P . 171 –189. Стедман Джонс
высказывает мнение, что социализм был «плодом критики не столько
в адрес государства, сколько в адрес церкви, а также безуспешной
революционной попытки найти церкви замену» (Р. 174 –175).
60
Marx K. Contribution to the Critique of Hegel’ s Philosophy of Right. P . 40
[см. на русском языке: Маркс К. К критике гегелевской философии
права. Введение. С. 414 . — Примеч. пер.] .
61
Marx K., Engels F. Manifesto of the Communism Party (Extracts from
Chapters II and III) // Karl Marx and Friedrich Engels on Religion. Mineola,
NY: Dover, 2008. P. 88 [см. на русском языке: Маркс К.,
Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К.,
Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2 -е / Институт Маркса — Энгельса —
Ленина — Сталина при ЦК КПСС. М.: Государственное издательство
политической литературы, 1955. Т. 4 . С. 445. — Примеч. пер.] .
62
Ленин В. И . Социализм и религия // Ленин об атеизме, религии и церкви
(Сборник статей, писем и других материалов). М.: Мысль, 1969. С. 43,
46.
63
Там же. С. 43.
64
Там же. С. 44–45.
65
Там же. С. 45.
66
Там же. С. 46–47 .
67
Как отмечает Ричард Стайтс, термины «богоискательство»
и «богостроительство» предложил Максим Горький в своей повести
«Исповедь», а Луначарский был «подлинным новатором» в сфере
богостроительства, детально раскрывшим содержание этого понятия
в своей работе «Религия и социализм». См.: Stites R. Revolutionary
Dreams. P . 102–103.
68
В. И. Ленин — А. М. Горькому. 13 или 14 ноября 1913 г. // Ленин В. И.
Полн. собр. соч. 5 -е изд. М ., 1958–1965. Т . 48. С . 226–229.
69
Myers D. Marx, Atheism and Revolutionary Action // Canadian Journal of
Philosophy. 1981. Vol. 11 . No 2 . P . 317–318.
70
Ярославский Ем. Как родятся, живут и умирают боги и богини.
М.: Советская Россия, 1959. С. 7 .
71
Понятие «быт», как известно, трудно поддается переводу на
английский. Как отмечает литературовед Ирина Гуткин, слово «быт»
является производным от глагола «быть» и первоначально
использовалось для обозначения материальных объектов, таких как
предметы повседневного обихода. К началу XIX в. «это слово стало
обозначать в более общем смысле сочетание нравов и обычаев,
проявляющихся в формах повседневной жизни, характерных для данной
социальной среды». См.: Gutkin I. The Cultural Origins of the Socialist
Realist Aesthetic, 1890–1934. Evanston, IL: Northwestern University Press,
1999. P. 81.
72
После сталинского возобновления отношений с религией в годы войны
эта функция была возложена на Совет по делам Русской православной
церкви и Совет по делам религиозных культов, которые в 1965 г. были
объединены в Совет по делам религий (СДР).
73
Органы безопасности за советский период пережили многочисленные
реформы; в их число включают, в хронологическом порядке,
Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией
и саботажем (ВЧК), Объединенное государственное политическое
управление (ОГПУ), Народный комиссариат внутренних дел (НКВД)
и Комитет государственной безопасности (КГБ). См.: Fedor J. Russia and
the Cult of State Security: The Chekist Tradition, from Lenin to Putin. New
York: Routledge, 2013.
74
О конфессиональном составе населения Российской империи по
результатам всеобщей переписи населения 1897 г. см.: Werth P. W . The
Tsar’s Foreign Faiths: Toleration and the Fate of Religious Freedom in
Imperial Russia. Oxford: Oxford University Press, 2014. P. 4, 37.
По результатам переписи 1897 г. (с несколькими ревизиями)
православные и старообрядцы составляли более 69,4% населения
империи (89 377 000 человек), мусульмане — 10,8% (13 907
000 человек), католики — 9,0% (11 468 600 человек), протестанты —
5,0% (6 390 800 человек), иудеи — 4,1% (5 228 700 человек),
приверженцы армяно-григорианской церкви — 0,9% (точная
численность не установлена), язычники — 0,7% (719 900 человек).
75
Slezkine Yu. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State
Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. 1994. Vol. 53 . No 2 . P. 414 –
452 [см. в русском переводе: Слезкин Ю. СССР как коммунальная
квартира, или Каким образом социалистическое государство поощряло
этническую обособленность // Американская русистика: Вехи
историографии последних лет. Советский период: Антология / Сост.
М. Дэвид-Фокс. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2001.
С. 329–374. — Примеч. пер.] .
76
Werth P. W . The Tsar’s Foreign Faiths: Toleration and the Fate of Religious
Freedom in Imperial Russia. Oxford: Oxford University Press, 2014. Обзор
конфессионального ландшафта Российской империи см.: Ibid. P. 12–29.
См. также: Of Religion and Empire: Missions, Conversion, and Tolerance in
Tsarist Russia / Ed. by R. P . Geraci and M. Khodarkovsky. Ithaca, NY:
Cornell University Press, 2001; Crews R. D . Empire and the Confessional
State: Islam and Religious Politics in Nineteenth-Century Russia // American
Historical Review. 2003. Vol. 108. No 1 . P. 50 –83; Crews R. D. For Prophet
and Tsar: Islam and Empire in Russia and Central Asia. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 2006; Weeks T. R . Nation and State in Late
Imperial Russia: Nationalism and Russification on the Western Frontier,
1863–1914. DeKalb: Northern Illinois University Press,
2008; Долбилов М. Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная
политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М.: Новое
литературное обозрение, 2010; Kane E. Russian Hajj: Empire and the
Pilgrimage to Mecca. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015.
77
Werth P. W . In the State’s Embrace? Civil Acts in an Imperial Order //
Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2006. Vol. 7 . No 3.
P. 433–458; Steinwedel Ch. Making Social Groups, One Person at a Time:
The Identification of Individuals by Estate, Religious Confession, and
Ethnicity in Late Imperial Russia // Documenting Individual Identity: The
Development of State Practices in the Modern World / Ed. by J. Caplan and
J. Torpey. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001. P. 67–82 [см.
в русском переводе: Стейнведел Ч. Создание социальных групп
и определение социального статуса индивидуума: Идентификация по
сословию, вероисповеданию и национальности в конце имперского
периода в России // Российская империя в зарубежной историографии.
Работы последних лет. Антология / Сост. П. Верт, П. С. Кабытов,
А. И. Миллер. М.: Новое издательство, 2005. С. 610–633 . — Примеч.
пер.].
78
Об «официальной народности» и двойственности понятия «народность»
см.: Riasanovsky N. Russian Identities: A Historical Survey. New York:
Oxford University Press, 2005. P . 133, 141 .
79
Franklin S., Shepard J. The Emergence of Rus 750–1200. London:
Longman, 1998. P . 367–369 [см. русский текст: Повесть временных лет /
Подгот. текста, пер. ст. и коммент. Д. С. Лихачева. Под ред.
В. П. Адриановой-Перетц. Изд. 2 -е, испр. и доп. СПб.: Наука, 1999.
С. 49, 186. — Примеч. пер.]. Историки Франклин и Шепард пишут, что
русские земли «пришли в упадок в период феодальной
раздробленности», что привело к «катастрофической дезинтеграции»
(р. 367–368). Однако они также ставят вопрос о том, была ли ранняя
Киевская Русь «целостностью или множеством» (р. 369). По их версии,
она представляла собой и то и другое: «Она не была унитарным
государством, там не существовало ни четкой иерархии власти, ни
центральных административных структур, не наблюдалось
и институциональной атрофии, которая могла бы сдерживать развитие
местных экономических инициатив. С другой стороны, существовало
явное сходство между землями, принадлежащими правящей династии,
отличавшее их — вместе взятые — от их соседей» (р. 369). См.
также: Vlasto A. P . The Entry of the Slavs into Christendom: An
Introduction to the Medieval History of the Slavs. Cambridge: Cambridge
University Press, 1970.
80
Fedotov G. P . The Russian Religious Mind. Vol. 2 . Cambridge, MA: Har-
vard University Press, 1966. P. 22 .
81
О роли религиозной дисциплины в консолидации государства раннего
Нового времени см.: Gorski Ph. S . The Disciplinary Revolution: Calvinism
and the Rise of the State in Early Modern Europe. Chicago: University of
Chicago Press, 2003.
82
О церковных реформах Петра I см.: Cracraft J. The Church Reform of
Peter the Great. Stanford, CA: Stanford University Press, 1971.
О Святейшем синоде см.: Basil J. D. Church and State in Late Imperial
Russia: Critics of the Synodal System of Church Government (1861–1914).
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005. Сущность «симфонии»
между Русской православной церковью и Российским государством
остается предметом споров. Две противоположные точки зрения
см.: Pipes R. The Church as Servant of the State // Pipes R. Russia under the
Old Regime. New York: Penguin, 1974. P. 221 –
245; Freeze G. L. Handmaiden of the State? The Church in Imperial Russia
Reconsidered // Journal of Ecclesiastical History. 1985. Vol. 36 . No 1 . P . 82–
102. Фриз выдвигает убедительные возражения против того, чтобы
рассматривать церковь как служанку государства. Тем не менее
я придерживаюсь точки зрения Веры Шевцов, что государство
устанавливало параметры деятельности церкви, даже если не было
непосредственно вовлечено во все аспекты церковных дел.
См.: Shevzov V. Russian Orthodoxy on the Eve of Revolution. New York:
Oxford University Press, 2004. P . 15–17 .
83
О борьбе государства с «суеверием» в имперской России
см.: Dixon S. Superstition in Imperial Russia // Past & Present. 2008.
Vol. 199. P . 207–228; Живов В. М. Дисциплинарная революция и борьба
с суеверием в России XVIII века: «провалы» и их последствия //
Антропология революции: Сборник статей по материалам XVI Банных
чтений журнала «Новое литературное обозрение» / Сост. и ред.
И. Прохорова, А. Дмитриев, И. Кукулин, М. Майофис. М.: Новое
литературное обозрение, 2009. С . 327–361.
84
Живов В. М. Дисциплинарная революция и борьба с суеверием... С. 352.
85
The Spiritual Regulation of Peter the Great / Transl. and ed. by A. V. Muller.
Seattle: University of Washington Press, 1972. P. 10; цит. по: Shev-
zov V. Russian Orthodoxy on the Eve of Revolution. Р. 16, note 21.
86
Kizenko N. Hand in Hand: Church, State, Society, and the Sacrament of
Confession in Imperial Russia (в печати). Выражаю свою признательность
Надежде Киценко, позволившей мне ознакомиться с ее неизданной
рукописью.
87
Chulos Ch. J. Converging Worlds: Religion and Community in Peasant
Russia, 1861–1917. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2003.
P. 5; Lewin M. Popular Religion in Twentieth-Century Russia // The World
of the Russian Peasant: Post-emancipation Culture and Society / Ed. by
B. Eklof and S. Frank. Boston: Unwin Hyman, 1990. P. 155–168.
88
Zelnik R. E . «To the Unaccustomed Eye»: Religion and Irreligion in the
Experience of St. Petersburg Workers in the 1870s // Russian History. 1989.
Vol. 16. No 2–4. P. 297–326; Steinberg M. D. Workers on the Cross:
Religious Imagination in the Writings of Russian Workers, 1910–1924 //
Russian Review. 1994. Vol. 53 . No 2 . P . 213–239; Herrlinger P. Working
Souls: Russian Orthodoxy and Factory Labor in St. Petersburg, 1881–1917.
Bloomington, IN: Slavica, 2007.
89
О народном православии см.: Shevzov V. Russian Orthodoxy on the Eve of
Revolution; Worobec Ch. Lived Orthodoxy in Imperial Russia // Kritika:
Explorations in Russian and Eurasian History. 2006. Vol. 7. No 2. P . 329–
350.
90
Werth P. W . The Emergence of «Freedom of Conscience» in Imperial
Russia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2012.
Vol. 13. No 3. P . 585 –610; Poole R. A . Religious Toleration, Freedom of
Conscience, and Russian Liberalism // Kritika: Explorations in Russian and
Eurasian History. 2012. Vol. 13. No 3. P . 611–634; Frede V. Freedom of
Conscience, Freedom of Confession, and «Land and Freedom» in the
1860s // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2012.
Vol. 13. No 3. P . 561–584.
91
Как отмечает историк Джеффри Хоскинг, «симфонические» отношения
православной церкви с имперским государством служили для нее
источником привилегий и протекции, но в то же время налагали на нее
«двойные узы»: «Положение официальной церкви имело свои
преимущества, но и свои недостатки — прежде всего невозможность
соблюдать собственные принципы». Бюрократизация церкви привела
к ее отчуждению от жизни простых людей и в то же время обязала ее
«выполнять функции, делегированные ей имперским государством, чьи
приоритеты были ей чужды». См.: Hosking G. The Russian Orthodox
Church and Secularisation // Religion and the Political Imagination / Ed. by
I. Katznelson and G. Stedman Jones. Cambridge: Cambridge University
Press, 2010. P. 117 .
92
Эткинд А. Хлыст: Секты, литература и революция. М.: Новое
литературное обозрение, 1998; Engelstein L. Castration and the Heavenly
Kingdom: A Russian Folktale. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003
[см. на русском языке: Энгельштейн Л. Скопцы и Царство Небесное.
Скопческий путь к искуплению. М.: Новое литературное обозрение,
2002. — Примеч. пер.]; Zhuk S. I . Russia’s Lost Reformation: Peasants,
Millennialism, and Radical Sects in Southern Russia and Ukraine, 1830–
1917. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004.
93
Engelstein L. Slavophile Empire: Imperial Russia’s Illiberal Path. Ithaca, NY:
Cornell University Press, 2009. P . 92–94; Werth P. W . The Tsar’s Foreign
Faiths. P . 187–188, 195.
94
Werth P. W . The Tsar’s Foreign Faiths. P. 230–232, 239.
95
Frede V. Doubt, Atheism, and the Nineteenth-Century Russian Intelligentsia.
Madison: University of Wisconsin Press, 2011. P. 11, 35. О религиозных
и идейных убеждениях дореволюционной русской интеллигенции см.
также: Read Ch. Religion, Revolution and the Russian Intelligentsia, 1900–
1912. London: Palgrave Macmillan, 1979; Manchester L. Holy Fathers,
Secular Sons: Clergy, Intelligentsia, and the Modern Self in Revolutionary
Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2008 [см. в русском
переводе: Манчестер Л. Поповичи в миру: Духовенство, интеллигенция
и становление современного самосознания в России. М.: Новое
литературное обозрение, 2015. — Примеч. ред.]. О «кризисе ценностей»
российского образованного общества начала ХХ в. см. предисловие
к следующему изданию: A Revolution of the Spirit: Crisis of Value in
Russia, 1890–1924 / Ed. by B. G . Rosenthal, M. Bochachevsky-Chomiak,
transl. M . Schwartz. New York: Fordham University Press, 1990. P . 1 –40.
96
Ленин В. И . Социализм и религия // Ленин об атеизме, религии и церкви
(Сборник статей, писем и других материалов). М.: Мысль, 1969. С. 45.
97
Декрет о земле // Декреты советской власти. М.: Гос. изд-во полит.
литературы, 1957. Т. 1. С. 17–19.
98
Декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов
состояния // Собрание узаконений и распоряжений правительства за
1917–1918 гг. / Управление Совнаркома СССР. М., 1942. С . 161–163.
99
Декрет Совета народных комиссаров «Об отделении церкви от
государства и школы от церкви» // Собрание узаконений
и распоряжений... С. 286–287. Первый вариант декрета, выпущенного
тремя днями позже с некоторыми поправками, был озаглавлен «Декрет
о свободе совести, церковных и религиозных организациях» (20 января
1918 г.). См.: Декрет о свободе совести, церковных и религиозных
организациях // Декреты советской власти. Т. 1 . С. 373–374.
100
Декрет Совета народных комиссаров «Об отделении церкви от
государства и школы от церкви» // Собрание узаконений
и распоряжений... С. 286.
101
Аргументы в пользу того, что первые антирелигиозные кампании были
направлены прежде всего против православной церкви,
см.: Митрофанов Г., прот. История Русской Православной Церкви
1900–1927. СПб.: Сатис, 2002.
102
Действительно, первые годы советской власти называли «золотым
веком» русского сектантства. Об этом образном выражении
см.: Coleman H. J . Russian Baptists and Spiritual Revolution, 1905–1929.
Bloomington: Indiana University Press, 2005. P . 154, 196, 224 .
103
Ленин В. И . Проект программы нашей партии (1899) // Ленин об
атеизме, религии и церкви. С. 17–18.
104
Бонч-Бруевич В. Д. О религии, религиозном сектантстве и церкви //
Бонч-Бруевич В. Д. Избранные сочинения. Т. 1. М., 1959. С. 33 .
О большевиках и сектантстве см.: Эткинд А. Русские секты и советский
коммунизм: Проект Владимира Бонч-Бруевича // Минувшее:
исторический альманах. 1996. No 19. С . 275–319.
105
После свержения самодержавия Временное правительство разрешило
православной церкви созвать Поместный собор, который работал на
протяжении 1917–1918 гг. См.: Сафонов А. А . Свобода совести
и модернизация вероисповедного законодательства Российской
империи в начале XX в. Тамбов: Изд-во Р. В. Першина, 2007.
106
Введенский А. Церковь и государство. М.: Мосполиграф «Красный
Пролетарий», 1923. С . 115; цит. по: Davis N. A Long Walk to Church:
A Contemporary History of Russian Orthodoxy. Boulder, CO: Westview,
2003. P. 2.
107
Как только патриарх Тихон заявил о своей лояльности советской
власти, поддержка обновленчества со стороны большевиков ослабла.
См.: Roslof E. E. Red Priests: Renovationism, Russian Orthodoxy, and
Revolution, 1905–1946. Bloomington: Indiana University Press,
2002; Шкаровский М. В. Обновленческое движение в Русской
Православной Церкви XX века. СПб.: Нестор, 1999.
108
Кривова Н. А . Власть и церковь в 1922–1925 гг.: Политбюро и ГПУ
в борьбе за церковные ценности и политическое подчинение
духовенства. М .: АИРО-XX, 1997; Daly J. W. «Storming the Last Citadel»:
The Bolshevik Assault on the Church, 1922 // The Bolsheviks in Russian
Society: The Revolution and the Civil Wars / Ed. by V. N . Brovkin. New
Haven, CT: Yale University Press, 1997. P . 236–259; Ryan J. Cleansing NEP
Russia: State Violence against the Russian Orthodox Church in 1922 //
Europe-Asia Studies. 2013. Vol. 9 . P. 1807–1826.
109
Известия ЦК КПСС. 1990. No 4 . С. 193. О ленинском письме
см.: Roslof E. E. Red Priests. P. 66 –67.
110
Ленин В. И . О значении воинствующего материализма (1922) //
Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5 -е изд. М., 1958–1965. Т. 45. С. 23–33 .
111
Там же. С. 23.
112
Тамже. С.24.
113
Там же.
114
Там же. С. 26.
115
Там же.
116
Беглов А. Л . В поисках «безгрешных катакомб». Церковное подполье
в СССР. М.: Издательский совет Русской Православной Церкви,
«Арефа», 2008.
117
Davis N. A Long Walk to Church. P. 4 –5 . Заявление митрополита Сергия
о лояльности советской власти вызвало раскол Русской православной
церкви и обострило ее отношения с Русской православной церковью за
рубежом вплоть до конца XX столетия.
118
Беглов А. Л . В поисках «безгрешных катакомб». С. 19.
119
Беглов пишет, что уже в 1922 г. «власть осознала изменение границ
легальности как мощное оружие, оказавшееся в ее руках» для
подчинения церкви, хотя тогда же стало ясно, что чем резче сужаются
правовые границы религиозной жизни, тем больше и больше людей
будет вытесняться в церковное подполье. — Там же. С. 39 .
120
Об изменении сталинской политики по отношению к религии в годы
новой экономической политики (нэпа) см.: Курляндский И. А . Сталин
и религиозный вопрос в политике большевистской власти (1917–1923) //
Вестник ПСТГУ. 2012. Вып. 5 (48). С. 72 –84; Курляндский И. А. Сталин,
власть и религия. М.: Кучково Поле, 2011.
121
Троцкий Л. Д. Не о политике единой жив человек // Троцкий Л. Д.
Вопросы быта: Эпоха «культурничества» и ее задачи. М.: Госиздат,
1923. С. 7.
122
Greene R. Bodies Like Bright Stars: Saints and Relics in Orthodox Russia.
DeKalb: Northern Illinois University Press, 2010. P . 122 –
159; Smith S. A. Bones of Contention: Bolsheviks and the Struggle against
Relics, 1918–1930 // Past & Present. 2009. Vol. 204. No 1. P . 155–194.
123
Bonnell V. Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and
Stalin. Berkeley: University of California Press, 1997.
124
Holmes L. E. The Kremlin and the Schoolhouse: Reforming Education in
Soviet Russia, 1917–1953. Bloomington: Indiana University Press, 1991.
P. 3–4.
125
Луначарский А. В . О воспитании и образовании: Избранные статьи
и речи. М., 1981. С. 168–169; цит. по: Holmes L. E. The Kremlin and the
Schoolhouse. P. 5, note 12. О деятельности Луначарского см.: Fitzpatrick
Sh. The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education
and the Arts under Lunacharsky (October 1917–1921). Cambridge:
Cambridge University Press, 1970.
126
Holmes L. E. The Kremlin and the Schoolhouse. P. 5, 11–12 .
127
Holmes L. E. Fear No Evil: Schools and Religion in Soviet Russia, 1917–
1941 // Religious Policy in the Soviet Union / Ed. by S. P. Ramet. New York:
Cambridge University Press, 1993. P. 134.
128
Ibid. P. 35 .
129
Ibid. P . 131–132.
130
Джеффри Брукс доказывает, что для многих интеллектуалов,
работавших в сфере народного просвещения, главным врагом были
предрассудки, а не религия, и указывает, что священники и учителя
часто объединяли усилия с авторами популярной литературы в деле
просвещения населения. Предрассудки «не приравнивались» к религии,
а атеизм «не считался необходимым спутником рационалистического
мировоззрения». См.: Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy
and Popular Literature, 1861–1917. Princeton, NJ: Princeton University
Press, 1985. P. 251. Джеймс Эндрюс утверждает, что научная
интеллигенция рассматривала искоренение религии не как самоцель,
а как средство преодоления ненаучного мышления. —
Andrews J. T. Science for the Masses: The Bolshevik State, Public Science,
and the Popular Imagination in Soviet Russia, 1917–1934. College Station:
Texas A&M University Press, 2003. P. 104–105, 172.
131
Первые антирелигиозные музеи часто были импровизированными,
и в зависимости от того, как проводить различие между выставкой
и музеем, к 1930-м гг. в Советском Союзе насчитывалось от тридцати до
нескольких сотен антирелигиозных музеев. Также следует заметить, что
существовал конфликт между сторонниками сохранения культурных
ценностей, которые выступали за превращение церквей в музеи,
а предметов культа — в артефакты культуры, и иконоборцами, которые
стремились осквернять и разрушать культовые здания и объекты.
См.: Paine C. Militant Atheist Objects: Anti-religion Museums in the Soviet
Union // Present Pasts. 2009. Vol. 1 . P. 61–76; Jolles A. Stalin’s Talking
Museums // Oxford Art Journal. 2005. Vol. 28. No 3. P . 429–455.
О Государственном музее истории религии в Ленинграде (ГМИР)
см.: Polianski I. J . The Antireligious Museum: Soviet Heterotopia between
Transcending and Remembering Religious Heritage // Science, Religion and
Communism in Cold War Europe / Ed. by P. Betts and S. A. Smith.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016. P . 253–273; Шахнович М. М.,
Чумакова Т. В . Музей истории религии Академии наук СССР
и российское религиоведение. СПб.: Наука, 2014. С. 15. О движении за
сохранение культурных ценностей в антирелигиозных музеях
см.: Каулен М. Е . Музеи-храмы и музеи-монастыри в первое
десятилетие Советской власти. М.: Луч, 2001.
132
Кремация в борьбе с религиозными предрассудками // Безбожник. 1928.
No 9. С. 10–11.
133
Smolkin-Rothrock V. The Contested Skies: The Battle of Science and
Religion in the Soviet Planetarium // Soviet Space Culture: Cosmic Ent-
husiasm in Socialist Societies / Ed. by E. Maurer, J. Richers, M. Rüthers, and
C. Scheide. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. P. 57–78.
134
Современная архитектура. 1927. No 3. С . 79.
135
Cooke C. Russian Avant-Garde: Theories of Art, Architecture, and the City.
London: Academy Editions, 1995. P. 133–135.
136
ЦАГМ.Ф.1782.Оп.3.Д.183.Л.7.
137
Ган А. Новому театру — новое здание // Современная архитектура.
1927. No 3. С. 80 –81.
138
В литературе первых советских лет, посвященной вопросам
просвещения, подчеркивалась важная роль астрономии в битве между
наукой и религией. См. наиболее значительные публикации в этом
жанре Григория Гурева и Николая
Каменьщикова: Гурев Г. А. Коперниковская ересь в прошлом
и настоящем и история взаимоотношений науки и религии. Л.: ГАИЗ,
1933; Гурев Г. А. Наука и религия о вселенной. М.: ОГИА,
1934; Гурев Г. А. Наука о вселенной и религия: космологические очерки.
М.: ОГИЗ, 1934; Каменьщиков Н. П. Правда о небе: Антирелигиозные
беседы с крестьянами о мироздании. Л .: Прибой,
1931; Каменьщиков Н. П . Что видели на небе попы, а что видим мы.
М.: Атеист, 1930; Каменьщиков Н. П . Астрономия безбожника. Л.:
Прибой, 1931.
139
ЦАГМ. Ф. 1782. Оп. 3. Д. 183. Л. 7 . Воспоминания о Ярославском
принадлежат Ивану Шевлякову, который более сорока лет читал лекции
в планетарии, став старейшим лектором Московского планетария. См.:
Легенды планетария: К 115-летию старейшего лектора планетария
И. Ф. Шевлякова. — URL: http://www.planetarium-
moscow.ru/about/legends-of-the-planetarium/detail.php?ID=2429.
140
Воронцов-Вельяминов Б. А . Астрономическая Москва в 20-е годы //
Историко-астрономические исследования. Вып. 18. М.: Наука,
1986; Комаров В. Н ., Порцевский К. А. Московский планетарий.
М.: Московский рабочий, 1979. О Цандере, пропаганде им идеи
космических путешествий и его роли в первых научных обществах
см.: Siddiqi A. A . Imagining the Cosmos: Utopians, Mystics, and the Popular
Culture of Spaceflight in Revolutionary Russia // Osiris. 2008. Vol. 23. No 1 .
P. 260–288. О философских истоках советской программы освоения
космоса см.: Hagemeister M. Konstantin Tsiolkovsky and the Occult Roots
of Soviet Space Travel // The New Age of Russia: Occult and Esoteric
Dimensions / Ed. by M. Hagemeister, B. Menzel and B. G . Rosenthal.
Munich: Verlag Otto Sagner, 2012. P. 135–150.
141
Троцкий Л. Д . Чтоб перестроить быт, надо познать его // Вопросы быта.
С. 38 . Об участии Троцкого в дискуссиях по проблемам быта
см.: Резник А. Быт или не быт? Лев Троцкий, политика и культура
в 1920-е годы // Неприкосновенный запас. 2013. No 4. С. 88–106.
142
Большевики отдавали себе отчет, что религиозность является
всепроникающим социальным явлением, которое необходимо поставить
под контроль, чтобы оно не стало препятствием для революции, как это
произошло в 1918 г. во время противостояния большевиков
и священников в Перми, когда отказ духовенства выполнять церковные
обряды практически парализовал жизнь города, пока большевики не
лишили священников продовольствия и тем самым не вынудили их
вернуться к исполнению своих обязанностей.
См.: Соколова А. Д. «Нельзя, нельзя новых людей хоронить по-
старому!» // Отечественные записки. 2013. No 5 (56).
143
Белый А. На рубеже двух столетий. М.: Художественная литература,
1989. С. 36; цит. по: Gutkin I. The Cultural Origins of the Socialist Realist
Aesthetic, 1890–1934. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1999.
P. 85, note 8. О культурных и идеологических поисках творческой
интеллигенции см. также: Matich O. Erotic Utopia: The Decadent
Imagination in Russia’s Fin de Siècle. Madison: University of Wisconsin
Press, 2005.
144
Jakobson R. On a Generation That Squandered Its Poets // Major Soviet
Writers: Essays in Criticism / Ed. by E. Brown. New York: Oxford
University Press, 1973. P . 10–11; цит. по: Gutkin I. The Cultural Origins of
the Socialist Realist Aesthetic. P. 88, note 20 [см.: Якобсон Р. О поколении,
растратившем своих поэтов // Якобсон Р., Святополк-
Мирский Д. Смерть Владимира Маяковского. The Hague: Mouton, 1975.
С. 8–34. — Примеч. пер.] .
145
David-Fox M. Revolution of the Mind: Higher Learning among the Bol-
sheviks, 1918–1929. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997. P. 101–117 .
146
Пример дебатов о быте, семье и их отношении к семейному праву см.:
Семья и новый быт: споры о проекте нового кодекса законов о семье
и браке: Сборник / Я. Бранденбургский и др. М.; Л.: Гос. изд-во, 1926.
Интересно, что существовали даже организации, созданные как
лаборатории нового быта, например Ассоциация по изучению
современного революционного быта, основанная в 1922 г. —
Gutkin I. The Cultural Origins of the Socialist Realist Aesthetic. P. 91.
147
Троцкий Л. Д . Семья и обрядность // Троцкий Л. Д. Вопросы быта.
С. 59 –62.
148
Троцкий Л. Д . Водка, церковь и кинематограф // Троцкий Л. Д. Вопросы
быта. С. 43–48.
149
Троцкий Л. Д . Семья и обрядность. С. 59.
150
Там же.
151
Троцкий Л. Д . О задачах деревенской молодежи. О новом быте.
М.: Новая Москва, 1924. С . 14 –15.
152
О быте см.: Gutkin I. The Cultural Origins of the Socialist Realist
Aesthetic; Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: нормы
и аномалии: 1920–1930-е годы. СПб.: Летний сад, 1999; Измозик В.,
Лебина Н. Петербург советский: «новый человек» в старом
пространстве, 1920–1930-е годы. СПб.: Книга, 2010; Wood E. The Baba
and the Comrade: Gender and Politics in Revolutionary Russia.
Bloomington: Indiana University Press, 2000; Naiman E. Sex in Public: The
Incarnation of Early Soviet Ideology. Princeton, NJ: Princeton University
Press, 1997; Volkov V. The Concept of Kul’ turnost’: Notes on the Stalinist
Civilizing Process // Stalinism: New Directions / Ed. by Sh. Fitzpatrick. New
York: Routledge, 2000. P . 210–230; Everyday Life in Early Soviet Russia:
Taking the Revolution Inside / Ed. by Ch. Kiaer and E. Naiman.
Bloomington: Indiana University Press, 2006.
153
David-Fox M. Revolution of the Mind. P . 101.
154
Дэвид-Фокс отмечает, что статья Троцкого «Их мораль и наша»
(опубликованная в «Бюллетене оппозиции» No 68–69 [август —
сентябрь 1938 г.]) была «одним из самых убедительных аргументов,
когда-либо выдвинутых в защиту большевистской классовой концепции
морали». — Ibid. P. 102, note 48.
155
Ярославский Е. М . Библия для верующих и неверующих. Л.: Лениздат,
1975; Скворцов-Степанов И. И . Мысли о религии (1922) // Скворцов-
Степанов И. И. Избранные атеистические произведения / Ред.
В. Ф . Зыбковец. М., 1959. С . 299–331.
156
Сольц А. Бытовой фронт // Безбожник у станка. 1923. No 1. С. 2 .
157
Пункт 13 Программы РКП(б). См.: Программа Российской
коммунистической партии (большевиков): принята 8-м Съездом Партии
18–23 марта 1919 г. М .; Пг.: Коммунист, 1919.
158
Бухарин Н. И., Преображенский Е. А. Азбука коммунизма. Популярное
объяснение программы Российской коммунистической партии (1919).
Харьков: Гос. изд., 1925.
159
Ярославский Е. М . Дань предрассудкам // Ярославский Е. М. О религии.
М.: Госполитиздат, 1957. С. 21–29; статья впервые опубликована
в газете «Правда» соответственно 7 июня и 24 июля 1919 г.
160
Ярославский Е. М . Дань предрассудкам. С . 23.
161
Там же. С. 25.
162
Там же. С. 29.
163
Тамже. С.27.
164
Там же. С. 28.
165
О постановке антирелигиозной пропаганды и о нарушении пункта 13
Программы (Постановление ЦК РКП(б) 1921 г.) // О религии и церкви:
Сб. документов. М.: Политиздат, 1965. С. 58 .
166
Ярославский Е. М . Можно ли прожить без веры в бога? // Яро-
славский Е. М. О религии. С. 100–108; статья впервые опубликована
в газете «Правда» 1 июня 1924 г.
167
Там же. С. 104–105.
168
Там же. С. 106.
169
Там же.
170
Ярославский Е. М . Задачи и методы антирелигиозной пропаганды среди
взрослых и детей // Ярославский Е. М. О религии. С. 109–129; статья
написана в 1924 г.
171
Тамже. С.122.
172
Там же. С. 139–140.
173
Ярославский Е. М . О ленинце, семье, религии // Ярославский Е. М.
О религии. С. 132–141; статья написана в 1925 г.
174
Там же. С. 132.
175
Там же. С. 136.
176
Там же. С. 138.
177
Ярославский Е. М . Чего партия требует от коммунистов в быту? //
Ярославский Е. М. О религии. С. 254–262; статья впервые опубликована
в газете «Правда» 10 августа 1933 г.
178
Ярославский Е. М . Чего партия требует от коммунистов в быту? С. 254–
256.
179
Там же. С. 255–257.
180
Беглов А. Л . В поисках «безгрешных катакомб». С. 32.
181
Wanner C. Introduction // State Secularism and Lived Religion in Soviet
Russia and Ukraine. New York: Oxford University Press, 2012. P. 12 .
182
Получив право голоса, крестьяне часто избирали религиозных
активистов в сельские советы, чем подрывали и без того слабое влияние
большевиков в деревне. См.: Young G. Power and the Sacred in
Revolutionary Russia: Religious Activists in the Village. University Park:
Pennsylvania State University Press, 1997. P . 255–270.
183
Young G. Power and the Sacred in Revolutionary Russia. P. 255.
184
Ibid. P . 255–256.
185
Ibid. P . 270.
186
Freeze G. L. Subversive Atheism: Soviet Antireligious Campaigns and the
Religious Revival in Ukraine in the 1920s // State Secularism and Lived
Religion in Soviet Russia and Ukraine. P . 27 –62.
187
Бухарин Н. И . Избранные сочинения. М., 1927.
С. 24; Рыков А. И. Религия — враг социалистического строительства.
Она борется с нами на культурной почве // Стенограмма X съезда
Советов. М., 1928. С. 191. См. также: Бухарин Н. И . Реконструктивный
период и борьба с религией. Речь на II Всесоюзном съезде
безбожников // Революция и культура. 1929. No 12 . С. 4.
188
Peris D. Storming the Heavens: The Soviet League of the Militant Godless.
Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998. P. 127 .
189
Беглов А. Л . В поисках «безгрешных катакомб». С. 35 . См.
также: Freeze G. L . The Stalinist Assault on the Parish, 1929–1941 // Stali-
nismus vor dem Zweiten Weltkrieg: Neue Wege der Forschung / Ed. by
M. Hildermeier. Munich: Oldenburg Verlag, 1998. P. 209–232.
190
В конце 1928 г. НКВД получил инструкции о «войне» с религией,
и число закрытых церквей резко возросло. Если в 1927 г. было закрыто
134 церкви, то к 1929 г. государство закрыло около 1000 церквей. —
Шкаровский М. В . Русская Православная Церковь в XX веке. М.: Вече;
Лепта, 2010. С. 119.
191
О культуре сталинской эпохи см.: Hoffman D. L . Stalinist Values: The
Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917–1941. Ithaca, NY: Cornell Uni-
versity Press, 2003; Petrone K. Life Has Become More Joyous, Comrades:
Celebrations in the Time of Stalin. Bloomington: Indiana University Press,
2000; Brooks J. Thank You, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from
Revolution to Cold War. Princeton, NJ: Princeton University Press,
2000; Brandenberger D. National Bolshevism: Stalinist Mass Culture and the
Formation of Modern Russian National Identity, 1931–1956. Cambridge,
MA: Harvard University Press, 2002 [см. в русском
переводе: Бранденбергер Д. Сталинский руссоцентризм: советская
масссовая культура и формирование русского национального
самосознания (1931–1956 гг.). М.: Политическая энциклопедия, 2017].
192
Элиашевич И. Чего мы ждем от II Съезда // Антирелигиозник. 1929.
No 6. С. 59–62.
193
Peris D. The 1929 Congress of the Godless // Europe-Asia Studies. 1991.
Vol. 43. No 4. P. 711–732.
194
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. С. 120–
121.
195
Там же. С. 123–126.
196
Беглов А. Л . В поисках «безгрешных катакомб». С. 35–36 .
197
Одинцов М. И., Чумаченко Т. А. Совет по делам Русской православной
церкви при СНК (СМ) СССР и Московская патриархия: эпоха
взаимодействия и противостояния, 1943–1965. СПб.: Российское
объединение исследователей религии, 2013. С. 23.
198
Как пишет историк Хироаки Куромия, в 1937–1938 гг. Сталин «почти
полностью уничтожил духовенство». См.: Kuromiya H. Why the
Destruction of Orthodox Priests in 1937–1938 // Jahrbücher für Geschichte
Osteuropas. 2007. Vol. 55. P. 87.
199
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. С. 126.
200
Тамже. С.127.
201
См.: Маторин Н. М ., Невский А. Программа для изучения бытового
православия. Л ., 1930; цит. по: Шахнович М. М.,
Чумакова Т. В . Н. М. Маторин и его программа изучения народной
религиозности // Религиоведение. 2012. No 4 . С. 191–193.
202
О Всесоюзной переписи населения 1937 г. см.: Hirsh F. Empire of
Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union.
Ithaca, NY: Cornell University Press, 2005. P. 276–292.
203
Corley F. Believers’ Responses to the 1937 and 1939 Soviet Censuses //
Religion, State, and Society. 1994. Vol. 22 . No 4. P. 403.
204
Сам факт, что результаты переписи не были обнародованы вплоть до
1990 г. и что большинство тех, кто проводил перепись, были
репрессированы в годы Большого террора, подчеркивает значимость
этих статистических данных для советского руководства.
См.: Жиромская В. Б., Киселев И. Н., Поляков Ю. А. Полвека под
грифом «секретно»: Всесоюзная перепись населения 1937 года.
М.: Наука, 1996; Волков А. Г . Из истории переписи населения
1937 года // Вестник статистики. 1990. No 8. С. 45–56 .
205
Corley F. Believers’ Responses to the 1937 and 1939 Soviet Censuses.
P. 412.
206
Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф . 7486. Оп. 37.
Д. 61. Л . 45; цит. по: Viola L. Peasant Rebels under Stalin: Collectivization
and the Culture of Peasant Resistance. New York: Oxford University Press,
1999. P. 59 [см. в русском переводе: Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху
Сталина: Коллективизация и культура крестьянского сопротивления.
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 77. —
Примеч. пер.].
207
Одинцов М. И. Вероисповедная политика советского государства
в 1939–1958 гг. // Власть и церковь в СССР и странах Восточной
Европы, 1939–1958 (дискуссионные аспекты). М.: Институт
славяноведения РАН, 2003. С. 7 –10; Miner S. M . Stalin’s Holy War:
Religion, Nationalism, and Alliance Politics, 1941–1945. Chapel Hill:
University of North Carolina Press, 2003. P. 22 .
208
Беглов А. Л . В поисках «безгрешных катакомб». С. 34.
209
Бахрушин С. В. К вопросу о крещении Руси // Историк-марксист. 1937.
No 2. С. 40–77 . О статье Бахрушина и ее фундаментальном значении для
формирования советского нарратива о князе Владимире
см.: Franklin S. 988 –1988: Uses and Abuses of the Millennium // World
Today. 1988. Vol. 44. No 4. P. 66 .
210
Ostrowski D. The Christianization of Rus’ in Soviet Historiography:
Attitudes and Interpretations (1920–1960) // Harvard Ukrainian Studies.
1987. Vol. 11. No 3–4 . P. 446–447 .
211
См.: Brandenberger D. Propaganda State in Crisis: Soviet Ideology,
Indoctrination, and Terror under Stalin, 1927–1941. Cambridge, MA:
Harvard University Press, 2002 [см. в русском
переводе: Бранденбергер Д. Л. Кризис сталинского агитпропа.
Пропаганда, политпросвещение и террор в СССР, 1927–1941 / Авториз.
пер. с англ. А. А. Пешкова, Е. С. Володиной. М.: РОССПЭН, 2017].
В своем исследовании сталинской идеологической системы
Бранденбергер доказывает, что ключевой причиной кризиса
большевистской пропаганды при Сталине была ее неспособность
создать убедительную версию официальной истории.
212
Сущность русского национального возрождения при Сталине является
дискуссионной. В классической работе Николая Тимашева отказ от
утопизма в пользу более традиционных ценностей в середине 1930-х гг .
описывается как «великое отступление», тогда как Дэвид Бранденбергер
называет это явление «национал-большевизмом» и трактует его скорее
как политическую стратегию, чем как возвращение к старому порядку
вещей. См.: Timasheff N. The Great Retreat: The Growth and Decline of
Communism in Russia. New York: E. P . Dutton,
1946; Бранденбергер Д. Сталинский руссоцентризм. С. 7–8 .
213
Luukkanen A. The Religious Policy of the Stalinist State. A Case Study: The
Central Standing Commission on Religious Questions, 1929–1938. Helsinki:
Suomen Historiallinen Seura, 1997.
214
Peris D. Storming the Heavens. P . 8 –9 .
215
Ibid. P . 118–120.
216
Ibid. P . 119.
217
Ibid. P . 108.
218
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. С. 128.
219
Peris D. «God Is Now on Our Side»: The Religious Revival on Unoccupied
Soviet Territory during World War II // Kritika: Explorations in Russian and
Eurasian History. 2008. Vol. 1 . No 1. P. 97–118. О религиозной политике
на территориях, оккупированных Германией в ходе войны,
см.: Одинцов М. И . Вероисповедная политика советского государства.
С. 20.
220
Об обращении митрополита Сергия 22 июня 1941 г. к советскому
народу см.: Chumachenko T. A . Church and State in Soviet Russia: Russian
Orthodoxy from World War II to the Khrushchev Years / Transl. and ed. by
E. E. Roslof. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2002. P. 4
[см.: Чумаченко Т. А . Государство, православная церковь, верующие.
1941–1961 гг. М .: АИРО-ХХ, 1999. С. 11 . — Примеч. пер.] .
221
О патриотической деятельности церкви в годы войны и о ее вкладе
в Фонд обороны см.: Одинцов М. И., Чумаченко Т. А. Совет по делам
Русской православной церкви. С. 56 –66, 72. О протестантах
см.: Kashirin A. Protestant Minorities in the Soviet Ukraine, 1945–1991.
Ph. D . diss. University of Oregon, 2010. P. 11 .
222
Из 950 церквей, которые оставались открыты на территории РСФСР
в канун войны, не более трети были реально действующими.
См.: Одинцов М. И., Чумаченко Т. А. Совет по делам Русской
православной церкви. С. 32. О повороте в советской религиозной
политике в годы Второй мировой войны см.: Шкаровский М. В. Русская
православная церковь и советское государство в 1943–1964 годах: от
«перемирия» к новой войне. СПб.: Изд. объед. «ДЕАН+АДИА-М»,
1995; Miner S. M. Stalin’s Holy War; Власть и церковь в Восточной
Европе, 1944–1953: Документы российских архивов / Отв. ред.
Т. В. Волокитина. В 2 т. М.: РОССПЭН, 2009. Т. 1. С. 11 –12.
223
Одинцов М. И., Чумаченко Т. А. Совет по делам Русской православной
церкви. С. 84–85 .
224
Одинцов М. И. И. Сталин: «Церковь может рассчитывать на
всестороннюю поддержку правительства» // Диспут. 1992. No 3. С. 152.
225
ГАРФ. Ф . 6991. Оп. 1. Д. 1 . Л. 1–10; цит. по: Русские патриархи
XX века: Судьбы отечества на страницах архивных документов.
М.: Изд-во РАГС, 1999. С. 283–291.
226
Об открытии церквей и регистрации религиозных общин см.:
Постановление СНК СССР «О порядке открытия церквей» (28 ноября
1943 г.) // ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 1 . Д. 221 . Л. 3 –5; цит. по: Русская
Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. 1941–
1945 гг.: Сборник документов / Сост. О. Ю. Васильева, И. И. Кудрявцев,
Л. А. Лыкова. М.: Изд-во Крутицкого патриаршего подворья, 2009.
С. 263–265. Историк Игорь Курляндский называет возобновление
отношений Сталина с религиозными организациями «легализацией
религии». См.: Курляндский И. А . Сталин, власть и религия. С. 531.
227
ГДАСБУ.Ф.9.Д.17.Л.287.
228
Там же. Л. 288.
229
Там же. Л. 289.
230
Одинцов М. И. Вероисповедная политика советского государства. С. 7 .
231
Там же. С. 11–20.
232
Laukaityte R. The Orthodox Church in Lithuania during the Soviet Period //
Lithuanian Historical Studies. 2002. Vol. 7 . P . 67–94; Bociurkiw B. The
Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet State, 1939–1950.
Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1996. P. 65 –69 .
233
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. С. 5.
234
РГАСПИ. Ф. 17 . Оп. 125. Д . 506 . Л. 110–118, 120–122; цит. по: Власть
и церковь в Восточной Европе. Т. 1. С. 518, 520.
235
R’oi Ya. Islam in the Soviet Union: From the Second World War to
Gorbachev. London: Hurst, 2000; Халид А. Ислам после коммунизма.
Религия и политика в Центральной Азии. М.: Новое литературное
обозрение, 2010.
236
Никольская Т. К . Русский протестантизм и государственная власть
в 1905–1991 годах. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в С. -Петербурге,
2009. С . 135–142 .
237
Шкаровский М. В. Сталинская религиозная политика и Русская
Православная Церковь в 1943–1953 годах // Acta Slavica Iaponica. 2009.
Vol. 27 . P. 1–27.
238
Peris D. «God Is Now on Our Side». P. 107.
239
Ibid. P . 108–109.
240
Ibid. P. 114.
241
Ibid. P. 111–112.
242
Шкаровский М. В. Сталинская религиозная политика. С. 7 . Ряд
российских историков также рассматривает санкционированное
государством возвращение религии в жизнь советского общества при
Сталине как «нормализацию» церковно-государственных отношений
в Советском Союзе. Например, Чумаченко и Одинцов в своих работах
характеризуют последние годы сталинского правления как период
нормализации церковно-государственных отношений.
243
Как доказывает Бранденбергер, большевики в конечном итоге так и не
смогли найти решение, которое примирило бы эти противоречащие
друг другу цели, и оживление националистических чувств стало
ответом на идеологический кризис, произведенный разрушением
советского пантеона в ходе Большого террора 1936–1938 гг.
См.: Бранденбергер Д. Кризис сталинского агитпропа.
244
Peris D. «God Is Now on Our Side». P. 115–116.
245
Luukkanen A. The Religious Policy of the Stalinist State.
246
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине
и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–
1964 годах). М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1999. С. 201.
Шкаровский подчеркивает значимость Русской православной церкви на
международной арене: «Московская Патриархия расценивалась
руководством СССР прежде всего как инструмент государственной
внешней политики — в разные периоды более или менее важный». —
Там же. С. 9.
247
Peris D. «God Is Now on Our Side». P . 102. Как отмечает Перис, исследуя
возрождение религиозной жизни в годы войны, «то, что сотни тысяч,
если не миллионы русских людей на территориях, которые никогда не
были оккупированы немцами, желали так или иначе публично
идентифицировать себя с православием, показывает непрочность здания
официального атеизма, возводившегося несколько предшествующих
десятилетий... что стало ярким свидетельством неспособности
большевиков утвердить абсолютное первенство советских символов,
пространств, обрядов, объединений и морали над теми, которые были
унаследованы от православной культуры... Претензии режима на
вечность бледнели в сравнении с притязаниями православия, и воззвать
к Богу казалось необходимым, когда надежда на советскую власть не
помогала... Если многие православные не видели противоречия в том,
чтобы верить одновременно и советской власти, и православной церкви,
это можно считать бесспорным провалом режима, который изначально
требовал исключительной идейной преданности». — Ibid. P. 102.
248
Олещук Ф. Коммунистическое воспитание масс и преодоление
религиозных пережитков // Большевик. 1939. No 9. С. 38 –48, цит. с. 39,
47.
249
Отчет Центрального Комитета КПСС XXII съезду Коммунистической
партии Советского Союза. Доклад Первого секретаря ЦК товарища
Н. С . Хрущева 17 октября 1961 года // Правда. 1961. 18 окт. С . 11 .
250
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 753. Л. 19.
251
Об «окаменевшей Зое» из Куйбышева см.: Huhn U. Glaube und
Eigensinn: Volksfrömmigkeit zwischen orthodoxer Kirche und Sowjetischem
Staat, 1941 bis 1960. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2014. S. 309 –323.
Православная церковь провела собственное расследование
и опубликовала брошюру «Стояние Зои». Легенда продолжает жить до
сегодняшнего дня, став источником вдохновения для религиозного
фольклора, изобразительного искусства и популярного фильма «Чудо»
(2009).
252
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 753. Л. 19.
253
Дикий случай // Волжская коммуна. 1956. 24 янв. С. 3.
254
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 753. Л. 19.
255
ЦДАГО. Ф. 1 . Оп. 70. Д. 2577. Л. 79–81. Другая знаменитая история
хрущевской эпохи — «Лихоборское чудо» — произошла 20 июля
1963 г. в Западной Украине. Как сообщалось в докладе Совета по делам
РПЦ, когда «солнце садилось и на стекле сверкали разноцветные
радуги», кто-то воскликнул, что в окне церкви виден образ Богоматери.
Новости быстро распространились, и вскоре возле церкви собралось
триста молящихся. Вскоре явления Богоматери стали повторяться
и в других местах. В другом докладе Совета по делам РПЦ описывается
гораздо более мрачный случай, когда женщину обвинили в том, что
с помощью специальных предметов она наводит порчу на семью. Члены
семьи сожгли «заговоренные» предметы, убили женщину, а затем,
чтобы инсценировать самоубийство, повесили ее труп в сарае. См.:
ЦДАГО. Ф. 1 . Оп. 31. Д. 1235. Л. 46–47 .
256
Grossman J. D. Khrushchev’s Antireligious Policy and the Campaign of
1954 // Europe-Asia Studies. 1973. Vol. 24 . No 3. P . 374–386 .
Постановления ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. и 10 ноября 1954 г. см.:
Законодательство о религиозных культах: Сборник материалов
и документов. М., 1971. С. 34, 40–45.
257
Bittner S. V. The Many Lives of Khrushchev’s Thaw: Experience and
Memory in Moscow’s Arbat. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008.
P. 12; Jones P. Myth, Memory, Trauma: Rethinking the Stalinist Past in the
Soviet Union, 1953–70. New Haven, CT: Yale University Press, 2013.
258
Об изменении мобилизационных стратегий в хрущевскую эпоху — от
принуждения к убеждению — см.: The Dilemmas of De-Stalinization:
Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev Era / Ed. by
P. Jones. New York: Routledge, 2006. Об усилиях советских граждан по
сохранению веры в коммунистический проект
см.: Аксютин Ю. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения
в СССР в 1953–1964 гг. M.: РОССПЭН, 2004; Alexeyeva L.,
Goldberg P. The Thaw Generation: Coming of Age in the Post-Stalin Era.
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1993 [см.
также: Алексеева Л. М . Поколение оттепели. М.: Захаров, 2006. —
Примеч. пер.]; Zubok V. Zhivago’s Children: The Last Russian
Intelligentsia. Cambridge, MA: Belknap, 2009.
259
Программа Коммунистической партии Советского Союза, принятая
XXII съездом КПСС. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1971. См.
также: Taubman W. Khrushchev: The Man and His Era. New York: Norton,
2003. P. 508 –509; Titov A. The 1961 Party Program and the Fate of
Khrushchev’s Reforms // Soviet State and Society under Nikita Khrushchev /
Ed. by M. Ilic and J. Smith. New York: Routledge, 2009. P . 8 –25.
260
Как отмечает Титов, «в Программе партии одним из важнейших
ориентиров служило соревнование с США». — См.: Titov A. The 1961
Party Program. P. 12.
261
Chumachenko T. A . Church and State in Soviet Russia: Russian Orthodoxy
from World War II to the Khrushchev Years / Transl. and ed. by E. E. Roslof.
Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2002. P . 148; Stone A. B . «Overcoming Peasant
Backwardness»: The Khrushchev Antireligious Campaign and the Rural
Soviet Union // Russian Review. 2008. Vol. 67. P . 298. Профессиональный
работник атеистической пропаганды Евграф Дулуман отзывался об
антирелигиозной кампании как об «идее фикс» Хрущева и указывал,
что для Хрущева религиозный вопрос имел личное значение. —
Дулуман Евграф. Интервью автора. Киев, 10 февраля 2009 г.
262
Хрущев С. Н. Трилогия об отце. Кн. 1: Никита Хрущев. Реформатор.
М.: Время, 2010; Аджубей А. Крушение иллюзии. М.: Интербук, 1991.
263
Беседа товарища Н. С. Хрущева с корреспондентом французской газеты
«Фигаро» // Правда. 1958. 27 марта. С. 1 –2, цит. с. 2; Известия. 1958.
27 марта. С. 1–2, цит. с. 2 . См. также: N. S. Khrushchev Interview with
Newspaper Chain Director W. R . Hearst // Current Digest of the Post-Soviet
Press. 1957. Vol. 9. No 46. December 25. P. 10–17 .
264
Правда. 1958. 27 марта; цит. по: Anderson J. Religion, State and Politics in
the Soviet Union and Successor States. Cambridge: Cambridge University
Press, 1994. P. 15.
265
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине
и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–
1964 годах). М.: Крутицкое Патриаршее Подворье; Общество
любителей церковной истории, 1999. С. 382. Второе высказывание
Хрущева часто упоминалось во время моих интервью с бывшими
работниками атеистической пропаганды.
266
Правда. 1961. 18 окт.; XXII съезд КПСС. М .: Политиздат, 1962. С . 411 .
267
Сталин И. В. Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК
ВКП(б) // Сталин И. В. Сочинения. М.: Государственное издательство
политической литературы, 1951. Т. 13. С. 308–309 . Дипломатическое
признание СССР со стороны США состоялось 16 ноября 1933 г.
268
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М.: Вече,
Лента, 2010. С. 429–430. Согласно Шкаровскому, число действующих
православных церквей оставалось относительно стабильным в первые
послевоенные годы, достигло пика (14 477 церквей) в 1949 г. и затем
стало постепенно сокращаться, достигнув 14 273 (1950), 13 867 (1951),
13 740 (1952), 13 508 (1953), 13 422 (1954) и 13 376 (1955).
В последующие годы число церквей составляло 13 417 (1956), 13 430
(1957), 13 414 (1958), 13 324 (1959), 13 008 (1960), 11 572 (1961), 10 149
(1962), 8580 (1963), 7873 (1964) и 7551 (1965). По достижении этого
показателя количество церквей оставалось стабильным до 1981 г.,
составляя около 7000.
269
Chumachenko T. A . Church and State in Soviet Russia. P. 127 .
270
Наиболее полное исследование, посвященное именно обществу
«Знание», см.: Froggatt M. Science in Propaganda and Popular Culture in
the USSR under Khrushchëv (1953–1964). Ph. D. thesis. University of
Oxford, 2006. См. также: Luehrmann S. Secularism Soviet Style: Teaching
Atheism and Religion in a Volga Republic. Bloomington: Indiana University
Press, 2011; Andrews J. T. Inculcating Materialist Minds: Scientific
Propaganda and Anti-religion in the USSR during the Cold War // Science,
Religion and Communism in Cold War Europe / Ed. by P. Betts and
S. A . Smith. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016. P . 105–125.
271
Шахнович М. И. Суеверие и научное предвидение. Л .: Лениздат,
1945; Воронцов-Вельяминов Б. А . Вселенная. М.: Гостехиздат, 1947.
272
Шкаровский М. В. Русская православная церковь и советское
государство в 1943–1964 годах: от «перемирия» к новой войне. СПб.:
Изд. объед. «ДЕАН+АДИА-М», 1995. С . 46; Chumachenko T. A . Church
and State in Soviet Russia. P. 121–122.
273
Чумаченко даже утверждает, что стабильность послевоенных церковно-
государственных отношений зависела от самого Сталина, поскольку из-
за его неприятия агрессивной политики по отношению к церкви
ситуация оставалась стабильной, пока он был жив. Последняя кампания
нападок на церковь в сталинскую эпоху, имевшая место в 1948–1949 гг.
и достигшая пика во время так называемого «саратовского дела», была
прекращена вмешательством Сталина. — ГАРФ. Ф . 6991. Оп. 1 . Д. 451.
Л. 162–167; цит. по: Chumachenko T. A. Church and State in Soviet Russia.
P. 96 –100, 125. См. также: РГАСПИ. Ф. 17 . Оп. 132. Д. 10. Л. 26.
274
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 542. Л. 124–126; цит.
по: Шкаровский М. В . Русская Православная Церковь в XX веке. С. 351.
275
Там же.
276
Chumachenko T. A . Church and State in Soviet Russia. P. 125–126.
277
Grossman J. D. Leadership of Antireligious Propaganda in the Soviet
Union // Europe-Asia Studies. 1973. Vol. 24. No 3. P. 217 .
278
Шахнович М. М., Чумакова Т. В. Музей истории религии Академии наук
СССР и российское религиоведение (1932–1961). СПб.: Наука,
2014; Шердаков В. Н. Музей истории религии и атеизма в системе
научно-атеистической пропаганды // Вопросы научного атеизма. 1976.
No 19. С. 97–106.
279
Grossman J. D. Leadership of Antireligious
Propaganda; Коган Ю. В. Д. Бонч-Бруевич и научно-атеистическая
работа АН СССР (1946–1955) // Вопросы истории религии и атеизма.
1964.No12.С.11–21.
280
Им был издан только первый сборник из планировавшейся
многотомной серии «Вопросы истории религии и атеизма».
281
Шахнович М. М. Музей истории религии АН СССР и отечественное
религиоведение // Религиоведение. 2008. No 4. С. 150–158.
282
Архив Президента Российской Федерации (АПРФ). Ф . 3. Оп. 60 . Д. 14.
Л. 90; цит. по: Корнев В. В. Преследования Русской Православной
Церкви в 50–60 -х годах XX века // Ежегодная богословская
конференция ПСТБИ: Материалы 1997 г. М .: ПСТБИ, 1997. С . 214 .
283
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 650. Л. 18–21; цит.
по: Шкаровский М. В . Русская Православная Церковь в XX веке. С. 352.
284
Архив РАН. Ф. 498. Оп. 1. Д. 2. Л . 1–11 . О роли Бонч-Бруевича
в возрождении атеизма см. также: Шкаровский М. В . Русская
Православная Церковь в XX веке. С . 350 –352.
285
Чумаченко отмечает, что для церковных иерархов и духовенства
возрождение антирелигиозной пропаганды было «совершенно
неожиданным». Митрополит Николай осудил размах, который
приобрела новая партийная линия, сообщив в Совет по делам РПЦ:
«Если раньше антирелигиозная пропаганда была частью работы партии,
то на новом этапе она принимает характер государственный, то есть
государство требует, чтобы учащиеся из школ выходили атеистами,
чтобы офицеры в армии добивались от солдат отказа от религиозных
верований и т. д. Отсюда вывод — верующий человек попадает в число
людей, идущих вразрез с линией государственной». — ГАРФ. Ф . 6991.
Оп. 1 . Д. 1118. Л. 153; цит. по: Chumachenko T. A. Church and State in
Soviet Russia. P . 129. См. также: Шкаровский М. В . Русская
Православная Церковь в XX веке. С. 353
[см.: Чумаченко Т. А . Государство, православная церковь, верующие.
1941–1961 гг. М .: АИРО-ХХ, 1999. С. 153–154. — Примеч. пер.].
286
Относительно связи хрущевской политики в области сельского
хозяйства с кампанией, направленной на преодоление культурной
«отсталости» в сельской местности, см.: Stone A. B . «Overcoming Peasant
Backwardness».
287
Законодательство о религиозных культах. С. 34.
288
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 705. Л. 40–48.
289
Там же. Оп. 34. Д. 112 . Л . 105. О попытках заменить в том же самом
колхозе местные праздники советскими трудовыми праздниками см.:
Тамже.Оп.15.Д.96.
290
Там же. Оп. 16. Д. 650 . Л. 21–22.
291
Там же. Д. 664. Л. 41–63 .
292
Там же. Л.58–59.
293
Шире развернуть научно-атеистическую пропаганду // Правда. 1954.
24 июля. С. 2; Свет против тьмы // Правда. 1954. 4 авг. Статьи
о пьянстве священников стали появляться настолько часто, что
патриарх обратился к духовенству с рекомендацией говорить о вреде
пьянства в своих проповедях. См.: Chumachenko T. A . Church and State in
Soviet Russia. P . 131.
294
Кнып В. Когда забывают об атеистической пропаганде // Труд. 1954.
22 авг. С. 2.
295
Крушинский С. Свет против тьмы: об одном важном, но запущенном
участке воспитательной работы // Правда. 1954. 4 авг. С. 2–3.
296
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 650. Л. 22.
297
Сааков Р. Чудеса в селе Ивановке // Комсомольская правда. 1954.
20 февр. С. 3.
298
Там же.
299
Шире развернуть научно-атеистическую пропаганду // Комсомольская
правда. 1954. 13 июня. С. 1 .
300
Шатуновский И. Дурной глаз // Комсомольская правда. 1953. 18 дек.
С. 3.
301
Там же. См. также: Наука и религия непримиримы // Комсомольская
правда. 1954. 1 июля. С. 2 –3.
302
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 669. Л. 149.
303
Там же. Л. 162–163.
304
Там же. Оп. 33. Д. 53 . Л. 151. См. также: Chumachenko T. A. Church and
State in Soviet Russia. P. 131; Шкаровский М. В. Русская Православная
Церковь в XX веке. С. 351 [см.: Чумаченко Т. А. Государство,
православная церковь, верующие. С. 158. — Примеч. пер.] .
305
ГАРФ. Ф . 6991. Оп. 1. Д. 1116. Л . 7; цит. по: Chumachenko T. A. Church
and State in Soviet Russia. P. 133.
306
Chumachenko T. A . Church and State in Soviet Russia. P. 134–135.
307
О религии и церкви: сборник документов. М.: Изд-во полит. лит-ры,
1965. С . 77 –82.
308
О преследованиях сектантов и конфессий зарубежного происхождения
см.: Kuromiya H. Conscience on Trial: The Fate of Fourteen Pacifists in
Stalin’s Ukraine, 1952–1953. Toronto: University of Toronto Press,
2012; Baran E. B . Dissent on the Margins: How Soviet Jehovah’s Witnesses
Defied Communism and Lived to Preach about It. Oxford: Oxford University
Press, 2014.
309
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 689.
310
Тамже. Д.705.Л.47.
311
Там же. Д. 689. Л. 116.
312
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 689. Л. 117.
313
Там же. Л. 21 , 114 –115, 116.
314
Архив РАН. Ф. 498. Оп. 1 . Д. 4. Л. 16–18.
315
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. С. 429–
431.
316
Chumachenko T. A . Church and State in Soviet Russia. P. 137.
317
Ibid. P . 139.
318
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 240. Л. 22.
319
ГАРФ.Ф.A-561.Оп.1.Д.398.Л.16,21.
320
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 90. Л. 10.
321
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 90. Л. 10.
322
Тамже. Д.53.Л.67,78.
323
Там же. Д. 54. Л. 3–4.
324
Там же. Поскольку плата, которую брали за религиозные требы,
и выручка от продажи предметов культа были важнейшими
источниками доходов церкви, в 1957 г. доходы церкви составили
667 миллионов рублей, тогда как в 1948 г. они составляли
180 миллионов рублей.
325
РГАНИ. Ф . 5 . Оп. 33 . Д. 53. Л . 93–97. О долгом пребывании Трушина на
этом посту см.: Roslof E. E . «Faces of the Faceless»: A. A . Trushin
Communist Over-Procurator for Moscow, 1943–1984 // Modern Greek
Studies Yearbook. 2002–2003. Vol. 18–19. P. 105–125.
326
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 53. Л. 97.
327
Там же. Л. 97. Н. А. Булганин (1895–1975) первоначально был
союзником Хрущева в борьбе против Г. М. Маленкова и сменил
Маленкова на посту председателя Совета министров, который занимал
с 1955 по 1958 г. О встречах Маленкова и Булганина с патриархом
в 1954–1956 гг. см.: Chumachenko T. A. Church and State in Soviet Russia.
P. 137–140.
328
РГАНИ. Ф . 5 . Оп. 16. Д. 754. Л . 103–109. Здесь и далее орфография
подлинника.
329
Там же. Л. 102–104.
330
Chumachenko T. A . Church and State in Soviet Russia. P. 143–144 .
331
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 53. Л. 34–44.
332
Там же. Л. 39 –40.
333
Тамже.Л.44.
334
Титов А. Партия против государства: реформа аппарата ЦК КПСС при
Никите Хрущеве // Неприкосновенный запас. 2012. Т. 83 . No 3. С. 155–
166.
335
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. С. 357.
336
Там же. С. 361.
337
Chumachenko T. A . Church and State in Soviet Russia. P. 148–149.
338
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 91. Л. 23–29.
339
РГАНИ. Ф . 5 . Оп. 33 . Д. 91. Л . 23–29. Чумаченко считает, что письмо
Шаповниковой стало «определенным стимулом» для оживления
антирелигиозной кампании. — Chumachenko T. A. Church and State in
Soviet Russia. P . 159–160 [см.: Чумаченко Т. А. Государство,
православная церковь, верующие. С. 158. — Примеч. пер.] .
340
Anderson J. Religion, State and Politics in the Soviet Union and Successor
States. P . 24–25.
341
Чумаченко Т. А. Совет по делам Русской православной церкви при СНК
(СМ) СССР. 1943–1965 гг. Дис. ... д-ра ист. наук. М., 2011. С. 371.
342
О практике отказа в регистрации религиозных объединений как
антирелигиозной мере см.: Белякова Н. А . Власть и религиозные
объединения в «позднем» СССР: проблема регистрации //
Отечественная история. 2008. No 4. С. 124–130; Маслова И. И. Совет по
делам религий при Совете Министров СССР и Русская православная
церковь (1965–1991 гг.) // Государство и церковь в XX веке: Эволюция
взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты: опыт
России и Европы / Отв. ред. А. И. Филимонова. М.: Либроком, 2011.
С. 78–106.
343
Chumachenko T. A . Church and State in Soviet Russia.
P. 161; Шкаровский М. В . Русская Православная Церковь в XX веке.
С. 362.
344
Комсомольская организация занималась изучением молодежной
религиозности и атеистической работой уже в 1957 г. См.: РГАСПИ. Ф .
М-1 . Оп. 32. Д. 845. О советской молодежи в послевоенный период
см.: Zubok V. Zhivago’s Children. P. 23, 33–40; Fürst J. Friends in Private,
Friends in Public: The Phenomenon of the Kampaniia among Soviet Youth in
the 1950s and 1960s // Borders of Socialism: Private Spheres of Soviet
Russia / Ed. by L. H . Siegelbaum. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
P. 135–153; Fürst J. Stalin’s Last Generation: Soviet Post-war Youth and the
Emergence of Mature Socialism. Oxford: Oxford University Press,
2010; Raleigh D. J. Soviet Baby Boomers: An Oral History of Russia’s Cold
War Generation. New York: Oxford University Press, 2013 [см. в русском
переводе: Рейли Д. Советские бэйби-бумеры: Послевоенное поколение
рассказывает о себе и о своей стране. М.: Новое литературное
обозрение, 2015. — Примеч. пер.] .
345
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 58.
346
РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 32. Д. 757; РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 53. Л. 83–88.
347
Об атеистическом воспитании в советских школах см.: Froggatt M. Re-
nouncing Dogma, Teaching Utopia: Science in Schools under Khrushchev //
The Dilemmas of De-Stalinization. P. 250–267.
348
РГАНИ. Ф . 5 . Оп. 33 . Д. 53. Л . 126–129. Орфография подлинника.
349
О народной религиозности см.: Panchenko A. Popular Orthodoxy in
Twentieth-Century Russia: Ideology, Consumption and Competition //
National Identity in Soviet and Post-Soviet Culture / Ed. by M. Bassin and
C. Kelly. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P . 321–340. См.
также: Алымов С. Понятие «пережиток» и советские социальные науки
в 1950–1960-е гг. // Антропологический форум. 2012. No 16. С . 261–287.
350
Штырков С. Практическое религиоведение времен Никиты Хрущева:
республиканская газета в борьбе с «религиозными пережитками» (на
примере Северо-Осетинской АССР) // Традиции народов Кавказа
в меняющемся мире: преемственность и разрывы в социокультурных
практиках: Сборник статей к 100-летию со дня рождения Леонида
Ивановича Лаврова / Сост. и отв. ред. Ю . Ю. Карпов. СПб.:
Петербургское востоковедение, 2010. С . 306 –343.
351
О внимании к религиозной жизни в хрущевскую эпоху см.: Там же.
С. 307.
352
Штырков С. Обличительная этнография эпохи Хрущева: большая
идеология и народный обычай (на примере Северо-Осетинской АССР) //
Неприкосновенный запас. 2009. Т . 65 . No 1 . С . 147 –161.
353
Штырков С. Практическое религиоведение времен Никиты Хрущева.
С. 317.
354
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 16. Д. 650. Л. 20.
355
ГАРФ. Ф . 6991. Оп. 1. Д. 227 . Л . 71 –80; цит. по: Наследие. Вып. 1:
Религия — общество — государство: институты, процессы, мысль.
Книга 1: История государственно-конфессиональных отношений
в России (X — начало XXI века): хрестоматия в двух частях / Сост.
Ю. П. Зуев; под общ. ред. Ю . П. Зуева, В. В. Шмидта. Часть II: XX —
начало XXI века. М.: Изд-во РАГС; ИД «МедиаПром», 2010. С. 138,
142.
356
О феномене кликушества см.: Worobec C. D . Possessed: Women, Witches,
and Demons in Imperial Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press,
2001.
357
Chumachenko T. A . Church and State in Soviet Russia. P. 154–155.
358
О том, что святые источники могут быть также рассадниками
венерических болезней, см.: РГАСПИ. Ф. М-1 . Оп. 32. Д. 1198. Л. 21–41.
Стоун также описывает случай, когда святой источник в Солецком
районе Новгородской области осушили под предлогом «борьбы
с малярийными комарами». — Stone A. B . «Overcoming Peasant
Backwardness». P . 303 .
359
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 91. Л. 111–112.
360
ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1747. Л. 19–20; цит. по: Чумаченко Т. А. Совет
по делам Русской православной церкви. С. 379.
361
«Члены Политбюро не были добрыми христианами». Интервью
В. Еленского с председателем Совета по делам религий
В. А. Куроедовым. — Из подшивки журнала «Людина і світ»,
предоставленной автору В. Еленским.
362
Там же.
363
Чумаченко Т. А. Совет по делам Русской православной церкви. С. 381.
364
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. С. 373–
374.
365
В ходе антирелигиозной кампании были закрыты семинарии в Саратове,
Ставрополе, Минске, Луцке (Волынская область) и Киеве. В числе
закрытых монастырей была Киево-Печерская лавра, которую многие
считают центром православной веры. — Chumachenko T. A . Church and
State in Soviet Russia. P . 187–188. О мерах против монастырей
см.: Ramet S. P . Nihil Obstat: Religion, Politics, and Social Change in East-
Central Europe. Durham, NC: Duke University Press, 1998. P . 233–234.
366
Статистические данные о закрытии церквей см.: Davis N. The Number of
Orthodox Churches before and after the Khrushchev Antireligious Drive //
Slavic Review. 1991. Vol. 50 . No 3. P. 614; Chumachenko T. A. Church and
State in Soviet Russia. P. 187–188. По данным этнографа Киры
Цеханской, в начале 1959 г. на территории страны насчитывалось 13
372 действующих церкви, а в 1963 г. — 8 314 церквей.
См.: Tsekhanskaia K. Russia: Trends in Orthodox Religiosity in the Twen-
tieth Century (Statistics and Reality) // Religion and Politics in Russia:
A Reader / Ed. by M. M. Balzer. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2010. P. 9 .
367
Redko M. V . Realization of the State Religious Policy of the Krasnoyarsk
Kray in 1954–1964 (on the Example of the Russian Orthodox Church) //
Journal of Siberian Federal University. 2010. Vol. 1 . No 3. P. 154.
368
Доходы местных приходов возрастали, как и количество религиозных
обрядов. — Ibid. Р. 155.
369
Ibid. Например, закупочная цена свечей в свечных мастерских была
повышена в 20 раз, однако было запрещено повышать цены на свечи
в церковных лавках, в результате чего доходы от продажи свечей
сократились с 84 857 рублей в 1957 г. до 76 684 рублей в 1959 г.
370
Ibid. Р. 157.
371
Попова К. Ю. Религиозные объединения в Оренбургской области
в 1960–1980-е гг.: проблема регистрации // Оренбургский край: история,
традиции, культура: сборник / Отв. ред. Г. И. Биушкин. Оренбург, 2009.
С. 88 –92. Как указывает Попова, к концу советского периода
большинство церквей Оренбургской области находились в городах. См.
также: Redko M. V . Realization of the State Religious Policy of the
Krasnoyarsk Kray. P. 157.
372
РГАСПИ. Ф. 556 . Оп. 25. Д . 191. Л. 226–230.
373
Там же. Л. 226.
374
РГАСПИ. Ф. 556 . Оп. 25. Д. 191. Л. 227 .
375
Там же. Л. 228.
376
Там же.
377
Там же. Л. 231.
378
РГАСПИ. Ф. M-1 . Оп. 34. Д. 130. Л . 31–32.
379
Там же.
380
Там же.
381
Marx K., Engels F. Manifesto of the Communist Party // The Marx-Engels
Reader. 2
nd
ed. / Ed. by R. Tucker. New York: Norton, 1978. P. 473 [см. на
русском языке: Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической
партии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е / Институт Маркса
—
Энгельса — Ленина — Сталина при ЦК КПСС. М.: Государственное
издательство политической литературы, 1955. Т. 4 . С. 423. — Примеч.
пер.].
382
Справка В. Г. Фурова о беседе с Патриархом Алексием, 10 июня
1961 г. // Письма и диалоги времен «хрущевской оттепели» (Десять лет
из жизни патриарха Алексия, 1955–1964 гг.). Публикацию подготовил
М. И. Одинцов // Отечественные архивы. 1994. No 5. С. 72 –73.
383
О сочетании оптимистических заявлений и материальных трудностей
в хрущевскую эпоху см.: Зубкова Е. И . Общество и реформы, 1945–
1964. М.: Россия молодая, 1993; Zubkova E. I . Russia after the War: Hopes,
Illusions, and Disappointments, 1945–1957. Armonk, NY: M. E. Sharpe,
1998; Аксютин Ю., Пыжиков А. Постсталинское общество: проблема
лидерства и трансформация власти. М.: Научная книга,
1999; Зубкова Е. И. Послевоенное сталинское общество: политика
и повседневность: 1945–1953. М.: РОССПЭН,
2000; Аксютин Ю. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения
в СССР; Пихоя Р. Г. Москва, Кремль, власть. Сорок лет после войны:
1945–1985. М .: Астрель, 2007.
384
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 215. Л. 145.
385
Titov Gives World Fair Extra Thrill // Washington Post. 1962. May 6.
P. A16; Saw Nothing in Space to Lead Him to Believe God Exists, Titov
Says // Washington Post. 1962. May 7. P . A3; Titov, Denying God, Puts His
Faith in the People // New York Times. 1962. May 7. P. 2.
386
Glenn Didn’t Expect to See God in Space // Hartford Courant. 1962. May 11.
P. 4; Hassett L. M . Titov and God // Hartford Courant. 1962. May 12.
P. 14; Morales H. W. Could Titov Know God? // Los Angeles Times. 1962.
May 12. P. B4; Cassels L. Religion in America // Chicago Defender. 1962.
May 26. P. 8; Wilson G. Attack on God // New York Amsterdam News.
1962. June 2. P. 11; Bishop Raps Titov’s Sally about God // Washington
Post. 1962. June 7. P . C17. См. также: Glenn J., Taylor N. John Glenn:
A Memoir. New York: Bantam Books, 1999. P. 288; Gilbert J. Redeeming
Culture: American Religion in an Age of Science. Chicago: University of
Chicago Press, 1997. P. 39 .
387
Как пишет историк Слава Герович, «обе стороны рассматривали
космическую гонку как замену холодной войне, и обе стороны
предпочитали воплощать технологическое соревнование в образе
человека, покорителя космоса... Как в Соединенных Штатах, так
и в Советском Союзе важнейшие мотивы создания пилотируемых
космических кораблей были в большей степени политическими, чем
технологическими или научными». — Gerovitch S. Soviet Space
Mythologies: Public Images, Private Memories, and the Making of a Cultural
Identity. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2015. P. 67.
388
Политическим и технологическим аспектам космической гонки
в контексте холодной войны посвящено множество работ.
См.: Brzezinski M. Red Moon Rising: Sputnik and the Hidden Rivalries That
Ignited the Space Age. New York: Times Books, 2007; Daniloff N. The
Kremlin and the Cosmos. New York: Knopf, 1972; McDougall W. A . The
Heavens and the Earth: A Political History of the Space Age. New York:
Basic Books, 1985; Siddiqi A. A . Sputnik and the Soviet Space Challenge.
Gainesville: University Press of Florida, 2003; Von Hardesty,
Eisman G. Epic Rivalry: The Inside Story of the Soviet and American Space
Race. Washington, DC: National Geographic Society, 2007. О внутренней
связи науки и религии в освоении космоса см.: Launius R. D . Escaping
Earth: Human Spaceflight as Religion // Astropolitics. 2013. Vol. 11 . No 1 –2 .
P. 45–64.
389
Как пишет Герович, «советские космические мифы обнаруживают
удивительное сходство с американскими при важных нюансах: „новый
советский человек“ вместо „парней что надо“ и превосходство
социализма вместо превосходства капитализма». — Gerovitch S. Soviet
Space Mythologies. P. xiv.
390
Launius R. D . Heroes in a Vacuum: The Apollo Astronaut as Cultural Icon //
Florida Historical Quarterly. Vol. 87. 2008. No 2 (Fall). P. 174 –209.
391
Sulzberger C. L. Foreign Affairs: Paradise and Old Noah Khrushchev // New
York Times. 1961. September 9. P . 18.
392
Presidential Prayer Breakfast // New York Times. 1962. March 2. P. 3.
О роли религии в холодной войне см.: Gunn T. J. Spiritual Weapons: The
Cold War and the Forging of an American National Religion. Westport, CT:
Praeger, 2008; Herzog J. P. The Spiritual-Industrial Complex: America’s
Religious Battle against Communism in the Early Cold War. Oxford: Oxford
University Press, 2011; Wallace J. C. A Religious War? The Cold War and
Religion // Journal of Cold War Studies. 2013. Vol. 15. No 3. P. 162–180.
393
Gilbert J. Redeeming Culture. P. 298–299.
394
Ibid. P . 226.
395
О религиозной реакции на полеты человека в космос
см.: McMillen R. J. Space Rapture: Extraterrestrial Millennialism and the
Cultural Construction of Space Colonization. Ph. D. diss. University of Texas
at Austin, 2004.
396
Berger P. L. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of
Religion. Garden City, NY: Doubleday, 1967. P. 112 –113 [цит.
по: Бергер П. Священная завеса. Элементы социологической теории
религии. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 132. — Примеч.
ред.].
397
О религиозном кризисе 1960-х гг. см.: McLeod H. The Religious Crisis of
the 1960s. Oxford: Oxford University Press, 2007.
398
Lewis C. The Birth of the Soviet Space Museums: Creating the Earthbound
Experience of Spaceflight during the Golden Years of the Soviet Space
Programme, 1957–1968 // Showcasing Space. 2005. Vol. 6 . P. 148–50 .
399
Было создано множество агиографической литературы о советских
космонавтах. Особенно популярными были биографии, написанные
посвященными людьми — самими космонавтами или руководителями
космических программ, — например, биография Гагарина, написанная
Титовым. См.: Титов Г. С . Первый космонавт планеты. М.: Знание,
1971. Популярны были также детские книги о космонавтах. О мифе,
сложившемся вокруг Гагарина, см.: Rockwell T. The Molding of the Rising
Generation: Soviet Propaganda and the Hero Myth of Iurii Gagarin // Past
Imperfect. 2006. Vol. 12. P. 1–34.
400
Пять лет штурма космоса // Наука и религия. 1962. No 10. С. 3–8.
401
Там же.
402
Обращение Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного
Совета СССР и Правительства Советского Союза // Комсомольская
правда. 1961. 13 апр. С. 1 .
403
Эстафета поколений // Наука и религия. 1962. No 9. С. 4.
404
Пять лет штурма космоса. С. 5.
405
Тамже. С.5–6.
406
Пять лет штурма космоса. С. 7.
407
Гагарин Ю. А . Дорога в космос. М.: Правда, 1961. С. 171 . Хотя можно
практически с уверенностью утверждать, что книга Гагарина была
написана в литературной обработке, убеждение, что он делал подобные
заявления, стало частью фольклорной культуры. Например, историк
советской науки Лорен Грэхем пишет, что брошюра с подобными
высказываниями Гагарина продавалась в магазине антирелигиозной
литературы на территории Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом
Посаде (Загорске). См.: Graham L. R. Moscow Stories. Bloomington:
Indiana University Press, 2006. P . 178.
408
Cassels L. Religion in America // Chicago Defender. 1962. May 26. P. 8;
Gherman Titov, Soviet Cosmonaut, Comments at World’ s Fair, Seattle,
Washington, May 6, 1962 // Seattle Daily Times. 1962. May 7. P. 2.
409
Титов Г. Встретил ли я бога? // Наука и религия. 1962. No 1 . С. 10.
Традицию выступлений космонавтов на религиозные темы продолжил
Георгий Береговой, также внесший свой вклад в этот жанр.
См.: Береговой Г. Т. Шаги по земле, шаги в космосе // Я — атеист:
25 ответов на вопрос «Почему вы атеист?». М.: Изд-во политической
литературы, 1980. С. 32–39 .
410
В бесчисленных выпусках атеистической серии очерков «Почему мы
порвали с религией», которые издавались с 1958-го по конец 1960-х гг .,
космические путешествия фигурируют как поворотный пункт в истории
разрыва верующих с религией. См., например: «Мы порвали с религией
(рассказы бывших верующих)» (М.: Воениздат, 1963) и «Почему мы
порвали с религией» (М.: Госполитиздат, 1964).
411
Стайтс отмечает, что, по словам брата Юрия Гагарина, космонавт
получал сотни писем от бывших верующих с рассказами об их
обращении к атеизму. — Stites R. Russian Popular Culture: Entertainment
and Society since 1900. New York: Cambridge University Press, 1992.
P. 175.
412
1000 писем // Наука и религия. 1960. No 2. С. 8 .
413
Письма бывших верующих, отвергших религию после полета Гагарина,
см.: Как же бог? Обзор писем // Известия. 1961. 23 мая. С. 4.
414
В редакционной статье цитируются письма других верующих , которые
сделали «такой же вывод», что и Данилова, а также приводится история
обращения к атеизму священника Павла Дарманского, который
усомнился в вере, слушая научно-атеистическую лекцию по
астрономии. — Пять лет штурма космоса // Наука и религия. 1962.
No10.С.6.
415
Письмо Даниловой первоначально было опубликовано в подборке
«Как же бог? Обзор писем» (Известия. 1961. 23 мая. С. 4). Оно также
цитируется в следующих работах: Ляхоцкий П. В . Завоевание космоса
и религия. Грозный: Чечено-Ингушское кн. изд-во, 1964. С. 64–
68; Базыкин В. В небесах человек, а не бог // Советские профсоюзы.
1961. No 13. С. 28. Другие истории обращения к атеизму см.:
Комсомольская правда. 1962. 13 авг.; Эстафета поколений // Наука
и религия. 1962. No 9. С. 5. См. также: Завоевание неба и вера в бога. Сб.
статей / Ред. К . К . Габова. М .: Знание, 1964.
416
РГАСПИ. Ф. 599. Оп. 1. Д. 211. Л. 116–121 .
417
Там же. Л. 117 –118.
418
Там же. Л. 121.
419
Гуров Е. // Крокодил. 1965. No 9. С. 3. Об использовании образа
космонавта в политической сатире см.: Etty J. Comic Cosmonaut: Space
Exploration and Visual Satire in Krokodil in the Thaw // Russian Aviation,
Space Flight, and Visual Culture / Ed. by V. Strukov and H. Goscilo. New
York: Routledge, 2016. P . 89 –115.
420
См. внутреннюю обложку журнала «Наука и религия» за 1959 г., No 1.
421
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1210. Л. 34.
422
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 119. Л . 58. Для сравнения, тираж научно-
популярного журнала «Наука и жизнь» в 1961 г. составлял 167 тысяч
экземпляров. К 1963 г. он, почти утроившись, достиг 475 тысяч
экземпляров, а к 1964 г. общество «Знание» получило разрешение
увеличить тираж журнала до 750 тысяч экземпляров и чувствовало себя
достаточно уверенно, чтобы просить увеличить тираж до миллиона. —
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1310. Л. 29–30, 62; Там же. Д. 1371. Л. 54.
423
ЦАГМ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 177. Л. 75.
424
Там же.
425
Там же. В 1959 г. Московский планетарий заработал 1906 тысяч рублей,
тогда как его расходы составили 2071 тысячу рублей — что означает,
что дефицит составлял 165 тысяч рублей.
426
ГАРФ. Ф. A-561. Оп. 1 . Д. 492.
427
В 1974 г. планетарии всего Советского Союза организовали 3586 тысяч
научных лекций, 897 тысяч из которых было посвящено атеизму. В эти
показатели включены лекции, организованные за пределами главных
зданий планетариев с помощью «передвижных» планетариев.
См.: Фишевский Ю. К. Общество «Знание» и пропаганда научного
мировоззрения // Вопросы научного атеизма. 1976. No 19. С. 76. См.
также: Комаров В. Планетарий и пропаганда атеистических знаний //
Вопросы научного атеизма. 1976. No 19. С . 115–126.
428
Самые яркие примеры — планетарий в Горьком (Нижнем Новгороде),
открывшийся в 1948 г. в здании Алексеевской церкви Благовещенского
монастыря, планетарий в Барнауле, открывшийся в 1950 г. в здании
Крестовоздвиженской церкви, и Киевский планетарий, старейший
в Украине, открывшийся в 1952 г. в здании Александровского костела.
429
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1324. Л. 53–54.
430
Вопросы мировоззрения в лекциях по астрономии: Сборник / Сост.
В. Н. Комаров, В. В. Казютинский. М.: Знание, 1974. См.
также: Марьянов Б. М . Отвоеванное небо. М.: Московский рабочий,
1971; Марьянов Б. М. Вопросы мировоззрения в лекциях по астрономии:
Сборник. М.: Знание, 1974.
431
Комаров и Чертков даже писали атеистические книги в соавторстве.
См.: Комаров В. Н., Чертков А. Б. Беседы о религии и атеизме.
М.: Просвещение, 1975.
432
В 1963 г. в Московском планетарии выступали с лекциями космонавты
Андриян Николаев и Герман Титов. — ГАРФ. Ф . 9547. Оп. 1. Д. 1324.
Л. 9.
433
О просветительской работе Харьковского планетария рассказывается
в мемуарах лектора Натальи Бершовой: Бершова Н. Если звезды
зажигают... (Записки лектора Харьковского Планетария). URL:
http://kharkov.vbelous.net/planetar/index.htm.
434
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1324. Л. 28–31.
435
Там же. Л. 16.
436
Митин М. Б . О содержании и задачах научно-атеистической
пропаганды в современных условиях // Наука и религия: Сборник
стенограмм лекций, прочитанных на Всесоюзном совещании-семинаре
по научно-атеистическим вопросам. М.: Знание, 1958. С. 17 .
437
Наан Г. Человек, бог и космос // Наука и религия. 1961. No 2. С. 6 .
438
Наан Г. Человек, бог и космос. С. 7 .
439
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1048. Л. 14 .
440
Там же.
441
Там же. Д. 1324. Л. 26–27 .
442
Там же. Д. 1048. Л. 15.
443
ЦАГМ. Ф. 1782. Оп. 3 . Д. 183.
444
Тамже. Л.4.
445
ЦАГМ.Ф.1782.Оп.3.Д.183.Л.6.
446
Тамже. Л.7.
447
ГАРФ. Ф . A-561. Оп. 1 . Д. 492. Л. 25–28, цит. л. 28.
448
Там же. Л. 36 –39, цит. л. 37.
449
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1048. Л. 22 .
450
РГАНИ. Ф. 71. Оп. 1. Д. 15. Л. 171.
451
Там же. Л. 151–153.
452
РГАНИ. Ф. 71. Оп. 1. Д. 15. Л. 151–153.
453
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 37. Л. 31.
454
Тамже. Д.156.Л.29.
455
Там же.
456
Тамже.Л.47.
457
Тамже.Л.59.
458
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 156. Л. 47.
459
Там же. Л. 48.
460
Там же. Л. 139.
461
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 55. Д. 72. Л. 53.
462
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 126. Л . 33–34.
463
Там же. Д. 37. Л. 85.
464
Вопросы мировоззрения в лекциях по астрономии. С. 4 .
465
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 133. Л. 126.
466
Weber M. Science as a Vocation // From Max Weber: Essays in Sociology /
Ed. and transl. H. H . Gerth and C. Wright Mills. New York: Oxford
University Press, 1946. P . 129–156. Доклад Макса Вебера, прочитанный
в Мюнхенском университете в 1918 г., был впервые опубликован
в следующем издании: Weber M. Wissenschaft als Beruf // Gesammlte
Aufsaetze zur Wissenschaftslehre. Tubingen, 1922. S . 524–555 . [См. на
русском языке: Вебер М. Наука как призвание и профессия //
Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 707–735. —
Примеч. пер.]
467
Weber M. Science as a Vocation. P. 154–155 [см. на русском
языке: Вебер М. Наука как призвание и профессия. С. 718, 733–734. —
Примеч. пер.] .
468
ГАРФ. Ф . A-561. Оп. 1. Д. 399 . Л. 54. Рассказ А. П. Чехова называется
«Оратор» (а не «Смерть бухгалтера», как ошибочно полагал Губанов).
469
ГАРФ.Ф.A-561.Оп. 1.Д.399.Л.51.
470
Там же. Л. 54.
471
Хотя ранее и предпринимались попытки разработать новую программу
партии (в середине 1930-х, 1939 и 1947 гг.), ни одна из них не была
доведена до конца. Новая комиссия по решению этой задачи была
сформирована в 1952 г. по решению XIX съезда КПСС, но смерть
Сталина и последующая борьба за власть заставили бросить и этот
проект на полпути. См.: Titov A. The 1961 Party Program and the Fate of
Khrushchev’s Reforms // Soviet State and Society under Nikita Khrushchev /
Eds. M . Ilic, J. Smith. New York: Routledge, 2009. P. 8 –25.
472
Evans A. B . Soviet Marxism-Leninism: The Decline of an Ideology. West-
port, CT: Praeger, 1993. P. 105, 89–91; Field D. A . Private Life and Com-
munist Morality in Khrushchev’s Russia. New York: Peter Lang, 2007.
473
Casier T. The Shattered Horizon: How Ideology Mattered to Soviet Politics //
Studies in East European Thought. 1999. Vol. 51. P. 35 –
59; Фокин А. «Коммунизм не за горами»: образы будущего у власти
и населения СССР на рубеже 1950–1960-х годов. Челябинск:
Энциклопедия, 2012.
474
Marx K. The German Ideology // Karl Marx: Selected Writings / Ed.
D. McLellan. 2
nd
ed. New York: Oxford University Press, 2000. P. 185 [см.
в русском переводе: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 32].
475
РГАСПИ. Ф. 556 . Оп. 25. Д. 191.
476
О мобилизации изучения общественного мнения и социологии
в хрущевскую эпоху см.: Shlapentokh V. Soviet Public Opinion and
Ideology: Mythology and Pragmatism in Interaction. Westport, CT: Praeger,
1986; Shlapentokh V. The Politics of Sociology in the Soviet Union. Boulder,
CO: Westview, 1987; Фирсов Б. История советской социологии 1950–
1980-х годов. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге,
2001; Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях
и документах / Отв. ред. и авт. предисл. Г. С. Батыгин; ред. -со ст.
С. Ф . Ярмолюк. СПб.: Русский христианский гуманитарный институт,
1999.
477
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30 . Д. 409. Л. 112 –123. После XXII съезда КПСС
в идеологическую комиссию при ЦК КПСС поступило рекордное
количество писем по идеологическим вопросам: только в период
с января по июнь 1962 г. их число составило 5950.
478
Институт общественного мнения «Комсомольской правды» возглавлял
Борис Грушин. См.: Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале
опросов общественного мнения: очерки массового сознания россиян
времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина: В 4 книгах.
М.: Прогресс-Традиция, 2001.
479
Об идеологических комиссиях см.: Titov A. The 1961 Party Program and
the Fate of Khrushchev’s Reforms; Bittner S. V . Ideologicheskie komissii
TsK KPSS, 1958–1964: Dokumenty (review) // Kritika: Explorations in
Russian and Eurasian History. 2002. Vol. 3 . No 2. P. 356–361.
480
См.: Harris S. E. Communism on Tomorrow Street: Mass Housing and
Everyday Life after Stalin. Baltimore: Johns Hopkins University Press,
2013; Varga-Harris C. Stories of House and Home: Soviet Apartment Life
during the Khrushchev Years. Ithaca, NY: Cornell University Press,
2015; Reid S. E. Communist Comfort: Socialist Modernism and the Making
of Cosy Homes in the Khrushchev-Era Soviet Union // Gender and History.
2009. Vol. 21 . No 3. P . 465–498; Communism Unwrapped: Consumption in
Cold War Eastern Europe / Eds. P. Bren, M. Neuburger. New York: Oxford
University Press, 2012.
481
Хрущев Н. С. Обеспечить людей земными благами, а не обещать
небесное // Войовничий атеїст. 1961. No 2 [внутренняя обложка]. Речь
Н. С. Хрущева была произнесена 17 января 1961 г. в ходе Пленума ЦК
КПСС по сельскому хозяйству [см.: Правда. 1961. 21 янв. С. 2. —
Примеч. пер.].
482
О развитии понятия «советский человек» в философии СССР
см.: Swiderski E. From Social Subject to «Person»: The Belated Trans-
formation in Latter-Day Soviet Philosophy // Philosophy of the Social
Sciences. 1993. Vol. 23. No 2 . P. 199–227; Zwahlen R. M. The Lack of Moral
Autonomy in the Russian Concept of Personality: A Case of Continuity
across the Pre-Revolutionary, Soviet, and Post-Soviet Periods? // State,
Religion and Church. Vol. 2 . No 1 . P. 19–43.
483
Перечень положительных качеств, которыми, согласно «Моральному
кодексу строителя коммунизма», должен был обладать советский
человек, включал патриотизм («преданность делу коммунизма, любовь
к социалистической Родине, к странам социализма»), интернационализм
(«дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной
и расовой неприязни»), трудовую этику («добросовестный труд на благо
общества» и «высокое сознание общественного долга, нетерпимость
к нарушениям общественных интересов»), коллективизм
(«товарищеская взаимопомощь» и «гуманные отношения и взаимное
уважение между людьми»), умеренность в желаниях («непримиримость
к несправедливости, тунеядству, дурости, нечестности, карьеризму,
стяжательству»), приверженность семейным ценностям («взаимное
уважение в семье, забота о воспитании детей»), преданность делу
коммунизма (и «нетерпимость» к его врагам) и нравственность
(«честность и правдивость, нравственная чистота, простота
и скромность в общественной и личной жизни»).
484
РГАСПИ. Ф. 586. Оп. 1. Д. 7, 8.
485
Тамже.Д.8.Л.4,8,10–11.
486
Тамже.Д.7.Л.9–11.
487
Тамже.Д.10.Л.8.
488
Там же. Л. 2 . Во многих исследованиях, посвященных участию
советской общественности в обсуждении новой программы партии,
показано, что общественность не всегда выступала за либерализацию
и, напротив, зачастую заостряла внимание на необходимости контроля
за девиантным поведением. См.: Fitzpatrick S. Social Parasites: How
Tramps, Idle Youth, and Busy Entrepreneurs Impeded the Soviet March to
Communism // Cahiers du Monde russe et soviétique. 2006. Vol. 47. No 1–2.
P. 1–32; Jones P. From the Secret Speech to the Burial of Stalin: Real and
Ideal Responses to De-Stalinization // The Dilemmas of De-Stalinization:
Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev Era / Ed. P. Jones.
New York: Routledge, 2006. P . 41 –63; Schattenberg S. «Democracy» or
«Despotism»? How the Secret Speech was Translated into Everyday Life //
The Dilemmas of De-Stalinization. P. 64–79; Kharkhordin O. The Collective
and the Individual in Russia. Berkeley: University of California Press, 1999.
P. 279–302.
489
Программа Коммунистической партии Советского Союза: Принята
XXII съездом КПСС. М .: Изд-во политической литературы, 1971.
490
Как пишет Митрохин, «Говоря о коммуникативных практиках работы
в ЦК КПСС, мы видим, что принципы заказа и отбора „советских“
культурных символов не базировались на каких бы то ни было
письменных инструкциях или жесткой и где-либо закрепленной системе
(кодексе) идеологических норм. Де-факто они существовали в головах
их носителей. На каждом уровне иерархической вертикали чиновник
разрабатывал границы того, что можно, а что нельзя, сверяясь
с мнением начальства, обращая внимание на мнения коллег
и экспертного круга, но и руководствуясь собственными
представлениями о том, что допускает (и представляет собой)
исповедуемая им идеология, которую он ассоциировал с марксизмом-
ленинизмом». — См.: Митрохин Н. Back-office Михаила Суслова или
кем и как производилась идеология брежневского времени // Cahiers du
monde russe. 2013. Vol. 54. No 3. P. 409–440.
491
Там же. Об идеологической продукции см. также: Немцев М. К истории
советской академической дисциплины «Основы научного
коммунизма» // Идеи и идеалы. 2016. Т. 27. No 1 . С. 23–
38; Humphrey C. The «Creative Bureaucrat»: Conflicts in the Production of
Soviet Communist Party Discourse // Inner Asia. 2008. Vol. 10. No 1 . P. 5 –
35; Luehrmann S. The Modernity of Manual Reproduction: Soviet
Propaganda and the Creative Life of Ideology // Cultural Anthropology.
2011. Vol. 26. No 3. P. 363 –388 .
492
О задачах партийной пропаганды в современных условиях.
Постановление Центрального Комитета КПСС // Коммунист. 1960. No 1 .
С. 11.
493
О задачах партийной пропаганды в современных условиях. С. 10–24.
494
РГАСПИ. Ф. 623. Оп. 1. Д. 202. Л . 83.
495
Тамже.Л.68.
496
РГАСПИ. Ф. 623. Оп. 1. Д. 202. Л . 66.
497
Тамже.Л.83.
498
См.: Дулуман Е. Как я стал атеистом // Комсомольская правда. 1957.
17 марта. С. 1; Осипов А. Отказ от религии — единственно правильный
путь: Письмо в редакцию // Правда. 1959. 6 дек. С. 4. Вскоре после
выхода статьи «Как я стал атеистом» Дулуман представил советскому
читателю расширенную версию истории своего обращения к атеизму
в формате книги, озаглавленной «Почему я перестал верить в бога».
См.: Дулуман Е. К. Почему я перестал верить в бога: Рассказ бывшего
кандидата богословия. М.: Молодая гвардия, 1957. В свою очередь,
Осипов опубликовал книгу «Мой ответ верующим», где он отвечал на
письма от духовенства и верующих, а также от советских людей, горячо
приветствовавших его переход в лоно атеизма. См.: Осипов А. А. Мой
ответ верующим. Л.: Лениздат, 1960. В ходе нашего интервью Дулуман
сказал, что его лекции собирали полные стадионы слушателей,
и рассказывал о лавине писем, приходивших в ответ на публикации его
книг; популярность его как лектора также подтверждается архивными
материалами. Например, в докладе, хранящемся в архивах ЦК
Коммунистической партии Украинской ССР, «О недостатках в научно-
атеистической пропаганде и мерах по ее улучшению» описывается
лекция Дулумана и другого бывшего студента Одесской богословской
семинарии, А. В. Мохортова, на открытии Дома атеизма в Сталино,
которая имела такой успех, что зал не мог вместить всех желающих
присутствовать. См.: ЦДАГО. Ф . 1. Оп. 31. Д. 1470. Л . 27. Лекцию
Александра Осипова в Доме атеизма в Горьком посетило 1500 человек.
См.: РГАСПИ. Ф . 606. Оп. 4. Д. 68. Л. 87.
499
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1310. Л. 85 .
500
Там же. Д. 1048. Л. 5. О работе общества «Знание» в 1940–1960-е гг.
см.: Зайчиков В. Академия миллионов: О работе Всесоюзного общества
«Знание». М.: Знание, 1967; Мезенцев В. Знание — народу (К 25-летию
Всесоюзного общества «Знание»). М.: Знание, 1972. К концу 1960-х гг .
в рядах общества «Знание» состояло более 2,5 миллиона членов.
501
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1048. Л. 8–27 .
502
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1048. Л. 9.
503
Тамже.Д.1310.Л.27.
504
Там же. Л. 10.
505
Там же. Л. 13–14 .
506
ГАРФ.Ф.A-561.Оп. 1.Д.375.Л.22.
507
ГАРФ.Ф.A-561.Оп. 1.Д.406.Л.58.
508
Там же.
509
Там же.
510
Тамже.Л.59.
511
Тамже.Л.60.
512
Там же. Л. 61.
513
Там же. Л. 62.
514
ГАРФ.Ф.A-561.Оп. 1.Д.406.Л.63.
515
Там же. Л. 64.
516
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1353. Л. 190–196.
517
Там же. Л. 193.
518
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1353. Л. 194–195.
519
Там же. Л. 195.
520
Там же. Л. 193.
521
Там же. Л. 195–196.
522
См.: Калита Ф. Атеисты в наступлении // Правда. 1963. 7 окт. С. 1. Эта
парадигма «разрыва с религией» или «отказа от религии» появилась во
время хрущевской антирелигиозной кампании и распространялась не
только в атеистических книгах, но, как указанно выше, и в центральных
газетах, включая «Правду». Самый известный пример этого жанра —
«бывший богослов» Александр Осипов. См.: Осипов А. Отказ от
религии — единственно правильный путь // Правда. 1959. 6 дек. См.
также: Почему мы порвали с религией. М.: Госполитиздат, 1958; Знание
и вера в бога. М.: Знание, 1960; Как и почему мы порвали с религией.
М.: Политический отдел железнодорожных войск, 1960; Мы порвали
с религией (рассказы бывших верующих). М.: Военное изд-во
Министерства обороны, 1963. Многие из этих сборников были
несколько раз переизданы, например: Почему мы порвали с религией
(М.: Госполитиздат, 1964).
523
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1353. Л. 195–196.
524
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1353. Л. 79–92.
525
ГАРФ.Ф.A-561.Оп. 1.Д.676.Л.17.
526
Там же. Д. 281. Л. 43–44 .
527
ГАРФ.Ф.A-561.Оп. 1.Д.281.Л.44.
528
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 409. Л. 116.
529
Устав КПСС. М.: Изд-во политической литературы, 1961. С. 6 .
530
ГАРФ.Ф.A-561.Оп. 1.Д.283.Л.35–36.
531
Там же.
532
Там же.
533
ГАРФ.Ф.A-561.Оп. 1.Д.283.Л.26.
534
Там же. Д. 281. Л. 45, 47–48.
535
ГАРФ.Ф.A-561.Оп. 1.Д.281.Л.56.
536
Тамже.Л.58.
537
Там же. Л. 60 –61.
538
ГАРФ.Ф.A-561.Оп. 1.Д.281.Л.59–60.
539
Там же.
540
А. П. Гагарин (1895–1960) был выпускником Института красной
профессуры и деканом философского факультета Московского
государственного университета. Научные труды Гагарина были
посвящены философским проблемам образования и партийной работы.
Он был одним из первых философов в Советском Союзе,
разрабатывавших философские проблемы атеизма. В начале 1920-х гг.
он работал в Смоленском областном комитете партии и был редактором
журнала «Долой богов». В 1925 г. он начал преподавать философию
в Саратовской партийной школе, а с 1928 по 1933 г. учился в Институте
красной профессуры. В 1935 г. Гагарин стал заведующим кафедрой
философии в Московском институте философии, литературы и истории
(МИФЛИ). В 1939 г. он защитил одну из первых в Советском Союзе
докторских диссертаций по философии, озаглавленную
«Идеологический фронт классовой борьбы в России в 1917 г.»,
оппонентом по которой выступил Ярославский. См.: Вестник
Московского университета. Серия 7: Философия. 1999. No 5. С. 87–97.
О работе Гагарина в Московском государственном университете см.:
Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 1996. No 5.
С. 79–94; Ойзерман Т. И. Советская философия в середине 40-х
—
начале 50-х годов: философский факультет МГУ // Человек. 2007. No 2 .
С. 50 –62.
541
ГАРФ. Ф. A-561. Оп. 1 . Д. 402. Л. 39 –40.
542
Там же.
543
ГАРФ.Ф.A-561.Оп. 1.Д.399.Л.11–12.
544
ГАРФ. Ф . 9547. Оп. 1. Д. 1314. В числе других конференций общества
«Знание», проведенных в хрущевскую эпоху и посвященных вопросам
нравственности, эстетики и духовного развития, были следующие:
«Моральный кодекс строителя коммунизма» (ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1 .
Д. 1311–1312), «Роль литературы и искусства в коммунистическом
воспитании» (ГАРФ. Ф . 9547. Оп. 1 . Д. 1313), «Принципы
формирования и развития духовной жизни коммунистического
общества» (ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1314).
545
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 1. Д. 458. Л . 50–51.
546
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1314. Л. 209–210.
547
Там же. Л. 344–345.
548
Там же. Л. 279–281.
549
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1314. Л. 280.
550
Там же. Л. 307–308 (курсив мой. — В. С.) .
551
Идеологическая комиссия была сформирована согласно распоряжению
Президиума ЦК КПСС от 23 ноября 1962 г. и работала вплоть до
ликвидации 4 мая 1966 г. До того как занять пост председателя
идеологической комиссии, Ильичев возглавлял Отдел пропаганды
и агитации ЦК КПСС (1958–1961). После отставки Хрущева Ильичев
был смещен с высших партийных постов и в период с 1965 по 1989 г.
был заместителем министра иностранных дел. О карьере Ильичева см.:
Президиум ЦК КПСС 1954–1964: Черновые протокольные записи
заседаний, стенограммы, постановления / Гл. ред. А. А. Фурсенко.
М.: РОССПЭН, 2004. Т . 1 . С . 1225; Зенькович Н. А. Самые закрытые
люди: энциклопедия биографий. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 205–209.
О политической биографии Михаила Суслова см.: Медведев Р. А.,
Ермаков Д. А. «Серый кардинал». М. А. Суслов: Политический портрет.
М.: Республика, 1992; Petroff S. The Red Eminence: A Biography of
Mikhail A. Suslov. Clifton, NJ: Kingston Press, 1988.
552
О термине «мировоззрение» см.: Weir T. H. Säkularismus (Freireligiöse,
Freidenker, Monisten, Ethiker, Humanisten) // Handbuch
Religionsgeschichte des 20. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum / Eds.
L. Hoelscher, V. Krech. Paderborn: Schönigh, 2016. Vol. 6/2. S. 189–218.
553
Weir T. H . The Riddles of Monism: An Introductory Essay // Monism:
Science, Philosophy, Religion, and the History of a Worldview / Ed.
T. H . Weir. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2012. P . 13.
554
РГАНИ. Ф. 72. Оп. 1. Д. 9. Л. 29.
555
Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского
Союза, 18–21 июня 1963 г.: Стенографический отчет. М.: Изд-во
политической литературы, 1964. С . 6–8 .
556
Тамже. С.17.
557
Там же. С. 20–25.
558
РГАНИ.Ф.72.Оп.1.Д.9.Л.7.
559
РГАНИ. Ф. 72. Оп. 1. Д. 9. Л. 23, 19, 21.
560
Там же. Л. 25.
561
Тамже.Л.60.
562
РГАНИ. Ф. 72. Оп. 1. Д. 9. Л. 46.
563
Тамже.Л.63.
564
Там же. Л.48,60.
565
Там же. Л. 35 –36, 42.
566
РГАНИ. Ф. 72. Оп. 1. Д. 9. Л. 29.
567
Ильичев Л. Формирование научного мировоззрения и атеистическое
воспитание // Коммунист. 1964. No 1 . С. 23–46, цит. с. 41 .
568
См. примеры литературы хрущевской эпохи, посвященной проблемам
быта: Куприн О. В . Быт — не частное дело. М.: Госполитиздат, 1959; За
коммунистический быт / Науч. ред. М. И. Лифанов. Л .: Общество по
распространению политических и научных знаний РСФСР,
1963; Штюка В. Г . Быт и религия. М.: Мысль, 1966.
569
Примечательно, например, что в новом советском Кодексе о браке
и семье особо уделялось внимание социалистическим обрядам. См.:
Кодекс о браке и семье РСФСР: официальный текст / Юридическая
комиссия при Совете Министров РСФСР. М.: Юридическая литература,
1969. С. 8.
570
РГАНИ. Ф. 72. Оп. 1. Д. 15. Л. 121–122.
571
РГАНИ. Ф. 72. Оп. 1. Д. 15. Л. 261–262.
572
Там же. Л. 203.
573
Тендряков В. Ф. Чудотворная // Знамя. 1958. No 5. С. 3–55 . В 1960 г. на
экраны вышел одноименный фильм («Мосфильм», режиссер Владимир
Скуйбин), а в 1963 г. созданная на основе повести пьеса «Без креста»
была поставлена в московском театре «Современник» (режиссер Галина
Волчек). Выражаю благодарность Александру Панченко за
плодотворный и тонкий анализ атеистических произведений
хрущевских времен (включая «Чудотворную» и «Тучи над Борском»).
См.: Панченко А. А . «Религиозные инфекции» и «духовные калеки»:
Тема детства в советской атеистической пропаганде 1960-х гг. // «Убить
Чарскую...»: парадоксы советской литературы для детей (1920-е
—
1930-е гг.) / Сост. и ред. М. Р. Балина, В. Ю. Вьюгин. СПб.: Алетейя,
2013. С . 310–329.
574
РГАНИ. Ф. 72. Оп. 1. Д. 15. Л. 290.
575
Там же. Л. 288.
576
Там же. Л. 291.
577
Там же. Л. 314.
578
ГАРФ. Ф . 9547. Оп. 1. Д. 1371. Л . 60 . Письмо Зайчикова и Мезенцева
было написано после чистки состава редколлегии журнала, в ходе
которой Мезенцева назначили на этот пост взамен прежнего главного
редактора (по слухам, либерально настроенного) Петра Колоницкого,
возглавлявшего также рабочую группу по подготовке раздела Третьей
программы партии, посвященного религии (РГАСПИ. Ф . 586 . Оп. 1 .
Д. 10). Мезенцев возглавлял редакцию «Науки и религии» с 1964 по
1968 г.
579
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1371. Л. 60 .
580
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1371. Л. 61.
581
Интервью автора с Ольгой Брушлинской. Москва, 7 декабря 2008 г.
582
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1447. Л. 2.
583
О том, как партийный аппарат воздействовал на работу журнала, см.:
«Два члена редколлегии журнала были работниками ЦК КПСС»: Беседа
Николая Митрохина с Ольгой Тимофеевной Брушлинской //
Неприкосновенный запас. 2008. No 3. Ольга Брушлинская (р. в 1934)
в 1956 г. окончила факультет журналистики Московского
государственного университета. Работу в журнале «Наука и религия»
она начала в 1970 г. в качестве корреспондента, специализирующегося
по исламу. С 1975 г. она возглавляла в журнале отдел ислама. В 2001 г.
она стала ответственным секретарем журнала, а с 2007 г. — его главным
редактором.
584
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1371. Л. 61.
585
Попытки переименовать журнал предпринимались в 1963, 1964
и 1965 гг. См.: Там же. Л. 2–3; ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1447.
586
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1447. Л. 2–3 .
587
Там же. Л. 16–17 .
588
Там же. Л. 29.
589
В 1966 г. Институт научного атеизма начал издавать собственный
журнал, «Вопросы научного атеизма», посвященный вопросам теории
и методов атеистической работы и адресованный пропагандистским
кадрам.
590
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1447. Л. 17 .
591
Там же. Л. 23–24 . М . М. Григорьян (1905–1995) был воспитанником
партийных учебных заведений и специализировался по истории
философии, а также работал в партийном и комсомольском
пропагандистском аппарате. В 1934 г. он окончил Институт красной
профессуры в Москве и вплоть до войны, а затем в 1946–1948 гг.
работал в Институте философии Академии наук СССР. С 1948 по
1964 г. он работал на кафедре философии Академии общественных наук
(АОН), а в 1964 г. был переведен на работу во вновь созданный
Институт научного атеизма (ИНА), где и работал до 1975 г. Он был
автором одного из важнейших учебников по атеизму
в СССР: Григорьян М. М . Курс лекций по истории атеизма. М.: Мысль,
1970.
592
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1447. Л. 10.
593
О «балансировании между необходимостью диктовать свою волю
и необходимостью побуждать людей к активному соучастию»
см.: Lovell S. Broadcasting Bolshevik: The Radio Voice of Soviet Culture,
1920s — 1950s // Journal of Contemporary History. 2013. Vol. 48. No 1 .
P. 94. Эта дилемма была центральной и для советского телевидения.
См.: Evans C. E. Between Truth and Time: A History of Soviet Central
Television. New Haven, CT: Yale University Press, 2016.
594
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1447. Л. 9.
595
Тамже.Л.30.
596
Там же. Л. 11 –13.
597
О работе Стельмакова в комсомольских органах см.: РГАСПИ. Ф. М-1.
Оп. 32. Д. 1198. Л. 2–20.
598
РГАСПИ. Ф. М-1 . Оп. 32. Д. 1198. Л. 19–20, 22.
599
Там же. Л. 19–21 .
600
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1447. Л. 14, 19–21 .
601
Тамже.Л.30.
602
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1447. Л. 10–11 .
603
Там же. См. также: Иванов А. С. Журнал «Наука и религия» — важное
звено в атеистическом воспитании // Вопросы научного атеизма. 1976.
No 19. С. 82–96 . Иванов, занимавший должность ответственного
редактора «Науки и религии» с 1968 по 1982 г., прежде чем поступить
на работу в редакцию журнала, работал в аппарате ЦК КПСС. «Работа
[журнала] неотделима от общего процесса развития атеизма в нашей
стране. Она является его отражением и одновременно составляет одно
из его звеньев. Успехи, достигнутые усилиями коллективов ученых
в разработке теории атеизма, обусловили и более высокий
содержательный и литературный уровень материалов в журнале. В свою
очередь последовательная постановка журналом ряда важнейших
проблем теории и практики атеизма способствовала повышению уровня
их разработки». — Иванов А. С. Журнал «Наука и религия». С. 82–83 .
604
Иванов А. С. Журнал «Наука и религия». С. 86.
605
Примеры публикаций по вопросам смысла жизни см.: Григорьян Б. Для
чего живет человек? // Наука и религия. 1964. No 7. С. 62–69; эта статья
была помещена в разделе «Разговор о смысле жизни». В журнале также
печатались письма читателей с их размышлениями о смысле жизни.
См., например: О жизни, о счастье // Наука и религия. 1965. No 3. С. 8–9;
В чем радость, и сила, и счастье? // Наука и религия. 1965. No 6. С. 33–
35. См. также: Анисимов С. Ф. Наука и религия о смысле жизни: Ответы
на вопросы. М.: Знание, 1964; Анисимов С. Ф ., Гурев Г. А. Проблема
смысла жизни в религии и атеизме. М.: Знание, 1981.
606
Стоит обратить внимание на то, что после поворота советского атеизма
в сторону мировоззренческих вопросов и социальных наук начали
публиковаться и другие новые атеистические периодические издания,
такие как ежегодник «Атеистические чтения», который издавался
Политиздатом с 1966 по 1990 г. и который был предназначен в равной
мере как для пропагандистских и педагогических кадров,
занимающихся атеистической работой, так и для широкого читателя,
и издания, предназначенные для более узкой среды специалистов, такие
как журнал «Вопросы научного атеизма», который издавался
Институтом научного атеизма при Академии общественных наук при
ЦК КПСС с 1966 по 1991 г.
607
Францев Ю., Филонович Ю. Философский камень // Известия. 1965.
19 сент. С. 5; цит. по: Powell D. E . Antireligious Propaganda in the Soviet
Union: A Study in Mass Persuasion. Cambridge, MA: MIT Press, 1975. P. 2 .
608
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 14. Л. 1–7, цит. л. 7. Б. Т. Григорьян (1928–
1995) специализировался на критике так называемой буржуазной
философии. См., например: Григорьян Б. Т . Социология религии или
апология религии? М.: Наука, 1962. В 1952 г. он окончил исторический
факультет МГИМО, после чего участвовал в многочисленных
академических и научно-популярных изданиях, а с 1959 по 1965 г. был
заместителем главного редактора журнала «Наука и религия». С 1965 г.
и вплоть до своей смерти в 1995 г. Григорьян работал в Институте
философии АН СССР. Приношу свою благодарность Феликсу Корли
(Felix Corley) за предоставленные сведения о биографии Григорьяна.
609
Чехов. Ильф. Довлатов. Из записных книжек / Под ред.
А. Шкляринского. New York: Alexandria, 1999. С . 17 .
610
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 14. Л . 62–67. О внутренней жизни Института
научного атеизма см.: Зуев Ю. П. Институт научного атеизма (1964–
1991) // Вопросы религии и религиоведения. Антология отечественного
религиоведения. 2009. No 1 . С. 9–34; Зуев Ю. П., Шмидт В. В. От
Института научного атеизма к кафедре государственно-
конфессиональных отношений: становление религиоведческой школы
(1964–1991, 1992–2010) // Вопросы религии и религиоведения.
Антология отечественного религиоведения. 2010. No 1 . С . 15–28.
611
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 18. Л. 6.
612
Шахнович М. М., Чумакова Т. В. Музей истории религии Академии наук
СССР и российское религиоведение (1932–1961). СПб.: Наука, 2014.
С. 53 . Из Государственного музея истории религии Францев был
направлен на работу в партийный аппарат.
613
Например, в недавно изданном труде по истории КПСС брежневская
эра описывается как череда партийных съездов, на которых не
происходило ничего существенного: «После XXIII съезда [в 1966 г.]
остальные съезды брежневской эпохи не содержали никаких сюрпризов
и проводились рутинно». — См.: История Коммунистической партии
Советского Союза / Отв. ред. А. Б. Безбородов; науч. ред.
Н. В. Елисеева. М.: Политическая энциклопедия, 2014. С. 324.
614
Как отмечает один социолог, «Социология пятидесятых и шестидесятых
годов существовала „без прописки“ под крышей исторического
материализма и других общественных наук». — См.: Российская
социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Под
ред. Г. С. Батыгина и C. Ф . Ярмолюка. СПб.: Издательство Русского
гуманитарного университета, 1999. С. 9. См. также: Shlapentokh V. The
Politics of Sociology in the Soviet Union. Boulder, CO: Westview,
1987; Свешникова О. Юбилей Геродота: Шестидесятническое прошлое
в зеркале современной социологии // Новое литературное обозрение.
2009. No 98. С . 97–110. Только в 1986 г. был официально признан статус
социологии как самостоятельной вузовской дисциплины, а студенты
получили возможность специализироваться по ней.
615
О духовных недугах сельской молодежи см.: Siegelbaum L. H .,
Moch L. P . Broad Is My Native Land: Repertoires and Regimes of Migration
in Russia’s Twentieth Century. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2014.
P. 134.
616
Сектор новых форм труда и быта возглавлял Геннадий Осипов.
См.: Осипов Г. В . «Мы жили наукой» // Российская социология
шестидесятых... С. 95 –109.
617
Ленинград стал колыбелью возрождения социологии. См.: Социология
в Ленинграде — Санкт-Петербурге во второй половине XX века / Под
ред. А. О. Бороноева. СПб.: Изд-во СПбГУ,
2007; Boronoev A. O . Sociological Research in Leningrad — St. Petersburg
(1960s — 1990s) // Sociological Research. 2009. Vol. 48. No 5. P. 45–54.
О социологических исследованиях религии, осуществлявшихся
Государственным музеем истории религии,
см.: Красников Н. П . Предварительные результаты изучения
религиозных верований и обрядности // Конкретные исследования
современных религиозных верований (методика, организация,
результаты). М.: Мысль, 1967. С. 129–137.
618
Scott J. C . Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human
Condition Have Failed. New Haven, CT: Yale University Press, 1998 [см.
в русском переводе: Скотт Дж. Благими намерениями государства.
Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой
жизни / Пер. с англ. Э . Н. Гусинского, Ю. И. Турчаниновой.
М.: Университетская книга, 2005. — Примеч. пер.].
619
Центральный комитет КПСС издал два постановления, посвященные
отношению идеологии к общественным наукам: «О мерах по
дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли
в коммунистическом строительстве» (август 1967 г.) и «О мерах по
улучшению подготовки теоретических кадров в Академии
общественных наук при ЦК КПСС» (ноябрь 1970 г.). См.: Об
идеологической работе КПСС: Сборник документов. М.: Политиздат,
1977. С. 474–479. О возникновении и развитии «научного коммунизма»
как вузовской дисциплины см.: Немцев М. К истории советской
академической дисциплины «Основы научного коммунизма» // Идеи
и идеалы. 2016. No 1 (27). Т. 1. С. 23–38 .
620
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 35. Д. 210. Л. 21, 31–33; цит.
по: Пугачева М. Г. Институт конкретных социальных исследований
Академии наук, 1968–1972 годы // Социологический журнал. 1994. No 2 .
С. 158–172 .
621
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 35. Д. 210. Л. 202.
622
Архив РАН. Ф. 499. Оп. 1 . Д. 438. Л. 41; цит.
по: Пугачева М. Г. Институт конкретных социальных исследований.
С. 159, примеч. 4 .
623
РГАНИ. Ф . 5 . Оп. 55 . Д. 70. Как правило, коллективы этих институтов
были совершенно не рады лишиться специалистов-религиоведов.
По истории изучения религии в поздний советский период
см.: Шахнович М. М . Отечественное религиоведение 20–80 -х годов
XX века: От какого наследства мы отказываемся // Шахнович М. М.
Очерки по истории религиоведения. СПб.: Изд-во С. -Петерб. ун-та,
2006. С . 181–197; Смирнов М. Ю. Религиоведение в России: проблема
самоидентификации // Вестник Московского университета. Сер. 7.
Философия. 2009. No 1 . С. 90 –106.
624
О советском религиоведении, в том числе и о работе Института
научного атеизма, см.: Зуев Ю. П. Динамика религиозности в России
в XX веке и ее социологическое изучение // Гараджа В. И. Социология
религии: Учебное пособие для студентов и аспирантов гуманитарных
специальностей. М.: Наука, 1995. С. 187–194.
625
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 2. Д. 25. Л. 2.
626
Тамже. Л.5.
627
К моменту своей ранней смерти в 1969 г. Евдокимов занимался
изучением представлений разных мыслителей о роли религии в жизни
социалистического общества. См.: Евдокимов В. И. Утопический
социализм о религии в «идеальном обществе» // Вопросы научного
атеизма. 1971. No 12 . С . 167–196. О карьере Евдокимова
см.: Митрохин Н. «Обыденное сознание любит простые решения...»
Беседа Николая Митрохина с Владимиром Александровичем
Сапрыкиным // Неприкосновенный запас. 2008. No 3 (59).
628
Лев Николаевич Митрохин был единственным из трех кандидатов, так
и не получившим данную должность, и единственным, чье прошлое
было связано скорее с академическими, чем партийными
учреждениями. В 1953 г. Митрохин окончил философский факультет
МГУ и остался там в аспирантуре, которую окончил в 1956 г. В 1958 г.
он начал работать в Институте философии АН СССР в качестве
младшего научного сотрудника сектора научного атеизма. Из трех
кандидатов на должность заместителя директора именно у Митрохина
было наиболее неоднозначное отношение к атеистической работе.
В своих воспоминаниях он рассказывает, что первоначально стал
заниматься атеистической пропагандой как лектор общества «Знание»
из-за финансовых трудностей после ареста его отца в 1950 г. Выбор
специализации по научному атеизму в Институте философии он
объясняет влиянием Александра Клибанова (1910–1984), известного
специалиста по религиозным сектам, вместе с которым Митрохин
проводил полевые исследования и в соавторстве написал несколько
статей. Из всех кандидатур у Митрохина был самый короткий
партийный стаж. Он вступил в партию в 1961 г. и в том же году
перешел из Института философии в ЦК ВЛКСМ, где стал заместителем
начальника отдела пропаганды и агитации и в течение двух лет
занимался подготовкой отчетов о религиозной ситуации в стране,
уделяя особое внимание религиозности среди молодежи и сектантству.
См.: РГАСПИ. Ф . М-1 . Оп. 32. Д. 1111, 1150. Архивные источники не
дают ответа на вопрос, почему кандидатура Митрохина на должность
заместителя директора ИНА была отвергнута — хотя можно
предположить, что, возможно, его партийный стаж был признан
недостаточным; мог сыграть свою роль и тот факт, что после работы
в комсомольской организации Митрохин вернулся в Институт
философии, где стал работать в секторе современной философии
Запада. Не исключено также, что сам Митрохин отказался занять
предложенную ему должность, поскольку его поздние работы
и интервью свидетельствуют об амбивалентном отношении
к атеистическому воспитанию, несмотря на то что в течение всей жизни
его профессиональная деятельность была связана с этой сферой.
Действительно, в интервью, которое Митрохин дал незадолго перед
смертью, он избегал обсуждения вопросов научного атеизма, а когда его
спросили напрямую о его специализации, просто ответил, что он
«воспринимал себя не как „научного атеиста“, а как философа религии».
Об отношении Митрохина к атеистической работе и собственной роли
в атеистическом проекте см.: Митрохин Л. Н. О времени и о себе //
Митрохин Л. Н. Религия и культура (философские очерки). М.: ИФ
РАН, 2000. С . 9 –37, цит. с. 23.
629
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 1 . Так, в первый же год своего
существования Институт научного атеизма принял участие
в нескольких тематических конференциях, организованных ЦК КПСС:
в Ленинграде — по улучшению организации и содержания
атеистической работы; в Киеве — по работе с верующими в сельской
местности; в Риге — по работе с католиками и лютеранами
в республиках Прибалтики.
630
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 119. Л . 192. К 1974 г. таких «опорных
пунктов» было 47. В РСФСР они были созданы в Москве и Московской
области, Брянске, Владимире, Вологде, Воронеже, Горьком, Иванове,
Казани, Краснодаре, Новгороде, Орле, Пензе, Перми, Пскове, Рязани,
Ставрополе, Томске, Челябинске, Ярославле, Дагестанской, Карельской,
Мордовской, Чечено-Ингушской и Чувашской АССР, а также в других
регионах. Институт научного атеизма также координировал
исследования, которые проводились в союзных республиках СССР.
В Украинской ССР отделения института были созданы в Киеве,
Днепропетровске, Ивано-Франковске, Одессе и Ужгороде,
в Белорусской ССР — в Минске и Бресте; они действовали также
в Грузинской, Казахской, Киргизской, Латвийской, Литовской,
Узбекской, Таджикской и Эстонской ССР.
631
Интервью автора с Юрием Зуевым. Москва, 23 июня 2011 г.
632
Мои знания о кадрах Института научного атеизма и — шире —
о когорте профессиональных пропагандистов атеизма, сложившейся
в поздний советский период, основаны на многочисленных интервью
с бывшими сотрудниками и аспирантами этого института, а также
с теми, кто профессионально сотрудничал с ИНА. — Интервью автора
с Владимиром Глаголевым. Москва, 27 июня 2011 г.; Интервью автора
с Ремиром Лопаткиным. Москва, 23 июня 2011 г.; Интервью автора
с Надеждой Нефедовой. Москва, 25 июня 2011 г.; Интервью автора
с Михаилом Одинцовым. Москва, 27 июня 2011 г.; Интервью автора
с Зульфией Тажуризиной. Москва, 25 июня 2011 г.; Интервью автора
с Николаем Заковичем. Киев, 5 февраля 2009 г.; Интервью автора
с Юрием Зуевым. Москва, 23 июня 2011 г.; Интервью автора
с Виктором Гараджей. Москва, 31 мая 2012 г. О биографиях теоретиков
и пропагандистов атеизма см. также: Митрохин Н. «Ответственный
работник ЦК КПСС» Владимир Сапрыкин: карьера одного советского
профессионального атеиста // Человек и личность в истории России,
конец XIX — XX век: Материалы международного коллоквиума. СПб.:
Нестор-История, 2012. С . 613–626; Smolkin-Rothrock V. «The Confession
of an Atheist Who Became a Scholar of Religion»: Nikolai Semenovich
Gordienko’s Last Interview // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian
History. 2014. Vol. 15. No 3. P . 596 –620.
633
Интервью автора с Ремиром Лопаткиным; Интервью автора с Николаем
Заковичем.
634
Тот факт, что ЦК направлял научную работу аспирантов ИНА,
подтверждается моими интервью с выпускниками аспирантуры, в том
числе с Зуевым, который пишет, что партия следила за их
исследованиями и дальнейшей карьерой. Когда молодые люди
поступали в аспирантуру, им рекомендовали тему научной работы,
а после завершения работы над диссертацией их распределением на
работу зачастую занимался отдел кадров ЦК КПСС. Некоторые из
выпускников аспирантуры ИНА продолжали заниматься наукой, но
многие перешли на партийную работу. За время существования
института в его стенах окончили аспирантуру 120 человек, 200 человек
защитили кандидатские диссертации и 40 — докторские диссертации.
635
Интервью автора с Ремиром Лопаткиным; Интервью автора с Николаем
Заковичем.
636
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 10. Л. 5.
637
Там же. Л. 5–6.
638
Там же. Д. 19. Л. 76.
639
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 19. Л . 76. Самые первые социологические
исследования религиозности в советском обществе проводились с 1959
по 1961 г. Группа научных сотрудников из Института истории АН
СССР под руководством историка религии Александра Клибанова
выезжала в экспедиции в Тамбовскую, Липецкую и Воронежскую
области для изучения религиозной жизни сектантов. В свою очередь,
группа аспирантов МГУ, специализировавшихся по научному атеизму,
выезжала в экспедицию в Орловскую область, чтобы изучать
религиозность местного населения. — Интервью автора с Игорем
Яблоковым. Москва, 24 июня 2011 г. Клибанов был автором множества
работ по сектантству. См.: Клибанов А. И . Реформационные движения
в России. М.: Наука, 1960; Клибанов А. И. История религиозного
сектантства в России. М.: Наука, 1965; Клибанов А. И . Конкретные
исследования современных религиозных верований. М.: Наука,
1967; Клибанов А. И . Религиозное сектантство и современность:
социологические и исторические очерки. М.: Наука,
1969; Клибанов А. И . Религиозное сектантство в прошлом и настоящем.
М.: Наука, 1973.
640
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 1 . Л. 3 –8. О последующих изменениях
и дополнениях тематики работы см.: РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 4 .
Л. 18–19.
641
Проблематика научной работы первых исследовательских групп
института позволяет судить об интересах и приоритетах государства
в данной сфере. Темами научных работ были «Степень и характер
религиозности верующих в СССР», «Особенности борьбы науки
и религии в современных условиях», «Нравственный прогресс
и религия», «Тенденции в развитии религиозной идеологии
и организаций в капиталистических странах», «Предпосылки и пути
полного преодоления религии», «Эффективность различных форм
атеистического воспитания» (эта тема позже была переименована
в «Формы и методы атеистической пропаганды»), «Атеистическое
воспитание подрастающего поколения». — РГАСПИ. Ф . 606 . Оп. 4 .
Д. 1 . Л. 1–30. О первых исследованиях советской религиозности,
осуществленных в Институте научного атеизма, см.: Dobson M. The
Social Scientist Meets the «Believer»: Discussions of God, the Afterlife, and
Communism in the Mid-1960s // Slavic Review. 2015. Vol. 74 . No 1 . P. 79–
103.
642
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 56. Л. 67–68.
643
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 12.
644
Smolkin-Rothrock V. «Confession of an Atheist Who Became a Scholar of
Religion»: Nikolai Semenovich Gordienko’s Last
Interview; Смирнов М. Ю. Научный атеизм в советском высшем
образовании: периодизация и содержание // Вестн. Ленингр. гос. ун-та
им. А. С. Пушкина. 2018. Философские науки. No 3. С. 144–171.
645
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 12.
646
Там же. Л. 16–17 .
647
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 12. Л . 28. Переход от научного
к гуманистическому дискурсу в общественных науках сопровождался
переходом от коллектива к личности как объекту анализа в советской
психологии и социологии. См.: Бикбов А. Грамматика порядка:
историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность.
М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014.
648
Научные интересы Галицкой были сосредоточены на проблемах
атеизма и религии в воспитании молодежи. См.: Молодежь и атеизм /
Под ред. И. А. Галицкой и др. М.: Мысль, 1971.
649
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 12. Л. 35–36.
650
Тамже.Л.36.
651
Там же. Д. 19. Л. 80.
652
К обществу, свободному от религии: Процесс секуляризации в условиях
социалистического общества / Отв. ред. П. К. Курочкин. М.: Мысль,
1970.
653
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 18. Л. 7, 9.
654
Тамже.Л.14.
655
Там же. Д. 37. Л. 47.
656
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 18. Л. 23–24.
657
Там же. Д. 19. Л. 58–66.
658
Там же. Л. 28.
659
Тамже.Л.85.
660
Там же. Л. 79.
661
Дулуман Е., Лобовик Б., Танчер В. Современный верующий. Социально-
психологический очерк. М .: Политиздат, 1970.
662
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 80.
663
Dragadze T. The Domestication of Religion under Soviet Communism //
Socialism: Ideals, Ideologies, and Local Practice / Ed. C. M. Hann. London:
Routledge, 1993. P. 148–156.
664
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 68. Л . 80–82.
665
Там же. Д. 56. Л. 103.
666
Там же. Д. 72. Л. 42–45.
667
Об изменении роли религии см.: Rogers D. The Old Faith and the Russian
Land: A Historical Ethnography of Ethics in the Urals. Ithaca, NY: Cornell
University Press, 2009.
668
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 56. Л. 71.
669
РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 34. Д. 129. Л. 13.
670
Тамже. Д.108.Л.28.
671
Там же. Л.14,27.
672
Тамже.Л.14.
673
Там же. Л. 27 –28.
674
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 67. Л. 62.
675
Там же. Л. 31–35 .
676
Там же. Д. 75. Л . 10–13.
677
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 67. Л. 41.
678
РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 34. Д. 131. Л. 40.
679
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 67. Л. 9–10.
680
Там же. Л. 31.
681
Там же. Л. 29.
682
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 80. Л. 53–56.
683
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 80. Л. 88.
684
До недавнего времени лишь немного исследований на английском
языке было посвящено «индифферентности» как понятию и категории.
Анализ «индифферентности» в контексте национализма, предпринятый
Тарой Захра, проливает свет и на феномен религиозной
индифферентности. См.: Zahra T. Imagined Noncommunities: National
Indifference as a Category of Analysis // Slavic Review. 2010. Vol. 69 . No 1 .
P. 93 –119. О религиозной индифферентности см.: Lambert Y. New
Christianity, Indifference and Diffused Spirituality // The Decline of
Christendom in Western Europe, 1750–2000 / Ed. H . McLeod, U. Werner.
New York: Cambridge University Press, 2003. P. 63 –78.
685
Интервью автора с Ремиром Лопаткиным. См. также интервью
с В. А. Сапрыкиным, который принимал участие в исследованиях
в Пензенской области. — Митрохин Н. «Обыденное сознание любит
простые решения...».
686
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 92. Л. 46–47.
687
О движении кришнаитов в СССР см.: Anderson J. The Hare Krishna
Movements in the USSR // Religion in Communist Lands. 1986. Vol. 14 .
No 3. P. 316–317; Kellner J. The End of History: Radical Responses to the
Soviet Collapse. Ph. D. diss. University of California, Berkeley, 2018.
688
Хью Маклеод отмечает, что такие тенденции, как распад морального
консенсуса, рост разнообразных контркультур и индивидуальные
духовные искания, особенно среди молодежи, зародились в 1960-е гг.,
и описывает «религиозный кризис 1960-х» как конец христианского
мира. См.: McLeod H. The Religious Crisis of the 1960s. Oxford: Oxford
University Press, 2007. P . 134–136, 147.
689
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 114. Л. 26, 28.
690
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 103. Л . 80–81.
691
Там же. Д. 62. Л. 8–15.
692
Там же. Л. 15. И. Д. Панцхава (1906–1986) создал кафедру истории
и теории атеизма и религии в МГУ в 1959 г., где он работал более
12 лет. Он специализировался по диалектическому материализму
и писал труды по мировоззренческим вопросам, таким как смысл
жизни, смерть и бессмертие. См.: Панцхава И. Д . Жизнь, смерть
и бессмертие. М., 1966; Панцхава И. Д. Человек, его жизнь
и бессмертие. М.: Политиздат, 1967; Панцхава И. Д. О смерти
и бессмертии. М.: Знание, 1972.
693
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 103. Л . 15. Д. М. Угринович (1923–1990)
преподавал философию в МГУ. Краткий очерк о его профессиональной
карьере см.: Алексеев А. П., Коршунов А. М., Рачков П. А. Кафедра
философии гуманитарных факультетов: Итоги 50-летия и новые
задачи // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия.
2003. No 6. С. 3–20.
694
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 103. Л. 57.
695
См.: Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее
советское поколение / Пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение,
2014. С . 165–254, 255–310 (глава 3 «Идеология наизнанку» и глава 4
«Вненаходимость как образ жизни»).
696
См.: Победоносцев К. П. Духовная жизнь // Победоносцев К. П.
Сочинения. СПб.: Наука, 1996. С. 382. — Примеч. пер.
697
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 14. Л. 3.
698
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 36. Д. 14. Л. 4.
699
Аджубей А. Крушение иллюзий. М.: Интербук, 1991. С. 16.
700
Этому посвящено исследование Томаса У. Лакёра «Работа мертвых»,
где особое внимание уделено заботе о человеческих останках. —
Laqueur T. W . The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal
Remains. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015. См. особ. р. 305–
309.
701
Werth P. W . In the State’s Embrace? Civil Acts in an Imperial Order //
Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2006. Vol. 7 . No 3.
P. 440 [см. в русском переводе: Верт П. В объятиях государства? Акты
гражданского состояния и имперский порядок // Верт П. Православие,
инославие, иноверие: Очерки по истории религиозного разнообразия
Российской империи / Пер. с англ. Н. Мишаковой, М. Долбилова,
Е. Зуевой и автора; научный ред. перевода М. Долбилов. М.: Новое
литературное обозрение, 2012. С . 119–142 . — Примеч. пер.] . Как
отмечает Верт, введение гражданской регистрации в Европе «было
связано с политической борьбой того или иного рода» (во Франции это
произошло во время революции, в Англии — в 1836 г., а в Германии —
в 1875 г., что было частью борьбы Бисмарка с католической церковью).
К концу XIX в. гражданская регистрация была введена в большинстве
европейских стран, «что делало все более исключительной прочно
привязанную к церкви российскую систему». — Верт П. В объятиях
государства? С. 124 –125.
702
Ведение метрических книг в Российской империи началось в рамках
модернизаторских реформ Петра Великого: в 1722 г. Петр повелел,
чтобы православная церковь вела метрические книги для православного
населения. Аналогичные требования в отношении других конфессий
последовали позже: для католиков — в 1826 г., мусульман — в 1828 г.,
лютеран — в 1832 г., иудеев — в 1835 г., старообрядцев — в 1874 г.
См.: Werth P. In the State’s Embrace? Civil Acts in an Imperial Order.
P. 433–458 [см. в русском переводе: Верт П. В объятиях государства?
С. 125–137. — Примеч. пер.] .
703
Кодекс законов об актах гражданского состояния // Собрание
узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства.
1918. No 76–77. П. 52; цит. по: Wood E. A. The Baba and the Comrade:
Gender and Politics in Revolutionary Russia. Bloomington: Indiana
University Press, 1997. P. 51, note 17.
704
Крыленко Н. В. Проект кодекса о браке и семье: Доклад прочит.
в отделе работниц ЦК ВКП(б) 12 января 1926 г. М.: Юрид. изд-во НКЮ
РСФСР, 1926. С. 6; цит. по: Wood E. A. The Baba and the Comrade. P. 52,
note 18.
705
Брудный В. И. Обряды вчера и сегодня. М.: Наука, 1968. С. 65 –70.
706
Бонч-Бруевич В. Д. Отделение церкви от государства // Деятели Октября
о религии и церкви. М.: Мысль, 1968. С. 13; цит.
по: Соколова А. Д. Трансформация похоронной обрядности у русских
в XX–XXI веке (на материалах Владимирской области). Дис. ... канд.
ист. наук / Институт этнографии и антропологии РАН. М., 2013. С. 53.
707
Ярославский Е. Как вести антирелигиозную пропаганду. Доклад,
прочитанный 20-го апреля на 1-м Всесоюзном съезде корреспондентов
газ. «Безбожник» и Общества друзей газеты «Безбожник».
М.: Безбожник, 1925. С. 21; цит. по: Соколова А. Д . Трансформация
похоронной обрядности у русских. С. 57.
708
Термин «двоеверие» обычно использовался по отношению
к синкретической религиозности простого народа, сочетавшей
христианские заповеди с народными обычаями.
709
Пример аргументации участников дискуссии см.: Вересаев В. В. Об
обрядах старых и новых (к художественному оформлению быта).
М.: Новая Москва, 1926. Критику позиции Вересаева
см.: Войтоловский Л. Н. О красных обрядах (По поводу статьи
В. Вересаева «К художественному оформлению быта») // Красная новь.
1926. No 3. С. 174 –182.
710
Gutkin I. The Cultural Origins of the Socialist Realist Aesthetic, 1890–1934.
Evanston, IL: Northwestern University Press, 1999. P. 95 . См. научные
труды, посвященные обрядам раннего советского
периода: Stites R. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental
Life in the Russian Revolution. New York: Oxford University Press, 1989.
P. 109–112; Von Geldern J. Bolshevik Festivals, 1917–1920. Berkeley:
University of California Press, 1993; Peris D. Storming the Heavens: The
Soviet League of the Militant Godless. Ithaca, NY: Cornell University Press,
1998. P. 86 –92; Clark K. Petersburg: Crucible of Cultural Revolution.
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995; Petrone K. Life Has
Become More Joyous, Comrades: Celebrations in the Time of Stalin.
Bloomington: Indiana University Press, 2000; Rolf M. Soviet Mass Festivals,
1917–1991. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2013. Об обрядах
постсталинского периода см.: Lane C. The Rites of Rulers: Ritual in
Industrial Society — The Soviet Case. New York: Cambridge University
Press, 1981; Binns C. The Changing Face of Power: Revolution and
Accommodation in the Soviet Ceremonial System. Part I // Man. 1979.
Vol. 14 . No 4 . P . 585 –606; Binns C. The Changing Face of Power: Revolution
and Accommodation in the Soviet Ceremonial System. Part II // Man. 1980.
Vol. 15. No 1 . P . 170–187; Глебкин В. В. Ритуал в советской культуре.
М.: Янус-К, 1998; Жидкова Е. Советская обрядность как альтернатива
обрядности религиозной // Государство, религия и церковь в России и за
рубежом. 2012. No 3–4 . С . 408–429. О создании новых обрядов в более
широком европейском контексте см.: The Invention of Tradition / Eds.
E. Hobsbawm, T. Ranger. New York: Cambridge University Press, 1984.
711
Моравов А. В . (1878–1951). В волостном ЗАГСе. 1928. Государственная
Третьяковская галерея.
712
Ilf I., Petrov E. The Twelve Chairs / Transl. J . H. C . Richardson. Evanston,
IL: Northwestern University Press, 1997; Ильф И., Петров Е. Мать
[1935] // Ильф И., Петров Е. Собрание сочинений. М.: Гос. изд. худ.
лит., 1961. Т. 3. С. 382–388.
713
Черемных М. М. У церковного порога ждешь, поп, напрасно — без икон
и бога мы живем прекрасно! М.; Л.: Искусство, 1939. — ГМ ИР. Инв.
No Б-1202-IV, используется с разрешения.
714
О послевоенной кампании по повышению рождаемости и усилиях по
укреплению советской семьи см.: Nakachi M. Replacing the Dead: The
Politics of Reproduction in the Postwar Soviet Union, 1944–1955. Ph. D .
diss. University of Chicago, 2008; Nakachi M. Gender, Marriage, and
Reproduction in the Postwar Soviet Union // Writing the Stalin Era: Sheila
Fitzpatrick and Soviet Historiography / Eds. G . Alexopoulos, J . Hessler,
K. Tomoff. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. P . 101–
116; Cohn E. D . Sex and the Married Communist: Family Troubles, Marital
Infidelity, and Party Discipline in the Postwar USSR, 1945–64 // Russian
Review. 2009. Vol. 68 . No 3. P. 429–450.
715
См.: Постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 8 января
1946 г. «О мероприятиях по упорядочению регистрации актов
гражданского состояния».
716
К концу 1960-х гг. органы ЗАГС считались административно-
бюрократическими органами, которые также «выполняют большую
воспитательную и профилактическую работу среди населения»,
включавшую разъяснение важности брака и внедрение новых ритуалов
в быт советских людей. См.: Емельянова К. Л . Некоторые вопросы
совершенствования деятельности органов ЗАГС // Правоведение. 1968.
No 4. С. 101–103, цит. с. 101.
717
О летних днях молодежи (праздниках совершеннолетия)
и комсомольской работе в Прибалтике см.: РГАСПИ. Ф. М-1 . Оп. 32.
Д. 959 . Л . 136–147; Геродник Г. Дорогами новых традиций.
М.: Политиздат, 1964. С. 36 –37.
718
РГАСПИ. Ф. M-1 . Оп. 32. Д. 959; Шелепин А. Н . Отчетный доклад
Центрального Комитета Всесоюзного ленинского коммунистического
союза молодежи XIII съезду комсомола (15 апреля 1958 г.) .
М.: Молодая гвардия, 1958. С. 37–38 .
719
Штырков С. «В городе открыт Дворец счастья»: Борьба за новую
советскую обрядность времен Хрущева // Топография счастья:
этнографические карты модерна. Сборник статей / Сост. Н. Ссорин-
Чайков. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 261–275.
720
О реформах жилищного строительства в хрущевскую эпоху и их
воздействии на повседневную жизнь советского общества
см.: Harris S. E. Communism on Tomorrow Street: Mass Housing and
Everyday Life after Stalin. Baltimore: Johns Hopkins University Press,
2013; Varga-Harris C. Stories of House and Home: Soviet Apartment Life
during the Khrushchev Years. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015.
721
РГАСПИ. Ф. М-1 . Оп. 32. Д. 940. Л . 37–92.
722
Тамже.Л.30.
723
Первый Дворец бракосочетаний в Москве был открыт 15 декабря
1960 г. См.: ЦАГМ. Ф. 2511. Оп. 1.
724
«Опыт работы по отвлечению населения от исполнения религиозных
обрядов... путем внедрения гражданской обрядности». — РГАСПИ. Ф.
М-1 . Оп. 32. Д. 1040. Л . 98–104; см. также: РГАСПИ. Ф. М-1 . Оп. 32.
Д. 940. Л . 118–137, 150–169.
725
Камаев А., Куликов А. О трех моментах // Смена. 1959. 13 авг. С. 3 .
Продолжение дискуссии о новых социалистических ритуалах см.:
Смена. 1959. 13 авг.; Смена. 1959. 11 сент.
726
Усаковский А. Нужны ли советские обряды? // Известия. 1959. 3 окт.
С. 6; Кригер Е. Спор продолжается // Известия. 1959. 5 дек. С. 2 .
В ноябре 1959 г. Ленинградский государственный педагогический
институт имени А. И. Герцена также провел диспут о месте обрядов
в советском обществе под названием «Советские традиции и обычаи
должны помогать нам воспитывать человека будущего».
См.: Кампарс П. П., Закович Н. М. Советская гражданская обрядность.
М.: Мысль, 1967. С. 33 .
727
Владимирский Л. В . (1920–2015) — русский художник, автор
иллюстраций ко многим литературным произведениям, чьи работы
являются одними из самых популярных и любимых у читателей детской
литературы.
728
РГАСПИ. Ф. М-1 . Оп. 32. Д. 940. Л . 174 –176. Обмен мнениями
произошел также между некой Левиной, писавшей от имени группы
«любителей советских открыток», и художником Владимирским.
729
РГАСПИ. Ф. М-1 . Оп. 32. Д. 940. Л . 179–181.
730
Большого счастья вам, герои-космонавты! Сердечные поздравления
новобрачным — Валентине Терешковой и Андрияну Николаеву //
Правда. 1963. 4 нояб. С. 1; Рука об руку — на земле и в космосе! //
Известия. 1963. 4 нояб. С. 4 .
731
Правда. 1963. 4 нояб. С. 1; Известия. 1963. 4 нояб. С. 4.
732
ЦАГМ. Ф. 709. Оп. 1. Д. 48. Л. 8.
733
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 36. Институт этнографии АН СССР изучал
новые социалистические обряды, и этнограф (и пропагандист атеизма)
Крывелев опубликовал множество статей на эту тему в журнале
«Советская этнография». См., например: Крывелев И. А . Преодоление
религиозно-бытовых пережитков у народов СССР // Советская
этнография. 1961. No 4. С. 30–43; Крывелев И. А. О формировании
и распространении новых обычаев и праздников у народов СССР //
Советская этнография. 1963. No 6. С. 16–24 .
734
ЦГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Д. 251.
735
ГАРФ. Ф. A-628. Оп. 2 . Д. 1111 .
736
Там же. Д. 1106.
737
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 33. Д. 215. Л. 136.
738
ГАРФ. Ф . 6991. Оп. 1. Д. 1942. Л . 12; цит. по: Чумаченко Т. А. Совет по
делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР: 1954–
1965 гг. Дис. ... д-ра ист. наук / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова.
М., 2011. С. 424 –426.
739
Там же.
740
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 35. Д. 215. Л. 137.
741
Там же.
742
Там же. Л. 134–135.
743
ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 2038. Л. 22–94; цит. по: Чумаченко Т. А. Совет
по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР. С. 426.
744
Там же.
745
ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1942.
746
РГАНИ. Ф. 72. Оп. 1. Д. 9. Л. 134–135.
747
Там же. Л. 135.
748
РГАНИ. Ф. 72. Оп. 1. Д. 9. Л. 138.
749
Там же. Л. 138–140.
750
Там же. Л. 136.
751
Там же. Л. 137.
752
Там же.
753
РГАНИ. Ф. 72. Оп. 1. Д. 15. Л. 121–122.
754
Там же. Л. 197–199.
755
РГАСПИ. Ф. 556 . Оп. 25. Д. 191. Л. 26–36; ГАРФ. Ф. A-259. Оп. 1 .
Д. 1952. Л. 118–122 .
756
Незадолго до своего назначения сопредседателем совета Белык
опубликовал письмо в редакцию «Комсомольской правды»,
посвященное социалистическим обрядам. См.: Белык Н.,
Слизкова Н. В этот торжественный день... Письмо в редакцию //
Комсомольская правда. 1963. 31 июля. С. 2 .
757
В состав совета входили заместитель министра культуры РСФСР
В. В. Гордеев, заместитель министра охраны общественного порядка
РСФСР А. Я. Кудрявцев, заместитель министра коммунального
хозяйства РСФСР Л. Н. Шакунов, первый заместитель председателя
Государственного комитета Совета министров РСФСР по
кинематографии М. А. Соловьев, первый заместитель председателя
Государственного комитета Совета министров РСФСР по печати
В. К. Грудинин, секретарь исполкома Московского горсовета
А. М. Пегов, секретарь исполкома Ленинградского горсовета
Н. Д. Христофоров, первый заместитель председателя Правления Союза
писателей РСФСР С. В. Сартаков, секретарь Правления Союза
композиторов РСФСР А. Г . Новиков, секретарь Правления Союза
художников РСФСР Б. К. Смирнов и член Президиума Всероссийского
театрального общества Н. В. Петров.
758
ГАРФ. Ф. A-259. Оп. 1 . Д. 1952. Л. 118–122 .
759
Степаков В. И. Новые праздники и обряды — в народный быт
(Стенограмма лекции, прочитанной на Всесоюзном совещании-
семинаре по советским праздникам и гражданским ритуалам в мае
1964 г.). М.: Об-во «Знание» РСФСР, 1964. В своей брошюре Степаков
отметил, что у церкви нет доступа к общественной жизни, поэтому если
религия продолжает сохраняться, то именно в доме и с помощью
обрядов. Он процитировал «Журнал Московской патриархии», где
обряды характеризовались как «двери в религию». — Там же. С. 5 .
760
Работа Кристель Лэйн «Обряды правителей» («The Rites of Rulers»)
остается наиболее полным исследованием разнообразных обрядов,
введенных в советский период. См.: Lane C. The Rites of Rulers: Ritual in
Industrial Society — The Soviet Case. Cambridge University Press, 1981.
761
Tumarkin N. The Living and the Dead: The Rise and Fall of the Cult of
World War II in Russia. New York: Basic Books, 1994.
762
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 38. Л. 99.
763
Там же. Л. 97.
764
Тамже.Л.99.
765
Там же. Л. 102.
766
Там же. Л. 107.
767
Составлялись типовые сценарии обрядов свадьбы и имянаречения (при
этом такие практики объявлялись «возрождением народных праздников
и обрядов», см.: Руднев В. А . Древо жизни. Об истоках народных
и религиозных обрядов. Л .: Лениздат, 1989. С. 130–151). Одновременно
разрабатывалась социально-философская аргументация
социалистической обрядности (см.: Левкович В. П. Обычаи и обряды
и их роль в совершенствовании семейных отношений // Социальные
исследования. Вып. 4. М.: Наука, 1970. С. 115–
121; Угринович Д. М. Обряды. За и против. М .: Политиздат, 1975.
С. 109–170). — Примеч. науч. ред.
768
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 38 . Л. 102, 105–106.
769
Там же. Л. 103, 107.
770
Там же. Л. 67.
771
Там же. Л. 40.
772
Там же. Л. 40–41 .
773
Там же. Л. 45.
774
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 38. Л. 42–44.
775
Тамже.Л.44.
776
Там же. Л.12–14.
777
Там же. Л. 18.
778
Там же. Л. 103.
779
Филимонов Э. Беседы по вашей просьбе: Что происходит с религией, ее
обрядами и традициями в наши дни // Известия. 1981. 8 окт. С. 3.
780
Там же.
781
Филимонов Э. Беседы по вашей просьбе: Что происходит с религией, ее
обрядами и традициями в наши дни // Известия. 1981. 8 окт. С. 3.
782
Петухов А. Бумажные цветы // Новый мир. 1969. No 6. С. 272 –277 .
В статье содержался обзор обширной литературы по социалистическим
обрядам, которая начала появляться в середине 1960-х гг ., в том числе
следующих работ: Руднев В. А. Коммунистическому быту — новые
традиции. Л .: Лениздат, 1964; Лисавцев Э. Новые советские традиции.
М.: Советская Россия, 1966; Филатов А. Н . О новых и старых обрядах.
М.: Профиздат, 1967; Угринович Д. М. Обряды: за и против.
М.: Политиздат, 1975; Бокань Ю. И., Болгарин Г. Р., Герасименко В. К.
и др. Наши праздники: (Сов., общегос., труд., воин., молодеж.
и семейн. -быт. праздники, обряды, ритуалы) / Сост. В. В. Заикин; под
общ. ред. В. Г. Синицына. М.: Политиздат,
1977; Крывелев И. А . Традиционные и новые обряды в быту народов
СССР. М.: Наука, 1981.
783
Петухов А. Бумажные цветы. С . 272 –273.
784
Там же. С. 274–275.
785
Тамже. С.277.
786
Жуховицкий Л. Три задачи с одним решением // Молодой коммунист.
1978. No 12. С. 75–82, цит. с. 78.
787
Бромлей Ю. В . Праздник без праздника: символы нравственных
ценностей // Литературная газета. 1977. 31 авг. С . 12 . Статья
в «Комсомольской правде» содержала сходную критику свадеб,
которые, по мнению редколлегии, начали «напоминать купеческо-
мещанские разгулы». См.: Вокруг свадьбы // Комсомольская правда.
1978. 26 янв. С. 2–3 .
788
Компаративистские исследования о создании новых обрядов
в социалистических странах см.: Tóth H. Shades of Grey: Secular Burial
Rites in East Germany // Changing European Death Ways / Eds. E. Venbrux,
T. Quartier. Münster: LIT Verlag, 2013. P. 141 –164; Tóth H. Writing
Rituals: The Sources of Socialist Rites of Passage in Hungary, 1958–1970 //
Science, Religion and Communism in Cold War Europe / Eds. P . Betts,
S. A . Smith. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016. P . 179–
203; Magdo Z. The Socialist Sacred: Atheism, Religion, and Mass Culture in
Romania, 1948–1989. Ph. D. diss. University of Illinois at Urbana-
Champaign, 2016.
789
Bayle P. Historical and Critical Dictionary: Selections / Transl. Richard
H. Popkin. Indianapolis: Hackett, 1991. P. 195 [см. в русском
переводе: Бейль П. Исторический и критический словарь: В 2 т.
М.: Мысль, 1968. Т. 1. С. 342. — Примеч. пер.] .
790
Тендряков В. Ф . Апостольская командировка // Тендряков В. Ф.
Собрание сочинений. М.: Художественная литература, 1980. Т. 4 .
С. 230–420; впервые повесть была опубликована в журнале «Наука
и религия» за 1969 г., No 8–10.
791
Там же. С. 253–254.
792
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 2. Д. 46. Л. 2–14, цит. л. 7; РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4.
Д.98.Л.9–21.
793
Тендряков В. Ф . Апостольская командировка. С. 259.
794
См.: Брежнев Л. И. Пятьдесят лет великих побед социализма: Доклад
и заключительная речь на совместном торжественном заседании
Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного
Совета РСФСР в Кремлевском Дворце съездов 3–4 ноября 1967 года //
Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи. М.: Политиздат, 1973.
Т.2.С.92.
795
О последствиях событий 1968 г. см.: Bren P. The Greengrocer and His
TV: The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring. Ithaca, NY:
Cornell University Press, 2010; Bolton J. Worlds of Dissent: Charter 77, the
Plastic People of the Universe, and Czech Culture under Communism.
Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012. О диссидентском
движении в СССР см.: Boobbyer P. Conscience, Dissent, and Reform in
Soviet Russia. New York: Routledge, 2005. P. 75–93; Nathans B. The
Dictatorship of Reason: Aleksandr Vol’ pin and the Idea of Rights under
«Developed Socialism» // Slavic Review. 2007. Vol. 66 . No 4. P. 630–663.
О возникновении пессимизма см.: Bushnell J. The «New Soviet Man»
Turns Pessimist // The Soviet Union since Stalin / Eds. S . F . Cohen,
A. Rabinowitch and R. S. Sharlet. London: Macmillan, 1980. P. 179–199.
796
О развитом социализме см.: Evans A. B . Soviet Marxism-Leninism;
Brezhnev Reconsidered / Eds. M . Sandle and E. Bacon. New York: Palgrave
Macmillan, 2002.
797
Брежнев Л. И. Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду
Коммунистической партии Советского Союза // Брежнев Л. И.
Ленинским курсом. Речи и статьи. М.: Политиздат, 1973. Т. 3 . С. 235,
236, 239.
798
The 24th
Party Congress of the CSPU — Documents. Moscow, 1971. P . 100–
101 [см.: Брежнев Л. И. Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду
Коммунистической партии Советского Союза. С. 289. — Примеч. пер.] .
799
В. И. Касьяненко отмечает, что вплоть до конца 1960-х гг . не было
специальных исследований, посвященных социалистическому образу
жизни, и что первой монографией на эту тему была работа
В. Г. Синицына: Синицын В. Г. Советский образ жизни. М.: Советская
Россия, 1969. См.: Касьяненко В. И . Историография социалистического
образа жизни в СССР // Вопросы истории. 1980. No 1. С. 3–20.
Просматривается прямая преемственность между ранними работами
Синицына, посвященными быту, и его последующими работами
о социалистическом образе жизни. См.: Синицын В. Г. Быт эпохи
строительства коммунизма. Челябинск: Челябинское книжное изд-во,
1963; Синицын В. Г. О советском образе жизни.
М., 1967; Синицын В. Г. Образ жизни, достойный человека. М.: Знание,
1970 [В помощь лектору: библиотечка «Советский образ
жизни»]; Sinitsyn V. G . In Lieu of an Introduction // The Soviet Way of Life.
Moscow: Progress Publishers, 1974. P. 7 –24 . См.
также: Глезерман Г. Е . Ленин и формирование социалистического
образа жизни // Коммунист. 1974. No 1 . С . 105–118.
800
Брежнев Л. И. Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные
задачи партии в области внутренней и внешней политики. Речь на XXV
съезде КПСС // Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи.
М.: Политиздат, 1976. Т. 5. С. 548.
801
Касьяненко В. И . Историография социалистического образа жизни
в СССР. С. 10, 12. 19.
802
Castillo G. Cold War on the Home Front: The Soft Power of Midcentury
Design. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010. P . viii.
803
О соревновании в сфере потребления в годы холодной войны см.
также: Belmonte L. A . Selling the American Way: US Propaganda and the
Cold War. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013.
804
Федосеев П. Н. Конституция СССР и социалистический образ жизни //
Коммунист. 1978. No 2. С . 61.
805
Историк Паулина Брен отмечает сходную риторику в Чехословакии, где
«социалистический образ жизни» воспринимался как «тихая
и спокойная жизнь, равно далекая от политических бурь 1968 г. и от
капитализма конца ХХ в. Важнейший тезис заключался в том, что такой
образ жизни потенциально может противостоять капитализму и даже
превзойти его — не предложив людям такие же или даже лучшие
товары (что было невозможно), но обеспечив им несопоставимый
„уровень жизни“». См.: Bren P. Mirror, Mirror, on the Wall... Is the West
the Fairest of Them All? Czechoslovak Normalization and Its (Dis)
Contents // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2008.
Vol.9.No4.P.844.
806
О потреблении в брежневскую эпоху см.: Millar J. R . The Little Deal:
Brezhnev’s Contribution to Acquisitive Socialism // Slavic Review. 1985.
Vol. 44 . No 4 (Winter). P . 694–706; Chernyshova N. Soviet Consumer Cul-
ture in the Brezhnev Era. Abingdon, UK: Routledge, 2013. P . 43–
70; Gatejel L. Appealing for a Car: Consumption Policies and Entitlement in
the USSR, the GDR, and Romania, 1950s — 1980s // Slavic Review. 2016.
Vol. 75. No 1 . P . 122 –145; Oushakine S. «Against the Cult of Things»: On
Soviet Productivism, Storage Economy, and Commodities with No
Destination // Russian Review. 2014. Vol. 73. No 2 . P . 198–236.
807
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 311. Л. 1.
808
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 95. Л . 69–75.
809
Кормина Ж., Штырков С. «Это наше исконно русское, и никуда нам от
этого не деться»: предыстория постсоветской десекуляризации //
Изобретение религии в постсоветском контексте / Науч. ред.
Ж. В. Кормина, А. А. Панченко, С. В. Штырков. СПб.: Изд-во
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. С. 12.
Об «историческом повороте» в советской культуре см.: Kozlov D. The
Historical Turn in Late Soviet Culture: Retrospectivism, Factography, Doubt,
1953–1991 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2000.
No 3. P. 577–600 .
810
Чаплыгин Ю. Непомнящие родства // Литература и жизнь. 1960.
20 февр. С. 2; Лихачев Д. С. Во имя будущего // Литература и жизнь.
1960. 11 марта. С. 2. О том, какой резонанс произвел брошенный
Чаплыгиным вызов «непомнящим родства», см.: Кормина Ж.,
Штырков С. «Это наше исконно русское...»; Kelly C. Socialist Churches:
Radical Secularization and the Preservation of the Past in Petrograd and
Leningrad, 1918–1988. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2016.
P. 197.
811
Об оживлении интереса к культурному наследию
см.: Donovan V. «Going Backwards, We Stride Forward»: Kraevedenie
Museums and the Making of Local Memory in North West Russia, 1956–
1981 // Forum for Anthropology and Culture. 2011. No 7. P . 211 –
230; Donovan V. «How Well Do You Know Your Krai?» The Kraevedenie
Revival and Patriotic Politics in Late Khrushchev-Era Russia // Slavic
Review. 2015. Vol. 74. No 3. P. 464–483. О возникновении в 1960-е гг.
культурного туризма см.: Такахаси С. Образ религиозного ландшафта
в СССР в 1965–1985 годы (на примере Соловецкого музея-
заповедника) // Вестник Евразии. 2008. No 4. P. 9 –26.
812
О консервативном дискурсе националистически настроенной
интеллигенции см.: Разувалова А. Писатели-«деревенщики»: литература
и консервативная идеология 1970-х годов. М.: Новое литературное
обозрение, 2015. См. также: von Zitzewitz J. The «Religious Renaissance»
of the 1970s and Its Repercussions on the Soviet Literary Process. Ph. D .
thesis. University of Oxford, 2009.
813
О возрождении национализма в конце советского периода
см.: Brudny Y. M . Reinventing Russia: Russian Nationalism and the Soviet
State, 1953–1991. Cambridge, MA: Harvard University Press,
1998; Митрохин Н. Русская партия: Движение русских националистов
в СССР. 1953–1985 гг. М .: Новое литературное обозрение,
2003; Zubok V. Zhivago’s Children: The Last Russian Intelligentsia.
Cambridge, MA: Belknap, 2009. P . 226–269.
814
Партия стремилась удерживать националистов в определенных рамках;
эта политика проводилась по отношению как к писателям-
националистам, входившим в политическую элиту, так и к людям вне
этого круга, выражавшим симпатию к националистическим идеям.
Самым известным конфликтом, возникшим на почве этих вопросов,
было отстранение от работы в партийном аппарате Александра
Яковлева, восходящей звезды отдела пропаганды ЦК КПСС и будущего
«архитектора перестройки», после того как он выступил с критикой
националистических тем в советской литературе.
См.: Яковлев А. Против антиисторизма // Литературная газета. 1972.
15 нояб. С. 4–5 .
815
РГАНИ. Ф . 5 . Оп. 64. Д. 87. Л . 54–57. Докладная записка была
подготовлена Андроповым и направлена в ЦК КПСС 8 октября 1976 г.
Илья Глазунов стал ключевой фигурой русской националистической
интеллигенции. См.: Глазунов И. Дорога к тебе // Молодая гвардия.
1966. No 6. С. 236–271 .
816
О деятельности ВООПИК см.: Kelly C. Socialist Churches. Chap. 6 .
817
Brudny Y. M. Reinventing Russia. P . 69 –70.
818
Иванов А. С. Журнал «Наука и религия» — важное звено
в атеистическом воспитании // Вопросы научного атеизма. 1976. No 19.
С. 89.
819
Там же. С. 89–90 .
820
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 1447. Л. 26.
821
Иванов А. С. Журнал «Наука и религия». С. 90.
822
Например, государство с помощью творческих союзов организовывало
такие мероприятия, как конференция «Наука, литература и искусство
против религии», прошедшая в марте 1964 г. в Центральном доме
литераторов, материалы которой были опубликованы в журнале «Наука
и жизнь». См.: Наука, литература и искусство против религии // Наука
и жизнь. 1964. No 6. С. 14 –20.
823
РГАНИ. Ф . 5 . Оп. 64. Д. 87. Л . 54–57, «Об ошибочной публикации
в журнале „Наука и жизнь“, 30 ноября 1972 г.».
См.: Солоухин В. А. Родная красота (для чего надо изучать и беречь
памятники старины). М.: Советский художник,
1966; Солоухин В. А. Черные доски. Записки начинающего
коллекционера // Москва. 1969. No 1 . С . 129–187; Солоухин В. А. Письма
из Русского музея // Слово живое и мертвое. М.: Современник, 1976.
С. 226–321. Солоухин все чаще оказывался объектом официальной
критики. Так, в 1972 г. в нескольких выпусках журнала «Наука
и жизнь» была опубликована его пьеса «Трава», где осуждалось
использование искусственных удобрений в советском сельском
хозяйстве, после чего Центральный комитет КПСС подверг критике
Солоухина и редакцию журнала за неспособность провести различие
между капиталистическим и социалистическим подходом
к применению удобрений в сельскохозяйственном производстве.
824
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 2. Д. 46. Л. 2–3, 6; РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 98.
Л.3,1.
825
Кузнецов Ф. Советская литература и духовные ценности: заметки
критика // Наука и религия. 1972. No 11. С. 55–57.
826
О первых произведениях Тендрякова в жанре деревенской прозы
см.: Garrard J. G . Vladimir Tendriakov // Slavic and East European Journal.
1965. Vol. 9 . No 1. P. 1 –18; Parthé K. F . Russian Village Prose: The Radiant
Past. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992. Об использовании
повести Тендрякова «Чудотворная» в атеистической пропаганде
см.: Панченко А. А . «Религиозные инфекции» и «духовные калеки»:
Тема детства в советской атеистической пропаганде 1960-х гг . С . 310–
329. В последние два десятилетия творческой деятельности Тендрякова
его неопубликованные публицистические заметки все чаще были
посвящены темам нравственности. См.: Тендряков В. Тысяча первый раз
о нравственности // Звезда. 2003. No 12 . — URL:
http://magazines.russ.ru/zvezda/2003/12/tendr-pr.html.
827
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 2. Д. 43. Л. 111–127, цит. л. 112, 116.
828
Там же. Л. 112, 116, 118, 119.
829
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 2. Д. 43. Л. 114–116, 118, 123.
830
Кормина Ж., Штырков С. «Это наше исконно русское...». С. 10. См.
также: Постановление Совета Министров РСФСР No 473 «О состоянии
и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в РСФСР»
от 24 мая 1966 г.; цит. по: Там же. С. 18, примеч. 12 .
831
Kelly C. Socialist Churches. P . 228–230, 245.
832
Кормина Ж., Штырков С. «Это наше исконно русское...». С. 15–
16; Kelly C. Socialist Churches. P. 235.
833
ЦГАИПД. Ф. K-598. Оп. 27 . Д. 328. Л. 12–19.
834
Биографический очерк о Н. С. Гордиенко и интервью с ним
см.: Smolkin-Rothrock V. The Confession of an Atheist Who Became a
Scholar of Religion: Nikolai Semenovich Gordienko’s Last Interview //
Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2014. Vol. 15. No 3
(Summer). P . 596 –620; см. также Смирнов М. Ю. «Религиовед — это
диагноз»: немного о Н. С. Гордиенко // Путь ученого. Николай
Семенович Гордиенко / Отв. ред. В. Г. Шаров; сост. М. Ю . Смирнов.
М.: Особая книга, 2013. С . 88 –96 .
835
Михаил Шахнович был известным публицистом, писавшим на темы
атеизма; его деятельность и публикации охватывают практически весь
советский период. См.: Шахнович М. И . Социальная сущность Талмуда.
Л., 1929; Шахнович М. И. Русская церковь в борьбе с наукой. Л.:
Газетно-журнальное книжное издательство,
1939; Шахнович М. И. Суеверие и научное предвидение. Л .: Лениздат,
1945; Шахнович М. И. От суеверий к науке. М.: Молодая гвардия,
1948; Шахнович М. И. Ленин и проблемы атеизма. М.: Изд-во Академии
наук СССР, 1960; Шахнович М. И. Современная мистика в свете
религии. Л .: Наука, 1965; Шахнович М. И . Коммунизм и религия. Л.:
Общество «Знание» РСФСР, 1966; Шахнович М. И . Мистика перед
судом науки. М.: Общество «Знание»,
1970; Шахнович М. И. Происхождение философии и атеизм. Л.: Наука,
1973; Шахнович М. И. Новые вопросы атеизма: Социологические
очерки. Л .: Лениздат, 1973; Шахнович М. И. Критика религиозных
истолкований экологических проблем. М.: Знание,
1985; Шахнович М. И. Библия в современной борьбе идей. Л.: Лениздат,
1988.
836
ЦГАИПД. Ф. K-598. Оп. 27 . Д. 328. Л. 12–13. О вещизме
см.: Oushakine S. «Against the Cult of Things». P . 222 –223.
837
ЦГАИПД. Ф. K-598. Оп. 27 . Д. 328. Л. 13.
838
ЦГАИПД. Ф. K-598. Оп. 27 . Д. 328. Л. 13–17.
839
Там же. Л. 18.
840
Там же. Л. 18–19.
841
Как отмечает историк Гленнис Янг, «тот факт, что для кого-то
большевизм был порождением и даже продолжением их религиозных
чувств, не противоречит яростному антиклерикализму коммунистов
и комсомольцев. Фактически он отчасти объясняет этот
антиклерикализм. Те, кто безоговорочно избрал подвижника-аскета
образцом для подражания, были, без сомнения, весьма разочарованы
далеко не безупречным поведением пьяных и алчных священников. Они
вполне могли даже расценивать определенные антирелигиозные
действия как своеобразный способ очищения религии; действительно,
оглядываясь назад, Михаил Шахнович, который в 1920-е годы был
журналистом и писал на антирелигиозные темы, характеризовал
антирелигиозную кампанию как „нашу реформацию“». —
Young G. Power and the Sacred in Revolutionary Russia: Religious Activists
in the Village. University Park: Pennsylvania State University Press, 1997.
P. 92, note 61.
842
ЦГАИПД. Ф . K-598. Оп. 27 . Д. 328. Л. 41 . О культе блаженной Ксении
см.: Kormina J., Shtyrkov S. St. Xenia as a Patron of Female Social
Suffering // Multiple Moralities and Religions in Post-Soviet Russia / Ed.
J. Zigon. New York: Berghahn Books, 2011. P. 168–190; Kormina J.,
Shtyrkov S. Believers’ Letters of Advertising: St. Xenia of Petersburg’s
«National Reception Centre» // Russian Cultural Anthropology after the
Collapse of Communism / Eds. A. Baiburin, C. Kelly, N. Vakhtin. London;
New York: Routledge. P. 155–182.
843
ЦГАИПД. Ф. K-598. Оп. 27 . Д. 328. Л. 41–42.
844
ЦГАИПД. Ф. K-598. Оп. 27 . Д. 328. Л. 41–42.
845
Антрополог Александр Панченко пишет о «духовных исканиях»
последнего поколения советской городской интеллигенции и молодежи,
чья «невидимая религия» представляла собой «специфическую смесь
верований Нового времени, утопических ожиданий и тотальных форм
социального контроля». См.: Panchenko A. A . Morality, Utopia, Discipline:
New Religious Movements and Soviet Culture // Multiple Moralities and
Religions in Post-Soviet Russia / Ed. J . Zigon. New York: Berghahn Books,
2011. P. 120–122 . О духовном ландшафте поздней советской эпохи см.
также: Fürst J. Introduction: To Drop or Not to Drop? // Dropping Out of
Socialism: The Creation of Alternative Spheres in the Soviet Bloc / Eds.
J. Fürst and J. McLellan. New York: Lexington Books, 2017. P. 1 –
20; Kellner J. The End of History: Radical Responses to the Soviet Collapse.
Ph. D . diss. University of California, Berkeley, 2018.
846
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 2. Д. 130. Л . 116–123.
847
Там же. Л. 116–117 .
848
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 2. Д. 130. Л. 116–117 .
849
Там же. Л. 117 –118.
850
Там же. Л. 119.
851
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 2. Д. 130. Л. 119.
852
Гуров Ю. С . Молодежи — атеистическую убежденность. С . 14–15.
853
Гуров Ю. С . Секуляризация молодежи — закономерный процесс
духовного роста личности в условиях социального прогресса //
Духовный рост личности в период строительства коммунизма.
Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та,
1971; Гуров Ю. С. Мировоззренческий индифферентизм
и формирование научно-атеистических взглядов у молодежи //
Атеистическое воспитание: опыт и задачи. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-
во, 1974; Гуров Ю. С. Мировоззрение и мировоззренческий
индифферентизм // Формирование научного мировоззрения. Чебоксары:
Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 1977; Гуров Ю. С . О преодолении явлений
индифферентизма в отношении религии и атеизма среди учащейся
молодежи // Информационный бюллетень Института научного атеизма.
No 17. М.: АОН-КПСС, 1977; Гуров Ю. С. Молодежи — атеистическую
убежденность. М ., 1977; Гуров Ю. С. Причины мировоззренческого
индифферентизма среди части неверующей молодежи: На материалах
Чувашской АССР // Научный атеизм: Вопросы теории и практики.
Пермь: Перм. гос. пед. ин -т, 1979; Гуров Ю. С . Роль трудового
коллектива в преодолении мировоззренческого индифферентизма
и формировании атеистической убежденности молодых людей //
Трудовой коллектив и развитие личности. Чебоксары: Изд-во Чуваш.
гос. ун-та, 1981; Гуров Ю. С. Преодоление индифферентизма в вопросах
атеизма и религии как один из аспектов формирования духовной
культуры молодежи // Атеизм и социалистическая культура: Материалы
научной конференции «Атеизм и духовная культура развитого
социализма». Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во, 1982; Гуров Ю. С . От
безразличия — к убежденности (Актуальные проблемы атеистического
воспитания молодежи). Чебоксары, 1982; Гуров Ю. С. Формирование
атеистической убежденности у молодежи. М.: О-во «Знание» РСФСР,
1984; Гуров Ю. С. Молодежи — атеистическую убежденность. Омск,
1984; Гуров Ю. С. Преодоление индифферентизма — актуальные
проблемы повышения эффективности атеистического воспитания
молодежи // Актуальные проблемы обеспечения эффективности научно-
атеистической работы. Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та,
1986; Гуров Ю. С. Преодоление мировоззренческого индифферентизма
—
важное условие активизации человеческого фактора // Философские
аспекты выработки научного мировоззрения. Чебоксары: Изд-во Чуваш.
гос. ун-та, 1986; Гуров Ю. С. Молодежи — мировоззренческую
зрелость. М .: Советская Россия, 1987.
854
Об этом инженере вначале было рассказано в статье «Не придали
значения»: Советская Россия. 1983. 19 янв. См.: Гуров Ю. С. Молодежи
—
атеистическую убежденность. С. 16; Гуров Ю. С . Формирование
атеистической убежденности у молодежи. С. 12 .
855
Гуров Ю. С . Формирование атеистической убежденности у молодежи.
С. 12.
856
Кудряшов Г. Е. Динамика полисинкретической религиозности.
Чебоксары, 1974. С. 178; цит. по: Гуров Ю. С . Формирование
атеистической убежденности у молодежи. С. 12 .
857
Парню надо бы давно выбрать что-нибудь одно: или комсомолец, или
богомолец. М.: Плакат, 1970-е .
858
Цветков А. Так и живет ханжа иной всю жизнь меж небом и землей!
Стихи А. Внукова. М.: Плакат, 1970-е .
859
Гуров Ю. С . Формирование атеистической убежденности у молодежи.
С. 10.
860
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 105. Л. 10.
861
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 105. Л . 25–26.
862
Гуров Ю. С . Формирование атеистической убежденности у молодежи.
С. 2.
863
Тамже. С.4–5.
864
Гуров Ю. С . Молодежи — атеистическую убежденность. С . 57.
865
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2 -е изд. М.: Государственное
издательство политической литературы, 1955. Т. 1. С. 118.
866
Гуров Ю. С . Формирование атеистической убежденности у молодежи.
С. 21.
867
Соловьев В. С. По пути духовного прогресса: Некоторые итоги
повторных социологических исследований проблем быта, культуры,
национальных традиций, атеизма и верований Марийской АССР.
Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1987. С . 141 .
868
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 2. Д. 311. Л. 1–7.
869
Тамже.Оп.4.Д.72.Л.76–77.
870
Там же. Д. 103. Л. 12–14 .
871
Там же. Д. 106. Л. 104.
872
Тамже. Д.103.Л.14.
873
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 105. Л . 77–78.
874
О социологических исследованиях, посвященных «духовному облику
современного верующего» и проводившихся в Украине с 1958 по
1968 г., см.: Дулуман Е., Лобовик Б., Танчер В. Современный верующий:
Социально-психологический очерк. М.: Политиздат, 1970.
875
ЦАГМ. Ф. 3004. Оп. 1 . Д. 101. Л. 166.
876
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 4. Д. 105. Л . 51–52.
877
ЦАГМ. Ф. 3004. Оп. 1 . Д. 104. Л. 202–204.
878
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 106. Л. 42.
879
Окулов А. Атеистическое воспитание // Правда. 1972. 14 янв. С. 3–4.
880
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 68. Л. 4–8, цит. л. 8.
881
РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 34. Д. 130. Л. 52, 58.
882
ЦАГМ. Ф. 3004. Оп. 1. Д. 99. Л. 56.
883
РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 34. Д. 129. Л. 34–35.
884
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 105. Л. 27.
885
Тамже. Д.106.Л.45.
886
Там же. Д. 72. Л. 53–56.
887
Тамже.Л.56.
888
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 106. Л. 33, 37.
889
Там же. Д. 105. Л. 13, 89–90.
890
Там же. Д. 72. Л. 72–73.
891
РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 34. Д. 129. Л. 48.
892
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 224. Л. 3–4.
893
Как отмечает историк Сэмюэл Мойн, в годы холодной войны
наблюдалась «тенденция к тому, чтобы права человека, в числе которых
особо выделялось привилегированное право на религиозную свободу,
во все большей степени отождествлялись с судьбой христианства
в мире, где коммунисты стремились насадить секуляризм».
См.: Moyn S. The Last Utopia: Human Rights in History. Cambridge, MA:
Belknap, 2012. P. 72 .
894
The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics /
Ed. P . L. Berger. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999.
895
Согласно статистическим данным Совета по делам религий, в середине
1980-х гг. 60% православных приходов находилось на территории
Украины, там проживало 50% всех христианских сектантов страны
и действовало 25% незарегистрированных религиозных объединений.
—
ГАРФ. Ф . 9547. Оп. 1. Д. 3663.
896
О «деприватизации» религии см.: Casanova J. Public Religions in the
Modern World. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
897
О центральном месте религии в антикоммунистической риторике
и политике президента Рейгана см., например: Preston A. The Sword of
the Spirit, the Shield of Faith: Religion in American War and Diplomacy.
New York: Knopf, 2012. P. 579–586 .
898
См.: О дальнейшем улучшении идеологической, политико-
воспитательной работы // КПСС о формировании нового человека:
Сборник документов и материалов (1965–1981). М.: Политиздат, 1982.
С. 286–299. Это постановление было принято по итогам Всесоюзной
партийной конференции под названием «Формирование активной
жизненной позиции: опыт и актуальные проблемы нравственного
воспитания». См.: Там же. С. 501–503 . Особенно подчеркивалась
важность идейного воспитания детей в мусульманских регионах.
См.: Ro’i Y. The Task of Creating the New Soviet Man: «Atheistic
propaganda» in the Soviet Muslim Areas // Europe-Asia Studies. 1984.
Vol. 36 . No 1 . P. 26–44. Важно также отметить, что усвоение русского
языка и русской культуры считалось способом избежать конкуренции
национализмов. См. материалы Всесоюзной конференции 22 мая 1979 г.
«Русский язык — язык дружбы и сотрудничества народов СССР»:
КПСС о формировании нового человека. С . 503 –504. Обращаясь
к проблеме национализма через 60 лет после создания Советского
Союза, Андропов заключил, что «надо помнить, что в духовном
наследии, традициях, в быту каждой нации есть не только хорошее, но
и плохое, отжившее. И отсюда еще одна задача — не консервировать
это плохое, а освобождаться от всего, что устарело, что идет вразрез
с нормами советского общежития, социалистической нравственности,
с нашими коммунистическими идеалами».
См.: Андропов Ю. В . Шестьдесят лет СССР. М.: Политиздат, 1982. С. 13.
899
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 2. Д. 396 . Постановление обсуждалось в докладе
Института научного атеизма Центральному комитету КПСС. См.
также: Yelensky V. The Revival before the Revival: Popular and
Institutionalized Religion in Ukraine on the Eve of the Collapse of
Communism // State Secularism and Lived Religion in Soviet Russia and
Ukraine / Ed. C. Wanner. New York: Oxford University Press, 2012. P. 302–
330.
900
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 2. Д. 311. Л. 1–2.
901
Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. 14 –15 июня
1983 года. М.: Политиздат, 1983. См. также: Алексеев В. «Штурм небес»
отменяется? Критические очерки по истории борьбы с религией
в СССР. М.: Россия молодая, 1992. С. 263. О попытках КГБ руководить
религиозной жизнью в СССР см.: Andrew C., Mitrokhin V. The Sword and
the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB. New
York: Basic Books, 2000. P . 493. Егор Лигачев и Филипп Бобков, первый
заместитель председателя КГБ, курировавший дела религий, считались
сторонниками жесткой линии в религиозном вопросе.
902
Алексеев В. «Штурм небес» отменяется? С. 265.
903
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 3660. Л. 5, 20, 25, 26–27 .
904
Там же. Л. 8, 21–22.
905
Там же. Д. 3661. Л. 12 –13, 15.
906
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 3663. Л. 11–13. Указывалось, что за четыре
года было крещено 39 тысяч детей школьного возраста и 47 тысяч
взрослых.
907
Там же. Л. 20, 73–75, 79.
908
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 3664. Л. 13–16.
909
Там же. Д.3665.Л.44–45.
910
ГАРФ. Ф . 9547. Оп. 1. Д. 3665. Л . 60–61. Текст выступления приводится
с сохранением стилистики записи в стенограмме.
911
Там же. Л. 45–46.
912
Валерий Легостаев, работавший в партийном аппарате под началом
Егора Лигачева, пишет, что письмо митрополита Алексия
распространялось среди членов Политбюро. См.: Легостаев В. Письмо
Алексия М. Горбачеву // Завтра. 1999. 10 авг. URL:
http://flb.ru/info/4265.html.
913
Там же.
914
О письме митрополита Алексия Горбачеву в 1985 г. см.: Известия. 1992.
2 марта; цит. в след. изд.: Красиков А. Русская Православная Церковь:
От службы государевой к испытанию свободой // Новые церкви, старые
верующие — старые церкви, новые верующие / Ред. А. Каариайнен,
Д. Фурман. М.; СПб.: Летний сад, 2007.
С. 160; Шкаровский М. В . Русская Православная Церковь в XX веке.
М.: Вече, Лепта, 2010. С. 401; Русская Православная Церковь: XX в. /
Беглов А. Л., Васильева О. Ю ., Журавский А. В. и др. М.: Изд-во
Сретенского монастыря, 2008. С . 578.
915
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 3665. Л. 61.
916
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 2. Д. 256. Л . 32–34.
917
РГАСПИ. Ф. 606 . Оп. 2. Д. 256. Л . 36–37.
918
Из исследований последнего времени на эту тему
см.: Курилов В. А. Советская модель секуляризации: политическое
и правовое регулирование свободы совести в СССР, вторая половина
XX века: религиоведческий анализ. Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.14
[Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина]. СПб., 2018.
919
ГАРФ. Ф. 9547. Оп. 1. Д. 3660. Л. 53 .
920
Хелен Белл и Джейн Эллис пишут, что на торжественном открытии
юбилейных мероприятий, проходившем в Даниловом монастыре, один
зарубежный гость даже обнаружил, что стоит рядом с космонавтом.
Они также отмечают, что выставленная напоказ роль государства
в юбилейных торжествах впоследствии вызвала критику со стороны
религиозных диссидентов. Как отметил один религиозный активист, на
мероприятиях присутствовали те, «кто достал билеты в Большой».
См.: Bell H., Ellis J. The Millennium Celebrations of 1988 in the USSR //
Religion in Communist Lands. 1988. Vol. 16. No 4. P. 322. Детальное
описание юбилейных торжеств см.: Bourdeaux M. Gorbachev, Glasnost &
the Gospel. Toronto: Hodder & Stoughton, 1990. P. 42 –64.
921
Во время интервью Харчев прояснил значимость того факта, что
патриарху был предоставлен лимузин марки ЗИЛ, отметив, что
первоначально патриарха должны были доставить на «Волге». Он
объяснил, что «тогда на „Волгах“ ездили министры, но только
партийные функционеры ездили на ЗИЛах, и их было всего около
десяти человек во всей Москве». См. интервью Андрея Мельникова
с Константином Харчевым: Перестройка наделила Церковь правами,
а обязанностями не успела: Председатель Совета по делам религии
в 1984–1989 годах вспоминает и оценивает реформы в отношениях
государства и верующих // НГ-Религии. 2015. 3 июня. URL:
http://www.ng.ru/ng_religii/2015-06 -03/1_perestroika.html. О переменах
в церковно-государственных отношениях в конце советского периода
см.: Митрохин Н. Русская Православная Церковь в 1990 году // 1990:
Опыт изучения недавней истории. Сборник статей и материалов. / Ред.
А. Дмитриев, М. Майофис, И. Кукулин, О. Тимофеева, А. Рейтблат.
В 2 т. М.: Новое литературное обозрение, 2011. Т. 1. С. 300–
349; Еленский В. Религия и перестройка в Украине // Людина і світ.
2003. 10 дек. URL: http://www.religare.ru/2_7596_1 _21 .html
922
Так, Гордиенко, консультант государственной комиссии по подготовке
к юбилею, описывал шок своих родственников, когда те увидели, как он
рассуждает о религии по телевизору. — Интервью автора с Николаем
Гордиенко. Санкт-Петербург, 17 июня 2011 г.
923
В ходе юбилейных торжеств одним из наиболее важных событий,
имевших символическое значение, было возвращение части территории
Киево-Печерской лавре, которая была закрыта во время хрущевской
антирелигиозной кампании в 1961 г.; церемония освещалась
телевидением. См.: Bourdeaux M. Gorbachev, Glasnost & the Gospel.
P. 49.
924
Van den Bercken W. Holy Russia and the Soviet Fatherland // Religion in
Communist Lands. 1987. Vol. 15. No 3. P . 264–277; Van den Bercken W. The
Rehabilitation of Christian Ethical Values in the Soviet Media // Religion in
Communist Lands. 1989. Vol. 17 . No 1. P. 6–7; Dunlop J. B. The Russian
Orthodox in the Millennium Year: What It Needs from the Soviet State //
Religion in Communist Lands. 1988. Vol. 16. No 2 . P. 100–
116; Anderson J. Religion and the Soviet State: A Report on Religious
Repression in the USSR on the Occasion of the Christian Millennium.
Washington, DC: Puebla Institute, 1988.
925
РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 10. Л. 1–3.
926
Pope John Paul II. Slavorum Apostoli (June 2, 1985). URL:
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii _ -
enc_19850602_slavorum-apostoli.html [см. на русском языке: Энциклика
Slavorum Apostoli Его Святейшества Папы Римского Иоанна Павла II
в память о заслугах святых благовестников Кирилла и Мефодия. URL:
https://www.katolik.ru/dokumenty-vatikana/item/1363-entsiklika-slavorum-
apost.html. — Примеч. пер.] .
927
РГАНИ. Ф. 89. Оп. 25. Д. 10. Л. 1–3.
928
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 2. Д. 396. Л. 45–46.
929
Советская Россия. 1986. 26 февр. С. 6, 8; цит. по: Алексеев В. «Штурм
небес» отменяется? Критические очерки по истории борьбы с религией
в СССР. М.: Россия молодая, 1992. С. 266.
930
Программа Коммунистической партии Советского Союза.
М.: Политиздат, 1986. С. 125; Устав Коммунистической партии
Советского Союза. М.: Политиздат, 1986. С. 6 .
931
Лигачев Е. К. Избранные речи и статьи. М.: Политиздат, 1989. С. 133;
цит. по: Алексеев В. «Штурм небес» отменяется? С. 267.
932
Воспитывать убежденных атеистов // Правда. 1986. 28 сент. С. 1.
933
LCVA [Литовский центральный государственный архив]. F. 181. Ap. 3.
B. 3130. L. 51–67, цит. L. 51–52. Циркуляр был отправлен Советам по
делам религий Украинской и Армянской ССР, а также уполномоченным
Советов по делам религий на территории СССР.
934
Клибанов А., Митрохин Л. История и религия // Коммунист. 1987. No 12.
С. 92.
935
Яковлев А. Н . Достижение качественно нового состояния советского
общества и общественные науки // Вестник Академии наук СССР. 1987.
No 6. С. 69 . Шкаровский на основании анализа своего интервью
с Лисавцевым, курировавшим в ЦК КПСС дела религии и атеизма,
пишет, что, когда партийное руководство в конце 1987 г. снова подняло
вопрос о приближающемся тысячелетии крещения Руси, тон был
заметно смягчен. Когда была выдвинута идея организовать
пропагандистскую кампанию в противовес юбилею, Горбачев
объединился с Харчевым, заявив партийной элите: «Не будем обижать
церковь, она у нас патриотическая». См.: Шкаровский М. В . Русская
Православная Церковь в XX веке. М.: Вече, Лепта, 2010. С. 401.
936
Харчев К. Гарантии свободы // Наука и религия. 1987. No 11 . С. 22 .
937
ЦАОПИМ. Ф. 4 . Оп. 220. Д . 2384. Л. 107–123; Д. 2374.
938
То, что шаг Горбачева был неожиданностью, подчеркивается
в нескольких интервью с бывшими сотрудниками Совета по делам
религий: Интервью автора с Михаилом Одинцовым. Москва, 27 июня
2011 г.; Интервью автора с Германом Михайловым. Москва, 5 июня
2013 г. О том, какое удивление вызвал на Западе поворот советского
руководства в отношениях с религией, Джейн Эллис, редактор журнала
Religion in Communist Lands, пишет: «официальное празднование
тысячелетия крещения Руси... проходило в условиях гораздо большей
свободы, чем кто-либо мог предсказать всего за несколько месяцев до
того». — См.: Bell H., Ellis J. The Millennium Celebrations. P . 292.
939
Интервью с Константином Харчевым // Огонек. 1988. No 21 (май). С. 26–
28. Об изменениях во взглядах Харчева см. также: Харчев К. Гарантии
свободы; Харчев К. Утверждая свободу совести // Известия. 1988.
27 янв. С. 3.
940
Андреева Н. Не могу поступаться принципами // Советская Россия.
1988. 13 марта. С. 2 .
941
О политической подоплеке «дела Нины Андреевой» см.: Brown A. The
Gorbachev Factor. New York: Oxford University Press, 1996. P . 172 –
175; Cosgrove S. Ligachev and the Conservative Counter-Offensive in Nash
Sovremennik 1981–1991: A Case Study in the Politics of Soviet Literature.
Ph. D . diss. University of London, School of Slavonic and East European
Studies, 1998. P . 229–278; Remnick D. Lenin’s Tomb: The Last Days of the
Soviet Empire. New York: Random House, 1993. P. 70–
85; O’Connor K. Intellectuals and Apparatchiks: Russian Nationalism and
the Gorbachev Revolution. Lanham, MD: Lexington Books, 2006. P. 101–
122.
942
Об отношении Рейгана к религиозным делам в Советском Союзе
см.: Massie S. Trust but Verify: Reagan, Russia, and Me. Rockland: Maine
Authors Publishing, 2013. P . 134–142, 349–357.
943
Bourdeaux M. Gorbachev, Glasnost & the Gospel. P. 45–46.
944
В наших беседах Одинцов, Михайлов и Харчев подчеркивали
непредвиденный характер этих событий. Например, Одинцов,
помощник Харчева в Совете по делам религий, описывал встречу
Горбачева и патриарха как маневр, организованный в последнюю
минуту усилиями Совета по делам религий, который постепенно
подталкивал руководство страны к «нормализации» церковно-
государственных отношений. — Интервью автора с Михаилом
Одинцовым; Интервью автора с Германом Михайловым.
945
Русская мысль. 1988. 20 мая. С. 4; цит. по: Bell H., Ellis J. The
Millennium Celebrations. P . 323. См. также: Религия и перестройка [из
сокращенной записи доклада председателя Совета по делам религий
К. М. Харчева на встрече с преподавателями ВПШ] (конец марта
1989 г.) // Русская Православная Церковь в советское время (1917–
1991). Материалы и документы по истории отношений между
государством и Церковью / Сост. Г. Штриккер. М.: Пропилеи, 1995.
Т. 2. С. 217.
946
Powell D. E. The Revival of Religion // Current History. Vol. 90 (October
1991). P . 329.
947
Обзор дискуссий о секуляризации см.: Religion and Modernization:
Sociologists and Historians Debate the Secularization Thesis / Ed. S. Bruce.
New York: Oxford University Press, 1992; Martin D. On Secularization:
Towards a Revised General Theory. Aldershot, UK: Ashgate, 2005. Критику
теории секуляризации см.: Stark R. Secularization, R. I. P. // Sociology of
Religion. 1999. Vol. 60 . P . 249–273. Более взвешенный подход
см.: Gorski P. S . , Atinordu A. After Secularization? // Annual Review of
Sociology. 2008. Vol. 34. P . 55 –85 .
948
Наиболее яркий пример — Питер Бергер, опубликовавший в 1967 г.
работу «The Sacred Canopy» («Священная завеса»), которая, возможно,
является одним из самых фундаментальных обоснований теории
секуляризации. Во введении к сборнику, вышедшему под его редакцией
в 1999 г., Бергер признал: «Предположение, что мы живем
в секуляризованном мире, оказалось ложным». См.: Berger P. L . The
Desecularization of the World: A Global Overview // The Desecularization of
the World: Resurgent Religion and World Politics / Ed. P. L . Berger. Grand
Rapids, MI: Eerdmans, 1999. P. 2–3 .
949
Материалы XIX Всесоюзной конференции КПСС. М.: Политиздат,
1988. С. 41.
950
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 2. Д. 497. Л. 18.
951
Там же. Л. 19–20, 27.
952
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 2. Д. 525. Л. 2–9.
953
Тамже.Д.549.Л.2–8.
954
ГАРФ.Ф.A-561.Оп. 1.Д.3047.Л.1.
955
Там же. Д. 3178. Л.4,17.
956
Интервью автора с Ольгой Брушлинской. Москва, 7 декабря 2008 г.
957
Смирнов М., Круг П. В защиту свободомыслия: Исполнилось полвека
журналу «Наука и религия» // Независимая газета. 2009. 21 окт. URL:
http://www.ng.ru/ng_religii/2009-10-21/2_magazine.html.
958
Там же.
959
Размышляя о своей долгой карьере в журнале «Наука и религия»,
Брушлинская, работавшая там журналистом с 1970-х гг. и главным
редактором в постсоветский период, отметила: «Это не был
„Воинствующий безбожник“ времен Емельяна Ярославского. Конечно,
мы отстаивали преимущество научного подхода. Но по сравнению
с привычным советским агитпропом это был настоящий прорыв». Как
сформулировала Брушлинская, «мы тогда спрашивали пропагандистов
атеизма — а их были целые отряды по всей стране — знали ли они,
с чем боролись? Зачастую они даже не имели должного представления
о жизни верующих. Известный религиовед Лев Митрохин писал в то
время: „Если вы боретесь с религией, то вам нужно уметь спорить
с Львом Толстым, Достоевским, Ганди, Хьюлетом Джонсоном,
Мартином Лютером Кингом“. Кроме того, вы должны быть уверены,
что верующий, ставший атеистом благодаря вам, будет чувствовать себя
в новом качестве счастливее». — Смирнов М., Круг П. В защиту
свободомыслия.
960
Интервью автора с Надеждой Нефедовой. Москва, 25 июня 2011 г.
961
Асс К., Вытулева К., Добров А., Лебедев Д., Саркисян О. «ХВ 1999».
Акция. См.: Кулик И. Акция «ХВ 1999» // Moscow Art Magazine. No 25.
URL: http://xz.gif.ru/numbers/25/hv-1999/.
962
Karl Marx: Interviews with the Corner-Stone of Modern Socialism // Chicago
Tribune. 1879. January 5. P. 7 [см. на русском языке: Интервью К. Маркса
корреспонденту американской газеты «Chicago Tribune» в первой
половине декабря 1878 г. // Маркс К. и Энгельс Ф. об атеизме, религии
и церкви / Редкол.: А. Ф. Окулов (пред.) и др. 2 -е изд., доп. М.: Мысль,
1986. С . 517–518. — Примеч. пер.] .
963
Нетерпимость советского атеизма к индифферентности заставляет
усомниться в возможности приравнять советский атеизм
к секулярности. Секулярное общество в основе своей — проект
либерального государства. Оно определяет религию как
индивидуальную веру, помещает ее в сферу частной жизни и защищает,
исходя из принципа свободы совести, но в то же время регулирует ее
и подчиняет дисциплинарным требованиям, если религия выходит за
эти рамки и выдвигает политические претензии.
964
Кириченко Е. И . Храм Христа Спасителя в Москве. М.: Планета, 1992.
965
80 лет со дня взрыва Храма Христа Спасителя (5 декабря 2011 г.) // Сайт
Храма Христа Спасителя. URL: http://xxc.ru/ru/news/index.php?id=160.
966
О политике по строительству, разрушению и воссозданию храма Христа
Спасителя см.: Gentes A. The Life, Death and Resurrection of the Cathedral
of Christ the Saviour // History Workshop Journal. 1998. Vol. 46. P. 63 –
95; Sidorov D. National Monumentalization and the Politics of Scale: The
Resurrections of the Cathedral of Christ the Saviour in Moscow // Annals of
the Association of American Geographers. 2000. Vol. 90 . No 3. P . 548–
572; Smith K. E . Mythmaking in the New Russia: Politics and Memory
during the Yeltsin Era. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002. P. 102–
130.
967
О том шоке, который испытали люди, когда определенные идеи были
допущены в публичную сферу в эпоху гласности, см.
также: Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось: Последнее
советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 31.
968
Так назывался документальный фильм митрополита Илариона
(Алфеева) Волоколамского, члена Священного синода Русской
православной церкви и председателя Отдела внешних церковных связей
Московского патриархата. Фильм был впервые показан 22 июля 2013 г.
на телеканале «Россия-1» в ознаменование 1025-й годовщины крещения
Руси.
969
Walker S. From One Vladimir to Another: Putin Unveils Huge Statue in
Moscow // Guardian. 2016. November 4. URL:
https://www.theguardian.com/world/2016/nov/04/vladimir-great-statue-
unveiled-putin-moscow.
970
Историк Саймон Франклин подчеркивает одновременно мощь
и амбивалентность празднования тысячелетия крещения Руси как
символа. Как пишет Франклин: «В чем смысл тысячелетнего юбилея?
Ответить: „Ни в чем, у него нет смысла“ было бы самоуверенностью.
С точки зрения историка, тысячелетняя годовщина значит не более, чем
738-я или 2304-я. Тысячелетия, как и все юбилеи, не знаменуют собой
какого-либо логически последовательного деления линейного времени.
Скорее это символы, поводы, возможности легитимизировать
настоящее через признание или отвержение прошлого. Самоуверенный
ответ верен, но недостаточен. Символы вполне реальны для тех, кто
живет ими, и наше высокомерие не сделает их бессильными чудесным
образом. Однако если в случае с этим тысячелетним юбилеем
примитивный историзм означает отказ от участия в празднике, то
слепой символизм приводит к путанице со списком приглашенных.
Ведь тысячелетний юбилей — это не одно празднование, а множество;
не одно торжественное шествие, а поле битвы». См.: Franklin S. 988 –
1988: Uses and Abuses of the Millennium // World Today. 1988. Vol. 44 .
No 4 (April). P. 65.
971
Намедни: 1988. URL:
http://www.namednitv.ru/online/namedni_1988_smotret_online.html.
972
О религии в постсоветский период см.: Papkova I. The Orthodox Church
and Russian Politics. New York: Oxford University Press,
2011; Fagan G. Believing in Russia: Religious Policy after Communism.
New York: Routledge, 2013; Burgess J. P . Holy Rus’: The Rebirth of
Orthodoxy in the New Russia. New Haven, CT: Yale University Press, 2017.
Виктория Смолкин
Свято место пусто не бывает: история советского атеизма
Редактор М. Ю. Смирнов
Дизайнер серии Д. Черногаев
Корректоры О. Семченко, С. Крючкова
Верстка Д. Макаровский
Адрес издательства:
123104, Москва, Тверской бульвар, 13, стр. 1
тел./факс: (495) 229-91-03
e-mail: real@nlobooks.ru