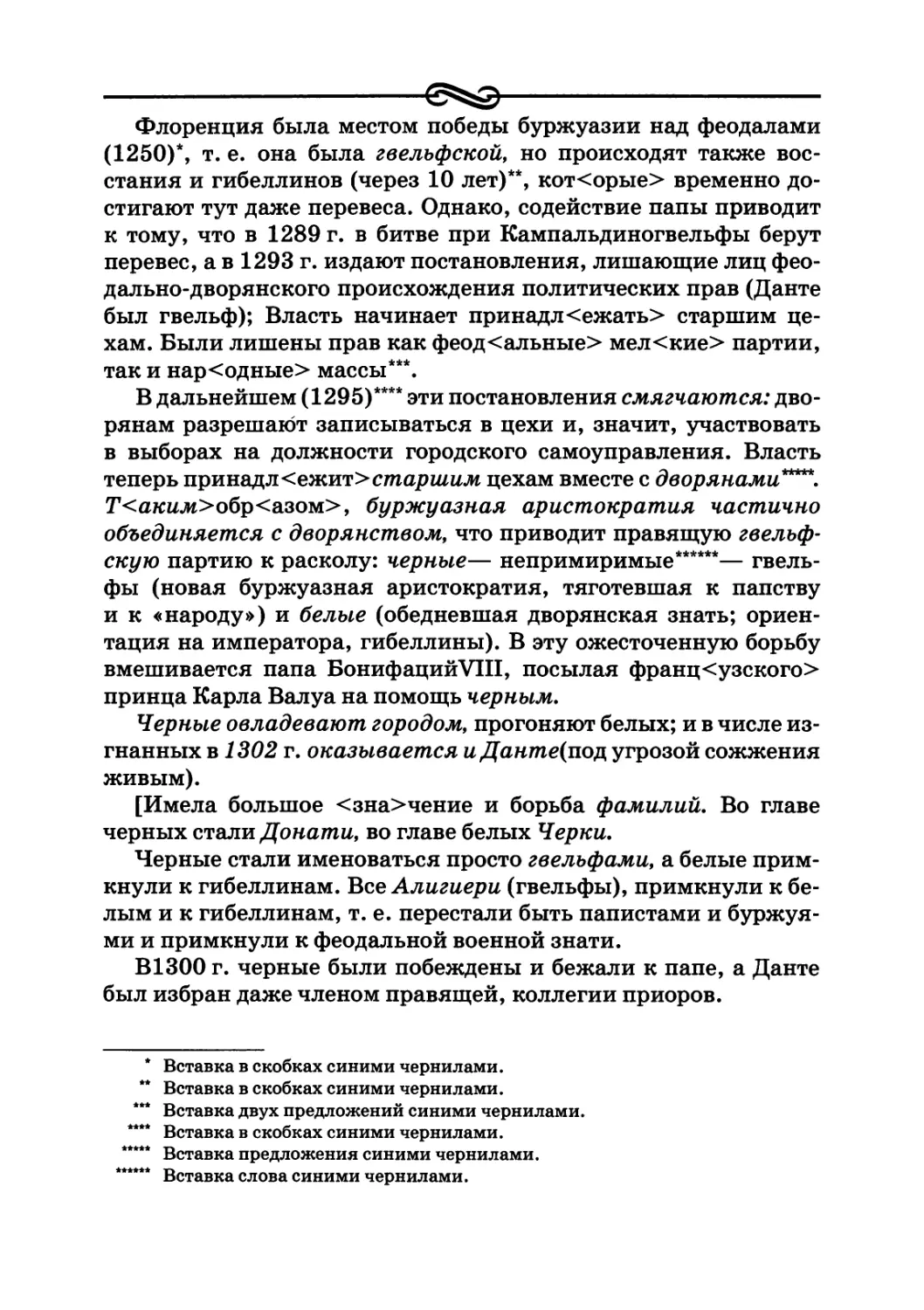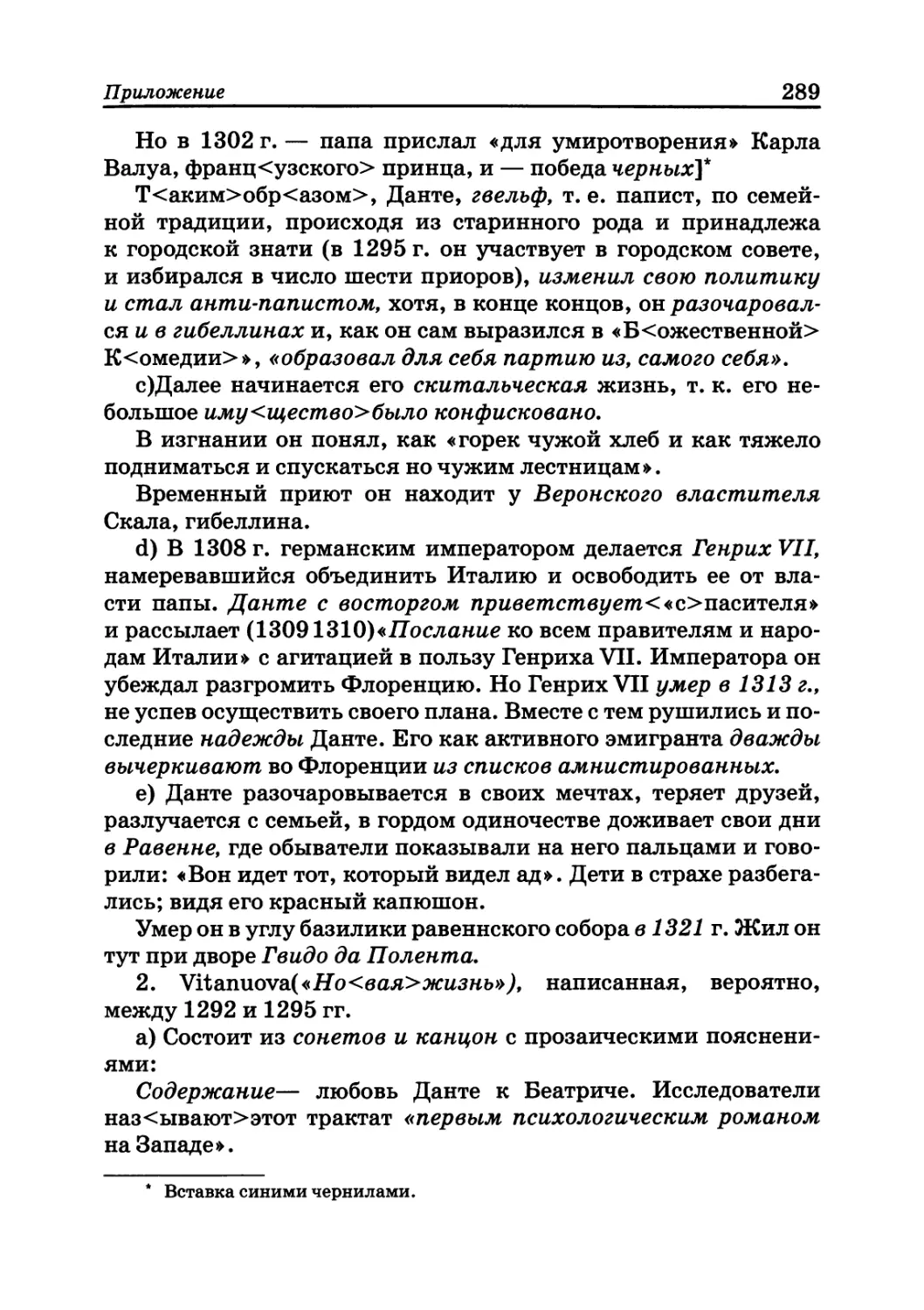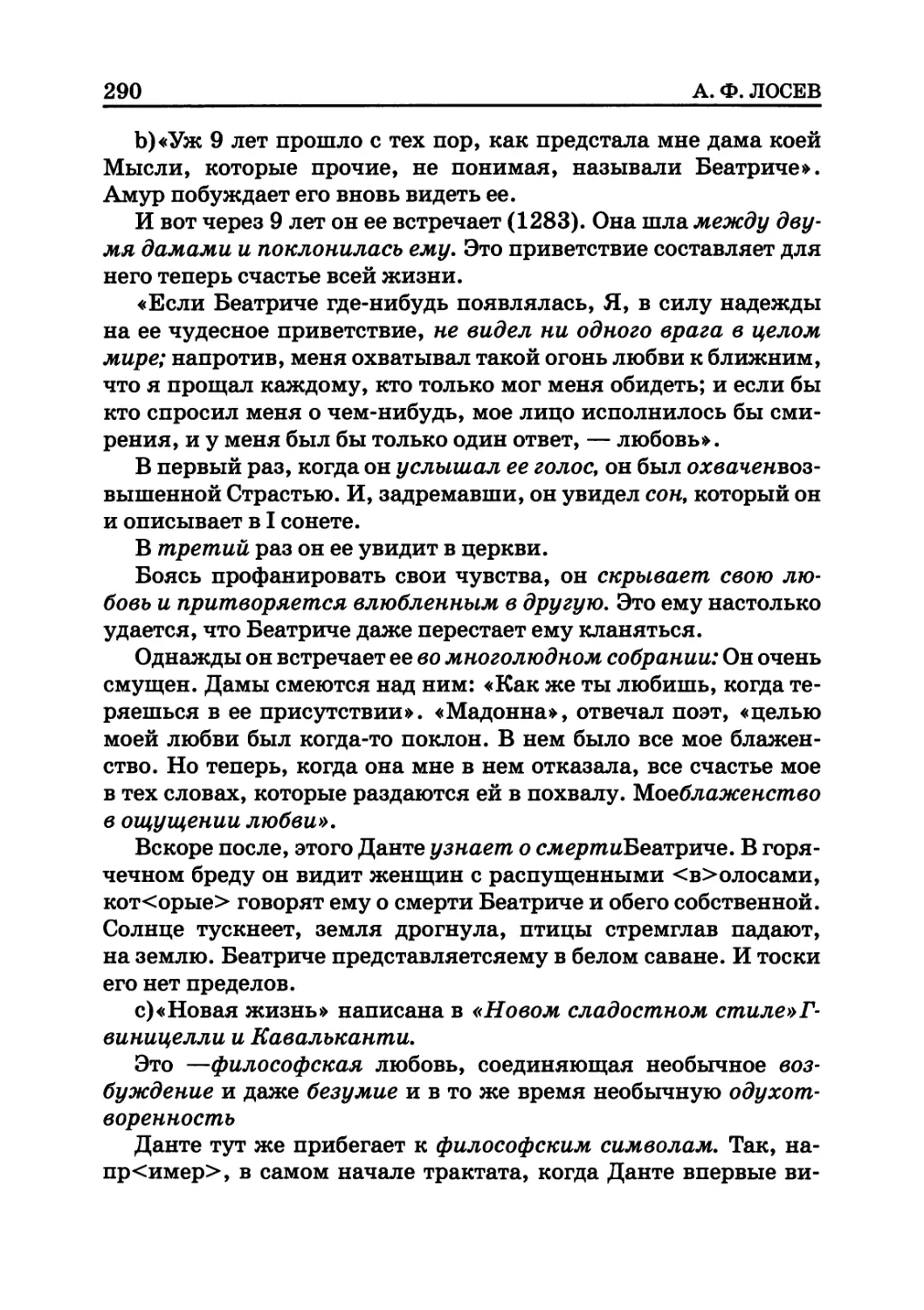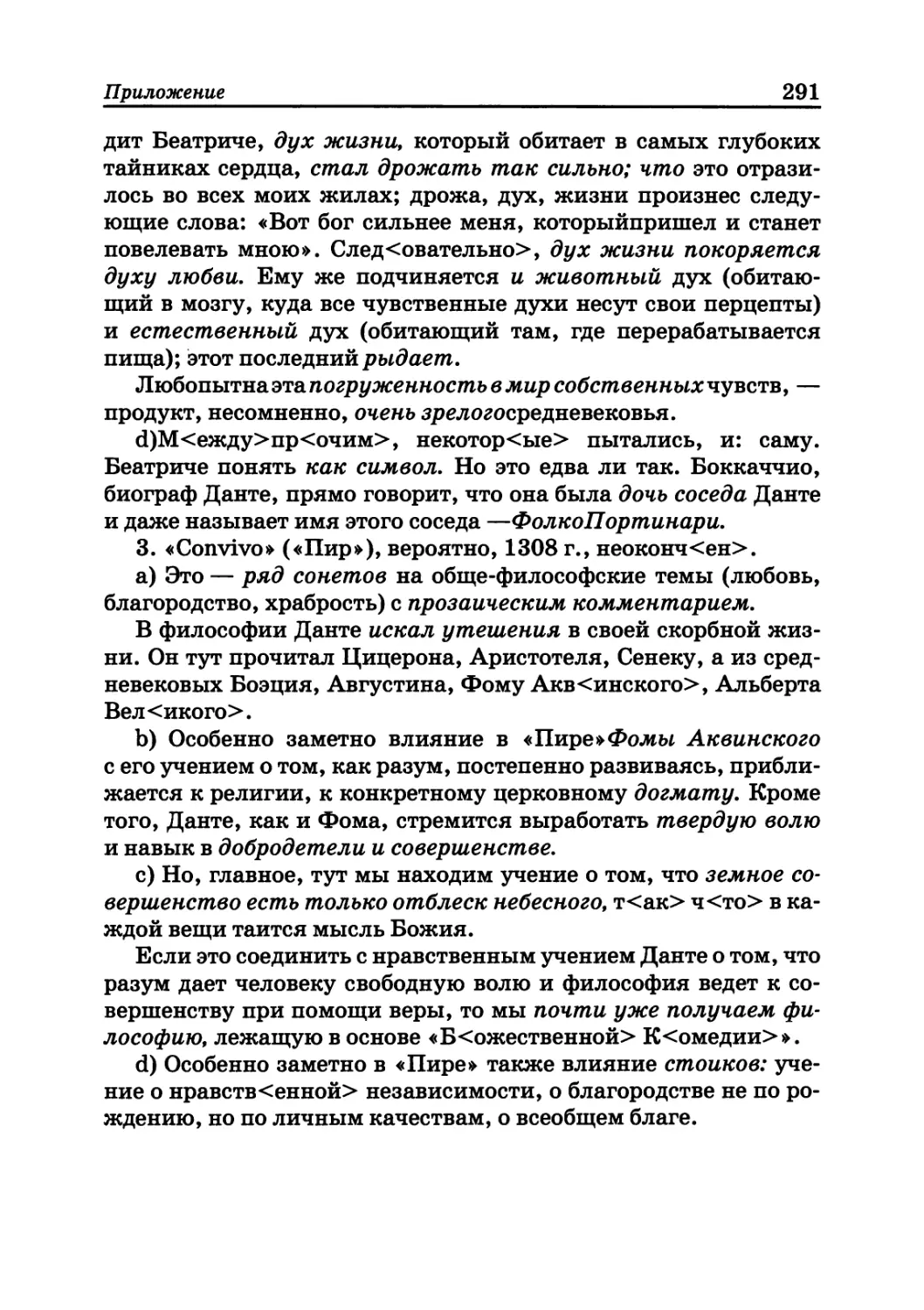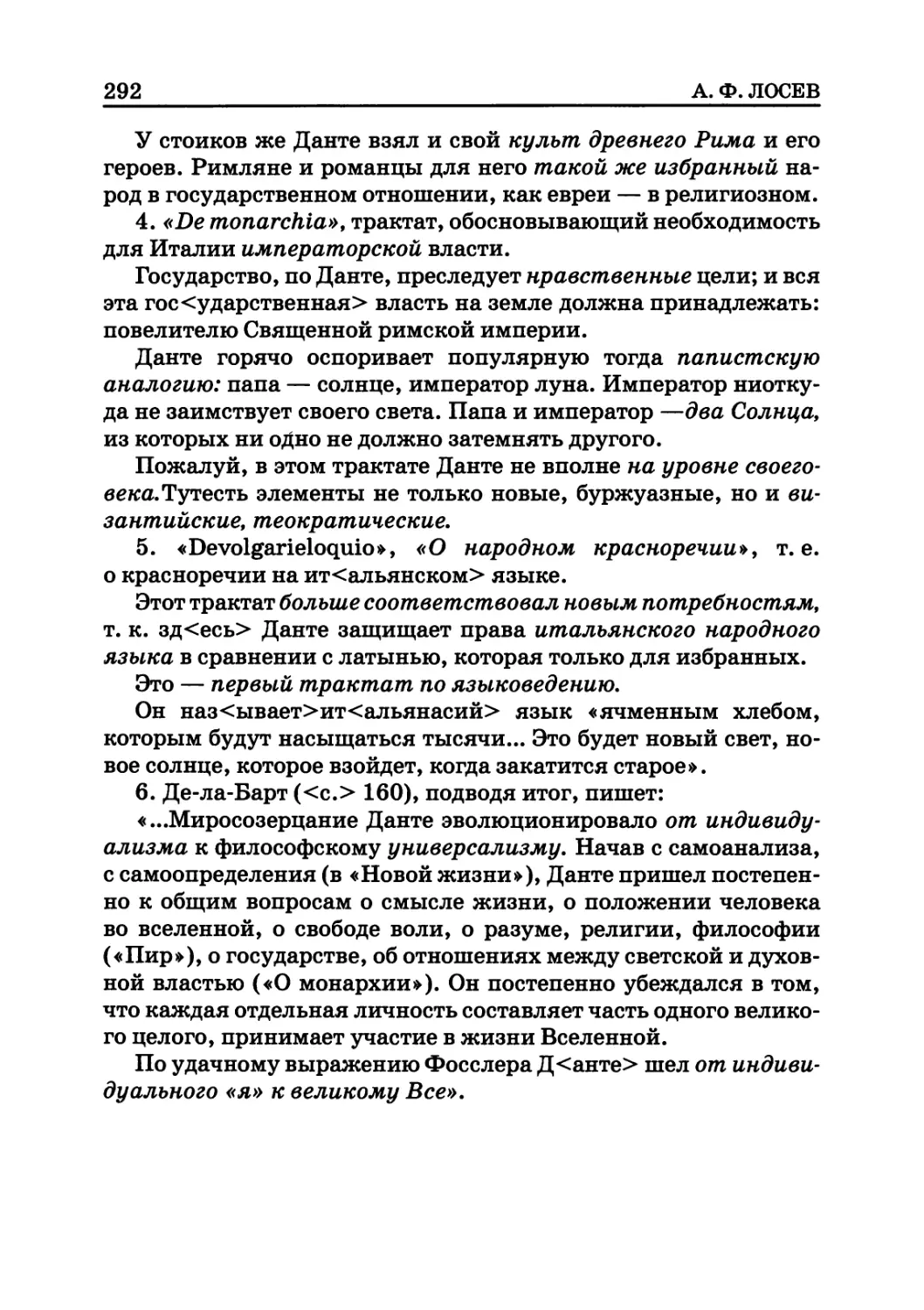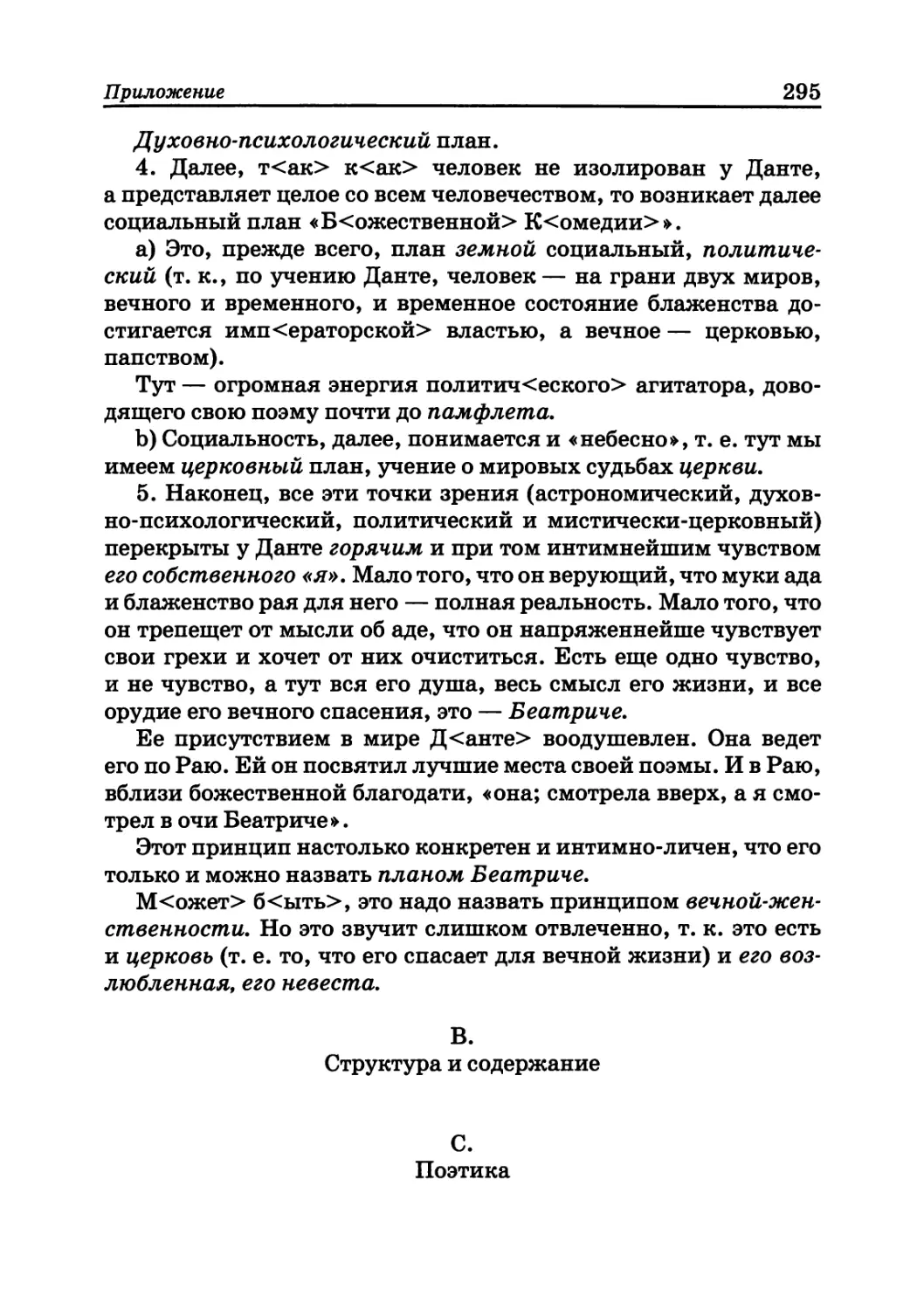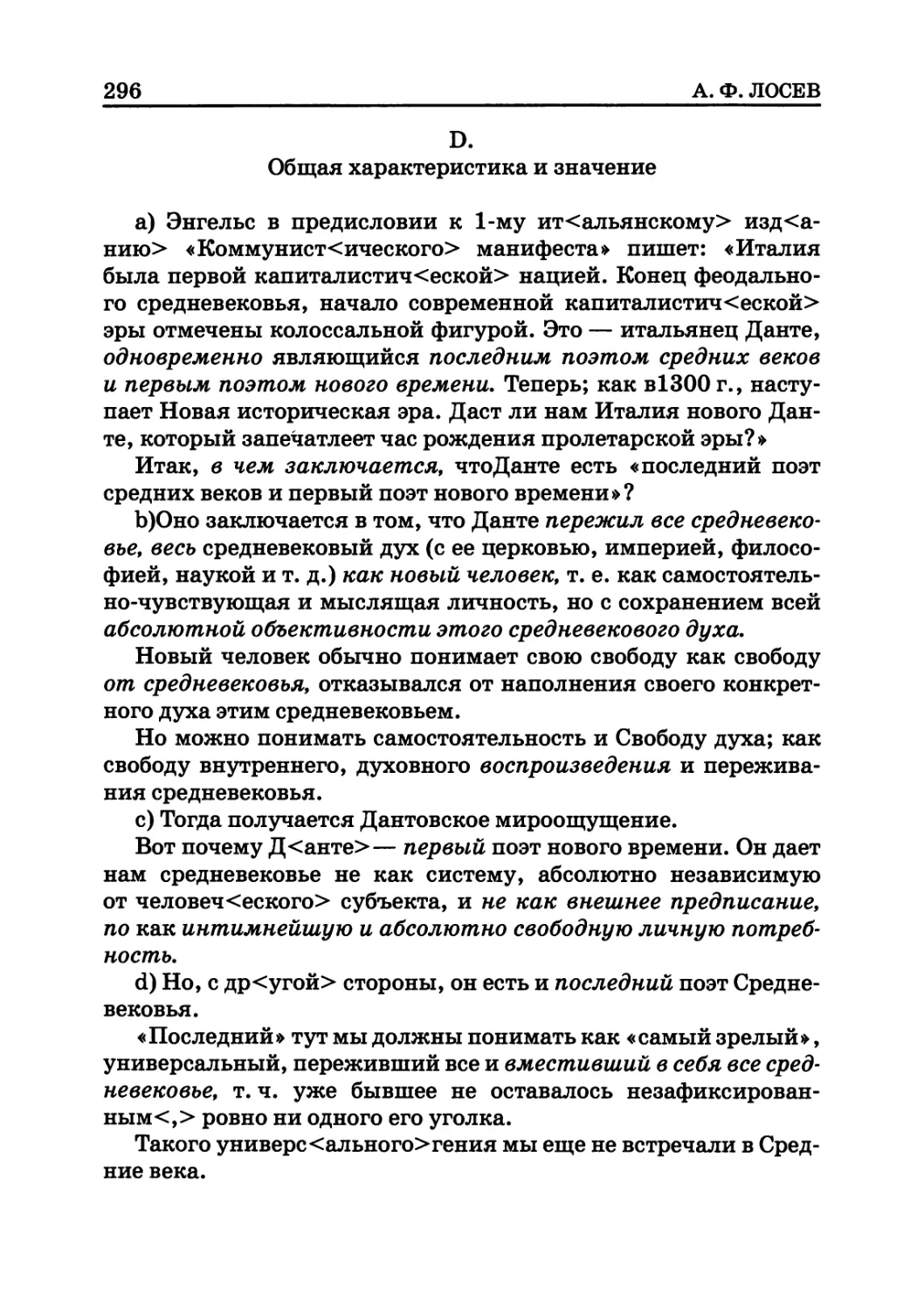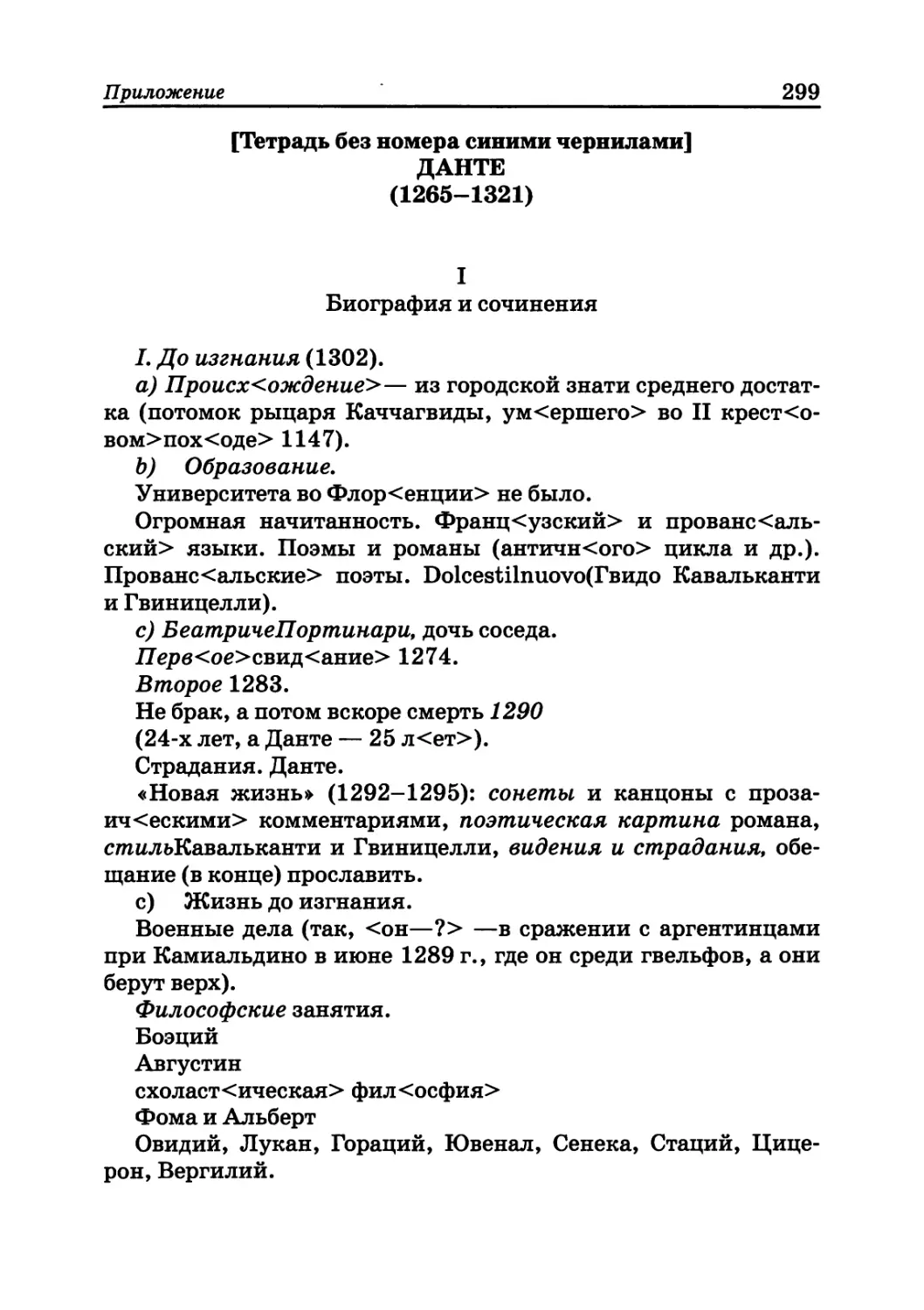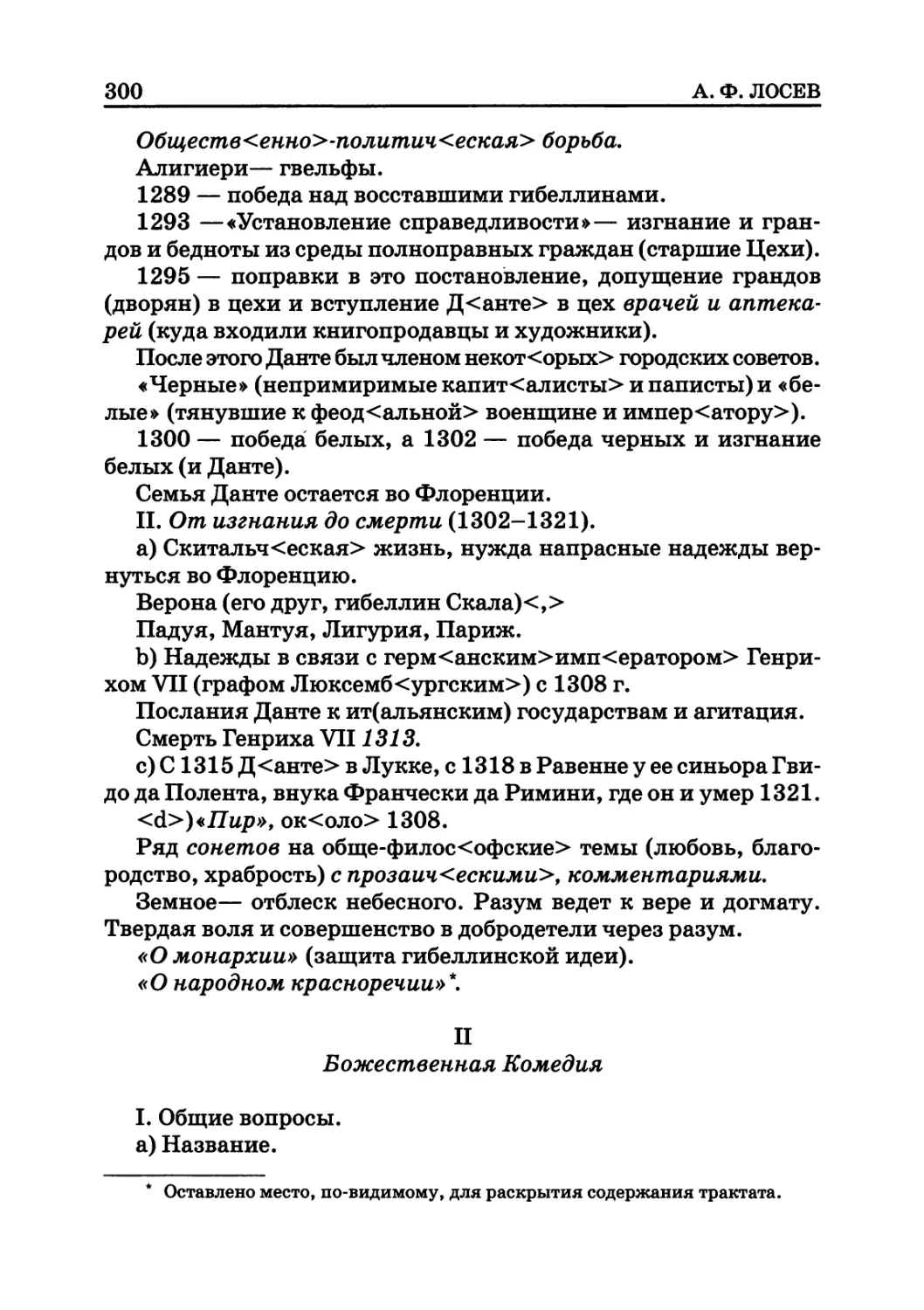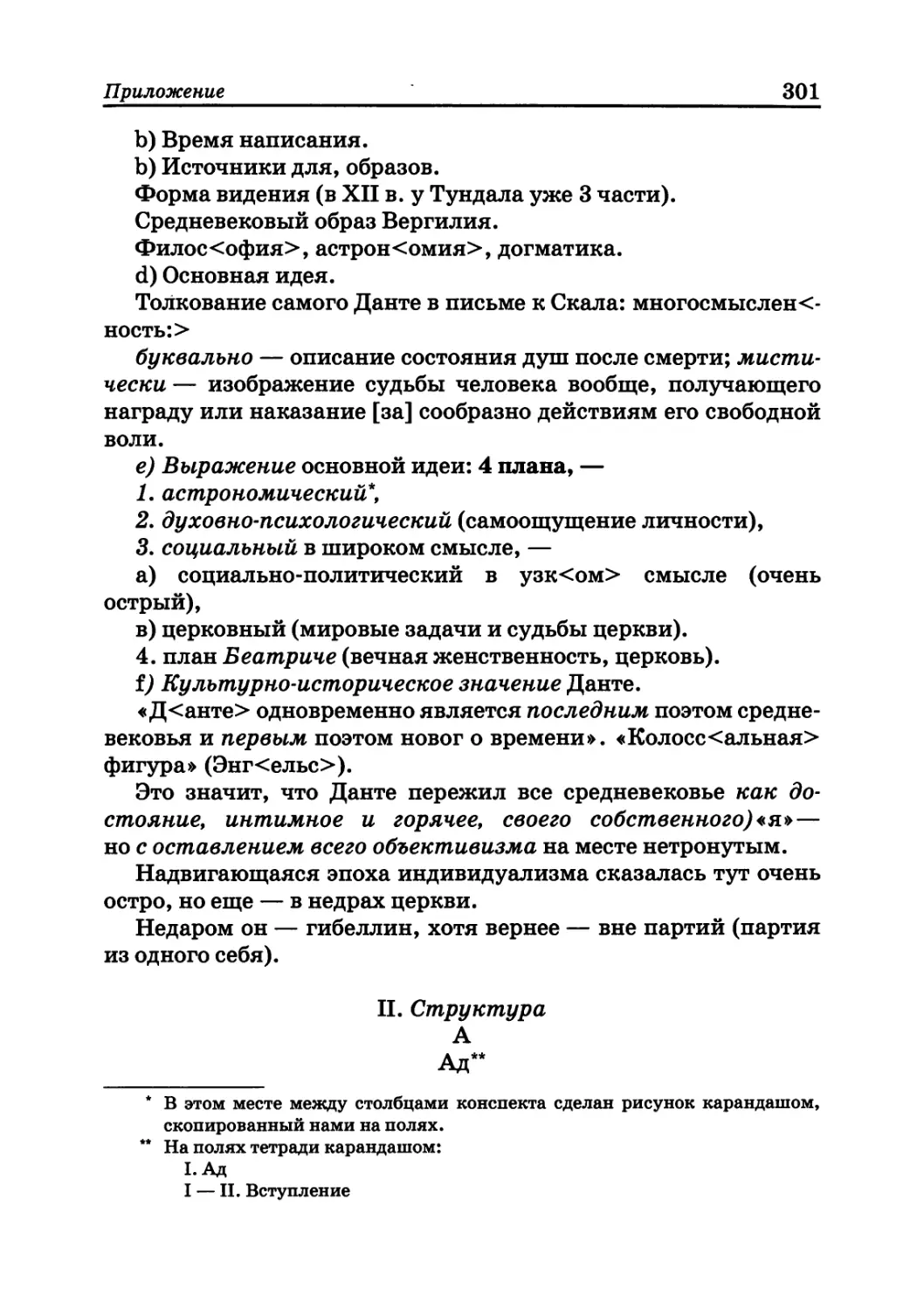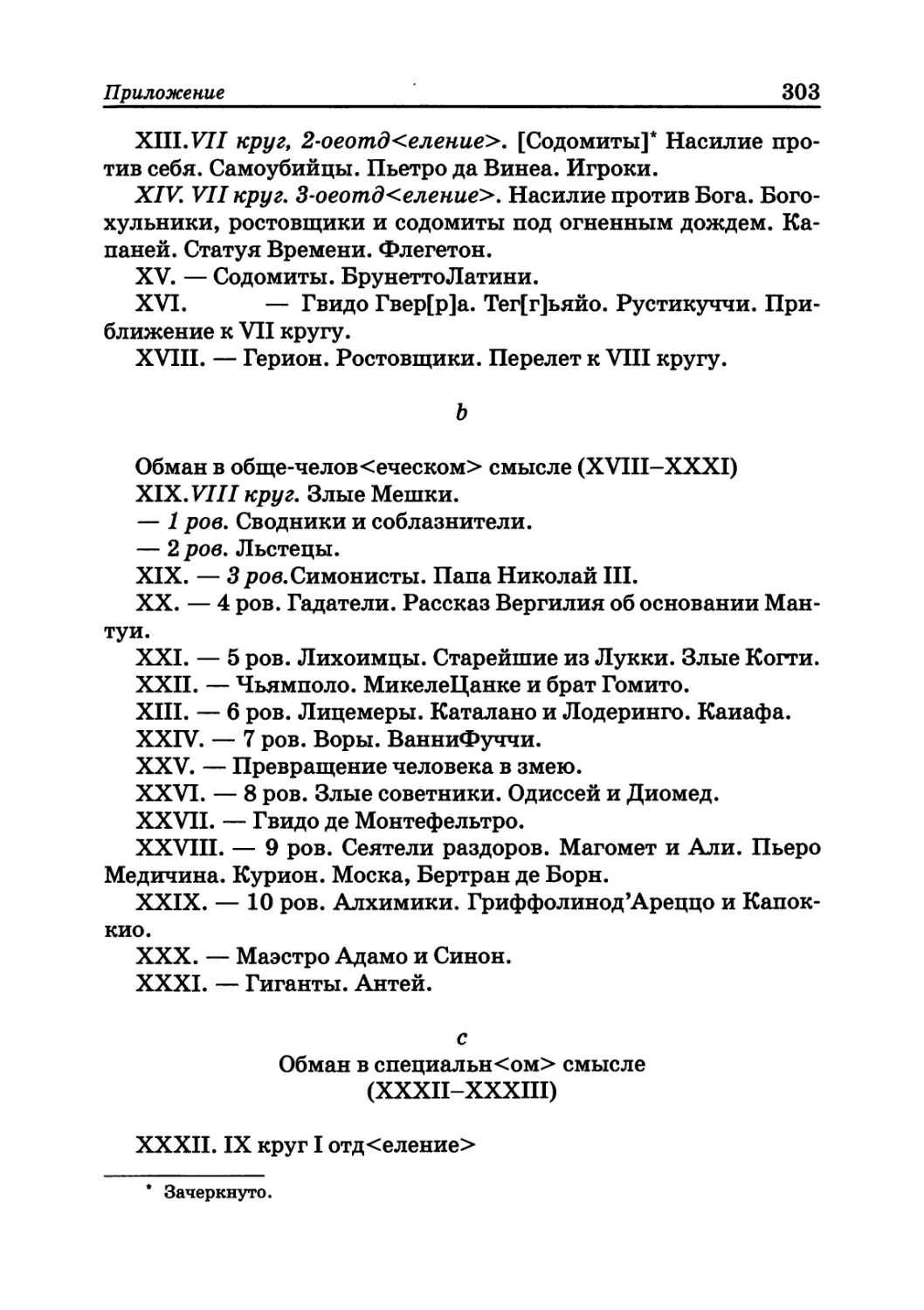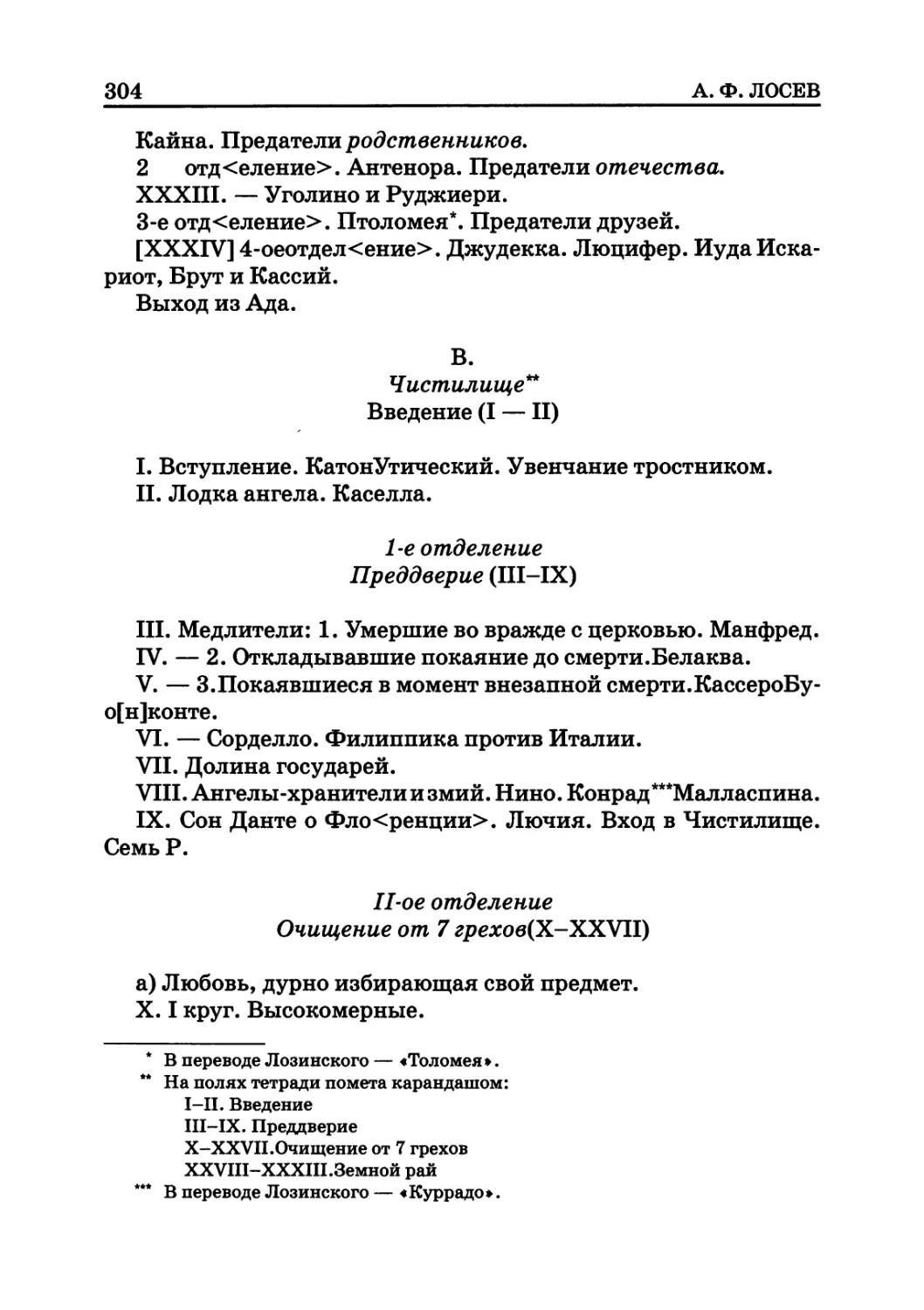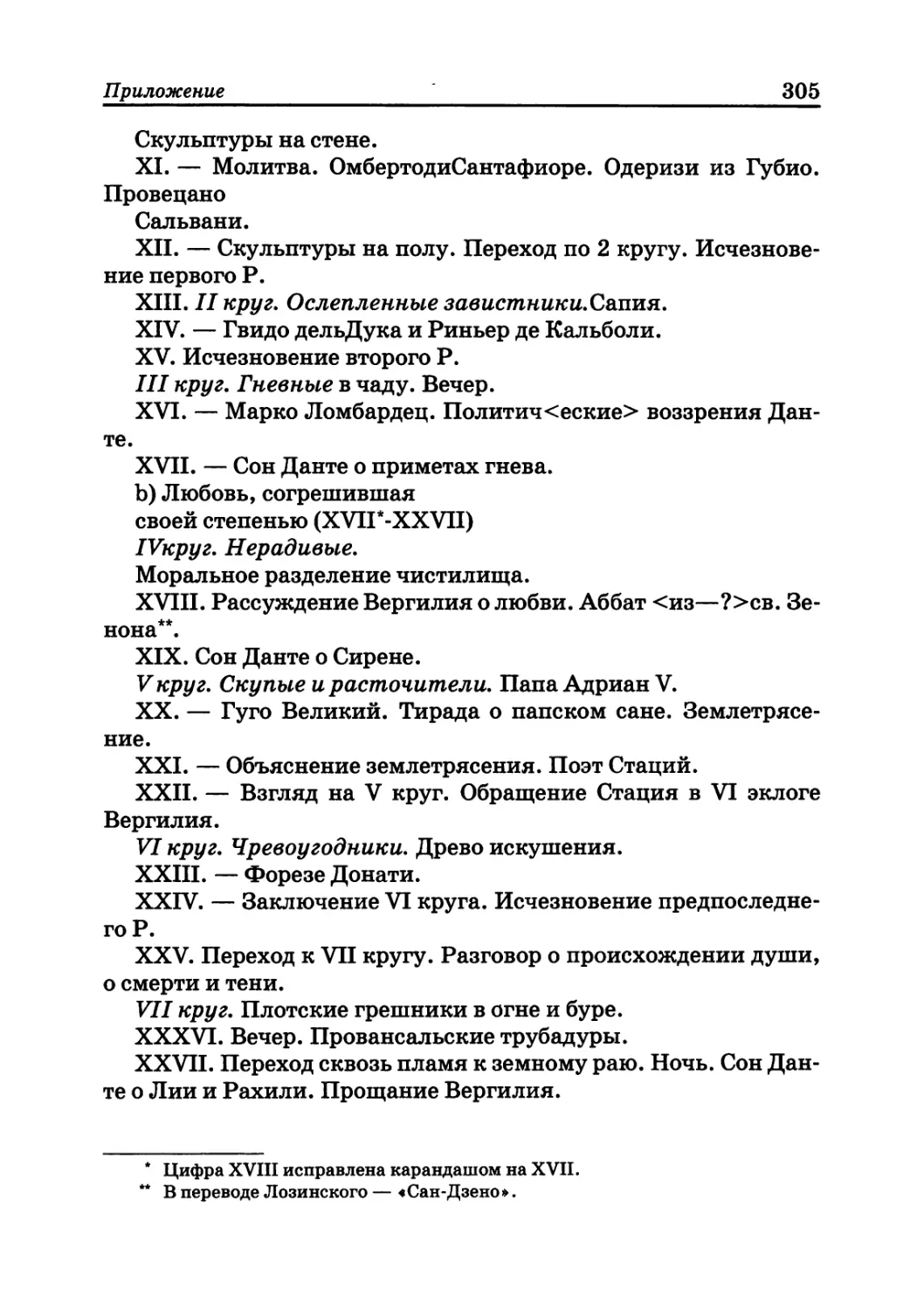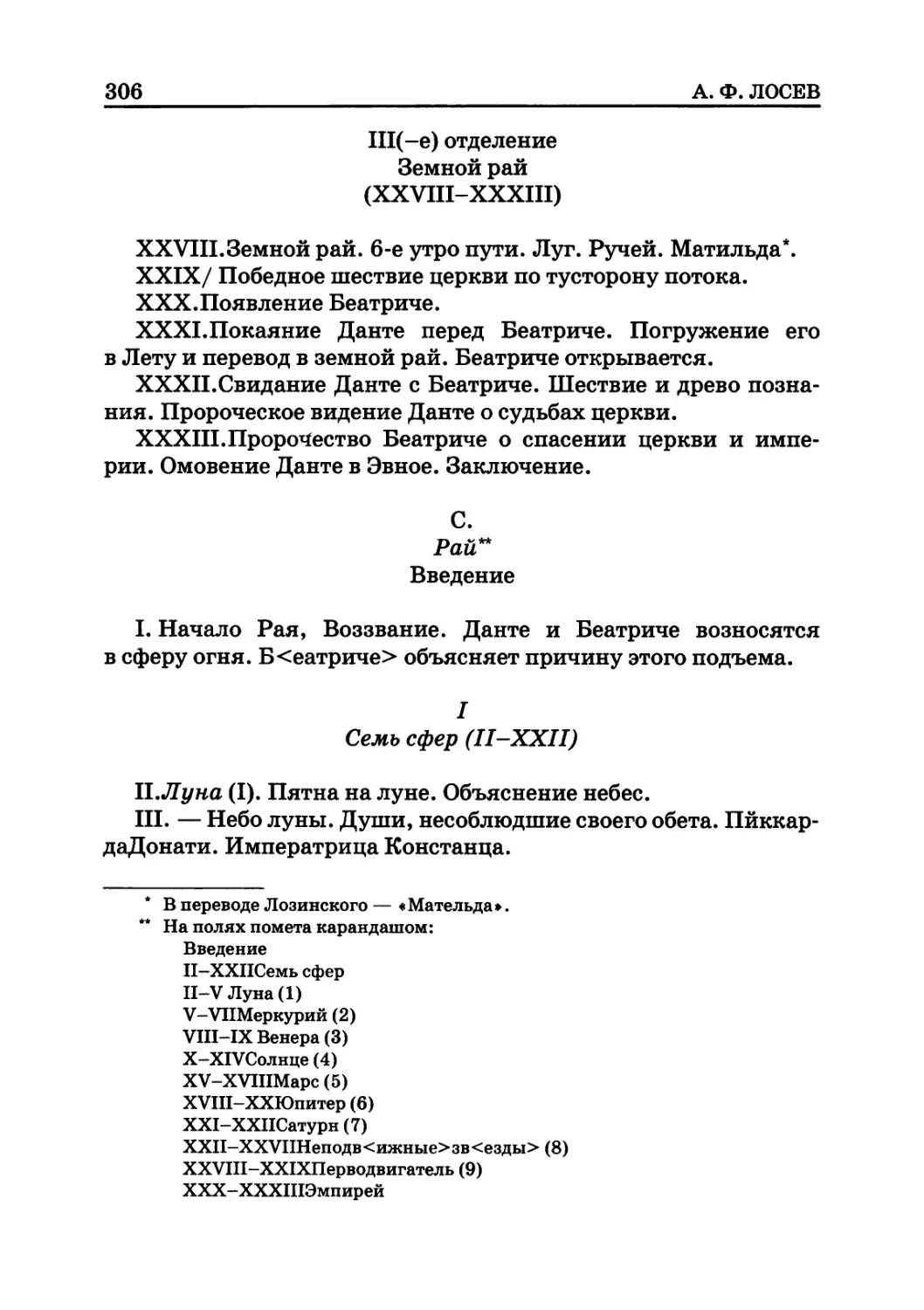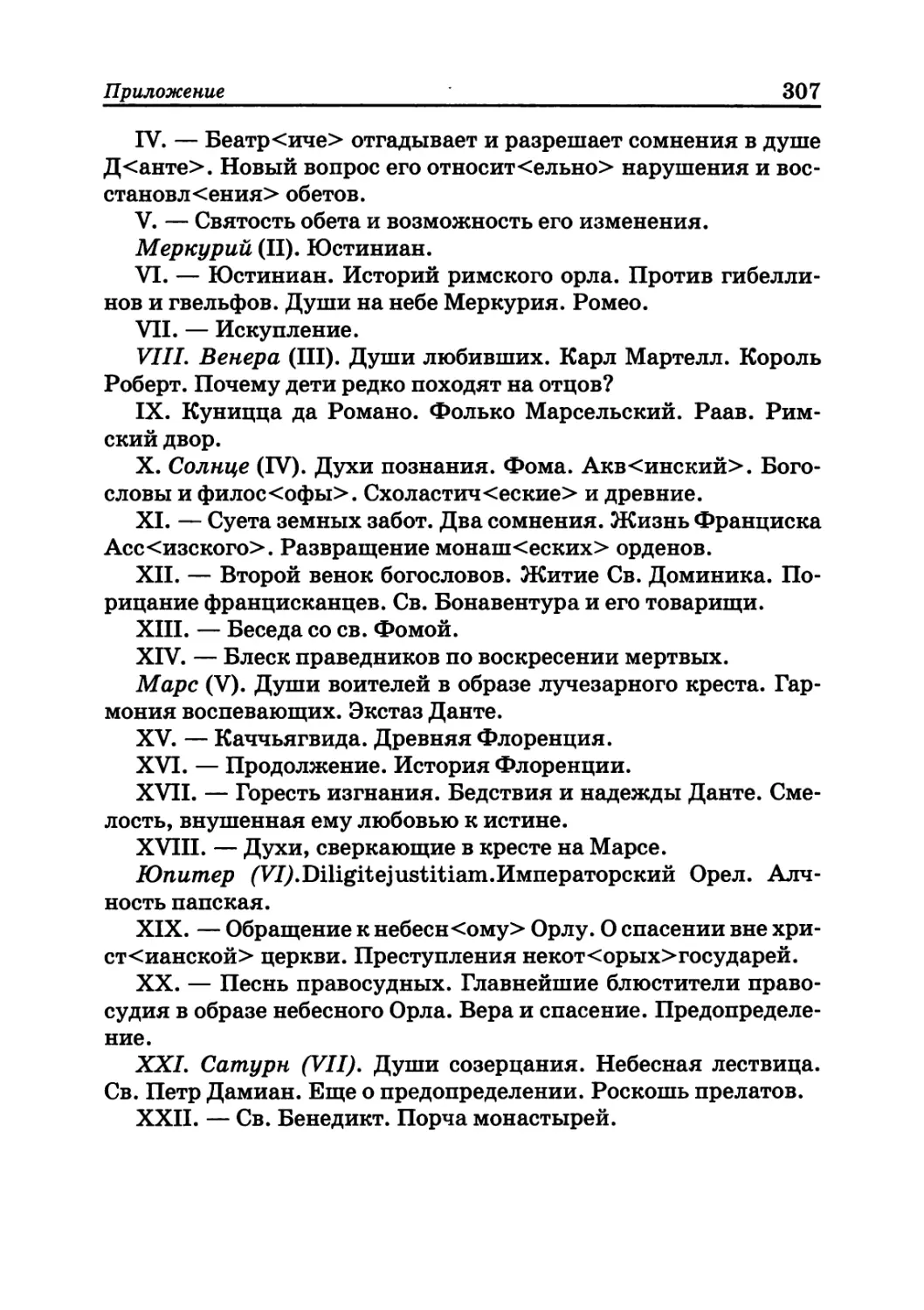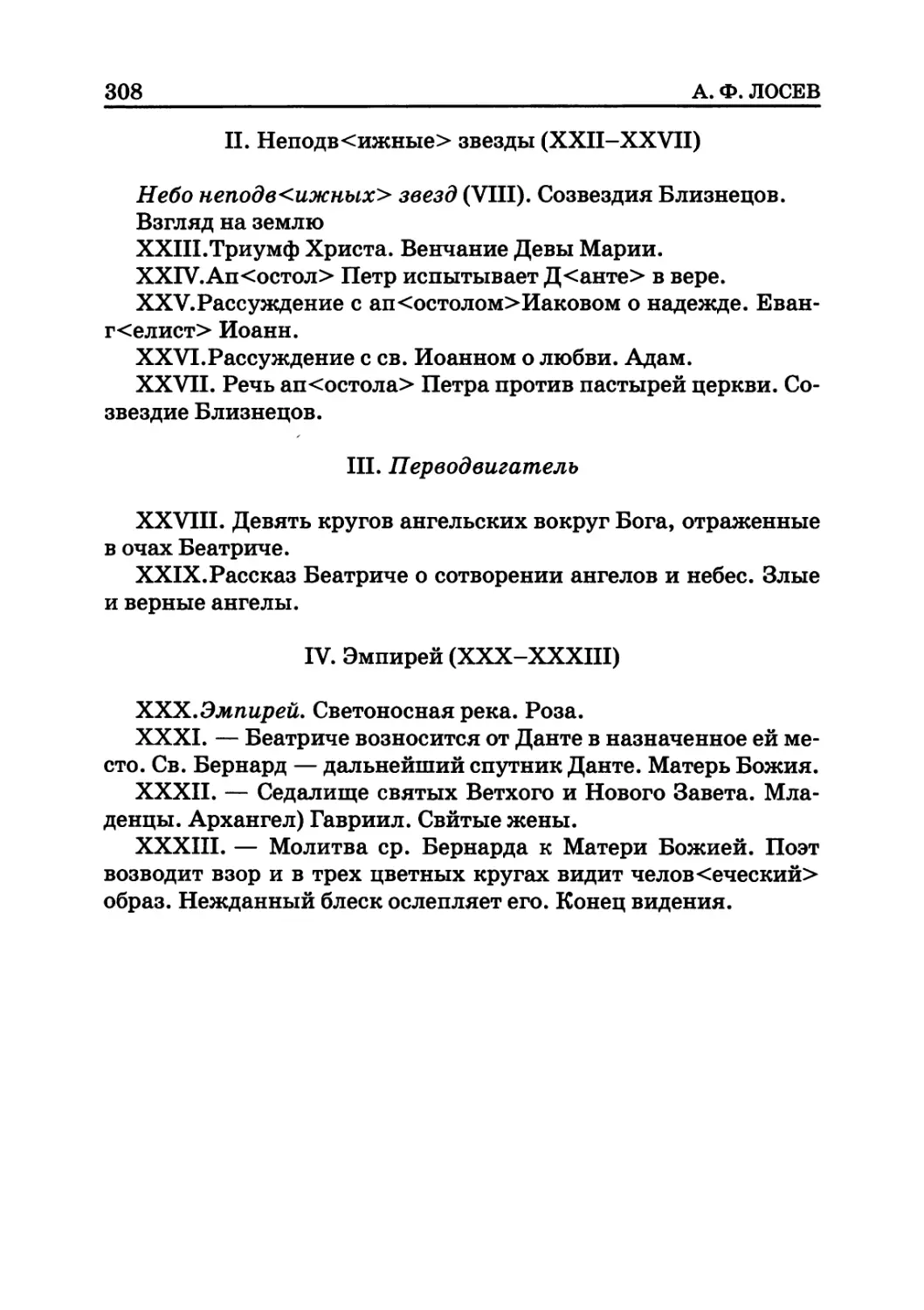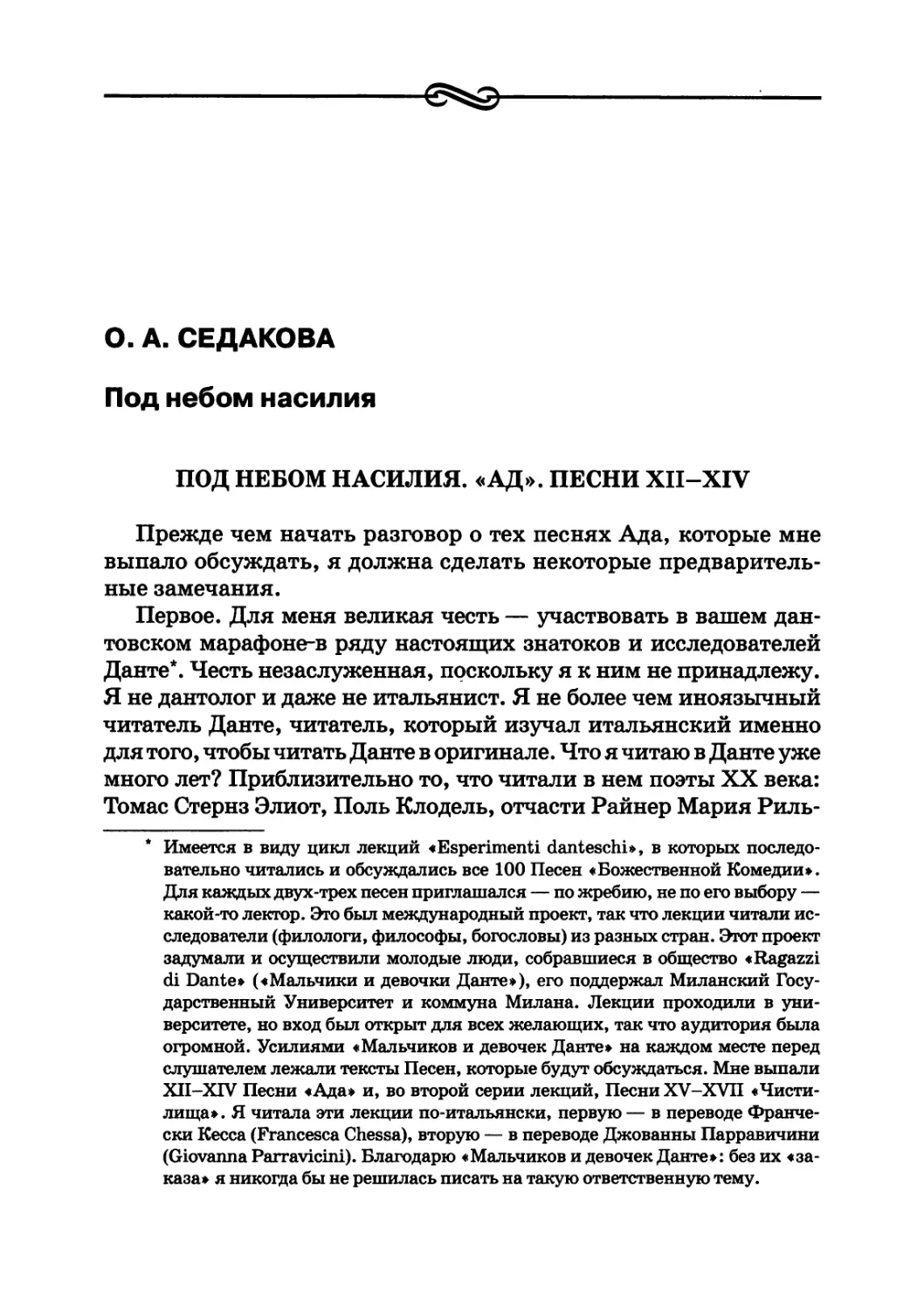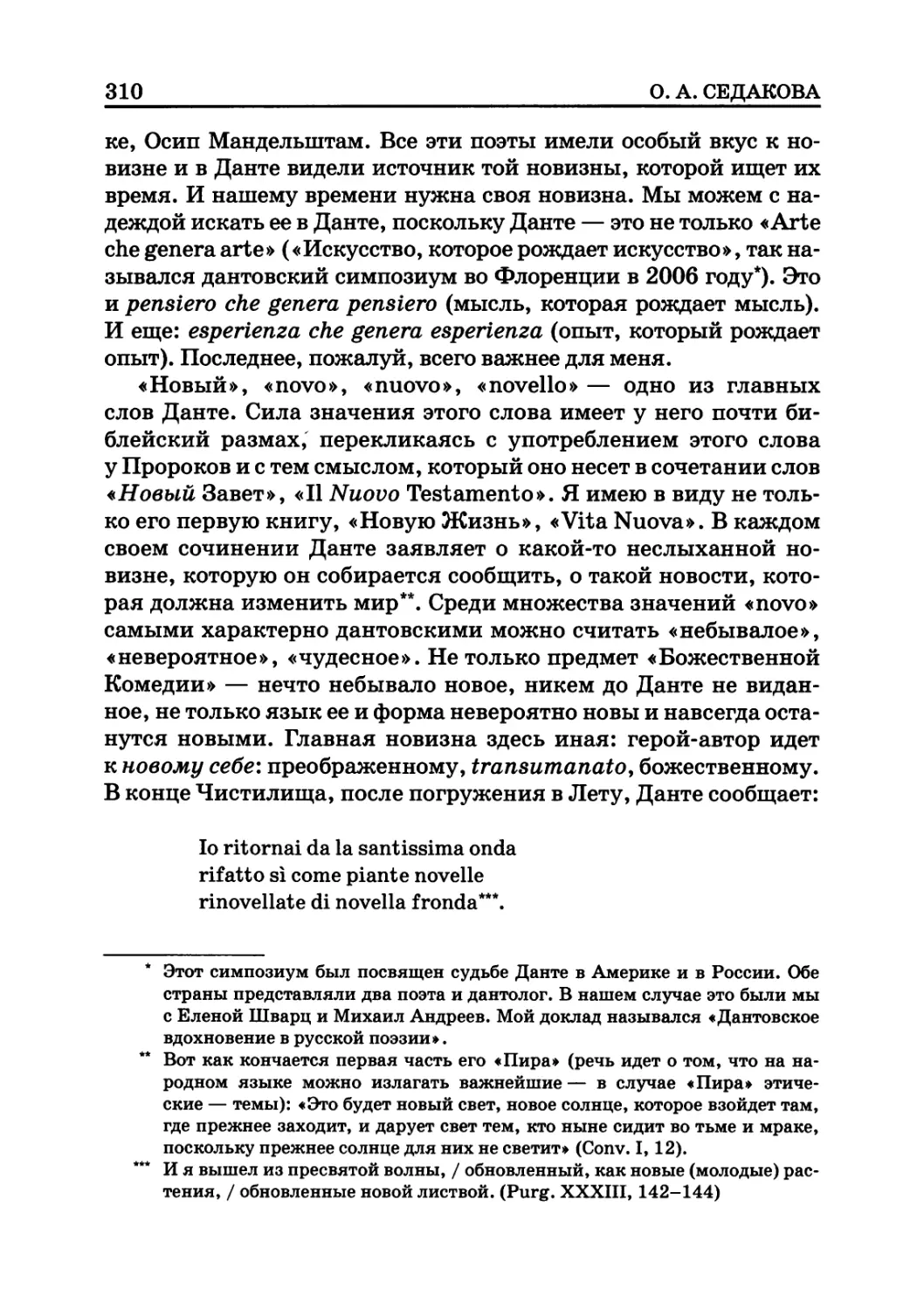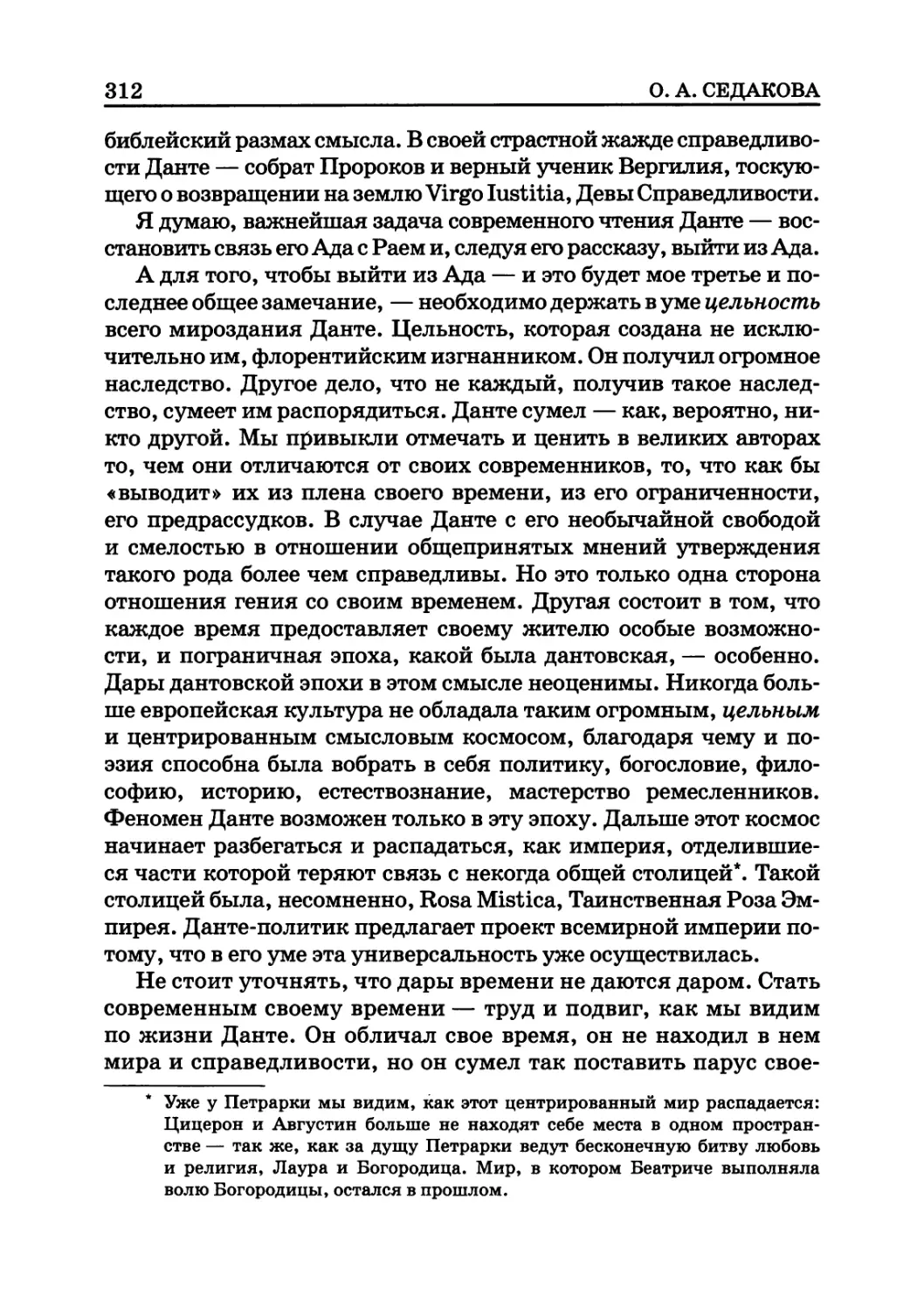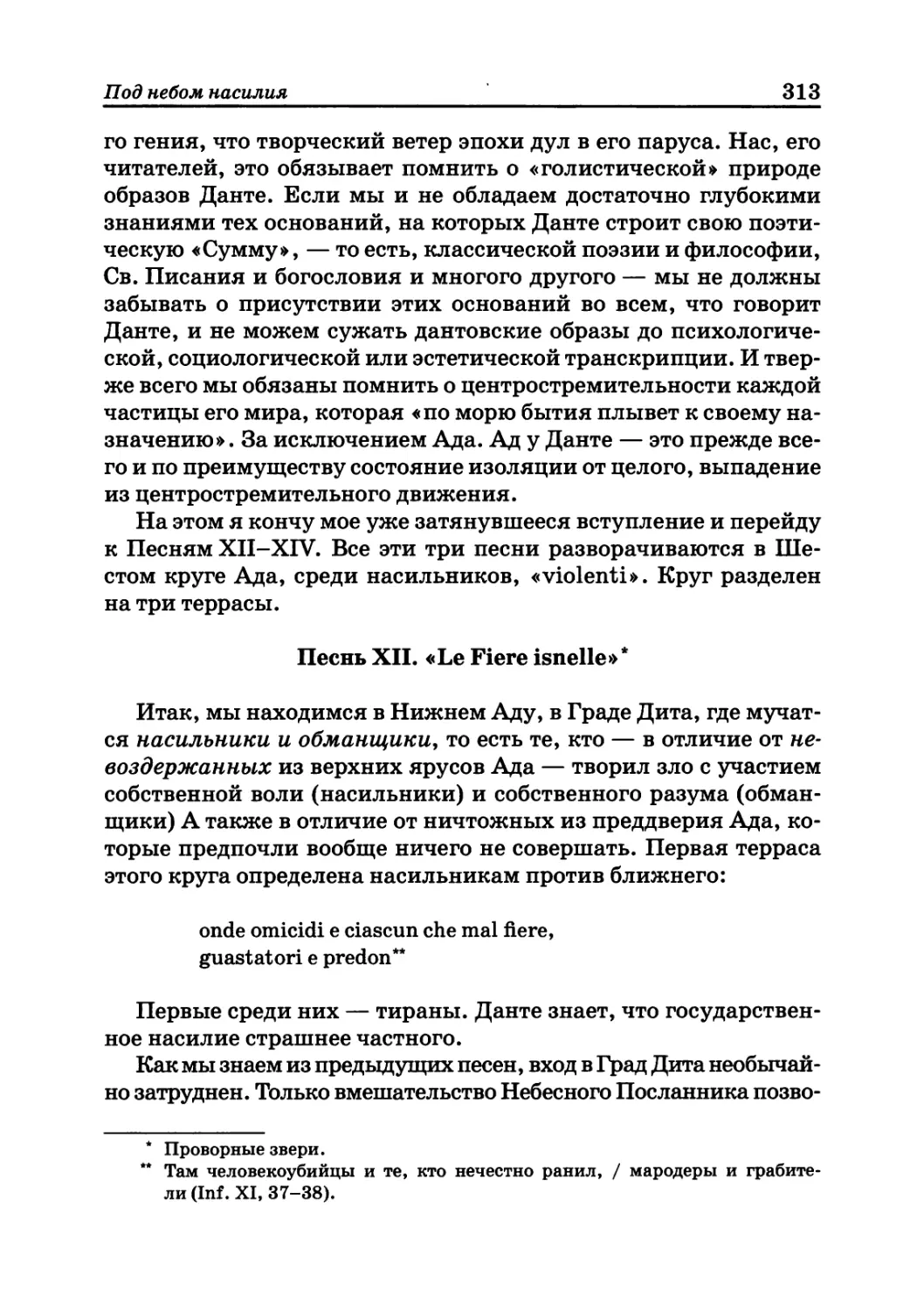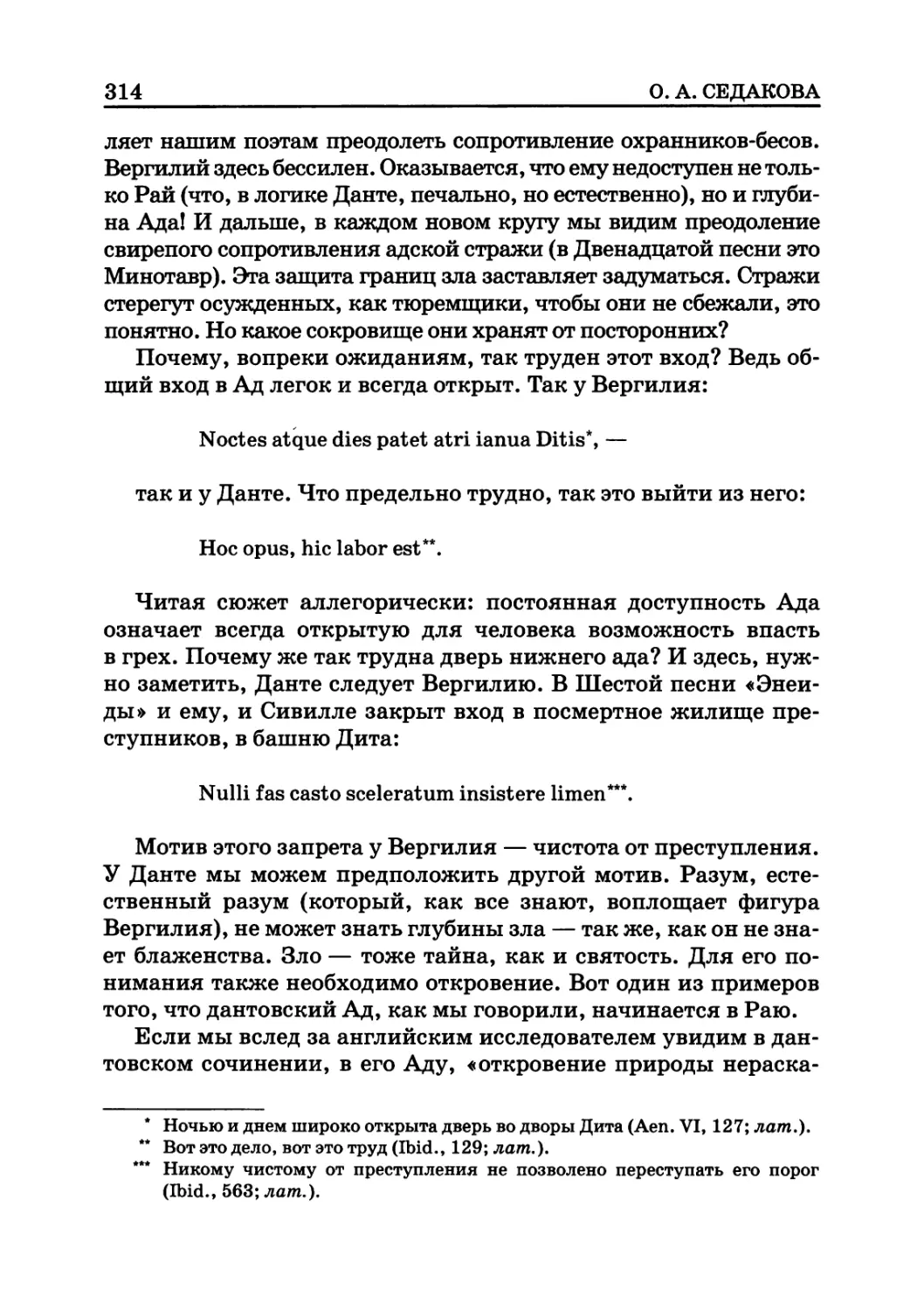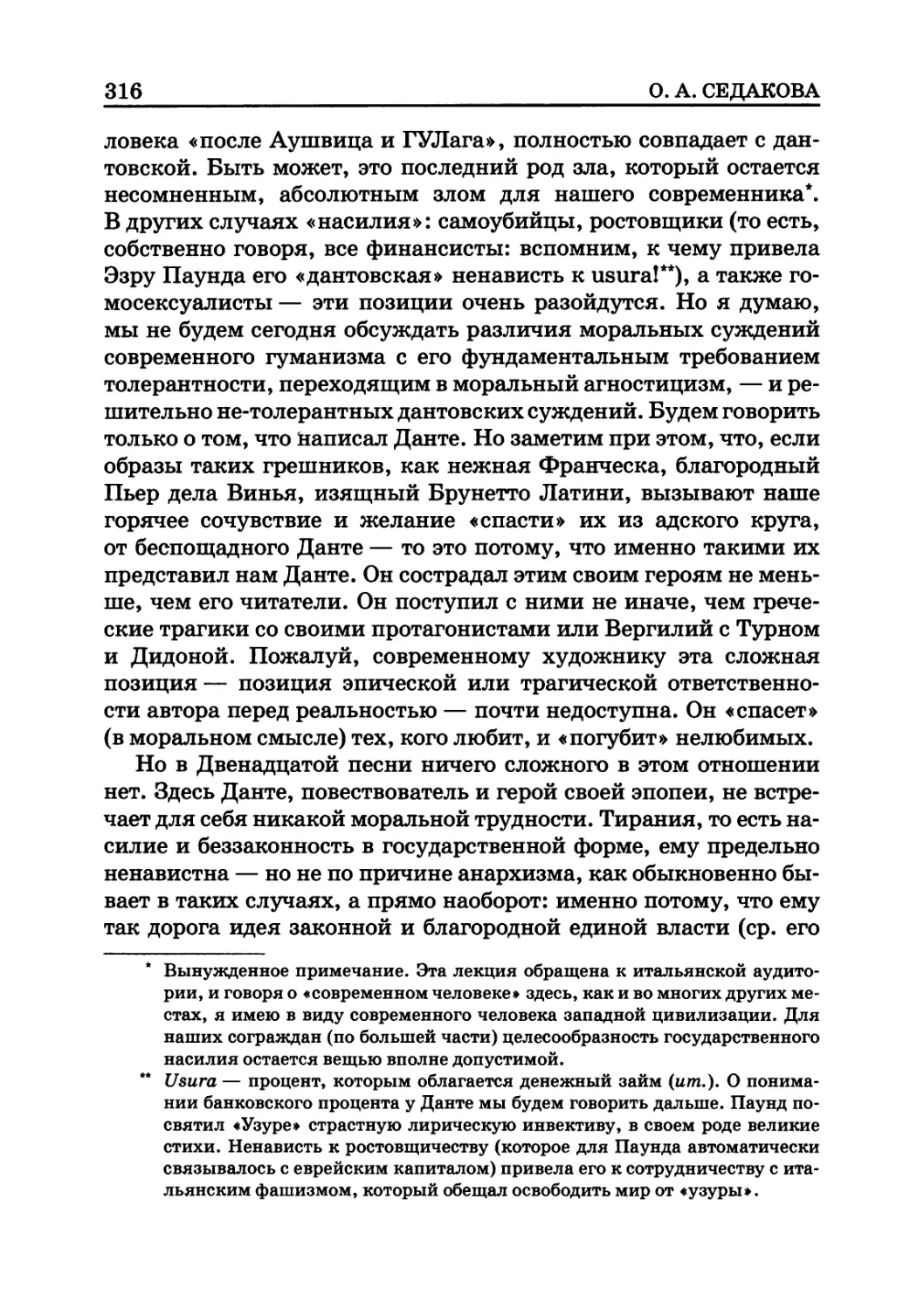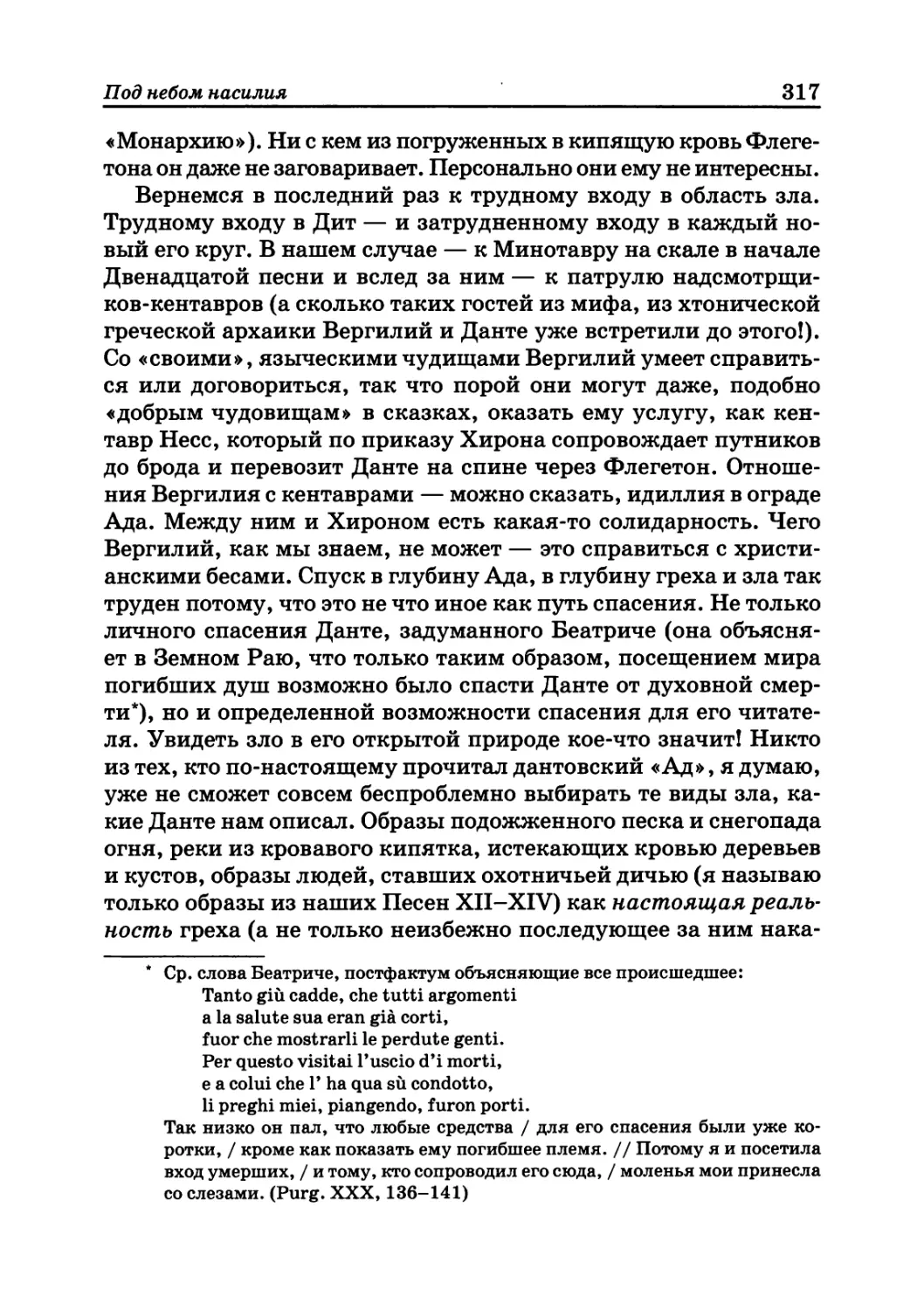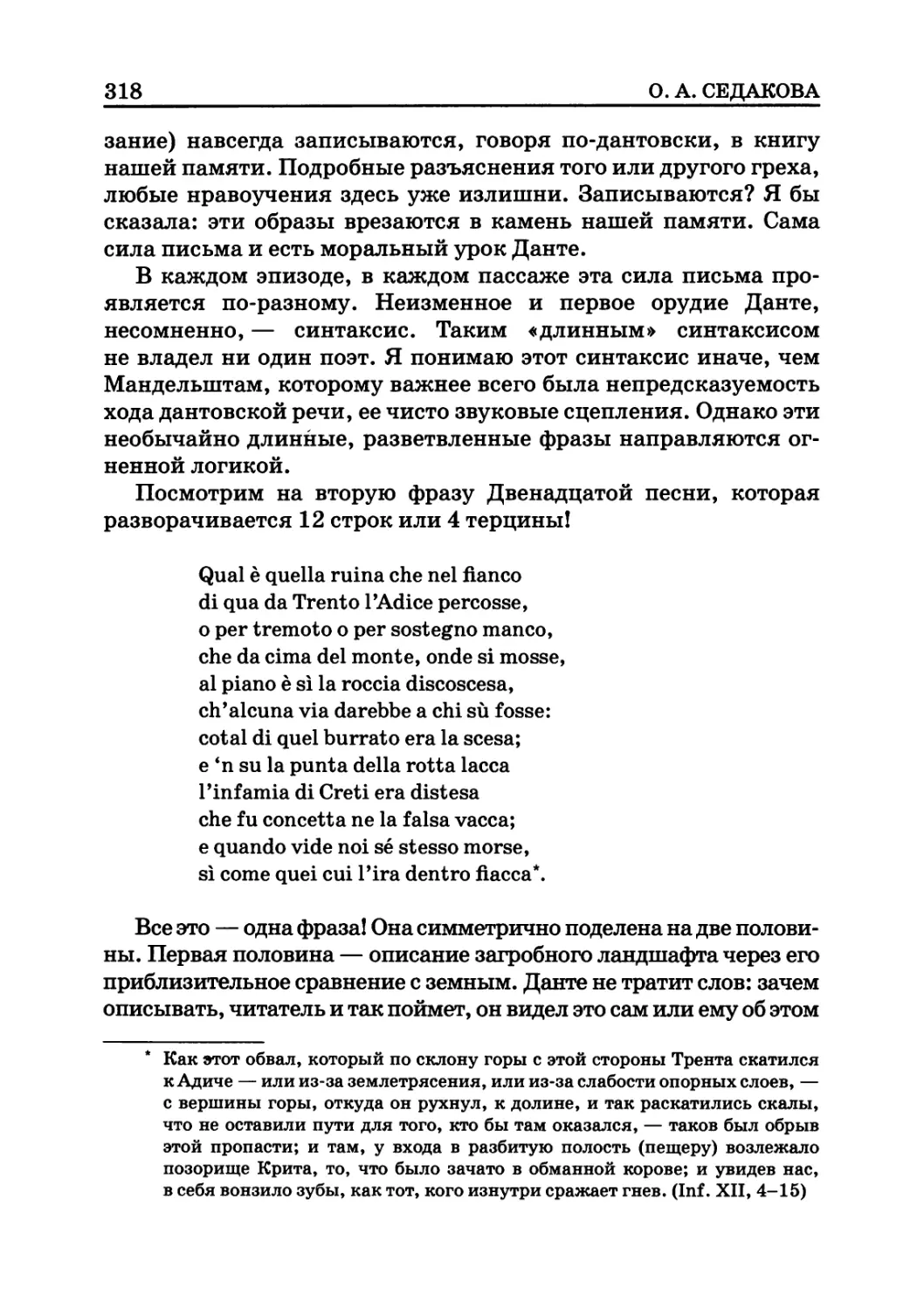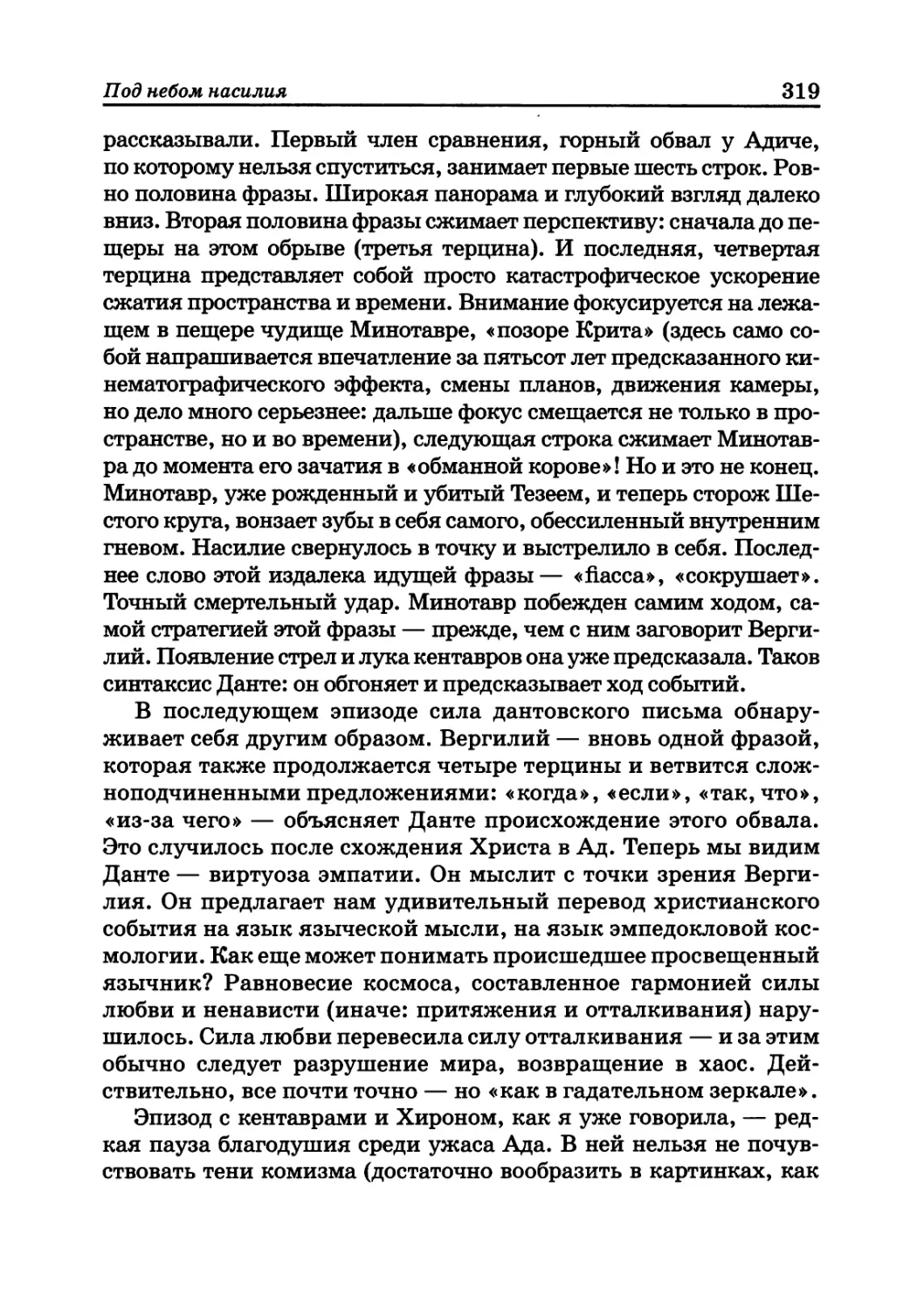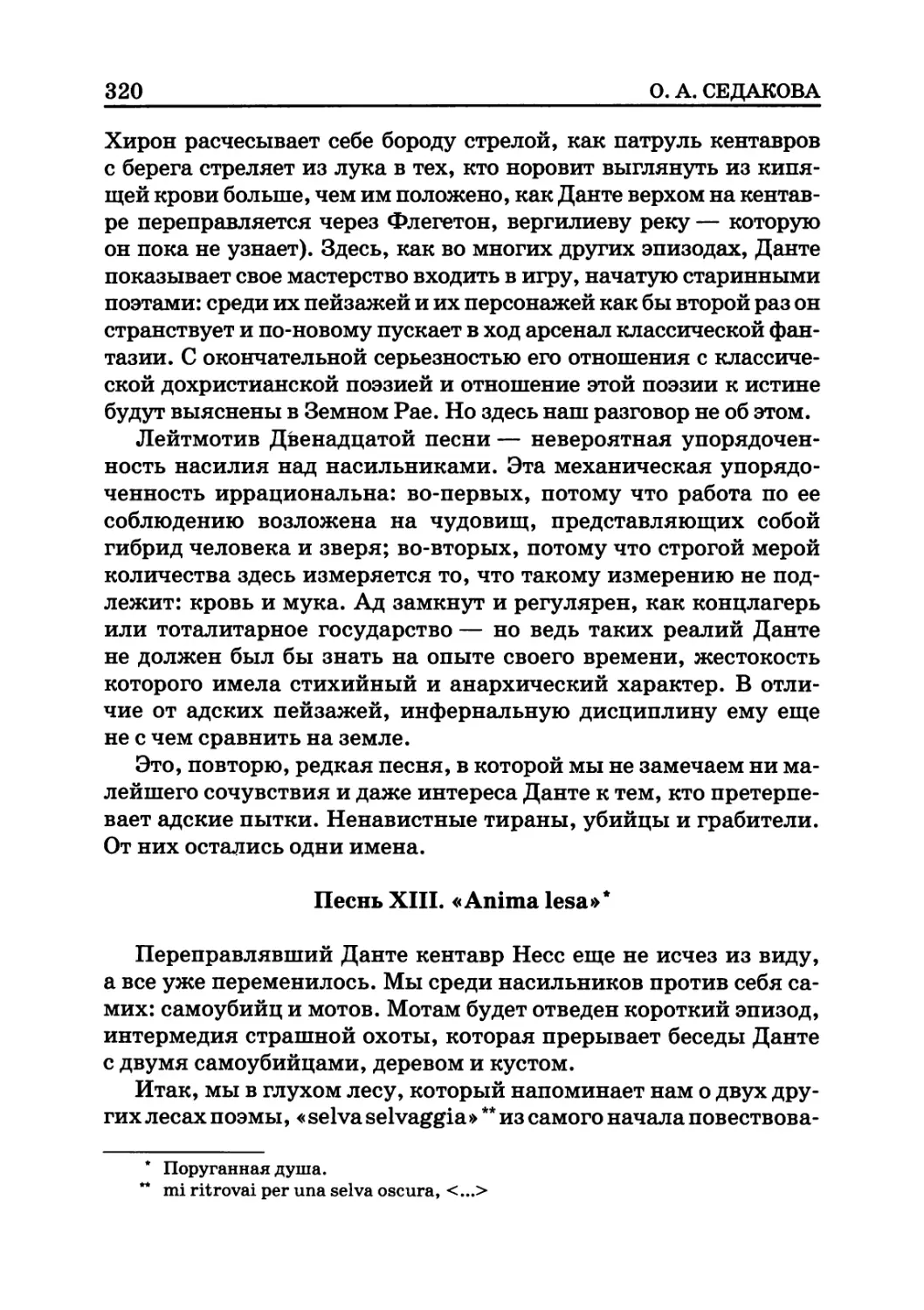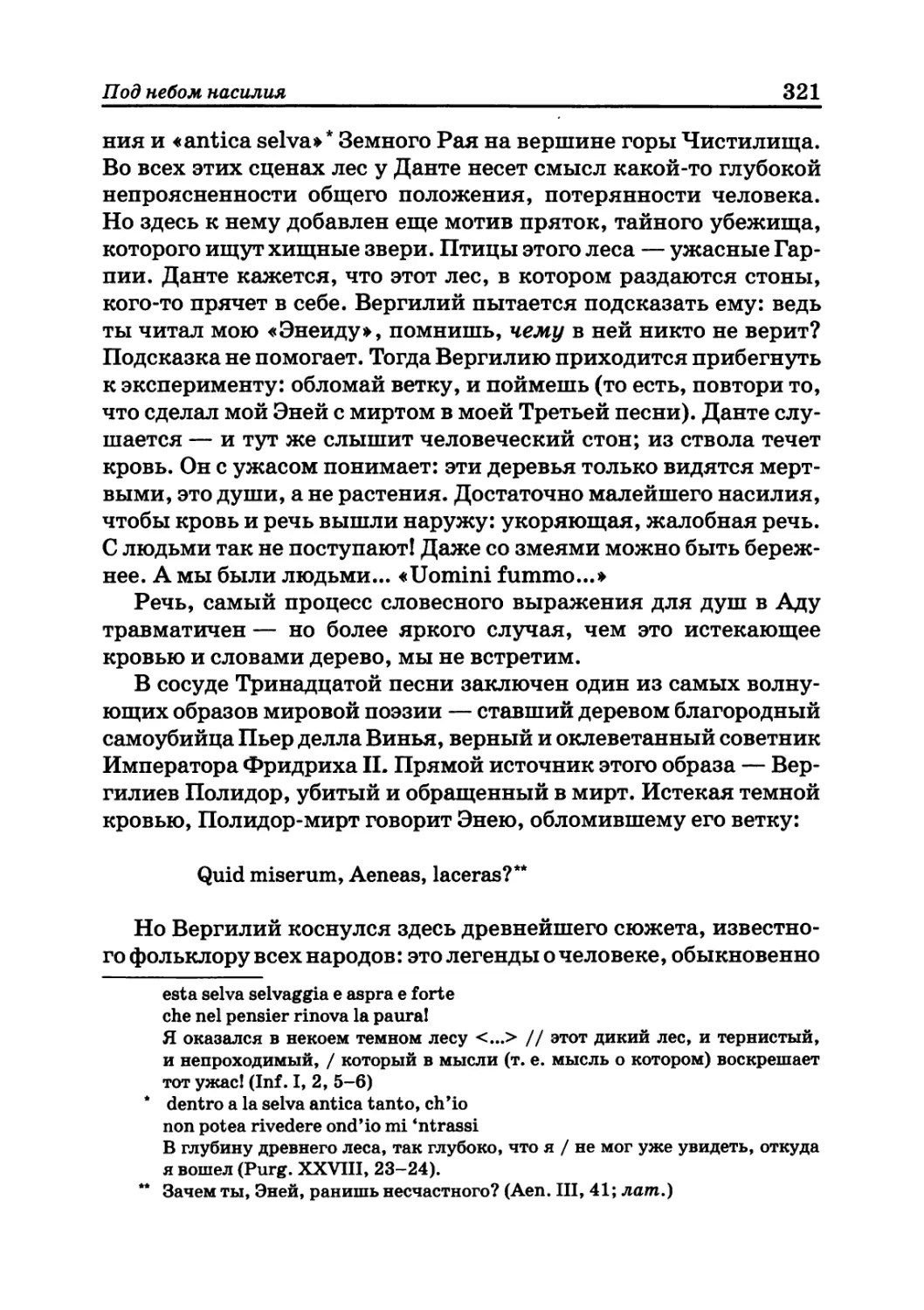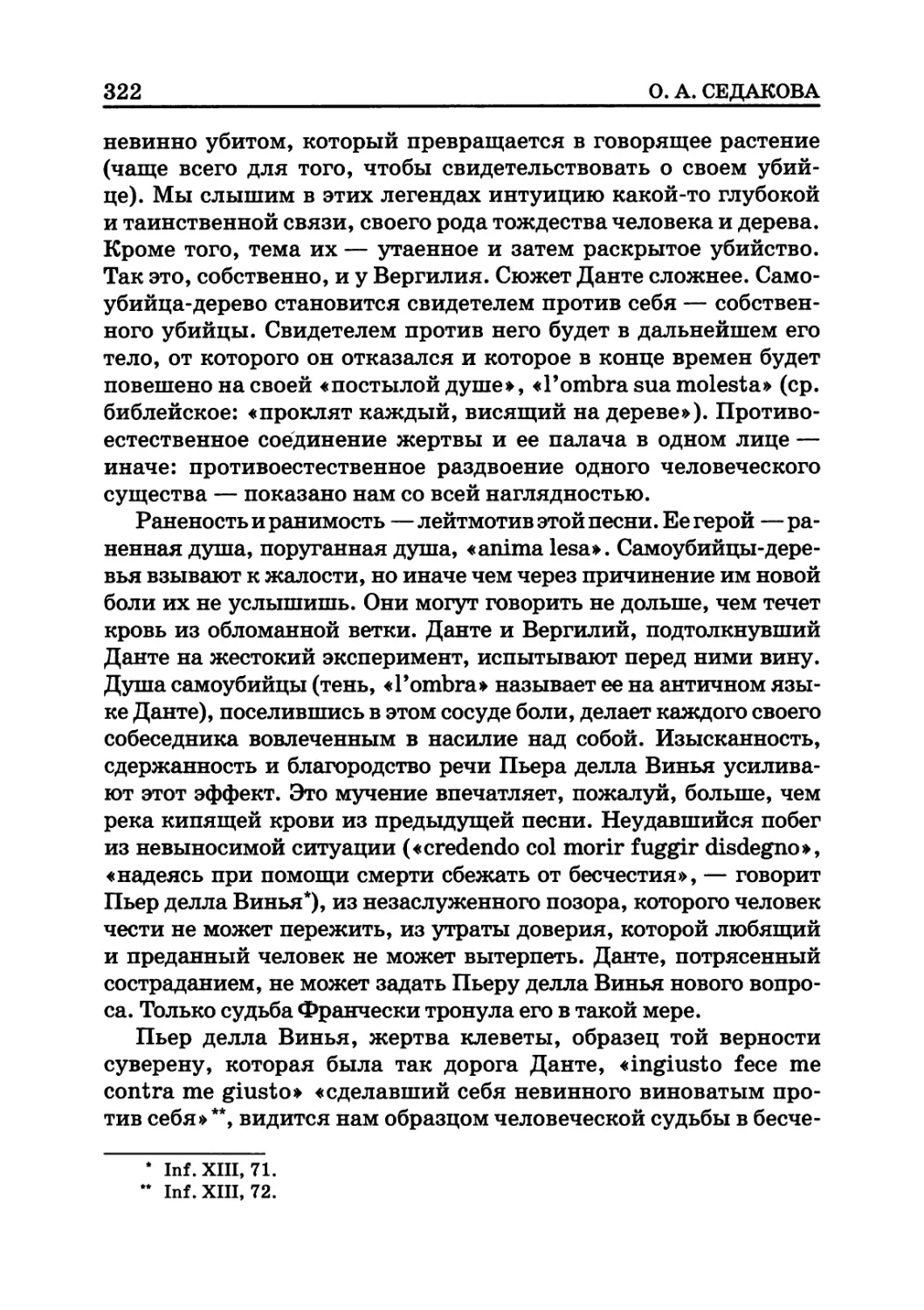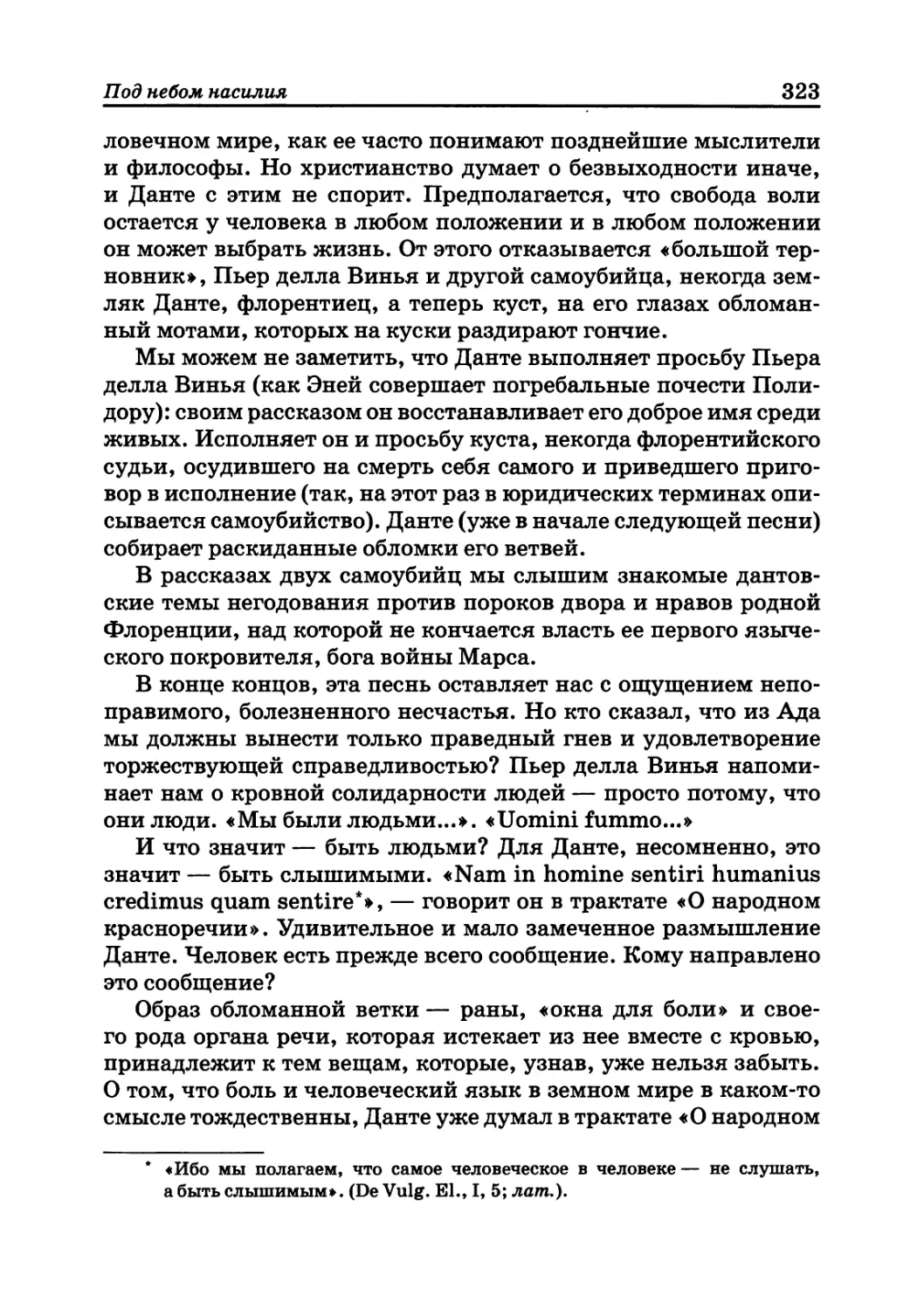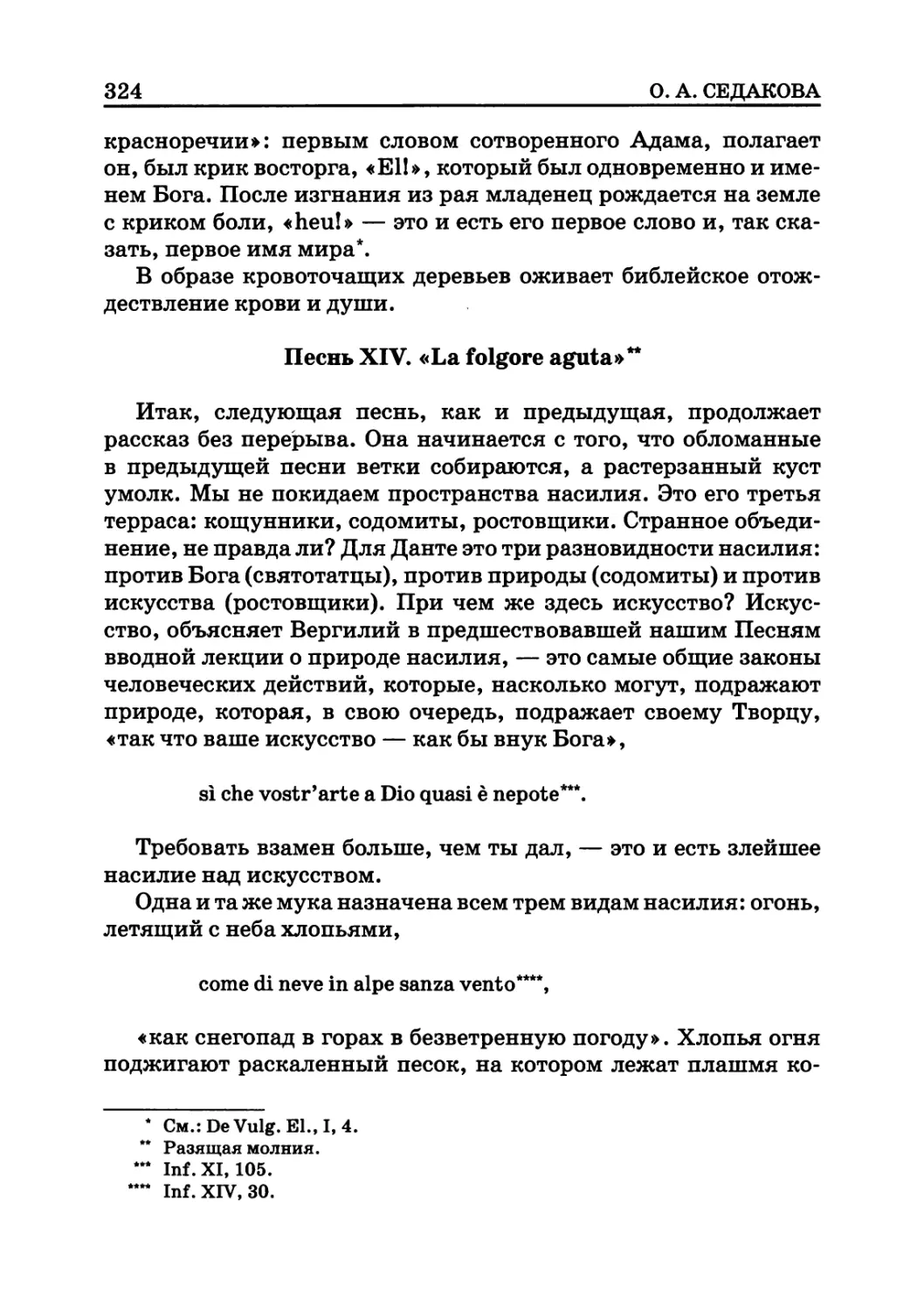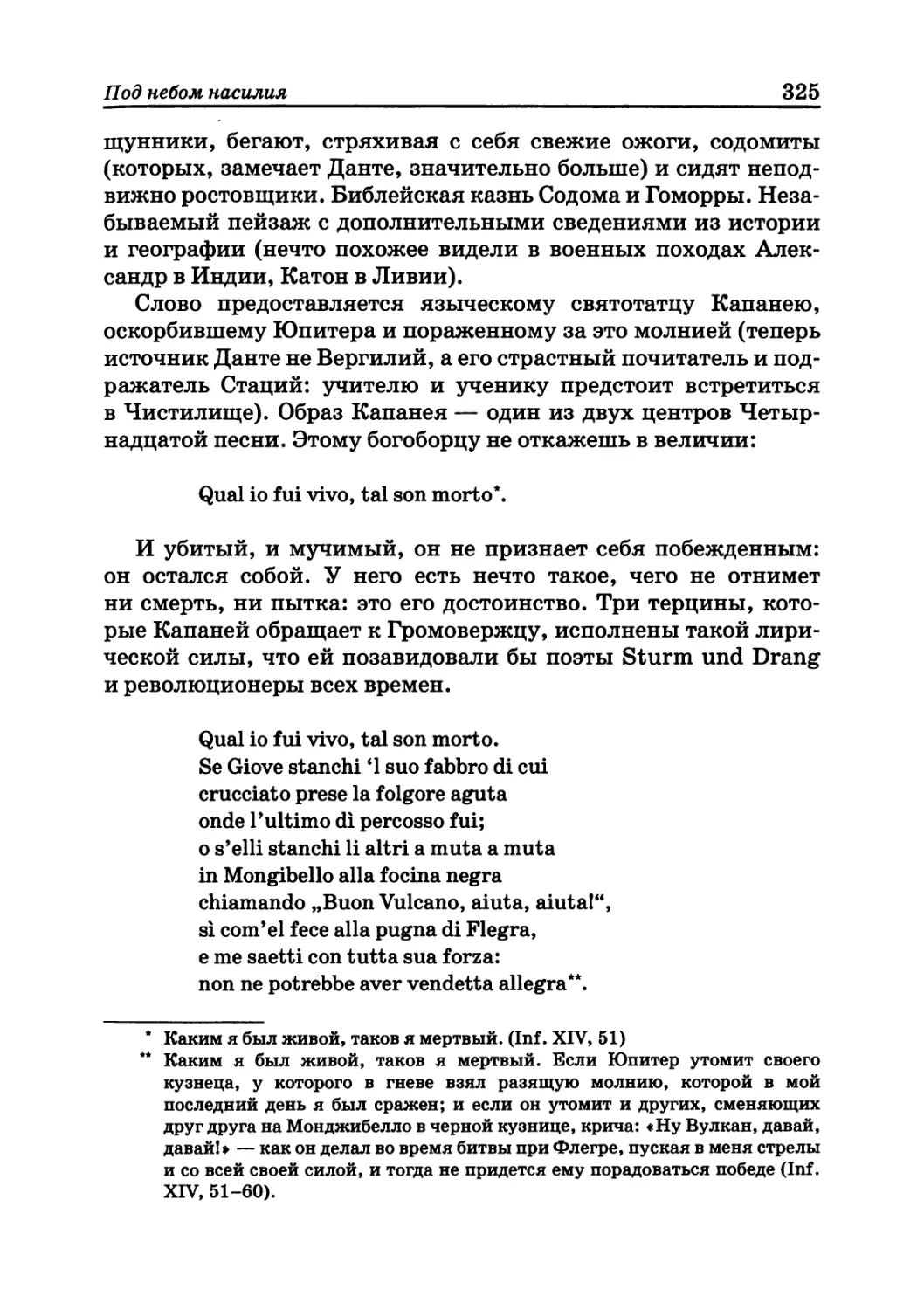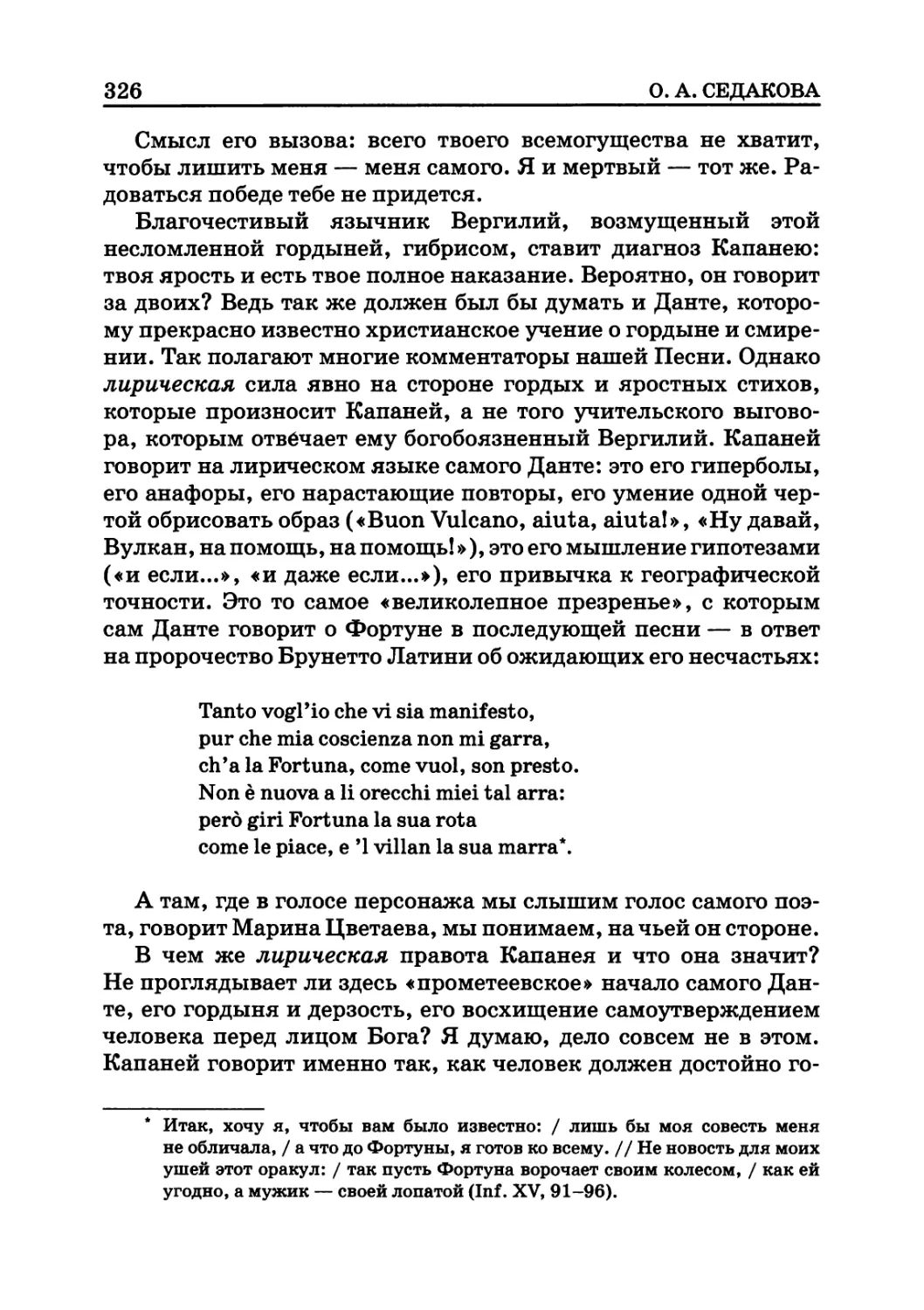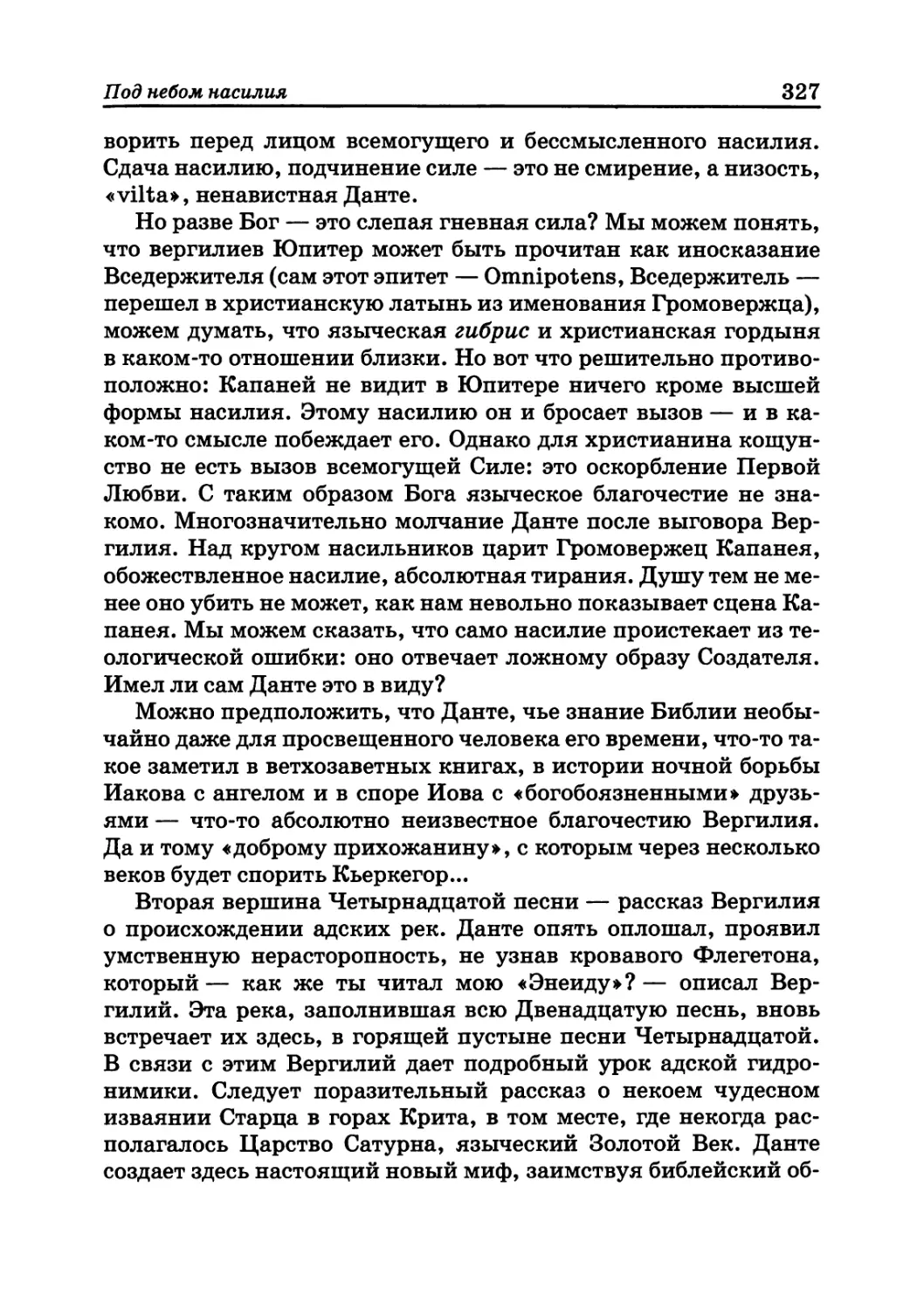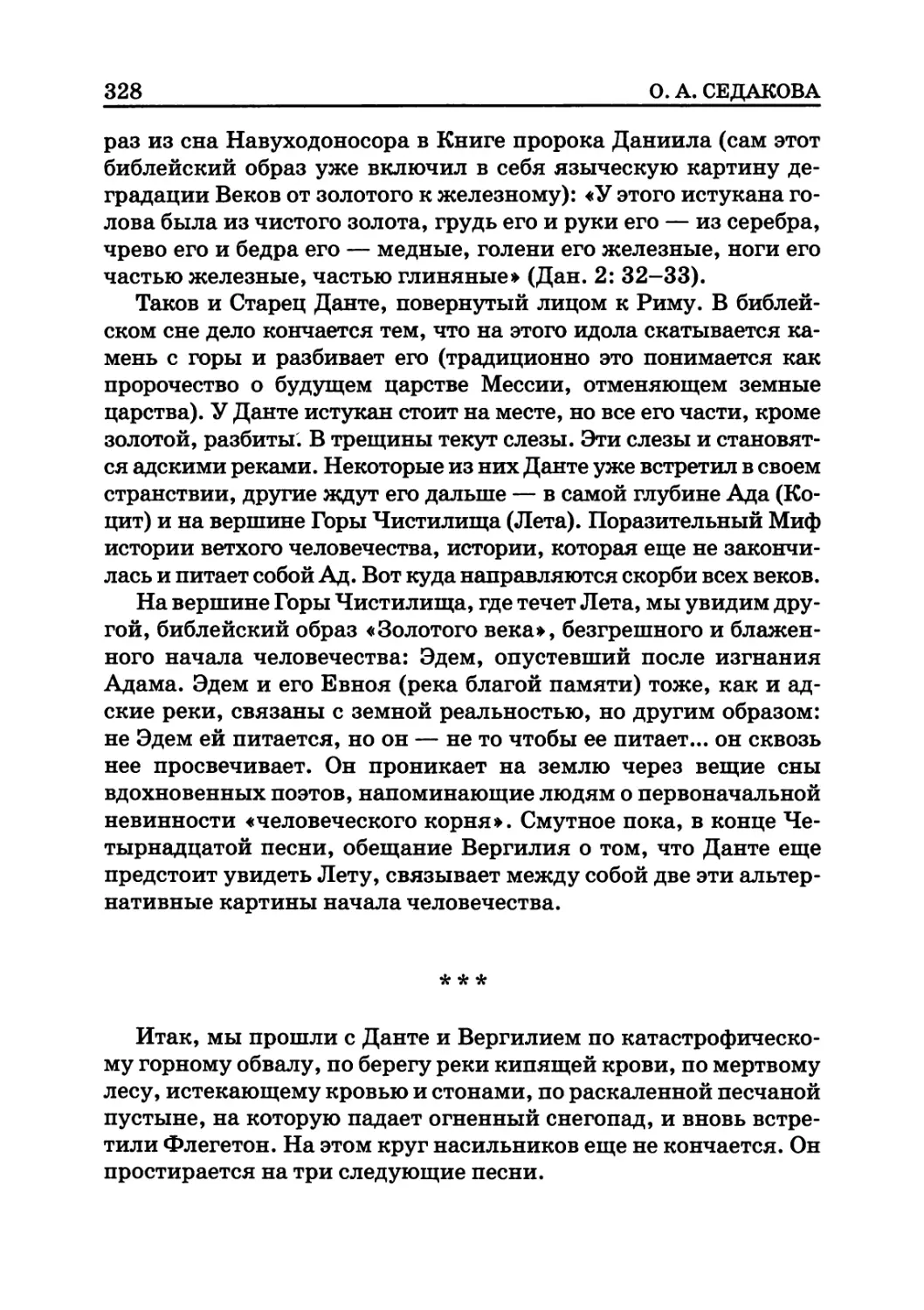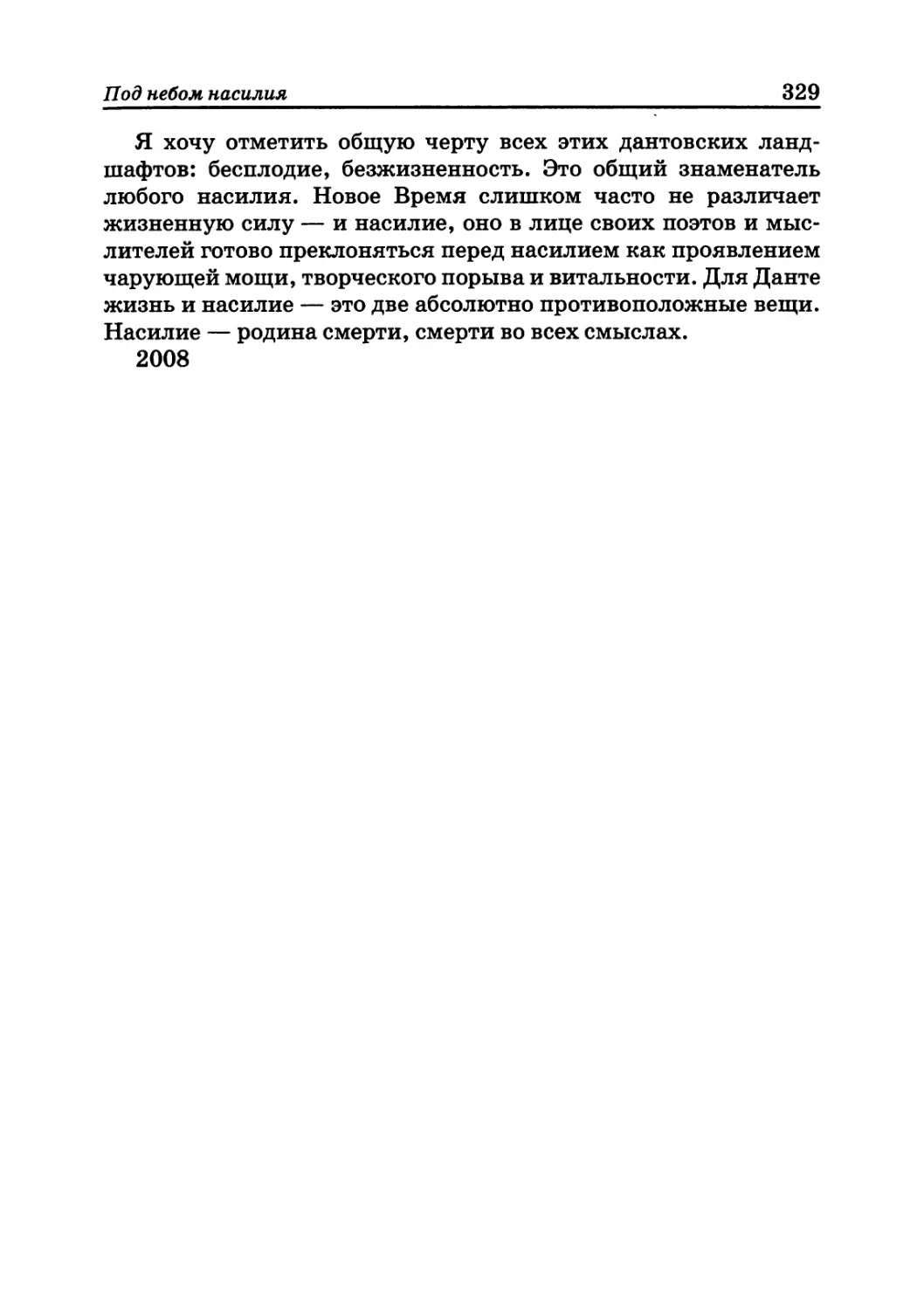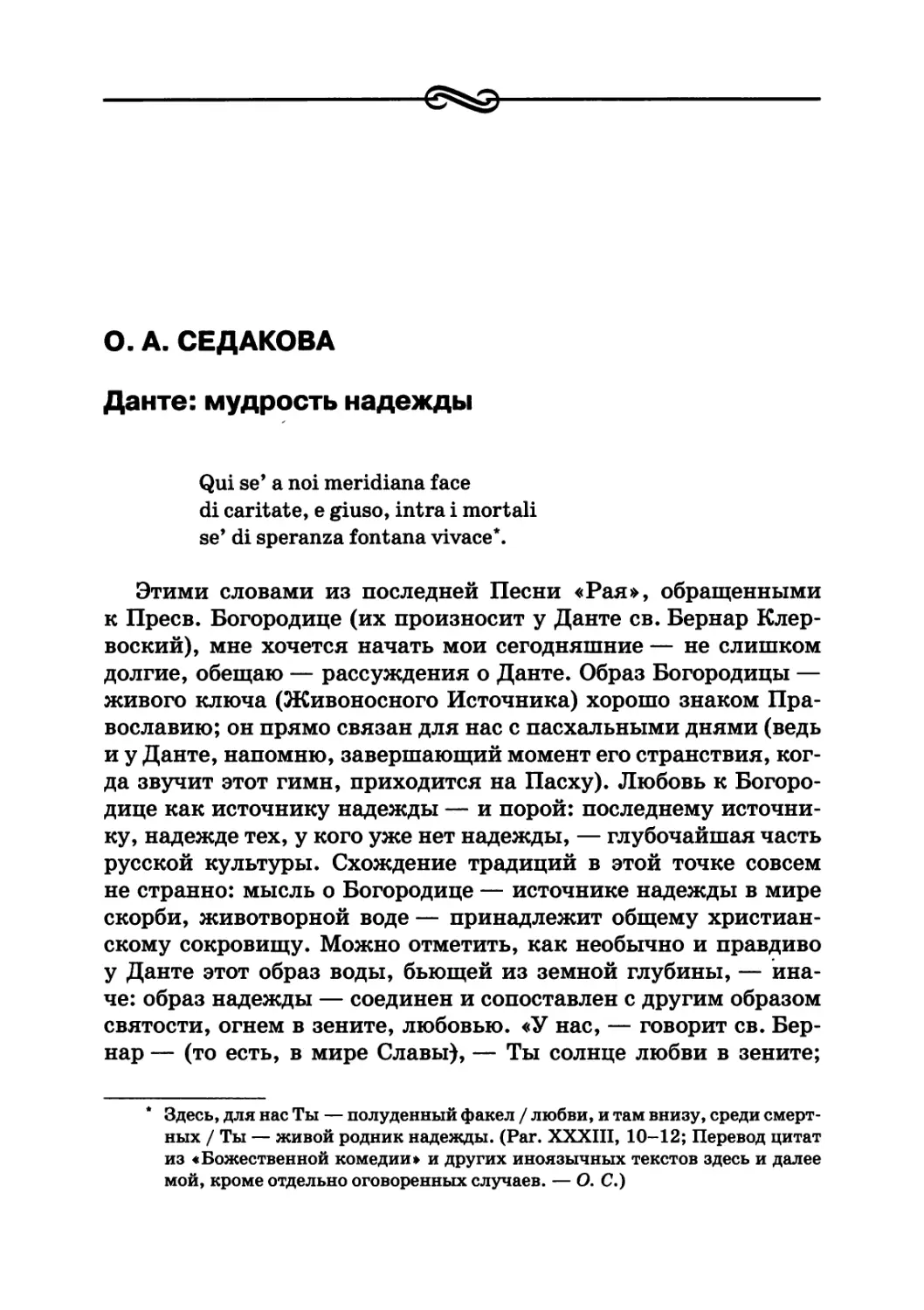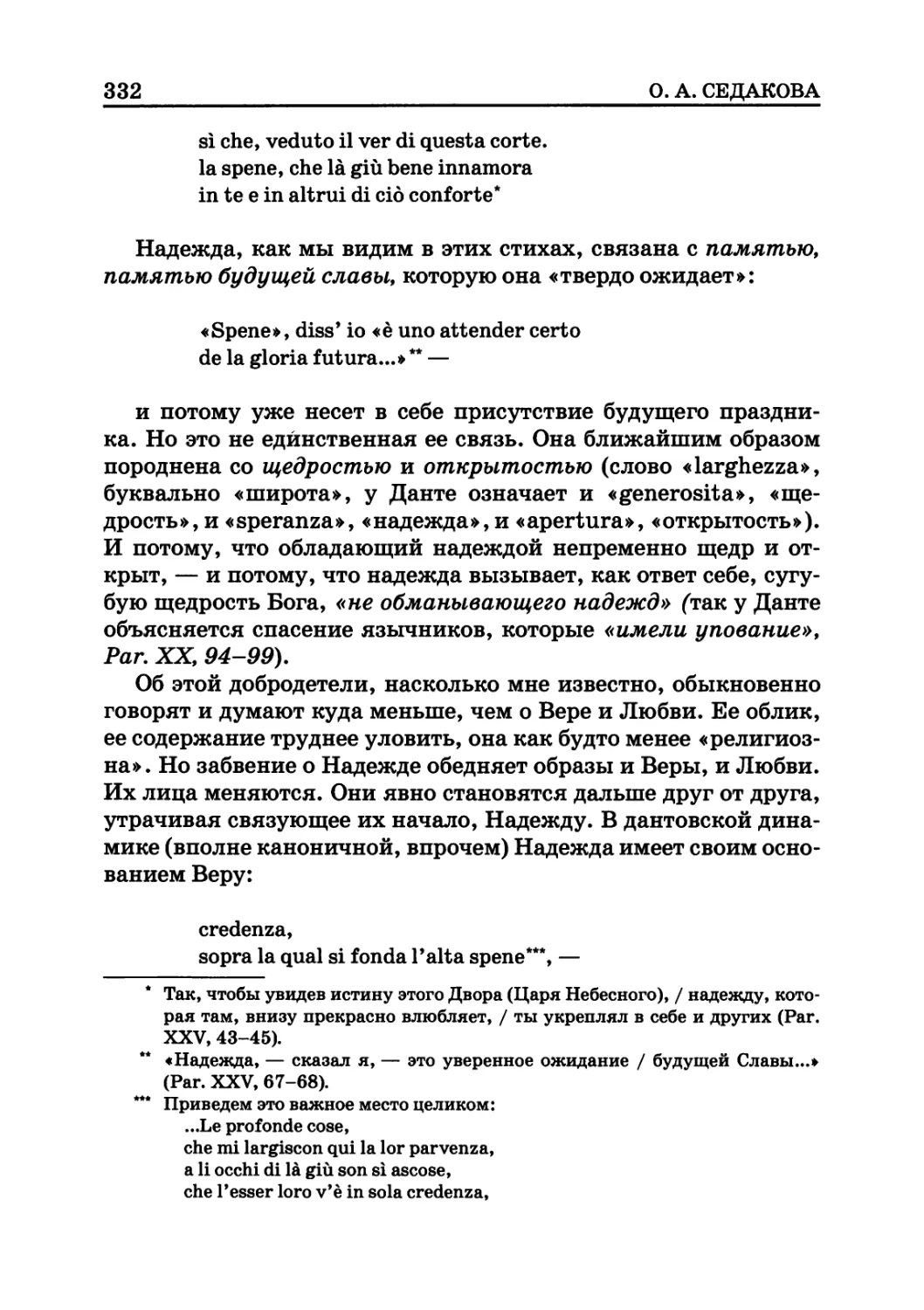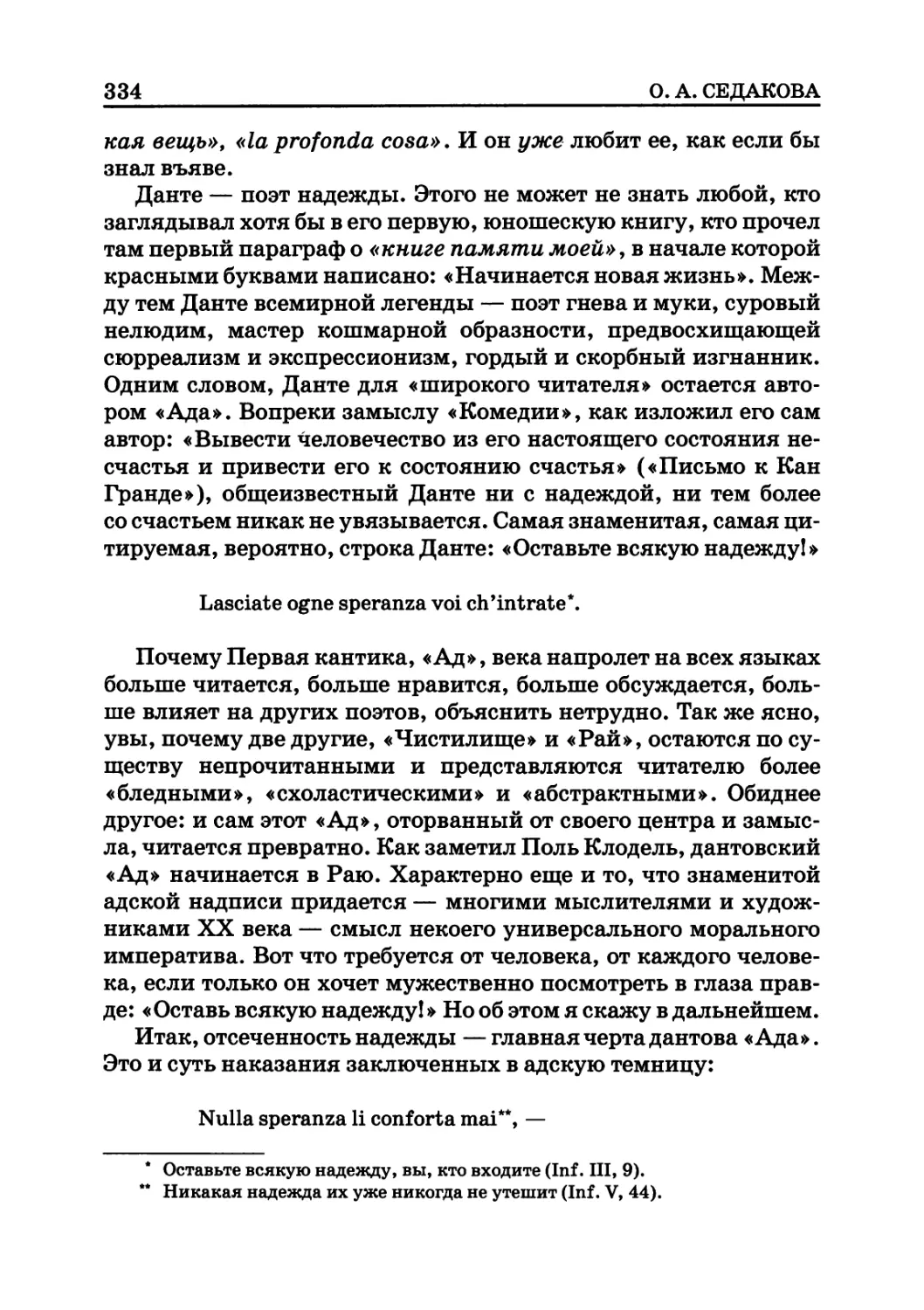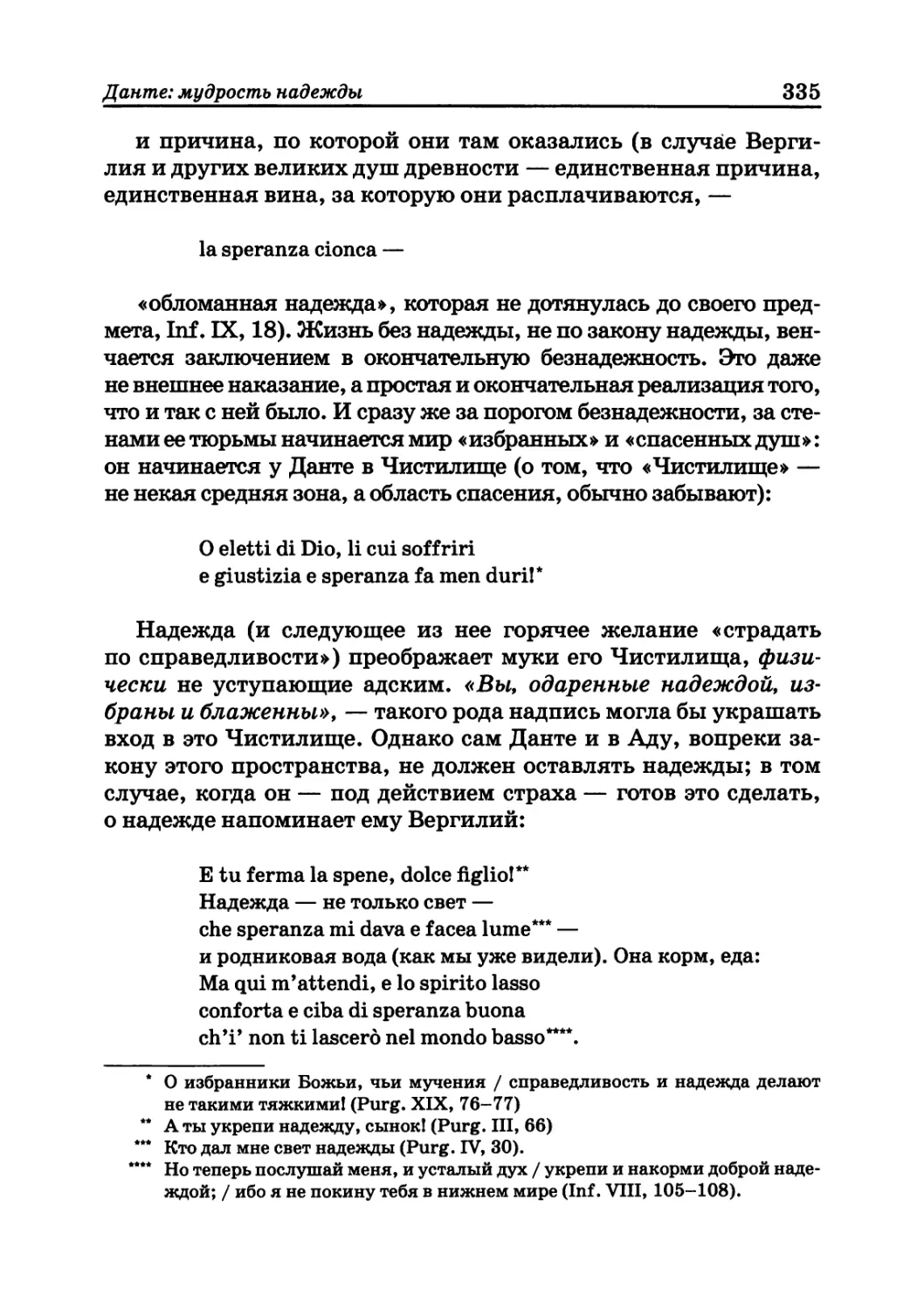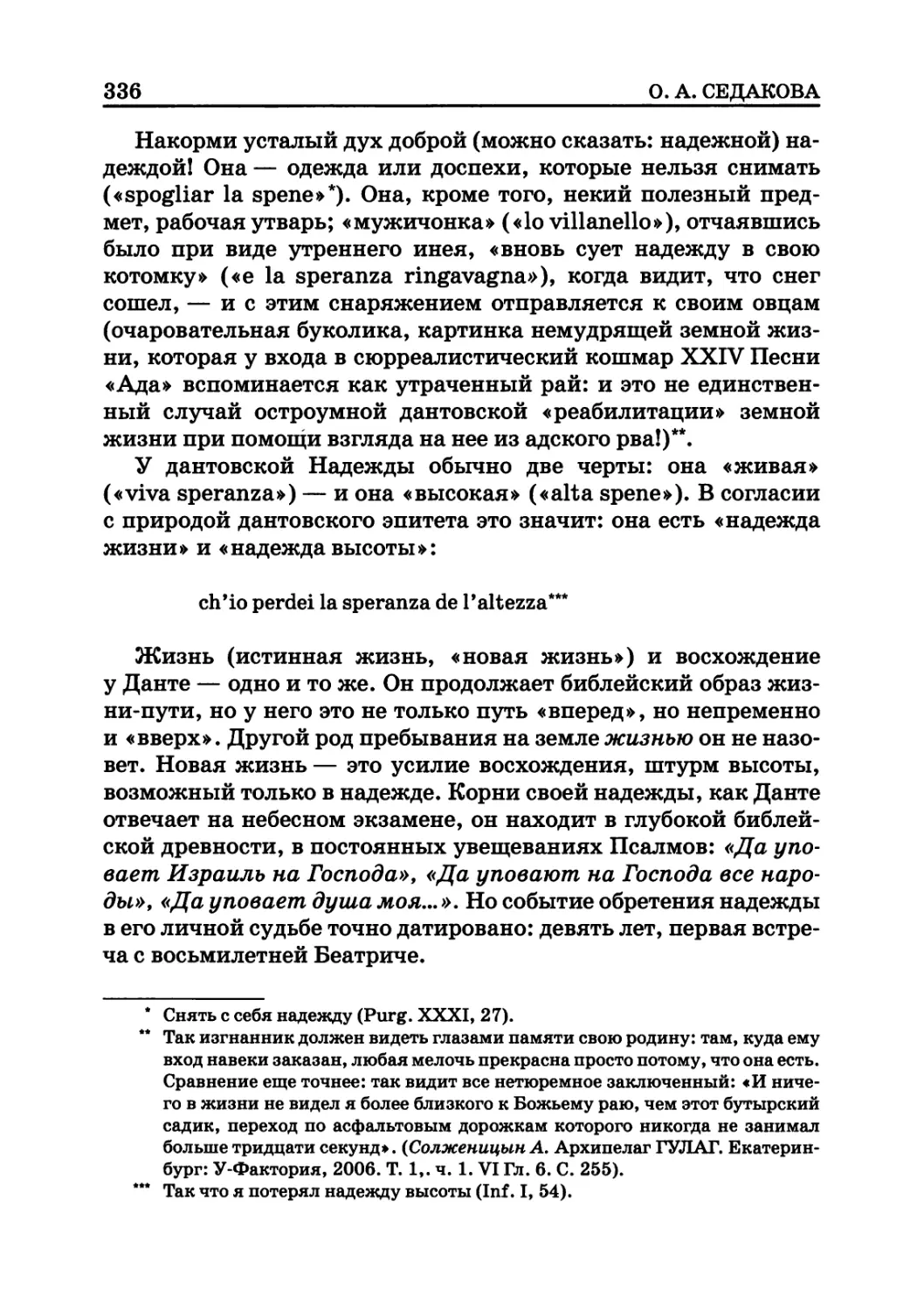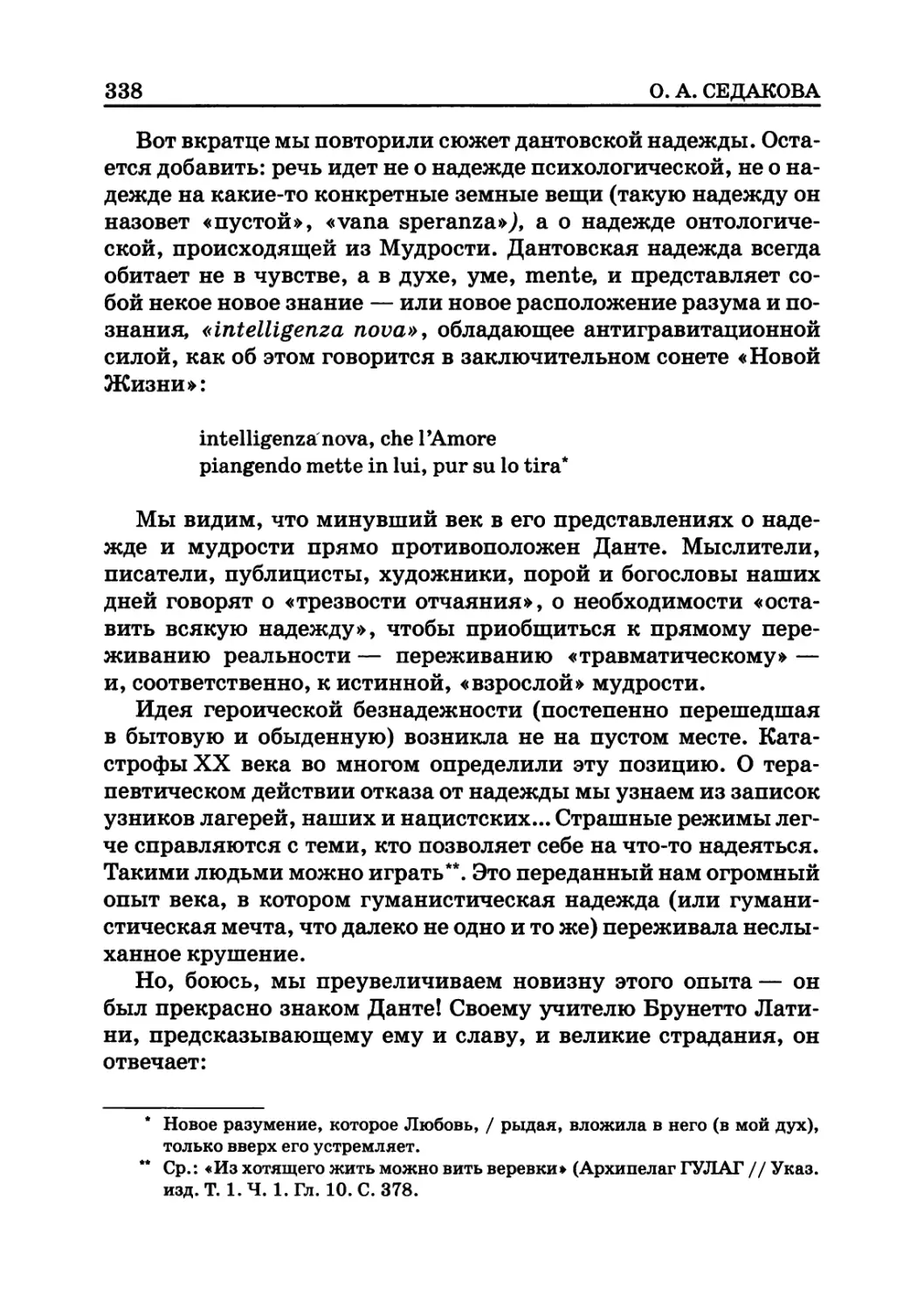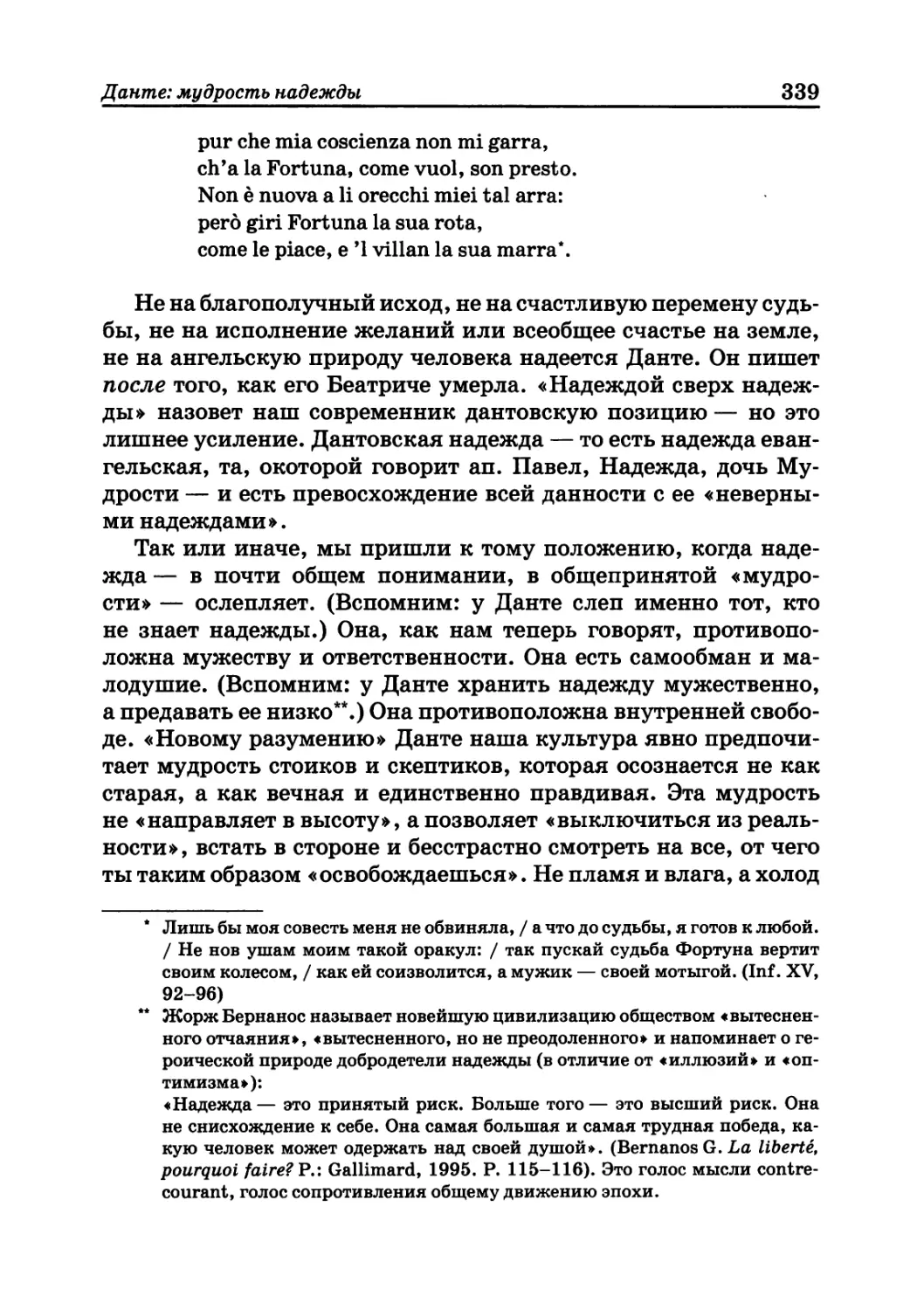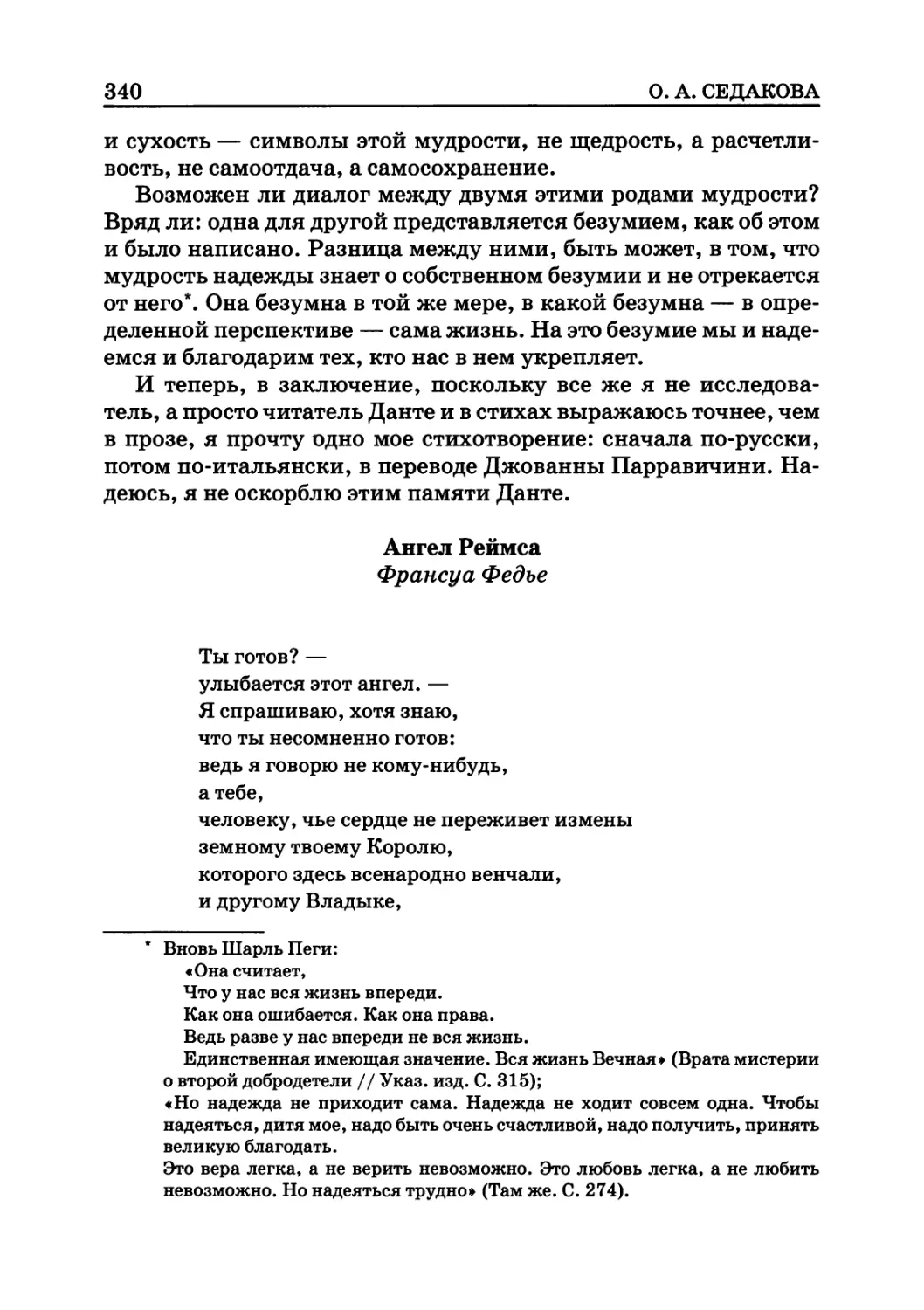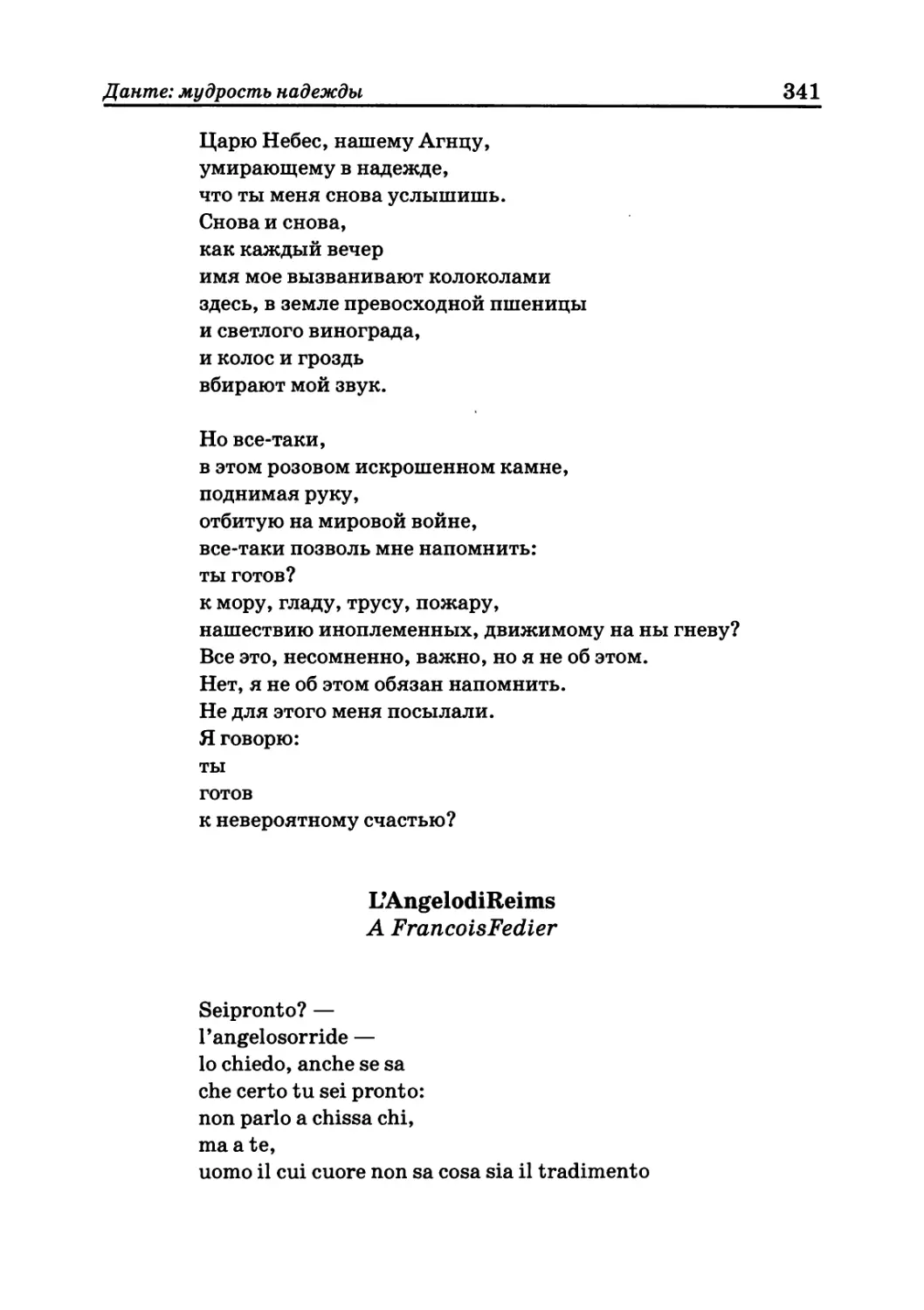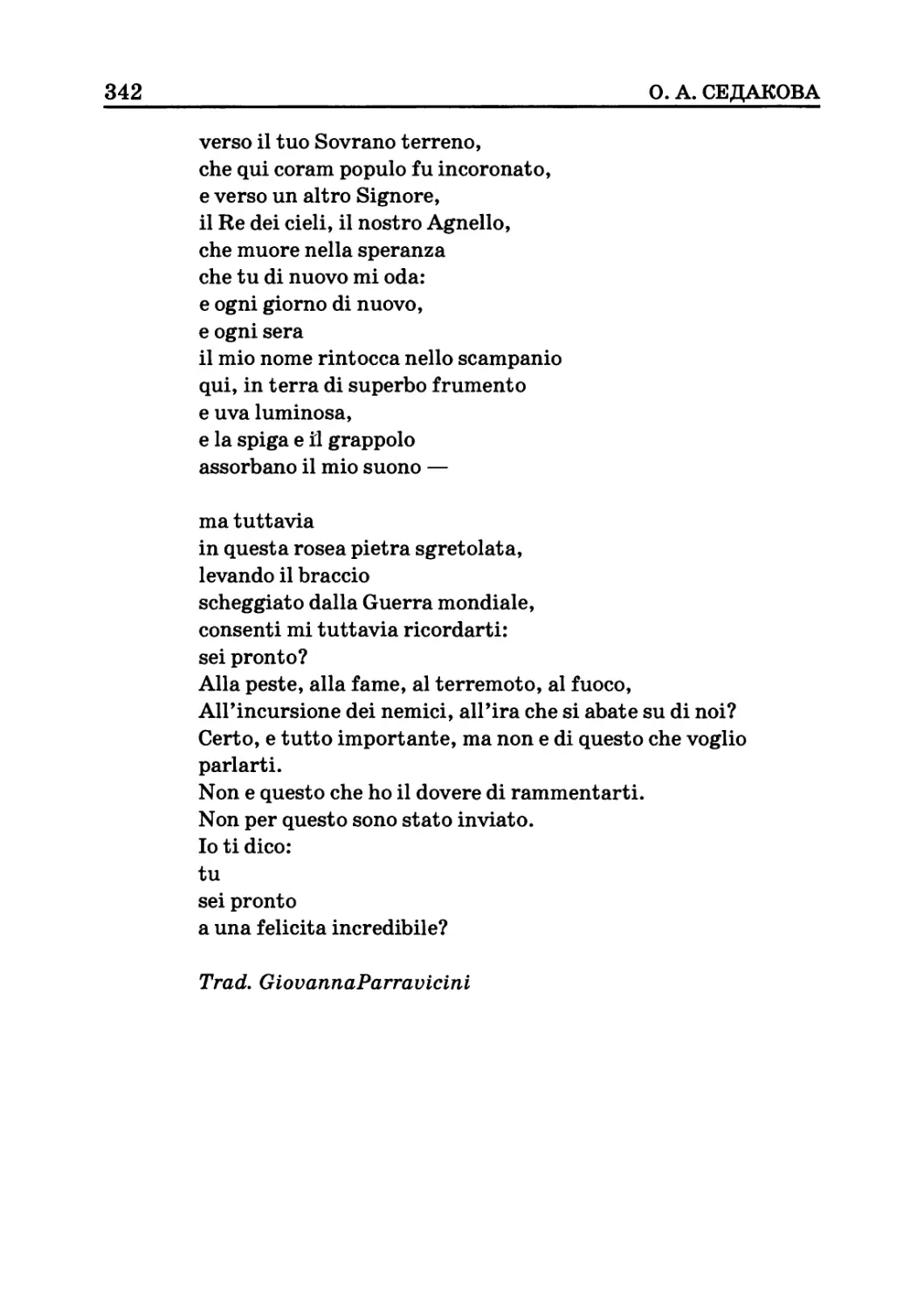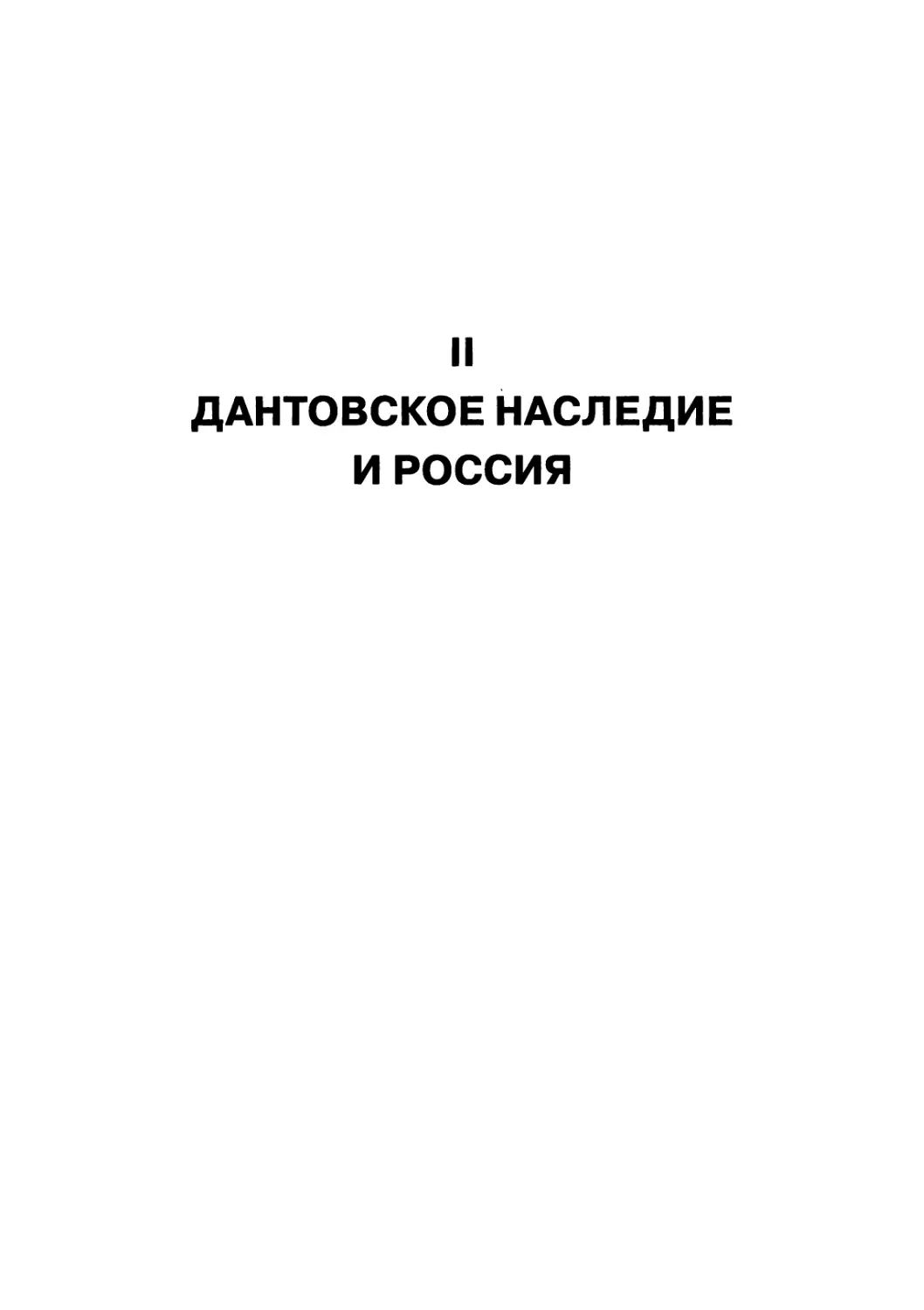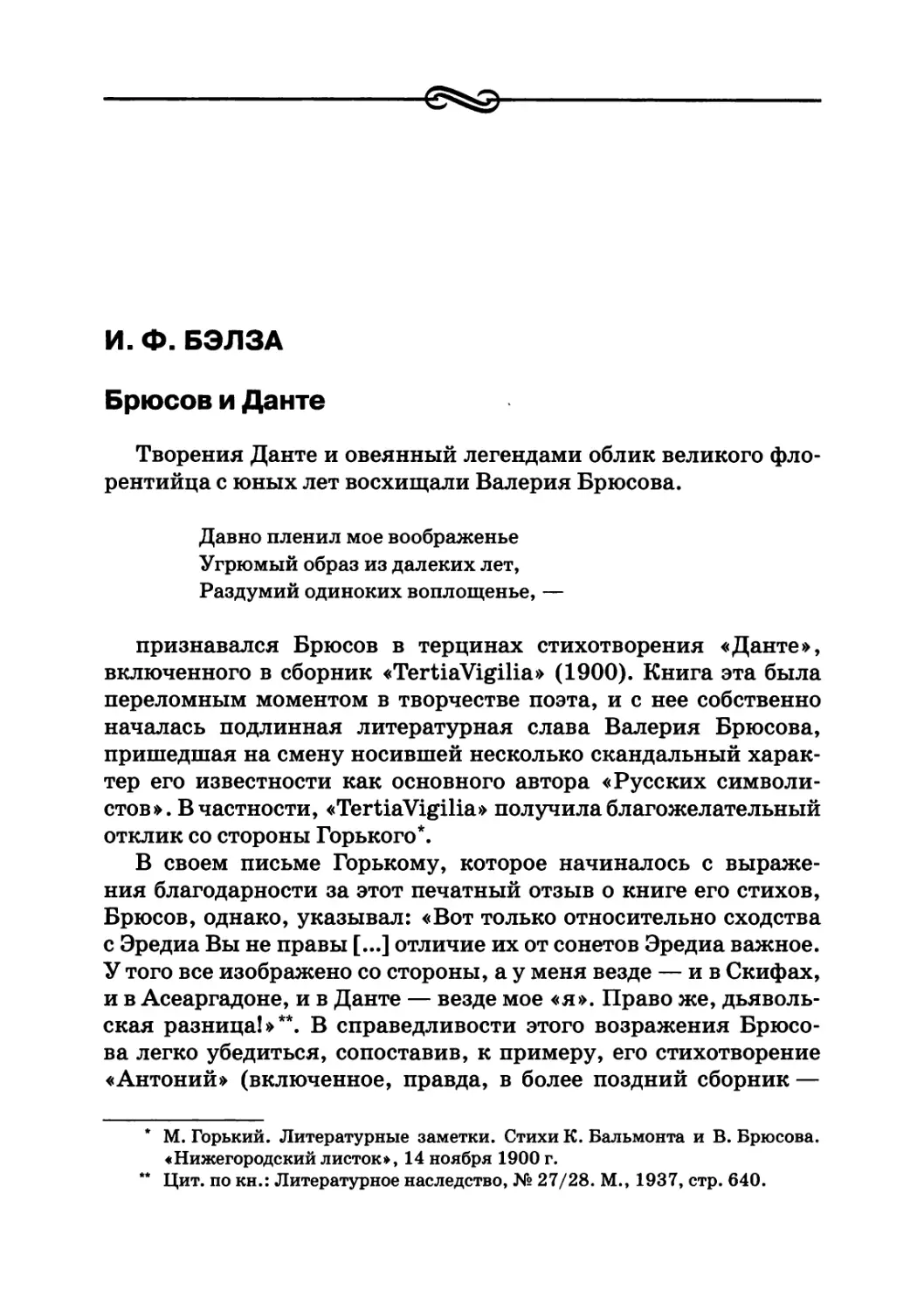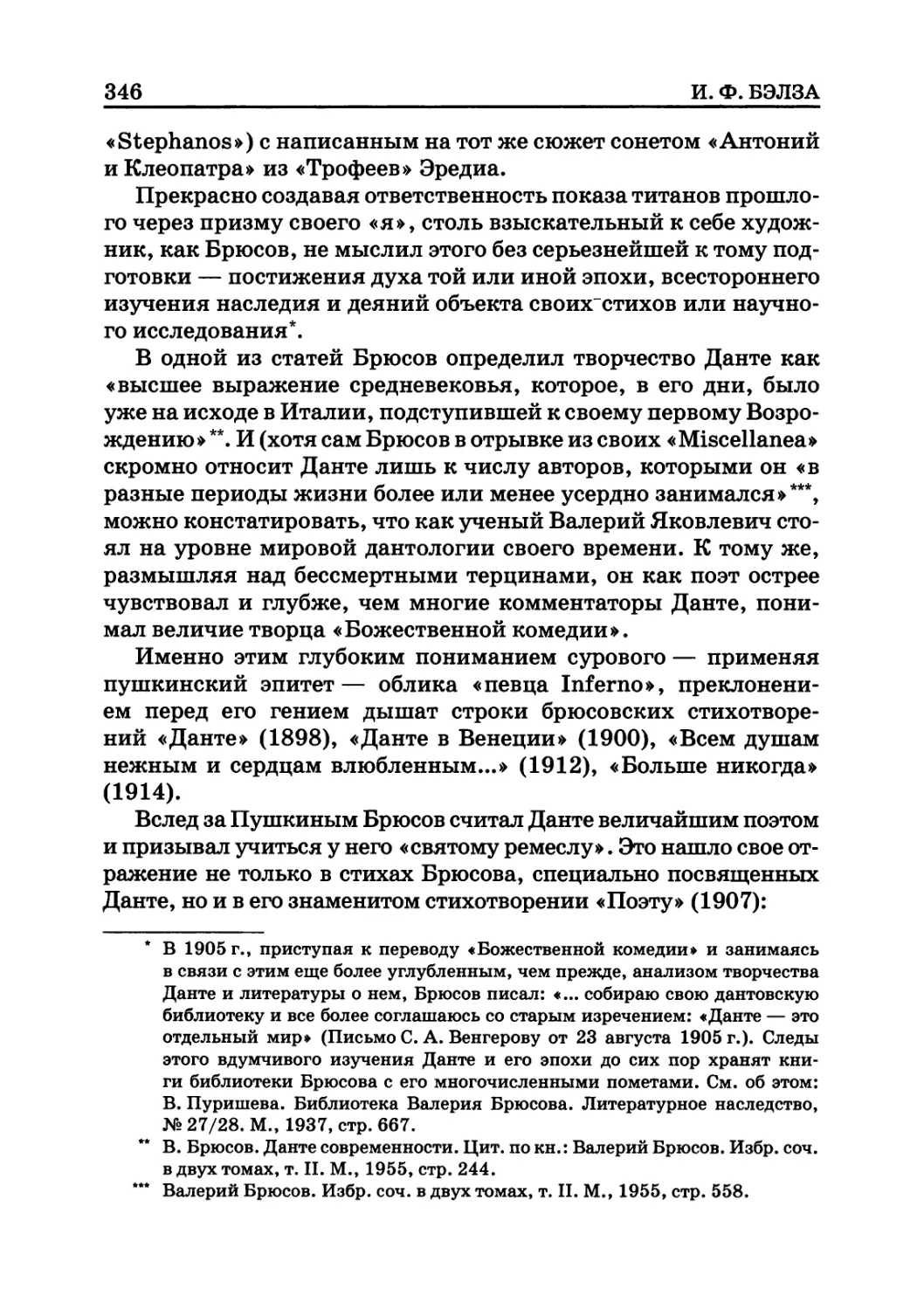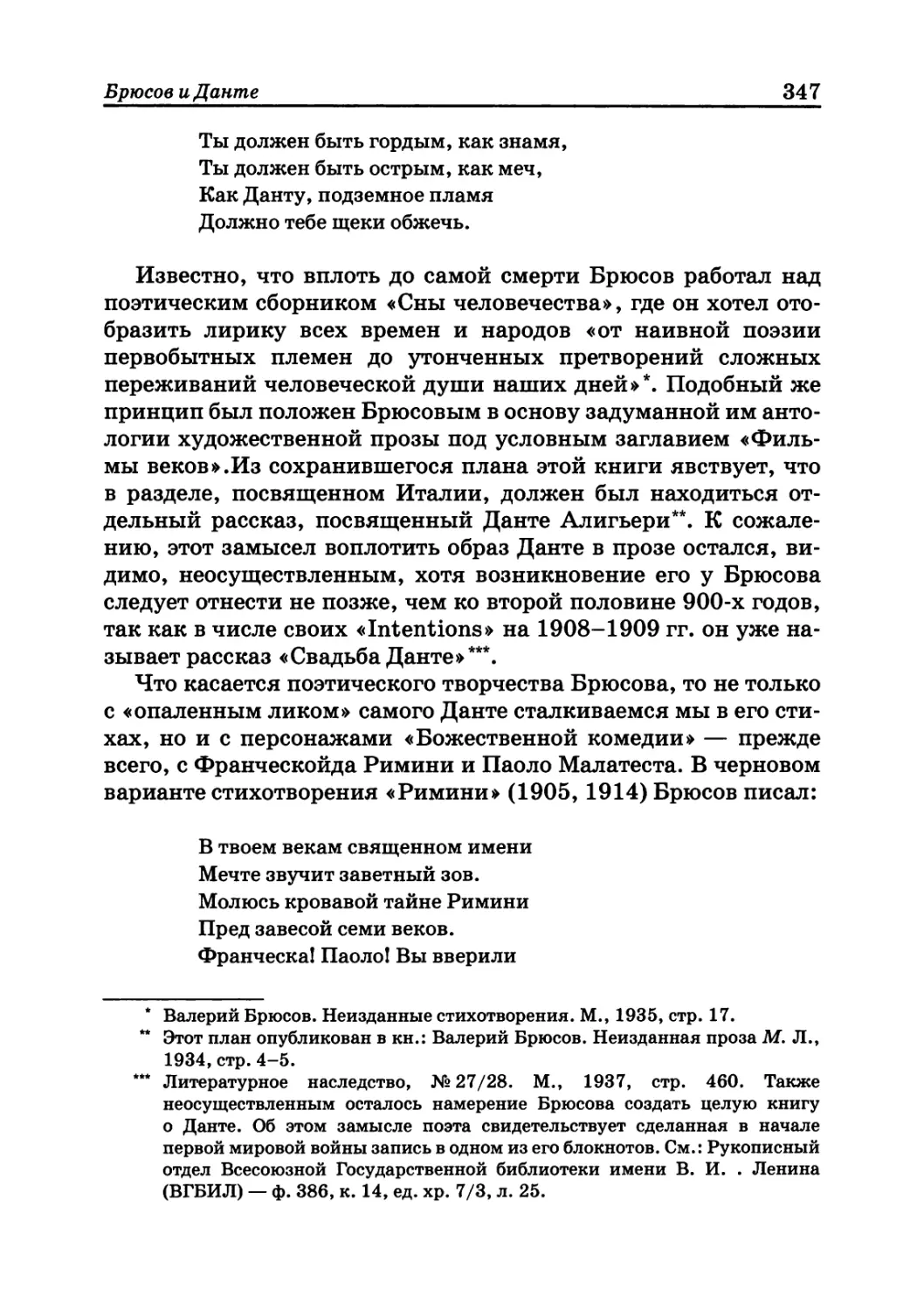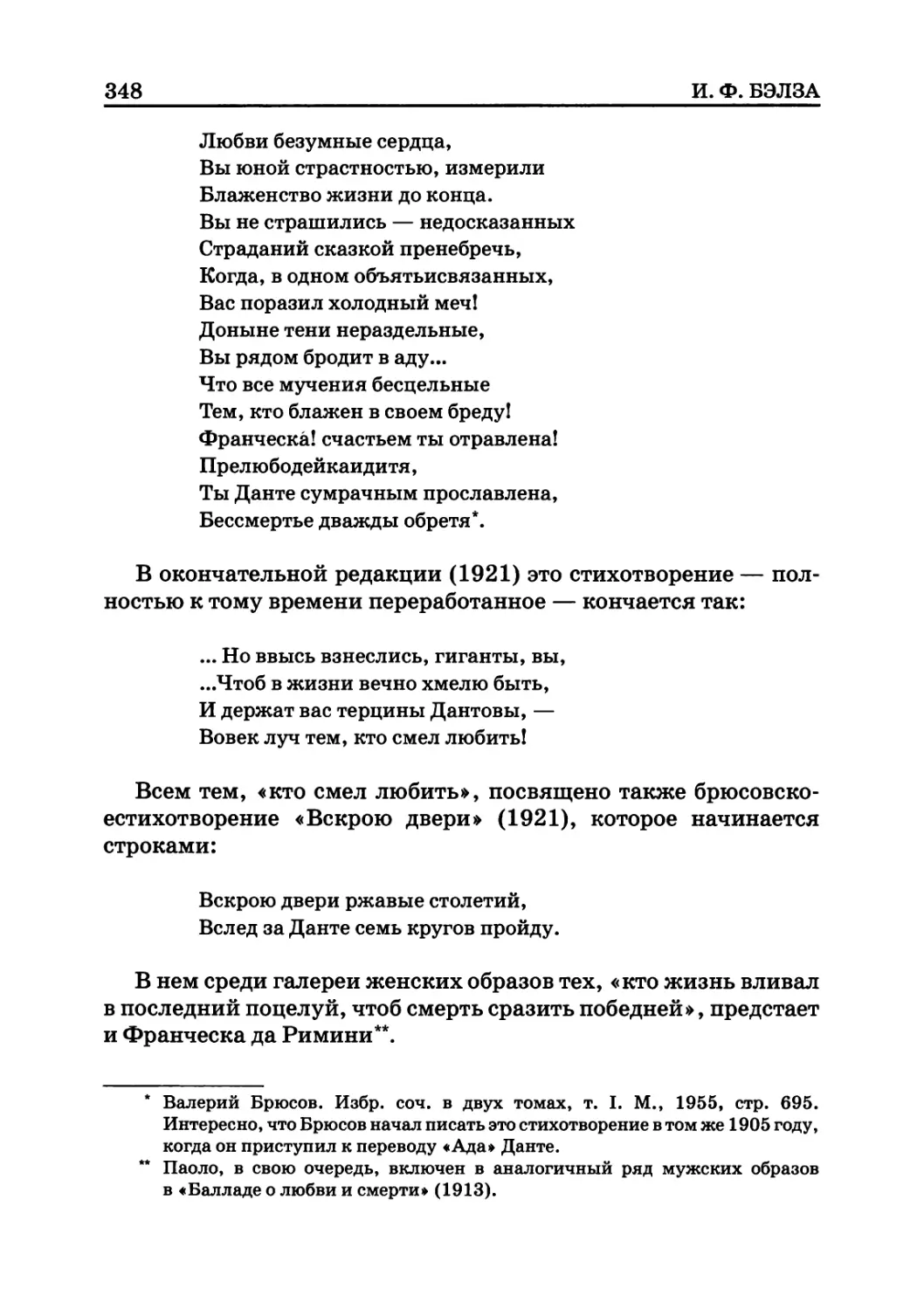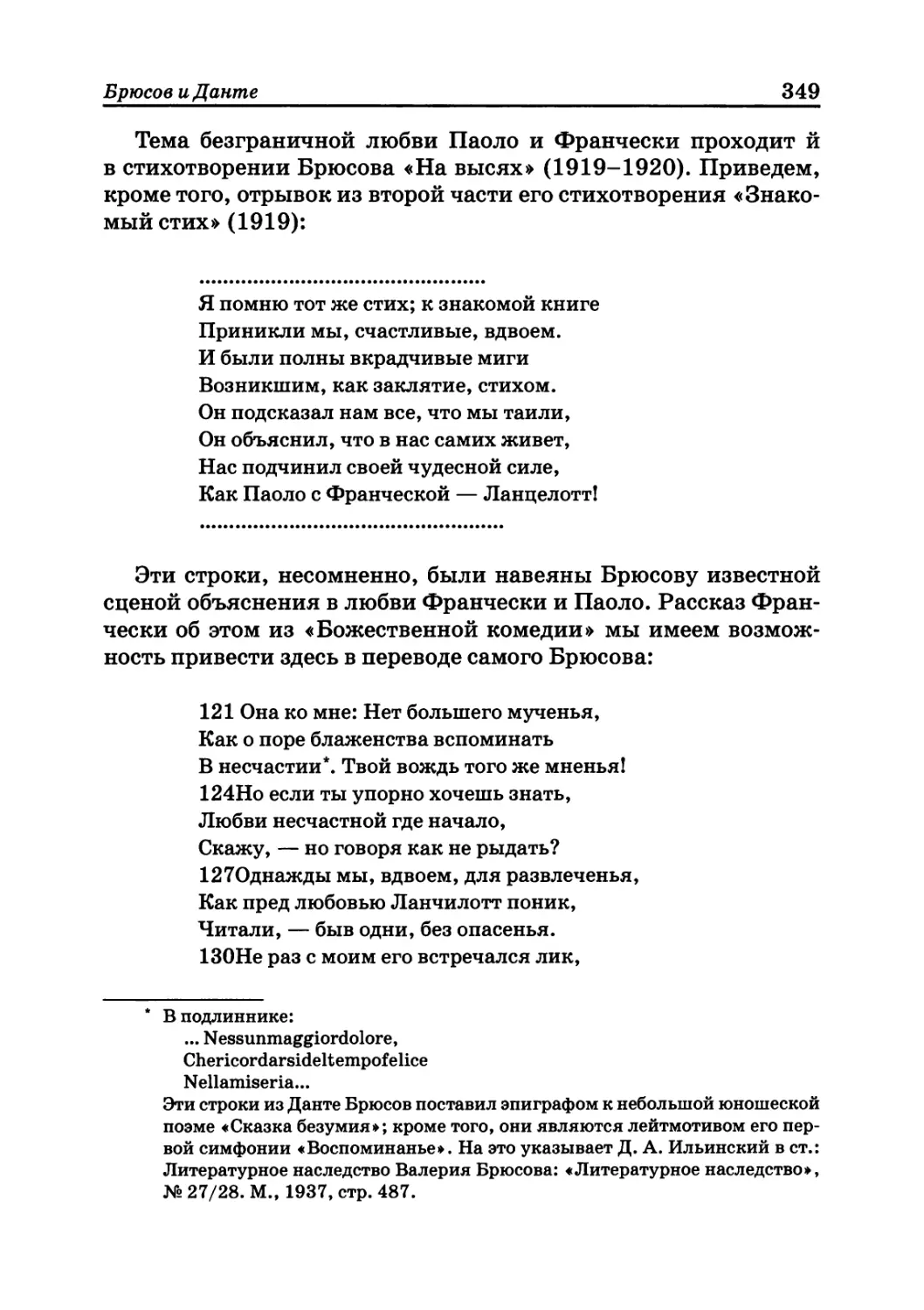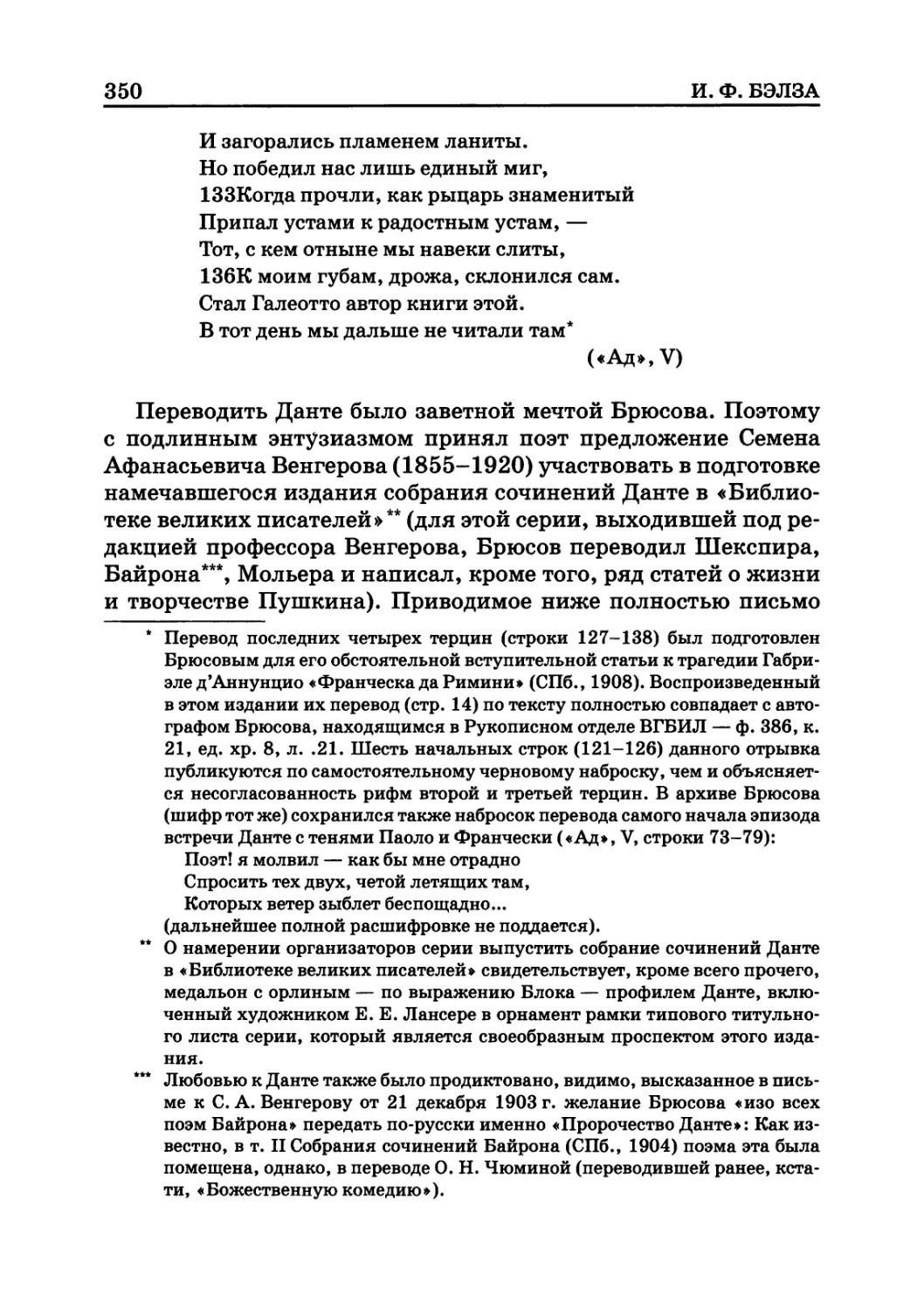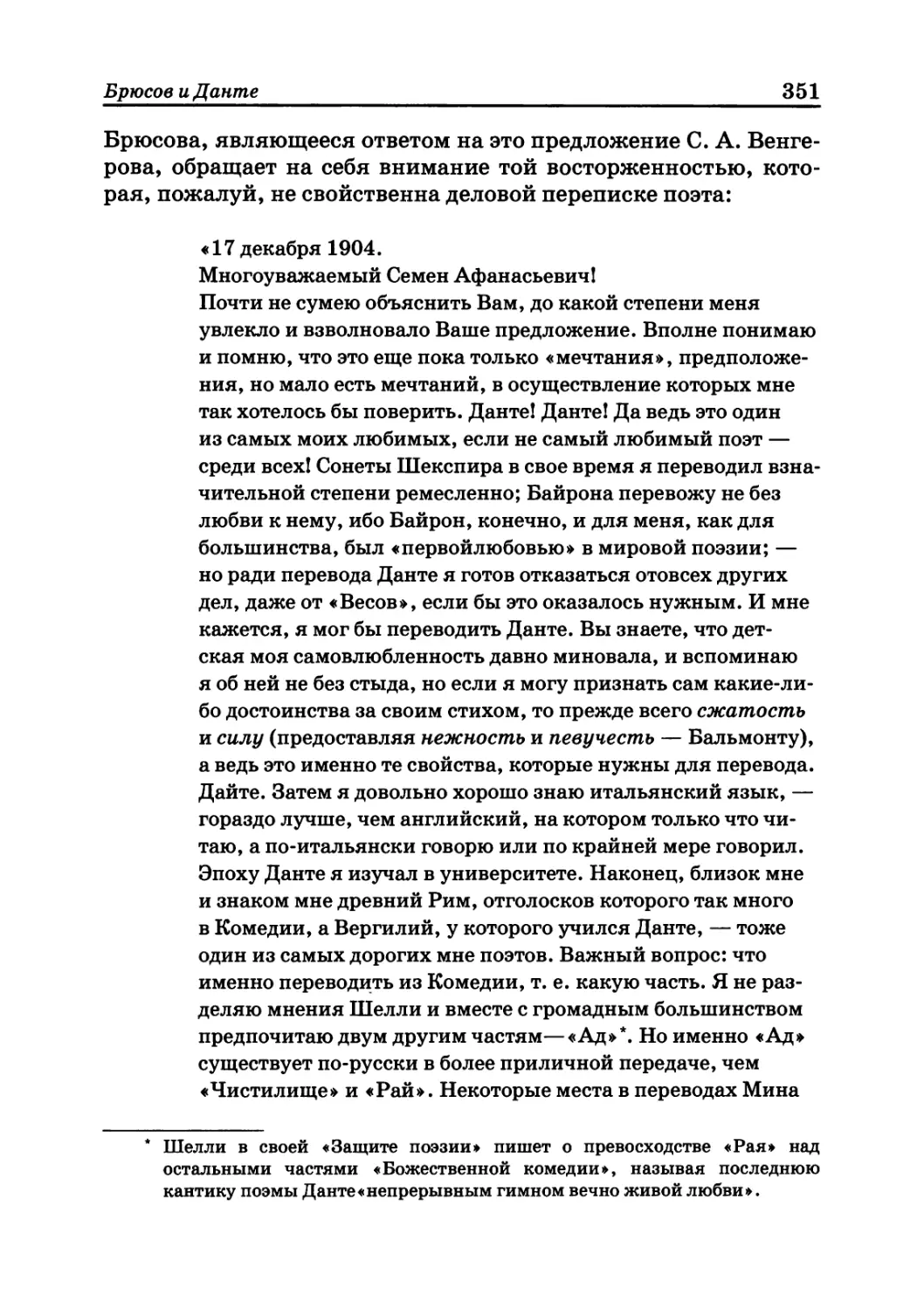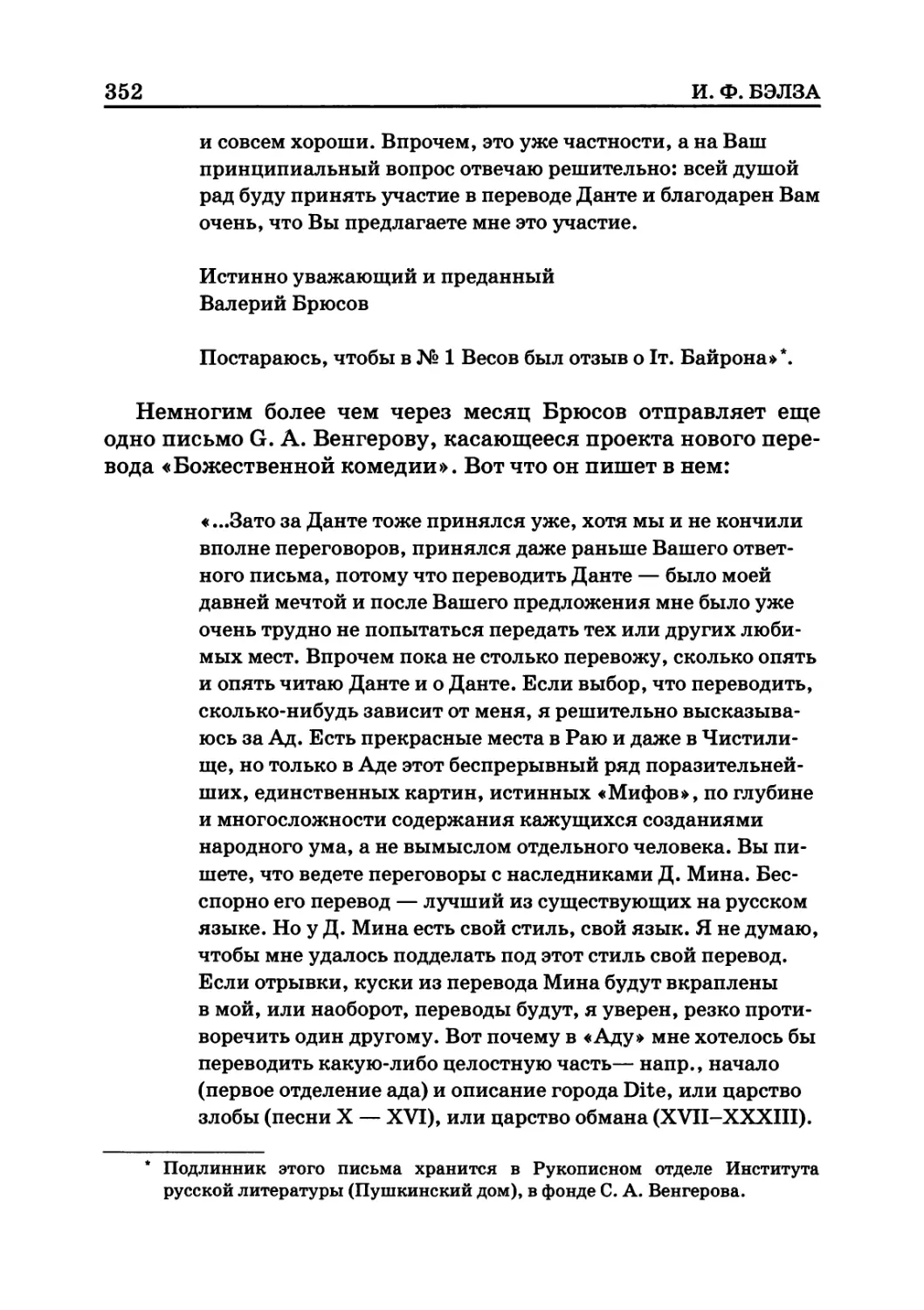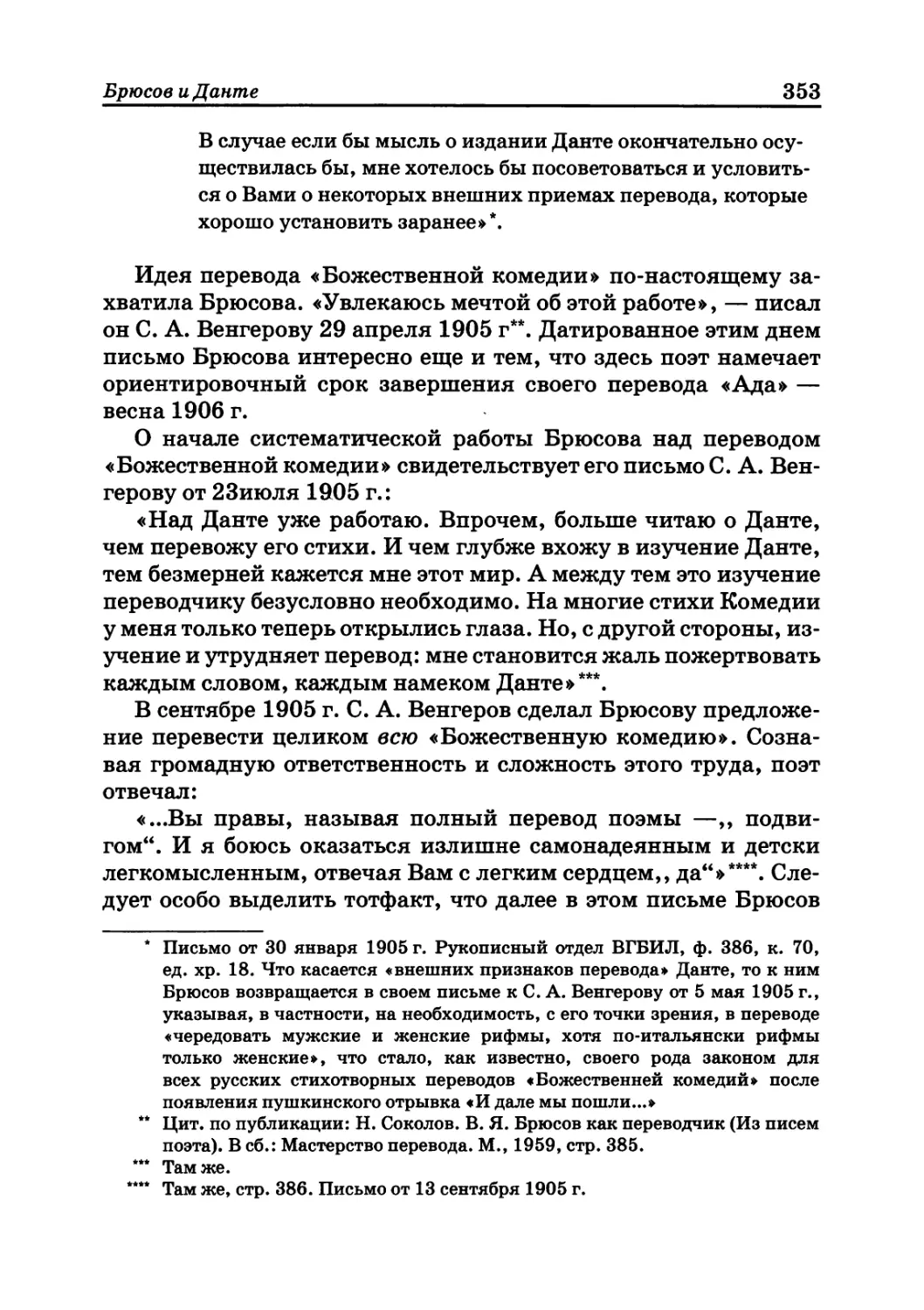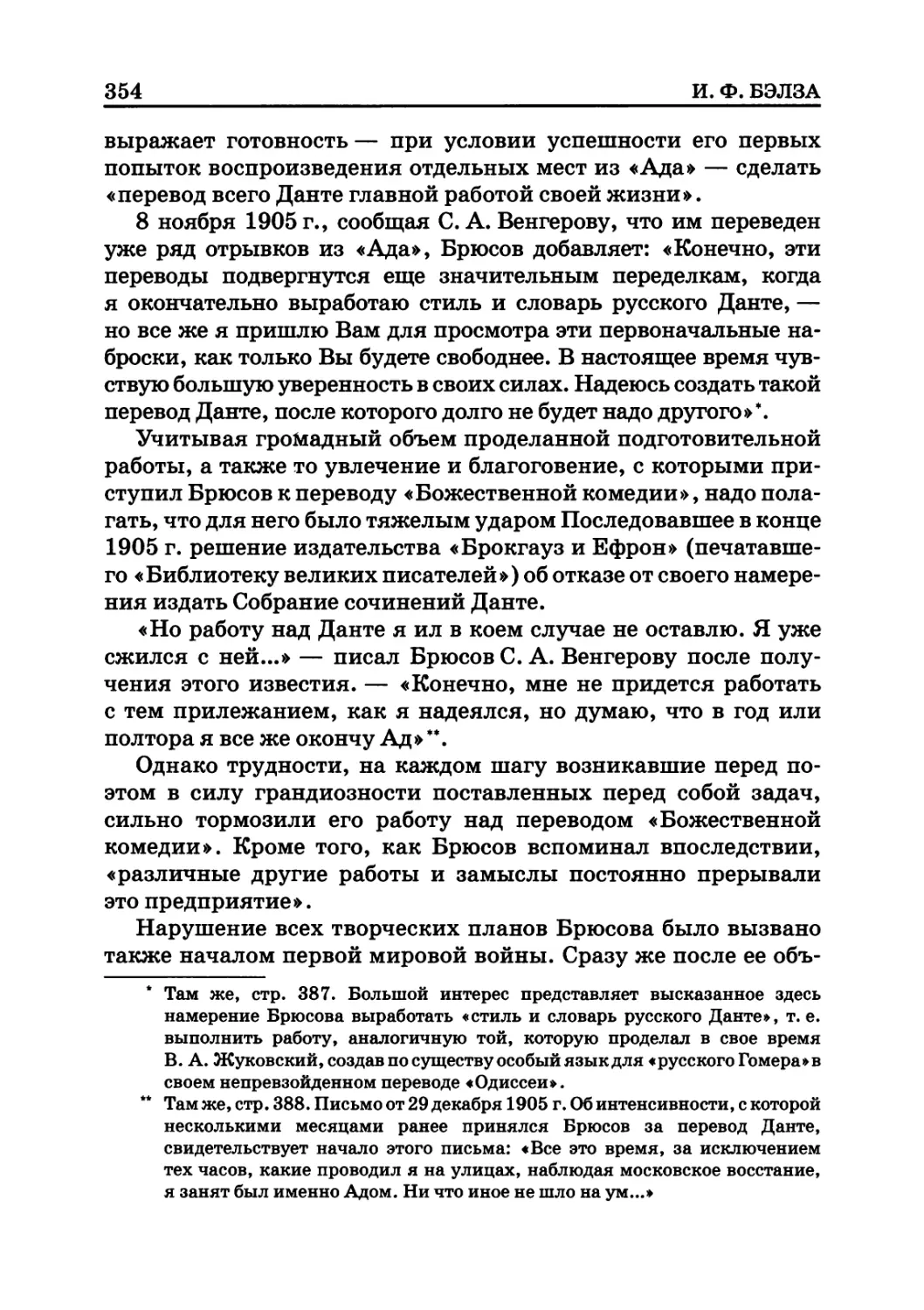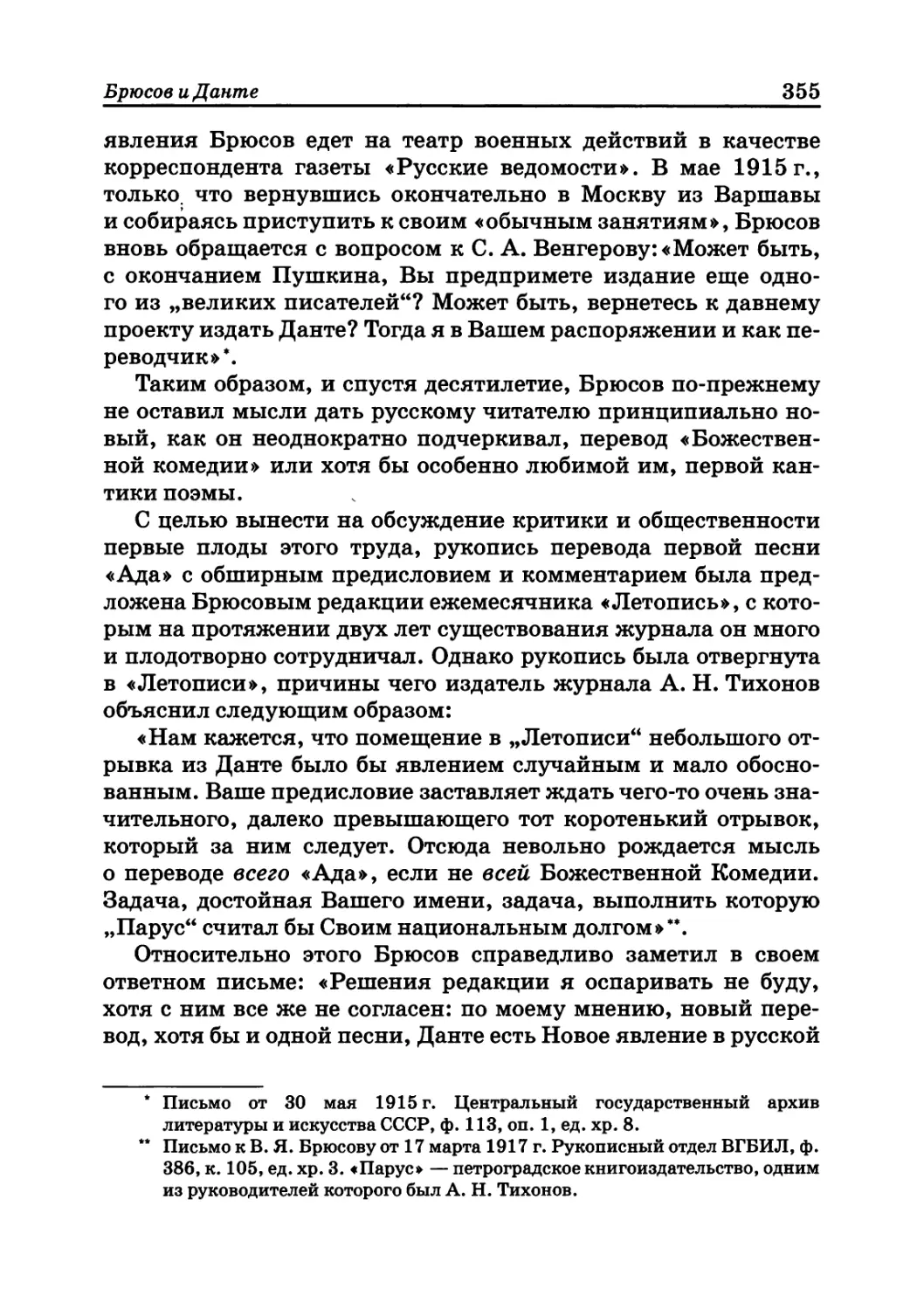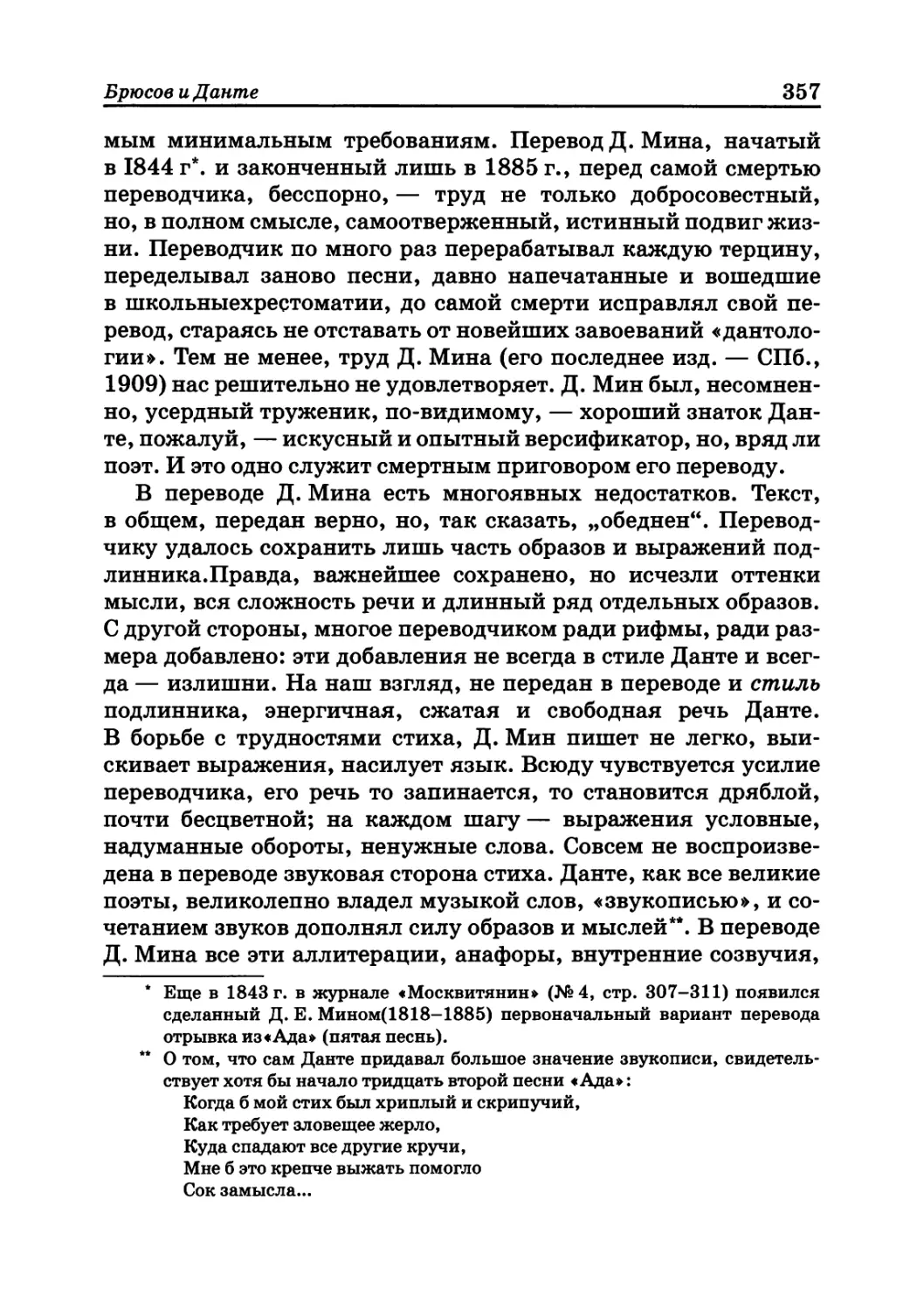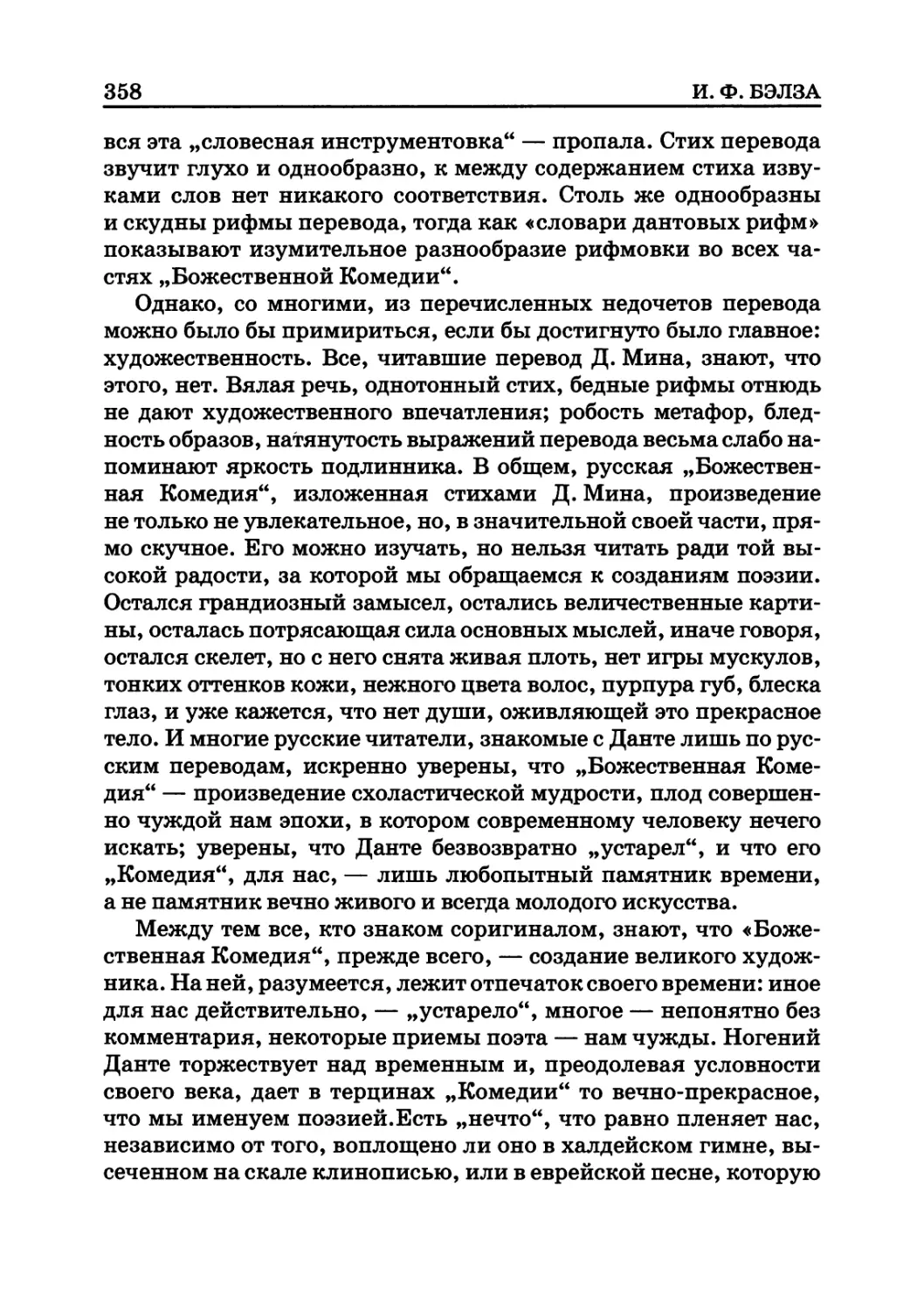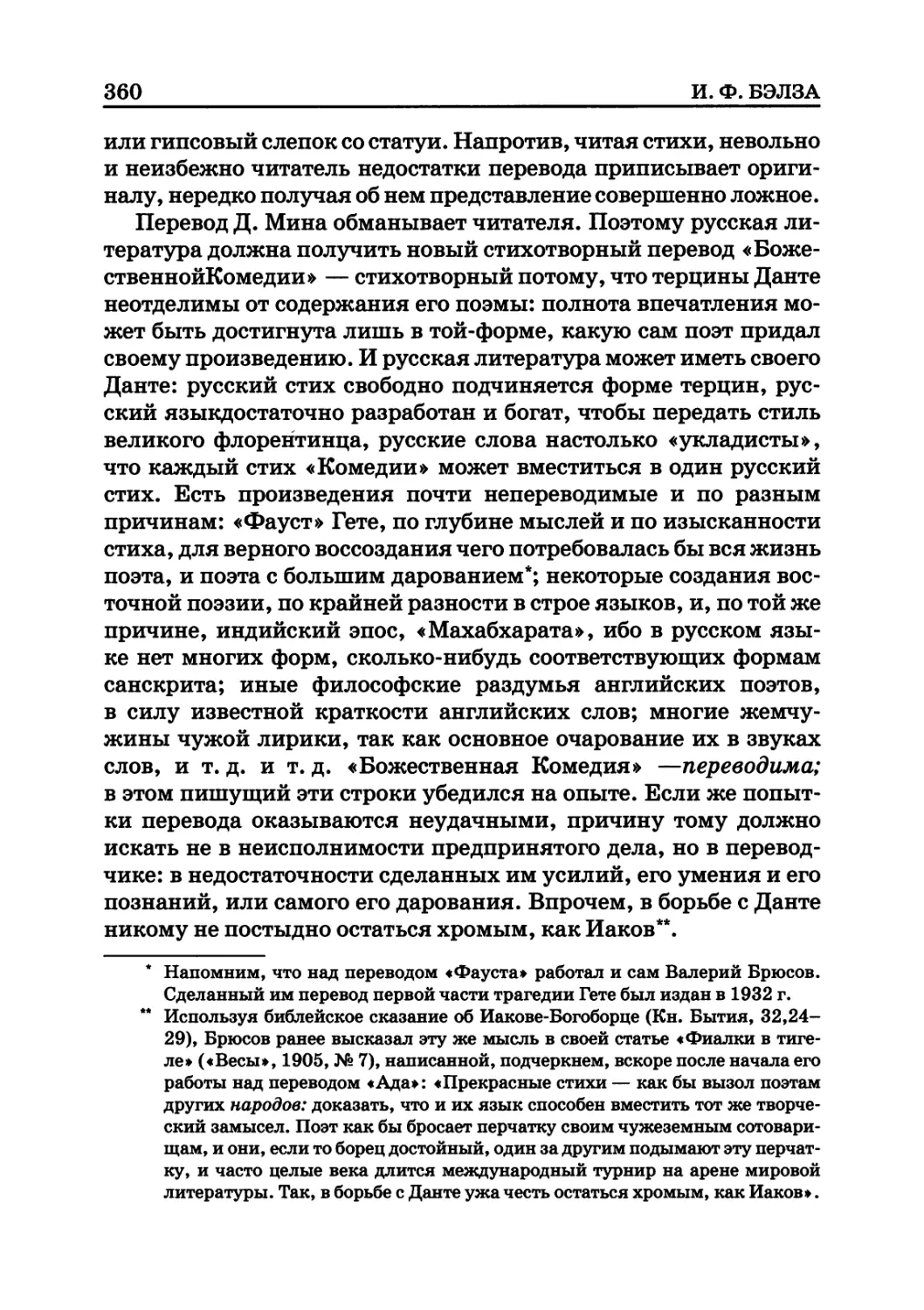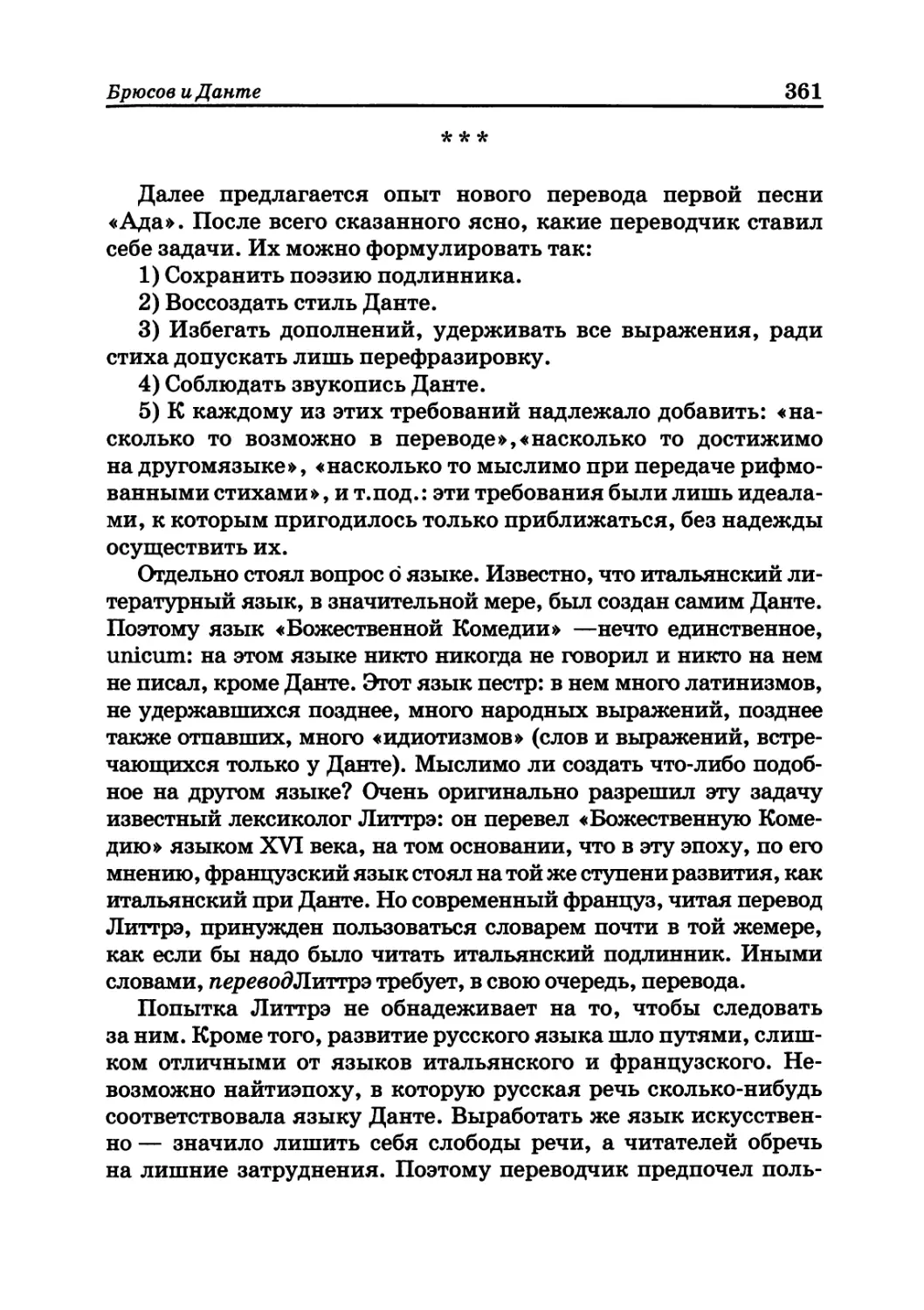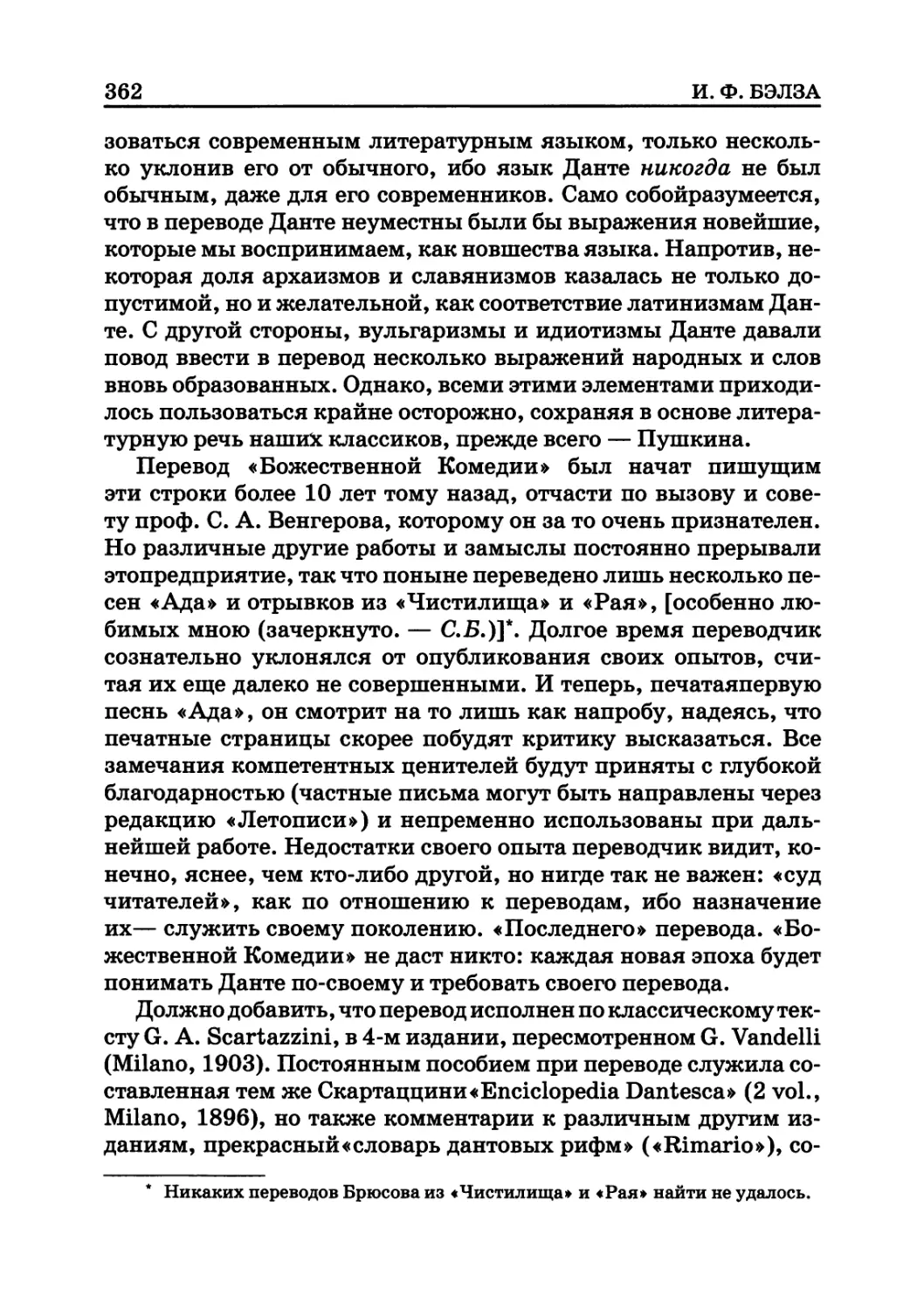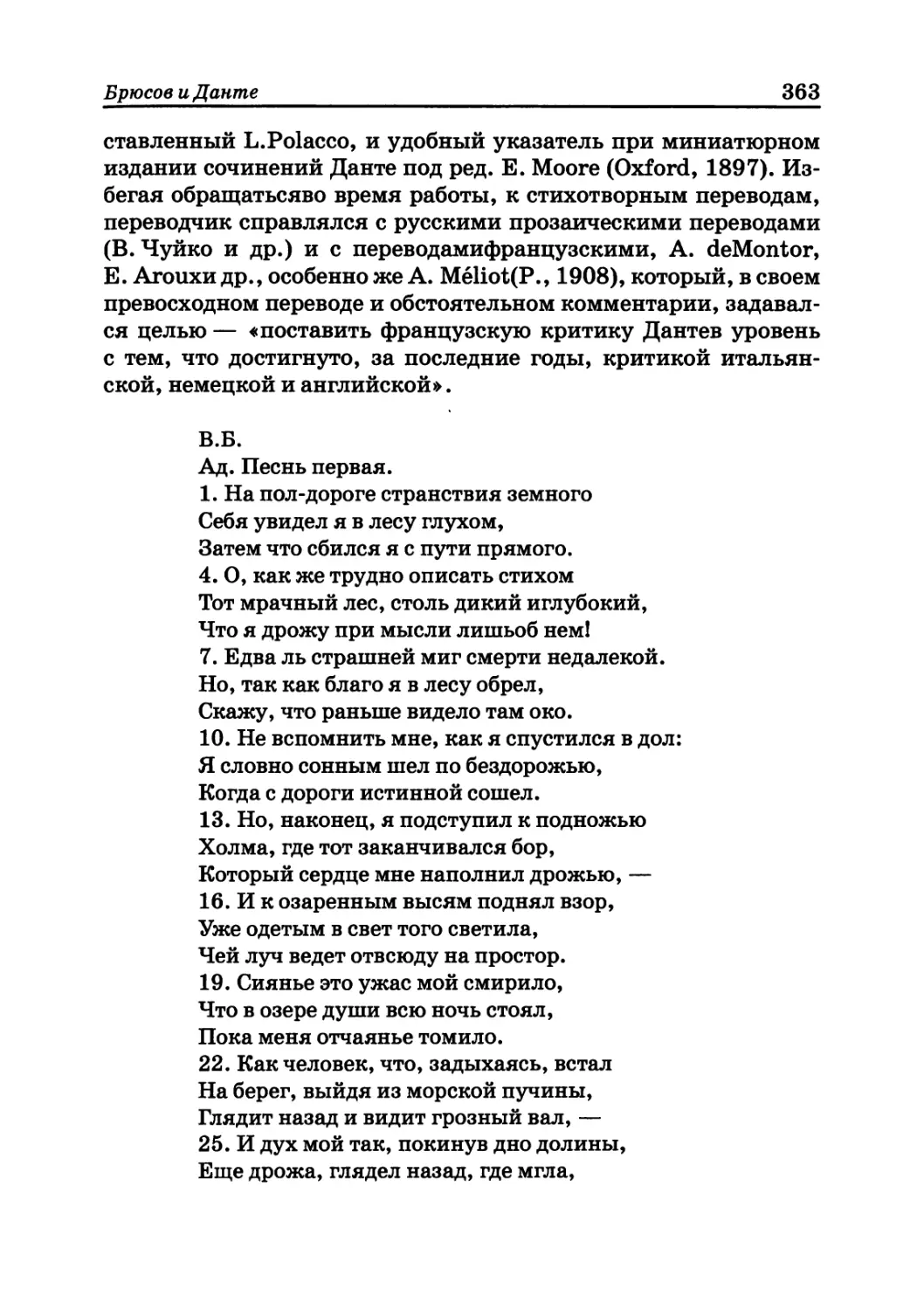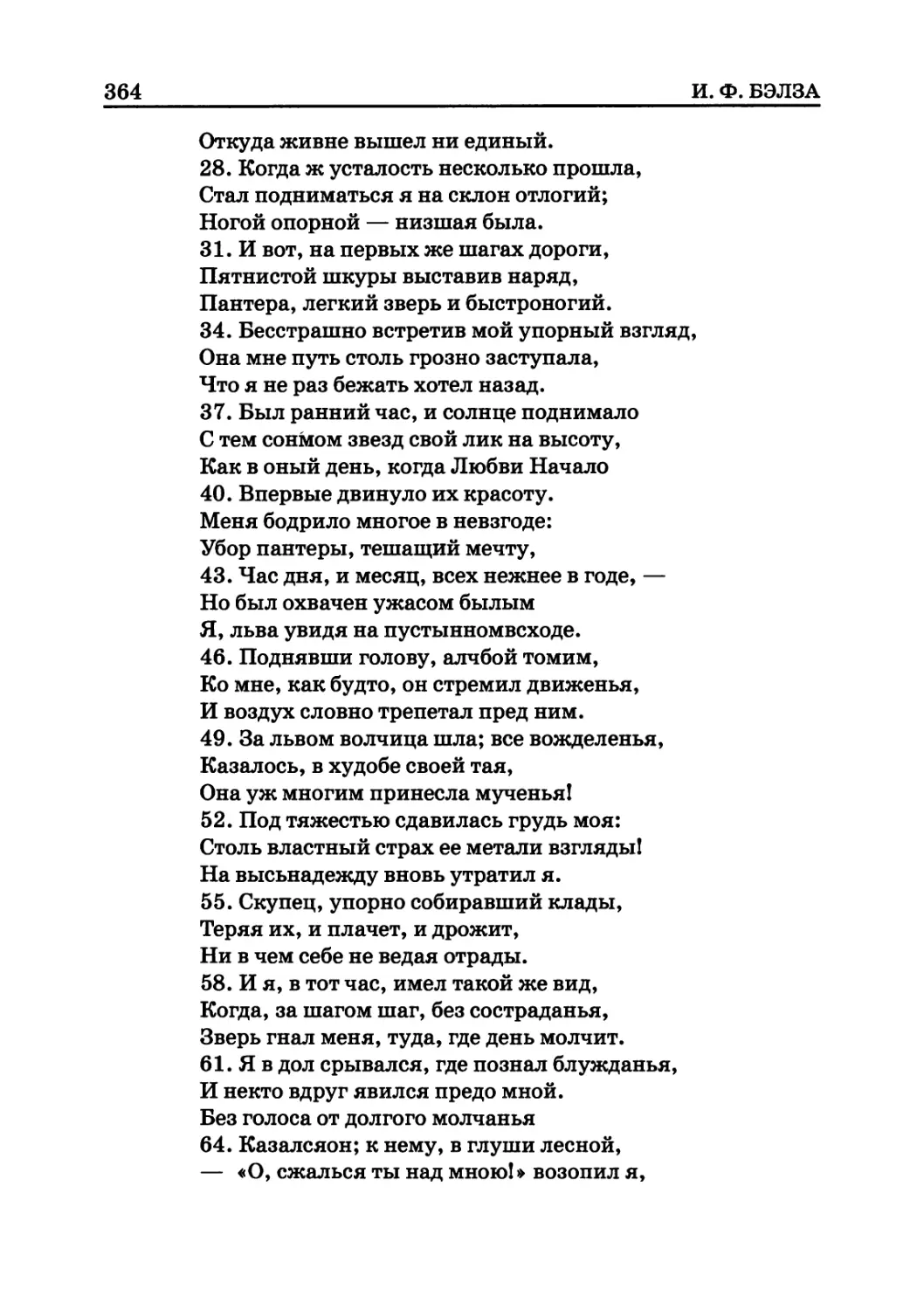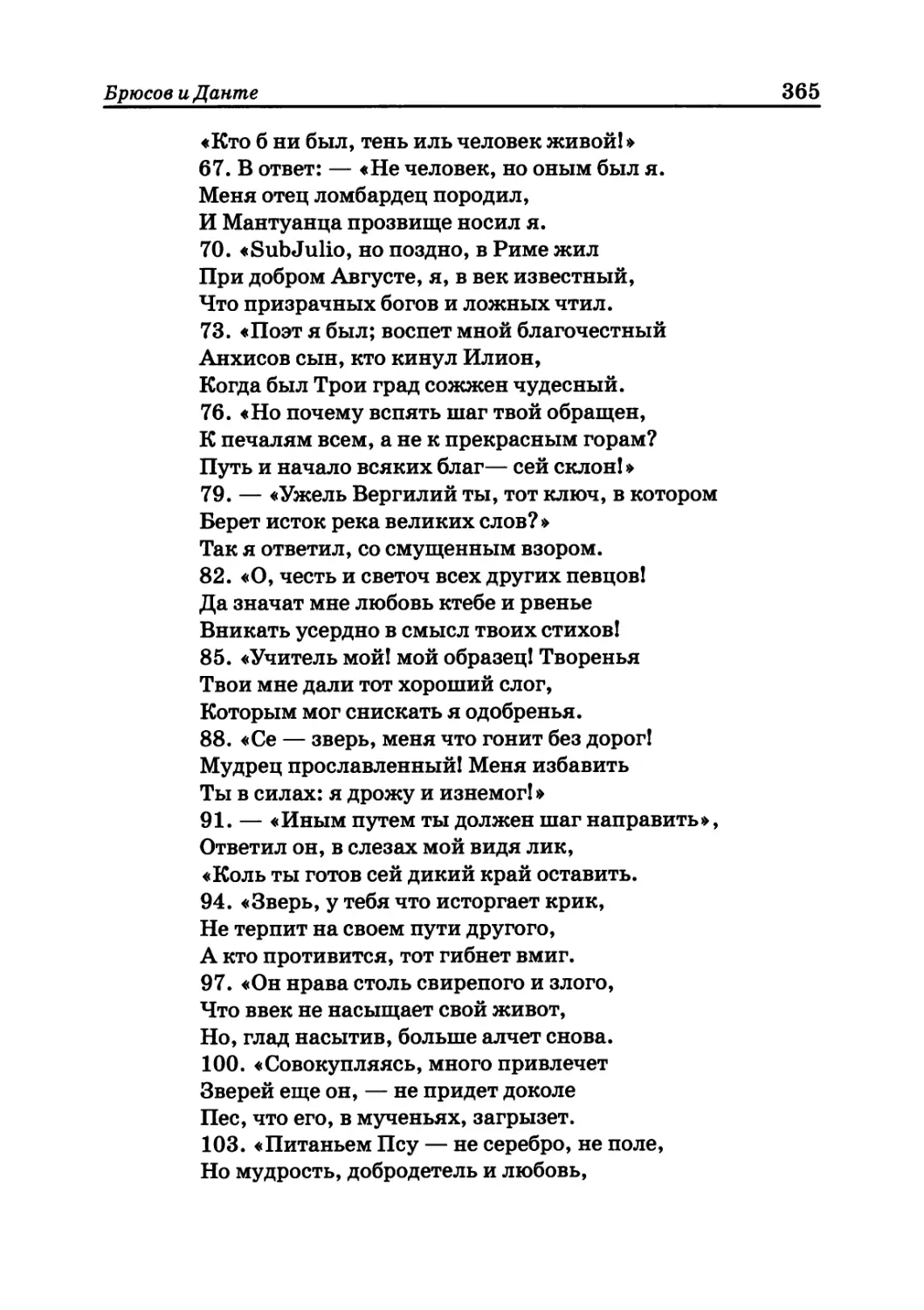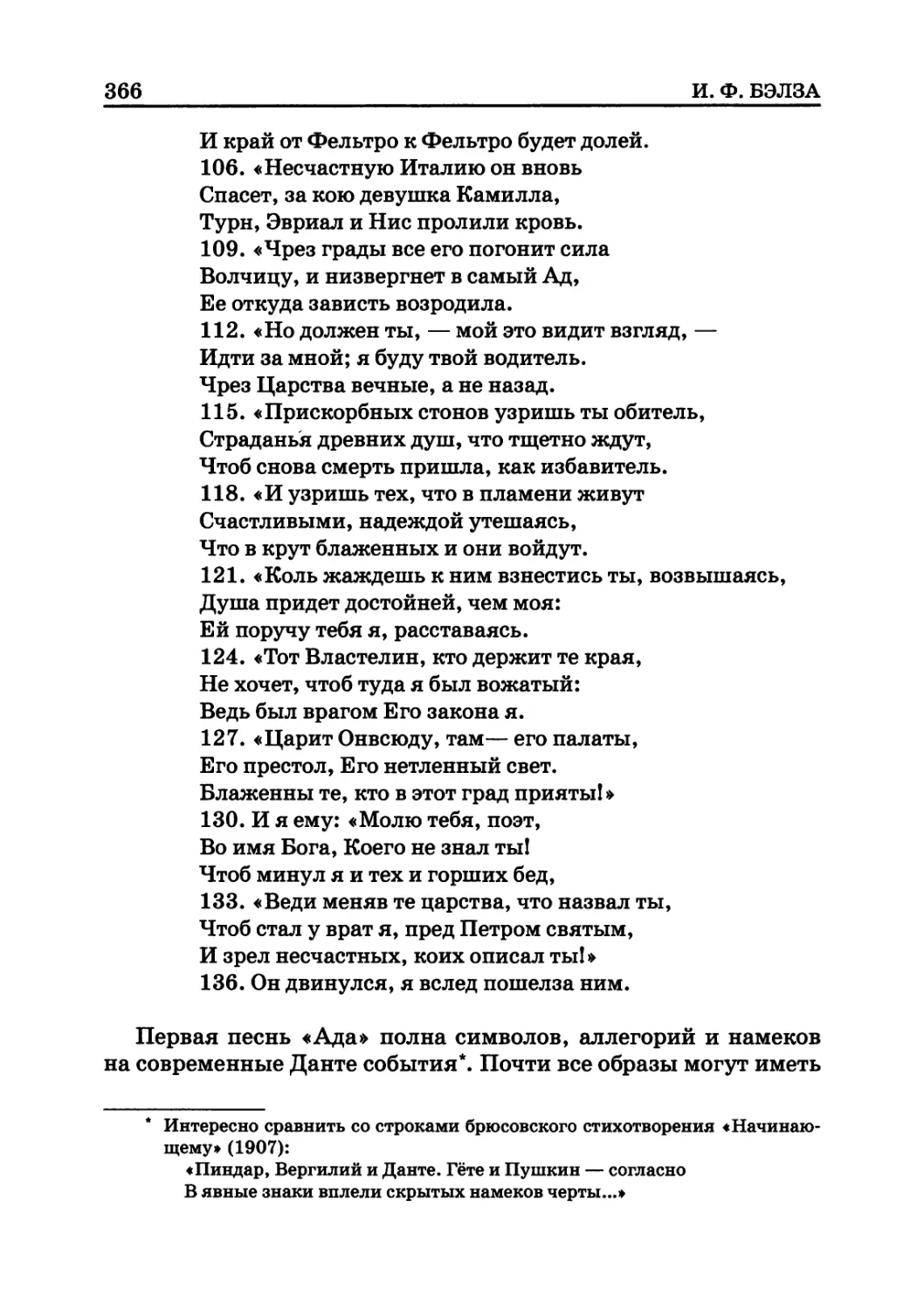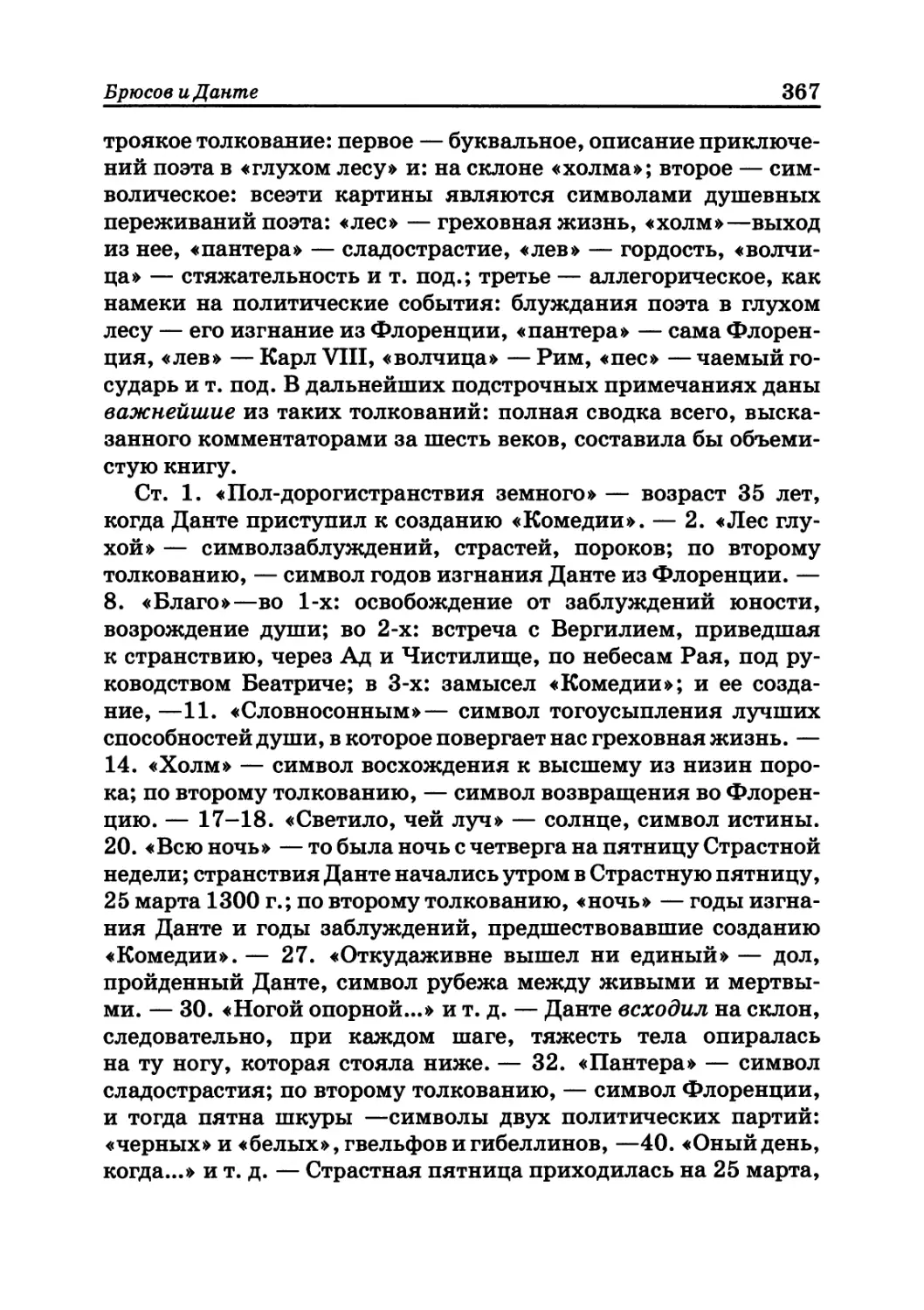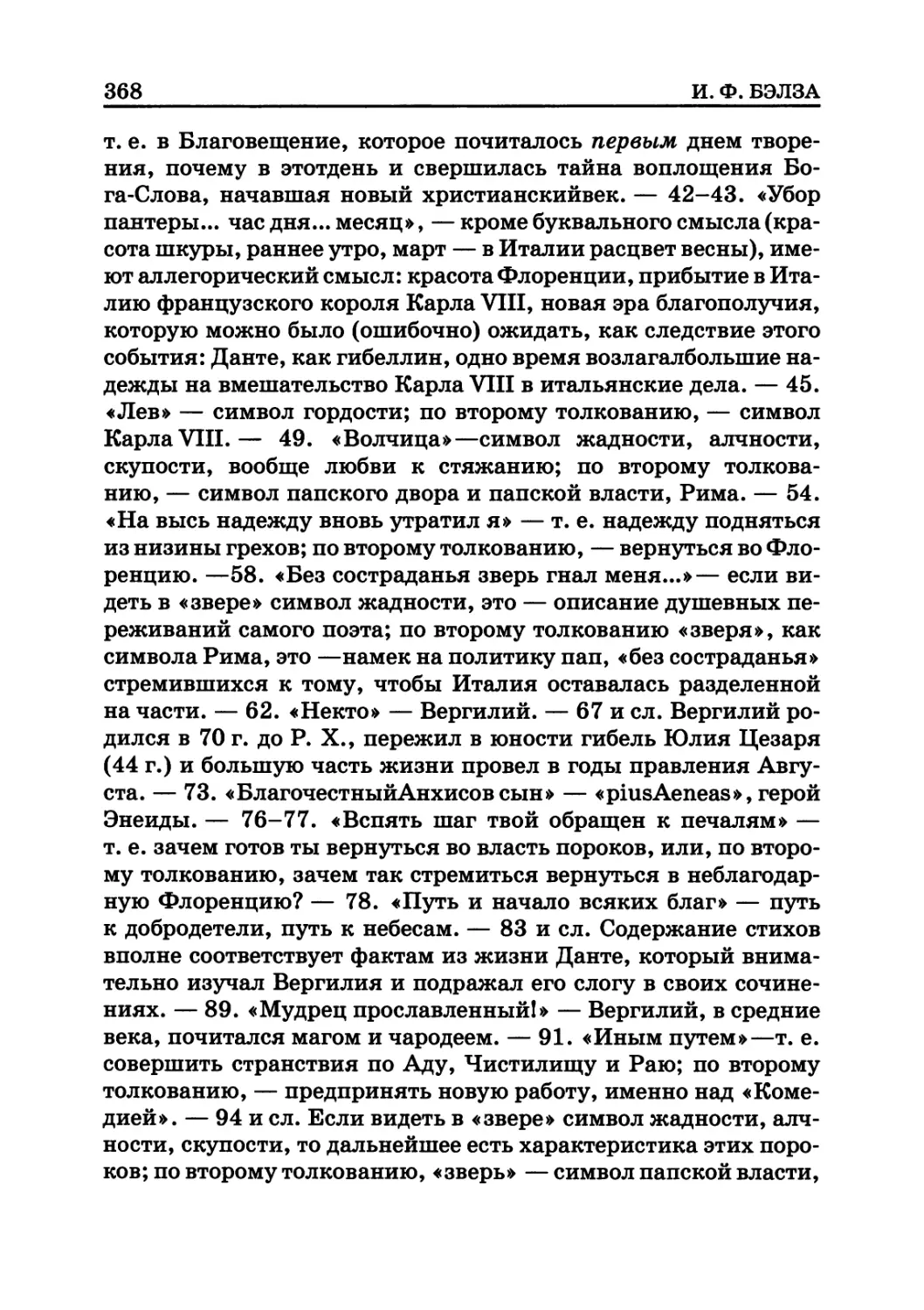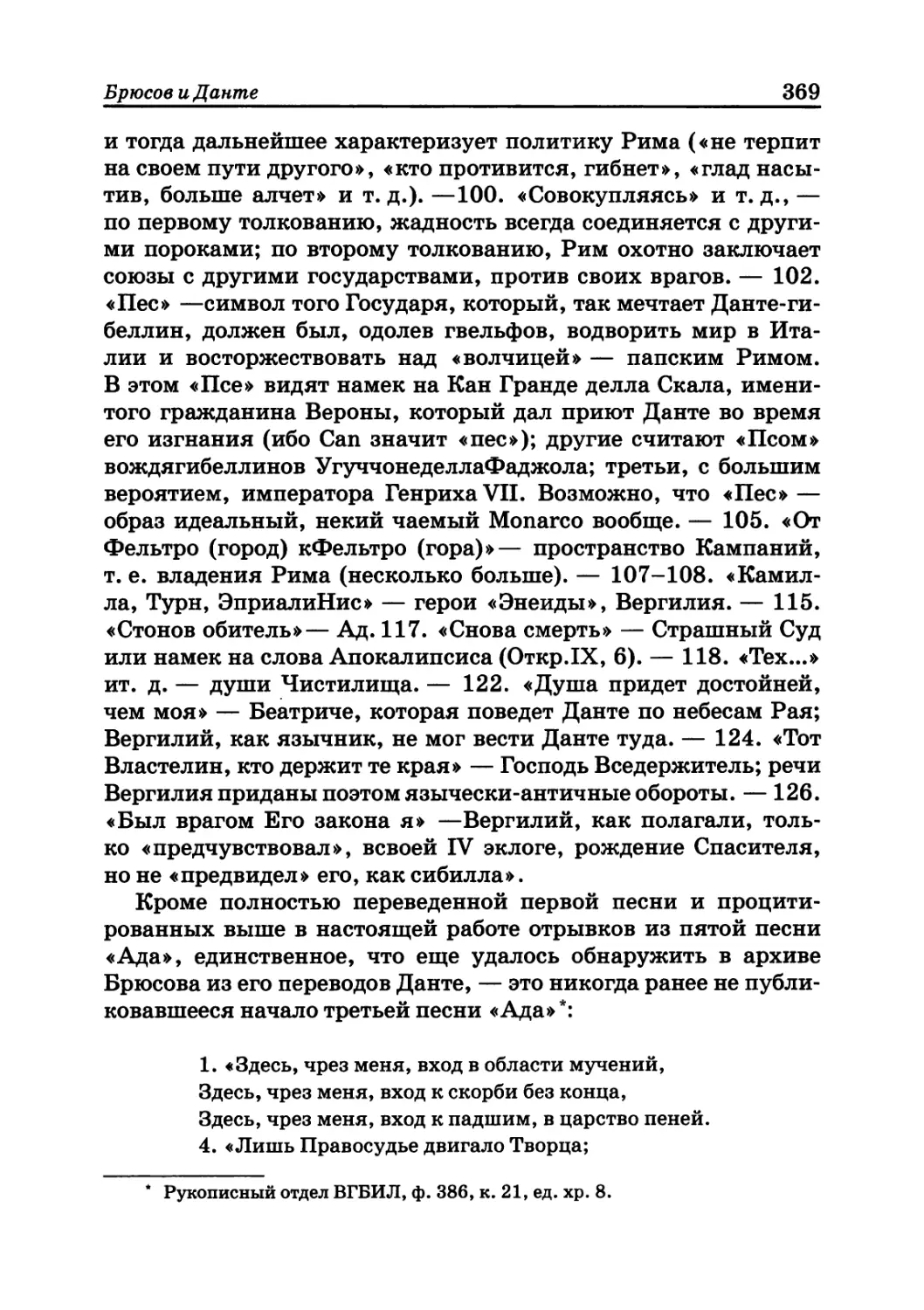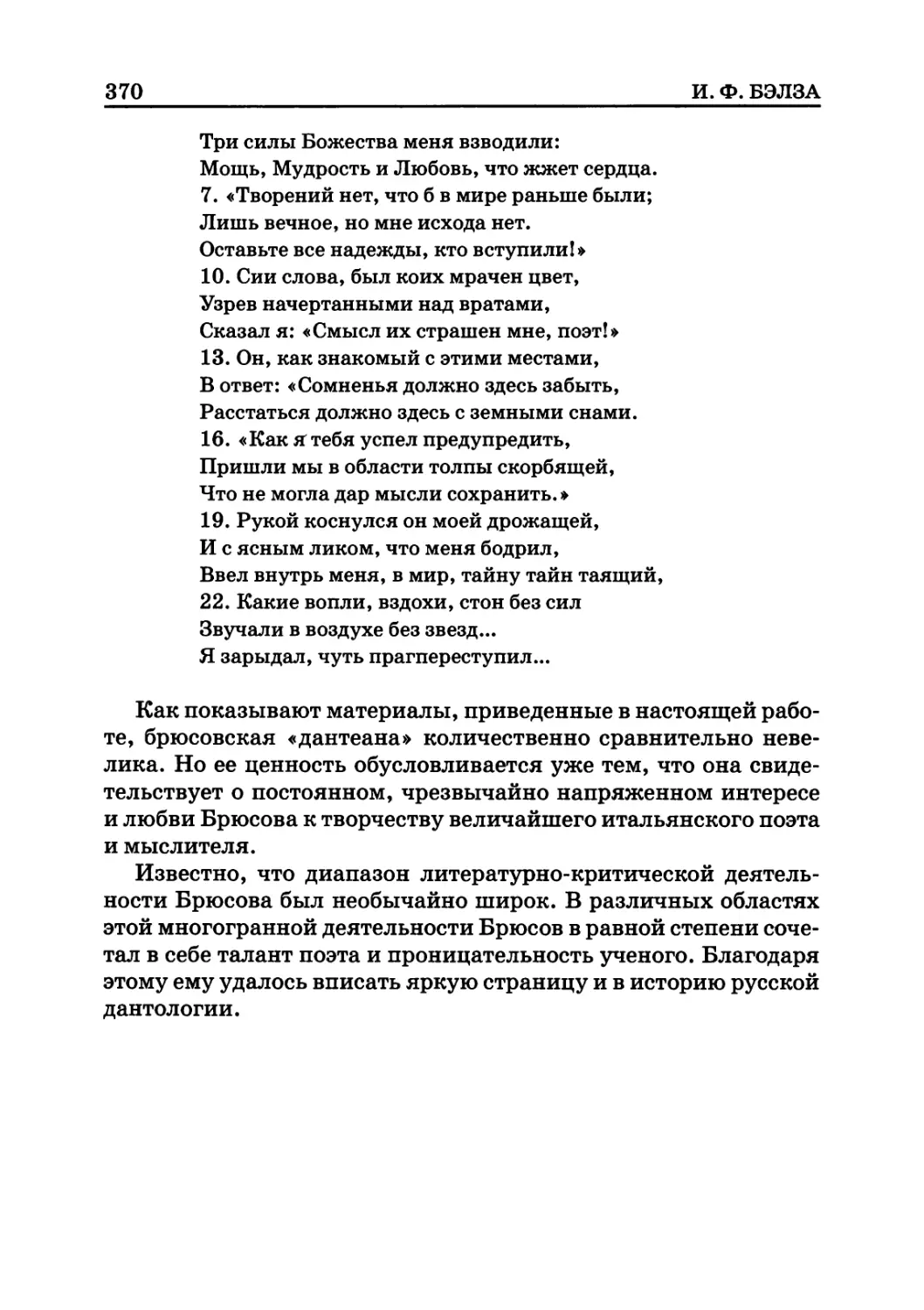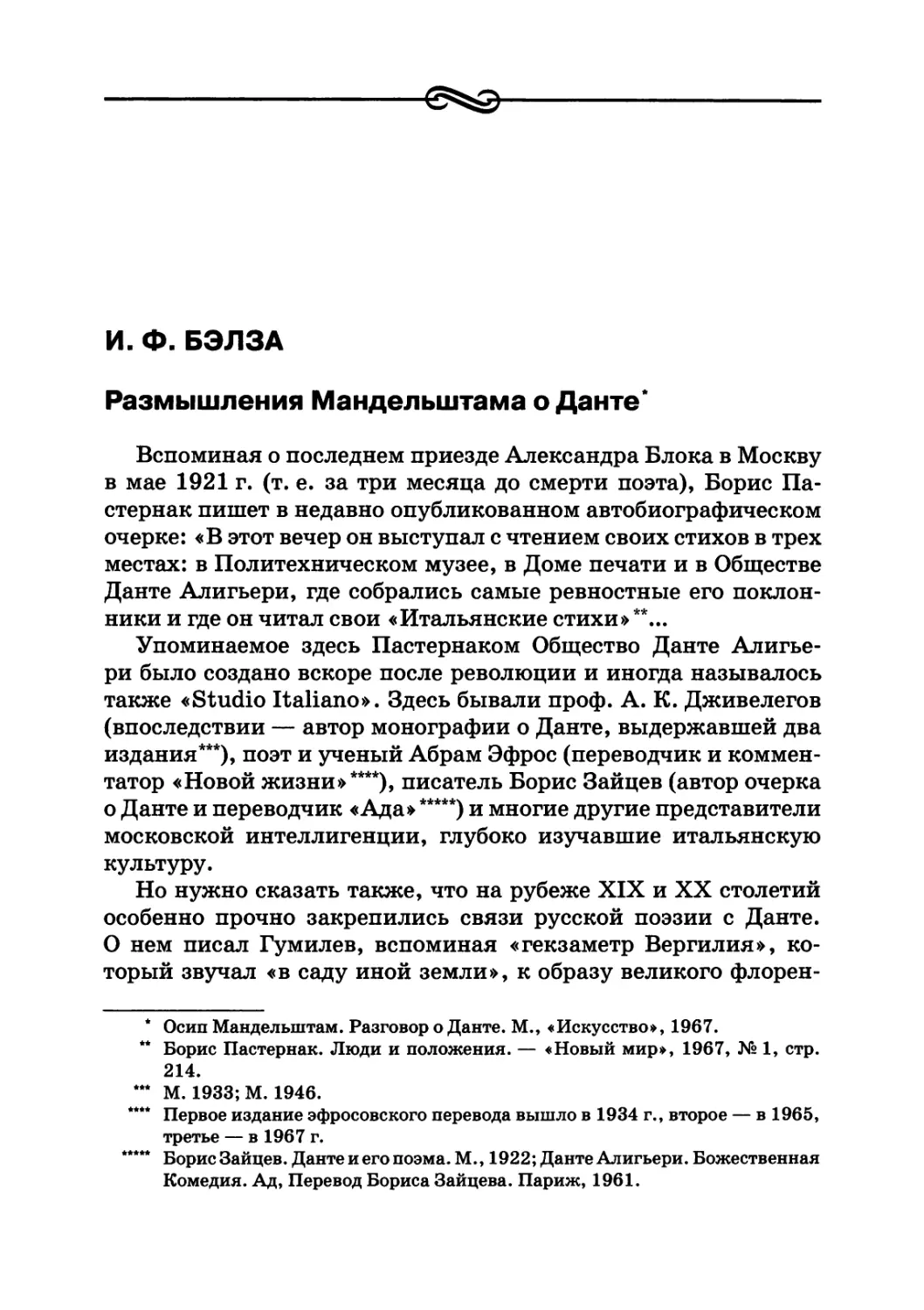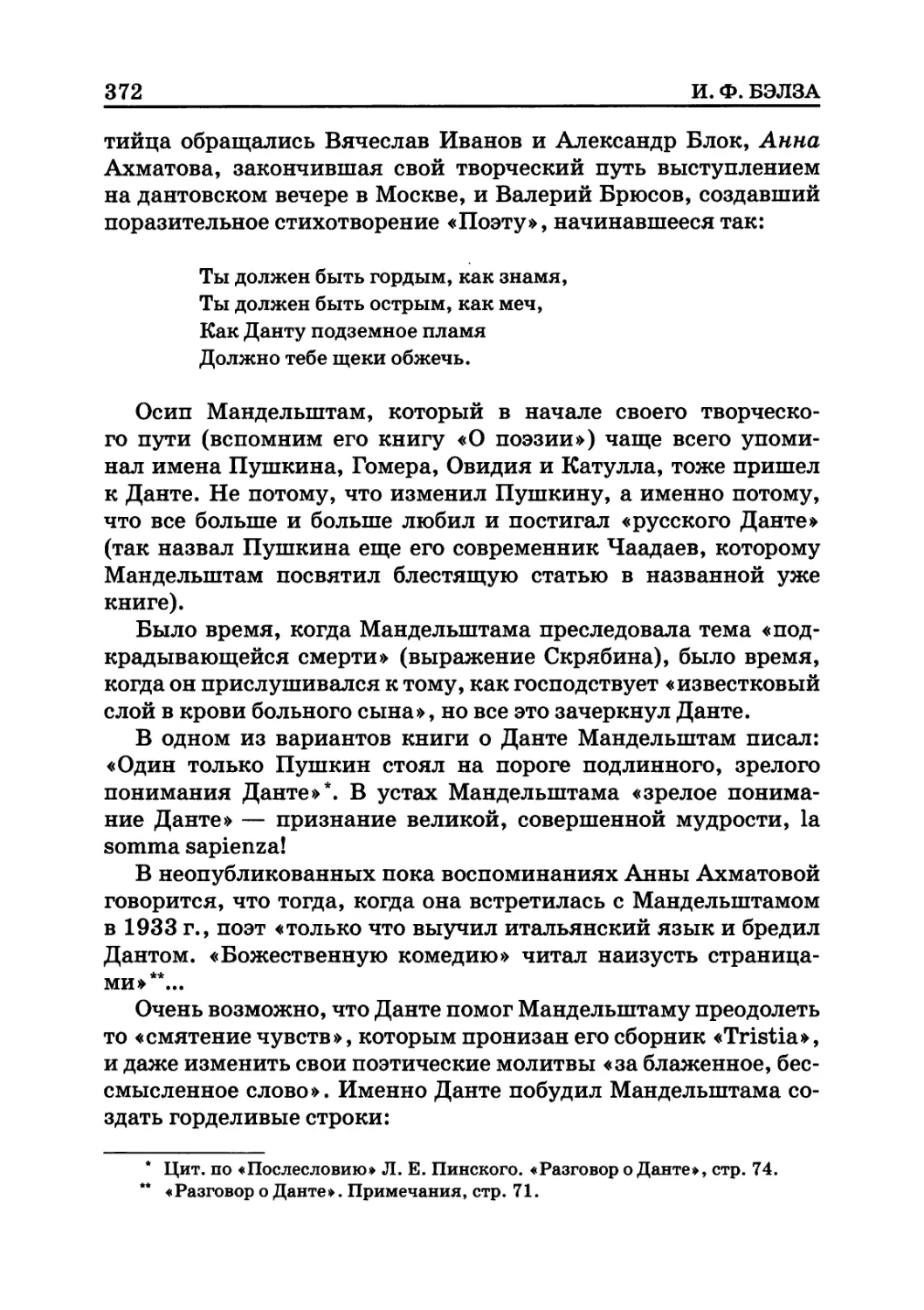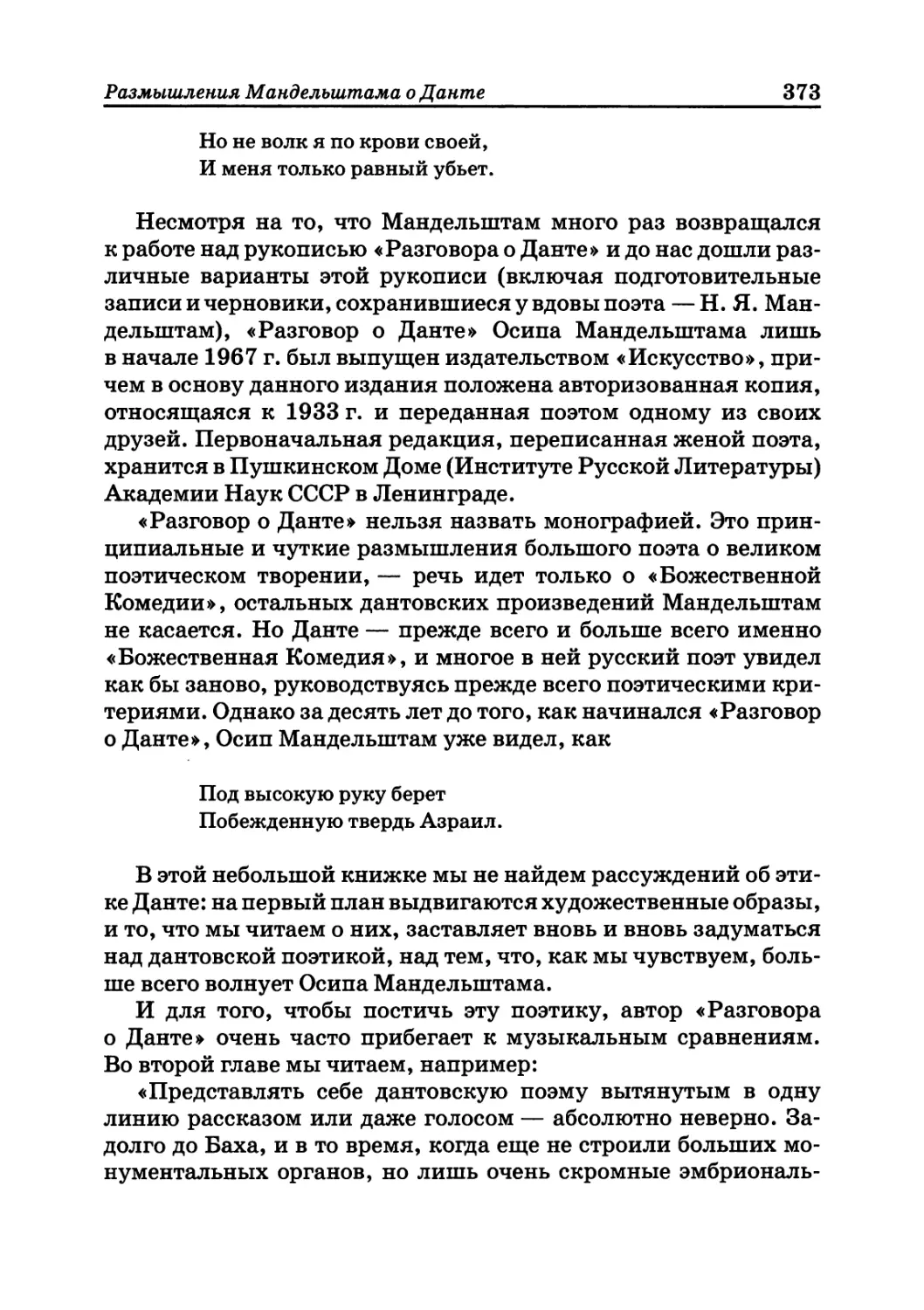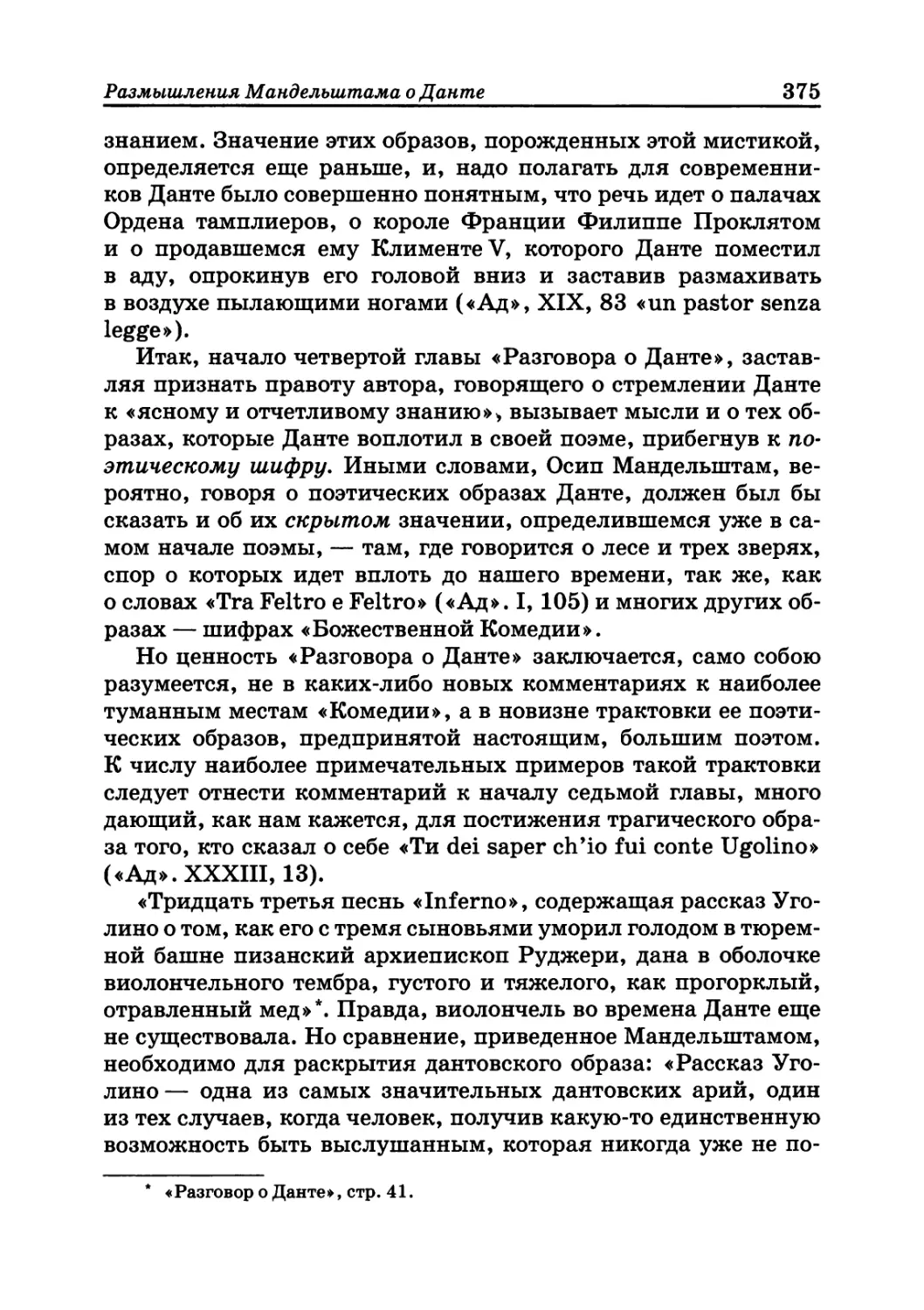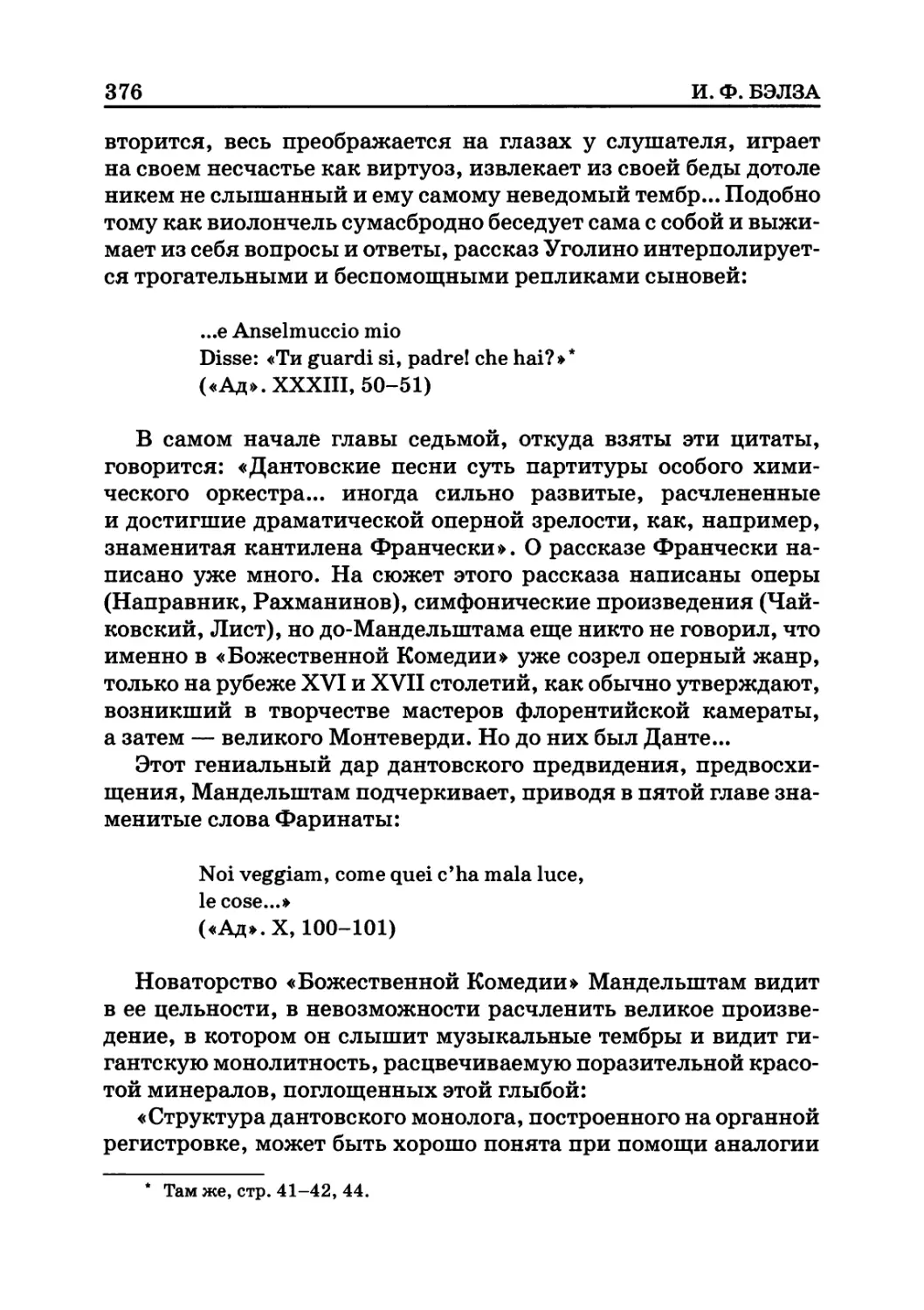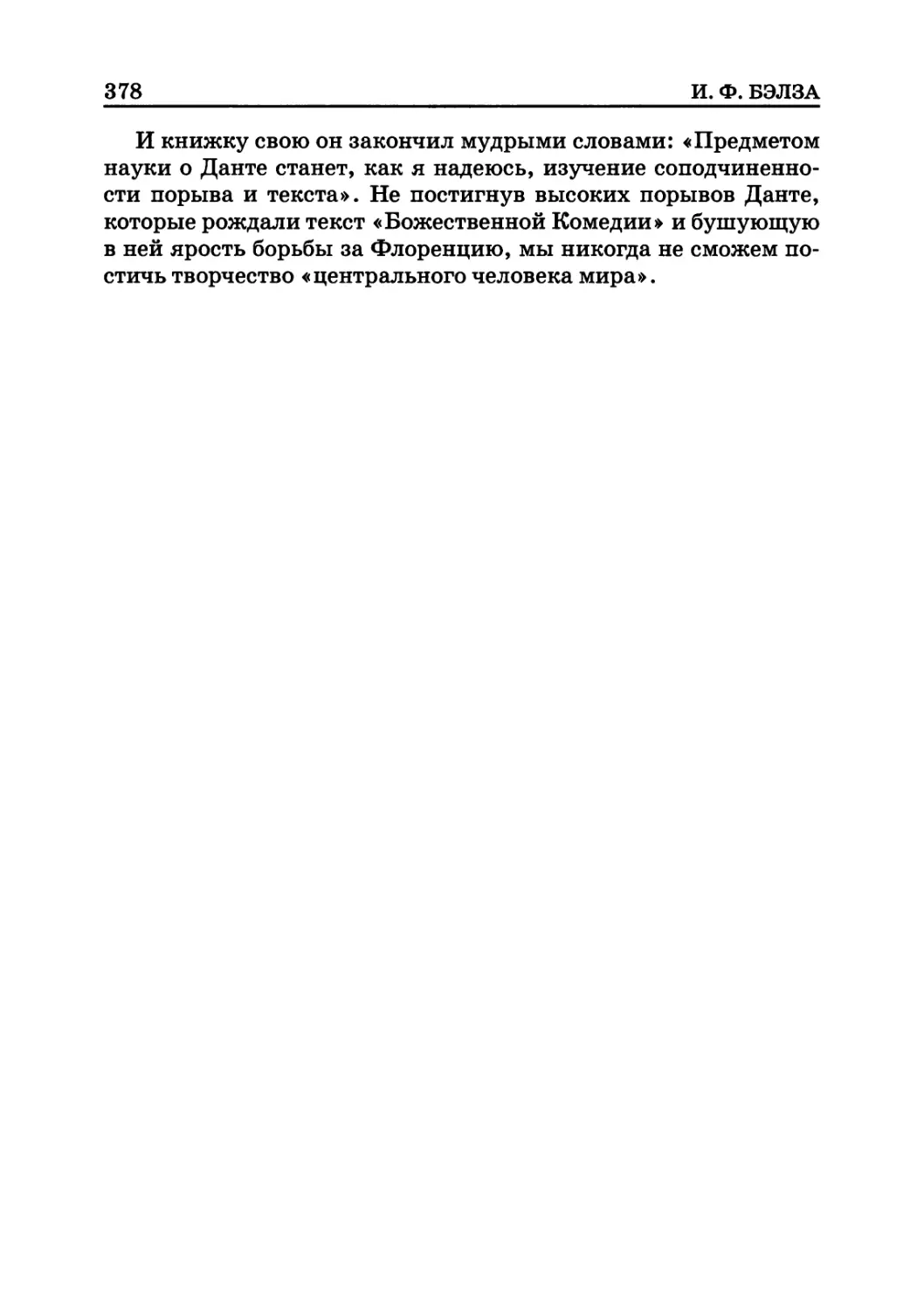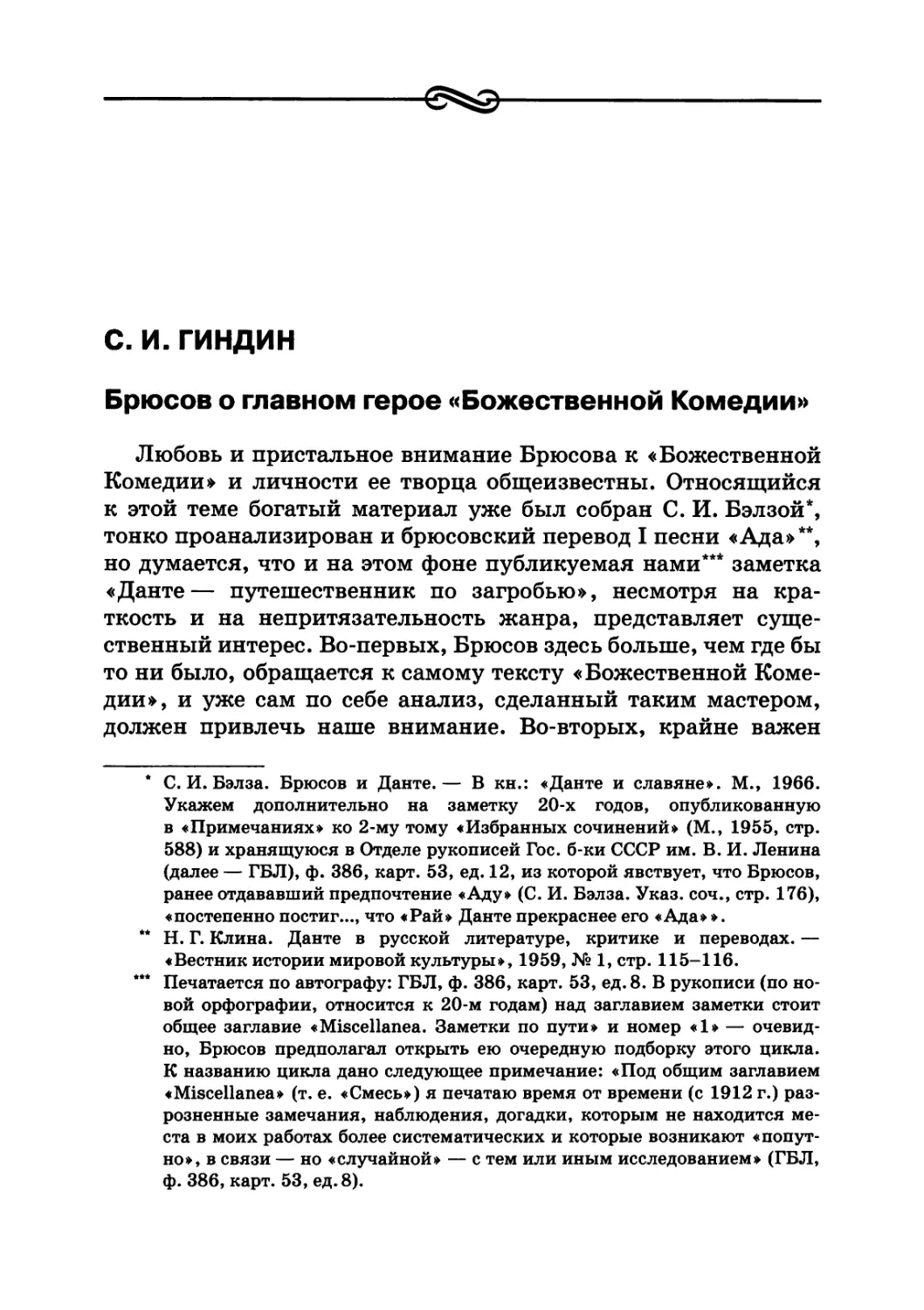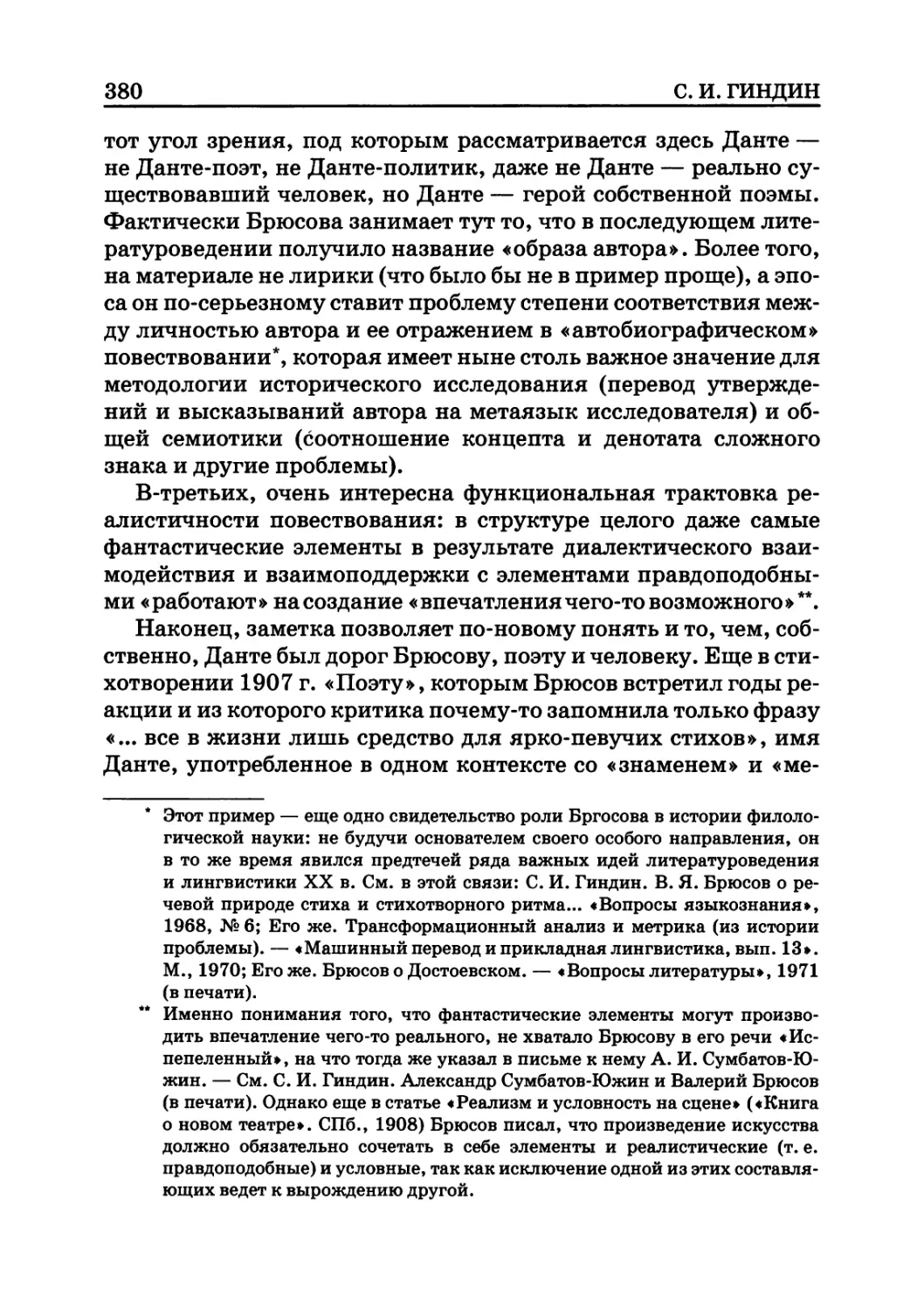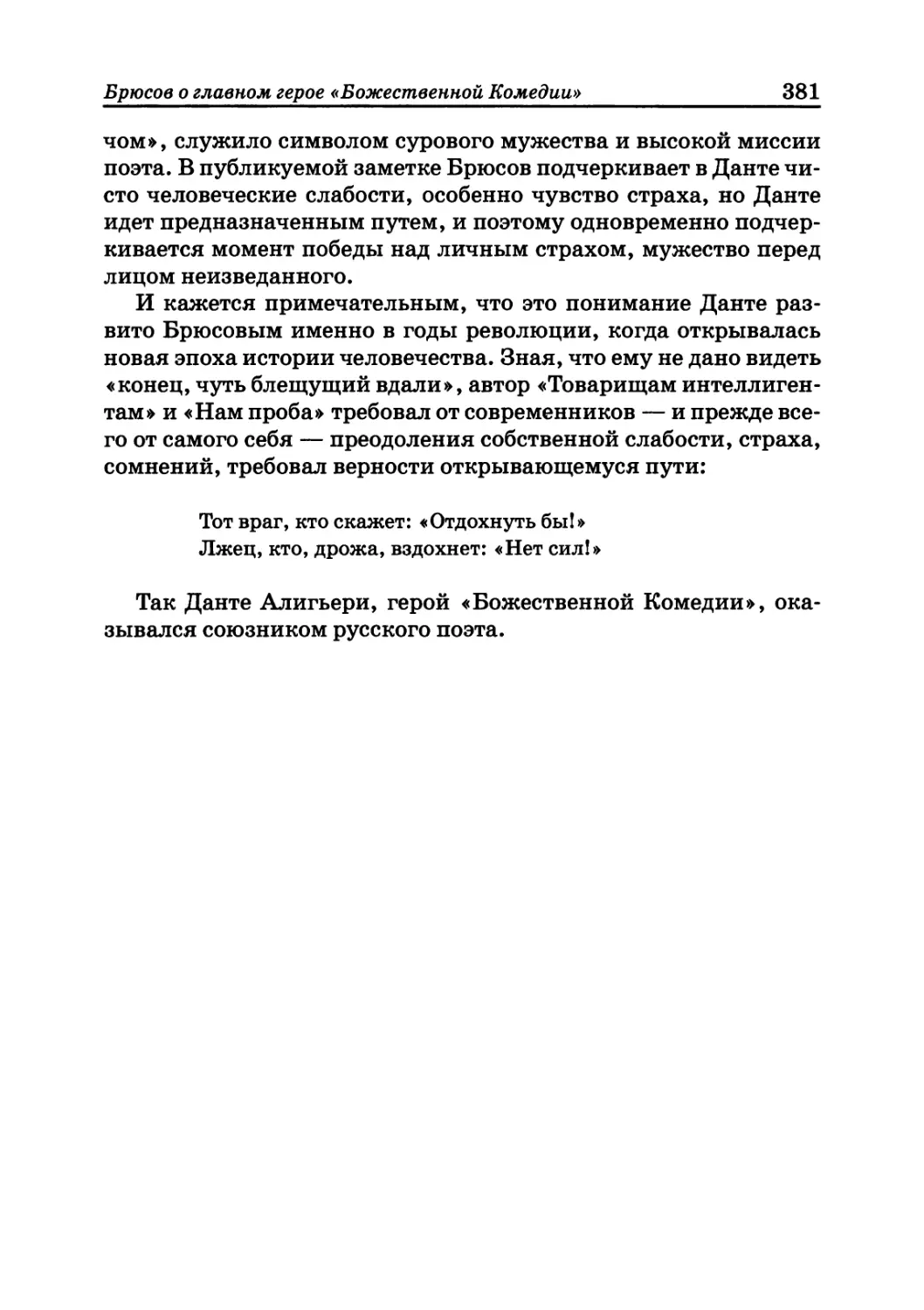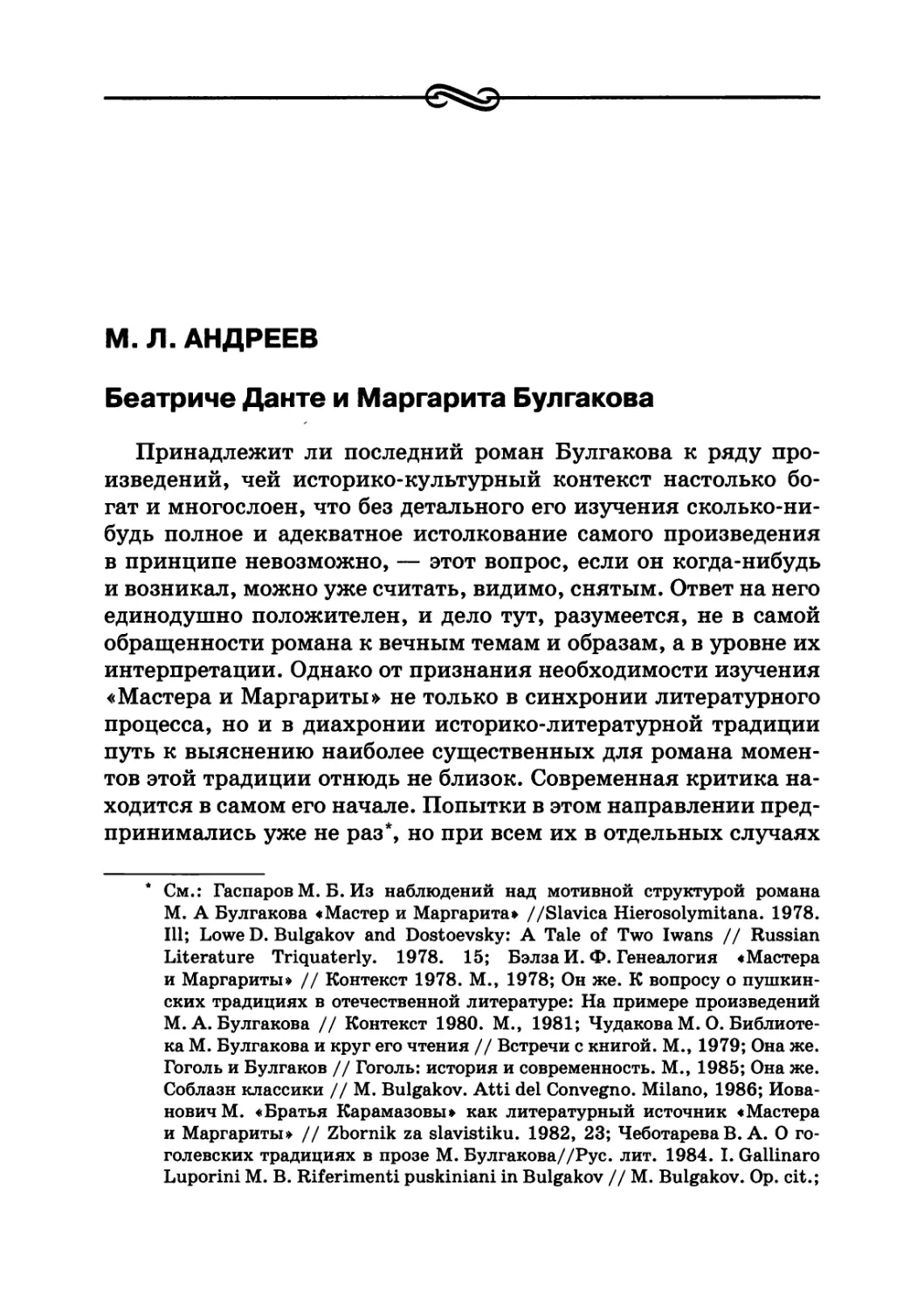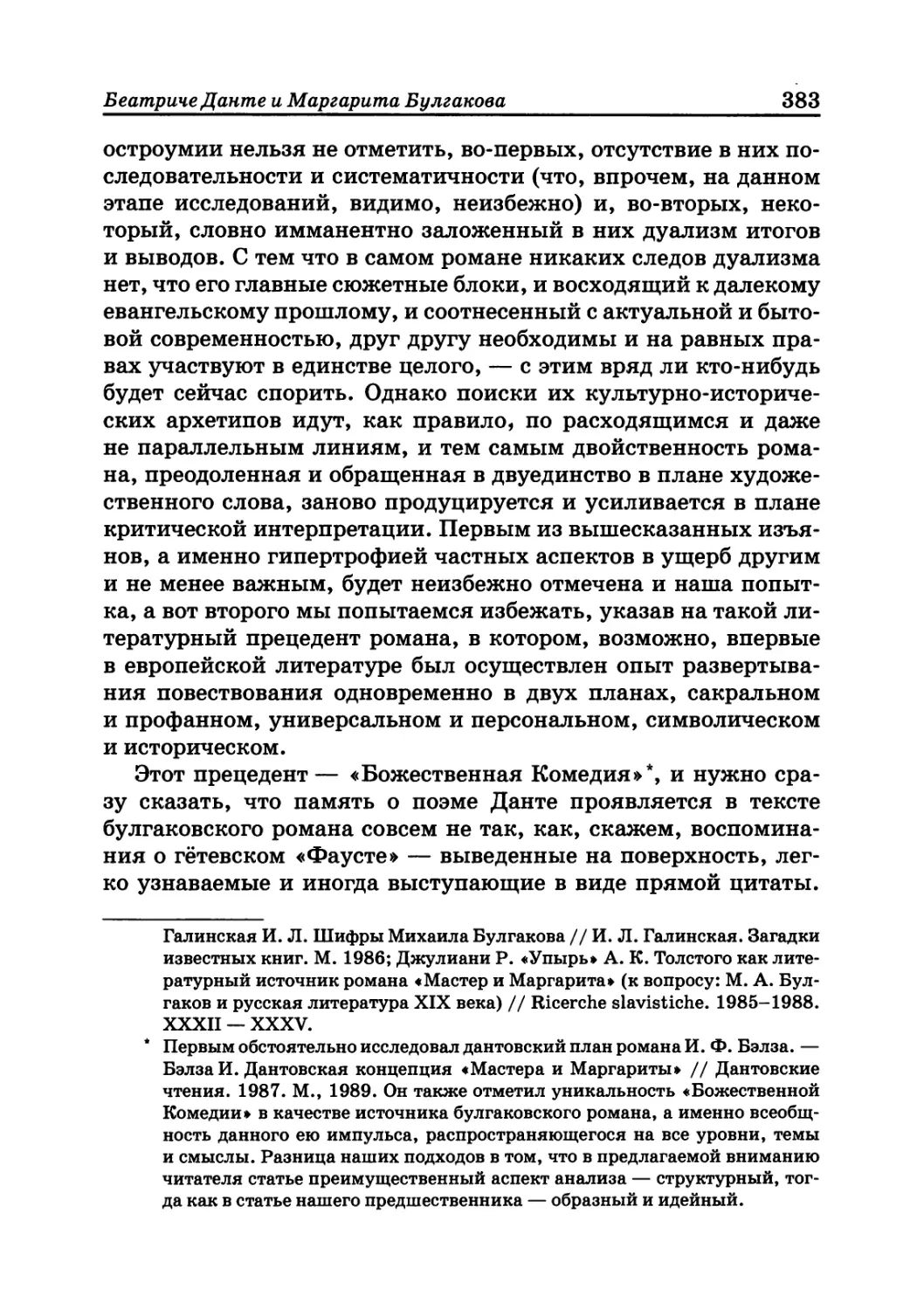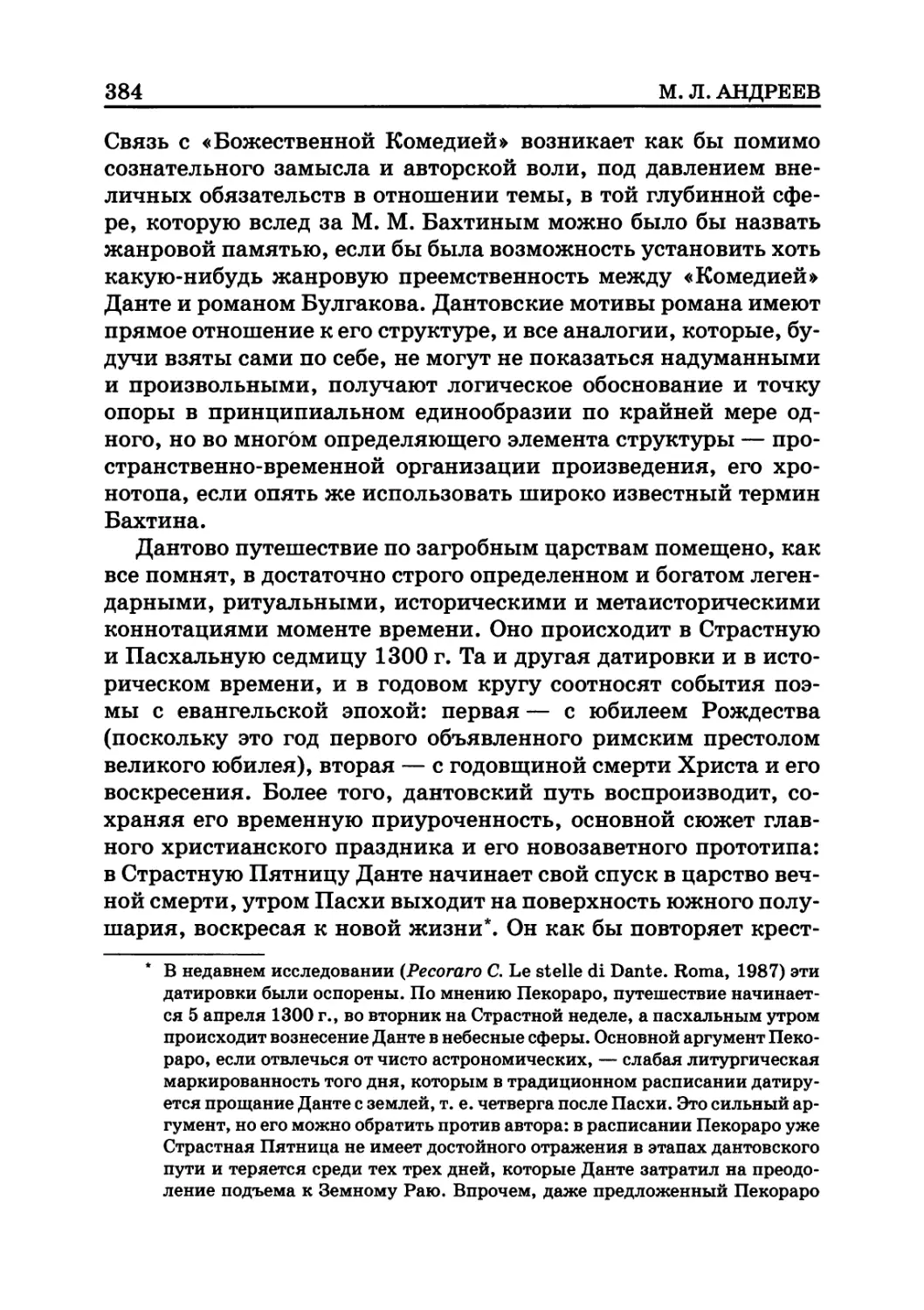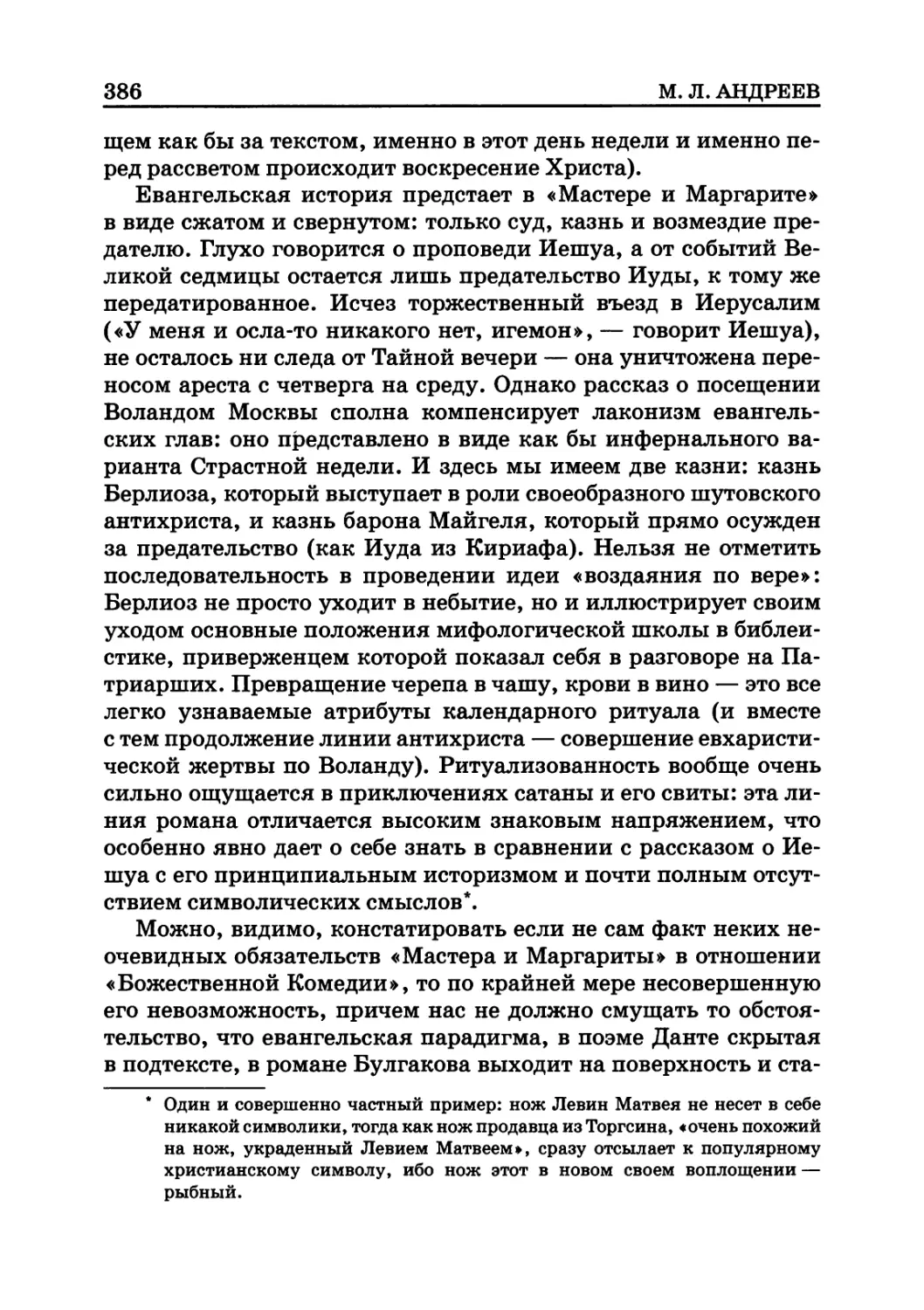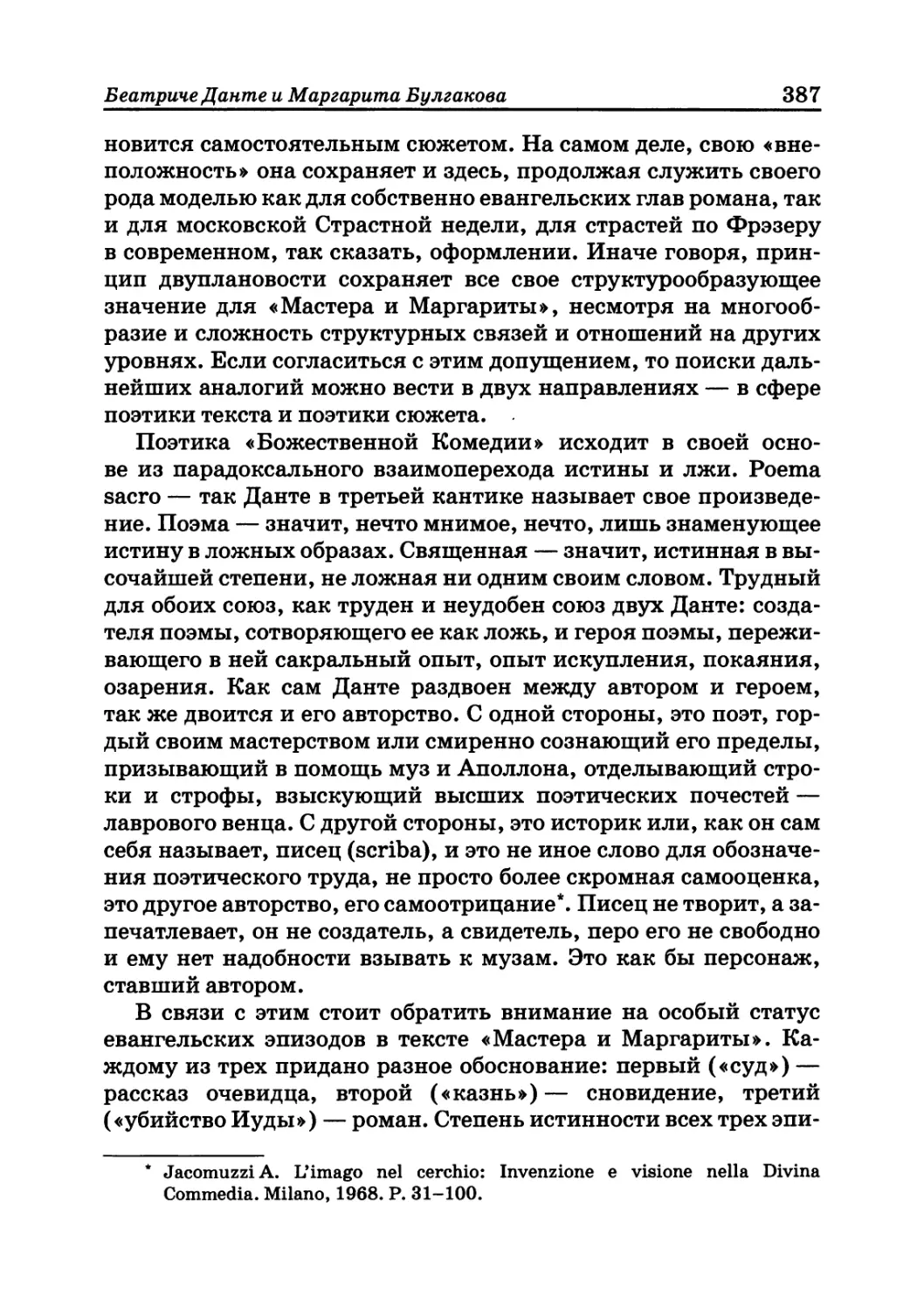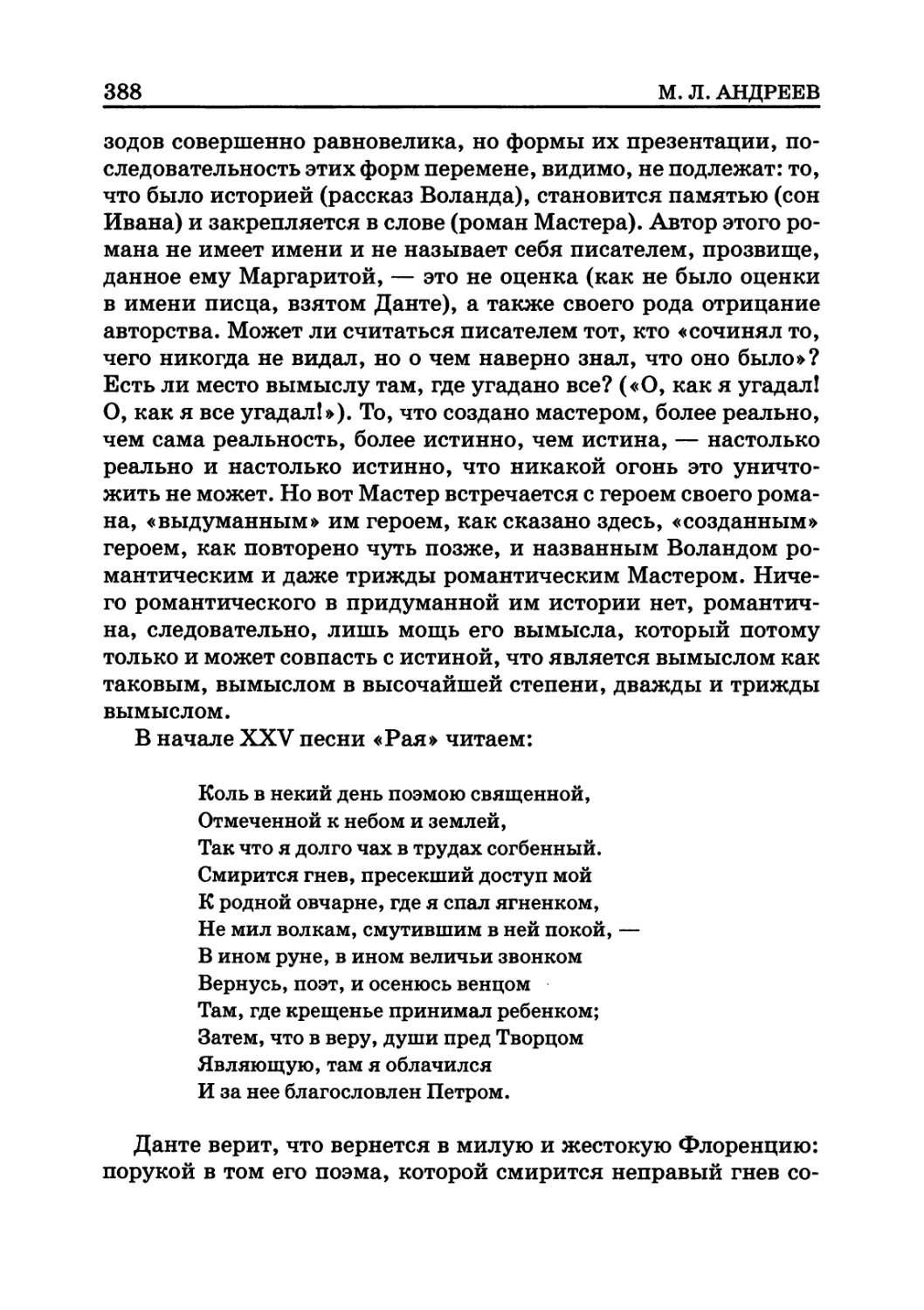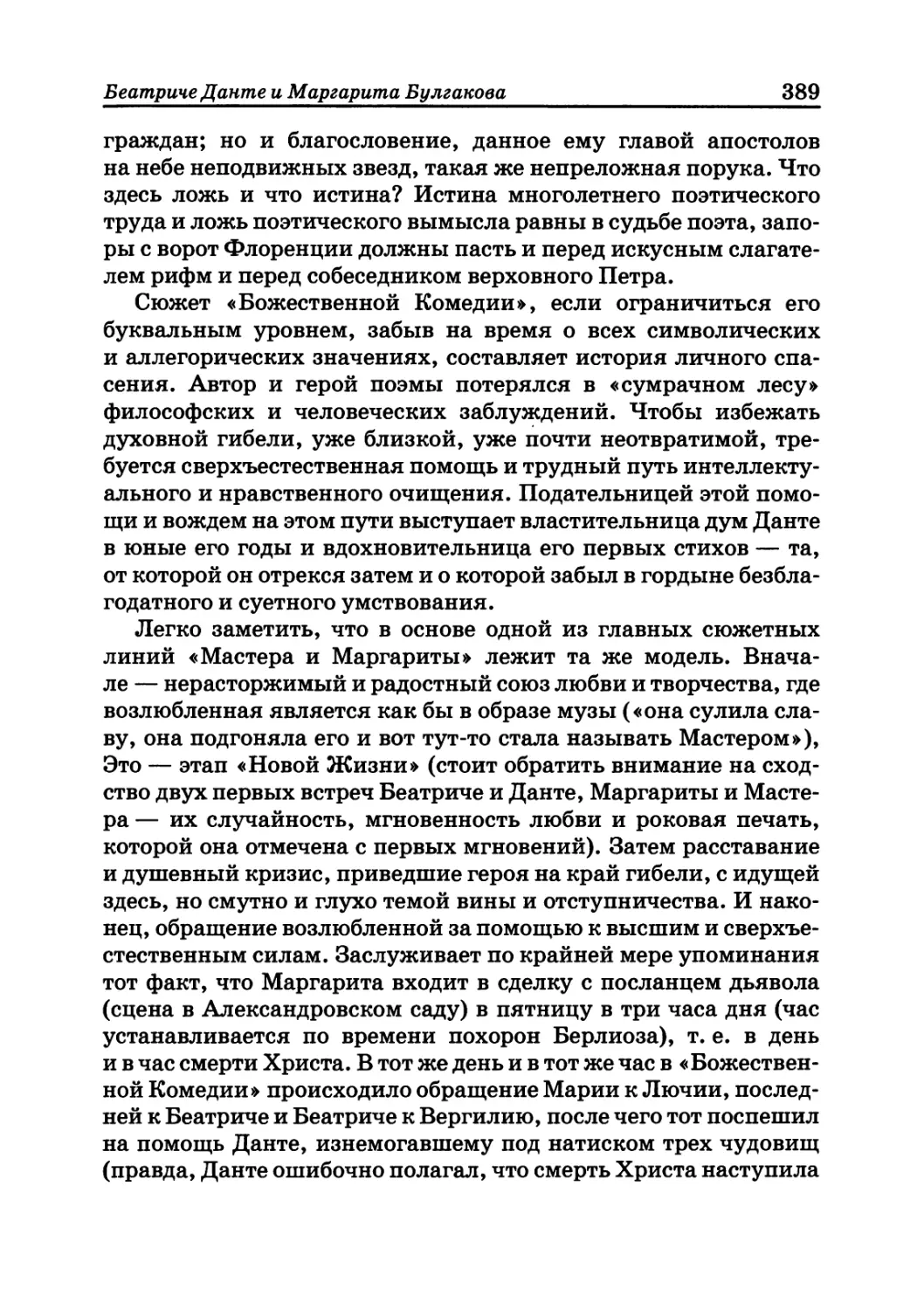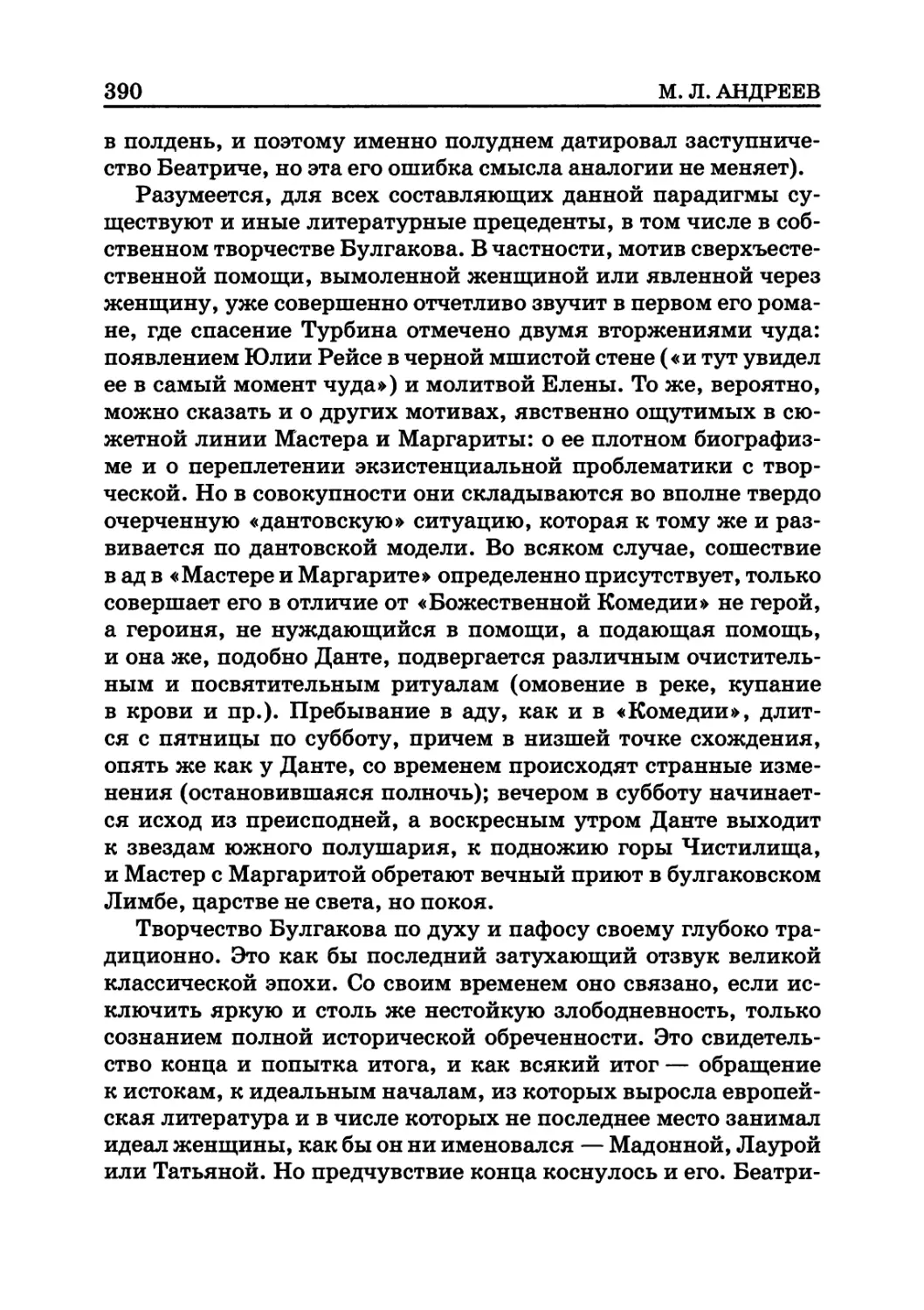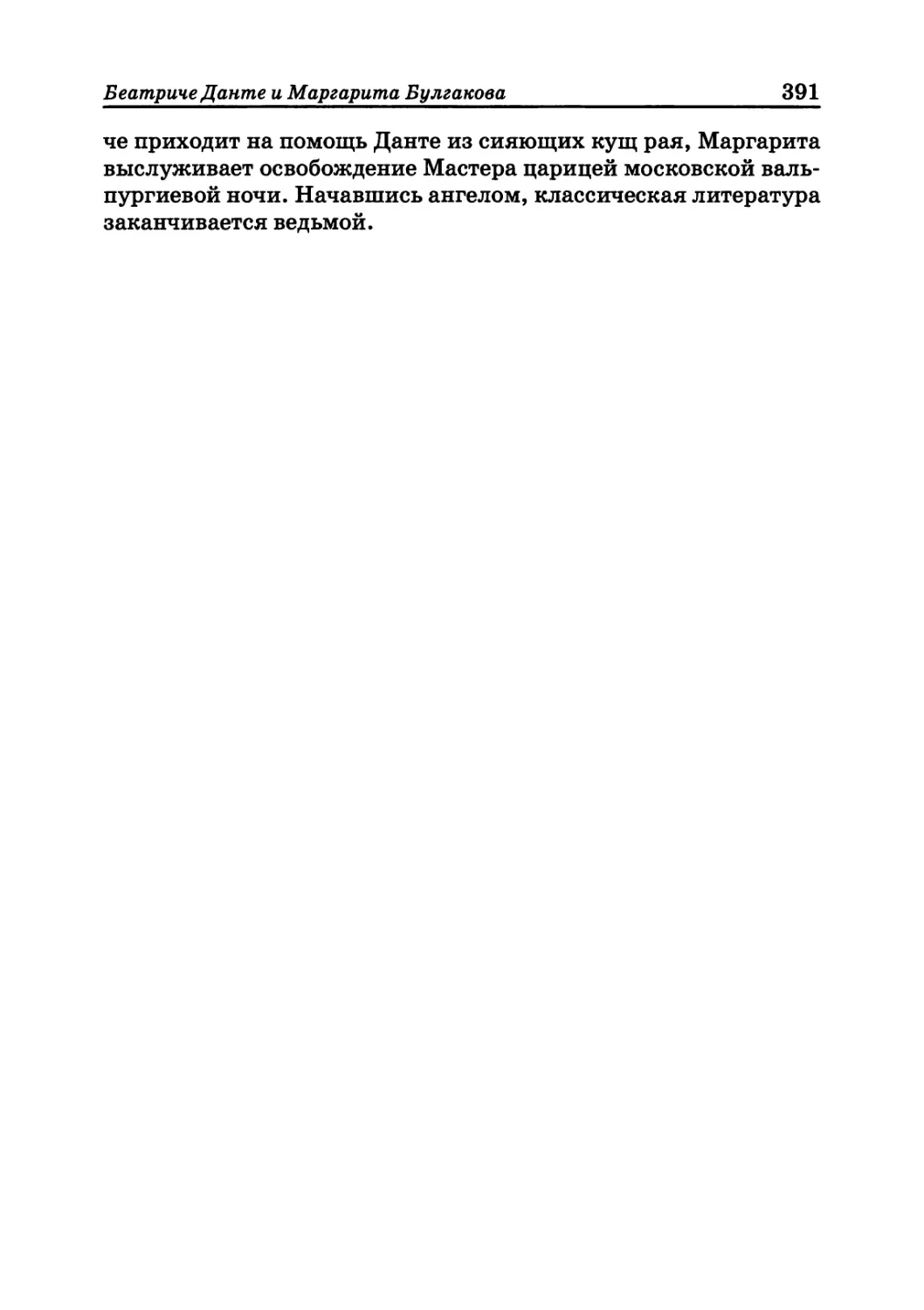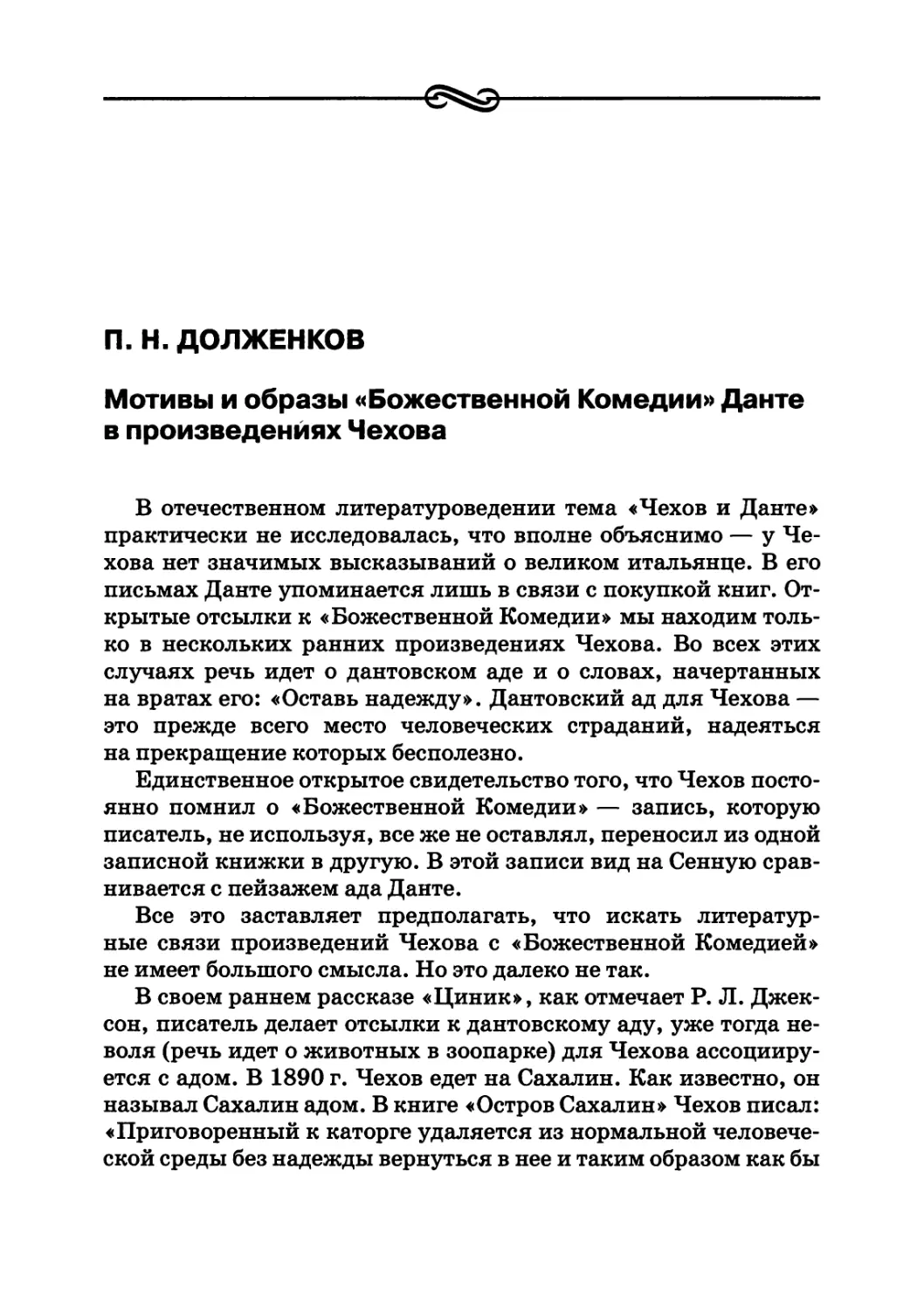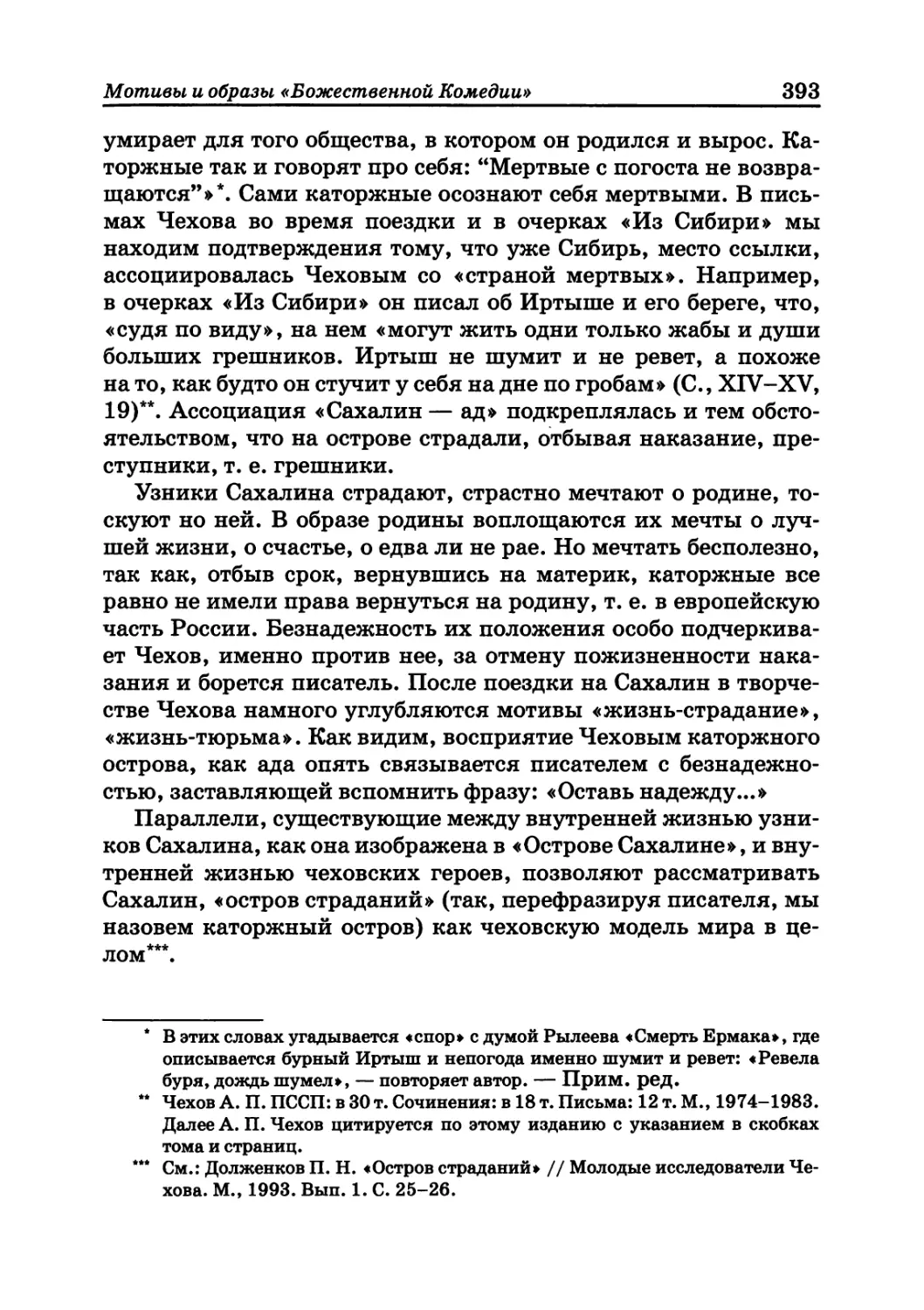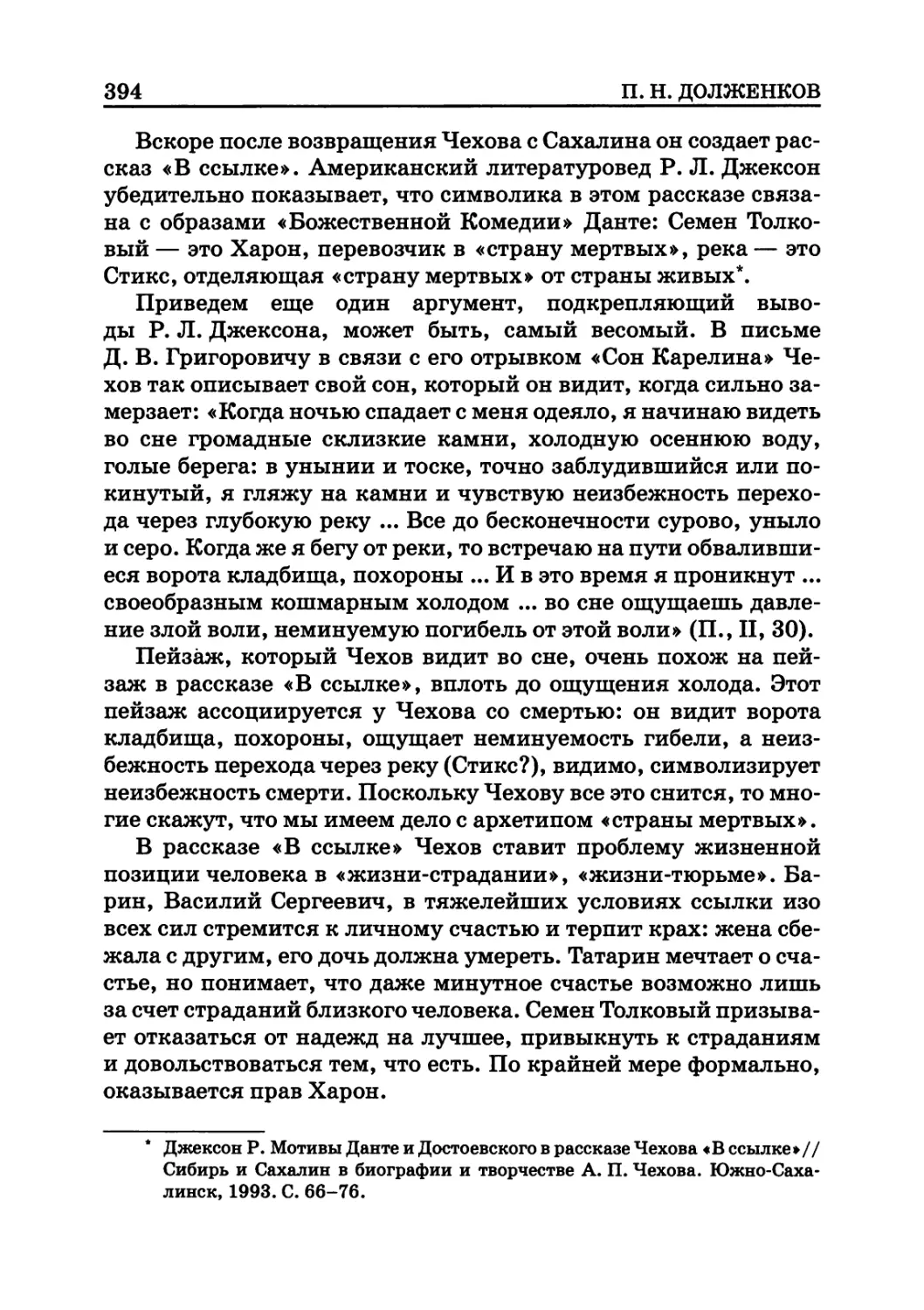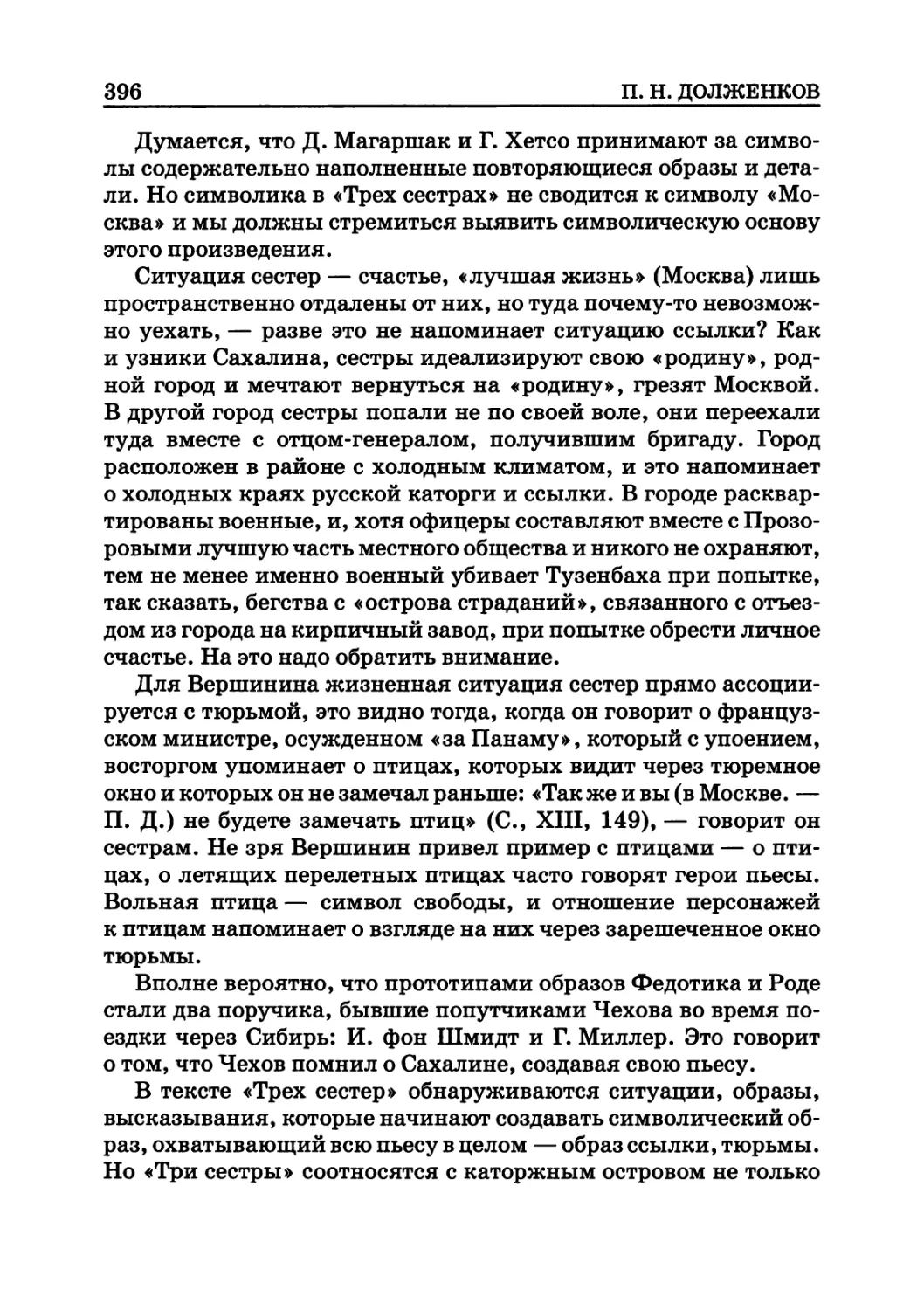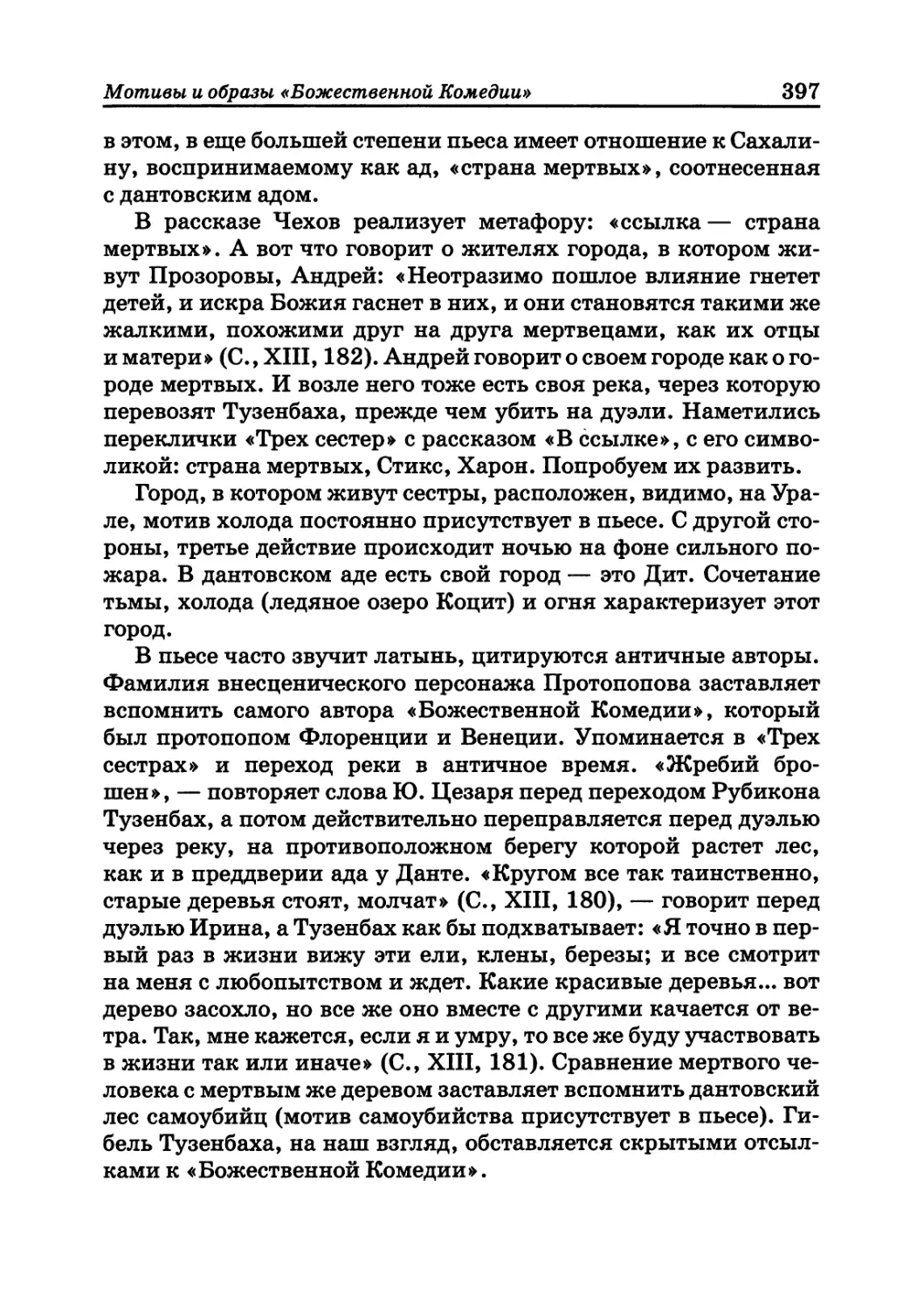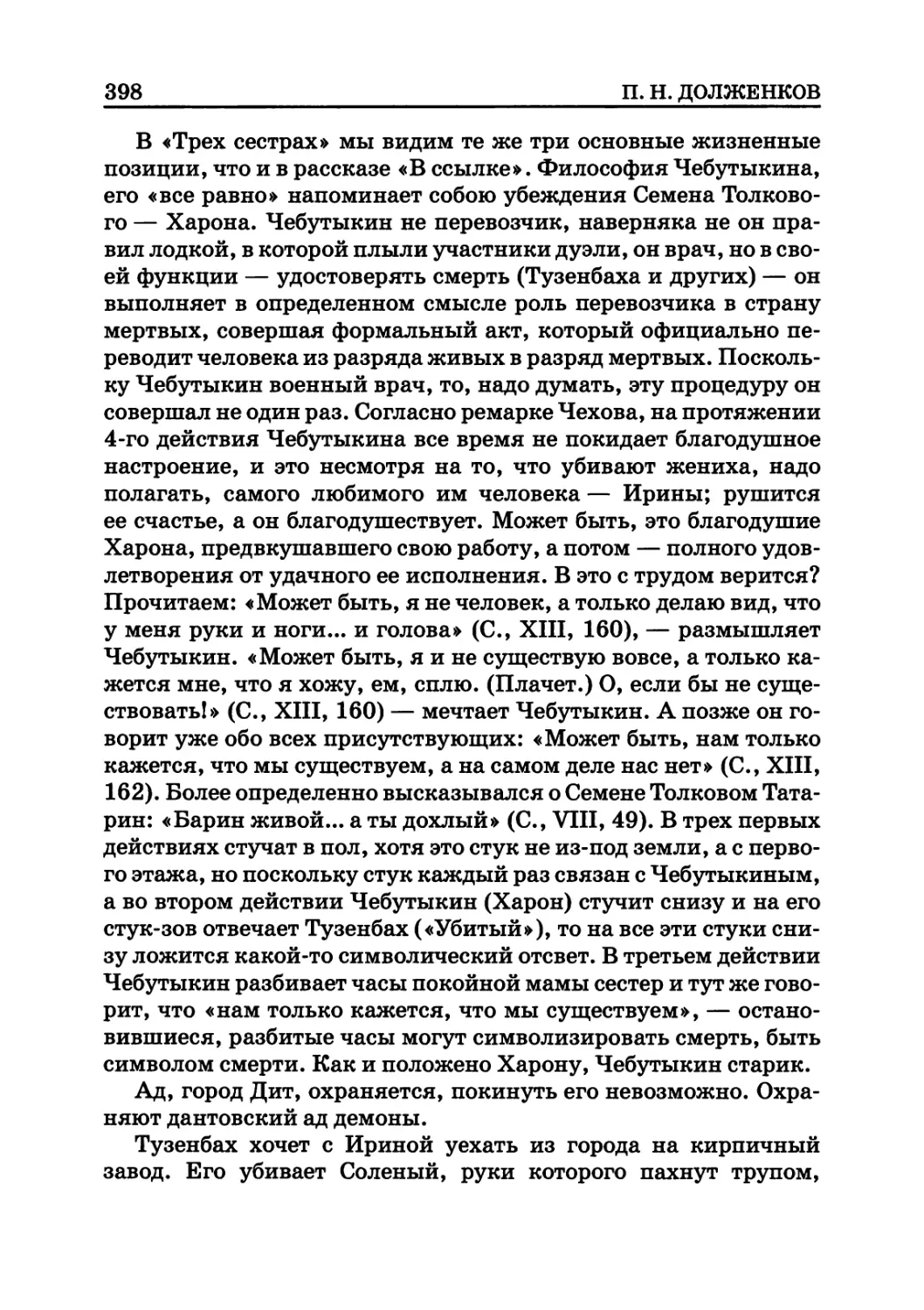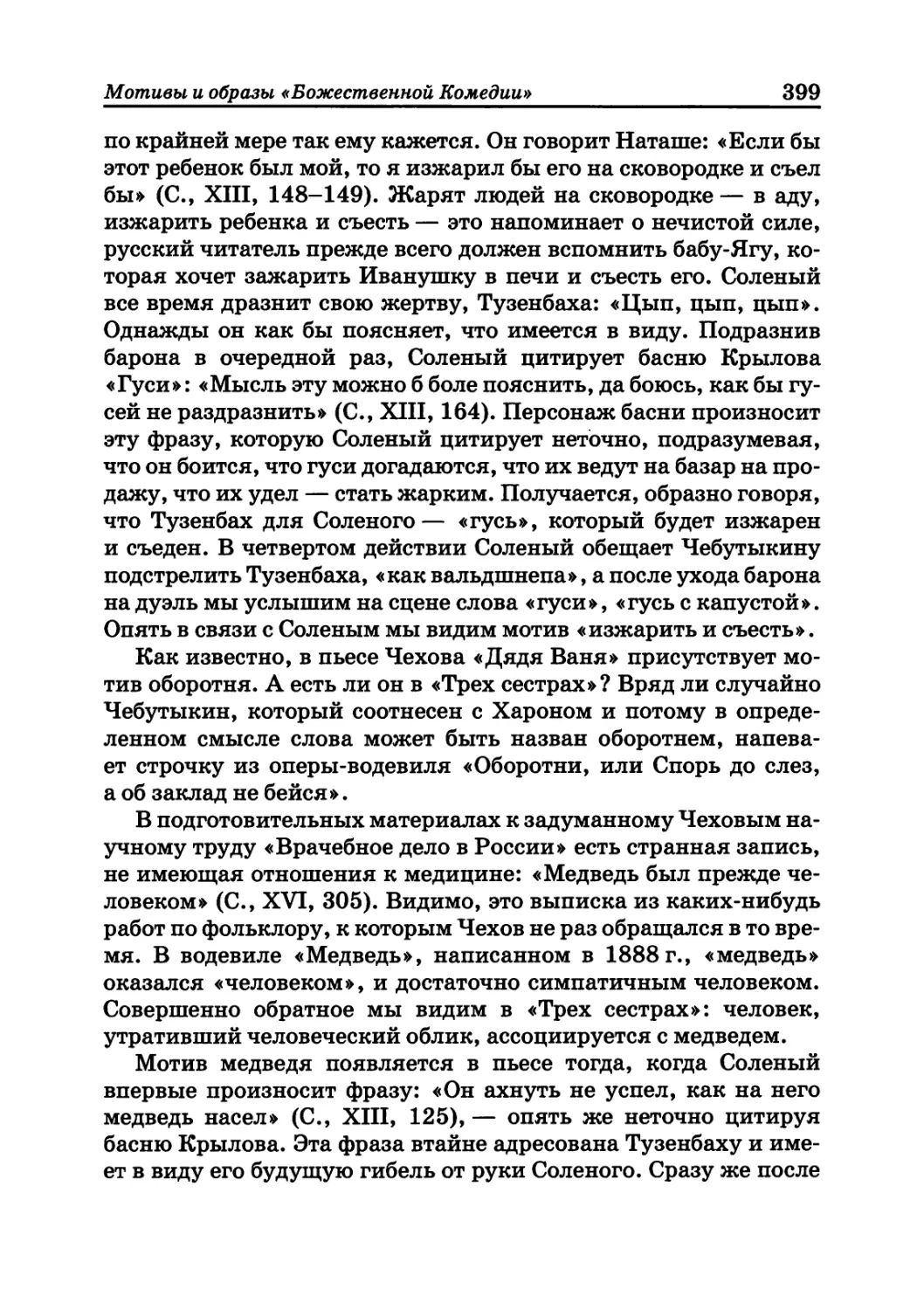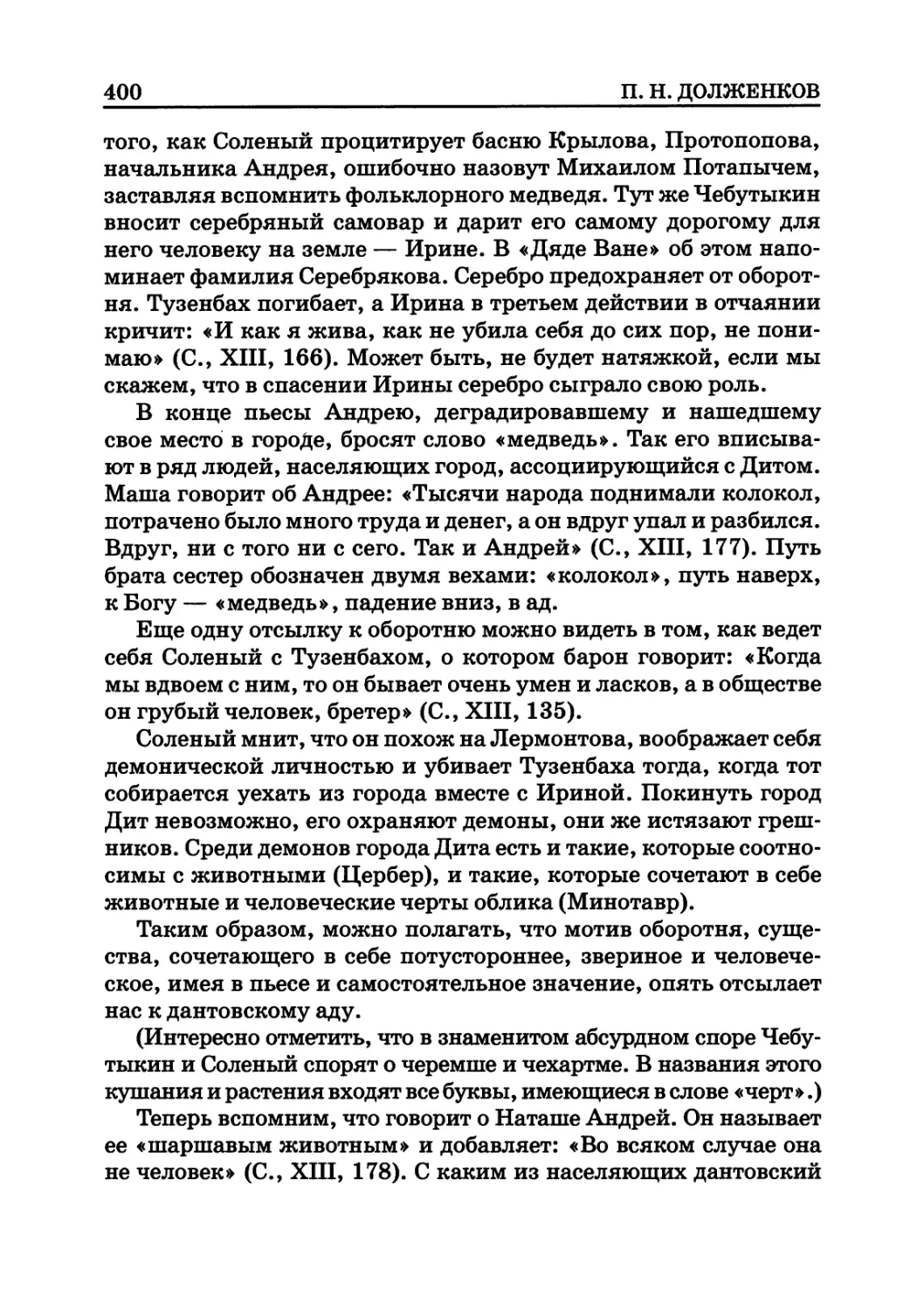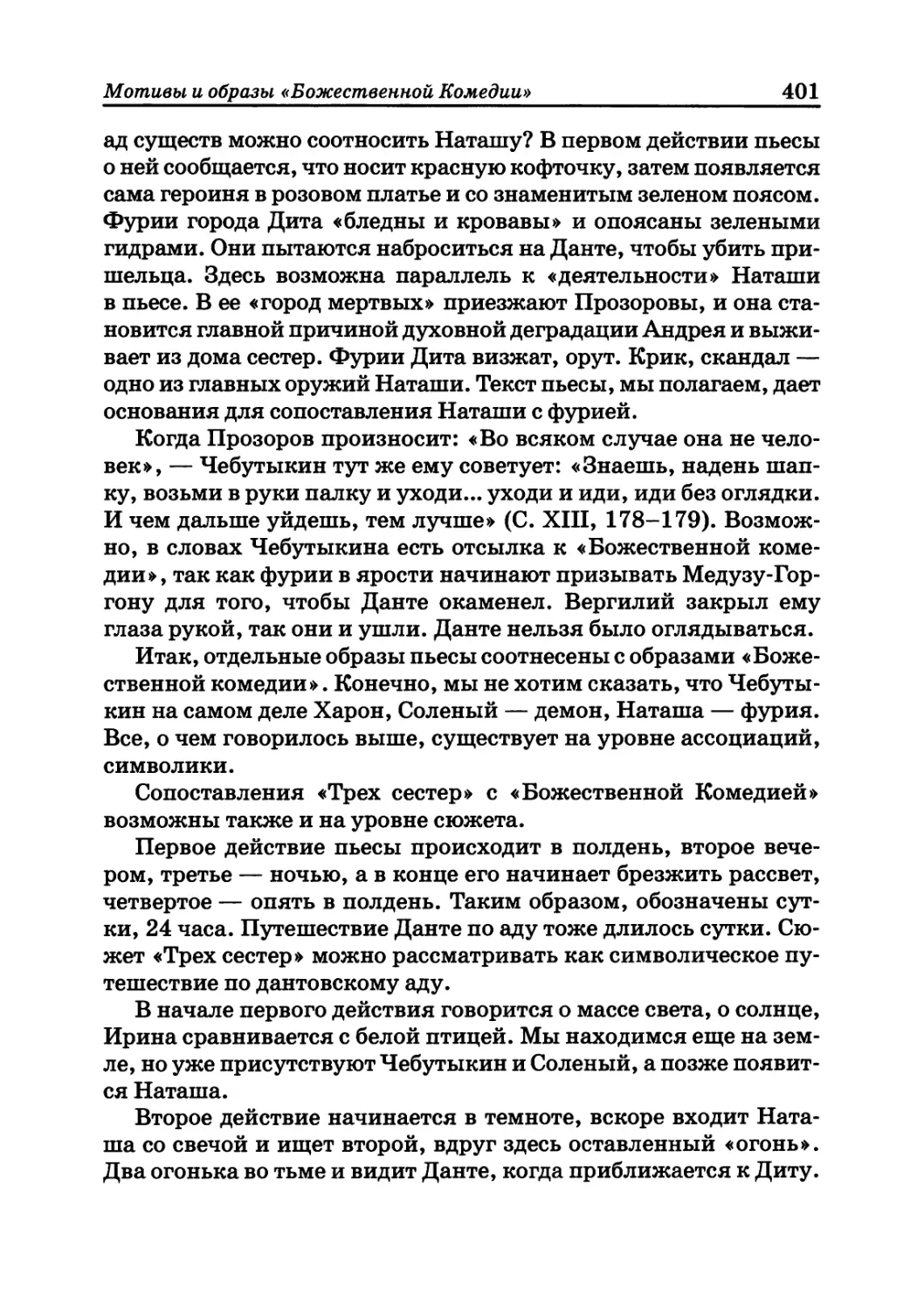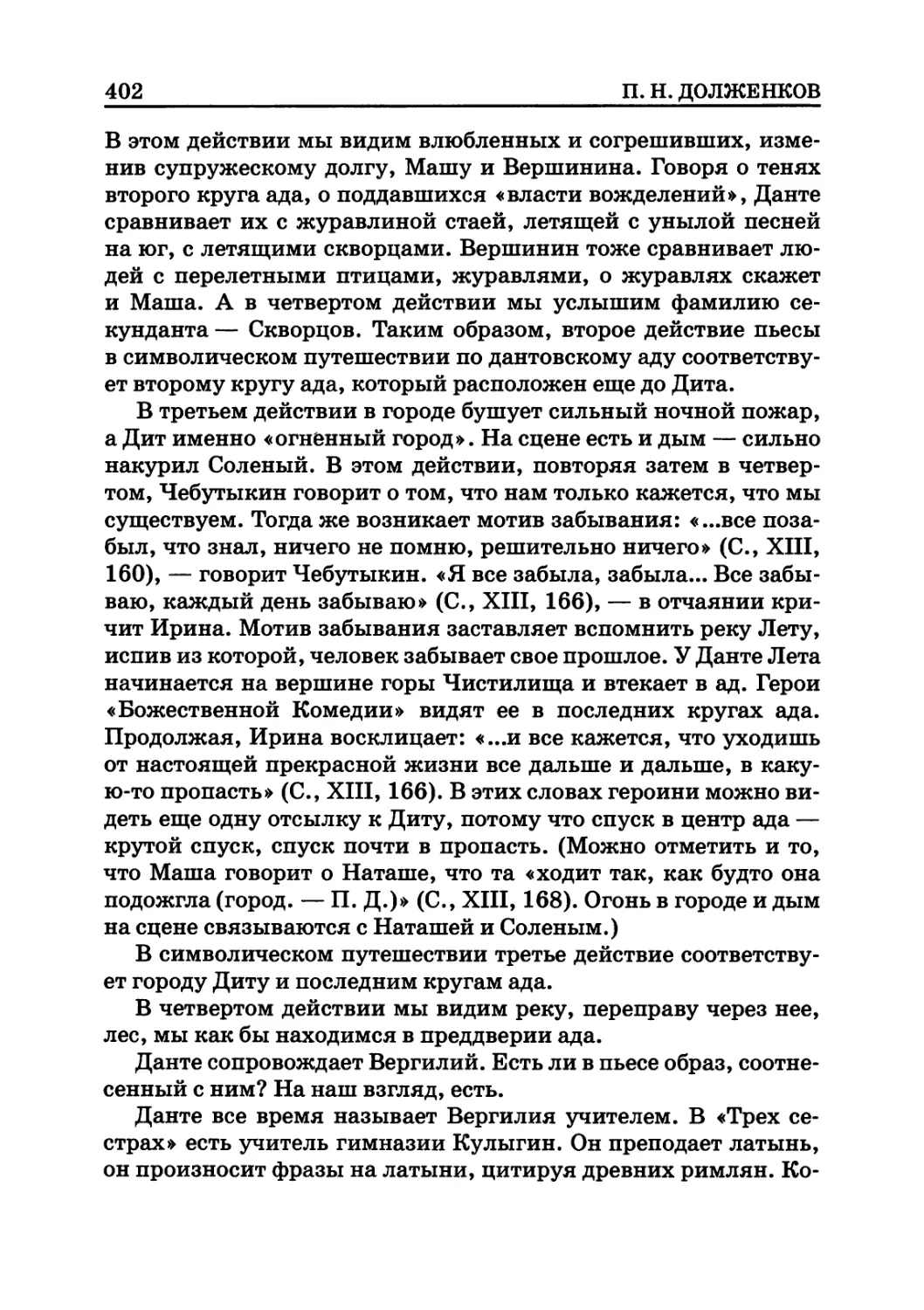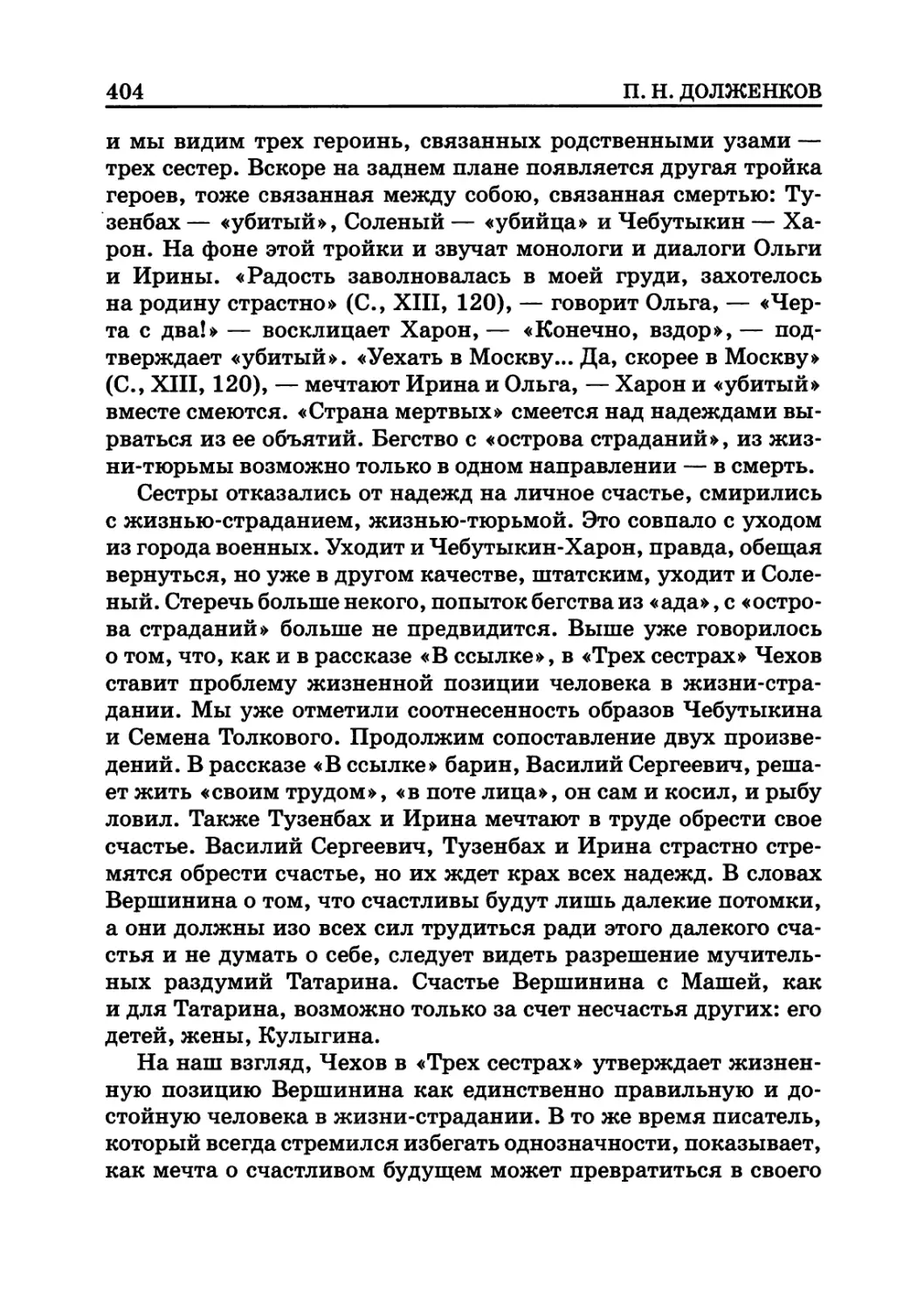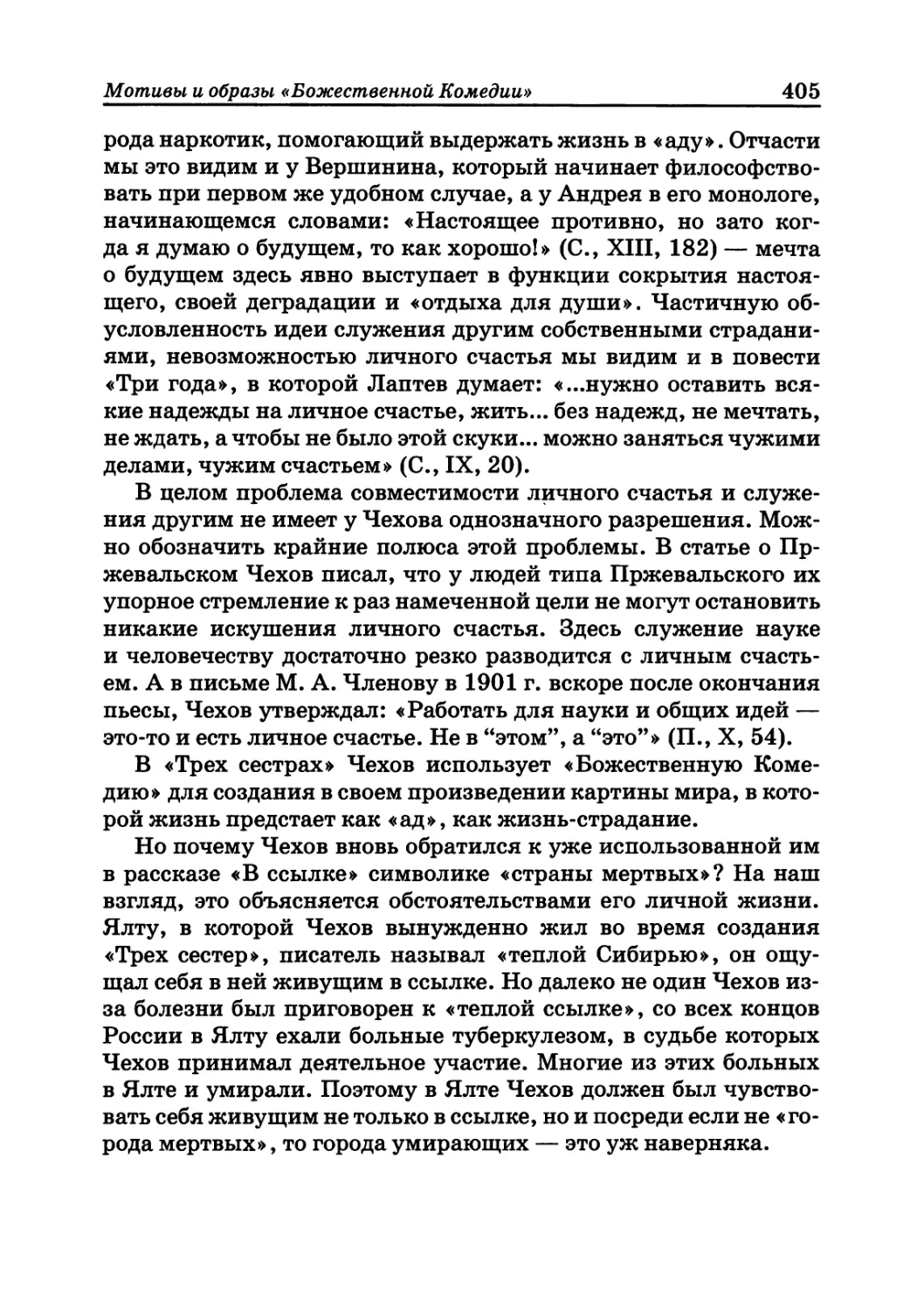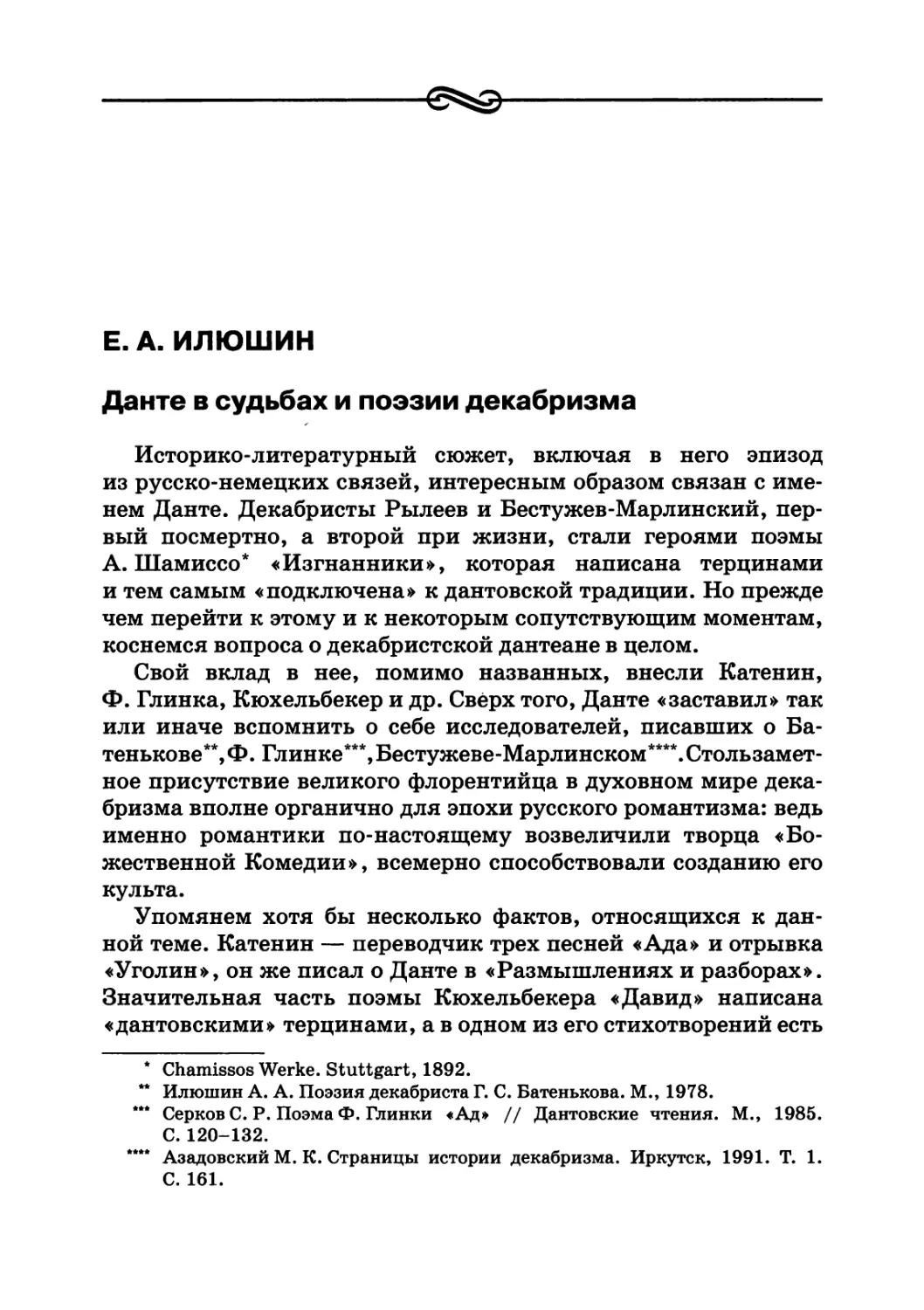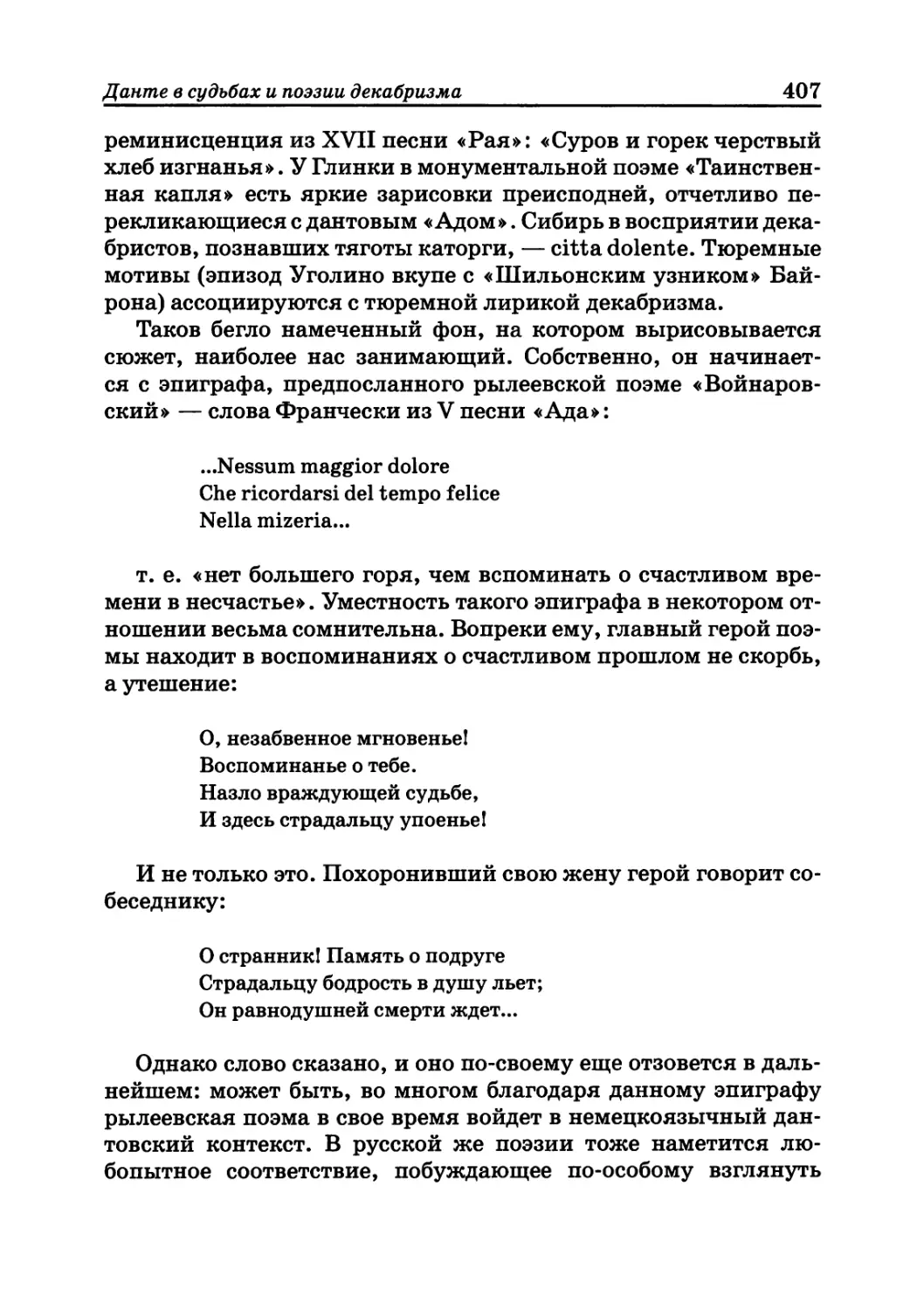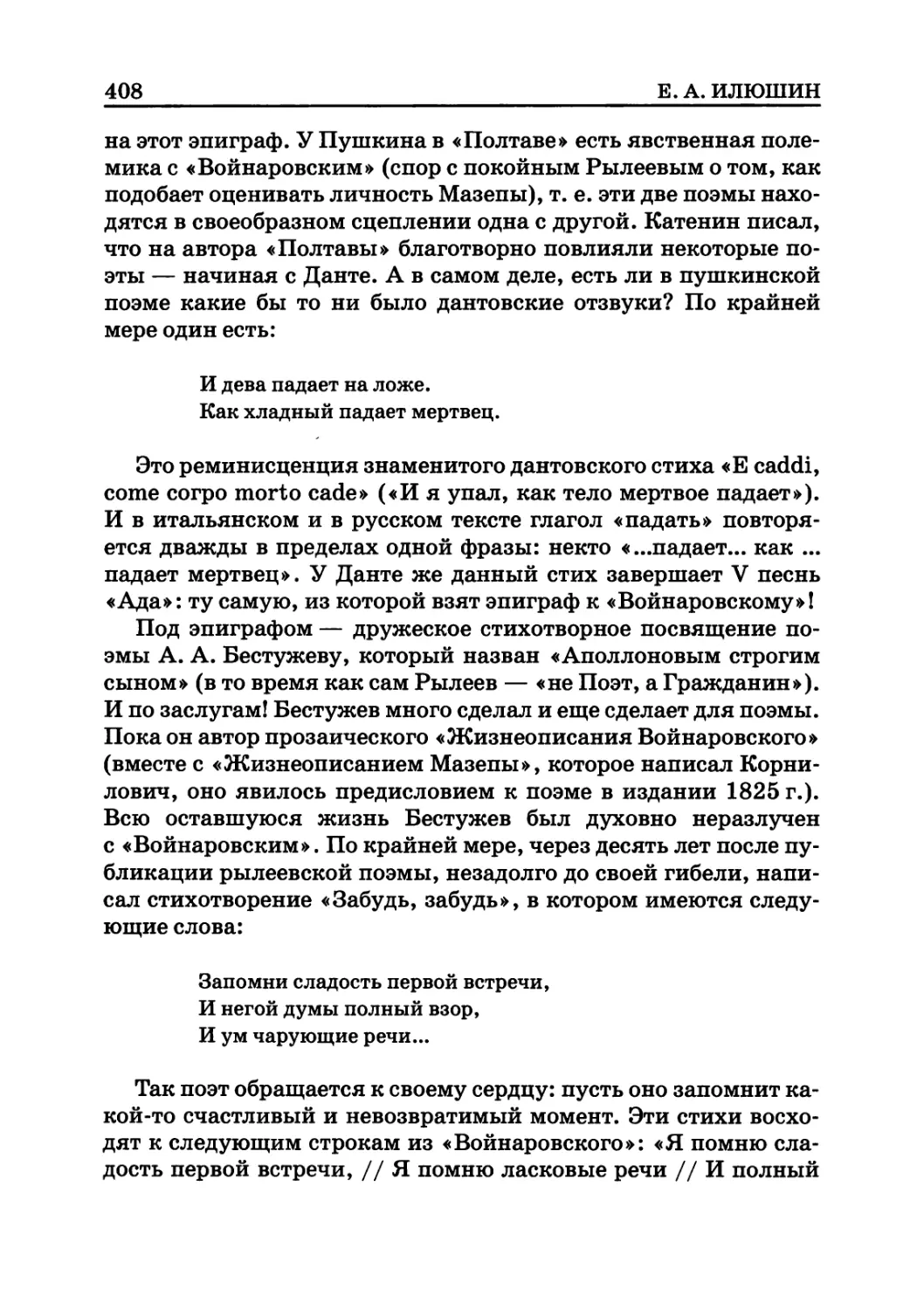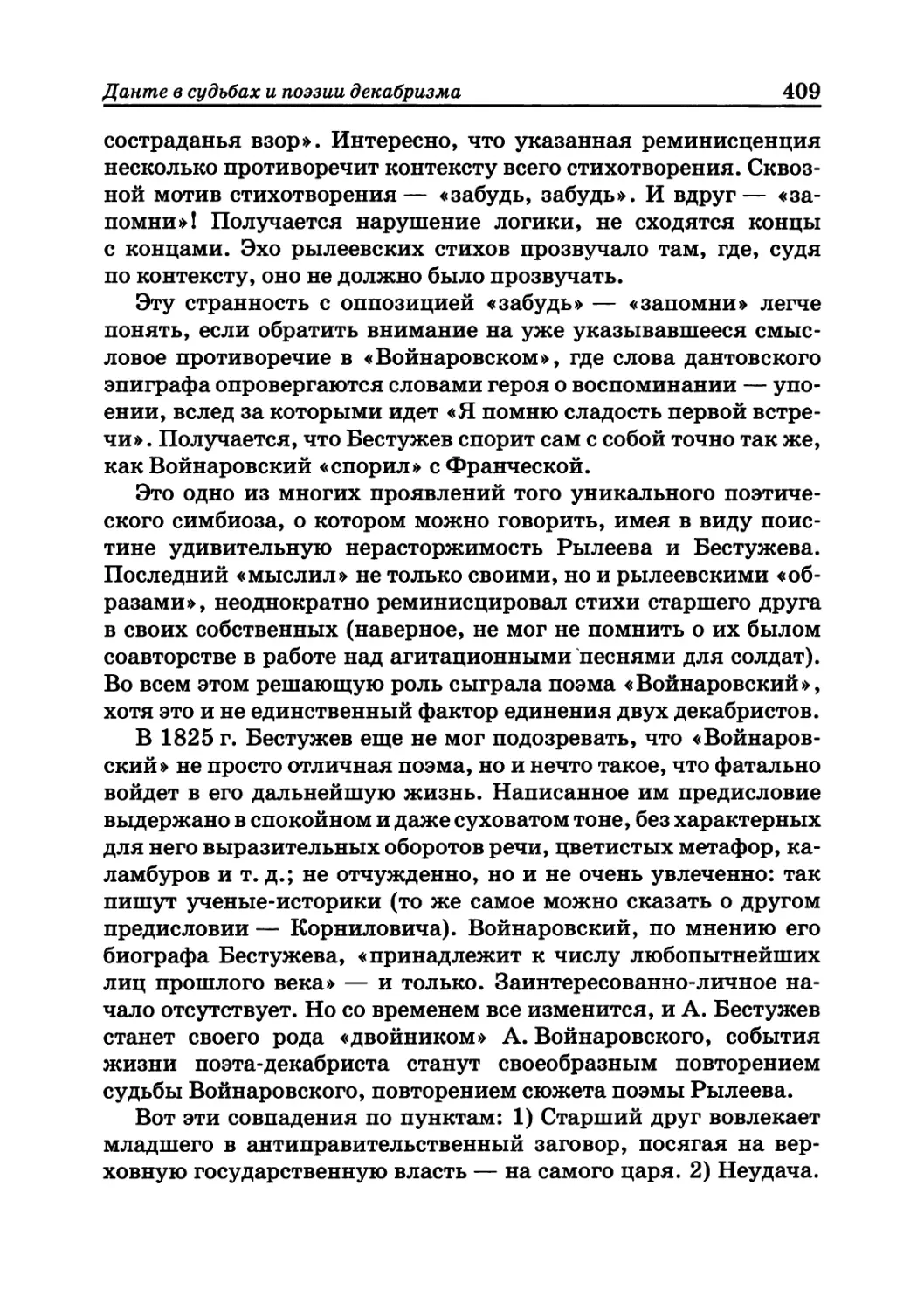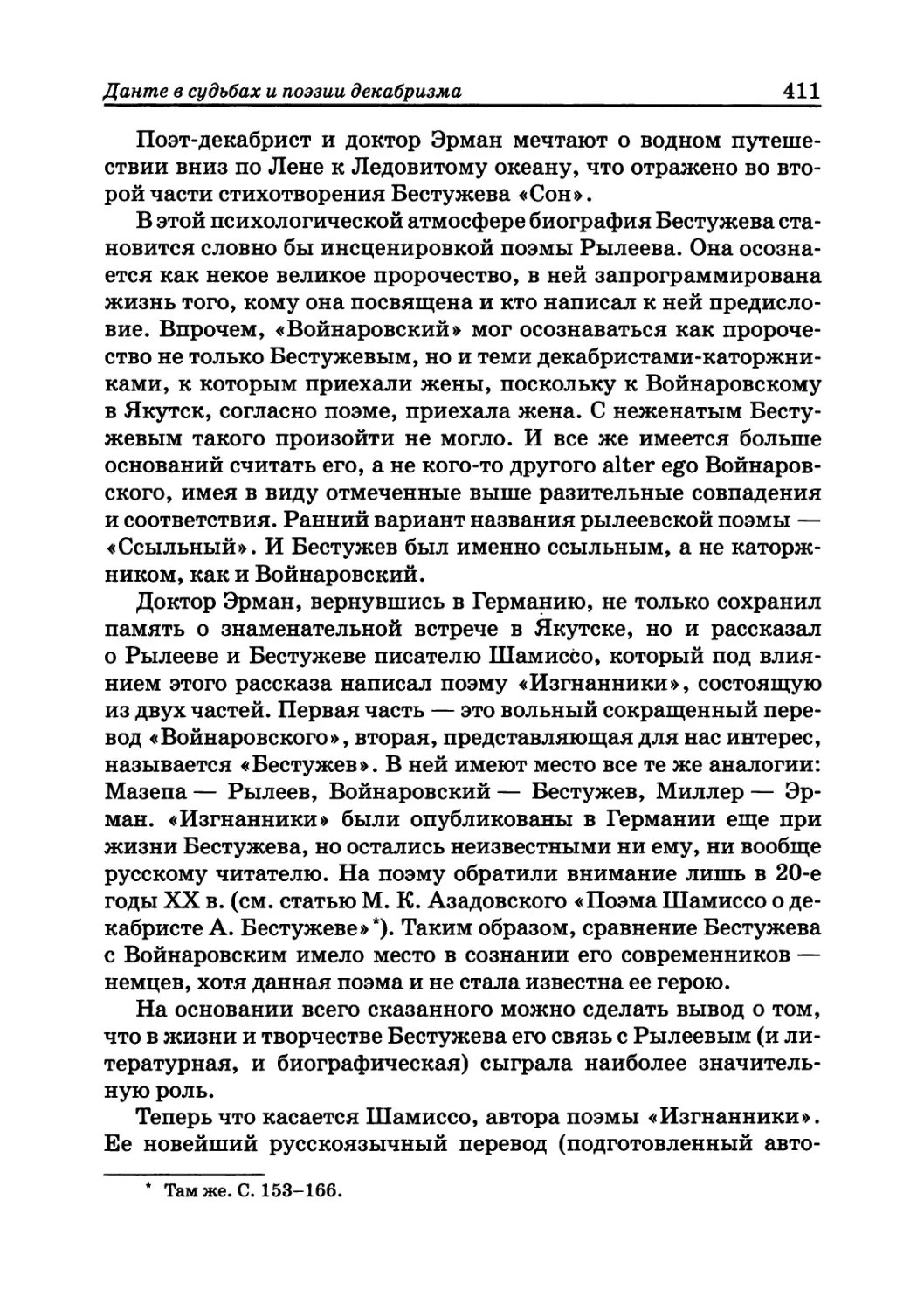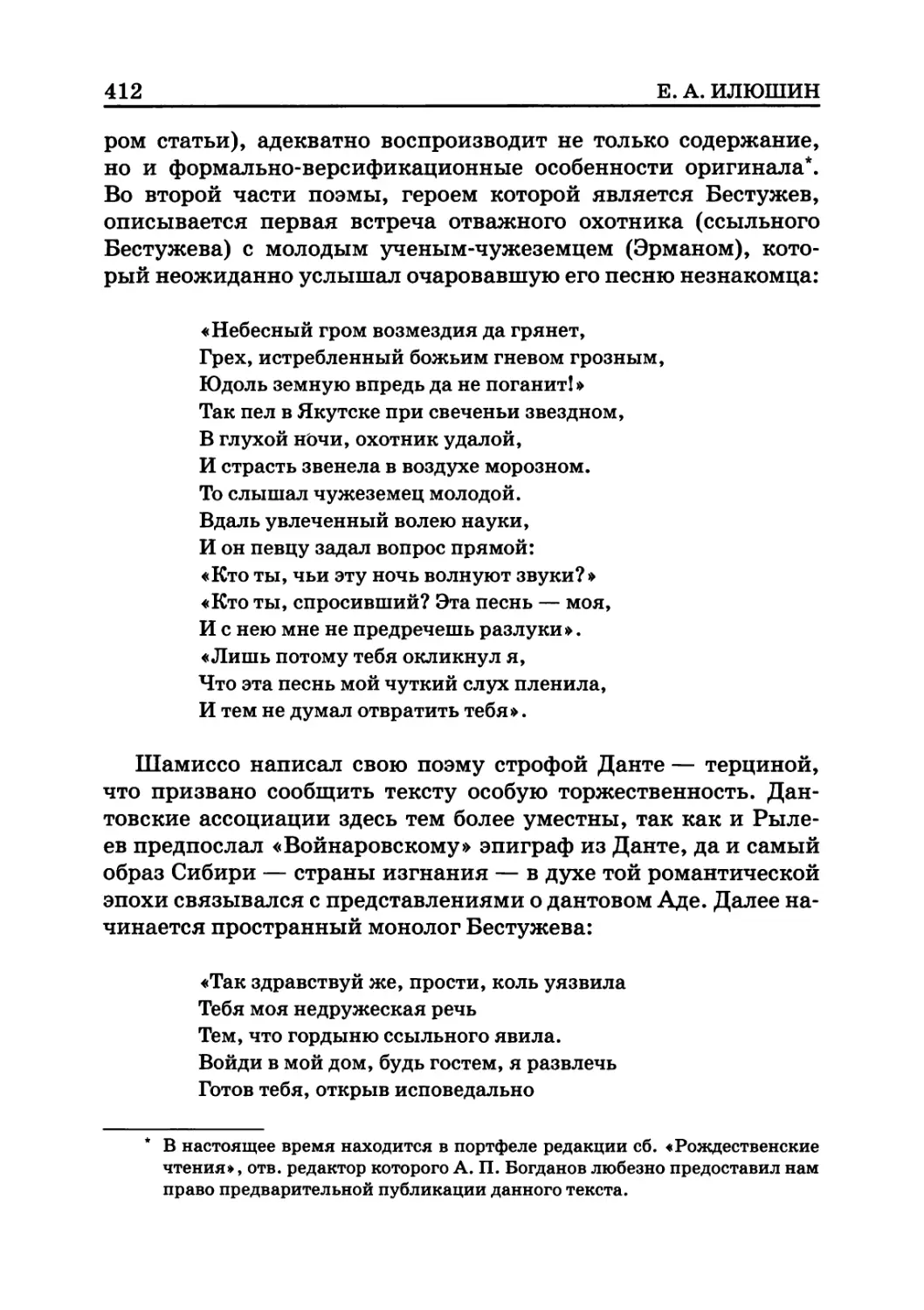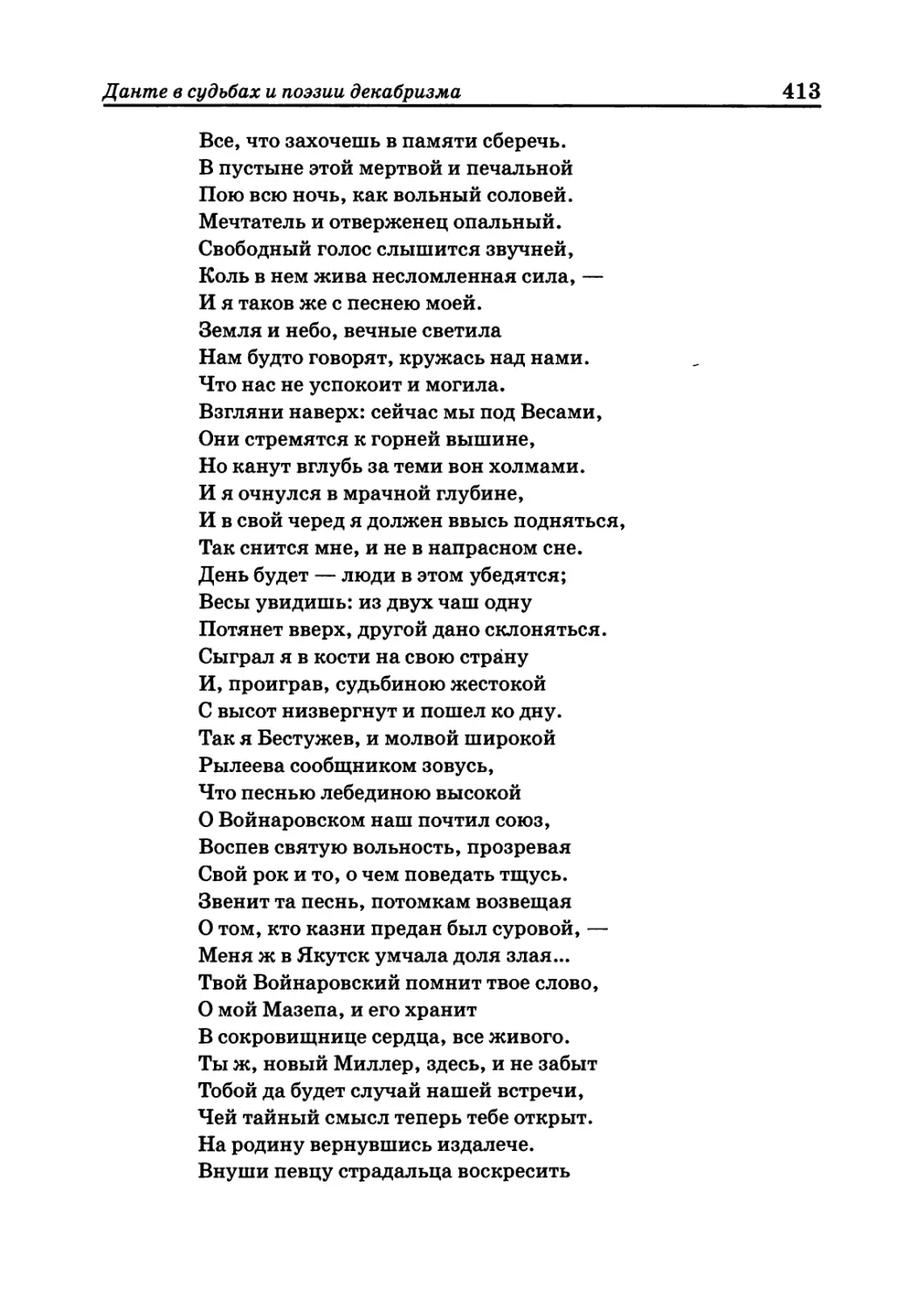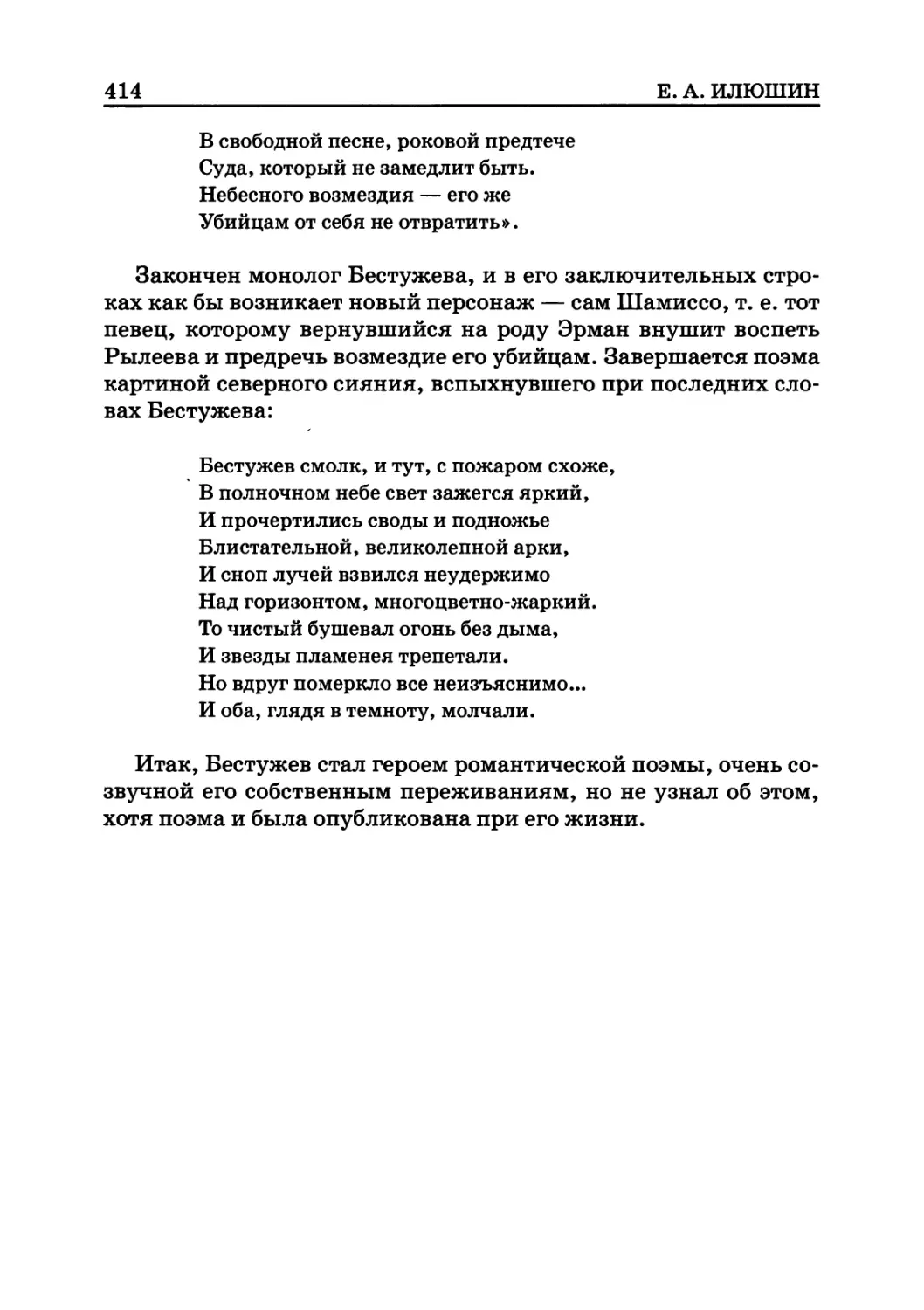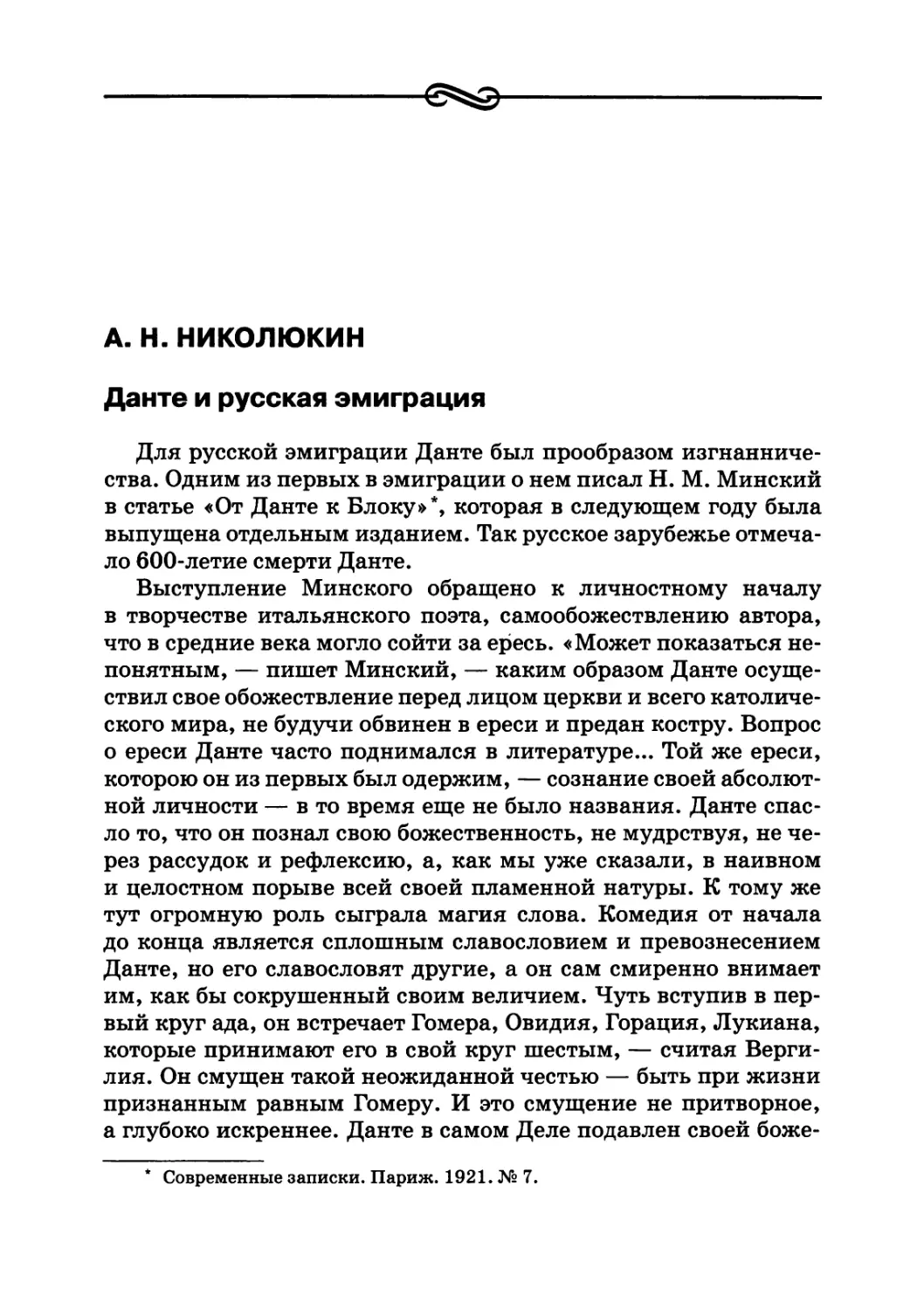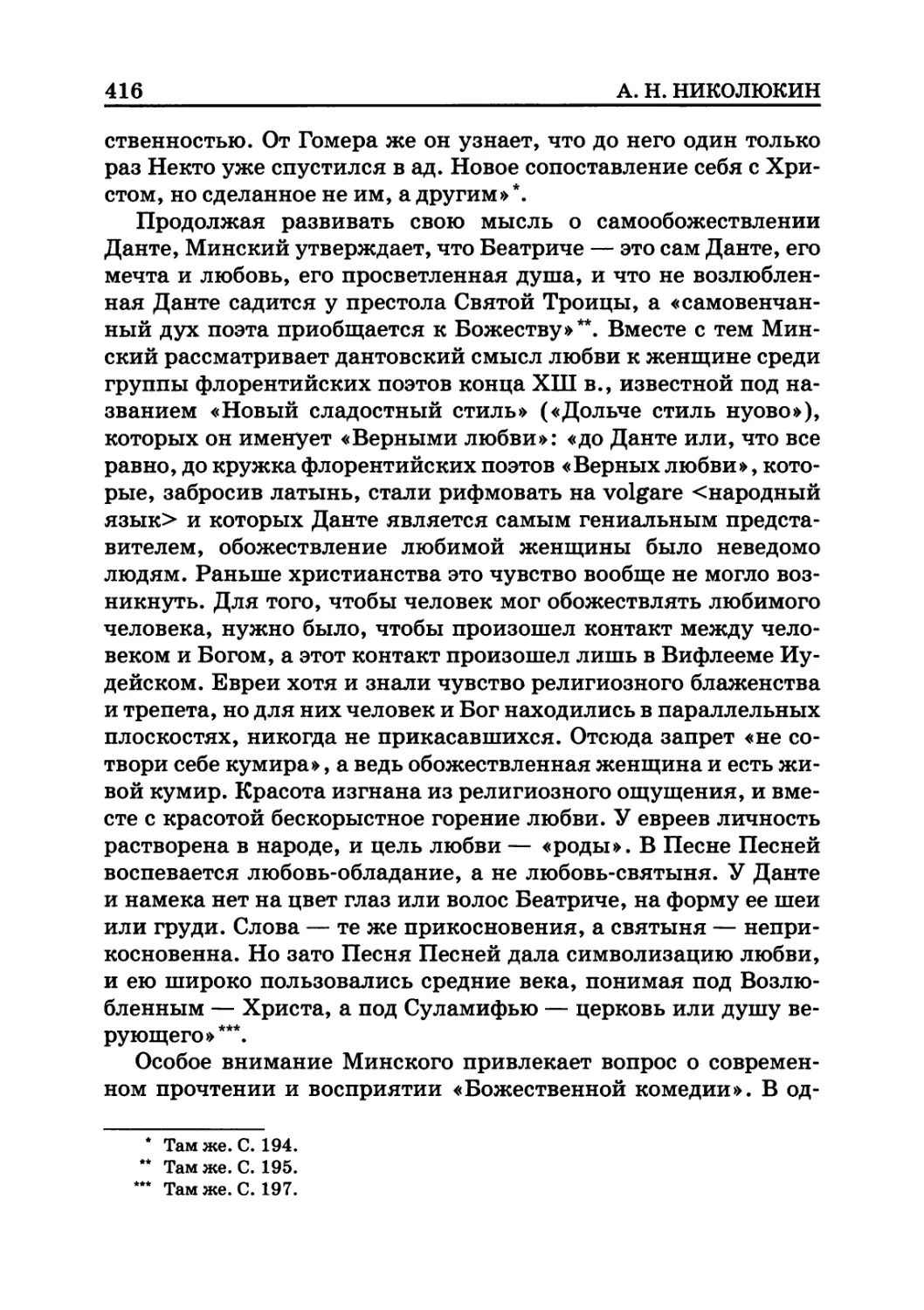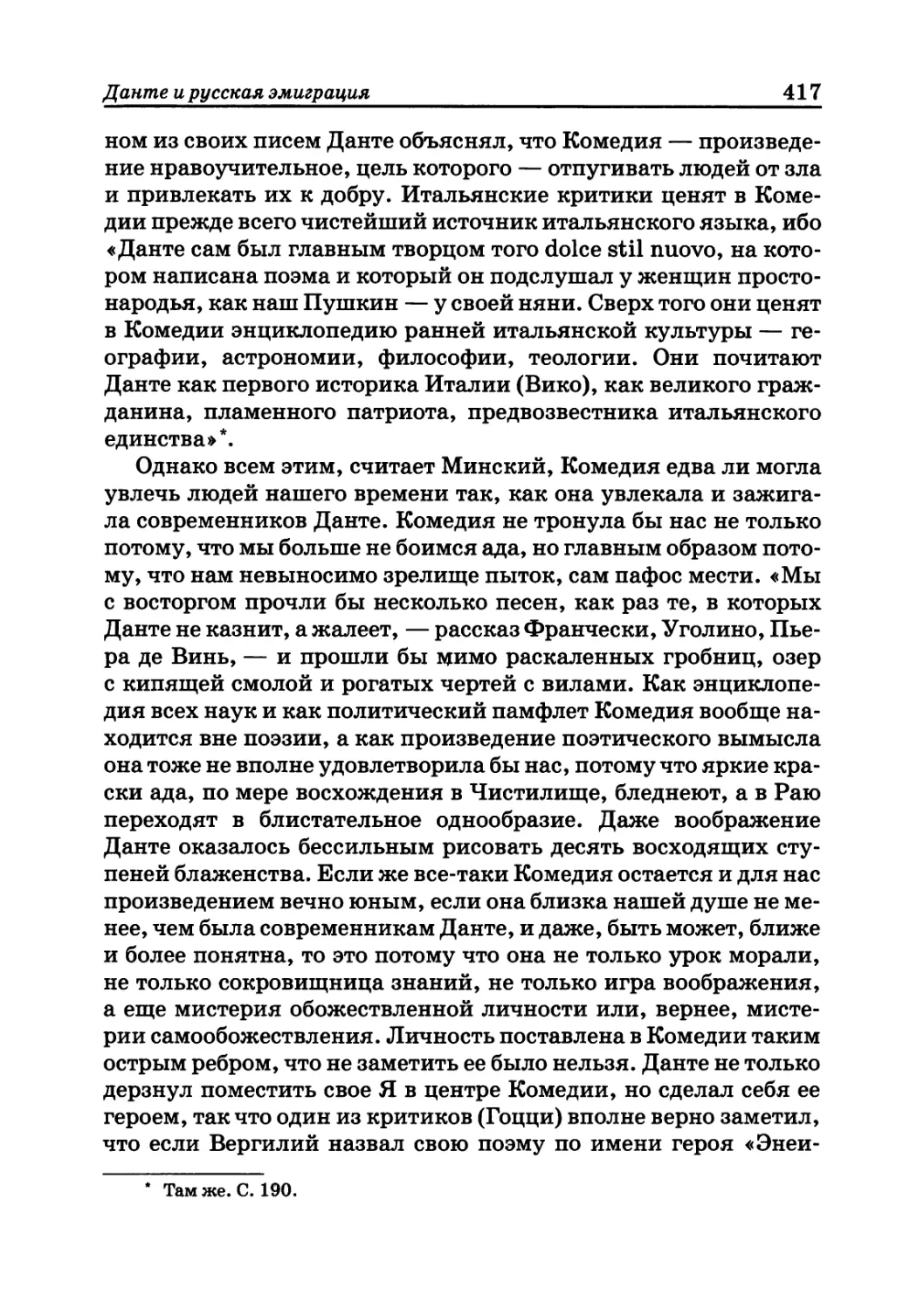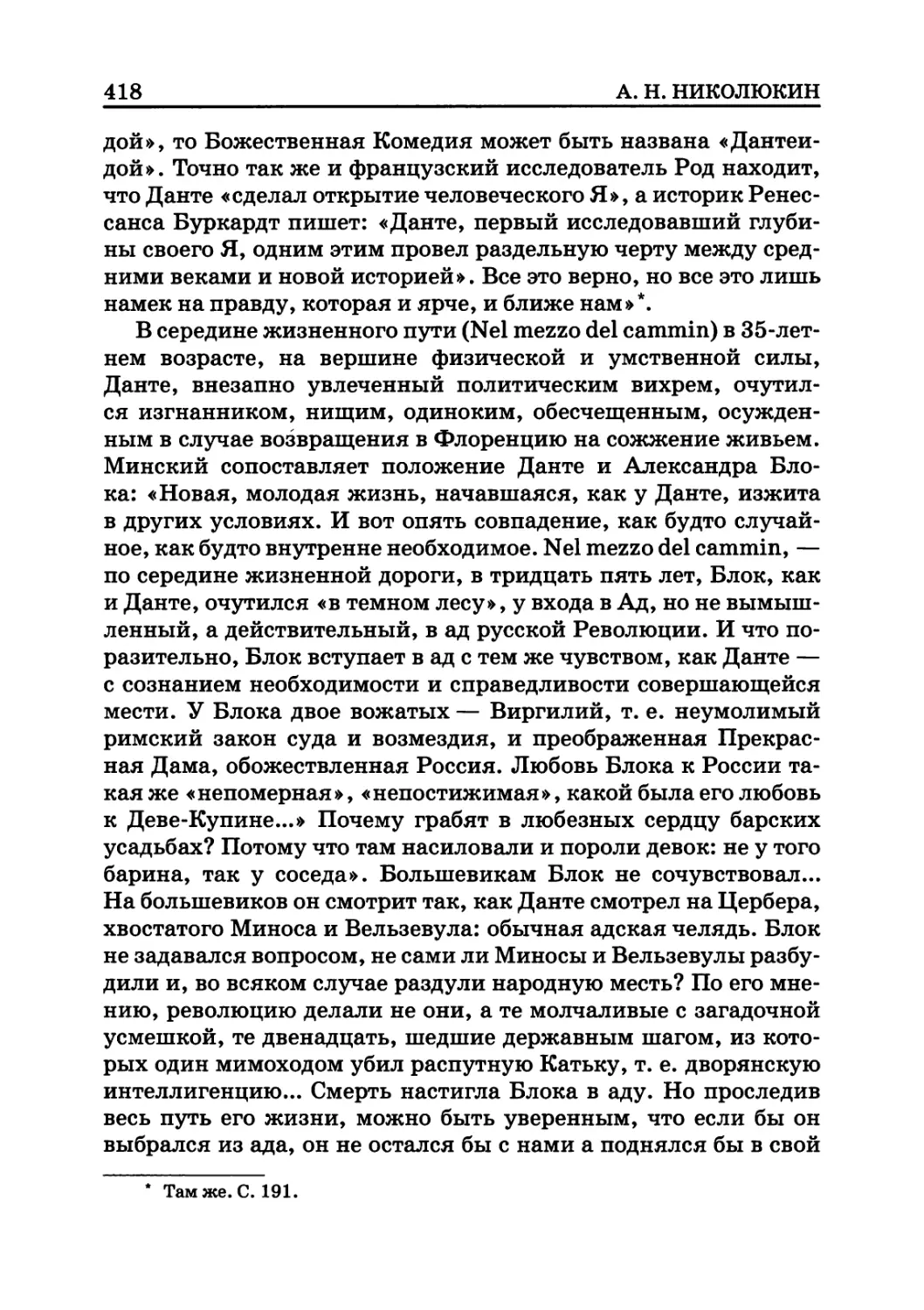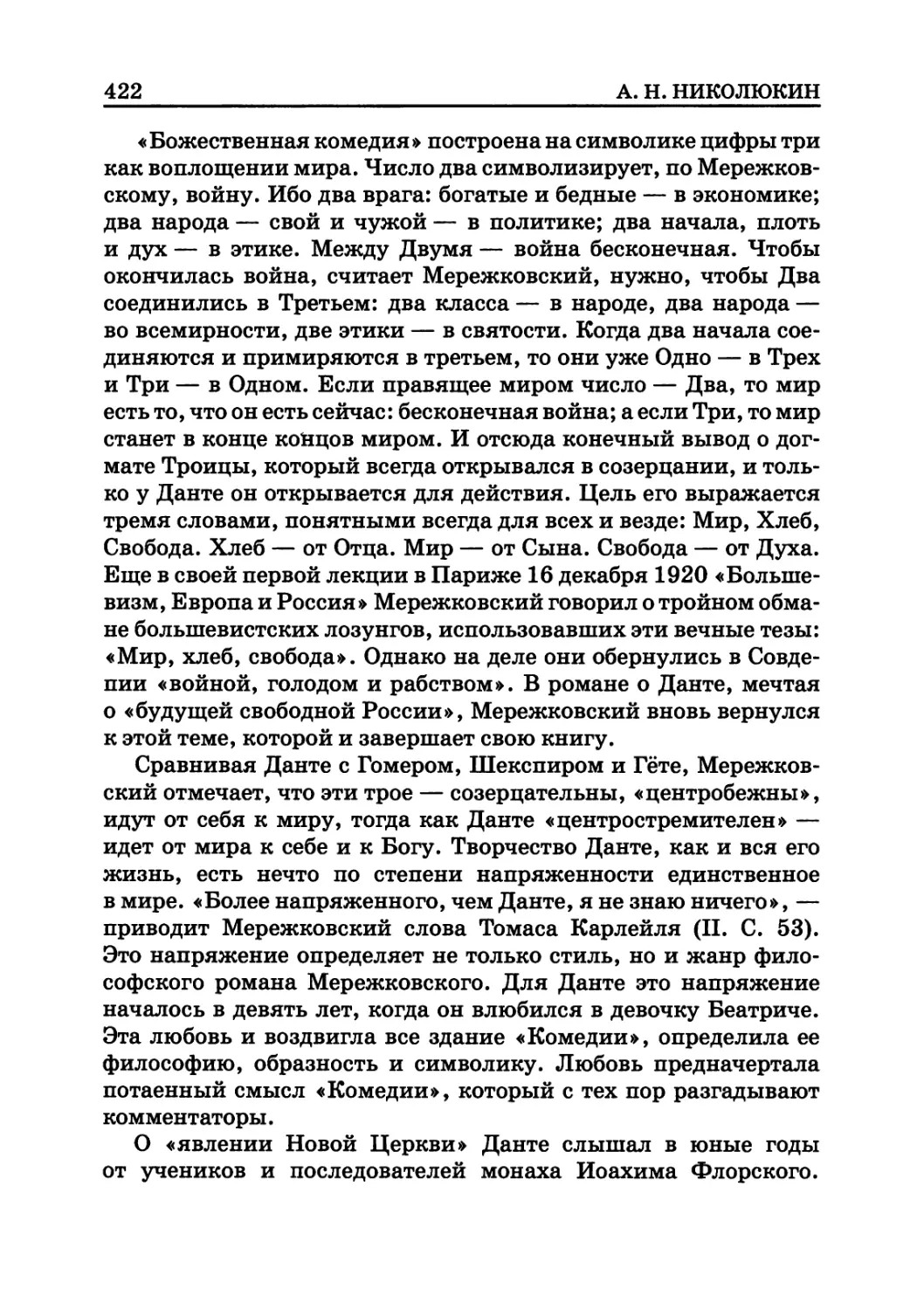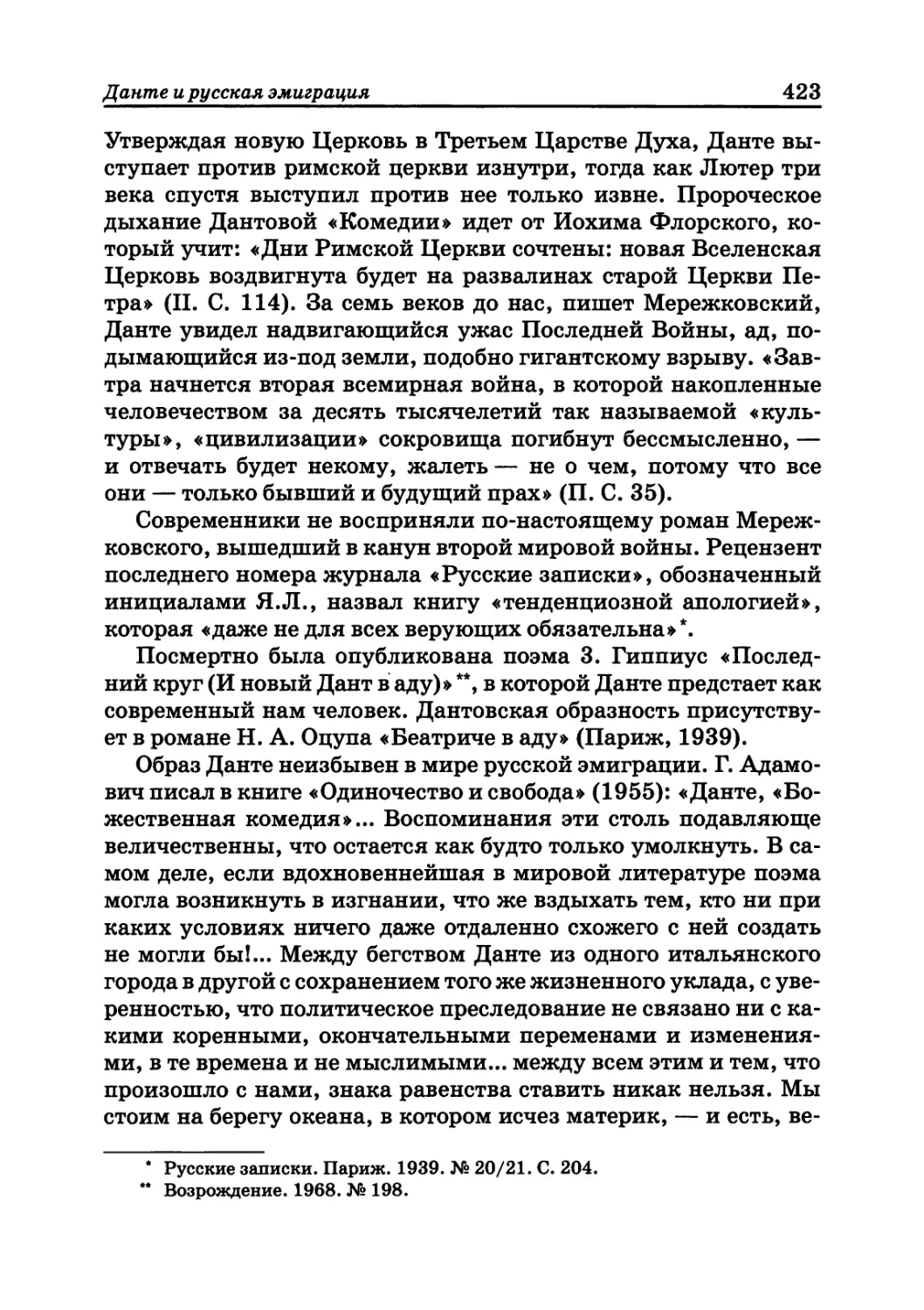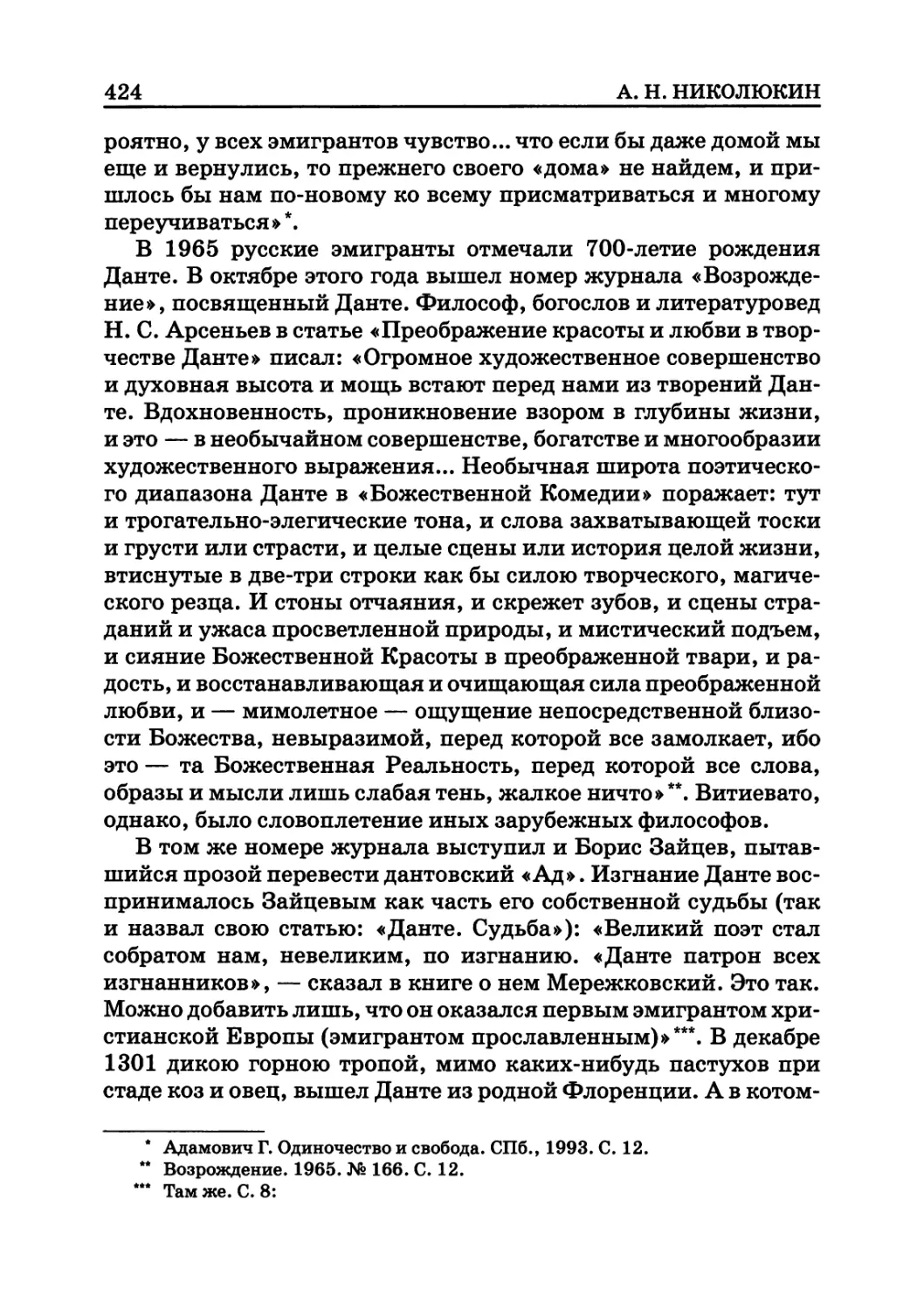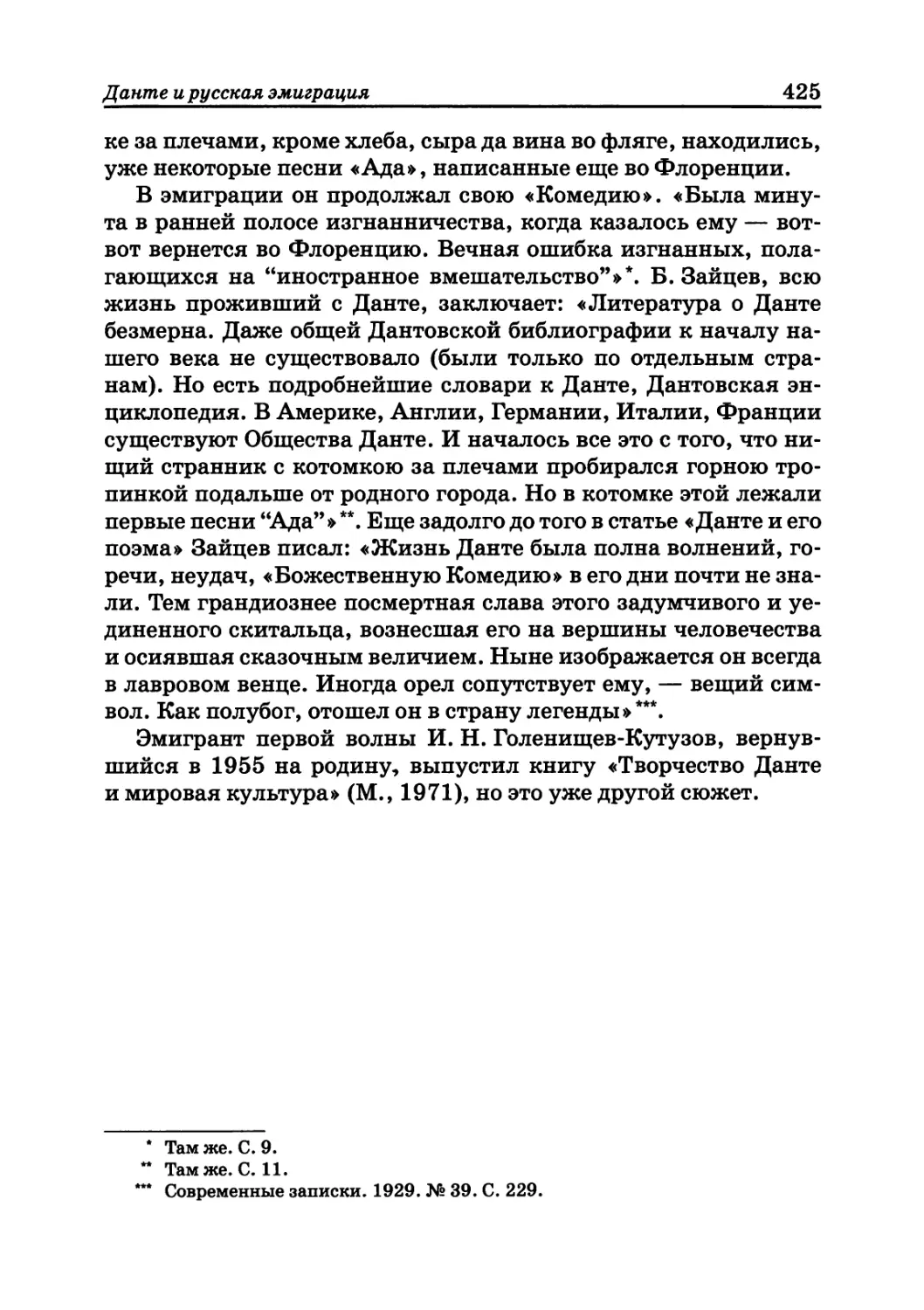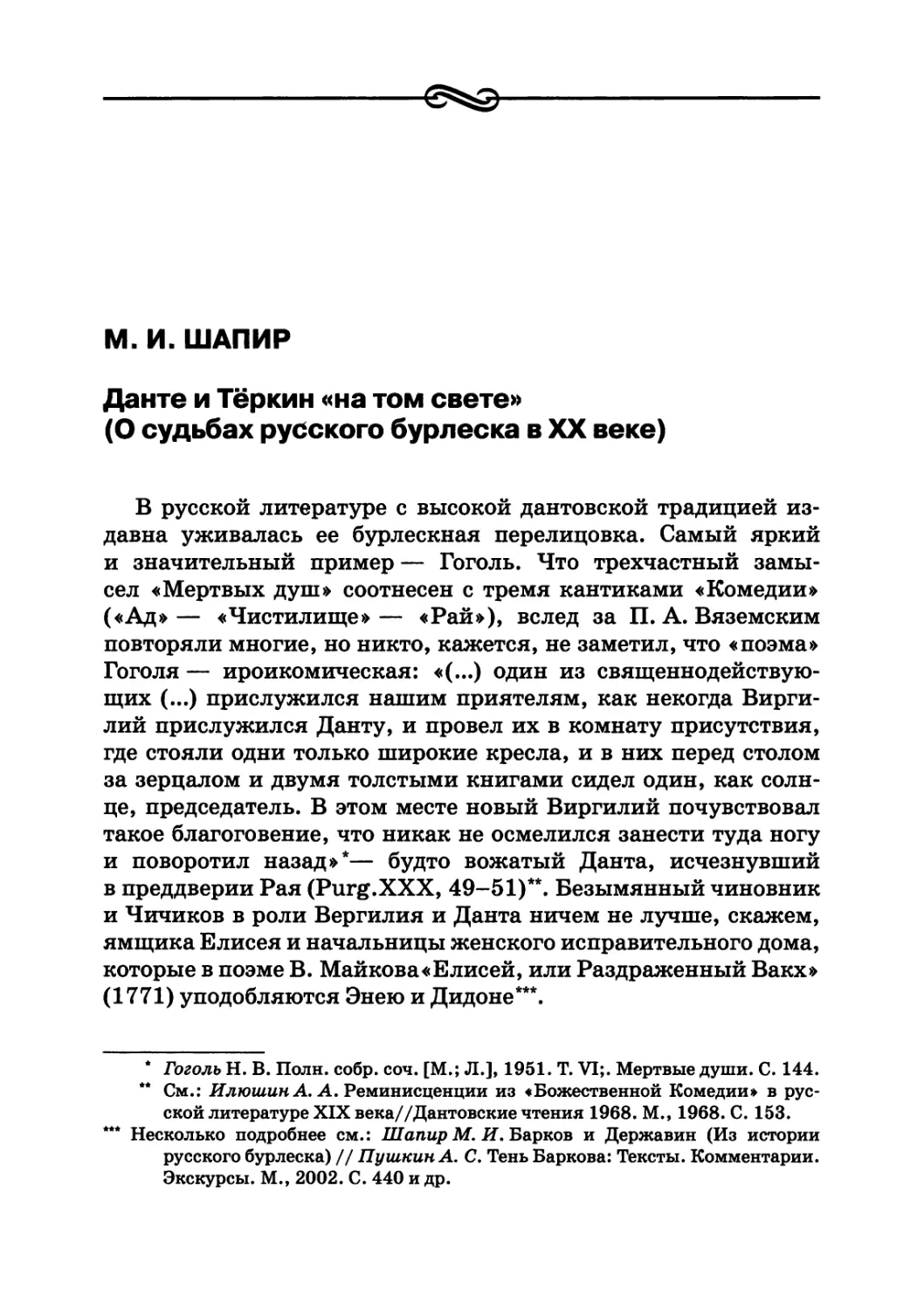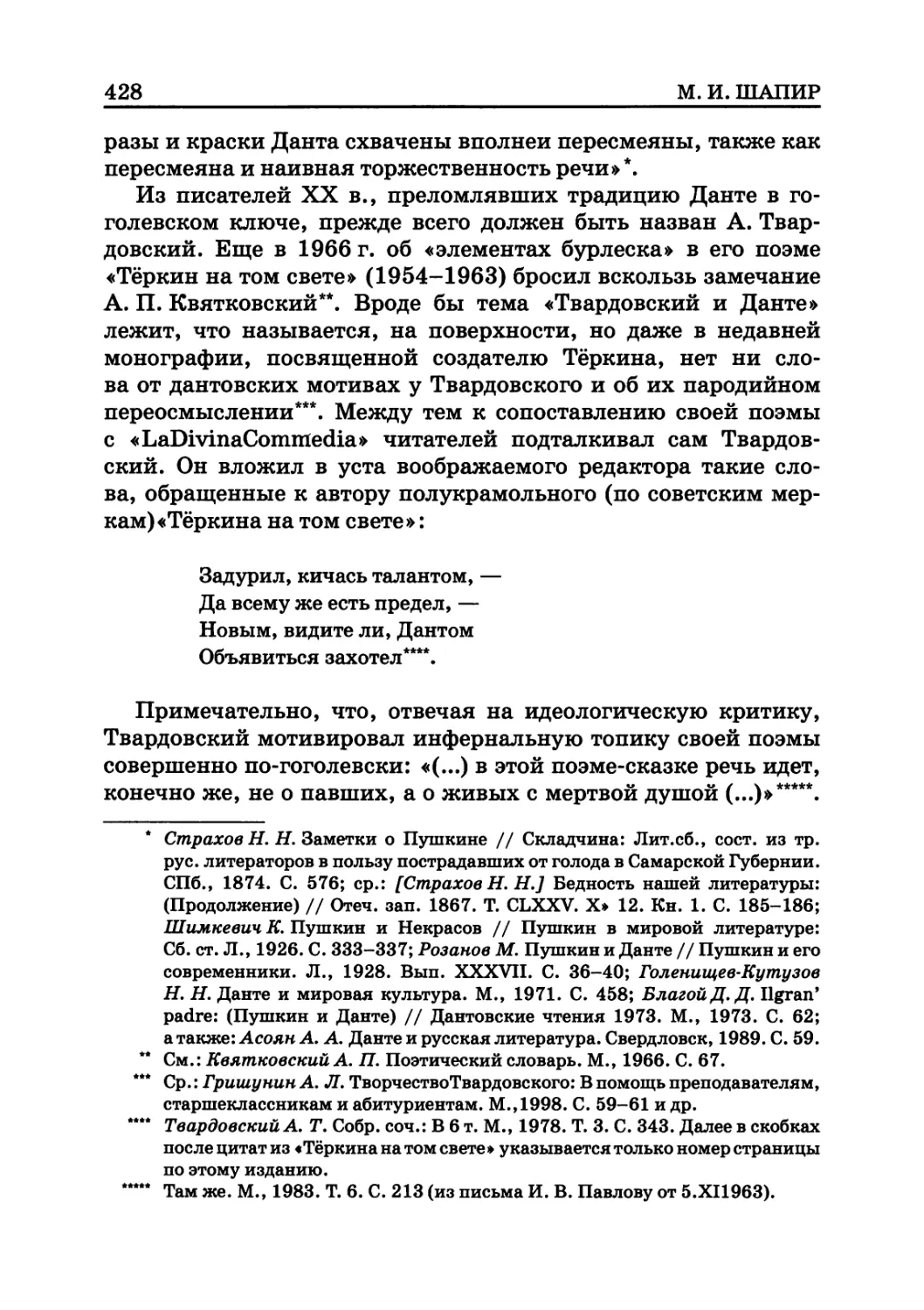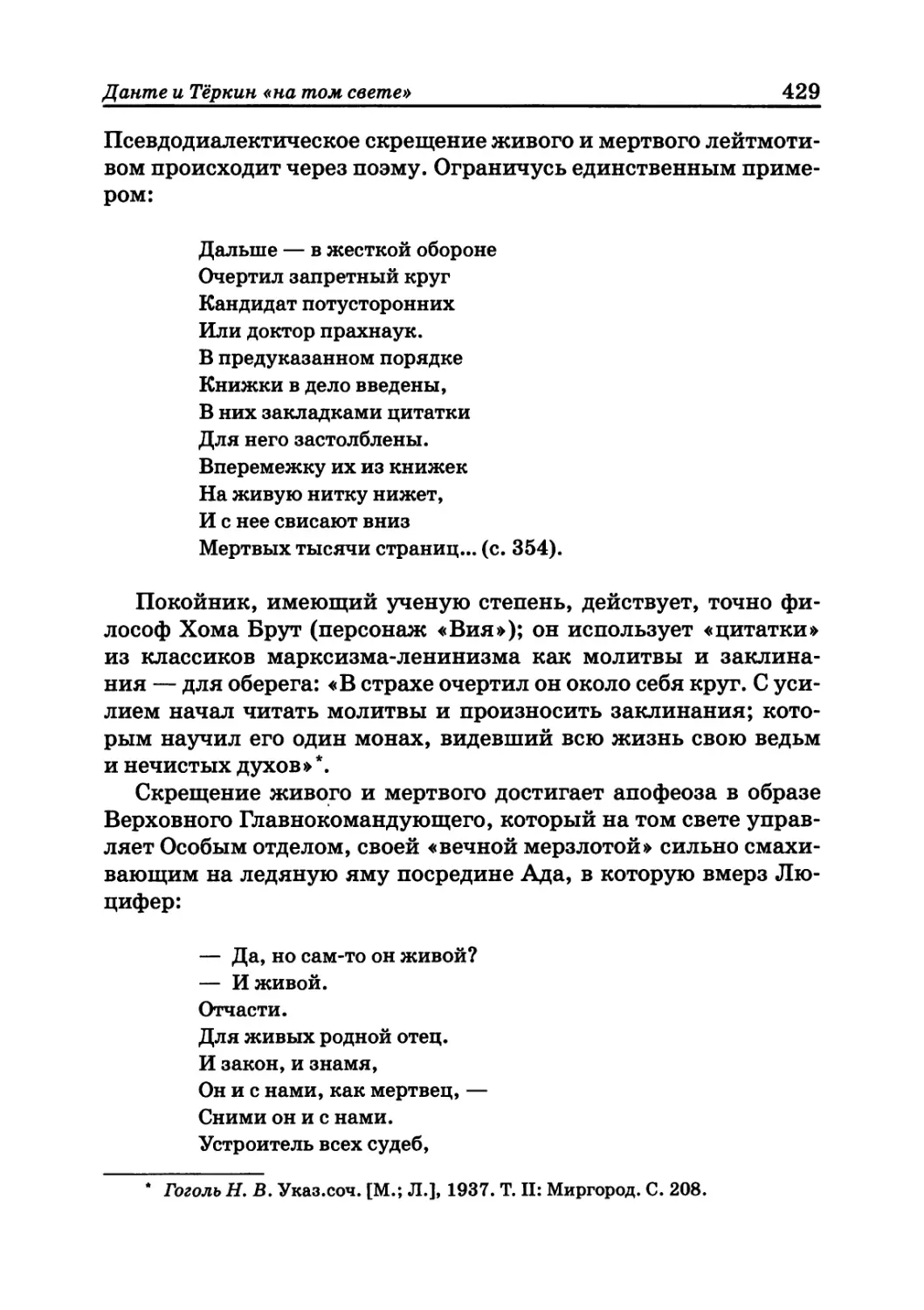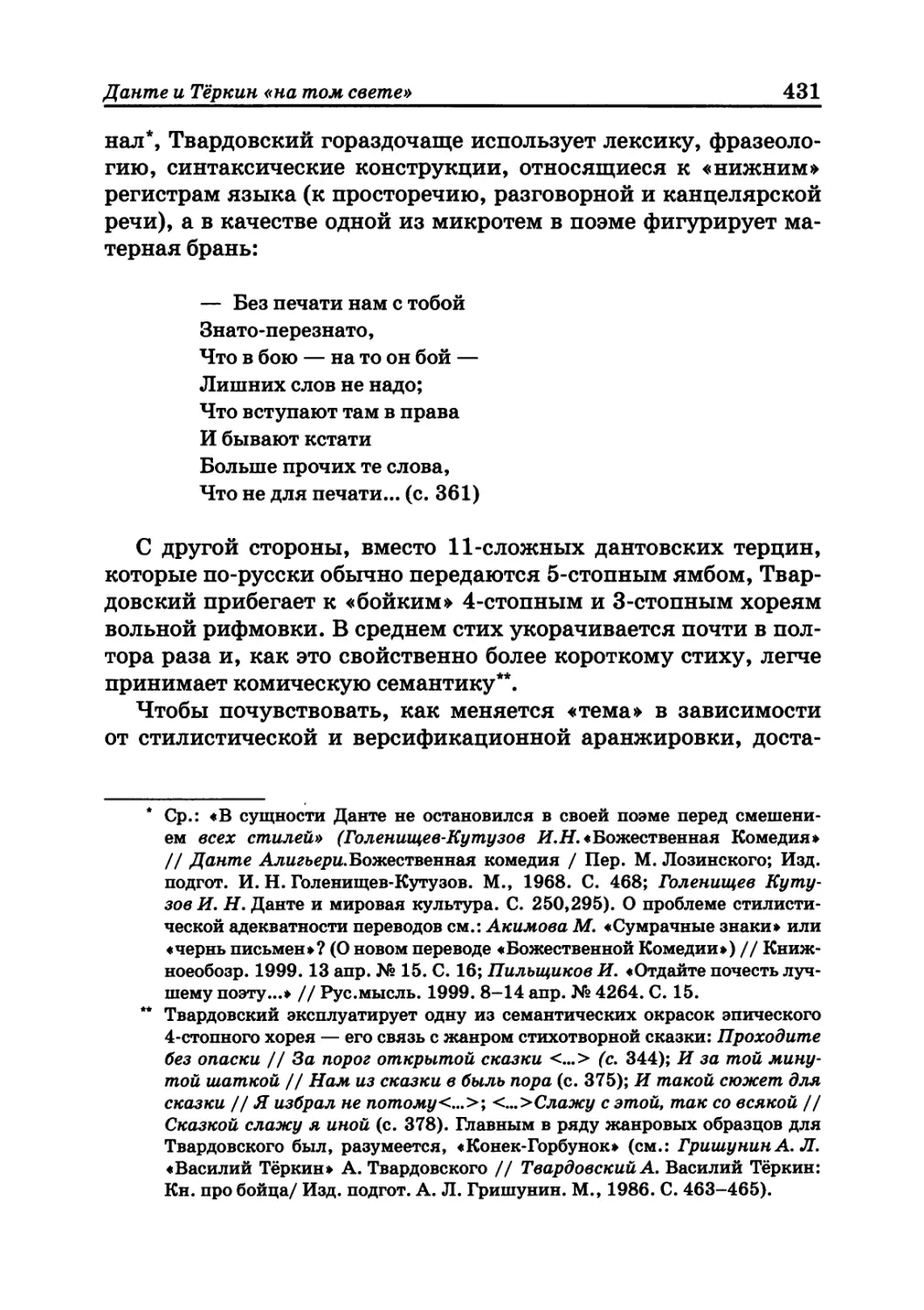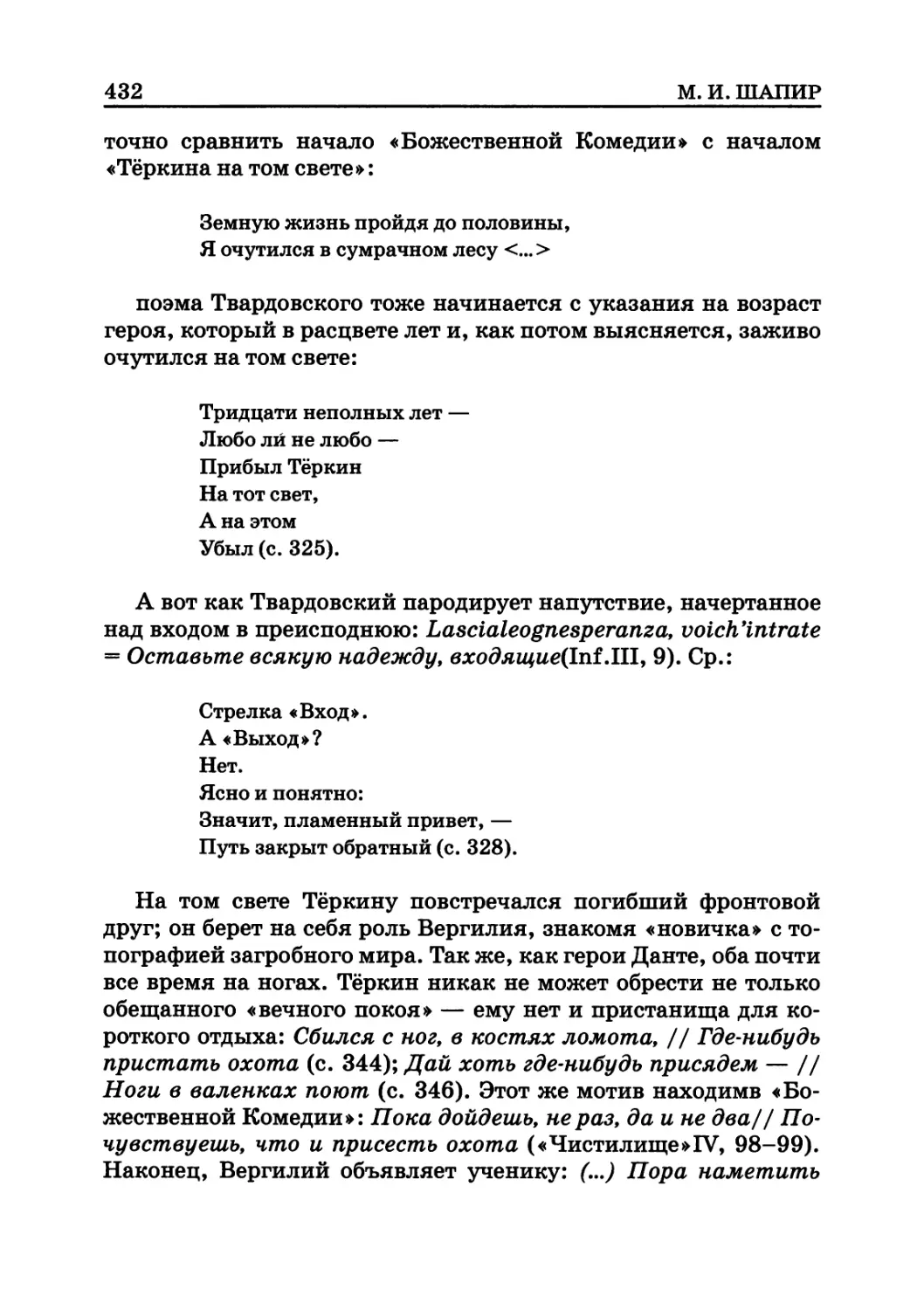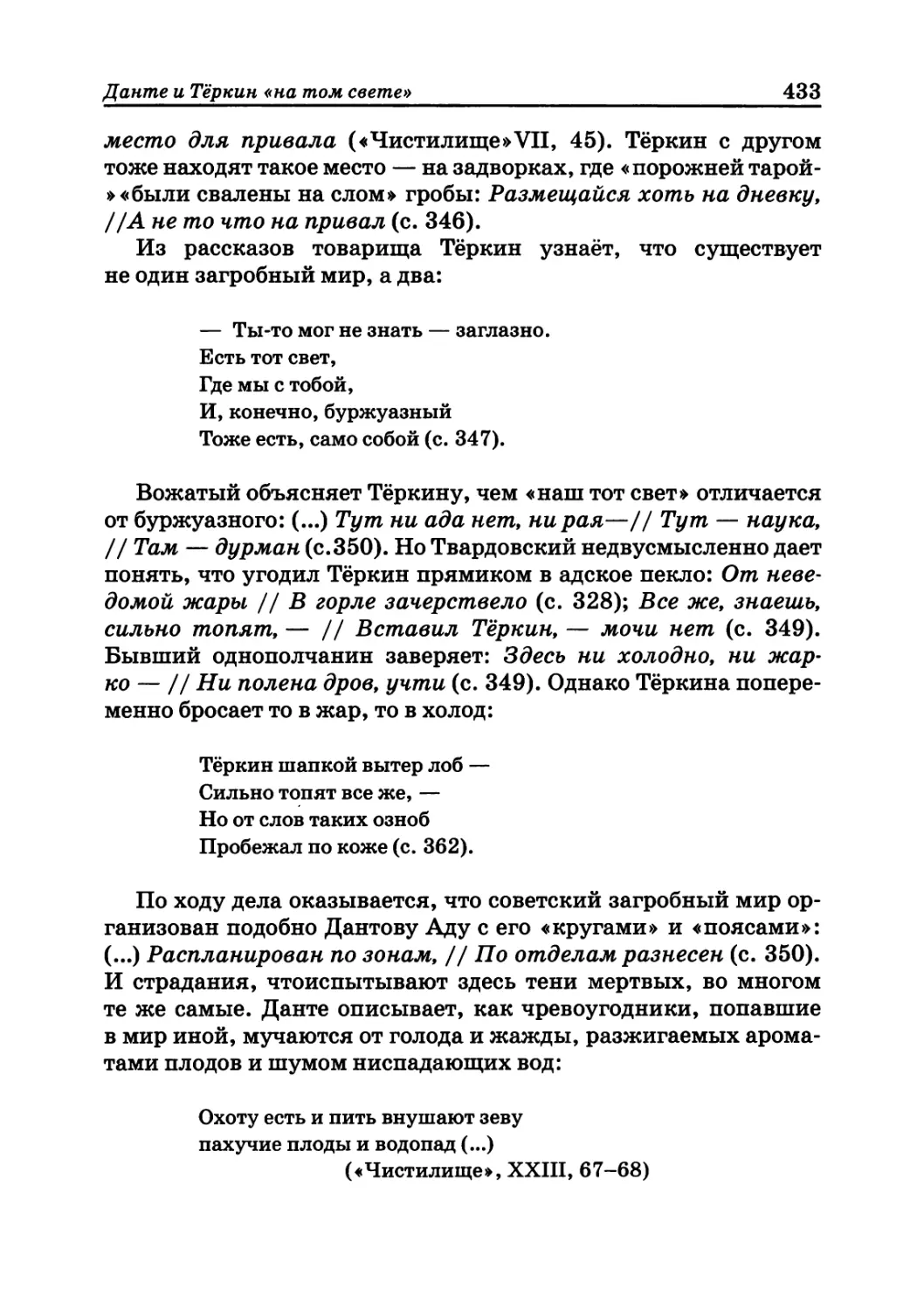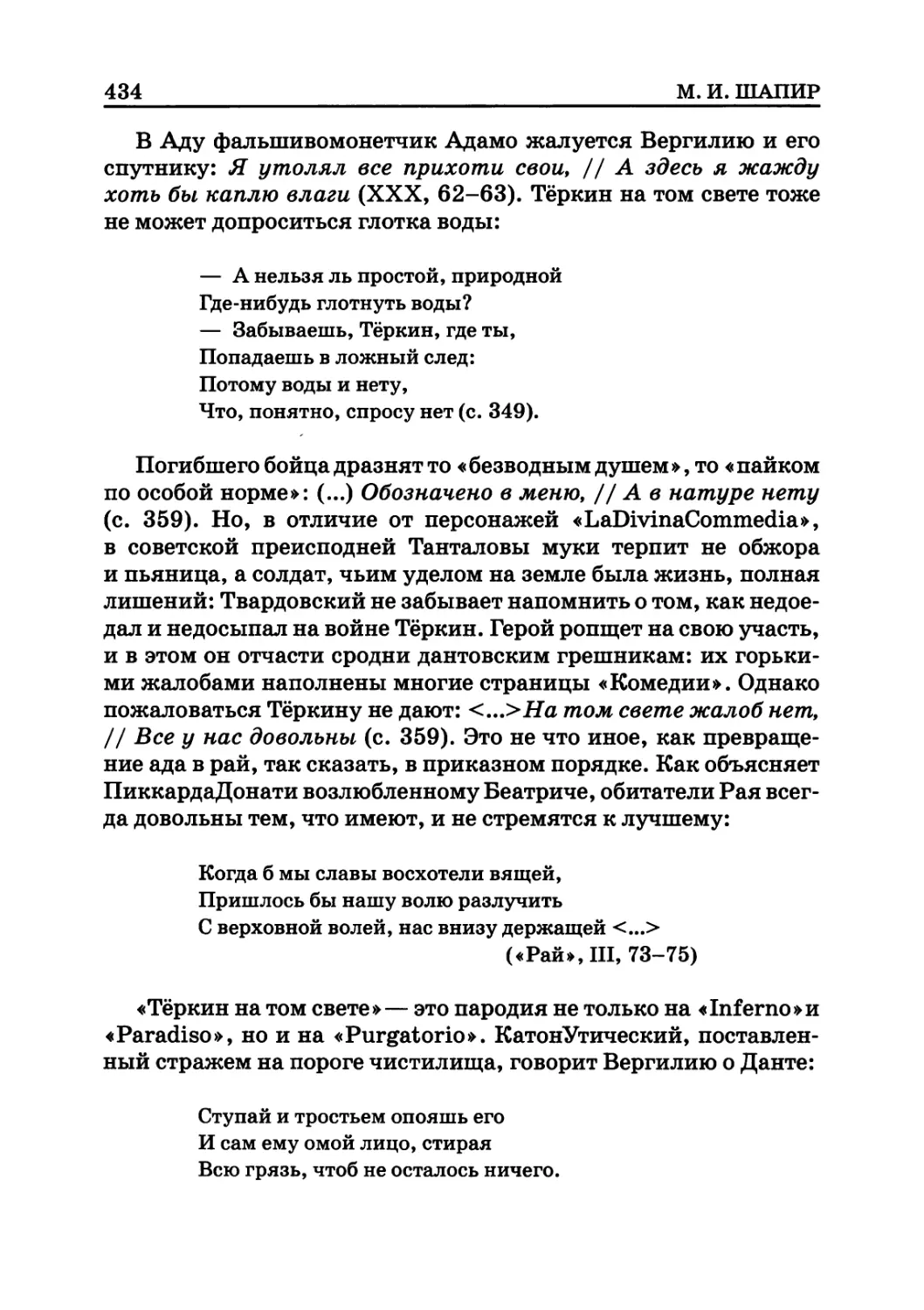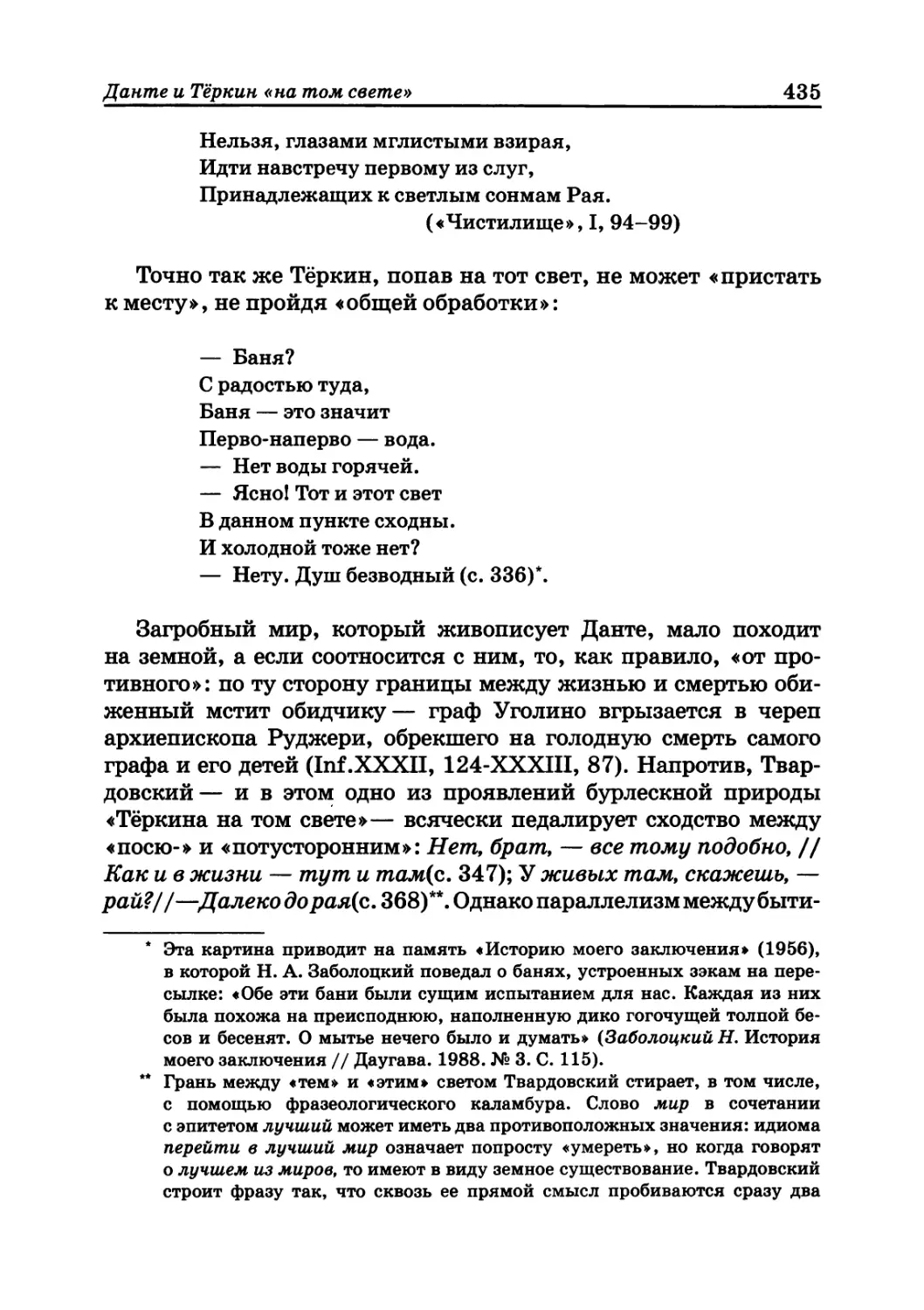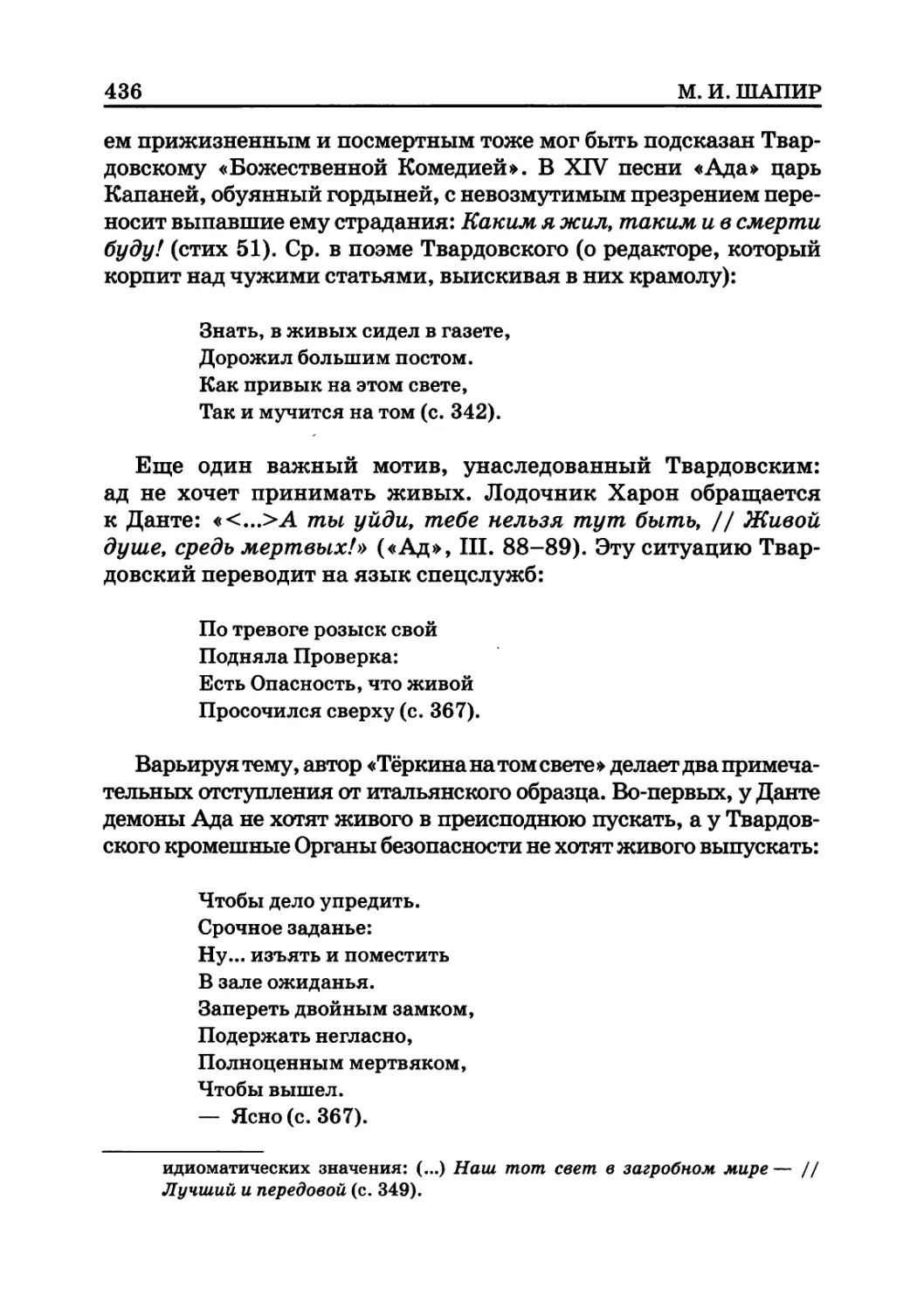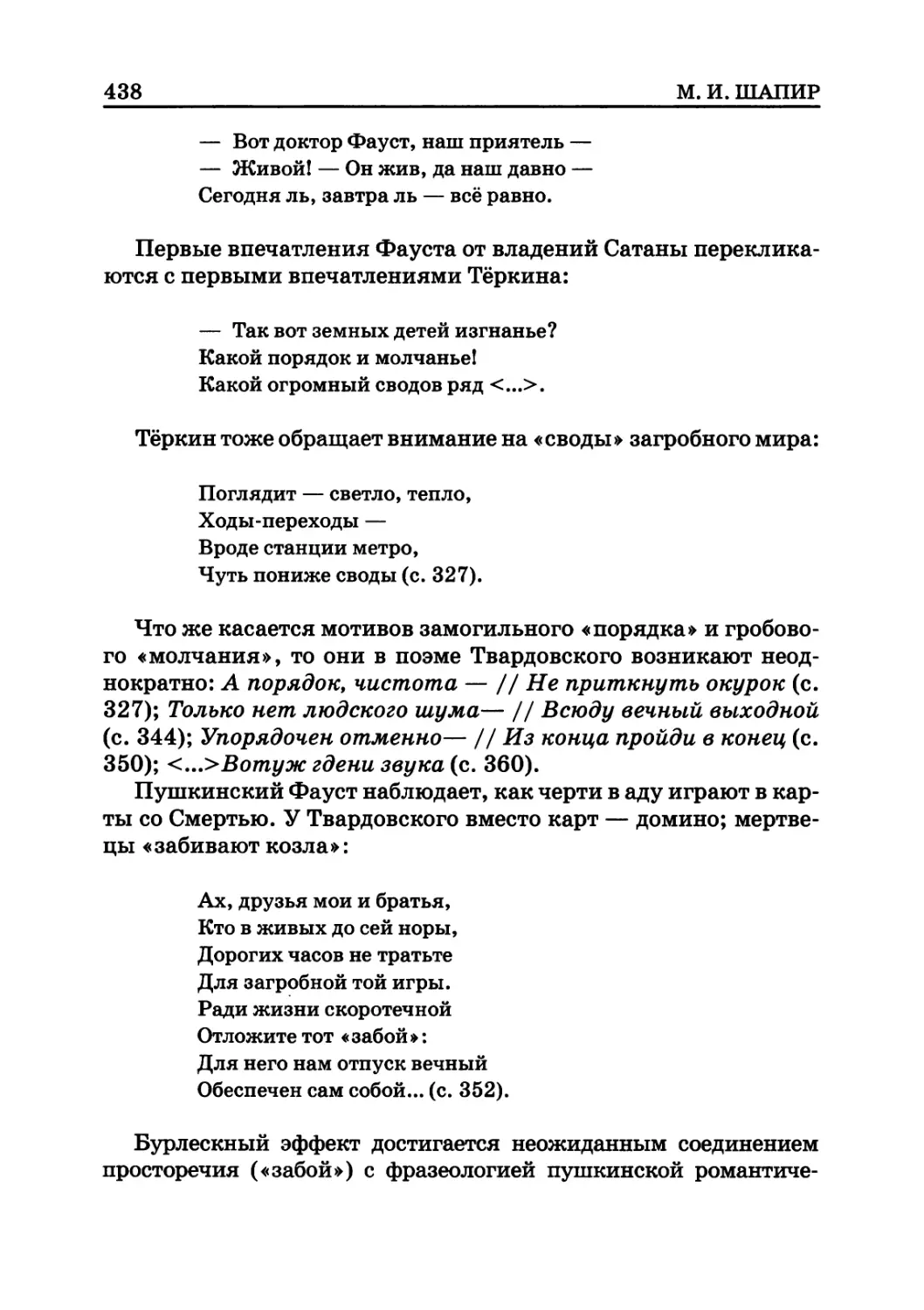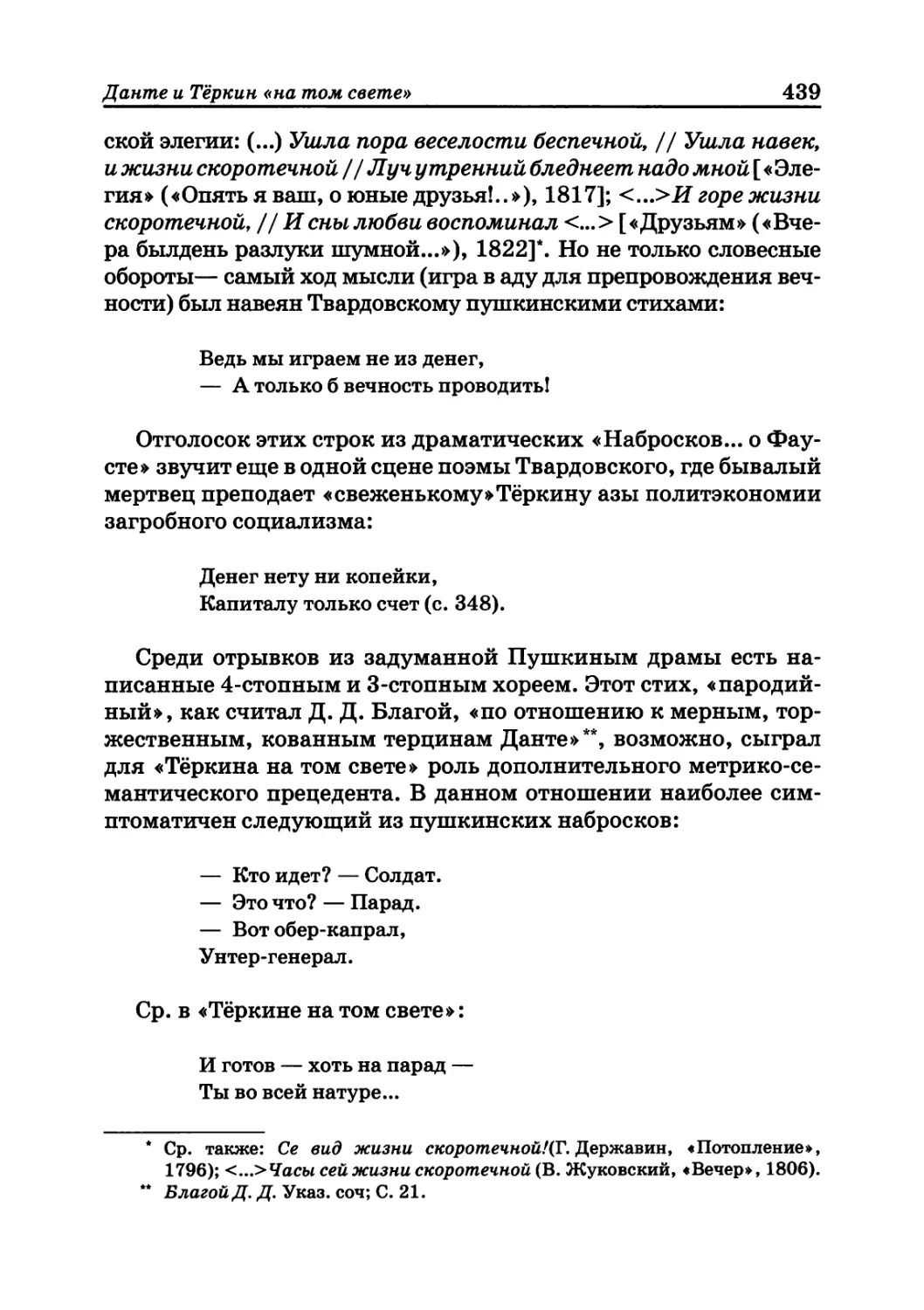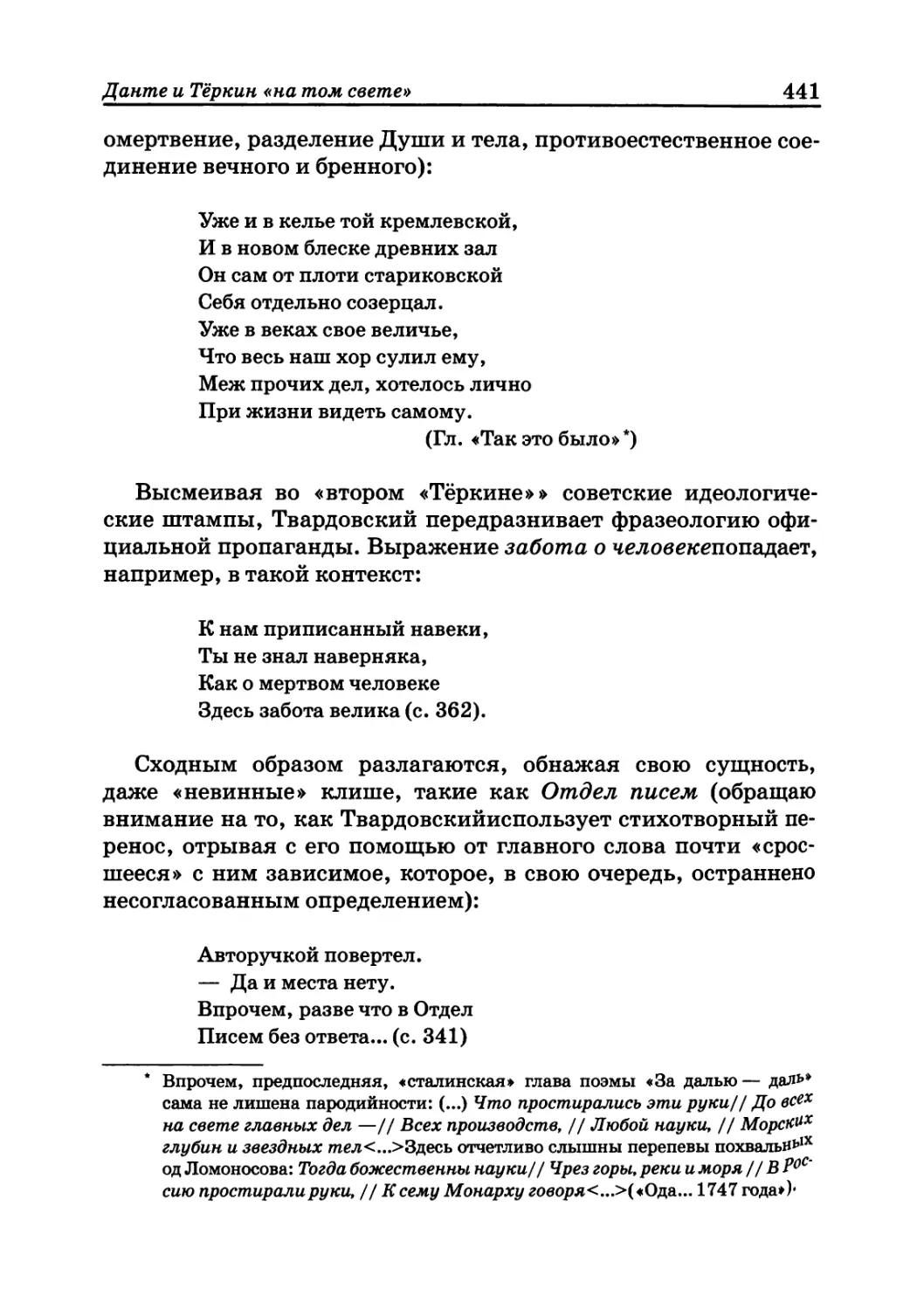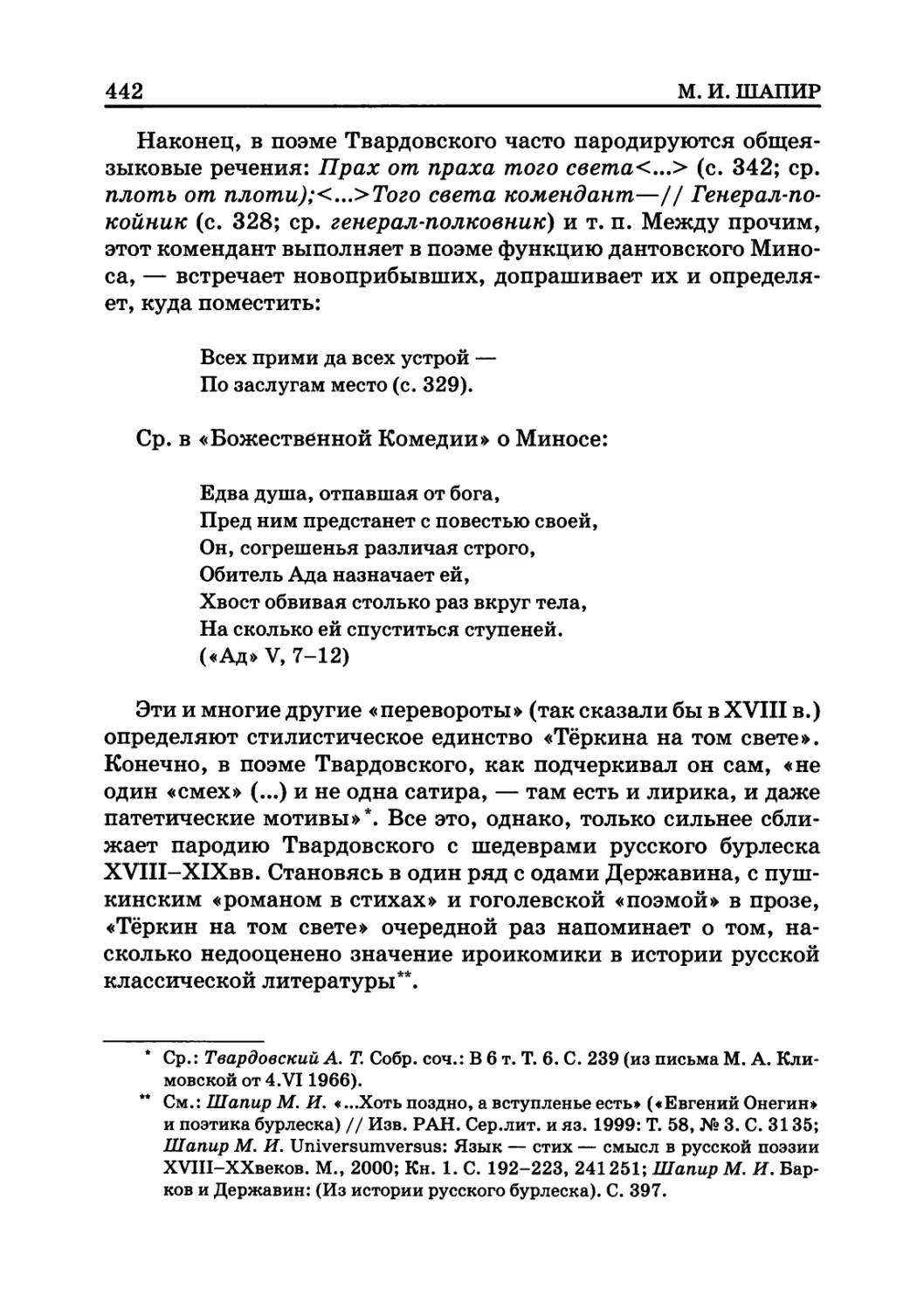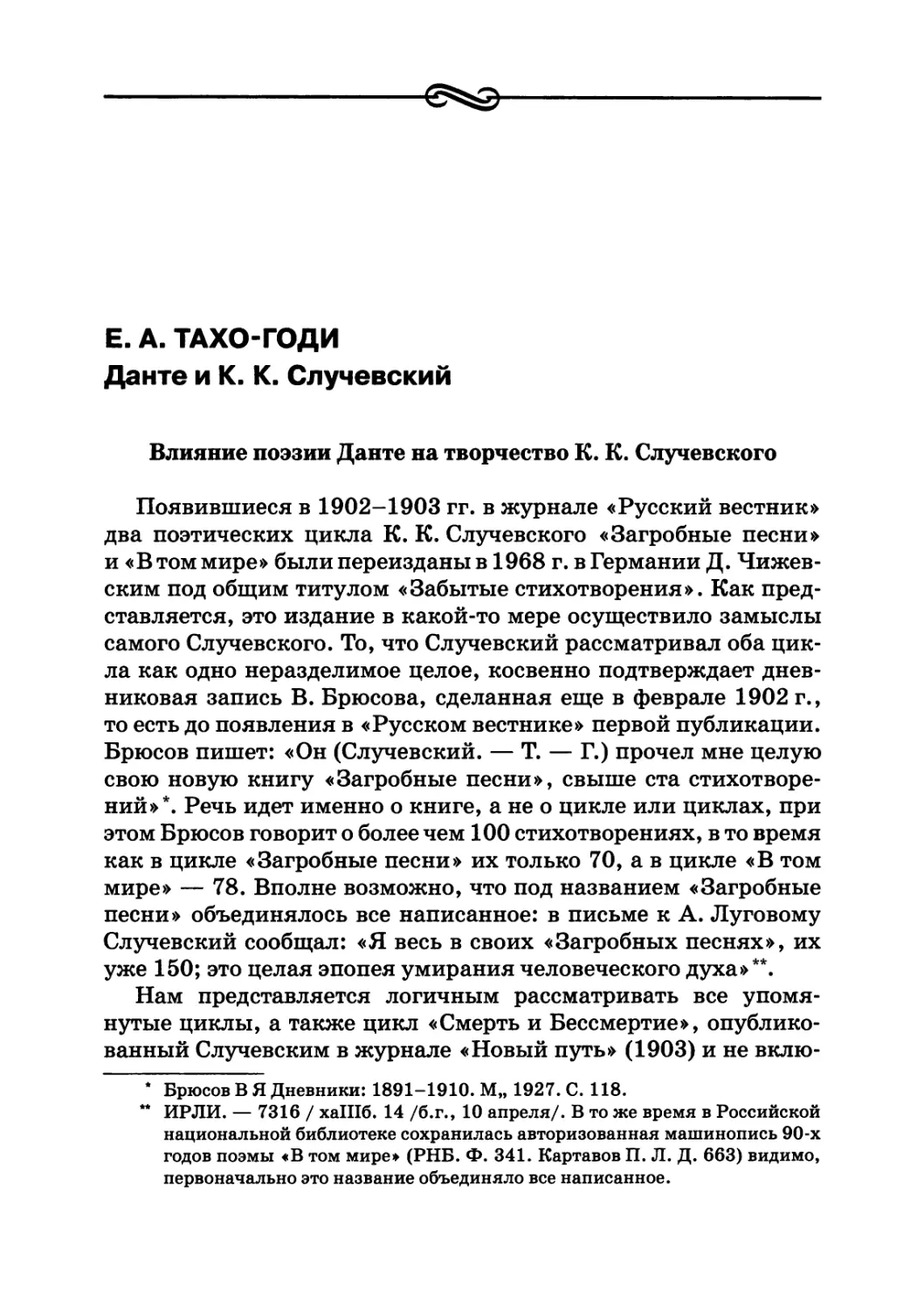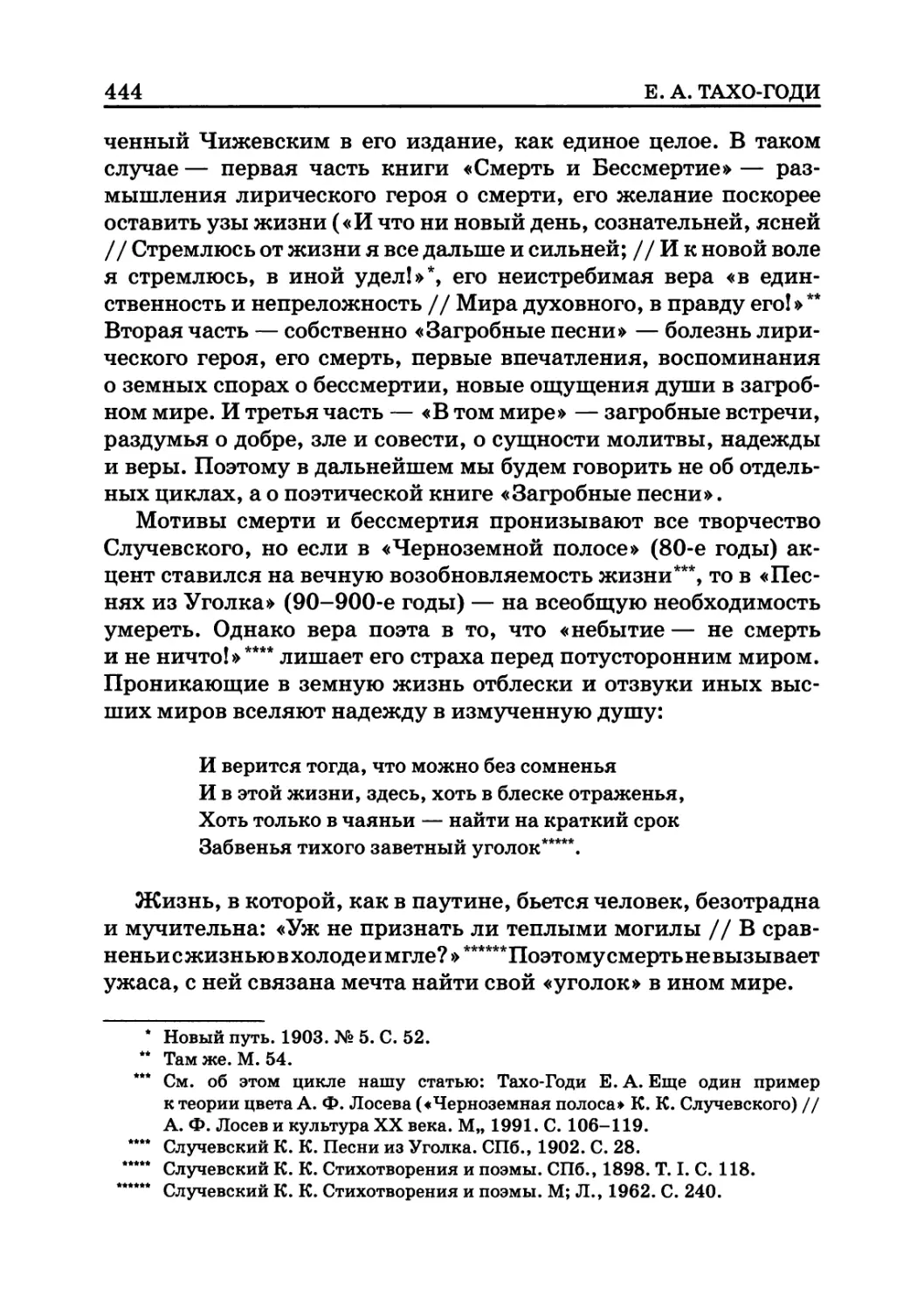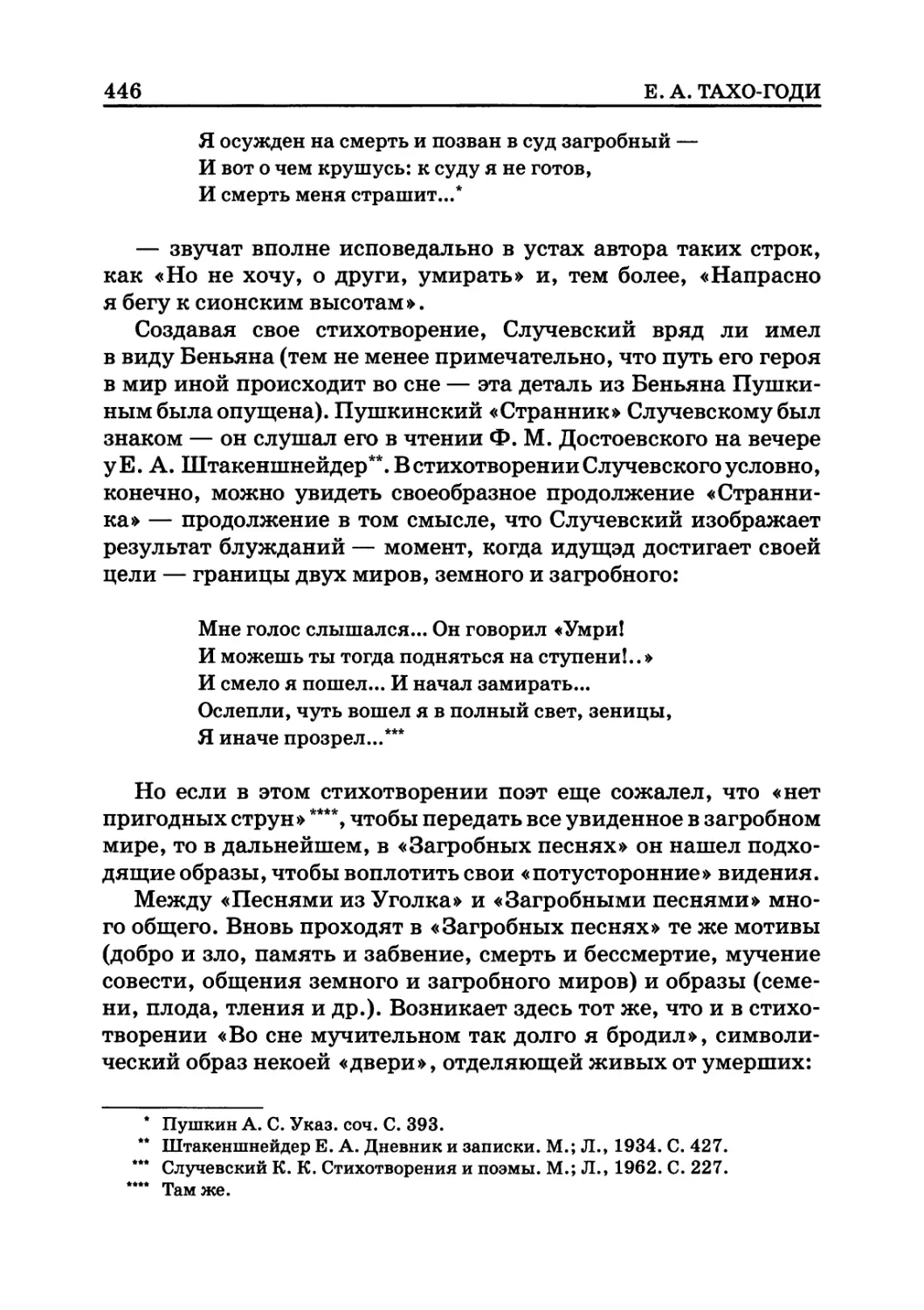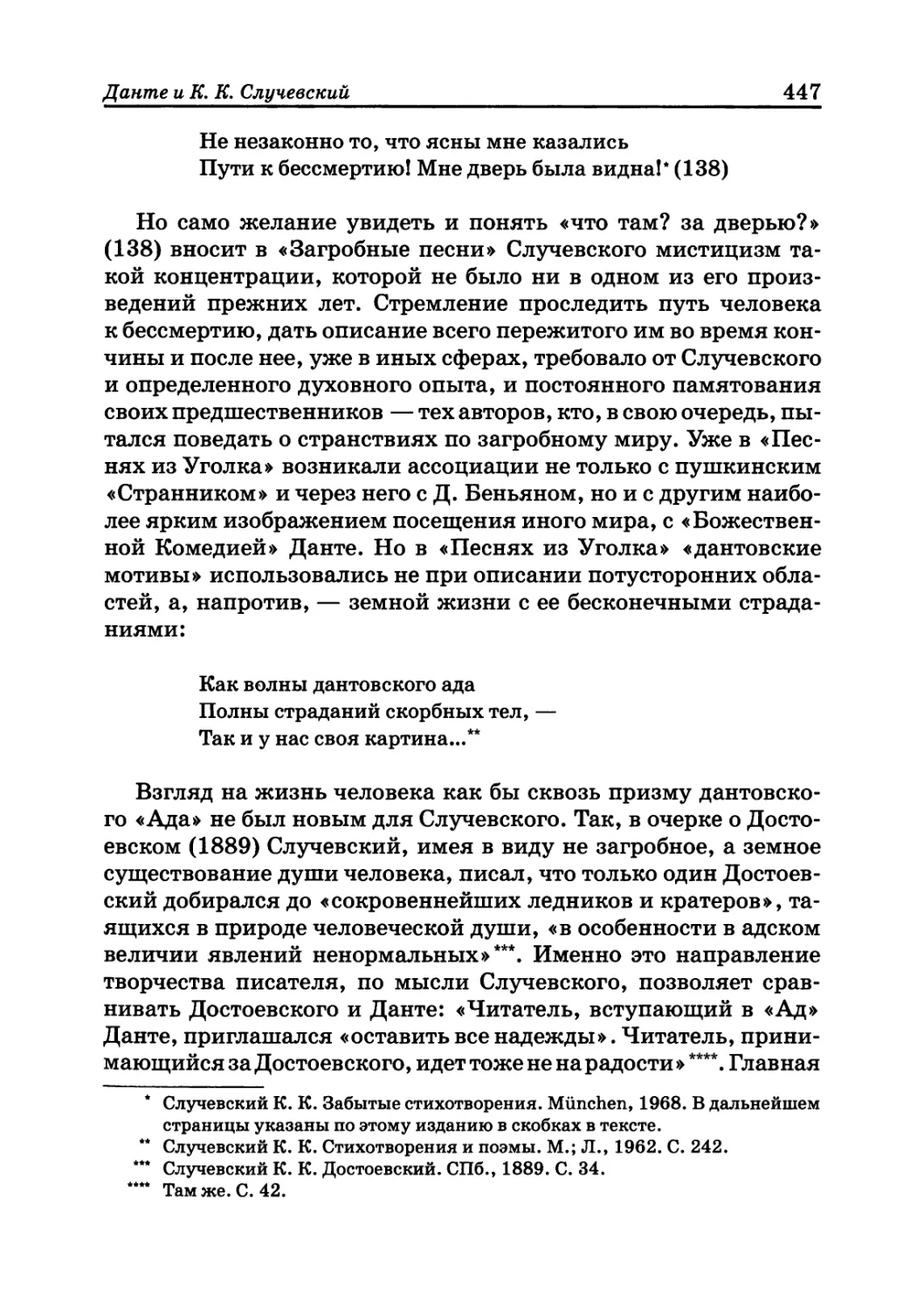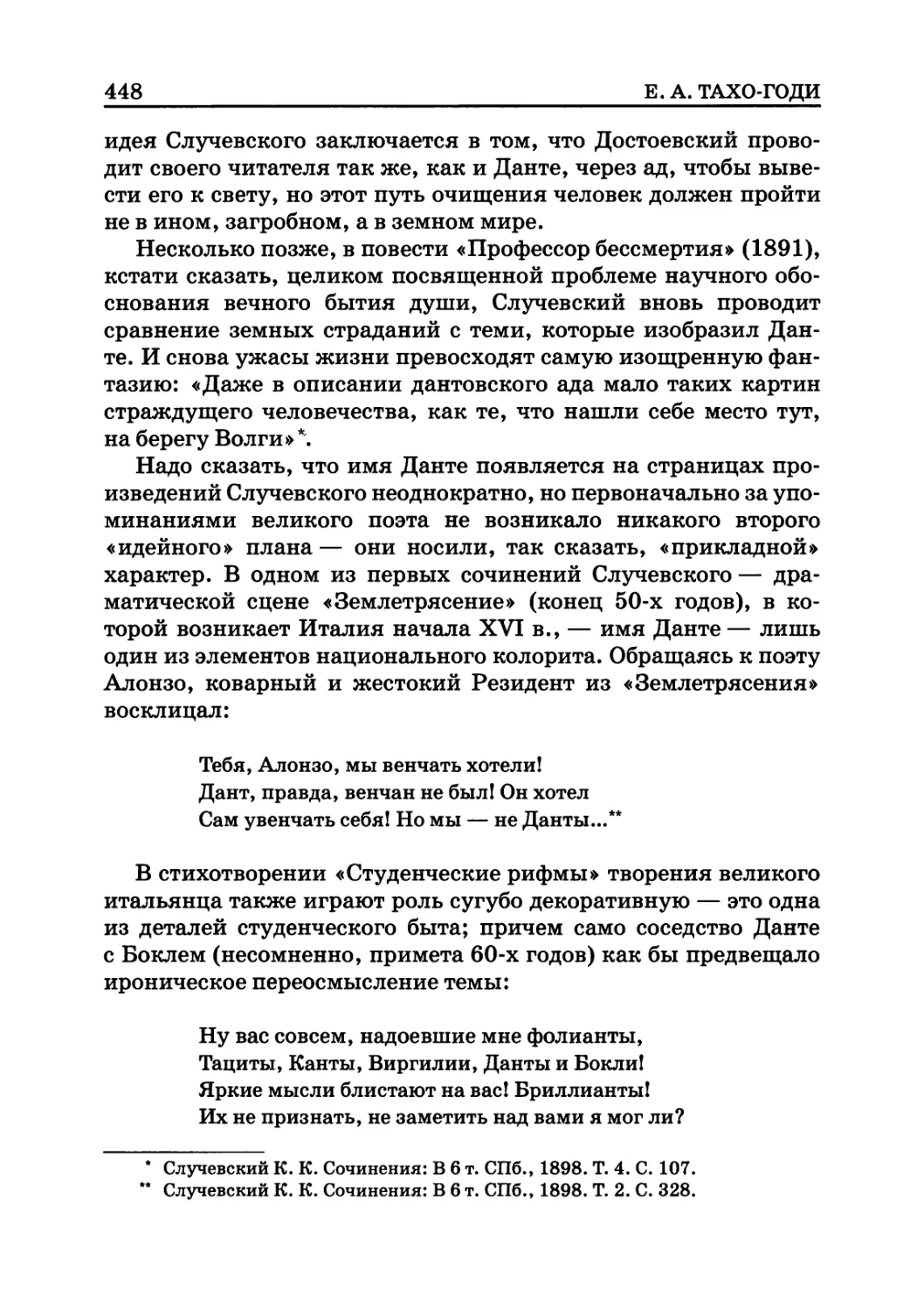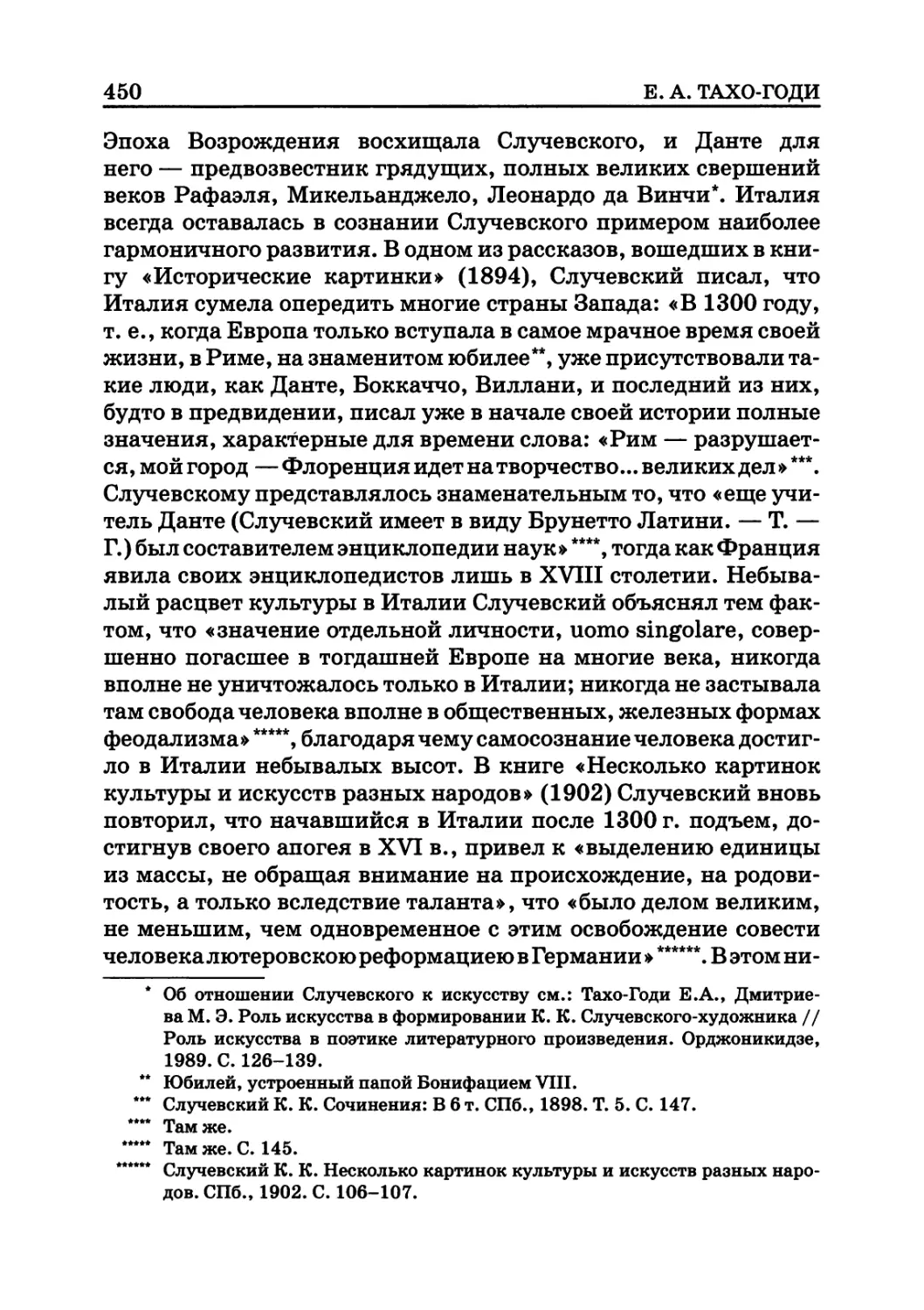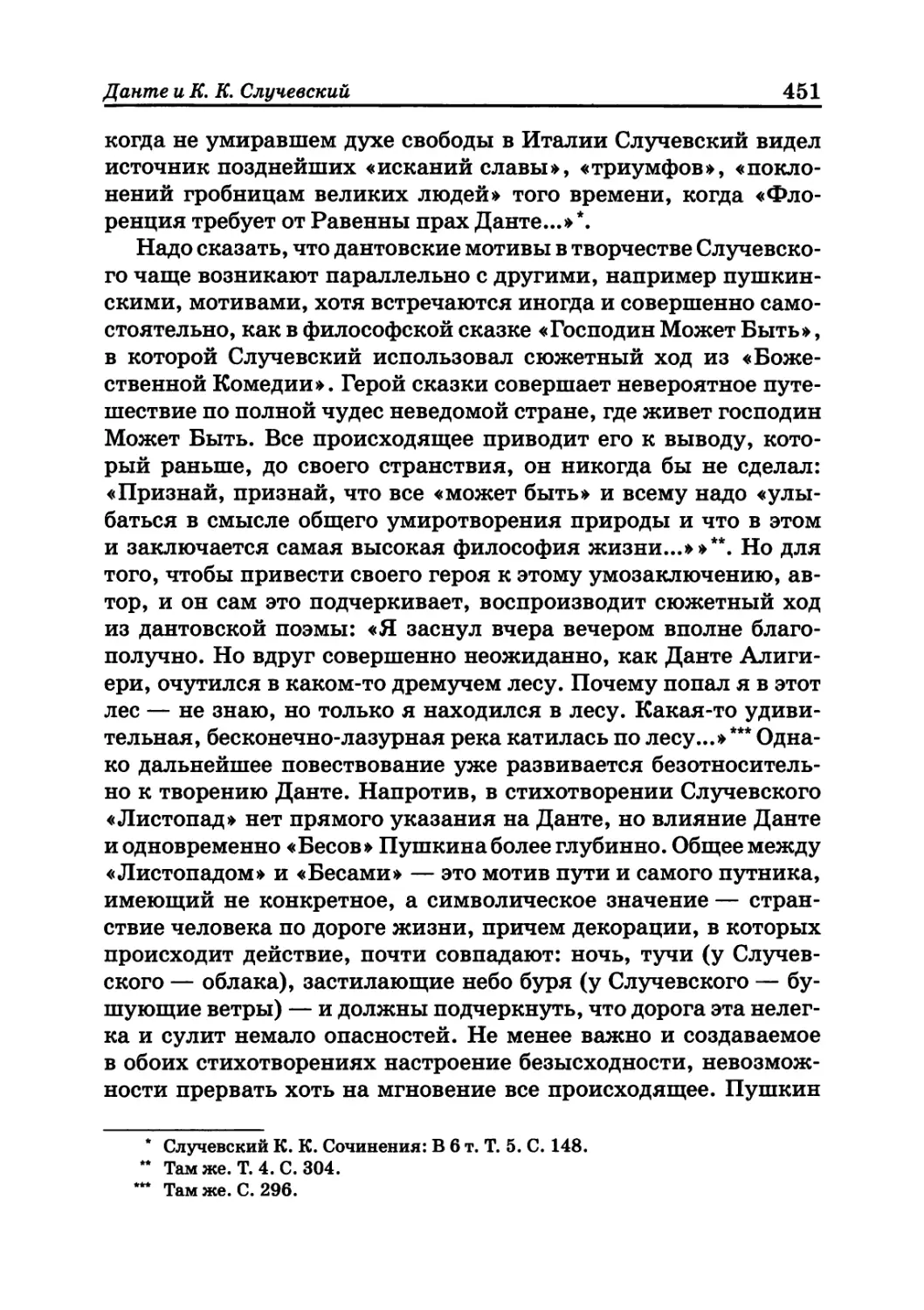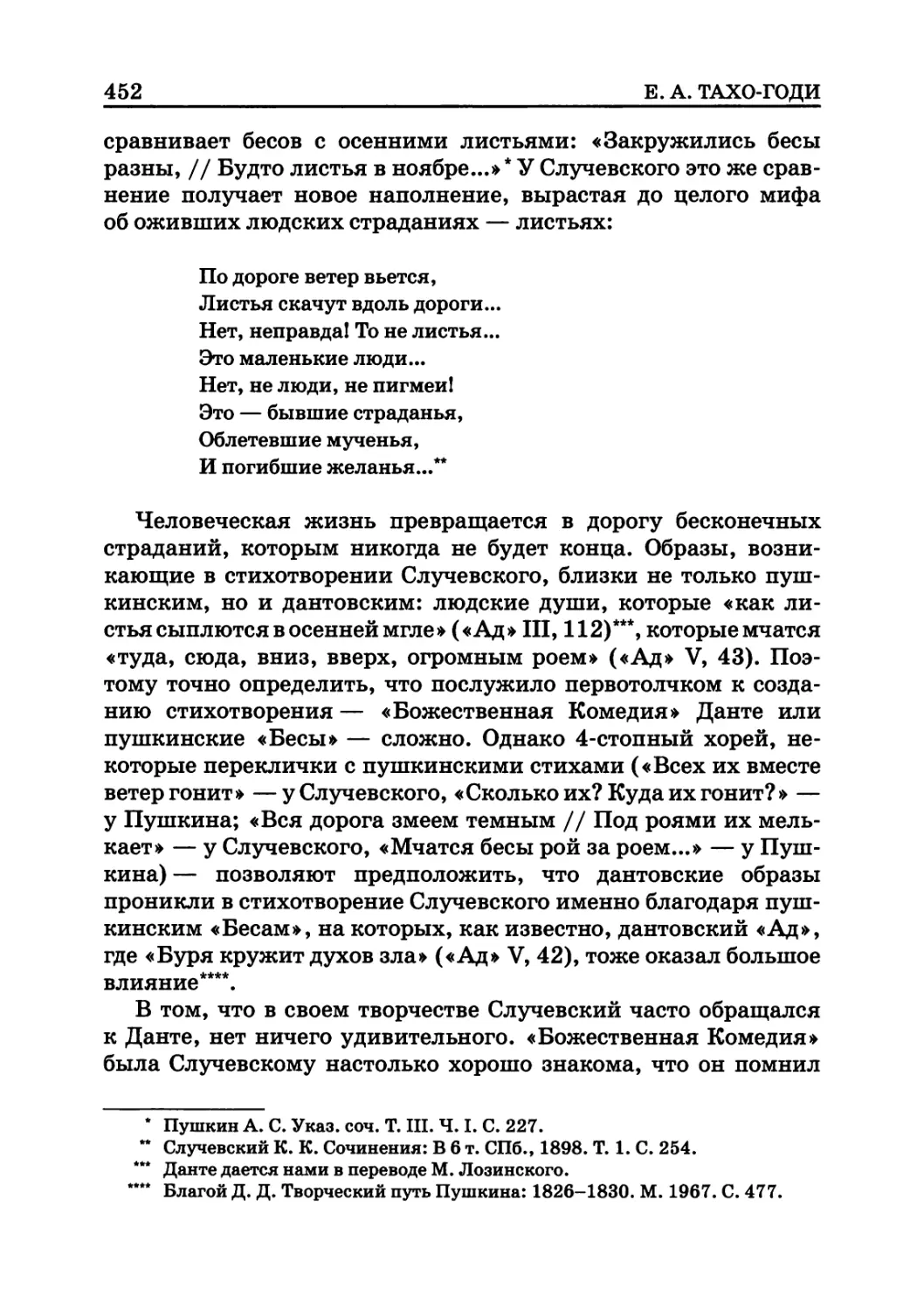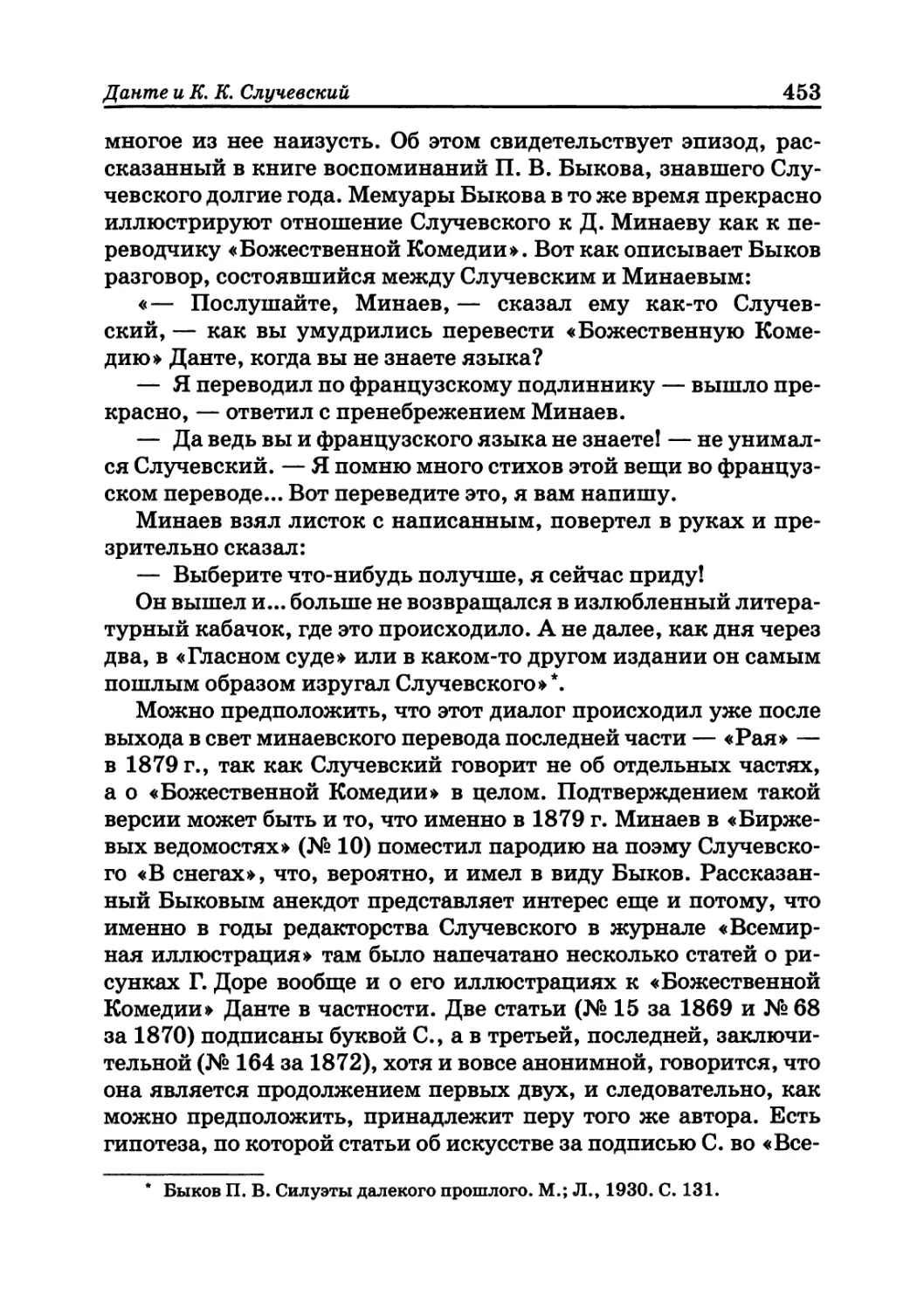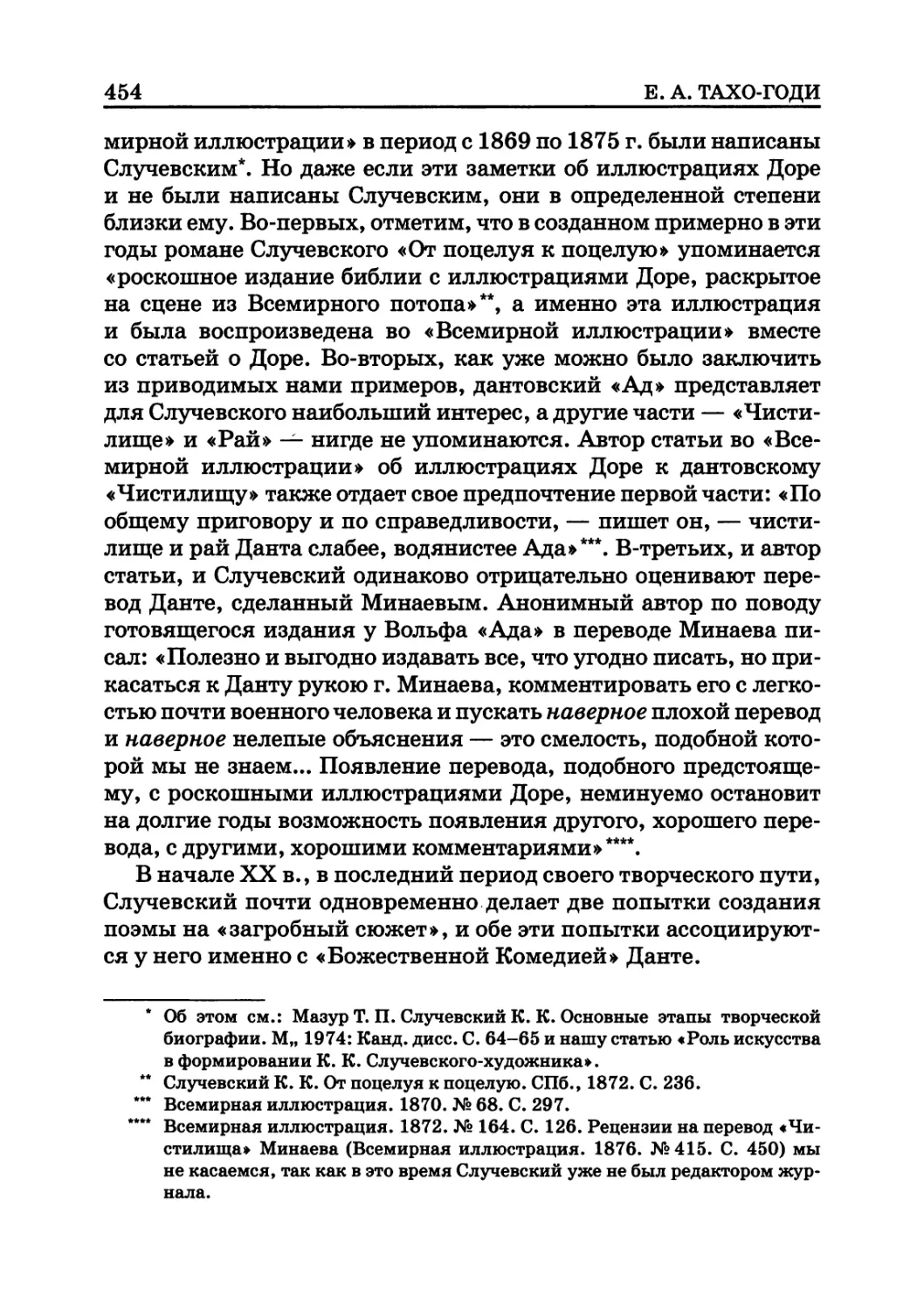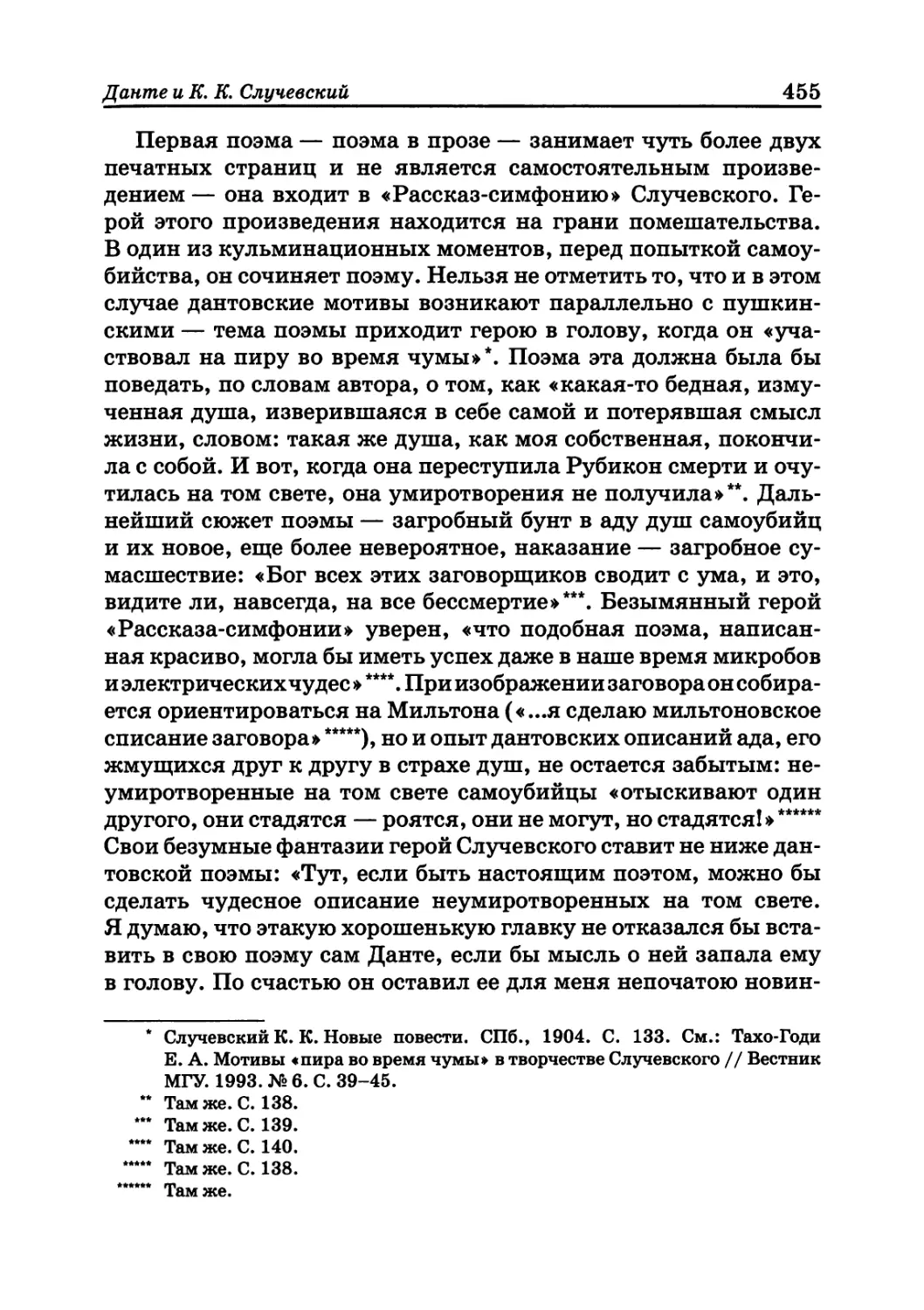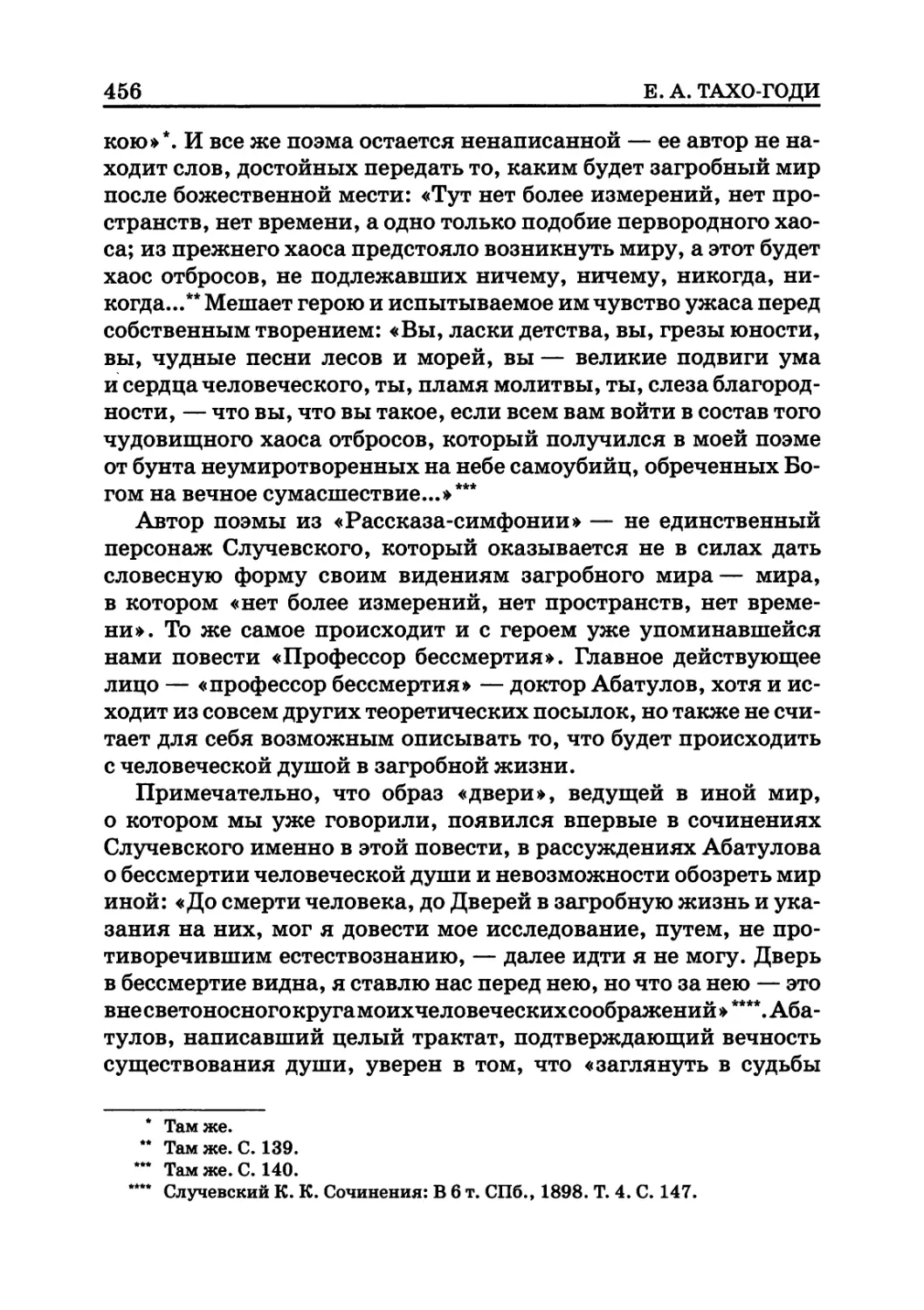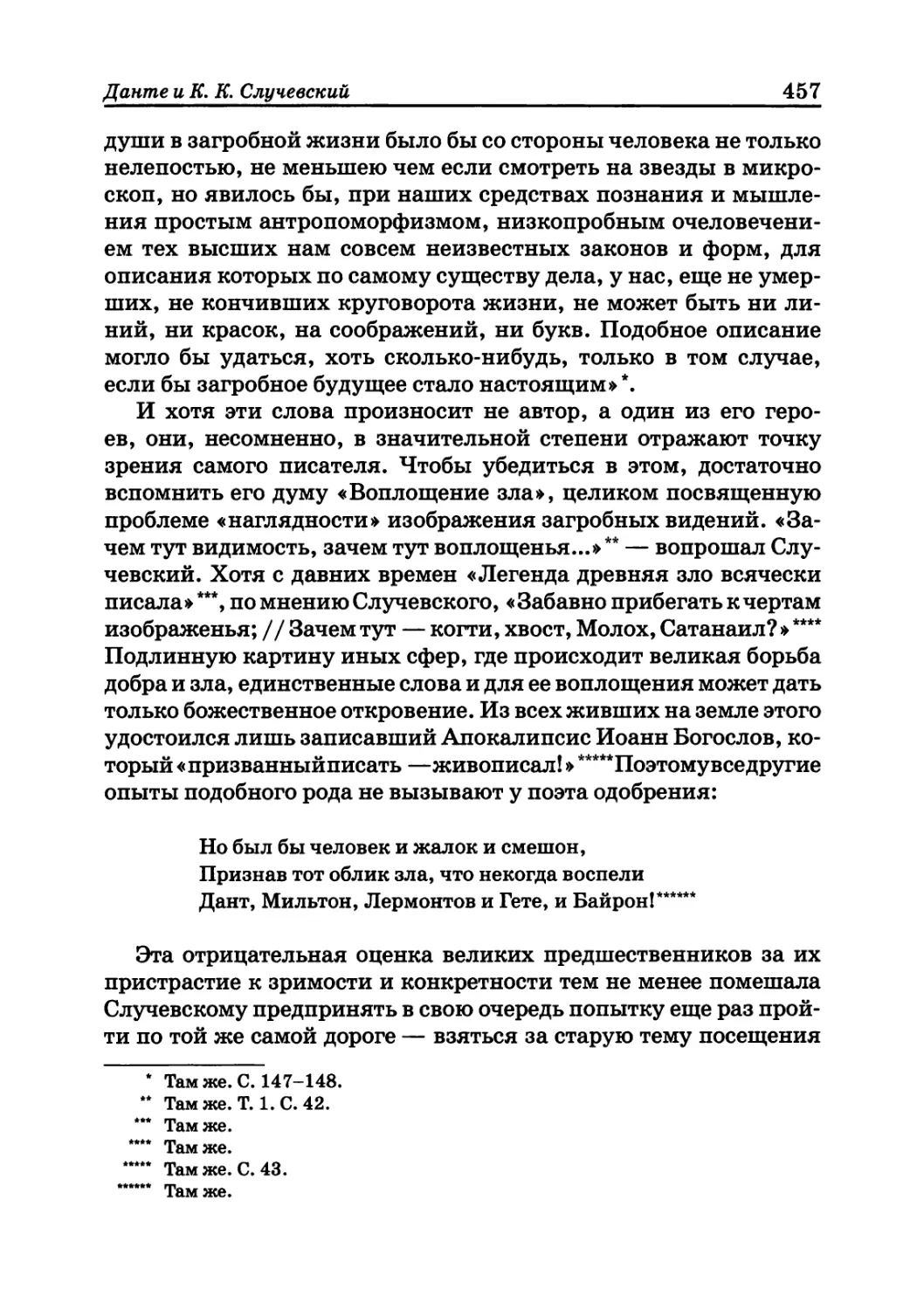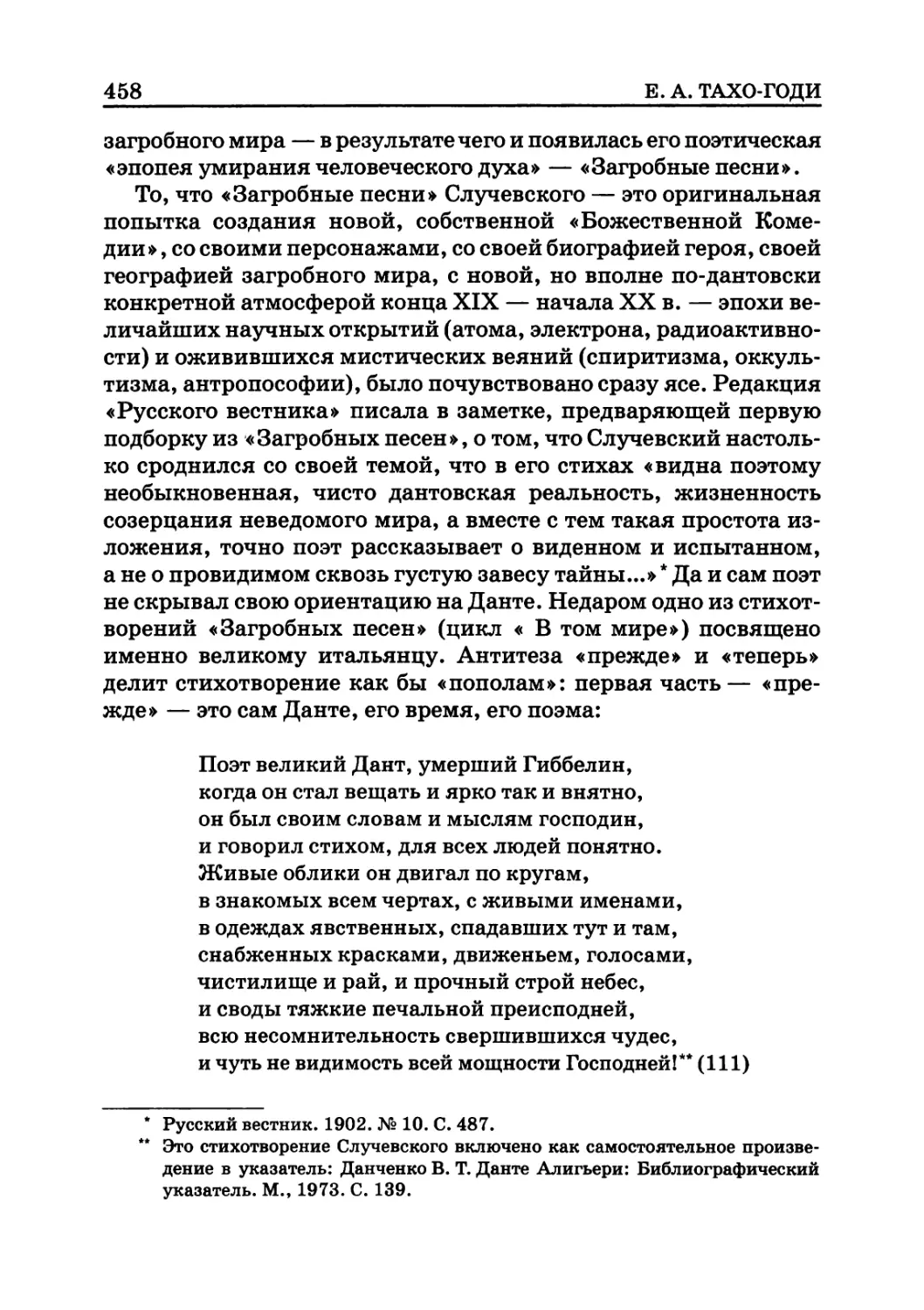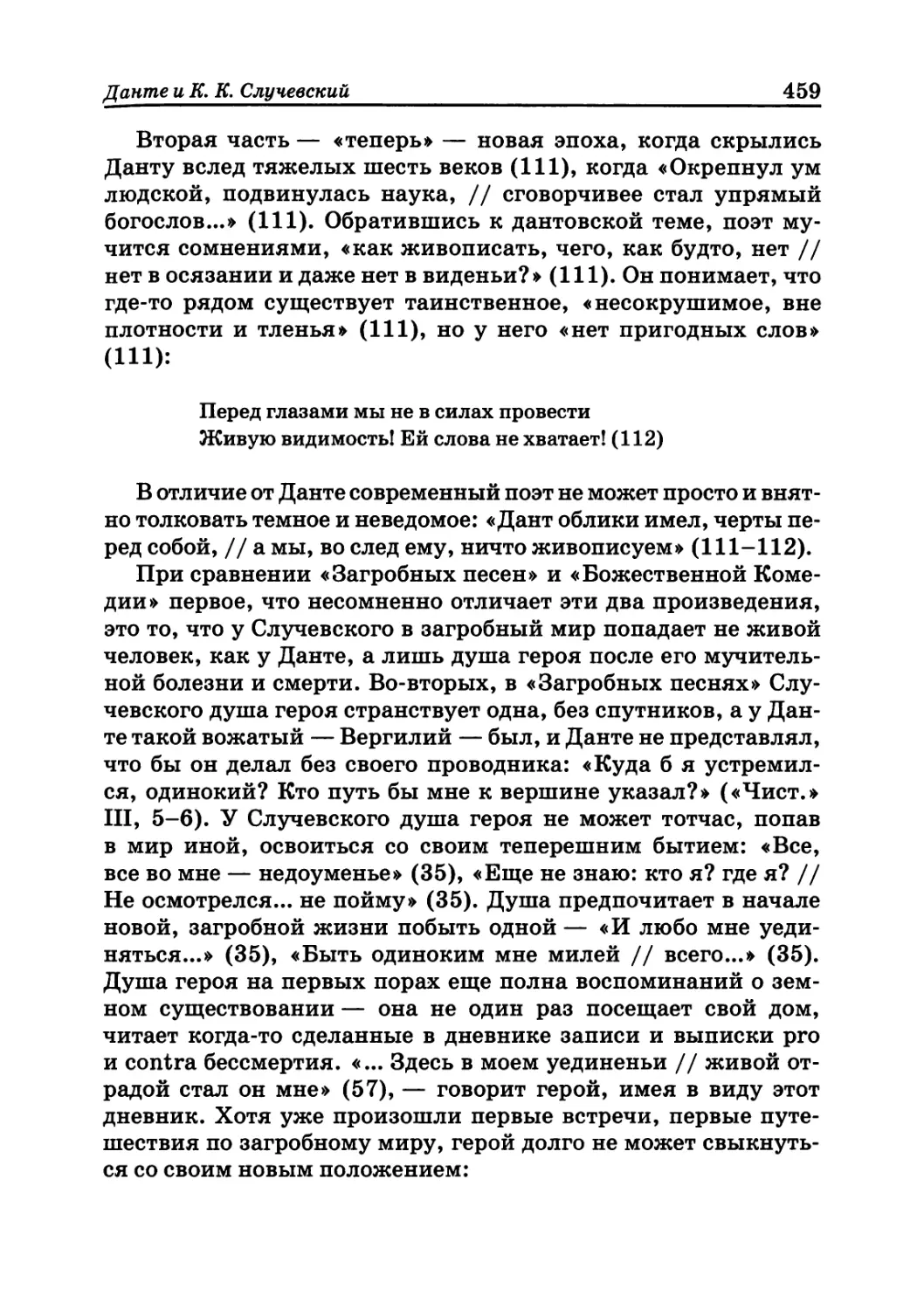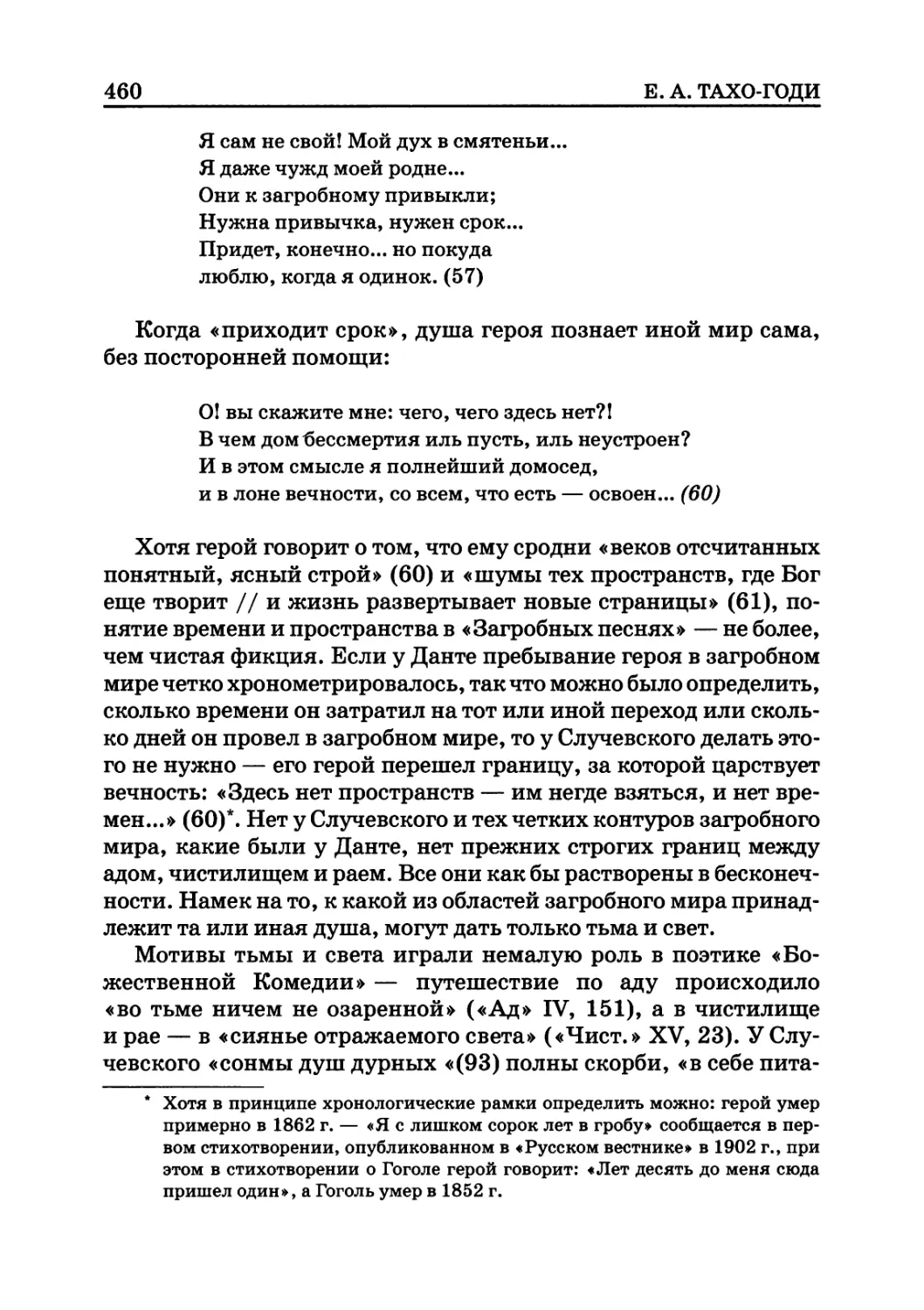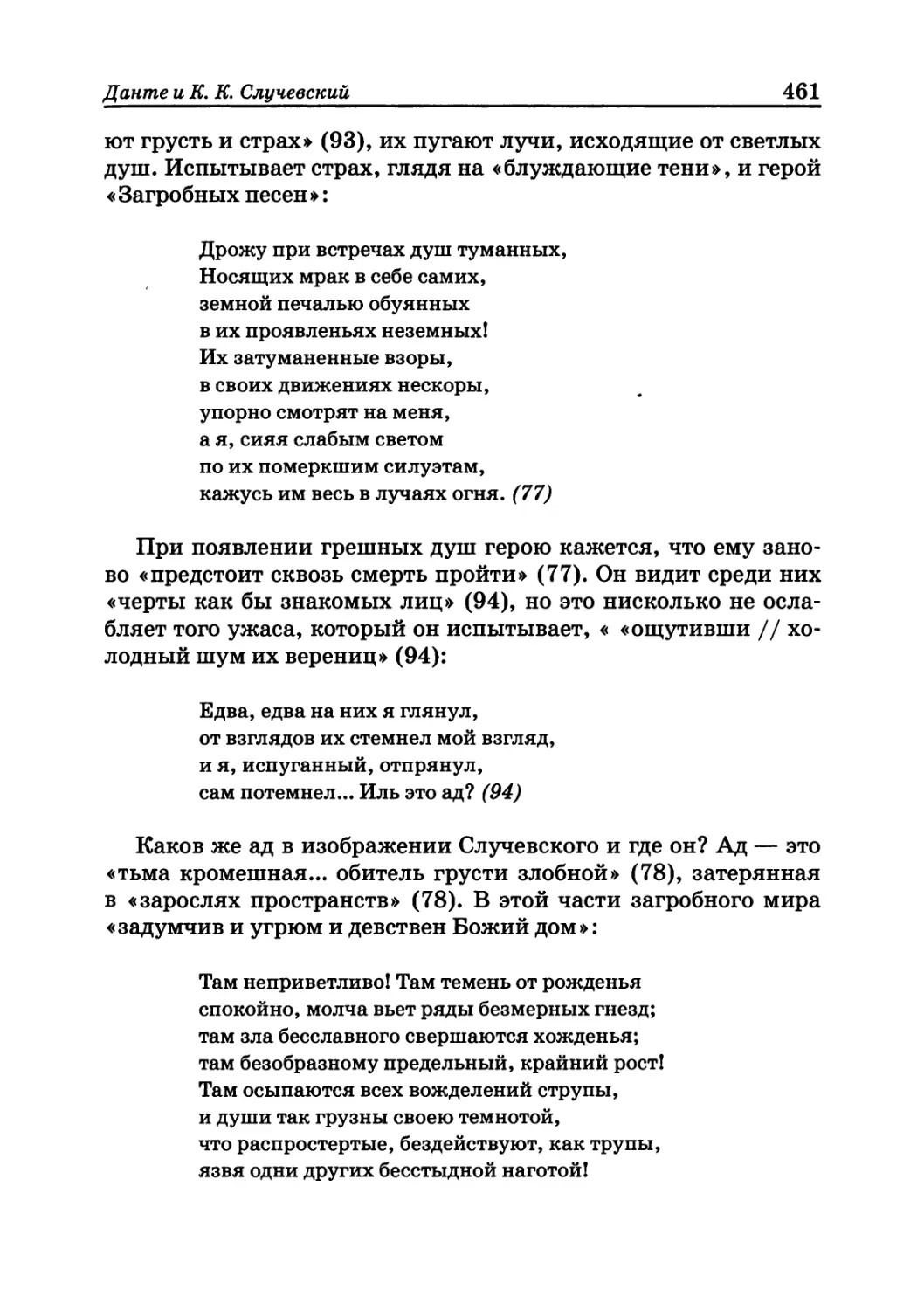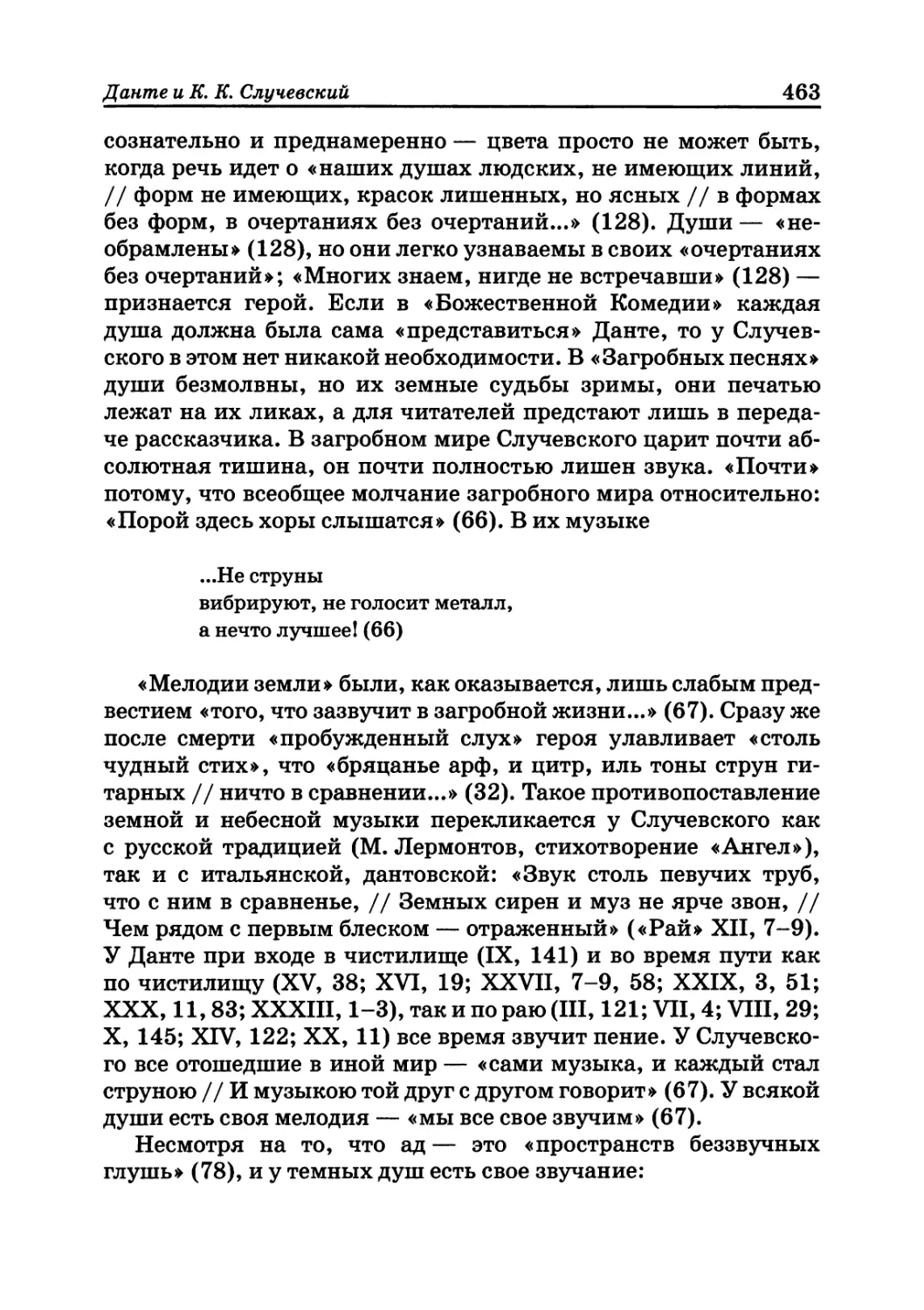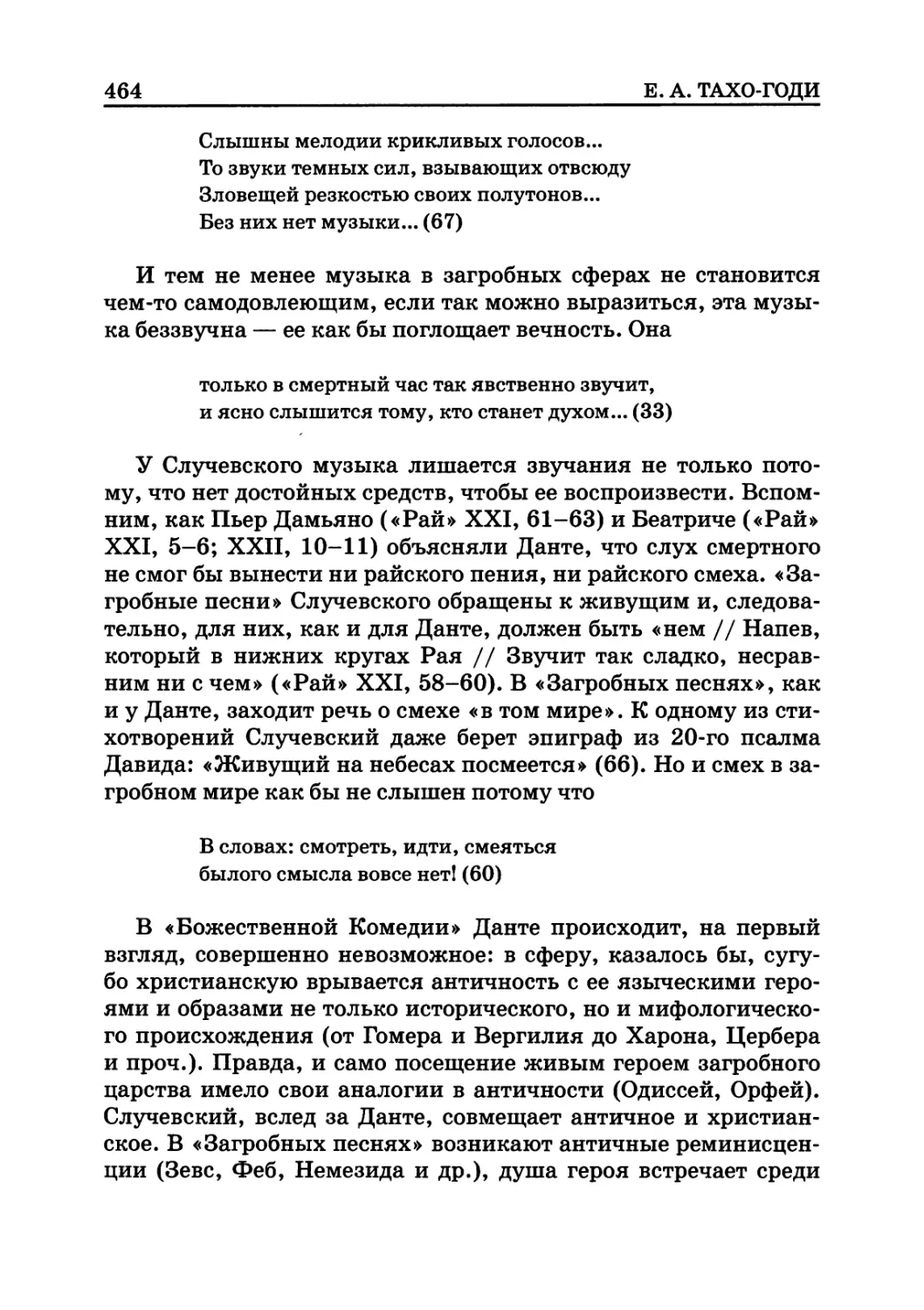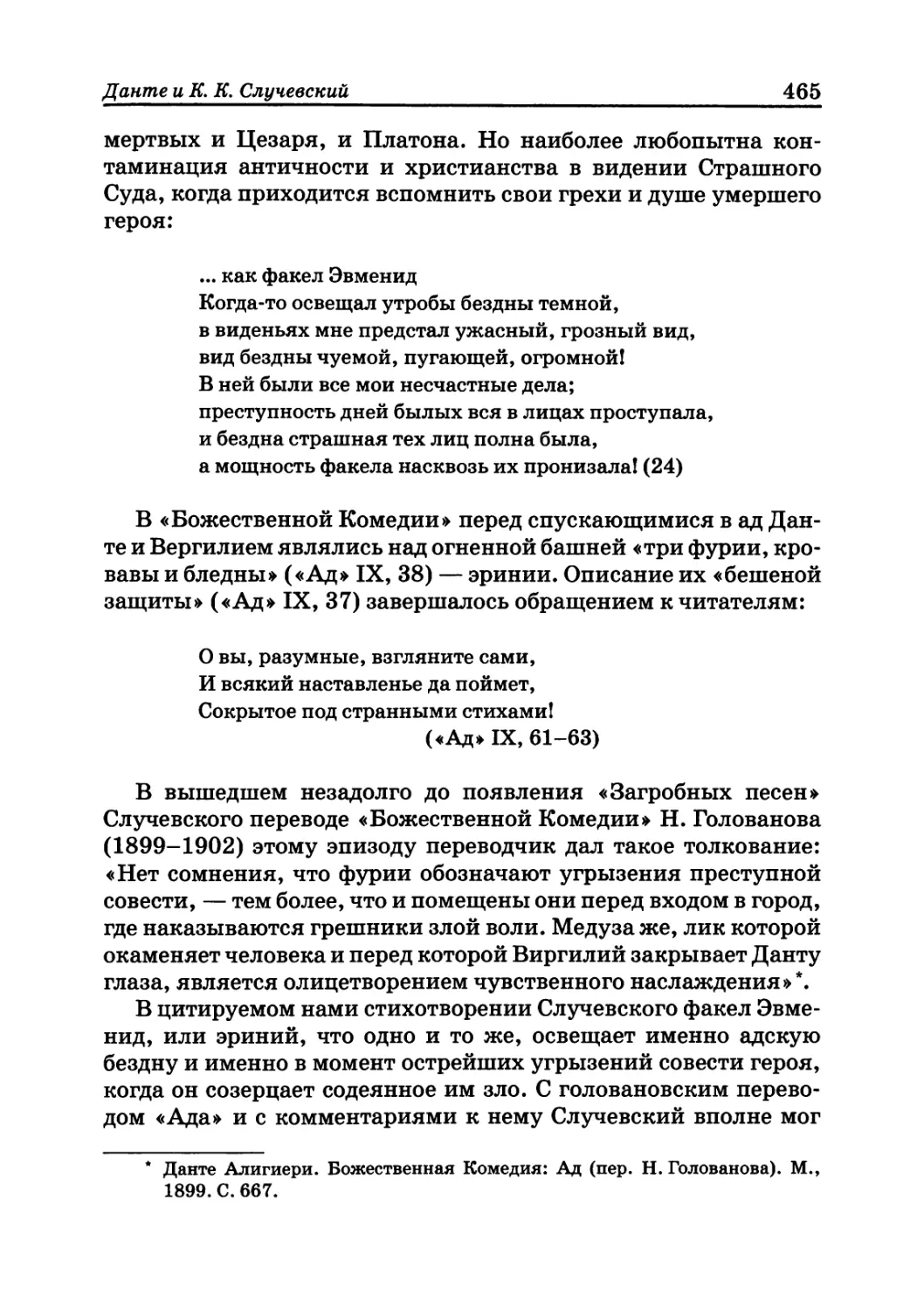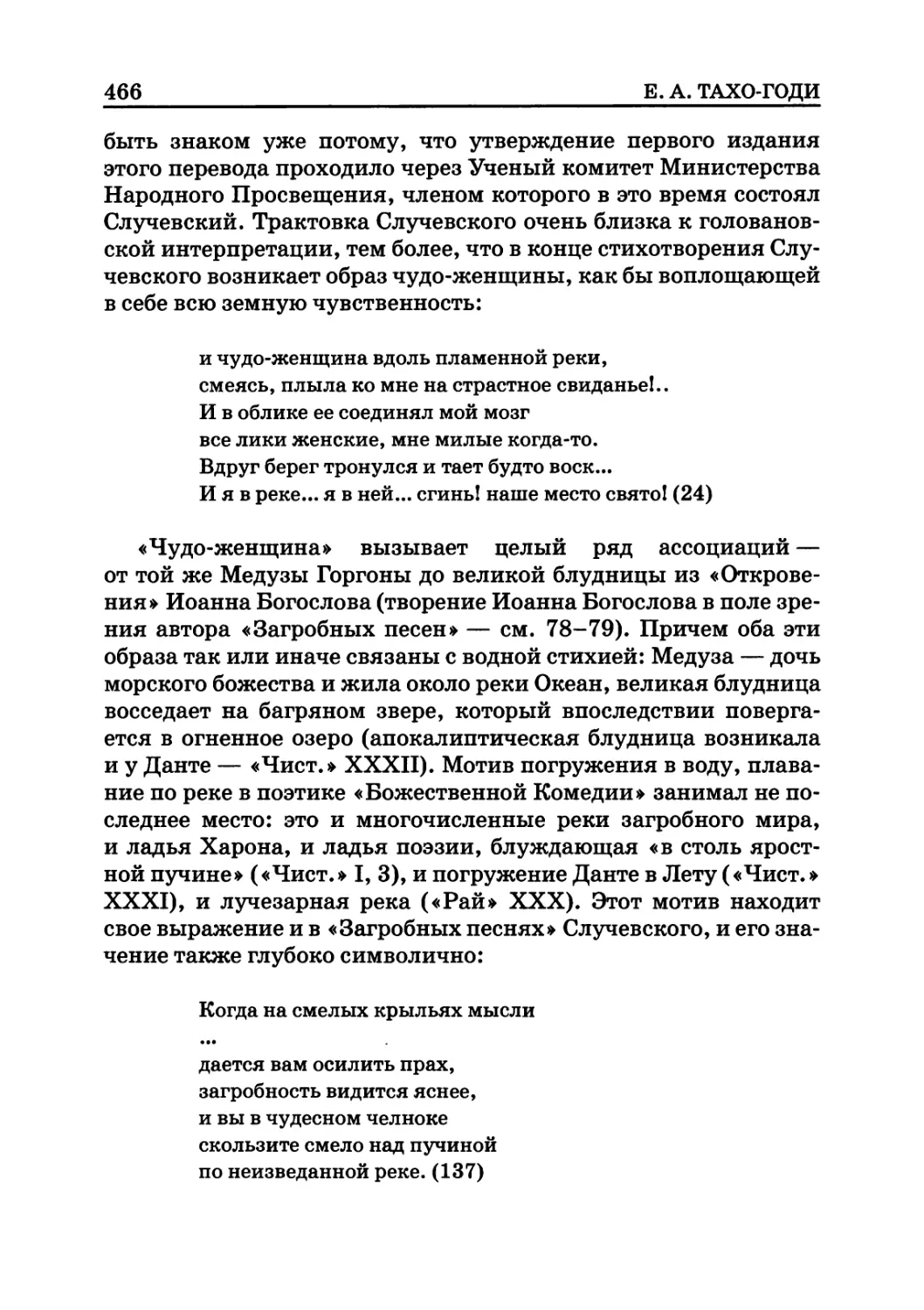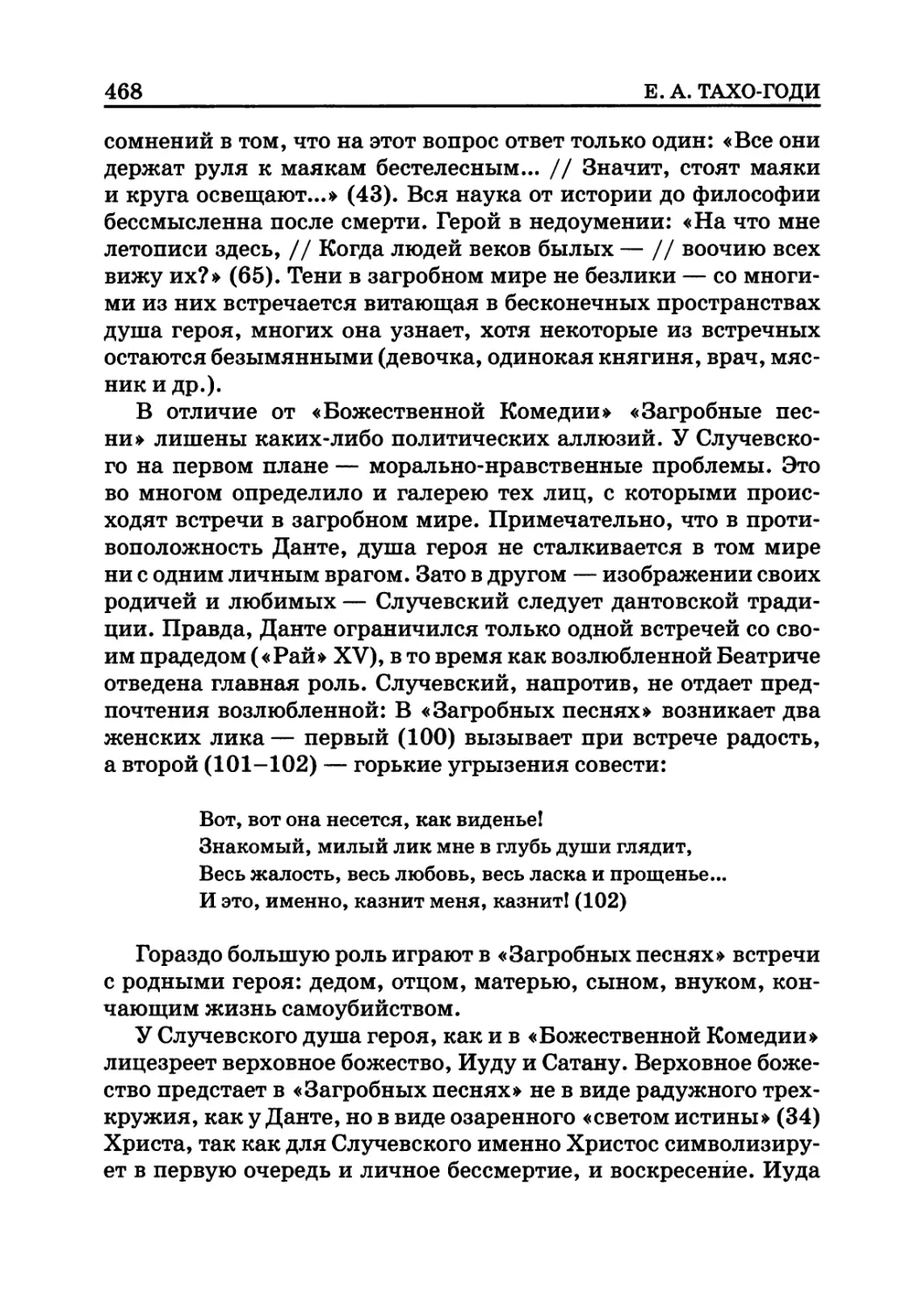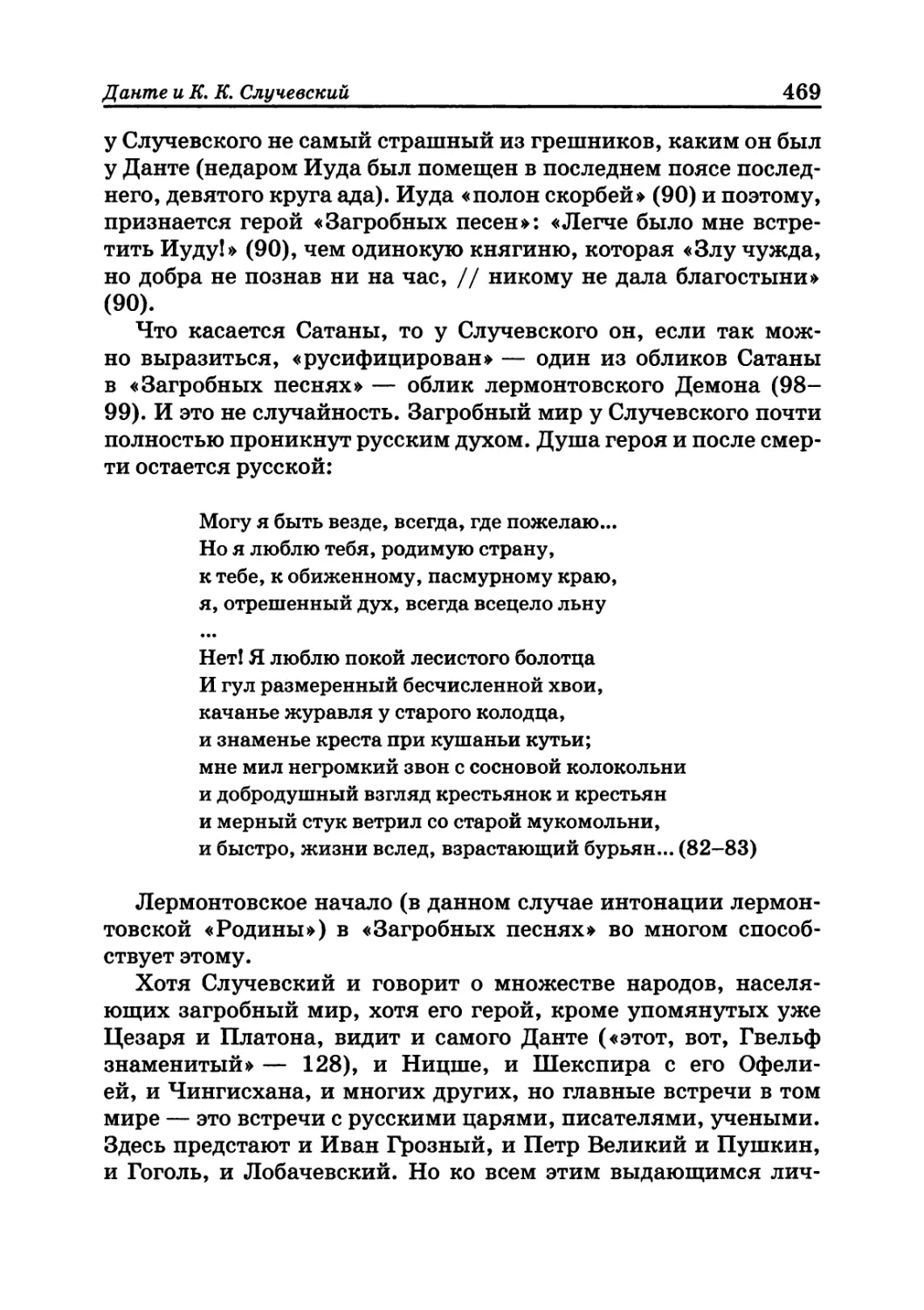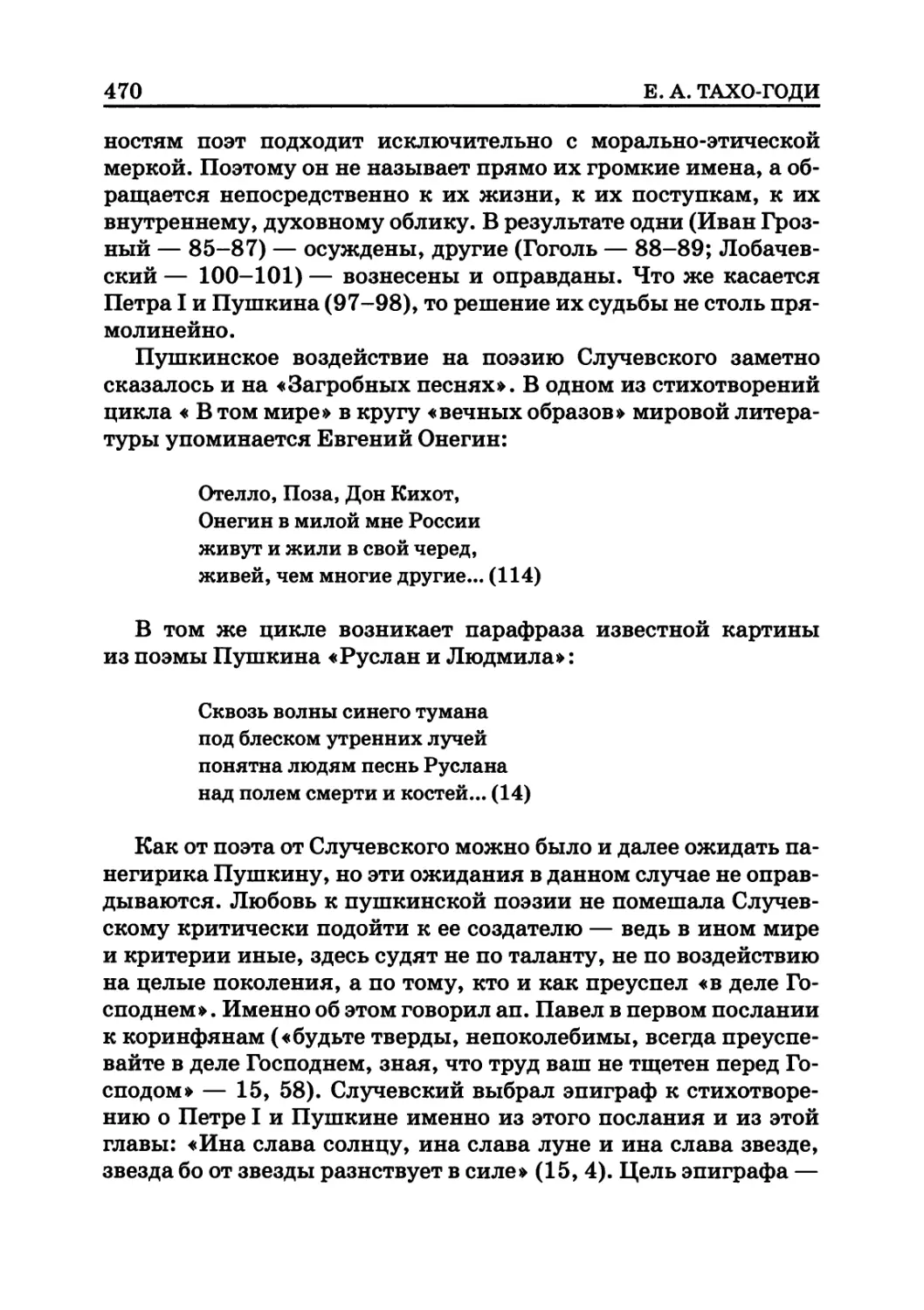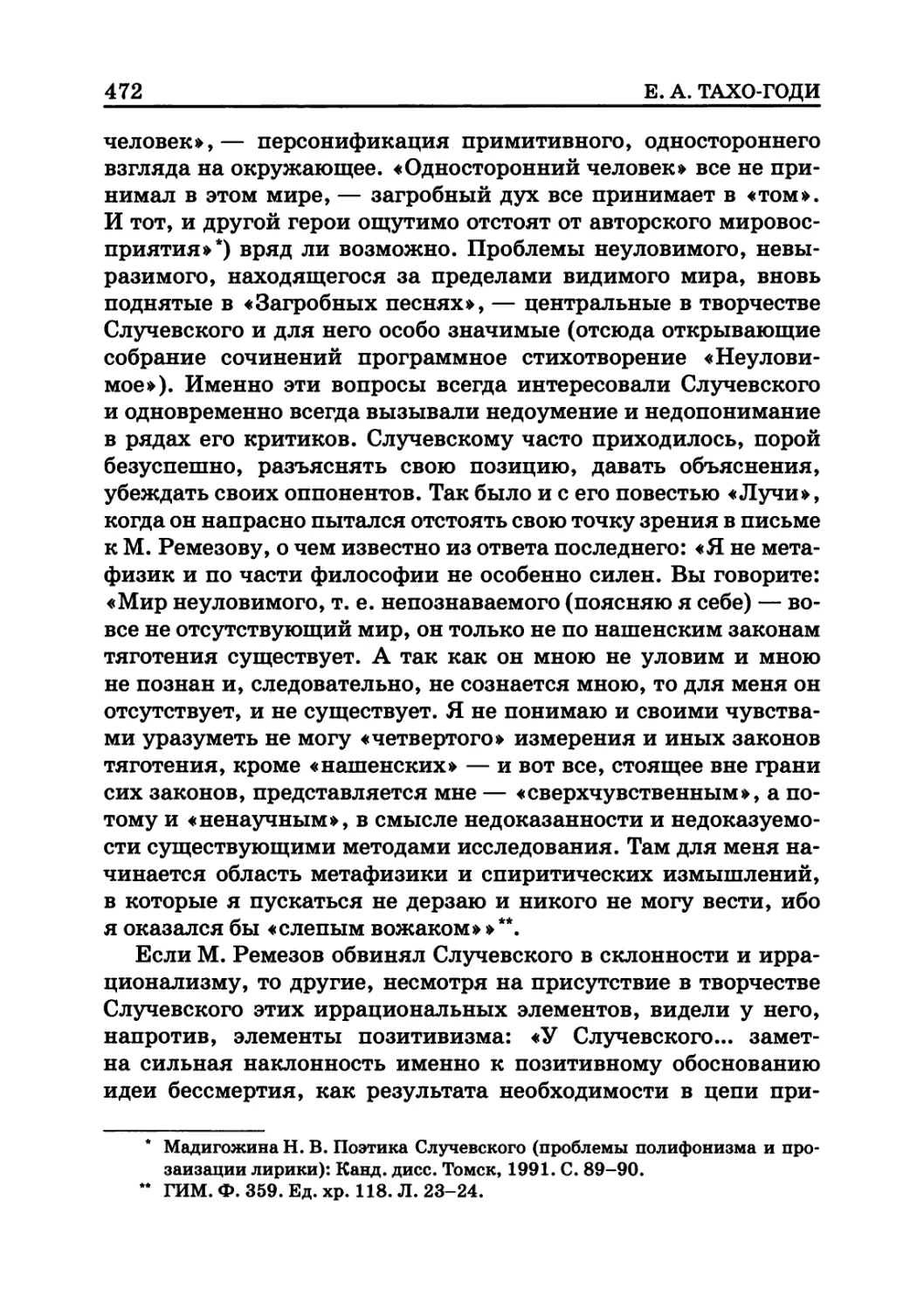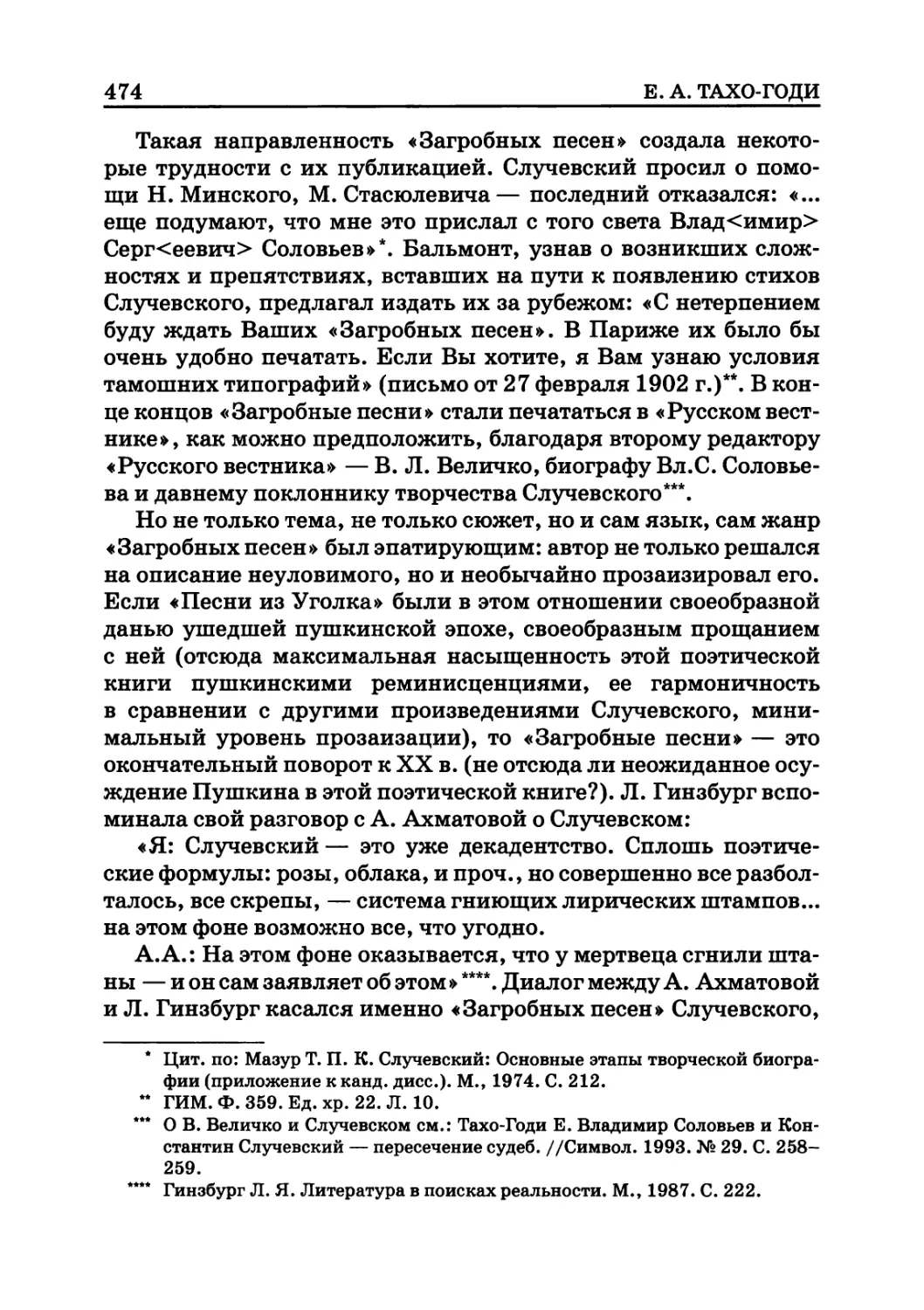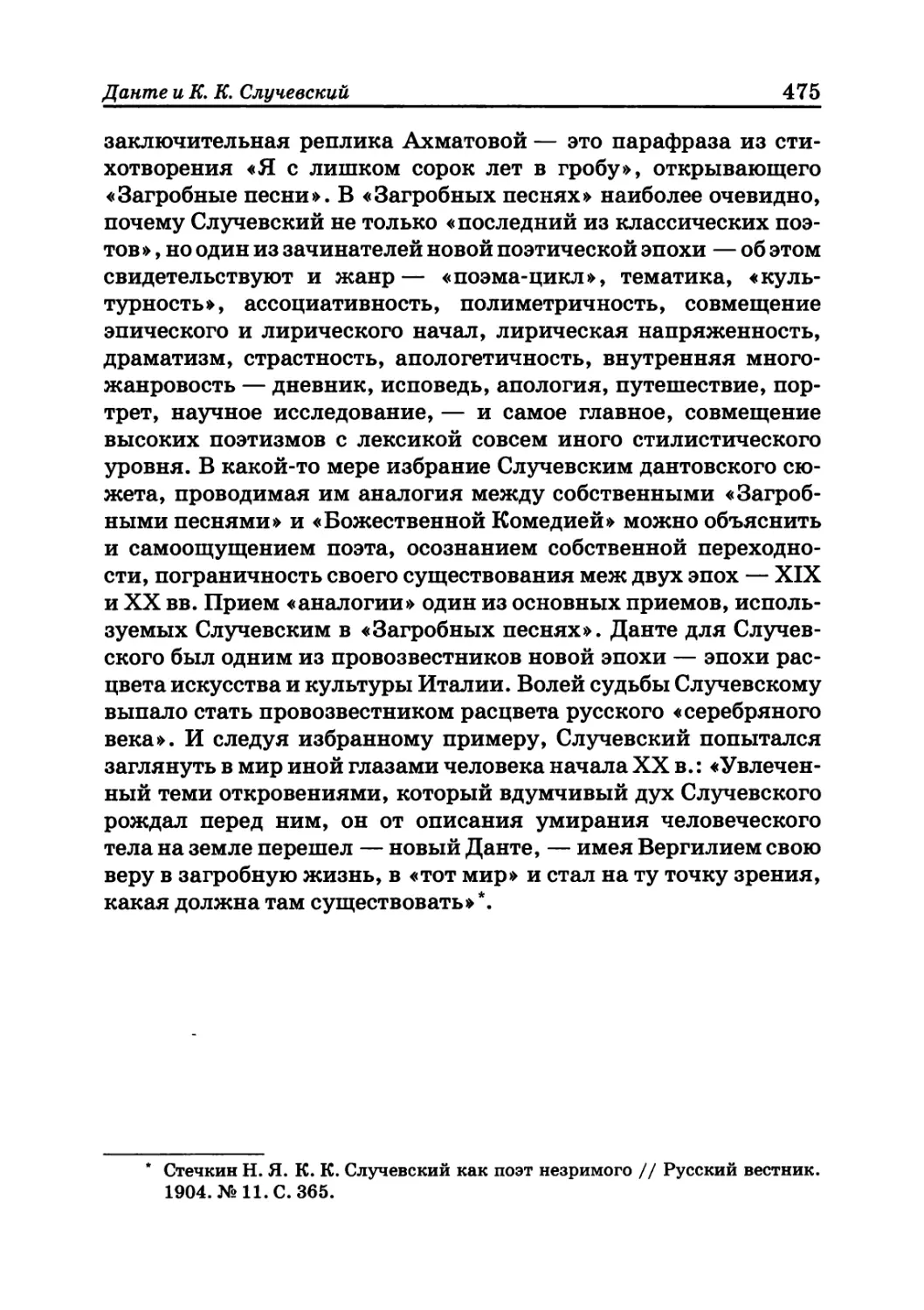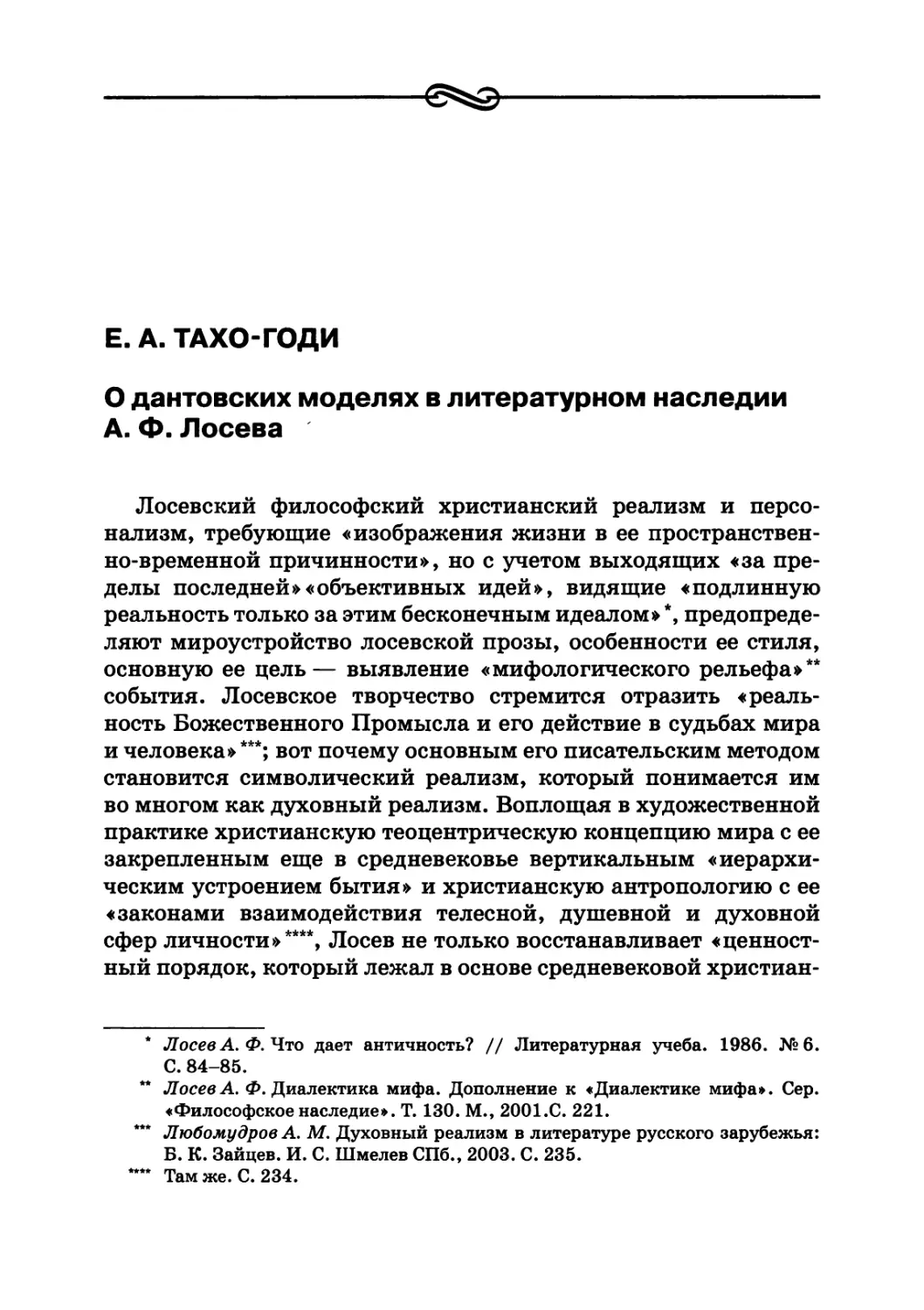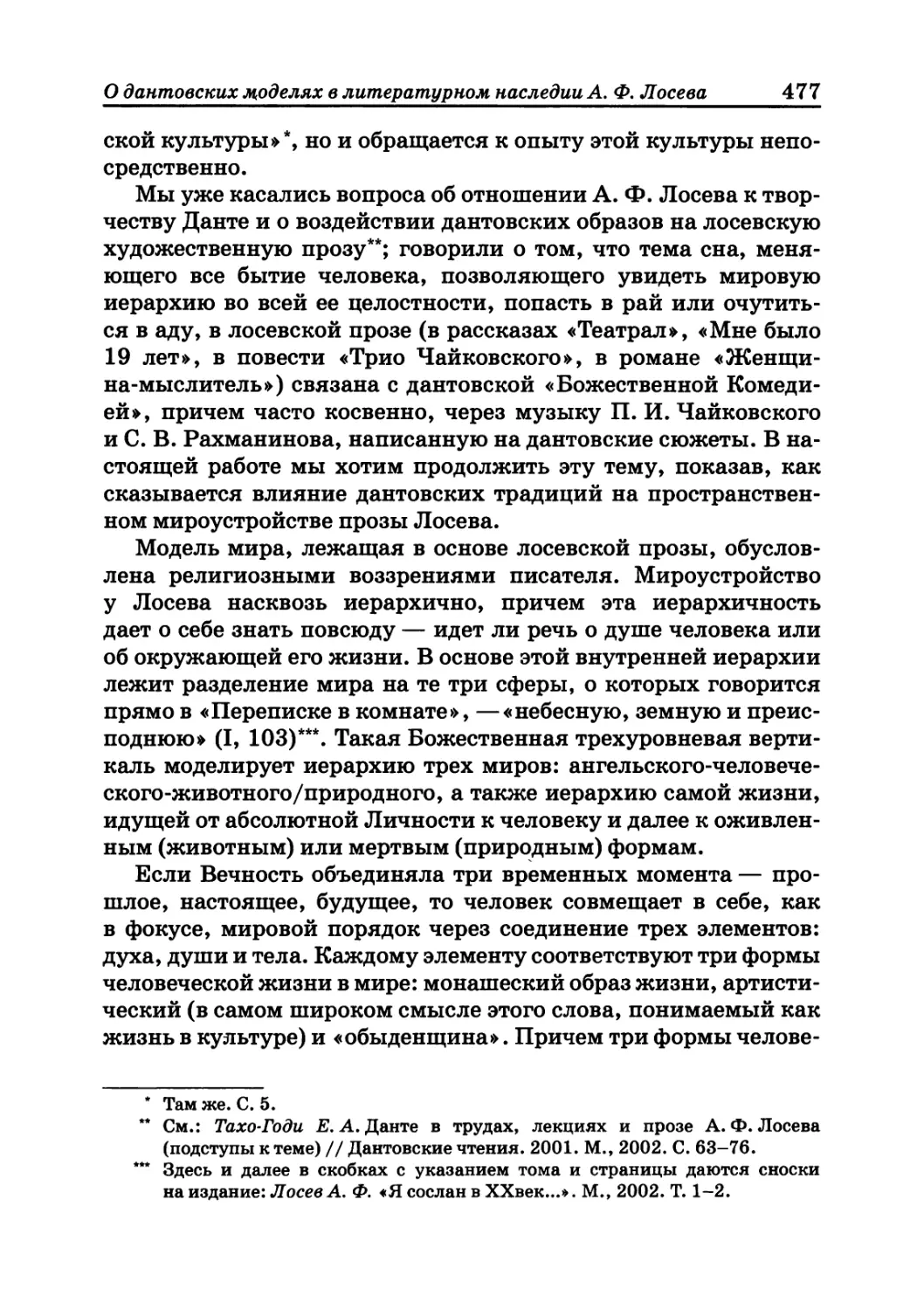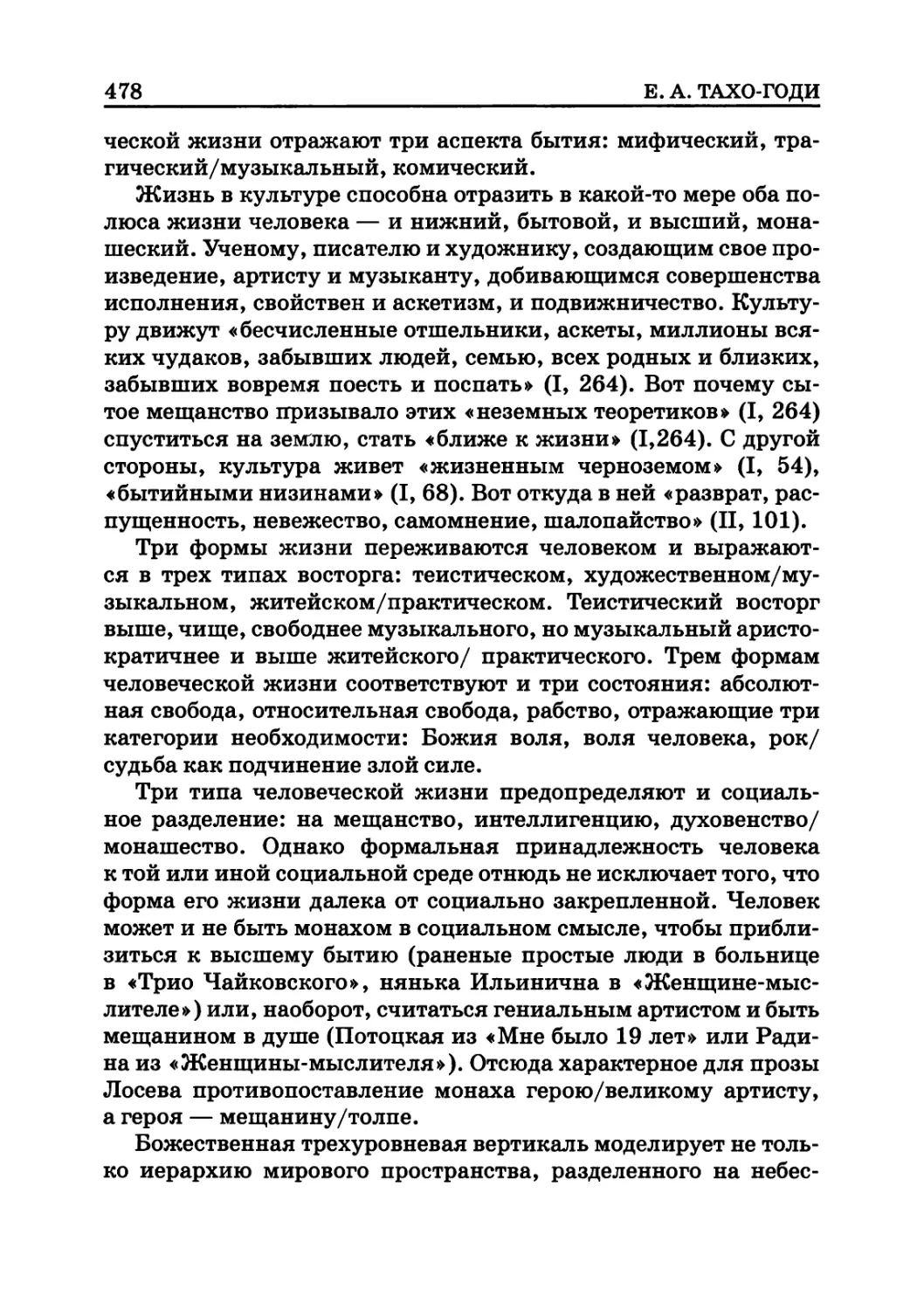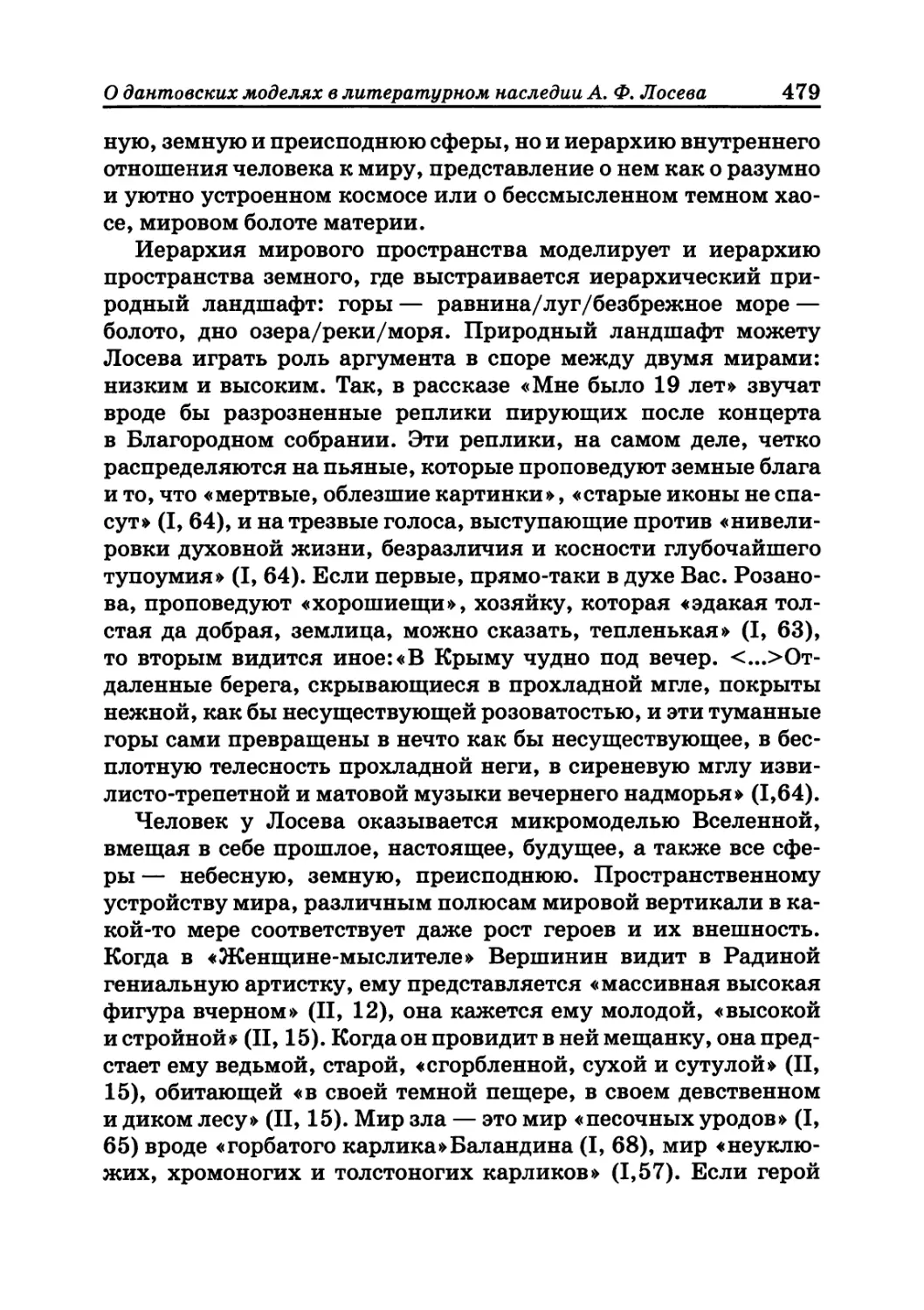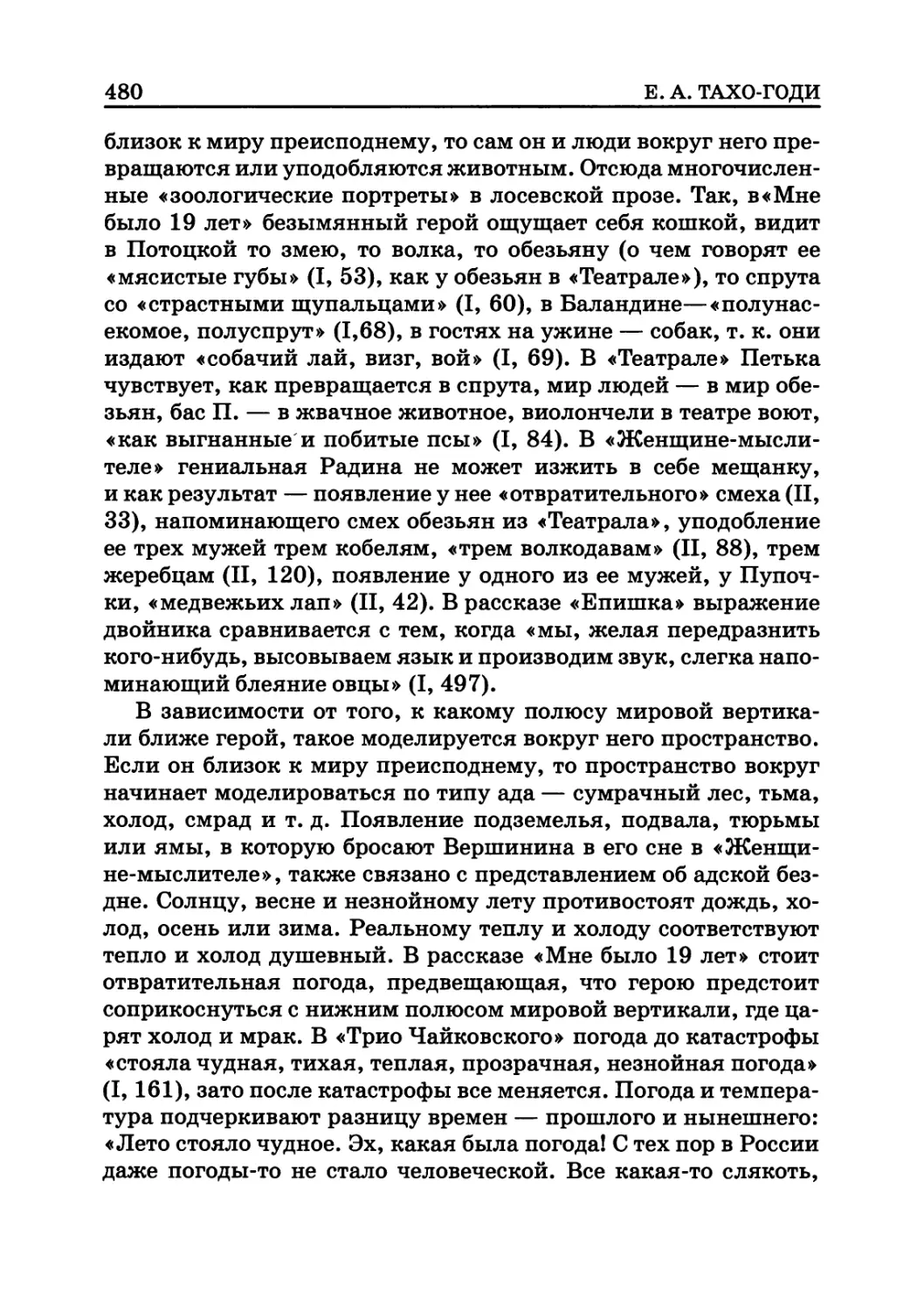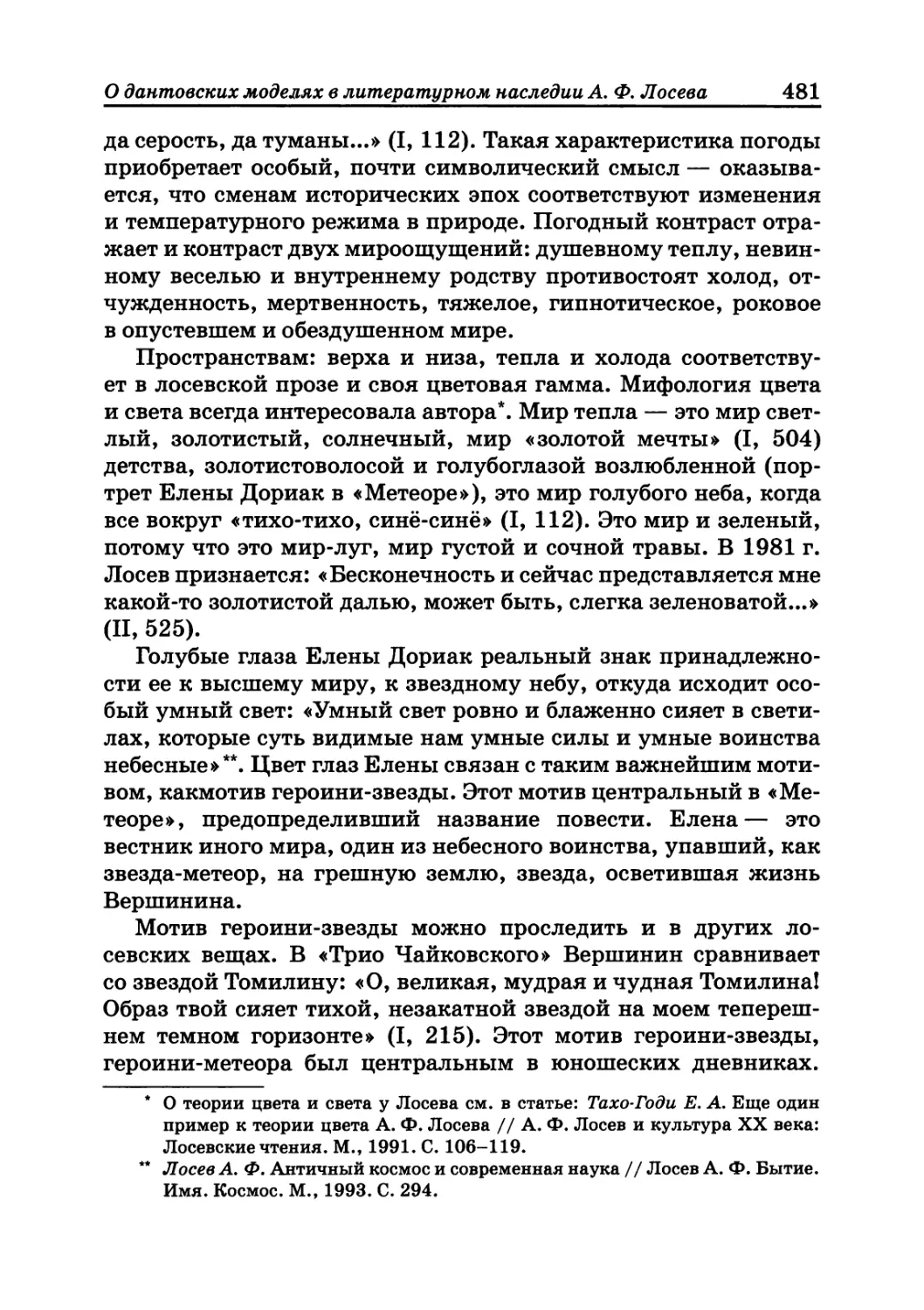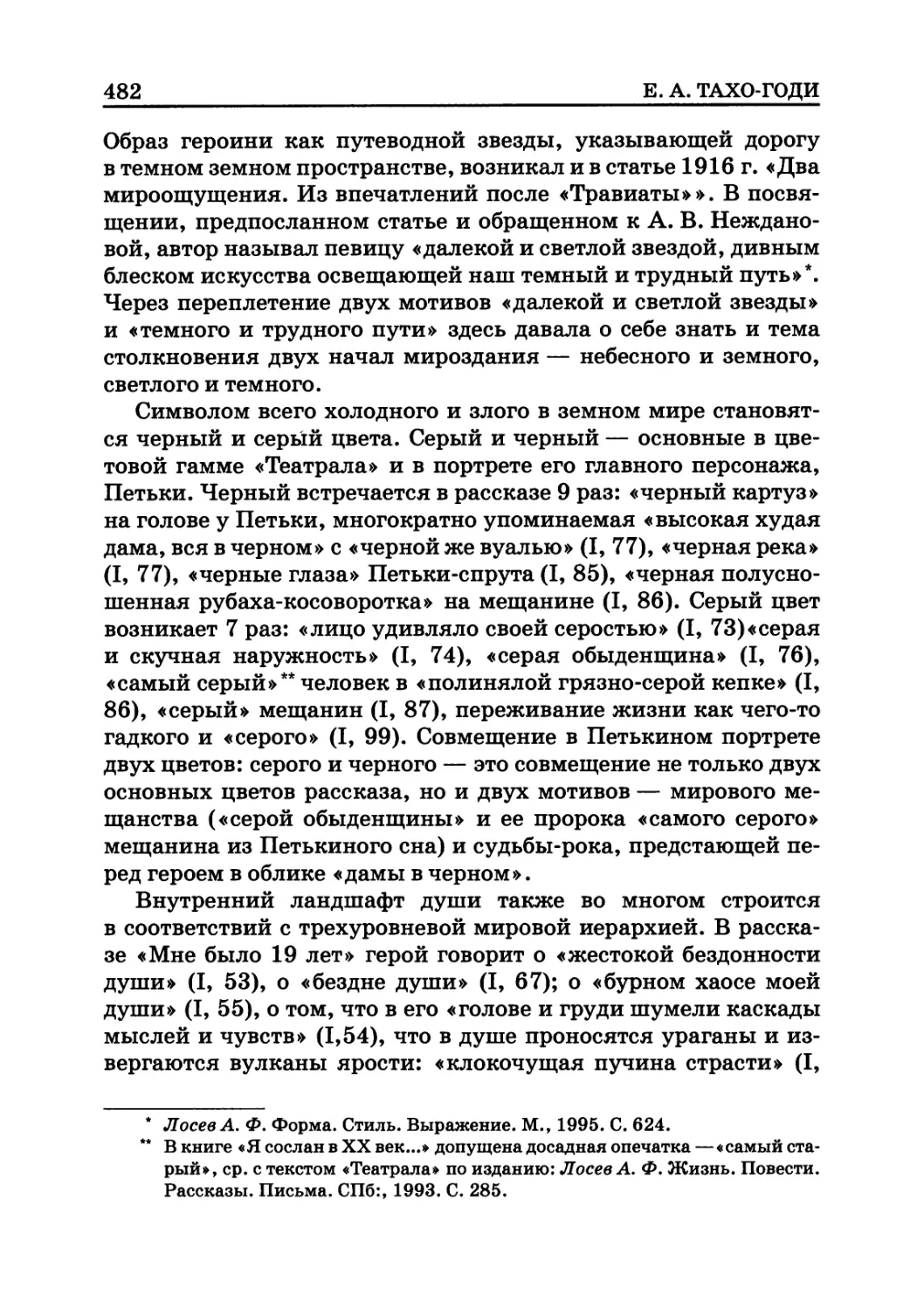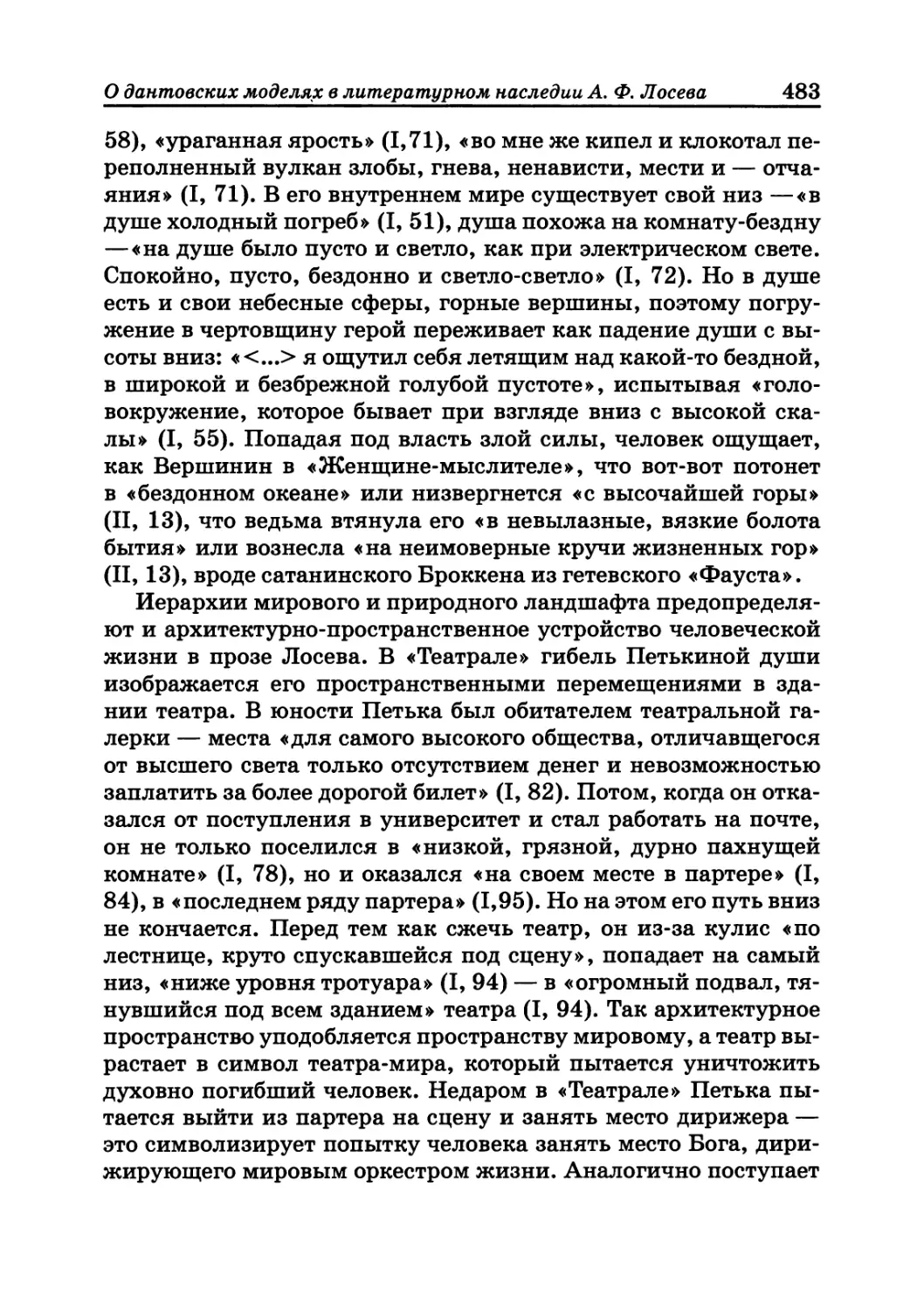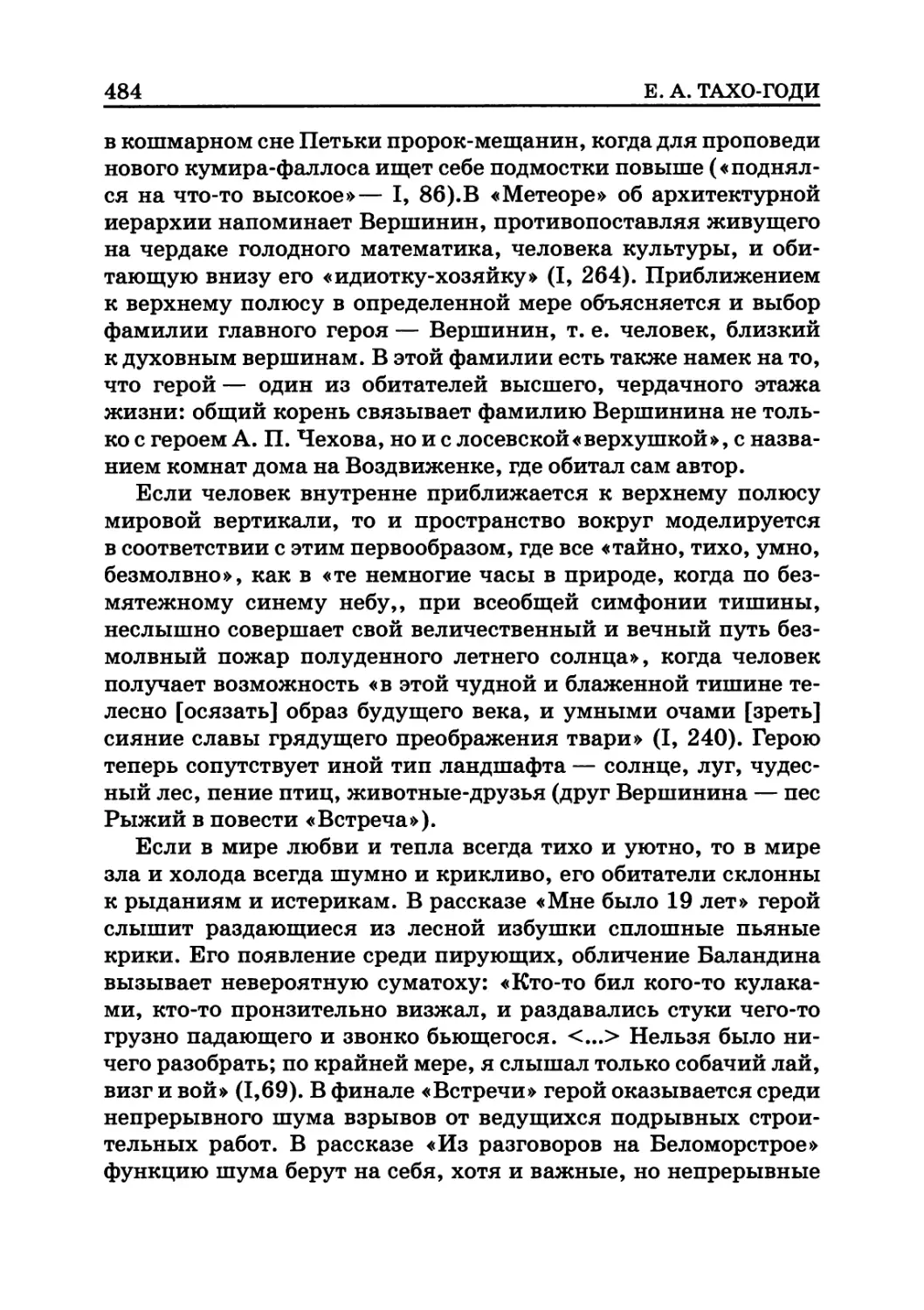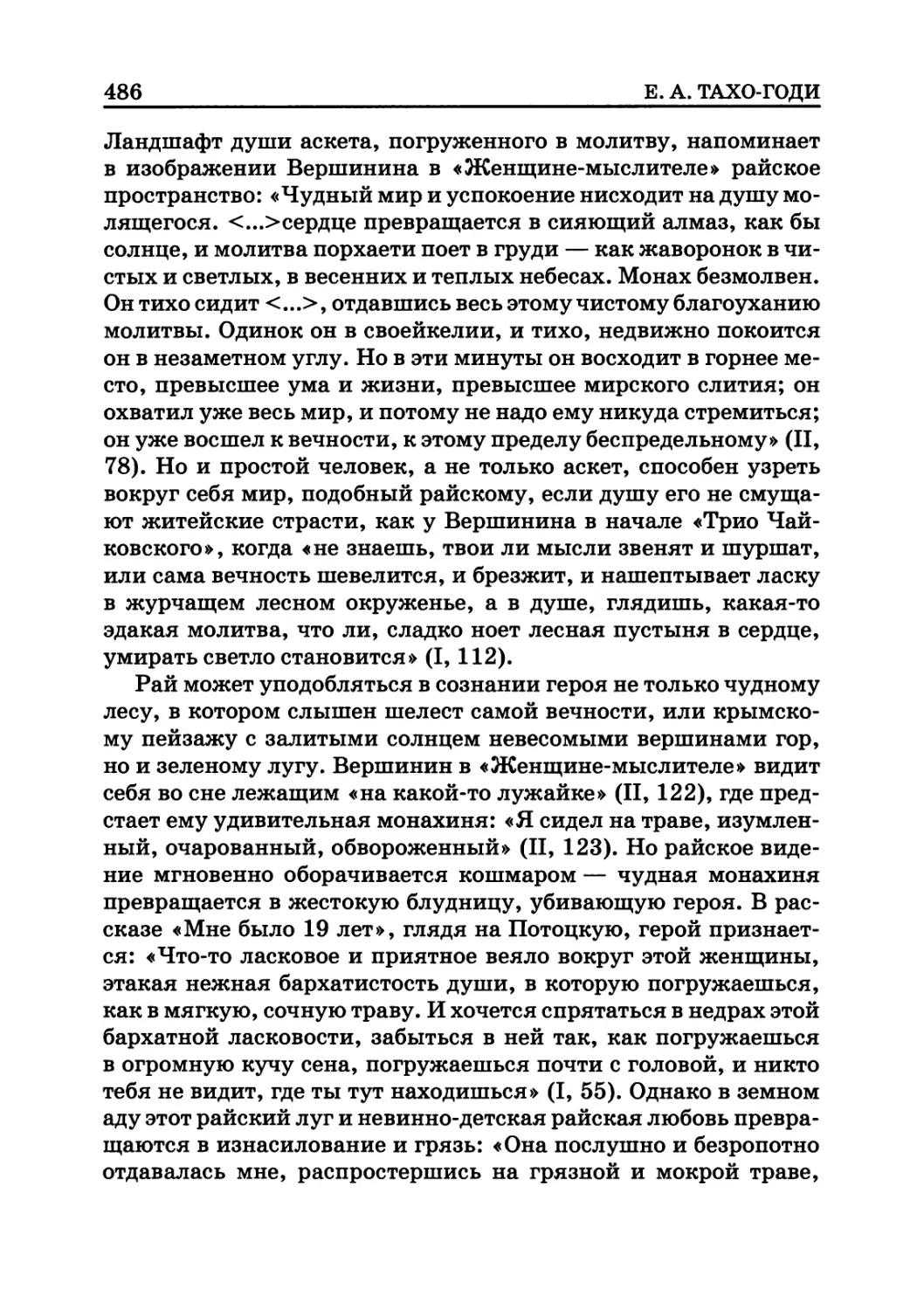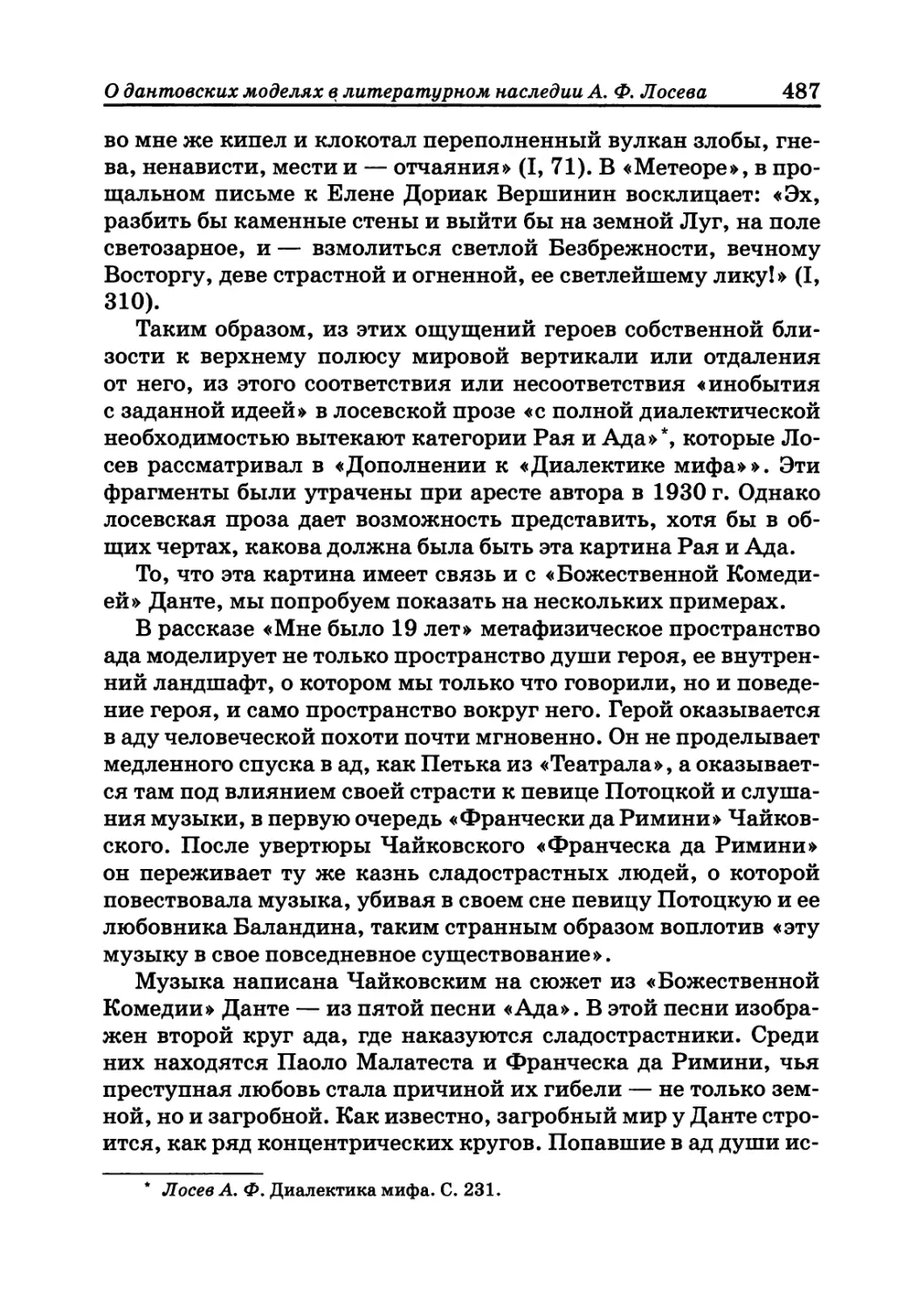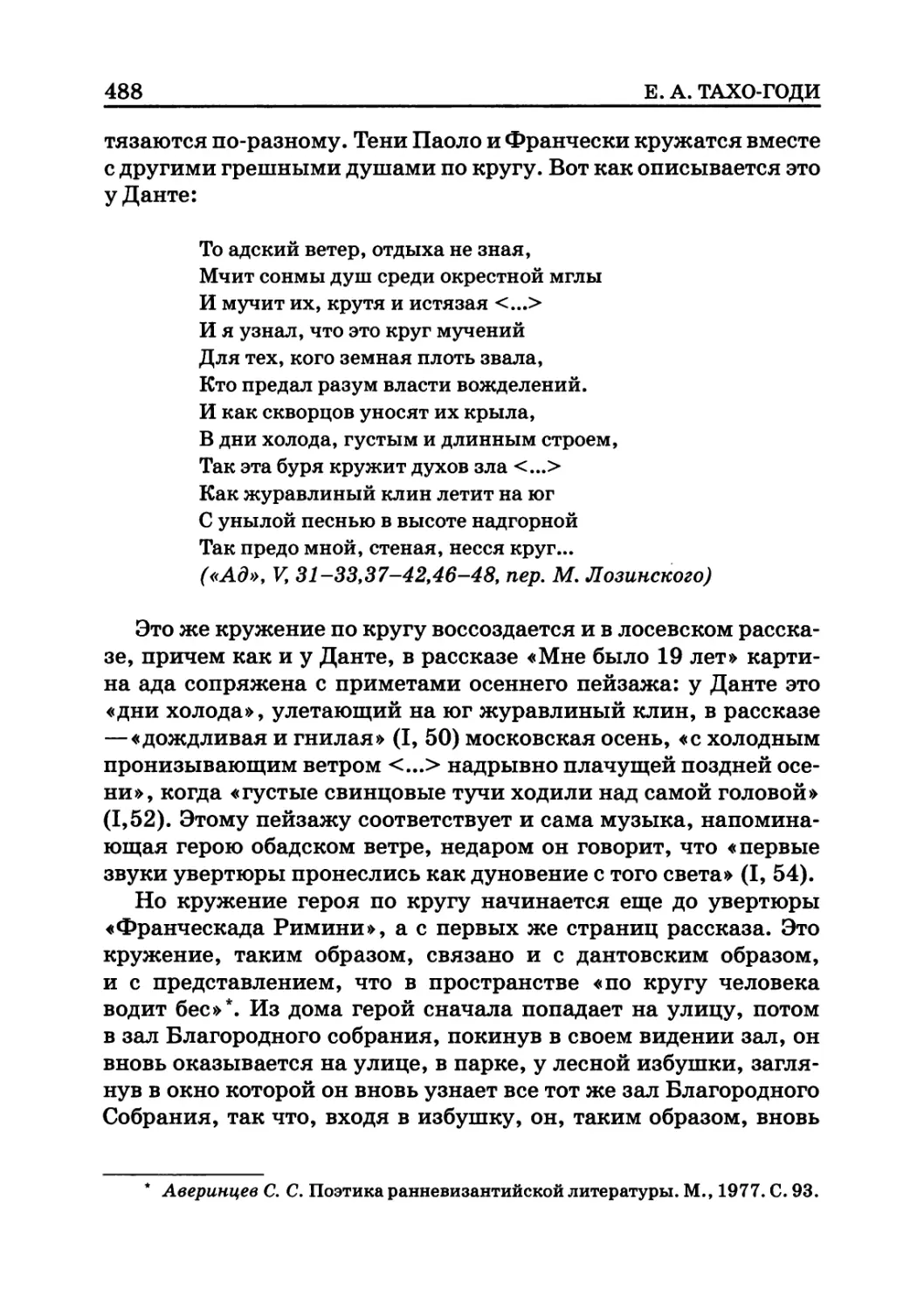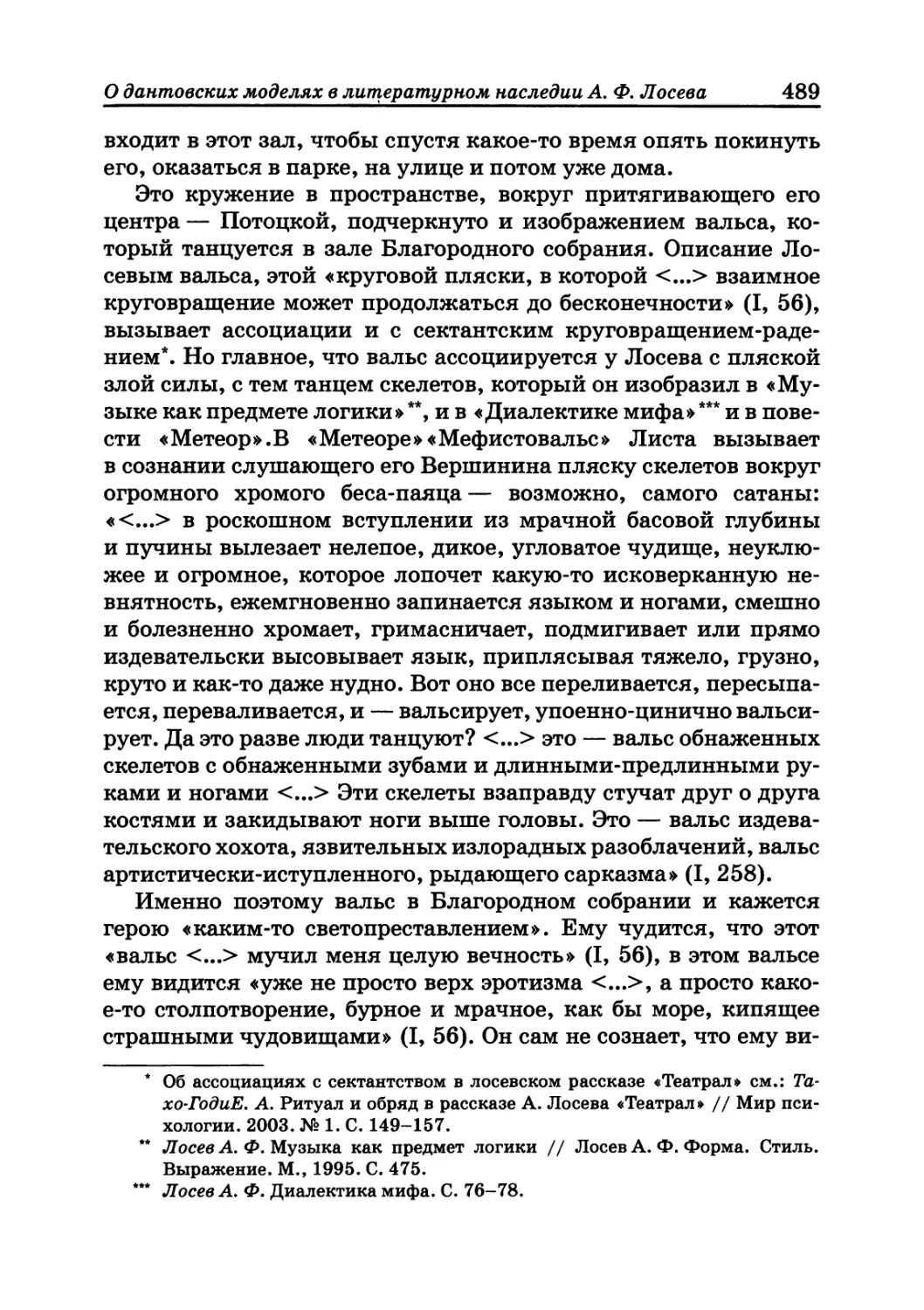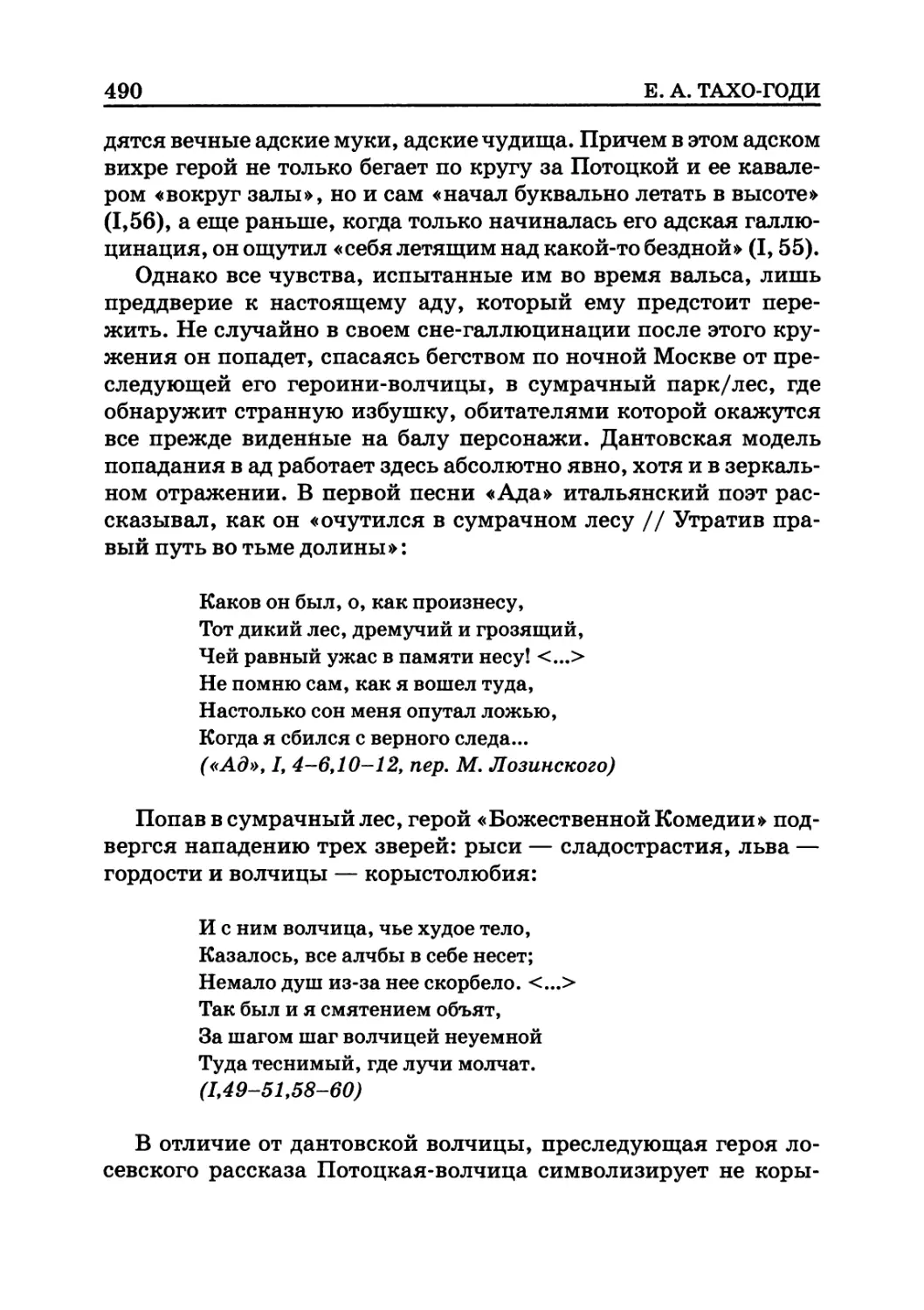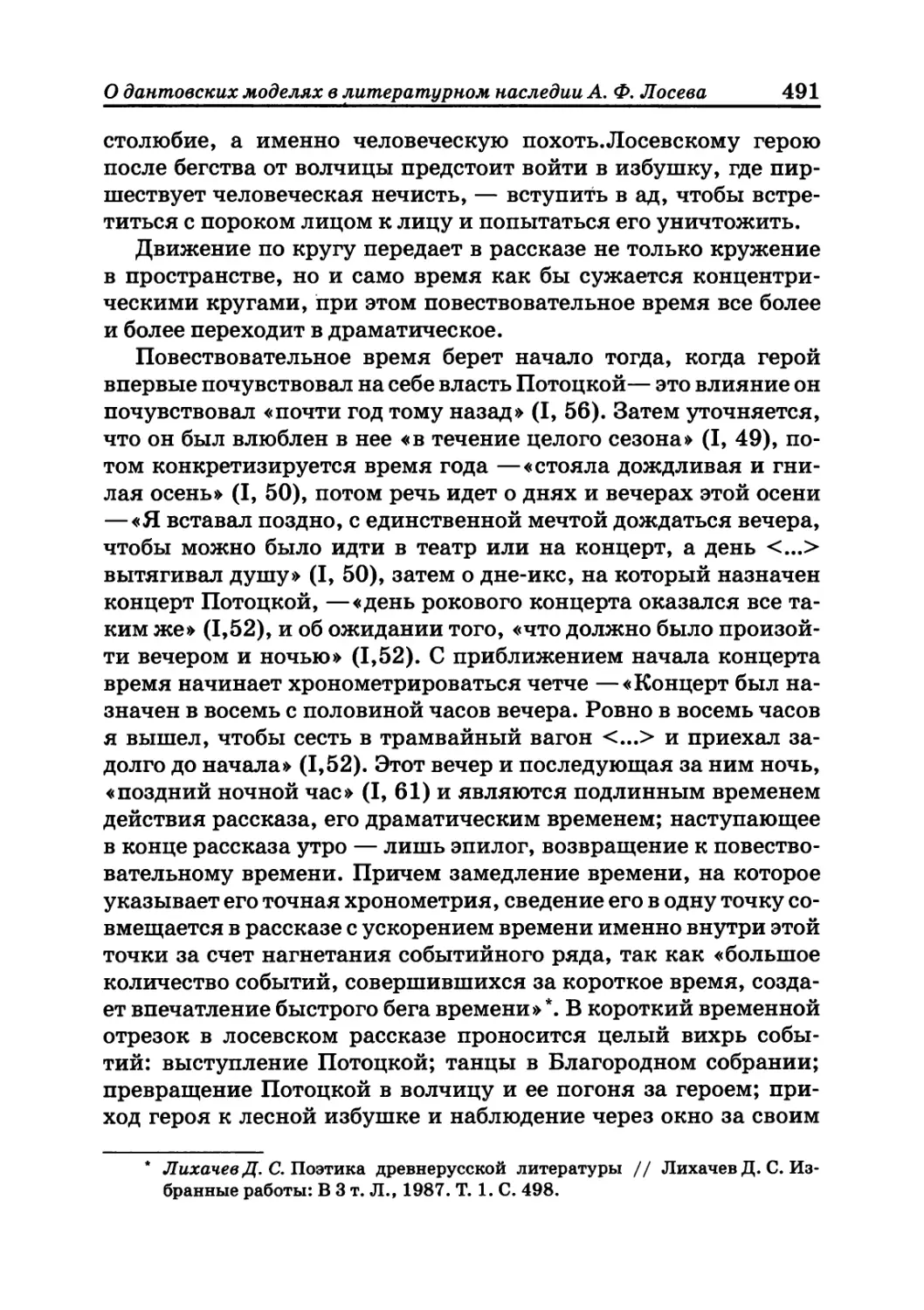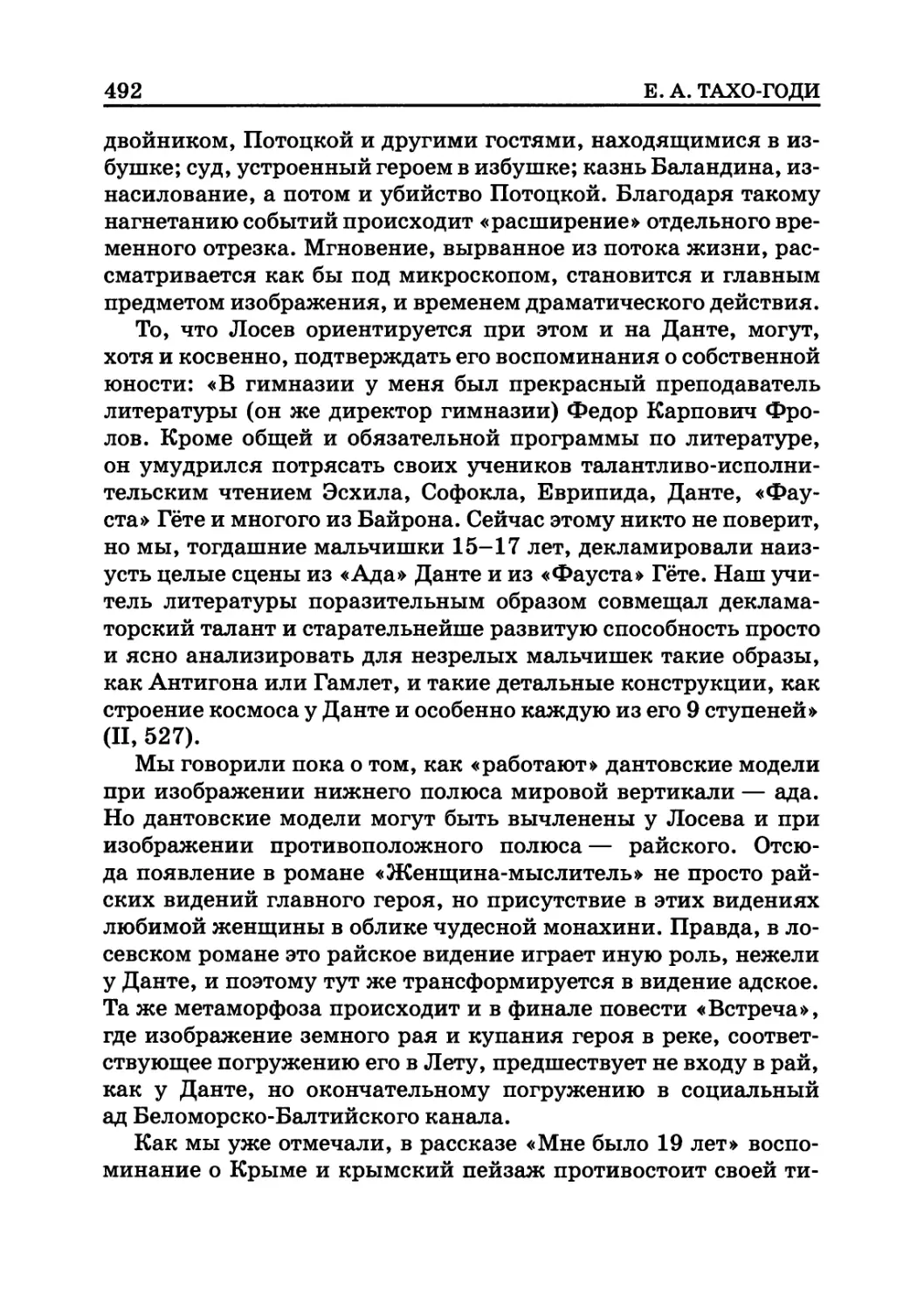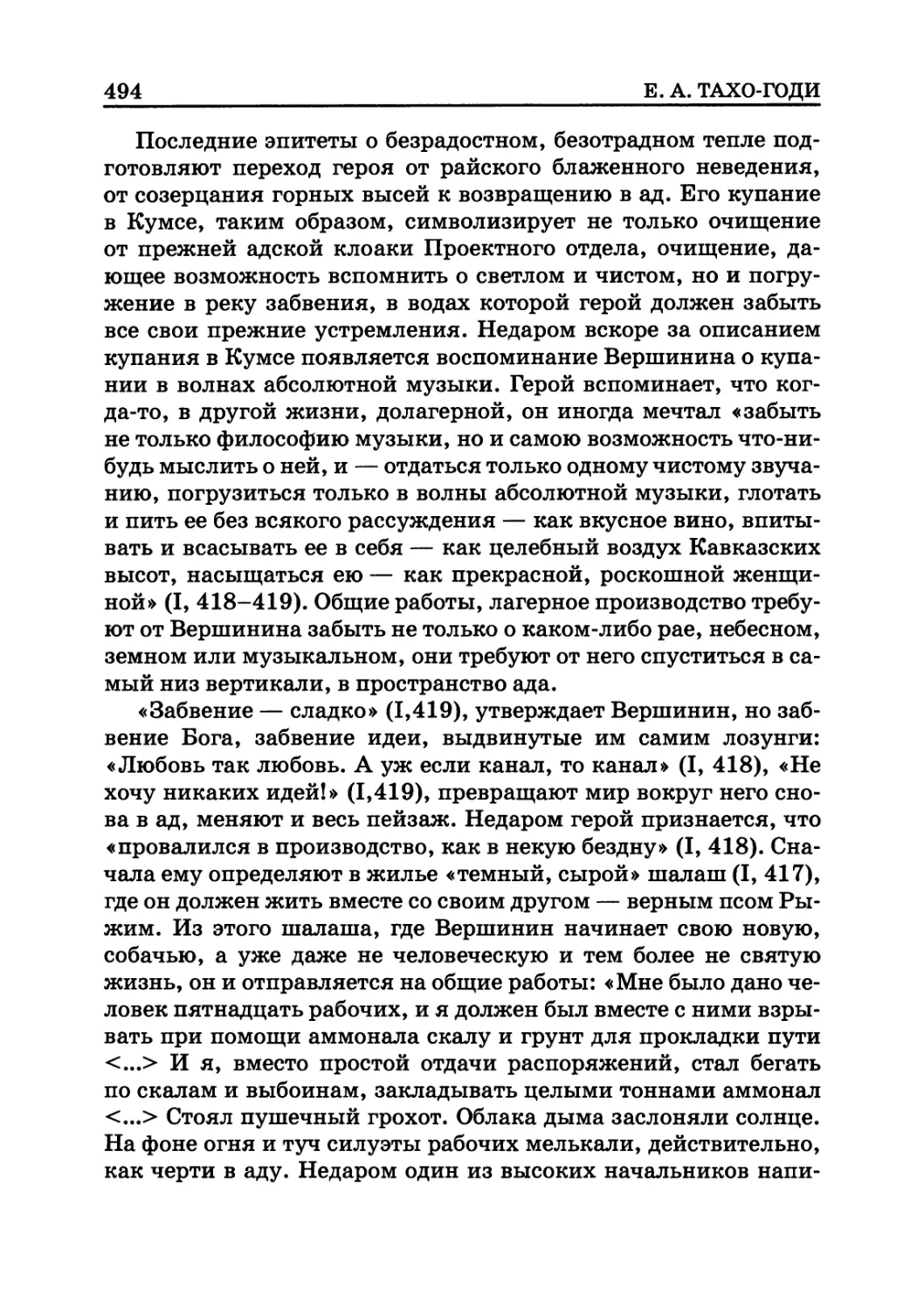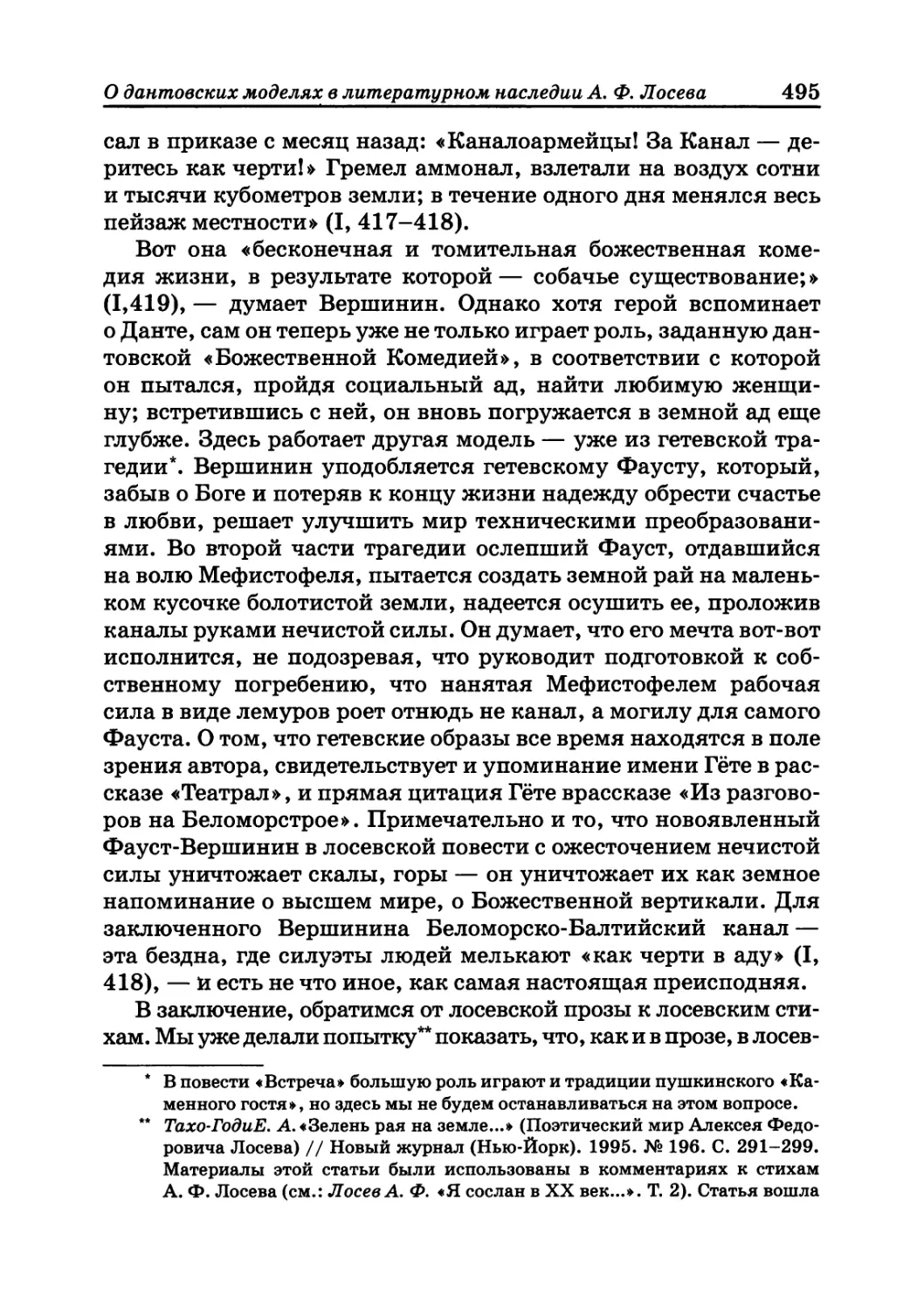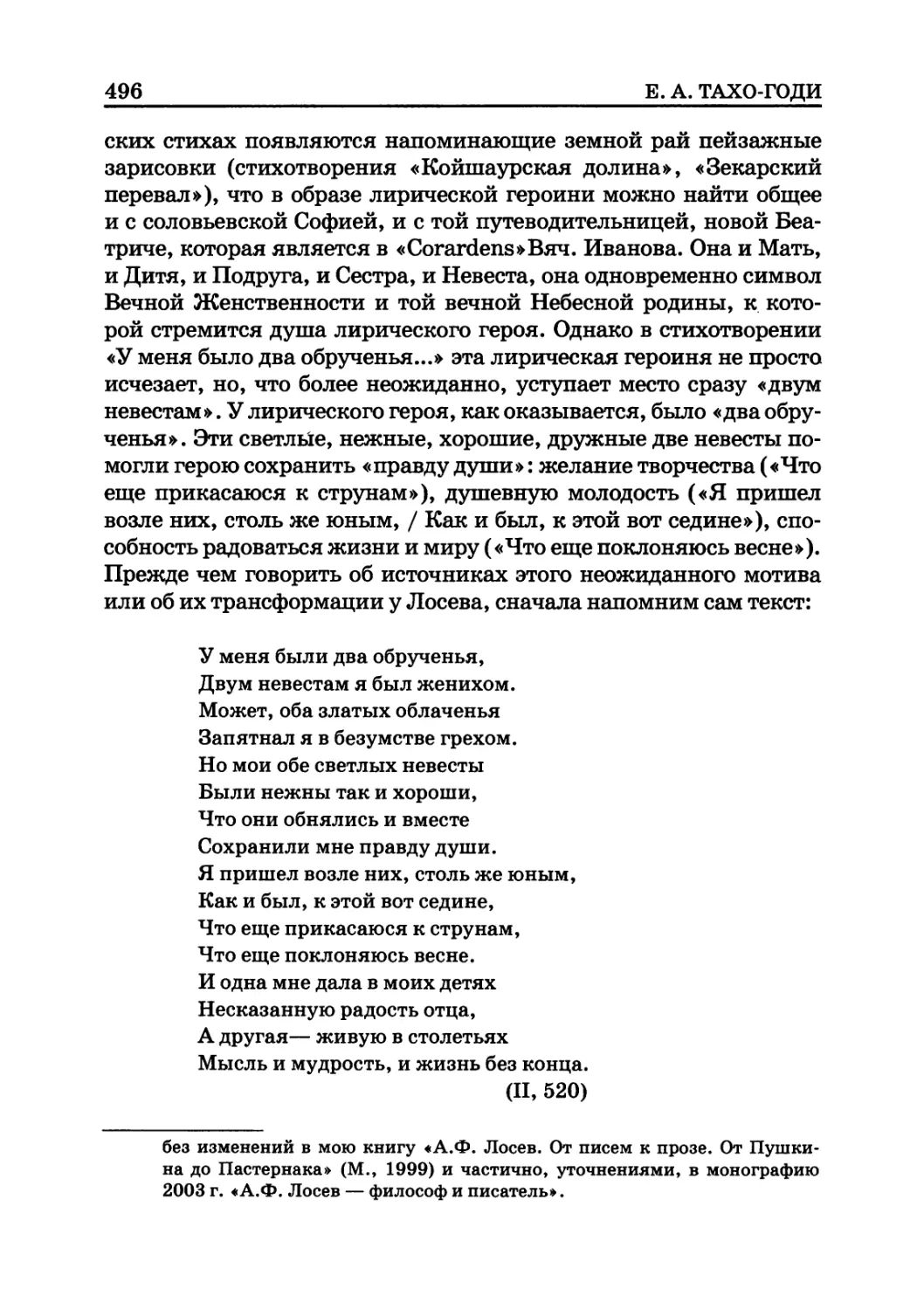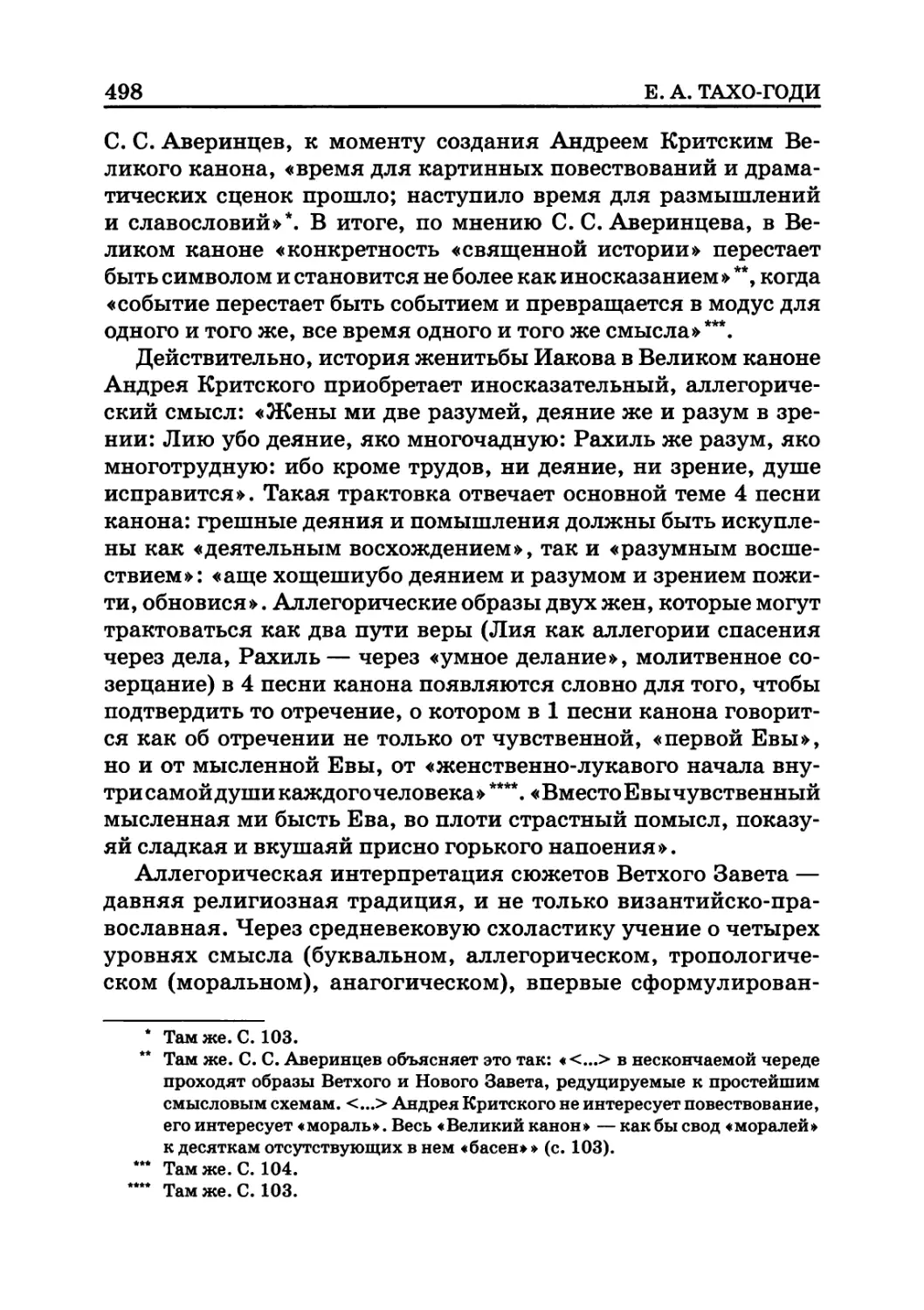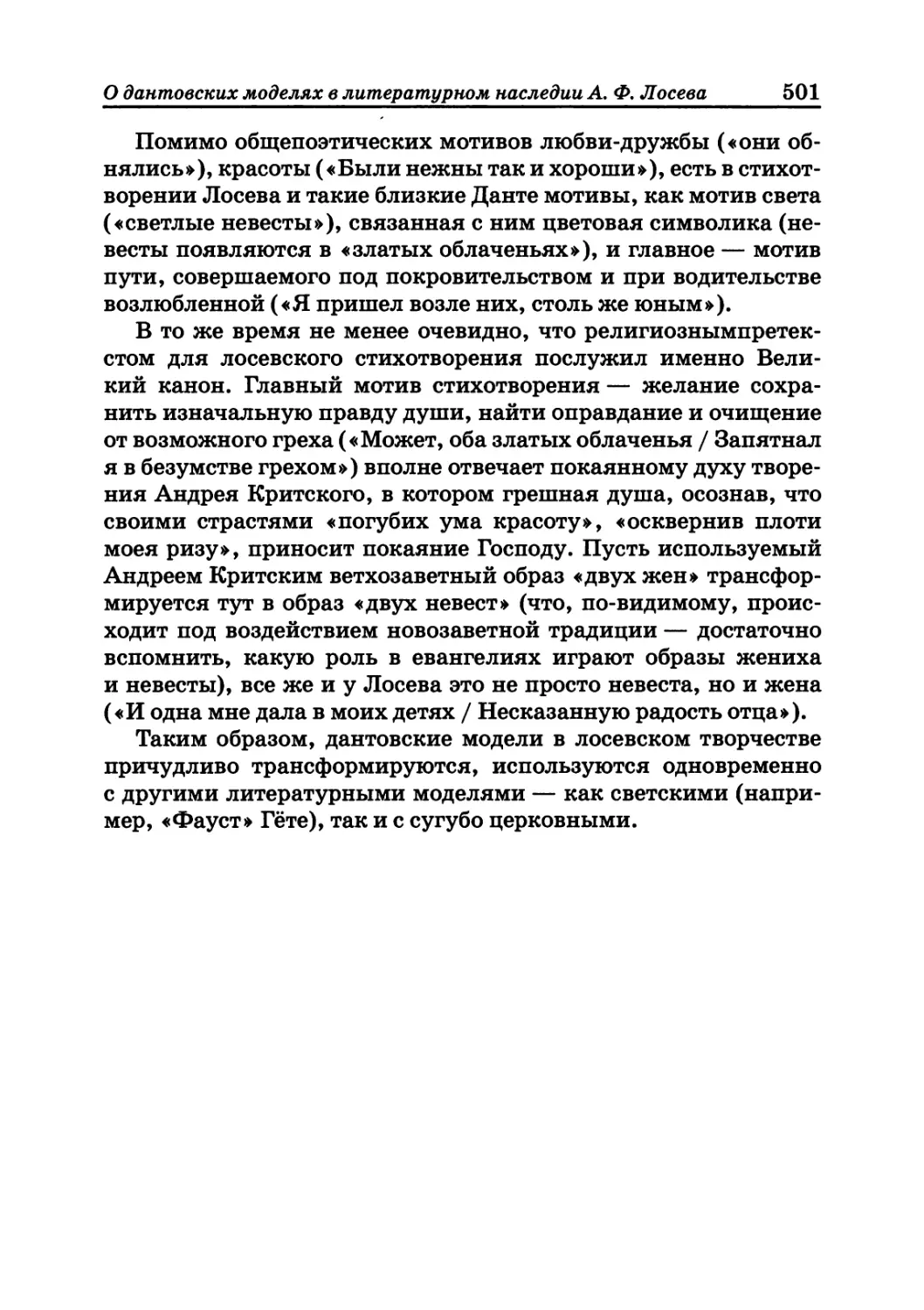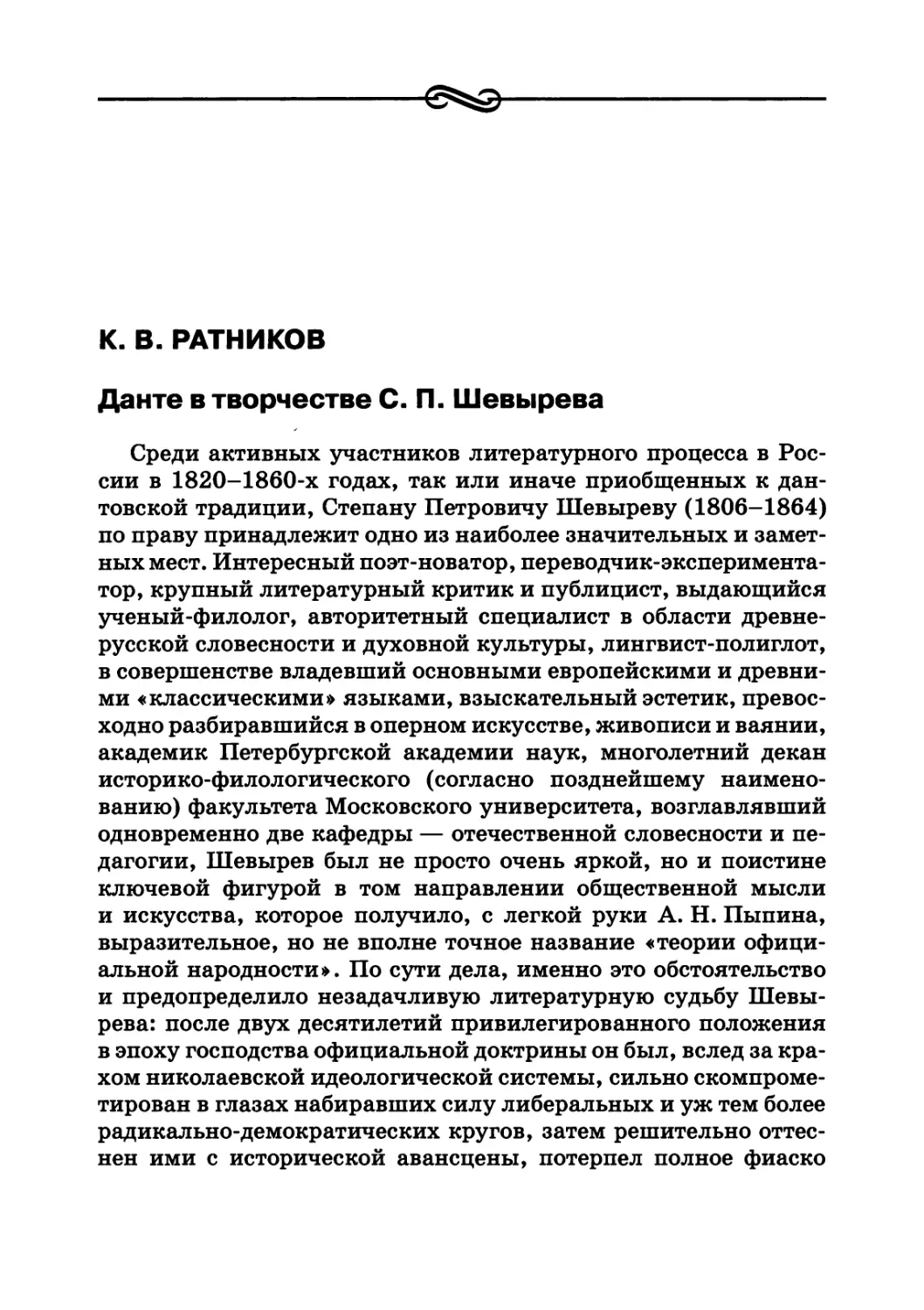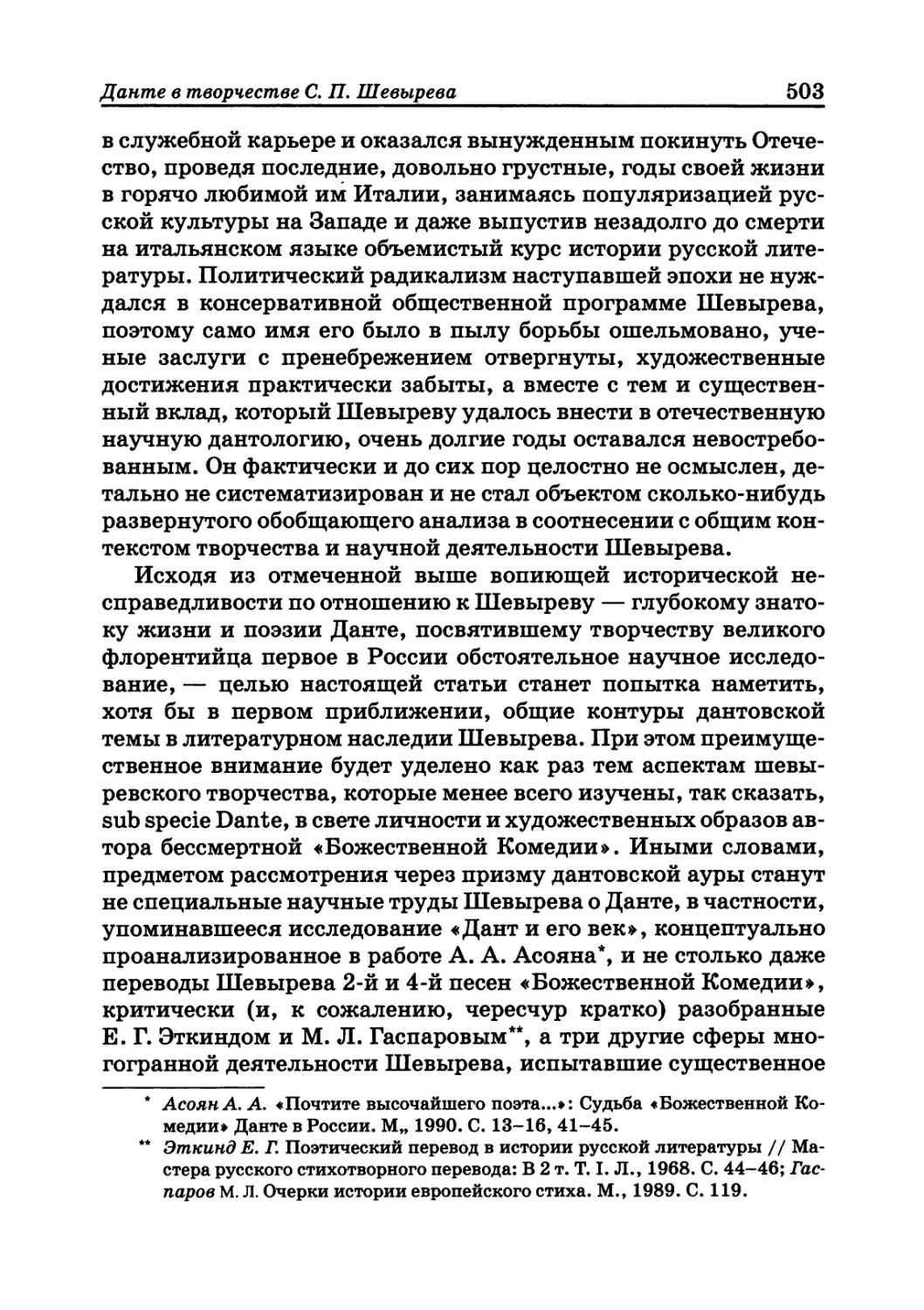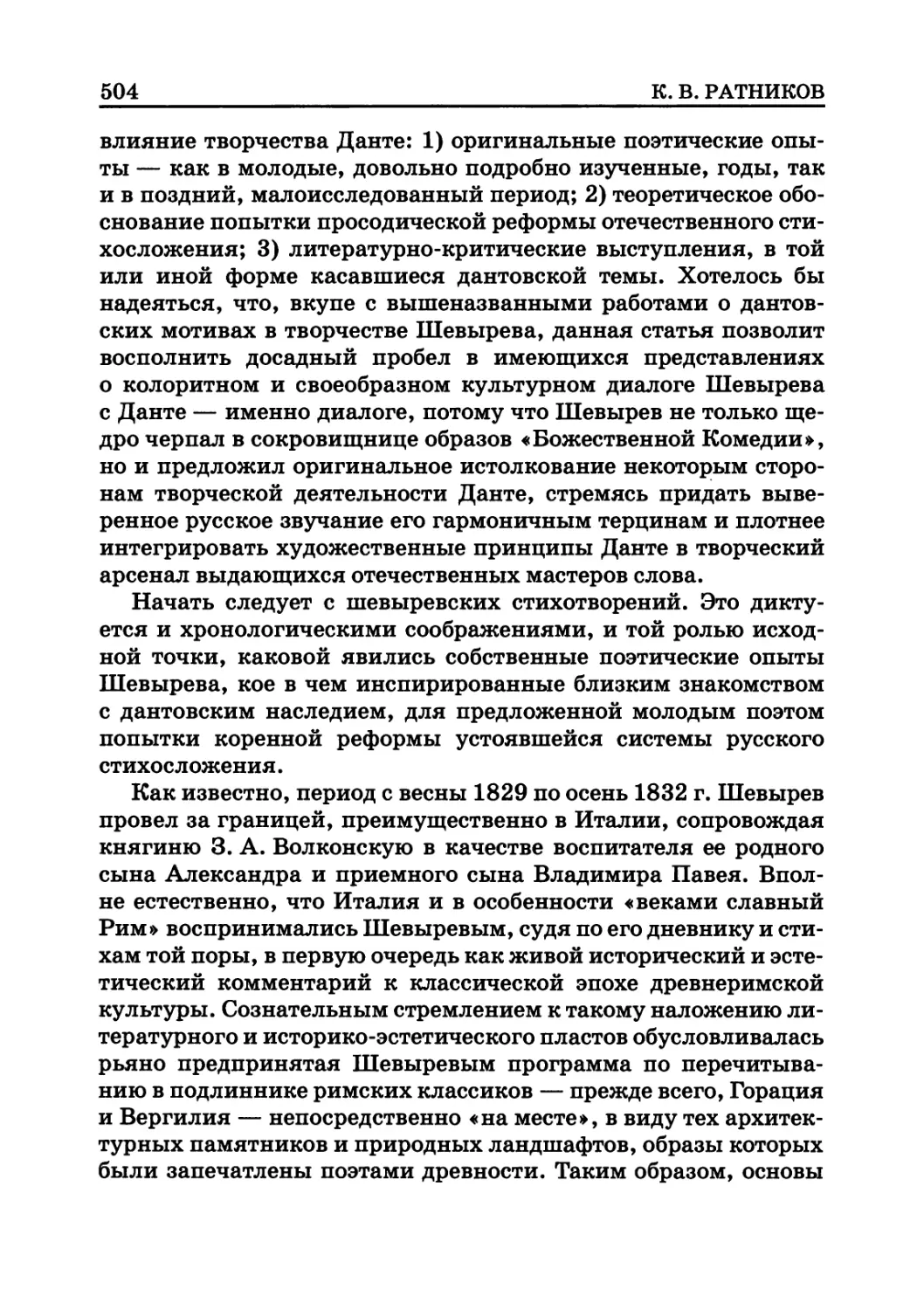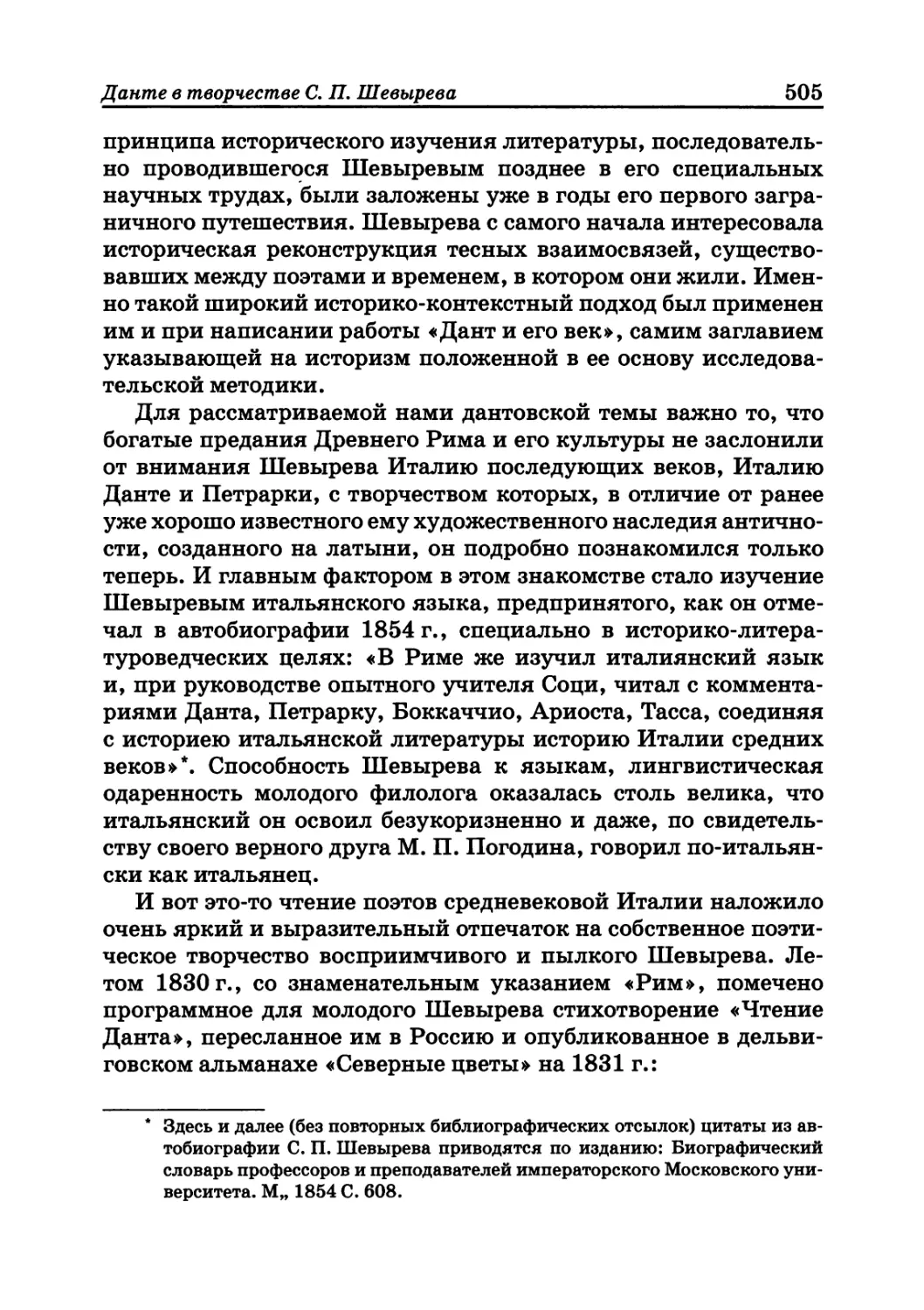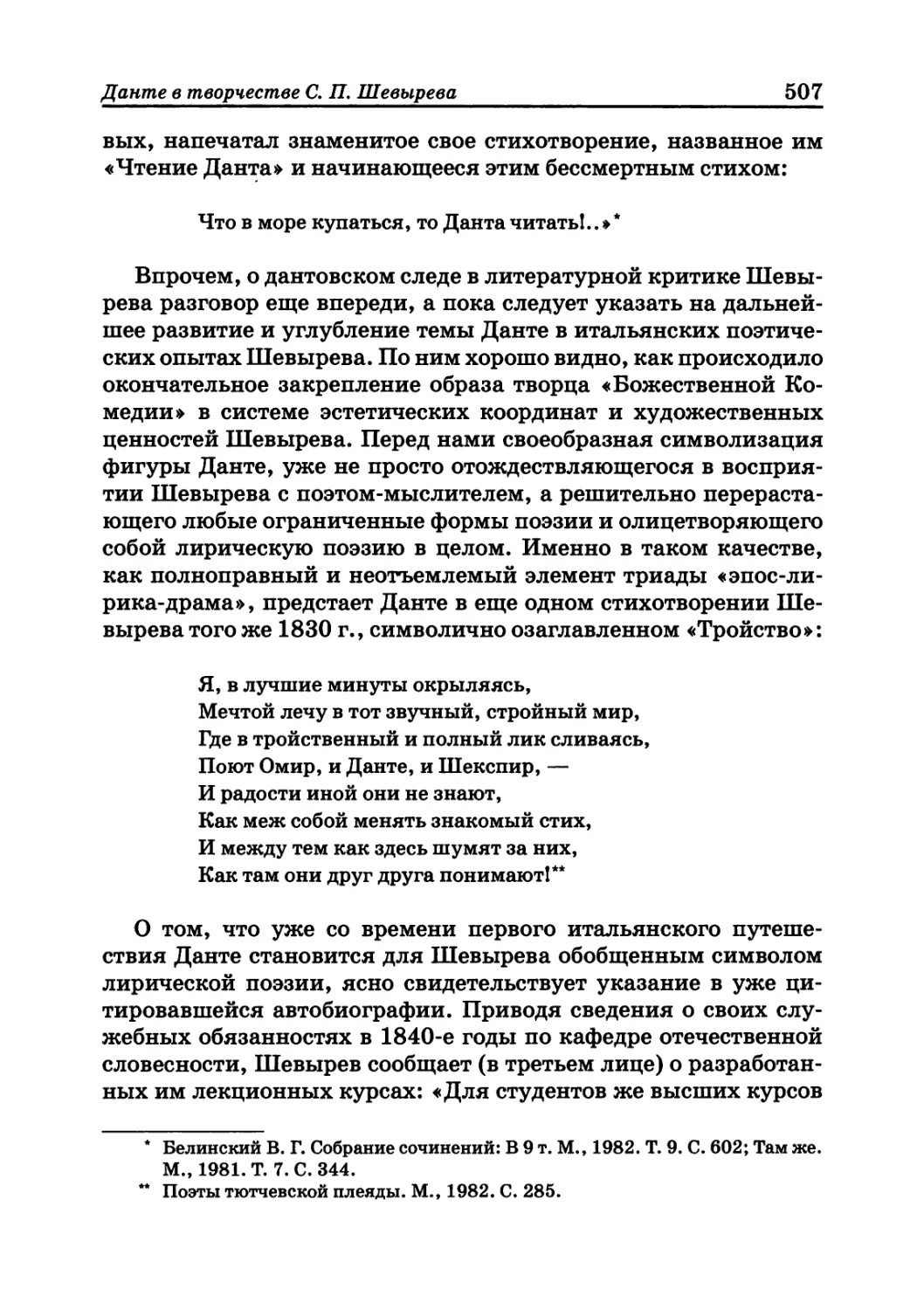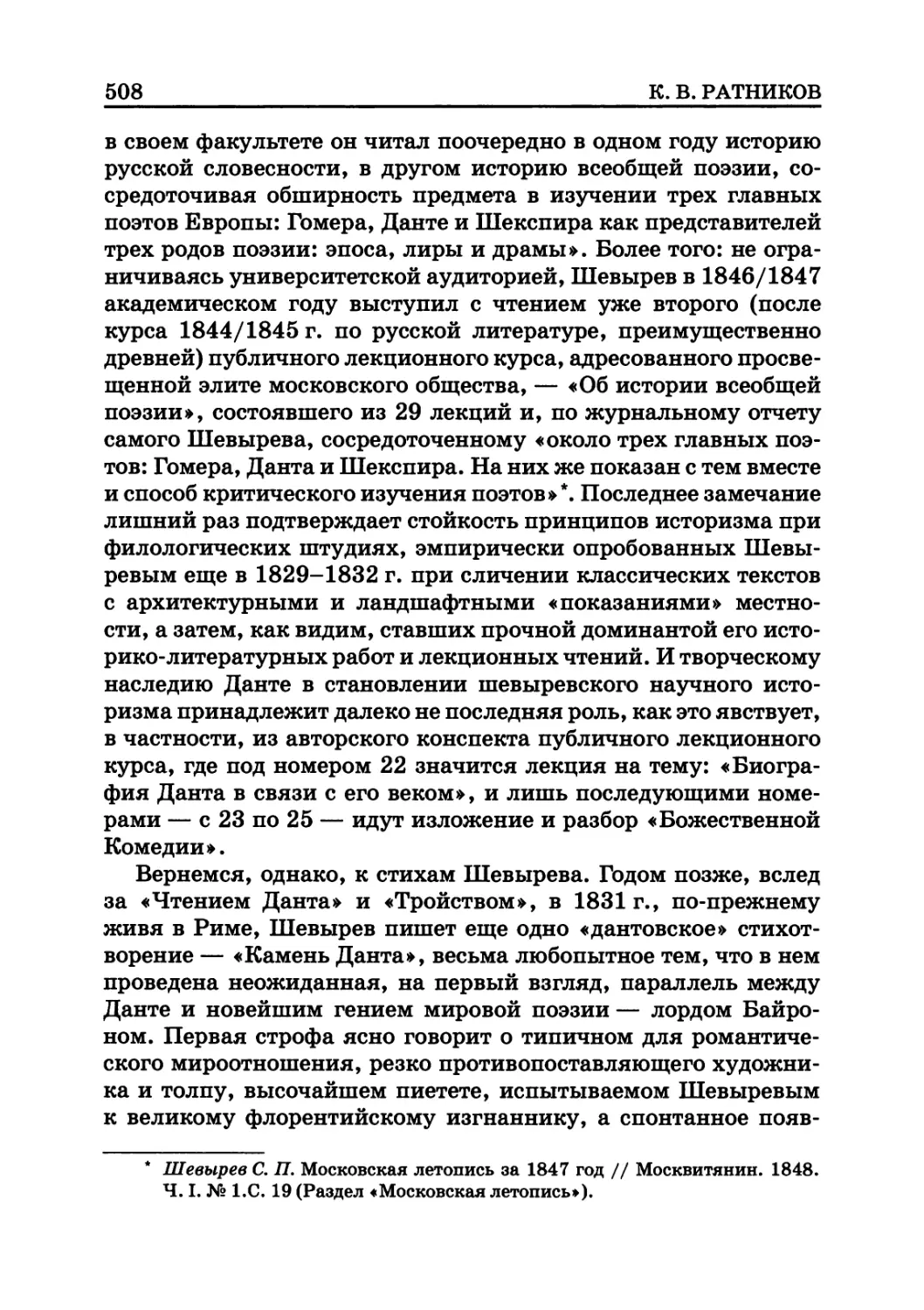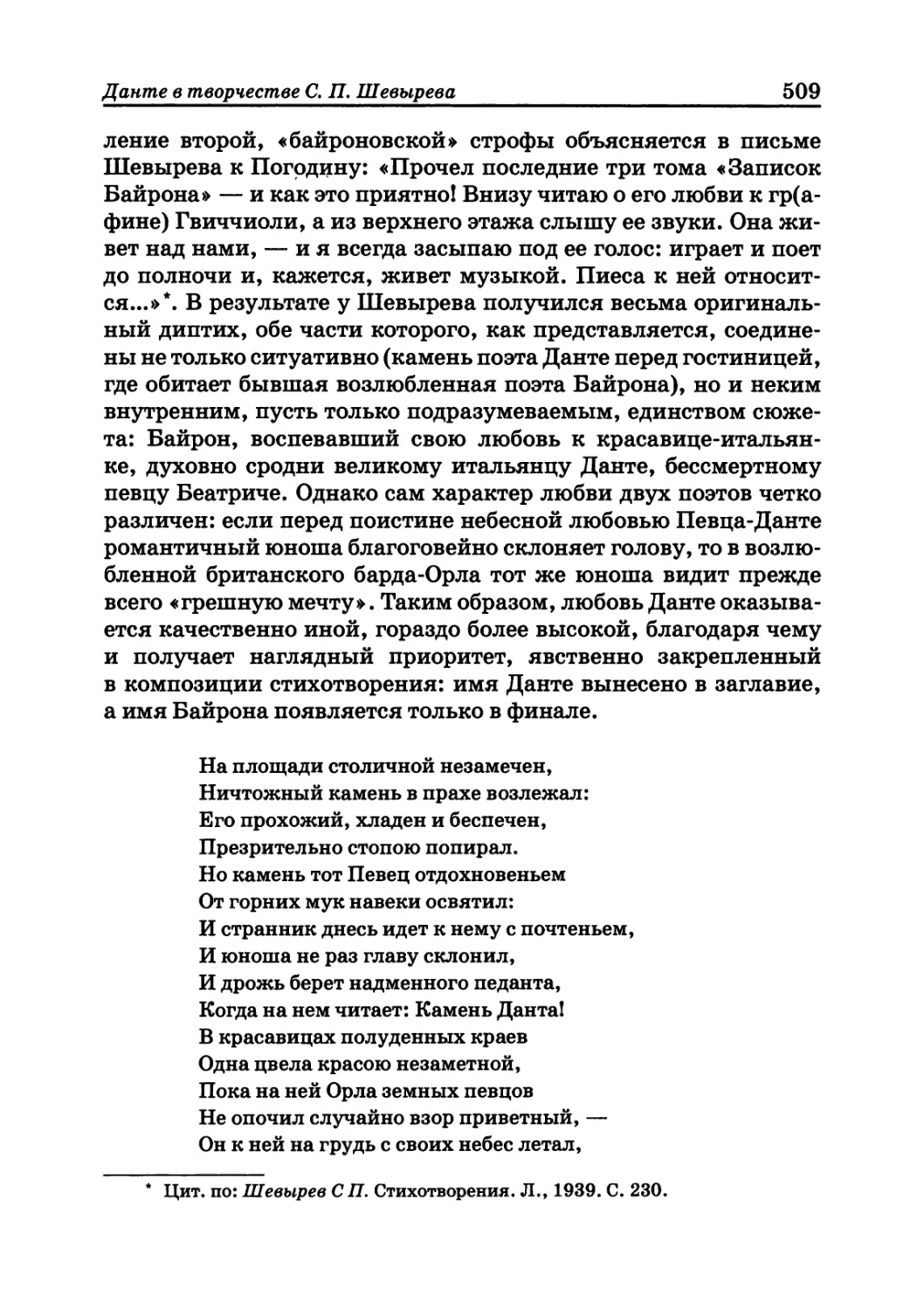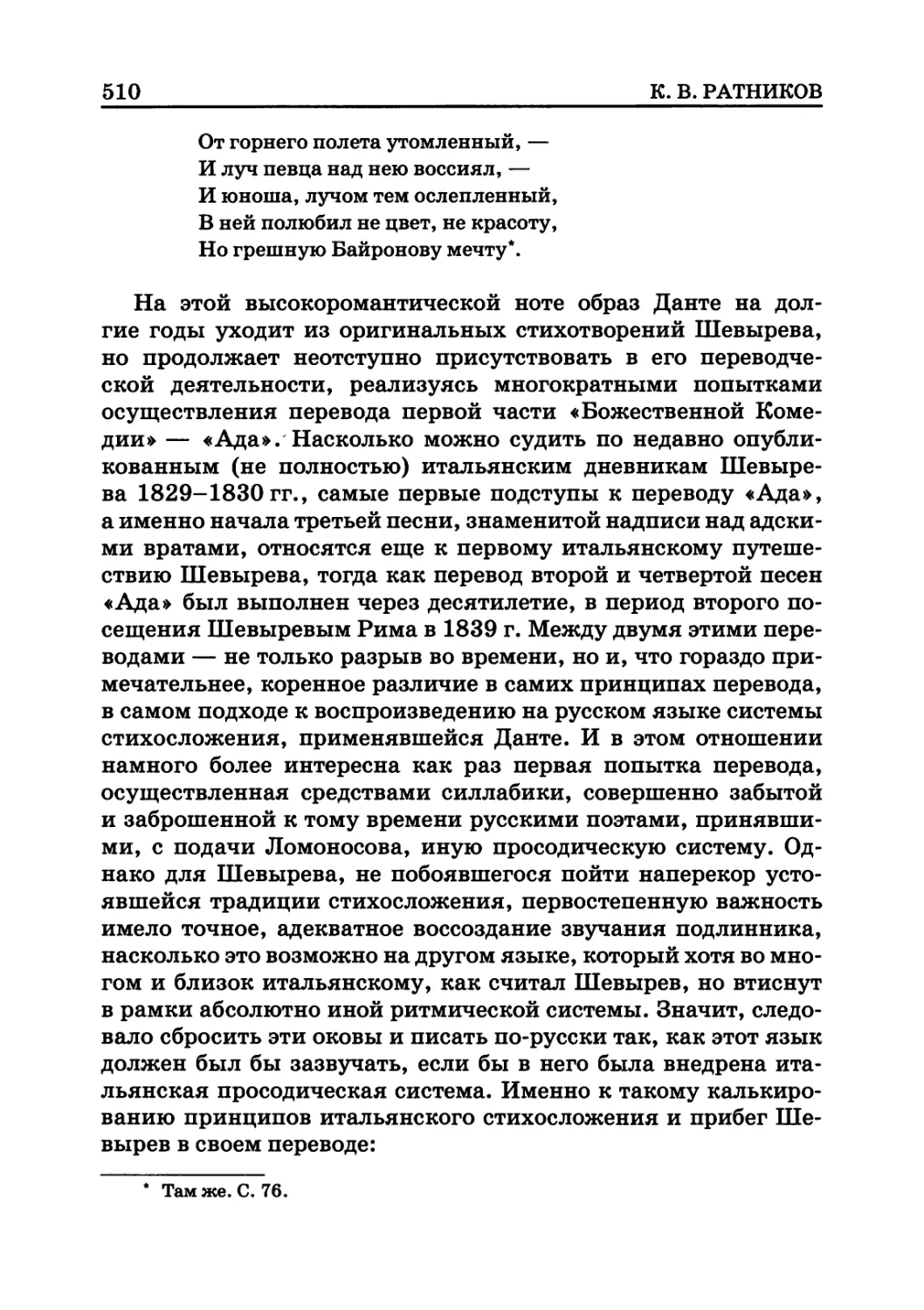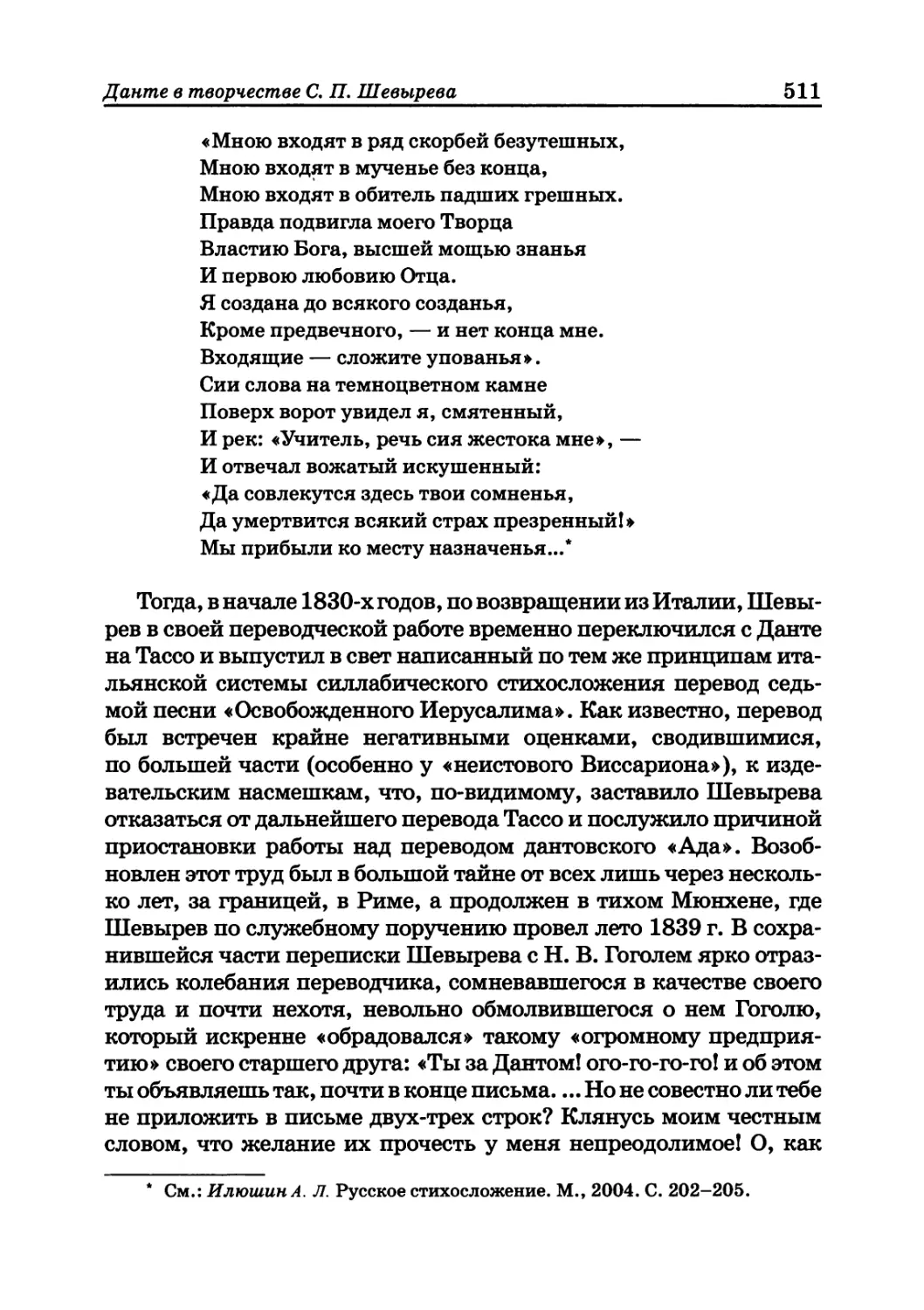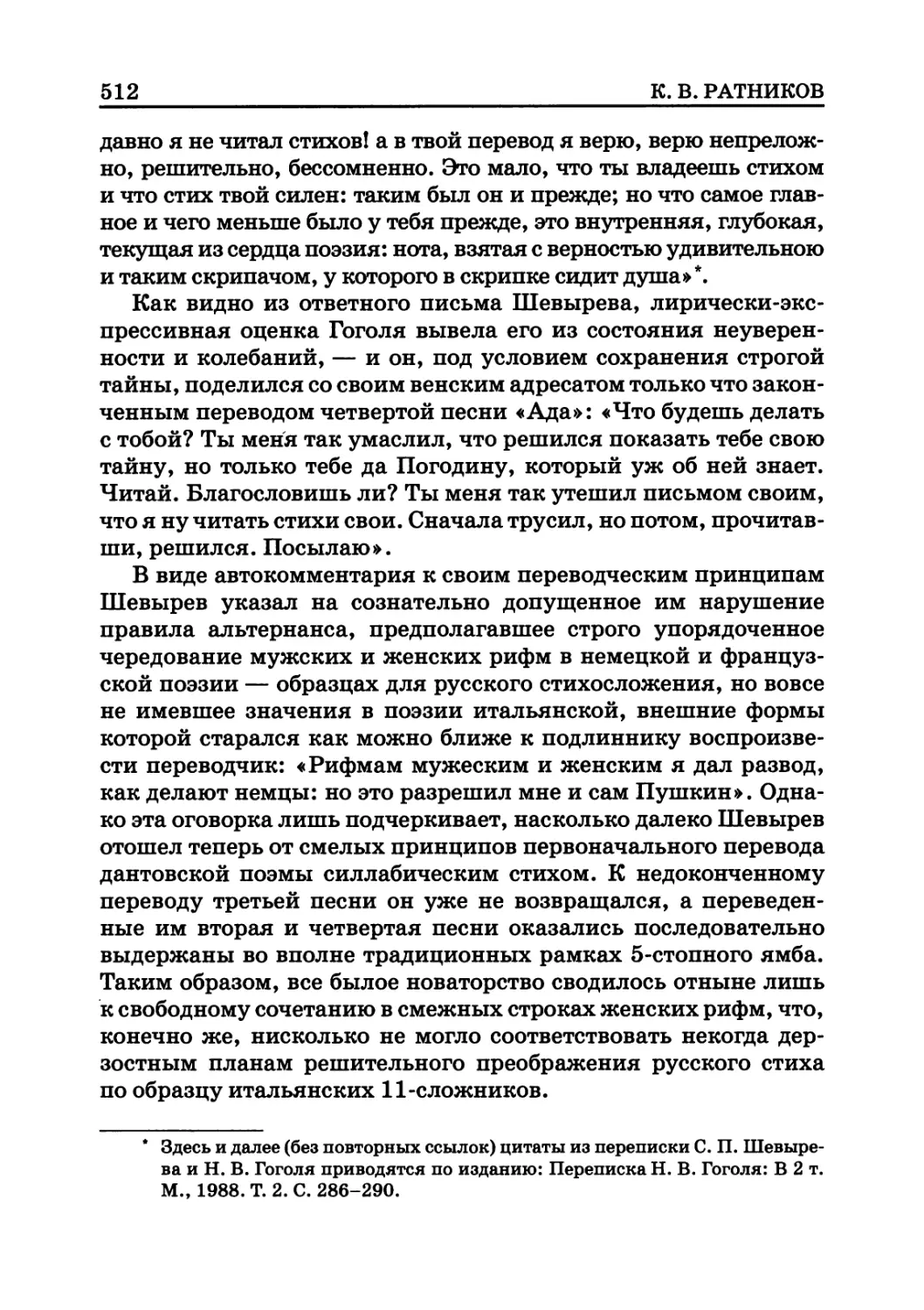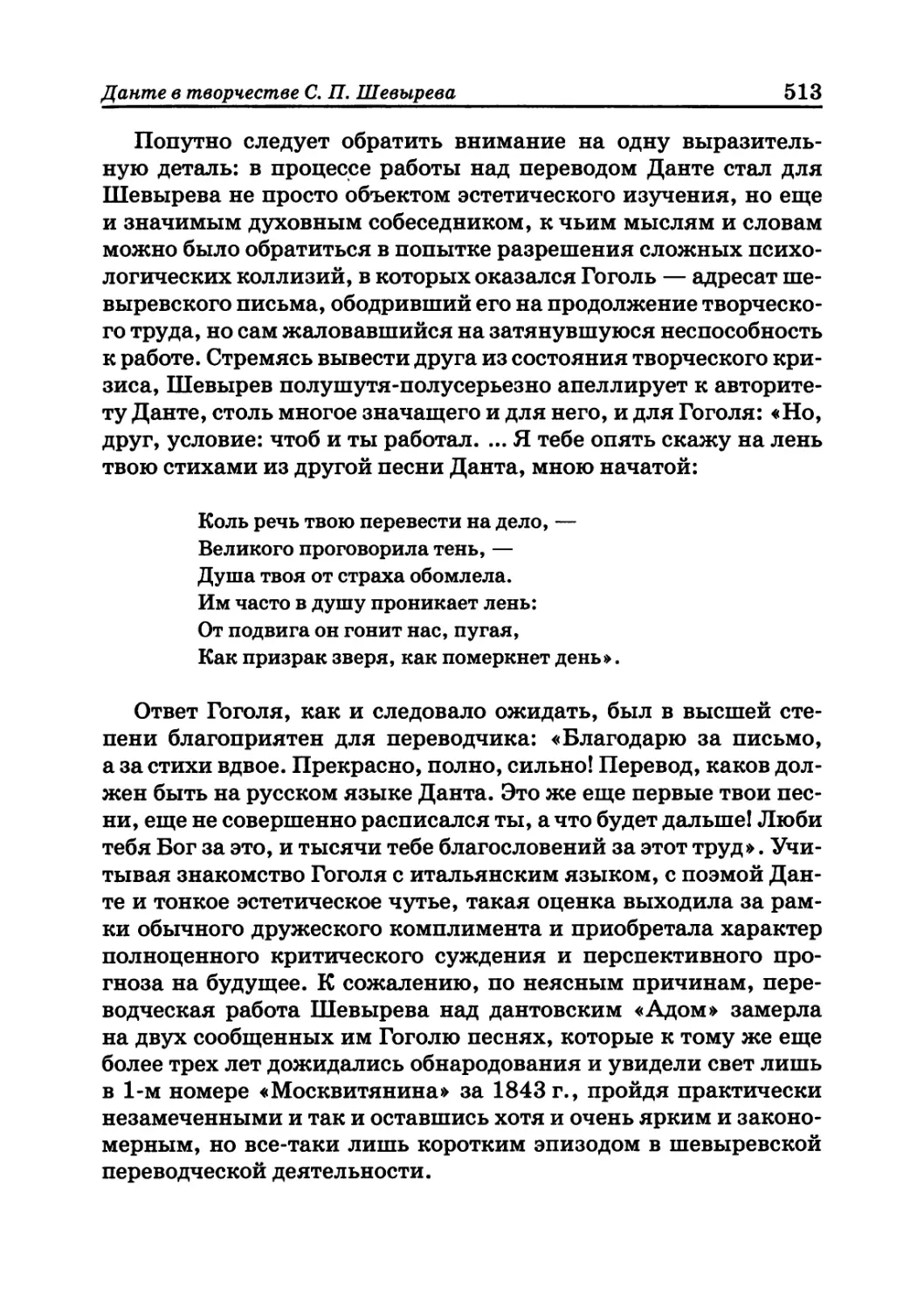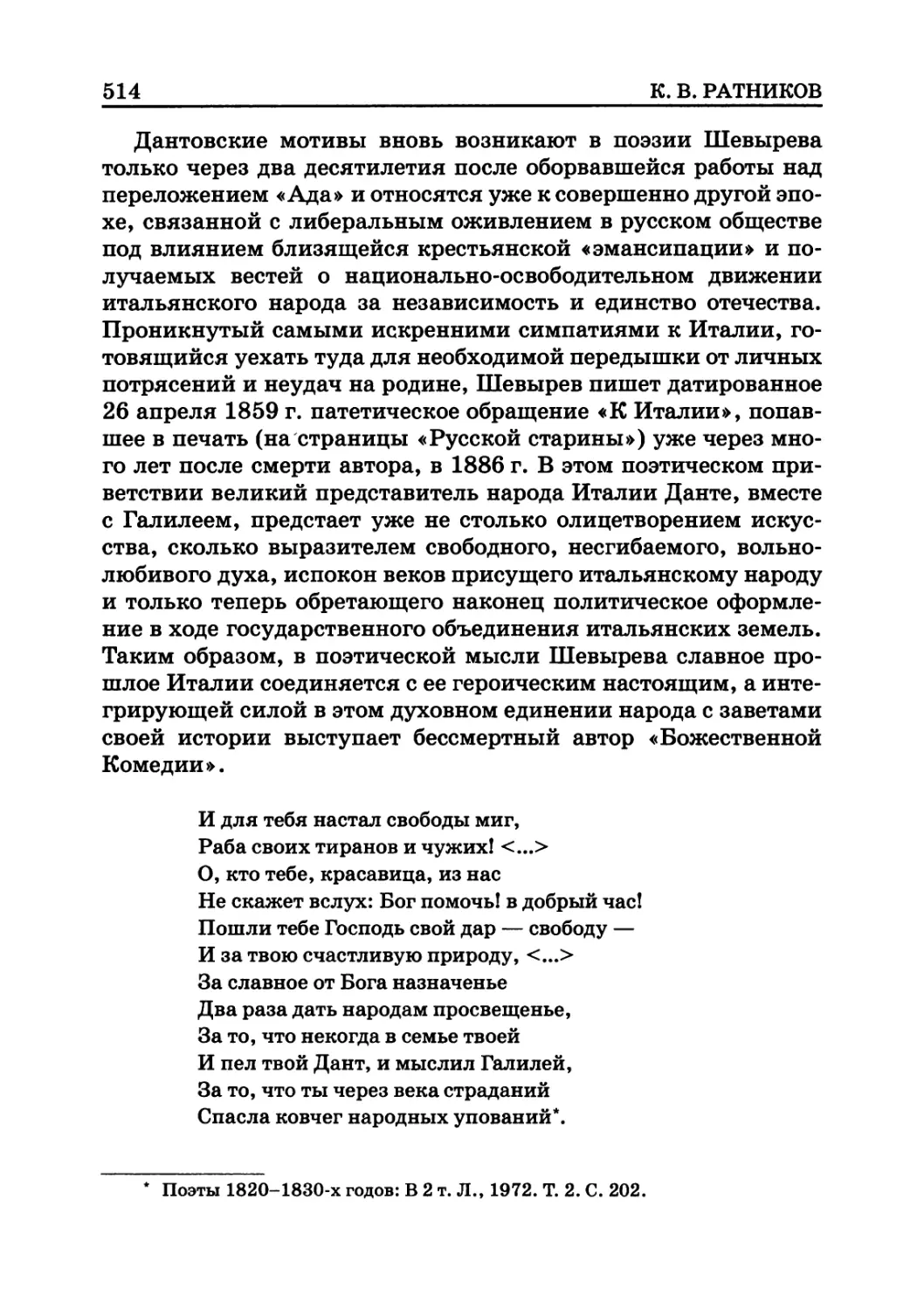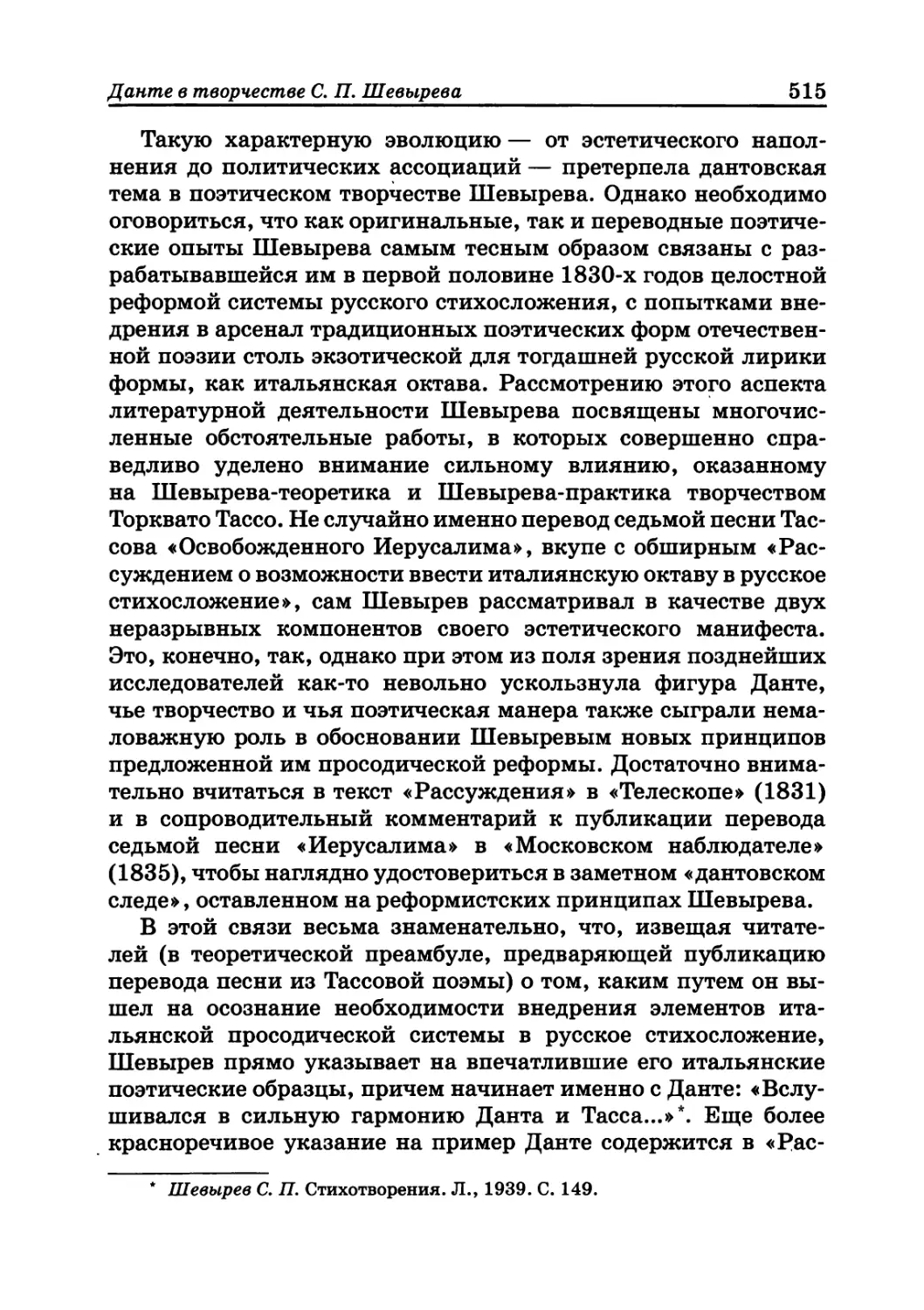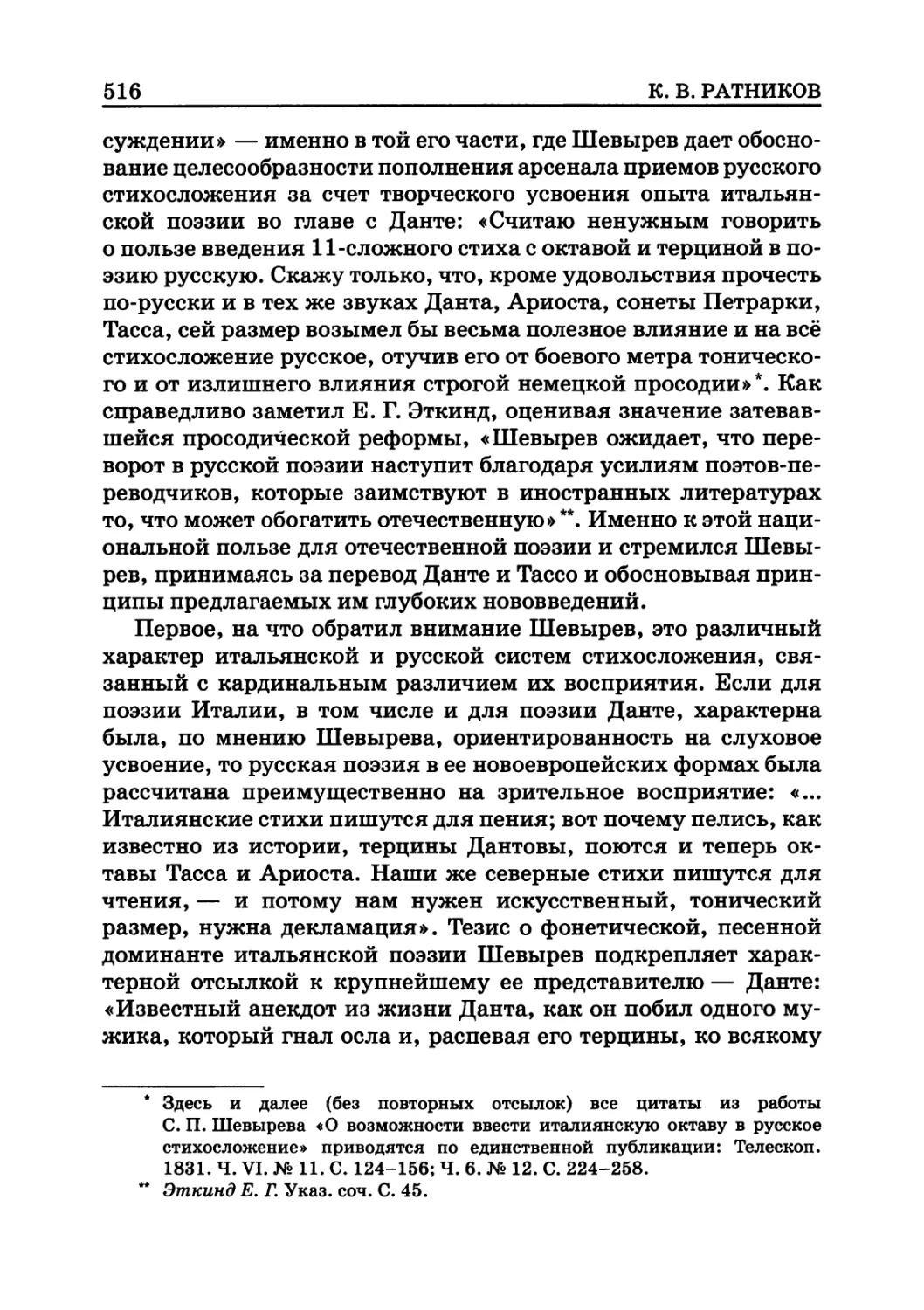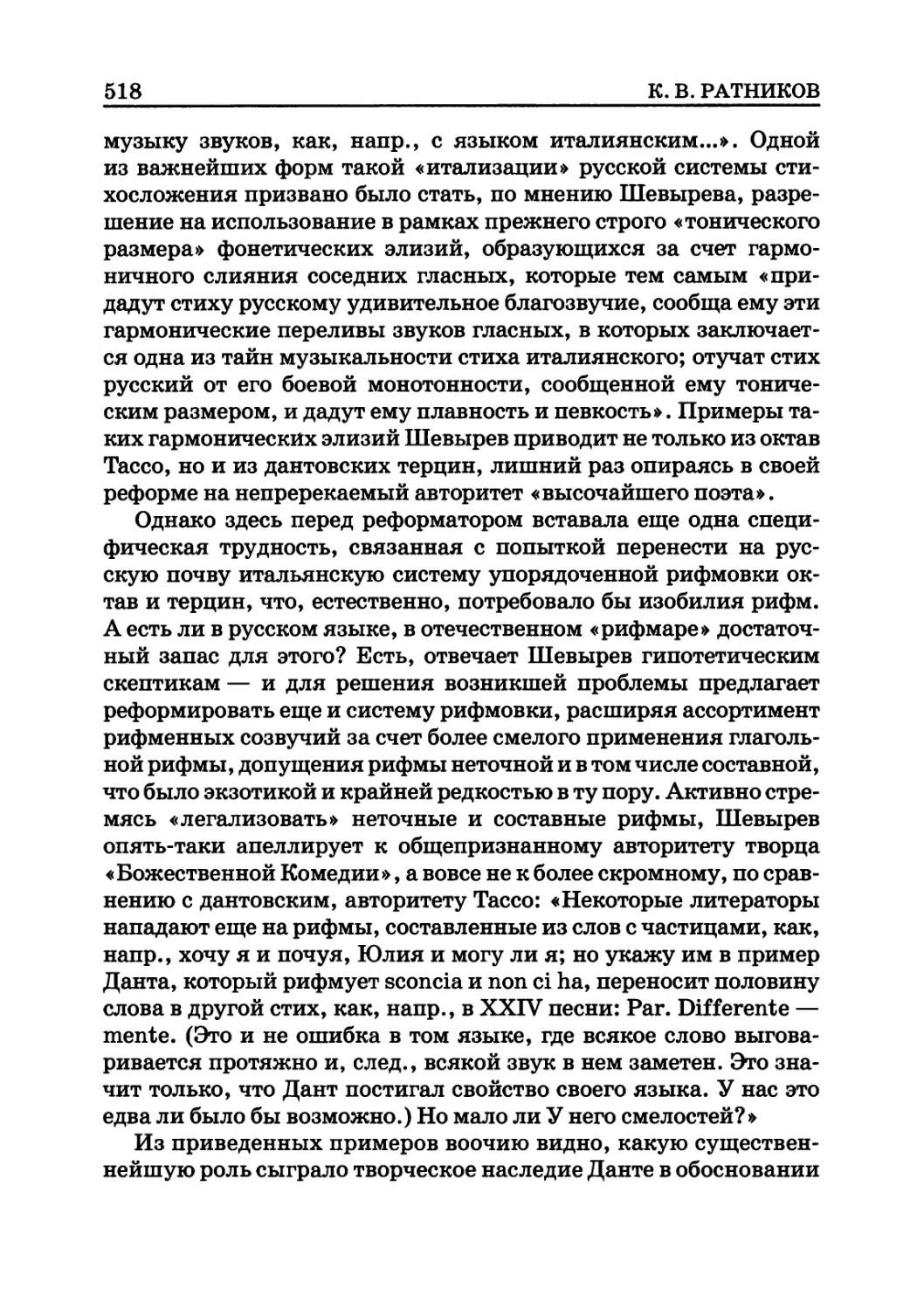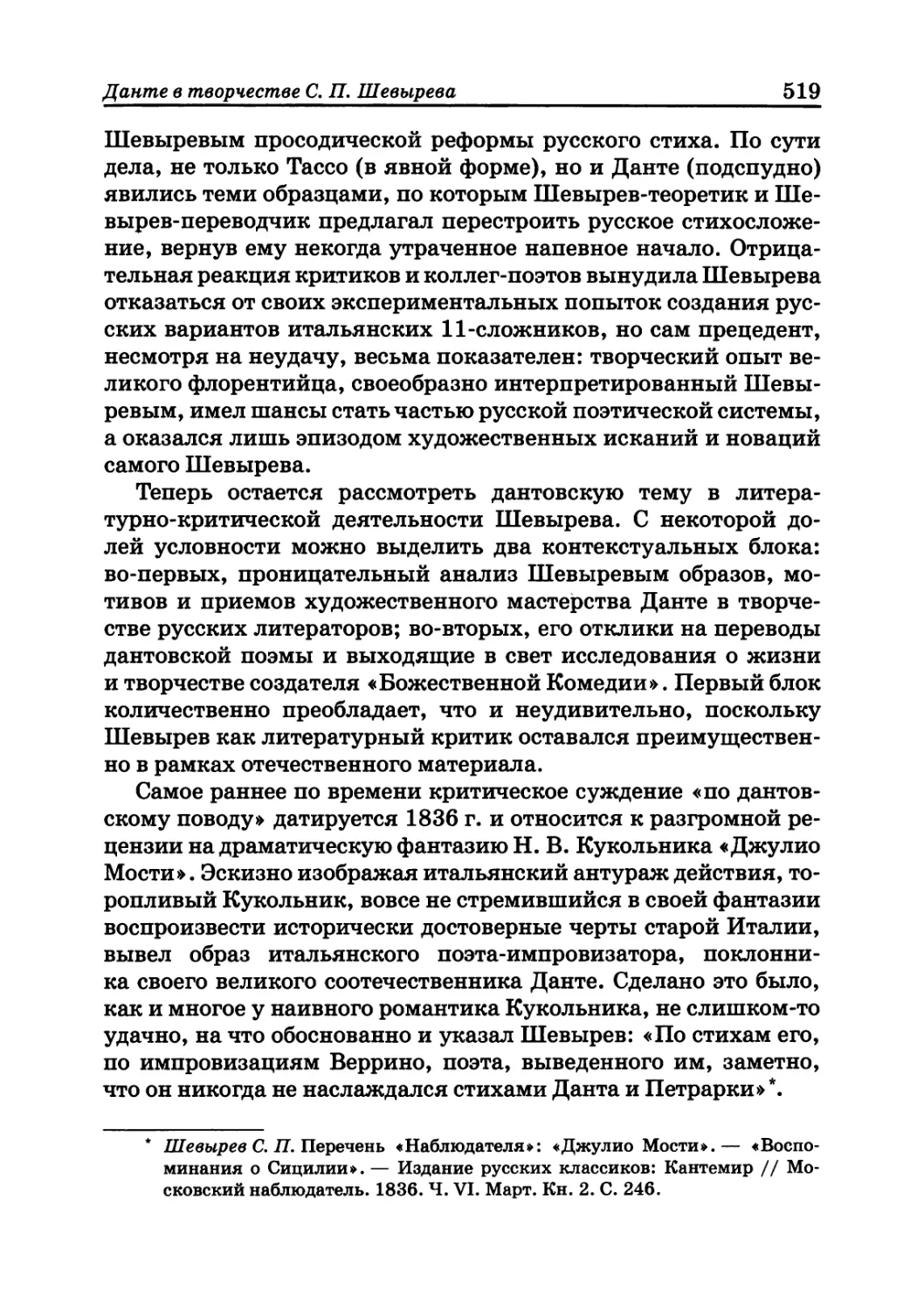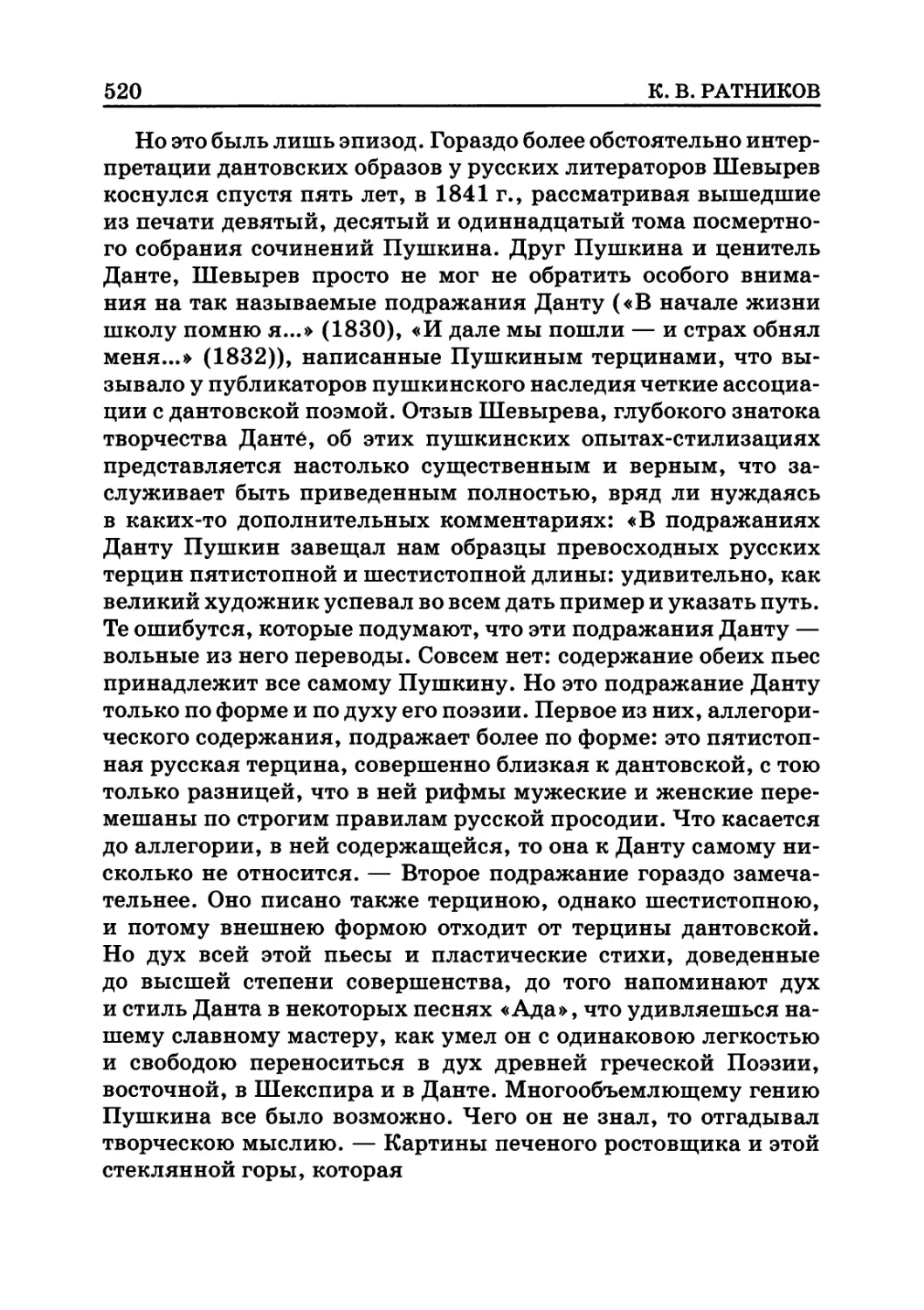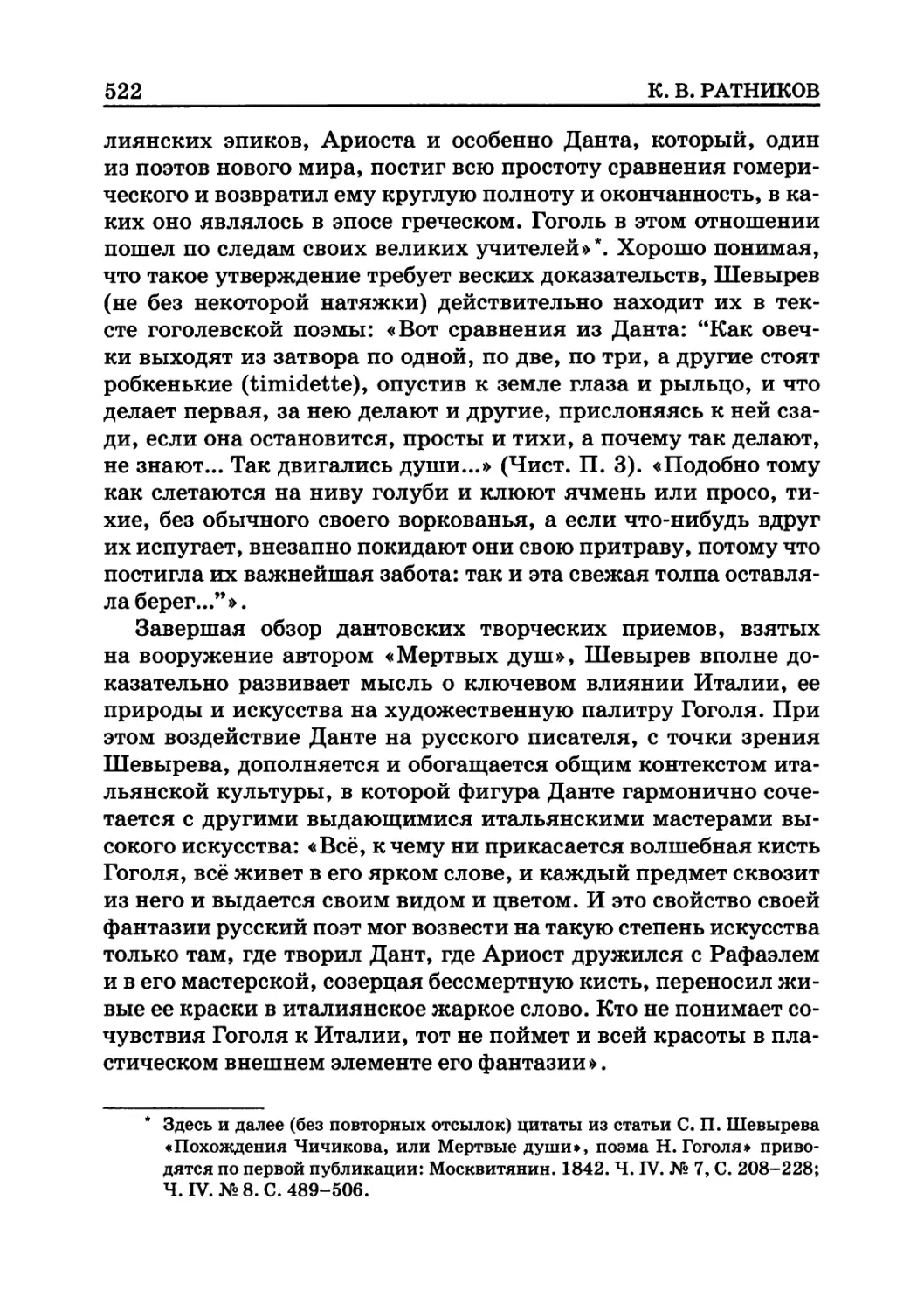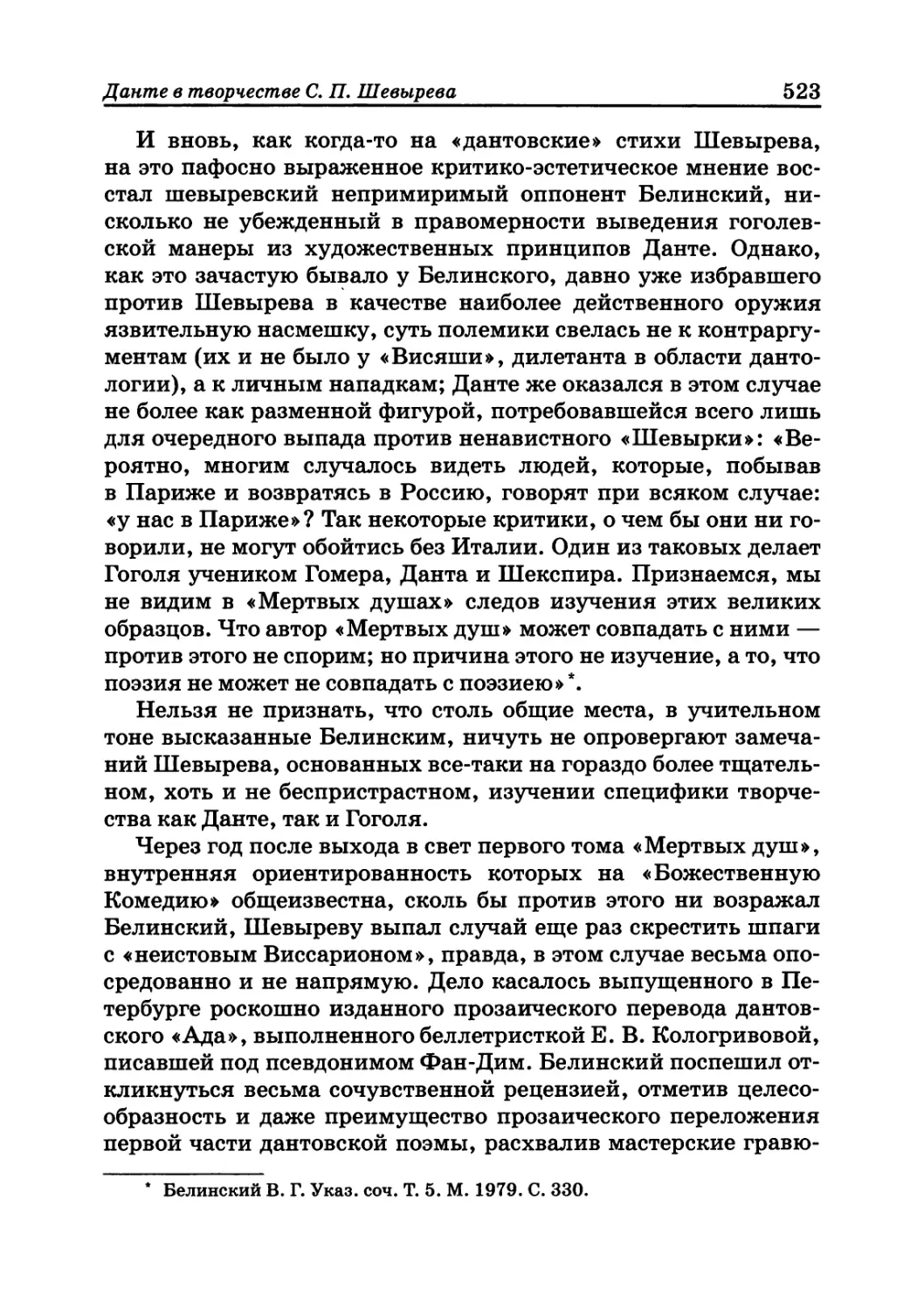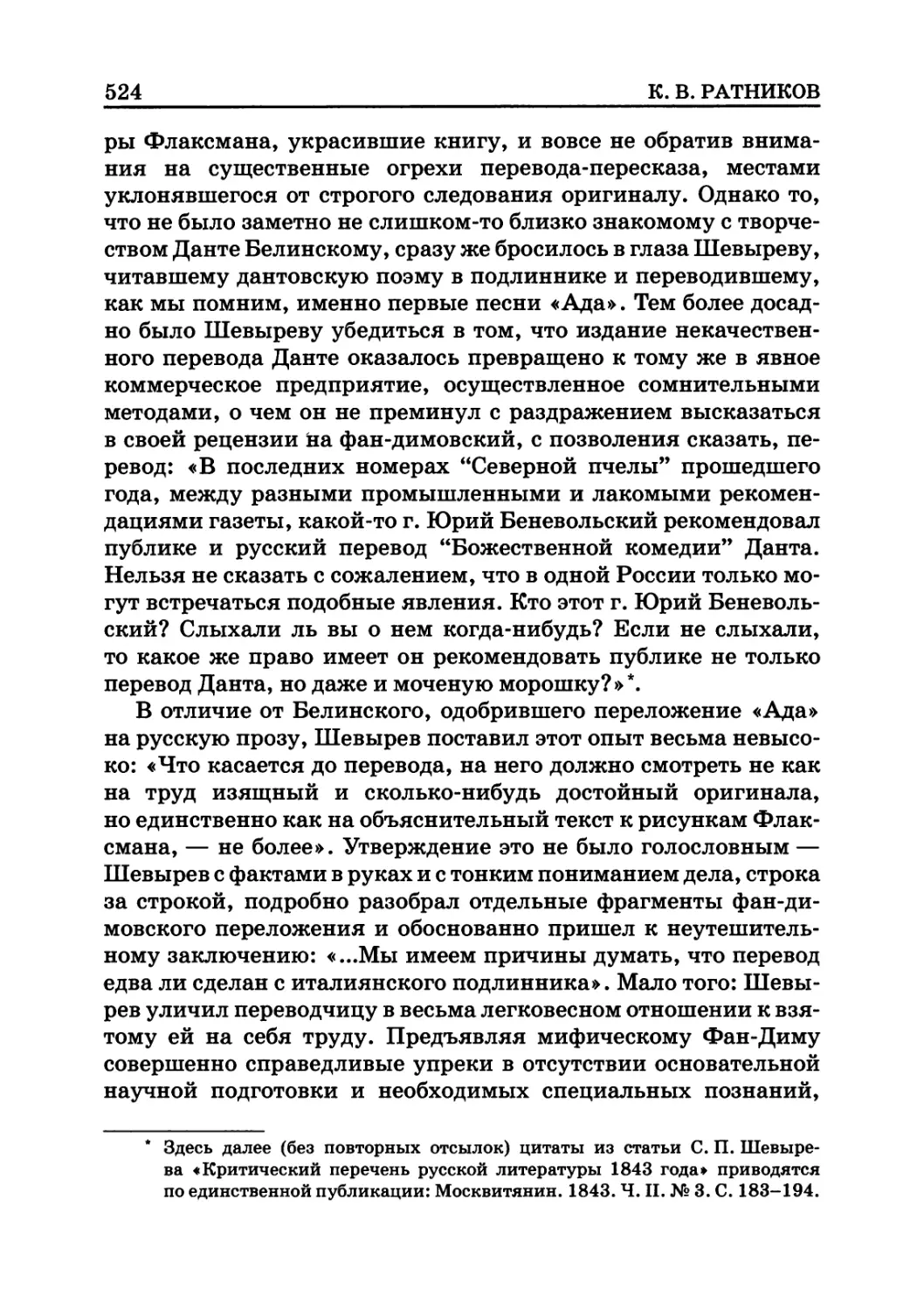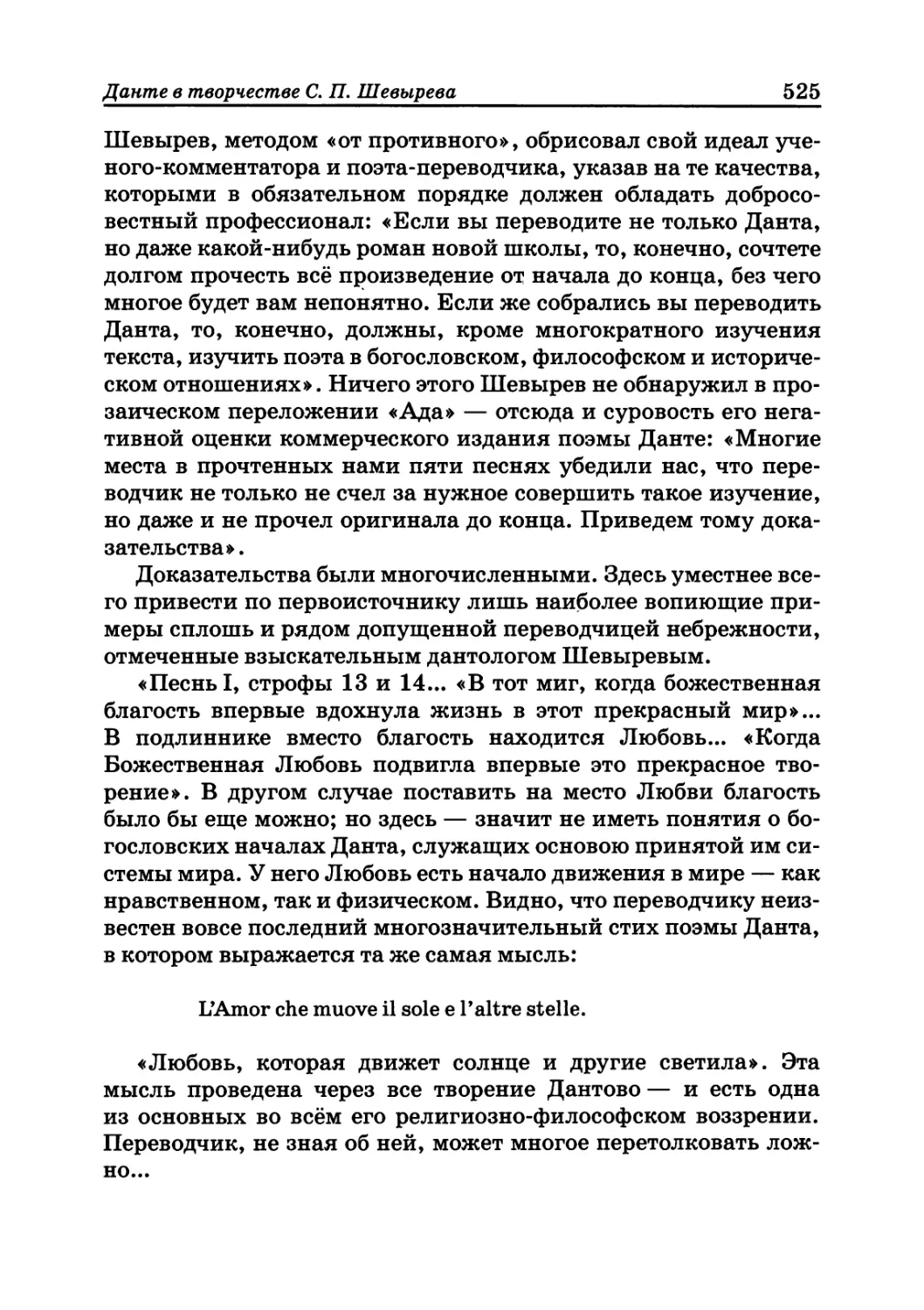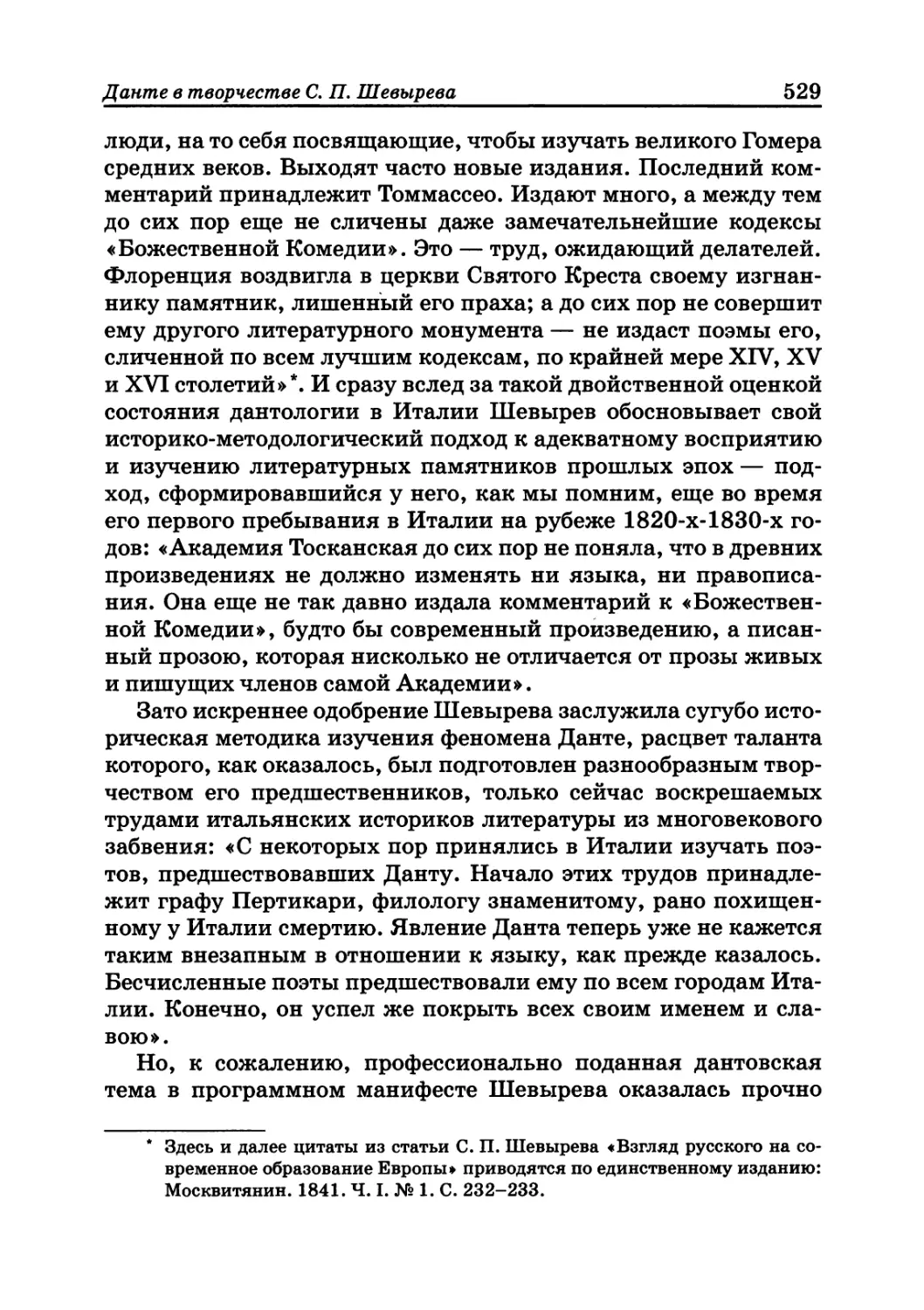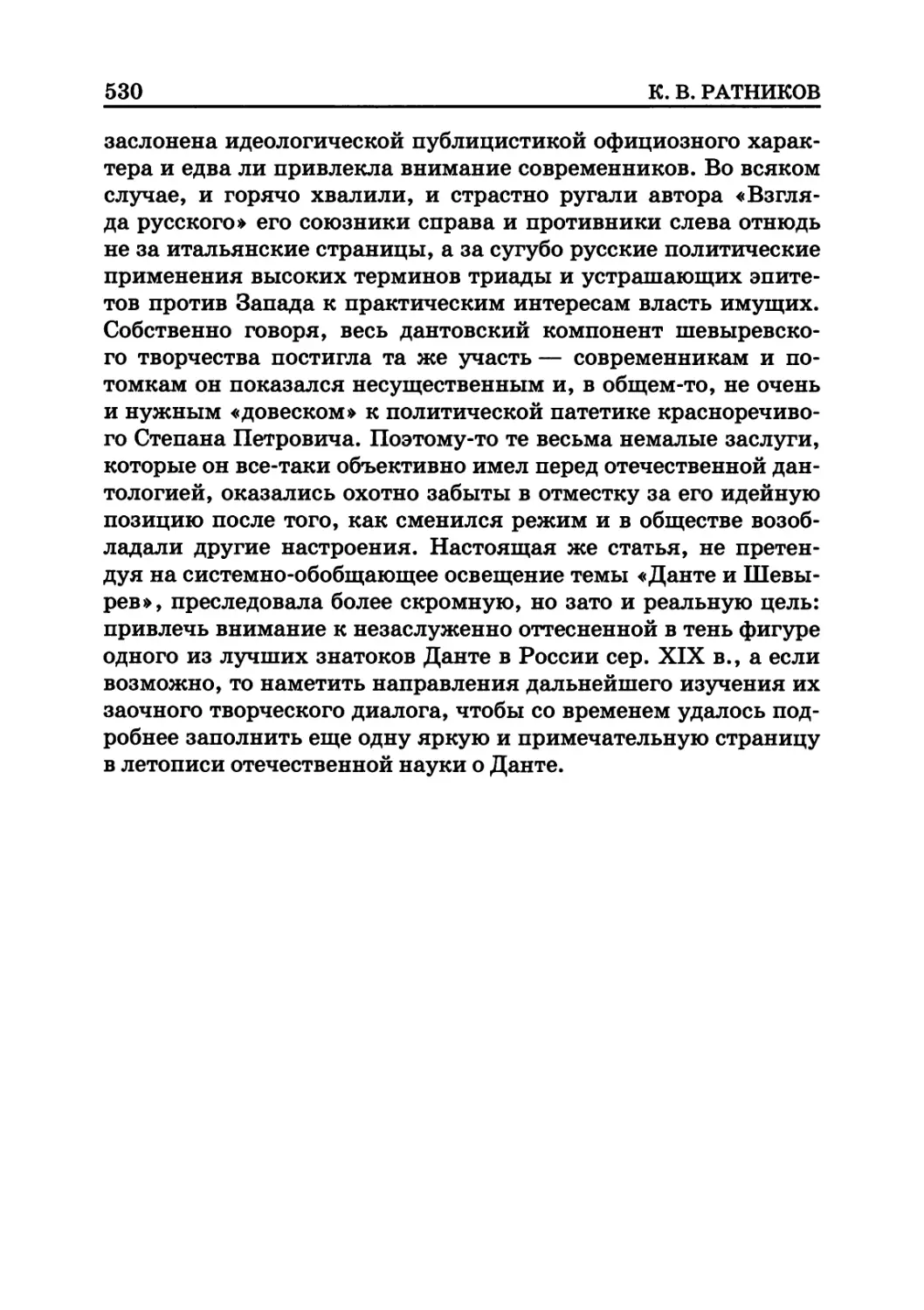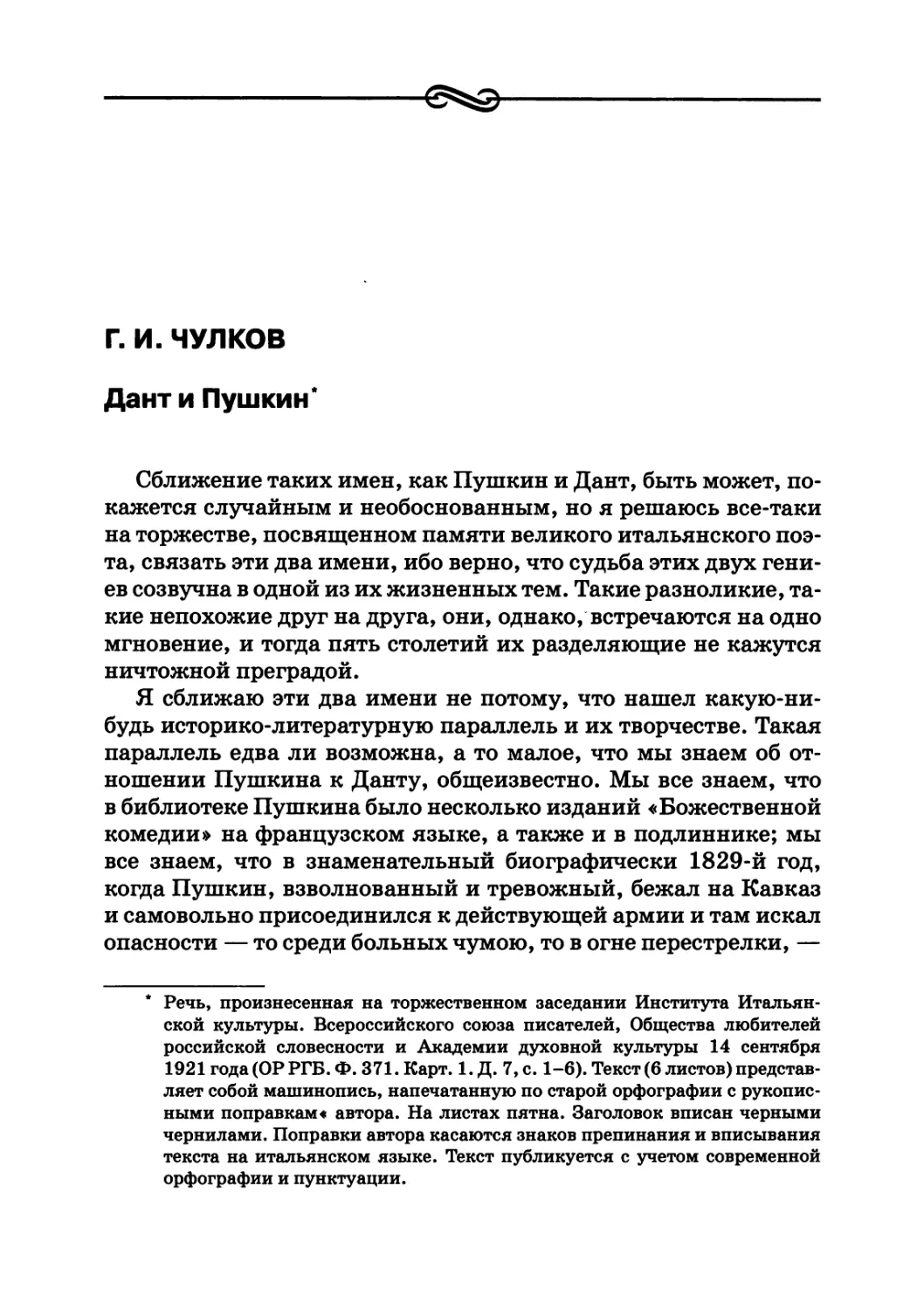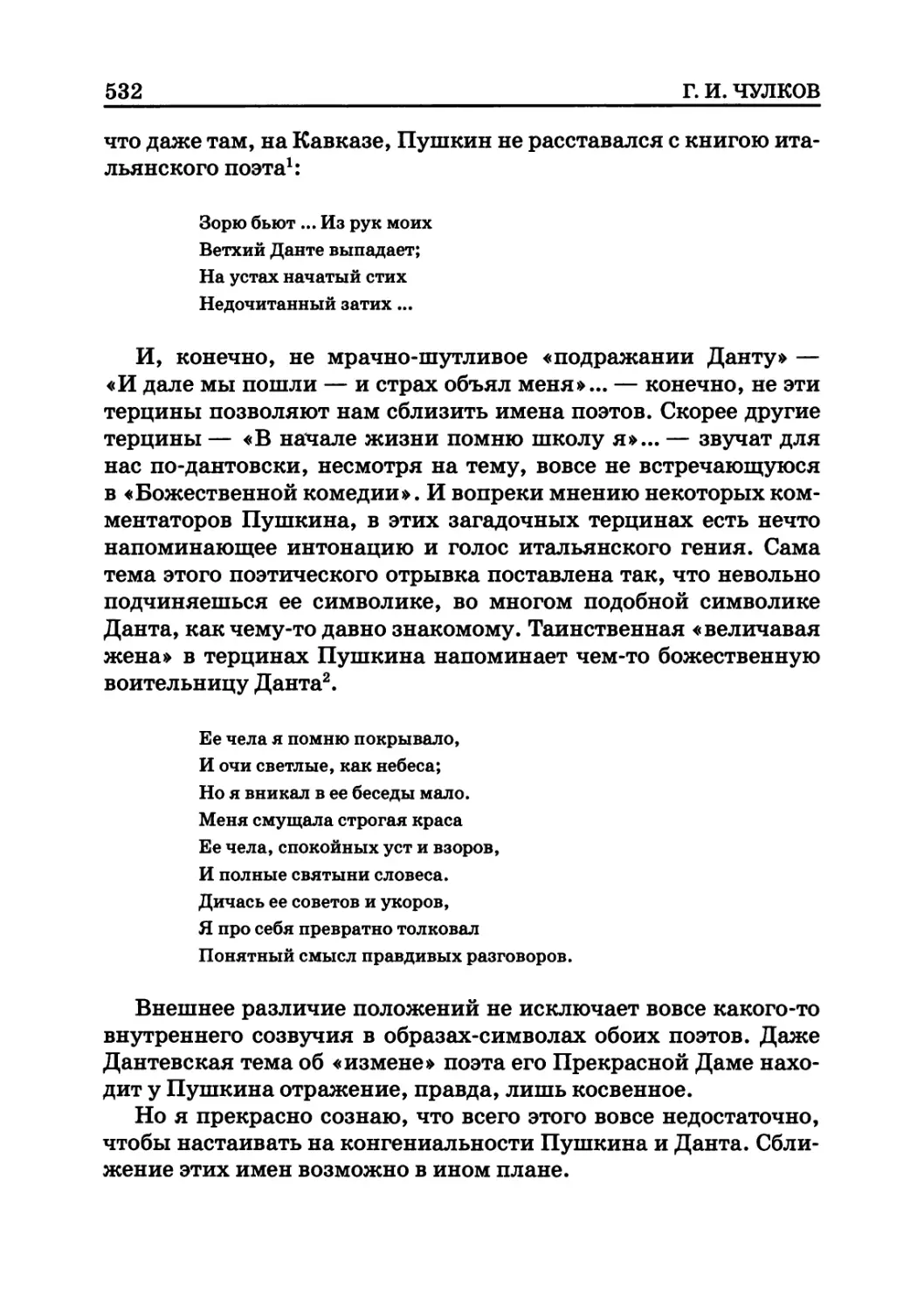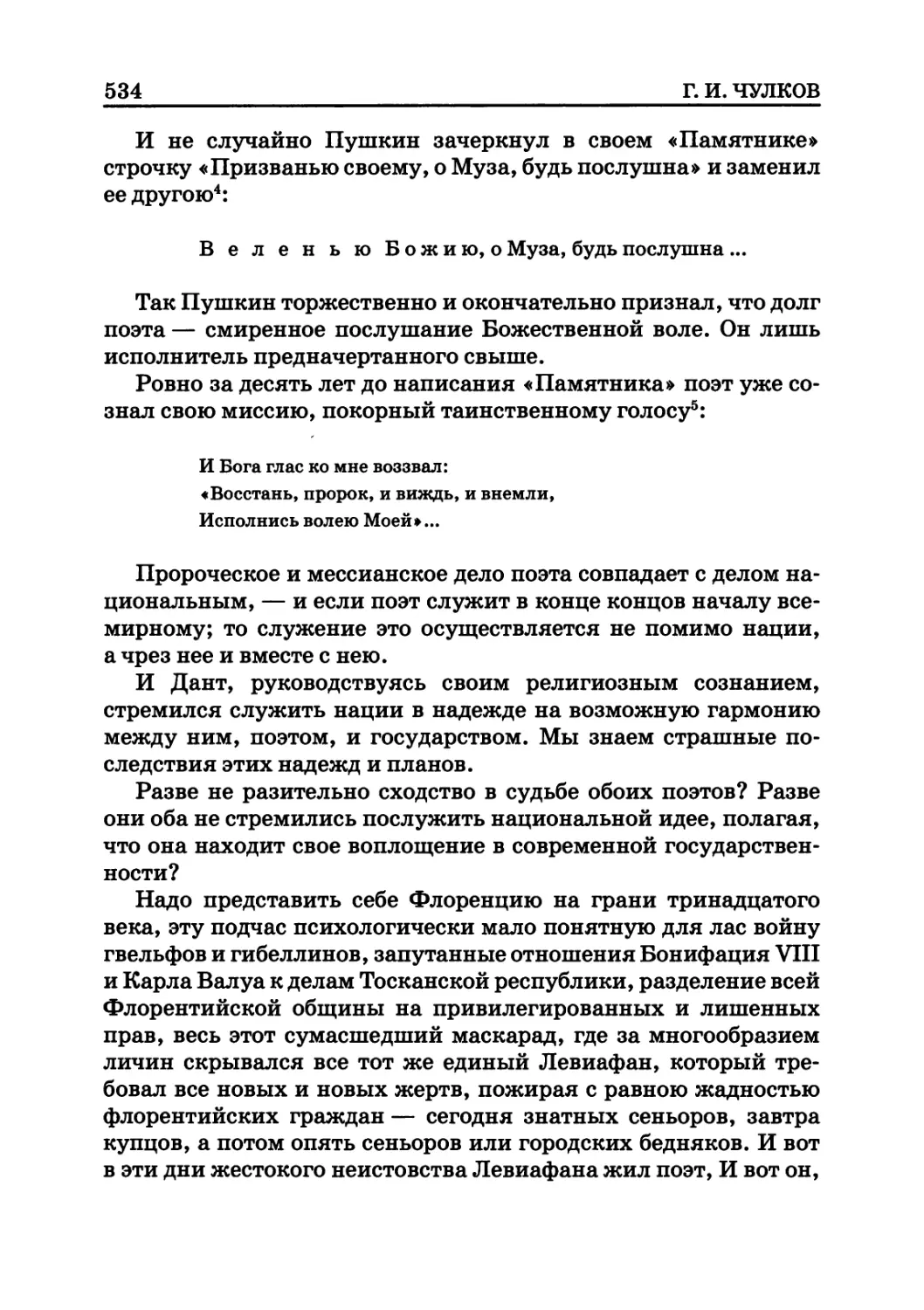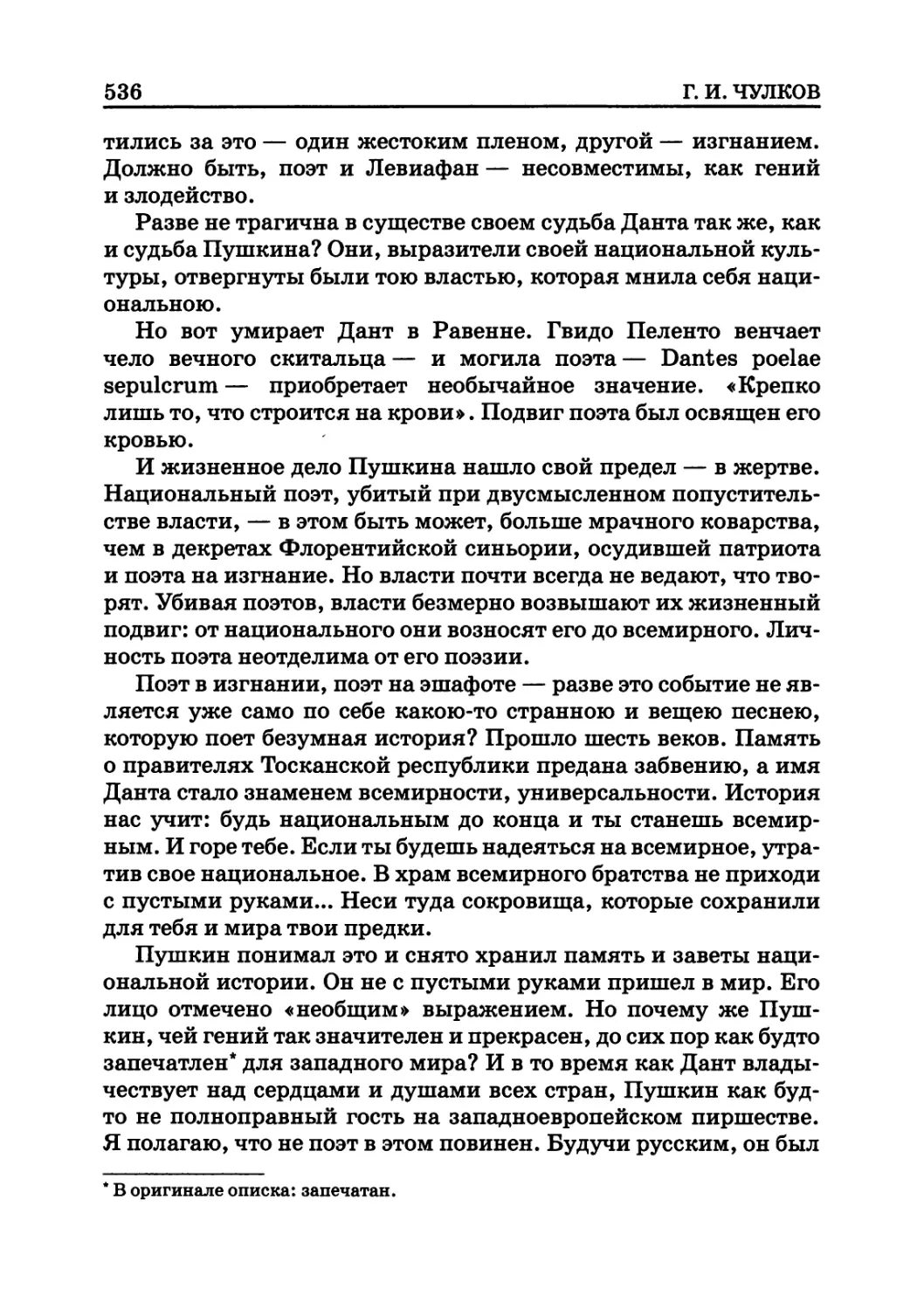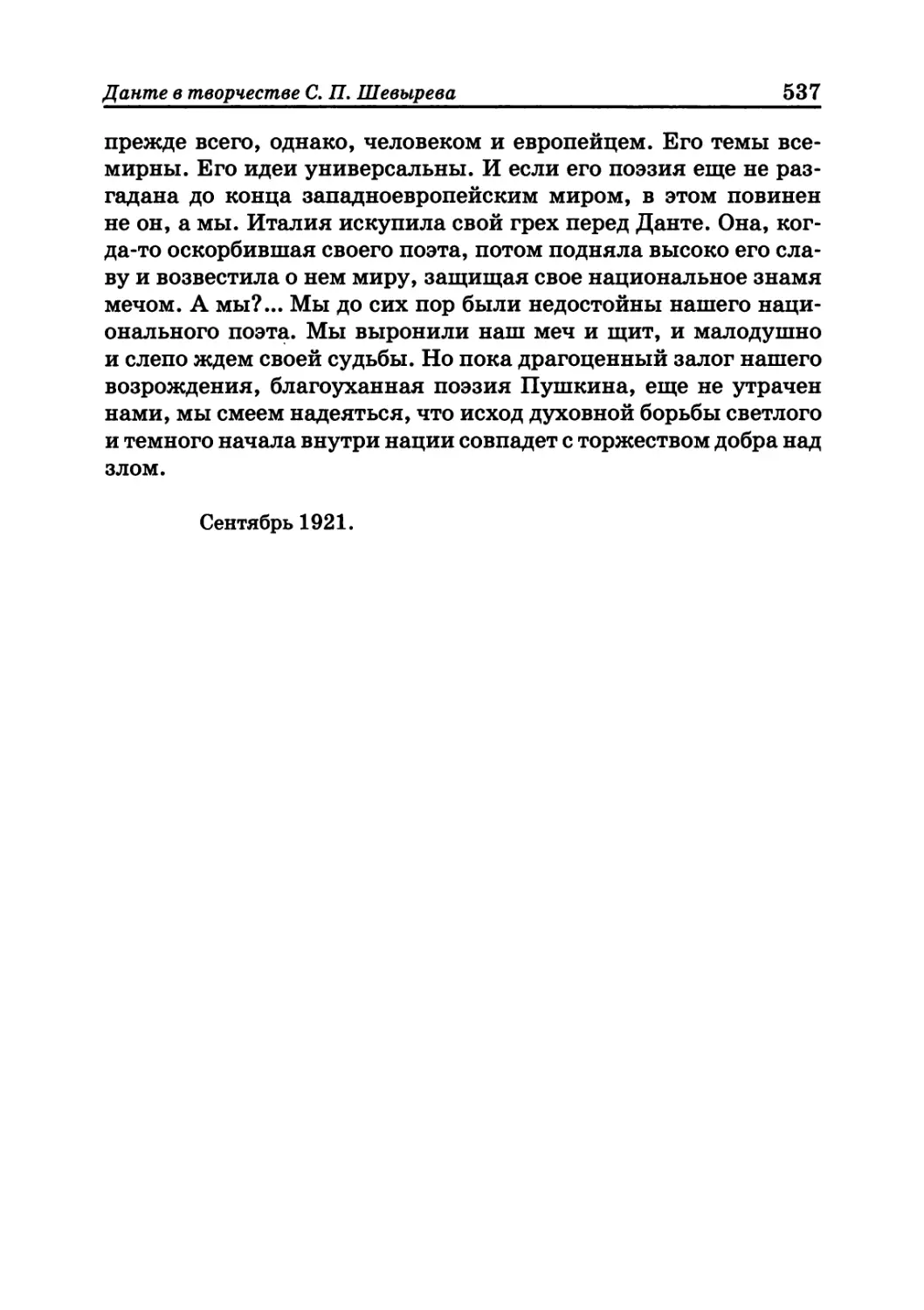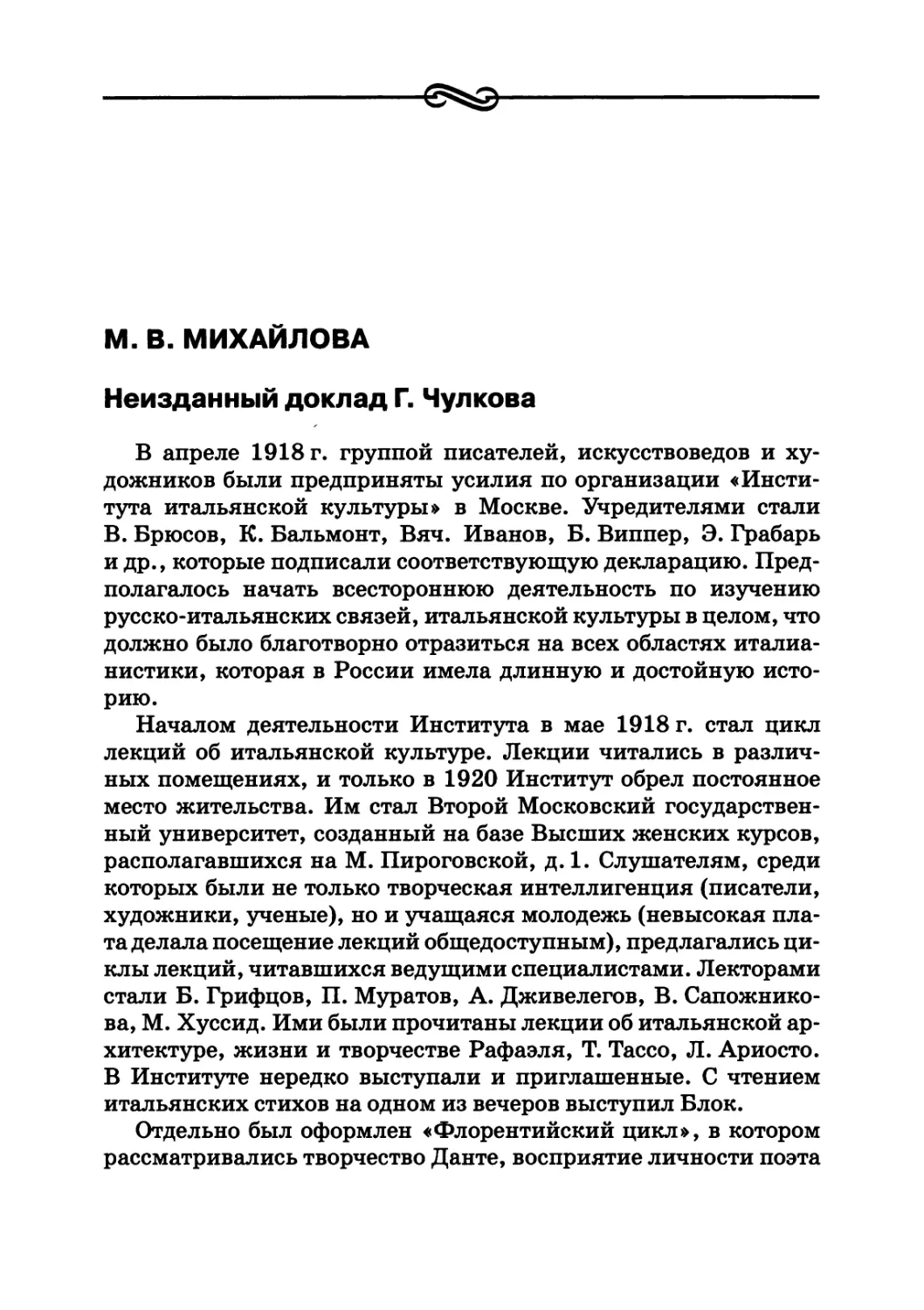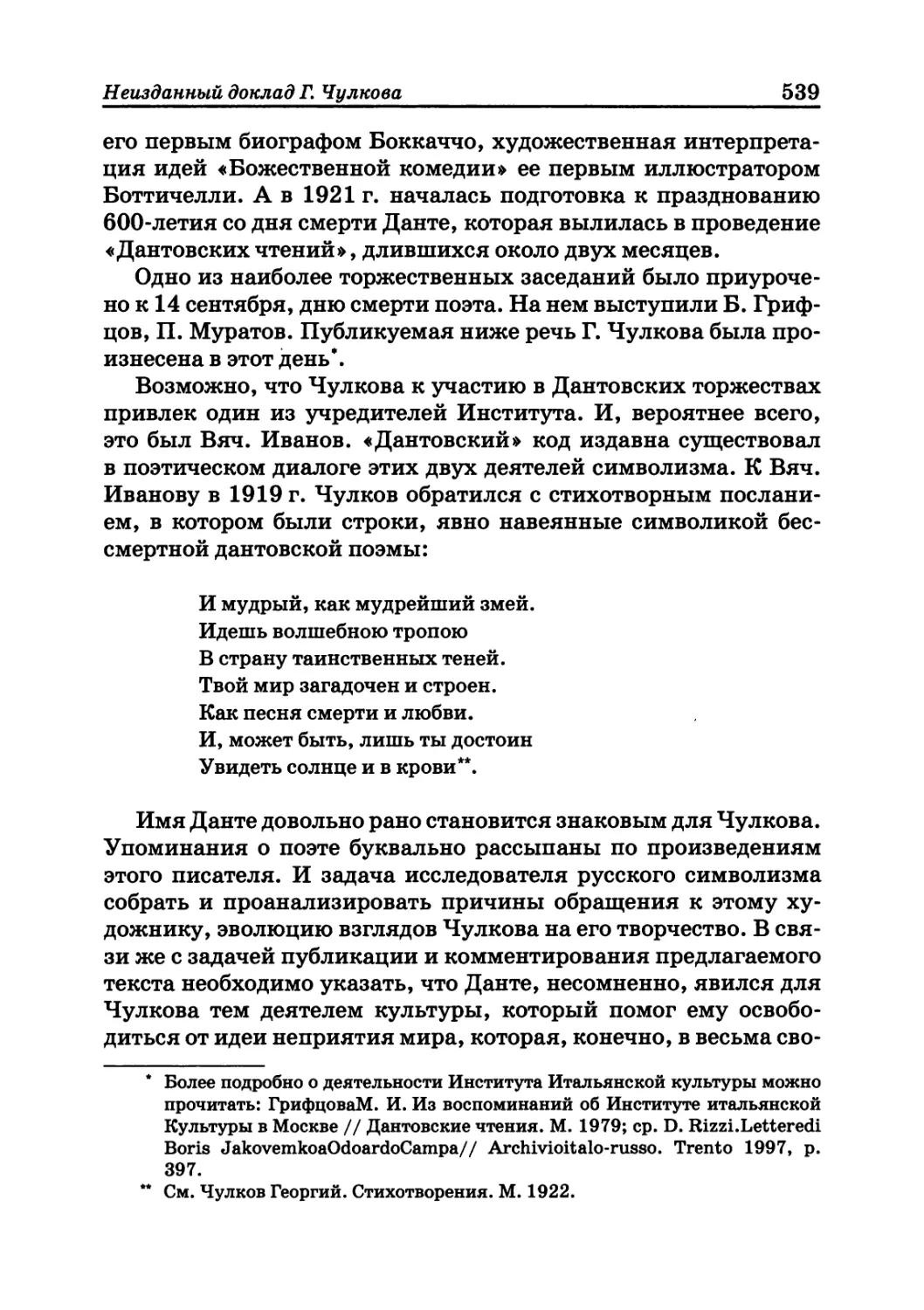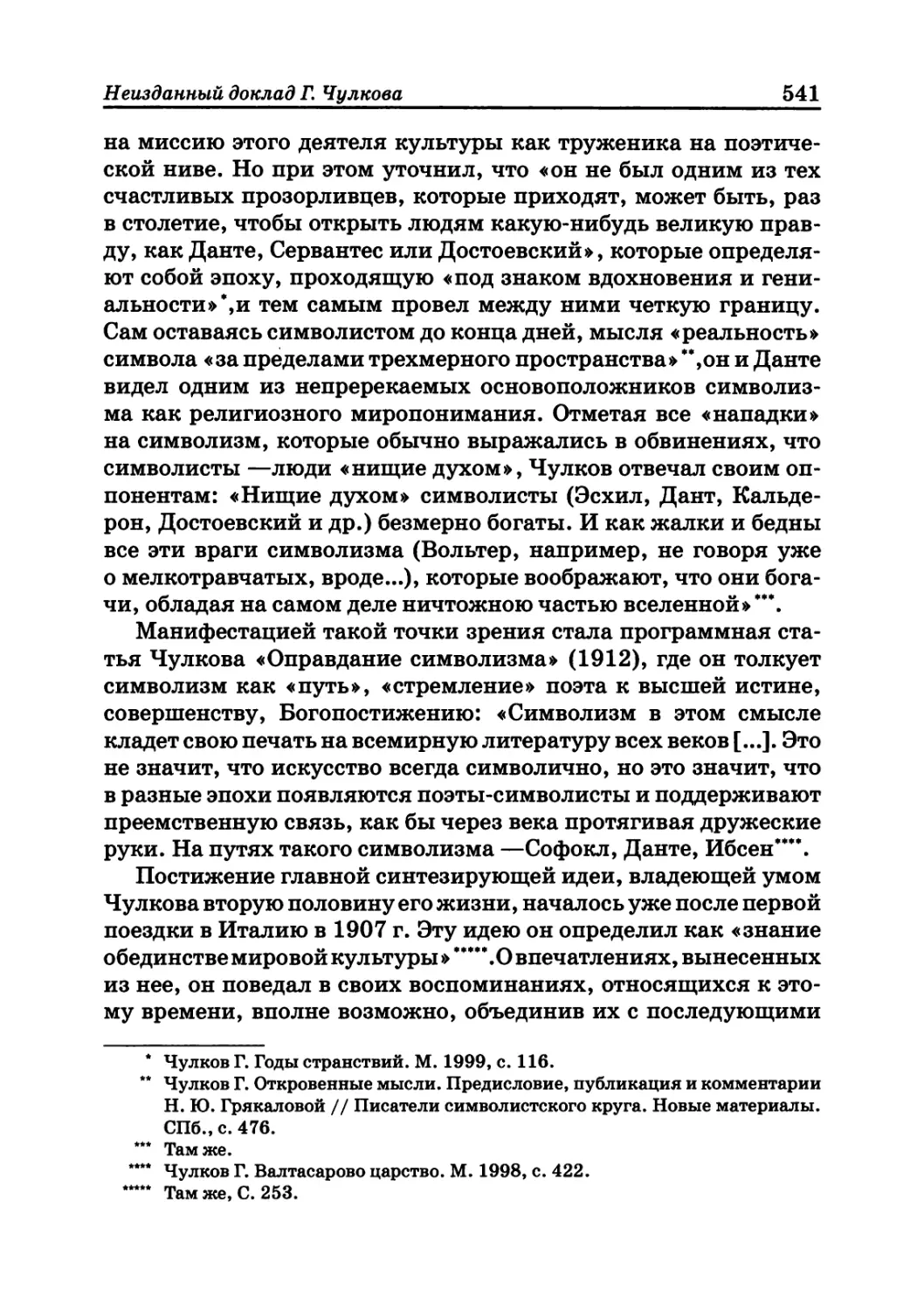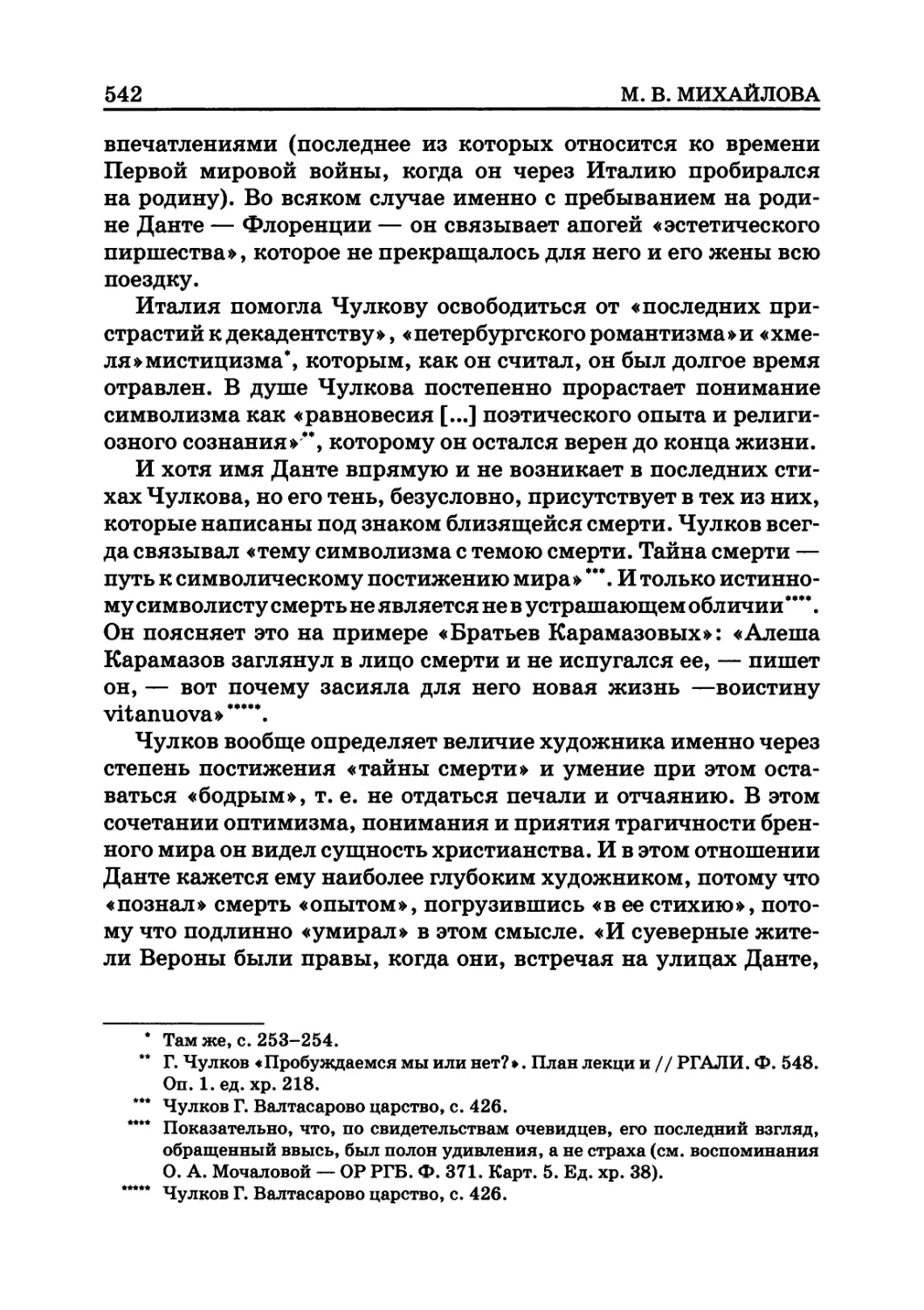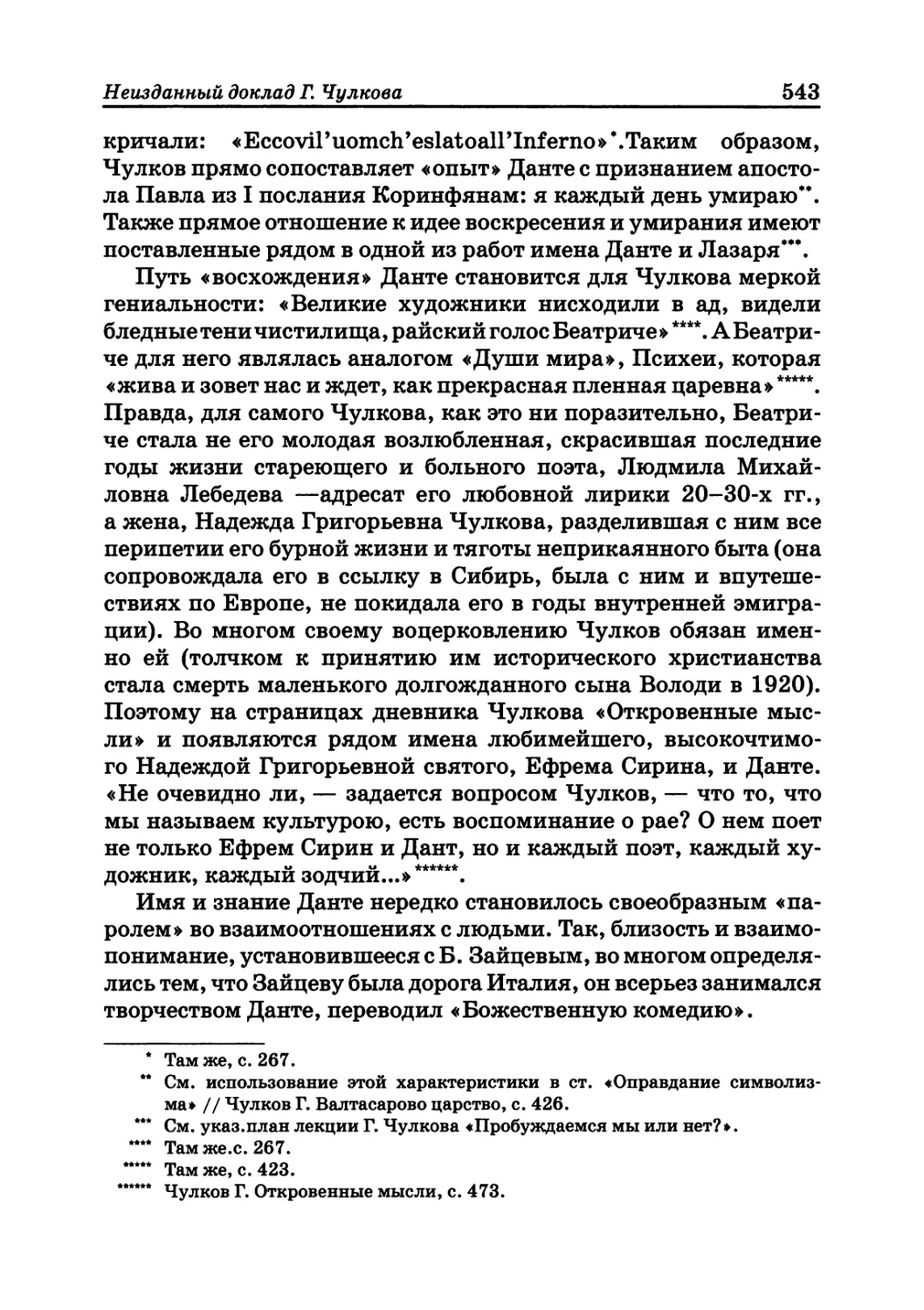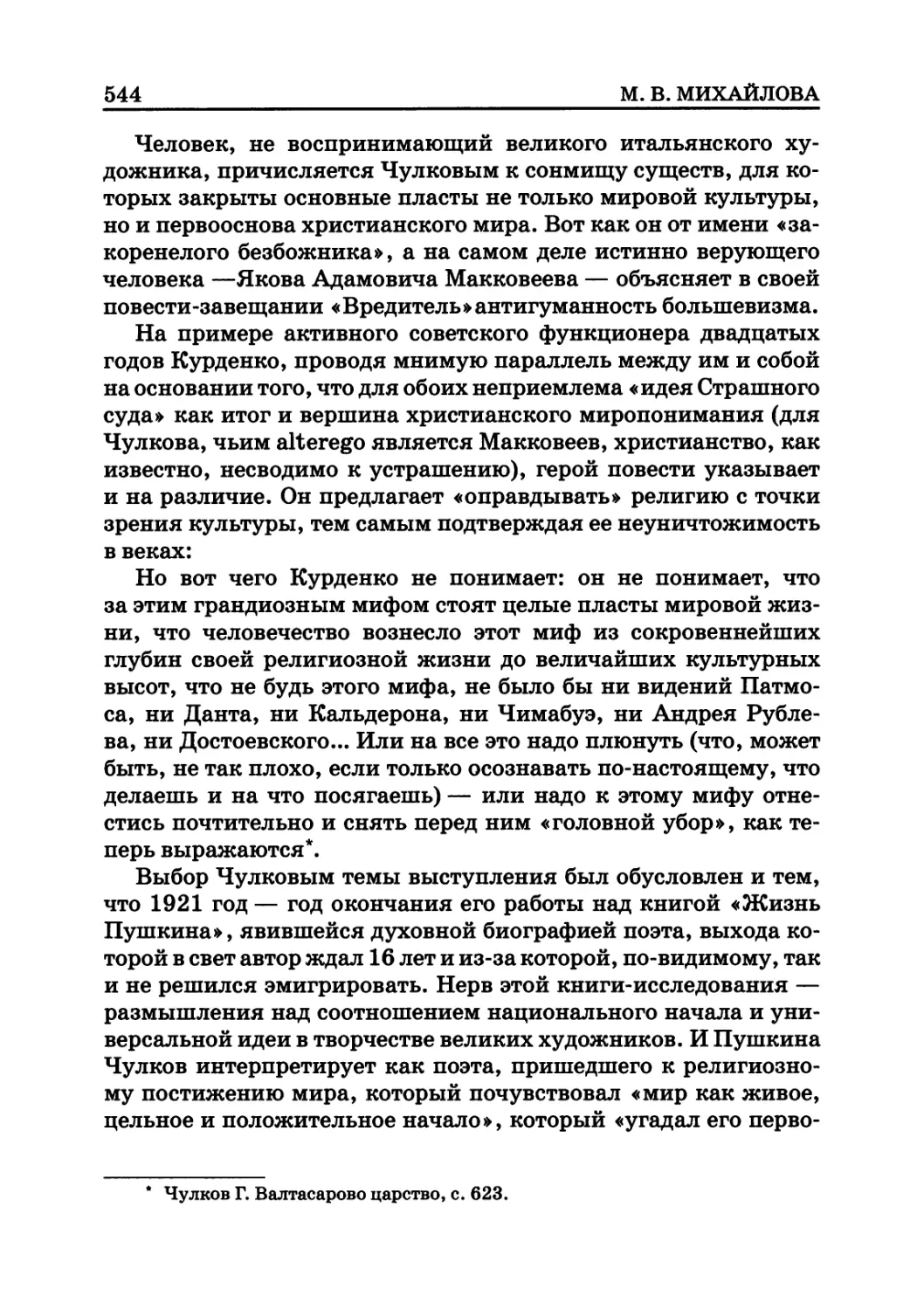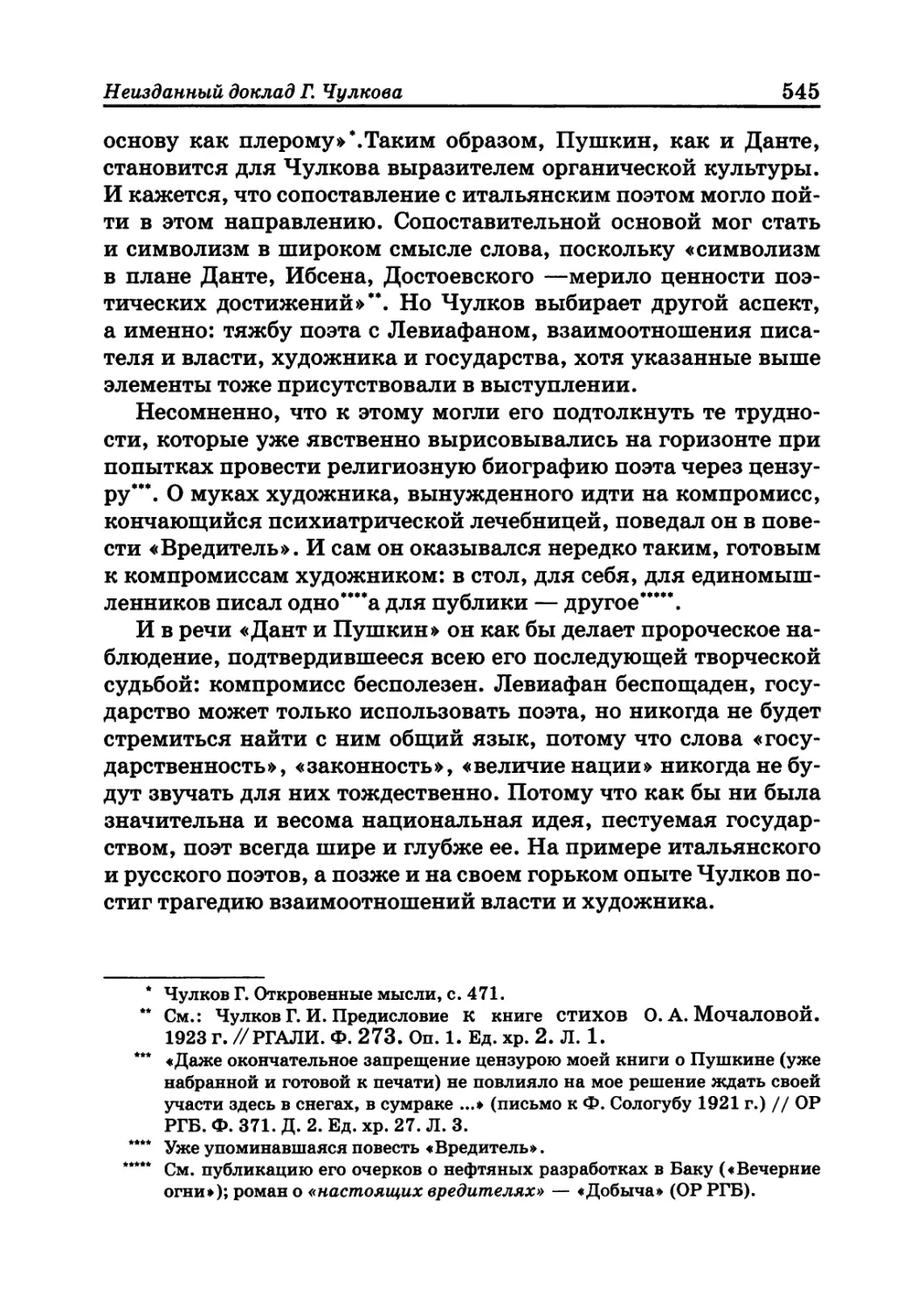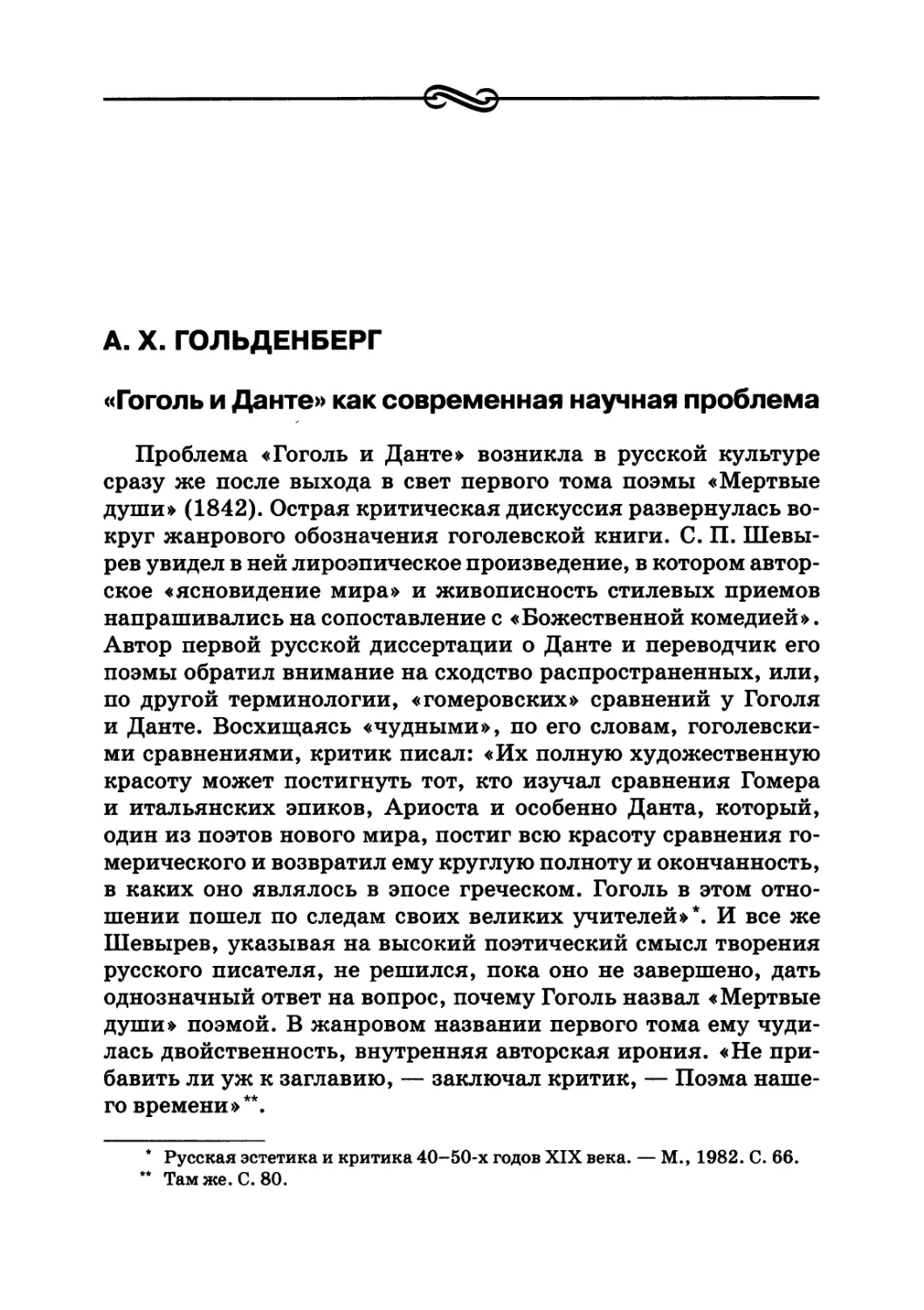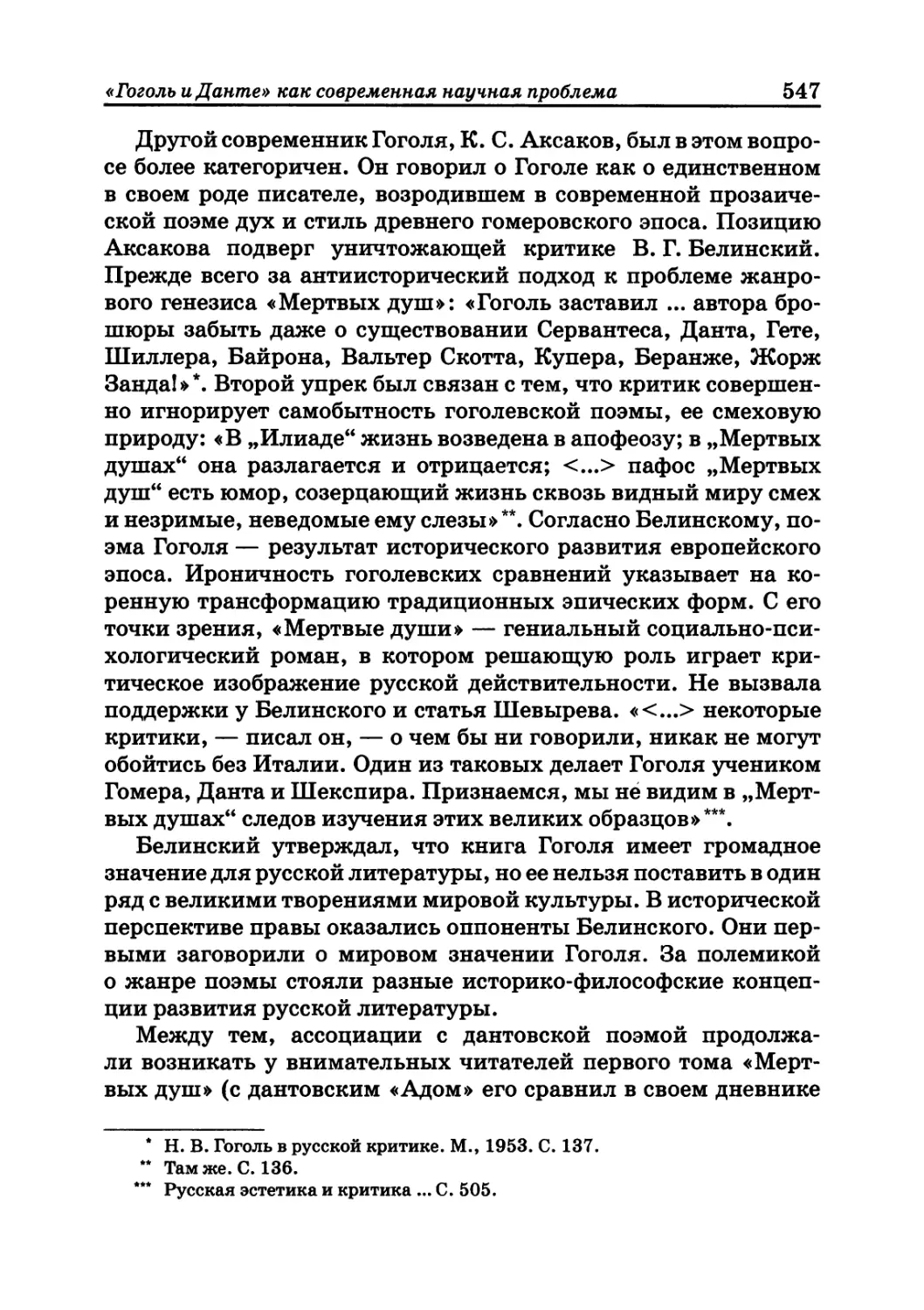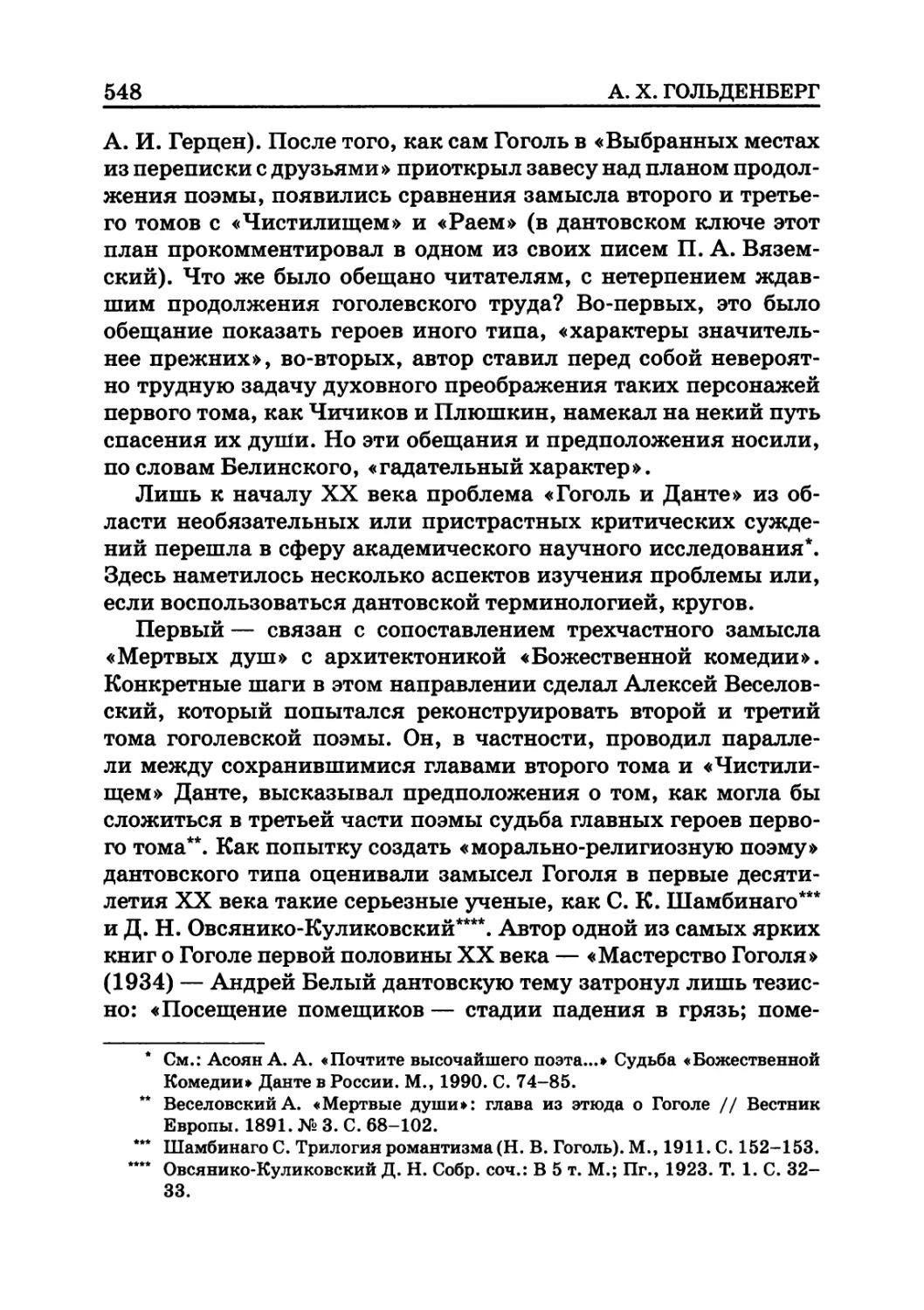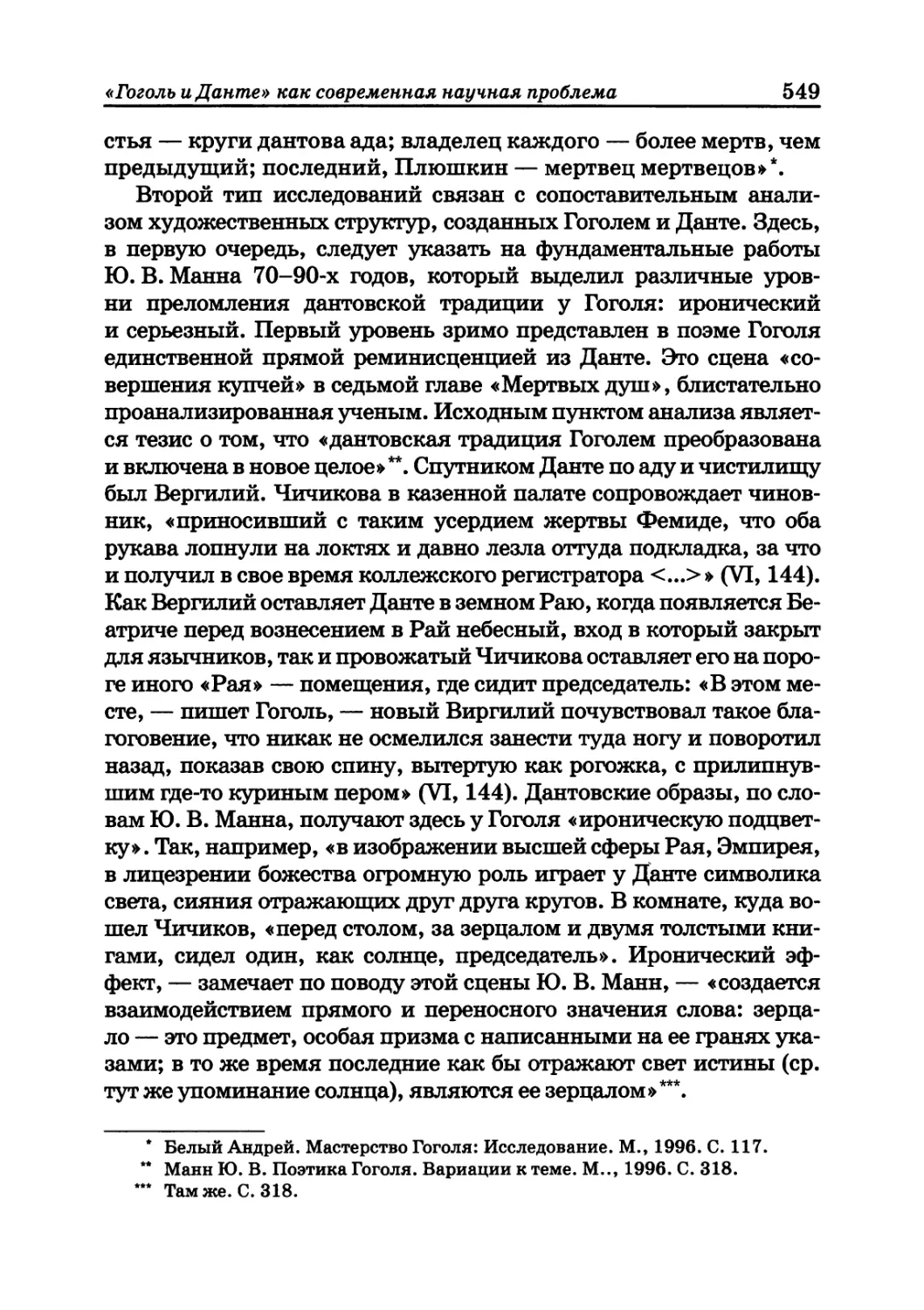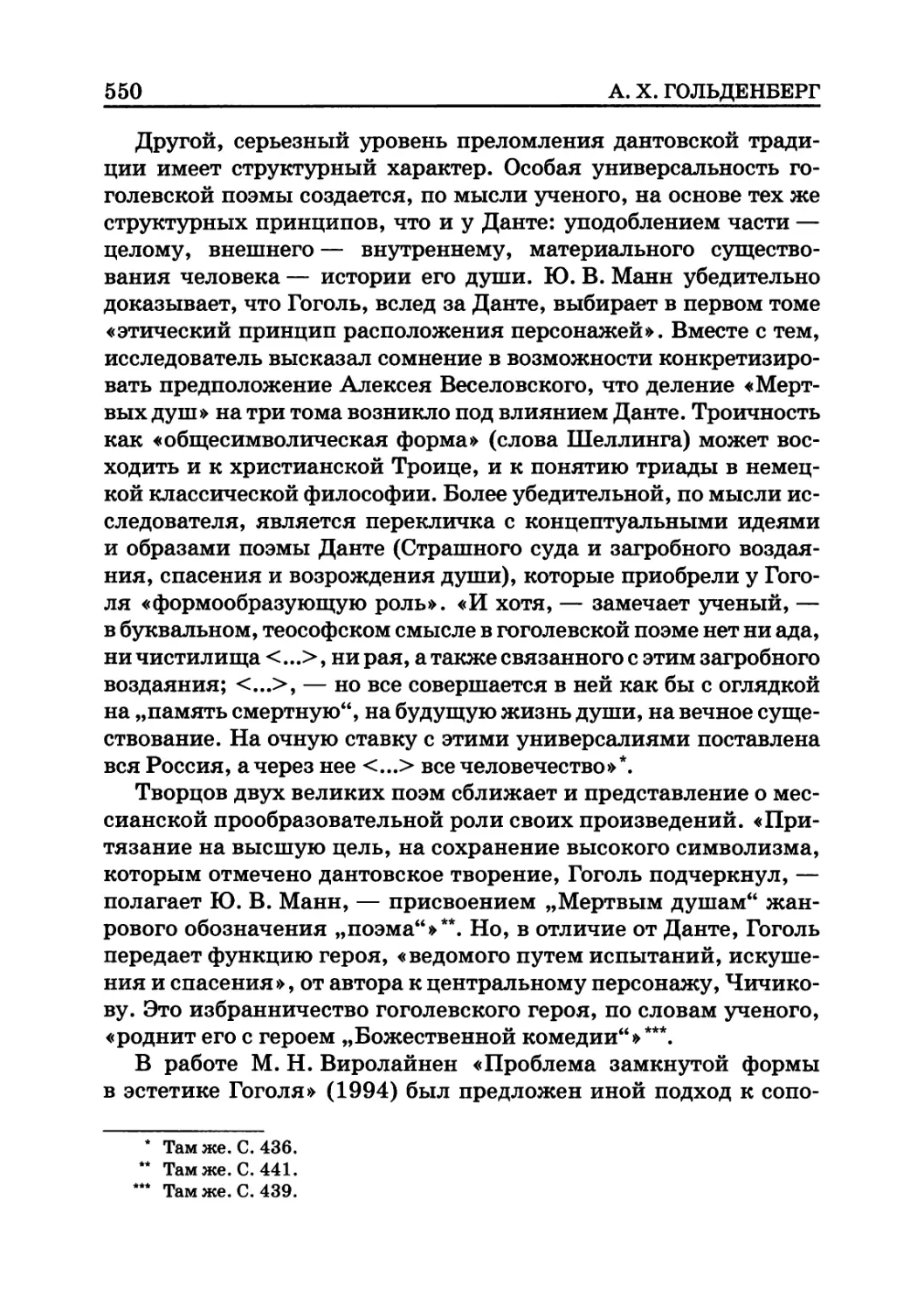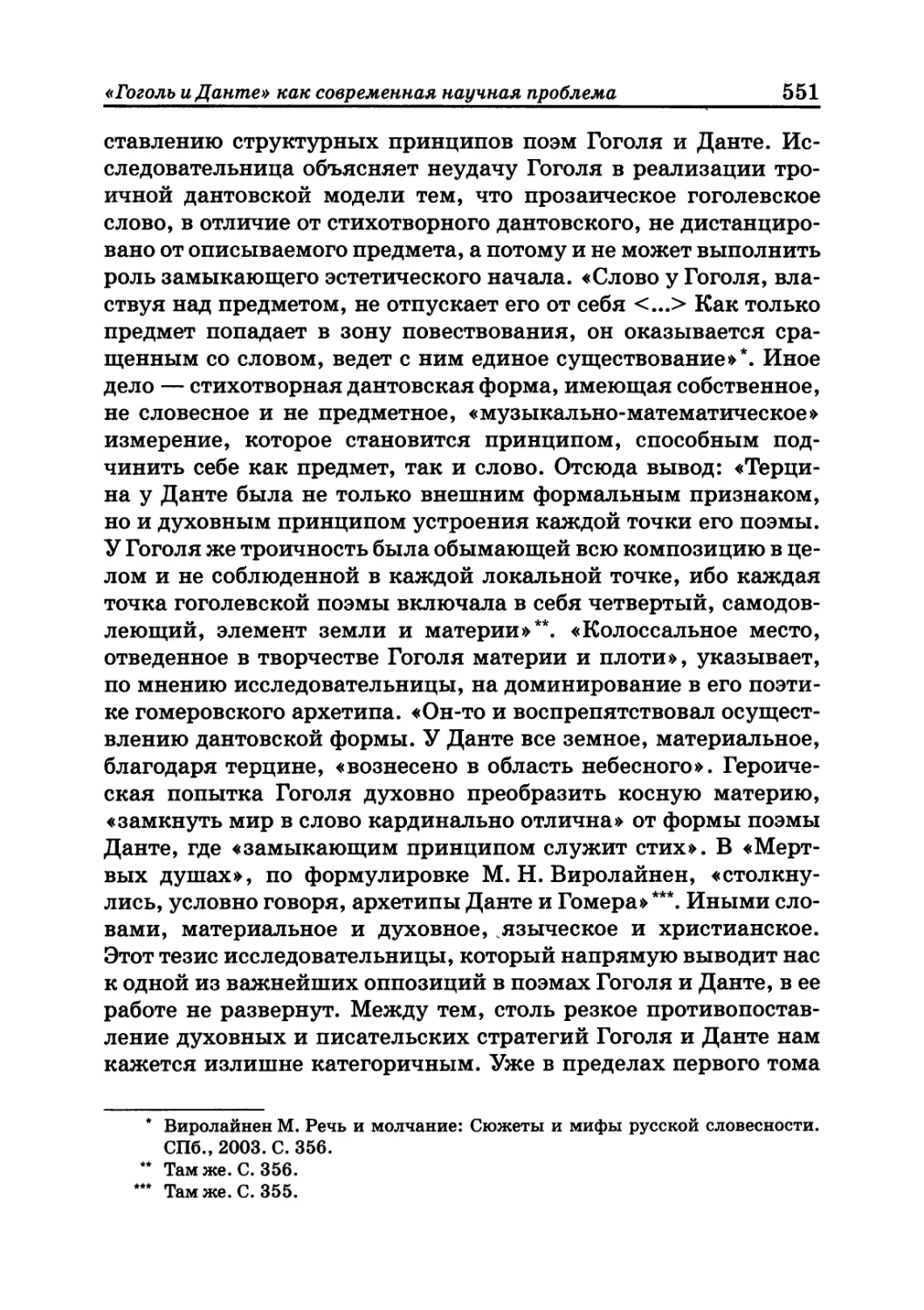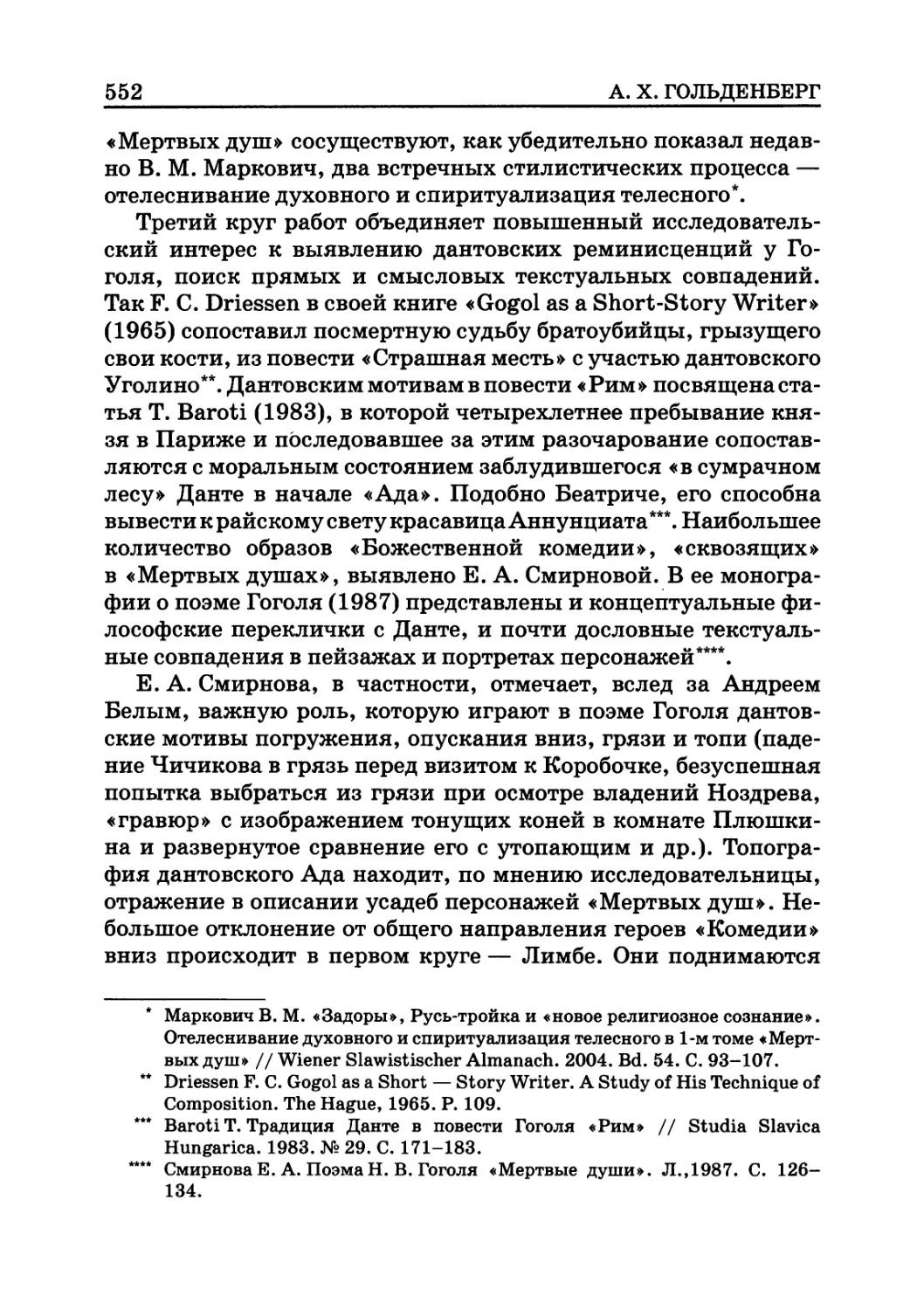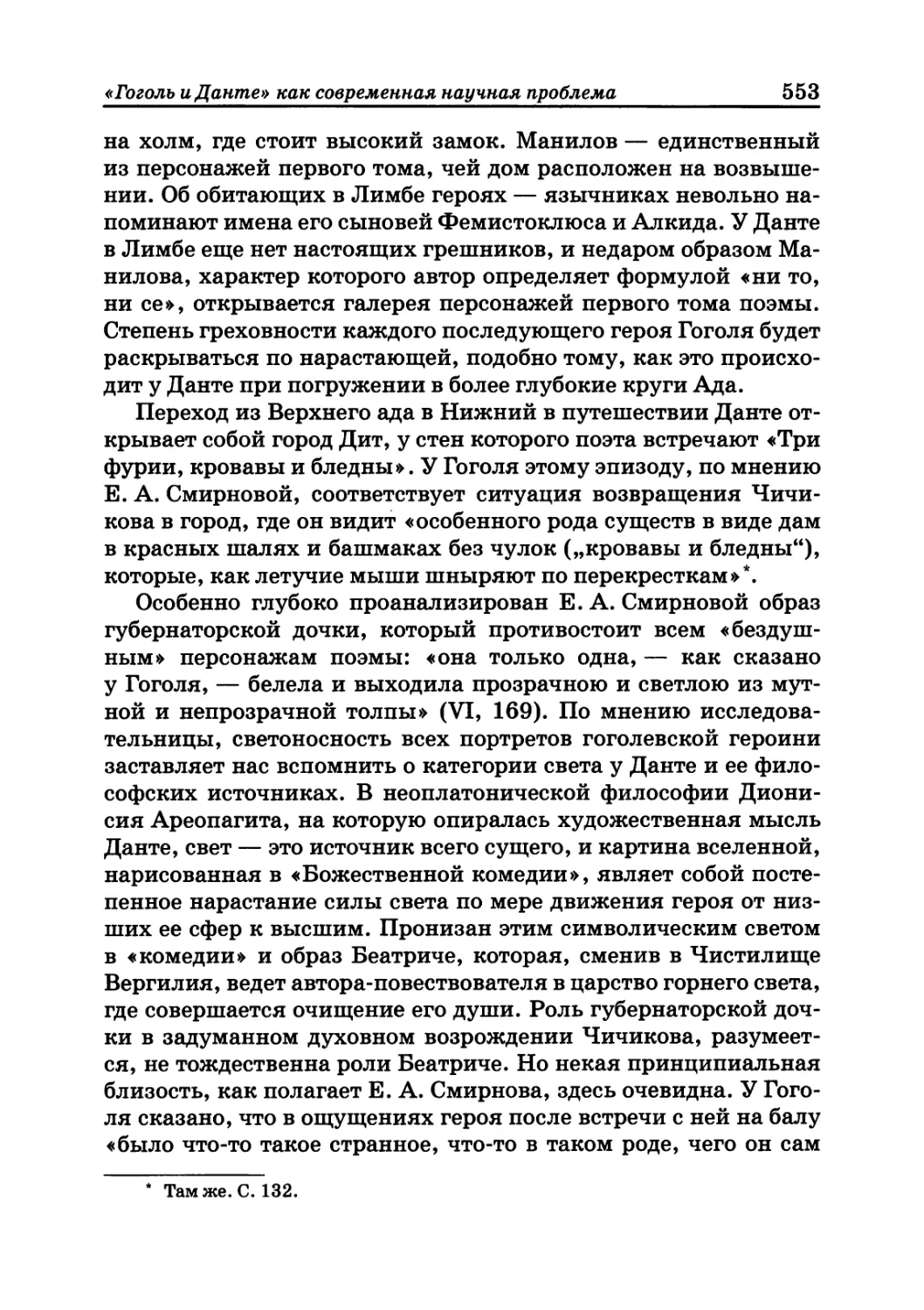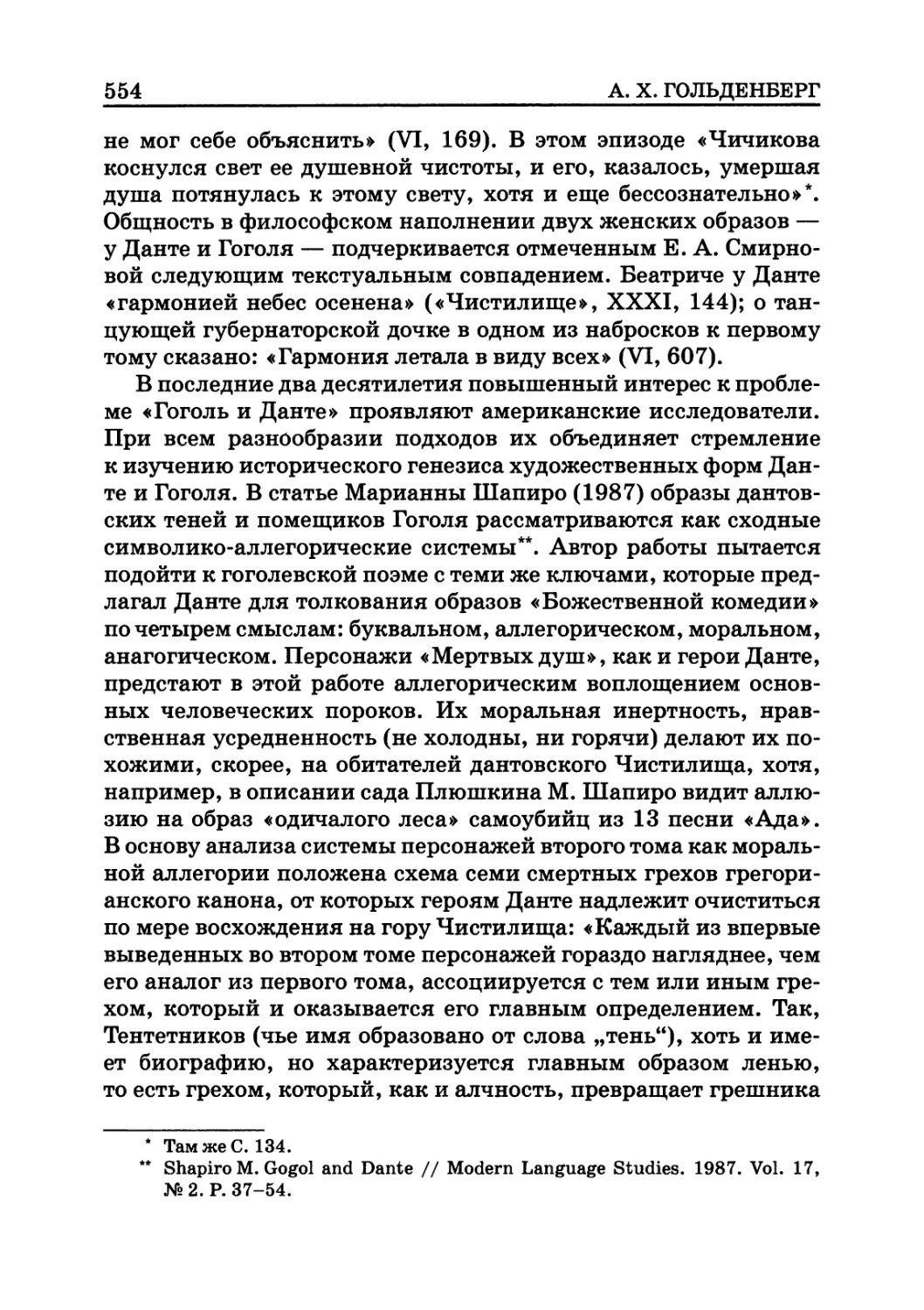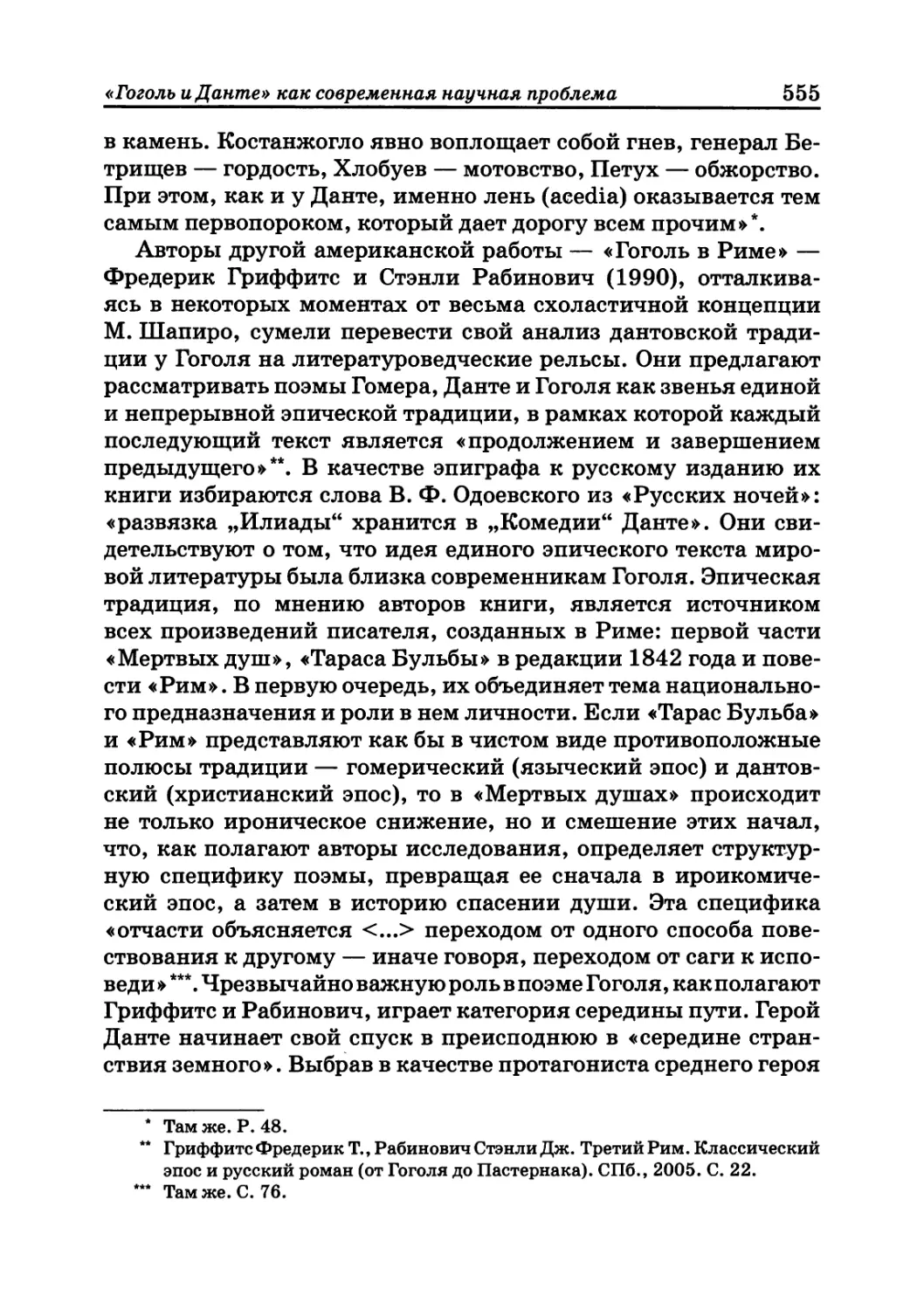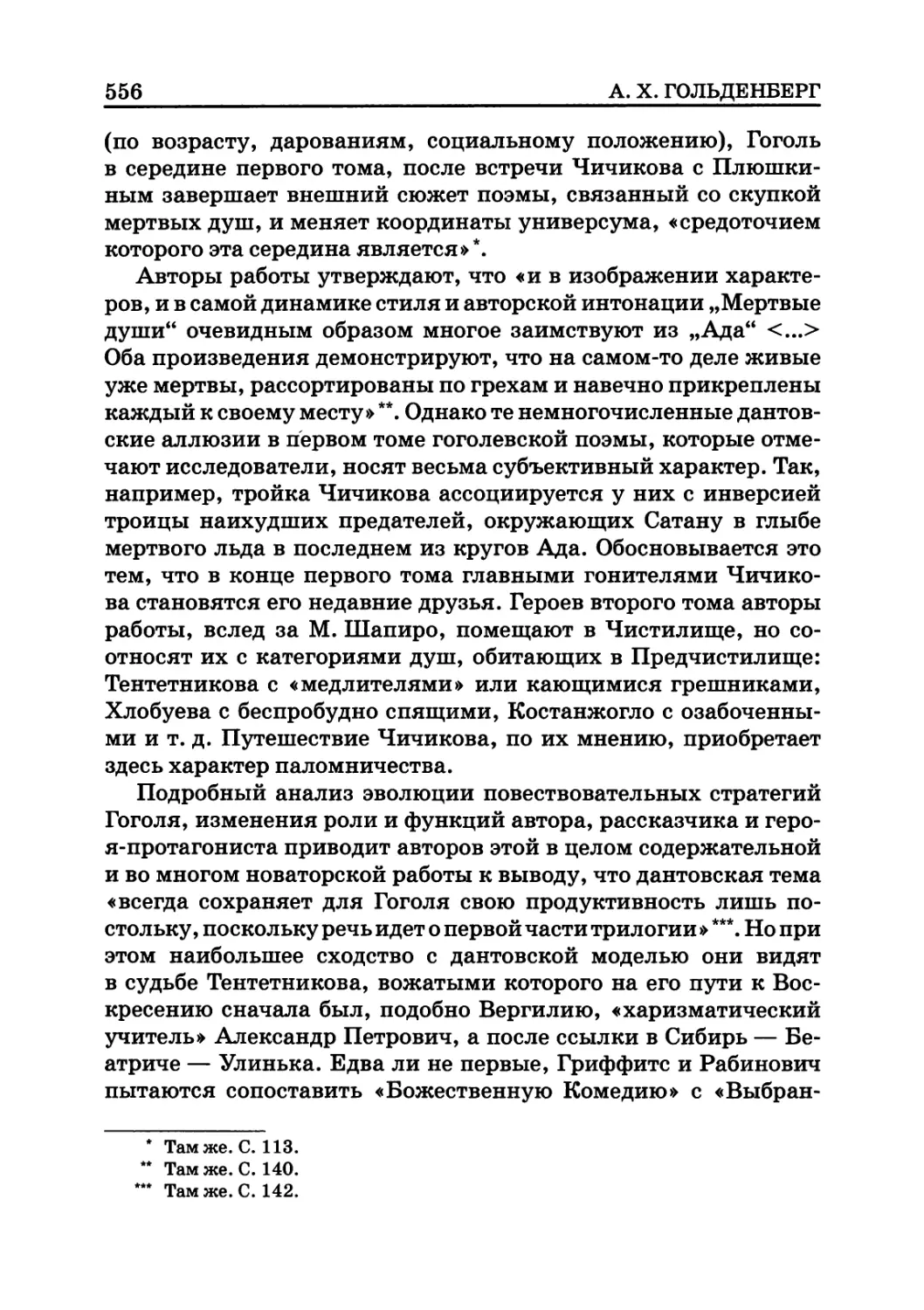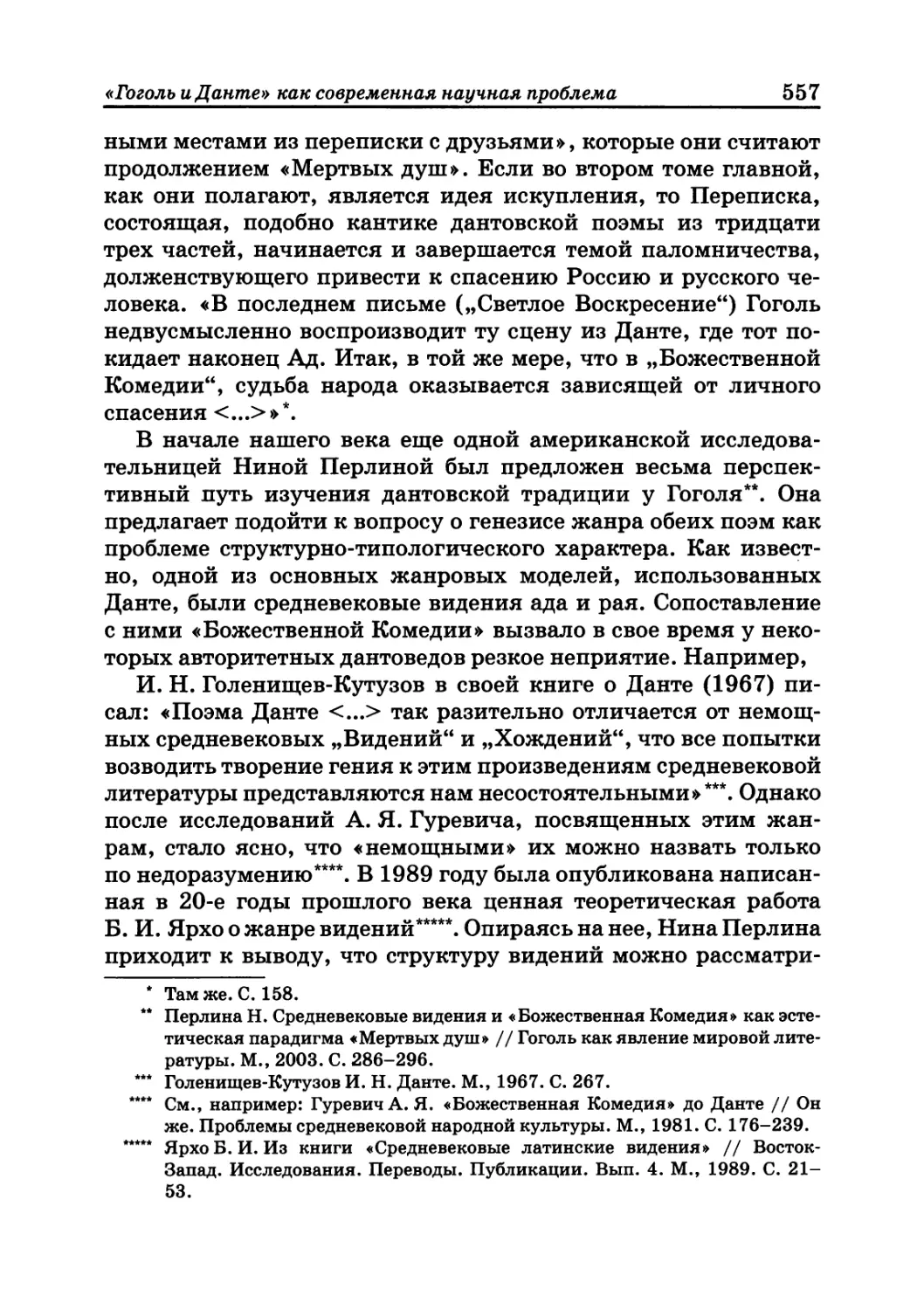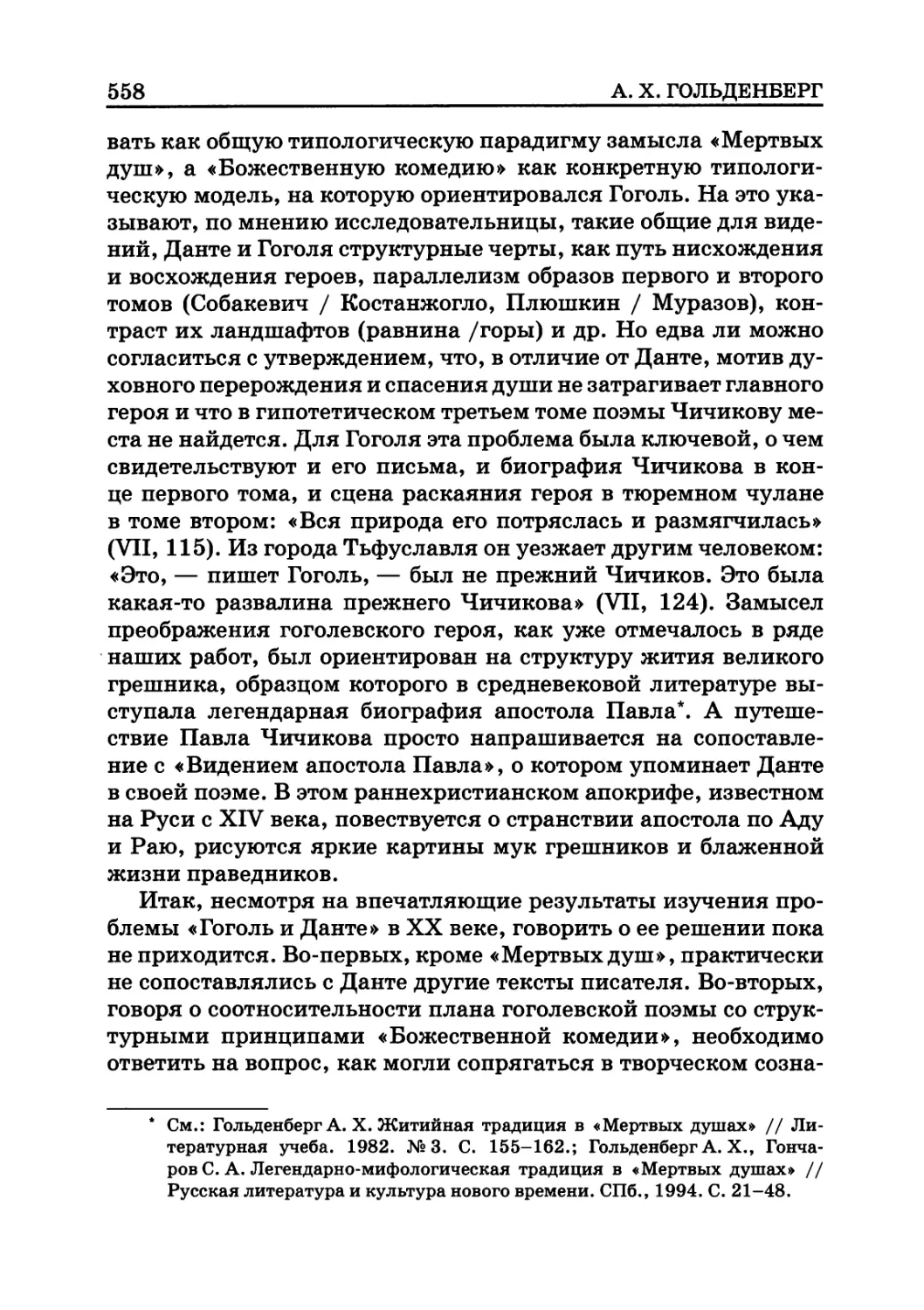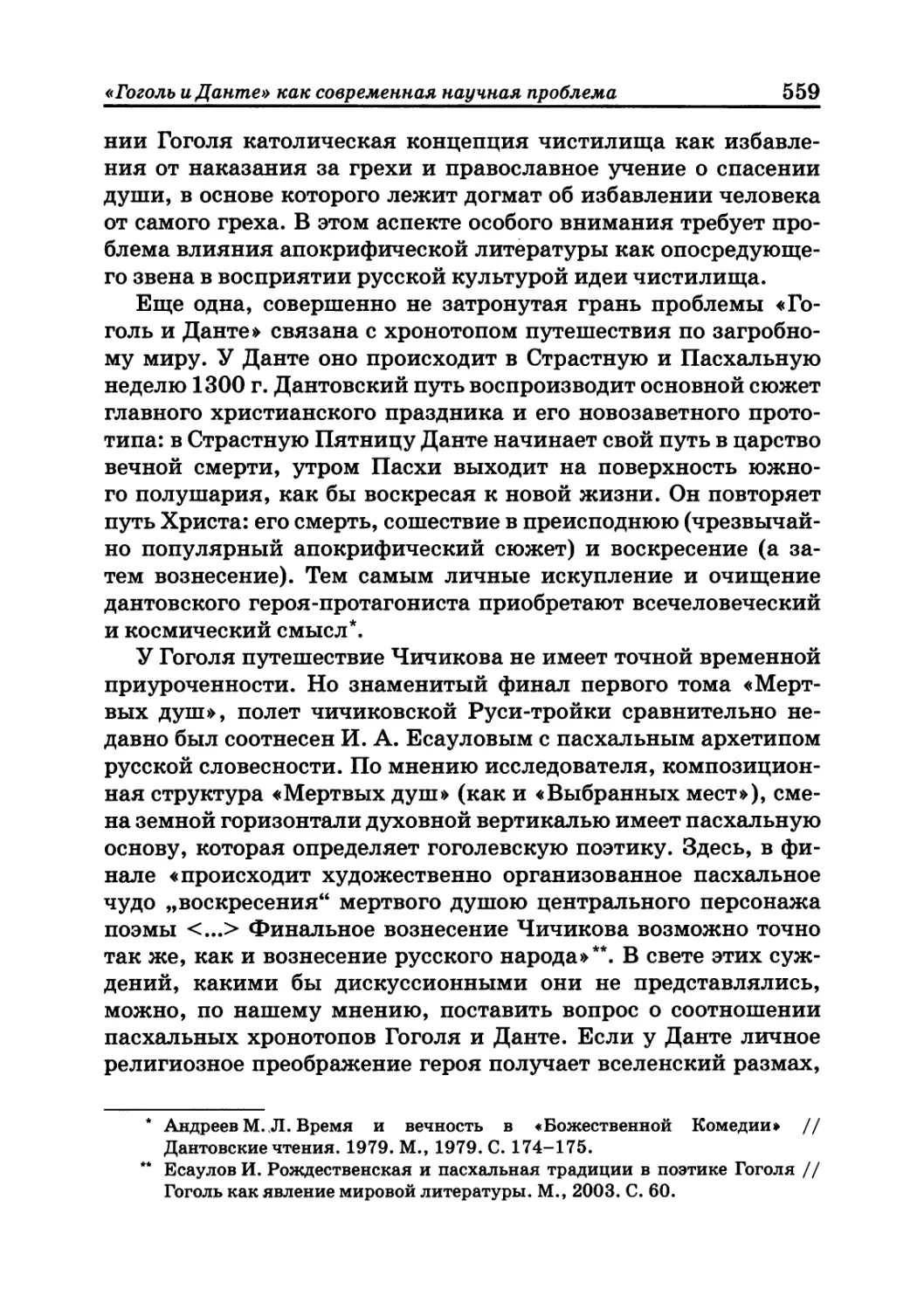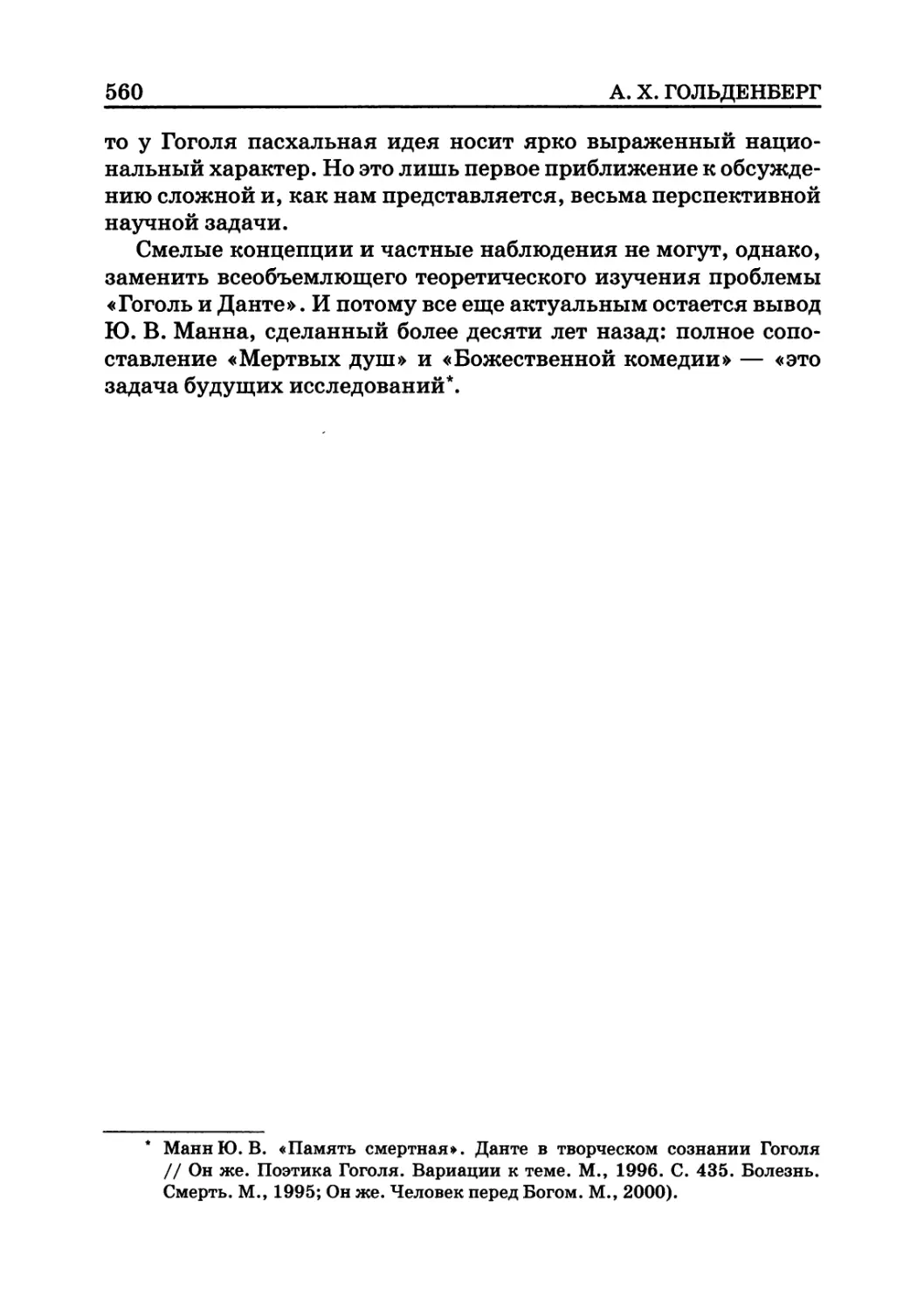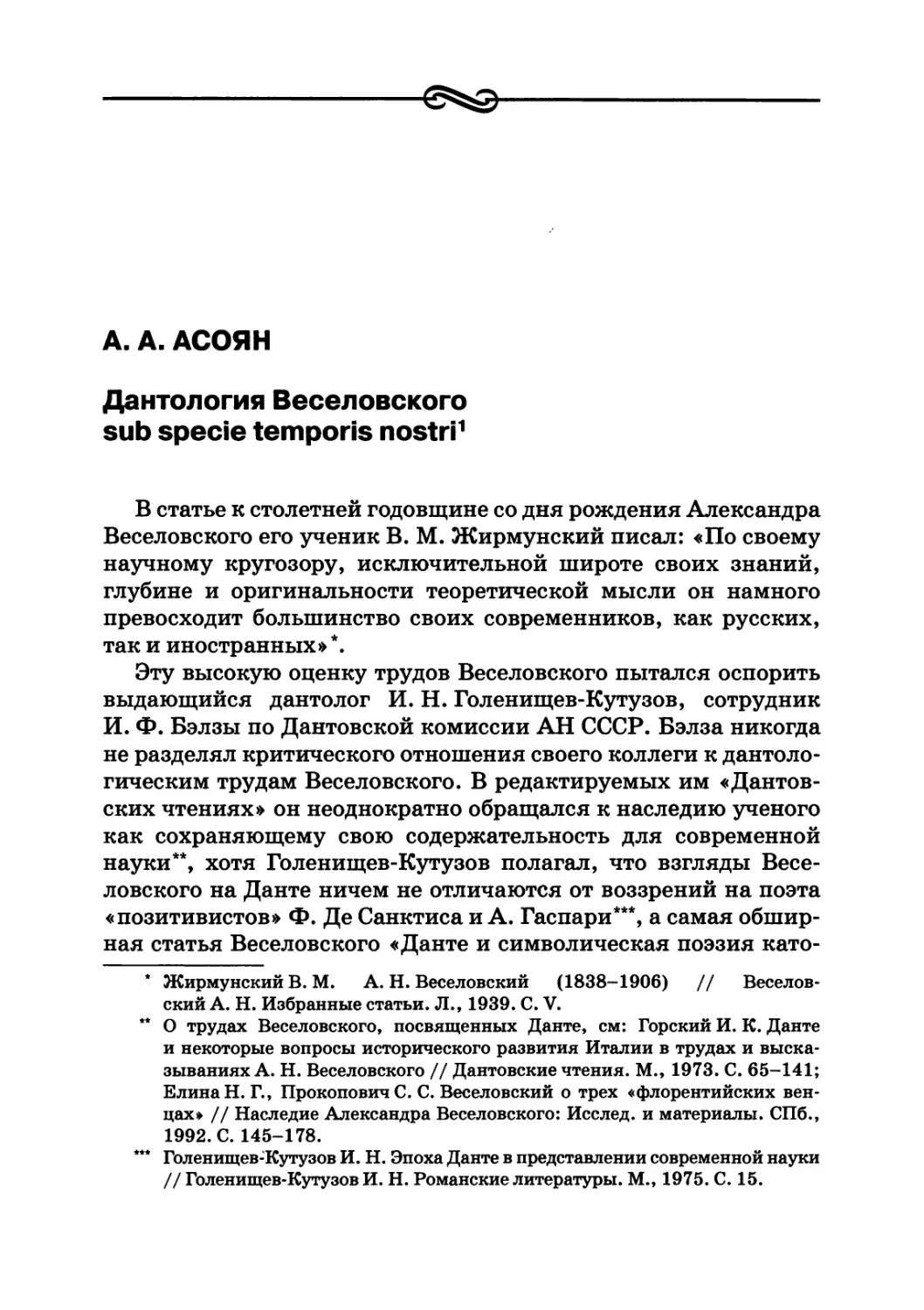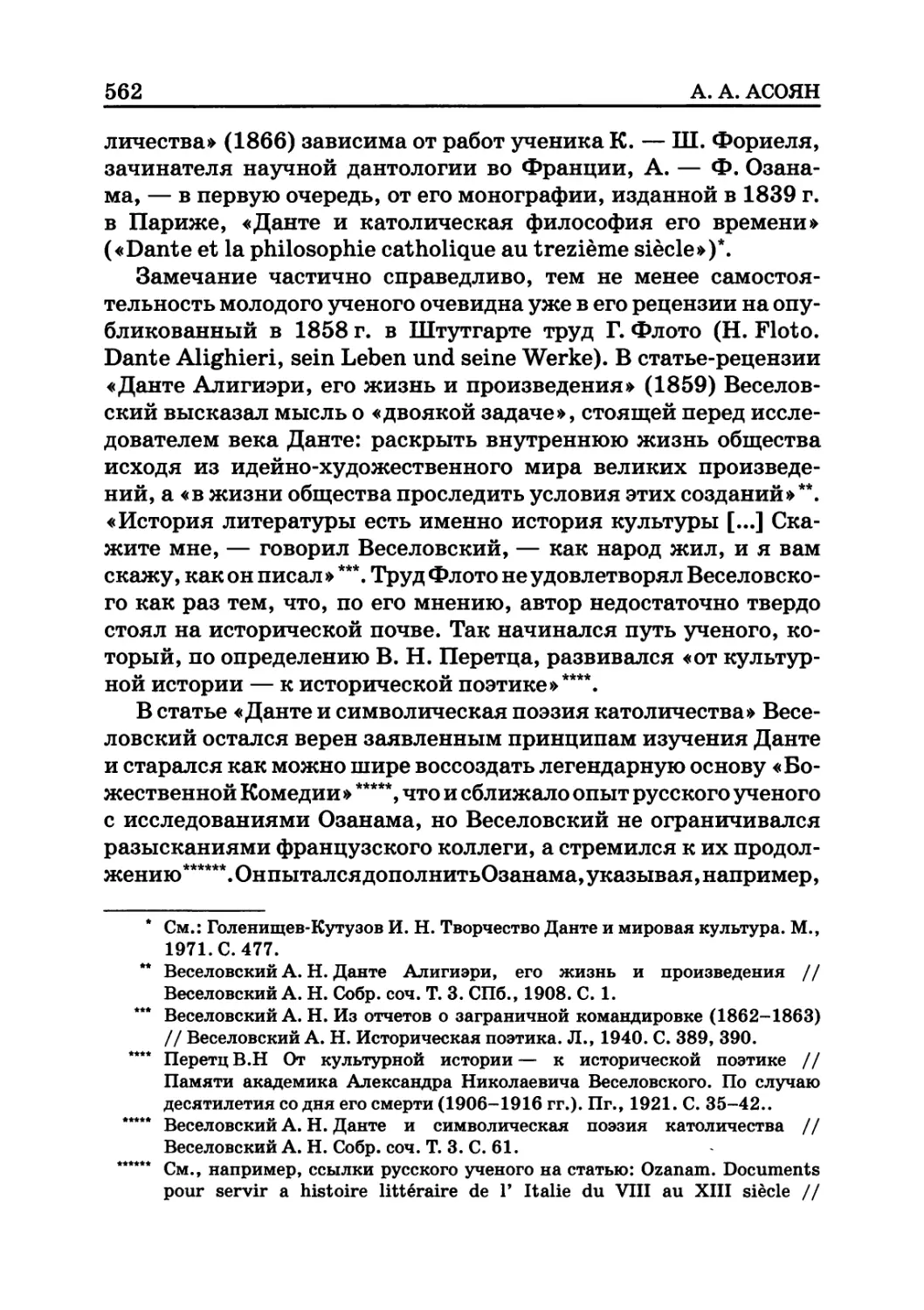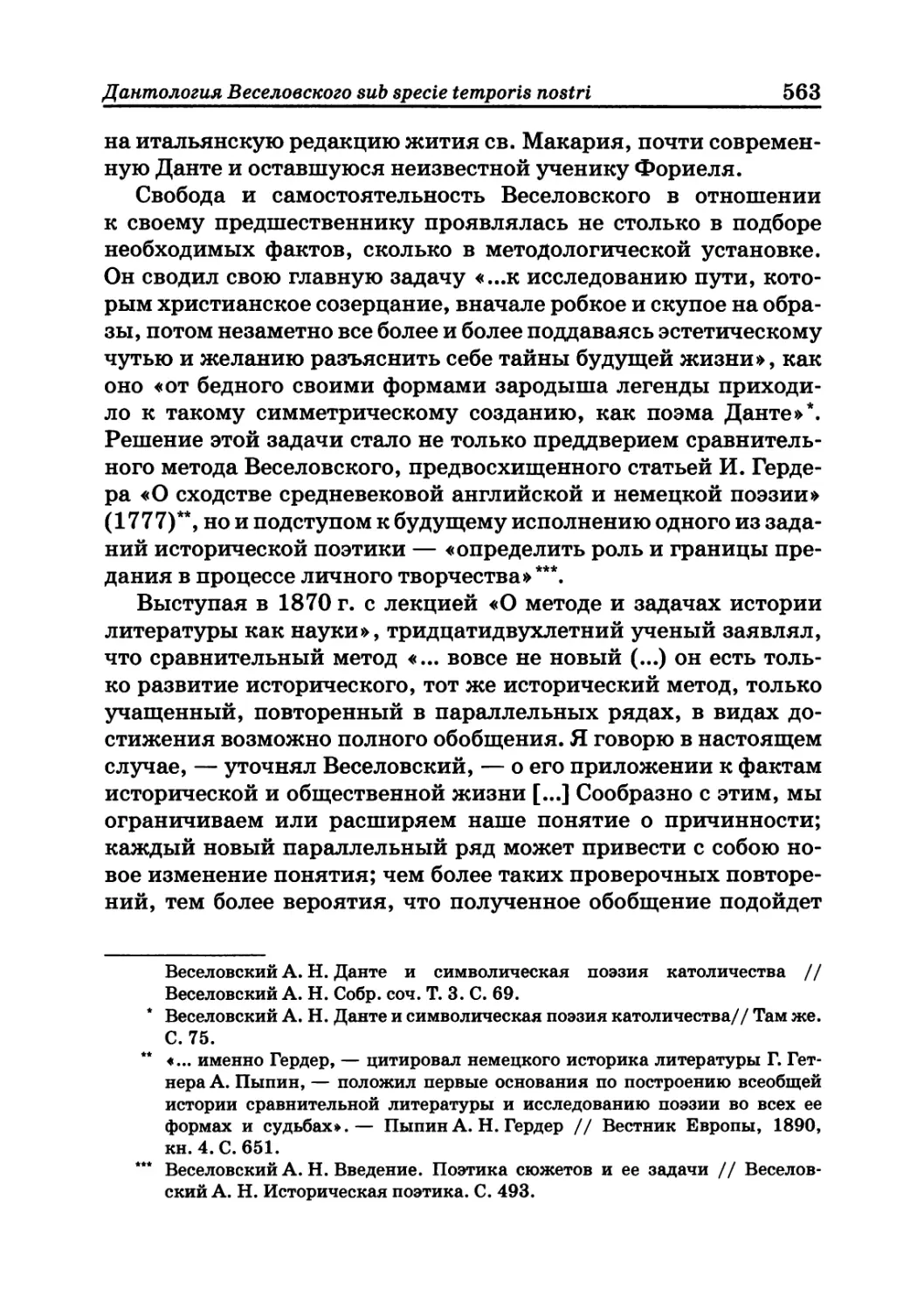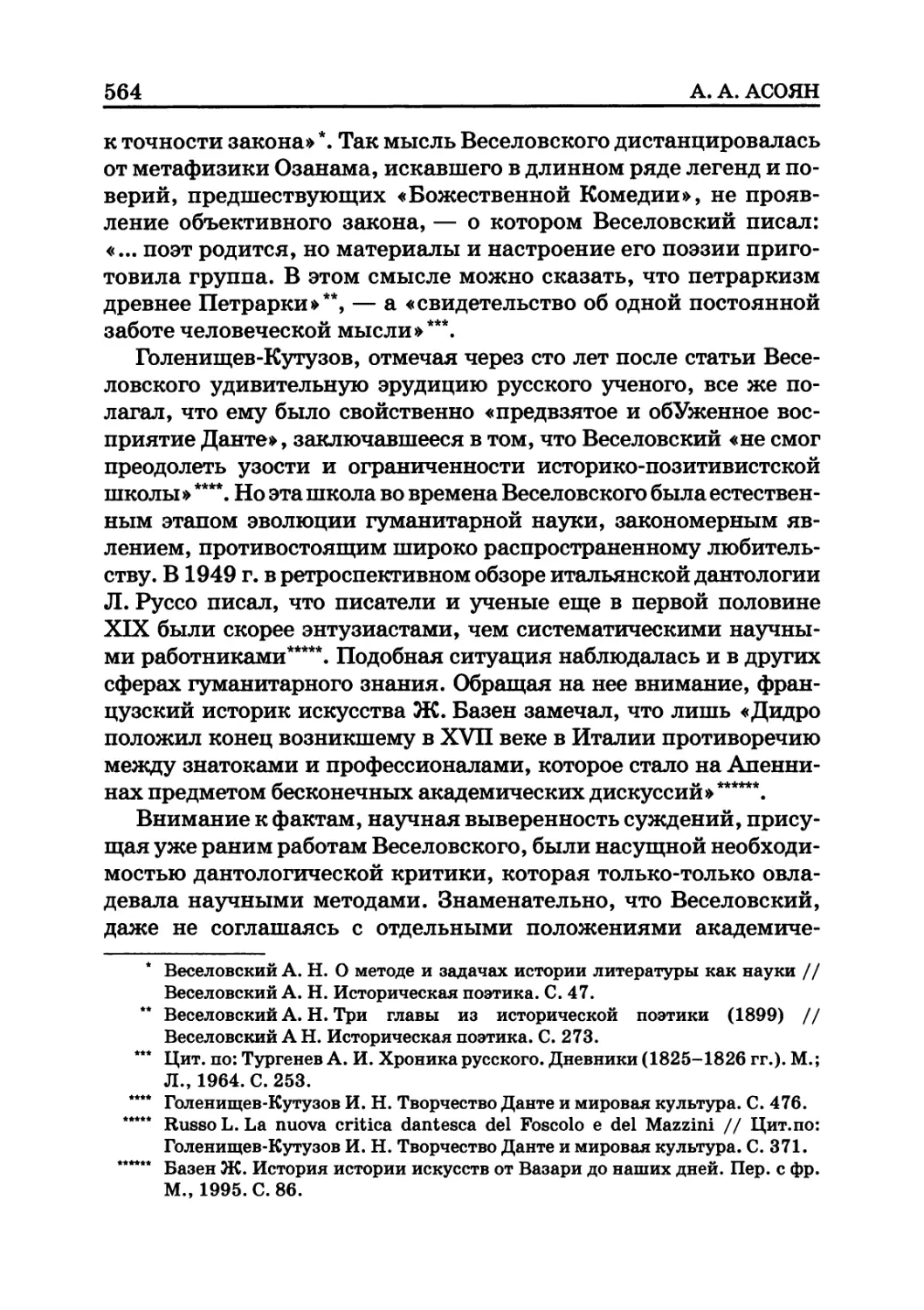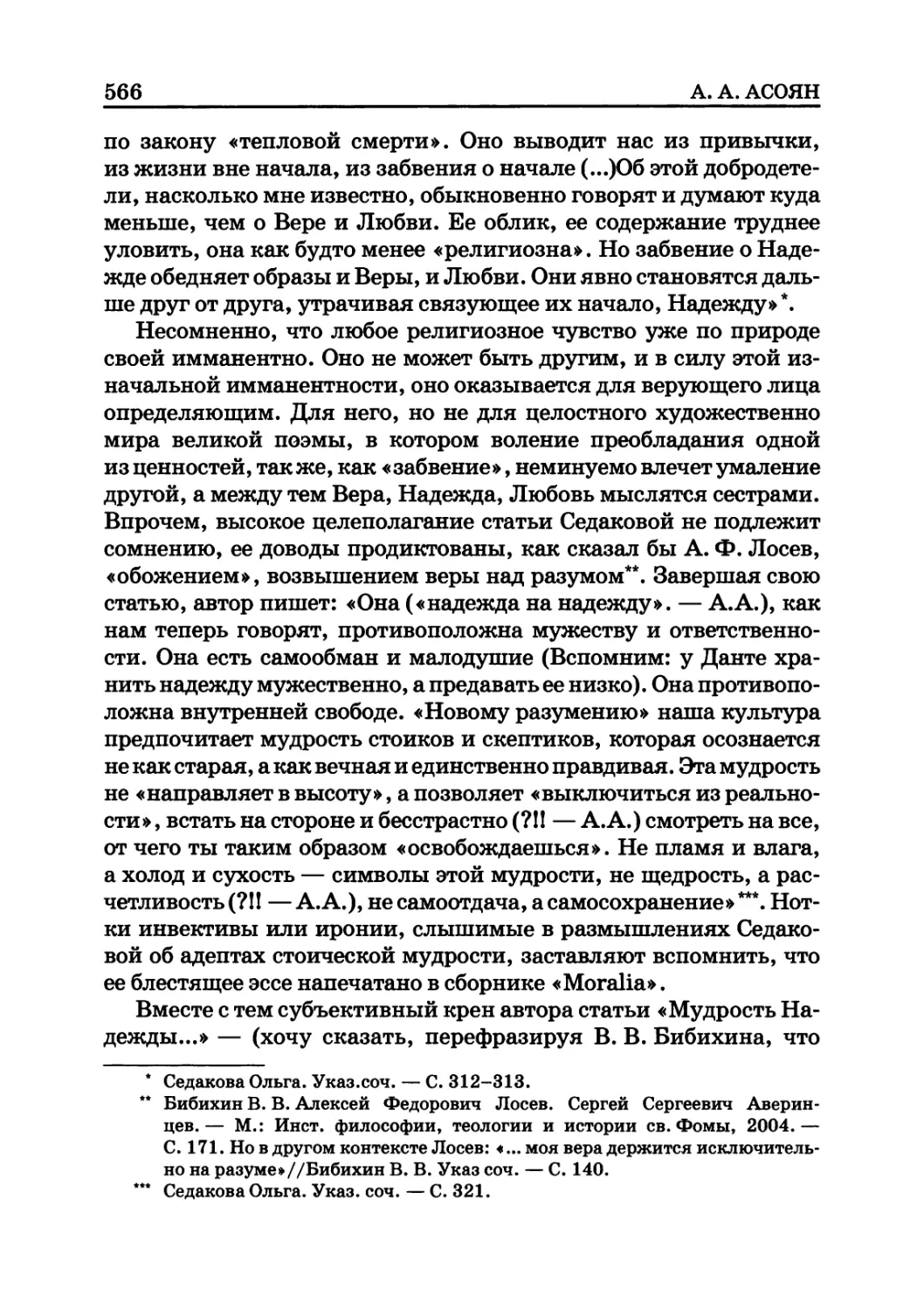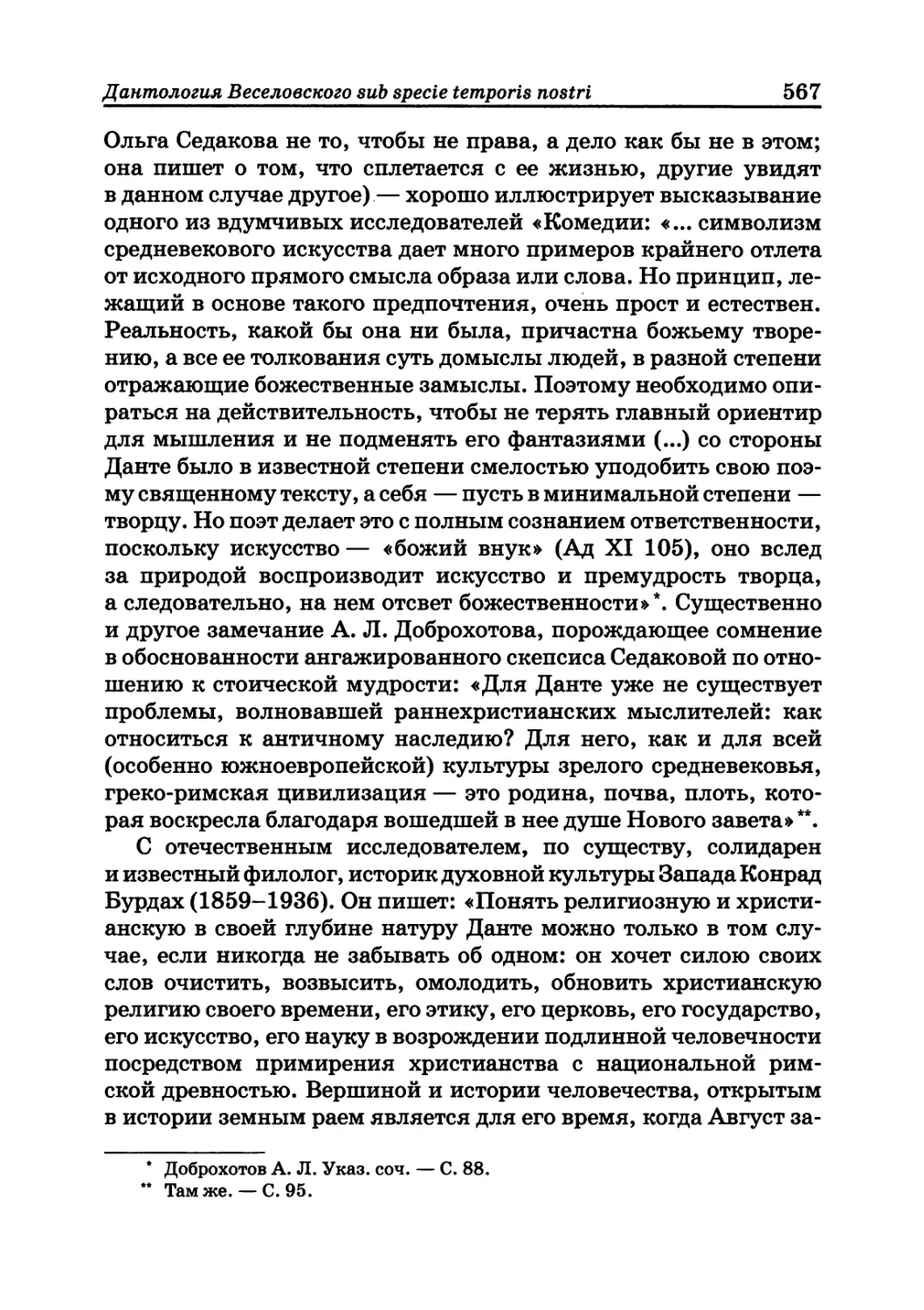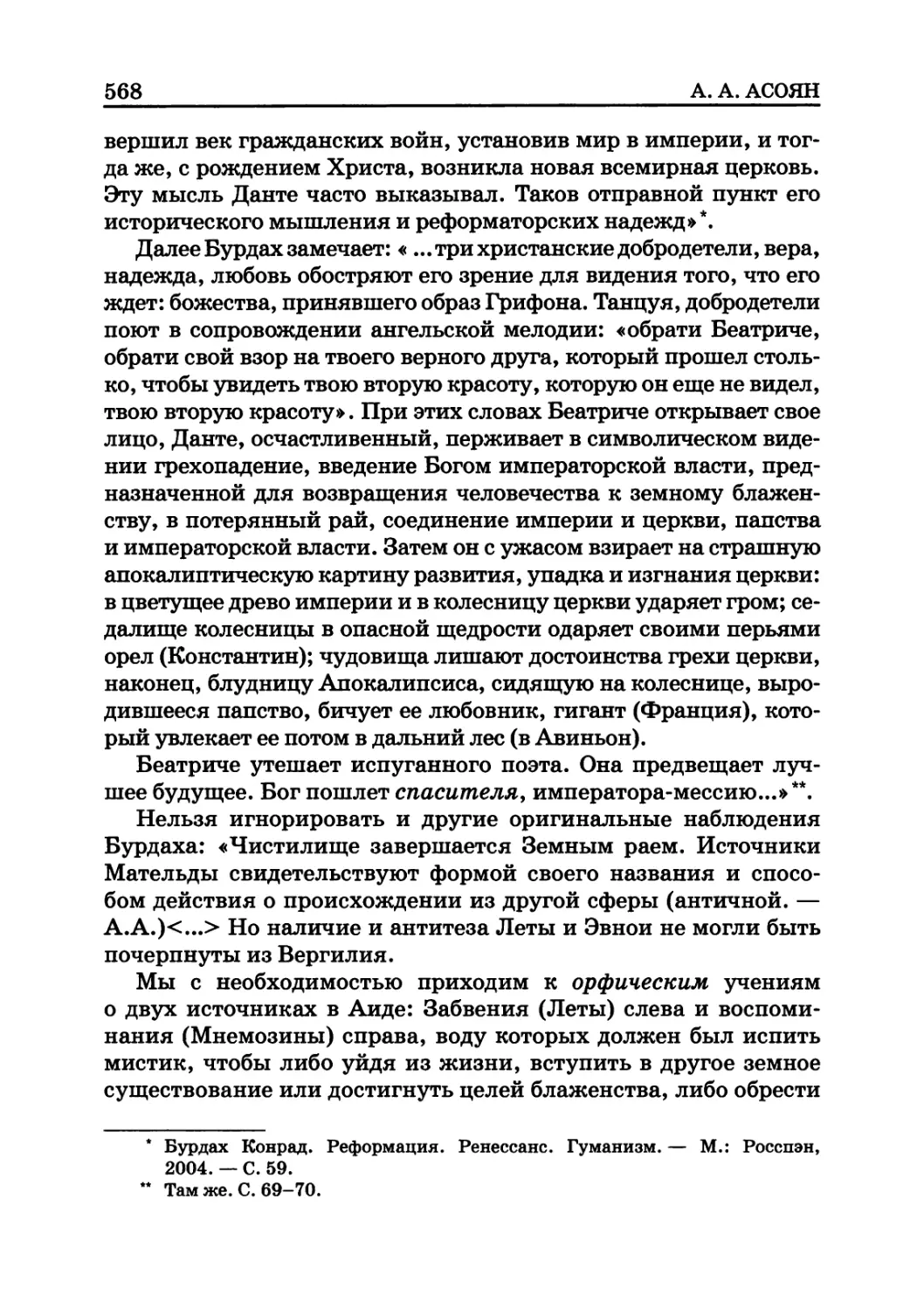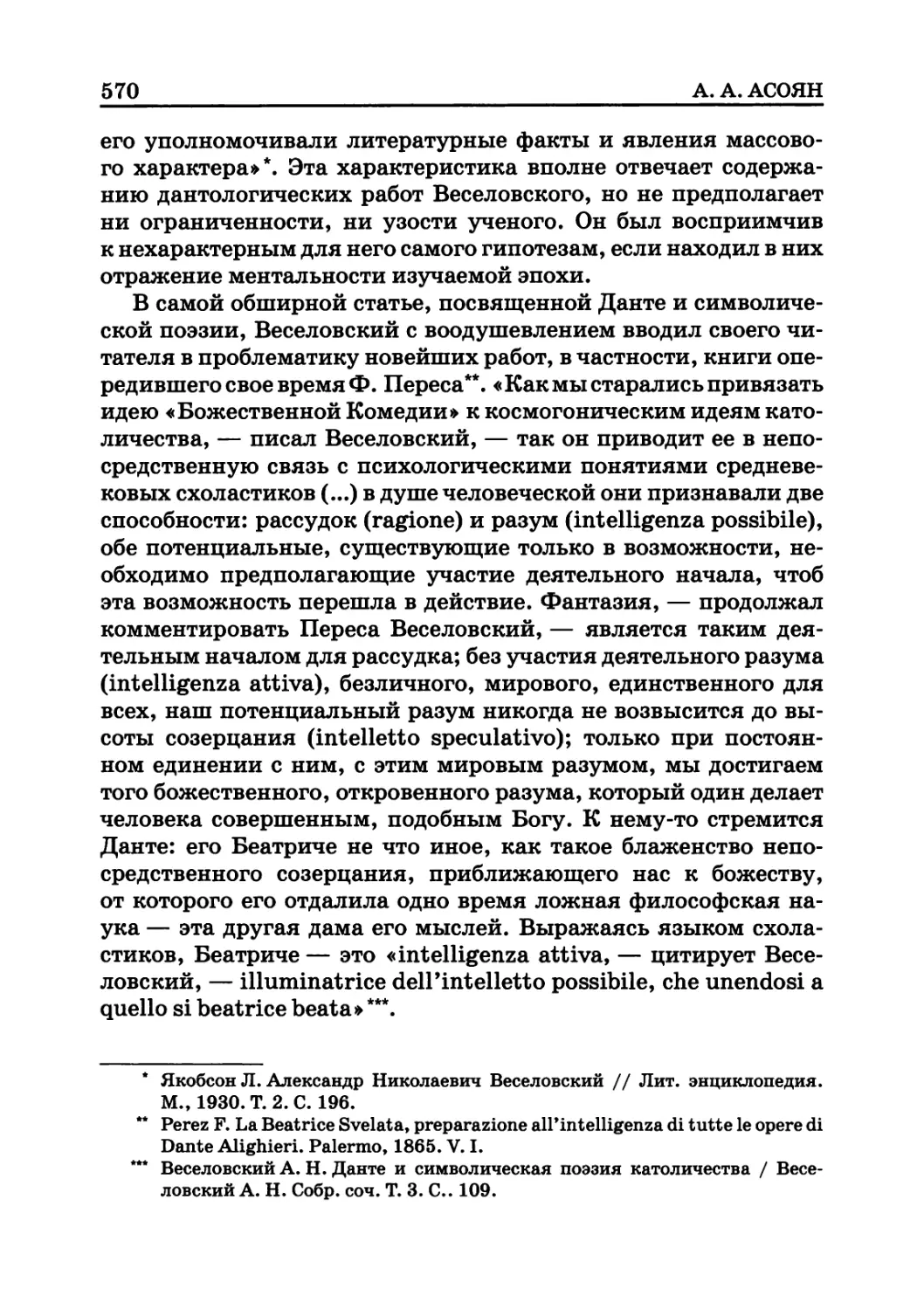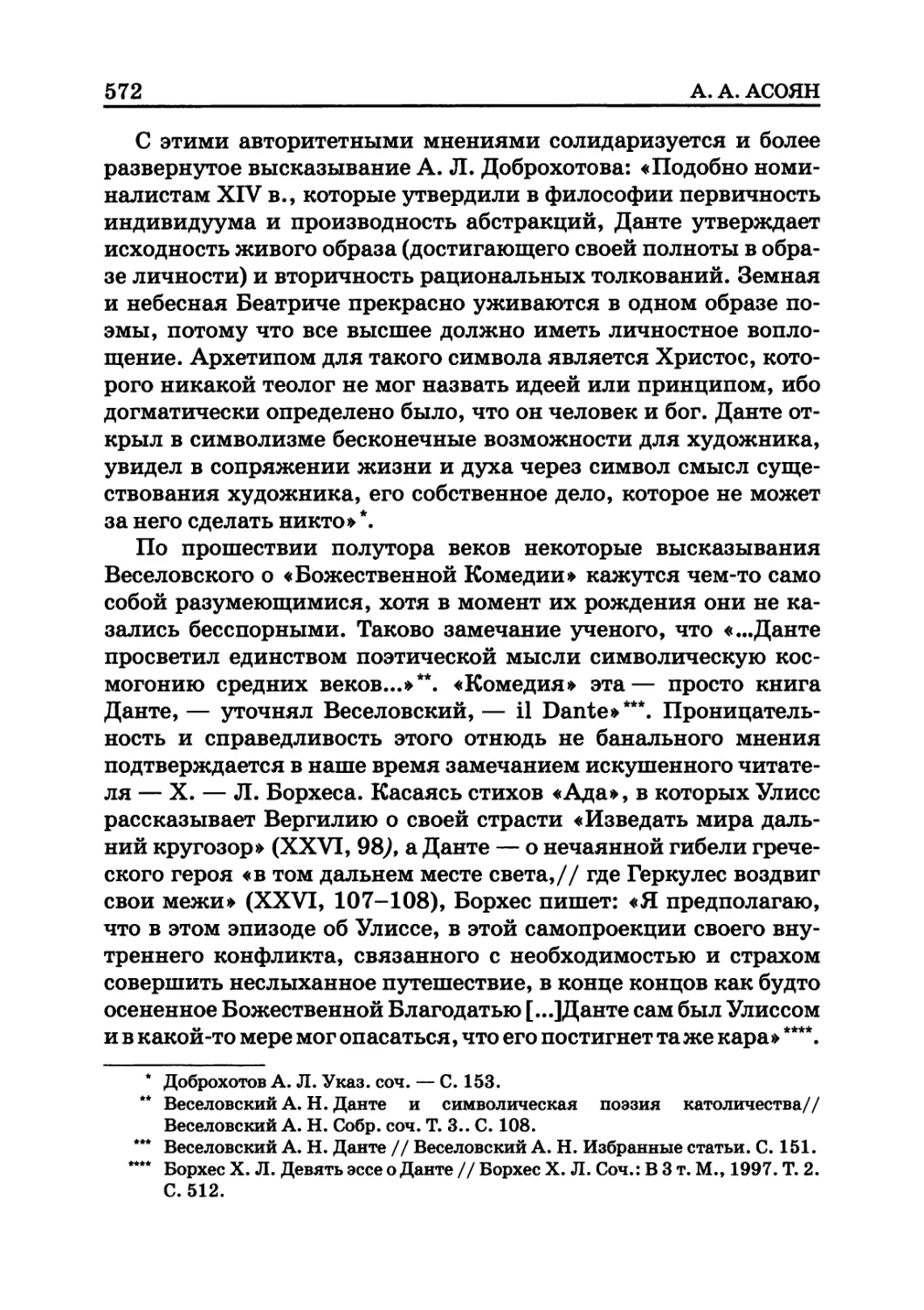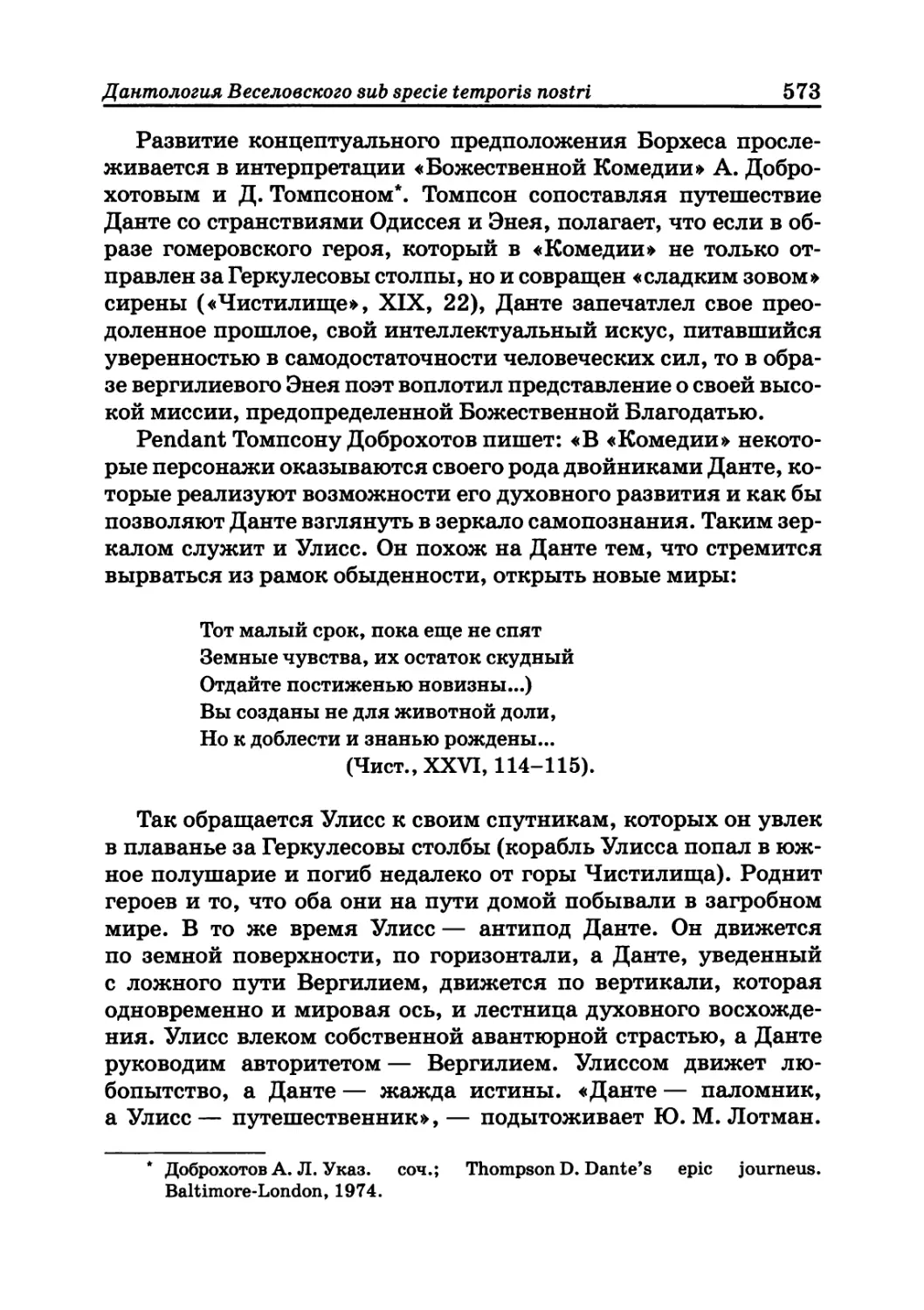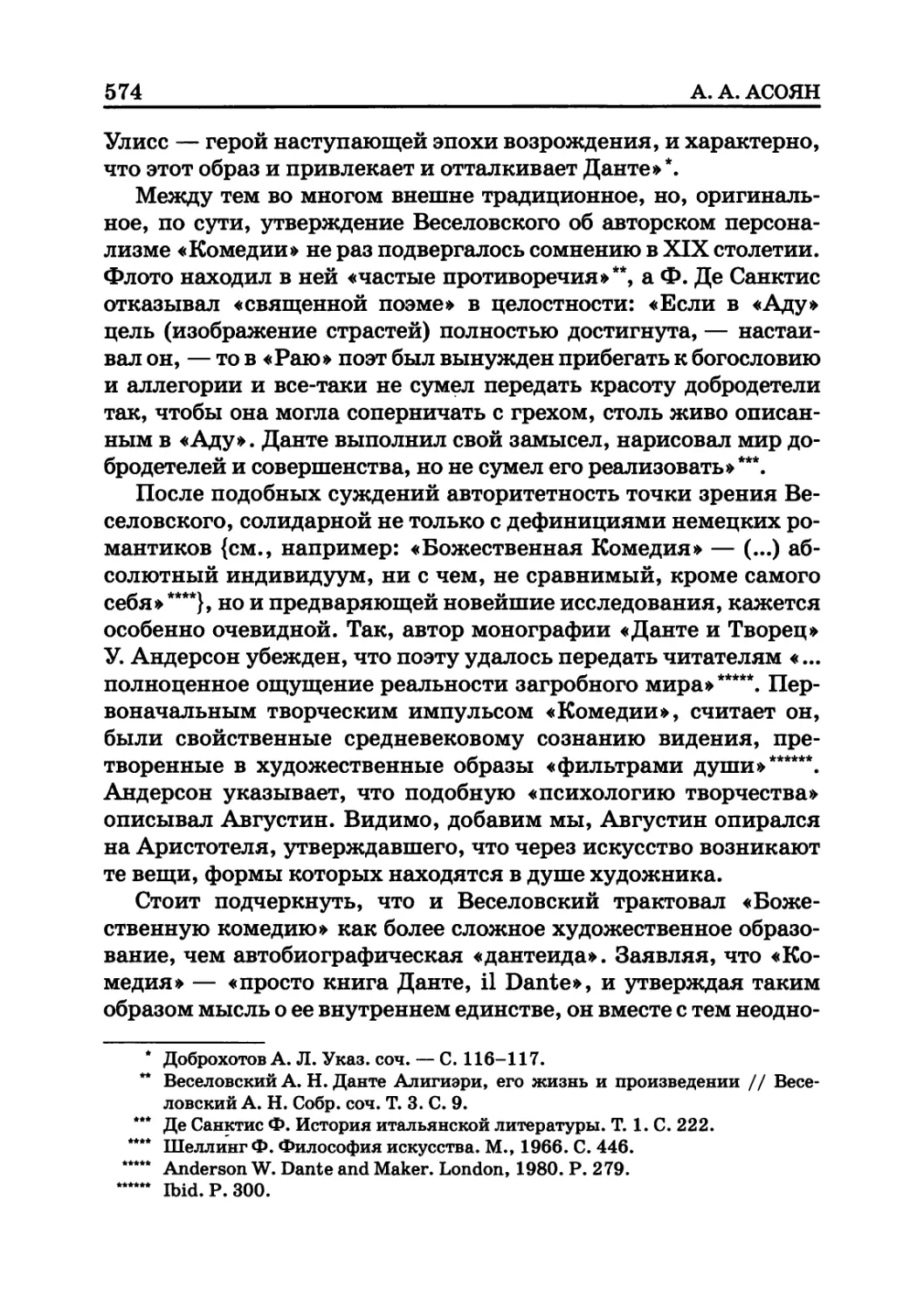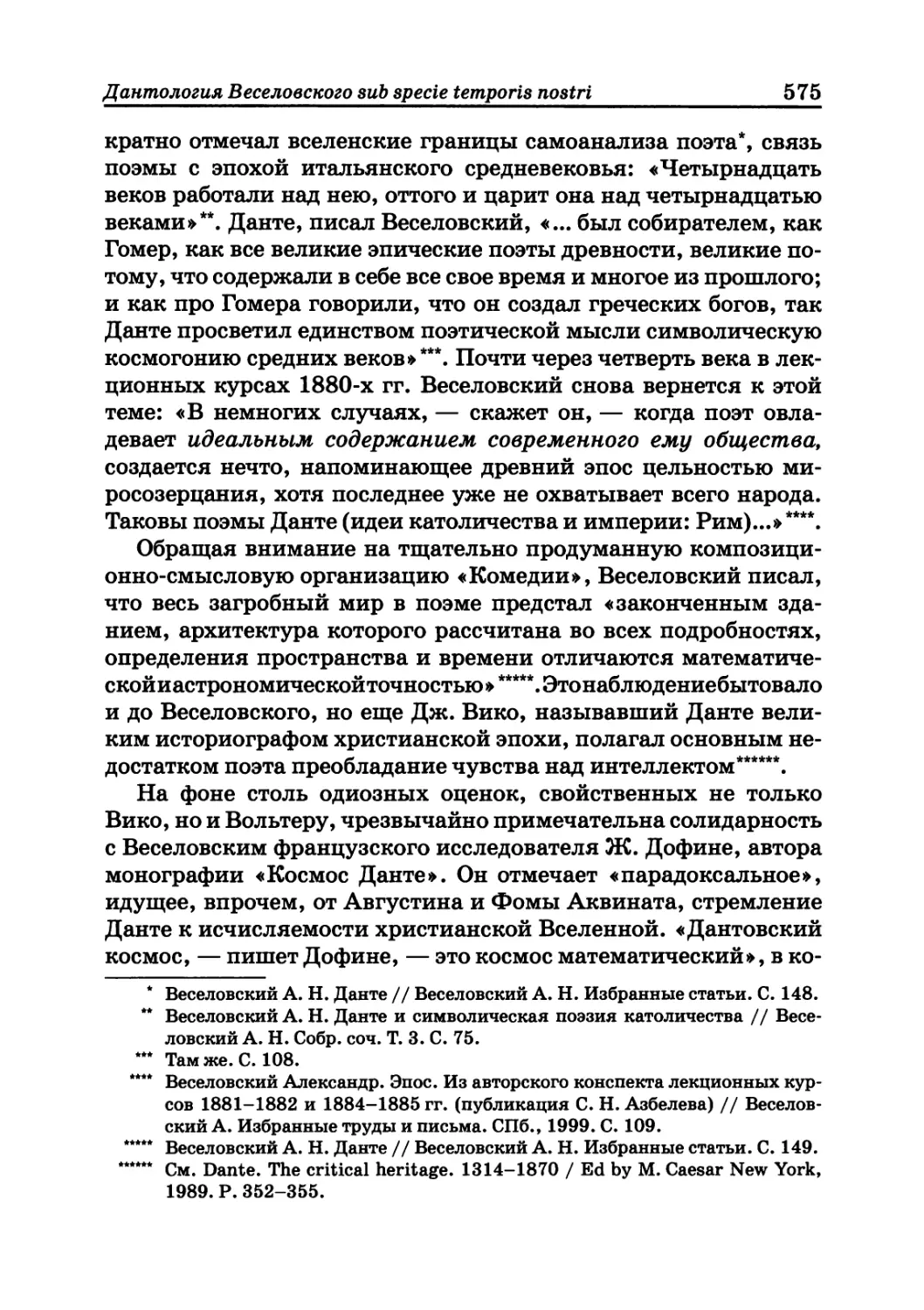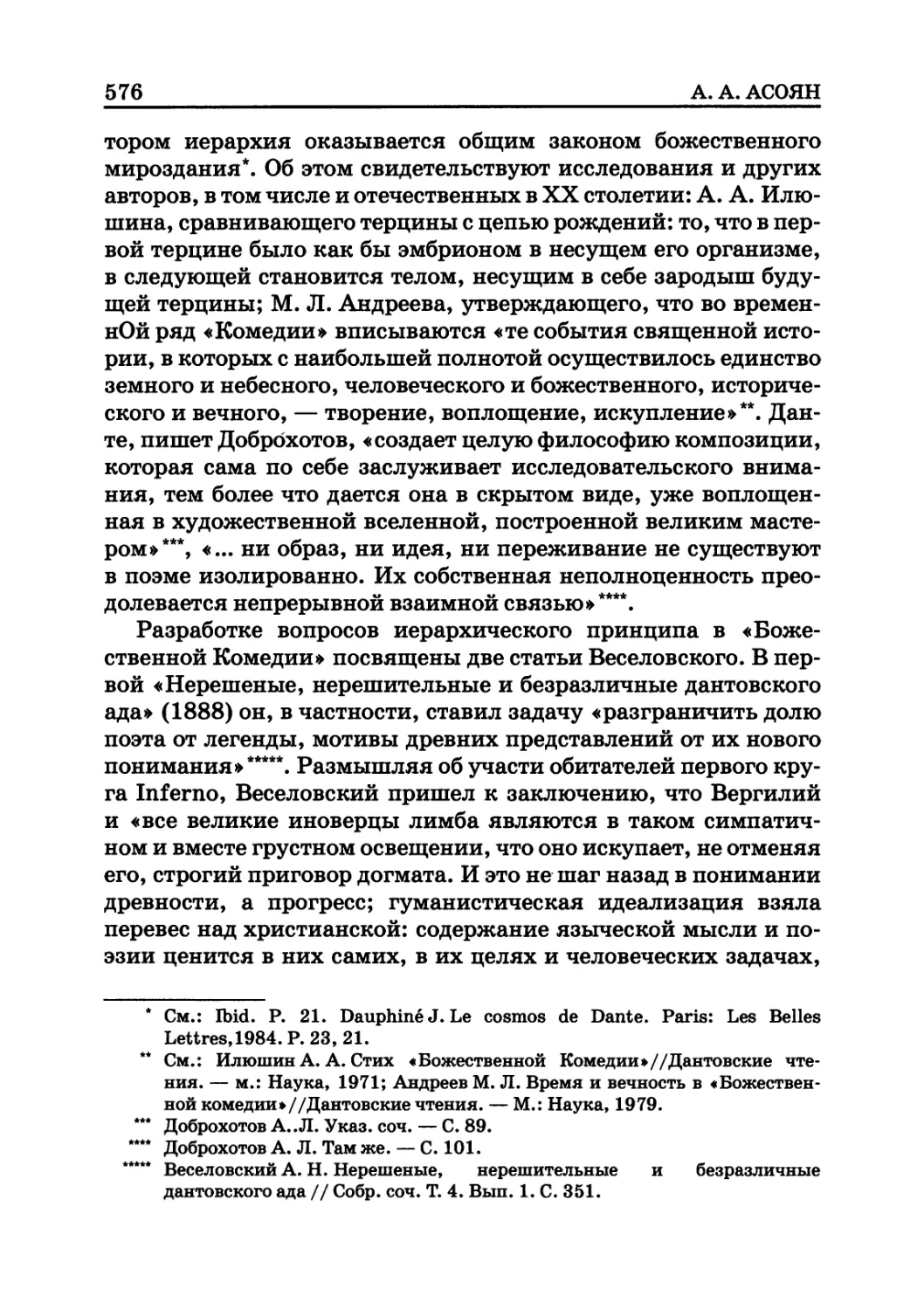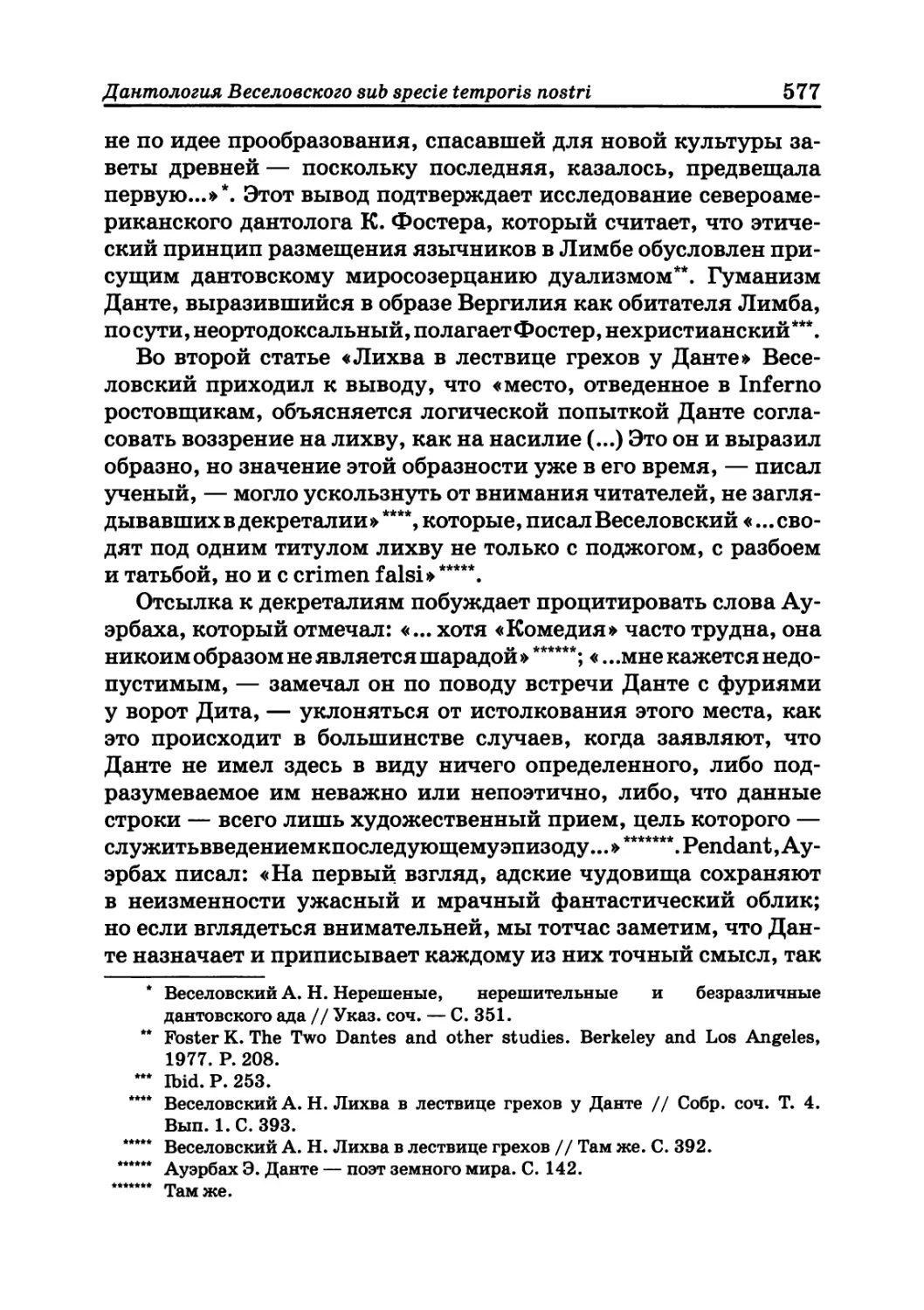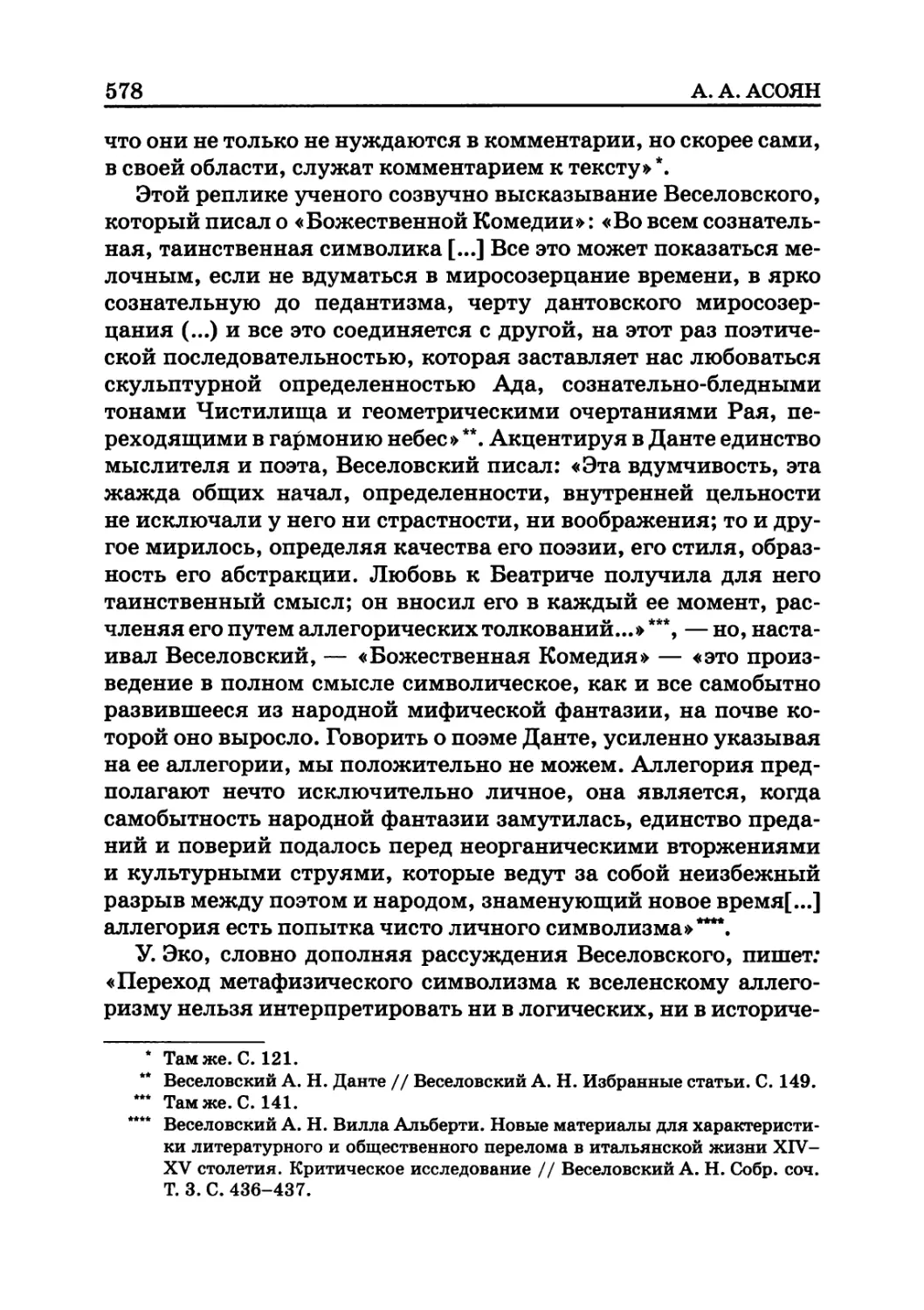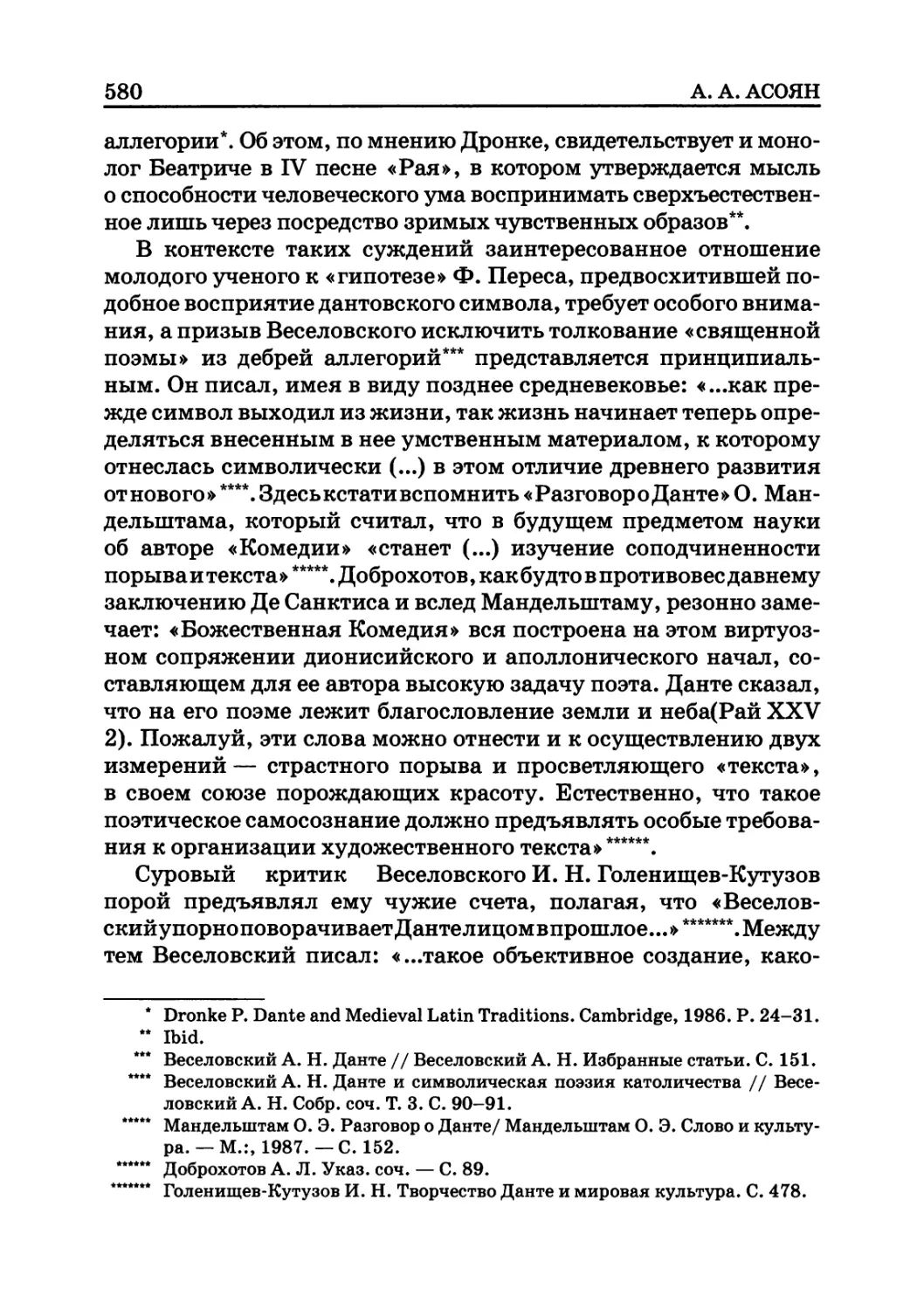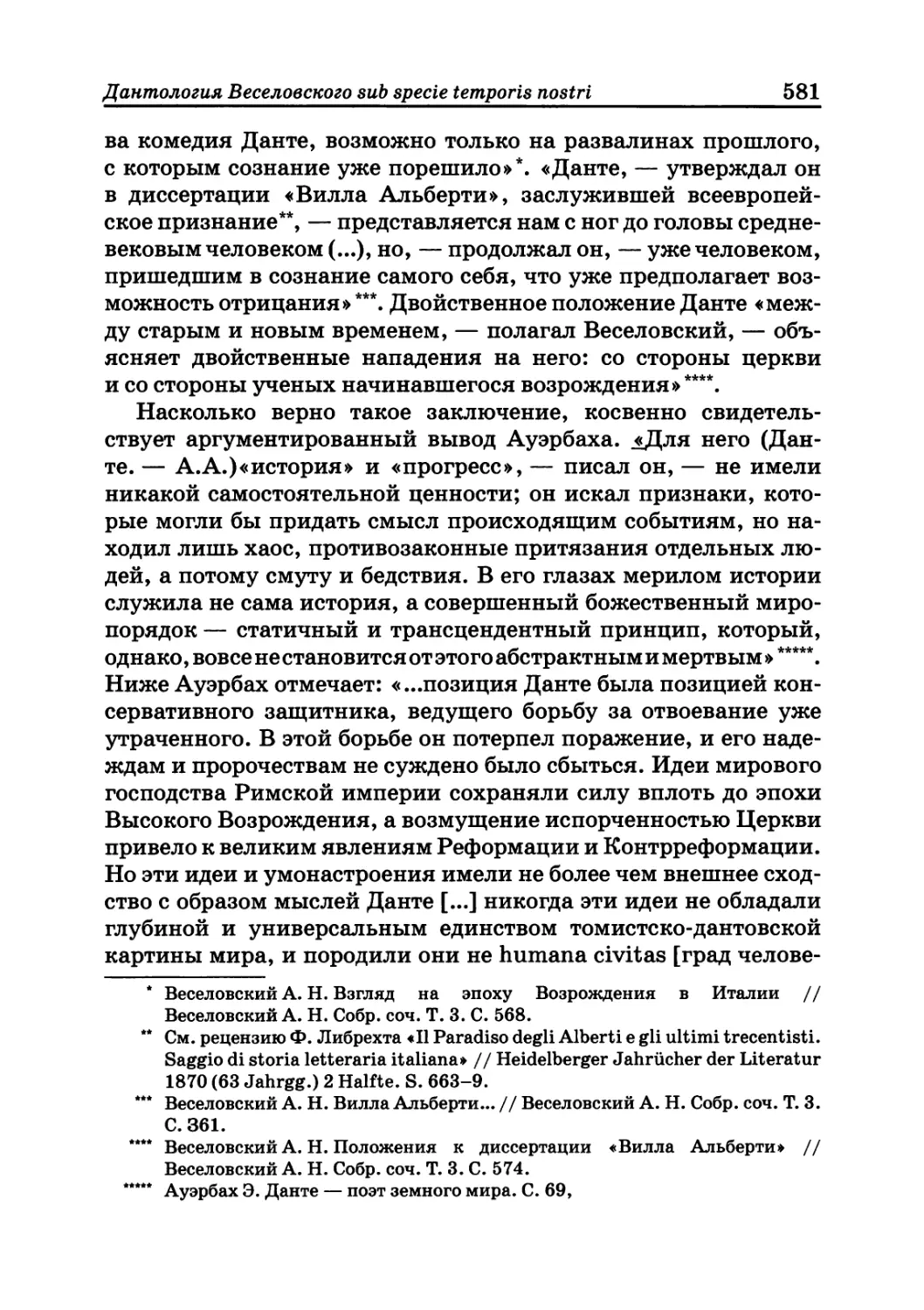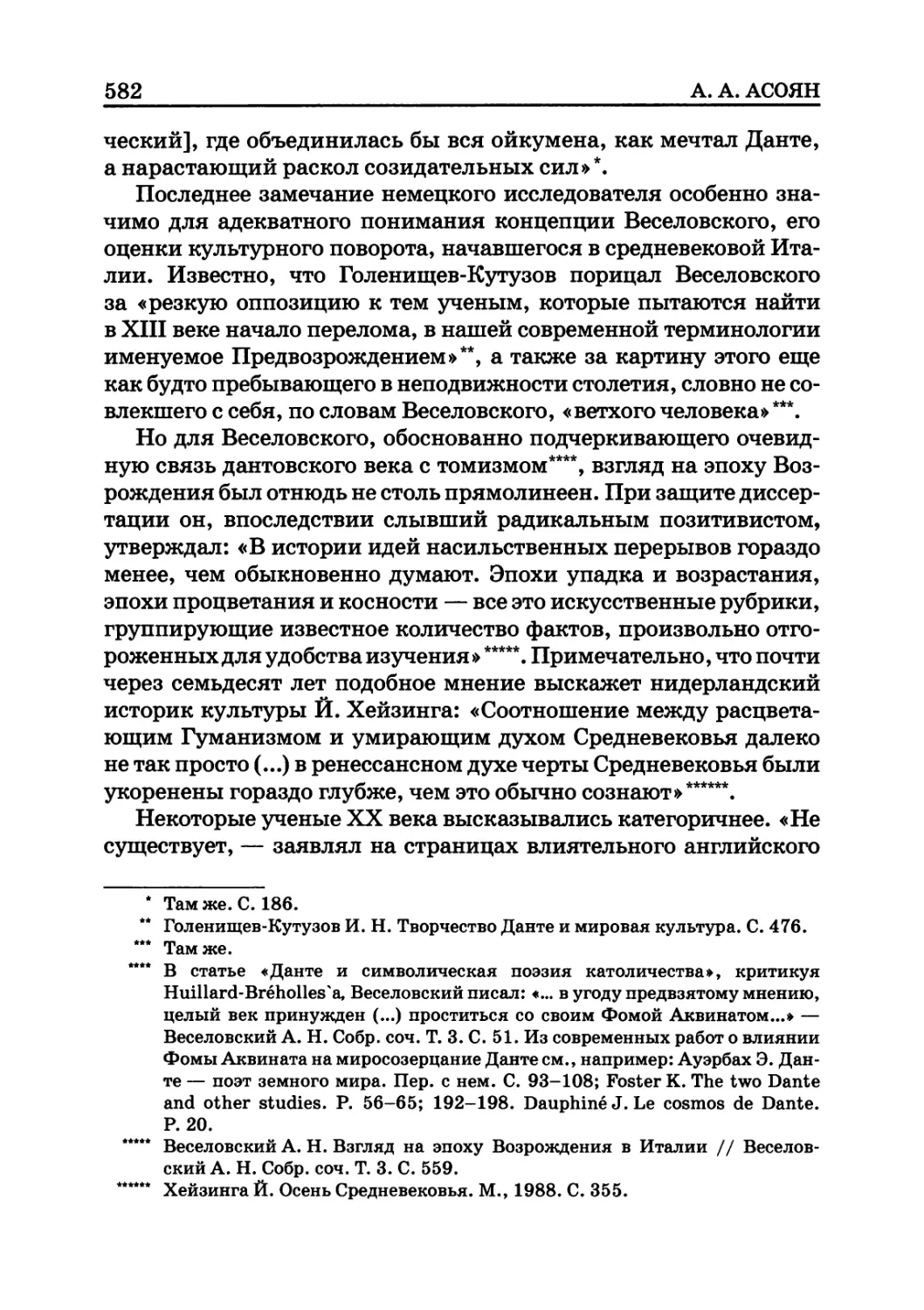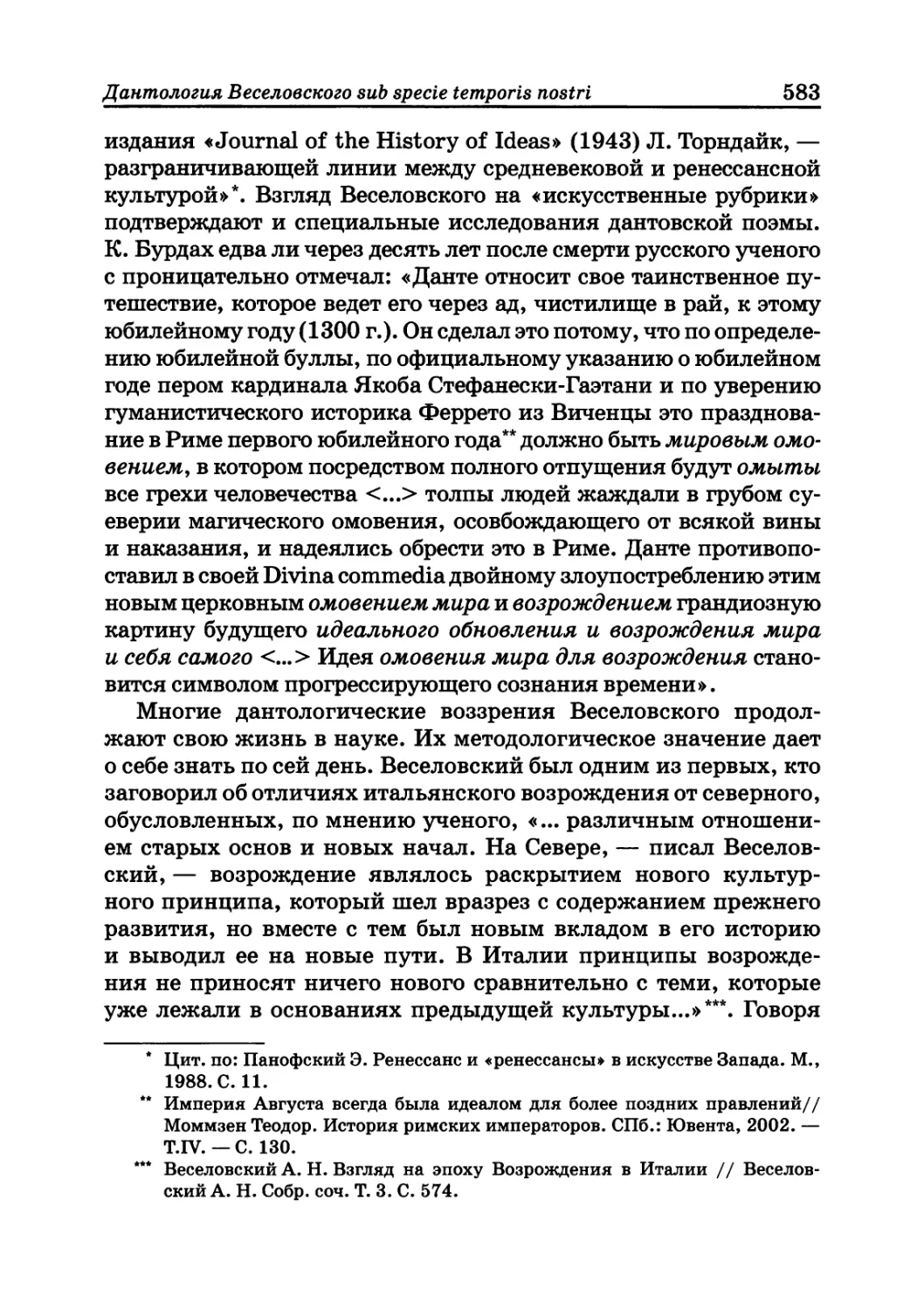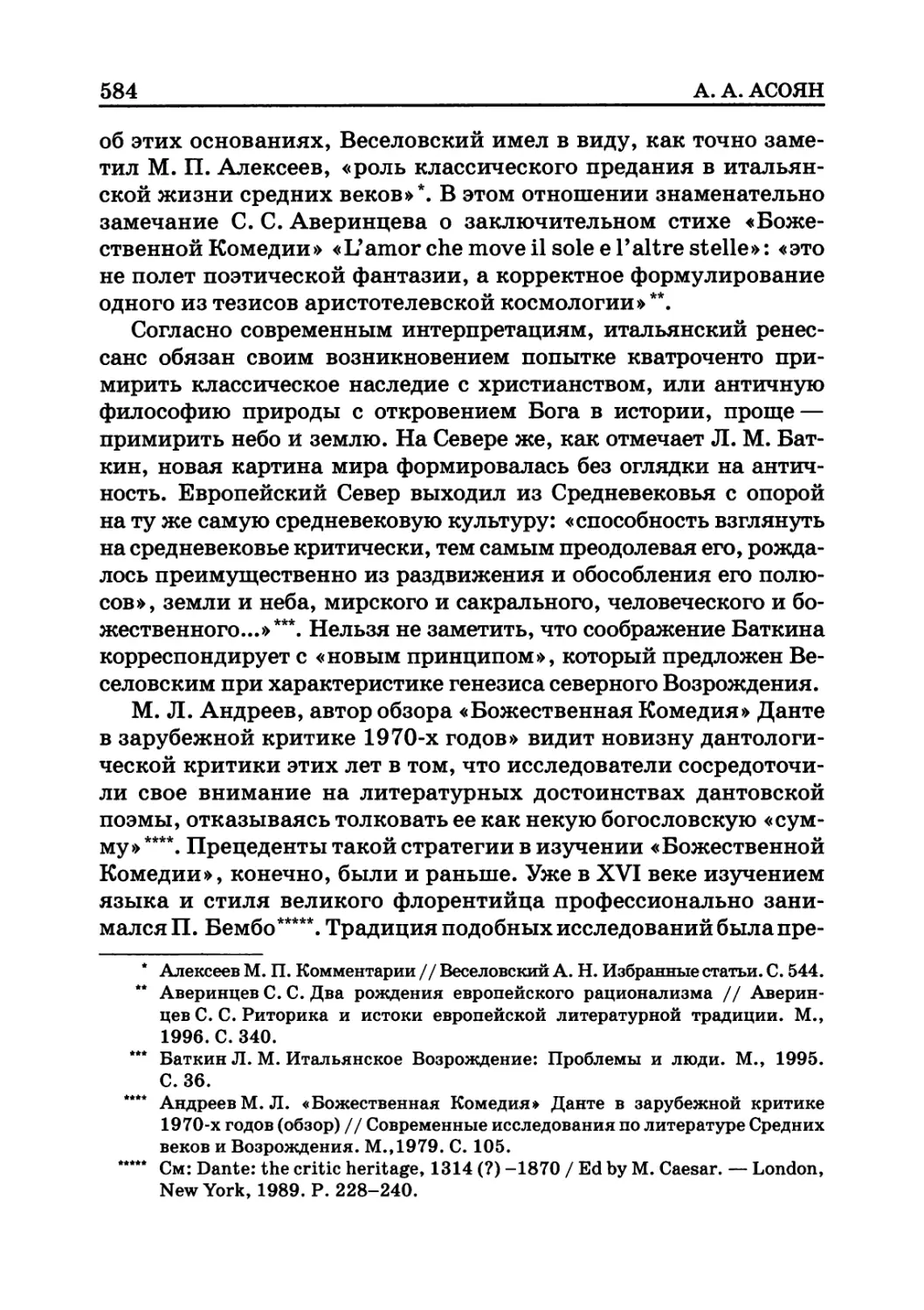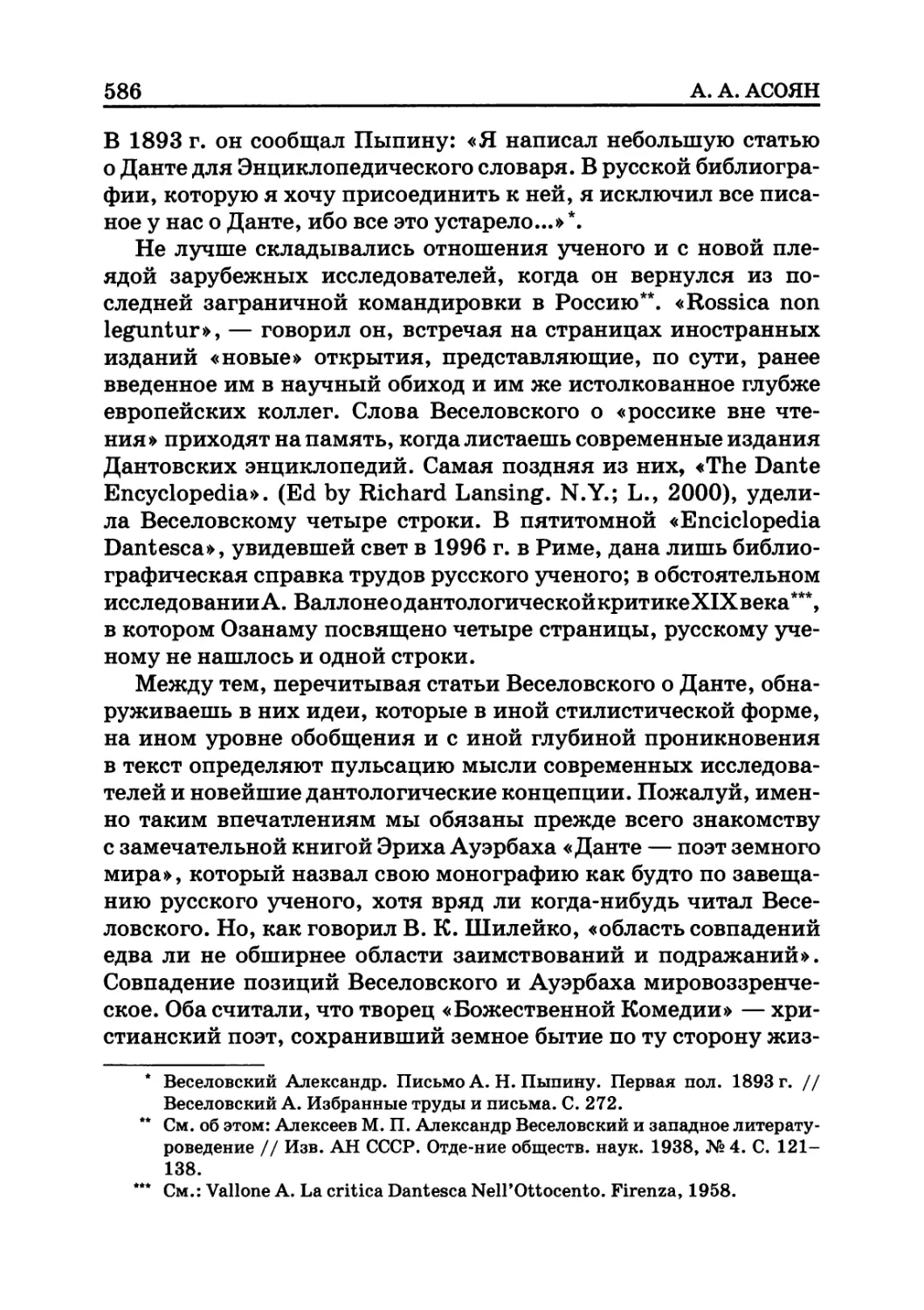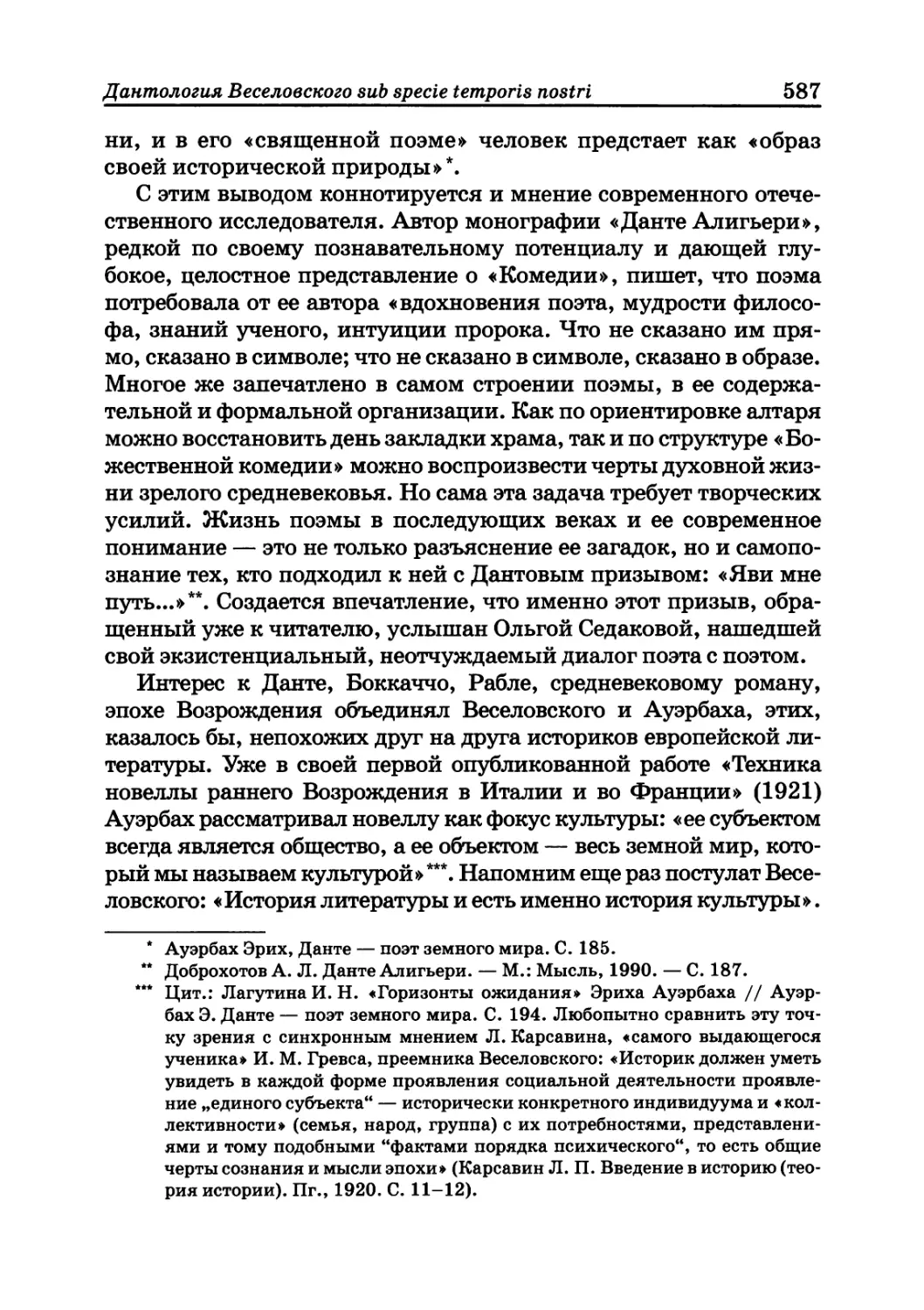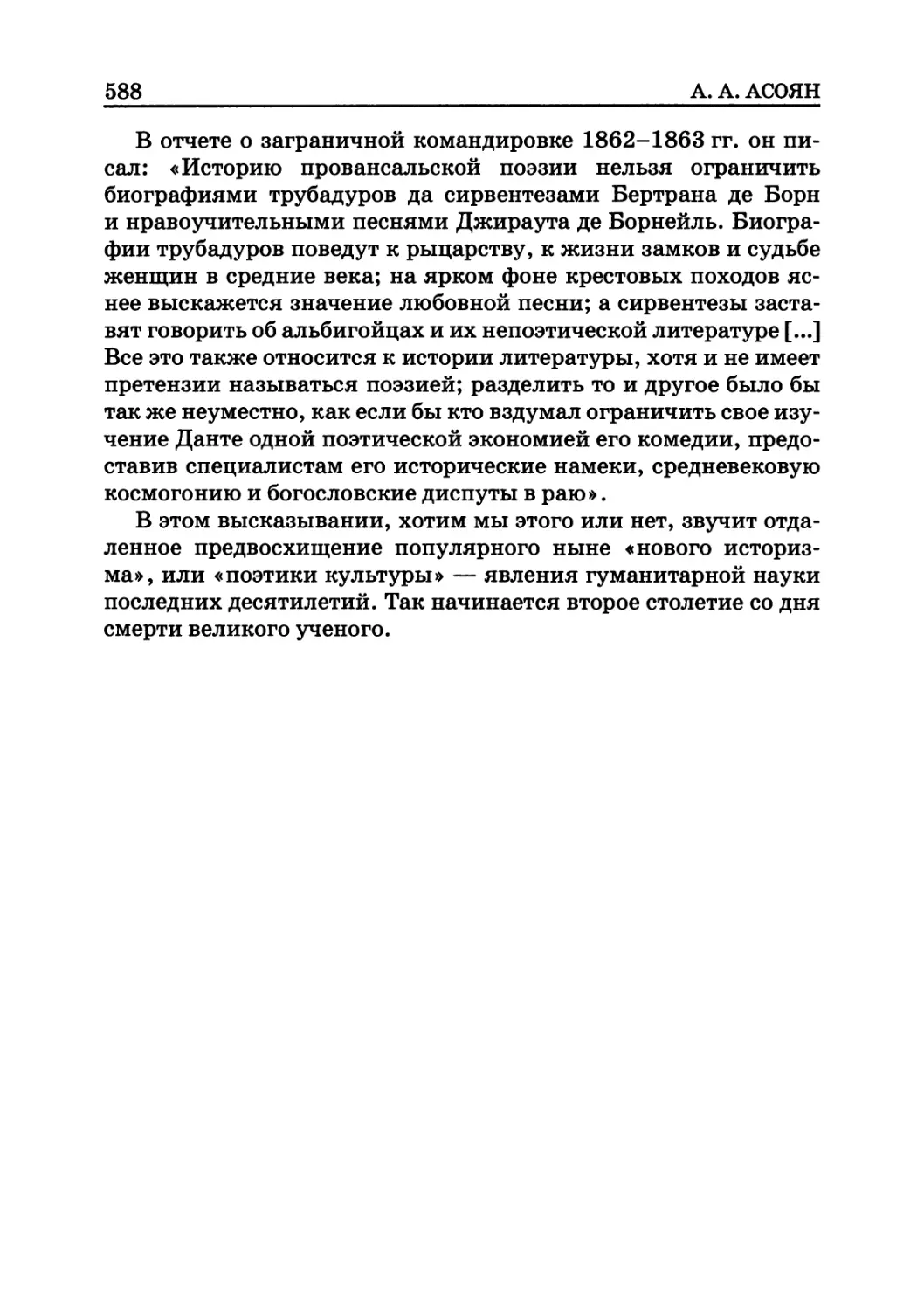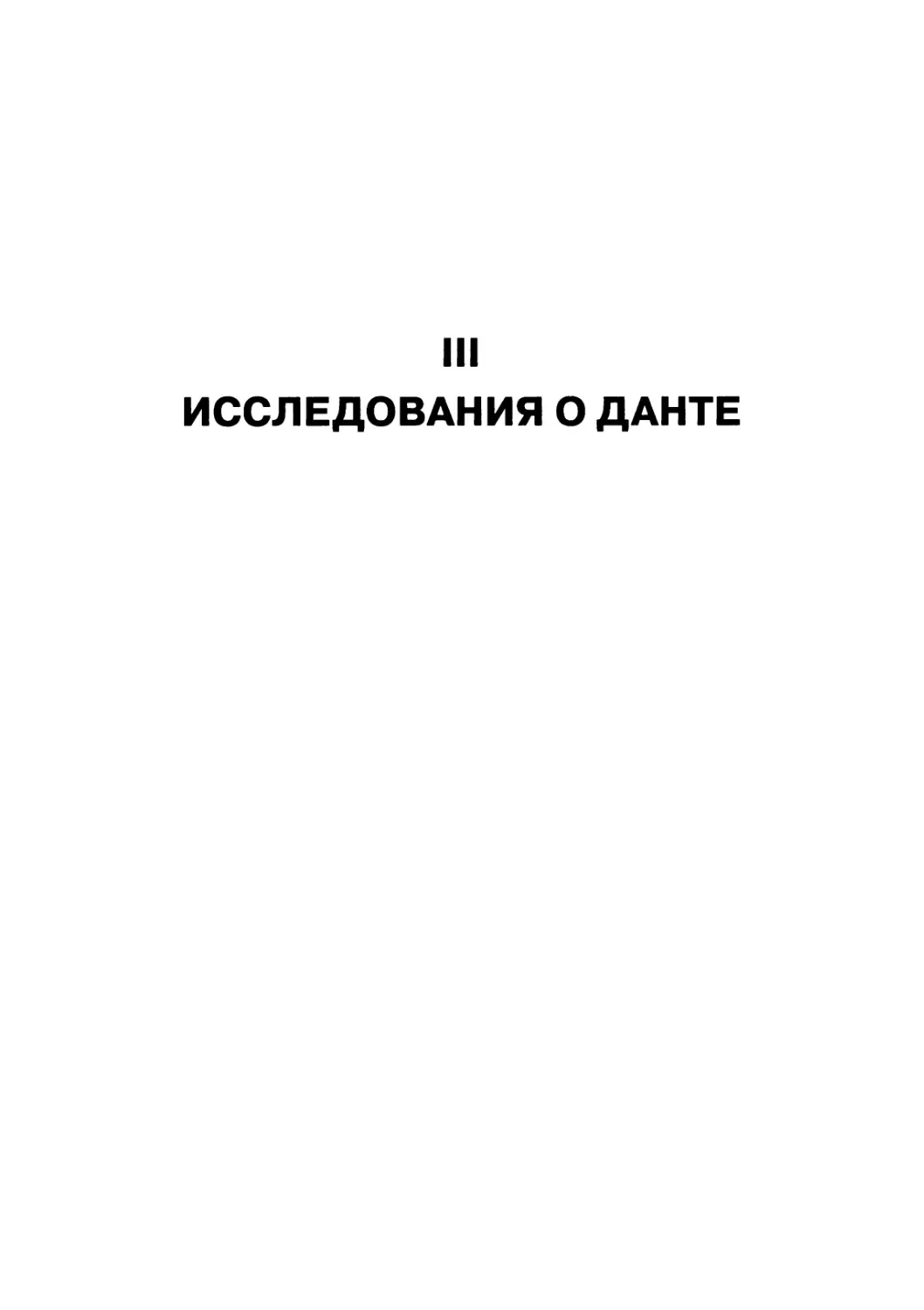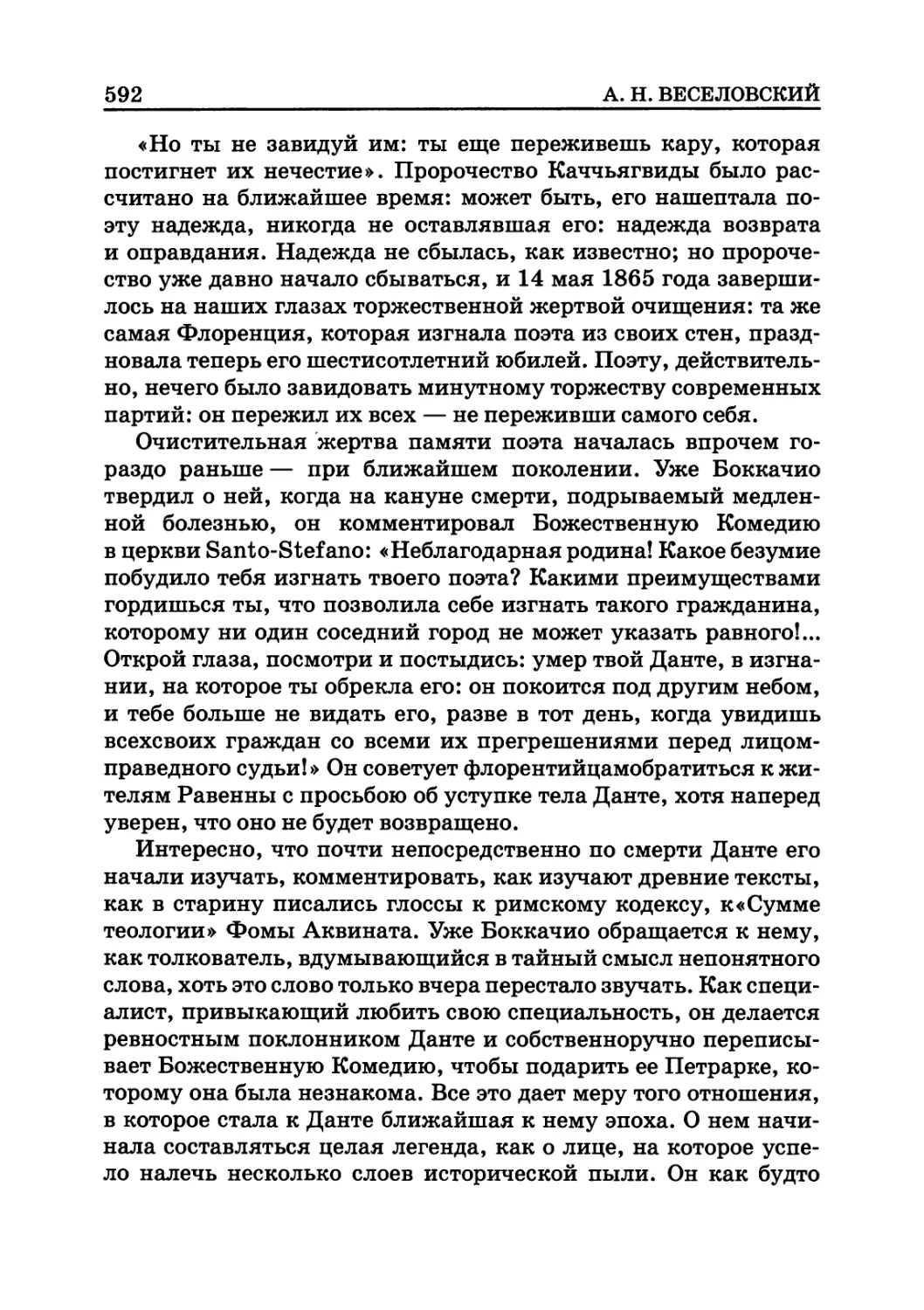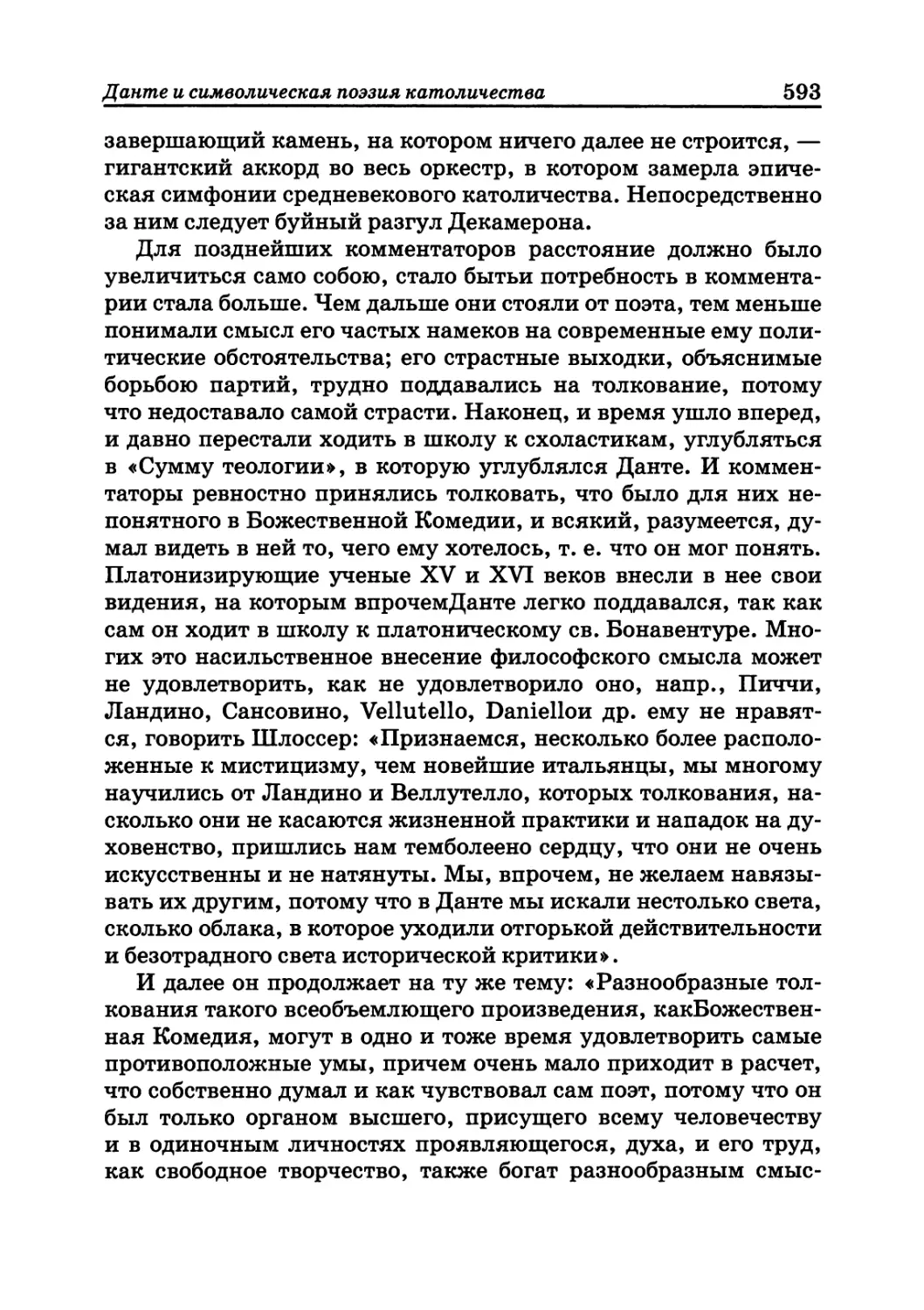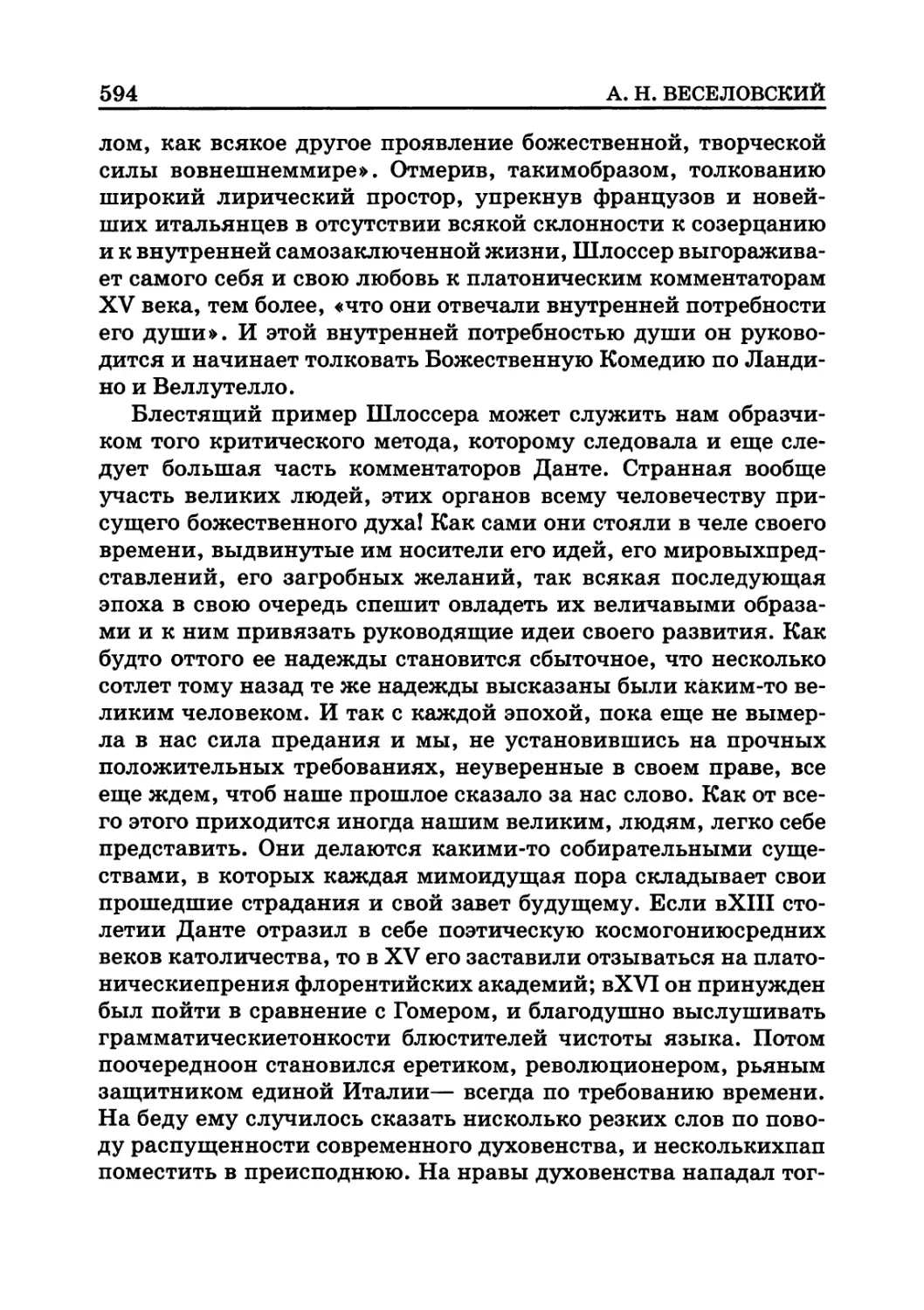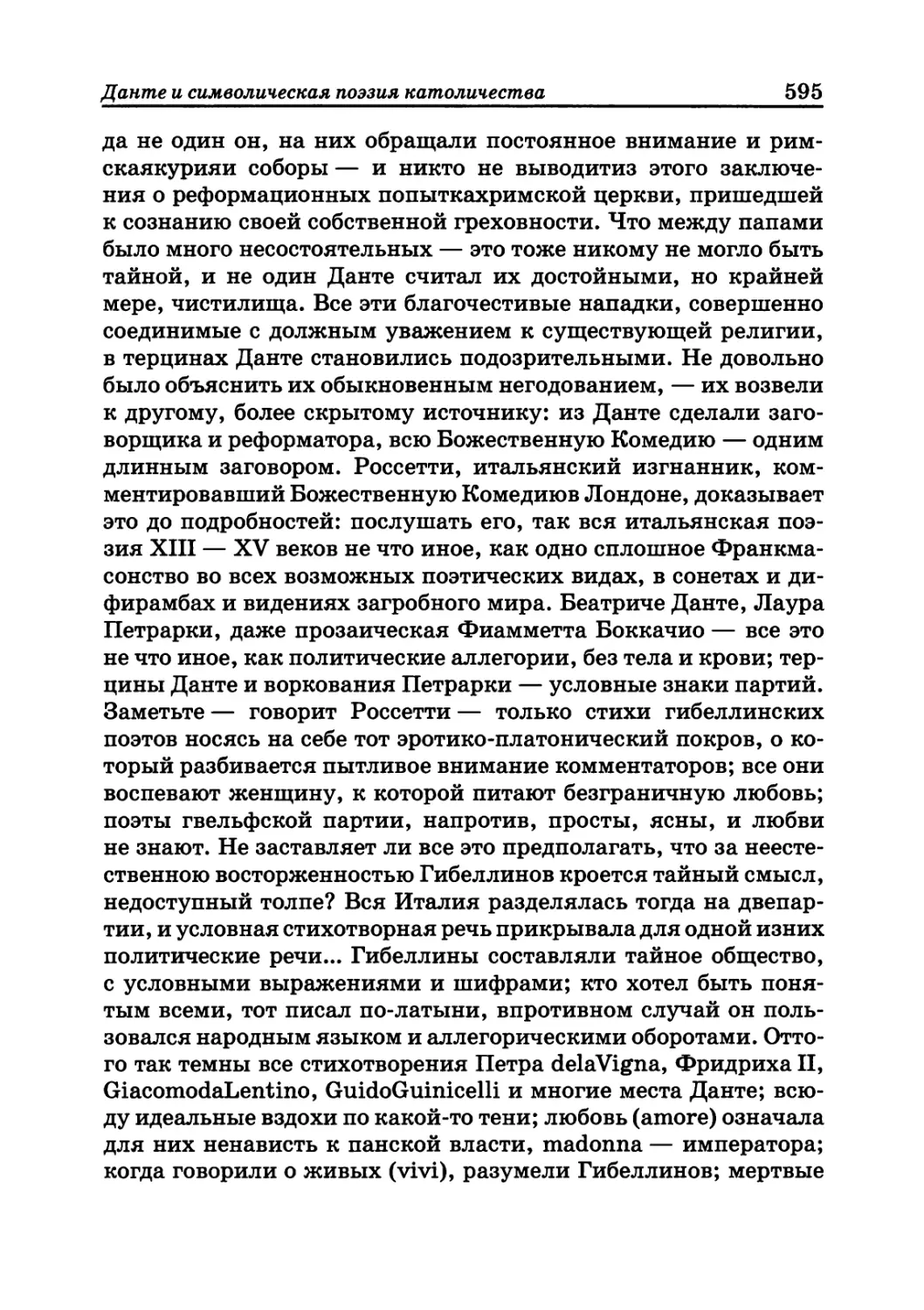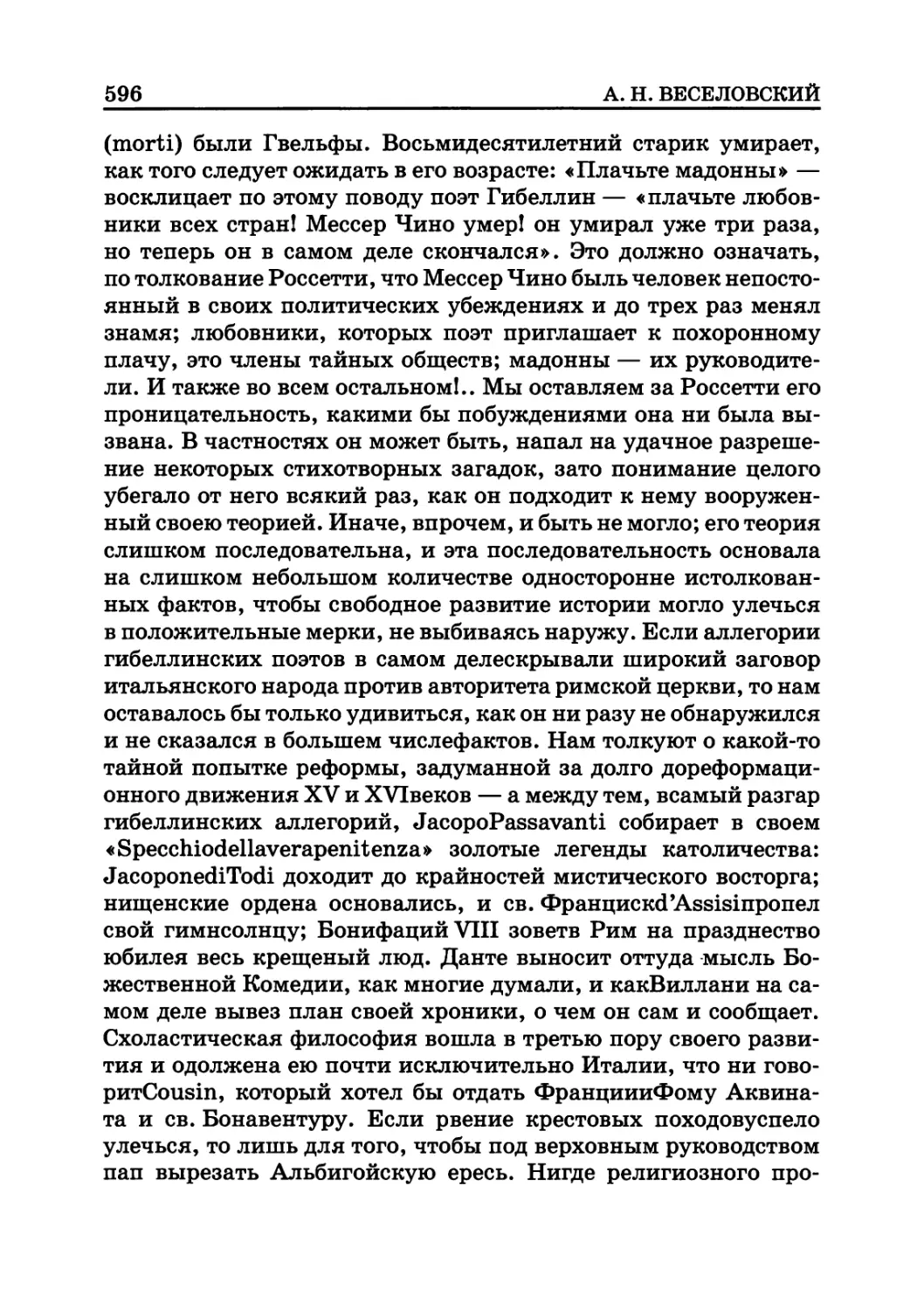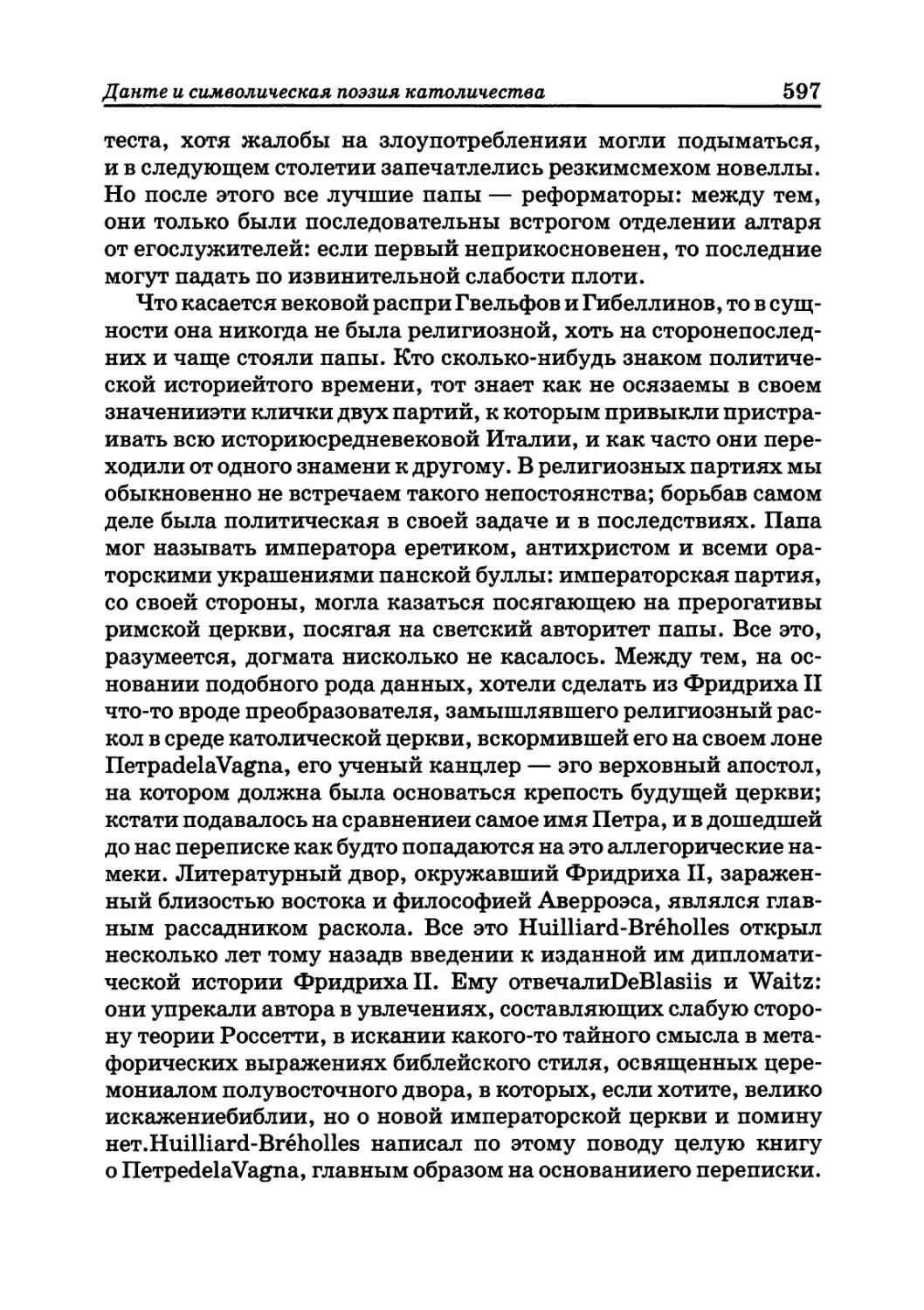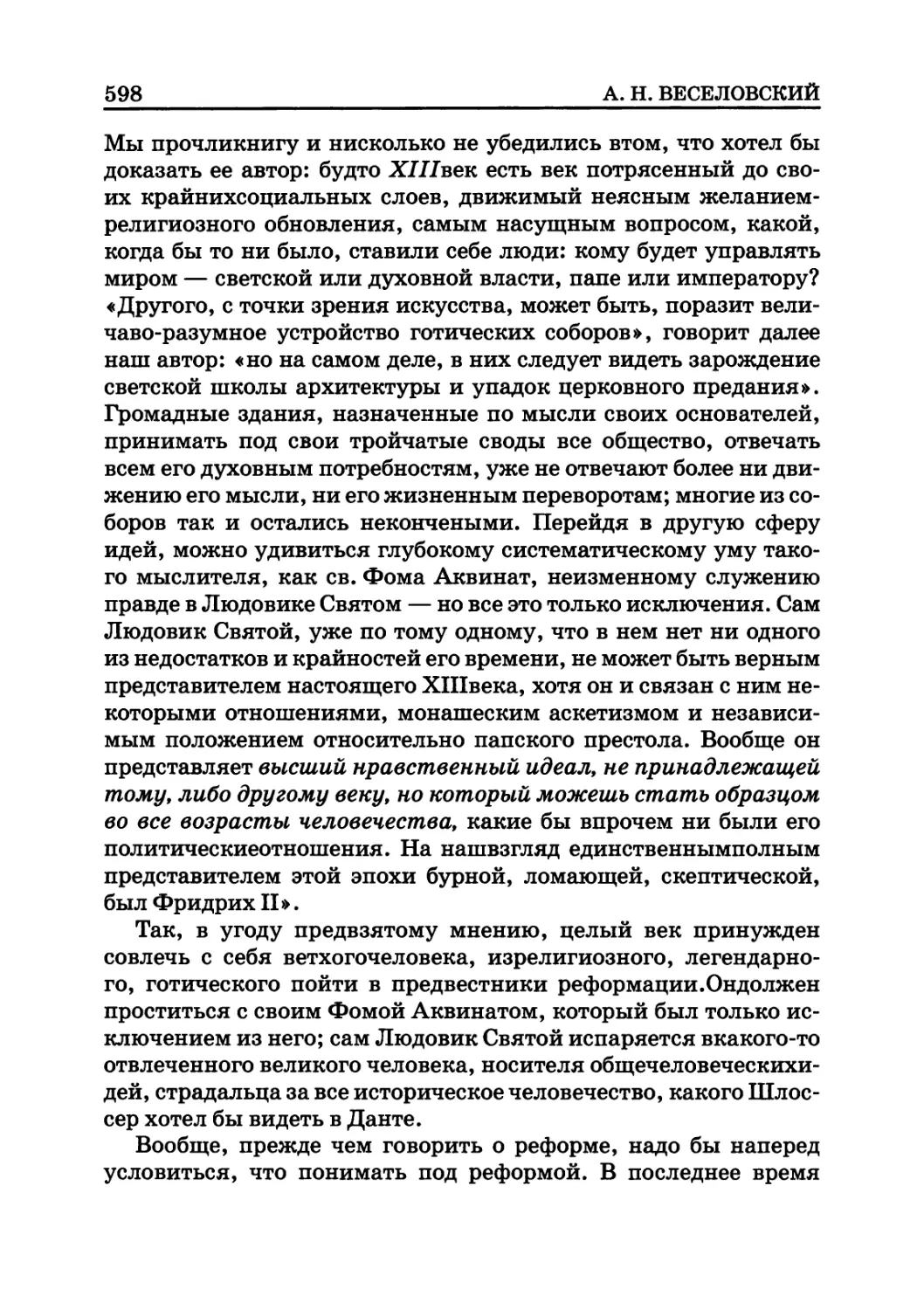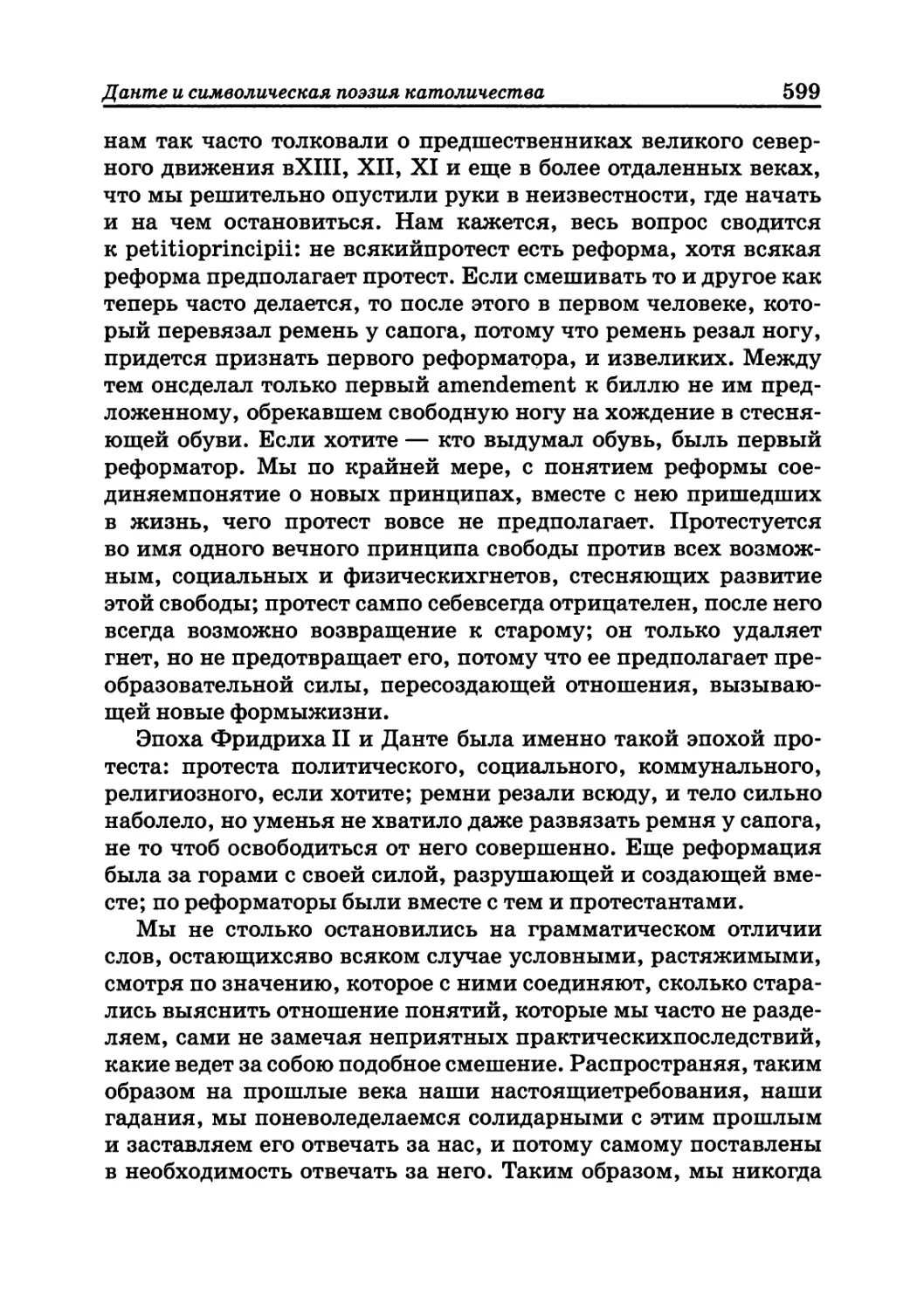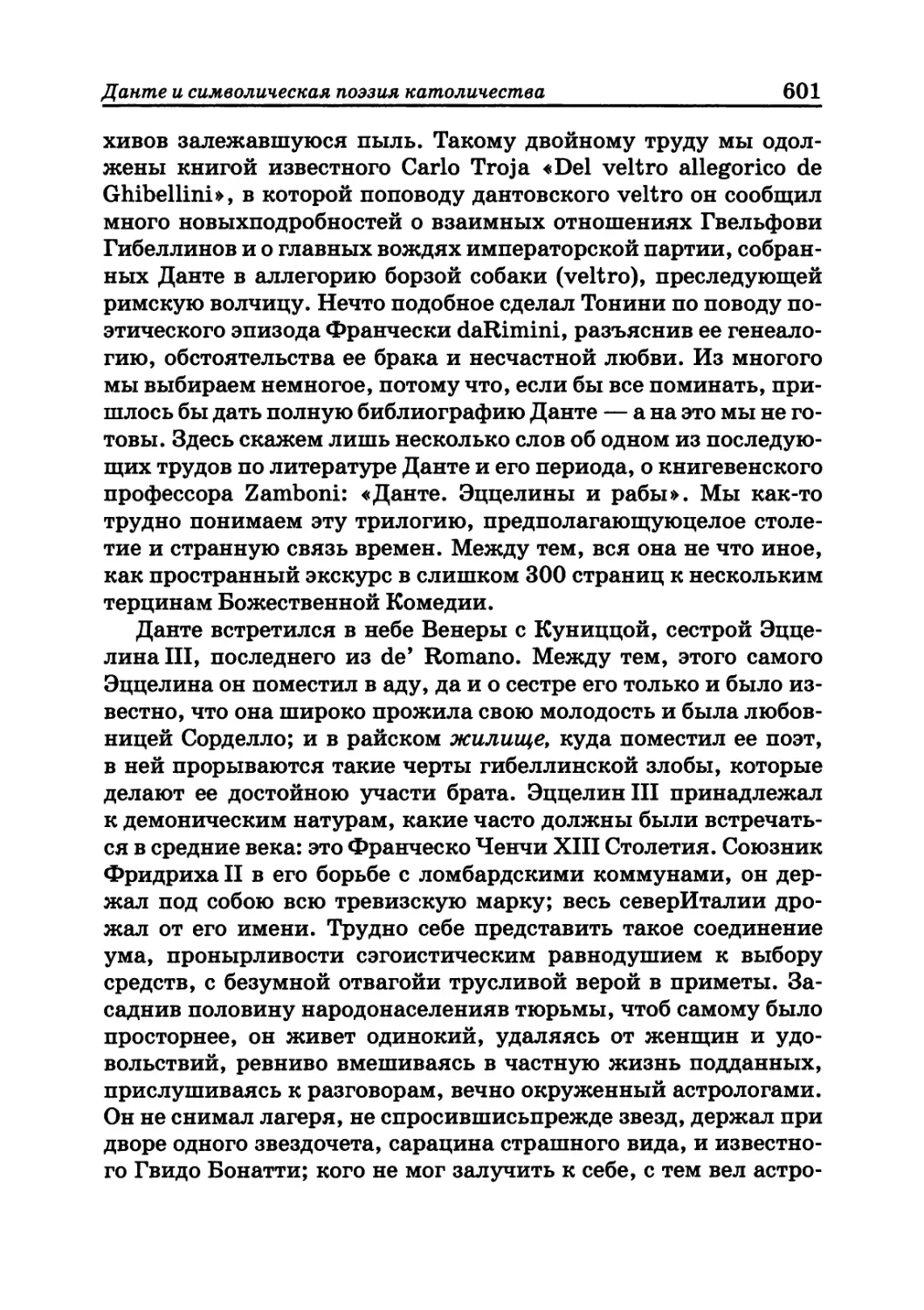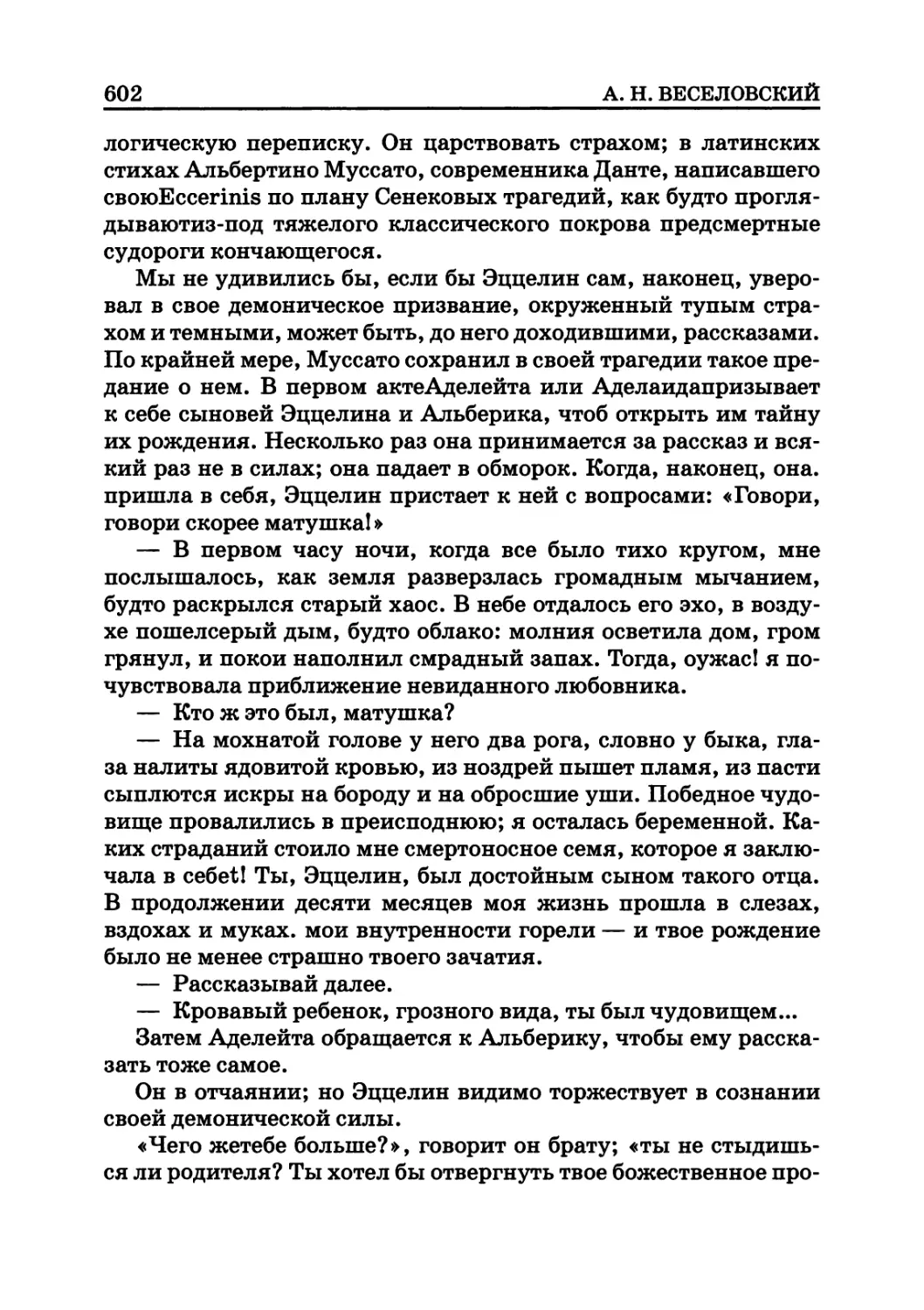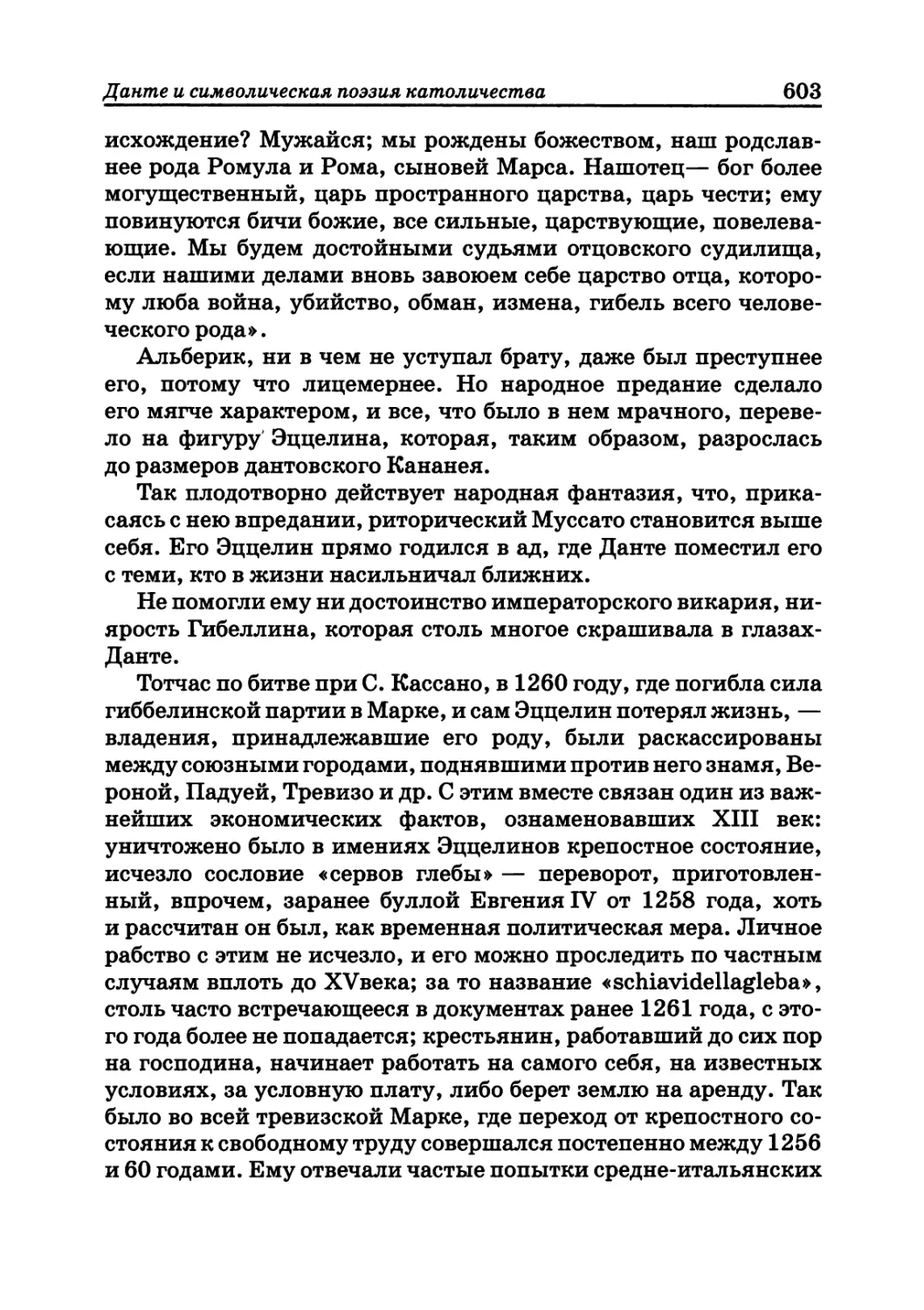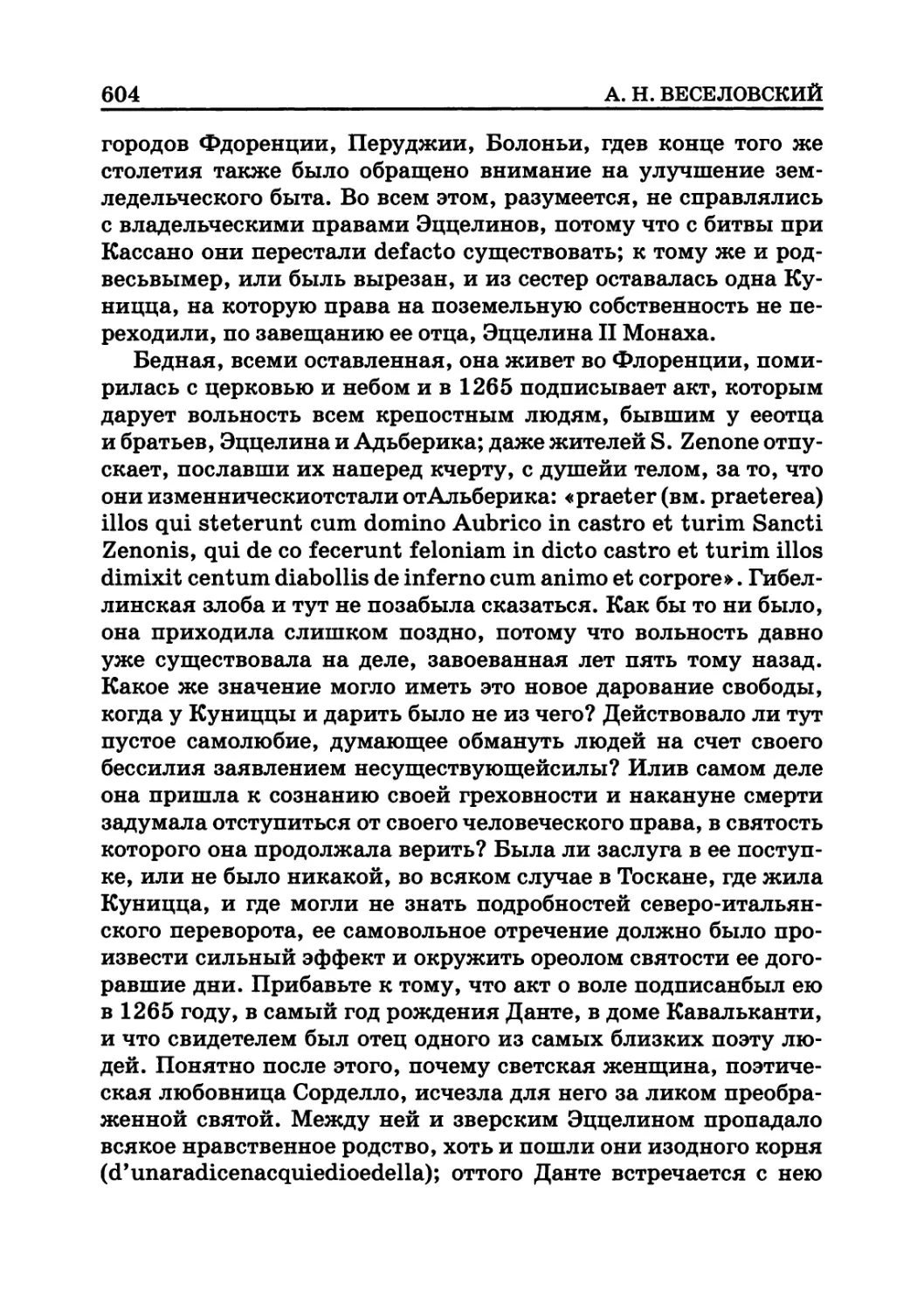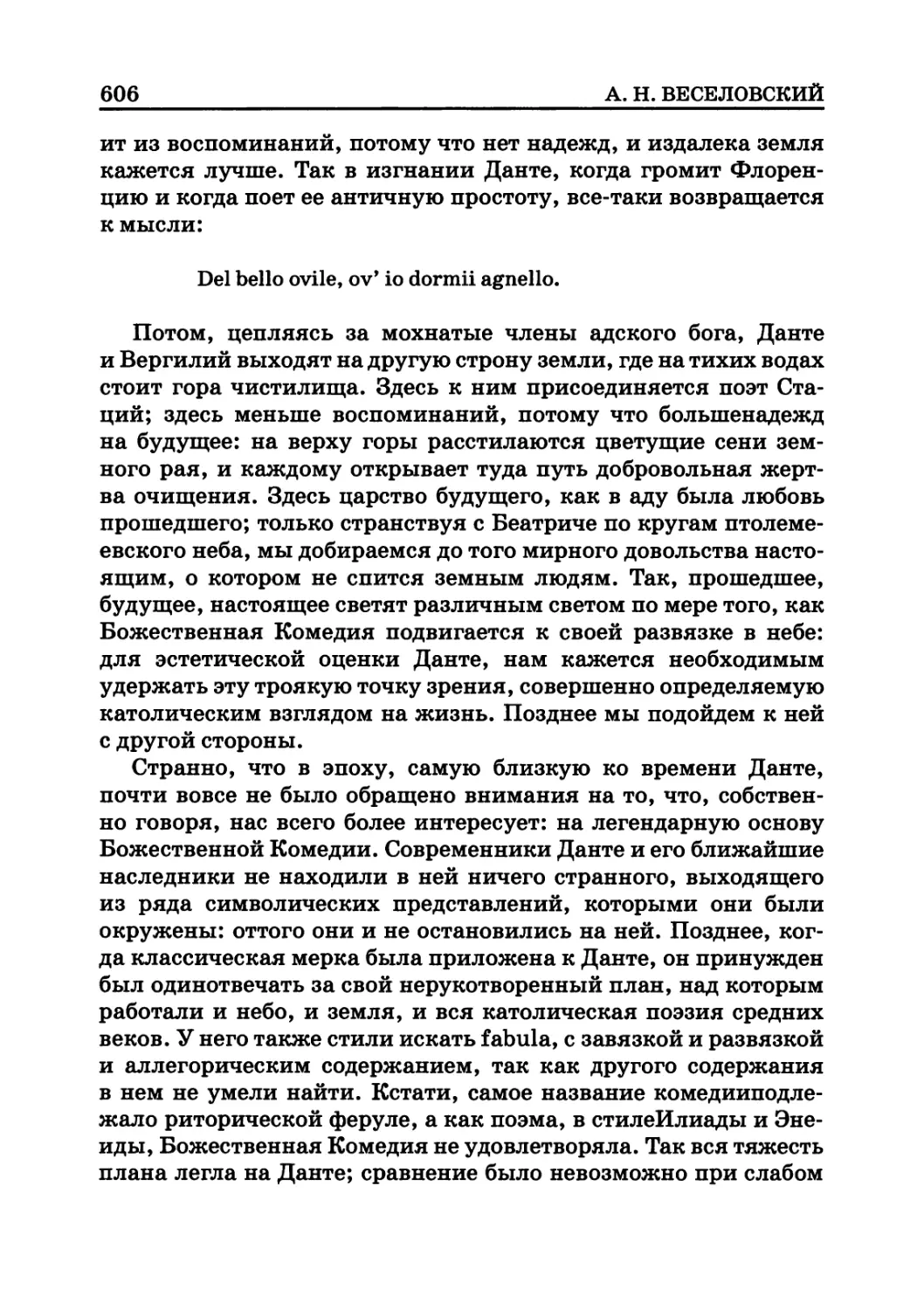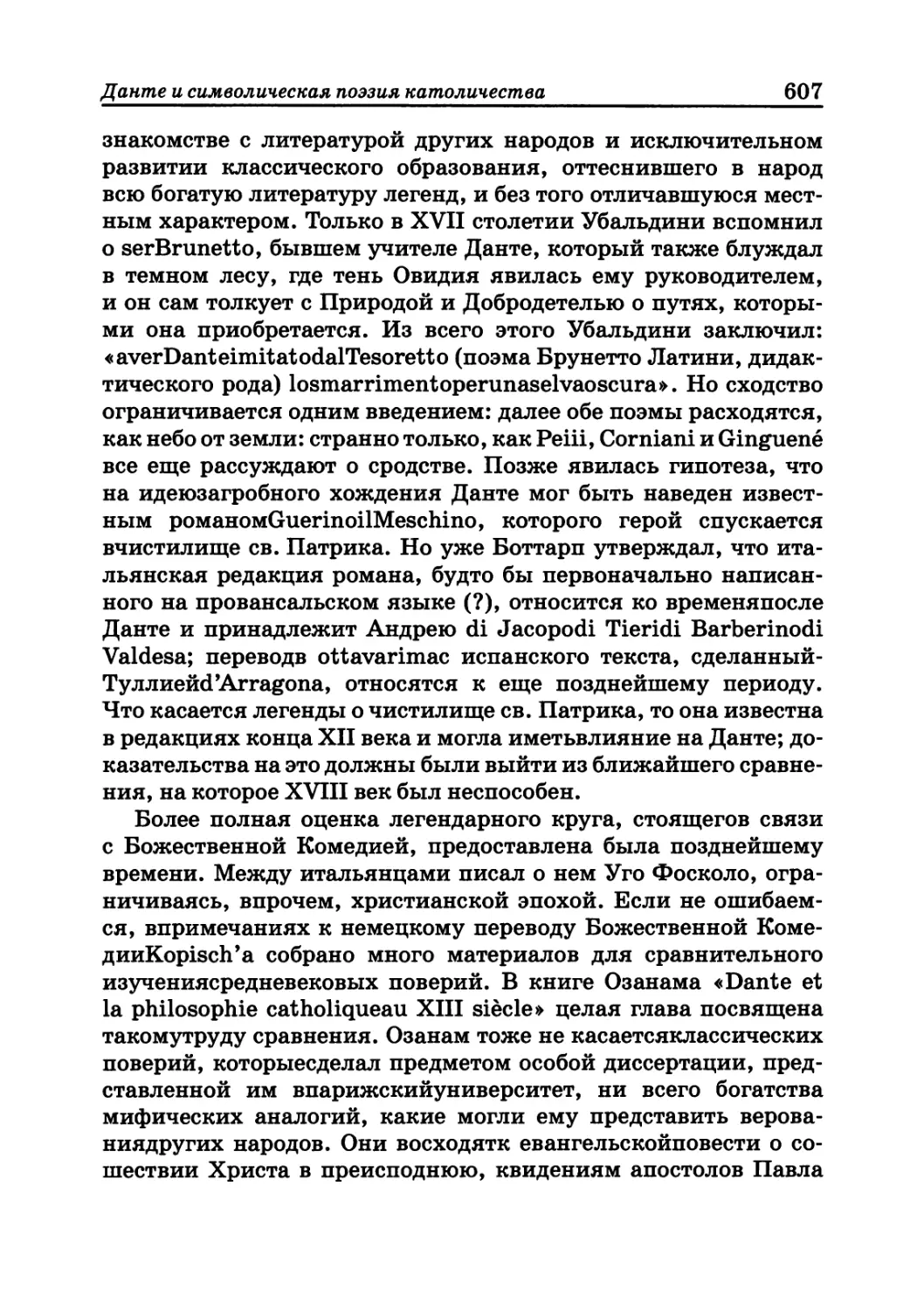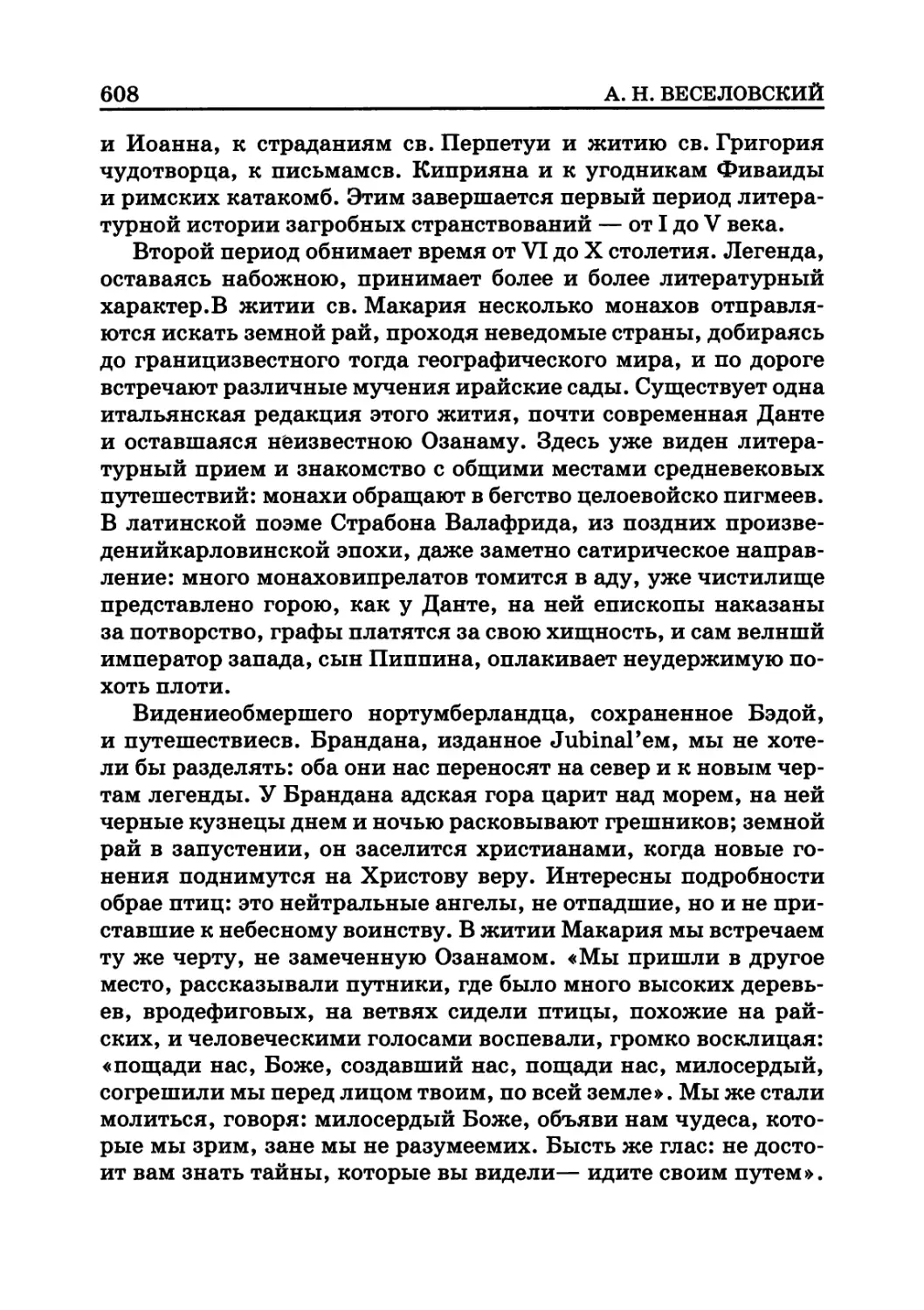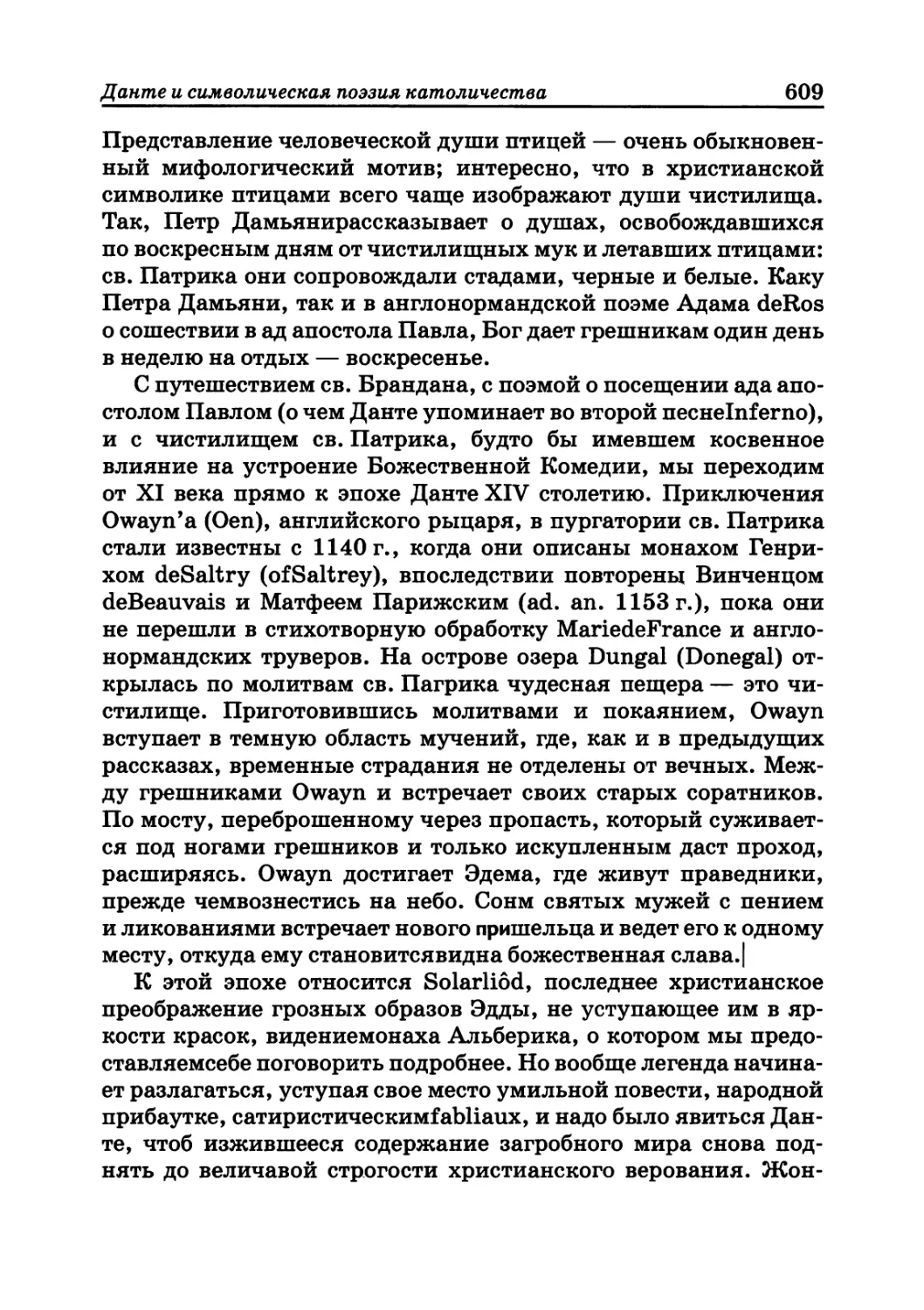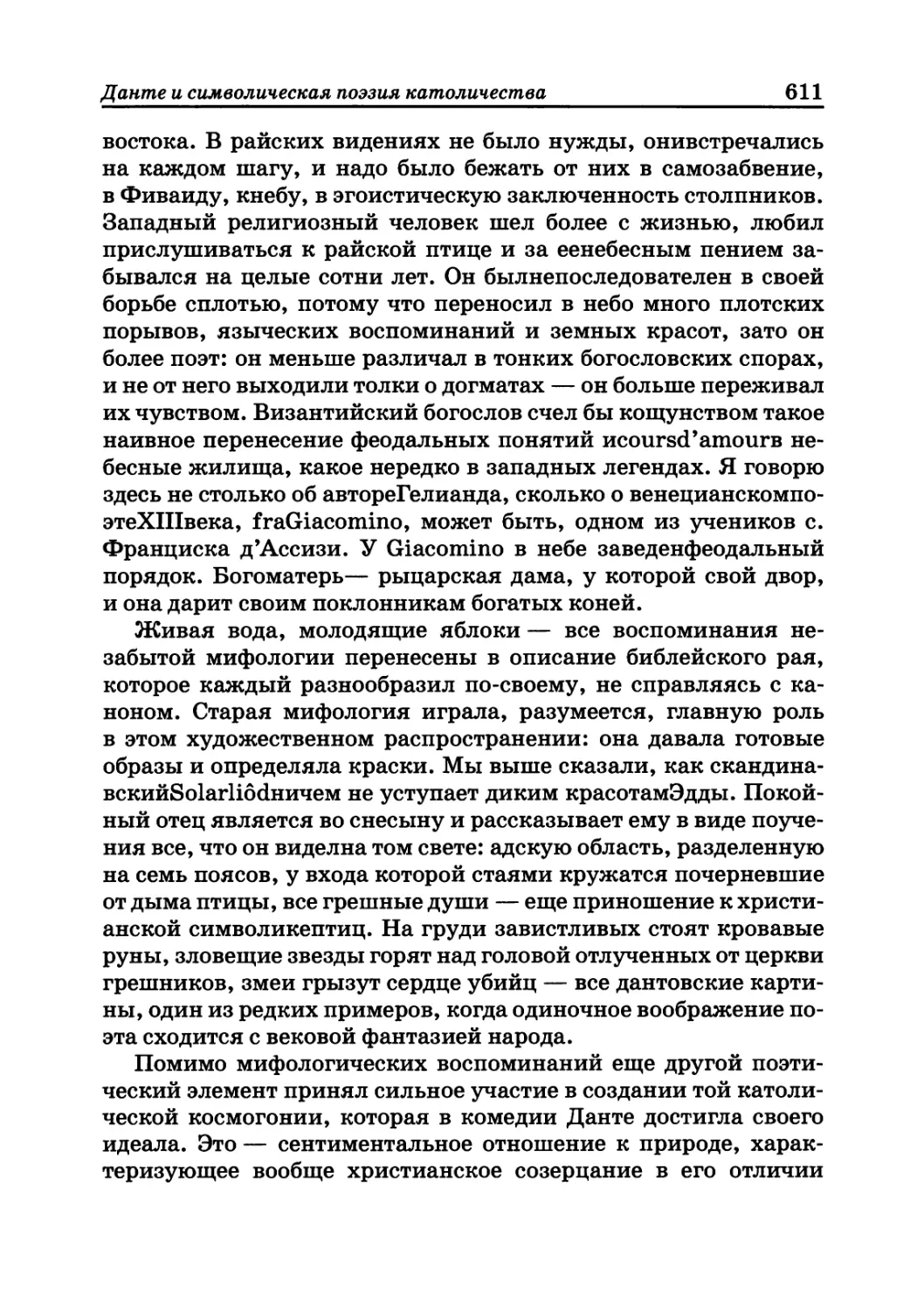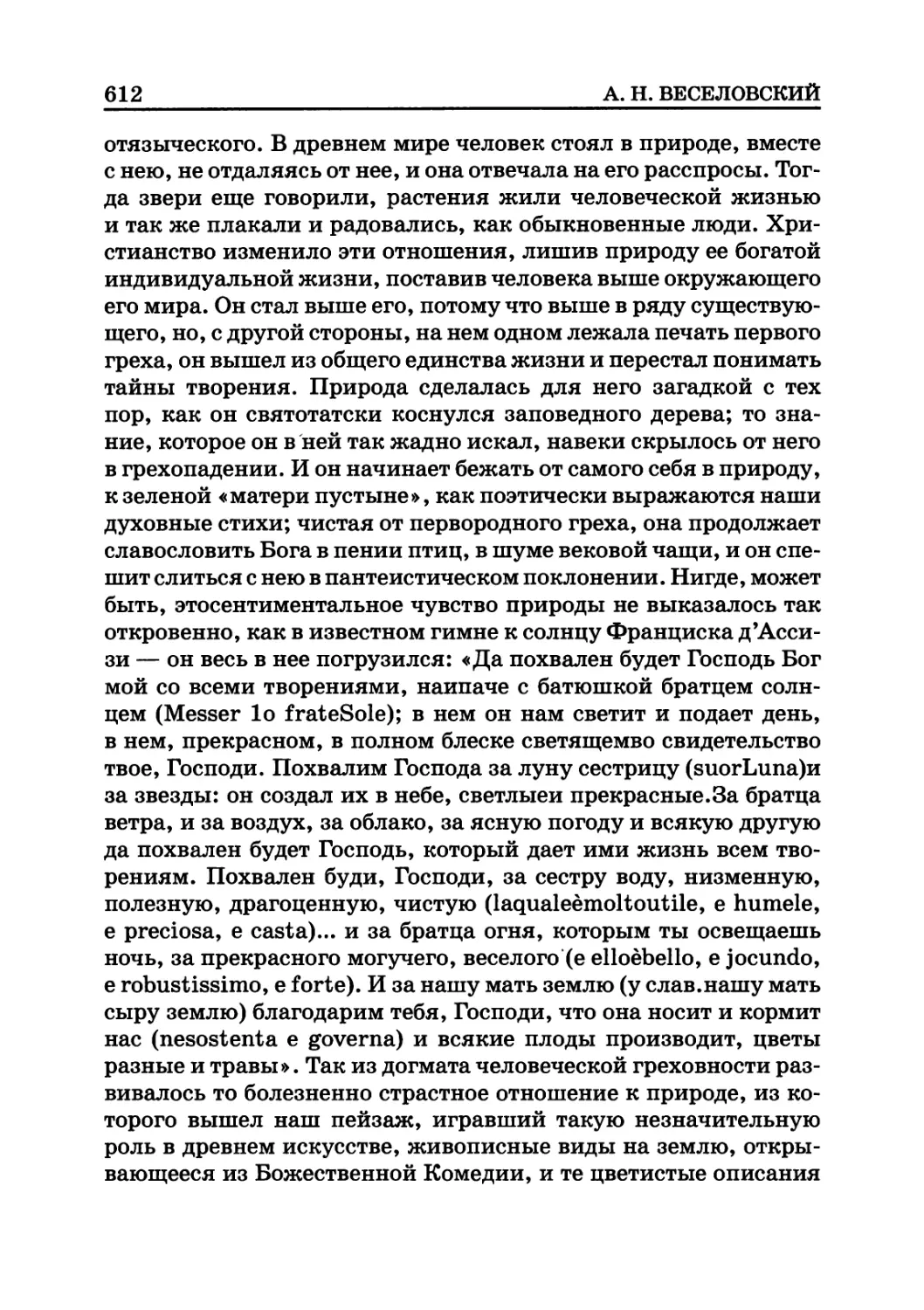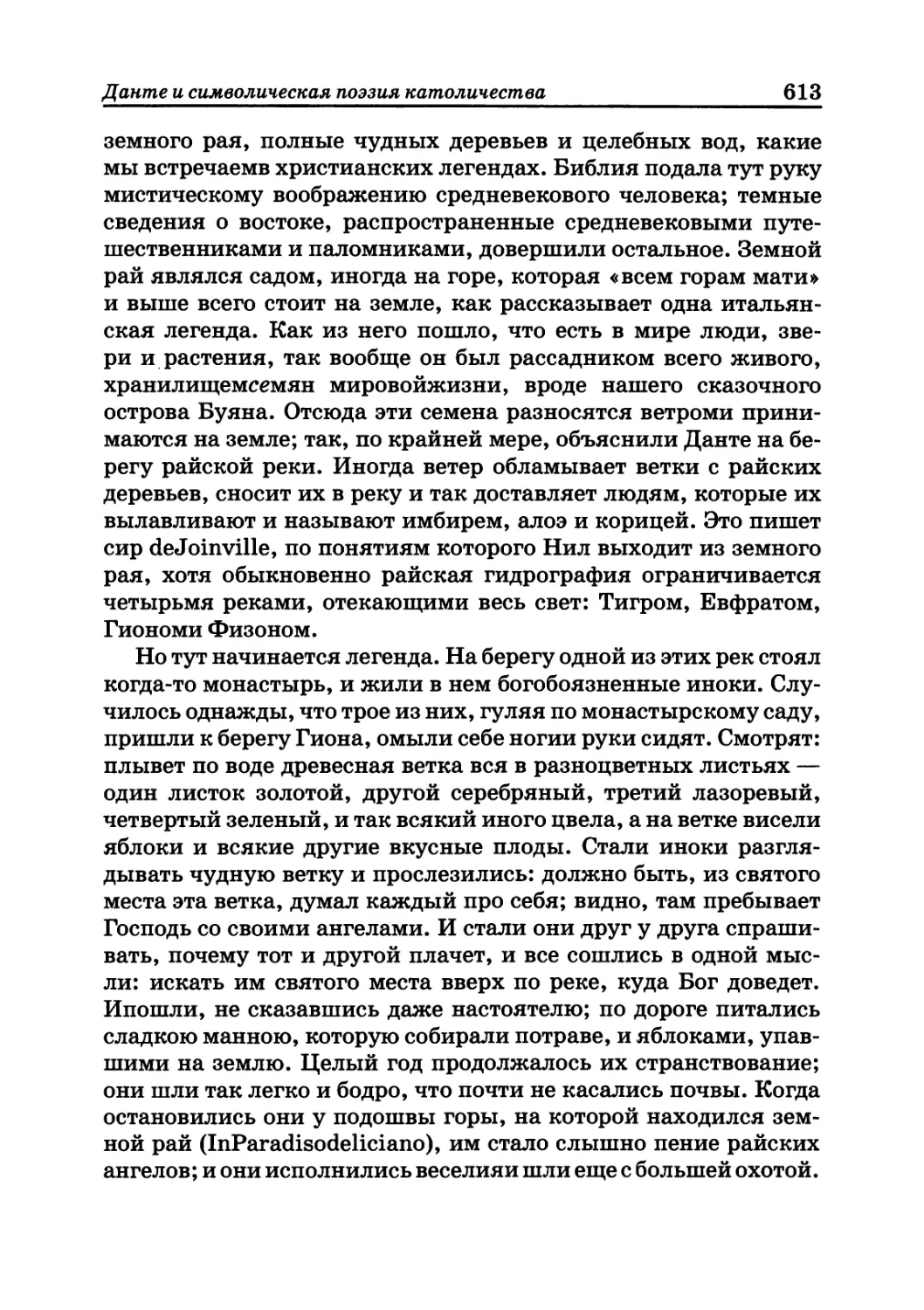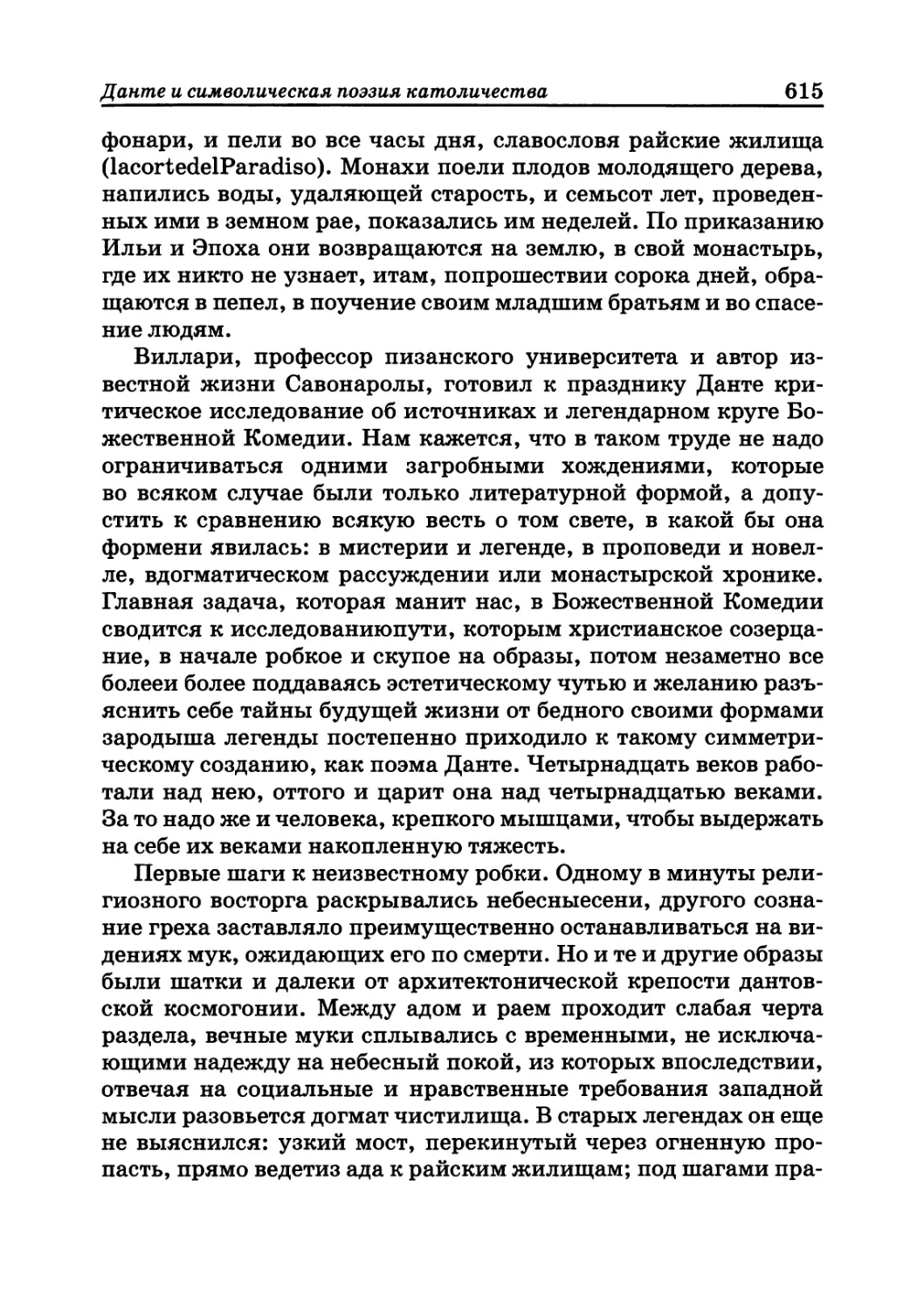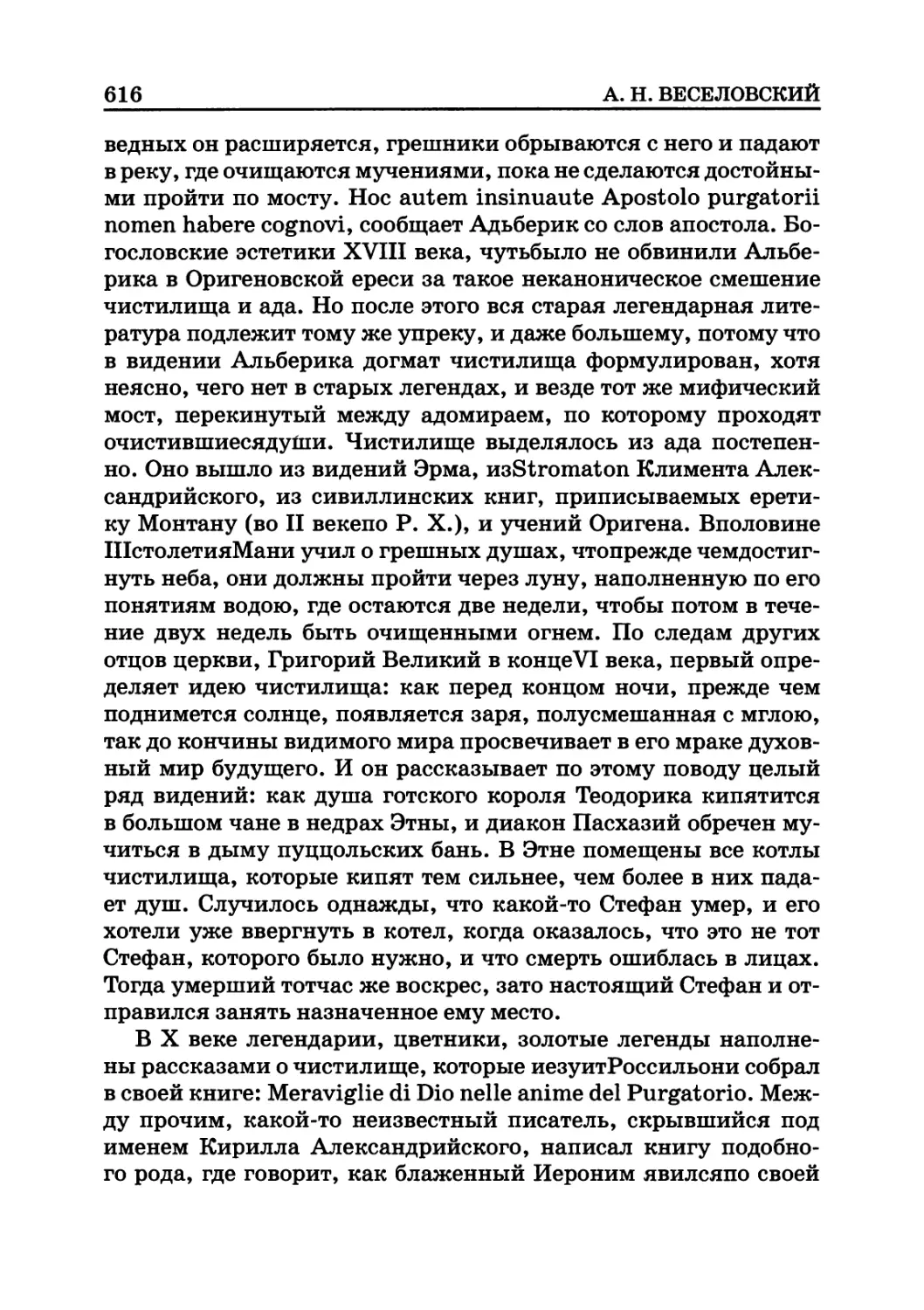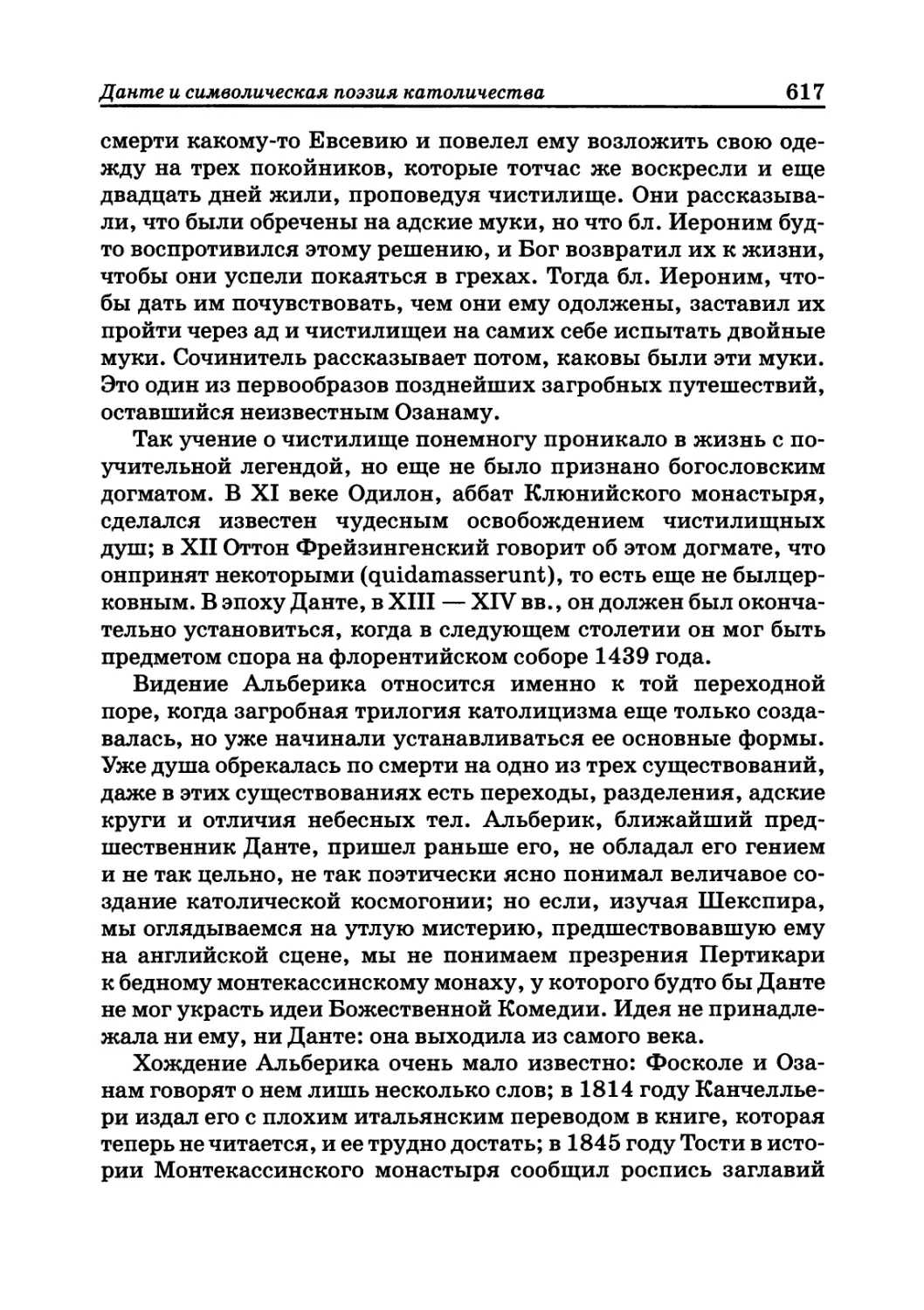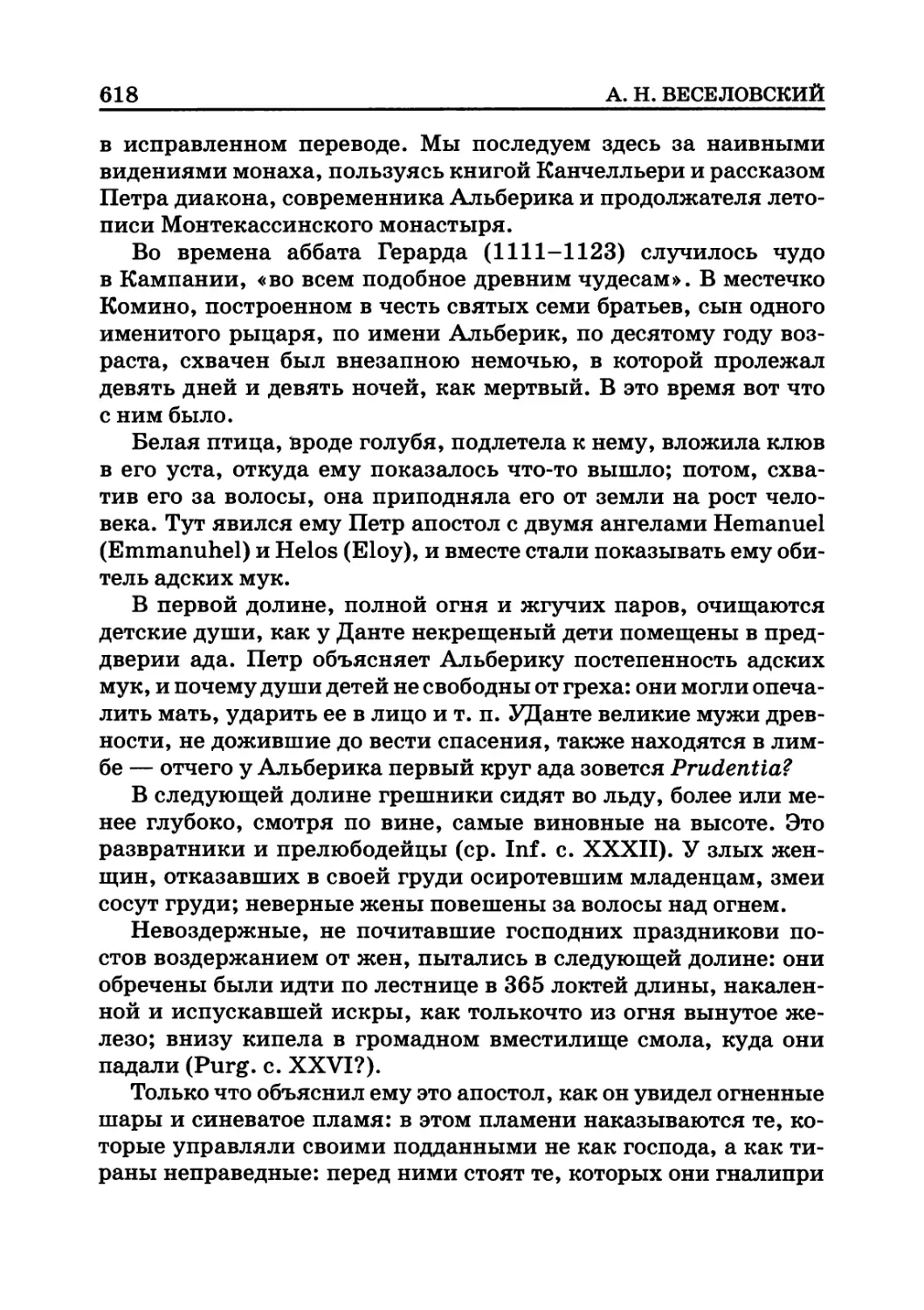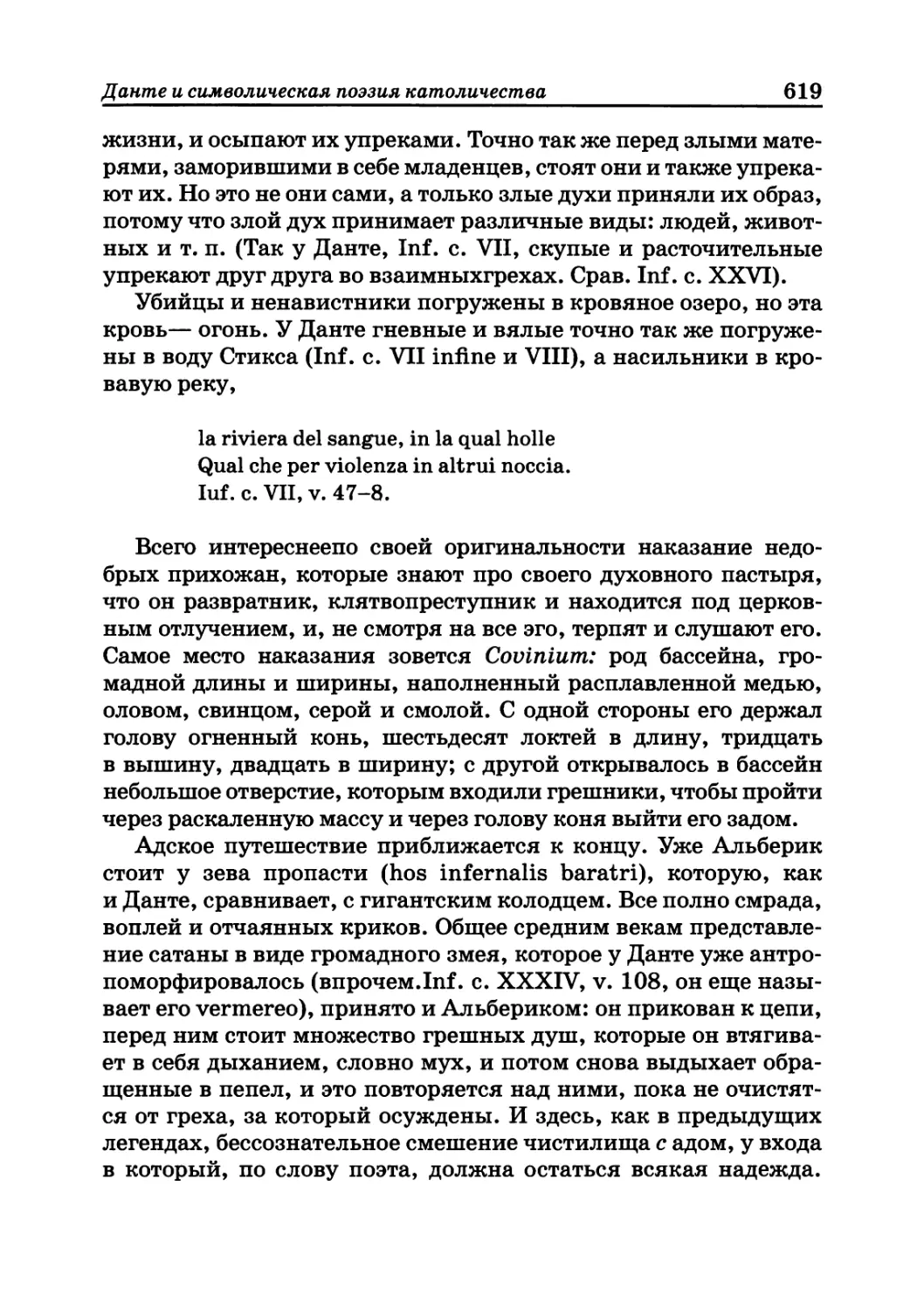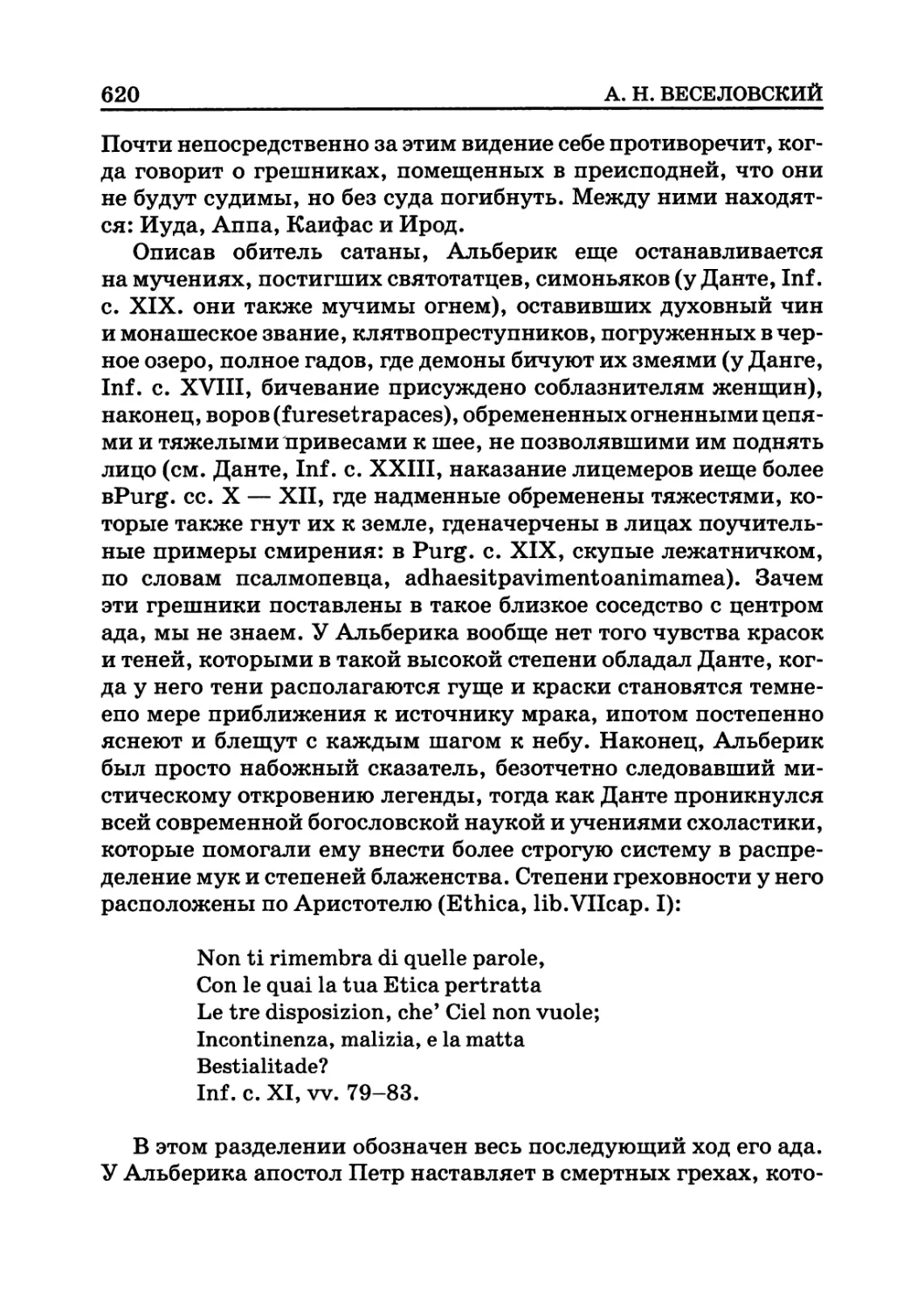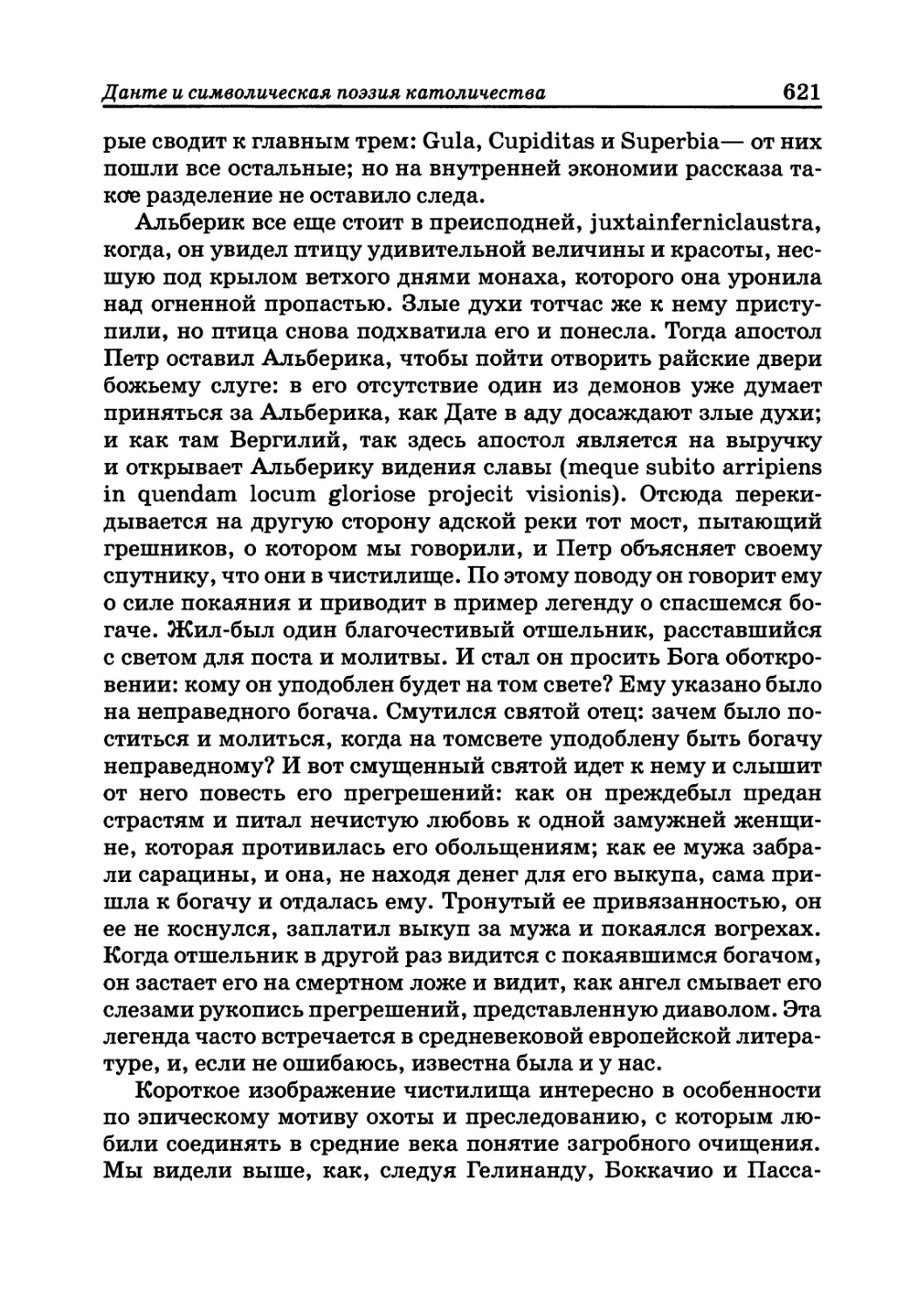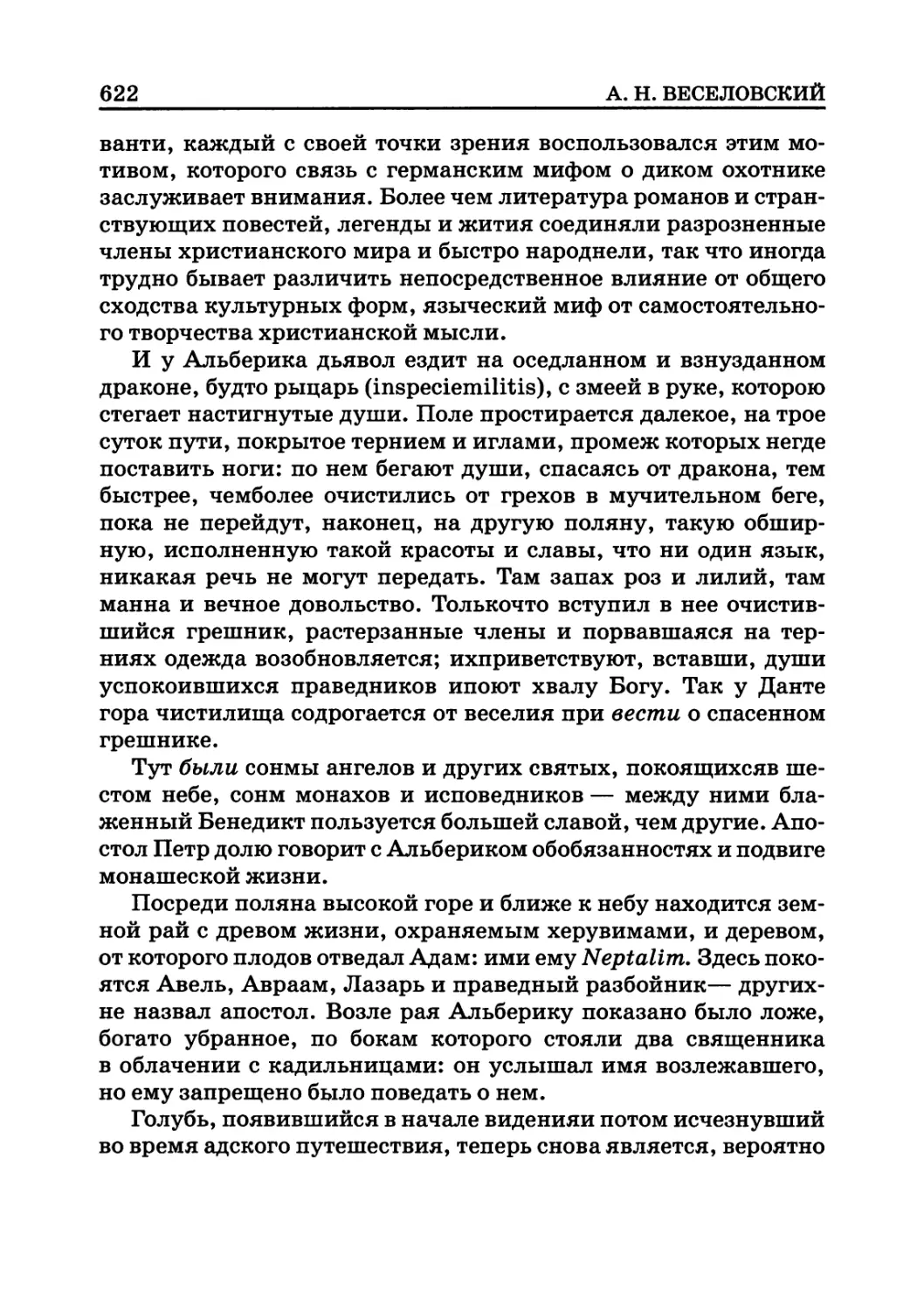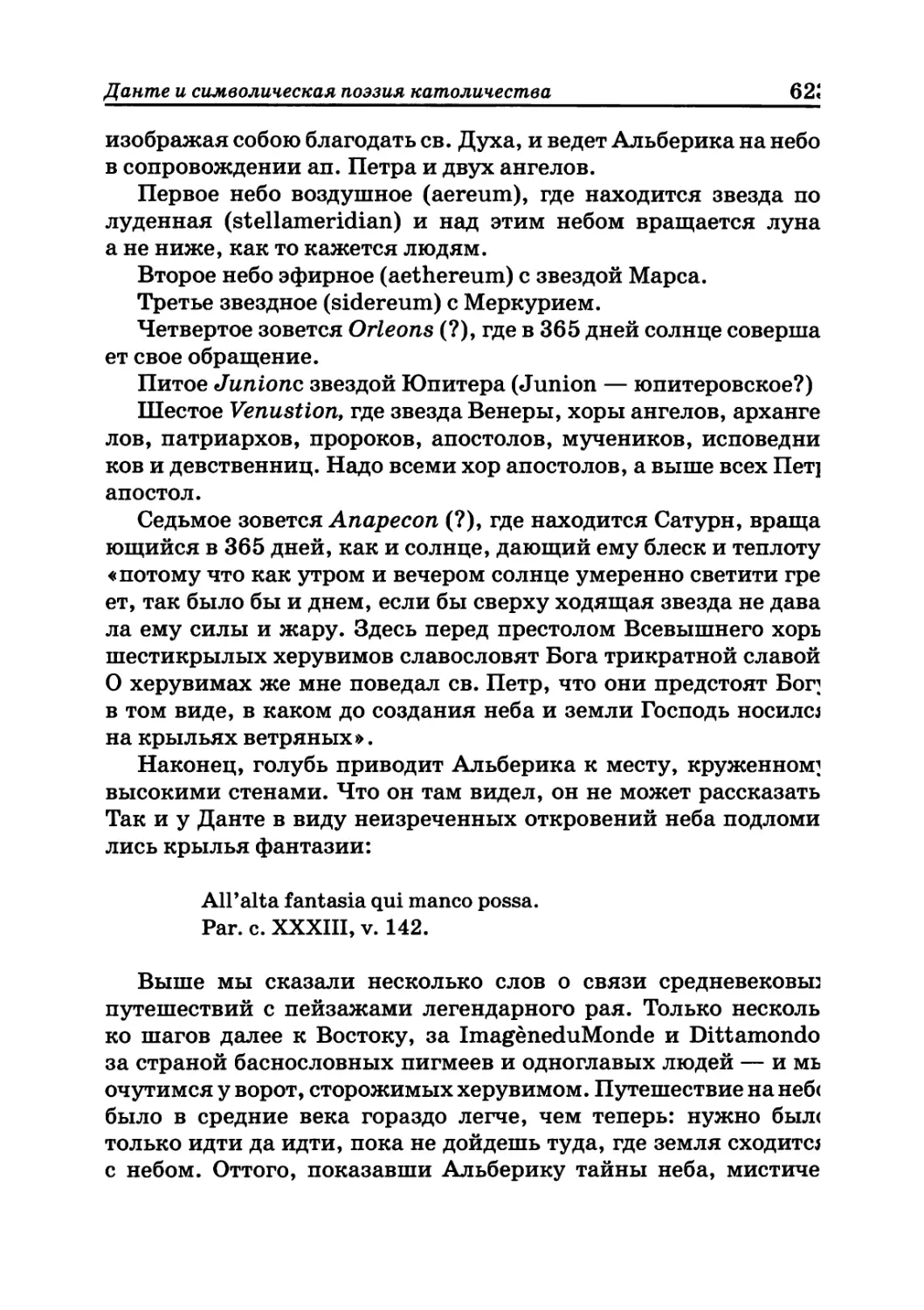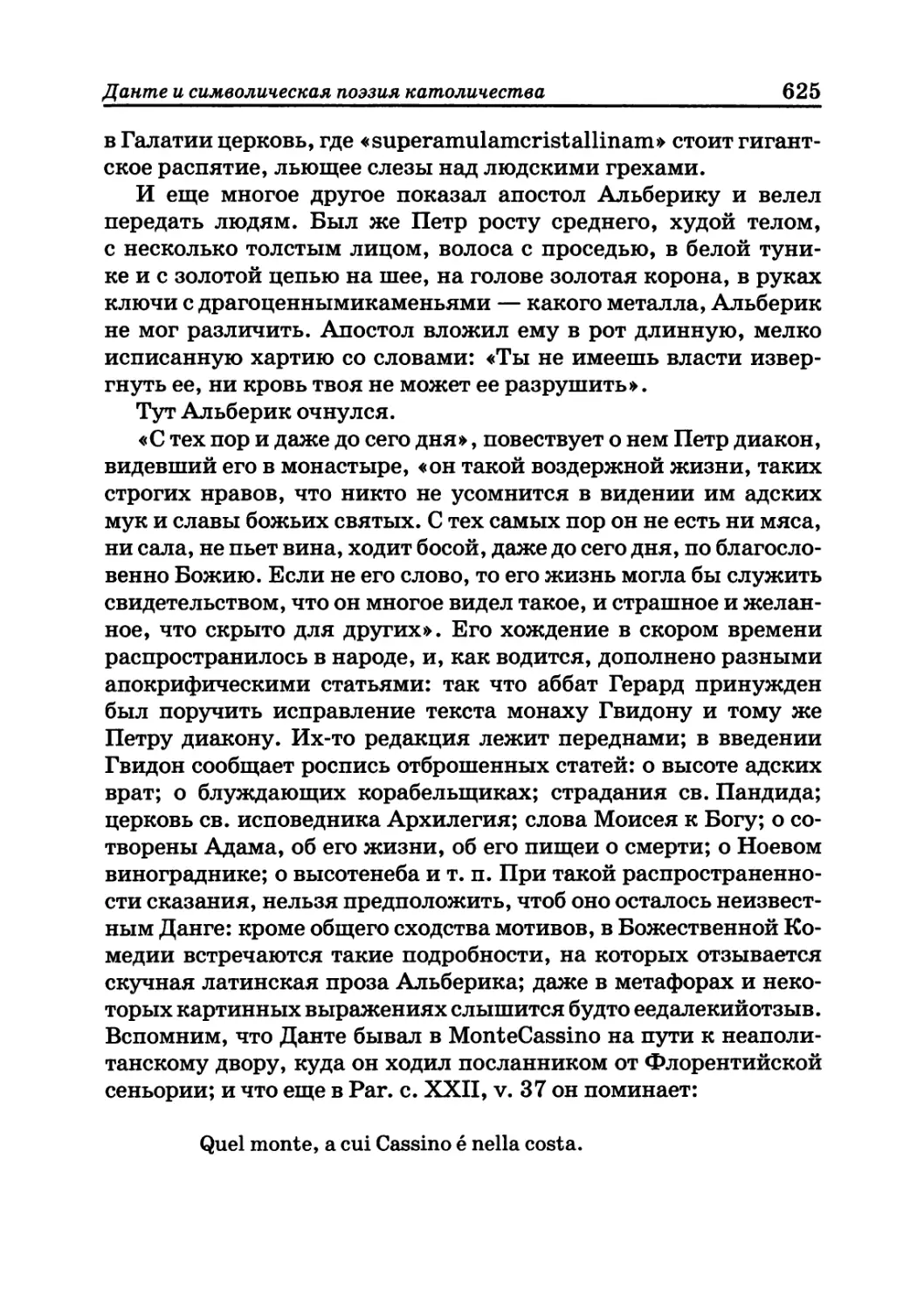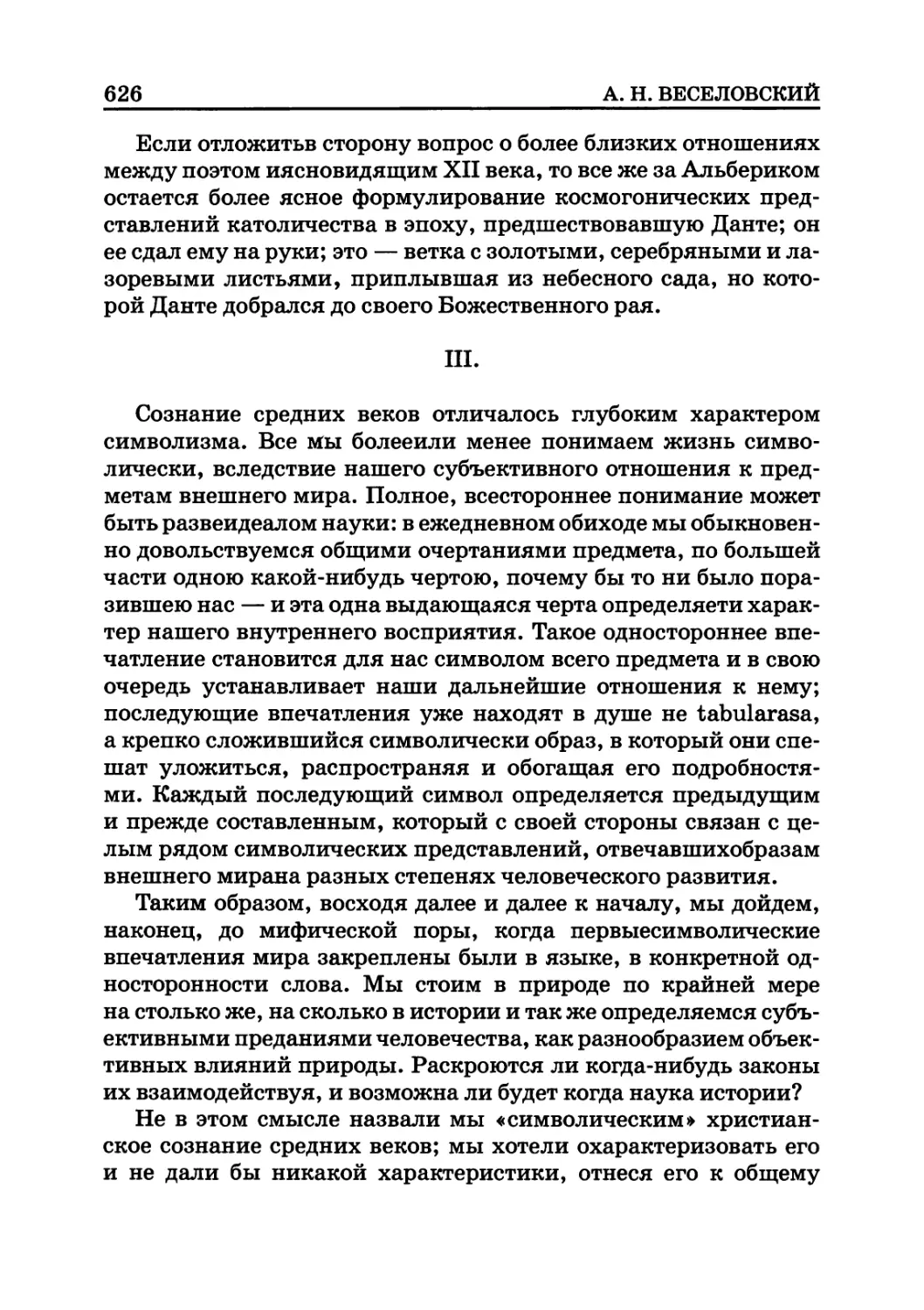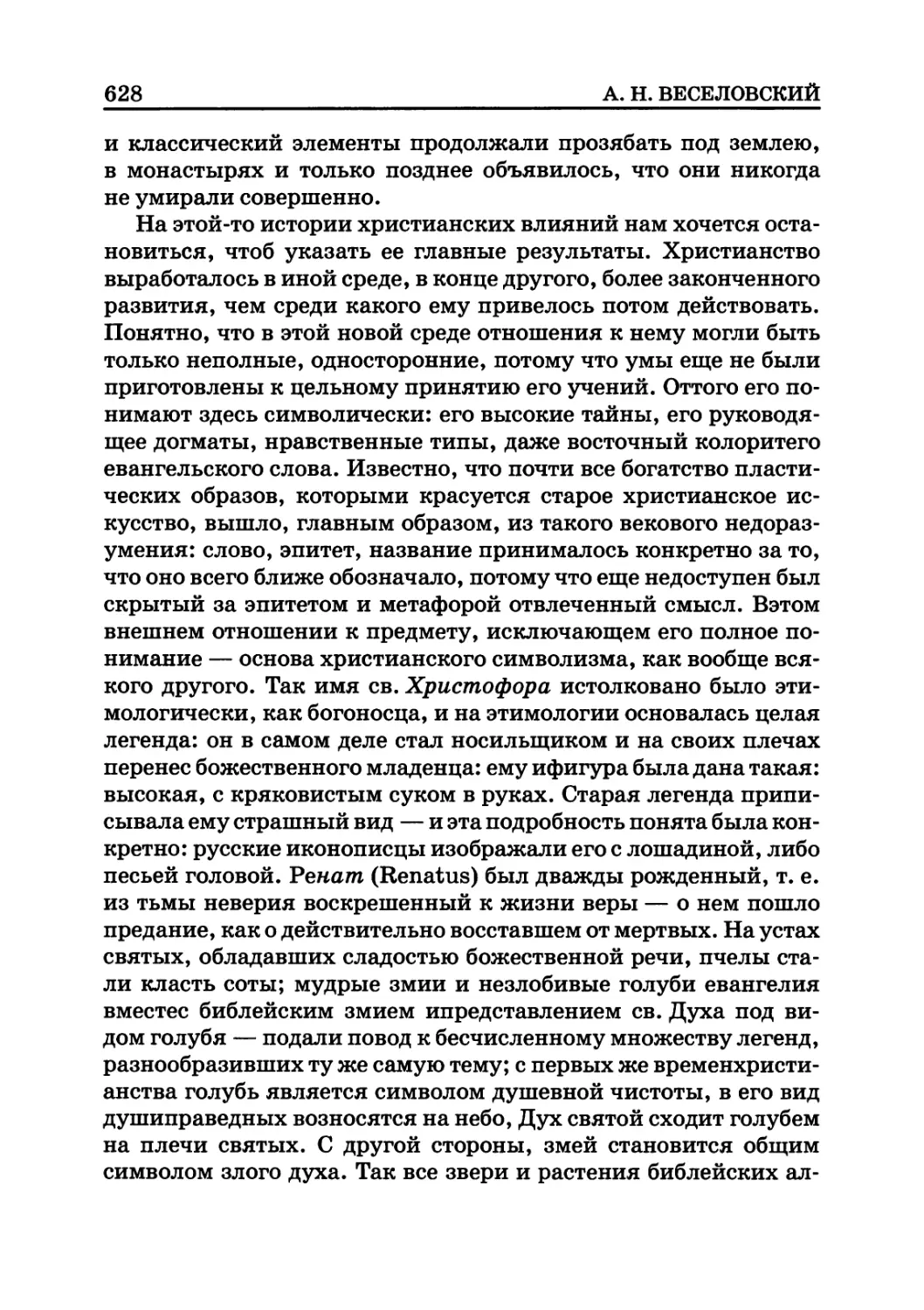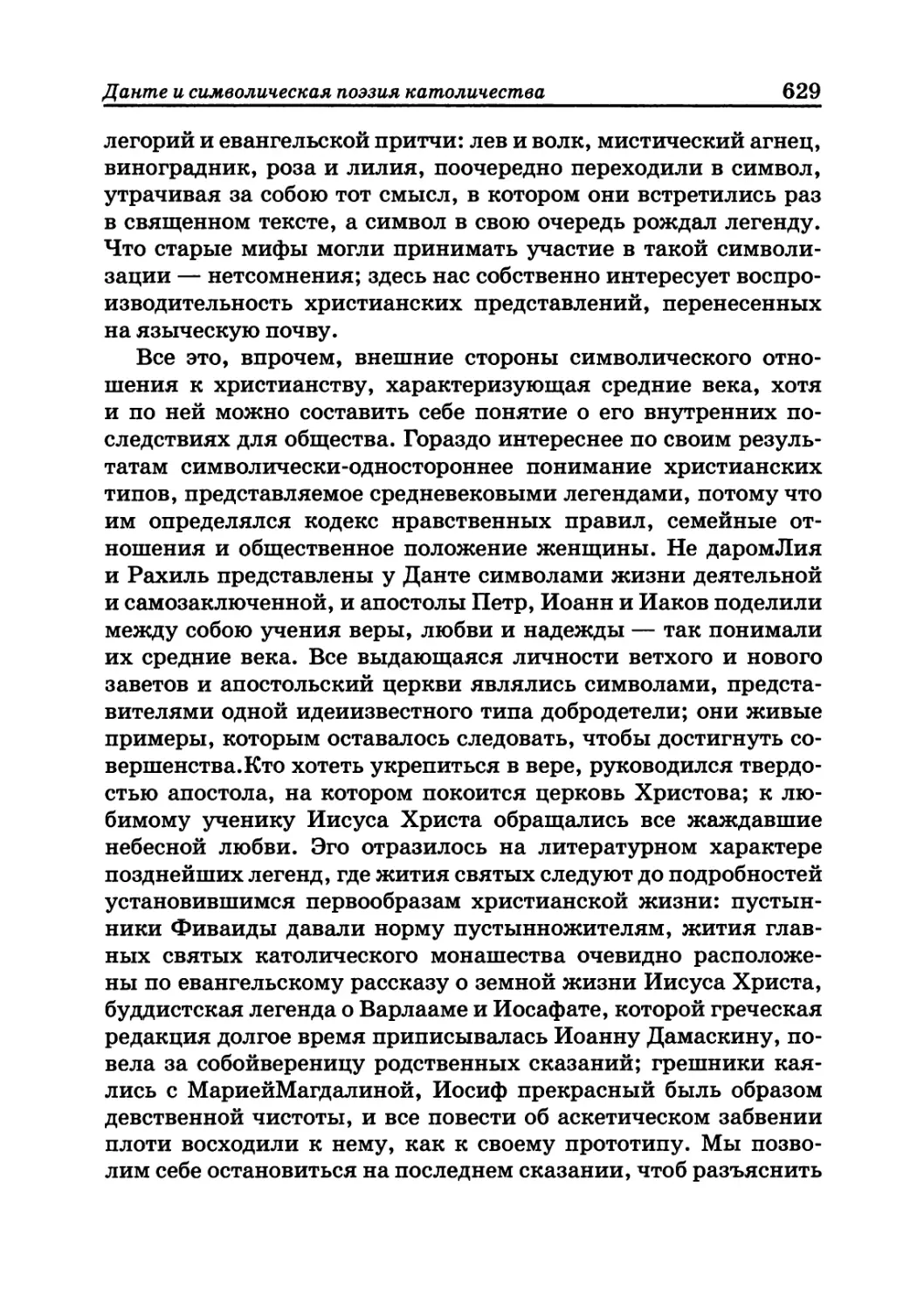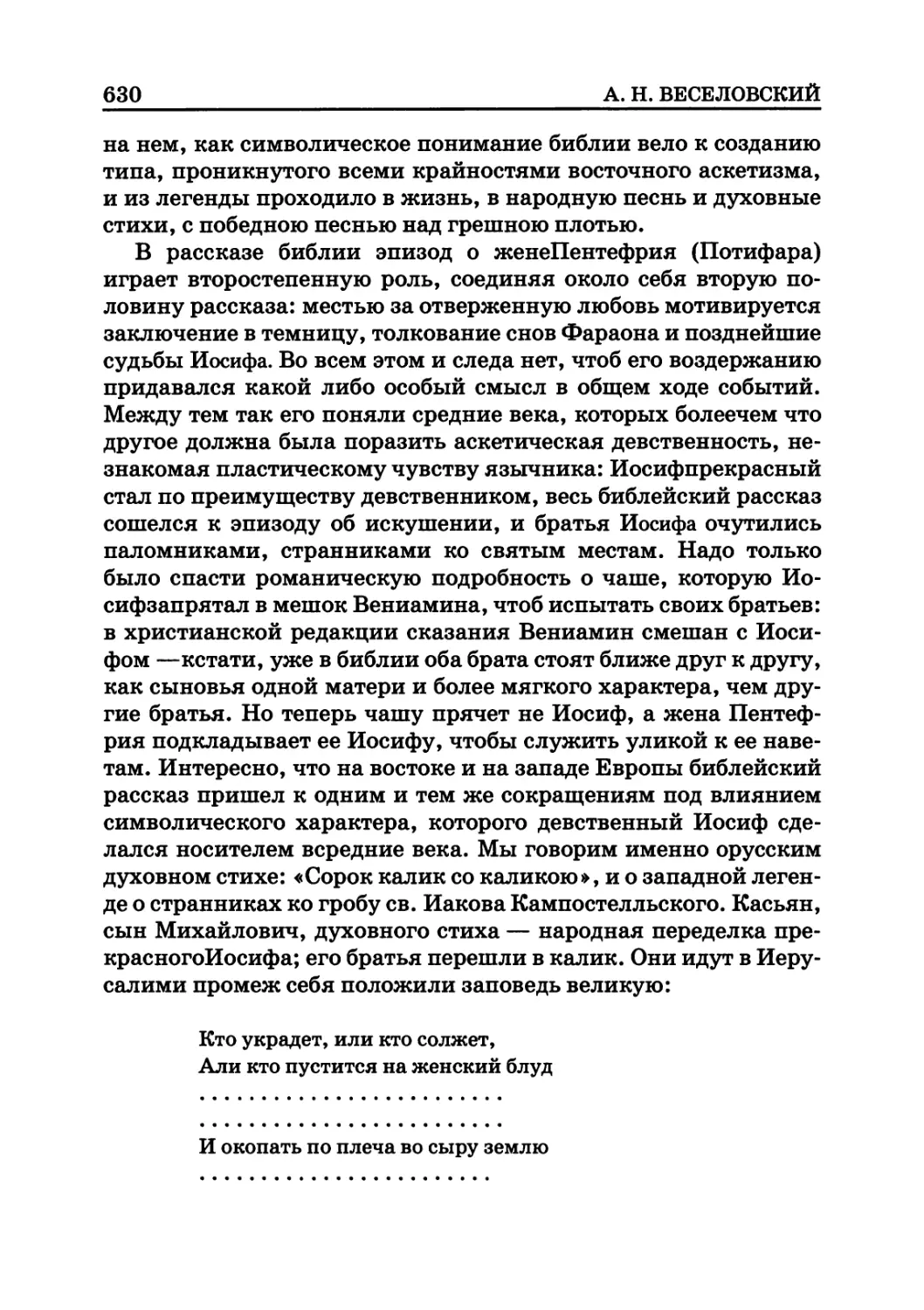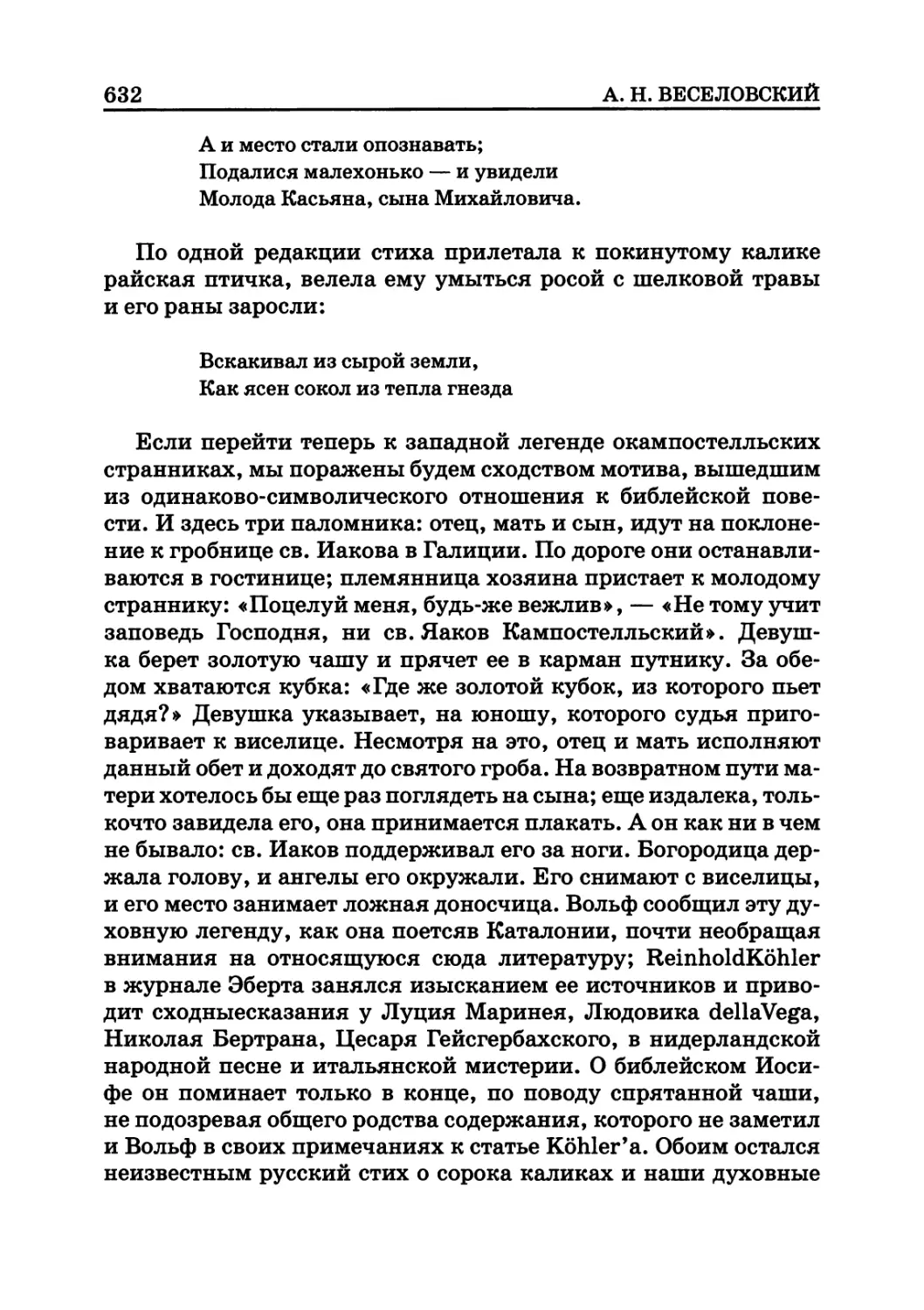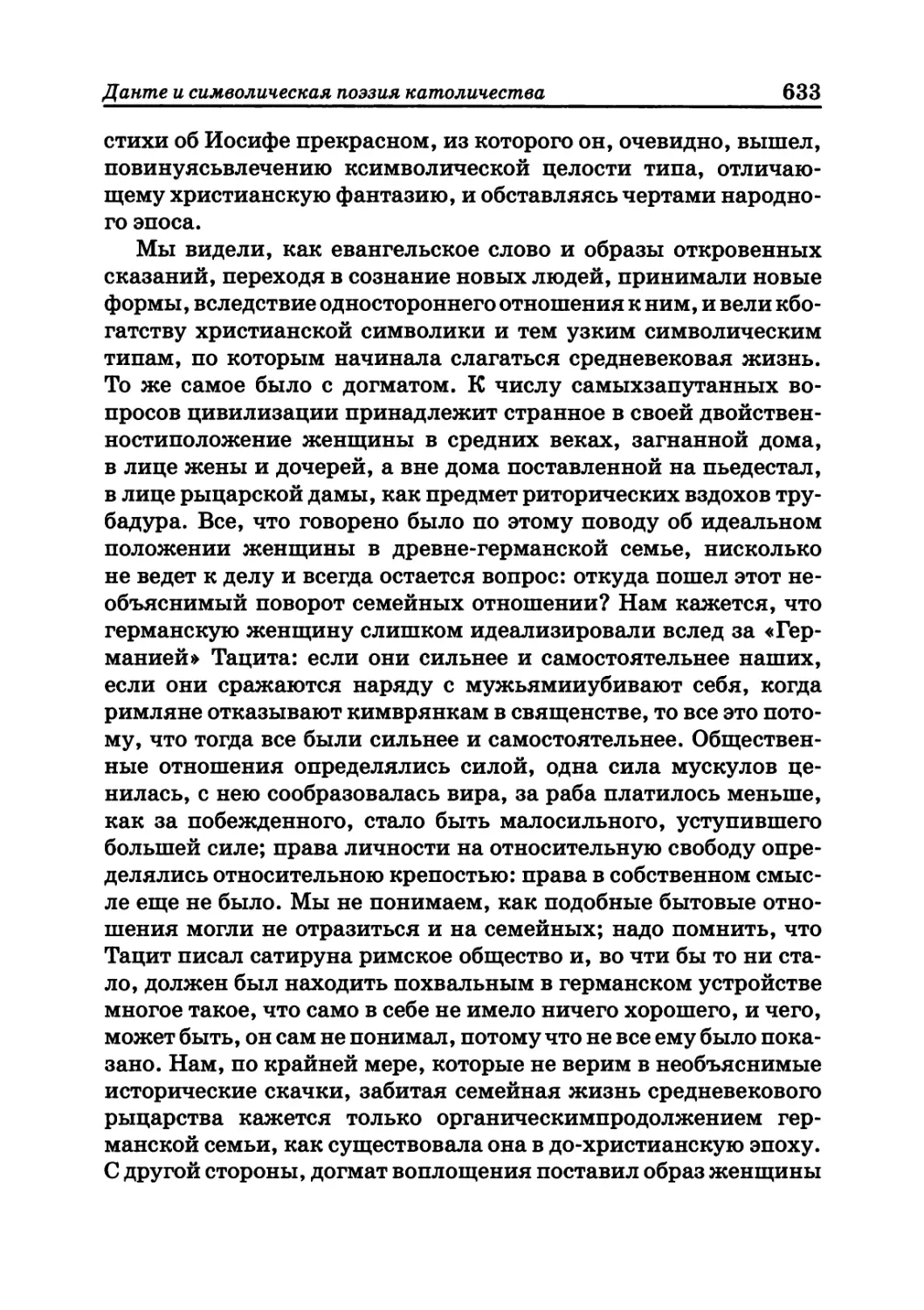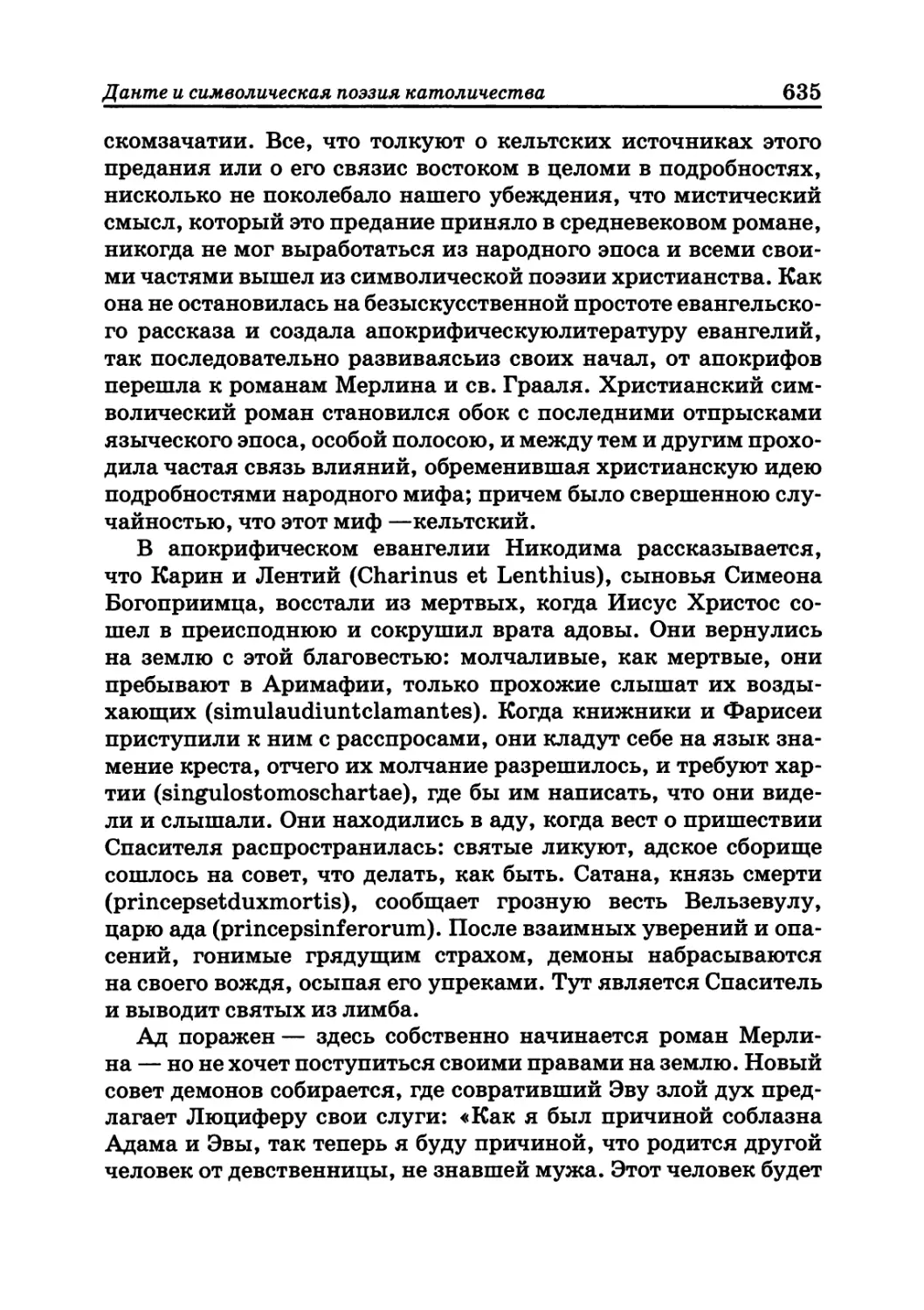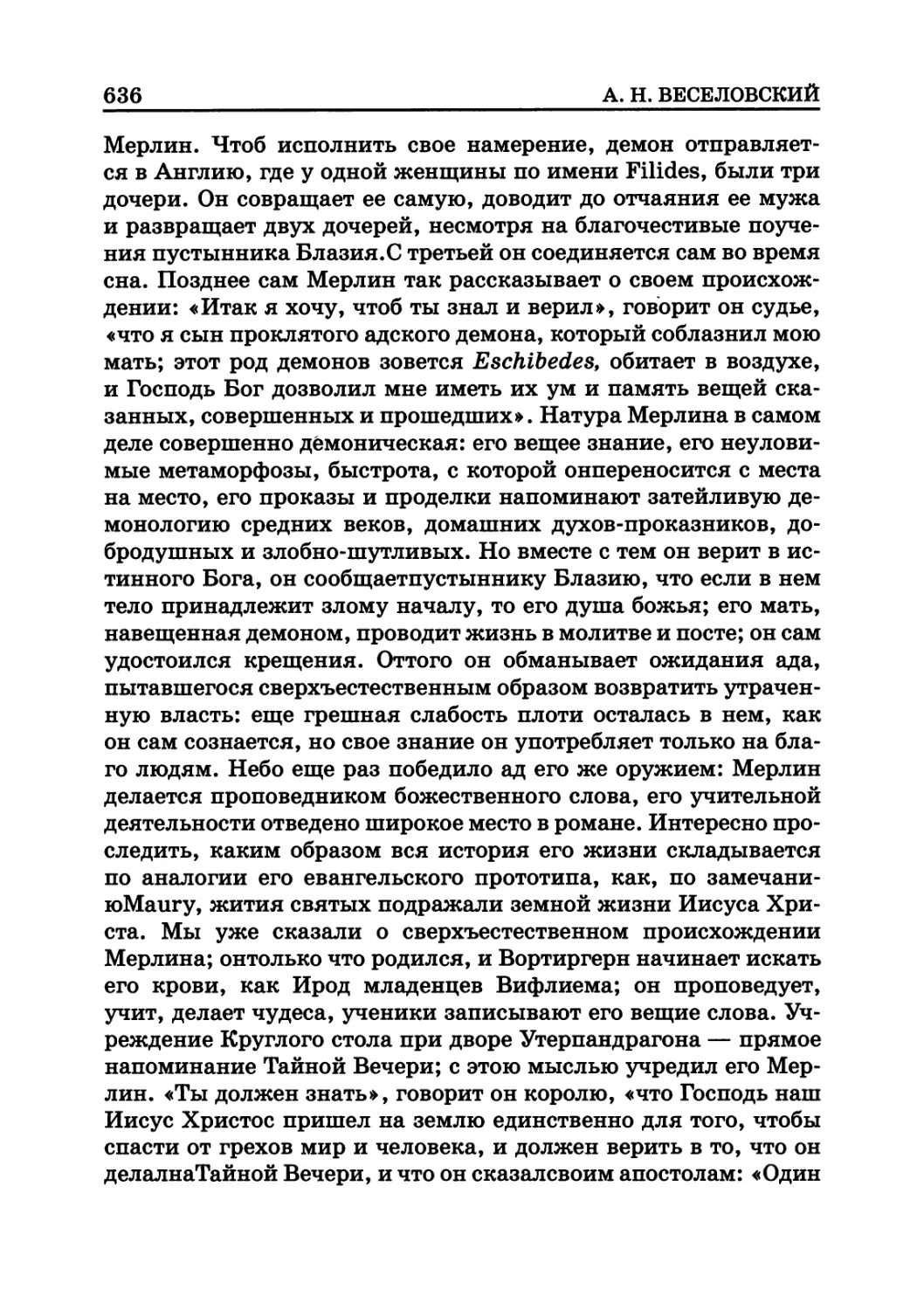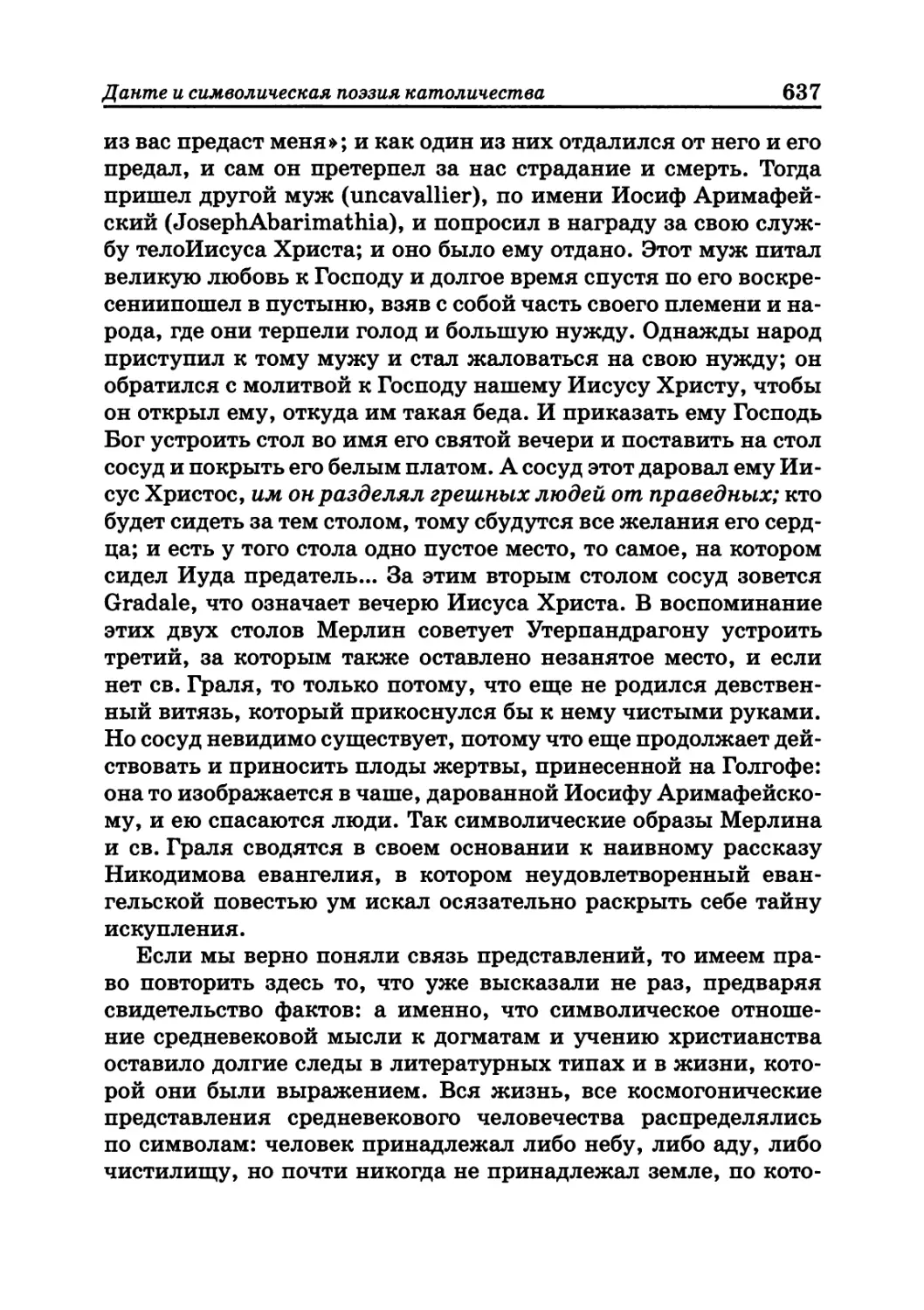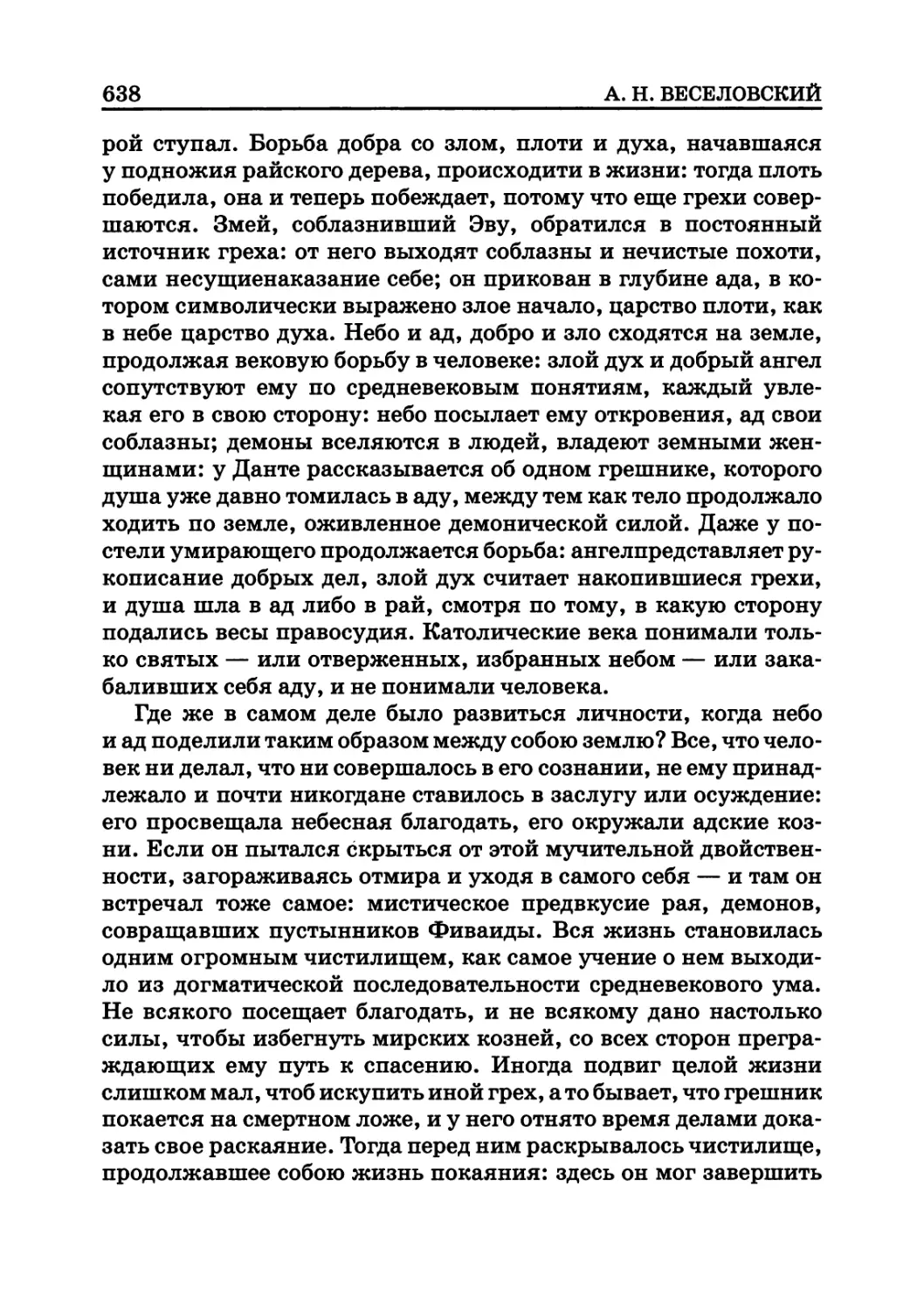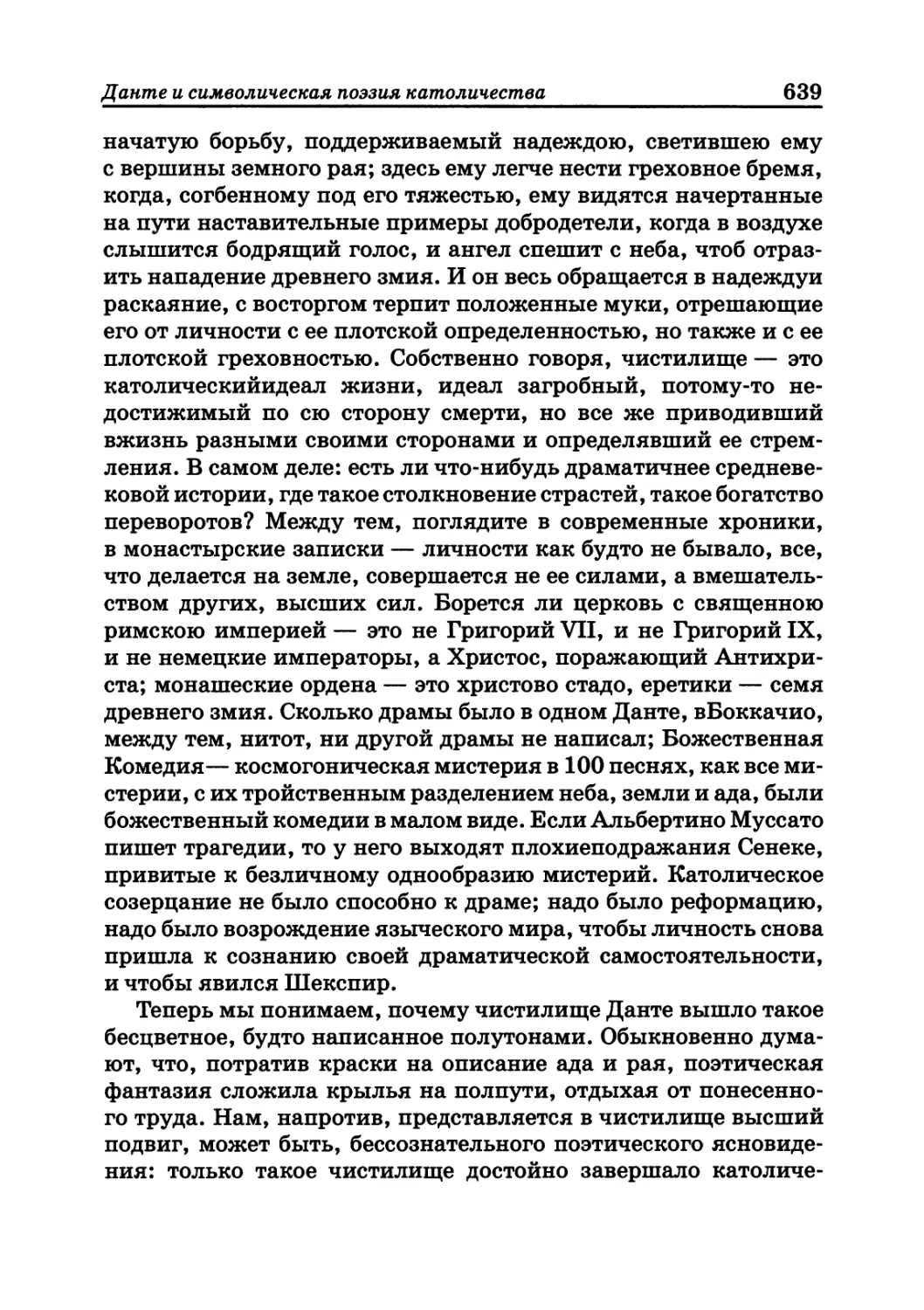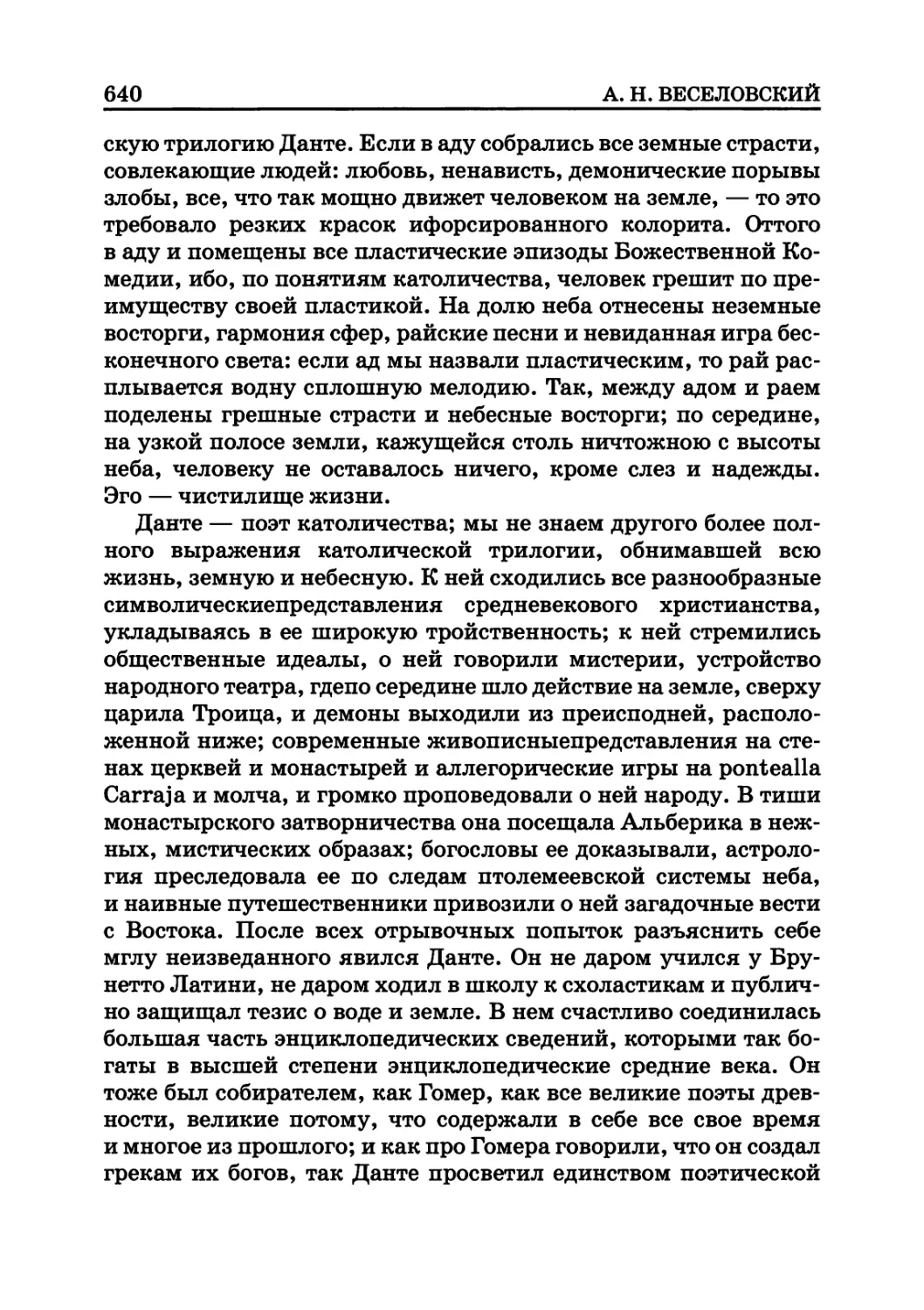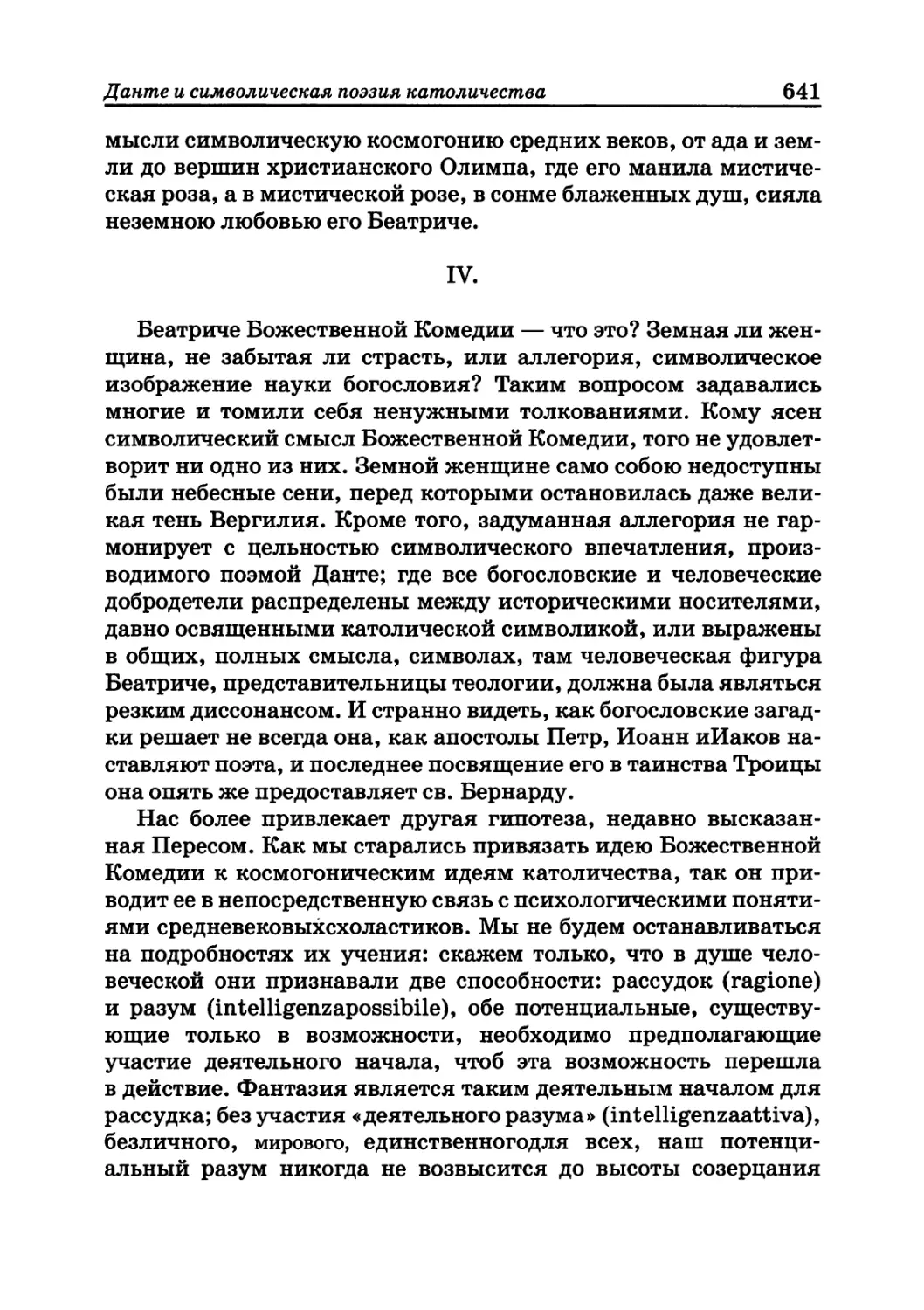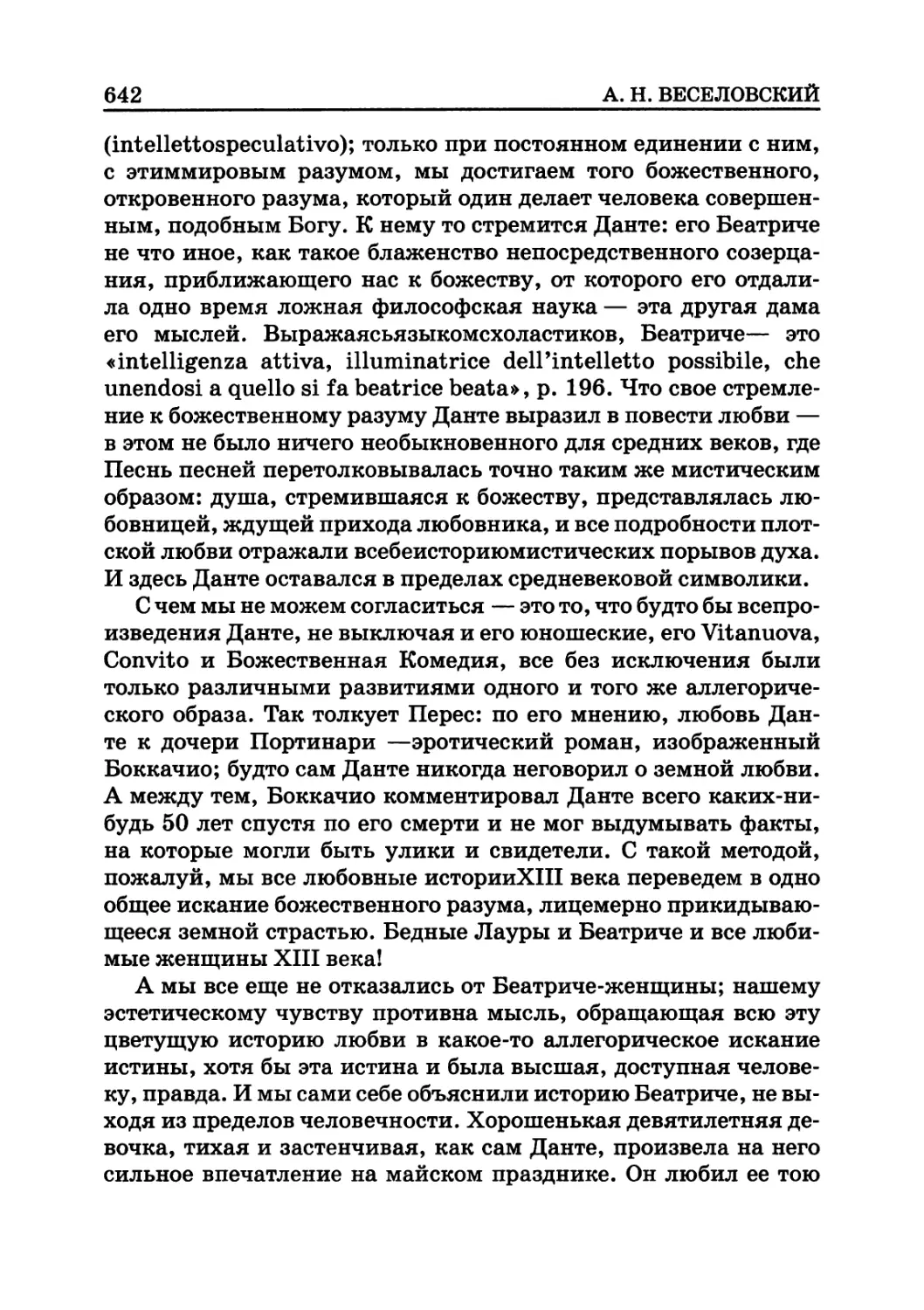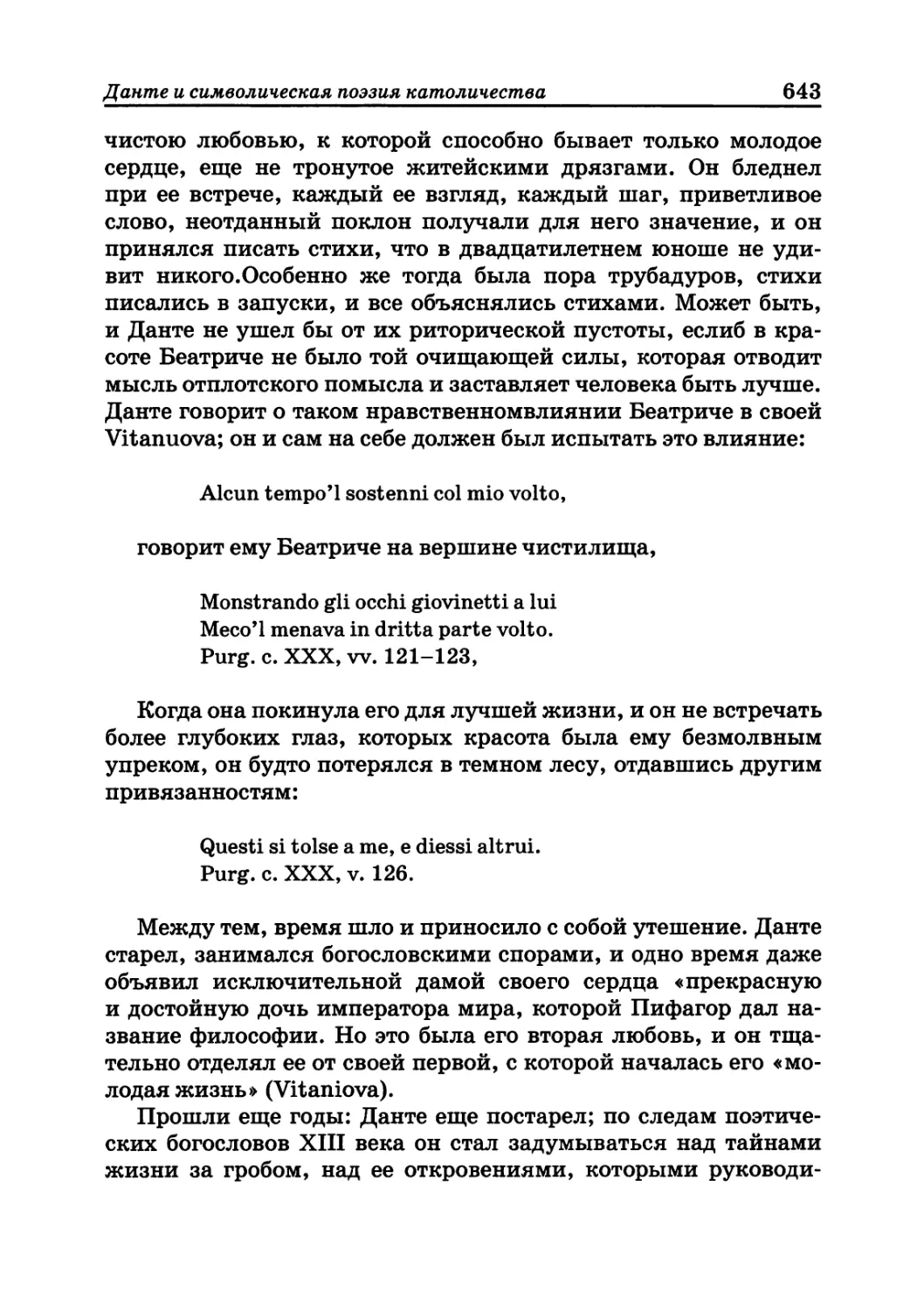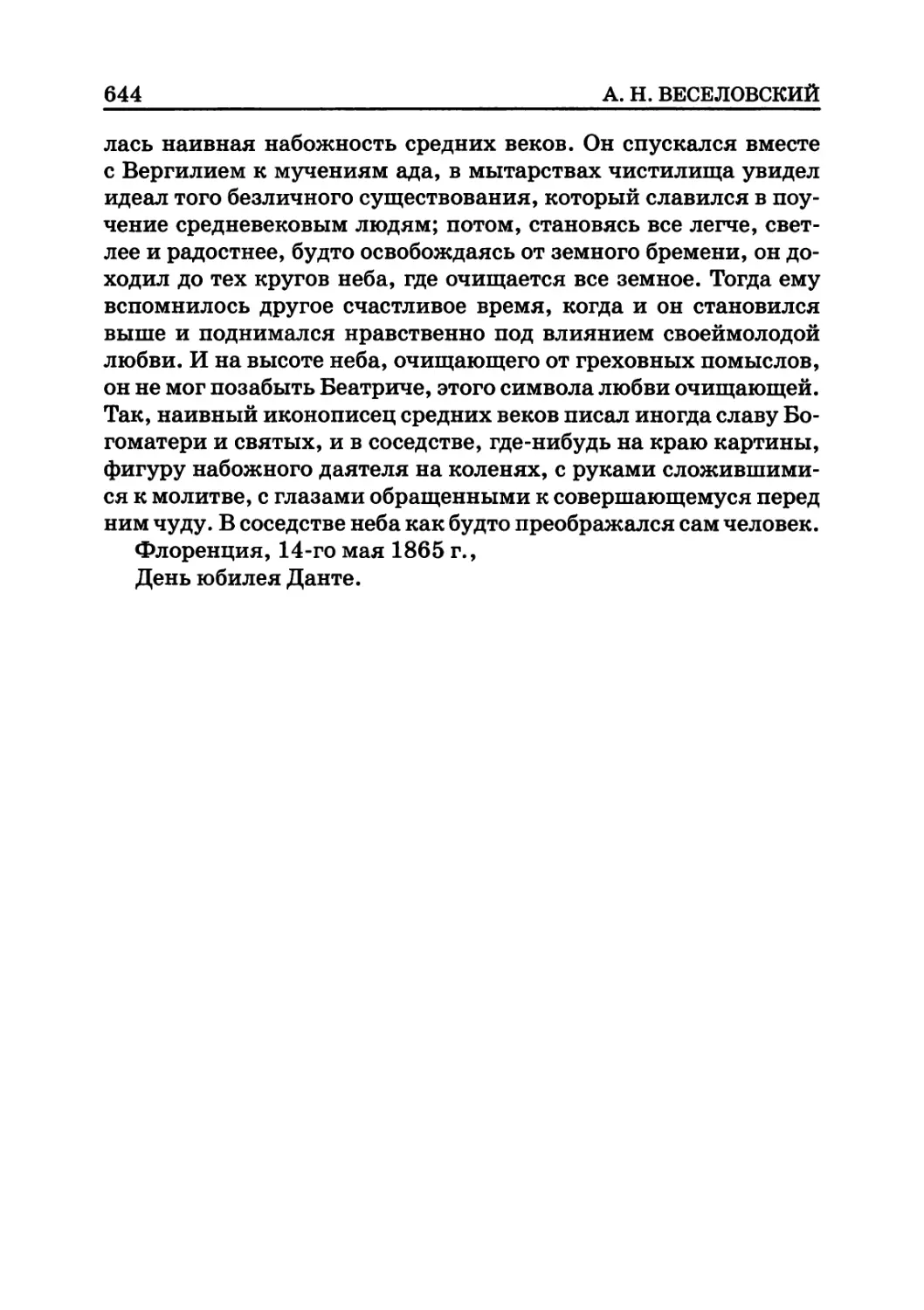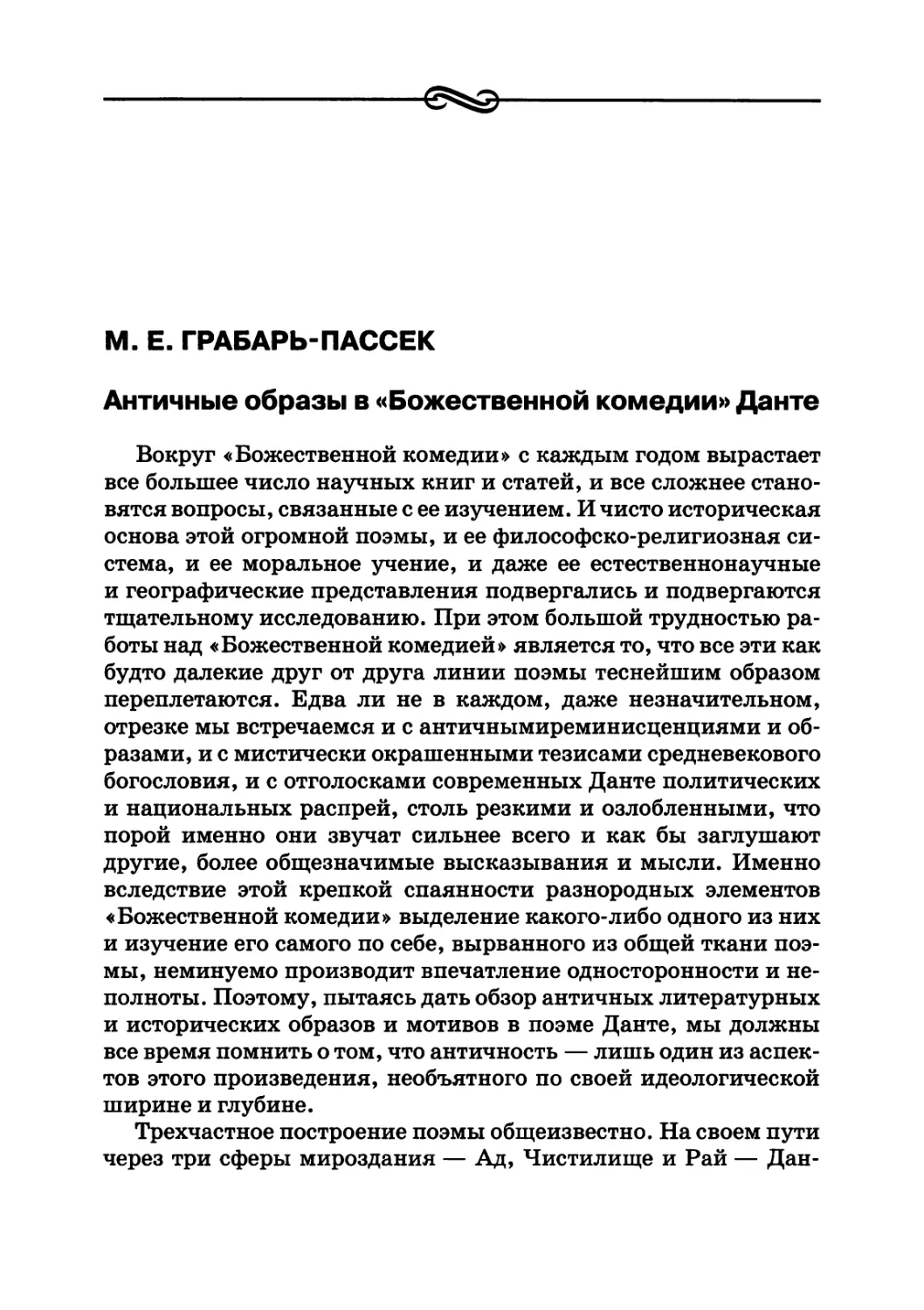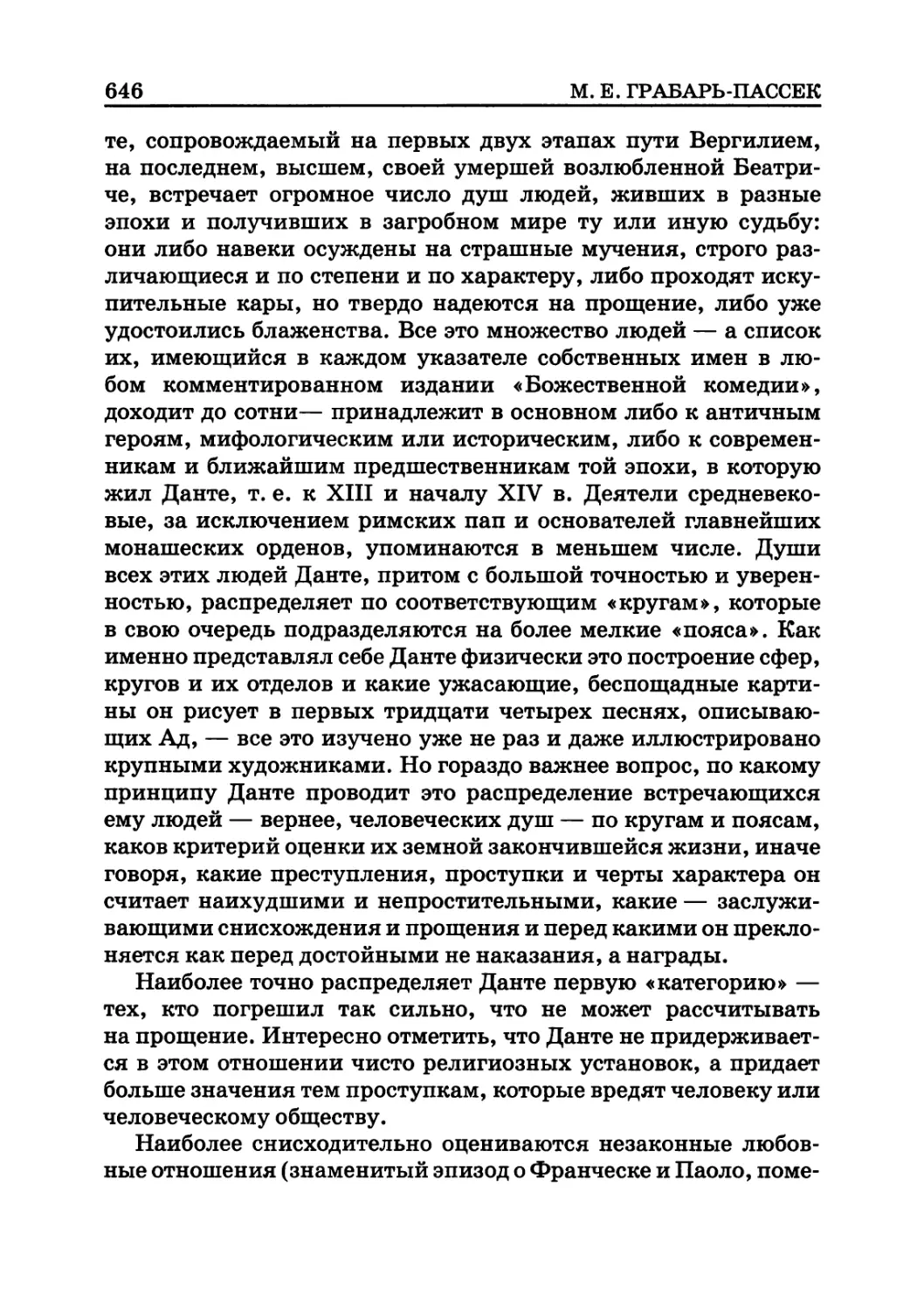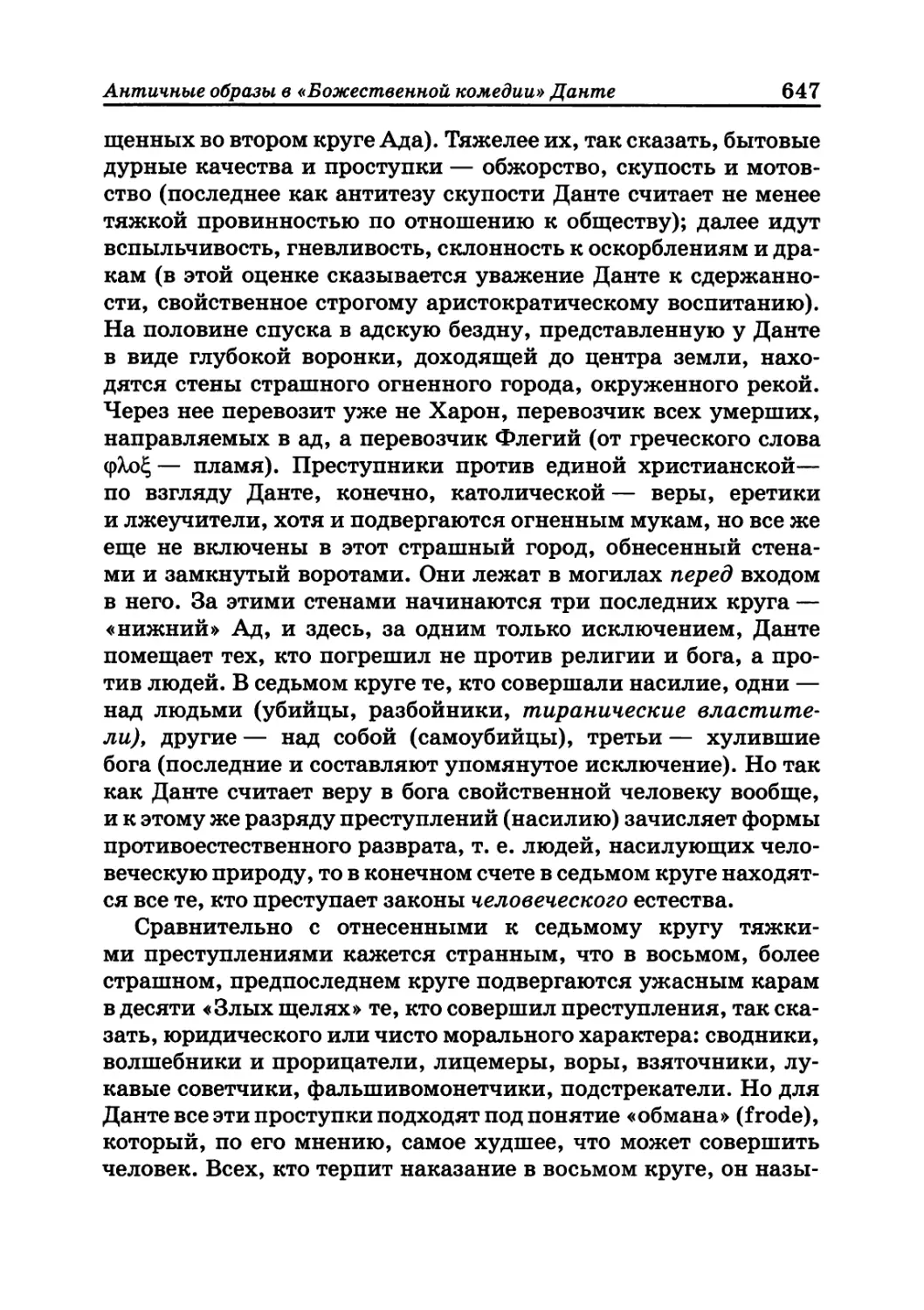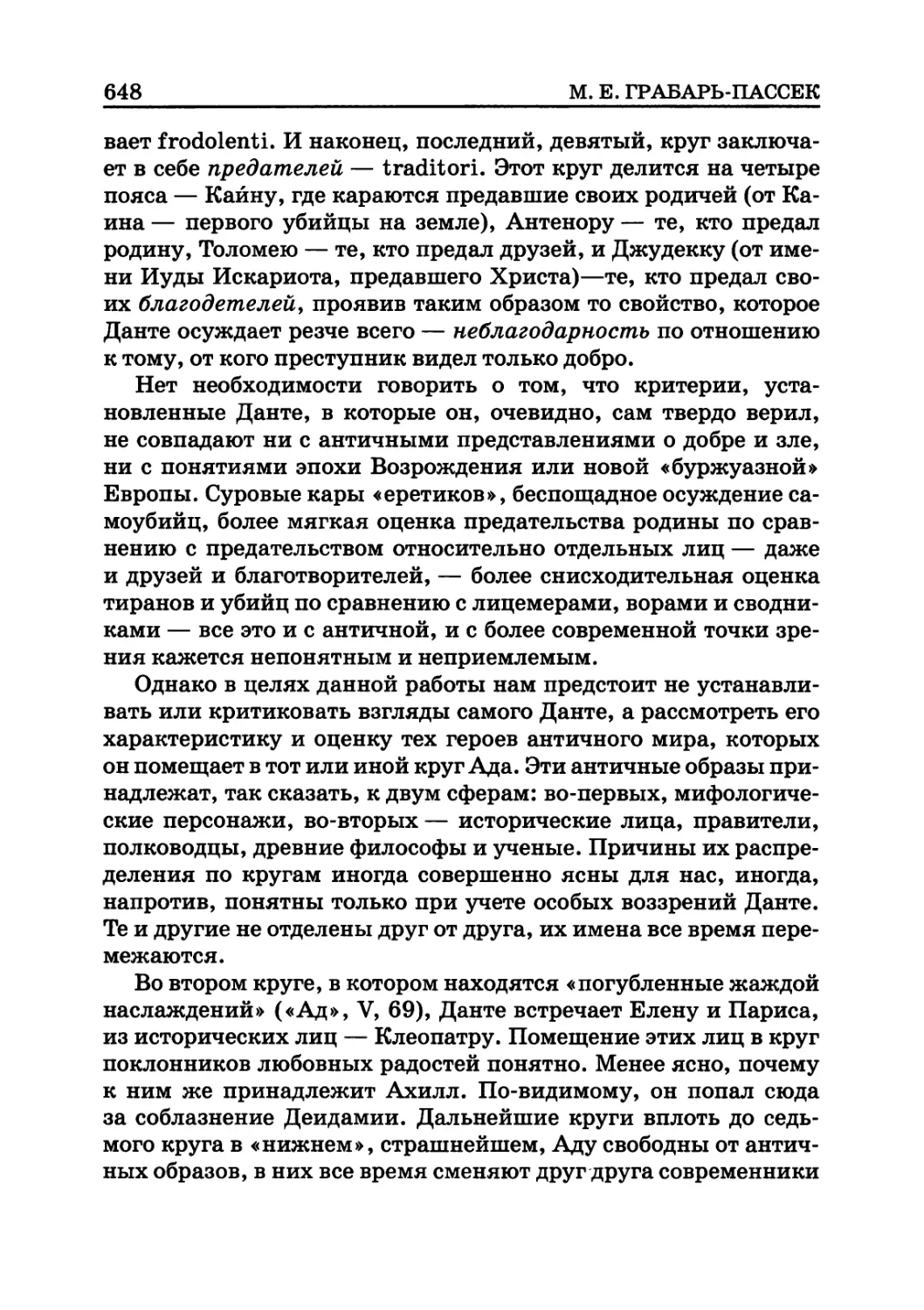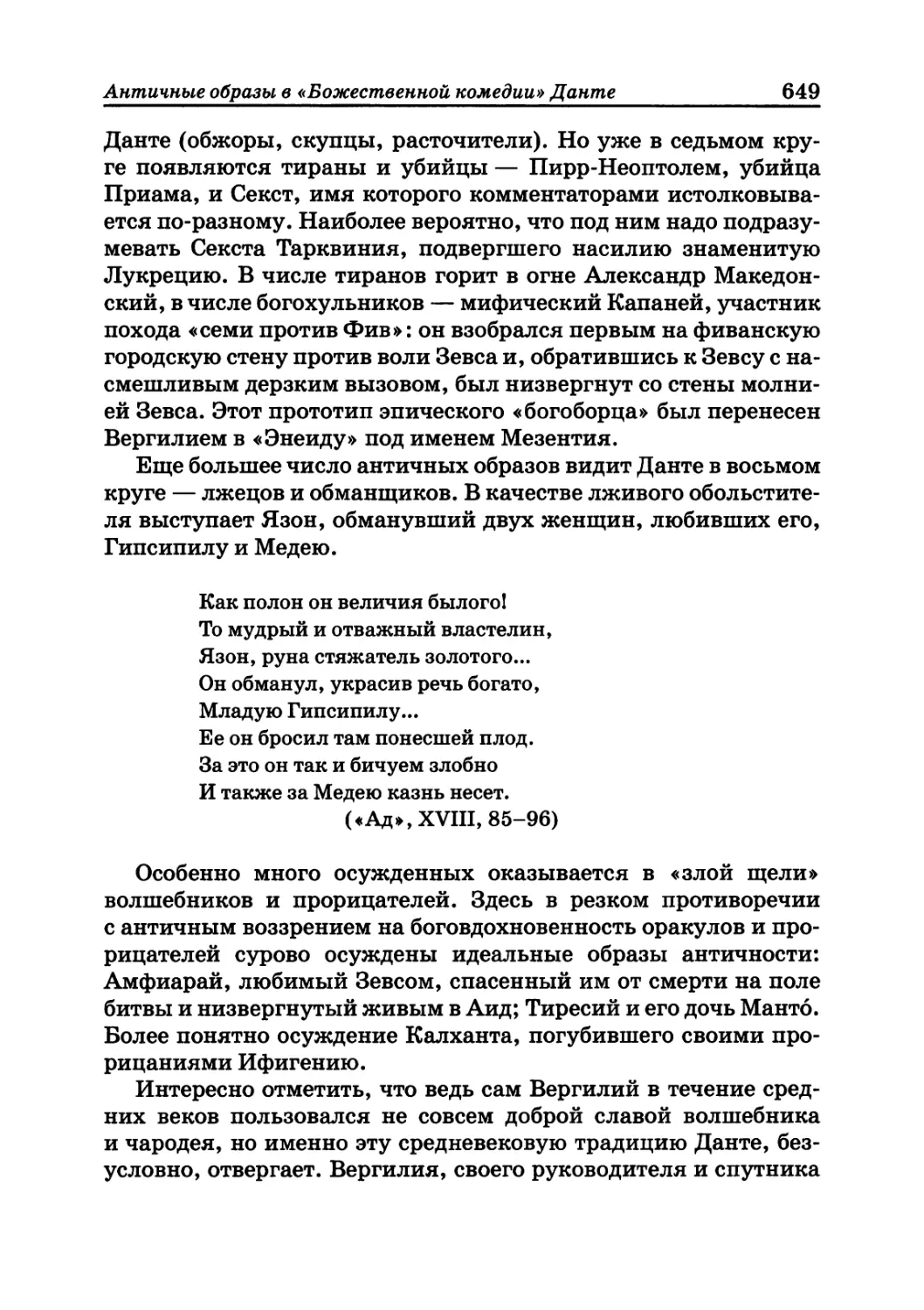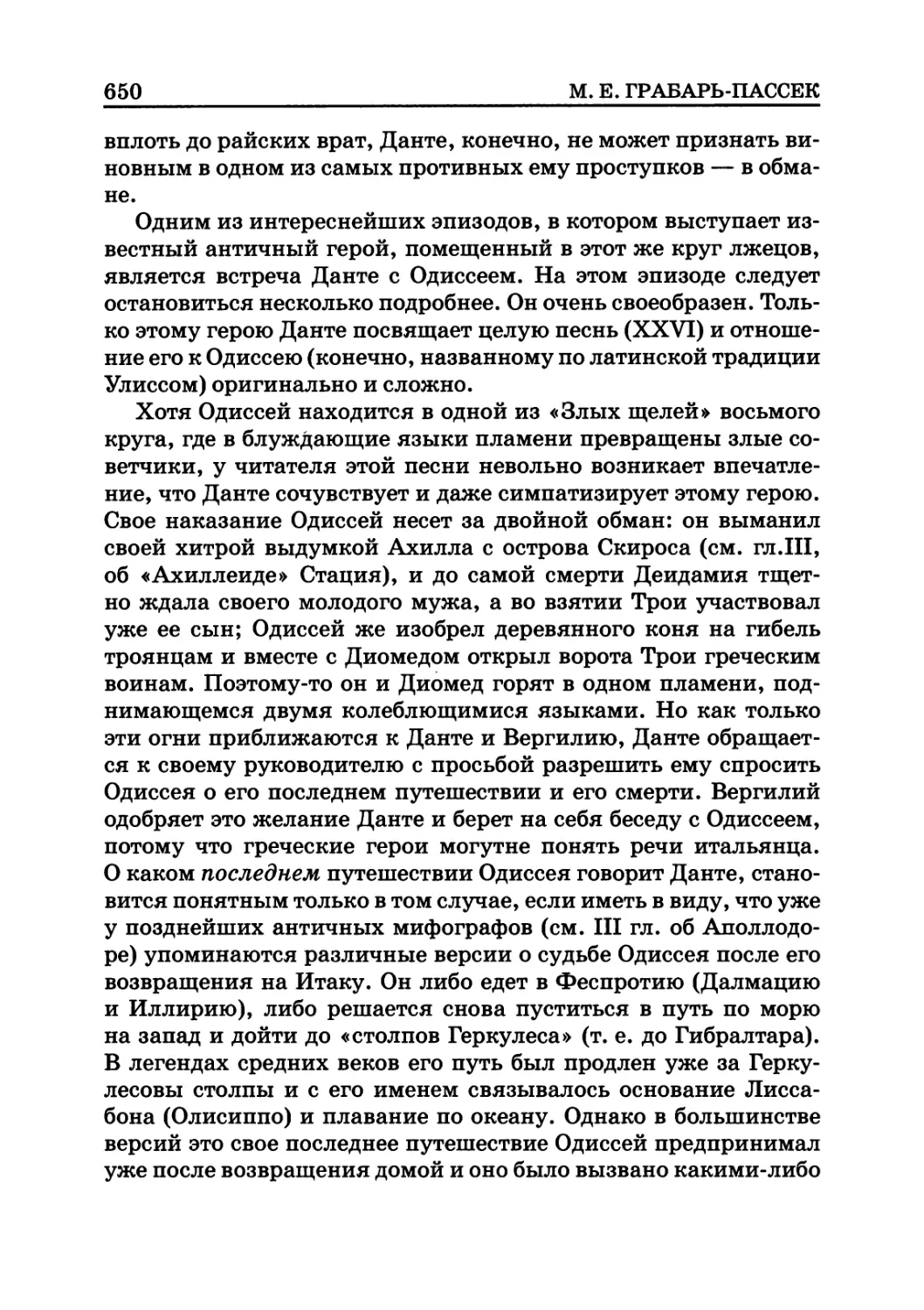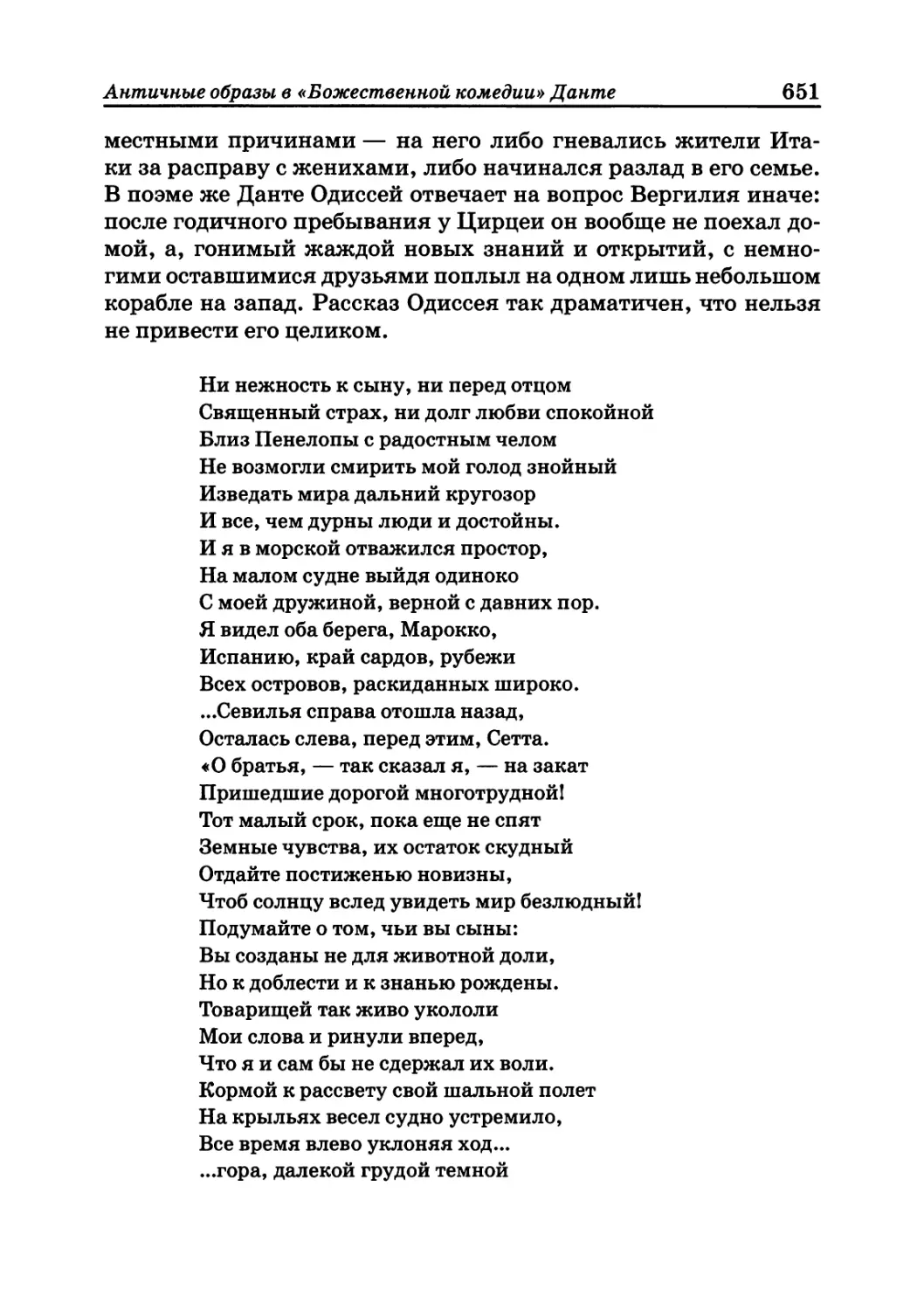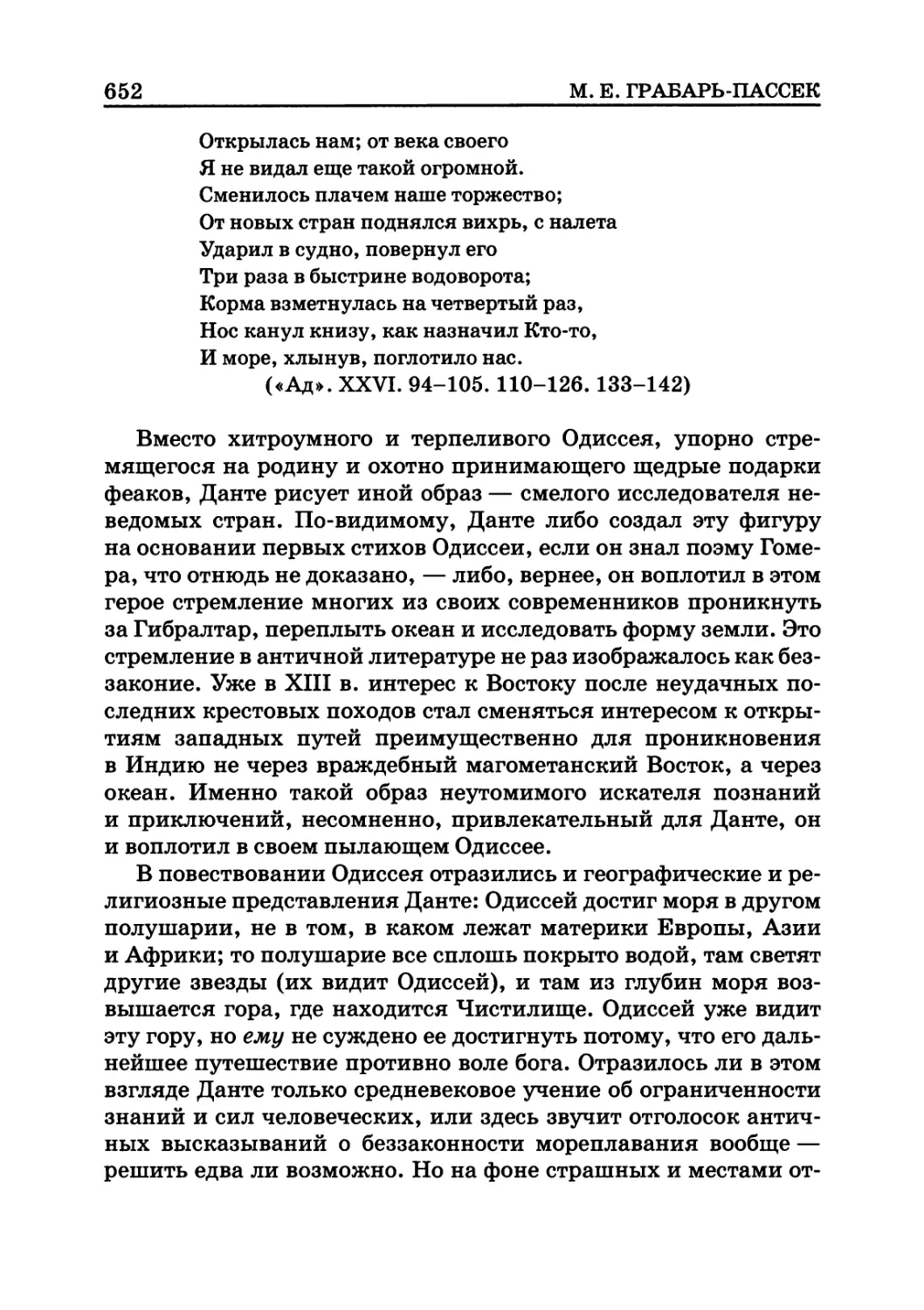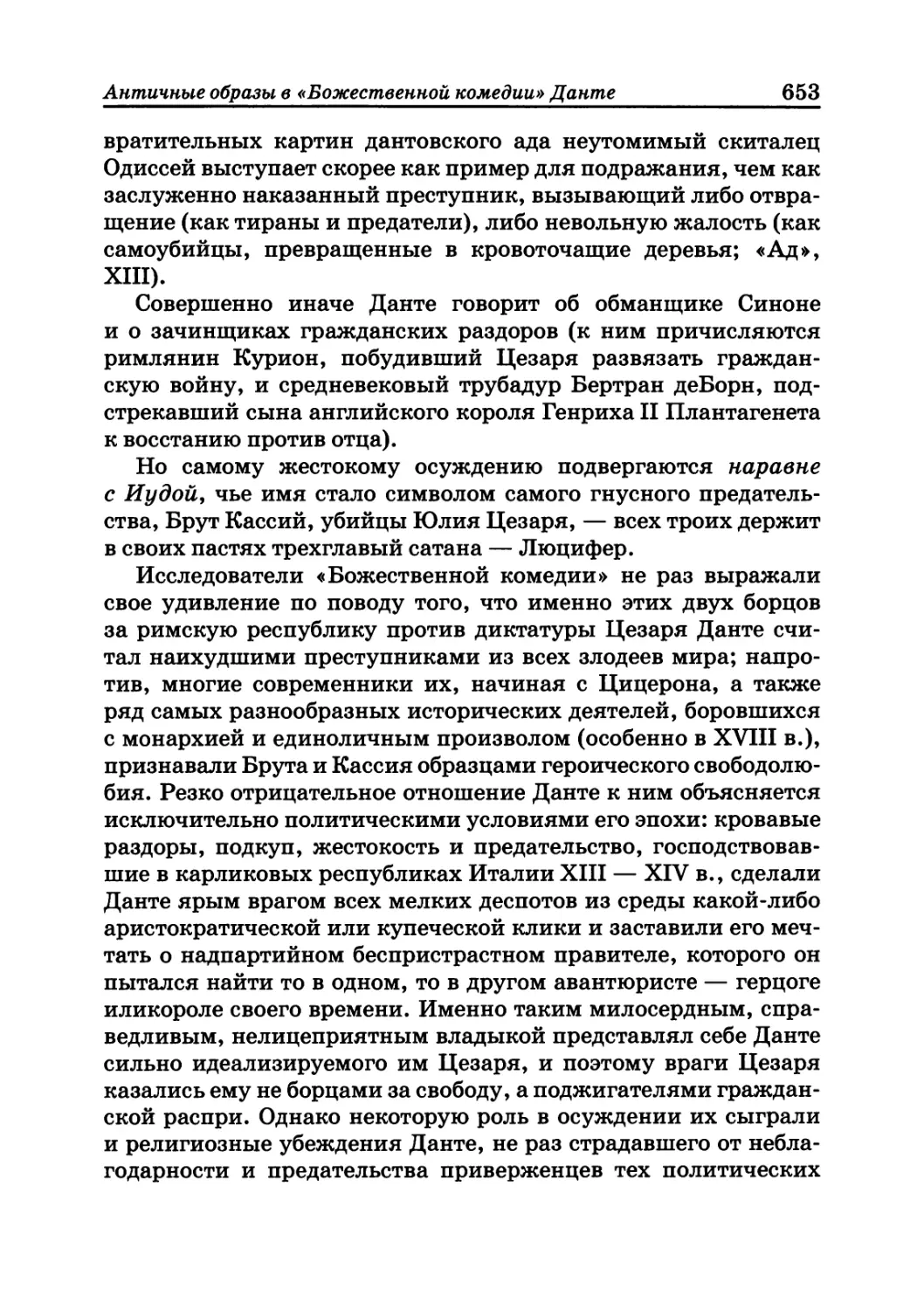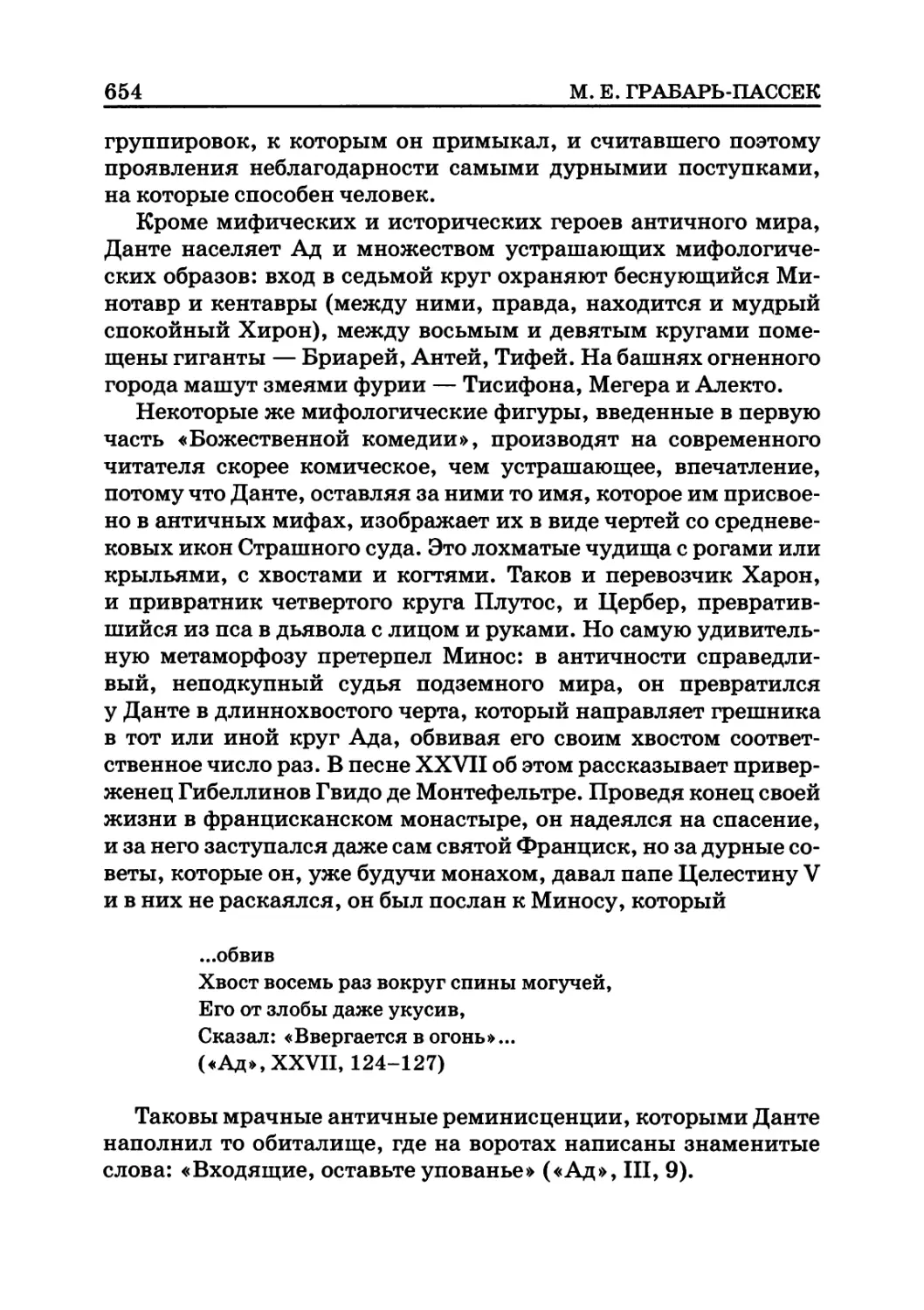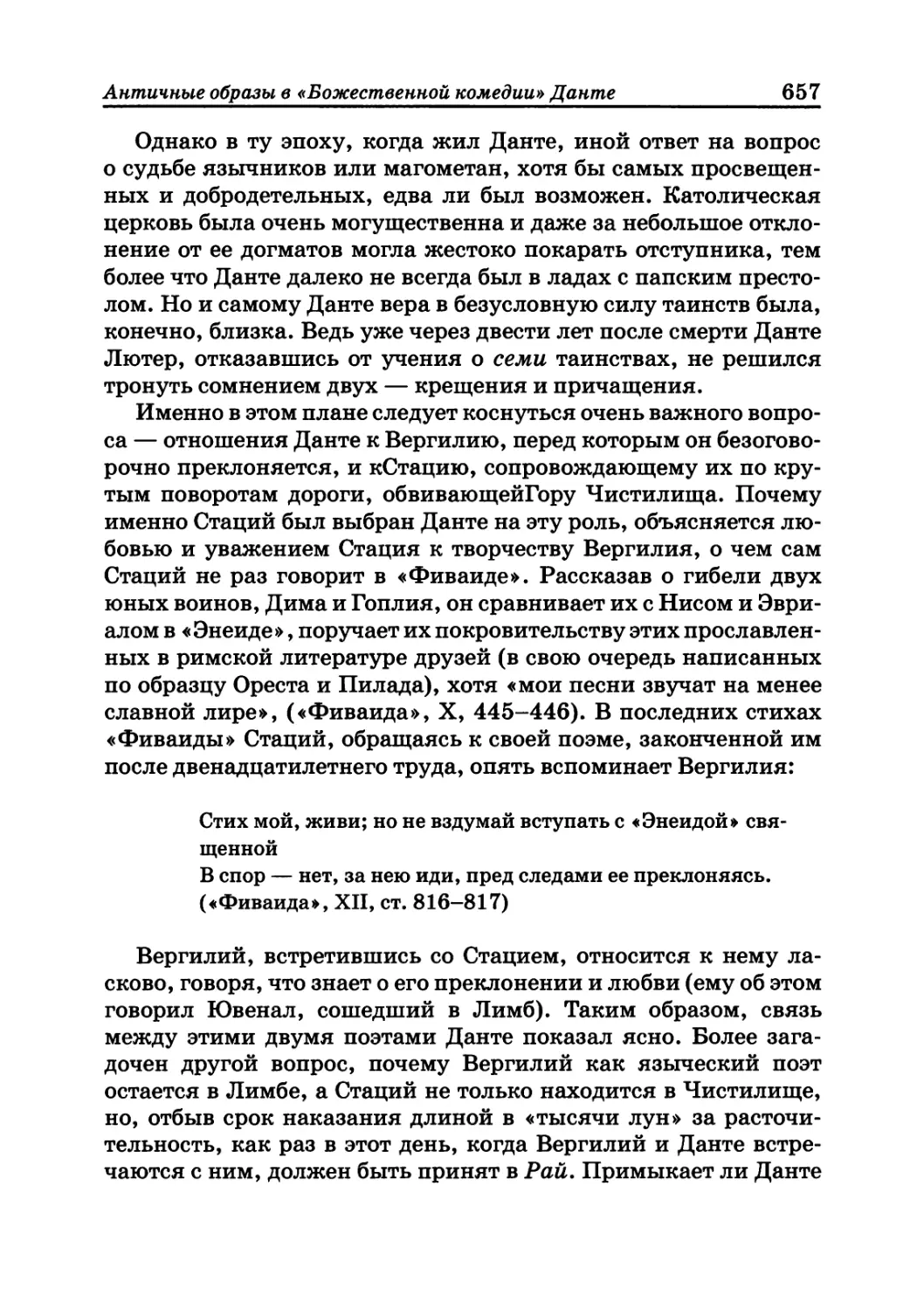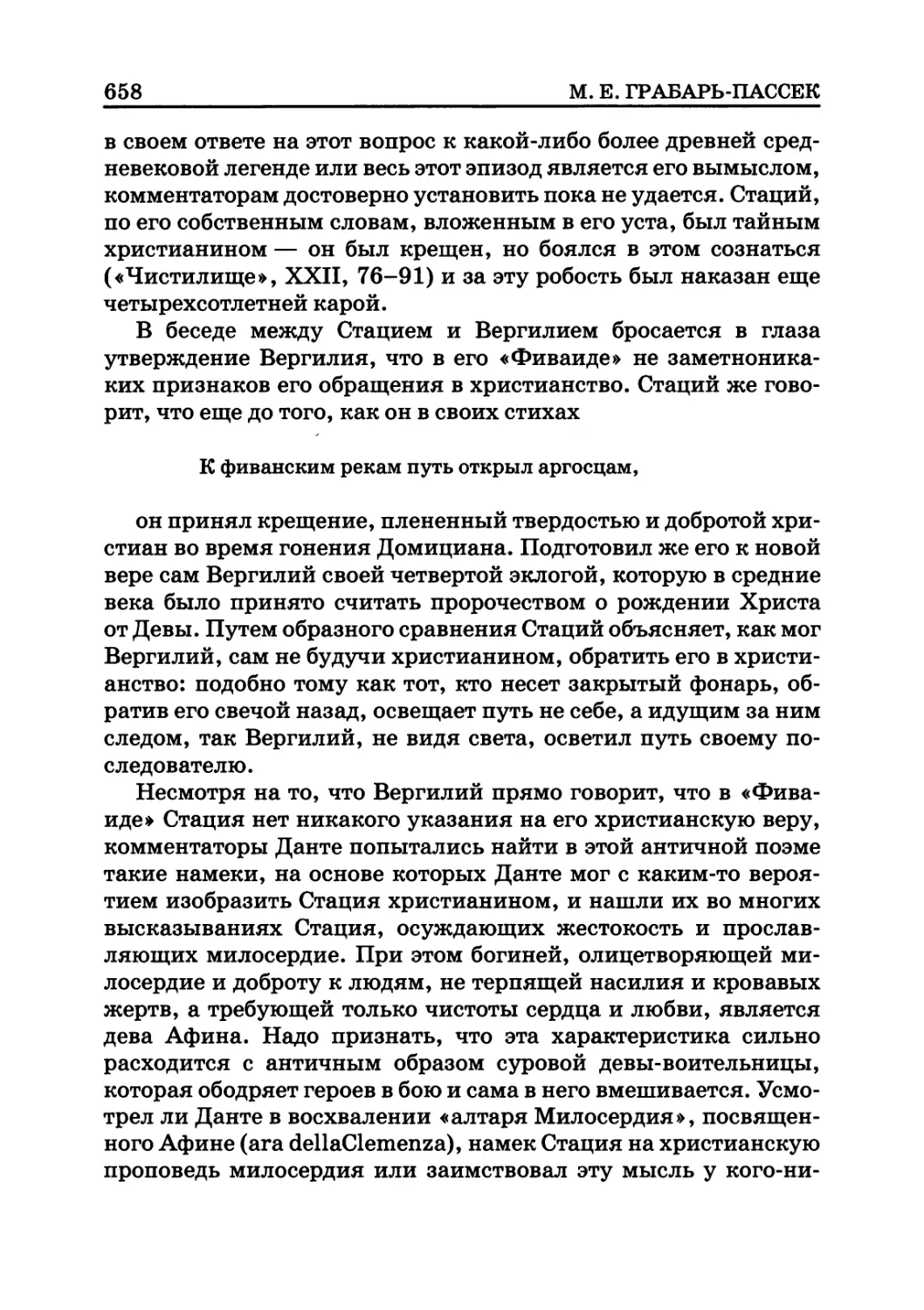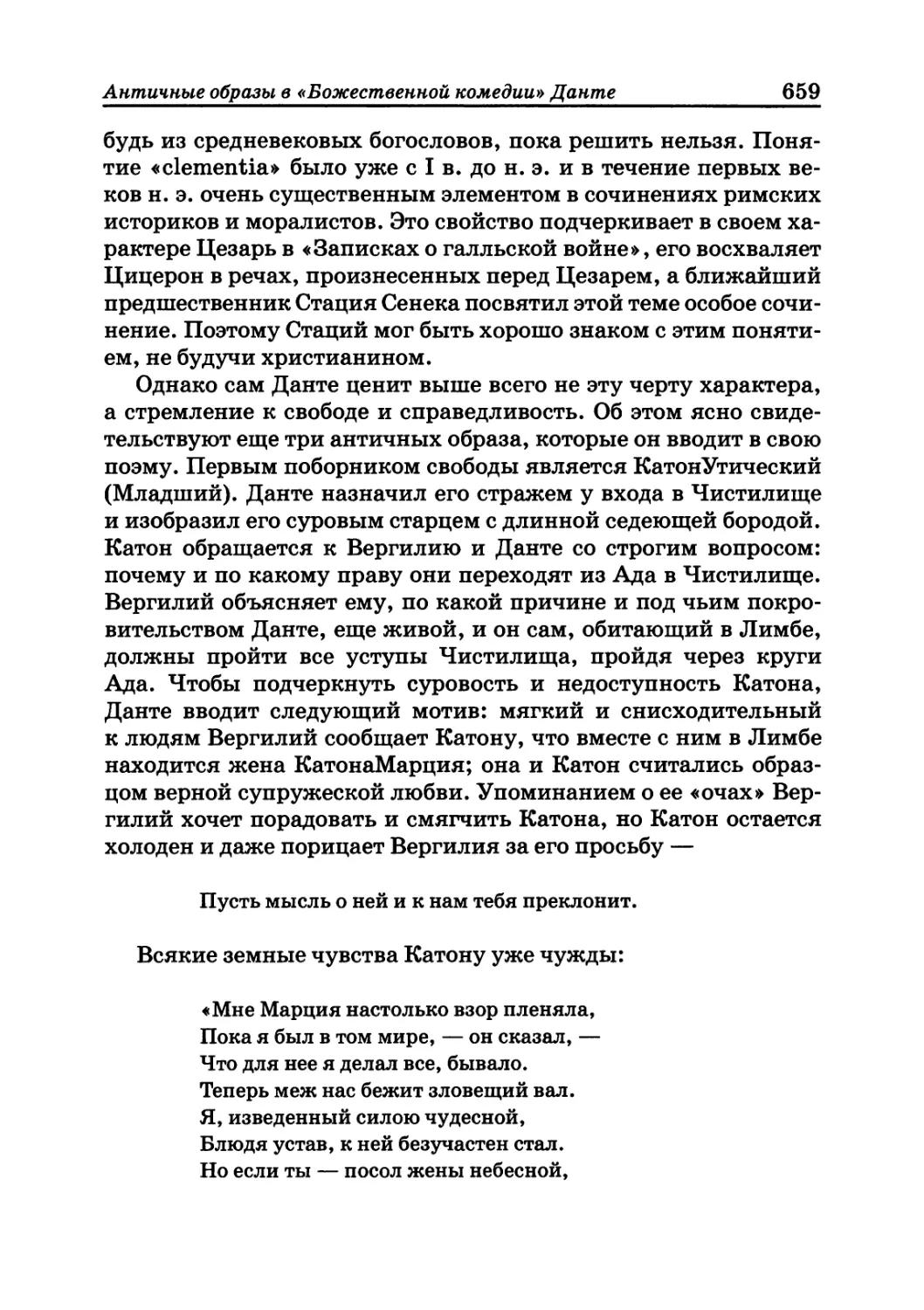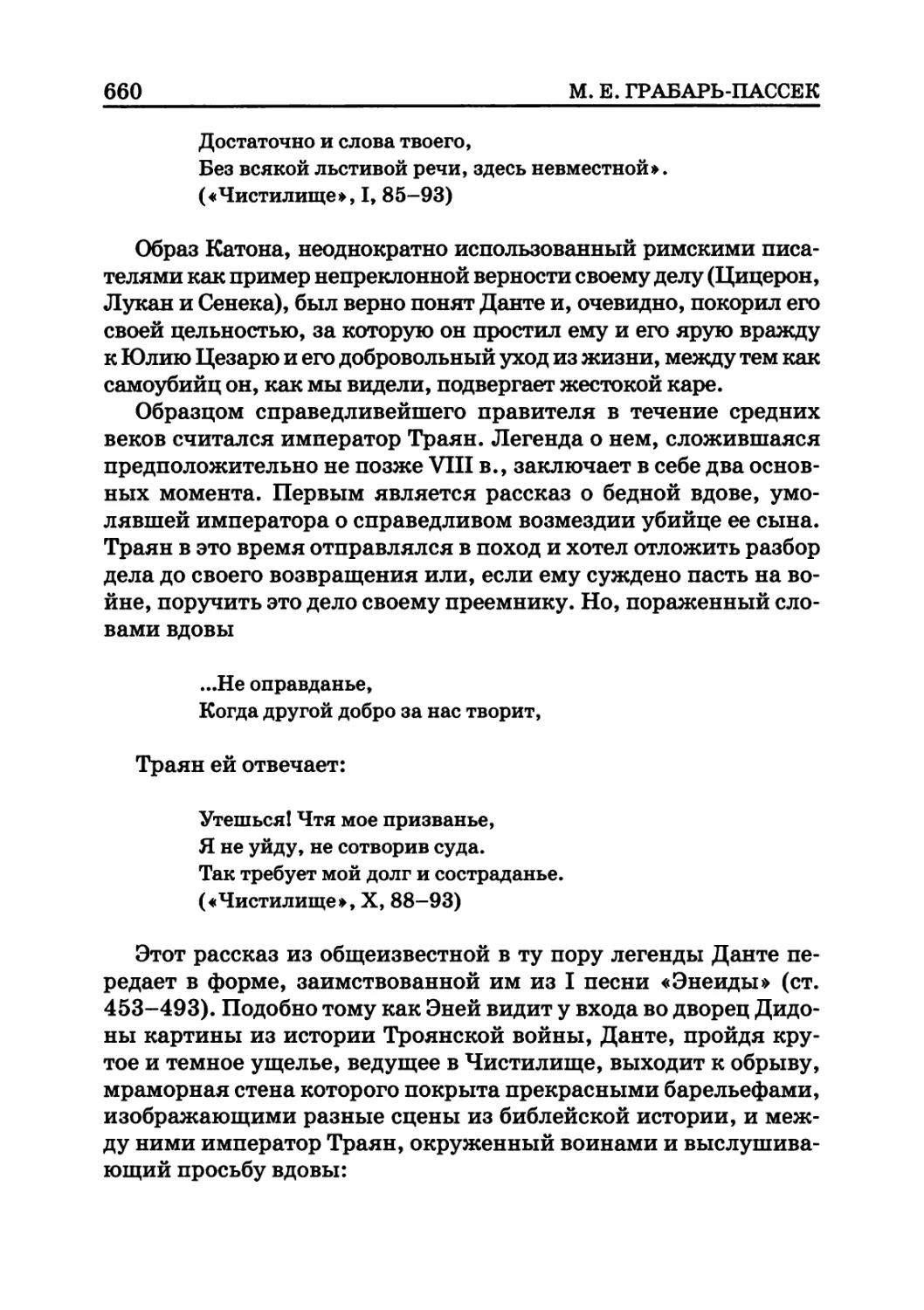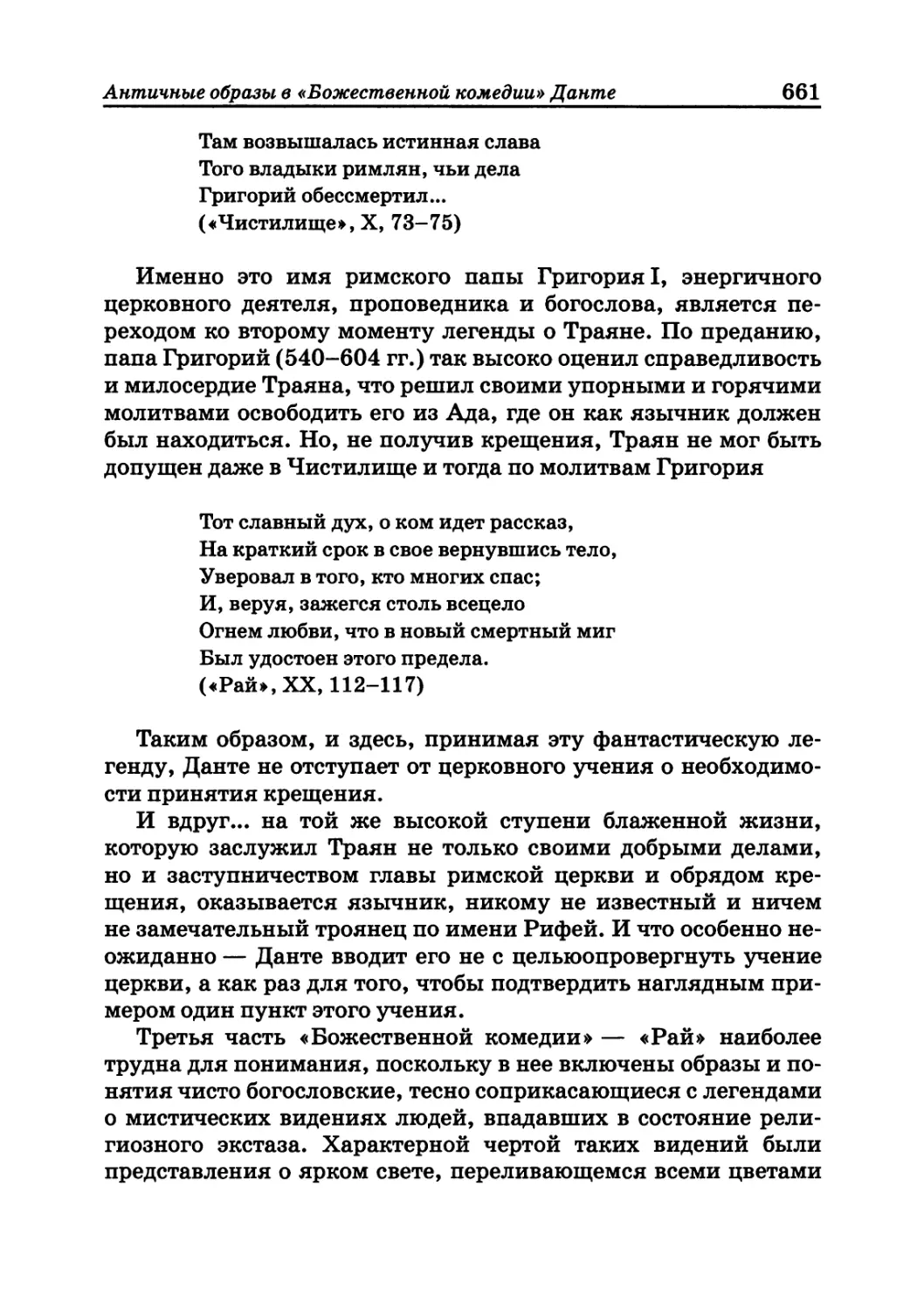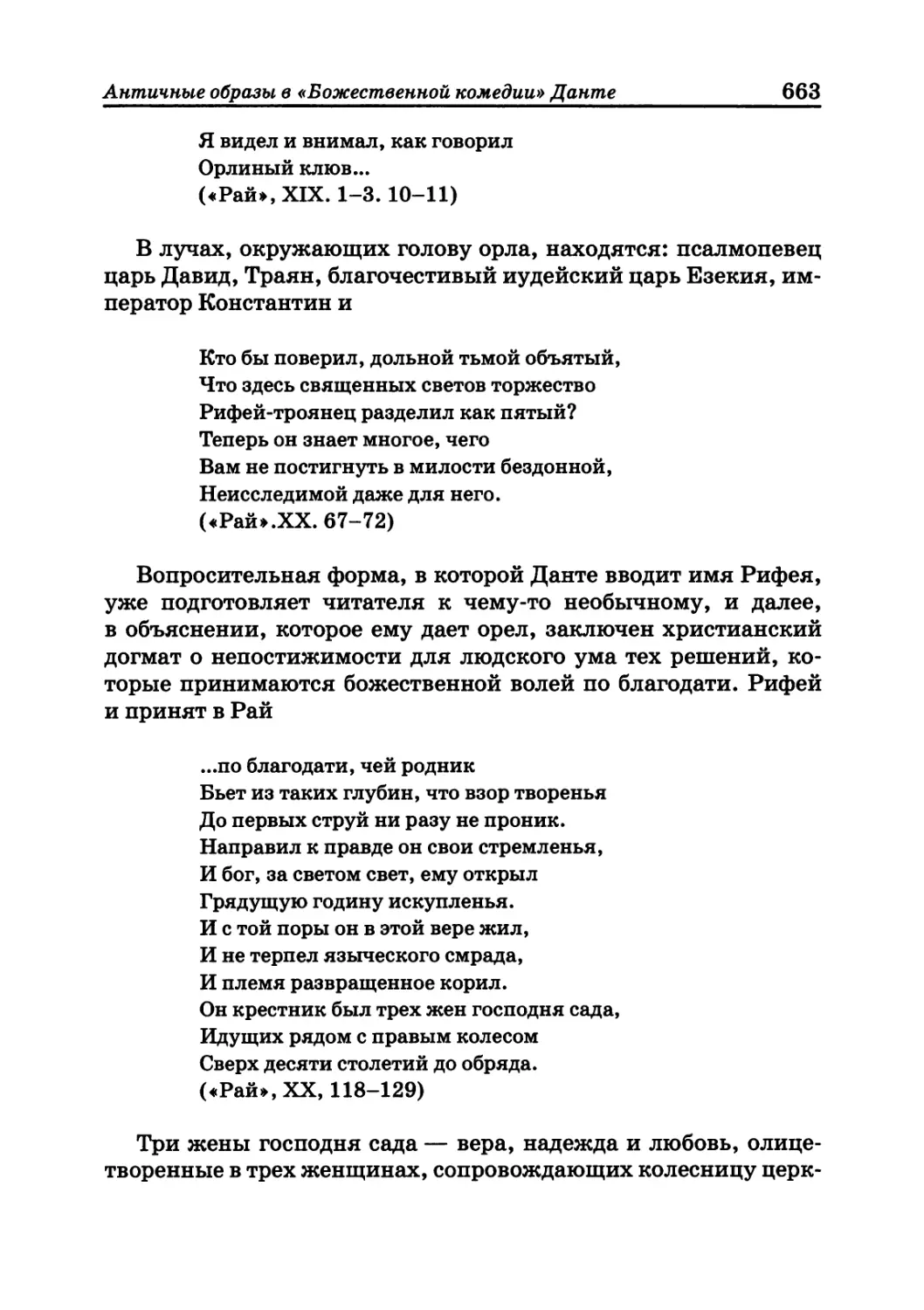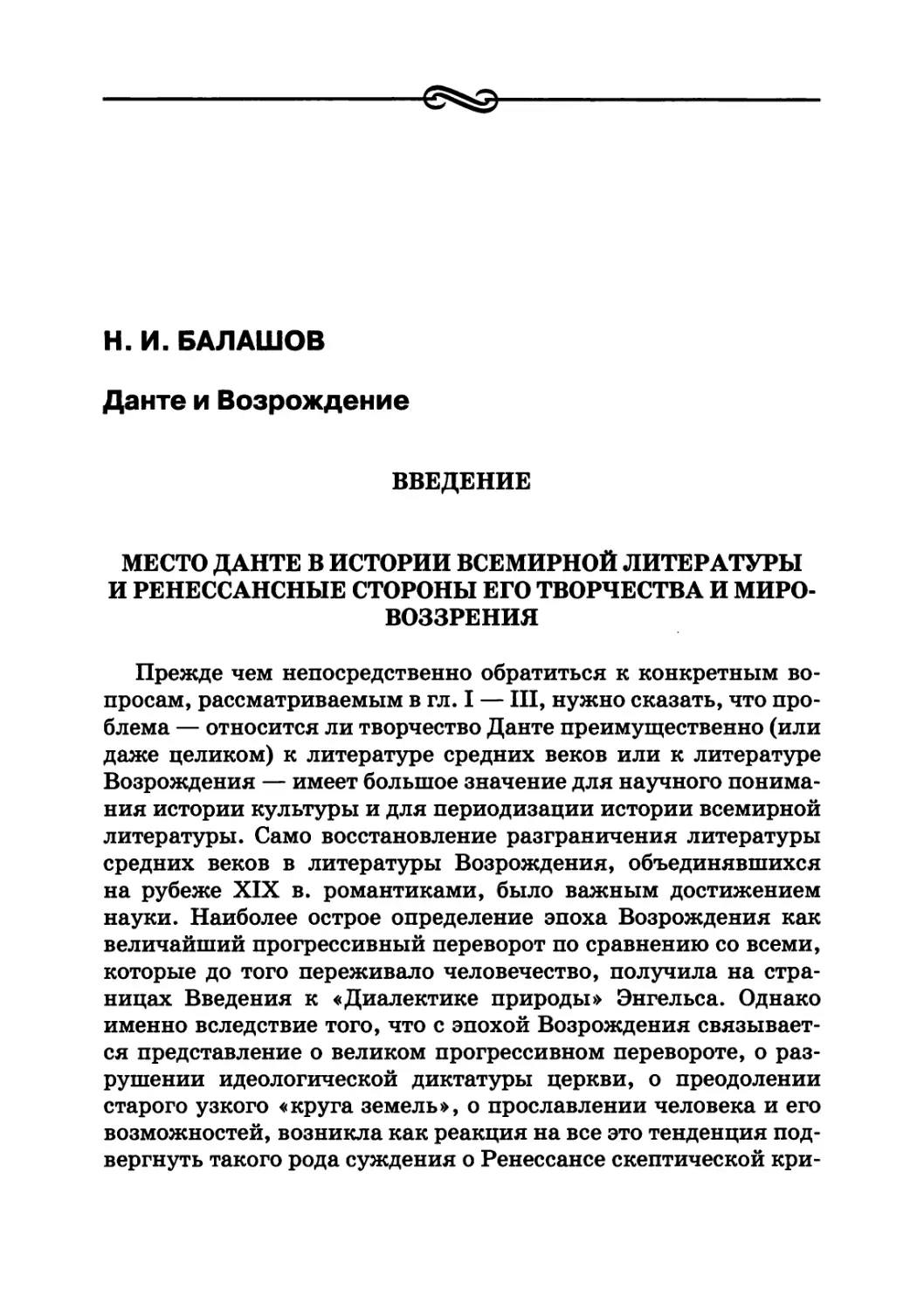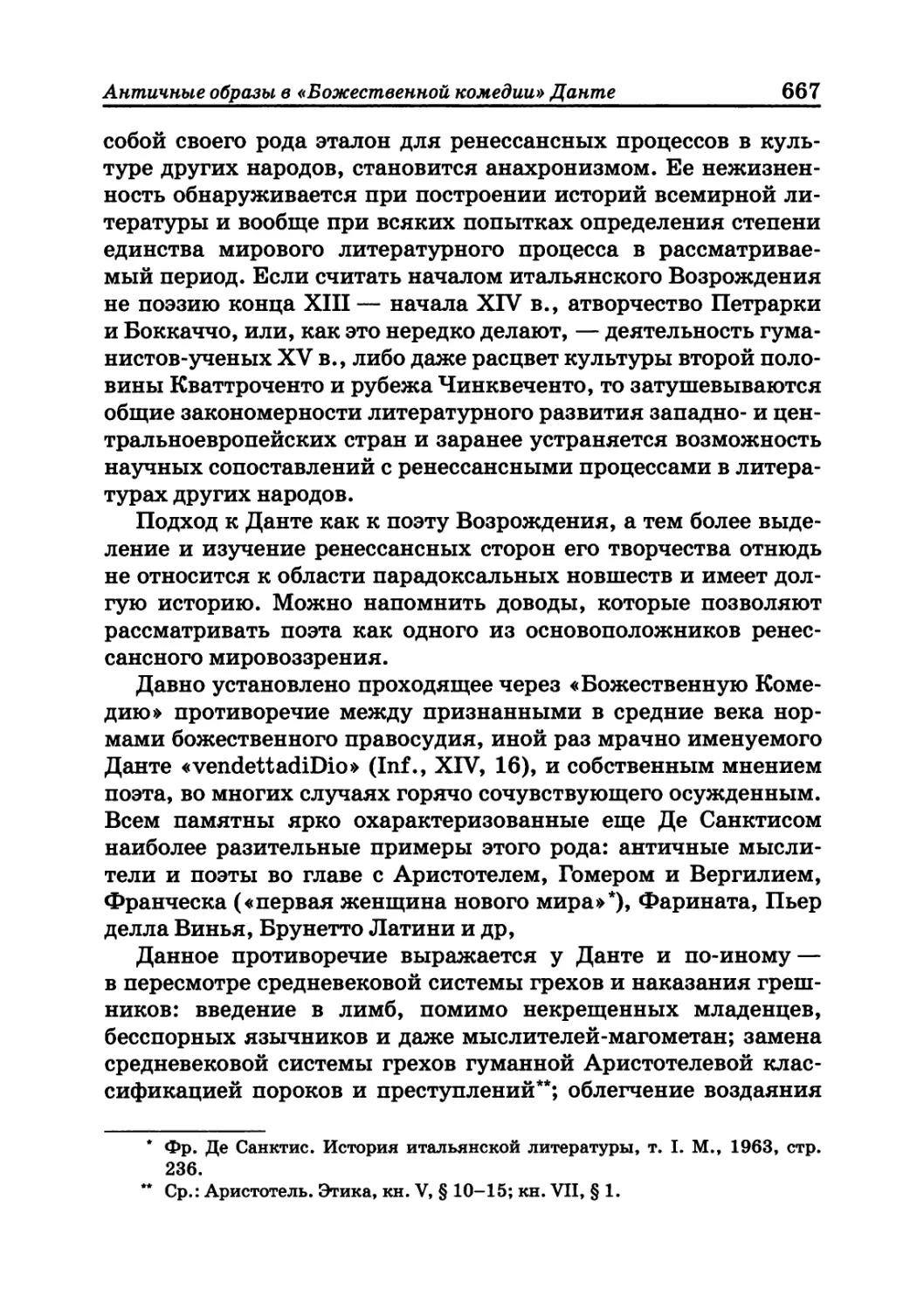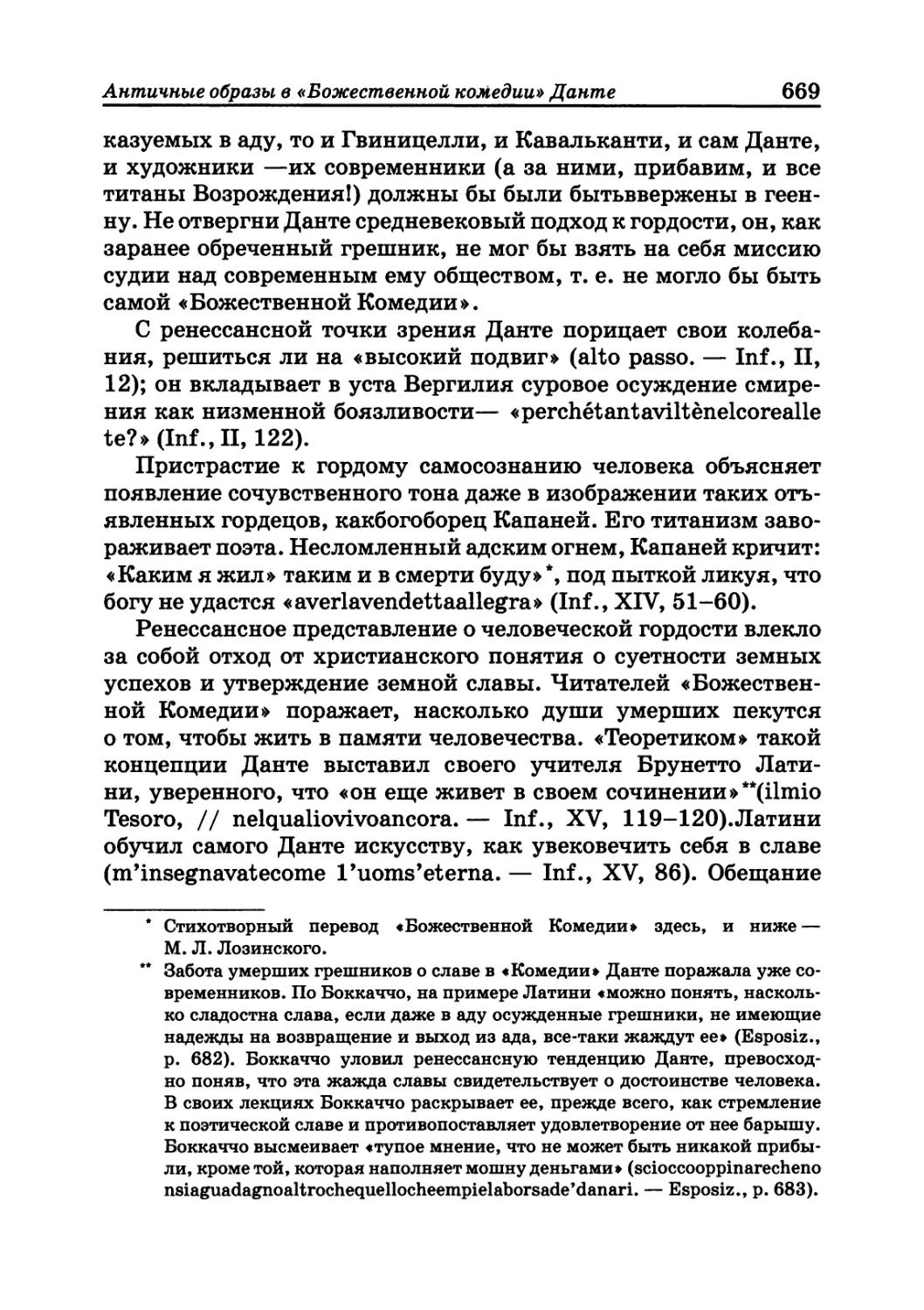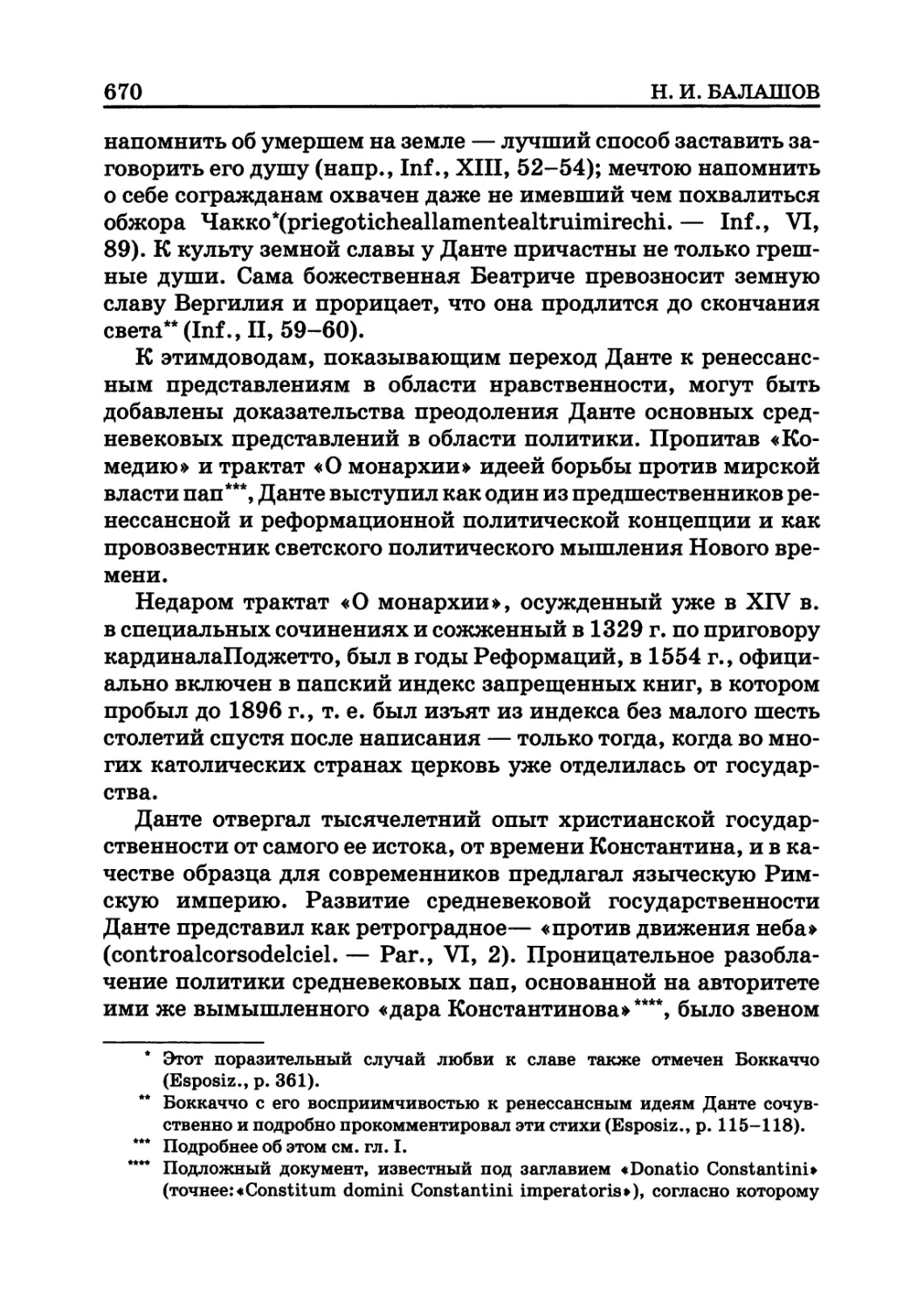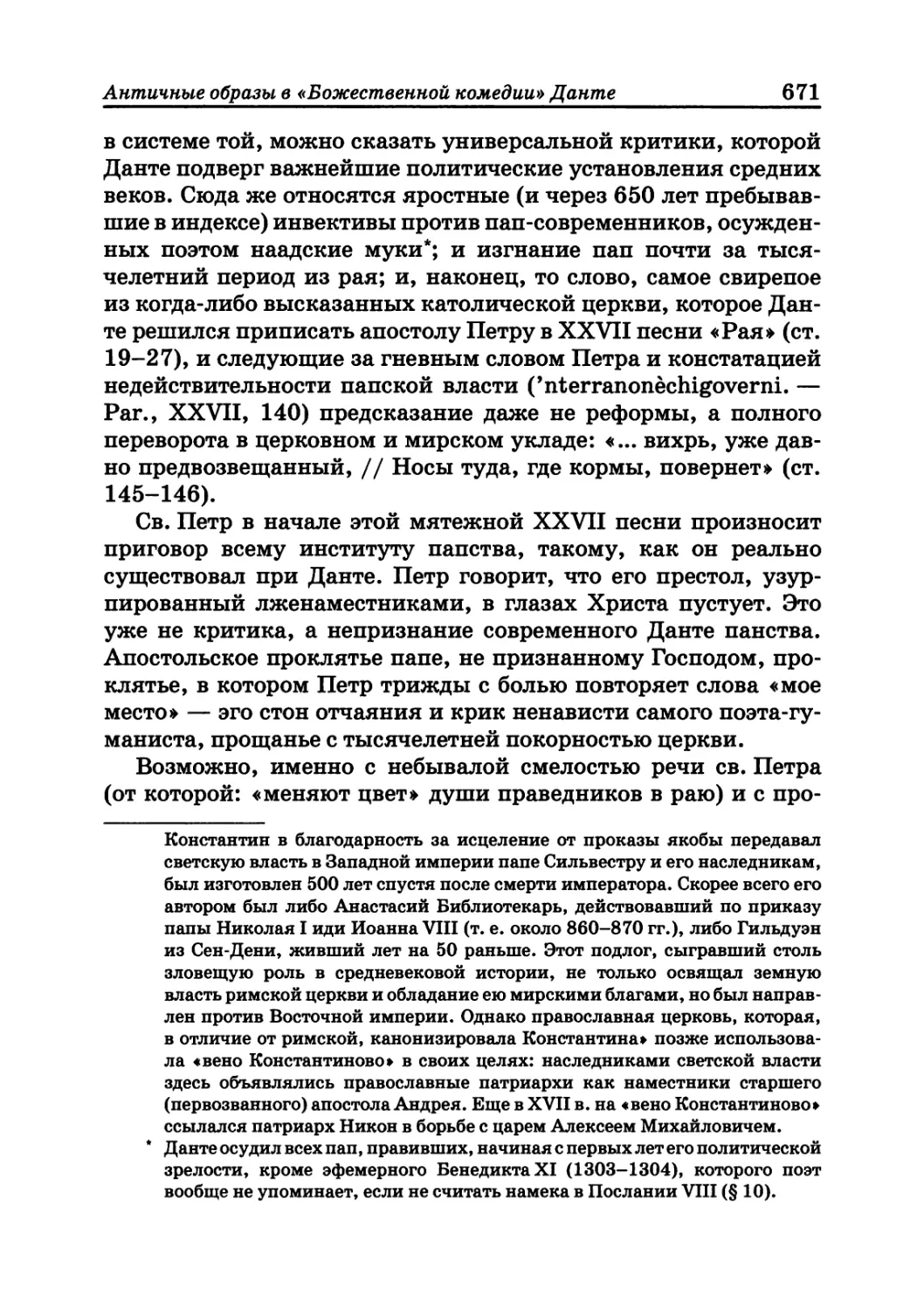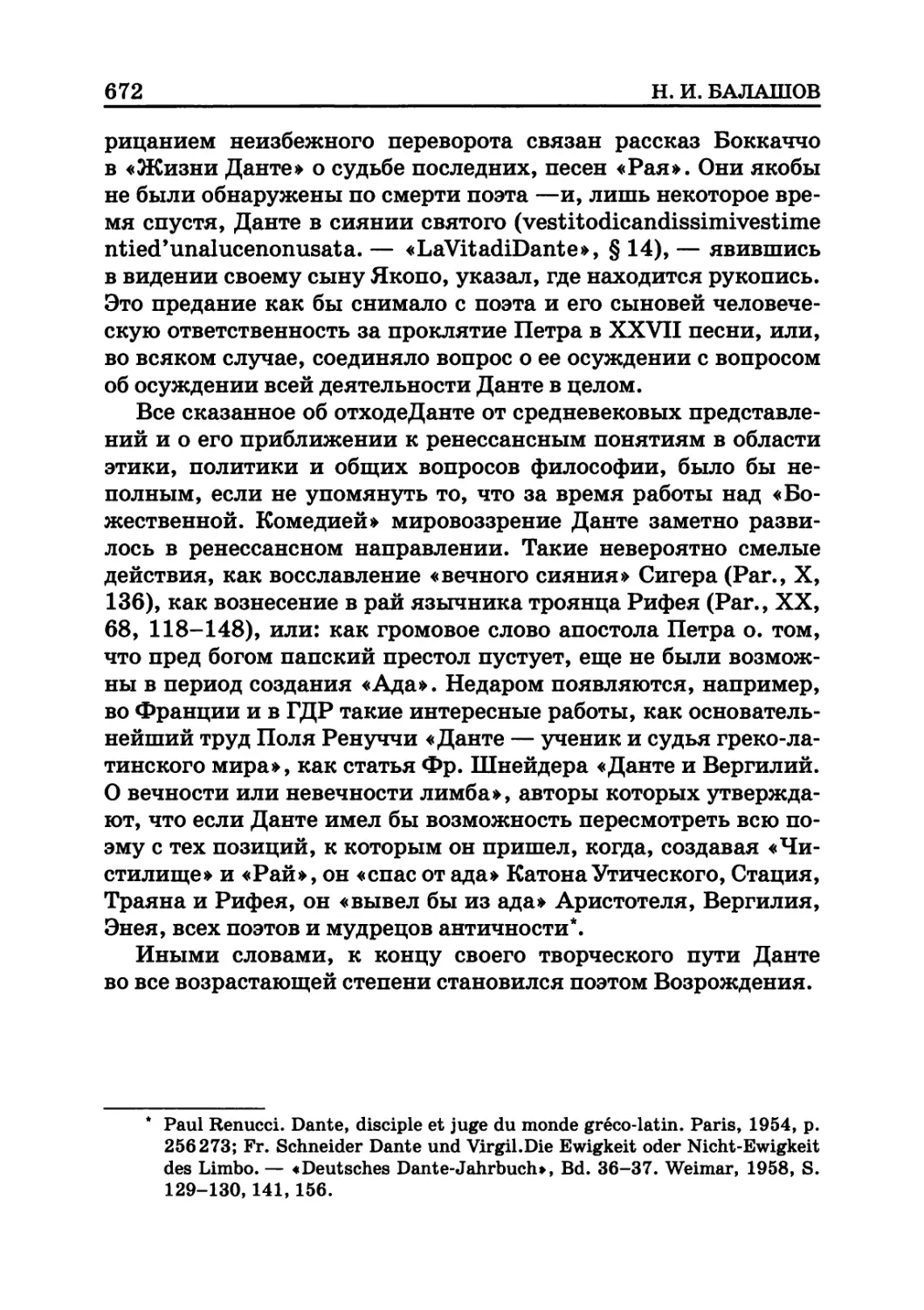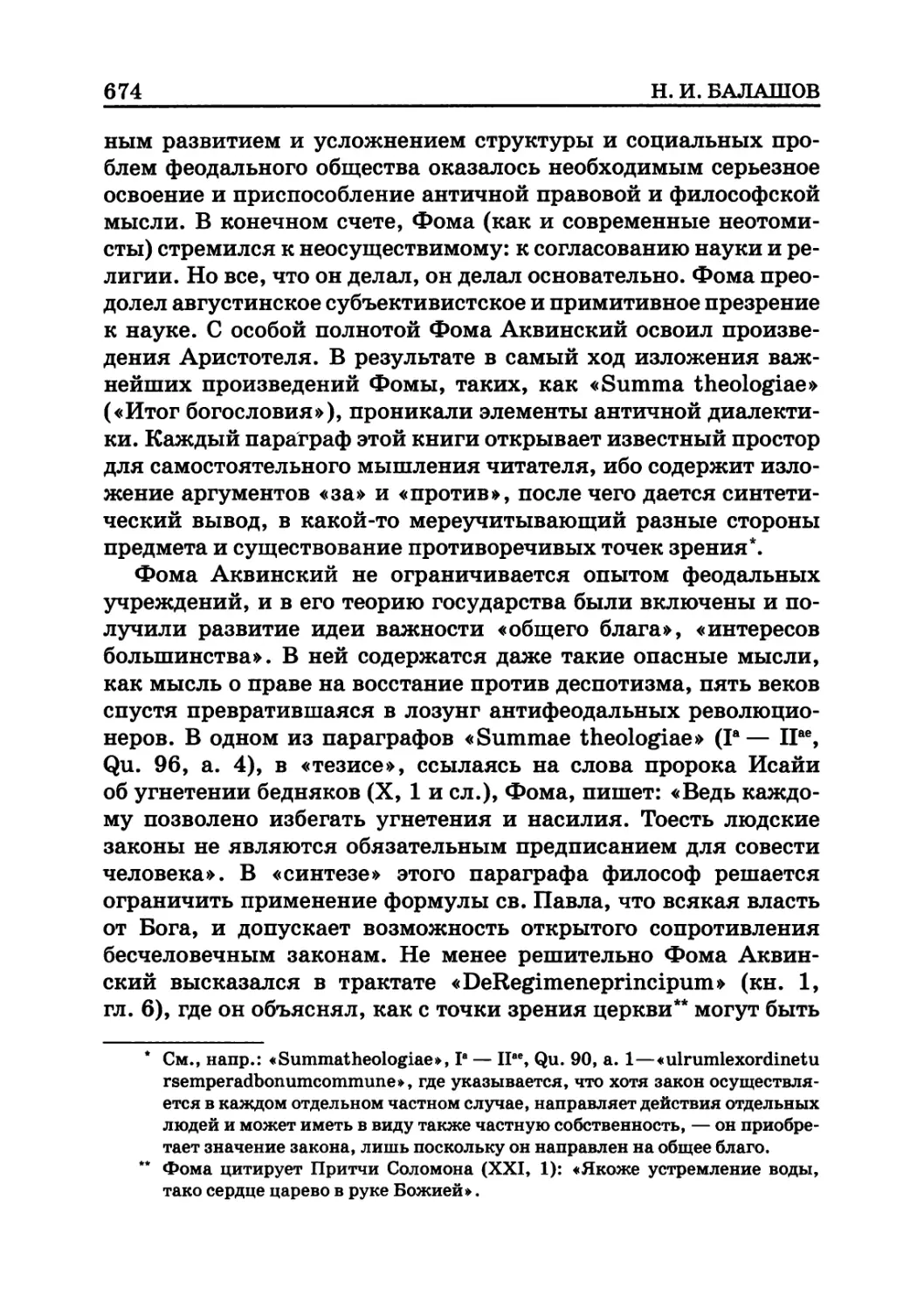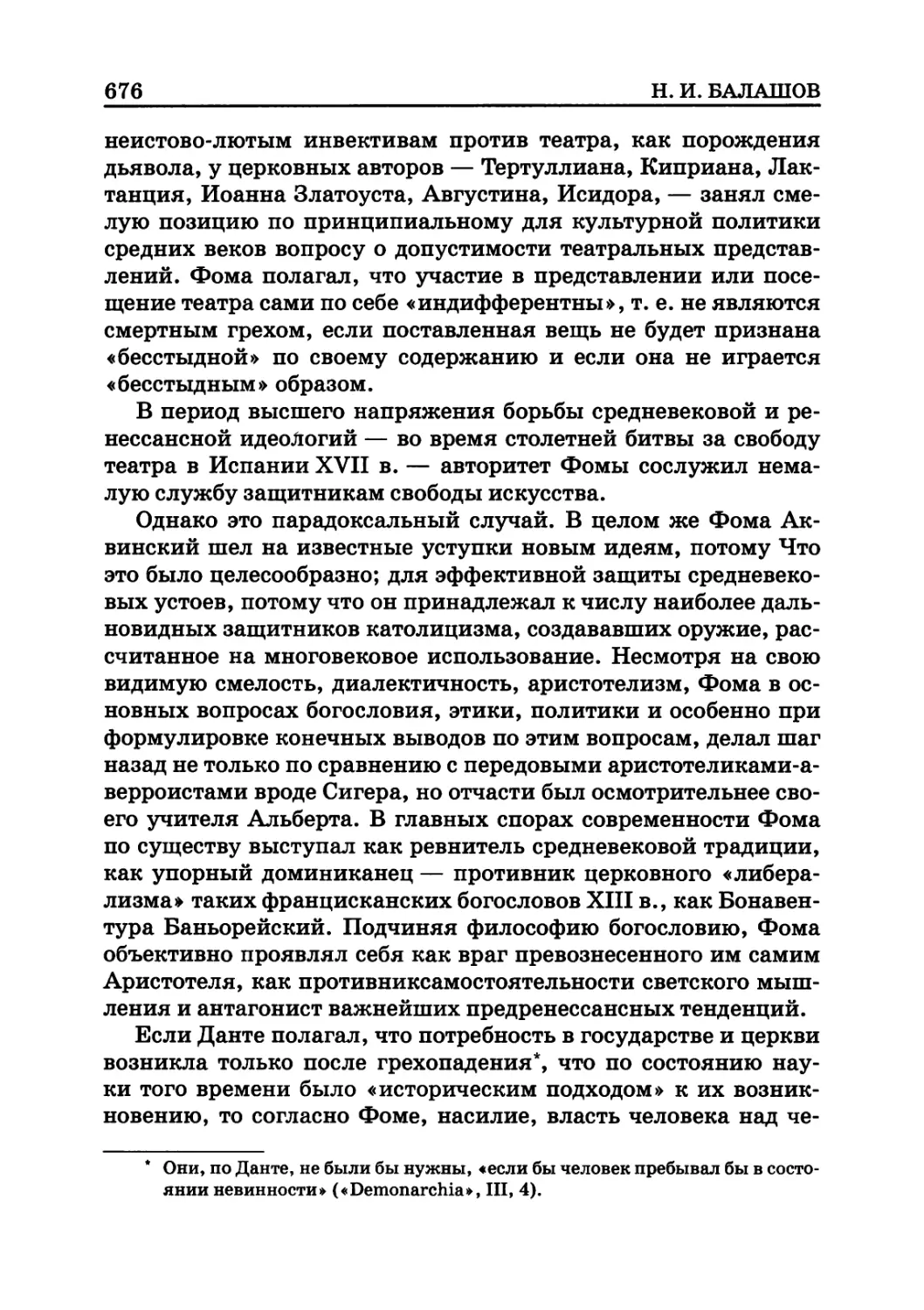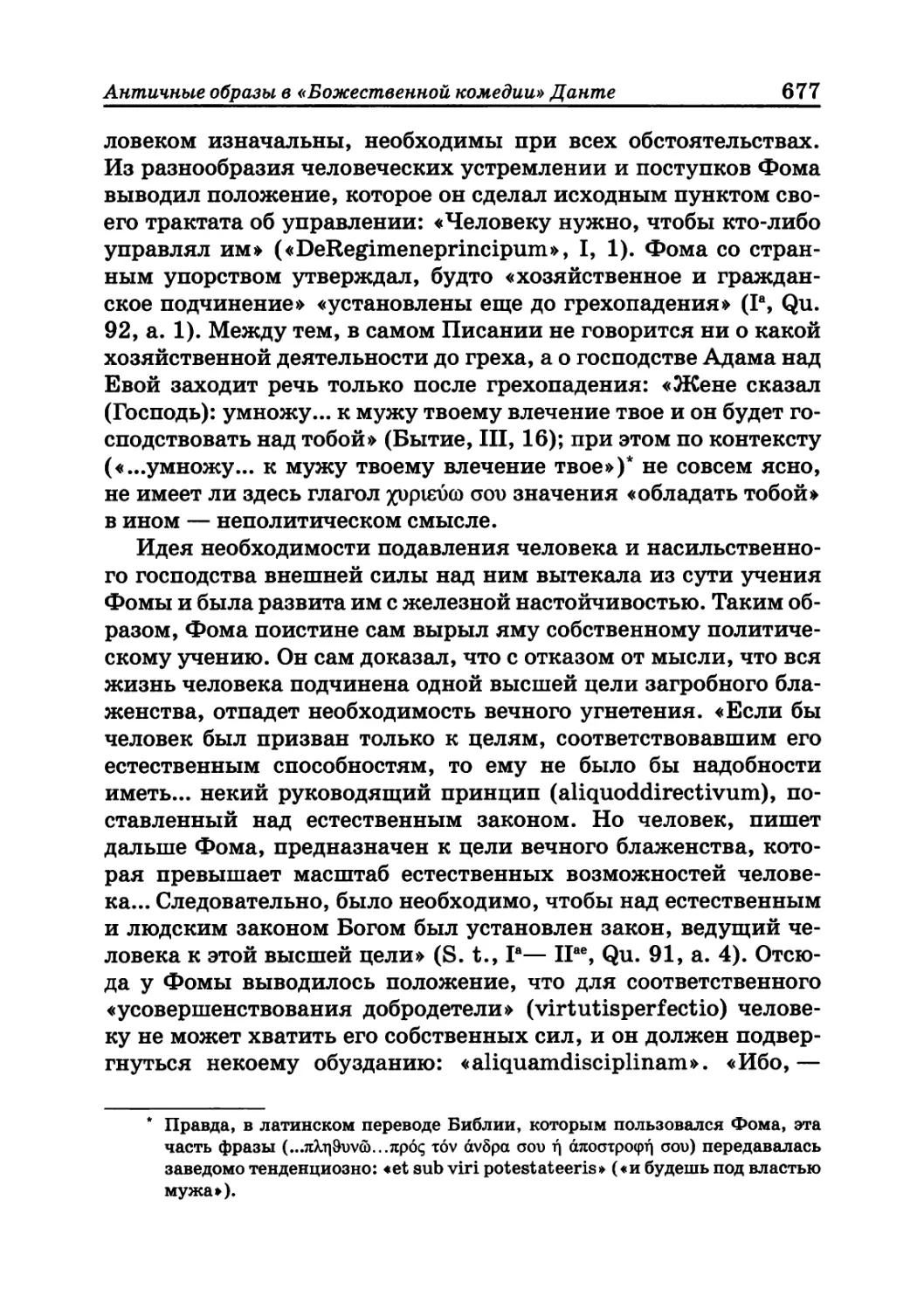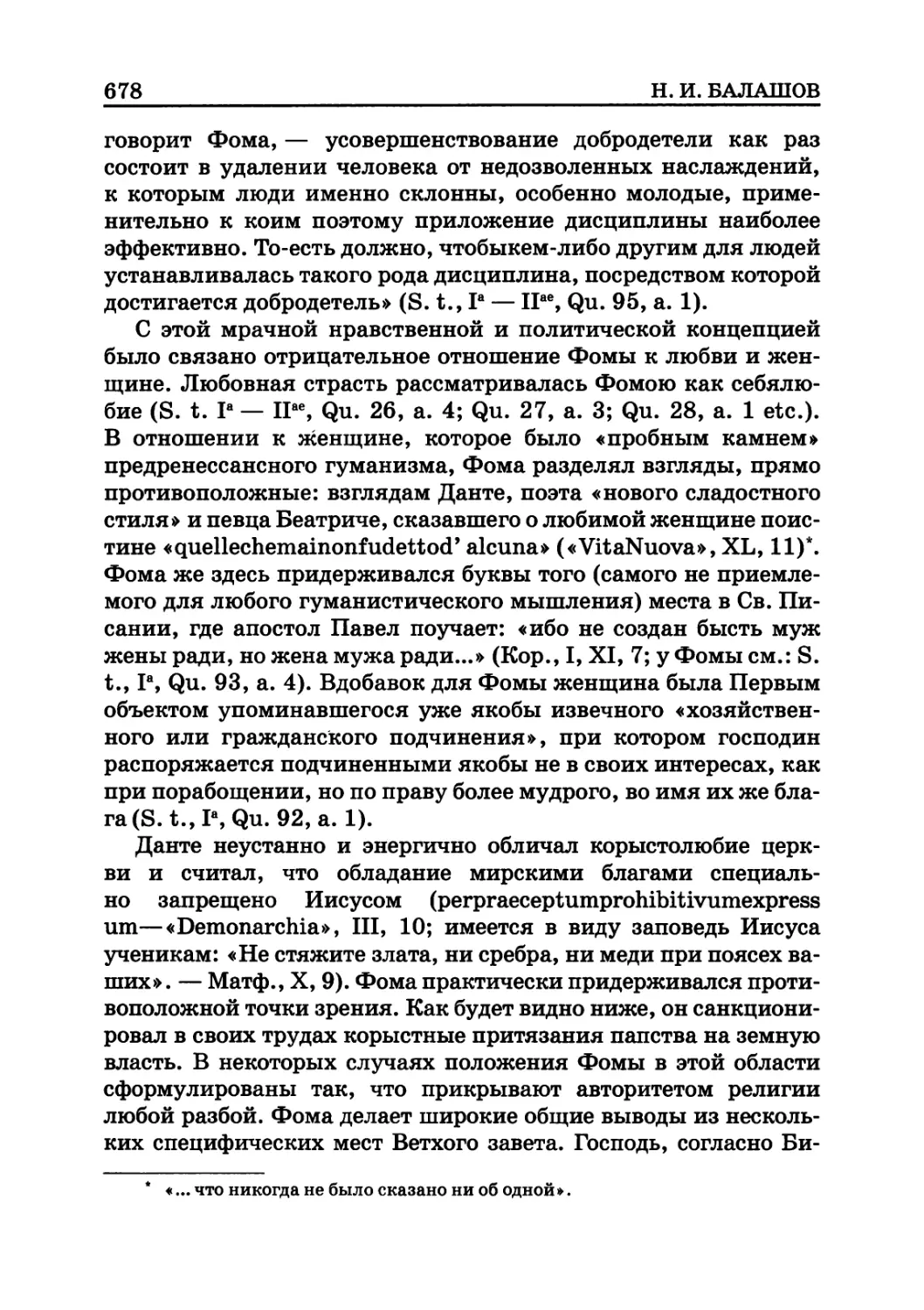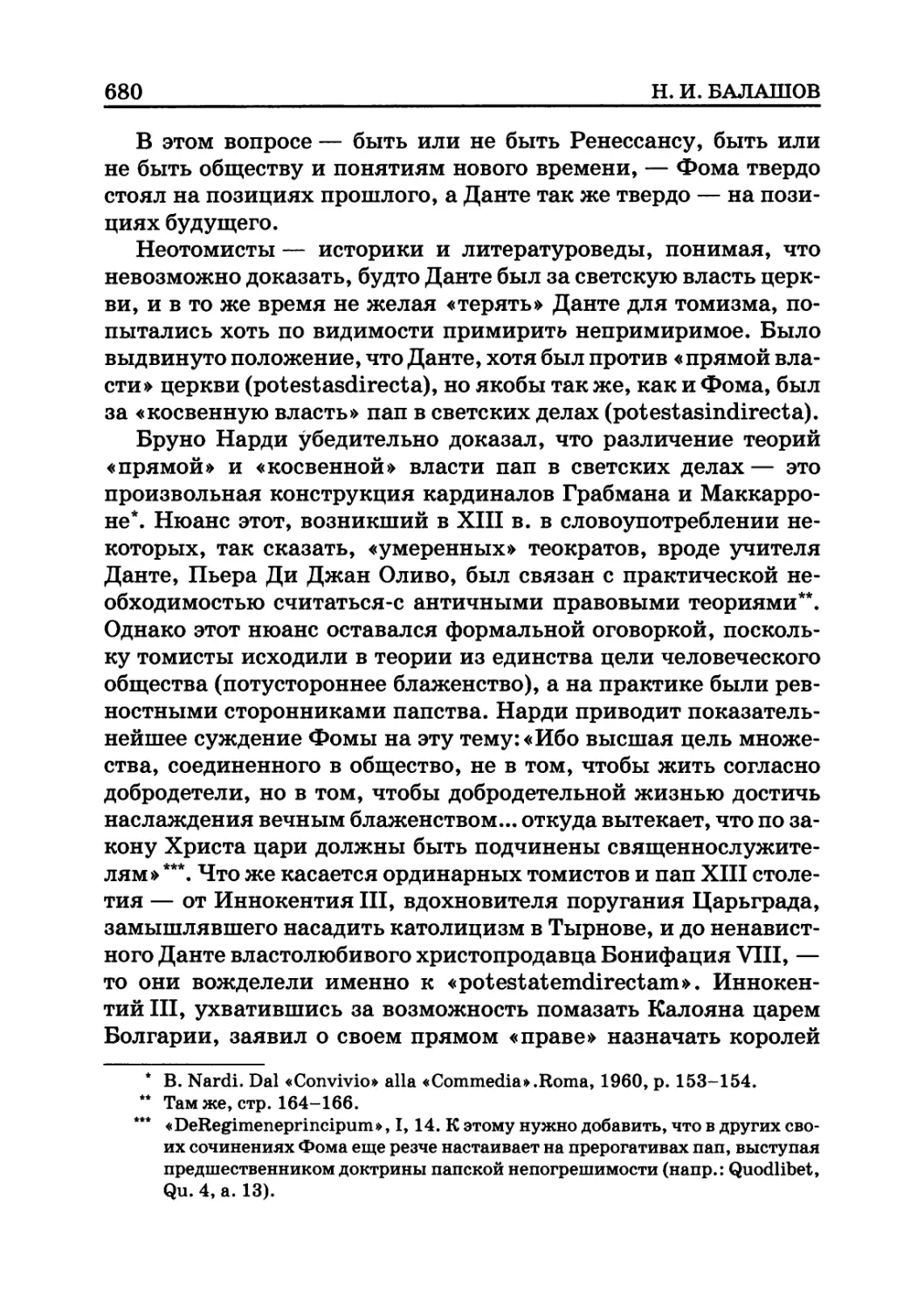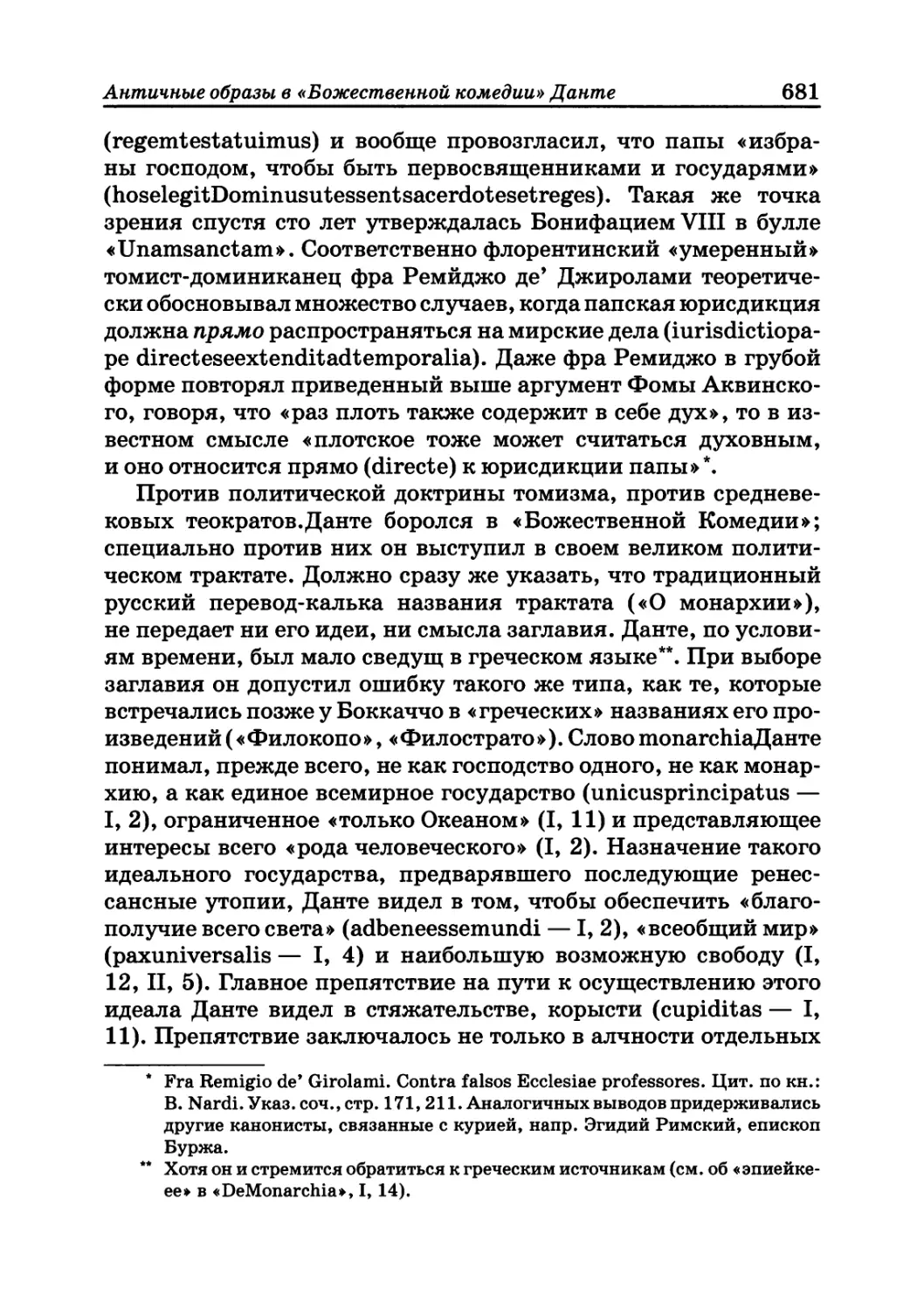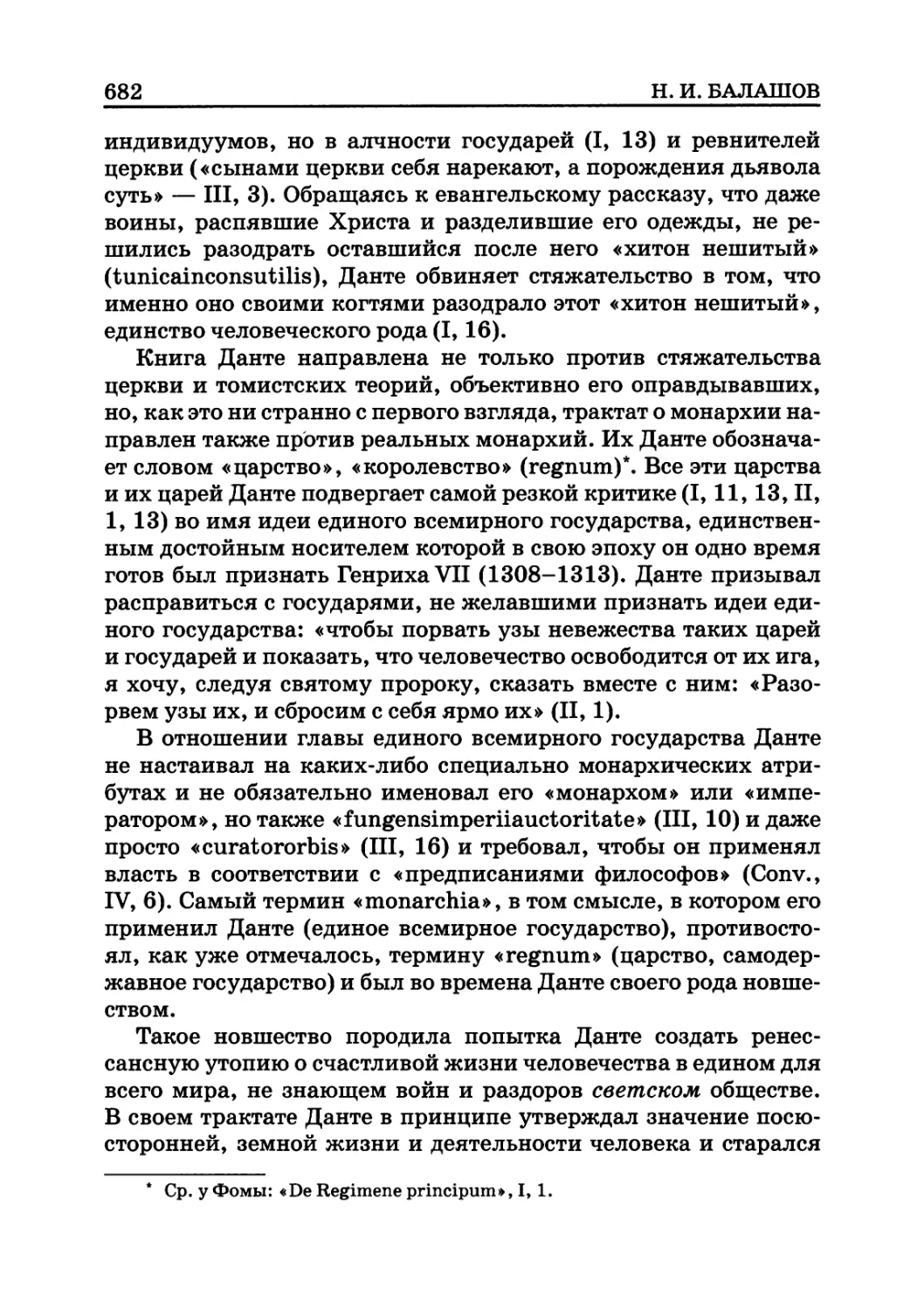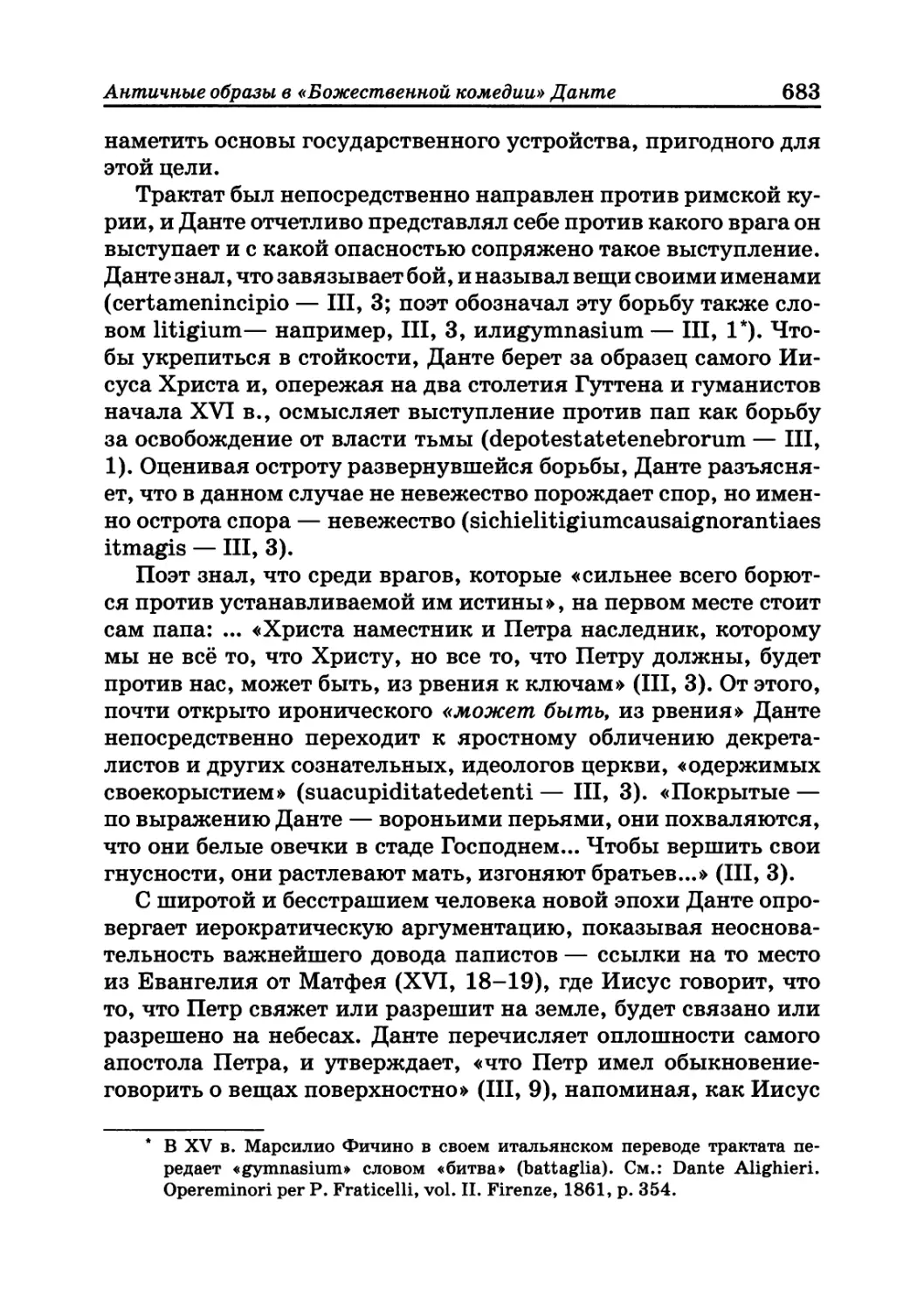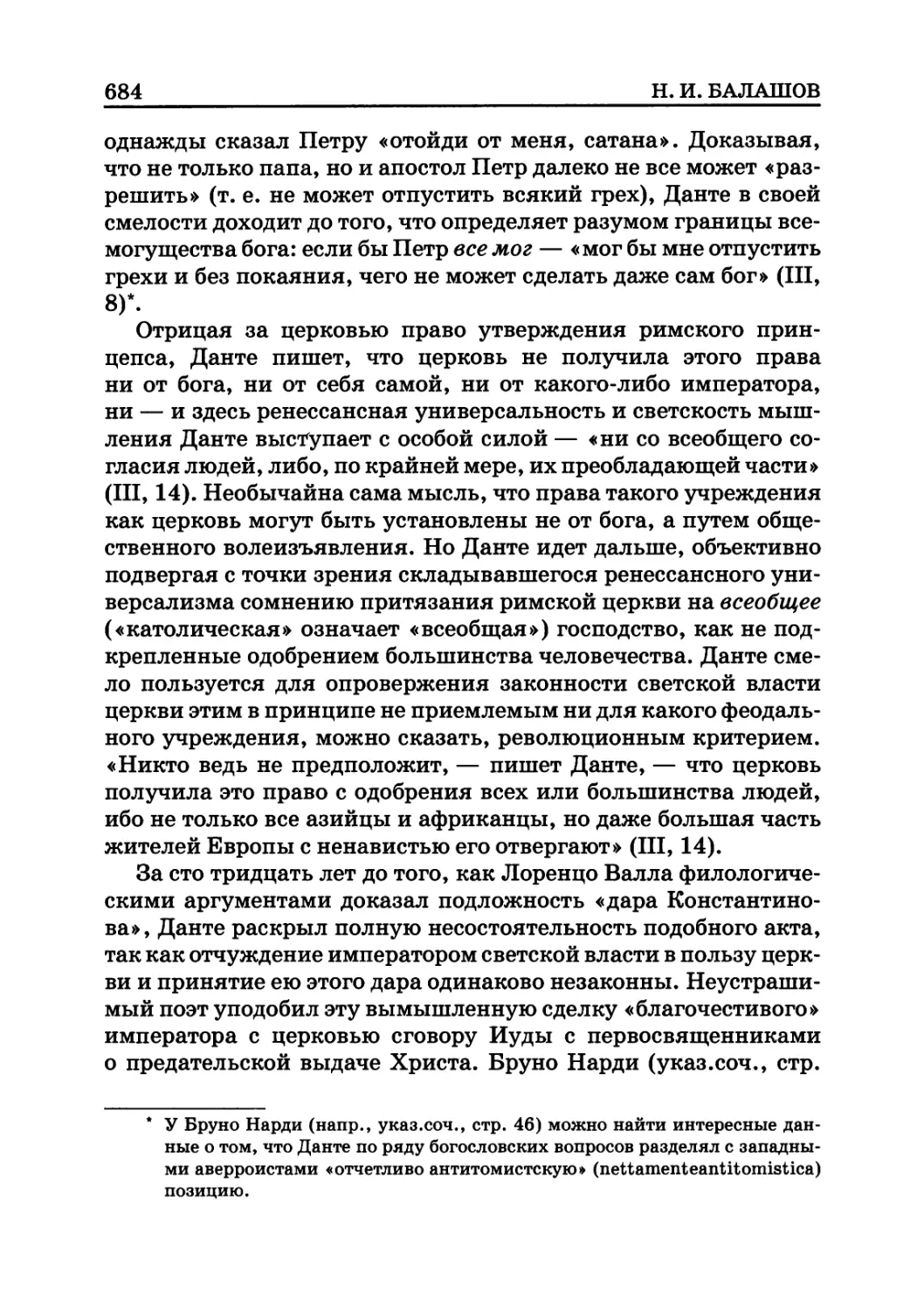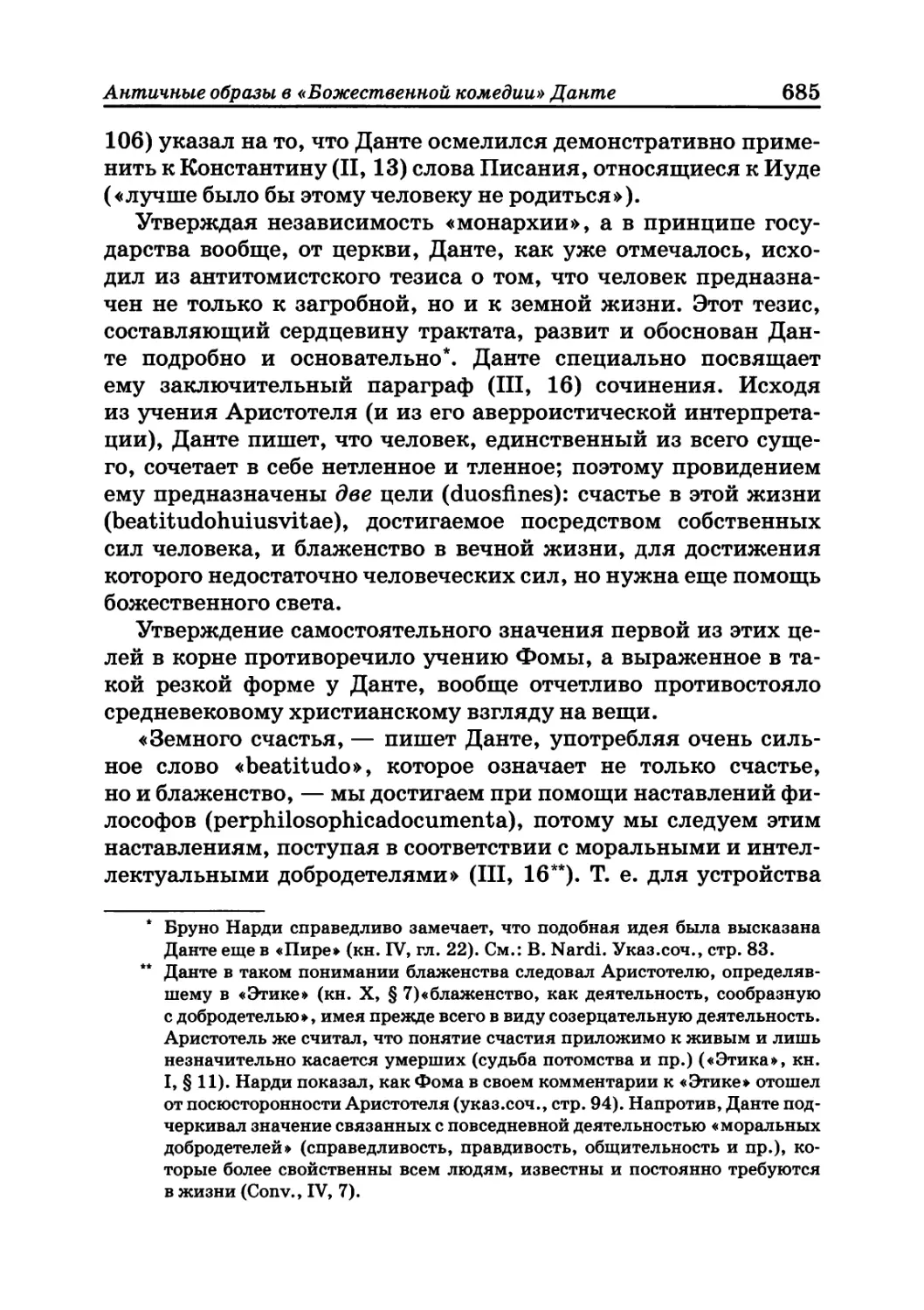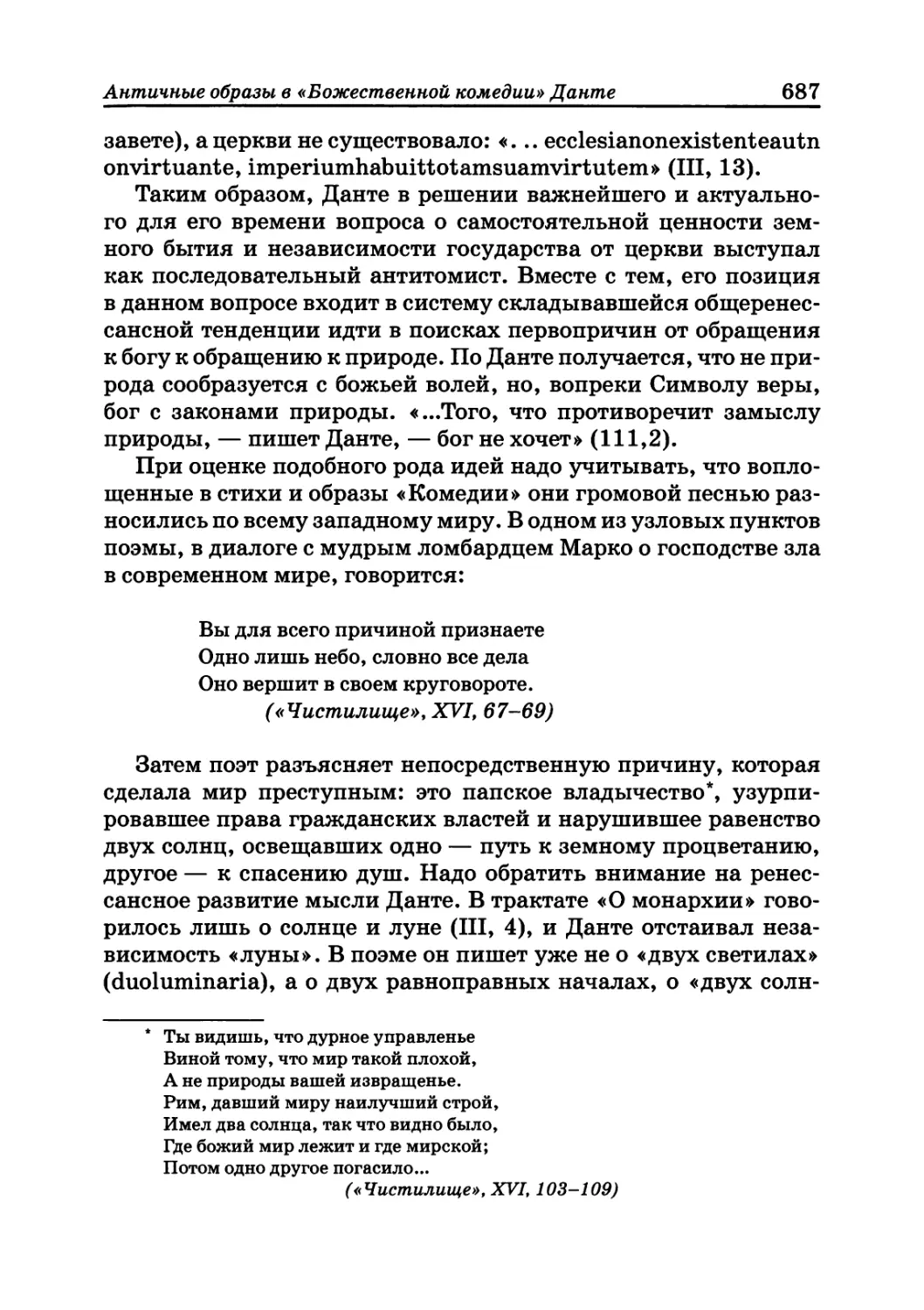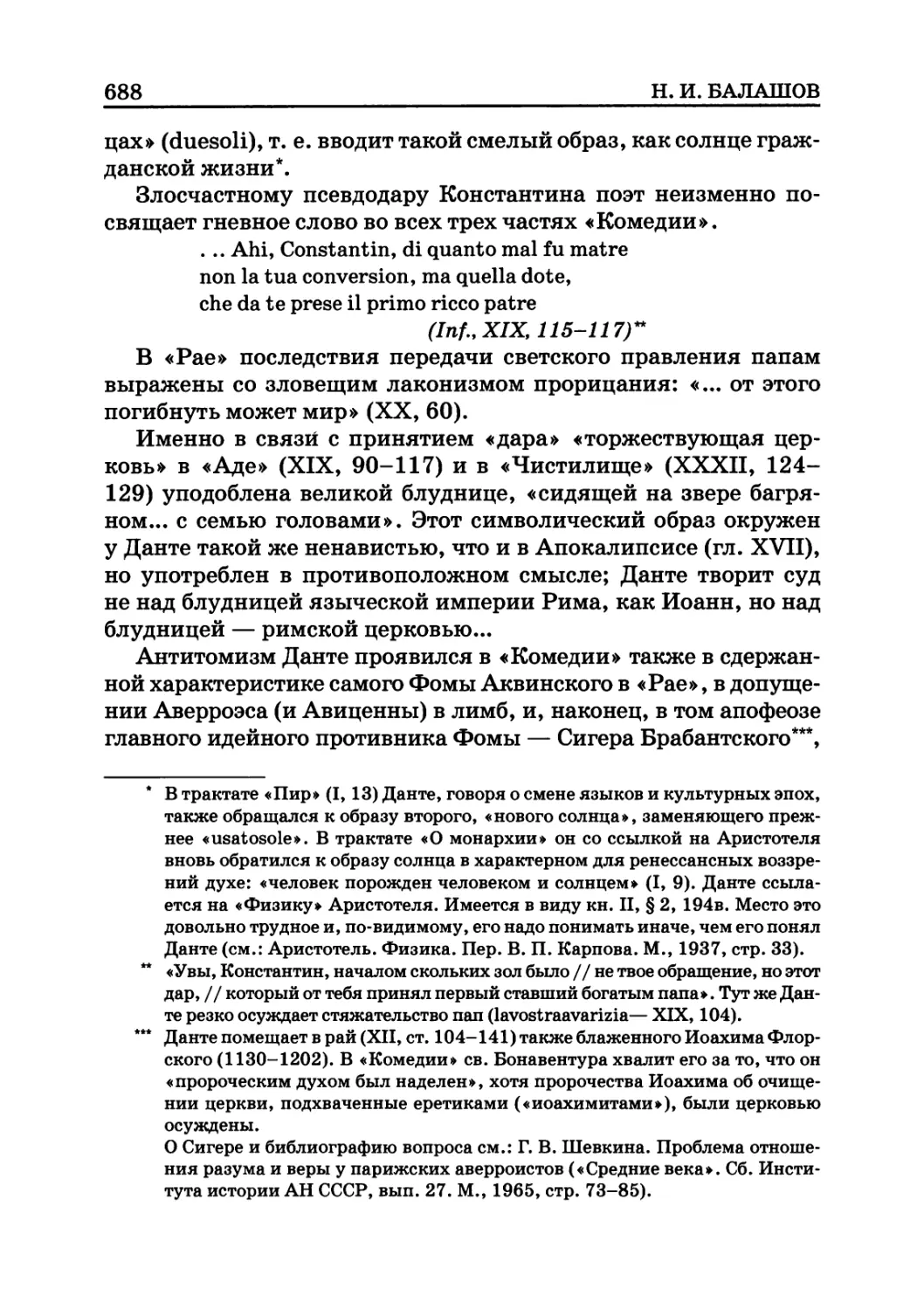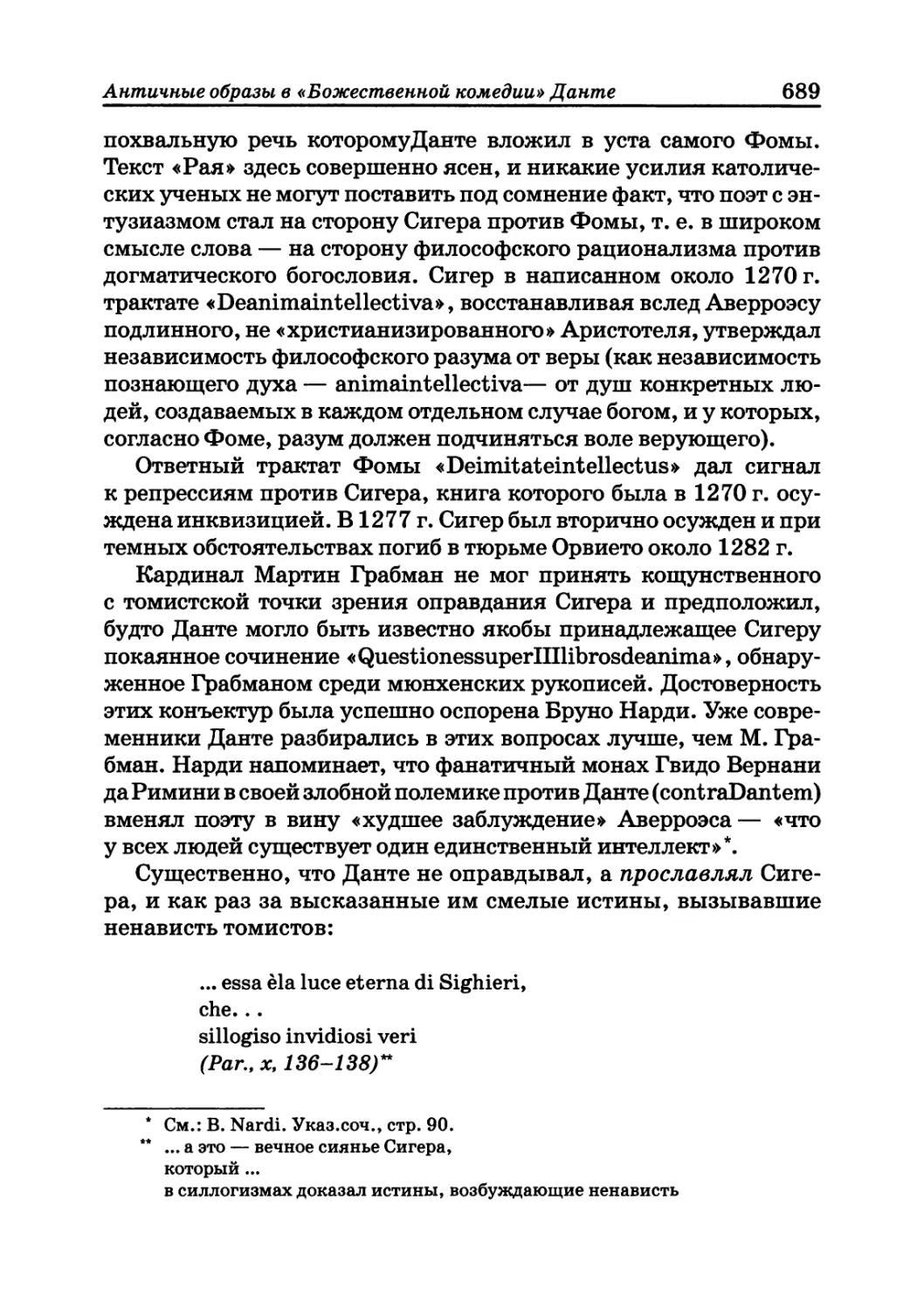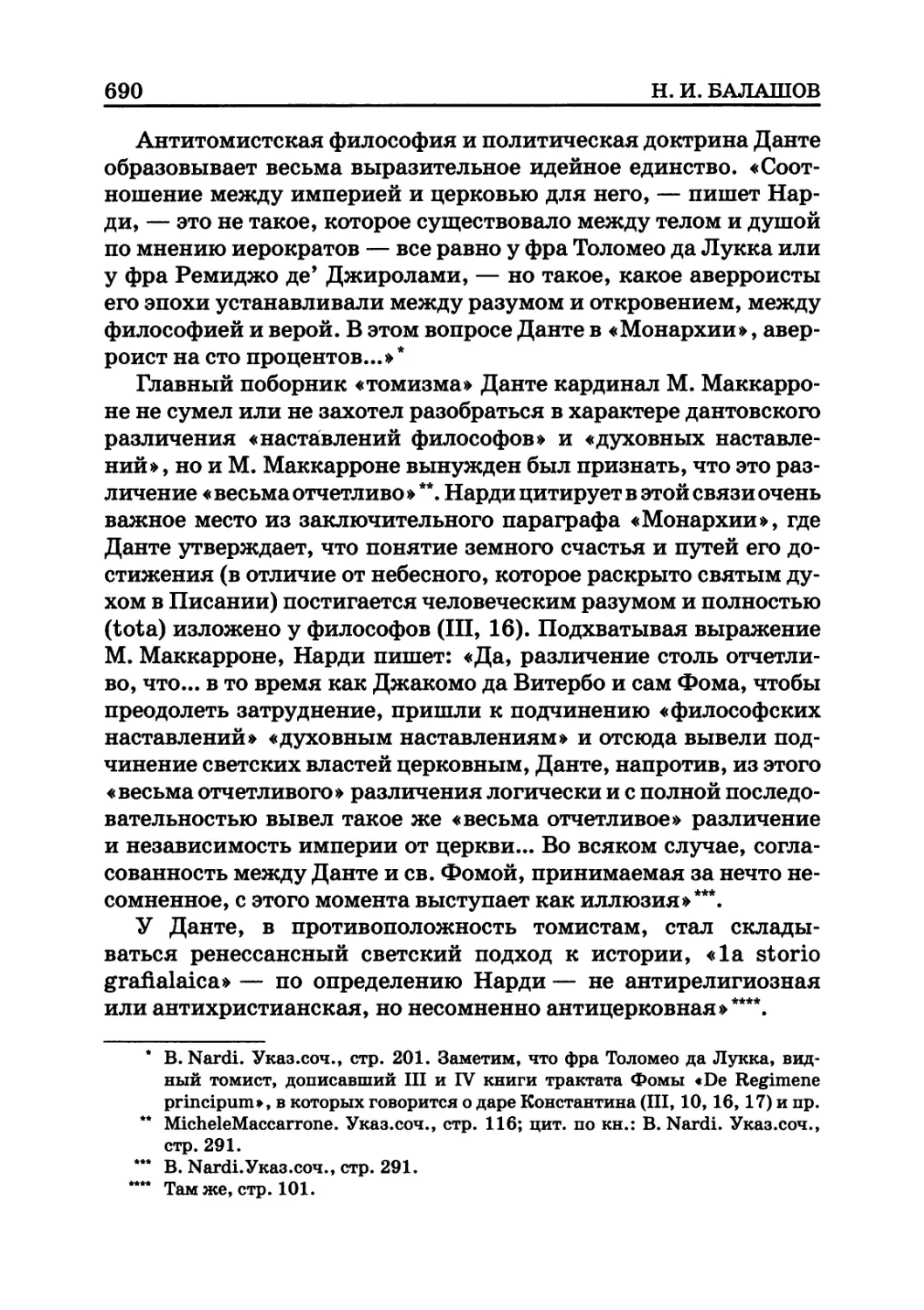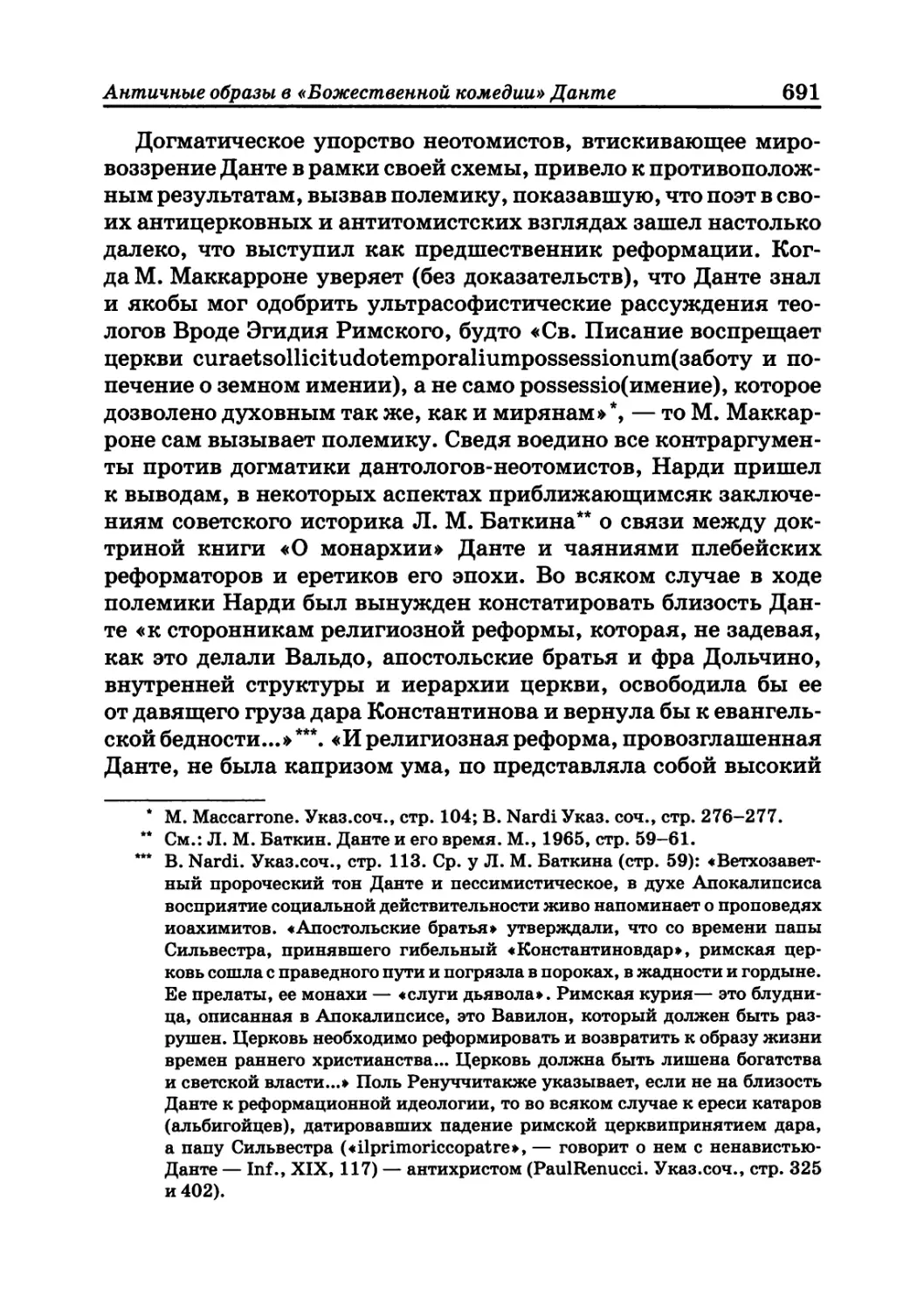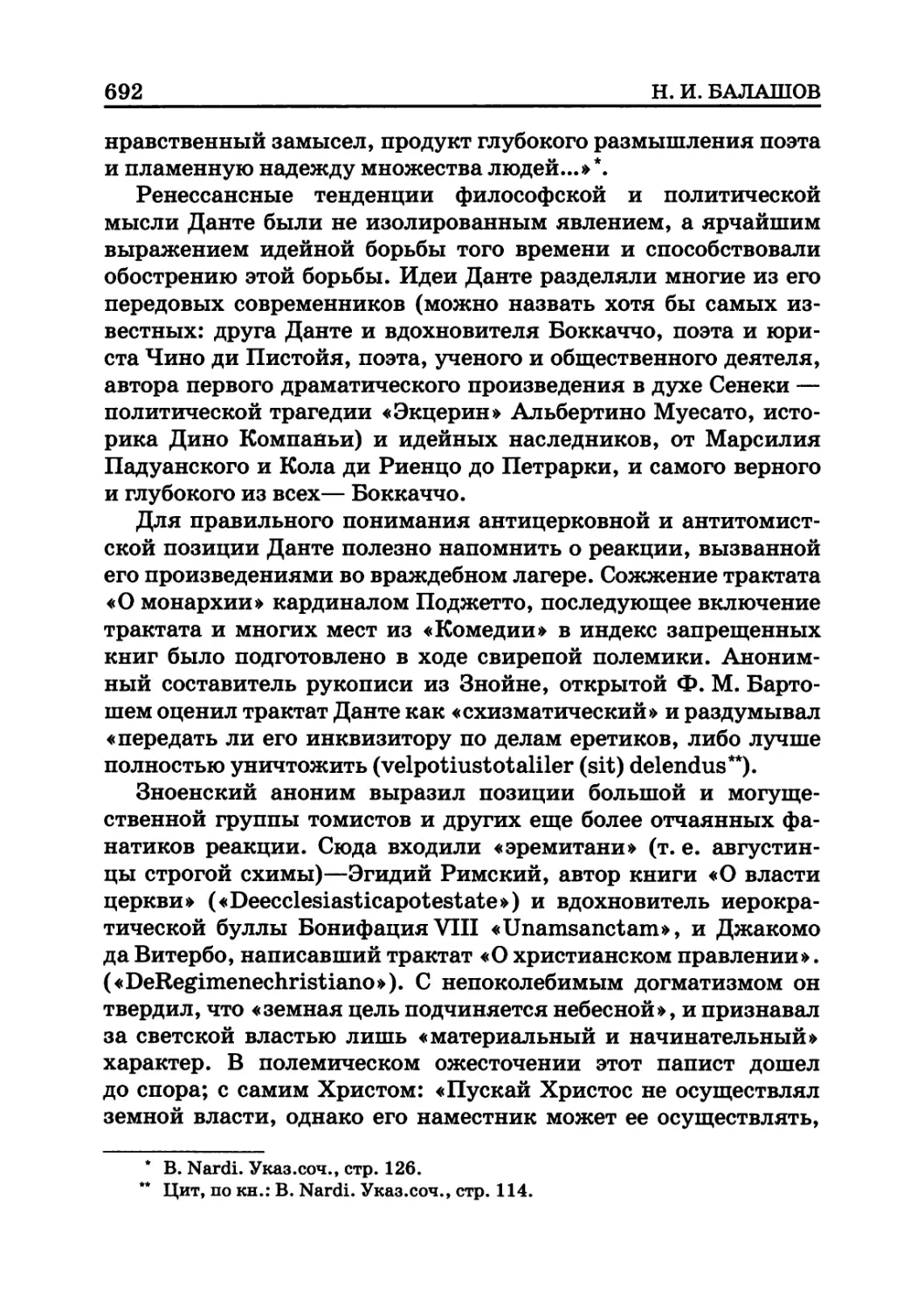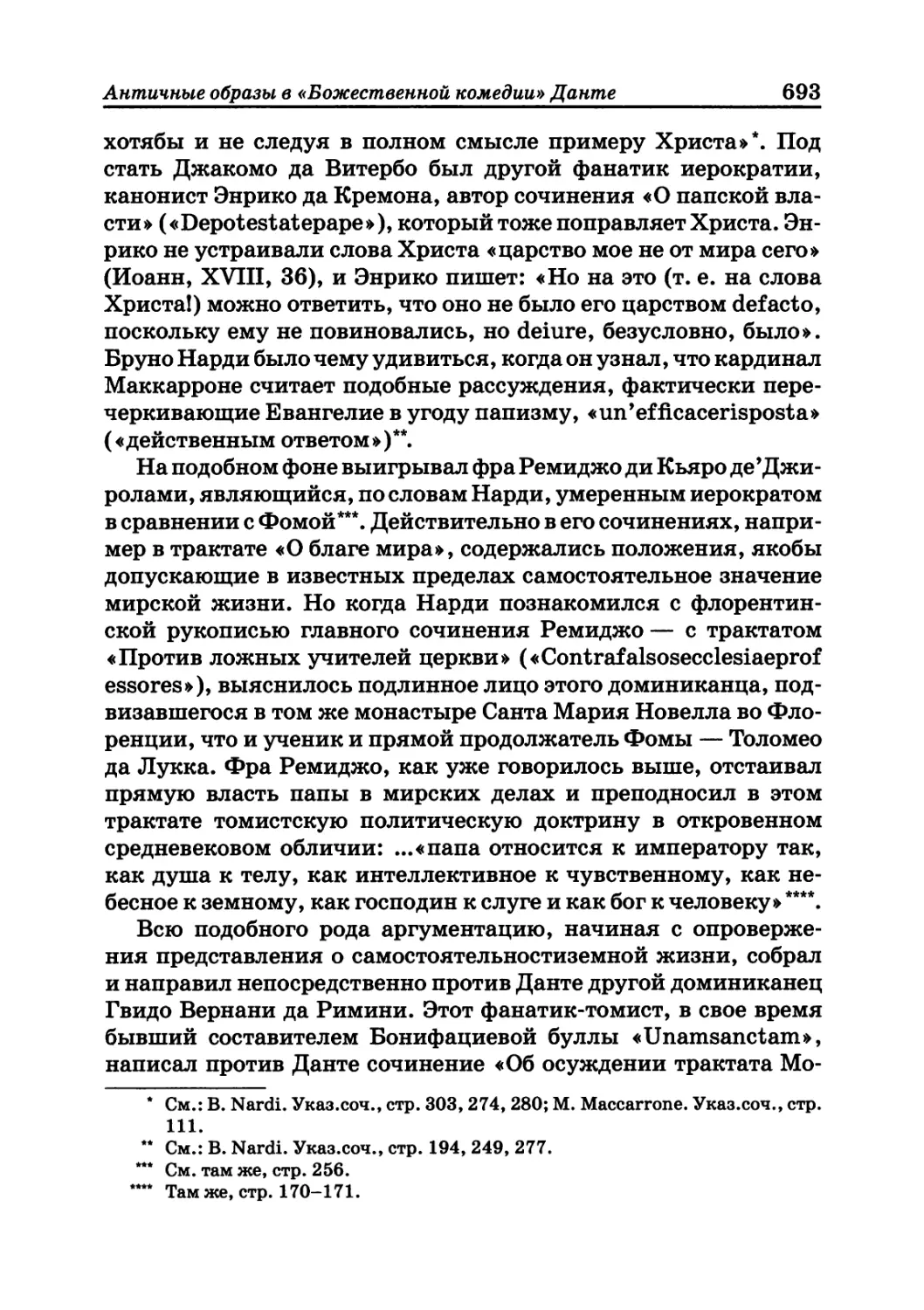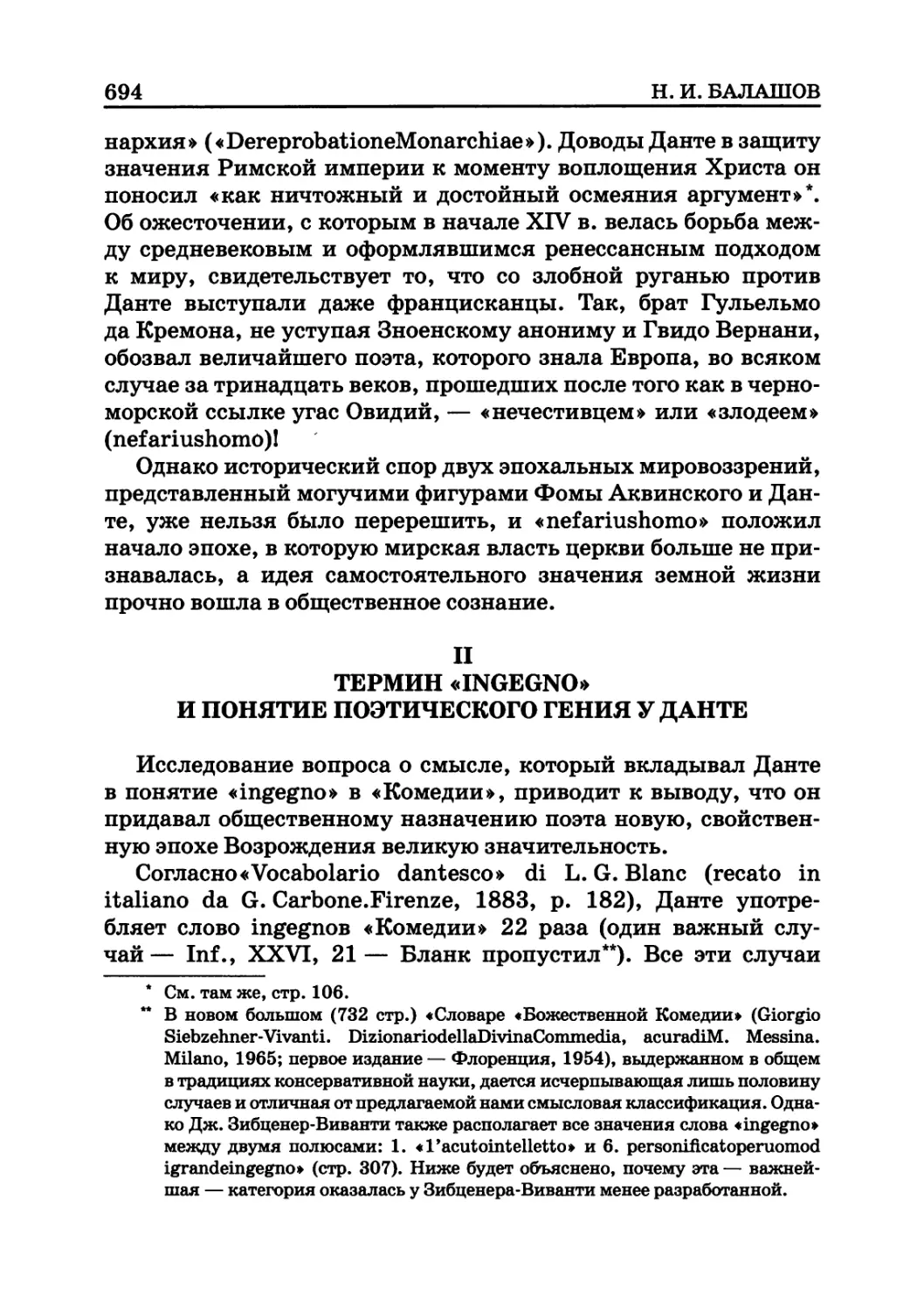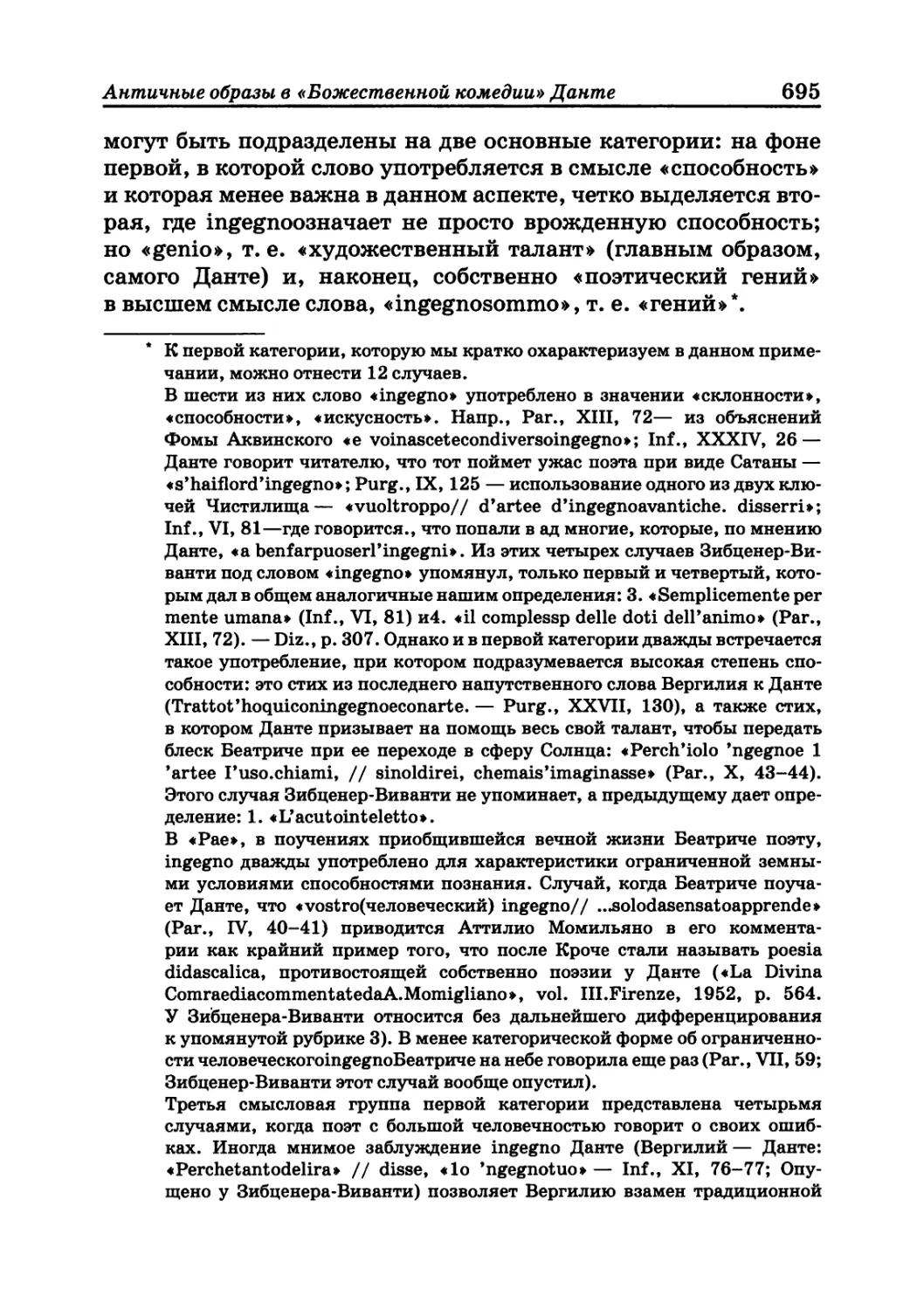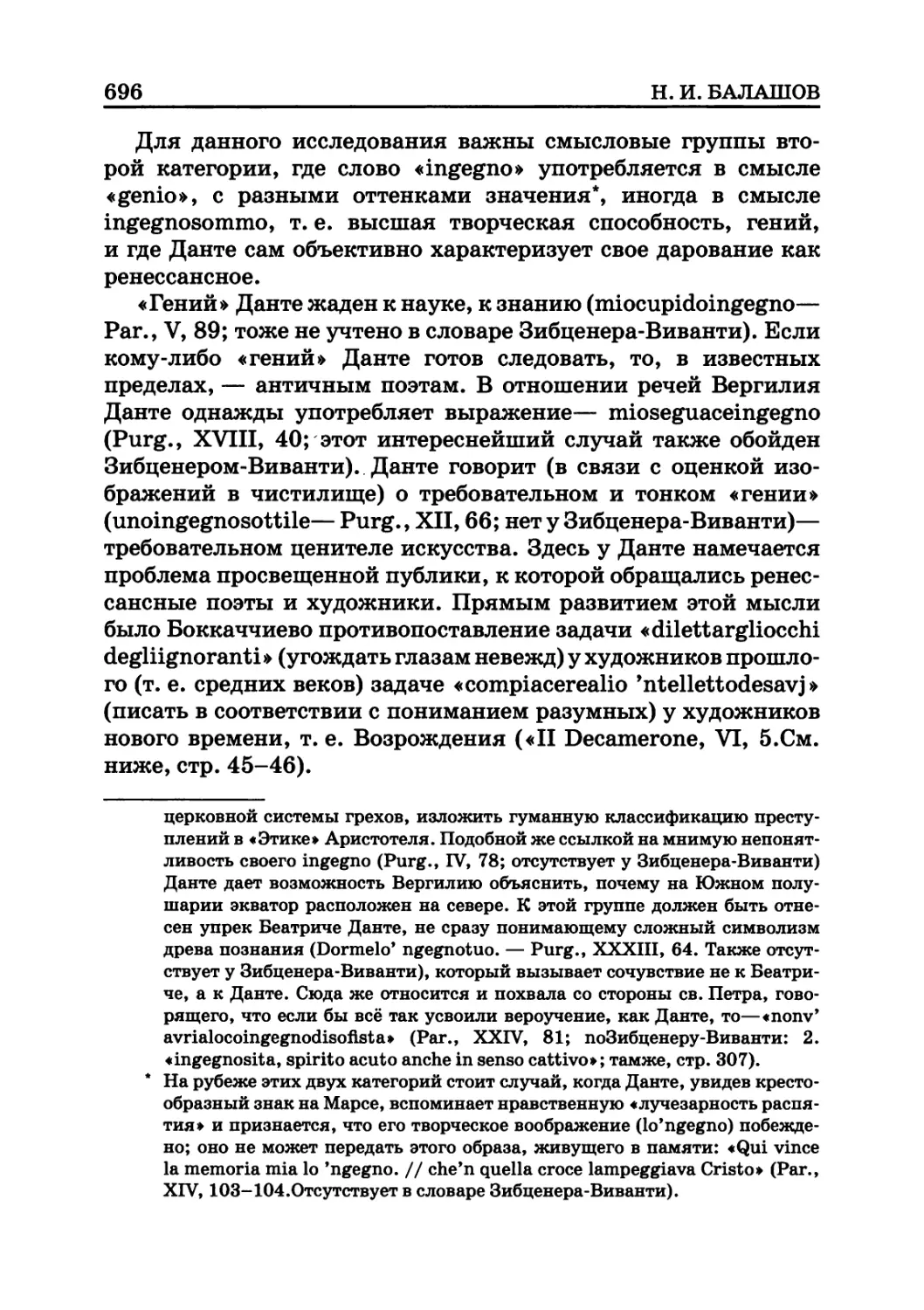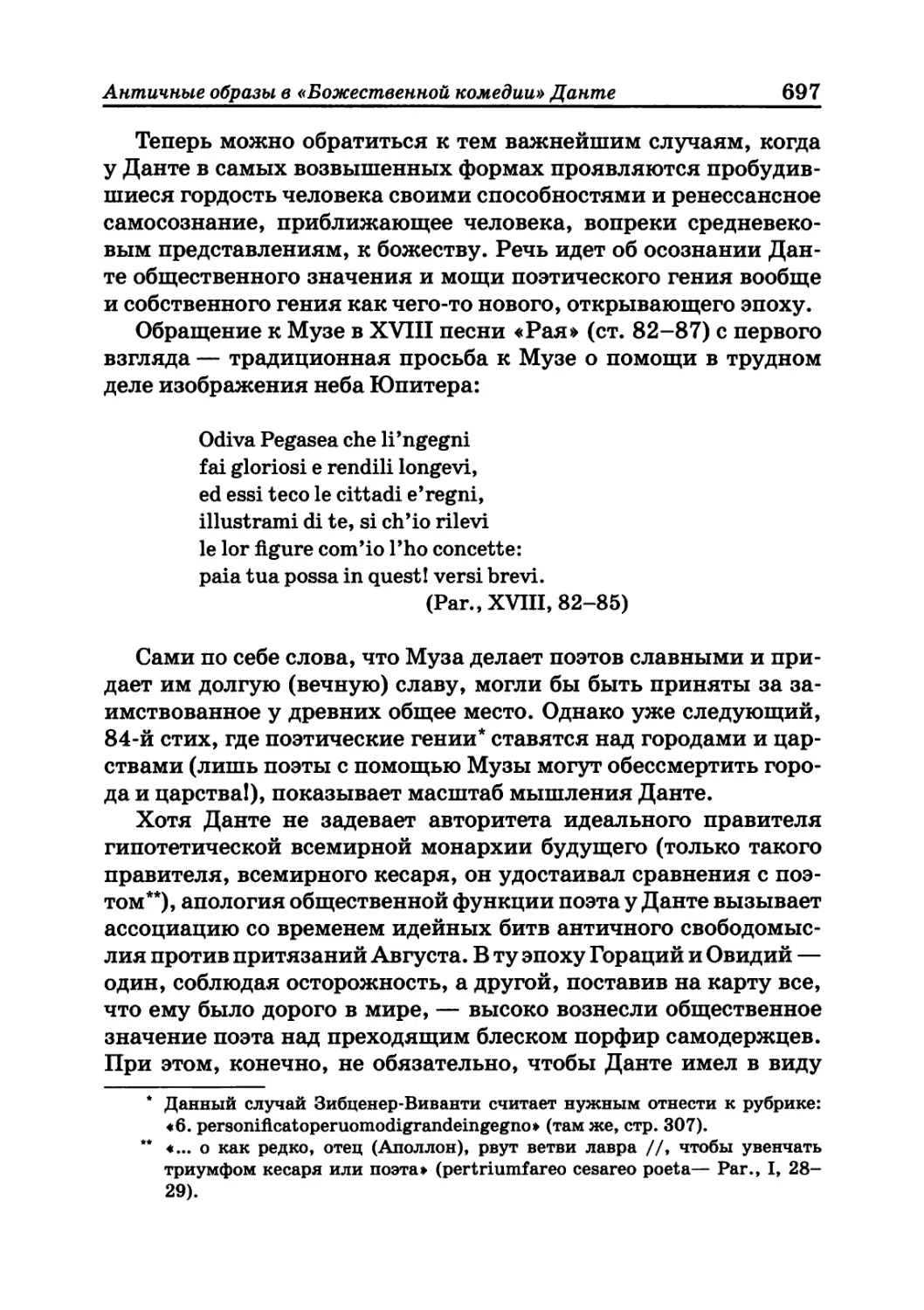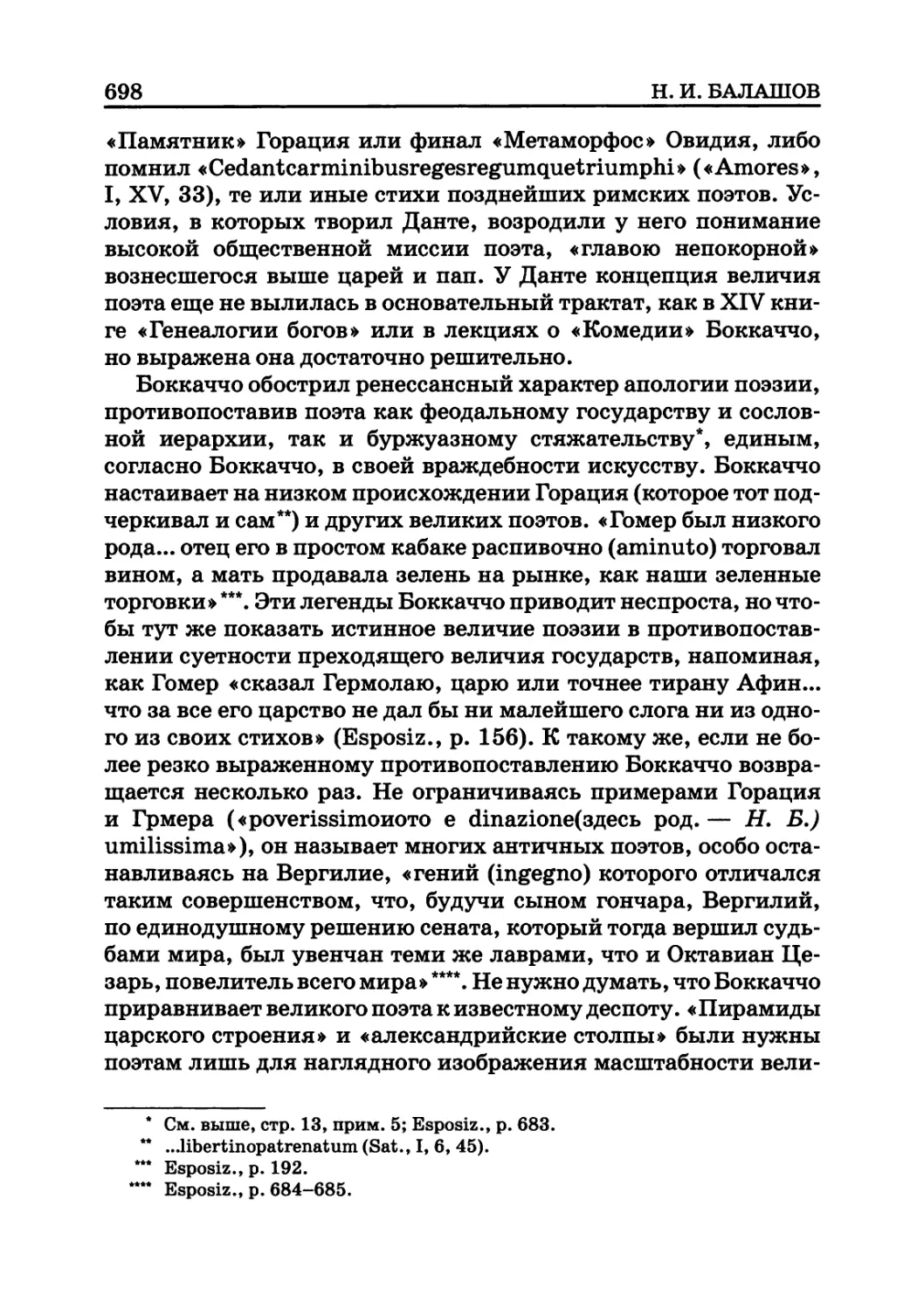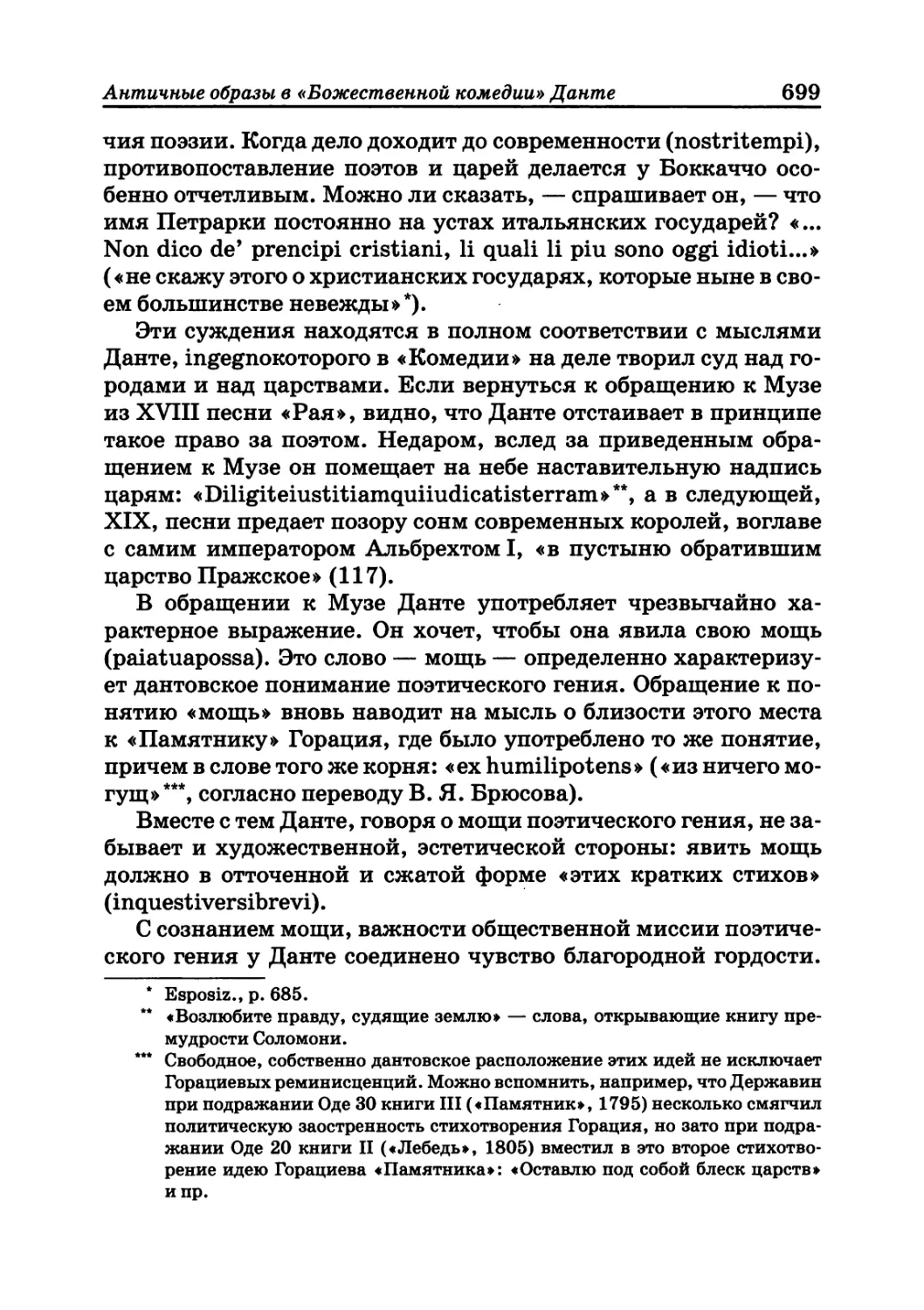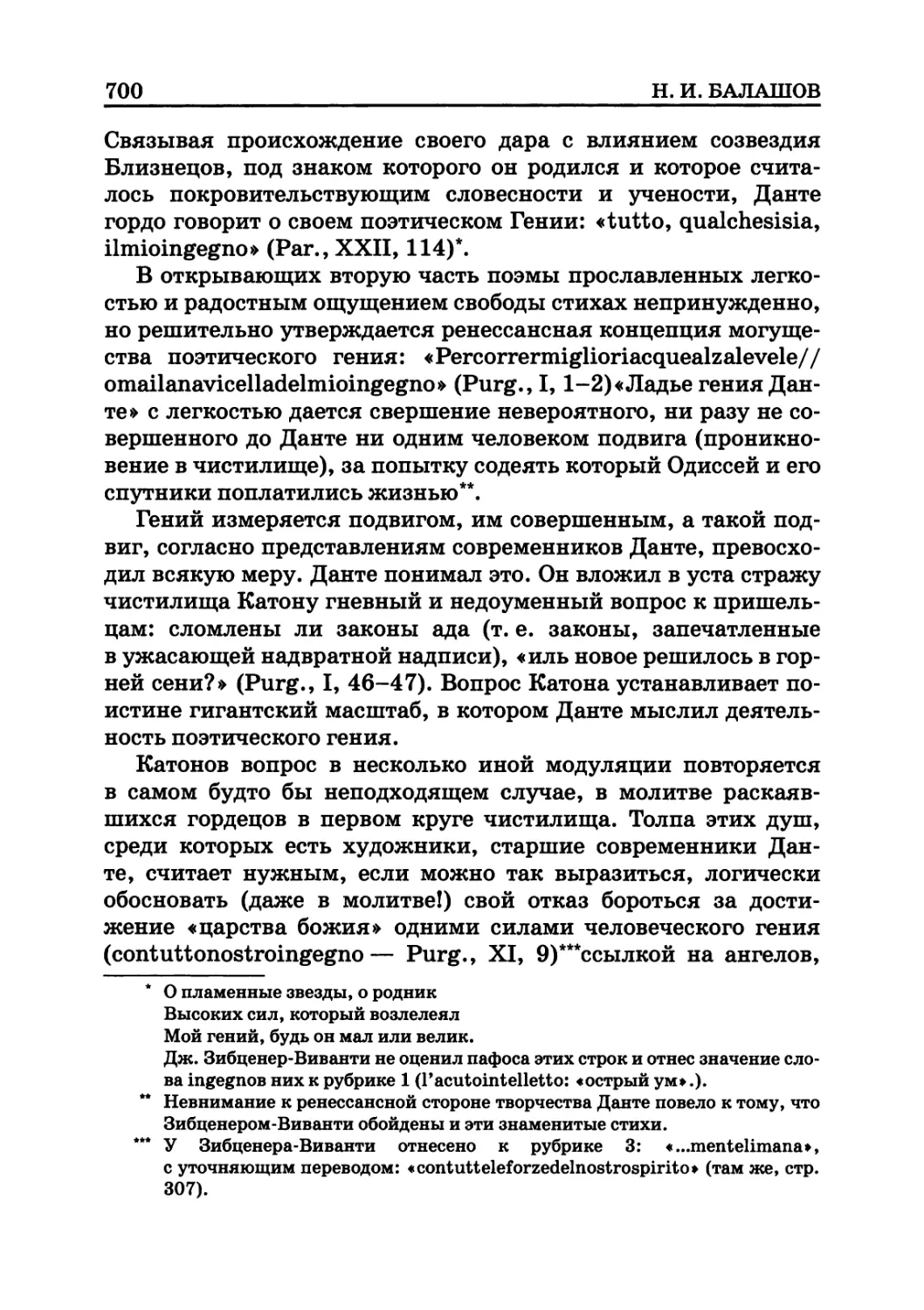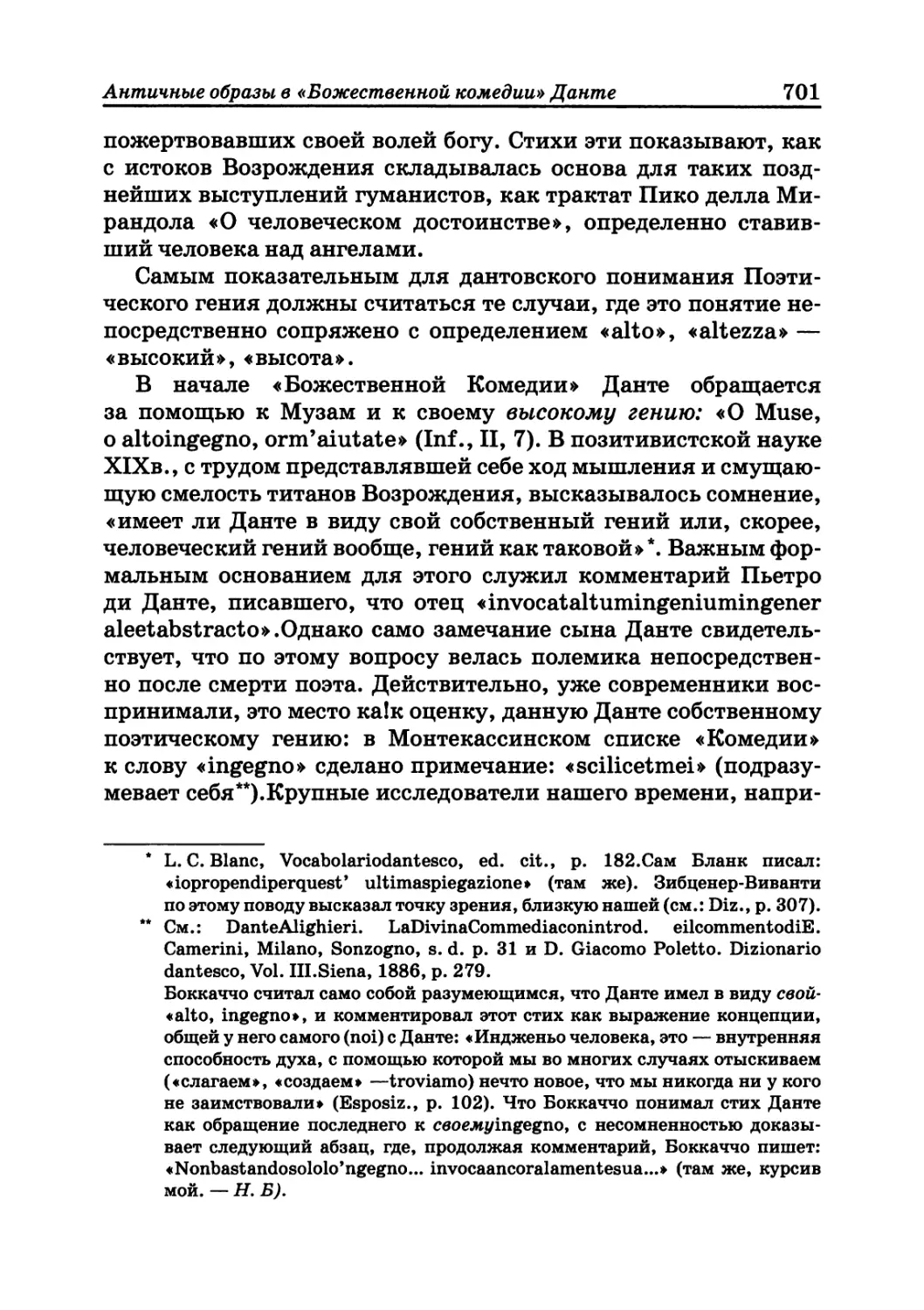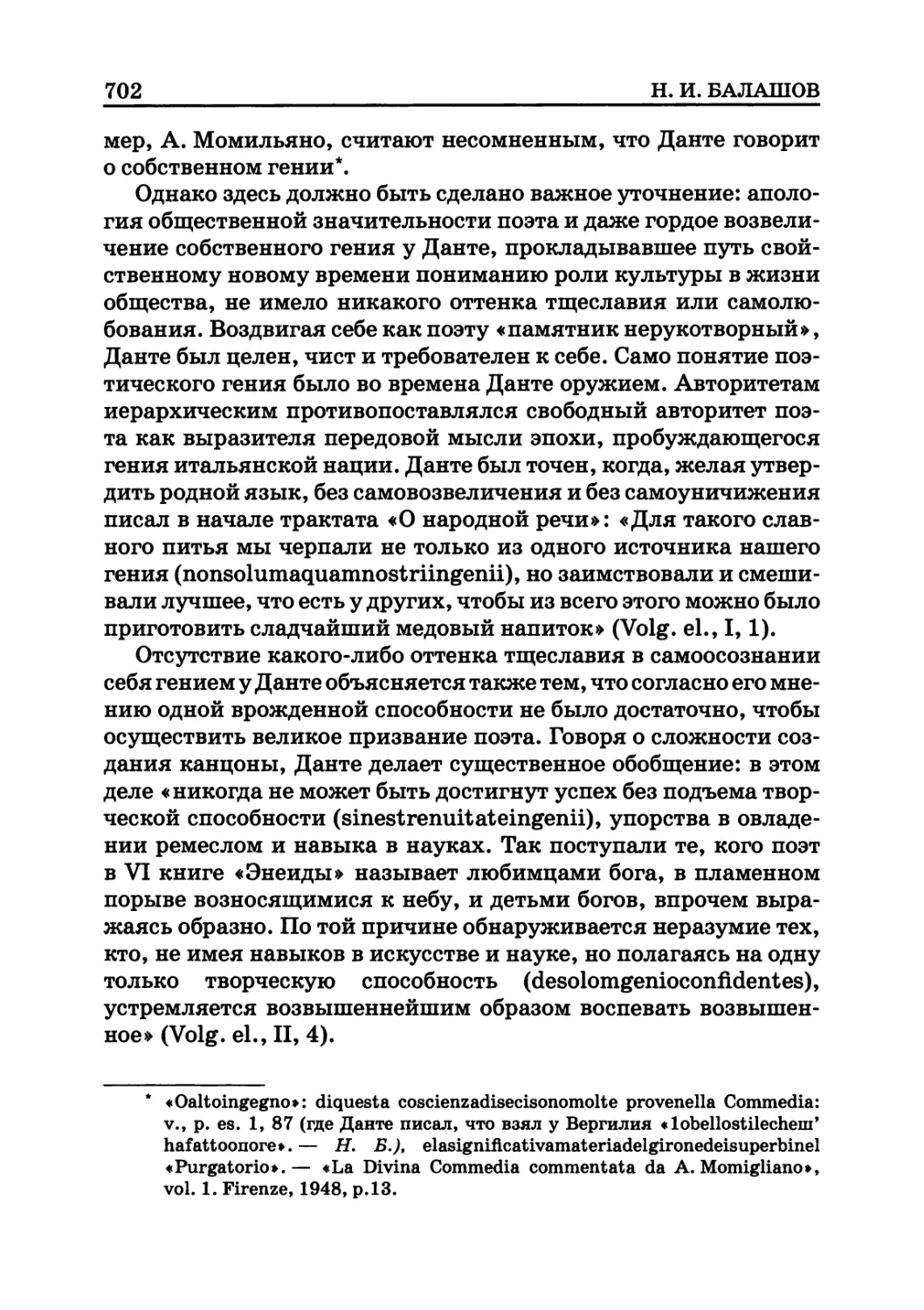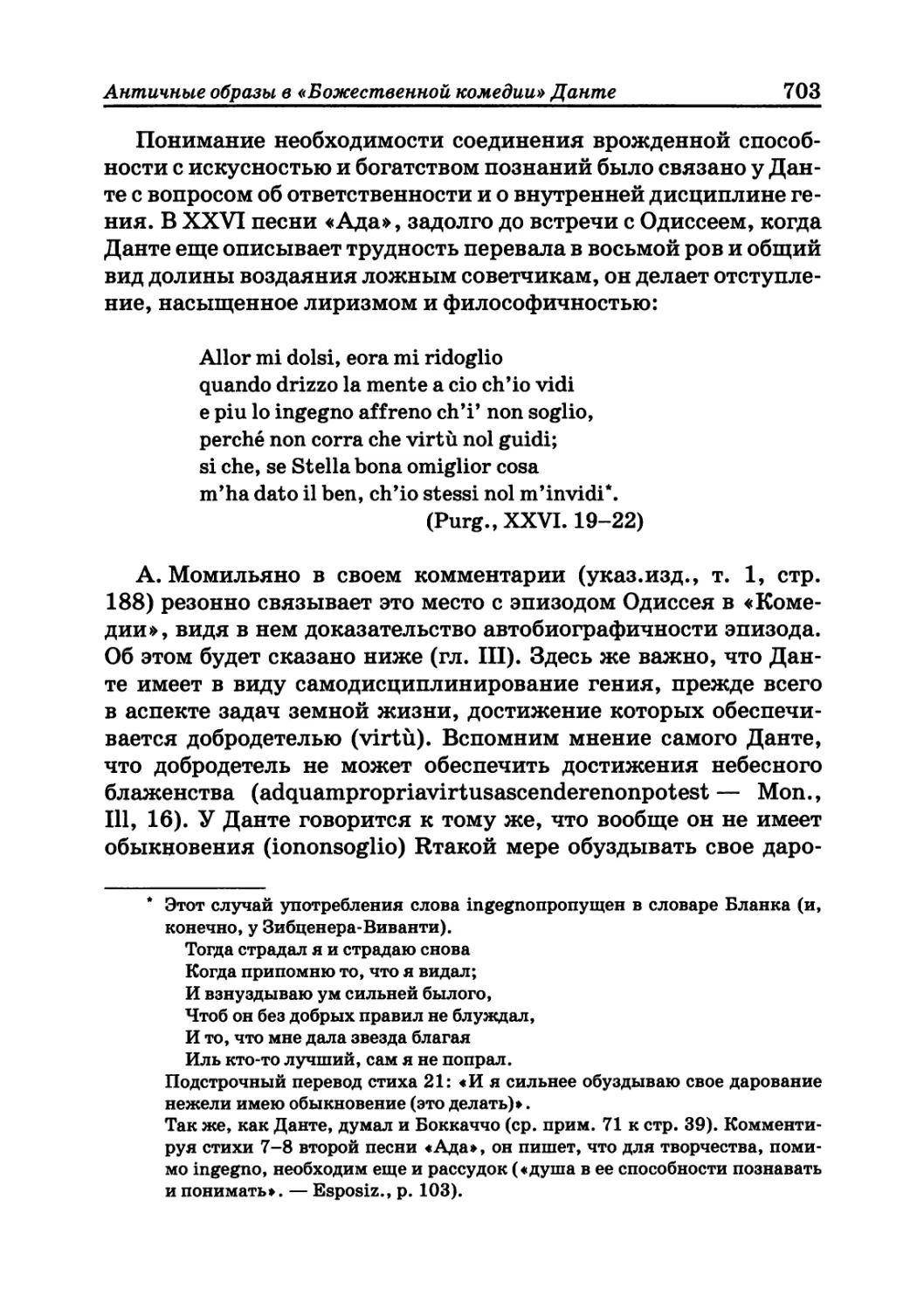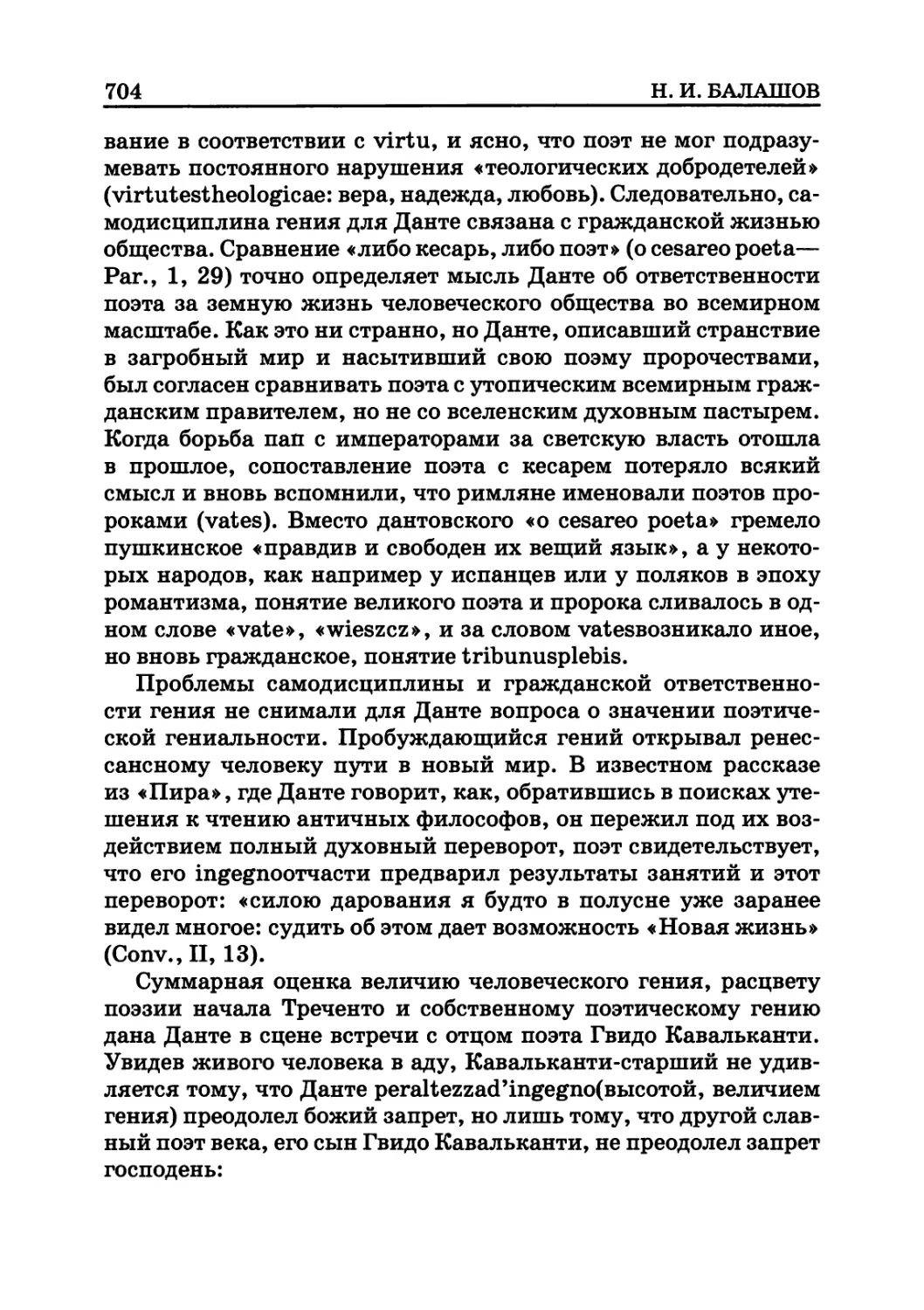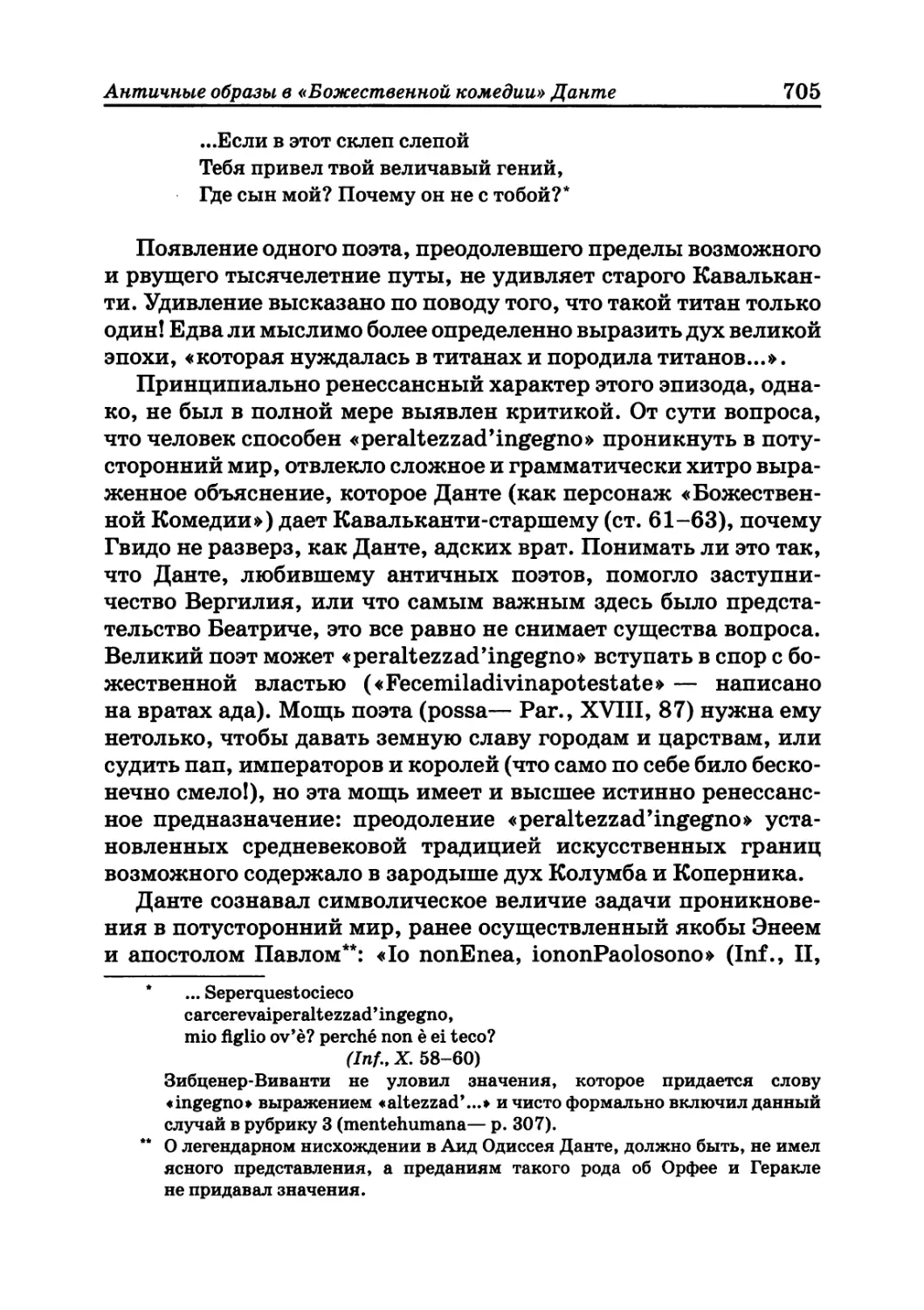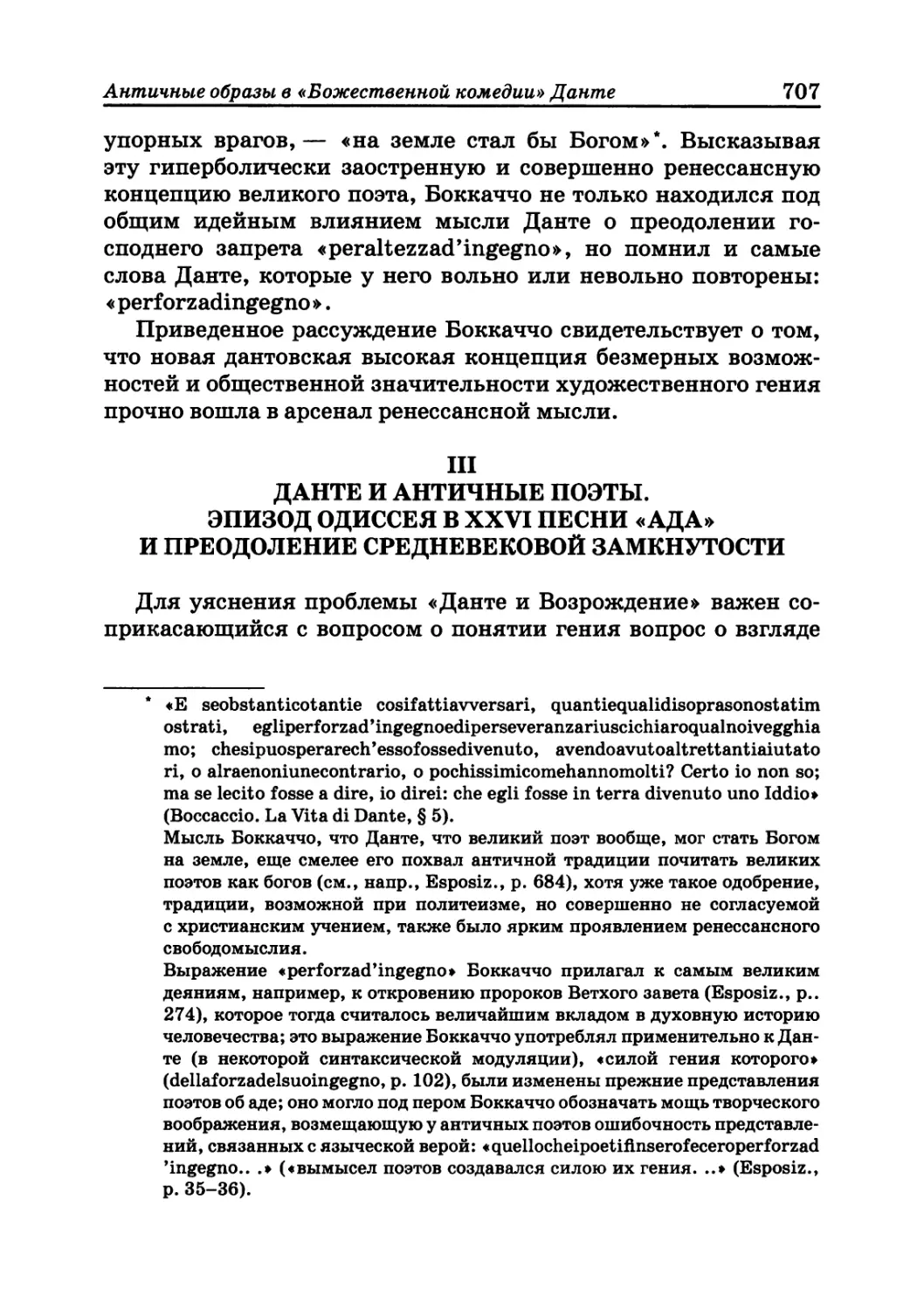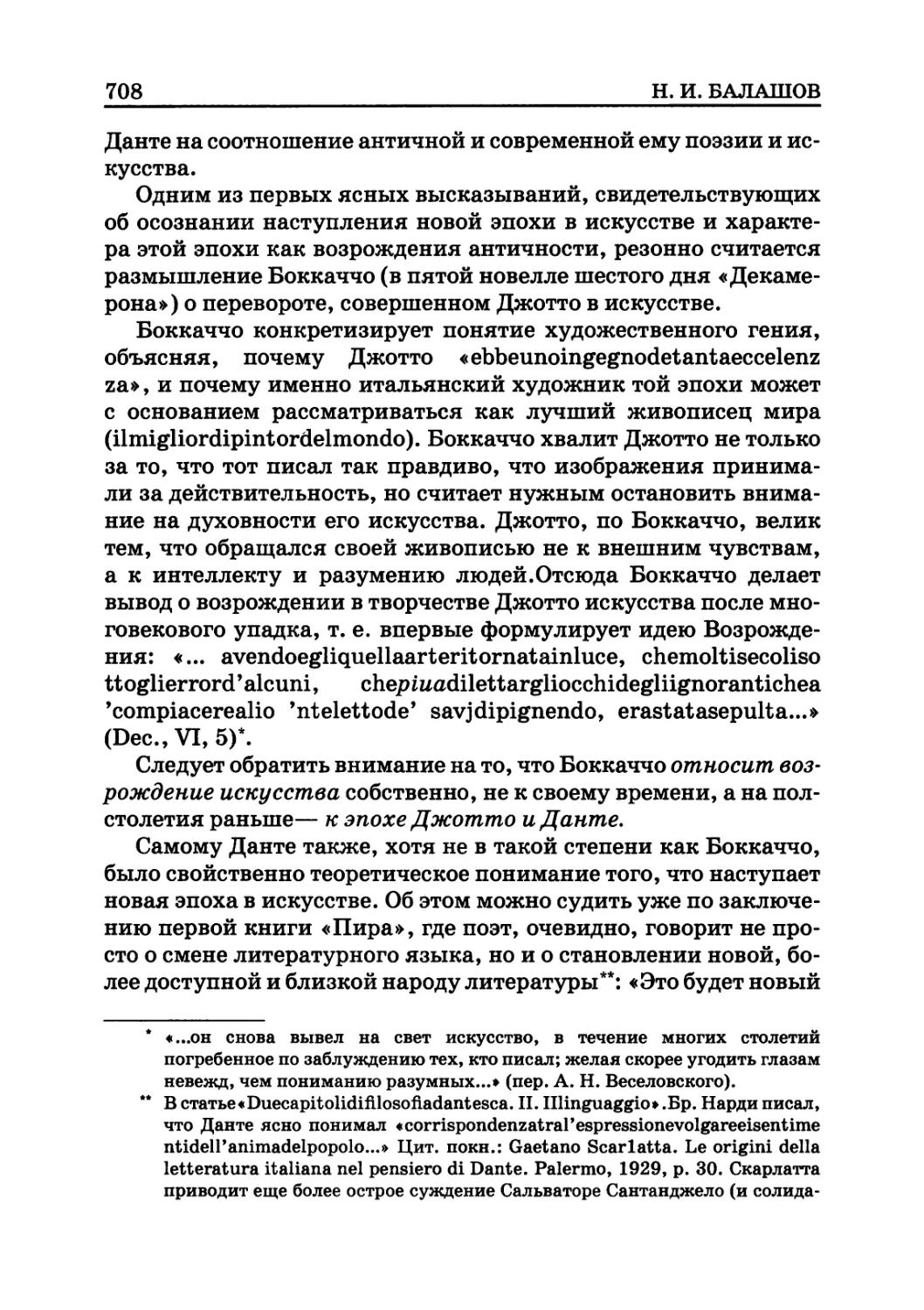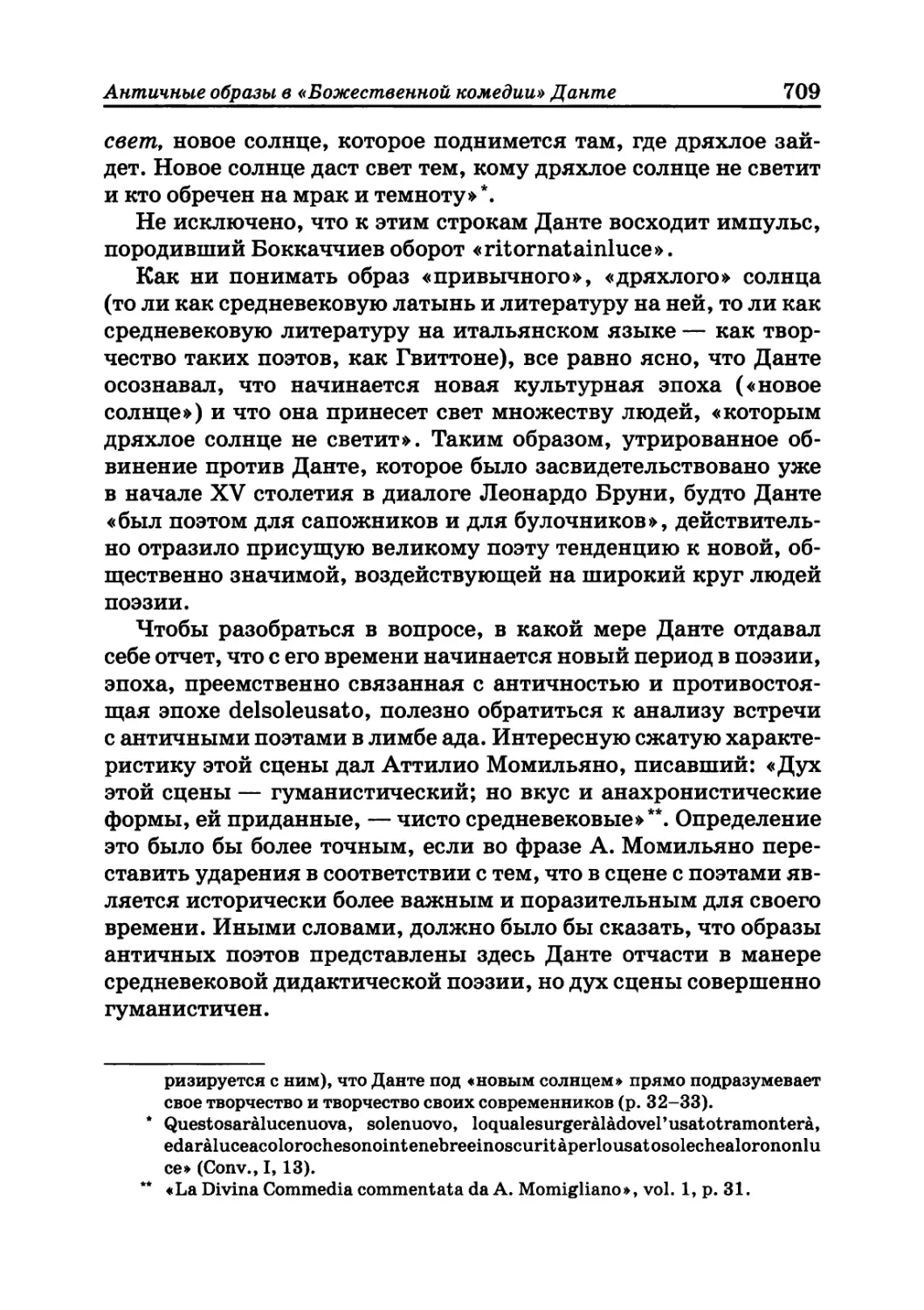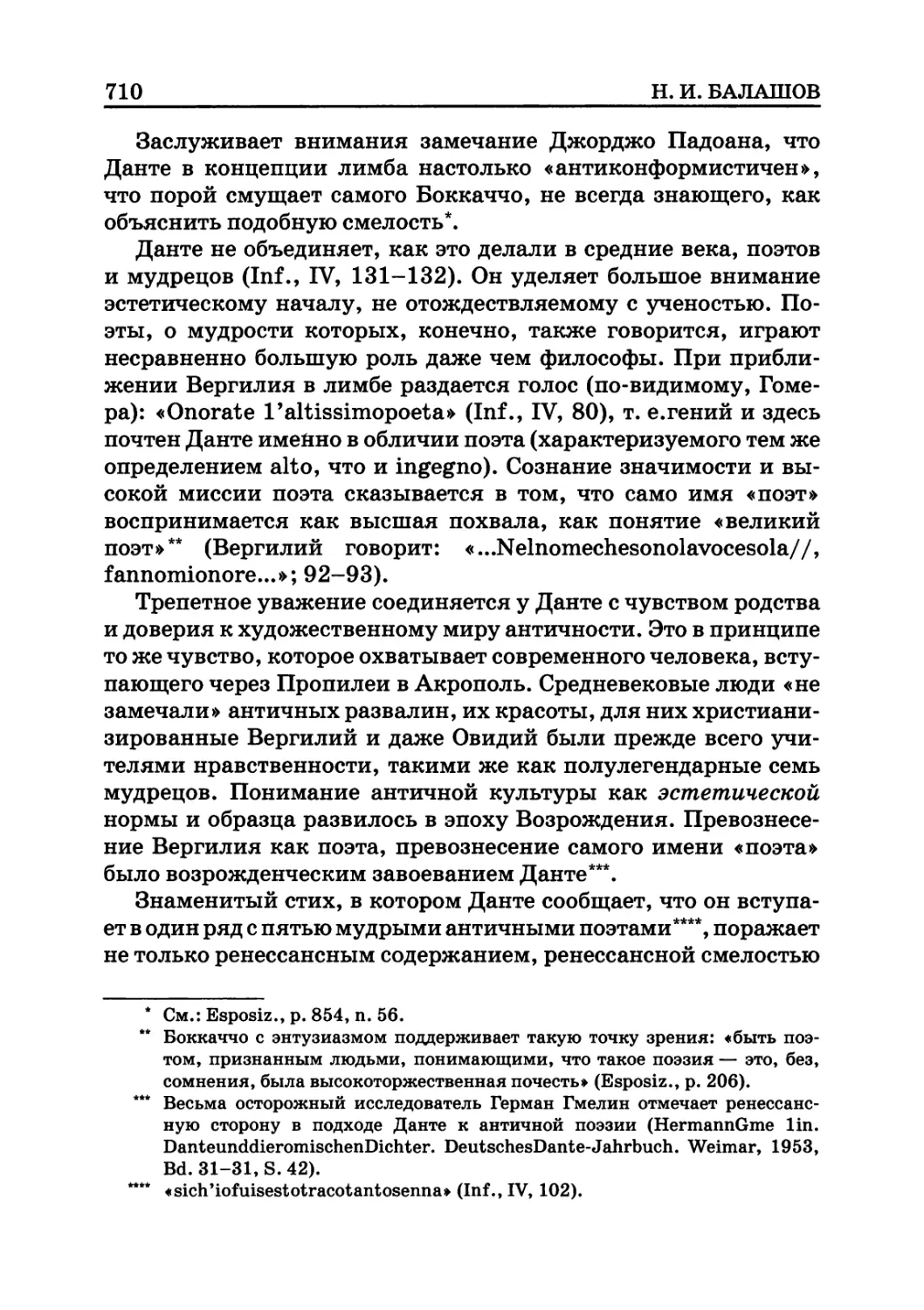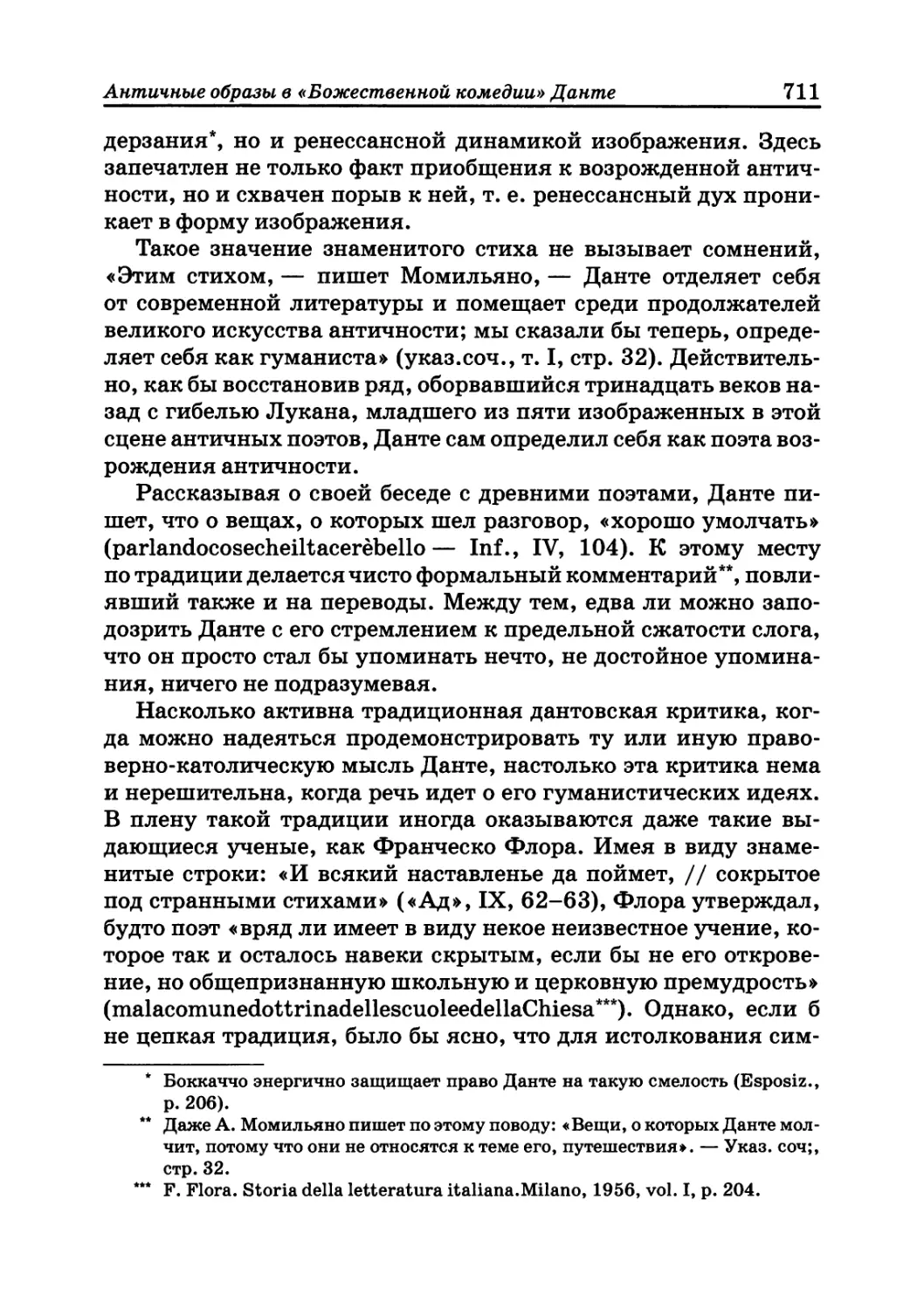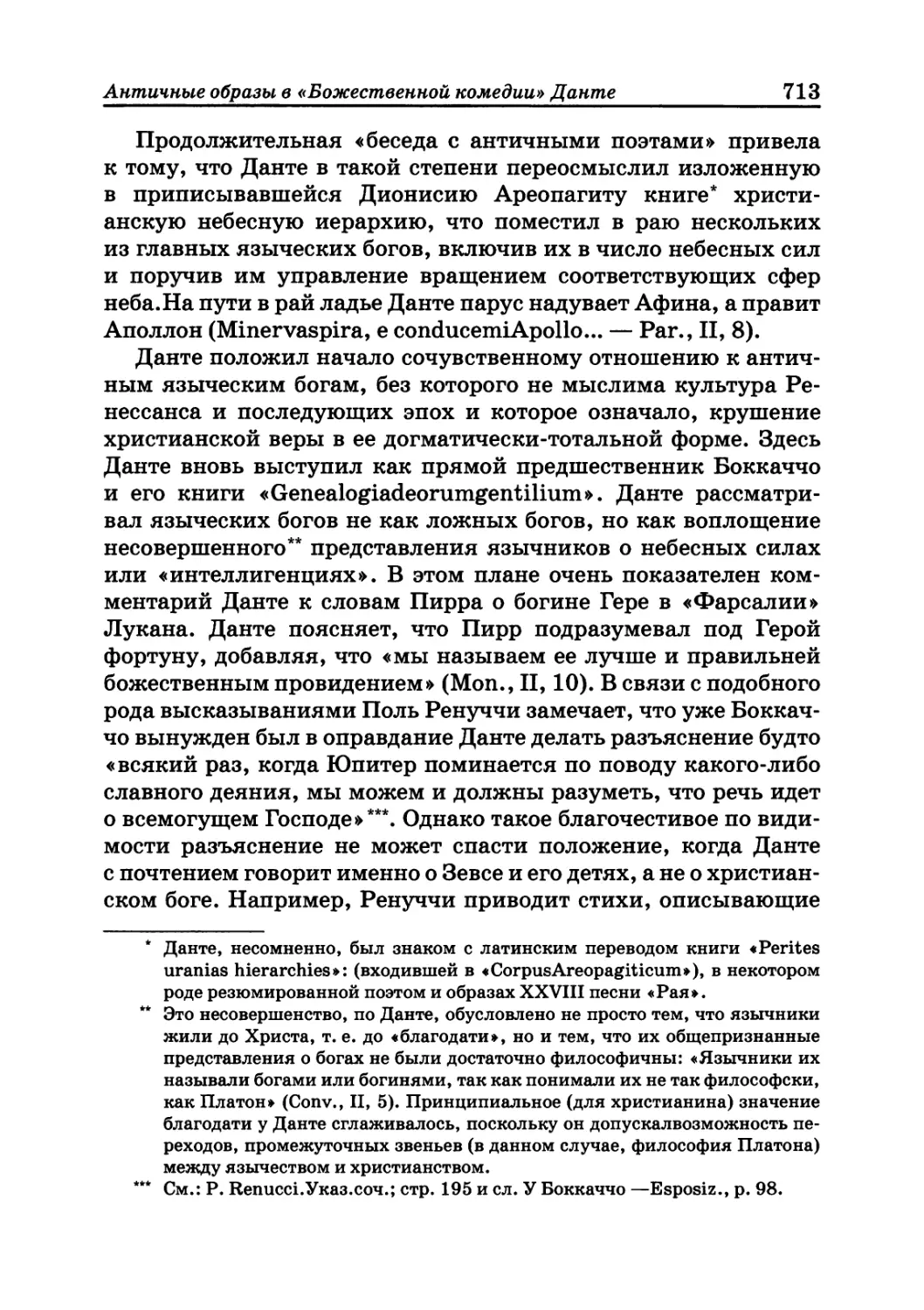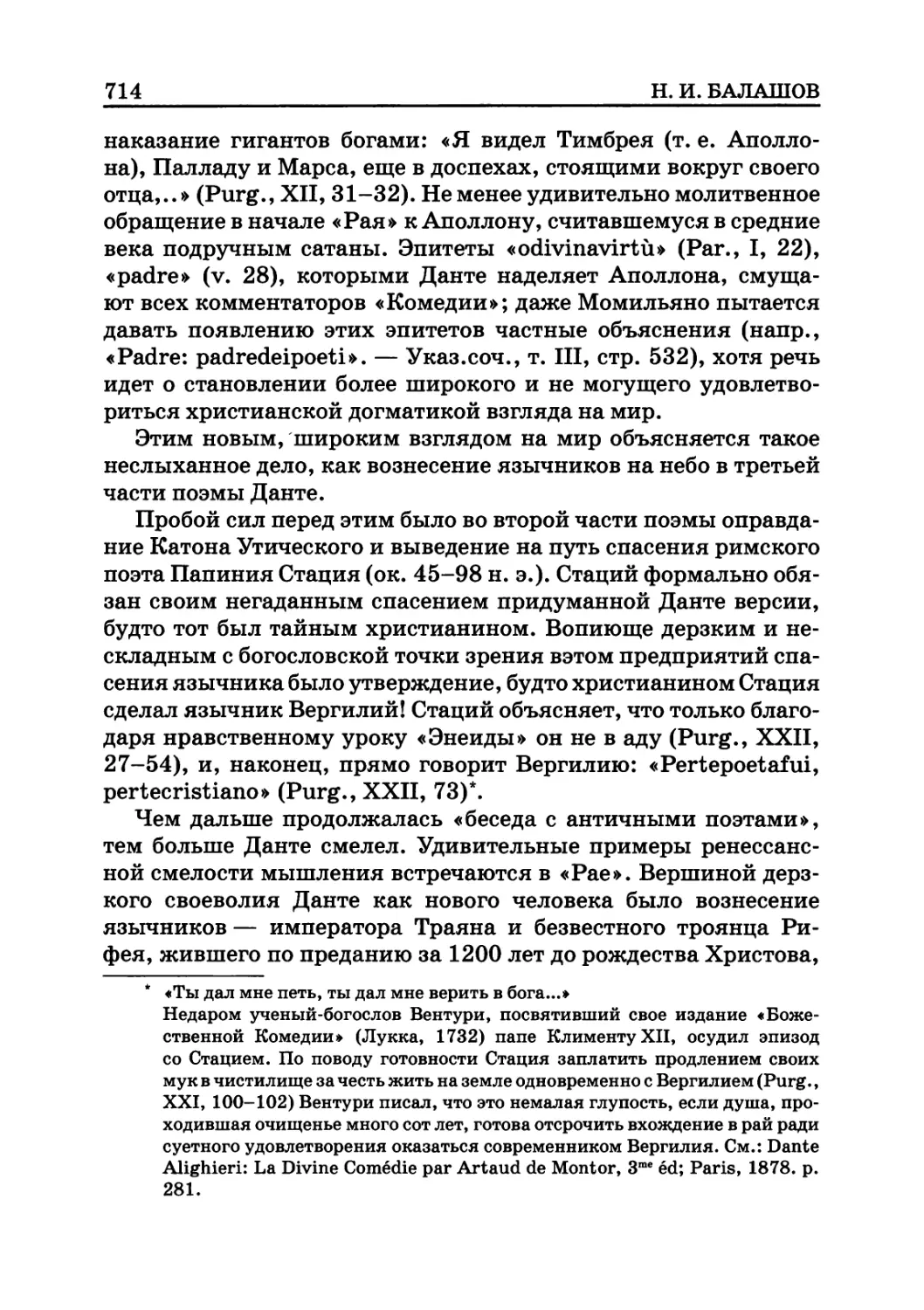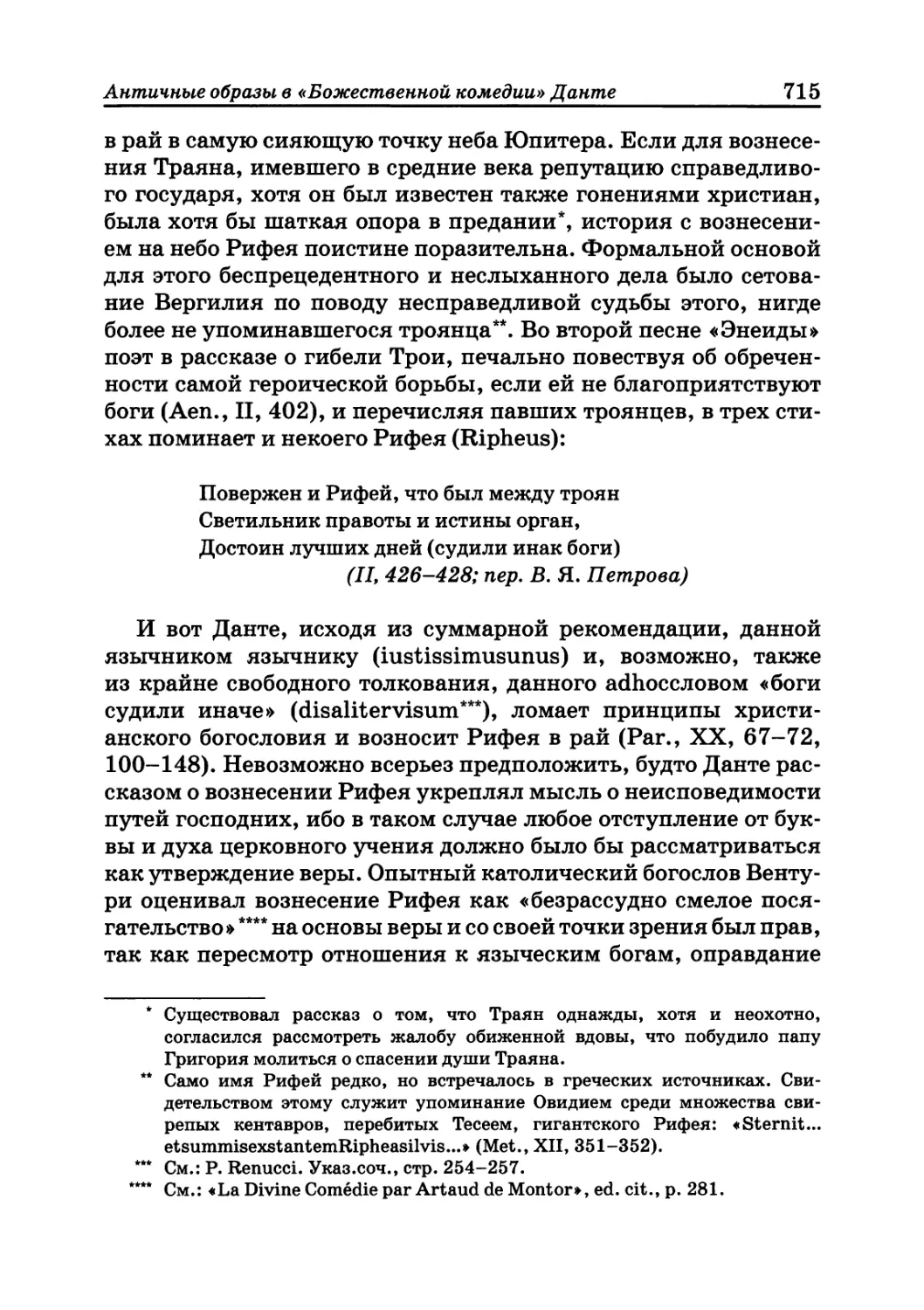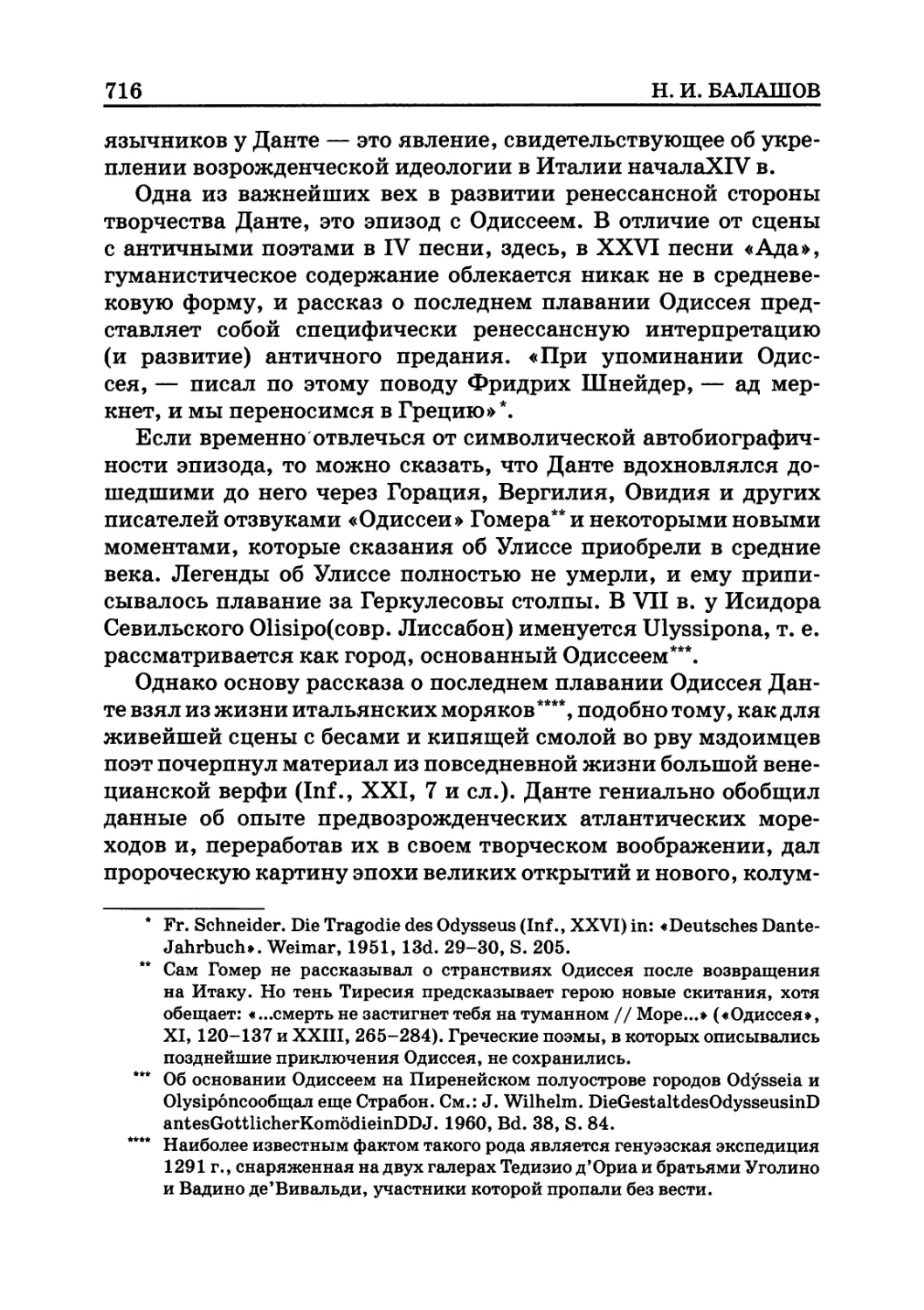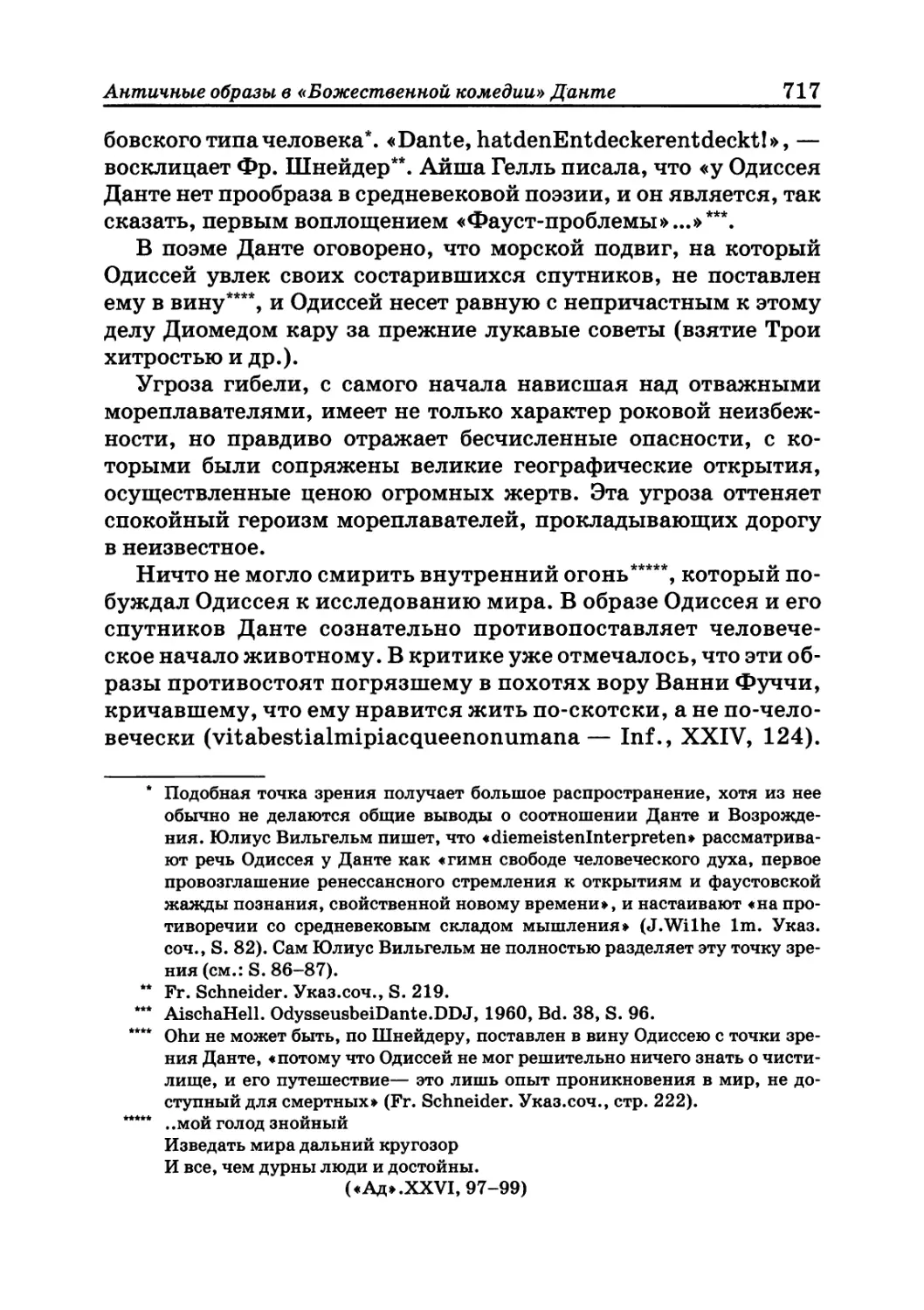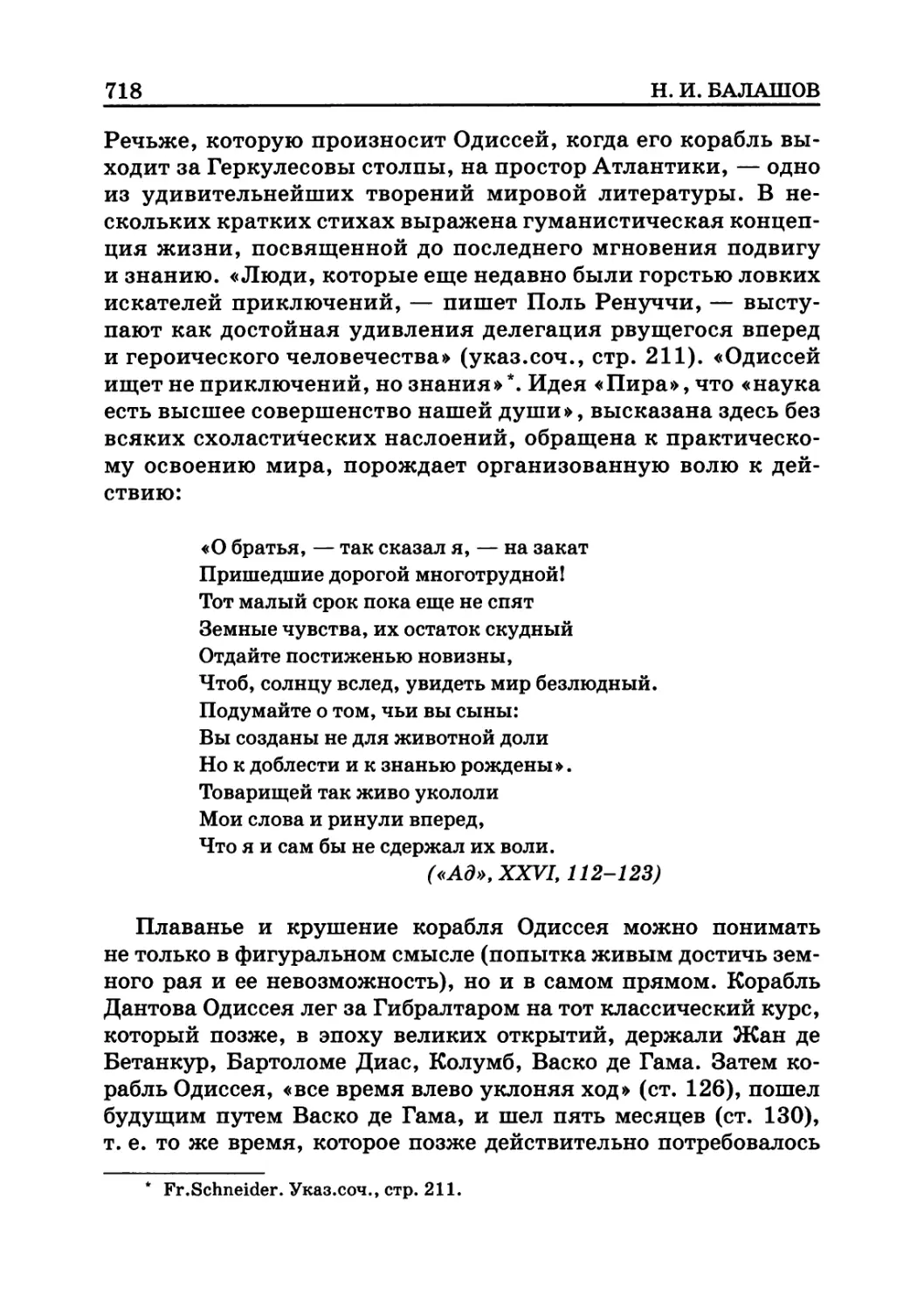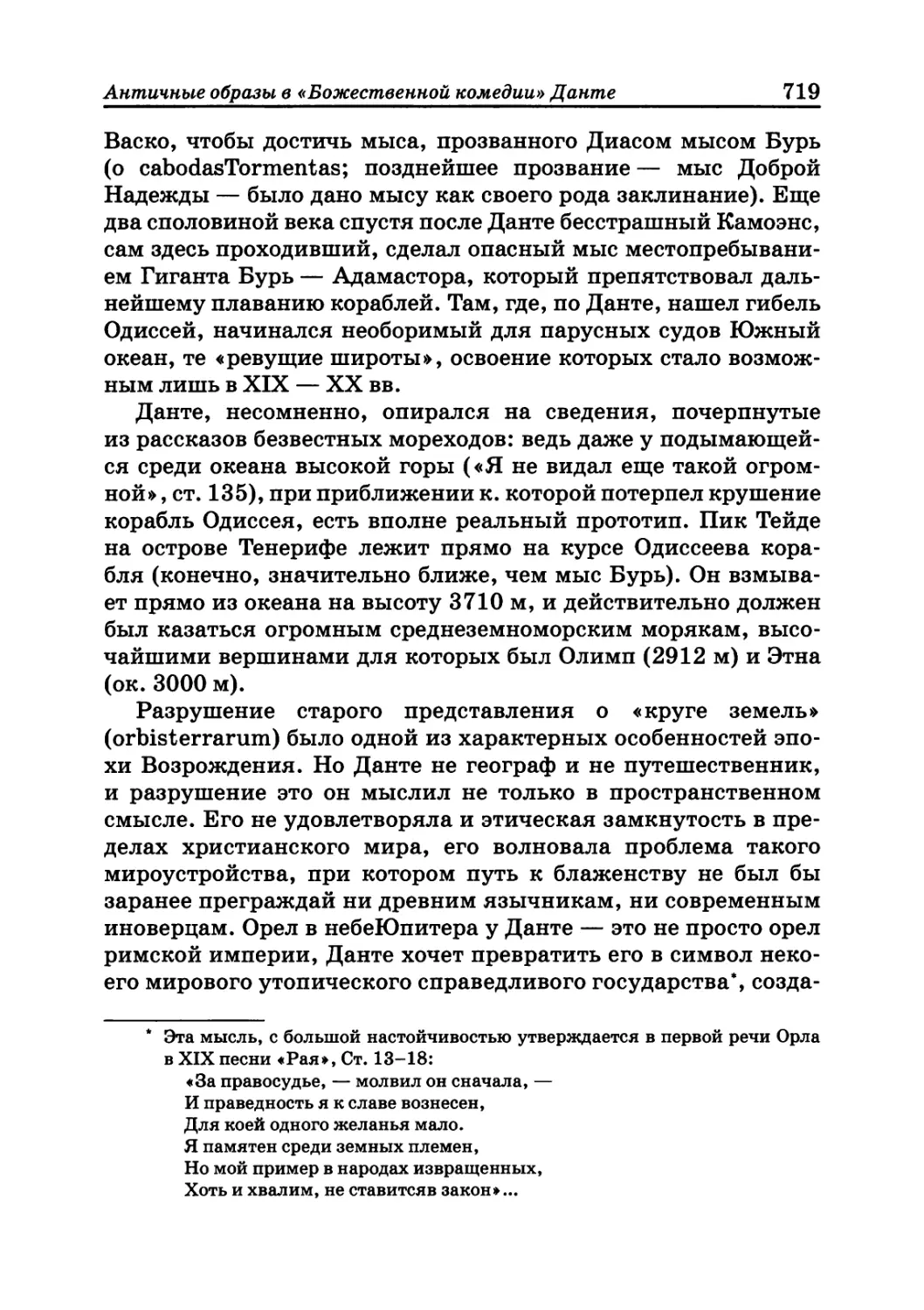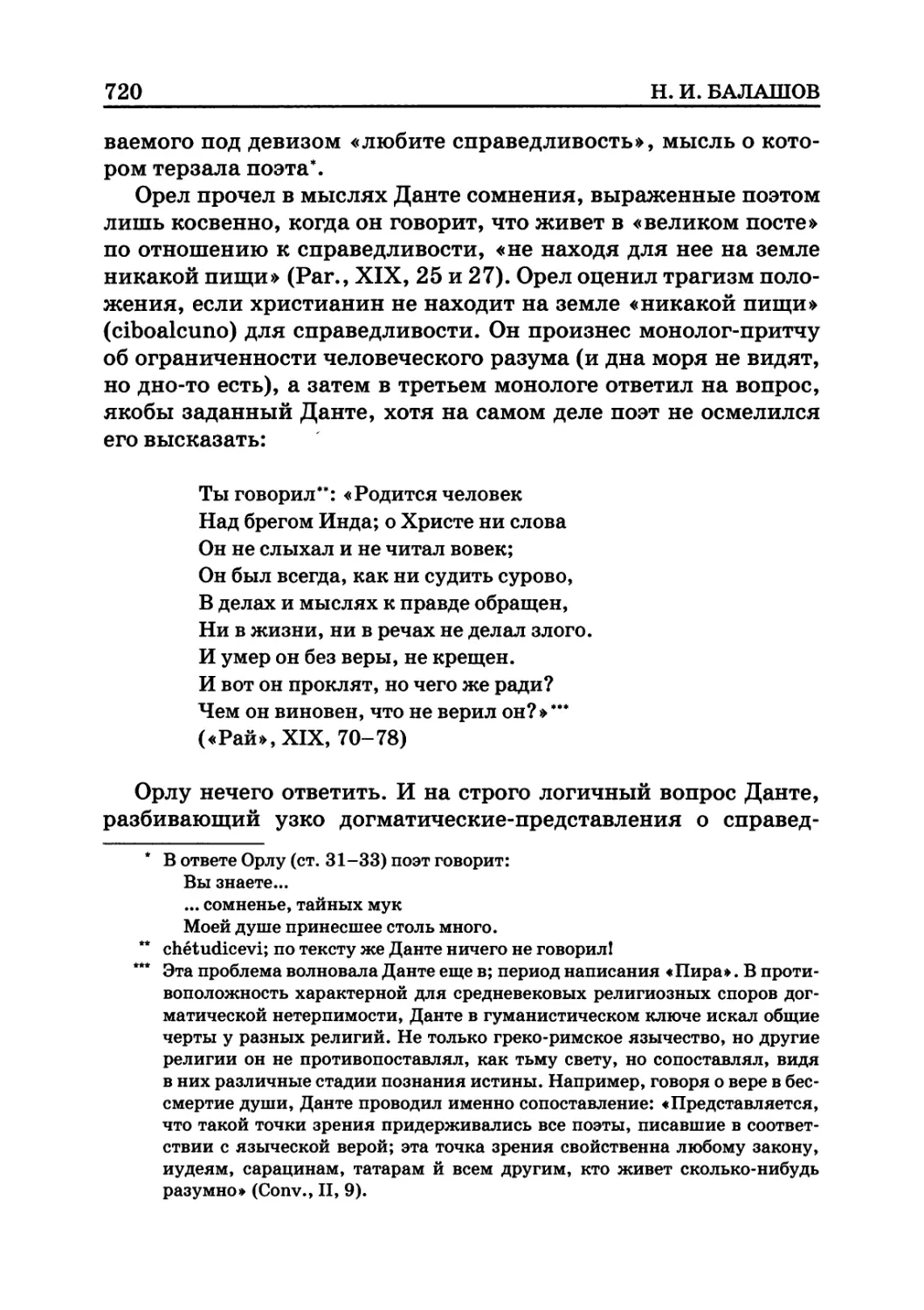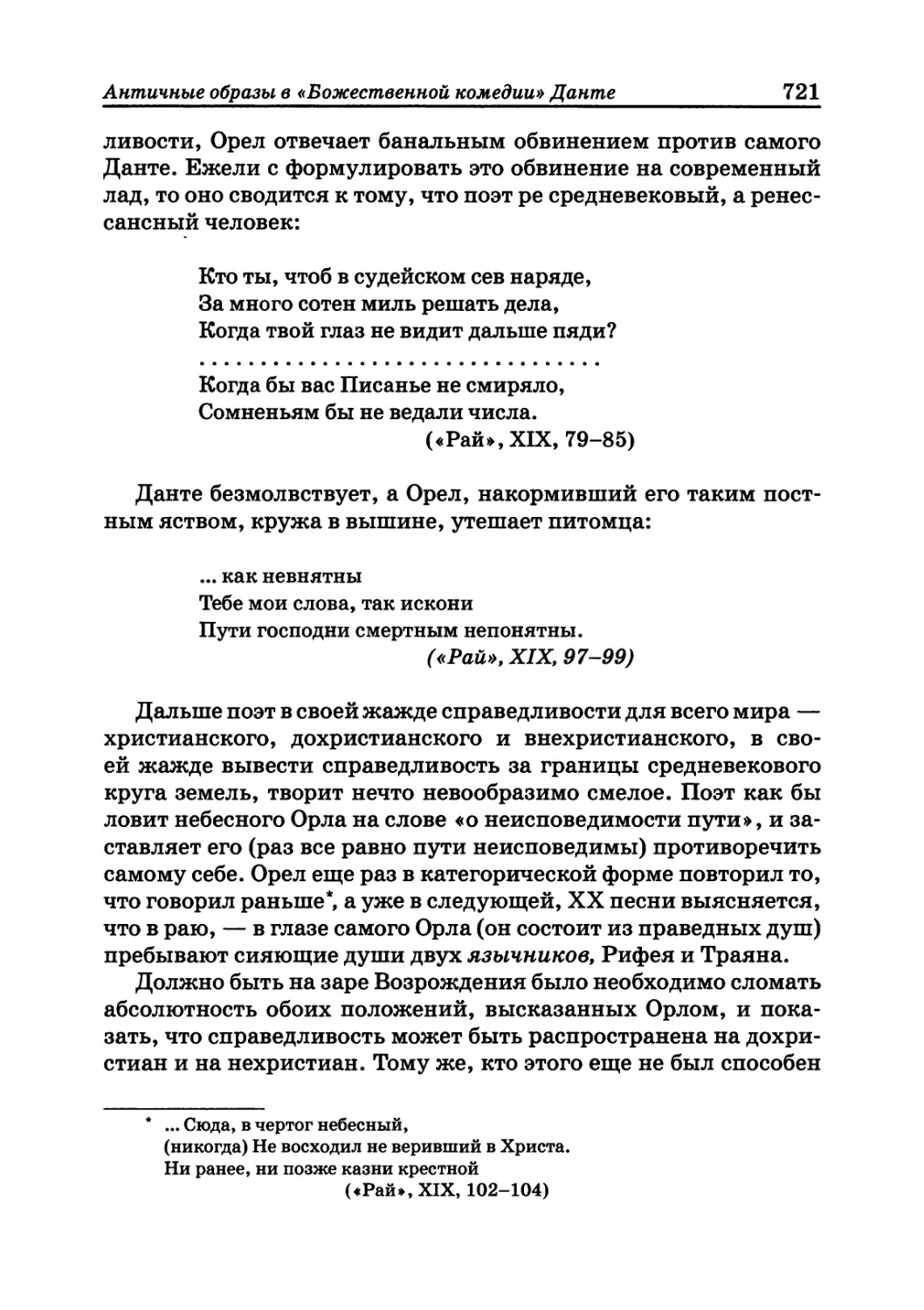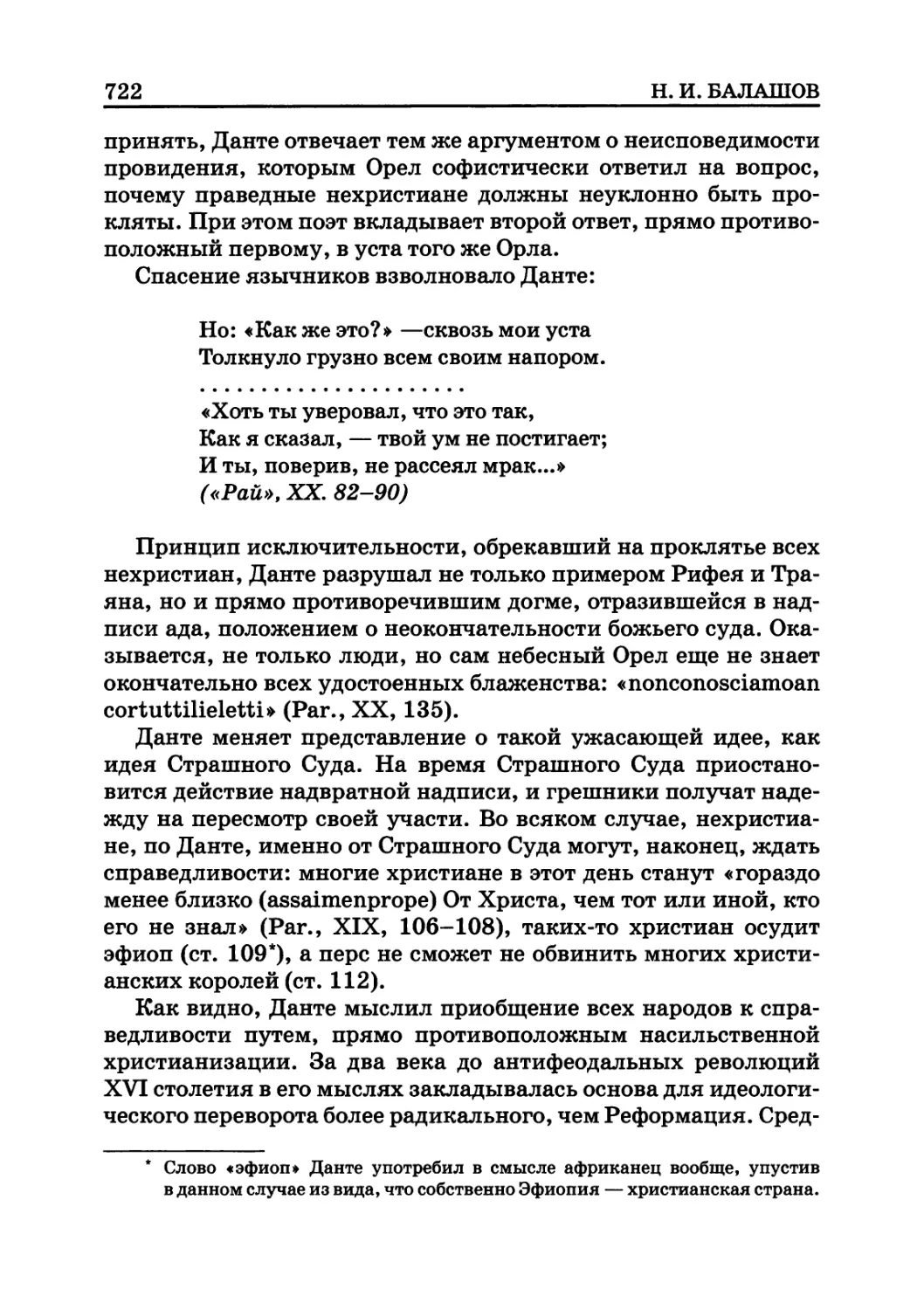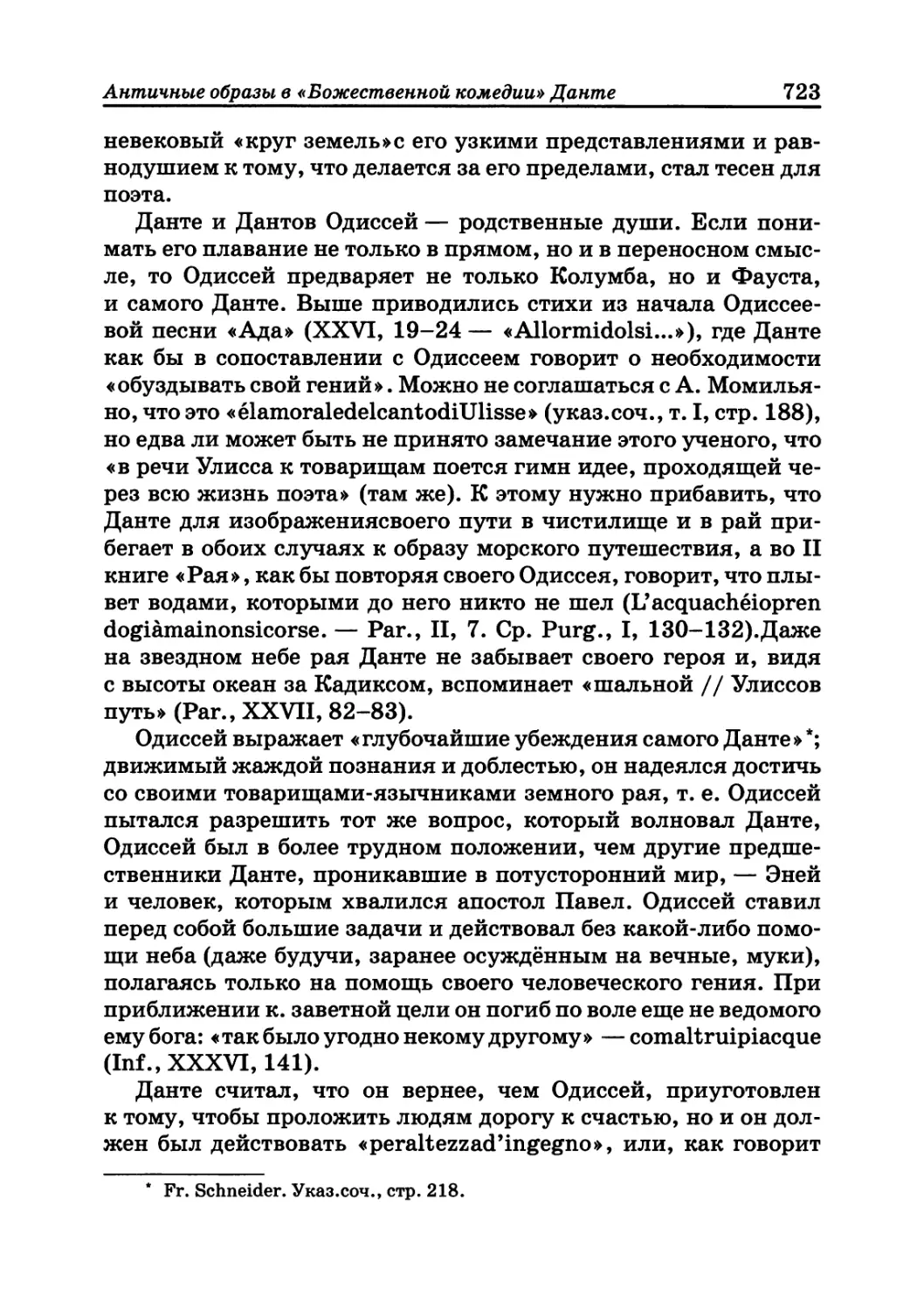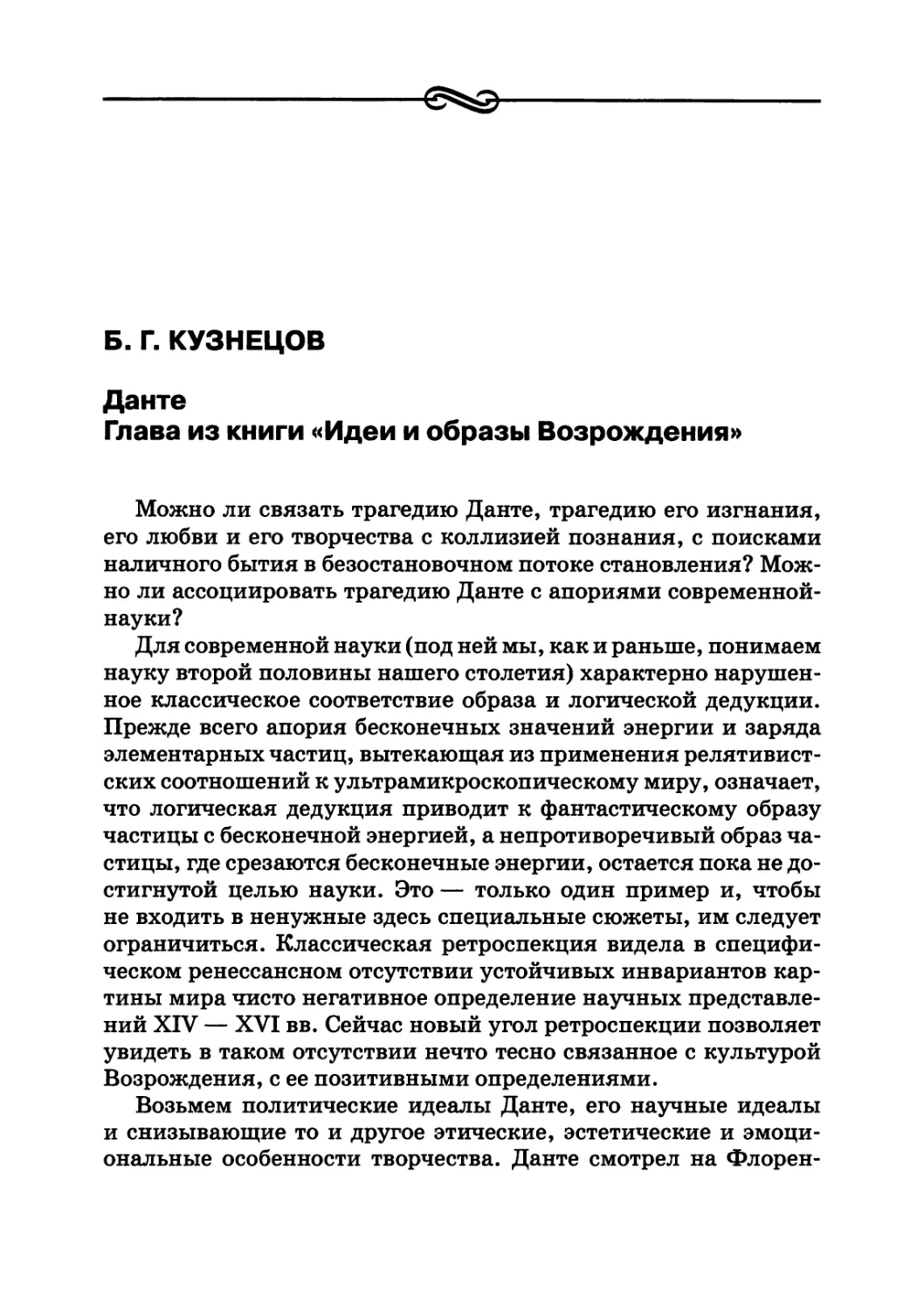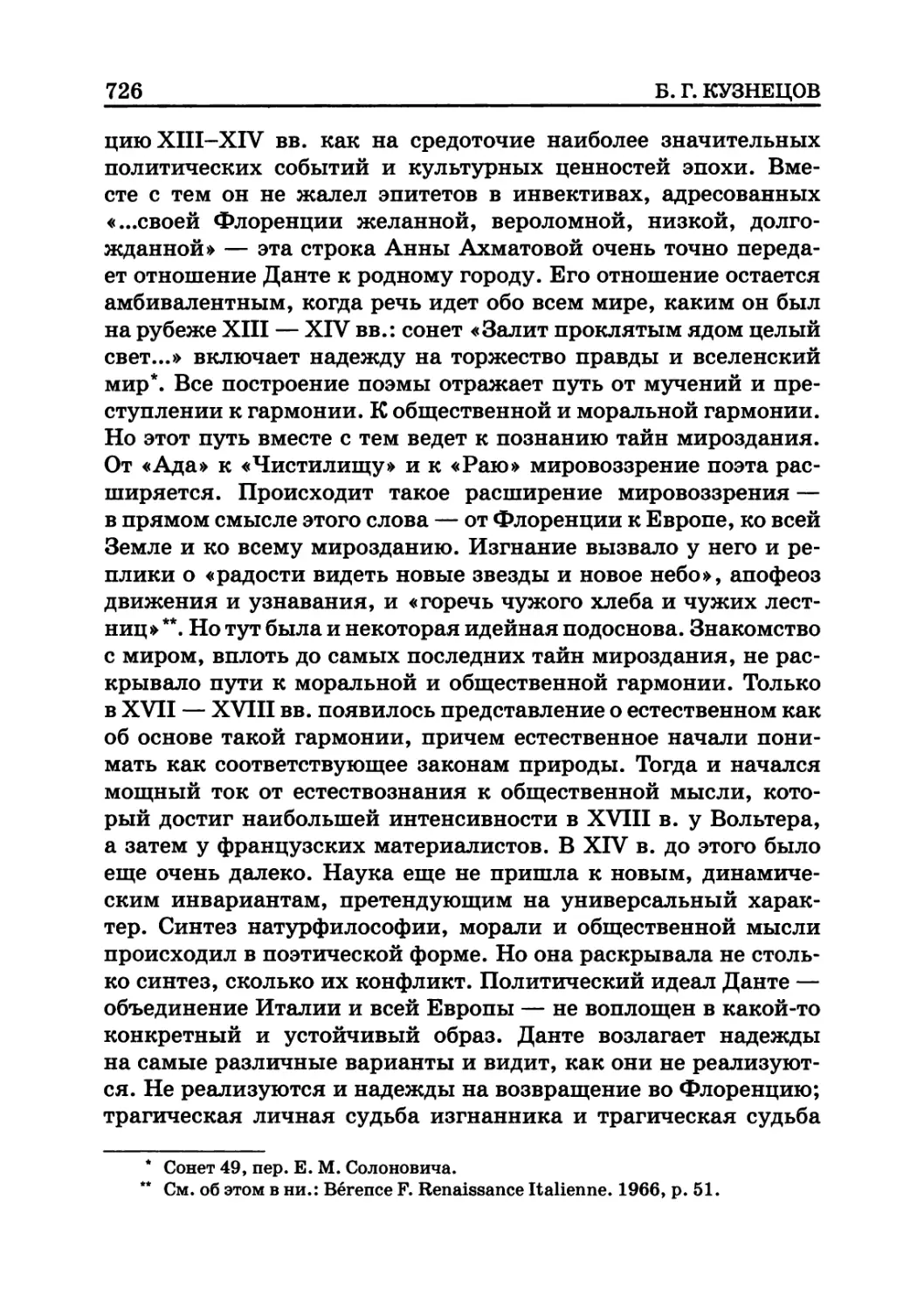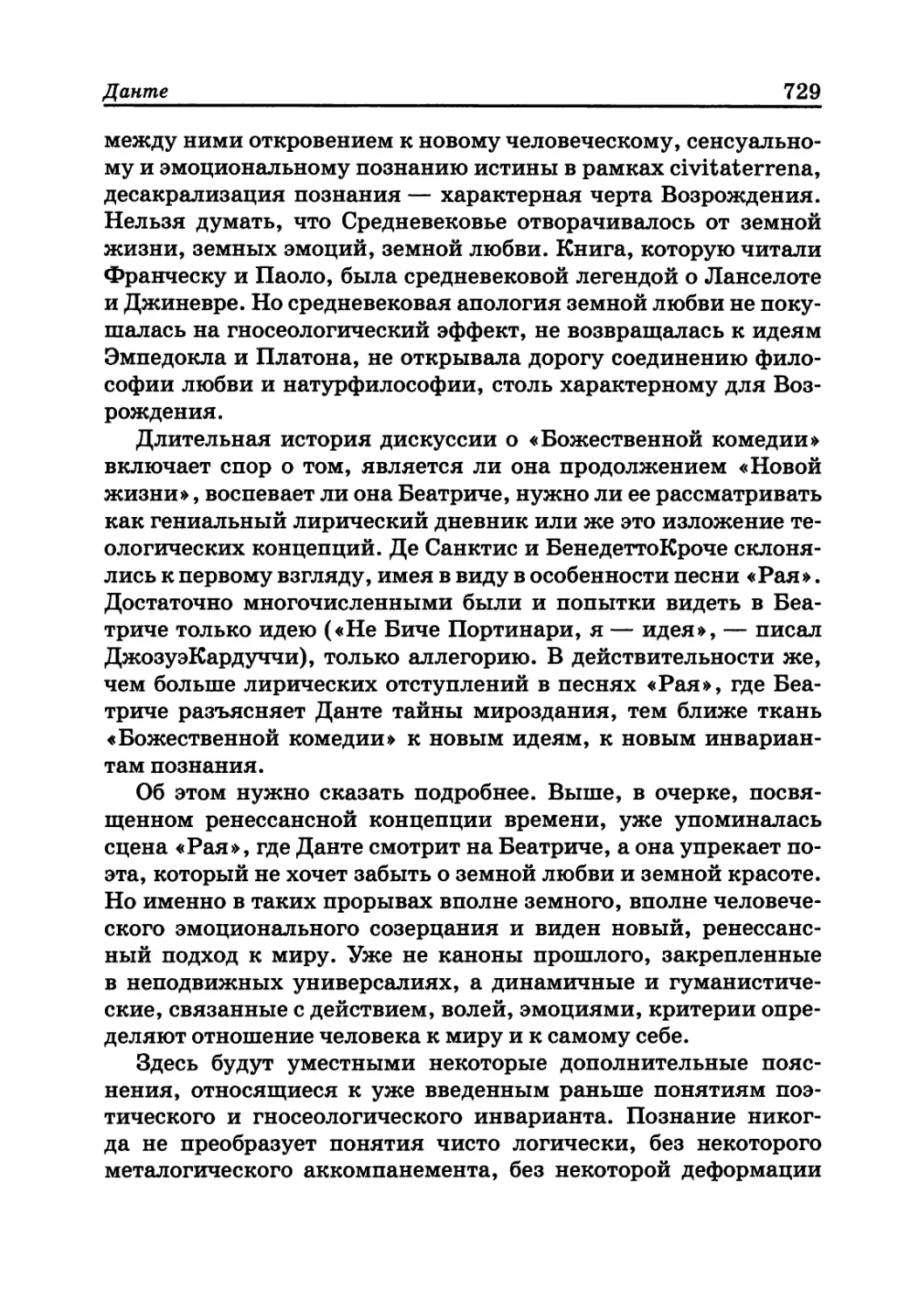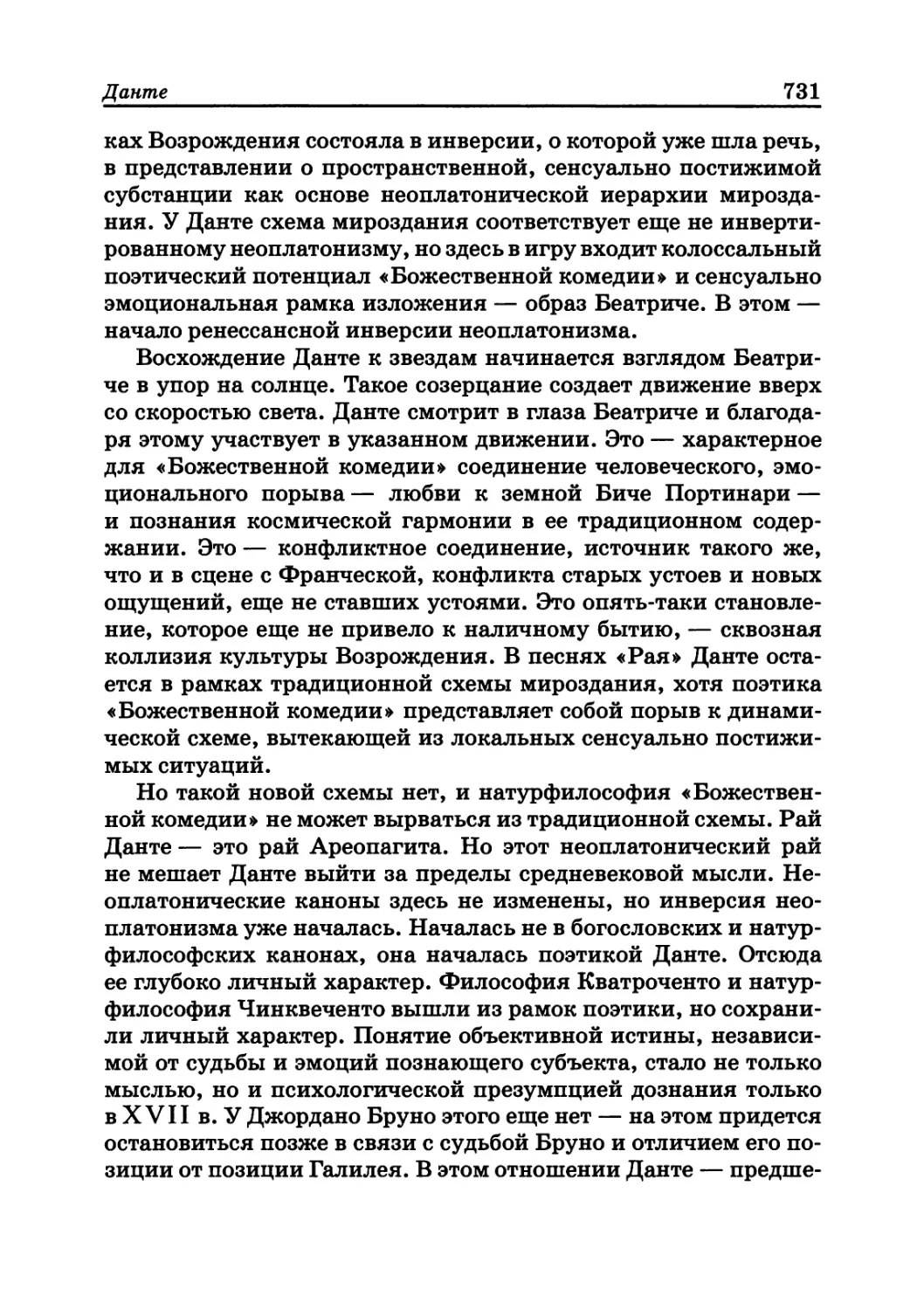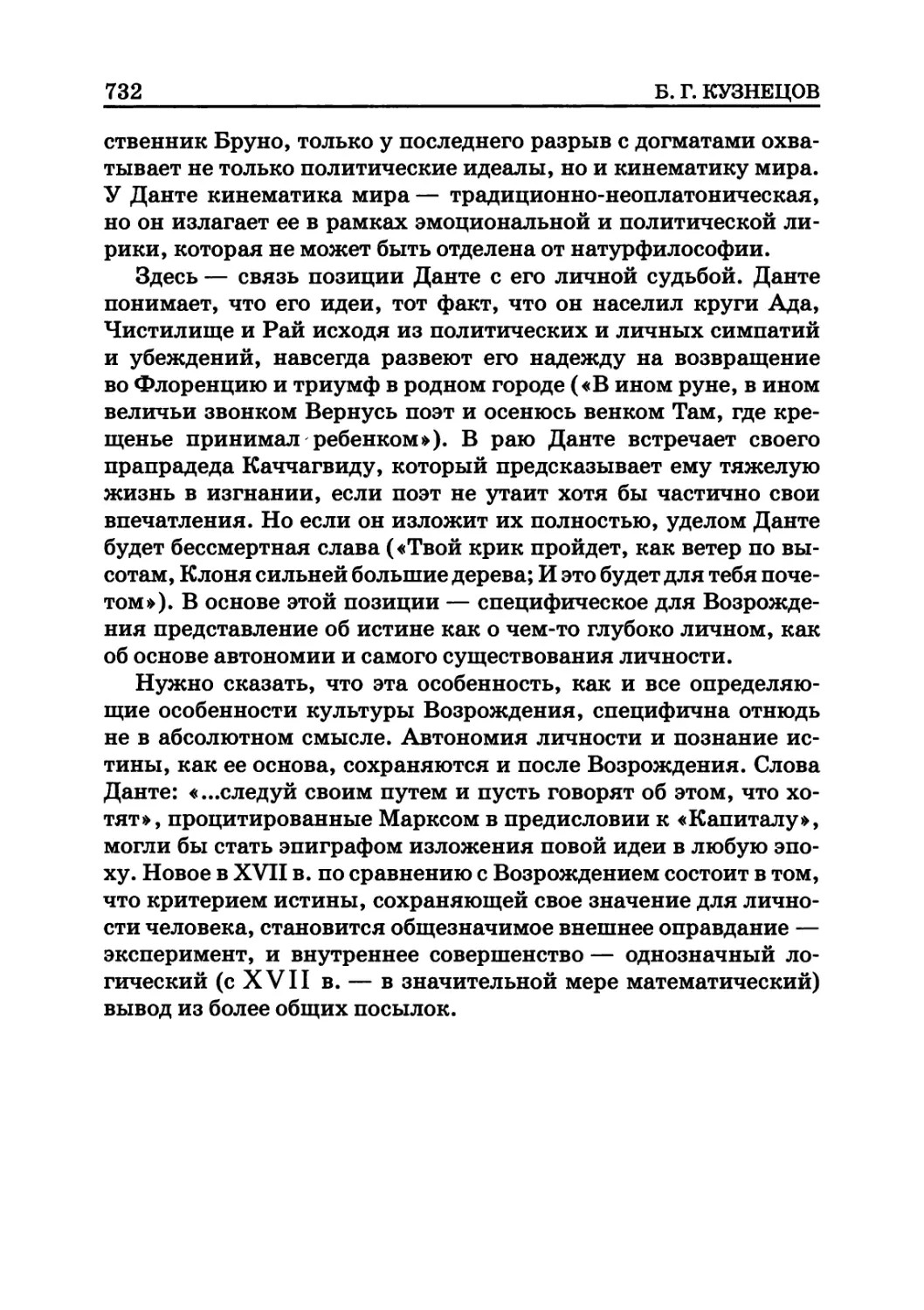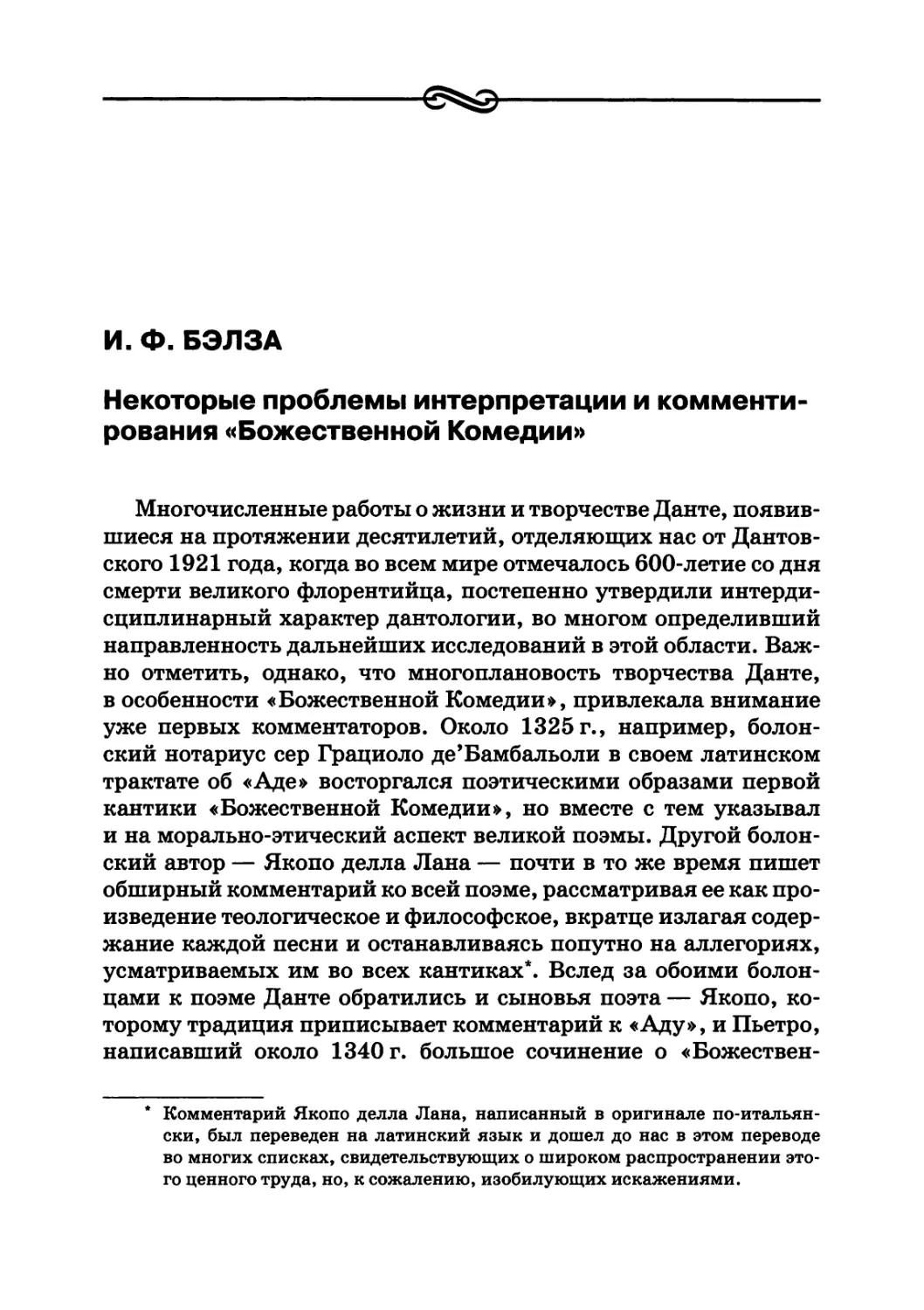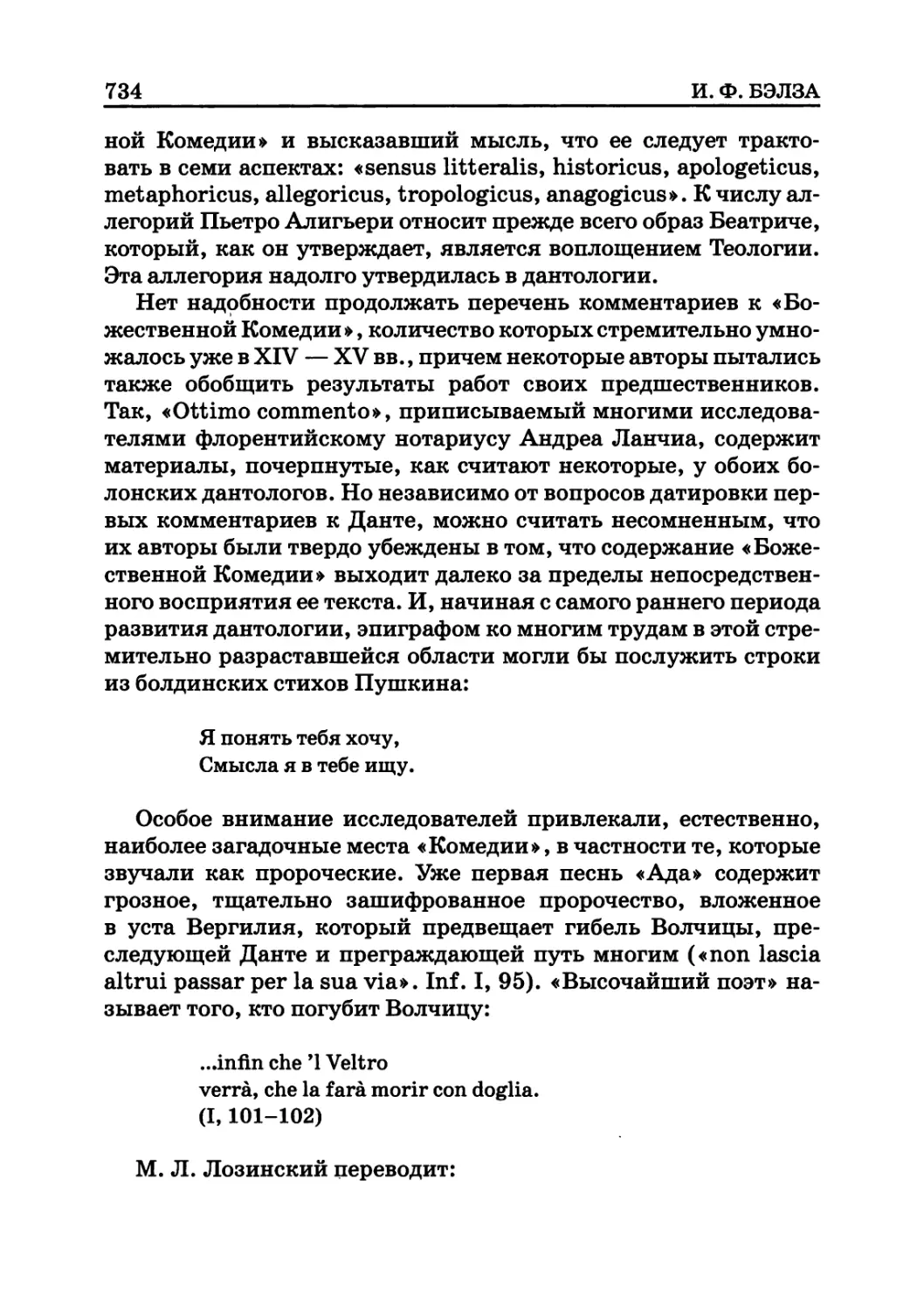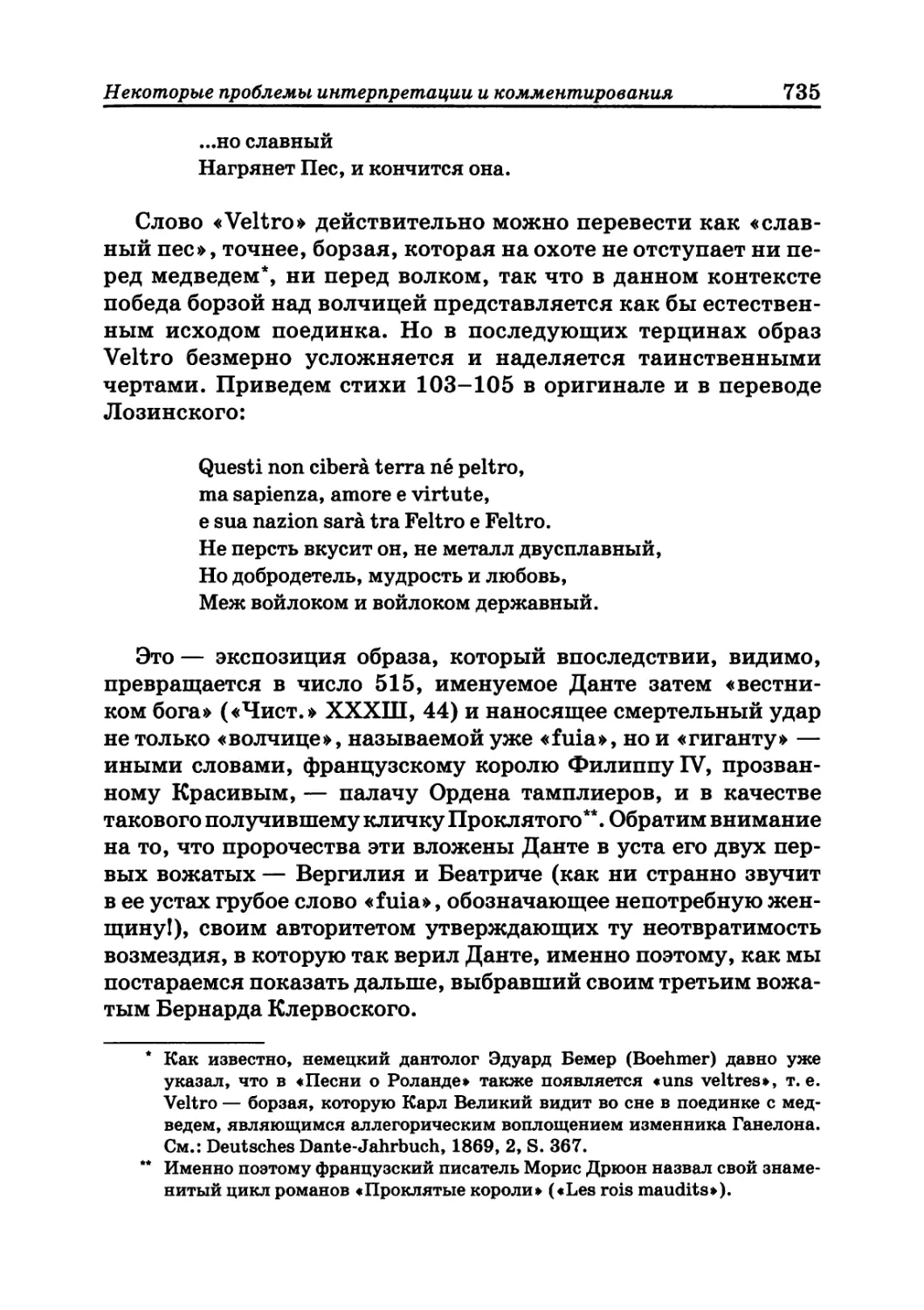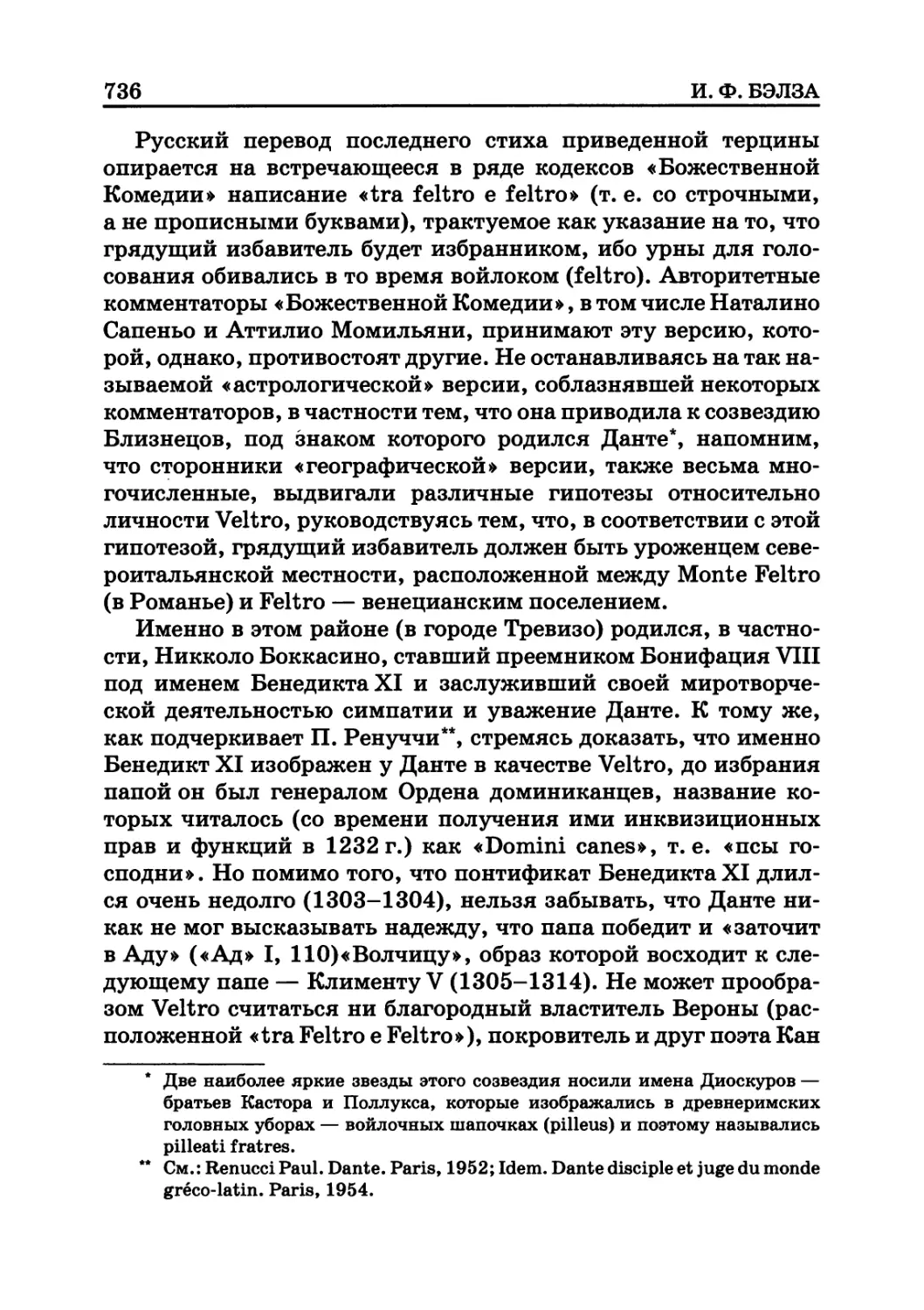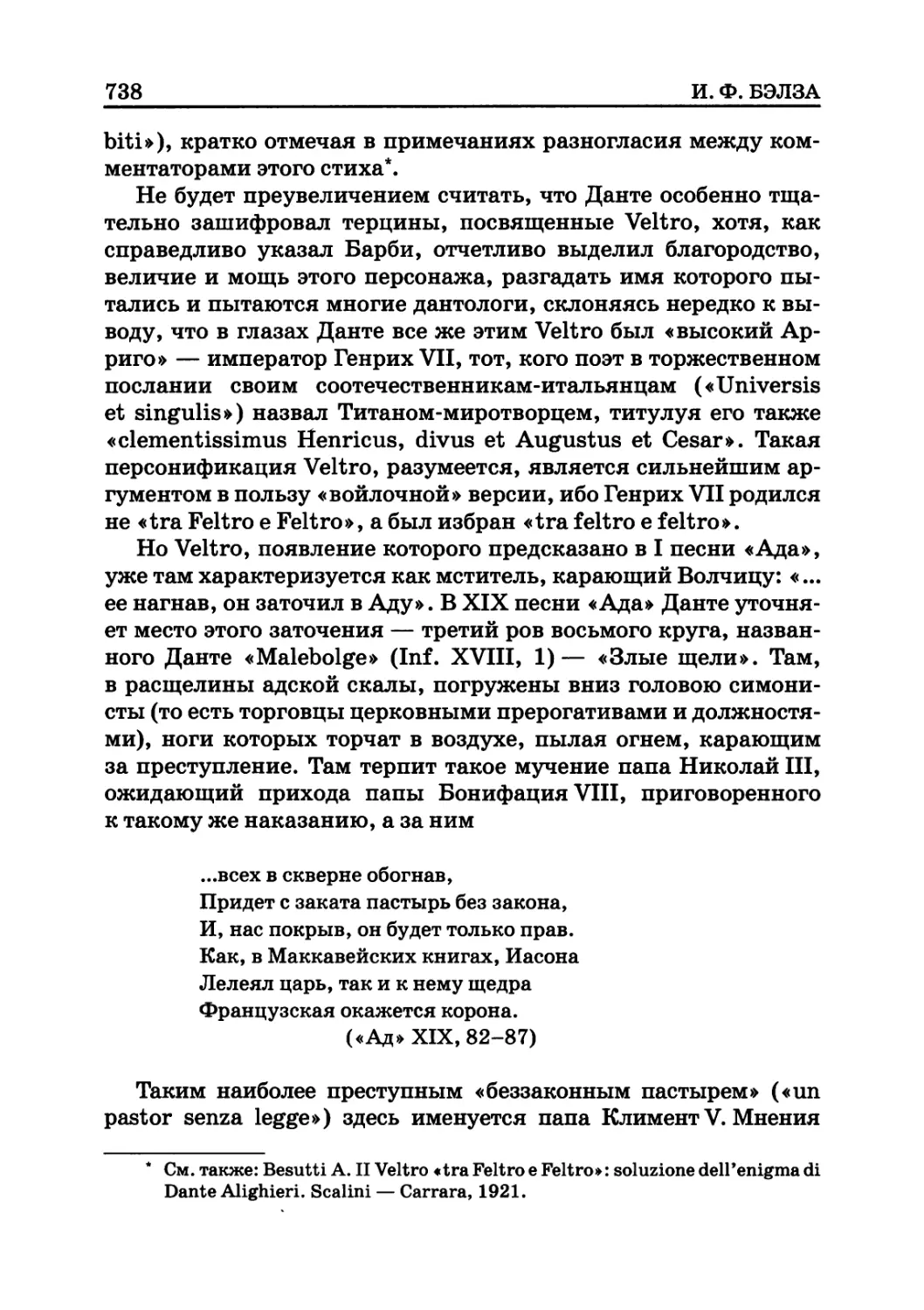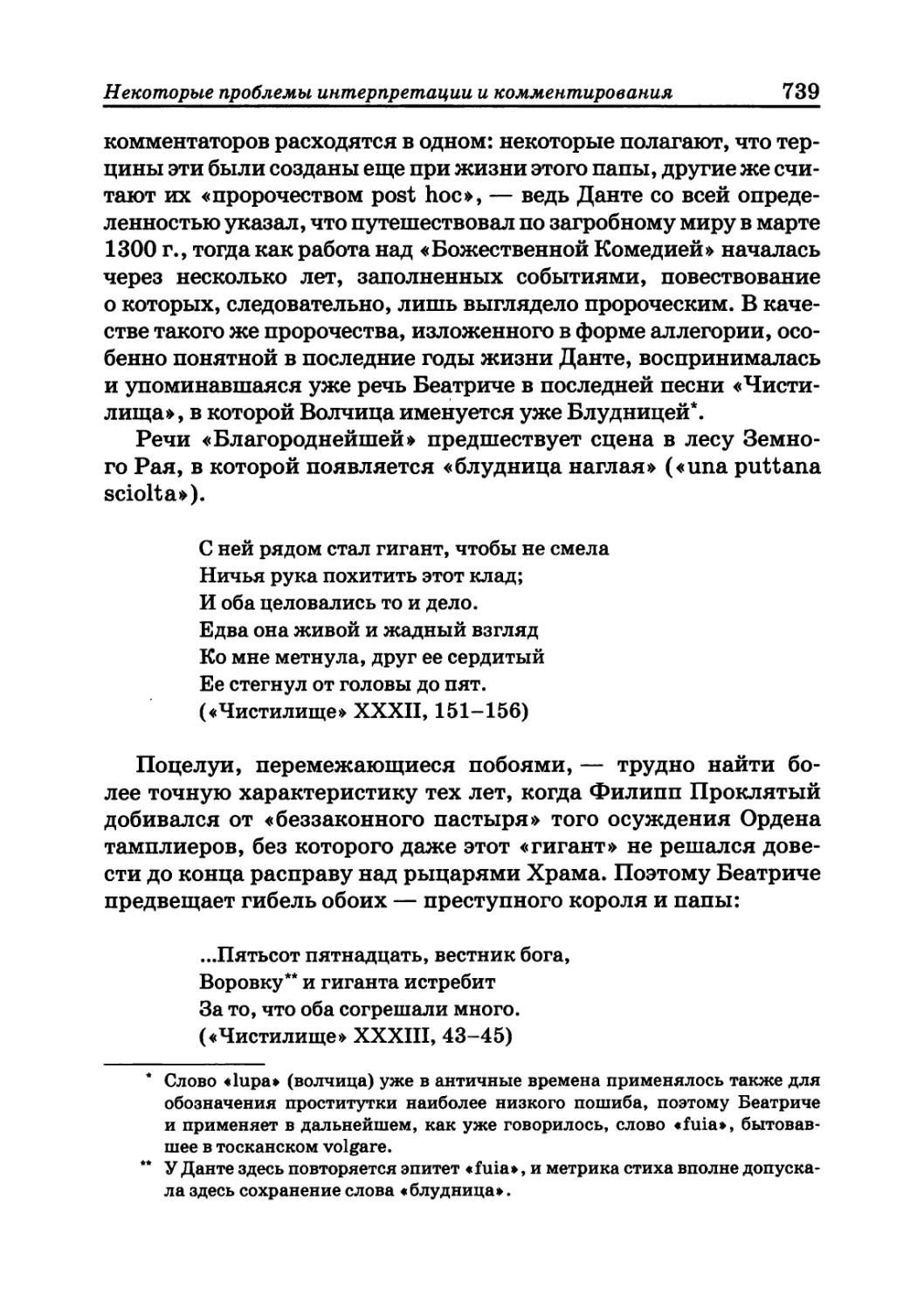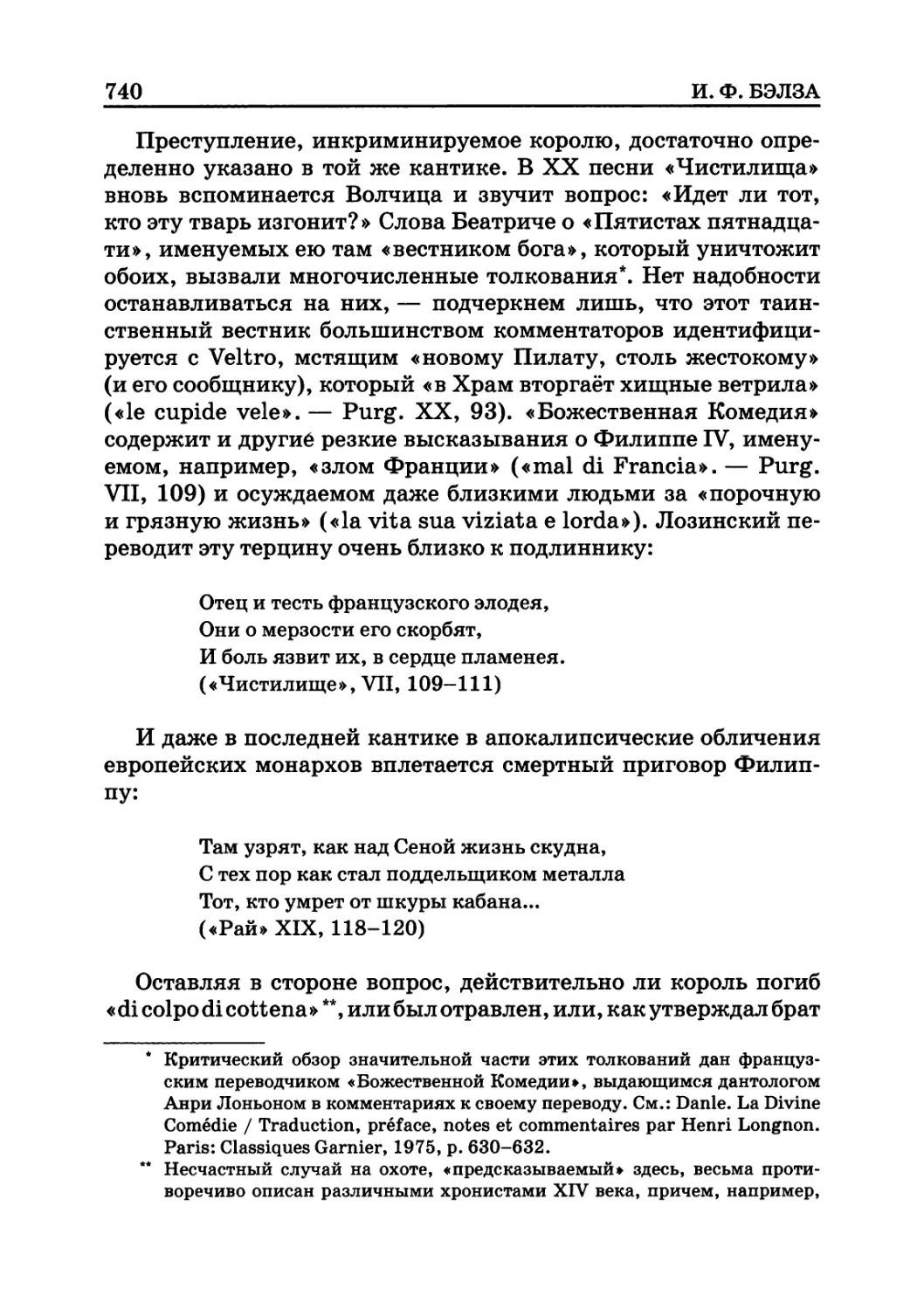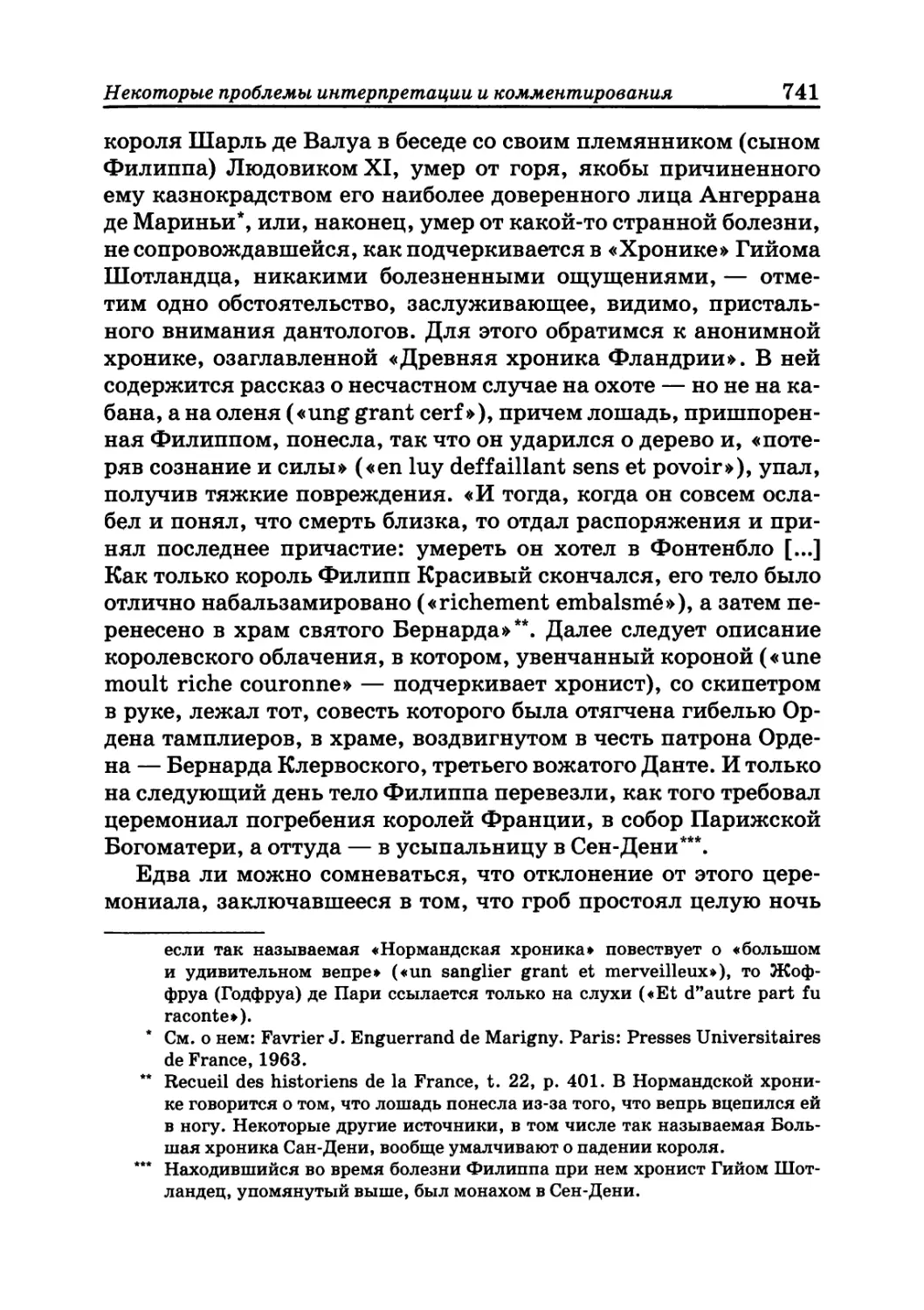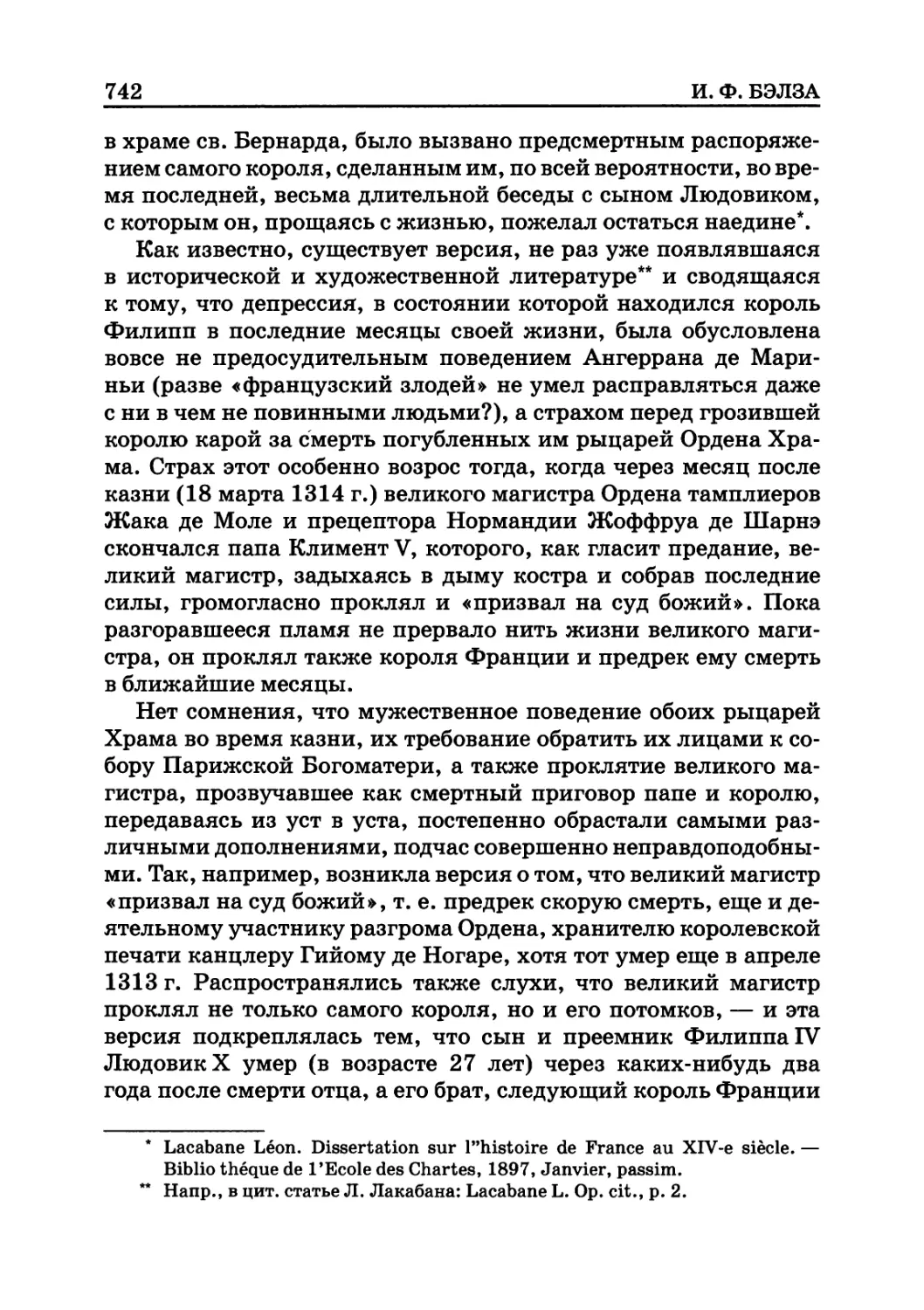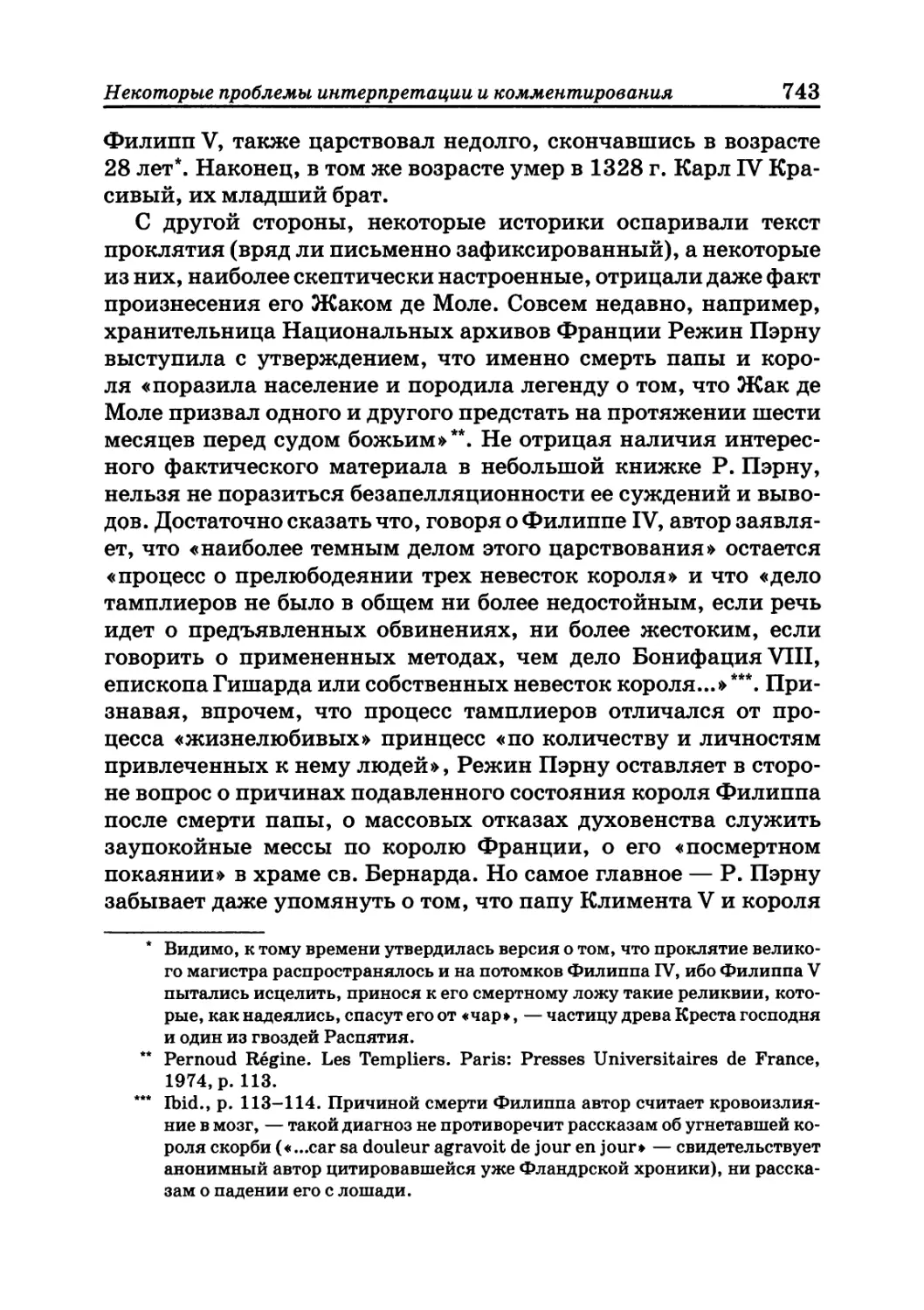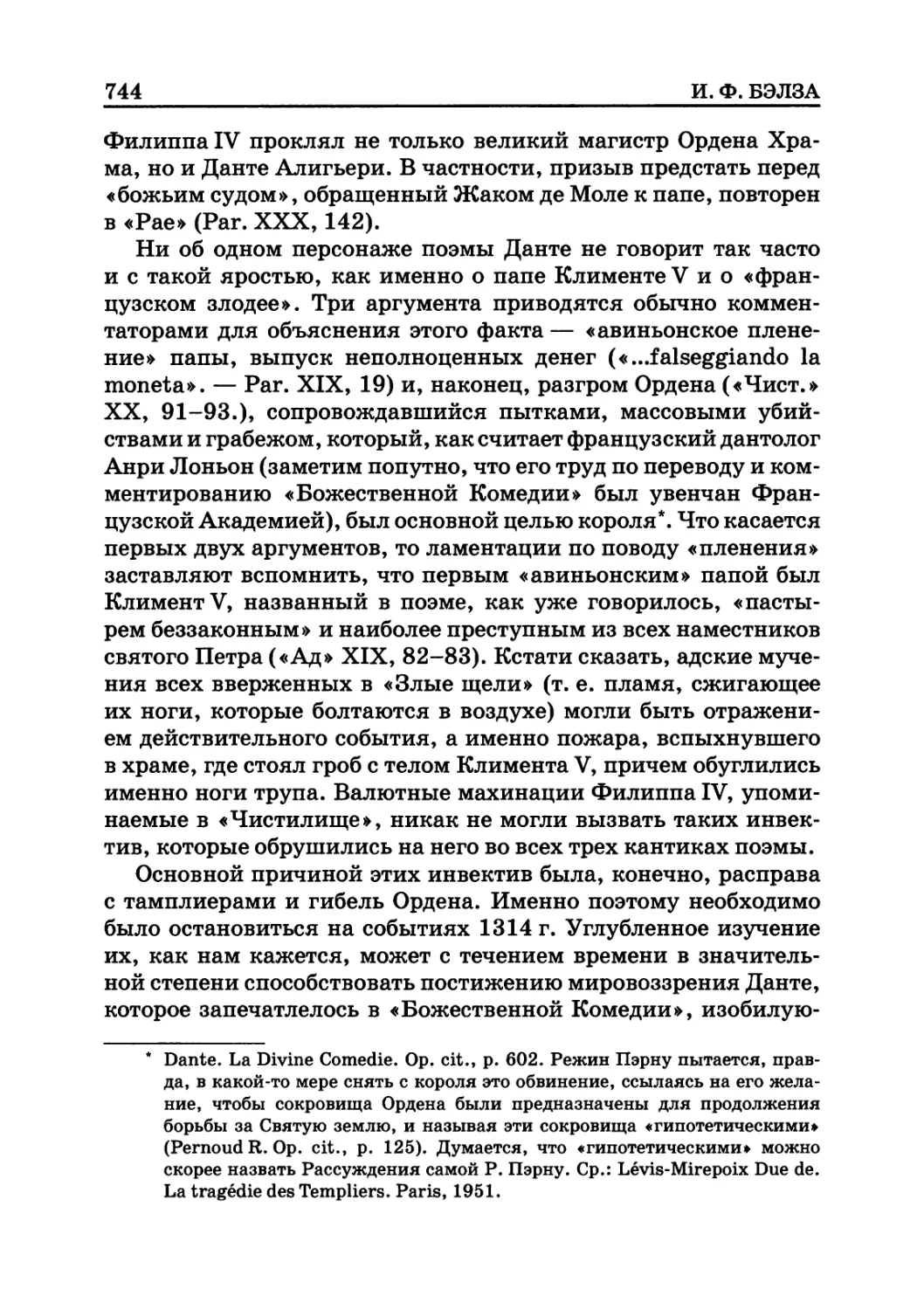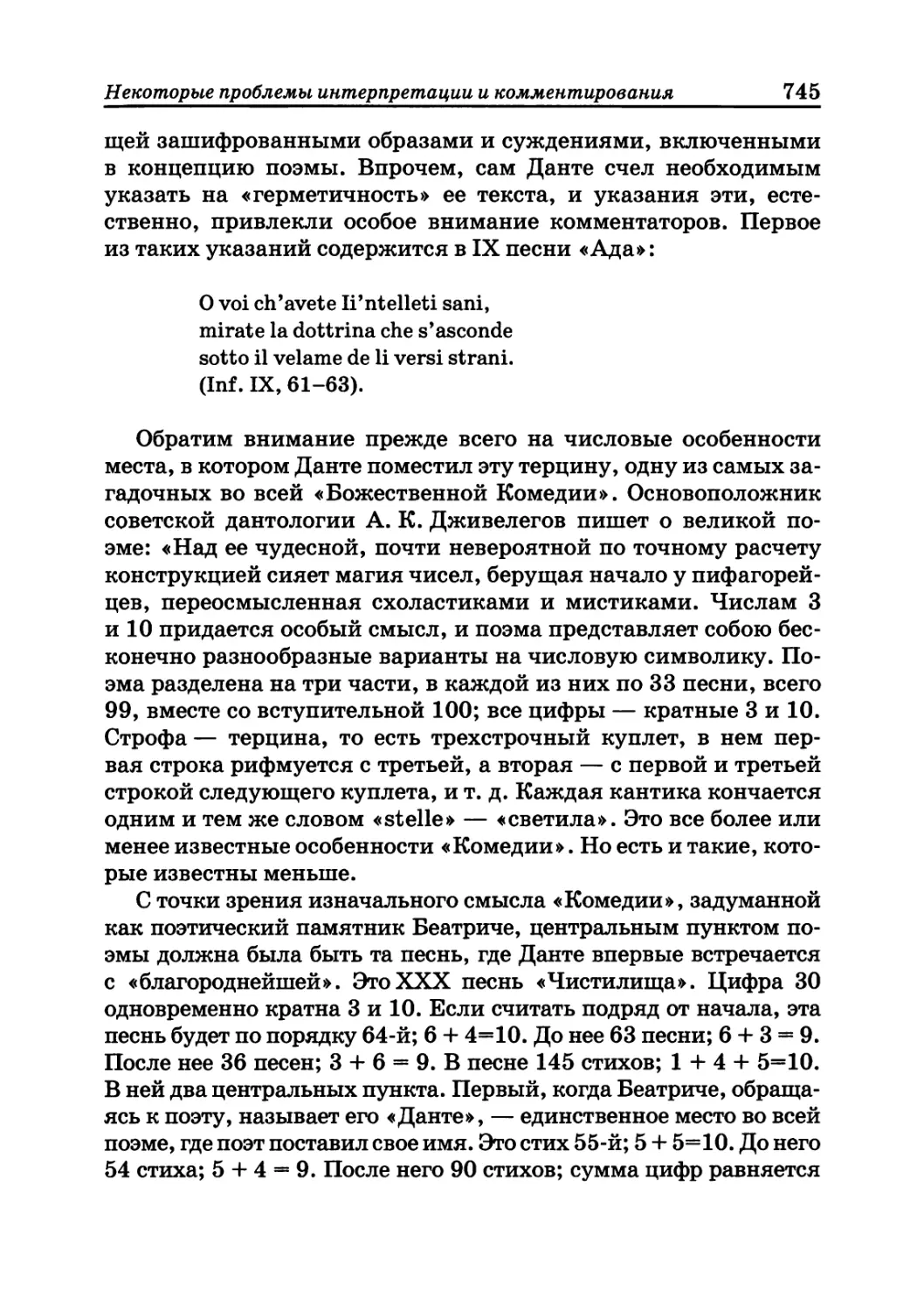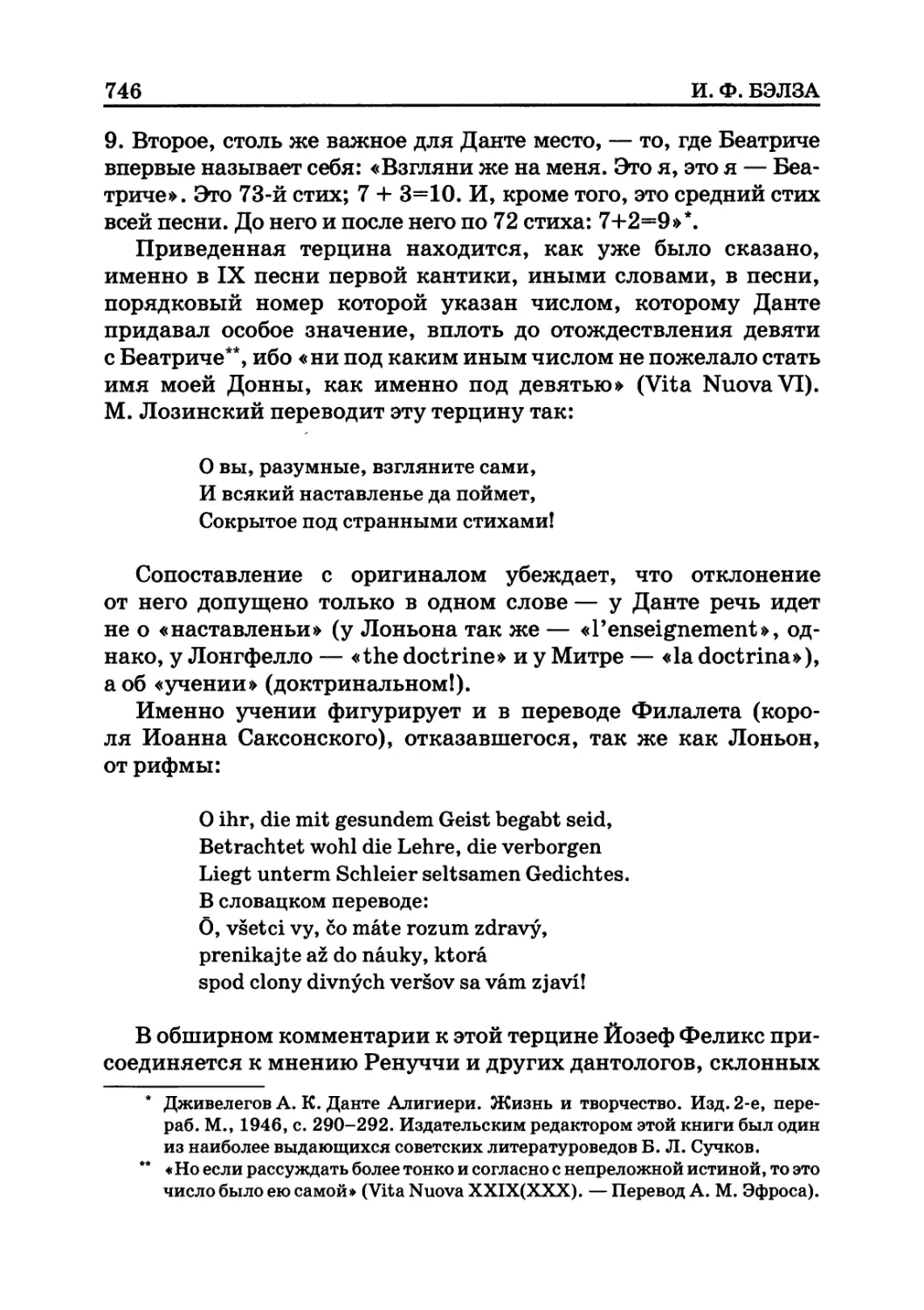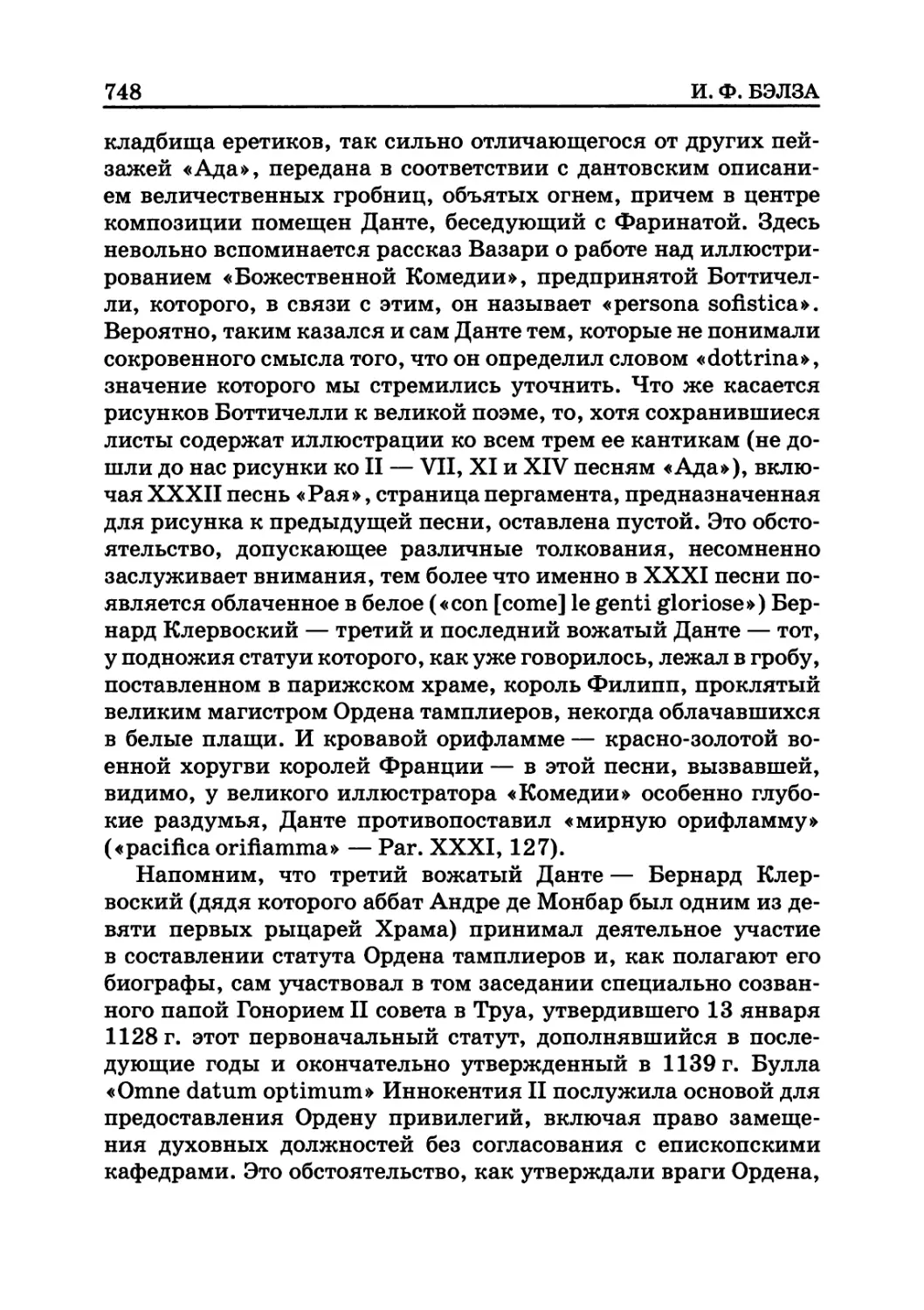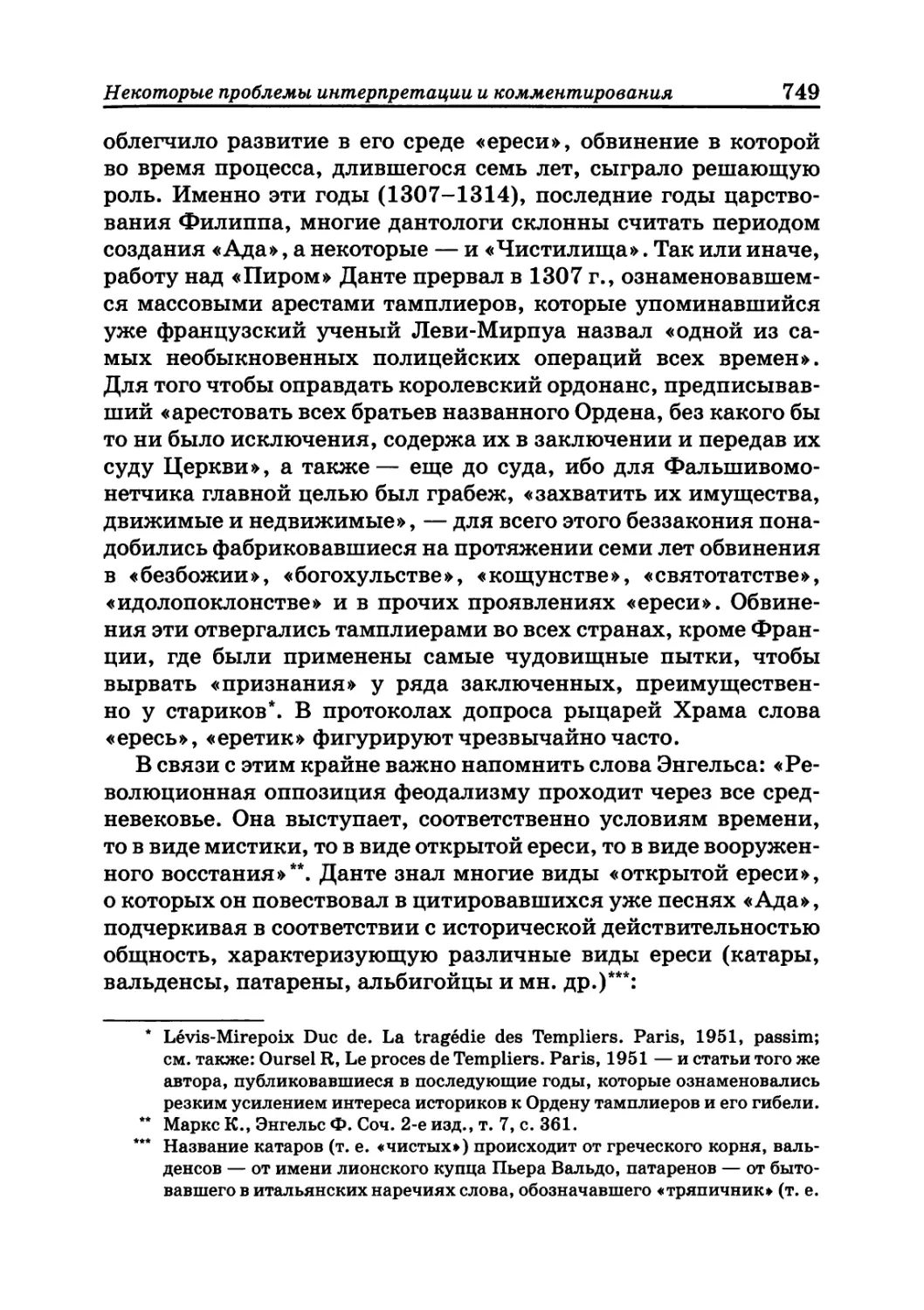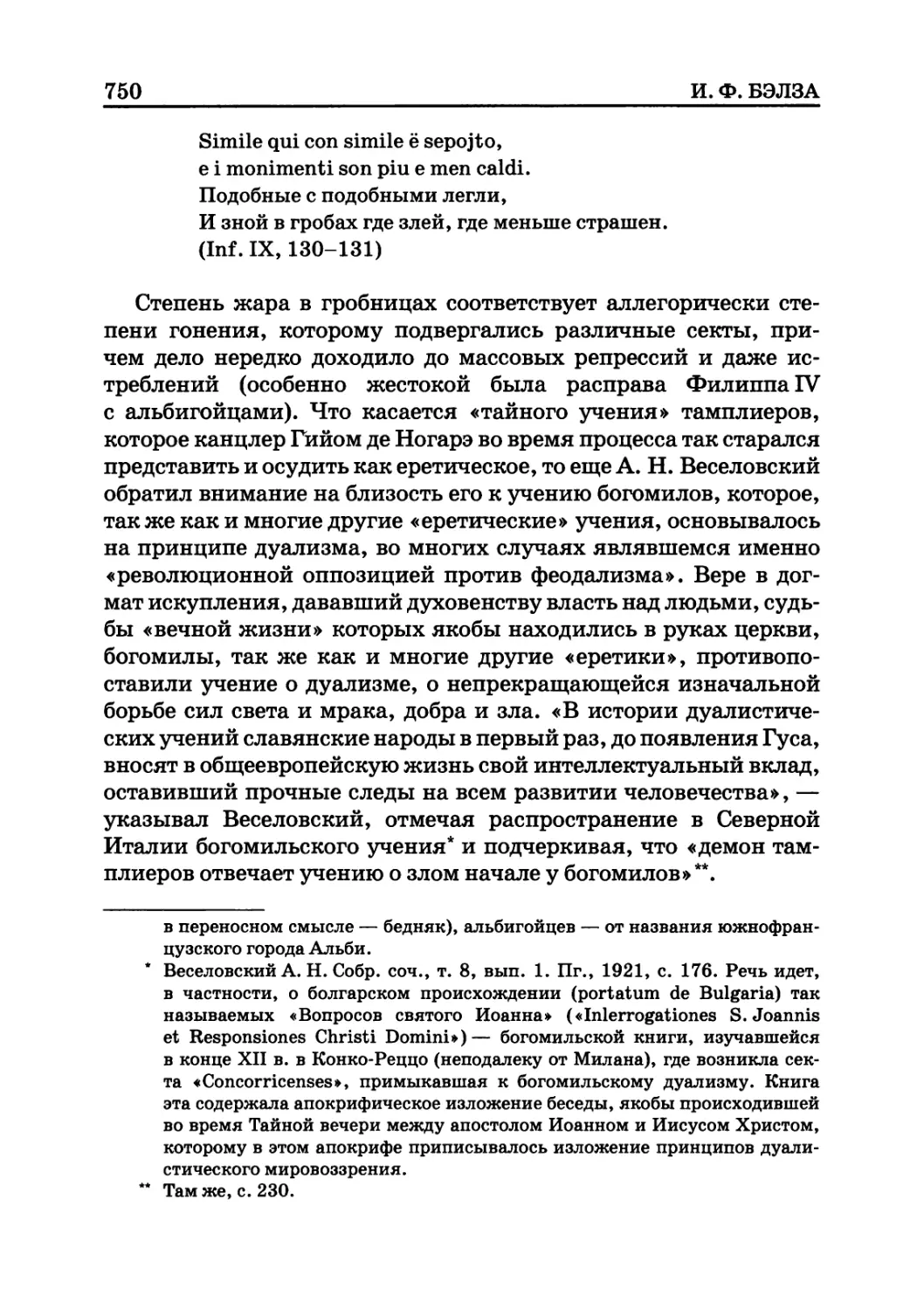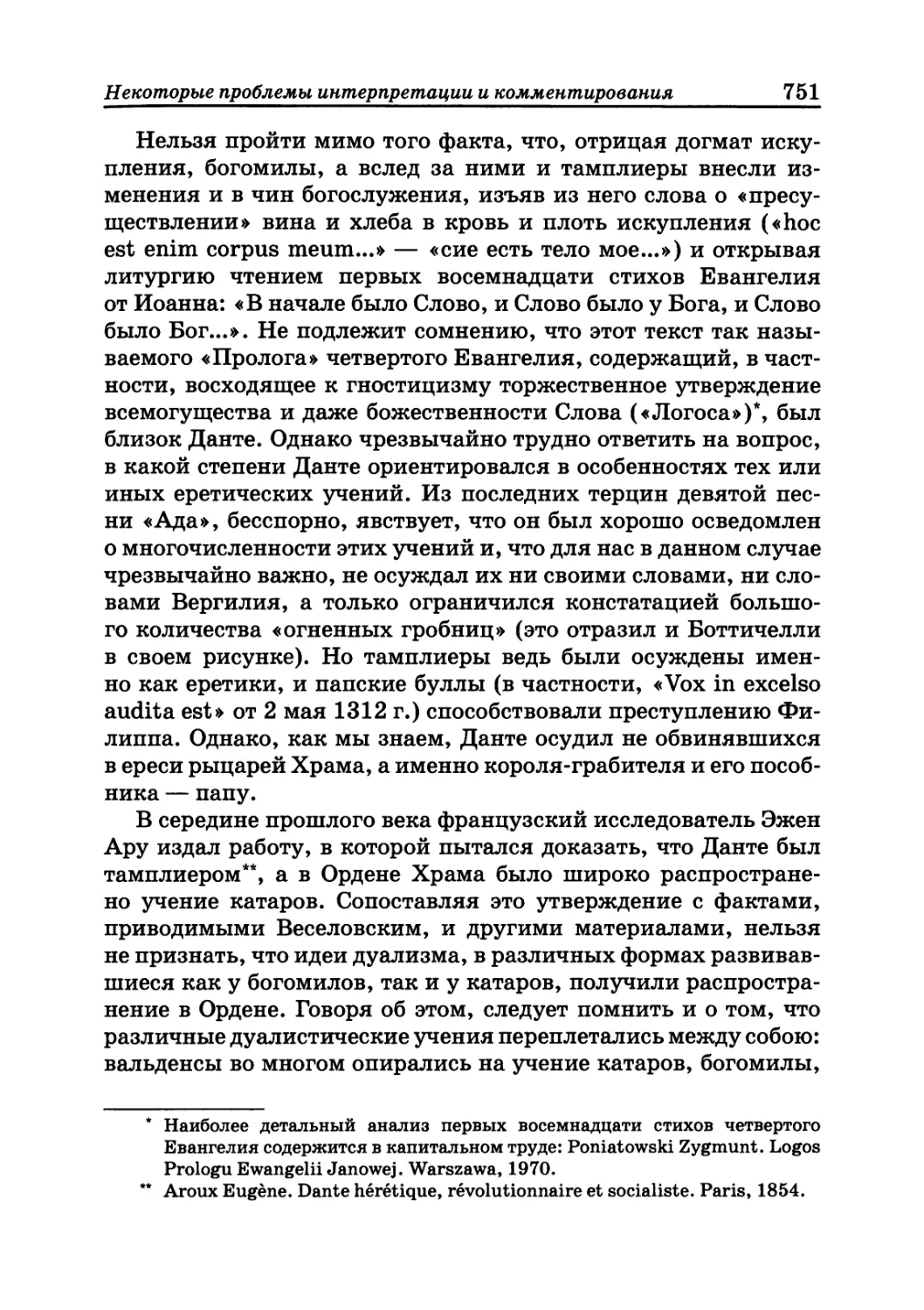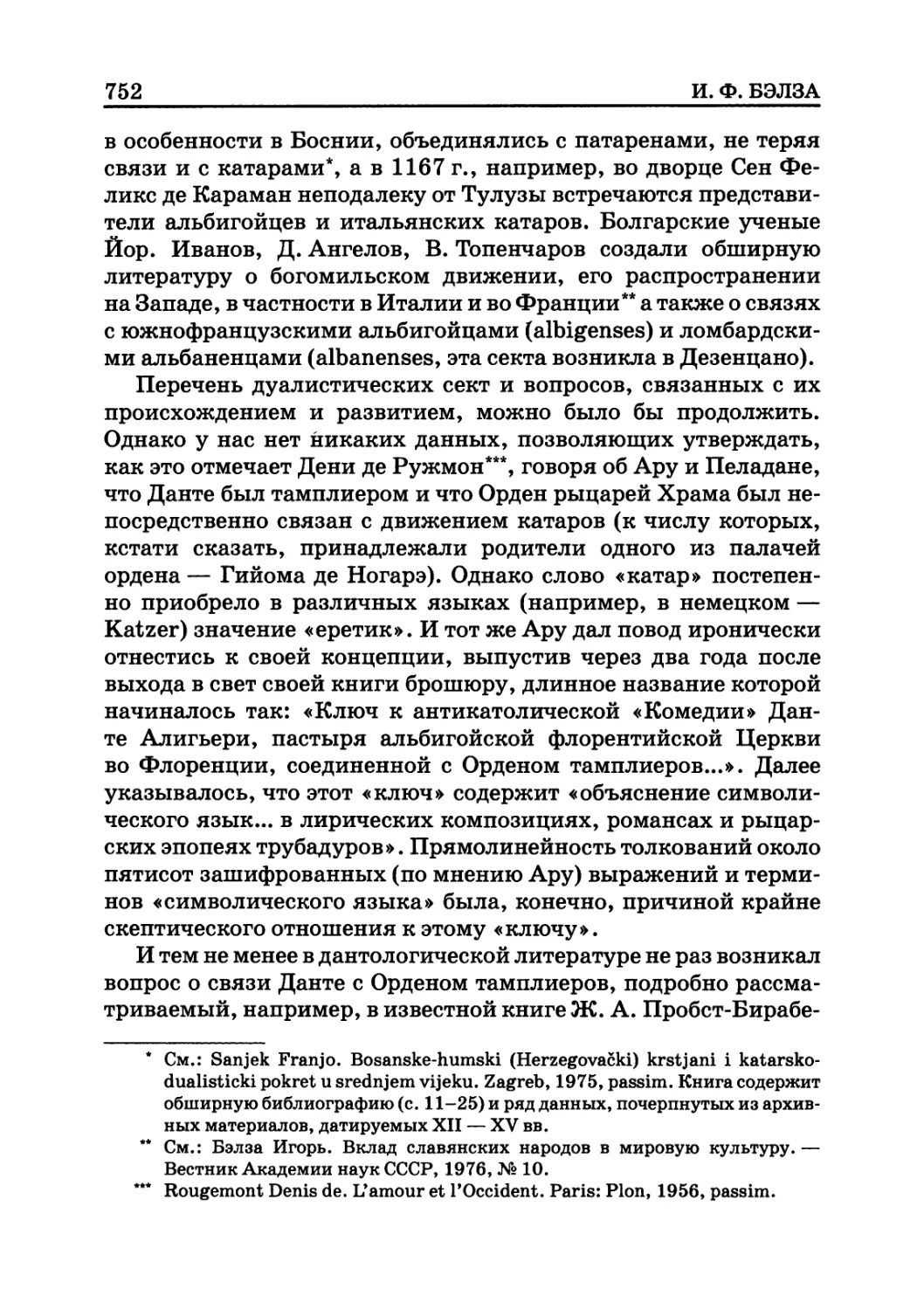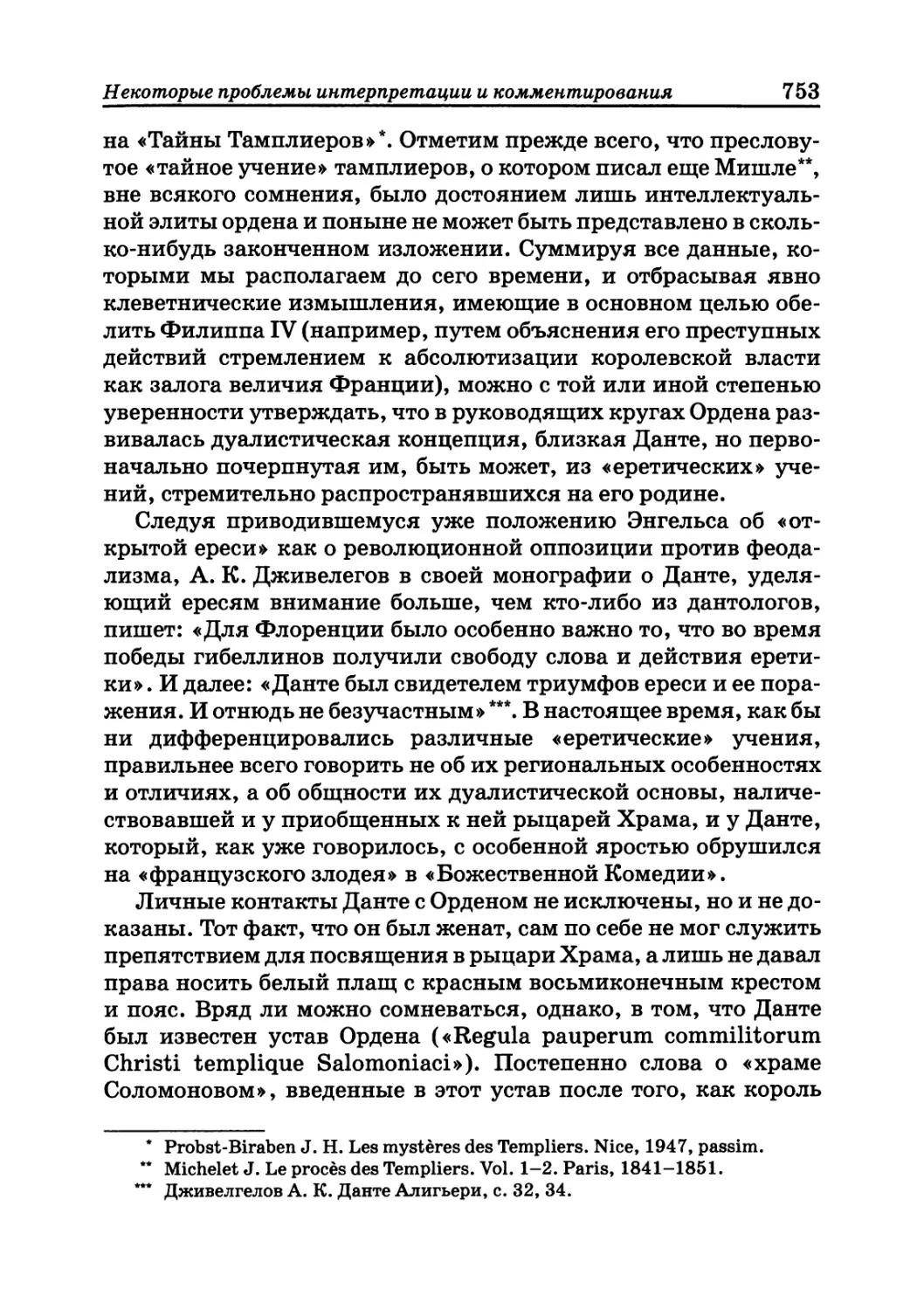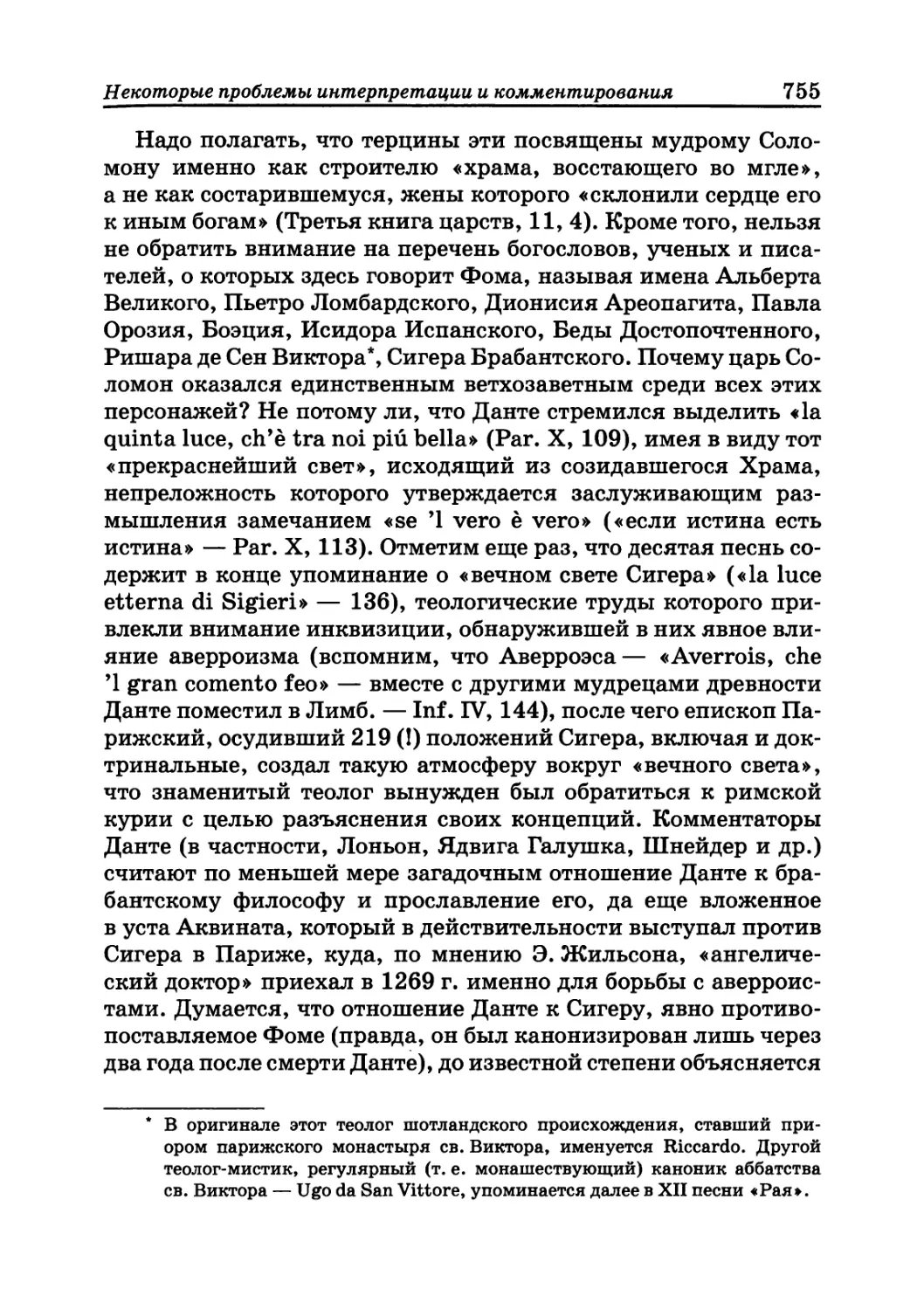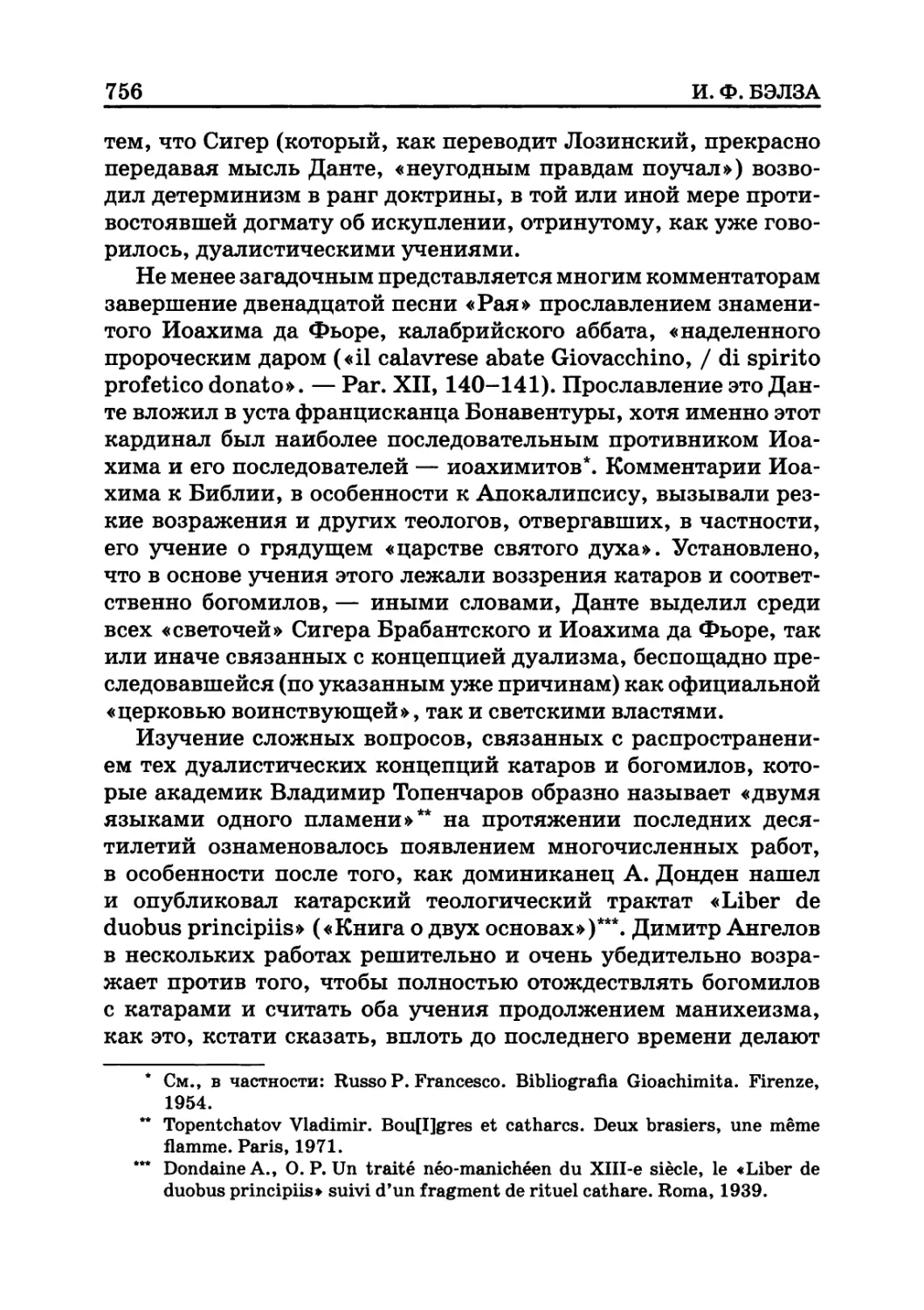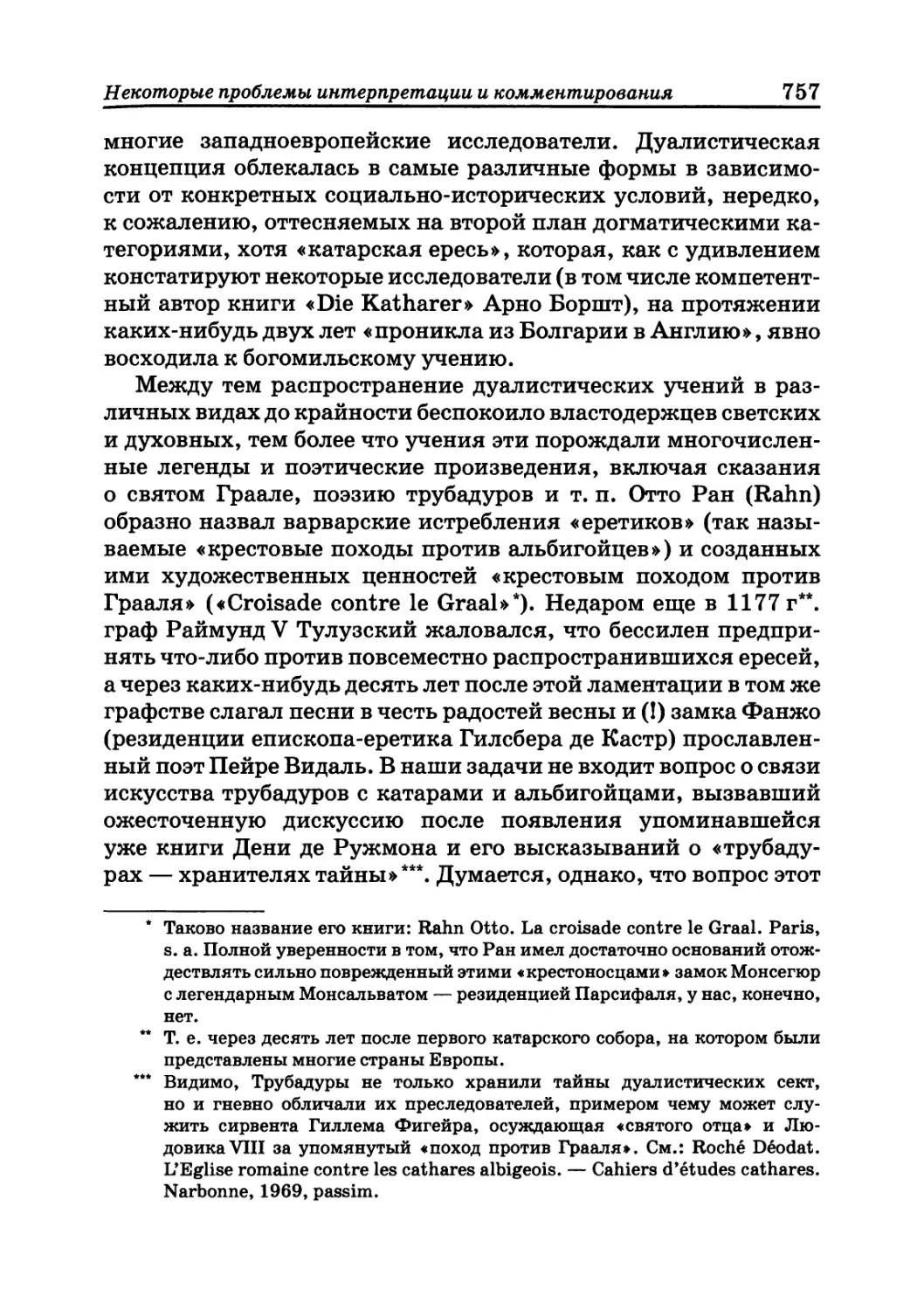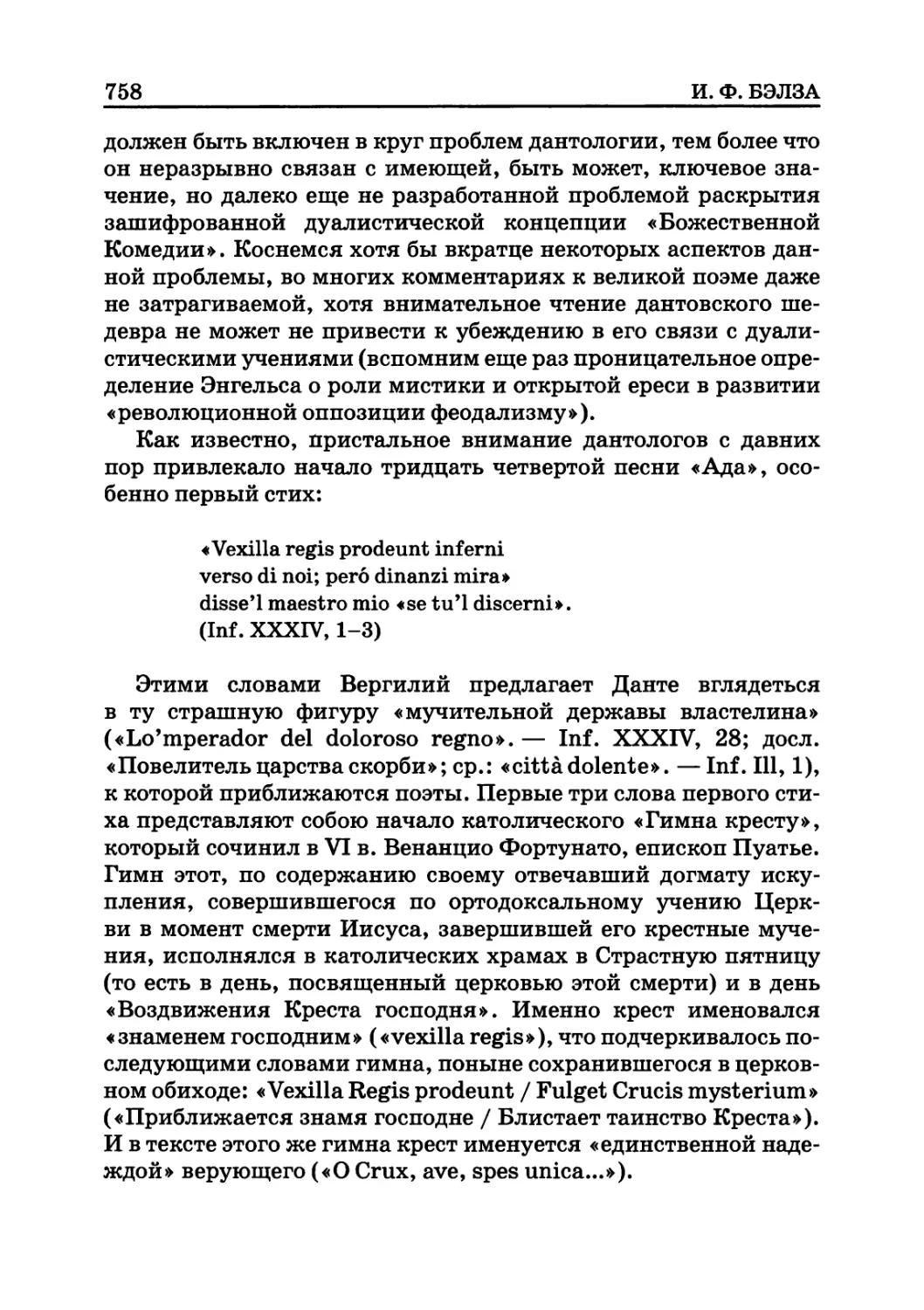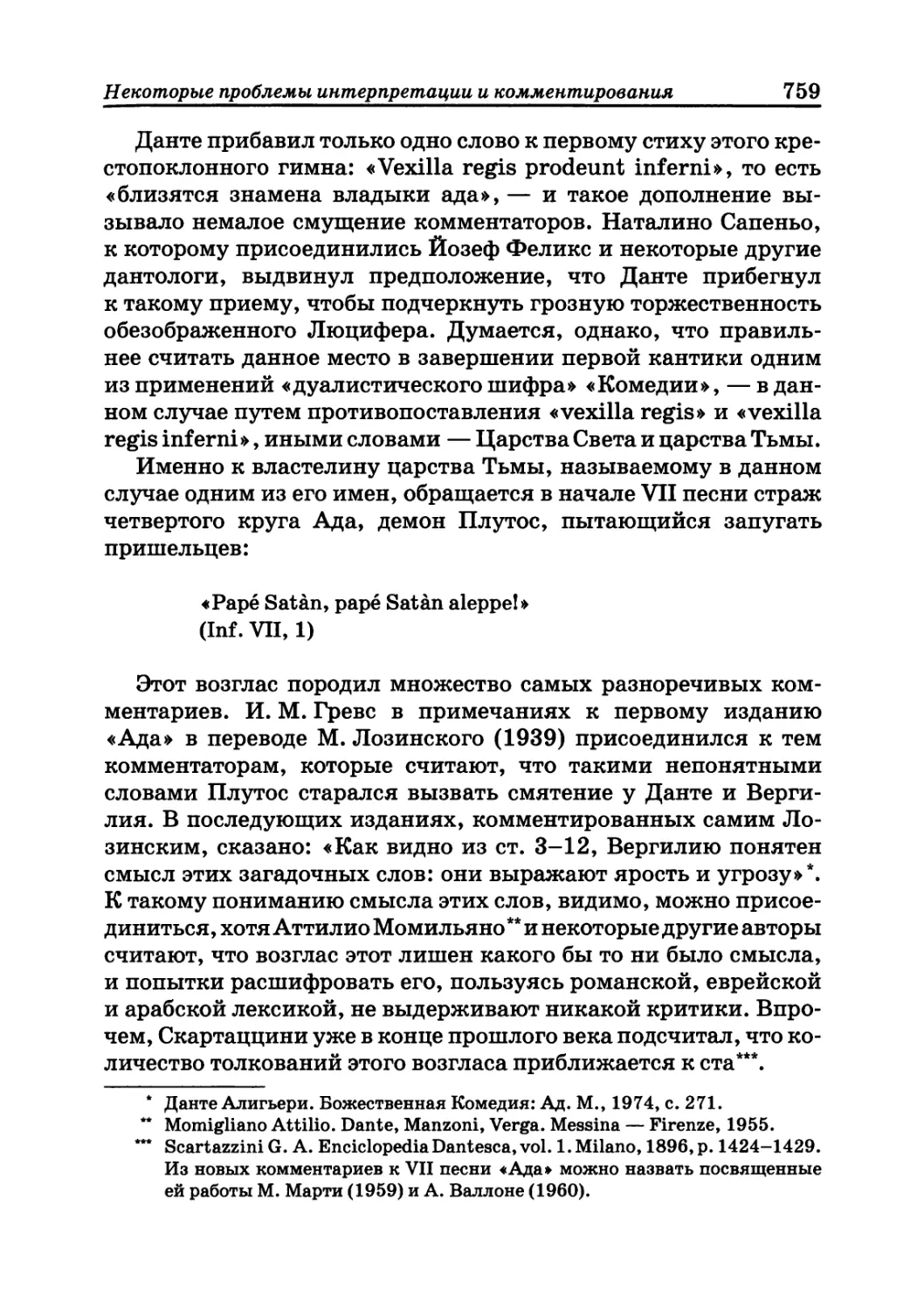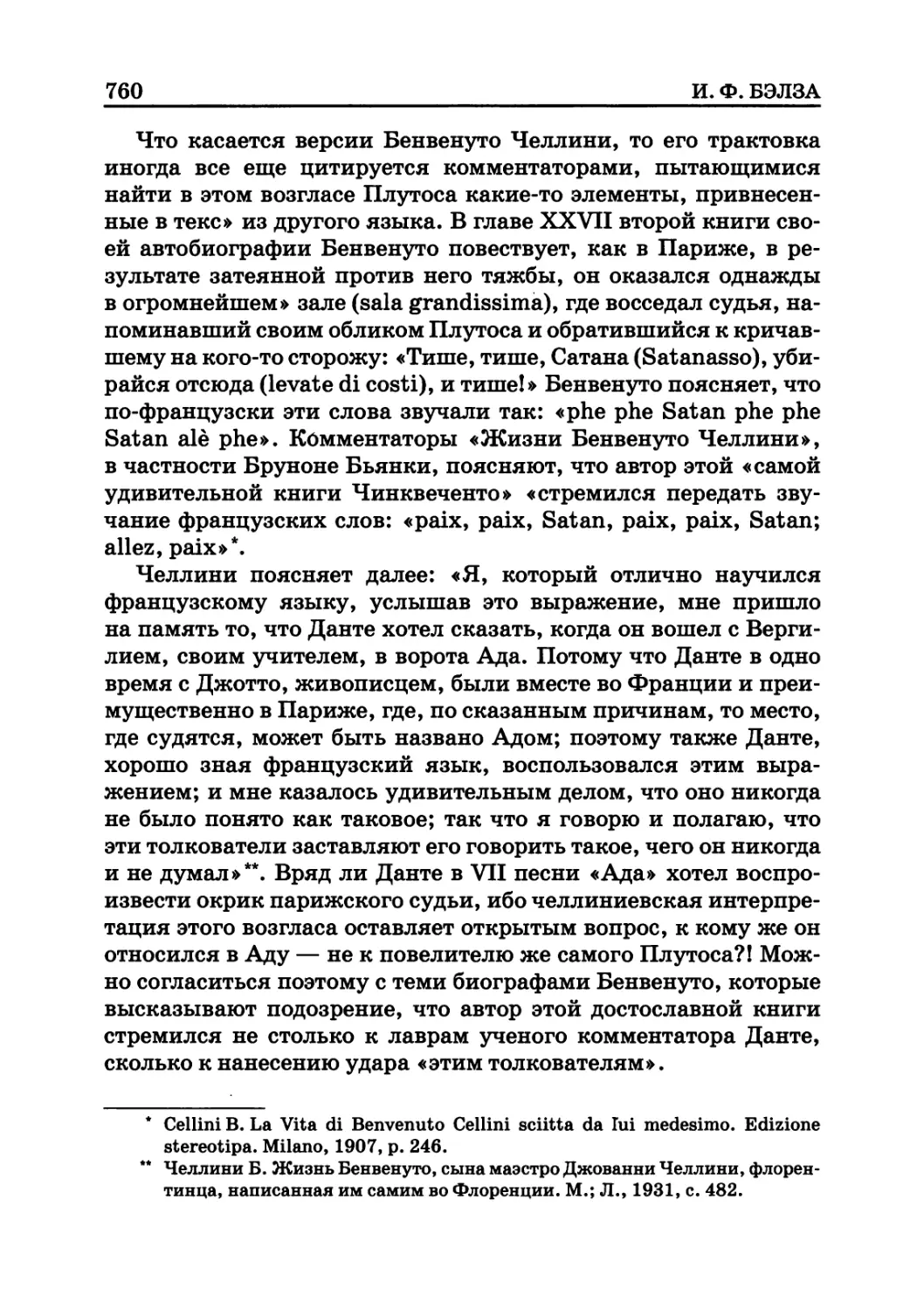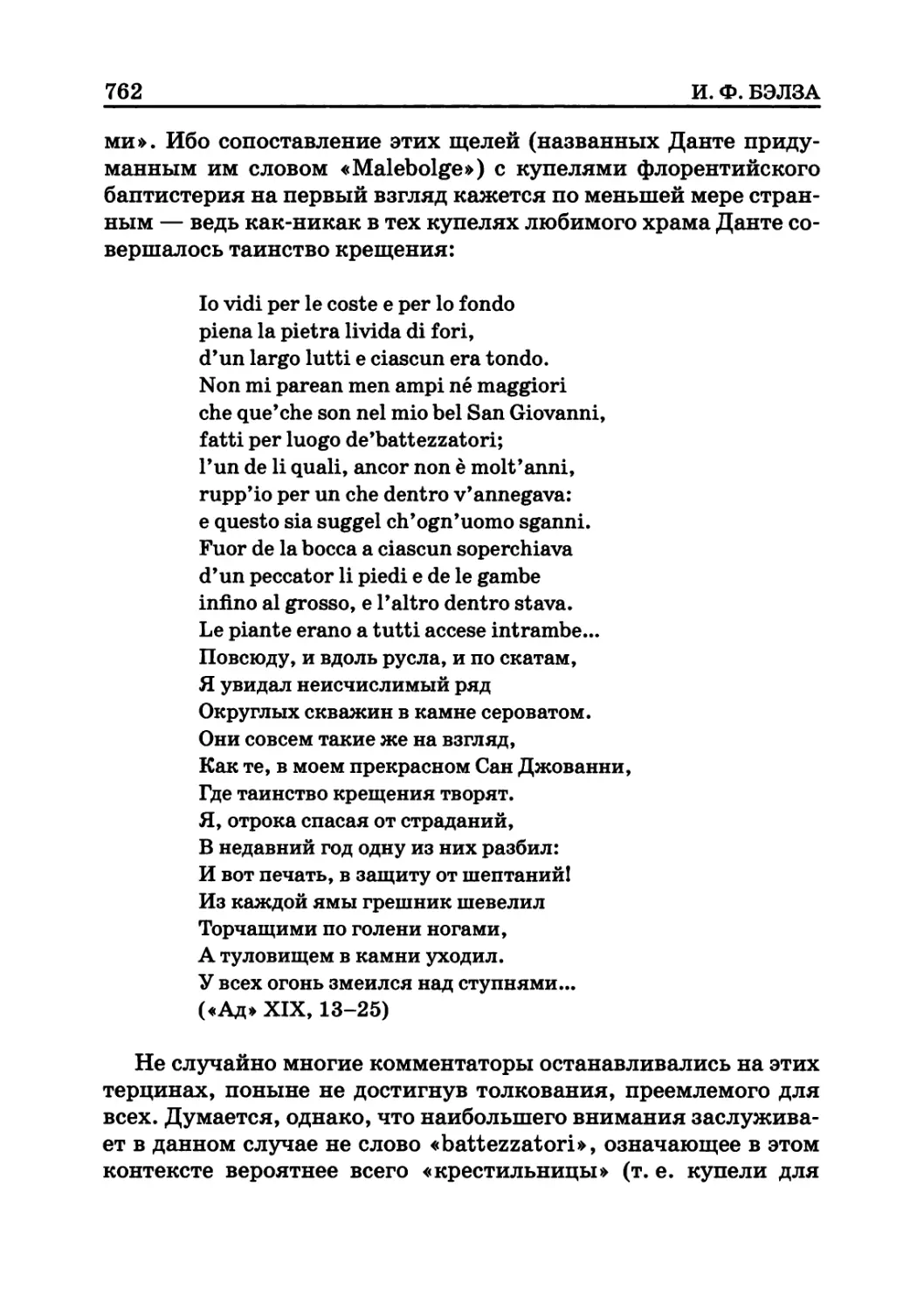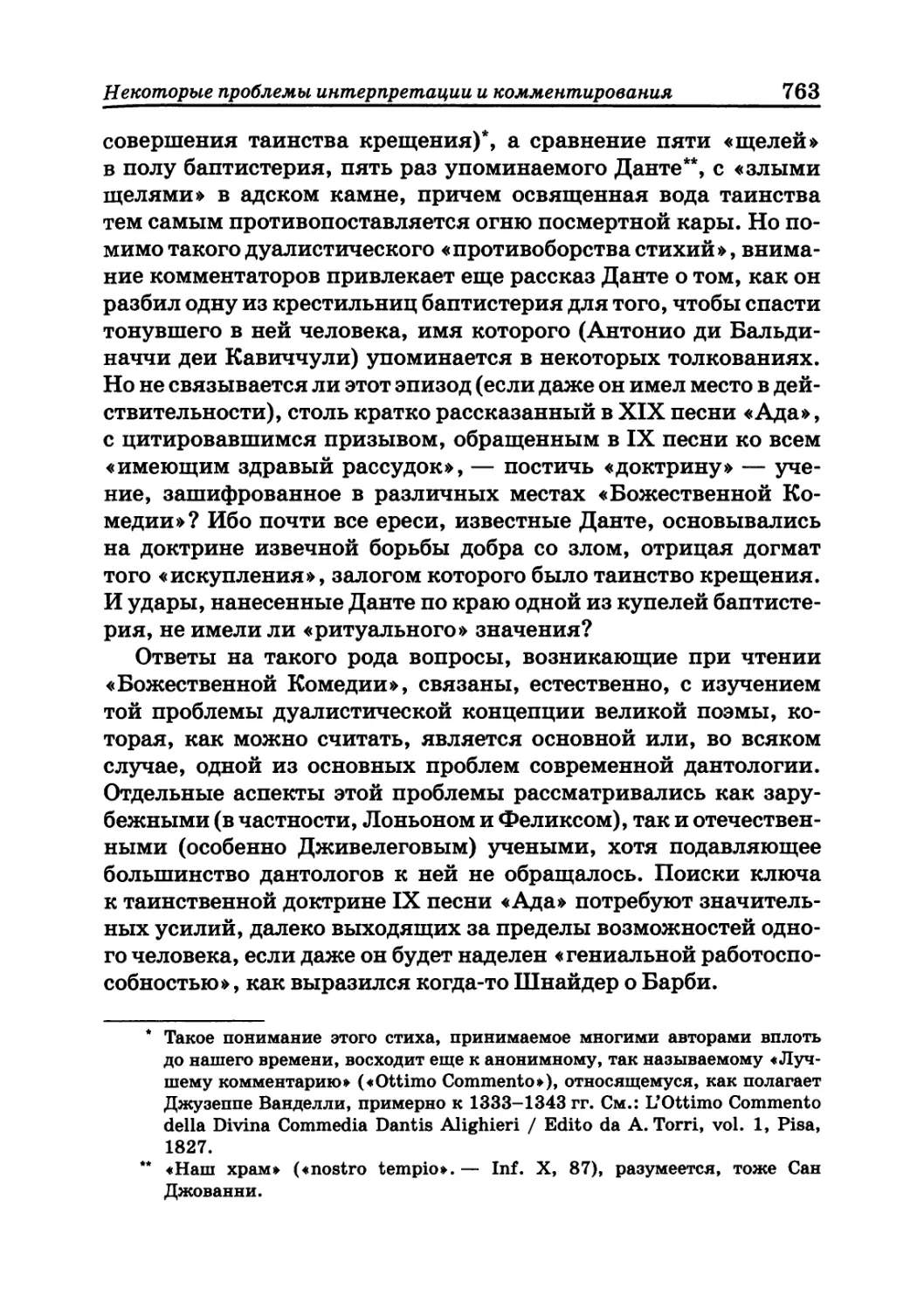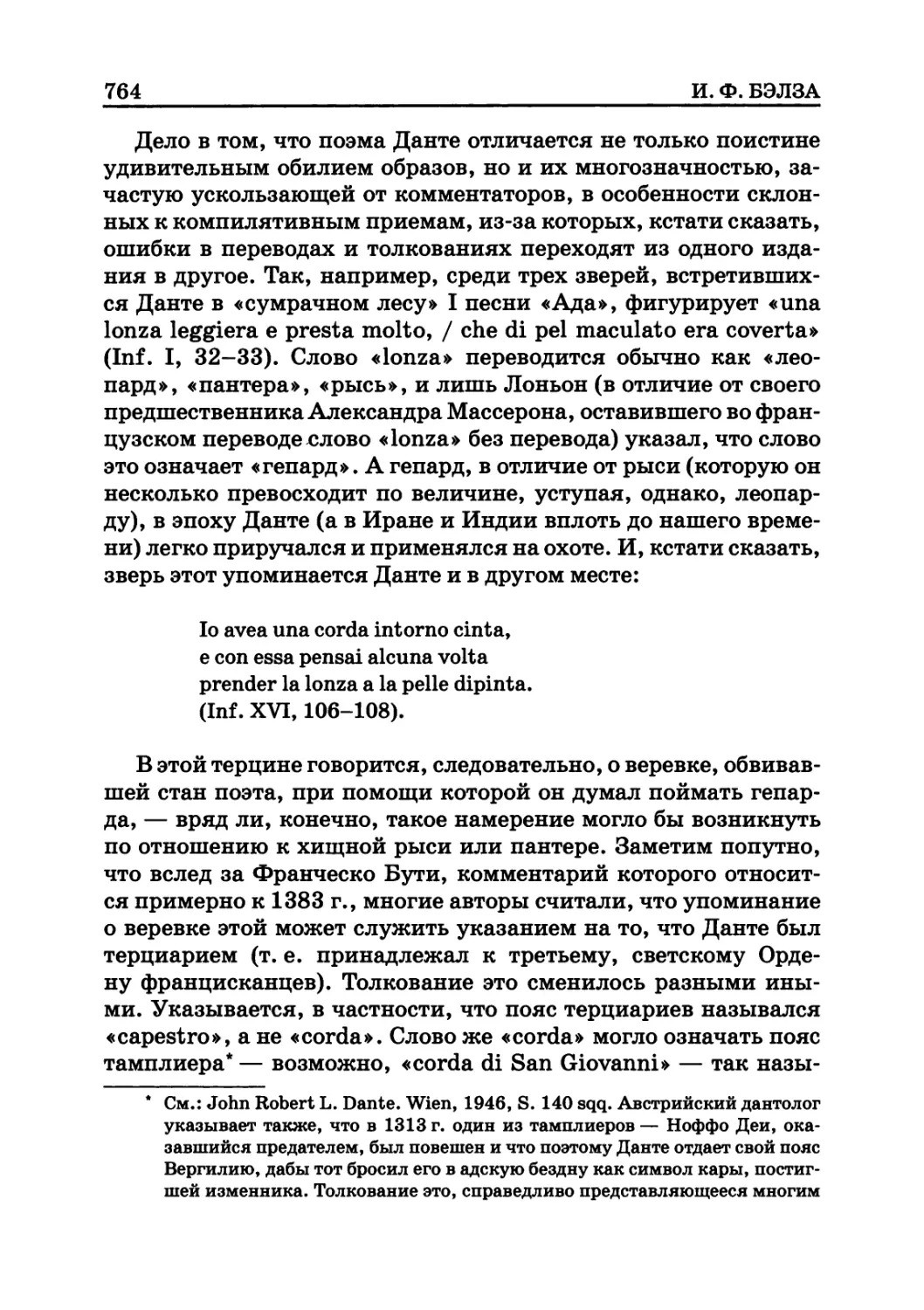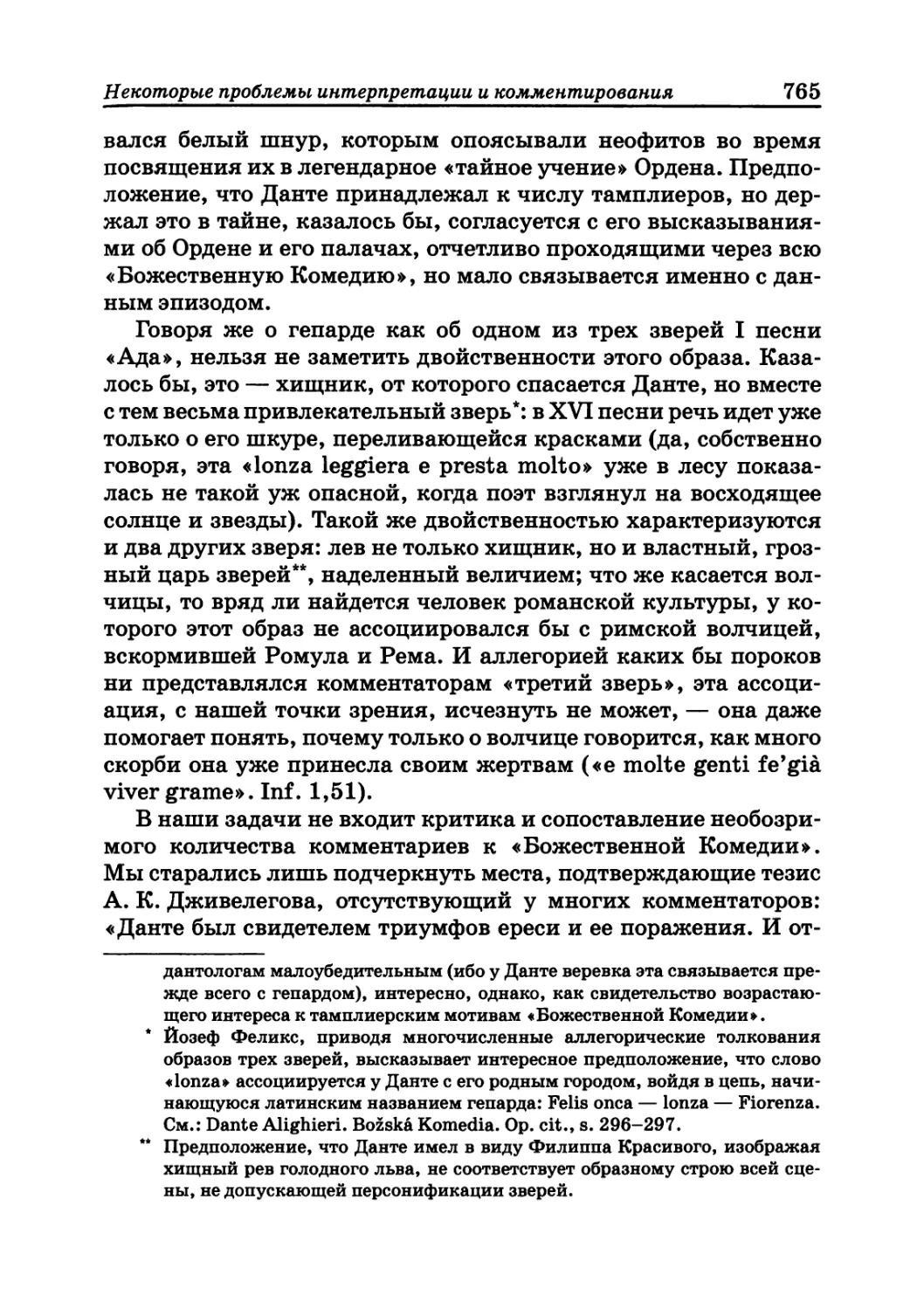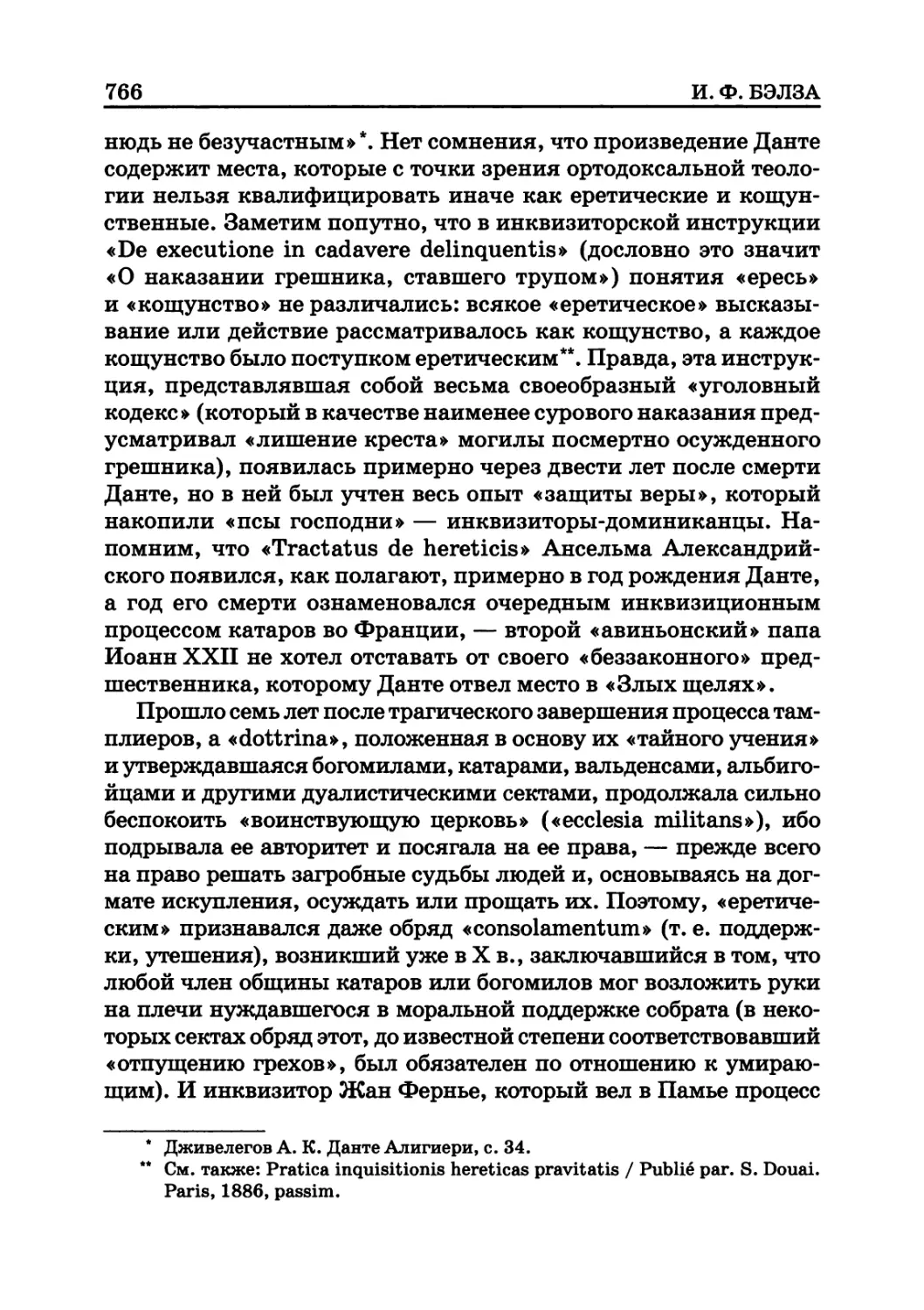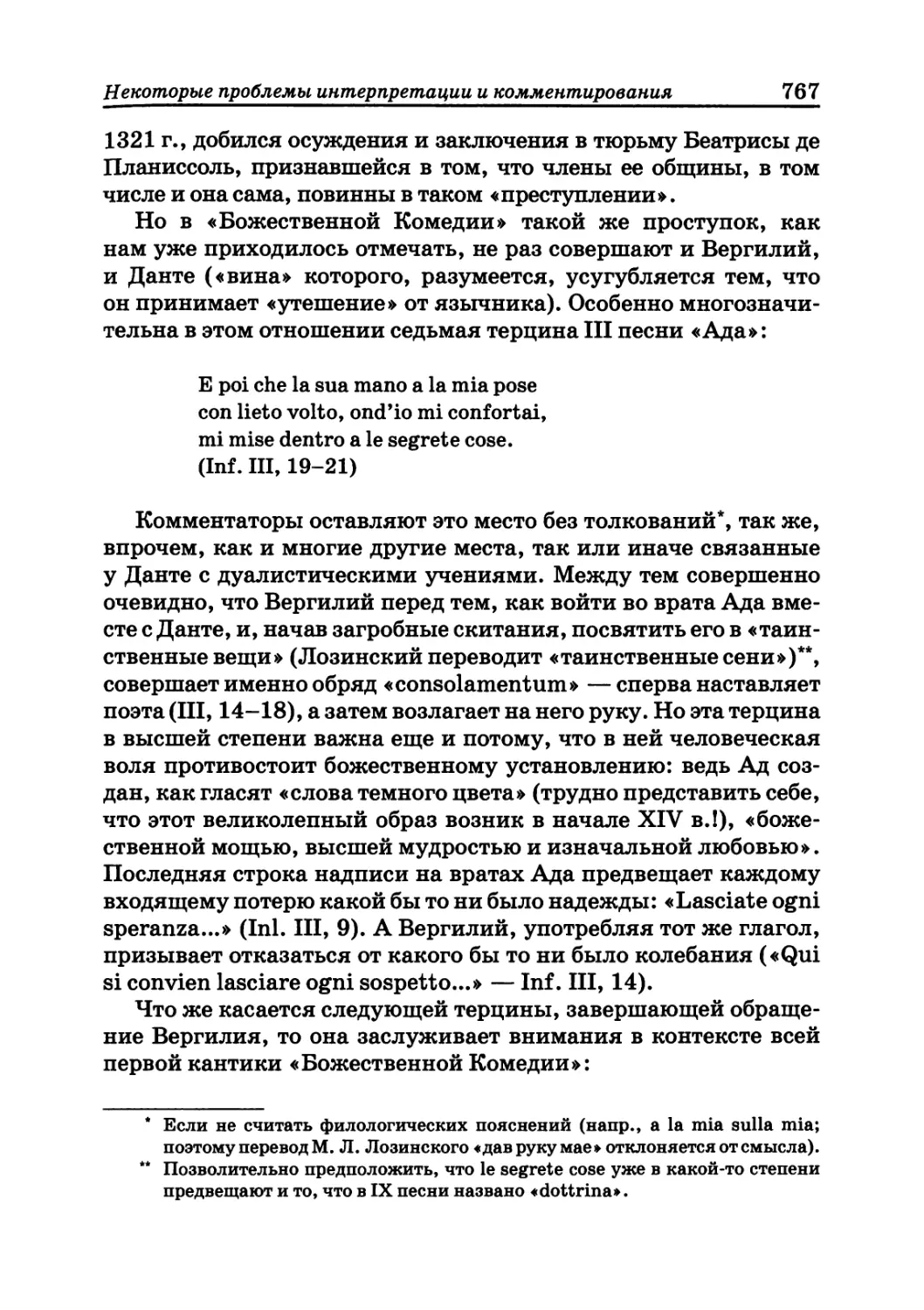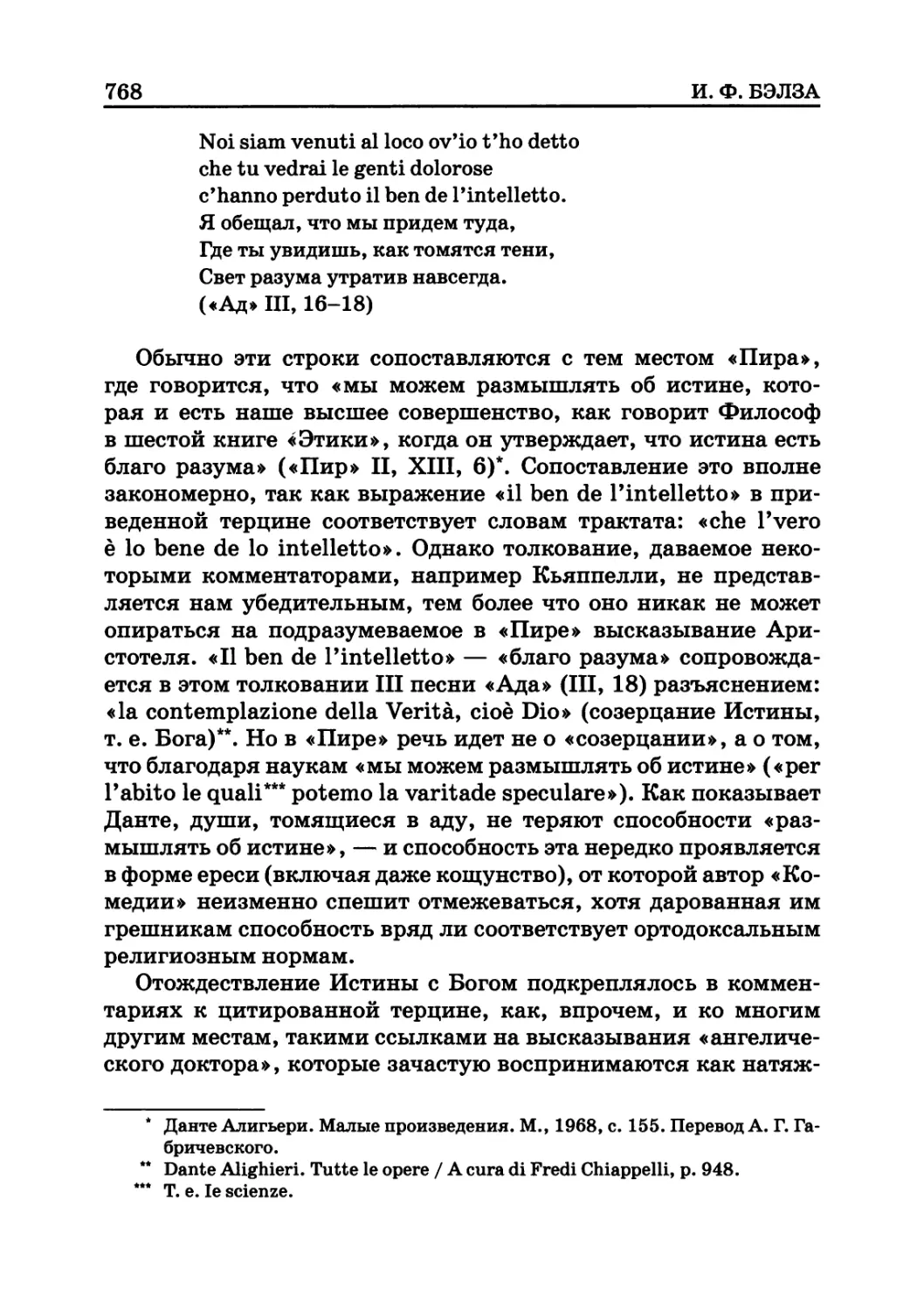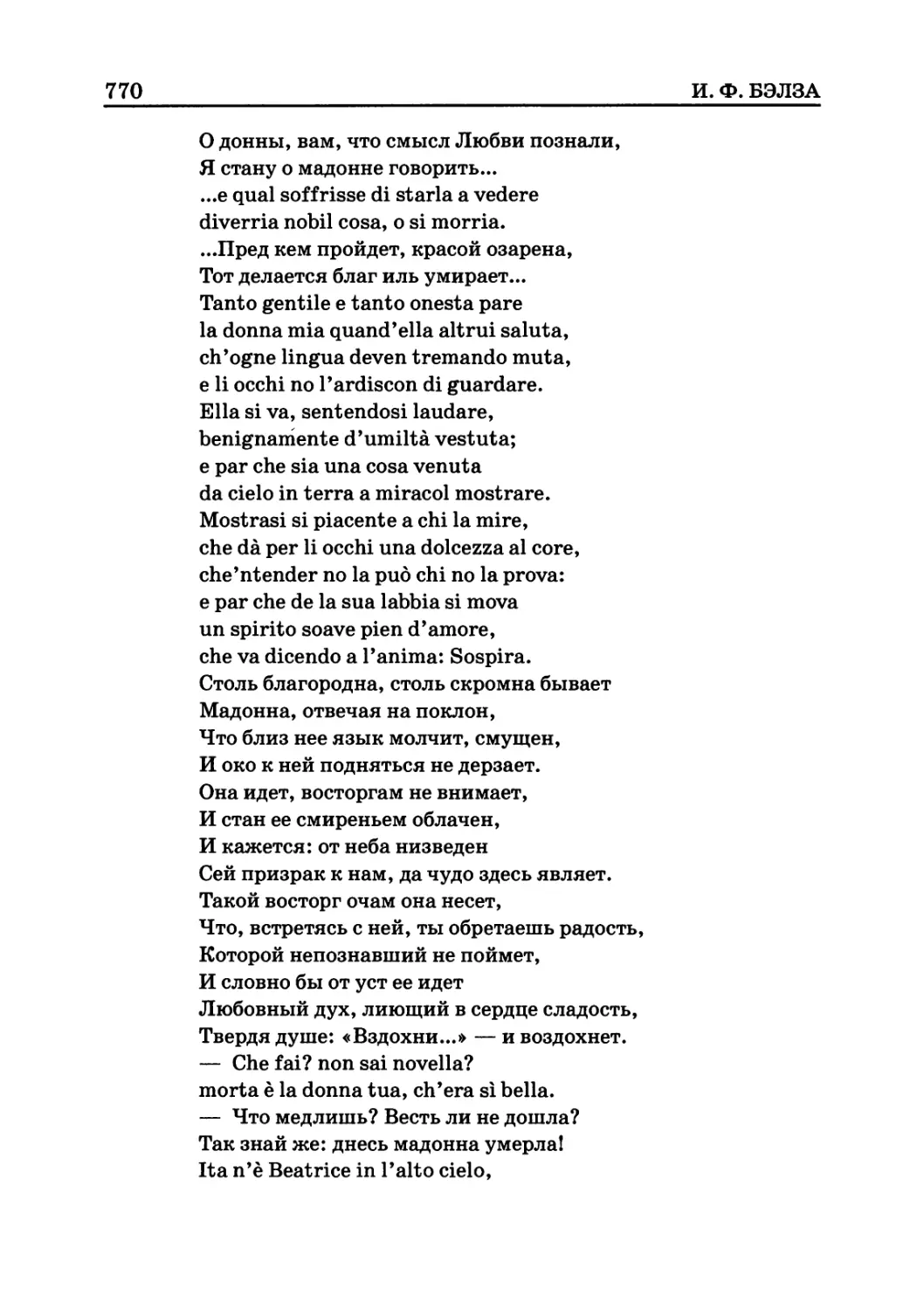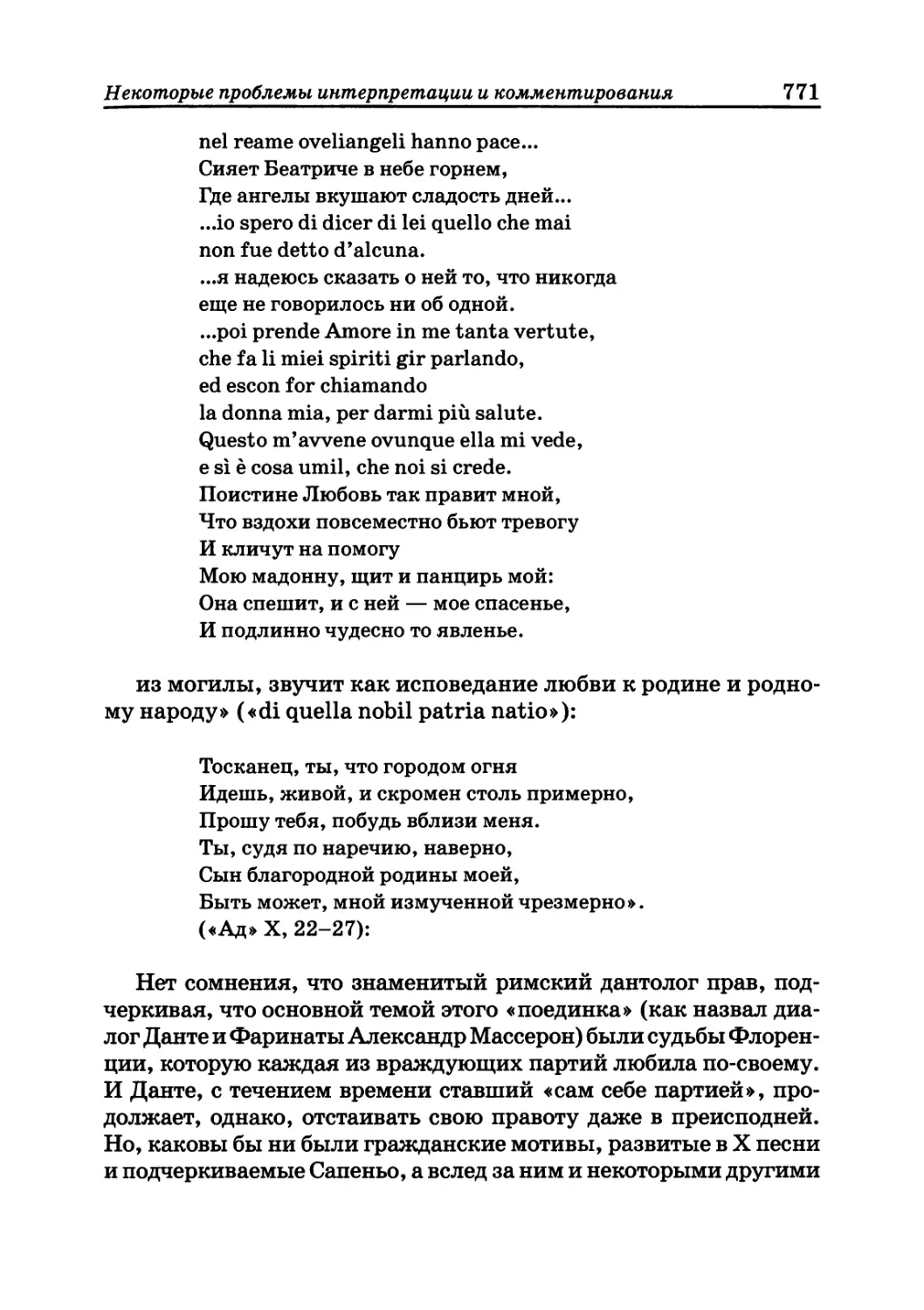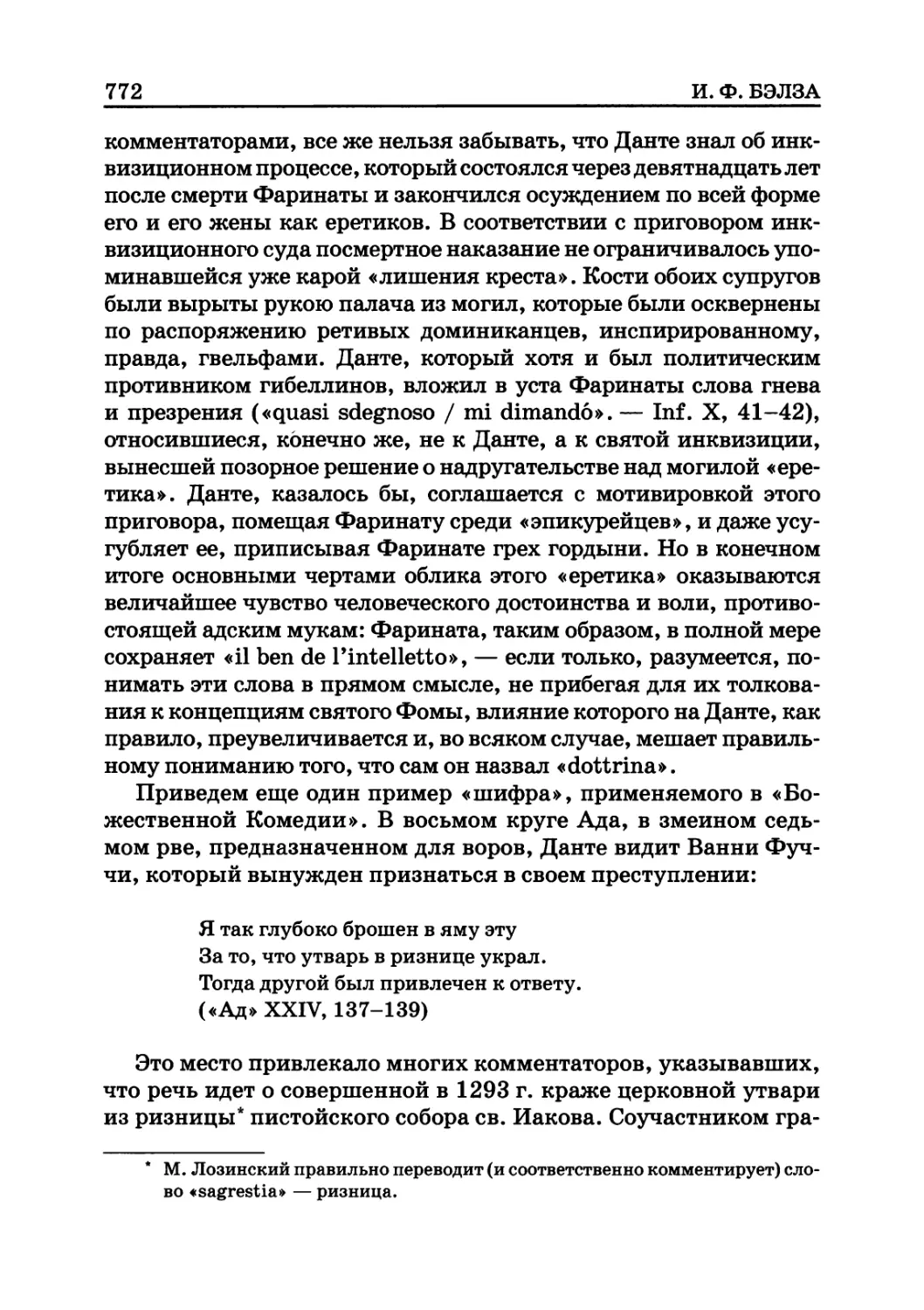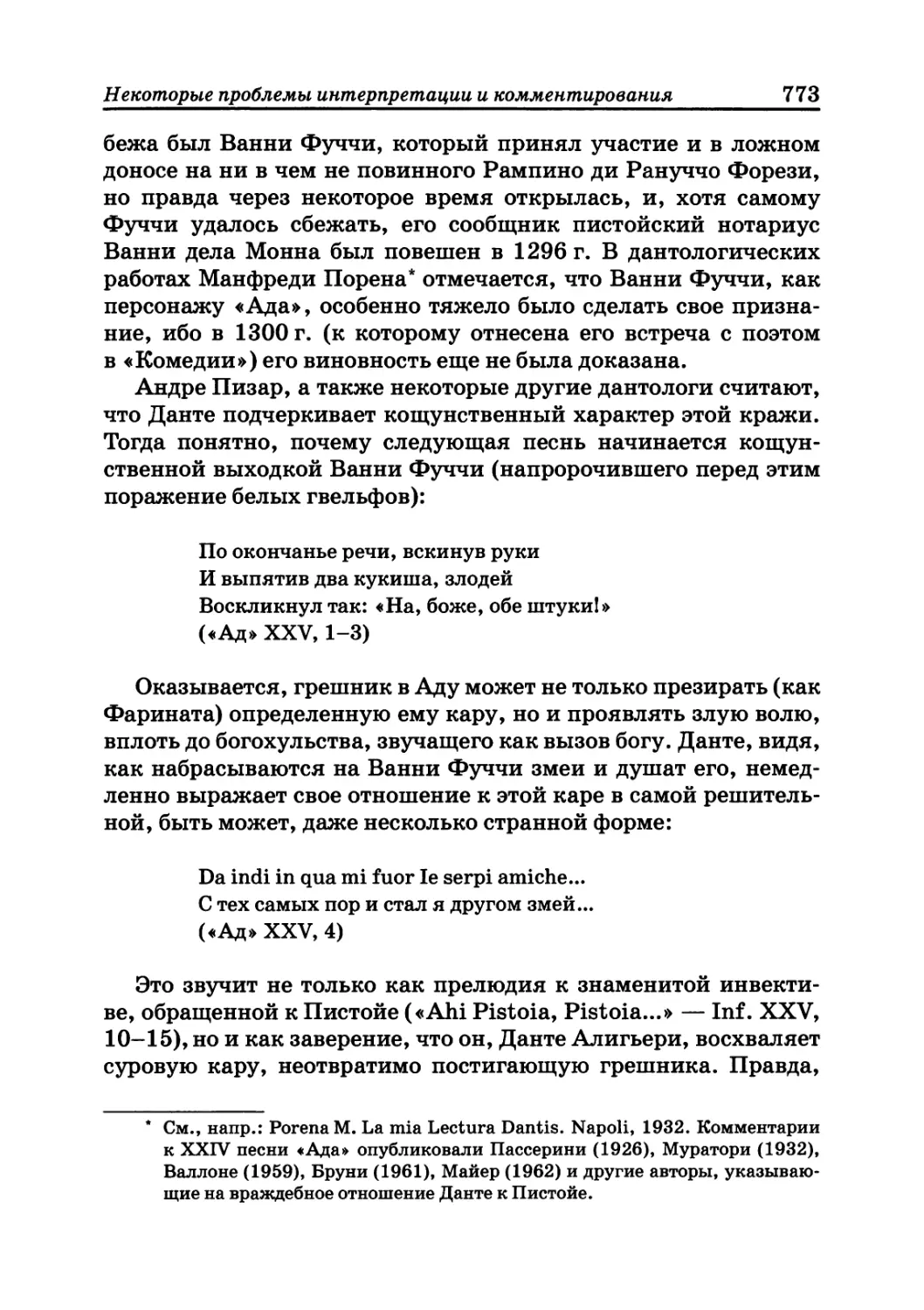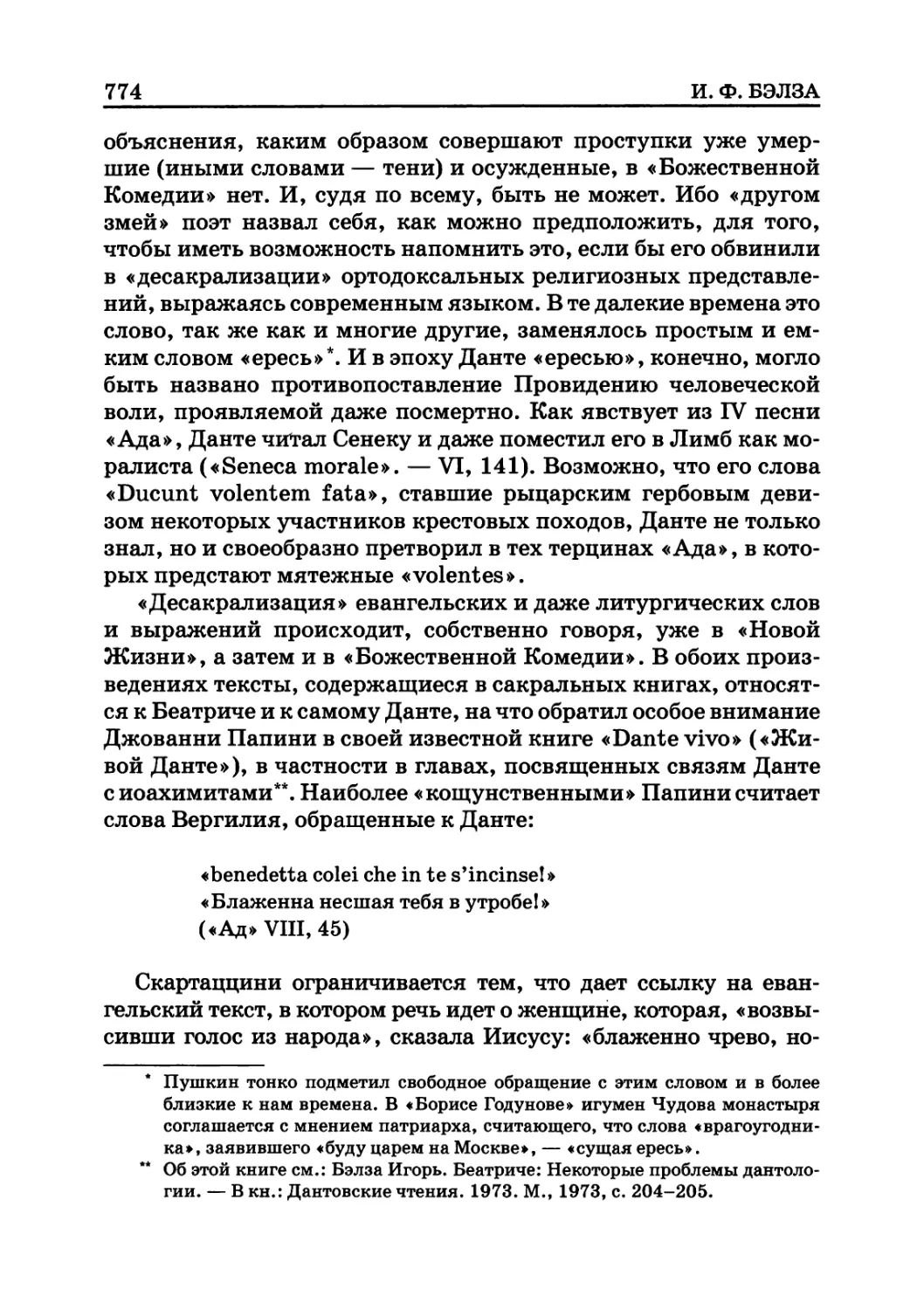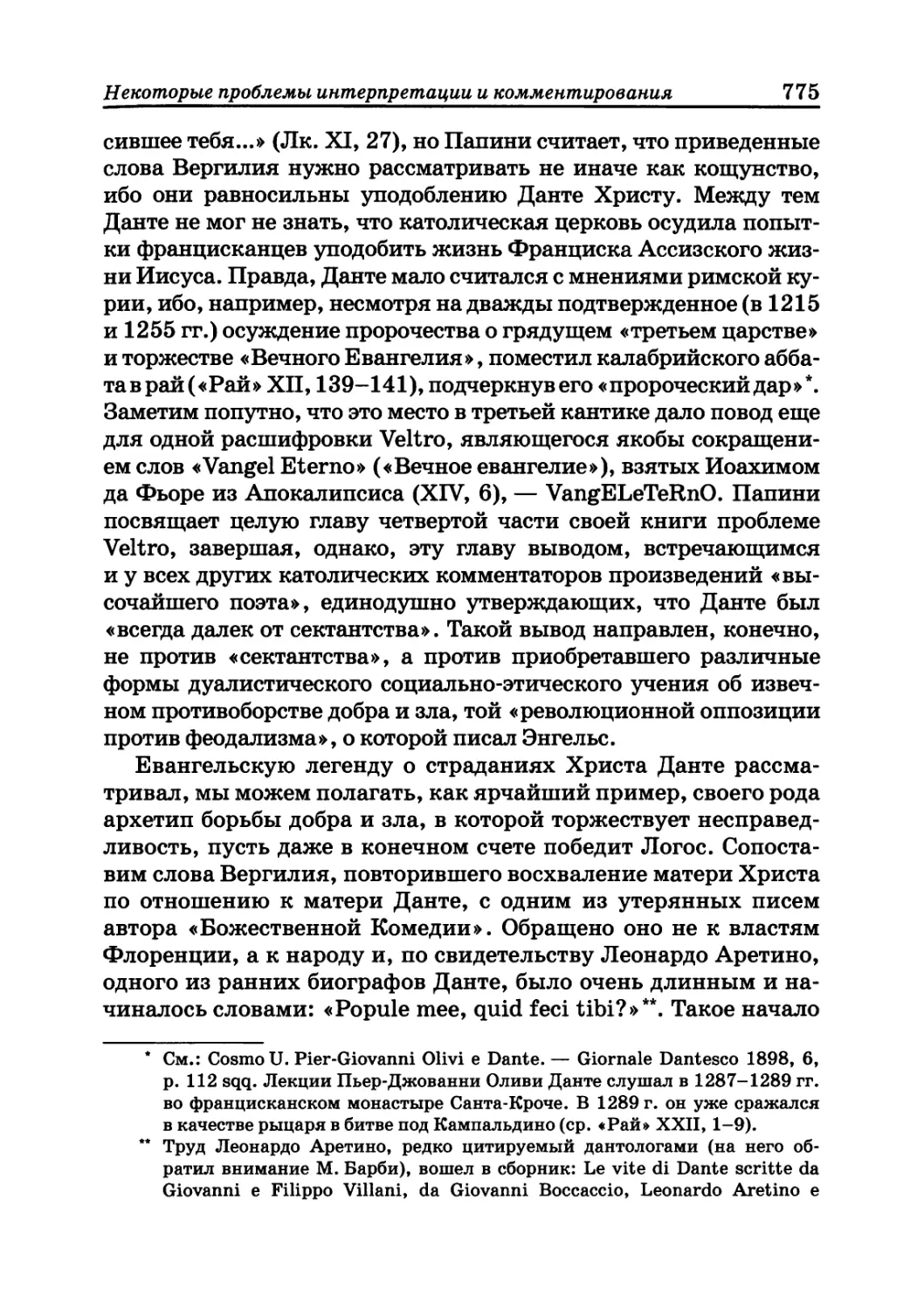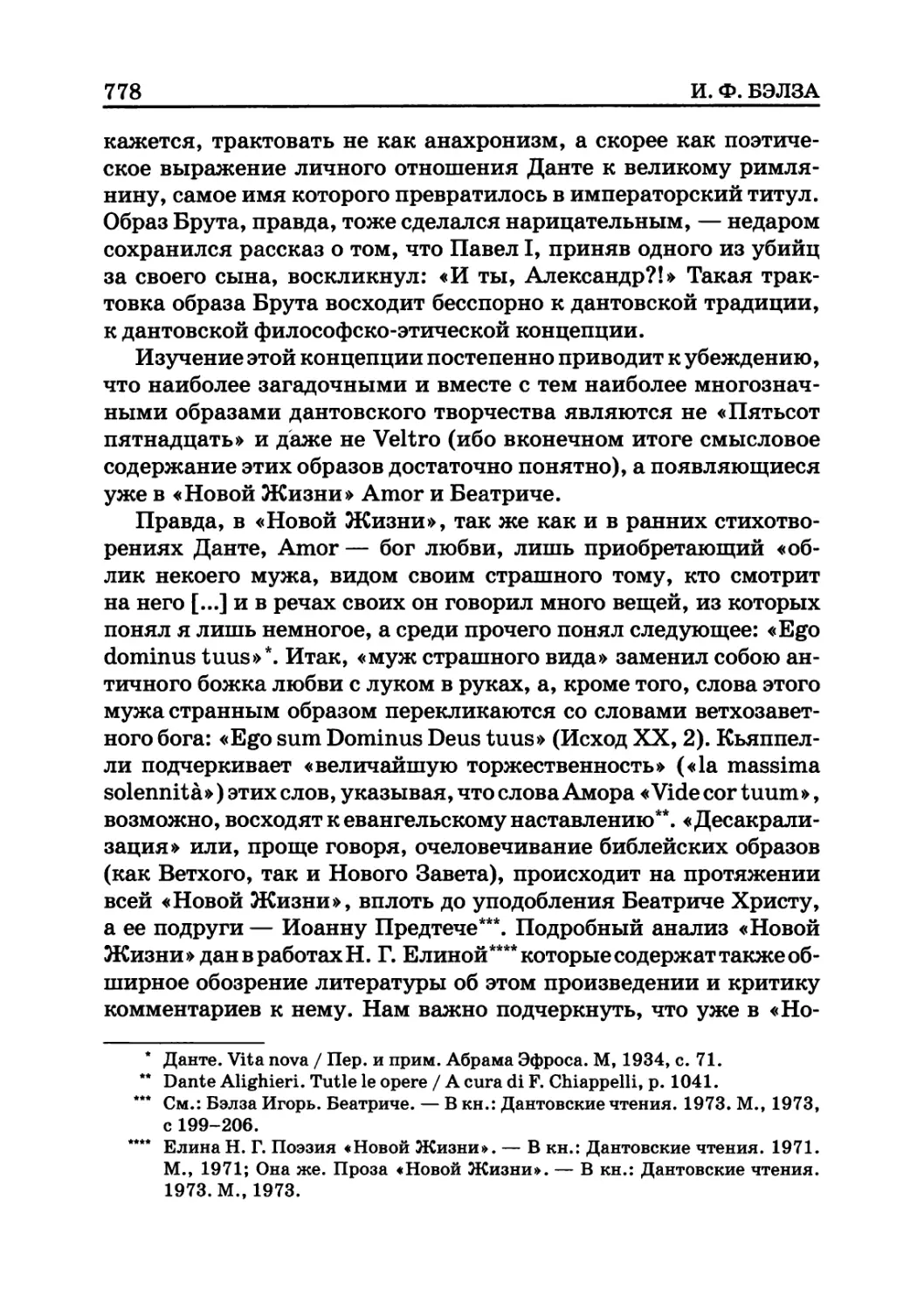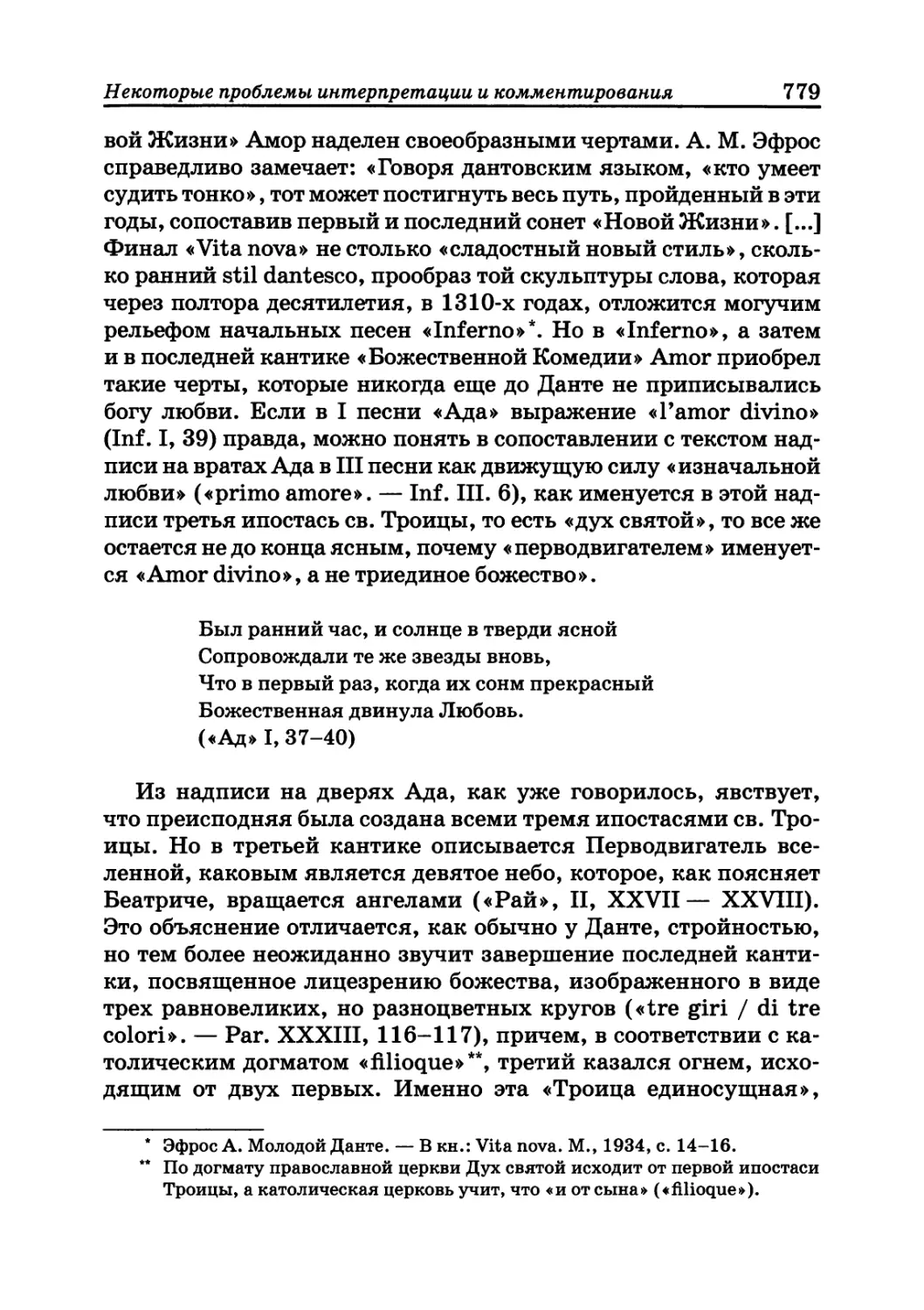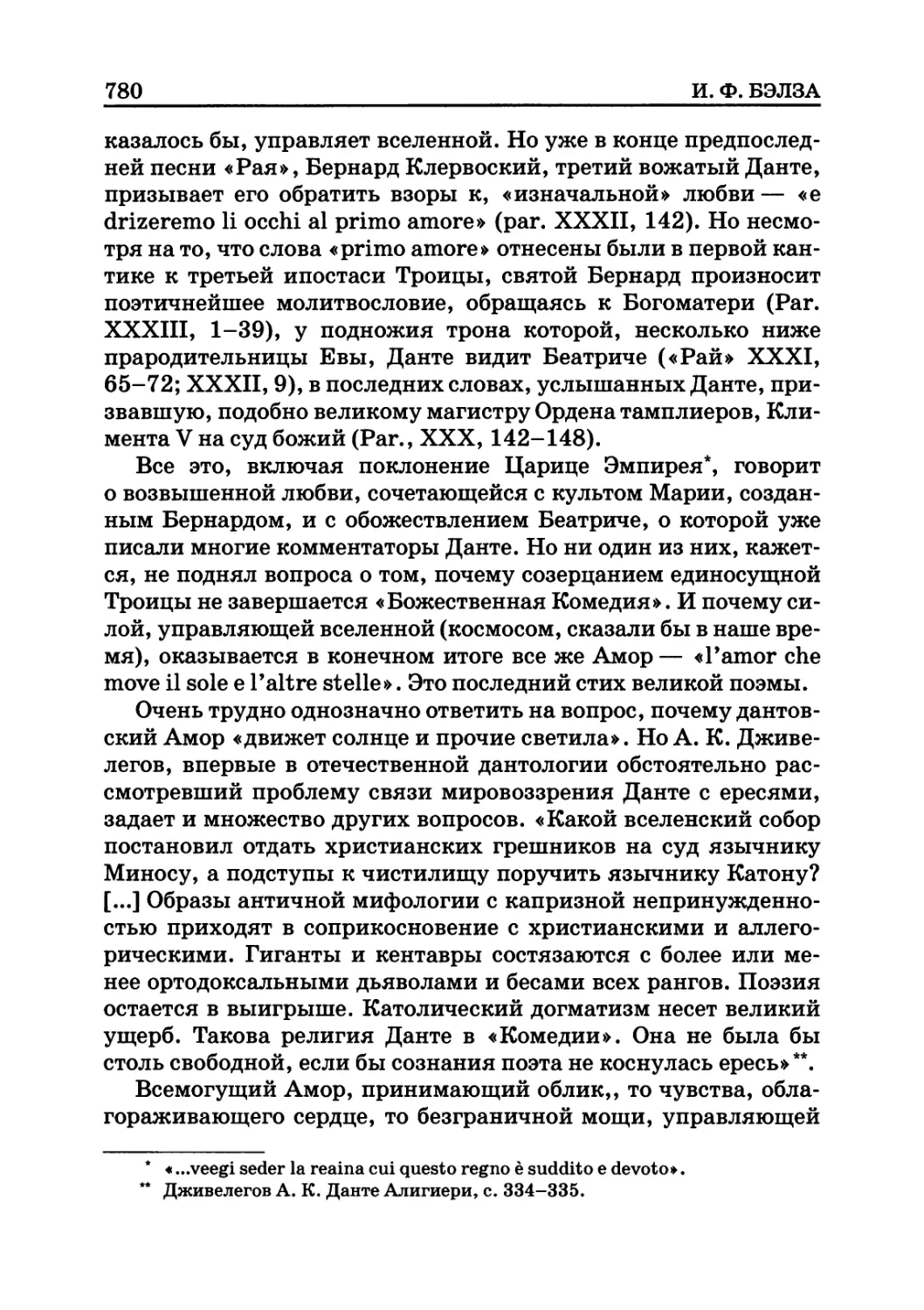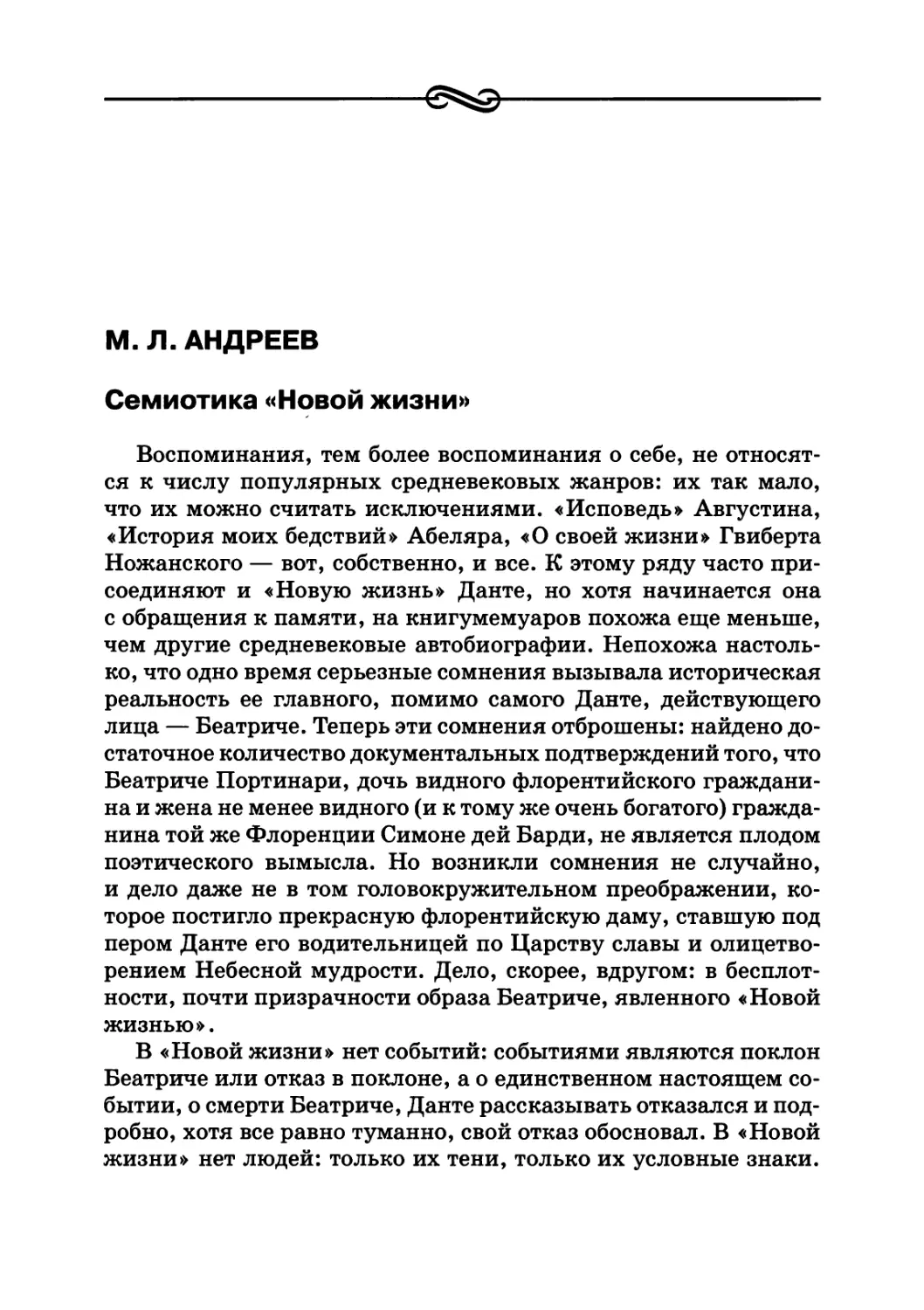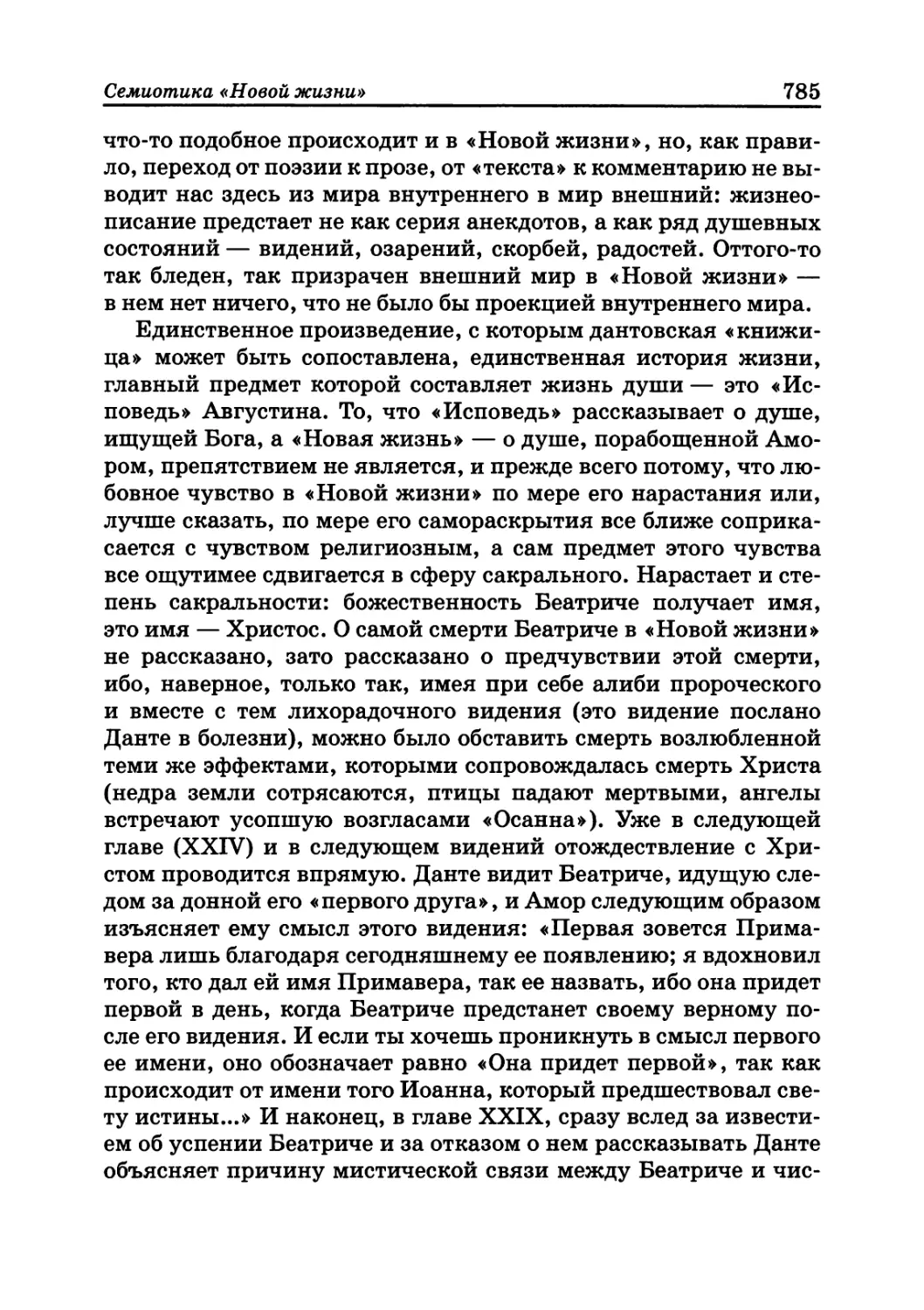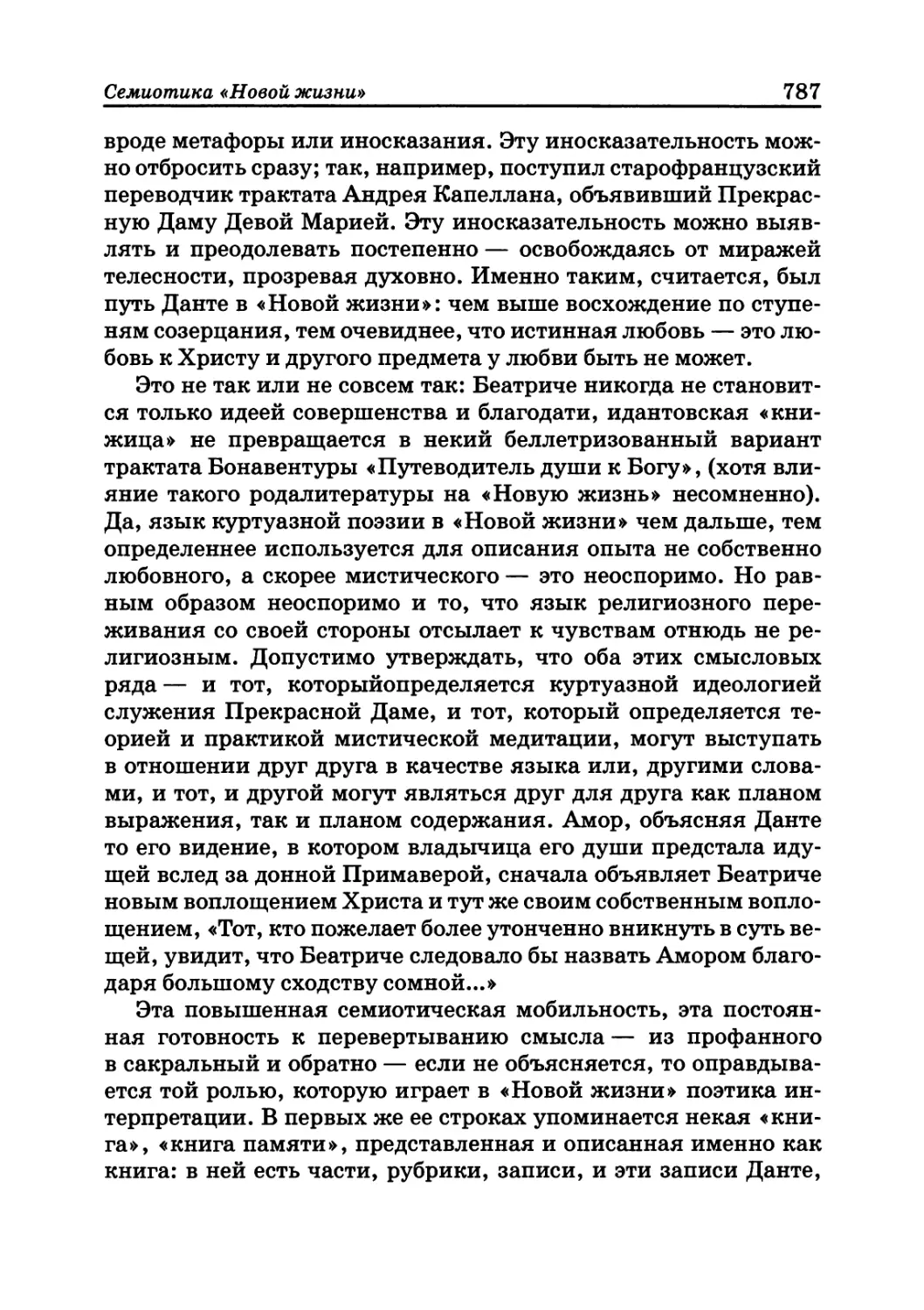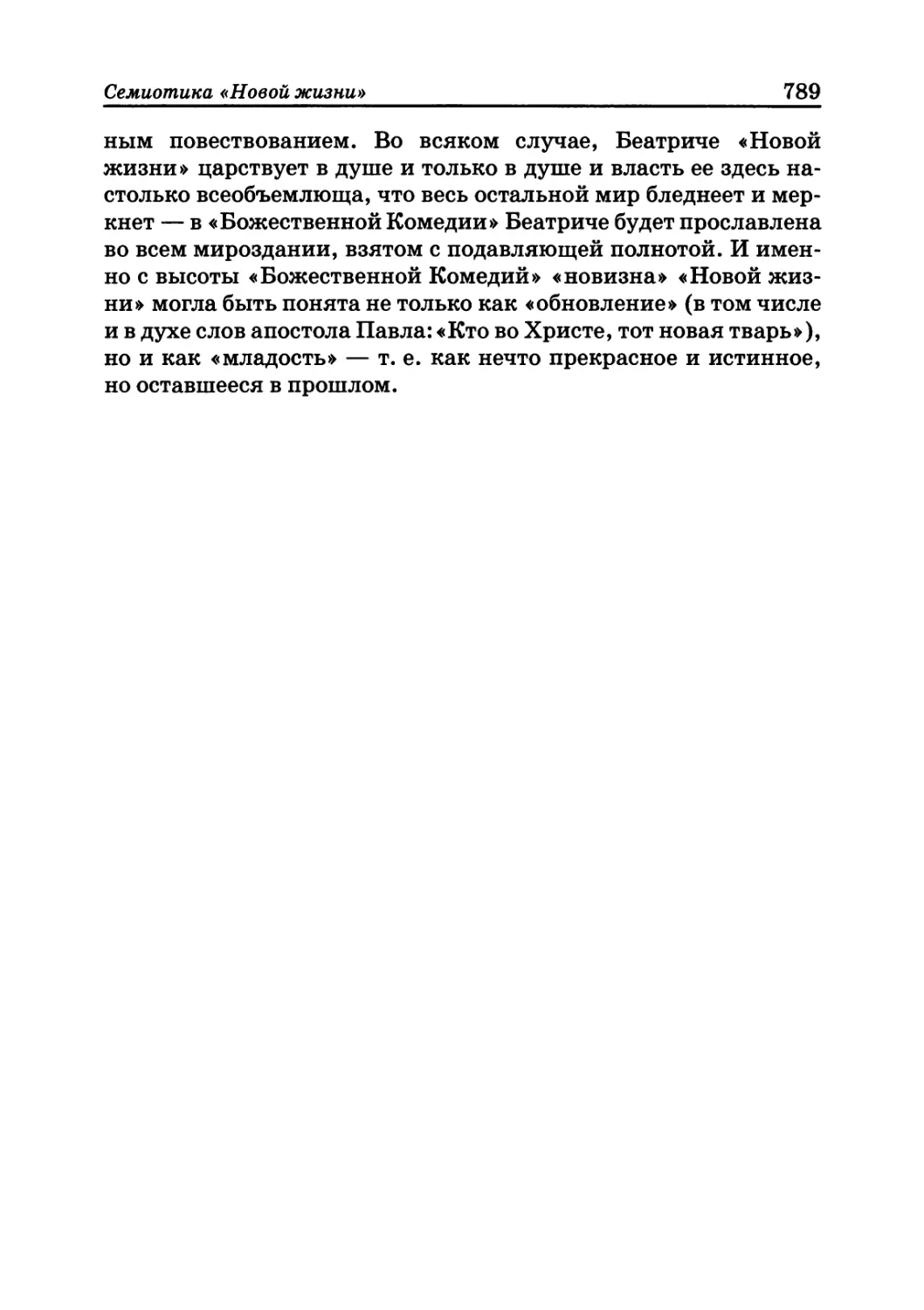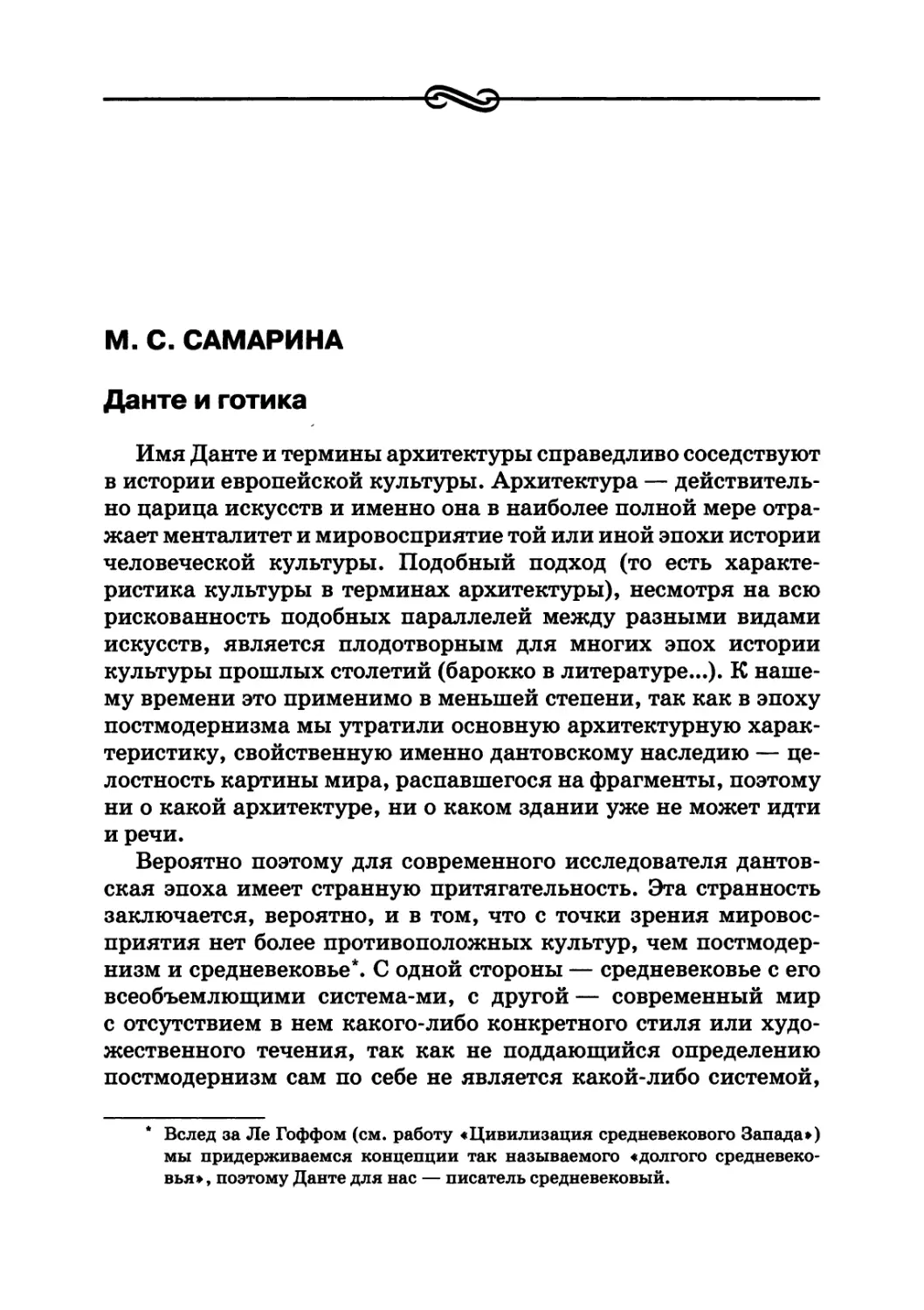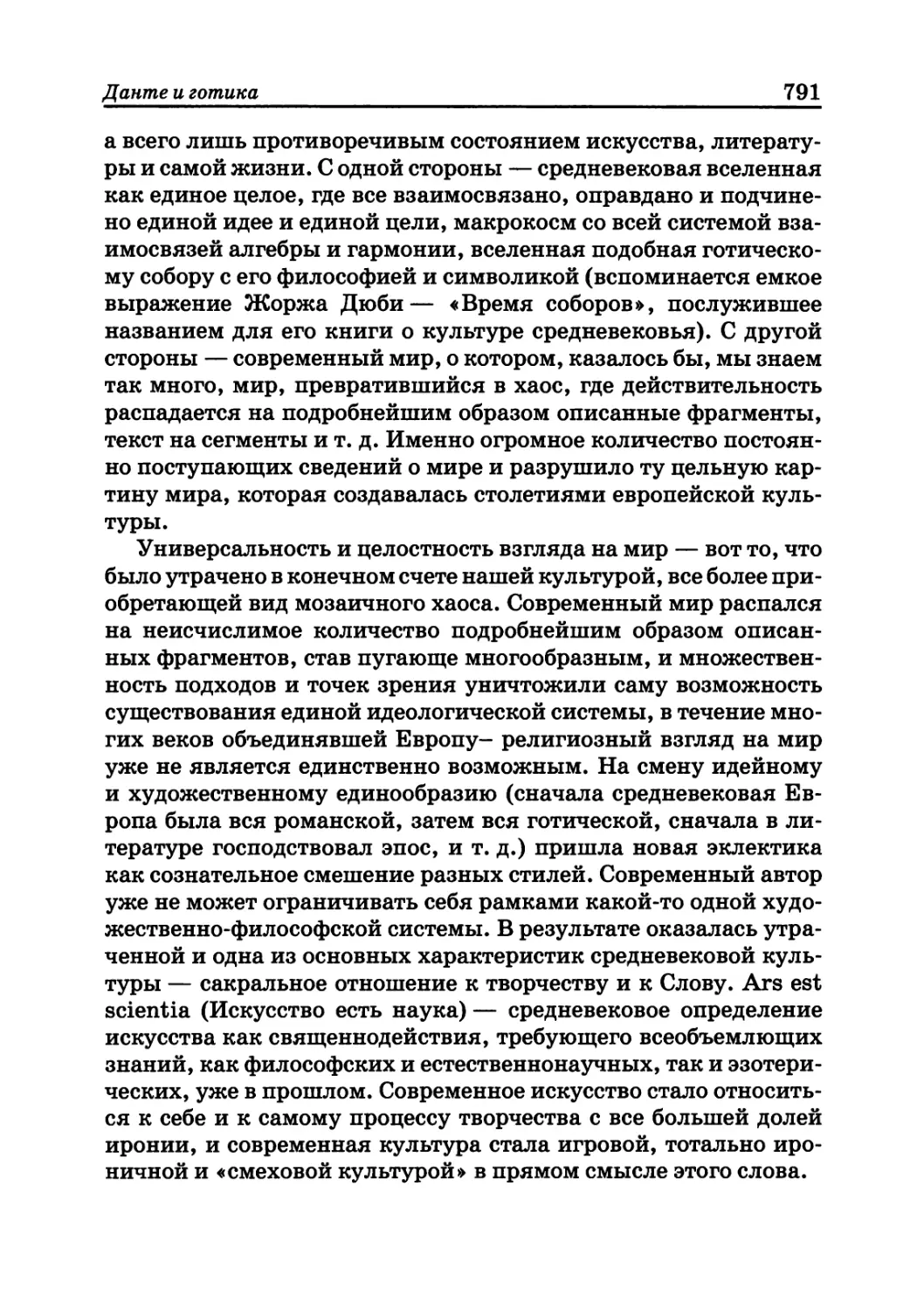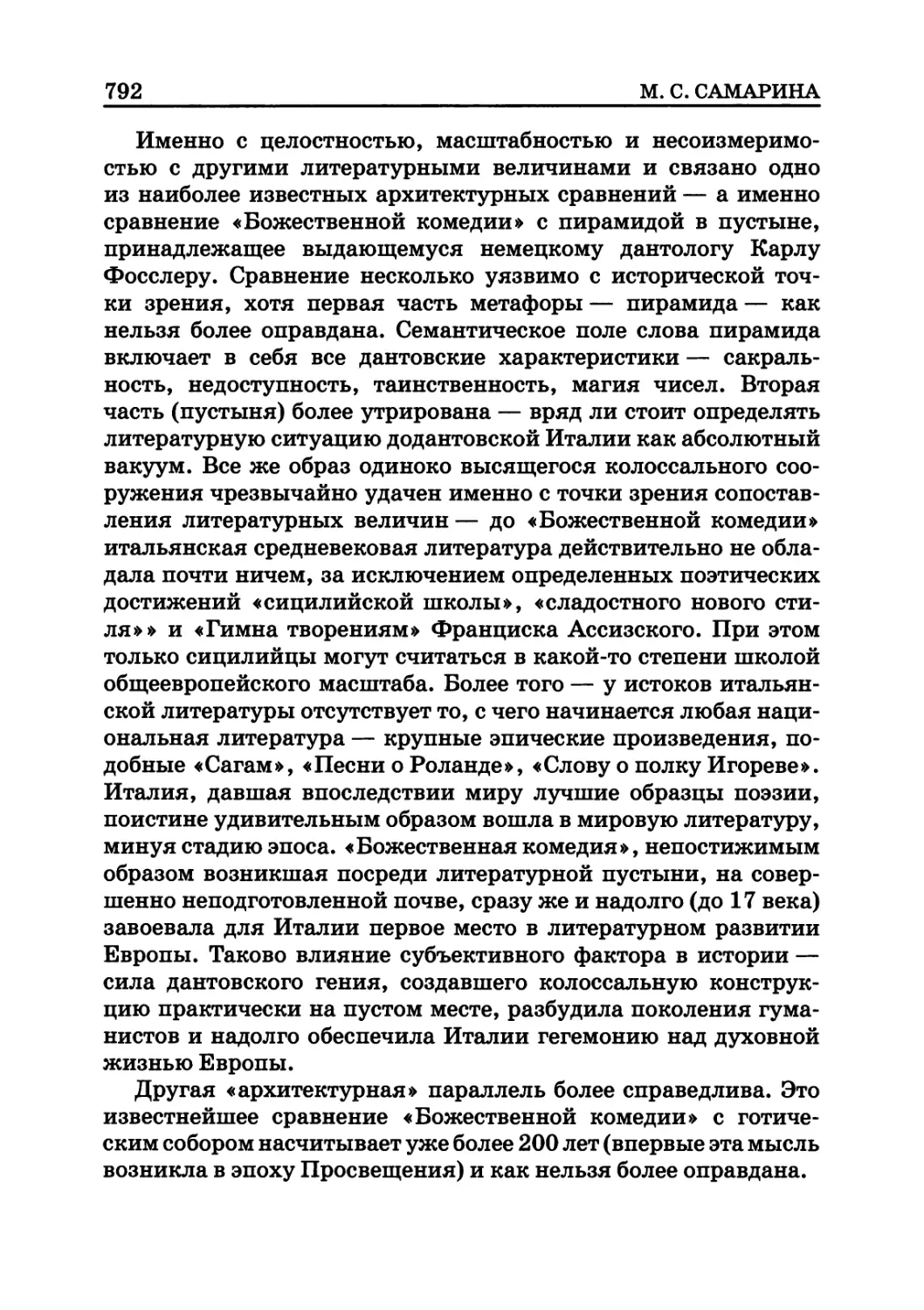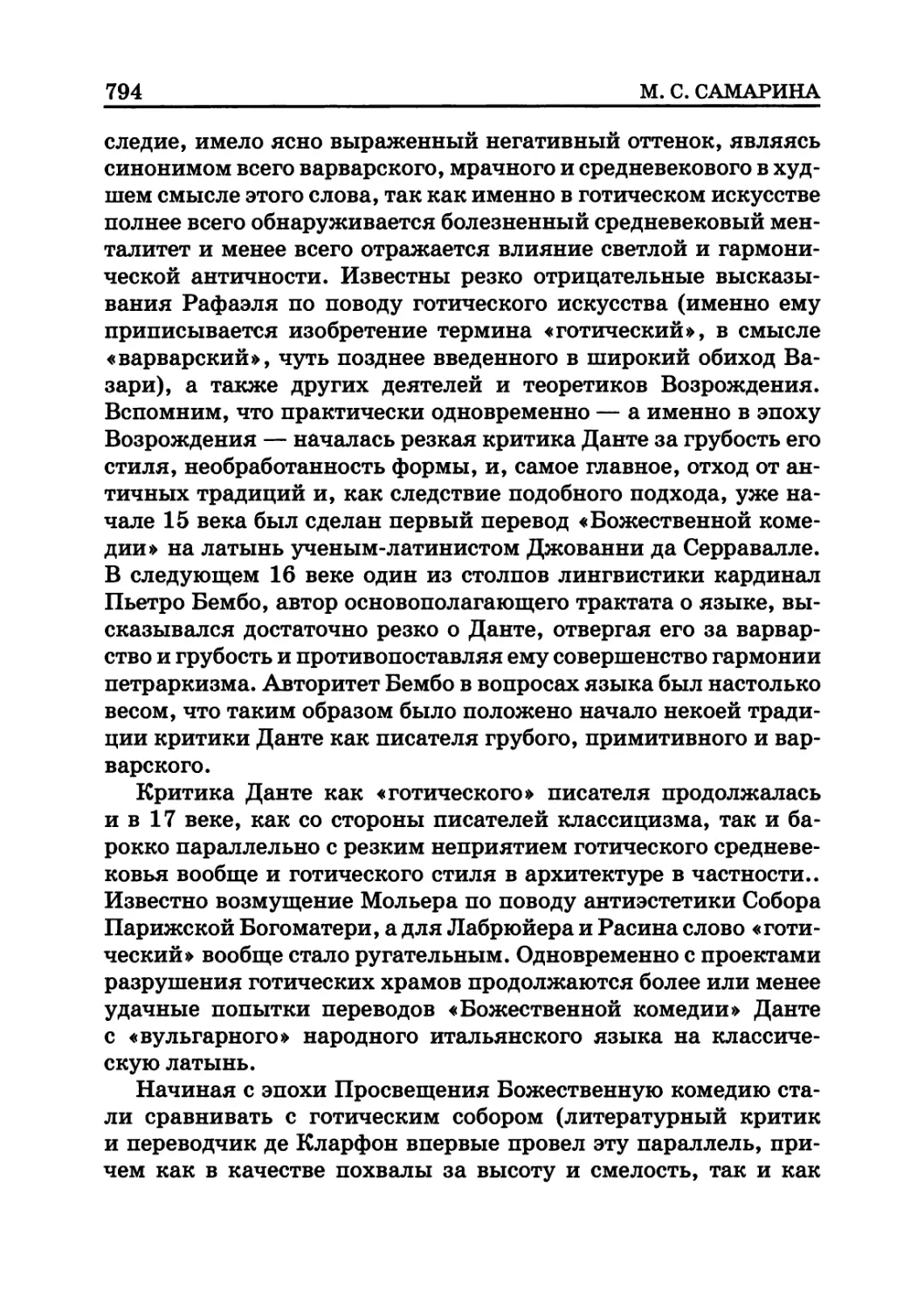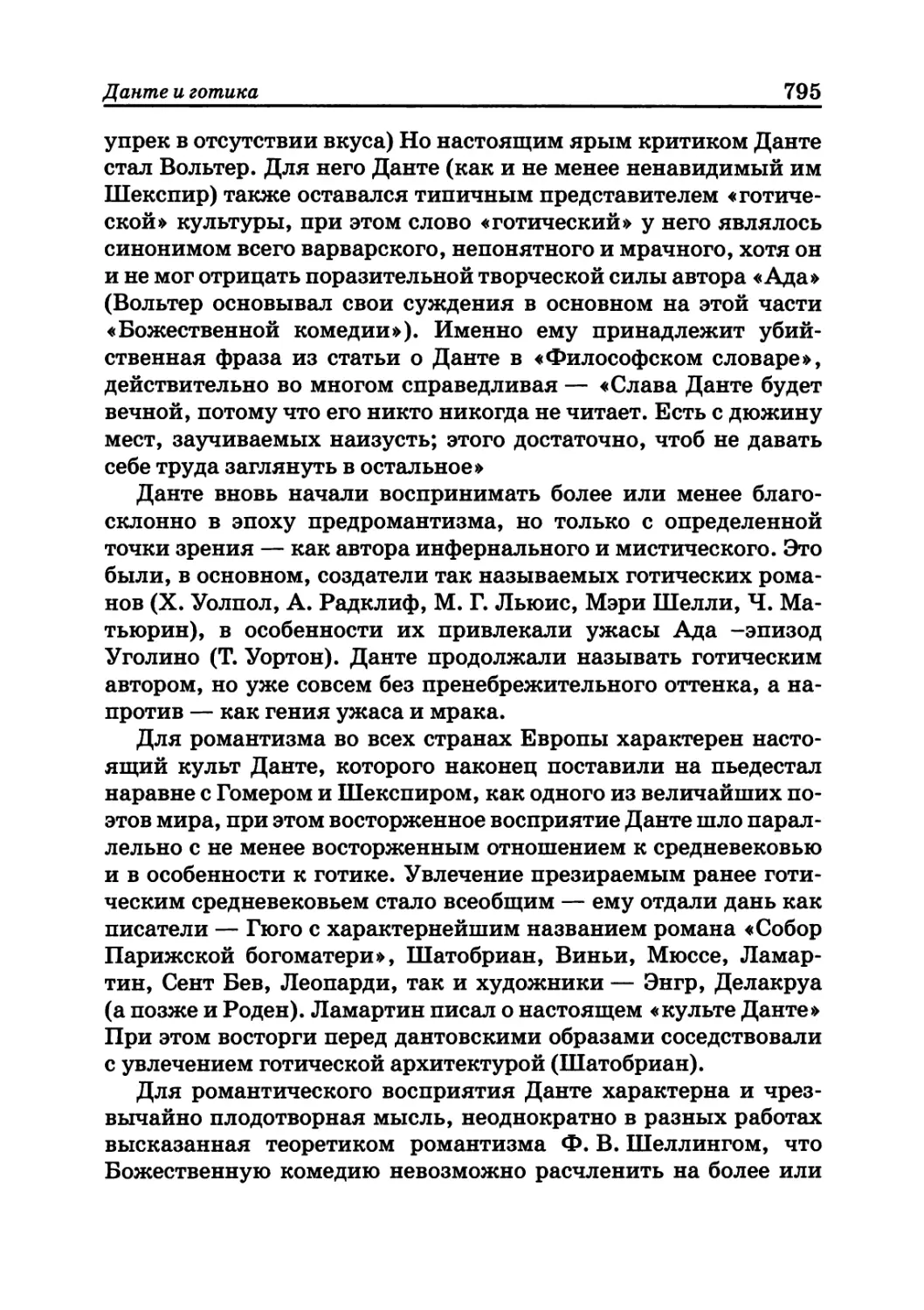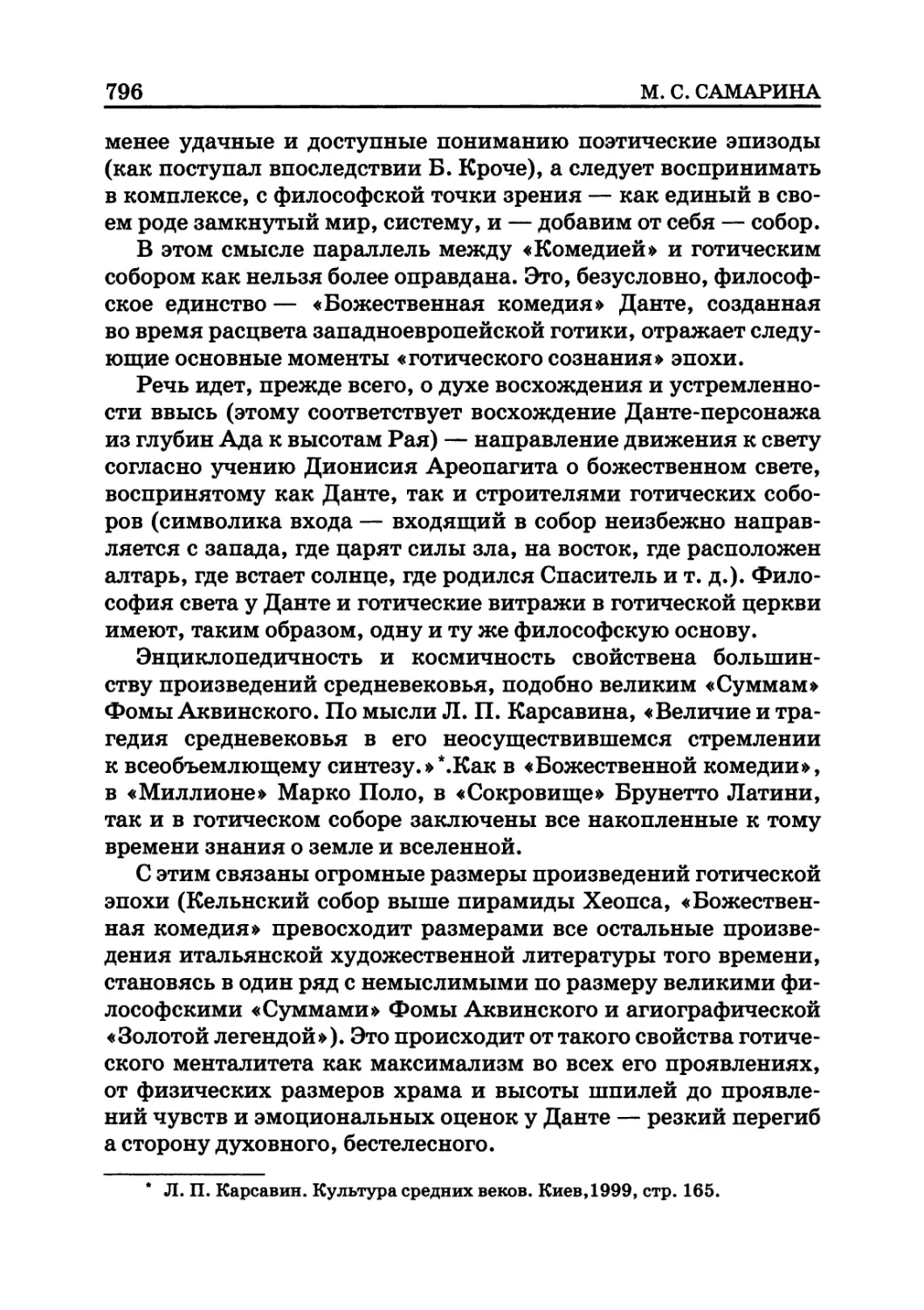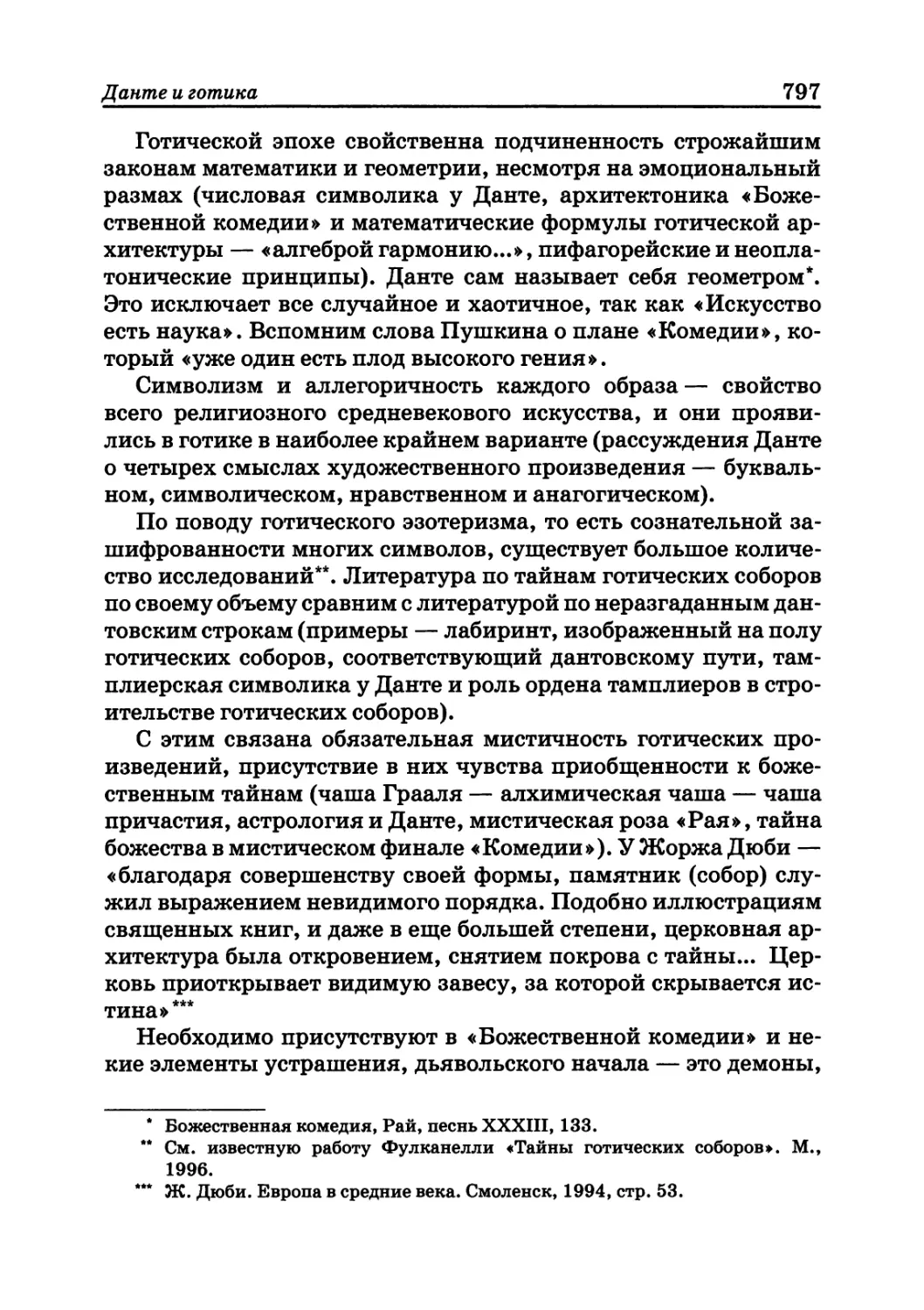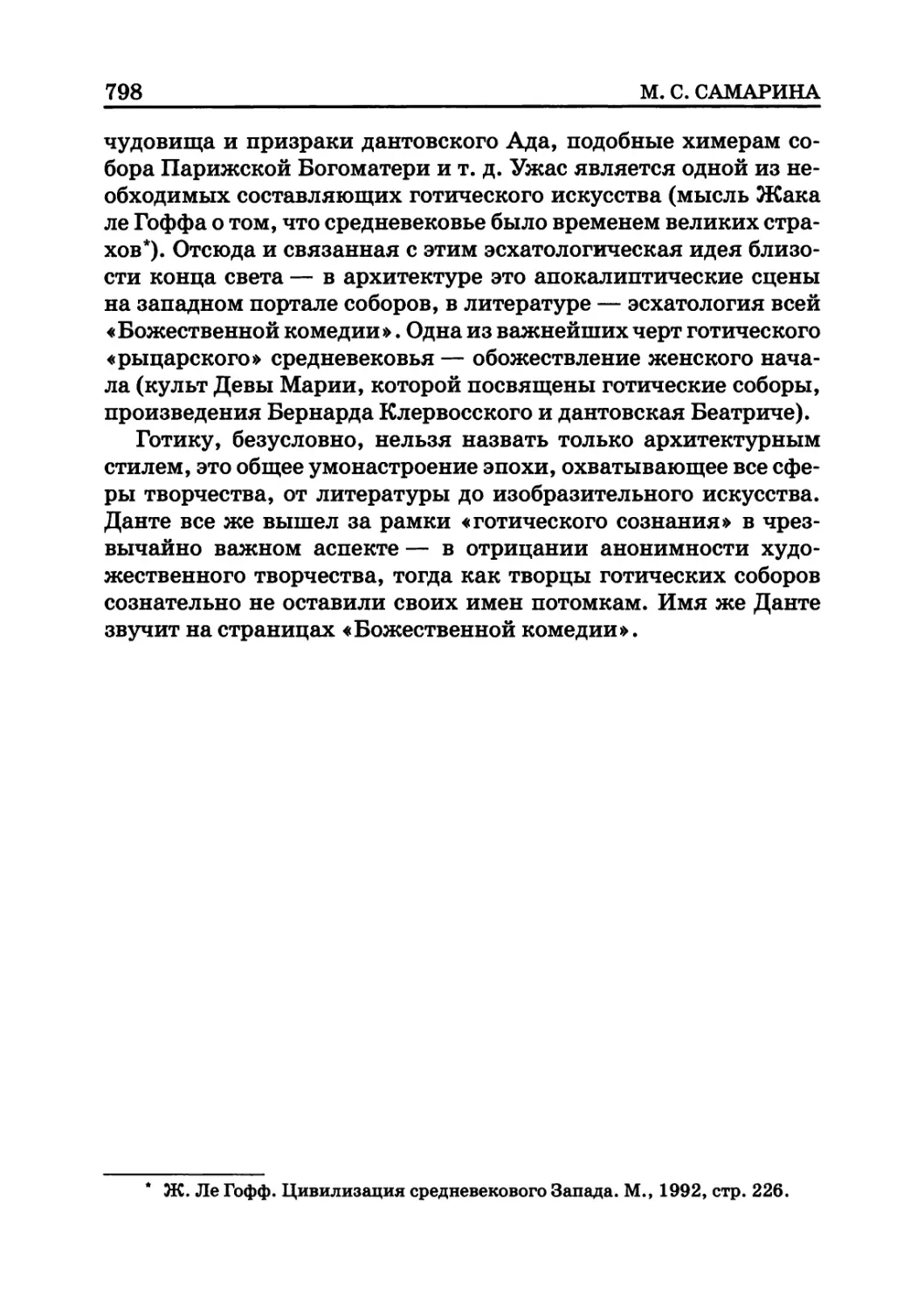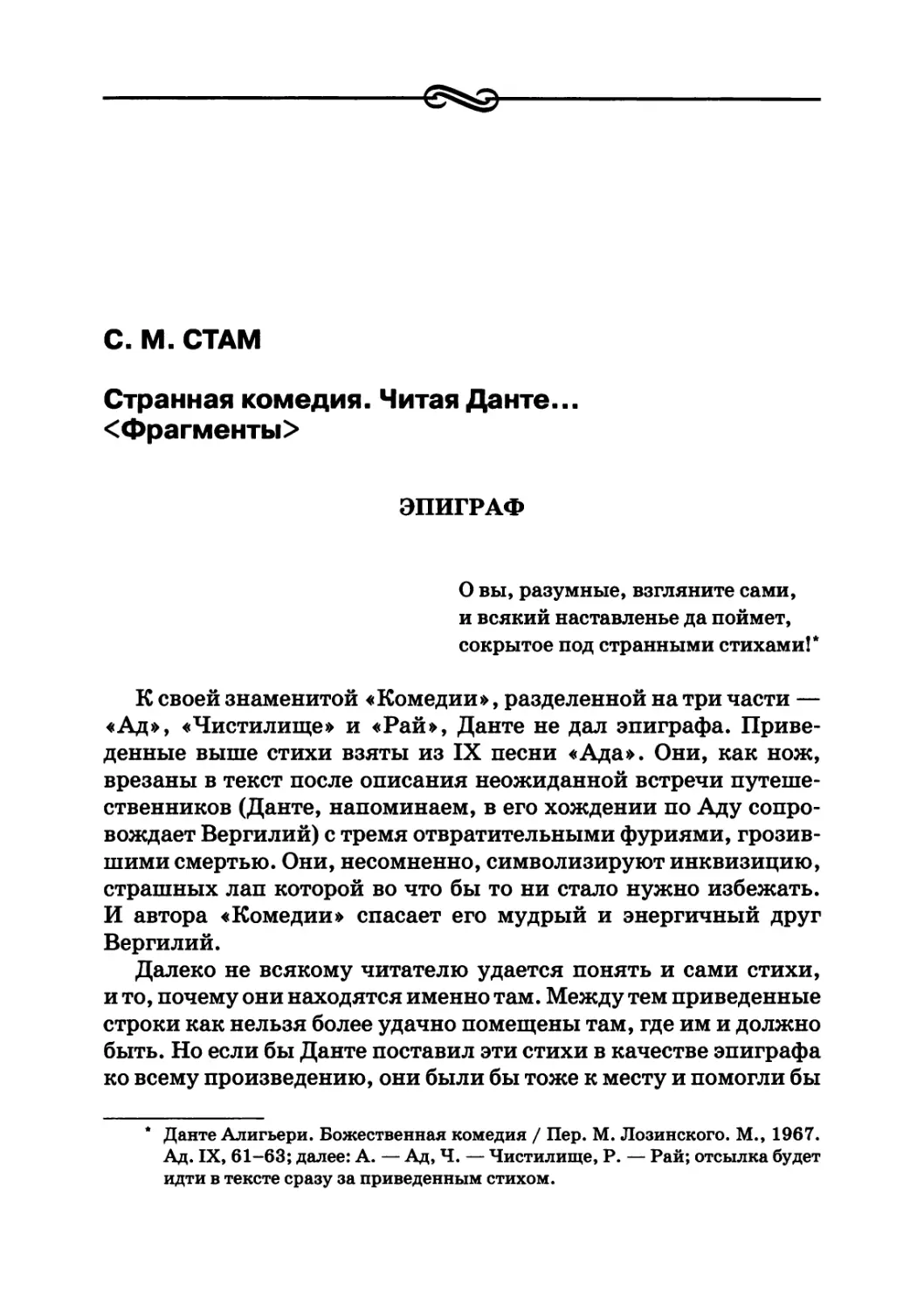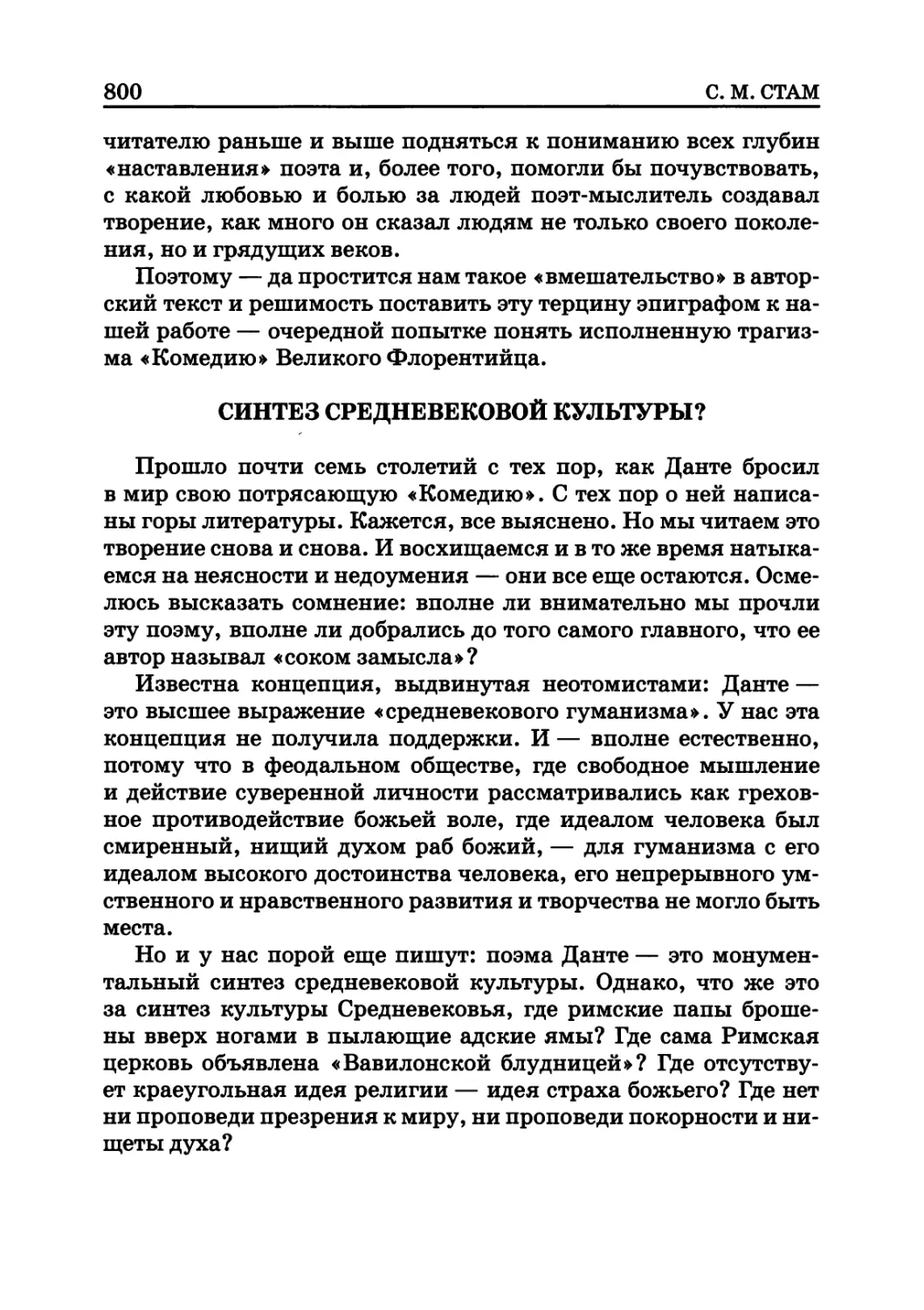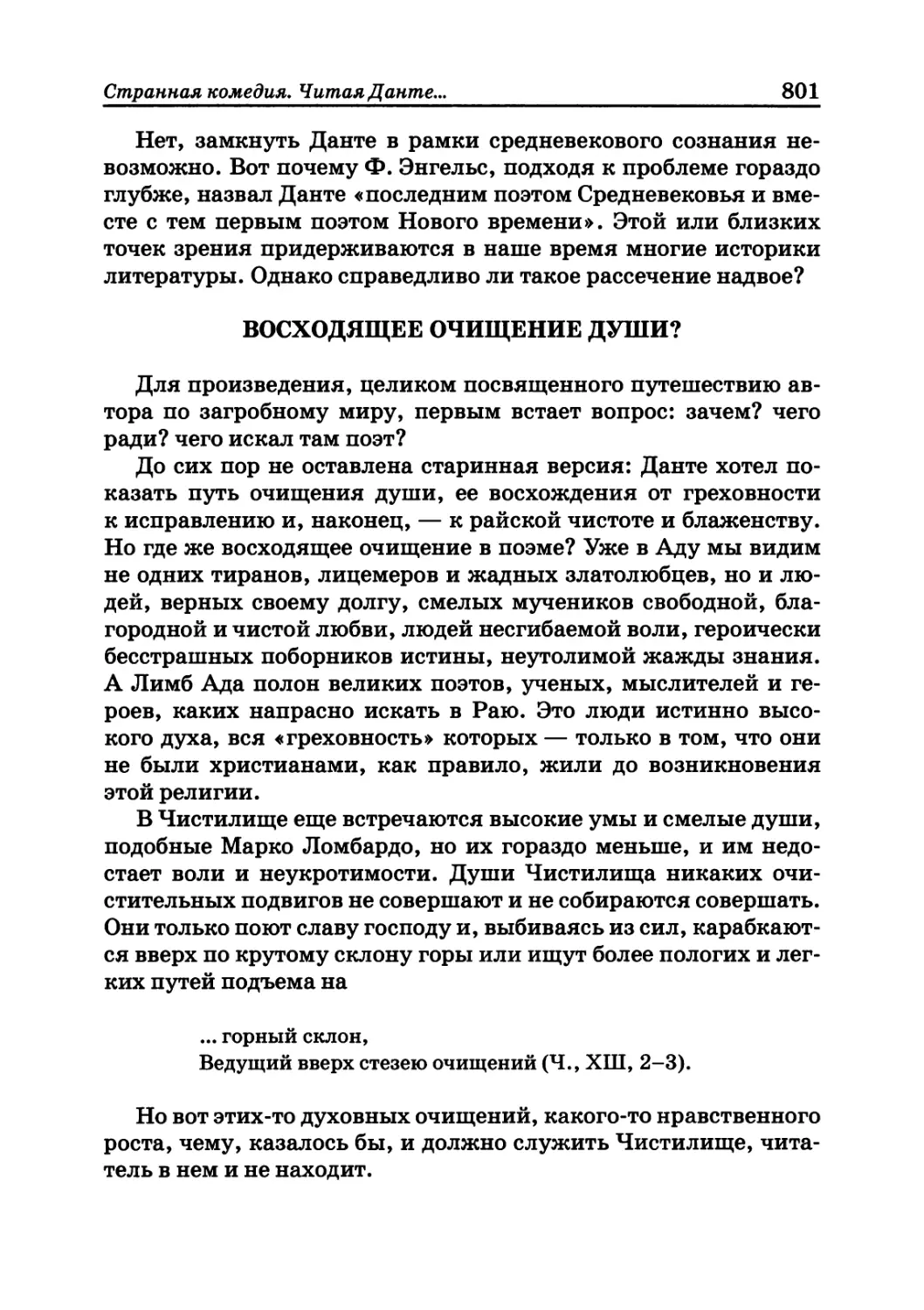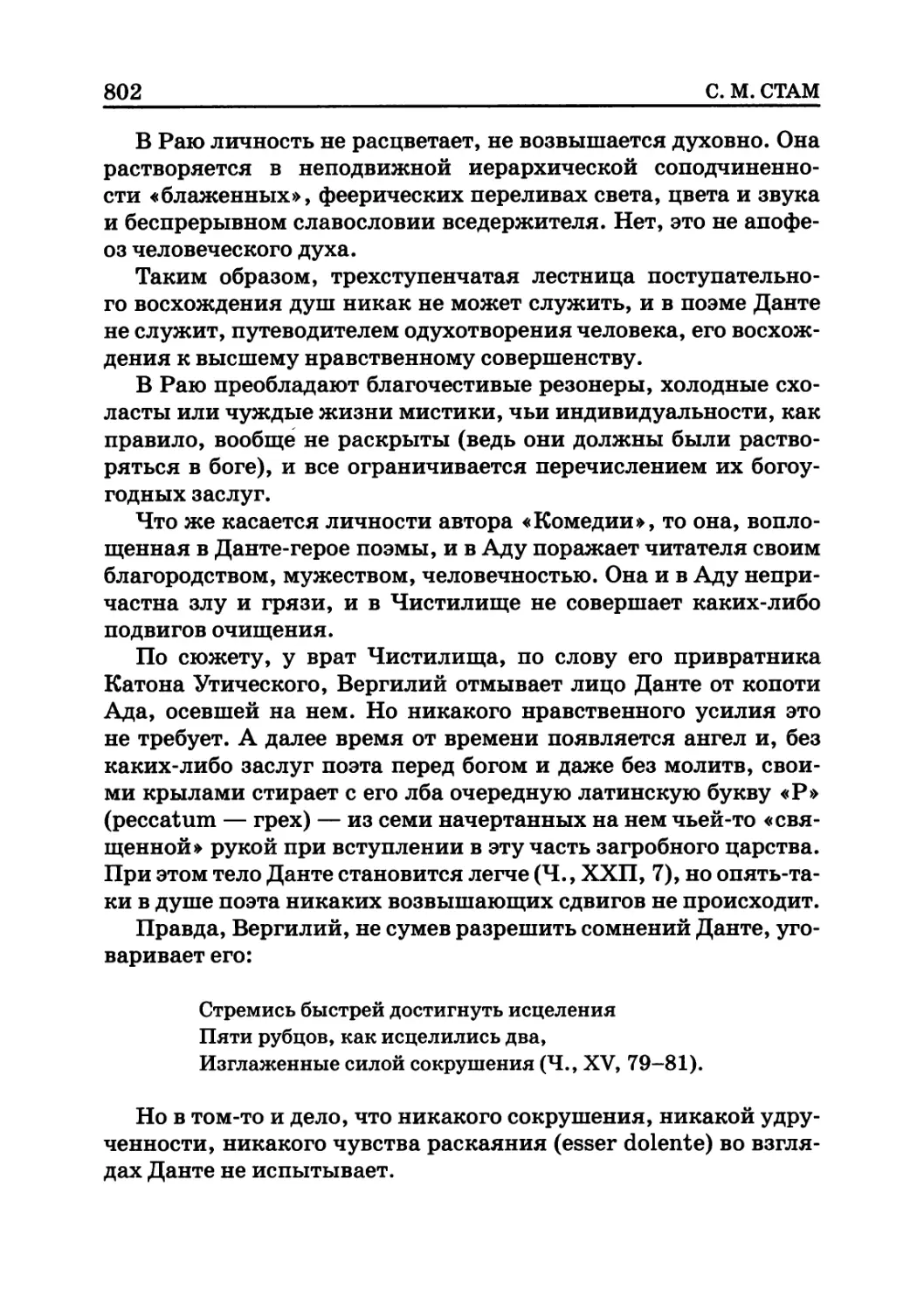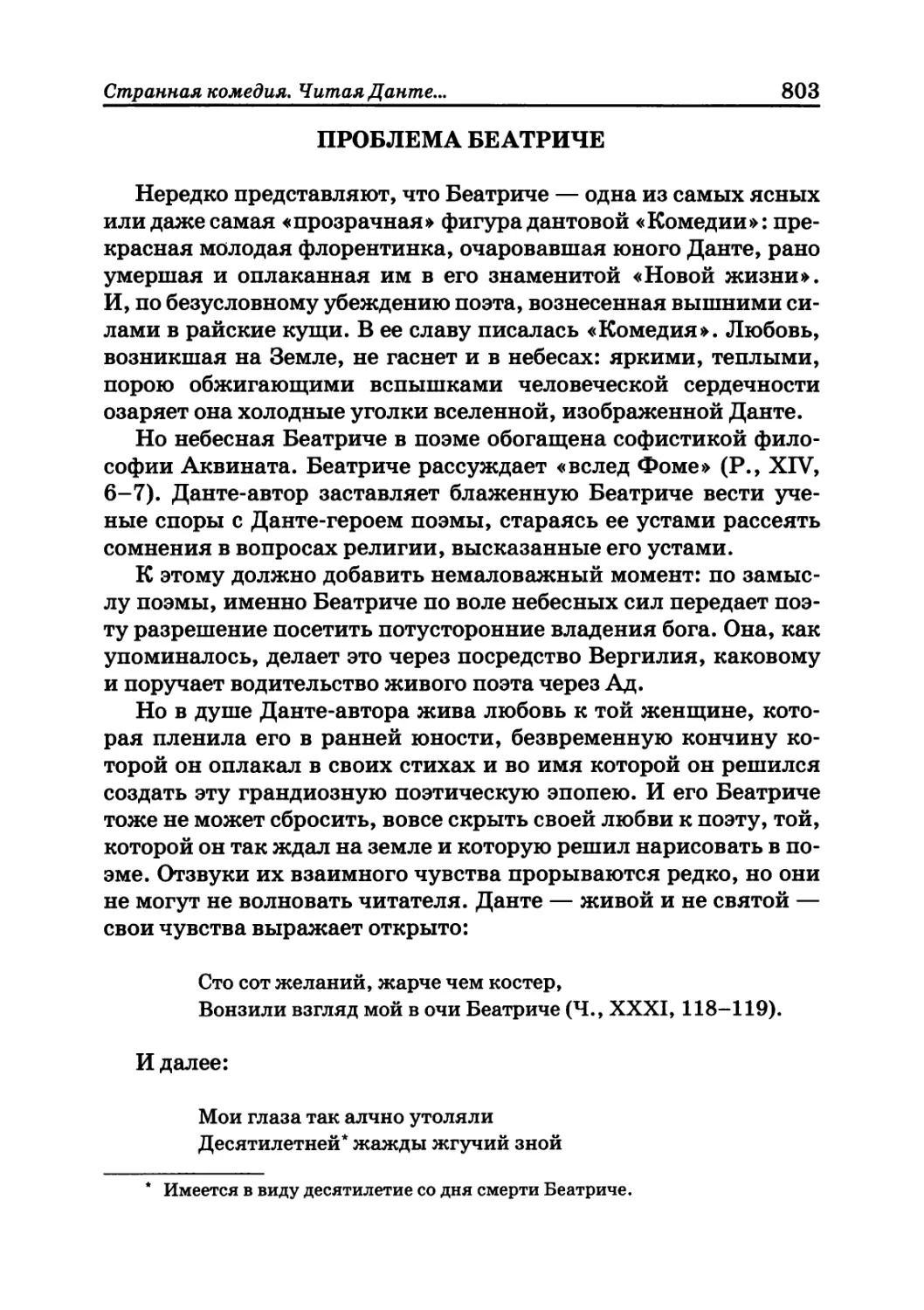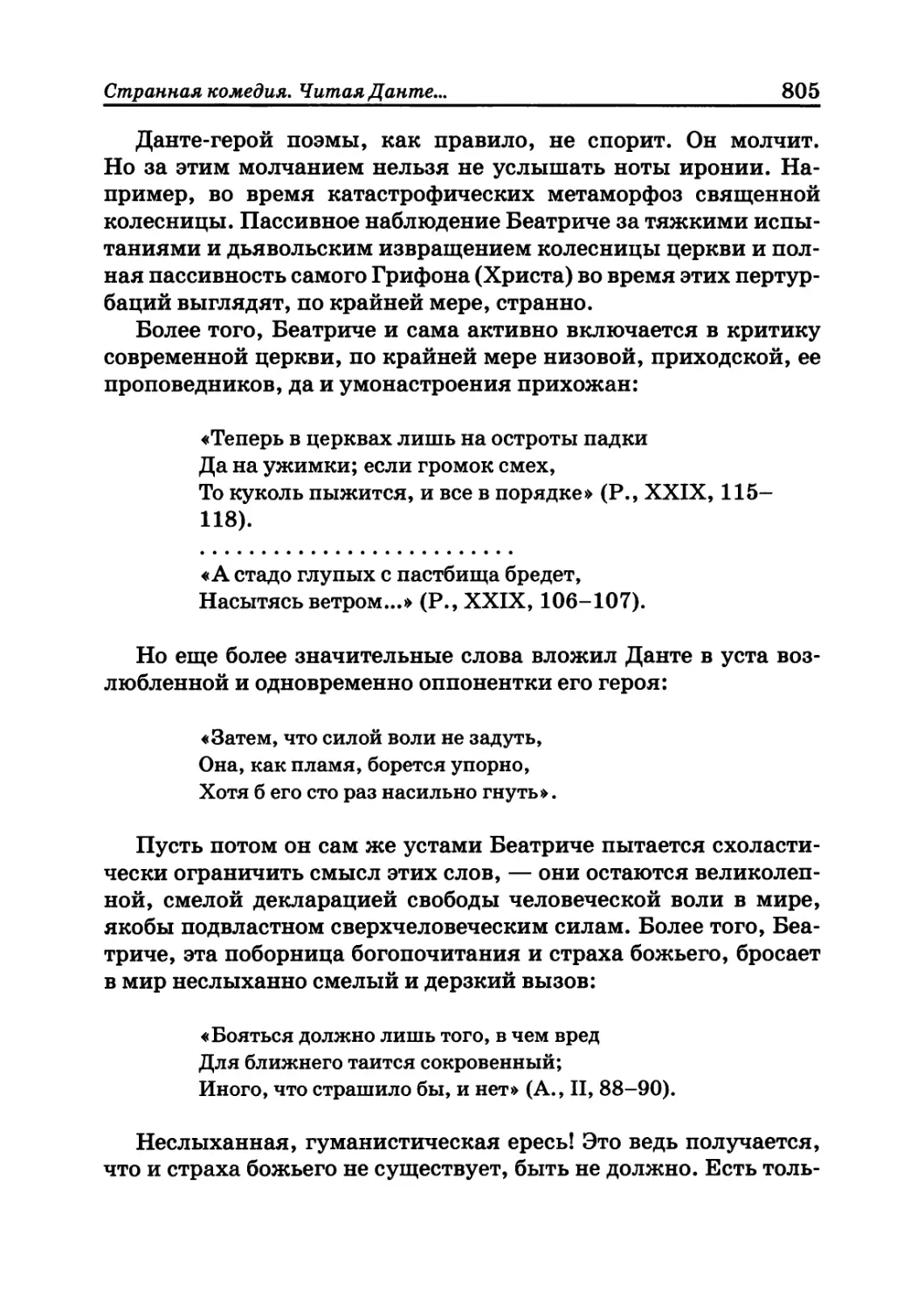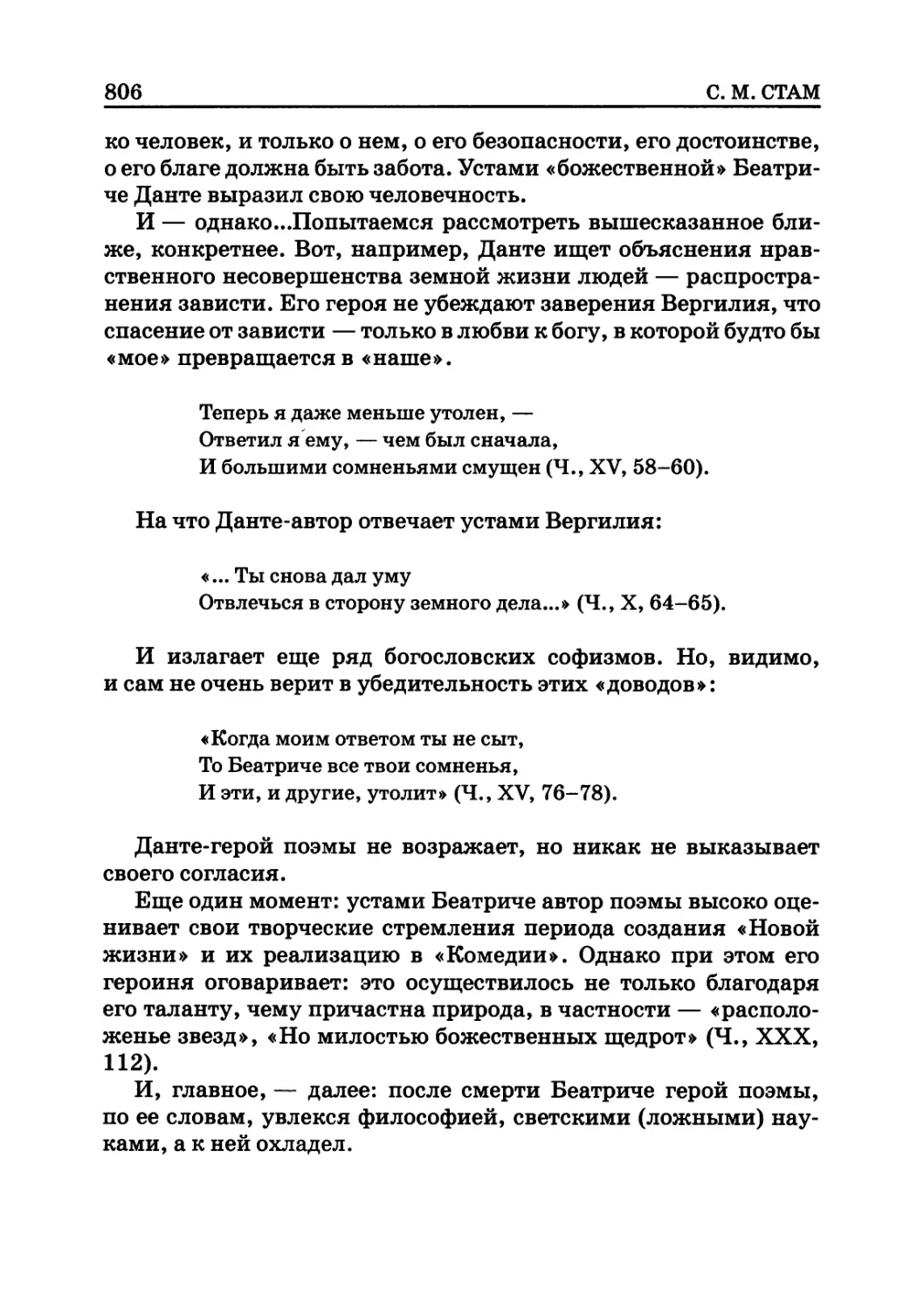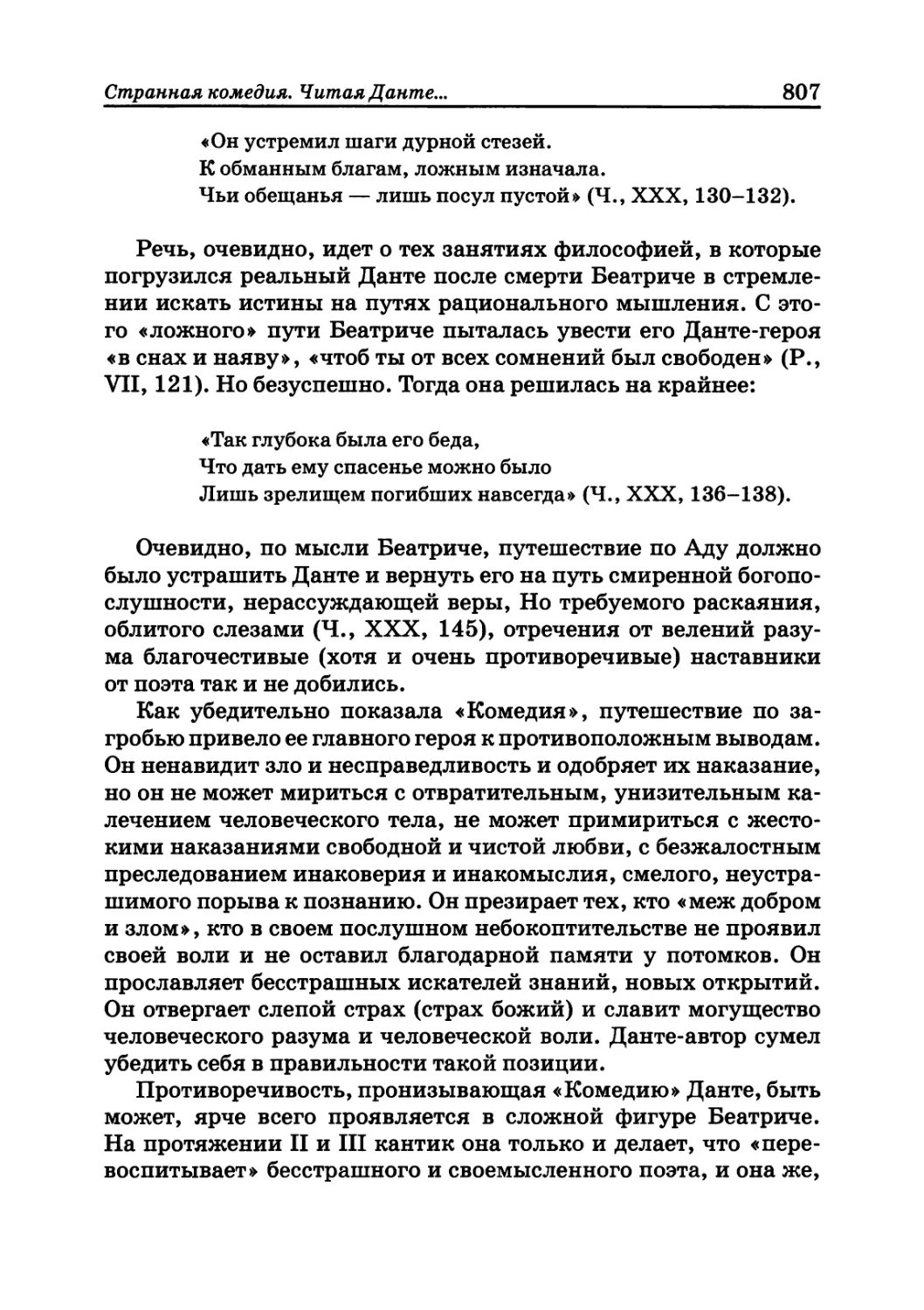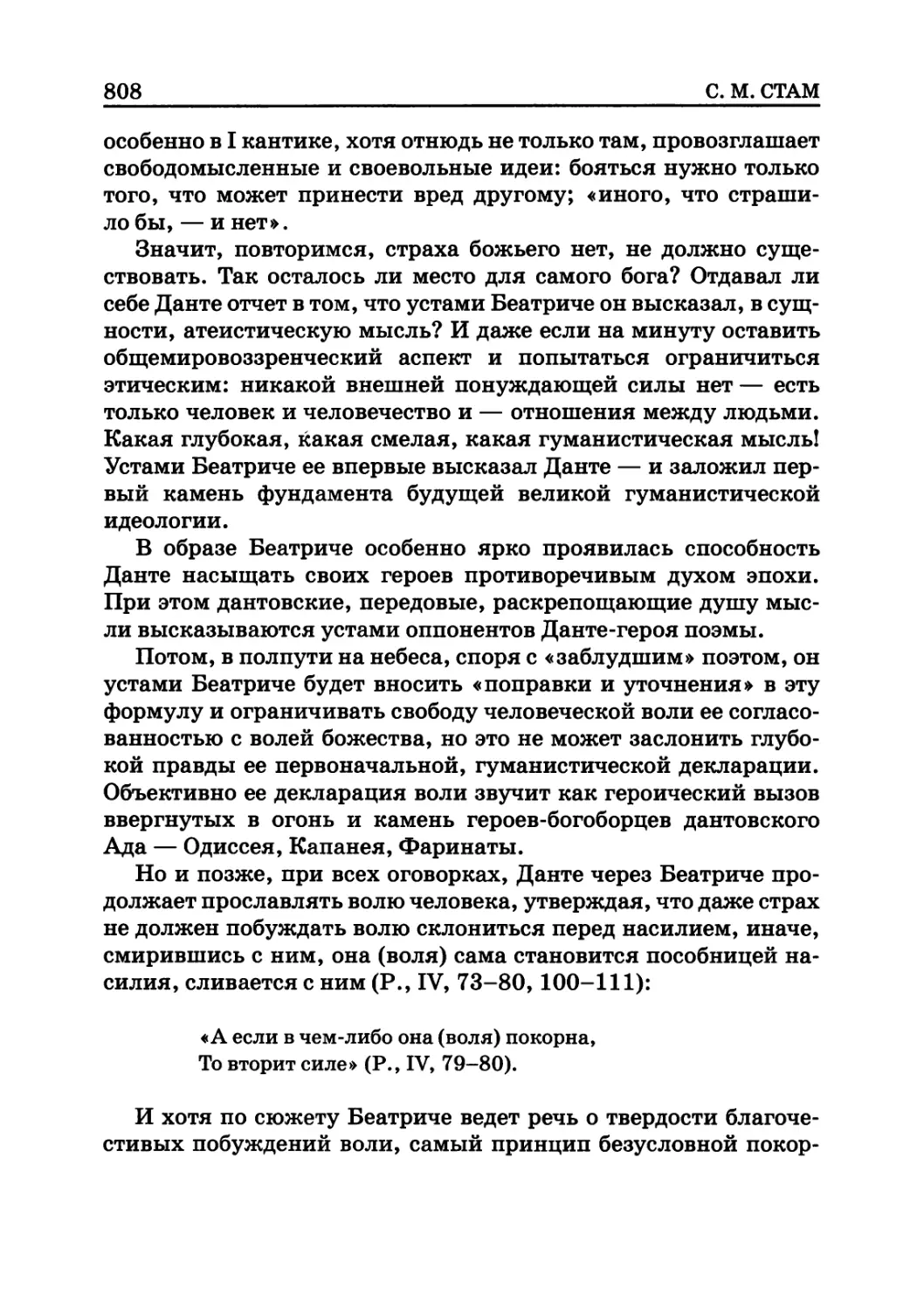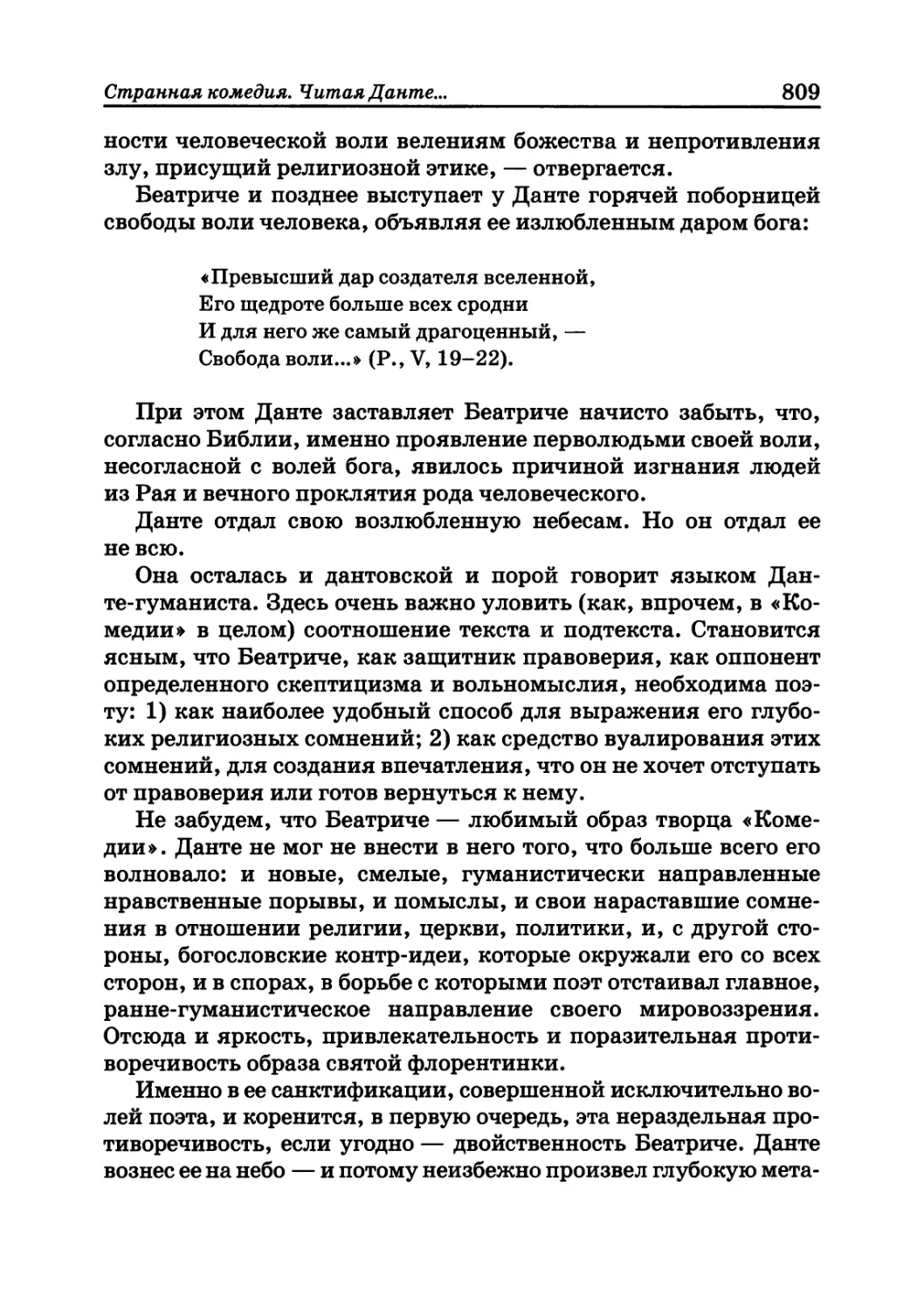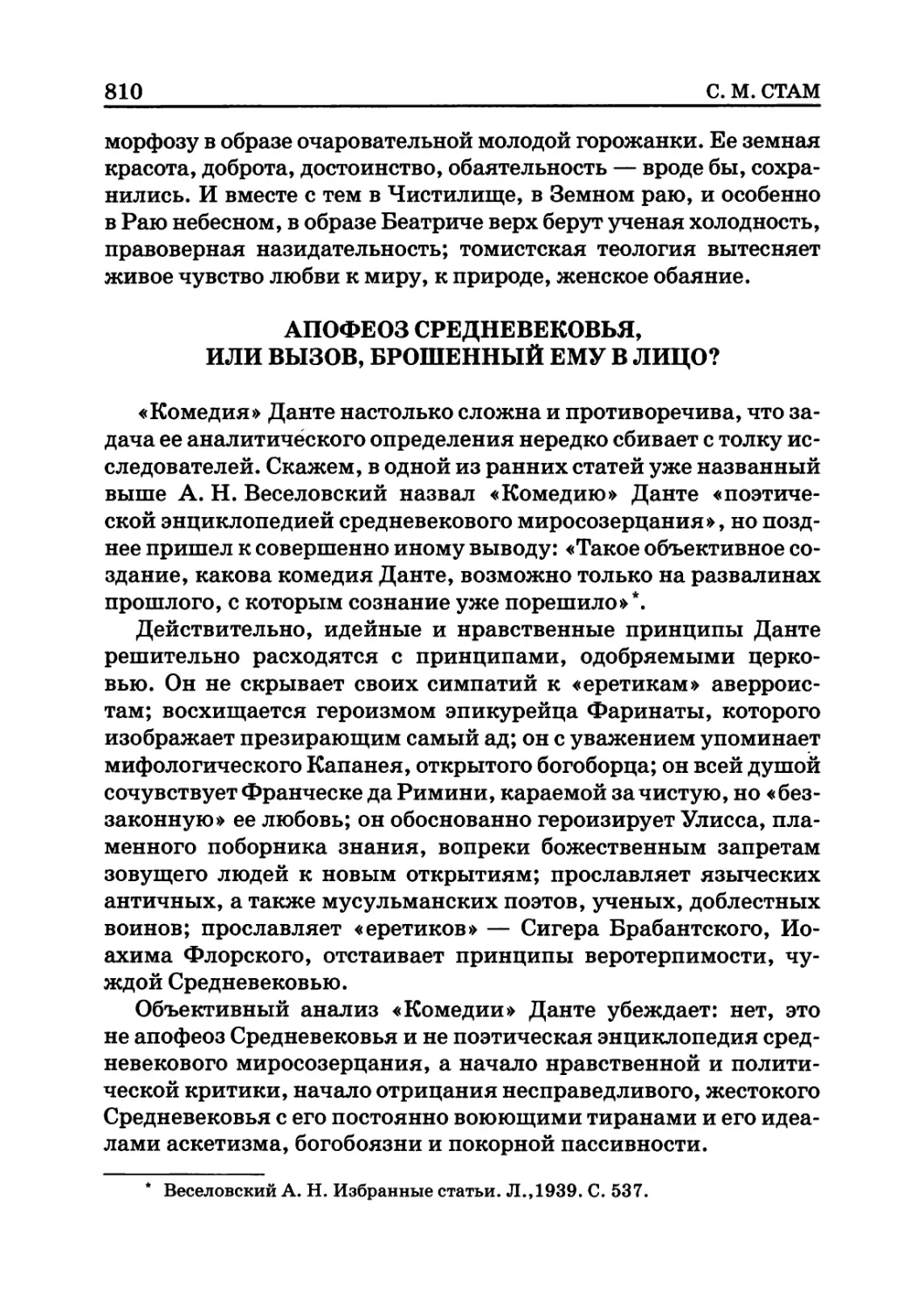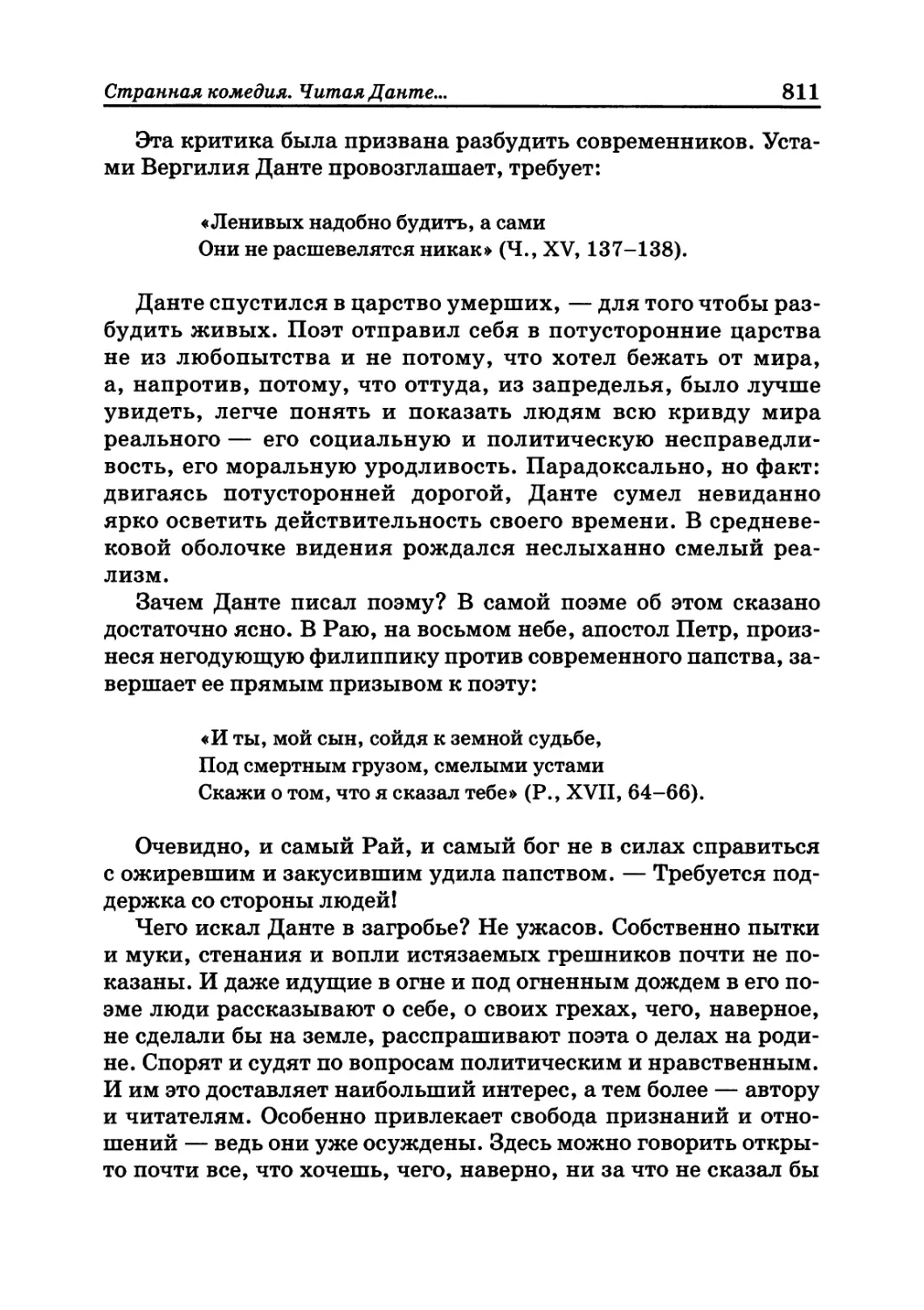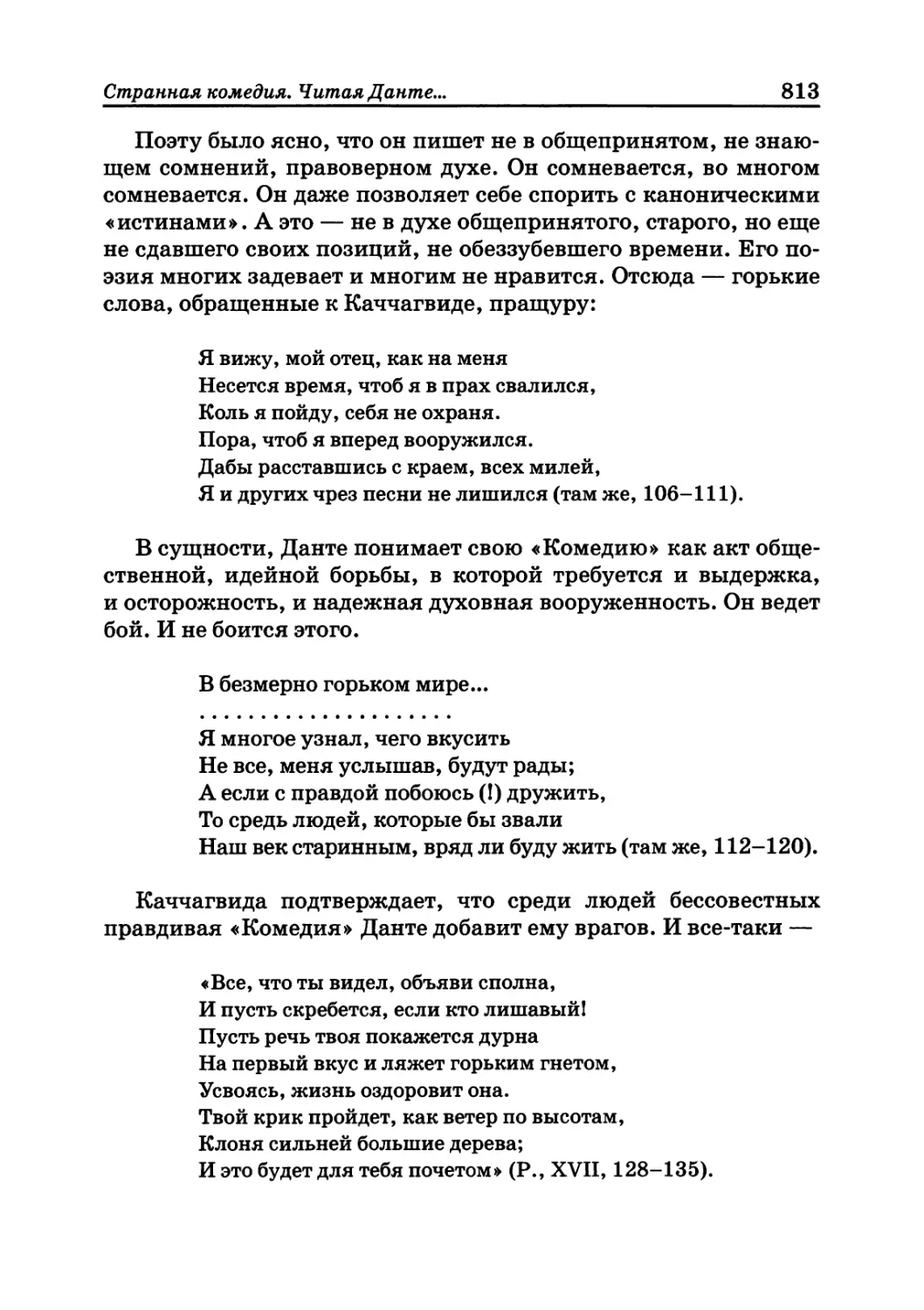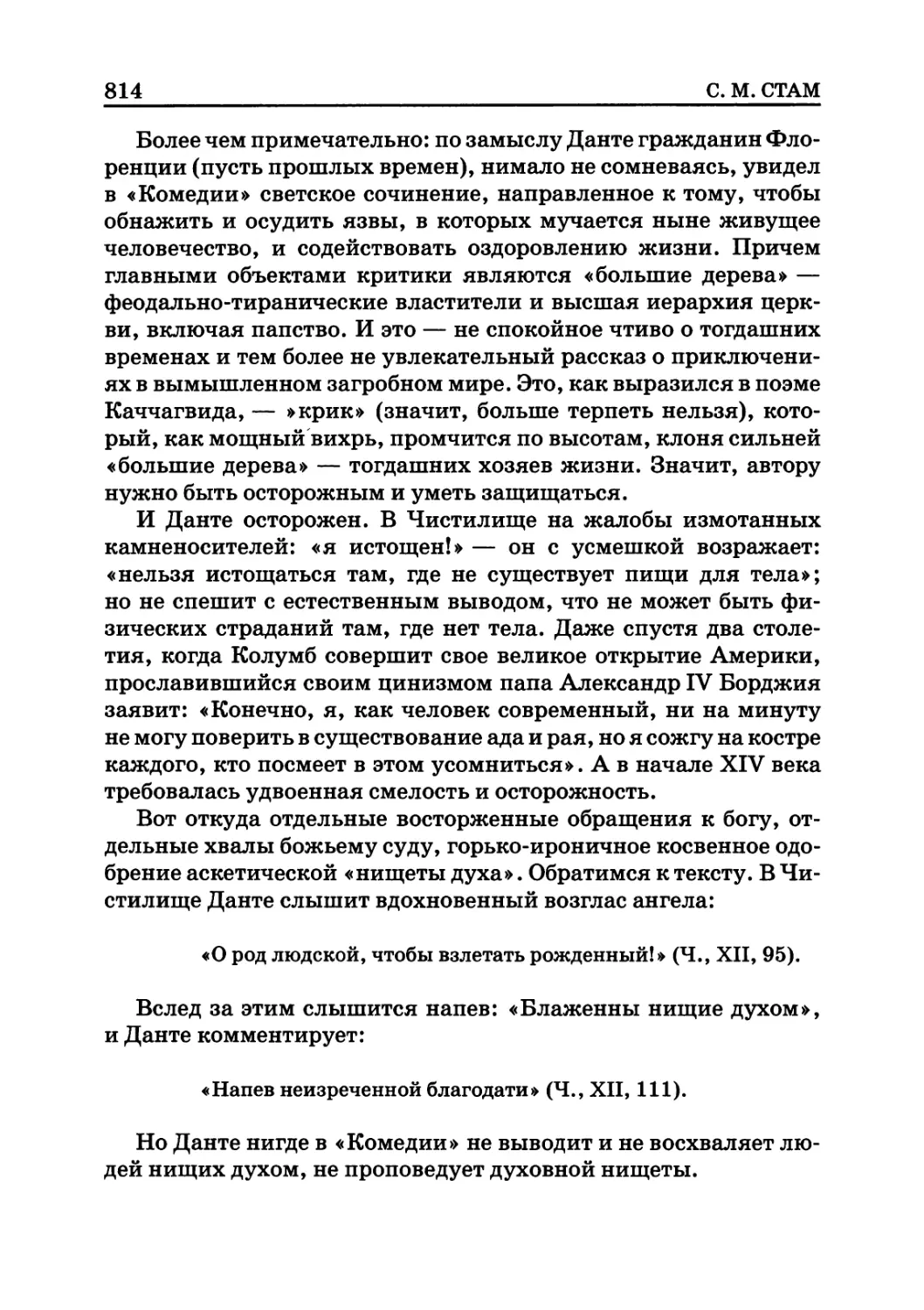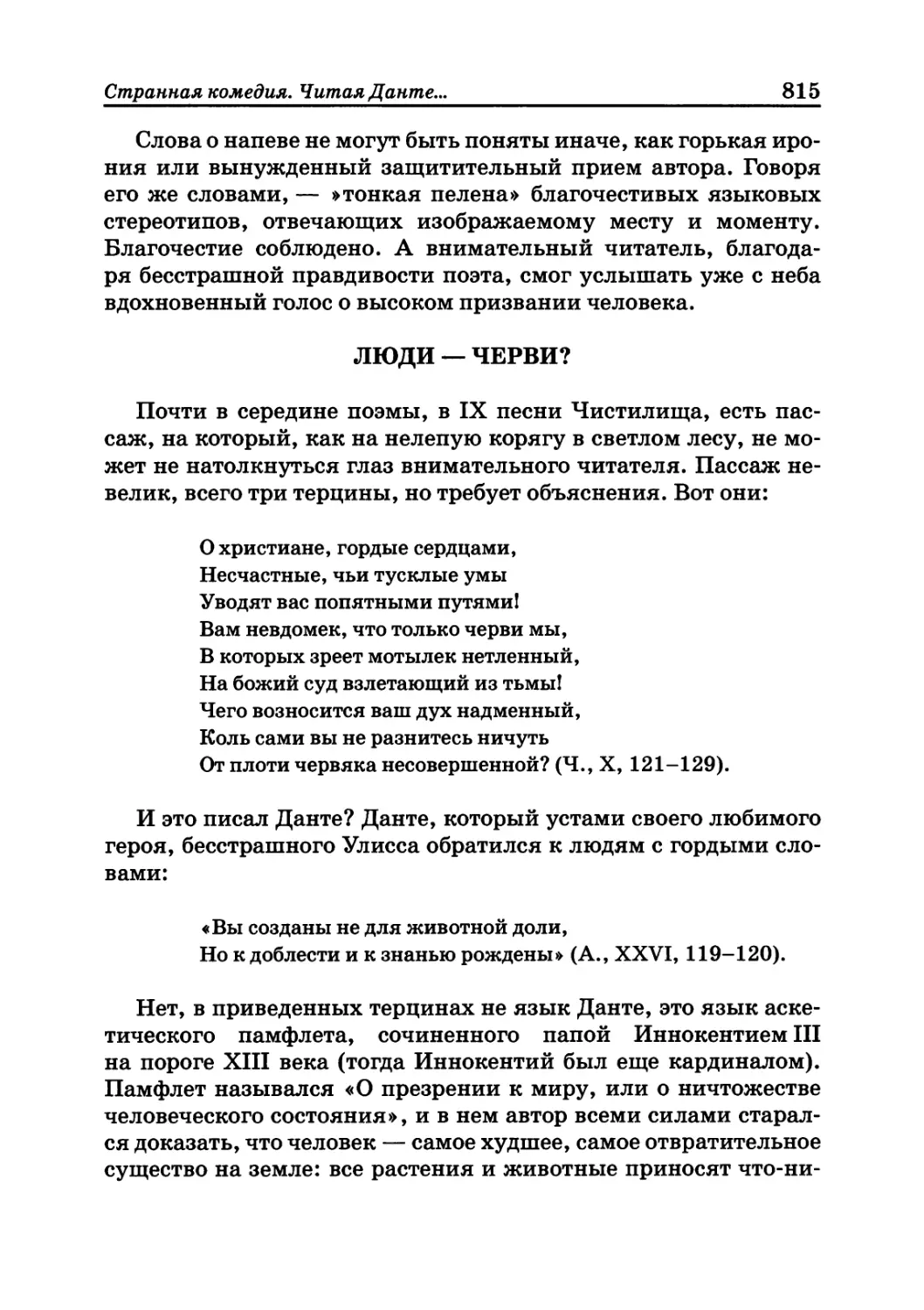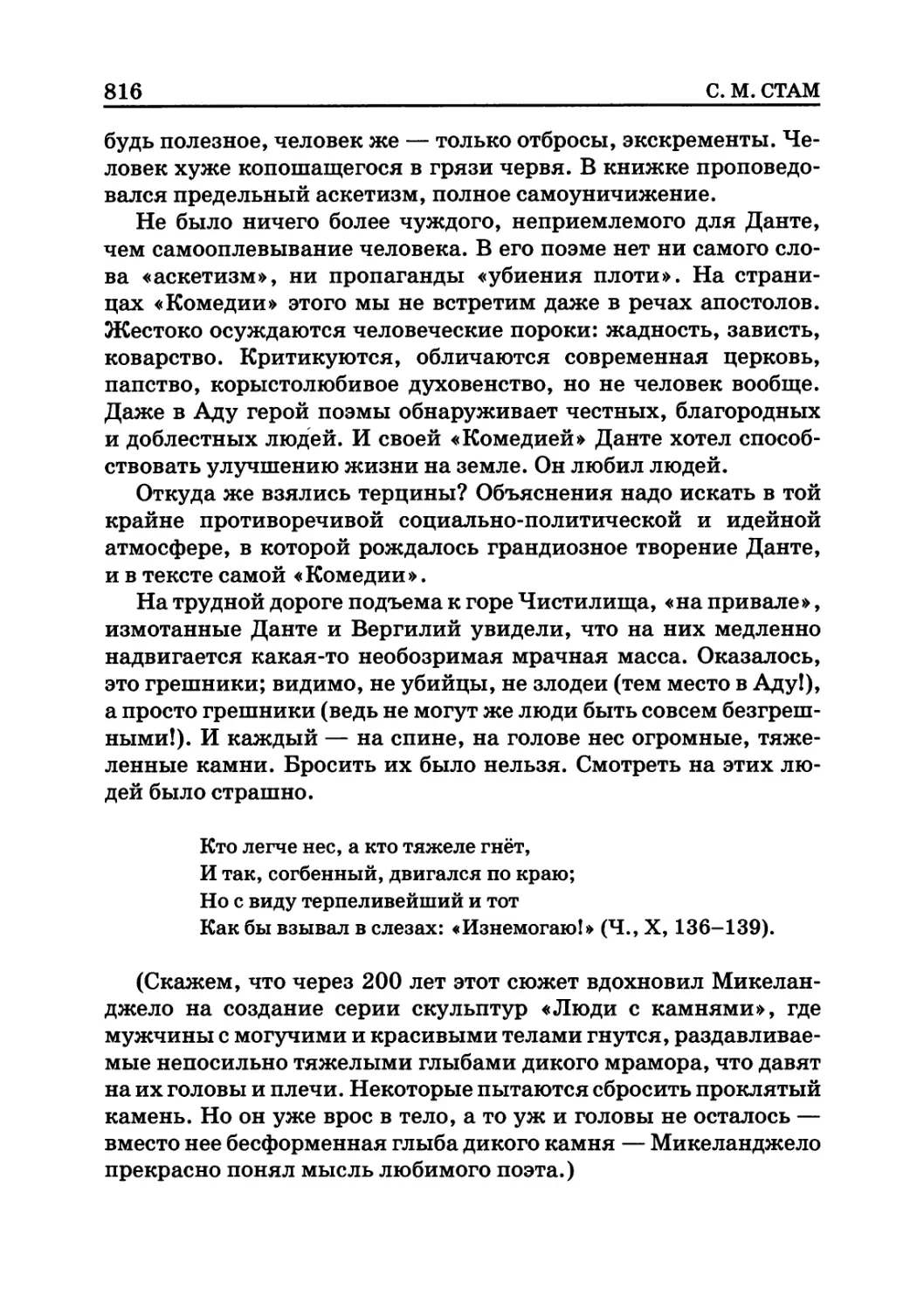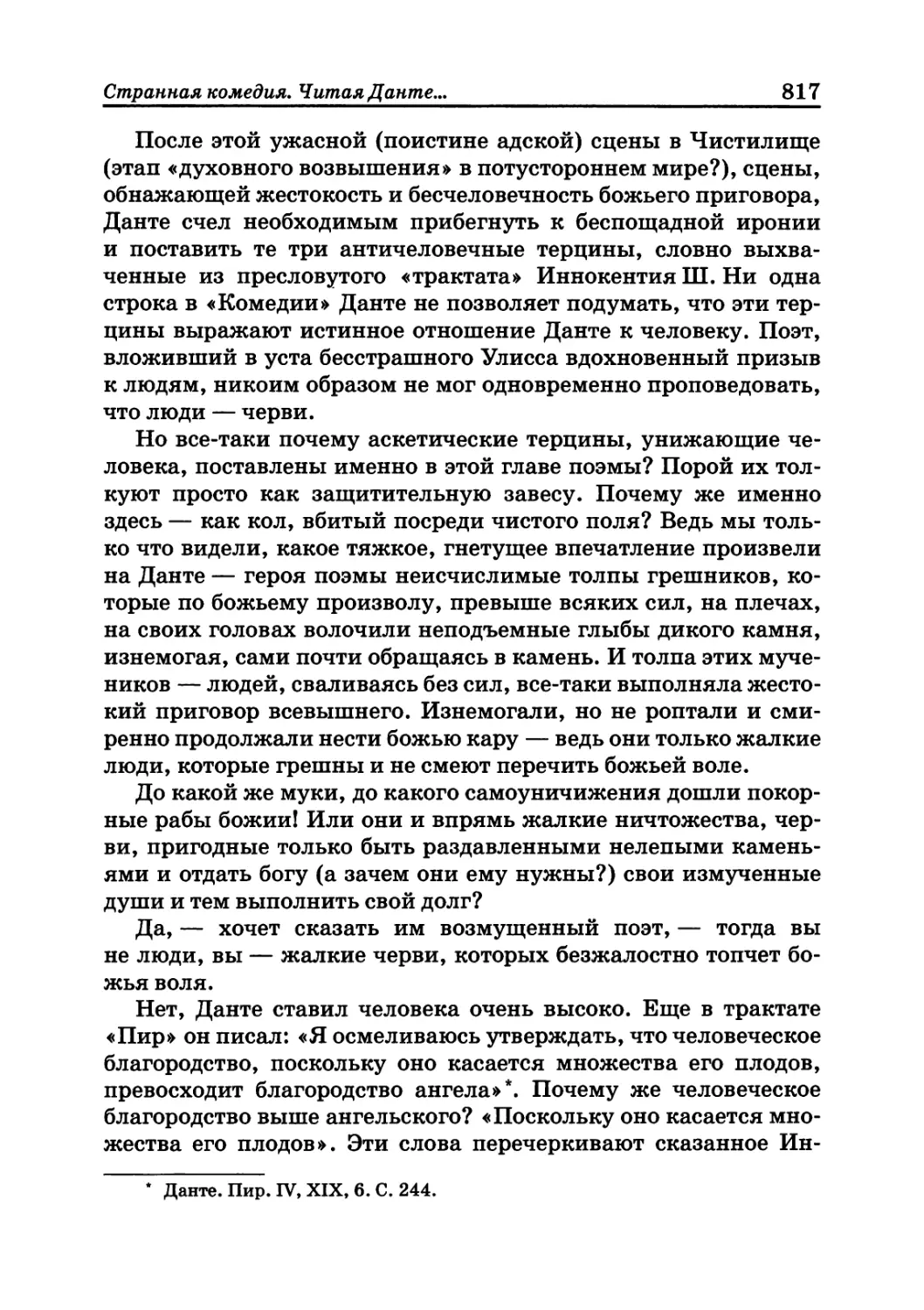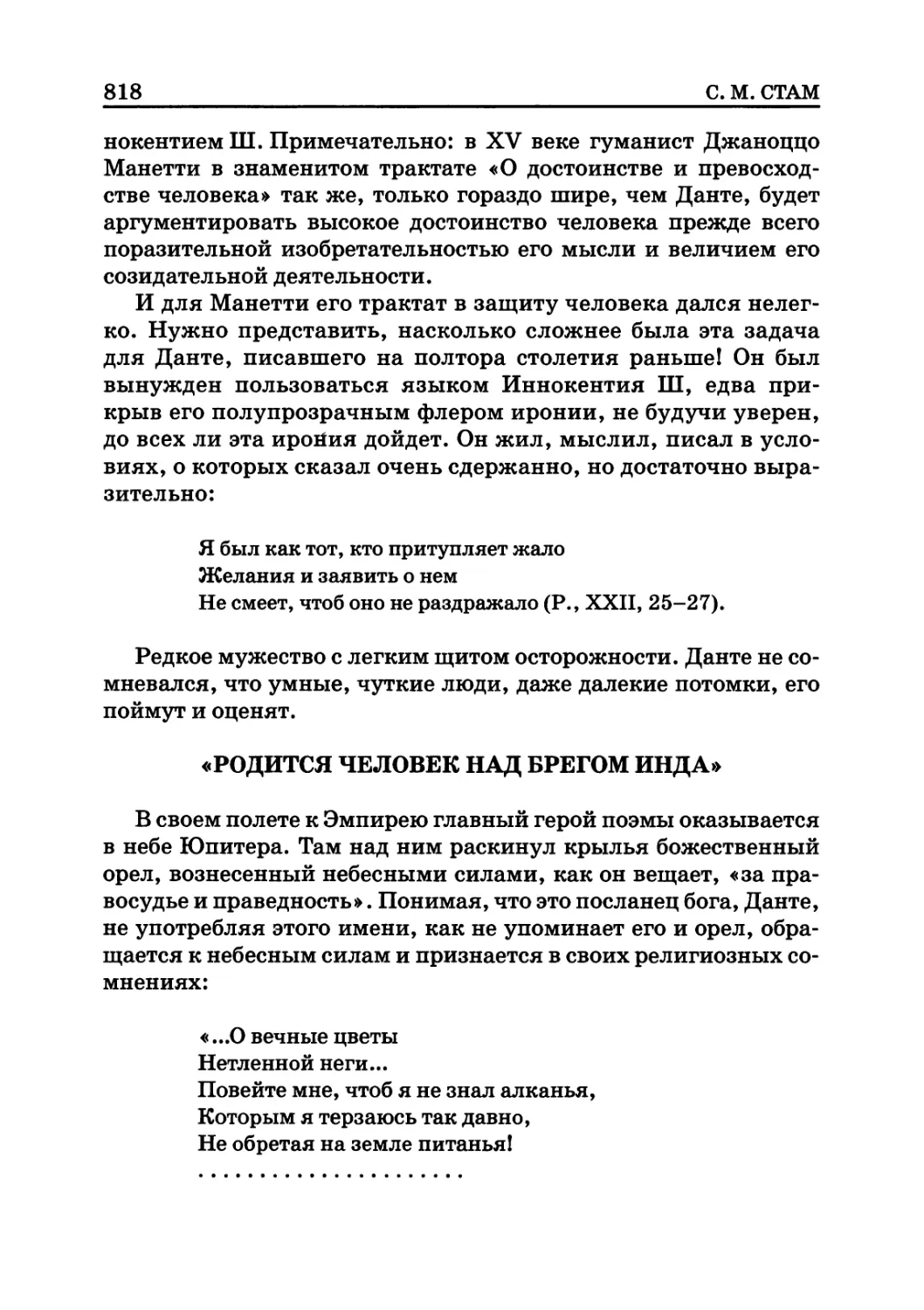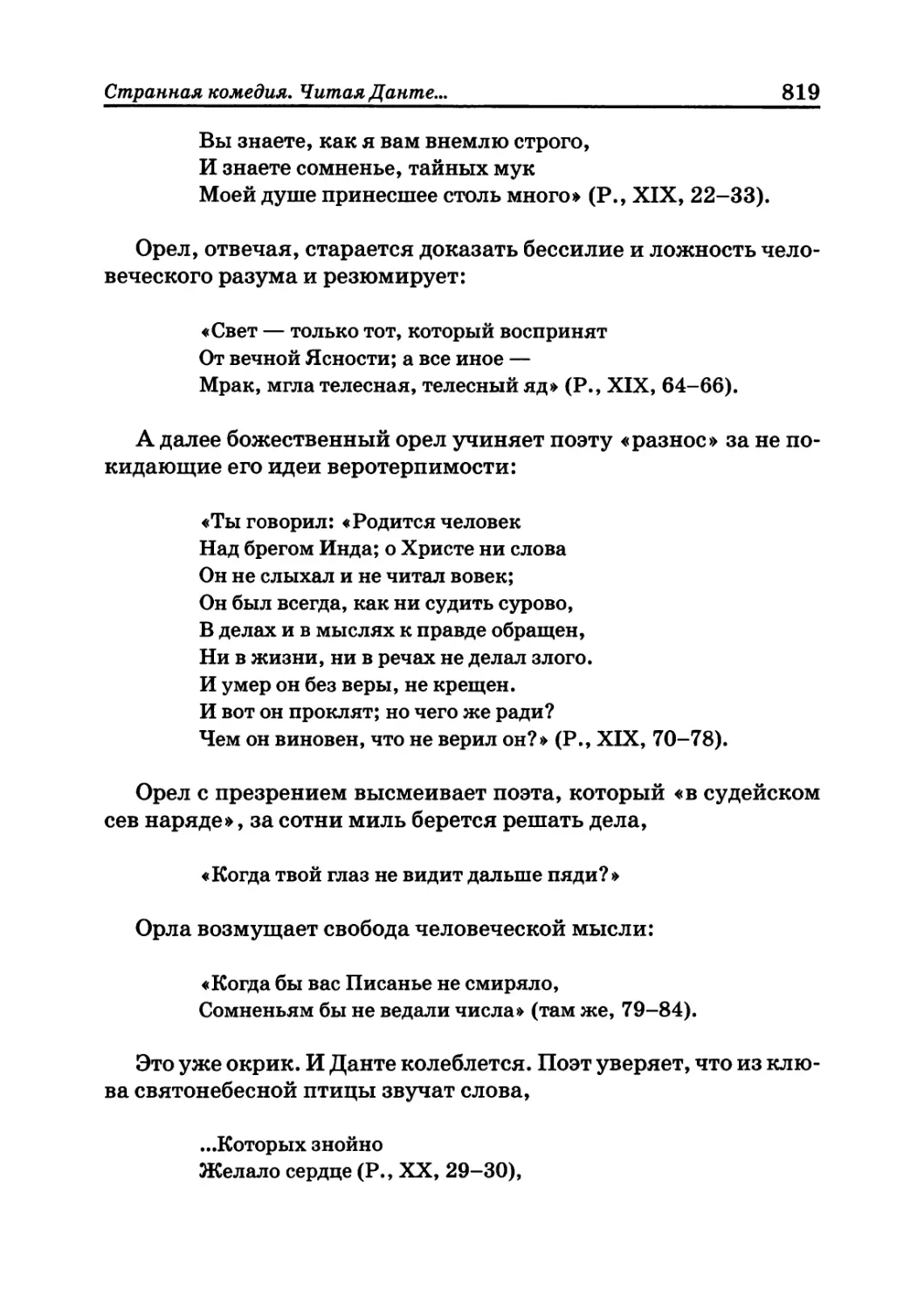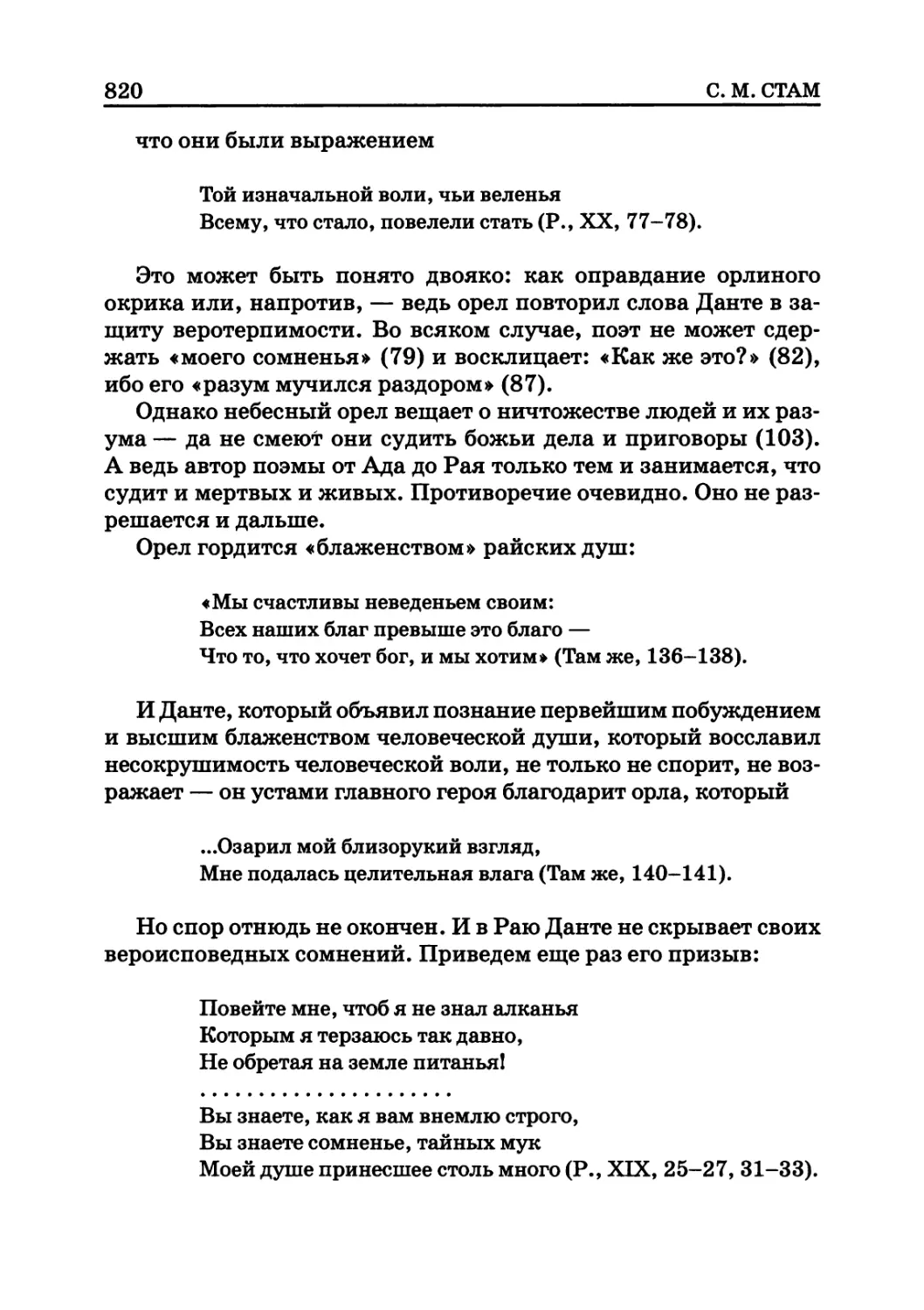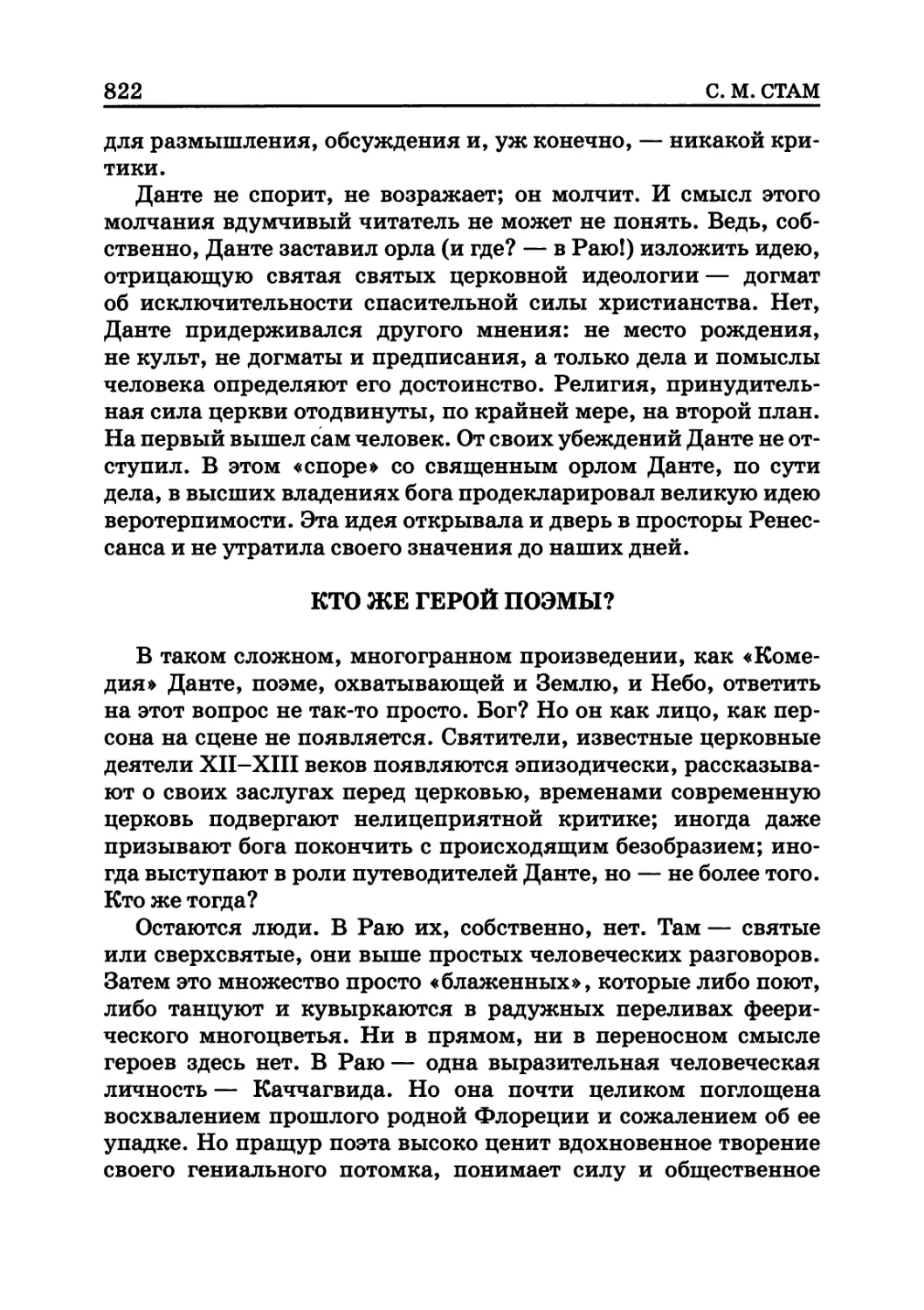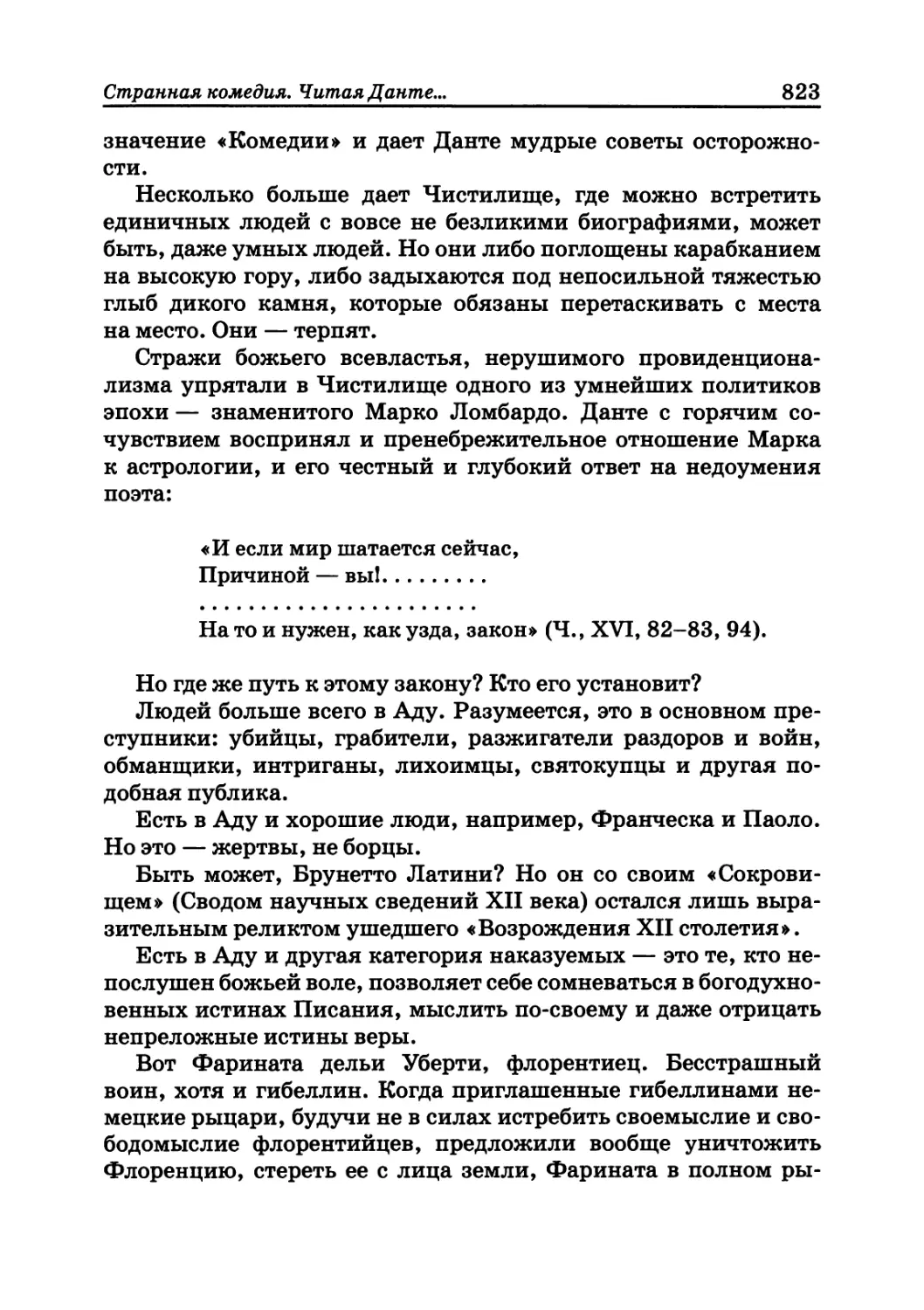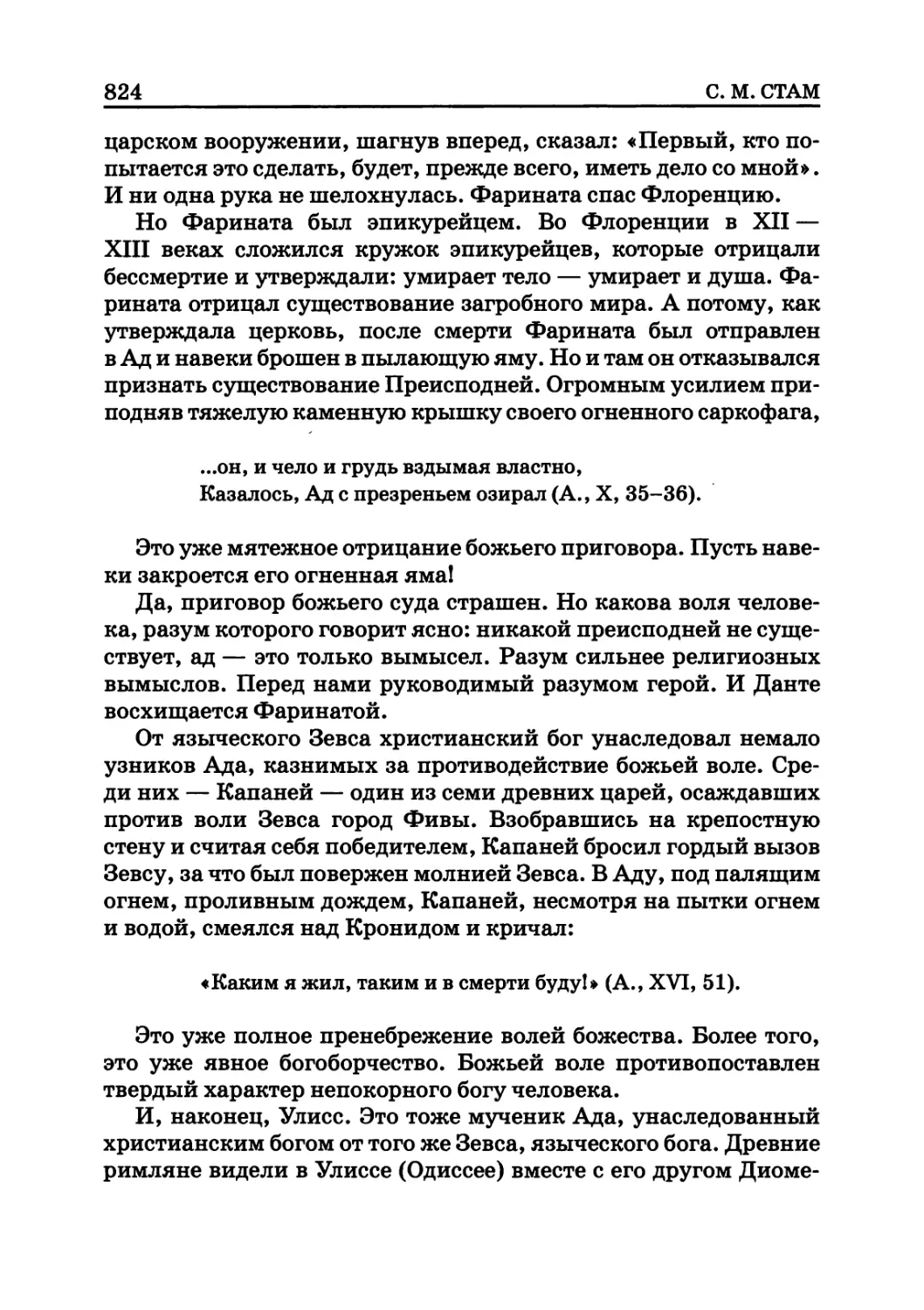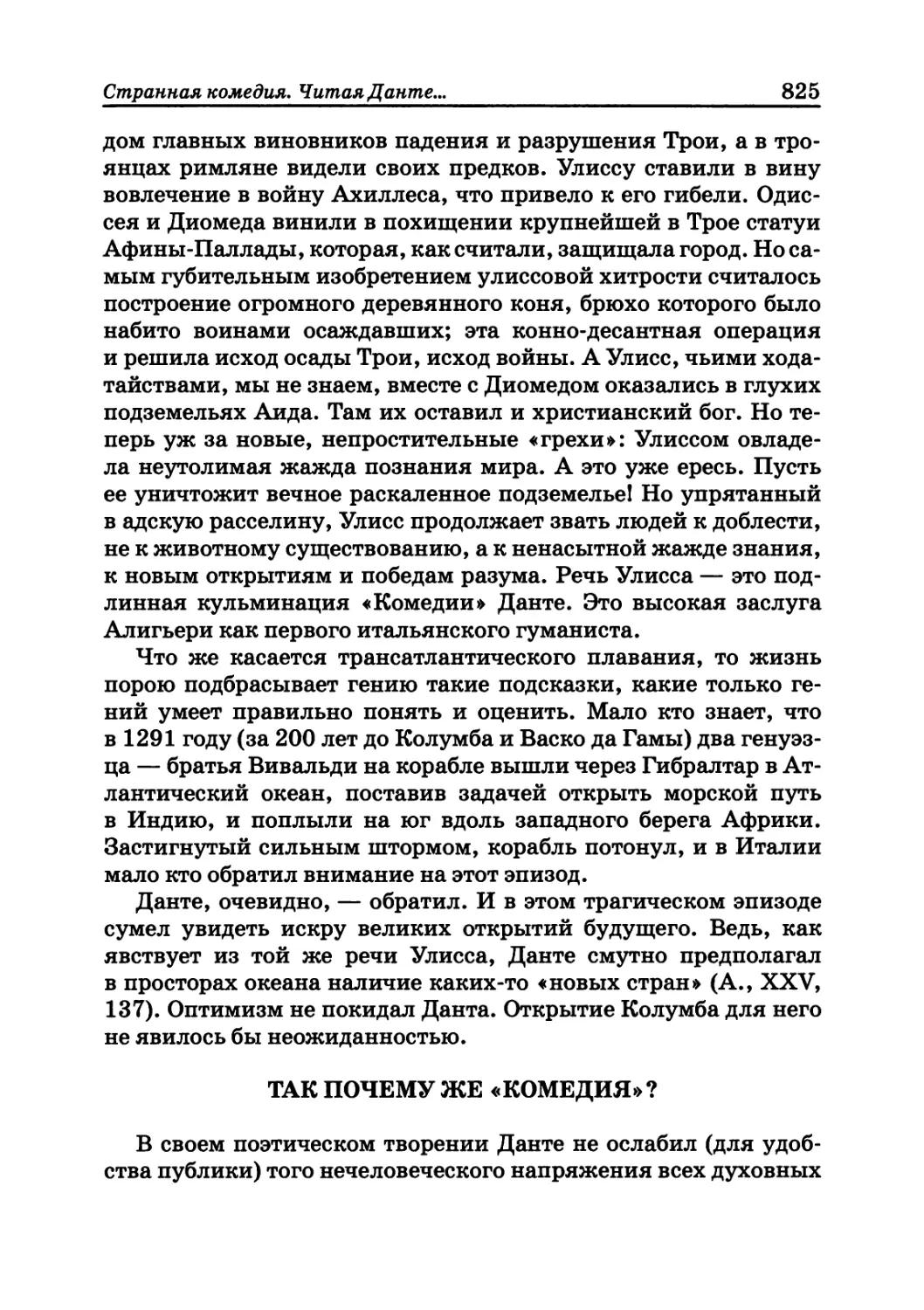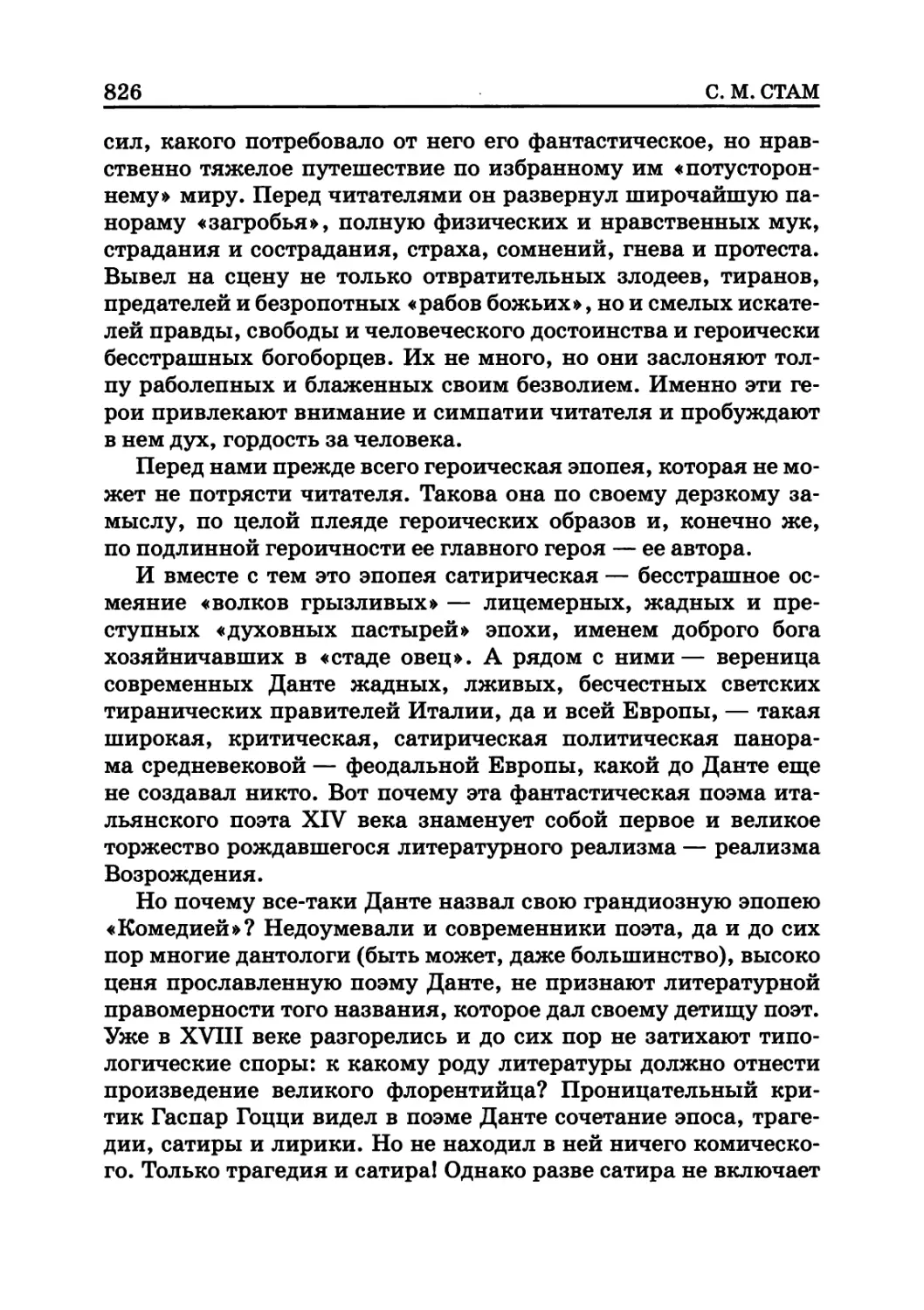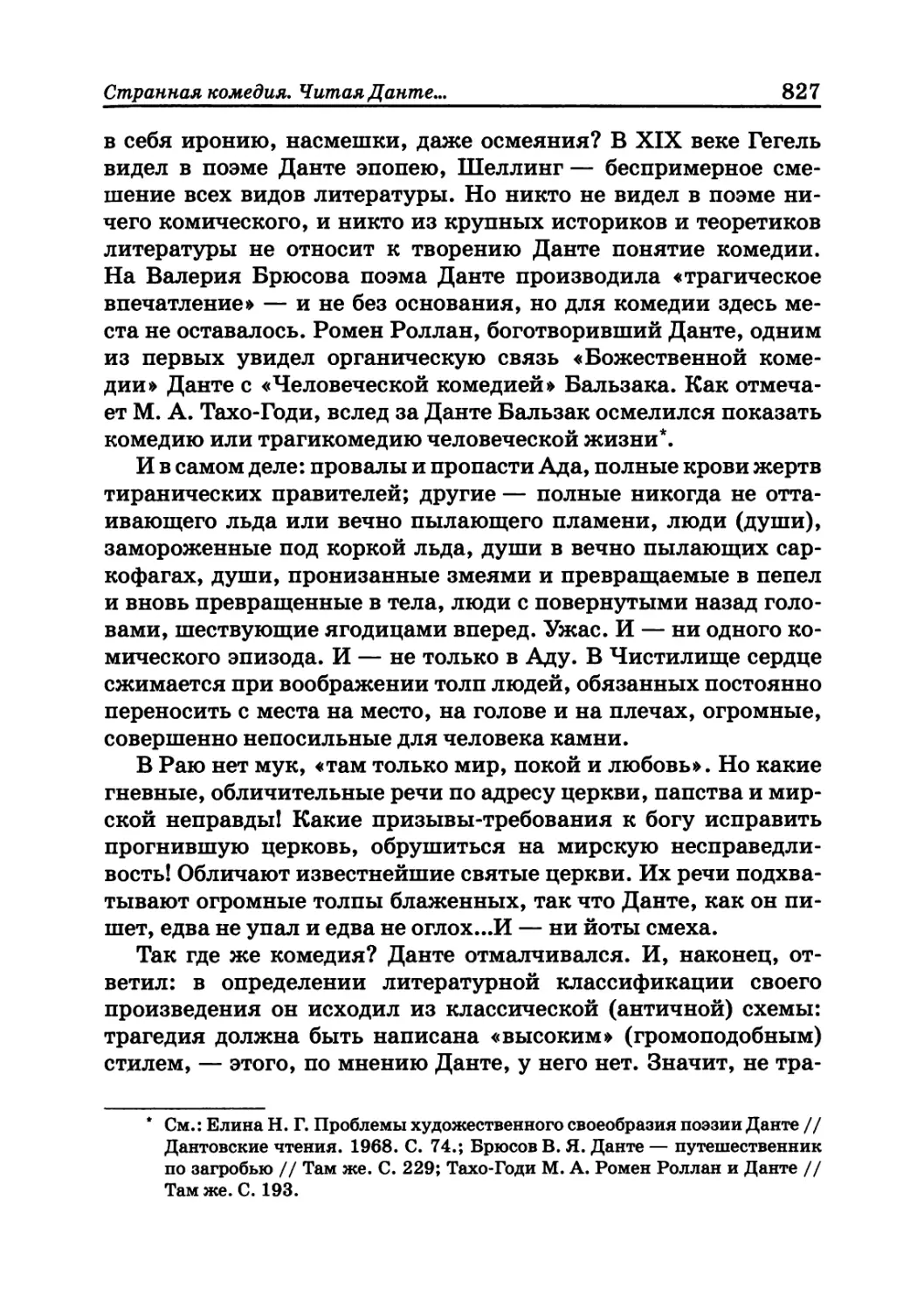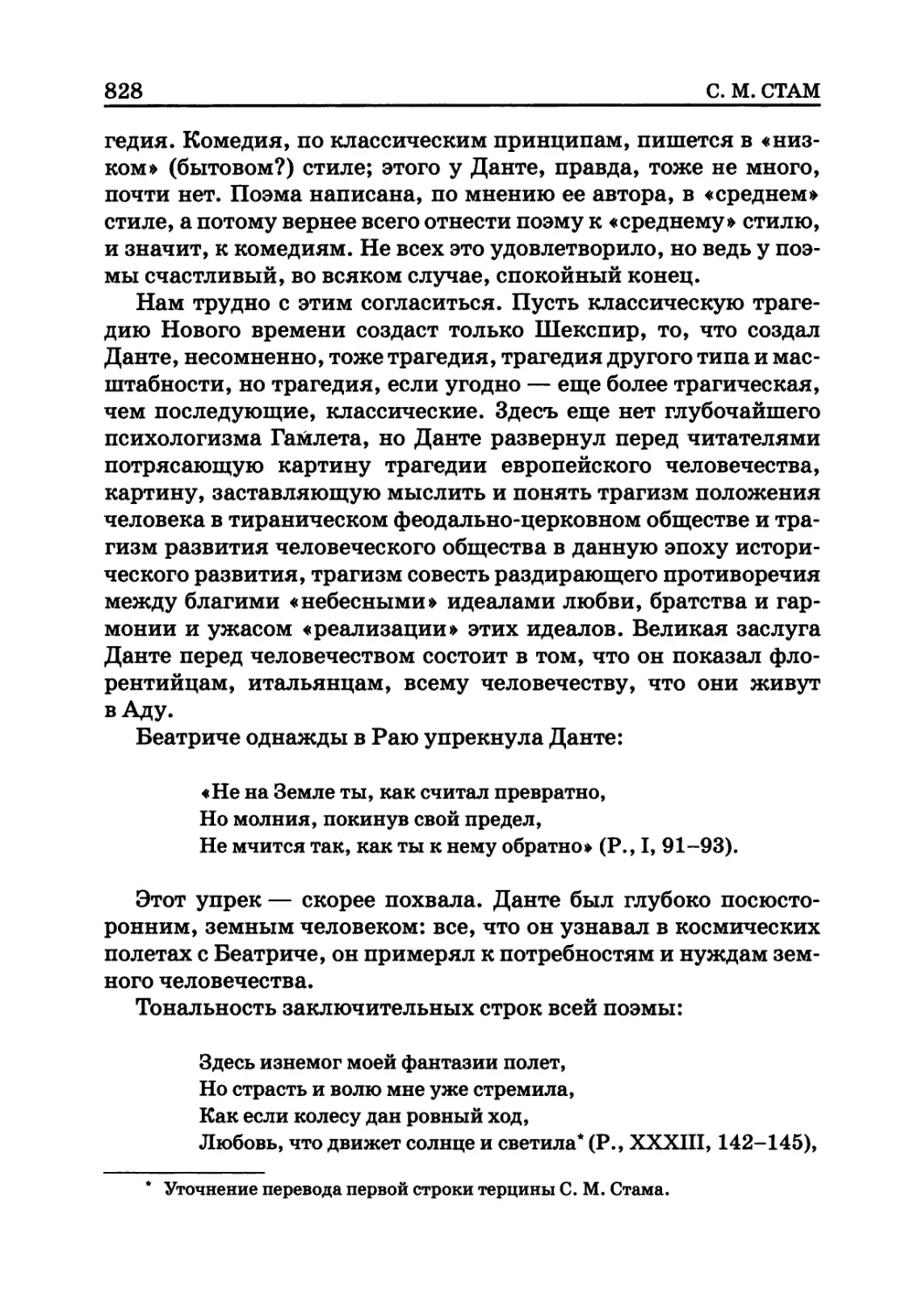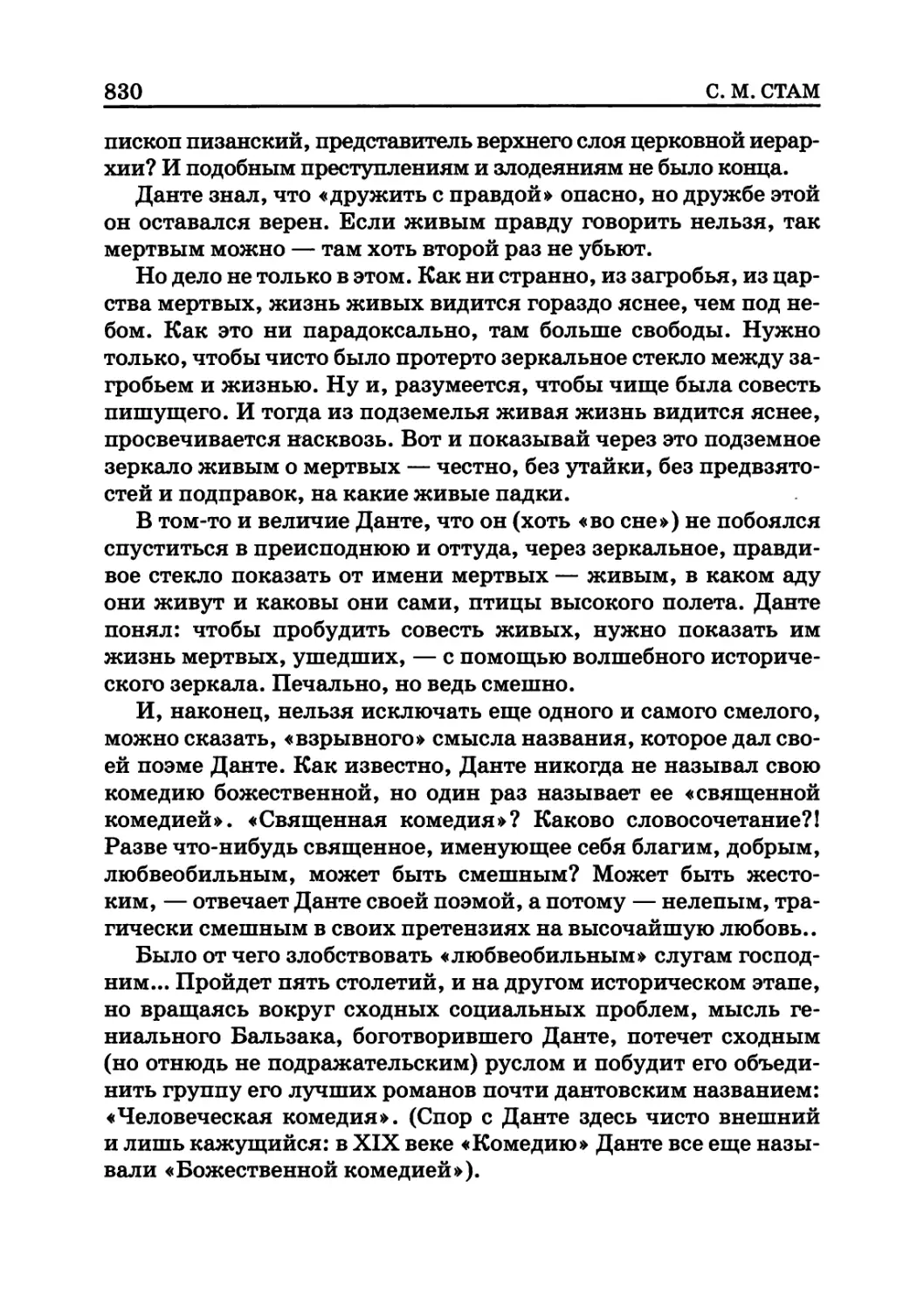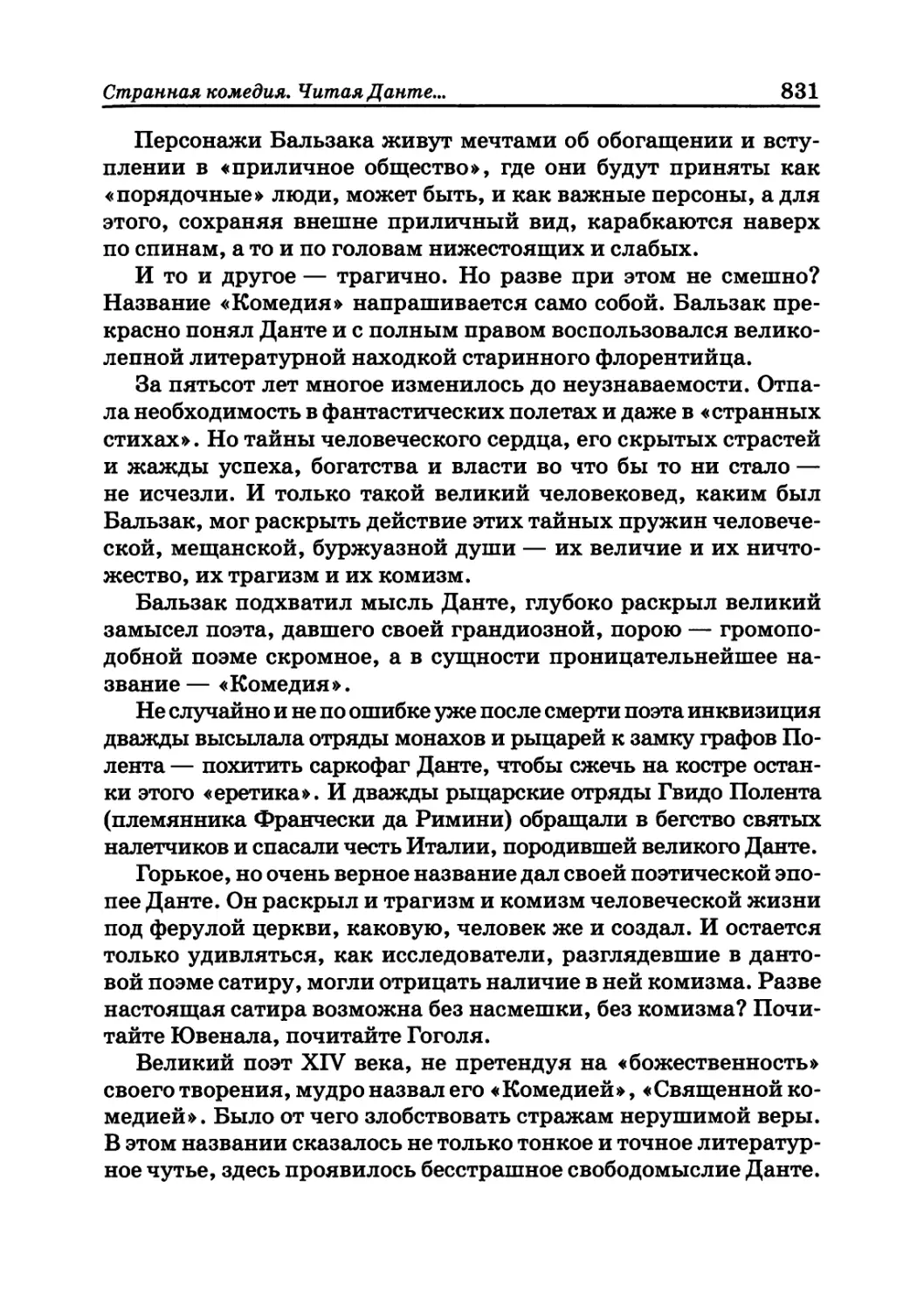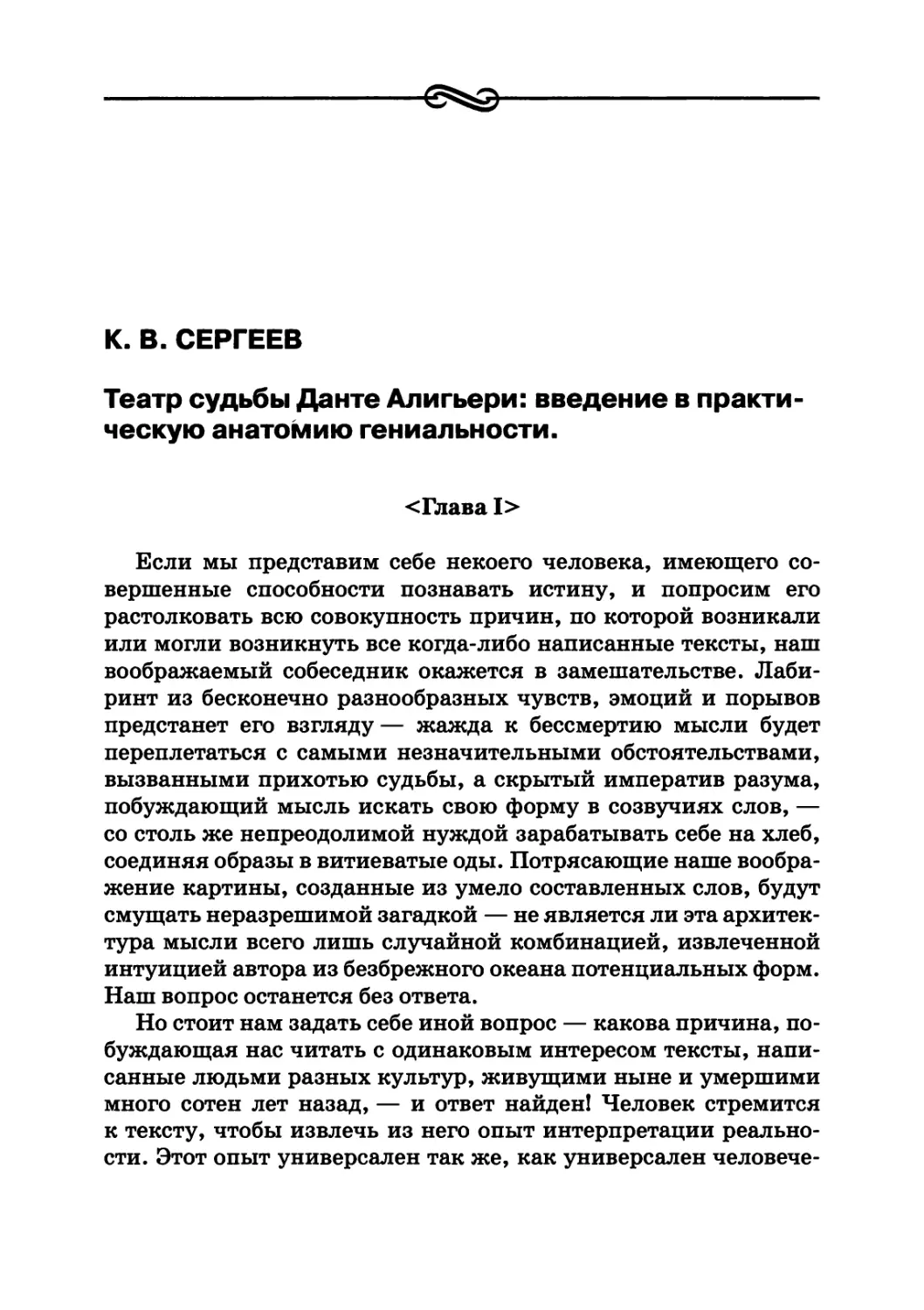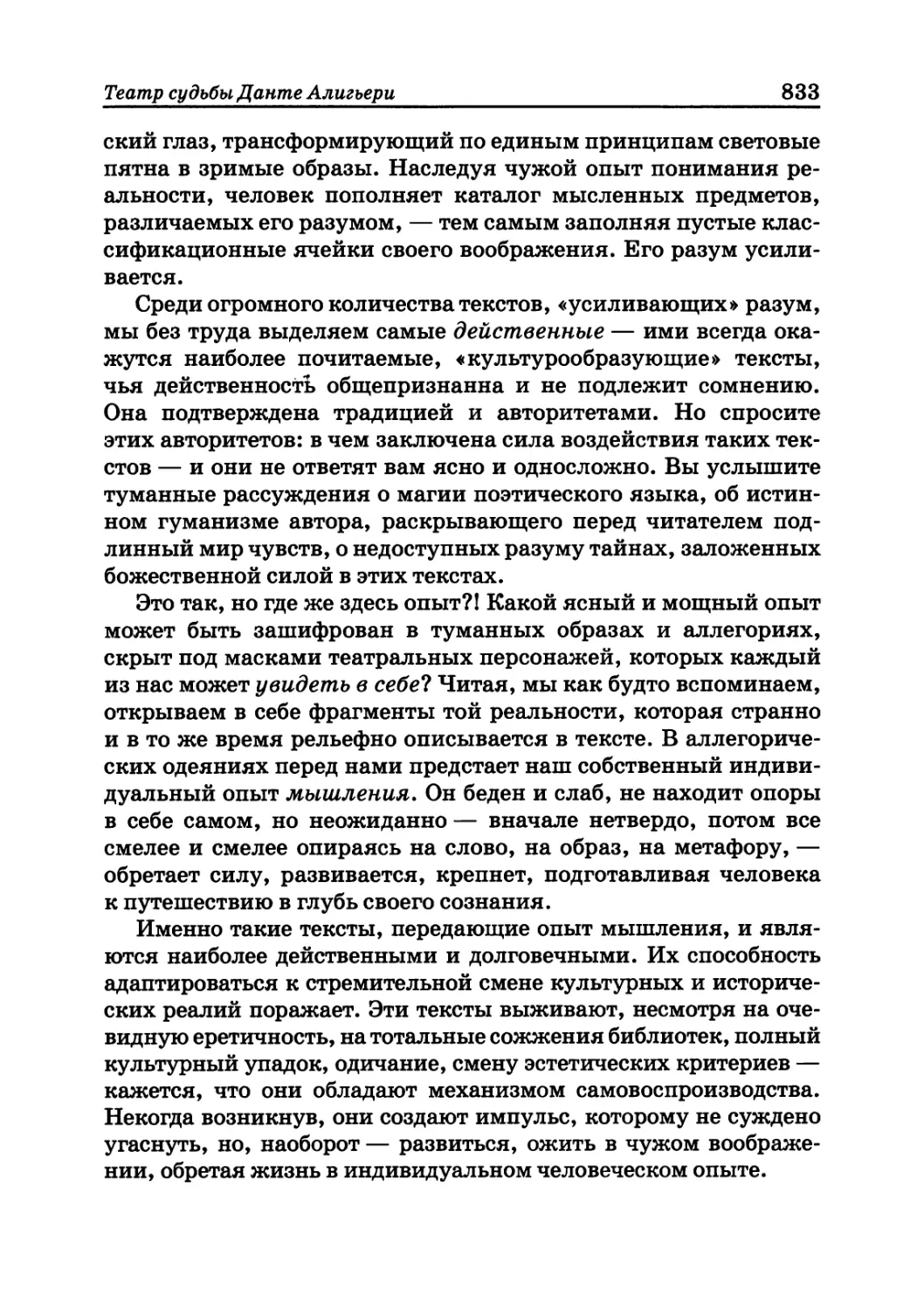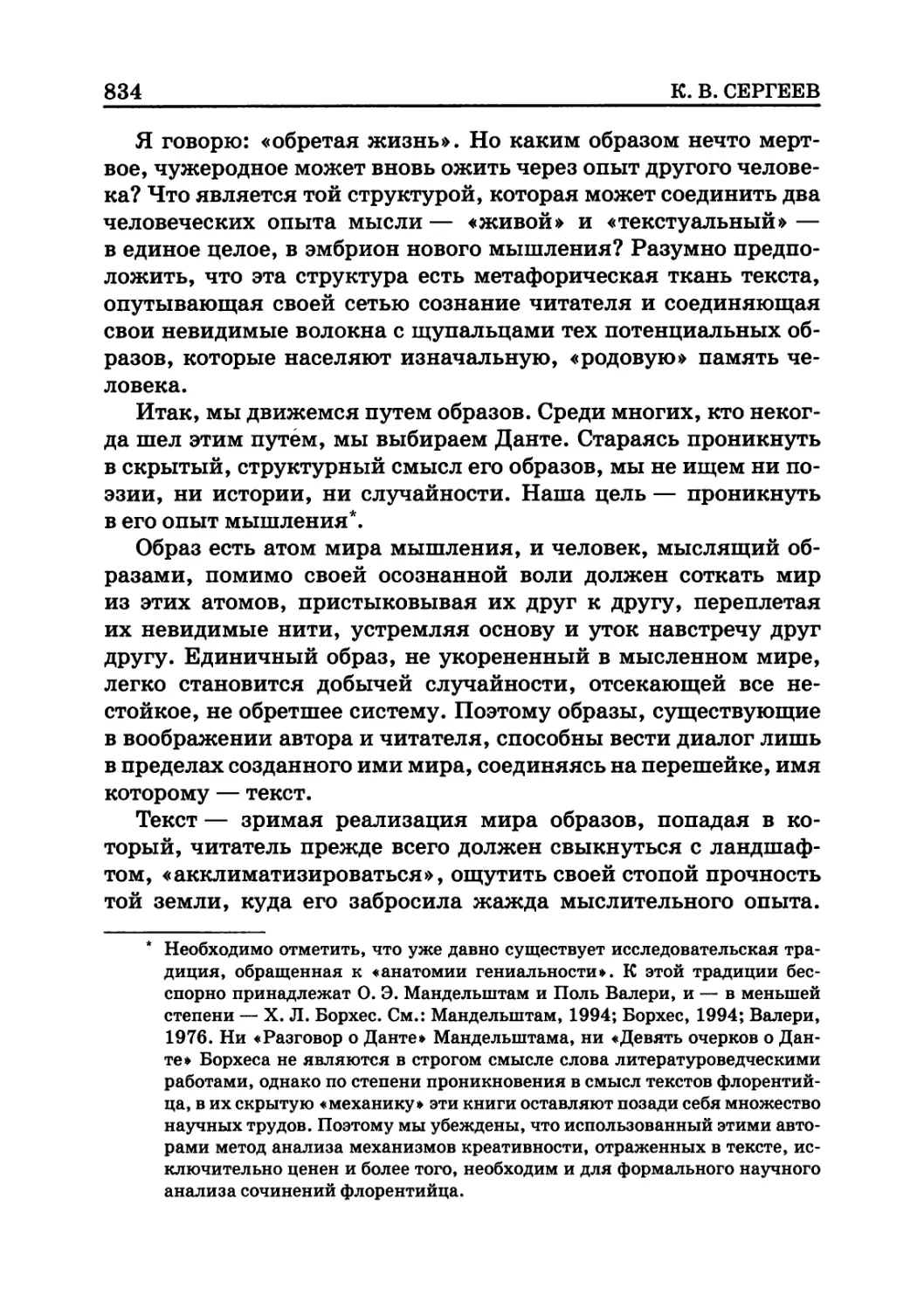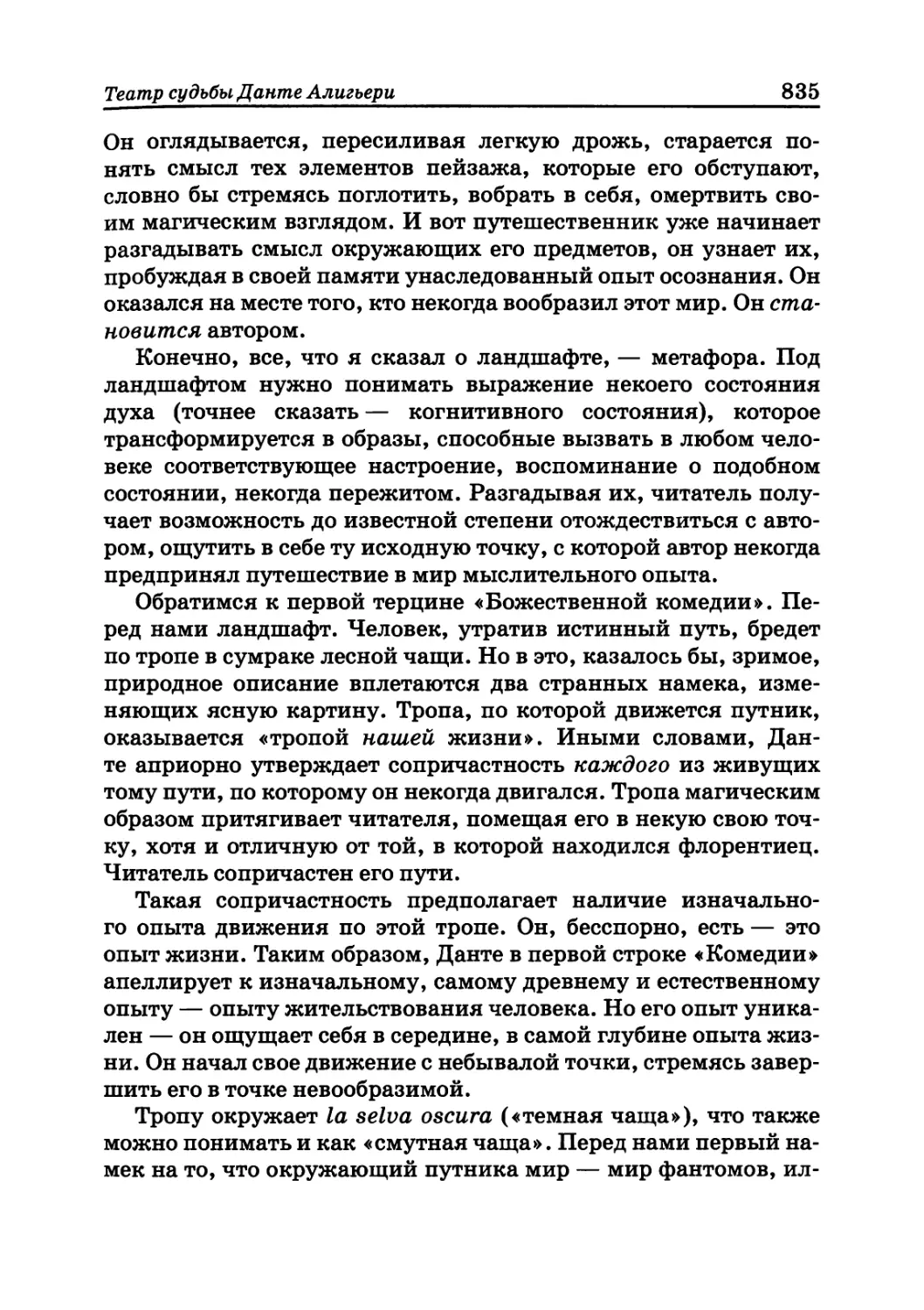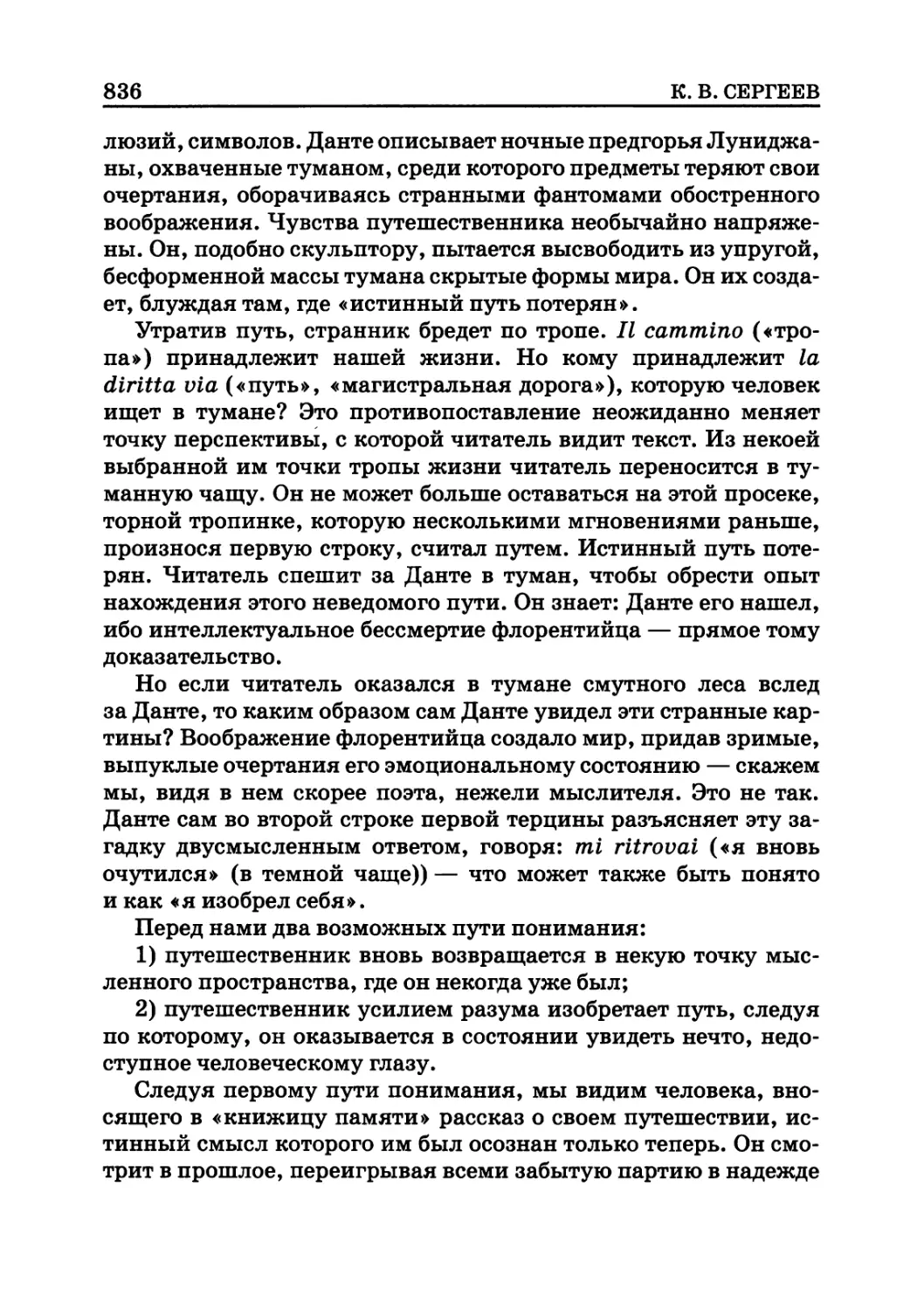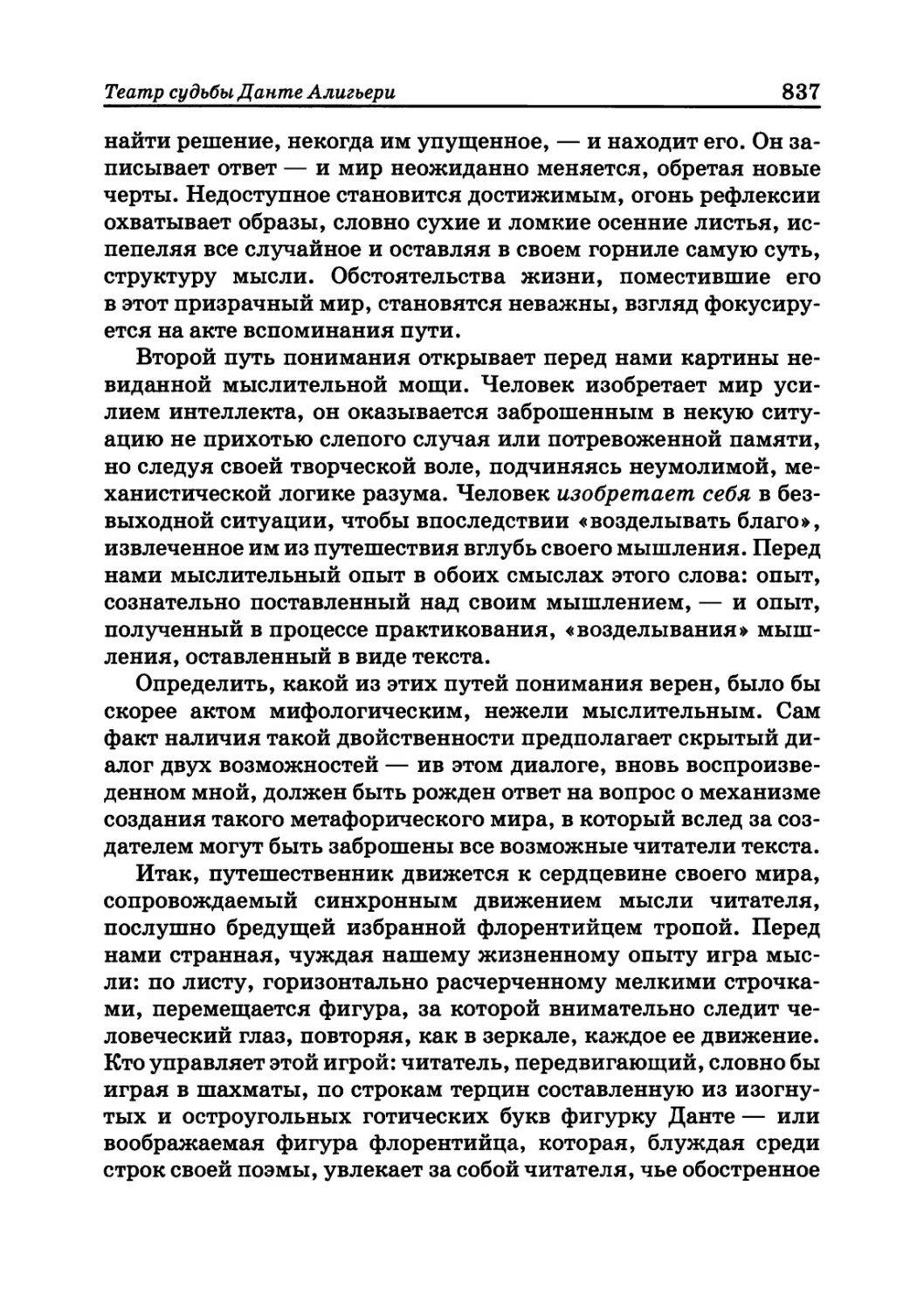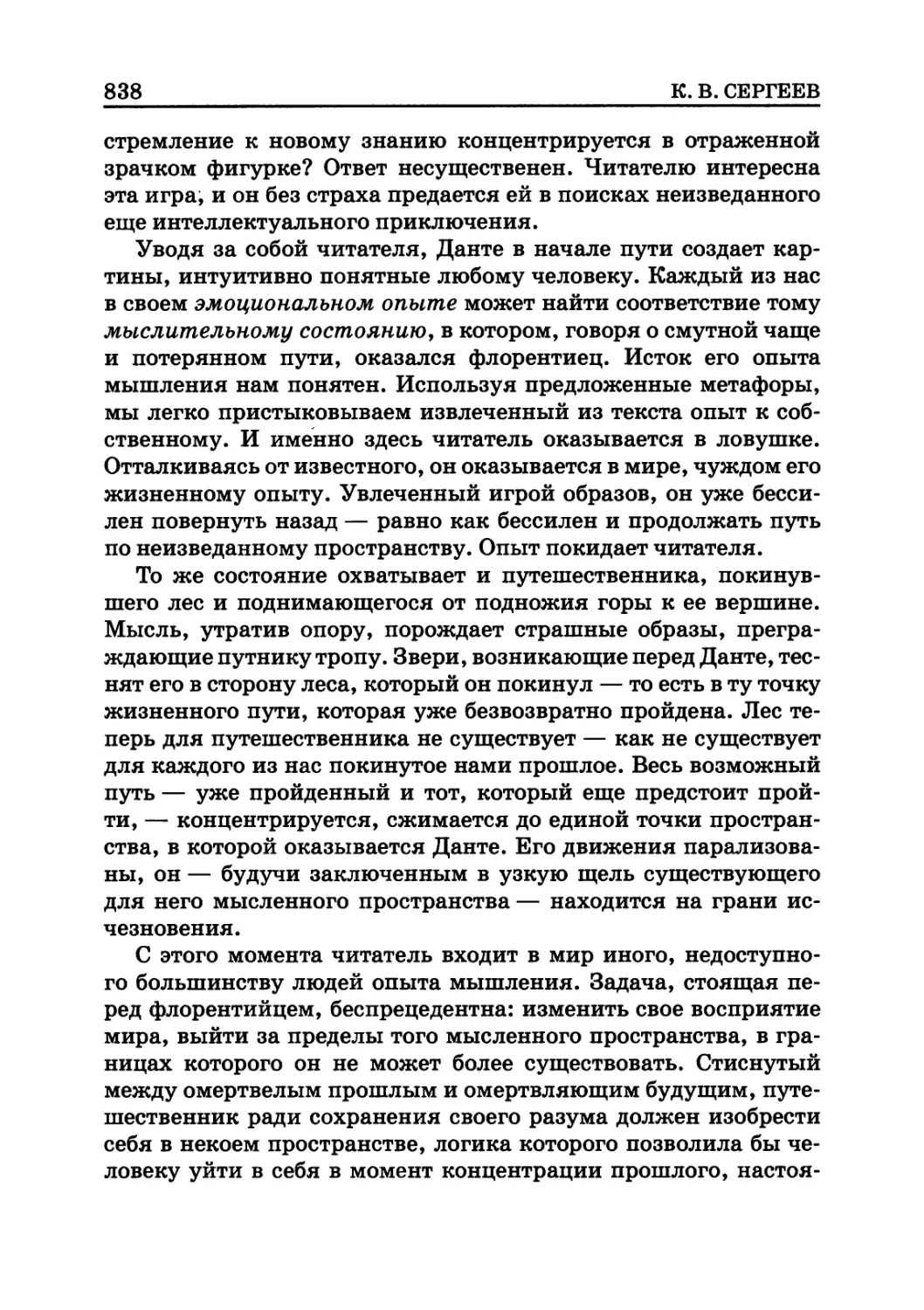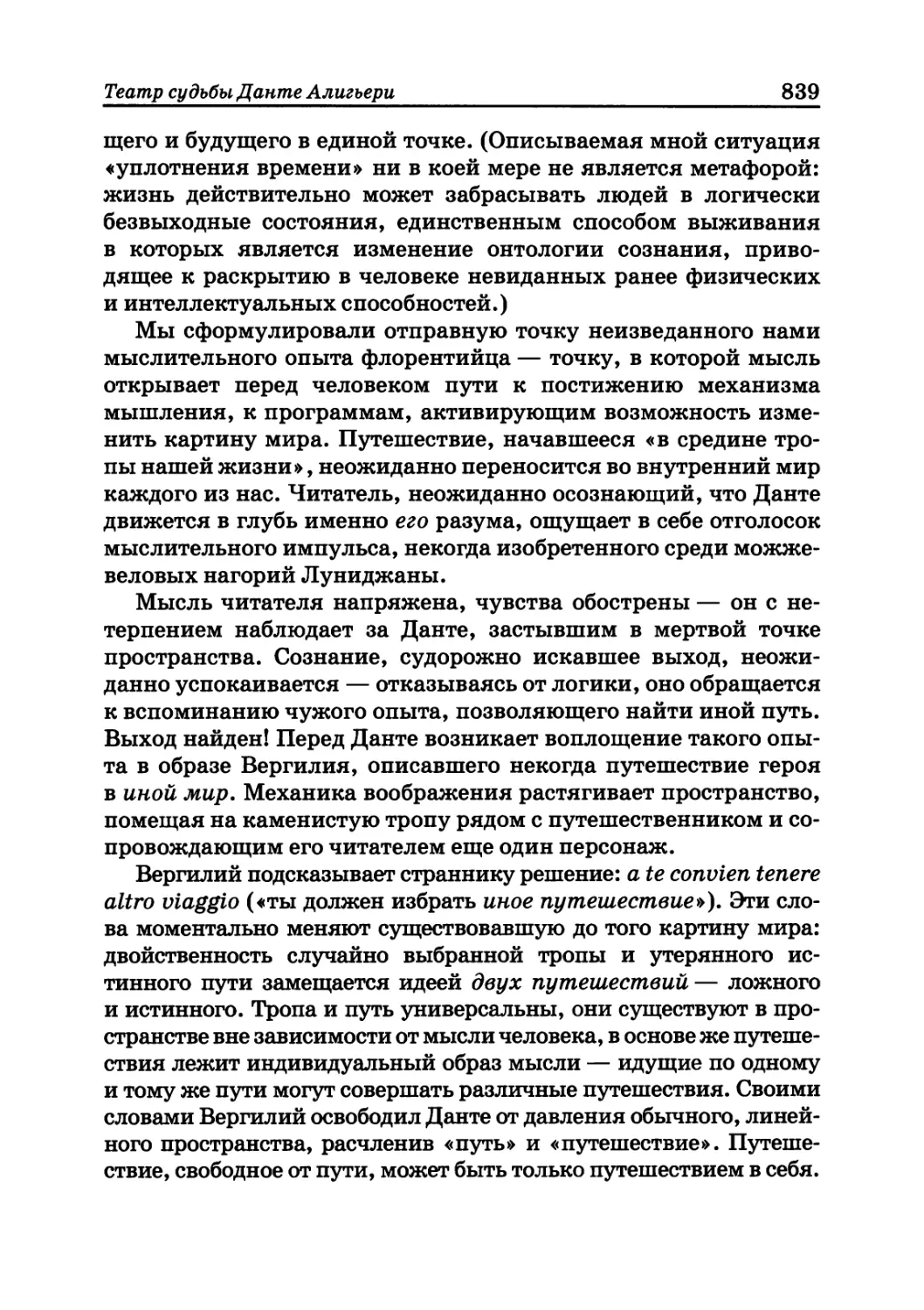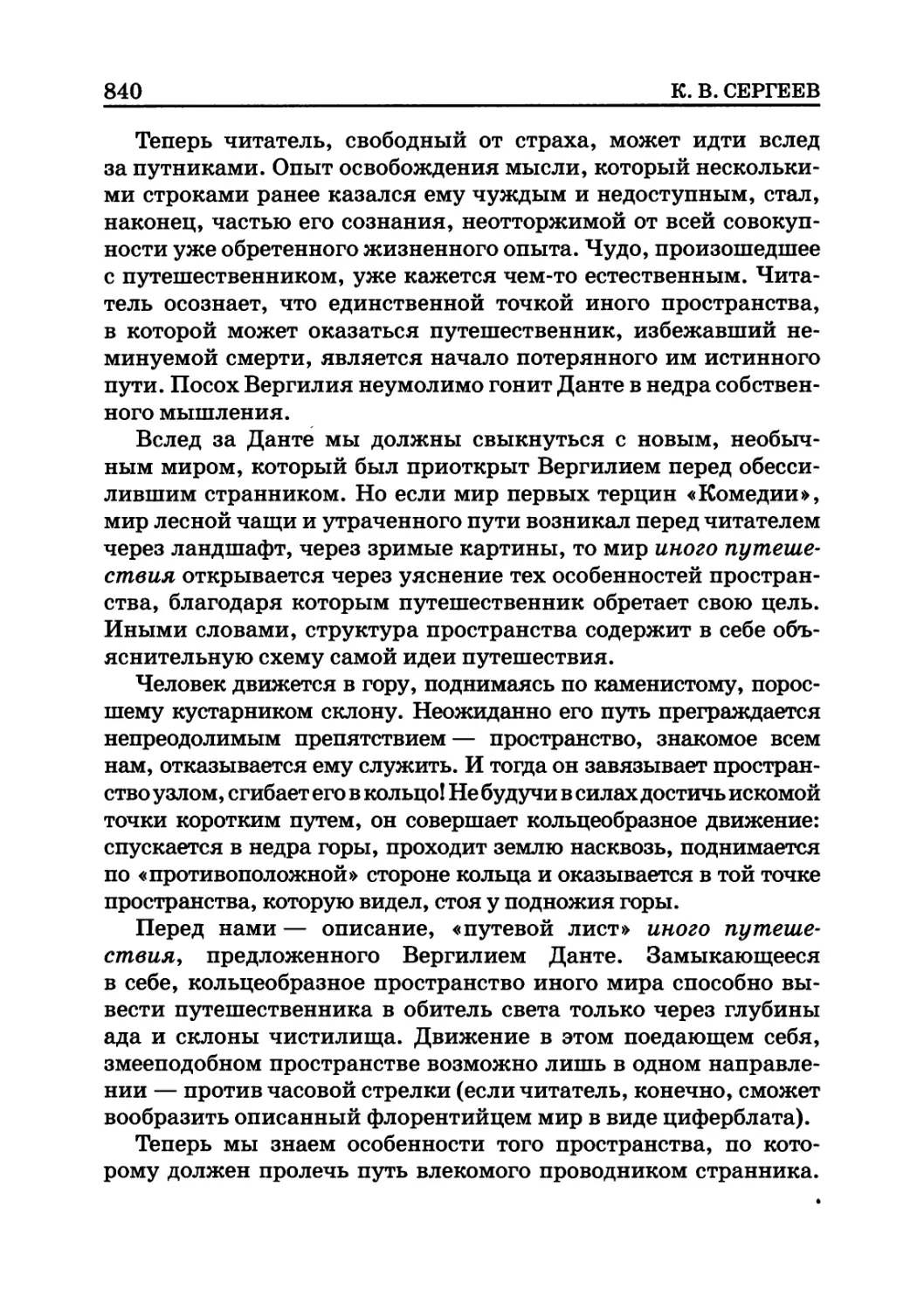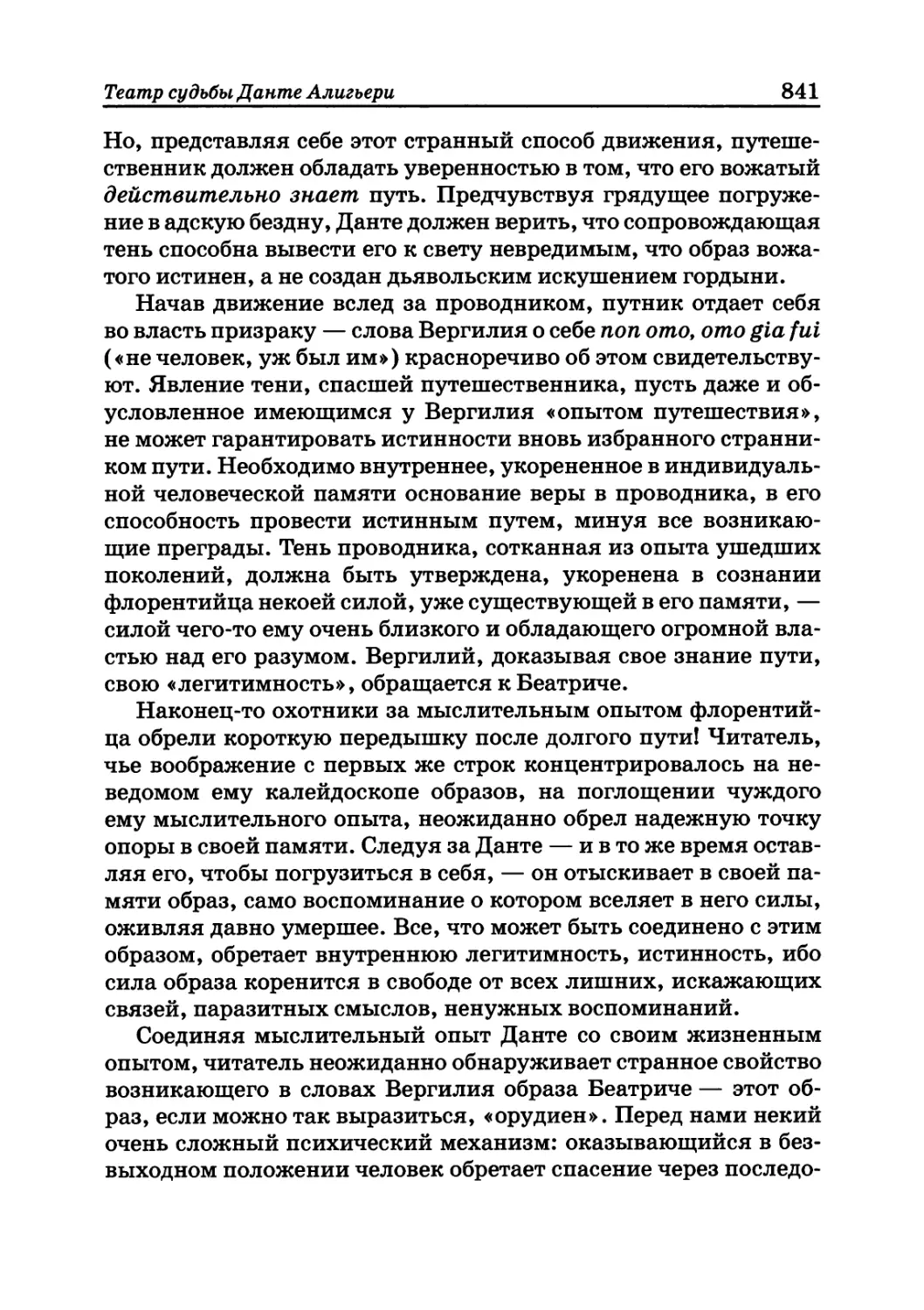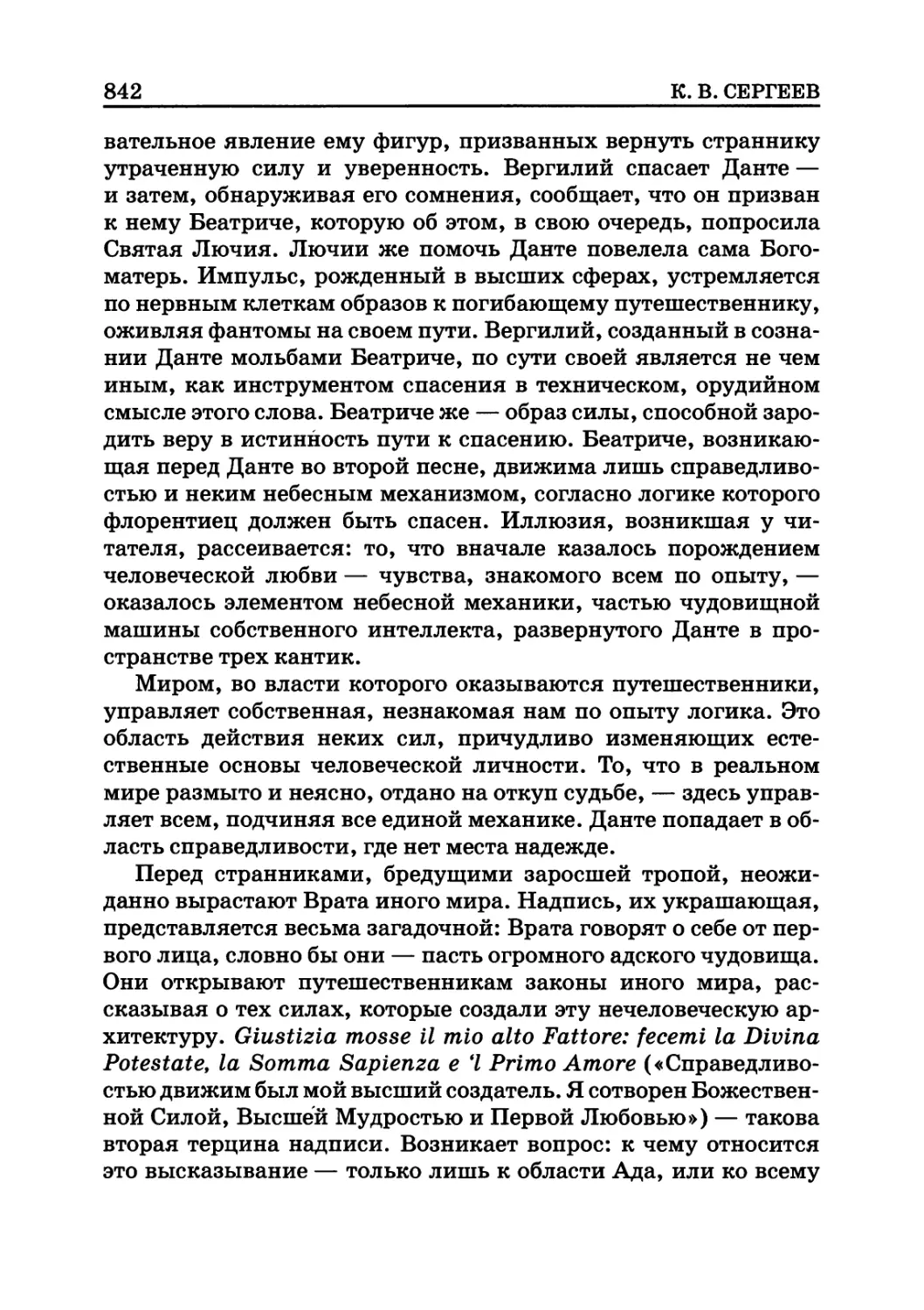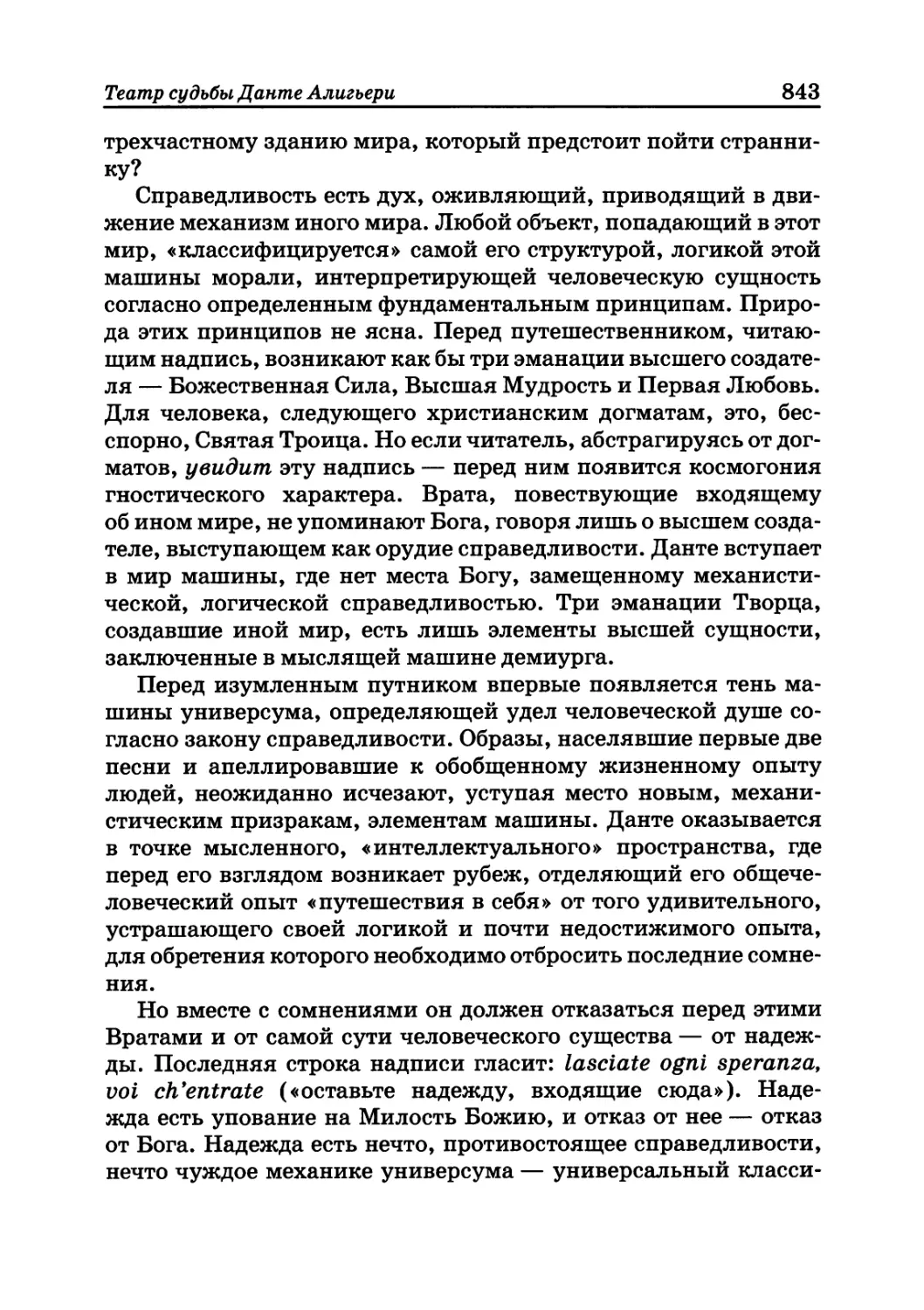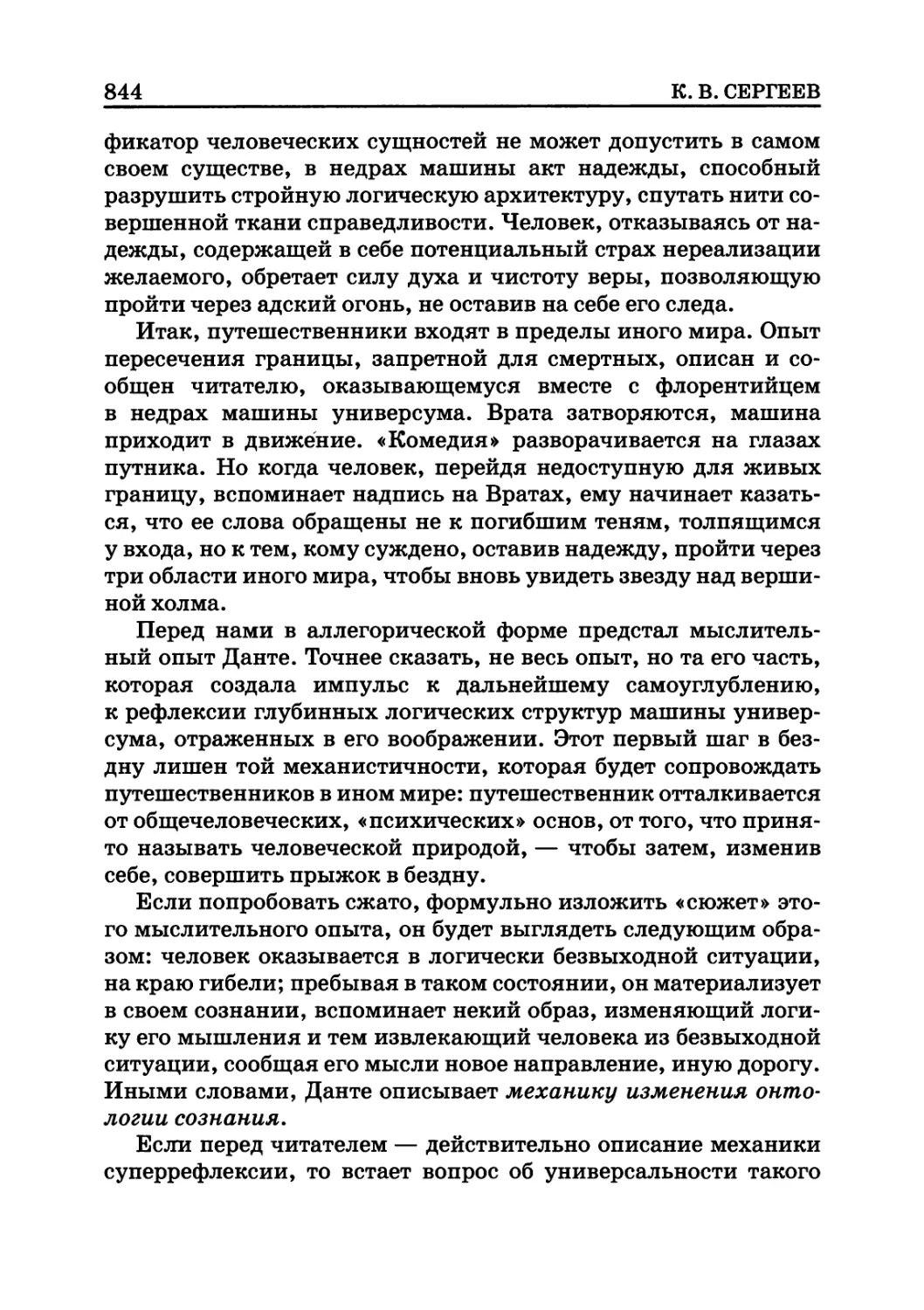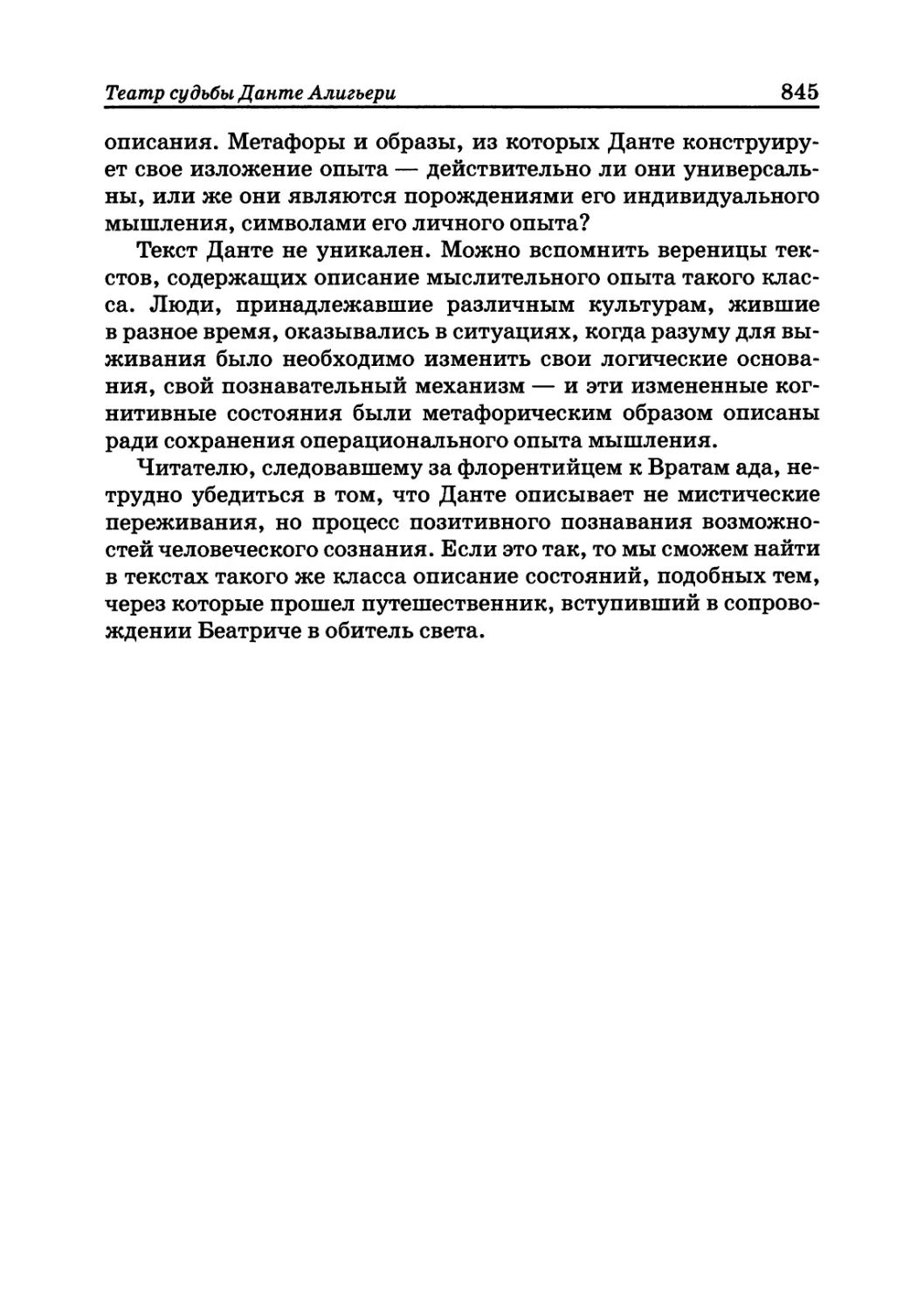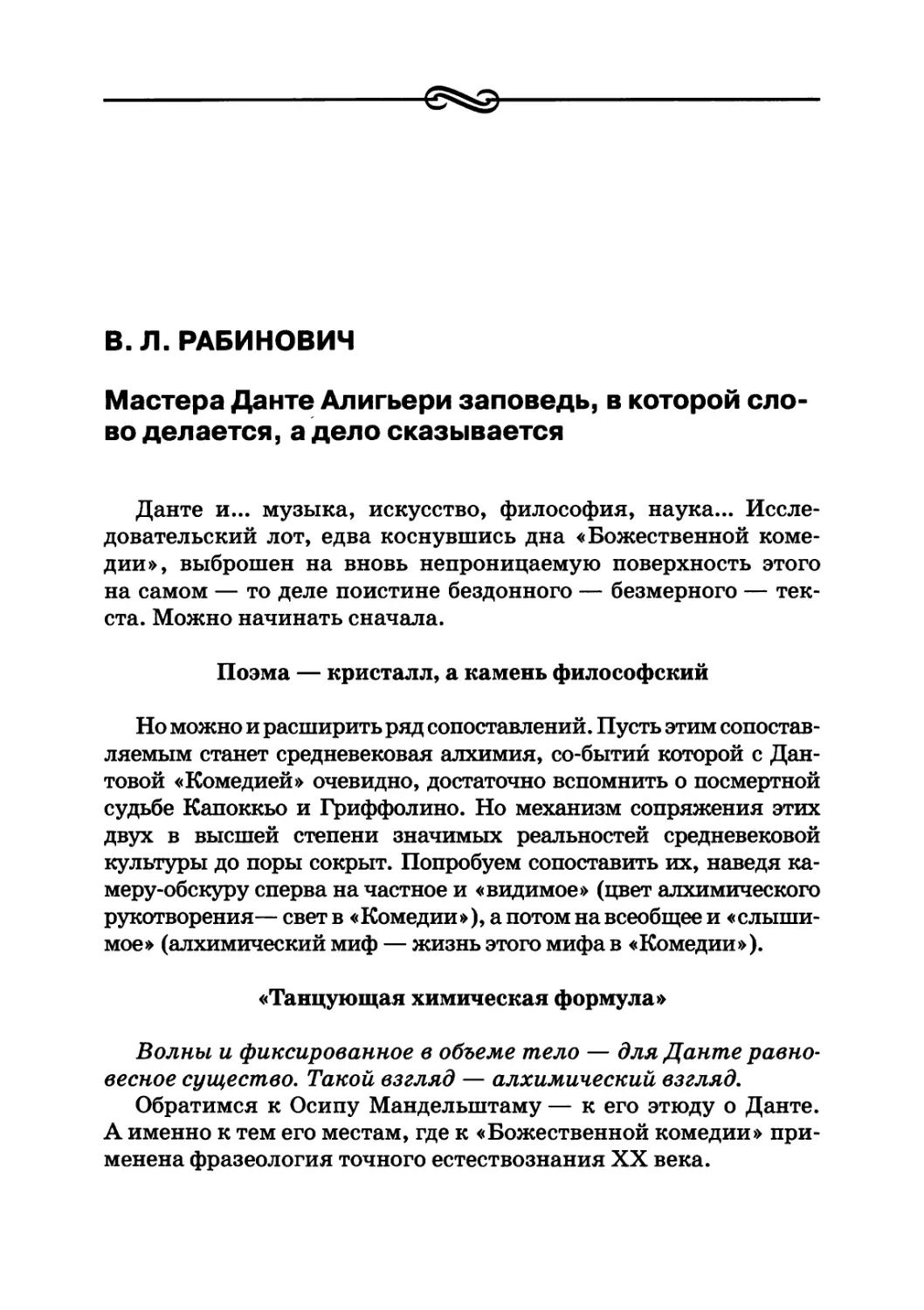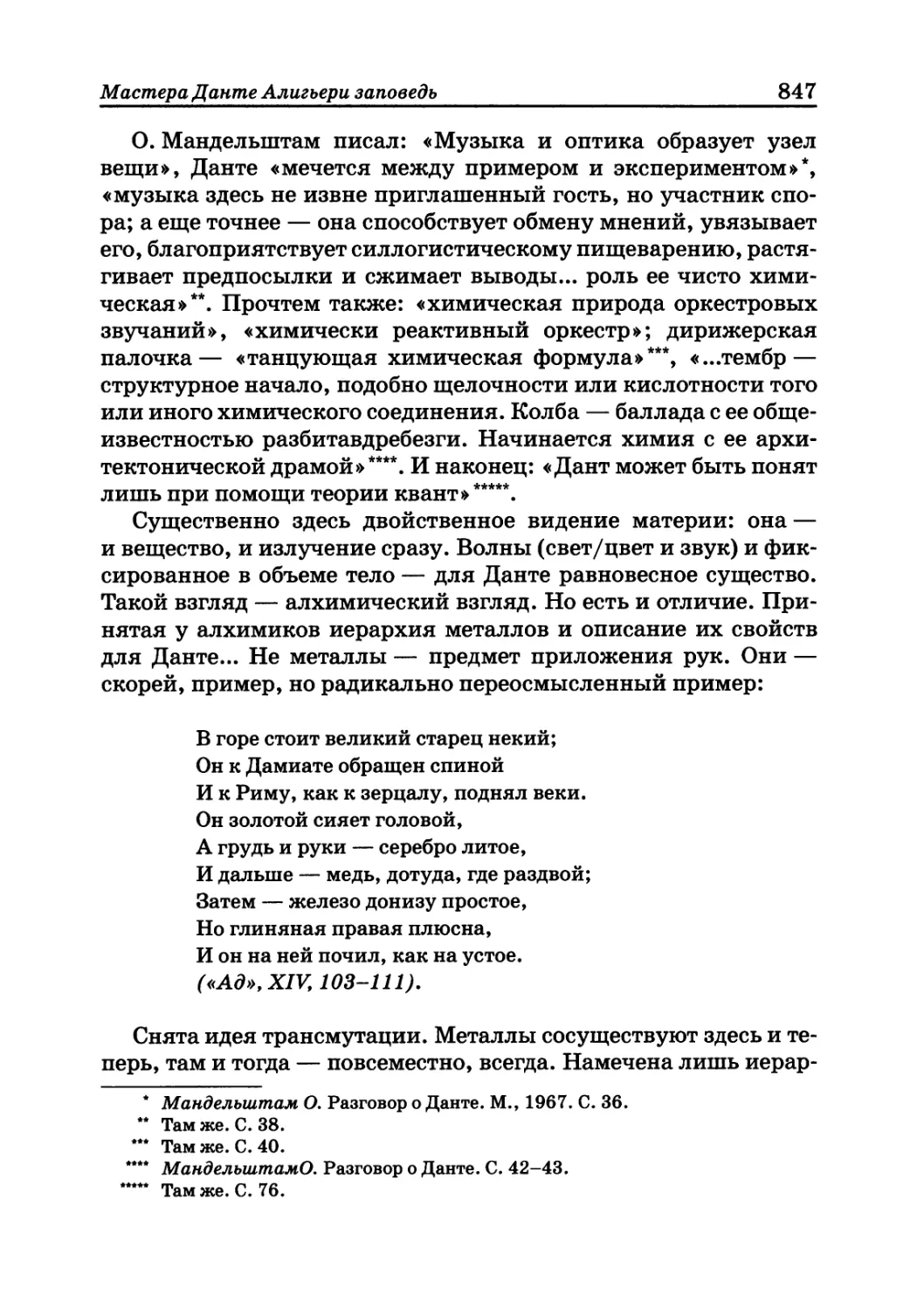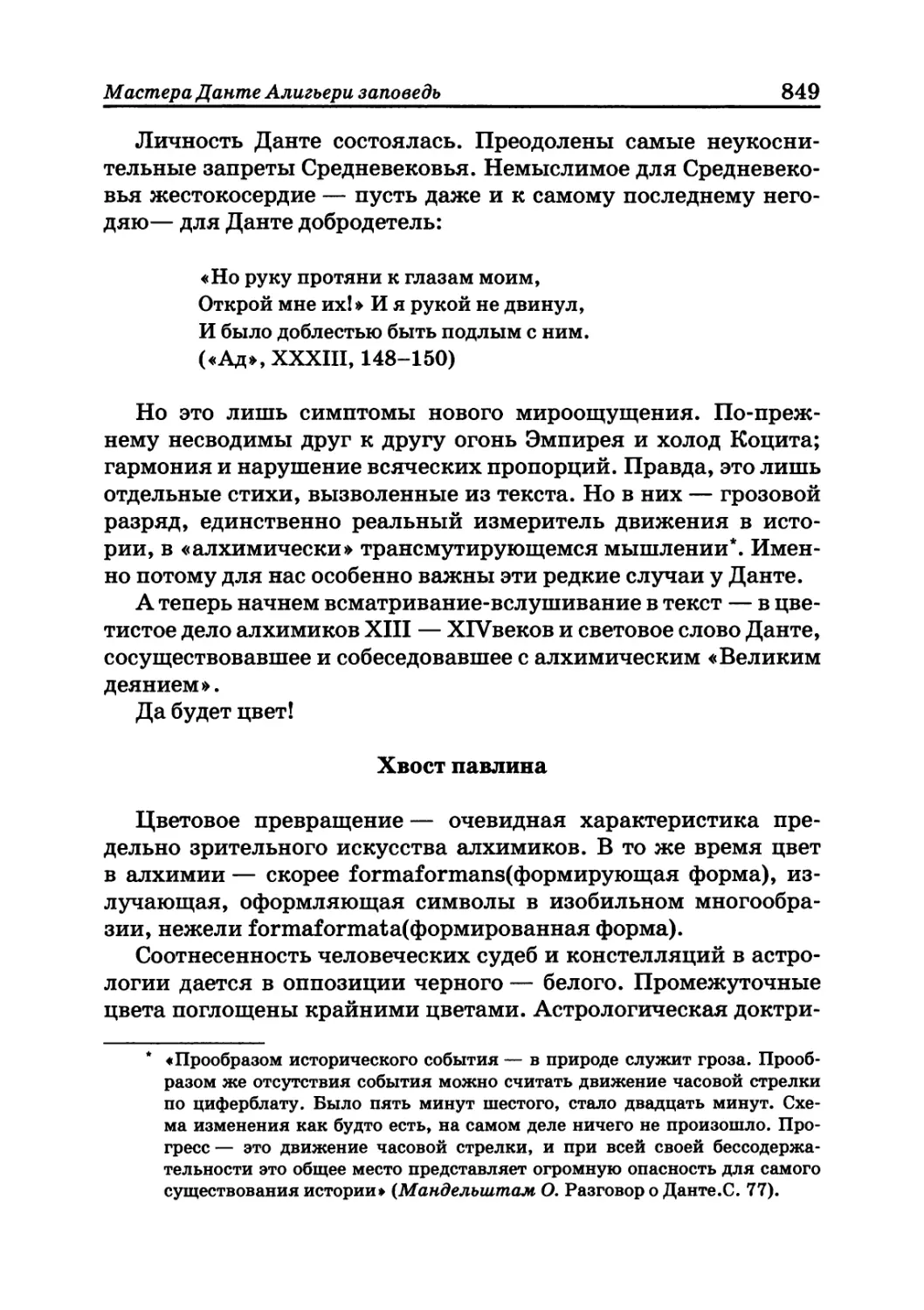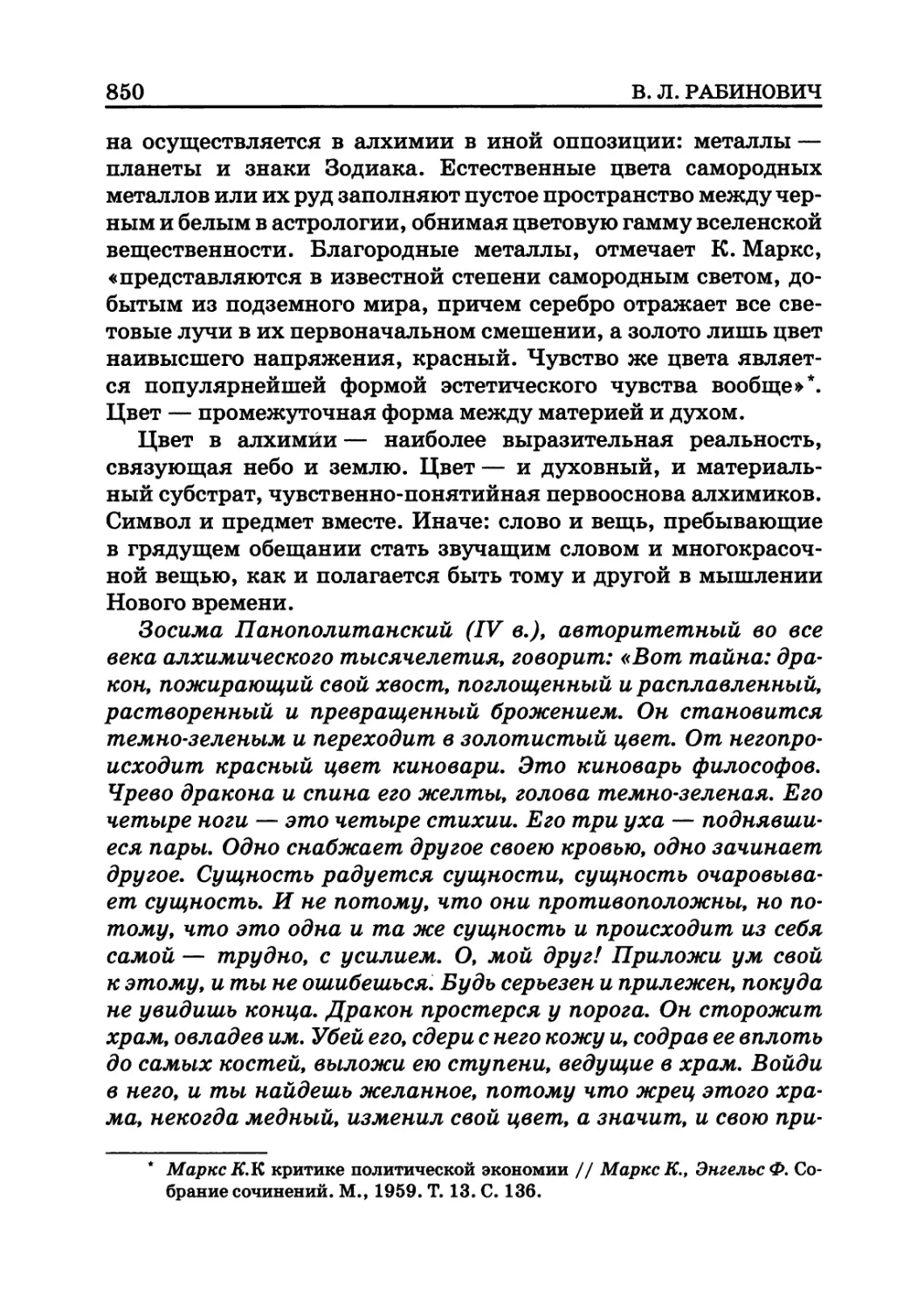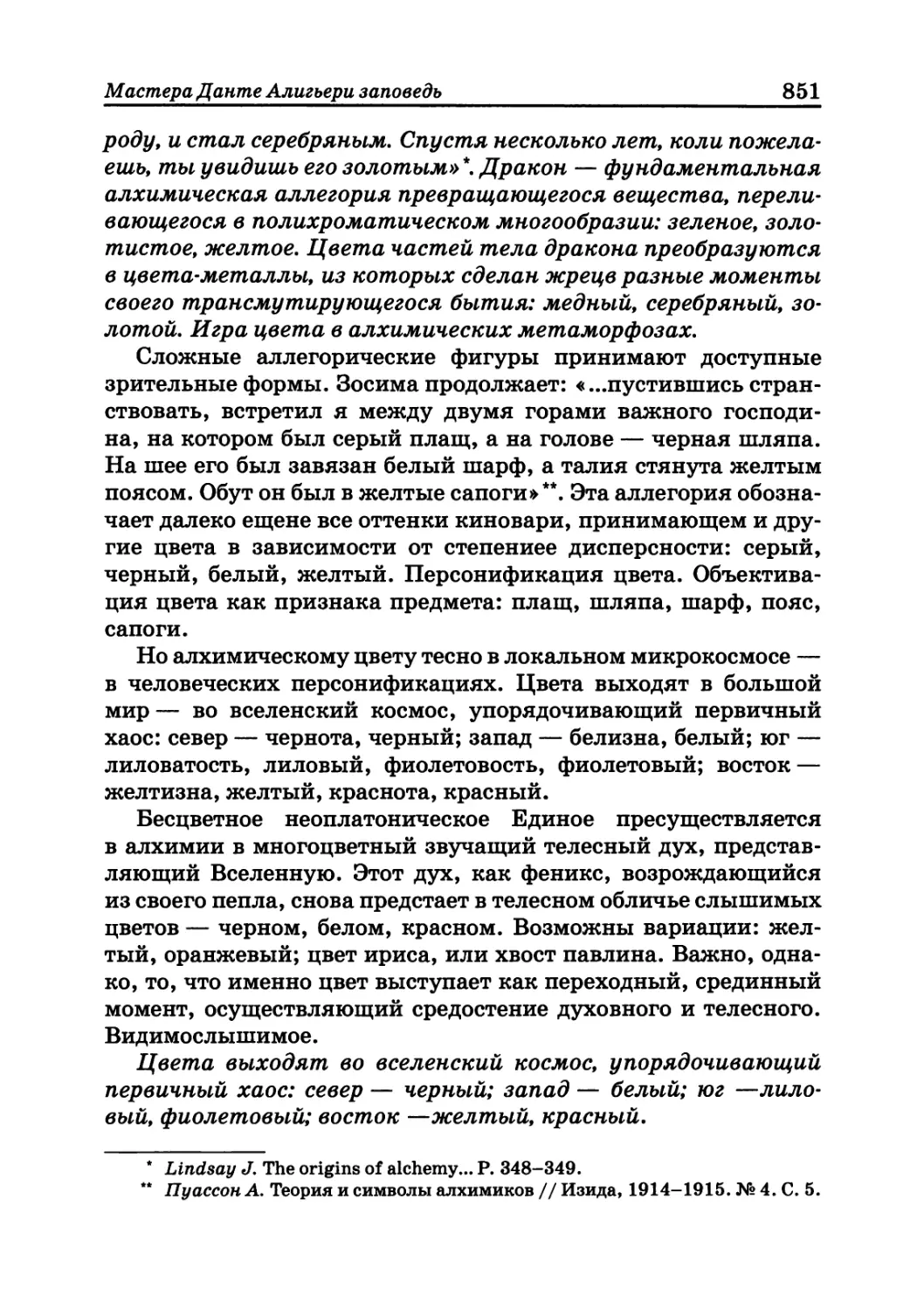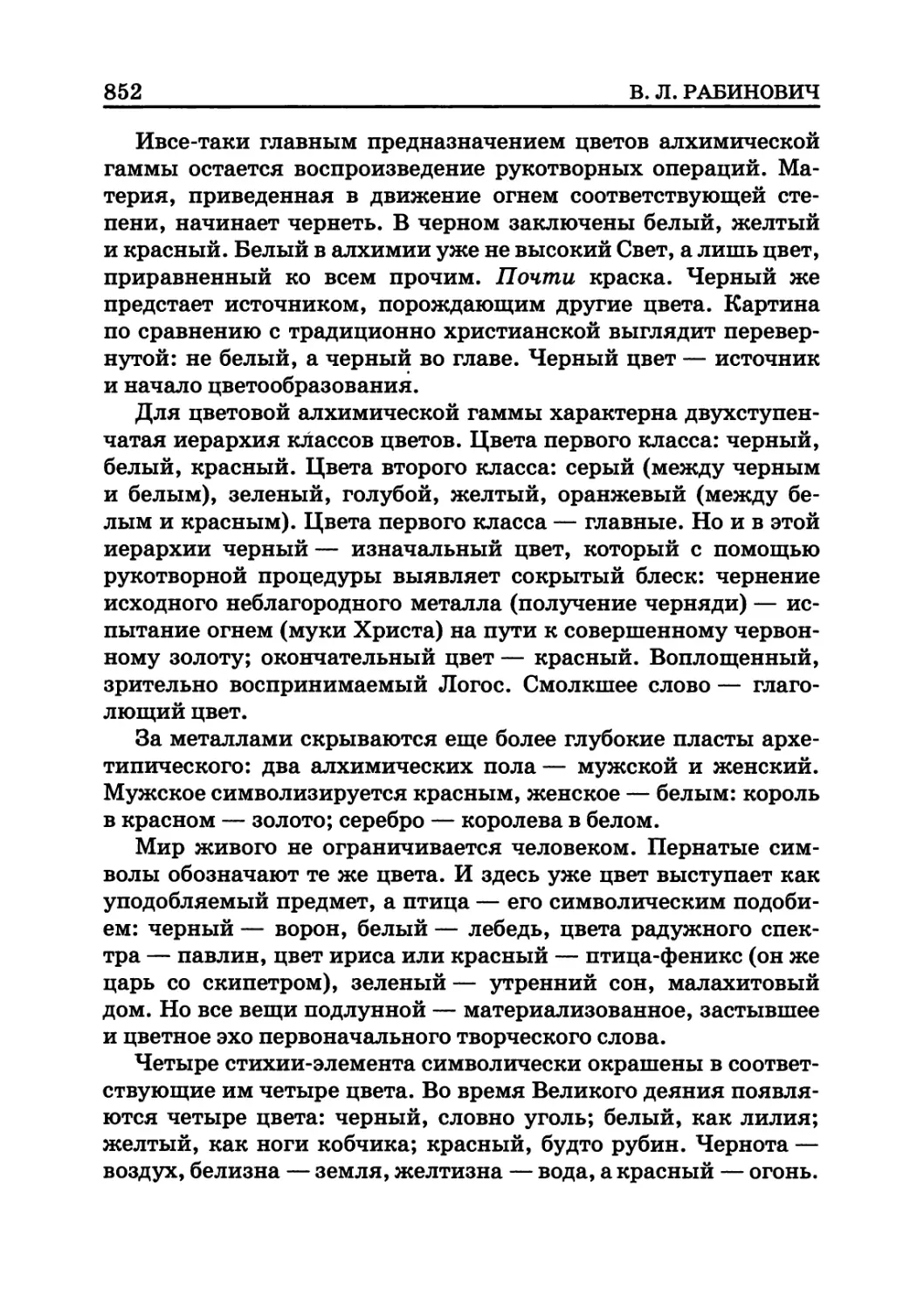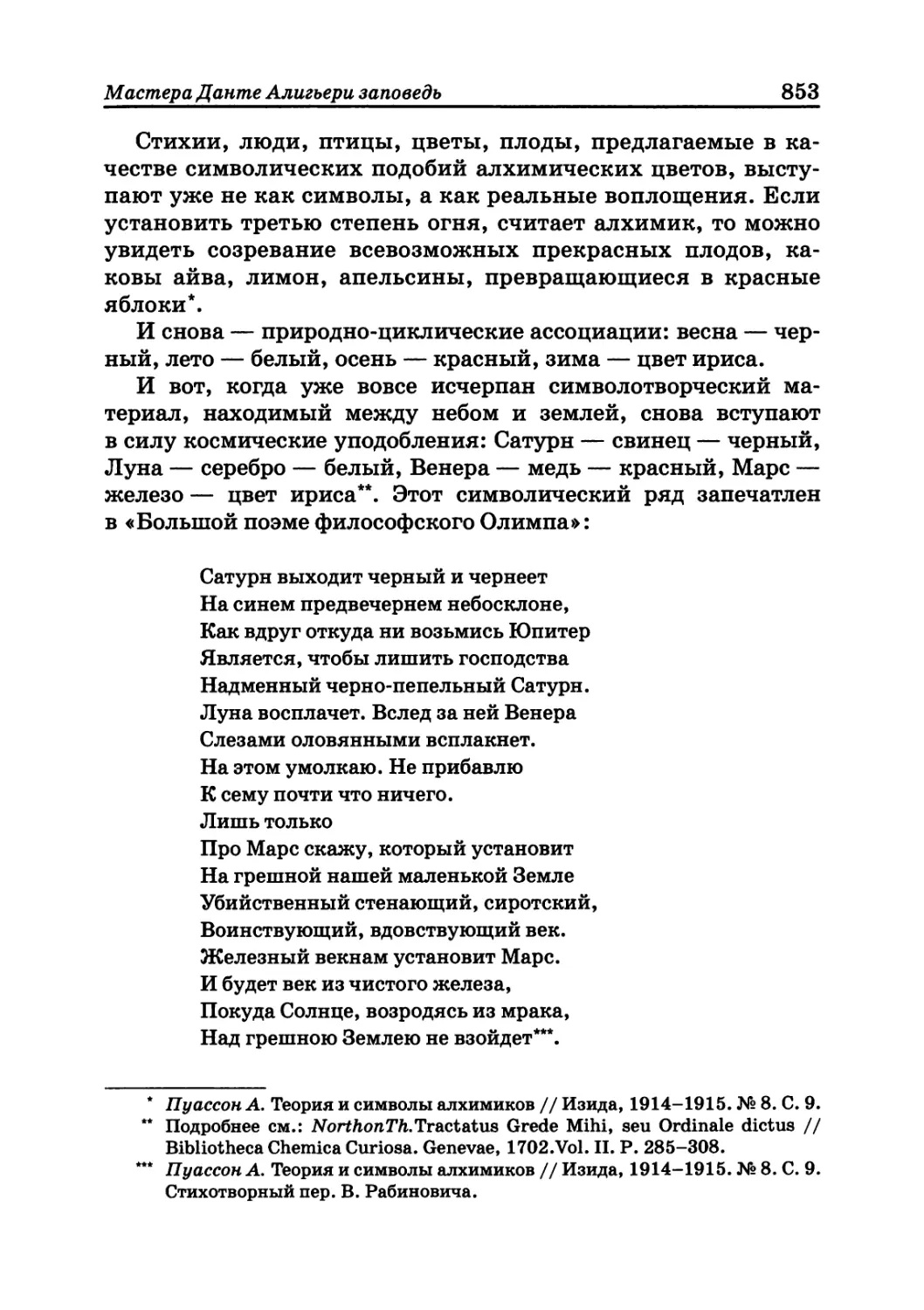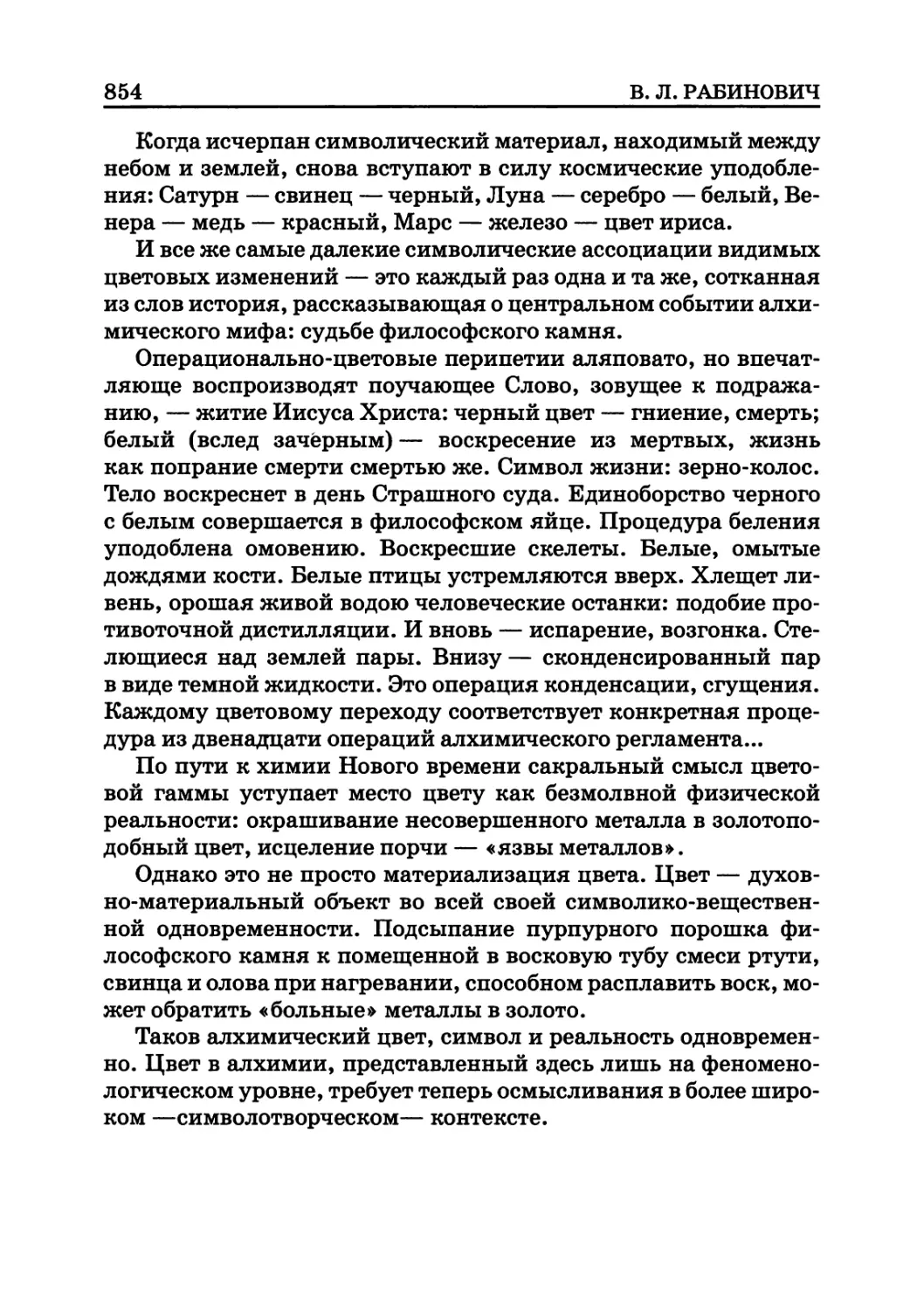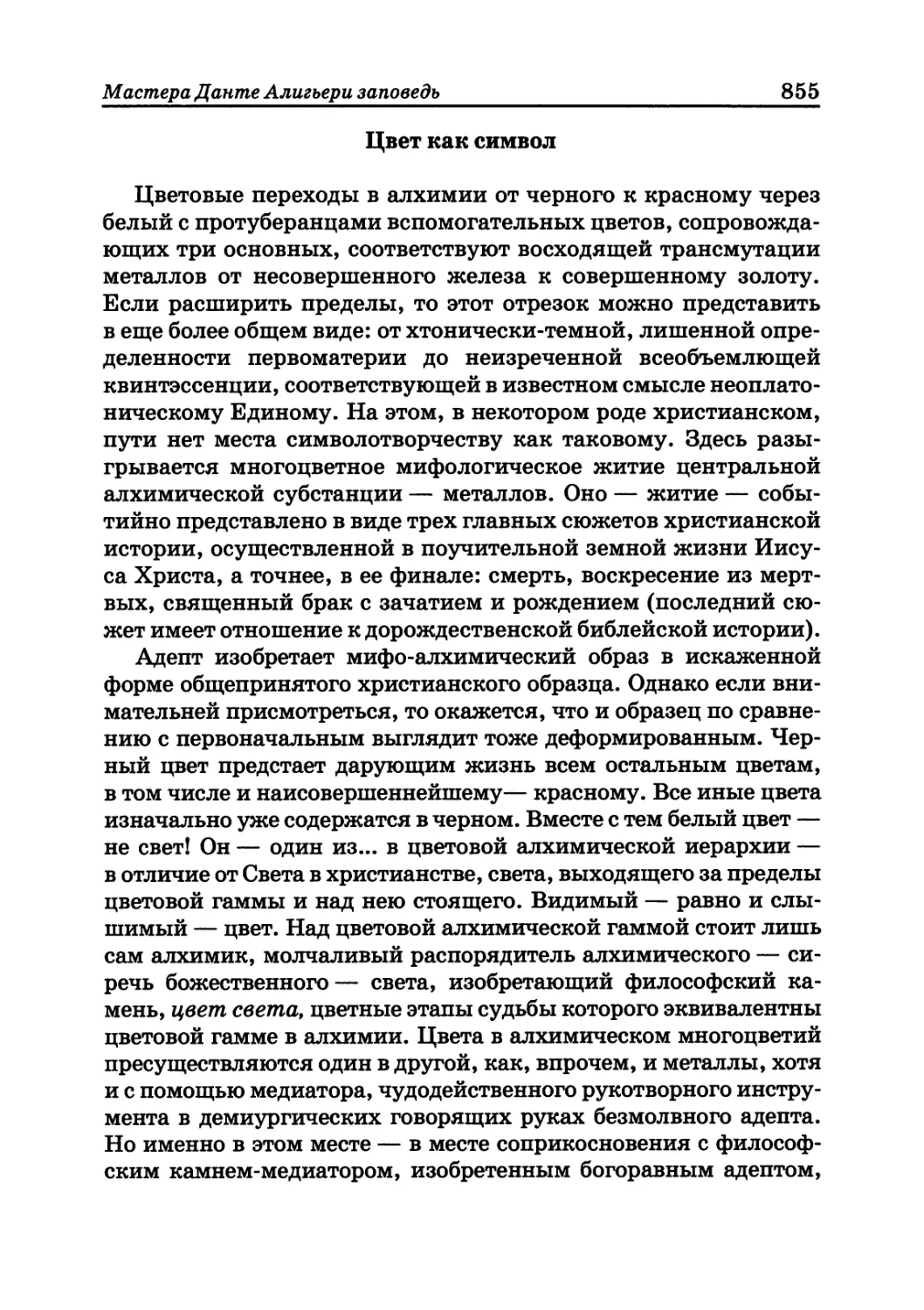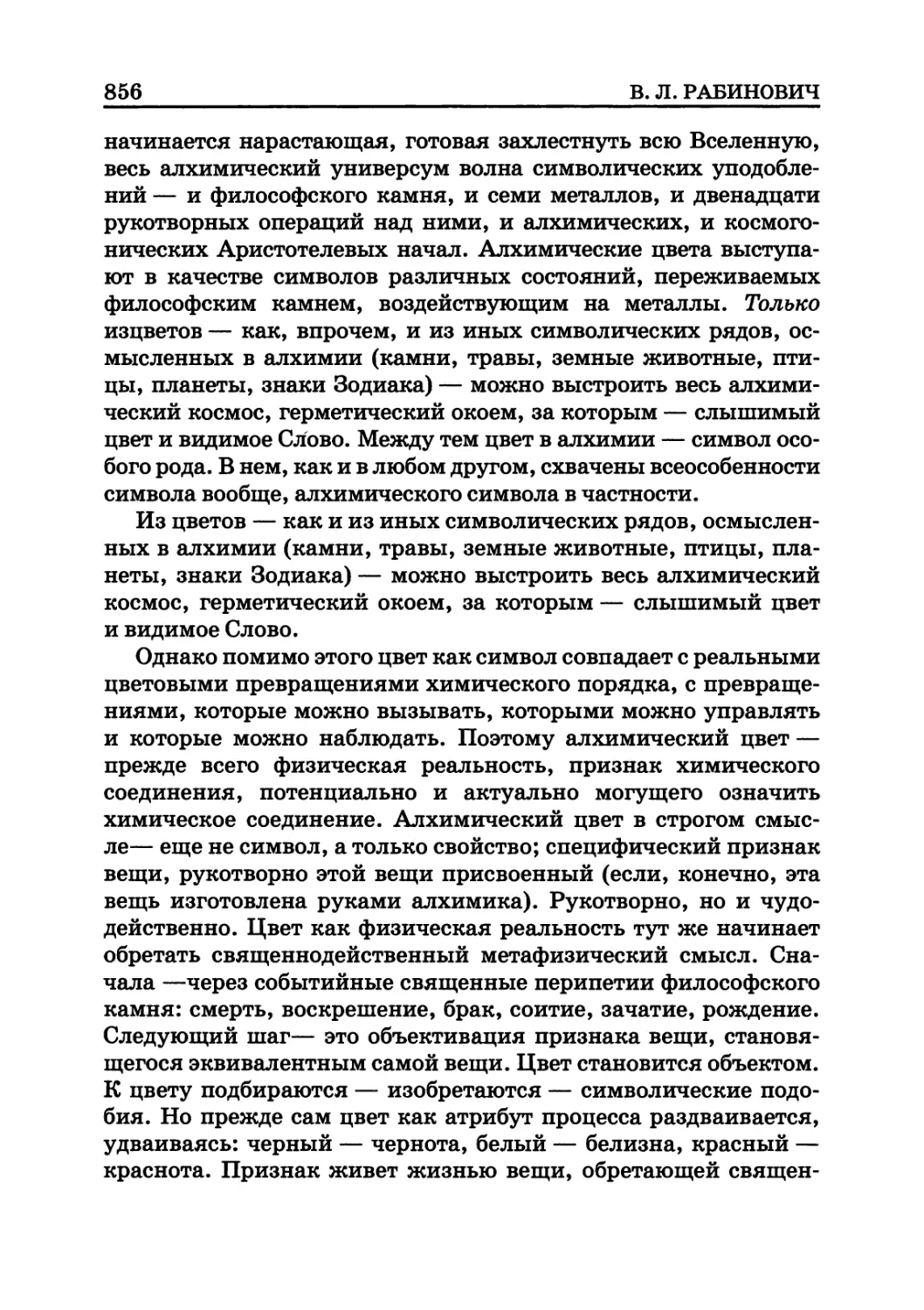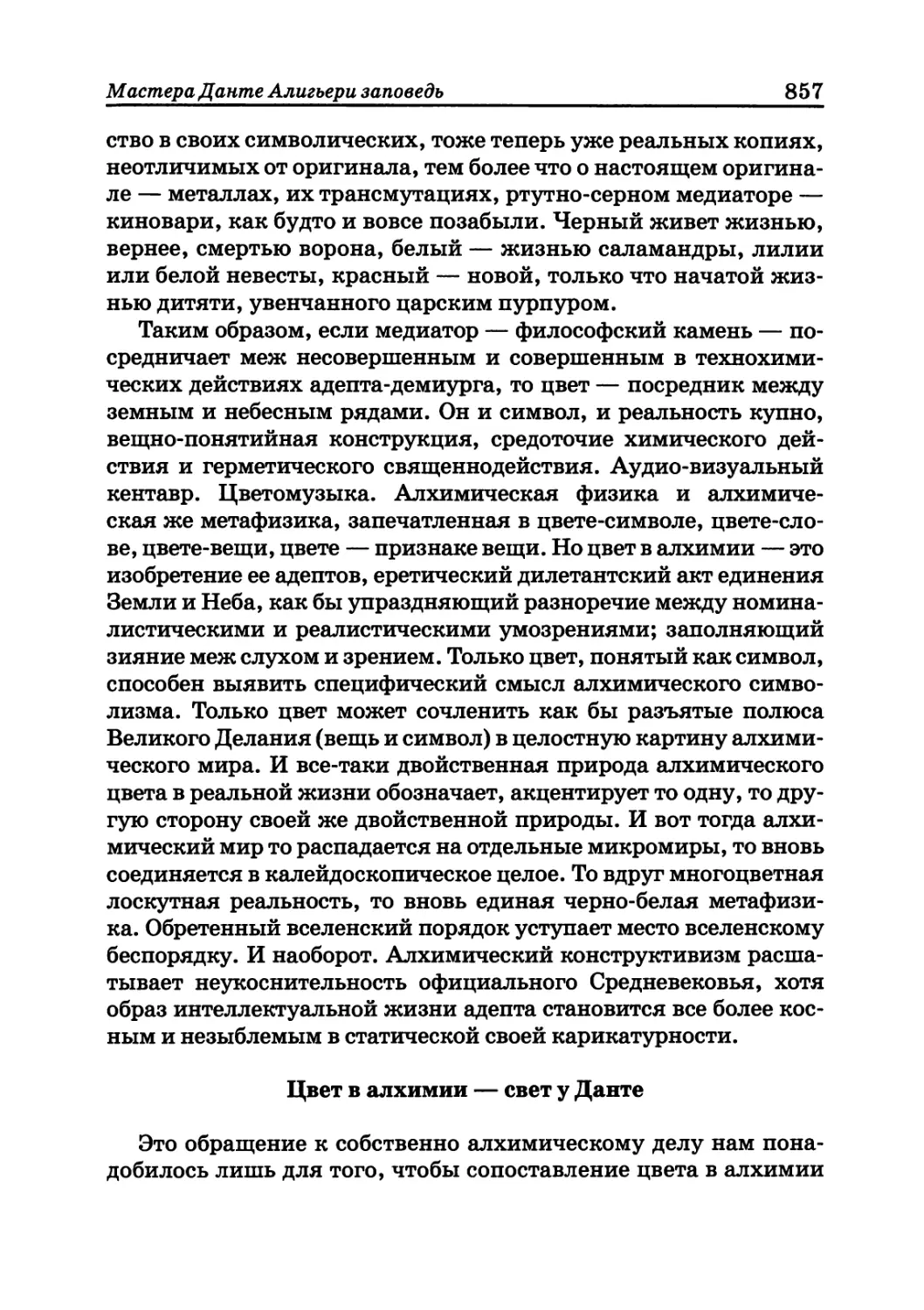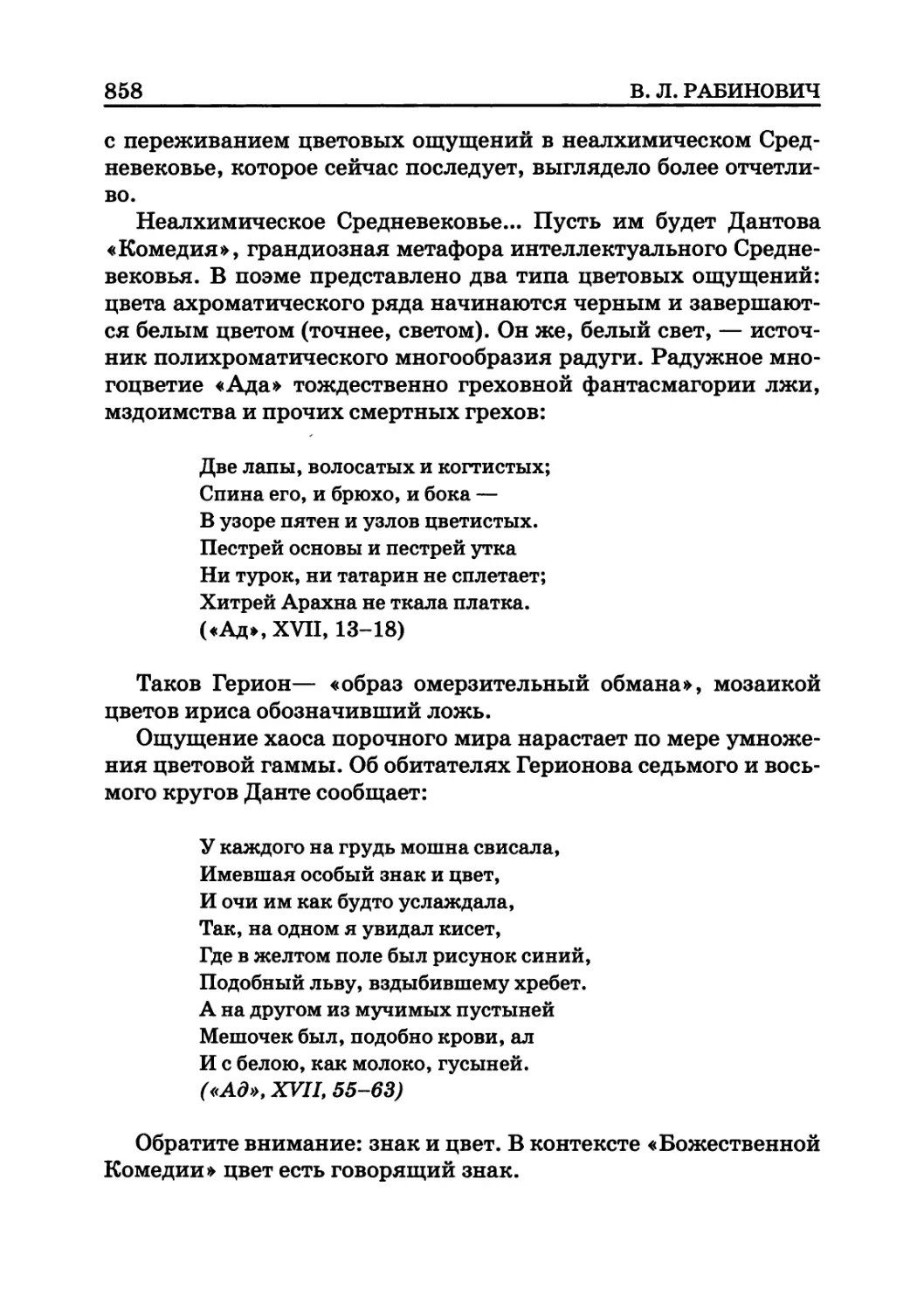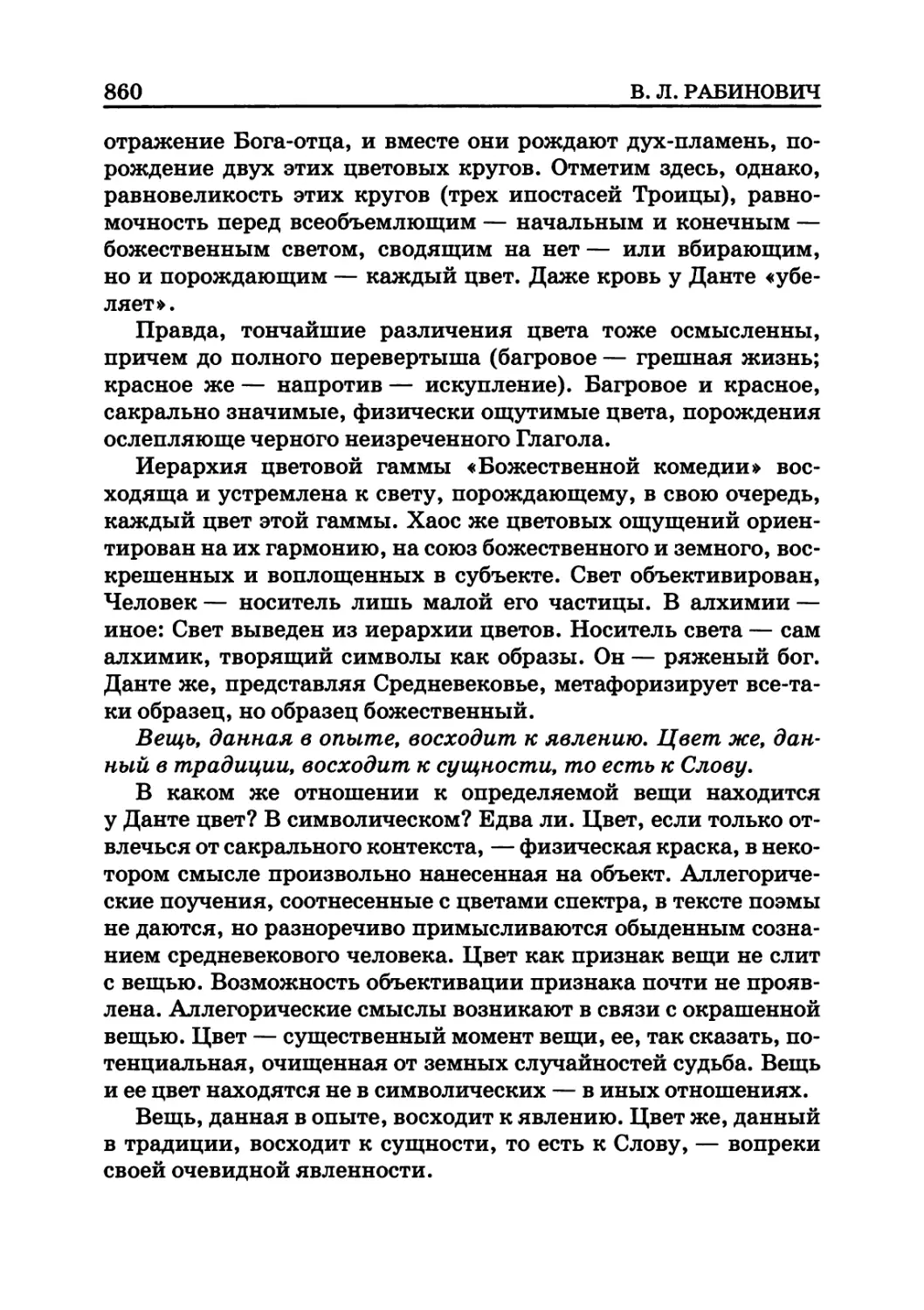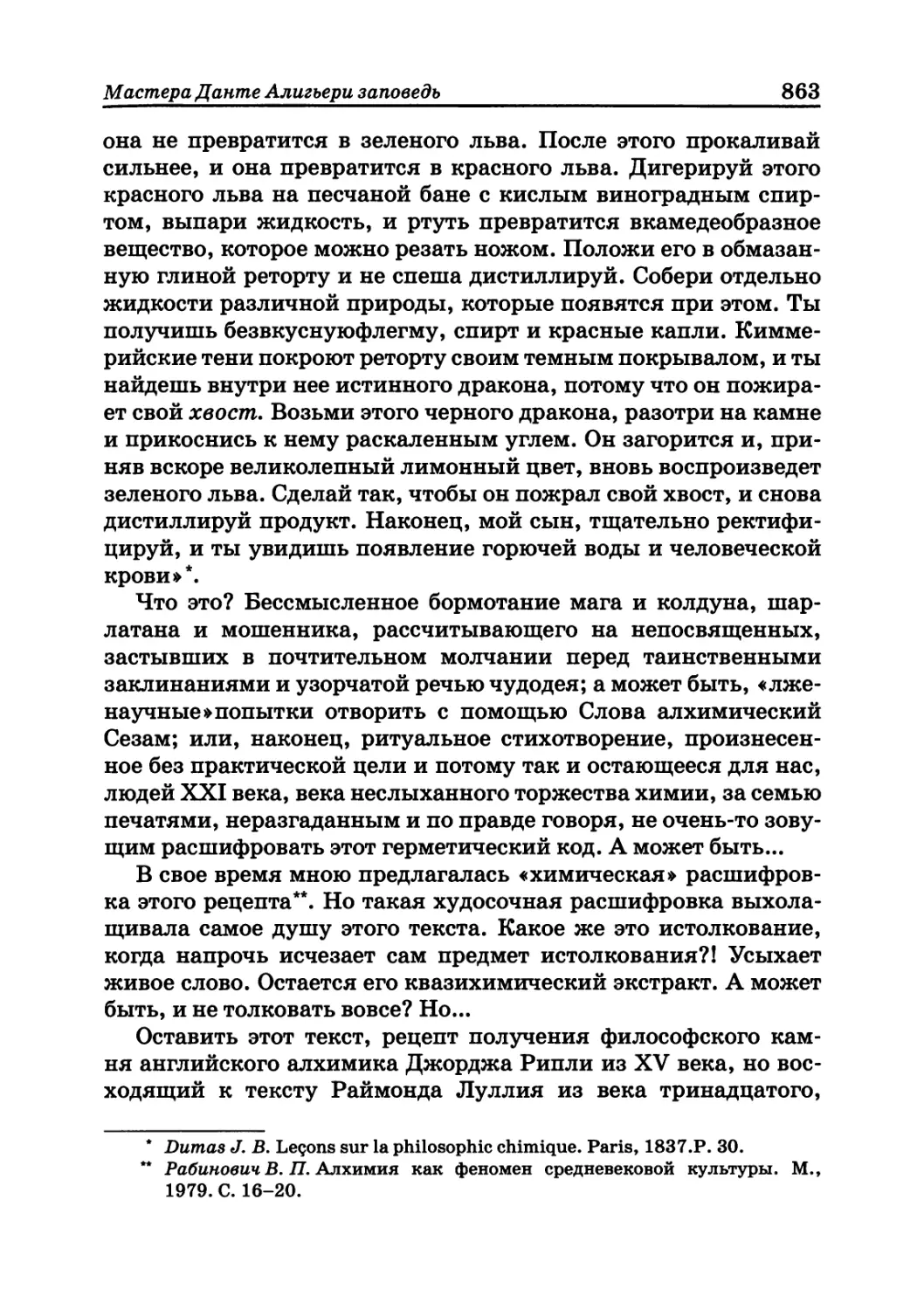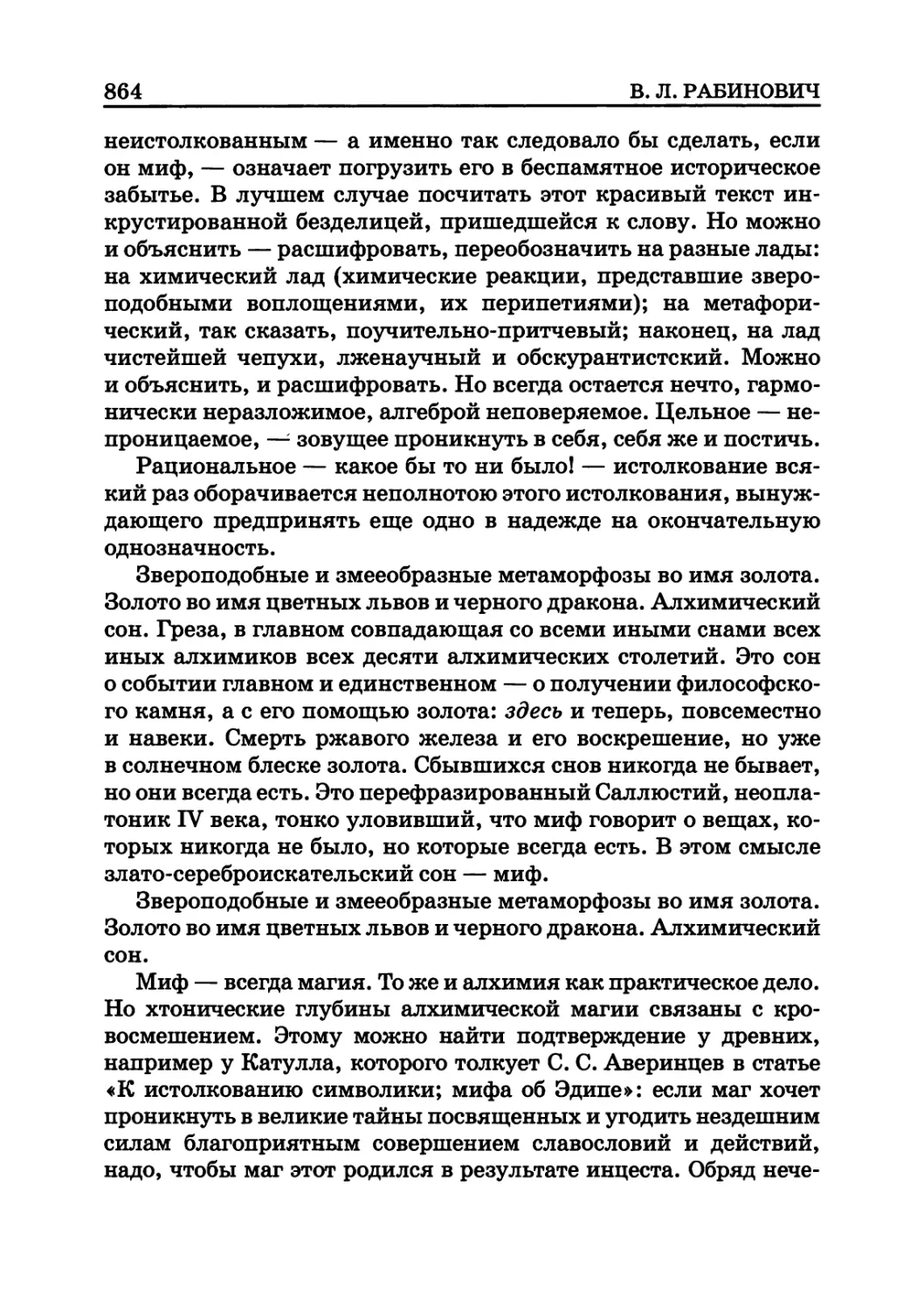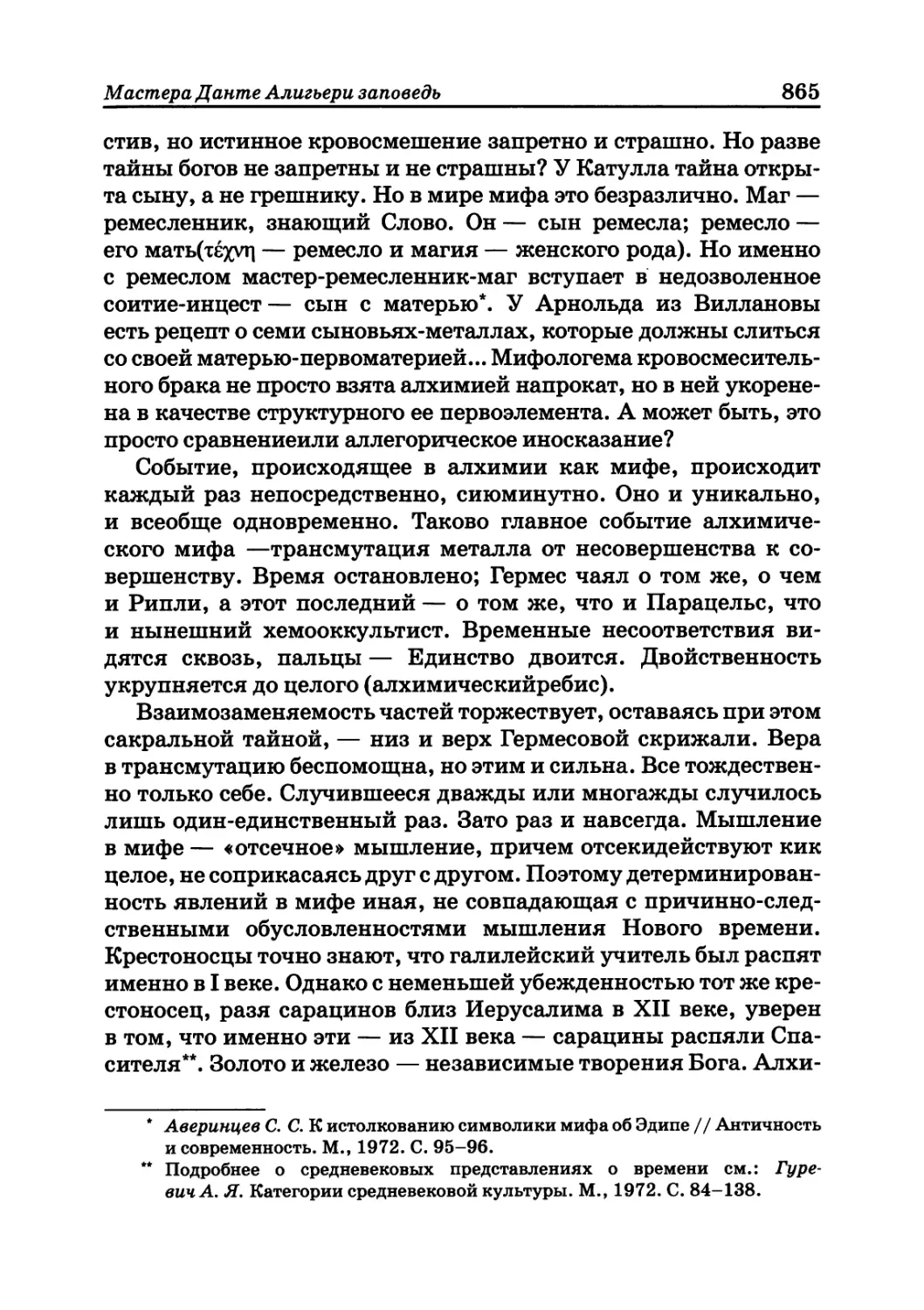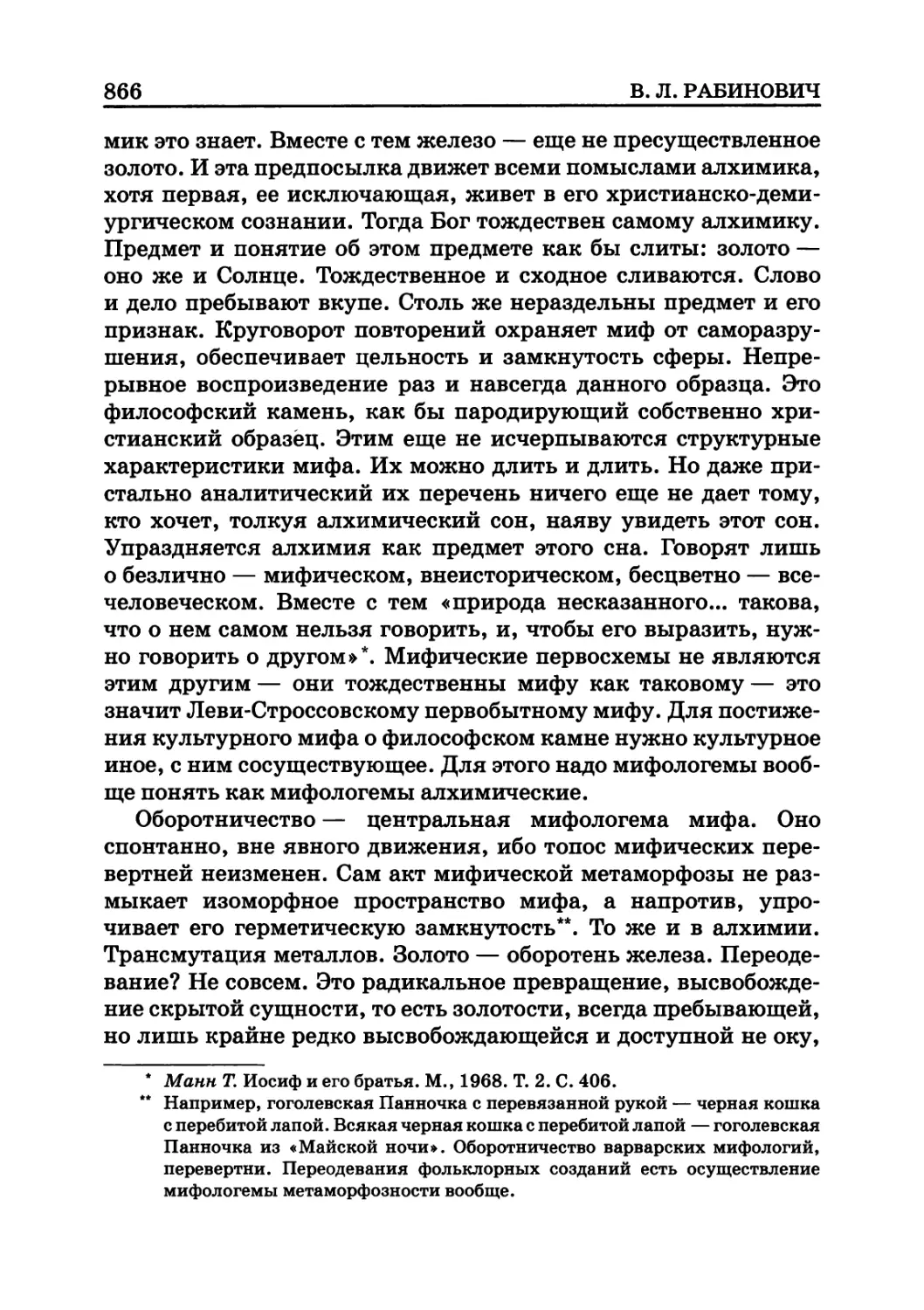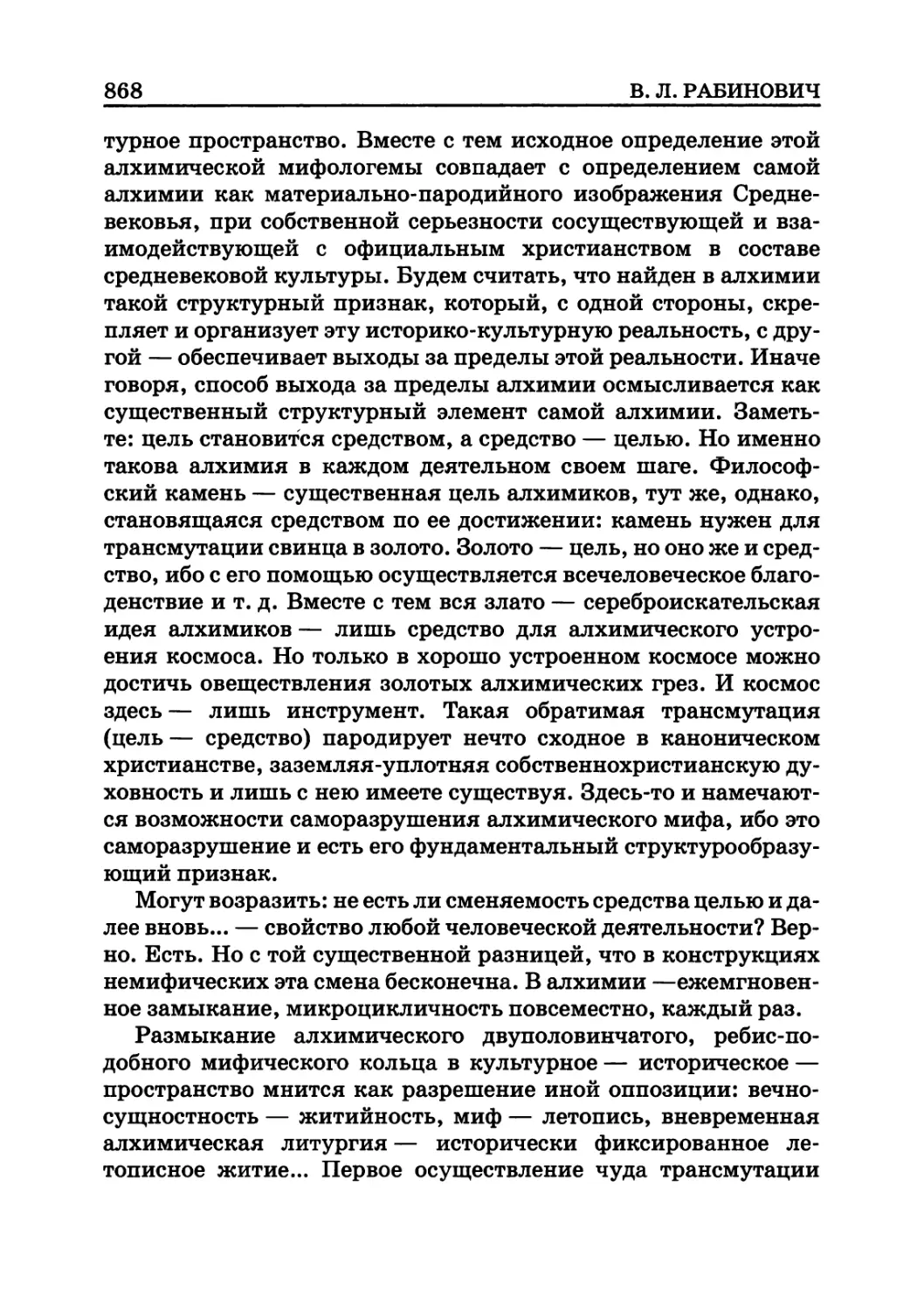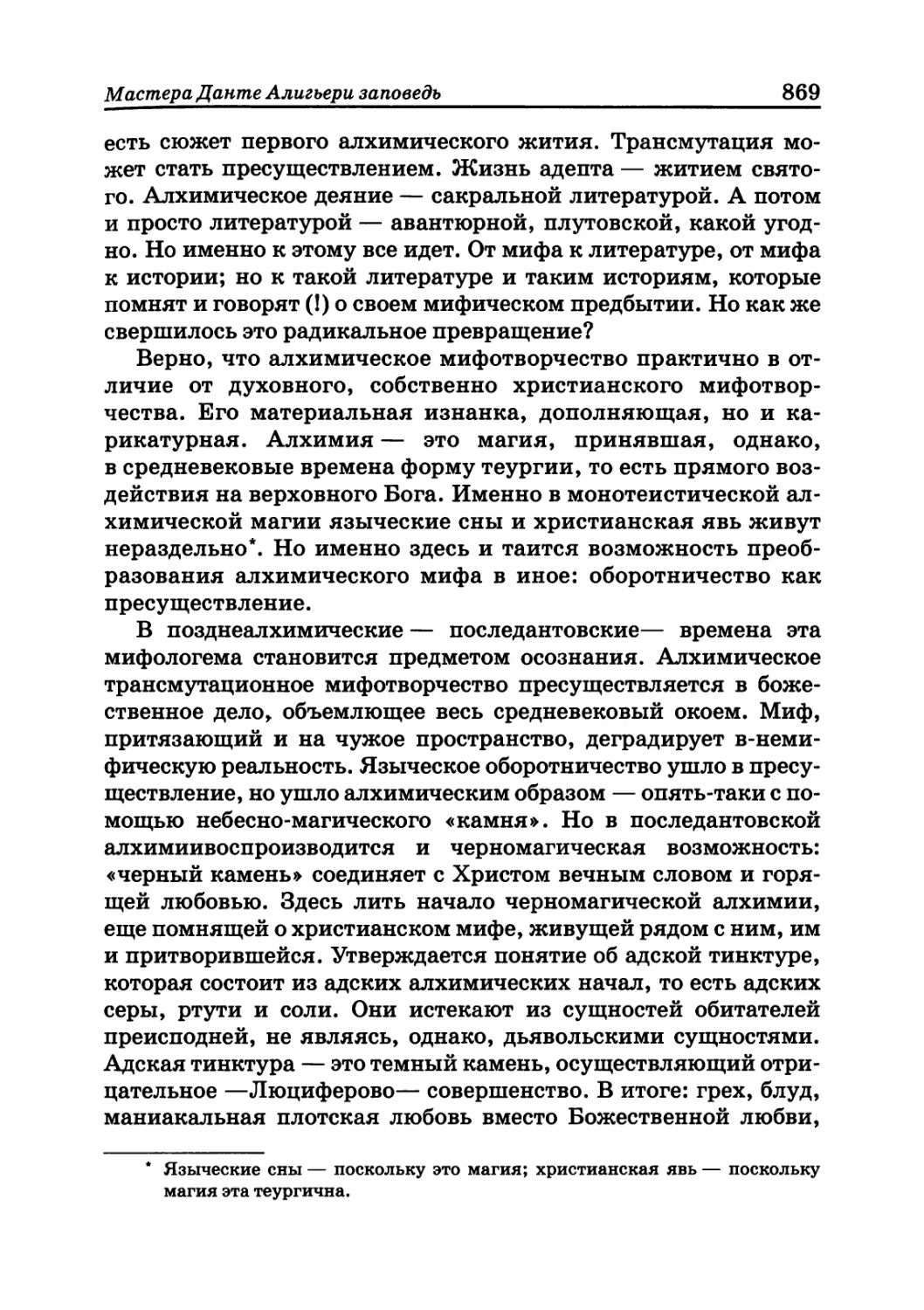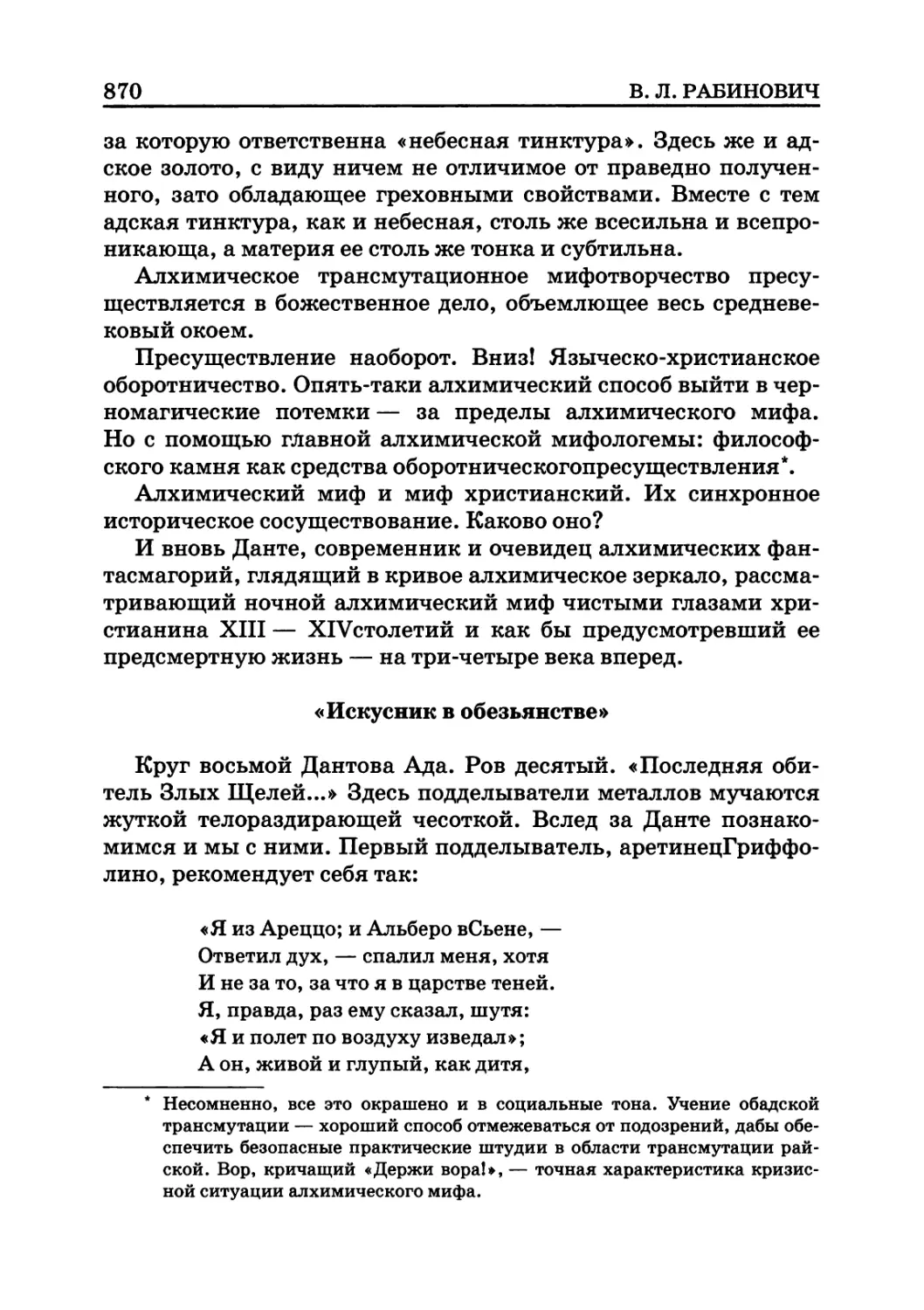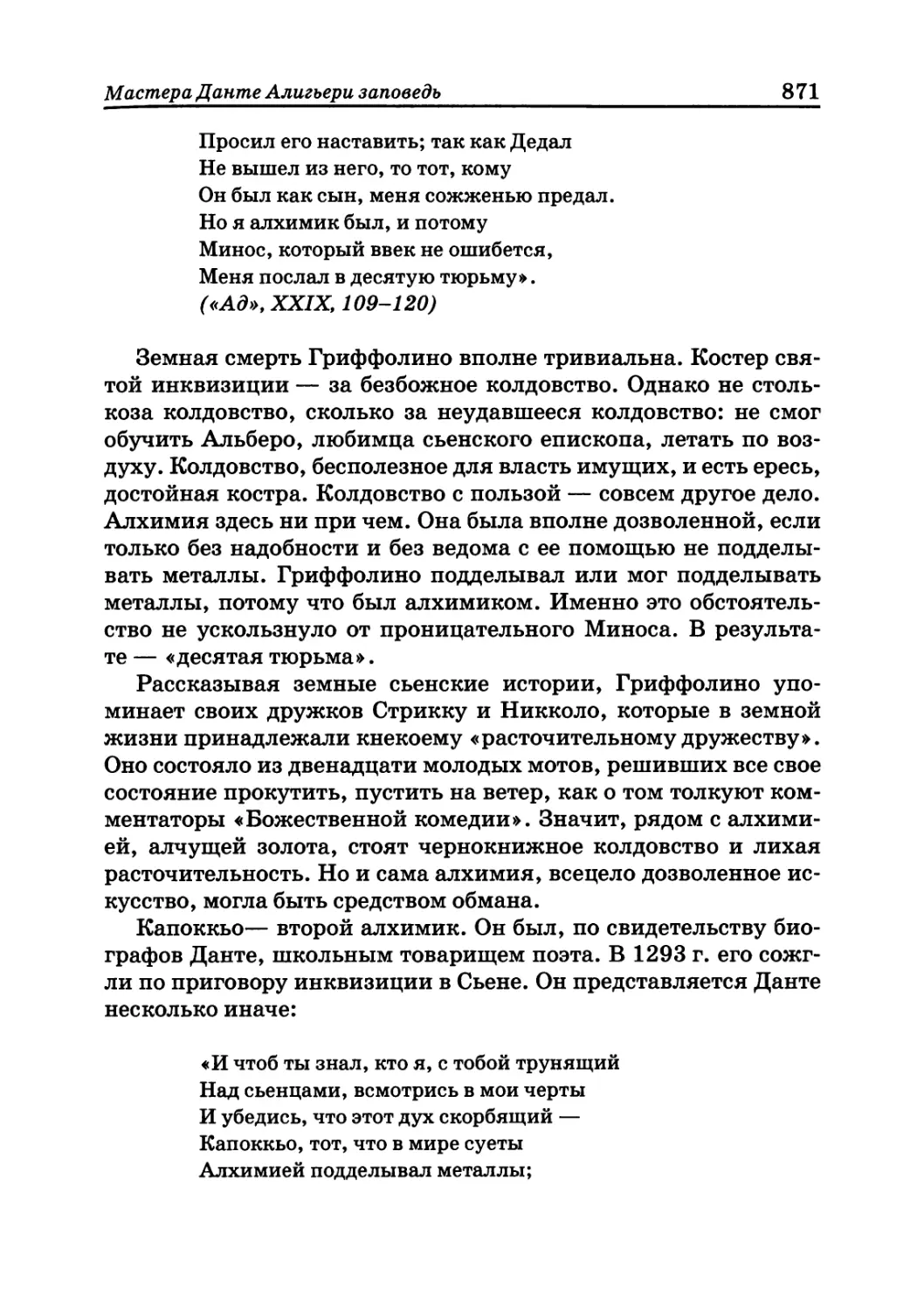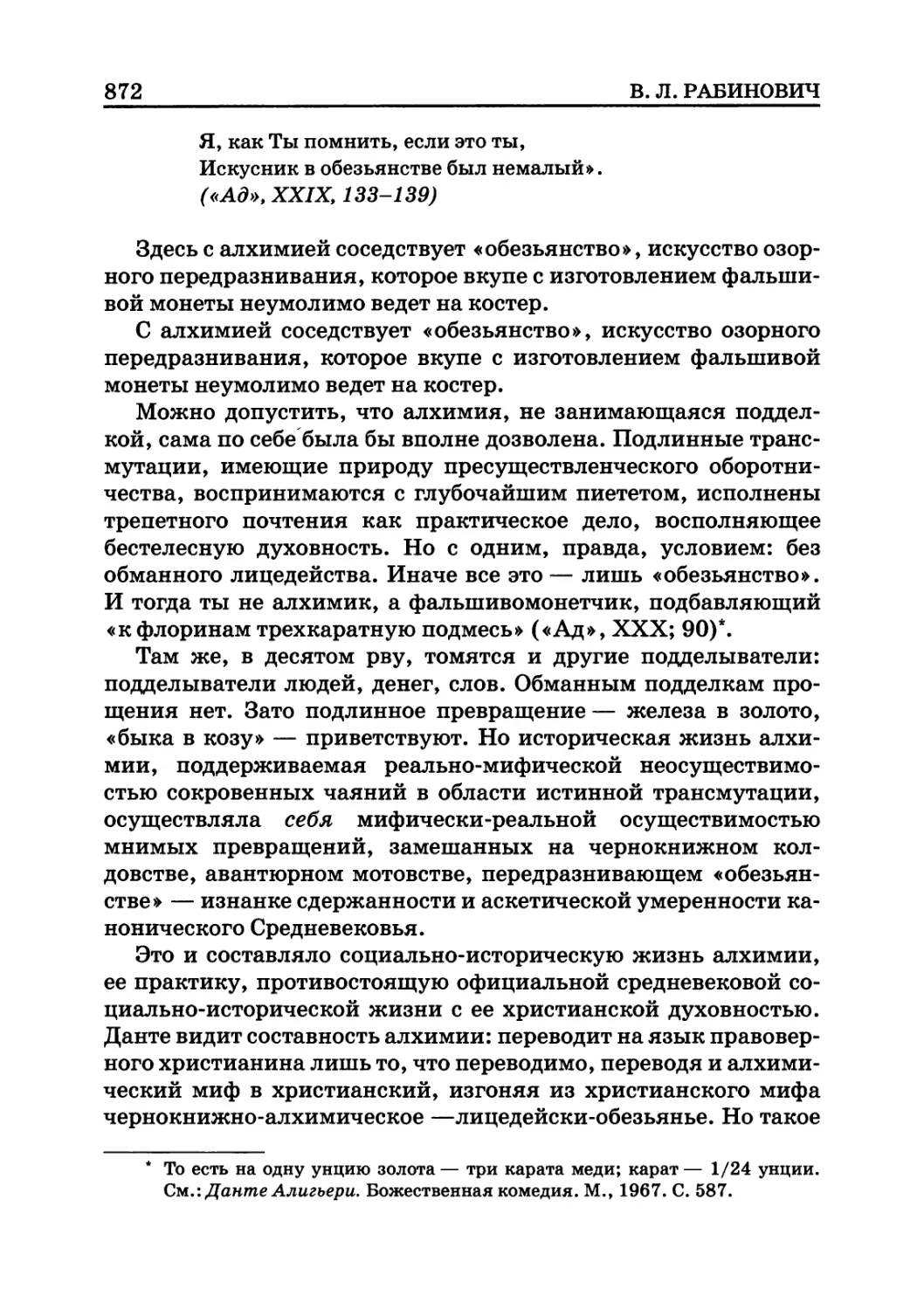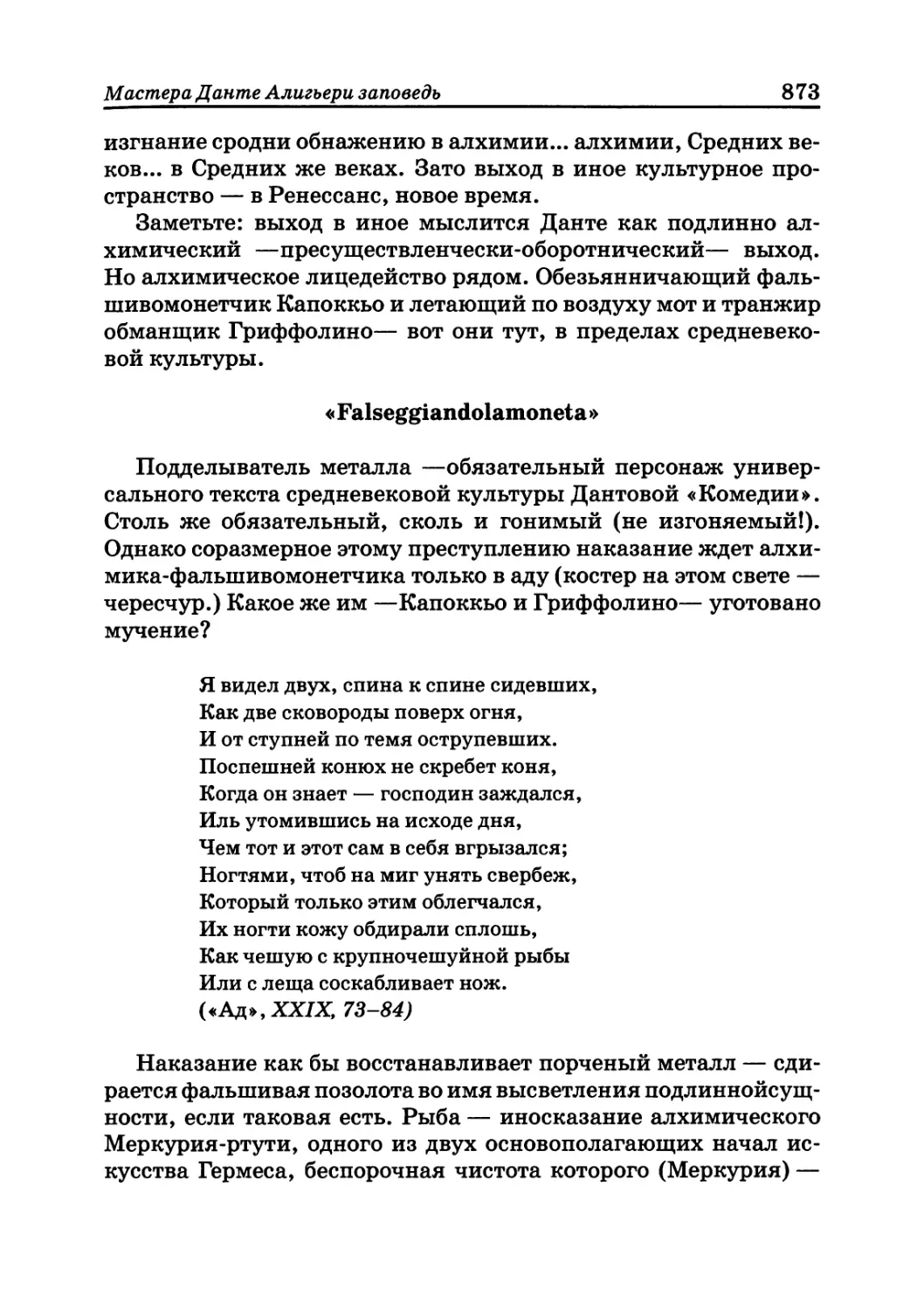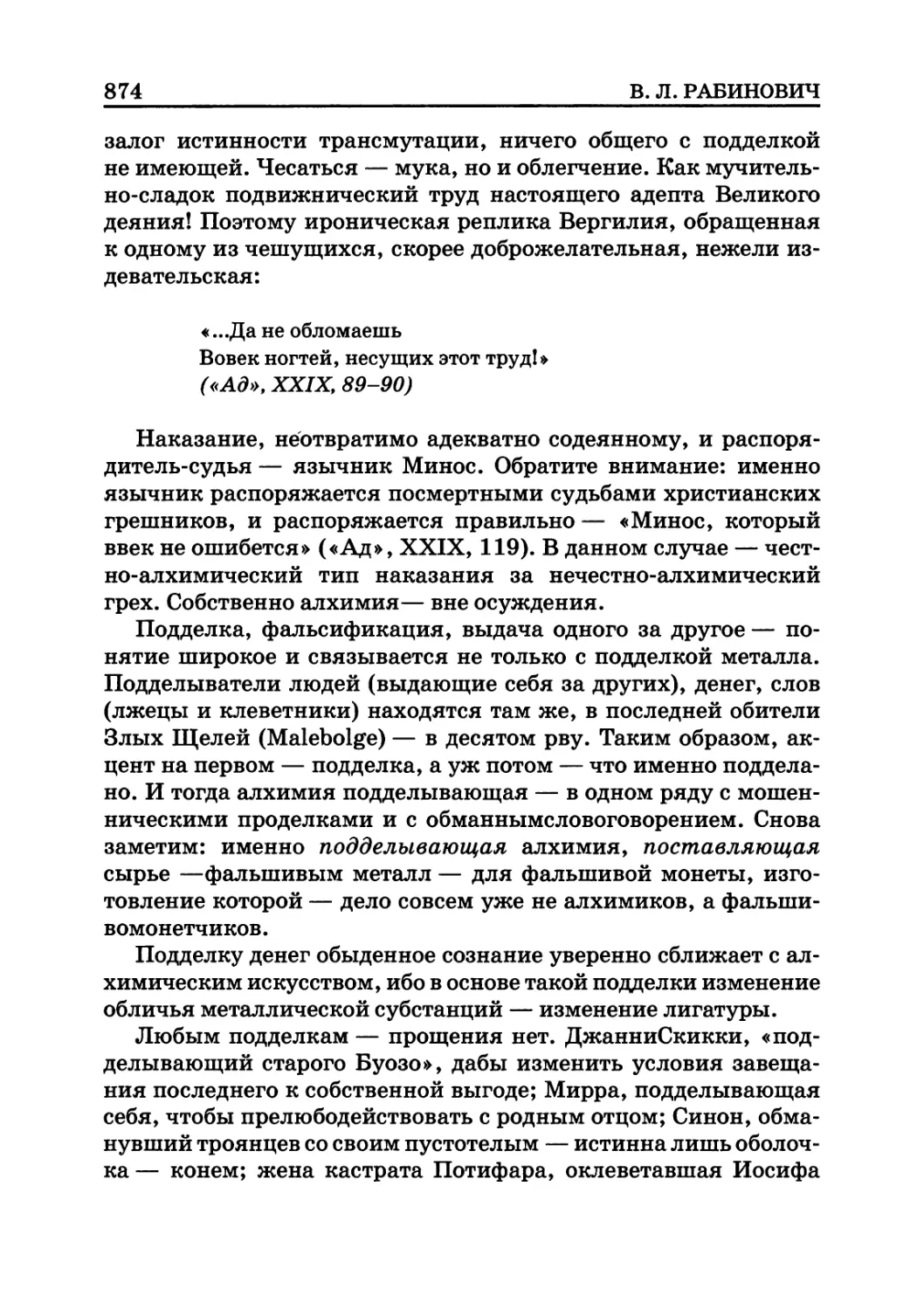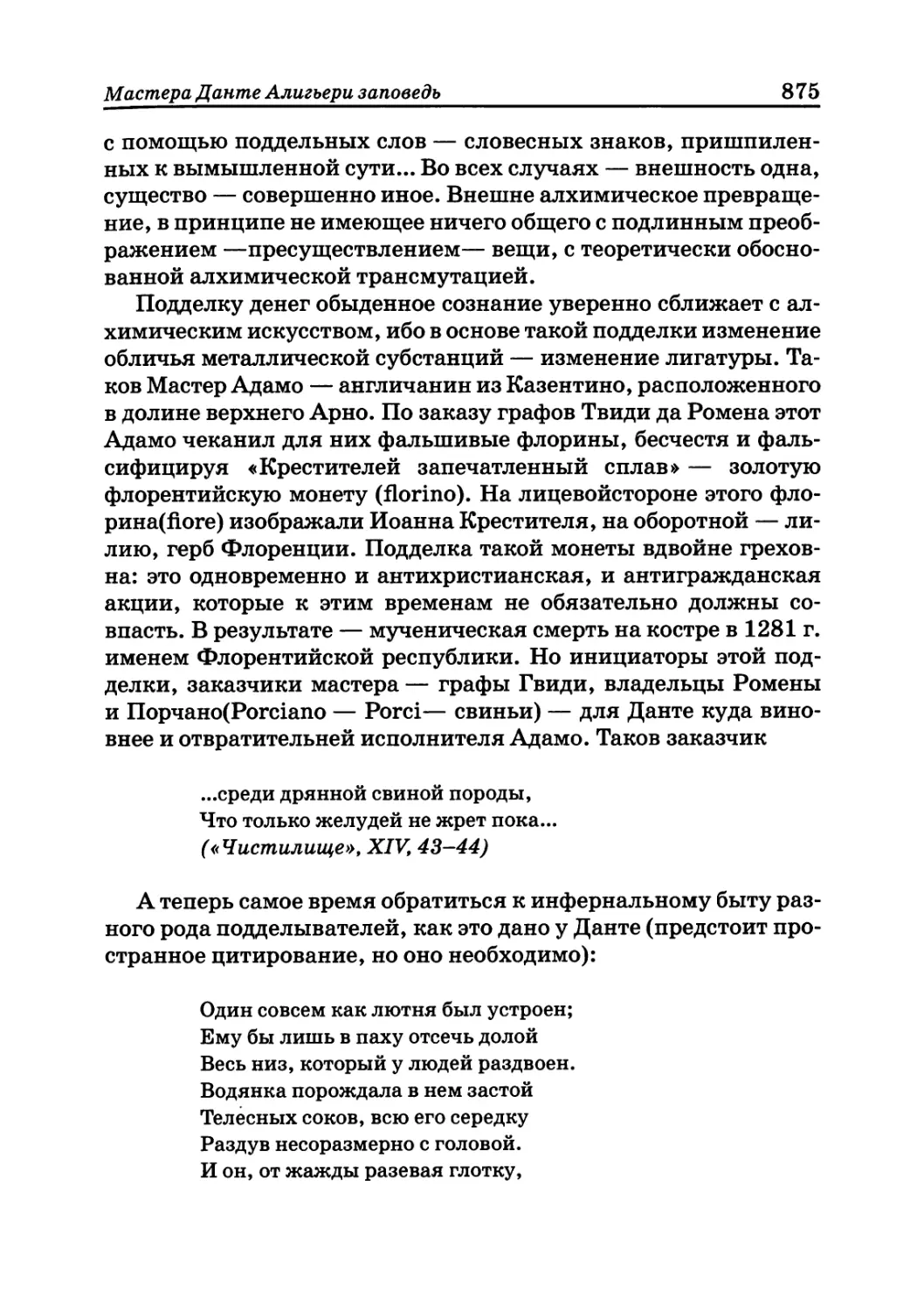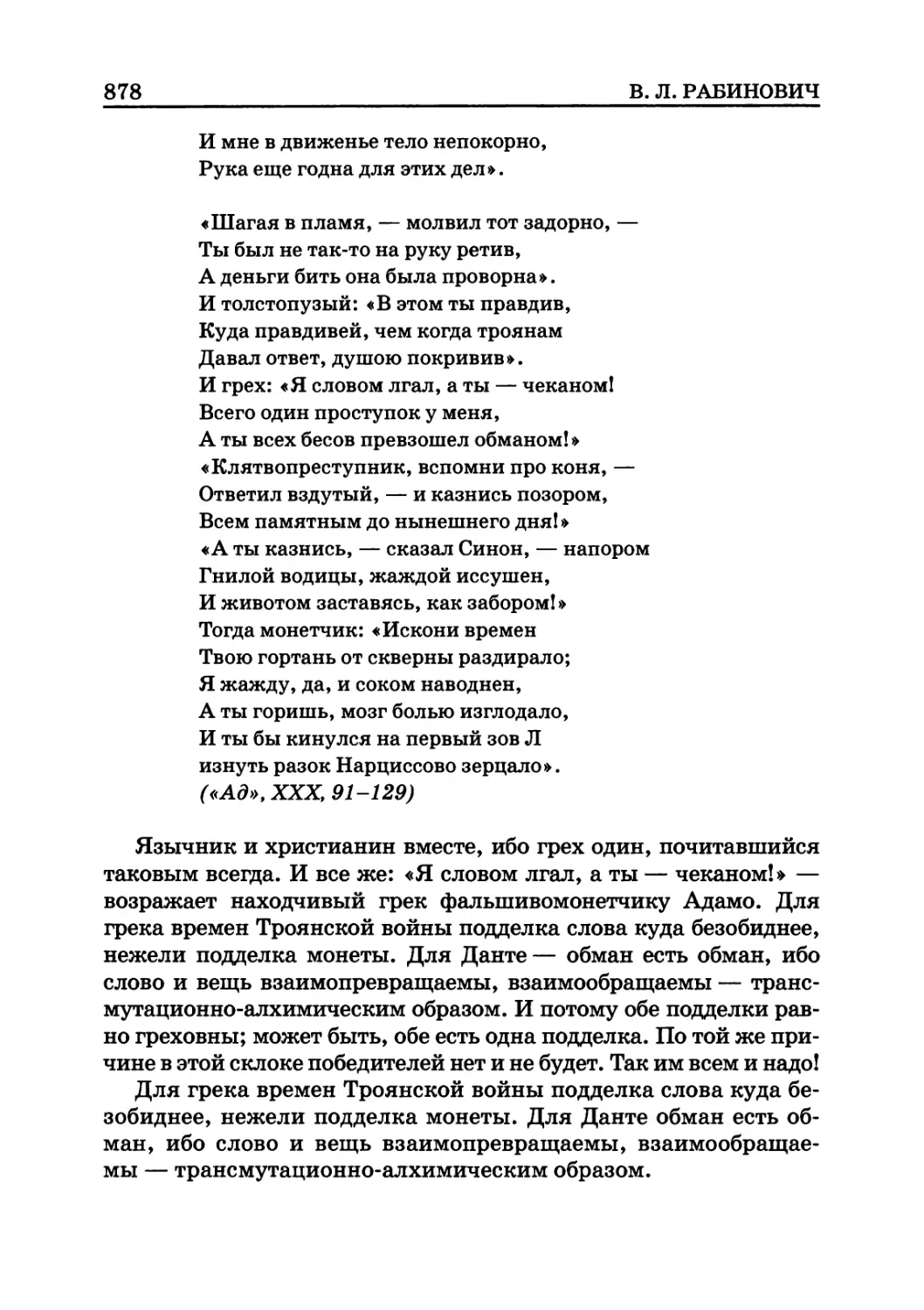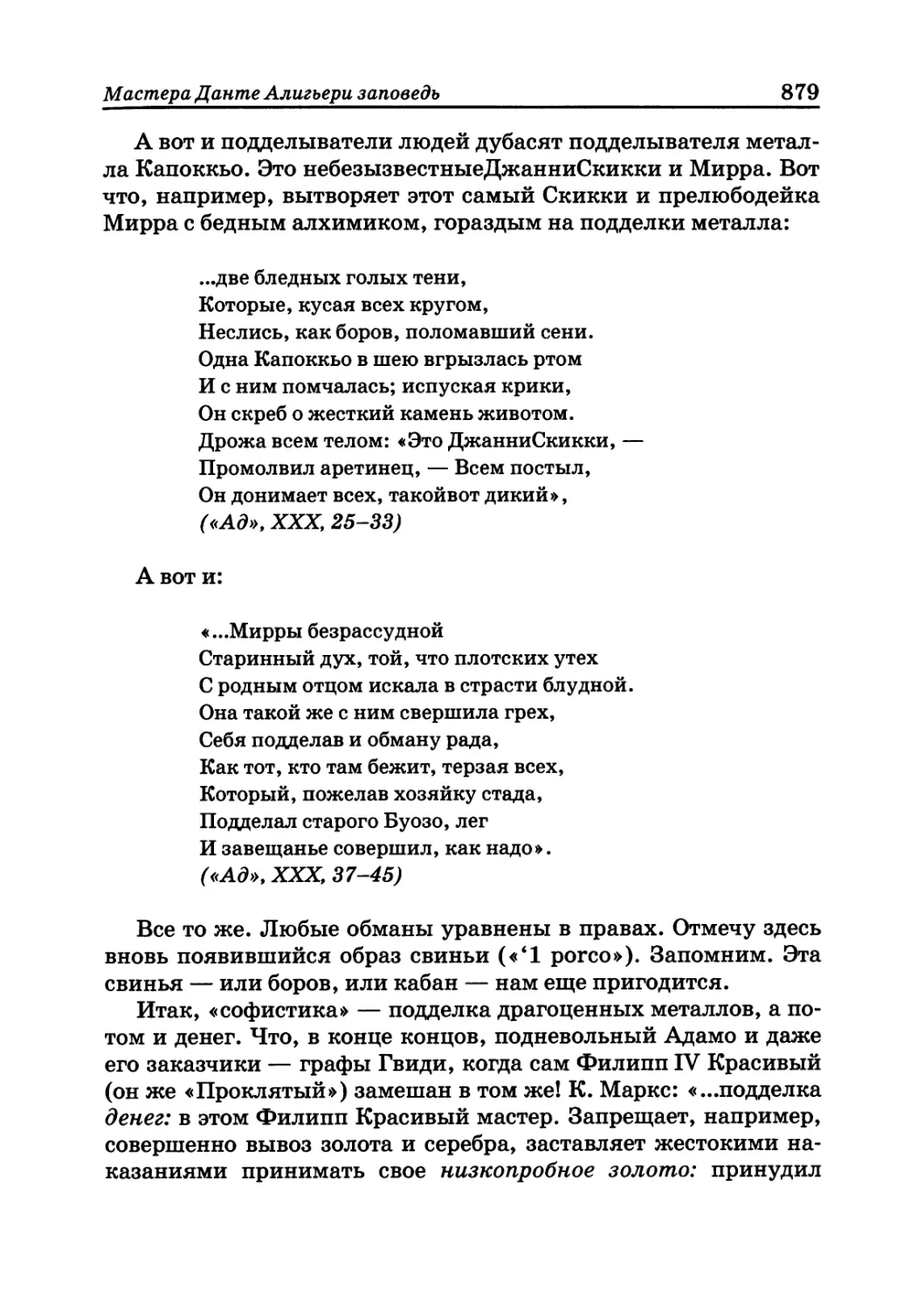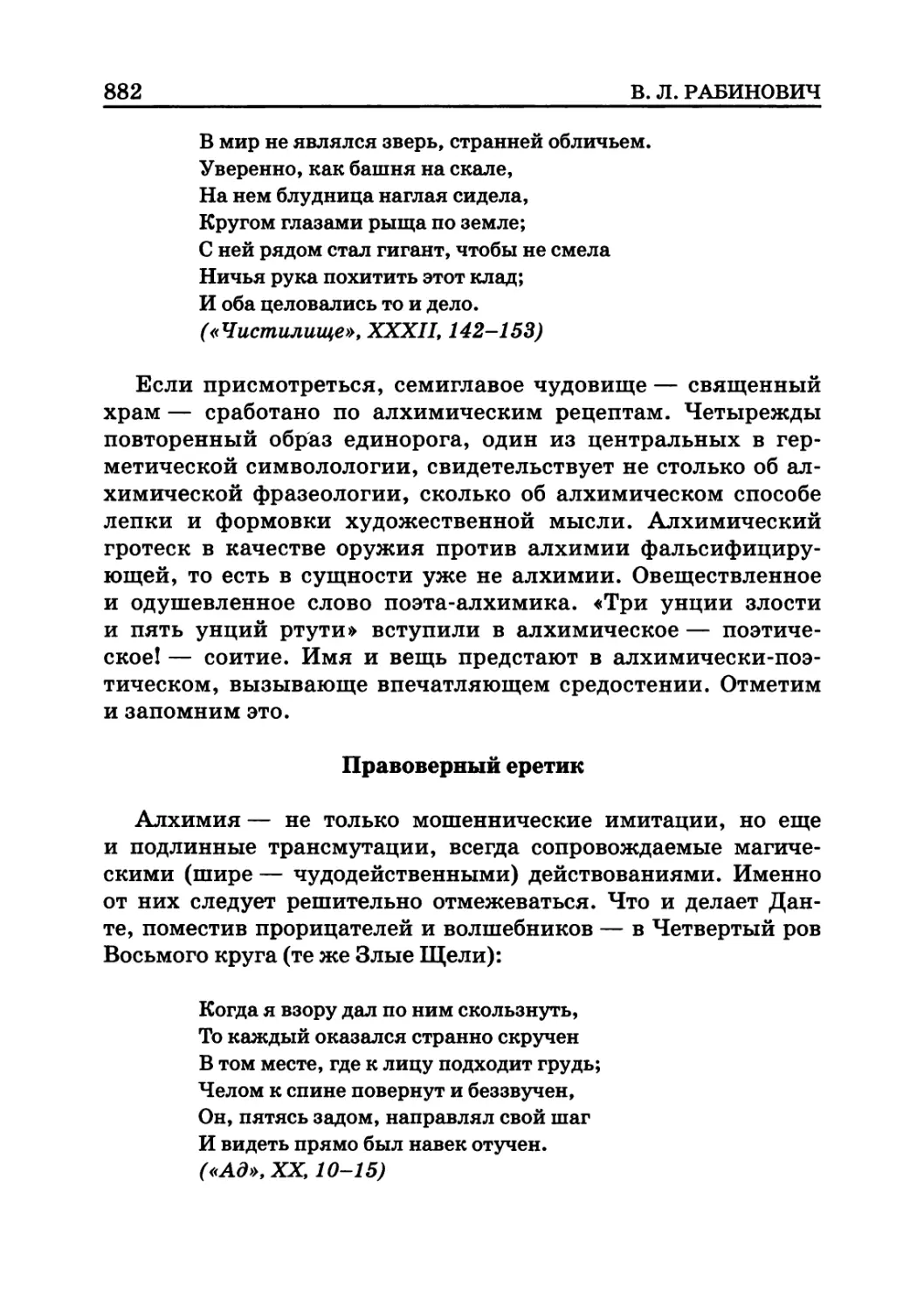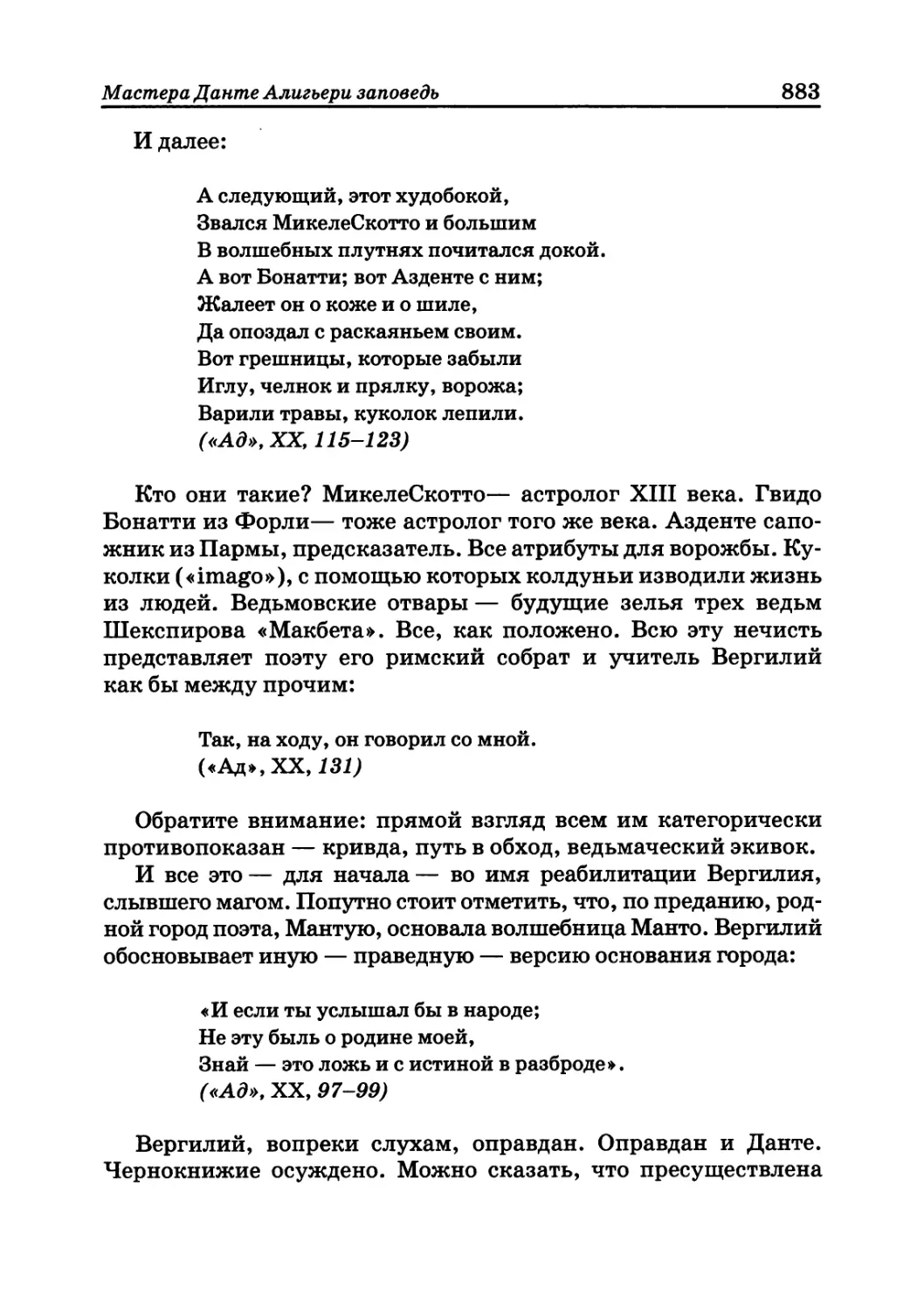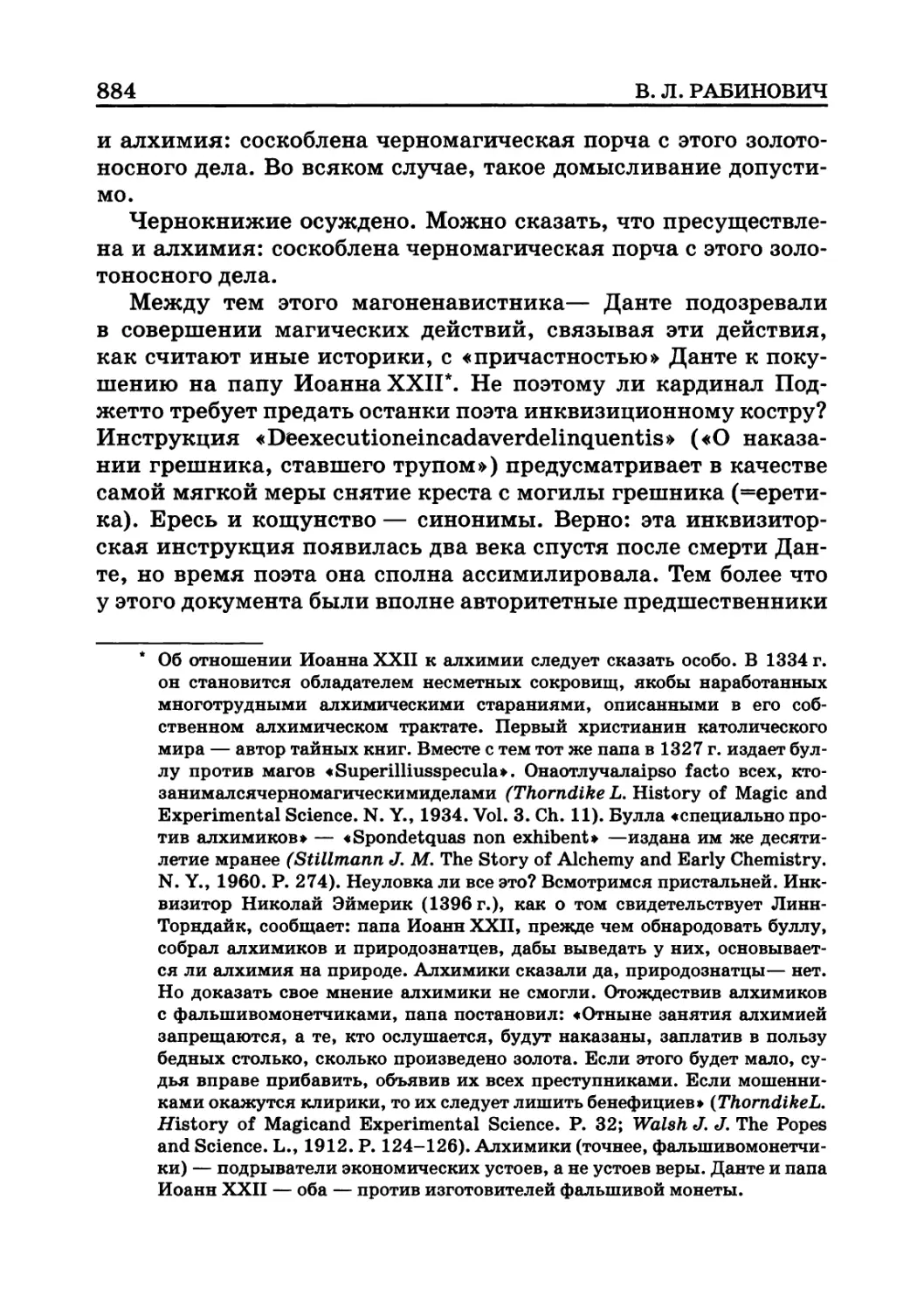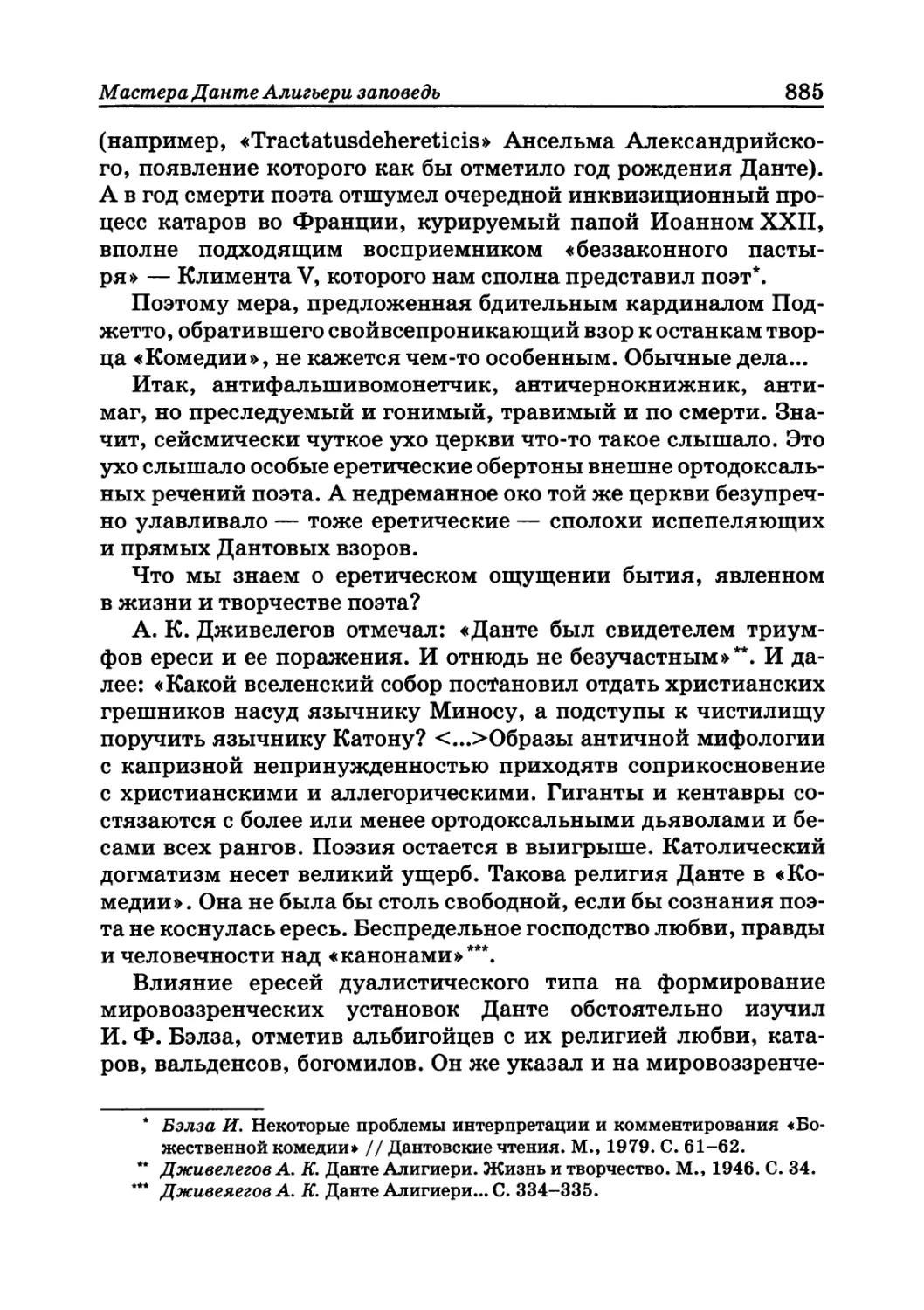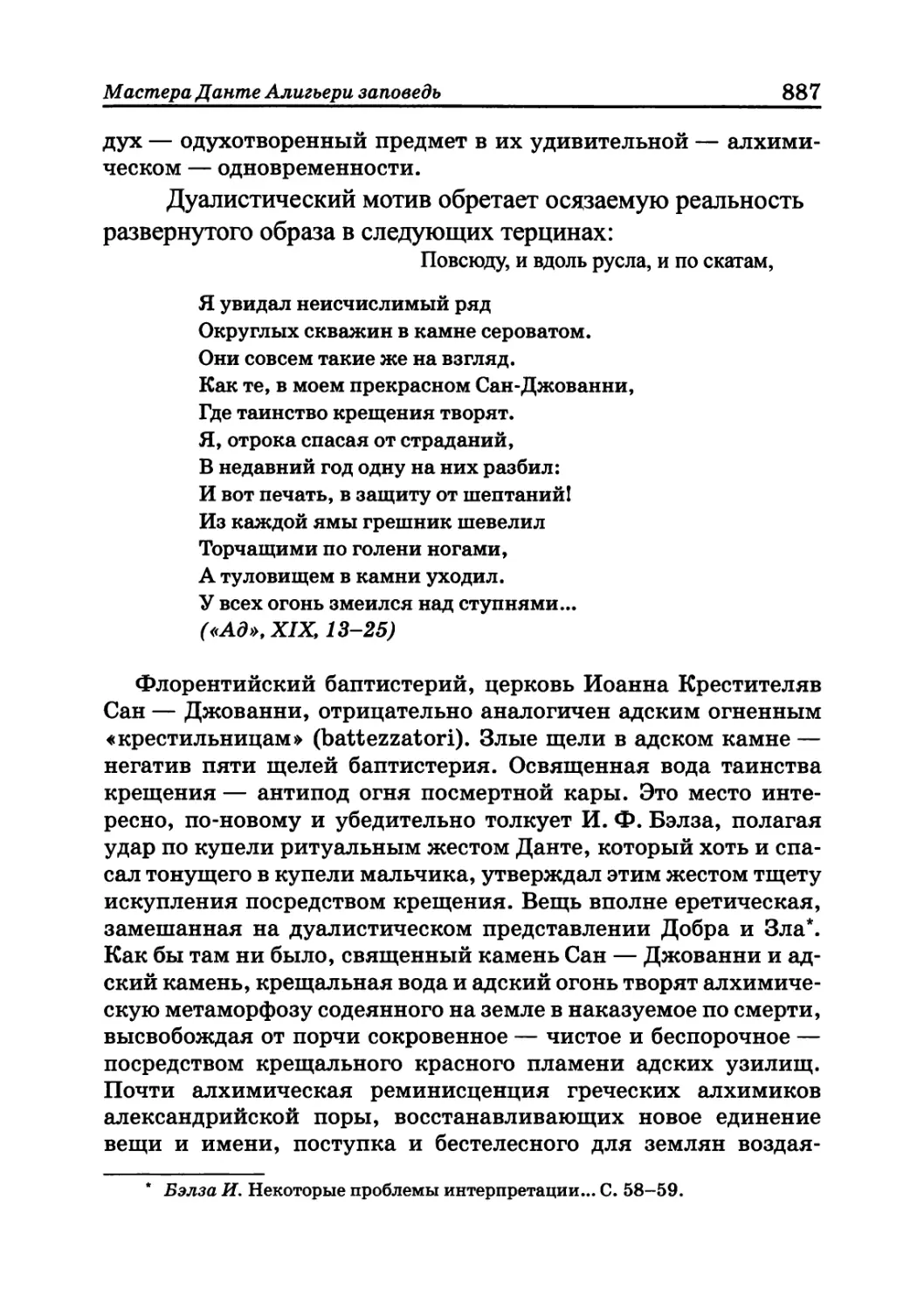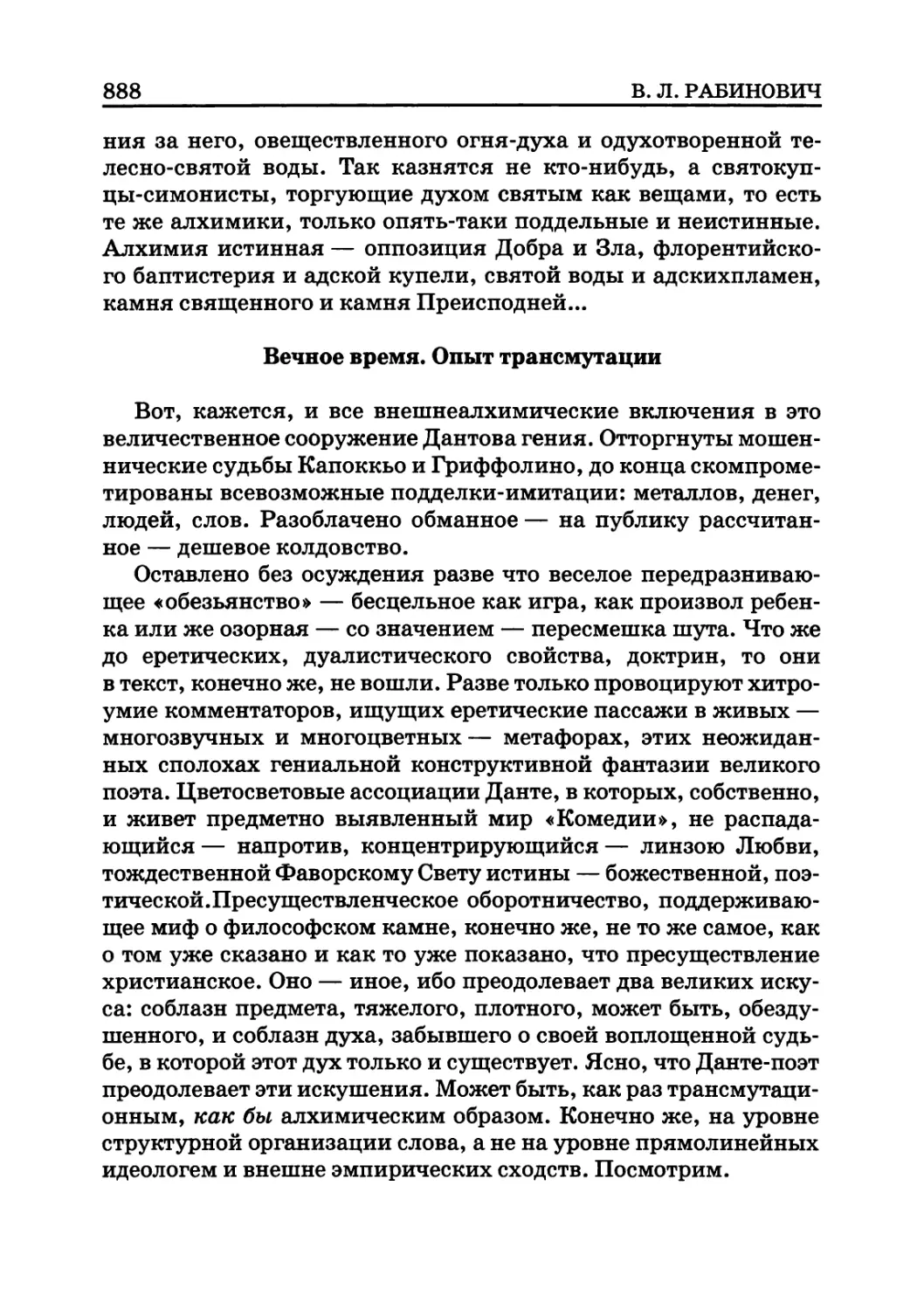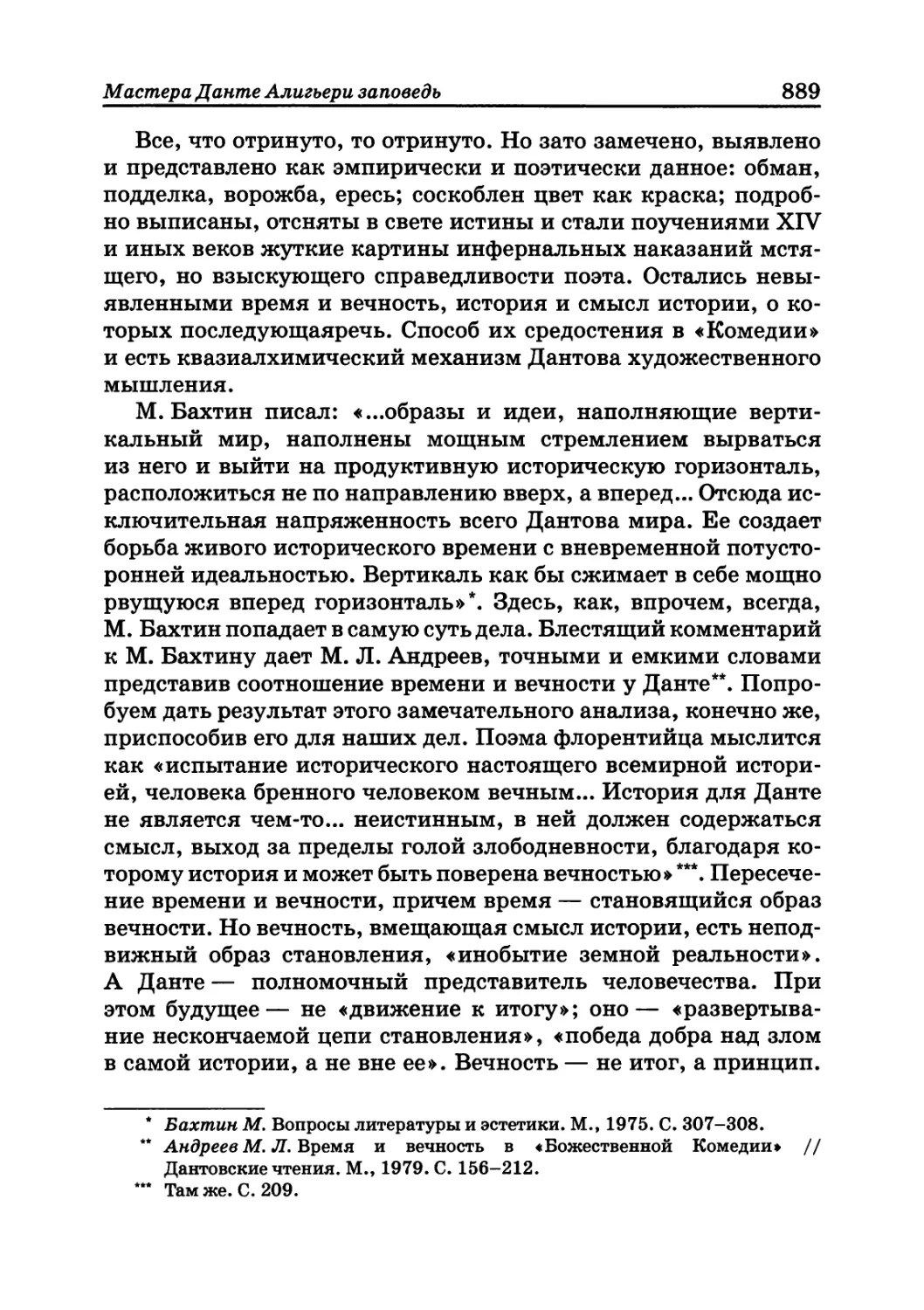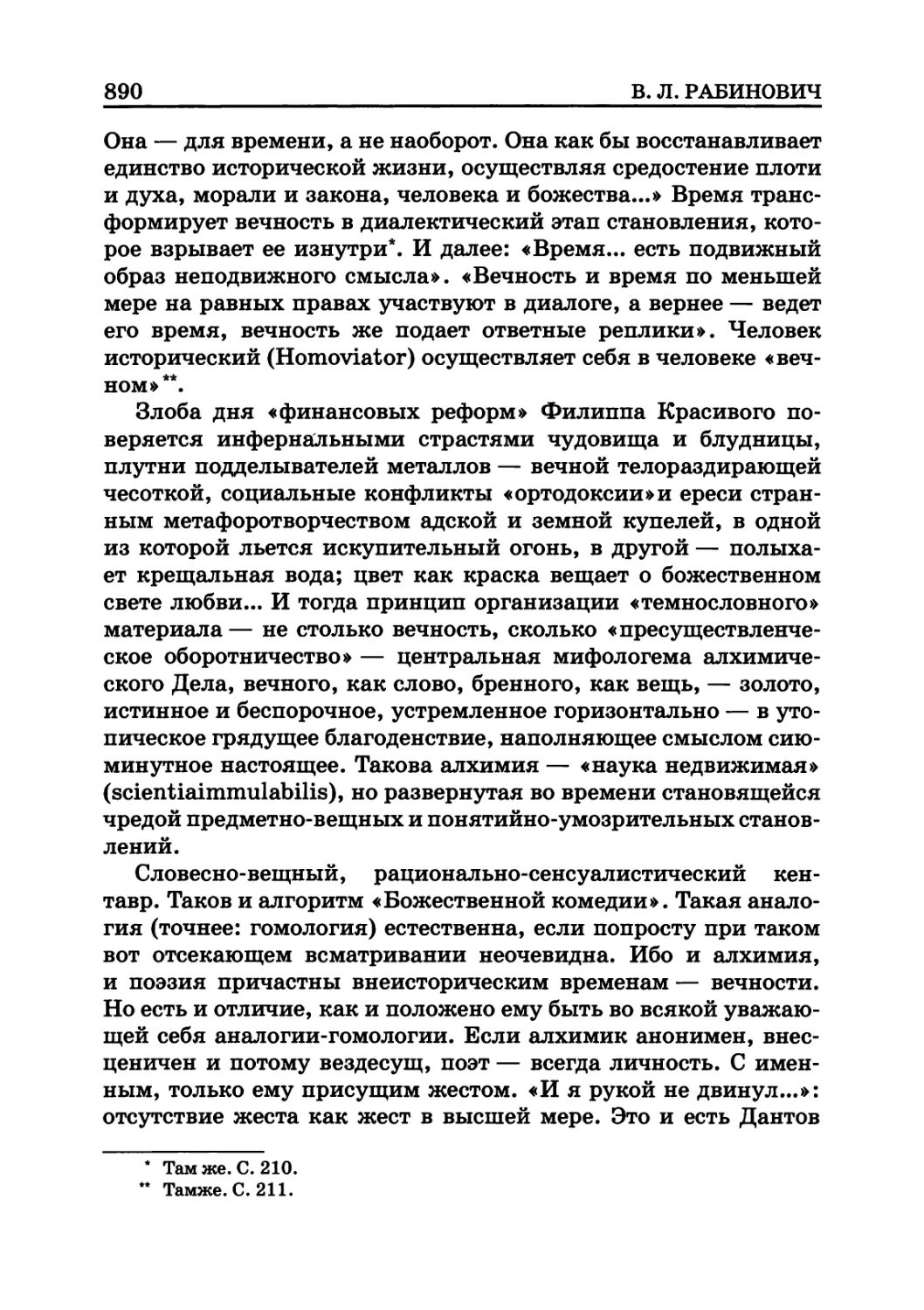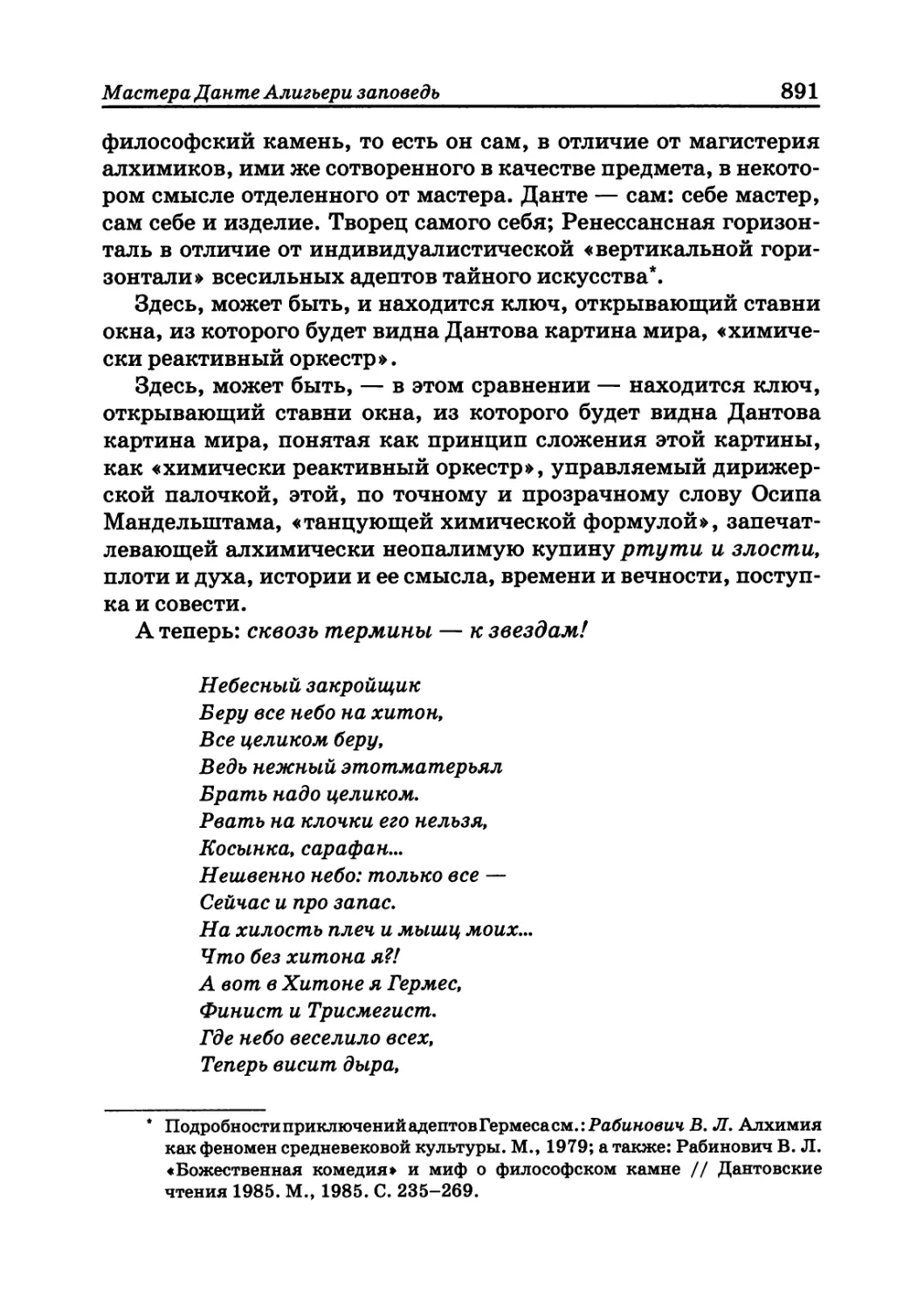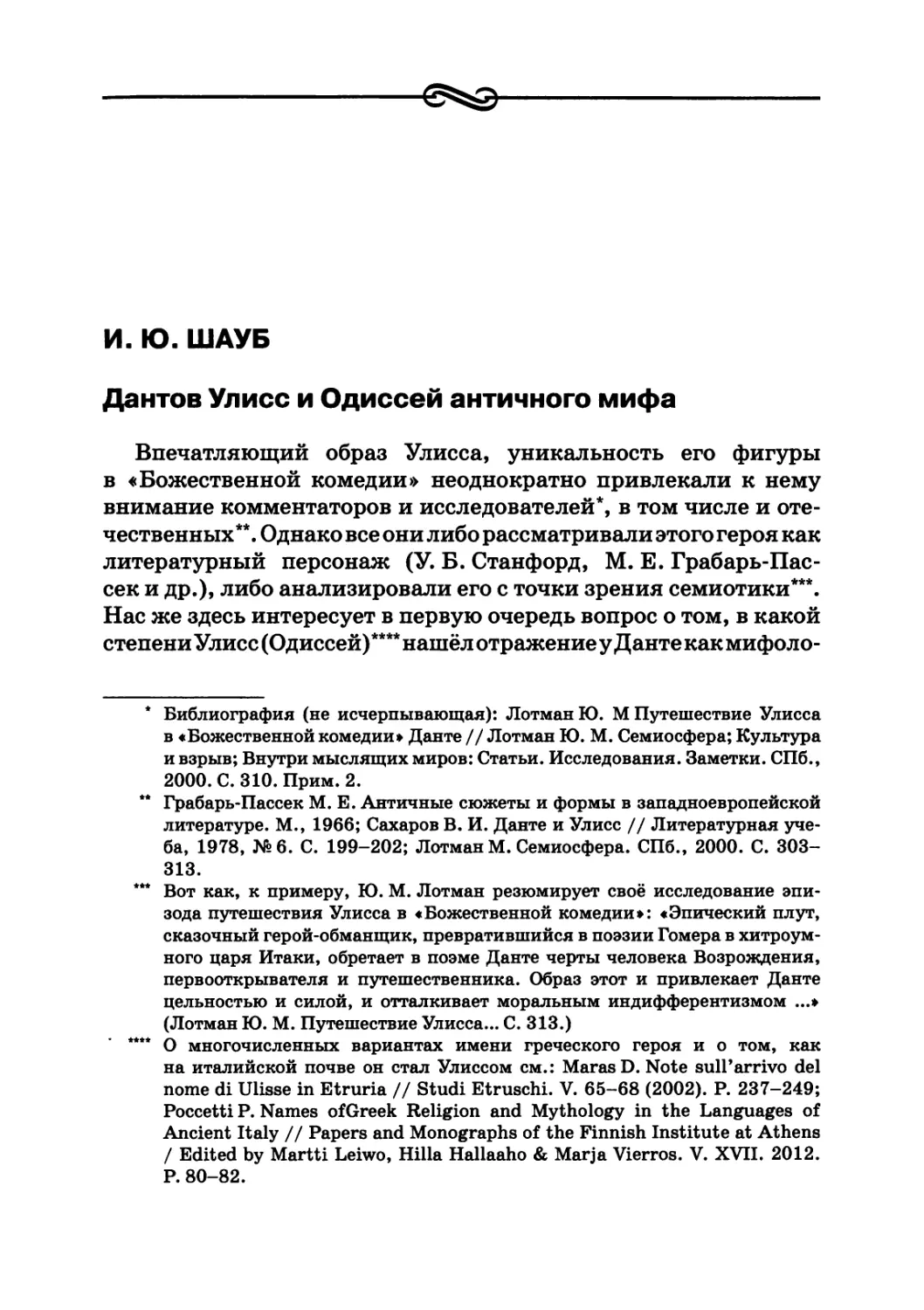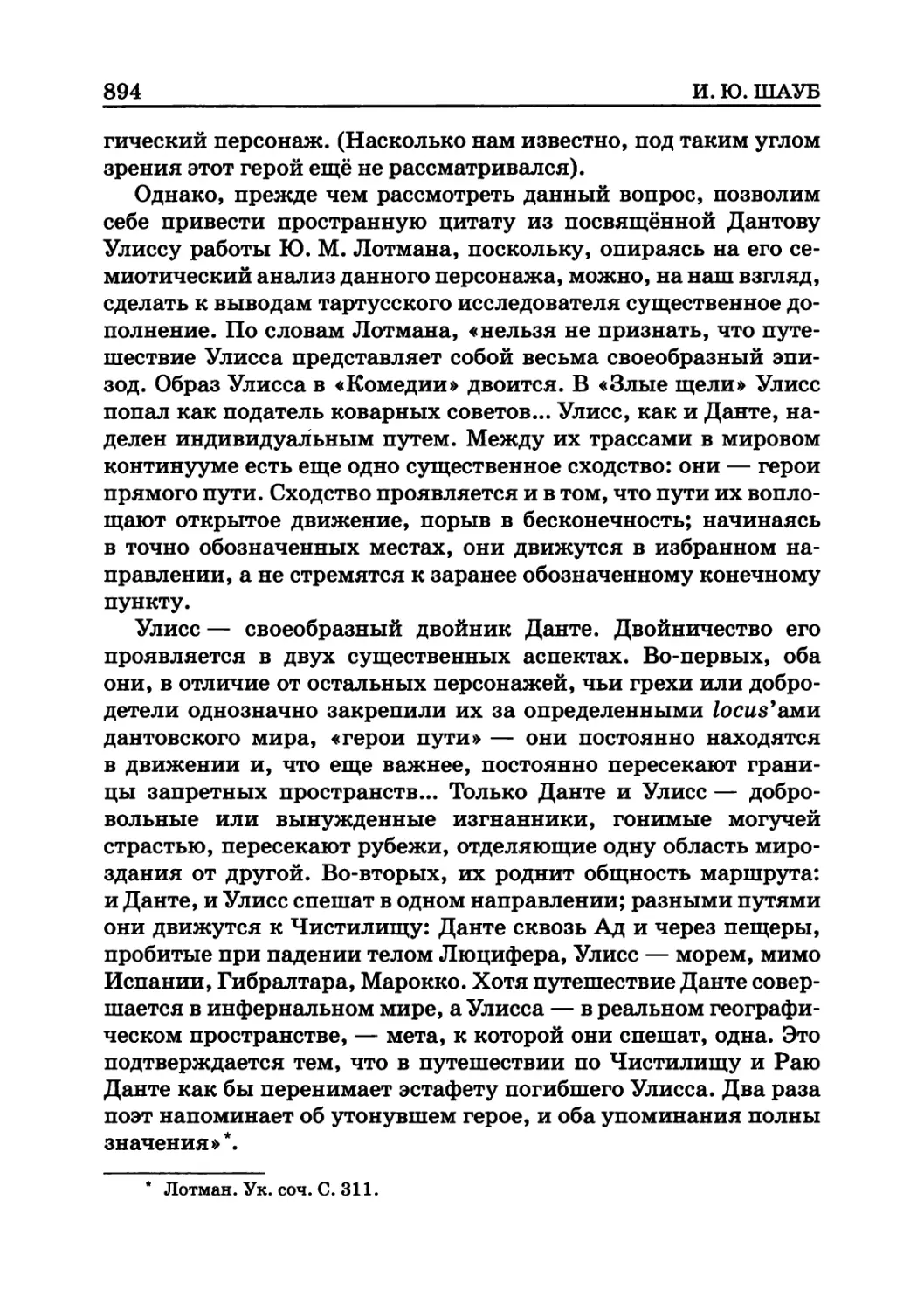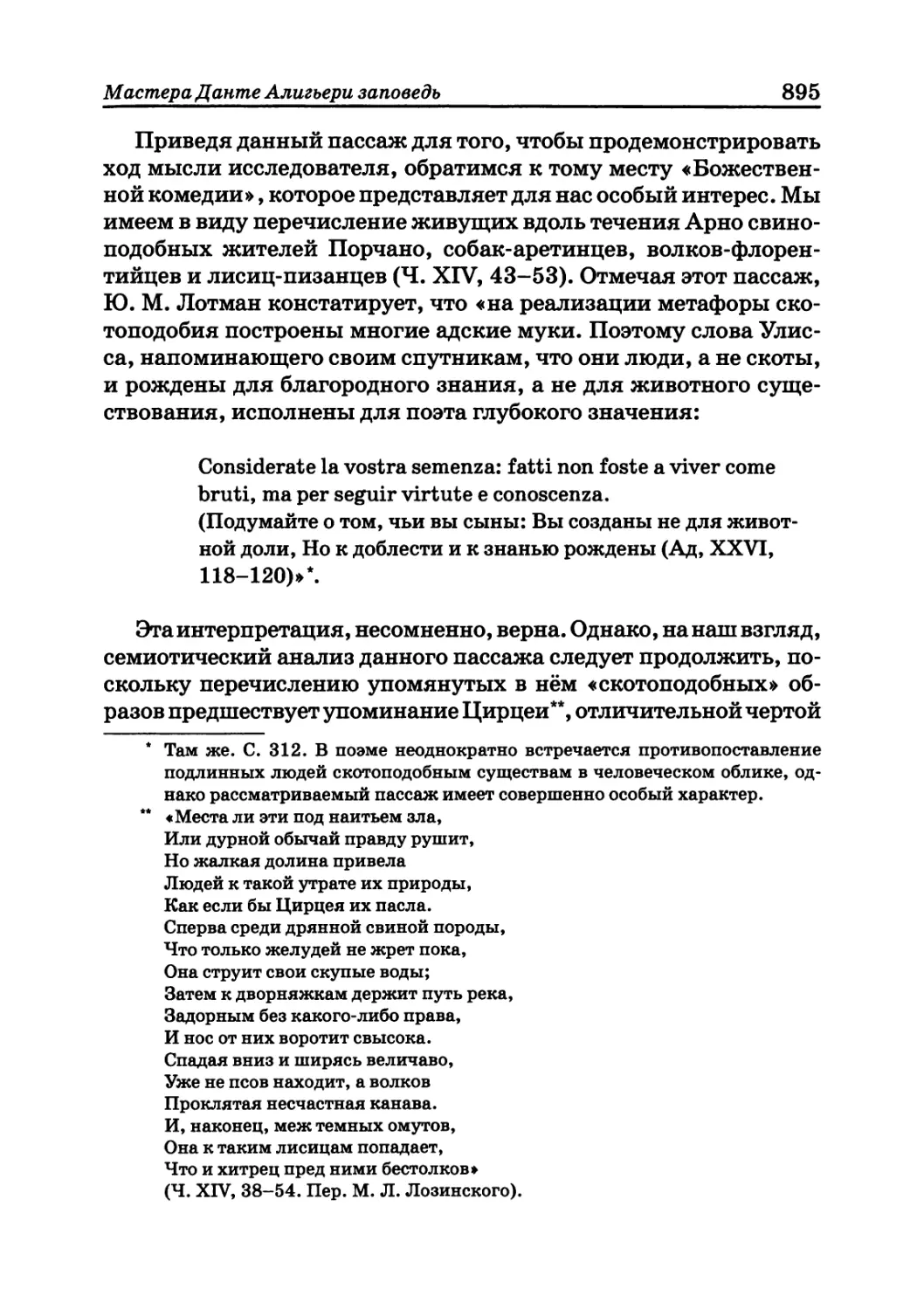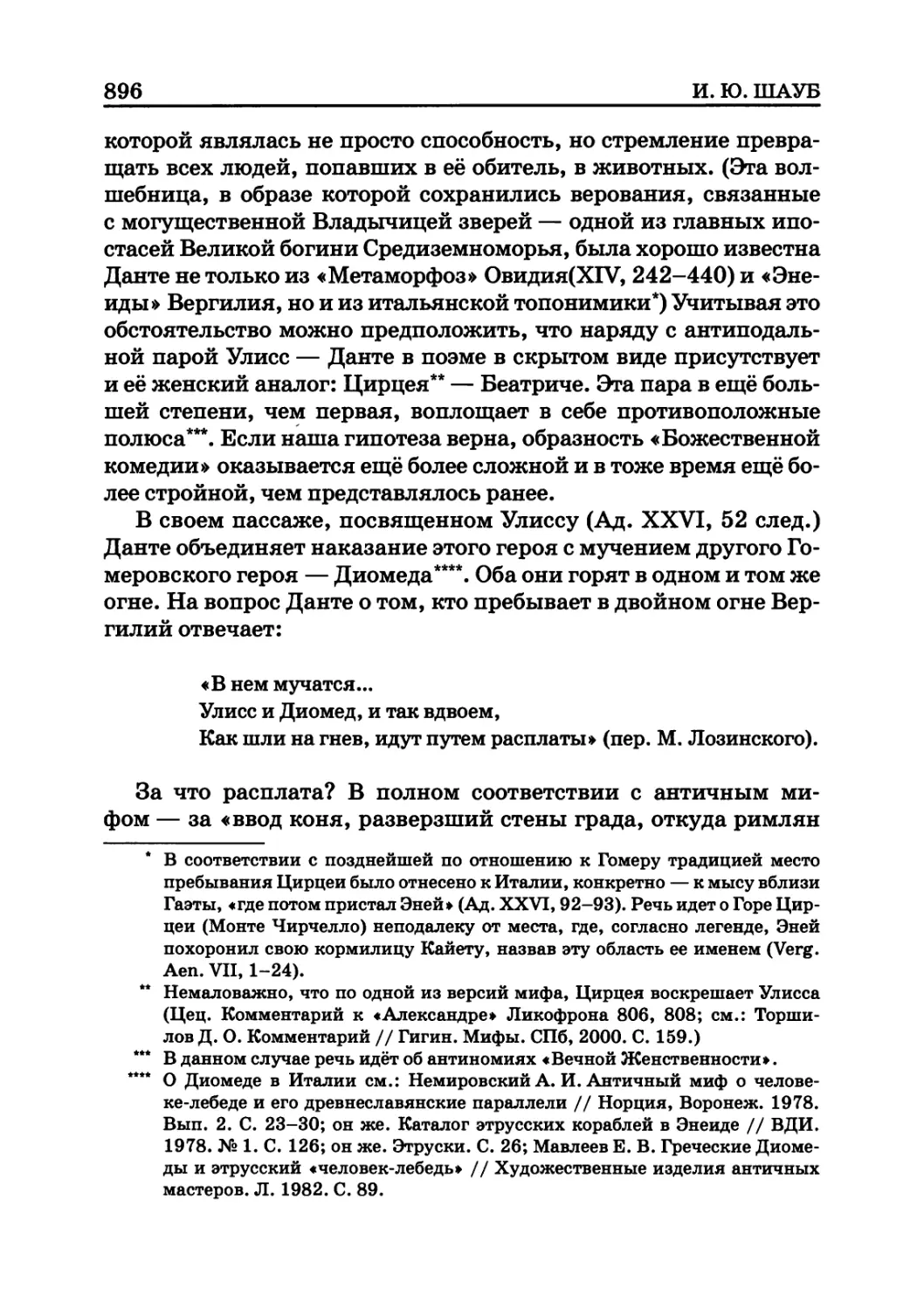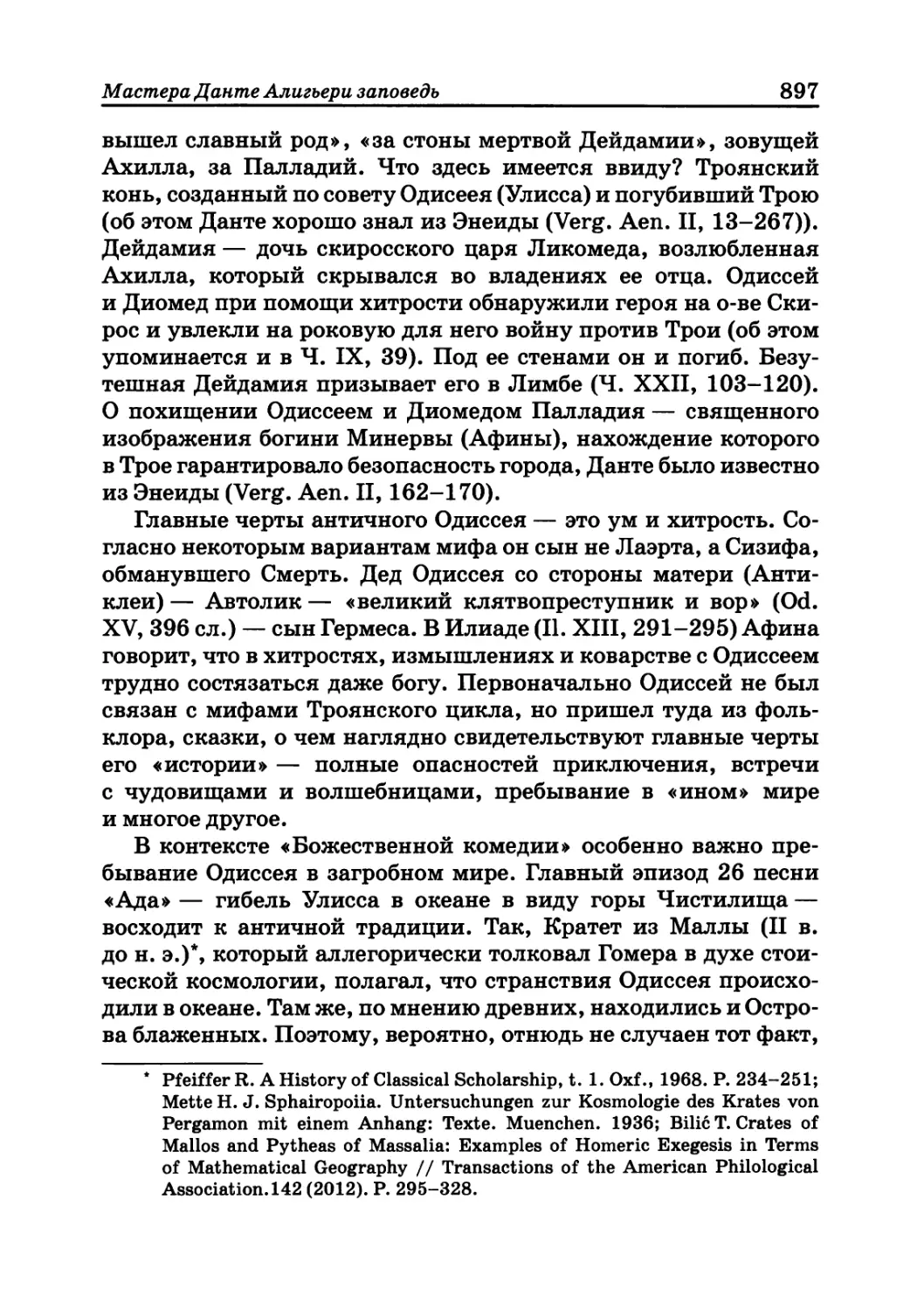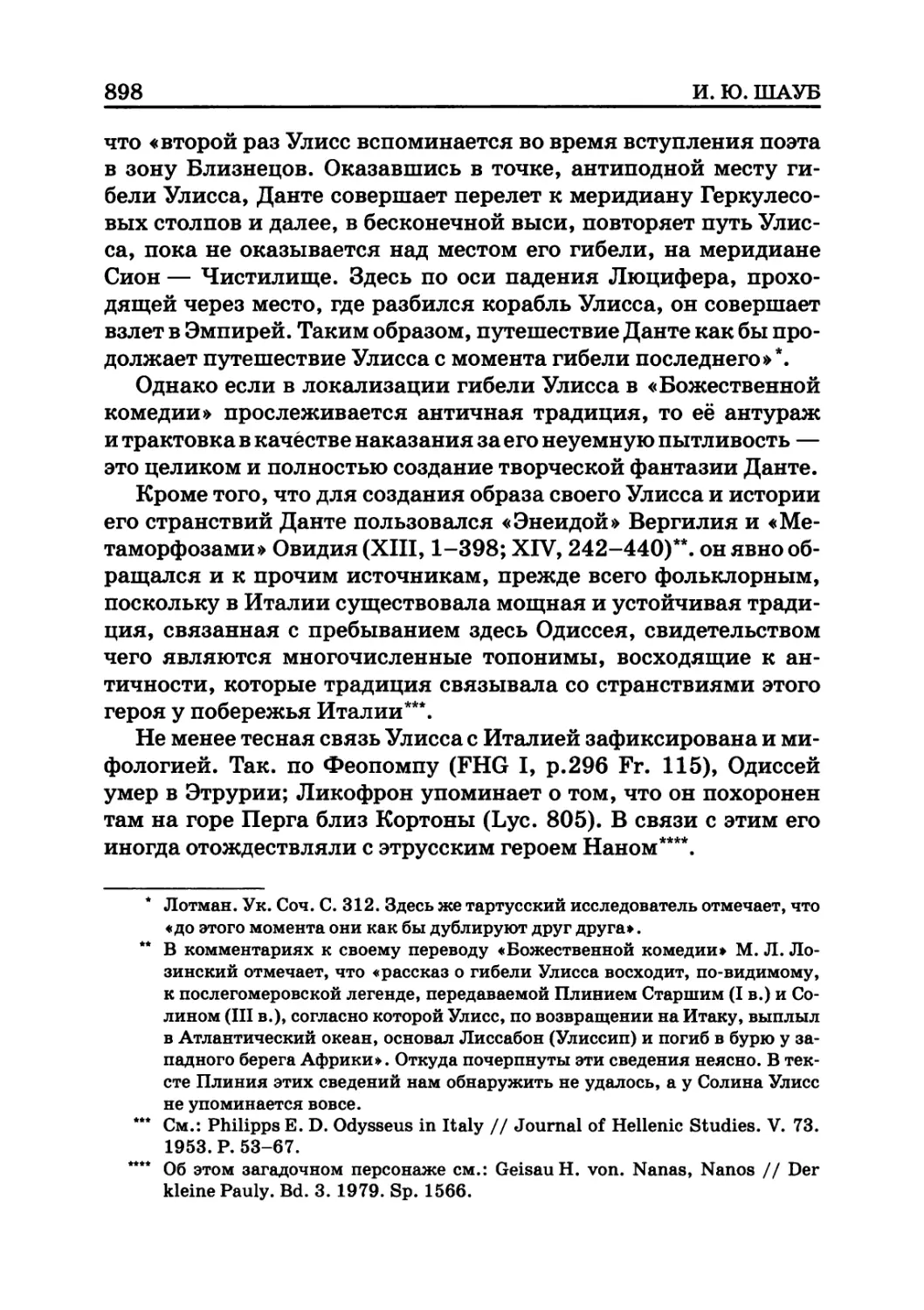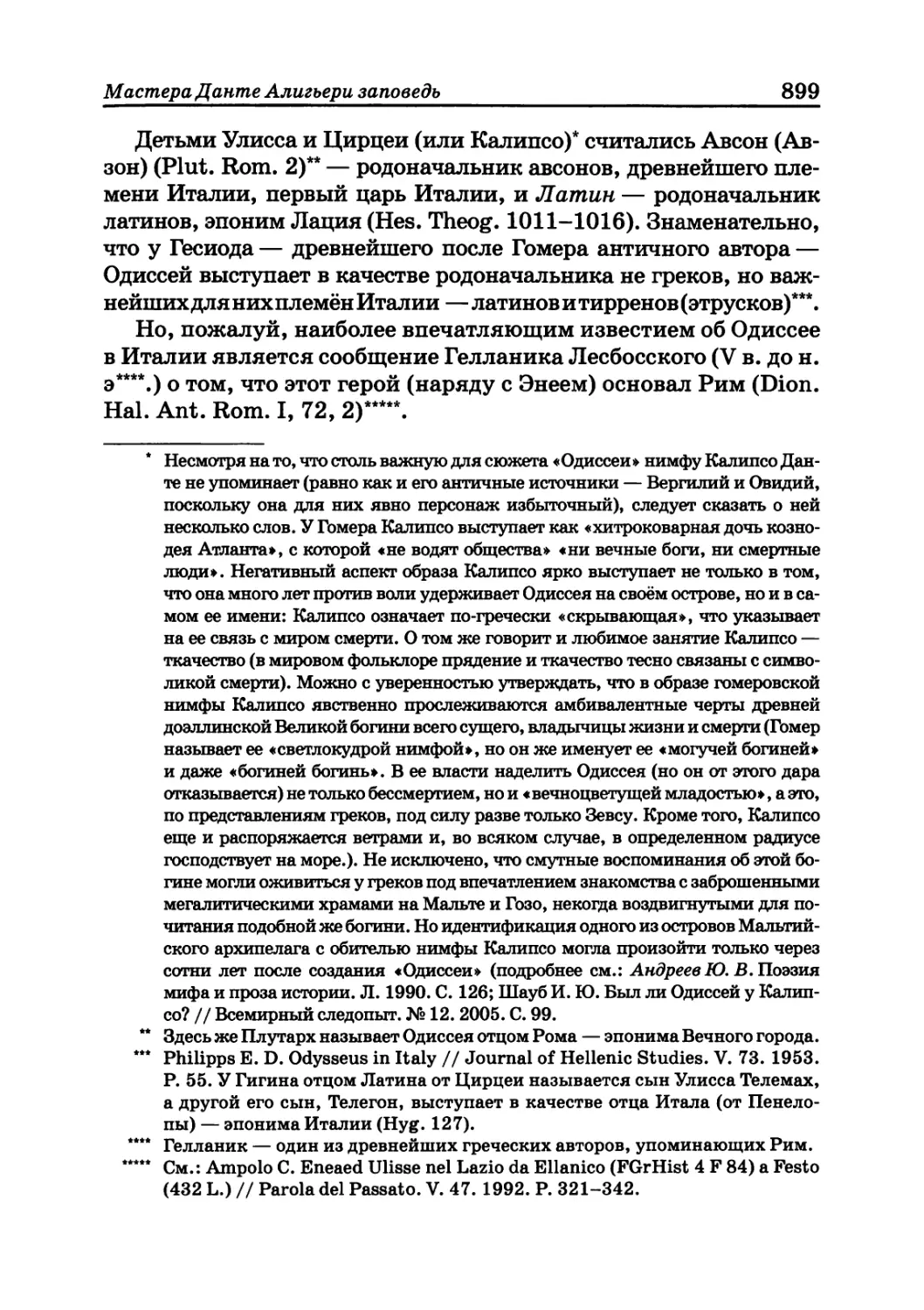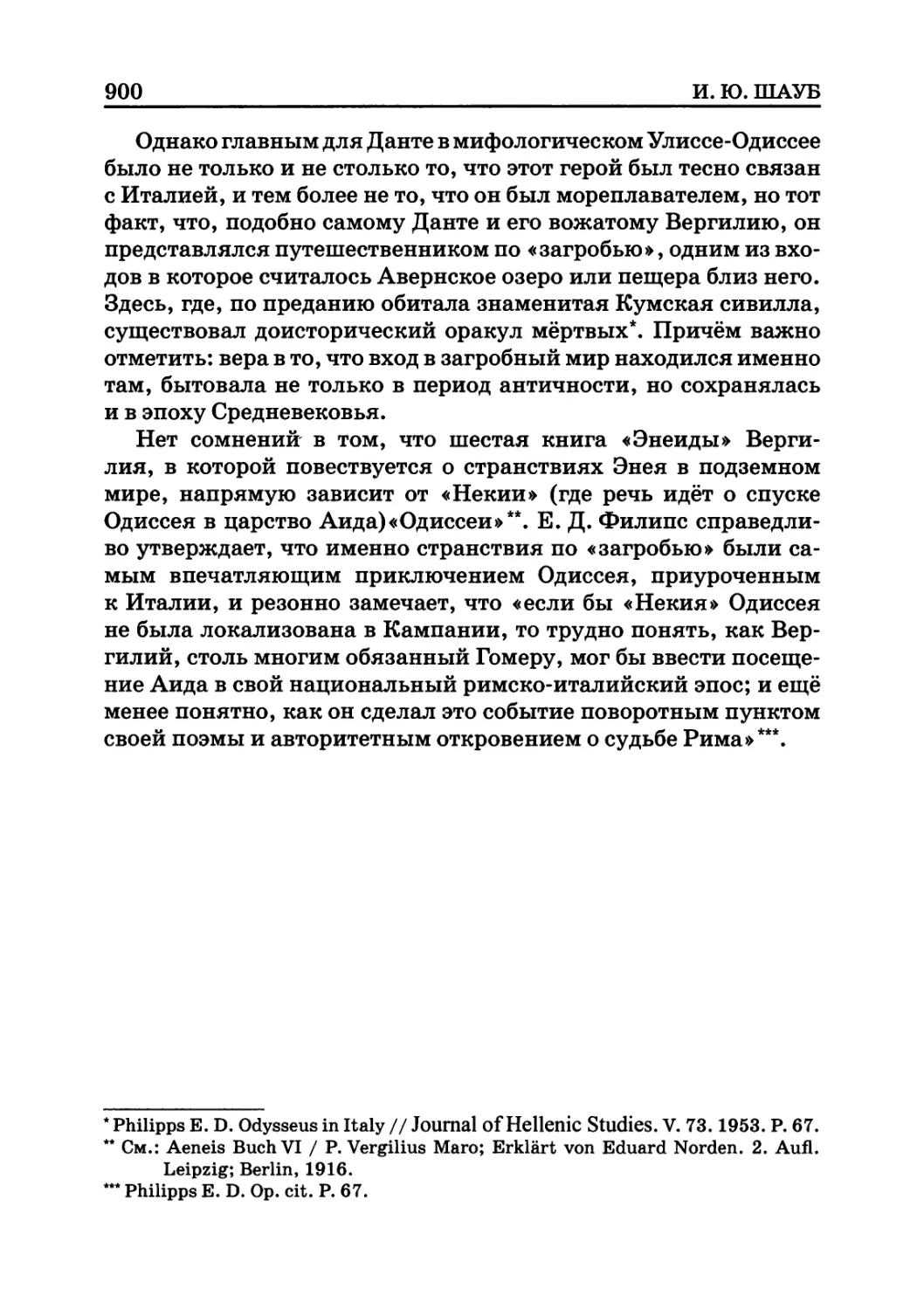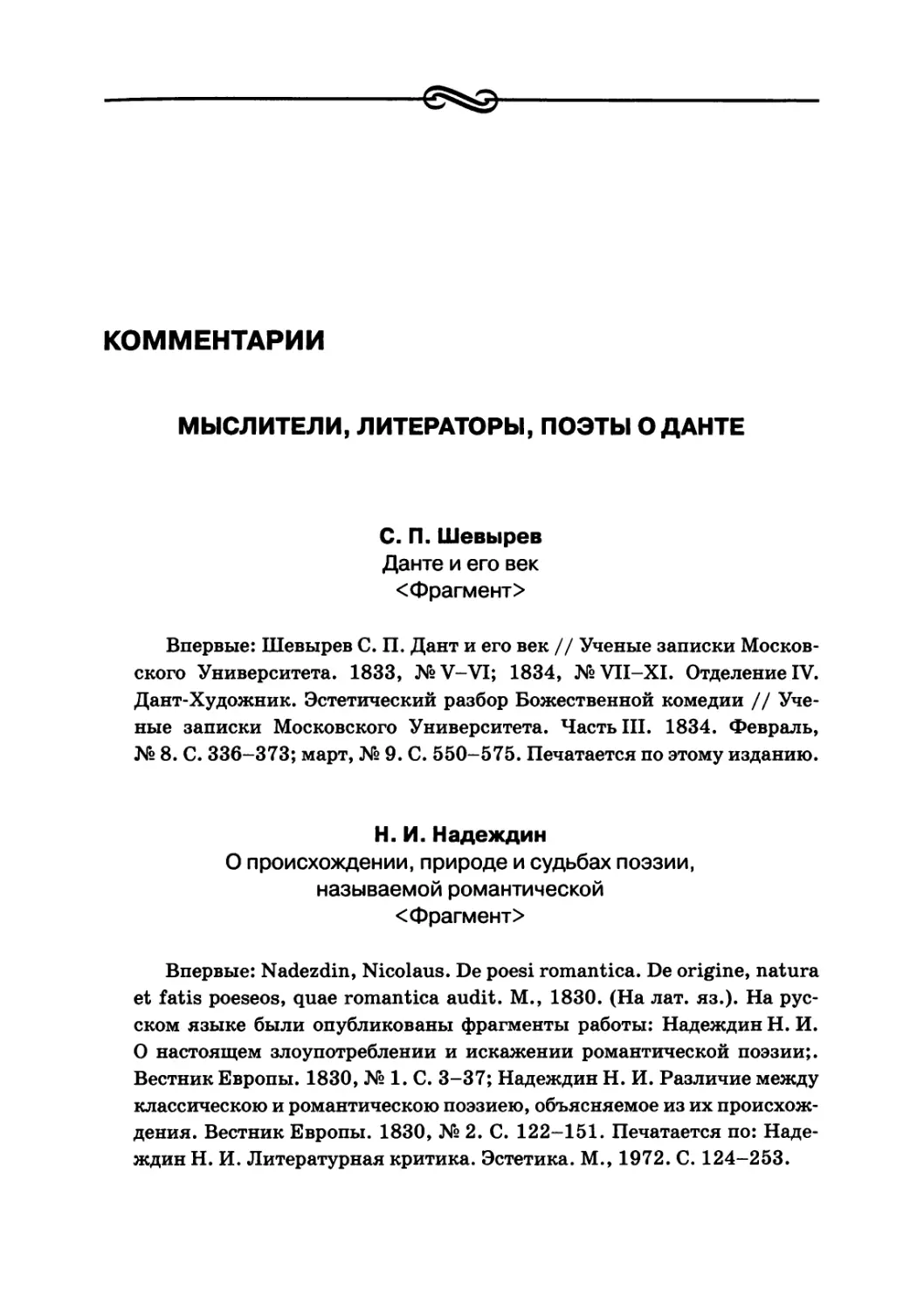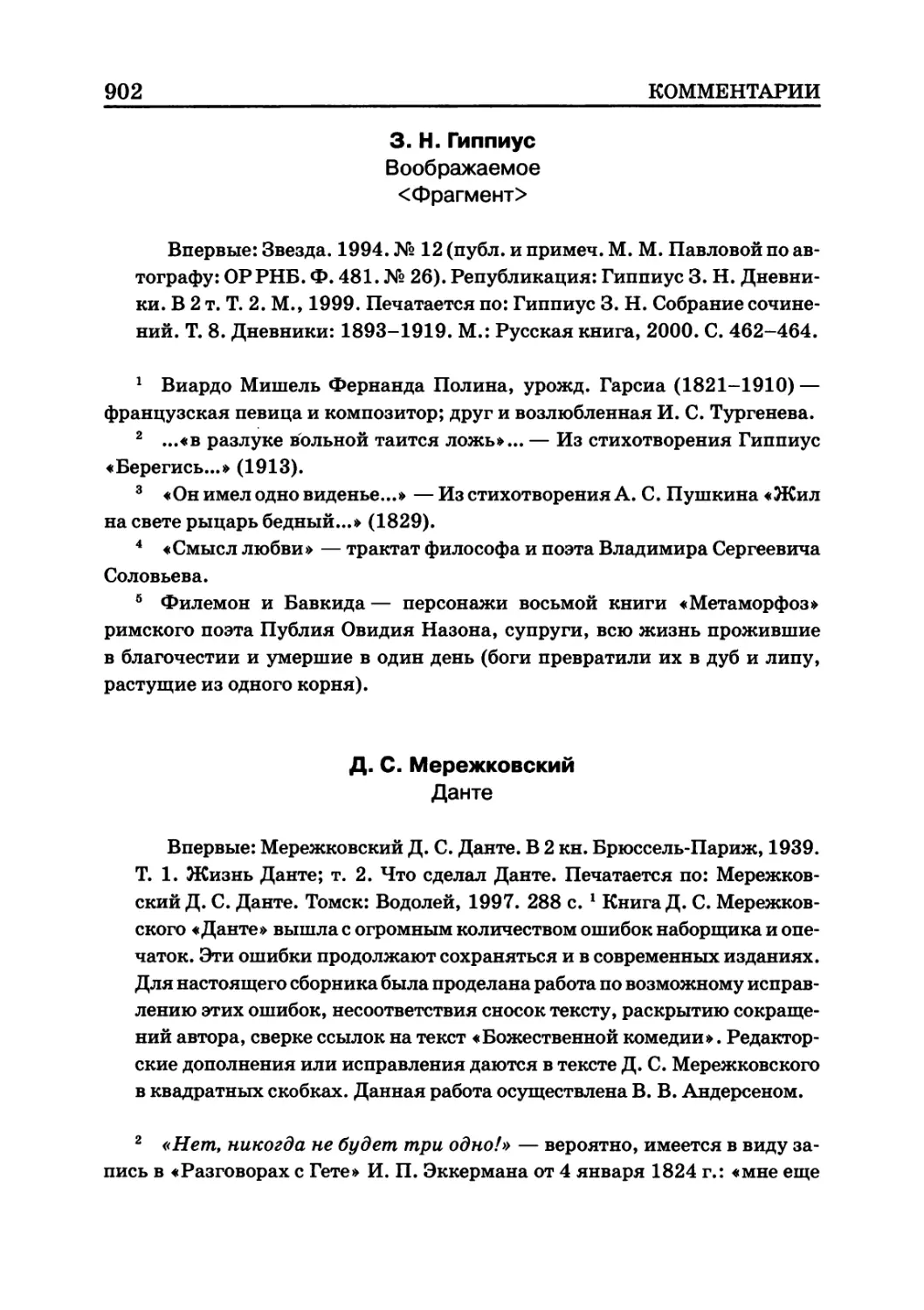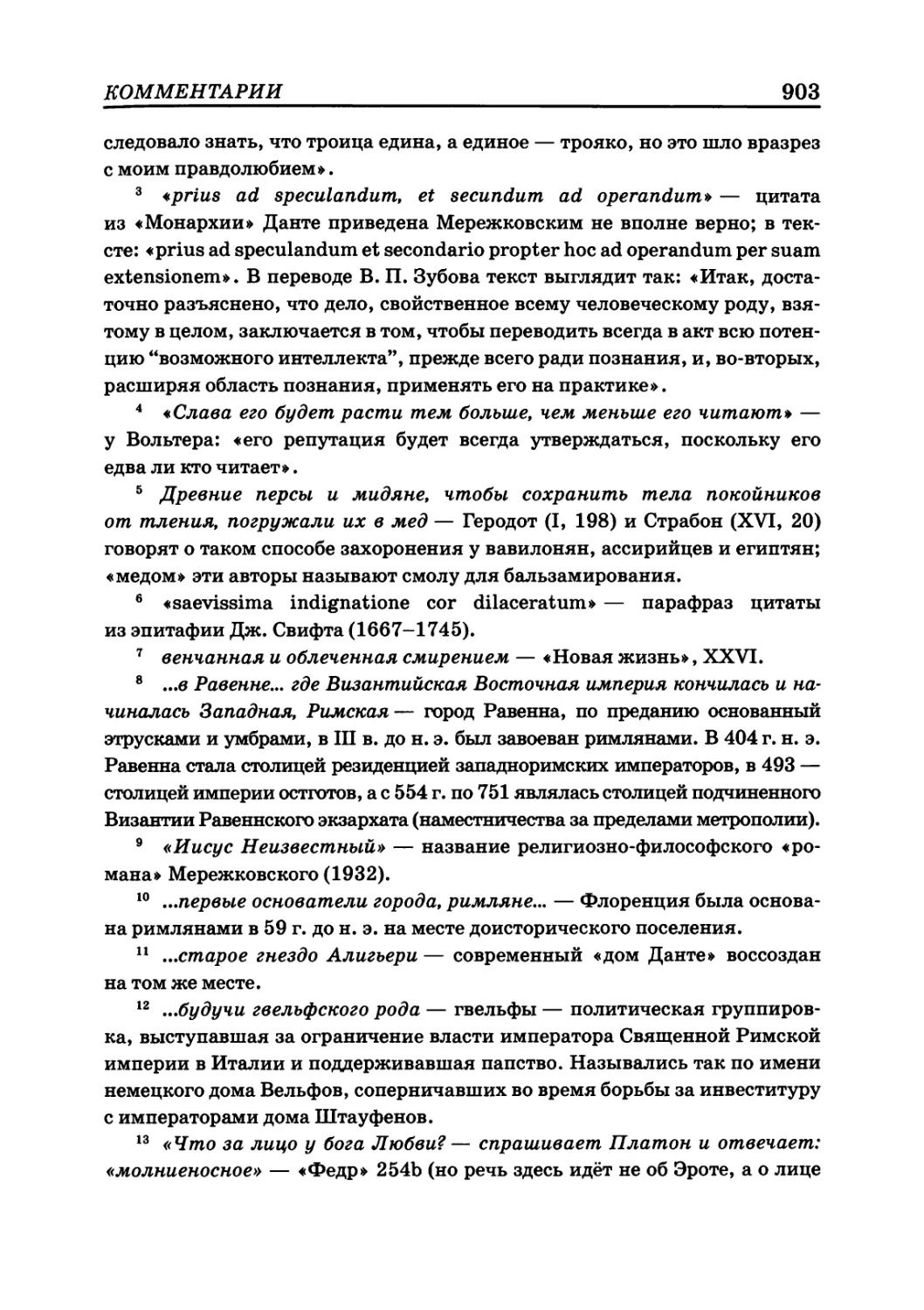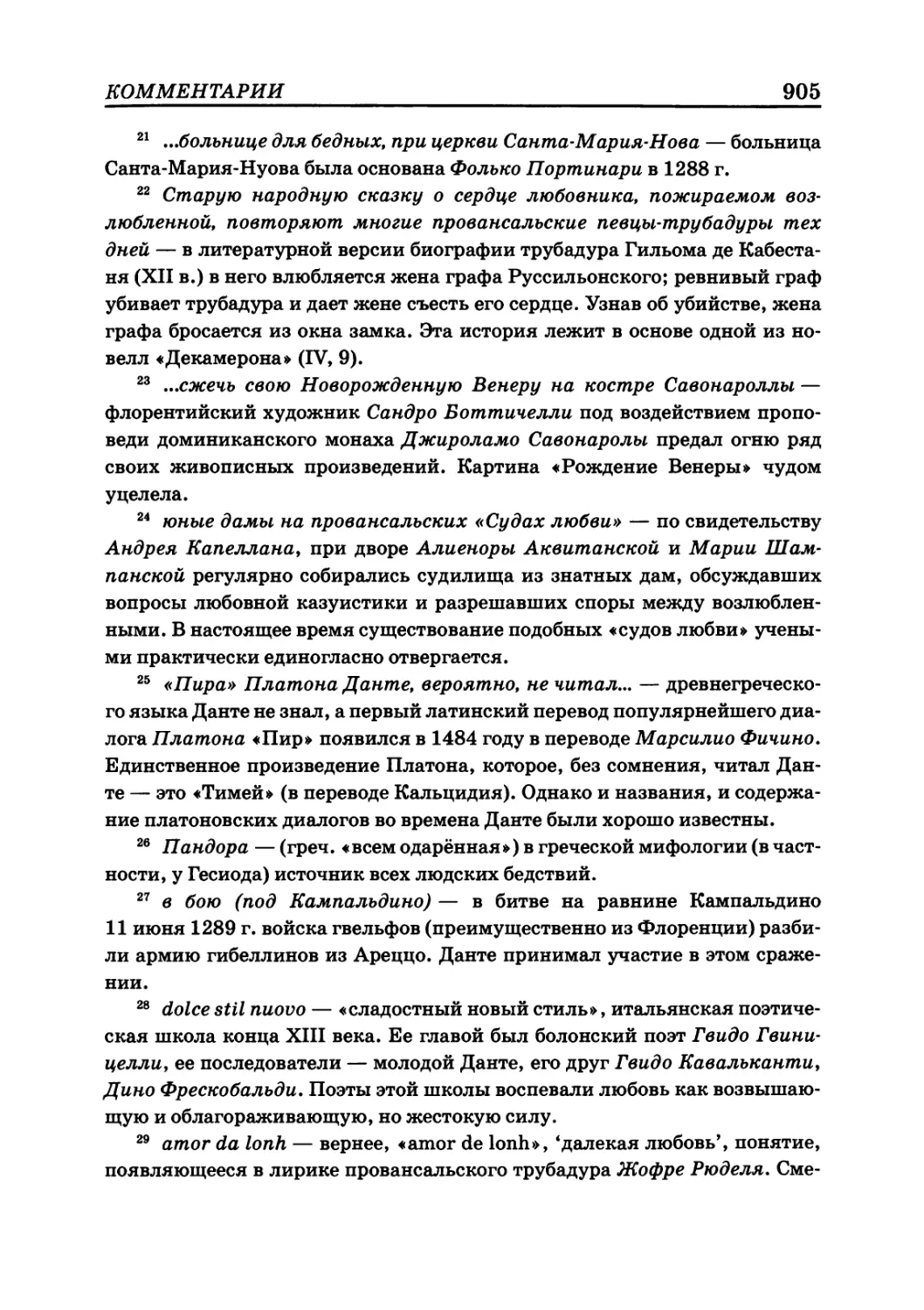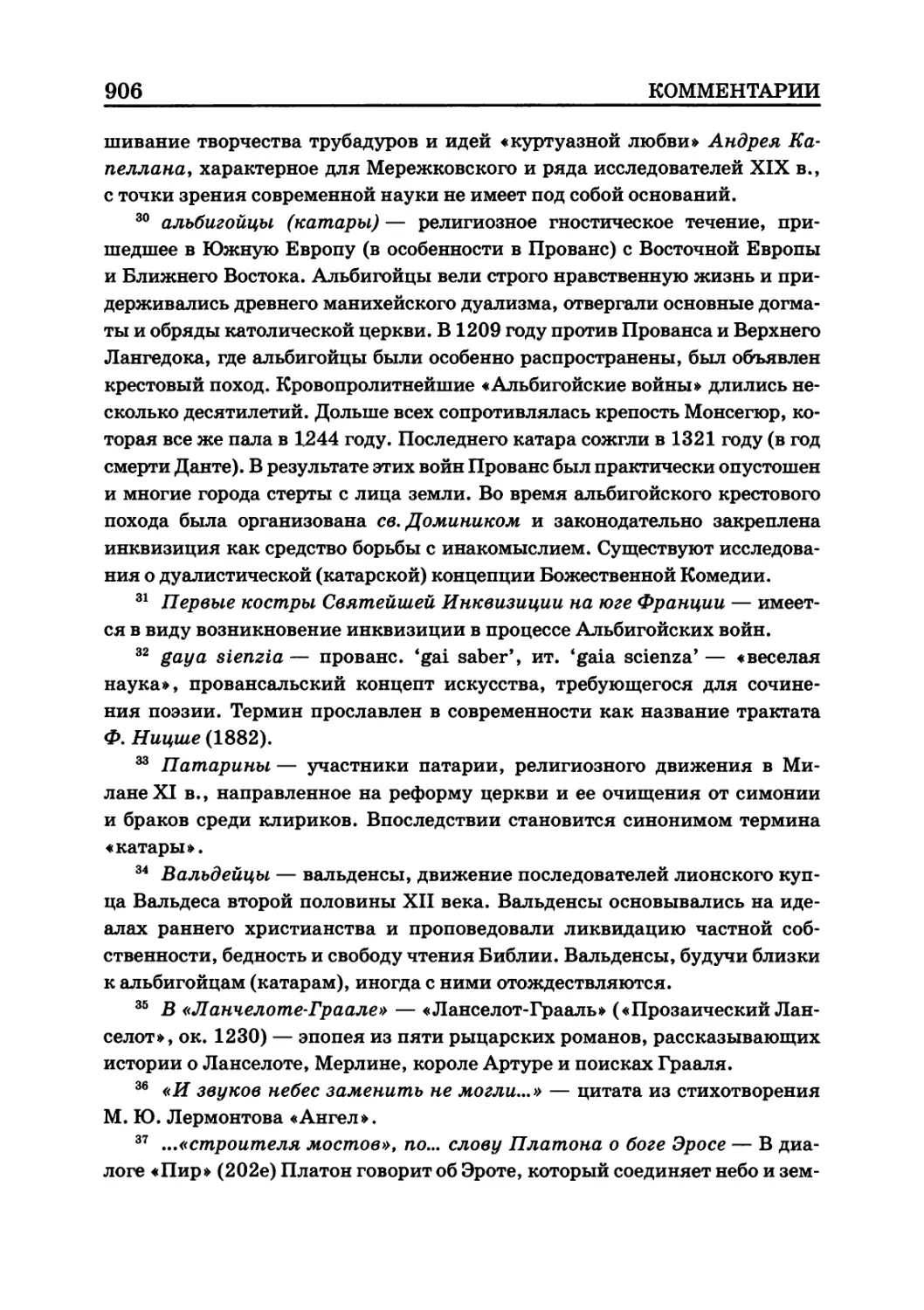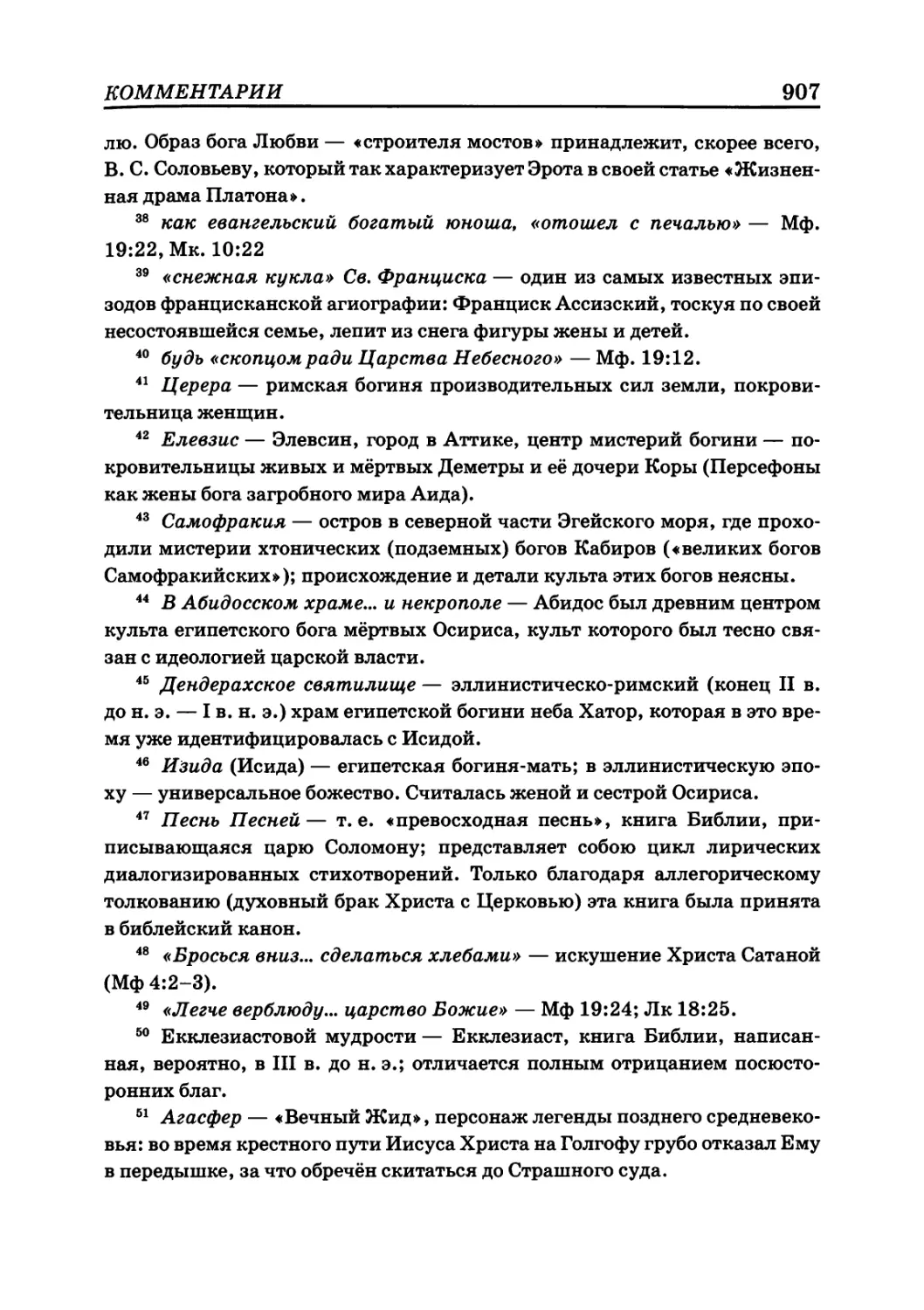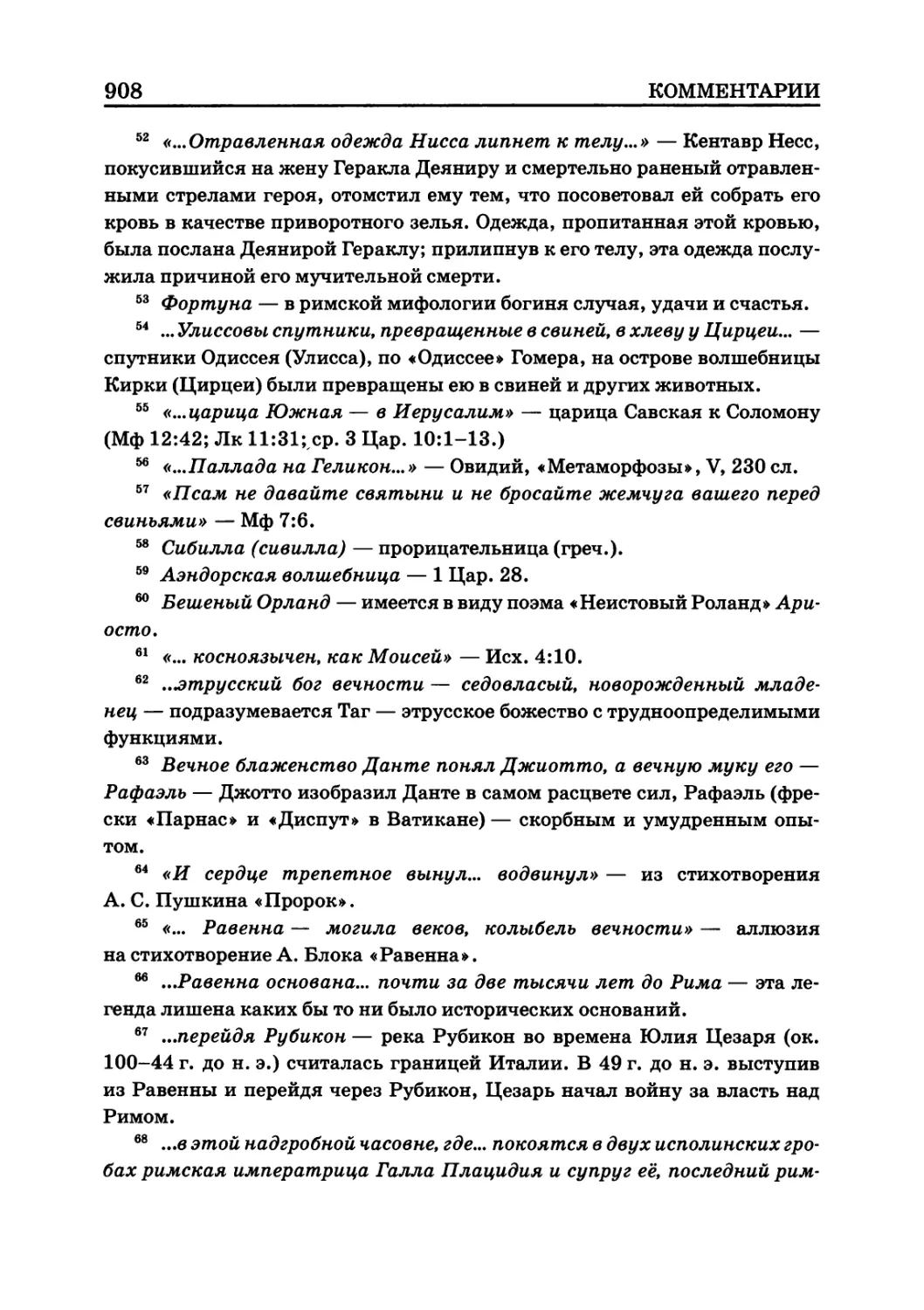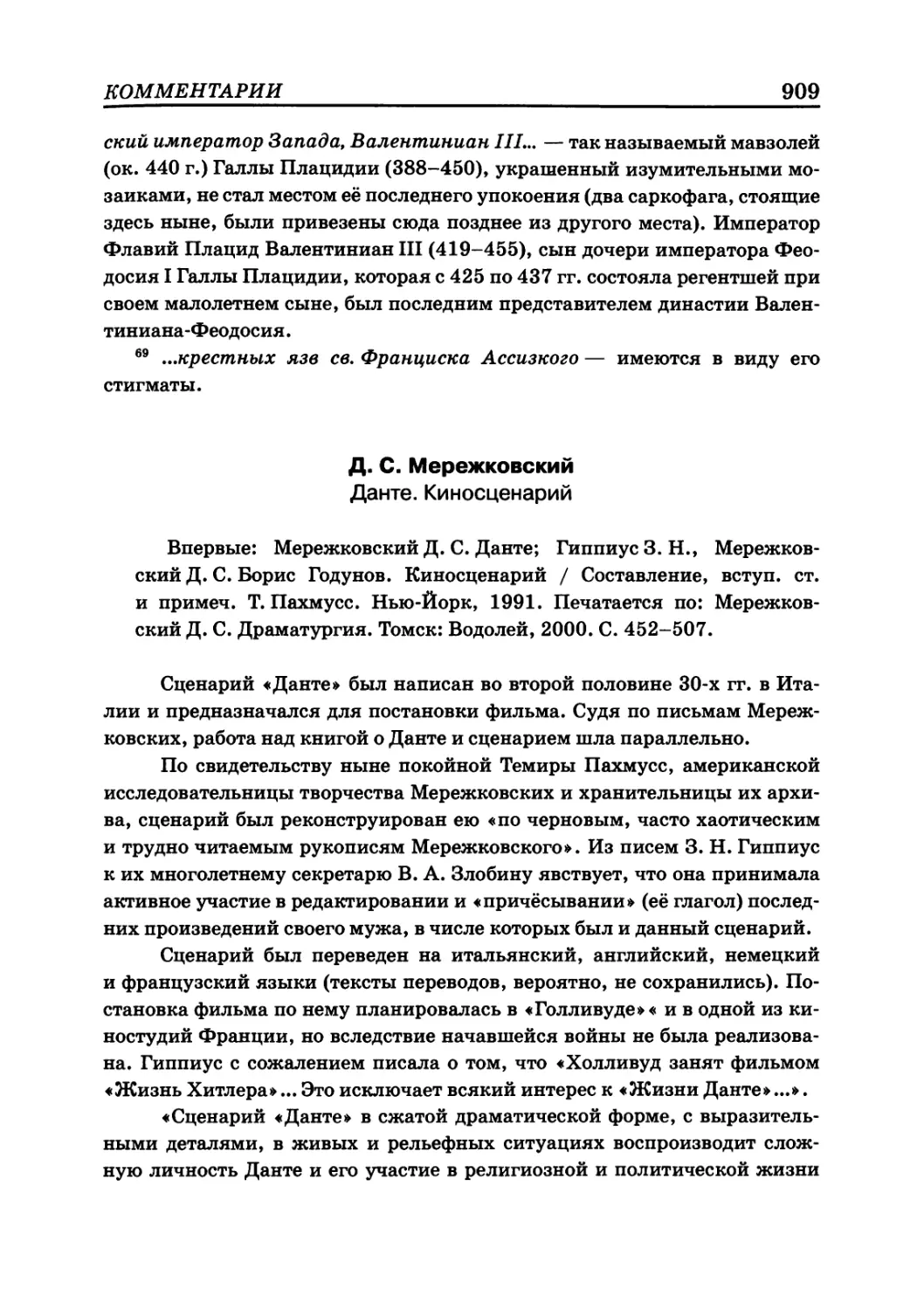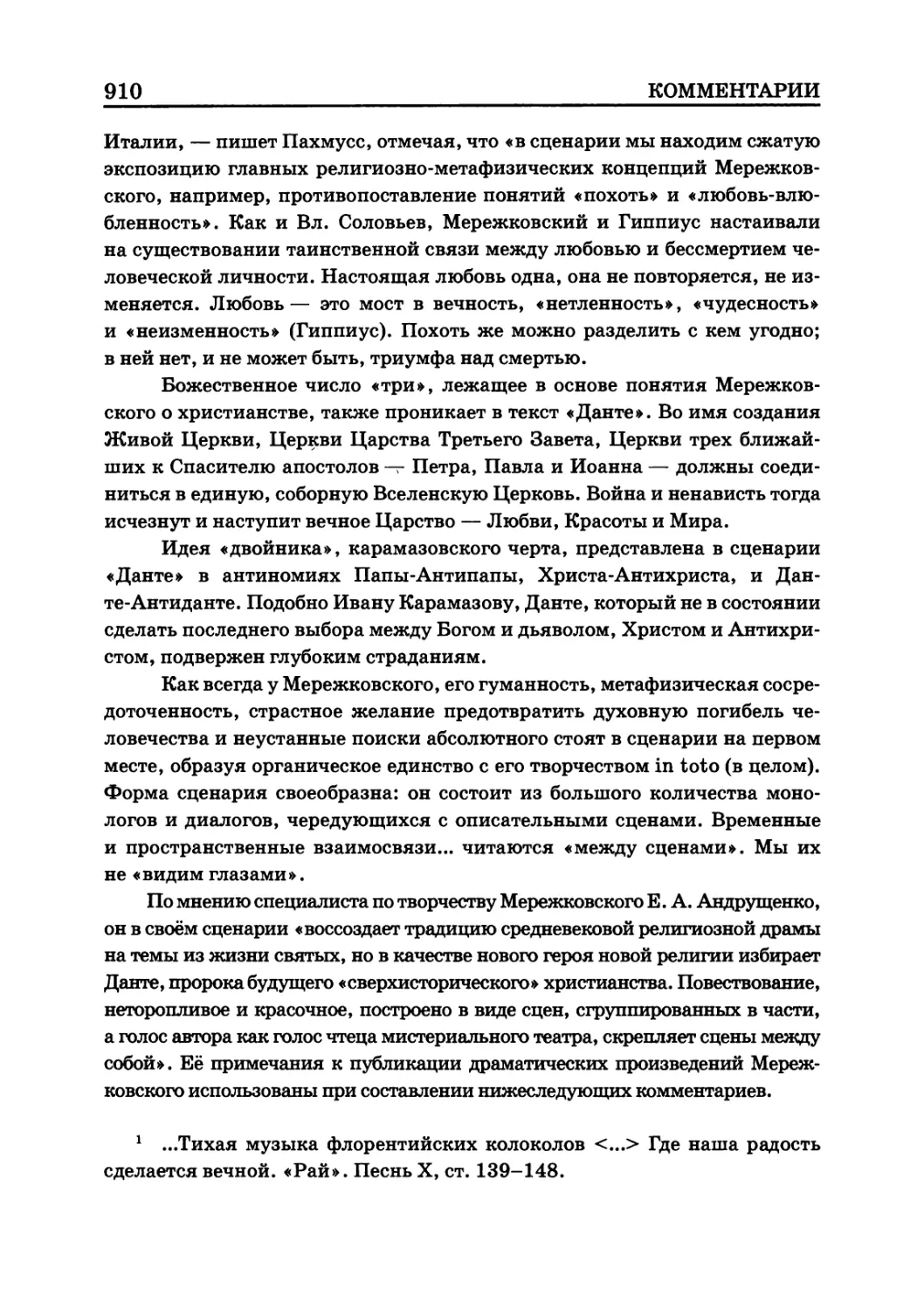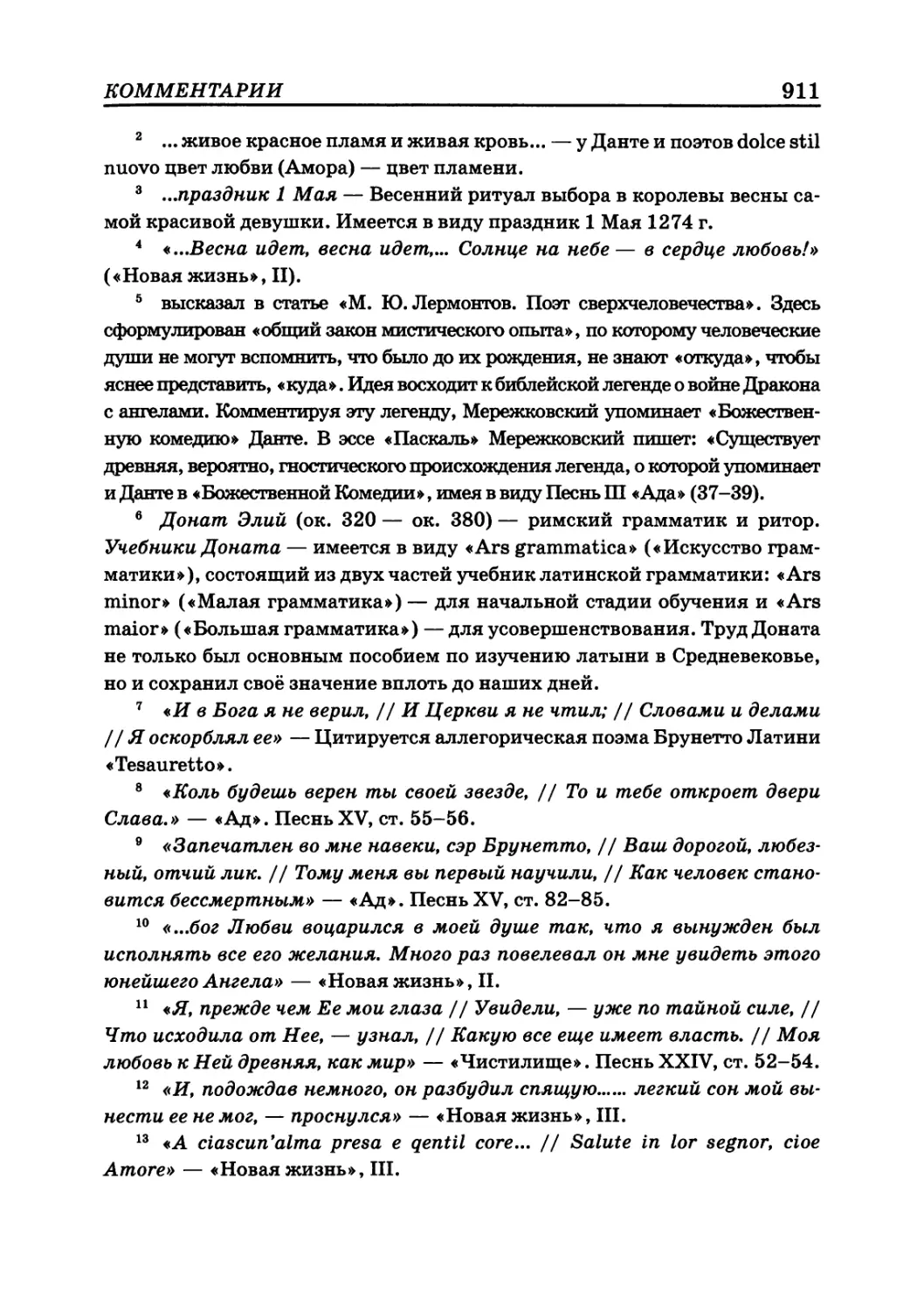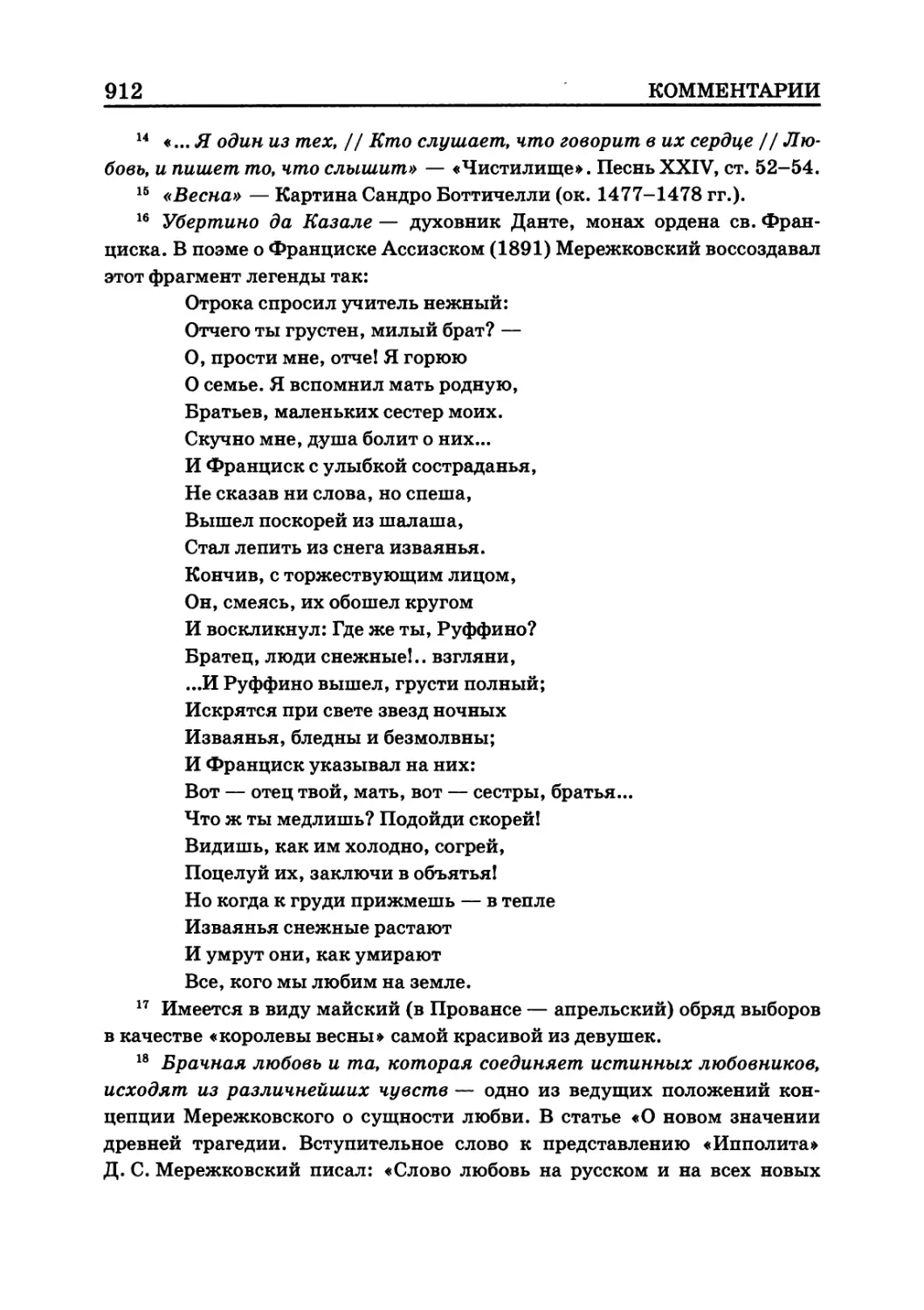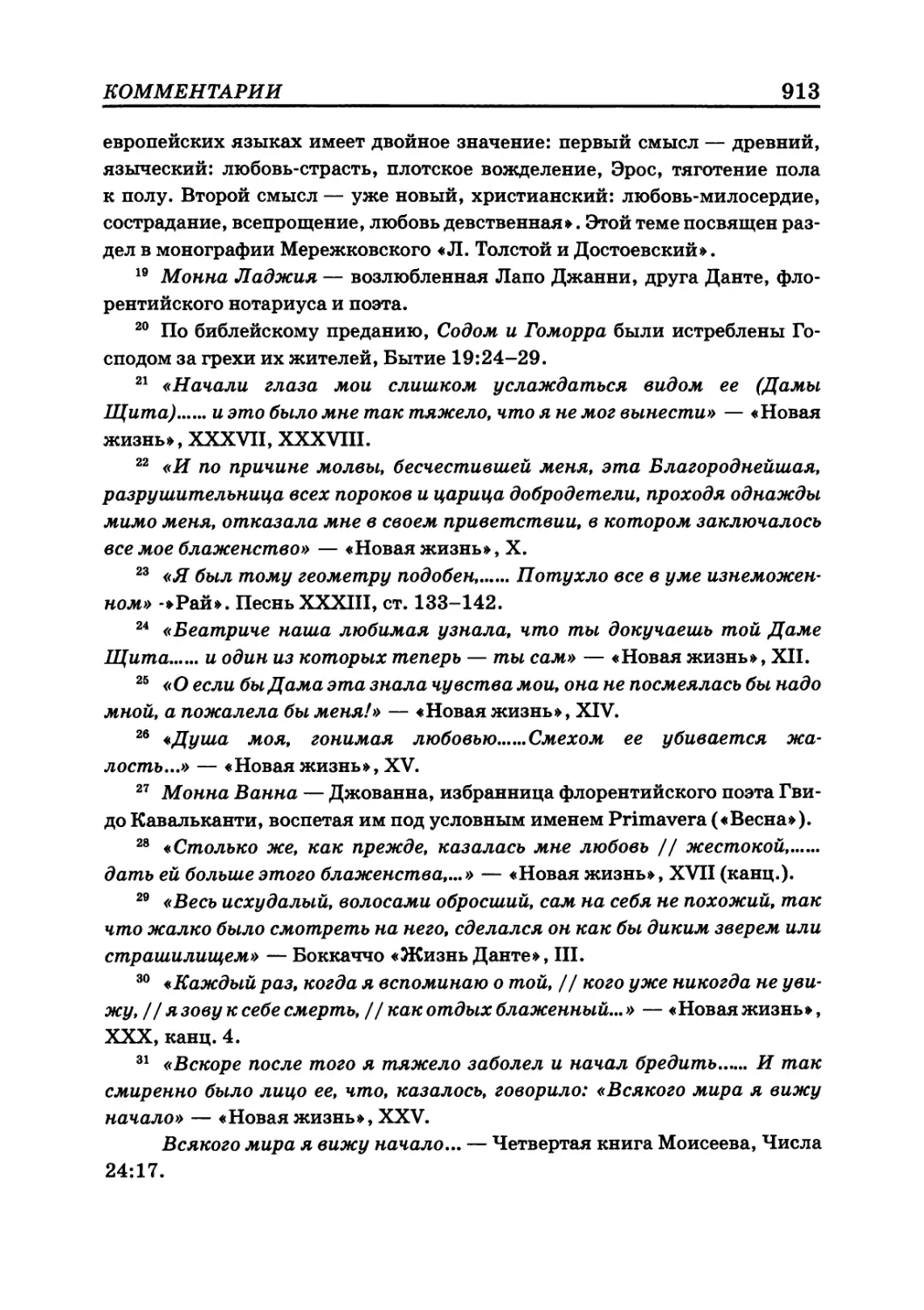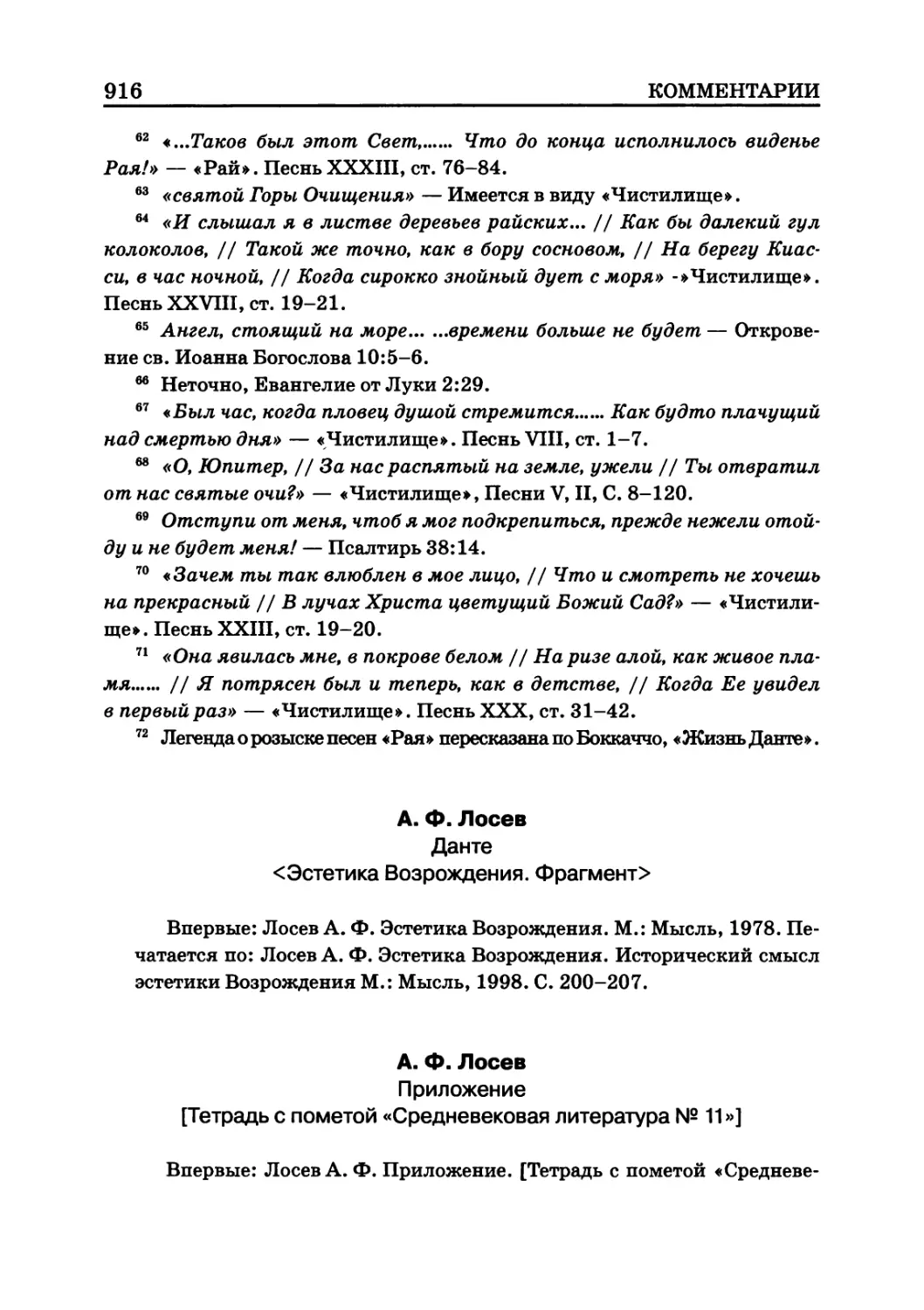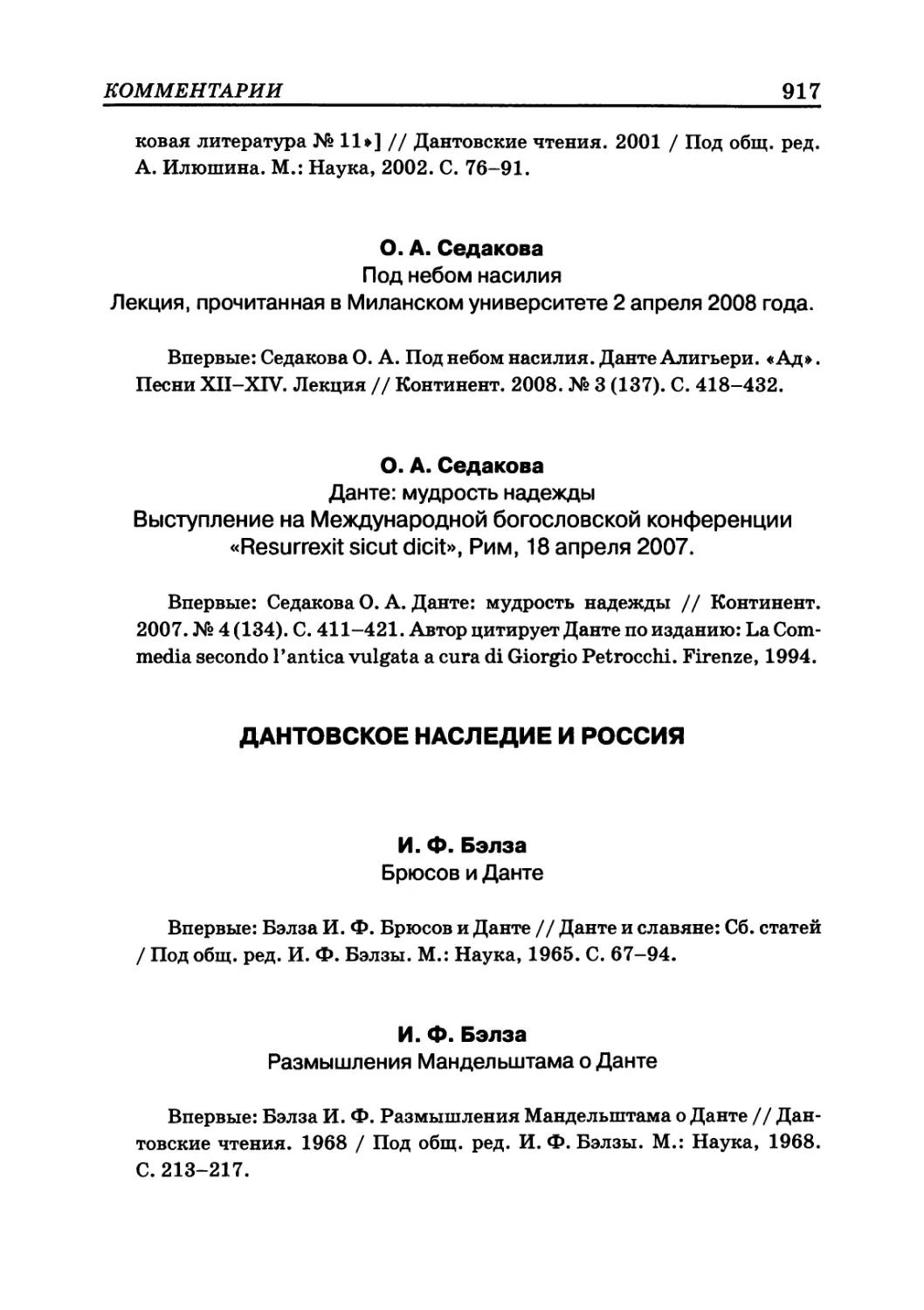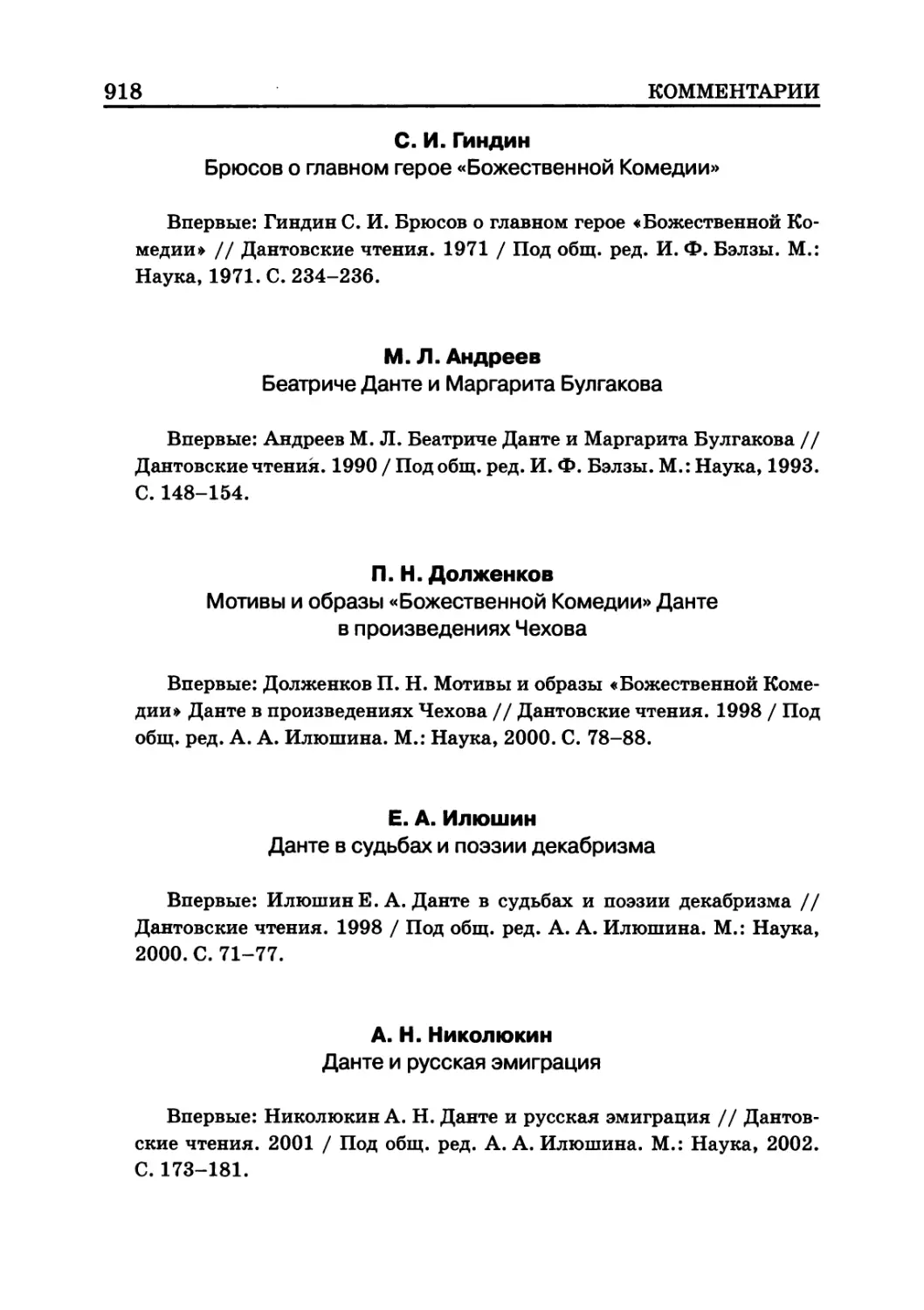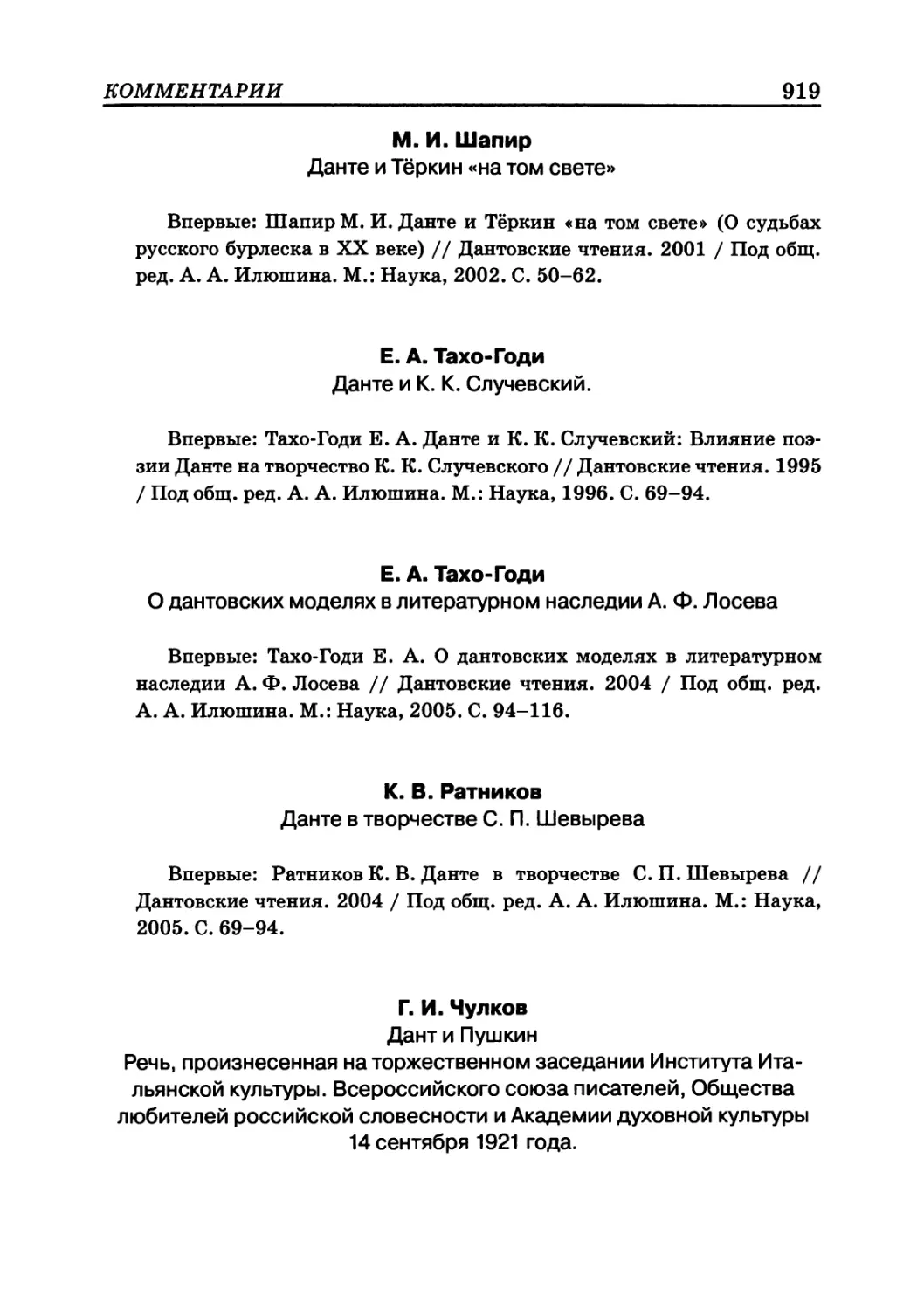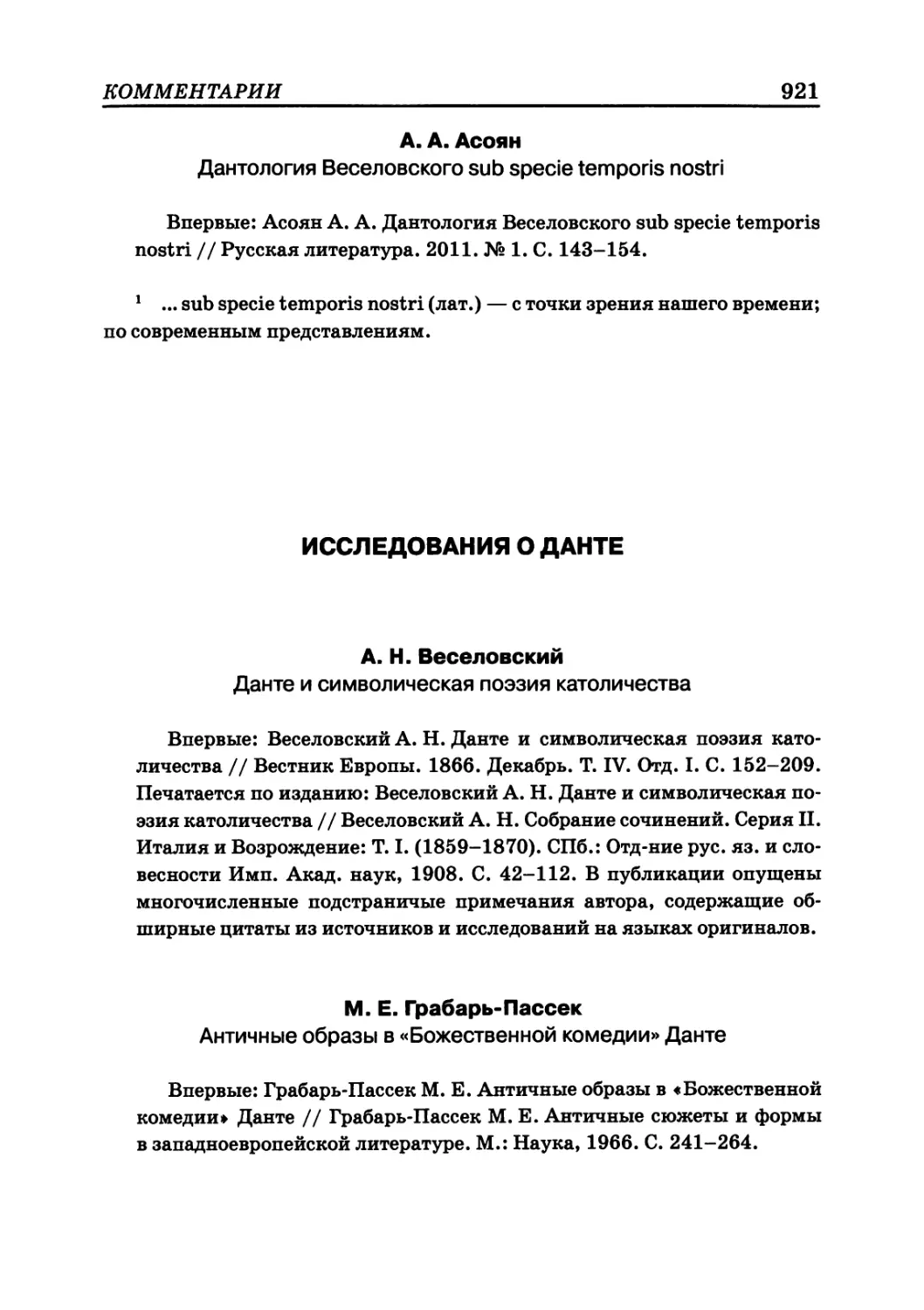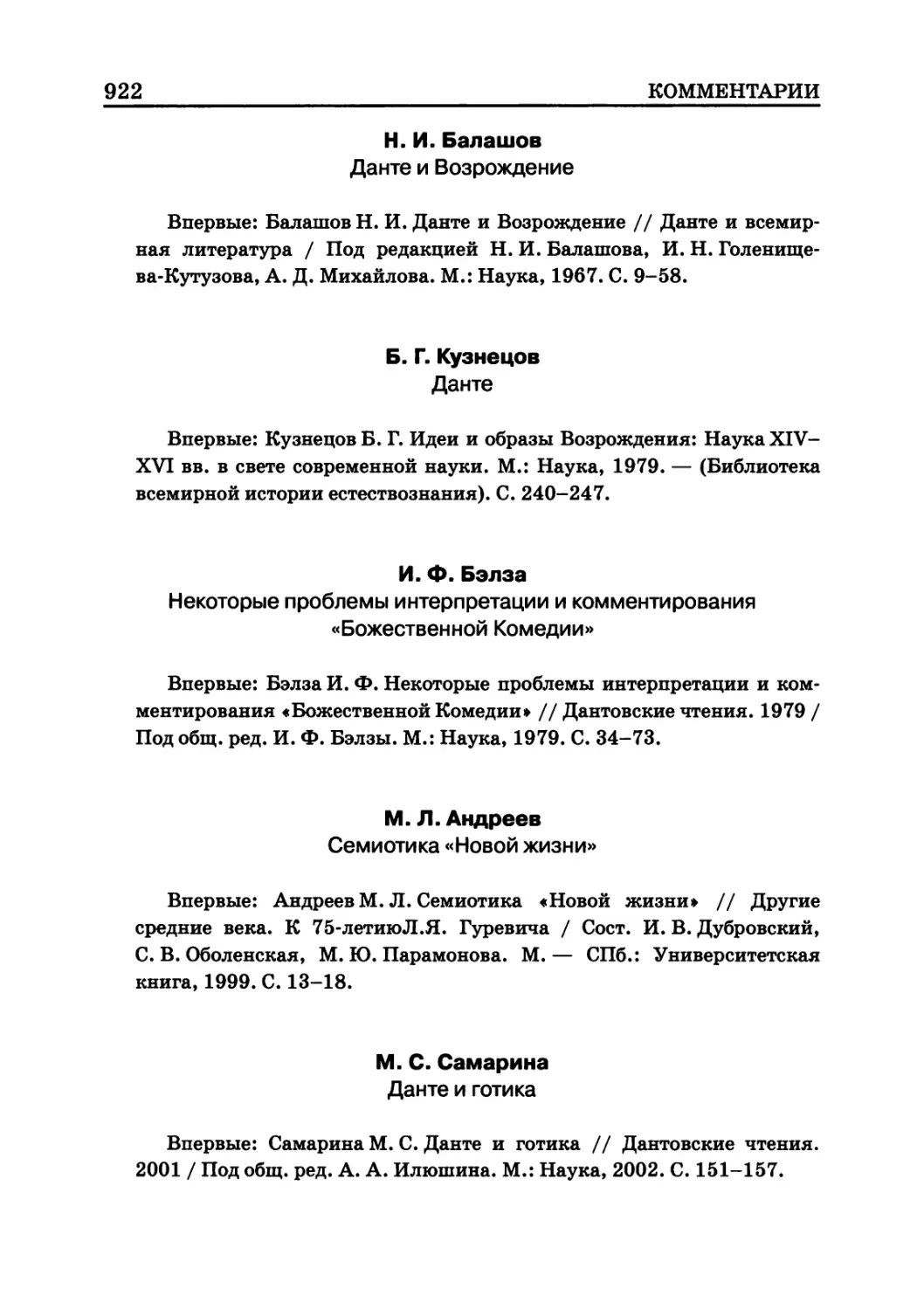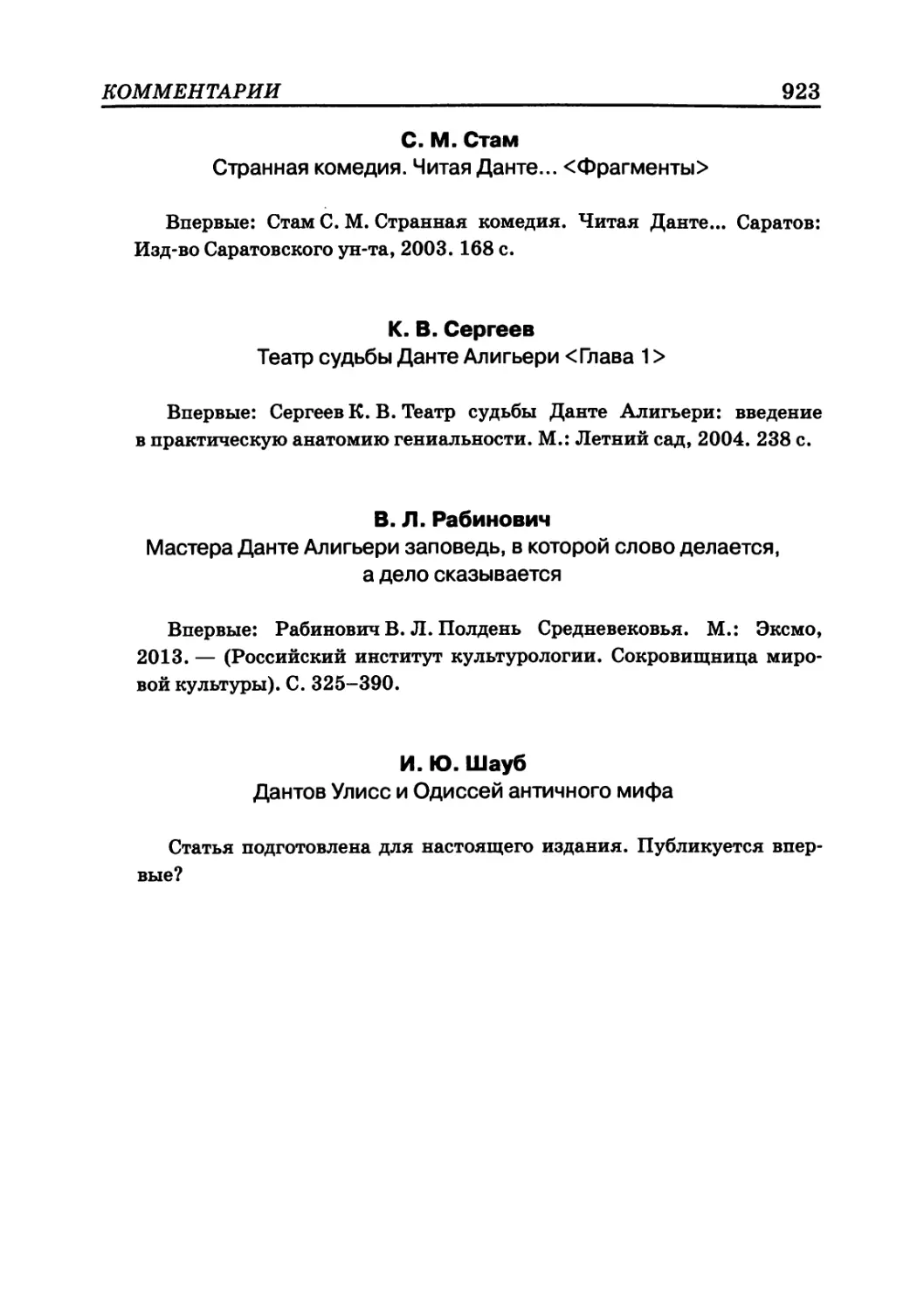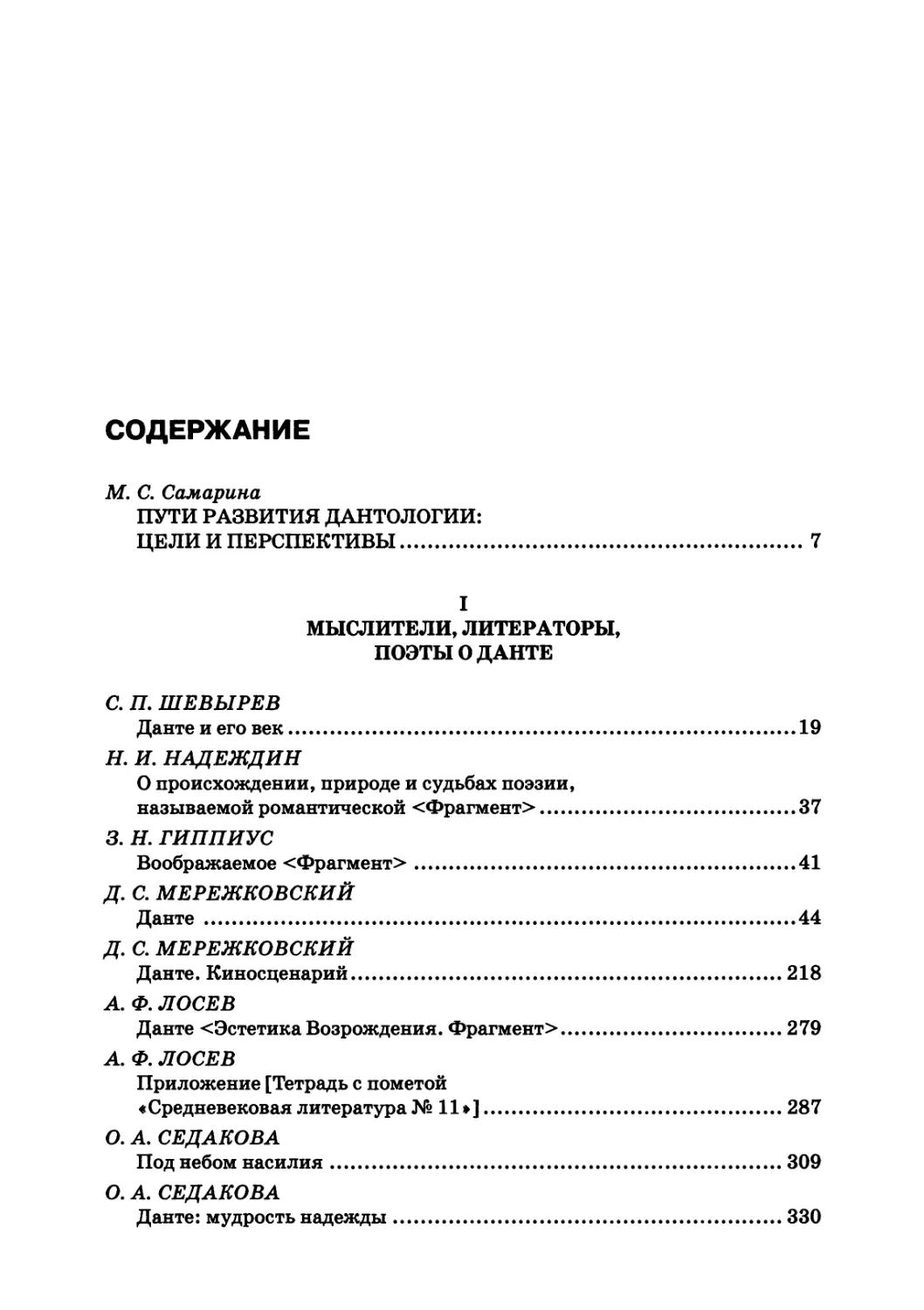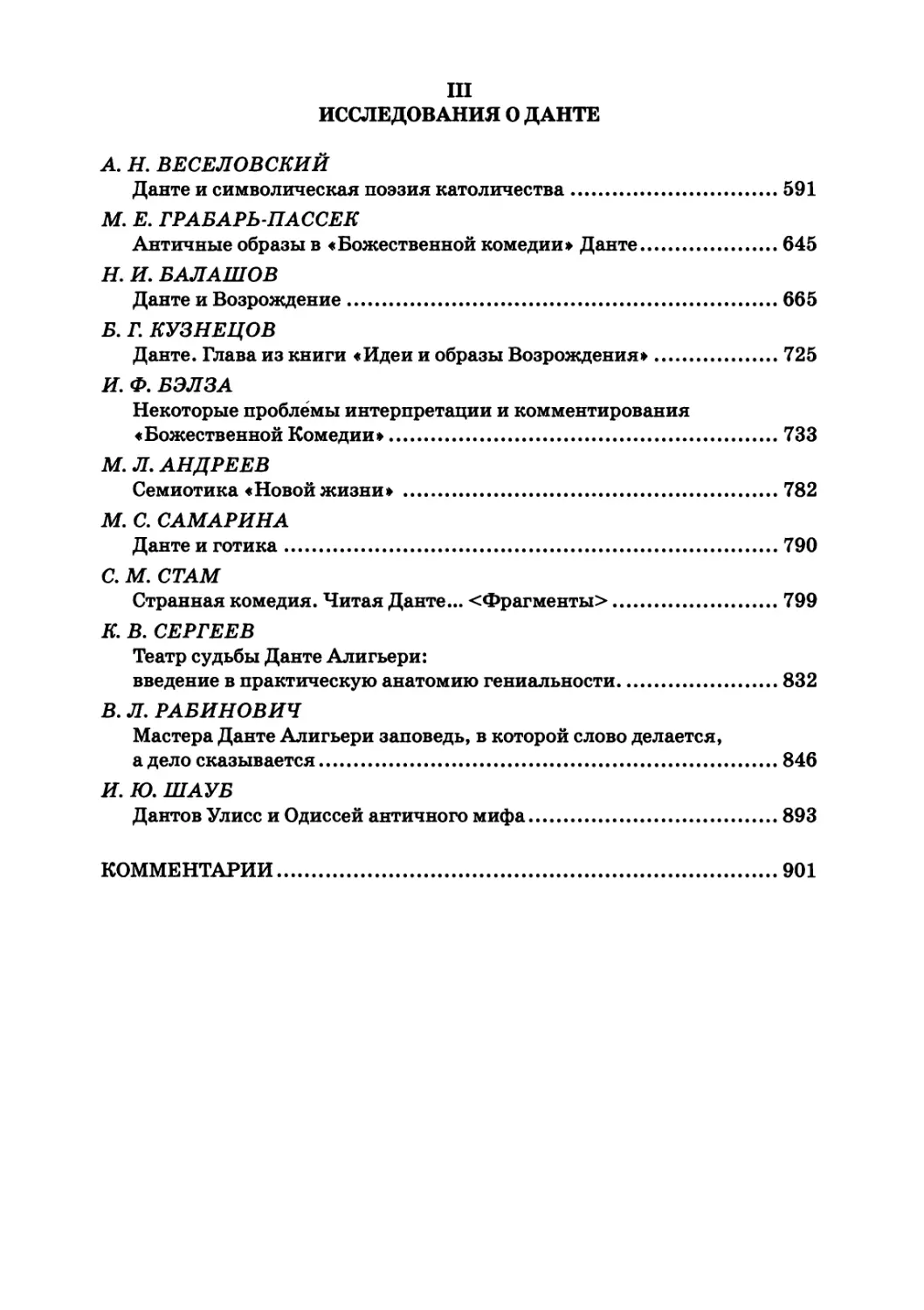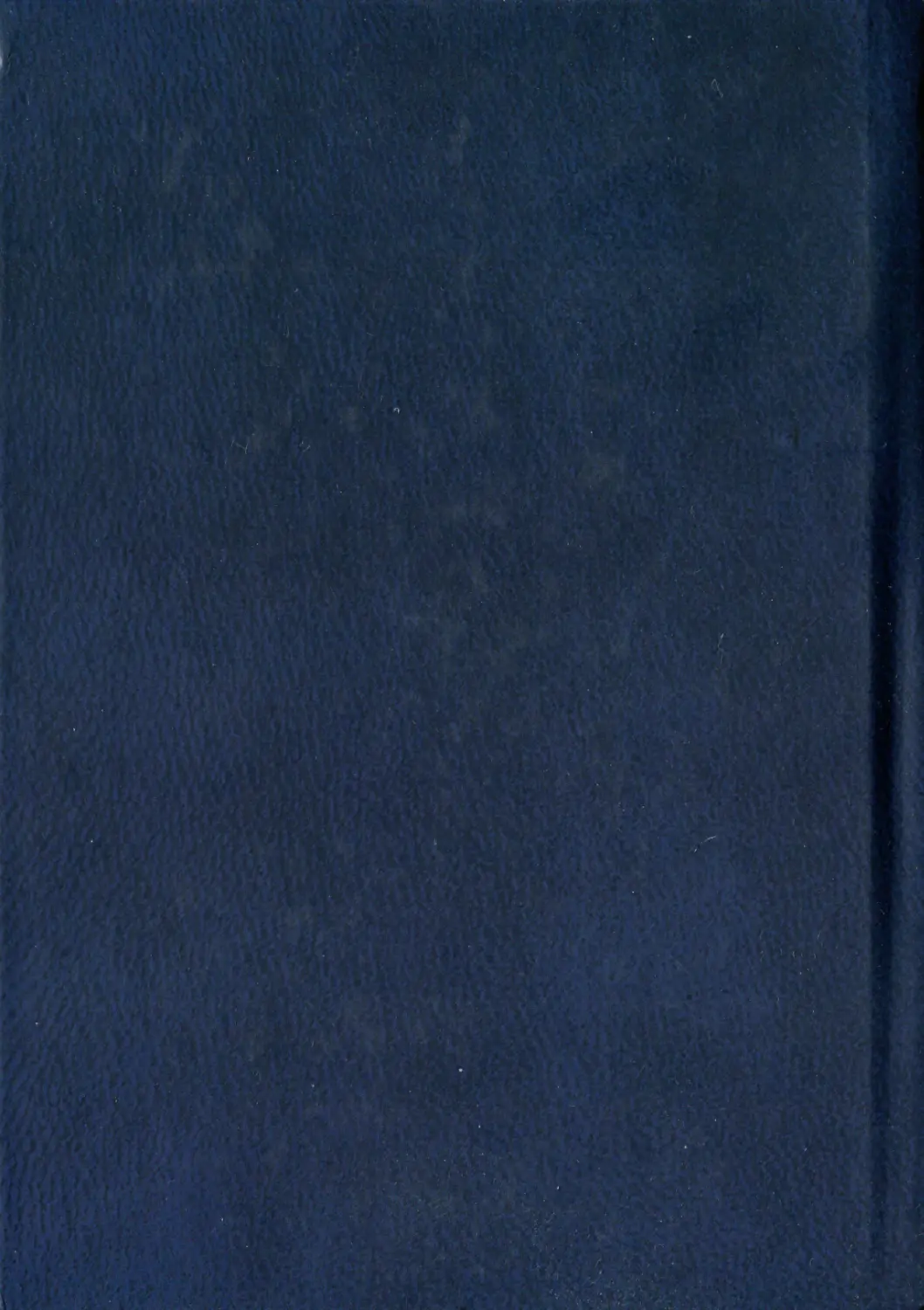Теги: философия антология мировая культура личность и наследие данте итальянский поэт и мыслитель
ISBN: 978-5-88812-815-2
Год: 2016
Текст
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Серия «Русский Путь: pro et contra»
основана в 1993 году
DANTE ALIGHIERI
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ:
PRO ET CONTRA
Личность и наследие Данте
в оценке русских мыслителей,
писателей, исследователей
Антология
Т. 2
Издательство
Русской христианской гуманитарной академии
Санкт-Петербург
2016
Серия
«РУССКИЙ ПУТЬ»
Серия основана в 1993 г.
Редакционная коллегия серии:
Д. К. Богатырев (председатель), В. Е. Багно, С. А.
Гончаров, А. А. Ермичев, митрополит Иларион (Алфеев),
К. Г. Исупов (ученый секретарь), А. А. Корольков,
М. А. Маслин, Р. В. Светлов, В. Ф. Федоров, С. С. Хоружий
Ответственный редактор тома
Д. К. Богатырев
Составители
М. С. Самарина, И. Ю. Шауб
Публикация подготовлена в рамках
поддержанного РГНФ научного проекта №15-04-00524
«Дантоведение как проблема мировой и отечественной
гуманитарной науки»
Данте Алигьери: pro et contra, антология. T. 2 / Сост.,
вступ. статья М. С. Самариной, коммент. И. Ю. Шауба,
М. С. Самариной, Е. Булучевской. — СПб.: Изд-во РХГА,
2016. — 928 с. — (Русский Путь).
ISBN 978-5-88812-815-2
Великий итальянский поэт и мыслитель Данте Алигьери — это
сложное, глубокое и многостороннее явление, оказавшее огромное вли¬
яние практически на всю мировую культуру. Во втором томе антоло¬
гии представлены работы русских философов, литературных критиков,
писателей и поэтов, посвященных дантовскому наследию.
Книга адресована как специалистам по истории европейской и русской
культуры, так и широкому кругу читателей.
ISBN 978-5-88812-815-2
© М. С. Самарина, составление, вступ.
статья, комментарии, 2016
© И. Ю. Шауб, комментарии, 2016
© Е. Булучевская, комментарии, 2016
© Русская христианская гуманитарная
академия, 2016
© «Русский Путь», название серии, 1993
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Вы держите в руках очередное издание «Русского Пути» — второй
том «Данте: pro et contra». Антология состоит из статей и исследований,
посвященных как литературному творчеству Данте, так и судьбе поэта.
Позволим себе напомнить читателю замысел и историю реализации
«Русского Пути», более известного широкой публике по подзаголовку
«pro et contra».
Изначальный замысел проекта состоял в стремлении представить
российскую культуру в системе сущностных суждений о самой себе, от¬
ражающих динамику ее развития во всей ее противоречивости. В качестве
феноменов, символизирующих духовную динамику в развитии нашей
страны, могли бы фигурировать события (войны, революции), идеи или
мифологемы (свобода, власть), социокультурные формообразования и те¬
чения (монархия, западничество). Этот тематический слой уже включен
в разработку. Однако мы начали реализацию проекта наиболее простым
и, в том смысле, в котором начало вообще образует простое в составе
целого, пошли правильным путем.
На первом этапе развития проекта «Русский Путь» в качестве сим¬
волов национального культуротворчества были избраны выдающиеся
люди России. «Русский Путь» открылся в 1994 г. антологией «Николай
Бердяев: pro et contra. Личность и творчество Н. А. Бердяева в оценке
отечественных мыслителей и исследователей». Последующие книги
были посвящены творчеству и судьбам видных деятелей российской
истории и культуры. Состав каждой из них формировался как сборник
исследований и воспоминаний, компактных по размеру и емких по со¬
держанию, оценивающих жизнь и творчество этих представителей
нашей культуры со стороны других видных ее деятелей — сторонни¬
ков и продолжателей либо критиков и оппонентов. Тексты антологий
снабжались комментариями, помогающими современному читателю
осознать исторические обстоятельства возникновения той или иной
оценки, мнения.
6
От издателя
За пятнадцать лет серия выросла и ныне представляет собой нечто
подобное дереву, корень которого составляет сам замысел духовного
осмысления культурно-исторических реалий, ствол образует история
культуры в ее тематическом единстве, а ветви суть различные аспекты ци¬
вилизационного развития — литература и поэзия, философия и теология,
политика. В литературно-поэтической подсерии «Русского Пути» были
опубликованы антологии о А. С. Пушкине, М. Ю. Лермонтове, Н. В. Гоголе,
Ф.И. Тютчеве, Л.Н. Толстом, А.П. Чехове, М. Горьком, В. В. Набокове,
И. Бунине, Н. Гумилеве, А. Ахматовой, А. Блоке, А. Белом, В. Маяковском,
3. Гиппиус, Н. Заболоцком. Философско-теологическая подсерия представ¬
лена С. Булгаковым, Вл. Соловьевым, П. А. Флоренским, В. В. Розановым,
а также, помимо других российских философов, западными мыслителя¬
ми в русской рецепции — Платоном, Бл. Августином, Н. Макиавелли,
Ж.-Ж. Руссо, И. Кантом, Ф. Шеллингом, Ф. Ницше. Научная и полити¬
ческая ветви проекта пока не дали столь обильных плодов: опубликованы
антологии о Павлове и Вернадском, а также книги, посвященные Петру I,
Екатерине II, К. П. Победоносцеву. Этот круг, мы надеемся, будет в бли¬
жайшее время расширен. Следует отметить и таких фигурантов «Русского
Пути», деятельность которых не поддается однозначной тематической
рубрикации. В их числе Н. Карамзин, Н. Чернышевский, Д. Андреев. При
всем различии их деятельности указанные личности являются субъектами
именно нашей — российской — культуры.
Академии удалось привлечь к сотрудничеству в «Русском Пути»
замечательных ученых, деятельность которых получила и продолжает
получать поддержку Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
придавшего качественно иной импульс развитию проекта. В результате
«Русский Путь» расширяется структурно и содержательно. Итогом этого
процесса может стать «Энциклопедия самосознания русской культуры».
Антологию, посвященную Данте Алигьери, можно рассматривать в ка¬
честве одного из шагов на пути реализации этого замысла.
М. С. САМАРИНА
ПУТИ РАЗВИТИЯ ДАНТОЛОГИИ:
ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Италия — духовная родина всей европейской культуры,
и неразрывная связь между глубокой древностью и современно¬
стью предстает здесь особенно очевидной.
Изучение современной западной цивилизации — в первую
очередь, европейской — представляется невозможным вне из¬
учения различных аспектов итальянской культуры, насчиты¬
вающей несколько тысячелетий: от римского права, ставшего
краеугольным камнем всего современного законодательства,
до литературы, послужившей основой для развития мировой
литературы, изобразительного искусства, музыки, кинема¬
тографии. В культуре любой западной страны есть «итальян¬
ский след» (достаточно вспомнить об итальянцах в России, без
которых не было бы ни российской архитектуры, ни россий¬
ского музыкального театра, какими мы знаем их сейчас, или
об итальянской эмиграции в новом свете. Италия — страна,
где на единицу площади приходится самое большое в мире ко¬
личество памятников искусства. На сравнительно небольшой
территории Италии сосредоточено, по данным ЮНЕСКО, 70
процентов объектов мирового культурного наследия. Понятие
глубина «культурного слоя» (в Италии он один из самых боль¬
ших в мире — 15 м) обретает буквальное значение там, где каж¬
дый квадратный метр земли насыщен историей и культурой
не только в плоскостном, но и в глубинном отношении и про¬
должает оставаться культурным ориентиром общемирового зн-
чения.
8
М. С, Самарина
В 2015 году весь мир отмечаел знаменательную дату —
750 лет со дня смерти Данте Алигьери (1265-1321). Творчество
великого итальянского поэта, составившего эпоху в мировой
культуре, уже более семи столетий оказывает глубочайшее вли¬
яние на литературный процесс практически любой из нацио¬
нальных литератур. Шекспир и Мильтон, Гете и Байрон, Кеве¬
до и Камоенс, Блейк и Мицкевич, Бальзак и Лонгфелло — вот
неполный список великих имен, творивших под несомненным
влиянием флорентийского гения. Подобно величайшим книгам
человечества (Библии, Корану), дантовские тексты неоднократ¬
но переведены практически на все языки мира.
Данте Алигьери, наряду с Джованни Боккаччо и Франческо
Петраркой, является одним из «трех венцов» итальянской ли¬
тературы Золотого века. Именно ему принадлежит решающая
роль в создании литературного итальянского языка и классиче¬
ской итальянской поэзии. Без преувеличения можно сказать,
что Данте и его современники сумели не просто обогатить,
но решительно реформировать само понятие и образ «культу¬
ры»: именно в эпоху «Высокого Средневековья» светская и ре¬
лигиозная культуры становятся как никогда взаимозависимы¬
ми, обогащая друг друга образами, символами и категориями.
«Данте — теолог-поэт, во всех искушенный доктринах...» —
так начинается эпитафия, сочиненная Джованни дель Вирджи-
лио на смерть его великого друга. Именно как поэта-теолога,
поэта-философа, как сказали бы мы сегодня, и воспринимали
Данте его современники, причем слово «теолог» стояло на пер¬
вом месте перед словом «поэт». Действительно, поэтическим
наследием не исчерпывается его вклад в духовное развитие
Европы. И. Скартаццини справедливо называл Данте зерка¬
лом, отразившим всю средневековую цивилизацию*. В своем
творчестве Данте обращался буквально ко всем областям ин¬
теллектуальной деятельности человечества; его поистине эн¬
циклопедический социально-философский диапазон прости¬
рается от Древнего Востока и античности до современных ему
философских учений начала XIV столетия. Об этом говорит его
трактат «Пир», задуманный как огромная философская энци¬
клопедия из 14 трактатов. Если бы Данте не прервал работы над
«Пиром», чтобы изложить свои взгляды в поэтической форме
* Скартаццни И. Данте. СПБ. 1905. С. 2
ПУТИ РАЗВИТИЯ ДАНТОЛОГИИ: ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
9
«Комедии», он все равно занял бы достойное место в истории
европейской философии, так как был действительно «искушен¬
ным во всех доктринах». Вероятно, именно вследствие этого
из всех писателей прошлого Данте является одним из наименее
доступных. Сложность его восприятия усугубляется и тем, что
великий флорентиец принадлежит к наиболее сложной для вос¬
приятия современным сознанием эпохе — Средним векам. По¬
этому значение дантовского наследия в истории человечества
может быть в полной мере оценено только при наличии ком¬
плексного историко-культурного анализа, раздвигающего рам¬
ки «традиционного» литературоведения опирающегося на все¬
стороннее изучение мировоззрения «высочайшего поэта».
Данте — оригинальный мыслитель, хотя и не создавший сво¬
ей целостной системы и концепции. Необходимость оценки фи¬
лософской стороны дантовского наследия была сформулирована
еще в 19 веке Ф. В. Шеллингом в небольшой, но содержательной
статье «О Данте в философском отношении», являющейся частью
его «Философии искусства»*. Через несколько десятилетий фран¬
цузский исследователь католического направления Ф. А. Озанам,
автор известного исследования «Данте и католическая филосо¬
фия XIII века»**, проводя параллель между «Божественной коме¬
дией» и «Суммой теологии» Фомы Аквинского, свел все поэтиче¬
ское наследие Данте к воплощению догматов католицизма. Такое
«католическое» истолкование Данте, во многом справедливое,
впоследствии приобрело много сторонников, и стремление видеть
в Данте ученика Аквината и верного сына католической церкви,
утвердившееся в дантологии на многие десятилетия, до сих пор
является ведущей тенденцией в дантологических исследованиях.
В эту концепцию вписывается и известная работа П. Мандоне,
в которой автор исходя из якобы полной зависимости поэта от фи¬
лософской системы Аквината, переносит этот тезис не только
на «Божественную комедию», которая, по его мнению, есть сле¬
пок с «Суммы теологии» Фомы Аквинского, но и на весь осталь¬
ной комплекс дантовского наследия, а сам поэт при этом является
выразителем ортодоксального каолицизма***. В это направление
* Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М. 1966. С. 445-458.
** Ozanam F. A. Dante et la philosophie catholique au XIII siècle. Paris. 1840.
P. 266, 335
'** Mandonnet P. Dante le théologien. Paris. 1935. P. 260
10
М. С. Самарина
вписывается и известная книга «Живой Данте» Дж. Панини, в ко¬
торой содержится категорическое утверждение, что понять и оце¬
нить Данте по-настоящему может только католик*. В том же духе
католический исследователь и сторонник концепции так называ¬
емого «католического возрождения» Р. Монтано утверждает, что
Данте извлек «Комедию» из своего восторга перед величием уче¬
ния Аквината**. Стремление теологически истолковать творчество
Данте присуще и некоторым последователям некатолического на¬
правления: лютеранский богослов К. Штанге в книге «Беатриче
в юношеской поэзии Данте» считает дантовскую музу аллегори¬
ей, распространенной в ту эпоху иоахимитской идеи последнего,
третьего периода развития человечества — эры святого духа***.
Но параллельно существовала и другая тенденция, уходя¬
щая корнями в известное осуждение поэта церковью за трак¬
тат «О монархии», включенный в «Индекс запрещенных книг»
и имевший огромный успех в протестантской Европе. Особен¬
ное развитие эта тенденция получила в революционную эпо¬
ху 30-40 годов XIX в., когда Данте стал восприниматься как
бунтарь, еретик и революционер. Согласно теории Г. Россетти,
Данте и его единомышленники принадлежали к некоей тайной
еретической секте, имевшей свою символику, напоминавшую
масонскую, и, вероятно, вязано с альбигойцами и поставившее
целью ниспровержение папского престола****. Эту теорию разви¬
вал и Э. Ару в своей нашумевшей книге с многоговорящим на¬
званием «Данте-еретик, революционер социалист», за которую
его стали называть «шутом дантологии», где он в категориче¬
ской форме пытался доказать, что великий поэт подрывал обще¬
ственный строй и авторитет церкви*****. Сторонником этой теории
был и известный художник-прерафаэлит Д-Г.Россетти-сын,
автор первого перевода «Новой жизни» на английский язык,
и Л. Валли, также считавший Данте членом тайного общества
и искавший тайные смыслы в образах дантовской поэзии******. Не¬
обходимо отметить, что эта конспирологическая теория, при
* Papini G. Dante vivo. Firenze. 1951
** Montano R. Suggerimenti per una lettura di Dante// Antologia della critica
dantesca. Messina-Firenze. 1958. P. 33-34
*** Stange C. Beatrice in Dantes Jugenddichtung. Göttingen. 1959.
**** Rossetti G. La Beatrice di Dante. London. 1942
***** Aroux E. Dante hérétique, révolutionnaire et socialiste. Paris. 1854
****** Valli L. Il linguaggio segreto di Dante e dei fedeli d’amore. Roma. 1928
ПУТИ РАЗВИТИЯ ДАНТОЛОГИИ: ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
11
всей своей крайности, находит приверженцев и в наше время
в особенности, в околонаучной литературе.
Такой упрощенный подход к дантовскому наследию, при
котором все творчество великого поэта сводится к почти ме¬
ханическому воплощению идей того или иного современного
ему учения, будь то томизм ли иоахимизм, привело к появле¬
нию противоположной тенденции в дантологии, сознательно
игнорирующей ценность мировоззрения великого поэта. Еще
во второй половине XIX столетия крупнейший историк литера¬
туры Ф. де Санктис, не углубляясь в изучение дантовской эпохи
с философской точки зрения, писал о необходимости отделения
поэзии от идеологии. Такая позиция де Санктиса явилась след¬
ствием его восприятия мысли Гегеля о том, что необходимо от¬
казаться от увлечения толкованием бесчисленных дантовских
символов и аллегорий, приводящим к разрушению единства
и целостности произведения. Тем самым именно Гегель подго¬
товил философское обоснование не только для выступления де
Санктиса, но и для последующей борьбы Б. Кроче и его последо¬
вателей против рационализма историко-филологической шко¬
лы.
Книга «Поэзия Данте» Б. Кроче, одного из самых автори¬
тетных итальянских филологов, появилась в 1921 г. Основной
тезис этой книги — самоценность чистой поэзии в противовес
идеологии. Кроче требует вообще отказаться от рассмотрения
мировоззрения Данте и идеологии его эпохи, так как, по его
мнению, для современного читателя важна только бессмертная
дантовская поэзия, а не так называемая «структура», под кото¬
рой он понимает давно отжившие философские, религиозные
и политические идеи творца «Божественной комедии». Таким
образом, как считает Б. Кроче, историко-филологическое из¬
учение Данте только мешает эстетическому восприятию дан¬
товской поэзии. Кроче противопоставляет поэзию идеологии,
отказываясь от признания ценности конкретно-исторического
содержания поэтических образов*.
Тем не менее, книга Б. Кроче имела огромный успех и много
десятилетий продолжала оказывать значительное воздействие
на направленность дантологических исследований. Это приве¬
ло к тому, что количество работ, посвященных мировоззрению
* Croce В. La poesia di Dante. Bari. 1922
12
М. С. Самарина
Данте, значительно уменьшилось. Историко-филологическая
школа во главе с известным дантологом М. Барби, который
и сам не избежал влияния крочеанства, стала терять свое вли¬
яние. Из наиболее типичных исследований крочеанского на¬
правления следует упомянуть работы Дж. Бертони, где четко
прослеживается та же идея необходимости изучать только худо¬
жественные образы поэзии Данте без их историко-философско¬
го содержания.
Как можно легко заметить, все эти разногласия исследова¬
телей творчество Данте упираются главным образом в мето¬
дологические вопросы, всегда стоящие особенно остро именно
в сфере дантологии. Это ярко демонстрирует и известная работа
П. Конти «Данте в современном мире и методологические про¬
блемы дантологии», в которой автор справедливо критикует
оба направления — крочеанство за его антиисторизм и истори¬
ко-филологическую школу М. Барби за ее ограниченность [5,
8-28]. Тем не менее, как подчеркивает Л. М. Баткин, ревизия
дантологии, которую пытался предпринять П. Конти, не мог¬
ла дать плодотворных результатов, причиной чего оказывается
опять-таки нежелание углубляться в вопросы методологии*.
Тезис о необходимости принципиального обновления дан¬
тологии присутствует и в работах итальянского исследователя
Р. Монтано, который видит его в повышении внимания к из¬
учению мировоззренческой стороны дантовского наследия.
Тем не менее Монтано воспринимает творчество Данте исклю¬
чительно через призму католицизма, который и составляет,
по его мнению, главное содержание «Божественной комедии».
Дж. Фаллани также настаивает на единстве поэтической и ре¬
лигиозно-католической сторон творчества Данте.
Наиболее упорно и аргументировано выступает против кро¬
чеанства один из крупнейших итальянских медиевистов Л. Пье-
тробоно, автор классического труда, посвященного моральной
структуре «Божественной комедии». Свою главную задачу, как,
впрочем, и общую задачу дантологии, автор видит в расшиф¬
ровке многочисленных дантовских аллегорий. Крочеанскому
пренебрежению к «структуре» Пьетробоно противопоставляет
явную абсолютизацию той же структуры, пытаясь формально
Conti Р. Dante nel mondo di oggi e i problemi metodologici della critica
dantesca. Torino. 1959
ПУТИ РАЗВИТИЯ ДАНТОЛОГИИ: ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
13
воссоздать систему этических взглядов Данте. Как верно заме¬
чает Л. М. Баткин, «метод Пьетробоно и метод Кроче — это еди¬
ный, хотя и двуликий Янус итальянской дантологии. В основе
обоих методов — внеисторическое и формальное представление
об идеологической стороне творчества Данте » *.
На этом фоне особенно плодотворным представляется на¬
правление, созданное Б. Нарди и Э. Жильсоном, которые в сво¬
их исследованиях отталкиваются от самого глубокого и всесто¬
роннего анализа именно мировоззренческой стороны творчества
Данте, из изучения дантовской эпохи с философско-идеоло¬
гической точки зрения. Именно на этом подходе основаны из¬
вестнейшие работы одного из самых авторитетных медиевистов
XX века. Б. Нарди показывает Данте как оригинального мыс¬
лителя, хотя и не создавшего собственной системы, но впитав¬
шего в себя идеи самых разных сторон средневековой фило¬
софии. При этом Данте, как считает Нарди, не будучи во всем
ортодоксальным католиком, во многих отношениях выступил
против церковной догмы, так как наряду с несомненным вли¬
янием томизма испытал и значительное влияние иоахимизма
и авверроизма**. В этом же русле развернулись исследования
известного историка средневековой философии Э. Жильсона,
уделявшего много внимания философской стороне дантовско-
го наследия и показавшего глубокую связь великого поэта с не¬
ортодоксальными философскими и религиозными течениями
средневековья***.
Есть и другая тенденция в развитии западной дантологии,
развитию которой положил начало еще в конце XIX века выдаю¬
щийся итальянский поэт Дж. Кардуччи. Эта тенденция заклю¬
чается в восприятии дантовского наследия как части исклю¬
чительно средневековой культуры: мировоззрение Данте есть
по существу мировоззрение средневековое, так как в политике
поэт отстаивал дворянско-аристократическе интересы, а в фи¬
лософии он механически воспринял систему Аквината. Кар¬
дуччи, глубокий знаток средневековья, склонен был не только
«медиевизировать» Данте, но и вообще отделять его от культу¬
ры Возрождения. В нашей стране сторонником этой теории был
* Баткин Л. М. Данте и его время. М. 1965
** Nardi В. Nel mondo di Dante. Roma. 1944
'** Gilson E. Dante et la philosophie. Paris. 1930
14 М. С. Самарина
М. Фриче, один из первых советских исследователей, занимав¬
шихся Данте.
Такое количество разнообразных, противоречивых и за¬
частую взаимоисключающих мнений закономерно. Ни один
из дантовских образов не укладывается в рамки какой-либо
одной философской системы. Их синтетичность носит принци¬
пиальный характер и является не механическим соединением
различных идей и концепций, а выражением сложного миро¬
воззрения переходной эпохи. Подчеркнем также, что задача
всестороннего исследования философского наполнения дантов-
ского наследия под силу, вероятно, нескольким специализиро¬
ванным институтам, так как только в XX столетии вышло более
20 000 работ, посвященных великому итальянскому поэту-мыс¬
лителю, что еще раз должно нам напомнить о неисчерпаемости
феномена Данте.
Всеобъемлющий гений Данте оказался близок и русскому
национальному сознанию. Начиная с XVIII века в творчестве
практически всех русских поэтов, писателей, философов при¬
сутствует «дантовский след ». Русская традиция изучения Данте
насчитывает немало известных имен и является важной состав¬
ляющей мировой дантологии. В русской критике достойное ме¬
сто занимают имена М. Лозинского, И. Н. Голенищева-Кутузо¬
ва, В. Ф. Шишмарева, Л. М. Баткина, Н. Г. Елиной, И. Бэлзы,
Р. И. Хлодовского, А. А. Асояна, И. Гарина, М. Л. Андреева,
К. В. Сергеева. В русской классической литературе обраще¬
ние к творчеству великого итальянца также стало традицией:
А. С. Пушкин, А. А. Ахматова, А. Блок, Д. С. Мережковский,
О. Мандельштам. Русская наука обладает и давней переводче¬
ской традицией: Д. Е. Мин, М. Ливеровская, А. А. Илюшин,
С. Лозинский, А. Эфрос.
Особое место в отечественной дантологии занимает клас¬
сический труд И. Н. Голенщева-Кутузова «Творчество Данте
и мировая культура», первое в российском (точнее, советском)
литературоведении исследование, посвященное всестороннему
анализу дантовского наследия. Несомненно ценным в этой ра¬
боте представляется рассмотрение именно мировоззренческой
стороны творчества великого поэта: так автор, вслед за Э. Жиль¬
соном и Б. Нар ди, вносит свой вклад в критику теории о верно¬
сти поэта томизму и его католической ортодоксальности, пока¬
ПУТИ РАЗВИТИЯ ДАНТОЛОГИИ: ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
15
зывая связь Данте с некоторыми философско-религиозными
системами арабского мира, а также с рядом современных ему
мистко-еретических учений. При этом автор книги не только
дает глубокий анализ зависимости поэта от философских си¬
стем античности от современных ему учений, но и выявляет
переосмысление и переработку поэтом самых различных фило¬
софских доктрин, что создает неповторимое своеобразие дантов-
ского наследия. Тем не менее, при всех весомых достоинствах,
обширный труд выдающегося ученого не свободен от неизбеж¬
ных для гуманитарных наук советской эпохи довлеющих иде¬
ологических схем, что зачастую затрудняет восприятие общей
культурологической картины. Кроме того, за прошедшие более
чем четыре десятилетия со времени публикации книги появи¬
лось большое количество новых дантологических исследова¬
ний, затрагивающих самые различные стороны сложнейшей
проблематики наследия великого флорентийца. И все же осно¬
вополагающая работа «Творчество Данте и мировая культура»,
пусть и отмеченная присущими для своего времени идеологиче¬
скими штампами, безусловно наметила основные направления
для дальнейших исследований.
В результате, на фоне широкой и разносторонней мировой
и российской дантологии, мы до сих пор не располагаем целост¬
ной и современной картиной восприятия литературно-фило¬
софского творчества Данте Алигьери в мировой и российской
культуре. Несмотря на то, что обширное и разностороннее дан-
товское наследие создало многовековую мировую традицию
комментирования сложнейших дантовских текстов, неотъем¬
лемой частью которой является российская итальянистика,
Данте, воспринимаемый зачастую исключительно как автор
«Божественной комедии», прочно заслонил для русского чита¬
теля иные стороны и направления культурного наследия ита¬
льянского энциклопедиста. Так, практически неизвестным для
русского читателя (за исключением узкого круга историков —
лингвистов) Данте остался в качестве создателя литературного
итальянского языка и основателя европейской лингвистиче¬
ской науки, в качестве автора первого в Европе теоретическо¬
го исследования о мировых языках «De vulgari eloquentia»,
впоследствии взятого за основу европейской лингвистической
мыслью. Почти неизвестен в России великий флорентиец и как
16
М. С. Самарина
политический деятель, борец за объединение Италии, дипло¬
мат и историк, как автор основополагающего трактата по фи¬
лософии истории «De monarchia», где впервые высказывается
и обосновывается идея объединенной Европы и исторической
необходимости наднациональных связей. Русский читатель все
еще не воспринимает великого итальянского поэта и в качестве
систематизатора средневековой науки, автора философской эн¬
циклопедии «Il Convivio», суммирующей научно-философский
знания античности и средневековья; подобным же образом
Данте неизвестен и как выразитель религиозного мироощуще¬
ния эпохи «Высокого средневековья» на пороге Возрождения,
отразивший весь комплекс богоискательства своего времени
от официального томизма до многочисленных народных оппо¬
зиционных ересей. Точно так же он за кругом общих знаний
о великом поэте остается Данте как мистик и визионер, создав¬
ший собственные потусторонние миры, усвоивший и перерабо¬
тавший мистические учения Востока и Запада, а также Данте
как эзотерик, связанный с тайными орденами и обществами,
и, прежде всего, с орденом тамплиеров. Крайне желательной
была бы публикация и научное исследование средневековых
рукописей «Божественной комедии», хранящихся в Институте
истории РАН.
Таким образом, принимая во внимание всеобъемлющее зна¬
чение дантовского наследия, суммарно-аналитическое иссле¬
дование об истории восприятия творчества Данте Алигьери
в мировой и русской культуре представляется необходимым
и своевременным. Настало время подвести определенные ито¬
ги многолетнего изучения Данте Алигьери отечественной гу¬
манитарной наукой, суммировать значимое присутствие ита¬
льянского классика в составе русской словесности и раскрыть
историю ценностного отношения и освоения русской мыслью
литературного и философско-религиозного наследия великого
итальянского писателя и мыслителя.
I
МЫСЛИТЕЛИ, ЛИТЕРАТОРЫ,
ПОЭТЫ О ДАНТЕ
С. П. ШЕВЫРЕВ
Данте и его век
<Данте-художник>
III. КРИТИКА
ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ
6. Данте и его век.
Исследование о Божественной комедии,
Адъюнкт-профессора С. Шевырева
ОТДЕЛЕНИЕ IV.
ДАНТЕ-ХОДУЖНИК.
Эстетический разбор Божественной комедии
Se mai continga che ‘1 poema sacro
al quale ha posto mano e cielo e terra,
sì che m’ ha fatto per molti anni macro,
vinca la crudeltà che fuor mi serra
del bello ovile ov’io dormi’ agnello,
nimico ai lupi che li danno guerra;
con altra voce ornai, con altro vello
ritornerò poeta, e in sul fonte
del mio battesmo prenderò ‘1 cappello;
però che ne la fede, che fa conte
Vanirne a Dio, quivi intra’ io, e poi
Pietro per lei sì mi girò la fronte.
Del Paradiso Canto XXV.
20
С. П. ШЕВЫРЕВ
Мы видели, как богословие проникло во все науки XIII и на¬
чала XIV века; как было оно центром, к моему тяготели все
знания человеческие, и как начала его тесно связывались с са¬
мыми любопытными вопросами жизни. Но какой из вопросов
богословия всех теснее связан с жизнью и привлекает участие
всех и каждого? Вопрос о будущей жизни, о том мире, для коего
назначен человек и к коему ведет его жизнь настоящая. Посмо¬
трим: не было ли таких явлений современных, из которых мож¬
но бы было видеть, что мысль о той жизни занимали народы?
Мы заметили еще выше, что в X веке мысль о близости Страш¬
ного суда, о скором вторичном пришествии Искупителя, сковы¬
вала все умы. Страх с началом XI века удалился; но мысль о бу¬
дущей жизни все оставалась первой мыслью ума и предметом
воображения. Крестовые походы, это бескорыстное движение
всех народов и венценосных пастырей их ко гробу Искупите¬
ля, средоточию всех мыслей и центру земли, где должно было
совершиться и вторичное пришествие Грозного судьи, были
у правлены сей, а не иной мыслью. Пасть за гроб Христов —
значило уготовить себе место в селениях праведных. И теперь,
в Италии, проповедники действуют на воображение своих слу¬
шателей подробными рассказами видений своих об Аде, Чисти¬
лище и Рае: сколько же было таких рассказов в проповедях того
времени, побуждающих народ к крестоносному подвигу!
Вопрос о будущей жизни есть вопрос всех веков; но мы раз¬
решаем сто чистой духовной верой, не позволяя над ним играть
своему воображению. Тогда же способность сия преоблада¬
ла в человечестве. Оно хотело воплотить духовный мир, на¬
рисовать его, раскрасить, описать в лицах. Вот почему мысль
о Страшном Суде и о том свете была любимой мыслью худож¬
ников века. У нас до сих пор в народе ходит картина Страшно¬
го Суда, которая создана в Византии, и, по всем вероятностям,
принадлежит X столетию; воображение людей, готовившихся
предстать на суд Божий, так себе его рисовало. — Картина сия,
вероятно, и к нам дошла в X веке. Вероятно, была она и в Ита¬
лии, ибо в первых произведениях живописи итальянской,
изображающих тот же предмет, видны многие мысли, взятые
из этой картины. Сии произведения заменили оную, ибо ис¬
кусство в Италии свергло оковы византийские и разрушило все
его формы для своих выгод. На сей картине Иуда с кошельком
Данте и его век
21
представлен сидящим у дьявола: эту мысль мы видим и у Дан¬
те, который изобразил Иуду в устах Люциферовых. В Падове
сохраняется до сих пор картина Страшного Суда, писанная
Джоттом, современником Данте, в которой встречается сход¬
ство с византийской картиной*, а иные черты могли дать мысли
и Данте**. Известно, что он был в Падове после своего изгнания***.
Из этого следует еще, что Данте почерпал многие образы своего
мира из преданий современных и их художественных произве¬
дений; что не все стихии сего мира им созданы; что материалы
его брал он из жизни народной.
Идея Страшного Суда до самых времен Микеланджело была
одной из любимых идей художества. Наконец, сей мощный
Данте живописи, как его именуют в Италии, оживил в чудном
образе пробужденного от смерти, нагого человечества высочай¬
шую мысль живописную.
Религиозные, драматические представления, относящие¬
ся в Германии еще к X веку, распространились и по всей Ита¬
лии, особенно в XIII веке****. Предметом их были, по большей
части, Страсти Христовы, а иногда сцены из будущей жизни.
Джиоллини Виллани, в своей летописи, под 1304 годом, опи¬
сывает зрелище, которое было устроено на Арно и изобража¬
ло в лицах Ад с его огнями и разнообразными мучениями*****.
В числе набожных сказок XII и XIII века есть сказка о Чисти¬
лище св. Патриция, находившемся на маленьком острове озера
Деарг в Ирландии. Входившие в него с раскаянием созерцали
все тайны Ада и Рая. Сие предание перешло в славный роман:
* Например, изображение сатаны в огне; многие мучения грешников,
повешенных язык, за голову; самое изображение дьяволом.
** Грешник в устах у сатаны ; мучение грешников змеями ; ящерица впивается
в одного из них; Папа сидит в аду и дает отпущение грехов за кошелек.
Во многом мелькают те же идеи.
*** Мет. di Pelli.
**** Тирабоски.
***** Летописец прибавляет, что такое множество народа столпилось, на мосту
Арно, чтобы видеть сие зрелище, что мост провалился и многие души
отправились на тот свет. Иные, между прочим Данте, думали, что Данте
от сего зрелища взял мысль описать Ад ; но это несправедливо, ибо изгнание
Данте последовало в 1302 году, а зрелище сие было в 1304. Скорее Поэма
Данте, уже тогда известная в своих отрывках, могла подать повод к мысли
о таком представлении. Так думает Пелли и другие. Но верно Виллани
упомянул бы об этом. Мне кажется, что мысль сия была народной и общей
в это время, и этим объясняется сие представление.
22
С. П. ШЕВЫРЕВ
il Meschino, сочиненный Гверином ди Дураццо, в коем баснос¬
ловный герой повести входит в это Чистилище. Во француз-
CKHxFabliaux XIII века находится одно сочинение Рауля де Гу-
дана: Le Songe d’Enfer ou le chemin d’Enfer*. Есть еще другие
в том же роде: Le jongleur qui va en Enfer. — Но всех замечатель¬
нее видение Альберика, монаха горы Кассинской, который, под
руководством Св. Петра, обошел Ад, Чистилище и через семь
небес влетел в Рай. Сие видение относится к половине XII века.
Многие ученые Италии в упомянутых сочинениях искали
источники Поэме Данте, и особенно в видении Алберика. Дока¬
зывали даже, что Данте мог быть на горе Кассинской и там его
слышат от монахов. Но все эти исследования свидетельствуют
только, что предмет, избранный Данте для Поэмы, издавна был
мыслью общей; что Ад, Чистилище и Рай являлись монахам
в видениях; что предания о них были в устах и в очах народных**.
Данте, как гений, хватился за любимую мечту своих совре¬
менников; но одушевил ее идеей высокой, идеей нравственного
подвига. Он видел пороки современного человечества — и по¬
лагал единственным средством к спасению его: сказать ему
горькую истину в картине будущего. Но пусть он сам будет для
нас истолкователем своей мысли, какая одушевляла его в сем
подвиге. В Раю, предузнав свое изгнание, вопрошает он свое¬
го предка, Каччиагвиду: писать ли ему что он видел в бездне,
в Чистилище и в Раю? Эта истина, говорит он, могла бы оскор¬
бить многих сильных и лишить его покрова в изгнании; если же
будет он робким другом истины, то боится суда потомства. Вот
ответ Каччиагвиды: «Отринув всякую ложь, поведай все свое
видение, и пусть народ дерет там руками, где у него струпья***.
Автор рассказывает о разных наказаниях Ада; как он был приглашен
к столу Вельзевула и угощаем мясом ростовщиков и монахов;
но о Чистилище и Рае не поминает ни слова.
Вильмен видит зародыш идеи Дантовой в одном месте из проповеди
Григория VII (когда он был еще кардиналом), где он представляет адское
наказание какого-то германского графа за похищение церковного
имения. Но такие места в проповедях и в житиях святых очень нередки.
Вильмен думает, что мысль, брошенная Григорием VII, великим
человеком, развивалась двумя веками и созрела в голове другого великого
человека, Данте. Все это очень натянуто. У Григория VII видна мысль
будущего автора устава: Dietatus Рарае; а видение, в которое он облек ее,
принадлежало веку.
E laseia par grattar der’é la regne. Пословица, слишком простонародная.
Данте и его век
23
Если слово твое и будет неприятно людям на первый вкус:
то впоследствии дает пищу жизненную, когда переварят его.
Сей клик твой будет как ветер, ударяющий в вершины самые
высокие, — ив этом твоя слава. Тебе явились, в сих небесах,
на горе, и в бездне плачевной, только души, отмеченные славой,
потому что душа внемлющего не дает веры твердой, когда пред¬
лагаешь ей образец от корня неизвестного и скрытного*. Каччи-
агвида, в заключение, обещает Поэту рай за исполнение такого
подвига**.
Беатриса, олицетворяющая Откровение, повелевает ему
писать то, что он видит, во благо мира, живущего в нечестии
(in prò del mondo che mal vive***. — Петр апостол, подвергнув
Данте испытанию в учении о вере, повелевает ему также, воз¬
вратившись в мир, не скрывать, чего он сам не скрывает****. — Св.
апостол Иаков, подвергнув поэта-богослова такому же испы¬
танию о надежде, повелевает ему, увидев истину в Боге, укре¬
плять в людях надежду, внушающую любовь к вечному. Данте
отвечает ему, что он преисполнился ею из его писаний и другим
передаст благодать его слова*****. — Виргилий, отвергая путь ему
в Ад, называет странствие его роковым (fatale andare; и причи¬
ну его полагает свыше, там, где сила и воля одно (Vuolai coai
cola dove si puot e ciò che si vuole) ******. Данте сам именует труд свой,
истощивший его силы, Поэмою священною, в которой участво¬
вали и Небо и Земля, и пищал надежду, что она победит жесто¬
кость его граждан и что он, возвратясь в отчину, к крестильнице
Св. Иоанна, над купелью своего крещения, примешь венец По-
_____ *******
эта
* Рая II. XVII.
** Рая IL XV.
Латинский стих... cui
Bis unquam coeli janua reclusa.
*** Чистилища II. XXXII. Сии слова особенно относятся к видению Истории
Пазадной церкви и к мысли о злоупотреблении духовной власти, как
начале всякого зла.
**** Рая. II. XXVII. Это относится к той же мысли: Петр апостол гремит против
пап.
***** Рая II. XXV.
****** Ада IL III и V.
******* Там же. Это избрано мной в эпиграфе к этому отделению. Предчувствие
Поэта исполнилось, и он был увенчан своей отчиной, но по смерти.
24
С. П. ШЕВЫРЕВ
Все сии места Поэмы показывают, что Данте почитал себя
имеющим свыше звание к тому, чтобы сказать истину в лице
миру, поставить зеркало перед веком, обличить человечеству
всю его внутренность и показать его грядущее, результат его
жизни настоящей в образе Ада, муки вечной и отчаянной, Чи¬
стилища, муки растворенной надеждой, и Рая, вечной и совер¬
шенной радости. Данте сам в Эпистоле своей, коей посвящает
Рай Кануделла Скада, говорит, что буквальный смысл его По¬
эмы есть состояние душ по смерти, а аллегорический человече¬
ство, по заслугам своим приемлющее мзду от правосудия Боже¬
ственного*.
Но как Поэт мог исполнить сей нравственный подвиг? Каким
средством показать таинство мира и путь к спасению человече¬
скому? Самим собою. Потому Поэт и есть герой своей Поэмы,
в котором соединены два существа: его личное, и человек вооб¬
ще**, который, будучи увлечен страстями и пороками, устранил¬
ся от цели человечества, но чистым раскаянием, трудом, учени¬
ем, при содействии благодати, сознает в себе грех, очищается
от него, побеждает все препятствия, достигает Рая и созерцает
Бога. В таком смысле должно понимать все упреки, которые Бе¬
атриса говорит Данте, когда перебирает всю повесть его заблуд¬
шей жизни, и следующие слова: «он так низко пал, что все сред¬
ства к спасению его были пресечены, кроме одного: показать
ему племена погибшие***, и сии слова относятся, в лице Данте,
и к человеку, ему современному.
Отсюда проистекает глубокое религиозно-нравственное зна¬
чение всей Поэмы и объясняются все ее пружины. Отсюда тот
аллегорический характер, который указывает на это значение
в следующих словах Поэмы: «О вы, разум которых здрав! Ди¬
витесь учению, которое скрывается под покровом стихов стран¬
ных****. В своем сочинении Convito, он сам объявляет, что в писа¬
ниях можно вообще находить четыре смысла: 1) буквальный,
2) аллегорический (истина под корой буквы), 3) нравственный
в пользу читающих, и 4) апологический, или сверхчувствен¬
ный, духовный. В этом же сочинении он показал пример такого
* Allegoria della Divina Commedia. Рассуждение, приложенное к изданию
Вентури.
** Idem.
*** Чистилища IL XXX.
**** Ада II. IX.
Данте и его век 25
толкования на своих собственных кантонах, пример, который
был до излишества во зло употреблен толкователями его коме¬
дии. Наконец, поэт сам называет невеждами тех стихотворцев,
которые под словами не умеют скрывать глубоких истин, а пи¬
шут одни цветы риторические.
Аллегория была в характере этого богословского века. Виде¬
ния были в духе времени. Не только Священное Писание толко¬
валось аллегорически, но и творения языческих писателей, как
то мы видели из примера Виргилия. Брунетто Латини, учитель
Данте, написал книгу Tesoretto (Маленькое сокровище), в ко¬
торой также представлено видение. Брунетто повествует, что
он, возвращаясь из Испании, куда послан был от Флоренции,
при известии об изгнании Гвельфов, к партии коих он сам при¬
надлежал, поражен был скорбью, сбился с дороги и заблудил¬
ся в лесу: что у подошвы какой-то горы увидел он толпу людей,
множество разного рода животных, цветов, трав, минералов,
и что все это повиновалось одной женщине, что эта женщина
была Природа; что она открыла ему все тайны вселенной; что
она показала ему три дороги, из коих одна ведет к философии
и добродетелям, другая — к порокам, третья — в Богу, любви
и двору его. На сей последней дороге находит он Овидия, ко¬
торый беседует с ним о законах любви. Потом встречается ему
астроном Птоломей и излагает учение астрономии. Женгене
видит в этом сочинении первый зародыш Поэмы Данте, или за¬
родыш главной идеи, к которой он будто бы прикрепил частные
идеи Ада, Чистилища и Рая*. Но мне кажется, что Поэма Дан¬
те существовала бы и без сочинения Брунетто Латини, и в та¬
кой же бы полноте представляла свою идею. Сходного только
лес и встреча с Поэтом; но значение совершенно иное. Видения
такого рода и аллегории, как я сказал уже, были в характере
времени и ведут начало свое из веков предыдущих. Стоит только
взглянуть на заглавия сочинений Бонавентуры Францисканца,
чтобы убедиться в этом**. Первое сочинение самого Данте есть
аллегорическое: это Vita nuova. Здесь рассказывает он свою лю¬
* Histoire littéraire d’Italie. Ch. Vili. Section I.
** Вот они: Зеркало души, Соловей страсти, Диета спасения, Лес жизни,
Сила любви, Пламень любви, Искусство любить, Семь путей вечности,
Шесть крыл Херувимов, Шесть крыл Серафимов. Гл. VI. Hist. Littér.
d’Italie par Giaguené. Столько известен еще аллегорический роман Розы,
начатый Вильгельмом Лоррисом и продолженный Иолином де Мен.
26
С. П. ШЕВЫРЕВ
бовь к Беатрисе и потом свои занятия философией, как он читал
Боэция и Цицерона; как ходил в школы монахов, на философ¬
ские диспуты; как в тридцать месяцев он стал ощущать сладость
Науки; как наконец Философия, сия дщерь Бога, Царица мира,
предстала ему в образе жены прекрасной, милосердой, и как
прежняя любовь его к Беатрисе слилась с сей любовью и образ
ее с образом Науки. Подобное олицетворение Философии в виде
женщины находится и в сочинении Боэция: Утешения Фило¬
софии, сочинении, которое изучал Данте, по его собственному
сознанию.
Но аллегория Брунетто Латини мертва. Аллегория Боэция,
может быть^ живее потому, что проистекла из нечистой жиз¬
ни мужа истины и правды, который в темнице обрел подругу
в Науке. Идея же религиозно-нравственная Данте — показать
спасение и апофеозу человека, совершенных силой Веры и Нау¬
ки, и в ясновидении души своей раскрыть человечеству весь его
внутренний мир, — такая идея связывалась и с Философией,
и с жизнью века.
Какие средства, по христианскому учению, необходимы
к спасению человека и к посвящению его в таинства мира неви¬
димого, в поучение другим? Благодать, предшествующая свыше
самому желанию и располагающая душу к покаянию; Благодать
совершенная, которая отверзает разум человека к принятию ис¬
тин Откровения; наконец самое Откровение и Наука, мудрость
земная. Сии идеи нравственные суть пружины Поэмы Данто-
вой, суть то чудесное, те вышние силы, которые устраивают воз¬
можность события, возможность странствия его по миру невиди¬
мому. Здесь действуют не олицетворенные в виде богов страсти
человеческие, как у Омара; но силы христианского мира, силы
отвлеченные. Здесь начало чудесному аллегорическому. Во вто¬
рой вести, где содержится узел Поэмы, олицетворены сии идеи
в образе трех жен и Вирги л ия, как мы уже то видели в изло¬
жении. И так, в самом узле Поэмы содержится высокий смысл
богословский, который отсюда течет и по всему произведению,
и все проницает мыслью, и всему дает мистическое значение.
При содействии сих вышних сил, ниспосланных от Силы вседер-
жащей, открывается человеку таинство мира незримого.
Но до сих пор мы видим во всем этом подвиг нравственный,
подвиг ума и веры: где же будет подвиг искусства? Мы видим
Данте и его век
27
идеи отвлеченные, скелет богословский, годный для рассуж¬
дения самого глубокого: где же плот и жизнь, без коих нет По¬
эзии? Мы видим христианина-богослова: где же художник?
Вспомним слова самого Данте: чувственным языком только
можно говорить людям: Богу и ангелам Его мы придаем плоть
человеческую. Как же представит Поэт мир невидимый, жизнь
духовную, чтобы они ясны были очам человека живого, совре¬
менного? — Красками видимого мира, стихиями этой жизни,
человеческой плотью, житию современного века, своего народа,
Италии. Вот где начало подвига поэтического: как же соверша¬
ется сей подвиг в очах наших? Как все идеи приемлют плоть?
Рассмотрим.
Человек заблудившийся, ищущий спасения себе и другим,
есть сам Данте; Флорентинец; Гибеллин; изгнанник, который
нашел себе просторное прибежище во вселенной; как истин¬
ный гражданин, любящий свое отечество, и гордый как чело¬
век, сознающий в себе гения; любовник славы; мстительный;
горячий; живущий всеми чувствованиями человеческими;
мысль и страсть, сочетавшиеся в темпераменте итальянца. —
Мудрость земная — Виргилий, Поэт древнего латинского сло¬
ва; предшественник и учитель Данте; человек отживший, бес¬
страстный как тень; духом смиряющий страсти и чувства своего
живого питомца; мысль олицетворенная в древнем, пластиче¬
ском лике поэта. — Беатриса — первая любовь Данте, чувство
его жизни. Художник итальянец может любить Науку только
в образе женщины неземной. Это олицетворение, которое дол¬
го было предметом разных споров, объясняется нам апофеозом
женщины в Италии, идеей Мадонны, любовью Петрарки к Ла¬
уре, Tacca к Элеоноре. Оно объясняется явлениями из истории
другого искусства: живописцы давали черты своих влюбленных
ликам Мадонн, святых мучениц, даже отвлеченных добродете¬
лей. В таком же смысле и Данте олицетворил науку своего века
и своей жизни, богословие, в образе ему столь любезном*. Ита¬
лия есть страна апофеоз: в ней много остатков этого язычества,
которое всякое чувство претворяет в божество, всему замеча¬
тельному на земле строит храм, статую, памятник. Это нераз¬
дельно с ее художественным характером. Это паганизм искус¬
ства, в Италии только возможный и понятный.
* Места из Vita nuova, выше приведенные, ясно это доказывают.
28
С. П. ШЕВЫРЕВ
Время странствия Данте есть юбилей 1300 года, время все¬
мирного очищения, когда со всех концов Европы стекались мил¬
лионы в Рим на поклонение гробу наместника Христова. Сцена
мира невидимого — сия же вселенная, по современным о ней
понятиям. Где поместить Ад? — Вырыть землю, нами обитае¬
мую — временное жилище трупов, хранилище гробов, гостини¬
цу смерти: здесь, в области мрака и гниения, место правосудию
Божественному для казни грехов человеческих. — Где будет
Чистилище? — На горе, среди Атлантического моря, о суще¬
ствовании коей было понятие в ученых гаданиях века. — Нако¬
нец Рай — в небесах, вращающихся над нами, к которым всегда
по инстинкту стремится душа христианская*. Все страхи Ада,
вся его полиция, заимствованы из преданий мифологии языче¬
ской, которые жили еще в воображении народном. Все страши¬
лища, созданные древней фантазией, действуют здесь, но под
высшим христианским значением. Здесь исполины языческого
мира и преданий восточных; здесь падшие Ангелы.
Нужно Поэту описать какое-нибудь место адское, какую-ни¬
будь развалину подземную: для этого берет он обвалы тироль¬
ских Альп около Трепта и рисует ими свои картину. — Модели
водопадов адских суть водопады Италии. — На вратах Ада под¬
писано: Fece me (создала меня), как будто на вратах крестиль-
ницы Флоренщинской и на всех памятниках средних времен
и древности**. Горячий поток, в котором гаснет пламень, есть
теплый ручей около Вишербы. Фламандские оплоты, набереж¬
ные Бренты в Падове служат для объяснения оплотов потока
Адского. Степь в Аду есть степь Ливийская. Город Плутона
* Весьма любопытно сравнить представление Ада и Рая у Данте
с представлениями оных у Омира и Виргилия. Омир помещает CBoâ
Ад на земле, во мраках Киммербелов. Виргилий помещает егод под землей,
до сих пор показывается около Пуциоли (древнего Pussioli). в окрестностях
Неаполя, пещера Сициллы, коей Эней прошел в ад. Это, по мнению
ученых, были какие-то бани подземные. Елисейские поля у Виргилия
помещены на земле. Их и теперь показывают в тех же окрестностях.
Поместить же Рай в Эмпирее есть у Данте мысль христианская.
** На статуях греческих всегда писалось: inoiqot ut. На воротах бронзовой
крести л ьницы св. Иоанна во Флоренции вырезано: Laurentius Ghibertius
fecit me. Такое олицетворение памятников, как будто говорящих
прохожему о своем мастере, есть их поэтическая черта. На вратах Ада,
представленных у данте, такого же рода надпись. И этим примером я все
к тому же веду, чтобы показать во всякой малой черте краски современные.
Данте и его век 29
с кладбищем есть город готический с его зубцами и башнями.
Местоположение Malabolge одного из кругов Ада объясняет¬
ся рвами и мостами около крепостей. Башни Сиенны и кривая
башня Болонская объясняют огромность исполинов; сосновая
шишка гробницы Адриана, которую видал всякий богомолец,
приходивший в Рим из Юбилей, есть мера лицу одного из ги¬
гантов. Ледяной Коцит на дне земли похож на мерзлый Дунай.
Крутизны горы Чистилища рисуются крутизнами в окрестно¬
стях Флоренции и других местах гористой Италии. Все Чисти¬
лище убрано резьбой, взянием и живописью, как итальянская
церковь. Но где найти земные краски для Рая — для стихии чи¬
стого и однообразного света? И здесь однако Поэт не изменяет
себе: он также очевиден. Все что горит, светит, блещешь на на¬
шей земле: вода, отражающая лучи солнца, рубины, сапфи¬
ры, топазы, все драгоценные камни, человеческие очи, перлы,
хрустали, пламень, радуга, свет солнца, пылинки в лучах его,
раскаленное железо: все это послужило ему материалом к живо¬
му представлению области невещественного эфира.
Пороки и добродетели представлены в живых лицах и осо¬
бенно в лицах современных. Здесь вся история и древняя,
и XIII века, но особенно истории Италии. Здесь все славы мира,
все вершины его, все сильные характеры эпохи. Здесь повесть
о всех убийствах, преступлениях; вся летопись кровавого века
в живых картинах, в фантасмагорической галерее: строгий от¬
чет за нравственность всего человечества! Во всем Аду поэту
откликаются особенно итальянцы и из них преимуществен¬
но Флорентийцы. Первый встречный грешник есть обжора
из Флоренции. Рим дает пап: Анастасия IV еретика; Целестина
ничтожного, слабодушного; Николая III, Бонифация VIII, Кли¬
мента V симониаков; Адриана V скупого; Мартина V лакомо¬
го. Флоренция славится по Аду пятью лихими разбойниками;
но дает и обжору, и самоубийцу, и злого, и эресиархов. Сиемна
доставляет лучших обжор, пьяниц и тщеславных. Болонья —
лицемеров. Падова — лучших ростовщиков. Пиза и особенно
Генуя — изменников. Все пороки национальны. Все мертвые,
особенно в Аду, кипят страстями живых. Грешники Ада еще
коснеют в своих пороках и отличаются сей самостоятельно¬
стью. Все они, кроме изменников, вручают своим имена Поэту,
на память потомству; все жаждут славы; все любят отечество;
30
С. П. ШЕВЫРЕВ
откликаются на речь Тоскавскую, спрашивают про новости
Италии, про свои родины, родных и знакомых; все занимают¬
ся политикой и семейными делами; не отстала еще от связей
с миром живых и дают поручения живому земляку. Сорделло
и Виргилий, при одном имени Маншуи, бросаются в объятия
друг друга. Даже в самом Раю праведные вспоминают о делах
своих, на земле оставленных, как напр. Юстиниан о своем ко¬
дексе. Каччиагвида говорит о всех обычаях Флоренции и даже
об улицах и гербах: он не отстал еще от привычек своего поко¬
ления и выражается по латыни. Петр апостол и все Небо гнева¬
ются на пап. Так на всем отжившем человечестве запечатлены
страсть земная, жизнь современная, участие минуты.
Наказания в Аду материальны. Одни только жители Лимба
страдают безнадежным желанием неба. Некоторые казни взяты
с общественных казней Италии. Например, в Болонье наказы¬
вали розгами; так и в Аду. Чтобы сделать очевидной казнь ра¬
нами, Поэт приводит на память все ужасные сражения. Казнь
болезнями рисуется чумой в Эгине и местами заразы. Иногда
и дисциплина адская берется с земли. Например, грешники, го¬
няемые сквозь строй, ходят в два ряда, как богомольцы на мо¬
сту Св. Ангела. Дьяволы имеют все привычки, все ухватки злых
повес Италии. Они дерзки, непристойны, привязчивы, рады об¬
мануть, дать слово и не сдержать.
В Чистилище вы находите картину итальянское лени, полу¬
денного dolce farniente; картину вечера также Италии, вечера
гармонического, тихого, звучащего песнью в честь Мадонны.
Поэты в Лимбе и в Чистилище обходятся друг с другом, вероят¬
но, с теми же обрядами взаимного уважения, с какими обходи¬
лись между собой Данте, Гвидо Гвиничелли, Гвидо Кавалькан¬
ти и другие поэты современные.
В земном Раю встречаем процессию мистическую, в Раю не¬
бесном — триумф. И это все стихии из жизни Италии, в которой
редкий день нет процессии. В жизнь Чистилища и особенно Рая
перенесены многие стихии жизни монастырской. Недаром в од¬
ном месте поэмы Рай именуется монастырем, а Спаситель его
Игуменом. Беатриса именует Рай церковью соборной (Basilica).
Потому главное занятие душ Чистилища и Рая, как занятие мо¬
нахов, есть духовное пение. Вся гора и все небеса оглашаются
псалмами и святыми песнями. Очищающиеся похожи на каю¬
Данте и его век 31
щуюся братию, которая покорно исправляет епитимью, на нее
возложенную. В Раю хотя принимают участие в жизни совре¬
менной; но политика уступает богословию. Здесь беспрестан¬
ные рассуждения о первых вопросах богословских, как буд¬
то между монахами в их кельях. Сии рассуждения изобилуют
современной латынью, но перемешанной иногда с простыми
народными поговорками. Беатриса называет Данте frate, как
монахи друг друга; поэты между собой также именуются брать¬
ями. Язык Беатрисы есть язык богословов, современных Дан¬
те, но растворенный поэзию. — До сих пор в Италии, в день
св. Франциска, доминиканец произносит панегирик в честь его,
а в день св. Доминика то же делает францисканец*. Этот обряд
из жизни монастырей перенесен и в Рай. Фома Аквинский чита¬
ет Похвальное Слово св. Франциску, а Бонавентура св. Домини¬
ку. Проповеди сии имеют, частью, характер, вычуры и даже ка¬
ламбуры современных проповедей монастырских. Данте в Раю
испытуется в катехизисе от апостолов и изготовляется к отве¬
там, как бакалавр на диспуте. Крылья серафимов сравнивают¬
ся с капитанами монахов**. Св. Бернард, всю жизнь свою посвя¬
тивший на сочинение молитв Мадонне, и здесь поет ей молитву
и предстательствует за Данте. Так как рай населен по большей
части монахами, то подобное перенесение обрядов монашеской
жизни в жизнь рая объясняется само собой. С этим вместе раз¬
лита в нем и тишина жизни созерцательной, жизни в Боге, ко¬
торая находит услаждение только в пении духовных похвал Ма¬
донне и Господу. Монастырская жизнь, в сии века монастырей
и монахов, почиталась предвкушением райской жизни; но она,
по важности своего значения, не была однако так удалена от со¬
временной жизни, как теперь. В монастырях процветали науки
и искусства, особенно во Флоренции, колыбели всего изящного
в Италии. Вот почему поэма Данте нашла усердных читателей
в монастырях. Известно, что монахи имели терпение трудиться
над латинским переводом этой поэмы. Рай, которого чтение для
нас утомительно, вероятно, нравился особенно в монастырях
* Так установлено в память дружбы, соединявшей двух знаменитых совре¬
менников, соревновавших вместе об утверждении власти папской.
** Это может быть с первого раза покажется странно; но св. Франциск в мо¬
нашеском платье с капюшоном был одной из любимых художественных
идей у живописцев. Эпитет ему Serafico (Серафимский) показывает это
отношение, замеченное мной в Поэме Данте.
32
С. П. ШЕВЫРЕВ
своей богословской стихией и своим отношением к монастыр¬
ской жизни.
В Раю встречаем также символ власти императорской, сим¬
вол правосудия земного в виде креста. Это апофеоза власти
самодержавной и крестной смерти рыцарей: мистическое вы¬
ражение двух идей века. Весьма замечательно еще сравнение
Спасителя с императором, а Святых Его с советом графов.
Апостолы Петр, Иоанн и Иаков именуются Баронами. Это Рай
в виде современного двора феодального. Все это краски жизни.
Наконец, лучший цвет из цветов земных, Роза, предлагает
Поэту образ для представления горнего рая, сей бездны светов,
созерцающих лоно Света Божия: в самом высшем, духовном об¬
разе Поэмы обличается Поэт юга, поэт Италии, где дважды вес¬
на, где дважды цветут розы.
Здесь место упомянуть о сравнениях в Поэме Данте. Сравне¬
ние в европейской поэзии давно уже потеряло свое первобытное
назначение, свой первоначальный характер простоты и необ¬
ходимости, какой дан ему был Омиром. Оно теперь, особенно
со временем Байрона, есть или выражение мысли, или игра
фантазии, излишество роскоши поэтической. У Омира оно не¬
обходимо, потому что дорисовывает предмет и всегда верно сня¬
то с природы, всегда вмещает в себе миниатюрный, но полный
ландшафт жизни, особенно сельской. Так и у Данте, более даже
чем у какого-либо из поэтов древности, после Омира, более чем
у Вирги л ия. В этом я нахожу большое сродство между сими
двумя родоначальниками поэзии языческой и христианской.
Сравнения Данте ясны, очевидны, необходимы, просты и верно
сняты с природы или жизни человеческой. Видна всюду самая
тесная дружба Поэта и природы. Видно, что ни одно явление
в ней, даже самое для нас обыкновенное, не проходило даром
перед его очами: всякое он заметил и сохранил в сокровищнице
своего воображения* и оно послужило ему краской для картины
мира невидимого. Обилие сравнений, взятых из сельской жиз¬
* И в этом я нахожу сходство между Дантом и Омиром. Наприм., Данте
в одном месте сравнивает свое мучительное состояние в Аду с состоянием
человека, который видит неприятный сон и желает во сне, чтобы это был
сон (II. XXX Ада). Кто из нас не испытал этого? В Илиаде есть подобная
черта, схваченная из природы, из описания убийства Реза. Минерва
посылает ему сон, что Диомид будто бы убивает его в то время, как Диомид
в самом деле исполняет это убийство.
Данте и его век
33
ни, которые в нашем городскому быту были бы анахронизмом,
показывает, что в жизни тогдашней было более той сельской
простоты, которая характеризует век Омира и которой не было
в веке Виргилия, а потому нет и в его поэзии. Хотя Каччиагви-
да и жалуется на излишнюю роскошь в нравах; но что это была
за роскошь в сравнении с веком Льва X и Ларвентия Медицисса?
Вспомним, что предки этих Медициссов были простые продав¬
цы шерсти, — и объяснится нам отчасти сия простота жизни,
отражающаяся в Поэме Данте. Многое объяснится и жизнью
самого Поэта: его странствия в изгнании подружили его с при¬
родой — и, вероятно, часто, от суровой думы изгнанника, он
поэтической думой отдыхал на каком-нибудь явлении природы!
Сверх сих сравнений есть и ученые, которые предлагала ему на¬
ука и о которых я упоминал при изложении его учения.
Омир повествует вам, большей частью, о предметах видимо¬
го мира, которые сами собой ясны. Данте напротив рисует вам
все невидимое, несбыточное. По этому, сравнение у него есть
сильнейшая краска для того, чтобы сделать вам или очевидным
какое-нибудь событие, или даже возможным несбыточное чудо.
Некоторые примеры этому мы уже видели в изложении самой
Поэмы. Вот значение сравнений у Данте и вот почему я счел
за нужное здесь показать то участие, какое они принимают
в изображении мира невидимого.
Таким образом, волшебной силой богослова-поэта весь мир
духовный принял живое тело, чувством же Поэта националь¬
ного он принял тело его Италии и явился в очью соотчичей.
Вся природа Авзонии, вся жизнь ее, вся история, все лица со¬
временные здесь. Но от сего сочетания духовного мира с живым
всякий живой образ получил значение, стал символом; всякое
лицо представило идею добродетели или порока; под всякой
земной краской таится мысль. Так все здешнее, все личное пре¬
образилось идеей; так мертвая идея обрела жизнь.
Из сего ясно, что два деятеля долженствовали гармонически
сочетать свои силы в душе Поэта, дабы создать такое двоесущ-
ное произведение. Сии деятели суть сильная Вера христиани¬
на в мир духовный и сильная фантазия Поэта, коей подчинен
весь мир видимый. От единодушного действования этих двух
сил, взаимно укреплявших друг друга, произведение сие по¬
лучило с одной стороны значение богословское, мистическое,
34
С. П. ШЕВЫРЕВ
с другой — характер живого, яркого, магнетического яснови¬
дения, какое в первый раз только совершилось в мире Поэзии
и совершилось в духе Данте, и в котором всякий образ, всякое
чудо оживляются для вас чувством Веры.
Во все продолжение исследовании нашего, Божественная
комедия преимущественно сама служила нам истолковательни¬
цей всего того, что мы анализом своим в ней развивали. Пои¬
щем: не свидетельствует ли сам Поэт присутствия этих двух де¬
ятелей в его произведении? Не в первый раз явится нам в этом
Поэте сознание своего дела и собственных сил своих.
Вспомним, когда в Раю Данте подвергается испытанию в вере
от апостола Петра*. Поэт, на вопросы его, отвечает словами апо¬
стола Павла, что Вера есть уповаемых извещение, вещей обли¬
чение невидимых**} что она есть единая сущность тех вещей, ко¬
торые в небе зримы, а долы от нас сокрыты. Вот та Вера в мир
духовный, о коей мы говорили: Данте, вознесшись над землей,
перед лицом всего Неба, сознал в себе присутствие оной, и св.
апостол, Учитель веры, кончив испытание, троекратно венчал
его за то своим светом.
Вспомним в Чистилище разные примеры пороков и доброде¬
телей, взятые из истории и мифологии и в образе сменяющихся
видений проходящие в фантазии Поэта. Вспомним сей экстаз,
сие магнетическое состояние ясновидения, когда, как говорит
сам Поэт, «ум его так углублен внутри себя, что ни одно впечат¬
ление извне им уже не принимается», и когда в глубокую его
фантазию дождать с Неба какие-то своенравные, живые об¬
разы. Вот как он выражается сам об этой силе Поэта, которую
сознавал в себе: «О, сила вообразительная, похищающая нас
иногда до такой меры от мира внешнего, что человек ничего
не замечает, хотя бы кругом его тысячи труб звучали! Кто же
подвигает тебя, если чувство внешнее тебе ничего не посылает
извне? Тебя подвигает свет, в небе образующийся и долетаю¬
щий к нам или сам собой, или через пос л анника-Ангела».
Вспомним то, что биографы Данте говорят о том, в какой
сильной степени Поэт мог внутрь себя напрягать свое внима¬
ние. Сие то покорное сосредоточенное внимание, в соединении
с высшей силой вообразите л ьной, характеризует Данте-Поэта.
* Рая IL XXIV.
** Пос. к Евреям. Глава XI, ст. 1.
Данте и его век
35
Вообще, фантазия итальянца отличается ясностью, очевид¬
ностью. Это мы видим на всех Поэзии юга. Рассказанное ита¬
льянцем можно со слов его нарисовать или разыграть в дей¬
ствии. Сие свойство зависит много и от открытой, воздушной
жизни народов полуденных, всегда близких к природе, не лю¬
бящих затвора. Отсюда ведут свое начало пластицизм Греции
и живописность поэтов Италии. Сим-то южным воображением
в высшей степени, сими-то внутренними, всеосязающими оча¬
ми одарен был Данте. Не желая порицать народ германский,
который имеет свою сторону совершенную, я для сравнения
приведу только: что если бы германец вздумал изобразить нам
мир невидимый? Сей мир был бы пуст, лишен образов, как небо
Клопттока. У Данте же все видим мы! своими очами. Спустя две¬
сти лет по смерти его, по одним стихиям его Поэмы, составлен
ученым Антонио Манетти архитектурный план его Ада. Даже
чудеса небывалые кажутся у него вероятными: так сильно их
описание. Таково изображением взаимного превращения змеи
в человека и человека в змею, где сила вообразительная достиг¬
ла самой высшей степени. Поэт, сознав в себе силу духа, велит
молчать Лукану и Овидию, славному певцу превращений. Одно
это описание дает право Данте на исключительное наименова¬
ние Поэта ясновидца.
Так, по сознанию самого Поэта, вера и южная фантазия, два
деятеля сей поэмы соединено начертали на ней свой слитый ха¬
рактер духовного и земного, — ив этом смысле можно справед¬
ливо, вместе с Дантом, сказать, что и Небо, и земля приложили
руку к созданию его Поэмы.
При начале развития Поэзии итальянской, на могучем пер¬
венце оной, совершается общий закон первоначального раз¬
вития всей поэзии человеческой. Поэзия рождается на лоне
религии — и потому характер первых ее произведений бывает
характер религиозный или символический. Слову человече¬
скому предчувствовало Слово Божье. Всей европейской поэзии
предшествовала поэзия Востока, особенно еврейская. — Поэ¬
зия символа божественного. Искусству греческому предходит
искусство египетское; искусству римскому — этрусское. Оми-
ру предъидут жрецы поэта, венцы таинства, Орфей, Лин, Му¬
зей, — и самый Гесиод, в порядке вещей мира поэтического,
должен быть предтечей Омира. Наконец, в Италии, где поэ¬
36
С. П. ШЕВЫРЕВ
зия, во второй раз после Греции, развивается самостоятельно,
свободно, ибо живет в новом мире, хотя и под эгидой древнего
слова, в Италии, говорю я, на Данте повторился сей закон, —
и в первой сильной и полной песне, слетевшей с христианской
лиры, всюду ясно звучит мысль богословская.
Отсюда имеет быть разрешен вопрос: в какому роду поэзии
относится Божественная комедия Данте? Шеллинг, в своем рас¬
суждении об оной, весьма глубокомысленно замечает, что сие
произведение не есть ни чистый Эпос, ни чистая Лира, ни Дра¬
ма; но что все стихии Поэзии, включая и дидактическую, она
в себе слитно заключает, то же явление встречаем мы в перво¬
бытном веке христианского мира Европы: он, согласно с глубо¬
кими исследованиями современного историолога, представляет
хаос всех начал, из коих впоследствии развился. Но вспомним,
что, в самую первую минуту его развития, явилось однако го¬
сподство начала осократического. так и в первобытном роде По¬
эзии есть свое господствующее начало осократическое, которое
впечатляет свой особый характер на ее произведениях. Кроме
известных трех чистых родов Поэзии, следует посему принять
еще первоначальный род, в котором все прочий слиты, как в за¬
родыше, — род символический. Должно отличить его от дидак¬
тического рода: сей последний есть слияние Поэзии и Науки;
символический же род — слияние Поэзии и Религии. Рассмо¬
трим же теперь, каким образом все стихии Поэзии присутству¬
ют в Поэме Данте под господством типа символического.
€4^
Н. И. НАДЕЖДИН
О происхождении, природе и судьбах поэзии, на¬
зываемой романтической
<Фрагмент>
Итак, вот частные отличительные свойства поэзии роман¬
тической, происходящие сами собою из главного ее духа. Она
была в отношении к материи — более человеческая; в отно¬
шении к организации — более фантастическая; в сношении
к выражению — более живописная; в отношении к внешнему
строению — более музыкальная. И все эти свойства нигде не от¬
ражаются в таком ясном свете и дивном сочетании, как в истин¬
но «Божественной комедии» Данта, в которой представляется
полный и цельный отпечаток всего романтического мира. Это,
единственное в своем роде, творение есть как бы великолепное
зеркало, в котором отразился дух романтический во всей сво¬
ей целости. Ибо что другое оно представляет нам, как не вели¬
кую панораму человечества, в высочайшей чистоте духовного
его организма? В ней творческий гений разоблачил человече¬
скую природу от телесного покрова и с позорища мира веще¬
ственного перенес на сцену над мирную, разрешенную от всех
уз вещества, дабы там, действуя собственными своими силами,
она явилась в оригинальной своей полноте, как существо само¬
бытное, невещественное, чисто духовное. Это — действитель¬
ная биография человеческого духа, не как пришельца видимой
природы, с коим она по счастливому выражению самого поэта,
как «невинная, юная, прелестная дева и улыбается и плачет»
{...a guisa di fanciulla, | Che piangendo e ridendo pargoleggia.
«Purgat.» [«Чистилище»], Cant. XVI.}: но как гражданина не¬
38
Н. И. НАДЕЖДИН
зримого отечества, где он, оставленный самому себе, сам с со¬
бою о себе и радуется и плачет. Посему задачу этого творения
составляет не временное волнение внешней жизни, но вечное
обуревание жизни внутренней под неподвижным небом, цвет
коего, по словам поэта, «не может изменить никакое время» {II
qual si aggira, Sempre in quell’aria senzo tempo tinta. «Inferno»,
Cant. Ili, 10.}, во всей его обширности, от глубины ада до вы¬
соты рая. Здесь раскрывается безмерная пучина сердца чело¬
веческого во всех ее излучинах и углублениях, под всеми ви¬
дами и образами, от ангельской целомудренности Беатрисы
{«Purgat.», Cant. XXX.} до ангельских заблуждений Франче¬
ски {«Inferno», Cant. V.}, от мрачной суровости Какчиачвида
{«Paradiso», Cant. XV и XVI.} или серафимской достолюбезно-
сти Аквината {«Paradiso», Cant. X, XI и XII.} до грубой гордости
Убертия {«Inferno», Cant. X.} или ужасной свирепости Уголина
{«Inferno», Cant. XXXIII.}. И в какой фантастической зале раз¬
местила рука художника такую дивную галерею картин и обра¬
зов? Эта таинственная лествица степеней и порядков, по коим
силятся пройти все три духовные миры, без сомнения, основа¬
на на каком-нибудь начале, невысказанном от творящего гения;
но может ли обнять ее самый зоркий глаз и найти Ариаднину
нить, с которой он мог бы идти твердыми стопами по следам по¬
этического духа в самых сокровеннейших закоулках этого лаби¬
ринта. Этот «дикий, густой и мрачный» лес {«Inferno», Cant. I.},
с которого начал свое фантастическое поприще сам поэт, есть
верное изображение того творения, в коем каждый пришлец
заблуждается и, чем далее идет, тем более видит себя принуж¬
денным «оставить всякую надежду» {«Lasciate ogni speranza,
voi ch’entrate». — «Inferno», Cant. III.} при руководстве одного
своего ума, направить стопы свои к выходу. И этого не поставит
он в вину своему неведению, увидев, что и сам поэт не всегда
идет ровным шагом по своему пути, но то ползком поднимается
«по крутым утесам преисподней князя тьмы» {«Inferno», Cant.
XXXIV.}, то, приставший к эфирной тени Беатрисы, он «чудес¬
но» {«Paradiso», Cant. I.} переступает неизмеримые простран¬
ства, не зная того сам; и услышав, что он не советует никому
«вверяться этим же волнам на утлом челне, дабы, не будучи
в состоянии идти по следам его, там не погибнуть» {«Paradiso»,
Cant. II.}. Таким образом, наблюдательному уму не остается ни-
О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической 39
чего более, как смотреть на развитие этой дивной фантасмагории
и любоваться ее сверхъестественным блеском, не осмеливаясь
призывать ее пред судилище критической расправы. И в самом
деле, этот блеск столько ярок, что невольно останавливает и ос¬
лепляет умственный взор. По всему творению расточены все
сокровища поэтического украшения без всякой бережливости
и часто с излишнею роскошью. Содержание его как ни чуждо
вещественности и как ни возвышается над пределами чувств;
но с видимого мира в нем обобраны все прелести и украшения,
дабы бесплотные идеи творческого гения воплотить в формы
блистательные и великолепные. Но и это показалось ему недо¬
статочно. Сокровища человечества — те самые, кои древность
завещала бессмертию в высоких своих произведениях, были по¬
хищены, присвоены и расточены на украшение этого великого
создания. Отсюда эта чудовищная смесь мифологических обра¬
зов и картин с христианскими идеями и чувствованиями, кото¬
рую представляет Дантово творение. Оно не опустило и других
средств, при помощи коих чистый луч бесплотных идей мог бы
преломиться, оттеняться и рисоваться. Там находим мы высо¬
чайшую тонкость в сентенциях пустых и бессущных, за которые
поэт в старину получил проименование великого «философа
и божественного богослова» {Так говорит об этом Иоанн Сер-
равалий, епископ Фирмиенский: «Dantes se in juventute dédit
omnibus artibus liberalibus, studens ea Padue, Bonnonfe, demum
Oxoniis et Parisis, ubi fecit multos actus mirabiles, in tantum
quod ab aliquibus, dicebatur magnus philosophus, ab aliquibus
magnus theologus, ab aliquibus magnus poCta». [Перевод: «Дант
в молодости посвятил себя всем свободным искусствам, обуча¬
ясь в Падуе, Болонье, наконец, в Оксфорде и Париже, где совер¬
шил так много удивительного, что одни называют его «великий
философ», другие «великий теолог», а третьи «великий поэт».
(Далее в лат. изд. следует: «какой пример для наших роман¬
тиков!»)] См. «Жизнь Данта», напис. Тирабоскием.} и кои со-
делали его творение предметом классического истолкования.
1ам ощущаем и упоительную сладость чувства, образованного
в школе святой любви до светской утонченности, — чувства,
коему одолжено своим происхождением и основанием самое
стихотворение, этот священный памятник любящего сердца,
посвященный блаженной тени обожаемой девы {Beatrix (Bice)
40
Н. И. НАДЕЖДИН
Portinari, возлюбленная Данта от младенческих лет, как силь¬
но и горячо он любил ее, сам сознается в своей «Vita Nuova».}.
Там наконец мы погружаемся в непроницаемый мрак аллего¬
рического мистицизма, коим обвито все поэтическое здание,
так что в нем нет ни одного уголка, не исписанного иероглифи¬
ческими знаками и письменами. Этот мистицизм составляет
главный тон всего творения; и ключ к уразумению его должен
быть отыскиваем не в одних только современных летописях
Италии, но в летописях человеческого духа, которого как бы
комментарием было это великое творение. Самый цвет джибе-
линства {В этом упрекает Данта особенно Фр. Шлегель. См. его
«Истор. литер, др. и нов.», т. II, гл. IX, стр. 15.}, так искусно
наведенный на это творение, имеет, без сомнения, высшее зна¬
чение, и должен быть понимаем не как пятно кровавых рас¬
прей низкой ненависти, но как таинственная печать великой
борьбы между гвельфами и джибелинами внутреннего мира,
между дерзким коварством своевольства и благородным геро¬
измом свободы, — борьбы, непрерывно усматриваемой в чело¬
веческом сердце. Посему неудивительно, что наблюдательный
ум, шествуя под темными сводами этого таинственного здания,
восхищается святым чувством благоговения и чувствует биение
всех самых сокровеннейших струн своего внутреннего организ¬
ма. К этому же самому приспособлено и механическое строение
стихосложения. Ибо это непрерывное сцепление троестиший,
созвучных между собою (terza rima) всегда держит внимание
в напряжении, так что оно, волею или неволею, должно следо¬
вать всюду, где блуждает творческая фантазия. Таким образом,
кто посвящен в таинства «Божественной комедии», тот может
сказать о себе, что он открыл для себя вход во внутреннейшее
святилище поэзии романтической.
Нетрудно увериться каждому на опыте, что все произведения
романтической поэзии более или менее причастны того духа,
который вполне выражается в этом божественном произведе¬
нии. Стихотворение Дантово было и осталось единственным:
ему принадлежит собственная оригинальная форма, которой
не может дать никакого названия эстетическая технология.
3. Н. ГИППИУС
Воображаемое
<Фрагмент>
Надо знать, и не обманываться, что духи земли (служители
возвращения, «земле — земное») очень сильны, они стоят во¬
круг сплошной стеною, плотно, они со всех сторон охраняют
входы; они за «время», главным образом; но они даже не против
«вечности»: они против всякого сближения, соединения време¬
ни с вечностью.
Эту плотную стену «действительности» я тебе сейчас покажу.
Человек, когда он просыпается к своему человечеству, тотчас
открывает в себе именно это, божественное, стремление соединить
время и вечность. И начинается борьба с духами земли. Челове¬
ку дано на земле великолепное оружие для борьбы, меч обоюдоо¬
стрый — Любовь. Земные духи знают опасность, поэтому именно
здесь у них все предусмотрено, устроено все, чисто-земные условия
и обстоятельства на одинаковом учете, и так называемые «благо¬
приятные» (человек обманывается, радуясь им) — равно умеют
они оборачивать в свою сторону. Вот это надо запомнить, что равно.
«...И грешную, и чистую любовь соединить в единственной
и вечной?»
О, нет! Как раз этого-то они и не хотят. Как раз этого. Они
позволяют любви быть и менее грешной, и более чистой, —
земной — только земной любви. Но пусть она, любовь, со всей
«скалой» своей относительности, остается в пределах земли,
в одной первой реальности. Пусть будет и «вечная» любовь: им
до нее мало дела, лишь бы она была целиком вынесена за борта
первой реальности.
42
3. Н. ГИППИУС
Они позволяют Данте иметь Беатриче. Пусть имеет! Им даже
выгодно, если Данте этим утешается.
Но в своей области они позаботятся по-своему и о Данте,
и о Беатриче, каждого поженив и устроив. Иногда им удается
поженить их друг с другом. В этом случае и забортная «веч¬
ность» исчезает, да так незаметно, что Данте не успевает опом¬
ниться и пожалеть об утраченном, забывает ее изнутри, как
будто ничего и не думал, не чувствовал никогда. Исчезает влю¬
бленность, т. е. соль любви, острость этого меча; духи знают, что
именно тут начало опасности; поэтому у них и предусмотрены
все решительно «обстоятельства», устроены так, чтобы в пер¬
вую голову уничтожалась влюбленность, если она не выносится
за борта жизни и плоти (где — пусть будет, неважно).
Вообразим «обстоятельства» самые блестящие и людей очень
искренних притом. Беатриче не умирает. Данте не женится
ни на ней, ни на другой. Они в здешней гармонии возраста те¬
лесного и духовного. Пространство также находится в их физи¬
ческой воле. Очень приблизительно, конечно, — но представим
себе Тургенева и m-me Виардо1. Казалось бы! Но духи земли
не испуганы. Принимаются за свои испытанные средства. Лю¬
бовь знает, что такое разлука, и не хочет ее, даже мимолетной?
Пожалуйста! Живите в здешней близости сколько угодно! Духи
земли выдвигают свое: привычку. Пусть Беатриче все так же
прекрасна — для Данте ее красота делается незаметно таким же
пустым местом, каким была бы любая некрасота. Обыден¬
ность побеждает слабое сердце человеческое, дает ему иллюзию
(я подчеркиваю, что иллюзию) достижимости одного «я» дру¬
гим я. Происходит или остановка, или движение по плоскости.
В обоих случаях соль Любви расселяется, жало вырвано, круг
замкнут, сила динамическая делается статической, — «зем¬
ле — земное».
Но допустим, что Любовь ранее конца увидала опасность.
Ради своего спасения она хватается тогда за разлуку, за земной
компромисс. «Что ж делать», она отлично знает, что «в разлуке
вольной таится ложь»2, она идет и на боль и на ложь, — «что же
делать! »
Увы, я не вполне знаю почему — но знаю, что этот жалкий
паллиатив «подогреванья» не удается, и уже достойнее погиб¬
нуть, не мечась и за него не хватаясь.
Воображаемое
43
Разлука таит в себе кучу возможностей, обширное поле для
работы духов земли. Забвенье (тоже своего рода привычка), со¬
блазн обманной внешней новизны, — последний провал подме¬
ны субъекта объектами, единства— множественностью. При
этой замене субъект исчезает и из прошлого, ибо он не может
сосуществовать в любви с объектами. Или только субъект, и уже
нет объектов, или обратно.
Так вот, прежде всего: никакие «хорошие обстоятельства»
не помогут в борьбе за Любовь, для духов земли все обстоятель¬
ства абсолютно равны, одноценны. Если бы мне было 20 лет —
опасности лишь несколько перегруппировались бы, но все
остались бы и даже общая линия и приемы духов земли ничуть
не изменились бы.
Что же, нет выхода? Или я его не знаю? Не знаю... может
быть, не знаю, но кое-что прочувствую. Прежде чем касаться
каких бы то ни было «прочувствий» — надо увидеть данное, вот
это плотное кольцо духов земли, сомкнувших ряды. Не о чем
и мечтать, если приуменьшаешь силы врага. А я еще тут едва их
наметил, их великолепного разнообразия я и не коснулся.
Чтобы кончить пока — скажу, что у нас есть лишь одинокие
таинственные символы, легенды, знаки, намеки на полудости¬
жения. То непонятные, то смешные образы. «Он имел одно виде¬
нье»3... это уже выше Данте, дальше Данте. Духи земли успели
его лишь заклеймить печатью безумия (успели все-таки). Есть
еще внешне почти смешной и внутренно-бездонный образ (см.
Влад. Соловьева «Смысл Любви», том 11-ый)4 — образ Филемо¬
на и Бавкиды5. Тут опять дальше Данте и даже, по какому-то,
дальше Рыцаря Бедного.
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Данте1
ПРЕДИСЛОВИЕ
Данте и мы
«Три в одном — Отец, Сын и Дух Святой — есть начало всех
чудес» *. Этим исповеданием Данте начинает, в «Новой жизни»,
жизнь свою; им же и кончает ее в «Божественной комедии» :
Там, в глубине Субстанции Предвечной,
Явились мне три пламеневших круга
Одной величины и трех цветов...
О, вечный Свет, Себе единосущный,
Себя единого в Отце познавший,
Собой единым познанный лишь в Сыне,
Возлюбленный собой единым в Духе!**
Все, чем Данте жил, и все, что сделал, заключено в этом од¬
ном, самом для нас непонятном, ненужном и холодном из чело¬
веческих слов, а для него — самом нужном, огненном и живом:
Три.
«Нет, никогда не будет три одно!»2 — смеется — кощунству¬
ет Гёте (Разгов. с Эккерманом), и вместе с ним дух всего отсту¬
пившего от Христа, человечества наших дней. И Мефистофель,
готовя, вместе со старой ведьмой, эликсир вечной юности для
Фауста, так же кощунствует — смеется:
V. N. XXIX.
Par. XXX, 115[-126].
Воображаемое 45
Увы, мой друг, старо и ново,
Веками лжи освящено,
Всех одурачившее слово:
Один есть Три и Три — Одно*.
Жив Данте, или умер для нас? Может быть, на этот вопрос во¬
все еще не ответ вся его в веках немеркнущая слава, потому что
подлинное существо таких людей, как он, измеряется не сла¬
вой — отражением бытия, слишком часто обманчивым, — а са¬
мим бытием. Чтобы узнать, жив ли Данте для нас, мы должны
судить о нем не по нашей, а по его собственной мере. Высшая
мера жизни для него — не созерцание, отражение бытия суще¬
го, а действие, творение бытия нового. Этим он превосходит
всех трех остальных, по силе созерцания равных ему художни¬
ков слова: Гомера, Шекспира и Гёте. Данте не только отражает,
как они, то, что есть, но и творит то, чего нет; не только созерца¬
ет, но и действует. В этом смысле высшей точки поэзии (в пер¬
вом и вечном значении слова poiein: делать, действовать) достиг
он один.
«Цель человеческого рода заключается в том, чтобы осу¬
ществлять всю полноту созерцания, сначала для него самого,
а потом для действия, prius ad speculandum, et secundum ad
operandum»**3. Эту общую цель человечества Данте признает
и для себя высшей мерою жизни и творчества: «Не созерцание,
а действие есть цель всего творения („Комедии“) — вывести лю¬
дей, в этой (земной) жизни, из несчастного состояния и приве¬
сти их к состоянию блаженному. Ибо если в некоторых частях
„Комедии“ и преобладает созерцание, то все же не ради него са¬
мого, а для действия» ***.
Главная цель Данте — не что-то сказать людям, а что-то сде¬
лать с людьми; изменить их души и судьбы мира. Вот по этой-
то мере и надо судить Данте. Если прав Гёте, что Три — Одно
есть ложь, то Данте мертв и мы его не воскресим, сколько бы
ни славили.
* Goethe. Faust. I, Hexenkueche. [И. В. Гёте. Фауст. I. Кухня ведьмы. 2559-
2562]
** De Monarchia. 1, IV (Opere di Dante, ed. Bemporad. Firenze, 1921, p. 358).
[Данте Алигьери. Монархия. M., 1999. С. 26]
*** Epist. ad Cane Grande. XIII, 15. [Письмо к Кангранде делла Скала // Дан¬
те Алигьери. Новая жизнь. С. 353-361.]
46
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Явный или тайный, сознательный или бессознательный
суд огромного большинства людей нашего времени над Данте
высказывает знаменитый итальянский «дантовед» (смешное
и странное слово), философ и критик, Бенедетто Кроче: «Все
религиозное содержание „Божественной комедии“ для нас
уже мертво». Это и значит: Данте умер для нас; только в ху¬
дожественном творчестве, в созерцании, он вечно жив и велик,
а в действии ничтожен. Это сказать о таком человеке, как Данте,
все равно что сказать: «Душу свою вынь из тела, веру из поэзии,
чтобы мы тебя приняли и прославили».
Все художественное творчество Данте, его созерцание, —
великолепные, золотые с драгоценными каменьями, ножны;
а в них простой стальной меч — действие. Тщательно хранятся
и славятся ножны, презрен и выкинут меч.
«В эту самую минуту, когда я пишу о нем, мне кажется, что
он смотрит на меня с высоты небес презрительным оком»*, —
говорит Боккачио, первый жизнеописатель Данте, верно почув¬
ствовав что-то несоизмеримое между тем, чем Данте кажется
людям в славе своей, и тем, что он есть.
Семь веков люди хулят и хвалят — судят Данте; но, может быть,
и он их судит судом более для них страшным, чем их — для него.
В том, что итальянцы хорошо называют «судьбою» Дан¬
те, fortuna, — громкая слава чередуется с глухим забвением.
В XVI веке появляется лишь в трех изданиях «Видение Дан¬
те», «Visione di Dante», потому что самое имя «Комедии» за¬
быто. «Слава его будет расти тем больше, чем меньше его чи¬
тают»4, — злорадствует Вольтер в XVIII веке**. «Может быть,
во всей Италии не найдется сейчас больше тридцати человек,
действительно читавших „Божественную комедию“»,— жа¬
луется Альфиери в начале XIX века. Если бы теперь оказалось
в Италии тридцать миллионов человек, читавших «Комедию»,
живому Данте вряд ли от этого было бы легче.
О ты, душа... идущая на небо,
Из милости утешь меня, скажи,
Откуда ты идешь и кто ты? —,
* Boccaccio. Vita de Dante, XII.
** Voltaire. Dictionnaire]. Philosophique], [v. Dante (le)]. — De Sanctis. Pagine
Dantesche, p. 161.
Воображаемое
47
спрашивает одна из теней на Святой Горе Чистилища, и Дан¬
те отвечает:
Кто я такой, не стоит говорить:
Еще мое не громко имя в мире*.
Имя Данте громко сейчас в мире, но кто он такой, все еще
люди не знают, ибо горькая «судьба» его, fortuna, — забвение
в славе.
Древние персы и мидяне, чтобы сохранить тела покойников
от тления, погружали их в мед®. Нечто подобное делают везде,
но больше всего в Италии, слишком усердные поклонники Дан¬
те. «Наш божественнейший соотечественник» (как будто мало
для похвалы кощунства — сравнить человека с Богом, — нуж¬
на еще превосходная степень): эта первая капля меда упала
на Данте в XVI веке, а в XX он уже весь с головой — в меду по¬
хвал**. Бедный Данте! Самого горького и живого из всех поэтов
люди сделали сладчайшим и мертвейшим из всех. Казни в аду
за чужие грехи он, может быть, слишком хорошо умел изобре¬
тать; но если был горд и чересчур жаден к тому, что люди на¬
зывают «славой» (был ли действительно так горд и так жаден
к славе, как это кажется, — еще вопрос), то злейшей казни, чем
эта за свой собственный грех, не изобрел бы и он.
Те, кто, лет семь, по смерти Данте, хотел вырыть кости его
из земли и сжечь за то, что он веровал будто бы не так, как учит
Церковь, — лучше знали его и уважали больше, чем те, кто,
через семь веков, славят его за истинную поэзию и презирают
за ложную веру.
Люди наших дней, счастливые или несчастные, но одина¬
ково, в обоих случаях, самоуверенные, никогда не сходившие
и не подымавшиеся по склонам земли, ведущим вниз и вверх,
в ад и в рай, не поймут Данте ни в жизни его, ни в творчестве.
Им нечего с ним делать так же, как и ему с ними.
В самом деле, что испытал бы среднеобразованный, средне¬
умный, среднечувствующий человек наших дней, если бы, ниче¬
го не зная о славе Данте, вынужден был прочесть 14000 стихов
«Комедии»? В лучшем случае, — то же, что на слишком долгой
* Burg. XIV, 10[-21].
** М. Scherillo. Alcuni capitoli della biografia di Dante, 1896, p. 437.
48
Д. С, МЕРЕЖКОВСКИЙ
панихидной службе по официально-дорогом покойнике; в худ¬
шем — убийственную, до вывиха челюстей зевающую скуку.
Разве лишь несколько стихов о Франческе да Римини, о Фа-
ринате и Уголино развлекло бы его, удивило, возмутило или оза¬
дачило своей необычайностью, несоизмеримостью со всем, что
он, средний человек, думает и чувствует. Но это не помешало бы
ему согласиться с Вольтером, что поэма эта — «нагромождение
варварских нелепостей»*, или с Ницше, что Данте — «поэтиче¬
ская гиена в гробах»**. А тем немногим, кто понял бы все-таки,
что Данте велик, это не помешало бы согласиться с Гёте, что «ве¬
личие Данте отвратительно и часто ужасно» *** ****.
Судя по тому, что сейчас происходит в мире, главной цели
своей — изменить души людей и судьбы мира — Данте не до¬
стиг: созерцатель без действия, Колумб без Америки, Лютер без
Реформации, Карл Маркс без революции, он и после смерти та¬
кой же, как при жизни, вечный изгнанник, нищий, одинокий,
отверженный и презренный всеми человек вне закона, трижды
приговоренный к смерти: «Многие... презирали не только меня
самого, но и все, что я сделал и мог бы еще сделать» ***** Это пре¬
зрение, быть может, тяготеет на нем, в посмертной славе его,
еще убийственнее, чем при жизни, в бесславии.
И все-таки слава Данте не тщетна: кто еще не совсем уверен,
что весь религиозный путь человечества ложен и пагубен, —
смутно чувствует, что здесь, около Данте, одно из тех святых
мест, о которых сказано: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо ме¬
сто, накоторомты стоишь, естьземлясвятая » *****; смутночувству-
ет, что на этом месте зарыто такое сокровище, что если люди его
найдут, то обогатятся нищие. Как бы Данте ни умирал для нас,
что-то в нем будет живо, пока дух человеческий жив.
Если отступившее от Христа человечество идет по верному
пути, Данте никогда не воскреснет; а если по неверному, — то,
кажется, день его воскресения сейчас ближе, чем когда-либо.
В людях уже пробуждается чувство беспокойства; если еще
* « Une amplification stupidement barbare ».
Nietzsche. Die Goetzendaemmerung. [Ф. Ницше. Сумерки идолов. Набеги
несвоевременного. I]
*** «Dantes widerwärtige, oft abscheuliche Großheit...». [Goethe. Annalen von
1821 // Goethes Sämtliche Werke. Bd. 30. Stuttgart-Berlin, 1940. S. 360].
**** Conv. 1,111,5.
***** Exod. III, 5. [Hex. 3:5]
Воображаемое 49
смутное и слабое сейчас оно усилится, то люди поймут, что за¬
блудились в том же «темном и диком лесу», в котором заблудил¬
ся и Данте перед сошествием в ад:
Столь горек был тот лес, что смерть немногим горше*.
Данте воскреснет, когда в людях возмутится и заговорит
еще немая сейчас, или уже заглушенная, не личная, а общая
совесть. Каждый человек в отдельности более или менее знает,
что такое совесть. Но соединения людей — государства, обще¬
ства, народы — этого не знают вовсе или не хотят знать; жизнь
человечества — всемирная история, чем дальше, тем бессовест¬
ней. Малые злодеи казнятся, великие — венчаются по гнусно¬
му правилу, началу всех человеческих низостей: «победителей
не судят». Рабское подчинение торжествующей силе, призна¬
ние силы правом, — вот против чего возмущается «свирепей¬
шим негодованием растерзанное сердце» Данте, saevissima
indignatione cor dilaceratimi**6. Нет такого земного величия
и славы, где Дантово каленое железо не настигло бы и не выжг¬
ло бы на лбу злодея позорного клейма.
«Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли
колеблются... Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь
все народы» (Пс. 81, 5-8). Это Данте сказал так, как никто не го¬
ворил после великих пророков Израиля.
Я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие
и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким
голосом, говоря: доколе, Владыка святый и истинный, не судишь
и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? (Откр. 6, 9-10).
Этот, потрясающий небо, вопль повторяет Данте на земле:
О, Господи! Когда же наконец
Увижу я Твое святое мщенье,
Что делает нам сладостным Твой гнев?***
В голосе Данте слышится, немолчный в веках, голос чело¬
веческой совести, заговорившей, как никогда, после распятой
на кресте Божественной Совести.
* Inf Л, 7.
** J. Symonds, Dante, 1891. [P. 140]
** Purg. XX, 94-96.
50
Д, С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Я не могу сказать, как я туда зашел,
Так полон я был смутным сном в тот миг,
Когда я верный путь уже покинул, —*
вспоминает Данте, как заблудился в темном диком лесу, ве¬
дущем в ад. Кажется иногда, что весь мир полон сейчас тем же
смутным сном, — как бы умирает во сне, чтобы сойти в ад. Если
суждено ему проснуться, то, может быть, в одном из первых,
разбудивших его, голосов он узнает голос воскресшего Данте.
Верно угадал Пифагор: миром правит Число; музыка сфер есть
божественная, в движении планет звучащая математика. К музы¬
ке сфер мы оглохли, но лучше Пифагора знаем, что правящие ми¬
ром основные законы механики, физики, химии, а может быть,
и биологии выражаются в математических символах-числах.
Символ войны — число Два. Два врага: два сословия, богатые
и бедные, — в экономике; два народа, свой и чужой, — в поли¬
тике; два начала, плоть и дух, — в этике; два мира, этот и тот, —
в метафизике; два бога, человек и Бог, — в религии. Всюду Два
и между Двумя — война бесконечная. Чтобы окончилась война,
нужно, чтобы Два соединились в Третьем: два класса — в наро¬
де, два народа — во всемирности, две этики — в святости, две ре¬
лигии, человеческая и божеская, — в Богочеловеческой. Всюду
два начала соединяются и примиряются в третьем так, что они
уже Одно — в Трех, и Три — в Одном. Это и значит: математиче¬
ский символ мира — число Три. Если правящее миром число —
Два, то мир есть то, что он сейчас: бесконечная война; а если —
Три, то мир будет в конце тем, чем был сначала, — миром.
«Нет, никогда не будет Три— Одно»,— возвещает миру,
устами Гёте, дух отступившего от Христа человечества, и мир
этому верит.
Ах, две души живут в моей груди!
Хочет одна от другой оторваться...
В грубом вожделенье, одна приникает к земле,
всеми трепетными членами жадно,
а другая рвется из пыли земной
к небесной отчизне**, —
* Inf. I, 7 [10-12].
** Goethe. Faust, I, Vor dem Tor. [Гете. Фауст. У ворот. 1112]
Воображаемое
51
возвещает миру тот же дух, устами Гёте-Фауста. Хочет душа
от души оторваться, и не может, и борется в смертном борении.
Это не Божественная комедия Трех, а человеческая трагедия
Двух. С Гёте-Фаустом, под знаком двух — числа войны, — дви¬
жется сейчас весь мир: куда, — мы знаем, или могли бы знать
по холодку, веющему нам уже прямо в лицо со дна пропасти.
Первый человек, на дне ее побывавший и только чудом спас¬
шийся, — Данте. То, что он там видел, он назвал словом, которое
сегодня кажется нам смешным и сказочным, но завтра может
оказаться страшно-действительным: Ад. Вся «Комедия» есть
не что иное, как остерегающий крик заблудившимся в «темном
и диком лесу», который ведет в Ад.
Это и есть цель всей жизни и творчества Данте: с гибельно¬
го пути, под знаком Двух, вернуть заблудившееся человече¬
ство на путь спасения, под знаком Трех. Вот почему сейчас, для
мира, погибнуть или спастись— значит сделать выбор: Гёте
или Данте; Два или Три. Только что люди это поймут, — Данте
воскреснет.
Найденные в пирамидах Древнего Египта семена пшеницы,
положенные туда за пять тысяч лет, если их посеять, прораста¬
ют и зеленеют свежей зеленью. Сила жизни, скрытая в Данте,
подобна такому пятитысячелетнему, пирамидному семени.
«Три— одно есть начало всех чудес», и этого, величайшего
из всех, — Вечной Любви, воскрешающей мертвых.
Спасти нас может вечная Любовь,
Пока росток надежды зеленеет...*
Счастлив, кто первый увидит в сердце Данте, певца бессмерт¬
ной надежды, этот зеленеющий росток вечной весны; счастлив,
кто первый скажет: «Данте воскрес».
Что это скоро будет — чувствуется в мире везде; но больше
всего на родине Данте. Кто он такой в первом и последнем ре¬
лигиозном существе своем, всемирно-историческом действии
Трех, — люди не знают и здесь, как нигде. Знают, чем был он
для Италии, но чем будет для мира, не знают. Все еще и здесь
живая душа его спит в мертвой славе очарованным сном, как
сказочная царевна в хрустальном гробу.
* Purg. Ill, 133[-135].
52
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Я пишу эти строки на одном из окружающих Флоренцию бла¬
женно-пустынных и райски-цветущих холмов Тосканы. Стоит
мне поднять глаза от написанных строк, чтобы увидеть ту зем¬
лю, о которой Данте говорил в изгнании: «Мир для меня отече¬
ство, как море для рыб, но, хотя я любил Флоренцию так, что
терплю несправедливое изгнание за то, что слишком любил ее,
все же нет для меня места в мире любезнее Флоренции»*.
О ней (Беатриче) говорит Любовь: «Смертное как может быть
таким прекрасным и чистым?»* ** «Как может земля быть такой
небесной?» — могла бы сказать Любовь и о земле Беатриче. Ка¬
жется, нет в мире более небесной земли, чем эта. Вечно будет на¬
поминать людям-изгнанникам об их небесной отчизне эта, самая
блаженная, и самая грустная, как будто с неба изгнанная и вечно
о небе тоскующая, земля. Только здесь и могла родиться величай¬
шая, какая только была в человеческом сердце, тоска земного из¬
гнания по небесной отчизне, — любовь Данте к Беатриче.
Цвет жемчуга в ее лице (Беатриче)***.
Тот же цвет и в лице ее земли. В серебристой серости этих
далеких, в солнечной мгле тающих, гор — исполинских жемчу¬
жин — цвет голубой, небесный, холодный, переливается в ро¬
зовый, теплый, земной. И в девственной нежности, с какою вол¬
нуется чистая линия гор на небе и с какой на земле волновалась
чистейшая линия женского тела, когда Беатриче шла по улице,
«венчанная и облеченная смирением»7, — та же незримая пре¬
лесть, как в музыке Дантовых о ней стихов:
«Amor che ne la mente mi ragiona».
«Любовь с моей душою говорит», —
Так сладко он запел, что и доныне
Звучит во мне та сладостная песнь****.
И будет звучать, пока жива в мире любовь.
«Так смиренно было лицо ее, что, казалось, говорило: всякого
мира я вижу начало», — вспоминает Данте первое видение Беа-
тричеумершей — бессмертной*****. Таксмиреннои лицоэтой земли,
De vulg. eloqu. I, VI, 3: «terris amenior locus quam Florentia non existât».
** V. N. XIX, canz. I. [43-44].
*** V N. XIX, canz. I.: «color di perle ha» [47].
**** Purg. II, 112[-114].
***** V. N. XXIII.
Воображаемое
53
что, кажется, хочет сказать: «Всякого мира я вижу начало». Даже
в эти страшные-страшные, черные дни, когда всюду в мире вой¬
на, — в этой земле, где родилась вечная Любовь, — вечный мир.
О, чужая — родная земля! Почему именно здесь я чувствую
больше, чем где-либо, что тоска по родине в сердце изгнанников
неутолима, — не хочет быть утолена? Почему я не знаю, луч¬
ше ли мне здесь, в этом раю почти родной земли, чем было бы
там, в аду совсем родной? И может ли земную родину заменить
даже небесная? Кажется, этого и Данте не знал, когда говорил:
«Больше всех людей я жалею тех, кто, томясь в изгнании, видит
отечество свое только во сне» *. Почему звучит в сердце моем эта
тихая, как плач ребенка во сне, жалоба Данте-изгнанника: «О,
народ мой! Что я тебе сделал?»**
Это во сне, а наяву все муки изгнания — ничто, лишь бы
и мне сказать, как Данте говорит от лица всех изгнанников, бо¬
рющихся за живую душу родины — свободу:
Пусть презренны мы ныне и гонимы, —
Наступит час, когда, в святом бою,
Над миром вновь заблещут эти копья...
Пусть жалкий суд людей иль сила рока
Цвет белый черным делает для мира, —
Пасть с добрыми в бою хвалы достойно***.
Только ли случай, или нечто большее, — то, что именно
в эти, страшные для всего человечества, дни, может быть, канун
последней борьбы его за свою живую душу, — свободу, — рус¬
ский человек пишет о Данте, нищий — о нищем, презренный
всеми — о презренном, изгнанный — об изгнанном, осужден¬
ный на смерть — об осужденном?
Никто из людей европейского Запада не поймет сейчас того,
что я скажу. Но все поймут, когда увидят, — и, может быть, ско¬
ро, — что в судьбах русского Востока решаются и судьбы евро¬
пейского Запада.
Самый западный из западных людей, почти ничего не знав¬
ший и не желавший знать о Востоке, видевший все на Западе,
* De vulg. eloqu. Il, VI, 5.
'* L. Bruni. Vita di Dante (Solerti, p. 103): «Popule mee, quid feci tibi?»
Rime CIV, 70-80.
54
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
а к Востоку слепой, — Данте, кончив главное дело всей жизни
своей, — «Комедию», последним видением Трех, — умер — ус¬
нул, чтобы проснуться в вечности, на пороге Востока — в Ра¬
венне, где умер Восток, где Византийская Восточная Империя
кончилась, и начиналась Западная, Римская8.
Если в жизни таких людей, как Данте, нет ничего бессмыс¬
ленно-случайного, но все необходимо-значительно, то и это, как
все: к Западу обращено лицо Данте во времени, а в вечности —
к Востоку. Данте умер на рубеже Востока и Запада, именно там,
где должен был умереть первый возвеститель объединяющей
народы, Западно-Восточной всемирности. Если так, то впервые
он понят и принят будет на обращенном к Западу Востоке, —
в будущей свободной России.
Только там, где, ища свободы без Бога и против Бога, люди
впали в рабство, невиданное от начала мира, поймут они, что
значат слова Данте: «Величайший дар Божий людям — свобо¬
да... ибо только в свободе мы уже здесь, на земле, счастливы, как
люди, и будем на небе блаженны, как боги»*.
Только там, в будущей свободной России, поймут люди, что
значит: «Всех чудес начало есть Три— Одно», и когда пой¬
мут, — начнется, предсказанное Данте, всемирно-историческое
действие Трех.
Жизнь Данте
I.
Новая жизнь начинается
«“Incipit vita nova”, — перед этим заголовком в книге памя¬
ти моей не многое можно прочесть», — вспоминает Данте о сво¬
ем втором рождении, бывшем через девять лет после первого,
потому что и он, как все дети Божии, родился дважды: в первый
раз от плоти, а во второй — от Духа**.
Если кто не родится... от Духа, не может войти в Царствие
Божье. (Ио. 3, 5.)
Но чтобы понять второе рождение, надо знать и первое, а это
очень трудно: Данте, живший во времени, так же презрен людь¬
ми и забыт, как живущий в вечности.
* Mon. I, хи, 6.
** V.N.I.
Воображаемое 55
Малым кажется великий Данте перед Величайшим из сынов
человеческих, но участь обоих в забвении, Иисуса Неизвестно¬
го9 — неизвестного Данте, — одна. Только едва промелькнув¬
шая, черная на белой пыли дороги тень — человеческая жизнь
Иисуса; и жизнь Данте — такая же тень.
...Я родился и вырос,
В великом городе, у вод прекрасных Арно*.
В духе был город велик, но вещественно мал: Флоренция
Дантовых дней раз в пятнадцать меньше нынешней; городок
тысяч в тридцать жителей, — жалкий поселок по сравнению
с великими городами наших дней**.
Тесная, в третьей и последней, при жизни Данте, ограде
зубчатых стен замкнутая, сжатая, как нераспустившийся цве¬
ток, та водяная лилия Арнских болот, сначала белая, а потом,
от льющейся в братоубийственных войнах, крови сынов своих,
красная, или от золота червонцев, червонная лилия, что расцве¬
тет на ее родословном щите, — Флоренция была целомудрен¬
но-чистою, как тринадцатилетняя девочка, уже влюбленная,
но сама того не знающая, или как ранняя, еще холодная, безли¬
ственная и безуханная весна.
Стыдливая и трезвая, в те дни,
Флоренция, в ограде стен старинных,
С чьих башен несся мерный бой часов,
Покоилась еще в глубоком мире.
Еще носил Беллинчионе Берти
Свой пояс, кожаный и костяной;
Еще его супруга отходила
От зеркала, с некрашеным лицом...
Еще довольствовались жены прялкой.
Счастливые! спокойны были, зная,
Что их могила ждет в родной земле,
И что на брачном ложе не покинут
Их, для французских ярмарок, мужья.
Одна, качая колыбель младенца,
* Inf. XXIII, 94[-95].
** E. del Cerro. Vita di Dante, p. 2.
56
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Баюкала его родною песнью,
Что радует отца и мать; другая
С веретена кудель щипала, вспоминая
О славе Трои, Фьезоле и Рима*.
Данте обманывает себя в этих стихах, волшебным зеркалом
памяти: мира не знала Флоренция и в те дни, которые кажут¬
ся ему такими счастливыми. Годы мира сменялись веками
братоубийственных войн, что запечатлелось и на внешнем об¬
лике города: темными, острыми башнями весь ощетинился,
как еж — иглами. «Город башен», città turrita**, — в этом име¬
ни Флоренции ее душа— война «разделенного города», città
partita***. Самых высоких, подоблачных башен, вместе с коло¬
кольнями, двести, а меньших — почти столько же, сколько до¬
мов, потому что каждый дом, сложенный из огромных, точно
руками исполинов обтесанных, каменных глыб, с узкими, как
щели бойниц, окнами, с обитыми железом дверями и с торча¬
щими из стен, дубовыми бревнами для спешной кладки подъ¬
емных мостов, которые, на железных цепях, перекидывались
из дома к дому, едва начинался уличный бой, — почти каждый
дом был готовой к междуусобной войне, крепостною башнею****.
Данте родился в одном из таких домов, в древнейшем сердце
Флоренции, куда сошли с горы Фьезоле первые основатели горо¬
да, римляне10. Там, на маленькой площади, у церкви Сан-Мар-
тино-дель-Весково, рядом с городскими воротами Сан-Пьетро,
у самого входа в Старый Рынок, на скрещении тесных и темных
улочек, находилось старое гнездо Алигьери11: должно быть, не¬
сколько домов разной высоты, под разными крышами, слеплен¬
ных в целое подворье, или усадьбу, подобно слоям тех грибных
наростов, что лепятся на гниющей коре старых деревьев*****.
Данте был первенец мессера Герардо Алигьеро ди Беллинчи-
оне (Gherardo Alighiero di Bellincione) и монны Беллы Габриэл¬
лы, неизвестного рода, можетбыть, ДельиАбати (degli Abati)******.
* Par. XV, 97[-99; 112-114; 117-126].
** L. Prieur. Dante et l’ordre social (1923).
*** Inf. VI, 61.
**** R. Davidsohn. Firenze ai tempi di Dante (1929), p. 452.
***** L. Bruni. Vita di Dante (Solerti, p. 98).
****** G. L. Passerini. Vita di Dante (1929), p. 37.
Воображаемое
57
Памятным остался только год рождения, 1265-й, а день —
забыт даже ближайшими к Данте по крови людьми, двумя сы¬
новьями, Пьетро и Джакопо, — первыми, но почти немыми,
свидетелями жизни его. Только по астрономическим воспоми¬
наньям самого Данте о положении солнца в тот день, когда он
«в первый раз вдохнул тосканский воздух»*, можно догадать¬
ся, что он родился между 18 мая, вступлением солнца под знак
Близнецов, и 17 июня, когда оно из-под этого знака вышло**.
Имя, данное при купели, новорожденному, — Durante, что
значит: «Терпеливый», «Выносливый», и забытое для ласко¬
вого, уменьшительного «Dante», — оказалось верным и вещим
для судеб Данте.
Древний знатный род Алигьери — от рода Элизеев, кажет¬
ся, римских выходцев во дни Карла Великого, — захудал, обе¬
днел и впал в ничтожество***. В списке знатных, флорентийских,
гвельфовских и гибеллиновских родов он отсутствует****. Может
быть, уже в те дни, когда родился Данте, принадлежал этот род
не к большой рыцарской знати, а к малой, piccola nobilità, —
к тому среднему сословию, которому суждено было выдвинуть¬
ся вперед и занять место древней знати только впоследствии*****.
Данте не мог не видеть, как потускнело «золотое крыло
в лазурном поле», на родословном щите Алигьери******, и хорошо
понимал, что слишком гордиться знатностью рода ему уже нель¬
зя; понимал и то, что гордиться славою предков глупо и смеш¬
но вообще, а такому человеку, как он, особенно, — потому что
«благородство человека — не в предках его, а в нем самом» ********
Но и понимая это, все-таки гордился.
Я не дивлюсь тому, что люди на земле
Гордятся жалким благородством крови:
ведь и сам гордился им на небе, —
* Par. XXII, 109 ff.
** del Cerro, p. 10.
*** G. Villani, Chron[ica] (Solerti, p. 3). — G. Subodori. Vita giovanile di Dante
(1906), p. 10.
**** F. X. Kraus. Dante[: sein Leben und sein Werk] (1897), p. 23.
***** M. Barbi. Dante[, vita, opera e fortuna] (1933), p. 7. — H. Hauvette.
Dante[, introduction à l’étude de la Divine Comédie] (1919), p. 88.
****** Vellutello. Commento alla D[ivina] C[ommedia]. ed. 1564 (Solerti, p. 203).
******* Cono. IV, 11.
******** Par. XVI, 1 [-6].
58
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
кается он, после встречи, в раю, с великим прапрадедом сво¬
им, Качьягвидой Крестоносцем. Чувствует, или хотел бы чув¬
ствовать, в крови своей «ожившее святое семя» тех древних
римлян, что основали Флоренцию*. Но римское происхождение
Алигьери «очень сомнительно»,— замечает жизнеописатель
Данте, Леонардо Бруни**.
Может быть, далекою славою предков Данте хочет прикрыть
ближайший стыд отца. «В сыне своем ему суждено было просла¬
виться более, чем в себе самом», — довольно зло замечает Бок-
качио***. Это значит: единственноедоблестное дело Алигьери-от¬
ца — рождение такого сына, как Данте. Будучи Гвельфского
рода12, он, за пять лет до рождения Данте, был изгнан из Фло¬
ренции, со всеми остальными Гвельфами, но подозрительно
скоро, прощенный, вернулся на родину: так, обыкновенно,
прощают, в борьбе политических станов, если не изменников,
то людей малодушных.
Кажется, неудачный юрисконсульт или нотарий, сер Герар-
до пытался умножить свое небольшое наследственное имение
отдачей денег в рост и был, если не «ростовщиком», в точном
смысле слова, то чем-то вроде «менялы» или «биржевого макле¬
ра» ****. Данте, может быть, думает об отце, когда говорит о нена¬
вистной ему породе новых денежных дельцов:
...Всякий флорентиец, от рожденья,
Меняла или торгаш*****.
О нем же думает он, может быть, и в преддверии ада, где
мучаются «малодушные», ignavi, «чья жизнь была без славы
и стыда», «не сделавшие выбора между Богом и дьяволом»,
«презренные и никогда не жившие» ******.
По некоторым свидетельствам, впрочем, неясным, — сер Ге-
рардо, за какие-то темные денежные дела, был посажен в тюрь¬
му, чем навсегда запятнал свою память*******.
* Inf. XV, [76-78].
** L. Bruni. (Solerti, р. 98).
*** G. Boccaccio. Vita di Dante (Solerti, p. 13).
**** G. Salvadori. [?], p. 121 [?]. — M. Barbi, p. 14.
***** Par. XVI, 61.
****** Inf.lll, 61 ff.
******* G. Salvadori. [?], p. 12 [?].
Воображаемое
59
Данте был маленьким мальчиком, когда впервые, почти
на его глазах, пролита была, в каиновом братоубийстве, че¬
ловеческая кровь: дядя его, брат отца, ЭКери дэль Бэлло (Gerì
del Bello), убив флорентийского гражданина из рода Саккетти,
злодея и предателя, жившего в соседнем доме, сам вскоре был
злодейски и предательски убит. Старшему в роде, серу Герар-
до, брату убитого, должно было, по закону «кровавой мести»,
vendetta, отомстить за брата; а так как это не было сделано,
то второй вечный позор пал на весь род Алигьери*.
Данте встретит, в аду, тень Жери дэль Бэлло.
Он издали мне пальцем погрозил;
И я сказал учителю: «За смерть
Не отомщенную меня он презирает»**.
Бывший друг, сосед и родственник Данте, Форезе Донати,
в бранном сонете, жестоко обличает этот позор отца и сына:
...Тебя я знаю,
Сын Алигьери; ты отцу подобен.
Такой же трус презреннейший, как он***.
Зная исступленную, иногда почти «сатанинскую», гордыню
Данте, можно себе представить, с каким чувством к отцу, тогда
уже покойному, он должен был, молча, проглотить обиду. Вот,
может быть, почему никогда, ни в одной из книг своих, ни сло¬
ва не говорит он об отце: это молчание красноречивее всего, что
он мог бы сказать. Страшен сын, проклинающий отца; но еще
страшнее — молча его презирающий.
В небе Марса, увидев живое светило, «топаз живой» ****, — ве¬
ликого прапрадеда своего, Качьягвидо, Данте приветствует его,
со слезами гордой радости:
Вы — мой отец*****.
* М. Scherillo, р. 93.
** Inf. XXIX, [26; 31-32].
*** Rime 78, 4. — М. Scherillo, р. 12.
Par. XV, 85.
Par. XVI, 16.
60
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Это значит: «Мой отец, настоящий, единственный, — вы;
другого я знать не хочу».
О, ветвь моя... я корнем был твоим!*
отвечает ему тот.
Какою гордостью, должно быть, блестели глаза правнука,
когда Качьягвидо ему говорил:
Конраду императору служа,
Я доблестью был так ему любезен,
Что в рыцари меня он посвятил;
И с ним ходил я во Святую Землю,
Где мучеников принял я венец**.
Мать Данте умерла, когда ему было лет шесть, родив, после него,
еще двух дочерей. Судя по тому, как Данте, в «Новой жизни», вспо¬
минает об одной из них, брат и сестра нежно любили друг друга***.
Сер Герардо, после пяти лет вдовства, женился второй раз на монне
Лаппе ди Чалуффи (Lappa di Cialuffl)****. Если бы Данте не помнил
и не любил матери с благоговейной нежностью, то не повторил бы
устами Вергилия, о себе и о ней, странно не боясь, или не сознавая
кощунства, — того, что сказано о Христе и Божьей Матери:
.. .Благословенна
Носившая тебя во чреве*****.
В детстве неутоленную, и потом уже ничем не утолимую, жа¬
жду материнской любви Данте будет чувствовать всю жизнь,
и чего не нашел в этом мире, будет искать в том. В нежности
«сладчайшего отца» его, Вергилия, будет сниться ему мате¬
ринская нежность, как умирающему от жажды снится вода******.
В страшные минуты неземного странствия прибегает он к Вер¬
гилию с таким же доверием, с каким
* Par. XV, 89.
** Par. XV, 139[-141 ; 148].
*** V. N. XXIII.
**** М. Scherillo, р. 28. — G. L. Passerini, р. 37, 51.
““'Inf. Vili, [44-J45.
****** Purg. XXX, 50.
Воображаемое
61
Дитя в испуге,
Или в печали, к матери бежит*.
В безднах ада, когда гонятся за ним разъяренные дьяволы,
чтобы унести, может быть, туда, откуда нет возврата, Вергилий
спасает его:
Взяв за руки меня, он так бежал,
Как ночью, мать, проснувшись от пожара,
И спящее дитя схватив, бежит**.
«Господи... не смирял ли я и не успокаивал ли я души моей,
как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне,
как дитя, отнятое от груди» (Пс. 130,1-2): это Данте почувство¬
вал с самого начала жизни и будет чувствовать всю жизнь.
Кем он оставлен в большем сиротстве — умершей матерью,
или живым отцом, — этого он, вероятно, и сам хорошенько
не знает. Стыдный отец хуже мертвого. Начал жизнь тоской
по отцу, — кончит ее тоской по отечеству; начал сиротой, —
кончит изгнанником. Будет чувствовать всегда свое земное
сиротство, как неземную обиду, — одиночество, покинутость,
отверженность, изгнание из мира.
«Я ушел туда, где мог плакать, никем не услышанный,
и, плача, я заснул, как маленький прибитый ребенок», — вспо¬
минает он, в юности, об одной из своих горчайших обид***.
Вот что значит «гордая душа» — у Данте****: миром «обижен¬
ная», — не презирающая мира, а миром презренная душа*****.
II.
Древнее пламя
Темные башни Флоренции еще темнее, на светлом золоте
утра. Самая темная изо всех та, что возвышается над маленькой
площадью Сан-Мартино-дель-Весково, в двух шагах от дверей
дома Алигьери, — четырехугольная, тяжелая, мрачная, точ¬
*Purg. XXX, [44-45].
** Inf. XXIII, 37[-39].
*** V. N. XII.
**** Inf. Vili, 44.
***** Inf. N, 109.
62
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
но тюремная, башня дэлла Кастанья*. Каждое утро, на восходе
солнца, тянется черная, длинная тень от нее по тесной улочке
Санта Маргерита, соединяющей дом, где живет девятилетний
мальчик Данте, сын бедного бесславного менялы сера Герар-
до, — с домом восьмилетней девочки, Биче, дочери вельможи,
купца и тоже менялы, но славного и богатого, Фолько Портина-
ри. Сто шагов от дома к дому, или, на языке пифагорейских —
дантовских чисел: девяносто девять — трижды тридцать три.
Врежется в живую душу Данте это число, мертвое для всех и ни¬
кому непонятное, — Три, — как в живое тело, в живое сердце,
врезается нож.
В черной от башни тени, на белую площадь утренним солн¬
цем откинутой, плачет маленький мальчик от земного сирот¬
ства, как от неземной обиды; и вдруг перестает плакать, когда
в щели, между камнями башни, под лучом солнца, вспыхивает
красный весенний цветок, точно живое алое пламя, или капля
живой крови. Глядя на него, все чего-то ждет, или что-то вспо¬
минает, и не может вспомнить. Вдруг вспомнил: «Новая Жизнь
начинается», incipit Vita Nova, — не только для него, но и для
всего мира, — Новая Любовь, Новая Весна.
15 мая 1275 года, произошло событие, величайшее в жизни
Данте, и одно из величайших в жизни всего человечества.
«Девять раз (девять — трижды Три: это главное, что он пой¬
мет уже потом, через девять лет, и что врежется в сердце его,
как огненный меч Серафима) — девять раз, от моего рождения,
Небо Света возвращалось почти к той же самой точке своего
круговращения, — когда явилась мне впервые... облеченная
в одежду смиренного и благородного цвета, как бы крови, опоя¬
санная и венчанная так, как подобало юнейшему возрасту ее, —
Лучезарная Дама души моей, называвшаяся многими, не знав¬
шими настоящего имени ее, — Беатриче» **.
Вспыхнул под лучом солнца, в щели камней, красный весен¬
ний цветок, как живое пламя или капля живой крови: вот чего
он ждал, что хотел и не мог вспомнить.
«... И я сказал: вот бог, сильнейший меня; он приходит, что¬
бы мною овладеть » ***. Этого не мог бы сказать, ни даже подумать,
* Passerini, р. 11, 50; Prieur, р. 47.
** V, N, II.
V.N.I1.
Воображаемое 63
девятилетний мальчик, но мог почувствовать великую, боже¬
ственную силу мира — Любовь.
Эта «Лучезарная Дама», gloriosa donna, — восьмилетняя де¬
вочка, Биче Портинари, — для тех, кто не знает ее настоящего,
неизреченного имени. Но девятилетний мальчик, Данте Али¬
гьери, узнал — вспомнил Ее, а может быть, и Она его узнала.
Вспомнили — узнали оба то, что было и будет в вечности.
В этой первой их встрече, земной, произошло то же, что прои¬
зойдет и в последней, небесной: та же будет на Ней и тогда «одежда
алая, как живое пламя»*, — живая кровь (что в земном теле —
кровь, то в небесном — пламя); так же узнает он Ее и тогда:
И после стольких, стольких лет разлуки,
В которые отвыкла умирать
Душа моя, в блаженстве, перед Нею,
Я, прежде, чем Ее мои глаза
Увидели, — уже по тайной силе,
Что исходила от Нее, — у знал,
Какую все еще имеет власть
Моя любовь к Ней, древняя, как мир.
Я потрясен был и теперь, как в детстве,
Когда ее увидел в первый раз;
И, обратясь к Вергилию, с таким же
Доверием, с каким дитя, в испуге
Или в печали, к матери бежит, —
Я так сказал ему: «Я весь дрожу,
Вся кровь моя оледенела в жилах;
Я древнюю любовь мою узнал» **.
Нет никакого сомнения, что Данте, говоря о себе устами Бе¬
атриче:
Он в жизни новой был таким,
Что мог бы в ней великого достигнуть, —***
связывает эти две встречи с Нею, — первую, земную, в «Но¬
вой жизни», и последнюю, небесную, в «Комедии»: это будет
* Purg. XXX, 33.
** Purg. XXX 34.
Purg. XXX, 115.
64
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
на небе, потому что было на земле; будет всегда и для всех, в веч¬
ности, потому что было для него однажды, во времени, — в та¬
кую-то минуту, в такой-то час, такого-то дня: 15 мая 1275 года
от P. X., 10-го — от рождения Данте.
Как это ни удивительно и ни мало вероятно для нас, нет со¬
мнения, что девятилетний мальчик, Данте, был, в самом деле,
влюблен в восьмилетнюю девочку, Биче.
Едва девятое круговращенье солнца
Исполни л ося в небе надо мной,
Как я уже любил*.
К девятилетнему мальчику пришла, в самом деле, восьмилет¬
няя девочка, «с тем огнем», в котором он «всегда будет гореть».
Первый ожог этого огня он почувствовал не только в душе,
но и в теле, как чувствует его пораженный молнией.
В тот день, когда она явилась мне...
Я был еще ребенком, но внезапно
Такую новую узнал я страсть...
Что пал на землю, в сердце пораженный,
Как молнией**.
«Что за лицо у бога Любви?» — спрашивает Платон и отве¬
чает: «молниеносное», opsis astraptousa13. То же лицо и у Анге¬
ла, явившегося женам у гроба воскресшего Господа: «было лицо
его, как молния» (Мт. 28:3).
Данте мог бы сказать, уже в день той первой встречи с Нею,
как скажет потом, через сорок лет:
Я древнюю любовь мою узнал.
Между этими двумя встречами, земной и небесной, вся его
жизнь — песнь Беатриче:
С тех юных дней, как я ее увидел
Впервые на земле, ей песнь моя,
* Rime 111.
** Rime 67, 57.
Воображаемое
65
До этого последнего виденья,
Не прерывалась никогда*.
Это глубоко и верно понял Боккачио: «С того дня, образ ее...
уже никогда, во всю жизнь не отступал от него»**.
Может быть, главное для Данте блаженство в этой первой
встрече — то, что кончилось вдруг его земное сиротство — незем¬
ная обида, и что снова нашел он потерянную мать. Девятилетний
мальчик любит восьмилетнюю девочку, « Лучезарную Даму души
своей», как Сестру— Невесту— Мать, одну в Трех. Сердце его
обожгла — и след ожога навсегда в нем останется — молния Трех.
III.
Два вместо Трех
Данте родился под созвездием Близнецов. Два Близнеца
были на небе, два согласно-противоположных Двойника; те же
Два будут и на земле в душе самого Данте: Вера и Знание; и душа
его между ними разделится надвое.
О, чудное созвездье Близнецов,
О, Свет могучий, весь мои дар, я знаю,
Каков бы ни был он, я принял от тебя...
Под знаменьем твоим я родился
И в первый раз вдохнул тосканский воздух.
Потом, когда вступил я в звездные колеса
Здесь, в высоте вращающихся сфер, —
Твоя назначена была мне область.
Тебя же, ныне, воздыхая снова,
Душа моя благоговейно молит:
Подай мне силу кончить трудный путь!***
Надо будет Данте пройти до конца, под знаком Двух, не толь¬
ко на земле, но и на небе, весь «трудный путь» разделения, что¬
бы достигнуть соединения под знаком Трех.
* Par. XXX, 28.
** Boccaccio (Solerti, р. 17).
** Par. XXII, 112.
66
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Мудрым звездочетам тех дней было известно, что рожденные
под звездным знаком Близнецов предназначены к великому
знанию.
Коль будешь верен ты своей звезде,
То дверь свою тебе откроет Слава, —*
предскажет и Брунетто Латини, учитель, ученику своему,
Данте, вероятно, потому, что манит и самого Данте слава не ве¬
ликого поэта, а великого ученого: не Гомера, новых песен твор¬
ца, а Улисса, открывателя новых земель или «никем, никогда
еще не испытанных истин», по чудному слову Данте**; слава
не тех, кто чувствует и говорит, а тех, кто знает и делает. Так
редка эта слава, и так необычайна, что он и сейчас, через семь
веков, все еще ее не достиг.
Кажется, Данте был несправедлив к отцу. Сделаться вели¬
ким ученым он не мог бы, если бы для этого не было заложено
в нем основания с раннего детства и юности. Школьное учение,
в те дни, когда, по свидетельству Боккачио, «науки были совер¬
шенно покинуты», стоило немалых денег***. Если же верно сви¬
детельство Бруни, что Данте, «с раннего детства был воспитан
в свободных науках» ****, то это могло быть лишь потому, что сер
Алигьеро, хотя и «меняла-торгаш», подобно всем флорентий¬
цам, — денег не жалел на учение сына: значит, любил его и хо¬
тел ему добра. И если мы, чужие люди, через семь веков, можем
ему за это многое простить, то сын — тем более. Но Данте отцу
не простил: он вообще не умел или не знал, что умеет прощать.
Первыми книгами, в слабых, детских руках его, были, ве¬
роятно, тяжеловесные рукописные учебники Доната и При-
сциллиана: «Основание искусства грамматики»*****, а первыми
учителями — иноки францисканской обители Санта-Кроче
14, находившейся в ближайшем соседстве с домами Алигьери:
здесь была одна из двух главных во Флоренции детских школ ; ******
другая была в доминиканской обители Санта-Мария-Новелла15.
Inf. XV, 55.
Mon. 1,1.
Scherillo, p. 499.
L. Bruni (Solerti, p. 99).
Scherillo, p. 450.
G. Salvadori, p. 14.
****
*****
******
Воображаемое
67
В школе Санта-Кроче, вероятно, и посвящен был отрок Данте
в премудрость семи наук схоластической «Тройни и Четверни»,
Тривии и Квадривии: в ту входили грамматика, риторика и диа¬
лектика; в эту — арифметика, геометрия, музыка и астрономия*.
Большая часть этих наук была лишь варварским полуневеже¬
ством, кладбищем древнеэллинских знаний, высохшим колод¬
цем, камнем вместо хлеба. Хлеб нашел Данте не во многих мерт¬
вых книгах, а в единственной живой. «Будучи отроком, он уже
влюбился в Священное Писание», — вспоминает один из надеж¬
нейших, потому что ближайших ко времени Данте, истолковате¬
лей «Комедии»**. Так же, как в маленькую девочку Биче, «влю¬
бился» он и в великую, древнюю Книгу. «Данте, говорят, был
в ранней юности послушником в братстве св. Франциска, но по¬
том оставил его», — вспоминает другой, позднейший, истолкова¬
тель***. Раньше семнадцати лет Данте, по уставу Братства, не мог
принять пострига; но думать о том мог, конечно, и раньше.
Я был тогда веревкой опоясан
И думал ею изловить Пантеру
С пятнистой шкурой, —
(сладострастную Похоть), — вспоминает сам Данте, в Аду,
может быть, о той веревке Нищих Братьев, которую носил, или
о которой мечтал, с ранней юности****.
Судя по тому, что впоследствии он должен был всему переу¬
чиваться, в школе он учился плохо. Кажется, главная его наука
была в вещих снах наяву, в «ясновидениях». — «Многое я уже
тогдавиделкакбывосне» *****. —«Данте...виделвсе», —почудно-
му слову Фр. Саккетти ******16. Истинная наука есть «не узнавание,
а воспоминание, anamnêsis»17, — это слово Платона лучше всех
людей, кроме святых, понял бы Данте; узнает — вспоминает
он, только в самую глухую ночь, когда
* Cono. II, 13.
** F. Buti (ed. Gianini), 2, 735.
Landino, 16, 106.
**** Inf. XVI, 106
***** Сопи. II, 12.
****** F. Sacchetti. Novella 114: Dante che tutto vedea.
68
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Густеет мрак, как хаос на водах,
Беспамятство, как Атлас, давит сушу;
Лишь Музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах*18, —
душу еще не рожденной, но уже зачатой музы Данте. — «Я
уже тогда сам научился говорить стихами», — вспомнит он
об этих пророческих снах. Учится в них говорить «сладкие речи
любви»**.
Первый светский учитель Данте, не в школе, а в жизни, —
самый ранний гуманист, Брунетто Латини19, консул в цехе су-,
дей и нотариев, Государственный канцлер Флорентийской Ком¬
муны, сначала посланник, а потом один из шести верховных
сановников, Приоров; «великий философ и оратор», по мнению
тогдашних людей, а по нашему, — ничтожный сочинитель двух
огромных и скучнейших «Сокровищ», Tesoro — одного на фран¬
цузском языке, другого — на итальянском, — в которых соло¬
ма хочет казаться золотом***. «Он первый очистил наших фло¬
рентийцев от коры невежества и научил их хорошо говорить
и управлять Республикой, по законам политики», — славит его
летописец тех дней Джиованни Ви л лани, только с одной оговор¬
кой: «Слишком был он мирским человеком»****.
Немножечко мирскими
Прослыли мы в те дни, —
признается и сам Брунетто *****. Что это значит, объяснит он, по¬
каявшись на старости лет, когда и черт становится монахом:
И в Бога я не верил,
И церкви я не чтил,
Словами и делами
Я оскорблял ее******.
Тютчев. [Видение. // Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений: В 2 т.
М., 1994. T. 1. С. 138]
** V N. III. — М. Barbi, р. 13
*** М. Paleologue. Dante (1909), р. 225 — Scherillo, р. 144.
**** G. Villani, Cron. Vili, 10.
***** Scherillo, p. 134.
****** TesorettoN. 2520.
Воображаемое
69
Больше всего оскорблял тем пороком, о котором скажет Ари¬
осто:
Мало есть ученых, в наши дни, без этого порока,
за который был вынужден Бог
опустошить Содом и Гоморру*.
Слишком усердно подражал Брунетто великим образцам
языческой древности; слишком нравились ему отроки с деви¬
ческой прелестью лиц, каких много было тогда во Флоренции,
каким был и Данте, судя по Джиоттову образу над алтарем в ча¬
совне Барджелло20 (лет в пятнадцать, когда, вероятно, зазнал
Данте сера Брунетто, эта девическая, почти ангельская, пре¬
лесть Дантова лица могла быть еще пленительней, чем в позд¬
нейшие годы, когда писана с него икона-портрет Джиотто).
«Вот связался черт с младенцем!» — посмеивались, должно
быть, знавшие вкусы Брунетто над удивительной дружбой вели¬
кого сановника с маленьким школьником. Думал ли старый грехо¬
водник сделать Данте для себя тем же, чем, в Платоновом «Пире»,
хочет быть Алкивиад для Сократа? Если и думал, то мальчик это¬
го не знал; не узнает, или не захочет знать, и взрослый человек.
Но о смертном грехе своего любимого учителя Данте знал так не¬
сомненно, что ни искреннее, кажется, хотя и позднее, раскаяние
грешника, ни сыновне-почтительная любовь к учителю не по¬
мешают ему осудить его на седьмой круг ада, где он его и увидит
в сонме вечно бегающих, под огненно-серным дождем, содомитов**.
Когда ко мне он руки протянул,
Я обожженное лицо его увидел, —
жалкое, коричнево-красное, маленькое, черепку обожженно¬
му подобное, личико увидел, и тотчас же узнал:
О, вы ли это, сер Брунетто, здесь?***
Ariosto, Sat. VI:
Senza quel vizio son pochi umanisti,
Che fe a Dio forza, non che persuase
Di far Gomorra e i suoi vicini tristi.
Tesoretto V, 2849. — Scherillo, p. 141.
*** Inf. XV, 25.
70
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
В этом удивленном возгласе слышится только бесконечная
жалость, а за нею, может быть, и странная легкость, с какой
ученик прощает смертный грех учителю, или даже совсем о нем
забывает.
Запечатлен в душе моей доныне
Ваш дорогой, любезный, отчий лик.
Тому меня вы первый научили,
Как человек становится бессмертным*.
Два бессмертья: одно — на небе, то, которому учат иноки Сан¬
та-Кроче; другое— на земле, то, которому учит сер Брунетто,
«мирской человек». Надо будет отроку Данте сделать выбор между
этими двумя бессмертьями, —двумя путями, —вслед за св. Фран¬
циском Ассизским, или за «божественным Вергилием».
Если же он выбора не сделает, то, прежде, чем это скажет,
уже почувствует: «есть в душе моей разделение», — между дву¬
мя Близнецами, двумя Двойниками, — Знанием и Верой**.
Но это «разделение души» на две половины, земную и небес¬
ную, — только внизу, а наверху — соединяющий небо и землю
чистейший образ Ее, Беатриче, надо всей его жизнью, ровным
светом горящий, как тихое пламя — вечная тихая молния Трех.
«С этого дня (первой с нею встречи)... бог Любви воцарился
в душе моей так... что я вынужден был исполнять все его жела¬
ния. Много раз повелевал он мне увидеть этого юнейшего Анге¬
ла. Вот почему, в детстве, я часто искал ее увидеть, и видел»***.
Может быть, не только видел, но и говорил с нею, в той длин¬
ной, черной тени на белую площадь от башни делла Кастанья,
утренним солнцем, откинутой. «С раннего детства ты был уж
Ее», — напоминает ему бог Любви, может быть, об этих детских
свиданьях****. О них, может быть, вспомнит и сам Данте:
Не вышел я из отроческих лет,
Когда уже Ее нездешней силой
Был поражен*****.
* In/. XV, 82.
** Conv. II, 6.
*** EN. IL
**** V. N. XII.
***** Purg. XXX, 42.
Воображаемое
71
И уж наверное, вспомнит о них Беатриче в страшном суде
над ним, павшим так низко, что ничем нельзя будет спасти его,
кроме чуда:
Недолго я могла очарованьем
Невинного лица и детских глаз
Вести его по верному пути*.
Знал ли двенадцатилетний мальчик, Данте, что с ним дела¬
ют, или что с ним делается, когда 9 февраля 1277 года (это пер¬
вая из немногих точек в жизни его, освещенная полным светом
истории) заключен был у нотариуса письменный договор меж¬
ду сером Алигьеро и его ближайшим соседом, Манетто Донати,
о будущем браке Данте с дочерью Манетто, Джеммой? Данте
знал ее давно, может быть, раньше, чем Биче Портинари, по¬
тому что они жили почти под одною кровлей, в двух соседних
домах, разделенных только небольшим двором, виделись посто¬
янно и, может быть, играли или беседовали на той же солнеч¬
но-белой площади, в той же черной тени от башни, где встре¬
чался он и с Биче. Но в день помолвки, глядя на эту знакомую,
может быть, миловидную, но почему-то вдруг ему опостылев¬
шую, чужую, скучную девочку, не вспомнил ли он ту, другую,
единственно ему родную и желанную?
Очень вероятно, что сер Алигьеро, замышляя этот брак,
по обычным, в те дни, семейно-политическим и денежным расче¬
там, желал добра сыну: думал, что ему полезно будет войти в род
Донати, хотя и не более древний и знатный, чем род Алигьери,
но ничем не запятнанный, как этот, — увы, по его же собствен¬
ной, сера Алигьеро, вине; думал, может быть, что и тщательно,
в брачном условии, оговоренное невестино приданое, хотя и ска¬
редное, — 200 малых золотых флоринов, — тоже на улице не ва¬
ляется и может пригодиться ему, сыну полуразоренного менялы.
Так совершились две помолвки Данте: первая, с Биче Пор¬
тинари, земная и небесная вместе, и вторая, с Джеммой До¬
нати, — только земная. «Сладкий и страшный бог Любви»
присутствовал на той, а на этой — «маленький бесенок, с на¬
сморком» , — и тогда уже мальчику Данте, может быть, по отцу,
знакомый, ненавистный «меняло-торгашеский» дух.
* Purg. XXX, 122.
72
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Две помолвки — два брака; но только один из них действителен.
Какой же? В церкви ли венчанный? Надо будет Данте сделать вы¬
бор между этими двумя браками, а если он его не сделает, то снова
почувствует, прежде чем скажет: «Есть в душе моей разделение».
IV.
Пожираемое сердце
В1283 году, или очень близко к этому году, произошло в жиз¬
ни восемнадцатилетнего юноши Данте три великих события: два
роковых, одно — роковое и благодатное вместе. Первое — смерть
отца. Глядя в мертвое лицо его, понял ли Данте свою вину перед
ним — презрение, молчание о тех, кто «никогда не жил» :
Не будем говорить о них: взглянув, пройди!*
Понял ли вину и его, этого несчастного менялы, ничтожно¬
го потомка великих предков, единственную перед сыном, —
его рождение? Понял ли, простил ли вину эту, или, не поняв
до конца, молча взглянул и прошел; только ниже еще опусти¬
лись, может быть, горько, точно с бесконечною брезгливостью
к миру и людям, опущенные углы рта?
Мимо второго события, в том же году, он уже не мог бы
пройти молча: Биче Портинари вышла, или, вернее, выдана
была замуж (девушки тогда не выходили, а выдавались замуж)
за мессера Симоне де Барди, из вельможного рода богатей¬
ших флорентийских менял, чьи торговые дома рассеяны были
по всей Европе, от Сицилии до Фландрии, а может быть, и до Ве¬
ликого Могола в полусказочной Тартарии**. Судя по тому, что
мессер Симоне женился на Биче, овдовев от первой жены, и что
вторая жена его, семнадцатилетняя девочка, оказалась мачехой
скверного мальчишки-пасынка, из которого вышел потом боль¬
шой негодяй, муж монны Биче был человеком уже немолодым***.
«Многие почитали отца ее тем, чем он в действительности
был, — человеком добрейшим», — скажет Данте об отце Беа¬
* Inf, III, 51.
** I. del Lungo, Beatrice (1891), p. 13,58,67 — E. Lamma, Questioni dantesche
(1902), p. 68; 73.
'** R, Davidsohn, p. 347.
Воображаемое
73
триче*. За год до смерти завещает он большую часть своего огром¬
ного богатства, нажитого тоже в меняльном деле (участь юного
Данте жить среди менял), не пяти сыновьям и шести дочерям,
а великолепной, им построенной, первой во Флоренции, больни¬
це для бедных, при церкви Санта-Мария-Нова**21. Там он будет
и похоронен, вместе со старой любимой служанкой, монной Тэс-
сой (Tessa), посвятившей себя уходу за больными, — может быть,
Беатричиной няней. Простое, сильное и доброе лицо ее можно
видеть в изваянии на уцелевшем доныне надгробном памятнике***.
Очень вероятно, что сер Фолько Портинари, выдавая дочь
за сера Симоне де Барди, так же хотел ей добра, как отец Данте —
сыну, совершая помолвку его с Джеммой Донати. Может быть,
брак Беатриче задуман был по таким же семейно-политическим
и денежным расчетам, как и брак Данте: знатность к знатности,
деньги к деньгам. Очень вероятно, что выдаваемая замуж, сем¬
надцатилетняя Биче знала не многим больше, что с нею делают,
или что с ней делается, чем помолвленный двенадцатилетний
Данте. Но теперь он уже это знал и за себя, и за нее. Только что
покинула она дом Портинари, соседний с домом Алигьери, для
великолепного дворца-крепости де Барди, с толстыми, точно тю¬
ремными, стенами и зубчатыми башнями, в далеком квартале
за Арно, у моста Рубаконте, — страшно опустело для Данте ста¬
рое гнездо Алигьери, да и вся Флоренция, — весь мир****. Сколь¬
ко бы ни затыкал ушей, не мог он не слышать нового ее, чужого
имени: «монна Биче де Барди»; сколько бы ни закрывал глаз,
не мог не видеть, как входит невеста в брачный покой жениха;
и как бы ни хотел умереть или сойти с ума, чтобы не думать,
все-таки думал о том, что было с нею, когда она туда вошла.
Третье событие, в том же году, — роковое и благодатное вместе.
«Ровно через девять лет... после первого явления той благо¬
роднейшей, gentilissima... она явилась мне снова, в одежде бе¬
лейшего цвета, между двумя благородными дамами старшего
возраста... и, проходя по улице, обратила глаза свои в ту сторо¬
ну, где я стоял, в великом страхе; и с той несказанною мило¬
стью, за которую ныне чтут ее в мире ином, поклонилась мне
* V N. XXII.
** del Lungo, p. 3.
'* A. Bassemann. Dantes Spuren in Italien (Ital. Ubs.), p. 34.
'* del Lungo, p. 65.
74
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
так, что я, казалось, достиг предела блаженства... То было...
в час дня девятый... И в первый раз ее слова коснулись слуха мо¬
его так сладостно, что, вне себя, я бежал от людей в уединенную
келью мою и начал думать об этой Любезнейшей. И, в мыслях
этих, нашел на меня тишайший сон, и посетило меня чудесное
видение: как бы огнецветное облако и, внутри его, образ Вла¬
дыки с лицом для меня ужасным; но сам в себе казался он ра¬
достным... И понял я из многого, что он говорил, только одно:
„Я — твой владыка. Ego dominus tuus“. Девушка спала на руках
его, вся обнаженная, только в прозрачной ткани цвета крови...
И в одной руке держал он что-то, горевшее пламенем, и сказал
мне так: „Vide cor tuum. Вот сердце твое!“ И, подождав немно¬
го, разбудил спящую... и принудил ее вкусить от того, что пла¬
менело в руке его. И она вкушала в сомнении, dubitosamente.
Вскоре же после того радость его обратилась в плач... и, подняв
на руках девушку, вознесся он с нею на небо. И, почувствовав
такую скорбь, что легкий сон мой вынести ее не мог... я проснул¬
ся. И тотчас же... вспомнил, что час, когда явилось мне виде¬
ние... был первый из девяти последних ночных часов»*.
Старую народную сказку о сердце любовника, пожираемом
возлюбленной, повторяют многие провансальские певцы-тру¬
бадуры тех дней22. Данте, хорошо их знавший, мог узнать от них
и эту сказку. Но по тому, как он ее рассказывает, чувствуется,
что это для него больше, чем сказка. Может быть, он так долго
и пристально думал о ней, что сказочное сделалось для него дей¬
ствительным, в страшном и чудном видении, вещем сне наяву.
Чудно и страшно то, что Данте видит, в первый и последний
раз, в этом сне, наготу Беатриче: «девушка спала на руках бога
Любви, вся обнаженная*. Любящий видит наготу возлюблен¬
ной только в том соединении любви, когда «они уже не двое,
но одна плоть» (Мт. 19, 6). Видели наготу Беатриче только два
человека: Симоне де Барди и Данте Алигьери, муж и возлю¬
бленный; тот — наяву, этот — во сне. Но что действительнее —
явь того или сон этого, — люди не знают; знает только «сладкий
и страшный бог Любви».
Что значит для Данте нагота Беатриче, мог бы понять Боти-
челли. Лучше ослепнуть, чем грешными глазами увидеть наго¬
ту чистейшую Той, что смутилась от слова Ангела: «Радуйся,
* V. N. III.
Воображаемое
75
Благодатная»; лучше сойти с ума, чем помыслить об этой наго¬
те, — знает Ботичелли так же хорошо, как Данте. Но прежде чем
сойти с ума и едва не сжечь свою Новорожденную Венеру на ко¬
стре Савонароллы23, он все-таки увидел в ее земной наготе — не¬
земную. Слишком одинаковы детски-испуганные и заплакан¬
ные очи только что родившейся Венеры и только что родившей
Богоматери, чтобы не узнать одну в двух: плачет, страшится та,
может быть, оттого, что родилась, а эта, — оттого, что родила.
Та, в одежде, — эта; эта, обнаженная, — та.
Чудно и страшно, что Данте видит наготу Беатриче; но еще
страшнее, чудеснее, что бог Любви принуждает ее пожирать
сердце возлюбленного; что чистейшая любовь этой «Женщи¬
ны-Ангела» , donna angelicata, подобна сладострастию паучихи,
пожирающей самца своего.
Что это значит, Данте не может понять и мучается так, что
едва не сходит с ума.
Ты злым недугом одержим и бредишь;
Ступай к врачу, —
остерегает его, узнав об этом, тезка его, Данте да Майяно,
в грубых, но неглупых, стихах, потому что и доныне, можно
сказать, единственный нелицемерный суд мира сего над любо¬
вью Данте к Беатриче — этот: «Ты злым недугом одержим, сту¬
пай к врачу»*.
Близость «злого недуга» и сам Данте, кажется, чувствует, в эти
дни. «После моего видения... я так похудел и ослабел, что друзьям
было тяжело смотреть на меня»**. — «И слышал я, как многие го¬
ворили обо мне: видите, как этою Дамою разрушено тело его! » ***
Лучше всего видно по этому, что вещий сон о пожираемом
сердце для Данте — не старая, милая сказка, а страшная новая
действительность — дело жизни и смерти.
Но очень вероятно, что были и такие минуты, когда «злой
недуг» затихал, и Данте смешивал действительность с вымыс¬
лом, «сладкие речи» — с горьким делом любви; играл, или хо¬
тел играть, как школьник, с тем, с чем не должно играть. Может
* Rime 4.
” V.N.IV.
V.N.V.
76
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
быть, в одну из таких минут, и решился он открыть свое видение
многим, прославленным в те дни певцам-трубадурам. «Так как
я сам тогда уже научился говорить стихами, то решил написать
сонет об этом видении, посвященный всем верным слугам (бога)
Любви». С детски-простодушным доверием, по тогдашнему лю¬
бовно-школьному обычаю, разослал он им этот сонет, которым
и начинается вся его поэзия:
Всякой любящей душе и благородному сердцу,
всем, кто прочтет эти слова мои
и ответит, что о них думает, —
Привет, в их Владыке, чье имя — Любовь!*
Кажется, впрочем, и здесь Данте не только играет, но делает,
или хочет сделать что-то нужное для себя и для других, — ищет
у людей помощи и хочет им помочь, в общем с ними, «злом не¬
дуге» любви; может быть, открывает он людям, невольно, эту
заповеднейшую тайну любви своей, уже предчувствуя, что она
имеет какой-то новый, людям неведомый, роковой или благо¬
датный смысл не только для него одного, но и для всего челове¬
чества. Как бы то ни было, очень знаменательно, что, открывая
тайну свою, Данте, хотя и признается, что «внезапное явление
бога Любви было для него ужасно», все-таки утаивает самое
ужасное или блаженное в этом явлении — наготу Беатриче**.
«Многие по-разному ответили мне на этот сонет... Но истин¬
ный смысл того сна не был тогда понят никем; ныне же он ясен
и для самых простых людей». Нет, и ныне все еще темен: вот
уже семь веков люди ломают голову над этой загадкой Данте —
вечной загадкой любви; и сейчас она темнее, чем когда-либо.
«Был среди ответивших и тот, кого я называю первым из дру¬
зей моих... И то, что он ответил мне, было как бы началом нашей
дружбы » ***. Этот первый друг его, Гвидо Кавальканти — лучший
флорентийский поэт тех дней, — «прекрасный юноша, благо¬
родный рыцарь, любезный и отважный, но гордый и нелюди¬
мый, весь погруженный в науку», — вспоминает о нем летопи¬
сец, Дино Компаньи. — «Может быть, никого, во Флоренции,
* V. N. III.
** и Mill.
*** и мт.
Воображаемое 77
не было тогда ему равного», — вспомнит о нем и веселый рас¬
сказчик, Франко Саккетти*.
Кажется, Данте заразился от Кавальканти, а может быть,
и от других, усердно им, в те дни, изучаемых провансальских
любовных певцов-трубадуров, болезнью века — ученым шко¬
лярством, схоластикой любви**. Юные дамы на провансальских
«Судах Любви»24, corte d’amore, философствуют с ученой «лю¬
безностью», ссылаясь на Аристотеля, Платона, Аверрона, Ави-
сенну и Боэция, не хуже старых ученых схоластиков***.
« Чтобыфилософствовать, нужно любить », — скажет Данте****;
но мог бы сказать и наоборот: «Чтобы любить, надо философ¬
ствовать»; так он и скажет действительно: «Надо, чтобы фило¬
софские доводы внушили мне любовь»*****.
Истинная любовь не плачет, не смеется, —
учит трубадур, Гвидо Орланди, тоже ученый схоластик любви.
Могбы, илихотел бы с этим согласиться и Данте******. Все, в «Новой
жизни», как будто философски доказано, измышлено, измере¬
но, исчислено; все правильно, как в геометрии. Сам бог или де¬
мон Любви — Геометр; вместо факела, в руке его, — циркуль. —
«Юношу увидел я... в белых одеждах, сидевшего рядом со мной,
на моей постели, и смотревшего на меня задумчиво... И он ска¬
зал мне: „Я — как бы центр круга, находящийся в равном рас¬
стоянии от всех точек окружности, а ты — не так“. И я спросил
его: „Зачемтыговоришь...такнепонятно?“ » *******Или,можетбыть,
напротив, — слишком понятно, отвлеченно-холодно.
Но все это — как будто, а на самом деле вовсе не так. Холодно —
извне, а внутри— огненно. Меряет божественный Геометр круг
любви —кругвечности —циркулем,асам«горькоплачет»********.Пла-
чущая «геометрия» любви, — в нежности своей почти страшная,
такая же вся трепетно-живая, страстная и заплаканная, как Авгу-
* D. Compagni. Cron. I — F. Sacchetti. Novella 68.
** F. Torraca. Nuovi studi danteschi (1921), p. 514 — H. Hauvette, p. 96.
*** M. Barbi, p. 191.
**** Cono. Ili, 13.
***** Par. XXVI, 25.
****** R, de Gourmont. Dante, Béatrice et la poésie amoureuse (1922), p. 47.
******* TZ KT VTT
********
V. N. XII.
78
Д. С, МЕРЕЖКОВСКИЙ
стинова «Исповедь»*. Более точной записи того, что говорит Лю¬
бовь сердцу человеческому, не было никогда и, вероятно, не будет.
...Я один из тех,
Кто слушает, что говорит в их сердце
Любовь, и пишет то, что слышит**.
Пальцы у него в чернилах, как у школяра-схоластика, но ког¬
да пишут в стихах «стройными длинными и тонкими», на него
самого похожими буквами, «сладкие речи любви», то дрожат
от волнения***. Сухо шелестят страницы пыльных, старых книг,
но подымает их вещий из открытого окна, душисто-влажный, как
поцелуй любви, весенний ветер. Эта юная утренняя, клейкими
листочками пахнущая, «схоластика любви» — совсем не такая,
какой будет потом и какой она кажется нам. Дышит сквозь нее вся
прелесть и нежность, все благоухание ранней флорентийской вес¬
ны, Primavera, или розово-серая туманность, жемчужность летне¬
го утра, — та же грусть о недолговечности всех радостей земных,
как в детски-испуганных, заплаканных глазах Весны Ботичелли.
Очень простой и печальный смысл «Новой жизни» можно бы
выразить двумя словами: нельзя любить; здесь, на земле, в теле
земном, человеку любить нельзя; нет любви, — есть похоть,
в браке или в блуде, а то, что люди называют «любовью», —
только напрасное ожидание, неутолимая память о том, что где-
то, когда-то была любовь, и робкая надежда, что будет снова.
Нет любви на земле, — есть только тень ее, но такая прекрас¬
ная, что кто ее однажды увидел, готов отдать за нее весь мир.
Вот почему, в книге этой, — такая грусть и такое блаженство.
Вот как вспоминает летописец тех дней о флорентийских
празднествах «Владыки Любви», signor Amore, в том же году,
когда явился он впервые восемнадцати летнему отроку Данте.
«В 1283 году от Рождества Христа, в городе Флоренции, бывшем
тогда в великом спокойствии, мире и благоденствии, благода¬
ря торговле своей и ремеслам... в месяце июне, в Иванов день...
многие благородные дамы и рыцари, все в белых одеждах... ше¬
ствуя по улицам, с трубами и многими другими музыкальными
* J. Symonds, Dante (1891), p. 47.
** Purg. XXIV, 52.
L. Bruni (Solerti, p. 104).
Воображаемое
79
орудиями... чествовали, в играх, весельях, плясках и праздне¬
ствах, того, чье имя: Любовь. И продолжалось то празднество
около двух месяцев, и было благороднейшим и знаменитейшим
из всех, какие бывали когда-либо во Флоренции. Прибыли же
на него и из чужих земель многие благородные люди и игре¬
цы-скоморохи, и приняты были с великим почетом и ласкою» *.
Вся Флоренция, в эти дни, — город влюбленных юношей
и девушек, мальчиков и девочек, таких же, как Данте и Биче.
Чтобы понять, что тогда совершалось, надо вспомнить: скоро
зашевелится вся земля окрестных долин и холмов от восстаю¬
щих из нее мертвецов древних богов или демонов. Первым вы¬
шел бог Любви, «Владыка с ужасным лицом», и явился Данте,
первому**. Самое ужасное в этом лице — смешение бога с демо¬
ном и сходство его то с Беатриче, то с самим Данте: это как бы
чередующийся двойник обоих.
Имя ее: «Любовь», — так она похожа на меня, — скажет
о Беатриче сам бог Любви
« Пира» Платона Данте, вероятно, не читал25, но если бы про¬
чел, то, может быть, узнал бы самое страшное и неизреченное
имя «Владыки» своего, бога или демона любви: «Андрогин»,
«Муже-женщина» «Данте-Беатриче». Два в Одном; это и зна¬
чит: «всех чудес начало — Три» ***, соединение Двух в Третьем.
Кажется, лучше всего увидел и понял лицо Данте, в «Новой
жизни», — Джиотто, в портрете-иконе над алтарем часовни
Барджелло: полузакрытые, как у человека засыпающего, или
только что проснувшегося, глаза; в призрачно-прозрачном,
отрочески-девичьем лице — неисцелимая грусть и покорная
жертвенность, как у любящего, чье сердце пожираемо возлю¬
бленной; губы бескровны, точно всю кровь из жил высосал жад¬
ный вампир, — «сладкий и страшный» бог-демон Любви.
V.
Ересь любви
«Я полагаю, что никогда никакой Беатриче... не было, а было
такое же баснословное существо, как Пандора26, осыпанная все¬
* G. Villani. Cron. VII, 88.
EN.in.
'* V. N. XXIX: «Lo fattore de li miracoli è tre».
80
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
ми дарами богов, по измышлению поэтов» — это говорит позд¬
ний, XV века, и плохо осведомленный, только рабски повто¬
ряющий Боккачио и Леонардо Бруни, жизнеописатель Данте,
Джиованни Марио Филельфо*. Первый усомнился он в суще¬
ствовании Беатриче. В XIX веке сомнение это было жадно под¬
хвачено и, хотя потом рассеяно множеством найденных свиде¬
тельств об историческом бытии монны Биче Портинари, так что
вопрос: была ли Беатриче? — почти столь же нелеп, как вопрос:
был ли Данте? — сомнение все же осталось и, вероятно, навсег¬
да останется, потому что самый вопрос: что такое любовь Данте
к Беатриче, история или мистерия? — относится к религиозно¬
му, сверхисторическому порядку бытия**.
Эта часть жизни Данте освещена, может быть, самым ярким,
но как бы не нашим, светом невидимых для нас, инфракрасных
или ультрафиолетовых, лучей. В этой любви у всего — запах,
вкус, цвет, звук, осязаемость недействительного, нездешнего,
чудесного, но не более ли действительного, чем все, что нам
кажется таким, — в этом весь вопрос. Но что он не существует
вовсе для большинства людей, видно из того, что ближайший
ко времени Данте жизнеописатель его, Леонардо Бруни, уже
ничего не понимает в этой любви: «Лучше бы упомянул Бокка¬
чио о доблести, с какой сражался Данте в этом бою (под Кам-
пальдино)27, чем о любви девятилетнего мальчика и о тому по¬
добных пустяках»***. Это «пустяки»; этого не было и не могло
быть, потому что это слишком похоже на чудо, а чудес не бы¬
вает. Ну, а если все-таки было? Здесь, хотя и в бесконечно-низ¬
шем порядке, тот же вопрос, как об историческом бытии Христа
по евангельским свидетельствам: было это или не было? исто¬
рия или мистерия?
Любовь Данте к Беатриче, в самом деле, одно из чудес все¬
мирной истории, одна из точек ее прикосновения к тому, что
над нею, — продолжение тех несомненнейших, хотя и неверо¬
ятнейших, чудес, которые совершились в жизни, смерти и вос¬
кресении Христа: если не было того, нет и этого; а если было то,
есть и это.
* G. М. Filelfo. Vita Dantis (Solerti, p. 163): Beatricem, quam amasse fingitur
Dante, mulierem nunquam fuisse opinor.
** Passerini, p. 59— C. Fabricotti. Saggi Danteschi (1929), p. 11. — I. del
Lungo, p. 65.
*** L. Bruni (Solerti, p. 99).
Воображаемое
81
Может быть, сам Данте отчасти виноват в том, что люди усо¬
мнились, была ли Беатриче. «Так как подобные чувства, в столь
юном возрасте, могут казаться баснословными, то я умолчу
о них вовсе». — «Я боюсь, не слишком ли много я уже сказал»
(о Беатриче)*.
Данте говорит о ней так, что остается неизвестным глав¬
ное: есть ли она? И так, как будто вся она — только для него,
а сама по себе вовсе не существует; помнит он и думает толь¬
ко о том, что она для него и что он для нее, а что она сама для
себя, — об этом не думает. Слишком торопится сделать из зем¬
ной женщины «Ангела», принести земную в жертву небесной,
не спрашивая, хочет ли она этого сама, и забывая, что человеку
сделаться Ангелом значит умереть; а желать ему этого значит
желать ему смерти.
Кажется иногда, что не случайно, а нарочно все в «Новой
жизни», как в музыке: внешнего нет ничего, есть только вну¬
треннее; все неопределенно, туманно, призрачно, как в сере¬
бристой жемчужности, тающих в солнечной мгле, Тосканских
гор и долин. Неизвестно, что, где и когда происходит; даже
Флоренция ни разу во всей книге не названа по имени; вместо
Флоренции, — «тот город, где обитала Лучезарная Дама души
моей» ; даже имя Беатриче сомнительно: «та, которую называли
„Беатриче“ многие, не умевшие назвать ее иначе»**.
Это тем удивительнее, что Данте, как видно по «Комедии»,
и даже по некоторым нечаянным подробностям в самой «Новой
жизни», любит деловую, иногда более научную, чем художе¬
ственную, точность образов, почти геометрически-сухую рез¬
кость очертаний.
Кажется иногда, что он говорит о любви своей так, как будто
скрывает в ней что-то от других, а может быть, и от себя само¬
го; чего-то в ней боится, или стыдится; прячет какие-то улики,
замигает какие-то следы. «Я боюсь, что слишком много сказал
(о ней)...» Кажется, что прав Боккачио, когда вспоминает: «В бо¬
лее зрелом возрасте Данте очень стыдился того, что написал эту
книгу» («Новую жизнь»)***. Чтобы Данте «стыдился» любви своей
к Беатриче, — невероятно и похоже на клевету; но еще, пожалуй,
* V. N. II; XIX.
** V N.11.
'** Boccaccio. Vita di Dante (Solerti, p. 54).
82
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
невероятнее, что Боккачио взвел на Данте такую клевету; и тем
невероятнее, что сам Данте признается: «В этой книге (в „Пире“)
я хочу быть более мужественным, чем в „Новой жизни“»*. — «Бо¬
лее мужественным» значит: «менее малодушным», — не таким,
чтобы этого надо было «стыдиться» потом. «Я боюсь, чтобы эта
поработившая меня страсть не показалась людям слишком низ¬
кою», — скажет он о второй любви своей, для которой изменит
первой, — к Беатриче, но кажется, он мог бы, или хотел, в иные
минуты, сказать то же и о первой любви.
О, сколько раз к тебе я приходил,
Но видел я тебя в столь низких мыслях,
Что твоего высокого ума
И сил потерянных мне было жалко...
И столь презренна ныне жизнь твоя,
Что я уже показывать не смею
Тебе любви моей, —
скажет ему «первый друг» его, Гвидо Кавальканти, именно
в эти дни и, кажется, об этих именно днях любви его к Беатриче**.
В чем же действительная, или хотя бы только возможная,
«низость» этой, как будто, высочайшей и святейшей любви?
В невольной или вольной, возможной или действительной
лжи, — тем более грешной и низкой, чем выше и святее любовь.
«Всей любви начало — в ее глазах... а конец — в устах. Но чтобы
всякую порочную мысль удалить, я говорю... что всех моих же¬
ланий конец — в исходящем из уст ее приветствии»***.
Чтобы человек, молодой и здоровый, влюбленный в жен¬
щину так, что бледнеет и краснеет, завидев ее только издали,
на улице, а когда она к нему подходит, — убегает, боясь лишить¬
ся чувств, — чтобы такой влюбленный, в течение семи-восьми
лет, ничего от любимой не пожелал, кроме мимолетного привет¬
ствия, — этому люди никогда не поверят; верит ли сам Данте?
Если верит, то тем хуже для него: вечный воздыхатель Беатриче
так же смешон, как вечный воздыхатель Дульцинеи; или еще
смешнее, потому что Данте — не Дон Кихот.
* Сопи. 1,1.
Birne 29.
k* V. N. XIX.
Воображаемое
83
...Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так;
и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, ко¬
торые сделали сами себя скопцами для царства небесного. Кто
может вместить, да вместит. (Мт. 19, 12).
Помнит ли Данте это страшное слово, и если помнит, — по¬
чему не уйдет в монастырь, не оскопит духом плоть свою?
Что ему сказала Беатриче, в той мгновенной, уличной встре¬
че, когда «слова ее коснулись впервые слуха его так сладостно»,
что он был «вне себя»? Может быть, всего три слова: «доброго
дня, Данте». Но он успел спросить ее молча, глазами: «Можно
любить?» — и прочесть в ее глазах ответ: «Можно».
Монна Биче, жена сера Симоне де Барди, позволяла ему,
Данте, любить себя, как он любил ее в девушках. И не только
она, — позволял и муж, зная, что эта любовь — без послед¬
ствий, как у детей и скопцов.
Но сколько бы Данте ни делал Беатриче «Ангелом», он был
уже и тогда слишком большим правдолюбцем, или, как мы го¬
ворим, «реалистом», чтобы не знать, что не к Ангелу в спаль¬
ню входит муж, а к женщине, и чтобы не думать о том, глазами
не видеть того, что это значит для нее и для него.
Очень вероятно, что бывали, в любви его к Беатриче, такие
минуты, — нам неизвестные, скрытые, но, может быть, самые
важные, решающие все — когда он соглашался с Гвидо Ка¬
вальканти, что жизнь его «презренна». Видя, как вельможный
«меняла», Симоне де Барди, с преувеличенной любезностью
кланяется ему, бедному школяру-стихоплету, он сжимал, у по¬
яса-веревки св. Франциска, рукоять действительного, или вооб¬
ражаемого, ножа и чувствовал, с каким наслаждением, вонзив
его в сердце врага, перевернул бы в нем трижды. Но в то же вре¬
мя знал, что никогда этого не сделает, и вовсе не потому, что,
как св. Франциск, врагу прощает. Очень вероятно, что в такие
минуты он соглашался и с Форезе Донати:
...Тебя я знаю,
Сын Алигьери; ты отцу подобен:
Такой же трус презреннейший, как он.
Вот на какие раны сердца целящим бальзамом была для него
вышедшая, в 1280 году, книга «О любви», De amore, Андрея
84
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Капеллана, духовника владетельной графини Марии Шампан¬
ской, чей двор, убежище всех бродячих певцов, труверов и тру¬
бадуров, сделался тогда великой «Судебной Палатой Любви»,
Cour d’Amour*.
Если сам Данте и не читал книги Капеллана, то не мог хорошо
не знать о ней от первого друга своего и учителя, Гвидо Каваль¬
канти, а также от других флорентийских поэтов, творцов «ново¬
го сладкого слога», dolce stil nuovo28, — ее усердных читателей.
Смехом казнится брачная любовь на суде графини Марии.
«Может ли быть истинная любовь между супругами?» — спра¬
шивает Андрей Капеллан, священник, совершавший, конеч¬
но, много раз таинство брака, и отвечает: «Нет, не может»**. —
«Брачная любовь и та, что соединяет истинных любовников,
совершенно различны, потому что исходят из различнейших
чувств»***. «Истинная любовь, самая блаженная и огненная, —
любовь издалека, amor dalonh»****29. Этоизначит: лучше, вопре¬
ки Павлу, «разжигаться похотью», чем вступать в брак, чтобы
утолить похоть, или утишить ее, потому что никаким плотским
соединением похоть не утолима, как жажда — соленой водой.
«Брак не может быть законной отговоркой от любви»*****.
Здесь все опрокинуто так, что блуд становится браком,
а брак— блудом. Эта новая «неземная любовь» оказывается
сплошным прелюбодеянием, что не мешает законодателям ее
считать себя, по слову Иоахима Флорского, пророка «Вечного
Евангелия», —теми людьми, «коих пришествия ждет мир »******.
Знал ли св. Доминик, что делает, когда, объявляя кресто¬
вый поход на еретиков альбигойцев30, зажег первые костры
Святейшей Инквизиции31, на юге Франции, именно там, где
провансальские певцы, труверы и трубадуры, полурыцари, по¬
лусвященники, в Судах Любви, возвещали миру новое «веселое
знание», gaya sienzia32, «любовь, радость и молодость», amors,
* Monaci in: Studi di fil. rom. V, 205.
** R. de Gourmont, p. 28.
Andreas Capellanus, De amore (éd. Trojel), p. 280: «maritalis affectus et
coamantium vera dilectio penitus indicantur esse diverse et ex motibus
differentibus suam sumunt originem».
*** E. Anitchkof. Joachim de Flore (1931), p. 111.
Andreas Capellanus, p. 312: «causa conjugii ab amore non est excusatio
recta».
** E. Anitchkof, p. 318.
Воображаемое
85
joi e joven?* В те именно дни, после десяти веков смерти, ожи¬
ли вдруг, сначала на славянском Востоке, а потом и на всем
европейском Западе, в катарах, патаринах33, альбигойцах,
вальдейцах34 и многих других еретиках, две опаснейшие ере¬
си двух величайших ересиархов, Монтана и Манеса**. В Муже
воплотилось Второе Лицо Троицы, Сын, а Третье Лицо, Дух,
воплотится в Жене, или Деве, или в Муже-Жене, Отроке-Де¬
ве: так учит Монтан***. К этому воплощению путь — неземная
любовь к Прекрасной Даме — к Той, которая, для Данте, есть
«Девять —Трижды Три —чудо, чей корень... единая Троица»****.
В образе человеческом — может быть, женском или девичьем,
или муже-женском, отроко-девичьем, — является Дух в «Лан-
челоте-Граале»35, книге, погубившей Франческу да Римини
и, кажется, едва не погубившей Данте*****.
Мир, лежащий во зле, создан не добрым Богом, а злым, —
учит Манес******. Воля доброго Бога есть конец злого мира, а беско¬
нечное продолжение его есть воля дьявола, Противобога, чье
главное оружие — плотская похоть, брак и деторождение. «Пло¬
дитесь и множитесь» — заповедано всей твари не Богом, а дьяво¬
лом. Им же создано то, чем отличается мужское тело от женского.
Плотская похоть есть начало греха и смерти — Древо познания:
Еву познав, умер Адам. Плотский брак — такой же смертный
грех, как блуд, потому что оба равно замедляют, деторождением,
возврат изгнанных, живущих на земле-чужбине, душ в небесное
отечество. И даже брак — больший грех, чем блуд, потому что со¬
грешающие в блуде иногда каются, а в браке — никогда*******.
Обе эти ереси, Монтана и Манеса, свили главное гнездо свое
в провансальских, аквитанских и сицилийских «Судах Люб-
ви»********.Первымидолжныбылибывзойтинапервый,св. Домини¬
ком зажженный, костер Святейшей Инквизиции новые учени¬
ки Монтана и Манеса, законодатели новой, безбрачной любви,
труверы и трубадуры, — учителя Данте.
* Ibid,, р. 99.
** F, Tocco, L’Eresia nel Medio Evo (1884), p. 409.
*** E. Anitchkof, p. 69. — P. de Labriolle, Crise montaniste (1913).
**** V, N. XXIX.
***** E. Anitchkof, p. 325.
****** F. Tocco, p. 74. — Du Plessis, Coll, iud.: iste mundus est creatus a malo Deo.
******** F. Tocco, p. 90, 408.
******** E. Anitchkof, p. 80, 289.
86
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Может быть, св. Доминик и не так хорошо знал, что делает,
как это казалось ему и будет казаться его продолжателям; может
быть, он жег на кострах не тех, кого надо. Цветок новой любви,
если бы и не сгорел в огне св. Инквизиции, сам, вероятно, ист¬
лел бы: в нем, от начала, заложено было семя тления, — вымы¬
сел, а не действительность, игра, а не дело, утонченность, упа¬
дочность; как бы запахами райских садов напоенный разврат.
Новая Любовь— «Новая жизнь начинается», incipit Vita
Nova, уже не для игры, а для дела, только в книге Данте. Этот
цветок не истлеет, и, может быть, прежде, чем сгореть, зажжет
весь мир. Страшная и благодатная сила этой любви — в том, что
в ней чистый любит чистую, девственную — девственник.
Два великих ересиарха — Монтан и Манес; но, может быть,
есть и третий — Данте. Верный сын Римской Церкви, добрый
католик, в вере, а в любви, — «еретик». Может быть, те, кто за¬
хотят, семь лет по смерти Данте, вырыть кости его, чтобы сжечь
за «ересь» — что-то верно угадают и будут лучше знать, что дела¬
ют, чем знал св. Доминик, и знают, в наши дни, те, кто хочет сде¬
лать Данте только правоверным католиком. Этой книгой, самому
Данте непонятной (если бы он понял ее, как следует, то не «усты¬
дился» бы ее), и, вот уже семь веков, никем не понятой, начинает¬
ся, или мог бы начаться, великий религиозный мятеж, восстание
в брачной любви; а говоря на неточном и недостаточном, потому
что нерелигиозном, языке наших дней, великая Революция Пола.
VI.
Любит — не любит
Одна из важнейших заповедей в законодательстве новой люб¬
ви — ненарушимая тайна, может быть, нужная для того, что¬
бы «людям, коих пришествия ждет мир», не взойти на костер:
«Узнанная любовь не приносит чести любовнику, но омрачает
ее дурными слухами, так что он жалеет, что не утаил ее от лю¬
дей»*. — «Узнанная любовь недолговечна»**.
Тайне истинной любви служит мнимая, к так называемой
«Даме-Щиту», Donna Schermo***. Этой заповеди новой любви
* Andreas Capeilanus, р. 15.
** Ibìd.,p. 243.
H. Hauvette, р. 98, 105.
Воображаемое
87
Данте был верен, как и всем остальным. Первую «Даму Щита»
нашел он случайно, в церкви. «Ровно по середине и по прямой
линии, что шла от Беатриче... и кончалась в моих глазах (дваж¬
ды вспоминает он о „прямой линии“: точно циркулем измерил
ее сам бог Любви, Геометр)... сидела... одна благородная дама
с прекрасным лицом... И я очень утешен был тем, что тайна
любви моей, в тот день, никем... не была узнана... и тотчас же
решил сделать даму эту щитом моим от истины, schermo de la
veritade... И скоро сделал так, что все подумали, будто знают
тайну мою». Это значит: всех обманул, в том числе, вероятно,
и «Даму Щита», — не думая, как эта игра в мнимую любовь мо¬
жет быть опасна для истинной.
С дамой этой скрывал он тайну любви своей, «в течение мно¬
гих лет»*. Когда же она уехала из города (имени Флоренции он
не называет и здесь, как нигде, скрывая улики, заметая сле¬
ды), то он нашел себе вторую «Даму Щита», уже не случайную,
а указанную ему, в видении, самим богом Любви**. Но с этою
дело кончилось плохо: «Через немного времени я сделал ее та¬
ким щитом для себя, что слишком многие стали о том говорить
больше, чем должно по законам любви, и это было мне тяжело » ***.
Судя по тому, что с первою Дамою он таился «несколько лет»
(сколько именно, не говорит, — опять как будто скрывая ули¬
ки); а «несколько» — значит не менее трех-четырех, — ему,
в это время, года двадцать два, и он уже не такой невинный
мальчик, каким был в восемнадцать. Судя же по дальнейшему,
более, чем вероятно, что не от жены своей, Джеммы, узнал он,
что такое земная любовь. Очень возможно, что этому научила
его вторая «Дама Щита»: устав «любить издалека», он захотел
попробовать того же вблизи и, играя с огнем, обжегся.
«Начали глаза мои слишком услаждаться видом ее, и часто
я мучился этим, и это мне казалось очень низким», — скажет он
об одной из других Дам, с которыми изменит или полу изменит
Беатриче (их будет очень много), но, кажется, мог бы сказать
и об этой, второй****. Как бы то ни было, «слишком многие стали
говорить о том больше, чем должно... И по причине молвы, бес¬
* V.N.V.
** V.N.VI1-X.
**? V. N. X.
**** И N. XXXVII.
88
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
честившей меня, эта Благороднейшая, разрушительница всех
пороков и царица добродетели, проходя однажды мимо меня,
отказала мне в своем сладчайшем приветствии, в котором за¬
ключалось все мое блаженство»*. Молча, глазами, спросил он
ее, должно быть, как всегда: «Можно любить?» — и она отве¬
тила, тоже молча, но не так, как всегда: «Нет, нельзя!» И точно
земля под ним разверзлась, небо на него обрушилось, от этих
двух слов, когда он понял, что они значат: «Если ты можешь
любить двух, я не хочу быть одной из двух».
« ...И почувствовал я такую скорбь, что, бежав от людей туда, где
никто не мог меня видеть, начал горько плакать... Когда же плач
немного затих, я вернулся домой, в комнату мою, где жалоб моих
никто не слышал. И начал снова плакать, говоря: „Любовь, помо¬
ги!“ Плакал, рыдал, должно быть, теми ломающими тело и душу
рыданиями, от которых остаются на ней неизгладимые следы, по¬
добные рубцам на теле от ран или ожогов. Снова, как тогда, по смер¬
ти матери, чувствовал неземную обиду своего земного сиротства.
Но теперь было хуже: как будто мать не умерла, а он ее убил.
И плача, я уснул, как маленький прибитый мальчик... И уви¬
дел во сне юношу в белейших одеждах... сидевшего на моей по¬
стели... И мне казалось, что он смотрит на меня, о чем-то глубоко
задумавшись... И потом, вздохнув, он сказал: „Сын мой, кончить
пора наши притворства. Fili mi, tempus est ut praetermictantur
similacra nostra“. — „Наши притворства“, значит: наша игра
в ложь — в мнимую любовь. — И мне показалось, что я знаю
его, потому что он назвал меня так, как часто называл в снови¬
дениях; и, вглядевшись в него, я увидел, что он горько плачет».
Этот «юноша в белейших одеждах», таких же, как у Беатри¬
че, «Владыка с ужасным лицом». Ангел, бог или демон Любви,
тоже плачет, «как маленький прибитый мальчик».
И я спросил его: «О чем ты плачешь, господин?» И он в ответ:
«Я — как бы центр круга, находящийся в равном расстоянии
от всех точек окружности; а ты — не так...» И я сказал: «Зачем
ты говоришь так непонятно? » «Не спрашивай больше, чем долж¬
но», — ответил он. Тогда, заговорив об отказанном мне, привет¬
ствии... я спросил его о причине отказа, и он сказал мне так:
«Беатриче наша любимая узнала, что ты докучаешь той даме
(Щита); вот почему эта Благороднейшая, не любящая докучных
* V N.X.
Воображаемое
89
людей, боясь, что ты будешь и ей докучать, не удостоила тебя
приветствием» *.
Здесь, в голосе Любви, Данте мог бы снова услышать голос
«первого друга» своего, Гвидо Кавальканти:
Ты презирал толпу, в былые дни,
И от людей докучных бегал...
Но столь презренна ныне жизнь твоя,
Что я уже показывать не смею
Тебе любви моей и прихожу
К тебе тайком, чтоб ты меня не видел**.
«Скука», noia, — главное слово и здесь, как там: «Взял и Го¬
сподь к себе потому, что скучная наша земля недостойна была
такой красоты», — скажет Данте о Беатриче***.
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли, —36
скажет поэт, единственно-равный Данте по чувству земного
сиротства, как неземной обиды, Лермонтов. Самое противопо¬
ложное праздничному веселью любви, вопреки всем ее мукам, —
будничная скука, пошлость, «низость» жизни; в ней и обличает
Данте «первый друг» его Кавальканти. С этим обличением согла¬
сился бы и бог Любви, и сама любимая: «дух скуки, овладевший
твоейуниженной душой» ****,хужевсякогозла, —бессилиесделать
выбор между злом и добром. Богом и дьяволом, такое же, как
у тех «малодушных», ignavi, кто никогда не жил, отвергнутых
небом и адом, «милосердием и правосудьем Божиим презренных
равно» ; тех, кого Дантеувидитвпреддверииада*****. «Гордаядуша»
его презирает их, как никого; и вот, он сам — один из них.
Вскоре после того кто-то из друзей Данте привел его в дом, где
многие благородные дамы собрались к новобрачной. «Ибо в том
городе был обычай, чтобы невестины подруги служили ей, когда
впервые садилась она за стол жениха». — «Зачем мы сюда при¬
* и N. XII.
** .Rime 29.
*** V. N. XXXI.
**** Rime 29.
***** Inf. Ill, 50.
90
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
шли?» — спросил Данте. «Чтобы послужить этим дамам»,—
ответил друг. «Желая ему угодить, я решил, вместе с ним, слу¬
жить этим дамам... Но только что я это решил, как почувствовал
сильнейшую дрожь, внезапно начавшуюся в левой стороне гру¬
ди и распространившуюся по всему телу моему... Я прислонил¬
ся к стенной росписи, окружавшей всю комнату и, боясь, чтобы
кто-нибудь не заметил, как я дрожу, поднял глаза и, взглянув
на дам, увидел среди них... Беатриче... и едва не лишился чувств...
Многие же дамы, заметив то, удивились и начали смеяться надо
мной, вместе с той, Благороднейшей...Тогда мой друг, взяв меня
за руку, вывел оттуда и спросил, что со мной?.. И, придя немного
в себя, я ответил: „Я был уже одной ногою там, откуда нет воз¬
врата...“ И, оставив его, я вернулся (домой), в комнату слез, где,
плача от стыда, говорил: „О, если бы Дама эта знала чувства мои,
она не посмеялась бы надо мной, а пожалела бы меня!“»
Смехом вашим убивается жалость, —
скажет он ей самой*.
В сердце его вошел этот смех, как тот нож, который хотел он,
может быть, вонзить в сердце врага, Симоне де Барди.
Эта милосерднейшая, чей один только вид внушает людям
«всех обид забвение» и прощение врагам, — слышит, как люди
о нем говорят: «Вот что эта женщина сделала с ним!» — знает,
что от любви к ней он стоит одной ногой в могиле, и все-таки
смеется над ним**. Точно розовая нежная жемчужина — «цвет
жемчуга в ее лице»***, — превращается в грубый серый булыж¬
ник или в серый холодный туман. Что это значит? Может быть,
лучше всего объясняет Беатриче, сестру свою небесную, сестра
ее земная и подземная, Франческа да Римини.
VII.
Беатриче неизвестная
В 1282 году Данте мог видеть на улицах Флоренции тогдаш¬
него военачальника Флорентийской Коммуны, капитана дэль
Воображаемое
91
Пололо, юного, прекрасного и благородного рыцаря, Паоло Ма-
латеста, одного из тех, о ком он скажет:
Любовь и сердце благородное — одно
И то же*.
А года через три, узнав, что Паоло убит братом в объятиях
жены его, Франчески да Римини, — Данте, если не подумал, то,
может быть, смутно, как в вещем сне, почувствовал, что и его
любовь к чужой жене, монне Биче де Бард и, могла бы иметь
не бескровный, небесный, a такой же земной, кровавый конец**.
Две судьбы — две любви: любовь Паоло к Франческе, зем¬
ная, грешная, и любовь Данте к Беатриче, небесная, святая?
Нет, две одинаково грешные, или одинаково для всех и для са¬
мих любящих непонятно-святые любви. Но если Данте этого
умом еще не понимает, то сердцем уже чувствует: узнает вечную
судьбу свою и Беатриче в судьбе Паоло и Франчески. Вот поче¬
му и говорит об этих двух преступных, или только несчастных,
любовниках так, что заражает сочувствием к ним всех, кто ког¬
да-нибудь любил или будет любить.
Я сделаю, как тот, кто говорит
И плачет вместе***.
Вот почему эта любовная повесть будет читаться сквозь сле¬
зы любви, пока в мире будет любовь.
С первого же взгляда обе жалобные тени узнают в Данте
не судию, а брата по несчастью, и, может быть, тайного сообщ¬
ника. Обе летят к нему,
Как две голубки, распростерши крылья,
Влекомые одним желанием, летят
Издалека к любимому гнезду...
Обе к нему кидаются так, как будто ищут у него покрова и за¬
щиты.
* V.N.XX.
** F. Тоггаса, р. 511 — H. Hauvette, р. 363.
92
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
О, милая, родная нам душа!
Чем же родная, если не тою же, грешной или непонятно-свя¬
той, любовью? Обе как будто хотят сказать ему: «Люди и Бог
осудили нас, но ты поймешь, потому что так же любишь, как
мы!»
В этих двух «обиженных душах», anime offense* Данте узнает
душу свою и ее, Беатриче:
И я, узнав их горькую обиду,
Склонил лицо мое к земле так низко,
Что мне сказал учитель: «Что с тобою?»**
Заповедь любви преступают — «прелюбодействуют» Паоло
и Франческа; исполняют ли эту заповедь Данте и Беатриче?
Грех Паоло и Франчески — против плоти, а грех Данте, может
быть, больший, — против Духа любви, вечного «строителя мо¬
стов», по чудному слову Платона о боге Эросе, вечном соеди¬
нителе неба с землей, духа с плотью37. Данте рушит эти мосты,
разъединяет дух и плоть, небо и землю. Что такое любовь, как
не соединение разлученного, — вечное сочетание, свидание по¬
сле вечной разлуки? «Что Бог сочетал, того человек да не раз¬
лучает» (Мт. 19, 6). Данте разлучает: любит, или хочет любить,
не духовно и телесно, а только духовно-бесплотно; не Беатриче
небесную и земную, а только небесную.
Крайнее, метафизическое «преступление», «прелюбодея¬
ние» Данте хуже, чем физическое, Паоло. Кажется, он и это
если умом еще не понимает, то уже чувствует сердцем.
Любовь, что благородным сердцем рано
Овладевает, овладела им
К недолговечной прелести моей,
Так у меня похищенной жестоко,
Что мы и здесь, как видишь, неразлучны.
Кто это говорит, — Франческа, в аду, или Беатриче, на небе?
Может быть, обе.
* Inf. У. 109.
** Inf.N, 109[-111].
Воображаемое
93
Любовь, что никому, кто любит, не прощает,
Там, на земле, мной овладела так,
Что мы и здесь, как видишь, неразлучны.
Смерть и ад победила их любовь, земная; победит ли небес¬
ная любовь Данте и Беатриче?
...О, сколько
Сладчайших мыслей и желаний страстных
Нас довели до рокового шага!..
От жалости к тебе, Франческа, плачу...
Может быть, не только от жалости, но и от зависти?
Поведай же: во дни блаженных вздохов,
Каким путем любовь вас привела
К сомнительным желаньям?
Их — привела; но не привела Данте и Беатриче. «Страшного
владыки», бога Любви, он испугался, остановился и, как еван¬
гельский богатый юноша, «отошел с печалью»38.
И мне она сказала
(кто «она», — Франческа, в аду, или Беатриче, на небе?), —
...нет большей муки,
Чем вспоминать о прошлых днях блаженства,
Во дни печали...
Кажется, под бременем этой именно муки Данте и склоняет
лицо к земле, как под бременем вины неискупимой.
...Читали мы однажды повесть
О Ланче лоте и его любви.
Одним мы были, и совсем без страха.
И много раз от книги подымали
Глаза, бледнея...
Но погубило нас одно мгновенье:
Когда прочли мы, как любовник страстный
Поцеловал желанную улыбку, —
94
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
То он, со мной навеки неразлучный,
Поцеловал уста мои, дрожа...
И в этот день мы больше не читали...
Меж тем как говорил один из духов,
Другой, внимая молча, плакал так,
Что я, от жалости, лишившись чувств,
Упал, как мертвый падает на землю*.
Может быть, от жалости не только к ним, но и к себе, —
от угрызенья и раскаянья: понял вдруг, как бесполезно погубил
себя и ее. Так Орфей, выводя Евридику из ада, недолюбил, не¬
доверия, усомнился, — оглянулся, и потерял любимую.
Здесь, в аду, с Данте происходит то же, что в доме новобрач¬
ных: «Я весь задрожал... и, боясь, чтобы кто-нибудь не заметил,
как я дрожу, поднял глаза и, взглянув на дам, увидел среди них
Беатриче... и едва не лишился чувств».
«Пал замертво и, будучи перенесен на постель, некоторое
время лежал без чувств», — объясняет «Истолкование» Монте-
кассино те стихи из Ада, где описан обморок Данте, после рас¬
сказа Франчески**. Так же объясняет и другое, латинское истол¬
кование этих стихов: «Данте, увидев Беатриче, сходившую
по лестнице, пал замертво»***.
Так же упадет и после первого свиданья с Беатриче в земном
раю Чистилища:
...И жало угрызения мне сердце
Пронзило...
И боль такая растерзала душу,
Что я упал без чувств****.
Внутреннею связью этих трех обмороков, — земного, подзем¬
ного, и небесного, — может быть только любовь Данте к Беатри¬
че, ею разделенная. Но если так, то все в жизни и в творчестве
* Inf. V, 109[—142].
** F.X. Kraus, р. 11 — Chiose di Montecassino, S. XIV: «essendosi (Dante)
fatto a certo convito in cui trovasi Beatrice, venutagli questa incontro, cadde
come mezzo morto e transportato sopra uno letto, vi stette alquanto fuor del
sensi».
F. X. Kraus: «illa (Beatrice) occurrente sibi per scalas cecidit semimortuus».
**** Purg. XXXI, 88[-89].
Воображаемое
95
Данте меняется для нас, — освещается новым светом. Если Бе¬
атриче любила Данте, то, в самом деле, новая любовь — «Новая
Жизнь начинается», incipit Vita Nova, не только в жизни Данте,
но и в жизни всего человечества.
Смехом вашим убивается жалость*.
Сладкие стихи любви...
мне должно оставить навек...,
потому что явленные в ней (Беатриче)
презренье и жестокость
замыкают уста мои**.
Долго таил я рану мою ото всех,
теперь она открылась перед всеми...
Я умираю из-за той,
чье сладостное имя: «Беатриче»,
...Я смерть мою прощаю той,
кто жалости ко мне не знала никогда***.
Душа моя, гонимая любовью,
уходит из жизни этой плача...
Но та, кто столько сделала мне зла,
подняв убийственные очи, говорит.
«Ступай, ступай, несчастный, уходи!»****
Слишком понятно, почему Данте выключил эти стихи из «Но¬
вой жизни» : они разрушают ее, как ворвавшийся в музыку крик
человеческой боли; режут, как нож режет тело. «Кто жалости
ко мне не знал никогда...», «Кто столько сделал мне зла...» Ког¬
да это читаешь, не веришь глазам: здесь уже совсем, совсем дру¬
гой, нам неизвестный Данте и Беатриче Неизвестная.
«В ее глазах — начало любви, а конец в устах... Но чтобы вся¬
кую порочную мысль удалить, я говорю... что всех моих желаний
конец — ее приветствие»*****. А эта порочная мысль — поцелуй.
...Любовник страстный
Поцеловал желанную улыбку, —
* V.N. XV.
** М. Schermo, р. 314.
*** Rime 67.
**** V. N. XIX.
96
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
это место Ланчелотовой повести, погубившее любящих Пао¬
ло и Франческу, так же могло бы погубить и других двух, Данте
и Беатриче.
Поцеловал уста мои, дрожа, —
в этом, может быть, действительный конец его желаний.
Очи твои обрати к нему.
Открой уста твои,
чтобы видел он вторую красоту твою,
что на земле ты скрыла от него, —*
соединяют их Ангелы уже в ином «конце желаний».
...Древней сетью
Влекла меня ее улыбки
Святая прелесть, —**
святая, или все еще грешная даже здесь, на небе, как там,
на земле? Только этим вопросом и начинается «Новая жизнь» —
новая человеческая трагедия любви в «Божественной комедии».
...Тогда, меня улыбкой побеждая,
Она сказала: «Обратись и слушай,
Не только у меня в очах весь рай»***
Это могла бы сказать и Ева Адаму, еще в земном раю, но уже
после грехопадения; могла бы сказать и последнему мужчине
последняя женщина.
Если довести до конца это начало желаний, то совершится
заповедь: «Будут два одною плотью». Данте об этом и думать
не смеет; но, может быть, смеет за него Беатриче, если больше
любит и больше страдает, чем он.
Только холодный, голубой, небесный цвет «жемчужины»
видит в ней Данте; а розового, теплого, земного, — не видит.
Но вся прелесть ее — в слиянии этих двух цветов; в ее душе нет
«разделения». Этим-то она и спасет его, двойного, — единая.
Тайну земной Беатриче выдает Небесная, более живая, зем¬
ная, чем та, что жила на земле.
* Purg. XXXI, 133[—138].
** Purg. XXXII, 5[—6].
Par. XVIII, 20[—21].
Воображаемое
97
Только что увидев ее в Земном Раю, Данте не радуется, а ужа¬
сается, предчувствуя, что и здесь, на небе, она подымет на него
«убийственные очи».
И обратясь к Вергилию, с таким же
Доверием, с каким дитя, в испуге
Или в печали, к матери бежит, —
Я так сказал ему «Я весь дрожу;
Вся кровь моя оледенела в жилах:
Я древнюю любовь мою узнал!»
Но не было Вергилия со мной,
Ушел отец сладчайший мой, Вергилий...
И даже светлый рай не помешал
Слезам облить мои сухие щеки
И потемнеть от них лицу. — «О, Данте,
О том, что нет Вергилия с тобой,
Не плачь, — сейчас ты о другом заплачешь! »
Она сказала, и, хотя не видел
Ее лица, по голосу я понял,
Что говорит она, как тот, кто подавляет
Свой гнев, чтоб волю дать ему потом*.
«Гнев» — «презренье», «жестокость», «явленное в ней пре¬
зренье и жестокость замыкают уста мои». Вдруг Ангелы запели.
«Зачем его казнишь ты так жестоко?» —
Послышалось мне в этой тихой песне**.
Но Беатриче не слышит песни и продолжает казнить обли¬
чать его.
...Каждым словом,
Вонзая в сердце острие ножа,
Чей даже край его так больно резал...***
... «Что, — больно слушать?
Так подыми же бороду, в глаза
* Purg. XXX, 43[-57; 69-72].
** Purg. XXX, 55.
"* Purg. XXXI, 2.
98
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Мне посмотри, — еще больнее будет!»
Она сказала. Налетевшей буре
Когда она дубы с корнями рвет,
Противится из них крепчайший меньше,
Чем я, когда к ней подымал лицо
И чувствовал, какой был яд насмешки в том,
Что «бородою» назвала она
Лицо мое*.
«Яд насмешки», il velen de l’argomento; ядом этим отравлен
в сердце «вонзаемый нож».
В эту минуту, мог бы он вспомнить здесь, на небе, как там,
на земле, в доме новобрачной, «смеялась эта Благороднейшая
Дама» над ним, вместе с другими дамами; тем же «ядом» отрав¬
ляла нож, «вонзаемый в сердце». — «Если бы знала она чувства
мои, то пожалела бы меня?» Нет, не пожалела бы, потому что
любила, а любовь сильнее жалости. Этого тогда не понял он, —
понял теперь, когда уже поздно.
...Суровой,
Как сыну провинившемуся — мать,
Она казалась мне, когда я ощутил
Вкус горькой жалости в ее любви**.
Горькою кажется жалость тому, кто познал сладость любви.
Он и это почувствует, когда уже будет поздно, и когда вся глуби¬
на любви его осветится страшным светом смерти.
...Верный путь
Тебе указан был моею смертью:
Не мог найти в природе и в искусстве
Ты ничего, по высоте блаженства,
Подобного моим прекрасным членам,
Рассыпавшимся ныне в тлен и прах***.
Purg. XXXI, 67.
Purg. XXX, 79.
Purg. XXXI, 47.
Воображаемое
99
О смертном теле своем как будто жалеет бессмертная: в этом
опять Беатриче Небесная подобна сестре своей, земной и под¬
земной, — Франческе:
Любовь, что благородным сердцем рано
Овладевает, овладела им
К недолговечной прелести моей,
Так у меня похищенной жестоко,
Что все еще о том мне вспомнить больно...
В эту минуту Данте чувствует, может быть, что не она к нему
была «безжалостна», а он — к ней.
Как только что я эту жизнь на ту
Переменила, он меня покинул
И сердце отдал женщине другой*, —
жалуется она Ангелам; и ему самому:
Ты должен был свой путь направить к небу,
От смертного вослед за мной, бессмертной,
Не опуская крыльев в дольний прах,
Чтоб новых ждать соблазнов от девчонок**.
Вот откуда гнев ее, — от ревности; вот за что она казнит его
так жестоко, — за то, что он изменял ей с «девчонками». Тайна
Беатриче небесной и тайна земной — одна: любовь к Данте.
...И жало угрызения мне сердце
Пронзило так, что все, что я любил
Не в ней одной, я вдруг возненавидел;
И боль такая растерзала душу,
Что я упал без чувств, и что со мною было, —
Она одна лишь знает***.
Purg. XXX, 124.
Purg. XXXI, [55-60].
Purg. XXX, 85.
100
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Кажется, Беатриче на небе делает с Данте то же, что на земле,
в чудном и страшном видении: девушка в объятиях бога Любви,
«облеченная прозрачной тканью цвета крови», пожирает сердце
возлюбленного, пьет кровь его, как вампир. Это кажется, но это
не так: кто чью кровь пьет, кто кого убивает, Она — его или он —
Ее, этого оба они не знают. Здесь как бы «снежная кукла» св.
Франциска39 (его жена «земная», — Небесная — Данте) вдруг
наливается живою, теплою кровью. Не потому ли на Беатриче
Небесной — одежда не белого цвета, как на земной, а красного,
точно «живое пламя» — кровь живая. Страшно-живая жизнь
вторгается вдруг в отвлеченно-мертвое видение — аллегорию,
Carro, Колесницы Римской Церкви, в тех песнях Чистилища,
где происходит неземная встреча Данте с Беатриче, — и опро¬
кидывает эту Колесницу, разбивает ее вдребезги. Вся «Птоле¬
меева система» и даже все строение Дантова Ада, Чистилища,
Рая — разрушено; вместо них зияет голая, черная, непонятная,
непознаваемая вечность, где только Он и Она, Любящий и Лю¬
бимая, — в вечном поединке и с вечным вопросом: как соеди¬
нить любовь земную и небесную, заповедь Отца: «Да будет двое
одною плотью», и заповедь Сына: плоть свою убей, будь «скоп¬
цом ради Царства Небесного»40?
VIII.
Смерть Беатриче
Смерть и любовь внутренне связаны, потому что любовь
есть высшее утверждение личности, а ее отрицание крайнее —
смерть. Бродит Смерть около Любви и подстерегает ее. Вечный
страх любящего — смерть любимого. Вот почему и Данте толь¬
ко что полюбил Беатриче, как начал бояться ее потерять.
В первом видении будущего Рая Бог отвечает Блаженным,
когда те умоляют Его взять Беатриче на небо:
В мире еще потерпите, возлюбленные,
чтоб ваша Надежда (Беатриче), —
доколе Мне будет угодно, —
осталась на земле, где кто-то боится ее потерять*.
Воображаемое
101
Этот «боящийся» — Данте: вся его любовь как под Дамокло¬
вым мечом, под страхом смерти любимой.
...«Было угодно, в те дни, Царю Небесных сил отозвать
во славу свою одну молодую прекрасную даму... И я увидел
бездыханное тело ее, лежавшее среди многих плачущих жен...
И, вспомнив, что видел их часто вместе с тою Благороднейшей
(Беатриче), я не мог удержаться от слез»*. — «Видя (чувствуя),
как жизнь ее непрочна, хотя она и была еще здорова, я начал
плакать»**. Плачет над живой, как над мертвой.
Смерть подходит к ней все ближе и ближе: сначала умирает
подруга ее, потом отец***. Многие дамы собрались туда, где Беа¬
триче плакала о нем. «Так она плачет о нем, — говорили они, —
что можно умереть от жалости...» И обо мне говорили: «Что это
с ним? Посмотрите, он сам на себя не похож»****.
«Вскоре после того я тяжело заболел. И на девятый день
болезни (девять — трижды три — и здесь, как везде, — число
символическое, — вещее знаменье)... вспомнив о Даме моей...
я заплакал и сказал: „Умрет и она!“... И закрыл глаза... и на¬
чал бредить... И являлись мне многие страшные образы, и все
они говорили: „Ты тоже умрешь... ты уже умер!“... И мне каза¬
лось, что солнце померкло... звезды плачут... и земля трясется...
И когда я ужасался тому... голос друга сказал мне: „Разве ты еще
не знаешь? Дама твоя умерла!“ И я заплакал во сне... И сердце
сказало мне: „Воистину, она умерла!“ И тогда увидел я мертвое
тело ее... И так смиренно было лицо ее, что, казалось, говорило:
„Всякого мира я вижу начало“» *****.
Данте тяжело заболел вскоре после того, как умер отец Беа¬
триче 31 декабря 1289 года, следовательно, болезнь относится
к началу 1290 года. Смерть Беатриче видит он в страшном ви¬
дении, а свою — увидел наяву, лицом к лицу, полгода назад,
11 июля 1289 (это вторая, после помолвки с Джеммой, полным
светом истории освещенная точка в жизни Данте), в бою под
Кампальдино, где аретинские Гибеллины были жестоко разби¬
ты флорентийскими Гвельфами.
* V. N. VIII.
** V. N. XIII.
del Lungo, p. 70.
VN. XXII.
V. N. XXIII.
102
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
«Доблестно сражаясь в первых рядах конницы... Данте под¬
вергался величайшей опасности», — вспоминает Бруни*, и сам
Данте, в драгоценном отрывке письма, уцелевшем в жизнеопи¬
сании Бруни: «...в этой битве я участвовал и, хотя не был уже
новичком на войне, испытал сперва большой страх, а потом,
от различных приключений в бою, величайшую радость»**.
Очень важным делом кажется Бруни участие Данте в Кам-
пал ьдинском сражении, а любовь его к Беатриче — «пустяками»,
leggerezze***. Но самому Данте, может быть, наоборот: «пустяка¬
ми» кажется его военная доблесть, а важным делом — любовь.
Судя по тому, как он вспоминает в «Новой жизни», первый
поход, вероятно, на тех же аретинцев, в 1285 году, он не испы¬
тал, и в этом втором походе ничего, кроме «большого страха»,
скуки и отвращения. «В обществе спутников моих я очень то¬
сковал, что удаляюсь от моего Блаженства» (Беатриче)****. Он ехал
на коне, грустный и задумчивый, потому что против воли. Вдруг
увидел на дороге бога Любви, «в легкой одежде, как бы рубище
паломника», подобного нищему: «как будто потерял он всю свою
власть... и шел, грустно вздыхая, низко опустив голову, чтобы
людиневиделиеголица»*****.Чтоэто —аллегория, видение, «гал¬
люцинация», по-нашему, или нечто большее? Как бы то ни было,
для самого Данте этот призрачный спутник действительнее всех
других его спутников — рыцарей, закованных в железо; а может
быть, действительнее даже, чем он сам для себя. Этот таинствен¬
ный призрак сопутствовал ему, вероятно, и во втором походе
так же, как в первом; всю жизнь будет он с ним неразлучен.
Дважды вспомнит Данте о Кампальдинском бое, в «Коме¬
дии»; в первый раз, — только для того, чтобы сравнить звук
военной трубы, зовущей людей умирать за отечество, с тем
непристойнейшим звуком в Аду, которым один из самых зло¬
вонных бесов, Барбариччия, сопровождает каждый шаг своего
шутовского военного шествия******; а во второй раз — только для
того, чтобы вспомнить, как один, почти никому не известный
воин, Буонконте да Монтефельтро, погибший жалкою смер¬
* L. Brunì (Solerti, р. 99).
** Ib[id].,p. 100.
*** Id/Ï<y.,p.99.
**** VN. IX.
***** V.N.XIX.
****** Inf. XXI, 129.
Воображаемое
103
тью в неприятельском войске, спас душу свою в борьбе с дьяво¬
лом, последним вздохом к Деве Марии*. Вечные судьбы души
человеческой дороже для Данте, чем так называемое «спасе¬
ние отечества». В свой жестокий, железный, воинственный
век он — один из самых мирных людей: не только ненавидит,
но и презирает войну. И в этом, как во многом другом, к будуще¬
му ближе он, чем к прошлому и настоящему.
Может быть, после той тяжелой, едва не смертельной, бо¬
лезни Данте, Биче, в одну из мимолетных уличных встреч,
и прошла мимо него, без приветствия, как проходила во все
эти два последних года («жестокость» это или что-то совсем
другое, — мучить так человека, почти смертельно больного
от любви к ней?). Но по тому, как она вдруг покраснела и по¬
бледнела от радости, увидав, что он жив и здоров, он понял,
что она простила его и снова позволяет любить себя; и обрадо¬
вался этому так, как будто и она его любит; может быть, поду¬
мал, в первый раз: «А что, если любит?» Но все равно, любит
или не любит, — Она есть в мире, и даже если умрет, и не бу¬
дет ее, — все-таки была: уже в этом одном блаженство для него
бесконечное.
Видел я монну Ванну и монну Биче,
идущих навстречу мне.
Чудо одно шло за другим.
И то же, что говорила душа моя,
сказал мне бог Любви: «Имя той: Весна,
а этой: Любовь, — так она похожа на меня»
вспоминает Данте, может быть, об этих блаженных днях**.
В первый и последний, единственный раз на земле называ¬
ет он Беатриче ее земным, простым, уменьшительным именем
«Биче» (так назовет ее снова, только в раю), — может быть, по¬
тому, что вдруг чувствует ее земную, простую близость, в про¬
стой, земной любви.
Столь же, как любовь, прежде, казалась мне жестокой,
кажется она мне теперь милосердной...
* Purg.N, 85.
** KN. XXIV.
104 Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
И чувствует душа моя
такую в ней сладость,
что лицо мое бледнеет*.
... «Сердце мое было, в эти дни, так радостно, что казалось
мне не моим: столь ново было для меня это чувство» **.
В эти дни, вероятно, и прозвучала одна из самых райских пе¬
сен земли — о трех певцах любви и трех возлюбленных: Данте
и монне Биче, Гвидо Кавальканти и монне Ванне, Лапо Джиан-
ни и монне Ладжии***. Но и в этой песне Данте не смеет назвать
Беатриче по имени, — слишком оно для него свято и страшно;
он называет ее «Числом Тридцатым», потому что «всех чудес
начало — Три в Одном».
Хотел бы, Гвидо, я с тобой и с Лапо,
В одной ладье волшебной, в море плыть
Так, чтоб сама она, по нашей воле,
Как по ветру неслась, и ни судьба
И никакое зло иное в мире
Нам не могло преградой быть в пути;
Но, чтоб в одном блаженстве бесконечном,
Быть вместе в нас желание росло.
Еще хотел бы я, чтобы волшебник добрый
К нам перенес в ладью и монну Ванну,
И монну Ладжию, и ту, чье имя
Я под числом тридцатым в песне скрыл;
И чтобы в этом светлом море, с ними
Мы о любви беседовали вечно,
И каждая из наших вечных спутниц
Была бы так же счастлива, как мы****.
Вдруг, в этой блаженной вечности, точно громовой удар
из безоблачного неба, — смерть. Монна Биче умерла внезап¬
но, — кажется, в ночь с 8-го на 9 июня 1290 года*****.
* V. N. XXVII.
** ИМ XXIV.
*** F. Тоггаса, р. 514.
**** Birne 52.
***** Schermo, p. 465.
Воображаемое
105
Данте еще писал ту песнь о блаженстве любви:
...так овладела мною любовь,
что душа исходит из тела
и об одном только молит любимую, —
дать ей больше этого блаженства.
И это всегда, когда я вижу ее;
и такая в этом сладость, что никто не поверит*.
«Я еще писал эту канцону и не кончил ее, когда призвал к Себе
Господь Благороднейшую, дабы прославить ее, под знамением
благословенной Девы Марии, чье имя больше всех других имен
почитала она... И, хотя, может быть, следовало бы мне сказать,
как она покинула нас, — я не хочу о том говорить... потому что нет
у меня слов для того... и еще потому, что, говоря, я должен был бы
хвалить себя, converebbe essere me laudatore di me medesimo»**.
Кажется, здесь один из двух ключей ко всему. Если Беатриче,
умирая, произнесла, с последним вздохом, имя Данте и если,
узнав об этом, он понял, что она его любила и умерла от любви
к нему, то все понятно: ключ отпер дверь***.
Как она любила и страдала в мрачных, точно тюремных, сте¬
нах великолепного дворца-крепости рода дэ Барди, вельмож¬
ных менял, — этого люди не знали, не понимали, и никогда
не узнают, не поймут. Но только потому, что она так любила,
так страдала, — Данте и мог быть тем, чем был, сделать то, что
сделал. Славою, какой не было и не будет, вероятно, ни у одной
женщины, кроме Девы Марии, думал он ей отплатить; но, мо¬
жет быть, всю эту славу отдала бы она за его простую, земную
любовь, и в этом — ее настоящая, совсем иная, и большая сла¬
ва, чем та, которой венчал ее Данте; этим она и спасет его, выве¬
дет из ада, — из него самого, — и вознесет в рай, к Самой Себе.
Только для этого любит и страдает она, Неизвестная, во всей
своей славе забытая так, что люди спрашивают: «Была ли она?»
«С Ангелами, на небе, живет, по отшествии своем, эта Беа¬
триче Блаженная, а на земле — с моею душой», — хочет Данте
утешить себя и не может****.
* V. N. XXVII.
** V. N. XXVIII.
'** Scherillo, р. Зб5. — A. Bartoli. Storia della letteratura] it[aliana], V, 544.
*** Conv.11,2.
106
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
«Скорбь его... была так велика... что близкие думали, что он
умрет, — вспоминает Боккачио. — Весь исхудалый, волосами
обросший... сам на себя не похожий, так что жалко было смо¬
треть на него... сделался он как бы диким зверем или страши¬
лищем»*.
Кажется, в эти дни, Данте, и в самом деле, был на волосок
от смерти. Близкие думали, что он умрет; может быть, он думал
это и сам, и этого хотел.
Каждый раз, когда я вспоминаю о той,
кого уже никогда не увижу, —
я зову к себе смерть,
как отдых блаженный**.
Ждет конца своего и конца мира, напророченного страшным
сном-видением о смерти Беатриче: «Солнце померкло... звезды
плачут... земля содрогается».
Вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет... и звезды
спадут с небес... и силы небесные поколеблются. (Мт. 24, 29.)
К смерти близок он, или к сумасшествию. Пишет, должно
быть, в полубреду, торжественное, на латинском языке, «По¬
слание ко всем государям земли», — не только Италии, но и все¬
го мира, потому что смерть Беатриче — всемирное бедствие,
знамение гнева Божия на весь человеческий род***. «Ее похитил
не холод, не жар, как других людей похищает; но взял ее Го¬
сподь к Себе потому, что скучная наша земля недостойна была
такой красоты» ****. — «Как одиноко стоит Город, некогда много¬
людный, великий между народами. Он стал, как вдова», — на¬
чинает он это «Послание» Иеремииным плачем; но мог бы на¬
чать и другим:
Дщери Иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе
и детях ваших... Ибо если с зеленеющим деревом это делают,
то с сухим что будет? (Лк. 23, 28-31.)
Если это «бред безумия», то, кажется, есть в нем и что-то
мудрое, в безумном — вещее, действительное — в призрачном:
* Boccaccio. Vita di Dante: «magro, barbuto e quasi tutto trasformato».
** V. N. XXXIII.
*** Scherillo, p. 388.
**** V. N. XXXI.
Воображаемое
107
то, что видит Данте во сне, в бреду, — все потом увидят наяву.
В 1289 году, в самый канун смерти Беатриче, наступает внезап¬
ный конец флорентийского «мира, покоя и счастья», начинают¬
ся братоубийственные войны между простым народом и вель¬
можами, между «Черными» и «Белыми». — «Кончились в этом
году флорентийские веселья и празднества», — вспоминает ле¬
тописец тех дней*.
«После того, как ушла она (Беатриче) из этого мира, весь
город остался, как вдова, лишенная всякого достоинства», —
вспоминает Данте**.
Город этот потерял свое Блаженство,
и то, что я могу сказать о нем,
заставило бы плакать всех людей***.
«Скорбный Город», Città dolente, — не только Флоренция,
но и вся Италия — весь мир.
В Скорбный Город входят через меня,
Per me si va nella Città dolente...
Эти слова, написанные черным,
я увидел на челе ворот, —
ведущих в Ад****.
Муки любви — первое, а смерть Беатриче — второе для Дан¬
те сошествие в Ад.
IX.
Пестрая пантера
Кажется, в 1292 году, — года через два по смерти Беатри¬
че, — стоял однажды Данте, «в глубокой задумчивости, вспо¬
миная о прошлых днях», и вдруг, подняв глаза, увидел прекрас¬
ную и благородную Даму, смотревшую на него из окна, «с такою
жалостью в лице, что, казалось, сама она была воплощенная
* G. Villani, Cronfica]. VII, 88 — Scherillo, p. 465.
** VN. XXX.
*** V.N. XL.
*** Inf. Ili, 1.
108
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
жалость»*. — «И всюду (потом), где Дама эта видела меня, вы¬
ражало лицо ее жалость ко мне и бледнело, как бы от любви,
так что напоминало мне мою благороднейшую Даму (Беатриче),
чье лицо было такого же цвета всегда» **.
Если «Милосердная Дама», «бледнея от любви» к Данте, на¬
поминала ему Беатриче, то, значит, и эта его любила. Не пото¬
му ли «цвет жемчуга», color di perle***, — бледность жемчуга, —
главная для него и незабвенная прелесть в лице возлюбленной?
«Я не хочу говорить о смерти ее, потому что, говоря, я дол¬
жен был бы хвалить себя», — если в этих словах один из двух
ключей ко всему, то другой, может быть, здесь: тайна Данте
и Беатриче — их любовь взаимная. А если так, то лишь при све¬
те этой, неизвестной нам, Беатриче, мы могли бы увидеть — уз¬
нать и неизвестного Данте.
И много раз, глаза от книги подымая,
Бледнели мы, —
вспоминает Франческа да Римини о том, что ее погубило,
«довело до рокового шага»****. Она «бледнеет» от любви. Здесь
опять земная и подземная — сестра Небесной; темная — спут¬
ница Светлой, неразлучная с нею, как тень, не только в этом
мире, но и в том. «Вечный Строитель мостов» — бог Любви,
строит, человеком разрушенный, мост между землей и небом.
В жизни Данте этот мост разрушил; но в смерти он построится
снова, неразрушимый.
«...И часто, не будучи в силах плакать, чтобы облегчить сле¬
зами скорбь мою, я старался увидеть эту Милосердную Даму,
одним только видом исторгавшую у меня слезы из глаз...» ***** —
«И начали глаза мои слишком услаждаться видом ее, и часто
я мучился, потому что это мне казалось очень низким, vile
assai... И я говорил глазам моим: „Проклятые! вы должны
были бы плакать до смерти о той, кто умерла“»******.
* V. N. XXXV.
** V.N. XXXVI.
*** V.N.XIX.
**** Inf. V, 136.
***** V N. XXXVI.
****** V. N. XXXVII.
Воображаемое
109
Так же, как некогда с «Дамой Щита» изменял он живой Бе¬
атриче, — изменяет он теперь, с этой «Милосердной Дамой»,
и Беатриче умершей. Служит ему и эта «щитом», но в каком
трусливом и жалком поединке с беззащитной — мертвой! «Дама
Милосердная», donna pietosa, — уже одно это имя живой оскор¬
бляет память умершей — бессмертной, как будто она была «не¬
милосердной», — той, «кто жалости к нему не знала никогда».
«...Часто думал я об этой Даме, с чрезмерным услаждением,
так: „Может быть, самим богом Любви послана мне эта благо¬
родная Дама, прекрасная и мудрая, для того, чтобы мне уте¬
шиться?“ И сердце мое соглашалось на это... Но, едва согласив¬
шись, говорило: „Боже мой, что это за низость!“ Так я боролся
с самим собою»*. — «Но знал об этой борьбе только тот несчаст¬
ный, который в себе ее чувствовал» **. — «И это было мне так тя¬
жело, что я не мог вынести»***.
Кажется, именно к этим дням относится начало «Ада», —
не в книге, видении, а в жизни, наяву.
Только что выйдя из «темного, дикого леса», selva selvaggia,
где заблудился, —
столь горек был тот лес, что смерть немногим горше, —****
встречает он Пантеру. Быстрая, легкая, ласковая, все забега¬
ет она вперед и заглядывает ему в глаза, преграждая путь, и он
уж хочет вернуться назад. Но весеннее утро так нежно, солнце
восходит так ясно, под знаком тех же звезд, что были на небе,
в первый день творения, и «пестрая шкура» Пантеры так весе¬
ла, что он уже почти перестает ее бояться*****.
Первые истолкователи Дантовых загадок уже разгадали, что
эта «пестрая Пантера», Lonza a la gaetta pella, есть не что иное,
как «сладострастная Похоть», Lussuria. — «Этому пороку он
очень был предан», — вспоминает сын Данте, Пьетро Алигье¬
ри******.
* v.n. xxxvin.
** ИМ XXXVII.
*** Conv.II.
**** Inf. I, 7.
***** Inf. I, 34 f.
****** Pietro Dante. Comment [arium]. (1845), p. 489: «in hoc vit io luxuriae fuisse
multum implicitum».
110
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
«В жизни этого чудесного поэта, при такой добродетели его...
занимала очень большое место, не только в юности, но и в зре¬
лые годы, плотская похоть»,— подтверждает и Боккачио*.
Очень знаменательно, что прежде, чем окунуться в очиститель¬
ные воды Леты на «Святой Горе Чистилища», Данте влагает
в уста Бонаджьюнты, гражданина из Лукки, пророчество об од¬
ной из его соотечественниц, Джентукке, тогда еще маленькой
девочке, в которую Данте влюбился, почти на старости лет (так,
по истолкованию другого сына его, Джьякопо Алигьери)**.
— «Даруй мне. Господи, целомудрие— только не сей¬
час^ — мог бы молиться и грешный Данте, как св. Августин,
боясь быть услышанным слишком скоро***.
«Славу великих добродетелей своих омрачил он блудом», —
вспомнит, лет через пять по смерти Данте, один из его благого¬
вейных почитателей****.
Кроме двух жен, земной и небесной, Джеммы и Беатриче,
жизнеописатели Данте насчитывают до десяти возлюбленных,
а сколько еще, может быть, несосчитанных!*****
«С девятилетнего возраста, — вспоминает он сам, —
...я уже любил и знал,
Как взнуздывает нас любовь и шпорит,
И как под ней мы плачем и смеемся.
Кто разумом с ней думает бороться,
Иль добродетелью, подобен тем,
Кто хочет грозовую тучу звоном
Колоколов прогнать...
В борьбе с любовью, воля человека
Свободною не будет никогда;
Вот почему совет в любви напрасен:
Кому в бока она вонзает шпоры,
Тот принужден за новым счастьем гнаться,
Каким бы ни было оно презренным»******.
Boccaccio. Vita (Solerti, p. 53): «trovo amplissimo luogo la lussuria».
** Purg. XXIV, 43. — F. P. Luiso. Chiose di Dante le quali fece el fìgiuolo (1904).
*** Augustin. Conf. Vili, 7.
R. Davidsohn, p. 351 (Luxuria «quae Dantem omnium morum habitibus
rutilantem adulterinis amplexibus venenavit»).
***** G. Papini. Dante Vivo (Trad[uction] française]), p. 173.
Rime 111.
Воображаемое
111
В детстве, в отрочестве и, может быть, в ранней юности, лю¬
бовь его невинна; но потом, смешиваясь с «похотью», делается
все более грешною, и это продолжается «почти до конца жиз¬
ни», по свидетельству Боккачио*. — «Похотью сплошной была
вся моя жизнь, libido sine ullo interstitio», — мог бы сказать ве¬
ликий грешник Данте, вместе с великим святым, Августином.
«Держит меня любовь, самовластная и страшная, такая лю¬
тая... что убивает во мне, или изгоняет, или связывает все, что
ей противится... и господствует надо мной, лишенным всякой
добродетели», — признается Данте, уже почти на пороге старо¬
сти**. Любит, полушутя, — и это хуже всего; играет с любовью,
«плачет и смеется» вместе; бежит, издыхая, как загнанный
конь под страшным всадником.
О кто поверил бы, что я в таком плену?***
Этому, в самом деле, не поверит почти никто, и, чтобы оправ¬
дать его, люди изобретут одну из величайших глупостей, — буд¬
то бы все нечистые любви его — чистейшие «аллегории»****.
Здесь, в блуде, небо с землей, дух с плотью уже не борются;
здесь «любовь», amore, смешивается с «похотью», lussuria,
и бог Любви уже «строит мосты» не между землей и небом,
а между землей и адом.
Может быть, самое страшное не то, что Данте изменяет Беа¬
триче с одной из многих «девчонок», — Виолеттой, Лизеттой,
Фиореттой, Парголлеттой*****, — не то, что он любит сегодня Бе¬
атриче, а завтра — «девчонку»; самое страшное, что он любит
их обеих вместе; говорит Виолетте и всякой другой девчонке,
в одно и то же время, почти то же и так же, как говорит Беат¬
риче:
...прелестью твоей, нечеловеческой,
ты зажгла огонь в душе моей...
* Boccaccio. Commento (ed. Guerri) I, 74: «vicino allo stremo di sua vita».
** Ер. IV: «Regnat itaque Amor in me, nulla refragante virtute».
Rime 116.
“* Bartoli, Kraus, Valli, Rossetti etc. etc...
Rime 58.
112
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Страшная война противоречивейших мыслей и чувств, высо¬
ких святых и грешных, низких, — кончается миром, согласием,
еще более страшным. Только что пел неземную любовь:
смертное может ли быть таким
прекрасным и чистым?*
как начинает петь совсем иную любовь к «Даме-Камню»,
Donna Pietra:
...О, если бы она, в кипящем масле,
Вопила так из-за меня, как я —
из-за нее, — я закричал бы ей:
«Сейчас, сейчас иду к тебе на помощь!»
...О, только б мне схватить ее за косы,
Что сделались бичом моим и плетью, —
Уж я бы их не выпустил из рук,
От часа третьего до поздней ночи,
И был бы к ней не жалостлив и нежен,
А как медведь играющий, жесток!
И если б до крови Любовь меня избила,
Я отомстил бы ей тысячекратно;
И в те глаза, чье пламя сердце мне
Испепелило, я глядел бы прямо
И жадно; мукой бы сначала — муку, —
Потом любовь любовью утолил**.
«Данте-поэт лежал однажды с блудницей», — так начинается
гнусный и кощунственный анекдот XVII века***. Этого не было?
Может быть, и не было, но могло быть. Если и не было в дей¬
ствительности, а было только в нечистых желаньях и помыслах,
то это, пожалуй, еще хуже.
«Это было мне так тяжело, что я не мог вынести», — вспо¬
минает Данте о борьбе этих согласно-противоположных мыслей
и чувств. Но, кажется, он ошибается: в иные минуты, часы или
* V.N.XIX.
** Rime 103.
k** Papanti. Dante secondo la tradizione e i novellatori (1873), p. 193 («Dante,
poeta, giaciuto con una meretrice...»)
Воображаемое
113
дни жизни, он это не только отлично выносит, но это ему и нра¬
вится: сладостно мучается сердце его неутолимой жаждой этих
раздирающих его противоречий.
Пестрая, гладкая шкура Пантеры нежно лоснится под утрен¬
ним солнцем, и светлые пятна чередуются с темными так, что
смотреть на них приятно. Нравится ему это смешение светлого
с темным, небесного с подземным, — полета с падением. В ла¬
сковом мяуканье Пантеры слышится: «Бросься вниз, — с выси
духа в бездну плоти, и Ангелы — или демоны — понесут тебя
на руках своих, да не преткнешься о камень ногою твоею». Это
и значит: падение — полет.
«Вынести я не могу», — говорит Данте и, от страха или
от стыда, недоговаривает. — «Вынести я не могу», — говорит
духовный близнец Данте, или из XIII века в XIX-й «перевопло¬
щенная душа» его, Достоевский, и договаривает, устами Дми¬
трия Карамазова: «Вынести я не могу, что иной, высший даже
сердцем человек, и с умом высоким, начинает с идеала Мадон¬
ны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто, с идеа¬
лом содомским в душе, не отрицает и идеала Мадонны, и горит
от него сердце его, воистину горит, как и в юные беспорочные
годы. Нет, широк человек... я бы сузил... Что уму представля¬
ется позором, то сердцу — сплошь красотой... Тут берега схо¬
дятся, тут все противоречия вместе живут»*. В этой «исповеди
горячего сердца» Дмитрия Карамазова не узнал ли бы Данте
своей души?
Кроме старшего друга-обличителя, Гвидо Кавальканти, был
у него и младший друг, ровесник, сосед, брат будущей жены его
и, кажется, товарищ всех его любовных похождений за «дев¬
чонками», Форезе Донати. Как-то друзья жестоко поссорились,
но ненадолго, судя по тому, что снова встретились, как лучшие
друзья, на шестом уступе Чистилищной горы, где, года за четы¬
ре перед тем умерший Форезе, искупая грех обжорства и пьян¬
ства, мучается голодом и жаждой.
Как некогда, там, на земле, над мертвым
Лицом твоим, я плакал, так и ныне
Я плачу здесь над ним, столь жалко искаженным, —
* Достоевский. «Бр. Карамазовы» III, 3.
114
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
говорит ему Данте, не поминая ни словом о бывшей ссоре.
Форезе называет его «милым братом» и, забывая о себе, спра¬
шивает, как мог он, живой, войти в царство мертвых. Но Данте,
прежде чем ответит, говорит о прошлом:
...О, тяжко вспомнить,
Какую жизнь с тобою мы вели!*
Кажется, в это незабываемое прошлое, — в «презренную
жизнь», в которой обличает Данте и Гвидо Кавальканти, — дают
нам заглянуть шесть бранных сонетов, по три на каждого, ко¬
торыми обмениваются в ссоре бывшие друзья. Данте обличает
Форезе в обжорстве, пьянстве, воровстве, а тот его, — в «плу¬
товстве» и «подлой трусости», но не в распутстве; может быть,
потому, что в этом они равны. Трудно поверить, читая эти стро¬
ки, что один из пишущих — Данте. Точно ругаются два ослиных
погонщика на большой дороге, или двое пьяниц в доме терпимо¬
сти, или, в одной из зловоннейших адских «ям», bolgia, два сце¬
пившихся в драке грешника, чью гнусную ругань слушает Данте
с таким порочным услаждением, что Вергилий остерегает его:
Желание такие речи слушать
Есть низости душевной знак**.
Есть и в этой земной ссоре двух друзей, может быть, нечто,
от Форезе, а от Данте идущее, «подземное».
Тогда услышал я — о диво! — запах скверный,
Как будто тухлое разбилося яйцо,
Иль карантинный страж курил жаровней серной.
Я нос себе зажал, отворотив лицо***.
Хуже всего, что этот «скверный запах» смешивается с рай¬
ским благоуханием тех самых «юных беспорочных дней», когда
пишется — живется «Новая жизнь» ****, и что в сердце Данте про¬
* Purg, XXIII, 46.
** Inf, XXX, 130; 148.
*** Пушкин.
**** Barbi, Opere di Dante (1921), p. XI.
Воображаемое
115
исходит и теперь то же, что перед сошествием в ад, когда на глад¬
кой, нежно лоснящейся под утренним солнцем, шкуре Пантеры
чередование светлых пятен с темными кажется ему «веселым»;
хуже всего то, что сердце его хочет утолить горящую жажду про¬
тиворечий этим смешением Рая с Адом.
«Вот сердце мое, Господи, вот сердце мое... пусть скажет оно
Тебе, чего искало в этом бескорыстном зле — зле ради зла».
— «Гнусно было зло, но я его хотел; я любил себя губить,
amavi perire; любил мой грех, — не то, ради чего грешил, а са¬
мый грех. Гнусная душа моя низвергалась с неба Твоего, Госпо¬
ди, во тьму кромешную. Я хотел не чего-либо стыдного, а само¬
го стыда». — «Сладко мне было преступать закон... и, будучи
рабом, казаться свободным... в темном подобии всемогущества
Божия...» Кто это говорит? Грешный Данте? Нет, святой Авгу¬
стин*.
«Я иду и не знаю: в вонь ли я попал и позор, или в свет и ра¬
дость... И когда мне случалось погружаться в глубокий позор
разврата... я всегда этот гимн Церере 41 читал (Данте читает
гимн Беатриче). — Исправлял ли он меня? Никогда! Потому
что, если я уж полечу в бездну, то прямо головой вниз и вверх
пятами, и даже доволен, что именно в таком унизительном по¬
ложении падаю... И вот, в самом этом позоре, я вдруг начинаю
гимн»... Или наоборот: сначала гимн, а потом «вверх пятами».
Может быть, и в этой исповеди близнеца своего, Дмитрия Ка¬
рамазова, или самого Достоевского, Данте узнал бы свою душу.
Но может быть и то, что без этих двух противоположно-соглас¬
ных внутренних опытов, подземного и небесного, он не со¬
здал бы «Божественной комедии». Это очень страшно; и еще
страшнее то, что нужно ему было, чтобы спасти себя и других,
так погибать от этих внутренних опытов зла.
Вещий сон приснился Данте, в Чистилище: древняя, безо¬
бразная «ведьма» превращается, на его глазах, его же собствен¬
ной «похотью», в юную, прекрасную полубогиню, и слышится
ему чарующий зов:
«Я — сладостно поющая Сирена,
Манящая пловцов на ложный путь...
Кто полюбил меня, тот скоро не разлюбит, —
* Augustin. Conf. II, 4.
116
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Так чар моих могущественна власть!»
Еще уста поющей не сомкнулись,
Когда явилась мне Жена Святая;
И, быстрым шагом подойдя к Сирене
И разодрав ей спереди одежду,
Мне показала чрево той нечистой,
Откуда вышел смрад такой, что я проснулся*.
Это, может быть, происходит с ним не только на «святой горе
Очищения», в том мире, но и в этом, и не однажды, а много раз;
едва «проснувшись от смрада», он опять засыпает, и ведьма
превращается опять в богиню, «смрад» — в благоухание, —
и так без конца.
X.
Темные лучи
Огненная река обтекает предпоследний уступ Чистилищной
Горы, там, где начинается лестница, ведущая в Земной Рай.
Так же, как все, повинные в блудном грехе, должен пройти
и Данте сквозь этот очистительный огонь. Но слыша, как Ан¬
гел, стоящий над рекой, поет:
Блаженны чистые сердцем!
Здесь нет иных путей, как через пламя,
Войдите же в него, святые души,
Не будьте глухи к песне за рекой, —
он ужасается:
...И сделавшись таким,
Как тот, кого уже кладут в могилу,
Я обратился к доброму вождю, Темные лучи.
И он сказал мне. «Сын мой, помни,
Здесь может быть страданье, но не смерть.
Не бойся же, войди в огонь скорее!»
Но я стоял, недвижимый от страха.
Увидев то и сам смутясь, Вергилий
*Purg. XIX.
Воображаемое
117
Сказал мне так: «О, сын мой, видишь,
Между тобой и Беатриче —
только эта стена огня...»
И, головою покачав, прибавил:
«Ты все еще стоишь?» и улыбнулся мне,
Как яблоком манимому ребенку,
И впереди меня вошел в огонь...
За ним вошел и я, но был бы рад
В расплавленное броситься стекло,
Чтоб освежиться: так был жар безмерен.
Но, идучи в огне, со мною рядом, —
Чтоб укрепить меня, отец мой нежный
Мне говорил о Беатриче: «Вот,
Уже глаза, ее глаза я вижу! » *
Кажется, сквозь тот же очистительный огонь проходит Дан¬
те, и на земле, в эти именно, последние дни своей «презренной
жизни».
«Против этого врага моего (Духа искушающего: „Брось¬
ся вниз!“ или Демона Превратности, как мог бы назвать его
другой близнец Данте, тоже сходивший в ад, Эдгар Поэ) — про¬
тив этого врага поднялось однажды во мне, в девятом часу дня,
могучее видение: Беатриче... в одежде того же цвета крови...
в том же юном возрасте, как в первый раз, когда я увидел ее (де¬
вятилетним отроком)... И, вспомнив прошлые дни, сердце мое
мучительно раскаялось в тех низких желаниях, которым дало
собой овладеть... и вновь обратились все мои мысли к Беатриче
единственной» **.
Было ему и другое «чудесное видение», mirabile visione, о ко¬
тором он ничего не говорит, может быть, потому, что оно не вы¬
разимо словами, или слишком свято для него и страшно — «чу¬
десно». — «В нем увидел я то, что мне внушает не говорить
больше об этой Благословенной, пока я не буду в силах сказать
о Ней достойно. К этому я и стремлюсь, насколько могу, и это
воистину знает Она; так что если угодно будет Тему, в Ком все
живет, даровать мне еще несколько лет жизни, — я надеюсь ска¬
зать о Ней то, что никогда, ни о какой женщине не было сказано.
Purg. XXVII, 8.
V N. XXXIX.
118
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Да будет же угодно Царю всякой милости, Sire de la cortesia,
чтобы увидела душа моя славу госпожи своей, Беатриче Благо¬
словенной, созерцающей лицо Благословенного во веки веков» *.
Так кончается «Новая жизнь» — первая половина жизни
Данте — в той серединной точке, о которой он скажет:
Посередине жизненной дороги, —**
и начинается вторая половина— «Комедия». Точное разде¬
ление этих двух половин Данте сам отмечает одним и тем же
словом «начинается», повторяемым в заглавии двух книг, или
двух частей одной Книги Жизни: «incipit Vita Nova— incipit
Comedia»; «Новая Жизнь начинается»,— «начинается Коме¬
дия».
Данте пишет «Новую жизнь», вероятно, в 1295 году, когда
ему исполнилось тридцать лет***. В первой половине жизни, —
от девяти лет до тридцати, от первого явления живой Беатри¬
че до последнего, или предпоследнего, земного видения умер¬
шей, — Данте любит ее, земную, как небесную; живую, как
мертвую. А во второй половине жизни, от тридцати лет до смер¬
ти, от последнего земного видения умершей до первого небесно¬
го явления Бессмертной, — он любит ее, мертвую, как живую.
Может ли живой чувственно любить мертвую? Этот вопрос лю¬
дям наших дней, и верующим и неверующим одинаково, кажется
умственно нелепым или нравственно чудовищным, получающим
ответ только в таких клинических случаях полового безумия, как
«вампиризм» или «некрофильство». Может ли мертвая любить
живого? Этот вопрос кажется еще более нелепым и чудовищным:
уже в нем самом — как бы начало безумия. Вот почему людям
наших дней так трудно понять любовь Данте к Беатриче: в луч¬
шем случае, эта любовь для нас только живой художественный
символ, а в худшем — мертвая аллегория. «Беатриче — Священ¬
ная Теология, la sacra Teologia», как объясняет Боккачио и вслед
за ним другие бесчисленные истолкователи Данте****.
* V. N. XLII.
** Inf. I, 1.
*** Е. Lamma, р. 141, 158 — G. Federzoni. Quando fu composta la Vita Nuova?
(1899).
“** Boccaccio. Commento [(ed. Guerri)], p. 91.
Воображаемое
119
Деторождение — пол и смерть, начало и конец жизни, — для
людей не только нашего времени, но и всей христианской эры —
две, чувственно физически и метафизически сверхчувственно,
несоединимые категории, два несовместимых порядка. Но древ¬
няя мистерия — религиозная душа всего дохристианского че¬
ловечества — только и начинается с вопроса о соединении этих
двух порядков; исходная точка всех древних мистерий, от Егип¬
та и Вавилона до Елевзиса42 и Самофракии43, есть половое ощу¬
щение трансцендентного, как Божественного или демоническо¬
го. Бог Любви и бог смерти, Эрос и Танатос, в мистериях, — два
неразлучных близнеца.
Может ли живой чувственно любить мертвую? Может ли
мертвая так любить живого? Для Данте здесь нет вопроса: он
больше, чем верит, — он знает, что это не только может быть,
но и есть; и что ни на земле, ни на небе нет ничего прекраснее,
чище, святее, чем это.
Данте, вероятно, думает, или хотел бы думать, что любит
Беатриче умершую, как любил живую, — духовно бесплотно.
Но так ли это? В этом, конечно, весь вопрос. Что такое для Дан¬
те Беатриче, в своих посмертных «чудесных видениях» — яв¬
лениях, mirabile visione? Только ли «бесплотный дух», «при¬
зрак» , — «галлюцинация», по-нашему? Нет, Данте больше, чем
верит, — он знает, что она приходит к нему, живому, — живая,
хотя и в ином, нездешнем, «прославленном», теле. Может ли
это быть? Но если не может, то не могло быть и этого:
Сам Иисус стал посреди них и сказал: мир вам. Они же, сму¬
тившись и испугавшись, подумали, что видят духа (демона,
daimôn, по другому чтению).
Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли
входят в сердца ваши?... Это Я Сам; осяжите Меня и рассмо¬
трите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. (Лк.
24, 36-39.)
Так же, как ученики Иисуса, пугается и Данте, при первом
явлении Беатриче в Земном Раю:
...я весь дрожу,
Вся кровь моя оледенела в жилах*.
* Purg. XXX, 46.
120
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
И Беатриче говорит ему те ж почти слова, как Иисус — уче¬
никам:
...Смотри же, смотри: это я,
Я — Беатриче!*
То, что открывалось религиозному опыту всего дохристи¬
анского человечества как божественная красота, в соединении
двух порядков, здешнего и нездешнего, — Любви и Смерти, —
смутно мерещится и людям христианской эры, но уже в искаже¬
ниях демонических.
Брачная любовь живых к мертвым — сильнейший ожог тем¬
ных лучей «полового радия». Гоголь знал об этом. Прекрасная
панночка-ведьма скачет верхом на молодом бурсаке, Хоме Бру¬
те; он отмаливается, сам вскакивает на нее и, загоняв ее до смер¬
ти, влюбляется в мертвую. «Он подошел к гробу, с робостью по¬
смотрел в лицо умершей — и не мог, несколько вздрогнувши,
не зажмурить глаз... Такая страшная, сверкающая красота...
В чертах лица ничего не было тусклого, мутного, умершего: оно
было живо»**. Жизнь сквозь смерть, пол сквозь смерть, — вот
в чем ожог радия.
Жалкою гибелью — сначала безумием, а потом смертью —
кончается первая брачная ночь живого жениха, Аратова,
и мертвой невесты, Клары Милич***. Та же гибель постигает и но¬
вобрачных, в «Коринфской невесте» Гёте.
Выхожу я ночью из могилы,
Чтоб блаженства моего искать,
И, придя туда, где спит мой милый,
Кровь из сердца у него сосать.
Слыша это, как не вспомнить пожираемого возлюбленной
сердца любимого, в первом видении Данте?
В книге XVII века, «О поклонении демонам», откуда Гёте за¬
имствует легенду, мертвая невеста говорит родителям жениха:
«Не без воли Божьей я сюда пришла!» В этих для нас кощун¬
* Purg. XXX, 73.
** Гоголь. «Вий».
'** Тургенев. «КлараМилич».
Воображаемое
121
ственных или непонятных словах — как бы родимое пятныш¬
ко — знак тайного сродства этой христианской легенды с дохри¬
стианским таинством.
Кажется, знает и Данте этот страшный ожог темных лучей.
«Кто мы такие? Кто мы такие?» — спрашивают влюбленных
юношей девушки в цветных масках, на флорентийских играх
бога Любви*; так же могла бы спросить и Беатриче у Данте, при¬
ходя к нему, после смерти: «Кто я такая? Кто я такая? Живая
или мертвая? Небесная или подземная? »
«Будут два одна плоть», — будут, но не суть, в любви брач¬
ной, рождающей, смертной, ибо умирает все, что рождается; бу¬
дут, — в любви бессмертной, воскрешающей.
Сыны Воскресения не женятся, ни замуж не выходят, ибо
равны Ангелам. (Лк. 20, 35-36.)
Но что же такое влюбленность, самое небесное из всех земных
чувств, как не греза о небе на земле уснувшего Ангела? И поче¬
му сыны Воскресения— «Сыны чертога брачного»? Грешный
пол уничтожен ли, в святой, преображенной плоти, или преоб¬
ражен вместе с нею?
В Абидосском храме44 Фараона Сэти I, и на гробнице Ози¬
риса, в Абидосском некрополе, и в тайном притворе Денде-
рахского святилища45, всюду повторяется одно изображение:
на смертном ложе лежит Озирисова мумия, окутанная сава¬
ном, — воскресающий, но еще не воскресший, мертвец; и боги¬
ня Изида46, ястребиха, парящая в воздухе, опускаясь на него,
соединяется в любви, живая с мертвым**. «Лицо Изиды светом
озарилось; овеяла крылами Озириса, — и вопль плачевный
подняла о брате» :
Я — сестра твоя, на земле тебя любившая;
никто не любил тебя больше, чем я!
И в Песне Песней47 Израиль вторит Египту:
Ночью на ложе моем,
искала я того, кого любит душа моя;
искала его, и не нашла...
* R. Ortiz, Canzoniere) di Dante (1923), p. 115: «Chi siamo? Chi siamo?»
** A. E, Mariette, Dendérah, [vol.] IV, p. 68-70, pi. 90. — A. Morel. Rois et
dieux d’Égypte, p. 136. — W. Budge. Osiris and the Egyptian Resurrection
(1911), p. 94. — Д. Мережковский. «Тайна Трех», 1925, 170-200 («Тайна
двух в Озирисе»).
122
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
...Положи меня, как печать, на сердце свое,
как перстень, на руку свою;
ибо крепка любовь, как смерть.
Две тысячи лет Церковь христианская поет эту песнь люб¬
ви, и мы не слышим, не понимаем, жалкие скопцы и распут¬
ники: надо, воистину, иметь в жилах кровь мертвеца, чтобы
не понять, что нет и не будет большей любви, чем эта. «Никто
на земле не любил тебя больше, чем я!» — «Крепка любовь, как
смерть». Это и значит: любовь сквозь смерть— сквозь смерть
Воскресение.
Это, может быть, понял бы Данте, лобзая последним лобза¬
нием Беатриче в гробу: только в разлуке смертной понимает лю¬
бящий, что любовь есть путь к Воскресению.
Главное, еще неизвестное людям, будущее величие Дан¬
те — не в том, что он создал «Божественную комедию», ни даже
в том, что он вообще что-то сделал, а в том, что был первым
и единственным человеком, не святым, в Церкви, а грешным,
в миру, увидевшим в брачной любви Воскресение.
Если в жизни каждого человека, великого и малого, святого
и грешного, повторяется жизнь Сына Человеческого, то понятно,
почему Данте запомнил, что в последнем земном видении Беа¬
триче, которым кончилась первая половина жизни его и нача¬
лась вторая, явилась ему Возлюбленная, «в одежде цвета крови»,
в девятом часу дня. Час девятый, а по иудейскому — третий.
Час был третий, и распяли Его. (Мк. 15, 25).
В тот же час, и Данте, один из великих сынов человеческих,
был распят на кресте Любви.
XI.
Между земной и небесной
Кое-что, хотя и очень мало, мы знаем о том, как Данте любил
чужую жену, монну Биче де Бард и; но о том, как он любил свою
жену, монну Джемму Алигьери, мы совершенно ничего не зна¬
ем. Эта часть жизни его забыта и презрена не только другими,
но и им самим.
Между Данте и Беатриче совершается Божественная Коме¬
дия, а между Данте и Джеммой — человеческая трагедия; ту ви¬
Воображаемое
123
дят все, а эту — никто. «Знал... об этой борьбе с самим собою...
только тот несчастный, который чувствовал ее в себе» *.
Если верить Боккачио, Данте хуже, чем не любил, — «не¬
навидел» жену свою: «Знала она, что счастье мужа зависит
от любви к другой, а несчастье — от ненависти к ней» **.
Как женился Данте? По свидетельству того же Боккачио,
единственного из всех его жизнеописателей, который кое-что
знает об этом или думает, что знает, — «видя убийственно горе
Данте об умершей Беатриче» и полагая, что своя жена будет для
него наилучшим лекарством от любви к чужой, родственники
долго убеждали его и наконец убедили жениться. Но лекарство
оказалось хуже болезни. — «О, невыразимая усталость жить
всегда с таким подозрительным животным, sospettoso animale
(как ревнивая жена)... и стареть и умирать, в его сообществе!»***
После общих мест о несчастных браках почти всех поэтов и фи¬
лософов, Боккачио оговаривается: «Произошло ли и с Данте не¬
что подобное... я, конечно, не знаю»****. Но тут же ссылается надо-
вольно убедительный довод в пользу своих догадок о несчастном
браке Данте: «Раз покинув жену, он уже никогда не хотел быть
там, где была она, и не терпел, чтобы она была там, где он»*****.
Можно бы на это возразить, что, если бы Данте и любил жену,
и даже в этом случае, тем более, — он не захотел бы подвергать
ее всем бедствиям своей изгнаннической жизни. Но для послед¬
них годов этой жизни, проведенных в Равенне, в сравнительном
довольстве и покое, довод Боккачио остается в полной силе: если
оба сына, Пьетро и Джьякопо, вместе с дочерью Антонией, мог¬
ли приехать к отцу и поселиться с ним на эти годы, то могла бы
это сделать и жена. А если она этого не сделала, то очень похоже,
что Боккачио прав : Данте не любил жену и не хотел жить с нею ******.
Есть на это косвенный намек и у Петрарки, одного из очень
немногих, чьи сведения о Данте идут не от Боккачио: «Любовь
к жене и детям не могла отвлечь Данте от науки и поэзии; только
одного искал он — тени, тишины и молчания»*******.
* V. N. XXXVII.
** Boccaccio, Vita (Solerti, р. 19).
*** Boccaccio. Vita (Solerti, p. 19).
**** Boccaccio. Vita (Solerti, p. 19).
***** Boccaccio. Vita (Solerti, p. 19).
****** Giannozzo Manetti. Vita Dantis (Solerti p. 121).
******* Petrarca. Epistolae (1601), foi. 445.
124
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Кажется, в связи с тем, о чем догадывается Боккачио, и на что
намекает Петрарка, знаменательно и молчание самого Данте
о жене; и тем знаменательнее, что память сердца у него очень
верная. Главная для него горечь изгнания — разлука с люби¬
мыми:
О, если б только с милыми разлука
Мне пламенем тоски неугасимой
Не пожирала тела на костях!*
Как же, при такой тоске, не обмолвился он, за всю жизнь,
ни словом о разлуке с женой? Два молчания Данте — об отце
и о жене — отягчены, вероятно, двумя одинаково страшными
смыслами: отца презирал, жену ненавидел.
«Зла причинила мне в жизни больше всего злая жена», —
мог бы, кажется, сказать и Данте, вместе с одним из грешников,
в седьмом круге Ада**.
Кем была Джемма, злой женой или доброй, мы не знаем;
но, по некоторым свидетельствам, можно догадываться, что,
если Данте, в самом деле, не любил ее, или даже ненавидел,
то не был к ней справедлив. В 1297 году Дантов тесть, Джеммин
отец, Манетто Донати, зная, конечно, как зять небогат и как
трудно ему будет выплатить долг, согласился быть поручителем
в довольно большом, по тогдашнему времени, займе его, — ты¬
сяч в десять лир золотом, на наши деньги. Очень вероятно, что
он согласился на это, по просьбе дочери***. Судя по этому, Джем¬
ма любила Данте и могла бы ему быть доброй женой.
Когда, после изгнания его, все имущество, не разграбленное
чернью, было отобрано в казну, Джемме удалось, с большим
трудом, спасти крохи своего приданого и вскормить на них,
воспитать и поставить на ноги восемь или десять маленьких де¬
тей, — «так умно распорядилась она» этими спасенными кроха¬
ми: свидетельство тем более драгоценное, что идет от злейшего
врага Джеммы, Боккачио****. Судя по этому, она не только могла
быть, но и была доброй и умной женой. Если же Данте не был
* Rime 104.
** Inf. XVI, 44. —A. Bassermann, р. 38.
*** Frullani-Gargani. Casa di Dante, p. 38. — R. Davidsohn, p. 349. —
Passerini, p. 152.
**** Boccaccio. Vita {Solerti, p. 278).
Воображаемое
125
с нею счастлив, то, может быть, не по ее вине. Очень вероятно,
что за простую любовь и за простое счастье с другим, не знаме¬
нитым мужем, она отказалась бы от великой, но слишком доро¬
го ей стоившей, чести быть женою Данте.
«Прижил с ней несколько человек детей», — говорит Бокка-
чио, не сознавая, как это страшно, если муж ненавидит жену*.
С точностью мы знаем только о двух сыновьях Данте, Пьетро
и Джьякопо, и о двух дочерях, Беатриче и Антонии (если это
не одно лицо под двумя именами, мирским и монашеским).
Но кажется, были у него и другие дети, восемь или десять,
за двенадцать лет брака. Детям не мешала рождаться ненависть
мужа к земной жене и любовь к Небесной.
Маленькая девочка, Джемма Донати, знала, конечно, что
помолвлена, по нотариальной записи, с маленьким мальчиком,
Данте Алигьери, своим ближайшим соседом по Сан-Мартино-
вой площади. Долгие годы видела невеста, что жених ее любит
другую, и слушала повторяемые всеми вокруг нее «сладкие речи
любви», сказанные не ей, а другой. Очень вероятно, что Дан¬
те, вопреки Боккачио, женился не после, а до смерти Беатри¬
че. Если так, то Джемма видела все муки любви мужа к другой,
и того, что видела, было бы достаточно для всякой женщины,
даже ангела во плоти, чтобы сделаться дьяволом или «подозри¬
тельным животным».
«Он сердце отдал женщине другой», —**
говорит Беатриче, но это с большим правом могла бы сказать
Джемма.
Ты должен был свой путь направить к небу...
Не опуская крыльев в дольний прах,
Чтоб новых ждать соблазнов от девчонок, —***
в этом суде Беатриче над Данте, включает ли она, или не вклю¬
чает, в число «девчонок» и Джемму? Как бы то ни было, более
страшной соперницы, чем у жены Данте, не было, и, вероятно,
126
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
не будет ни у одной женщины в мире. Любит она мужа или не лю¬
бит, — в сердце ее выжжено имя Беатриче каленым железом.
Чувствовать могла Умершая — Бессмертная замогильную
ревность не только к «девчонкам», но и к жене Данте, и даже
к этой больше, чем к тем. Вот почему, в «Божественной коме¬
дии», оба, Данте и Беатриче, молчат о Джемме, как бы убивают,
уничтожают ее этим молчанием, небесные — земную, вечные —
временную. Так же, как Данте, проходит и Беатриче — «Свя¬
щенная теология» — мимо церковного таинства брака, точно
мимо пустого места. Но сколько бы они ни уничтожали брак, —
не уничтожат: Данте будет навеки между монной Джеммой
Алигьери и монной Биче де Барди, вечной женой и вечной воз¬
любленной: а Беатриче — между сером Симоне и Данте, вечным
мужем и вечным возлюбленным.
Бедная жена, бедное «животное»! Нет ее вовсе, не должно
быть и не может быть, в вечности; «пар у нее вместо души»,
как у животных. Но если так, в глазах человеческих, то, мо¬
жет быть, в Божьих, — не так; столь же бессмертна душа
и у той, как у этой. Двое, в глазах человеческих, — Дан¬
те и Беатриче, а в глазах Божьих, — трое: Данте, Беатри¬
че и Джемма. Здесь, как везде и всегда, в жизни Данте, —
но в каком грозном для него и неведомом, спасающем или
губящем смысле, — Три.
Кто будет судить Данте, кроме Того, Кто его создал и велел
ему быть таким, каков он есть? Но нет никакого сомнения: в сви¬
детельницы на суд Божий над Данте вызвана будет и Джемма.
Может быть, о Сократе кое-что знает Ксантиппа, чего
не знает Платон; знает, может быть, и Джемма кое-что о Дан¬
те, чего не знает история. Пусть это знание — самое простое,
земное, или даже «подземное»; оно все-таки подлинное.
Если бы и мы знали о нем все, что знает Джемма, каким но¬
вым светом озарилась бы, может быть, вся его жизнь и лю¬
бовь к Беатриче!
Жена Данте, Джемма Донати, и Нэлла Донати, жена Форе¬
зе — родственницы, кажется, не только во времени, но и в веч¬
ности. Если, плача «над мертвым лицом» бывшего друга здесь,
на земле, стыдно было Данте вспомнить, как оскорбил он жену
его непристойной шуткой, в одном из тех бранных сонетов,
которыми обменялся с ним, в ссоре, — то насколько было ему
Воображаемое
127
стыднее вспомнить об этом, на горе Чистилища, плача над его
живым, «искаженным» мукой лицом!
И я спросил: «Как ты вошел, Форезе,
Сюда, наверх? Тебя я думал встретить,
На тех уступах нижних, где грехи
Мученьем долгим искупают души».
И он — в ответ: «Моя вдовица, Нэлла,
Сюда меня так скоро привела,
Пить мучеников сладкую полынь, —
Молитвами и сокрушенным плачем
Освободив от долгих мук внизу.
И знаю: тем она любезней Богу,
В святой любви ко мне и в добром деле,
Чем более, в злом мире, одинока»*.
Этих простых и вечных слов о брачной любви не вложил бы
Данте в уста Форезе, если б чего-то не знал о святом браке,
о святой земной любви. — «Брак не может быть помехой... для
святой жизни... как думают те, кто постригается в монашество.
Только внутренней веры хочет от нас Бог»**. Это знает грешный
Данте лучше многих святых.
Джемма, если бы Данте любил ее, могла бы стать второй
Нэллой. Как Франческа да Римини, Нэлла-Джемма — земная
Беатриче, но не во грехе, а в святости. Та совершает чудо люб¬
ви, на небе, а эта, — на земле. Как соединить земную любовь
с небесной? На этот вопрос, поставленный миру и Церкви всей
жизнью и творчеством Данте, никто не ответил; и даже никто
не услышал его, ни в миру, ни в Церкви.
Людям Церкви Данте кажется сейчас «правоверным католи¬
ком». Но если бы исполнилось то, чего он хотел для себя и для
мира; если бы мир понял и принял его, « не для созерцания, а для
действия», то люди Церкви, вероятно, почувствовали бы в нем
и сейчас, как это было при жизни его, запах «ереси» — дым ко¬
стра, и были бы по-своему правы, потому что одно из двух: или
вся полнота брачной любви вмещается в церковном таинстве
брака, и тогда любить чужую жену и видеть в этом нечто боже-
* Purg, XXIII, 82.
** Conv. IV, 28.
128
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
ственное, как делает Данте, в любви к Беатриче, — значит быть
в ереси; или же этой любовью поставлено под знак вопроса цер¬
ковное таинство брака. А если так, то «Новая Жизнь начинает¬
ся», incipit Vita Nova, значит: «начинается Вечное Евангелие»,
incipit Evangelium Acternum, — уже не сына, а Духа, не Второй
Завет, а Третий*.
«После Нового Завета ничего не будет, post Novum
Testamentum non erit aliud», — устами св. Бонавентуры возве¬
щает Римская Церковь**. «После Нового Второго Завета будет
Третий, — Вечное Евангелие Духа Святого», — возвещает уста¬
ми Данте Иоахим Флорский, —
Калабрийский аббат, Иоахим,
одаренный пророческим духом, —***
именно здесь, в брачной любви.
«Это люди, возмущающие вселенную», — жаловались Иудеи
римским правителям, в городе Фессалонике, во дни ап. Павла,
на учеников Иисуса (Д. А. 17, 6). Распят был и сам Иисус за то,
что «возмущал народ» (Лк. 23, 5). И в этом Иудеи были тоже
по-своему, правы: если высшая мера всего — Закон, а не свобо¬
да, то величайший из «возмутителей» — Он, восставший на За¬
кон во имя свободы так, как никто не восставал и не восстанет.
Данте, в любви и во многом другом, — тоже «возмутитель»,
«революционер», говоря на языке государства; а на языке
Церкви — «еретик».
Все «возмущения», «революции», политические и социаль¬
ные, внешние, совершающиеся между телами и душами чело¬
веческими, — буйны, но слабы и неокончательны; только «ре¬
волюция пола», внутренняя, совершающаяся в душе и в теле
человека, тишайшая и сильнейшая, окончательна. Начал
ее, или мог бы начать, еще неизвестный людям, не прошлый
и не настоящий, а будущий Данте.
«Кто может вместить, да вместит» (Мт. 19, 12) —
сказано о браке.
* E. Anitchkof, р. 354.
** Zd[id].,p. 392.
Par. XII, 140.
Воображаемое 129
«Вы теперь не можете (еще) вместить» (Ио. 16,12) —
сказано о Духе: этими двумя словами тайна Брака соединя¬
ется с тайной Духа. К соединению этому никто, может быть,
не был ближе, чем Данте.
Мы, по обетованию Его (Иисуса), ожидаем нового неба и но¬
вой земли, на которых обитает правда. (II Пет. 3,13.)
В Царстве Божием, на новой земле, под новым небом, будет,
конечно, и новая брачная любовь. С большей надеждой и боль¬
шим бесстрашием, чем Данте, никто не устремлялся к этой но¬
вой любви; с большей мукою никто не был распят на ее кресте.
И если будет когда-нибудь эта любовь, то потому, что Данте лю¬
бил Беатриче.
XII.
В зубах волчицы
Выйти из внутреннего порядка бытия во внешний, из лично¬
го в общественный, из своего «я» — во всех, было тогда, по смер¬
ти Беатриче, единственным для Данте спасением.
Цель всего, чем он живет, «не созерцание, а действие». Только
думать, смотреть, «созерцать», — вечная, для него, мука — Ад;
созерцать и действовать — блаженство вечное — Рай. Кажется,
в политику, в дела государственные, кинулся он, в те дни, очертя
голову, «не думая откуда и куда идет», — как вспоминает Бокка-
чио, — именно с этой надеждой: начать «действие»*. Но и здесь,
в бытии общественном, внешнем, подстерегали его, как и в бы¬
тии внутреннем, личном, соответственные искушения; те же,
что у Сына Человеческого, только в обратном порядке.
Первое искушение, «плотскою похотию», lussuria, — поле¬
том-падением с высей духа в бездну плоти; второе — властью,
гордыней; третье — голодом, хлебом. «Бросься вниз», — слы¬
шится в ласковом мяуканье Пантеры; «если над ши поклонишь¬
ся мне, я дам тебе все царства мира», — слышится в яростном
рыкании Льва, а в голодном вое Волчицы: «повели камням сим
сделаться хлебами»48.
* Boccaccio. Vita (Solerti, р. 23): «Senza guardare d’onde s’era partito e dove
andava, con abbandonate redine quasi tutto al governo... si diede*.
130
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Данте, в политике, находится между Львом и Волчицей, или,
говоря на языке наших дней, между «политической проблемой
власти» и «социальной проблемой собственности».
Будь проклята, о древняя Волчица,
Что, в голоде своем ненасытимом,
Лютее всех зверей!*
Чрево у нее бездонное.
Чем больше ест она, тем голодней**.
Кто эта Волчица, мы хорошо знаем по страшному опыту: жад¬
ность богатых, столь же ненасытимая, как зависть бедных, —
две равные муки одного и того же лютого волчьего голода.
О, жадность! всех, живущих на земле,
Ты поглотила так, что к небу
Поднять очей они уже не могут***.
Эта древняя и вечно юная Волчица — та самая проклятая соб¬
ственность, которую так ненавидел «блаженный Нищий», проти-
вособственник, св. Франциск Ассизский. Легче верблюду пройти
сквозь игольное ушко49, нежели богатому, «собственнику», сыну
древней Волчицы, войти в Царство Божие: это помнит св. Фран¬
циск, а грешные люди забыли; путь его покинули, пошли по дру¬
гому пути. Раньше, чем где-либо, здесь, во Флоренции, в двух
шагах от Ассизи, родины св. Франциска, начали они решать «со¬
циальную проблему», не с Богом, в любви, как он, а с дьяволом,
в ненависти, как мы. Может быть, не случайно, а как раз для того,
чтобы люди увидели и поняли (но не увидят, не поймут), рожда¬
ется именно здесь, рядом с Коммунизмом Божественным, — дья¬
вольский. В маленькой Флорентийской Коммуне, как во всех
коммунах средних веков, уже начинается то, что кончится, —
или сделается бесконечным, — в великой Коммуне всемирной, —
в Коммунистическом Интернационале XX века; здесь открывает¬
ся кровоточащая рана у самого сердца человечества, от которой
оно и погибнет, если не спасет его единственный Врач.
* Pur g. XX, ю.
** Inf. 1,194.
Par. XXVII, 121.
Воображаемое
131
«Разделился надвое, во дни Данте, город Флоренция, с вели¬
кой для себя пагубой», — вспоминает Боккачио*. Надвое раз¬
делился город между богатыми и бедными, «жирным народом»
и «тощим», popolo grasso и popolo minuto. — «Было в душе
моей разделение», — могла бы сказать и Флоренция так же, как
Данте.
Я знаю: разделившись,
Земля спастись не может;
И эта мысль жестоко
Терзает сердце мне, —
сердце учителя, Брунетто Латини, и сердце ученика Данте**.
Скажи мне, если знаешь, до чего
Дойдет наш город разделенный?***
спросит он, в аду, одного из флорентийских граждан, попав¬
ших из-за этого разделения в ад.
За рвом одним и за одной стеною,
Грызут друг друга люди****.
Волчья склока бедных с богатыми, «тощего» народа с «жир¬
ным», есть начало той бесконечной войны, сословной, «классо¬
вой» , по-нашему, которой суждено было сделаться самой лютой
и убийственной из войн. Люди с людьми, как волки с волками,
грызутся, — шерсть летит клочьями, а падаль, из-за которой
грызутся, — Флоренция, вся Италия, — весь мир.
Уже никто землей не правит:
Вот отчего, во мраке, как слепой,
Род человеческий блуждает*****.
* [Boccaccio]. Vita (Solerti, p. 24): «in due parti perversissimamente divisa».
Tesoretto. V, 166:
«Che già non può campare
Terra rotta diparte».
***
****
*****
Inf. VI, 61.
Purg. VI, 83.
Par. XXVII, 140.
132
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
В муках «социальной проблемы», «проклятой Собственно¬
сти», — мрак слепоты глубже всего. Это первый увидел Данте.
В эти дни он мог испытывать то же чувство, как в первые дни
по смерти Беатриче, когда писал «Послание ко всем Государям
земли»:
Город этот потерял свое Блаженство (Беатриче),
и то, что я могу сказать о нем,
заставило бы плакать всех людей.
«На два политических стана, — партии, — Белых и Черных,
Bianchi e Neri, весь город разделился так, что не было, ни сре¬
ди знатных, ни в простом народе, ни одного семейства, не раз¬
деленного в самом себе, где брат не восставал бы на брата», —
вспоминает Л. Бруни*. К Белым принадлежали лучшие люди
Флоренции; к Черным, — те, кто похуже, или совсем плохие;
хуже всех был главный вождь Черных, Корсо Донати, дальний,
по жене, родственник Данте, человек большого ума и еще боль¬
шей отваги, но жестокий и бессовестный политик.
Белые — умеренные, средние; Черные — крайние. «Дан¬
те был человеком вне политических станов, партий»**. — «Всю
свою душу отдал он на то, чтобы восстановить согласие в раз¬
деленном городе», — вспоминает Боккачио***. Только «мира
и согласия ищет Данте»****; думает, в самом деле, только о «бла¬
ге общем». Слово «партия», «pars», parte, происходит от слова
«часть». В слове этом понятие «частного» противополагается
понятию «целого», «общего»,— «часть» бедных— «части»
богатых, в бесконечной и безысходной, братоубийственной во¬
йне. Вот почему для Данте любимейшее слово — «мир», расе,
ненавистнейшее — «партия», parte; он знает, что смысл этого
слова — война всех против всех: не только Флоренция, но и вся
Италия, — весь мир, сделавшись добычей «партий», «ча¬
стей», — превратится в «Град разделенный», «Città partita» —
«Град Плачевный», «Cittàdolente», —Ад*****.
* L, Bruni (Solerti, p. 101).
** Zb[id]., p. 102: «Dante... uomo senza parte».
*** Boccaccio, Vita (Solerti, p. 25).
**** L, Bruni (Solerti, p. 102) — M, Barbi, Dante (1933), p. 228.
*Inf. III, 1.
Воображаемое
133
Данте соединяется с Белыми, умеренными, против Черных
(большей частью мнимых вождей народа, а в действительно¬
сти, — вожаков черни). Это ему тем труднее, что сам он, вну¬
тренне, вовсе не «умеренный», «средний», но «крайний»
и «безмерный».
Чтобы обойти в 1292 году принятый и направленный про¬
тив богатых и знатных граждан закон, воспрещавший тем, кто
не был записан в какой-либо торговый или ремесленный цех,
исполнять государственные должности, — Данте вынужден
был записаться, в 1295 году, в «Цех врачей и аптекарей». Arte
dei medici e speciali*.
Гвидо Кавальканти, верный до конца себе и своему презри¬
тельному к людям, вельможному одиночеству, не без тайного
злорадства мог наблюдать, в эти дни, как, пропустив мимо ушей
остерегающий голос его:
Ты презирал толпу, в былые дни,
И от людей докучных, низких, бегал, —
Данте, неизвестный поэт, но известный аптекарь, оказался
на побегушках у Ее Величества, Черни**.
Но только что поэт сделался аптекарем, как был вознаграж¬
ден: 1 ноября 1295 года Данте избран на шесть месяцев в Осо¬
бый Совет Военачальника флорентийской Коммуны, consiglio
speciale del Capitano del Popolo; в том же году — в Совет му¬
дрых Мужей, Consiglio dei Savi, для избрания шести Верхов¬
ных Сановников Коммуны, Приоров; в 1296 году — в Совет Ста,
Consiglio de Cento; в 1297-м, — еще в другой Совет, неизвест¬
ный; в мае 1300 отправлен посланником в Сан-Джиминиано
для заключения договора с Тосканскою Лигой Гвельфов, Lega
Guelfa Toscana; 15 июня того же года избран одним из шести
Приоров и, наконец, в октябре 1301 года отправлен посланни¬
ком к папе Бонифацию Vili***.
«Данте был одним из главных правителей нашего города», —
скажет историк тех дней, Дж. Виллани****.
* М. Barbi, р. 17 — F.X. Kraus, р. 44.
** Е. Lamma, р. 41, 45.
М. Barbi, р. 17-21; Bollettino della] Soc[ietà] Dantesca] Italiana] VI, 289.
G. Villani. Cron. IX, 136.
134
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Явно подчиняясь воле народа, чтобы достигнуть власти,
Данте питал будто бы «лютейшую ненависть к народным прав¬
лениям», — полагает Уго Фосколо*. Так ли это?
Два врага в смертельном поединке: «маленький» Данте, дей¬
ствительный или мнимый враг народа, и, тоже действительный
или мнимый друг его, «большой» мясник Пэкора, Pecora, il gran
beccaio; человек огромного роста, дерзкий и наглый, великий
краснобай, «более жестокий, чем справедливый»**. Данте —
вождь народа, а вожак черни — Пэкора. «Лютою ненавистью»
ненавидит Данте не истинное, а мнимое народовластие — власть
черни, ту «демагогию», где, по учению Платона и св. Фомы
Аквинского, качество приносится в жертву количеству, лич¬
ность — в жертву безличности, свобода — в жертву равенству***.
Между этими двумя огнями, — свободой и равенством, — вся
тогдашняя Флоренция, вся Италия, а потом будет и весь мир.
«Качество» — за Данте, «количество» за Пэкорой. Данте будет
побежден Пэкорой: с этой победы и начнется то, что мы назы¬
ваем «социальной революцией». В Церкви, первый увидел эту
страшную болезнь мира св. Франциск Ассизский, в миру, —
Данте.
Флоренция, твои законы так премудры,
Что сделанное в середине ноября
Не сходится с твоим октябрьским делом.
Уж сколько, сколько раз за нашу память
Меняла ты законы и монету,
И должности, и нравы, обновляясь!
Но, если б вспомнила ты все, что было,
То поняла бы, что подобна ты больной,
Которая, не находя покоя,
Ворочается с боку на бок, на постели,
Чтоб обмануть болезнь****.
«Сам исцелися, врач», — мог бы сказать и, вероятно, гово¬
рил себе Данте, в эти как будто счастливые дни. Телом был здо¬
* Ugo Foscolo. Discorso sul testo del Poema di Dante.
** D. Compagni. Cron. I, 13.
*** L. Prieur. Dante et l’ordre social (1923), p. 63.
**** Purg. VI, 126.
Воображаемое
135
ров, а духом болен, — больнее, чем когда-либо; хотел поднять
других, а сам падал; хотел спасти других, а сам погибал.
К этим именно дням рокового для него и благодатного
1300 года относится его сошествие в Ад, не в книге, в видении,
а в жизни, наяву, — то падение, о котором скажет Беатриче:
Напрасно, в вещих снах, и вдохновеньях,
Я говорила с ним, звала его,
Остерегала, — он меня не слушал...
И, наконец, так низко пал, что средства
Иного не было его спасти,
Как показать ему погибших племя — (Ад)*.
Кажется, в эти дни, Данте меньше всего был похож на то жал¬
кое «страшилище», пугало в вертограде бога Любви, каким
казался в первые дни или месяцы по смерти Беатриче; он сде¬
лался, — или мечтал сделаться, — одним из самых изящных
и любезных флорентийских рыцарей, ибо «всему свое время»,
по Екклезиастовой мудрости50: «время плакать, и время сме¬
яться»; время быть пугалом, и время быть щеголем; время лю¬
бить Беатриче, и время бегать за «девчонками».
«Удивительно то, что, хотя он постоянно был погружен в на¬
уки — или в глубокую, внутреннюю жизнь, — никто этого
не сказал бы: так был он юношески весел, любезен и общите¬
лен», — вспоминает Бруни о более ранних годах, но, кажется,
можно было бы то же сказать и об этих**. Жил он тогда с «таким
великолепием и роскошью», что «казался владетельным князем
в республике»***. Если действительность и преувеличена в этом
последнем свидетельстве, ему отчасти можно верить. Весною
1294 года Данте, в числе знатнейших молодых флорентийских
рыцарей, назначен был в свиту блистательно чествуемого, вось¬
мидневного гостя Флорентийской Коммуны, венгерского коро¬
ля, Карла II Анжуйского****. Юный король, усердный поклонник
Муз, знавший, вероятно, наизусть Дантову песнь:
* Purg. XXX, 133.
** L. Bruni (Solerti, p. 29).
G. M. Filelfo. Vita Dantis (F. X. Kraus, p. 102): Lucullina suppelex. —
G, Manetti. Vita Dantis: «Perinde semiprinceps quidam in Republica ob
summam ejus elegantiam regnare videbatur».
**** F. Torraca, p. 518.
136
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Вы, движущие мыслью третье небо, —*
и молодой поэт Алигьери так успели подружиться за эти во¬
семь дней, что встреченная Данте в раю тень преждевременно
умершего Карла скажет ему:
...недаром ты меня любил:
Будь я в живых, тебе я показал бы
Плоды моей любви, — не только листья**.
Это значит, в переводе на тогдашний, грубоватый, но точ¬
ный, придворный язык: «Я бы не только почестями тебя осы¬
пал, но и озолотил». Этого он сделать не успел; и, кажется, ко¬
ролевская дружба дорого стоила бедному рыцарю, Данте. Если,
и в кругу мещанском, трудно было ему сводить концы с конца¬
ми, то теперь, когда вошел он в круг «золотой молодежи», это
сделалось еще труднее. Чтобы не ударить лицом в грязь перед
новыми друзьями и подругами, Виолеттами, Лизеттами и про¬
чими «девчонками», нужна была хоть плохонькая роскошь, —
богатая одежда с чужого плеча; но и она так дорого стоила, что
он по уши залез в долги.
Вот когда мог он почувствовать на себе самом острые зубы
«древней Волчицы» — ненасытимой Алчности богатых. Зави¬
сти бедных: две эти, одинаково лютые, страсти — острия зубов
той же волчьей пасти. Вот когда начинается игра уже не пифаго¬
рейских, божественных, а человеческих или дьявольских чисел.
В пыльных пергаментах флорентийских архивов уцелели
точные цифры никогда, вероятно, не оплаченных Дантовых
долгов. Эти скучные мертвые цифры — как бы страшные следы
от глубоко вдавленных в живое тело волчьих зубов.
В 1297 году, 11 апреля, Данте, вместе со сводным братом
своим, — мачехиным сыном, Франческо Алигьери, и под его
поручительством, занимает 277 флоринов золотом; 23 дека¬
бря того же года — еще 280 флоринов, под двойным поручи¬
тельством, брата и тестя; 14 мая 1300 года — еще 125; 11 июня
того же года, в самый канун избрания в Приоры, — еще 90, у не¬
коего Лотто Каволини, знаменитого флорентийского ростов¬
* Conv. II, canzone.
” Par. Vili, 55.
Воображаемое
137
щика; а в следующем 1301 году, — уже маленькие займы, в 50
и даже в 13 флоринов: всего, за пять лет, от 1297 до 1301 года, —
1998 флоринов, около 100000 лир золотом на нынешние день¬
ги: заем, по тогдашнему времени и по средствам должника, —
огромнейший*.
По уши залез в долги и запутался в них так, что уже никог¬
да не вылезет. Мог ли он не понимать, что не будь он челове¬
ком, стоящим у власти, «одним из главных правителей города»,
то ни заимодавцы, ни поручители не доверили бы ему таких
огромных денег? Мог ли не предвидеть, как легко будет сказать
злым языкам, что такие займы не что иное, как, в утонченном
и облагороженном виде, «взятки», «лихоимство» и «вымога¬
тельство»? Мог ли не сознавать, какое страшное оружие давал
он этим в руки злейшим своим врагам?
15 мая 1300 года, вечером, на площади Санта Тринита, где
происходило майское празднество с веселыми песнями и пля¬
сками, отряд молодых вооруженных всадников, Черных, неча¬
янно или нарочно, наехал сзади на такой же отряд Белых. На¬
чалась драка, и кто-то кому-то отрубил нос мечом. «Этот удар
меча был началом разрушения нашего города», — вспоминает
летописец. «Снова разделился весь город на Больших людей.
Grandi, и Маленьких, Piccolini», на Жирный народ и Тощий**.
А 24 июня, в Иванов день, на площади Баптистерия, знатные
граждане из Черных напали на цеховых Консулов, Consule delle
Arti, несших, в торжественном шествии, дары покровителю
Флоренции, св. Иоанну Предтече. «Мы победили врагов, в бою
под Кампольдини, а вы, в награду за то, лишили нас всех долж¬
ностей и почестей!» — кричали нападавшие. Произошел улич¬
ный бой, и весь город был в смятении*** ****.
В те же дни открыт был опаснейший заговор Черных, имев¬
ший целью мнимое «умиротворение» города — действительный
разгром Белых, с помощью папы Бонифация VIII и, призванно¬
го им, чужеземного хищника. Карла Валуа, брата французского
короля, Филиппа Красивого. Страх и смятение в городе усили¬
лись этим так, что он «весь взялся за оружие» *****
* G. Biagi u[nd] G. L. Passerini. Codice diplomatico dantesco (1911).—
U. Dorini. Condizione economica del Poeta. — Passerini, p. 152.
** D. Compagni. Cron. I 20. — L. Prieur, p. 53.
*** Passerini, p. 134. — Barbi, p. 18. — G. A. Scartazzini. Dante (1879), p. 189.
**** N. Zingarelli. Vita di Dante (1914), p. 35.
138
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Синьория решила воспользоваться случаем восстановить
мир, обезглавив оба стана, Белых и Черных, ссылкой их глав¬
ных вождей. Этот мудрый совет дан был новым Приором, Дан¬
те Алигьери. Первый и лучший друг его, Гвидо Кавальканти,
оказался в числе изгнанных Белых*. «Друга своего лучшего
не пожалел он для общего блага», или, говоря казенным крас¬
норечием тех дней, «друга заклал на алтаре Отечества», — та¬
ков общий смысл того, что говорят или думают, или хотели бы
думать об этом почти все жизнеописатели Данте, вслед за пер¬
вым это сказавшим, или подумавшим, Бруни**. Но если Данте
нечто подобное и чувствовал, то недолго. Месяца через два-три,
к удивлению всех й к негодованию Черных, Белым было позво¬
лено вернуться из ссылки, между тем как Черные продолжали
в ней томиться. Это сделано было, вероятно, не без настояния
Данте; так, по крайней мере, скажут впоследствии Черные,
не преминув обвинить его в пристрастии к другу, Гвидо Каваль¬
канти.
Если Белых вернули, действительно, по настоянию Данте,
то очень вероятно, что «общее благо» не заглушило в нем чув¬
ства более сильного и глубокого, — может быть, раскаяния,
и он захотел исправить сделанное зло. Но было поздно: Гвидо,
в месте ссылки, в Лунийской Маремме, заболел болотной лихо¬
радкой и вернулся во Флоренцию только для того, чтобы через
несколько дней умереть.
Что почувствовал Данте, узнав об этой смерти, когда все
уже было кончено, потому что духу у него, вероятно, не хвати¬
ло пойти проститься с умирающим или мертвым Гвидо? Ска¬
зал ли Данте себе сам, или услышал сказанное ему тем Вечным
Голосом, который все люди услышат когда-нибудь: кровь его
на тебе?
Очень вероятно, что в эти первые дни по смерти Гвидо у Дан¬
те бывали минуты, когда все как будто шло очень хорошо, —
приоры слушали его внимательно, ростовщики давали деньги
охотно, «девчонки» улыбались ласково, — и вдруг точно чья-то
ледяная рука сжимала ему сердце, и он, среди белого дня, чув¬
ствовал себя, как человек, проснувшийся ночью от тяжелого
* Barbi, р. 19. — Passerini, р. 134. — Scartazzini, р. 190. — E. del Cerro.
Vita di Dante (1921), p. 62.
** L. Bruni (Solerti, p. 102).
Воображаемое
139
сна; потихоньку ото всех, — от приоров, ростовщиков и «дев¬
чонок», — хватался рукой за скрытую под одеждой и никогда
не снимаемую, веревку св. Франциска. Крепко надеялся он
на нее; больше, чем верил, — знал, что она его спасет, — со дна
адова вытащит, — и не ошибся: вытащит, но если б он знал, —
через какие муки Ада!
XIII.
Маленький Антихрист
«Римский Первосвященник, Наместник Того, Кого поставил
Бог судить живых и мертвых, и Кому дал всякую власть на зем¬
ле и на небе, господствует надо всеми царями и царствами;
он превыше всех людей на земле... Всякая душа человеческая
да будет ему покорна», — возвещает миру, в 1300-м, великом,
юбилейном году, папа Бонифаций VIII*. «Я сам император! Ego
sum imperator», — отвечает он Альберту Габсбургскому, когда
тот просит подтвердить его избрание в Кесари**. «Папа Бонифа¬
ций хотел подчинить себе всю Тоскану», — говорит летописец
техдней***. Хочет подчинить сначала Тоскану, затемвсю Италию,
всю Европу, — весь мир. Чтобы овладеть Тосканой, вмешает¬
ся в братоубийственную войну Белых и Черных, в «разделен¬
ном городе», Флоренции, — в волчью склоку «тощего народа»
с «жирным», бедных с богатыми, — в то, что мы называем «со¬
циальной революцией»; он призовет в Италию мнимого «ми¬
ротворца», Карла Валуа, брата французского короля, Филиппа
Красивого. «Мы низложим короля Франции», — скажет о нем
Бонифаций, когда тот не пожелает признать его земного влады¬
чества****.
Кто же этот человек, желающий господствовать «надо всеми
царями и царствами», super reges et regna, возвещающий миру,
подобно воскресшему Господу: «Мне дана всякая власть на небе
и на земле»? Помесь Льва, Пантеры и Волчицы, в трех иску¬
шениях Данте, — помесь жестокости, жадности и предатель¬
ства, — продолжатель великих пап, Григория VII, Григория IX,
* Passerini, р. 134. — Scartazzini, р. 190. — E. del Cerro, p. 62 — Barbi, p.
19.
** Pierre Gauthier. Dante le Chrétien (1930), p. 254.
*** К. Federn. Dante (1889), p. 168.
**** N. Zingarelli, p. 35.
140
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Иннокентия III, в гнусно искаженном виде; предшественник
Александра VI Борджиа, великий «антипапа»— «маленький
антихрист». Это первый понял Данте и, чтобы начать с ним
борьбу, «кинулся в политику, очертя голову».
В споре Белых с Черными разгорается с новой силой все
тот же, бесконечный, столько веков Италию терзавший, спор
Гвельфов с Гибеллинами. Против чужого императора — за сво¬
его, родного, папу-кесаря стоят Гвельфы, а Гибеллины — про¬
тив своего за чужого, потому что знают, или предчувствуют, что
чужой, добрый, лучше своих, злых и безбожных, какими не мо¬
гут не быть, и будут те, кто, от имени Христова, «падши покло¬
нится» князю мира сего.
Черные — такие же Гвельфы, как Белые, но между ними про¬
исходит все та же, хотя и в иной плоскости, черта разделения,
как между Гвельфами и Гибеллинами. Среди Белых есть и вос¬
ставшие против земного владычества пап, за вольную Коммуну
Флоренции. Черные, на деле, стоят только за себя, потому что
они слишком действенные, или, как мы говорим, «реальные»
политики, чтобы думать о далеких целях. Но если бы подумали,
то сказали бы, что они против многих борющихся и терзающих
Италию Коммун за единого Кесаря-Папу, возможного миро¬
творца и объединителя разъединенной Италии*.
Вечный спор Церкви с Государством, Града Божия с Гра¬
дом человеческим, отражается в споре Черных с Белыми, как
в луже — грозовое небо, полное блеском молний. Поднят и здесь
опять вечный вопрос об отношении одного слова Господня: «Мне
принадлежит всякая власть на небе и на земле», — к другому:
«Царство Мое не от мира сего». Но эту глубину спора видит или
предчувствует, может быть, один только Данте.
Пять лет, от 1296 года до 1301-го, борется, безоружный и поч¬
ти неизвестный, гражданин Флоренции с могущественнейшим
государем Европы: Данте — с папой Бонифацием Vili.
Летом 1301 года, когда папский легат, кардинал Акваспарта,
пытался, вмешательством в государственные дела Коммуны,
осуществить «полноту власти» Римского Первосвященника,
plenitude potestatis, — Флорентийская Синьория, вдохнов¬
ляемая новым Приором, Данте, противится тайным козням
кардинала, и папа, раздраженный этим противлением, упол¬
* Pierre Gauthier, p. 253.
Воображаемое
141
номочивает легата отлучить от Церкви всех правителей города
и сместить их, отобрав в церковную казну их имущество.
Данте избегнет отлучения только потому, что легат, обману¬
тый слабой надеждой на уступки, замедлит отлучением до сен¬
тября, когда избраны будут новые приоры.
Раньше, в том же 1301 году, 15 марта, Данте, в Совете Мудрых
Мужей, уже воспротивился выдаче денег папскому союзнику, ко¬
ролю Карлу Анжуйскому, для отвоевания Сицилии*, а 19 июня,
в Совете Ста, дважды подал голос против продления службы
сотни флорентийских ратников, находившихся в распоряжении
папы: «Для службы Государю папе ничего не делать, nihil fìat»**.
Так отвечает Данте на буллу папы Бонифация VIII о земном
владычестве Римского Первосвященника: Unam Sanctam. Вот
когда перестает он наконец только думать, смотреть — «созер¬
цать» и начинает «действовать». — «Новая жизнь начинается»
для него, уже в порядке не личном, а общественном, не в брач¬
ной, а в братской любви.
После года 1283-го, второй, для Данте, роковой и благодат¬
ный год, — 1300-й. В этом великом для всего христианского
мира юбилейном году совершится сошествие Данте в Ад. Буду¬
чи в Риме, мог он видеть, как, в базилике Петра, над осквер¬
ненной могилой «нищего рыбаря», там, «где каждый день про¬
дается Христос», жадные дети «древней Волчицы», римские
священники, с раннего утра до поздней ночи, загребают дере¬
вянными лопатками груды золотых, серебряных и медных мо¬
нет — плату за продаваемые паломникам отпущения грехов***.
Что испытал тогда паломник Данте, — в сознании своем, пра¬
вовернейший католик, бессознательно было мятежнее, может
быть, и «революционнее», нежели то, что, через двести лет, ис¬
пытает паломник Лютер. Вот о чем Данте скажет себе и миру:
Знай, что сломанный Змием (Диаволом) ковчег (Римской
Церкви) был, и нет его, —
по слову Откровения:
зверь, коего ты видел, был и нет его, fuit et non est****.
* E. del Cerro, p. 60; Barbi, p. 17.
** Passerini, p. 125: «Dante Alagherii consuluit, quod de servitio faciendo
domino Papae nihil fìat ».
*** Par. XVII, 51.
**** Purg. XXXIII, 34.
142
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Медленно, трусливо и жадно, как ворон, приближается к че¬
ловеку еще не мертвому, но умирающему, — приближался осе¬
нью 1301 года, к беззащитной, внутренней войной раздираемой
Флоренции Карл Валуа, «миротворец». То, что, за пять лет,
предвидел Данте, теперь исполнялось. Чувствуя себя обречен¬
ными, Белые решили отправить посольство к папе, чтобы при¬
нести ему повинную и умолить не отдавать несчастного города
чужеземному хищнику.
Если Данте, злейший враг папы, только что едва не отлу¬
ченный от Церкви, согласился быть одним из трех послов, от¬
правленных в город Ананью, где находился тогда Бонифаций,
то этим он выказал великое мужество и жертвенный дух в слу¬
жении родине*. «Если я пойду, кто останется? Если я останусь,
кто пойдет?» — сказал он будто бы после минутного раздумья,
когда ему предложено было участие в посольстве**. Слово это за¬
помнили и поставили в счет его «безумной гордыне». Если он
этого и не говорил, то, вероятно, мог так думать и чувствовать.
Но гордыни здесь не было, а был ужас одиночества: в этом деле,
как в стольких других, он чувствовал, что не только во Фло¬
ренции, но и во всей Италии, во всем мире, он один знает, что
в мире будет.
Данте и Бонифаций встретились в Ананьи, как два смертель¬
ных врага в поединке, — таких же здесь, в Церкви, как там,
в Государстве, — великий пророк Духа, Алигьери, и «большой
мясник», Пэкора.
«Дети мои, зачем вы так упрямы? — говорил будто бы папа
трем флорентийским послам, с глазу на глаз, приняв их в тай¬
ном покое дворца. — Будьте мне покорны, смиритесь! Истинно
вам говорю, ничего не хочу, кроме вашего мира. Пусть же двое
из вас вернутся во Флоренцию, и да будет над ними благосло¬
вение наше, если добьются они того, чтобы воля наша была ис¬
полнена!»***
«Мира хочу» — каким оскверненным, в устах великого Ан¬
типапы, маленького Антихриста, должно было казаться Данте
это святейшее для него слово: «мир», расе!
* D. Compagni. Cron. II, 4. — Passerini, р. 139. — Zingarelli, p. 39. — del
Cerro, p. 67.
Boccaccio. Vita (Solerti, p. 52): « Se io vo, chi rimane? Se io rimango, chi va? »
D. Compagni. Cron. II, 4.
Воображаемое
143
До крови однажды разбил Бонифаций лицо германского
посланника, ударив его ногой, когда тот целовал его туфлю*.
Если бы он так же ударил и флорентийского посланника, Данте,
то было бы за что, в прошлом и в настоящем, особенно же в бу¬
дущем: ни один человек так не оскорблял другого, в вечности,
как Данте оскорбит Бонифация. Странное видение огненных ям,
в аду, куда низринуты будут, вниз головой, вверх пятами, все не¬
честивые папы, торговавшие Духом Святым, — может быть, уже
носилось перед глазами Данте, когда он целовал ноги Бонифация.
Торчали ноги их из каждой ямы,
До самых икр, а остальная часть
Была внутри, и все с такою силой
Горящими подошвами сучили,
Что крепкие на них веревки порвались бы...
Над ямою склонившись, я стоял,
Когда один из грешников мне крикнул:
«Уж ты пришел, пришел ты, Бонифаций?
Пророчеством на годы я обманут:
Не ждал, что скоро так насытишься богатством,
Которое награбил ты у Церкви,
Чтоб растерзать ее потом!»**
Двое посланных отпущены были назад, во Флоренцию, а третий,
Данте, остался у папы, в Ананьи или в Риме, заложником, и только
чудом спасся, как пророк Даниил — из львиных челюстей.
1 ноября 1302 года, в день Всех Святых, входит во Флорен¬
цию с небольшим отрядом всадников Карл Валуа, — маленько¬
го Антихриста «черный херувим» и, подняв, через несколько
дней, жесточайшую междоусобную войну в городе, опустошает
его огнем и мечом***.
Из Франции... придет он, безоружный,
С одним Иудиным копьем, которым
Флоренции несчастной вспорет брюхо****.
* Pierre Gauthier, 253.
** Inf. XIX, 22, 52.
*** Passerini, p. 140.
Purg. XX, 73.
144
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
После Карла ворвался в город и мессер Корсо Донати, во гла¬
ве изгнанников. Черных, водрузил, как победитель, знамя свое
на воротах Сан-Пьеро, и тотчас же начались доносы, следствия,
суды, казни, грабежи и пожары*.
«Что это горит?» — спрашивал Карл, видя зарево на ночном
небе.
«Хижина», — отвечали ему, а горел один из подожженных
для грабежа великолепных дворцов**.
Пять дней длился этот ужас, или, по нашему, «террор».
Треть города была опустошена и разрушена***. Вот когда испол¬
нилось Предсказание Данте:
Город этот потерял свое Блаженство (Беатриче),
И то, что я могу сказать о нем,
Заставило бы плакать всех людей.
Вскоре вернулся во Флоренцию и другой миротворец папы,
кардинал Акваспарта****. В новые приоры избраны были покор¬
ные слуги папы, из Черных, а бывшие приоры. Белые, в том
числе и Данте, преданы суду.
27 января новым верховным правителем Коммуны, Поде¬
ста, мессером Канте де Габриелли, жалкою папской «тварью»,
creatura, скверным адвокатишкой, но отличным судейским
крючком и сутягой, объявлен был судебный приговор: Данте,
вместе с тремя другими бывшими приорами, обвинялся в ли¬
хоимстве, вымогательстве и других незаконных прибылях,
а также в подстрекательстве граждан к «междуусобной бра¬
ни и в противлении Святой Римской Церкви и Государю Кар¬
лу, миротворцу Тосканы». Все осужденные приговаривались
к пене в 5000 малых флоринов, а в случае неуплаты в трехднев¬
ный срок — к опустошению и разрушению части имущества,
с отобранием в казну остальной части; но и в случае уплаты —
к двухгодичной ссылке, к вечному позору имен их, как «лихо¬
имцев-обманщиков», и к отрешению ото всех должностей*****.
* I. del Lungo. Dell*esilio di Dante (1881), p. 4.
** D. Compagni ap[ud]. C. Balbi. Vita di Dante (1857), p. 175.
*** E. del Cerro, p. 68. — Passerini, p. 141.
**** del Lungo, p. 6.
***** Libro del Chiodo, 1302. — I. del Lungo, p. 104. — Passerini, p. 143. —
P. Fraticelli. Vita di Dante (1861), p. 147.
Воображаемое
145
В тот же день конный глашатай, с длинной серебряной трубой,
объезжал квартал за кварталом, улицу за улицей, площадь за пло¬
щадью, «возглашая приговор внятным и громким голосом»*.
Где бы ни был Данте в тот день — в Ананьи, в Риме или на об¬
ратном пути во Флоренцию, — ему должно было казаться, что
слышит и он, вместе с тридцатью тысячами флорентийских
граждан, этот голос глашатая: «Данте — лихоимец, вымога¬
тель, взяточник, вор». Вот когда понял он, может быть, какое
дал оружие врагам, запутавшись в неоплатных долгах.
В том, за что осужден был только на основании « слухов », как
сказано в самом приговоре, — Данте был чист, как новорожден¬
ный младенец: это знали все**. «Изгнан был из Флоренции без
всякой вины, только потому, что принадлежал к Белым», —
свидетельствует лучший историк тех дней, Дж. Виллани***.
А все же удар был нанесен Данте по самому больному месту
в душе, — где оставался в ней страшный след от зубов «древней
Волчицы», — проклятой Собственности — Алчности богатых.
Зависти бедных. Трубным звуком и голосом глашатая повторя¬
лось как будто до края земли и до конца времен бранное двусти¬
шие, с одним только измененным словом:
...тебя я знаю,
Сын Алигьери; ты отцу подобен:
Такой же вор презреннейший, как он.
В самый день объявления приговора старое гнездо Алигьери,
на Сан-Мартиновой площади, дом Данте разграблен был буй¬
ною чернью, а жена его, с малолетними детьми, выгнана, как
нищая, на улицу****.
В том же году, 10 марта, объявлен был второй приговор над
Данте, с другими четырнадцатью гражданами из Белых: «Так
как обвиненные, не явившись на вызов суда... тем самым при¬
знали вину свою... то, если кто-либо из них будет схвачен... ог¬
нем да сожжется до смерти» *****.
* I. del Lungo, р. 7.
** Ср. пр. 350. — E. del Cerro, р. 72.
***G. Villani, IX, 136; «sanz’ altra colpa colla detta parte Bianca fue
scacciato».
**** Boccaccio et Bruni (Solerti p. 26,102).
***** Ср. np. 350. — Passerini, p. 144.
146
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Данте знал, кто главный виновник этих двух приговоров —
не Канте де Габриелли, верховный правитель Флоренции,
не Корсо Донати, вождь Черных, а тот, кто стоял за ними, —
папа Бонифаций VIII.
Этого хотят, этого ищут,
и кто это готовит, тот это сделает там,
где каждый день продается Христос*.
«Древняя Волчица» отомстила за возлюбленного сына сво¬
его, Бонифация. В вечном огне будет гореть папа, а Данте, —
во временном. «До смерти огнем до сожжется», igne comburatur
sic quod moriatur, — этот приговор над ним исполнится:
О, если б только с милыми разлука
Мне пламенем тоски неугасимой
Не пожирала тела на костях!**
Данте, в изгнании, будет гореть до смерти на этом медленном
огне тоски.
«Может быть, все, что люди называют Судьбой (случаем),
управляется каким-то Тайным Порядком (Божественным Про¬
мыслом)», — говоритсв. Августин обо всей жизни своей***. Тоже
мог бы сказать и Данте. Если б, оставшись в родной земле, про¬
должал он жить, как жил, — что было бы с ним? Очень веро¬
ятно, что, запутавшись окончательно в противоречиях между
любовью к Беатриче и блудом с «девчонками», между долгом
отечеству и долгами ростовщикам, между общим благом и лич¬
ным злом (таким, как страшная смерть, почти «убийство» Гви¬
до Кавальканти), он сделался бы жертвой одного, двух, или всех
трех Зверей, — Пантеры, Льва, Волчицы, — Сладострастия,
Гордыни, Жадности. И погибла бы не только «Божественная
комедия» Данте, но и то, что бесконечно драгоценнее, — он сам.
Чтобы спастись, надо ему было пройти сквозь очиститель¬
ный огонь той Реки, на предпоследнем уступе Чистилищной
горы, о которой Ангел поет:
* Par. XVII, 48.
** Rime 104.
'** Augustin. Contra Academicos I, 1 : «occulto quodam ordine regitur».
Воображаемое
147
Блаженны чистые сердцем!
Здесь нет иных путей, как через пламя.
Если Данте думал, что прошел сквозь этот огонь, в тот по¬
следний день своей «презренной жизни», когда покаялся и уви¬
дел Беатриче умершую — бессмертную, в первом «чудесном
видении», то он ошибался: лишь начал тогда входить в огонь,
а вошел совсем только теперь, в изгнании. Тогда горела на огне
только душа его, а теперь — душа и тело вместе, и будут гореть,
пока он весь не очистится и не спасется.
Так чудо божественного Промысла совершается перед нами
воочию, в жизни Данте.
Злейший враг его, папа Бонифаций VIII, произнеся свой
приговор: «Огнем да сожжется», хочет быть его палачом, а де¬
лается Ангелом-хранителем.
Главная точка опоры для человека — родная земля. Вот поче¬
му одна из тягчайших мук изгнания — чувство, подобное тому,
какое испытал бы человек, висящий на веревке, полуудавлен-
ный, который хотел бы, но не мог удавиться совсем, и только
бесконечно задыхался бы. Нечто подобное испытывал, должно
быть, и Данте, в первые дни изгнания, в страшных снах, или
даже наяву, что еще страшнее: как будто висел в пустоте, меж¬
ду небом и землей, на той самой веревке св. Франциска, на ко¬
торую так крепко надеялся, что она его спасет и со дна адова
вытащит. «Вот как спасла!» — думал, может быть, с горькой
усмешкой; не знал, что нельзя ему было иначе спастись: нужно
было висеть именно так, между небом и землей, и на этой самой
веревке, чтобы увидеть небо и землю, как следует, — самому
спастись и спасти других той Священной Поэмой, к которой
Приложат руку Небо и Земля*.
XIV.
Данте-изгнанник
«По миру пошли они, стеная, одни — сюда, а другие —
туда», — вспоминает летописец, Дино Компаньи, об участи
* Par. XXV, 2.
148
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
флорентийских изгнанников, Белых*. Так же пошел по миру
и Данте-изгнанник.
Все, что любил, покинешь ты навеки,
И это будет первою стрелой,
Которой лук изгнанья поразит...
Узнаешь ты, как солон хлеб чужой
И как сходить и подыматься тяжко
По лестницам чужим**.
Это узнает он не сразу: медленно вопьется в сердце ядовитая
стрела изгнанья; мёдленно отравит в нем кровь. Только что не¬
много оправившись от первого внезапного удара, он начал, ве¬
роятно, утешаться обманчивой надеждой всех изгнанников —
скоро вернуться на родину.
«Данте, узнав о своей беде в Риме, где был посланником
у папы, тотчас выехал оттуда (или бежал) и прибыл в Сиену;
здесь только, ясно поняв всю беду и не видя иного средства вый¬
ти из нее, решил он соединиться с прочими изгнанниками», —
вспоминает Л. Бруни***.
8 июня 1302 года собрались изгнанники в горном аббатстве
Сан Годенцо, в долине Мужделло, где, после долгих совещаний,
постановили образовать военный лагерь в Ареццо, чтобы на¬
чать с помощью могущественной лиги Тосканских Гибеллинов
и под предводительством графа Алессандро да Ромена поход
на Флоренцию. Данте, присутствовавший на собрании, назна¬
чен был одним из двенадцати Советников этого военного Союза
или заговора.
Первый летний поход 1302 года не удался: флорентийцы,
очень хорошо подготовленные к нападению Белых, отразили их
с легкостью, как бы играя. Так же не удался и второй, весен¬
ний поход 1303 года, кончившийся разгромом Белых, в бою под
Кастель Пуличиано (Castel Pulicciano). Так, от надежды к наде¬
жде, от отчаяния к отчаянию, дело шло до 30 июля 1304 года,
когда Гибеллины, не только из Ареццо, но также из Пистойи
* D. Compagni. Cron[ica]. ap[ud]. С. Balbi. Vita di Dante (1857), p. 180.
** Par. XVII, 55.
L. Bruni (Solerti, p. 103). — Passerini, p. 160. — Zingarelli, p. 42.
Воображаемое
149
и Болоньи, присоединившиеся к флорентийским изгнанникам,
потерпели жесточайшее поражение под Ластрою*.
Хуже всего было то, что, по неизменному обычаю всех из¬
гнанников, эти, озлобленные несчастьем, люди перессорились
и возненавидели друг друга, как сваленные в кучу на гнилую
больничную солому раненые, которые каждым движением при¬
чиняют друг другу, сначала нечаянно, а потом и нарочно, не¬
стерпимую боль.
Главной жертвой этой глупой и жалкой ненависти сделался
Данте. Видя, что оружием ничего не возьмешь и надеясь больше
на мирные переговоры, начатые кардиналом да Прато, он мудро
посоветовал не начинать третьего похода, предсказывая, что он
кончится бедою; а когда предсказание это исполнилось, то все
восстали на него с таким ожесточением, как будто главным ви¬
новником беды был он, зловещий пророк. В «подлой трусости»
обвиняли его, а может быть, и в предательстве**.
И будет для тебя еще тяжелее
Сообщество тех злых и низких душ,
С которыми разделишь ты изгнанье...
Неблагодарные, безумные, слепые,
Они восстанут на тебя, но вскоре
Придется им краснеть, а не тебе,
Когда их зверство так себя покажет,
Что будет для тебя великой честью,
Что ты в борьбе один был против всех***.
Но если тогда еще Данте не знал, что узнает потом, что значит
быть полководцем без войска; поймет, что не только «великая
честь», но и великое несчастье оказаться между двумя огнями,
двумя враждующими станами, одному против всех.
Те и другие захотят тебя пожрать,
Но будет далека трава от клюва — ****
* См. сноску выше.
** Passerini, р. 164.
*** Par. XVII, 61.
**** Inf. XV, 71.
150
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
глупых гусей — Белых и Черных. Смысл этого загадочно¬
го пророчества, кажется, тот, что братья Данте по несчастью,
флорентийские изгнанники, возненавидят его так, что захотят
убить, и он должен будет спастись от них бегством, — как бы
вторым изгнанием, горше первого*.
В 1304 году Данте бежал в Верону, где милостиво принял
его герцог Бартоломео дэлла Скала, тот «великий Ломбардец»,
на чьем щите была изображена, «святою Птицею», римским
Орлом, гибеллиновским знаменьем, венчанная лестница, scala;
от нее и родовое имя: Скалиджери (Scaligeri), «Лествиничники»**.
Если верить свидетельству Бруни, Данте, находясь в Вероне,
«старался... добрыми делами... умилостивить флорентийских
правителей, чтобы они позволили ему вернуться на родину;
много писем писал он об этом не только отдельным гражданам,
но и народу». Молить прощения у тех, кто предал вечному позо¬
ру имя его, как «вора, лихоимца и вымогателя». Какие нужны
были муки, чтобы так смирить гордого Данте, или, по страшно¬
му слову Бруни, чтобы «сделался он весь одним смирением».
Лучше всего выражают эту тягчайшую муку изгнания, воспо¬
минаемые Бруни, слова Данте, несомненно подлинные, кото¬
рыми начинается одно из этих писем: «О, народ мой, что я тебе
сделал? Popule шее, quid feci tibi?»***
Краток был отдых в Вероне, — может быть, потому, что до¬
брый герцог Бартоломео скончался в марте 1304 года****. Данте,
впрочем, подолгу нигде не заживается: точно Каиновым про¬
клятием гонимый, не может остановиться, бежит все дальше
и дальше, пока не упадет в могилу. «В поисках высшего блага
душа человеческая подобна страннику, идущему по неизвест¬
ной дороге: всякий дом кажется ему гостиницей; но, увидев, что
это не так, идет он все дальше и дальше, от дома к дому, пока
не найдет себе последнего (в могиле) убежища», — скажет сам
Данте-изгнанник*****.
После Вероны начинаются его бесконечные скитания. Где он
был и что с ним было, мы не знаем с точностью. Как утопающий
* Ottimo Commanto. Par. XVII, 61. — С. Balbi, p. 246. — Balbi, p. 23. —
Papini, p. 89, 254.
** Par. XVII, 70. — Passerini, p. 174. — E. del Cerro, p. 88.
*** L. Bruni (Solerti, p. 103).
**** Passerini, p. 175.
***** Сопи. IV, 12.
Воображаемое
151
в море пловец то исчезает в волнах, то вновь появляется, — так
и он. Только что луч исторической памяти скользнет по лицу
его, как уже потухает, и оно погружается опять во мрак.
Те и другие захотят тебя пожрать, —
даже это зловещее пророчество не исполнится: теми и други¬
ми он презрен и забыт одинаково.
Где был он и что с ним было, мы не знаем, но знаем, что сту¬
пени каждой новой чужой лестницы все круче для него; каждый
новый кусок чужого хлеба все солонее, горше соленой горечью
слез.
В темные воды Леты нырнул он после Вероны, а вынырнул
года через два, при дворе великолепного маркиза Франческино
Маласпина, в Луниджиане. Кажется, одна из двух, полным све¬
том истории освещенных точек, в первой половине изгнанниче¬
ской жизни Данте, — 9 часов утра, 6 октября 1306 года, когда
полномочный посол, прокуратор и нунций маркиза Маласпи¬
на, Данте Алигьери, торжественно подписывает, в присутствии
нотариуса, мирный договор с епископом Лунийским, — конец
долгой и жестокой войны его с владетельным родом Маласпина.
Это происходит близ того самого скверного городишки Сарцаны,
в Лунийской Маремме, где шесть лет тому назад смертельно за¬
болел болотной лихорадкой сосланный туда по настоянию Данте
«первый друг» его, Гвидо Кавальканти. «Кровь его на тебе», —
это сказанное Вечным Голосом услышал ли Данте вновь?*
Вторая из этих двух исторически освещенных точек — пре¬
бывание Данте, в том же, 1306-м, или в следующем году, в Бо¬
лонье, где снова садится он, в сорок два года, на школьную
скамью, в тамошнем Университете, неутомимо-жадно учится
и начинает писать огромную схоластическую книгу «Пир», ко¬
торой никогда не суждено ему было кончить**.
Следующие три-четыре года, от 1307-го до 1311-го — самые
для нас темные в изгнании Данте***: как бы с лица земли исчезает
он, проваливается сквозь землю. Если бы за эти годы он умер,
никто не узнал бы, где, когда и отчего.
* Bassermann, р. 367. — Passerini, р. 182.
** Fraticelli, р. 45. — Zingarelli, р. 46.
'** Zingarelli, р. 44.
152
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Кратко, смутно и в неверном историческом порядке, вспо¬
минает пути Дантова изгнания Боккачио: Верона, Казентино,
Луниджиана, Урбино, Болонья, Падуя, опять Верона и, нако¬
нец, Париж. — «Видя, что все пути в отечество закрыты для
него и что надежда на возвращение с каждым днем становит¬
ся тщетнее, он покинул не только Тоскану, но и всю Италию,
перевалил за Альпы и... кое-как добрался до Парижа, где весь
предался наукам... стараясь нагнать упущенное за годы ски¬
таний»*. Был ли, действительно, Данте в Париже, слушал ли,
в тамошнем Университете, в «Сенном переулке»**, сидя с про¬
чими школярами на куче соломы, великого схоластика, Сигера
Брабантского, — мы не знаем. Но если это маловероятно, то еще
невероятнее пребывание Данте в Англии, о котором упоминает
Боккачио, в латинском послании к Петрарке:
...Фебовой силой влекомый,
Он до Парижа дошел; был и у Бриттов далеких***.
Первый жизнеописатель Данте, его современник, Джиованни
Вил лани, вспоминает о его скитаниях еще короче и сбивчивее:
«Изгнанный из Флоренции... отправился он в Болонский
университет, а оттуда в Париж и во многие другие страны
мира»****.
Так скитается по миру призрак Данте, вечного изгнанника,
словно тень Агасфера51 или Каина.
Лучше всего вспоминает об этих скитаниях он сам: «После
того, как угодно было гражданам славнейшей и прекраснейшей
дочери Рима, Флоренции, изгнать меня оттуда, где я родил¬
ся и был вскормлен до середины дней моих, и куда... всею ду¬
шою хотел бы вернуться, чтобы найти покой усталому сердцу
и кончить назначенный срок жизни, — после того, скитался
я почти по всей Италии, бездомный и нищий, показывая про¬
* Boccaccio. Compendio XI; Genealogia XV; Comento, Lez[ione] I; Vita
(Solerti, p. 27). — Hauvette, p. 161. — Passerini, p. 201.
** Par. X, 137.
*** O. Hecker. Boccaccio-Funde (1902), p. 19, 22. — A. Farinelli. Dante e la
Francia (1908). I, 95.
**** G. Villani. Cron. X, 136.
Воображаемое
153
тив воли те раны судьбы, в которых люди часто обвиняют самих
раненых. Был я воистину ладьей без кормила и паруса, носи¬
мой по всем морям и пристаням иссушающею бурею бедности.
И многие из тех, кто, может быть, судя по молве, считали меня
иным, — презирали не только меня самого, но и все, что я уже
сделал и мог бы еще сделать» *.
В эти дни Данте понял, вероятно, что казнь изгнания — казнь
наготы: выброшены, в лютую стужу, голые люди на голую зем¬
лю, или, вернее, голые души: тело тает на них, как тело призра¬
ков, и сами они блуждают среди живых, как призраки. Понял
Данте, что быть изгнанником — значит быть такой живой те¬
нью, более жалкой, чем тени мертвых: этих люди боятся, а тех
презирают. Хуже Каиновой печать на челе их: «знамение поло¬
жил Господь Бог на Каина, чтобы никто, встретившись с ним,
не убил его» (Быт. 4, 15); такого знамения не было на челе Дан¬
те-изгнанника: первый встречный мог убить его, потому что он
был человек «вне закона».
Понял, может быть, Данте, что изгнание — страшная, гнус¬
ная, проказе подобная, болезнь: сила за силой, разрушаясь, от¬
падает от души, как член за членом — от тела прокаженного;
бедностью, несчастьем, унижением пахнет от изгнанников, как
тленом проказы; и так же, как здоровые бегут от прокаженных —
счастливые, имеющие родину, бегут от несчастных изгнанников.
Родина для человека, как тело для души. Сколько бы тяжело
больной ни ненавидел и ни проклинал тела своего, как терзающе¬
го орудия пытки, избавиться от него, пока жив, он не может; тело
липнет к душе, как отравленная одежда Нисса липнет к телу02.
«Сколько бы я ни ненавидел ее, она моя, и я — ее» — это должен
был чувствовать Данте, проклиная и ненавидя Флоренцию.
Произращен твой город тем, кто первый
Восстал на Бога, —
диаволом. Город Флоренция— «диаволов злак», а цветок
на нем — Флорентийская Лилия — чекан тех золотых флори¬
нов, что «делают из пастырей Церкви волков», щенят «древней
Волчицы», проклятой Собственности — Алчности**.
* Conv. I, 3.
** Par. IX, 127.
154
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Главная мука в ненависти Данте к Флоренции — вопрос всей
жизни его, как и жизни св. Франциска Ассизского, — о прокля¬
той собственности и благословенной «общности имения»: то,
что мы называем «проблемой социального неравенства».
Ликуй, Флоренция, твоя летает слава,
По всем морям и землям, так далеко,
Что, наконец, дна адова достигла, —*
злорадствует Данте, терзая душу и тело родины — свое же
собственное тело и душу.
Чуть не с каждым шагом по кругам Ада, по уступам Святой
Горы Чистилища и по звездным сферам Небес, вспоминает он
и проклинает Флоренцию. Ненависть его к ней так неутолима,
что и в высшей из небесных сфер, пред Лицом Неизреченного,
он все еще помнит ее, ненавистную — любимую, мачеху — мать.
От временного к вечному придя,
От города Флоренции — ко граду Божью,
Каким я изумленьем несказанным
Был поражен!**
Но, чем больше ненавидит ее, тем больше любит. Главная
мука изгнанья — вечная мука ада — эта извращенная лю¬
бовь-ненависть изгнанников к родине, проклятых детей —
к проклявшей их матери.
«Мир для нас отечество, как море для рыб... Но, хотя из-за
любви к отечеству мы терпим несправедливое изгнание... все же
нет для нас места на земле любезнее Флоренции»***. — «О, бед¬
ная, бедная моя отчизна! Какая жалость терзает мне сердце
каждый раз, как я читаю или пишу о делах правления! » ****
Ступай теперь, Тосканец: об отчизне
Мне так стеснила сердце скорбь, что больше
Я говорить не буду, — лучше молча плакать, —*****
* Inf. XXVI, 1.
** Par. XXXI, 37.
*** De vulg. eloqu. I, 6.
**** Conv. IV, 27.
***** Purg. XIV, 124.
Воображаемое
155
говорит Данте-изгнаннику, в Чистилище, тень Гвидо дэль Дука.
О ты, земли Тосканской обитатель...
Мне звук твоих речей напоминает
О той моей отчизне благородной,
Которой, может быть, я в тягость был, —*
говорит ему флорентиец Фарината, в Аду. Тени, в загробном
мире, продолжают любить родную землю, как будто она для них
все еще действительнее, чем рай и ад.
Данте, наяву, слепнет от ненависти, не видит отечества, —
но видит его во сне. «Больше всех людей я жалею тех несчаст¬
ных, кто, томясь в изгнании, видит отечество свое только
во сне»**. Ожесточен и горд наяву, а во сне плачет, как малень¬
кий прибитый мальчик: «О, народ мой, что я тебе сделал?» Ти¬
хие слезы льются по лицу; вся душа, исходя этими слезами, ис-
тивает, как вешний снег — от солнца.
Я смерть мою прощаю той,
Кто жалости ко мне не знала никогда, —
мог бы он сказать и Флоренции, как сказал Беатриче.
Знает, что никогда не будет прощен, а все-таки ждет, молит
прощения, и будет молить до конца.
Я знаю: смерть уже стоит в дверях;
И если в чем-нибудь я был виновен,
То уже давно искуплена вина...
И мир давно бы дать могли мне люди,
Когда бы знали то, что знает мудрый, —
Что большая из всех побед — прощать***.
Но этого люди не знают и никогда не простят того, кто слиш¬
ком на них не похож, как волки не прощают льву, что он — лев,
а не волк. Данте — изгнанник. Данте — нищий.
* Inf.X, 22.
** De vulg. eloqu. II, 6.
Rime 104.
156
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Стыд заглушив, он руку протянул...
Но каждая в нем жилка трепетала*,
это скажет он о другом, но мог бы сказать и о себе, да и гово¬
рит, хотя иными словами, в 1304 году: «Бедность внезапная,
причиненная изгнанием... загнала меня, бесконного, безоруж¬
ного, как хищная Звериха, в логово свое, где я изо всех сил с нею
борюсь, но все еще, лютая, держит она меня в когтях своих»**.
Прежде, в отечестве, когда делал долги, только концами зу¬
бов покусывала, как бы играючи, а теперь всеми зубами впи¬
лась, вонзила их до крови.
Данте знает, конечно, что есть две Бедности: «Прекрасная
Дама», gentile Donna, св. Франциска Ассизского, «супругаХри-
стова», та, что «взошла с Ним на крест, когда Мария осталась
у подножия Креста», — и другая, «хищная Звериха», «древняя
Волчица»: грешная бедность— волчья жадность, волчья за¬
висть. «Холодно-холодно! Голодно-голодно!» — воет она, и этой
страшной гостье «никто не открывает дверей охотно, так же как
смерти» ***. Знает Данте и то, что от внутренней силы каждого за¬
висит сделать для себя бедность благословением или прокляти¬
ем, славой или позором; победить ее или быть побежденным.
«Блаженны нищие, ибо их есть царство небесное» — это
легко понять со стороны, для других; а для себя — трудно; что¬
бы это понять и сделать (а не сделав, не поймешь), надо быть
больше, чем героем, — надо быть святым. Как приняли бы
и вынесли бедность даже такие герои, как Александр Великий
и Цезарь, еще большой вопрос. Данте был героем, может быть,
в своем роде, не меньшим, чем Александр и Цезарь, но не был
святым. Самое тяжкое для него в бедности то, что он побежден
ею внутренне, унижен перед самим собой больше, чем перед
людьми. Медленно растущим гнетом бедности раздавливается,
расплющивается душа человека, как гидравлическим молотом.
В мелких заботах бедности даже великое сердце умаляется, кро¬
шится, как ржавое железо или выветрившийся камень.
Чувство внутреннего бессилия, измены и лжи перед самим
собою, — вот что для Данте самое тяжкое в бедности. Благо¬
* Purg. XI, 135[, 138].
** Ер. II.
Par. XI, 71.
Воображаемое
157
словляет бедность в других, а когда дело доходит до него самого,
проклинает ее и запирает от нее двери, как от смерти. В мыслях,
«древняя Волчица» есть, для него, проклятая Собственность,
Богатство; а в жизни, — Бедность. Одно говорит, а делает дру¬
гое; думает по-одному, а живет по-другому. И если чувствует, —
что очень вероятно, — это противоречие, то не может не испы¬
тывать тягчайшей муки грешной бедности — самопрезрения.
Судя по тогдашним нравам нищих поэтов, Данте, может
быть не слишком усердствует, когда, стараясь отблагодарить
своих покровителей за бывшие подачки и расщедрить на буду¬
щие, славит в «Чистилище» кошелек великолепного маркиза
Маласпина, более щедрый для других, чем для него*; или ког¬
да, в «Раю», прапрадед Качьягвидо обнадеживает его насчет
неслыханной щедрости герцога Веронского:
Жди от него себе благодеяний,
Затем, что судьбы многих, в скорбном мире,
Изменит он, обогащая нищих**.
Данте мог презирать такие клеветы врагов своих, как бран¬
ный сонет, в котором один из тогдашних плохих стихотворцев
кидает его, за «низкую лесть», в его же собственный Ад, в зло¬
вонную «яму льстецов»***; но бывали, вероятно, минуты, когда
он и самому себе казался немногим лучше «льстеца», «прижи¬
вальщика », « прихлебателя ».
Слишком хорошо знал он цену своим благодетелям, чтобы
каждый выкинутый ими кусок не останавливался у него попе¬
рек горла, и чтобы не глотал он его с горчайшими слезами стыда.
Стыд заглушив, он руку протянул,
Но каждая в нем жилка трепетала.
Низко кланяется, гнет спину, «выпрашивая хлеб свой по кро¬
хам»****, — и вдруг возмущается: «Много есть государей такой ос¬
линой породы, что они приказывают противоположное тому,
* Purg. Vili, 118.
** Par. XVII, 88.
'** Zingarelli, p. 670.
** Par. VI, 141.
158
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
чего хотят, или хотят, чтобы их без приказаний слушались... Это
не люди, а звери»*. — «О, низкие и презренные, грабящие вдов
и сирот, чтобы задавать пиры... носить великолепные одежды
и строить дворцы... думаете ли вы, что это щедрость? Нет, это
все равно что красть покров с алтаря и, сделав из него скатерть,
приглашать к столу гостей... думая, что те ничего о вашем во¬
ровстве не знают»**.
О, сколько есть таких, что мнят себя
Великими царями
Там, на земле, и будут
Валяться здесь, в аду, как свиньи в грязной луже,
Презренную оставив память в мире!***
«Властвовать над людьми должен тот, кто их всех превосхо¬
дит умом», — вспоминая эти слова Аристотеля, Данте думает,
конечно, о себе****.
Кажется, именно в бедности, узнав, по собственному опыту,
за что восстают бедные на богатых: «тощий» народ на «жир¬
ный», Данте почувствовал, один из первых, грозную возмож¬
ность того, что мы называем «социальной революцией», «про¬
блемой социального неравенства».
Против человеческой низости было у него страшное ору¬
жие — обличительное слово, которым выжигал он на лице
ее, как железом, докрасна раскаленным на огне ада, или как
брызнутой в лицо серной кислотой, — неизгладимое клеймо.
Но оружие это двуострое: оно обращается иногда и на него само¬
го, «Данте, муж, во всем остальном, превосходный, только од¬
ним врожденным недостатком был в тягость всем, — сообщает
поздний, XVI века, свидетель, передавая более раннее, может
быть, от современников Данте идущее, предание или воспо¬
минание. — Часто предавался он яростному гневу до безумия
и, не думая о том, сколь великим опасностям подвергают себя
оскорбители сильных мира сего, слишком свободным языком
своим оскорблял их безмерно»*****.
* Сопи. I, 2.
** Cono. IV, 27.
*** Inf. Vili, 49.
**** Mon. I, 3: «Intelectu scilicet vigentes aliis naturaliterprincipali».
***** G. Paranti, p. 151 (Foglietta, Clarorum Ligurum elogia, p. 254).
Воображаемое
159
Кажется, сам Данте чувствовал в себе этот «врожденный не¬
достаток» и, в спокойные минуты, боролся с ним:
Я вижу, надо быть мне осторожным,
Чтоб, родины возлюбленной лишась,
Не потерять и остальных убежищ.
Я в людях то узнал, что может дать
Моим стихам, для многих, вкус горчайший*.
Слишком хорошо знает он, что неосторожная правда, в устах
нищего, — для него голодная смерть, или то, что произошло
с ним, — если верить тому же позднему, по вероятному свиде¬
тельству, — в 1311 году, в Генуе, где слуги вельможи Бранка д’О-
риа (Branca d’Oria), оскорбленного стихами Данте, подстерегши
его на улице, избили кулаками или палками**. Все равно, было это
или не было: это могло быть. И Данте знал, что могло, что множе¬
ство глупцов и негодяев вздохнуло бы с облегчением, узнав, что
человек, у которого всегда было наготове каленое железо и сер¬
ная кислота для их бесстыдных лбов, умер или убит, как собака.
Люди довольно легко прощают своим ближним преступле¬
ния, подлости, даже глупости (их прощают, пожалуй, всего
труднее) — под одним условием: будь похож на всех. Но горе
тому, кем условие это нарушено и кто ни на кого не похож. Люди
заклюют его, как гуси попавшего на птичий двор умирающего
лебедя или как петухи — раненого орла. Данте, среди людей,
такой заклеванный лебедь или орел. Жалко и страшно видеть,
как летят белые, окровавленные перья лебедя под гогочущи¬
ми клювами гусей; или черные, орлиные, — под петушиными
клювами. Данте, живому, люди не могли простить — и все еще
не могут простить — бессмертному, того, что он так не похож
на них; что он для них такое не страшное и даже не смешное,
а только скучное чудовище.
Может быть, он и сам не знал иногда, чудо ли он или чудови¬
ще; но бывали и такие минуты, когда он вдруг видел во всех му¬
ках изгнания своего, нищеты и позора — чудо Божественного
Промысла; и слышал тот же таинственно зовущий голос, кото¬
рый услышит, проходя через огненную реку Чистилища:
* Par. XVII, 105.
** Ср. пр. 400.
160
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Здесь нет иных путей, как через пламя...
Между тобой и Беатриче — только эта
Стена огня. Войди же в него, не бойся!
Вот уже глаза, ее глаза я вижу!
Может быть, Данте чувствовал, в такие минуты, свою беско¬
нечно растущую в муках силу.
Неколебимым чувствую себя
Четырехгранником, под всеми
Ударами судьбы*.
Что дает ему эту силу, он и сам еще не знает; но чувствует,
что победит ею все.
Восстань и помни, что душа твоя,
Во всех бореньях, может победить**.
Когда вспоминает он о другом нищем изгнаннике, то думает
и о себе:
О, если б мир узнал, с каким великим сердцем
Выпрашивал он хлеб свой по крохам,
То, славя, больше бы еще его прославил!***
Купит грядущую славу только настоящим позором — это он
узнает из беседы в Раю с великим прапрадедом своим, Качьяг-
видо:
« ...Боюсь, что, если буду
Я боязливым другом правды в песнях,
То потеряю славу в тех веках,
Которым наше время
Казаться будет древним». — Воссиял
Прапрадед мой, как солнце, и в ответ
Сказал мне так: «Чья совесть почернела,
* Par. XVII, 24.
** Inf. XXIV, 52.
Par. VI, 140.
Воображаемое
161
Тот режущую силу слов твоих
Почувствует; но презирая ложь,
Скажи бесстрашно людям все, что знаешь...
...Твои слова
Сначала будут горьки, но потом
Для многих сделаются хлебом жизни,
И песнь твоя, как буря, поколеблет
Вершины высочайших гор,
Что будет славой для тебя немалой»*.
Песнь о Трех Дамах, сложенная, вероятно, в первые годы из¬
гнания, лучше всего выражает то, что Данте чувствовал в такие
минуты. Жесткую, сухую, геральдическую живопись родослов¬
ных щитов напоминает эта аллегория. Трудно живому чувству
пробиться сквозь нее, но чем труднее, тем живее и трогательнее
это чувство, когда оно наконец пробивается.
К богу Любви, живущему в сердце поэта, приходят Три Дамы
(и здесь, как везде, всегда, число для Данте святейшее — Три):
Умеренность, Щедрость, Праведность. Temperanza, Largezza,
Drittura. Может быть, первая — Святая Бедность, Прекрасная
Дама, св. Франциску известная; вторая — святая Собствен¬
ность, ему неизвестная; а третья — неизвестнейшая и прекрас¬
нейшая, соединяющая красоту первой и второй в высшей гар¬
монии, — будущая Праведность. «Ждем, по обетованию Его,
нового неба и новой земли, где обитает Правда» (II Петр. 3,13).
Или, говоря на языке «Калабрийского аббата Иоахима, одарен¬
ного духом пророческим»: святая Щедрость— в Отце, святая
Бедность — в Сыне, а третья — Безымянная, людям еще неиз¬
вестная, святость — в Духе. Если так, то и это видение Данте
относится все к тому же вечному для него вопросу о том, что
Евангелие называет так глубоко «Умножением — Разделением
хлебов», а мы так плоско — «социальной революцией», «про¬
блемой социального неравенства».
Три Дамы к сердцу моему пришли...
Как к дому друга, зная,
Что в нем живет Любовь...
И на руку одна из них склонила, плача,
* Par. XVII, 127.
162
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Лицо свое, как сломанная роза...
И жалкую увидев наготу
Сквозь дыры нищенских одежд, Любовь
Ее спросила: «Кто ты, и о чем
Так горько плачешь? »
«Мы, нищие, бездомные, босые,
Пришли к тебе, — ответила она. —
Я — самая несчастная их трех;
Я — Праведность, сестра твоя родная...»
Ответ Любви был вздохами замедлен,
Потом, очами, полными надежды,
Приветствуя изгнанниц безутешных,
Она схватила в руки два копья
И так сказала: «Подымите лица,
Мужайтесь! Вот оружье наше;
От ветхости заржавело оно.
Умеренность, и Щедрость, и другая
От нашей крови, — нищенствуя, в мире
Скитаются. Но, если это — зло,
То пусть о нем рожденные во зле,
Под властью рока, люди плачут, —
Не мы, чей род — от вечного гранита.
Пусть презренны мы ныне и гонимы, —
Наступит час, когда, в святом бою,
Над миром вновь заблещут эти копья! »
И, слушая тех царственных изгнанниц,
Как плакали они и утешались,
В божественной беседе, я впервые
Изгнание мое благословил.
Пусть жалкий суд людей иль сила рока
Цвет белый черным делает для мира, —
Пасть с добрыми в бою хвалы достойно*.
Два сокровища находит нищий Данте в изгнании; первое —
итальянский «народный язык», vulgare eloquium. В Церкви
и в государстве все говорили тогда на чужом и мертвом латин¬
ском языке, а родной и живой, итальянский, — презирали, как
«низкий» и «варварский», Данте первый понял, что будущее —
* Rime 104.
Воображаемое
163
за народным языком и усыновил этого пасынка, обогатил ни¬
щего, венчал раба на царство. Если тело народной души —
язык, то можно сказать, что Данте дал тело душе итальянского
народа, как бы снова создал его, родил; и знал величие того, что
делает: «больше всех царей и сильных мира сего будет тот, кто
овладеет... царственным народным языком»*.
Второе сокровище нищего Данте — «Божественная коме¬
дия». Начал он писать ее, вероятно, еще во Флоренции, меж¬
ду 1300-м и 1302 годом, но потом, в изгнании, вынужден был
оставить начатый труд**. Через пять лет, в 1307 году, по свиде¬
тельству Боккачио, флорентийские друзья Данте прислали ему
рукопись первых семи песен «Ада», найденную ими случайно
в сундуке с домашней рухлядью. «Я думал, что рукопись моя по¬
гибла вместе с остальным разграбленным моим имуществом, —
сказал будто бы Данте. Но так как Богу было угодно, чтобы она
уцелела и вернулась ко мне, я сделаю все, что могу, чтобы про¬
должить и кончить мой труд»***.
С этого дня «Святая Поэма», sacra poema, сделалась верной
спутницей его на всех путях изгнания.
В явно подложном «письме брата Илария» о встрече с Данте
в горной обители Санта-Кроче дэль Корво есть одно подлинное
свидетельство: рукопись «Комедии» всегда была при нем, в его
дорожной суме****. Всякий лихой человек (а таких было тогда,
на больших дорогах, множество) мог его убить и ограбить без¬
наказанно, по приговору Флорентийской Коммуны; а сделав
это, мог, в досаде, что ничем не удалось поживиться от нище¬
го, — развеять по ветру или втоптать в грязь найденные листки
«Комедии». Думая об этом, Данте испытывал, вероятно, то же,
что тогда, когда слуги оскорбленного вельможи «ослиной поро¬
ды» били его, на улице, палками. Но, может быть, он чувство¬
вал, что такой позор человеческий нужен ему, чтобы поэма его,
«Комедия» (он сам дал ей это имя) могла сделаться «Божествен¬
ной» , как назовут ее люди.
Муки изгнания и нищеты были нужны ему, чтобы узнать
не только грешную слабость свою, в настоящем, но и святую
* De vulg. eloqu. I, 17.
Passerini, p. 206.
*** Boccaccio. Vita (Solerti, p. 52).
'*** Passerini, p. 199.
164
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
силу, в будущем; или хотя бы сделать первый шаг к этой но¬
вой святости, неведомой св. Франциску Ассизскому и никому
из святых.
Когда говорил Данте бог Любви:
Наш род — от вечного гранита,
Noi, che semo dell’eterna rocca, —
и когда благословлял он изгнание свое, — он знал, что «ему
позавидуют некогда лучшие люди в мире».
О если б я был им!
С такою силой духа,
Как у него, — за горькое изгнанье,
За все его бесчисленные муки,
Я отдал бы счастливейший удел!
скажет великий о величайшем, Микель Анжело — о Данте*.
Вот почему тебя я надо всеми
Короною и митрою венчаю, —**
скажет Вергилий на вершине «святой горы Очищения»: Дан¬
те будет увенчан короною, выше всех царей, и митрою — выше
всех пап — это он знал наверное. Вот каким сокровищем владел
он, в нищете, и какою славою — в позоре.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небес¬
ное. (Мт. 5,10).
Всех изгнанных за правду, бездомных и нищих скитальцев,
всех презренных людьми и отверженных, всех настоящего Гра¬
да не имеющих и грядущего Града ищущих вечный покрови¬
тель — Данте-Изгнанник.
* «Fuss’io pur lui! ch’a tal fortuna nato, / Per l’aspro esilio suo, con la virtute,
/ Dare’ del mondo il più felice stato».
" Purg. XXVII, 142.
Воображаемое
165
XV.
Данте и кесарь
В 1308 году избран был в императоры Священной Римской
Империи, под именем Генриха VII, маленький германский вла¬
детельный граф, Генрих Люксембургский. В следующем году
послы его, прибыв в Авиньон, ко двору папы Климента V, воз¬
вестили ему, что государь их желает принять корону Кесаря
из рук Его Святейшества, в Риме. Папа согласился на это и объ¬
явил нового императора в торжественной энциклике Exultât in
gloria* избранником Божиим, посланным для того, чтобы уста¬
новить мир всего мира**.
«Генрих был человек великого сердца... мудрый, благоче¬
стивый... и праведный; был доблестный воин», — вспоминает
летописец, Дж. Виллани***, — «Богу Всемогущему угодно было
пришествие Генриха в Италию для того, чтобы совершилась
в ней казнь всех тиранов... и чтобы самовластие их было на¬
всегда уничтожено», — вспоминает и другой летописец, Дино
Компаньи****. Вот почему, по свидетельству Виллани, « не только
западные, но и восточные христиане, и даже неверные следи¬
ли за походом Генриха с таким вниманием, что можно сказать:
не было в те дни события, равного этому»*****.
Мир, затаив дыхание, ждал от нового императора, «послан¬
ника Божия», торжества человеческой совести там, где она
всегда бывает поругана больше всего — в делах государствен¬
ных. «Скажет праведник: есть Бог, судящий на земле* (Пс. 57,
12), — на это надеялись от Генриха все лучшие люди; но, может
быть, никто не надеялся так, как Данте.
О, Господи, когда же, наконец,
Увижу я Твое святое мщенье?******
На этот вопрос его как будто отвечал ему мститель Божий,
император Генрих: «Сейчас увидишь».
* Passerini, р. 245.
** Ib[id].9 р. 223.
*** G. Villani. Cron. Vili, 101.
**** D. Compagni. Cron. Ill, 53.
***** G. Villani. Cron. IX, 53.
****** Purg. XX, 94.
166
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко... ибо видели очи
мои спасение Твое (Лк. 2, 29-30), —
мог бы сказать Данте, вместе с другом своим, поэтом Чино
да Пистойя*.
В эти дни Данте испытывал, может быть, чувство, подобное
тому, какое испытает, выйдя из Ада, «чтоб вновь увидеть звезды»**.
Когда из мертвенного воздуха я вышел,
печалившего сердце мне и очи,
то усладил их, разлитой по небу
прозрачному до высшей сферы звезд,
нежнейший свет восточного сапфира***.
В 1311 году, в самом начале похода, пишет он такое же тор¬
жественное послание «ко всем государям земли», как двадцать
лет назад, по смерти Беатриче. Но то было вестью великой скор¬
би, а это — великой радости.
«Всем государям Италии... Данте Алагерий, флорентийский
невинный изгнанник... Ныне солнце восходит над миром... Ныне
все алчущие и жаждущие правды насытятся... Радуйся же, Ита¬
лия несчастная... ибо жених твой грядет... Генрих, Божественный
Август и Кесарь... Слезы твои осуши... близок твой избавитель» ****.
Может быть казалось Данте, что в эти дни готово исполнить¬
ся услышанное им в видении пророчество бога Любви тем трем
Прекрасным Дамам, таким же, как он, нищим и презренным
людьми, вечным изгнанницам:
Любовь сказала: «Подымите лица,
Мужайтесь: вот оружье наше...
Наступит час, когда, в святом бою,
Над миром вновь заблещут эти копья!»
Слишком настрадавшиеся люди легко обманываются лож¬
ными надеждами: так обманулся и Данте надеждой на Генриха;
* E. G. Parodi. L’ideale politico di Dante (1921), p. 106.
** Inf. XXXIV, 139.
Purg. 1,13.
Ep.N.
Воображаемое 167
принял мечту за действительность, облака — за горы, марево
воды — за настоящую воду.
Генрих и Данте близки друг другу хотя и очень глубокою,
но не последнею близостью. Та же у обоих «прямота», drittura,
по слову Данте, — как бы одна, идущая от души человеческой
к миру и к Богу, геометрически прямая линия правды, проти¬
воположная всем кривым линиям лжи. Оба — «люди доброй
воли», — те, о ком Ангелы пели над колыбелью Спасителя:
Мир на земле, в людях доброй воли.
Pax in hominibus bonae voluntatis.
Оба — высокие жертвы человеческой низости. Главная же
близость их, может быть, в том, что оба — люди не своего време¬
ни. Но здесь начинается и то, что их разделяет: Данте — чело¬
век далекого будущего, а Генрих — близкого прошлого; тот ро¬
дился на тридцать-сорок веков раньше, а этот — на три-четрые
века позже, чем следует. Римская Священная Империя Генри¬
ха отделена от Монархии Данте тем же, чем прошлое отделено
от будущего, и непохороненный покойник — от нерожденного
младенца.
Генрих, «человек великого сердца», почти святой, отдает
жизнь свою за обреченное дело, потому что, после Фридриха II
Барбароссы, самая идея Священной Римской Империи почти
погасла в умах. В 1264 году, за год до рождения Данте, когда
«белокурый красавец» Манфред Гогенштауфен пал в бою под
Беневентом, сражаясь с королем Карлом Анжуйским, — Свя¬
щенная Римская Империя кончилась*. Мир шел, может быть,
роковым для него и пагубным, но исторически неизбежным, пу¬
тем, от всемирного бытия к народному, или, как мы говорим,
«национальному», — от насильственного единства к свободно¬
му множеству и разделению народов.
Если Генрих — еще не Дон Кихот, то уже один из последних
рыцарей и первых романтиков. Вечный спутник их, демон от¬
влеченности, искажает все его дела, или поражает их бесплоди¬
ем. С лучшими намерениями делает он зло: желая восстановить
порядок в занятых им областях Италии, только увеличивает
хаос; сеет мир и пожинает войну.
* Purg. Ill, 106. — L. Prieur, p. 175.
168
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Осенью 1310 года, спустившись с Альп в Ломбардию, с ма¬
леньким пятитысячным войском, новый император, в победо¬
носном шествии, идет из города в город, «всюду устанавливая
мир, как Ангел Божий»,— вспоминает Дино Компаньи*.—
В день Богоявления, 6 января 1311 года, Генрих венчается
в Милане железной короной ломбардских королей.
Данте видел Генриха, вероятно, в январе 1311 года, в Мила¬
не, вскоре после венчания. Царственного не было ничего в на¬
ружности этого сорокалетнего человека, небольшого роста, с го¬
лым черепом, с тихим, простым и печальным лицом. Легкая
косина одного глаза придавала ему иногда, как это часто бывает
при косине, выражение беспокойное и тягостное, почти злове¬
щее; точно искажавший все дела его, насмешливый «демон от¬
влеченности» исказил и лицо его: «прямое сердце —косое око»**.
Данте, по обычаю всех допущенных пред лицом императора,
стоя на коленях и низко опустив лицо к ступеням трона, обнял
и поцеловал ноги «Святейшего Августа». Дважды целовал он
ноги человеку: в первый раз тому, кого больше всех ненави¬
дел, — папе Бонифацию VIH; во второй — тому, кого, после Бе¬
атриче, больше всех любил, — императору Генриху; двум носи¬
телям высших властей, небесной и земной.
Кажется, в письме Данте к императору, писанном в том же
году, месяца через два, есть намек на то, что он чувствовал при
этом целовании: «Видел я и слышал тебя, Всемилостивейший...
и обнимал ноги твои и уста мои исполнили свой долг. И возра¬
довался дух мой, и сказал я себе: „Вот Агнец Божий, взявший
на себя грех мира“»***.
Лестью и кощунством могли бы казаться эти слова в устах всяко¬
го человека, кроме Данте, потому что никто не способен был мень¬
ше, чем он, к лести и кощунству. Что же они значат? Кажется, он хо¬
чет и не может выразить в них то, что тогда почувствовал в Генрихе,
увидев, как бы в мгновенном прозрении, всю его грядущую судь¬
бу — не золотым венцом венчаться в победе, а терновым — в стра¬
дании; быть обреченной на заклание жертвой — одним из многих
агнцев Божиих, идущих за Единственным. И это увидев, он полю¬
бил его еще больше, потому что в его судьбе узнал свою.
* Scartazzini, р. 390.
** Passerini, р. 224 (D. Compagni).
*** Ер. VII.
Воображаемое
169
Данте узнал Генриха, но тот не узнал его, самого близкого
и нужного ему человека, единственного в мире, который понял
его и полюбил.
Слишком чист был сердцем Генрих для такого нечистого
дела, как политика. В самом начале похода делает он роковую
ошибку. Множество изгнанников, большей частью Гибеллинов,
приверженцев императорской власти, изгнанных ее врагами.
Гвельфами, и собравшихся из всех городов Верхней Италии,
ищет в нем опоры и защиты, но не находит: он объявляет тор¬
жественно, что не хочет знать ни Гибеллинов, ни Гвельфов, по¬
тому что пришел в Италию не для вражды, а для мира. Но этого
не поняли ни те, ни другие. Вместо того чтоб их примирить, он
только ожесточил их друг против друга и восстановил против
себя; Гвельфы считают его Гибеллином, а Гибеллины — Гвель¬
фом. Стоя между двух огней, он топчет их оба, но не гасит;
старую болезнь итальянских междуусобий загоняет внутрь,
но не лечит; делается пастухом волчьего стада, не предвидя, что
волки съедят пастуха.
После первой ошибки делает вторую, большую: насильствен¬
но возвращает Гибеллинов-изгнанников в те города, откуда они
были изгнаны. Но, только что вернувшись на родину и чувствуя
себя победителями, мстят они врагам своим, Гвельфам, так же
беспощадно изгоняя их, как сами были ими некогда изгнаны*.
И тотчас же по всей Верхней Италии вспыхивают бунты против
императора. Две сильнейших крепости, Кремона и Брешия,
запирают перед ним ворота. В медленных осадах проходят ме¬
сяцы, и Генрих, в этой истощающей и бесславной Ломбардской
войне, увязает, как в болоте**. А между тем злейший и опасней¬
ший враг его, Флоренция, вооружается, приобретает союзников
и подкупами, не жалея денег, разжигает все новые бунты.
В эти дни Данте прибыл в Тоскану, к источникам Арно, мо¬
жет быть, для того, чтобы ближе быть к Флоренции, куда на¬
деялся, со дня на день, вернуться. Видя опасность, грозящую
Генриху, он остерегает его письмом. Смысл этого темнейшего,
писанного на плохом латинском языке и школьною ученостью
загроможденного послания таков: «Что ты медлишь в Ломбар¬
дии? Или не знаешь, что корень зла не там, а здесь, в Тоскане?
* Zingarelli, р. 70.
** Fraticelli, р. 183.
170
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Имя его — Флоренция. Вот ехидна, пожирающая внутренности
матери своей, Италии. Только раздавив ее, победишь, — спа¬
сешь себя и нас»*.
Это послание написано 16 апреля 1311 года, а за две неде¬
ли до него, 31 марта, — другое: «Данте Алагерий, флорентиец,
изгнанный невинно, — флорентийцам негоднейшим, живущим
на родине... Как же вы, преступая все законы Божеские и чело¬
веческие, не страшитесь вечной погибели?.. Или вы еще наде¬
етесь на жалкие стены ваши и рвы?.. Но к чему они послужат
вам... когда налетит на вас ужасный... все моря и земли обле¬
тающий, Орел?.. Город ваш будет опустошен мечом и огнем...
ваши невинные дети искупят грех отцов своих... И если не обма¬
нывает меня подтверждаемое многими знаками предвидение,
то, после того как большинство из вас падет от меча... немногие,
оставшиеся в живых, изгнанники... увидят отечество свое, пре¬
данное в руки чужеземцев»**.
«Рога нашего ни перед кем не опустим», — этими гордыми
словами могла бы ответить Флоренция самому гордому из сы¬
нов своих, Данте, так же, как отвечала всем своим тогдашним
врагам***. Главную силу в поединке с Генрихом дает ей то, что
против старого, уже никому не нужного и никого не чарующе¬
го знамени всемирности подымает она нужное и всех чарующее
знамя отечества. «Помните, братья, что Германец (Генрих) хо¬
чет нас погубить, — пишут флорентийцы в воззвании к своим
ломбардским союзникам, восставшим на императора. — Пом¬
ните, какое чуждое нам по языку и крови, ненавистное племя
ведет он с собой на Италию, и каково нам будет жить под игом
этих варваров! Укрепите же сердца ваши и руки на защиту само¬
го дорогого, что есть у нас в мире, — свободы!»****
Вот в чем сила Флоренции — в восстании против чужеземно¬
го ига за свободу отечества. Люди слышат: «Римская Священ¬
ная Империя», — и сердца их остаются холодными; слышат:
«Отечество», — и сердца их горят. «Долой чужеземцев! Fuori lo
straniero! » — этот клич, которому суждено было сделаться голо¬
сом веков и народов — началом всемирной войны, — впервые
* Ер. VII.
** Ер. VI.
'** Passerini, р. 253.
'** Там же.
Воображаемое
171
прозвучал тогда, в Милане. Понял ли Данте страшный смысл
его и если понял, то повторил ли бы его, даже ради спасения
отечества?
Близкое прошлое — за Генрихом, далекое будущее — за Дан¬
те, а ближайшее настоящее — за Флоренцией. Те оба реют где-то
в облаках, а эта твердо стоит на земле; у тех — мечта, а у этой —
действительность. И сколько веков пройдет, прежде чем люди
поймут, что Данте был все-таки прав, и что воля его ко всемир-
ности выше, чем воля врагов его к отечеству! Сила настоящего,
в борьбе с бывшим и будущим, так велика, что в те дни, когда
шла борьба, сам Данте мог усомниться в своей правоте.
Вот что скажет, через двести лет, о тех самых «флорентийцах
негоднейших», sceleratissimi, которых Данте так презирал, поч¬
ти такой же среди них одинокий, так же ими непонятый и пре¬
зренный, как он, великий флорентиец, Макиавелли: «Кажется,
ни в чем не видно столь ясно величие нашего города, как в тех
междуусобиях, divisione (città partita, по горькому слову Дан¬
те), которые могли бы разрушить всякий другой великий и мо¬
гущественный город, но в которых величие нашего — только
росло. Сила духа и доблесть, и любовь к отечеству были у граж¬
дан его таковы, что и малое число их, уцелевшее в тех междуу¬
собиях, сделало больше для его величия, чем все его постигшие
бедствия могли сделать для его погибели»*.
Если в малой тяжбе Данте с Флоренцией прав не он, а Ма¬
киавелли, то, в великой тяжбе прошлого с будущим, кто из них
прав, — этого, и через семь веков после Данте, никто еще не знает.
Вылезши наконец не без больших потерь из болота Ломбард¬
ской войны, Генрих все же идет не на Флоренцию, куда зовет его
Данте, а в Рим, где, по вековому преданию, должно было венчать¬
ся императору Священной Римской Империи. 7 мая 1312 года
вступает он в Рим, занятый войсками второго, после Флоренции,
злейшего врага своего, Роберта Анжуйского, короля Неаполя.
Кровью залили уличные бои развалины Вечного Города,
Базилика св. Петра, где надо было венчаться Генриху, занята
была, так же как весь Ватикан, войсками Роберта. Папы не было
в Риме. В жалком и постыдном Авиньонском плену у фран¬
цузов сам француз, «гасконец», il guasco, как назовет его пре¬
* Machiavelli, Istorie fiorentine. Proemio. [H. Макиавелли. История Фло¬
ренции // Н. Макиавелли. Государь. Сочинения. М., 2001. С. 202.]
172
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
зрительно Данте, все еще мечтает он о земном владычестве пап
и, боясь за его последний клочок, Римскую область, — как бы
не отнял ее император, — подло и глупо изменяет им же только
что заманенному в Италию Генриху; делает с ним то же, что раз¬
бойник — с заманенной жертвой: режет его в западне; войско
Роберта в папских руках, — разбойничий нож.
Кардиналы отказываются, конечно не без ведома папы, вен¬
чать Генриха, под тем предлогом, что сделать этого нельзя ни¬
где, кроме базилики Петра. Но римский народ, верный до конца
императору (все простые люди из народа, такие же «прямые»
сердцем, как он сам, будут верны ему до конца), почти насиль¬
но принуждает кардиналов к венчанию. Папский легат, тоже
изменник, тайный друг и пособник Роберта, венчает Генриха
в Латеранском Соборе, 29 июня, в день Петра и Павла*. Нехо¬
тя и не там, где надо, изменниками, слугами папы-изменника,
венчан, как бы накриво, накосо, Генрих Косой: так посмеялся
над ним и этот вечный спутник его, насмешливый демон.
Уличные бои возобновились после венчания с новою силою.
Чтобы избавить от них несчастный город, Генрих вышел из него
и только теперь наконец двинулся туда, где был «корень зла»
и куда звал его Данте, — на Флоренцию. 19 сентября подошел
он к самым воротам ее, так что осажденные ждали, с часу на час,
что он войдет в город, и думали, что пришел их конец. Множе¬
ство флорентийских изгнанников, тоже с часу на час ожидав¬
ших возвращения на родину, сбежалось к императору. Но среди
них не было Данте**. «К родине своей питал он такую сыновнюю
любовь, что, когда император, выступив против Флоренции,
расположился лагерем у самых ворот ее, Данте не захотел быть
там... хотя и сам убеждал Генриха начать эту войну», — вспоми¬
нает Леонардо Бруни***. Кару Божию звал Данте на преступную
Флоренцию, а когда уже готова была обрушиться кара, не захо¬
тел ее видеть: духу у него не хватало радоваться бедствиям роди¬
ны. Это значит: явно ненавидел и проклинал ее, а тайно любил;
было в душе его «разделение» и в этом, как во многом другом.
Только случай спас Флоренцию: вдруг подоспевшая, из Рома¬
ньи, Тосканы и Умбрии, помощь союзников принудила Генриха от¬
* Zingarelli, р. 74 — Passerini, р. 258.
** Zingarelli, р. 75 — С. Balbi. Vita di Dante (1857), p. 345.
'** L. Bruni (Solerti, p. 103).
Воображаемое
173
ступить и начать правильную, надолго затянувшуюся осаду города.
Когда же наступила зима, то смертность от холода, голода и поваль¬
ных болезней увеличилась в императорском войске так, что Генрих
вынужден был, сняв осаду, б января уйти на зимние квартиры в со¬
седнее с Флоренцией местечко, Поджибонси (Poggibonsi)*.
Следующий, 1213 год, был для императора тягчайшим
из трех тяжких годов Итальянского похода. Теперь уже все мог¬
ли видеть в Генрихе то, что первый увидел в нем Данте, — обре¬
ченную на заклание жертву.
Если мера человека узнается лучше всего в страданиях,
то прав Данте, не называя Генриха иначе как «духом высокий
Arrigo», l’alto Arrigo. Душу свою он отдаст за чужой несчаст¬
ный народ, который поступит с ним так же, как злое и глупое
дитя, «если бы, умирая от голода, оно оттолкнуло кормилицу» **.
Всеми покинутый, в чужой полувражеской стране, где самый
воздух напоен предательством, как воздух Мареммы — болотной
лихорадкой, Генрих видит, как войско его с каждым днем умень¬
шается, тает, от постоянных, тоже предательских засад и напа¬
дений полувоенных, полуразбойничьих шаек, бывших для это¬
го доблестного, но изнеможенного войска тем же, что ядовитые
жала бесчисленных мух — для издыхающего льва. Гнусно из¬
меняют Генриху все, но гнуснее всех — папа, — сначала тайно,
а потом и явно, когда императора Священной Римской Империи,
им же провозглашенного, в недавней энциклике, «посланником
Божиим», — вдруг испугавшись в нем соперника земному вла¬
дычеству пап и как бы сойдя с ума от этого страха, — он отлучает
от Церкви. Видеть, как пастырь Христов сделался волком, всем
верующим было страшно, но страшнее всех Генриху, потому что
он больше всех верил ему и на него надеялся***.
Ко всем этим испытаниям внешним присоединилось и вну¬
треннее — потеря нежно любимой жены и брата: оба умерли,
все в том же несчастном походе, так что скорбь его растравля¬
лась терзающим сомненьем: имел ли он право жертвовать чу¬
жому, неблагодарному народу не только собой, но и теми, кого
больше всего на свете любил?**** Мука этого сомненья, может
* Passerini, р. 259. — Balbi, р. 344.
** Par. XXX, 140.
*** Passerini, p. 245; 260.
**** Pierre Gauthier, p. 232.
174
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
быть, облегчалась для него только тем, что смерть и ему самому
уже смотрела в глаза: медленный, но жестокий и неисцелимый
недуг подтачивал силы его, как медленный яд. Бывали дни,
когда изможденное, прозрачно-бледное, точно восковое лицо
его напоминало лицо покойника.
Но чем тяжелее был крест, тем он мужественнее нес его; ду¬
хом не падал, а возвышался и креп. «Мы родились от вечного
гранита», — мог бы сказать и он, как Данте.
В эти именно тягчайшие дни главный внутренний враг Ген¬
риха, «демон отвлеченности», отступил от него, побежденный.
Прежде ходил он. как бы на аршин от земли, точно реял по воз¬
духу, а теперь твердо пошел по земле; деятелем стал созерца¬
тель, — искусным полководцем и мудрым политиком. С папой
порвав окончательно и презрев отлучение от Церкви, заключил
он союз с королем Сицилии, Фридрихом Аррагонским и с Ге¬
нуей; убедил и германских князей двинуть на помощь к нему
огромное войско.
Новый поход, тщательно подготовленный за зиму, должен
был охватить Италию с двух концов, с юга и севера, морскими
и сухопутными силами. «Люди, опытные в военном деле, —
вспоминает Дж. Виллани, — не сомневались... что государь та¬
кого великого духа и таких отважных замыслов мог легко по¬
бедить короля Роберта и, победив его, овладеть всей Италией
и многими другими странами»*. Это значит: мог восстановить
бывшую или основать будущую Всемирную Монархию, о кото¬
рой мечтал и Данте.
Снова, как тогда, при первом явлении Генриха, «посланника
Божия», мир, затаив дыхание, ждал великих событий, которым
суждено было, казалось, изменить лицо мира. Но произошло
то, чего никто не ждал: 4 августа 1313 года император выступил
в поход из Пизы, а через двадцать дней, недалеко от Сиены в мо¬
настыре Буонконвенто, причастившись Св. Тайн у духовника
своего, доминиканского инока, Бернардо Монтепульчиано, тя¬
жело заболел и так внезапно умер, что прошел слух, что он от¬
равлен был ядом в Причастии** и что это злодейство совершено
если не по воле, то не без ведома, а может быть, и тайного согла¬
сия папы: видя, что отлучение от Церкви не помогло, решил он
* Barbi, р. 165 (G. Villani).
** Passerini, p. 261. — Zingarelli, p. 76. — Scartazzini, 395. — Kraus, p. 78.
Воображаемое
175
будто бы прибегнуть к этому, более действительному, средству —
яду. Если так, то Римский Первосвященник мог бы сказать над
гробом Римского Императора: «Я тебя родил — я тебя и убил!»
Верен ли этот слух или ложен, — страшно уже и то, что люди
могли ему поверить с такою легкостью: видно по ней, какое зло
тогда царило в миру и в Церкви.
В скорой смерти папы (года не прошло, как умер он, все
в том же постыдном и жалком Авиньонском плену) увидели все
Божью кару и могли поверить тому, что предрек о нем Данте:
папа на папу, Климент Гасконец на Бонифация Ананьевца, вто¬
рой маленький Антихрист на первого низвергнется в раскален¬
ный колодезь Духопродавца Симона Волхва, — и тяжестью сво¬
ею «глубже вдавит Ананьевца в ту огненную щель»*.
А Генрих воссядет на великий престол, в высшем Огненном
Небе, Эмпирее, там, где цветет, пред лицом Несказанного Све¬
та, «Белая Роза» вечной весны**.
В жизни Данте смерть Беатриче и смерть Генриха — два рав¬
но, хотя и по-разному, сокрушающих удара. Мало говорит он
о первой, а о второй не говорит ничего, может быть, потому что
люди говорят и плачут в великом горе, а в величайшем — мол¬
чат без слез.
Не плакал я — окаменело сердце***.
Слезы, до глаз не доходя, сохли на сердце, как на раскален¬
ном камне.
Что почувствовал Данте, узнав о смерти Генриха? Может
быть, то, что чувствует человек, упавший в пропасть, в ту ми¬
нуту, когда тело его разбивается о камни; в теле у него все ко¬
сти сломаны, а в душе у Данте все надежды разбиты, и главная
из них — возвращение на родину.
Вспомнил ли он послание свое «к флорентийцам негодней¬
шим», в котором предрекал им ужасную казнь, и письмо к им¬
ператору, в котором убеждал его раздавить «ядовитую гадину»,
Флоренцию? Если вспомнил, то, может быть, шевельнулось
в сердце его, умом незаглушимое, сомнение: не предал ли он от¬
* Par. XXX, 148.
** Par. XXX, 136.
Inf. XXXIII, 49.
176
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
ечество для невозможной мечты о всемирности? И, может быть,
приснился ему страшный сон наяву: будто проваливается он,
падает в последний круг Ада, в «Иудину пропасть», Джиудек-
ку, где в вечных льдах леденеют предатели.
XVI.
В вечных льдах
«После кончины императора Генриха... Данте, потеряв вся¬
кую надежду вернуться в отечество, провел последние годы
жизни в большой бедности, скитаясь в различных областях
Ломбардии, Тосканы и Романьи и находясь под покровитель¬
ством различных государей», — глухо и кратко вспоминает Ле¬
онардо Бруни*. Но в этой глухоте и краткости — какая длина
черных-черных дней, месяцев, годов! Снова скитается, нищий,
«выпрашивая хлеб свой по крохам» ; снова «ест пепел, как хлеб,
и питье свое растворяет слезами» (Пс. 101,10). Но, может быть,
больше всех мук изгнания, — нищеты, унижения, презрения
людей, одиночества, — мука бездействия.
«Кто не заботится об общем деле... подобен не дереву, поса¬
женному при потоках вод, приносящему плод свой во время
свое, а поглощающей все и ничего не возвращающей бездне. Ча¬
сто думая об этом, для того чтобы не обвинили меня когда-ни¬
будь в том, что я зарыл талант свой в землю, я хочу принести
на пользу общему благу не только весенние почки, но и пло¬
ды, — показать людям никогда еще никем не испытанные ис¬
тины, intemptatas ab aliis estendere veritates»**. Этого Данте
не сделал или сделал не так и не в той мере, как хотел и мог бы
сделать, если бы не помешало ему что-то в людях или в нем са¬
мом. В этом «или», может быть, главная мука его — сомнение:
не зарыл ли он талант свой в землю? не был ли той бесплодной
смоковницей, которую проклял Господь, не найдя на ней ниче¬
го, кроме листьев: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек»?
Что если все его «созерцание» — только листья, а «действие» —
не найденный Господом плод?
Лучше, чем кто-либо, знал он, как сильно человеческое слово
для будущего, сомнительного действия, и как оно бессильно для
* L. Bruni (Solerti, p. 104).
** Mon. 1,1.
Воображаемое
177
настоящего, близкого, несомненного. Несколько бесполезных
писем к сильным мира сего — самым глухим, слепым и равно¬
душным людям в мире, глас вопиющего в пустыне, — не это ли
все его «действие»? Если рыцарская надпись на щите его и бое¬
вой клич: «не для созерцания, а для действия», то не потерян ли
им щит, и не проигран ли бой? Очень вероятно, что в этой муке
бездействия он чувствовал себя иногда одним из тех «малодуш¬
ных», ignavi, не сделавших выбора между злом и добром, Богом
и дьяволом, «никогда не живших», которых он больше всего
презирал*. Очень вероятно, что бывали у него такие минуты,
когда он мог бы сказать:
я сравнялся с нисходящими в могилу... между мертвыми
брошенный, — как убитые, лежащие в гробе, о которых
Ты уже не вспоминаешь. Господи, и которые от руки Твоей
отринуты (Пс. 87, 5-6), —
как мученики последнего адова круга, леденеющие в вечных
льдах.
Кажется, в 1314 году, Данте ищет покровительства у быв¬
шего главы пизанских Гибеллинов, Угучьоне дэлла Фаджиола
(Uguccione della Faggiuola). Это был человек такого исполин¬
ского роста и такой непомерной силы, что оружейные мастера
ковали ему оружие, которого поднять, и латы, которых надеть
не мог бы никто, кроме него. Но этот с виду грубый, дикий,
почти страшный исполин имел сердце доброе, детски-простое
и одаренное тем, что Данте ценил в людях больше всего, —
«прямотою», dirittura**. Хитрых и ловких пройдох, «при¬
рожденных торгашей и менял», «флорентийцев негоднейших»,
этот великодушный рыцарь ненавидел так же, как Данте. Воин
великой отваги и искусный полководец, продолжая дело импе¬
ратора Генриха, возобновил он войну с Флоренцией и, 29 авгу¬
ста 1315 года, в бою под Монтекатино разбил наголову тоскан¬
ских Гвельфов, главных союзников и защитников Флоренции***.
Так же, как два года назад, казалось и теперь, что дни ее сочте¬
ны; так же, как тогда, — император Генрих, стоял в ее воротах
* Inf. Ill, 35.
** Scartazzini, р. 403.
‘** Ib[id]., р. 412. — Zingarelli, р. 412.
178
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
теперь Угучьоне, может быть, мститель за Генриха; так же готов
был и этот, как тот, по слову Данте, «раздавить ту ехидну, пожи¬
рающую внутренности матери своей, Италии, чье имя — Фло¬
ренция».
Видя грозную опасность и, может быть, надеясь поселить
во вражьем стане раздор, Флорентийская Синьория решила
помиловать наименее виновных изгнанников, позволив им
вернуться на родину, под двумя условиями, — одним, лег¬
ким, — пенею в сто золотых малых флориновых, а другим,
тяжелым, — участием в покаянном шествии, общем для всех
милуемых преступников, в том числе и обыкновенных воров,
убийц и разбойников: все они должны были идти в церковь Ио¬
анна Крестителя, босоногие, с зажженными свечами в руках
и в тех позорных колпаках, в каких сжигали еретиков, колдунов
и прочих богоотступников*. Многие подчинились этим услови¬
ям и вернулись на родину; но не подчинился Данте.
Кажется, вскоре после Монтекатинского боя, получив снача¬
ла письмо от племянника, может быть Николо Донати, а потом
еще несколько писем от флорентийских друзей, с предложени¬
ем выхлопотать и ему помилование, он ответил им одним об¬
щим отказом**.
... «Пишете вы мне, что если бы я, согласно объявленному ныне
во Флоренции закону о возвращении изгнанников, уплатил на¬
значенную пеню, то мог бы, получив прощение, вернуться на ро¬
дину... Смеха достойное предложение!.. Так ли должно вернуться
в отечество свое, после почти пятнадцатилетнего изгнания, Данте
Алагерию? Этого ли заслужила невинность его, явная всем, и труд
бесконечный в поте лица? Нет, да не унизится так муж, знающий,
что такое мудрость... да не примет он милости от обидчиков своих,
как от благодетелей... Если только таким путем могу я вернуться
во Флоренцию, то я никогда в нее не вернусь. И пусть! Не всюду ли
я буду видеть солнце и звезды? Не под всеми ли небесами буду со¬
зерцать сладчайшие истины, не предавая себя позору пред лицом
флорентийских граждан? Да и хлеба кусок я найду везде»***.
Дрогнула бы, может быть, рука у Данте, когда писал он
сам себе этот приговор вечного изгнания: «Я никогда не вер¬
* Fraticelli, р. 231. — Passerini, р. 293.
** Ib[id]., р. 294.
Ер. XII.
Воображаемое
179
нусь во Флоренцию, nunquam Florentiam introibo», — если бы
он меньше надеялся на то, что после Монтекатинской победы
вернется на родину не кающимся грешником, а торжеству¬
ющим мстителем. Но и этой второй надежде, так же, как той,
первой, — на Итальянский поход Генриха, — не суждено было
исполниться. Точно какой-то насмешливый рок давал ему на¬
дежду, подносил чашу студеной воды к жаждущим устам, как
в муке Тантала, и тотчас отнимал ее, так, чтобы мука жажды
росла бесконечно.
В пропасти кидается Агасфер — ищет смерти, но не находит:
сломанные в падении кости срастаются, и он продолжает свой
бесконечный путь. В пропасти не кидается, а падает Данте, в по¬
стоянных и внезапных переходах от надежды к отчаянию, двух
миров, того и этого, вечный странник; тот мир для него все дей¬
ствительней, этот — все призрачней; все легче падения, но му¬
чительнее в костях, ломаемых и срастающихся, боль усталости.
Очень хорошим полководцем был Угучьоне, но плохим поли¬
тиком: лучше умел брать, чем удерживать взятое. Пиза и Лук¬
ка, две главные твердыни военной силы его, в марте 1316 года,
возмутились против него. Буйною чернью, в Пизе, в его отсут¬
ствие, разграблен и сожжен был дворец его, казнены все его
приближенные, и ему самому объявлен заглазный приговор
изгнания*. В несколько дней пало все его величье. Дымом рас¬
сеялась слава Монтекатинской победы, он оказался военачаль¬
ником без войска и таким же изгнанником, как Данте. Снова
Флоренция была спасена.
Месяцев пять назад, 6 ноября 1315 года, объявлен был Фло¬
рентийской Коммуной, как бы в ответ на гордое письмо Данте,
третий над ним приговор. Первый осуждал его на вечное изгна¬
ние, второй — на сожжение, а третий — на обезглавление**. Так
истребляла родина-мать сына своего, Данте, огнем и железом.
Смертный приговор произнесен был и над двумя старшими сы¬
новьями его, Пьетро и Джьякопо; оба они объявлены «вне за¬
кона»***.
В 1316 году Данте бежал, кажется, из Лукки, вместе с Угучь¬
оне, а может быть, и с обоими бежавшими из Флоренции сы¬
* Scartazzini, р. 415. — Balbo, р. 372.
** Kraus, р. 89. — Zingarelli, р. 79. — Passerini, р. 287.
Fraticelli, р. 253. — Passerini, р. 287.
180
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
новьями в Верону, туда же, где лет пятнадцать назад, в самом
начале изгнания, он уже искал и не нашел убежища.
Юный герцог Веронский, наместник Священной Римской
Империи в Ломбардии, вождь тамошних гибеллинов, Кан Гран¬
де дэлла Скала, принял Данте милостиво, как принимал всех
изгнанников. Столь же искусный полководец, как Угучьоне,
но лучший политик, чем он; рыцарски-великодушный и оча¬
ровательно-любезный, по внешности, но внутренне холодный
и хуже чем жестокий, — бесчувственный к людям (все они были
для него только пешками в военно-политической игре); первое
явление той необходимой будто бы в великом государе «помеси
льва с лисицей», — лютости с хитростью, чьим совершенным
образцом будет для Макиавелли Цезарь Борджиа, — вот что та¬
кое Кан Гранде.
В людях Данте редко ошибался, но, кажется, в этом человеке
ошибся: принял в новом покровителе своем за чистую монету
свойство, в сильных мира сего опаснейшее для тех, кому они
благодетельствуют, — тщеславие добра.
Великолепный герцог Вероны хотел удивить мир невидан¬
ною щедростью ко всем несчастным изгнанникам, — особен¬
но же к людям высокого духа, таким, как Данте. Этого хотел он
и это получил: множество легенд о нем, не менее восторженных,
чем если бы дело шло об одном из великих мужей древности,
ходило тогда по устам.
Ряд великолепных дворцовых покоев превращен был в бо¬
гадельню для собиравшихся сюда со всех концов Италии неу¬
дачных политиков, полководцев, проповедников, художников,
ученых и поэтов, но больше всего для шутов-прихлебателей.
Каждый покой украшен был аллегорической живописью, соот¬
ветствующей судьбе своего обитателя: триумфальное шествие
для полководцев, земной рай для проповедников, бог Меркурий
для художников, хор пляшущих Муз для поэтов, богиня На¬
дежды для изгнанников, а на потолке самого большого покоя,
где собирались все, в этой богадельне призираемые, — вертя¬
щееся колесо богини Фортуны*53. Пользуясь услугой пышно
одетой дворцовой челяди и каждый день пиршествуя то у себя,
то, по особому выбору, у хозяина, что считалось великою че¬
стью, — жили в этих великолепных покоях несчастные, ни¬
* Balbo, р. 375. — Passerini, р. 299 (Rer[um] italficanim] script[ores] XXIII, 3).
Воображаемое
181
щие, озлобленные люди, как Улиссовы спутники, превращен¬
ные в свиней54, в хлеву у Цирцеи, или пауки в банке. Ссорясь
жестоко из-за милостей герцога, рвали они друг у друга куски
изо рта. Были среди них и добрые и честные люди, но участь их
была горше участи всех остальных, потому что они видели, что
покровителю их умеют лучше всего угождать не они, а самые
подлые, злые и распутные люди, — особенно шуты. Человек
большого ума и такой же тонкий ценитель всего прекрасного,
как Цезарь Борджиа, Кан Гранде забавлялся этими подлыми
и злыми, но умными иногда и веселыми шутками, как слишком
избалованное дитя забавляется грубо сделанными, нелепыми
и чудовищными игрушками. А те, это зная и пользуясь этим,
верховодили всем при дворе.
Некий Чекко Анжольери, один из презреннейших шутов-ли¬
зоблюдов, но не самый бездарный из придворных поэтов, в по¬
священном Данте сонете, сравнивая две горькие судьбы — его
и свою, — находил в них много общего. И, может быть, насту¬
пил в жизни Данте тот страшный час, когда он вдруг понял, что
этот шут по-своему прав: здесь, при дворе Кан Гранде, многие
смешивали, не только по созвучью имен, Чекко Анджольери
и Данте Алигьери.
Жди от него себе благодеяний, —*
этому пророчеству Качьягвидо, прапрадеда, о герцоге Ве¬
ронском не суждено было исполниться над праправнуком Дан¬
те. Сколько раз, должно быть, хотелось ему выкинуть из Свя¬
той Поэмы этот грешный стих, как выкидывают сор из алтаря.
И то, что он этого не сделал, боясь, может быть, что его самого
выкинут, как сор, из последнего убежища, дает, кажется, точ¬
ную меру униженья, которому он подвергал себя при дворе Кан
Гранде, вольно или невольно: в этом «или» опять главная мука
его — сомнение в себе.
«Великолепному и победоносному Государю, Кан Гранде дэ-
лла Скала, Святейшего Кесаря Императора, в городе Вероне...
главному наместнику, преданнейший слуга его, Данте Алагерий,
флорентиец по крови, но не по нравам, долгого благоденствия
и вечно растущей славы желает. — Вашему великолепию всюду
* Rime 108 — Pierre Gauthier, p. 181.
182
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
неусыпно-летающей славой разносимая хвала столь различно
на людей различных действует, что приносит надежду спасения
одним, а других повергает в ужас погибели. Я же, сравнивая
хвалу сию с делами людей нашего века, почитал ее чрезмерною.
Но, дабы не длить о том неизвестности и увидеть своими глазами
то, о чем слышал молву, поспешил в Верону, как древле Цари¬
ца Южная — в Иерусалим55, и богиня Паллада — на Геликон56.
Здесь, увидев щедроты ваши... и на себе самом их испытав, по¬
нял я, что молва о них не только не чрезмерна, но и недостаточна.
И если, уже по ней одной, душа моя влеклась к вам невольно, по¬
корствуя, то, после того, что я увидел, сделался я вашим предан¬
нейшим слугой и другом. В гордости быть обвиненным, называя
себя вашим другом, я не боюсь... потому что не только равных мо¬
гут соединять святые узы дружбы, но и неравных... ведь другом
и самого Бога может быть человек. Всех сокровищ мира дороже
для меня ваша дружба, и я хочу сделать все, чтоб ее сохранить...
А так как, по учению нравственному, дружба лучше всего сохра¬
няется равенством добрых дел, то мое горячее желание — отбла¬
годарить вас, хоть чем-нибудь, за все сделанное мне добро. Часто
и долго искал я в том скудном и малом, что есть у меня, чего-ли¬
бо вам приятного и достойного вас, и ничего не нашел более со¬
ответственного вашему высокому духу, чем та высшая часть
„Комедии“, которая озаглавлена „Рай“. Ныне, с этим письмом,
я и приношу ее вам, как малый дар, и посвящаю...»
Следует длинное, сложное и трудное, схоластическою уче¬
ностью загроможденное истолкование нескольких аллегориче¬
ских смыслов «Комедии». Если Кан Гранде прочел это истолко¬
вание, или, что вероятнее, только заглянул в него одним глазом,
то может быть, убедился в том, что уже давно подозревал, — что
Данте — человек умный, но скучный, один из тех ученых ста¬
рых колпаков, с которыми нечего делать. Но с большим вни¬
манием прочел он, должно быть, конец письма: «общий смысл
второй части вступления (в „Рай“) таков; говорить же об этом
подробнее не буду сейчас, потому что крайняя нужда в самом
необходимом угнетает меня до того, что я иногда принужден
покидать это и другие, для государства полезные, дела. Но на¬
деюсь на великолепную щедрость вашу, Государь, дабы иметь
возможность продолжать Комедию»*.
* Ер. XIII — Passerini, р. 300, Barbi, р. 64.
Воображаемое
183
Стыд заглушив, он руку протянул,
Но каждая в нем жилка трепетала...
Кажется, видишь, читая письмо, эту трепетно протянутую
РУку.
Чувствовать, что висишь на волоске над пропастью, и знать,
что порвется ли волосок или выдержит, зависит от того, с ка¬
кой ноги встанет поутру благодетель, с левой или с правой,
и соглашаться на это, — какая низость и какая усталость! Хо¬
чется иногда, чтобы порвался наконец волосок и дал упасть
в пропасть, — только бы полежать, отдохнуть, хотя бы и со сло¬
манными костями, там, на дне пропасти.
Много сохранилось легенд о пребывании Данте при дворе дэ-
лла Скала. Что происходило с ним, — забыто в них или грубо ис¬
кажено, но, может быть, уцелело смутное воспоминание о том,
что происходило в нем самом, — о постигшем его, в гнусной бо¬
гадельне Великолепного Герцога, бесконечном стыде и поруга¬
нии. Вот одна из этих легенд.
«Когда приглашен был Данте однажды, вместе со многими
другими знатными гостями, к столу мессера Кане... тот поти¬
хоньку велел придворному мальчику-слуге, спрятавшись под
стол, собрать все обглоданные кости с тарелок в одну кучу, у ног
Данте. А когда, сделав это, мальчик ушел, мессер Кане велел
убрать столы и, взглянув с притворным удивлением на кучу ко¬
стей, воскликнул:
— Вот какой наш Данте, мясов пожиратель!
— Стольких костей вы не увидели бы тут, синьор, будь
я Псом Большим! — ответил Данте, не задумавшись.
Cane grande — значит „Пес Большой“.
И восхищенный будто бы таким быстрым и острым ответом,
мессер Кане, великодушный покровитель Муз, милостиво об¬
нял и поцеловал поэта»*.
Что, в самом деле, мог бы он сделать, кроме одного из двух:
или, против него, обнять, или выгнать за то, что он кусает даю¬
щую руку? Если же предпочел обнять, то, может быть, потому,
что не был еще достаточно похож на Борджиа, чтобы, презирая
суд потомства, не страшиться Дантова, жгущего лбы, каленого
железа. Но, должно быть, обнял так, что лучше бы выгнал.
* G. Paranti, р. 140.
184
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Все это, конечно, мало вероятно, как внешнее событие, и по¬
хоже на легенду; но и одна возможность таких легенд имеет
цену исторического свидетельства, по которому видно, что че¬
го-то не знает и в чем-то ошибается Боккачио, уверяя, будто бы
«у мессера Кане Данте был в таком почете, как никто другой»*.
Но, кажется, больше, чем легенда, — полуистория — то, что
сообщает Петрарка, видевший, в детстве, своими глазами Данте
и кое-что, вероятно, слышавший о нем от отца своего, Дантова
современника.
«Находясь при дворе Кане Гранде, Данте был сперва в боль¬
шом почете, но затем, постепенно теряя милость его, начал,
день ото дня, все меньше быть ему угодным. Были же при том
дворе, как водится, всевозможные шуты и скоморохи, и один
из них, бесстыднейший, заслужил непристойными словами
и выходками великое уважение и милость у всех. Видя однаж¬
ды, что Данте очень от этого страдает, Кане подозвал к себе того
шута и, осыпав его похвалами, сказал поэту:
— Я не могу надивиться тому, что этот человек, хотя и ду¬
рак, умел нам всем понравиться... а ты, мудрец, этого сделать
не мог!
— Если бы ты знал, что сходство нравов и сродство душ есть
основание дружбы, ты этому не удивлялся бы! — ответил Данте » **.
Это значит: «Ты — такой же шут, как он! » Данте едва ли мог бы
так ответить, если не желал испытать на себе, крепки ли замки
и глубоки ли подвалы веронских темниц. Но после одной из не¬
пристойных шуток своего благодетеля, ставивших его на равную
ногу с шутами, мог дать ему почувствовать «режущую силу слов
своих» ***, в достаточной мере, чтобы тот не заточил его в темницу
и даже не выгнал, а сделал то, что в таких случаях делают силь¬
ные мира сего, — тихо отнял от него дающую руку, тихо оставил
его — уронил, как роняют ненужную вещь. И наступила, веро¬
ятно, такая минута, когда почувствовал Данте, что лучше ему
умереть как собаке на большой дороге, от холода и голода, чем
быть сытым и греться в великолепной богадельне Кане Гранде.
Как провел Данте последнюю ночь, в палате поэтов с хором
пляшущих Муз или в палате изгнанников с аллегорической бо¬
* Boccaccio. Vita (Solerti, p. 57).
Petrarca. De rebus memorandis II, 3, cap. 46.
” Par. XVII, 126.
Воображаемое
185
гиней надежды? Может быть, укладывал в тюки кое-какую ни¬
щенскую рухлядь с драгоценными книгами и рукописями, что¬
бы рано поутру навьючить их, под насмешливыми взглядами
придворной челяди, на хромую клячу или ободранного мула,
которого, узнав о постигшей его немилости, едва соблаговолит
выдать ему из дворовой конюшни вельможного вида холоп.
Очень устав от укладки и вспомнив, как прежде легко делал
эту работу, может быть, почувствовал себя вдруг таким стари¬
ком, как еще никогда*. В редкие счастливые минуты, особенно
в те, когда, весь погруженный в сладостный труд над Священной
Поэмой, он все в мире забывал, — чувствовал он себя так, буд¬
то ему все еще восемнадцать лет, а в такие минуты, как эта, —
будто ему восемьдесят или даже восемьсот лет: такая в костях,
слишком часто ломаемых и сраставшихся, боль бесконечной
усталости.
Чтобы отдохнуть, начал штопать на последней приличной
одежде дыру. Утром еще, заметив ее на правом локте, там, где
легче всего протирается ткань от движения руки по столу, во вре¬
мя писания, — огорчился, как от настоящей беды, потому что
бедному человеку дыры на платье почти то же, что раны на теле.
Кое-как заштопав дыру, начал связывать в пачки уцелевши¬
ми еще от прежних скитаний бечевками исписанные правиль¬
ным почерком, «с высокими и тонкими буквами», пожелтевшие
листки «Комедии»**. Кончит ли ее, или вместе с ним пропадет
и она, так же бессмысленно-случайно и бесславно, как он? Ду¬
мая об этом, то возмущался, то жалел себя тою ядовитою жало¬
стью, которая всего убийственней для мужества, необходимого,
чтобы страдать с достоинством.
Мы рождены от вечного гранита, —
вспомнив это слово бога Любви, сказанное трем Прекрасным
Дамам, таким же невинным, как он, Данте, изгнанницам, —
горько усмехнулся: вместо «вечного гранита» тело раздавлен¬
ной улитки; вместо львиного сердца заячье, — не эта ли участь
ему суждена?
Вдруг из пачки старых, пожелтевших листков выпал новый,
белый, — черновик последней страницы недавнего письма его
к Веронскому герцогу.
* Petrarca, Senilia X, 2.
** L. Bruni {Solerti, p. 104).
186
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
... «Часто и долго искал я в том скудном и малом, что есть
у меня, чего-либо приятного вам и достойного вас, и ничего
не нашел более соответственного вашему высокому духу, чем
та высшая часть „Комедии“, которая озаглавлена „Рай“. Ныне
и приношу ее вам, как малый дар, и посвящаю...»
Это прочел он и закрыл лицо руками, почувствовав в нем та¬
кую боль, как будто тем каленым железом, которым клеймил он
других, кто-то заклеймил его самого. «Псам не давайте святы¬
ни и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями»57. Хуже, чем
псу, отдал святыню; бросил свой жемчуг хуже, чем свиньям, —
тонкому, по внешности, ценителю всего прекрасного и высоко¬
го, по внутреннему — палачу их и осквернителю.
Весь горел в огне стыда, как мученики ада — в вечном огне.
Но вечность эта была только мигом во времени; миг пролетел,
и вновь повторился тот страшно знакомый сон наяву: будто бы
проваливается, падает он в последний круг Ада— «Иудину
пропасть», Джьюдекку, где, в вечных льдах, леденеют предате¬
ли: с ними будет и он, потому что предал не другого человека,
а себя самого и то, что ему было дороже, чем он сам.
«Из преисподней вопию к Тебе, Господи!» — хотел сказать
и не мог, — онемел, оледенел, — умер и ожил; и вечно будет
жить — умирать в вечных льдах.
Тихо отнял руки от лица, и тусклый свет догорающей свечи
упал на это лицо, как будто мертвое, и все-таки живое. Если бы
кто-нибудь увидел его, то ужаснулся бы, может быть, как
если бы заглянул из этого мира в тот.
XVII.
Лицо Данте
Кажется, в эти последние годы жизни, изваяно было лицо
Данте страданием, как резцом искусного ваятеля.
«Роста он был среднего и, в зрелые годы, ходил немного
сгорбившись, важной и тихой поступью, — вспоминает Бокка-
чио. — Лицо имел продолговатое, нос орлиный... большие гла¬
за».
«Очи ястребиные», или орлиные, такие же, как, по слову Дан¬
те, были у Цезаря*, — то подернутые мутной пленкой, как у спя¬
* Inf. IV, 123.
Воображаемое
187
щего орла, то сверкающие, прямо на полдневное солнце в зените
смотрящие, как у того же орла, в полете, или у Беатриче, в раю:
...смотрит на солнце так прямо и пристально, как никогда
и орел на него не смотрел*.
«Челюсти большие, — продолжает вспоминать Боккачио, —
нижняя губа выдавалась вперед; цвет лица смуглый; волосы,
на голове и на бороде, черные, густые и курчавые» **.
Слишком привычное для нас, но недостоверное и в поздних,
от XV и XVI веков, изображениях, едва ли уже не классиче-
ски-условное, лицо Данте, гладко-бритое, голое, запечатлелось
в нашей памяти так, что, вопреки свидетельству Боккачио,
а может быть, и самого Данте***, мы не можем представить себе
это лицо с бородой. Вот, кажется, еще один из бесчисленных
признаков, хотя и маленький, но несомненный, того, как исто-
рически-подлинное, живое лицо Данте нам неизвестно. Джиот-
това стенопись над алтарем в часовне Барджелло, с лицом Дан¬
те, забеленным известью, — лучший символ того, как это лицо
забыто людьми и презрено. Если же внешне лицо его презрено
так, то внутреннее, — тем более.
Странный для нас, как бы женский, головной убор
XIII века, — темный, монашеский куколь или острый колпак
с двумя полотняными, белыми лопастями наушников и загну¬
той назад верхушкой, — усиливает в этом тонком, безусом
и безбородом лице почти жуткое впечатление чего-то женско¬
го, как бы старушечьего или стародевического, напоминающе¬
го лицо древней Сибиллы58, Вергилиевой спутницы в аду, или
могучей вызывательницы мертвых, Аэндорской волшебницы59.
«Грустно было всегда лицо его и задумчиво», — в этих сло-
вахБоккачио****, кажется, верно угадано первое, от Дантовалица,
впечатление: задумчивость.
Я шел, лицо так низко опустив,
Под бременем тяжелых дум согбенный,
* Par. 1,47.
" Boccaccio. Vita (Solerti, p. 36).
" Purg. XXI, 67.
" Boccaccio, ib[id].
188
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Что сделался похож на половину
Мостовой арки*.
Так идет он по обоим мирам, тому и этому.
О, злая смерть и беспощадная,
древняя матерь страданья,
неотменимый приговор и тяжкий,
из-за тебя так прискорбно сердце мое,
что я иду, всегда погруженный в задумчивость...**
«Стоя однажды в Сиене, у прилавка аптекаря и открыв пред¬
ложенную ему новую книгу, погрузился он в чтение так, что,
от полуденных колоколов до вечерних, простоял, не двинув¬
шись и не заметив происходившего в городе шумного праздне¬
ства, с музыкой, плясками и рыцарскими турнирами»***.
Первое впечатленье от лица его — задумчивость, а о втором,
более глубоком, можно судить по сообщаемой Боккачио, кажет¬
ся, очень ранней, еще при жизни Данте возникшей легенде,
в которой, может быть, уцелела память о впечатлении, какое
производило это лицо на простых людей.
Шел он однажды по улицам Вероны, должно быть, в той
«пристойнейшей и зрелым годам его соответственной одежде,
которую всегда носил»****, — может быть, величественно-про¬
стой, флорентийской тоге — лукко, с прямыми длинными
складками, напоминавшими римскую тогу, из ткани такого же
«красно-черного » цвета, как воздух Ада; *****шел, как всегда, сгор¬
бившись, «под бременем тяжелых дум согбенный», и, может
быть, надвинув на лицо куколь так низко, что видны были под
ним только выдававшаяся вперед, нижняя челюсть, горбатый
нос — орлиный клюв, да два глаза — два раскаленных угля. «И,
когда проходил мимо ворот одного дома, у которого сидели мно¬
гие женщины, — одна из них сказала другим тихим голосом,
но все же так, что Данте... мог слышать:
— Вот человек, который сходит в ад и возвращается оттуда,
когда хочет, и приносит людям вести о тех, кто в аду!
* Purg. XIX, 40.
** V.N.V111.
Boccaccio, ib[id]., p. 38.
'** См. сноску выше.
Inf. V, 39 — Сопи. IV, 20.
Воображаемое
189
— Правду ты говоришь, —ответила другая простодушно, —
вон как борода у него закурчавилась, и кожа на лице потемнела
от адского жара и копоти!
Данте услышал эти сказанные за его спиною слова... и они
ему понравились, потому что шли от чистой веры тех женщин...
И почти довольный тем, что они так о нем думали, он чуть-чуть
усмехнулся и пошел дальше»*.
Но, может быть, не всегда нравилось ему казаться людям
выходцем с того света и внушать им такое же любопытство,
смешанное с ужасом, какое должны были чувствовать они к по¬
бывавшему на том свете и узнавшему загробные тайны, вос¬
кресшему Лазарю.
«Данте хорошо знал себе цену и был о себе очень высокого
мнения». — «Был очень горд и презрителен к людям», — сви¬
детельствует Боккачио**. «Вследствие своих глубоких знаний,
был несколько высокомерен, нелюдим и презрителен», — под¬
тверждает и современник Данте, Джиованни Виллани***.
Может быть, лучше всего изображено лицо Данте им самим,
когда о встреченной им, на втором уступе Чистилищной горы,
тени великого Мантуанского трубадура, Сордэлло, он говорит
то же, что мог бы сказать о себе:
О, гордая Ломбардская душа,
Как был твой взгляд презрительно-спокоен,
Как медленно движение очей,
Когда мы подходили, ты же молча,
Следя за нами, обращал свой взор,
Как царственно-покоящийся лев!****
Данте знает, что гордость— смертный грех; что «гордые
христиане — самые жалкие, слабые, слепые, червям подобные
люди » *****; что главная причина мирового зла — « проклятая гор¬
дыня того, кто Ангелов в свое паденье увлек», и кого он видел
вбезднахада, — «раздавленноговсеютяжестьюмиров»;******знает
Boccaccio, ib[id]., p. 36.
Zd[id].,p. 51.
G. Villani. Cron. IX, 136.
Purg. VI, 61.
Purg. X, 121.
Par. XXIX, 55.
**
****
*****
******
190
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
он, что быть гордым — значит быть раздавленным этою незем¬
ною тяжестью; знает, потому что своими глазами видел на пер¬
вом уступе Святой Горы Очищения, какою страшною казнью
искупают души грех гордости:
В них пристальней вглядевшись, я увидел,
Что все они подобны были
Тем изваяньям согнутых людей.
Что иногда для потолка иль крыши
Подпорой служат и колена с грудью
Соединяют так, что тяжело
На них смотреть. Хотя одни
Сгибались больше, а другие — меньше,
Но терпеливейший из них, казалось, плакал
И говорил: «Я больше не могу!»*
Знает он, что эта казнь ждет и его:
Я чувствую, — уже мне бремя давит плечи**.
Уже здесь, на земле это чувствует: вот почему ходит, «сгор¬
бившись», согнувшись, и так же, как те, раздавленные камен¬
ными глыбами, в Чистилище, плачет и говорит: «Я больше
не могу!» Все это он знает, — и все-таки горд; не может, или
не хочет, смириться.
О, гордая душа, благословенна
Носившая тебя во чреве! —
скажет ему Вергилий***.
Кажется, не в уме, а в сердце и воле Данте есть неразрешимое
для него противоречие — начало всех мук его, — между выс¬
шим человеческим достоинством, которое делает людей «сына¬
ми Божьими», и «проклятою гордынею» того, кто, будучи од¬
ним из «сынов Божьих», захотел быть единственным. Данте
* Purg.K, 130.
** Purg. XIII, 138.
Inf. Vili, 44.
Воображаемое
191
раздавлен, как двойною каменною глыбою, — двойною тяже¬
стью божественной силы своей и человеческой немощи.
Только чудом любви к двум Смиреннейшим, или к Одной
в двух, — Беатриче — Марии, спасшись из ада гордыни, вос¬
ходит он медленно-трудно, по страшно крутой, почти отвесной,
лестнице Чистилища, к «небу смирения».
Есть в воле и в сердце Данте и другое, столь же неразрешимое
для него, противоречие — между тем, что людям кажется в нем
«жестокостью», и тем, что так хорошо угадал в нем Карлейль
(«Поклонение героям»): «Если была когда-нибудь в сердце че¬
ловеческом нежность, подобная нежности матери, то она была,
конечно, в сердце Данте».
«Стыдно мне об этом говорить, из уважения к памяти Данте,
но слишком хорошо известно всем в Романьи, что... осуждение
Гибеллинов, даже в устах детей и женщин, приводило его в та¬
кую безумную ярость, что он кидал в них камнями, если не хоте¬
ли они замолчать. И с этою ненавистью в душе жил он и умер»*.
Чтобы этому поверить, мало слышать это от очевидцев, как, ве¬
роятно, слышал Боккачио, — надо бы своими глазами увидеть,
как Данте, побывавший в Раю, трижды обнятый там апостолом
Петром и благословенный апостолом Иоанном, — подбирая
камни с дороги, кидает их в детей и женщин. Но если даже это
только гвельфская злая легенда и клевета, то все же знамена¬
тельно, что люди могли ей поверить и ничего не нашли в жизни
и творчестве Данте, чтобы ее опровергнуть. А если «по дыму уз¬
нается огонь», то, может быть, и в этой лжи есть искра какой-то
неизвестной людям, непонятной им, правды**.
«Должно отвечать на такие зверские глупости не словами,
а ударами ножа», — говорит Данте об одной из бесчисленных,
сравнительно невинных, человеческих глупостей. Между этим
«ударом ножа» и тем подобранным с дороги, но, может быть,
не брошенным в ребенка или женщину камнем есть внутренняя
связь. Маленький камешек этот сродни той огромной скале, ко¬
торою Данте будет раздавлен в Чистилище.
Orlando Furioso — Alighieri Furioso. «Бешеный Орланд —
Алигьери Бешеный»60. Страшен Данте, в иные минуты, как
человек в падучей или бесноватый; и жалок, как маленькое
* Boccaccio. Vita (Solerti, p. 53).
** Purg. XXXIII, 96.
192
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
дитя в «родимчике». Но прежде чем судить его за это страш¬
ное и жалкое, надо понять и разделить муку этого «свире¬
пейшим негодованием растерзанного сердца», — его беско¬
нечное против мирового зла возмущение; а кто посмел бы
сказать, что он понял их и разделил? Прежде чем судить
Данте за явную жестокость, надо почувствовать тайную неж¬
ность его, — бьющий подо льдом, на дне замерзшей реки, те¬
плый родник.
«Был он, в речах, медлен и скуп», — вспоминает Бруни,
и Боккачио: «Данте редко сам заговаривал, если ему не пред¬
лагали вопроса».— «Больше любил он молчать, чем гово¬
рить», — подтверждает и Марио Филельфо. Может быть, никто
не обладал такою властью над человеческим словом, как Данте;
но иногда он, в самом для себя святом и глубоком, так же «кос¬
ноязычен», как Моисей61. Знает силу слова, но и бессилье его
тоже знает: если от смертного сна не разбудило людей Слово,
ставшее Плотью, то уже не разбудят их никакие слова. Данте,
безмолвный в мире безумном, — как человек с вырванным язы¬
ком, в доме, где пожар.
Только с демонами и Ангелами он все еще говорит, когда уже
молчит с людьми:
Вы, движущие мыслью третье Небо,
услышьте то, что сердце мое говорит,
и чего никому я сказать не могу...
таким оно кажется странным мне самому.
«Странное сердце» — странное лицо. «Что-то демоническое
в нем», — мог бы сказать Гёте.
Вечное лицо Данте лучше всего поняли двое: один из самых
близких к нему людей, Джиотто, и один из самых далеких, —
Рафаэль. Сочетание мужественного с женственным в этом лице
понял Джиотто, а Рафаэль — сочетание старческого с детским:
древнее-древнее, ветхое днями, дитя, как тот этрусский бог веч¬
ности — седовласый, новорожденный младенец62. Вечное бла¬
женство Данте понял Джиотто, а вечную муку его — Рафаэль63:
тот остролистный лавр, которым он венчает Данте, кажется
иногда колючим, как терн, и огненным, так что все лицо под
ним обожжено и окровавлено.
Воображаемое
193
Отяготела на мне ярость Твоя...
Я несчастен и истаиваю с юности; несу ужасы твои и изнемо¬
гаю... Для чего, Господи, отвергаешь душу мою, скрываешь
лицо твое от меня? (Пс. 87, 8-16), —
этот вечный вопрос без ответа послышался бы, может
быть, тому, кто увидел бы и понял, как следует, вечное лицо
Данте.
...И мы пришли в то место, где другие,
Чьи лица вверх обращены, лежат,
Окованные крепким льдом,
И самый плач их плакать им мешает,
Затем что, прегражденный на глазах,
Уходит внутрь, усиливая муки;
И наполняют впадины очей, —
Подобные стеклянному забралу,
Все новые, непролитые слезы...
И вдруг один из ледяной коры,
Нам закричал: «Безжалостные души,
Низвергнутые в этот нижний круг,
Снимите с глаз моих покров жестокий,
Чтоб хоть немного выплакать я мог
Теснящую мне сердце муку прежде,
Чем новые в очах замерзнут слезы!»
Так же, как эти мученики ада в вечных льдах, смотрит и Дан¬
те на мир из ледяной, наплаканной глыбы слез.
Встретился, может быть, и с ним, как с древним пророком
Израиля, огненный Серафим, в пустыне мира, и сделал с ним
то же, что с тем: мечом рассек ему грудь
И сердце трепетное вынул
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул64.
С углем раскаленным в груди и с замерзшими, на глазах,
не тающими слезами, каково ему жить, то горя в вечном огне,
то леденея в вечных льдах!
194
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
XVIII.
Свет алебастровых окон
После поругания своего при дворе Большого Пса, Кане Гран¬
де Низкого, Данте снова исчезает с лица земли, так же бесслед¬
но, точно проваливается сквозь землю, как после кончины им¬
ператора Генриха VII, Арриго Высокого. И если бы в эти дни
Данте умер, то бесславно-глухую смерть его люди забыли бы,
и никакого следа не оставила бы она в их памяти. В этой черной
тьме забвения только два тусклых света: один — от народной
легенды, сохранившейся в очень древнем, от первой половины
XIV века, хотя й явно подложном, письме брата Илария*. Не¬
которые историки относят это письмо к довольно сомнительно¬
му путешествию Данте во Францию, в ранние годы изгнания,
но кажется, его можно отнести, с большею вероятностью, к по¬
следним годам.
Брат Иларий, инок Бенедиктинской обители Санта-Кроче
дэль Корво, в Апуанских Альпах, на побережье Лигурии, уви¬
дев однажды подошедшего к монастырским воротам и оста¬
новившегося у них незнакомого путника, спросил: «Что тебе
нужно? » И когда тот ничего не ответил, как будто не слышал во¬
проса, погруженный в задумчивость, — спросил еще раз: «Что
тебе нужно? Чего ты хочешь?» — «Мира!» — ответил путник,
и, только вглядевшись в смертельно усталое лицо его, брат Ила¬
рий понял, какой глубокий смысл имеет, в устах невинного из¬
гнанника, Данте, творца «Божественной комедии», это для него
святейшее слово: «Мир».
Другая светлая точка исторической памяти в черной тьме
забвения — то, что, вероятно, сам Данте говорит устами св. Пе¬
тра Дамианского, в одной из предсмертных песен «Рая», о своем
предпоследнем убежище в святой обители ди-Фонте-Авеллана,
в мрачном и диком ущелье Умбрии, на такой высоте Апеннин,
что оттуда видны оба моря — Адриатическое, на востоке, и Тир¬
ренское, на западе:**
В Италии, между двумя морями
Близ родины возлюбленной твоей,
* Р. Rajna. Dante e la Lunigiana (1909), p. 233 — Passerini, p. 199.
** Ib[id]., p. 284 — Bassermann, p. 246.
Воображаемое
195
Возносятся Катрийские утесы
Так высоко, что гром гремит под ними.
Там есть обитель иноков святых,
Одной молитве преданных; там жил
И я, в служенье Богу; только соком
Олив питался, легко
Переносил я летний зной и стужу
Суровых зим...
Блаженствуя в чистейшем созерцаньи*.
В ясные осенние или зимние дни, глядя с головокружитель¬
ной вышки Катрийских утесов, где снег сверкал ослепитель¬
но, на тускло-багровое солнце, восходившее над не похожей
ни на что земное, воздушно-зеленой, как второе небо, полосой
Адриатики, Данте еще не знал, но, может быть, уже предчув¬
ствовал, что солнце это будет для него светилом не времени,
а вечности.
Глядя с той же вышки на протянувшуюся внизу, у самых
ног его, как ожерелье исполинских жемчужин, голубовато-се¬
рую цепь Тосканских гор и стараясь угадать невидимую между
ними точку Флоренции, он тоже еще не знал, но, может быть,
уже предчувствовал, что этот взгляд его на возлюбленную — не¬
навистную, чужую — родную землю будет последним и что ни¬
когда не исполнится то, на что он надеялся:
Коль суждено моей священной песне,
К которой приложили руку
Земля и небо, — сколько лет худею,
Трудясь над ней! — коль суждено
Ей победить жестокость тех, кем изгнан
Я из родной овчарни, где, ягненком,
Я спал когда-то... то вернусь в отчизну,
Уже с иным руном и с голосом иным,
Чтоб там же, где крещен я, быть венчанным**.
Если верить очень древнему воспоминанию или преданию
авелланских иноков, несколько песен «Рая» написаны Данте
* Par. XXI, 106.
" Par. XXV, 1.
196
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
в этой обители. Но не ужился он и здесь. Судя по обличению
св. Петра Дамианского или самого Данте:
Когда-то плод обильный приносила
Катрийская обитель небесам,
А ныне сделалась такой бесплодной,
Что скоро все о том, к стыду ее, узнают, —*
эта заоблачная обитель, где жили некогда люди, подобные
Ангелам, сделалась убежищем сытых и праздных монахов, низ¬
ких или ничтожных людей, — почти таким же свиным хлевом
Цирцеи, как Веронская богадельня Муз.
Сам ли Данте бежал оттуда, грубо ли выгнали его или ласко¬
во выжили монахи, — приговоренный к смерти, изгнанник, ни¬
кому не желанный гость, — но снова пришлось ему, как после
Вероны, укладывать и навьючивать ту же нищенскую рухлядь
на того же ободранного мула или хромого осла, чтобы с горных
вершин, где он беседовал с Ангелами, сойти в земные долины,
где будет молчать с людьми. Снова скитаясь по миру, то восходя
на вершины надежд, все более призрачных, то падая в пропасти
все более неземных отчаяний, продолжал он себе ломать и сра¬
щивать кости, как Вечный Жид.
В жизни каждого гордого нищего наступает минута, когда
ему кажется, что лучше умереть, чем протянуть за милосты¬
ней руку. Наступила, вероятно, такая минута и в жизни Дан¬
те. Достовернейший, потому что любовнейший из всех его
жизнеописателей, Боккачио, произносит об этих последних,
самых черных днях его изгнания страшное слово: «отчаяние»,
disperazione**.
Мужественнейших людей соблазняет иногда, на последнем
пределе отчаяния, мысль об остро отточенной бритве или сколь¬
зко намыленной петле — конце всех мук. Слишком хорошо знал
Данте, что начатое во времени продолжится в вечности, что¬
бы на этой мысли, если она мелькала у него, останавливаться
больше, чем на миг; но, может быть, и мига было довольно, что¬
бы осквернилась им душа, как тело оскверняется проползшей
по нем ядовитою гадиной.
* Par. XXI, 118.
** Boccaccio. Vita (Solerti, p. 28).
Воображаемое
197
Где-нибудь в дрянной гостинице или в ледяной монастыр¬
ской келье для нищих гостей, развязав с трудом окоченелыми
от холода пальцами шнурки кошелька, высыпал деньги на стол,
пересчитал, увидел, что хватит на столько-то дней, и подумал:
«А после что?» Милостыни просить уже не у владетельных
князей, а у прохожих на улице? Надо для этого сделаться ве¬
ликим святым, новым Франциском Ассизским. Не проще ли
спрятаться где-нибудь в кустах, лечь на дне оврага, и покорно
ждать смерти, как ждет ее свалившийся под непосильною но¬
шею, злым и глупым погонщиком захлестанный мул? Прежде
он боялся бессмысленно-случайной и бесславной смерти, под
ножом разбойника или одного из бесчисленных гвельфских
врагов своих, который пожелал бы исполнить смертный при¬
говор Флорентийской Коммуны над «врагом отечества»; пре¬
жде боялся этого, а теперь, может быть, хотел, как избавления
от долгих мук.
Сколько часов, дней или месяцев был Данте на краю гибели,
этого люди никогда не узнают; но должны бы знать, что в эти
страшные дни он мог, в самом деле, умереть, как собака на боль¬
шой дороге, к вечному стыду не только Италии, но и всего чело¬
вечества.
Данте был спасен от гибели только тем, что слепые люди на¬
зывают «случаем», а видящие — Промыслом.
«Был, в эти дни, государем Равенны, славного и древнего
города Романьи, благородный рыцарь, по имени Гвидо Новел-
ло да Полента, воспитанный в свободных науках и почитавший
всех доблестных мужей, особенно же тех, кто превосходствовал
в знаниях, — вспоминает Боккачио. — Когда дошел до него
слух о том, в каких отчаянных обстоятельствах находился быв¬
ший тогда в Романьи Данте, о чьих высоких достоинствах он
давно уже знал по молве, то решил он принять его и почтить.
И, не ожидая, чтобы тот его об этом попросил, потому что в ве¬
ликодушном сердце своем он чувствовал, как достойные люди
стыдятся просить — сам пошел к нему навстречу и просил
у него, как особой милости, того, о чем Данте, как знал Гвидо,
должен был его просить, а именно, чтобы он согласился у него
жить. И так как эти два желания, просящего и просимого, со¬
впали, и великодушие благородного рыцаря пришлось по серд¬
цу Данте, а крайнею нуждою он был, в эти дни, как бы схвачен
198
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
за горло, то, по первому же зову Гвидо, поспешил он в Равенну,
где тот принял его с почетом, удовольствовал всем, что нужно
для безбедной жизни, и умершую было надежду в нем воскре¬
сил»*.
Верно и глубоко понял Боккачио истинную цену того, что
сделал Гвидо Новелло для Данте. Понял, вероятно, и сам Дан¬
те, только что увидел его лицом к лицу, что это не благодетель,
а друг, и что не государь оказывает честь нищему изгнаннику,
а он — государю. Как всегда бывает в братской помощи, мило¬
стивы были друг к другу оба равно, — тот, кто помогал, и тот,
кто принимал помощь.
Вечная слава Гвидо Новелло не то, что он, спасая Данте,
спас для мира «Божественную комедию», а то, что человек спас
человека, брата — брат, когда на крик погибающего: «Есть ли
в мире живая душа?», он один ответил: «Есть!»
Данте — человек, попавшийся на большой дороге разбойни¬
кам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив
едва живого; лучшие же современники Данте подобны левиту
и священнику, которые прошли мимо того человека, а милости¬
вый Самарянин — Гвидо Новелло. После Беатриче сделал для
Данте величайшее добро он: та спасла душу его, а этот спас тело;
но иногда и тело стоит души: надо его спасти, чтоб не погибла
душа.
Многое должны были простить друг другу Гвидо и Данте.
Два государя, возвысившие род Полента, Бернардино и Лам-
берто, яростные Гвельфы, усердно помогали мечом и советом
«флорентийцам негоднейшим», в их войне-восстании против
Арриго Высокого, «Посланника Божия», чья кровь была на них
и на всем роде Полента**. Это должен был Данте простить Гви¬
до, а тот ему — жестокие оскорбления рода его, в «Комедии»,
где заклеймены Полента, как злейшие «тираны», поджигатели
вечных войн и «приблудные дети», выродки***, а родственники
Твидовой супруги, — как «фальшивомонетчики»****.
Может быть, таинственно сблизила оскорбленного с оскор¬
бителем и помогла им друг друга простить грешная для мира,
* Boccaccio. Vita (Solerti, р. 28).
** С. Ricci. L’ultimo rifugio di Dante (1921), p. 50.
Inf. XXVII, 37. — Purg. XIV, 99.
*** Inf. XXX, 71. — Ricci, p. 142.
Воображаемое
199
но для них святая память Франчески да Римини, чья кровь тек¬
ла в жилах Гвидо: отец Франчески был братом его отца.
Земля, где Данте нашел последнее убежище, Равенна, была
родной землей Франчески.
Я родилась на берегу, у моря,
Куда с притоками своими По
Вливается, чтоб вечный мир найти*.
Вечною бурей гонимая, в подземном аду, жаждет Франческа
вечного мира так же неутолимо, как Данте, — в аду земном.
О, милая, родная нам, душа...
Владыку мира, будь Он нашим другом,
Молили б мы дать мир тебе за то,
Что пожалел ты нас в великой скорби!**
Эта мольба отверженных Богом, такая робкая, что не смеет
сделаться молитвой, будет исполнена: как бы сама Франческа,
подземная сестра Беатриче Небесной, даст «родной душе» Дан¬
те, в своей родной земле вечный мир.
Гвидо Новелло был поэтом, учеником Данте, в «сладком но¬
вом слоге» любви, dolce stil nuovo. Может быть, и это их сбли¬
зило.
Кто умирает, любя, тот вечно живет, —
это, сказанное Гвидо, могла бы сказать и Франческа***.
Отдых сладчайший должен был почувствовать Данте, только
что вошел наконец не в чужой, а в свой собственный дом, мо¬
жет быть, у церкви св. Франциска Ассизского, древней визан¬
тийской базилики Сан Пьетро Маджиоре, где и похоронить себя
завещает****. Верно угадал Гвидо, что жить ему будет отраднее
неу него во дворце, а в своем собственном доме*****. Видно, по этой
* Inf. V, 97.
** 7n/.V, 91.
*** Ricci, p. 89.
**** Ib[id]., p. 160 — Martinetti. Dante a Ravenna, p. 18.
***** Boccaccio. Vita (Solerti, p. 31) — Ricci, p. 161 — C. Schloss. Dante e il suo
secondo amore (1923), p. 67.
200
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
догадке, как сердечно-тонок и умен был Гвидо в своей любви
к Данте.
О, какой сладчайший отдых для усталого странника войти
в свой дом и знать, что можно в нем жить и умереть; какое бла¬
женство не чувствовать горькой соли чужого хлеба и крутизны
лестниц чужих! Какая была отрада для Данте, разложив на сто¬
ле пожелтевшие листки неоконченной «Комедии», знать, что
не надо будет их снова связывать в пачки и укладывать в дорож¬
ную суму; не надо будет снова увязывать нищенскую рухлядь
в тюки все более жесткими и все больнее, с каждой укладкой,
режущими пальцы, веревками; не надо будет просыпаться
в ночной темноте, в привычный час бессонницы, чтобы пере¬
считывать в уме последние гроши и, обливаясь холодным потом
от ужаса, думать: «Хватит на столько-то дней, а после что? » Ка¬
кой сладчайший отдых лечь в постель и знать, что злая Забота
не разбудит до света петушьим криком на ухо, не стащит одея¬
ла, не подымет сонного и не погонит снова, как Вечного Жида
с горки на горку, из ямки в ямку, ломать и сращивать кости!
«Только одного желал он — тени, тишины и покоя», — верно
понял Петрарка*. Этого искал Данте везде, всю жизнь, но толь¬
ко здесь, в Равенне, в конце жизни, нашел. Лучшего места нель¬
зя себе и представить для последнего убежища Данте, чем вет¬
хая днями Равенна — могила веков, колыбель вечности65.
Ангел... стоящий на море и на земле, поднял руку свою
и клялся Живущим во веки веков... что времени больше не бу¬
дет. (Откр. 10, 5-6.)
Клятва эта здесь, в Равенне, как будто уже исполнилась:
так же, как отступило от нее море, оставляя за собою дали не¬
обозримых болот, — отступило и время, оставляя за собою па¬
мять необозримых веков**.
Понял ли бы Данте, почему св. Петр Дамианский называ¬
ет Равенну «Римом вторым», secunde Roma, и почему второй
Рим может быть древнее и святее первого, по счету неземных
веков-вечностей? Понял ли бы глубокий смысл простодушной
легенды варваров о том, что Равенна основана за тысячу лет
до Авраама и почти за две тысячи лет до Рима?***66 Если и не по¬
* Petrarca. Epistolae (1601), fol. 445.
** Ricci, p. 75.
S. Muratori. Ravenna (1931), p. 44.
Воображаемое
201
нял бы умом, то сердцем, вероятно, почувствовал, почему имен¬
но отсюда, из Равенны, начал свой орлиный полет величайший
для него из сынов человеческих Цезарь:
...выйдя из Равенны
и перейдя за Рубикон67, в таком полете
вознесся он, что этого сказать,
ни описать нельзя*.
Сердцем, вероятно, почувствовал Данте, что веявшие здесь
над ним, вечные тени прошлого, от Цезаря до Юстиниана, суть
вещие знамения будущего; что Равенна — посредница между
Востоком и Западом, пророчица грядущего соединения их в той
новой всемирности, чьим пророком был и сам Данте. Сердцем
он, вероятно, почувствовал, почему именно здесь родилось
и умерло и, может быть, ждет своего воскресения то, что он
любил на земле и во что верил больше всего, — Рим — бывшая
Сила, будущая Любовь: Roma — Amor.
Около Равенны, верст на тридцать, тянулся по берегу моря
вековой сосновый бор, Пикета, чьи исполинские деревья были
праправнуками тех, из которых Август строил корабли для Ра¬
веннской гавани, Классиса**. «В этом лесу... Данте часто бродил,
одинокий и задумчивый, слушая, как ветер шумит в соснах», —
вспоминает Бенвенуто да Имола, в истолкованиях «Комедии»***.
Шуму сосен, такому ровному, даже во время сильного ветра,
что не испуганные им птицы продолжали петь, отвечал далекий
и такой же ровный шум адриатических волн, как отвечает го¬
лосам человеческим во времени Глас Божий в вечности. Пели
птицы, жужжали пчелы, журчали воды, благоухали верески
так сладко в этом лесу, что он сделался для Данте прообразом
того «Божественного Леса», foresta divina, который неувядаемо
цветет на вершине «Святой Горы Очищения»:
И слышал я в листве деревьев райских...
Как бы далекий гул колоколов,
Такой же точно, как в бору сосновом,
* Par. VI61.
** S. Muratori, p. 39.
*** A, Bassermann, p. 218 — Ricci, p. 117.
202
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
На берегу Киасси, в час ночной,
Когда сирокко знойный дует с моря*.
Если первое чувство только что умерших — новорожденных
в вечную жизнь, — удивление, то, может быть, Данте испытывал
нечто подобное, узнавая Равенну. Было для него удивительно то,
как здесь, на каждом шагу, попирала нога его утучненную пра¬
хом великих царей и кровью святых мучеников напоенную зем¬
лю. Был для него удивителен шорох сухих тростников и тихий
звон мошкары болотной там, где гремели некогда медные колеса
римских квадриг, в исчезнувшем, как утренний туман над бо¬
лотом, великолепном пригороде, Цезарее, соединявшем Равен¬
ну с Классийскою гаванью**. Было для него удивительно то, как
в искрящихся на стенах и сводах равеннских базилик, византий¬
ских мозаиках — живописи из драгоценных камней по золотому
полю, — события веков становятся видениями вечности.
От временного к вечному придя,
Каким я поражен был изумленьем!***
И в той надгробной часовне, где, под золотыми звездами
в глубоко синей ночной синеве четырех небесных сводов, поко¬
ятся в двух исполинских гробах римская императрица Галла
Плацидия и супруг ее, последний римский император Запада,
Валентиниан III68, — с каким удивлением бесконечным увидел
Данте, в полукруглой мозаике, над входом в часовню, Доброго
Пастыря с юношески безусым и безбородым лицом, напоминав¬
шим Орфея. Крест, вместо кифары, держит Он в левой руке,
а правую — лижет одна из овец, пасущихся на цветущем лугу,
под вечерним небом, таким же ясным, как божественное лицо
Пастуха. Данте, может быть, и сам не знал, страшен ли для
него или желанен этот невиданный, неузнанный, не Восточный
и не Западный, а соединяющий Запад с Востоком, грядущий,
Вселенский Христос.
Но всего удивительнее был свет базилик, проникающий
сквозь прозрачно-тонкие, в окнах, дощечки алебастра, золоти¬
* Purg. XXVIII, 19.
** S. Muratori, p. 16.
Par. XXXI37.
Воображаемое
203
сто-желтый и теплый, как мед на солнце, ни на что земное не по¬
хожий, не дробимый в лучи и теней не кидающий свет как бы
нездешнего Солнца — Агнца.
Не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном...
Ибо светильник их — Агнец. (Отк. 22, 5; 21, 23).
Маленький, сгорбленный, седой старичок (Данте узнала ли
бы в нем не только Джемма, но и сама Беатриче?), стоя на коле¬
нях между исполинскими столпами такого же, как тот невидан¬
ный свет, золотисто-желтого мрамора, под главным сводом над
жертвенником, в базилике св. Виталия, поднял глаза к изобра¬
женному в круглой мозаике на самом верху свода, таинственно¬
му, от создания мира закланному Агнцу, и светлые тихие слезы
лились по лицу старичка*. Может быть, только теперь понял
Данте, какое чудо Божественного Промысла совершилось над
ним; понял, что значит:
Пить мучеников сладкую полынь**.
Горькие травы нужны пчелам, чтобы извлечь из них слад¬
чайший мед; так и ему нужны были все муки его, чтобы извлечь
из них сладость Божественной Песни. И греясь в теплоте нез¬
дешнего Солнца — Агнца, как греется на утреннем солнце око¬
ченевшая от ночного заморозка пчела, оттаивало леденевшее
столько лет, в вечных льдах, сердце Данте. И только теперь,
в этом невиданном свете, увидел он Рай.
...Таков был этот Свет,
Что, если б от него отвел я очи,
То слепотою был бы поражен.
Но выносить его я мог тем легче,
Чем дольше на него смотрел. О, Благодать
Неисчерпаемая, ты дала
Мне силу так вперить мой взор в тот Свет,
Что до конца исполнилось виденье!***
Ib[id]., 5.
Purg. XXIII, 86.
Par. XXXIII, 76.
204
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Если видеть Неизреченного лицом к лицу есть величайшее
блаженство, какое может испытать человек на земле, но не мо¬
жет вынести, не умерев, то Данте его испытал в видении Рая
и, может быть, умер от него.
Узнанного на небе он уже никогда не забудет на земле.
На пройденные сферы оглянувшись,
Увидел я под ними шар земной —
Песчинку жалкую, и усмехнулся
Ее ничтожеству...
И между тем, как я, влекомый вечным
Созвездьем Близнецов вращался, — весь,
От гор и до морей, являлся мне
Комочек грязи той, что делает такими
Нас лютыми в борьбе из-за нее.
И обратил я вновь глаза к глазам прекрасным*,
— к возносившим его «выше сфер высочайших», глазам Бе¬
атриче**.
Данте начал писать «Рай» еще до Равенны, но кончил его
только здесь, в три-четыре последних года жизни. Все эти годы
длилось видение Рая, самое ясное и, может быть, самое близкое
к тому, что действительно есть рай. Но, дописав последний стих
последней песни:
Любовь, что движет солнце и другие звезды, —
проснулся от этого видения, сошел с неба на землю и продол¬
жал на ней жить, — с каким чувством, — об этом он сам гово¬
рит:
...Не знаю, долго ли еще
Я проживу, но чем скорей сюда вернусь,
Тем лучше.
«Сюда» — из этого мира в тот, из временной чужбины веч¬
ную родину.
Par. XXII, 133.
V. N. XLI.
Воображаемое
205
О, Беатриче, ты — моя надежда;
Ты для моего спасенья в ад сошла...
Ты сделала меня, раба, свободным...
Освободи же до конца,
Чтоб дух, от плоти разрешенный,
К тебе вознесся!
Эта молитва скоро исполнилась: Данте освобожден был тем,
что казалось людям смертью его, но было для него самого веч¬
ною жизнью — Раем.
XIX.
Рай
Данте не был одинок в Равенне, или казалось, что не был:
двое старших сыновей, Пьетро и Джьякопо, приехали к отцу
из Вероны; приехала и дочь, Антония, из Флоренции*. Судя
по тому, что, девушкой, она покинула мать, чтобы приехать
к отцу, а после его смерти постриглась в одной из равеннских
обителей, под именем, для них обоих святым, Беатриче, —
она любила отца, и была им любима больше всех детей**. Были
у него и ученики, в Равеннской высшей школе, подобии Уни¬
верситета, Studio Pubblico, где согласился он быть учителем
итальянского «народного» языка, vulgare, и поэзии, может
быть, для того, чтобы самому зарабатывать хлеб; хотя и не го¬
рек был ему хлеб великодушного хозяина, а свой все-таки сла¬
ще, и, может быть, догадавшись о том, Гвидо предложил ему
этот заработок***.
Были у него и друзья: два нотариуса, сер Пьетро Джиардино
и сер Менгино Меццани (Menghino Mezzani), городской врач, Фи-
дуччи дэ Милотти (Fiduccio de Milotti) и, вероятно, многие дру-
гие.Кое-ктоизнихпописывалстишкиипочитывал «Комедию»****.
Все они были, кажется, хорошие люди, благоговейные почитате¬
ли Данте, преданные ему душой и телом. Но в самом глубоком
и дорогом для него он был им не понятен и не нужен. А если бы
* Ricci, р. 63 — С. Balbo, р. 415.
** Ricci, р. 251-290 — Passerini, р. 116-177.
Ricci, р. 82-86.
Zd[id]., р. 255,101.
206
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
они его поняли, то, может быть, огорчились бы, или испугались,
как дети пугаются незнакомого человека со страшным лицом.
Как непонятен и неизвестен был Данте самым близким лю¬
дям, даже родным, видно по двум составленным его сыновья¬
ми, — Пьетро, ученым законоведом, и Джьякопо, ученым
каноником, — огромным схоластическим истолкованиям
«Комедии», где не сумели они сказать ничего, кроме общих
мест и ученых пустяков*. Видно это также из того, что, когда,
по смерти Данте, тринадцать последних песен «Рая» считались
потерянными, Пьетро и Джьякопо вздумали присочинить их
от себя, что справедливо называет Боккачио «самомнением
глупейшим»**. Мало скромности и в том плохеньком сонете, по¬
священном Гвидо Новелло, где Джьякопо Алигьери, посылая
ему первый полный список «Комедии», называет ее «своей се¬
строй» , mia sorella, потому что один отец у них обоих — Данте***.
Кто я такой, не стоит говорить:
Еще мое не громко имя в мире****.
Громче ли имя его и лучше ли знают люди, кто он такой,
в самом конце его пути, нежели в середине, — можно судить
по многим исторически-подлинным свидетельствам. В те са¬
мые дни, когда он пишет последние песни «Рая», некий Джи-
ованни дэль Виржилио (имя это он присвоил, думая, вероятно,
сделать честь не только себе, но и Вергилию), учитель латин¬
ского языка и поэзии в Болонском университете, учит Данте
в стихотворном послании, о чем ему должно писать, советуя
перейти с «низкого» итальянского языка на «высокий» латин¬
ский. И гордый Данте, в угоду этому маленькому грамматику,
смиренно рядится в двух ответных латинских эклогах в Аркад¬
ского пастушка, Титира*****. «Данте писал латинские эклоги и еще
кое-что», — вспоминает один итальянский гуманист XVI века;
это «кое-что», забытое, — «Божественная комедия»******.
* Passerini, р. 114.
** Boccaccio. Vita (Solerti, p. 58).
*** Ricci, p. 172 — L. Rocca. Di Alcuni commenti (1891), p. 34.
**** Purg. XIV, 20.
***** Ricci, p. 64. — F. Macri-Leone. La bucolica latina (1889).
****** « Aligerius scripsit latine eglogas et alia».
Воображаемое
207
Всем понятный и не скудными, как Данте, лаврами венчан¬
ный Петрарка, не завидуя «шумным рукоплесканиям мясников,
красильщиков и харчевников, приветствующих Алигьери, пред¬
почтет быть вдали от него, в сообществе Гомера и Вергилия»*.
В те же дни последних песен «Рая» некий Чекко д’Асколи
(Cecco d’Ascoli), ученый астролог, человек неглупый, хотя и без¬
дарный поэт, тоже гость Гвидо Новелло, уличает Данте в «мало¬
верии», которое «довело его до ада», откуда он «уже не вернет¬
ся», и доказывает, что Данте «сочинял пустяки»**.
В те же дни, при Авиньонском дворе папы Иоанна XXII, су¬
дьи Святейшей Инквизиции начинают дело о покушении Ми¬
ланских герцогов, Маттео и Галеаццо Висконти, извести папу
колдовством, при помощи маленького, не больше ладони, се¬
ребряного человечка, голого, с вырезанной на лбу надписью:
«Папа Иоанн», с колдовским, на груди, знаком и словом « Амай-
мон». После первой неудачной попытки герцога Маттео убедить
одного миланского священника, слывшего чернокнижником,
произвести над человечком нужное для смерти папы колдов¬
ство, сын Маттео, Галеаццо, снова призвал того же священника
и доказывал ему, что смерть этого папы, сделавшего столько зла
Гибеллинам и, через них, Италии, будет для нее великим бла¬
гом. А в заключение прибавил, как сильнейший довод: «Знай,
что для того же самого дела, как тебя, я вызвал и магистра Дан¬
те Алигьери, гражданина Флоренции » ***.
В те же дни некий Гвидо Вернани, доминиканец, в кни¬
ге о Дантовой «Монархии» доказывает, что «этот болтливый
софист... смешивающий философию с вымыслом... и соблаз¬
няющий сладким пением Сирены... не только малосведущих,
но и ученых людей, — есть не что иное, как сосуд дьявола» ****.
«Многие... подозревали Данте в ереси и думали, что он па-
тарин» (манихеянин), — вспоминает Джьякопо дэлла Лана,
первый истолкователь «Комедии»*****; то же подтвердит и неиз¬
вестный писатель XIV-XV веков: «В те дни, когда писал Данте
* Petrarca, Ep[istolae] de reb[us] fam[iliaribus] XXI, 15. — I. del Lungo, p.
43.
** Passerini, p. 327, 229.
*** F. D’Ovidio. Studi sulla Div[ina] Com[media] (1901), p. 76. — M. Scherillo.
Alcuni capitoli (1896), p. 216. — Passerini, p. 321.
**** L. Valli. Universo dantesco, p. 351.
***** E. del Cerro, p. 221.
208
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
книгу свою („Комедию“), многие, не поняв ее, как следует, ду¬
мали, что он поврежден в вере» *.
В 1327 году, шесть лет по смерти Данте, францисканский мо¬
нах, Фра Аккорзо, поставленный папой Иоанном XXII инкви¬
зитором «еретической злобы» в Тоскане, произведет следствие
над «Комедией», чтобы знать, нет ли в ней «ереси». А в следую¬
щем году сожжет за ересь того самого Чекко д’Асколи, который
уличал Данте в «маловерии»**.
В 1329 году кардинал Бертрандо дэль Поджетто (Poggeto),
производивший следствие о «колдовстве» Данте, сожжет на ко¬
стре его «Монархию» и если не сделает того же с вырытыми
из земли костями его, то не по своей вине***.
Знал ли Данте, что новая туча нависла над ним? Если и знал,
то, вероятно, был спокоен и думал с тихой усмешкой: «Не успе¬
ют!» Глупостью и злобой человеческой уже не возмущался; ни¬
чего от людей не ждал и ни на что от них не надеялся. Мир шел
помимо него и против него; это видел он и принимал тем легче,
что тот мир становился для него все действительнее, а этот все
призрачней. «В небе смирения, там, где Мария» ****, побывал не¬
даром: новое, неведомое чувство — жалость к врагам, прощение
обид, — сходило в душу его, как райское веянье. Не было в зем¬
ном аду столь вечных льдов, чтобы не растаяли они на сердце
его, в теплоте «нездешнего Солнца— Агнца». Тихим светом
горела в душе его мысль о Ней, Единственной, как в вечернем
небе горит звезда Любви.
Был час, когда пловец душой стремится
К родной земле, где, в горький день разлуки,
Сказал он всем, кого любил: «Прости!»
Был час, когда паломника любви
Волнует грустью колокол далекий,
Как будто плачущий над смертью дня*****.
Этот час наступил и для Данте, но сердце его над смертью
временного дня уже не плакало, а рождению дня незакатного
* G. Papanti, р. 47.
** Kraus, р. 749 — Ricci, р. 175.
*** Boccaccio, Vita (Solerti, p. 61).
**** V. N. XXIV.
***** Purg. Vili, 1.
Воображаемое
209
радовалось. В тихих шагах близящейся смерти слышались ему
знакомые шаги Возлюбленной. «Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыка... с миром, ибо видели очи мои спасение Твое» (Лк. 2,
29-30), — это мог бы и он сказать. Так же несомненно, как то,
что жил, страдал и любил, он знал, что спасен. И ходил, как хо¬
дит овца на пастбище, под взором Доброго Пастыря.
Господь — Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться: Он
покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим... Если
пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты
со мною; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня.
(Пс., 22, 1-4.)
Летом 1321 года произошло событие ничтожное, но едва
не сдалавшееся роковым для Гвидо Новелло: глупая ссора и дра¬
ка пьяных корабельщиков на двух судах, равеннском и венеци¬
анском. В драке убит был капитан венецианского корабля и его
помощник, вместе с несколькими матросами, а корабль захва¬
чен равеннцами в плен. Этого было достаточно, чтобы нарушить
мир между маленькой Равеннской Коммуной и великой цари¬
цей Адриатики, а война между ними означала бы гибель Полен¬
ты. Большей опасности он еще никогда не подвергался: каждого
из соединившихся против него союзников Венеции было до¬
вольно, чтобы его уничтожить. Земли его отовсюду были окру¬
жены врагами: с устья По и с моря грозил ему венецианский
флот, а с суши — войска двух могущественных кондотьеров,
Орделаффи да Форли и Малатеста да Римини. Не было для него
другого спасения, кроме искусных переговоров о скорейшем
восстановлении мира*.
Может быть, верно угадывая в Данте не только великого по¬
эта-созерцателя, но и государственного деятеля, Гвидо просил
его отправиться, для ведения переговоров, в Венецию, и Данте
согласился на это, должно быть, не с легким сердцем, потому
что все еще и после четырехлетнего отдыха ныли у него кости,
как у невыспавшегося человека — от вчерашней усталости**.
Но другу в беде не помочь он не мог: миром хотел отплатить ему
за найденный на земле его мир.
В середине или конце августа Данте, во главе посольства,
отправился в Венецию, где натолкнулся, кажется, на большие
* Ricci, р. 149. — Passerini, р. 333. — Papini, р. 110.
** Phil. Villani. Vita (Solerti, p. 86).
210
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
трудности, чем думал Гвидо*. Как Данте преодолел их или только
пытался преодолеть — неизвестно, потому что из Венецианских
архивов, где сохранились все грамоты об остальных посольствах
Равеннской Коммуны, исчезли только те, где говорится о посоль¬
стве Данте, как будто нарочно выкрал их оттуда приставленный
ко всей жизни его, демон Забвения**. Но, судя по тому, что мир
был все же заключен, его основания заложены были не кем иным,
как Данте; а если так, то последнее дело его на земле — это, для
него святейшее и величайшее из дел человеческих, — Мир.
Данте и спутники его возвращались в Равенну обычным для
тогдашних посольств, трехдневным путем, соединявшим обе
столицы Адриатики, — не морем, где плавание было слишком
продолжительно и опасно, а сушей или, вернее, полуморем,
полу су шей. В лодке переплыли через венецианские лагуны,
вдоль песчаных отмелей Маламокко и Палестрины, до Киод-
жии (Chioggia), а оттуда, по суше, на конях или мулах, доеха¬
ли до местечка Лорео, где заночевали. На следующий день пе¬
реправились через устье По со многими рукавами на больших
плоских огражденных перилами дощаниках, где помещалось
не только множество пеших и конных, но и целые тяжелые,
запряженные волами, телеги. Так доехали до бенедиктинской
обители, Помпозы, чьи великолепные, многоцветными израз¬
цами украшенные, колокольни возвышались над цветущими
садами и рощами, служившими для иноков неверной защитой
от убийственных лихорадок соседних болот***. Путь третьего дня
шел по узкому перешейку, или «языку земли», отделяющему
Адриатическое море от Комакийских (Comacchio) лагун и болот.
Только что первые августовские дожди увлажняют и размяг¬
чают каменно-жесткий, летним зноем высушенный, растре¬
скавшийся, черный ил этих бесконечных болот, как подымают¬
ся над ними испарения, такие густые, что в воздухе сине от них,
как от дыма. Тихим звоном звенят на ухо путника тучи раз¬
носящих заразу болотной лихорадки, почти невидимых, про¬
зрачно-зеленых мошек — зензан: «первый дождь — к смерти
вождь», по зловещей поговорке тамошних жителей****.
* G. Villani. Cron. IX, 136.
** Ricci, p. 148. — Passerini, p. 334.
*** P. Federici. Rerum Pomposianarumhistoria ( 1781) — S. Busmanti. Pomposa
(1881).
**** Ricci, p. 223.
Воображаемое
211
Последняя часть пути до Равенны шла, на несколько верст,
сосновым бором, Пинетой. Снова увидел Данте «Божественный
Лес», divina foresta, подобие земного Рая на святой Горе Очи¬
щения. Но слишком сладко пели в нем птицы, жужжали пчелы,
журчали воды, благоухали цветы; слишком торжественно отве¬
чал протяжному гулу сосен далекий шум адриатических волн,
как всем голосам человеческим во времени отвечает Глас Божий
из вечности: Данте чувствовал, что смертельная отрава «злого
воздуха», malaria, уже течет в его крови*.
И только что с яркого, знойного солнца вошел он в сырую,
холодную тень равеннского дома своего (где так же, как почти
во всех тамошних домах, подвалы залиты были водой наводне¬
ний), вспомнил он, может быть, слова Вергилия, перед соше¬
ствием в те глубочайшие пропасти ада, где начинаются неска¬
занные муки и ужасы:
«Будь мужествен: теперь мы в бездны ада
Должны по страшной лестнице сойти».
Как человек, в болотной лихорадке,
Трясется весь, в предчувствии озноба,
И ногти у него уже синеют,
Едва вдали сырую тень завидит, —
Так, те слова услышав, я затрясся**.
Много темных загадок в жизни Данте, но, может быть, тем¬
нейшая, — в смерти. В стену той комнаты, где умер, замуровал
он тринадцать последних песен «Рая» : для чего он это сделал —
вот загадка.
Нет никакого основания сомневаться — и лучшие знатоки
равеннской жизни Данте не сомневаются — в свидетельстве
Боккачио о загадочной пропаже и еще более загадочной на¬
ходке этих песен***. Будучи в Равенне, в 1346 году, двадцать лет
по смерти Данте, Боккачио мог видеть и слышать многих бли¬
жайших свидетелей последних дней Данте, в том числе и мес¬
сера Пьетро Джиардино, «давнего ученика и преданнейшего
* Ib[id]., 136 — Passerini, p. 335.
** Inf. XVII, 81.
*** Boccaccio. Vita (Solerti, p. 57) — Ricci, p. 168 — F. Macri-Leone.
Introduzione alla Vita di Dante del Boccaccio (1888), p. CVII: «sotto la veste
del leggendario e del maraviglioso qualcosa di vero... si debbe nascondere».
212
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
друга Данте»; «человека основательного, который заслужива¬
ет доверия», — вспоминает Боккачио*. Он-то и рассказал ему
об этой загадочной пропаже и находке.
Высшее, что создал Данте, — всей «Божественной комедии»
вершина и глава, — эти тринадцать последних песен «Рая».
Что же довело его до такого действительного или кажущегося
безумия, что возлюбленное, в тридцатилетних муках рожден¬
ное дитя свое он обезглавил — убил?
Или, может быть, вовсе не убивал, а спасал? В те дни, ког¬
да добрые католики считали его «злым еретиком», «сосудом
дьявола», и когда уже запахло от него дымом костра, — может
быть, хотел он спасти то, что было ему дороже, чем он сам, —
эти песни «Рая», — спрятав их в надежный тайник? Но если
так, то почему же никому об этом не сказал и, по свидетельству
Боккачио, «забыв о них, умер»**.
Нет, кажется, действительная причина того, что сделал Дан¬
те с этими песнями, — не желание их спасти, а что-то другое.
Что же именно?
В 1273 году, лет за пятьдесят до смерти Данте, внутренне
очень ему близкий, хотя и противоположный человек, св. Фома
Аквинский, месяца за три до кончины служа обедню, имел «вос¬
хищение», raptus, и когда пришел в себя, сказал другу своему
и духовнику, Реджинальду: «Наступил конец моим писаниям,
venit finis scripturae meae». Когда же тот умолял его кончить,
по крайней мере, «Сумму теологии»,— воскликнул: «Нет,
не могу, все, что я написал, мне кажется соломой!» — «И велел
сжечь „Сумму“», — прибавляет легенда; но уже и того доволь¬
но, что этим страшным словом о «соломе» как бы сам ее сжег***.
Может быть, нечто подобное произошло и с умирающим Дан¬
те. Маленьким людям то, что они сделали, кажется золотом,
а великим— «соломой». Слово, сказанное, сделавшись внеш¬
ним, так несоизмеримо с несказанным, внутренним, что прав¬
дивый человек не может этим не мучиться; вот почему один
из правдивейших людей, Данте, — один из величайших муче¬
ников слова.
* Boccaccio, ib[id]., p. 58 — Ricci, p. 254.
** Boccaccio, ib[id]. : « avvenne ch’egli, sanza avere alcuna di lasciarli, si mori».
*** A. D. Sertillanges. Thomas d’Aquin (1931), p. 161. — E. Bruyne, Thomas
d’Aquin (1928), p. 63.
Воображаемое
213
Отныне будет речь моя, как смутный лепет
Грудь матери сосущего младенца, —*
предупреждает он перед тем, как начать говорить о послед¬
нем, высшем видении Трех.
Вы, движущие мыслью Третье Небо,
услышьте то, что сердце мое говорит,
и чего никому я сказать не могу...
таким оно кажется странным
мне самому...
Странное сердце мое вам одним я открою.
Ангелам, движущим молча Третье Небо любви, умирающий
Данте, может быть, открывает, так же молча, «странное сердце»
свое, в ту минуту, когда замуровывает в стену последние песни
«Рая».
Восхищен был Сосуд избранья, Павел,
На небеса, чтоб в людях укрепить
Начало всех путей спасенья — веру...
Но кто же я, чтобы взойти на небо.
И кем я избран? Сам я не считаю,
Вот почему страшусь,
Чтобы мое желанье вознестись
К таким высотам не было безумным**.
Этот страх, испытанный в самом начале пути, овладевает им,
может быть, и теперь, в самом конце.
Чтобы разгадать, хотя бы отчасти, загадку обезглавленной
«Комедии», надо помнить, что именно в этих последних песнях
«Рая» открываются, с большей ясностью, чем во всей остальной
поэме, «тайна беззакония», совершающаяся в Римской Церкви,
и готовящаяся к совершению в Церкви Вселенской тайна Трех.
Может быть, Данте устрашился того, что открыл людям эти две
тайны слишком рано; поднял самим Богом опущенную завесу,
которую не должно было человеку подымать; переступил само¬
Par. XXXIII, 106.
Inf, 11,31.
214
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
вольно за черту, отделяющую Второй Завет от Третьего. Этого
всего он, может быть, не сознавал, только смутно чувствовал;
но чем смутнее, тем страшнее. Этим-то страхом обуянный, он
и обезглавил «Комедию».
«Сынатвоего, единственного твоего, возьми и принеси во все¬
сожжение», — велит Господь Аврааму, — и поднял отец руку
на сына; так же и Данте поднял руку на «Комедию». И только
чудом Божьим отведены были обе руки.
В стенах тогдашних домов устраивались иногда «печурки»,
или «оконца», fmestrette, для рукописей и книг*. Было такое
оконце и в спальне Данте**. Может быть, давно уже выбрав его,
чтобы спрятать песни «Рая» в этот надежный тайник, он приго¬
товил для этого все нужное: глиняный горшочек с известью, ма¬
лярную кисть, камышовую циновку, stuoia, молоток с гвоздями
и тщательно связанные в пачку листки тех тринадцати песен***.
Но долго не решался приступить к делу, все откладывал, муча¬
ясь сомнением, надо ли это сделать, или не надо. Может быть,
только вернувшись из Венеции, уже больной, и чувствуя, что
дни его сочтены, — решился.
В самый глухой час ночи, когда в доме все уже спали (ни¬
кому еще не сказал, как тяжело болен), встал с постели, дро¬
жа не только от озноба так, что зуб на зуб не попадал, — отпер
сундук, вынул из него все нужное, подошел к оконцу, положил
в него пачку листков, закрыл его циновкой, прибил ее к стене
гвоздями, забелил известью так ровно, что ничего не было вид¬
но, и лег в постель умирать.
«Кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Мо¬
жет быть, Данте, в ту ночь, потерял душу, и сберег.
«Данте умирает» — эти два слова прозвучали над Равен¬
ной, как похоронный колокол, в 1321 году, в ночь с 13 сентября
на 14-е — день Воздвижения Креста Господня и поминовения
крестных язв св. Франциска Ассизского****69. В эту ночь не спал
государь Равенны, Гвидо Новелло; не спали сыновья Данте
и дочь его, ученики и друзья, может быть, не только те, кого он
знал, но и многие другие, неизвестные.
* Ricci, р. 226.
** Boccaccio. Vita (Solerti, p. 59).
'** См. сноску выше.
Ib[id]., p. 30 — Ricci, p. 158, 224, 408.
Воображаемое
215
Самые близкие к нему собрались в комнате, где он уми¬
рал. Уже причастившись, велел он надеть на себя темно-ко¬
ричневую, грубого войлока, монашескую рясу нищих братьев
св. Франциска: в ней хотел умереть*; в ней же и похоронить себя
завещал, в часовне Пресвятой Девы Марии, у входа в равенн¬
скую базилику, св. Франциска, как бы «на пороге», in introitu
не только этой церкви, малой, ветхой, но и великой, новой, Все¬
ленской**.
Многие только теперь узнали, что Данте был иноком Фран-
цискова Третьего Братства: тот же глубочайший и святейший
смысл, как во всей жизни его, имеет и здесь, в смерти, что сло¬
во: Третий — Три.
В длинной темной монашеской рясе, сложив руки крестом
на груди, закрыв глаза, он лежал на постели, с таким неподвиж¬
но-каменным лицом, что смотревшие на него не знали иногда,
жив он или умер; ошибиться в этом было тем легче, что часто
и у здорового бывало у него такое же точно лицо. Может быть,
он и сам не знал — жив он или умер: так непохоже было то,
что он чувствовал, ни на что живое. Тело его то пылало в жару,
как в вечном огне, то леденело в ознобе, как в вечных льдах.
Но больше, чем тело, страдала душа: все еще не знал он, надо ли
было сделать то, что он сделал, или не надо; спас ли он душу
свою, погубив ради Того, Кто велел погубить, или, спасая ради
себя, погубил.
Белое-белое, в черно-красной мгле, пятно стояло перед ним,
и он знал, что будет вечно стоять — никогда не уйдет; и все
не мог понять, что это; может быть, забеленное оконце в стене?
Нет, что-то другое, неизвестное. Вдруг понял: это белое, ле¬
дяное и огненное вместе, леденящее и жгущее, — есть вечная
мука ада — вечная смерть. Но только что он это понял, как ус¬
лышал тихие знакомые шаги, и на ухо шепнул ему знакомый
тихий голос:
Не узнаешь? Смотри, смотри же, — это я,
Я, Беатриче.
И он увидел наяву то, что некогда видел во сне, в видении.
* С. Balbo, р. 95.
** Purg. XXX, 31.
216
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Она явилась мне... в покрове белом
(вот что было то страшное, белое), —
На ризе алой, как живое пламя.
И после стольких, стольких лет разлуки,
В которые отвыкла умирать
Душа моя, в блаженстве, перед нею, —
Я, прежде, чем ее глаза мои
Увидели, уже по тайной силе,
Что исходила от нее, — узнал,
Какую все еще имеет власть
Моя любовь к ней, древняя, как мир...
И тою же опять нездешней силой
Я потрясен был и теперь, как в детстве,
Когда ее увидел в первый раз.
Тихо уста припали к устам, и этот первый поцелуй любви
был тем, что казалось людям смертью Данте, а для него самого
было вечной жизнью — Раем.
* * *
Месяцев через восемь по смерти Данте произошло первое,
но, может быть, не последнее чудо св. Данте.
После бесконечных поисков пропавших песен «Рая», когда
уже перестали их искать, считая, что они безнадежно потеряны
или даже вовсе не написаны (видно по этому, как Данте скры¬
вал то, что делал, даже от самых близких людей), и когда сыно¬
вья его, Джьякопо и Пьетро, начали, с «глупейшим самомнени¬
ем», присочинять от себя эти песни, — Данте явился Джьякопо,
во сне, «облеченный в одежды белейшего цвета и с лицом, оси¬
янным нездешним светом».
— Ты жив? — спросил его Джьякопо.
— Жив, но истинной жизнью, не вашей, — ответил Данте.
— Кончил ли Рай? — еще спросил тот.
— Кончил, — ответил Данте и, взяв его за руку, повел
в ту комнату, где спал живой и умер, — прикоснулся рукой
к стене и сказал:
Воображаемое
217
— Здесь то, чего вы искали.
Спящий проснулся. Час был предутренний, но еще темно
на дворе. Встав поспешно и выйдя из дому, Джьякопо побежал
к мессеру Пьетро Джиардино и рассказал ему чудесное видение.
И тотчас поспешили оба в дом, где жил Данте, нашли указанное
место на стене, нащупали прибитую к ней циновку и, потихонь¬
ку отодрав ее, увидели никому не известное или всеми забытое
«оконце», где лежала пачка листков, уже начавших тлеть и по¬
черневших от сырости так, что если бы они еще немного дольше
здесь пролежали, то истлели бы совсем. И только что искавшие
в них заглянули, как увидели, с несказанной радостью, что это
потерянные песни «Рая».
«Кончил ли ты Рай?» — спрашивает, в видении, Джьяко¬
по. «Кончил», — отвечает Данте. А если б Джьякопо спросил:
«Кончил ли ты, сделал ли все, для чего был послан в мир?» —
Данте мог бы ответить: «Сделал».
Но он и в деле своем — не только в жизни и смерти — так пре¬
зрен людьми и забыт, так неизвестен, что и теперь, через семь
веков, люди все еще не знают, что он сделал. Мир, может быть,
не был бы там, где он сейчас, — на краю гибели, если бы люди
знали, что сделал Данте.
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Данте
Киносценарий
I
БЕЛАЯ РОЗА
1
Тихая музыка флорентийских колоколов.
Как в башенных часах, зовущих нас к молитве,
В час утренний, когда невеста Божья
Возлюбленного Жениха встречает, —
Вращаются колеса, и звенят
Колокола столь сладостно: динь-динь,
Что сердце от, любви, в блаженстве тает, —
Так звездные колеса надо мной,
С такой сладчайшей музыкой вращались,
Что можно б выразить ее лишь там,
Где наша радость сделается вечной.1
Дантовых дней Флоренция — маленький городок, замкну¬
тый в тесной ограде зубчатых стен, весь ощетинился темными
острыми башнями, как еж — иглами. Башен почти столько же,
сколько домов, потому что почти каждый дом, сложенный
из огромных каменных глыб, с узкими, как щели, бойнями,
окнами, с обитыми железом дверями и торчащими из стен ду¬
Данте
219
бовыми бревнами, для спешной кладки подъемных мостов, ко¬
торые на железных цепях перекидывались от дома к дому, едва
начинался уличный бой, — почти каждый дом — готовая к во¬
йне, крепостная башня.
Дом, где родился Данте, — на маленькой площади, у церк¬
ви Сан-Мартино-дель-Весково, рядом с городскими воротами
Сан-Пьеро, у самого входа в Старый Рынок, на скрещении тес¬
ных и темных улочек. Здесь находилось старое гнездо Алигье¬
ри — несколько домов разной высоты, под разными крышами,
слепленное в целое подворье или усадьбу, подобно слоям тех
грибных наростов, что лепятся на гниющей коре очень старых
деревьев.
Темные башни Флоренции еще темнее в светлом золоте утра.
Самая темная — та, что возвышается над маленькой площадью
Сан-Мартино, в двух шагах от дома Алигьери, — четыреху¬
гольная, тяжелая, мрачная, точно тюремная, башня дэлла Ка-
станья. Черная длинная тень от нее тянется по тесной улочке
Санта Маргерита, соединяющей дом, где живет девятилетний
мальчик, Данте, сын бедного ростовщика-менялы, сэра Ге-
рардо Алигьери, с домом восьмилетней девочки, Биче, дочери
вельможного купца и тоже менялы, Фолько Портинари. Сто ша¬
гов от дома к дому.
2
Сидя на церковной паперти, в черной тени башни, откинутой
утренним солнцем на белую площадь, и подняв глаза с непод¬
вижной, как бы сонной, улыбкой, маленький мальчик, Данте,
смотрит пристально широко открытыми глазами на красный
весенний цветок в темной щели между камнями башни, вспых¬
нувший под лучом солнца, как живое красное пламя или капля
живой крови2.
— Что ты все в тени сидишь, дружок, ступай-ка на солнце,
погрейся! Нездорово в тени, вон тыкакой бледненький! — кри¬
чит ему старая ключница, монна Тана, стоя у открытого окна,
вместе с монной Ритой, бедной дальней родственницей-прижи¬
валкой в доме Алигьери, и кормя голубей.
Вздрогнув, точно внезапно проснувшись, мальчик взгляды¬
вает на монну Тану, улыбается ей, тихо качает головой, мед¬
220
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
ленно отводит от нее глаза и опять все так же неподвижно-при¬
стально смотрит на красный цветок.
— Что с ним такое, на что он воззрился так? — спрашивает
монна Рита.
— Кто его знает. — может быть о матери думает. Третья
годовщина смерти монны Бэллы сегодня. Были на кладбище;
мальчик долго плакал, обнял могилку и припал к ней так, точно
и сам хотел в землю уйти. Едва увели. Плакал и во сне всю ночь.
Бедный сиротка! Хорошо еще. что мачеха добрая, любит его,
как родного. Да все же не мать. Умный ребенок, не по годам, все
понимает. Как отца посадили в тюрьму, будто бы за растрату чу¬
жих денег, а может быть, и ни за что, — долго ли злым людям че¬
ловека оклеветать? — мальчик не только от горя, но и от стыда
заболел. Дети в школе дразнили его, ругались над ним, «сыном
вора» называли. И потом, когда дядя, сэр Джери дель Бэлло.
был убит из-за угла на этой самой площади, и старшему в роде
Алигьери, брату убитого, должно было, по закону кровавой ме¬
сти, отомстить за брата, а он это не сделал, — мальчик опять за¬
болел от стыда, и дети в школе стали ругаться над ним еще того
пуще: «Данте Алигьери, сын вора— вор, сын труса— трус!»
И до того довели, что одному из них камнем в голову швырнул
он так, что едва не убил. Да, умный ребенок: как ни мал, а честь
рода чувствует.
— Ох-хо-хо! — вздыхает монна Рита. — Горе детей рано
учить уму. Какое для него сиротство горше, от умершей матери
или от живого отца, сам, должно быть, не знает. Стыдный отец
хуже мертвого!
Мальчик, во время этой беседы, все так же неподвижно -при¬
стально, как давеча, — на красный цветок, смотрит теперь
в глубину тесной и темной улочки, соединяющей дом Алигьери
с домом Портинари, где стоит на крыльце маленькая девочка,
в венке из белых роз и в платье красного бархата, вспыхнувшем
под лучом солнца, как живое красное пламя и живая кровь.
— Вот и Она! Вот и Она! Я знал, что придет! — шепчет маль¬
чик, становится на колени, протягивает руки, тихо склоняется
и падает без чувств.
В тот день, когда Она явилась мне...
Я был еще ребенком, но внезапно...
Данте
221
Такую новую узнал я страсть...
Что пал на землю, в сердце пораженный
Как молнией.
3
В доме Портинари, на празднике 1 Мая3, восьми летняя де¬
вочка, Биче, выбранная, по старому Флорентийскому обычаю,
Королевой Весны, одетая в красное платье, опоясанная золо¬
тым поясом и увенчанная белыми розами, подходит к избран¬
ному ей в рыцари, девятилетнему мальчику, Данте, и подает
ему белую розу. Мальчик становится на колени и целует ей руч¬
ку, как рыцарь — Прекрасной Даме.
Девушки, в белых одеждах, в венках из алых роз, поют:
Весна идет, весна идет,
Новая Жизнь начинается.
Белая Роза — алая кровь;
Солнце на небе — в сердце любовь!4
«Девять раз от моего рождения Небо света возвращалось почти
к той же самой точке своего круговращения, — когда явилась мне
впервые, облаченная в одежду смиренного и благородного цвета,
как бы крови, опоясанная и увенчанная так, как подобало юней-
шему возрасту ее, — Лучезарная Дама души моей, Беатриче».
Девятилетний мальчик, Данте, у знал-вспомнил Ее, и Она —
его5; вспомнили — узнали оба то, что было и будет в вечности.
4
Первые учителя Данте — иноки францисканского монасты¬
ря Санта Кроче; первые книги, в слабых детских руках его, —
тяжеловесные учебники Доната6 и Присциллиана: «Основание
искусства Грамматики».
Данте читает Библию. Так же, как в маленькую девочку
Биче, влюблен в великую древнюю Книгу. Делаясь послушни¬
ком братства св. Франциска Ассизского, опоясывается верев¬
кой Нищих Братьев.
222
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Первый светский учитель Данте — ранний гуманист, Бру-
нетто Латини. вольнодумный философ.
И в Бога я не верил,
И Церкви я не чтил;
Словами и делами
Я оскорблял ее.7
Брунетто читает с Данте Вергилия и говорит ему о славе
великих древних поэтов.
Коль будёшь верен ты своей звезде,
То и тебе откроет двери Слава.8
Запечатлен во мне навеки, сэр Брунетто,
Ваш дорогой, любезный, отчий лик.
Тому меня вы первый научили,
Как человек становится бессмертным.9
Отроку Данте надо сделать выбор между двумя бессмерт¬
ными, небесным и земным, — между двумя путями, — вслед
за Франциском Ассизским или за «божественным» Вергилием.
После первой встречи с Беатриче, «бог Любви воцарился
в моей душе так, что я вынужден был исполнять все его желания.
Много раз повелевал он мне увидеть этого юнейшего Ангела»10.
Отрок Данте видит Биче и говорит с нею все в той же длин¬
ной черной тени, откинутой утренним солнцем от башни дэлла
Кастанья на белую площадь Сан Мартино.
Сэр Алигьери заключает у нотариуса письменный договор
с ближайшим соседом своим, Манетто Донати, о помолвке
сына с маленькой двенадцати летней дочерью Манетто, Джем-
люй. Данте знал ее давно, раньше, чем Беатриче, потому что
они жили почти под одною кровлею, в двух соседних домах,
разделенных только небольшим двором, видятся постоянно,
вместе игрывали и беседовали на той же солнечно-белой площа¬
ди, в той же черной тени от башни, где встречался он и с Биче.
Но в день помолвки, глядя на Джемму, эту знакомую, мило¬
видную, но почему-то ему опостылевшую, скучную девочку,
он вспоминает ту, другую, единственно ему родную и желан¬
ную, — Биче.
Данте
223
II
ПОЖИРАЕМОЕ СЕРДЦЕ
1
Флорентийские празднества «бога Любви», Signor Amore,
происходят в том самом году, когда этот бог явился впервые во¬
семнадцатилетнему юноше, Данте.
«В 1283-м году от Р. [ождества] Х.[ристова], в месяце
Июне, в Иванов день, в городе Флоренции, бывшем тогда в ве¬
ликом спокойствии, мире и благополучии, благодаря торговле
и ремеслам, — многие благородные дамы и рыцари, все в белых
одеждах, шествуя по улицам, с трубами и многими другими му¬
зыкальными орудиями, чествовали в играх, весельях, плясках
и празднествах, того Владыку, чье имя: «бог Любви». И празд¬
новалось то празднество около двух месяцев, и было благород¬
нейшим и знаменитейшим из всех, какие бывали когда-либо
во Флоренции. Прибыли же на него и из чужих земель многие
благородные люди и игрецы-скоморохи, и приняты были все
с великим почетом и ласкою».
В эти дни вся Флоренция — город влюбленных юношей и де¬
вушек, таких же, как Данте и Беатриче.
«Ровно через девять лет после первого явления той Благо¬
роднейшей, gentilissima, она явилась мне снова, в одежде бе¬
лейшего цвета, между двумя благородными дамами старшего
возраста, и, проходя по улице, обратила глаза свои в ту сторо¬
ну, где я стоял, в великом страхе, и с несказанного милостью
поклонилась мне так, что я, казалось, достиг предела блажен¬
ства».
Я, прежде чем Ее мои глаза
Увидели, — уже по тайной силе,
Что исходила от Нее, — узнал,
Какую все еще имеет власть.
Моя любовь к Ней древняя, как мир.11
— Помните, Данте, белую розу? — спрашивает его, подойдя
к нему, Беатриче.
224
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Белая Роза — алая кровь;
Солнце на небе — в сердце любовь, —
хочет он ответить и не может. И она уходит медленно, огля¬
дываясь на него с такой улыбкою, что он бледнеет, дрожит
и едва не лишается чувств.
2
«Вне себя, я бежал от людей в уединенную келью мою и начал
думать об этой Любезнейшей. И в мыслях этих, нашел на меня
тишайший сон, й посетило меня чудесное видение: как бы ог¬
нецветное облако, внутри его образ Владыки, бога Любви,
Signor Amore, с лицом для меня ужасным; но, сам в себе, ка¬
зался он радостным; и понял я из многого, что он мне говорил,
только одно: <-Я — твой владыка. Ego dominus tuus». И уви¬
дел я, что девушка спала на руках его, вся обнаженная, только
в прозрачнейшей ткани цвета крови. И в одной руке держал он
что-то, горевшее пламенем, и сказал мне так?
— Вот сердце твое! Vide cor tuum!
«И, подождав немного, он разбудил спящую и принудил
вкусить от того, что пламенело в руке его. И она вкушала, в со¬
мнении. Вскоре же после того, радость его обратилась в плач,
и, подняв на руках девушку, он вознесся с ней на небо. Я же
почувствовал такую скорбь, что легкий сон мой вынести ее
не мог, — проснулся»12.
3
Стоя у открытого окна, за письменным поставцом-аналоем,
Данте пишет первые стихи:
Всякой любящей душе и благородному сердцу...
Привет, в их Владыке, чье имя: Любовь.
A ciascun’alma presa е qentil core...
Salute in lor segnor, cioè Amore.13
... Я один из тех,
Кто слушает, что говорит в их сердце
Любовь, и пишет то, что слышит.14
Данте
225
Пальцы у него в чернилах, как у школ яра-схоластика, но дро¬
жат от волнения, когда пишут стройными, длинными и тонки¬
ми, на него самого похожими, буквами «сладкие речи любви».
Сухо шелестят страницы пыльных, старых книг; но подымает
их, веющий из окна, душисто-влажный, как поцелуй любви,
весенний ветер. В ясном небе горит Звезда Любви, а на зем¬
ле — розово-серая туманность, жемчужность раннего летнего
утра, и та же в ней грусть о недолговечности всех радостей зем¬
ных, как и в детски-испуганных глазах «Весны» Боттичелли,
«Primavera»15.
Лицо у Данте такое, как на портрете Джиотто: полузакры¬
тые, как у человека засыпающего или только что проснувшего¬
ся, глаза; в призрачно-прозрачном, отрочески-девичьем лице —
неисцелимая грусть и покорная жертвенность, как у любящего,
чье сердце пожираемо возлюбленной; губы бескровны, точно
всю кровь из жил высосал жадный вампир — сладкий и страш¬
ный бог-демон Любви.
III
МУЖ БЕАТРИЧЕ
1
Первый друг и учитель Данте в поэзии, Гвидо Кавалькан¬
ти., лучший Флорентийский поэт тех дней, прекрасный юноша,
благородный рыцарь, любезный и отважный, но гордый и не¬
людимый, весь погруженный в науку, говорит Данте о том, что
Биче Портинари выдана замуж за мессера Симоне де Барди,
уже немолодого вдовца из вельможного рода богатейших Фло¬
рентийских купцов и менял.
Фолько Портинари, выдавая за него дочь, так же хотел ей до¬
бра, как отец Данте — сыну, совершая помолвку его с Джеммой
Донати. Семнадцатилетняя Биче, выходя замуж, знала немно¬
гим больше, что с нею делается, чем помолвленный двенадца¬
тилетний Данте. Но теперь он уже это знает и за себя и за нее.
Сколько бы ни затыкал ушей, не может не слышать нового ее,
чужого имени: «монна Биче де Барди» ; сколько бы ни закрывал
глаз, не может не видеть, как входит невеста в брачный покой
226
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
жениха в великолепном дворце-крепости де Барди, с толстыми,
точно тюремными, стенами, в далеком квартале за Арно, у мо¬
ста Рубаконте; и как бы ни хотел умереть или сойти с ума, чтобы
не думать, — все-таки думает о том, что было с нею, когда она
туда вошла.
Однажды ночью, встретив на пустынной улице мессера Си¬
моне де Барди и видя, как вельможный меняла кланяется ему,
бедному школяру-стихотворцу, с насмешливо преувеличенной
любезностью, Данте, сжимая рукоять ножа, спрятанного под
одеждой, у пояса-веревки св. Франциска, чувствует, с каким на¬
слаждением вонзил оы нож в сердце Беатричина мужа, и в то же
время знает, что если он этого не сделает, то вовсе не потому,
что, как св. Франциск, прощает врагу.
2
Утром на следующий день, исповедуясь духовнику своему,
брату Убертино да Казале16, Данте кается в этом мысленном
человекоубийстве. Брат Убертино рассказывает ему легенду
об искушении св. Франциска Ассизского, и Данте видит рас¬
сказанное в видении.
Зимнею ночью, в лютую стужу, когда молился однажды
Франциск в келье своей, диавол разжег в нем лютую похоть.
Скинув одежду, святой начал себя бичевать по голому телу по¬
ясом-веревкой. Падает удар за ударом, но похоть от них толь¬
ко лютеет. Жало бича впивается, как жало поцелуев, в облитое
кровью тело, — чем больнее, тем слаще. И диавол торжествует
над святым. Тот кидается к двери и выбегает в сад, как человек,
за которым гонится враг по пятам.
Юный послушник, стоя на молитве в соседней келье, глянул
в окно и, хотя в саду от яркой луны светло, почти как днем, —
сразу не понимает того, что видит: прыгает, пляшет, как ка¬
натный плясун, в снежном сугробе, или валяется в нем голый
человек, и на теле его, голубом от луны, выступают черные по¬
лосы. «Диавол!» — шепчет послушник и вдруг узнает Блажен¬
ного и понимает, что черные полосы на теле — кровавые. Вы¬
йдя потихоньку из кельи, послушник вгляделся и вслушался.
Снегу набирая в пригоршни, что-то бормоча и как будто смеясь,
лепит Франциск снежные куклы, мужские и женские. Вылепив
Данте
227
их семь, говорит: «Видишь, Франциск: эта большая средняя, —
жена твоя; эти четыре поменьше, — два сынка твои и две дочки,
а те две, позади, — слуга и служанка. Видишь, как им, беднень¬
ким, холодно? Надо их скорее одеть и согреть...
Если же скучно и тошно тебе от стольких забот, — уйди
от них, забудь их и радуйся, что служишь Единому Господу! »
— «Так же и ты, радуйся, Данте, что в чистоте непорочного
девства Единому Господу служишь! — заключает брат Уберти-
но. — Ступай же с миром, сын мой, и помни, что пояс-веревка
св. Франциска спасет тебя от всех искушений плотских и со дна
адова вытащит! »
IV
ДАМА ЩИТА
1
Ранняя Флорентийская весна, такая же, как на картине Бот¬
тичелли Primavera. Роща молодых тополей, на берегу Арно,
сквозит на утреннем солнце прозрачною зеленью. Грустному ку¬
кованью кукушки отвечает далекая пастушья свирель за рекой.
Данте и Гвидо Кавальканти, гуляя в роще, беседуют о но¬
вом «веселом звании» gaia scienza, возвещаемом на Прован¬
сальских «Судах Любви»17. Cours d’Amour, бродячими певцами,
труверами и трубадурами.
— Лучший бальзам на раны сердца твоего, мой друг, — это
«веселое звание», — говорит Кавальканти, по своему обыкно¬
вению, так насмешливо-двусмысленно, как будто сам не верит
тому, что говорит. — Истинной любви не может быть между
супругами, потому что брачная любовь и та, которая соединяет
истинных любовников, исходят из различнейших чувств.18 Са¬
мая блаженная и огненная — любовь издалека, amour da lungi,
а плотская похоть в браке есть начало греха и смерти. Еву познав,
умер Адам. Выбери же одно из двух, земную любовь или небес¬
ную, чтобы не мучаться так и не презирать себя за эти напрасные
муки. О сколько раз к тебе я приходил, но видел я тебя в столь
низких мыслях, что твоего высокого ума и сил потерянных мне
было жалко! Чтобы человек, молодой и влюбленный в женщину
228
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
так, что бледнеет и краснеет, завидев ее только издали на улице,
а когда она к нему подходит, убегает, боясь лишиться чувств, —
чтобы такой возлюбленный ничего от любимой не пожелал, кро¬
ме мимолетного приветствия, — этому люди никогда не поверят;
веришь ли ты этому сам? Не слишком ли торопишься сделать
из земной женщины Ангела, не спрашивая, хочет ли она это¬
го сама? Но сколько бы ни делал из нее Ангела, ты не можешь
не знать, что муж входит в спальню не к Ангелу, а к женщине...
Гвидо сообщает Данте заповедь новой любви — нерушимую
тайну:
— Узнанная любовь не приносит чести любовнику, потому
что омрачает ее дурными слухами, так что он жалеет, что не ута¬
ил ее от людей. Тайне истинной любви служит мнимая, к Даме
Щита, Donna Schermo. Верен будь этой заповеди, и ты изба¬
вишься от бесполезных мук...
— Вот как просто! — усмехается Данте. — И овцы целы
и волки сыты. Всех обману, в том числе и Даму Щита. Как бы
эта игра в мнимую любовь не оказалась опасной для истинной!
— Волков бояться — в лес не ходить! — смеется и Гвидо.
2
Лунная ночь над Флоренцией. Вилла Фрескобальди, на скло¬
нах горы Фьезоле. В черной тени кипарисов кружатся светля¬
ки, как свечи невидимых Ангелов. Редкие, тихие капли падают
из мшистой раковины в водоем, как тихие слезы.
Сидя вокруг фонтана в саду, молодые дамы беседуют, в род¬
ном из тех собраний, которые при дворах Провансальских владе¬
тельных князей, называются «Судами Любви», Cours d’Amour.
Слышится далекая песня под звуки виолы. Музыкант Казел-
ла поет стихи Данте.
Любовь с моей душою говорит...
Но слов любви мой ум не понимает
Amor che ne la mente mi radiona...
cióche lo mio intelletto non comprende.
— Как хорошо, Господи, как хорошо! Лучше не поют и анге¬
лы в раю, — восхищается одна из дам.
Данте
229
— Чьи это стихи? — спрашивает другая.
— Данте.
— Удивительно, как такой низкий человек мог сочинить та¬
кие стихи!
— Почему же низкий?
— Потому что любит двух.
— Что за беда? Двух любить не только можно, но и должно,
по законодательству новой любви: муж любит жену и любовни¬
цу, и жена — мужа и любовника. Не для того ли нужны Дамы
Щита?
— Бедная монна Биче! Надо бы ее остеречь...
— Будьте покойны — не слепая: видит, с кем имеет дело!
— А любопытно было бы знать, кто кому служит щитом, —
монна Ладжия19 монне Биче, или наоборот...
— Сами, должно быть, не знают. Ох, уж эта мне новая лю¬
бовь! Погибнет от нее когда-нибудь наш бедный город, как Со¬
дом и Гоморра20!
— Кажется и без новой любви погибает...
А вот и она, легка на помине!
Медленно проходит Беатриче, вся в белом, только на гру¬
ди — алая роза, похожая, в лунном свете, на рану с черной
запекшейся кровью.
3
В темной глубине сада, в беседке из розовых кустов, стоя
на коленях перед монной Ладжией, Дамой щита, Данте читает
стихи:
Любовь с моей душою говорит...
Но слов любви мой ум не понимает...
Тихо осыпаясь от ночного ветра, падают к ногам его, как
снег, лепестки белых роз.
Медленно проходит мимо беседки Беатриче, с закрытыми
глазами, точно во сне. Вдруг останавливается, как будто при¬
слушиваясь, и потом идет дальше. Алая роза, при лунном свете,
на ее груди, чернеет, как рана с черной запекшейся кровью.
230
Д, С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
V
БОГ ЛЮБВИ — ГЕОМЕТР
1
«Начали глаза мои слишком услаждаться видом ее (Дамы
Щита), и часто я мучился этим, потому что это мне казалось
очень низким». — «Может быть, эта благородная Дама послана
мне самим богом Любви для того, чтобы мне утешиться», — ду¬
мал я часто, и сердце мое соглашалось на это. Но едва согласив¬
шись, говорило: «Боже мой, что это за низость?» Так я боролся
с самим собою, но знал об этой борьбе только тот несчастный,
который мучился в ней. И слишком многие стали о том гово¬
рить больше, чем должно, по законам любви, oltre li termini de
la cortesia, и это было мне так тяжело, что я не мог вынести».21
«И по причине молвы, бесчестившей меня, эта Благороднейшая,
разрушительница всех пороков и царица добродетели, проходя
однажды мимо меня, отказала мне в своем приветствии, в кото¬
ром заключалось все мое блаженство»22.
Молча, глазами, спросил он ее, как всегда: «Можно любить? »
и она ответила, тоже молча, но не так, как всегда: «Нет, нель¬
зя!» И точно земля под ним разверзлась, небо на него обруши¬
лось, от этих двух слов, когда он понял, что они значат: «Если
ты хочешь любить двух, я не хочу быть одною из двух! »
2
...»И почувствовал я такую скорбь, что, бежав от людей туда,
где никто не мог меня видеть, начал горько плакать. Когда же
плач немного затих, я вернулся домой, в комнату мою, где жа¬
лоб моих никто не слышал. И начал снова плакать, говоря:
«Любовь, помоги! » И, плача, я уснул, как маленький прибитый
мальчик. И увидел во сне юношу, в белых одеждах, сидевшего
на моей постели. И мне казалось, что он смотрит на меня, о чем-
то глубоко задумавшись. И потом, вздохнув, он сказал:
— Сын мой, кончить пора наши притворства!
«И мне показалось, что я знаю его, потому что он назвал меня
так, как часто называл в сновиденьях. И, вглядевшись, я уви¬
дел, что он горько плачет».
Данте
231
Этот юноша в «белейших одеждах», таких же, как у Беатри¬
че, «Владыка с ужасным лицом», Ангел, бог или демон Любви,
тоже плачет, «как маленький прибитый мальчик» — сам Дан¬
те; он и лицом похож на него, как двойник.
— «Ия спросил его: «О чем ты плачешь, Господин?» —
«Я — как бы в центре круга, находящийся в равном расстоянии
от всех точек окружности, а ты — не так» — ответил он».
Циркуль, вместо Факела, — в руке у этого демона — бога
Любви: меряет божественный Геометр круг любви — круг веч¬
ности.
Я был тому геометру подобен,
Который ищет квадратуры круга
И не находит...
Вдруг молнией был поражен мой ум, —
Я понял все, но в тот же миг,
Потухло все в уме изнеможенном.23
«...И я сказал: «Зачем ты говоришь так непонятно?» И он
в ответ: «Не спрашивай больше, чем должно »...Тогда, заговорив
об отказанном мне приветствии, я спросил его о причине отказа,
и он сказал мне так: «Беатриче наша любимая узнала, что ты до¬
кучаешь той Даме Щита: вот почему, не любя докучных людей
и боясь, что ты будешь и ей докучать, не удостоила она тебя при¬
ветствием. Знает она, что дух скуки овладел твоей униженной ду¬
шой, как у тех малодушных, отвергнутых небом и адом, которых
ты некогда так презирал, и один из которых теперь — ты сам»24.
3
Кто-то из друзей Данте приводит его в дом, где многие бла¬
городные дамы собрались к новобрачной, ибо в том городе был
обычай, чтоб невестины подруги служили ей, когда впервые са¬
дилась она за стол жениха.
— Зачем ты меня привел? — спрашивает Данте.
— Чтобы послужить этим дамам, — отвечает друг.
«Желая ему угодить, я решил им служить вместе с ним.
Но, только что я это решил, как почувствовал сильнейшую
дрожь, внезапно начавшуюся в левой стороне груди и распро¬
232
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
странившуюся по всему телу моему. Я прислонился к стенной
росписи, окружавшей всю комнату, и боясь, чтобы кто-нибудь
не заметил, как я дрожу. — поднял глаза и, взглянув на них,
увидел среди них Беатриче и едва не лишился чувств. Многие
дамы, заметив то, удивились и начали смеяться надо мной...
Тогда мой друг, взяв меня за руку, вывел оттуда и спросил, что
со мной... И, придя немного в себя, я ответил: «Я был уже одной
ногою там, откуда нет возврата»... И, оставив его, я вернулся до¬
мой, в комнату слез, где, плача от стыда, говорил: «О если бы
Дама эта знала чувства мои, она не посмеялась бы надо мной,
а пожалела бы меня!»25
Душа моя, гонимая любовью,
уходит из жизни этой, плача...
Но та, кто столько сделала мне зла,
подняв убийственные очи, говорит:
«Ступай, ступай, несчастный, уходи!» —
...Смехом ее убивается жалость...26
Сладкие стихи любви мне должно оставить
навек, потому что, явленные в ней
презренье и жестокость
замыкают уста мои.
...Долго таил я рану мою ото всех;
теперь она открылась перед всеми:
я умираю из-за той,
чье сладостное имя: Беатриче...
Я смерть мою прощаю той,
Кто жалости ко мне не знала никогда!
VI
СМЕРТЬ БЕАТРИЧЕ
1
Летняя звездная ночь смотрит в окно сквозь толстые чугунные
решетки мрачного дворца-крепости рода де Барди, вельможных
менял. На постели, под великолепным парчовым пологом, лежит
Данте
233
больная Беатриче. Монна Ванна21, сестра ее, входит в спальню
и, подойдя к Беатриче, подает ей письмо. Та, при свете лампады,
теплящейся перед иконой Богоматери, читает стихи Данте.
Столько же, как прежде, казалась мне любовь
жестокой,
кажется она теперь милосердной...
и чувствует душа моя такую в ней сладость,
что об одном только молит любимую, —
дать ей больше этого блаженства,28
Беатриче целует листок, прячет его под подушку и говорит:
— Ванна, когда я умру, положи этот листок вместе со мною,
во гроб...
Да наградит Бог того, кто дал мне так любить и страдать!
Входит священник со Святыми Дарами и, по уходе монны
Ванны, исповедует умирающую. Хочет ее причастить, но она
делает знак, чтобы он наклонился, и шепчет ему на ухо:
— Есть у меня, отец, еще одно на сердце, о чем я никогда ни¬
кому из людей не говорила и о чем только Богу скажу: я любила
всю жизнь не мужа, а другого.
— Каешься ли ты в этом великом грехе, дочь моя?
— Нет, я не могу каяться в том, что не грех для меня, а свя¬
тыня.
— Может ли быть прелюбодеяние свято? Если не покаешь¬
ся, погибнешь...
— Нет, не погибну. Кто дал мне эту любовь, Тот и спасет.
— Я тебя причастить не могу, если не покаешься.
Умирающая смотрит на него молча, но так, что он понимает,
что если он ее не причастит, то она умрет без покаяния. Тоже
молча, отходит он в глубину комнаты, ставит чашу с Дарами
на аналой перед иконой Богоматери, падает на колени и молит¬
ся. Потом снова подходит к умирающей и говорит, осенив ее
крестным знаменем:
— Дева Матерь Пречистая берет тебя под свой святой по¬
кров: не я — Она сама тебя причастит...
Слышится утренний колокол Ave Maria. Монна Ванна вхо¬
дит в комнату. Так же как давеча — священнику, умирающая
делает ей знак, чтоб она наклонилась и шепчет ей на ухо:
234
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
— Скажи ему, что я его одного...
С тихой улыбкой, не кончив, закрывает глаза. Первый луч
солнца озаряет лицо ее, и монна Ванна, вглядевшись в него, уга¬
дывает то, что Беатриче хотела сказать: «Я его одного любила! »
2
Скорбь Данте, когда он узнает о смерти Беатриче, так вели¬
ка, что близкие думают, что он умрет или сойдет с ума. Весь ис¬
худалый, волосами обросший, сам на себя не похожий, так что
жалко было смотреть на него, сделался он как бы диким зверем
или страшилищем.29
Может быть, он и сам думает о смерти и хочет умереть.
Каждый раз, когда я вспоминаю о той,
кого уже никогда не увижу,
я зову к себе смерть,
как отдых блаженный.30
«Вскоре после того я тяжело заболел и начал бредить... И яв¬
лялись мне многие страшные образы, и все они говорили: «Ты
тоже умрешь... ты уже умер». И мне казалось, что солнце по¬
меркло, звезды плачут, и земля трясется. И когда я ужасался
тому, чей-то голос сказал мне: «разве ты еще не знаешь, что
Дама твоя умерла?» И я заплакал во сне, и сердце сказало мне:
«Воистину она умерла! » И тогда увидел я мертвое тело ее. И так
смиренно было лицо ее, что, казалось, говорило: «Всякого мира
я вижу начало»31.
3
Стоя у того же письменного поставца-аналоя, как три года на¬
зад, но уже не раннею весною, а позднею осенью, когда оконные
стекла затуманены, точно заплаканы, серым дождем, и желтые
листья осыпаются с деревьев, Данте, в полубреду, пишет тор¬
жественное, на латинском языке, «Послание ко всем Государям
земли», — не только Италии, но всего мира, потому что смерть
Беатриче — всемирное бедствие, знамение гнева Божия на весь
человеческий род:
Данте
235
«...Ее похитил не холод, не жар, как других людей похища¬
ет, но взял ее Господь к Себе, потому что скучная наша земля
недостойна была такой красоты...»32 «Как одиноко стоит Город,
некогда многолюдный, великий между городами! Он стал как
вдова»33.
Город этот потерял свое Блаженство (Беатриче),
и то, что я могу сказать о нем,
заставило бы плакать всех людей.34
«Скорбный город», Citta Dolente, для него не только Флорен¬
ция, но и вся Италия — весь мир.
В скорбный Город входят через меня,
Per me si va nella Città Dolente, —
эти слова, написанные черным, он видит на челе ворот, веду¬
щих в Ад.
VII
ДАНТЕ С ДЕВЧОНКАМИ
1
Зимняя ненастная ночь. Спальня в старом доме Алигьери,
на Сан-Мартиновой площади. В темной глубине комнаты —
огромная, похожая на катафалк, двуспальная постель. Данте
сидит у потухшего очага, с древним рыцарским гербом — по¬
тускневшим золотым крылом в лазурном поле. Джем-ма, бере¬
менная, сидя у стола с нагоревшей свечой, шьет пеленки. Ветер
стучит в ставни и воет в трубе очага.
Данте встает и потягивается, заломив пальцы над головою,
так что кости в суставах трещат и говорит, зевая:
— Девять, кажется, у Бадии пробило. Ну, я пойду...
— Куда? — спрашивает Джемма, не подымая глаз от шитья.
— Сколько раз тебе говорить? К Лотто Кавалино ростовщи¬
ку. Сто флоринов, по сорока процентов, на шесть месяцев.
236
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
— Сорок процентов! Ах, жид окаянный, чтоб ему свинца
расплавленного в глотку! Ну да ладно, можешь и не ходить, дело
сделано.
Молча, неторопливо встает, откладывает шитье, втыкает
в него иголку, снимает наперсток, подходит к железному лар¬
цу у изголовья постели, отпирает его и, вынув туго набитый ко¬
шель, подает его Данте, а когда тот не берет, — кладет его ря¬
дом с ним, на скамью, и, все так же неторопливо вернувшись
к столу, принимается опять за работу.
— Пересчитай, 480 флоринов, по пяти процентов на год. Ба¬
тюшка мой поручился. Едва упросила. Это последние, больше
достать не могу. Долгу за три года 1.998 флоринов 59 сольдов.
Если дальше так пойдет, по уши залезешь в долги и никогда
не вылезешь, пустишь детей по миру.
Данте, взглянув на кошель, качает головой.
— Нет, этих денег я не возьму! Лучше дьяволу душу про¬
дать, чем таким двум ангелам, как вы с батюшкой...
— Что говорить пустое, еще как возьмешь! Деньги эти тебе
до зарезу нужны, сам знаешь на что.
— На что же?
— Коли забыл, братец мой милый напомнит, мессер Форезе
Донати: цену золотых ожерелий модной французской работы,
что нравятся девчонкам, он хорошо знает...
Данте снова потягивается, зевая.
— Какая скука, Господи, какая скука! Сколько лет одно
и то же! Как тебе самой не надоест...
Джемма, закрыв лицо руками, всхлипывает; потом уходит
в глубину комнаты, кладет голову на край постели и, уткнув¬
шись в нее лицом, плачет навзрыд. Данте, крадучись как вор,
проходит мимо нее к двери, открывает ее потихоньку и сходит
по лестнице. Джемма, услышав, как скрипнула дверь, кидается
к ней и кричит:
— Данте! Данте! Данте!
Ей никто не отвечает; только внизу хлопает с гулом вход¬
ная дверь, и стучит на ней железный засов. Ветер воет в трубе.
В темной комнате, при свете гаснущей свечи, двуспальная по¬
стель похожа на огромный катафалк.
Данте
237
2
Скверная харчевня под вывеской Черного Кота, у Фло¬
рентийских боен. Главные завсегдатаи харчевни — мясники
и фальшивомонетчики.
Данте и Форезе Донати, Джеммин брат, спутник всех Дан-
товых любовных похождений за «девчонками». Сидят за пу¬
стым длинным столом; только на другом конце его уснувший
пьяница, опустив на стол голову, храпит. Юркий старичок-хо¬
зяин, похожий на мертвого высохшего паука, суетясь, подлива¬
ет вина в стаканы. Данте к нему не прикасается, но Форезе пьет
за двоих.
— Кой же черт тебя дернул жениться? — спрашивает он, до¬
пивая третий стакан.
— Не черт, а черти, — дядюшки, тетушки, мамушки, бабуш¬
ки, — все обступили, заговорили и женили. Лучшее, будто бы,
лекарство от любви к чужой жене — своя. Но лекарство оказа¬
лось хуже болезни. Только одного искал я всю жизнь — тени,
тишины и молчания, — и вот что нашел. Царь Давид перепили¬
вал пленников деревянной пилой, а она меня — добродетелью...
— Бедная Джемма! Ты не думай, Данте, я ее потому жалею,
что брат, — и чужому было бы жалко. Сколько лет видела, что
ты любишь другую, слушала сладкие речи любви, сказанные
не ей, а другой! Этого довольно было бы для всякой женщины,
даже ангела, чтобы сделаться дьяволом...
— Знаю все, не говори... О, тяжко, тяжко вспомнить, какую
жизнь мы с тобою вели!.. Вещий сон приснился мне однаж¬
ды: только что выйдя из темного дикого леса, преддверия ада,
вижу, будто бы Пантера быстрая, легкая, ласковая, псе забега¬
ет вперед и заглядывает мне в глаза, преграждая путь, и я уже
хочу вернуться назад. Но весеннее утро так нежно, солнце всхо¬
дит так ясно, и пестрая шкура Пантеры так весела, что я почти
не боюсь... Знаешь, кто эта Пантера?
— Кто же?
— Сладострастная похоть. Похотью сплошной была вся моя
жизнь. С девятилетнего возраста я уже любил и знал, как взнуз¬
дывает нас Любовь и шпорит, и как под ней мы плачем и сме¬
емся. Кому в бока она вонзает шпоры, тот принужден за новым
счастьем гнаться, каким бы ни было оно презренным... Здесь,
238
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
в похоти, небо с землей, дух с плотью уже не борются; здесь бог
Любви строит мосты не между землей и небом, а между небом
и адом... Самое страшное не то, что я изменял Беатриче с одной
из многих девчонок, а то, что я люблю их обеих вместе. Только
пел неземную любовь, как начинал петь совсем иную, нечистую.
Страшная война противоречивейших мыслей и чувств, высо¬
ких, святых и грешных, низких кончалась миром, еще более
страшным. Пестрая, гладкая шкура Пантеры нежно лоснилась
под утренним солнцем, и светлые пятна чередовались с темны¬
ми так, что смотреть на них было весело. Нравилось мне это
смешение светлого с темным, небесного с подземным, — полета
с падением. В ласковом мяуканья Пантеры слышалось: «Брось¬
ся вниз с выси духа в бездну плоти, и Ангелы или демоны по¬
несут тебя на руках своих, да не преткнешься о камень ногою
твоею»... Вот сердце мое, Господи, вот сердце мое, пусть скажет
оно Тебе, чего искало в этом бескорыстном зле — зле ради зла!
Гнусно было зло, но я его хотел; я любил себя губить; любил мой
грех, — не то, ради чего грешил, а самый грех. Гнусная душа
моя низвергалась с неба Твоего, Господи, во тьму кромешную.
Сладко мне было преступать закон и, будучи рабом, казаться
свободным, в темном подобии всемогущества Божия...
Вздрогнув, точно проснувшись, Данте оглядывается на тол¬
стую, похожую на огромную жабу, старуху, монну Стригу, ко¬
торая подкрадывается сзади к Форезе. Тот немного отойдя, шеп¬
чется с ней.
— Тридцать флоринов за каждую, больше не дам. Думаешь,
старая ведьма, что я забыл, как намедни ты нас обманула, вы¬
дав одну девчонку за другую, кукушку за ястреба?
— Ну ладно, ладно, миленький, торговаться не буду, сам не¬
бось прибавишь, как увидишь товар. Этакая девчонка и королю
французскому не снилась, пальчики оближешь!
Монна Стрига ведет Данте и Форезе по крутой, зловонной
лестнице, в верхнее жилье, где ждут их, на площадке, две мо¬
нахини в черных рясах и низко на лица надвинутых куколях.
В дверь направо входит, с одной из них, Форезе, а с другой, на¬
лево, Данте.
Данте
239
3
Низкая каморка на чердаке, где пахнет мышами и затхлою
сыростью. В темной глубине комнаты — такая же двуспальная
постель, похожая на катафалк, как в доме Алигьери. Скинув
черную рясу и куколь, печальная монахиня превращается в ве¬
селую девочку, как темная куколка в светлую бабочку. Голое
тело сквозит сквозь прозрачную ткань так же, как тело Беатри¬
че, в видении Пожираемого Сердца.
Девочка садится на край стола, закинув ногу за ногу, и нали¬
вает вино в стакан.
— Точно кровь! — говорит, глядя на вино сквозь огонь све¬
чи. — А ты что же не пьешь?
— Я вина не пью.
— Вот умный мальчик, вина не пьет и не целует девочек!
Да что ты такой невеселый? Или монна Ведьма сглазила?
— Как тебя звать?
— Много у меня имен: Виолетта, Лизетта, Перголетта, Беа¬
триче... Знаешь, как девочки в цветочных масках, что на играх
бога Любви, водят хоровод спрашивают мальчиков: «Кто мы
такие? Кто мы такие? Свои или чужие? Угадайте, — полюбим
и чужих, как своих! »
Взяв лютню со стола, тихонько перебирает струны и поет:
Любовь с моей душою говорит,
Но слов любви мой ум не понимает...
— Чья это песенка, знаешь?
— Нет, не знаю.
— Данте к Беатриче. А вот и другая, тоже к ней. Удивитель¬
но, что один одной две такие песни мог сочинить!
О, если бы она, в кипящем масле,
Вопила так из-за меня, как я —
Из-за нее, я закричал бы ей:
«Сейчас, сейчас иду к тебе на помощь!»
О, только б мне схватить ее за косы,
Что сделались бичом моим и плетью, —
Уж я бы их не выпустил из рук,
От часа третьего до поздней ночи,
И был бы с ней не жалостлив и нежен,
240
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
А, как медведь играющий, жесток!
И если б до крови меня Любовь избила, —
Я отомстил бы ей тысячекратно,
И в те глаза, чье пламя сердце мне
Испепелило, я глядел бы прямо
И жадно; мукой бы сначала муку,
Потом любовь любовью утолил!
Вдруг, соскочив со стола, садится к нему на колени, обнима¬
ет его и целует, смеясь.
— Да ну же, ну, что же ты не играешь, медведь?
Раннее темное утро. Девочка спит на постели. Данте подхо¬
дит к окну и открывает ставни. Пламя свечи бледнеет на солнце.
Красное вино, разлитое на столе, кажется лужею крови.
Данте зевает, потягивается, заломив руки над головою так,
что суставы на пальцах трещат.
— Какая скука, Господи, какая скука!
Слышится далекий колокол Ave Maria. В светлеющем небе
горит Звезда Любви.
4
ВИДЕНИЕ БЕАТРИЧЕ
... Как розовое солнце на востоке...
Является сквозь утренний туман...
Так Женщина сквозь облако цветов.
Что отовсюду Ангелы кидали,
Явилась мне, венчанная оливой,
В покрове белом и плаще зеленом
На ризе алой, как живое пламя.
И после стольких, стольких лет разлуки,
В которые отвыкла умирать,
Душа моя в блаженстве перед нею,
Я, прежде чем ее мои глаза
Увидели, уже по тайной силе,
Что исходила от нее, — узнал,
Какую все еще имеет власть
Моя любовь к ней, древняя, как мир...
Данте
241
...Я потрясен был и теперь, как в детстве,
Когда ее увидел в первый раз.
И обратясь к Вергилию, с таким же
Доверием, с каким дитя, в испуге
Или в печали, к матери бежит, —
Я так сказал ему: «Я весь дрожу,
Вся кровь моя оледенела в жилах;
Я древнюю любовь мою узнал! »
Но не было Вергилия со мной,
Ушел отец сладчайший мой, Вергилий,
Кому мое спасенье поручила
Владычица моя. И все, что видел
Я здесь, в земном раю, не помешало
Слезам облить мои сухие щеки,
И потемнеть от них лицу. — «О Данте!
О том, что от тебя ушел Вергилий,
Не плачь: сейчас ты о другом заплачешь! »
Она сказала, и еще не видя
Ее лица, по голосу я понял,
Что говорит она, как тот, кто подавляет
Свой гнев, чтоб волю дать ему потом.
«Не узнаешь? Смотри, смотри же: это я,
Я, Беатриче!» И, потупив очи,
Увидел я, как отразилось в светлой
Воде источника мое лицо,
Горевшее таким стыдом, что взоры
Я от него отвел. Такой суровой,
Как сыну провинившемуся — мать,
Она казалась мне, когда я ощутил
Вкус горькой жалости в ее любви.
Вдруг Ангелы запели...
«Зачем его казнишь ты так жестоко?»
Послышалось мне в этой тихой песне.
И Ангелам ответила она:
«Дано ему так много было свыше,
Что мог бы он великого достигнуть.
Но чем земля тучней, тем злее злое семя.
Недолго я могла очарованьем
Невинного лица и детских глаз
242
Д. С, МЕРЕЖКОВСКИЙ
Вести его по верному пути.
Как только что я эту жизнь на ту
Переменила, он меня покинул
И сердце отдал женщине другой.
Когда, от плоти к духу возносясь,
Я сделалась прекрасной и могучей,
То для него уже немилой стала,
И, обратив шаги на путь неправый,
Погнался он за призраками благ,
Что не дают того, что обещают.
Напрасно, в вещих снах и вдохновеньях,
Я говорила с ним, звала его,
Остерегала, — он меня не слушал
И презирал...
И, наконец, так низко пал. что средства
Иного не было его спасти,
Как показать ему погибших племя...
Я для того сошла с преддверья Ада,
К тому, кто должен был вести его на небо,
И, горько плача, за него молила...
О, ты. на берегу ином стоящий,
Скажи, права я или нет?» —
Вонзая в сердце острие ножа,
Чей даже край его так больно резал, —
Она меня спросила, но в таком
Я был смятеньи, что не мог ответить,
И лишь стыдом и страхом, поневоле,
Такое «да» исторглось у меня,
Что мало было слуха, — глаз был нужен,
Чтоб по движенью губ его увидеть...
И голос мой рыданья заглушили...
«Какими был цепями ты окован?»
Она заговорила, помолчав, —
«Какие рвы тебе идти мешали,
Куда звала тебя моя любовь? » —
«Мирских сует соблазны извратили
Мой путь, когда вы скрыли от меня лицо», —
Пролепетал чуть слышно я сквозь слезы.
Тогда она: «Не плачь, а слушай: верный путь
Данте
243
Тебе указан был моею смертью.
Не мог найти в природе и в искусстве
Ты ничего по высоте блаженства,
Подобного моим прекрасным членам,
Рассыпавшимся ныне в прах и тлен.
Но если, и в таком блаженстве, смертью
Ты был обманут, чем еще земным
Ты мог бы соблазниться? Пораженный
Земных обманов первою стрелой,
Ты должен был свой путь направить к небу,
От смертного, вослед за мной, бессмертной,
Не опуская крыльев в дольный прах,
Чтоб новых ждать соблазнов от девчонок
Или иных сует ничтожных мира.
Попасться может глупый птенчик дважды
И трижды в сеть, но старым умным птицам
Ни сеть ловца, ни лук уже не страшен...»
Как виноватый мальчик — перед старшим, —
Глаза потупив молча от стыда,
Я перед ней стоял. — «Что, больно слушать?
Так подыми же бороду, в глаза
Мне посмотри, — еще больнее будет»,
Она сказала. Налетевшей буре,
Когда она с корнями дубы рвет, —
Противится из них крепчайший меньше,
Чем я, когда к ней подымал лицо
И чувствовал, какой был яд насмешки в том,
Что бородою назвала мое лицо.
И между тем, как смутными очами
Я на нее смотрел, казалось мне,
Что красотою новой здесь, на небе,
Она себя превосходила, так же,
Как на земле — всех жен земных когда-то.
И жало угрызения мне сердце
Пронзило так, что все, что я любил
Не в ней одной, я вдруг возненавидел.
И боль такая растерзала душу,
Что я упал без чувств, и что со мною было,
Она одна лишь знает.35
244
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
VIII
РАЗДЕЛЕННЫЙ ГОРОД
1
Темной синевой синеет утреннее небо между желто-серыми
зубчатыми стенами Барджелло. Встретившись на площадке
лестницы, идущей со двора в большую палату Совета, Данте
и старый учитель его Брунетто Латини, бывший канцлер
Флорентийской Республики, беседуют.
— Можно тебя поздравить, мой друг? — спрашивает с на¬
смешливой улыбкой Брунетто. — Пришлось-таки записаться
в аптекари?
— Что же делать, учитель? Не было другого средства обой¬
ти новый закон, воспрещающий гражданам, не записанным
в цехи, исполнять государственные должности.
— Вот до чего мы дожили, Данте, неизвестный поэт, извест¬
ный аптекарь, на побегушках у Ее Величества Черни! Будет
побежден маленький Данте большим мясником Пэкорой! Над¬
вое разделился наш город между богатыми и бедными, «жир¬
ным городом» и «тощим», так что нет уже ни одного семейства,
не разделенного в самом себе, где брат не восставал бы на брата.
Но знаю: разделившись, земля спастись не может, и эта мысль
жестоко терзает мне сердце... Так премудры наши законы, что,
сделанное в середине ноября, не сходится с октябрьским нашим
делом. Уж сколько, сколько раз, за нашу память, меняли мы за¬
коны, обновляясь; но если б вспомнили все, что было, то поня¬
ли бы, что подобны тому больному, который, не находя покоя,
ворочается с боку на бок, на постели, чтобы обмануть болезнь...
Кажется, на край света бежал бы, чтобы этого больше не видеть!
— Некуда бежать, мессер Брунетто! Уже давно землей никто
не правит, — вот отчего во мраке, как слепой, род человеческий
блуждает. Эта чума идет оттуда, где каждый день продается
Христос, из логова Римской Волчицы36, что, в голоде своем не-
насытимом, лютее всех зверей. Волчья склока бедных с богаты¬
ми есть начало войны бесконечной. Люди с людьми, как волки
с волками, всюду грызутся, — только шерсть летит клочьями,
а падаль, из-за которой грызутся, — не только Флоренция,
Данте
245
но и вся Италия — весь мир. Да, некуда бежать, потому что весь
мир есть Город Разделенный, Город Плачевный, — Ад!
2
В сводчатой палате Совета рядом с часовней Барджелло, где
находится над алтарем писанный Джиотто портрет юного Дан¬
те. — сквозь разноцветные оконные стекла падают радужные
светы на крытый алым сукном, длинный стол, за которым про¬
исходит заседание Совета Ста, Consiglio dei Cento. Члены, Сове¬
та, Флорентийские купцы и менялы, цеховые консулы двух ве¬
ликих искусств Шерсти и Шелка, в четырехугольных красных
шапках и величественных красных тогах с прямыми длинны¬
ми складками, подобны древнеримским сенаторам. В верхнем
конце стола, под цеховым знаменем Шерсти — белым Агнцем
с алым Крестом — рядом с Приором, верховным сановником
Флорентийской Коммуны, сидит Гонфалоньер Правосудия,
а против них, на другом конце стола, — маленький лысый ста¬
ричок, в лиловом пурпуре, с бледным лицом и рысьими глазка¬
ми, папский легат, кардинал Акваспарта37.
— Дети мои возлюбленные, — говорит он уветливым голо¬
сом, — будьте уверены, что ничего не желает Святейший Отец,
кроме вашего мира и счастья. Будьте же ему покорны во всем,
ибо он есть Наместник Того, Кого поставил Бог судить живых
и мертвых и Кому дал власть надо всеми царями и царствами.
Верьте, что и в этом деле — продлении службы Флорентийских
ратников, печется он ни о чем ином, как только о вашем же соб¬
ственном благе.
— Во имя Отца и Сына и Духа Святого! — возглашает При¬
ор, вставая и осеняя себя крестным знамением. — Вам предсто¬
ит, яснейшие сеньоры, голосование по этому делу...
— Нет, сын мой, — возражает Акваспарта, — воля Его Свя¬
тейшества нам известна в точности: так как первое голосование
уже было, то второго не будет.
— Очень, ваше преподобие, жалею, но принятого Коммуной
устава мы изменить не можем, хотя бы и для Государя Папы.
Если кто-нибудь из ваших милостей имеет что-либо сказать
по этому делу, прошу о том заявить.
— Я имею, — говорит Данте, вставая.
246
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
— Голос принадлежит мессеру Данте Алигьери.
— Слушайте! Слушайте!
— Хочет ли мира Государь Папа или не хочет, мы не знаем;
знаем только одно: он хочет подчинить себе сначала всю Тоска¬
ну, а потом — всю Италию, всю Европу, весь мир, и чтобы этого
достигнуть, вмешивается в братоубийственную войну, разделя¬
ющую наш город, и зовет на него чужеземного хищника, Кар¬
ла Валуа. А посему, полагаю: в пользу Государя Папы ничего
не делать, nihil fiat.
Акваспарта, отодвинув кресло с таким шумом, что гулкое
эхо под сводами палаты повторяет этот звук, — быстро встает
и уходит.
— Голосование открыто, — объявляет Приор.
В такой же величественной тишине, как в древнеримском Се¬
нате, эхо под сводами опять повторяет гул медленно падающих
в медные урны свинцовых шаров.
После подсчета голосов Приор объявляет:
— Во имя Отца и сына и духа Святого, предложение мессера
Данте Алигьери принято: в пользу Государя Папы ничего не де¬
лать.
Члены Совета встают и расходятся отдельными кучками,
беседуя.
— Что это, мессере, вы о двух головах, что ли? — шепчет
один из членов на ухо Данте. — Может ли спорить человек без¬
оружный с Римским Первосвященником, могущественнейшим
государем Европы? Или вы еще не знаете, что кардинал Аквас-
парта уполномочен Святейшим Отцом отлучить вас от Церкви?
— Нет, знаю: этого давно уже хотят и этого ищут там, где
каждый день продается Христос.
— И сами же в волчью пасть суете голову, соглашаясь уча¬
ствовать в посольстве к папе?
Слышится сначала далекий, потом все приближающийся гул
набата.
— Что это? У Санта Мария Новелла набат?
— Да, и у Санто-Спирито.
— Бунт или пожар?
— Судя по звону, и то и другое.
Военачальник Флорентийской Коммуны, Капитано дэль
Пополо быстро входит в палату.
Данте
247
— Что случилось, капитан? — спрашивают, окружив его,
члены Совета.
— Верно еще никто ничего хорошенько не знает, но кажется,
у Санта Тринита, конный отряд Белых напал на такой же отряд
Черных, начался уличный бой, кто-то кому-то отрубил нос ме¬
чом, и, когда об этом узнали, весь город взялся за оружие. Толь¬
ко что открыт, будто бы, заговор Черных, чтобы, с помощью
папы, призвать Карла Валуа...
— А ведь вы, мессер Данте, оказались-таки нелживым про¬
роком!
— О. как бы я хотел им не быть!
IX
МАЛЕНЬКИЙ АНТИХРИСТ
1
В городе Ананьи, в папском дворце, внутренний покой, мрач¬
ная палата с низко нависшими сводами на гранитных столбах.
Папа33 сидит на престоле, под шитым золотыми ключами Пе¬
тра пурпурным пологом. На голове его алого бархата скуфей¬
ка с алмазным крестиком и на ногах такие же туфли. В старче-
ски-мертвенном лице чудно-живые, молодые глаза; на тонких
губах скользящая иногда улыбка, не злая и не добрая, но такая,
что от нее становится жутко.
Папа беседует наедине с одним из трех Флорентийских по¬
слов, Гвидо Убалъдини. Двое остальных ожидают за тяжелой
парчовой завесой. Тут же апостолический камеръере, в камзоле
лилового шелка, и полуразбойничьего вида гайдук, в стальных
латах.
— Когда намедни посол Священной римской Империи це¬
ловал туфлю Его Святейшеству, тот воскликнул: «Я Сам — им¬
ператор! Ego sum Imperator!» И ударил его по лицу так, что
кровь у него пошла из носу, — шепчет Убальдино на ухо Данте,
выглядывая из-за складок завесы. — Если он и вас, мессере,
так же ударит, то будет за что: крови Его Святейшеству никто
не испортил больше, чем вы!
— Маленький Антихрист! — шепчет Данте.
248
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
— Как знать, может быть, и большой...
— Нет, Большой за Маленьким!
По знаку папы камерьере подводит к престолу его Данте
и Убальдино, Оба. став на колени, целуют алмазный крестик
на туфле Его Святейшества.
— Мир вам, дети мои! — говорит папа, благословляя по¬
слов. — Мы очень рады вас видеть. Но зачем вы так упрямы,
Флорентийцы? Будьте нам покорны, смиритесь! Истинно вам
говорю, мы ничего не хотим, кроме вашего мира и счастья.
Пусть же двое из вас вернутся во Флоренцию, и да будет над
ними благословение наше, если добьются они. чтобы воля наша
была исполнена.
Молча смотрит на Данте и потом прибавляет с тихой улыб¬
кой:
— А ты, мой друг, еще побудешь здесь, со мной...
Глядя ему прямо в глаза, кладет ему на голову прозрач¬
но-бледную, как воск, женственно-тонкую руку с железным
кольцом Рыбаря.
— Что опустил глаза? Подыми, коли совесть чиста. Так вот
как, сынок: «В пользу Государя Папы ничего не делать?» Глу¬
пенький! Ты — железный, а я каменный. Когда о тебе памяти
не останется, дело мое наполнит весь мир, ибо мне принадлежит
всякая власть на земле и на небе: это будет сделано!
Перед Данте, целующим туфлю папы, проносится мгновен¬
ное, как молния, видение тех огненных ям в аду, в которые будет
низринут, вниз головой и вверх пятами, папа Бонифаций VIII,
Маленький Антихрист, вместе с предшественником своим, Ни¬
колаем III, и всеми нечестивыми папами, торговавшими Духом
Святым.39
Торчали ноги их из каждой ямы
До самых икр, а остальная часть
Была внутри, и все с такою силой
Горящими подошвами сучили,
Что крепкие на них веревки порвались бы...
Над ямою, склонившись, я стоял,
Когда один из грешником мне крикнул:
«Уж ты пришел, пришел ты, Бонифаций!
Пророчеством на годы я обманут:
Данте 249
Не ждал, что скоро так насытишься богатством,
Которое награбил ты у Церкви,
Чтоб растерзать ее потом!»40
2
1-го ноября 1302-го года, в день Всех Святых, город Флорен¬
ция подобен Плачевному Городу ада, Citta Dolente. Слышатся
звуки набата, и в кровавом зареве пожаров, на черном, точно
подземном, небе рдеют как изнутри раскаленные, колокольни
и башни города.
Карл Валуа, брат Французского короля Филиппа Красивого,
Маленького Антихриста, «черный херувим», входит во Флорен¬
цию, с небольшим отрядом всадников, и, подняв жесточайшую
междоусобную войну в городе, опустошает его мечом и огнем.
Из Франции придет он безоружный,
С одним Иудиным копьем, которым
Флоренции несчастной вспорет брюхо.41
— Что это горит? — спрашивает Карл, видя зарево на ноч¬
ном небе.
— Хижина, — отвечают ему, а горит один из великолеп¬
ных дворцов, подожженных для грабежа, или одна из церквей.
Треть города опустошена и разрушена.
После Карла врывается в город мессер Корсо Донати, во гла¬
ве изгнанников, Черных. И водружает знамя свое на воротах
Сан-Пьеро, квартала, где живет Данте.
3
10-го марта 1303 года, конный глашатай Флорентийской
Коммуны, с длинной серебряной трубой, объезжая площадь
за площадью, улицу за улицей, возглашает приговор:
— Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Данте Алигьери, быв¬
ший приор, гнусный лихоимец, вымогатель, взяточник, вор,
вместе с тремя сообщниками своими, уличенный в подстрека¬
тельстве граждан к междоусобный брани и в противлении свя¬
той Римской Церкви и Государю Карлу, миротворцу Тосканы,
осуждается ныне вторым приговором на вечное изгнание и веч¬
250
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
ный позор. Так как обвиненный, не явившись на вызов суда,
тем самым признал вину свою, то если будет схвачен, огнем
да сожжется до смерти, igné comburatur sic quod moraitur.
Ночью буйная толпа черни, под предводительством боль¬
шого Мясника Пэкоры, жжет и грабит старое гнездо Алигьери
на Сан-Мартиновой площади.
— Вон как ветром головни понесло, прямо на дом Порти-на-
ри! Видно гореть и ему, — говорит кто-то в толпе.
— Матерь Царица Небесная, помилуй нас и спаси! — шеп¬
чет другой и крестится. — Вот когда исполнилось пророчество
Данте:
Город этот потерял свое Блаженство, Беатриче,
и то, что я могу сказать о нем,
заставило бы плакать всех людей...
Джемма, выгнанная на улицу, как нищая, сидит на тюках
старой домашней рухляди, рядом с люлькой, где плачет груд¬
ное дитя.
Выброшенные из окна листки «Новой жизни» по ветру ле¬
тят, розовея в зареве пожара, как белые голуби, и, когда мясник
Пэкора въезжает верхом на площадь, один из упавших на нее
листков лошадиным копытом раздавлен.
X
ДАНТЕ-ИЗГНАННИК
1
Поздней осенью, на вилле Пальмерию, недалеко от Болоньи,
сидя на скамье, посреди круглой площадки, где сходятся аллеи
старых буков и кленов, Данте беседует с двумя Флорентийца¬
ми-изгнанниками, мессером Пальмерию дэльи Алыповити
и мессером Орландучию Орланди.
— Глупо, очень глупо! — говорит Данте задумчиво, как
будто про себя.
— Что глупо? — спрашивает Пальмерию.
— Да вот, что в приговоре написано: «До смерти огнем да со¬
жжется». Как будто можно сжечь человека не до смерти...
— Вам точно весело, мой друг, читать свой приговор?
Данте
251
— Весело? Нет, не особенно, но падающая башня Гари-зен-
да мне вспомнилась, можно видеть ее оттуда, из ворот, в конце
сада: когда над нею облако проходит, то тем, кто внизу сморит
на нее, кажется, что она готова упасть; так и жизнь человече¬
ская: как будто все падает, но не упадет, может быть, потому,
что ее построили умные черти нарочно так глупо...
— Вы этого приговора не знали, мессер Данте?
— Нет, знал: этого давно уже хотели и готовили там, где
каждый день продается Христос, — в логове древней Волчицы.
За сына своего возлюбленного, Маленького Антихриста, она
отомстила врагам его.
О, если б только с милыми разлука
Мне пламенем тоски неугасимой
Не пожирала тела на костях, —
Благословил бы я мое изгнанье!
Каждый, впрочем, получит свое: я буду гореть в огне времен¬
ном, а папа — в вечном...
Медленно встает, зевая и потягиваясь так же. как некогда,
в притоне Черного Кота, после ночи, проведенной с «девчон¬
кой».
— Ну, доброй ночи, друзья мои, мне пора домой.
Медленно уходит в вечерние сумерки, по темной аллее, где
желтые листья шуршат у него под ногами.
— Странный человек! Кажется, у него здесь не все в поряд¬
ке, — говорит Орланди, глядя вслед уходящему и показывая
себе на лоб.
— Может быть, — соглашается Палъмерию, — Все поэты не¬
много похожи на шутов или помешанных!
2
Ночью, в Апуанских Альпах, на побережьи Лигурии, запоз¬
далый путник с мулом, нагруженным нищенскою рухлядью,
всходит по крутой тропинке и, остановившись у ворот Бенедик¬
тинской обители, Санта-Кроче дэль Корво, стучится в калитку.
— Чего тебе? — спрашивает, открывая калитку, брат Ила-
рий и, когда путник не отвечает, как будто не слышит, погру¬
женный в задумчивость, — спрашивает снова:
— Чего тебе?
252
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
— Мира! Расе! — отвечает путник.
— Да кто ты такой?
— Данте Алигьери, Флорентиец.
— Сочинитель «Комедии»?
— Ну, это еще неизвестно, отец мой, будет ли сочинена «Ко¬
медия», или, вместе со мной, погибнет так же бесславно и бес¬
смысленно.42 Я ведь человек вне закона, осужденный на смерть
изгнанник.
— Милости просим, мессер Данте! Великая честь нашей сми¬
ренной обители принять такого высокого гостя. Брат Бернардо,
снимай-ка поскорей поклажу с мула, да отведи его в конюшню.
Брат Иларий Рткрывает ворота и, низко кланяясь, ведет го¬
стя в трапезную, где усаживает на почетное место.
— Откуда, сын мой, и куда идешь?
— Сам не знаю, — куда глаза глядят... После того, как угод¬
но было гражданам Флоренции изгнать меня, скитался я почти
по всей Италии, бездомный и нищий, показывая, против воли,
те раны судьбы, в которых люди часто обвиняют самих же ра¬
неных. Был я воистину ладьей без кормила и паруса, носимый
по всем морям и пристаням иссушающею бурею бедности и был
мне каждый новый кусок чужого хлеба все горше; каждой новой
лестницы все круче ступени. И многие из тех, кто, может быть,
судя по молве, считал меня иным, — презирал не только меня
самого. Но и все, что я уже сделал и мог бы еще сделать...
— А помнишь, сын мой, слово Господне: «Сила моя совер¬
шается в немощи»43? Может быть все эти муки изгнания даны
тебе для того, чтобы узнать не только грешную немощь твою
в настоящем, но и святую силу в будущем. Пусть жалкий суд
иль сила рока цвет белый черным делает для мира, — пасть
с добрыми в бою, хвалы достойно. О, если бы я был с тобой! С та¬
кою силой духа, как у тебя, за горькое твое изгнанье, за все твои
бесчисленные муки, я отдал бы счастливейший удел! «Блажен¬
ны изгнанные за правду»44 — это о таких, как ты, сказано. Всех
изгнанных за правду, бездомных и нищих скитальцев, всех пре¬
зренных людьми и отверженных, всех настоящего града не име¬
ющих, грядущего Града ищущих45, вечным покровителем будет
Данте Изгнанник.
Данте
253
XI
ДАНТЕ В БОГАДЕЛЬНЕ МУЗ
1
В замке Веронского герцога, Кан Гранде дэлла Скала, ряд
великолепных покоев, превращенных в богадельню для собрав¬
шихся сюда со всех концов Италии неудачных политиков, пол¬
ководцев, проповедников, но больше всего для шутов-прихле¬
бателей. Каждый покой украшен аллегорической живописью,
соответственной судьбе своего обитателя: триумфальное ше¬
ствие — для полководцев, земной рай — для проповедников,
бог Меркурий — для художников, хор пляшущих Муз — для
поэтов, богиня Надежды — для изгнанников, а на потолке само¬
го большого покоя, где собираются все, в этой богадельне при¬
зренные, — вертящееся колесо богини Фортуны.
В комнате Муз поэт Чино да Пистойя, чахоточного вида мо¬
лодой человек, развязывает на полу тюки с нищенской рухля¬
дью Данте.
— Так-то, учитель, мы здесь и живем, как превращенные
в свиней Улиссовы спутники, в хлеву Цирцеи46, или пауки в бан¬
ке, — говорит Чино. — Ссорясь жестоко из-за милостей герцо¬
га, рвем друг у друга куски изо рта. Есть, может быть, среди нас
и добрые и честные люди, но участь их горше всех остальных,
потому что видят они, что герцогу умеют лучше всего угождать
не они, а самые подлые, злые и распутные люди — особенно
шуты, и те, это зная и пользуясь этим, верховодят всем при дво¬
ре. Герцог человек большого ума и тонкий, по-своему, ценитель
всего прекрасного, но имя его — Сапе Grande, Пес Большой: это¬
го забывать не надо... Вы когда ему послали просьбу, учитель?
— Рано поутру, только что приехал. Но если б я знал, что
меня здесь ожидает, то не послал бы вовсе.
Жди от него себе благодеяний, —
сколько раз хотелось мне выкинуть из Святой Поэмы этот
грешный стих47, как выкидывают сор из алтаря. Если же я этого
не сделал, то, может быть, потому, что боялся, что меня само¬
го выкинут, как сор, из этого последнего убежища. Но кажется
иногда, что лучше умереть, подохнуть, как собака на большой
254
Д, С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
дороге, чем протянуть руку за милостыней. Слишком хорошо
я знаю, мой друг, цену моим благодетелям, чтобы каждый вы¬
кинутый ими кусок не останавливался у меня поперек горла,
и чтобы я не глотал его с горчайшими слезами стыда,
Стыд заглушив, он руку протянул,
Но каждая в нем жилка трепетала...
чувствовать, что висишь на волоске, и знать, что порвется ли
этот волосок или выдержит, зависит от того, с какой ноги вста¬
нет поутру благодетель, — с левой или с правой, и соглашаться
на это, — какая низость и какая усталость! Хочется иногда, что¬
бы порвался, наконец, волосок и дал упасть в пропасть, — толь¬
ко бы полежать, отдохнуть, хотя бы и со сломанными костями,
там, на дне пропасти!
2
В башне замка, в высокой круглой комнате с узкими окна¬
ми-бойницами, секретарь герцога, горбун с умным и злым ли¬
цом, Чэкко д’Анжольери, полупоэт, полушут, читает вслух
письмо Данте. Рыцарски-великодушным и очаровательно-лю¬
безным кажется юный герцог на первый взгляд, но, если при¬
стально вглядеться в слишком ласковую улыбку и просто¬
душные глаза его, то угадывается та необходимая, будто бы,
в великом государе «помесь льва с лисицей» — лютости с хи¬
тростью, чьим совершенным будет для Маккиавелли Цезарь
Борджиа48.
«Великолепному и победоносному Государю, Кан Гранде дэ-
лла Скала, преданнейший слуга его, Данте Алигьери, Флорен¬
тиец по крови, но не по правам, долгого благоденствия и вечно
растущей славы желает. Часто и долго искал я в том скудном
и малом, что есть у меня, чего-либо вам приятного и достойного
вас, и ничего не нашел, более соответственного вашему — высо¬
кому духу, чем та высшая часть «Комедии», которая озаглавле¬
на «Рай». Ныне и приношу ее вам, как малый дар, и посвящаю».
— Ну ладно, дальше можешь не читать. Видно по письму,
что Данте — человек умный, но скучный, один из тех ученых
колпаков, с которыми нечего делать. А что в конце письма?
— Просьба о деньгах. «Бедность внезапная, причиненная
изгнанием, загнала меня, бесконного, безоружного, как хищная
Данте
255
звериха, в логово свое, где я изо всех сил с нею борюсь, но все
еще лютая держит меня в когтях своих. Но надеюсь на велико¬
лепную щедрость вашу, Государь, чтобы иметь возможность
продолжать «Комедию»...» Это, ваше высочество, одна сторона
монеты, а вот и другая.
Вынув из кармана небольшую книгу, «Пир» Данте, и, найдя
заложенное место, Анжолъери читает:
— «Много есть государей такой ослиной природы, что они
приказывают противоположное тому, чего хотят, или хотят,
чтоб их без приказаний слушались. Это не люди, а звери. О, низ¬
кие и презренные, грабящие вдов и сирот, чтобы задавать пиры,
носить великолепные одежды и строить дворцы, — думаете ли
вы, что это щедрость? Нет, это все равно, что красть покров с ал¬
таря и, сделав из него скатерть, приглашать к столу гостей, ду¬
мая, что те ничего о вашем воровстве не узнают.
О, сколько есть таких, что мнят себя
Великими царями на земле
И будут здесь, в аду, валяться,
Как свиньи в грязной луже,
Презренную оставив память в мире! »
— Ну, что ж, хорошо сказано!
— Да, недурно, но сегодня — об одном, а завтра — о другом.
Есть у него оружье против человеческой низости — обличитель¬
ный стих, которым выжигает он на лице ее, как раскаленным
железом, неизгладимое клеймо. Но оружье это двуострое: ино¬
гда обращается и на него самого: слуги Генуэзского вельможи
Бранка д’Ориа, оскорбленного стихами Данте, подстерегши
его, ночью, на улице, избили кулаками и палками до полусмер¬
ти. И сколько добрых людей, узнав, что он умер или убит, как
собака, вздохнули бы с облегченьем и сказали бы: «Собаке соба¬
чья смерть!»49
3
В пиршественной палате, среди весело беседующих гостей
и шутов, Данте сидит молча, угрюмый и одинокий. Кан Гран¬
де велит потихоньку проворному мальчику-слуге, спрятавшись
256
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
под стол, собрать все обглоданные кости с тарелок, в одну кучу,
у ног Данте. И когда, сделав это, мальчик уходит, герцог велит
убрать столы и, взглянув с притворным удивлением на кучу ко¬
стей, говорит, смеясь:
— Вот какой наш Данте мясов пожиратель!
— Скольких костей вы не увидели бы тут, государь, будь
я Псом Большим! — отвечает Дайте. И восхищенный, будто бы,
таким быстрым и острым ответом, герцог милостиво обнимает
его и целует.
Когда гости выходят из палаты, Данте, отведя в сторону
Чино да Пистойя, спрашивает его шепотом, с горькой усмеш¬
кой:
— Слышал, какой милости я удостоился?
— Слышал. Но это мог бы он сделать, кроме одного из двух:
или, против тебя, обнять, или выгнать? Если же все-таки обнял,
то может быть, потому что недостаточно презирает суд потом¬
ства, чтоб не бояться Дантова жгущего лбы каленого железа.
— Твоя правда, мой друг, — обнял так, что лучше бы вы¬
гнал!
4
Данте ищея по улицам Вероны, в величественно-простой,
Флорентийской тоге-лукке с прямыми, длинными складка¬
ми, напоминающими древнеримскую тогу, из ткани такого же
красно-черного цвета, как воздух Ада. Сгорбившись, как всегда,
«под бременем тяжелых дум согбенный», и надвинув на лицо
куколь так низко, что видны под ним только выдающаяся впе¬
ред нижняя челюсть, горбатый нос — орлиный клюв, да два
глаза — два раскаленных угля, он проходит мимо ворот одного
дома, у которого сидят Веронские кумушки.
— Вот человек, который сходит в ад и. возвращаясь оттуда,
когда хочет, приносит людям вести о тех, кто там в аду! — гово¬
рит одна из них. помоложе.
— Правда твоя, — говорит другая, постарше. — Вон как
лицо у него почернело от адского жара и копоти!
— С нами сила крестная! — шепчет третья, худая, длинная,
как шест, и седая, как лунь, старуха. — Чур нас, чур! Не смо¬
трите на него, родимые, — сглазит. У, колдун проклятый! Душу
Данте
257
дьяволу продал, — оттого и сходит в ад... Видела я, своими гла¬
зами видела, как в женщин и детей он кидает камнями, когда
говорят они о Гибеллинах и Гвельфах не так, как ему нравится.
Мальчика одного намедни едва не зашиб до смерти.
Вдруг вскочив, грозит кулаком, машет клюкой и кричит
вслед уходящему:
— На костер, на костер, окаянного!
5
«Данте, находясь при дворе Кан Гранде, был сперва в боль¬
шом почете, но затем, постепенно теряя милость его, начал,
день ото дня, все меньше быть ему угодным. Были же при том
дворе, как водится, всевозможные шуты и скоморохи, и один
из них, бесстыднейший, заслужил непристойными словами
и выходками великое уважение и милость у всех. Видя однаж¬
ды, что Данте от этого страдает, мессер Кан позвал к себе того
шута, и, осыпав его похвалами, сказал поэту:
— Я не могу надивиться тому, что этот человек, хотя и ду¬
рак, умел нам всем угодить, а ты, мудрец, этого сделать не мог...
— Если бы вы знали, ваше высочество, что сходство нравов
и сродство душ есть основание дружбы, то вы этому не удивля¬
лись бы! » — ответил Данте».50
— Что ты хочешь сказать? — спрашивает герцог, с тою ла¬
сковой улыбкой, от которой людям становится жутко.
— Я хочу... хочу... — начинает Данте, весь бледный, дрожа¬
щий, с искаженным лицом, и вдруг, лишившись чувств, падает
на пол как мертвый.
— Что с ним, что с ним такое? Врача скорее! — кричит гер¬
цог.
Маленький, с большим носом, человек, врач-иудей, подходит
к Данте, наклоняется над ним и заглядывает ему в лицо.
— Не извольте беспокоиться, ваше высочество, маленький
припадок того, что древние называли «священной болезнью»,
а мы называем «падучей». Видно, в Ад не даром сходил: там,
должно быть, немножко и сошел с ума. Это сейчас пройдет.
Воды!
258
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
6
Данте проводит последнюю ночь, в палате поэтов, с хором
пляшущих Муз в росписи на одной стене, и с богиней Надежды,
на другой. Тщательно укладывается и увязывает в тюки нищен¬
скую рухлядь. Очень устал. Чтобы отдохнуть, садится за стол
и при тусклом свете нагоревшей свечи штопает дыру на правом
локте последней приличной одежды, там, где легче всего проти¬
рается ткань от движения руки по столу, во время писания.
Кончив штопать, начинает связывать в пачки пожелтевшие
листки «Комедии». Вдруг новый, белый листок, черновик не¬
давнего письма к Веронскому герцогу выпадает из пачки.
...»Часто и долго искал я в том скудном и малом, что есть
у меня, чего-либо приятного и достойного вас, и ничего не на¬
шел более соответственного вашему высокому духу, чем та выс¬
шая часть «Комедии», которая озаглавлена «Рай». Ныне и при¬
ношу ее вам, как малый дар, и посвящаю» ...
Это прочел и закрыл лицо руками, почувствовав в нем такую
боль, как будто тем каленым железом, которым некогда клей¬
мил он других, кто-то теперь его самого заклеймил.
Трепетное пламя догорающей свечи откидывает на стену
и потолок огромную черную тень Данте, и, выйдя из нее, дру¬
гая, чернейшая Тень tlqrxorwv к столу и садится против Данте.
Вместе с последними вспышками пламени лицо Тени меняет¬
ся: то увенчанное остролистным, как будто колючим и огнен¬
ным, лавром, кажется под ним обожженным и окровавленным;
то становится вдруг таким похожим на лицо Данте, всегдашнее,
что, если бы он сам увидел эти два лица в зеркале, то не разли¬
чил бы, где он настоящий, и где призрачный.
Что-то бормочет про себя чуть слышно; так же бормочет
и Тень:
— Я не один, — нас двое. Я — в обоих...
— Кто это сказал, я или он, — я или ты?..
— Кто бы ни сказал, мой друг, — это верно: есть Папа и Ан¬
типапа; есть Христос и Антихрист: есть Данте и Анти-Данте.
Кто кидает камнями в детей? Кто обещал брату Альбериго,
в аду, снять с глаз его ледяную кору и, обманув его, думал, что
низость эта зачтется ему в благородство?51 Кто говорит о лю¬
бимой — о Беатриче иной: «О, если бы она в кипящем масле,
Данте
259
вопила так из-за меня, как я из-за нее! » Кто хочет не Единого
в Двух, а Двух в Едином? Кто не может сделать выбора между
Богом и диаволом, Христом и Антихристом? Данте? Нет, Ан¬
ти-Данте...
— Что это за чудо во мне, что за чудовище, и откуда оно?
Или я уже не я? Или такая разница между мной и не мной?
Но если так, то где же разум?.. — Разума нет — есть безумие. Ты
и здесь, в аду земном, также сходишь с ума, как там, в подзем¬
ном... «Псам не давайте святыни и не бросайте жемчуга вашего
перед свиньями»52. Хуже, чем псу, ты отдал святыню; бросил
свой жемчуг хуже, чем свиньям, когда посвятил Кан Гранде,
Псу Большому, Святой Поэмы часть святейшую, «Рай». Пом¬
нишь Иудину пропасть Джью-декку, в последнем круге Ада, где
в вечных льдах леденеют предатели? Там лежат они, скованные
крепким льдом, и самый плач их плакать им мешает, затем что,
прегражденных на глазах, уходит внутрь, усиливая муки? Пом¬
нишь, как инок Альбериго молил тебя:
О, протяни же руку поскорей,
Не медли же, открой, открой мне очи,
Чтоб хоть немного выплакать я мог
Теснящую мне сердце, муку, прежде,
Чем новые, в очах, застынут слезы!63
Но ты ему глаз не открыл, ты его обманул. Как же не узнал
ты, чьи глаза глянули на тебя сквозь ту наплаканную, ледяную
глыбу слез? Чей голос молил тебя: «Открой мне очи»? Как в нем
не узнал ты себя самого? Будешь и ты мучаться вечно, в Иуди¬
ной пропасти, где леденеют предатели, за то, что предал не дру¬
гого, а себя самого и то, что тебе дороже, чем ты сам...
— Из преисподней вопию к Тебе, Господи! — шепчет Данте
чуть слышно, а Тень повторяет внятно:
— «Из преисподней вопию к Тебе, Господи», — это ты хо¬
чешь сказать и не можешь: онемел, оледенел, — умер и ожил,
и будешь вечно жить — умирать, в вечных льдах!
260
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
XII
В ВЕЧНЫХ ЛЬДАХ
1
В мрачном и диком ущельи Умбрии, на такой высоте Апен¬
нин, что оттуда видны два моря, Адриатическое на востоке
и Тирренское на западе. Данте и Чино да Пистойя сидят у свя¬
той обители Ди-Фонте-Авеллана, на голой обледенелой скале
над пропастью.
В Италии, между двумя морями,
Близ родины возлюбленной твоей,
Возносятся Катрийские утесы
Так высоко, что гром гремит над ними.
Там есть обитель иноков святых,
Одной молитве преданных. Там жил
И я, в служеньи Богу; только соком
Олив питался, легко, бывало.
Переносил я летний зной и стужу
Суровых зим...
Блаженствуя в чистейшем созерцаньи.64
В ясный зимний день, глядя с головокружительной вышки
Катрийских утесов, где снег сверкает ослепительно, на туск¬
ло-багровое солнце, восходящее над непохожей ни на что зем¬
ное, воздушно-зеленой полосой Адриатики и на протянувшую¬
ся внизу, у самых ног его, как ожерелье исполинских жемчужин,
голубовато-серую цепь Тосканских гор, Данте старается уга¬
дать невидимую между ними точку Флоренции.
— Вон, вон там, где Арно блестит между холмов Казентино,
купол Марии дэль Фиоре, как булавочная головка чуть виднеет¬
ся, а рядом с ним, башня дворца Синьории, — указывает Чино
на ту невидимую точку. — Их при тебе еще не было, ты их ни¬
когда не видал...
— И никогда не увижу! Никогда не исполнится то, на что
я надеялся:
Данте
261
Коль суждено моей Священной Песне,
К которой приложили руку
Земля и Небо, — сколько лет худею,
Трудясь на ней! — коль суждено
Ей победить жестокость тех, кем изгнан,
Я из родной овчарни, где, ягненком,
Я спал когда-то... то вернусь в отчизну,
Уже с иным руном и с голосом иным,
Чтоб там же, где крещен я, быть венчанным.55
Я знаю: смерть моя уже стоит в дверях, и, если б в чем-ни¬
будь я был виновен, то уж давно искуплена вина, и мир давно
могли бы дать мне люди... Слышал ты, мой друг, что я осужден,
третьим приговором за то, что не хотел вернуться в отечество,
согласившись на позорную милость ворам, убийцам и разбой¬
никам? Первым приговором осужден я на вечное изгнание, вто¬
рым — на сожжение, а третьим — на обезглавление... Так сына
своего истребляет родина-мать огнем и железом... А все-таки,
все-таки, нет для меня места на земле любезнее Флоренции,
и больше всех людей я жалею тех несчастных, кто, томясь в из¬
гнанья, видит отечество свое только во сне...
Долго молчал, как будто забыв, что Чино с ним, смотрит
на почти невидимую точку Флоренции.
— О, народ мой, что я тебе сделал? — шепчет чуть слышно,
и слезы текут по лицу его, такие тихие, что он их не чувствует.
Чудны и страшны эти слезы так, как если бы растаяли бы вдруг,
под внешним солнцем, вечные, никогда от начала мира не таяв¬
шие льды.
2
Очень крутою, как будто прямо к небу идущей, тропою для
мулов, Данте и Чино подходят к постоялому двору, на горном
перевале из Урбино в Романью.
— Это и есть, что ли, первый двор? — спрашивает Данте.
— Он самый, — отвечает нехотя погонщик, ударяя палкой
мула и покрикивая: «Арри! Арри!»
262
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
— Скоро, значит, будет и второй. Что же ты остановился,
братец? Ступай! До второго двора уже недалеко. Мы тебе хоро¬
шо на водку дадим. Ступай же!
— Нет, мессере, воля ваша, дальше я не пойду. Вон как
в поле закрутило, — будет вьюга, а тут кручи да ямы такие,
что костей не соберешь. И скотина ваша дохлая, кожа да кости.
Да и чем вам тут не гостиница? Вишь, как свининой жареной
пахнет, и водка тут дешева и девки податливы, какого вам еще
рожна?
— Сказано тебе, дурак, место это не наше: Гвельфами тут на¬
бито, а мы Гибеллины.
— Мало ли что! Гвельфское-то мясо, да Гибеллиновское,
на волчий вкус, одинаково. Коли волки не сожрут, так в су¬
гробе замерзнете. Если вам жизнь надоела, ступайте с Богом,
а я не пойду!
— Ну, видно, каши с дураком не сваришь! Пусть остается
здесь, а мы с тобою, Чино, одни доберемся... Или вот что: ты за¬
ночуй здесь, мой друг, а я пойду один, — завтра нагонишь...
— Что вы, учитель, трусом меня считаете и подлецом, что
ли? Нет, я вас не покину: вместе начали путь, вместе и кончим!
Взяв у погонщика палку, Чино погоняет мула и покрикива¬
ет:
— Арри!Арри!
Данте сначала идет молча; потом, как будто опять забыв,
что с ним Чино, говорит тихо, про себя:
— Знамение положил Господь на Каина, чтобы никто, встре¬
тившись с ним, не убил его.56 Но хуже Каиновой — печать на из¬
гнанниках: каждый встречный может их убить... Каиновым
проклятьем гонимый, не могу и я остановиться, иду все дальше
и дальше, пока не упаду в могилу...
Наступают сумерки. Подымается вьюга. Там, где снег, на до¬
роге сдунут ветром, — такая гололедица, что мул скользит и па¬
дает. Вдруг, один из тюков, сорвавшись с него на крутом пово¬
роте, летит в пропасть.
— Данте, Данте! «Кемедия!» — кричит в ужасе Чино, кида¬
ясь к мулу.
— Нет, ничего, только тюк с заношенным платьем, я и сам
его сбросить хотел.
Быстро темнеет. В снежном сугробе кончилась тропа.
Данте
263
— Плохо дело, мой друг, — говорит Данте, остановив¬
шись. — Ни вперед, ни назад, — заблудились. Кажется, прав
был погонщик: либо замерзнем, либо волки съедят...
По ветру слышится далекий лай или вой.
— Что это? Слышишь? Волки?
— Нет, собаки. Близко, должно быть, жилье. Вот и дымком
потянуло. Ну, слава Богу, спасены!
Волчьим глазом краснеет сквозь черно-белую, веющую мглу
огонек. Идучи на него, доходят до пещеры, где пастухи сидят
вокруг большого костра. Овцы, стеснившись в кучу, спят в глу¬
бине пещеры, и две только что усмиренные овчарки ложатся,
тихо рыча и скаля клыки на чужих людей.
— Добро пожаловать, гости дорогие! — ласково встреча¬
ет их величавый старик с длинной белой бородой и загнутым
на конце пастушьим посохом. — Хлебом-солью нашими не по¬
брезгайте, милые!
Пастухи наперерыв угощают их и потом укладывают спать
на лучшее место, поближе к огню.
3
Ясное зимнее утро. Солнце восходит, и на темно-лиловом,
безоблачном небе рдеют, как бы изнутри освещенные, снежные
вершины гор.
Данте и Чино продолжают путь. Подойдя к самому краю
зияющей пропасти, Данте наклоняется над ней, долго, мол¬
ча смотрит в нее и опять, как будто забыв о спутнике, говорит
тихо, про себя:
— В пропасти кидается Вечный Жид®7, Агасфер, — ищет
смерти, но не находит: сломанные в падении кости срастаются,
и он продолжает свой путь бесконечный. В пропасти я не кида¬
юсь, а падаю, двух миров вечный странник, Агасфер; тот мир
для меня все действительней, этот — все призрачней; все легче
падения, но мучительней в костях ломаемых и срастающихся
боль бесконечной усталости...
264
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
4
Ночью, в дрянной гостинице, развязав с трудом, окоченев¬
шими от холодами, пальцами, шнурки кошелька, Данте высы¬
пает деньги на стол и, пересчитав, говорит:
— Дней на десять хватит, а после что?..
— Есть у меня еще десять флоринов, учитель, в подкладке
зашиты...
— Нет, мой друг, тебе самому деньги нужны, довольно
я на твой счет жил. Да и не все ли равно, десять дней или двад¬
цать. Скоро у обоих ни гроша не будет, — что тогда? Милостыни
просить уже не у владетельных князей, а у прохожих на улице?
Надо для этого быть великим святым, новым Франциском Ас¬
сизским. Полно, не проще ли спрятаться где-нибудь в кустах,
лечь на дне оврага, и покорно ждать смерти, как ждет ее сва¬
лившийся под непосильною ношею злым и глупым погонщиком
захлестанный мул? Прежде я боялся бессмысленной и бесслав¬
ной смерти под ножом разбойника или одного из бесчислен¬
ных Гвельфских врагов моих, который пожелал бы исполнить
приговор Флорентийской Коммуны над «врагом отечества»;
прежде этого боялся я, а теперь хочу, как скорого избавления
от мук... Помнишь, мы с тобой намедни говорили о самоубий¬
стве Катона58?
— Нет, учитель, не помню, мы об этом никогда не говорили.
— Правда? Не шутишь? Ну, так значит, это был не ты, а он...
— Кто он?
— Тот, Другой, — Анти-Данте... «Вечно будет людям па¬
мятна жертва несказанная суровейшего подвижника свободы,
самоубийцы Катона: чтобы в мире зажечь любовь к свободе,
он лучше хотел умереть, чем жить рабом...» Это не я говорю,
а Он. — «Самоубийство — предательство, низость из низостей,
подлость из подлостей» — это я говорю. Кто же прав, мой друг,
я или Он?
— Ты. Лучше нельзя сказать!
— Так оно и есть, — должно быть так... А все-таки, все-таки
и мужественнейших из людей соблазняет иногда мысль об остро
отточенной бритве или скользко намыленной петле — конце
всех мук... Слишком хорошо я знаю, что начатое во времени
продолжится в вечности, чтобы на этой мысли останавливаться
Данте
265
больше, чем миг. Но и мига довольно, чтобы осквернилась им
душа, как тело — проползшей по нему ядовитою гадиной...
— Часто он к тебе приходит?
— Нет, дважды приходил в первый раз, в ту последнюю, про¬
клятую ночь, в богадельне Пса Большого, а потом здесь, в пути.
Сказывал, что еще в третий раз придет, в последний: тогда, мол,
и решится, уже не на словах, а на деле, кто прав, я или Он. Вот
я и жду, когда придет...
Сильный стук в дверь. Чино вскакивает, весь дрожа и блед¬
нея.
— Что ты испугался, глупенький? — смеется Данте. — Ду¬
маешь, — Он? Нет, еще не Он, — слишком рано... Кто там?
— К вашей милости, мессер Данте, от его высочества, госу¬
даря Равенны, Гвидо да Полента, гонец с письмом.
— Проси!
— Вот, на ваш вопрос, учитель, — ответ уже не Другого,
а Его, Его самого! — говорит Чино, крестясь.
Маленькое замерзшее оконце сначала от рассвета синеет,
а потом, когда входит гонец, бывший Флорентийский, нынеш¬
ний Равеннский нотариус, Пьеро даДжиардино, — первый луч
озаряет лицо Данте. Пьеро, взглянув на него, останавливается,
как будто не узнает его, — так постарел, похудел, а потом, вдруг
узнав, кидается к нему на шею.
— Ты из Равенны, мой друг? — спрашивает Данте.
— Да, с письмом к тебе от государя.
Подает ему пергаментный свиток с подвешенной к нему
на нитке красного шелка золотой печатью.
— Вот прочти — увидишь, что кончились все твои бедствия
и что вернет тебе Равенна то, что отняла Флоренция, — вечный
мир!
Взяв письмо, Данте отходит к окну.
Белые цветы мороза на нем розовеют от солнца, как будто те¬
плою кровью наливаются. Данте крестится и, не распечатывая
письма, долго, молча смотрит сквозь слезы на светлеющее небо,
где горит Звезда Любви.
266
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
XIII
СВЕТ АЛЕБАСТРОВЫХ ОКОН
1
В очень простой, почти бедной, палате Равеннского дворца,
мессер Гвидо да Полента, окруженный придворными дамами
и рыцарями, сидит в высоком кресле, под зеленым шелковым
пологом, шитым золотыми орлами рыцарского герба да Полента.
Данте, подойдя к нему, хочет стать на колени, но тот, по¬
спешно наклонившись, подымает его и, крепко обняв, целует.
— Добро пожаловать, мой друг! — говорит так же просто и ла¬
сково, как намедни тот величайший старик-пастух, в пещере. —
Вот счастливейший день жизни моей! Мне говорить не нужно, —
ты сам знаешь, или узнаешь скоро, что не я тебе оказываю честь
и милость, приглашая жить у меня, а ты — мне, соглашаясь
на это, потому что поэты — цари, больше всех царей земных.
— Знаю, государь, что благодарить не нужно. Вечною сла¬
вой твоей будет не то, что ты спас поэта, а то, что человек спас
человека, брат — брата, когда на крик погибающего: «Есть ли
в мире живая душа?» ты один ответил: «Есть!» Я был, как тот
путник на большой дороге, попавшийся разбойникам, которые
сняли с него одежду, изранили и ушли, оставив едва живого;
лучшие же люди дней моих были подобны тому левиту и свя¬
щеннику, которые прошли мимо него59, о милостивый Сама-
рянин — ты, государь. После Той, Которой я назвать не смею,
потому что имя Ее для меня слишком свято, сделал для меня
добро величайшее — ты. Душу мою спасла Она, а ты — тело,
но ведь иногда и тело стоит души: надо его спасти, чтоб не по¬
гибла душа.
— А знаешь, Данте, кто мне про тебя напомнил?
— Кто, государь?
— Та, чья кровь течет в жилах моих, чей отец был братом мо¬
его отца, и чья память для нас обоих священна, — Франческа
да Римини.
О, милая, родная нам душа...
Владыку мира, будь Он нашим другом, —
Данте 267
Молили б мы дать мир тебе за то,
Что пожалел ты нас в великой скорби!60
Эта молитва будет исполнена: не я, а Франческа да Римини,
даст родной душе Данте, в своей родной земле, вечный мир!
2
Данте с Пъетро да Джиардино и Чино да Пистойя входит
в маленький Равеннский домик.
— Только одного желал я всегда — тени, тишины и покоя, —
говорит Данте, подойдя к окну и глядя на соседнюю ветхую
церковь св. Франциска Ассизского в кипарисовой роще, отку¬
да не видно, но угадывается море по светлой широте и пустын¬
ности неба. — Этого искал я везде, всю жизнь, и вот, только
здесь, в Равенне, нашел. О, какой сладчайший отдых для уста¬
лого странника войти в свой дом и знать, что можно в нем жить
и умереть! Какое блаженство не чувствовать горькой соли чу¬
жого хлеба и крутизны лестниц чужих; лечь в постель и знать,
что злая Забота не будит до света петушиным криком на ухо,
не стащит одеяла, не подымет сонного и не погонит снова, как
Вечного Жида, с горки на горку, из ямки в ямку, ломать и сра¬
щивать кости!
3
В древней Византийской базилике св. Василия, где искрятся
на стенах и сводах мозаики, как живопись из драгоценных кам¬
ней по золотому полю, — солнечный свет, проникающий сквозь
прозрачно-тонкие, в окнах, дощечки алебастра, золотисто-жел¬
тый и теплый, как мед на солнце, не дробимый в лучи и теней
не кидающий, ни на что земное непохожий: это свет как бы нез¬
дешнего Солнца-Агнца:
не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнеч¬
ном... ибо светильник их — Агнец. (Откр. 22, 5; 21, 23)
Маленький, сгорбленный, седой старичок (Данте узнала ли
бы в нем не только Джемма, но и сама Беатриче?), стоя на ко¬
268
Д. С, МЕРЕЖКОВСКИЙ
ленях,.между исполинскими столпами такого же, как тот неви¬
данный свет, золотисто-желтого мрамора, под главным сводом
над жертвенником, поднял глаза к изображенному в круглой
мозаике, на самом верху свода, таинственному, от создания
мира закланному Агнцу, и светлые тихие слезы льются по лицу
старичка.
— Понял я только теперь, Господи, какое чудо Божествен¬
ного Промысла надо мной совершилось! — шепчет Данте. —
Только теперь понял я, что значит:
Пить мучеников сладкую полынь...61
Горькие травы пчелам нужны для того, чтобы извлечь из них
сладчайший мед: так и мне нужны были все муки мои, чтобы
извлечь из них сладость Божественной Песни. Только теперь,
греясь в теплоте нездешнего Солнца-Агнца, как на утреннем
солнце греется, окоченевшая от ночного заморозка, пчела, от¬
таяло наконец, сердце мое, леденевшее столько лет, в вечных
льдах. И только теперь, в этом невиданном Свете, я увидел Рай.
...Таков был этот Свет,
Что, если б от него отвел я очи,
То слепотою был бы поражен...
Но выполнить его я мог тем легче,
Чем дольше на него смотрел. О, Благодать
Неисчерпаемая, ты дала
Мне силу так вперить мой взор в тот Свет,
Что до конца исполнилось виденье Рая!62
4
Около Равенны, верст на тридцать, тянется по берегу моря
вековой сосновый бор, Пинета, чьи исполинские сосны — прав¬
нучки тех, из которых Август строил корабли для Равеннской
гавани, Киассиса (Ciassis-Chiassi).
«В этом лесу Данте часто бродил, одинокий и задумчивый,
слушая, как ветер в соснах шумит». Шуму сосен, такому ров¬
ному, даже во время сильного ветра, что не испуганные им пти¬
цы продолжают путь, отвечает далекий и такой же ровный шум
Адриатических волн, как всем голосам человеческим, во време¬
Данте
269
ни, отвечает Глас Божий, в вечности. Птицы поют, пчелы жуж¬
жат, журчат воды, благоухают цветы так сладко в этом лесу, что
он сделался для Данте прообразом того «Божественного Леса»,
foresta divina, который неувядаемо цветет на вершине «святой
Горы Очищения»63:
И слышал я в листве деревьев райских...
Как бы далекий гул колоколов,
Такой же точно, как в бору сосновом,
На берегу Киасси, в час ночной,
Когда сирокко знойный дует с моря.64
В летний вечер Данте беседует в Пинете с юным Равеннским
учеником своим. Менчино да Меццани.
— Помнишь, мой друг, что в Откровении сказано: «Ангел,
стоящий на море и на земле... клялся Живущим во веки веков,
что времени больше не будет»65? Клятва эта здесь, в Равенне,
уже исполнилась. Веющие здесь надо мной, вечные тени про¬
шлого, от Цезаря до Юстиниана, суть вечные знамения буду¬
щего. Равенна — посредница между Востоком и Западом, про¬
рочица грядущего соединения их в той новой всемирности,
которую возвестил я людям. Здесь родилось и умерло и ждет
своего Воскресения то, что я любил на земле и во что я верил
больше всего: Рим — бывшая Сила, будущая Любовь, Roma-
Amor.
Любовь, что движет солнце и другие звезды, — это послед¬
ний стих «Комедии». Двадцать лет длилось видение — Ад, Чи¬
стилище, Рай. И вот теперь, когда я от этого видения проснулся,
с неба на землю сошел, — я продолжаю жить на земле, — за¬
чем, — я сам не знаю. Но кажется иногда, что кончена песнь —
кончена жизнь, и чем скорее вернусь я туда, на родину, — тем
лучше. О, если бы я мог сказать: «Ныне отпускаешь раба Твое¬
го, Владыка, с миром!»66
Солнце заходит; слышится далекий колокол Ave Maria.
В темных вересках вспыхивает красный цветок. Как живое пла¬
мя — живая кровь.
— На что он похож, на что он похож? — шепчет Данте. —
Ах, да, на Сан-Мартиновой площади, в темной щели между кам¬
нями башни дэлла Кастанья, красный цветок.
270
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Белая Роза, алая Кровь;
Солнце на небе — в сердце любовь...
— Ступай вперед, Менчино, — я за тобой сейчас...
Когда Менчино уходит. Данте, слушая далекий колокол,
шепчет:
Был час, когда пловец душой стремится
К родной земле, где, в горький миг разлуки,
Сказал он всем, кого любил: «Прости!»
Был час, когда паломника любви
Волнует грустью колокол далекий,
Как будто плачущий над смертью дня.67
Этот час и для меня наступает, но сердце мое над смертью
временного дня уже не плачет, а рождению незакатного радует¬
ся... Тихим светом горит в душе моей мысль о Тебе, о Тебе одной,
как в вечернем небе Звезда Любви...
Глядя на темнеющее небо, где горит Звезда все ярче, все
огромнее, Данте становится на колени и молится:
— О, Беатриче, ты— моя надежда; ты для моего спасения
в ад сошла, ты сделала меня, раба, свободным! Освободи же до кон¬
ца, чтоб дух от смертной плоти разрешенный, к Тебе вознесся.
XIV
СМЕРТЬ ДАНТЕ
1
В той же палате дворца, где, года четыре назад, Гвидо да По¬
лента в первый раз увидел Данте, беседуют они наедине.
— Есть у меня к тебе большая просьба, мой друг, но если ты
не захочешь исполнить ее — обещай, что откажешь и что мы
останемся такими же друзьями, как были...
— Нет, государь, этого я не обещаю, но какова бы ни была
просьба твоя, — если только могу, — исполню.
— Кроме тебя, не мог бы ее исполнить никто. Слушай же.
Дней десять назад произошло событие ничтожное, но которое
Данте
271
может быть для нас всех роковым: глупая ссора и драка пьяных
корабельщиков на двух судах, Равеннском и Венецианском.
В драке убит был капитан их корабля с несколькими матроса¬
ми, и корабль их захвачен Равеннцами в плен. Этого достаточ¬
но, чтобы нарушить мир между нами и Венецией. Более гроз¬
ной опасности никогда еще не подвергалась Равенна: каждого
из соединившихся против нее союзников будет довольно, чтоб
ее уничтожить, потому что земли наши отовсюду окружены
врагами: с устья По и с моря нам грозит Венецианский Флот,
а с суши — войска Орделаффи и Малатесты. Нет для нас друго¬
го спасения, кроме искусных переговоров о мире, и лучше тво¬
его никто их не мог бы вести. Будь же нашим послом, поезжай
в Венецию и мир заключи...
— О, как бы я был счастлив, государь, если бы мог оплатить
миром за найденный в вашей земле мир! Но прежде чем решить,
можно вас об одном спросить?
— О чем?
— Сколько есть у вас для этого дела более достойных и опыт¬
ных людей, чем я? Почему же вы избрали меня, человека вне
закона, осужденного на смерть, изгнанника?
— Потому что больдце славы я не хочу для себя, чем, чтобы
в грядущих веках люди сказали: «Данте Алигьери, когда жил
у Гвидо Полента, совершил великий подвиг любви — отвра¬
тил людей, хоть раз, от проклятого дела войны к святому делу
мира! »
— О, если бы знали все, как знаете вы, государь, что един¬
ственная цель всего, что я хотел и не мог сделать, только в этом
одном святейшем для меня, из всех слов человеческих: Мир!
2
Данте и спутники его, возвращаясь из Венеции в Равенну,
плывут в гондоле по Венецианским лагунам, вдоль песчаных от¬
мелей Маламокко и Палестрины до Киоджии.
— Ну, что же, учитель, война или мир? — спрашивает Пье¬
тро даДжиардино.
— Кажется, мир, хотя это дело оказалось труднее, чем думал
государь, и думали мы все... О, как бы я был счастлив, если бы
272
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
это величайшее и святейшее из дел человеческих — мир, был
моим последним делом на земле!
— Почему последним?
— Не знаю... Может быть, потому, что мне хотелось бы...
Да нет, не надо говорить об этом, — лучше делать молча...
Путники едут из Киоджии, на конях и мулах, до местечка
Лорето, где ночуют.
На следующий день переправляются через устье По со мно¬
гими рукавами, на больших, плоских, огражденных перилами,
лощаниках, где помещается не только множество пеших и кон¬
ных, но и целые, запряженные волами, телеги. Так доезжают
до Бенедиктинской обители, Помпозы, чьи великолепные, мно¬
гоцветными изразцами украшенные колокольни возвышаются
над цветущими садами и рощами, служащими для иноков не¬
верной защитой от убийственных лихорадок соседних болот.
Путь третьего дня идет по узкому перешейку, отделяющему
Адриатическое море от бесконечных Комакийских лагун и бо¬
лот, где первые, только что выпавшие, августовские дожди ув¬
лажнили и размягчили жесткий, высушенный летним зноем,
растрескавшийся черный ил. Тускло-багровое, без лучей, солн¬
це опускается в море, как раскаленный докрасна, чугунный
шар. В воздухе от подымающихся над болотом густых испаре¬
ний — сине, как от дыма. Тихим звоном звенят на ухо путников
тучи разносящих заразу болотной лихорадки, почти невиди¬
мых, прозрачно-зеленых комаров — зензан.
— Хуже здешних мест нет нигде, особенно после первых
осенних дождей, — говорит Федуччио Милотти, врач. —
«Первый дождь — к смерти вождь», сказывают здешние жите¬
ли. Тут и зверь не живет, и птица не летает, от «злого воздуха»,
malaria... Помнишь, Данте, как у тебя, в Аду, об этом сказано:
Как человек, в болотной лихорадке,
Трясется весь, в предчувствии озноба,
И ноги у него уже синеют,
Едва вдали сырую тень завидит...
Данте кутается в темный плащ.
— Что ты, мой друг, уж не знобит ли?
— Нет, ничего... Скоро будем в Равенне?
Данте
273
— К ночи.
Вдруг остановив мула,, вынимает Милотти из мешка по¬
ходную фляжку, наливает в чарку вина и подает Данте.
— Пей, — согреешься, а на ночь дам потогонного, да крови
змеиной два грана, да единорожьего рога два с четвертью, и зав¬
тра, Бог даст, встанешь как встрепанный...
Последняя часть пути до Равенны идет, на несколько верст,
сосновым бором, Пинетой. Снова видит Данте «Божественный
Лес», divina foresta, подобие Земного Рая на святой Горе Очи¬
щения. Но слишком сладко поют в нем птицы, жужжат пчелы,
журчат воды, благоухают цветы; слишком торжественно отве¬
чает протяжному гулу сосен далекий шум Адриатических волн,
как всем голосам человеческим, во времени, отвечает Глас Бо¬
жий, из вечности: Данте чувствует, что смертельная отрава
«злого воздуха», malaria, уже течет в его крови.
3
В самый глухой час ночи, когда в доме все уже спят, Данте
остается наедине с дочерью, Антонией, послушницей Равеннско¬
го монастыря св. Уливы, будущей монахиней, сестрой Беатриче.
Дочь укладывает его в постель и готовит ему на ночь питье.
— Весь как в огне, — говорит, пощупав ему рукою лоб. —
Батюшка, ты очень болен, я пошлю за мессером Фидуччио...
— Нет, завтра пошлешь, я хочу спать, ступай... Никому
не говори, что болен, — никому, слышишь?
— Батюшка, миленький, позвольте остаться! Я только здесь,
в уголку, прикорну, мешать вам не буду...
— Нет, ступай! Вон как со мной измучилась, бедная, лица
на тебе нет... Ступай же, ступай, что же ты стоишь?
Дочь идет к двери.
— Стой, погоди! Вот здесь, под подушкой, ключ. Нашла?
Там, в углу, железный ларец. Отопри. Пачка листов, на самом
дне, красным шелком перевязана. Нашла? Давай сюда, сунь
под подушку, вот так...
— Что это, батюшка?
— Все равно, что. Никому не говори. Последние тринадцать
Песен «Рая». Надо кое-что поправить завтра. Что еще я хотел,
погоди... Нет, ничего. Ступай!
274
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Долго молча лежит, с закрытыми глазами и неподвижным,
точно каменным, лицом. Дочь смотрит на него и тихо плачет.
— Ох, опять эта жижка проклятая! — шепчет он быстро
и невнятно, как в бреду. — Вертится, вертится, трещит: «Три —
Три — Три...» Знаешь, сестра моя, Беатриче, что такое Три?
Отец. Сын и Дух Святой, твое Число Божественное,
— Три...
Вдруг открывает глаза и смотрит на нее, как будто не узнает:
— Ты? Опять ты?.. Что ж ты стоишь? Ступай же! Ступай!
Ступай! — кричит и плачет злобно, как маленький ребенок.
Дочь уходит. Данте, оставшись один, опять долго лежит
с неподвижным Дицом и закрытыми глазами. Потом вдруг от¬
крывает их и, пристально глядя на распятие, висящее на стене,
против изголовья постели, шепчет все быстрее, невнятнее:
О, Юпитер,
За нас распятый на земле, ужели
Ты отвратил от нас святые очи?68
Кто от кого отвратил, — Ты от нас. Или мы от тебя? Точно
какая-то черная тень легла между Тобой и нами; точно обидел
Ты нас какой-то нездешней обидой, какой-то горечью неземной
огорчил. Не потому ли и Духа назвал Ты сам «Утешителем»,
как будто знал, что чем-то огорчишь людей, от чего надо будет
их утешить Духу? «Отступи от меня, чтоб я мог подкрепиться,
прежде нежели отойду и не будет меня!»69 Точно между Тобой
и мной было всю жизнь то же, что в начале жизни, между мной
и Ею, Возлюбленной, когда Она отказала мне в блаженстве при¬
ветствия, и я почувствовал такую скорбь, что, уйдя от людей
туда, где никто не мог меня видеть и слышать, я начал плакать
и, плача, уснул, как маленький прибитый мальчик... Не наяву,
когда я о Тебе думаю, а во сне, когда я мучаюсь Тобой, кто кого
разлюбил, я — Тебя, или Ты — меня!»
— А знаешь, что умрешь?
— Кто это сказал, я или Он... или ты?..
— Кто бы ни сказал, мой друг, так оно и есть. Знаешь ли,
что ты — великий грешник? Помнишь, как в Раю, ты отвратил
глаза от Солнца — Лика Христова, и только в Ее лицо смотрел?
Помнишь, как Она сама тебе сказала:
Данте 275
Зачем ты так влюблен в мое лицо,
Что и смотреть не хочешь на прекрасный
В лучах Христа цветущий Божий Сад?70
Вечно-памятное для тебя видение — Она, а Он — видение
забытое. Солнце Ее — Ее улыбкой — затмилось для тебя Солн¬
це Христа. Ближе тебе Она, нужнее, чем Он. Ты Его не знаешь,
не видишь, потому что меньше любишь Его, чем Ее. Тварь вме¬
сто Творца, смертная вместо Бессмертного, — вот твой грех.
Знаешь, что надо сделать, чтоб грех искупить?
— Знаю.
— Сделаешь?
— Если и сделаю, то без тебя, против тебя!
— Нет, со мной. Я пришел тебя спасти. Знаешь, что в по¬
следних тринадцати песнях «Рая» — твой грех? Знаешь, что
надо сделать, чтобы его искупить?
— Молчи, уйди, уйди! Именем Ее заклинаю, уйди!
— Именем Ее, а не Его?.. Я уйду, а ты решай, хочешь ли
душу твою спасти ради себя, или ради Него погубить...
Данте открывает глаза и, глядя на распятие, долго лежит
с неподвижно-каменным, точно мертвым лицом. Потом, вынув
из-под подушек ключ и тринадцать пачек листков, перевязан¬
ных красным шелком, встает с постели, весь дрожа от озноба
так, что зуб на зуб не попадает, подходит к ларцу, отпирает его,
вынимает глиняный горшочек с известью, малярную кисть,
молоток с гвоздями и камышовую циновку stuoia. Медленно,
с трудом, как будто подымая неимоверную тяжесть — подве¬
шенный к шее мельничный жернов, — подходит к <оконцу»
или «печурке» в стене, finestretta, для рукописи и книг, кладет
туда пачки листков, закрывает циновкой, прибивает ее гвоздя¬
ми к стене, забеливает известью так ровно, что ничего не видно,
снова ложится в постель и, глядя на распятие, шепчет:
— «Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:
Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим.
Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, пото¬
му что Ты со мною; Твой жезл и твой посох, они успокаивают
меня»... (Пс, 24, 1-4).
276
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
4
В 1321-м году, в ночь с 13-го сентября на 14-е, день Воздви¬
жения Креста Господня и поминовения крестных язв св. Фран¬
циска Ассизского, государь Равенны, Гвидо да Полента, сыно¬
вья Данте, Пьетро и Джьякопо дочь его, Антония, ученики
и друзья собрались в комнате умирающего Данте. Инок Фран¬
цисканской обители читает отходную таким уныло-однозвуч¬
ным голосом, как жужжание болотных комаров — зензан.
Данте, уже причастившись, лежит на постели, в длинной,
темно-коричневой грубого войлока, подпоясанной веревкой,
монашеской рясе нищих братьев св. Франциска. Руки сложил
крестом на груди и закрыл глаза, с таким неподвижно-камен¬
ным лицом, что смотрящие на него не знают, жив он или умер.
— Кончился? — спрашивает государь шепотом на ухо вра¬
ча.
— Нет, еще дышит, — отвечает тот, приложив ухо к груди
умирающего.
Данте вдруг широко открывает глаза и произносит громким
внятным голосом:
О Clemens, о pia,
О dulcis Virgo Marial
Верую в Три Лица Вечные. Отца и сына и Духа Святого.
Три — Три — Три!
Тело его то пылает в жару, как в вечном огне, то леденеет в оз¬
нобе, как в вечных льдах. Но больше, чем тело, страдает душа:
все еще не знает он, надо ли было делать то, что он сделал, или
не надо; спас ли он душу свою, погубив ее ради Того, Кто велел
погубить, или, спасая ради себя, погубил?
Бело-белое, в черно-красной мгле, пятно стоит перед его
глазами, и он знает, что будет вечно стоять, никогда не уйдет.
Все не может понять, что это; может быть, забеленное оконце
в стене? Нет, что-то другое, неизвестное. Вдруг понял: белое,
ледяное и огненное вместе, леденящее и жгущее, — есть вечная
мука ада — вечная смерть. Но только что он это понял, как ус¬
лышал тихие, знакомые шаги, и на ухо шепнул ему знакомый,
тихий голос.
Данте
277
— Не узнаешь? Смотри, смотри же: это я, я, Беатриче!
И он увидел наяву то, что некогда видел во сне, в видении:
Она явилась мне, в покрове белом
На ризе алой, как живое пламя.
И после стольких, стольких лет разлуки,
В которые отвыкла умирать,
Душа моя в блаженстве перед Нею,
Я, прежде чем Ее мои глаза
Увидели, уже по тайной силе,
Что исходила от Нее, — узнал,
Какую все еще имеет власть
Моя любовь к ней, древняя, как мир.
И тою же опять нездешней силой
Я потрясен был и теперь, как в детстве,
Когда Ее увидел в первый раз.71
Тихо уста припали к устам, и этот первый поцелуй любви
был тем, что казалось людям смертью Данте, а для него самого
было вечного жизнью — Раем.
5
Месяцев через восемь по смерти Данте, после бесконечных
поисков пропавших песен «Рая», когда перестали их искать,
думая, что они безнадежно потеряны, или даже вовсе не напи¬
саны, и когда сыновья Данте, Джъякопо и Пьетро, начали,
с «глупейшим самомнением», присочинять от себя эти пес¬
ни, — Данте явилсяДжъякопо во сне, «облаченный» в одежды
белейшего цвета и с лицом, осиянным нездешним светом».
— Ты жив, отец? — спросил его Джъякопо.
— Жив, но истинной жизнью. — не вашею, — ответил Дан¬
те.
— Кончил ли «Рай»?
— Кончил, — и взяв его за руку, он повел его в ту комнату,
где спал живой и умер; прикоснулся рукой к стене и сказал:
— Здесь то, чего вы искали.
Спящий проснулся. Час был предутренний, но еще темно
на дворе. Встав поспешно и выйдя из дому, Джъякопо бежит
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
278
к мессеру Пьетро Джиардино и рассказывает ему о чудесном
видении. Тотчас же оба спешат в дом, где жил Данте, находят
указанное на стене место, нащупывают прибитую к нему цинов¬
ку и, потихоньку отодрав ее, видят никому не известное «окон¬
це» , где лежит пачка листков.
— Что это? — спрашивает Пьетро, весь дрожа и бледнея.
— Трудно прочесть, вон сколько наросло плесени от сыро¬
сти, — отвечает Джьякопо. тоже весь дрожа. — Надо бы снять...
— Тише, тише, мессер Аллигьери, как бы не рассыпались!
Если бы еще немного дольше пролежали, истлели бы совсем!
— Дайте свечу поближе, вот так...
Джьякопо развязывает истлевшую нить красного шелка
на пачке листков, осторожно снимает ножом белую плесень
с почерневшего верхнего листка и читает глухим дрожащим го¬
лосом:
Già eran li acchi miei rifissi al volto
de la mia donna, e l’anima con essi...
Вновь обратилися глаза мои к лицу
Владычицы моей, и душа моя была с Нею...
— Сколько пачек? — спрашивает Джиардино. Джьякопо
считает.
— Тринадцать.
— Значит, весь «Рай».
— Да, весь72. А ведь это чудо, мессер Джиардино, — святого
Данте первое чудо!
— Первое, но, может быть, не последнее...
Глядя на окно, озаренное первым лучом восходящего солнца,
мессер Джиардино крестится.
— Слава Отцу, и Сыну, и Духу Святому! Аминь.
А. Ф. ЛОСЕВ
Данте
Остетика Возрождения. Фрагмент>
При обращении к Данте нам необходимо остановиться на ос¬
новном положении его эстетической доктрины — признании
«божественной обусловленности творческого акта, который
имеет несвободный характер»*. Для Данте идея — это «мысль
бога»:
Все, что умрет, и все, что не умрет, —
Лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий
Своей Любовью бытие дает.
(«Рай», XIII, 52-54. Здесь и далее перевод М. Лозинского)
Если искусство у Данте не может отразить божественное со¬
вершенство, «воплотить чистую идею красоты»**, то в природе
она только иногда проглядывает, и художник должен уловить
ее и постараться выразить в своем произведении. В. Н. Лаза¬
рев отмечает: «Дантевское понимание искусства восходит сво¬
ими истоками к новоплатонизму. Оно базируется на признании
примата идеи. Эта идея, связываемая непосредственно с богом,
обладает абсолютным совершенством только в чистом виде.
Преломленная же в материи природы или искусства, она утра¬
чивает свою первозданную законченность. Тем самым перед
искусством встает задача приближения к потустороннему иде¬
* Лазарев В. Я. Происхождение итальянского Возрождения. В 3-х томах,
т. 1.М., 1956. С. 53.
** Там же. С. 55.
280
А. Ф. ЛОСЕВ
алу, который теоретически не может быть осуществим. Имен¬
но на этом пути искусство становится символом более высоких
ценностей»*.
И эта тенденция Данте к символизму подтверждается его
призывом читать «между строк» :
О вы, разумные, взгляните сами,
И всякий наставленье да поймет,
Сокрытое под странными стихами.
(«Ад», IX, 61-63)
Отмечая далее, что художественная сила дантовских стихов
заставляет забыть о скрытых в них символах, В. Н. Лазарев
подчеркивает, что художественная практика в данном случае
опережает современную эстетическую теорию, для которой ха¬
рактерно неоплатоническое понимание идеи и которая не опре¬
деляет творчества поэта и современных ему художников**. Такое
отрицание неоплатонизма у Данте и Джотто не совсем верно.
Неоплатонизм господствует здесь целиком. Однако он перегру¬
жен той материальной кон кретностью и теми невероятно чув¬
ственными образами, которые при всей своей ужасающей или,
наоборот, светло-увлекающей форме, таят под собой, по мысли
того же В. Н. Лазарева, всемогущую платоническую идеаль¬
ность.
О влиянии идей Платона на Данте говорит и И. Н. Голени¬
щев-Кутузов. Отмечая знакомство Данте с другими греческими
философами, его глубокое почтение к Пифагору, его занятия
Стоей и т. д., этот автор указывает, что, «несмотря на частое
совпадение дантовских взглядов с аристотелианскими, его по¬
этическому мироощущению учение Платона было ближе»***.
Под воздействием идей Платона, «воспринятых им как непо¬
средственно («Тимей» и, возможно, «Федр»), так и из книг не¬
оплатоников конца античности и XII в.», возникла «доктрина
иерархического строения бытия»****. И. Н. Голенищев-Кутузов
отмечает общую неоплатоническую направленность творчества
* Там же. С. 55.
** См.: там же. С. 56-57.
*** Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура. М.,
1971. С. 77-84; 82.
**** Там же. С. 78,82.
Данте
281
Данте, которая «нередко преодолевает аристотелевские постро¬
ения уже в «Пире», не говоря о более поздних сочинениях Дан¬
те, за исключением, быть может, «Монархии». Уже в «Пире»
в философскую систему Данте врывается неоплатоническое
учение Дионисия Ареопагита об ангельских иерархиях. И Дан-
това психология, и его учение о свете отмечены печатью влия¬
ния неоплатонистических идей...»*.
Специально отношению Данте к Дионисию Ареопагиту по¬
священа работа Д. Зумбадзе «Дионисий Ареопагит и Данте
Алигьери»**, где как основная проблема выдвигается проблема
духовного света.
В резюме работы Д. Зумбадзе мы читаем: «От понимания
света в мифологическом осмыслении рождения бога вина
и опьянения — Диониса — как божественной непостижимой
силы, от понимания божественного мрака библейского Моисея,
от платонического сверхидеального св ета, вернее, проходя че¬
рез эти понимания, Дионисий Ареопагит создает классический
мистико-философский образ ослепительного божественного
света, который становится решающим образом в поэтическом
мышлении Данте Алигьери. Для освещения этой проблемы
мы каса емся в основном вопроса о небесной иерархии, обра¬
зе Беатриче и образе перводвигателя. В переживании велико¬
го Итальянца, путь, высоко подымающийся в дионисиевских
небесных иерархиях к перводвигательной силе, — путь люб¬
ви. Но это платоническо-христианское решение приближения
к богу здесь, у Данте, преподносится все-таки не обыкновен¬
ным путем: гений любви здесь такая же доля избранных, как
гений поэзии, философии, пророчества, религиозного вдохно¬
вения. Дантовский путь любви — это путь восприятия боже-
ственн ого света. Понятие света как возвышающей силы и света
как разрушающей силы, мысль о том, что свет может осветить
и возвысить человека и может разрушить его, с удивительной
поэтической силой звучит в божественном осмыслении Данте
Алигьери. Фактически вся поэма — это мистерия приобщения
к этому ослепительному свету» ***.
* Там же. С. 83.
** Зумбадзе Д. Дионисий Ареопагит и Данте Алигьери. — «Мацне» (серия
философии, психологии, экономики и права). Тбилиси, 1972, № 4
(на груз, яз., резюме на русск. и англ. яз.).
*** Там же. С. 74.
282
А. Ф. ЛОСЕВ
Белый — цвет дневного света. В цветовой символике Дан¬
те, которую особо рассматривает В. П. Гайдук, «определение
bianco... объединяет сверху ахроматические и полихроматиче¬
ские символы цветового сопровождения поэмы Данте»*. Если
для «Ада» характерны «темные» тона (bruno, cupo, atro, tetro
и т. д.), то «путь из Ада в Рай — это «переход от темного и мрач¬
ного к светлому и сияющему, тогда как в Чистилище происходит
смена освещения» **. Для трех ступеней у врат Чистилища выде¬
ляются символически е цвета: белый — невинность младенца,
багровый — грешность земного существа, красный — искупле¬
ние, кровь которого убеляет, т. е. белый появляется вновь как
«гармоническое слияние предыдущих символов»***.
Собственно цветовые, хроматические определения появ¬
ляются в «Рае» и объединены в гармоническую, традиционно
трехцветную радугу, а не разбросаны в хаотическом беспоряд¬
ке. В. П. Гайдук делает заключение, что у Данте «из хаоса,
пестроты красок внешнего мира создан космос — гармония
красок мира внутреннего» (там же, 180). Чтобы достичь такой
гармонии, покоя души, надо пройти «три ее состояния: бытие,
очищение и обновление, которым и соответствуют три мира: ад,
чистилище и рай»****.
В своем трактате «Пир» Данте развивает целое учение о сим¬
воле. Приведем это известное место («Пир», II 12-12. Здесь
и далее перевод А. Г. Габричевского): «Для уразумения же этого
надо знать, что писания могут быть поняты и должны с вели¬
чайшим напряжение м толковаться в четырех смыслах. Первый
называется буквальным, и это тот смысл, который не прости¬
рается дальше буквального значения вымышленных слов, —
таковы басни поэтов. Второй называется аллегорическим, он
таится под покровом этих басен и является ис тиной, скрытой
под прекрасной ложью; так, когда Овидий (Met., XI, 1) говорит,
что Орфей своей кифарой укрощал зверей и заставлял деревья
и камни к нему приближаться, это означает, что мудрый чело¬
век мог бы властью своего голоса укрощать и усмирять жесто¬
кие сердца и мог бы подчинять своей воле тех, кто не участву¬
ГайдукВ. П. К вопросу о цветовой символике «Божественной комедии»
Данте. — «Дантовские чтения». М., 1971. С. 174.
** Тамже. С. 176.
*** Тамже. С. 179.
**** Де Санктис. История итальянской литературы. М., 1963. С. 172.
Данте
283
ет в жизни науки и искусства; а те, кто не обладает разумной
мыслью, подобны камням... Третий смысл называется мораль¬
ным, и это тот смысл, который читатели должны внимательно
отыскивать в писания х на пользу себе и своим ученикам. Такой
смысл может быть открыт в Евангелии, например когда расска¬
зывается о том, как Христос взошел на гору, дабы преобразить¬
ся, взяв с собою только трех из двенадцати апостолов, что в мо¬
ральном смысле может быть понято так: в самых сокровенных
делах мы должны иметь лишь немногих свидетелей.
Четвертый смысл называется анагогическим, т. е. сверх¬
смыслом или духовным объяснением Писания; он остается ис¬
тинным так же и в буквальном смысле и через вещи означен¬
ные выражает вещи наивысшие, причастные вечной славе, как
это можно видеть в том псалме Пророка, в котором сказано, что
благодаря исходу народа Израиля из Египта Иудея стала свя¬
той и свободной (Пс., 113). В самом деле, хотя и очевидно, что
это истинно в буквальном смысле, все же не менее истинно и то,
что подразумевается в духовном смысле, а именно что при вы¬
ходе души из греха в ее власти стать святой и свободной. Объ¬
ясняя все это, смысл буквальный всегда должен предшество¬
вать остальным, ибо в нем заключены и все другие и без него
было бы невозможно и неразумно добиваться понимания иных
смыс лов, в особенности же аллегорического. Это невозмож¬
но потому, что в каждой вещи, имеющей внутреннее и внеш¬
нее, нельзя проникнуть до внутреннего, если предварительно
не коснуться внешнего, и, так как [буквальное значение] есть
всегда внешнее, невозможно п онять иные значения, в особен¬
ности аллегорическое, не обратясь предварительно к букваль¬
ному... Буквальное значение всегда служит предметом и мате¬
рией для других, в особенности для аллегорического. Поэтому
невозможно достигнуть познания других значений, минуя по¬
знание буквального» *.
Говоря о «писаниях», Данте имеет в виду не только Свя¬
щенное писание (хотя в первую очередь, конечно, именно его),
но и всю светскую поэзию. В связи с этим известный современ¬
ный специалист по Данте пишет: «Разница, которую Данте
устанавливает между аллегорией теологов и аллегорией поэ¬
* Данте Алигьери. Малые произведения. Изд. подготовил И. Н. Голенищев-
Кутузов. М., 1968. С. 135-136; ср. там же, с. 387.
284
А. Ф. ЛОСЕВ
тов, та же, что у Фомы Аквинского между четырехсмысленным
значением Св. писания и поэтической фиктивной манерой вы¬
ражать истину. Все же, по мнению Аквината, метафорический
смысл поэзии принадлежит литературному плану. Данте отсту¬
пает от Фомы, координируя непосредственный смысл аллего¬
рии поэтов с буквальным смыслом теологов и равным образом
метафорический смысл поэтов с аллегорическим смыслом бого¬
словов»*.
В соответствии с этим своим учением во II — IV трактатах
«Пира» Данте подвергает такому четырехсмысленному толко¬
ванию три свои философские канцоны. Всего же, по плану Дан¬
те, его «Пир» должен был состоять из 15 трактатов, в которых
комментировались бы 14 канцон.
«Пир» философски базируется не только на Аристотеле, что
было весьма естественно и неизбежно в те времена, но букваль¬
но весь пронизан платоническими и неоплатоническими учени¬
ями, по преимуществу в их ареопагитском оформлении. Данте
говорит о «субстанциях, отделенных от материи, т. е. Интеллек¬
тах; в просторечии же люди называют их Ангелами» (Il IV 2)* **.
Здесь он прямо спорит с Аристотелем, отрицавшим существо¬
вание чистых субстанций, отдельных от материи, и ссылается
на «превосходнейшего мужа Платона», который утверждал
(II IV 4), что «подобно тому, как небесные Интеллекты явля¬
ются творцами этих небес, каждый из них сотворил свое небо,
так же точно Интеллекты эти порождают и другие вещи и прото¬
типы, каждый из них творя свой вид. Платон называет их «иде¬
ями», иначе говоря, всеобщими формами или универсальными
началами».
Данте ссылается на известный анонимный средневековый
трактат «О причинах», представлявший собою выборку из со¬
чинений Прокла. Например (III II 4): «Каждая субстанциаль¬
ная форма происходит от своей первопричины, каковая есть
бог, как написано в книге «О причинах», но не она, будучи пре¬
дельно простой, определяет различия этих форм, а вторичные
причины и та материя, в которую бог нисходит»***. Или (III VI
Chydenius J. The typological problem in Dante. Helsingfors, 1958. P. 45-
46.
** Там же. С. 140.
*** Там же. С. 167.
Данте
285
4-5): «Нужно сказать, что каждое небесное Разумение, соглас¬
но книге «О причинах», ведает и о том, что выше его, и о том,
что ниже его. Оно знает бога как свою причину и знает как свое
следствие то, что стоит ниже его самого, а так как бог есть все¬
общая причина вещей, небесному Интеллекту, которому ведом
бог, ведомо и все в нем самом, как это и подобает высшему со¬
знанию. Таким образом, всякому разумению дано познание
человеческой природы, поскольку природа эта предусмотре¬
на божественным разумом; и в особенности дано это познание
движущим интеллектам, ибо они являются непосредственной
причиной не только человеческой, но и всякой другой природы;
что касается человеческой природы, то они знают ее настолько
безукоризненно, насколько это возможно, ибо являются для нее
правилом и образцом»*.
При описании загробного мира у Данте никогда не теряется
чувство связи его с земным миром. Для такого подхода очень
удобной оказалась анализируемая М. В. Алпатовым «точка зре¬
ния путешественника», который сообщает «встречным земные
вести», берется передать от них приветы друзьям и т. д. Причем
Данте двигается в пространстве и времени, четко координиро¬
ванных между собой: «Говоря о временной композиции поэмы
Данте в пространственных терминах, — отмечает М. В. Алпа¬
тов, — можно сказать, что действие развивается не в глубин¬
ном, перспективном пространстве, а как бы в тесных, узких
пределах плоского рельефа»**, что сближает его с итальянской
живописью Возрождения, которая рельефно выделяет лишь
предметы первого плана.
Указывая на сближение картин загробного мира с воспоми¬
наниями о земном, надо вспомнить колесницу из XXIX песни
«Чистилища», в которой видят аллегорическое изображение
римской церкви. По этому поводу М. В. Алпатов пишет: «Об¬
разы Данте — это не отвлеченные категории и не субъективные
впечатления; это «реальности», которые художник показывает,
совлекая с них покров случайности в образах загробного мира
и вновь надевая покров телесности своими изумительными го¬
* Там же. С. 176.
** Алпатов M. В. Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто. М— Л.,
1939. С. 52-53.
286
А. Ф. ЛОСЕВ
меровскими сравнениями, влекущими от потустороннего к зем¬
ному»*.
В заключение всей этой характеристики «Божественной ко¬
медии» Данте необходимо сказать, что в более ярком свете нель¬
зя было бы себе и представить литературную иллюстрацию для
всей эстетики проторенессанса. Было бы не очень трудно ука¬
зать все те подчиненные художественные стили, которые сли¬
лись в один стиль проторенессанса. Здесь, конечно, на первом
плане и огромные, подавляющие своей цельной мощностью
черты романского стиля. Здесь часто промелькивает и легкая,
почти земная античность. Здесь и изысканный плоскостной ха¬
рактер изображения, который в византийских иконах как бы
завершает свою трехмерность уже в высшем мире. Здесь и го¬
тический взлет вверх. Самое же главное — это наряду с доволь¬
но резким использованием аллегорического приема потряса¬
ющий символизм, когда изображаемый предмет не указывает
на что-нибудь другое, а только на самого же себя, что при иной
точке зрения, конечно, может вскрыть при таких обстоятель¬
ствах и вполне аллегорическую методологию. Пластическая
материальность потрясающим образом характеризует собою
у Данте иной раз максимально духовные сущности. При всей
связи Данте со средневековым мировоззрением его художе¬
ственные образы настолько индивидуальны и неповторимы, на¬
столько единичны и в то же время пронизаны одной и всеобщей
идеей, что в конце концов невозможно даже поставить вопрос
о том, идеализм ли здесь перед нами или реализм, запредельная
духовность или резко ощутимая нашими внешними чувствами
картинность, средние ли это века или уже начало Ренессанса,
духовная ли это поэзия или уже чисто светская. Словом, все
те особенности неоплатонизма, философии и эстетики XIII в.,
о которых мы говорили выше, и наглядно ощутимая и резко
очерченная, иной раз до боли в глазах и остроты прочих внеш¬
них и внутренних ощущений, индивидуальное ть (которую мы
выше как раз и объясняли у Фомы аристотелистской обработ¬
кой неоплатонизма) — все это делает «Божественную комедию»
выдающимся мировым образцом как раз этого сложного и труд-
ноформулируемого стиля проторенессанса.
* Там же. С. 57.
Приложение
287
А. Ф. ЛОСЕВ
Приложение
[Тетрадь с пометой
«Средневековая литература № 11 »]*
ДАНТЕ
I
Биография и сочинения
1. а) Данте Алигиери (1265-1321) род<ился> во Флорен¬
ции. О детстве его известно только то, что в 1274 (г.), 9-летним
мальчиком, он встретил на майском праздникедочь своего сосе¬
да Фолко Портинари — Беатриче, тоже малолетнюю девочку,
поразившую его своей красотой. Она завладевает всеми его по¬
мыслами. Он встречает ее еще раз через 9 лет, в 1283 г., и с этих
пор <на>чинается его настоящая любовь к ней, замечательным
памятником которой является «Новая жизнь» (Беатриче уми¬
рает рано, в 1290 г.).Впоследствии Данте женится на другой
и имеет семью, но отношения с женой у него тяжелые; и есть
сведения, что он с нею не живет.
Ь) Политич<еская> деятельность его начинается с 1295 г.,
когда он начинает принимать участие в смутах Флоренции.
В конце XIII в. в<о><Фл>оренции, как и в других городах
Италии, происходит ожесточенная борьба между гвельфами
(буржуазная аристократия, тяготевшая к папству) и гибеллина¬
ми (феодальная аристократия, тяготевшая к германскому им¬
ператору).
* Тетрадь исписана зелеными чернилами, помета сделана синими (здесь
и далее примечания к публикации Е. А. Тахо-Годи).
ечэ
Флоренция была местом победы буржуазии над феодалами
(1250)*, т. е. она была гвельфской, но происходят также вос¬
стания и гибеллинов (через 10 лет)**, кот<орые> временно до¬
стигают тут даже перевеса. Однако, содействие папы приводит
к тому, что в 1289 г. в битве при Кампальдиногвельфы берут
перевес, а в 1293 г. издают постановления, лишающие лиц фео¬
дально-дворянского происхождения политических прав (Данте
был гвельф); Власть начинает принадл<ежать> старшим це¬
хам. Были лишены прав как феод<альные> мел<кие> партии,
так и нар<одные> массы***.
В дальнейшем (1295)**** эти постановления смягчаются: дво¬
рянам разрешают записываться в цехи и, значит, участвовать
в выборах на должности городского самоуправления. Власть
теперь принадл<ежит>старшим цехам вместе с дворянами*****.
Т<аким>обр<азом>, буржуазная аристократия частично
объединяется с дворянством, что приводит правящую гвельф-
скую партию к расколу: черные— непримиримые******— гвель¬
фы (новая буржуазная аристократия, тяготевшая к папству
и к «народу») и белые (обедневшая дворянская знать; ориен¬
тация на императора, гибеллины). В эту ожесточенную борьбу
вмешивается папа БонифацийУШ, посылая франц<узского>
принца Карла Валуа на помощь черным.
Черные овладевают городом, прогоняют белых; и в числе из¬
гнанных в 1302 г. оказывается иДанте(под угрозой сожжения
живым).
[Имела большое <зна>чение и борьба фамилий. Во главе
черных стали Донати, во главе белых Черки.
Черные стали именоваться просто гвельфами, а белые прим¬
кнули к гибеллинам. Все Алигиери (гвельфы), примкнули к бе¬
лым и к гибеллинам, т. е. перестали быть папистами и буржуя¬
ми и примкнули к феодальной военной знати.
В1300 г. черные были побеждены и бежали к папе, а Данте
был избран даже членом правящей, коллегии приоров.
* Вставка в скобках синими чернилами.
** Вставка в скобках синими чернилами.
'** Вставка двух предложений синими чернилами.
‘** Вставка в скобках синими чернилами.
'** Вставка предложения синими чернилами.
'** Вставка слова синими чернилами.
Приложение
289
Но в 1302 г. — папа прислал «для умиротворения» Карла
Валуа, франц<узского> принца, и — победа черных]*
Т<аким>обр<азом>, Данте, гвельф, т. е. папист, по семей¬
ной традиции, происходя из старинного рода и принадлежа
к городской знати (в 1295 г. он участвует в городском совете,
и избирался в число шести приоров), изменил свою политику
и стал анти-папистом, хотя, в конце концов, он разочаровал-
сяив гибеллинах и, как он сам выразился в «Б<ожественной>
К<омедии>», «образовал для себя партию из, самого себя».
c) Далее начинается его скитальческая жизнь, т. к. его не¬
большое иму<щество>было конфисковано.
В изгнании он понял, как «горек чужой хлеб и как тяжело
подниматься и спускаться но чужим лестницам».
Временный приют он находит у Веронского властителя
Скала, гибеллина.
d) В 1308 г. германским императором делается Генрих VII,
намеревавшийся объединить Италию и освободить ее от вла¬
сти папы. Данте с восторгом приветствует< «с>пасптеля»
и рассылает (13091310)«Послание ко всем правителям и наро¬
дам Италии» с агитацией в пользу Генриха VII. Императора он
убеждал разгромить Флоренцию. Но Генрих VII умер в 1313 г.,
не успев осуществить своего плана. Вместе с тем рушились и по¬
следние надежды Данте. Его как активного эмигранта дважды
вычеркивают во Флоренции из списков амнистированных.
e) Данте разочаровывается в своих мечтах, теряет друзей,
разлучается с семьей, в гордом одиночестве доживает свои дни
в Равенне, где обыватели показывали на него пальцами и гово¬
рили: «Вон идет тот, который видел ад». Дети в страхе разбега¬
лись; видя его красный капюшон.
Умер он в углу базилики равеннского собора в 1321 г. Жил он
тут при дворе Гвидо да Полента.
2. Vitanuova(«Hro<eaÄ>ÄCU3Hb»/ написанная, вероятно,
между 1292 и 1295 гг.
а) Состоит из сонетов и канцон с прозаическими пояснени¬
ями:
Содержание— любовь Данте к Беатриче. Исследователи
наз<ывают>этот трактат «первым психологическим романом
на Западе».
* Вставка синими чернилами.
290
А. Ф. ЛОСЕВ
b) «Уж 9 лет прошло с тех пор, как предстала мне дама коей
Мысли, которые прочие, не понимая, называли Беатриче».
Амур побуждает его вновь видеть ее.
И вот через 9 лет он ее встречает (1283). Она шла между дву¬
мя дамами и поклонилась ему. Это приветствие составляет для
него теперь счастье всей жизни.
«Если Беатриче где-нибудь появлялась, Я, в силу надежды
на ее чудесное приветствие, не видел ни одного врага в целом
мире; напротив, меня охватывал такой огонь любви к ближним,
что я прощал каждому, кто только мог меня обидеть; и если бы
кто спросил меня о чем-нибудь, мое лицо исполнилось бы сми¬
рения, и у меня был бы только один ответ, — любовь».
В первый раз, когда он услышал ее голос, он был охваченвоз-
вышенной Страстью. И, задремавши, он увидел сон, который он
и описывает в I сонете.
В третий раз он ее увидит в церкви.
Боясь профанировать свои чувства, он скрывает свою лю¬
бовь и притворяется влюбленным в другую. Это ему настолько
удается, что Беатриче даже перестает ему кланяться.
Однажды он встречает ее во многолюдном собрании: Он очень
смущен. Дамы смеются над ним: «Как же ты любишь, когда те¬
ряешься в ее присутствии». «Мадонна», отвечал поэт, «целью
моей любви был когда-то поклон. В нем было все мое блажен¬
ство. Но теперь, когда она мне в нем отказала, все счастье мое
в тех словах, которые раздаются ей в похвалу. Моеблаженство
в ощущении любви».
Вскоре после, этого Данте узнает о смертиЪезчръче. В горя¬
чечном бреду он видит женщин с распущенными <в>олосами,
кот<орые> говорят ему о смерти Беатриче и обего собственной.
Солнце тускнеет, земля дрогнула, птицы стремглав падают,
на землю. Беатриче представляетсяему в белом саване. И тоски
его нет пределов.
c) «Новая жизнь» написана в «Новом сладостном стиле» Г-
виницелли и Кавальканти.
Это —философская любовь, соединяющая необычное воз¬
буждение и даже безумие и в то же время необычную одухот¬
воренность
Данте тут же прибегает к философским символам. Так, на-
пр<имер>, в самом начале трактата, когда Данте впервые ви¬
Приложение
291
дит Беатриче, дух жизни, который обитает в самых глубоких
тайниках сердца, стал дрожать так сильно; что это отрази¬
лось во всех моих жилах; дрожа, дух, жизни произнес следу¬
ющие слова: «Вот бог сильнее меня, которыйпришел и станет
повелевать мною». След<овательно>, дух жизни покоряется
духу любви. Ему же подчиняется и животный дух (обитаю¬
щий в мозгу, куда все чувственные духи несут свои перцепты)
и естественный дух (обитающий там, где перерабатывается
пища); этот последний рыдает.
Любопытна эта погруженность в мир собственных чувств, —
продукт, несомненно, очень зрелогосредневековья.
с!)М<ежду>пр<очим>, некотор<ые> пытались, и: саму.
Беатриче понять как символ. Но это едва ли так. Боккаччио,
биограф Данте, прямо говорит, что она была дочь соседа Данте
и даже называет имя этого соседа —ФолкоПортинари.
3. «Convivo» («Пир»), вероятно, 1308 г., неоконч<ен>.
a) Это — ряд сонетов на обще-философские темы (любовь,
благородство, храбрость) с прозаическим комментарием.
В философии Данте искал утешения в своей скорбной жиз¬
ни. Он тут прочитал Цицерона, Аристотеля, Сенеку, а из сред¬
невековых Боэция, Августина, Фому Акв<инского>, Альберта
Вел<икого>.
b) Особенно заметно влияние в « Пире *Фомы Аквинского
с его учением о том, как разум, постепенно развиваясь, прибли¬
жается к религии, к конкретному церковному догмату. Кроме
того, Данте, как и Фома, стремится выработать твердую волю
и навык в добродетели и совершенстве.
c) Но, главное, тут мы находим учение о том, что земное со¬
вершенство есть только отблеск небесного, т<ак> ч<то> в ка¬
ждой вещи таится мысль Божия.
Если это соединить с нравственным учением Данте о том, что
разум дает человеку свободную волю и философия ведет к со¬
вершенству при помощи веры, то мы почти уже получаем фи¬
лософию, лежащую в основе «Б<ожественной> К<омедии>».
d) Особенно заметно в «Пире» также влияние стоиков: уче¬
ние о нравств<енной> независимости, о благородстве не по ро¬
ждению, но по личным качествам, о всеобщем благе.
292
А. Ф. ЛОСЕВ
У стоиков же Данте взял и свой кулып древнего Рима и его
героев. Римляне и романцы для него такой же избранный на¬
род в государственном отношении, как евреи — в религиозном.
4. «De monarchia», трактат, обосновывающий необходимость
для Италии императорской власти.
Государство, по Данте, преследует нравственные цели; и вся
эта гос<ударственная> власть на земле должна принадлежать:
повелителю Священной римской империи.
Данте горячо оспоривает популярную тогда папистскую
аналогию: папа — солнце, император луна. Император ниотку¬
да не заимствует своего света. Папа и император —два Солнца,
из которых ни одно не должно затемнять другого.
Пожалуй, в этом трактате Данте не вполне на уровне своего-
века.Тутесть элементы не только новые, буржуазные, но и ви¬
зантийские, теократические.
5. «Devolgarieloquio», «О народном красноречии», т. е.
о красноречии на ит<альянском> языке.
Этот трактат больше соответствовал новым потребностям,
т. к. зд<есь> Данте защищает права итальянского народного
языка в сравнении с латынью, которая только для избранных.
Это — первый трактат по языковедению.
Он наз<ывает>ит<альянасий> язык «ячменным хлебом,
которым будут насыщаться тысячи... Это будет новый свет, но¬
вое солнце, которое взойдет, когда закатится старое».
6. Де-ла-Барт (<с.> 160), подводя итог, пишет:
«...Миросозерцание Данте эволюционировало от индивиду¬
ализма к философскому универсализму. Начав с самоанализа,
с самоопределения (в «Новой жизни»), Данте пришел постепен¬
но к общим вопросам о смысле жизни, о положении человека
во вселенной, о свободе воли, о разуме, религии, философии
(«Пир»), о государстве, об отношениях между светской и духов¬
ной властью («О монархии»). Он постепенно убеждался в том,
что каждая отдельная личность составляет часть одного велико¬
го целого, принимает участие в жизни Вселенной.
По удачному выражению Фосслера Д<анте> шел от индиви¬
дуального «я» к великому Все».
Приложение
293
II.
«Божественная Комедия»
А.
Общие вопросы
1. Название.
До нас дошел весьма ценный документ о «Божественной)
К<омедии> », — письмо Данте к правителю Вероны Кан Гранде
деллаСкала, в кот(ором) автор объясняет свою поэму. Некото¬
рые ученые оспаривали подлинность этого письма. Но если оно
и не подлинное, то все же оно вскрывает мысли, современные
автору:
Оказывается под словом «комедия» автор понимал вооб¬
ще всякое произведение, кот<орое>начинается с страдания
и кончается радостью. В комедии язык более прост, менее воз¬
вышен. Он и назвал «комедия».
Что же касается эпитета «божественная», то он не принадле¬
жит автору, но его почитателям в XVI в., и только с этого вре¬
мени она так называется.
2. Время возникновения — неизвестно.
М<ожет> б<ыть>, она была начата еще во Флоренции
(Д(<анте> был тут уже зрелым человеком). Но, очевидно, пи¬
салась она в годы изгнания к даже в последние годы. Когда он
гостил в Вероне у Скала и в Равенне у Гвидо да Полента: Имен¬
но, из Равенны он послал Скала третью «кантику» поэмы с по¬
священием.
3. Источники и образцы.
a) Самая форма продиктована общеизвестным средневеко¬
вым образцом: это —видения, или хождения по загробной жиз¬
ни.
Форму эту мы встречаем еще в античности (Verg.En.VI).
Но в средневек<овой> лит<ературе> она только расцвела. ;
Были видения ап. Павла, св. Карпа (I в.). В XV в. мы знаем
видения рыцаря Тундала и монаха Альберика, в кот<орых>
уже есть разделение на Ад, Чистилище и Рай.
b) Далее то, что Данте ведет по Аду и Чистилищу Вергилий,
продиктованотожесредневек:овыл€ представлением о Верги¬
294
А. Ф. ЛОСЕВ
лии, кот<орый> являлся не только мудрецом и философом,
но и пророком, даже каким-то святым и чудотворцем. НапрСи-
мер>, неаполитанское простонародье почитало его как духа-по¬
кровителя.
с) Правда, во все эти средневековые представления Д.(анте)
вносит и свое, новое.
Так, видение у него дано не просто само по себе, но как испы¬
тание и очищение; которое потом приводит поэта к райскому
блаженству.
Также и Вергилий у него не просто пророк и чудотворец,
но он кроткий, мудрый наставник и руководитель Данте.
4. Основная идея.
a) Данте сам формулирует ее в указ<анном>выше письме
к Скала.
Его произведение, гов<орит>он, «имеет много смыслов»
(polysemum): буквальныйамистический. Буквально— оно есть
описание состояния душ после смерти. Мистически же оно есть
изображение судьбы человека вообще, награждаемого или нака¬
зуемого божественной справедливостью сообразно действиям
его свободной воли.
«Цель моего произведения, это удалить людей в этой зем¬
ной жизни от бед и привести их к состоянию блаженства
(adstatumfelicitatis)».
b) Мы в настоящее время можем формулировать идею «Б<о-
жественной> К<омедии>»и более обще, а с другой стороны,
и более конкретно, пользуясь этим указанием Данте.
1. Т<ак> к<ак> блаженства на земле нет, то для него суще¬
ствует особое место. И т<ак> к<ак> всякое подобное место
нужно понимать буквально, то, во-первых, возникает вопрос
чисто астрономический, чисто астрономический смысл «Б<о-
жественной> К<омедии>».
2. Т<ак> к<ак> переход от земной жизни к вечному блажен¬
ству происходит постепенно, то эта астрономия, это мирозда¬
ние обязательно иерархично. Отсюда — Земля, Ад, Чистилище,
Рай.
3. Далее, т<ак> к<ак> здесь — судьбы человека, т. е. его
души, его самосознания, то все эти «круги» суть не просто раз¬
ные пространства, но и разные способы внутреннего самоощу¬
щения душ, разные способы и степени существования духа.
Приложение 295
Духовно-психологический план.
4. Далее, т<ак> к<ак> человек не изолирован у Данте,
а представляет целое со всем человечеством, то возникает далее
социальный план «Б<ожественной> К<омедии>».
a) Это, прежде всего, план земной социальный, политиче¬
ский (т. к., по учению Данте, человек — на грани двух миров,
вечного и временного, и временное состояние блаженства до¬
стигается имп<ераторской> властью, а вечное — церковью,
папством).
Тут — огромная энергия политич<еского> агитатора, дово¬
дящего свою поэму почти до памфлета.
b) Социальность, далее, понимается и «небесно», т. е. тут мы
имеем церковный план, учение о мировых судьбах церкви.
5. Наконец, все эти точки зрения (астрономический, духов¬
но-психологический, политический и мистически-церковный)
перекрыты у Данте горячим и при том интимнейшим чувством
его собственного «я». Мало того, что он верующий, что муки ада
и блаженство рая для него — полная реальность. Мало того, что
он трепещет от мысли об аде, что он напряженнейше чувствует
свои грехи и хочет от них очиститься. Есть еще одно чувство,
и не чувство, а тут вся его душа, весь смысл его жизни, и все
орудие его вечного спасения, это — Беатриче.
Ее присутствием в мире Д<анте> воодушевлен. Она ведет
его по Раю. Ей он посвятил лучшие места своей поэмы. И в Раю,
вблизи божественной благодати, «она; смотрела вверх, а я смо¬
трел в очи Беатриче».
Этот принцип настолько конкретен и интимно-личен, что его
только и можно назвать планом Беатриче.
М<ожет> б<ыть>, это надо назвать принципом вечной-жен-
ственности. Но это звучит слишком отвлеченно, т. к. это есть
и церковь (т. е. то, что его спасает для вечной жизни) и его воз¬
любленная, его невеста.
B.
Структура и содержание
C.
Поэтика
296
А. Ф. ЛОСЕВ
D.
Общая характеристика и значение
a) Энгельс в предисловии к 1-му ит<альянскому> изд<а-
нию> «Коммунист<ического> манифеста» пишет: «Италия
была первой капиталистич<еской> нацией. Конец феодально¬
го средневековья, начало современной капиталистич<еской>
эры отмечены колоссальной фигурой. Это — итальянец Данте,
одновременно являющийся последним поэтом средних веков
и первым поэтом нового времени. Теперь; как в1300 г., насту¬
пает Новая историческая эра. Даст ли нам Италия нового Дан¬
те, который запечатлеет час рождения пролетарской эры?»
Итак, в чем заключается, чтоДанте есть «последний поэт
средних веков и первый поэт нового времени»?
b) Оно заключается в том, что Данте пережил все средневеко¬
вье, весь средневековый дух (с ее церковью, империей, филосо¬
фией, наукой и т. д.) как новый человек, т. е. как самостоятель-
но-чувствующая и мыслящая личность, но с сохранением всей
абсолютной объективности этого средневекового духа.
Новый человек обычно понимает свою свободу как свободу
от средневековья, отказывался от наполнения своего конкрет¬
ного духа этим средневековьем.
Но можно понимать самостоятельность и Свободу духа; как
свободу внутреннего, духовного воспроизведения и пережива¬
ния средневековья.
c) Тогда получается Дантовское мироощущение.
Вот почему Д<анте>— первый поэт нового времени. Он дает
нам средневековье не как систему, абсолютно независимую
от человеч<еского> субъекта, и не как внешнее предписание,
по как интимнейшую и абсолютно свободную личную потреб¬
ность.
d) Но, с др<угой> стороны, он есть и последний поэт Средне¬
вековья.
«Последний» тут мы должны понимать как «самый зрелый»,
универсальный, переживший все и вместивший в себя все сред¬
невековье, т. ч. уже бывшее не оставалось незафиксирован-
ным<,> ровно ни одного его уголка.
Такого универе<ального>гения мы еще не встречали в Сред¬
ние века.
Приложение
297
Вспомним наши главные отделысредвев<ековой> литера¬
туры:
1отдел — церковная — литература, конечно, принципиаль¬
нее всего<,> ближе всего выражает основы среднев<ековой>
культуры, но — тут нет развития жизни самостоятельного
субъекта;
Потдел — рыцарство, даст развитую субъективную жизнь,
но тут нет, церковной жизни и нет субъективной свободы и не¬
зависимости;
наконец, III— буржуазная литер<атура> средневековья —
стремится к субъективной свободе и независимости, но она
не вмещает ни рыцарского служения высшему идеалу, ни тем
более самого этого идеала как церкви!
Только у Данте мы находим поразительную силу объедине¬
ния и синтетизма, охватывающую все эти три основные сфе¬
ры средневекового духа.
Вот почему это —«последний поэт» средневековья.
2. В чем же конкретно выразился этот синтез старого и но¬
вого у Данте.
a) Вопрос о разграничении духовной и светской власти.
Как папист, он всецело средневековый человек, но как мо¬
нархист абсолютный он, несомненно, тяготеет к новому буржу¬
азному укладу мысли, требовавшему объединения граждан вне
родовых признаков.
Его отношение к светским притязаниям пап перекликается
с возрожденскими теориями.
Все произведение проникнуто ненавистью к папам, начиная
с «Ада» I, где мы находим предсказания о спасителе Италии,
вплоть до «Рая»XXX, где при описании земного рая оставляет¬
ся свободным место для Генриха VII.
Отдельные места «Б<ожественной> К<омедии>» поража¬
ют своим ненавистным отношением к папе. Особенно достается
папе БонифациюУШза его теории светской власти папы. Его
он наз<ывает>«гордым князем новейших фарисеев» и «су¬
щим врагом христиан» («Ад»XXVII) Страстная филиппика
в Аде XIX.
Во всей этой критике — стон души уже нового человека.
b) Далее, самое представление о церкви у Д<анте> овеяно
духом нового времени.
298
А. Ф. ЛОСЕВ
Церковь— вечная сущность, она— сурова, неприступна,
непоколебима; она превышает все, сильнее, глубже и выше все¬
го. И в то же время — этот
[Тетрадь с пометой «Средневековая литература № 12»*]
самый образ Беатриче.
Вспомним замечательную картину шествия церкви в конце
« Чистилища» * **.
Вспомним месть Беатриче в Раю***.
Вспомним вообще отношение Д<анте> к любви, незабывае¬
мо зафиксированное в «Аде» V, в эпизоде Франческо да Римини
и Паоло Малатеста****.
c) Это противоречие (или синтез) сказывается еще в совмеще¬
нии — 1) самых высоких, незримых и неслышимых, спириту¬
алистических предметов и 2) необычайного реализма выраже¬
ния, доходящего до скульптуры, до натурализма*****.
d) Это противоречие (или синтез) сказалось также и на отно¬
шении J\<&wse>K античности.
Конечно, Вергилий почитался и до него. Но тут эта тема
очень развита: Вергилий — мудрый наставник, он — предше¬
ственник христианства, он ведет его по Чистилищу и Раю******, его
послала заблудшему Данте Беатриче и т. д.
Тут тоже мы чувствуем предшествие Возрождения.
Античных философов и поэтов, кот<орые>, по учению церк¬
ви, находятся в аду, он помещает в лимбе, где они не мучатся
и не блаженствуют.
Но Гомер, Гораций, Вергилий, Овидий и Лукан особенно им
почитаются и себя он именуегшестым, вступающим в «круг та¬
кой мудрости».
Эта оценка, конечно, тоже не церковная.
3. Но самое главное противоречие (и синтез), на котором вы¬
растает Данте, это — та социально-полит<ическая> система,
кот<орая> известна под назв<анием>гвельфов и гибеллин.
Тетрадь исписана зелеными чернилами, помета сделана синими.
** Оставлено место для цитаты.
" Оставлено место для цитаты.
" Оставлено место для цитаты.
'* Оставлено место для цитаты.
По-видимому, речь идет отом, что Вергилии доводит Данте до Земного рая
и указывает ему путь в Рай.
Приложение ’ 299
[Тетрадь без номера синими чернилами]
ДАНТЕ
(1265-1321)
I
Биография и сочинения
I. До изгнания (1302).
a) Происх<ождение>— из городской знати среднего достат¬
ка (потомок рыцаря Каччагвиды, ум<ершего> во II крест<о-
вом>пох<оде> 1147).
b) Образование.
Университета во Флор<енции> не было.
Огромная начитанность. Франц<узский> и прованс<аль-
ский> языки. Поэмы и романы (античн<ого> цикла и др.).
Прованс<альские> поэты. Dolcestilnuovo(rBHflo Кавальканти
и Гвиницелли).
c) БеатричеПортинари, дочь соседа.
Перв<ое>свид<ание> 1274.
Второе 1283.
Не брак, а потом вскоре смерть 1290
(24-х лет, а Данте — 25 л<ет>).
Страдания. Данте.
«Новая жизнь» (1292-1295): сонеты и канцоны с проза-
ич<ескими> комментариями, поэтическая картина романа,
стилъКавальканти и Гвиницелли, видения и страдания, обе¬
щание (в конце) прославить.
с) Жизнь до изгнания.
Военные дела (так, <он—?> —в сражении с аргентинцами
при Камиальдино в июне 1289 г., где он среди гвельфов, а они
берут верх).
Философские занятия.
Боэций
Августин
схоласт<ическая> фил<осфия>
Фома и Альберт
Овидий, Лукан, Гораций, Ювенал, Сенека, Стаций, Цице¬
рон, Вергилий.
300
А. Ф. ЛОСЕВ
Обществ<енно>-политич<еская> борьба.
Алигиери— гвельфы.
1289 — победа над восставшими гибеллинами.
1293 —«Установление справедливости»— изгнание и гран¬
дов и бедноты из среды полноправных граждан (старшие Цехи).
1295 — поправки в это постановление, допущение грандов
(дворян) в цехи и вступление Д<анте> в цех врачей и аптека¬
рей (куда входили книгопродавцы и художники).
После этого Данте был членом некот<орых> городских советов.
«Черные» (непримиримые капит<алисты> и паписты) и «бе¬
лые» (тянувшие к феод<альной> военщине и импер<атору>).
1300 — победа белых, а 1302 — победа черных и изгнание
белых (и Данте).
Семья Данте остается во Флоренции.
II. От изгнания до смерти (1302-1321).
a) Скитальч<еская> жизнь, нужда напрасные надежды вер¬
нуться во Флоренцию.
Верона (его друг, гибеллин Скала)<»>
Падуя, Мантуя, Лигурия, Париж.
b) Надежды в связи с герм<анским>имп<ератором> Генри¬
хом VII (графом Люксемб<ургским>) с 1308 г.
Послания Данте к ит(альянским) государствам и агитация.
Смерть Генриха VII 1313.
c) С1315 Д<анте> в Лукке, с 1318 в Равенне у ее синьора Гви¬
до да Полента, внука Франчески да Римини, где он и умер 1321.
<д>)«Пир», ок<оло> 1308.
Ряд сонетов на обще-филос<офские> темы (любовь, благо¬
родство, храбрость) с прозаич<ескими>, комментариями.
Земное— отблеск небесного. Разум ведет к вере и догмату.
Твердая воля и совершенство в добродетели через разум.
«О монархии» (защита гибеллинской идеи).
«О народном красноречии»*.
П
Божественная Комедия
I. Общие вопросы.
а) Название.
* Оставлено место, по-видимому, для раскрытия содержания трактата.
Приложение ' 301
b) Время написания.
b) Источники для, образов.
Форма видения (в XII в. у Тундала уже 3 части).
Средневековый образ Вергилия.
Филос<офия>, астрон<омия>, догматика.
d) Основная идея.
Толкование самого Данте в письме к Скала: многосмысленс-
ность:>
буквально — описание состояния душ после смерти; мисти¬
чески — изображение судьбы человека вообще, получающего
награду или наказание [за] сообразно действиям его свободной
воли.
e) Выражение основной идеи: 4 плана, —
1. астрономический* **,
2. духовно-психологический (самоощущение личности),
3. социальный в широком смысле, —
а) социально-политический в узк<ом> смысле (очень
острый),
в) церковный (мировые задачи и судьбы церкви).
4. план Беатриче (вечная женственность, церковь).
î) Культурно-историческое значение Данте.
« Д<анте> одновременно является последним поэтом средне¬
вековья и первым поэтом новог о времени». «Колосс<альная>
фигура» (Энг<ельс>).
Это значит, что Данте пережил все средневековье как до¬
стояние, интимное и горячее, своего собственного) «я*—
но с оставлением всего объективизма на месте нетронутым.
Надвигающаяся эпоха индивидуализма сказалась тут очень
остро, но еще — в недрах церкви.
Недаром он — гибеллин, хотя вернее — вне партий (партия
из одного себя).
II. Структура
А
Ад“
* В этом месте между столбцами конспекта сделан рисунок карандашом,
скопированный нами на полях.
** На полях тетради карандашом:
I* Ад
I — II. Вступление
302 А. Ф. ЛОСЕВ
Песни:
Введение (I — IX)
I. Вступление. Лес. Три зверя (пантера, лев, волчица). Появ¬
ление Вергилия.
II. Рассказы Вергилия. Беатриче. Лючия.
1-е отделение Ада
Бессознательные грешники (III-XI)
III. Вход в Ад. Лимб. Бездеятельные; Целестин У. Харон.
IV. I круг. Некрещенные, праотцы; поэты, герои и философы
древности.
Второе отделение
Грехи невоздержания
N.II круг. Плотские [(Сладострастники)]* грешники. Минос.
Семирамида. Парис. Франческа да Римини.
VI. III круг. Чревоугодники.И,ербер.Чъякко.
VII. IVкруг.Плутус. Скупцы и расточители. Фортуна.
V круг. Гневливые. Стикс.
VIII. — Продолжение. Гневные в Стиксе. Филипп
Ардженти.Дис**.
IX. Горгона. Медуза. Явление ангела: Вход в Дис.
VI круг. Ересиархи.
X. Эпикурейцы. Фаринари. Кавальканте де<и>Кавальканти.
XI. Разделение Ада.
Ш-е отделение Грехи злой воли (XII — XXXIII)
а
Насилие (XI1-XVII)
XII. VII круг, 1-оеотд<еление>. Насилие против ближнего.
Кентавры. Хирон. Тираны в кровавом потоке.
III — Х[.Бессознат<ельные> грешники
1Унекрещ<енные> (1), IV — Сладострастники (2 кр<уг>), 6 кругов V —
чревоугодники (3 кр<уг>) и т. д.
ХП-ХХХШ.Грехи злой воли
XII-XVII. насилие (УПкр<уг>)
XVIII-XXXI. обман вообще (8 кр<уг>)
ХХХП-(ХХХ)Ш. — в частности (9 круг)
* Приписка сверху.
** Дит — Dis — латинское имя Аида.
Приложение
303
XIII. VII круг, 2-оеотд<еление>. [Содомиты]* Насилие про¬
тив себя. Самоубийцы. Пьетро да Винеа. Игроки.
XIV. VII круг. 3-оеотд<еление>. Насилие против Бога. Бого¬
хульники, ростовщики и содомиты под огненным дождем. Ка-
паней. Статуя Времени. Флегетон.
XV. — Содомиты. БрунеттоЛатини.
XVI. — Гвидо Гвер[р]а. Тег[г]ьяйо. Рустикуччи. При¬
ближение к VII кругу.
XVIII. — Герион. Ростовщики. Перелет к VIII кругу.
b
Обман в обще-челов<еческом> смысле (XVIII-XXXI)
XIX. Vili круг. Злые Мешки.
— 1 ров. Сводники и соблазнители.
— 2 ров. Льстецы.
XIX. — 3 ров.Симонисты. Папа Николай III.
XX. — 4 ров. Гадатели. Рассказ Вергилия об основании Ман¬
туи.
XXI. — 5 ров. Лихоимцы. Старейшие из Лукки. Злые Когти.
XXII. — Чьямполо. МикелеЦанке и брат Гомито.
XIII. — 6 ров. Лицемеры. Каталано и Лодеринго. Каиафа.
XXIV. — 7 ров. Воры. ВанниФуччи.
XXV. — Превращение человека в змею.
XXVI. — 8 ров. Злые советники. Одиссей и Диомед.
XXVII. — Гвидо де Монтефельтро.
XXVIII. — 9 ров. Сеятели раздоров. Магомет и Али. Пьеро
Медичина. Курион. Моска, Бертран де Борн.
XXIX. — 10 ров. Алхимики. Гриффолинод’Ареццо и Капок-
кио.
XXX. — Маэстро Адамо и Синон.
XXXI. — Гиганты. Антей.
с
Обман в специальн<ом> смысле
(ХХХП-ХХХШ)
XXXII. IX круг I отд<еление>
* Зачеркнуто.
304
А. Ф. ЛОСЕВ
Кайна. Предатели родственников.
2 отд<еление>. Антенора. Предатели отечества.
XXXIII. — Уголино и Руджиери.
3-е отд<еление>. Птоломея*. Предатели друзей.
[XXXIV] 4-оеотдел<ение>. Джудекка. Люцифер. Иуда Иска¬
риот, Брут и Кассий.
Выход из Ада.
В.
Чистилище**
Введение (I — II)
I. Вступление. КатонУтический. Увенчание тростником.
II. Лодка ангела. Каселла.
1-е отделение
Преддверие (III-IX)
III. Медлители: 1. Умершие во вражде с церковью. Манфред.
IV. — 2. Откладывавшие покаяние до смерти.Белаква.
V. — 3.Покаявшиеся в момент внезапной смерти.КассероБу-
о[н]конте.
VI. — Сорделло. Филиппика против Италии.
VII. Долина государей.
VIII. Ангелы-хранители и змий. Нино. Конрад ***Малласпина.
IX. Сон Данте о Фло<ренции>. Лючия. Вход в Чистилище.
Семь Р.
П-ое отделение
Очищение от 7 грехов(Х-ХХУП)
а) Любовь, дурно избирающая свой предмет.
X. I круг. Высокомерные.
* В переводе Лозинского — «Толомея».
** На полях тетради помета карандашом:
I-П. Введение
Ш-1Х. Преддверие
X-XXVII .Очищение от 7 грехов
ХХУШ-ХХХШ.Земной рай
*** В переводе Лозинского — « Куррадо ».
Приложение
305
Скульптуры на стене.
XI. — Молитва. ОмбертодиСантафиоре. Одеризи из Губио.
Провецано
Сальвани.
XII. — Скульптуры на полу. Переход по 2 кругу. Исчезнове¬
ние первого Р.
XIII. II круг. Ослепленные завистники. Сапия.
XIV. — Гвидо дельДука и Риньер де Кальболи.
XV. Исчезновение второго Р.
III круг. Гневные в чаду. Вечер.
XVI. — Марко Ломбардец. Политич<еские> воззрения Дан¬
те.
XVII. — Сон Данте о приметах гнева.
Ь) Любовь, согрешившая
своей степенью (XVII*-XXVII)
IVkpyi. Нерадивые.
Моральное разделение чистилища.
XVIII. Рассуждение Вергилия о любви. Аббат <из—?>св. Зе¬
нона**.
XIX. Сон Данте о Сирене.
V круг. Скупые и расточители. Папа Адриан V.
XX. — Гуго Великий. Тирада о папском сане. Землетрясе¬
ние.
XXI. — Объяснение землетрясения. Поэт Стаций.
XXII. — Взгляд на V круг. Обращение Стация в VI эклоге
Вергилия.
VI круг. Чревоугодники. Древо искушения.
XXIII. — Форезе Донати.
XXIV. — Заключение VI круга. Исчезновение предпоследне¬
го Р.
XXV. Переход к VII кругу. Разговор о происхождении души,
о смерти и тени.
VII круг. Плотские грешники в огне и буре.
XXXVI. Вечер. Провансальские трубадуры.
XXVII. Переход сквозь пламя к земному раю. Ночь. Сон Дан¬
те о Лии и Рахили. Прощание Вергилия.
* Цифра XVIII исправлена карандашом на XVII.
** В переводе Лозинского — «Сан-Дзено».
306 А. Ф. ЛОСЕВ
Ш(-е) отделение
Земной рай
(XXVIII-XXXIII)
XXVili.Земной рай. 6-е утро пути. Луг. Ручей. Матильда*.
XXIX/ Победное шествие церкви по тусторону потока.
XXX. Появление Беатриче.
XXXI. Покаяние Данте перед Беатриче. Погружение его
в Лету и перевод в земной рай. Беатриче открывается.
ХХХП.Свидание Данте с Беатриче. Шествие и древо позна¬
ния. Пророческое видение Данте о судьбах церкви.
XXXIII.Пророчество Беатриче о спасении церкви и импе¬
рии. Омовение Данте в Эвное. Заключение.
С.
Рай**
Введение
I. Начало Рая, Воззвание. Данте и Беатриче возносятся
в сферу огня. Б<еатриче> объясняет причину этого подъема.
I
Семь сфер (П-ХХП)
Н.Луна (I). Пятна на луне. Объяснение небес.
III. — Небо луны. Души, несоблюдшие своего обета. Пйккар-
даДонати. Императрица Констанца.
* В переводе Лозинского — «Мательда».
** На полях помета карандашом:
Введение
П-ХХПСемь сфер
П-УЛуна(1)
У-УПМеркурий (2)
VIII-IX Венера (3)
Х-ХГУСолнце (4)
XV-XVIIIMapc (5)
XVIII-ХХЮпитер (6)
XXI-ХХПСатурн (7)
ХХП-ХХУПНеподв<ижные>зв<езды> (8)
ХХУШ-ХХ1ХПерводвигатель (9)
ХХХ-ХХХШЭмпирей
Приложение
307
IV. — Беатр<иче> отгадывает и разрешает сомнения в душе
Д<анте>. Новый вопрос его относит<ельно> нарушения и вос-
становл<ения> обетов.
V. — Святость обета и возможность его изменения.
Меркурий (II). Юстиниан.
VI. — Юстиниан. Историй римского орла. Против гибелли¬
нов и гвельфов. Души на небе Меркурия. Ромео.
VII. — Искупление.
VIII. Венера (III). Души любивших. Карл Мартелл. Король
Роберт. Почему дети редко походят на отцов?
IX. Куницца да Романо. Фолько Марсельский. Раав. Рим¬
ский двор.
X. Солнце (IV). Духи познания. Фома. Акв<инский>. Бого¬
словы и филос<офы>. Схоластич<еские> и древние.
XI. — Суета земных забот. Два сомнения. Жизнь Франциска
Асс<изского>. Развращение монаш<еских> орденов.
XII. — Второй венок богословов. Житие Св. Доминика. По¬
рицание францисканцев. Св. Бонавентура и его товарищи.
XIII. — Беседа со св. Фомой.
XIV. — Блеск праведников по воскресении мертвых.
Марс (V). Души воителей в образе лучезарного креста. Гар¬
мония воспевающих. Экстаз Данте.
XV. — Каччьягвида. Древняя Флоренция.
XVI. — Продолжение. История Флоренции.
XVIL — Горесть изгнания. Бедствия и надежды Данте. Сме¬
лость, внушенная ему любовью к истине.
XVIII. — Духи, сверкающие в кресте на Марсе.
Юпитер (VI).Diligitejustitiam.Императорский Орел. Алч¬
ность папская.
XIX. — Обращение к небесн<ому> Орлу. О спасении вне хри-
ст<ианской> церкви. Преступления некот<орых>государей.
XX. — Песнь правосудных. Главнейшие блюстители право¬
судия в образе небесного Орла. Вера и спасение. Предопределе¬
ние.
XXI. Сатурн (VII). Души созерцания. Небесная лествица.
Св. Петр Дамиан. Еще о предопределении. Роскошь прелатов.
XXII. — Св. Бенедикт. Порча монастырей.
308
А. Ф. ЛОСЕВ
II. Неподв<ижные> звезды (XXII-XXVII)
Небо неподв<ижных> звезд (VIII). Созвездия Близнецов.
Взгляд на землю
ХХШ.Триумф Христа. Венчание Девы Марии.
ХХГУ.Ап<остол> Петр испытывает Д<анте> в вере.
XXV. Рассуждение с ап<остолом>Иаковом о надежде. Еван-
г<елист> Иоанн.
XXVI. Рассуждение с св. Иоанном о любви. Адам.
XXVII. Речь ап<остола> Петра против пастырей церкви. Со¬
звездие Близнецов.
III. Перводвигатель
XXVIII. Девять кругов ангельских вокруг Бога, отраженные
в очах Беатриче.
XXIX. Рассказ Беатриче о сотворении ангелов и небес. Злые
и верные ангелы.
IV. Эмпирей (ХХХ-ХХХШ)
XXX. Элпирей. Светоносная река. Роза.
XXXI. — Беатриче возносится от Данте в назначенное ей ме¬
сто. Св. Бернард — дальнейший спутник Данте. Матерь Божия.
XXXII. — Седалище святых Ветхого и Нового Завета. Мла¬
денцы. Архангел) Гавриил. Свйтые жены.
XXXIII. — Молитва ср. Бернарда к Матери Божией. Поэт
возводит взор и в трех цветных кругах видит челов<еческий>
образ. Нежданный блеск ослепляет его. Конец видения.
О. А. СЕДАКОВА
Под небом насилия
ПОД НЕБОМ НАСИЛИЯ. «АД». ПЕСНИ XII-XIV
Прежде чем начать разговор о тех песнях Ада, которые мне
выпало обсуждать, я должна сделать некоторые предваритель¬
ные замечания.
Первое. Для меня великая честь — участвовать в вашем дан-
товском марафоне-в ряду настоящих знатоков и исследователей
Данте*. Честь незаслуженная, поскольку я к ним не принадлежу.
Я не дантолог и даже не итальянист. Я не более чем иноязычный
читатель Данте, читатель, который изучал итальянский именно
для того, чтобы читать Данте в оригинале. Что я читаю в Данте уже
много лет? Приблизительно то, что читали в нем поэты XX века:
Томас Стернз Элиот, Поль Клодель, отчасти Райнер Мария Риль¬
* Имеется в виду цикл лекций «Esperimenti danteschi», в которых последо¬
вательно читались и обсуждались все 100 Песен «Божественной Комедии».
Для каждых двух-трех песен приглашался — по жребию, не по его выбору —
какой-то лектор. Это был международный проект, так что лекции читали ис¬
следователи (филологи, философы, богословы) из разных стран. Этот проект
задумали и осуществили молодые люди, собравшиеся в общество «Ragazzi
di Dante» («Мальчики и девочки Данте»), его поддержал Миланский Госу¬
дарственный Университет и коммуна Милана. Лекции проходили в уни¬
верситете, но вход был открыт для всех желающих, так что аудитория была
огромной. Усилиями «Мальчиков и девочек Данте» на каждом месте перед
слушателем лежали тексты Песен, которые будут обсуждаться. Мне выпали
XII-XIV Песни «Ада» и, во второй серии лекций, Песни XV-XVH «Чисти¬
лища» . Я читала эти лекции по-итальянски, первую — в переводе Франче¬
ски Кесса (Francesca Chessa), вторую — в переводе Джованны Парравичини
(Giovanna Parravicini). Благодарю «Мальчиков и девочек Данте»: без их «за¬
каза» я никогда бы не решилась писать на такую ответственную тему.
310
О. А. СЕДАКОВА
ке, Осип Мандельштам. Все эти поэты имели особый вкус к но¬
визне и в Данте видели источник той новизны, которой ищет их
время. И нашему времени нужна своя новизна. Мы можем с на¬
деждой искать ее в Данте, поскольку Данте — это не только «Arte
che genera arte» («Искусство, которое рождает искусство», так на¬
зывался дантовский симпозиум во Флоренции в 2006 году*). Это
и pensiero che genera pensiero (мысль, которая рождает мысль).
И еще: esperienza che genera esperienza (опыт, который рождает
опыт). Последнее, пожалуй, всего важнее для меня.
«Новый», «novo», «nuovo», «novello» — одно из главных
слов Данте. Сила значения этого слова имеет у него почти би¬
блейский размах, перекликаясь с употреблением этого слова
у Пророков и с тем смыслом, который оно несет в сочетании слов
«Новый Завет», «Il Nuovo Testamento». Я имею в виду не толь¬
ко его первую книгу, «Новую Жизнь», «Vita Nuova». В каждом
своем сочинении Данте заявляет о какой-то неслыханной но¬
визне, которую он собирается сообщить, о такой новости, кото¬
рая должна изменить мир**. Среди множества значений «novo»
самыми характерно дантовскими можно считать «небывалое»,
«невероятное», «чудесное». Не только предмет «Божественной
Комедии» — нечто небывало новое, никем до Данте не видан¬
ное, не только язык ее и форма невероятно новы и навсегда оста¬
нутся новыми. Главная новизна здесь иная: герой-автор идет
к новому себе: преображенному, transumanato, божественному.
В конце Чистилища, после погружения в Лету, Данте сообщает:
Io ritornai da la santissima onda
rifatto sì come piante novelle
rinovellate di novella fronda***.
Этот симпозиум был посвящен судьбе Данте в Америке и в России. Обе
страны представляли два поэта и дантолог. В нашем случае это были мы
с Еленой Шварц и Михаил Андреев. Мой доклад назывался «Дантовское
вдохновение в русской поэзии».
Вот как кончается первая часть его «Пира» (речь идет о том, что на на¬
родном языке можно излагать важнейшие — в случае «Пира» этиче¬
ские — темы): «Это будет новый свет, новое солнце, которое взойдет там,
где прежнее заходит, и дарует свет тем, кто ныне сидит во тьме и мраке,
поскольку прежнее солнце для них не светит» (Conv. 1,12).
И я вышел из пресвятой волны, / обновленный, как новые (молодые) рас¬
тения, / обновленные новой листвой. (Purg. XXXIII, 142-144)
Под небом насилия
311
Вот, собственно, та новизна, которая мне, читателю наших
дней, интереснее всего в Данте.
Второе предварительное замечание. Признаюсь, что до ваше¬
го предложения говорить о песнях «Ада» я меньше всего обра¬
щалась к этой кантике. Просто потому, что ее чтение — тяжелое
душевное испытание. Но также и потому, что Данте для русско¬
го читателя (как и для мирового читателя вообще) — почти ис¬
ключительно автор «Ада». Это обидно и, кроме того, искажает
понимание и самого Ада. Ад Данте, как заметил Поль Клодель,
начинается в Раю. Прежде всего потому, что Ад, по утвержде¬
нию Данте, — создание Бога Троицы:
fecemi la divina podestate,
la somma sapienza e ’1 primo amore*.
Ho не только поэтому (и, между прочим, само это богослов¬
ское утверждение небесспорно: если Бог не творил смерти и гре¬
ха, то Ада, места их исключительного действия, Он, вероятно,
тоже не творил?). Ад Данте начинается в Раю как сюжет: там
задумано и «санкционировано» его странствие — в качестве
исключительного прецедента. Об этом, о своем необычайном
(«novo») поручении с небес:
Tal si partì da cantare alleluia
che mi commise quest’officio novo** —
на всех кругах Ада напоминает Вергилий. Это выданный
Данте в Раю пропуск, «командировка» в глубину Ада, его ох¬
ранная грамота.
Кроме того, если все обитатели Ада находятся там потому,
что совершили то или иное «беззаконие», то необходимо знать,
какой «закон», какую «справедливость» они при этом оскорби¬
ли. Об этой справедливости мы узнаём только в Раю.
Это слово, «giustizia», «справедливость», так же, как и «новиз¬
на» , — одно из главных слов Данте и так же приобретающее у него
* Меня создала Божественная Сила, / Высшая Премудрость и Первая
Любовь (Inf. Ill, 5-6). Иначе, говоря, Пресвятая Троица: Отец — сила,
Сын — премудрость и Дух — первая любовь.
** Таким вышел ко мне из круга поющих «Аллилуйя» / тот, кто поручил мне
это новое — небывалое — служение (Inf. XII, 88-89).
312
О. А. СЕДАКОВА
библейский размах смысла. В своей страстной жажде справедливо¬
сти Данте — собрат Пророков и верный ученик Вергилия, тоскую¬
щего о возвращении на землю Virgo Iustitia, Девы Справедливости.
Я думаю, важнейшая задача современного чтения Данте — вос¬
становить связь его Ада с Раем и, следуя его рассказу, выйти из Ада.
А для того, чтобы выйти из Ада — и это будет мое третье и по¬
следнее общее замечание, — необходимо держать в уме цельность
всего мироздания Данте. Цельность, которая создана не исклю¬
чительно им, флорентийским изгнанником. Он получил огромное
наследство. Другое дело, что не каждый, получив такое наслед¬
ство, сумеет им распорядиться. Данте сумел — как, вероятно, ни¬
кто другой. Мы привыкли отмечать и ценить в великих авторах
то, чем они отличаются от своих современников, то, что как бы
«выводит» их из плена своего времени, из его ограниченности,
его предрассудков. В случае Данте с его необычайной свободой
и смелостью в отношении общепринятых мнений утверждения
такого рода более чем справедливы. Но это только одна сторона
отношения гения со своим временем. Другая состоит в том, что
каждое время предоставляет своему жителю особые возможно¬
сти, и пограничная эпоха, какой была дантовская, — особенно.
Дары дантовской эпохи в этом смысле неоценимы. Никогда боль¬
ше европейская культура не обладала таким огромным, цельным
и центрированным смысловым космосом, благодаря чему и по¬
эзия способна была вобрать в себя политику, богословие, фило¬
софию, историю, естествознание, мастерство ремесленников.
Феномен Данте возможен только в эту эпоху. Дальше этот космос
начинает разбегаться и распадаться, как империя, отделившие¬
ся части которой теряют связь с некогда общей столицей*. Такой
столицей была, несомненно, Rosa Mistica, Таинственная Роза Эм¬
пирея. Данте-политик предлагает проект всемирной империи по¬
тому, что в его уме эта универсальность уже осуществилась.
Не стоит уточнять, что дары времени не даются даром. Стать
современным своему времени — труд и подвиг, как мы видим
по жизни Данте. Он обличал свое время, он не находил в нем
мира и справедливости, но он сумел так поставить парус свое¬
* Уже у Петрарки мы видим, как этот центрированный мир распадается:
Цицерон и Августин больше не находят себе места в одном простран¬
стве — так же, как за дущу Петрарки ведут бесконечную битву любовь
и религия, Лаура и Богородица. Мир, в котором Беатриче выполняла
волю Богородицы, остался в прошлом.
Под небом насилия
313
го гения, что творческий ветер эпохи дул в его паруса. Нас, его
читателей, это обязывает помнить о «голистической» природе
образов Данте. Если мы и не обладаем достаточно глубокими
знаниями тех оснований, на которых Данте строит свою поэти¬
ческую «Сумму», — то есть, классической поэзии и философии,
Св. Писания и богословия и многого другого — мы не должны
забывать о присутствии этих оснований во всем, что говорит
Данте, и не можем сужать дантовские образы до психологиче¬
ской, социологической или эстетической транскрипции. И твер¬
же всего мы обязаны помнить о центростремительности каждой
частицы его мира, которая «по морю бытия плывет к своему на¬
значению». За исключением Ада. Ад у Данте — это прежде все¬
го и по преимуществу состояние изоляции от целого, выпадение
из центростремительного движения.
На этом я кончу мое уже затянувшееся вступление и перейду
к Песням XII-XIV. Все эти три песни разворачиваются в Ше¬
стом круге Ада, среди насильников, «violenti». Круг разделен
на три террасы.
Песнь XII. «Le Fiere isnelle»*
Итак, мы находимся в Нижнем Аду, в Граде Дита, где мучат¬
ся насильники и обманщики, то есть те, кто — в отличие от не¬
воздержанных из верхних ярусов Ада — творил зло с участием
собственной воли (насильники) и собственного разума (обман¬
щики) А также в отличие от ничтожных из преддверия Ада, ко¬
торые предпочли вообще ничего не совершать. Первая терраса
этого круга определена насильникам против ближнего:
onde omicidi e ciascun che mal fiere,
guastatori e predon**
Первые среди них — тираны. Данте знает, что государствен¬
ное насилие страшнее частного.
Как мы знаем из предыдущих песен, вход в Град Дита необычай¬
но затруднен. Только вмешательство Небесного Посланника позво¬
* Проворные звери.
** Там человекоубийцы и те, кто нечестно ранил, / мародеры и грабите¬
ли (Inf. XI, 37-38).
314
О. А. СЕДАКОВА
ляет нашим поэтам преодолеть сопротивление охранников-бесов.
Вергилий здесь бессилен. Оказывается, что ему недоступен не толь¬
ко Раи (что, в логике Данте, печально, но естественно), но и глуби¬
на Ада! И дальше, в каждом новом кругу мы видим преодоление
свирепого сопротивления адской стражи (в Двенадцатой песни это
Минотавр). Эта защита границ зла заставляет задуматься. Стражи
стерегут осужденных, как тюремщики, чтобы они не сбежали, это
понятно. Но какое сокровище они хранят от посторонних?
Почему, вопреки ожиданиям, так труден этот вход? Ведь об¬
щий вход в Ад легок и всегда открыт. Так у Вергилия:
Noctes atque dies patet atri ianua Ditis*, —
так и у Данте. Что предельно трудно, так это выйти из него:
Hoc opus, hic labor est**.
Читая сюжет аллегорически: постоянная доступность Ада
означает всегда открытую для человека возможность впасть
в грех. Почему же так трудна дверь нижнего ада? И здесь, нуж¬
но заметить, Данте следует Вергилию. В Шестой песни «Энеи¬
ды» и ему, и Сивилле закрыт вход в посмертное жилище пре¬
ступников, в башню Дита:
Nulli fas casto sceleratum insistere limen***.
Мотив этого запрета у Вергилия — чистота от преступления.
У Данте мы можем предположить другой мотив. Разум, есте¬
ственный разум (который, как все знают, воплощает фигура
Вергилия), не может знать глубины зла — так же, как он не зна¬
ет блаженства. Зло — тоже тайна, как и святость. Для его по¬
нимания также необходимо откровение. Вот один из примеров
того, что дантовский Ад, как мы говорили, начинается в Раю.
Если мы вслед за английским исследователем увидим в дан-
товском сочинении, в его Аду, «откровение природы нераска¬
* Ночью и днем широко открыта дверь во дворы Дита (Aen. VI, 127; лат.).
** Вот это дело, вот это труд (Ibid., 129; лат.).
Никому чистому от преступления не позволено переступать его порог
(Ibid., 563; лат.).
Под небом насилия
315
янного греха»*, мы поймем, что адские муки дают нам увидеть
не столько «воздаяние», «справедливую кару», то есть, нечто
такое, что случается после греха, в ответ на него, но сам грех
в его истинном виде, грех как он есть, когда его ничто не засло¬
няет. Ветер, который несет Паоло и Франческу, подхватывает
их не после того, что они совершили: это с ними действительно
происходит в самый момент их беззаконной страсти. Их страсть
и есть этот ветер. Кипящая река крови, в которую погруже¬
ны — каждый в меру своих преступлений — тираны из Пес¬
ни XII, и есть реальность их действий.
То, что глубина Ада сопротивляется знанию человека, по¬
хоже на правду. Чтобы совершить грех, нужно не видеть его
природы — так, как эта природа открывается глазам Данте. От¬
кровение зла состоит не только в том, что мы с полной ясностью
видим, насколько оно в себе безобразно, но и в том, что мы уз¬
наем, какое это великое страдание для того, кто это зло совер¬
шает. Сам он может этого до времени не чувствовать, но то, что
в нем страдает и гибнет, — это его человечность, божественный
замысел о нем. Обыкновенно человеку нужно иметь множество
убедительных объяснений, извинений, причин и целей, чтобы
совершить зло как нечто «необходимое», нечто «полезное» для
чего-то еще. Нужно инструментализовать зло, одним словом.
То есть, нужно думать, что по существу ты делаешь нечто другое,
чем то, что ты делаешь, а то, что принято считать злом, ты все¬
го лишь используешь как необходимое средство. Например, ты
не убиваешь тысячи невинных людей, а осуществляешь — при
помощи их «ликвидации» — великий проект будущего счастья
человечества или Отечества (как это прокламировалось в СССР
и нацистской Германии). Этот новейший пример особенно уме¬
стен в связи с Песней XII. «Грандиозные» фигуры диктаторов
XX века (Сталин, Гитлер, Мао, Энвер Ходжа и другие) будут,
как дома, в кровавом кипятке дантовского Флегетона и, вероят¬
но, превзойдут легендарного Аттилу.
À propos. В своем отношении к массовому насилию «сверху»
со стороны власти, к тирании мораль современного человека, че¬
* «The revelation of the nature of impenitent sin» (Wicksteed P. H. From Vita
Nuova to Paradiso: Two Essays On The Vital Relations Between Dante's
Succesive Works. Manchester: Manchester University Press; London/New
York: Longmans, Green & Co., 1922. P. 41.
316
О. А. СЕДАКОВА
ловека «после Аушвица и ГУЛага», полностью совпадает с дан-
товской. Быть может, это последний род зла, который остается
несомненным, абсолютным злом для нашего современника*.
В других случаях «насилия»: самоубийцы, ростовщики (то есть,
собственно говоря, все финансисты: вспомним, к чему привела
Эзру Паунда его «дантовская» ненависть к usura!**), а также го¬
мосексуалисты — эти позиции очень разойдутся. Но я думаю,
мы не будем сегодня обсуждать различия моральных суждений
современного гуманизма с его фундаментальным требованием
толерантности, переходящим в моральный агностицизм, — и ре¬
шительно не-толерантных дантовских суждений. Будем говорить
только о том, что написал Данте. Но заметим при этом, что, если
образы таких грешников, как нежная Франческа, благородный
Пьер дела Винья, изящный Брунетто Латини, вызывают наше
горячее сочувствие и желание «спасти» их из адского круга,
от беспощадного Данте — то это потому, что именно такими их
представил нам Данте. Он сострадал этим своим героям не мень¬
ше, чем его читатели. Он поступил с ними не иначе, чем грече¬
ские трагики со своими протагонистами или Вергилий с Турном
и Дидоной. Пожалуй, современному художнику эта сложная
позиция — позиция эпической или трагической ответственно¬
сти автора перед реальностью — почти недоступна. Он «спасет»
(в моральном смысле) тех, кого любит, и «погубит» нелюбимых.
Но в Двенадцатой песни ничего сложного в этом отношении
нет. Здесь Данте, повествователь и герой своей эпопеи, не встре¬
чает для себя никакой моральной трудности. Тирания, то есть на¬
силие и беззаконность в государственной форме, ему предельно
ненавистна — но не по причине анархизма, как обыкновенно бы¬
вает в таких случаях, а прямо наоборот: именно потому, что ему
так дорога идея законной и благородной единой власти (ср. его
* Вынужденное примечание. Эта лекция обращена к итальянской аудито¬
рии, и говоря о «современном человеке* здесь, как и во многих других ме¬
стах, я имею в виду современного человека западной цивилизации. Для
наших сограждан (по большей части) целесообразность государственного
насилия остается вещью вполне допустимой.
** Usura — процент, которым облагается денежный займ (um.). О понима¬
нии банковского процента у Данте мы будем говорить дальше. Паунд по¬
святил «Узуре» страстную лирическую инвективу, в своем роде великие
стихи. Ненависть к ростовщичеству (которое для Паунда автоматически
связывалось с еврейским капиталом) привела его к сотрудничеству с ита¬
льянским фашизмом, который обещал освободить мир от «узуры».
Под небом насилия
317
«Монархию»). Ни с кем из погруженных в кипящую кровь Флеге-
тона он даже не заговаривает. Персонально они ему не интересны.
Вернемся в последний раз к трудному входу в область зла.
Трудному входу в Дит — и затрудненному входу в каждый но¬
вый его круг. В нашем случае — к Минотавру на скале в начале
Двенадцатой песни и вслед за ним — к патрулю надсмотрщи¬
ков-кентавров (а сколько таких гостей из мифа, из хтонической
греческой архаики Вергилий и Данте уже встретили до этого!).
Со «своими», языческими чудищами Вергилий умеет справить¬
ся или договориться, так что порой они могут даже, подобно
«добрым чудовищам» в сказках, оказать ему услугу, как кен¬
тавр Несс, который по приказу Хирона сопровождает путников
до брода и перевозит Данте на спине через Флегетон. Отноше¬
ния Вергилия с кентаврами — можно сказать, идиллия в ограде
Ада. Между ним и Хироном есть какая-то солидарность. Чего
Вергилий, как мы знаем, не может — это справиться с христи¬
анскими бесами. Спуск в глубину Ада, в глубину греха и зла так
труден потому, что это не что иное как путь спасения. Не только
личного спасения Данте, задуманного Беатриче (она объясня¬
ет в Земном Раю, что только таким образом, посещением мира
погибших душ возможно было спасти Данте от духовной смер¬
ти*), но и определенной возможности спасения для его читате¬
ля. Увидеть зло в его открытой природе кое-что значит! Никто
из тех, кто по-настоящему прочитал дантовский «Ад», я думаю,
уже не сможет совсем беспроблемно выбирать те виды зла, ка¬
кие Данте нам описал. Образы подожженного песка и снегопада
огня, реки из кровавого кипятка, истекающих кровью деревьев
и кустов, образы людей, ставших охотничьей дичью (я называю
только образы из наших Песен XII-XIV) как настоящая реаль¬
ность греха (а не только неизбежно последующее за ним нака¬
* Ср. слова Беатриче, постфактум объясняющие все происшедшее:
Tanto giù cadde, che tutti argomenti
a la salute sua eran già corti,
fuor che mostrarli le perdute genti.
Per questo visitai l’uscio d’i morti,
e a colui che Г ha qua sù condotto,
li preghi miei, piangendo, furon porti.
Так низко он пал, что любые средства / для его спасения были уже ко¬
ротки, / кроме как показать ему погибшее племя. // Потому я и посетила
вход умерших, / и тому, кто сопроводил его сюда, / моленья мои принесла
со слезами. (Purg. XXX, 136-141)
318
О. А, СЕДАКОВА
зание) навсегда записываются, говоря по-дантовски, в книгу
нашей памяти. Подробные разъяснения того или другого греха,
любые нравоучения здесь уже излишни. Записываются? Я бы
сказала: эти образы врезаются в камень нашей памяти. Сама
сила письма и есть моральный урок Данте.
В каждом эпизоде, в каждом пассаже эта сила письма про¬
является по-разному. Неизменное и первое орудие Данте,
несомненно, — синтаксис. Таким «длинным» синтаксисом
не владел ни один поэт. Я понимаю этот синтаксис иначе, чем
Мандельштам, которому важнее всего была непредсказуемость
хода дантовской речи, ее чисто звуковые сцепления. Однако эти
необычайно длинные, разветвленные фразы направляются ог¬
ненной логикой.
Посмотрим на вторую фразу Двенадцатой песни, которая
разворачивается 12 строк или 4 терцины!
Qual è quella ruina che nel fianco
di qua da Trento l’Adice percosse,
о per tremoto о per sostegno manco,
che da cima del monte, onde si mosse,
al piano è sì la roccia discoscesa,
eh’alcuna via darebbe a chi sù fosse:
cotai di quel burrato era la scesa;
e ‘n su la punta della rotta lacca
l’infamia di Creti era distesa
che fu concetta ne la falsa vacca;
e quando vide noi sé stesso morse,
sì come quei cui l’ira dentro fiacca*.
Все это — одна фраза! Она симметрично поделена на две полови¬
ны. Первая половина — описание загробного ландшафта через его
приблизительное сравнение с земным. Данте не тратит слов: зачем
описывать, читатель и так поймет, он видел это сам или ему об этом
Как этот обвал, который по склону горы с этой стороны Трента скатился
к Адиче — или из-за землетрясения, или из-за слабости опорных слоев, —
с вершины горы, откуда он рухнул, к долине, и так раскатились скалы,
что не оставили пути для того, кто бы там оказался, — таков был обрыв
этой пропасти; и там, у входа в разбитую полость (пещеру) возлежало
позорище Крита, то, что было зачато в обманной корове; и увидев нас,
в себя вонзило зубы, как тот, кого изнутри сражает гнев. (Inf. XII, 4-15)
Под небом насилия
319
рассказывали. Первый член сравнения, горный обвал у Адиче,
по которому нельзя спуститься, занимает первые шесть строк. Ров¬
но половина фразы. Широкая панорама и глубокий взгляд далеко
вниз. Вторая половина фразы сжимает перспективу: сначала до пе¬
щеры на этом обрыве (третья терцина). И последняя, четвертая
терцина представляет собой просто катастрофическое ускорение
сжатия пространства и времени. Внимание фокусируется на лежа¬
щем в пещере чудище Минотавре, «позоре Крита» (здесь само со¬
бой напрашивается впечатление за пятьсот лет предсказанного ки¬
нематографического эффекта, смены планов, движения камеры,
но дело много серьезнее: дальше фокус смещается не только в про¬
странстве, но и во времени), следующая строка сжимает Минотав¬
ра до момента его зачатия в «обманной корове»! Но и это не конец.
Минотавр, уже рожденный и убитый Тезеем, и теперь сторож Ше¬
стого круга, вонзает зубы в себя самого, обессиленный внутренним
гневом. Насилие свернулось в точку и выстрелило в себя. Послед¬
нее слово этой издалека идущей фразы — «fiacca», «сокрушает».
Точный смертельный удар. Минотавр побежден самим ходом, са¬
мой стратегией этой фразы — прежде, чем с ним заговорит Верги¬
лий. Появление стрел и лука кентавров она уже предсказала. Таков
синтаксис Данте: он обгоняет и предсказывает ход событий.
В последующем эпизоде сила дантовского письма обнару¬
живает себя другим образом. Вергилий — вновь одной фразой,
которая также продолжается четыре терцины и ветвится слож¬
ноподчиненными предложениями: «когда», «если», «так, что»,
«из-за чего» — объясняет Данте происхождение этого обвала.
Это случилось после схождения Христа в Ад. Теперь мы видим
Данте — виртуоза эмпатии. Он мыслит с точки зрения Верги¬
лия. Он предлагает нам удивительный перевод христианского
события на язык языческой мысли, на язык эмпедокловой кос¬
мологии. Как еще может понимать происшедшее просвещенный
язычник? Равновесие космоса, составленное гармонией силы
любви и ненависти (иначе: притяжения и отталкивания) нару¬
шилось. Сила любви перевесила силу отталкивания — и за этим
обычно следует разрушение мира, возвращение в хаос. Дей¬
ствительно, все почти точно — но «как в гадательном зеркале».
Эпизод с кентаврами и Хироном, как я уже говорила, — ред¬
кая пауза благодушия среди ужаса Ада. В ней нельзя не почув¬
ствовать тени комизма (достаточно вообразить в картинках, как
320
О. А, СЕДАКОВА
Хирон расчесывает себе бороду стрелой, как патруль кентавров
с берега стреляет из лука в тех, кто норовит выглянуть из кипя¬
щей крови больше, чем им положено, как Данте верхом на кентав¬
ре переправляется через Флегетон, вергилиеву реку — которую
он пока не узнает). Здесь, как во многих других эпизодах, Данте
показывает свое мастерство входить в игру, начатую старинными
поэтами: среди их пейзажей и их персонажей как бы второй раз он
странствует и по-новому пускает в ход арсенал классической фан¬
тазии. С окончательной серьезностью его отношения с классиче¬
ской дохристианской поэзией и отношение этой поэзии к истине
будут выяснены в Земном Рае. Но здесь наш разговор не об этом.
Лейтмотив Двенадцатой песни — невероятная упорядочен¬
ность насилия над насильниками. Эта механическая упорядо¬
ченность иррациональна: во-первых, потому что работа по ее
соблюдению возложена на чудовищ, представляющих собой
гибрид человека и зверя; во-вторых, потому что строгой мерой
количества здесь измеряется то, что такому измерению не под¬
лежит: кровь и мука. Ад замкнут и регулярен, как концлагерь
или тоталитарное государство — но ведь таких реалий Данте
не должен был бы знать на опыте своего времени, жестокость
которого имела стихийный и анархический характер. В отли¬
чие от адских пейзажей, инфернальную дисциплину ему еще
не с чем сравнить на земле.
Это, повторю, редкая песня, в которой мы не замечаем ни ма¬
лейшего сочувствия и даже интереса Данте к тем, кто претерпе¬
вает адские пытки. Ненавистные тираны, убийцы и грабители.
От них остались одни имена.
Песнь XIII. «Anima lesa»*
Переправлявший Данте кентавр Несс еще не исчез из виду,
а все уже переменилось. Мы среди насильников против себя са¬
мих: самоубийц и мотов. Мотам будет отведен короткий эпизод,
интермедия страшной охоты, которая прерывает беседы Данте
с двумя самоубийцами, деревом и кустом.
Итак, мы в глухом лесу, который напоминает нам о двух дру¬
гих лесах поэмы, « selva selvaggia » ** из самого начала повествова¬
* Поруганная душа.
** mi ritrovai per una selva oscura, <...>
Под небом насилия
321
ния и «antica selva» * Земного Рая на вершине горы Чистилища.
Во всех этих сценах лес у Данте несет смысл какой-то глубокой
непроясненности общего положения, потерянности человека.
Но здесь к нему добавлен еще мотив пряток, тайного убежища,
которого ищут хищные звери. Птицы этого леса — ужасные Гар¬
пии. Данте кажется, что этот лес, в котором раздаются стоны,
кого-то прячет в себе. Вергилий пытается подсказать ему: ведь
ты читал мою «Энеиду», помнишь, чему в ней никто не верит?
Подсказка не помогает. Тогда Вергилию приходится прибегнуть
к эксперименту: обломай ветку, и поймешь (то есть, повтори то,
что сделал мой Эней с миртом в моей Третьей песни). Данте слу¬
шается — и тут же слышит человеческий стон; из ствола течет
кровь. Он с ужасом понимает: эти деревья только видятся мерт¬
выми, это души, а не растения. Достаточно малейшего насилия,
чтобы кровь и речь вышли наружу: укоряющая, жалобная речь.
С людьми так не поступают! Даже со змеями можно быть береж¬
нее. А мы были людьми... «Uomini fummo...»
Речь, самый процесс словесного выражения для душ в Аду
травматичен — но более яркого случая, чем это истекающее
кровью и словами дерево, мы не встретим.
В сосуде Тринадцатой песни заключен один из самых волну¬
ющих образов мировой поэзии — ставший деревом благородный
самоубийца Пьер делла Винья, верный и оклеветанный советник
Императора Фридриха IL Прямой источник этого образа — Вер¬
гилиев Полидор, убитый и обращенный в мирт. Истекая темной
кровью, Полидор-мирт говорит Энею, обломившему его ветку:
Quid miserum, Aeneas, laceras?**
Но Вергилий коснулся здесь древнейшего сюжета, известно¬
го фольклору всех народов : это легенды о человеке, обыкновенно
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
Я оказался в некоем темном лесу <...> // этот дикий лес, и тернистый,
и непроходимый, / который в мысли (т. е. мысль о котором) воскрешает
тот ужас! (Inf. I, 2, 5-6)
* dentro a la selva antica tanto, ch’io
non potea rivedere ond’io mi ‘ntrassi
В глубину древнего леса, так глубоко, что я / не мог уже увидеть, откуда
я вошел (Purg. XXVIII, 23-24).
** Зачем ты, Эней, ранишь несчастного? (Aen. III, 41; лат.)
322
О. А. СЕДАКОВА
невинно убитом, который превращается в говорящее растение
(чаще всего для того, чтобы свидетельствовать о своем убий¬
це). Мы слышим в этих легендах интуицию какой-то глубокой
и таинственной связи, своего рода тождества человека и дерева.
Кроме того, тема их — утаенное и затем раскрытое убийство.
Так это, собственно, и у Вергилия. Сюжет Данте сложнее. Само¬
убийца-дерево становится свидетелем против себя — собствен¬
ного убийцы. Свидетелем против него будет в дальнейшем его
тело, от которого он отказался и которое в конце времен будет
повешено на своей «постылой душе», «l’ombra sua molesta» (ср.
библейское: «проклят каждый, висящий на дереве»). Противо¬
естественное соединение жертвы и ее палача в одном лице —
иначе: противоестественное раздвоение одного человеческого
существа — показано нам со всей наглядностью.
Раненость и ранимость —лейтмотив этой песни. Ее герой —ра¬
ненная душа, поруганная душа, «anima lesa». Самоубийцы-дере¬
вья взывают к жалости, но иначе чем через причинение им новой
боли их не услышишь. Они могут говорить не дольше, чем течет
кровь из обломанной ветки. Данте и Вергилий, подтолкнувший
Данте на жестокий эксперимент, испытывают перед ними вину.
Душа самоубийцы (тень, «l’ombra» называет ее на античном язы¬
ке Данте), поселившись в этом сосуде боли, делает каждого своего
собеседника вовлеченным в насилие над собой. Изысканность,
сдержанность и благородство речи Пьера делла Винья усилива¬
ют этот эффект. Это мучение впечатляет, пожалуй, больше, чем
река кипящей крови из предыдущей песни. Неудавшийся побег
из невыносимой ситуации («credendo col morir fuggir disdegno»,
«надеясь при помощи смерти сбежать от бесчестия», — говорит
Пьер делла Винья*), из незаслуженного позора, которого человек
чести не может пережить, из утраты доверия, которой любящий
и преданный человек не может вытерпеть. Данте, потрясенный
состраданием, не может задать Пьеру делла Винья нового вопро¬
са. Только судьба Франчески тронула его в такой мере.
Пьер делла Винья, жертва клеветы, образец той верности
суверену, которая была так дорога Данте, «ingiusto fece me
contra me giusto» «сделавший себя невинного виноватым про¬
тив себя» **, видится нам образцом человеческой судьбы в бесче¬
Под небом насилия
323
ловечном мире, как ее часто понимают позднейшие мыслители
и философы. Но христианство думает о безвыходности иначе,
и Данте с этим не спорит. Предполагается, что свобода воли
остается у человека в любом положении и в любом положении
он может выбрать жизнь. От этого отказывается «большой тер¬
новник», Пьер делла Винья и другой самоубийца, некогда зем¬
ляк Данте, флорентиец, а теперь куст, на его глазах обломан¬
ный мотами, которых на куски раздирают гончие.
Мы можем не заметить, что Данте выполняет просьбу Пьера
делла Винья (как Эней совершает погребальные почести Поли-
дору): своим рассказом он восстанавливает его доброе имя среди
живых. Исполняет он и просьбу куста, некогда флорентийского
судьи, осудившего на смерть себя самого и приведшего приго¬
вор в исполнение (так, на этот раз в юридических терминах опи¬
сывается самоубийство). Данте (уже в начале следующей песни)
собирает раскиданные обломки его ветвей.
В рассказах двух самоубийц мы слышим знакомые дантов-
ские темы негодования против пороков двора и нравов родной
Флоренции, над которой не кончается власть ее первого языче¬
ского покровителя, бога войны Марса.
В конце концов, эта песнь оставляет нас с ощущением непо¬
правимого, болезненного несчастья. Но кто сказал, что из Ада
мы должны вынести только праведный гнев и удовлетворение
торжествующей справедливостью? Пьер делла Винья напоми¬
нает нам о кровной солидарности людей — просто потому, что
они люди. «Мы были людьми...». «Uomini fummo...»
И что значит — быть людьми? Для Данте, несомненно, это
значит — быть слышимыми. «Nam in homine sentiri humanius
credimus quam sentire*», — говорит он в трактате «О народном
красноречии». Удивительное и мало замеченное размышление
Данте. Человек есть прежде всего сообщение. Кому направлено
это сообщение?
Образ обломанной ветки — раны, «окна для боли» и свое¬
го рода органа речи, которая истекает из нее вместе с кровью,
принадлежит к тем вещам, которые, узнав, уже нельзя забыть.
О том, что боль и человеческий язык в земном мире в каком-то
смысле тождественны, Данте уже думал в трактате «О народном
* «Ибо мы полагаем, что самое человеческое в человеке — не слушать,
а быть слышимым». (De Vulg. El., I, 5; лат,).
324
О. А. СЕДАКОВА
красноречии»: первым словом сотворенного Адама, полагает
он, был крик восторга, «El!», который был одновременно и име¬
нем Бога. После изгнания из рая младенец рождается на земле
с криком боли, «heul» — это и есть его первое слово и, так ска¬
зать, первое имя мира*.
В образе кровоточащих деревьев оживает библейское отож¬
дествление крови и души.
Песнь XIV. «La folgore aguta»**
Итак, следующая песнь, как и предыдущая, продолжает
рассказ без перерыва. Она начинается с того, что обломанные
в предыдущей песни ветки собираются, а растерзанный куст
умолк. Мы не покидаем пространства насилия. Это его третья
терраса: кощунники, содомиты, ростовщики. Странное объеди¬
нение, не правда ли? Для Данте это три разновидности насилия:
против Бога (святотатцы), против природы (содомиты) и против
искусства (ростовщики). При чем же здесь искусство? Искус¬
ство, объясняет Вергилий в предшествовавшей нашим Песням
вводной лекции о природе насилия, — это самые общие законы
человеческих действий, которые, насколько могут, подражают
природе, которая, в свою очередь, подражает своему Творцу,
«так что ваше искусство — как бы внук Бога»,
sì che vostr’arte a Dio quasi è nepote***.
Требовать взамен больше, чем ты дал, — это и есть злейшее
насилие над искусством.
Одна и та же мука назначена всем трем видам насилия: огонь,
летящий с неба хлопьями,
come di neve in alpe sanza vento****,
«как снегопад в горах в безветренную погоду». Хлопья огня
поджигают раскаленный песок, на котором лежат плашмя ко¬
* См.: De Vulg. El., I, 4.
** Разящая молния.
*** Inf. XI, 105.
**** Inf. XIV, 30.
Под небом насилия
325
щунники, бегают, стряхивая с себя свежие ожоги, содомиты
(которых, замечает Данте, значительно больше) и сидят непод¬
вижно ростовщики. Библейская казнь Содома и Гоморры. Неза¬
бываемый пейзаж с дополнительными сведениями из истории
и географии (нечто похожее видели в военных походах Алек¬
сандр в Индии, Катон в Ливии).
Слово предоставляется языческому святотатцу Капанею,
оскорбившему Юпитера и пораженному за это молнией (теперь
источник Данте не Вергилий, а его страстный почитатель и под¬
ражатель Стаций: учителю и ученику предстоит встретиться
в Чистилище). Образ Капанея — один из двух центров Четыр¬
надцатой песни. Этому богоборцу не откажешь в величии:
Qual io fui vivo, tal son morto*.
И убитый, и мучимый, он не признает себя побежденным:
он остался собой. У него есть нечто такое, чего не отнимет
ни смерть, ни пытка: это его достоинство. Три терцины, кото¬
рые Капаней обращает к Громовержцу, исполнены такой лири¬
ческой силы, что ей позавидовали бы поэты Sturm und Drang
и революционеры всех времен.
Qual io fui vivo, tal son morto.
Se Giove stanchi ‘1 suo fabbro di cui
crucciato prese la folgore aguta
onde l’ultimo dì percosso fui;
о s’elli stanchi li altri a muta a muta
in Mongibello alla focina negra
chiamando „Buon Vulcano, aiuta, aiutai“,
sì com’el fece alla pugna di Fiegra,
e me saetti con tutta sua forza:
non ne potrebbe aver vendetta allegra**.
* Каким я был живой, таков я мертвый. (Inf. XIV, 51)
** Каким я был живой, таков я мертвый. Если Юпитер утомит своего
кузнеца, у которого в гневе взял разящую молнию, которой в мой
последний день я был сражен; и если он утомит и других, сменяющих
друг друга на Монджибелло в черной кузнице, крича: «Ну Вулкан, давай,
давай!» — как он делал во время битвы при Флегре, пуская в меня стрелы
и со всей своей силой, и тогда не придется ему порадоваться победе (Inf.
XIV, 51-60).
326
О. А. СЕДАКОВА
Смысл его вызова: всего твоего всемогущества не хватит,
чтобы лишить меня — меня самого. Я и мертвый — тот же. Ра¬
доваться победе тебе не придется.
Благочестивый язычник Вергилий, возмущенный этой
несломленной гордыней, гибрисом, ставит диагноз Капанею:
твоя ярость и есть твое полное наказание. Вероятно, он говорит
за двоих? Ведь так же должен был бы думать и Данте, которо¬
му прекрасно известно христианское учение о гордыне и смире¬
нии. Так полагают многие комментаторы нашей Песни. Однако
лирическая сила явно на стороне гордых и яростных стихов,
которые произносит Капаней, а не того учительского выгово¬
ра, которым отвёчает ему богобоязненный Вергилий. Капаней
говорит на лирическом языке самого Данте: это его гиперболы,
его анафоры, его нарастающие повторы, его умение одной чер¬
той обрисовать образ («Buon Vulcano, aiuta, aiuta!», «Ну давай,
Вулкан, на помощь, на помощь! » ), это его мышление гипотезами
(«и если...», «и даже если...»), его привычка к географической
точности. Это то самое «великолепное презренье», с которым
сам Данте говорит о Фортуне в последующей песни — в ответ
на пророчество Брунетто Латини об ожидающих его несчастьях:
Tanto vogl’io che vi sia manifesto,
pur che mia coscienza non mi garra,
eh’a la Fortuna, come vuol, son presto.
Non è nuova a li orecchi miei tal arra:
però giri Fortuna la sua rota
come le piace, e ’1 villan la sua marra*.
A там, где в голосе персонажа мы слышим голос самого поэ¬
та, говорит Марина Цветаева, мы понимаем, на чьей он стороне.
В чем же лирическая правота Капанея и что она значит?
Не проглядывает ли здесь «прометеевское» начало самого Дан¬
те, его гордыня и дерзость, его восхищение самоутверждением
человека перед лицом Бога? Я думаю, дело совсем не в этом.
Капаней говорит именно так, как человек должен достойно го¬
Итак, хочу я, чтобы вам было известно: / лишь бы моя совесть меня
не обличала, / а что до Фортуны, я готов ко всему. // Не новость для моих
ушей этот оракул: / так пусть Фортуна ворочает своим колесом, / как ей
угодно, а мужик — своей лопатой (Inf. XV, 91-96).
Под небом насилия
327
ворить перед лицом всемогущего и бессмысленного насилия.
Сдача насилию, подчинение силе — это не смирение, а низость,
«viltà», ненавистная Данте.
Но разве Бог — это слепая гневная сила? Мы можем понять,
что Вергилиев Юпитер может быть прочитан как иносказание
Вседержителя (сам этот эпитет — Omnipotens, Вседержитель —
перешел в христианскую латынь из именования Громовержца),
можем думать, что языческая гибрис и христианская гордыня
в каком-то отношении близки. Но вот что решительно противо¬
положно: Капаней не видит в Юпитере ничего кроме высшей
формы насилия. Этому насилию он и бросает вызов — ив ка¬
ком-то смысле побеждает его. Однако для христианина кощун¬
ство не есть вызов всемогущей Силе: это оскорбление Первой
Любви. С таким образом Бога языческое благочестие не зна¬
комо. Многозначительно молчание Данте после выговора Вер¬
гилия. Над кругом насильников царит Громовержец Капанея,
обожествленное насилие, абсолютная тирания. Душу тем не ме¬
нее оно убить не может, как нам невольно показывает сцена Ка¬
панея. Мы можем сказать, что само насилие проистекает из те¬
ологической ошибки: оно отвечает ложному образу Создателя.
Имел ли сам Данте это в виду?
Можно предположить, что Данте, чье знание Библии необы¬
чайно даже для просвещенного человека его времени, что-то та¬
кое заметил в ветхозаветных книгах, в истории ночной борьбы
Иакова с ангелом и в споре Иова с «богобоязненными» друзь¬
ями — что-то абсолютно неизвестное благочестию Вергилия.
Да и тому «доброму прихожанину», с которым через несколько
веков будет спорить Кьеркегор...
Вторая вершина Четырнадцатой песни — рассказ Вергилия
о происхождении адских рек. Данте опять оплошал, проявил
умственную нерасторопность, не узнав кровавого Флегетона,
который— как же ты читал мою «Энеиду»?— описал Вер¬
гилий. Эта река, заполнившая всю Двенадцатую песнь, вновь
встречает их здесь, в горящей пустыне песни Четырнадцатой.
В связи с этим Вергилий дает подробный урок адской гидро¬
нимики. Следует поразительный рассказ о некоем чудесном
изваянии Старца в горах Крита, в том месте, где некогда рас¬
полагалось Царство Сатурна, языческий Золотой Век. Данте
создает здесь настоящий новый миф, заимствуя библейский об¬
328
О. А. СЕДАКОВА
раз из сна Навуходоносора в Книге пророка Даниила (сам этот
библейский образ уже включил в себя языческую картину де¬
градации Веков от золотого к железному): «У этого истукана го¬
лова была из чистого золота, грудь его и руки его — из серебра,
чрево его и бедра его — медные, голени его железные, ноги его
частью железные, частью глиняные» (Дан. 2: 32-33).
Таков и Старец Данте, повернутый лицом к Риму. В библей¬
ском сне дело кончается тем, что на этого идола скатывается ка¬
мень с горы и разбивает его (традиционно это понимается как
пророчество о будущем царстве Мессии, отменяющем земные
царства). У Данте истукан стоит на месте, но все его части, кроме
золотой, разбиты. В трещины текут слезы. Эти слезы и становят¬
ся адскими реками. Некоторые из них Данте уже встретил в своем
странствии, другие ждут его дальше — в самой глубине Ада (Ко-
цит) и на вершине Горы Чистилища (Лета). Поразительный Миф
истории ветхого человечества, истории, которая еще не закончи¬
лась и питает собой Ад. Вот куда направляются скорби всех веков.
На вершине Горы Чистилища, где течет Лета, мы увидим дру¬
гой, библейский образ «Золотого века», безгрешного и блажен¬
ного начала человечества: Эдем, опустевший после изгнания
Адама. Эдем и его Евноя (река благой памяти) тоже, как и ад¬
ские реки, связаны с земной реальностью, но другим образом:
не Эдем ей питается, но он — не то чтобы ее питает... он сквозь
нее просвечивает. Он проникает на землю через вещие сны
вдохновенных поэтов, напоминающие людям о первоначальной
невинности «человеческого корня». Смутное пока, в конце Че¬
тырнадцатой песни, обещание Вергилия о том, что Данте еще
предстоит увидеть Лету, связывает между собой две эти альтер¬
нативные картины начала человечества.
* * *
Итак, мы прошли с Данте и Вергилием по катастрофическо¬
му горному обвалу, по берегу реки кипящей крови, по мертвому
лесу, истекающему кровью и стонами, по раскаленной песчаной
пустыне, на которую падает огненный снегопад, и вновь встре¬
тили Флегетон. На этом круг насильников еще не кончается. Он
простирается на три следующие песни.
Под небом насилия
329
Я хочу отметить общую черту всех этих дантовских ланд¬
шафтов: бесплодие, безжизненность. Это общий знаменатель
любого насилия. Новое Время слишком часто не различает
жизненную силу — и насилие, оно в лице своих поэтов и мыс¬
лителей готово преклоняться перед насилием как проявлением
чарующей мощи, творческого порыва и витальности. Для Данте
жизнь и насилие — это две абсолютно противоположные вещи.
Насилие — родина смерти, смерти во всех смыслах.
2008
О. А. СЕДАКОВА
Данте: мудрость надежды
Qui se’ a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra i mortali
se’ di speranza fontana vivace*.
Этими словами из последней Песни «Рая», обращенными
к Преев. Богородице (их произносит у Данте св. Бернар Клер-
воский), мне хочется начать мои сегодняшние — не слишком
долгие, обещаю — рассуждения о Данте. Образ Богородицы —
живого ключа (Живоносного Источника) хорошо знаком Пра¬
вославию; он прямо связан для нас с пасхальными днями (ведь
и у Данте, напомню, завершающий момент его странствия, ког¬
да звучит этот гимн, приходится на Пасху). Любовь к Богоро¬
дице как источнику надежды — и порой: последнему источни¬
ку, надежде тех, у кого уже нет надежды, — глубочайшая часть
русской культуры. Схождение традиций в этой точке совсем
не странно: мысль о Богородице — источнике надежды в мире
скорби, животворной воде — принадлежит общему христиан¬
скому сокровищу. Можно отметить, как необычно и правдиво
у Данте этот образ воды, бьющей из земной глубины, — ина¬
че: образ надежды — соединен и сопоставлен с другим образом
святости, огнем в зените, любовью. «У нас, — говорит св. Бер¬
нар — (то есть, в мире Славы), — Ты солнце любви в зените;
* Здесь, для нас Ты — полуденный факел / любви, и там внизу, среди смерт¬
ных / Ты — живой родник надежды. (Par. XXXIII, 10-12; Перевод цитат
из «Божественной комедии» и других иноязычных текстов здесь и далее
мой, кроме отдельно оговоренных случаев. — О. С.)
Данте: мудрость надежды
331
среди смертных — живой родник надежды». Три эти строки од¬
ним движением открывают перед нами всю огромную картину
мироздания, видимого и невидимого, смертного и победившего
смерть. Такое может поэзия. Говоря о Данте, Первом Поэте ев¬
ропейской цивилизации,
de li altri poeti onore e lume*, —
я думаю о поэзии вообще, о том «сообщении», которое она
несет в мир. Я думаю о том, что все искусство самым интимным
образом связано со «служением надежде». Я думаю, что именно
лицо Надежды — среди трех дочерей Премудрости: Веры, На¬
дежды, Любви — более всего знакомо художнику (может быть,
и потому, что он легче, чем другие, оказывается в опасной бли¬
зости к отчаянию). Вольно или невольно, именно надежду (или
ожидание надежды, или «надежду на надежду») он передает
своему адресату. То освободительное наслаждение, которое
мы, читатели, зрители, слушатели, переживаем при встрече
с великим произведением искусства, сводится к переживанию
некоей таинственной надежды. Оно выводит нас из той глухой,
замкнутой — ив каком-то отношении удобной — безнадежно¬
сти, в которую человека тянет как будто по закону «тепловой
смерти». Оно выводит нас из привычки, из жизни вне начала,
из забвения о начале. Именно привычке как форме отчаяния
противопоставляет надежду другой ее великий поэт, Шарль
Пеги**.
Это положение о связи творчества с Надеждой по преимуще¬
ству, несомненно, требует развернутой аргументации. Но сегод¬
ня я остановлюсь на том, что привел меня к этой догадке Дан¬
те, «верный Надежды», на отлично сдавший экзамен по этому
предмету апостолу Иакову (Рай, Песнь XXV) и получивший
от него задание: увидав воочию истину небесного Града, Данте
будет укреплять надежду на него в себе и в других:
* Славе и светоче для других поэтов (Inf. I, 82).
** Ср.: «Ее дело — постоянно начинать заново. Ее дело — повсюду вводить
начало, как привычка повсюду вводит конец и смерть» (Пеги Ш. Допол¬
нительная заметка о Декарте и картезианской философии / Пер. Ю. Гинз¬
бург // Пеги Ш. Избранное: Проза. Мистерии. Поэзия. М.: Русский путь,
2006. С. 213).
332 О. А. СЕДАКОВА
sì che, veduto il ver di questa corte.
la spene, che là giù bene innamora
in te e in altrui di ciò conforte*
Надежда, как мы видим в этих стихах, связана с памятью,
памятью будущей славы, которую она «твердо ожидает»:
«Spene», diss’ io «è uno attender certo
de la gloria futura...»** —
и потому уже несет в себе присутствие будущего праздни¬
ка. Но это не единственная ее связь. Она ближайшим образом
породнена со щедростью и открытостью (слово «larghezza»,
буквально «широта», у Данте означает и «generosità», «ще¬
дрость», и «speranza», «надежда», и «apertura», «открытость»).
И потому, что обладающий надеждой непременно щедр и от¬
крыт, — и потому, что надежда вызывает, как ответ себе, сугу¬
бую щедрость Бога, «не обманывающего надежд» ("так у Данте
объясняется спасение язычников, которые «имели упование»,
Par. XX, 94-99).
Об этой добродетели, насколько мне известно, обыкновенно
говорят и думают куда меньше, чем о Вере и Любви. Ее облик,
ее содержание труднее уловить, она как будто менее «религиоз¬
на». Но забвение о Надежде обедняет образы и Веры, и Любви.
Их лица меняются. Они явно становятся дальше друг от друга,
утрачивая связующее их начало, Надежду. В дантовской дина¬
мике (вполне каноничной, впрочем) Надежда имеет своим осно¬
ванием Веру:
credenza,
sopra la qual si fonda l’alta spene***, —
* Так, чтобы увидев истину этого Двора (Царя Небесного), / надежду, кото¬
рая там, внизу прекрасно влюбляет, / ты укреплял в себе и других (Par.
XXV, 43-45).
«Надежда, — сказал я, — это уверенное ожидание / будущей Славы...»
(Par. XXV, 67-68).
*** Приведем это важное место целиком:
...Le profonde cose,
che mi largiscon qui la lor parvenza,
a li occhi di là giù son sì ascose,
che Tesser loro v’è in sola credenza,
Данте: мудрость надежды
333
и «внизу, среди смертных» делает их «правильно любя¬
щими» или же «хорошо влюбляет», «la spene, che là giù bene
innamora»*.
Вера, из которой не растет надежда, любовь, которая отчуж¬
дена от надежды, — это уже другие, вообще говоря, не совсем
христианские образы или смыслы.
Вера, которая мне угоднее всего, — говорит Бог, — это наде¬
жда**.
Во всей своей свежести эта совершенно особая, нежная и не¬
победимая — пасхальная — Надежда обращается к нам в изо¬
бражениях раннехристианского искусства, в катакомбных
Орантах, в надгробьях мучеников, в равеннских мозаиках,
в Капелле Зенона, в древнейших молитвах (таких, как «Свете
тихий»). Так что с удивлением встречая этот взгляд, мы дога¬
дываемся, что в позднейшие времена мы (вместе с нашими
церковными художниками) о чем-то забыли... О том, что род¬
ная среда христианства— не «осень Средневековья», а ран¬
няя весна совсем юной надежды. О том, как это «твердое ожи¬
дание» обгоняло происходящее и смотрело не отрываясь туда,
где обещанное уже исполняется, начинает исполняться. Где?
Не здесь — но здесь. Как ребенку говорят: «Летом мы непре¬
менно поедем на море!» — и, если он поверил (а дети обычно
верят обещаниям), он слушает эти слова, и море будущего лета
уже здесь, перед его взглядом. Он видит это еще невещественное
море не только глазами веры, но и глазами надежды: он видит
его, как во сне, несказанно прекрасным (а это дело надежды, де¬
лать прекрасным), он видит его в его будущей славе. Оно, обе¬
щанное и принятое на веру море, — та самая невидимая «глубо¬
sopra la qual si fonda l’alta spene;
e però di sustanza prende intenza.
Te глубокие вещи, / которые мне здесь щедро даровано видеть въяве, /
в дольнем мире настолько скрыты от глаз, // что бытие их — единственно
в вере, / на которой держится высокая надежда; / и таким образом уга¬
дывает их сущность (Par. XXIV, 70-75). Вот яркий пример того, что чи¬
татель, заинтересованный в «художественном», находит абстрактным,
схоластическим и скучным у «верхнего» Данте!
* Par. XXV, 44.
** Пеги Ш. Врата мистерии о второй добродетели / Пер. С. Аверинцева
и Ю. Гинзбург // Указ. изд. С. 269.
334
О. А. СЕДАКОВА
кая вещь», «laprofonda cosa». И он уже любит ее, как если бы
знал въяве.
Данте — поэт надежды. Этого не может не знать любой, кто
заглядывал хотя бы в его первую, юношескую книгу, кто прочел
там первый параграф о «книге памяти моей», в начале которой
красными буквами написано: «Начинается новая жизнь». Меж¬
ду тем Данте всемирной легенды — поэт гнева и муки, суровый
нелюдим, мастер кошмарной образности, предвосхищающей
сюрреализм и экспрессионизм, гордый и скорбный изгнанник.
Одним словом, Данте для «широкого читателя» остается авто¬
ром «Ада». Вопреки замыслу «Комедии», как изложил его сам
автор: «Вывести человечество из его настоящего состояния не¬
счастья и привести его к состоянию счастья» («Письмо к Кан
Гранде»), общеизвестный Данте ни с надеждой, ни тем более
со счастьем никак не увязывается. Самая знаменитая, самая ци¬
тируемая, вероятно, строка Данте: «Оставьте всякую надежду!»
Lasciate ogne speranza voi ch’intrate*.
Почему Первая кантика, «Ад», века напролет на всех языках
больше читается, больше нравится, больше обсуждается, боль¬
ше влияет на других поэтов, объяснить нетрудно. Так же ясно,
увы, почему две другие, «Чистилище» и «Рай», остаются по су¬
ществу непрочитанными и представляются читателю более
«бледными», «схоластическими» и «абстрактными». Обиднее
другое: и сам этот «Ад», оторванный от своего центра и замыс¬
ла, читается превратно. Как заметил Поль Клодель, дантовский
«Ад» начинается в Раю. Характерно еще и то, что знаменитой
адской надписи придается — многими мыслителями и худож¬
никами XX века — смысл некоего универсального морального
императива. Вот что требуется от человека, от каждого челове¬
ка, если только он хочет мужественно посмотреть в глаза прав¬
де: «Оставь всякую надежду! » Но об этом я скажу в дальнейшем.
Итак, отсеченность надежды — главная черта дантова «Ада».
Это и суть наказания заключенных в адскую темницу:
Nulla speranza li conforta mai**, —
Оставьте всякую надежду, вы, кто входите (Inf. Ill, 9).
** Никакая надежда их уже никогда не утешит (Inf. V, 44).
Данте: мудрость надежды
335
и причина, по которой они там оказались (в случае Верги¬
лия и других великих душ древности — единственная причина,
единственная вина, за которую они расплачиваются, —
la speranza cionca —
«обломанная надежда», которая не дотянулась до своего пред¬
мета, Inf. IX, 18). Жизнь без надежды, не по закону надежды, вен¬
чается заключением в окончательную безнадежность. Это даже
не внешнее наказание, а простая и окончательная реализация того,
что и так с ней было. И сразу же за порогом безнадежности, за сте¬
нами ее тюрьмы начинается мир «избранных» и «спасенных душ» :
он начинается у Данте в Чистилище (о том, что «Чистилище» —
не некая средняя зона, а область спасения, обычно забывают):
О eletti di Dio, li cui soffriri
e giustizia e speranza fa men duri!*
Надежда (и следующее из нее горячее желание «страдать
по справедливости») преображает муки его Чистилища, физи¬
чески не уступающие адским. «Вы, одаренные надеждой, из¬
браны и блаженны», — такого рода надпись могла бы украшать
вход в это Чистилище. Однако сам Данте и в Аду, вопреки за¬
кону этого пространства, не должен оставлять надежды; в том
случае, когда он — под действием страха — готов это сделать,
о надежде напоминает ему Вергилий:
E tu ferma la spene, dolce figlio!**
Надежда — не только свет —
che speranza mi dava e facea lume*** —
и родниковая вода (как мы уже видели). Она корм, еда:
Ma qui m’attendi, e lo spirito lasso
conforta e ciba di speranza buona
ch’i’ non ti lascerò nel mondo basso****.
* О избранники Божьи, чьи мучения / справедливость и надежда делают
не такими тяжкими! (Purg. XIX, 76-77)
** А ты укрепи надежду, сынок! (Purg. Ill, 66)
*** Кто дал мне свет надежды (Purg. IV, 30).
**** Но теперь послушай меня, и усталый дух / укрепи и накорми доброй наде¬
ждой; / ибо я не покину тебя в нижнем мире (Inf. Vili, 105-108).
336
О. А. СЕДАКОВА
Накорми усталый дух доброй (можно сказать: надежной) на¬
деждой! Она — одежда или доспехи, которые нельзя снимать
(«spogliar la spene»*)« Она, кроме того, некий полезный пред¬
мет, рабочая утварь; «мужичонка» («lo villanello»), отчаявшись
было при виде утреннего инея, «вновь сует надежду в свою
котомку» («e la speranza ringavagna»), когда видит, что снег
сошел, — ис этим снаряжением отправляется к своим овцам
(очаровательная буколика, картинка немудрящей земной жиз¬
ни, которая у входа в сюрреалистический кошмар XXIV Песни
«Ада» вспоминается как утраченный рай: и это не единствен¬
ный случай остроумной дантовской «реабилитации» земной
жизни при помощи взгляда на нее из адского рва!)**.
У дантовской Надежды обычно две черты: она «живая»
(«viva speranza») — и она «высокая» («alta spene»). В согласии
с природой дантовского эпитета это значит: она есть «надежда
жизни» и «надеждавысоты»:
ch’io perdei la speranza de l’altezza***
Жизнь (истинная жизнь, «новая жизнь») и восхождение
у Данте — одно и то же. Он продолжает библейский образ жиз¬
ни-пути, но у него это не только путь «вперед», но непременно
и «вверх». Другой род пребывания на земле жизнью он не назо¬
вет. Новая жизнь — это усилие восхождения, штурм высоты,
возможный только в надежде. Корни своей надежды, как Данте
отвечает на небесном экзамене, он находит в глубокой библей¬
ской древности, в постоянных увещеваниях Псалмов: «Да упо¬
вает Израиль на Господа», «Да уповают на Господа все наро¬
ды», «Да уповает душа моя...». Но событие обретения надежды
в его личной судьбе точно датировано: девять лет, первая встре¬
ча с восьмилетней Беатриче.
* Снять с себя надежду (Purg. XXXI, 27).
** Так изгнанник должен видеть глазами памяти свою родину: там, куда ему
вход навеки заказан, любая мелочь прекрасна просто потому, что она есть.
Сравнение еще точнее: так видит все нетюремное заключенный: «И ниче¬
го в жизни не видел я более близкого к Божьему раю, чем этот бутырский
садик, переход по асфальтовым дорожкам которого никогда не занимал
больше тридцати секунд». (Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Екатерин¬
бург: У-Фактория, 2006. T. 1,. ч. 1. VI Гл. 6. С. 255).
Так что я потерял надежду высоты (Inf. I, 54).
Данте: мудрость надежды
337
Собственное падение и близость к вечной гибели, с которой
начинается «Комедия», Данте понимает как утрату «надежды
высоты» (Inf. I, 54). В этом, как в злейшей измене, в бегстве
с поля битвы, на вершине горы Чистилища, почти издеваясь,
обличает его Беатриче:
Quai fossi attraversati о quai catene
Trovasti, per che del passare innanzi
Dovessiti così spogliar la spene?*
Вопрос предполагает: не лги, таких препятствий не может
быть; надежда, которой я тебя вооружила, непобедима. Ее
не должна была победить и моя смерть. Ты должен был взять
этот вражеский замок. Разговор идет в военных терминах. На¬
дежда у Данте неотделима от мысли о жизни как духовной битве
и о земной Церкви как Церкви воинствующей (Chiesa militante).
Беспощадные укоры Беатриче, как говорит Данте, окончатель¬
но растопляют лед его ума, сама кровь его до последнего грам¬
ма приходит в трепет: приближается «древнее пламя» («antica
fiamma») надежды и любви. Теперь Данте готов к пламенному
миру небес.
И навсегда расставаясь с Беатриче в сфере Таинственной
Розы, первое, за что он благодарит ее на прощанье, — это дар
надежды:
О donna in cui la mia speranza vige**.
Сюжет Надежды завершается в тех стихах, с которых я нача¬
ла, — в прославлении «полуденного факела любви» и «живого
источника надежды» — Богородицы: в Ней
s’aduna
quantunque in creatura è di bontate***.
* Какие же охранные рвы и какие запоры / ты встретил, если тебе пришлось
отбросить (как платье или доспехи) / надежду идти вперед? (Purg. XXXI,
25-27)
" О Госпожа, которой живится моя надежда! (Par. XXXI, 79)
** Соединяется / все, что только есть благого в творении. (Par. XXXIII, 20-
21)
338
О. А. СЕДАКОВА
Вот вкратце мы повторили сюжет дантовской надежды. Оста¬
ется добавить: речь идет не о надежде психологической, не о на¬
дежде на какие-то конкретные земные вещи (такую надежду он
назовет «пустой», «vana speranza»/ а о надежде онтологиче¬
ской, происходящей из Мудрости. Дантовская надежда всегда
обитает не в чувстве, а в духе, уме, mente, и представляет со¬
бой некое новое знание — или новое расположение разума и по¬
знания, «intelligenza nova», обладающее антигравитационной
силой, как об этом говорится в заключительном сонете «Новой
Жизни»:
intelligenza nova, che l’Amore
piangendo mette in lui, pur su lo tira*
Мы видим, что минувший век в его представлениях о наде¬
жде и мудрости прямо противоположен Данте. Мыслители,
писатели, публицисты, художники, порой и богословы наших
дней говорят о «трезвости отчаяния», о необходимости «оста¬
вить всякую надежду», чтобы приобщиться к прямому пере¬
живанию реальности — переживанию «травматическому» —
и, соответственно, к истинной, «взрослой» мудрости.
Идея героической безнадежности (постепенно перешедшая
в бытовую и обыденную) возникла не на пустом месте. Ката¬
строфы XX века во многом определили эту позицию. О тера¬
певтическом действии отказа от надежды мы узнаем из записок
узников лагерей, наших и нацистских... Страшные режимы лег¬
че справляются с теми, кто позволяет себе на что-то надеяться.
Такими людьми можно играть**. Это переданный нам огромный
опыт века, в котором гуманистическая надежда (или гумани¬
стическая мечта, что далеко не одно и то же) переживала неслы¬
ханное крушение.
Но, боюсь, мы преувеличиваем новизну этого опыта — он
был прекрасно знаком Данте! Своему учителю Брунетто Лати¬
ни, предсказывающему ему и славу, и великие страдания, он
отвечает:
* Новое разумение, которое Любовь, / рыдая, вложила в него (в мой дух),
только вверх его устремляет.
** Ср.: «Из хотящего жить можно вить веревки» (Архипелаг ГУЛАГ // Указ.
изд.Т. 1.4. 1. Гл. 10. С. 378.
Данте: мудрость надежды
339
pur che mia coscienza non mi garra,
ch’a la Fortuna, come vuol, son presto.
Non è nuova a li orecchi miei tal arra:
però giri Fortuna la sua rota,
come le piace, e ’1 villan la sua marra*.
He на благополучный исход, не на счастливую перемену судь¬
бы, не на исполнение желаний или всеобщее счастье на земле,
не на ангельскую природу человека надеется Данте. Он пишет
после того, как его Беатриче умерла. «Надеждой сверх надеж¬
ды» назовет наш современник дантовскую позицию — но это
лишнее усиление. Дантовская надежда — то есть надежда еван¬
гельская, та, окоторой говорит ап. Павел, Надежда, дочь Му¬
дрости — и есть превосхождение всей данности с ее «неверны¬
ми надеждами».
Так или иначе, мы пришли к тому положению, когда наде¬
жда — в почти общем понимании, в общепринятой «мудро¬
сти» — ослепляет. (Вспомним: у Данте слеп именно тот, кто
не знает надежды.) Она, как нам теперь говорят, противопо¬
ложна мужеству и ответственности. Она есть самообман и ма¬
лодушие. (Вспомним: у Данте хранить надежду мужественно,
а предавать ее низко**.) Она противоположна внутренней свобо¬
де. «Новому разумению» Данте наша культура явно предпочи¬
тает мудрость стоиков и скептиков, которая осознается не как
старая, а как вечная и единственно правдивая. Эта мудрость
не «направляет в высоту», а позволяет «выключиться из реаль¬
ности», встать в стороне и бесстрастно смотреть на все, от чего
ты таким образом «освобождаешься». Не пламя и влага, а холод
* Лишь бы моя совесть меня не обвиняла, / а что до судьбы, я готов к любой.
/ Не нов ушам моим такой оракул: / так пускай судьба Фортуна вертит
своим колесом, / как ей соизволится, а мужик — своей мотыгой. (Inf. XV,
92-96)
** Жорж Бернанос называет новейшую цивилизацию обществом «вытеснен¬
ного отчаяния», «вытесненного, но не преодоленного» и напоминает о ге¬
роической природе добродетели надежды (в отличие от «иллюзий» и «оп¬
тимизма»):
«Надежда — это принятый риск. Больше того — это высший риск. Она
не снисхождение к себе. Она самая большая и самая трудная победа, ка¬
кую человек может одержать над своей душой». (Bernanos G. La liberté,
pourquoi faire? P,: Gallimard, 1995. P. 115-116). Это голос мысли contre-
courant, голос сопротивления общему движению эпохи.
340
О. А. СЕДАКОВА
и сухость — символы этой мудрости, не щедрость, а расчетли¬
вость, не самоотдача, а самосохранение.
Возможен ли диалог между двумя этими родами мудрости?
Вряд ли: одна для другой представляется безумием, как об этом
и было написано. Разница между ними, быть может, в том, что
мудрость надежды знает о собственном безумии и не отрекается
от него*. Она безумна в той же мере, в какой безумна — в опре¬
деленной перспективе — сама жизнь. На это безумие мы и наде¬
емся и благодарим тех, кто нас в нем укрепляет.
И теперь, в заключение, поскольку все же я не исследова¬
тель, а просто читатель Данте и в стихах выражаюсь точнее, чем
в прозе, я прочту одно мое стихотворение: сначала по-русски,
потом по-итальянски, в переводе Джованны Парравичини. На¬
деюсь, я не оскорблю этим памяти Данте.
Ангел Реймса
Франсуа Федье
Ты готов? —
улыбается этот ангел. —
Я спрашиваю, хотя знаю,
что ты несомненно готов:
ведь я говорю не кому-нибудь,
а тебе,
человеку, чье сердце не переживет измены
земному твоему Королю,
которого здесь всенародно венчали,
и другому Владыке,
* Вновь Шарль Пеги:
«Она считает,
Что у нас вся жизнь впереди.
Как она ошибается. Как она права.
Ведь разве у нас впереди не вся жизнь.
Единственная имеющая значение. Вся жизнь Вечная» (Врата мистерии
о второй добродетели // Указ. изд. С. 315);
«Но надежда не приходит сама. Надежда не ходит совсем одна. Чтобы
надеяться, дитя мое, надо быть очень счастливой, надо получить, принять
великую благодать.
Это вера легка, а не верить невозможно. Это любовь легка, а не любить
невозможно. Но надеяться трудно» (Там же. С. 274).
Данте: мудрость надежды
341
Царю Небес, нашему Агнцу,
умирающему в надежде,
что ты меня снова услышишь.
Снова и снова,
как каждый вечер
имя мое вызванивают колоколами
здесь, в земле превосходной пшеницы
и светлого винограда,
и колос и гроздь
вбирают мой звук.
Но все-таки,
в этом розовом искрошенном камне,
поднимая руку,
отбитую на мировой войне,
все-таки позволь мне напомнить:
ты готов?
к мору, гладу, трусу, пожару,
нашествию иноплеменных, движимому на ны гневу?
Все это, несомненно, важно, но я не об этом.
Нет, я не об этом обязан напомнить.
Не для этого меня посылали.
Я говорю:
ты
готов
к невероятному счастью?
L’AngelodiReims
A FrancoisFedier
Seipronto? —
l’angelosorride —
lo chiedo, anche se sa
che certo tu sei pronto:
non parlo a chissà chi,
ma a te,
uomo il cui cuore non sa cosa sia il tradimento
342
О. А. СЕДАКОВА
verso il tuo Sovrano terreno,
che qui coram populo fu incoronato,
e verso un altro Signore,
il Re dei cieli, il nostro Agnello,
che muore nella speranza
che tu di nuovo mi oda:
e ogni giorno di nuovo,
e ogni sera
il mio nome rintocca nello scampanio
qui, in terra di superbo frumento
e uva luminosa,
e la spiga e il grappolo
assorbano il mio suono —
ma tuttavia
in questa rosea pietra sgretolata,
levando il braccio
scheggiato dalla Guerra mondiale,
consenti mi tuttavia ricordarti:
sei pronto?
Alla peste, alla fame, al terremoto, al fuoco,
All’incursione dei nemici, all’ira che si abate su di noi?
Certo, e tutto importante, ma non e di questo che voglio
parlarti.
Non e questo che ho il dovere di rammentarti.
Non per questo sono stato inviato.
Io ti dico:
tu
sei pronto
a una felicita incredibile?
Trad. GiovannaParravicini
Il
ДАНТОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ
И РОССИЯ
И. Ф. БЭЛЗА
Брюсов и Данте
Творения Данте и овеянный легендами облик великого фло¬
рентийца с юных лет восхищали Валерия Брюсова.
Давно пленил мое воображенье
Угрюмый образ из далеких лет,
Раздумий одиноких воплощенье, —
признавался Брюсов в терцинах стихотворения «Данте»,
включенного в сборник «TertiaVigilia» (1900). Книга эта была
переломным моментом в творчестве поэта, и с нее собственно
началась подлинная литературная слава Валерия Брюсова,
пришедшая на смену носившей несколько скандальный харак¬
тер его известности как основного автора «Русских символи¬
стов». В частности, «TertiaVigilia» получила благожелательный
отклик со стороны Горького*.
В своем письме Горькому, которое начиналось с выраже¬
ния благодарности за этот печатный отзыв о книге его стихов,
Брюсов, однако, указывал: «Вот только относительно сходства
с Эредиа Вы не правы [...] отличие их от сонетов Эредиа важное.
У того все изображено со стороны, а у меня везде — ив Скифах,
и в Асеаргадоне, и в Данте — везде мое «я». Право же, дьяволь¬
ская разница!»**. В справедливости этого возражения Брюсо¬
ва легко убедиться, сопоставив, к примеру, его стихотворение
«Антоний» (включенное, правда, в более поздний сборник —
* М. Горький. Литературные заметки. Стихи К. Бальмонта и В. Брюсова.
« Нижегородский листок», 14 ноября 1900 г.
** Цит. по кн.: Литературное наследство, № 27/28. М., 1937, стр. 640.
346
И. Ф. БЭЛЗА
«Stephanos») с написанным на тот же сюжет сонетом «Антоний
и Клеопатра» из «Трофеев» Эредиа.
Прекрасно создавая ответственность показа титанов прошло¬
го через призму своего «я», столь взыскательный к себе худож¬
ник, как Брюсов, не мыслил этого без серьезнейшей к тому под¬
готовки — постижения духа той или иной эпохи, всестороннего
изучения наследия и деяний объекта своих_стихов или научно¬
го исследования*.
В одной из статей Брюсов определил творчество Данте как
«высшее выражение средневековья, которое, в его дни, было
уже на исходе в Италии, подступившей к своему первому Возро¬
ждению» **. И (хотя сам Брюсов в отрывке из своих «Miscellanea»
скромно относит Данте лишь к числу авторов, которыми он «в
разные периоды жизни более или менее усердно занимался»***,
можно констатировать, что как ученый Валерий Яковлевич сто¬
ял на уровне мировой дантологии своего времени. К тому же,
размышляя над бессмертными терцинами, он как поэт острее
чувствовал и глубже, чем многие комментаторы Данте, пони¬
мал величие творца «Божественной комедии».
Именно этим глубоким пониманием сурового — применяя
пушкинский эпитет— облика «певца Inferno», преклонени¬
ем перед его гением дышат строки брюсовских стихотворе¬
ний «Данте» (1898), «Данте в Венеции» (1900), «Всем душам
нежным и сердцам влюбленным...» (1912), «Больше никогда»
(1914).
Вслед за Пушкиным Брюсов считал Данте величайшим поэтом
и призывал учиться у него «святому ремеслу». Это нашло свое от¬
ражение не только в стихах Брюсова, специально посвященных
Данте, но и в его знаменитом стихотворении «Поэту» (1907):
В 1905 г., приступая к переводу «Божественной комедии» и занимаясь
в связи с этим еще более углубленным, чем прежде, анализом творчества
Данте и литературы о нем, Брюсов писал: «... собираю свою дантовскую
библиотеку и все более соглашаюсь со старым изречением: «Данте — это
отдельный мир» (Письмо С. А. Венгерову от 23 августа 1905 г.). Следы
этого вдумчивого изучения Данте и его эпохи до сих пор хранят кни¬
ги библиотеки Брюсова с его многочисленными пометами. См. об этом:
В. Пуришева. Библиотека Валерия Брюсова. Литературное наследство,
№ 27/28. М., 1937, стр. 667.
** В. Брюсов. Данте современности. Цит. по кн. : Валерий Брюсов. Избр. соч.
в двух томах, т. IL М., 1955, стр. 244.
*** Валерий Брюсов. Избр. соч. в двух томах, т. II. М., 1955, стр. 558.
Брюсов и Данте
347
Ты должен быть гордым, как знамя,
Ты должен быть острым, как меч,
Как Данту, подземное пламя
Должно тебе щеки обжечь.
Известно, что вплоть до самой смерти Брюсов работал над
поэтическим сборником «Сны человечества», где он хотел ото¬
бразить лирику всех времен и народов «от наивной поэзии
первобытных племен до утонченных претворений сложных
переживаний человеческой души наших дней»*. Подобный же
принцип был положен Брюсовым в основу задуманной им анто¬
логии художественной прозы под условным заглавием «Филь¬
мы веков ».Из сохранившегося плана этой книги явствует, что
в разделе, посвященном Италии, должен был находиться от¬
дельный рассказ, посвященный Данте Алигьери**. К сожале¬
нию, этот замысел воплотить образ Данте в прозе остался, ви¬
димо, неосуществленным, хотя возникновение его у Брюсова
следует отнести не позже, чем ко второй половине 900-х годов,
так как в числе своих «Intentions» на 1908-1909 гг. он уже на¬
зывает рассказ «Свадьба Данте»***.
Что касается поэтического творчества Брюсова, то не только
с «опаленным ликом» самого Данте сталкиваемся мы в его сти¬
хах, но и с персонажами «Божественной комедии» — прежде
всего, с Франческойда Римини и Паоло Малатеста. В черновом
варианте стихотворения «Римини» (1905, 1914) Брюсов писал:
В твоем векам священном имени
Мечте звучит заветный зов.
Молюсь кровавой тайне Римини
Пред завесой семи веков.
Франческа! Паоло! Вы вверили
* Валерий Брюсов. Неизданные стихотворения. М., 1935, стр. 17.
** Этот план опубликован в кн.: Валерий Брюсов. Неизданная проза М. Л.,
1934, стр. 4-5.
*** Литературное наследство, №27/28. М., 1937, стр. 460. Также
неосуществленным осталось намерение Брюсова создать целую книгу
о Данте. Об этом замысле поэта свидетельствует сделанная в начале
первой мировой войны запись в одном из его блокнотов. См.: Рукописный
отдел Всесоюзной Государственной библиотеки имени В. И. . Ленина
(ВГБИЛ) — ф. 386, к. 14, ед. хр. 7/3, л. 25.
348
И. Ф. БЭЛЗА
Любви безумные сердца,
Вы юной страстностью, измерили
Блаженство жизни до конца.
Вы не страшились — недосказанных
Страданий сказкой пренебречь,
Когда, в одном объятьисвязанных,
Вас поразил холодный меч!
Доныне тени нераздельные,
Вы рядом бродит в аду...
Что все мучения бесцельные
Тем, кто блажен в своем бреду!
Франческа! счастьем ты отравлена!
Прел юбодейкаи дитя,
Ты Данте сумрачным прославлена,
Бессмертье дважды обретя*.
В окончательной редакции (1921) это стихотворение — пол¬
ностью к тому времени переработанное — кончается так:
... Но ввысь взнеслись, гиганты, вы,
...Чтоб в жизни вечно хмелю быть,
И держат вас терцины Дантовы, —
Вовек луч тем, кто смел любить!
Всем тем, «кто смел любить», посвящено также брюсовско-
естихотворение «Вскрою двери» (1921), которое начинается
строками:
Вскрою двери ржавые столетий,
Вслед за Данте семь кругов пройду.
В нем среди галереи женских образов тех, «кто жизнь вливал
в последний поцелуй, чтоб смерть сразить победней», предстает
и Франческа да Римини**.
* Валерий Брюсов. Избр. соч. в двух томах, т. I. М., 1955, стр. 695.
Интересно, что Брюсов начал писать это стихотворение в том же 1905 году,
когда он приступил к переводу «Ада» Данте.
Паоло, в свою очередь, включен в аналогичный ряд мужских образов
в «Балладе о любви и смерти» (1913).
Брюсов и Данте
349
Тема безграничной любви Паоло и Франчески проходит й
в стихотворении Брюсова «На высях» (1919-1920). Приведем,
кроме того, отрывок из второй части его стихотворения «Знако¬
мый стих» (1919):
Я помню тот же стих; к знакомой книге
Приникли мы, счастливые, вдвоем.
И были полны вкрадчивые миги
Возникшим, как заклятие, стихом.
Он подсказал нам все, что мы таили,
Он объяснил, что в нас самих живет,
Нас подчинил своей чудесной силе,
Как Паоло с Франческой — Ланцелотт!
Эти строки, несомненно, были навеяны Брюсову известной
сценой объяснения в любви Франчески и Паоло. Рассказ Фран¬
чески об этом из «Божественной комедии» мы имеем возмож¬
ность привести здесь в переводе самого Брюсова:
121 Она ко мне: Нет большего мученья,
Как о поре блаженства вспоминать
В несчастии*. Твой вождь того же мненья!
124Но если ты упорно хочешь знать,
Любви несчастной где начало,
Скажу, — но говоря как не рыдать?
1270днажды мы, вдвоем, для развлеченья,
Как пред любовью Ланчилотт поник,
Читали, — быв одни, без опасенья.
130Не раз с моим его встречался лик,
* В подлиннике:
... Nessunmaggiordolore,
Chericordarsideltempofelice
Nellamiseria...
Эти строки из Данте Брюсов поставил эпиграфом к небольшой юношеской
поэме «Сказка безумия»; кроме того, они являются лейтмотивом его пер¬
вой симфонии «Воспоминанье». На это указывает Д. А. Ильинский в ст.:
Литературное наследство Валерия Брюсова: «Литературное наследство»,
№ 27/28. М., 1937, стр. 487.
350
И. Ф. БЭЛЗА
И загорались пламенем ланиты.
Но победил нас лишь единый миг,
133Когда прочли, как рыцарь знаменитый
Припал устами к радостным устам, —
Тот, с кем отныне мы навеки слиты,
136К моим губам, дрожа, склонился сам.
Стал Галеотто автор книги этой.
В тот день мы дальше не читали там*
(«Ад», V)
Переводить Данте было заветной мечтой Брюсова. Поэтому
с подлинным энтузиазмом принял поэт предложение Семена
Афанасьевича Венгерова (1855-1920) участвовать в подготовке
намечавшегося издания собрания сочинений Данте в «Библио¬
теке великих писателей»** (для этой серии, выходившей под ре¬
дакцией профессора Венгерова, Брюсов переводил Шекспира,
Байрона***, Мольера и написал, кроме того, ряд статей о жизни
и творчестве Пушкина). Приводимое ниже полностью письмо
* Перевод последних четырех терцин (строки 127-138) был подготовлен
Брюсовым для его обстоятельной вступительной статьи к трагедии Габри¬
эле д’Аннунцио «Франческа да Римини» (СПб., 1908). Воспроизведенный
в этом издании их перевод (стр. 14) по тексту полностью совпадает с авто¬
графом Брюсова, находящимся в Рукописном отделе ВГБИЛ — ф. 386, к.
21, ед. хр. 8, л. .21. Шесть начальных строк (121—126) данного отрывка
публикуются по самостоятельному черновому наброску, чем и объясняет¬
ся несогласованность рифм второй и третьей терцин. В архиве Брюсова
(шифр тот же) сохранился также набросок перевода самого начала эпизода
встречи Данте с тенями Паоло и Франчески («Ад», V, строки 73-79):
Поэт! я молвил — как бы мне отрадно
Спросить тех двух, четой летящих там,
Которых ветер зыблет беспощадно...
(дальнейшее полной расшифровке не поддается).
** О намерении организаторов серии выпустить собрание сочинений Данте
в «Библиотеке великих писателей» свидетельствует, кроме всего прочего,
медальон с орлиным — по выражению Блока — профилем Данте, вклю¬
ченный художником E. Е. Лансере в орнамент рамки типового титульно¬
го листа серии, который является своеобразным проспектом этого изда¬
ния.
*** Любовью к Данте также было продиктовано, видимо, высказанное в пись¬
ме к С. А. Венгерову от 21 декабря 1903 г. желание Брюсова «изо всех
поэм Байрона» передать по-русски именно «Пророчество Данте»: Как из¬
вестно, в т. II Собрания сочинений Байрона (СПб., 1904) поэма эта была
помещена, однако, в переводе О. Н. Чюминой (переводившей ранее, кста¬
ти, «Божественную комедию»).
Брюсов и Данте
351
Брюсова, являющееся ответом на это предложение С. А. Венге¬
рова, обращает на себя внимание той восторженностью, кото¬
рая, пожалуй, не свойственна деловой переписке поэта:
«17 декабря 1904.
Многоуважаемый Семен Афанасьевич!
Почти не сумею объяснить Вам, до какой степени меня
увлекло и взволновало Ваше предложение. Вполне понимаю
и помню, что это еще пока только «мечтания», предположе¬
ния, но мало есть мечтаний, в осуществление которых мне
так хотелось бы поверить. Данте! Данте! Да ведь это один
из самых моих любимых, если не самый любимый поэт —
среди всех! Сонеты Шекспира в свое время я переводил взна-
чительной степени ремесленно; Байрона перевожу не без
любви к нему, ибо Байрон, конечно, и для меня, как для
большинства, был «первойлюбовью» в мировой поэзии; —
но ради перевода Данте я готов отказаться отовсех других
дел, даже от «Весов», если бы это оказалось нужным. И мне
кажется, я мог бы переводить Данте. Вы знаете, что дет¬
ская моя самовлюбленность давно миновала, и вспоминаю
я об ней не без стыда, но если я могу признать сам какие-ли¬
бо достоинства за своим стихом, то прежде всего сжатость
и силу (предоставляя нежность и певучесть — Бальмонту),
а ведь это именно те свойства, которые нужны для перевода.
Дайте. Затем я довольно хорошо знаю итальянский язык, —
гораздо лучше, чем английский, на котором только что чи¬
таю, а по-итальянски говорю или по крайней мере говорил.
Эпоху Данте я изучал в университете. Наконец, близок мне
и знаком мне древний Рим, отголосков которого так много
в Комедии, а Вергилий, у которого учился Данте, — тоже
один из самых дорогих мне поэтов. Важный вопрос: что
именно переводить из Комедии, т. е. какую часть. Я не раз¬
деляю мнения Шелли и вместе с громадным большинством
предпочитаю двум другим частям—«Ад»*. Но именно «Ад»
существует по-русски в более приличной передаче, чем
«Чистилище» и «Рай». Некоторые места в переводах Мина
Шелли в своей «Защите поэзии» пишет о превосходстве «Рая» над
остальными частями «Божественной комедии», называя последнюю
кантику поэмы Данте «непрерывным гимном вечно живой любви».
352
И. Ф. БЭЛЗА
и совсем хороши. Впрочем, это уже частности, а на Ваш
принципиальный вопрос отвечаю решительно: всей душой
рад буду принять участие в переводе Данте и благодарен Вам
очень, что Вы предлагаете мне это участие.
Истинно уважающий и преданный
Валерий Брюсов
Постараюсь, чтобы в № 1 Весов был отзыв о 1т. Байрона»*.
Немногим более чем через месяц Брюсов отправляет еще
одно письмо G. А. Венгерову, касающееся проекта нового пере¬
вода «Божественной комедии». Вот что он пишет в нем:
« ...Зато за Данте тоже принялся уже, хотя мы и не кончили
вполне переговоров, принялся даже раньше Вашего ответ¬
ного письма, потому что переводить Данте — было моей
давней мечтой и после Вашего предложения мне было уже
очень трудно не попытаться передать тех или других люби¬
мых мест. Впрочем пока не столько перевожу, сколько опять
и опять читаю Данте и о Данте. Если выбор, что переводить,
сколько-нибудь зависит от меня, я решительно высказыва¬
юсь за Ад. Есть прекрасные места в Раю и даже в Чистили¬
ще, но только в Аде этот беспрерывный ряд поразительней¬
ших, единственных картин, истинных «Мифов», по глубине
и многосложности содержания кажущихся созданиями
народного ума, а не вымыслом отдельного человека. Вы пи¬
шете, что ведете переговоры с наследниками Д. Мина. Бес¬
спорно его перевод — лучший из существующих на русском
языке. Но у Д. Мина есть свой стиль, свой язык. Я не думаю,
чтобы мне удалось подделать под этот стиль свой перевод.
Если отрывки, куски из перевода Мина будут вкраплены
в мой, или наоборот, переводы будут, я уверен, резко проти¬
воречить один другому. Вот почему в «Аду» мне хотелось бы
переводить какую-либо целостную часть— напр., начало
(первое отделение ада) и описание города Dite, или царство
злобы (песни X — XVI), или царство обмана (XVII-XXXIII).
* Подлинник этого письма хранится в Рукописном отделе Института
русской литературы (Пушкинский дом), в фонде С. А. Венгерова.
Брюсов и Данте
353
В случае если бы мысль о издании Данте окончательно осу¬
ществилась бы, мне хотелось бы посоветоваться и условить¬
ся о Вами о некоторых внешних приемах перевода, которые
хорошо установить заранее»*.
Идея перевода «Божественной комедии» по-настоящему за¬
хватила Брюсова. «Увлекаюсь мечтой об этой работе», — писал
он С. А. Венгерову 29 апреля 1905 г**. Датированное этим днем
письмо Брюсова интересно еще и тем, что здесь поэт намечает
ориентировочный срок завершения своего перевода «Ада» —
весна 1906 г.
О начале систематической работы Брюсова над переводом
«Божественной комедии» свидетельствует его письмо С. А. Вен¬
герову от 23июля 1905 г.:
«Над Данте уже работаю. Впрочем, больше читаю о Данте,
чем перевожу его стихи. И чем глубже вхожу в изучение Данте,
тем безмерней кажется мне этот мир. А между тем это изучение
переводчику безусловно необходимо. На многие стихи Комедии
у меня только теперь открылись глаза. Но, с другой стороны, из¬
учение и утрудняет перевод: мне становится жаль пожертвовать
каждым словом, каждым намеком Данте»***.
В сентябре 1905 г. С. А. Венгеров сделал Брюсову предложе¬
ние перевести целиком всю «Божественную комедию». Созна¬
вая громадную ответственность и сложность этого труда, поэт
отвечал:
«...Вы правы, называя полный перевод поэмы —,, подви¬
гом“. И я боюсь оказаться излишне самонадеянным и детски
легкомысленным, отвечая Вам с легким сердцем,, да“»****. Сле¬
дует особо выделить тотфакт, что далее в этом письме Брюсов
* Письмо от 30 января 1905 г. Рукописный отдел ВГБИЛ, ф. 386, к. 70,
ед. хр. 18. Что касается «внешних признаков перевода* Данте, то к ним
Брюсов возвращается в своем письме к С. А. Венгерову от 5 мая 1905 г.,
указывая, в частности, на необходимость, с его точки зрения, в переводе
«чередовать мужские и женские рифмы, хотя по-итальянски рифмы
только женские*, что стало, как известно, своего рода законом для
всех русских стихотворных переводов «Божественней комедий* после
появления пушкинского отрывка «И дале мы пошли...*
** Цит. по публикации: Н. Соколов. В. Я. Брюсов как переводчик (Из писем
поэта). В сб.: Мастерство перевода. М., 1959, стр. 385.
*** Там же.
**** Там же, стр. 386. Письмо от 13 сентября 1905 г.
354
И. Ф. БЭЛЗА
выражает готовность — при условии успешности его первых
попыток воспроизведения отдельных мест из «Ада» — сделать
«перевод всего Данте главной работой своей жизни».
8 ноября 1905 г., сообщая С. А. Венгерову, что им переведен
уже ряд отрывков из «Ада», Брюсов добавляет: «Конечно, эти
переводы подвергнутся еще значительным переделкам, когда
я окончательно выработаю стиль и словарь русского Данте, —
но все же я пришлю Вам для просмотра эти первоначальные на¬
броски, как только Вы будете свободнее. В настоящее время чув¬
ствую большую уверенность в своих силах. Надеюсь создать такой
перевод Данте, после которого долго не будет надо другого»*.
Учитывая громадный объем проделанной подготовительной
работы, а также то увлечение и благоговение, с которыми при¬
ступил Брюсов к переводу «Божественной комедии», надо пола¬
гать, что для него было тяжелым ударом Последовавшее в конце
1905 г. решение издательства «Брокгауз и Ефрон» (печатавше¬
го «Библиотеку великих писателей») об отказе от своего намере¬
ния издать Собрание сочинений Данте.
«Но работу над Данте я ил в коем случае не оставлю. Я уже
сжился с ней...» — писал Брюсов С. А. Венгерову после полу¬
чения этого известия. — «Конечно, мне не придется работать
с тем прилежанием, как я надеялся, но думаю, что в год или
полтора я все же окончу Ад » **.
Однако трудности, на каждом шагу возникавшие перед по¬
этом в силу грандиозности поставленных перед собой задач,
сильно тормозили его работу над переводом «Божественной
комедии». Кроме того, как Брюсов вспоминал впоследствии,
«различные другие работы и замыслы постоянно прерывали
это предприятие».
Нарушение всех творческих планов Брюсова было вызвано
также началом первой мировой войны. Сразу же после ее объ¬
* Там же, стр. 387. Большой интерес представляет высказанное здесь
намерение Брюсова выработать «стиль и словарь русского Данте», т. е.
выполнить работу, аналогичную той, которую проделал в свое время
В. А. Жуковский, создав по существу особый язык для «русского Гомера »в
своем непревзойденном переводе «Одиссеи».
** Там же, стр. 388. Письмо от 29 декабря 1905 г. Об интенсивности, с которой
несколькими месяцами ранее принялся Брюсов за перевод Данте,
свидетельствует начало этого письма: «Все это время, за исключением
тех часов, какие проводил я на улицах, наблюдая московское восстание,
я занят был именно Адом. Ни что иное не шло на ум...»
Брюсов и Данте
355
явления Брюсов едет на театр военных действий в качестве
корреспондента газеты «Русские ведомости». В мае 1915г.,
только, что вернувшись окончательно в Москву из Варшавы
и собираясь приступить к своим «обычным занятиям», Брюсов
вновь обращается с вопросом к С. А. Венгерову: «Может быть,
с окончанием Пушкина, Вы предпримете издание еще одно¬
го из „великих писателей“? Может быть, вернетесь к давнему
проекту издать Данте? Тогда я в Вашем распоряжении и как пе¬
реводчик»*.
Таким образом, и спустя десятилетие, Брюсов по-прежнему
не оставил мысли дать русскому читателю принципиально но¬
вый, как он неоднократно подчеркивал, перевод «Божествен¬
ной комедии» или хотя бы особенно любимой им, первой кан¬
тики поэмы.
С целью вынести на обсуждение критики и общественности
первые плоды этого труда, рукопись перевода первой песни
«Ада» с обширным предисловием и комментарием была пред¬
ложена Брюсовым редакции ежемесячника «Летопись», с кото¬
рым на протяжении двух лет существования журнала он много
и плодотворно сотрудничал. Однако рукопись была отвергнута
в «Летописи», причины чего издатель журнала А. Н. Тихонов
объяснил следующим образом:
«Нам кажется, что помещение в „Летописи“ небольшого от¬
рывка из Данте было бы явлением случайным и мало обосно¬
ванным. Ваше предисловие заставляет ждать чего-то очень зна¬
чительного, далеко превышающего тот коротенький отрывок,
который за ним следует. Отсюда невольно рождается мысль
о переводе всего «Ада», если не всей Божественной Комедии.
Задача, достойная Вашего имени, задача, выполнить которую
„Парус“ считал бы Своим национальным долгом»**.
Относительно этого Брюсов справедливо заметил в своем
ответном письме: «Решения редакции я оспаривать не буду,
хотя с ним все же не согласен: по моему мнению, новый пере¬
вод, хотя бы и одной песни, Данте есть Новое явление в русской
* Письмо от 30 мая 1915 г. Центральный государственный архив
литературы и искусства СССР, ф. 113, on. 1, ед. хр. 8.
** Письмо к В. Я. Брюсову от 17 марта 1917 г. Рукописный отдел ВГБИЛ, ф.
386, к. 105, ед. хр. 3. «Парус» — петроградское книгоиздательство, одним
из руководителей которого был А. Н. Тихонов.
356
И. Ф. БЭЛЗА
литературе и, следовательно, уместен в журнале, при условии,
конечно, еслисамый перевод хорош»*.
Дошедшие до нас переводы Валерия Брюсова из «Ада» по¬
зволяют судить о том, что выполненный им перевод Данте, будь
он завершен, действительно стал бы таким «новым явлением
в русской литературе» **.
Вступительная Статья и комментарий, которыми снабдил
Брюсов свой перевод первой песни «Ада», также представляют
собою чрезвычайный интерес, ибо они свидетельствуют не толь¬
ко о его всегдашней эрудиции, но и о беспредельной любви к по¬
эзии Данте.
Между тем ни эта вступительная статья, ни большая часть
комментария Брюсова к первой песни «Ада» не были до насто¬
ящего времени опубликованы***. Восполняя этот пробел, приво¬
дим ниже полностью текст подготовленной самим Брюсовым
публикации его перевода первой песни «Ада»:
«Первая песнь Дантова Ада****.
Опыт нового перевода.
От переводчика.
Русская литература считает уже несколько полных перево¬
дов «Божественной Комедии» и, кроме того, несколько отдель¬
ных переводов ее первой части, «Ада», в том числе, в стихах, —
Д. Мина, В. Петрова, Д. Минаева, [П. Голованова]***** и др.,
в прозе, — С. Зарудного, В. Чуйко и др. Из всех переводов в сти¬
хах заслуживает серьезного внимания лишь перевод Д. Мина;
остальные, как давно выяснила критика, не удовлетворяют са¬
* Письмо от 25 апреля 1917 г. Рукописный отдел ВГБИЛ, ф. 386, к.. 72, ед.
хр. 44. Письмо это опубликовано И. М. Брюсовой в кн.: Валерий Брюсов.
Избранные стихи. Academia, 1933, стр. 143.
** Высокая оценка художественных достоинств брюсовского перевода
I песни «Ада» дана в ст.: Н. Г. Елина. Данте в русской литературе, критике
и переводах. «Вестник истории мировой культуры», 1959, № 1.
'** Сам текст перевода первой песни «Ада» был напечатан впервые лишь
10 лет тому назад в кн.: Валерий Брюсов. Избранные сочинения в двух
томах, т. II. М., 1955, стр. 19-23; незначительная часть примечаний
Брюсова приведена на стр. 570, 571.
'** Черновая и беловая рукописи Брюсова хранятся в Рукописном отделе
ВГБИЛ, ф. 386, к. 21, ед. хр.8.
*** В автографе, видимо, описка — Головина.
Брюсов и Данте
357
мым минимальным требованиям. Перевод Д. Мина, начатый
в 1844 г*, и законченный лишь в 1885 г., перед самой смертью
переводчика, бесспорно, — труд не только добросовестный,
но, в полном смысле, самоотверженный, истинный подвиг жиз¬
ни. Переводчик по много раз перерабатывал каждую терцину,
переделывал заново песни, давно напечатанные и вошедшие
в школьныехрестоматии, до самой смерти исправлял свой пе¬
ревод, стараясь не отставать от новейших завоеваний « дантоло-
гии». Тем не менее, труд Д. Мина (его последнее изд. — СПб.,
1909) нас решительно не удовлетворяет. Д. Мин был, несомнен¬
но, усердный труженик, по-видимому, — хороший знаток Дан¬
те, пожалуй, — искусный и опытный версификатор, но, вряд ли
поэт. И это одно служит смертным приговором его переводу.
В переводе Д. Мина есть многоявных недостатков. Текст,
в общем, передан верно, но, так сказать, „обеднен“. Перевод¬
чику удалось сохранить лишь часть образов и выражений под¬
линника. Правда, важнейшее сохранено, но исчезли оттенки
мысли, вся сложность речи и длинный ряд отдельных образов.
С другой стороны, многое переводчиком ради рифмы, ради раз¬
мера добавлено: эти добавления не всегда в стиле Данте и всег¬
да — излишни. На наш взгляд, не передан в переводе и стиль
подлинника, энергичная, сжатая и свободная речь Данте.
В борьбе с трудностями стиха, Д. Мин пишет не легко, выи¬
скивает выражения, насилует язык. Всюду чувствуется усилие
переводчика, его речь то запинается, то становится дряблой,
почти бесцветной; на каждом шагу— выражения условные,
надуманные обороты, ненужные слова. Совсем не воспроизве¬
дена в переводе звуковая сторона стиха. Данте, как все великие
поэты, великолепно владел музыкой слов, «звукописью», и со¬
четанием звуков дополнял силу образов и мыслей**. В переводе
Д. Мина все эти аллитерации, анафоры, внутренние созвучия,
* Еще в 1843 г. в журнале «Москвитянин» (№4, стр. 307-311) появился
сделанный Д. Е. Мином(1818-1885) первоначальный вариант перевода
отрывка из «Ада» (пятая песнь).
** О том, что сам Данте придавал большое значение звукописи, свидетель¬
ствует хотя бы начало тридцать второй песни «Ада» :
Когда б мой стих был хриплый и скрипучий,
Как требует зловещее жерло,
Куда спадают все другие кручи,
Мне б это крепче выжать помогло
Сок замысла...
358
И. Ф. БЭЛЗА
вся эта „словесная инструментовка“ — пропала. Стих перевода
звучит глухо и однообразно, к между содержанием стиха изву-
ками слов нет никакого соответствия. Столь же однообразны
и скудны рифмы перевода, тогда как «словари дантовых рифм»
показывают изумительное разнообразие рифмовки во всех ча¬
стях „Божественной Комедии“.
Однако, со многими, из перечисленных недочетов перевода
можно было бы примириться, если бы достигнуто было главное:
художественность. Все, читавшие перевод Д. Мина, знают, что
этого, нет. Вялая речь, однотонный стих, бедные рифмы отнюдь
не дают художественного впечатления; робость метафор, блед¬
ность образов, натянутость выражений перевода весьма слабо на¬
поминают яркость подлинника. В общем, русская „Божествен¬
ная Комедия“, изложенная стихами Д. Мина, произведение
не только не увлекательное, но, в значительной своей части, пря¬
мо скучное. Его можно изучать, но нельзя читать ради той вы¬
сокой радости, за которой мы обращаемся к созданиям поэзии.
Остался грандиозный замысел, остались величественные карти¬
ны, осталась потрясающая сила основных мыслей, иначе говоря,
остался скелет, но с него снята живая плоть, нет игры мускулов,
тонких оттенков кожи, нежного цвета волос, пурпура губ, блеска
глаз, и уже кажется, что нет души, оживляющей это прекрасное
тело. И многие русские читатели, знакомые с Данте лишь по рус¬
ским переводам, искренно уверены, что „Божественная Коме¬
дия“ — произведение схоластической мудрости, плод совершен¬
но чуждой нам эпохи, в котором современному человеку нечего
искать; уверены, что Данте безвозвратно „устарел“, и что его
„Комедия“, для нас, — лишь любопытный памятник времени,
а не памятник вечно живого и всегда молодого искусства.
Между тем все, кто знаком соригиналом, знают, что «Боже¬
ственная Комедия“, прежде всего, — создание великого худож¬
ника. На ней, разумеется, лежит отпечаток своего времени: иное
для нас действительно, — „устарело“, многое — непонятно без
комментария, некоторые приемы поэта — нам чужды. Ногений
Данте торжествует над временным и, преодолевая условности
своего века, дает в терцинах „Комедии“ то вечно-прекрасное,
что мы именуем поэзией.Есть „нечто“, что равно пленяет нас,
независимо от того, воплощено ли оно в халдейском гимне, вы¬
сеченном на скале клинописью, или в еврейской песне, которую
Брюсов и Данте
359
когда-то пели под аккомпанемент псалтыри, или в диалоге эл¬
линской трагедии, бывшей для современников религиозным
действом, или в латинских гексаметрах, или, наконец, в стихах
лирика наших дней.Это«нечто» присущепочти каждому стиху
«Комедии», не случайно получившей название «Божествен¬
ной», так что во всеймировой литературе трудно найти поэму,
равную по художественному значению; если исключить «Или¬
аду» и «Одиссею», как создания, все же, народного творчества,
можно будет назвать только «Энеиду» того поэта, которого
сам Данте признавал своим учителем и образцом. По силе же
и по глубине общего замысла, по способности выявлять тайни¬
ки человеческой души, по умению рисовать потрясающие или
чарующие картины, по мастерству всего изложения, — Данте
можно сопоставить только с такими титанами художественного
слова, как библейские пророки, Эсхил, Софокл, Шекспир, Гете.
Можно за многое чтить Данте и можно многому учиться из его
книг, но прежде всего он был — художник.
Русский стихотворный перевод «Божественной Комедии»,
тоже, раньше всего другого, должен быть художественным про¬
изведением. Вряд ли можно мечтать об том, чтобы дать на дру¬
гом языке нечто равное поэме Данте, ее эквивалент: перевод
неизбежно слабее подлинника, и вопрос только, в какой мере
слабее. Но непременным условием перевода «Комедии» должно
быть одно: чтобы чтение его вводило в круг тех же чувствований
ипереживаний, так называемых «художественных эмоций», ка¬
кие испытываем мы при чтении оригинальных созданий наших
поэтов, — стихов Пушкина, романов Л. Толстого, лучших драм
нашего театра. Дело идет, конечно, не об том, чтобы перевод до¬
стигал той же силы впечатления, как поэмы Пушкина: это— не¬
мыслимо. Но, на другой ступени достижения, перевод должен
принадлежать к тому же роду произведений, как «Цыганы» или
«Медный всадник». Читатель русской «Божественной Комедии»
должен выносить, говоря терминами, «эстетическое наслаж¬
дение», и это требование важнее, чем все другие: правильность
толкования отдельных мест, точность в передаче технических
выражений, даже — близость к букве текста. Не-художествен-
ный перевод стихами не имеет права на существование. В таком
случае предпочтительнее перевод прозой. Беря прозаический
перевод, читатель знает, что перед ним: фотография с картины
360
И. Ф. БЭЛЗА
или гипсовый слепок со статуи. Напротив, читая стихи, невольно
и неизбежно читатель недостатки перевода приписывает ориги¬
налу, нередко получая об нем представление совершенно ложное.
Перевод Д. Мина обманывает читателя. Поэтому русская ли¬
тература должна получить новый стихотворный перевод «Боже-
ственнойКомедии» — стихотворный потому, что терцины Данте
неотделимы от содержания его поэмы: полнота впечатления мо¬
жет быть достигнута лишь в той-форме, какую сам поэт придал
своему произведению. И русская литература может иметь своего
Данте: русский стих свободно подчиняется форме терцин, рус¬
ский языкдостаточно разработан и богат, чтобы передать стиль
великого флорентинца, русские слова настолько «укладисты»,
что каждый стих «Комедии» может вместиться в один русский
стих. Есть произведения почти непереводимые и по разным
причинам: «Фауст» Гете, по глубине мыслей и по изысканности
стиха, для верного воссоздания чего потребовалась бы вся жизнь
поэта, и поэта с большим дарованием*; некоторые создания вос¬
точной поэзии, по крайней разности в строе языков, и, по той же
причине, индийский эпос, «Махабхарата», ибо в русском язы¬
ке нет многих форм, сколько-нибудь соответствующих формам
санскрита; иные философские раздумья английских поэтов,
в силу известной краткости английских слов; многие жемчу¬
жины чужой лирики, так как основное очарование их в звуках
слов, и т. д. и т. д. «Божественная Комедия» —переводима;
в этом пишущий эти строки убедился на опыте. Если же попыт¬
ки перевода оказываются неудачными, причину тому должно
искать не в неисполнимости предпринятого дела, но в перевод¬
чике: в недостаточности сделанных им усилий, его умения и его
познаний, или самого его дарования. Впрочем, в борьбе с Данте
никому не постыдно остаться хромым, как Иаков**.
* Напомним, что над переводом «Фауста» работал и сам Валерии Брюсов.
Сделанный им перевод первой части трагедии Гете был издан в 1932 г.
** Используя библейское сказание об Иакове-Богоборце (Кн. Бытия, 32,24-
29), Брюсов ранее высказал эту же мысль в своей статье «Фиалки в тиге-
ле» («Весы», 1905, № 7), написанной, подчеркнем, вскоре после начала его
работы над переводом «Ада»: «Прекрасные стихи — как бы вызол поэтам
других народов: доказать, что и их язык способен вместить тот же творче¬
ский замысел. Поэт как бы бросает перчатку своим чужеземным сотовари¬
щам, и они, если то борец достойный, один за другим подымают эту перчат¬
ку, и часто целые века длится международный турнир на арене мировой
литературы. Так, в борьбе с Данте ужа честь остаться хромым, как Иаков».
Брюсов и Данте
361
* ± *
Далее предлагается опыт нового перевода первой песни
«Ада». После всего сказанного ясно, какие переводчик ставил
себе задачи. Их можно формулировать так:
1) Сохранить поэзию подлинника.
2) Воссоздать стиль Данте.
3) Избегать дополнений, удерживать все выражения, ради
стиха допускать лишь перефразировку.
4) Соблюдать звукопись Данте.
5) К каждому из этих требований надлежало добавить: «на¬
сколько то возможно в переводе»,«насколько то достижимо
на другомязыке», «насколько то мыслимо при передаче рифмо¬
ванными стихами», ит.под.: эти требования были лишь идеала¬
ми, к которым пригодилось только приближаться, без надежды
осуществить их.
Отдельно стоял вопрос о языке. Известно, что итальянский ли¬
тературный язык, в значительной мере, был создан самим Данте.
Поэтому язык «Божественной Комедии» —нечто единственное,
unicum: на этом языке никто никогда не говорил и никто на нем
не писал, кроме Данте. Этот язык пестр: в нем много латинизмов,
не удержавшихся позднее, много народных выражений, позднее
также отпавших, много «идиотизмов» (слов и выражений, встре¬
чающихся только у Данте). Мыслимо ли создать что-либо подоб¬
ное на другом языке? Очень оригинально разрешил эту задачу
известный лексиколог Литтрэ: он перевел «Божественную Коме¬
дию» языком XVI века, на том основании, что в эту эпоху, по его
мнению, французский язык стоял на той же ступени развития, как
итальянский при Данте. Но современный француз, читая перевод
Литтрэ, принужден пользоваться словарем почти в той жемере,
как если бы надо было читать итальянский подлинник. Иными
словами, переводЛитгрэ требует, в свою очередь, перевода.
Попытка Литтрэ не обнадеживает на то, чтобы следовать
за ним. Кроме того, развитие русского языка шло путями, слиш¬
ком отличными от языков итальянского и французского. Не¬
возможно найтиэпоху, в которую русская речь сколько-нибудь
соответствовала языку Данте. Выработать же язык искусствен¬
но — значило лишить себя слободы речи, а читателей обречь
на лишние затруднения. Поэтому переводчик предпочел ноль-
362
И. Ф. БЭЛЗА
зоваться современным литературным языком, только несколь¬
ко уклонив его от обычного, ибо язык Данте никогда не был
обычным, даже для его современников. Само собойразумеется,
что в переводе Данте неуместны были бы выражения новейшие,
которые мы воспринимаем, как новшества языка. Напротив, не¬
которая доля архаизмов и славянизмов казалась не только до¬
пустимой, но и желательной, как соответствие латинизмам Дан¬
те. С другой стороны, вульгаризмы и идиотизмы Данте давали
повод ввести в перевод несколько выражений народных и слов
вновь образованных. Однако, всеми этими элементами приходи¬
лось пользоваться крайне осторожно, сохраняя в основе литера¬
турную речь наших классиков, прежде всего — Пушкина.
Перевод «Божественной Комедии» был начат пишущим
эти строки более 10 лет тому назад, отчасти по вызову и сове¬
ту проф. С. А. Венгерова, которому он за то очень признателен.
Но различные другие работы и замыслы постоянно прерывали
этопредприятие, так что поныне переведено лишь несколько пе¬
сен «Ада» и отрывков из «Чистилища» и «Рая», [особенно лю¬
бимых мною (зачеркнуто. — С.Б.)]*. Долгое время переводчик
сознательно уклонялся от опубликования своих опытов, счи¬
тая их еще далеко не совершенными. И теперь, печатаяпервую
песнь «Ада», он смотрит на то лишь как напробу, надеясь, что
печатные страницы скорее побудят критику высказаться. Все
замечания компетентных ценителей будут приняты с глубокой
благодарностью (частные письма могут быть направлены через
редакцию «Летописи») и непременно использованы при даль¬
нейшей работе. Недостатки своего опыта переводчик видит, ко¬
нечно, яснее, чем кто-либо другой, но нигде так не важен: «суд
читателей», как по отношению к переводам, ибо назначение
их— служить своему поколению. «Последнего» перевода. «Бо¬
жественной Комедии» не даст никто: каждая новая эпоха будет
понимать Данте по-своему и требовать своего перевода.
Должно добавить, что перевод исполнен по классическому тек¬
сту G. A. Scartazzini, в 4-м издании, пересмотренном G. Vandelli
(Milano, 1903). Постоянным пособием при переводе служила со¬
ставленная тем же Скартаццини«Enciclopedia Dantesca» (2 vol.,
Milano, 1896), но также комментарии к различным другим из¬
даниям, прекрасный «словарь дантовых рифм» («Rimario»), со¬
* Никаких переводов Брюсова из «Чистилища» и «Рая» найти не удалось.
Брюсов и Данте
363
ставленный L.Polacco, и удобный указатель при миниатюрном
издании сочинений Данте под ред. Е. Moore (Oxford, 1897). Из¬
бегая обращатьсяво время работы, к стихотворным переводам,
переводчик справлялся с русскими прозаическими переводами
(В. Чуйко и др.) и с переводамифранцузскими, A. deMontor,
Е. Агоихи др., особенно же A. Méliot(P., 1908), который, в своем
превосходном переводе и обстоятельном комментарии, задавал¬
ся целью — «поставить французскую критику Дантев уровень
с тем, что достигнуто, за последние годы, критикой итальян¬
ской, немецкой и английской».
В.Б.
Ад. Песнь первая.
1. На пол-дороге странствия земного
Себя увидел я в лесу глухом,
Затем что сбился я с пути прямого.
4.0, как же трудно описать стихом
Тот мрачный лес, столь дикий иглубокий,
Что я дрожу при мысли лишьоб нем!
7. Едва ль страшней миг смерти недалекой.
Но, так как благо я в лесу обрел,
Скажу, что раньше видело там око.
10. Не вспомнить мне, как я спустился в дол:
Я словно сонным шел по бездорожью,
Когда с дороги истинной сошел.
13. Но, наконец, я подступил к подножью
Холма, где тот заканчивался бор,
Который сердце мне наполнил дрожью, —
16. И к озаренным высям поднял взор,
Уже одетым в свет того светила,
Чей луч ведет отвсюду на простор.
19. Сиянье это ужас мой смирило,
Что в озере души всю ночь стоял,
Пока меня отчаянье томило.
22. Как человек, что, задыхаясь, встал
На берег, выйдя из морской пучины,
Глядит назад и видит грозный вал, —
25. И дух мой так, покинув дно долины,
Еще дрожа, глядел назад, где мгла,
364
И. Ф. БЭЛЗА
Откуда живне вышел ни единый.
28. Когда ж усталость несколько прошла,
Стал подниматься я на склон отлогий;
Ногой опорной — низшая была.
31. И вот, на первых же шагах дороги,
Пятнистой шкуры выставив наряд,
Пантера, легкий зверь и быстроногий.
34. Бесстрашно встретив мой упорный взгляд,
Она мне путь столь грозно заступала,
Что я не раз бежать хотел назад.
37. Был ранний час, и солнце поднимало
С тем сонмом звезд свой лик на высоту,
Как в оный день, когда Любви Начало
40. Впервые двинуло их красоту.
Меня бодрило многое в невзгоде:
Убор пантеры, тешащий мечту,
43. Час дня, и месяц, всех нежнее в годе, —
Но был охвачен ужасом былым
Я, льва увидя на пустынномвсходе.
46. Поднявши голову, алчбой томим,
Ко мне, как будто, он стремил движенья,
И воздух словно трепетал пред ним.
49. За львом волчица шла; все вожделенья,
Казалось, в худобе своей тая,
Она уж многим принесла мученья!
52. Под тяжестью сдавилась грудь моя:
Столь властный страх ее метали взгляды!
На высьнадежду вновь утратил я.
55. Скупец, упорно собиравший клады,
Теряя их, и плачет, и дрожит,
Ни в чем себе не ведая отрады.
58. И я, в тот час, имел такой же вид,
Когда, за шагом шаг, без состраданья,
Зверь гнал меня, туда, где день молчит.
61. Я в дол срывался, где познал блужданья,
И некто вдруг явился предо мной.
Без голоса от долгого молчанья
64. Казалсяон; к нему, в глуши лесной,
— «О, сжалься ты над мною!» возопил я,
Брюсов и Данте
365
«Кто б ни был, тень иль человек живой! »
67. В ответ: — «Не человек, но оным был я.
Меня отец ломбардец породил,
И Мантуанца прозвище носил я.
70. «SubJulio, но поздно, в Риме жил
При добром Августе, я, в век известный,
Что призрачных богов и ложных чтил.
73. «Поэт я был; воспет мной благочестный
Анхисов сын, кто кинул Илион,
Когда был Трои град сожжен чудесный.
76. «Но почему вспять шаг твой обращен,
К печалям всем, а не к прекрасным горам?
Путь и начало всяких благ— сей склон! »
79. — «Ужель Вергилий ты, тот ключ, в котором
Берет исток река великих слов?»
Так я ответил, со смущенным взором.
82. «О, честь и светоч всех других певцов!
Да значат мне любовь ктебе и рвенье
Вникать усердно в смысл твоих стихов!
85. «Учитель мой! мой образец! Творенья
Твои мне дали тот хороший слог,
Которым мог снискать я одобренья.
88. «Се — зверь, меня что гонит без дорог!
Мудрец прославленный! Меня избавить
Ты в силах: я дрожу и изнемог! »
91. — «Иным путем ты должен шаг направить»,
Ответил он, в слезах мой видя лик,
«Коль ты готов сей дикий край оставить.
94. «Зверь, у тебя что исторгает крик,
Не терпит на своем пути другого,
А кто противится, тот гибнет вмиг.
97. «Он нрава столь свирепого и злого,
Что ввек не насыщает свой живот,
Но, глад насытив, больше алчет снова.
100. «Совокупляясь, много привлечет
Зверей еще он, — не придет доколе
Пес, что его, в мученьях, загрызет.
103. «Питаньем Псу — не серебро, не поле,
Но мудрость, добродетель и любовь,
366
И. Ф. БЭЛЗА
И край от Фельтро к Фельтро будет долей.
106. «Несчастную Италию он вновь
Спасет, за кою девушка Камилла,
Турн, Эвриал и Нис пролили кровь.
109. «Чрез грады все его погонит сила
Волчицу, и низвергнет в самый Ад,
Ее откуда зависть возродила.
112. «Но должен ты, — мой это видит взгляд, —
Идти за мной; я буду твой водитель.
Чрез Царства вечные, а не назад.
115. «Прискорбных стонов узришь ты обитель,
Страданья древних душ, что тщетно ждут,
Чтоб снова смерть пришла, как избавитель.
118. «И узришь тех, что в пламени живут
Счастливыми, надеждой утешаясь,
Что в крут блаженных и они войдут.
121. «Коль жаждешь к ним взнестись ты, возвышаясь,
Душа придет достойней, чем моя:
Ей поручу тебя я, расставаясь.
124. «Тот Властелин, кто держит те края,
Не хочет, чтоб туда я был вожатый:
Ведь был врагом Его закона я.
127. «Царит Онвсюду, там— его палаты,
Его престол, Его нетленный свет.
Блаженны те, кто в этот град прияты!»
130. И я ему: «Молю тебя, поэт,
Во имя Бога, Коего не знал ты!
Чтоб минул я и тех и горших бед,
133. «Веди меняв те царства, что назвал ты,
Чтоб стал у врат я, пред Петром святым,
И зрел несчастных, коих описал ты!»
136. Он двинулся, я вслед пошелза ним.
Первая песнь «Ада» полна символов, аллегорий и намеков
на современные Данте события*. Почти все образы могут иметь
* Интересно сравнить со строками брюсовского стихотворения « Начинаю¬
щему» (1907):
«Пиндар, Вергилий и Данте. Гёте и Пушкин — согласно
В явные знаки вплели скрытых намеков черты...»
Брюсов и Данте
367
троякое толкование: первое — буквальное, описание приключе¬
ний поэта в «глухом лесу» и: на склоне «холма»; второе — сим¬
волическое: всеэти картины являются символами душевных
переживаний поэта: «лес» —греховная жизнь, «холм»—выход
из нее, «пантера» — сладострастие, «лев» — гордость, «волчи¬
ца» — стяжательность и т. под.; третье — аллегорическое, как
намеки на политические события: блуждания поэта в глухом
лесу — его изгнание из Флоренции, «пантера» — сама Флорен¬
ция, «лев» —Карл VIII, «волчица» —Рим, «пес» —чаемый го¬
сударь и т. под. В дальнейших подстрочных примечаниях даны
важнейшие из таких толкований: полная сводка всего, выска¬
занного комментаторами за шесть веков, составила бы объеми¬
стую книгу.
Ст. 1. «Пол-дорогистранствия земного» — возраст 35 лет,
когда Данте приступил к созданию «Комедии». — 2. «Лес глу¬
хой» — символ заблуждений, страстей, пороков; по второму
толкованию, — символ годов изгнания Данте из Флоренции. —
8. «Благо»—во 1-х: освобождение от заблуждений юности,
возрождение души; во 2-х: встреча с Вергилием, приведшая
к странствию, через Ад и Чистилище, по небесам Рая, под ру¬
ководством Беатриче; в 3-х: замысел «Комедии»; и ее созда¬
ние, —11. «Словносонным»— символ тогоусыпления лучших
способностей души, в которое повергает нас греховная жизнь. —
14. «Холм» — символ восхождения к высшему из низин поро¬
ка; по второму толкованию, — символ возвращения во Флорен¬
цию. — 17-18. «Светило, чей луч» — солнце, символ истины.
20. «Всю ночь» — то была ночь с четверга на пятницу Страстной
недели; странствия Данте начались утром в Страстную пятницу,
25 марта 1300 г.; по второму толкованию, «ночь» — годы изгна¬
ния Данте и годы заблуждений, предшествовавшие созданию
«Комедии». — 27. «Откудаживне вышел ни единый» — дол,
пройденный Данте, символ рубежа между живыми и мертвы¬
ми. — 30. «Ногой опорной...» и т. д. — Данте всходил на склон,
следовательно, при каждом шаге, тяжесть тела опиралась
на ту ногу, которая стояла ниже. — 32. «Пантера» — символ
сладострастия; по второму толкованию, — символ Флоренции,
и тогда пятна шкуры —символы двух политических партий:
«черных» и «белых», гвельфов и гибеллинов, —40. «Оный день,
когда...» и т. д. — Страстная пятница приходилась на 25 марта,
368
И. Ф. БЭЛЗА
т. е. в Благовещение, которое почиталось первым днем творе¬
ния, почему в этотдень и свершилась тайна воплощения Бо¬
га-Слова, начавшая новый христианскийвек. — 42-43. «Убор
пантеры... час дня... месяц», — кроме буквального смысла (кра¬
сота шкуры, раннее утро, март — в Италии расцвет весны), име¬
ют аллегорический смысл: красота Флоренции, прибытие в Ита¬
лию французского короля Карла VIII, новая эра благополучия,
которую можно было (ошибочно) ожидать, как следствие этого
события: Данте, как гибеллин, одно время возлагалболыпие на¬
дежды на вмешательство Карла VIII в итальянские дела. — 45.
«Лев» — символ гордости; по второму толкованию, — символ
Карла VIII.— 49. «Волчица»—символ жадности, алчности,
скупости, вообще любви к стяжанию; по второму толкова¬
нию, — символ папского двора и папской власти, Рима. — 54.
«На высь надежду вновь утратил я» — т. е. надежду подняться
из низины грехов; по второму толкованию, — вернуться во Фло¬
ренцию. —58. «Без состраданья зверь гнал меня...»— если ви¬
деть в «звере» символ жадности, это — описание душевных пе¬
реживаний самого поэта; по второму толкованию «зверя», как
символа Рима, это —намек на политику пап, «без состраданья»
стремившихся к тому, чтобы Италия оставалась разделенной
на части. — 62. «Некто» — Вергилий. — 67 и сл. Вергилий ро¬
дился в 70 г. до P. X., пережил в юности гибель Юлия Цезаря
(44 г.) и большую часть жизни провел в годы правления Авгу¬
ста. — 73. « Благочестный Анхисов сын» — «piusAeneas», герой
Энеиды. — 76-77. «Вспять шаг твой обращен к печалям» —
т. е. зачем готов ты вернуться во власть пороков, или, по второ¬
му толкованию, зачем так стремиться вернуться в неблагодар¬
ную Флоренцию? — 78. «Путь и начало всяких благ» — путь
к добродетели, путь к небесам. — 83 и сл. Содержание стихов
вполне соответствует фактам из жизни Данте, который внима¬
тельно изучал Вергилия и подражал его слогу в своих сочине¬
ниях. — 89. «Мудрец прославленный!» — Вергилий, в средние
века, почитался магом и чародеем. — 91. «Иным путем»—т. е.
совершить странствия по Аду, Чистилищу и Раю; по второму
толкованию, — предпринять новую работу, именно над «Коме¬
дией». — 94 и сл. Если видеть в «звере» символ жадности, алч¬
ности, скупости, то дальнейшее есть характеристика этих поро¬
ков; по второму толкованию, «зверь» —символ папской власти,
Брюсов и Данте
369
и тогда дальнейшее характеризует политику Рима («не терпит
на своем пути другого», «кто противится, гибнет», «глад насы¬
тив, больше алчет» и т. д.). —100. «Совокупляясь» и т. д., —
по первому толкованию, жадность всегда соединяется с други¬
ми пороками; по второму толкованию, Рим охотно заключает
союзы с другими государствами, против своих врагов. — 102.
«Пес» —символ того Государя, который, так мечтает Данте-ги¬
беллин, должен был, одолев гвельфов, водворить мир в Ита¬
лии и восторжествовать над «волчицей» — папским Римом.
В этом «Псе» видят намек на Кан Гранде делла Скала, имени¬
того гражданина Вероны, который дал приют Данте во время
его изгнания (ибо Сап значит «пес»); другие считают «Псом»
вождягибеллинов УгуччонеделлаФаджола; третьи, с большим
вероятием, императора Генриха VII. Возможно, что «Пес» —
образ идеальный, некий чаемый Мопагсо вообще. — 105. «От
Фельтро (город) кФельтро (гора)»— пространство Кампаний,
т. е. владения Рима (несколько больше). — 107-108. «Камил¬
ла, Турн, ЭприалиНис» — герои «Энеиды», Вергилия. — 115.
«Стонов обитель»— Ад. 117. «Снова смерть» — Страшный Суд
или намек на слова Апокалипсиса (ОткрЛХ, 6). — 118. «Тех...»
ит. д. — души Чистилища. — 122. «Душа придет достойней,
чем моя» — Беатриче, которая поведет Данте по небесам Рая;
Вергилий, как язычник, не мог вести Данте туда. — 124. «Тот
Властелин, кто держит те края» — Господь Вседержитель; речи
Вергилия приданы поэтом язычески-античные обороты. — 126.
«Был врагом Его закона я» —Вергилий, как полагали, толь¬
ко «предчувствовал», всвоей IV эклоге, рождение Спасителя,
но не «предвидел» его, как сибилла».
Кроме полностью переведенной первой песни и процити¬
рованных выше в настоящей работе отрывков из пятой песни
«Ада», единственное, что еще удалось обнаружить в архиве
Брюсова из его переводов Данте, — это никогда ранее не публи¬
ковавшееся начало третьей песни «Ада»*:
1. «Здесь, чрез меня, вход в области мучений,
Здесь, чрез меня, вход к скорби без конца,
Здесь, чрез меня, вход к падшим, в царство пеней.
4. «Лишь Правосудье двигало Творца;
* Рукописный отдел ВГБИЛ, ф. 386, к. 21, ед. хр. 8.
370
И. Ф. БЭЛЗА
Три силы Божества меня взводили:
Мощь, Мудрость и Любовь, что жжет сердца.
7. «Творений нет, что б в мире раньше были;
Лишь вечное, но мне исхода нет.
Оставьте все надежды, кто вступили!»
10. Сии слова, был коих мрачен цвет,
Узрев начертанными над вратами,
Сказал я: «Смысл их страшен мне, поэт!»
13. Он, как знакомый с этими местами,
В ответ: «Сомненья должно здесь забыть,
Расстаться должно здесь с земными снами.
16. «Как я тебя успел предупредить,
Пришли мы в области толпы скорбящей,
Что не могла дар мысли сохранить. »
19. Рукой коснулся он моей дрожащей,
И с ясным ликом, что меня бодрил,
Ввел внутрь меня, в мир, тайну тайн таящий,
22. Какие вопли, вздохи, стон без сил
Звучали в воздухе без звезд...
Я зарыдал, чуть прагпереступил...
Как показывают материалы, приведенные в настоящей рабо¬
те, брюсовская «дантеана» количественно сравнительно неве¬
лика. Но ее ценность обусловливается уже тем, что она свиде¬
тельствует о постоянном, чрезвычайно напряженном интересе
и любви Брюсова к творчеству величайшего итальянского поэта
и мыслителя.
Известно, что диапазон литературно-критической деятель¬
ности Брюсова был необычайно широк. В различных областях
этой многогранной деятельности Брюсов в равной степени соче¬
тал в себе талант поэта и проницательность ученого. Благодаря
этому ему удалось вписать яркую страницу и в историю русской
дантологии.
^5^
И. Ф.БЭЛЗА
Размышления Мандельштама о Данте*
Вспоминая о последнем приезде Александра Блока в Москву
в мае 1921 г. (т. е. за три месяца до смерти поэта), Борис Па¬
стернак пишет в недавно опубликованном автобиографическом
очерке: «В этот вечер он выступал с чтением своих стихов в трех
местах: в Политехническом музее, в Доме печати и в Обществе
Данте Алигьери, где собрались самые ревностные его поклон¬
ники и где он читал свои «Итальянские стихи» **...
Упоминаемое здесь Пастернаком Общество Данте Алигье¬
ри было создано вскоре после революции и иногда называлось
также «Studio Italiano». Здесь бывали проф. А. К. Дживелегов
(впоследствии — автор монографии о Данте, выдержавшей два
издания***), поэт и ученый Абрам Эфрос (переводчик и коммен¬
татор «Новой жизни»****), писатель Борис Зайцев (автор очерка
о Данте и переводчик «Ада»*****) и многие другие представители
московской интеллигенции, глубоко изучавшие итальянскую
культуру.
Но нужно сказать также, что на рубеже XIX и XX столетий
особенно прочно закрепились связи русской поэзии с Данте.
О нем писал Гумилев, вспоминая «гекзаметр Вергилия», ко¬
торый звучал «в саду иной земли», к образу великого флорен¬
* Осип Мандельштам. Разговор о Данте. М.» «Искусство», 1967.
** Борис Пастернак. Люди и положения. — «Новый мир», 1967, № 1, стр.
214.
М. 1933; М. 1946.
** Первое издание эфросовского перевода вышло в 1934 г., второе — в 1965,
третье — в 1967 г.
** Борис Зайцев. Данте и его поэма. М., 1922; Данте Алигьери. Божественная
Комедия. Ад, Перевод Бориса Зайцева. Париж, 1961.
372
И. Ф. БЭЛЗА
тийца обращались Вячеслав Иванов и Александр Блок, Анна
Ахматова, закончившая свой творческий путь выступлением
на дантовском вечере в Москве, и Валерий Брюсов, создавший
поразительное стихотворение «Поэту», начинавшееся так:
Ты должен быть гордым, как знамя,
Ты должен быть острым, как меч,
Как Данту подземное пламя
Должно тебе щеки обжечь.
Осип Мандельштам, который в начале своего творческо¬
го пути (вспомним его книгу «О поэзии») чаще всего упоми¬
нал имена Пушкина, Гомера, Овидия и Катулла, тоже пришел
к Данте. Не потому, что изменил Пушкину, а именно потому,
что все больше и больше любил и постигал «русского Данте»
(так назвал Пушкина еще его современник Чаадаев, которому
Мандельштам посвятил блестящую статью в названной уже
книге).
Было время, когда Мандельштама преследовала тема «под¬
крадывающейся смерти» (выражение Скрябина), было время,
когда он прислушивался к тому, как господствует «известковый
слой в крови больного сына», но все это зачеркнул Данте.
В одном из вариантов книги о Данте Мандельштам писал:
«Один только Пушкин стоял на пороге подлинного, зрелого
понимания Данте»*. В устах Мандельштама «зрелое понима¬
ние Данте» — признание великой, совершенной мудрости, 1а
somma sapienza!
В неопубликованных пока воспоминаниях Анны Ахматовой
говорится, что тогда, когда она встретилась с Мандельштамом
в 1933 г., поэт «только что выучил итальянский язык и бредил
Дантом. «Божественную комедию» читал наизусть страница¬
ми»**...
Очень возможно, что Данте помог Мандельштаму преодолеть
то «смятение чувств», которым пронизан его сборник «Tristia»,
и даже изменить свои поэтические молитвы «за блаженное, бес¬
смысленное слово». Именно Данте побудил Мандельштама со¬
здать горделивые строки:
* Цит. по «Послесловию» Л. Е. Пинского. «Разговор о Данте», стр. 74.
** «Разговор о Данте». Примечания, стр. 71.
Размышления Мандельштама о Данте
373
Но не волк я по крови своей,
И меня только равный убьет.
Несмотря на то, что Мандельштам много раз возвращался
к работе над рукописью «Разговора о Данте» и до нас дошли раз¬
личные варианты этой рукописи (включая подготовительные
записи и черновики, сохранившиеся у вдовы поэта — Н. Я. Ман¬
дельштам), «Разговор о Данте» Осипа Мандельштама лишь
в начале 1967 г. был выпущен издательством «Искусство», при¬
чем в основу данного издания положена авторизованная копия,
относящаяся к 1933 г. и переданная поэтом одному из своих
друзей. Первоначальная редакция, переписанная женой поэта,
хранится в Пушкинском Доме (Институте Русской Литературы)
Академии Наук СССР в Ленинграде.
«Разговор о Данте» нельзя назвать монографией. Это прин¬
ципиальные и чуткие размышления большого поэта о великом
поэтическом творении, — речь идет только о «Божественной
Комедии», остальных дантовских произведений Мандельштам
не касается. Но Данте — прежде всего и больше всего именно
«Божественная Комедия», и многое в ней русский поэт увидел
как бы заново, руководствуясь прежде всего поэтическими кри¬
териями. Однако за десять лет до того, как начинался «Разговор
о Данте», Осип Мандельштам уже видел, как
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил.
В этой небольшой книжке мы не найдем рассуждений об эти¬
ке Данте: на первый план выдвигаются художественные образы,
и то, что мы читаем о них, заставляет вновь и вновь задуматься
над дантовской поэтикой, над тем, что, как мы чувствуем, боль¬
ше всего волнует Осипа Мандельштама.
И для того, чтобы постичь эту поэтику, автор «Разговора
о Данте» очень часто прибегает к музыкальным сравнениям.
Во второй главе мы читаем, например:
«Представлять себе дантовскую поэму вытянутым в одну
линию рассказом или даже голосом — абсолютно неверно. За¬
долго до Баха, и в то время, когда еще не строили больших мо¬
нументальных органов, но лишь очень скромные эмбриональ¬
374
И. Ф. БЭЛЗА
ные прообразы будущего чудища, когда ведущим инструментом
была еще цитра, аккомпанирующая голосу, Алигьери построил
в словесном пространстве бесконечно могучий орган и уже на¬
слаждался всеми его мыслимыми регистрами и раздувал меха,
и ревел, и ворковал во все трубы*...
Come avesse lo Inferno in gran dispitto (Inf. X, 36) — стих-ро¬
доначальник всего европейского демонизма и байроничности » **.
Быть может, сейчас для нас сопоставление «демонизма
и байроничности» звучит несколько наивно, а, кроме того,
слово «байроничность» уже Бернард Шоу понимал по-своему,
назвав моцартовского Дон Жуана «первым байроническим ге¬
роем в музыке». Но тут же следует заметить, что время вносит
радикальные изменения в оценки. 11 апреля 1824 г. Делакруа
записал в своем дневнике: «Есть книги, всегда оказывающие
свое действие. Их-то, как и гравюры, и надо иметь под рукой.
Это — Данте, Ламартин, Байрон, Микельанджело». Как стран¬
но сейчас звучит имя Ламартина в этом списке!
Осип Мандельштам хорошо понимает, как меняется пред¬
ставление о мастере на протяжении столетий. «По мере того,
как Дант все более и более становился не по плечу и публике
следующих поколений и самим художникам, его обволакивали
все большей и большей таинственностью. Сам автор стремился
к ясности и отчетливому знанию. Для современников он был
труден, был утомителен, но вознаграждал за это познанием.
Дальше пошло гораздо хуже. Пышно развернулся невежествен¬
ный культ дантовской мистики, лишенный, как и само понятие
мистики, всякого конкретного содержания. Появился «таин¬
ственный» Дант французских гравюр, состоящий из капюшо¬
на, орлиного носа и чем-то промышляющий на скалах»***.
В этих словах, которыми начинается четвертая глава «Раз¬
говора о Данте», помимо содержащегося там выпада против
блоковского «Данта с профилем орлиным», нетрудно понять
и намек на иллюстрации Гюстава Дорэ, которыми порою огра¬
ничивалось представление о Данте. А «невежественный культ
дантовской мистики» заслонил собою ту числовую мистику,
которая в глазах Данте, собственно говоря, и была отчетливым
* «Разговор о Данте», стр. 16.
** Там же, стр. 16-17.
Там же, стр. 21-22.
Размышления Мандельштама о Данте
375
знанием. Значение этих образов, порожденных этой мистикой,
определяется еще раньше, и, надо полагать для современни¬
ков Данте было совершенно понятным, что речь идет о палачах
Ордена тамплиеров, о короле Франции Филиппе Проклятом
и о продавшемся ему Клименте V, которого Данте поместил
в аду, опрокинув его головой вниз и заставив размахивать
в воздухе пылающими ногами («Ад», XIX, 83 «un pastor senza
legge»).
Итак, начало четвертой главы «Разговора о Данте», застав¬
ляя признать правоту автора, говорящего о стремлении Данте
к «ясному и отчетливому знанию»> вызывает мысли и о тех об¬
разах, которые Данте воплотил в своей поэме, прибегнув к по¬
этическому шифру. Иными словами, Осип Мандельштам, ве¬
роятно, говоря о поэтических образах Данте, должен был бы
сказать и об их скрытом значении, определившемся уже в са¬
мом начале поэмы, — там, где говорится о лесе и трех зверях,
спор о которых идет вплоть до нашего времени, так же, как
о словах «Tra Feltro e Feltro» («Ад». I, 105) и многих других об¬
разах — шифрах «Божественной Комедии».
Но ценность «Разговора о Данте» заключается, само собою
разумеется, не в каких-либо новых комментариях к наиболее
туманным местам «Комедии», а в новизне трактовки ее поэти¬
ческих образов, предпринятой настоящим, большим поэтом.
К числу наиболее примечательных примеров такой трактовки
следует отнести комментарий к началу седьмой главы, много
дающий, как нам кажется, для постижения трагического обра¬
за того, кто сказал о себе «Ти dei saper ch’io fui conte Ugolino»
(«Ад». XXXIII, 13).
«Тридцать третья песнь «Inferno», содержащая рассказ Уго-
лино о том, как его с тремя сыновьями уморил голодом в тюрем¬
ной башне пизанский архиепископ Руджери, дана в оболочке
виолончельного тембра, густого и тяжелого, как прогорклый,
отравленный мед»*. Правда, виолончель во времена Данте еще
не существовала. Но сравнение, приведенное Мандельштамом,
необходимо для раскрытия дантовского образа: «Рассказ Уго-
лино — одна из самых значительных дантовских арий, один
из тех случаев, когда человек, получив какую-то единственную
возможность быть выслушанным, которая никогда уже не по¬
* « Разговор о Данте », стр. 41.
376
И. Ф. БЭЛЗА
вторится, весь преображается на глазах у слушателя, играет
на своем несчастье как виртуоз, извлекает из своей беды дотоле
никем не слышанный и ему самому неведомый тембр... Подобно
тому как виолончель сумасбродно беседует сама с собой и выжи¬
мает из себя вопросы и ответы, рассказ Уголино интерполирует¬
ся трогательными и беспомощными репликами сыновей:
...e Anselmuccio mio
Disse: «Ти guardi si, padre! che hai?»*
(«Ад». XXXIII, 50-51)
В самом начале главы седьмой, откуда взяты эти цитаты,
говорится: «Дантовские песни суть партитуры особого хими¬
ческого оркестра... иногда сильно развитые, расчлененные
и достигшие драматической оперной зрелости, как, например,
знаменитая кантилена Франчески». О рассказе Франчески на¬
писано уже много. На сюжет этого рассказа написаны оперы
(Направник, Рахманинов), симфонические произведения (Чай¬
ковский, Лист), но до-Мандельштама еще никто не говорил, что
именно в «Божественной Комедии» уже созрел оперный жанр,
только на рубеже XVI и XVII столетий, как обычно утверждают,
возникший в творчестве мастеров флорентийской камераты,
а затем — великого Монтеверди. Но до них был Данте...
Этот гениальный дар дантовского предвидения, предвосхи¬
щения, Мандельштам подчеркивает, приводя в пятой главе зна¬
менитые слова Фаринаты:
Noi veggiam, come quei c’ha mala luce,
le cose...»
(«Ад».Х, 100-101)
Новаторство «Божественной Комедии» Мандельштам видит
в ее цельности, в невозможности расчленить великое произве¬
дение, в котором он слышит музыкальные тембры и видит ги¬
гантскую монолитность, расцвечиваемую поразительной красо¬
той минералов, поглощенных этой глыбой:
«Структура дантовского монолога, построенного на органной
регистровке, может быть хорошо понята при помощи аналогии
* Там же, стр. 41-42, 44.
Размышления Мандельштама о Данте
377
с горными породами, чистота которых нарушена вкрапленны¬
ми инородными телами»*.
Мандельштам описывает «Божественную Комедию» как ги¬
гантский монолог, воспринимающийся во всей полноте орган¬
ного многоголосья, созданного лишь через несколько сот лет
после окончания поэмы, подобной необычайно высокому, гран¬
диозному монументу, искрящемуся всеми красками несокру¬
шимых минералов, т. е. горных пород.
Нет ни одного другого поэтического произведения в мире,
которое вызывало бы такие сравнения. Русский поэт пишет
о монолитности «Божественной Комедии», о ее поразительной
многокрасочности, о том, как далеко заглянул Данте в будущее,
о том, как он познал и сладость родной речи, и горечь ее, подоб¬
ную отравленному меду, и как переосмыслил он все прошлое,
содержащееся в библейских сказаниях.
«Итак, вообразите себе, что в поющий и ревущий орган во¬
шли, как в приоткрытый дом, и скрылись в нем патриарх Авра¬
ам и царь Давид, весь Израиль с Исааком, Иаковом и всеми их
родичами и Рахилью, ради которой Иаков столько претерпел.
А еще раньше в него вошли наш праотец Адам с сыном своим
Авелем, историк Ной и Моисей — законодатель и законопо-
слушник...»** Здесь Мандельштам цитирует знаменитое место
из IV песни «Inferno», где перечислены названные им библей¬
ские персонажи.
И многие строки «Разговора о Данте» заставляют нас то вос¬
хищаться поэтической зоркостью автора, то спорить с ним. По¬
тому что « la bellissima e famosissima figlia di Roma», восхваляв¬
шаяся и проклинавшаяся ее величайшим сыном, как бы отошла
на второй план у Мандельштама. А ведь наиболее пламенные
строки «Божественной Комедии» были посвящены ожиданию
il Veltro («Ад», I, 101), для которого, собственно, и строил Дан¬
те Алигьери новый мир, выражая самые возвышенные и благо¬
родные стремления человечества.
Но Мандельштам, видимо, понимал это. Ибо еще в юные
годы он сплетал самые лирические высказывания с мыслями
о государстве, гражданином которого он был, в ранних «Петер¬
бургских строфах».
* Там же, стр. 17.
** Там же, стр. 55.
378
И. Ф. БЭЛЗА
И книжку свою он закончил мудрыми словами: «Предметом
науки о Данте станет, как я надеюсь, изучение соподчиненно-
сти порыва и текста». Не постигнув высоких порывов Данте,
которые рождали текст «Божественной Комедии» и бушующую
в ней ярость борьбы за Флоренцию, мы никогда не сможем по¬
стичь творчество «центрального человека мира».
С. И. ГИНДИН
Брюсов о главном герое «Божественной Комедии»
Любовь и пристальное внимание Брюсова к «Божественной
Комедии» и личности ее творца общеизвестны. Относящийся
к этой теме богатый материал уже был собран С. И. Бэлзой*,
тонко проанализирован и брюсовский перевод I песни «Ада» ** ***,
но думается, что и на этом фоне публикуемая нами*“ заметка
«Данте— путешественник по загробью», несмотря на кра¬
ткость и на непритязательность жанра, представляет суще¬
ственный интерес. Во-первых, Брюсов здесь больше, чем где бы
то ни было, обращается к самому тексту «Божественной Коме¬
дии», и уже сам по себе анализ, сделанный таким мастером,
должен привлечь наше внимание. Во-вторых, крайне важен
* С. И. Бэлза. Брюсов и Данте.— В кн.: «Данте и славяне». М.» 1966.
Укажем дополнительно на заметку 20-х годов, опубликованную
в «Примечаниях» ко 2-му тому «Избранных сочинений» (М., 1955, стр.
588) и хранящуюся в Отделе рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина
(далее — ГБЛ), ф. 386, карт. 53, ед. 12, из которой явствует, что Брюсов,
ранее отдававший предпочтение «Аду» (С. И. Бэлза. Указ, соч., стр. 176),
«постепенно постиг..., что «Рай» Данте прекраснее его «Ада»».
** Н. Г. Клина. Данте в русской литературе, критике и переводах. —
«Вестник истории мировой культуры», 1959, № 1, стр. 115-116.
*** Печатается по автографу: ГБЛ, ф. 386, карт. 53, ед. 8. В рукописи (по но¬
вой орфографии, относится к 20-м годам) над заглавием заметки стоит
общее заглавие «Miscellanea. Заметки по пути» и номер «1» — очевид¬
но, Брюсов предполагал открыть ею очередную подборку этого цикла.
К названию цикла дано следующее примечание: «Под общим заглавием
«Miscellanea» (т. е. «Смесь») я печатаю время от времени (с 1912 г.) раз¬
розненные замечания, наблюдения, догадки, которым не находится ме¬
ста в моих работах более систематических и которые возникают «попут¬
но», в связи — но «случайной» — с тем или иным исследованием» (ГБЛ,
ф. 386, карт. 53, ед. 8).
380
С. И. ГИНДИН
тот угол зрения, под которым рассматривается здесь Данте —
не Данте-поэт, не Данте-политик, даже не Данте — реально су¬
ществовавший человек, но Данте — герой собственной поэмы.
Фактически Брюсова занимает тут то, что в последующем лите¬
ратуроведении получило название «образа автора». Более того,
на материале не лирики (что было бы не в пример проще), а эпо¬
са он по-серьезному ставит проблему степени соответствия меж¬
ду личностью автора и ее отражением в «автобиографическом»
повествовании*, которая имеет ныне столь важное значение для
методологии исторического исследования (перевод утвержде¬
ний и высказываний автора на метаязык исследователя) и об¬
щей семиотики (соотношение концепта и денотата сложного
знака и другие проблемы).
В-третьих, очень интересна функциональная трактовка ре¬
алистичности повествования: в структуре целого даже самые
фантастические элементы в результате диалектического взаи¬
модействия и взаимоподдержки с элементами правдоподобны¬
ми «работают» на создание «впечатления чего-то возможного»**.
Наконец, заметка позволяет по-новому понять и то, чем, соб¬
ственно, Данте был дорог Брюсову, поэту и человеку. Еще в сти¬
хотворении 1907 г. «Поэту», которым Брюсов встретил годы ре¬
акции и из которого критика почему-то запомнила только фразу
«... все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов», имя
Данте, употребленное в одном контексте со «знаменем» и «ме¬
Этот пример — еще одно свидетельство роли Бргосова в истории филоло¬
гической науки: не будучи основателем своего особого направления, он
в то же время явился предтечей ряда важных идей литературоведения
и лингвистики XX в. См. в этой связи: С. И. Гиндин. В. Я. Брюсов о ре¬
чевой природе стиха и стихотворного ритма... «Вопросы языкознания»,
1968, № 6; Его же. Трансформационный анализ и метрика (из истории
проблемы). — «Машинный перевод и прикладная лингвистика, вып. 13».
М., 1970; Его же. Брюсов о Достоевском. — «Вопросы литературы», 1971
(в печати).
Именно понимания того, что фантастические элементы могут произво¬
дить впечатление чего-то реального, не хватало Брюсову в его речи «Ис¬
пепеленный», на что тогда же указал в письме к нему А. И. Сумбатов-Ю-
жин. — См. С. И. Гиндин. Александр Сумбатов-Южин и Валерий Брюсов
(в печати). Однако еще в статье «Реализм и условность на сцене» («Книга
о новом театре». СПб., 1908) Брюсов писал, что произведение искусства
должно обязательно сочетать в себе элементы и реалистические (т. е.
правдоподобные) и условные, так как исключение одной из этих составля¬
ющих ведет к вырождению другой.
Брюсов о главном герое «Божественной Комедии»
381
чом», служило символом сурового мужества и высокой миссии
поэта. В публикуемой заметке Брюсов подчеркивает в Данте чи¬
сто человеческие слабости, особенно чувство страха, но Данте
идет предназначенным путем, и поэтому одновременно подчер¬
кивается момент победы над личным страхом, мужество перед
лицом неизведанного.
И кажется примечательным, что это понимание Данте раз¬
вито Брюсовым именно в годы революции, когда открывалась
новая эпоха истории человечества. Зная, что ему не дано видеть
«конец, чуть блещущий вдали», автор «Товарищам интеллиген¬
там» и «Нам проба» требовал от современников — и прежде все¬
го от самого себя — преодоления собственной слабости, страха,
сомнений, требовал верности открывающемуся пути:
Тот враг, кто скажет: «Отдохнуть бы!»
Лжец, кто, дрожа, вздохнет: «Нет сил!»
Так Данте Алигьери, герой «Божественной Комедии», ока¬
зывался союзником русского поэта.
€4^
М. Л. АНДРЕЕВ
Беатриче Данте и Маргарита Булгакова
Принадлежит ли последний роман Булгакова к ряду про¬
изведений, чей историко-культурный контекст настолько бо¬
гат и многослоен, что без детального его изучения сколько-ни¬
будь полное и адекватное истолкование самого произведения
в принципе невозможно, — этот вопрос, если он когда-нибудь
и возникал, можно уже считать, видимо, снятым. Ответ на него
единодушно положителен, и дело тут, разумеется, не в самой
обращенности романа к вечным темам и образам, а в уровне их
интерпретации. Однако от признания необходимости изучения
«Мастера и Маргариты» не только в синхронии литературного
процесса, но и в диахронии историко-литературной традиции
путь к выяснению наиболее существенных для романа момен¬
тов этой традиции отнюдь не близок. Современная критика на¬
ходится в самом его начале. Попытки в этом направлении пред¬
принимались уже не раз*, но при всем их в отдельных случаях
* См.: Гаспаров М. Б. Из наблюдений над мотивной структурой романа
М. А Булгакова «Мастер и Маргарита» //Slavica Hierosolymitana. 1978.
Ill; Lowe D. Bulgakov and Dostoevsky: A Tale of Two Iwans // Russian
Literature Triquaterly. 1978. 15; Бэлза И. Ф. Генеалогия «Мастера
и Маргариты» // Контекст 1978. М.» 1978; Он же. К вопросу о пушкин¬
ских традициях в отечественной литературе: На примере произведений
М. А. Булгакова // Контекст 1980. М., 1981; Чудакова М. О. Библиоте¬
ка М. Булгакова и круг его чтения // Встречи с книгой. М.» 1979; Она же.
Гоголь и Булгаков // Гоголь: история и современность. М., 1985; Она же.
Соблазн классики // М. Bulgakov. Atti del Convegno. Milano, 1986; Иова-
новичМ. «Братья Карамазовы» как литературный источник «Мастера
и Маргариты» // Zbornik za slavistiku. 1982, 23; Чеботарева В. А. О го¬
голевских традициях в прозе М. Булгакова//Рус. лит. 1984. I. Gallinaro
Luporini М. В. Riferimenti puskiniani in Bulgakov // M. Bulgakov. Op. cit.;
Беатриче Данте и Маргарита Булгакова
383
остроумии нельзя не отметить, во-первых, отсутствие в них по¬
следовательности и систематичности (что, впрочем, на данном
этапе исследований, видимо, неизбежно) и, во-вторых, неко¬
торый, словно имманентно заложенный в них дуализм итогов
и выводов. С тем что в самом романе никаких следов дуализма
нет, что его главные сюжетные блоки, и восходящий к далекому
евангельскому прошлому, и соотнесенный с актуальной и быто¬
вой современностью, друг другу необходимы и на равных пра¬
вах участвуют в единстве целого, — с этим вряд ли кто-нибудь
будет сейчас спорить. Однако поиски их культурно-историче¬
ских архетипов идут, как правило, по расходящимся и даже
не параллельным линиям, и тем самым двойственность рома¬
на, преодоленная и обращенная в двуединство в плане художе¬
ственного слова, заново продуцируется и усиливается в плане
критической интерпретации. Первым из вышесказанных изъя¬
нов, а именно гипертрофией частных аспектов в ущерб другим
и не менее важным, будет неизбежно отмечена и наша попыт¬
ка, а вот второго мы попытаемся избежать, указав на такой ли¬
тературный прецедент романа, в котором, возможно, впервые
в европейской литературе был осуществлен опыт развертыва¬
ния повествования одновременно в двух планах, сакральном
и профанном, универсальном и персональном, символическом
и историческом.
Этот прецедент— «Божественная Комедия»*, и нужно сра¬
зу сказать, что память о поэме Данте проявляется в тексте
булгаковского романа совсем не так, как, скажем, воспомина¬
ния о гётевском «Фаусте» — выведенные на поверхность, лег¬
ко узнаваемые и иногда выступающие в виде прямой цитаты.
Галинская И. Л. Шифры Михаила Булгакова // И. Л. Галинская. Загадки
известных книг. М. 1986; Джулиани Р. «Упырь» А. К. Толстого как лите¬
ратурный источник романа «Мастер и Маргарита» (к вопросу: М. А. Бул¬
гаков и русская литература XIX века) // Ricerche slavistiche. 1985-1988.
XXXII — XXXV.
* Первым обстоятельно исследовал дантовский план романа И. Ф. Бэлза. —
Бэлза И. Дантовская концепция «Мастера и Маргариты» // Дантовские
чтения. 1987. М., 1989. Он также отметил уникальность «Божественной
Комедии» в качестве источника булгаковского романа, а именно всеобщ¬
ность данного ею импульса, распространяющегося на все уровни, темы
и смыслы. Разница наших подходов в том, что в предлагаемой вниманию
читателя статье преимущественный аспект анализа — структурный, тог¬
да как в статье нашего предшественника — образный и идейный.
384
М. Л. АНДРЕЕВ
Связь с «Божественной Комедией» возникает как бы помимо
сознательного замысла и авторской воли, под давлением вне-
личных обязательств в отношении темы, в той глубинной сфе¬
ре, которую вслед за М. М. Бахтиным можно было бы назвать
жанровой памятью, если бы была возможность установить хоть
какую-нибудь жанровую преемственность между «Комедией»
Данте и романом Булгакова. Дантовские мотивы романа имеют
прямое отношение к его структуре, и все аналогии, которые, бу¬
дучи взяты сами по себе, не могут не показаться надуманными
и произвольными, получают логическое обоснование и точку
опоры в принципиальном единообразии по крайней мере од¬
ного, но во многом определяющего элемента структуры — про¬
странственно-временной организации произведения, его хро¬
нотопа, если опять же использовать широко известный термин
Бахтина.
Дантово путешествие по загробным царствам помещено, как
все помнят, в достаточно строго определенном и богатом леген¬
дарными, ритуальными, историческими и метаисторическими
коннотациями моменте времени. Оно происходит в Страстную
и Пасхальную седмицу 1300 г. Та и другая датировки и в исто¬
рическом времени, и в годовом кругу соотносят события поэ¬
мы с евангельской эпохой: первая — с юбилеем Рождества
(поскольку это год первого объявленного римским престолом
великого юбилея), вторая — с годовщиной смерти Христа и его
воскресения. Более того, дантовский путь воспроизводит, со¬
храняя его временную приуроченность, основной сюжет глав¬
ного христианского праздника и его новозаветного прототипа:
в Страстную Пятницу Данте начинает свой спуск в царство веч¬
ной смерти, утром Пасхи выходит на поверхность южного полу¬
шария, воскресая к новой жизни*. Он как бы повторяет крест¬
* В недавнем исследовании (Pecoraro С. Le stelle di Dante. Roma, 1987) эти
датировки были оспорены. По мнению Пекораро, путешествие начинает¬
ся 5 апреля 1300 г., во вторник на Страстной неделе, а пасхальным утром
происходит вознесение Данте в небесные сферы. Основной аргумент Пеко¬
раро, если отвлечься от чисто астрономических, — слабая литургическая
маркированность того дня, которым в традиционном расписании датиру¬
ется прощание Данте с землей, т. е. четверга после Пасхи. Это сильный ар¬
гумент, но его можно обратить против автора: в расписании Пекораро уже
Страстная Пятница не имеет достойного отражения в этапах дантовского
пути и теряется среди тех трех дней, которые Данте затратил на преодо¬
ление подъема к Земному Раю. Впрочем, даже предложенный Пекораро
Беатриче Данте и Маргарита Булгакова
385
ный путь Христа, его смерть, сошествие в преисподнюю (сюжет
апокрифический, но чрезвычайно популярный) и воскресение
(а затем и вознесение), и тем самым личные искупление и очи¬
щение приобретают всечеловеческий и космический смысл.
В «Мастере и Маргарите» мы имеем ту же динамику пла¬
нов и тот же исходный временной ориентир, правда, в данном
случае ограниченный одним днем — днем суда и казни (что
в литургическом времени соответствует Страстной Пятнице).
Кроме того, нет полной уверенности, что посещение Воландом
Москвы приходится именно на Страстную неделю. Время дей¬
ствия — май (для Пасхи не слишком поздно), но майское полно¬
луние (это еще одна, теперь уже астрономическая ориентировка
действия во времени) никак не может быть первым весенним
полнолунием, что увязку с пасхальным календарем, по-види-
мому, исключает. Полная синхронизация двух планов романа
в любом случае невозможна (у двух сюжетов разная продол¬
жительность: в Москве — трое суток, в Ершалаиме — сутки),
но, видимо, и нежелательна. Расхождения во времени между
сюжетами не менее существенны для поэтики «Мастера и Мар¬
гариты», чем схождения: первые подчеркиваются вначале,
вторые — в конце. Действительно, первый фрагмент истории
Иешуа Га-Ноцри заканчивается в 10 часов утра, а на Патриар¬
ших, где сидят слушатели Воланда, наступает вечер. Перед рас¬
светом в ночь с четверга на пятницу Иван засыпает в лечебнице
и ему снится казнь на Лысой горе — здесь тот же полусуточный
интервал (середина ночи в Москве — середина дня в Ершалаи¬
ме). И лишь с последним включением евангельской темы время
двух сюжетов синхронизируется, причем не только суточное:
встречает рассвет 15 нисана Понтий Пилат, встречает рассвет
Маргарита, бодрствующая над воскрешенным романом Масте¬
ра, — в обеих сюжетных линиях это рассвет субботы. Достигну¬
тая под конец синхронизация расторгнута уже не будет: рассвет
следующего, воскресного дня герои двух линий романа встреча¬
ют уже вместе — и для Пилата, и для Мастера с Маргаритой это
воскресенье вечное (а во времени Нового Завета, присутствую¬
сдвиг датировки не отменяет того факта, что путешествие Данте соверша¬
ется на фоне и по образцу, явленным литургией Главного христианского
праздника. — Ср.: Андреев M. Л. Время и вечность в «Божественной Ко¬
медии» //Дантовские чтения. 1979. М., 1979.
386
М, Л. АНДРЕЕВ
щем как бы за текстом, именно в этот день недели и именно пе¬
ред рассветом происходит воскресение Христа).
Евангельская история предстает в «Мастере и Маргарите»
в виде сжатом и свернутом: только суд, казнь и возмездие пре¬
дателю. Глухо говорится о проповеди Иешуа, а от событий Ве¬
ликой седмицы остается лишь предательство Иуды, к тому же
передатированное. Исчез торжественный въезд в Иерусалим
(«У меня и осла-то никакого нет, игемон», — говорит Иешуа),
не осталось ни следа от Тайной вечери — она уничтожена пере¬
носом ареста с четверга на среду. Однако рассказ о посещении
Воландом Москвы сполна компенсирует лаконизм евангель¬
ских глав: оно представлено в виде как бы инфернального ва¬
рианта Страстной недели. И здесь мы имеем две казни: казнь
Берлиоза, который выступает в роли своеобразного шутовского
антихриста, и казнь барона Майгеля, который прямо осужден
за предательство (как Иуда из Кириафа). Нельзя не отметить
последовательность в проведении идеи «воздаяния по вере»:
Берлиоз не просто уходит в небытие, но и иллюстрирует своим
уходом основные положения мифологической школы в библеи-
стике, приверженцем которой показал себя в разговоре на Па¬
триарших. Превращение черепа в чашу, крови в вино — это все
легко узнаваемые атрибуты календарного ритуала (и вместе
с тем продолжение линии антихриста — совершение евхаристи¬
ческой жертвы по Воланду). Ритуализованность вообще очень
сильно ощущается в приключениях сатаны и его свиты: эта ли¬
ния романа отличается высоким знаковым напряжением, что
особенно явно дает о себе знать в сравнении с рассказом о Ие¬
шуа с его принципиальным историзмом и почти полным отсут¬
ствием символических смыслов*.
Можно, видимо, констатировать если не сам факт неких не¬
очевидных обязательств «Мастера и Маргариты» в отношении
«Божественной Комедии», то по крайней мере несовершенную
его невозможность, причем нас не должно смущать то обстоя¬
тельство, что евангельская парадигма, в поэме Данте скрытая
в подтексте, в романе Булгакова выходит на поверхность и ста¬
* Один и совершенно частный пример: нож Левин Матвея не несет в себе
никакой символики, тогда как нож продавца из Торгсина, «очень похожий
на нож, украденный Левием Матвеем», сразу отсылает к популярному
христианскому символу, ибо нож этот в новом своем воплощении —
рыбный.
Беатриче Данте и Маргарита Булгакова
387
новится самостоятельным сюжетом. На самом деле, свою «вне-
положность» она сохраняет и здесь, продолжая служить своего
рода моделью как для собственно евангельских глав романа, так
и для московской Страстной недели, для страстей по Фрэзеру
в современном, так сказать, оформлении. Иначе говоря, прин¬
цип двуплановости сохраняет все свое структурообразующее
значение для «Мастера и Маргариты», несмотря на многооб¬
разие и сложность структурных связей и отношений на других
уровнях. Если согласиться с этим допущением, то поиски даль¬
нейших аналогий можно вести в двух направлениях — в сфере
поэтики текста и поэтики сюжета.
Поэтика «Божественной Комедии» исходит в своей осно¬
ве из парадоксального взаимоперехода истины и лжи. Poema
sacro — так Данте в третьей кантике называет свое произведе¬
ние. Поэма — значит, нечто мнимое, нечто, лишь знаменующее
истину в ложных образах. Священная — значит, истинная в вы¬
сочайшей степени, не ложная ни одним своим словом. Трудный
для обоих союз, как труден и неудобен союз двух Данте: созда¬
теля поэмы, сотворяющего ее как ложь, и героя поэмы, пережи¬
вающего в ней сакральный опыт, опыт искупления, покаяния,
озарения. Как сам Данте раздвоен между автором и героем,
так же двоится и его авторство. С одной стороны, это поэт, гор¬
дый своим мастерством или смиренно сознающий его пределы,
призывающий в помощь муз и Аполлона, отделывающий стро¬
ки и строфы, взыскующий высших поэтических почестей —
лаврового венца. С другой стороны, это историк или, как он сам
себя называет, писец (scriba), и это не иное слово для обозначе¬
ния поэтического труда, не просто более скромная самооценка,
это другое авторство, его самоотрицание*. Писец не творит, а за¬
печатлевает, он не создатель, а свидетель, перо его не свободно
и ему нет надобности взывать к музам. Это как бы персонаж,
ставший автором.
В связи с этим стоит обратить внимание на особый статус
евангельских эпизодов в тексте «Мастера и Маргариты». Ка¬
ждому из трех придано разное обоснование: первый («суд») —
рассказ очевидца, второй («казнь»)— сновидение, третий
(«убийство Иуды») — роман. Степень истинности всех трех эпи¬
* JacomuzziA. L’imago nel cerchio: Invenzione e visione nella Divina
Commedia. Milano, 1968. P. 31-100.
388
М. Л. АНДРЕЕВ
зодов совершенно равновелика, но формы их презентации, по¬
следовательность этих форм перемене, видимо, не подлежат: то,
что было историей (рассказ Воланда), становится памятью (сон
Ивана) и закрепляется в слове (роман Мастера). Автор этого ро¬
мана не имеет имени и не называет себя писателем, прозвище,
данное ему Маргаритой, — это не оценка (как не было оценки
в имени писца, взятом Данте), а также своего рода отрицание
авторства. Может ли считаться писателем тот, кто «сочинял то,
чего никогда не видал, но о чем наверно знал, что оно было»?
Есть ли место вымыслу там, где угадано все? («О, как я угадал!
О, как я все угадал!»). То, что создано мастером, более реально,
чем сама реальность, более истинно, чем истина, — настолько
реально и настолько истинно, что никакой огонь это уничто¬
жить не может. Но вот Мастер встречается с героем своего рома¬
на, «выдуманным» им героем, как сказано здесь, «созданным»
героем, как повторено чуть позже, и названным Воландом ро¬
мантическим и даже трижды романтическим Мастером. Ниче¬
го романтического в придуманной им истории нет, романтич¬
на, следовательно, лишь мощь его вымысла, который потому
только и может совпасть с истиной, что является вымыслом как
таковым, вымыслом в высочайшей степени, дважды и трижды
вымыслом.
В начале XXV песни «Рая» читаем:
Коль в некий день поэмою священной,
Отмеченной к небом и землей,
Так что я долго чах в трудах согбенный.
Смирится гнев, пресекший доступ мой
К родной овчарне, где я спал ягненком,
Не мил волкам, смутившим в ней покой, —
В ином руне, в ином величьи звонком
Вернусь, поэт, и осенюсь венцом
Там, где крещенье принимал ребенком;
Затем, что в веру, души пред Творцом
Являющую, там я облачился
И за нее благословлен Петром.
Данте верит, что вернется в милую и жестокую Флоренцию:
порукой в том его поэма, которой смирится неправый гнев со¬
Беатриче Данте и Маргарита Булгакова
389
граждан; но и благословение, данное ему главой апостолов
на небе неподвижных звезд, такая же непреложная порука. Что
здесь ложь и что истина? Истина многолетнего поэтического
труда и ложь поэтического вымысла равны в судьбе поэта, запо¬
ры с ворот Флоренции должны пасть и перед искусным слагате¬
лем рифм и перед собеседником верховного Петра.
Сюжет «Божественной Комедии», если ограничиться его
буквальным уровнем, забыв на время о всех символических
и аллегорических значениях, составляет история личного спа¬
сения. Автор и герой поэмы потерялся в «сумрачном лесу»
философских и человеческих заблуждений. Чтобы избежать
духовной гибели, уже близкой, уже почти неотвратимой, тре¬
буется сверхъестественная помощь и трудный путь интеллекту¬
ального и нравственного очищения. Подательницей этой помо¬
щи и вождем на этом пути выступает властительница дум Данте
в юные его годы и вдохновительница его первых стихов — та,
от которой он отрекся затем и о которой забыл в гордыне безбла-
годатного и суетного умствования.
Легко заметить, что в основе одной из главных сюжетных
линий «Мастера и Маргариты» лежит та же модель. Внача¬
ле — нерасторжимый и радостный союз любви и творчества, где
возлюбленная является как бы в образе музы («она сулила сла¬
ву, она подгоняла его и вот тут-то стала называть Мастером»),
Это — этап «Новой Жизни» (стоит обратить внимание на сход¬
ство двух первых встреч Беатриче и Данте, Маргариты и Масте¬
ра — их случайность, мгновенность любви и роковая печать,
которой она отмечена с первых мгновений). Затем расставание
и душевный кризис, приведшие героя на край гибели, с идущей
здесь, но смутно и глухо темой вины и отступничества. И нако¬
нец, обращение возлюбленной за помощью к высшим и сверхъе¬
стественным силам. Заслуживает по крайней мере упоминания
тот факт, что Маргарита входит в сделку с посланцем дьявола
(сцена в Александровском саду) в пятницу в три часа дня (час
устанавливается по времени похорон Берлиоза), т. е. в день
и в час смерти Христа. В тот же день и в тот же час в «Божествен¬
ной Комедии» происходило обращение Марии к Лючии, послед¬
ней к Беатриче и Беатриче к Вергилию, после чего тот поспешил
на помощь Данте, изнемогавшему под натиском трех чудовищ
(правда, Данте ошибочно полагал, что смерть Христа наступила
390
М. Л. АНДРЕЕВ
в полдень, и поэтому именно полуднем датировал заступниче¬
ство Беатриче, но эта его ошибка смысла аналогии не меняет).
Разумеется, для всех составляющих данной парадигмы су¬
ществуют и иные литературные прецеденты, в том числе в соб¬
ственном творчестве Булгакова. В частности, мотив сверхъесте¬
ственной помощи, вымоленной женщиной или явленной через
женщину, уже совершенно отчетливо звучит в первом его рома¬
не, где спасение Турбина отмечено двумя вторжениями чуда:
появлением Юлии Рейсе в черной мшистой стене («и тут увидел
ее в самый момент чуда») и молитвой Елены. То же, вероятно,
можно сказать и о других мотивах, явственно ощутимых в сю¬
жетной линии Мастера и Маргариты: о ее плотном биографиз-
ме и о переплетении экзистенциальной проблематики с твор¬
ческой. Но в совокупности они складываются во вполне твердо
очерченную «дантовскую» ситуацию, которая к тому же и раз¬
вивается по дантовской модели. Во всяком случае, сошествие
в ад в «Мастере и Маргарите» определенно присутствует, только
совершает его в отличие от «Божественной Комедии» не герой,
а героиня, не нуждающийся в помощи, а подающая помощь,
и она же, подобно Данте, подвергается различным очиститель¬
ным и посвятительным ритуалам (омовение в реке, купание
в крови и пр.). Пребывание в аду, как и в «Комедии», длит¬
ся с пятницы по субботу, причем в низшей точке схождения,
опять же как у Данте, со временем происходят странные изме¬
нения (остановившаяся полночь); вечером в субботу начинает¬
ся исход из преисподней, а воскресным утром Данте выходит
к звездам южного полушария, к подножию горы Чистилища,
и Мастер с Маргаритой обретают вечный приют в булгаковском
Лимбе, царстве не света, но покоя.
Творчество Булгакова по духу и пафосу своему глубоко тра¬
диционно. Это как бы последний затухающий отзвук великой
классической эпохи. Со своим временем оно связано, если ис¬
ключить яркую и столь же нестойкую злободневность, только
сознанием полной исторической обреченности. Это свидетель¬
ство конца и попытка итога, и как всякий итог — обращение
к истокам, к идеальным началам, из которых выросла европей¬
ская литература и в числе которых не последнее место занимал
идеал женщины, как бы он ни именовался — Мадонной, Лаурой
или Татьяной. Но предчувствие конца коснулось и его. Беатри¬
Беатриче Данте и Маргарита Булгакова
391
че приходит на помощь Данте из сияющих кущ рая, Маргарита
выслуживает освобождение Мастера царицей московской валь¬
пургиевой ночи. Начавшись ангелом, классическая литература
заканчивается ведьмой.
€4^
П. Н. ДОЛЖЕНКОВ
Мотивы и образы «Божественной Комедии» Данте
в произведениях Чехова
В отечественном литературоведении тема «Чехов и Данте»
практически не исследовалась, что вполне объяснимо — у Че¬
хова нет значимых высказывании о великом итальянце. В его
письмах Данте упоминается лишь в связи с покупкой книг. От¬
крытые отсылки к «Божественной Комедии» мы находим толь¬
ко в нескольких ранних произведениях Чехова. Во всех этих
случаях речь идет о дантовском аде и о словах, начертанных
на вратах его: «Оставь надежду». Дантовский ад для Чехова —
это прежде всего место человеческих страданий, надеяться
на прекращение которых бесполезно.
Единственное открытое свидетельство того, что Чехов посто¬
янно помнил о «Божественной Комедии» — запись, которую
писатель, не используя, все же не оставлял, переносил из одной
записной книжки в другую. В этой записи вид на Сенную срав¬
нивается с пейзажем ада Данте.
Все это заставляет предполагать, что искать литератур¬
ные связи произведений Чехова с «Божественной Комедией»
не имеет большого смысла. Но это далеко не так.
В своем раннем рассказе «Циник», как отмечает Р. Л. Джек¬
сон, писатель делает отсылки к дантовскому аду, уже тогда не¬
воля (речь идет о животных в зоопарке) для Чехова ассоцииру¬
ется с адом. В 1890 г. Чехов едет на Сахалин. Как известно, он
называл Сахалин адом. В книге «Остров Сахалин» Чехов писал:
«Приговоренный к каторге удаляется из нормальной человече¬
ской среды без надежды вернуться в нее и таким образом как бы
Мотивы и образы «Божественной Комедии»
393
умирает для того общества, в котором он родился и вырос. Ка¬
торжные так и говорят про себя: “Мертвые с погоста не возвра¬
щаются”»*. Сами каторжные осознают себя мертвыми. В пись¬
мах Чехова во время поездки и в очерках «Из Сибири» мы
находим подтверждения тому, что уже Сибирь, место ссылки,
ассоциировалась Чеховым со «страной мертвых». Например,
в очерках «Из Сибири» он писал об Иртыше и его береге, что,
«судя по виду», на нем «могут жить одни только жабы и души
больших грешников. Иртыш не шумит и не ревет, а похоже
на то, как будто он стучит у себя на дне по гробам» (С., XIV-XV,
19)**. Ассоциация «Сахалин — ад» подкреплялась и тем обсто¬
ятельством, что на острове страдали, отбывая наказание, пре¬
ступники, т. е. грешники.
Узники Сахалина страдают, страстно мечтают о родине, то¬
скуют но ней. В образе родины воплощаются их мечты о луч¬
шей жизни, о счастье, о едва ли не рае. Но мечтать бесполезно,
так как, отбыв срок, вернувшись на материк, каторжные все
равно не имели права вернуться на родину, т. е. в европейскую
часть России. Безнадежность их положения особо подчеркива¬
ет Чехов, именно против нее, за отмену пожизненности нака¬
зания и борется писатель. После поездки на Сахалин в творче¬
стве Чехова намного углубляются мотивы «жизнь-страдание»,
«жизнь-тюрьма». Как видим, восприятие Чеховым каторжного
острова, как ада опять связывается писателем с безнадежно¬
стью, заставляющей вспомнить фразу: «Оставь надежду...»
Параллели, существующие между внутренней жизнью узни¬
ков Сахалина, как она изображена в «Острове Сахалине», и вну¬
тренней жизнью чеховских героев, позволяют рассматривать
Сахалин, «остров страданий» (так, перефразируя писателя, мы
назовем каторжный остров) как чеховскую модель мира в це¬
лом***.
* В этих словах угадывается «спор» с думой Рылеева «Смерть Ермака», где
описывается бурный Иртыш и непогода именно шумит и ревет: «Ревела
буря, дождь шумел», — повторяет автор. — Прим. ред.
** Чехов А. П. ПССП: в 30 т. Сочинения: в 18 т. Письма: 12 т. М., 1974-1983.
Далее А. П. Чехов цитируется по этому изданию с указанием в скобках
тома и страниц.
*** См.: Долженков П. Н. «Остров страданий» // Молодые исследователи Че¬
хова. М., 1993. Вып. 1. С. 25-26.
394
IL H. ДОЛЖЕНКОВ
Вскоре после возвращения Чехова с Сахалина он создает рас¬
сказ «В ссылке». Американский литературовед Р. Л. Джексон
убедительно показывает, что символика в этом рассказе связа¬
на с образами «Божественной Комедии» Данте: Семен Толко¬
вый — это Харон, перевозчик в «страну мертвых», река — это
Стикс, отделяющая «страну мертвых» от страны живых*.
Приведем еще один аргумент, подкрепляющий выво¬
ды Р. Л. Джексона, может быть, самый весомый. В письме
Д. В. Григоровичу в связи с его отрывком «Сон Карелина» Че¬
хов так описывает свой сон, который он видит, когда сильно за¬
мерзает: «Когда ночью спадает с меня одеяло, я начинаю видеть
во сне громадные склизкие камни, холодную осеннюю воду,
голые берега: в унынии и тоске, точно заблудившийся или по¬
кинутый, я гляжу на камни и чувствую неизбежность перехо¬
да через глубокую реку ... Все до бесконечности сурово, уныло
и серо. Когда же я бегу от реки, то встречаю на пути обваливши¬
еся ворота кладбища, похороны ... И в это время я проникнут ...
своеобразным кошмарным холодом ... во сне ощущаешь давле¬
ние злой воли, неминуемую погибель от этой воли» (П., II, 30).
Пейзаж, который Чехов видит во сне, очень похож на пей¬
заж в рассказе «В ссылке», вплоть до ощущения холода. Этот
пейзаж ассоциируется у Чехова со смертью: он видит ворота
кладбища, похороны, ощущает неминуемость гибели, а неиз¬
бежность перехода через реку (Стикс?), видимо, символизирует
неизбежность смерти. Поскольку Чехову все это снится, то мно¬
гие скажут, что мы имеем дело с архетипом «страны мертвых».
В рассказе «В ссылке» Чехов ставит проблему жизненной
позиции человека в «жизни-страдании», «жизни-тюрьме». Ба¬
рин, Василий Сергеевич, в тяжелейших условиях ссылки изо
всех сил стремится к личному счастью и терпит крах: жена сбе¬
жала с другим, его дочь должна умереть. Татарин мечтает о сча¬
стье, но понимает, что даже минутное счастье возможно лишь
за счет страданий близкого человека. Семен Толковый призыва¬
ет отказаться от надежд на лучшее, привыкнуть к страданиям
и довольствоваться тем, что есть. По крайней мере формально,
оказывается прав Харон.
* Джексон Р. Мотивы Данте и Достоевского в рассказе Чехова « В ссылке >► //
Сибирь и Сахалин в биографии и творчестве А. П. Чехова. Южно-Саха¬
линск, 1993. С. 66-76.
Мотивы и образы «Божественной Комедии»
395
Символика рассказа «В ссылке», несомненно, связана с об¬
разами «Божественной комедии» Данте. Обратимся к пьесе
«Три сестры».
Существует круг произведений Чехова, традиционно связы¬
ваемый исследователями с впечатлениями Чехова от поездки
на каторжный остров. Среди этих произведений должна быть
выделена пьеса «Три сестры», которая связана с Сахалином по-о-
собому, не так, как остальные повести и рассказы. Если «остров
страданий » есть модель чеховского мира в целом, то «Три сестры »
символически воспроизводят эту модель. Многие исследовате¬
ли пьесы сводят символику произведения к символу «Москва».
Наиболее последователен в этом отношении, видимо, 3. С. Па-
перный, который видит в пьесе не только символ, но и символи¬
ческий сюжет: « ...в пьесах Чехова сюжет двуединый — событий¬
ный и образно-символический. Москва — не только город, куда
собираются поехать три сестры. Это символ, мечта, главный,
ведущий мотив пьесы»*. Но существуют и другие точки зрения.
Н. Я. Берковский воспринимает пожар в третьем действии пье¬
сы как символический образ, как символ разрушения «старого
мира и очищения его»**, связывая этот символ с предчувствием
автором первой русской революции. Эта точки зрения устарела.
Д. Магаршак в своей книге пишет о «щедрой россыпи симво¬
лов, которая помогает открыть сущность каждого характера»***.
В качестве примеров Магаршак упоминает зеленый пояс Ната¬
ши, потерянный ключ Андрея, серебряный самовар Чебутыки-
на и флакон с одеколоном Соленого. Г. Хетсо, развивая мысли
Д. Магаршак, пишет: «...каждое из четырех действий “Трех се¬
стер” построено на одном символе, указанном еще в ремарках:
первый акт — на символе солнца, второй акт — на символе све¬
чи, третий акт — на символе пожара и четвертый акт — на сим¬
воле сада», — отмечая при этом, что «главный символ, проходя¬
щий через всю пьесу — символ “Москва”»****.
* Паперный 3. С. «Вопреки всем правилам...» : пьесы и водевили Чехова. —
М., 1982. С. 145.
** Берковский Н. Я. Чехов: от рассказов и повестей к драматургии // Бер¬
ковский Н. Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М.» 1969. С. 145.
” Magare D. The Real Chekhov: An Introduction to Chekhovs Last Plays. 1972.
P. 125.
** Хетсо. Символическая структура в «Трех сестрах» А. П. Чехова //
Dissertationes slavicae. Szeged. 1975, № 9-10. С. 39.
396
П. Н. ДОЛЖЕНКОВ
Думается, что Д. Магаршак и Г. Хетсо принимают за симво¬
лы содержательно наполненные повторяющиеся образы и дета¬
ли. Но символика в «Трех сестрах» не сводится к символу «Мо¬
сква» и мы должны стремиться выявить символическую основу
этого произведения.
Ситуация сестер — счастье, «лучшая жизнь» (Москва) лишь
пространственно отдалены от них, но туда почему-то невозмож¬
но уехать, — разве это не напоминает ситуацию ссылки? Как
и узники Сахалина, сестры идеализируют свою «родину», род¬
ной город и мечтают вернуться на «родину», грезят Москвой.
В другой город сестры попали не по своей воле, они переехали
туда вместе с отцом-генералом, получившим бригаду. Город
расположен в районе с холодным климатом, и это напоминает
о холодных краях русской каторги и ссылки. В городе расквар¬
тированы военные, и, хотя офицеры составляют вместе с Прозо¬
ровыми лучшую часть местного общества и никого не охраняют,
тем не менее именно военный убивает Тузенбаха при попытке,
так сказать, бегства с «острова страданий», связанного с отъез¬
дом из города на кирпичный завод, при попытке обрести личное
счастье. На это надо обратить внимание.
Для Вершинина жизненная ситуация сестер прямо ассоции¬
руется с тюрьмой, это видно тогда, когда он говорит о француз¬
ском министре, осужденном «за Панаму», который с упоением,
восторгом упоминает о птицах, которых видит через тюремное
окно и которых он не замечал раньше: «Так же и вы (в Москве. —
П. Д.) не будете замечать птиц» (С., XIII, 149), — говорит он
сестрам. Не зря Вершинин привел пример с птицами — о пти¬
цах, о летящих перелетных птицах часто говорят герои пьесы.
Вольная птица— символ свободы, и отношение персонажей
к птицам напоминает о взгляде на них через зарешеченное окно
тюрьмы.
Вполне вероятно, что прототипами образов Федотика и Роде
стали два поручика, бывшие попутчиками Чехова во время по¬
ездки через Сибирь: И. фон Шмидт и Г. Миллер. Это говорит
о том, что Чехов помнил о Сахалине, создавая свою пьесу.
В тексте «Трех сестер» обнаруживаются ситуации, образы,
высказывания, которые начинают создавать символический об¬
раз, охватывающий всю пьесу в целом — образ ссылки, тюрьмы.
Но «Три сестры» соотносятся с каторжным островом не только
Мотивы и образы «Божественной Комедии»
397
в этом, в еще большей степени пьеса имеет отношение к Сахали¬
ну, воспринимаемому как ад, «страна мертвых», соотнесенная
с дантовским адом.
В рассказе Чехов реализует метафору: «ссылка— страна
мертвых». А вот что говорит о жителях города, в котором жи¬
вут Прозоровы, Андрей: «Неотразимо пошлое влияние гнетет
детей, и искра Божия гаснет в них, и они становятся такими же
жалкими, похожими друг на друга мертвецами, как их отцы
и матери» (С., XIII, 182). Андрей говорит о своем городе как о го¬
роде мертвых. И возле него тоже есть своя река, через которую
перевозят Тузенбаха, прежде чем убить на дуэли. Наметились
переклички «Трех сестер» с рассказом «В ссылке», с его симво¬
ликой: страна мертвых, Стикс, Харон. Попробуем их развить.
Город, в котором живут сестры, расположен, видимо, на Ура¬
ле, мотив холода постоянно присутствует в пьесе. С другой сто¬
роны, третье действие происходит ночью на фоне сильного по¬
жара. В дантовском аде есть свой город — это Дит. Сочетание
тьмы, холода (ледяное озеро Коцит) и огня характеризует этот
город.
В пьесе часто звучит латынь, цитируются античные авторы.
Фамилия внесценического персонажа Протопопова заставляет
вспомнить самого автора «Божественной Комедии», который
был протопопом Флоренции и Венеции. Упоминается в «Трех
сестрах» и переход реки в античное время. «Жребий бро¬
шен», — повторяет слова Ю. Цезаря перед переходом Рубикона
Тузенбах, а потом действительно переправляется перед дуэлью
через реку, на противоположном берегу которой растет лес,
как и в преддверии ада у Данте. «Кругом все так таинственно,
старые деревья стоят, молчат» (С., XIII, 180), — говорит перед
дуэлью Ирина, а Тузенбах как бы подхватывает: «Я точно в пер¬
вый раз в жизни вижу эти ели, клены, березы; и все смотрит
на меня с любопытством и ждет. Какие красивые деревья... вот
дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ве¬
тра. Так, мне кажется, если я и умру, то все же буду участвовать
в жизни так или иначе» (С., XIII, 181). Сравнение мертвого че¬
ловека с мертвым же деревом заставляет вспомнить дантовский
лес самоубийц (мотив самоубийства присутствует в пьесе). Ги¬
бель Тузенбаха, на наш взгляд, обставляется скрытыми отсыл¬
ками к «Божественной Комедии».
398
IL H. ДОЛЖЕНКОВ
В «Трех сестрах» мы видим те же три основные жизненные
позиции, что и в рассказе «В ссылке». Философия Чебутыкина,
его «все равно» напоминает собою убеждения Семена Толково¬
го — Харона. Чебутыкин не перевозчик, наверняка не он пра¬
вил лодкой, в которой плыли участники дуэли, он врач, но в сво¬
ей функции — удостоверять смерть (Тузенбаха и других) — он
выполняет в определенном смысле роль перевозчика в страну
мертвых, совершая формальный акт, который официально пе¬
реводит человека из разряда живых в разряд мертвых. Посколь¬
ку Чебутыкин военный врач, то, надо думать, эту процедуру он
совершал не один раз. Согласно ремарке Чехова, на протяжении
4-го действия Чебутыкина все время не покидает благодушное
настроение, и это несмотря на то, что убивают жениха, надо
полагать, самого любимого им человека— Ирины; рушится
ее счастье, а он благодушествует. Может быть, это благодушие
Харона, предвкушавшего свою работу, а потом — полного удов¬
летворения от удачного ее исполнения. В это с трудом верится?
Прочитаем: «Может быть, я не человек, а только делаю вид, что
у меня руки и ноги... и голова» (С., XIII, 160), — размышляет
Чебутыкин. «Может быть, я и не существую вовсе, а только ка¬
жется мне, что я хожу, ем, сплю. (Плачет.) О, если бы не суще¬
ствовать!» (С., XIII, 160) — мечтает Чебутыкин. А позже он го¬
ворит уже обо всех присутствующих: «Может быть, нам только
кажется, что мы существуем, а на самом деле нас нет» (С., XIII,
162). Более определенно высказывался о Семене Толковом Тата¬
рин: «Барин живой... а ты дохлый» (С., Vili, 49). В трех первых
действиях стучат в пол, хотя это стук не из-под земли, а с перво¬
го этажа, но поскольку стук каждый раз связан с Чебутыкиным,
а во втором действии Чебутыкин (Харон) стучит снизу и на его
стук-зов отвечает Тузенбах («Убитый»), то на все эти стуки сни¬
зу ложится какой-то символический отсвет. В третьем действии
Чебутыкин разбивает часы покойной мамы сестер и тут же гово¬
рит, что «нам только кажется, что мы существуем», — остано¬
вившиеся, разбитые часы могут символизировать смерть, быть
символом смерти. Как и положено Харону, Чебутыкин старик.
Ад, город Дит, охраняется, покинуть его невозможно. Охра¬
няют дантовский ад демоны.
Тузенбах хочет с Ириной уехать из города на кирпичный
завод. Его убивает Соленый, руки которого пахнут трупом,
Мотивы и образы «Божественной Комедии»
399
по крайней мере так ему кажется. Он говорит Наташе: «Если бы
этот ребенок был мой, то я изжарил бы его на сковородке и съел
бы» (С., XIII, 148-149). Жарят людей на сковородке— в аду,
изжарить ребенка и съесть — это напоминает о нечистой силе,
русский читатель прежде всего должен вспомнить бабу-Ягу, ко¬
торая хочет зажарить Иванушку в печи и съесть его. Соленый
все время дразнит свою жертву, Тузенбаха: «Цып, цып, цып».
Однажды он как бы поясняет, что имеется в виду. Подразнив
барона в очередной раз, Соленый цитирует басню Крылова
«Гуси» : «Мысль эту можно б боле пояснить, да боюсь, как бы гу¬
сей не раздразнить» (С., XIII, 164). Персонаж басни произносит
эту фразу, которую Соленый цитирует неточно, подразумевая,
что он боится, что гуси догадаются, что их ведут на базар на про¬
дажу, что их удел — стать жарким. Получается, образно говоря,
что Тузенбах для Соленого— «гусь», который будет изжарен
и съеден. В четвертом действии Соленый обещает Чебутыкину
подстрелить Тузенбаха, «как вальдшнепа», а после ухода барона
на дуэль мы услышим на сцене слова «гуси», «гусь с капустой».
Опять в связи с Соленым мы видим мотив «изжарить и съесть».
Как известно, в пьесе Чехова «Дядя Ваня» присутствует мо¬
тив оборотня. А есть ли он в «Трех сестрах»? Вряд ли случайно
Чебутыкин, который соотнесен с Хароном и потому в опреде¬
ленном смысле слова может быть назван оборотнем, напева¬
ет строчку из оперы-водевиля «Оборотни, или Спорь до слез,
а об заклад не бейся».
В подготовительных материалах к задуманному Чеховым на¬
учному труду «Врачебное дело в России» есть странная запись,
не имеющая отношения к медицине: «Медведь был прежде че¬
ловеком» (С., XVI, 305). Видимо, это выписка из каких-нибудь
работ по фольклору, к которым Чехов не раз обращался в то вре¬
мя. В водевиле «Медведь», написанном в 1888г., «медведь»
оказался «человеком», и достаточно симпатичным человеком.
Совершенно обратное мы видим в «Трех сестрах»: человек,
утративший человеческий облик, ассоциируется с медведем.
Мотив медведя появляется в пьесе тогда, когда Соленый
впервые произносит фразу: «Он ахнуть не успел, как на него
медведь насел» (С., XIII, 125), — опять же неточно цитируя
басню Крылова. Эта фраза втайне адресована Тузенбаху и име¬
ет в виду его будущую гибель от руки Соленого. Сразу же после
400
П. Н. ДОЛЖЕНКОВ
того, как Соленый процитирует басню Крылова, Протопопова,
начальника Андрея, ошибочно назовут Михаилом Потапычем,
заставляя вспомнить фольклорного медведя. Тут же Чебутыкин
вносит серебряный самовар и дарит его самому дорогому для
него человеку на земле — Ирине. В «Дяде Ване» об этом напо¬
минает фамилия Серебрякова. Серебро предохраняет от оборот¬
ня. Тузенбах погибает, а Ирина в третьем действии в отчаянии
кричит: «И как я жива, как не убила себя до сих пор, не пони¬
маю» (С., XIII, 166). Может быть, не будет натяжкой, если мы
скажем, что в спасении Ирины серебро сыграло свою роль.
В конце пьесы Андрею, деградировавшему и нашедшему
свое место в городе, бросят слово «медведь». Так его вписыва¬
ют в ряд людей, населяющих город, ассоциирующийся с Дитом.
Маша говорит об Андрее: «Тысячи народа поднимали колокол,
потрачено было много труда и денег, а он вдруг упал и разбился.
Вдруг, ни с того ни с сего. Так и Андрей» (С., XIII, 177). Путь
брата сестер обозначен двумя вехами: «колокол», путь наверх,
к Богу — «медведь», падение вниз, в ад.
Еще одну отсылку к оборотню можно видеть в том, как ведет
себя Соленый с Тузенбахом, о котором барон говорит: «Когда
мы вдвоем с ним, то он бывает очень умен и ласков, а в обществе
он грубый человек, бретер» (С., XIII, 135).
Соленый мнит, что он похож на Лермонтова, воображает себя
демонической личностью и убивает Тузенбаха тогда, когда тот
собирается уехать из города вместе с Ириной. Покинуть город
Дит невозможно, его охраняют демоны, они же истязают греш¬
ников. Среди демонов города Дита есть и такие, которые соотно¬
симы с животными (Цербер), и такие, которые сочетают в себе
животные и человеческие черты облика (Минотавр).
Таким образом, можно полагать, что мотив оборотня, суще¬
ства, сочетающего в себе потустороннее, звериное и человече¬
ское, имея в пьесе и самостоятельное значение, опять отсылает
нас к дантовскому аду.
(Интересно отметить, что в знаменитом абсурдном споре Чебу¬
тыкин и Соленый спорят о черемше и чехартме. В названия этого
кушания и растения входят все буквы, имеющиеся в слове «черт».)
Теперь вспомним, что говорит о Наташе Андрей. Он называет
ее «шаршавым животным» и добавляет: «Во всяком случае она
не человек» (С., XIII, 178). С каким из населяющих дантовский
Мотивы и образы «Божественной Комедии»
401
ад существ можно соотносить Наташу? В первом действии пьесы
о ней сообщается, что носит красную кофточку, затем появляется
сама героиня в розовом платье и со знаменитым зеленом поясом.
Фурии города Дита «бледны и кровавы» и опоясаны зелеными
гидрами. Они пытаются наброситься на Данте, чтобы убить при¬
шельца. Здесь возможна параллель к «деятельности» Наташи
в пьесе. В ее «город мертвых» приезжают Прозоровы, и она ста¬
новится главной причиной духовной деградации Андрея и выжи¬
вает из дома сестер. Фурии Дита визжат, орут. Крик, скандал —
одно из главных оружий Наташи. Текст пьесы, мы полагаем, дает
основания для сопоставления Наташи с фурией.
Когда Прозоров произносит: «Во всяком случае она не чело¬
век», — Чебутыкин тут же ему советует: «Знаешь, надень шап¬
ку, возьми в руки палку и уходи... уходи и иди, иди без оглядки.
И чем дальше уйдешь, тем лучше» (С. XIII, 178-179). Возмож¬
но, в словах Чебутыкина есть отсылка к «Божественной коме¬
дии», так как фурии в ярости начинают призывать Медузу-Гор¬
гону для того, чтобы Данте окаменел. Вергилий закрыл ему
глаза рукой, так они и ушли. Данте нельзя было оглядываться.
Итак, отдельные образы пьесы соотнесены с образами «Боже¬
ственной комедии». Конечно, мы не хотим сказать, что Чебуты¬
кин на самом деле Харон, Соленый — демон, Наташа — фурия.
Все, о чем говорилось выше, существует на уровне ассоциаций,
символики.
Сопоставления «Трех сестер» с «Божественной Комедией»
возможны также и на уровне сюжета.
Первое действие пьесы происходит в полдень, второе вече¬
ром, третье — ночью, а в конце его начинает брезжить рассвет,
четвертое — опять в полдень. Таким образом, обозначены сут¬
ки, 24 часа. Путешествие Данте по аду тоже длилось сутки. Сю¬
жет «Трех сестер» можно рассматривать как символическое пу¬
тешествие по дантовскому аду.
В начале первого действия говорится о массе света, о солнце,
Ирина сравнивается с белой птицей. Мы находимся еще на зем¬
ле, но уже присутствуют Чебутыкин и Соленый, а позже появит¬
ся Наташа.
Второе действие начинается в темноте, вскоре входит Ната¬
ша со свечой и ищет второй, вдруг здесь оставленный «огонь».
Два огонька во тьме и видит Данте, когда приближается к Диту.
402
IL H. ДОЛЖЕНКОВ
В этом действии мы видим влюбленных и согрешивших, изме¬
нив супружескому долгу, Машу и Вершинина. Говоря о тенях
второго круга ада, о поддавшихся «власти вожделений», Данте
сравнивает их с журавлиной стаей, летящей с унылой песней
на юг, с летящими скворцами. Вершинин тоже сравнивает лю¬
дей с перелетными птицами, журавлями, о журавлях скажет
и Маша. А в четвертом действии мы услышим фамилию се¬
кунданта — Скворцов. Таким образом, второе действие пьесы
в символическом путешествии по дантовскому аду соответству¬
ет второму кругу ада, который расположен еще до Дита.
В третьем действии в городе бушует сильный ночной пожар,
а Дит именно «огненный город». На сцене есть и дым — сильно
накурил Соленый. В этом действии, повторяя затем в четвер¬
том, Чебутыкин говорит о том, что нам только кажется, что мы
существуем. Тогда же возникает мотив забывания: «...все поза¬
был, что знал, ничего не помню, решительно ничего» (С., XIII,
160), — говорит Чебутыкин. «Я все забыла, забыла... Все забы¬
ваю, каждый день забываю» (С., XIII, 166), — в отчаянии кри¬
чит Ирина. Мотив забывания заставляет вспомнить реку Лету,
испив из которой, человек забывает свое прошлое. У Данте Лета
начинается на вершине горы Чистилища и втекает в ад. Герои
«Божественной Комедии» видят ее в последних кругах ада.
Продолжая, Ирина восклицает: «...и все кажется, что уходишь
от настоящей прекрасной жизни все дальше и дальше, в каку¬
ю-то пропасть» (С., XIII, 166). В этих словах героини можно ви¬
деть еще одну отсылку к Диту, потому что спуск в центр ада —
крутой спуск, спуск почти в пропасть. (Можно отметить и то,
что Маша говорит о Наташе, что та «ходит так, как будто она
подожгла (город. — П. Д.)» (С., XIII, 168). Огонь в городе и дым
на сцене связываются с Наташей и Соленым.)
В символическом путешествии третье действие соответству¬
ет городу Диту и последним кругам ада.
В четвертом действии мы видим реку, переправу через нее,
лес, мы как бы находимся в преддверии ада.
Данте сопровождает Вергилий. Есть ли в пьесе образ, соотне¬
сенный с ним? На наш взгляд, есть.
Данте все время называет Вергилия учителем. В «Трех се¬
страх» есть учитель гимназии Кулыгин. Он преподает латынь,
он произносит фразы на латыни, цитируя древних римлян. Ко¬
Мотивы и образы «Божественной Комедии»
403
нечно, Кулыгин не Вергилий, но здесь следует видеть указание
на то, что Вергилий в пьесе присутствует.
В фамилиях «Вершинин» и «Вергилий» совпадают не толь¬
ко три первые буквы и количество букв, но и все гласные и их
порядок, а также количество согласных в интервокальных по¬
зициях. Действие пьесы во многом и начинается с появления
Вершинина в доме трех сестер, а кончается и вместе с отъездом
героя. Вергилий приходит к Данте из другого мира, из Лимба.
Вершинин является сестрам из мира, который не только про¬
странственно отдален, но и, в представлении героинь, каче¬
ственно отличен от города, — он приезжает из Москвы. Если
Вергилий для Данте учитель, то и Вершинина можно назвать
наставником трех сестер. Разве все сказанное не дает достаточ¬
ных оснований для того, чтобы говорить о соотнесенности обра¬
зов Вершинина и Вергилия?
Полковник выполнил функцию Вергилия: прошел с сестра¬
ми через ад, указал на рай и покинул их.
А есть ли рай в этой пьесе? Москва в мечтах и воспоминани¬
ях героинь — определенный аналог рая. Другой аналог — буду¬
щее, жизнь через 200-300 лет, как она представляется Верши¬
нину. Если ад — низ, то фамилия полковника указывает нам
на противоположное направление. По сути дела, Вершинин
утверждает, что рая-Москвы просто нет, что счастья нет и не мо¬
жет быть для них, что рай будет только в будущем.
Эволюция сестер и заключается в отказе от мечты о сейчас
существующем рае и в обретении веры в рай будущий, который
им недоступен, но в осуществление которого они могут внести
свою лепту.
Итак, рая нет, жизнь — ад, в котором следует оставить все
надежды на личное счастье. Можно лишь утешать себя мыслью
о том, что твои страдания, может быть, будут не напрасными.
«Оставь надежду», — этих слов нет в пьесе, но есть близкие
по смыслу: «О, призрачная надежда людская» (С., XIII, 156), —
на латыни цитирует Цицерона Вершинин. «Оставь, оставь
мечтания свои» (С., XIII, 150), — говорит Соленый Тузенбаху,
подавая свои слова как цитату, правда, ложную (таких слов
в «Цыганах» Пушкина нет).
Уже много писалось о символике начала пьесы, рассмотрим
ее с интересующей нас точки зрения. Раскрывается занавес,
404
IL H. ДОЛЖЕНКОВ
и мы видим трех героинь, связанных родственными узами —
трех сестер. Вскоре на заднем плане появляется другая тройка
героев, тоже связанная между собою, связанная смертью: Ту¬
зенбах — «убитый», Соленый — «убийца» и Чебутыкин — Ха¬
рон. На фоне этой тройки и звучат монологи и диалоги Ольги
и Ирины. «Радость заволновалась в моей груди, захотелось
на родину страстно» (С., XIII, 120), — говорит Ольга, — «Чер¬
та с два!» — восклицает Харон, — «Конечно, вздор», — под¬
тверждает «убитый». «Уехать в Москву... Да, скорее в Москву»
(С., XIII, 120), — мечтают Ирина и Ольга, — Харон и «убитый»
вместе смеются. «Страна мертвых» смеется над надеждами вы¬
рваться из ее объятий. Бегство с «острова страданий», из жиз¬
ни-тюрьмы возможно только в одном направлении — в смерть.
Сестры отказались от надежд на личное счастье, смирились
с жизнью-страданием, жизнью-тюрьмой. Это совпало с уходом
из города военных. Уходит и Чебутыкин-Харон, правда, обещая
вернуться, но уже в другом качестве, штатским, уходит и Соле¬
ный. Стеречь больше некого, попыток бегства из «ада», с «остро¬
ва страданий» больше не предвидится. Выше уже говорилось
о том, что, как и в рассказе «В ссылке», в «Трех сестрах» Чехов
ставит проблему жизненной позиции человека в жизни-стра¬
дании. Мы уже отметили соотнесенность образов Чебутыкина
и Семена Толкового. Продолжим сопоставление двух произве¬
дений. В рассказе «В ссылке» барин, Василий Сергеевич, реша¬
ет жить «своим трудом», «в поте лица», он сам и косил, и рыбу
ловил. Также Тузенбах и Ирина мечтают в труде обрести свое
счастье. Василий Сергеевич, Тузенбах и Ирина страстно стре¬
мятся обрести счастье, но их ждет крах всех надежд. В словах
Вершинина о том, что счастливы будут лишь далекие потомки,
а они должны изо всех сил трудиться ради этого далекого сча¬
стья и не думать о себе, следует видеть разрешение мучитель¬
ных раздумий Татарина. Счастье Вершинина с Машей, как
и для Татарина, возможно только за счет несчастья других: его
детей, жены, Кулыгина.
На наш взгляд, Чехов в «Трех сестрах» утверждает жизнен¬
ную позицию Вершинина как единственно правильную и до¬
стойную человека в жизни-страдании. В то же время писатель,
который всегда стремился избегать однозначности, показывает,
как мечта о счастливом будущем может превратиться в своего
Мотивы и образы «Божественной Комедии»
405
рода наркотик, помогающий выдержать жизнь в «аду». Отчасти
мы это видим и у Вершинина, который начинает философство¬
вать при первом же удобном случае, а у Андрея в его монологе,
начинающемся словами: «Настоящее противно, но зато ког¬
да я думаю о будущем, то как хорошо!» (С., XIII, 182) — мечта
о будущем здесь явно выступает в функции сокрытия настоя¬
щего, своей деградации и «отдыха для души». Частичную об¬
условленность идеи служения другим собственными страдани¬
ями, невозможностью личного счастья мы видим и в повести
«Три года», в которой Лаптев думает: «...нужно оставить вся¬
кие надежды на личное счастье, жить... без надежд, не мечтать,
не ждать, а чтобы не было этой скуки... можно заняться чужими
делами, чужим счастьем» (С., IX, 20).
В целом проблема совместимости личного счастья и служе¬
ния другим не имеет у Чехова однозначного разрешения. Мож¬
но обозначить крайние полюса этой проблемы. В статье о Пр¬
жевальском Чехов писал, что у людей типа Пржевальского их
упорное стремление к раз намеченной цели не могут остановить
никакие искушения личного счастья. Здесь служение науке
и человечеству достаточно резко разводится с личным счасть¬
ем. А в письме М. А. Членову в 1901 г. вскоре после окончания
пьесы, Чехов утверждал: «Работать для науки и общих идей —
это-то и есть личное счастье. Не в “этом”, а “это”» (П., X, 54).
В «Трех сестрах» Чехов использует «Божественную Коме¬
дию» для создания в своем произведении картины мира, в кото¬
рой жизнь предстает как «ад», как жизнь-страдание.
Но почему Чехов вновь обратился к уже использованной им
в рассказе «В ссылке» символике «страны мертвых»? На наш
взгляд, это объясняется обстоятельствами его личной жизни.
Ялту, в которой Чехов вынужденно жил во время создания
«Трех сестер», писатель называл «теплой Сибирью», он ощу¬
щал себя в ней живущим в ссылке. Но далеко не один Чехов из-
за болезни был приговорен к «теплой ссылке», со всех концов
России в Ялту ехали больные туберкулезом, в судьбе которых
Чехов принимал деятельное участие. Многие из этих больных
в Ялте и умирали. Поэтому в Ялте Чехов должен был чувство¬
вать себя живущим не только в ссылке, но и посреди если не «го¬
рода мертвых», то города умирающих — это уж наверняка.
Е. А. ИЛЮШИН
Данте в судьбах и поэзии декабризма
Историко-литературный сюжет, включая в него эпизод
из русско-немецких связей, интересным образом связан с име¬
нем Данте. Декабристы Рылеев и Бестужев-Марлинский, пер¬
вый посмертно, а второй при жизни, стали героями поэмы
А. Шамиссо* «Изгнанники», которая написана терцинами
и тем самым «подключена» к дантовской традиции. Но прежде
чем перейти к этому и к некоторым сопутствующим моментам,
коснемся вопроса о декабристской дантеане в целом.
Свой вклад в нее, помимо названных, внесли Катенин,
Ф. Глинка, Кюхельбекер и др. Сверх того, Данте «заставил» так
или иначе вспомнить о себе исследователей, писавших о Ба-
тенькове**,Ф. Глинке***, Бестужеве-Марлинском****.Стользамет-
ное присутствие великого флорентийца в духовном мире дека¬
бризма вполне органично для эпохи русского романтизма: ведь
именно романтики по-настоящему возвеличили творца «Бо¬
жественной Комедии», всемерно способствовали созданию его
культа.
Упомянем хотя бы несколько фактов, относящихся к дан¬
ной теме. Катенин — переводчик трех песней «Ада» и отрывка
«Уголин», он же писал о Данте в «Размышлениях и разборах».
Значительная часть поэмы Кюхельбекера «Давид» написана
«дантовскими» терцинами, а в одном из его стихотворений есть
* Chamissos Werke. Stuttgart, 1892.
** Илюшин А. А. Поэзия декабриста Г. С. Батенькова. M., 1978.
*** Серков С. Р. Поэма Ф. Глинки «Ад» // Дантовские чтения. М., 1985.
С. 120-132.
**** Азадовский М. К. Страницы истории декабризма. Иркутск, 1991. T. 1.
С. 161.
Данте в судьбах и поэзии декабризма
407
реминисценция из XVII песни «Рая»: «Суров и горек черствый
хлеб изгнанья». У Глинки в монументальной поэме «Таинствен¬
ная капля» есть яркие зарисовки преисподней, отчетливо пе¬
рекликающиеся с дантовым «Адом». Сибирь в восприятии дека¬
бристов, познавших тяготы каторги, — citta dolente. Тюремные
мотивы (эпизод Уголино вкупе с «Шильонским узником» Бай¬
рона) ассоциируются с тюремной лирикой декабризма.
Таков бегло намеченный фон, на котором вырисовывается
сюжет, наиболее нас занимающий. Собственно, он начинает¬
ся с эпиграфа, предпосланного рылеевской поэме «Войнаров-
ский» — слова Франчески из V песни «Ада»:
...Nessum maggior dolore
Che ricordarsi del tempo felice
Nella mizeria...
T. e. «нет большего горя, чем вспоминать о счастливом вре¬
мени в несчастье». Уместность такого эпиграфа в некотором от¬
ношении весьма сомнительна. Вопреки ему, главный герой поэ¬
мы находит в воспоминаниях о счастливом прошлом не скорбь,
а утешение:
О, незабвенное мгновенье!
Воспоминанье о тебе.
Назло враждующей судьбе,
И здесь страдальцу упоенье!
И не только это. Похоронивший свою жену герой говорит со¬
беседнику:
О странник! Память о подруге
Страдальцу бодрость в душу льет;
Он равнодушней смерти ждет...
Однако слово сказано, и оно по-своему еще отзовется в даль¬
нейшем: может быть, во многом благодаря данному эпиграфу
рылеевская поэма в свое время войдет в немецкоязычный дан-
товский контекст. В русской же поэзии тоже наметится лю¬
бопытное соответствие, побуждающее по-особому взглянуть
408
E. A. ИЛЮШИН
на этот эпиграф. У Пушкина в «Полтаве» есть явственная поле¬
мика с «Войнаровским» (спор с покойным Рылеевым о том, как
подобает оценивать личность Мазепы), т. е. эти две поэмы нахо¬
дятся в своеобразном сцеплении одна с другой. Катенин писал,
что на автора «Полтавы» благотворно повлияли некоторые по¬
эты — начиная с Данте. А в самом деле, есть ли в пушкинской
поэме какие бы то ни было дантовские отзвуки? По крайней
мере один есть:
И дева падает на ложе.
Как хладный падает мертвец.
Это реминисценция знаменитого дантовского стиха «E caddi,
come corpo morto cade» («И я упал, как тело мертвое падает»).
И в итальянском и в русском тексте глагол «падать» повторя¬
ется дважды в пределах одной фразы: некто «...падает... как ...
падает мертвец». У Данте же данный стих завершает V песнь
«Ада»: ту самую, из которой взят эпиграф к «Войнаровскому»!
Под эпиграфом — дружеское стихотворное посвящение по¬
эмы А. А. Бестужеву, который назван «Аполлоновым строгим
сыном» (в то время как сам Рылеев — «не Поэт, а Гражданин»).
И по заслугам! Бестужев много сделал и еще сделает для поэмы.
Пока он автор прозаического «Жизнеописания Войнаровского»
(вместе с «Жизнеописанием Мазепы», которое написал Корни-
лович, оно явилось предисловием к поэме в издании 1825 г.).
Всю оставшуюся жизнь Бестужев был духовно неразлучен
с «Войнаровским». По крайней мере, через десять лет после пу¬
бликации рылеевской поэмы, незадолго до своей гибели, напи¬
сал стихотворение «Забудь, забудь», в котором имеются следу¬
ющие слова:
Запомни сладость первой встречи,
И негой думы полный взор,
И ум чарующие речи...
Так поэт обращается к своему сердцу: пусть оно запомнит ка¬
кой-то счастливый и невозвратимый момент. Эти стихи восхо¬
дят к следующим строкам из «Войнаровского»: «Я помню сла¬
дость первой встречи, //Я помню ласковые речи //И полный
Данте в судьбах и поэзии декабризма
409
состраданья взор». Интересно, что указанная реминисценция
несколько противоречит контексту всего стихотворения. Сквоз¬
ной мотив стихотворения— «забудь, забудь». И вдруг— «за¬
помни»! Получается нарушение логики, не сходятся концы
с концами. Эхо рылеевских стихов прозвучало там, где, судя
по контексту, оно не должно было прозвучать.
Эту странность с оппозицией «забудь» — «запомни» легче
понять, если обратить внимание на уже указывавшееся смыс¬
ловое противоречие в «Войнаровском», где слова дантовского
эпиграфа опровергаются словами героя о воспоминании — упо¬
ении, вслед за которыми идет «Я помню сладость первой встре¬
чи». Получается, что Бестужев спорит сам с собой точно так же,
как Войнаровский «спорил» с Франческой.
Это одно из многих проявлений того уникального поэтиче¬
ского симбиоза, о котором можно говорить, имея в виду поис¬
тине удивительную нерасторжимость Рылеева и Бестужева.
Последний «мыслил» не только своими, но и рылеевскими «об¬
разами», неоднократно реминисцировал стихи старшего друга
в своих собственных (наверное, не мог не помнить о их былом
соавторстве в работе над агитационными песнями для солдат).
Во всем этом решающую роль сыграла поэма «Войнаровский»,
хотя это и не единственный фактор единения двух декабристов.
В 1825 г. Бестужев еще не мог подозревать, что «Войнаров¬
ский» не просто отличная поэма, но и нечто такое, что фатально
войдет в его дальнейшую жизнь. Написанное им предисловие
выдержано в спокойном и даже суховатом тоне, без характерных
для него выразительных оборотов речи, цветистых метафор, ка¬
ламбуров и т. д.; не отчужденно, но и не очень увлеченно: так
пишут ученые-историки (то же самое можно сказать о другом
предисловии — Корниловича). Войнаровский, по мнению его
биографа Бестужева, «принадлежит к числу любопытнейших
лиц прошлого века» — и только. Заинтересованно-личное на¬
чало отсутствует. Но со временем все изменится, и А. Бестужев
станет своего рода «двойником» А. Войнаровского, события
жизни поэта-декабриста станут своеобразным повторением
судьбы Войнаровского, повторением сюжета поэмы Рылеева.
Вот эти совпадения по пунктам: 1) Старший друг вовлекает
младшего в антиправительственный заговор, посягая на вер¬
ховную государственную власть — на самого царя. 2) Неудача.
410
E. A. ИЛЮШИН
Старший гибнет. 3) Младшего ссылают в далекий Якутск. 4)
В Якутске он знакомится с ученым-немцем, путешествующим
по Сибири, и рассказывает ему историю своей жизни, в частно¬
сти об этом заговоре и о его последствиях. 5) Немец, вернувшись
впоследствии из сибирской глуши в цивилизованный мир, по¬
ведает современникам о судьбе своего якутского знакомца.
Все эти позиции в равной мере приложимы к героям поэмы —
Мазепе, Войнаровскому, Миллеру, с одной стороны, и к самому
Рылееву, Бестужеву, доктору Эрману (немецкому ученому, ко¬
торый совершил кругосветное путешествие и в Якутске познако¬
мился и подружился со ссыльным декабристом Бестужевым) —
с другой. Действительно, старший Рылеев приобщил к заговору
младшего Бестужева, как в свое время Мазепа— Войнаров-
ского; Мазепа-Рылеев погиб, Войнаровский-Бестужев сослан
в Якутск, где и рассказывает свою историю соответственно Мил¬
леру и Эрману. Эрман поведает современникам о Бестужеве, как
некогда Миллер рассказал о Войнаровском (он свидетельство¬
вал, что «видел его в Якутске... одичавшего и почти забывшего
иностранные языки и светское обхождение»: так написано в со¬
ставленном Бестужевым «Жизнеописании Войнаровского».
В Якутске Бестужев осознает связь со своим историческим
и литературным двойником-предшественником. Он ищет его мо¬
гилу, интересуется, не сохранилось ли о нем местных преданий.
Припоминает текст посвященной ему поэмы, которая теперь со¬
относится с его собственными впечатлениями от Якутска, Лены:
Видал ли ты, когда весной.
Освобожденная из плена
В брегах крутых несется Лена?
Теперь на такой вопрос можно дать положительный ответ.
И Бестужев описывает ленское половодье. Кстати, вопрос «ви¬
дал ли ты? » процитирован еще в доякутском «Андрее, князе Пе¬
реяславском», изобилующем отзвуками из «Войнаровского»:
Видал ли ты, как черный дым
По чистом пламени крутится?
Так властолюбие таится
Под сим намереньем святым.
Данте в судьбах и поэзии декабризма
411
Поэт-декабрист и доктор Эрман мечтают о водном путеше¬
ствии вниз по Лене к Ледовитому океану, что отражено во вто¬
рой части стихотворения Бестужева «Сон».
В этой психологической атмосфере биография Бестужева ста¬
новится словно бы инсценировкой поэмы Рылеева. Она осозна¬
ется как некое великое пророчество, в ней запрограммирована
жизнь того, кому она посвящена и кто написал к ней предисло¬
вие. Впрочем, «Войнаровский» мог осознаваться как пророче¬
ство не только Бестужевым, но и теми декабристами-каторжни¬
ками, к которым приехали жены, поскольку к Войнаровскому
в Якутск, согласно поэме, приехала жена. С неженатым Бесту¬
жевым такого произойти не могло. И все же имеется больше
оснований считать его, а не кого-то другого alter ego Войнаров-
ского, имея в виду отмеченные выше разительные совпадения
и соответствия. Ранний вариант названия рылеевской поэмы —
«Ссыльный». И Бестужев был именно ссыльным, а не каторж¬
ником, как и Войнаровский.
Доктор Эрман, вернувшись в Германию, не только сохранил
память о знаменательной встрече в Якутске, но и рассказал
о Рылееве и Бестужеве писателю Шамиссо, который под влия¬
нием этого рассказа написал поэму «Изгнанники», состоящую
из двух частей. Первая часть — это вольный сокращенный пере¬
вод «Войнаровского», вторая, представляющая для нас интерес,
называется «Бестужев». В ней имеют место все те же аналогии:
Мазепа — Рылеев, Войнаровский — Бестужев, Миллер — Эр¬
ман. «Изгнанники» были опубликованы в Германии еще при
жизни Бестужева, но остались неизвестными ни ему, ни вообще
русскому читателю. На поэму обратили внимание лишь в 20-е
годы XX в. (см. статью М. К. Азадовского «Поэма Шамиссо о де¬
кабристе А. Бестужеве»*). Таким образом, сравнение Бестужева
с Войнаровским имело место в сознании его современников —
немцев, хотя данная поэма и не стала известна ее герою.
На основании всего сказанного можно сделать вывод о том,
что в жизни и творчестве Бестужева его связь с Рылеевым (и ли¬
тературная, и биографическая) сыграла наиболее значитель¬
ную роль.
Теперь что касается Шамиссо, автора поэмы «Изгнанники».
Ее новейший русскоязычный перевод (подготовленный авто¬
* Там же. С. 153-166.
412
E. A. ИЛЮШИН
ром статьи), адекватно воспроизводит не только содержание,
но и формально-версификационные особенности оригинала*.
Во второй части поэмы, героем которой является Бестужев,
описывается первая встреча отважного охотника (ссыльного
Бестужева) с молодым ученым-чужеземцем (Эрманом), кото¬
рый неожиданно услышал очаровавшую его песню незнакомца:
«Небесный гром возмездия да грянет,
Грех, истребленный божьим гневом грозным,
Юдоль земную впредь да не поганит! »
Так пел в Якутске при свеченьи звездном,
В глухой ночи, охотник удалой,
И страсть звенела в воздухе морозном.
То слышал чужеземец молодой.
Вдаль увлеченный волею науки,
И он певцу задал вопрос прямой:
«Кто ты, чьи эту ночь волнуют звуки?»
«Кто ты, спросивший? Эта песнь — моя,
И с нею мне не предречешь разлуки».
«Лишь потому тебя окликнул я,
Что эта песнь мой чуткий слух пленила,
И тем не думал отвратить тебя».
Шамиссо написал свою поэму строфой Данте — терциной,
что призвано сообщить тексту особую торжественность. Дан-
товские ассоциации здесь тем более уместны, так как и Рыле¬
ев предпослал «Войнаровскому» эпиграф из Данте, да и самый
образ Сибири — страны изгнания — в духе той романтической
эпохи связывался с представлениями о дантовом Аде. Далее на¬
чинается пространный монолог Бестужева:
«Так здравствуй же, прости, коль уязвила
Тебя моя недружеская речь
Тем, что гордыню ссыльного явила.
Войди в мой дом, будь гостем, я развлечь
Готов тебя, открыв исповедально
* В настоящее время находится в портфеле редакции сб. «Рождественские
чтения», отв. редактор которого А. П. Богданов любезно предоставил нам
право предварительной публикации данного текста.
Данте в судьбах и поэзии декабризма
413
Все, что захочешь в памяти сберечь.
В пустыне этой мертвой и печальной
Пою всю ночь, как вольный соловей.
Мечтатель и отверженец опальный.
Свободный голос слышится звучней,
Коль в нем жива несломленная сила, —
И я таков же с песнею моей.
Земля и небо, вечные светила
Нам будто говорят, кружась над нами.
Что нас не успокоит и могила.
Взгляни наверх: сейчас мы под Весами,
Они стремятся к горней вышине,
Но канут вглубь за теми вон холмами.
И я очнулся в мрачной глубине,
И в свой черед я должен ввысь подняться,
Так снится мне, и не в напрасном сне.
День будет — люди в этом убедятся;
Весы увидишь: из двух чаш одну
Потянет вверх, другой дано склоняться.
Сыграл я в кости на свою страну
И, проиграв, судьбиною жестокой
С высот низвергнут и пошел ко дну.
Так я Бестужев, и молвой широкой
Рылеева сообщником зовусь,
Что песнью лебединою высокой
О Войнаровском наш почтил союз,
Воспев святую вольность, прозревая
Свой рок и то, о чем поведать тщусь.
Звенит та песнь, потомкам возвещая
О том, кто казни предан был суровой, —
Меня ж в Якутск умчала доля злая...
Твой Войнаровский помнит твое слово,
О мой Мазепа, и его хранит
В сокровищнице сердца, все живого.
Ты ж, новый Миллер, здесь, и не забыт
Тобой да будет случай нашей встречи,
Чей тайный смысл теперь тебе открыт.
На родину вернувшись издалече.
Внуши певцу страдальца воскресить
414
E. A. ИЛЮШИН
В свободной песне, роковой предтече
Суда, который не замедлит быть.
Небесного возмездия — его же
Убийцам от себя не отвратить».
Закончен монолог Бестужева, и в его заключительных стро¬
ках как бы возникает новый персонаж — сам Шамиссо, т. е. тот
певец, которому вернувшийся на роду Эрман внушит воспеть
Рылеева и предречь возмездие его убийцам. Завершается поэма
картиной северного сияния, вспыхнувшего при последних сло¬
вах Бестужева:
Бестужев смолк, и тут, с пожаром схоже,
В полночном небе свет зажегся яркий,
И прочертились своды и подножье
Блистательной, великолепной арки,
И сноп лучей взвился неудержимо
Над горизонтом, многоцветно-жаркий.
То чистый бушевал огонь без дыма,
И звезды пламенея трепетали.
Но вдруг померкло все неизъяснимо...
И оба, глядя в темноту, молчали.
Итак, Бестужев стал героем романтической поэмы, очень со¬
звучной его собственным переживаниям, но не узнал об этом,
хотя поэма и была опубликована при его жизни.
А. н. николюкин
Данте и русская эмиграция
Для русской эмиграции Данте был прообразом изгнанниче¬
ства. Одним из первых в эмиграции о нем писал H. М. Минский
в статье «От Данте к Блоку»*, которая в следующем году была
выпущена отдельным изданием. Так русское зарубежье отмеча¬
ло 600-летие смерти Данте.
Выступление Минского обращено к личностному началу
в творчестве итальянского поэта, самообожествлению автора,
что в средние века могло сойти за ересь. «Может показаться не¬
понятным, — пишет Минский, — каким образом Данте осуще¬
ствил свое обожествление перед лицом церкви и всего католиче¬
ского мира, не будучи обвинен в ереси и предан костру. Вопрос
о ереси Данте часто поднимался в литературе... Той же ереси,
которою он из первых был одержим, — сознание своей абсолют¬
ной личности — в то время еще не было названия. Данте спас¬
ло то, что он познал свою божественность, не мудрствуя, не че¬
рез рассудок и рефлексию, а, как мы уже сказали, в наивном
и целостном порыве всей своей пламенной натуры. К тому же
тут огромную роль сыграла магия слова. Комедия от начала
до конца является сплошным славословием и превознесением
Данте, но его славословят другие, а он сам смиренно внимает
им, как бы сокрушенный своим величием. Чуть вступив в пер¬
вый круг ада, он встречает Гомера, Овидия, Горация, Лукиана,
которые принимают его в свой круг шестым, — считая Верги¬
лия. Он смущен такой неожиданной честью — быть при жизни
признанным равным Гомеру. И это смущение не притворное,
а глубоко искреннее. Данте в самом Деле подавлен своей боже-
* Современные записки. Париж. 1921. № 7.
416
А. Н. НИКОЛЮКИН
ственностыо. От Гомера же он узнает, что до него один только
раз Некто уже спустился в ад. Новое сопоставление себя с Хри¬
стом, но сделанное не им, а другим»*.
Продолжая развивать свою мысль о самообожествлении
Данте, Минский утверждает, что Беатриче — это сам Данте, его
мечта и любовь, его просветленная душа, и что не возлюблен¬
ная Данте садится у престола Святой Троицы, а «самовенчан-
ный дух поэта приобщается к Божеству»**. Вместе с тем Мин¬
ский рассматривает дантовский смысл любви к женщине среди
группы флорентийских поэтов конца ХШ в., известной под на¬
званием «Новый сладостный стиль» («Дольче стиль нуово»),
которых он именует «Верными любви»: «до Данте или, что все
равно, до кружка флорентийских поэтов «Верных любви», кото¬
рые, забросив латынь, стали рифмовать на volgare <народный
язык> и которых Данте является самым гениальным предста¬
вителем, обожествление любимой женщины было неведомо
людям. Раньше христианства это чувство вообще не могло воз¬
никнуть. Для того, чтобы человек мог обожествлять любимого
человека, нужно было, чтобы произошел контакт между чело¬
веком и Богом, а этот контакт произошел лишь в Вифлееме Иу¬
дейском. Евреи хотя и знали чувство религиозного блаженства
и трепета, но для них человек и Бог находились в параллельных
плоскостях, никогда не прикасавшихся. Отсюда запрет «не со¬
твори себе кумира», а ведь обожествленная женщина и есть жи¬
вой кумир. Красота изгнана из религиозного ощущения, и вме¬
сте с красотой бескорыстное горение любви. У евреев личность
растворена в народе, и цель любви — «роды». В Песне Песней
воспевается любовь-обладание, а не любовь-святыня. У Данте
и намека нет на цвет глаз или волос Беатриче, на форму ее шеи
или груди. Слова — те же прикосновения, а святыня — непри¬
косновенна. Но зато Песня Песней дала символизацию любви,
и ею широко пользовались средние века, понимая под Возлю¬
бленным — Христа, а под Суламифью — церковь или душу ве¬
рующего»***.
Особое внимание Минского привлекает вопрос о современ¬
ном прочтении и восприятии «Божественной комедии». В од¬
* Там же. С. 194.
** Там же. С. 195.
к** Там же. С. 197.
Данте и русская эмиграция
417
ном из своих писем Данте объяснял, что Комедия — произведе¬
ние нравоучительное, цель которого — отпугивать людей от зла
и привлекать их к добру. Итальянские критики ценят в Коме¬
дии прежде всего чистейший источник итальянского языка, ибо
«Данте сам был главным творцом того dolce stil nuovo, на кото¬
ром написана поэма и который он подслушал у женщин просто¬
народья, как наш Пушкин — у своей няни. Сверх того они ценят
в Комедии энциклопедию ранней итальянской культуры — ге¬
ографии, астрономии, философии, теологии. Они почитают
Данте как первого историка Италии (Вико), как великого граж¬
данина, пламенного патриота, предвозвестника итальянского
единства»*.
Однако всем этим, считает Минский, Комедия едва ли могла
увлечь людей нашего времени так, как она увлекала и зажига¬
ла современников Данте. Комедия не тронула бы нас не только
потому, что мы больше не боимся ада, но главным образом пото¬
му, что нам невыносимо зрелище пыток, сам пафос мести. «Мы
с восторгом прочли бы несколько песен, как раз те, в которых
Данте не казнит, а жалеет, — рассказ Франчески, Уголино, Пье¬
ра де Винь, — и прошли бы мимо раскаленных гробниц, озер
с кипящей смолой и рогатых чертей с вилами. Как энциклопе¬
дия всех наук и как политический памфлет Комедия вообще на¬
ходится вне поэзии, а как произведение поэтического вымысла
она тоже не вполне удовлетворила бы нас, потому что яркие кра¬
ски ада, по мере восхождения в Чистилище, бледнеют, а в Раю
переходят в блистательное однообразие. Даже воображение
Данте оказалось бессильным рисовать десять восходящих сту¬
пеней блаженства. Если же все-таки Комедия остается и для нас
произведением вечно юным, если она близка нашей душе не ме¬
нее, чем была современникам Данте, и даже, быть может, ближе
и более понятна, то это потому что она не только урок морали,
не только сокровищница знаний, не только игра воображения,
а еще мистерия обожествленной личности или, вернее, мисте¬
рии самообожествления. Личность поставлена в Комедии таким
острым ребром, что не заметить ее было нельзя. Данте не только
дерзнул поместить свое Я в центре Комедии, но сделал себя ее
героем, так что один из критиков (Гоцци) вполне верно заметил,
что если Вергилий назвал свою поэму по имени героя «Энеи¬
* Там же. С. 190.
418
А. Н. НИКОЛЮКИН
дой», то Божественная Комедия может быть названа «Дантеи-
дой». Точно так же и французский исследователь Род находит,
что Данте «сделал открытие человеческого Я», а историк Ренес¬
санса Буркардт пишет: «Данте, первый исследовавший глуби¬
ны своего Я, одним этим провел раздельную черту между сред¬
ними веками и новой историей». Все это верно, но все это лишь
намек на правду, которая и ярче, и ближе нам»*.
В середине жизненного пути (Nel mezzo del cammin) в 35-лет¬
нем возрасте, на вершине физической и умственной силы,
Данте, внезапно увлеченный политическим вихрем, очутил¬
ся изгнанником, нищим, одиноким, обесчещенным, осужден¬
ным в случае возвращения в Флоренцию на сожжение живьем.
Минский сопоставляет положение Данте и Александра Бло¬
ка: «Новая, молодая жизнь, начавшаяся, как у Данте, изжита
в других условиях. И вот опять совпадение, как будто случай¬
ное, как будто внутренне необходимое. Nel mezzo del cammin, —
по середине жизненной дороги, в тридцать пять лет, Блок, как
и Данте, очутился «в темном лесу», у входа в Ад, но не вымыш¬
ленный, а действительный, в ад русской Революции. И что по¬
разительно, Блок вступает в ад с тем же чувством, как Данте —
с сознанием необходимости и справедливости совершающейся
мести. У Блока двое вожатых — Виргилий, т. е. неумолимый
римский закон суда и возмездия, и преображенная Прекрас¬
ная Дама, обожествленная Россия. Любовь Блока к России та¬
кая же «непомерная», «непостижимая», какой была его любовь
к Деве-Купине...» Почему грабят в любезных сердцу барских
усадьбах? Потому что там насиловали и пороли девок: не у того
барина, так у соседа». Большевикам Блок не сочувствовал...
На большевиков он смотрит так, как Данте смотрел на Цербера,
хвостатого Миноса и Вельзевула: обычная адская челядь. Блок
не задавался вопросом, не сами ли Миносы и Вельзевулы разбу¬
дили и, во всяком случае раздули народную месть? По его мне¬
нию, революцию делали не они, а те молчаливые с загадочной
усмешкой, те двенадцать, шедшие державным шагом, из кото¬
рых один мимоходом убил распутную Катьку, т. е. дворянскую
интеллигенцию... Смерть настигла Блока в аду. Но проследив
весь путь его жизни, можно быть уверенным, что если бы он
выбрался из ада, он не остался бы с нами а поднялся бы в свой
* Там же. С. 191.
Данте и русская эмиграция
419
рай, в рай отречения, созерцания, туда, куда ушел Алеша Кара¬
мазов, Александр Добролюбов, где в мечтах жил Соловьев. Тут
уже полное расхождение между Данте и Блоком между Западом
и Востоком, между обожествленной личностью и обожествлен¬
ным отречением от личности»*.
Судьба Данте постоянно привлекала внимание писателей
и критиков русского зарубежья. В очерке «О Данте» Юлия Са¬
зонова-Слонимская обращается к книге Джиованни Папини
«Живой Данте» (1933), выпущенной французским издатель¬
ством Грассе во французском переводе. Итальянский писатель,
известный у нас по переводу его книги «Конченный человек»
(1912, рус. пер. 1923), считал, что только поэт-флорентинец
(как он сам) может понять поэта-флорентинца Данте, и потому
полагает себя единственно призванным вызвать к жизни «жи¬
вого Данте». Возражая Папини с его узко-националистическим
видением Данте, Ю. Сазонова пишет: «Девятнадцатый век стре¬
мился к созданию «мировой» поэзии, — великие люди должны
были становиться общечеловеческими. Наше время снова за¬
гоняет человека в его первобытный долмен расы, класса, эпо¬
хи, — Данте должен остаться человеком своего города, может
быть, даже своего квартала, — поэтом города, который изгнал
его, осудил на смерть и до конца его жизни не признал его вели¬
чия... Изгнавшая его Флоренция стала теперь «городом Данте».
Потомки тех, кто презрительно улыбался при его проходе, те¬
перь стали чтить его имя. Лавры, о которых он мог только меч¬
тать при жизни, теперь густым лесом заслоняют путь к нему»**.
Русские писатели-эмигранты, говоря о судьбе Данте, провиде¬
ли свою собственную посмертную судьбу.
К памяти Данте обращался поэт и критик Юрий Мандель¬
штам, автор этюда о Данте в сборнике его статей «Искатели»
(Шанхай, 1938). В статье «Земная любовь Данте» Мандельштам
говорил об образе Беатриче: «Своей возлюбленной воздвиг он
действительно такой памятник, какого не имела и, может быть,
никогда не будет иметь ни одна женщина» ***.
В 1939 в Брюсселе в двух томах вышел исторический роман
Д. С. Мережковского «Данте» — центральное произведение рус¬
* Там же. С. 206-207.
** Последние новости. Париж. 1934.10 марта.
*** Возрождение. Париж. 1934. 12 янв.
420
А. Н. НИКОЛЮКИН
ского зарубежья, посвященное великому итальянцу*. Том пер¬
вый — «Жизнь Данте» — печатался в «Русских записках» (1937,
№ 2; 1938, № 3). Мережковский писал книгу в Италии, вблизи
Флоренции в 1936-1937, хотел посвятить ее Муссолини, полу¬
чил согласие дуче, но не мог сразу опубликовать ее из — за трак¬
товки некоторых религиозных вопросов. Перевод на итальян¬
ский язык вышел в Болонье в 1938. Закончив роман о Данте в мае
1937, Мережковский летом 1937 написал по нему сценарий для
кинофильма (исключив из текста некоторые рискованные места,
например сцену «Данте среди проституток» и др.), послал его
в Голливуд, но получил отказ «фабрики грез». Русский текст сце¬
нария «Данте» Опубликован Темирой Пахмусс (США) в 1991 г.
В мировой литературе нового времени Данте — первый по¬
эт-эмигрант, и русская эмиграция хорошо это помнила, видя
в нем своего пращура. «Покаянная рубаха», которая была ему
предложена в 1316 как условие возвращения во Флоренцию,
была им с гордостью отвергнута. Главная опора для человека —
родная земля, говорит Мережковский и сравнивает изгнанни¬
чество Данте с русским изгнанничеством и его муками после
революции: «Одна из тягчайших мук изгнания — чувство, по¬
добное тому, какое испытал бы человек, висящий на веревке,
полуудавленный, который хотел бы, но не мог удавиться совсем,
и только бесконечно задыхался бы. Нечто подобное испытывал,
должно быть, и Данте в первые дни изгнания, в страшных снах,
или даже наяву, что еще страшнее: как будто висел в пустоте,
между небом и землей, на той самой веревке св. Франциска,
на которую так крепко надеялся, что она его спасет и со дна адо¬
ва вытащит. «Вот как спасла!» — думал, может быть, с горькой
усмешкой; не знал, что нельзя ему было иначе спастись: нужно
было висеть именно так, между небом и землей и на этой самой
веревке, чтобы увидеть небо и землю, как следует — самому спа¬
стись и спасти других той Священной Поэмой...» (I. С. 137). Гла¬
ва «Данте-изгнанник» вся написана на двойном прочтении —
горестной судьбы Данте и тех русских людей, для которых стало
высшей мукой «вспоминать счастливые времена в несчастии».
Уже в первой фразе этой главы читаем: ««По миру пошли они,
Далее цитаты даются по этому изданию, с указанием тома и страницы.
См. также: Мережковский Д. С. Собр. соч. М.: Республика, 2000. Т. 4;
Данте. Наполеон.
Данте и русская эмиграция
421
стеная, одни — сюда, а другие — туда» — вспоминает летопи¬
сец Дино Компаньи об участии флорентийских изгнанников,
Белых» (Белых гвельфов, среди которых был и Данте).
В эмиграции Мережковский понял и в книге о Данте запе¬
чатлел, что изгнание — страшная, гнусная болезнь, подобная
проказе. От изгнанников пахнет бедностью, несчастьем, уни¬
жением. Как здоровые бегут от прокаженных, так счастливые,
имеющие родину, бегут от несчастных изгнанников. «Родина
для человека, как тело для души.
Сколько бы тяжелобольной ни ненавидел и ни проклинал
тела своего, как терзающего орудия пытки, избавиться от него,
пока он жив он не может... «Сколько бы я ни ненавидел ее, она
моя, ия — ее», — это должен был чувствовать Данте, прокли¬
ная и ненавидя Флоренцию» (I. С. 144-145). И чем больше поэт
ненавидит отчизну, тем больше любит, ибо вечная мука изгна¬
ния — это извращенная любовь-ненависть изгнанников к ро¬
дине, проклятых детей — к проклявшей их матери: «О бедная,
бедная моя отчизна! Какая жалость терзает мне сердце каждый
раз, как я читаю или пишу о делах правления! » (I. С. 146).
Цель «Комедии» («Божественной» ее стали называть после
смерти Данте) заключается, по словам ее автора, в том, чтобы
«вывести человека из состояния несчастного, в этой жизни (зем¬
ной), и привести его к состоянию блаженному» (П. С. 17). Однако,
считает Мережковский, судя по тому, что происходит в нынеш¬
нем мире, главной своей цели — изменить души людей и судьбы
мира — Данте не достиг: «Созерцатель без действия, Колумб без
Америки, Лютер без Реформации, Карл Маркс без революции, он
и после смерти такой же, как при жизни, вечный изгнанник, ни¬
щий, одинокий, отверженный и презренный всеми человек вне за¬
кона, трижды приговоренный к смерти» (I. С. 11). Мережковский
пишет, что Данте — «еретик неосужденный». Его Страшный суд
над церковью, полагает писатель, несомненен: «Кто в самом деле
усомнится, что если бы Петр увидел, что происходило в Церкви
за тринадцать веков до времени Данте и в последующие века, он
покраснел бы от стыда и сказал бы то, что говорит у Данте:
“Какого славного начала //
Какой позорнейший конец!”»
(II. С. 110).
422
А. Н. НИКОЛЮКИН
«Божественная комедия» построена на символике цифры три
как воплощении мира. Число два символизирует, по Мережков¬
скому, войну. Ибо два врага: богатые и бедные — в экономике;
два народа — свой и чужой — в политике; два начала, плоть
и дух — в этике. Между Двумя — война бесконечная. Чтобы
окончилась война, считает Мережковский, нужно, чтобы Два
соединились в Третьем: два класса — в народе, два народа —
во всемирности, две этики — в святости. Когда два начала сое¬
диняются и примиряются в третьем, то они уже Одно — в Трех
и Три — в Одном. Если правящее миром число — Два, то мир
есть то, что он есть сейчас: бесконечная война; а если Три, то мир
станет в конце койцов миром. И отсюда конечный вывод о дог¬
мате Троицы, который всегда открывался в созерцании, и толь¬
ко у Данте он открывается для действия. Цель его выражается
тремя словами, понятными всегда для всех и везде: Мир, Хлеб,
Свобода. Хлеб — от Отца. Мир — от Сына. Свобода — от Духа.
Еще в своей первой лекции в Париже 16 декабря 1920 «Больше¬
визм, Европа и Россия» Мережковский говорил о тройном обма¬
не большевистских лозунгов, использовавших эти вечные тезы:
«Мир, хлеб, свобода». Однако на деле они обернулись в Совде¬
пии «войной, голодом и рабством». В романе о Данте, мечтая
о «будущей свободной России», Мережковский вновь вернулся
к этой теме, которой и завершает свою книгу.
Сравнивая Данте с Гомером, Шекспиром и Гёте, Мережков¬
ский отмечает, что эти трое — созерцательны, «центробежны»,
идут от себя к миру, тогда как Данте «центростремителен» —
идет от мира к себе и к Богу. Творчество Данте, как и вся его
жизнь, есть нечто по степени напряженности единственное
в мире. «Более напряженного, чем Данте, я не знаю ничего», —
приводит Мережковский слова Томаса Карлейля (IL С. 53).
Это напряжение определяет не только стиль, но и жанр фило¬
софского романа Мережковского. Для Данте это напряжение
началось в девять лет, когда он влюбился в девочку Беатриче.
Эта любовь и воздвигла все здание «Комедии», определила ее
философию, образность и символику. Любовь предначертала
потаенный смысл «Комедии», который с тех пор разгадывают
комментаторы.
О «явлении Новой Церкви» Данте слышал в юные годы
от учеников и последователей монаха Иоахима Флорского.
Данте и русская эмиграция
423
Утверждая новую Церковь в Третьем Царстве Духа, Данте вы¬
ступает против римской церкви изнутри, тогда как Лютер три
века спустя выступил против нее только извне. Пророческое
дыхание Дантовой «Комедии» идет от Иохима Флорского, ко¬
торый учит: «Дни Римской Церкви сочтены: новая Вселенская
Церковь воздвигнута будет на развалинах старой Церкви Пе¬
тра» (II. С. 114). За семь веков до нас, пишет Мережковский,
Данте увидел надвигающийся ужас Последней Войны, ад, по¬
дымающийся из-под земли, подобно гигантскому взрыву. «Зав¬
тра начнется вторая всемирная война, в которой накопленные
человечеством за десять тысячелетий так называемой «куль¬
туры», «цивилизации» сокровища погибнут бессмысленно, —
и отвечать будет некому, жалеть — не о чем, потому что все
они — только бывший и будущий прах» (П. С. 35).
Современники не восприняли по-настоящему роман Мереж¬
ковского, вышедший в канун второй мировой войны. Рецензент
последнего номера журнала «Русские записки», обозначенный
инициалами Я.Л., назвал книгу «тенденциозной апологией»,
которая «даже не для всех верующих обязательна» *.
Посмертно была опубликована поэма 3. Гиппиус «Послед¬
ний круг (И новый Дант в аду)» **, в которой Данте предстает как
современный нам человек. Дантовская образность присутству¬
ет в романе Н. А. Оцупа «Беатриче в аду» (Париж, 1939).
Образ Данте неизбывен в мире русской эмиграции. Г. Адамо¬
вич писал в книге «Одиночество и свобода» (1955): «Данте, «Бо¬
жественная комедия»... Воспоминания эти столь подавляюще
величественны, что остается как будто только умолкнуть. В са¬
мом деле, если вдохновеннейшая в мировой литературе поэма
могла возникнуть в изгнании, что же вздыхать тем, кто ни при
каких условиях ничего даже отдаленно схожего с ней создать
не могли бы!... Между бегством Данте из одного итальянского
города в другой с сохранением того же жизненного уклада, с уве¬
ренностью, что политическое преследование не связано ни с ка¬
кими коренными, окончательными переменами и изменения¬
ми, в те времена и не мыслимыми... между всем этим и тем, что
произошло с нами, знака равенства ставить никак нельзя. Мы
стоим на берегу океана, в котором исчез материк, — и есть, ве¬
* Русские записки. Париж. 1939. № 20/21. С. 204.
** Возрождение. 1968. № 198.
424
А. Н. НИКОЛЮКИН
роятно, у всех эмигрантов чувство... что если бы даже домой мы
еще и вернулись, то прежнего своего «дома» не найдем, и при¬
шлось бы нам по-новому ко всему присматриваться и многому
переучиваться » *.
В 1965 русские эмигранты отмечали 700-летие рождения
Данте. В октябре этого года вышел номер журнала «Возрожде¬
ние», посвященный Данте. Философ, богослов и литературовед
H. С. Арсеньев в статье «Преображение красоты и любви в твор¬
честве Данте» писал: «Огромное художественное совершенство
и духовная высота и мощь встают перед нами из творений Дан¬
те. Вдохновенность, проникновение взором в глубины жизни,
и это — в необычайном совершенстве, богатстве и многообразии
художественного выражения... Необычная широта поэтическо¬
го диапазона Данте в «Божественной Комедии» поражает: тут
и трогательно-элегические тона, и слова захватывающей тоски
и грусти или страсти, и целые сцены или история целой жизни,
втиснутые в две-три строки как бы силою творческого, магиче¬
ского резца. И стоны отчаяния, и скрежет зубов, и сцены стра¬
даний и ужаса просветленной природы, и мистический подъем,
и сияние Божественной Красоты в преображенной твари, и ра¬
дость, и восстанавливающая и очищающая сила преображенной
любви, и — мимолетное — ощущение непосредственной близо¬
сти Божества, невыразимой, перед которой все замолкает, ибо
это — та Божественная Реальность, перед которой все слова,
образы и мысли лишь слабая тень, жалкое ничто» **. Витиевато,
однако, было словоплетение иных зарубежных философов.
В том же номере журнала выступил и Борис Зайцев, пытав¬
шийся прозой перевести дантовский «Ад». Изгнание Данте вос¬
принималось Зайцевым как часть его собственной судьбы (так
и назвал свою статью: «Данте. Судьба»): «Великий поэт стал
собратом нам, невеликим, по изгнанию. «Данте патрон всех
изгнанников», — сказал в книге о нем Мережковский. Это так.
Можно добавить лишь, что он оказался первым эмигрантом хри¬
стианской Европы (эмигрантом прославленным)»***. В декабре
1301 дикою горною тропой, мимо каких-нибудь пастухов при
стаде коз и овец, вышел Данте из родной Флоренции. А в котом¬
* Адамович Г. Одиночество и свобода. СПб., 1993. С. 12.
** Возрождение. 1965. № 166. С. 12.
'** Там же. С. 8:
Данте и русская эмиграция
425
ке за плечами, кроме хлеба, сыра да вина во фляге, находились,
уже некоторые песни «Ада», написанные еще во Флоренции.
В эмиграции он продолжал свою «Комедию». «Была мину¬
та в ранней полосе изгнанничества, когда казалось ему — вот-
вот вернется во Флоренцию. Вечная ошибка изгнанных, пола¬
гающихся на “иностранное вмешательство”»*. Б. Зайцев, всю
жизнь проживший с Данте, заключает: «Литература о Данте
безмерна. Даже общей Дантовской библиографии к началу на¬
шего века не существовало (были только по отдельным стра¬
нам). Но есть подробнейшие словари к Данте, Дантовская эн¬
циклопедия. В Америке, Англии, Германии, Италии, Франции
существуют Общества Данте. И началось все это с того, что ни¬
щий странник с котомкою за плечами пробирался горною тро¬
пинкой подальше от родного города. Но в котомке этой лежали
первые песни “Ада”» **. Еще задолго до того в статье «Данте и его
поэма» Зайцев писал: «Жизнь Данте была полна волнений, го¬
речи, неудач, «Божественную Комедию» в его дни почти не зна¬
ли. Тем грандиознее посмертная слава этого задумчивого и уе¬
диненного скитальца, вознесшая его на вершины человечества
и осиявшая сказочным величием. Ныне изображается он всегда
в лавровом венце. Иногда орел сопутствует ему, — вещий сим¬
вол. Как полубог, отошел он в страну легенды»***.
Эмигрант первой волны И. Н. Голенищев-Кутузов, вернув¬
шийся в 1955 на родину, выпустил книгу «Творчество Данте
и мировая культура» (М., 1971), но это уже другой сюжет.
* Там же. С. 9.
** Тамже. С. 11.
'** Современные записки. 1929. № 39. С. 229.
€4^
М. И. ШАПИР
Данте и Тёркин «на том свете»
(О судьбах русского бурлеска в XX веке)
В русской литературе с высокой дантовской традицией из¬
давна уживалась ее бурлескная перелицовка. Самый яркий
и значительный пример — Гоголь. Что трехчастный замы¬
сел «Мертвых душ» соотнесен с тремя кантиками «Комедии»
(«Ад» — «Чистилище» — «Рай»), вслед за П. А. Вяземским
повторяли многие, но никто, кажется, не заметил, что «поэма»
Гоголя — ироикомическая: «(...) один из священнодействую¬
щих (...) прислужился нашим приятелям, как некогда Вирги-
лий прислужился Данту, и провел их в комнату присутствия,
где стояли одни только широкие кресла, и в них перед столом
за зерцалом и двумя толстыми книгами сидел один, как солн¬
це, председатель. В этом месте новый Виргилий почувствовал
такое благоговение, что никак не осмелился занести туда ногу
и поворотил назад»*— будто вожатый Данта, исчезнувший
в преддверии Рая (Purg.XXX, 49-51)**. Безымянный чиновник
и Чичиков в роли Вергилия и Данта ничем не лучше, скажем,
ямщика Елисея и начальницы женского исправительного дома,
которые в поэме В. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх»
(1771) уподобляются Энею и Дидоне***.
* Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. [M.; Л.], 1951. T. VI;. Мертвые души. С. 144.
См.: Илюшин А. А. Реминисценции из «Божественной Комедии» в рус¬
ской литературе XIX века//Дантовские чтения 1968. М., 1968. С. 153.
Несколько подробнее см.: Шапир М, И. Барков и Державин (Из истории
русского бурлеска) // Пушкин А. С, Тень Баркова: Тексты. Комментарии.
Экскурсы. М.» 2002. С. 440 и др.
Данте и Тёркин «на том свете»
427
В истории русских перелицовок «Комедии»«поэма» Гого¬
ля-явление самое крупное, но далеко не единственное. Так,
предшественником Гоголя был Пушкин, который в 3-й главе
«Онегина» (XXII, 9-10) и в одном из примечаний к роману па¬
родировал надпись на вратах Ада*. Наверное, фривольная пуш¬
кинская шутка привела бы в негодование Сальери: <...>Мне
не смешно, когда фигляр презренный // Пародией бесчестит
Алигьери («Моцарт и Сальери», сцена 1; 1830). Однако Пуш¬
кин — сродни Моцарту — готов был смеяться и «фиглярство¬
вать»: в 1832 г. он написал «полупародическое«подражание
Данту »<...> где —всясоль пародии в соединении слов и фраз
«неравно высоких»**. Это прием, характерный для раннего рус¬
ского бурлеска (церковнославянизмы в нем соседствуют с самым
грубым просторечием***): И сгоря пернул он — Я взоры потупил
(...) Я, нос себе зажав, отворотил лицо. // Но мудрый вождь
тащил меня все дале, далее... >( «И дале мы пошли — и страх
обнял меня...», 1832)**** *****. В беловом автографе первый из проци¬
тированных стихов Пушкин оставил незачеркнутым; это позво¬
лило М. А. Цявловскому заключить, что обсценный вариант
строки «представляет собою окончательную редакцию, а редак¬
ция: «Тут звучно лопнул он — я взоры потупил» <,> приписан¬
ная на полях, является вынужденной цензурными соображени¬
ями» ****** Скореевсего, оборот, нарушающий благопристойность,
был навеян Пушкину тем эпизодом «Ада», где Данте описывает
кривляния бесов: <...>Edelliaveadelculfattotrombetta= <...>И
он сделал из задницы тру бу (Inî. XXI, 139). Трудно поэтому
не согласиться с характеристикой пушкинских терцин, которую
почти 150 лет назад дал H. Н. Страхов: «Трубо-чувственные об¬
* См.: Пильщиков И. А. Пушкин и Петрарка (из комментариев к «Евгению
Онегину») //Philologica. 1999/2000. T. 6, № 14/16. С. 21-22, 28-29,
примеч. 27-29 (с обширной библиографией).
** Тынянов Ю. Архаисты и Пушкин //. Пушкин в мировой литературе:,
Сб. ст. Л., 1926. — с.260.
*** См.: Шапир М. И. Указ.соч. С. 435 и далее; ср.: Шапир М. И. [Рец.
на кн.]: Успенский Б. А: Краткий очерк истории русского литературного
языка (XI-XIXbb.). М.,1994 Ц Philologica. 1997. Т. 4, №8/10. С. 368
(подпись М.Ш.).
**** Пушкин. Поли. собр. соч. [М.; Л.], 1949. T. 3: Стихотворения. 1826-1836;
Сказки. [Кн.] 2. С. 881; 1948. T. 3. [Кн.] 1. С. 282.
***** Цявловскии М. А. Комментарии: Реконструкция текста и примеч.
И. А. Пилыцикова и М. И. Шапира // Пушкин А. С. Тень Баркова... С. 229.
428
М. И. 1ПАПИР
разы и краски Данта схвачены вполнеи пересмеяны, также как
пересмеяна и наивная торжественность речи»*.
Из писателей XX в., преломлявших традицию Данте в го¬
голевском ключе, прежде всего должен быть назван А. Твар¬
довский. Еще в 1966 г. об «элементах бурлеска» в его поэме
«Тёркин на том свете» (1954-1963) бросил вскользь замечание
А. П. Квятковский**. Вроде бы тема «Твардовский и Данте»
лежит, что называется, на поверхности, но даже в недавней
монографии, посвященной создателю Тёркина, нет ни сло¬
ва от дантовских мотивах у Твардовского и об их пародийном
переосмыслении***. Между тем к сопоставлению своей поэмы
с «LaDivinaComniedia» читателей подталкивал сам Твардов¬
ский. Он вложил в уста воображаемого редактора такие сло¬
ва, обращенные к автору полукрамольного (по советским мер¬
кам) «Тёркина на том свете» :
Задурил, кичась талантом, —
Да всему же есть предел, —
Новым, видите ли, Дантом
Объявиться захотел**** *****.
Примечательно, что, отвечая на идеологическую критику,
Твардовский мотивировал инфернальную топику своей поэмы
совершенно по-гоголевски: «(...) в этой поэме-сказке речь идет,
конечно же, не о павших, а о живых с мертвой душой (...)»*****.
Страхов H. Н. Заметки о Пушкине // Складчина: Лит.сб., сост. из тр.
рус. литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской Губернии.
СПб., 1874. С. 576; ср.: [Страхов H. Н.] Бедность нашей литературы:
(Продолжение) // Отеч. зап. 1867. T. CLXXV. X» 12. Кн. 1. С. 185-186;
Шимкевич К. Пушкин и Некрасов // Пушкин в мировой литературе:
Сб. ст. Л., 1926. С. 333-337; Розанов М. Пушкин и Данте // Пушкин и его
современники. Л., 1928. Вып. XXXVII. С. 36-40; Голенищев-Кутузов
H. Н. Данте и мировая культура. М., 1971. С. 458; Благой Д.Д. Ilgran’
padre: (Пушкин и Данте) // Дантовские чтения 1973. М., 1973. С. 62;
а также: Асоян А. А. Данте и русская литература. Свердловск, 1989. С. 59.
** См.: Квятковский А. П. Поэтический словарь. М., 1966. С. 67.
Ср. : Гришунин А. Л. ТворчествоТвардовского: В помощь преподавателям,
старшеклассникам и абитуриентам. М.,1998. С. 59-61 и др.
**** Твардовский А. Т. Собр. соч.: В 6 т. М., 1978. Т. 3. С. 343. Далее в скобках
после цитат из «Тёркина на том свете» указывается только номер страницы
по этому изданию.
***** Там же. М., 1983. Т. 6. С. 213 (из письма И. В. Павлову от 5.XI1963).
Данте и Тёркин «на том свете»
429
Псевдодиалектическое скрещение живого и мертвого лейтмоти¬
вом происходит через поэму. Ограничусь единственным приме¬
ром:
Дальше — в жесткой обороне
Очертил запретный круг
Кандидат потусторонних
Или доктор прахнаук.
В предуказанном порядке
Книжки в дело введены,
В них закладками цитатки
Для него застолблены.
Вперемежку их из книжек
На живую нитку нижет,
И с нее свисают вниз
Мертвых тысячи страниц... (с. 354).
Покойник, имеющий ученую степень, действует, точно фи¬
лософ Хома Брут (персонаж «Вия»); он использует «цитатки»
из классиков марксизма-ленинизма как молитвы и заклина¬
ния — для оберега: «В страхе очертил он около себя круг. С уси¬
лием начал читать молитвы и произносить заклинания; кото¬
рым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм
и нечистых духов» *.
Скрещение живого и мертвого достигает апофеоза в образе
Верховного Главнокомандующего, который на том свете управ¬
ляет Особым отделом, своей «вечной мерзлотой» сильно смахи¬
вающим на ледяную яму посредине Ада, в которую вмерз Лю¬
цифер:
— Да, но сам-то он живой?
— И живой.
Отчасти.
Для живых родной отец.
И закон, и знамя,
Он и с нами, как мертвец, —
Сними он и с нами.
Устроитель всех судеб,
* Гоголь Н. В. Указ.соч. [М.; Л.], 1937. T. II: Миргород. С. 208.
430
М. И. ШАПИР
Тою же порою
Он в Кремле при жизни склеп
Сам себе устроил.
Невдомек еще тебе,
Что живыми правит,
Но давно уж сам себе
Памятники ставит... (с. 361-362).
Образ мертвой души, низвергаемой в ад при жизни тела,
Твардовский позаимствовал у великого флорентийца. В послед¬
нем круге Ада, в Толомее, где страждут коварные предатели,
нарушившие закон гостеприимства, Данте видит тени несколь¬
ких грешников, чья земная плоть тем временем «ест, пьет, спит
и носит платья» :
(...) Я встретил одного из вас, который
Душой в Коците погружен давно,
А телом здесь обманывает взоры.
(«Ад», XXXIII, 155-157)*
Оксюморонный замысел «Тёркина на том свете»— живой
в царстве мертвых— требовал адекватных изобразительных
средств: соединения «высокого» с «низким» и игры на стили¬
стических противоречиях**. В наибольшей мере задаче поэта от¬
вечал бурлеск, позволявший представить «коммунистический
рай» в образах Дантова Ада (ср. «В круге первом» Солженицы¬
на и аналогичную метафорику у других летописцев ГУЛАГа).
Твардовский перенимает, зачастую пародийно снижая, многие
детали «Божественной Комедии», ее сюжетные мотивы, эле¬
менты композиции и системы персонажей. Не последнюю функ¬
цию в механизме «снижения» выполняют стиль и стих. С одной
стороны, по сравнению с большинством переводчиков Данте,
которые стилистически «выравнивали» итальянский ориги¬
Здесь и далее «Божественная Комедия» цитируется, как правило, в сти¬
хотворном переводе М. Л. Лозинского (1939-1945). За свою работу пере¬
водчик удостоился Сталинской премии I степени (1946).
" В поэме есть и оксюмороны в узком смысле слова: И в своем строю ле¬
жачем // Им предстал сплошной грядой// Тот Отдел, что обозначен //
Был армейскою звездой (с. 350).
Данте и Тёркин «на том свете»
431
нал*, Твардовский гораздочаще использует лексику, фразеоло¬
гию, синтаксические конструкции, относящиеся к «нижним»
регистрам языка (к просторечию, разговорной и канцелярской
речи), а в качестве одной из микротем в поэме фигурирует ма¬
терная брань:
— Без печати нам с тобой
Знато-перезнато,
Что в бою — на то он бой —
Лишних слов не надо;
Что вступают там в права
И бывают кстати
Больше прочих те слова,
Что не для печати... (с. 361)
С другой стороны, вместо ll-сложных дантовских терцин,
которые по-русски обычно передаются 5-стопным ямбом, Твар¬
довский прибегает к «бойким» 4-стопным и 3-стопным хореям
вольной рифмовки. В среднем стих укорачивается почти в пол¬
тора раза и, как это свойственно более короткому стиху, легче
принимает комическую семантику**.
Чтобы почувствовать, как меняется «тема» в зависимости
от стилистической и версификационной аранжировки, доста¬
* Ср.: «В сущности Данте не остановился в своей поэме перед смешени¬
ем всех стилей» (Голенищев-Кутузов И,H.«Божественная Комедия»
// Данте Алигьери.Божественная комедия / Пер. М. Лозинского; Изд.
подгот. И. Н. Голенищев-Кутузов. М., 1968. С. 468; Голенищев Куту¬
зов И, Н. Данте и мировая культура. С. 250,295). О проблеме стилисти¬
ческой адекватности переводов см.: Акимова М. «Сумрачные знаки» или
«чернь письмен»? (О новом переводе «Божественной Комедии») // Книж-
ноеобозр. 1999.13 апр. № 15. С. 16; Пильщиков И. «Отдайте почесть луч¬
шему поэту...» // Рус.мысль. 1999. 8-14 апр. № 4264. С. 15.
** Твардовский эксплуатирует одну из семантических окрасок эпического
4-стопного хорея — его связь с жанром стихотворной сказки: Проходите
без опаски // За порог открытой сказки <...> (с. 344); И за той мину¬
той шаткой II Нам из сказки в быль пора (с. 375); И такой сюжет для
сказки IIЯ избрал не потому<...>; <...> Слажу с этой, так со всякой //
Сказкой слажу я иной (с. 378). Главным в ряду жанровых образцов для
Твардовского был, разумеется, «Конек-Горбунок» (см.: Гришунин А. Л.
«Василий Тёркин» А. Твардовского // Твардовский А. Василий Тёркин:
Кн. про бойца/ Изд. подгот. А. Л. Гришунин. М., 1986. С. 463-465).
432
М. И. ШАПИР
точно сравнить начало «Божественной Комедии» с началом
«Тёркина на том свете» :
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу <... >
поэма Твардовского тоже начинается с указания на возраст
героя, который в расцвете лет и, как потом выясняется, заживо
очутился на том свете:
Тридцати неполных лет —
Любо ли не любо —
Прибыл Тёркин
На тот свет,
А на этом
Убыл (с. 325).
А вот как Твардовский пародирует напутствие, начертанное
над входом в преисподнюю: Lascialeognesperanza, voich*intrate
= Оставьте всякую надежду, входящие(1т&.111, 9). Ср.:
Стрелка «Вход».
А «Выход»?
Нет.
Ясно и понятно:
Значит, пламенный привет, —
Путь закрыт обратный (с. 328).
На том свете Тёркину повстречался погибший фронтовой
друг; он берет на себя роль Вергилия, знакомя «новичка» с то¬
пографией загробного мира. Так же, как герои Данте, оба почти
все время на ногах. Тёркин никак не может обрести не только
обещанного «вечного покоя» — ему нет и пристанища для ко¬
роткого отдыха: Сбился с ног, в костях ломота, // Где-нибудь
пристать охота (с. 344); Дай хоть где-нибудь присядем — //
Ноги в валенках поют (с. 346). Этот же мотив находимв «Бо¬
жественной Комедии»: Пока дойдешь, не раз, да и не два// По¬
чувствуешь, что и присесть охота («Чистилище»IV, 98-99).
Наконец, Вергилий объявляет ученику: (...) Пора наметить
Данте и Тёркин «на том свете»
433
место для привала («Чистилище»VII, 45). Тёркин с другом
тоже находят такое место — на задворках, где «порожней тарой-
»«были свалены на слом» гробы: Размещайся хоть на дневку,
//А не то что на привал (с. 346).
Из рассказов товарища Тёркин узнаёт, что существует
не один загробный мир, а два:
— Ты-то мог не знать — заглазно.
Есть тот свет,
Где мы с тобой,
И, конечно, буржуазный
Тоже есть, само собой (с. 347).
Вожатый объясняет Тёркину, чем «наш тот свет» отличается
от буржуазного: (...) Тут ни ада нет, ни рая—// Тут — наука,
II Там — дурман (с.350). Но Твардовский недвусмысленно дает
понять, что угодил Тёркин прямиком в адское пекло: От неве-
домой жары II В горле зачерствело (с. 328); Все же, знаешь,
сильно топят, — // Вставил Тёркин, — мочи нет (с. 349).
Бывший однополчанин заверяет: Здесь ни холодно, ни жар¬
ко — II Ни полена дров, учти (с. 349). Однако Тёркина попере¬
менно бросает то в жар, то в холод:
Тёркин шапкой вытер лоб —
Сильно топят все же, —
Но от слов таких озноб
Пробежал по коже (с. 362).
По ходу дела оказывается, что советский загробный мир ор¬
ганизован подобно Дантову Аду с его «кругами» и «поясами»:
(...) Распланирован по зонам, // По отделам разнесен (с. 350).
И страдания, чтоиспытывают здесь тени мертвых, во многом
те же самые. Данте описывает, как чревоугодники, попавшие
в мир иной, мучаются от голода и жажды, разжигаемых арома¬
тами плодов и шумом ниспадающих вод:
Охоту есть и пить внушают зеву
пахучие плоды и водопад (...)
(«Чистилище», XXIII, 67-68)
434
М. И. ШАПИР
В Аду фальшивомонетчик Адамо жалуется Вергилию и его
спутнику: Я утолял все прихоти свои, // А здесь я жажду
хоть бы каплю влаги (XXX, 62-63). Тёркин на том свете тоже
не может допроситься глотка воды:
— А нельзя ль простой, природной
Где-нибудь глотнуть воды?
— Забываешь, Тёркин, где ты,
Попадаешь в ложный след:
Потому воды и нету,
Что, понятно, спросу нет (с. 349).
Погибшего бойца дразнят то «безводным душем», то «пайком
по особой норме»: (...) Обозначено в меню, // Ав натуре нету
(с. 359). Но, в отличие от персонажей «LaDivinaCommedia»,
в советской преисподней Танталовы муки терпит не обжора
и пьяница, а солдат, чьим уделом на земле была жизнь, полная
лишений: Твардовский не забывает напомнить о том, как недое¬
дал и недосыпал на войне Тёркин. Герой ропщет на свою участь,
и в этом он отчасти сродни дантовским грешникам: их горьки¬
ми жалобами наполнены многие страницы «Комедии». Однако
пожаловаться Тёркину не дают: <...>На том свете жалоб нет,
II Все у нас довольны (с. 359). Это не что иное, как превраще¬
ние ада в рай, так сказать, в приказном порядке. Как объясняет
ПиккардаДонати возлюбленному Беатриче, обитатели Рая всег¬
да довольны тем, что имеют, и не стремятся к лучшему:
Когда б мы славы восхотели вящей,
Пришлось бы нашу волю разлучить
С верховной волей, нас внизу держащей <...>
(«Рай», III, 73-75)
«Тёркин на том свете»— это пародия не только на «Inferno»и
«Paradiso», но и на «Purgatorio». КатонУтический, поставлен¬
ный стражем на пороге чистилища, говорит Вергилию о Данте:
Ступай и тростьем опояшь его
И сам ему омой лицо, стирая
Всю грязь, чтоб не осталось ничего.
Данте и Тёркин «на том свете»
435
Нельзя, глазами мглистыми взирая,
Идти навстречу первому из слуг,
Принадлежащих к светлым сонмам Рая.
(«Чистилище», I, 94-99)
Точно так же Тёркин, попав на тот свет, не может «пристать
к месту», не пройдя «общей обработки»:
— Баня?
С радостью туда,
Баня — это значит
Перво-наперво — вода.
— Нет воды горячей.
— Ясно! Тот и этот свет
В данном пункте сходны.
И холодной тоже нет?
— Нету. Душ безводный (с. 336)*.
Загробный мир, который живописует Данте, мало походит
на земной, а если соотносится с ним, то, как правило, «от про¬
тивного»: по ту сторону границы между жизнью и смертью оби¬
женный мстит обидчику— граф Уголино вгрызается в череп
архиепископа Руджери, обрекшего на голодную смерть самого
графа и его детей (Inf .XXXII, 124-XXXIII, 87). Напротив, Твар¬
довский— и в этом одно из проявлений бурлескной природы
«Тёркина на том свете»— всячески педалирует сходство между
«посю-» и «потусторонним»: Нет, брат, — все тому подобно, //
Как и в жизни — тут и там(с. 347); У живых там, скажешь, —
рай?!I—Далеко дорая(с. 368)**. Однако параллелизм между быти¬
* Эта картина приводит на память «Историю моего заключения» (1956),
в которой Н. А. Заболоцкий поведал о банях, устроенных зэкам на пере¬
сылке: «Обе эти бани были сущим испытанием для нас. Каждая из них
была похожа на преисподнюю, наполненную дико гогочущей толпой бе¬
сов и бесенят. О мытье нечего было и думать» (Заболоцкий Н. История
моего заключения // Даугава. 1988. № 3. С. 115).
** Грань между «тем» и «этим» светом Твардовский стирает, в том числе,
с помощью фразеологического каламбура. Слово мир в сочетании
с эпитетом лучший может иметь два противоположных значения: идиома
перейти в лучший мир означает попросту «умереть», но когда говорят
о лучшем из миров, то имеют в виду земное существование. Твардовский
строит фразу так, что сквозь ее прямой смысл пробиваются сразу два
436
М. И. ШАПИР
ем прижизненным и посмертным тоже мог быть подсказан Твар¬
довскому «Божественной Комедией». В XIV песни «Ада» царь
Капаней, обуянный гордыней, с невозмутимым презрением пере¬
носит выпавшие ему страдания: Каким я жил, таким и в смерти
буду! (стих 51). Ср. в поэме Твардовского (о редакторе, который
корпит над чужими статьями, выискивая в них крамолу):
Знать, в живых сидел в газете,
Дорожил большим постом.
Как привык на этом свете,
Так и мучится на том (с. 342).
Еще один важный мотив, унаследованный Твардовским:
ад не хочет принимать живых. Лодочник Харон обращается
к Данте: «<...>А ты уйди, тебе нельзя тут быть, // Живой
душе, средь мертвых!» («Ад», III. 88-89). Эту ситуацию Твар¬
довский переводит на язык спецслужб:
По тревоге розыск свой
Подняла Проверка:
Есть Опасность, что живой
Просочился сверху (с. 367).
Варьируя тему, автор «Тёркина на том свете» делает два примеча¬
тельных отступления от итальянского образца. Во-первых, у Данте
демоны Ада не хотят живого в преисподнюю пускать, а у Твардов¬
ского кромешные Органы безопасности не хотят живого выпускать:
Чтобы дело упредить.
Срочное заданье:
Ну... изъять и поместить
В зале ожиданья.
Запереть двойным замком,
Подержать негласно,
Полноценным мертвяком,
Чтобы вышел.
— Ясно (с. 367).
идиоматических значения: (...) Наш тот свет в загробном мире — //
Лучший и передовой (с. 349).
Данте и Тёркин «на том свете»
437
Во-вторых, Вергилий покровительствует Данте, защищает
его от адских сил, тогда как вожатый Тёркина оказывается их
приспешником. Он отнюдь не гнушается выступать в роли до¬
носчика, «стукача»:
— И по-дружески, любя,
Тёркин, будь уверен —
Я дурного для тебя
Делать не намерен.
Но о том, что хочешь жить,
Дружба, знаешь, дружбой,
Я обязан доложить.
— Ясно...
— ...куда нужно (с. 368).
Список пародийных перекличек между Данте и Твардовским
можно было бы продолжить. Но бурлескный характер поэме
придают не только они. Твардовский, 6 частности, пародирует
знаменитые слова Пушкина о «Божественной Комедии». Вы¬
шеупомянутый редактор «Гробгазеты» «призывает к порядку»
зарвавшегося автора, который возомнил себя «новым Дантом»:
Чтобы попусту бумагу
На авось не тратил впредь:
Не писал бы этак с маху —
Дал бы планчик просмотреть (с. 343).
Как тут не вспомнить пушкинскую характеристику: «<...>
единый план Ада есть уже плод высокого гения»?!*
Многое во «втором «Тёркине»», как нередко называл свою
поэму Твардовский, восходит к пушкинским драматическим на¬
броскам 1825 г., в которых соединились (опять же пародийно)
образы «гётевского «Фауста» и «Ада» Данте»**. Герой «Набро¬
сков... о Фаусте», повторяя путь, проложенный, Данте, живьем
спускается в ад; в провожатые ему вместо Вергилия Пушкин
дает Мефистофеля:
* Пушкин А. С. Поли. собр. соч. [М.; Л.], 1949. Т. 11: Критика
и публицистика. С. 42.
** Благой Д. Д. Указ.соч. С. 18; ср. с. 20-21.
438 М. И. ШАПИР
— Вот доктор Фауст, наш приятель —
— Живой! — Он жив, да наш давно —
Сегодня ль, завтра ль — всё равно.
Первые впечатления Фауста от владений Сатаны переклика¬
ются с первыми впечатлениями Тёркина:
— Так вот земных детей изгнанье?
Какой порядок и молчанье!
Какой огромный сводов ряд <...>.
Тёркин тоже обращает внимание на «своды» загробного мира:
Поглядит — светло, тепло,
Ходы-переходы —
Вроде станции метро,
Чуть пониже своды (с. 327).
Что же касается мотивов замогильного «порядка» и гробово¬
го «молчания», то они в поэме Твардовского возникают неод¬
нократно: А порядок, чистота — // Не приткнуть окурок (с.
327); Только нет людского шума— // Всюду вечный выходной
(с. 344); Упорядочен отменно— // Из конца пройди в конец (с.
350); <...>Вотуж гдени звука (с. 360).
Пушкинский Фауст наблюдает, как черти в аду играют в кар¬
ты со Смертью. У Твардовского вместо карт — домино; мертве¬
цы «забивают козла»:
Ах, друзья мои и братья,
Кто в живых до сей норы,
Дорогих часов не тратьте
Для загробной той игры.
Ради жизни скоротечной
Отложите тот «забой»:
Для него нам отпуск вечный
Обеспечен сам собой... (с. 352).
Бурлескный эффект достигается неожиданным соединением
просторечия («забой») с фразеологией пушкинской романтиче¬
Данте и Тёркин «на том свете»
439
ской элегии: (...) Ушла пора веселости беспечной, // Ушла навек,
и жизни скоротечной // Луч утренний бледнеет надо мной [ «Эле¬
гия» («Опять я ваш, о юные друзья!..»), 1817]; <...>И горе жизни
скоротечной, / / Иснылюбви воспоминал <...> [«Друзьям» («Вче¬
ра былдень разлуки шумной...»), 1822]*. Но не только словесные
обороты— самый ход мысли (игра в аду для препровождения веч¬
ности) был навеян Твардовскому пушкинскими стихами:
Ведь мы играем не из денег,
— А только б вечность проводить!
Отголосок этих строк из драматических «Набросков... о Фау¬
сте» звучит еще в одной сцене поэмы Твардовского, где бывалый
мертвец преподает «свеженькому»Тёркину азы политэкономии
загробного социализма:
Денег нету ни копейки,
Капиталу только счет (с. 348).
Среди отрывков из задуманной Пушкиным драмы есть на¬
писанные 4-стопным и 3-стопным хореем. Этот стих, «пародий¬
ный», как считал Д. Д. Благой, «по отношению к мерным, тор¬
жественным, кованным терцинам Данте»**, возможно, сыграл
для «Тёркина на том свете» роль дополнительного метрико-се¬
мантического прецедента. В данном отношении наиболее сим¬
птоматичен следующий из пушкинских набросков:
— Кто идет? — Солдат.
— Это что? — Парад.
— Вот обер-капрал,
Унтер-генерал.
Ср. в «Тёркине на том свете» :
И готов — хоть на парад —
Ты во всей натуре...
* Ср. также: Се вид жизни скоротечной! (V. Державин, «Потопление»,
1796); <...>Часы сей жизни скоротечной (В. Жуковский, «Вечер», 1806).
** Благой Д. Д. Указ, соч; С. 21.
440 М. И. ШАПИР
Приступай давай, солдат,
К общей процедуре (с. 337).
С пушкинским текстом Твардовского сближают не только
метр; рифма, лексика, но и общие приемы травестии: так, сре¬
ди персонажей поэмы фигурирует некий генерал-покойник,
pendant унтер-генералу у Пушкина)*.
Помимо пародирования классиков, в «Тёркине на том све¬
те» можно усмотреть свойственные русскому бурлеску элемен¬
ты автопародии. Конечно; в поэме есть прямые, рассчитанные
на узнавание цитаты из «Василия Тёркина» (1942-1945); кро¬
ме того, выработанные ранее формулы и клише используются
в качестве нейтральных «строевых»элементов, поддерживаю¬
щих ощущение преемственности между обоими «Тёркиными».
И всё же некоторые парафразы воспринимаются как пародий¬
ные или полу пародийные: Ничего. С земли не сгонят, // Даль¬
ше фронта не пошлют («Василий Тёркин», гл. «Генерал»); ср.
в «Тёркине на том свете»: Так. Боишься, что пошлют // Даль¬
ше преисподней?(с. 368). В «Василии Тёркине» Твардовский
пытается передать стремительность наступления советских во¬
йск: Шутки, что ли, сутки — город, // Двое суток — област-
ной(гл. «Про солдата-сироту»). В «Тёркине на том свете» этаже
внутренняя рифма работает, наоборот, на идею бюрократиче¬
ской медлительности: Шутки! // Сутки на том свете —//
Даже к месту не пристал(с. 356).
Материал для автопародии Твардовский черпал не только
в «Тёркине»— в его бурлескном продолжении «снижаются»
словесные мотивы и образы, известные по другим произведени¬
ям поэта: Впереди уходят вдаль, // В вечность коридоры— //
Того света магистраль, —// Кверху семафорьте. 337-338). Ср.
в поэме «За далью — даль» (1950-1960): Урал, чьей выработки
сталью// Звенит под нами магистраль. // А за Уралом — //
Зауралье, // А там своя, иная даль (гл. «За далью — даль»).
Ср. также близкую к «инфернальной», но лишенную какого бы
то ни было комизма разработку темы Сталина (прижизненное
* Ср.: «В поэме «Тёркин на том свете» А. Твардовский остается верен пуш¬
кинскому восприятию «Ада». Тема схождения живого в загробный мир
разрабатывается в «Тёркине» в пародийно-сатирическом плане, с гро-
тексно-гиперболическими образами и реалистическими прозаизмами»
(Голенищев-Кутузов И, Н. Данте и мировая культура.С. 509).
Данте и Тёркин «на том свете»
441
омертвение, разделение Души и тела, противоестественное сое¬
динение вечного и бренного):
Уже и в келье той кремлевской,
И в новом блеске древних зал
Он сам от плоти стариковской
Себя отдельно созерцал.
Уже в веках свое величье,
Что весь наш хор сулил ему,
Меж прочих дел, хотелось лично
При жизни видеть самому.
(Гл. «Так это было» *)
Высмеивая во «втором «Тёркине»» советские идеологиче¬
ские штампы, Твардовский передразнивает фразеологию офи¬
циальной пропаганды. Выражение забота о человекешт&д&е^
например, в такой контекст:
К нам приписанный навеки,
Ты не знал наверняка,
Как о мертвом человеке
Здесь забота велика (с. 362).
Сходным образом разлагаются, обнажая свою сущность,
даже «невинные» клише, такие как Отдел писем (обращаю
внимание на то, как Твардовскийиспользует стихотворный пе¬
ренос, отрывая с его помощью от главного слова почти «срос¬
шееся» с ним зависимое, которое, в свою очередь, остраннено
несогласованным определением):
Авторучкой повертел.
— Да и места нету.
Впрочем, разве что в Отдел
Писем без ответа... (с. 341)
* Впрочем, предпоследняя, «сталинская» глава поэмы «За далью— даль*
сама не лишена пародийности: (...) Что простирались эти руки// До всех
на свете главных дел —// Всех производств, // Любой науки, // МорсК^х
глубин и звездных тел<..>3десъ отчетливо слышны перепевы похвалы^1*
од Ломоносова: Тогда божественны науки// Чрез горы, реки и моря // В Р°с'
сию простирали руки, // К сему Монарху говорж...>(«0да... 1747 года»)*
442
М. И. ШАПИР
Наконец, в поэме Твардовского часто пародируются общея¬
зыковые речения: Прах от праха того света<...> (с. 342; ср.
плоть от плоти);<...>Того света комендант—// Генерал-по¬
койник (с. 328; ср. генерал-полковник) и т. п. Между прочим,
этот комендант выполняет в поэме функцию дантовского Мино-
са, — встречает новоприбывших, допрашивает их и определя¬
ет, куда поместить:
Всех прими да всех устрой —
По заслугам место (с. 329).
Ср. в «Божественной Комедии» о Миносе:
Едва душа, отпавшая от бога,
Пред ним предстанет с повестью своей,
Он, согрешенья различая строго,
Обитель Ада назначает ей,
Хвост обвивая столько раз вкруг тела,
На сколько ей спуститься ступеней.
(«Ад» V, 7-12)
Эти и многие другие «перевороты» (так сказали бы в XVIII в.)
определяют стилистическое единство «Тёркина на том свете».
Конечно, в поэме Твардовского, как подчеркивал он сам, «не
один «смех» (...) и не одна сатира, — там есть и лирика, и даже
патетические мотивы»*. Все это, однако, только сильнее сбли¬
жает пародию Твардовского с шедеврами русского бурлеска
XVIII-XIXbb. Становясь в один ряд с одами Державина, с пуш¬
кинским «романом в стихах» и гоголевской «поэмой» в прозе,
«Тёркин на том свете» очередной раз напоминает о том, на¬
сколько недооценено значение ироикомики в истории русской
классической литературы**.
Ср.: Твардовский А. Т, Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 239 (из письма М. А. Кли¬
мовской от 4. VI1966).
См.: Шапир М. И, « ...Хоть поздно, а вступленье есть» («Евгений Онегин»
и поэтика бурлеска) // Изв. РАН. Сер.лит. и яз. 1999: Т. 58, № 3. С. 3135;
Шапир М. И. Universumversus: Язык — стих — смысл в русской поэзии
XVin-ХХвеков. М., 2000; Кн. 1. С. 192-223, 241251; Шапир М. И. Бар¬
ков и Державин: (Из истории русского бурлеска). С. 397.
Е. А. ТАХО-ГОДИ
Данте и К. К. Случевский
Влияние поэзии Данте на творчество К. К. Случевского
Появившиеся в 1902-1903 гг. в журнале «Русский вестник»
два поэтических цикла К. К. Случевского «Загробные песни»
и «В том мире» были переизданы в 1968 г. в Германии Д. Чижев¬
ским под общим титулом «Забытые стихотворения». Как пред¬
ставляется, это издание в какой-то мере осуществило замыслы
самого Случевского. То, что Случевский рассматривал оба цик¬
ла как одно неразделимое целое, косвенно подтверждает днев¬
никовая запись В. Брюсова, сделанная еще в феврале 1902 г.,
то есть до появления в «Русском вестнике» первой публикации.
Брюсов пишет: «Он (Случевский. — Т. — Г.) прочел мне целую
свою новую книгу «Загробные песни», свыше ста стихотворе¬
ний»*. Речь идет именно о книге, а не о цикле или циклах, при
этом Брюсов говорит о более чем 100 стихотворениях, в то время
как в цикле «Загробные песни» их только 70, а в цикле «В том
мире» — 78. Вполне возможно, что под названием «Загробные
песни» объединялось все написанное: в письме к А. Луговому
Случевский сообщал: «Я весь в своих «Загробных песнях», их
уже 150; это целая эпопея умирания человеческого духа»**.
Нам представляется логичным рассматривать все упомя¬
нутые циклы, а также цикл «Смерть и Бессмертие», опублико¬
ванный Случевским в журнале «Новый путь» (1903) и не вклю¬
* Брюсов В Я Дневники: 1891-1910. М„ 1927. С. 118.
** ИРЛИ. — 7316 / хаШб. 14 /б.г., 10 апреля/. В то же время в Российской
национальной библиотеке сохранилась авторизованная машинопись 90-х
годов поэмы «В том мире» (РНБ. Ф. 341. Картавов П. Л. Д. 663) видимо,
первоначально это название объединяло все написанное.
444
E, A. ТАХО-ГО ДИ
ченный Чижевским в его издание, как единое целое. В таком
случае — первая часть книги «Смерть и Бессмертие» — раз¬
мышления лирического героя о смерти, его желание поскорее
оставить узы жизни («И что ни новый день, сознательней, ясней
// Стремлюсь от жизни я все дальше и сильней; // И к новой воле
я стремлюсь, в иной удел!»*, его неистребимая вера «в един¬
ственность и непреложность // Мира духовного, в правду его!»**
Вторая часть — собственно «Загробные песни» — болезнь лири¬
ческого героя, его смерть, первые впечатления, воспоминания
о земных спорах о бессмертии, новые ощущения души в загроб¬
ном мире. И третья часть — «В том мире» — загробные встречи,
раздумья о добре, зле и совести, о сущности молитвы, надежды
и веры. Поэтому в дальнейшем мы будем говорить не об отдель¬
ных циклах, а о поэтической книге «Загробные песни».
Мотивы смерти и бессмертия пронизывают все творчество
Случевского, но если в «Черноземной полосе» (80-е годы) ак¬
цент ставился на вечную возобновляемость жизни***, то в «Пес¬
нях из Уголка» (90-900-е годы) — на всеобщую необходимость
умереть. Однако вера поэта в то, что «небытие — не смерть
и не ничто!»**** лишает его страха перед потусторонним миром.
Проникающие в земную жизнь отблески и отзвуки иных выс¬
ших миров вселяют надежду в измученную душу:
И верится тогда, что можно без сомненья
И в этой жизни, здесь, хоть в блеске отраженья,
Хоть только в чаяньи — найти на краткий срок
Забвенья тихого заветный уголок*****.
Жизнь, в которой, как в паутине, бьется человек, безотрадна
и мучительна: «Уж не признать ли теплыми могилы //В срав-
неньи с жизнью в холоде и мгле? » ******Поэтомусмертьневызывает
ужаса, с ней связана мечта найти свой «уголок» в ином мире.
* Новый путь. 1903. № 5. С. 52.
** Там же. М. 54.
*** См. об этом цикле нашу статью: Тахо-Годи Е. А. Еще один пример
к теории цвета А. Ф. Лосева («Черноземная полоса» К. К. Случевского) //
А. Ф. Лосев и культура XX века. М„ 1991. С. 106-119.
**** Случевский К. К. Песни из Уголка. СПб., 1902. С. 28.
***** Случевский К. К. Стихотворения и поэмы. СПб., 1898. T. I. С. 118.
****** Случевский К. К. Стихотворения и поэмы. M; Л., 1962. С. 240.
Данте и К. К. Случевский
445
Личностное бессмертие важнее для Случевского бессмертия
творческого и, тем более, «овеществленного». И в этом отноше¬
нии любопытно сравнить стихотворение «Во сне мучительном
так долго я бродил» («Песни из Уголка») с пушкинским «Стран¬
ником», представляющим собой вольный стихотворный пере¬
вод первой главы мистической книги Д. Беньяна «Путешествие
пилигримма», сходство которой с «Божественной Комедией»
Данте отмечается уже давно*.
Трактуя во многом близкую тему— путь человека к спа¬
сению — оба поэта используют ряд сходных образов. В обоих
стихотворениях герой — мятущийся человек, блуждающий
в поисках своей далекой цели, причем истинный путь, по ко¬
торому ему следует идти, он находит не сам, — этот путь ему
открывается свыше: 1) указанием извне (у Пушкина — совет
«юноши, читающего книгу» **, у Случевского — «мне голос слы¬
шался»***) и 2) с помощью света (у Пушкина — «Я вижу некий
свет» ****, у Случевского — «Какой-тосветструилсяиздалека» *****).
И тут и там возникает противопоставление слепоты и прозре¬
ния по аналогии к антитезе: блуждание в неведении — сле¬
дование истинному пути (у Пушкина — «Я оком стал глядеть
болезненно-отверстым // Как от бельма врачом избавленный
слепец» ******, у Случевского — «Ослепли...зеницы», «Яиначепро-
зрел » *******). «Тесныеврата» уПушкина,открытаядверьизанейве-
дущие вверх ступени у Случевского — символы одного ряда —
они знаменуют порог, за которым начинается загробный мир.
То, что Пушкин обрывает свое стихотворение в момент, когда
его Странник только вступает на «спасенья верный путь»********,
то, что вход героя в небесный град, изображенный Беньяном,
никак не отразился в стихах Пушкина, не случайно. Пушкин
не из тех поэтов, кто пытается заглянуть в мир иной, — этот мир
его скорее пугает, чем привлекает. Слова Странника:
* Всеобщая история литературы / Под ред. В. Ф. Корша, А. Кирпичникова.
СПб.. 1888. T.3. С. 609.
** Пушкин А. С. ПСС: В 17 т. Т. 3. Ч. 1. С. 392.
*** Случевский К. К. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1962. С. 227.
**** Пушкин А. С. Указ. соч. С. 393.
***** Случевский К. К. Стихотворения и поэмы. М., 1962. С. 227.
****** Пушкин А. С. Указ. соч. С. 393.
******* Случевский К. К. Стихотворения и поэмы. М„ 1962. С. 227.
******** Пушкин А. С. Указ. соч. С. 393.
446
E. A. ТАХО-ГОДИ
Я осужден на смерть и позван в суд загробный —
И вот о чем крушусь: к суду я не готов,
И смерть меня страшит...*
— звучат вполне исповедально в устах автора таких строк,
как «Но не хочу, о други, умирать» и, тем более, «Напрасно
я бегу к сионским высотам».
Создавая свое стихотворение, Случевский вряд ли имел
в виду Беньяна (тем не менее примечательно, что путь его героя
в мир иной происходит во сне — эта деталь из Беньяна Пушки¬
ным была опущена). Пушкинский «Странник» Случевскому был
знаком — он слушал его в чтении Ф. М. Достоевского на вечере
уЕ. А. Штакеншнейдер**. В стихотворении Случевского условно,
конечно, можно увидеть своеобразное продолжение «Странни¬
ка» — продолжение в том смысле, что Случевский изображает
результат блужданий — момент, когда идущэд достигает своей
цели — границы двух миров, земного и загробного:
Мне голос слышался... Он говорил «Умри!
И можешь ты тогда подняться на ступени!..»
И смело я пошел... И начал замирать...
Ослепли, чуть вошел я в полный свет, зеницы,
Я иначе прозрел...***
Но если в этом стихотворении поэт еще сожалел, что «нет
пригодных струн» ****, чтобы передать все увиденное в загробном
мире, то в дальнейшем, в «Загробных песнях» он нашел подхо¬
дящие образы, чтобы воплотить свои «потусторонние» видения.
Между «Песнями из Уголка» и «Загробными песнями» мно¬
го общего. Вновь проходят в «Загробных песнях» те же мотивы
(добро и зло, память и забвение, смерть и бессмертие, мучение
совести, общения земного и загробного миров) и образы (семе¬
ни, плода, тления и др.). Возникает здесь тот же, что и в стихо¬
творении «Во сне мучительном так долго я бродил», символи¬
ческий образ некоей «двери», отделяющей живых от умерших:
* Пушкин А. С. Указ. соч. С. 393.
** Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки. М.; Л., 1934. С. 427.
'** Случевский К. К. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1962. С. 227.
к** Там же.
Данте и К, К. Случевский
447
Не незаконно то, что ясны мне казались
Пути к бессмертию! Мне дверь была видна!* (138)
Но само желание увидеть и понять «что там? за дверью?»
(138) вносит в «Загробные песни» Случевского мистицизм та¬
кой концентрации, которой не было ни в одном из его произ¬
ведений прежних лет. Стремление проследить путь человека
к бессмертию, дать описание всего пережитого им во время кон¬
чины и после нее, уже в иных сферах, требовало от Случевского
и определенного духовного опыта, и постоянного памятования
своих предшественников — тех авторов, кто, в свою очередь, пы¬
тался поведать о странствиях по загробному миру. Уже в «Пес¬
нях из Уголка» возникали ассоциации не только с пушкинским
«Странником» и через него с Д. Беньяном, но и с другим наибо¬
лее ярким изображением посещения иного мира, с «Божествен¬
ной Комедией» Данте. Но в «Песнях из Уголка» «дантовские
мотивы» использовались не при описании потусторонних обла¬
стей, а, напротив, — земной жизни с ее бесконечными страда¬
ниями:
Как волны дантовского ада
Полны страданий скорбных тел, —
Так и у нас своя картина...**
Взгляд на жизнь человека как бы сквозь призму дантовско¬
го «Ада» не был новым для Случевского. Так, в очерке о Досто¬
евском (1889) Случевский, имея в виду не загробное, а земное
существование души человека, писал, что только один Достоев¬
ский добирался до «сокровеннейших ледников и кратеров», та¬
ящихся в природе человеческой души, «в особенности в адском
величии явлений ненормальных»*** ****. Именно это направление
творчества писателя, по мысли Случевского, позволяет срав¬
нивать Достоевского и Данте: «Читатель, вступающий в «Ад»
Данте, приглашался «оставить все надежды». Читатель, прини¬
мающийся за Достоевского, идет тоже не на радости » ***** Главная
Случевский К. К. Забытые стихотворения. München, 1968. В дальнейшем
страницы указаны по этому изданию в скобках в тексте.
Случевский К. К. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1962. С. 242.
*** Случевский К. К. Достоевский. СПб., 1889. С. 34.
**** Там же. С. 42.
448
E. A. ТАХО-ГО ДИ
идея Случевского заключается в том, что Достоевский прово¬
дит своего читателя так же, как и Данте, через ад, чтобы выве¬
сти его к свету, но этот путь очищения человек должен пройти
не в ином, загробном, а в земном мире.
Несколько позже, в повести «Профессор бессмертия» (1891),
кстати сказать, целиком посвященной проблеме научного обо¬
снования вечного бытия души, Случевский вновь проводит
сравнение земных страданий с теми, которые изобразил Дан¬
те. И снова ужасы жизни превосходят самую изощренную фан¬
тазию: «Даже в описании дантовского ада мало таких картин
страждущего человечества, как те, что нашли себе место тут,
на берегу Волги»*.
Надо сказать, что имя Данте появляется на страницах про¬
изведений Случевского неоднократно, но первоначально за упо¬
минаниями великого поэта не возникало никакого второго
«идейного» плана — они носили, так сказать, «прикладной»
характер. В одном из первых сочинений Случевского — дра¬
матической сцене «Землетрясение» (конец 50-х годов), в ко¬
торой возникает Италия начала XVI в., — имя Данте — лишь
один из элементов национального колорита. Обращаясь к поэту
Алонзо, коварный и жестокий Резидент из «Землетрясения»
восклицал:
Тебя, Алонзо, мы венчать хотели!
Дант, правда, венчан не был! Он хотел
Сам увенчать себя! Но мы — не Данты...**
В стихотворении «Студенческие рифмы» творения великого
итальянца также играют роль сугубо декоративную — это одна
из деталей студенческого быта; причем само соседство Данте
с Боклем (несомненно, примета 60-х годов) как бы предвещало
ироническое переосмысление темы:
Ну вас совсем, надоевшие мне фолианты,
Тациты, Канты, Виргилии, Данты и Бокли!
Яркие мысли блистают на вас! Бриллианты!
Их не признать, не заметить над вами я мог ли?
* Случевский K. К. Сочинения: В 6 т. СПб., 1898. T. 4. С. 107.
** Случевский К. К. Сочинения: В 6 т. СПб., 1898. Т. 2. С. 328.
Данте и К. К. Случевский
449
Только довольно! Прочь сориГи, прочь aorist’ы.
Милая ждет*.
Но и в раннем периоде творчества Случевского можно най¬
ти примеры более глубокого воздействия на его поэзию дантов-
ских образов. В поэме «Три женщины», время создания которой
исследователи относят к началу 60-х годов, Данте не назван,
но зато появляется реминисценция из V песни «Ада». Герой по¬
эмы Случевского неожиданно узнает историю несчастной люб¬
ви безумной девушки встретившейся ему в дороге. Трагическая
судьба сумасшедшей вызывает в его уме воспоминания не толь¬
ко о персонажах сказок Гофмана или «Фауста» Гете, но и о вто¬
ром круге дантовского ада, где мучаются души любовников:
Для всех подобных преступлений
Есть, говорят, в аду свой круг!
Там вьются жалобные тени,
Как чуть заметные струи!
И мнут о своды и ступени
Тела воздушные свои.
В юдоли плача и рыданья
Ужасны тех теней страданья!
Но, если бы им жить начать,
Кто поручится, чтобы снова
Тень вовсе не была готова
Вернуться к прежнему опять?**
В «Явлениях русской жизни под критикою эстетики» (1866-
1867) Случевского уже вполне очевиден характерный для него
культ Италии — страны, где «хозяйничали кондотьеры, и вечно
деятельная мысль и сознание жизни проходили по всем степе¬
ням своего развития от Эццелино, Ферранте, Балиони до Дан¬
те и Макиавелли, — где появились первые люди нового време¬
ни, — где все жизнь, свет, — даже убийства и террор царствуют
во имя жизни, наслаждения жизнью, одними в ущерб других» ***.
* Там же. T. 1.С. 175.
** Случевский К. К. Сочинения: В 6 т. СПб., 1898. Т. 3. С. 123.
'** Случевский К. К. Явления русской жизни под критикою эстетики. СПб.,
1866. Ч. 1.С. 9.
450
E. A. ТАХО-ГО ДИ
Эпоха Возрождения восхищала Случевского, и Данте для
него — предвозвестник грядущих, полных великих свершений
веков Рафаэля, Микельанджело, Леонардо да Винчи*. Италия
всегда оставалась в сознании Случевского примером наиболее
гармоничного развития. В одном из рассказов, вошедших в кни¬
гу «Исторические картинки» (1894), Случевский писал, что
Италия сумела опередить многие страны Запада: «В 1300 году,
т. е., когда Европа только вступала в самое мрачное время своей
жизни, в Риме, на знаменитом юбилее**, уже присутствовали та¬
кие люди, как Данте, Боккаччо, Виллани, и последний из них,
будто в предвидении, писал уже в начале своей истории полные
значения, характерные для времени слова: «Рим — разрушает¬
ся, мойгород —Флоренция идет на творчество. ..великих дел»***.
Случевскому представлялось знаменательным то, что «еще учи¬
тель Данте (Случевский имеет в виду Брунетто Латини. — Т. —
Г. ) был составителем энциклопедии наук » ****, тогда как Франция
явила своих энциклопедистов лишь в XVIII столетии. Небыва¬
лый расцвет культуры в Италии Случевский объяснял тем фак¬
том, что «значение отдельной личности, uomo singolare, совер¬
шенно погасшее в тогдашней Европе на многие века, никогда
вполне не уничтожалось только в Италии; никогда не застывала
там свобода человека вполне в общественных, железных формах
феодализма» *****, благодаря чему самосознание человека достиг¬
ло в Италии небывалых высот. В книге «Несколько картинок
культуры и искусств разных народов» (1902) Случевский вновь
повторил, что начавшийся в Италии после 1300 г. подъем, до¬
стигнув своего апогея в XVI в., привел к «выделению единицы
из массы, не обращая внимание на происхождение, на родови¬
тость, а только вследствие таланта», что «было делом великим,
не меньшим, чем одновременное с этим освобождение совести
человека лютеровскою реформациею в Германии» ******* Вэтомни-
* Об отношении Случевского к искусству см.: Тахо-Годи Е.А., Дмитрие¬
ва М. Э. Роль искусства в формировании К. К. Случевского-художника //
Роль искусства в поэтике литературного произведения. Орджоникидзе,
1989. С. 126-139.
** Юбилей, устроенный папой Бонифацием Vili.
*** Случевский К. К. Сочинения: В 6 т. СПб., 1898. Т. 5. С. 147.
**** Тамже.
— Там же. С. 145.
****** Случевский К. К. Несколько картинок культуры и искусств разных наро¬
дов. СПб., 1902. С. 106-107.
Данте и К, К. Случевский
451
когда не умиравшем духе свободы в Италии Случевский видел
источник позднейших «исканий славы», «триумфов», «покло¬
нений гробницам великих людей» того времени, когда «Фло¬
ренция требует от Равенны прах Данте...» *.
Надо сказать, что дантовские мотивы в творчестве Случевско-
го чаще возникают параллельно с другими, например пушкин¬
скими, мотивами, хотя встречаются иногда и совершенно само¬
стоятельно, как в философской сказке «Господин Может Быть»,
в которой Случевский использовал сюжетный ход из «Боже¬
ственной Комедии». Герой сказки совершает невероятное путе¬
шествие по полной чудес неведомой стране, где живет господин
Может Быть. Все происходящее приводит его к выводу, кото¬
рый раньше, до своего странствия, он никогда бы не сделал:
«Признай, признай, что все «может быть» и всему надо «улы¬
баться в смысле общего умиротворения природы и что в этом
и заключается самая высокая философия жизни...»»**. Но для
того, чтобы привести своего героя к этому умозаключению, ав¬
тор, и он сам это подчеркивает, воспроизводит сюжетный ход
из дантовской поэмы: «Я заснул вчера вечером вполне благо¬
получно. Но вдруг совершенно неожиданно, как Данте Алиги-
ери, очутился в каком-то дремучем лесу. Почему попал я в этот
лес — не знаю, но только я находился в лесу. Какая-то удиви¬
тельная, бесконечно-лазурная река катилась по лесу...»*** Одна¬
ко дальнейшее повествование уже развивается безотноситель¬
но к творению Данте. Напротив, в стихотворении Случевского
«Листопад» нет прямого указания на Данте, но влияние Данте
и одновременно «Бесов» Пушкина более глубинно. Общее между
«Листопадом» и «Бесами» — это мотив пути и самого путника,
имеющий не конкретное, а символическое значение — стран¬
ствие человека по дороге жизни, причем декорации, в которых
происходит действие, почти совпадают: ночь, тучи (у Случев¬
ского — облака), застилающие небо буря (у Случевского — бу¬
шующие ветры) — и должны подчеркнуть, что дорога эта нелег¬
ка и сулит немало опасностей. Не менее важно и создаваемое
в обоих стихотворениях настроение безысходности, невозмож¬
ности прервать хоть на мгновение все происходящее. Пушкин
* Случевский К. К. Сочинения: В 6 т. T. 5. С. 148.
** Там же. Т. 4. С. 304.
*** Там же. С. 296.
452
E. A. ТАХО-ГО ДИ
сравнивает бесов с осенними листьями: «Закружились бесы
разны, // Будто листья в ноябре...»* У Случевского это же срав¬
нение получает новое наполнение, вырастая до целого мифа
об оживших людских страданиях — листьях:
По дороге ветер вьется,
Листья скачут вдоль дороги...
Нет, неправда! То не листья...
Это маленькие люди...
Нет, не люди, не пигмеи!
Это — бывшие страданья,
Облетевшие мученья,
И погибшие желанья...**
Человеческая жизнь превращается в дорогу бесконечных
страданий, которым никогда не будет конца. Образы, возни¬
кающие в стихотворении Случевского, близки не только пуш¬
кинским, но и дантовским: людские души, которые «как ли¬
стья сыплются в осенней мгле» («Ад» III, 112)***, которые мчатся
«туда, сюда, вниз, вверх, огромным роем» («Ад» V, 43). Поэ¬
тому точно определить, что послужило первотолчком к созда¬
нию стихотворения — «Божественная Комедия» Данте или
пушкинские «Бесы» — сложно. Однако 4-стопный хорей, не¬
которые переклички с пушкинскими стихами («Всех их вместе
ветер гонит» — у Случевского, «Сколько их? Куда их гонит? » —
у Пушкина; «Вся дорога змеем темным // Под роями их мель¬
кает» — у Случевского, «Мчатся бесы рой за роем...» — у Пуш¬
кина) — позволяют предположить, что дантовские образы
проникли в стихотворение Случевского именно благодаря пуш¬
кинским «Бесам», на которых, как известно, дантовский «Ад»,
где «Буря кружит духов зла» («Ад» V, 42), тоже оказал большое
влияние****.
В том, что в своем творчестве Случевский часто обращался
к Данте, нет ничего удивительного. «Божественная Комедия»
была Случевскому настолько хорошо знакома, что он помнил
* Пушкин А. С. Указ. соч. T. III. Ч. I. С. 227.
** Случевский K. К. Сочинения: В 6 т. СПб., 1898. T. 1. С. 254.
*** Данте дается нами в переводе М. Лозинского.
**** Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина: 1826-1830. М. 1967. С. 477.
Данте и К. К. Случевский
453
многое из нее наизусть. Об этом свидетельствует эпизод, рас¬
сказанный в книге воспоминаний П. В. Быкова, знавшего Слу¬
чевского долгие года. Мемуары Быкова в то же время прекрасно
иллюстрируют отношение Случевского к Д. Минаеву как к пе¬
реводчику «Божественной Комедии». Вот как описывает Быков
разговор, состоявшийся между Случевским и Минаевым:
«— Послушайте, Минаев, — сказал ему как-то Случев¬
ский, — как вы умудрились перевести «Божественную Коме¬
дию» Данте, когда вы не знаете языка?
— Я переводил по французскому подлиннику — вышло пре¬
красно, — ответил с пренебрежением Минаев.
— Да ведь вы и французского языка не знаете! — не унимал¬
ся Случевский. — Я помню много стихов этой вещи во француз¬
ском переводе... Вот переведите это, я вам напишу.
Минаев взял листок с написанным, повертел в руках и пре¬
зрительно сказал:
— Выберите что-нибудь получше, я сейчас приду!
Он вышел и... больше не возвращался в излюбленный литера¬
турный кабачок, где это происходило. А не далее, как дня через
два, в «Гласном суде» или в каком-то другом издании он самым
пошлым образом изругал Случевского»*.
Можно предположить, что этот диалог происходил уже после
выхода в свет минаевского перевода последней части — «Рая» —
в 1879 г., так как Случевский говорит не об отдельных частях,
а о «Божественной Комедии» в целом. Подтверждением такой
версии может быть и то, что именно в 1879 г. Минаев в «Бирже¬
вых ведомостях» (№ 10) поместил пародию на поэму Случевско¬
го «В снегах», что, вероятно, и имел в виду Быков. Рассказан¬
ный Быковым анекдот представляет интерес еще и потому, что
именно в годы редакторства Случевского в журнале «Всемир¬
ная иллюстрация» там было напечатано несколько статей о ри¬
сунках Г. Доре вообще и о его иллюстрациях к «Божественной
Комедии» Данте в частности. Две статьи (№ 15 за 1869 и № 68
за 1870) подписаны буквой С., а в третьей, последней, заключи¬
тельной (№ 164 за 1872), хотя и вовсе анонимной, говорится, что
она является продолжением первых двух, и следовательно, как
можно предположить, принадлежит перу того же автора. Есть
гипотеза, по которой статьи об искусстве за подписью С. во «Все¬
* Быков П. В. Силуэты далекого прошлого. М.; Л., 1930. С. 131.
454
E, A. ТАХО-ГО ДИ
мирной иллюстрации» в период с 1869 по 1875 г. были написаны
Случевским*. Но даже если эти заметки об иллюстрациях Доре
и не были написаны Случевским, они в определенной степени
близки ему. Во-первых, отметим, что в созданном примерно в эти
годы романе Случевского «От поцелуя к поцелую» упоминается
«роскошное издание библии с иллюстрациями Доре, раскрытое
на сцене из Всемирного потопа»**, а именно эта иллюстрация
и была воспроизведена во «Всемирной иллюстрации» вместе
со статьей о Доре. Во-вторых, как уже можно было заключить
из приводимых нами примеров, дантовский «Ад» представляет
для Случевского наибольший интерес, а другие части — «Чисти¬
лище» и «Рай» — нигде не упоминаются. Автор статьи во «Все¬
мирной иллюстрации» об иллюстрациях Доре к дантовскому
«Чистилищу» также отдает свое предпочтение первой части: «По
общему приговору и по справедливости, — пишет он, — чисти¬
лище и рай Данта слабее, водянистее Ада»***. В-третьих, и автор
статьи, и Случевский одинаково отрицательно оценивают пере¬
вод Данте, сделанный Минаевым. Анонимный автор по поводу
готовящегося издания у Вольфа «Ада» в переводе Минаева пи¬
сал: «Полезно и выгодно издавать все, что угодно писать, но при¬
касаться к Данту рукою г. Минаева, комментировать его с легко¬
стью почти военного человека и пускать наверное плохой перевод
и наверное нелепые объяснения — это смелость, подобной кото¬
рой мы не знаем... Появление перевода, подобного предстояще¬
му, с роскошными иллюстрациями Доре, неминуемо остановит
на долгие годы возможность появления другого, хорошего пере¬
вода, с другими, хорошими комментариями»****.
В начале XX в., в последний период своего творческого пути,
Случевский почти одновременно делает две попытки создания
поэмы на «загробный сюжет», и обе эти попытки ассоциируют¬
ся у него именно с «Божественной Комедией» Данте.
* Об этом см.: Мазур T. П. Случевский К. К. Основные этапы творческой
биографии. М„ 1974: Канд. дисс. С. 64-65 и нашу статью «Роль искусства
в формировании К. К. Случевского-художника».
** Случевский К. К. От поцелуя к поцелую. СПб., 1872. С. 236.
'** Всемирная иллюстрация. 1870. № 68. С. 297.
Всемирная иллюстрация. 1872. № 164. С. 126. Рецензии на перевод «Чи¬
стилища» Минаева (Всемирная иллюстрация. 1876. №415. С. 450) мы
не касаемся, так как в это время Случевский уже не был редактором жур¬
нала.
Данте и К. К. Случевский
455
Первая поэма — поэма в прозе — занимает чуть более двух
печатных страниц и не является самостоятельным произве¬
дением — она входит в «Рассказ-симфонию» Случевского. Ге¬
рой этого произведения находится на грани помешательства.
В один из кульминационных моментов, перед попыткой самоу¬
бийства, он сочиняет поэму. Нельзя не отметить то, что и в этом
случае дантовские мотивы возникают параллельно с пушкин¬
скими — тема поэмы приходит герою в голову, когда он «уча¬
ствовал на пиру во время чумы»*. Поэма эта должна была бы
поведать, по словам автора, о том, как «какая-то бедная, изму¬
ченная душа, изверившаяся в себе самой и потерявшая смысл
жизни, словом: такая же душа, как моя собственная, покончи¬
ла с собой. И вот, когда она переступила Рубикон смерти и очу¬
тилась на том свете, она умиротворения не получила»**. Даль¬
нейший сюжет поэмы — загробный бунт в аду душ самоубийц
и их новое, еще более невероятное, наказание — загробное су¬
масшествие: «Бог всех этих заговорщиков сводит с ума, и это,
видите ли, навсегда, на все бессмертие»***. Безымянный герой
«Рассказа-симфонии» уверен, «что подобная поэма, написан¬
ная красиво, могла бы иметь успех даже в наше время микробов
иэлектрическихчудес» ****. При изображении заговора он собира¬
ется ориентироваться на Мильтона («...я сделаю мильтоновское
списание заговора» *****), но и опыт дантовских описаний ада, его
жмущихся друг к другу в страхе душ, не остается забытым: не¬
умиротворенные на том свете самоубийцы «отыскивают один
другого, они стадятся — роятся, они не могут, но стадятся!»******
Свои безумные фантазии герой Случевского ставит не ниже дан-
товской поэмы: «Тут, если быть настоящим поэтом, можно бы
сделать чудесное описание неумиротворенных на том свете.
Я думаю, что этакую хорошенькую главку не отказался бы вста¬
вить в свою поэму сам Данте, если бы мысль о ней запала ему
в голову. По счастью он оставил ее для меня непочатою новин¬
* Случевский К. К. Новые повести. СПб., 1904. С. 133. См.: Тахо-Годи
Е. А. Мотивы «пира во время чумы» в творчестве Случевского // Вестник
МГУ. 1993. № 6. С. 39-45.
** Там же. С. 138.
Там же. С. 139.
Там же. С. 140.
Там же. С. 138.
'** Там же.
456
E. A. ТАХО-ГО ДИ
кою/. И все же поэма остается ненаписанной — ее автор не на¬
ходит слов, достойных передать то, каким будет загробный мир
после божественной мести: «Тут нет более измерений, нет про¬
странств, нет времени, а одно только подобие первородного хао¬
са; из прежнего хаоса предстояло возникнуть миру, а этот будет
хаос отбросов, не подлежавших ничему, ничему, никогда, ни¬
когда...* ** Мешает герою и испытываемое им чувство ужаса перед
собственным творением: «Вы, ласки детства, вы, грезы юности,
вы, чудные песни лесов и морей, вы — великие подвиги ума
и сердца человеческого, ты, пламя молитвы, ты, слеза благород¬
ности, — что вы, что вы такое, если всем вам войти в состав того
чудовищного хаоса отбросов, который получился в моей поэме
от бунта неумиротворенных на небе самоубийц, обреченных Бо¬
гом на вечное сумасшествие...»***
Автор поэмы из «Рассказа-симфонии» — не единственный
персонаж Случевского, который оказывается не в силах дать
словесную форму своим видениям загробного мира— мира,
в котором «нет более измерений, нет пространств, нет време¬
ни». То же самое происходит и с героем уже упоминавшейся
нами повести «Профессор бессмертия». Главное действующее
лицо — «профессор бессмертия» — доктор Абатулов, хотя и ис¬
ходит из совсем других теоретических посылок, но также не счи¬
тает для себя возможным описывать то, что будет происходить
с человеческой душой в загробной жизни.
Примечательно, что образ «двери», ведущей в иной мир,
о котором мы уже говорили, появился впервые в сочинениях
Случевского именно в этой повести, в рассуждениях Абатулова
о бессмертии человеческой души и невозможности обозреть мир
иной: «До смерти человека, до Дверей в загробную жизнь и ука¬
зания на них, мог я довести мое исследование, путем, не про¬
тиворечившим естествознанию, — далее идти я не могу. Дверь
в бессмертие видна, я ставлю нас перед нею, но что за нею — это
внесветоносногокругамоихчеловеческихсоображений»****. Аба¬
тулов, написавший целый трактат, подтверждающий вечность
существования души, уверен в том, что «заглянуть в судьбы
* Там же.
** Там же. С. 139.
Там же. С. 140.
'** Случевский К. К. Сочинения: В 6 т. СПб., 1898. Т. 4. С. 147.
Данте и К. К. Случевский
457
души в загробной жизни было бы со стороны человека не только
нелепостью, не меньшею чем если смотреть на звезды в микро¬
скоп, но явилось бы, при наших средствах познания и мышле¬
ния простым антропоморфизмом, низкопробным очеловечени¬
ем тех высших нам совсем неизвестных законов и форм, для
описания которых по самому существу дела, у нас, еще не умер¬
ших, не кончивших круговорота жизни, не может быть ни ли¬
ний, ни красок, на соображений, ни букв. Подобное описание
могло бы удаться, хоть сколько-нибудь, только в том случае,
если бы загробное будущее стало настоящим» *.
И хотя эти слова произносит не автор, а один из его геро¬
ев, они, несомненно, в значительной степени отражают точку
зрения самого писателя. Чтобы убедиться в этом, достаточно
вспомнить его думу «Воплощение зла», целиком посвященную
проблеме «наглядности» изображения загробных видений. «За¬
чем тут видимость, зачем тут воплощенья...»** — вопрошал Слу¬
чевский. Хотя с давних времен «Легенда древняя зло всячески
писала»***, по мнению Случевского, «Забавно прибегать к чертам
изображенья; // Зачем тут — когти, хвост, Молох, Сатанаил? » ****
Подлинную картину иных сфер, где происходит великая борьба
добра и зла, единственные слова и для ее воплощения может дать
только божественное откровение. Из всех живших на земле этого
удостоился лишь записавший Апокалипсис Иоанн Богослов, ко¬
торый «призванный писать —живописал! » *****Поэтомувседругие
опыты подобного рода не вызывают у поэта одобрения:
Но был бы человек и жалок и смешон,
Признав тот облик зла, что некогда воспели
Дант, Мильтон, Лермонтов и Гете, и Байрон!******
Эта отрицательная оценка великих предшественников за их
пристрастие к зримости и конкретности тем не менее помешала
Случевскому предпринять в свою очередь попытку еще раз прой¬
ти по той же самой дороге — взяться за старую тему посещения
Там же. С. 147-148.
Там же. T. 1. С. 42.
Там же.
Там же.
Там же. С. 43.
Там же.
***
*****
******
458
E. A. ТАХО-ГОДИ
загробного мира — в результате чего и появилась его поэтическая
«эпопея умирания человеческого духа» — «Загробные песни».
То, что «Загробные песни» Случевского — это оригинальная
попытка создания новой, собственной «Божественной Коме¬
дии» , со своими персонажами, со своей биографией героя, своей
географией загробного мира, с новой, но вполне по-дантовски
конкретной атмосферой конца XIX — начала XX в. — эпохи ве¬
личайших научных открытий (атома, электрона, радиоактивно¬
сти) и оживившихся мистических веяний (спиритизма, оккуль¬
тизма, антропософии), было почувствовано сразу ясе. Редакция
«Русского вестника» писала в заметке, предваряющей первую
подборку из «Загробных песен», о том, что Случевский настоль¬
ко сроднился со своей темой, что в его стихах «видна поэтому
необыкновенная, чисто дантовская реальность, жизненность
созерцания неведомого мира, а вместе с тем такая простота из¬
ложения, точно поэт рассказывает о виденном и испытанном,
а не о провидимом сквозь густую завесу тайны...» * Да и сам поэт
не скрывал свою ориентацию на Данте. Недаром одно из стихот¬
ворений «Загробных песен» (цикл « В том мире») посвящено
именно великому итальянцу. Антитеза «прежде» и «теперь»
делит стихотворение как бы «пополам»: первая часть — «пре¬
жде» — это сам Данте, его время, его поэма:
Поэт великий Дант, умерший Гиббелин,
когда он стал вещать и ярко так и внятно,
он был своим словам и мыслям господин,
и говорил стихом, для всех людей понятно.
Живые облики он двигал по кругам,
в знакомых всем чертах, с живыми именами,
в одеждах явственных, спадавших тут и там,
снабженных красками, движеньем, голосами,
чистилище и рай, и прочный строй небес,
и своды тяжкие печальной преисподней,
всю несомнительность свершившихся чудес,
и чуть не видимость всей мощности Господней!** (111)
* Русский вестник. 1902. № 10. С. 487.
** Это стихотворение Случевского включено как самостоятельное произве¬
дение в указатель: Данченко В. Т. Данте Алигьери: Библиографический
указатель. М., 1973. С. 139.
Данте и К. К. Случевский
459
Вторая часть — «теперь» — новая эпоха, когда скрылись
Данту вслед тяжелых шесть веков (111), когда «Окрепнул ум
людской, подвинулась наука, // сговорчивее стал упрямый
богослов...» (111). Обратившись к дантовской теме, поэт му¬
чится сомнениями, «как живописать, чего, как будто, нет //
нет в осязании и даже нет в виденьи? » (111). Он понимает, что
где-то рядом существует таинственное, «несокрушимое, вне
плотности и тленья» (111), но у него «нет пригодных слов»
(111):
Перед глазами мы не в силах провести
Живую видимость! Ей слова не хватает! (112)
В отличие от Данте современный поэт не может просто и внят¬
но толковать темное и неведомое: «Дант облики имел, черты пе¬
ред собой, // а мы, во след ему, ничто живописуем» (111-112).
При сравнении «Загробных песен» и «Божественной Коме¬
дии» первое, что несомненно отличает эти два произведения,
это то, что у Случевского в загробный мир попадает не живой
человек, как у Данте, а лишь душа героя после его мучитель¬
ной болезни и смерти. Во-вторых, в «Загробных песнях» Слу¬
чевского душа героя странствует одна, без спутников, а у Дан¬
те такой вожатый — Вергилий — был, и Данте не представлял,
что бы он делал без своего проводника: «Куда б я устремил¬
ся, одинокий? Кто путь бы мне к вершине указал?» («Чист.»
III, 5-6). У Случевского душа героя не может тотчас, попав
в мир иной, освоиться со своим теперешним бытием: «Все,
все во мне — недоуменье» (35), «Еще не знаю: кто я? где я? //
Не осмотрелся... не пойму» (35). Душа предпочитает в начале
новой, загробной жизни побыть одной — «И любо мне уеди¬
няться...» (35), «Быть одиноким мне милей // всего...» (35).
Душа героя на первых порах еще полна воспоминаний о зем¬
ном существовании — она не один раз посещает свой дом,
читает когда-то сделанные в дневнике записи и выписки pro
и contra бессмертия. «... Здесь в моем уединеньи // живой от¬
радой стал он мне» (57), — говорит герой, имея в виду этот
дневник. Хотя уже произошли первые встречи, первые путе¬
шествия по загробному миру, герой долго не может свыкнуть¬
ся со своим новым положением:
E. A. ТАХО-ГО ДИ
460
Я сам не свой! Мой дух в смятенья...
Я даже чужд моей родне...
Они к загробному привыкли;
Нужна привычка, нужен срок...
Придет, конечно... но покуда
люблю, когда я одинок. (57)
Когда «приходит срок», душа героя познает иной мир сама,
без посторонней помощи:
О! вы скажите мне: чего, чего здесь нет?!
В чем дом бессмертия иль пусть, иль неустроен?
И в этом смысле я полнейший домосед,
и в лоне вечности, со всем, что есть — освоен... (60)
Хотя герой говорит о том, что ему сродни «веков отсчитанных
понятный, ясный строй» (60) и «шумы тех пространств, где Бог
еще творит // и жизнь развертывает новые страницы» (61), по¬
нятие времени и пространства в «Загробных песнях» — не более,
чем чистая фикция. Если у Данте пребывание героя в загробном
мире четко хронометрировалось, так что можно было определить,
сколько времени он затратил на тот или иной переход или сколь¬
ко дней он провел в загробном мире, то у Случевского делать это¬
го не нужно — его герой перешел границу, за которой царствует
вечность: «Здесь нет пространств — им негде взяться, и нет вре¬
мен...» (60)*. Нет у Случевского и тех четких контуров загробного
мира, какие были у Данте, нет прежних строгих границ между
адом, чистилищем и раем. Все они как бы растворены в бесконеч¬
ности. Намек на то, к какой из областей загробного мира принад¬
лежит та или иная душа, могут дать только тьма и свет.
Мотивы тьмы и света играли немалую роль в поэтике «Бо¬
жественной Комедии» — путешествие по аду происходило
«во тьме ничем не озаренной» («Ад» IV, 151), а в чистилище
и рае — в «сиянье отражаемого света» («Чист.» XV, 23). У Слу¬
чевского «сонмы душ дурных «(93) полны скорби, «в себе пита¬
* Хотя в принципе хронологические рамки определить можно: герой умер
примерно в 1862 г. — «Яс лишком сорок лет в гробу» сообщается в пер¬
вом стихотворении, опубликованном в «Русском вестнике» в 1902 г., при
этом в стихотворении о Гоголе герой говорит: «Лет десять до меня сюда
пришел один», а Гоголь умер в 1852 г.
Данте и К. К. Случевский
461
ют грусть и страх» (93), их пугают лучи, исходящие от светлых
душ. Испытывает страх, глядя на «блуждающие тени», и герой
« Загробных песен » :
Дрожу при встречах душ туманных,
Носящих мрак в себе самих,
земной печалью обуянных
в их проявленьях неземных!
Их затуманенные взоры,
в своих движениях нескоры,
упорно смотрят на меня,
а я, сияя слабым светом
по их померкшим силуэтам,
кажусь им весь в лучаях огня. (77)
При появлении грешных душ герою кажется, что ему зано¬
во «предстоит сквозь смерть пройти» (77). Он видит среди них
«черты как бы знакомых лиц» (94), но это нисколько не осла¬
бляет того ужаса, который он испытывает, « «ощутивши // хо¬
лодный шум их верениц» (94):
Едва, едва на них я глянул,
от взглядов их стемнел мой взгляд,
и я, испуганный, отпрянул,
сам потемнел... Иль это ад? (94)
Каков же ад в изображении Случевского и где он? Ад — это
«тьма кромешная... обитель грусти злобной» (78), затерянная
в «зарослях пространств» (78). В этой части загробного мира
«задумчив и угрюм и девствен Божий дом» :
Там неприветливо! Там темень от рожденья
спокойно, молча вьет ряды безмерных гнезд;
там зла бесславного свершаются хожденья;
там безобразному предельный, крайний рост!
Там осыпаются всех вожделений струпы,
и души так грузны своею темнотой,
что распростертые, бездействуют, как трупы,
язвя одни других бесстыдной наготой!
462
E. A. ТАХО-ГОДИ
В «Божественной Комедии» души сохраняли свой преж¬
ний земной облик, так что они были не просто узнаваемы, они
были почти осязаемы — автор говорил не только о глазах, бро¬
вях, подбородках, но даже о наготе и теле душ, как, напри¬
мер, в портрете Фаринаты: «все — от чресл и выше видно тело»
(«Ад» X, 33). Загробный мир у Случевского лишен осязаемости:
Когда б хоть как-нибудь он осязаем был,
он этим мир земной, мир плоти повторил,
но этого нельзя: Бог — беспредельный ум,
в Нем бесконечность форм, предвидений и дум. (115)
Только при описании ада возникает у Случевского подоб¬
ное земное определение— «нагота». Но этим близость к дан-
товскому аду исчерпывается. Дантовские описания истязаний
и мучений тех, кто попал в ад, абсолютно чужды Случевско-
му — темные души «вольной волею живут» в делающем их ме¬
нее заметными мраке ада. Отказ Случевского от изображения
адских страданий вполне вписывается в ту, существовавшую
в России традицию неприятных вечных адских мук, которая
впоследствии нашла своего выразителя в Н. Бердяеве*, Неда¬
ром именно в «Загробных песнях» наиболее отчетливо прозву¬
чала мысль об апокатастасисе — божественном прощении духа
зла — Сатаны (98-99).
В «Божественной Комедии» загробный мир наполнен кра¬
сками, особенно «Ад»: «На зеленеющей финифти трав // Пред¬
стали взорам доблестные тени» (IV, 118-119); «В безмолвьи мы
дошли до ручейка // Бегущего из леса алым током» (XIV, Тб-
77), и звуками: дантовские души кричат от боли, плачут, всту¬
пают в диалог, сами рассказывают свои истории. В «Загробных
песнях» Случевского почти совсем нет цвета. Если и возникает
(очень редко) где-нибудь цветовой эпитет («от света красного»
(24); «темно-синяя ночь», «голубому цветку» (25); «аист розо¬
вый в лазоревых водах» (83); «белый тополь» (113)), то только
или в бредовых видениях героя во время его смертельной бо¬
лезни, или при воспоминаниях, или описаниях прошлой зем¬
ной жизни. Случевский избегает цветовых ассоциаций вполне
* Об отношении Н. Бердяева к вопросу об аде см. : Бердяев Н. Самопознание.
Париж. 1949. С. 321.
Данте и К. К, Случевский
463
сознательно и преднамеренно — цвета просто не может быть,
когда речь идет о «наших душах людских, не имеющих линий,
// форм не имеющих, красок лишенных, но ясных // в формах
без форм, в очертаниях без очертаний...» (128). Души — «не-
обрамлены» (128), но они легко узнаваемы в своих «очертаниях
без очертаний»; «Многих знаем, нигде не встречавши» (128) —
признается герой. Если в «Божественной Комедии» каждая
душа должна была сама «представиться» Данте, то у Случев¬
ского в этом нет никакой необходимости. В «Загробных песнях»
души безмолвны, но их земные судьбы зримы, они печатью
лежат на их ликах, а для читателей предстают лишь в переда¬
че рассказчика. В загробном мире Случевского царит почти аб¬
солютная тишина, он почти полностью лишен звука. «Почти»
потому, что всеобщее молчание загробного мира относительно:
«Порой здесь хоры слышатся» (66). В их музыке
...Не струны
вибрируют, не голосит металл,
а нечто лучшее! (66)
«Мелодии земли» были, как оказывается, лишь слабым пред¬
вестием «того, что зазвучит в загробной жизни...» (67). Сразу же
после смерти «пробужденный слух» героя улавливает «столь
чудный стих», что «бряцанье арф, и цитр, иль тоны струн ги¬
тарных // ничто в сравнении...» (32). Такое противопоставление
земной и небесной музыки перекликается у Случевского как
с русской традицией (М. Лермонтов, стихотворение «Ангел»),
так и с итальянской, дантовской: «Звук столь певучих труб,
что с ним в сравненье, // Земных сирен и муз не ярче звон, //
Чем рядом с первым блеском — отраженный» («Рай» XII, 7-9).
У Данте при входе в чистилище (IX, 141) и во время пути как
по чистилищу (XV, 38; XVI, 19; XXVII, 7-9, 58; XXIX, 3, 51;
XXX, 11,83; XXXIII, 1-3), так и по раю (III, 121; VII, 4; Vili, 29;
X, 145; XIV, 122; XX, 11) все время звучит пение. У Случевско¬
го все отошедшие в иной мир — «сами музыка, и каждый стал
струною // И музыкою той друг с другом говорит» (67). У всякой
души есть своя мелодия — «мы все свое звучим» (67).
Несмотря на то, что ад — это «пространств беззвучных
глушь» (78), и у темных душ есть свое звучание:
464
E. A. ТАХО-ГО ДИ
Слышны мелодии крикливых голосов...
То звуки темных сил, взывающих отвсюду
Зловещей резкостью своих полутонов...
Без них нет музыки... (67)
И тем не менее музыка в загробных сферах не становится
чем-то самодовлеющим, если так можно выразиться, эта музы¬
ка беззвучна — ее как бы поглощает вечность. Она
только в смертный час так явственно звучит,
и ясно слышится тому, кто станет духом... (33)
У Случевского музыка лишается звучания не только пото¬
му, что нет достойных средств, чтобы ее воспроизвести. Вспом¬
ним, как Пьер Дамьяно («Рай» XXI, 61-63) и Беатриче («Рай»
XXI, 5-6; XXII, 10-11) объясняли Данте, что слух смертного
не смог бы вынести ни райского пения, ни райского смеха. «За¬
гробные песни» Случевского обращены к живущим и, следова¬
тельно, для них, как и для Данте, должен быть «нем // Напев,
который в нижних кругах Рая // Звучит так сладко, несрав¬
ним ни с чем» («Рай» XXI, 58-60). В «Загробных песнях», как
и у Данте, заходит речь о смехе «в том мире». К одному из сти¬
хотворений Случевский даже берет эпиграф из 20-го псалма
Давида: «Живущий на небесах посмеется» (66). Но и смех в за¬
гробном мире как бы не слышен потому что
В словах: смотреть, идти, смеяться
былого смысла вовсе нет! (60)
В «Божественной Комедии» Данте происходит, на первый
взгляд, совершенно невозможное: в сферу, казалось бы, сугу¬
бо христианскую врывается античность с ее языческими геро¬
ями и образами не только исторического, но и мифологическо¬
го происхождения (от Гомера и Вергилия до Харона, Цербера
и проч.). Правда, и само посещение живым героем загробного
царства имело свои аналогии в античности (Одиссей, Орфей).
Случевский, вслед за Данте, совмещает античное и христиан¬
ское. В «Загробных песнях» возникают античные реминисцен¬
ции (Зевс, Феб, Немезида и др.), душа героя встречает среди
Данте и К. К. Случевский
465
мертвых и Цезаря, и Платона. Но наиболее любопытна кон¬
таминация античности и христианства в видении Страшного
Суда, когда приходится вспомнить свои грехи и душе умершего
героя:
... как факел Эвменид
Когда-то освещал утробы бездны темной,
в виденьях мне предстал ужасный, грозный вид,
вид бездны чуемой, пугающей, огромной!
В ней были все мои несчастные дела;
преступность дней былых вся в лицах проступала,
и бездна страшная тех лиц полна была,
а мощность факела насквозь их пронизала! (24)
В «Божественной Комедии» перед спускающимися в ад Дан¬
те и Вергилием являлись над огненной башней «три фурии, кро¬
вавы и бледны» («Ад» IX, 38) — эринии. Описание их «бешеной
защиты» («Ад» IX, 37) завершалось обращением к читателям;
О вы, разумные, взгляните сами,
И всякий наставленье да поймет,
Сокрытое под странными стихами!
(«Ад» IX, 61-63)
В вышедшем незадолго до появления «Загробных песен»
Случевского переводе «Божественной Комедии» Н. Голованова
(1899-1902) этому эпизоду переводчик дал такое толкование:
«Нет сомнения, что фурии обозначают угрызения преступной
совести, — тем более, что и помещены они перед входом в город,
где наказываются грешники злой воли. Медуза же, лик которой
окаменяет человека и перед которой Виргилий закрывает Данту
глаза, является олицетворением чувственного наслаждения»*.
В цитируемом нами стихотворении Случевского факел Эвме¬
нид, или эриний, что одно и то же, освещает именно адскую
бездну и именно в момент острейших угрызений совести героя,
когда он созерцает содеянное им зло. С головановским перево¬
дом «Ада» и с комментариями к нему Случевский вполне мог
* Данте Алигиери. Божественная Комедия: Ад (пер. Н. Голованова). М.,
1899. С. 667.
466
E. A. ТАХО-ГОДИ
быть знаком уже потому, что утверждение первого издания
этого перевода проходило через Ученый комитет Министерства
Народного Просвещения, членом которого в это время состоял
Случевский. Трактовка Случевского очень близка к голованов¬
ской интерпретации, тем более, что в конце стихотворения Слу¬
чевского возникает образ чудо-женщины, как бы воплощающей
в себе всю земную чувственность:
и чудо-женщина вдоль пламенной реки,
смеясь, плыла ко мне на страстное свиданье!..
И в облике ее соединял мой мозг
все лики женские, мне милые когда-то.
Вдруг берег тронулся и тает будто воск...
И я в реке... я в ней... сгинь! наше место свято! (24)
«Чудо-женщина» вызывает целый ряд ассоциаций —
от той же Медузы Горгоны до великой блудницы из «Открове¬
ния» Иоанна Богослова (творение Иоанна Богослова в поле зре¬
ния автора «Загробных песен» — см. 78-79). Причем оба эти
образа так или иначе связаны с водной стихией: Медуза — дочь
морского божества и жила около реки Океан, великая блудница
восседает на багряном звере, который впоследствии поверга¬
ется в огненное озеро (апокалиптическая блудница возникала
и у Данте — «Чист.» XXXII). Мотив погружения в воду, плава¬
ние по реке в поэтике «Божественной Комедии» занимал не по¬
следнее место: это и многочисленные реки загробного мира,
и ладья Харона, и ладья поэзии, блуждающая «в столь ярост¬
ной пучине» («Чист. » I, 3), и погружение Данте в Лету («Чист. »
XXXI), и лучезарная река («Рай» XXX). Этот мотив находит
свое выражение и в «Загробных песнях» Случевского, и его зна¬
чение также глубоко символично:
Когда на смелых крыльях мысли
дается вам осилить прах,
загробность видится яснее,
и вы в чудесном челноке
скользите смело над пучиной
по неизведанной реке. (137)
Данте и К. К. Случевский
467
То, что подразумевает Случевский под «неизведанной ре¬
кой», проясняется им же самим:
Пажити смерти, как вы широки!..
Мнится: плыву вдоль безмерной реки!
Царства, народы, как будто ладьи
вечности тихой колеблют струи. (64)
Плыть вдоль безмерной реки — радостно, но малейшее со¬
мнение в бессмертии — и «человек ваш черпает волну» (137).
В географии загробного мира у Случевского нет той карто-
графичности, которая была у Данте. Однако, отступая от точ¬
ных дантовских схем, Случевский не отказывается от них
полностью: он сохраняет основные направления маршрута
(вверх — рай, вниз — ад) и как бы пунктиром обозначает путь,
проделанный душой героя. В отличие от Данте поэт не описыва¬
ет все девять небес рая. Он говорит только о посещении Солнца
(у Данте это четвертое небо) и Сатурна (у Данте — седьмое небо),
но создает достаточно ясное представление о рае. Начало путе¬
шествия не связано у Случевского с образом сумрачного леса,
но и он находит себе место в «Загробных песнях». Вспоминая
свои былые земные духовные метания, герой сравнивает эти по¬
пытки найти истину и верный путь с помощью науки — с блу¬
жданием в лесу, полном сказочных видений:
в науке, в логике, как бы в лесах скитался;
в них тоже духи есть и много всяких фей.
Лес заколдованный! чаща! места прогалин!
Случайно бегали какие-то огни,
вдруг наступала тьма, где свет был так хрустален... (127)
Только после смерти героя становится ясно то, что единство
и нераздельность всего мира (земного и загробного) заключено
в другом — в таинственных сферах добра, совести, молитвы.
«В них вся преемственность духа людей и народов» (104). Без
этого история человечества распалась бы на множество бес¬
смысленных эпизодов, без этого риторическим остался бы во¬
прос: «Отчего же тогда эти странные встречи // путников раз¬
ных времен и различных воззрений?» (43). Для Случевского нет
468
E. A. ТАХО-ГОДИ
сомнений в том, что на этот вопрос ответ только один: «Все они
держат руля к маякам бестелесным... // Значит, стоят маяки
и круга освещают...» (43). Вся наука от истории до философии
бессмысленна после смерти. Герой в недоумении: «На что мне
летописи здесь, // Когда людей веков былых — // воочию всех
вижу их?» (65). Тени в загробном мире не безлики — со многи¬
ми из них встречается витающая в бесконечных пространствах
душа героя, многих она узнает, хотя некоторые из встречных
остаются безымянными (девочка, одинокая княгиня, врач, мяс¬
ник и др.).
В отличие от «Божественной Комедии» «Загробные пес¬
ни» лишены каких-либо политических аллюзий. У Случевско¬
го на первом плане — морально-нравственные проблемы. Это
во многом определило и галерею тех лиц, с которыми проис¬
ходят встречи в загробном мире. Примечательно, что в проти¬
воположность Данте, душа героя не сталкивается в том мире
ни с одним личным врагом. Зато в другом — изображении своих
родичей и любимых — Случевский следует дантовской тради¬
ции. Правда, Данте ограничился только одной встречей со сво¬
им прадедом («Рай» XV), в то время как возлюбленной Беатриче
отведена главная роль. Случевский, напротив, не отдает пред¬
почтения возлюбленной: В «Загробных песнях» возникает два
женских лика— первый (100) вызывает при встрече радость,
а второй (101-102) — горькие угрызения совести:
Вот, вот она несется, как виденье!
Знакомый, милый лик мне в глубь души глядит,
Весь жалость, весь любовь, весь ласка и прощенье...
И это, именно, казнит меня, казнит! (102)
Гораздо большую роль играют в «Загробных песнях» встречи
с родными героя: дедом, отцом, матерью, сыном, внуком, кон¬
чающим жизнь самоубийством.
У Случевского душа героя, как и в «Божественной Комедии»
лицезреет верховное божество, Иуду и Сатану. Верховное боже¬
ство предстает в «Загробных песнях» не в виде радужного трех-
кружия, как у Данте, но в виде озаренного «светом истины» (34)
Христа, так как для Случевского именно Христос символизиру¬
ет в первую очередь и личное бессмертие, и воскресение. Иуда
Данте и К. К. Случевский
469
у Случевского не самый страшный из грешников, каким он был
у Данте (недаром Иуда был помещен в последнем поясе послед¬
него, девятого круга ада). Иуда «полон скорбей» (90) и поэтому,
признается герой «Загробных песен»: «Легче было мне встре¬
тить Иуду!» (90), чем одинокую княгиню, которая «Злу чужда,
но добра не познав ни на час, // никому не дала благостыни»
(90).
Что касается Сатаны, то у Случевского он, если так мож¬
но выразиться, «русифицирован» — один из обликов Сатаны
в «Загробных песнях» — облик лермонтовского Демона (98-
99). И это не случайность. Загробный мир у Случевского почти
полностью проникнут русским духом. Душа героя и после смер¬
ти остается русской:
Могу я быть везде, всегда, где пожелаю...
Но я люблю тебя, родимую страну,
к тебе, к обиженному, пасмурному краю,
я, отрешенный дух, всегда всецело льну
Нет! Я люблю покой лесистого болотца
И гул размеренный бесчисленной хвои,
качанье журавля у старого колодца,
и знаменье креста при кушаньи кутьи;
мне мил негромкий звон с сосновой колокольни
и добродушный взгляд крестьянок и крестьян
и мерный стук ветрил со старой мукомольни,
и быстро, жизни вслед, взрастающий бурьян... (82-83)
Лермонтовское начало (в данном случае интонации лермон¬
товской «Родины») в «Загробных песнях» во многом способ¬
ствует этому.
Хотя Случевский и говорит о множестве народов, населя¬
ющих загробный мир, хотя его герой, кроме упомянутых уже
Цезаря и Платона, видит и самого Данте («этот, вот, Гвельф
знаменитый» — 128), и Ницше, и Шекспира с его Офели¬
ей, и Чингисхана, и многих других, но главные встречи в том
мире — это встречи с русскими царями, писателями, учеными.
Здесь предстают и Иван Грозный, и Петр Великий и Пушкин,
и Гоголь, и Лобачевский. Но ко всем этим выдающимся лич¬
470
E. A. ТАХО-ГО ДИ
ностям поэт подходит исключительно с морально-этической
меркой. Поэтому он не называет прямо их громкие имена, а об¬
ращается непосредственно к их жизни, к их поступкам, к их
внутреннему, духовному облику. В результате одни (Иван Гроз¬
ный — 85-87) — осуждены, другие (Гоголь — 88-89; Лобачев¬
ский — 100-101) — вознесены и оправданы. Что же касается
Петра I и Пушкина (97-98), то решение их судьбы не столь пря¬
молинейно.
Пушкинское воздействие на поэзию Случевского заметно
сказалось и на «Загробных песнях». В одном из стихотворений
цикла « В том мире» в кругу «вечных образов» мировой литера¬
туры упоминается Евгений Онегин:
Отелло, Поза, Дон Кихот,
Онегин в милой мне России
живут и жили в свой черед,
живей, чем многие другие... (114)
В том же цикле возникает парафраза известной картины
из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила»:
Сквозь волны синего тумана
под блеском утренних лучей
понятна людям песнь Руслана
над полем смерти и костей... (14)
Как от поэта от Случевского можно было и далее ожидать па¬
негирика Пушкину, но эти ожидания в данном случае не оправ¬
дываются. Любовь к пушкинской поэзии не помешала Случев-
скому критически подойти к ее создателю — ведь в ином мире
и критерии иные, здесь судят не по таланту, не по воздействию
на целые поколения, а по тому, кто и как преуспел «в деле Го¬
споднем». Именно об этом говорил ап. Павел в первом послании
к коринфянам («будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспе¬
вайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Го¬
сподом» — 15, 58). Случевский выбрал эпиграф к стихотворе¬
нию о Петре I и Пушкине именно из этого послания и из этой
главы: «Ина слава солнцу, ина слава луне и ина слава звезде,
звезда бо от звезды разнствует в силе» (15, 4). Цель эпиграфа —
Данте и К. К. Случевский
471
подчеркнуть мысль о том, что «разнствует в силе» и совершен¬
ное в земной жизни добро, и причитающаяся за него небесная
слава.
Великий реформатор и поэт, воспевший его, являются в за¬
гробном мире вместе:
Они рука к руке, как бы полусливаясь,
давно привыкшие к большим телам планет,
длиною их пути нимало не смущаясь,
безмолвно шествовали, чуть давая свет...
И как их не узнать? Один — царь полумира.
Страну, для опыта, поднявший на ладонь;
была ему узка огромная порфира,
и, чтоб сидеть ему, из бронзы отлит конь.
Другой, в дни юности, певец садов Киприды,
а в лучшие годы вожак народных дум,
сраженный пулею с согласья Немезиды
за силу гения, за непокорный ум... (98)
Для Случевского — Петр I и Пушкин — два духа «из истинно
огромных» (97), но при этом они оба не принадлежат «свету»:
они в загробном мире «из полутемных». Исходящий от них свет
«был мал, так мал, что незамечен» (98) оттого, что
их век был невелик, почти что скоротечен,
и в подвигах добра он мог бы быть иным... (98)
Лирический герой «Загробных песен» — несомненно одна
из масок автора, но маска наиболее ему близкая. Такая интер¬
претация пушкинской темы в «Загробных песнях» в немалой
степени была обусловлена религиозными исканиями Случев¬
ского начала XX в. (его беседы с Вл. Соловьевым, о. Иоанном
Кронштадским*). Идеи, выраженные в «Загробных песнях»,
входят в круг наиболее сокровенных и дорогих Случевско-
му. Говорить о «персонификации примитивного сознания»
в этой поэтической книге Случевского («В каком-то смысле
«загробный» дух Случевского — это, как и «односторонний
* Случевская-Коростовец А. К. Воспоминания об отце // Грани. — XIV г.
изд. №42. С. 117-122.
472
E. A, ТАХО-ГОДИ
человек»,— персонификация примитивного, одностороннего
взгляда на окружающее. «Односторонний человек» все не при¬
нимал в этом мире, — загробный дух все принимает в «том».
И тот, и другой герои ощутимо отстоят от авторского мировос¬
приятия»*) вряд ли возможно. Проблемы неуловимого, невы¬
разимого, находящегося за пределами видимого мира, вновь
поднятые в «Загробных песнях», — центральные в творчестве
Случевского и для него особо значимые (отсюда открывающие
собрание сочинений программное стихотворение «Неулови¬
мое»). Именно эти вопросы всегда интересовали Случевского
и одновременно всегда вызывали недоумение и недопонимание
в рядах его критиков. Случевскому часто приходилось, порой
безуспешно, разъяснять свою позицию, давать объяснения,
убеждать своих оппонентов. Так было и с его повестью «Лучи»,
когда он напрасно пытался отстоять свою точку зрения в письме
к М. Ремезову, о чем известно из ответа последнего: «Я не мета¬
физик и по части философии не особенно силен. Вы говорите:
«Мир неуловимого, т. е. непознаваемого (поясняю я себе) — во¬
все не отсутствующий мир, он только не по нашенским законам
тяготения существует. А так как он мною не уловим и мною
не познан и, следовательно, не сознается мною, то для меня он
отсутствует, и не существует. Я не понимаю и своими чувства¬
ми уразуметь не могу «четвертого» измерения и иных законов
тяготения, кроме «нашенских» — и вот все, стоящее вне грани
сих законов, представляется мне — «сверхчувственным», а по¬
тому и «ненаучным», в смысле недоказанности и недоказуемо¬
сти существующими методами исследования. Там для меня на¬
чинается область метафизики и спиритических измышлений,
в которые я пускаться не дерзаю и никого не могу вести, ибо
я оказался бы «слепым вожаком» »**.
Если М. Ремезов обвинял Случевского в склонности и ирра¬
ционализму, то другие, несмотря на присутствие в творчестве
Случевского этих иррациональных элементов, видели у него,
напротив, элементы позитивизма: «У Случевского... замет¬
на сильная наклонность именно к позитивному обоснованию
идеи бессмертия, как результата необходимости в цепи при¬
* Мадигожина Н. В. Поэтика Случевского (проблемы полифонизма и про-
заизации лирики): Канд. дисс. Томск, 1991. С. 89-90.
** ГИМ. Ф. 359. Ед. хр. 118. Л. 23—24.
Данте и К. К. Случевский
473
чин и следствий»*. Подобный взгляд на «Загробные песни» как
на своеобразный позитивистский трактат в стихах может быть
объяснен тем громадным количеством различных научных
терминов, которые Случевский вводит в поэтическую ткань
своих «песен»**. Но Случевский всегда различал мысль творче¬
скую, провидческую и мысль сугубо научную, ограниченную
страхом непознаваемого. Поэтому, как представляется, гораз¬
до правильнее понимал суть дела А. Введенский, писавший,
что для Случевского бессмертие — «не только предмет веры,
но и знания», причем знание это исходит не только «из разно¬
образных мотивов, — психологических, эволюционных, рели¬
гиозных», это знание не только сугубо научное, оно во многом
интуитивное: по словам А. Введенского, «Случевский чует
несомненнейшую реальность потустороннего мира» (курсив
мой. — Т. — Г.)***. В «Загробных песнях» происходит столкно¬
вение двух мироощущений: позитивистского и мистического,
эзотерического. И последнее для Случевского особенно важно
(недаром статьи В. Ильина, известного философа и богослова,
о Случевском назывались именно «Эзотеризм К. К. Случев¬
ского» ****). В какой-то мере эзотеричность сознания Случевского
обусловлена и тем, что в «Загробных песнях» зримость, ощути¬
мость, почти осязаемость иного мира, столь свойственная дан-
товским описаниям, не так важна, как зримость, ощутимость,
почти осязаемость внутреннего состояния души, ее пережи¬
ваний и сомнений. Дантовские «чистилище и рай, и прочный
строй небес, // и своды тяжкие печальной преисподней» (111)
как бы растворяются, превращаются в некоторую туманность,
в то время как добро, зло, совесть, молитва, мысль, воспомина¬
ние, напротив, уплотняются, они — «Элементы // химии новой
и физики новых начал, // новой динамики признак и правда»
(106). Для Случевского, ожидающего, когда «все увидят и но¬
вое небо, и землю» (104), о которых говорится в Апокалипсисе,
именно эти «тайные сферы мышлений» (103) становятся основ¬
ными предметами изображения.
* Исторический вестник. 1904. № 11. С. 76.
** В диссертации Н. В. Мадигожиной специально обращено внимание на на¬
учную терминологию, дается таблица терминов, использованных в цикле
«В том мире» //Указ. соч. С. 109-111.
*** Цит. по: Михайлов Д. Очерки русской поэзии XIX в. Тифлис, 1905. С. 484.
**** Возрождение. 1967. № 183, 185.
474
E. A. ТАХО-ГОДИ
Такая направленность «Загробных песен» создала некото¬
рые трудности с их публикацией. Случевский просил о помо¬
щи Н. Минского, М. Стасюлевича— последний отказался: «...
еще подумают, что мне это прислал с того света Влад<имир>
Серг<еевич> Соловьев»*. Бальмонт, узнав о возникших слож¬
ностях и препятствиях, вставших на пути к появлению стихов
Случевского, предлагал издать их за рубежом: «С нетерпением
буду ждать Ваших «Загробных песен». В Париже их было бы
очень удобно печатать. Если Вы хотите, я Вам узнаю условия
тамошних типографий» (письмо от 27 февраля 1902 г.)**. В кон¬
це концов «Загробные песни» стали печататься в «Русском вест¬
нике», как можно предположить, благодаря второму редактору
«Русского вестника» — В. Л. Величко, биографу Вл.С. Соловье¬
ва и давнему поклоннику творчества Случевского***.
Но не только тема, не только сюжет, но и сам язык, сам жанр
«Загробных песен» был эпатирующим: автор не только решался
на описание неуловимого, но и необычайно прозаизировал его.
Если «Песни из Уголка» были в этом отношении своеобразной
данью ушедшей пушкинской эпохе, своеобразным прощанием
с ней (отсюда максимальная насыщенность этой поэтической
книги пушкинскими реминисценциями, ее гармоничность
в сравнении с другими произведениями Случевского, мини¬
мальный уровень прозаизации), то «Загробные песни» — это
окончательный поворот к XX в. (не отсюда ли неожиданное осу¬
ждение Пушкина в этой поэтической книге?). Л. Гинзбург вспо¬
минала свой разговор с А. Ахматовой о Случевском:
«Я: Случевский — это уже декадентство. Сплошь поэтиче¬
ские формулы: розы, облака, и проч., но совершенно все разбол¬
талось, все скрепы, — система гниющих лирических штампов...
на этом фоне возможно все, что угодно.
А.А.: На этом фоне оказывается, что у мертвеца сгнили шта¬
ны — и он сам заявляет об этом» ****. Диалог между А. Ахматовой
и Л. Гинзбург касался именно «Загробных песен» Случевского,
* Цит. по: Мазур Т. П. К. Случевский: Основные этапы творческой биогра¬
фии (приложение к канд. дисс.). М.» 1974. С. 212.
** ГИМ. Ф. 359. Ед. хр. 22. Л. 10.
*** О В. Величко и Случевском см.: Тахо-Годи Е. Владимир Соловьев и Кон¬
стантин Случевский — пересечение судеб. //Символ. 1993. № 29. С. 258-
259.
**** Гинзбург Л. Я. Литература в поисках реальности. М., 1987. С. 222.
Данте и К. К. Случевский
475
заключительная реплика Ахматовой — это парафраза из сти¬
хотворения «Яс лишком сорок лет в гробу», открывающего
«Загробные песни». В «Загробных песнях» наиболее очевидно,
почему Случевский не только «последний из классических поэ¬
тов» , но один из зачинателей новой поэтической эпохи — об этом
свидетельствуют и жанр— «поэма-цикл», тематика, «куль¬
турность» , ассоциативность, полиметричность, совмещение
эпического и лирического начал, лирическая напряженность,
драматизм, страстность, апологетичность, внутренняя много-
жанровость — дневник, исповедь, апология, путешествие, пор¬
трет, научное исследование, — и самое главное, совмещение
высоких поэтизмов с лексикой совсем иного стилистического
уровня. В какой-то мере избрание Случевским дантовского сю¬
жета, проводимая им аналогия между собственными «Загроб¬
ными песнями» и «Божественной Комедией» можно объяснить
и самоощущением поэта, осознанием собственной переходно¬
сти, пограничность своего существования меж двух эпох — XIX
и XX вв. Прием «аналогии» один из основных приемов, исполь¬
зуемых Случевским в «Загробных песнях». Данте для Случев¬
ского был одним из провозвестников новой эпохи — эпохи рас¬
цвета искусства и культуры Италии. Волей судьбы Случевскому
выпало стать провозвестником расцвета русского «серебряного
века». И следуя избранному примеру, Случевский попытался
заглянуть в мир иной глазами человека начала XX в. : «Увлечен¬
ный теми откровениями, который вдумчивый дух Случевского
рождал перед ним, он от описания умирания человеческого
тела на земле перешел — новый Данте, — имея Вергилием свою
веру в загробную жизнь, в «тот мир» и стал на ту точку зрения,
какая должна там существовать»*.
* Стечкин Н. Я. К. К. Случевский как поэт незримого // Русский вестник.
1904. №11. С. 365.
Е. А. ТАХО-ГОДИ
О дантовских моделях в литературном наследии
А. Ф. Лосева
Лосевский философский христианский реализм и персо¬
нализм, требующие «изображения жизни в ее пространствен¬
но-временной причинности», но с учетом выходящих «за пре¬
делы последней»«объективных идей», видящие «подлинную
реальность только за этим бесконечным идеалом» *, предопреде¬
ляют мироустройство лосевской прозы, особенности ее стиля,
основную ее цель— выявление «мифологического рельефа»**
события. Лосевское творчество стремится отразить «реаль¬
ность Божественного Промысла и его действие в судьбах мира
и человека»***; вот почему основным его писательским методом
становится символический реализм, который понимается им
во многом как духовный реализм. Воплощая в художественной
практике христианскую теоцентрическую концепцию мира с ее
закрепленным еще в средневековье вертикальным «иерархи¬
ческим устроением бытия» и христианскую антропологию с ее
«законами взаимодействия телесной, душевной и духовной
сфер личности»****, Лосев не только восстанавливает «ценност¬
ный порядок, который лежал в основе средневековой христиан¬
* Лосев А. Ф. Что дает античность? // Литературная учеба. 1986. №6.
С. 84-85.
** Лосев А. Ф. Диалектика мифа. Дополнение к «Диалектике мифа». Сер.
«Философскоенаследие». Т. 130. М., 2001.С. 221.
к** Любомудров А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья:
Б. К. Зайцев. И. С. Шмелев СПб., 2003. С. 235.
Тамже. С. 234.
О дантовских моделях в литературном наследии А. Ф. Лосева
477
ской культуры»*, но и обращается к опыту этой культуры непо¬
средственно.
Мы уже касались вопроса об отношении А. Ф. Лосева к твор¬
честву Данте и о воздействии дантовских образов на лосевскую
художественную прозу**; говорили о том, что тема сна, меня¬
ющего все бытие человека, позволяющего увидеть мировую
иерархию во всей ее целостности, попасть в рай или очутить¬
ся в аду, в лосевской прозе (в рассказах «Театрал», «Мне было
19 лет», в повести «Трио Чайковского», в романе «Женщи¬
на-мыслитель») связана с дантовской «Божественной Комеди¬
ей», причем часто косвенно, через музыку П. И. Чайковского
и С. В. Рахманинова, написанную на дантовские сюжеты. В на¬
стоящей работе мы хотим продолжить эту тему, показав, как
сказывается влияние дантовских традиций на пространствен¬
ном мироустройстве прозы Лосева.
Модель мира, лежащая в основе лосевской прозы, обуслов¬
лена религиозными воззрениями писателя. Мироустройство
у Лосева насквозь иерархично, причем эта иерархичность
дает о себе знать повсюду — идет ли речь о душе человека или
об окружающей его жизни. В основе этой внутренней иерархии
лежит разделение мира на те три сферы, о которых говорится
прямо в «Переписке в комнате», —«небесную, земную и преис¬
поднюю» (I, 103)***. Такая Божественная трехуровневая верти¬
каль моделирует иерархию трех миров: ангельского-человече-
ского-животного/природного, а также иерархию самой жизни,
идущей от абсолютной Личности к человеку и далее к оживлен¬
ным (животным) или мертвым (природным) формам.
Если Вечность объединяла три временных момента — про¬
шлое, настоящее, будущее, то человек совмещает в себе, как
в фокусе, мировой порядок через соединение трех элементов:
духа, души и тела. Каждому элементу соответствуют три формы
человеческой жизни в мире: монашеский образ жизни, артисти¬
ческий (в самом широком смысле этого слова, понимаемый как
жизнь в культуре) и «обыденщина». Причем три формы челове¬
* Там же. С. 5.
** См.: Тахо-Годи Е. А. Данте в трудах, лекциях и прозе А. Ф. Лосева
(подступы к теме) // Дантовские чтения. 2001. М., 2002. С. 63-76.
'** Здесь и далее в скобках с указанием тома и страницы даются сноски
на издание: Лосев А. Ф. «Я сослан в ХХвек...». М., 2002. Т. 1-2.
478
E. A. ТАХО-ГОДИ
ческой жизни отражают три аспекта бытия: мифический, тра-
гический/музыкальный, комический.
Жизнь в культуре способна отразить в какой-то мере оба по¬
люса жизни человека — и нижний, бытовой, и высший, мона¬
шеский. Ученому, писателю и художнику, создающим свое про¬
изведение, артисту и музыканту, добивающимся совершенства
исполнения, свойствен и аскетизм, и подвижничество. Культу¬
ру движут «бесчисленные отшельники, аскеты, миллионы вся¬
ких чудаков, забывших людей, семью, всех родных и близких,
забывших вовремя поесть и поспать» (I, 264). Вот почему сы¬
тое мещанство призывало этих «неземных теоретиков» (I, 264)
спуститься на землю, стать «ближе к жизни» (1,264). С другой
стороны, культура живет «жизненным черноземом» (I, 54),
«бытийными низинами» (I, 68). Вот откуда в ней «разврат, рас¬
пущенность, невежество, самомнение, шалопайство» (II, 101).
Три формы жизни переживаются человеком и выражают¬
ся в трех типах восторга: теистическом, художественном/му-
зыкальном, житейском/практическом. Теистический восторг
выше, чище, свободнее музыкального, но музыкальный аристо¬
кратичнее и выше житейского/ практического. Трем формам
человеческой жизни соответствуют и три состояния: абсолют¬
ная свобода, относительная свобода, рабство, отражающие три
категории необходимости: Божия воля, воля человека, рок/
судьба как подчинение злой силе.
Три типа человеческой жизни предопределяют и социаль¬
ное разделение: на мещанство, интеллигенцию, духовенство/
монашество. Однако формальная принадлежность человека
к той или иной социальной среде отнюдь не исключает того, что
форма его жизни далека от социально закрепленной. Человек
может и не быть монахом в социальном смысле, чтобы прибли¬
зиться к высшему бытию (раненые простые люди в больнице
в «Трио Чайковского», нянька Ильинична в «Женщине-мыс¬
лителе») или, наоборот, считаться гениальным артистом и быть
мещанином в душе (Потоцкая из «Мне было 19 лет» или Ради¬
на из «Женщины-мыслителя»). Отсюда характерное для прозы
Лосева противопоставление монаха герою/великому артисту,
а героя — мещанину/толпе.
Божественная трехуровневая вертикаль моделирует не толь¬
ко иерархию мирового пространства, разделенного на небес¬
О дантовских моделях в литературном наследии А. Ф. Лосева
479
ную, земную и преисподнюю сферы, но и иерархию внутреннего
отношения человека к миру, представление о нем как о разумно
и уютно устроенном космосе или о бессмысленном темном хао¬
се, мировом болоте материи.
Иерархия мирового пространства моделирует и иерархию
пространства земного, где выстраивается иерархический при¬
родный ландшафт: горы — равнина/луг/безбрежное море —
болото, дно озера/реки/моря. Природный ландшафт можету
Лосева играть роль аргумента в споре между двумя мирами:
низким и высоким. Так, в рассказе «Мне было 19 лет» звучат
вроде бы разрозненные реплики пирующих после концерта
в Благородном собрании. Эти реплики, на самом деле, четко
распределяются на пьяные, которые проповедуют земные блага
и то, что «мертвые, облезшие картинки», «старые иконы не спа¬
сут» (I, 64), и на трезвые голоса, выступающие против «нивели¬
ровки духовной жизни, безразличия и косности глубочайшего
тупоумия» (I, 64). Если первые, прямо-таки в духе Вас. Розано¬
ва, проповедуют «хорошиещи», хозяйку, которая «эдакая тол¬
стая да добрая, землица, можно сказать, тепленькая» (I, 63),
то вторым видится иное: «В Крыму чудно под вечер. <...>От-
даленные берега, скрывающиеся в прохладной мгле, покрыты
нежной, как бы несуществующей розоватостью, и эти туманные
горы сами превращены в нечто как бы несуществующее, в бес¬
плотную телесность прохладной неги, в сиреневую мглу изви¬
листо-трепетной и матовой музыки вечернего надморья» (1,64).
Человек у Лосева оказывается микромоделью Вселенной,
вмещая в себе прошлое, настоящее, будущее, а также все сфе¬
ры — небесную, земную, преисподнюю. Пространственному
устройству мира, различным полюсам мировой вертикали в ка¬
кой-то мере соответствует даже рост героев и их внешность.
Когда в «Женщине-мыслителе» Вершинин видит в Радиной
гениальную артистку, ему представляется «массивная высокая
фигура вчерном» (II, 12), она кажется ему молодой, «высокой
и стройной» (II, 15). Когда он провидит в ней мещанку, она пред¬
стает ему ведьмой, старой, «сгорбленной, сухой и сутулой» (II,
15), обитающей «в своей темной пещере, в своем девственном
и диком лесу» (II, 15). Мир зла — это мир «песочных уродов» (I,
65) вроде «горбатого карлика »Баландина (I, 68), мир «неуклю¬
жих, хромоногих и толстоногих карликов» (1,57). Если герой
480
E. A. ТАХО-ГОДИ
близок к миру преисподнему, то сам он и люди вокруг него пре¬
вращаются или уподобляются животным. Отсюда многочислен¬
ные «зоологические портреты» в лосевской прозе. Так, в«Мне
было 19 лет» безымянный герой ощущает себя кошкой, видит
в Потоцкой то змею, то волка, то обезьяну (о чем говорят ее
«мясистые губы» (I, 53), как у обезьян в «Театрале»), то спрута
со «страстными щупальцами» (I, 60), в Баландине—«полунас¬
екомое, полуспрут» (1,68), в гостях на ужине — собак, т. к. они
издают «собачий лай, визг, вой» (I, 69). В «Театрале» Петька
чувствует, как превращается в спрута, мир людей — в мир обе¬
зьян, бас П. — в жвачное животное, виолончели в театре воют,
«как выгнанные и побитые псы» (I, 84). В «Женщине-мысли¬
теле» гениальная Радина не может изжить в себе мещанку,
и как результат — появление у нее «отвратительного» смеха (II,
33), напоминающего смех обезьян из «Театрала», уподобление
ее трех мужей трем кобелям, «трем волкодавам» (II, 88), трем
жеребцам (II, 120), появление у одного из ее мужей, у Пупоч¬
ки, «медвежьих лап» (II, 42). В рассказе «Епишка» выражение
двойника сравнивается с тем, когда «мы, желая передразнить
кого-нибудь, высовываем язык и производим звук, слегка напо¬
минающий блеяние овцы» (I, 497).
В зависимости от того, к какому полюсу мировой вертика¬
ли ближе герой, такое моделируется вокруг него пространство.
Если он близок к миру преисподнему, то пространство вокруг
начинает моделироваться по типу ада — сумрачный лес, тьма,
холод, смрад и т. д. Появление подземелья, подвала, тюрьмы
или ямы, в которую бросают Вершинина в его сне в «Женщи¬
не-мыслителе», также связано с представлением об адской без¬
дне. Солнцу, весне и незнойному лету противостоят дождь, хо¬
лод, осень или зима. Реальному теплу и холоду соответствуют
тепло и холод душевный. В рассказе «Мне было 19 лет» стоит
отвратительная погода, предвещающая, что герою предстоит
соприкоснуться с нижним полюсом мировой вертикали, где ца¬
рят холод и мрак. В «Трио Чайковского» погода до катастрофы
«стояла чудная, тихая, теплая, прозрачная, незнойная погода»
(I, 161), зато после катастрофы все меняется. Погода и темпера¬
тура подчеркивают разницу времен — прошлого и нынешнего:
«Лето стояло чудное. Эх, какая была погода! С тех пор в России
даже погоды-то не стало человеческой. Все какая-то слякоть,
О дантовских моделях в литературном наследии А, Ф. Лосева
481
да серость, да туманы...» (I, 112). Такая характеристика погоды
приобретает особый, почти символический смысл — оказыва¬
ется, что сменам исторических эпох соответствуют изменения
и температурного режима в природе. Погодный контраст отра¬
жает и контраст двух мироощущений: душевному теплу, невин¬
ному веселью и внутреннему родству противостоят холод, от¬
чужденность, мертвенность, тяжелое, гипнотическое, роковое
в опустевшем и обездушенном мире.
Пространствам: верха и низа, тепла и холода соответству¬
ет в лосевской прозе и своя цветовая гамма. Мифология цвета
и света всегда интересовала автора*. Мир тепла — это мир свет¬
лый, золотистый, солнечный, мир «золотой мечты» (I, 504)
детства, золотистоволосой и голубоглазой возлюбленной (пор¬
трет Елены Дориак в «Метеоре»), это мир голубого неба, когда
все вокруг «тихо-тихо, синё-синё» (I, 112). Это мир и зеленый,
потому что это мир-луг, мир густой и сочной травы. В 1981 г.
Лосев признается: «Бесконечность и сейчас представляется мне
какой-то золотистой далью, может быть, слегка зеленоватой...»
(II, 525).
Голубые глаза Елены Дориак реальный знак принадлежно¬
сти ее к высшему миру, к звездному небу, откуда исходит осо¬
бый умный свет: «Умный свет ровно и блаженно сияет в свети¬
лах, которые суть видимые нам умные силы и умные воинства
небесные»**. Цвет глаз Елены связан с таким важнейшим моти¬
вом, какмотив героини-звезды. Этот мотив центральный в «Ме¬
теоре», предопределивший название повести. Елена— это
вестник иного мира, один из небесного воинства, упавший, как
звезда-метеор, на грешную землю, звезда, осветившая жизнь
Вершинина.
Мотив героини-звезды можно проследить и в других ло¬
севских вещах. В «Трио Чайковского» Вершинин сравнивает
со звездой Томилину: «О, великая, мудрая и чудная Томилина!
Образ твой сияет тихой, незакатной звездой на моем тепереш¬
нем темном горизонте» (I, 215). Этот мотив героини-звезды,
героини-метеора был центральным в юношеских дневниках.
* О теории цвета и света у Лосева см. в статье: Тахо-Годи Е. А. Еще один
пример к теории цвета А. Ф. Лосева // А. Ф. Лосев и культура XX века:
Лосевские чтения. М., 1991. С. 106-119.
** Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука // Лосев А. Ф. Бытие.
Имя. Космос. М., 1993. С. 294.
482
E. A. ТАХО-ГО ДИ
Образ героини как путеводной звезды, указывающей дорогу
в темном земном пространстве, возникал и в статье 1916 г. «Два
мироощущения. Из впечатлений после «Травиаты»». В посвя¬
щении, предпосланном статье и обращенном к А. В. Неждано¬
вой, автор называл певицу «далекой и светлой звездой, дивным
блеском искусства освещающей наш темный и трудный путь»*.
Через переплетение двух мотивов «далекой и светлой звезды»
и «темного и трудного пути» здесь давала о себе знать и тема
столкновения двух начал мироздания — небесного и земного,
светлого и темного.
Символом всего холодного и злого в земном мире становят¬
ся черный и серый цвета. Серый и черный — основные в цве¬
товой гамме «Театрала» и в портрете его главного персонажа,
Петьки. Черный встречается в рассказе 9 раз: «черный картуз»
на голове у Петьки, многократно упоминаемая «высокая худая
дама, вся в черном» с «черной же вуалью» (I, 77), «черная река»
(I, 77), «черные глаза» Петьки-спрута (I, 85), «черная полусно-
шенная рубаха-косоворотка» на мещанине (I, 86). Серый цвет
возникает 7 раз: «лицо удивляло своей серостью» (I, 73)«серая
и скучная наружность» (I, 74), «серая обыденщина» (I, 76),
«самый серый»** человек в «полинялой грязно-серой кепке» (I,
86), «серый» мещанин (I, 87), переживание жизни как чего-то
гадкого и «серого» (I, 99). Совмещение в Петькином портрете
двух цветов: серого и черного — это совмещение не только двух
основных цветов рассказа, но и двух мотивов — мирового ме¬
щанства («серой обыденщины» и ее пророка «самого серого»
мещанина из Петькиного сна) и судьбы-рока, предстающей пе¬
ред героем в облике «дамы в черном».
Внутренний ландшафт души также во многом строится
в соответствий с трехуровневой мировой иерархией. В расска¬
зе «Мне было 19 лет» герой говорит о «жестокой бездонности
души» (I, 53), о «бездне души» (I, 67); о «бурном хаосе моей
души» (I, 55), о том, что в его «голове и груди шумели каскады
мыслей и чувств» (1,54), что в душе проносятся ураганы и из¬
вергаются вулканы ярости: «клокочущая пучина страсти» (I,
* Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М.» 1995. С. 624.
** В книге «Я сослан в XX век...» допущена досадная опечатка — «самый ста¬
рый», ср. с текстом «Театрала» по изданию: Лосев А. Ф. Жизнь. Повести.
Рассказы. Письма. СПб:, 1993. С. 285.
О дантповских моделях в литературном наследии А. Ф. Лосева
483
58), «ураганная ярость» (1,71), «во мне же кипел и клокотал пе¬
реполненный вулкан злобы, гнева, ненависти, мести и — отча¬
яния» (I, 71). В его внутреннем мире существует свой низ —«в
душе холодный погреб» (I, 51), душа похожа на комнату-бездну
— «на душе было пусто и светло, как при электрическом свете.
Спокойно, пусто, бездонно и светло-светло» (I, 72). Но в душе
есть и свои небесные сферы, горные вершины, поэтому погру¬
жение в чертовщину герой переживает как падение души с вы¬
соты вниз: «<...> я ощутил себя летящим над какой-то бездной,
в широкой и безбрежной голубой пустоте», испытывая «голо¬
вокружение, которое бывает при взгляде вниз с высокой ска¬
лы» (I, 55). Попадая под власть злой силы, человек ощущает,
как Вершинин в «Женщине-мыслителе», что вот-вот потонет
в «бездонном океане» или низвергнется «с высочайшей горы»
(II, 13), что ведьма втянула его «в невылазные, вязкие болота
бытия» или вознесла «на неимоверные кручи жизненных гор»
(II, 13), вроде сатанинского Броккена из гетевского «Фауста».
Иерархии мирового и природного ландшафта предопределя¬
ют и архитектурно-пространственное устройство человеческой
жизни в прозе Лосева. В «Театрале» гибель Петькиной души
изображается его пространственными перемещениями в зда¬
нии театра. В юности Петька был обитателем театральной га¬
лерки — места «для самого высокого общества, отличавщегося
от высшего света только отсутствием денег и невозможностью
заплатить за более дорогой билет» (I, 82). Потом, когда он отка¬
зался от поступления в университет и стал работать на почте,
он не только поселился в «низкой, грязной, дурно пахнущей
комнате» (I, 78), но и оказался «на своем месте в партере» (I,
84), в «последнем ряду партера» (1,95). Но на этом его путь вниз
не кончается. Перед тем как сжечь театр, он из-за кулис «по
лестнице, круто спускавшейся под сцену», попадает на самый
низ, «ниже уровня тротуара» (I, 94) — в «огромный подвал, тя¬
нувшийся под всем зданием» театра (I, 94). Так архитектурное
пространство уподобляется пространству мировому, а театр вы¬
растает в символ театра-мира, который пытается уничтожить
духовно погибший человек. Недаром в «Театрале» Петька пы¬
тается выйти из партера на сцену и занять место дирижера —
это символизирует попытку человека занять место Бога, дири¬
жирующего мировым оркестром жизни. Аналогично поступает
484
E. A. ТАХО-ГО ДИ
в кошмарном сне Петьки пророк-мещанин, когда для проповеди
нового кумира-фаллоса ищет себе подмостки повыше («поднял¬
ся на что-то высокое»— I, 86).В «Метеоре» об архитектурной
иерархии напоминает Вершинин, противопоставляя живущего
на чердаке голодного математика, человека культуры, и оби¬
тающую внизу его «идиотку-хозяйку» (I, 264). Приближением
к верхнему полюсу в определенной мере объясняется и выбор
фамилии главного героя — Вершинин, т. е. человек, близкий
к духовным вершинам. В этой фамилии есть также намек на то,
что герой — один из обитателей высшего, чердачного этажа
жизни: общий корень связывает фамилию Вершинина не толь¬
ко с героем А. П. Чехова, но и с лосевской «верхушкой», с назва¬
нием комнат дома на Воздвиженке, где обитал сам автор.
Если человек внутренне приближается к верхнему полюсу
мировой вертикали, то и пространство вокруг моделируется
в соответствии с этим первообразом, где все «тайно, тихо, умно,
безмолвно», как в «те немногие часы в природе, когда по без¬
мятежному синему небу,, при всеобщей симфонии тишины,
неслышно совершает свой величественный и вечный путь без¬
молвный пожар полуденного летнего солнца», когда человек
получает возможность «в этой чудной и блаженной тишине те¬
лесно [осязать] образ будущего века, и умными очами [зреть]
сияние славы грядущего преображения твари» (I, 240). Герою
теперь сопутствует иной тип ландшафта — солнце, луг, чудес¬
ный лес, пение птиц, животные-друзья (друг Вершинина — пес
Рыжий в повести «Встреча»).
Если в мире любви и тепла всегда тихо и уютно, то в мире
зла и холода всегда шумно и крикливо, его обитатели склонны
к рыданиям и истерикам. В рассказе «Мне было 19 лет» герой
слышит раздающиеся из лесной избушки сплошные пьяные
крики. Его появление среди пирующих, обличение Баландина
вызывает невероятную суматоху: «Кто-то бил кого-то кулака¬
ми, кто-то пронзительно визжал, и раздавались стуки чего-то
грузно падающего и звонко бьющегося. <...> Нельзя было ни¬
чего разобрать; по крайней мере, я слышал только собачий лай,
визг и вой» (1,69). В финале «Встречи» герой оказывается среди
непрерывного шума взрывов от ведущихся подрывных строи¬
тельных работ. В рассказе «Из разговоров на Беломорстрое»
функцию шума берут на себя, хотя и важные, но непрерывные
О дантовских моделях.в литературном наследии А. Ф. Лосева
485
разговоры, мешающие герою остаться один на один со своей
собственной душой. Подобную же роль шума играют в «Жен¬
щине-мыслителе» не только истерические припадки Радиной,
но и ее разговоры с гостями на продовольственные темы. Шуму
соответствует и дикий, адский хохот обезьян в «Переписке
в комнате» и в «Театрале», а двойник из рассказа «Епишка»
изобретает особую удивительную машину, которая даст воз¬
можность хохотать до упаду.
Этому шумному холодному пространству противостоит про¬
странство тишины, музыки, молитвы и улыбки, когда в «благо¬
датную летнюю» погоду стоит особая «не душная тишина» (I,
112). В «Женщине-мыслителе» Вершинин говорит, что «реаль¬
ная душа — это сплошной крик и стон, даже вопль» (II, 77), зато
в чистой душе или душе аскета царит тишина и особая «музыка
небесной любви», «музыка молитвы и любви» (II, 78).
Наиболее ярко изображение такой внутренней тишины дано
автором в повести «Завещание о любви». Мальчик Суша ощу¬
щает не только то, что сама «Таня была тихая», но и что «тиши¬
на ровными и плавными потоками разливалась вокруг нее, во¬
круг ее худенького тельца», причем эту «удивительную тишину
души» герой ощущает «в буквальном смысле физически» (I,
239). Эта «тайная тишина», это особая «непроницаемая атмос¬
фера», окружающая тихих людей, подобных Тане, — знак их
причастности к высшему, светлому, тихому, небесному миру,
ибо «небесная жизнь — тихая» (I, 239). Вот почему мир душ та¬
ких людей не смущается «никаким гамом и шумом бытия», вот
почему рядом с ними человек и весь его организм возвращается
к другому образу жизни —«к своему естественному, не возму¬
щенному от житейских бурь и страстей» (I, 239). Это мир «вечно¬
го покоя» (I, 240), далекий от «земли — такой крикливой, такой
суматошной», далекий от земного человеческого бытия —«вос¬
паленного; сумбурного, сумасшедшего» (I, 240). Этот мир тих
и улыбчив. Человек, принадлежащий к нему, «улыбается <...>
ласково, с тихим эдаким веселием, — словно по душе гладит ка¬
кой-то бархатной лаской» (I, 239).
Чувство приближения к верхней точке мировой вертикали
вызывает у человека радость и покой, а чем дальше он удаля¬
ется от нее, тем больше нарастает в нем беспокойство, истерия,
тем громче становится вопль об утраченном вечном блаженстве.
486
E. A. ТАХО-ГОД И
Ландшафт души аскета, погруженного в молитву, напоминает
в изображении Вершинина в «Женщине-мыслителе» райское
пространство: «Чудный мир и успокоение нисходит на душу мо¬
лящегося. <...>сердце превращается в сияющий алмаз, как бы
солнце, и молитва порхаети поет в груди — как жаворонок в чи¬
стых и светлых, в весенних и теплых небесах. Монах безмолвен.
Он тихо сидит <...>, отдавшись весь этому чистому благоуханию
молитвы. Одинок он в своейкелии, и тихо, недвижно покоится
он в незаметном углу. Но в эти минуты он восходит в горнее ме¬
сто, превысшее ума и жизни, превысшее мирского слития; он
охватил уже весь мир, и потому не надо ему никуда стремиться;
он уже восшел к вечности, к этому пределу беспредельному» (II,
78). Но и простой человек, а не только аскет, способен узреть
вокруг себя мир, подобный райскому, если душу его не смуща¬
ют житейские страсти, как у Вершинина в начале «Трио Чай¬
ковского», когда «не знаешь, твои ли мысли звенят и шуршат,
или сама вечность шевелится, и брезжит, и нашептывает ласку
в журчащем лесном окруженье, а в душе, глядишь, какая-то
эдакая молитва, что ли, сладко ноет лесная пустыня в сердце,
умирать светло становится» (1,112).
Рай может уподобляться в сознании героя не только чудному
лесу, в котором слышен шелест самой вечности, или крымско¬
му пейзажу с залитыми солнцем невесомыми вершинами гор,
но и зеленому лугу. Вершинин в «Женщине-мыслителе» видит
себя во сне лежащим «на какой-то лужайке» (II, 122), где пред¬
стает ему удивительная монахиня: «Я сидел на траве, изумлен¬
ный, очарованный, обвороженный» (II, 123). Но райское виде¬
ние мгновенно оборачивается кошмаром — чудная монахиня
превращается в жестокую блудницу, убивающую героя. В рас¬
сказе «Мне было 19 лет», глядя на Потоцкую, герой признает¬
ся: «Что-то ласковое и приятное веяло вокруг этой женщины,
этакая нежная бархатистость души, в которую погружаешься,
как в мягкую, сочную траву. И хочется спрятаться в недрах этой
бархатной ласковости, забыться в ней так, как погружаешься
в огромную кучу сена, погружаешься почти с головой, и никто
тебя не видит, где ты тут находишься» (I, 55). Однако в земном
аду этот райский луг и невинно-детская райская любовь превра¬
щаются в изнасилование и грязь: «Она послушно и безропотно
отдавалась мне, распростершись на грязной и мокрой траве,
О дантовских моделях в литературном наследии А. Ф. Лосева
487
во мне же кипел и клокотал переполненный вулкан злобы, гне¬
ва, ненависти, мести и — отчаяния» (I, 71). В «Метеоре», в про¬
щальном письме к Елене Дориак Вершинин восклицает: «Эх,
разбить бы каменные стены и выйти бы на земной Луг, на поле
светозарное, и — взмолиться светлой Безбрежности, вечному
Восторгу, деве страстной и огненной, ее светлейшему лику!» (I,
310).
Таким образом, из этих ощущений героев собственной бли¬
зости к верхнему полюсу мировой вертикали или отдаления
от него, из этого соответствия или несоответствия «инобытия
с заданной идеей» в лосевской прозе «с полной диалектической
необходимостью вытекают категории Рая и Ада»*, которые Ло¬
сев рассматривал в «Дополнении к «Диалектике мифа»». Эти
фрагменты были утрачены при аресте автора в 1930 г. Однако
лосевская проза дает возможность представить, хотя бы в об¬
щих чертах, какова должна была быть эта картина Рая и Ада.
То, что эта картина имеет связь и с «Божественной Комеди¬
ей» Данте, мы попробуем показать на нескольких примерах.
В рассказе «Мне было 19 лет» метафизическое пространство
ада моделирует не только пространство души героя, ее внутрен¬
ний ландшафт, о котором мы только что говорили, но и поведе¬
ние героя, и само пространство вокруг него. Герой оказывается
в аду человеческой похоти почти мгновенно. Он не проделывает
медленного спуска в ад, как Петька из «Театрала», а оказывает¬
ся там под влиянием своей страсти к певице Потоцкой и слуша¬
ния музыки, в первую очередь «Франчески да Римини» Чайков¬
ского. После увертюры Чайковского «Франческа да Римини»
он переживает ту же казнь сладострастных людей, о которой
повествовала музыка, убивая в своем сне певицу Потоцкую и ее
любовника Баландина, таким странным образом воплотив «эту
музыку в свое повседневное существование».
Музыка написана Чайковским на сюжет из «Божественной
Комедии» Данте — из пятой песни «Ада». В этой песни изобра¬
жен второй круг ада, где наказуются сладострастники. Среди
них находятся Паоло Малатеста и Франческа да Римини, чья
преступная любовь стала причиной их гибели — не только зем¬
ной, но и загробной. Как известно, загробный мир у Данте стро¬
ится, как ряд концентрических кругов. Попавшие в ад души ис¬
* Лосев А, Ф. Диалектика мифа. С. 231.
488
E» A. ТАХО-ГОДИ
тязаются по-разному. Тени Паоло и Франчески кружатся вместе
с другими грешными душами по кругу. Вот как описывается это
у Данте:
То адский ветер, отдыха не зная,
Мчит сонмы душ среди окрестной мглы
И мучит их, крутя и истязая <...>
И я узнал, что это круг мучений
Для тех, кого земная плоть звала,
Кто предал разум власти вожделений.
И как скворцов уносят их крыла,
В дни холода, густым и длинным строем,
Так эта буря кружит духов зла <...>
Как журавлиный клин летит на юг
С унылой песнью в высоте надгорной
Так предо мной, стеная, несся круг...
(«Ad»f V, 31-33,37-42,46-48, пер. М. Лозинского)
Это же кружение по кругу воссоздается и в лосевском расска¬
зе, причем как и у Данте, в рассказе «Мне было 19 лет» карти¬
на ада сопряжена с приметами осеннего пейзажа: у Данте это
«дни холода», улетающий на юг журавлиный клин, в рассказе
— «дождливая и гнилая» (I, 50) московская осень, «с холодным
пронизывающим ветром <...> надрывно плачущей поздней осе¬
ни», когда «густые свинцовые тучи ходили над самой головой»
(1,52). Этому пейзажу соответствует и сама музыка, напомина¬
ющая герою обадском ветре, недаром он говорит, что «первые
звуки увертюры пронеслись как дуновение с того света» (I, 54).
Но кружение героя по кругу начинается еще до увертюры
«Франческада Римини», а с первых же страниц рассказа. Это
кружение, таким образом, связано и с дантовским образом,
и с представлением, что в пространстве «по кругу человека
водит бес»*. Из дома герой сначала попадает на улицу, потом
в зал Благородного собрания, покинув в своем видении зал, он
вновь оказывается на улице, в парке, у лесной избушки, загля¬
нув в окно которой он вновь узнает все тот же зал Благородного
Собрания, так что, входя в избушку, он, таким образом, вновь
* Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.» 1977. С. 93.
О дантовских моделях в литературном наследии А, Ф. Лосева
489
входит в этот зал, чтобы спустя какое-то время опять покинуть
его, оказаться в парке, на улице и потом уже дома.
Это кружение в пространстве, вокруг притягивающего его
центра — Потоцкой, подчеркнуто и изображением вальса, ко¬
торый танцуется в зале Благородного собрания. Описание Ло¬
севым вальса, этой «круговой пляски, в которой <...> взаимное
круговращение может продолжаться до бесконечности» (I, 56),
вызывает ассоциации и с сектантским круговращением-раде¬
нием*. Но главное, что вальс ассоциируется у Лосева с пляской
злой силы, с тем танцем скелетов, который он изобразил в «Му¬
зыке как предмете логики» **, и в «Диалектике мифа» *** и в пове¬
сти « Метеор ». В « Метеоре » « Мефистовал ьс » Листа вызывает
в сознании слушающего его Вершинина пляску скелетов вокруг
огромного хромого беса-паяца— возможно, самого сатаны:
«<...> в роскошном вступлении из мрачной басовой глубины
и пучины вылезает нелепое, дикое, угловатое чудище, неуклю¬
жее и огромное, которое лопочет какую-то исковерканную не¬
внятность, ежемгновенно запинается языком и ногами, смешно
и болезненно хромает, гримасничает, подмигивает или прямо
издевательски высовывает язык, приплясывая тяжело, грузно,
круто и как-то даже нудно. Вот оно все переливается, пересыпа¬
ется, переваливается, и — вальсирует, упоенно-цинично вальси¬
рует. Да это разве люди танцуют? <...> это — вальс обнаженных
скелетов с обнаженными зубами и длинными-предлинными ру¬
ками и ногами <...> Эти скелеты взаправду стучат друг о друга
костями и закидывают ноги выше головы. Это — вальс издева¬
тельского хохота, язвительных излорадных разоблачений, вальс
артистически-иступленного, рыдающего сарказма» (I, 258).
Именно поэтому вальс в Благородном собрании и кажется
герою «каким-то светопреставлением». Ему чудится, что этот
«вальс <...> мучил меня целую вечность» (I, 56), в этом вальсе
ему видится «уже не просто верх эротизма <...>, а просто како¬
е-то столпотворение, бурное и мрачное, как бы море, кипящее
страшными чудовищами» (I, 56). Он сам не сознает, что ему ви¬
* Об ассоциациях с сектантством в лосевском рассказе «Театрал» см.: Та-
хо-ГодиЕ. А. Ритуал и обряд в рассказе А. Лосева «Театрал» // Мир пси¬
хологии. 2003. № 1. С. 149-157.
** Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики // Лосев А. Ф. Форма. Стиль.
Выражение. М., 1995. С. 475.
*** Лосев А. Ф. Диалектика мифа. С. 76-78.
490
E. A, ТАХО-ГОДИ
дятся вечные адские муки, адские чудища. Причем в этом адском
вихре герой не только бегает по кругу за Потоцкой и ее кавале¬
ром «вокруг залы», но и сам «начал буквально летать в высоте»
(1,56), а еще раньше, когда только начиналась его адская галлю¬
цинация, он ощутил «себя летящим над какой-то бездной» (1,55).
Однако все чувства, испытанные им во время вальса, лишь
преддверие к настоящему аду, который ему предстоит пере¬
жить. Не случайно в своем сне-галлюцинации после этого кру¬
жения он попадет, спасаясь бегством по ночной Москве от пре¬
следующей его героини-волчицы, в сумрачный парк/лес, где
обнаружит странную избушку, обитателями которой окажутся
все прежде виденйые на балу персонажи. Дантовская модель
попадания в ад работает здесь абсолютно явно, хотя и в зеркаль¬
ном отражении. В первой песни «Ада» итальянский поэт рас¬
сказывал, как он «очутился в сумрачном лесу // Утратив пра¬
вый путь во тьме долины» :
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей равный ужас в памяти несу! <...>
Не помню сам, как я вошел туда,
Настолько сон меня опутал ложью,
Когда я сбился с верного следа...
(«Ад», I, 4-6,10-12, пер. М. Лозинского)
Попав в сумрачный лес, герой «Божественной Комедии» под¬
вергся нападению трех зверей: рыси — сладострастия, льва —
гордости и волчицы — корыстолюбия:
И с ним волчица, чье худое тело,
Казалось, все алчбы в себе несет;
Немало душ из-за нее скорбело. <...>
Так был и я смятением объят,
За шагом шаг волчицей неуемной
Туда теснимый, где лучи молчат.
(1,49-51,58-60)
В отличие от дантовской волчицы, преследующая героя ло¬
севского рассказа Потоцкая-волчица символизирует не коры¬
О дантовских моделях в литературном наследии А. Ф. Лосева
491
столюбие, а именно человеческую похоть.Лосевскому герою
после бегства от волчицы предстоит войти в избушку, где пир¬
шествует человеческая нечисть, — вступить в ад, чтобы встре¬
титься с пороком лицом к лицу и попытаться его уничтожить.
Движение по кругу передает в рассказе не только кружение
в пространстве, но и само время как бы сужается концентри¬
ческими кругами, при этом повествовательное время все более
и более переходит в драматическое.
Повествовательное время берет начало тогда, когда герой
впервые почувствовал на себе власть Потоцкой— это влияние он
почувствовал «почти год тому назад» (I, 56). Затем уточняется,
что он был влюблен в нее «в течение целого сезона» (I, 49), по¬
том конкретизируется время года —«стояла дождливая и гни¬
лая осень» (I, 50), потом речь идет о днях и вечерах этой осени
— «Я вставал поздно, с единственной мечтой дождаться вечера,
чтобы можно было идти в театр или на концерт, а день <...>
вытягивал душу» (I, 50), затем о дне-икс, на который назначен
концерт Потоцкой, —«день рокового концерта оказался все та¬
ким же» (1,52), и об ожидании того, «что должно было произой¬
ти вечером и ночью» (1,52). С приближением начала концерта
время начинает хронометрироваться четче —«Концерт был на¬
значен в восемь с половиной часов вечера. Ровно в восемь часов
я вышел, чтобы сесть в трамвайный вагон <...> и приехал за¬
долго до начала» (1,52). Этот вечер и последующая за ним ночь,
«поздний ночной час» (I, 61) и являются подлинным временем
действия рассказа, его драматическим временем; наступающее
в конце рассказа утро — лишь эпилог, возвращение к повество¬
вательному времени. Причем замедление времени, на которое
указывает его точная хронометрия, сведение его в одну точку со¬
вмещается в рассказе с ускорением времени именно внутри этой
точки за счет нагнетания событийного ряда, так как «большое
количество событий, совершившихся за короткое время, созда¬
ет впечатление быстрого бега времени» *. В короткий временной
отрезок в лосевском рассказе проносится целый вихрь собы¬
тий: выступление Потоцкой; танцы в Благородном собрании;
превращение Потоцкой в волчицу и ее погоня за героем; при¬
ход героя к лесной избушке и наблюдение через окно за своим
* Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы // Лихачев Д. С. Из¬
бранные работы: В 3 т. Л., 1987. T. 1. С. 498.
492
E. A. ТАХО-ГОДИ
двойником, Потоцкой и другими гостями, находящимися в из¬
бушке; суд, устроенный героем в избушке; казнь Баландина, из¬
насилование, а потом и убийство Потоцкой. Благодаря такому
нагнетанию событий происходит «расширение» отдельного вре¬
менного отрезка. Мгновение, вырванное из потока жизни, рас¬
сматривается как бы под микроскопом, становится и главным
предметом изображения, и временем драматического действия.
То, что Лосев ориентируется при этом и на Данте, могут,
хотя и косвенно, подтверждать его воспоминания о собственной
юности: «В гимназии у меня был прекрасный преподаватель
литературы (он же директор гимназии) Федор Карпович Фро¬
лов. Кроме общей и обязательной программы по литературе,
он умудрился потрясать своих учеников талантливо-исполни¬
тельским чтением Эсхила, Софокла, Еврипида, Данте, «Фау¬
ста» Гёте и многого из Байрона. Сейчас этому никто не поверит,
но мы, тогдашние мальчишки 15-17 лет, декламировали наиз¬
усть целые сцены из «Ада» Данте и из «Фауста» Гёте. Наш учи¬
тель литературы поразительным образом совмещал деклама¬
торский талант и старательнейше развитую способность просто
и ясно анализировать для незрелых мальчишек такие образы,
как Антигона или Гамлет, и такие детальные конструкции, как
строение космоса у Данте и особенно каждую из его 9 ступеней»
(II, 527).
Мы говорили пока о том, как «работают» дантовские модели
при изображении нижнего полюса мировой вертикали — ада.
Но дантовские модели могут быть вычленены у Лосева и при
изображении противоположного полюса— райского. Отсю¬
да появление в романе «Женщина-мыслитель» не просто рай¬
ских видений главного героя, но присутствие в этих видениях
любимой женщины в облике чудесной монахини. Правда, в ло¬
севском романе это райское видение играет иную роль, нежели
у Данте, и поэтому тут же трансформируется в видение адское.
Та же метаморфоза происходит и в финале повести «Встреча»,
где изображение земного рая и купания героя в реке, соответ¬
ствующее погружению его в Лету, предшествует не входу в рай,
как у Данте, но окончательному погружению в социальный
ад Беломорско-Балтийского канала.
Как мы уже отмечали, в рассказе «Мне было 19 лет» воспо¬
минание о Крыме и крымский пейзаж противостоит своей ти¬
О дантовских моделях в литературном наследии А. Ф. Лосева
493
шиной, теплом и солнцем адскому миру, царящему вокруг ге¬
роя. Еще один такой крымский пейзаж мы находим в повести
«Встреча», когда герою, находящемуся в социальном аду —
на строительстве Беломорско-Балтийского канала, дается «пе¬
редышка» перед тем, как ему придется спуститься в нижний
круг этого ада — из Проектного отдела попасть на общие работы
за нарушение лагерного режима, за тайное свидание с Тархано¬
вой.
Пейзаж из повести «Встреча» дошел до нас, к сожалению,
не полностью из-за утрат (вероятно во время бомбежки 1941 г.)
страниц авторской рукописи. Тем не менее, его «райский
аспект» вполне очевиден. Приведем сохранившийся фрагмент:
«Я уже не стал заходить в эту перманентную клоаку — Про¬
ектный отдел <...>
Я решил выкупаться.
Все это лето стояла чудная солнечная погода, постоянно
заставлявшая вспоминать Крым.
Я не без наслаждения несколько раз окунулся в Кумсе,
потом лежал на солнце, на песчаном берегу, потом опять
окунулся и опять лежал... Ну, прямо-таки Крым!
Медвежья Гора — прекрасная северная местность. Кто
не бывал на Севере, тот не знает легкости и прозрачности
здешних красок... Все привыкли высоко ценить красоты юга.
Но южная красота по сравнению с северной — груба. Здесь
слишком резкие очертания. А на севере, даже в чудесный
солнечный день жаркого лета, все тона — расплывчаты,
как бы погашены, притуплены. Эти краски — абсолютно
невесомы, прозрачны, подернуты грустной дымкой, нена¬
сыщенны. Эта легкая, нежнейшая розоватость снежных
горных высей, эта задумчивая зеленоватость и [отсутствуют
страницы в рукописи].
Потом, было, и появились кое-какие слабые мысли вроде
того, Что вот я и родился голым и целую жизнь живу голым,
что каждый может меня безнаказанно придушить, что никто
не в праве лишить меня свободы, что знание освобождает,
а я знаю... Но потухали и эти мысли, и водворялось преж¬
нее бездумное состояние, и было тепло-тепло, безрадостно,
безотрадно и тепло-тепло» (I, 415-416).
494
E. A. ТАХО-ГОДИ
Последние эпитеты о безрадостном, безотрадном тепле под¬
готовляют переход героя от райского блаженного неведения,
от созерцания горных высей к возвращению в ад. Его купание
в Кумсе, таким образом, символизирует не только очищение
от прежней адской клоаки Проектного отдела, очищение, да¬
ющее возможность вспомнить о светлом и чистом, но и погру¬
жение в реку забвения, в водах которой герой должен забыть
все свои прежние устремления. Недаром вскоре за описанием
купания в Кумсе появляется воспоминание Вершинина о купа¬
нии в волнах абсолютной музыки. Герой вспоминает, что ког¬
да-то, в другой жизни, долагерной, он иногда мечтал «забыть
не только философию музыки, но и самою возможность что-ни¬
будь мыслить о ней, и — отдаться только одному чистому звуча¬
нию, погрузиться только в волны абсолютной музыки, глотать
и пить ее без всякого рассуждения — как вкусное вино, впиты¬
вать и всасывать ее в себя — как целебный воздух Кавказских
высот, насыщаться ею — как прекрасной, роскошной женщи¬
ной» (I, 418-419). Общие работы, лагерное производство требу¬
ют от Вершинина забыть не только о каком-либо рае, небесном,
земном или музыкальном, они требуют от него спуститься в са¬
мый низ вертикали, в пространство ада.
«Забвение — сладко» (1,419), утверждает Вершинин, но заб¬
вение Бога, забвение идеи, выдвинутые им самим лозунги:
«Любовь так любовь. А уж если канал, то канал» (I, 418), «Не
хочу никаких идей!» (1,419), превращают мир вокруг него сно¬
ва в ад, меняют и весь пейзаж. Недаром герой признается, что
«провалился в производство, как в некую бездну» (I, 418). Сна¬
чала ему определяют в жилье «темный, сырой» шалаш (I, 417),
где он должен жить вместе со своим другом — верным псом Ры¬
жим. Из этого шалаша, где Вершинин начинает свою новую,
собачью, а уже даже не человеческую и тем более не святую
жизнь, он и отправляется на общие работы: «Мне было дано че¬
ловек пятнадцать рабочих, и я должен был вместе с ними взры¬
вать при помощи аммонала скалу и грунт для прокладки пути
<...> И я, вместо простой отдачи распоряжений, стал бегать
по скалам и выбоинам, закладывать целыми тоннами аммонал
<...> Стоял пушечный грохот. Облака дыма заслоняли солнце.
На фоне огня и туч силуэты рабочих мелькали, действительно,
как черти в аду. Недаром один из высоких начальников напи¬
О дантовских моделях в литературном наследии А. Ф. Лосева
495
сал в приказе с месяц назад: «Каналоармейцы! За Канал — де¬
ритесь как черти!» Гремел аммонал, взлетали на воздух сотни
и тысячи кубометров земли; в течение одного дня менялся весь
пейзаж местности» (I, 417-418).
Вот она «бесконечная и томительная божественная коме¬
дия жизни, в результате которой— собачье существование;»
(1,419), — думает Вершинин. Однако хотя герой вспоминает
о Данте, сам он теперь уже не только играет роль, заданную дан-
товской «Божественной Комедией», в соответствии с которой
он пытался, пройдя социальный ад, найти любимую женщи¬
ну; встретившись с ней, он вновь погружается в земной ад еще
глубже. Здесь работает другая модель — уже из гетевской тра¬
гедии*. Вершинин уподобляется гетевскому Фаусту, который,
забыв о Боге и потеряв к концу жизни надежду обрести счастье
в любви, решает улучшить мир техническими преобразовани¬
ями. Во второй части трагедии ослепший Фауст, отдавшийся
на волю Мефистофеля, пытается создать земной рай на малень¬
ком кусочке болотистой земли, надеется осушить ее, проложив
каналы руками нечистой силы. Он думает, что его мечта вот-вот
исполнится, не подозревая, что руководит подготовкой к соб¬
ственному погребению, что нанятая Мефистофелем рабочая
сила в виде лемуров роет отнюдь не канал, а могилу для самого
Фауста. О том, что гетевские образы все время находятся в поле
зрения автора, свидетельствует и упоминание имени Гёте в рас¬
сказе «Театрал», и прямая цитация Гёте врассказе «Из разгово¬
ров на Беломорстрое». Примечательно и то, что новоявленный
Фауст-Вершинин в лосевской повести с ожесточением нечистой
силы уничтожает скалы, горы — он уничтожает их как земное
напоминание о высшем мире, о Божественной вертикали. Для
заключенного Вершинина Беломорско-Балтийский канал —
эта бездна, где силуэты людей мелькают «как черти в аду» (I,
418), — и есть не что иное, как самая настоящая преисподняя.
В заключение, обратимся от лосевской прозы к лосевским сти¬
хам. Мы уже делали попытку** показать, что, как и в прозе, в лосев¬
* В повести «Встреча» большую роль играют и традиции пушкинского «Ка¬
менного гостя», но здесь мы не будем останавливаться на этом вопросе.
** Тахо-ГодиЕ. А. «Зелень рая на земле...» (Поэтический мир Алексея Федо¬
ровича Лосева) // Новый журнал (Нью-Йорк). 1995. № 196. С. 291-299.
Материалы этой статьи были использованы в комментариях к стихам
А. Ф. Лосева (см.: Лосев А. Ф. «Я сослан в XX век...». Т. 2). Статья вошла
496
E. A. ТАХО-ГОДИ
ских стихах появляются напоминающие земной рай пейзажные
зарисовки (стихотворения «Койшаурская долина», «Зекарский
перевал»), что в образе лирической героини можно найти общее
и с соловьевской Софией, и с той путеводительницей, новой Беа¬
триче, которая является в «Corardens»Bn4. Иванова. Она и Мать,
и Дитя, и Подруга, и Сестра, и Невеста, она одновременно символ
Вечной Женственности и той вечной Небесной родины, к кото¬
рой стремится душа лирического героя. Однако в стихотворении
«У меня было два обрученья...» эта лирическая героиня не просто
исчезает, но, что более неожиданно, уступает место сразу «двум
невестам». У лирического героя, как оказывается, было «два обру¬
ченья». Эти светлые, нежные, хорошие, дружные две невесты по¬
могли герою сохранить «правду души» : желание творчества («Что
еще прикасаюся к струнам»), душевную молодость («Я пришел
возле них, столь же юным, / Как и был, к этой вот седине»), спо¬
собность радоваться жизни и миру («Что еще поклоняюсь весне»).
Прежде чем говорить об источниках этого неожиданного мотива
или об их трансформации у Лосева, сначала напомним сам текст:
У меня были два обрученья,
Двум невестам я был женихом.
Может, оба златых облаченья
Запятнал я в безумстве грехом.
Но мои обе светлых невесты
Были нежны так и хороши,
Что они обнялись и вместе
Сохранили мне правду души.
Я пришел возле них, столь же юным,
Как и был, к этой вот седине,
Что еще прикасаюся к струнам,
Что еще поклоняюсь весне.
И одна мне дала в моих детях
Несказанную радость отца,
А другая— живую в столетьях
Мысль и мудрость, и жизнь без конца.
(II, 520)
без изменений в мою книгу «А.Ф. Лосев. От писем к прозе. От Пушки¬
на до Пастернака» (М., 1999) и частично, уточнениями, в монографию
2003 г. «А.Ф. Лосев — философ и писатель».
О дантовских моделях в литературном наследии А. Ф. Лосева
497
Для исследователя, знакомого с биографией и с философ¬
ско-религиозными сочинениями Лосева, аллегорический
смысл неожиданного образа жениха, имеющего двух невест, до¬
статочно прозрачен. Очевидно, что Лосев говорит здесь о таких
своих двух невестах, как наука и вера, которым он посвятил всю
жизнь: о науке, давшей ему в творчестве познать «несказанную
радость отца», и о вере как высшей «мудрости», открывающей
человеку тайну бессмертия, дарующую ему «жизнь без конца».
Если аллегорический смысл стихотворения мы можем рас¬
крыть, оставаясь в пределах творчества й биографии самого Ло¬
сева, то объяснить, почему в его стихотворении возникает имен¬
но такой причудливый образ —«жених и его две невесты», без
обращения к православной традиции вряд ли возможно.
Как представляется, этот причудливый аллегорический об¬
раз восходит к Великому канону Андрея Критского, который
читается в православной церкви во время Великого поста —
по частям в Первую седмицу, а затем полностью в четверг Пя¬
той седмицы. В 4 песни Великого канона вспоминается ветхо¬
заветный сюжет об Иакове (Быт 31,40), который, претерпев все
лишения, «на всяк день снабдения творя, пасый, труждаяйся,
работаяй, да две жены сочетает».
То, что Лосев знал Великий канон, много раз слышал его чте¬
ние во время Великого поста, в специальных доказательствах
не нуждается. И тем не менее жаль, что лосевское упоминание
о Великом каноне Андрея Критского в разговоре с В. В. Би-
бихиным предельно лаконично (II, 557, запись от 10 апреля
1975 г.) — Лосев подробнее говорит о службе на Страстную не¬
делю как о «великом художественном произведении», которое
«только верующая душа может понять» (II, 558). В личном ло¬
севском архиве, среди бумаг, связанных с имяславием, сохра¬
нилось, хотя и в поврежденном виде, машинописная перепе¬
чатка толкования Великого канона, происхождение и авторство
которого пока не выяснено.
Воспоминание об Иакове, выслужившем тяжелым трудом
себе в жены обеих сестер — и Лию, и Рахиль, в Великом каноне
необычная ссылка на источник сюжета, в данном случае на Вет¬
хий Завет, и не просто «необходимый поучительный момент»,
который «как-то соотносится с его конкретностью»*. Как пишет
* Аверинцев С. С. Указ.соч. С. 102.
498
E. A. ТАХО-ГО ДИ
С. С. Аверинцев, к моменту создания Андреем Критским Ве¬
ликого канона, «время для картинных повествований и драма¬
тических сценок прошло; наступило время для размышлений
и славословий»*. В итоге, по мнению С. С. Аверинцева, в Ве¬
ликом каноне «конкретность «священной истории» перестает
быть символом и становится не более как иносказанием» **, когда
«событие перестает быть событием и превращается в модус для
одного и того же, все время одного и того же смысла» ***.
Действительно, история женитьбы Иакова в Великом каноне
Андрея Критского приобретает иносказательный, аллегориче¬
ский смысл: «Жены ми две разумей, деяние же и разум в зре¬
нии: Лию убо деяние, яко многочадную: Рахиль же разум, яко
многотрудную: ибо кроме трудов, ни деяние, ни зрение, душе
исправится». Такая трактовка отвечает основной теме 4 песни
канона: грешные деяния и помышления должны быть искупле¬
ны как «деятельным восхождением», так и «разумным восше¬
ствием»: «аще хощешиубо деянием и разумом и зрением пожи-
ти, обновися». Аллегорические образы двух жен, которые могут
трактоваться как два пути веры (Лия как аллегории спасения
через дела, Рахиль — через «умное делание», молитвенное со¬
зерцание) в 4 песни канона появляются словно для того, чтобы
подтвердить то отречение, о котором в 1 песни канона говорит¬
ся как об отречении не только от чувственной, «первой Евы»,
но и от мысленной Евы, от «женственно-лукавого начала вну¬
три самой душикаждого человека» ****. «ВместоЕвычувственный
мысленная ми бысть Ева, во плоти страстный помысл, показу-
яй сладкая и вкушаяй присно горького напоения».
Аллегорическая интерпретация сюжетов Ветхого Завета —
давняя религиозная традиция, и не только византийско-пра¬
вославная. Через средневековую схоластику учение о четырех
уровнях смысла (буквальном, аллегорическом, тропологиче¬
ском (моральном), анагогическом), впервые сформулирован-
* Там же. С. 103.
** Там же. С. С. Аверинцев объясняет это так: «<...> в нескончаемой череде
проходят образы Ветхого и Нового Завета, редуцируемые к простейшим
смысловым схемам. <...> Андрея Критского не интересует повествование,
его интересует «мораль». Весь «Великий канон» — как бы свод «моралей»
к десяткам отсутствующих в нем «басен» » (с. 103).
*** Там же. С. 104.
**** Там же. С. 103.
О дантовских моделях в литературном наследии А, Ф. Лосева
499
ноепрп. Иоанном Кассианом Римлянином, было воспринято.
Данте, который в трактате «Пир» прямо говорит, что «писа¬
ния могут быть поняты и должны с величайшим напряжением
толковаться в четырех смыслах»*. Однако, как отметит Лосев
в своей «Эстетики Возрождения», под «писаниями» Данте
«имеет в виду не только Священное Писание (хотя в первую
очередь, конечно, именно его), но и всю светскую поэзию»**,
в том числе и свою, при этом «Данте отступает от Фомы [Ак¬
винского], координируя непосредственный смысл аллегории
поэтов с буквальным смыслом теологов и равным образом ме¬
тафорический смысл поэтов с аллегорическим смыслом бого¬
словов»***.
Исходя из такой установки, Данте создает не только канцо¬
ны, вошедшие в «Пир», но и саму «Божественную Комедию»,
где «наряду с довольно резким использованием аллегорическо¬
го приема» дает о себе знать «потрясающий символизм, когда
изображаемый предмет не указывает на что-нибудь другое,
а только на самого же себя, что при иной точки зрения, конечно,
может вскрыть при таких обстоятельствах и вполне аллегориче¬
скую методологию»****.
Мы заговорили о Данте не случайно: во второй части «Боже¬
ственной Комедии», в «Чистилище», итальянский поэт обраща¬
ется к тем же ветхозаветным образам Евы, Лию и Рахили.
В XXVII песни, завершив путь по Чистилищу, в ночь перед
восхождением к Земному Раю Данте видит следующий сон:
Мне снилось — на лугу цветы сбирала
Прекрасная и юная жена,
И так она, сбирая, напевала:
«Чтоб всякий ведал, как я названа,
Я — Лия, и, прекрасными руками
Плетя венок, я здесь брожу одна.
Для зеркала я уберусь цветами;
Сестра моя Рахиль с его стекла
* Данте Алигьери. Малые произведения. М., 1968. С. 135.
** Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения: Исторический смысл эстетики
Возрождения. М., 1998. С. 205.
*** Там же. ЗдесьЛосевцитируетработу: ChydeniusJ.The typological problem
in Dante. Helsingfors, 1958. P. 45-46.
**** Там же. С. 207.
500
E, A. ТАХО-ГО ДИ
He сводит глаз и недвижима днями.
Ей красота ее очей мила,
Как мне — сплетенный мной убор цветочный;
Ей любо созерцанье, мне — дела».
(«Чистилище», XXVII, 97-108, пер. М. Лозинского)
В «Божественной Комедии» деятельная Лия — прообраз Ма¬
те льды, которую предстоит Данте встретить в Земном Раю, а со¬
зерцательная Рахиль — прообраз Беатриче. Недаром во 2 песни
«Ада»Беатриче в разговоре с Вергилием упоминает, что сидела
вместе «с древнюю Рахилью» в тот момент, когда ей было свы¬
ше разрешено помочь Данте: помочь «усилью / Того, который
из любви к тебе / Возвысился над повседневной былью» (Ад, II,
102-105). Любопытно отметить, что и в «Божественной Коме¬
дии» образы Лии и Рахили соседствуют с воспоминанием о Еве:
Данте признается, что, следуя вслед за Мательдой по Земному
Раю на встречу к Беатриче, он «дерзновенье Евы осуждал» (Чи¬
стилище, XVIII, 24).
Как видим, ветхозаветный сюжет получает сходное аллего¬
рическое толкование и в византийской гимнографииУШ в.,
прочно вошедшей в православный церковный обиход, и в «свет¬
ской поэзии» итальянского проторенессанса, в творении Данте.
Так что появление в лосевском стихотворении двух женских об¬
разов, аллегорически указывающих на дело (науку) и созерца¬
ние (веру), в какой-то мере продолжает обе традиции — и сугубо
церковную, и светскую.
В лосевском стихотворении можно обнаружить такой ха¬
рактерный для его творчества мотив, как мотив вечной юно¬
сти («Я пришел возле них, столь же юным»). У Лосева он вос¬
ходит к учению Плотина об уме и связан с представлением
о божественно-вечной юности чистой мысли. В стихотворении
«Оправдание», где этот мотив является центральным, Лосев
прямо утверждает:
Ум — вечно-юная весна.
Он — утро юных откровений,
Игра бессменных удивлений.
Ум не стареет никогда».
(11,517)
О дантовских моделях в литературном наследии А, Ф. Лосева
501
Помимо общепоэтических мотивов любви-дружбы («они об¬
нялись»), красоты («Были нежны так и хороши»), есть в стихот¬
ворении Лосева и такие близкие Данте мотивы, как мотив света
(«светлые невесты»), связанная с ним цветовая символика (не¬
весты появляются в «златых облаченьях»), и главное — мотив
пути, совершаемого под покровительством и при водительстве
возлюбленной («Я пришел возле них, столь же юным»).
В то же время не менее очевидно, что религиознымпретек-
стом для лосевского стихотворения послужил именно Вели¬
кий канон. Главный мотив стихотворения — желание сохра¬
нить изначальную правду души, найти оправдание и очищение
от возможного греха («Может, оба златых облаченья / Запятнал
я в безумстве грехом») вполне отвечает покаянному духу творе¬
ния Андрея Критского, в котором грешная душа, осознав, что
своими страстями «погубих ума красоту», «осквернив плоти
моея ризу», приносит покаяние Господу. Пусть используемый
Андреем Критским ветхозаветный образ «двух жен» трансфор¬
мируется тут в образ «двух невест» (что, по-видимому, проис¬
ходит под воздействием новозаветной традиции — достаточно
вспомнить, какую роль в евангелиях играют образы жениха
и невесты), все же и у Лосева это не просто невеста, но и жена
(«И одна мне дала в моих детях / Несказанную радость отца»).
Таким образом, дантовские модели в лосевском творчестве
причудливо трансформируются, используются одновременно
с другими литературными моделями — как светскими (напри¬
мер, «Фауст» Гёте), так и с сугубо церковными.
К. В. РАТНИКОВ
Данте в творчестве С. П. Шевырева
Среди активных участников литературного процесса в Рос¬
сии в 1820-1860-х годах, так или иначе приобщенных к дан-
товской традиции, Степану Петровичу Шевыреву (1806-1864)
по праву принадлежит одно из наиболее значительных и замет¬
ных мест. Интересный поэт-новатор, переводчик-эксперимента¬
тор, крупный литературный критик и публицист, выдающийся
ученый-филолог, авторитетный специалист в области древне¬
русской словесности и духовной культуры, лингвист-полиглот,
в совершенстве владевший основными европейскими и древни¬
ми «классическими» языками, взыскательный эстетик, превос¬
ходно разбиравшийся в оперном искусстве, живописи и ваянии,
академик Петербургской академии наук, многолетний декан
историко-филологического (согласно позднейшему наимено¬
ванию) факультета Московского университета, возглавлявший
одновременно две кафедры — отечественной словесности и пе¬
дагогии, Шевырев был не просто очень яркой, но и поистине
ключевой фигурой в том направлении общественной мысли
и искусства, которое получило, с легкой руки А. Н. Пыпина,
выразительное, но не вполне точное название «теории офици¬
альной народности». По сути дела, именно это обстоятельство
и предопределило незадачливую литературную судьбу Шевы¬
рева: после двух десятилетий привилегированного положения
в эпоху господства официальной доктрины он был, вслед за кра¬
хом николаевской идеологической системы, сильно скомпроме¬
тирован в глазах набиравших силу либеральных и уж тем более
радикально-демократических кругов, затем решительно оттес¬
нен ими с исторической авансцены, потерпел полное фиаско
Данте в творчестве С. П. Шевырева
503
в служебной карьере и оказался вынужденным покинуть Отече¬
ство, проведя последние, довольно грустные, годы своей жизни
в горячо любимой им Италии, занимаясь популяризацией рус¬
ской культуры на Западе и даже выпустив незадолго до смерти
на итальянском языке объемистый курс истории русской лите¬
ратуры. Политический радикализм наступавшей эпохи не нуж¬
дался в консервативной общественной программе Шевырева,
поэтому само имя его было в пылу борьбы ошельмовано, уче¬
ные заслуги с пренебрежением отвергнуты, художественные
достижения практически забыты, а вместе с тем и существен¬
ный вклад, который Шевыреву удалось внести в отечественную
научную дантологию, очень долгие годы оставался невостребо¬
ванным. Он фактически и до сих пор целостно не осмыслен, де¬
тально не систематизирован и не стал объектом сколько-нибудь
развернутого обобщающего анализа в соотнесении с общим кон¬
текстом творчества и научной деятельности Шевырева.
Исходя из отмеченной выше вопиющей исторической не¬
справедливости по отношению к Шевыреву — глубокому знато¬
ку жизни и поэзии Данте, посвятившему творчеству великого
флорентийца первое в России обстоятельное научное исследо¬
вание, — целью настоящей статьи станет попытка наметить,
хотя бы в первом приближении, общие контуры дантовской
темы в литературном наследии Шевырева. При этом преимуще¬
ственное внимание будет уделено как раз тем аспектам шевы-
ревского творчества, которые менее всего изучены, так сказать,
sub specie Dante, в свете личности и художественных образов ав¬
тора бессмертной «Божественной Комедии». Иными словами,
предметом рассмотрения через призму дантовской ауры станут
не специальные научные труды Шевырева о Данте, в частности,
упоминавшееся исследование «Дант и его век», концептуально
проанализированное в работе А. А. Асояна*, и не столько даже
переводы Шевырева 2-й и 4-й песен «Божественной Комедии»,
критически (и, к сожалению, чересчур кратко) разобранные
Е. Г. Эткиндом и М. Л. Гаспаровым**, а три другие сферы мно¬
гогранной деятельности Шевырева, испытавшие существенное
* Асоян А. А. «Почтите высочайшего поэта...»: Судьба «Божественной Ко¬
медии» Данте в России. М„ 1990. С. 13-16, 41-45.
** Эткинд Е. Г. Поэтический перевод в истории русской литературы // Ма¬
стера русского стихотворного перевода: В 2 т. T. I. Л., 1968. С. 44-46; Гас¬
паров М. Л. Очерки истории европейского стиха. М., 1989. С. 119.
504
К. В. РАТНИКОВ
влияние творчества Данте: 1) оригинальные поэтические опы¬
ты — как в молодые, довольно подробно изученные, годы, так
и в поздний, малоисследованный период; 2) теоретическое обо¬
снование попытки просодической реформы отечественного сти¬
хосложения; 3) литературно-критические выступления, в той
или иной форме касавшиеся дантовской темы. Хотелось бы
надеяться, что, вкупе с вышеназванными работами о дантов-
ских мотивах в творчестве Шевырева, данная статья позволит
восполнить досадный пробел в имеющихся представлениях
о колоритном и своеобразном культурном диалоге Шевырева
с Данте — именно диалоге, потому что Шевырев не только ще¬
дро черпал в сокровищнице образов «Божественной Комедии»,
но и предложил оригинальное истолкование некоторым сторо¬
нам творческой деятельности Данте, стремясь придать выве¬
ренное русское звучание его гармоничным терцинам и плотнее
интегрировать художественные принципы Данте в творческий
арсенал выдающихся отечественных мастеров слова.
Начать следует с шевыревских стихотворений. Это дикту¬
ется и хронологическими соображениями, и той ролью исход¬
ной точки, каковой явились собственные поэтические опыты
Шевырева, кое в чем инспирированные близким знакомством
с дантовским наследием, для предложенной молодым поэтом
попытки коренной реформы устоявшейся системы русского
стихосложения.
Как известно, период с весны 1829 по осень 1832 г. Шевырев
провел за границей, преимущественно в Италии, сопровождая
княгиню 3. А. Волконскую в качестве воспитателя ее родного
сына Александра и приемного сына Владимира Павея. Впол¬
не естественно, что Италия и в особенности «веками славный
Рим» воспринимались Шевыревым, судя по его дневнику и сти¬
хам той поры, в первую очередь как живой исторический и эсте¬
тический комментарий к классической эпохе древнеримской
культуры. Сознательным стремлением к такому наложению ли¬
тературного и историко-эстетического пластов обусловливалась
рьяно предпринятая Шевыревым программа по перечитыва¬
нию в подлиннике римских классиков — прежде всего, Горация
и Вергилия — непосредственно «на месте», в виду тех архитек¬
турных памятников и природных ландшафтов, образы которых
были запечатлены поэтами древности. Таким образом, основы
Данте в творчестве С. П. Шевырева
505
принципа исторического изучения литературы, последователь¬
но проводившегося Шевыревым позднее в его специальных
научных трудах, были заложены уже в годы его первого загра¬
ничного путешествия. Шевырева с самого начала интересовала
историческая реконструкция тесных взаимосвязей, существо¬
вавших между поэтами и временем, в котором они жили. Имен¬
но такой широкий историко-контекстный подход был применен
им и при написании работы «Дант и его век», самим заглавием
указывающей на историзм положенной в ее основу исследова¬
тельской методики.
Для рассматриваемой нами дантовской темы важно то, что
богатые предания Древнего Рима и его культуры не заслонили
от внимания Шевырева Италию последующих веков, Италию
Данте и Петрарки, с творчеством которых, в отличие от ранее
уже хорошо известного ему художественного наследия антично¬
сти, созданного на латыни, он подробно познакомился только
теперь. И главным фактором в этом знакомстве стало изучение
Шевыревым итальянского языка, предпринятого, как он отме¬
чал в автобиографии 1854 г., специально в историко-литера¬
туроведческих целях: «В Риме же изучил италиянский язык
и, при руководстве опытного учителя Соци, читал с коммента¬
риями Данта, Петрарку, Боккаччио, Ариоста, Tacca, соединяя
с историею итальянской литературы историю Италии средних
веков»*. Способность Шевырева к языкам, лингвистическая
одаренность молодого филолога оказалась столь велика, что
итальянский он освоил безукоризненно и даже, по свидетель¬
ству своего верного друга М. П. Погодина, говорил по-итальян¬
ски как итальянец.
И вот это-то чтение поэтов средневековой Италии наложило
очень яркий и выразительный отпечаток на собственное поэти¬
ческое творчество восприимчивого и пылкого Шевырева. Ле¬
том 1830г., со знаменательным указанием «Рим», помечено
программное для молодого Шевырева стихотворение «Чтение
Данта», пересланное им в Россию и опубликованное в дельви-
говском альманахе «Северные цветы» на 1831 г.:
* Здесь и далее (без повторных библиографических отсылок) цитаты из ав¬
тобиографии С. П. Шевырева приводятся по изданию: Биографический
словарь профессоров и преподавателей императорского Московского уни¬
верситета. М„ 1854 С. 608.
506
К. В. РАТНИКОВ
Что в море купаться, то Данта читать:
Стихи его тверды и полны,
Как моря упругие волны!
Как сладко их смелым умом разбивать!
Как дивно над речью глубокой
Всплываешь ты мыслью высокой:
Что в море купаться, то Данта читать*.
В этих ритмичных строках явственно так и слышится вос¬
торженное упоение энтузиаста, одновременно и радующегося
преодолению немалых трудностей при усвоении чужого язы¬
ка, и охваченного сильным художественным наслаждением
от приобщения к выдающемуся эстетическому произведению,
полному дивной гармонии и высокой мысли. А если вспомнить,
что как раз установка на создание «поэзии мысли» стала актив¬
ной творческой программой, развернутой Шевыревым-поэтом
и Шевыревым-критиком уже по возвращении в Россию, то у нас
есть все основания уточнить генезис этой программы, поставив
у ее истоков фигуру Данте, покорившего Шевырева всеобъем¬
лющим масштабом своего творчества и ставшего для него своего
рода идеальным образцом поэта-мыслителя. И в этом контексте
особенно показательно, что некоторым современникам Шевы¬
рева, весьма далеким от его концептуальных устремлений, так
и остался неясен внутренний смысл обращения к Данте, а в ху¬
дожественно убедительном и вполне оправданном сравнении
строгой ритмики дантовских терцин с неукротимо набегаю¬
щими волнами моря им увиделись только стилевая какофония
и безвкусица, вызывавшие едкие насмешки со стороны посто¬
янного непримиримого оппонента Шевырева В. Г. Белинского.
Образ чтения-купания так ему запомнился, что он неоднократ¬
но обыгрывал его в последующем — то в частном письме к так¬
же предубежденному против Шевырева А. И. Герцену («Начал
было я читать Данта, то есть купаться в море...»), то в полемиче¬
ском выпаде журнальной статьи: «С тридцатых годов критика
г. Шевырева приняла какое-то qimsi-итальянское направление;
по крайней мере, он беспрестанно, и кстати и некстати, тол¬
ковал о Данте, Петрарке и Tacce, говоря о русских писателях.
В эту-то итальянскую эпоху своей критики г. Шевырев, во-пер¬
* Поэты 1820-1830-х годов: В 2 т. Л., 1972. Т. 2. С. 194.
Данте в творчестве С. П. Шевырева
507
вых, напечатал знаменитое свое стихотворение, названное им
«Чтение Данта» и начинающееся этим бессмертным стихом:
Что в море купаться, то Данта читать!.. » *
Впрочем, о дантовском следе в литературной критике Шевы¬
рева разговор еще впереди, а пока следует указать на дальней¬
шее развитие и углубление темы Данте в итальянских поэтиче¬
ских опытах Шевырева. По ним хорошо видно, как происходило
окончательное закрепление образа творца «Божественной Ко¬
медии» в системе эстетических координат и художественных
ценностей Шевырева. Перед нами своеобразная символизация
фигуры Данте, уже не просто отождествляющегося в восприя¬
тии Шевырева с поэтом-мыслителем, а решительно перераста¬
ющего любые ограниченные формы поэзии и олицетворяющего
собой лирическую поэзию в целом. Именно в таком качестве,
как полноправный и неотъемлемый элемент триады «эпос-ли¬
рика-драма», предстает Данте в еще одном стихотворении Ше¬
вырева того же 1830 г., символично озаглавленном «Тройство»:
Я, в лучшие минуты окрыляясь,
Мечтой лечу в тот звучный, стройный мир,
Где в тройственный и полный лик сливаясь,
Поют Омир, и Данте, и Шекспир, —
И радости иной они не знают,
Как меж собой менять знакомый стих,
И между тем как здесь шумят за них,
Как там они друг друга понимают!**
О том, что уже со времени первого итальянского путеше¬
ствия Данте становится для Шевырева обобщенным символом
лирической поэзии, ясно свидетельствует указание в уже ци¬
тировавшейся автобиографии. Приводя сведения о своих слу¬
жебных обязанностях в 1840-е годы по кафедре отечественной
словесности, Шевырев сообщает (в третьем лице) о разработан¬
ных им лекционных курсах: «Для студентов же высших курсов
* Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1982. Т. 9. С. 602; Там же.
М., 1981. Т. 7. С. 344.
" Поэты тютчевской плеяды. М., 1982. С. 285.
508
К. В. РАТНИКОВ
в своем факультете он читал поочередно в одном году историю
русской словесности, в другом историю всеобщей поэзии, со¬
средоточивая обширность предмета в изучении трех главных
поэтов Европы: Гомера, Данте и Шекспира как представителей
трех родов поэзии: эпоса, лиры и драмы». Более того: не огра¬
ничиваясь университетской аудиторией, Шевырев в 1846/1847
академическом году выступил с чтением уже второго (после
курса 1844/1845 г. по русской литературе, преимущественно
древней) публичного лекционного курса, адресованного просве¬
щенной элите московского общества, — «Об истории всеобщей
поэзии», состоявшего из 29 лекций и, по журнальному отчету
самого Шевырева, сосредоточенному «около трех главных поэ¬
тов: Гомера, Данта и Шекспира. На них же показан с тем вместе
и способ критического изучения поэтов» *. Последнее замечание
лишний раз подтверждает стойкость принципов историзма при
филологических штудиях, эмпирически опробованных Шевы-
ревым еще в 1829-1832 г. при сличении классических текстов
с архитектурными и ландшафтными «показаниями» местно¬
сти, а затем, как видим, ставших прочной доминантой его исто¬
рико-литературных работ и лекционных чтений. И творческому
наследию Данте в становлении шевыревского научного исто¬
ризма принадлежит далеко не последняя роль, как это явствует,
в частности, из авторского конспекта публичного лекционного
курса, где под номером 22 значится лекция на тему: «Биогра¬
фия Данта в связи с его веком», и лишь последующими номе¬
рами — с 23 по 25 — идут изложение и разбор «Божественной
Комедии».
Вернемся, однако, к стихам Шевырева. Годом позже, вслед
за «Чтением Данта» и «Тройством», в 1831г., по-прежнему
живя в Риме, Шевырев пишет еще одно «дантовское» стихот¬
ворение — «Камень Данта», весьма любопытное тем, что в нем
проведена неожиданная, на первый взгляд, параллель между
Данте и новейшим гением мировой поэзии — лордом Байро¬
ном. Первая строфа ясно говорит о типичном для романтиче¬
ского мироотношения, резко противопоставляющего художни¬
ка и толпу, высочайшем пиетете, испытываемом Шевыревым
к великому флорентийскому изгнаннику, а спонтанное появ¬
* Шевырев С. П. Московская летопись за 1847 год // Москвитянин. 1848.
4.1. № 1.С. 19 (Раздел «Московская летопись»).
Данте в творчестве С. IL Шевырева
509
ление второй, «байроновской» строфы объясняется в письме
Шевырева к Погодину: «Прочел последние три тома «Записок
Байрона» — и как это приятно! Внизу читаю о его любви к гр(а-
фине) Гвиччиоли, а из верхнего этажа слышу ее звуки. Она жи¬
вет над нами, — и я всегда засыпаю под ее голос: играет и поет
до полночи и, кажется, живет музыкой. Пиеса к ней относит¬
ся...»*. В результате у Шевырева получился весьма оригиналь¬
ный диптих, обе части которого, как представляется, соедине¬
ны не только ситуативно (камень поэта Данте перед гостиницей,
где обитает бывшая возлюбленная поэта Байрона), но и неким
внутренним, пусть только подразумеваемым, единством сюже¬
та: Байрон, воспевавший свою любовь к красавице-итальян¬
ке, духовно сродни великому итальянцу Данте, бессмертному
певцу Беатриче. Однако сам характер любви двух поэтов четко
различен: если перед поистине небесной любовью Певца-Данте
романтичный юноша благоговейно склоняет голову, то в возлю¬
бленной британского барда-Орла тот же юноша видит прежде
всего «грешную мечту». Таким образом, любовь Данте оказыва¬
ется качественно иной, гораздо более высокой, благодаря чему
и получает наглядный приоритет, явственно закрепленный
в композиции стихотворения: имя Данте вынесено в заглавие,
а имя Байрона появляется только в финале.
На площади столичной незамечен,
Ничтожный камень в прахе возлежал:
Его прохожий, хладен и беспечен,
Презрительно стопою попирал.
Но камень тот Певец отдохновеньем
От горних мук навеки освятил:
И странник днесь идет к нему с почтеньем,
И юноша не раз главу склонил,
И дрожь берет надменного педанта,
Когда на нем читает: Камень Данта!
В красавицах полуденных краев
Одна цвела красою незаметной,
Пока на ней Орла земных певцов
Не опочил случайно взор приветный, —
Он к ней на грудь с своих небес летал,
* Цит. по: Шевырев С П. Стихотворения. Л., 1939. С. 230.
510
К. В. РАТНИКОВ
От горнего полета утомленный, —
И луч певца над нею воссиял, —
И юноша, лучом тем ослепленный,
В ней полюбил не цвет, не красоту,
Но грешную Байронову мечту*.
На этой высокоромантической ноте образ Данте на дол¬
гие годы уходит из оригинальных стихотворений Шевырева,
но продолжает неотступно присутствовать в его переводче¬
ской деятельности, реализуясь многократными попытками
осуществления перевода первой части «Божественной Коме¬
дии» — «Ада». Насколько можно судить по недавно опубли¬
кованным (не полностью) итальянским дневникам Шевыре¬
ва 1829-1830 гг., самые первые подступы к переводу «Ада»,
а именно начала третьей песни, знаменитой надписи над адски¬
ми вратами, относятся еще к первому итальянскому путеше¬
ствию Шевырева, тогда как перевод второй и четвертой песен
«Ада» был выполнен через десятилетие, в период второго по¬
сещения Шевыревым Рима в 1839 г. Между двумя этими пере¬
водами — не только разрыв во времени, но и, что гораздо при¬
мечательнее, коренное различие в самих принципах перевода,
в самом подходе к воспроизведению на русском языке системы
стихосложения, применявшейся Данте. И в этом отношении
намного более интересна как раз первая попытка перевода,
осуществленная средствами силлабики, совершенно забытой
и заброшенной к тому времени русскими поэтами, принявши¬
ми, с подачи Ломоносова, иную просодическую систему. Од¬
нако для Шевырева, не побоявшегося пойти наперекор усто¬
явшейся традиции стихосложения, первостепенную важность
имело точное, адекватное воссоздание звучания подлинника,
насколько это возможно на другом языке, который хотя во мно¬
гом и близок итальянскому, как считал Шевырев, но втиснут
в рамки абсолютно иной ритмической системы. Значит, следо¬
вало сбросить эти оковы и писать по-русски так, как этот язык
должен был бы зазвучать, если бы в него была внедрена ита¬
льянская просодическая система. Именно к такому калькиро¬
ванию принципов итальянского стихосложения и прибег Ше¬
вырев в своем переводе:
* Там же. С. 76.
Данте в творчестве С, П. Шевырева
511
«Мною входят в ряд скорбей безутешных,
Мною входят в мученье без конца,
Мною входят в обитель падших грешных.
Правда подвигла моего Творца
Властию Бога, высшей мощью знанья
И первою любовию Отца.
Я создана до всякого созданья,
Кроме предвечного, — и нет конца мне.
Входящие — сложите упованья».
Сии слова на темноцветном камне
Поверх ворот увидел я, смятенный,
И рек: «Учитель, речь сия жестока мне», —
И отвечал вожатый искушенный:
«Да совлекутся здесь твои сомненья,
Да у мертвится всякий страх презренный!»
Мы прибыли ко месту назначенья...*
Тогда, в начале 1830-х годов, по возвращении из Италии, Шевы-
рев в своей переводческой работе временно переключился с Данте
на Тассо и выпустил в свет написанный по тем же принципам ита¬
льянской системы силлабического стихосложения перевод седь¬
мой песни «Освобожденного Иерусалима». Как известно, перевод
был встречен крайне негативными оценками, сводившимися,
по большей части (особенно у «неистового Виссариона»), к изде¬
вательским насмешкам, что, по-видимому, заставило Шевырева
отказаться от дальнейшего перевода Тассо и послужило причиной
приостановки работы над переводом дантовского «Ада». Возоб¬
новлен этот труд был в большой тайне от всех лишь через несколь¬
ко лет, за границей, в Риме, а продолжен в тихом Мюнхене, где
Шевырев по служебному поручению провел лето 1839 г. В сохра¬
нившейся части переписки Шевырева с Н. В. Гоголем ярко отраз¬
ились колебания переводчика, сомневавшегося в качестве своего
труда и почти нехотя, невольно обмолвившегося о нем Гоголю,
который искренне «обрадовался» такому «огромному предприя¬
тию» своего старшего друга: «Ты за Дантом! ого-го-го-го! и об этом
ты объявляешь так, почти в конце письма.... Но не совестно ли тебе
не приложить в письме двух-трех строк? Клянусь моим честным
словом, что желание их прочесть у меня непреодолимое! О, как
* См.: Илюшин А. Л. Русское стихосложение. М., 2004. С. 202-205.
512
К. В. РАТНИКОВ
давно я не читал стихов! а в твой перевод я верю, верю непрелож¬
но, решительно, бессомненно. Это мало, что ты владеешь стихом
и что стих твой силен: таким был он и прежде; но что самое глав¬
ное и чего меньше было у тебя прежде, это внутренняя, глубокая,
текущая из сердца поэзия: нота, взятая с верностью удивительною
и таким скрипачом, у которого в скрипке сидит душа»*.
Как видно из ответного письма Шевырева, лирически-экс-
прессивная оценка Гоголя вывела его из состояния неуверен¬
ности и колебаний, — и он, под условием сохранения строгой
тайны, поделился со своим венским адресатом только что закон¬
ченным переводом четвертой песни «Ада»: «Что будешь делать
с тобой? Ты меня так умаслил, что решился показать тебе свою
тайну, но только тебе да Погодину, который уж об ней знает.
Читай. Благословишь ли? Ты меня так утешил письмом своим,
что я ну читать стихи свои. Сначала трусил, но потом, прочитав¬
ши, решился. Посылаю».
В виде автокомментария к своим переводческим принципам
Шевырев указал на сознательно допущенное им нарушение
правила альтернанса, предполагавшее строго упорядоченное
чередование мужских и женских рифм в немецкой и француз¬
ской поэзии — образцах для русского стихосложения, но вовсе
не имевшее значения в поэзии итальянской, внешние формы
которой старался как можно ближе к подлиннику воспроизве¬
сти переводчик: «Рифмам мужеским и женским я дал развод,
как делают немцы: но это разрешил мне и сам Пушкин». Одна¬
ко эта оговорка лишь подчеркивает, насколько далеко Шевырев
отошел теперь от смелых принципов первоначального перевода
дантовской поэмы силлабическим стихом. К недоконченному
переводу третьей песни он уже не возвращался, а переведен¬
ные им вторая и четвертая песни оказались последовательно
выдержаны во вполне традиционных рамках 5-стопного ямба.
Таким образом, все былое новаторство сводилось отныне лишь
к свободному сочетанию в смежных строках женских рифм, что,
конечно же, нисколько не могло соответствовать некогда дер¬
зостным планам решительного преображения русского стиха
по образцу итальянских 11-сложников.
* Здесь и далее (без повторных ссылок) цитаты из переписки С. П. Шевыре¬
ва и Н. В. Гоголя приводятся по изданию: Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т.
М., 1988. T. 2. С. 286-290.
Данте в творчестве С, П. Шевырева
513
Попутно следует обратить внимание на одну выразитель¬
ную деталь: в процессе работы над переводом Данте стал для
Шевырева не просто объектом эстетического изучения, но еще
и значимым духовным собеседником, к чьим мыслям и словам
можно было обратиться в попытке разрешения сложных психо¬
логических коллизий, в которых оказался Гоголь — адресат ше-
выревского письма, ободривший его на продолжение творческо¬
го труда, но сам жаловавшийся на затянувшуюся неспособность
к работе. Стремясь вывести друга из состояния творческого кри¬
зиса, Шевырев полушутя-полусерьезно апеллирует к авторите¬
ту Данте, столь многое значащего и для него, и для Гоголя: «Но,
друг, условие: чтоб и ты работал. ... Я тебе опять скажу на лень
твою стихами из другой песни Данта, мною начатой:
Коль речь твою перевести на дело, —
Великого проговорила тень, —
Душа твоя от страха обомлела.
Им часто в душу проникает лень:
От подвига он гонит нас, пугая,
Как призрак зверя, как померкнет день».
Ответ Гоголя, как и следовало ожидать, был в высшей сте¬
пени благоприятен для переводчика: «Благодарю за письмо,
а за стихи вдвое. Прекрасно, полно, сильно! Перевод, каков дол¬
жен быть на русском языке Данта. Это же еще первые твои пес¬
ни, еще не совершенно расписался ты, а что будет дальше! Люби
тебя Бог за это, и тысячи тебе благословений за этот труд». Учи¬
тывая знакомство Гоголя с итальянским языком, с поэмой Дан¬
те и тонкое эстетическое чутье, такая оценка выходила за рам¬
ки обычного дружеского комплимента и приобретала характер
полноценного критического суждения и перспективного про¬
гноза на будущее. К сожалению, по неясным причинам, пере¬
водческая работа Шевырева над дантовским «Адом» замерла
на двух сообщенных им Гоголю песнях, которые к тому же еще
более трех лет дожидались обнародования и увидели свет лишь
в 1-м номере «Москвитянина» за 1843 г., пройдя практически
незамеченными и так и оставшись хотя и очень ярким и законо¬
мерным, но все-таки лишь коротким эпизодом в шевыревской
переводческой деятельности.
514
К. В. РАТНИКОВ
Дантовские мотивы вновь возникают в поэзии Шевырева
только через два десятилетия после оборвавшейся работы над
переложением «Ада» и относятся уже к совершенно другой эпо¬
хе, связанной с либеральным оживлением в русском обществе
под влиянием близящейся крестьянской «эмансипации» и по¬
лучаемых вестей о национально-освободительном движении
итальянского народа за независимость и единство отечества.
Проникнутый самыми искренними симпатиями к Италии, го¬
товящийся уехать туда для необходимой передышки от личных
потрясений и неудач на родине, Шевырев пишет датированное
26 апреля 1859 г. патетическое обращение «К Италии», попав¬
шее в печать (на страницы «Русской старины») уже через мно¬
го лет после смерти автора, в 1886 г. В этом поэтическом при¬
ветствии великий представитель народа Италии Данте, вместе
с Галилеем, предстает уже не столько олицетворением искус¬
ства, сколько выразителем свободного, несгибаемого, вольно¬
любивого духа, испокон веков присущего итальянскому народу
и только теперь обретающего наконец политическое оформле¬
ние в ходе государственного объединения итальянских земель.
Таким образом, в поэтической мысли Шевырева славное про¬
шлое Италии соединяется с ее героическим настоящим, а инте¬
грирующей силой в этом духовном единении народа с заветами
своей истории выступает бессмертный автор «Божественной
Комедии».
И для тебя настал свободы миг,
Раба своих тиранов и чужих! <...>
О, кто тебе, красавица, из нас
Не скажет вслух: Бог помочь! в добрый час!
Пошли тебе Господь свой дар — свободу —
И за твою счастливую природу, <...>
За славное от Бога назначенье
Два раза дать народам просвещенье,
За то, что некогда в семье твоей
И пел твой Дант, и мыслил Галилей,
За то, что ты через века страданий
Спасла ковчег народных упований*.
* Поэты 1820-1830-х годов: В 2 т. Л., 1972. Т. 2. С. 202.
Данте в творчестве С. П. Шевырева
515
Такую характерную эволюцию — от эстетического напол¬
нения до политических ассоциаций — претерпела дантовская
тема в поэтическом творчестве Шевырева. Однако необходимо
оговориться, что как оригинальные, так и переводные поэтиче¬
ские опыты Шевырева самым тесным образом связаны с раз¬
рабатывавшейся им в первой половине 1830-х годов целостной
реформой системы русского стихосложения, с попытками вне¬
дрения в арсенал традиционных поэтических форм отечествен¬
ной поэзии столь экзотической для тогдашней русской лирики
формы, как итальянская октава. Рассмотрению этого аспекта
литературной деятельности Шевырева посвящены многочис¬
ленные обстоятельные работы, в которых совершенно спра¬
ведливо уделено внимание сильному влиянию, оказанному
на Шевырева-теоретика и Шевырева-практика творчеством
Торквато Тассо. Не случайно именно перевод седьмой песни Тас-
сова «Освобожденного Иерусалима», вкупе с обширным «Рас¬
суждением о возможности ввести италиянскую октаву в русское
стихосложение», сам Шевырев рассматривал в качестве двух
неразрывных компонентов своего эстетического манифеста.
Это, конечно, так, однако при этом из поля зрения позднейших
исследователей как-то невольно ускользнула фигура Данте,
чье творчество и чья поэтическая манера также сыграли нема¬
ловажную роль в обосновании Шевыревым новых принципов
предложенной им просодической реформы. Достаточно внима¬
тельно вчитаться в текст «Рассуждения» в «Телескопе» (1831)
и в сопроводительный комментарий к публикации перевода
седьмой песни «Иерусалима» в «Московском наблюдателе»
(1835), чтобы наглядно удостовериться в заметном «дантовском
следе», оставленном на реформистских принципах Шевырева.
В этой связи весьма знаменательно, что, извещая читате¬
лей (в теоретической преамбуле, предваряющей публикацию
перевода песни из Тассовой поэмы) о том, каким путем он вы¬
шел на осознание необходимости внедрения элементов ита¬
льянской просодической системы в русское стихосложение,
Шевырев прямо указывает на впечатлившие его итальянские
поэтические образцы, причем начинает именно с Данте: «Вслу¬
шивался в сильную гармонию Данта и Tacca...»*. Еще более
красноречивое указание на пример Данте содержится в «Рас¬
* Шевырев С. IT. Стихотворения. Л., 1939. С. 149.
516
К. В. РАТНИКОВ
суждении» — именно в той его части, где Шевырев дает обосно¬
вание целесообразности пополнения арсенала приемов русского
стихосложения за счет творческого усвоения опыта итальян¬
ской поэзии во главе с Данте: «Считаю ненужным говорить
о пользе введения 11-сложного стиха с октавой и терциной в по¬
эзию русскую. Скажу только, что, кроме удовольствия прочесть
по-русски и в тех же звуках Данта, Ариоста, сонеты Петрарки,
Tacca, сей размер возымел бы весьма полезное влияние и на всё
стихосложение русское, отучив его от боевого метра тоническо¬
го и от излишнего влияния строгой немецкой просодии»*. Как
справедливо заметил Е. Г. Эткинд, оценивая значение затевав¬
шейся просодической реформы, «Шевырев ожидает, что пере¬
ворот в русской поэзии наступит благодаря усилиям поэтов-пе¬
реводчиков, которые заимствуют в иностранных литературах
то, что может обогатить отечественную»**. Именно к этой наци¬
ональной пользе для отечественной поэзии и стремился Шевы¬
рев, принимаясь за перевод Данте и Тассо и обосновывая прин¬
ципы предлагаемых им глубоких нововведений.
Первое, на что обратил внимание Шевырев, это различный
характер итальянской и русской систем стихосложения, свя¬
занный с кардинальным различием их восприятия. Если для
поэзии Италии, в том числе и для поэзии Данте, характерна
была, по мнению Шевырева, ориентированность на слуховое
усвоение, то русская поэзия в ее новоевропейских формах была
рассчитана преимущественно на зрительное восприятие: «...
Италиянские стихи пишутся для пения; вот почему пелись, как
известно из истории, терцины Дантовы, поются и теперь ок¬
тавы Tacca и Ариоста. Наши же северные стихи пишутся для
чтения, — и потому нам нужен искусственный, тонический
размер, нужна декламация». Тезис о фонетической, песенной
доминанте итальянской поэзии Шевырев подкрепляет харак¬
терной отсылкой к крупнейшему ее представителю — Данте:
«Известный анекдот из жизни Данта, как он побил одного му¬
жика, который гнал осла и, распевая его терцины, ко всякому
* Здесь и далее (без повторных отсылок) все цитаты из работы
С. П. Шевырева «О возможности ввести италиянскую октаву в русское
стихосложение» приводятся по единственной публикации: Телескоп.
1831. Ч. VI. № 11. С. 124-156; Ч. 6. № 12. С. 224-258.
" Эткинд Е, Г. Указ. соч. С. 45.
Данте в творчестве С. П. Шевырева
517
стиху прибавлял: appi! appi! (соответствующее нашему: ну! ну!),
показывает, что стихи Данта пелись простым народом».
Таким образом, в качестве основы итальянской системы сти¬
хосложения Шевырёв провозглашает «природный речитатив»,
роднящий поэзию с оперным искусством. Из этого утвержде¬
ния логически проистекало признание неприменимости к ита¬
льянской системе стихосложения традиционной «тонической»
терминологии, требующей существенной корректировки вслед¬
ствие обилия промежуточных форм: «Читая Данта, вы встречае¬
те то чистые ямбы, то дактило-хореи, то хореи с ямбами, и проч. »
Но не лучше ли тогда совсем отказаться от навязывания живому
языку механически размеренной «тонической» системы и ста¬
раться придать стиху свободный характер «словесной музыки»,
поскольку «гармония поэтическая не любит монотонии: ее надо
растворять мелодией» ? К этому выводу и подводит читателей ав¬
тор «Рассуждения» в очередной раз указывая на пример Данте,
своим высоким авторитетом как бы освящающего реформист¬
ский пафос Шевырева: «Взгляните особенно на смелость Данта,
творца поэзии италиянской. Он всяким звуком в народе пользу¬
ется, не только словом; он всё подслушал — и всё у него пошло
в дело. Ведь всегда так бывает: народ создает язык, а поэт вдыха¬
ет в него мысль, душу живу. Летите смелее за орлом Италии. По¬
зволяйте себе всё, но помня одно святое правило: не оскорбляйте
уха народного, а говорите народу его же звуками».
Дальнейший ход мысли привел Шевырева к утверждению
безусловного «права на родство нашего языка с италиянским»,
а следовательно, и на возможность свободно переносить отдель¬
ные элементы итальянской системы стихосложения, базирую¬
щейся на природных свойствах языка, в русскую систему сти¬
хосложения, коренящуюся в близкородственном, с точки зрения
Шевырева, языковом материале: «Теперь мы пишем стихи для
чтения, но прежде так ли писали? — Нет, писали для пения, и без
музыки нельзя объяснить меры во многих наших песнях». Поэ-
тому-то автор «Рассуждения о возможности ввести италиянскую
октаву в русское стихосложение» столь оптимистично смотрел
на поставленную задачу и прямо призывал, широко используя
в русской поэзии итальянские 11-сложники, «дружиться в гар¬
монии с теми из иностранных языков, которые чище сохраняют
первоначальную свежесть, ясность, плавность, первоначальную
518
К. В. РАТНИКОВ
музыку звуков, как, напр., с языком италиянским...». Одной
из важнейших форм такой «итализации» русской системы сти¬
хосложения призвано было стать, по мнению Шевырева, разре¬
шение на использование в рамках прежнего строго «тонического
размера» фонетических элизий, образующихся за счет гармо¬
ничного слияния соседних гласных, которые тем самым «при¬
дадут стиху русскому удивительное благозвучие, сообща ему эти
гармонические переливы звуков гласных, в которых заключает¬
ся одна из тайн музыкальности стиха италиянского; отучат стих
русский от его боевой монотонности, сообщенной ему тониче¬
ским размером, и дадут ему плавность и певкость». Примеры та¬
ких гармонических элизий Шевырев приводит не только из октав
Тассо, но и из дантовских терцин, лишний раз опираясь в своей
реформе на непререкаемый авторитет «высочайшего поэта».
Однако здесь перед реформатором вставала еще одна специ¬
фическая трудность, связанная с попыткой перенести на рус¬
скую почву итальянскую систему упорядоченной рифмовки ок¬
тав и терцин, что, естественно, потребовало бы изобилия рифм.
А есть ли в русском языке, в отечественном «рифмаре» достаточ¬
ный запас для этого? Есть, отвечает Шевырев гипотетическим
скептикам — и для решения возникшей проблемы предлагает
реформировать еще и систему рифмовки, расширяя ассортимент
рифменных созвучий за счет более смелого применения глаголь¬
ной рифмы, допущения рифмы неточной и в том числе составной,
что было экзотикой и крайней редкостью в ту пору. Активно стре¬
мясь «легализовать» неточные и составные рифмы, Шевырев
опять-таки апеллирует к общепризнанному авторитету творца
«Божественной Комедии», а вовсе не к более скромному, по срав¬
нению с дантовским, авторитету Тассо: «Некоторые литераторы
нападают еще на рифмы, составленные из слов с частицами, как,
напр., хочу я и почуя, Юлия и могу ли я; но укажу им в пример
Данта, который рифмует sconcia и non ci ha, переносит половину
слова в другой стих, как, напр., в XXIV песни: Par. Differente —
mente. (Это и не ошибка в том языке, где всякое слово выгова¬
ривается протяжно и, след., всякой звук в нем заметен. Это зна¬
чит только, что Дант постигал свойство своего языка. У нас это
едва ли было бы возможно.) Но мало ли У него смелостей?»
Из приведенных примеров воочию видно, какую существен¬
нейшую роль сыграло творческое наследие Данте в обосновании
Данте в творчестве С. IL Шевырева
519
Шевыревым просодической реформы русского стиха. По сути
дела, не только Тассо (в явной форме), но и Данте (подспудно)
явились теми образцами, по которым Шевырев-теоретик и Ше-
вырев-переводчик предлагал перестроить русское стихосложе¬
ние, вернув ему некогда утраченное напевное начало. Отрица¬
тельная реакция критиков и коллег-поэтов вынудила Шевырева
отказаться от своих экспериментальных попыток создания рус¬
ских вариантов итальянских 11-сложников, но сам прецедент,
несмотря на неудачу, весьма показателен: творческий опыт ве¬
ликого флорентийца, своеобразно интерпретированный Шевы¬
ревым, имел шансы стать частью русской поэтической системы,
а оказался лишь эпизодом художественных исканий и новаций
самого Шевырева.
Теперь остается рассмотреть дантовскую тему в литера¬
турно-критической деятельности Шевырева. С некоторой до¬
лей условности можно выделить два контекстуальных блока:
во-первых, проницательный анализ Шевыревым образов, мо¬
тивов и приемов художественного мастерства Данте в творче¬
стве русских литераторов; во-вторых, его отклики на переводы
дантовской поэмы и выходящие в свет исследования о жизни
и творчестве создателя «Божественной Комедии». Первый блок
количественно преобладает, что и неудивительно, поскольку
Шевырев как литературный критик оставался преимуществен¬
но в рамках отечественного материала.
Самое раннее по времени критическое суждение «по дантов-
скому поводу» датируется 1836 г. и относится к разгромной ре¬
цензии на драматическую фантазию Н. В. Кукольника «Джулио
Мости». Эскизно изображая итальянский антураж действия, то¬
ропливый Кукольник, вовсе не стремившийся в своей фантазии
воспроизвести исторически достоверные черты старой Италии,
вывел образ итальянского поэта-импровизатора, поклонни¬
ка своего великого соотечественника Данте. Сделано это было,
как и многое у наивного романтика Кукольника, не слишком-то
удачно, на что обоснованно и указал Шевырев: «По стихам его,
по импровизациям Веррино, поэта, выведенного им, заметно,
что он никогда не наслаждался стихами Данта и Петрарки»*.
* Шевырев С. П. Перечень «Наблюдателя»: «Джулио Мости».— «Воспо¬
минания о Сицилии». — Издание русских классиков: Кантемир // Мо¬
сковский наблюдатель. 1836. Ч. VI. Март. Кн. 2. С. 246.
520
К. В. РАТНИКОВ
Но это быль лишь эпизод. Гораздо более обстоятельно интер¬
претации дантовских образов у русских литераторов Шевырев
коснулся спустя пять лет, в 1841 г., рассматривая вышедшие
из печати девятый, десятый и одиннадцатый тома посмертно¬
го собрания сочинений Пушкина. Друг Пушкина и ценитель
Данте, Шевырев просто не мог не обратить особого внима¬
ния на так называемые подражания Данту («В начале жизни
школу помню я...» (1830), «И дале мы пошли — и страх обнял
меня...» (1832)), написанные Пушкиным терцинами, что вы¬
зывало у публикаторов пушкинского наследия четкие ассоциа¬
ции с дантовской поэмой. Отзыв Шевырева, глубокого знатока
творчества Дантб, об этих пушкинских опытах-стилизациях
представляется настолько существенным и верным, что за¬
служивает быть приведенным полностью, вряд ли нуждаясь
в каких-то дополнительных комментариях: «В подражаниях
Данту Пушкин завещал нам образцы превосходных русских
терцин пятистопной и шестистопной длины: удивительно, как
великий художник успевал во всем дать пример и указать путь.
Те ошибутся, которые подумают, что эти подражания Данту —
вольные из него переводы. Совсем нет: содержание обеих пьес
принадлежит все самому Пушкину. Но это подражание Данту
только по форме и по духу его поэзии. Первое из них, аллегори¬
ческого содержания, подражает более по форме: это пятистоп¬
ная русская терцина, совершенно близкая к дантовской, с тою
только разницей, что в ней рифмы мужеские и женские пере¬
мешаны по строгим правилам русской просодии. Что касается
до аллегории, в ней содержащейся, то она к Данту самому ни¬
сколько не относится. — Второе подражание гораздо замеча¬
тельнее. Оно писано также терциною, однако шестистопною,
и потому внешнею формою отходит от терцины дантовской.
Но дух всей этой пьесы и пластические стихи, доведенные
до высшей степени совершенства, до того напоминают дух
и стиль Данта в некоторых песнях «Ада», что удивляешься на¬
шему славному мастеру, как умел он с одинаковою легкостью
и свободою переноситься в дух древней греческой Поэзии,
восточной, в Шекспира и в Данте. Многообъемлющему гению
Пушкина все было возможно. Чего он не знал, то отгадывал
творческою мыс л ию. — Картины печеного ростовщика и этой
стеклянной горы, которая
Данте в творчестве С. П. Шевырева
521
Звеня, растрескалась колючими звездами, —
вы не найдете у Данта; но они созданы совершенно в его духе
и стиле, и он бы сам, конечно, от них не отказался. Всё это подра¬
жание можно назвать дополнением к XVII, XXI и XXII песням
его «Ада». Но те опять ошибутся, которые подумают, что вся
Дантова поэма состоит из подобных картин. Она так же разно¬
образна, как мир Божий и мир человеческий, как мир доброде¬
тели и греха. Пушкин написал подражание только тем песням,
в которых Данте казнит самые низкие пороки человечества: это
фламандские картины в стиле Рубенсова «Страшного суда».
Жаль, что поэт наш не нарисовал нам чего-нибудь грациозного
или высокого в стиле Данта: как бы ему это было доступно! Его
пластический стих имеет много родства со стихом славного то¬
сканца — и едва ли в каком-нибудь народе можно найти формы
столь готовые для передачи красот этой поэзии, как в стихе рус¬
ском, так как выделал его Пушкин могучим резцом»*.
Позднее, в «Очерках современной русской словесности»
(1848), Шевырев варьировал эту бесспорную для него мысль,
вновь провозглашая внутреннее родство между художествен¬
ными гениями Пушкина и Данте: «По многим произведениям
Пушкина можно отгадать, как бы древние поэты Греции и Рима
и новые: Дант, Ариост, Парни, Байрон, Гёте, Шекспир создава¬
ли по-русски, если бы родились русскими»**.
Намного сложнее и уже не столь однозначно обстоит дело
с шевыревской интерпретацией дантовских творческих прие¬
мов, якобы присущих зрелому Гоголю. Впрочем, в этом случае
могла неосознанно сказаться сердечная благодарность за пане¬
гирический отзыв Гоголя о переводах самого Шевырева из «Бо¬
жественной Комедии». Не потому ли Шевырев, в свою очередь,
так щедр на пафосные интонации и весьма лестные для Гого¬
ля параллели: «Говоря об этой полуденной стихии в поэме Го¬
голя, как забыть чудные сравнения, встречающиеся нередко
в «Мертвых душах»! Их полную художественную красоту мо¬
жет постигнуть только тот, кто изучал сравнения Гомера и ита-
* Шевырев С. П. * Сочинения» Александра Пушкина. Томы IX, X и XI //
Москвитянин. 1841. Ч. V. № 9. С. 252.
** Шевырев С П. Очерки современной русской словесности. Статья 2 // Мо¬
сквитянин. 1848. Ч. II. № 4. С. 96 (Раздел «Критика»).
522
К. В. РАТНИКОВ
лиянских эпиков, Ариоста и особенно Данта, который, один
из поэтов нового мира, постиг всю простоту сравнения гомери¬
ческого и возвратил ему круглую полноту и окончанность, в ка¬
ких оно являлось в эпосе греческом. Гоголь в этом отношении
пошел по следам своих великих учителей»*. Хорошо понимая,
что такое утверждение требует веских доказательств, Шевырев
(не без некоторой натяжки) действительно находит их в тек¬
сте гоголевской поэмы: «Вот сравнения из Данта: “Как овеч¬
ки выходят из затвора по одной, по две, по три, а другие стоят
робкенькие (timidette), опустив к земле глаза и рыльцо, и что
делает первая, за нею делают и другие, прислоняясь к ней сза¬
ди, если она остановится, просты и тихи, а почему так делают,
не знают... Так двигались души...» (Чист. П. 3). «Подобно тому
как слетаются на ниву голуби и клюют ячмень или просо, ти¬
хие, без обычного своего воркованья, а если что-нибудь вдруг
их испугает, внезапно покидают они свою притраву, потому что
постигла их важнейшая забота: так и эта свежая толпа оставля¬
ла берег...”».
Завершая обзор дантовских творческих приемов, взятых
на вооружение автором «Мертвых душ», Шевырев вполне до¬
казательно развивает мысль о ключевом влиянии Италии, ее
природы и искусства на художественную палитру Гоголя. При
этом воздействие Данте на русского писателя, с точки зрения
Шевырева, дополняется и обогащается общим контекстом ита¬
льянской культуры, в которой фигура Данте гармонично соче¬
тается с другими выдающимися итальянскими мастерами вы¬
сокого искусства: «Всё, к чему ни прикасается волшебная кисть
Гоголя, всё живет в его ярком слове, и каждый предмет сквозит
из него и выдается своим видом и цветом. И это свойство своей
фантазии русский поэт мог возвести на такую степень искусства
только там, где творил Дант, где Ариост дружился с Рафаэлем
и в его мастерской, созерцая бессмертную кисть, переносил жи¬
вые ее краски в италиянское жаркое слово. Кто не понимает со¬
чувствия Гоголя к Италии, тот не поймет и всей красоты в пла¬
стическом внешнем элементе его фантазии».
* Здесь и далее (без повторных отсылок) цитаты из статьи С. П. Шевырева
«Похождения Чичикова, или Мертвые души», поэма Н. Гоголя» приво¬
дятся по первой публикации: Москвитянин. 1842. Ч. IV. № 7, С. 208-228;
Ч. IV. № 8. С. 489-506.
Данте в творчестве С. П. Шевырева
523
И вновь, как когда-то на «дантовские» стихи Шевырева,
на это пафосно выраженное критико-эстетическое мнение вос¬
стал шевыревский непримиримый оппонент Белинский, ни¬
сколько не убежденный в правомерности выведения гоголев¬
ской манеры из художественных принципов Данте. Однако,
как это зачастую бывало у Белинского, давно уже избравшего
против Шевырева в качестве наиболее действенного оружия
язвительную насмешку, суть полемики свелась не к контраргу¬
ментам (их и не было у «Висяши», дилетанта в области данто¬
логии), а к личным нападкам; Данте же оказался в этом случае
не более как разменной фигурой, потребовавшейся всего лишь
для очередного выпада против ненавистного «Шевырки»: «Ве¬
роятно, многим случалось видеть людей, которые, побывав
в Париже и возвратясь в Россию, говорят при всяком случае:
«у нас в Париже»? Так некоторые критики, о чем бы они ни го¬
ворили, не могут обойтись без Италии. Один из таковых делает
Гоголя учеником Гомера, Данта и Шекспира. Признаемся, мы
не видим в «Мертвых душах» следов изучения этих великих
образцов. Что автор «Мертвых душ» может совпадать с ними —
против этого не спорим; но причина этого не изучение, а то, что
поэзия не может не совпадать с поэзиею»*.
Нельзя не признать, что столь общие места, в учительном
тоне высказанные Белинским, ничуть не опровергают замеча¬
ний Шевырева, основанных все-таки на гораздо более тщатель¬
ном, хоть и не беспристрастном, изучении специфики творче¬
ства как Данте, так и Гоголя.
Через год после выхода в свет первого тома «Мертвых душ»,
внутренняя ориентированность которых на «Божественную
Комедию» общеизвестна, сколь бы против этого ни возражал
Белинский, Шевыреву выпал случай еще раз скрестить шпаги
с «неистовым Виссарионом», правда, в этом случае весьма опо¬
средованно и не напрямую. Дело касалось выпущенного в Пе¬
тербурге роскошно изданного прозаического перевода дантов-
ского «Ада», выполненного беллетристкой Е. В. Кологривовой,
писавшей под псевдонимом Фан-Дим. Белинский поспешил от¬
кликнуться весьма сочувственной рецензией, отметив целесо¬
образность и даже преимущество прозаического переложения
первой части дантовской поэмы, расхвалив мастерские гравю¬
* Белинский В. Г. Указ. соч. Т. 5. М. 1979. С. 330.
524
К. В. РАТНИКОВ
ры Флаксмана, украсившие книгу, и вовсе не обратив внима¬
ния на существенные огрехи перевода-пересказа, местами
уклонявшегося от строгого следования оригиналу. Однако то,
что не было заметно не слишком-то близко знакомому с творче¬
ством Данте Белинскому, сразу же бросилось в глаза Шевыреву,
читавшему дантовскую поэму в подлиннике и переводившему,
как мы помним, именно первые песни «Ада». Тем более досад¬
но было Шевыреву убедиться в том, что издание некачествен¬
ного перевода Данте оказалось превращено к тому же в явное
коммерческое предприятие, осуществленное сомнительными
методами, о чем он не преминул с раздражением высказаться
в своей рецензии на фан-димовский, с позволения сказать, пе¬
ревод: «В последних номерах “Северной пчелы” прошедшего
года, между разными промышленными и лакомыми рекомен¬
дациями газеты, какой-то г. Юрий Беневольский рекомендовал
публике и русский перевод “Божественной комедии” Данта.
Нельзя не сказать с сожалением, что в одной России только мо¬
гут встречаться подобные явления. Кто этот г. Юрий Беневоль¬
ский? Слыхали ль вы о нем когда-нибудь? Если не слыхали,
то какое же право имеет он рекомендовать публике не только
перевод Данта, но даже и моченую морошку?»*.
В отличие от Белинского, одобрившего переложение «Ада»
на русскую прозу, Шевырев поставил этот опыт весьма невысо¬
ко: «Что касается до перевода, на него должно смотреть не как
на труд изящный и сколько-нибудь достойный оригинала,
но единственно как на объяснительный текст к рисункам Флак¬
смана, — не более». Утверждение это не было голословным —
Шевырев с фактами в руках и с тонким пониманием дела, строка
за строкой, подробно разобрал отдельные фрагменты фан-ди-
мовского переложения и обоснованно пришел к неутешитель¬
ному заключению: «...Мы имеем причины думать, что перевод
едва ли сделан с италиянского подлинника». Мало того: Шевы¬
рев уличил переводчицу в весьма легковесном отношении к взя¬
тому ей на себя труду. Предъявляя мифическому Фан-Диму
совершенно справедливые упреки в отсутствии основательной
научной подготовки и необходимых специальных познаний,
* Здесь далее (без повторных отсылок) цитаты из статьи С. П. Шевыре¬
ва «Критический перечень русской литературы 1843 года» приводятся
по единственной публикации: Москвитянин. 1843. Ч. II. № 3. С. 183-194.
Данте в творчестве С. П. Шевырева
525
Шевырев, методом «от противного», обрисовал свой идеал уче¬
ного-комментатора и поэта-переводчика, указав на те качества,
которыми в обязательном порядке должен обладать добросо¬
вестный профессионал: «Если вы переводите не только Данта,
но даже какой-нибудь роман новой школы, то, конечно, сочтете
долгом прочесть всё произведение от начала до конца, без чего
многое будет вам непонятно. Если же собрались вы переводить
Данта, то, конечно, должны, кроме многократного изучения
текста, изучить поэта в богословском, философском и историче¬
ском отношениях». Ничего этого Шевырев не обнаружил в про¬
заическом переложении «Ада» — отсюда и суровость его нега¬
тивной оценки коммерческого издания поэмы Данте: «Многие
места в прочтенных нами пяти песнях убедили нас, что пере¬
водчик не только не счел за нужное совершить такое изучение,
но даже и не прочел оригинала до конца. Приведем тому дока¬
зательства» .
Доказательства были многочисленными. Здесь уместнее все¬
го привести по первоисточнику лишь наиболее вопиющие при¬
меры сплошь и рядом допущенной переводчицей небрежности,
отмеченные взыскательным дантологом Шевыревым.
«Песнь I, строфы 13 и 14... «В тот миг, когда божественная
благость впервые вдохнула жизнь в этот прекрасный мир»...
В подлиннике вместо благость находится Любовь... «Когда
Божественная Любовь подвигла впервые это прекрасное тво¬
рение». В другом случае поставить на место Любви благость
было бы еще можно; но здесь — значит не иметь понятия о бо¬
гословских началах Данта, служащих основою принятой им си¬
стемы мира. У него Любовь есть начало движения в мире — как
нравственном, так и физическом. Видно, что переводчику неиз¬
вестен вовсе последний многозначительный стих поэмы Данта,
в котором выражается та же самая мысль:
L’Amor che muove il sole e l’altre stelle.
«Любовь, которая движет солнце и другие светила». Эта
мысль проведена через все творение Дантово — и есть одна
из основных во всём его религиозно-философском воззрении.
Переводчик, не зная об ней, может многое перетолковать лож¬
но...
526
К. В. РАТНИКОВ
Песня 3, стр. 1. Знаменитую надпись на двери Ада перевод¬
чик выразил так: «За мной — обитель слез; за мной — вечная
скорбь; за мною— мир падших и осужденных». Во-первых,
нельзя понять, почему изменен оттенок в смысле и не употре¬
блен прекрасный оборот: мною входят, освященный словен¬
ским языком (мною аще кто внидет). Во-вторых, изменение не¬
верно и дает ложное понятие об устройстве Ада. Ад находится
не за дверью, которая прилегает сбоку, а в виде воронки он на¬
полняет внутренность земли».
Кстати, последний пример любопытен как иллюстрация
к собственным переводческим принципам Шевырева, — ведь
работая в свое время над силлабическим переводом начала тре¬
тьей песни «Ада», он употребил именно эту, рекомендуемую
им сейчас конструкцию: «Мною входят в ряд скорбей безутеш¬
ных...»
И вместе с тем надо отметить объективность и беспристраст¬
ность Шевырева, вовсе не считавшего свой вариант перевода
непререкаемым образцом. Завершив разгромное рецензиро¬
вание некачественно выполненного фан-димовского перевода,
Шевырев не преминул указать на существование гораздо более
достойного аналога, имея в виду отнюдь не себя, а совсем дру¬
гого, доселе практически безвестного переводчика: «Пожалуй,
может быть, найдутся люди, которые, по внушению собствен¬
ных чувств, припишут строгую справедливость моего разбора
соперничеству, мне совершенно чуждому. ... В то время, как
я печатал опыт своего перевода, я совершенно не знал о том,
что почти уже весь «Ад» Данта переведен по-русски терцинами,
с близостью и точностью неимоверными и даже с соблюдением
сочетания мужеских и женских рифм, наложенным на стихи
наши прежнею просодиею. Переводчик г. Мин, кажется, вовсе
неизвестен в нашей литературе. Мне были доставлены некото¬
рые песни — ия изумился этому труду, добросовестному и пре¬
красному. В течение многих лет г. Мин изучал подлинник, ов¬
ладел русскою терциною в совершенстве и передает Данта так
близко и верно, что может перещеголять лучших немецких пе¬
реводчиков».
Как известно, в последующие годы отечественными специ¬
алистами-дантологами перевод Д. Е. Мина оценивался бо¬
лее скромно, однако доброжелательный энтузиазм Шевырева
Данте в творчестве С. П. Шевырева
527
в этом случае имел все основания. В самом факте появления
в России такого серьезного и добросовестного труда критик ус¬
матривал необходимый противовес разгулу узкокорыстных,
«торговых» интересов в литературе, приводящих к профаниро-
ванию искусства и девальвации высоких эстетических ценно¬
стей. Именно поэтому переводчик Мин был столь охотно при¬
числен Шевыревым к «светлой стороне» современной русской
литературы, противостоявшей «сторонечерной», олицетворяв¬
шейся для него в ловких дельцах на ниве словесности, подоб¬
ных Фан-Диму, и в невежественных (по мнению Шевырева)
критиках-борзописцах во главе все с тем же «недоучившимся
студентом» Белинским. Так что похвалы в адрес Мина расто¬
чались не зря и неспроста: «Такие явления в литературе нашей
необыкновенно сладки и утешают за многое неприятное, с чем
мы часто должны бороться и чему обязаны противодействовать.
В одинокой тиши кабинета, урываясь от других занятий жи¬
тейских, трудится молодой человек над таким великим делом,
которое другим дает бессмертие, и почти никто не знает об его
подвиге! — Вот светлые стороны нашей литературы!»
Вообще следует заметить, что в 1840-е годы, по мере усиле¬
ния борьбы Шевырева с неприемлемыми для него тенденциями
«натуральной школы», чуждыми столь милой его сердцу роман¬
тической эстетизации жизни, Данте приобретает для Шевырева
характер некоего знамени, под которым можно было бы объеди¬
ниться всем истинным жрецам высокого искусства. Более того:
Данте, наряду с другими мировыми авторитетами, становится
эталоном художника вообще, вечным примером и образцом,
а обращение к нему призвано служить подлинной школой для
всякого становящегося и крепнущего таланта. Как раз в таком
духе высказался Шевырев в уже упоминавшихся «Очерках со¬
временной русской словесности», окидывая мысленным взгля¬
дом пагубные тенденции, возобладавшие в литературном мире
и требующие решительного противодействия: «Гомер, Дант,
Шекспир, Вальтер Скотт никогда нигде ничего не испортят. Из¬
учайте их, прививайте их к нашему дереву — и дайте свобод¬
но расти прививкам. Остальное сделается»*. К сожалению для
Шевырева, логика развития литературного процесса выдвига¬
* Шевырев С. П. Очерки современной русской словесности. Статья 2 // Мо¬
сквитянин. 1848. Ч. II. № 4. С. 102 (Раздел «Критика»).
528
К. В. РАТНИКОВ
ла на первые места иные идеологические и эстетические ори¬
ентиры, так что Данте «не подошел», да и не мог подойти для
борьбы с радикально-демократическим направлением в искус¬
стве. Но Шевырев продолжал упорно держаться за мираж эсте¬
тического идеала и настойчиво отождествлял с образом Данте
представление о возвышенном искусстве романтического типа.
Знаменателен в этом плане пассаж из его рецензии на выступле¬
ние оперной певицы Пасты (1841), характеризующий очарова¬
ние звуков ее пения через дантовские эстетические ассоциации:
«В них слышится для нас всё то, что есть лучшего в этом мире,
и глубокое таинственное чувство Данта, и прелестная мелодия
октавы Тассовой, и сильная драматическая страсть всеобъем¬
лющей души Шекспира! » *.
Теперь наконец-то дошел черед и до второго блока дантов-
ских мотивов в литературно-критических выступлениях Шевы¬
рева. Собственно, его оценку перевода на русский язык первой
части «Божественной Комедии» мы только что рассмотрели
выше. В завершение осталось указать на специальный «дантов-
ский сюжет» в скандально знаменитой программной статье Ше¬
вырева «Взгляд русского на современное образование Европы»
(1841). Обычно в этом идеологическом манифесте акцентируют
внимание на финальной части, где автор дает обоснование офи¬
циальной триады «правоелавие-самодержавие-народность» как
жизнеспособной и действенной альтернативы гниющему Запа¬
ду. Правда, при этом как-то упускается из виду, что предше¬
ствующие четыре пятых объема «Взгляда» посвящены обзорно¬
му анализу ведущих политических, религиозных и культурных
явлений на этом самом Западе, откуда Шевырев только что вер¬
нулся, проведя около двух лет в заграничной командировке.
И одно из центральных мест в этом обзоре отведено Италии, ее
искусству и науке, в том числе и историко-литературоведческо¬
му направлению в филологии. Вот тут-то Шевырев и отмечает
с нескрываемым одобрением усилия своих итальянских кол¬
лег по изучению творческого наследия великого флорентийца:
«Данте по-прежнему составляет предмет глубочайших исследо¬
ваний италиянских литераторов и ученых. И в Лондоне, и в Па¬
риже, и во всех столицах и замечательных городах Италии есть
* Шевырев С. П. Концерты г-жи Пасты, 4-го, 11-го и 18-го января // Мо¬
сквитянин. 1841. Ч. 1. № 1. С. 590.
Данте в творчестве С, П. Шевырева
529
люди, на то себя посвящающие, чтобы изучать великого Гомера
средних веков. Выходят часто новые издания. Последний ком¬
ментарий принадлежит Томмассео. Издают много, а между тем
до сих пор еще не сличены даже замечательнейшие кодексы
«Божественной Комедии». Это — труд, ожидающий делателей.
Флоренция воздвигла в церкви Святого Креста своему изгнан¬
нику памятник, лишенный его праха; а до сих пор не совершит
ему другого литературного монумента — не издаст поэмы его,
сличенной по всем лучшим кодексам, по крайней мере XIV, XV
и XVI столетий»*. И сразу вслед за такой двойственной оценкой
состояния дантологии в Италии Шевырев обосновывает свой
историко-методологический подход к адекватному восприятию
и изучению литературных памятников прошлых эпох — под¬
ход, сформировавшийся у него, как мы помним, еще во время
его первого пребывания в Италии на рубеже 1820-х-1830-х го¬
дов: «Академия Тосканская до сих пор не поняла, что в древних
произведениях не должно изменять ни языка, ни правописа¬
ния. Она еще не так давно издала комментарий к «Божествен¬
ной Комедии», будто бы современный произведению, а писан¬
ный прозою, которая нисколько не отличается от прозы живых
и пишущих членов самой Академии».
Зато искреннее одобрение Шевырева заслужила сугубо исто¬
рическая методика изучения феномена Данте, расцвет таланта
которого, как оказалось, был подготовлен разнообразным твор¬
чеством его предшественников, только сейчас воскрешаемых
трудами итальянских историков литературы из многовекового
забвения: «С некоторых пор принялись в Италии изучать поэ¬
тов, предшествовавших Данту. Начало этих трудов принадле¬
жит графу Пертикари, филологу знаменитому, рано похищен¬
ному у Италии смертию. Явление Данта теперь уже не кажется
таким внезапным в отношении к языку, как прежде казалось.
Бесчисленные поэты предшествовали ему по всем городам Ита¬
лии. Конечно, он успел же покрыть всех своим именем и сла¬
вою».
Но, к сожалению, профессионально поданная дантовская
тема в программном манифесте Шевырева оказалась прочно
* Здесь и далее цитаты из статьи С. П. Шевырева «Взгляд русского на со¬
временное образование Европы» приводятся по единственному изданию:
Москвитянин. 1841. Ч. I. № 1. С. 232-233.
530
К. В. РАТНИКОВ
заслонена идеологической публицистикой официозного харак¬
тера и едва ли привлекла внимание современников. Во всяком
случае, и горячо хвалили, и страстно ругали автора «Взгля¬
да русского» его союзники справа и противники слева отнюдь
не за итальянские страницы, а за сугубо русские политические
применения высоких терминов триады и устрашающих эпите¬
тов против Запада к практическим интересам власть имущих.
Собственно говоря, весь дантовский компонент шевыревско-
го творчества постигла та же участь — современникам и по¬
томкам он показался несущественным и, в общем-то, не очень
и нужным «довеском» к политической патетике красноречиво¬
го Степана Петровича. Поэтому-то те весьма немалые заслуги,
которые он все-таки объективно имел перед отечественной дан-
тологией, оказались охотно забыты в отместку за его идейную
позицию после того, как сменился режим и в обществе возоб¬
ладали другие настроения. Настоящая же статья, не претен¬
дуя на системно-обобщающее освещение темы «Данте и Шевы-
рев», преследовала более скромную, но зато и реальную цель:
привлечь внимание к незаслуженно оттесненной в тень фигуре
одного из лучших знатоков Данте в России сер. XIX в., а если
возможно, то наметить направления дальнейшего изучения их
заочного творческого диалога, чтобы со временем удалось под¬
робнее заполнить еще одну яркую и примечательную страницу
в летописи отечественной науки о Данте.
Г. И. ЧУЛКОВ
Дант и Пушкин*
Сближение таких имен, как Пушкин и Дант, быть может, по¬
кажется случайным и необоснованным, но я решаюсь все-таки
на торжестве, посвященном памяти великого итальянского поэ¬
та, связать эти два имени, ибо верно, что судьба этих двух гени¬
ев созвучна в одной из их жизненных тем. Такие разноликие, та¬
кие непохожие друг на друга, они, однако, встречаются на одно
мгновение, и тогда пять столетий их разделяющие не кажутся
ничтожной преградой.
Я сближаю эти два имени не потому, что нашел какую-ни¬
будь историко-литературную параллель и их творчестве. Такая
параллель едва ли возможна, а то малое, что мы знаем об от¬
ношении Пушкина к Данту, общеизвестно. Мы все знаем, что
в библиотеке Пушкина было несколько изданий «Божественной
комедии» на французском языке, а также и в подлиннике; мы
все знаем, что в знаменательный биографически 1829-й год,
когда Пушкин, взволнованный и тревожный, бежал на Кавказ
и самовольно присоединился к действующей армии и там искал
опасности — то среди больных чумою, то в огне перестрелки, —
* Речь, произнесенная на торжественном заседании Института Итальян¬
ской культуры. Всероссийского союза писателей, Общества любителей
российской словесности и Академии духовной культуры 14 сентября
1921 года (ОР РГБ. Ф. 371. Карт. 1. Д. 7, с. 1-6). Текст (6 листов) представ¬
ляет собой машинопись, напечатанную по старой орфографии с рукопис¬
ными поправкам« автора. На листах пятна. Заголовок вписан черными
чернилами. Поправки автора касаются знаков препинания и вписывания
текста на итальянском языке. Текст публикуется с учетом современной
орфографии и пунктуации.
532
Г. И. ЧУЛКОВ
что даже там, на Кавказе, Пушкин не расставался с книгою ита¬
льянского поэта1:
Зорю бьют ... Из рук моих
Ветхий Данте выпадает;
На устах начатый стих
Недочитанный затих...
И, конечно, не мрачно-шутливое «подражании Данту» —
«И дале мы пошли — и страх объял меня»... — конечно, не эти
терцины позволяют нам сблизить имена поэтов. Скорее другие
терцины — «В начале жизни помню школу я»... — звучат для
нас по-дантовски, несмотря на тему, вовсе не встречающуюся
в «Божественной комедии». И вопреки мнению некоторых ком¬
ментаторов Пушкина, в этих загадочных терцинах есть нечто
напоминающее интонацию и голос итальянского гения. Сама
тема этого поэтического отрывка поставлена так, что невольно
подчиняешься ее символике, во многом подобной символике
Данта, как чему-то давно знакомому. Таинственная «величавая
жена» в терцинах Пушкина напоминает чем-то божественную
воительницу Данта2.
Ее чела я помню покрывало,
И очи светлые, как небеса;
Но я вникал в ее беседы мало.
Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.
Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров.
Внешнее различие положений не исключает вовсе какого-то
внутреннего созвучия в образах-символах обоих поэтов. Даже
Дантевская тема об «измене» поэта его Прекрасной Даме нахо¬
дит у Пушкина отражение, правда, лишь косвенное.
Но я прекрасно сознаю, что всего этого вовсе недостаточно,
чтобы настаивать на конгениальности Пушкина и Данта. Сбли¬
жение этих имен возможно в ином плане.
Данте в творчестве С, IL Шевырева
533
И Дант, и Пушкин были национальными поэтами в осо¬
бенном, исключительном значении этого выражения, опре¬
деляющем собою целый мир идей и культурных ценностей.
Дант был выразителем великой итальянской культуры. Он
был сам — Великая Италия. Он был воистину символом Ита¬
лии. Так и Пушкин. По крылатому слову Аполлона Григорье¬
ва; «Пушкин— наше все», Пушкин— это Великая Россия.
Ее не было бы вовсе, если бы не было Пушкина, ибо все цен¬
ное, бывшее до него, засияло новым светом лишь в лучах его
венца. И все, что было после него, получило в нем свое нача¬
ло. Не было бы «Войны и мира», если бы не было «Капитан¬
ской дочки»; не было бы Достоевского, если бы не было «Пира
во время чумы», «Египетских ночей», «Пиковой дамы». И ко¬
рень символики — живой язык — создан был Пушкиным для
России, как Дантом для Италии. Мне кажется, что это исклю¬
чительное национальное значение, присущее обоим поэтам,
позволяет с достаточным основанием сблизить эти два имени.
И подобно тому, как православные люди, следуя великой ми¬
стической традиции Церкви, утверждают, что имя Божие есть
уже Бог, и мы в сравнительно низшем плане бытия, можем ска¬
зать, что имена Пушкина и Данта суть уже символы, т. е. жи¬
вые реальности, великие ветви того священного древа, которое
мы называет всемирною культурою. А символика воистину бо¬
жественна в существе своем.
Но не только эта правда сближает двух гениев. Их сбли¬
жает также таинственная судьба. В событиях их жизни есть
удивительное совпадение, предопределенное внутренним от¬
ношением поэтов к одному из начал культуры или, точнее,
к одной из форм культурной жизни. Я имею в виду государ¬
ственное начало. И оба они были патриотами в том высоком
смысле, что оба чувствовали свое предназначение, как слу¬
жение родине, уверенные, что их труд провиденциален, что
их миссия совпадает с миссией народа, коего они являются
представителями и выразителями. И Дант, и Пушкин твердо
верили, что они пришли в мир неслучайно. На то было Божье
изволение. Дантом руководило Божественное начало — веч¬
ная Любовь — 3
L’Amor che muove il sole c l’altre stelle...
534
Г. И. ЧУЛКОВ
И не случайно Пушкин зачеркнул в своем «Памятнике»
строчку «Призванью своему, о Муза, будь послушна» и заменил
ее другою4:
В ел е н ь ю Божию, о Муза, будь послушна...
Так Пушкин торжественно и окончательно признал, что долг
поэта — смиренное послушание Божественной воле. Он лишь
исполнитель предначертанного свыше.
Ровно за десять лет до написания «Памятника» поэт уже со¬
знал свою миссию, покорный таинственному голосу5:
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей»...
Пророческое и мессианское дело поэта совпадает с делом на¬
циональным, — и если поэт служит в конце концов началу все¬
мирному; то служение это осуществляется не помимо нации,
а чрез нее и вместе с нею.
И Дант, руководствуясь своим религиозным сознанием,
стремился служить нации в надежде на возможную гармонию
между ним, поэтом, и государством. Мы знаем страшные по¬
следствия этих надежд и планов.
Разве не разительно сходство в судьбе обоих поэтов? Разве
они оба не стремились послужить национальной идее, полагая,
что она находит свое воплощение в современной государствен¬
ности?
Надо представить себе Флоренцию на грани тринадцатого
века, эту подчас психологически мало понятную для лас войну
гвельфов и гибеллинов, запутанные отношения Бонифация Vili
и Карла Валуа к делам Тосканской республики, разделение всей
Флорентийской общины на привилегированных и лишенных
прав, весь этот сумасшедший маскарад, где за многообразием
личин скрывался все тот же единый Левиафан, который тре¬
бовал все новых и новых жертв, пожирая с равною жадностью
флорентийских граждан — сегодня знатных сеньоров, завтра
купцов, а потом опять сеньоров или городских бедняков. И вот
в эти дни жестокого неистовства Левиафана жил поэт, И вот он,
Данте в творчестве С, П. Шевырева
535
обладатель таинственного знания о прекрасной Беатриче, расто¬
чает свои духовные силы на служение государству. И как расто¬
чает! Вот он участвует в отряде всадников-добровольцев в битве
при Арно и в награду за храбрость получает рыцарские шпоры;
спустя три — четыре года Дант, аристократ по происхождению,
после поражения гвельфской аристократии, присоединяется
к господствующей народной партии и даже записывается в цех
докторов и аптекарей; наконец, Дант исполняет дипломатиче¬
скую миссию в Сан-Джеминиано; а когда вся Флоренция раз¬
делилась на партии черных и белых, Дант спешит примкнуть
к белым, и мы даже видим его приором республики; и в то вре¬
мя, когда белые сближаются с гибеллинами, а Бонифаций VIII
держит сторону черных, Дант опять берет на себя — по преда¬
нию — опасную дипломатическую миссию... Ему даже припи¬
сывают горделивые слова: Se io vo, chi rimane? Se io rimango, chi
va?» — Разве нет в этой страстной политической деятельности
поэта загадки? Почему бы. Казалось, не бежать ему подальше
от этих опасных бурь? Ведь нельзя же в самом деле объяснить
участие поэта в государственной жизни лишь внешними обсто¬
ятельствами. Он, автор трактата — «О монархии», апологет все¬
мирной империи, так самоотверженно и страстно служит своей
маленькой республике, как будто ее участь предопределяет весь
дальнейший путь мировой истории.
А наш Пушкин? Пушкин» друг декабристов и вольнодумец,
разве он впоследствии не с совершенной искренностью старает¬
ся «примириться с правительством» и послужить русской госу¬
дарственности. Да, он верный слуга Российской Империи. Он
добровольно несет свой дар, необходимый царю, как яд «Анча¬
ра», и погибает так же, как тот верный своему владыке раб6:
Принес и ослабел, и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.
Пусть историческая обстановка здесь совсем другая, чем там,
во Флоренции четырнадцатого века, но смысл события остается
тот же. И Дант, и Пушкин чувствовали себя граждански обязан¬
ными служить национальной власти прежде всего. И оба попла¬
536
Г. И. ЧУЛКОВ
тились за это — один жестоким пленом, другой — изгнанием.
Должно быть, поэт и Левиафан — несовместимы, как гений
и злодейство.
Разве не трагична в существе своем судьба Данта так же, как
и судьба Пушкина? Они, выразители своей национальной куль¬
туры, отвергнуты были тою властью, которая мнила себя наци¬
ональною.
Но вот умирает Дант в Равенне. Гвидо Пеленто венчает
чело вечного скитальца— и могила поэта— Dantes poelae
sepulcrum — приобретает необычайное значение. «Крепко
лишь то, что строится на крови». Подвиг поэта был освящен его
кровью.
И жизненное дело Пушкина нашло свой предел — в жертве.
Национальный поэт, убитый при двусмысленном попуститель¬
стве власти, — в этом быть может, больше мрачного коварства,
чем в декретах Флорентийской синьории, осудившей патриота
и поэта на изгнание. Но власти почти всегда не ведают, что тво¬
рят. Убивая поэтов, власти безмерно возвышают их жизненный
подвиг: от национального они возносят его до всемирного. Лич¬
ность поэта неотделима от его поэзии.
Поэт в изгнании, поэт на эшафоте — разве это событие не яв¬
ляется уже само по себе какою-то странною и вещею песнею,
которую поет безумная история? Прошло шесть веков. Память
о правителях Тосканской республики предана забвению, а имя
Данта стало знаменем всемирности, универсальности. История
нас учит: будь национальным до конца и ты станешь всемир¬
ным. И горе тебе. Если ты будешь надеяться на всемирное, утра¬
тив свое национальное. В храм всемирного братства не приходи
с пустыми руками... Неси туда сокровища, которые сохранили
для тебя и мира твои предки.
Пушкин понимал это и снято хранил память и заветы наци¬
ональной истории. Он не с пустыми руками пришел в мир. Его
лицо отмечено «необщим» выражением. Но почему же Пуш¬
кин, чей гений так значителен и прекрасен, до сих пор как будто
запечатлен* для западного мира? И в то время как Дант влады¬
чествует над сердцами и душами всех стран, Пушкин как буд¬
то не полноправный гость на западноевропейском пиршестве.
Я полагаю, что не поэт в этом повинен. Будучи русским, он был
* В оригинале описка: запечатан.
Данте в творчестве С. П. Шевырева
537
прежде всего, однако, человеком и европейцем. Его темы все¬
мирны. Его идеи универсальны. И если его поэзия еще не раз¬
гадана до конца западноевропейским миром, в этом повинен
не он, а мы. Италия искупила свой грех перед Данте. Она, ког¬
да-то оскорбившая своего поэта, потом подняла высоко его сла¬
ву и возвестила о нем миру, защищая свое национальное знамя
мечом. А мы?... Мы до сих пор были недостойны нашего наци¬
онального поэта. Мы выронили наш меч и щит, и малодушно
и слепо ждем своей судьбы. Но пока драгоценный залог нашего
возрождения, благоуханная поэзия Пушкина, еще не утрачен
нами, мы смеем надеяться, что исход духовной борьбы светлого
и темного начала внутри нации совпадет с торжеством добра над
злом.
Сентябрь 1921.
М. В. МИХАЙЛОВА
Неизданный доклад Г. Чулкова
В апреле 1918 г. группой писателей, искусствоведов и ху¬
дожников были предприняты усилия по организации «Инсти¬
тута итальянской культуры» в Москве. Учредителями стали
В. Брюсов, К. Бальмонт, Вяч. Иванов, Б. Виппер, Э. Грабарь
и др., которые подписали соответствующую декларацию. Пред¬
полагалось начать всестороннюю деятельность по изучению
русско-итальянских связей, итальянской культуры в целом, что
должно было благотворно отразиться на всех областях италиа-
нистики, которая в России имела длинную и достойную исто¬
рию.
Началом деятельности Института в мае 1918 г. стал цикл
лекций об итальянской культуре. Лекции читались в различ¬
ных помещениях, и только в 1920 Институт обрел постоянное
место жительства. Им стал Второй Московский государствен¬
ный университет, созданный на базе Высших женских курсов,
располагавшихся на М. Пироговской, д. 1. Слушателям, среди
которых были не только творческая интеллигенция (писатели,
художники, ученые), но и учащаяся молодежь (невысокая пла¬
та делала посещение лекций общедоступным), предлагались ци¬
клы лекций, читавшихся ведущими специалистами. Лекторами
стали Б. Грифцов, П. Муратов, А. Дживелегов, В. Сапожнико¬
ва, М. Хуссид. Ими были прочитаны лекции об итальянской ар¬
хитектуре, жизни и творчестве Рафаэля, Т. Тассо, Л. Ариосто.
В Институте нередко выступали и приглашенные. С чтением
итальянских стихов на одном из вечеров выступил Блок.
Отдельно был оформлен «Флорентийский цикл», в котором
рассматривались творчество Данте, восприятие личности поэта
Неизданный доклад Г. Чулкова
539
его первым биографом Боккаччо, художественная интерпрета¬
ция идей «Божественной комедии» ее первым иллюстратором
Боттичелли. А в 1921 г. началась подготовка к празднованию
600-летия со дня смерти Данте, которая вылилась в проведение
«Дантовских чтений», длившихся около двух месяцев.
Одно из наиболее торжественных заседаний было приуроче¬
но к 14 сентября, дню смерти поэта. На нем выступили Б. Гриф-
цов, П. Муратов. Публикуемая ниже речь Г. Чулкова была про¬
изнесена в этот день*.
Возможно, что Чулкова к участию в Дантовских торжествах
привлек один из учредителей Института. И, вероятнее всего,
это был Вяч. Иванов. «Дантовский» код издавна существовал
в поэтическом диалоге этих двух деятелей символизма. К Вяч.
Иванову в 1919 г. Чулков обратился с стихотворным послани¬
ем, в котором были строки, явно навеянные символикой бес¬
смертной дантовской поэмы:
И мудрый, как мудрейший змей.
Идешь волшебною тропою
В страну таинственных теней.
Твой мир загадочен и строен.
Как песня смерти и любви.
И, может быть, лишь ты достоин
Увидеть солнце и в крови**.
Имя Данте довольно рано становится знаковым для Чулкова.
Упоминания о поэте буквально рассыпаны по произведениям
этого писателя. И задача исследователя русского символизма
собрать и проанализировать причины обращения к этому ху¬
дожнику, эволюцию взглядов Чулкова на его творчество. В свя¬
зи же с задачей публикации и комментирования предлагаемого
текста необходимо указать, что Данте, несомненно, явился для
Чулкова тем деятелем культуры, который помог ему освобо¬
диться от идеи неприятия мира, которая, конечно, в весьма сво¬
* Более подробно о деятельности Института Итальянской культуры можно
прочитать: ГрифцоваМ. И. Из воспоминаний об Институте итальянской
Культуры в Москве // Дантовские чтения. М. 1979; ср. D. Riz zi. Lett er edi
Boris JakovemkoaOdoardoCampa// Archivioitalo-russo. Trento 1997, p.
397.
** См. Чулков Георгий. Стихотворения. М. 1922.
540
М. В. МИХАЙЛОВА
еобразном преломлении была положена в основу его теории ми¬
стического анархизма. Отход от этой теории наметился в 1910-е
годы.
Сам Чулков связывает перелом в своем мировоззрении с по¬
сещением Италии в 1910 г. На это он прямо указывает в сво¬
ей автобиографии, написанной в 1912:*«Поездка по Италии
в 1910 году и жизнь в Париже в 1911 году повлияли на мое отно¬
шение к России. С этой поры я по-новому полюбил ее и, кажется,
разгадал одну из ее тайн». В данной фразе показательна именно
связь, возникшая в сознании писателя между Италией и Росси¬
ей, тот мостик, который соединил для него обе страны. Поэтому
естественно, что сйустянемногим менее десяти лет он выбирает
темой своего доклада сопоставление двух художников — Дан¬
те и Пушкина. Причем избирает не тот ракурс, который, каза¬
лось бы, должен был привлечь внимание —не перекличку твор¬
чества Пушкина с творчеством его великого предшественника.
Иными словами, Чулкова не занимают мотивы Данте в насле¬
дии русского поэта. О расхожести такого взгляда он упоминает
в самом начале своего доклада.
Но мысль о России в сопоставлении с итальянскими реалия¬
ми и культурой стала возникать уже в работах начала 1910-х гг.
Так, в лекции «Достоевский и современность», с которой долгое
время выступал в различных аудиториях Чулков, говорилось,
что Данте, в отличие от «неприемлющих мира» (камешек в свой
собственный огород, т. к. мистические анархисты как раз и за¬
являли о «неприятии мира») художников, является «архитек¬
тором» мира, «хранителем ключей от лабиринта культуры».
В этом автор был убежден потому, что итальянский поэт, как
и Достоевский, Вл. Соловьев, Ибсен, художники, «скованны-
е»единой символической цепью.
Творчество Данте он связывал с истинным символизмом
и противопоставлял его декадентству и индивидуалистическо¬
му символизму, выразителем и проводником которого считал
В. Брюсова. В своих воспоминаниях, а также в предисловии
к публикации писем Брюсова к нему Чулков вывел формулу
«формального совершенства »брюсовского творчества, указал
* Георгий Иванович Чулков (1879-1939) (Собрание автобиографий Анаста¬
сии Чеботаревской) // Писатели символистского круга. Новые материа¬
лы. СПб., с. 451-452.
Неизданный доклад Г. Чулкова
541
на миссию этого деятеля культуры как труженика на поэтиче¬
ской ниве. Но при этом уточнил, что «он не был одним из тех
счастливых прозорливцев, которые приходят, может быть, раз
в столетие, чтобы открыть людям какую-нибудь великую прав¬
ду, как Данте, Сервантес или Достоевский», которые определя¬
ют собой эпоху, проходящую «под знаком вдохновения и гени¬
альности»*^ тем самым провел между ними четкую границу.
Сам оставаясь символистом до конца дней, мысля «реальность»
символа «за пределами трехмерного пространства» **,он и Данте
видел одним из непререкаемых основоположников символиз¬
ма как религиозного миропонимания. Отметая все «нападки»
на символизм, которые обычно выражались в обвинениях, что
символисты —люди «нищие духом», Чулков отвечал своим оп¬
понентам: «Нищие духом» символисты (Эсхил, Дант, Кальде¬
рон, Достоевский и др.) безмерно богаты. И как жалки и бедны
все эти враги символизма (Вольтер, например, не говоря уже
о мелкотравчатых, вроде...), которые воображают, что они бога¬
чи, обладая на самом деле ничтожною частью вселенной»***.
Манифестацией такой точки зрения стала программная ста¬
тья Чулкова «Оправдание символизма» (1912), где он толкует
символизм как «путь», «стремление» поэта к высшей истине,
совершенству, Богопостижению: «Символизм в этом смысле
кладет свою печать на всемирную литературу всех веков [...]. Это
не значит, что искусство всегда символично, но это значит, что
в разные эпохи появляются поэты-символисты и поддерживают
преемственную связь, как бы через века протягивая дружеские
руки. На путях такого символизма —Софокл, Данте, Ибсен**** *****.
Постижение главной синтезирующей идеи, владеющей умом
Чулкова вторую половину его жизни, началось уже после первой
поездки в Италию в 1907 г. Эту идею он определил как «знание
обединстве мировой культуры» ****** О впечатлениях, вынесенных
из нее, он поведал в своих воспоминаниях, относящихся к это¬
му времени, вполне возможно, объединив их с последующими
* Чулков Г. Годы странствий. М. 1999, с. 116.
** Чулков Г. Откровенные мысли. Предисловие, публикация и комментарии
Н. Ю. Грякаловой // Писатели символистского круга. Новые материалы.
СПб., с. 476.
*** Там же.
**** Чулков Г. Валтасарово царство. М. 1998, с. 422.
***** Там же, С. 253.
542
М. В. МИХАЙЛОВА
впечатлениями (последнее из которых относится ко времени
Первой мировой войны, когда он через Италию пробирался
на родину). Во всяком случае именно с пребыванием на роди¬
не Данте — Флоренции — он связывает апогей «эстетического
пиршества», которое не прекращалось для него и его жены всю
поездку.
Италия помогла Чулкову освободиться от «последних при¬
страстий к декадентству», «петербургского романтизма »и «хме¬
ля »мистицизма*, которым, как он считал, он был долгое время
отравлен. В душе Чулкова постепенно прорастает понимание
символизма как «равновесия [...] поэтического опыта и религи¬
озного сознания»**, которому он остался верен до конца жизни.
И хотя имя Данте впрямую и не возникает в последних сти¬
хах Чулкова, но его тень, безусловно, присутствует в тех из них,
которые написаны под знаком близящейся смерти. Чулков всег¬
да связывал «тему символизма с темою смерти. Тайна смерти —
путь к символическому постижению мира» ***. И только истинно¬
му символисту смерть не является не в устрашающем обличии **** *.
Он поясняет это на примере «Братьев Карамазовых»: «Алеша
Карамазов заглянул в лицо смерти и не испугался ее, — пишет
он, — вот почему засияла для него новая жизнь —воистину
vitanuova»*****.
Чулков вообще определяет величие художника именно через
степень постижения «тайны смерти» и умение при этом оста¬
ваться «бодрым», т. е. не отдаться печали и отчаянию. В этом
сочетании оптимизма, понимания и приятия трагичности брен¬
ного мира он видел сущность христианства. И в этом отношении
Данте кажется ему наиболее глубоким художником, потому что
«познал» смерть «опытом», погрузившись «в ее стихию», пото¬
му что подлинно «умирал» в этом смысле. «И суеверные жите¬
ли Вероны были правы, когда они, встречая на улицах Данте,
* Там же, с. 253-254.
** Г. Чулков «Пробуждаемся мы или нет?». План лекци и // РГАЛИ. Ф. 548.
On. 1. ед. хр. 218.
** Чулков Г. Валтасарово царство, с. 426.
Показательно, что, по свидетельствам очевидцев, его последний взгляд,
обращенный ввысь, был полон удивления, а не страха (см. воспоминания
О. А. Мочаловой — ОР РГБ. Ф. 371. Карт. 5. Ед. хр. 38).
к* Чулков Г. Валтасарово царство, с. 426.
Неизданный доклад Г. Чулкова
543
кричали: «Eccovil’uomch’eslatoairinferno» *.Таким образом,
Чулков прямо сопоставляет «опыт» Данте с признанием апосто¬
ла Павла из I послания Коринфянам: я каждый день умираю**.
Также прямое отношение к идее воскресения и умирания имеют
поставленные рядом в одной из работ имена Данте и Лазаря***.
Путь «восхождения» Данте становится для Чулкова меркой
гениальности: «Великие художники нисходили в ад, видели
бледные тени чистилища, райский голос Беатриче » ****. А Беатри¬
че для него являлась аналогом «Души мира», Психеи, которая
«жива и зовет нас и ждет, как прекрасная пленная царевна» *****.
Правда, для самого Чулкова, как это ни поразительно, Беатри¬
че стала не его молодая возлюбленная, скрасившая последние
годы жизни стареющего и больного поэта, Людмила Михай¬
ловна Лебедева —адресат его любовной лирики 20-30-х гг.,
а жена, Надежда Григорьевна Чулкова, разделившая с ним все
перипетии его бурной жизни и тяготы неприкаянного быта (она
сопровождала его в ссылку в Сибирь, была с ним и впутеше-
ствиях по Европе, не покидала его в годы внутренней эмигра¬
ции). Во многом своему воцерковлению Чулков обязан имен¬
но ей (толчком к принятию им исторического христианства
стала смерть маленького долгожданного сына Володи в 1920).
Поэтому на страницах дневника Чулкова «Откровенные мыс¬
ли» и появляются рядом имена любимейшего, высокочтимо¬
го Надеждой Григорьевной святого, Ефрема Сирина, и Данте.
«Не очевидно ли, — задается вопросом Чулков, — что то, что
мы называем культурою, есть воспоминание о рае? О нем поет
не только Ефрем Сирин и Дант, но и каждый поэт, каждый ху¬
дожник, каждый зодчий...»******.
Имя и знание Данте нередко становилось своеобразным «па¬
ролем» во взаимоотношениях с людьми. Так, близость и взаимо¬
понимание, установившееся с Б. Зайцевым, во многом определя¬
лись тем, что Зайцеву была дорога Италия, он всерьез занимался
творчеством Данте, переводил «Божественную комедию».
* Там же, с. 267.
** См. использование этой характеристики в ст. «Оправдание символиз¬
ма* // Чулков Г. Валтасарово царство, с. 426.
*** См. указ, пл ан лекции Г. Чулкова «Пробуждаемся мы или нет?».
**** Там же.с. 267.
***** Там же, с. 423.
****** Чулков Г. Откровенные мысли, с. 473.
544
М. В. МИХАЙЛОВА
Человек, не воспринимающий великого итальянского ху¬
дожника, причисляется Чулковым к сонмищу существ, для ко¬
торых закрыты основные пласты не только мировой культуры,
но и первооснова христианского мира. Вот как он от имени «за¬
коренелого безбожника», а на самом деле истинно верующего
человека —Якова Адамовича Макковеева — объясняет в своей
повести-завещании «Вредитель»антигуманность большевизма.
На примере активного советского функционера двадцатых
годов Курденко, проводя мнимую параллель между им и собой
на основании того, что для обоих неприемлема «идея Страшного
суда» как итог и вершина христианского миропонимания (для
Чулкова, чьим alterego является Макковеев, христианство, как
известно, несводимо к устрашению), герой повести указывает
и на различие. Он предлагает «оправдывать» религию с точки
зрения культуры, тем самым подтверждая ее неуничтожимость
в веках:
Но вот чего Курденко не понимает: он не понимает, что
за этим грандиозным мифом стоят целые пласты мировой жиз¬
ни, что человечество вознесло этот миф из сокровеннейших
глубин своей религиозной жизни до величайших культурных
высот, что не будь этого мифа, не было бы ни видений Патмо¬
са, ни Данта, ни Кальдерона, ни Чимабуэ, ни Андрея Рубле¬
ва, ни Достоевского... Или на все это надо плюнуть (что, может
быть, не так плохо, если только осознавать по-настоящему, что
делаешь и на что посягаешь) — или надо к этому мифу отне¬
стись почтительно и снять перед ним «головной убор», как те¬
перь выражаются*.
Выбор Чулковым темы выступления был обусловлен и тем,
что 1921 год — год окончания его работы над книгой «Жизнь
Пушкина», явившейся духовной биографией поэта, выхода ко¬
торой в свет автор ждал 16 лет и из-за которой, по-видимому, так
и не решился эмигрировать. Нерв этой книги-исследования —
размышления над соотношением национального начала и уни¬
версальной идеи в творчестве великих художников. И Пушкина
Чулков интерпретирует как поэта, пришедшего к религиозно¬
му постижению мира, который почувствовал «мир как живое,
цельное и положительное начало», который «угадал его перво¬
* Чулков Г. Валтасарово царство, с. 623.
Неизданный доклад Г, Чулкова
545
основу как плерому»‘.Таким образом, Пушкин, как и Данте,
становится для Чулкова выразителем органической культуры.
И кажется, что сопоставление с итальянским поэтом могло пой¬
ти в этом направлению. Сопоставительной основой мог стать
и символизм в широком смысле слова, поскольку «символизм
в плане Данте, Ибсена, Достоевского —мерило ценности поэ¬
тических достижений»* **. Но Чулков выбирает другой аспект,
а именно: тяжбу поэта с Левиафаном, взаимоотношения писа¬
теля и власти, художника и государства, хотя указанные выше
элементы тоже присутствовали в выступлении.
Несомненно, что к этому могли его подтолкнуть те трудно¬
сти, которые уже явственно вырисовывались на горизонте при
попытках провести религиозную биографию поэта через цензу¬
ру***. О муках художника, вынужденного идти на компромисс,
кончающийся психиатрической лечебницей, поведал он в пове¬
сти «Вредитель». И сам он оказывался нередко таким, готовым
к компромиссам художником: в стол, для себя, для единомыш¬
ленников писал одно****а для публики — другое*****.
И в речи «Дант и Пушкин» он как бы делает пророческое на¬
блюдение, подтвердившееся всею его последующей творческой
судьбой: компромисс бесполезен. Левиафан беспощаден, госу¬
дарство может только использовать поэта, но никогда не будет
стремиться найти с ним общий язык, потому что слова «госу¬
дарственность», «законность», «величие нации» никогда не бу¬
дут звучать для них тождественно. Потому что как бы ни была
значительна и весома национальная идея, пестуемая государ¬
ством, поэт всегда шире и глубже ее. На примере итальянского
и русского поэтов, а позже и на своем горьком опыте Чулков по¬
стиг трагедию взаимоотношений власти и художника.
* Чулков Г. Откровенные мысли, с. 471.
** См.: Чулков Г. И. Предисловие к книге стихов О. А. Мочаловой.
1923 Г. //РГАЛИ. Ф. 273. On. 1. Ед. хр. 2. Л. 1.
*** «Даже окончательное запрещение цензурою моей книги о Пушкине (уже
набранной и готовой к печати) не повлияло на мое решение ждать своей
участи здесь в снегах, в сумраке ...» (письмо к Ф. Сологубу 1921 г.) // ОР
РГБ. Ф. 371. Д. 2. Ед. хр. 27. Л. 3.
**** Уже упоминавшаяся повесть «Вредитель».
***** См. публикацию его очерков о нефтяных разработках в Баку («Вечерние
огни»); роман о «настоящих вредителях» — «Добыча» (ОР РГБ).
А. X. ГОЛЬДЕНБЕРГ
«Гоголь и Данте» как современная научная проблема
Проблема «Гоголь и Данте» возникла в русской культуре
сразу же после выхода в свет первого тома поэмы «Мертвые
души» (1842). Острая критическая дискуссия развернулась во¬
круг жанрового обозначения гоголевской книги. С. П. Шевы¬
рев увидел в ней лироэпическое произведение, в котором автор¬
ское «ясновидение мира» и живописность стилевых приемов
напрашивались на сопоставление с «Божественной комедией».
Автор первой русской диссертации о Данте и переводчик его
поэмы обратил внимание на сходство распространенных, или,
по другой терминологии, «гомеровских» сравнений у Гоголя
и Данте. Восхищаясь «чудными», по его словам, гоголевски¬
ми сравнениями, критик писал: «Их полную художественную
красоту может постигнуть тот, кто изучал сравнения Гомера
и итальянских эпиков, Ариоста и особенно Данта, который,
один из поэтов нового мира, постиг всю красоту сравнения го¬
мерического и возвратил ему круглую полноту и окончанность,
в каких оно являлось в эпосе греческом. Гоголь в этом отно¬
шении пошел по следам своих великих учителей»*. И все же
Шевырев, указывая на высокий поэтический смысл творения
русского писателя, не решился, пока оно не завершено, дать
однозначный ответ на вопрос, почему Гоголь назвал «Мертвые
души» поэмой. В жанровом названии первого тома ему чуди¬
лась двойственность, внутренняя авторская ирония. «Не при¬
бавить ли уж к заглавию, — заключал критик, — Поэма наше¬
го времени»**.
* Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века. — М., 1982. С. 66.
** Тамже. С. 80.
«Гоголь и Данте» как современная научная проблема 547
Другой современник Гоголя, К. С. Аксаков, был в этом вопро¬
се более категоричен. Он говорил о Гоголе как о единственном
в своем роде писателе, возродившем в современной прозаиче¬
ской поэме дух и стиль древнего гомеровского эпоса. Позицию
Аксакова подверг уничтожающей критике В. Г. Белинский.
Прежде всего за антиисторический подход к проблеме жанро¬
вого генезиса «Мертвых душ»: «Гоголь заставил ... автора бро¬
шюры забыть даже о существовании Сервантеса, Данта, Гете,
Шиллера, Байрона, Вальтер Скотта, Купера, Беранже, Жорж
Занда!»*. Второй упрек был связан с тем, что критик совершен¬
но игнорирует самобытность гоголевской поэмы, ее смеховую
природу: «В „Илиаде“ жизнь возведена в апофеозу; в „Мертвых
душах“ она разлагается и отрицается; <...> пафос „Мертвых
душ“ есть юмор, созерцающий жизнь сквозь видный миру смех
и незримые, неведомые ему слезы»**. Согласно Белинскому, по¬
эма Гоголя — результат исторического развития европейского
эпоса. Ироничность гоголевских сравнений указывает на ко¬
ренную трансформацию традиционных эпических форм. С его
точки зрения, «Мертвые души» — гениальный социально-пси¬
хологический роман, в котором решающую роль играет кри¬
тическое изображение русской действительности. Не вызвала
поддержки у Белинского и статья Шевырева. «<...> некоторые
критики, — писал он, — о чем бы ни говорили, никак не могут
обойтись без Италии. Один из таковых делает Гоголя учеником
Гомера, Данта и Шекспира. Признаемся, мы не видим в „Мерт¬
вых душах“ следов изучения этих великих образцов» ***.
Белинский утверждал, что книга Гоголя имеет громадное
значение для русской литературы, но ее нельзя поставить в один
ряд с великими творениями мировой культуры. В исторической
перспективе правы оказались оппоненты Белинского. Они пер¬
выми заговорили о мировом значении Гоголя. За полемикой
о жанре поэмы стояли разные историко-философские концеп¬
ции развития русской литературы.
Между тем, ассоциации с дантовской поэмой продолжа¬
ли возникать у внимательных читателей первого тома «Мерт¬
вых душ» (с дантовским «Адом» его сравнил в своем дневнике
* Н. В. Гоголь в русской критике. М.» 1953. С. 137.
** Там же. С. 136.
'** Русская эстетика и критика ... С. 505.
548
А. X. ГОЛЬДЕНБЕРГ
А. И. Герцен). После того, как сам Гоголь в «Выбранных местах
из переписки с друзьями» приоткрыл завесу над планом продол¬
жения поэмы, появились сравнения замысла второго и третье¬
го томов с «Чистилищем» и «Раем» (в дантовском ключе этот
план прокомментировал в одном из своих писем П. А. Вязем¬
ский). Что же было обещано читателям, с нетерпением ждав¬
шим продолжения гоголевского труда? Во-первых, это было
обещание показать героев иного типа, «характеры значитель¬
нее прежних», во-вторых, автор ставил перед собой невероят¬
но трудную задачу духовного преображения таких персонажей
первого тома, как Чичиков и Плюшкин, намекал на некий путь
спасения их дуп1и. Но эти обещания и предположения носили,
по словам Белинского, «гадательный характер».
Лишь к началу XX века проблема «Гоголь и Данте» из об¬
ласти необязательных или пристрастных критических сужде¬
ний перешла в сферу академического научного исследования*.
Здесь наметилось несколько аспектов изучения проблемы или,
если воспользоваться дантовской терминологией, кругов.
Первый — связан с сопоставлением трехчастного замысла
«Мертвых душ» с архитектоникой «Божественной комедии».
Конкретные шаги в этом направлении сделал Алексей Веселов¬
ский, который попытался реконструировать второй и третий
тома гоголевской поэмы. Он, в частности, проводил паралле¬
ли между сохранившимися главами второго тома и «Чистили¬
щем» Данте, высказывал предположения о том, как могла бы
сложиться в третьей части поэмы судьба главных героев перво¬
го тома**. Как попытку создать «морально-религиозную поэму»
дантовского типа оценивали замысел Гоголя в первые десяти¬
летия XX века такие серьезные ученые, как С. К. Шамбинаго***
и Д.н. Овсянико-Куликовский****. Автор одной из самых ярких
книг о Гоголе первой половины XX века — «Мастерство Гоголя»
(1934) — Андрей Белый дантовскую тему затронул лишь тезис¬
но: «Посещение помещиков — стадии падения в грязь; поме¬
* См.: Асоян А. А. «Почтите высочайшего поэта...» Судьба «Божественной
Комедии» Данте в России. М., 1990. С. 74-85.
** Веселовский А. «Мертвые души»: глава из этюда о Гоголе // Вестник
Европы. 1891. № 3. С. 68-102.
*** Шамбинаго С. Трилогия романтизма (Н. В. Гоголь). М., 1911. С. 152-153.
**** Овсянико-Куликовский Д. Н. Собр. соч.: В 5 т. М.; Пг.» 1923. T. 1. С. 32-
33.
«Гоголь и Данте» как современная научная проблема
549
стья — круги дантова ада; владелец каждого — более мертв, чем
предыдущий; последний, Плюшкин — мертвец мертвецов»*.
Второй тип исследований связан с сопоставительным анали¬
зом художественных структур, созданных Гоголем и Данте. Здесь,
в первую очередь, следует указать на фундаментальные работы
Ю. В. Манна 70-90-х годов, который выделил различные уров¬
ни преломления дантовской традиции у Гоголя: иронический
и серьезный. Первый уровень зримо представлен в поэме Гоголя
единственной прямой реминисценцией из Данте. Это сцена «со¬
вершения купчей» в седьмой главе «Мертвых душ», блистательно
проанализированная ученым. Исходным пунктом анализа являет¬
ся тезис о том, что «дантовская традиция Гоголем преобразована
и включена в новое целое» **. Спутником Данте по аду и чистилищу
был Вергилий. Чичикова в казенной палате сопровождает чинов¬
ник, «приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, что оба
рукава лопнули на локтях и давно лезла оттуда подкладка, за что
и получил в свое время коллежского регистратора <...>» (VI, 144).
Как Вергилий оставляет Данте в земном Раю, когда появляется Бе¬
атриче перед вознесением в Рай небесный, вход в который закрыт
для язычников, так и провожатый Чичикова оставляет его на поро¬
ге иного «Рая» — помещения, где сидит председатель: «В этом ме¬
сте, — пишет Гоголь, — новый Виргилий почувствовал такое бла¬
гоговение, что никак не осмелился занести туда ногу и поворотил
назад, показав свою спину, вытертую как рогожка, с прилипнув¬
шим где-то куриным пером» (VI, 144). Дантовские образы, по сло¬
вам Ю. В. Манна, получают здесь у Гоголя «ироническую подцвет¬
ку». Так, например, «в изображении высшей сферы Рая, Эмпирея,
в лицезрении божества огромную роль играет у Данте символика
света, сияния отражающих друг друга кругов. В комнате, куда во¬
шел Чичиков, «перед столом, за зерцалом и двумя толстыми кни¬
гами, сидел один, как солнце, председатель». Иронический эф¬
фект, — замечает по поводу этой сцены Ю. В. Манн, — «создается
взаимодействием прямого и переносного значения слова: зерца¬
ло — это предмет, особая призма с написанными на ее гранях ука¬
зами; в то же время последние как бы отражают свет истины (ср.
тут же упоминание солнца), являются ее зерцалом»***.
* Белый Андрей. Мастерство Гоголя: Исследование. М.» 1996. С. 117.
** Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М.., 1996. С. 318.
Там же. С. 318.
550
А, X. ГОЛЬДЕНБЕРГ
Другой, серьезный уровень преломления дантовской тради¬
ции имеет структурный характер. Особая универсальность го¬
голевской поэмы создается, по мысли ученого, на основе тех же
структурных принципов, что и у Данте: уподоблением части —
целому, внешнего — внутреннему, материального существо¬
вания человека — истории его души. Ю. В. Манн убедительно
доказывает, что Гоголь, вслед за Данте, выбирает в первом томе
«этический принцип расположения персонажей». Вместе с тем,
исследователь высказал сомнение в возможности конкретизиро¬
вать предположение Алексея Веселовского, что деление «Мерт¬
вых душ» на три тома возникло под влиянием Данте. Троичность
как «общесимволическая форма» (слова Шеллинга) может вос¬
ходить и к христианской Троице, и к понятию триады в немец¬
кой классической философии. Более убедительной, по мысли ис¬
следователя, является перекличка с концептуальными идеями
и образами поэмы Данте (Страшного суда и загробного воздая¬
ния, спасения и возрождения души), которые приобрели у Гого¬
ля «формообразующую роль». «И хотя, — замечает ученый, —
в буквальном, теософском смысле в гоголевской поэме нет ни ада,
ни чистилища <...>, ни рая, атакже связанного с этим загробного
воздаяния; <...>, — но все совершается в ней как бы с оглядкой
на „память смертную“, на будущую жизнь души, на вечное суще¬
ствование. На очную ставку с этими универсалиями поставлена
вся Россия, а через нее <...> все человечество»*.
Творцов двух великих поэм сближает и представление о мес¬
сианской прообразовательной роли своих произведений. «При¬
тязание на высшую цель, на сохранение высокого символизма,
которым отмечено дантовское творение, Гоголь подчеркнул, —
полагает Ю. В. Манн, — присвоением „Мертвым душам“ жан¬
рового обозначения „поэма“»**. Но, в отличие от Данте, Гоголь
передает функцию героя, «ведомого путем испытаний, искуше¬
ния и спасения», от автора к центральному персонажу, Чичико¬
ву. Это избранничество гоголевского героя, по словам ученого,
«роднит его с героем „Божественной комедии“»***.
В работе М. Н. Виролайнен «Проблема замкнутой формы
в эстетике Гоголя» (1994) был предложен иной подход к сопо¬
* Там же. С. 436.
** Тамже. С. 441.
Там же. С. 439.
«Гоголь и Данте» как современная научная проблема
551
ставлению структурных принципов поэм Гоголя и Данте. Ис¬
следовательница объясняет неудачу Гоголя в реализации тро¬
ичной дантовской модели тем, что прозаическое гоголевское
слово, в отличие от стихотворного дантовского, не дистанциро¬
вано от описываемого предмета, а потому и не может выполнить
роль замыкающего эстетического начала. «Слово у Гоголя, вла¬
ствуя над предметом, не отпускает его от себя <...> Как только
предмет попадает в зону повествования, он оказывается сра¬
щенным со словом, ведет с ним единое существование»*. Иное
дело — стихотворная дантовская форма, имеющая собственное,
не словесное и не предметное, «музыкально-математическое»
измерение, которое становится принципом, способным под¬
чинить себе как предмет, так и слово. Отсюда вывод: «Терци¬
на у Данте была не только внешним формальным признаком,
но и духовным принципом устроения каждой точки его поэмы.
У Гоголя же троичность была обымающей всю композицию в це¬
лом и не соблюденной в каждой локальной точке, ибо каждая
точка гоголевской поэмы включала в себя четвертый, самодов¬
леющий, элемент земли и материи»**. «Колоссальное место,
отведенное в творчестве Гоголя материи и плоти», указывает,
по мнению исследовательницы, на доминирование в его поэти¬
ке гомеровского архетипа. «Он-то и воспрепятствовал осущест¬
влению дантовской формы. У Данте все земное, материальное,
благодаря терцине, «вознесено в область небесного». Героиче¬
ская попытка Гоголя духовно преобразить косную материю,
«замкнуть мир в слово кардинально отлична» от формы поэмы
Данте, где «замыкающим принципом служит стих». В «Мерт¬
вых душах», по формулировке М. Н. Виролайнен, «столкну¬
лись, условно говоря, архетипы Данте и Гомера»***. Иными сло¬
вами, материальное и духовное, языческое и христианское.
Этот тезис исследовательницы, который напрямую выводит нас
к одной из важнейших оппозиций в поэмах Гоголя и Данте, в ее
работе не развернут. Между тем, столь резкое противопостав¬
ление духовных и писательских стратегий Гоголя и Данте нам
кажется излишне категоричным. Уже в пределах первого тома
* Виролайнен М. Речь и молчание: Сюжеты и мифы русской словесности.
СПб., 2003. С. 356.
** Там же. С. 356.
*** Там же. С. 355.
552
А. X, ГОЛЬДЕНБЕРГ
«Мертвых душ» сосуществуют, как убедительно показал недав¬
но В. М. Маркович, два встречных стилистических процесса —
отелеснивание духовного и спиритуализация телесного*.
Третий круг работ объединяет повышенный исследователь¬
ский интерес к выявлению дантовских реминисценций у Го¬
голя, поиск прямых и смысловых текстуальных совпадений.
Так F. С. Driessen в своей книге «Gogol as a Short-Story Writer»
(1965) сопоставил посмертную судьбу братоубийцы, грызущего
свои кости, из повести «Страшная месть» с участью дантовского
Уголино**. Дантовским мотивам в повести «Рим» посвящена ста¬
тья T. Baroti (1983), в которой четырехлетнее пребывание кня¬
зя в Париже и последовавшее за этим разочарование сопостав¬
ляются с моральным состоянием заблудившегося «в сумрачном
лесу» Данте в начале «Ада». Подобно Беатриче, его способна
вывести к райскому свету красавица Аннунциата***. Наибольшее
количество образов «Божественной комедии», «сквозящих»
в «Мертвых душах», выявлено Е. А. Смирновой. В ее моногра¬
фии о поэме Гоголя (1987) представлены и концептуальные фи¬
лософские переклички с Данте, и почти дословные текстуаль¬
ные совпадения в пейзажах и портретах персонажей****.
Е. А. Смирнова, в частности, отмечает, вслед за Андреем
Белым, важную роль, которую играют в поэме Гоголя дантов¬
ские мотивы погружения, опускания вниз, грязи и топи (паде¬
ние Чичикова в грязь перед визитом к Коробочке, безуспешная
попытка выбраться из грязи при осмотре владений Ноздрева,
«гравюр» с изображением тонущих коней в комнате Плюшки¬
на и развернутое сравнение его с утопающим и др.). Топогра¬
фия дантовского Ада находит, по мнению исследовательницы,
отражение в описании усадеб персонажей «Мертвых душ». Не¬
большое отклонение от общего направления героев «Комедии»
вниз происходит в первом круге — Лимбе. Они поднимаются
Маркович В. М. «Задоры», Русь-тройка и «новое религиозное сознание*.
Отелеснивание духовного и спиритуализация телесного в 1-м томе «Мерт¬
вых душ» // Wiener Slawistischer Almanach. 2004. Bd. 54. С. 93-107.
** Driessen F. C. Gogol as a Short — Story Writer. A Study of His Technique of
Composition. The Hague, 1965. P. 109.
*** Baroti T. Традиция Данте в повести Гоголя «Рим» // Studia Slavica
Hungarica. 1983. № 29. С. 171-183.
Смирнова Е. А. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души». Л.,1987. С. 126-
134.
«Гоголь и Данте» как современная научная проблема
553
на холм, где стоит высокий замок. Манилов — единственный
из персонажей первого тома, чей дом расположен на возвыше¬
нии. Об обитающих в Лимбе героях — язычниках невольно на¬
поминают имена его сыновей Фемистоклюса и Алкида. У Данте
в Лимбе еще нет настоящих грешников, и недаром образом Ма¬
нилова, характер которого автор определяет формулой «ни то,
ни се», открывается галерея персонажей первого тома поэмы.
Степень греховности каждого последующего героя Гоголя будет
раскрываться по нарастающей, подобно тому, как это происхо¬
дит у Данте при погружении в более глубокие круги Ада.
Переход из Верхнего ада в Нижний в путешествии Данте от¬
крывает собой город Дит, у стен которого поэта встречают «Три
фурии, кровавы и бледны». У Гоголя этому эпизоду, по мнению
Е. А. Смирновой, соответствует ситуация возвращения Чичи¬
кова в город, где он видит «особенного рода существ в виде дам
в красных шалях и башмаках без чулок („кровавы и бледны“),
которые, как летучие мыши шныряют по перекресткам»*.
Особенно глубоко проанализирован Е. А. Смирновой образ
губернаторской дочки, который противостоит всем «бездуш¬
ным» персонажам поэмы: «она только одна, — как сказано
у Гоголя, — белела и выходила прозрачною и светлою из мут¬
ной и непрозрачной толпы» (VI, 169). По мнению исследова¬
тельницы, светоносность всех портретов гоголевской героини
заставляет нас вспомнить о категории света у Данте и ее фило¬
софских источниках. В неоплатонической философии Диони¬
сия Ареопагита, на которую опиралась художественная мысль
Данте, свет — это источник всего сущего, и картина вселенной,
нарисованная в «Божественной комедии», являет собой посте¬
пенное нарастание силы света по мере движения героя от низ¬
ших ее сфер к высшим. Пронизан этим символическим светом
в «комедии» и образ Беатриче, которая, сменив в Чистилище
Вергилия, ведет автора-повествователя в царство горнего света,
где совершается очищение его души. Роль губернаторской доч¬
ки в задуманном духовном возрождении Чичикова, разумеет¬
ся, не тождественна роли Беатриче. Но некая принципиальная
близость, как полагает Е. А. Смирнова, здесь очевидна. У Гого¬
ля сказано, что в ощущениях героя после встречи с ней на балу
«было что-то такое странное, что-то в таком роде, чего он сам
* Там же. С. 132.
554
А. X. ГОЛЬДЕНБЕРГ
не мог себе объяснить» (VI, 169). В этом эпизоде «Чичикова
коснулся свет ее душевной чистоты, и его, казалось, умершая
душа потянулась к этому свету, хотя и еще бессознательно»*.
Общность в философском наполнении двух женских образов —
у Данте и Гоголя — подчеркивается отмеченным Е. А. Смирно¬
вой следующим текстуальным совпадением. Беатриче у Данте
«гармонией небес осенена» («Чистилище», XXXI, 144); о тан¬
цующей губернаторской дочке в одном из набросков к первому
тому сказано: «Гармония летала в виду всех» (VI, 607).
В последние два десятилетия повышенный интерес к пробле¬
ме «Гоголь и Данте» проявляют американские исследователи.
При всем разнообразии подходов их объединяет стремление
к изучению исторического генезиса художественных форм Дан¬
те и Гоголя. В статье Марианны Шапиро (1987) образы дантов-
ских теней и помещиков Гоголя рассматриваются как сходные
символико-аллегорические системы**. Автор работы пытается
подойти к гоголевской поэме с теми же ключами, которые пред¬
лагал Данте для толкования образов «Божественной комедии»
по четырем смыслам: буквальном, аллегорическом, моральном,
анагогическом. Персонажи «Мертвых душ», как и герои Данте,
предстают в этой работе аллегорическим воплощением основ¬
ных человеческих пороков. Их моральная инертность, нрав¬
ственная усредненность (не холодны, ни горячи) делают их по¬
хожими, скорее, на обитателей дантовского Чистилища, хотя,
например, в описании сада Плюшкина М. Шапиро видит аллю¬
зию на образ «одичалого леса» самоубийц из 13 песни «Ада».
В основу анализа системы персонажей второго тома как мораль¬
ной аллегории положена схема семи смертных грехов грегори-
анского канона, от которых героям Данте надлежит очиститься
по мере восхождения на гору Чистилища: «Каждый из впервые
выведенных во втором томе персонажей гораздо нагляднее, чем
его аналог из первого тома, ассоциируется с тем или иным гре¬
хом, который и оказывается его главным определением. Так,
Тентетников (чье имя образовано от слова „тень“), хоть и име¬
ет биографию, но характеризуется главным образом ленью,
то есть грехом, который, как и алчность, превращает грешника
* Там же С. 134.
** Shapiro М. Gogol and Dante // Modern Language Studies. 1987. Vol. 17,
№ 2. P. 37-54.
«Гоголь и Данте» как современная научная проблема
555
в камень. Костанжогло явно воплощает собой гнев, генерал Бе-
трищев — гордость, Хлобуев — мотовство, Петух — обжорство.
При этом, как и у Данте, именно лень (acedia) оказывается тем
самым первопороком, который дает дорогу всем прочим»*.
Авторы другой американской работы — «Гоголь в Риме» —
Фредерик Гриффитс и Стэнли Рабинович (1990), отталкива¬
ясь в некоторых моментах от весьма схоластичной концепции
М. Шапиро, сумели перевести свой анализ дантовской тради¬
ции у Гоголя на литературоведческие рельсы. Они предлагают
рассматривать поэмы Гомера, Данте и Гоголя как звенья единой
и непрерывной эпической традиции, в рамках которой каждый
последующий текст является «продолжением и завершением
предыдущего»**. В качестве эпиграфа к русскому изданию их
книги избираются слова В. Ф. Одоевского из «Русских ночей»:
«развязка „Илиады“ хранится в „Комедии“ Данте». Они сви¬
детельствуют о том, что идея единого эпического текста миро¬
вой литературы была близка современникам Гоголя. Эпическая
традиция, по мнению авторов книги, является источником
всех произведений писателя, созданных в Риме: первой части
«Мертвых душ», «Тараса Бульбы» в редакции 1842 года и пове¬
сти «Рим». В первую очередь, их объединяет тема национально¬
го предназначения и роли в нем личности. Если «Тарас Бульба»
и «Рим» представляют как бы в чистом виде противоположные
полюсы традиции — гомерический (языческий эпос) и дантов-
ский (христианский эпос), то в «Мертвых душах» происходит
не только ироническое снижение, но и смешение этих начал,
что, как полагают авторы исследования, определяет структур¬
ную специфику поэмы, превращая ее сначала в ироикомиче-
ский эпос, а затем в историю спасении души. Эта специфика
«отчасти объясняется <...> переходом от одного способа пове¬
ствования к другому — иначе говоря, переходом от саги к испо¬
веди» ***. Чрезвычайно важную роль в поэме Гоголя, как полагают
Гриффитс и Рабинович, играет категория середины пути. Герой
Данте начинает свой спуск в преисподнюю в «середине стран¬
ствия земного». Выбрав в качестве протагониста среднего героя
* Там же. Р. 48.
** Гриффитс Фредерик Т., Рабинович Стэнли Дж. Третий Рим. Классический
эпос и русский роман (от Гоголя до Пастернака). СПб., 2005. С. 22.
™ Там же. С. 76.
556
А. X. ГОЛЬДЕНБЕРГ
(по возрасту, дарованиям, социальному положению), Гоголь
в середине первого тома, после встречи Чичикова с Плюшки¬
ным завершает внешний сюжет поэмы, связанный со скупкой
мертвых душ, и меняет координаты универсума, «средоточием
которого эта середина является»*.
Авторы работы утверждают, что «ив изображении характе¬
ров, и в самой динамике стиля и авторской интонации „Мертвые
души“ очевидным образом многое заимствуют из „Ада“ <...>
Оба произведения демонстрируют, что на самом-то деле живые
уже мертвы, рассортированы по грехам и навечно прикреплены
каждый к своему месту» **. Однако те немногочисленные дантов-
ские аллюзии в первом томе гоголевской поэмы, которые отме¬
чают исследователи, носят весьма субъективный характер. Так,
например, тройка Чичикова ассоциируется у них с инверсией
троицы наихудших предателей, окружающих Сатану в глыбе
мертвого льда в последнем из кругов Ада. Обосновывается это
тем, что в конце первого тома главными гонителями Чичико¬
ва становятся его недавние друзья. Героев второго тома авторы
работы, вслед за М. Шапиро, помещают в Чистилище, но со¬
относят их с категориями душ, обитающих в Предчистилище:
Тентетникова с «медлителями» или кающимися грешниками,
Хлобуева с беспробудно спящими, Костанжогло с озабоченны¬
ми и т. д. Путешествие Чичикова, по их мнению, приобретает
здесь характер паломничества.
Подробный анализ эволюции повествовательных стратегий
Гоголя, изменения роли и функций автора, рассказчика и геро¬
я-протагониста приводит авторов этой в целом содержательной
и во многом новаторской работы к выводу, что дантовская тема
«всегда сохраняет для Гоголя свою продуктивность лишь по¬
стольку, поскольку речь идет о первой части трилогии » ***. Но при
этом наибольшее сходство с дантовской моделью они видят
в судьбе Тентетникова, вожатыми которого на его пути к Вос¬
кресению сначала был, подобно Вергилию, «харизматический
учитель» Александр Петрович, а после ссылки в Сибирь — Бе¬
атриче — Улинька. Едва ли не первые, Гриффитс и Рабинович
пытаются сопоставить «Божественную Комедию» с «Выбран¬
* Там же. С. 113.
** Там же. С. 140.
*** Там же. С. 142.
«Гоголь и Данте» как современная научная проблема
557
ными местами из переписки с друзьями», которые они считают
продолжением «Мертвых душ». Если во втором томе главной,
как они полагают, является идея искупления, то Переписка,
состоящая, подобно кантике дантовской поэмы из тридцати
трех частей, начинается и завершается темой паломничества,
долженствующего привести к спасению Россию и русского че¬
ловека. «В последнем письме („Светлое Воскресение“) Гоголь
недвусмысленно воспроизводит ту сцену из Данте, где тот по¬
кидает наконец Ад. Итак, в той же мере, что в „Божественной
Комедии“, судьба народа оказывается зависящей от личного
спасения <...>»*.
В начале нашего века еще одной американской исследова¬
тельницей Ниной Перлиной был предложен весьма перспек¬
тивный путь изучения дантовской традиции у Гоголя**. Она
предлагает подойти к вопросу о генезисе жанра обеих поэм как
проблеме структурно-типологического характера. Как извест¬
но, одной из основных жанровых моделей, использованных
Данте, были средневековые видения ада и рая. Сопоставление
с ними «Божественной Комедии» вызвало в свое время у неко¬
торых авторитетных дантоведов резкое неприятие. Например,
И. Н. Голенищев-Кутузов в своей книге о Данте (1967) пи¬
сал: «Поэма Данте <...> так разительно отличается от немощ¬
ных средневековых „Видений“ и „Хождений“, что все попытки
возводить творение гения к этим произведениям средневековой
литературы представляются нам несостоятельными»***. Однако
после исследований А. Я. Гуревича, посвященных этим жан¬
рам, стало ясно, что «немощными» их можно назвать только
по недоразумению****. В 1989 году была опубликована написан¬
ная в 20-е годы прошлого века ценная теоретическая работа
Б. И. Ярхо о жанре видений*****. Опираясь на нее, Нина Перлина
приходит к выводу, что структуру видений можно рассматри¬
* Там же. С. 158.
** Перлина Н. Средневековые видения и «Божественная Комедия» как эсте¬
тическая парадигма «Мертвых душ» // Гоголь как явление мировой лите¬
ратуры. М., 2008. С. 286-296.
*** Голенищев-Кутузов И. Н. Данте. М.» 1967. С. 267.
**** См., например: Гуревич А. Я. «Божественная Комедия» до Данте // Он
же. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981. С. 176-239.
***** ЯрхоБ. И. Из книги «Средневековые латинские видения» // Восток-
Запад. Исследования. Переводы. Публикации. Вып. 4. М., 1989. С. 21-
53.
558
А. X. ГОЛЬДЕНБЕРГ
вать как общую типологическую парадигму замысла «Мертвых
душ», а «Божественную комедию» как конкретную типологи¬
ческую модель, на которую ориентировался Гоголь. На это ука¬
зывают, по мнению исследовательницы, такие общие для виде¬
ний, Данте и Гоголя структурные черты, как путь нисхождения
и восхождения героев, параллелизм образов первого и второго
томов (Собакевич / Костанжогло, Плюшкин / Муразов), кон¬
траст их ландшафтов (равнина /горы) и др. Но едва ли можно
согласиться с утверждением, что, в отличие от Данте, мотив ду¬
ховного перерождения и спасения души не затрагивает главного
героя и что в гипотетическом третьем томе поэмы Чичикову ме¬
ста не найдется. Для Гоголя эта проблема была ключевой, о чем
свидетельствуют и его письма, и биография Чичикова в кон¬
це первого тома, и сцена раскаяния героя в тюремном чулане
в томе втором: «Вся природа его потряслась и размягчилась»
(VII, 115). Из города Тьфуславля он уезжает другим человеком:
«Это, — пишет Гоголь, — был не прежний Чичиков. Это была
какая-то развалина прежнего Чичикова» (VII, 124). Замысел
преображения гоголевского героя, как уже отмечалось в ряде
наших работ, был ориентирован на структуру жития великого
грешника, образцом которого в средневековой литературе вы¬
ступала легендарная биография апостола Павла*. А путеше¬
ствие Павла Чичикова просто напрашивается на сопоставле¬
ние с «Видением апостола Павла», о котором упоминает Данте
в своей поэме. В этом раннехристианском апокрифе, известном
на Руси с XIV века, повествуется о странствии апостола по Аду
и Раю, рисуются яркие картины мук грешников и блаженной
жизни праведников.
Итак, несмотря на впечатляющие результаты изучения про¬
блемы «Гоголь и Данте» в XX веке, говорить о ее решении пока
не приходится. Во-первых, кроме «Мертвых душ», практически
не сопоставлялись с Данте другие тексты писателя. Во-вторых,
говоря о соотносительности плана гоголевской поэмы со струк¬
турными принципами «Божественной комедии», необходимо
ответить на вопрос, как могли сопрягаться в творческом созна¬
* См.: Гольденберг А. X. Житийная традиция в «Мертвых душах» // Ли¬
тературная учеба. 1982. №3. С. 155-162.; Гольденберг А. X., Гонча¬
ров С. А. Легендарно-мифологическая традиция в «Мертвых душах» //
Русская литература и культура нового времени. СПб., 1994. С. 21-48.
«Гоголь и Данте» как современная научная проблема
559
нии Гоголя католическая концепция чистилища как избавле¬
ния от наказания за грехи и православное учение о спасении
души, в основе которого лежит догмат об избавлении человека
от самого греха. В этом аспекте особого внимания требует про¬
блема влияния апокрифической литературы как опосредующе¬
го звена в восприятии русской культурой идеи чистилища.
Еще одна, совершенно не затронутая грань проблемы «Го¬
голь и Данте» связана с хронотопом путешествия по загробно¬
му миру. У Данте оно происходит в Страстную и Пасхальную
неделю 1300 г. Дантовский путь воспроизводит основной сюжет
главного христианского праздника и его новозаветного прото¬
типа: в Страстную Пятницу Данте начинает свой путь в царство
вечной смерти, утром Пасхи выходит на поверхность южно¬
го полушария, как бы воскресая к новой жизни. Он повторяет
путь Христа: его смерть, сошествие в преисподнюю (чрезвычай¬
но популярный апокрифический сюжет) и воскресение (а за¬
тем вознесение). Тем самым личные искупление и очищение
дантовского героя-протагониста приобретают всечеловеческий
и космический смысл*.
У Гоголя путешествие Чичикова не имеет точной временной
приуроченности. Но знаменитый финал первого тома «Мерт¬
вых душ», полет чичиковской Руси-тройки сравнительно не¬
давно был соотнесен И. А. Есауловым с пасхальным архетипом
русской словесности. По мнению исследователя, композицион¬
ная структура «Мертвых душ» (как и «Выбранных мест»), сме¬
на земной горизонтали духовной вертикалью имеет пасхальную
основу, которая определяет гоголевскую поэтику. Здесь, в фи¬
нале «происходит художественно организованное пасхальное
чудо „воскресения“ мертвого душою центрального персонажа
поэмы <...> Финальное вознесение Чичикова возможно точно
так же, как и вознесение русского народа»**. В свете этих суж¬
дений, какими бы дискуссионными они не представлялись,
можно, по нашему мнению, поставить вопрос о соотношении
пасхальных хронотопов Гоголя и Данте. Если у Данте личное
религиозное преображение героя получает вселенский размах,
* Андреев М. Л. Время и вечность в «Божественной Комедии» //
Дантовские чтения. 1979. М., 1979. С. 174-175.
** Есаулов И. Рождественская и пасхальная традиции в поэтике Гоголя //
Гоголь как явление мировой литературы. М.» 2003. С. 60.
560
А, X. ГОЛЬДЕНБЕРГ
то у Гоголя пасхальная идея носит ярко выраженный нацио¬
нальный характер. Но это лишь первое приближение к обсужде¬
нию сложной и, как нам представляется, весьма перспективной
научной задачи.
Смелые концепции и частные наблюдения не могут, однако,
заменить всеобъемлющего теоретического изучения проблемы
«Гоголь и Данте». И потому все еще актуальным остается вывод
Ю. В. Манна, сделанный более десяти лет назад: полное сопо¬
ставление «Мертвых душ» и «Божественной комедии» — «это
задача будущих исследований*.
Манн Ю. В. «Память смертная». Данте в творческом сознании Гоголя
// Он же. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996. С. 435. Болезнь.
Смерть. М., 1995; Он же. Человек перед Богом. М.» 2000).
А. А. АСОЯН
Дантология Веселовского
sub specie temporis nostri1
В статье к столетней годовщине со дня рождения Александра
Веселовского его ученик В. М. Жирмунский писал: «По своему
научному кругозору, исключительной широте своих знаний,
глубине и оригинальности теоретической мысли он намного
превосходит большинство своих современников, как русских,
так и иностранных»*.
Эту высокую оценку трудов Веселовского пытался оспорить
выдающийся дантолог И. Н. Голенищев-Кутузов, сотрудник
И. Ф. Бэлзы по Дантовской комиссии АН СССР. Бэлза никогда
не разделял критического отношения своего коллеги к дантоло-
гическим трудам Веселовского. В редактируемых им «Дантов-
ских чтениях» он неоднократно обращался к наследию ученого
как сохраняющему свою содержательность для современной
науки**, хотя Голенищев-Кутузов полагал, что взгляды Весе¬
ловского на Данте ничем не отличаются от воззрений на поэта
«позитивистов» Ф. Де Санктиса и А. Гаспари***, а самая обшир¬
ная статья Веселовского «Данте и символическая поэзия като¬
* Жирмунский В. М. А. Н. Веселовский (1838-1906) // Веселов¬
ский А. Н. Избранные статьи. Л., 1939. С. V.
** О трудах Веселовского, посвященных Данте, см: Горский И. К. Данте
и некоторые вопросы исторического развития Италии в трудах и выска¬
зываниях А. Н. Веселовского // Дантовские чтения. М., 1973. С. 65-141;
Елина Н. Г., ПрокоповичС. С. Веселовский о трех «флорентийских вен¬
цах» // Наследие Александра Веселовского: Исслед. и материалы. СПб.,
1992. С. 145-178.
*** Голенищев-Кутузов И. Н. Эпоха Данте в представлении современной науки
// Голенищев-Кутузов И. Н. Романские литературы. М., 1975. С. 15.
562
А. А. АСОЯН
личества» (1866) зависима от работ ученика К. — Ш. Фориеля,
зачинателя научной дантологии во Франции, А. — Ф. Озана-
ма, — в первую очередь, от его монографии, изданной в 1839 г.
в Париже, «Данте и католическая философия его времени»
(«Dante et la philosophie catholique au trezième siècle»)*.
Замечание частично справедливо, тем не менее самостоя¬
тельность молодого ученого очевидна уже в его рецензии на опу¬
бликованный в 1858 г. в Штутгарте труд Г. Флото (H. Floto.
Dante Alighieri, sein Leben und seine Werke). В статье-рецензии
«Данте Алигиэри, его жизнь и произведения» (1859) Веселов¬
ский высказал мысль о «двоякой задаче», стоящей перед иссле¬
дователем века Данте: раскрыть внутреннюю жизнь общества
исходя из идейно-художественного мира великих произведе¬
ний, а «в жизни общества проследить условия этих созданий»**.
«История литературы есть именно история культуры [...] Ска¬
жите мне, — говорил Веселовский, — как народ жил, и я вам
скажу, как он писал » ***. Труд Флото не удовлетворял Веселовско¬
го как раз тем, что, по его мнению, автор недостаточно твердо
стоял на исторической почве. Так начинался путь ученого, ко¬
торый, по определению В. Н. Перетца, развивался «от культур¬
ной истории — к исторической поэтике»****.
В статье «Данте и символическая поэзия католичества» Весе¬
ловский остался верен заявленным принципам изучения Данте
и старался как можно шире воссоздать легендарную основу «Бо¬
жественной Комедии » *****, что и сближало опыт русского ученого
с исследованиями Озанама, но Веселовский не ограничивался
разысканиями французского коллеги, а стремился к их продол-
жению******.ОнпыталсядополнитьОзанама,указывая,например,
* См.: Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура. М.»
1971. С. 477.
** Веселовский А. Н. Данте Алигиэри, его жизнь и произведения //
Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 3. СПб., 1908. С. 1.
*** Веселовский А. Н. Из отчетов о заграничной командировке (1862-1863)
// Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 389, 390.
**** Перетц В.Н От культурной истории — к исторической поэтике //
Памяти академика Александра Николаевича Веселовского. По случаю
десятилетия со дня его смерти (1906-1916 гг.). Пг., 1921. С. 35-42..
***** Веселовский А. Н. Данте и символическая поэзия католичества //
Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 3. С. 61.
****** См., например, ссылки русского ученого на статью: Ozanam. Documents
pour servir a histoire littéraire de 1’ Italie du Vili au XIII siècle //
Дантология Веселовского sub specie temporis nostri
563
на итальянскую редакцию жития св. Макария, почти современ¬
ную Данте и оставшуюся неизвестной ученику Фориеля.
Свобода и самостоятельность Веселовского в отношении
к своему предшественнику проявлялась не столько в подборе
необходимых фактов, сколько в методологической установке.
Он сводил свою главную задачу «...к исследованию пути, кото¬
рым христианское созерцание, вначале робкое и скупое на обра¬
зы, потом незаметно все более и более поддаваясь эстетическому
чутью и желанию разъяснить себе тайны будущей жизни», как
оно «от бедного своими формами зародыша легенды приходи¬
ло к такому симметрическому созданию, как поэма Данте»*.
Решение этой задачи стало не только преддверием сравнитель¬
ного метода Веселовского, предвосхищенного статьей И. Герде¬
ра «О сходстве средневековой английской и немецкой поэзии»
(1777)**, но и подступом к будущему исполнению одного из зада¬
ний исторической поэтики — «определить роль и границы пре¬
дания в процессе личного творчества»***.
Выступая в 1870 г. с лекцией «О методе и задачах истории
литературы как науки», тридцатидвухлетний ученый заявлял,
что сравнительный метод «... вовсе не новый (...) он есть толь¬
ко развитие исторического, тот же исторический метод, только
учащенный, повторенный в параллельных рядах, в видах до¬
стижения возможно полного обобщения. Я говорю в настоящем
случае, — уточнял Веселовский, — о его приложении к фактам
исторической и общественной жизни [...] Сообразно с этим, мы
ограничиваем или расширяем наше понятие о причинности;
каждый новый параллельный ряд может привести с собою но¬
вое изменение понятия; чем более таких проверочных повторе¬
ний, тем более вероятия, что полученное обобщение подойдет
Веселовский А. Н. Данте и символическая поэзия католичества //
Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 3. С. 69.
* Веселовский А. Н. Данте и символическая поэзия католичества// Там же.
С. 75.
** «... именно Гердер, — цитировал немецкого историка литературы Г. Гет-
нера А. Пыпин, — положил первые основания по построению всеобщей
истории сравнительной литературы и исследованию поэзии во всех ее
формах и судьбах».— Пыпин А. Н. Гердер // Вестник Европы, 1890,
кн. 4. С. 651.
*** Веселовский А. Н. Введение. Поэтика сюжетов и ее задачи // Веселов¬
ский А. Н. Историческая поэтика. С. 493.
564
А. А. АСОЯН
к точности закона» *. Так мысль Веселовского дистанцировалась
от метафизики Озанама, искавшего в длинном ряде легенд и по¬
верий, предшествующих «Божественной Комедии», не прояв¬
ление объективного закона, — о котором Веселовский писал:
«... поэт родится, но материалы и настроение его поэзии приго¬
товила группа. В этом смысле можно сказать, что петраркизм
древнее Петрарки»**, — а «свидетельство об одной постоянной
заботе человеческой мысли»***.
Голенищев-Кутузов, отмечая через сто лет после статьи Весе¬
ловского удивительную эрудицию русского ученого, все же по¬
лагал, что ему было свойственно «предвзятое и обУженное вос¬
приятие Данте», заключавшееся в том, что Веселовский «не смог
преодолеть узости и ограниченности историко-позитивистской
школы » ****. Но эта школа во времена Веселовского была естествен¬
ным этапом эволюции гуманитарной науки, закономерным яв¬
лением, противостоящим широко распространенному любитель¬
ству. В1949 г. в ретроспективном обзоре итальянской дантологии
Л. Руссо писал, что писатели и ученые еще в первой половине
XIX были скорее энтузиастами, чем систематическими научны¬
ми работниками*****. Подобная ситуация наблюдалась и в других
сферах гуманитарного знания. Обращая на нее внимание, фран¬
цузский историк искусства Ж. Базен замечал, что лишь «Дидро
положил конец возникшему в ХУЛ веке в Италии противоречию
между знатоками и профессионалами, которое стало на Апенни¬
нах предметом бесконечных академических дискуссий»******.
Внимание к фактам, научная выверенность суждений, прису¬
щая уже раним работам Веселовского, были насущной необходи¬
мостью дантологической критики, которая только-только овла¬
девала научными методами. Знаменательно, что Веселовский,
даже не соглашаясь с отдельными положениями академиче¬
* Веселовский А. Н. О методе и задачах истории литературы как науки //
Веселовский А. Н. Историческая поэтика. С. 47.
** Веселовский А. Н. Три главы из исторической поэтики (1899) //
Веселовский А Н. Историческая поэтика. С. 273.
*** Цит. по: Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825-1826 гг.). М.;
Л., 1964. С. 253.
**** Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура. С. 476.
***** Russo L. La nuova critica dantesca del Foscolo e del Mazzini // Цит.no:
Голенищев-Кутузов И. H. Творчество Данте и мировая культура. С. 371.
****** Базен Ж. История истории искусств от Вазари до наших дней. Пер. с фр.
М., 1995. С. 86.
Дантология Веселовского sub specie temporis nostri
565
ских трудов Ф. Шлоссера, К. Витте, Г. Бланка, Дж. Джулиани,
Л. Тонини, К. Фориеля, А.Д’Анконы, Ф. Замбони, а позднее —
Э. Мура, подготовившего 1894 году полный итальянский и ла¬
тинский критический текст произведений Данте, так называе¬
мый «Oxford Dante»*, отдавал им решительное предпочтение.
Противопоставляя профессиональным исследованиям вдох¬
новенные сочинения таких известных поклонников Данте, как
Дж. Мадзини, Г. Россетти, В. Джоберти, Дж. Пасколи, Т. Кар¬
лейль, Дж. Китс, П. Б. Шелли, Э. Ару... Веселовский скептически
отзывался об эрудированных толкователях поэта: «Если в XIII
столетии Данте отразил в себе поэтическую космогонию средних
веков католичества, то в XV его заставили отзываться на плато¬
нические прения флорентийских академий; в XVI он принужден
был пойти в сравнение с Гомером (...) Потом поочередно он ста¬
новился еретиком, революционером, рьяным защитником еди¬
ной Италии — всегда по требованию времени»**. Таким образом,
писал Веселовский, «распространяя (...) на прошлые века наши
настоящие требования, наши гадания, мы поневоле делаемся со¬
лидарными с этим прошлым и заставляем его отвечать за нас... » ***.
Этот упрек, как нам кажется, может быть обращен и к неко¬
торым современным исследователям. Момент имманентизации
дантовского текста характерен, например, если мы верно поняли
автора, для содержательной статьи «Мудрость Надежды: Данте»
известного русского поэта Ольги Седаковой, которая посвятила
свои экзистенциальные размышления одной из «трех дочерей
Премудрости»****. Она пишет об авторе «Комедии»: «Вольно или
невольно, именно надежду (или ожидание надежды, или «наде¬
жду на надежду») он передает своему адресату. То освободитель¬
ное наслаждение, которое мы, читатели, зрители, слушатели,
переживаем при встрече с великим произведением искусства,
сводится к переживанию некоей таинственной надежды. Она вы¬
водит нас из той глухой, замкнутой — ив каком-то отношении
удобной — безнадежности, в которую человека тянет как будто
* Tutte le opere di Dante Alighieri. Ed by Edvard Moore. Oxford, 1894.
** Веселовский А. Н. Данте и символическая поэзия католичества //
Веселовский А. Н.. Собр. соч. Т. 3. С. 46-47.
*** Там же. С. 53.
**** Седакова Ольга. Мудрость Надежды: Данте/ Седакова Ольга. 4 тома. Собр.
соч.: В 4 т. — T. IV. Moralia. Эссе, лекции, заметки, интервью. — М.: Ун-т
Дм.Пожарского, 2010. — С. 311.
566
А. А. АСОЯН
по закону «тепловой смерти». Оно выводит нас из привычки,
из жизни вне начала, из забвения о начале (...)Об этой добродете¬
ли, насколько мне известно, обыкновенно говорят и думают куда
меньше, чем о Вере и Любви. Ее облик, ее содержание труднее
уловить, она как будто менее «религиозна». Но забвение о Наде¬
жде обедняет образы и Веры, и Любви. Они явно становятся даль¬
ше друг от друга, утрачивая связующее их начало, Надежду»*.
Несомненно, что любое религиозное чувство уже по природе
своей имманентно. Оно не может быть другим, и в силу этой из¬
начальной имманентности, оно оказывается для верующего лица
определяющим. Для него, но не для целостного художественно
мира великой поэмы, в котором воление преобладания одной
из ценностей, также, как «забвение», неминуемо влечет умаление
другой, а между тем Вера, Надежда, Любовь мыслятся сестрами.
Впрочем, высокое целеполагание статьи Седаковой не подлежит
сомнению, ее доводы продиктованы, как сказал бы А. Ф. Лосев,
«обожением», возвышением веры над разумом**. Завершая свою
статью, автор пишет: «Она («надежда на надежду». — А.А.), как
нам теперь говорят, противоположна мужеству и ответственно¬
сти. Она есть самообман и малодушие (Вспомним: у Данте хра¬
нить надежду мужественно, а предавать ее низко). Она противопо¬
ложна внутренней свободе. «Новому разумению» наша культура
предпочитает мудрость стоиков и скептиков, которая осознается
не как старая, а как вечная и единственно правдивая. Эта мудрость
не «направляет в высоту», а позволяет «выключиться из реально¬
сти», встать на стороне и бесстрастно (?!! — А.А.) смотреть на все,
от чего ты таким образом «освобождаешься». Не пламя и влага,
а холод и сухость — символы этой мудрости, не щедрость, а рас¬
четливость (?!! — А.А.), не самоотдача, а самосохранение» ***. Нот¬
ки инвективы или иронии, слышимые в размышлениях Седако¬
вой об адептах стоической мудрости, заставляют вспомнить, что
ее блестящее эссе напечатано в сборнике «Moralia».
Вместе с тем субъективный крен автора статьи «Мудрость На¬
дежды...» — (хочу сказать, перефразируя В. В. Бибихина, что
* Седакова Ольга. Указ.соч. — С. 312-313.
** Бибикин В. В. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверин¬
цев.— М.: Инет, философии, теологии и истории св. Фомы, 2004.—
С. 171. Но в другом контексте Лосев: «... моя вера держится исключитель¬
но на разуме»//Бибихин В. В. Указ соч. — С. 140.
*** Седакова Ольга. Указ. соч. — С. 321.
Дантология Веселовского sub specie temporis nostri
567
Ольга Седакова не то, чтобы не права, а дело как бы не в этом;
она пишет о том, что сплетается с ее жизнью, другие увидят
в данном случае другое) — хорошо иллюстрирует высказывание
одного из вдумчивых исследователей «Комедии: «... символизм
средневекового искусства дает много примеров крайнего отлета
от исходного прямого смысла образа или слова. Но принцип, ле¬
жащий в основе такого предпочтения, очень прост и естествен.
Реальность, какой бы она ни была, причастна божьему творе¬
нию, а все ее толкования суть домыслы людей, в разной степени
отражающие божественные замыслы. Поэтому необходимо опи¬
раться на действительность, чтобы не терять главный ориентир
для мышления и не подменять его фантазиями (...) со стороны
Данте было в известной степени смелостью уподобить свою поэ¬
му священному тексту, а себя — пусть в минимальной степени —
творцу. Но поэт делает это с полным сознанием ответственности,
поскольку искусство — «божий внук» (Ад XI 105), оно вслед
за природой воспроизводит искусство и премудрость творца,
а следовательно, на нем отсвет божественности»*. Существенно
и другое замечание А. Л. Доброхотова, порождающее сомнение
в обоснованности ангажированного скепсиса Седаковой по отно¬
шению к стоической мудрости: «Для Данте уже не существует
проблемы, волновавшей раннехристианских мыслителей: как
относиться к античному наследию? Для него, как и для всей
(особенно южноевропейской) культуры зрелого средневековья,
греко-римская цивилизация — это родина, почва, плоть, кото¬
рая воскресла благодаря вошедшей в нее душе Нового завета»**.
С отечественным исследователем, по существу, солидарен
и известный филолог, историк духовной культуры Запада Конрад
Бурдах (1859-1936). Он пишет: «Понять религиозную и христи¬
анскую в своей глубине натуру Данте можно только в том слу¬
чае, если никогда не забывать об одном: он хочет силою своих
слов очистить, возвысить, омолодить, обновить христианскую
религию своего времени, его этику, его церковь, его государство,
его искусство, его науку в возрождении подлинной человечности
посредством примирения христианства с национальной рим¬
ской древностью. Вершиной и истории человечества, открытым
в истории земным раем является для его время, когда Август за¬
* Доброхотов А. Л. Указ. соч. — С. 88.
** Там же. —С. 95.
568
А. А. АСОЯН
вершил век гражданских войн, установив мир в империи, и тог¬
да же, с рождением Христа, возникла новая всемирная церковь.
Эту мысль Данте часто выказывал. Таков отправной пункт его
исторического мышления и реформаторских надежд»*.
Далее Бурдах замечает: « ... три христанские добродетели, вера,
надежда, любовь обостряют его зрение для видения того, что его
ждет: божества, принявшего образ Грифона. Танцуя, добродетели
поют в сопровождении ангельской мелодии: «обрати Беатриче,
обрати свой взор на твоего верного друга, который прошел столь¬
ко, чтобы увидеть твою вторую красоту, которую он еще не видел,
твою вторую красоту». При этих словах Беатриче открывает свое
лицо, Данте, осчастливенный, перживает в символическом виде¬
нии грехопадение, введение Богом императорской власти, пред¬
назначенной для возвращения человечества к земному блажен¬
ству, в потерянный рай, соединение империи и церкви, папства
и императорской власти. Затем он с ужасом взирает на страшную
апокалиптическую картину развития, упадка и изгнания церкви:
в цветущее древо империи и в колесницу церкви ударяет гром; се¬
далище колесницы в опасной щедрости одаряет своими перьями
орел (Константин); чудовища лишают достоинства грехи церкви,
наконец, блудницу Апокалипсиса, сидящую на колеснице, выро¬
дившееся папство, бичует ее любовник, гигант (Франция), кото¬
рый увлекает ее потом в дальний лес (в Авиньон).
Беатриче утешает испуганного поэта. Она предвещает луч¬
шее будущее. Бог пошлет спасителя, императора-мессию...»**.
Нельзя игнорировать и другие оригинальные наблюдения
Бурдаха: «Чистилище завершается Земным раем. Источники
Мательды свидетельствуют формой своего названия и спосо¬
бом действия о происхождении из другой сферы (античной. —
А.А.)<...> Но наличие и антитеза Леты и Эвнои не могли быть
почерпнуты из Вергилия.
Мы с необходимостью приходим к орфическим учениям
о двух источниках в Аиде: Забвения (Леты) слева и воспоми¬
нания (Мнемозины) справа, воду которых должен был испить
мистик, чтобы либо уйдя из жизни, вступить в другое земное
существование или достигнуть целей блаженства, либо обрести
* Бурдах Конрад. Реформация. Ренессанс. Гуманизм. — М.: Росспэн,
2004. — С. 59.
** Там же. С. 69-70.
Дантпология Веселовского sub specie temporis nostri
569
в самой жизни посредством сакраментальных актов очищения
от грехов усиление, более высокое существование(...) Наряду
с христианскими таинствами покаяния и крещения орфически¬
ми таинствами Леты и Эвнои языческого происхождения, Дан¬
те обращается и к древним мотивам имперско-хилиастического
пророчества, которые, даже если они происходят из далекого
восточно-греко-римского прошлого, стали ему, конечно, из¬
вестны в средневековой передаче. В силу величия и силы чув¬
ства и созерцания ему удается выразить этот поэтический син¬
кретизм в полном жизни единстве; основная религиозная черта
всех этих открытий сохранена. Однако Данте ее секулярзирует.
Его Чистилище — зеркальное отображение посюстороннего
возрастания очищения в земном стремлении человека. Догма¬
тические тени и абстракции растворены в свете и телах. Именно
так понимали «Комедию» старые комментаторы»*.
О подмене научного подхода вкусовыми (в том числе и кон¬
фессиональными) пристрастиями писал в наше время Д. С. Ли¬
хачев: «Подходить к старому искусству других стран только
с точки зрения современных эстетических норм, искать только
то, что близко нам самим, — значит чрезвычайно обеднять эсте¬
тическое наследство»**. Эти слова не утратили своего значения
и для современного дантоведения, в котором существуют эзо¬
терические сочинения Р. Генона, комментарии гностического
толка Ф. Гиберто и предшествующие им оккультные штудии
Л. Валли о связях «тайного языка Данте» с мистической и одно¬
временно политической сектой «Верных Любви»***. Требование
научной доказательности было для Веселовского аксиомой.
Подчеркивая эту особенность ученого, один из его биографов
отмечал: «Будучи непримиримым противником всякого рода
романтики и метафизики, Веселовский стремился пользовать¬
ся такими приемами выяснения литературной закономерности,
какие диктуются методом «естественно-научным» и на какие
* Бурдах К. Указ соч. — С. 70, 71, 74.
** Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 357.
*** Guiberteau Ph. Introduction: Dante et la suite de son itinéraire spirituel
selon le Canzoniere. Paris, 1985. P. 1-10; Valli L. Il Linguaggio segreto di
Dante e dei «Fede li d’Amore». Genova, 1988. Солидная монография Л. Вал¬
ли (более 400 страниц), завершенная в 1928 г., была опубликована только
через шестьдесят лет после ее завершения; Генон Р. Эзотеризм Данте //
Философские науки, 1991, № 8. С. 129-171;
570
А. А. АСОЯН
его уполномочивали литературные факты и явления массово¬
го характера»*. Эта характеристика вполне отвечает содержа¬
нию дантологических работ Веселовского, но не предполагает
ни ограниченности, ни узости ученого. Он был восприимчив
к нехарактерным для него самого гипотезам, если находил в них
отражение ментальности изучаемой эпохи.
В самой обширной статье, посвященной Данте и символиче¬
ской поэзии, Веселовский с воодушевлением вводил своего чи¬
тателя в проблематику новейших работ, в частности, книги опе¬
редившего свое время Ф. Переса**. «Как мы старались привязать
идею «Божественной Комедии» к космогоническим идеям като¬
личества, — писал Веселовский, — так он приводит ее в непо¬
средственную связь с психологическими понятиями средневе¬
ковых схоластиков (...) в душе человеческой они признавали две
способности: рассудок (ragione) и разум (intelligenza possibile),
обе потенциальные, существующие только в возможности, не¬
обходимо предполагающие участие деятельного начала, чтоб
эта возможность перешла в действие. Фантазия, — продолжал
комментировать Переса Веселовский, — является таким дея¬
тельным началом для рассудка; без участия деятельного разума
(intelligenza attiva), безличного, мирового, единственного для
всех, наш потенциальный разум никогда не возвысится до вы¬
соты созерцания (intelletto speculativo); только при постоян¬
ном единении с ним, с этим мировым разумом, мы достигаем
того божественного, откровенного разума, который один делает
человека совершенным, подобным Богу. К нему-то стремится
Данте: его Беатриче не что иное, как такое блаженство непо¬
средственного созерцания, приближающего нас к божеству,
от которого его отдалила одно время ложная философская на¬
ука — эта другая дама его мыслей. Выражаясь языком схола¬
стиков, Беатриче — это «intelligenza attiva, — цитирует Весе¬
ловский, — illuminatrice dell’intelletto possibile, che unendosi a
quello si beatrice beata» ***.
* Якобсон Л. Александр Николаевич Веселовский // Лит. энциклопедия.
М., 1930. T. 2. С. 196.
** Perez F. La Beatrice Svelata, preparazione all’intelligenza di tutte le opere di
Dante Alighieri. Palermo, 1865. V. I.
'** Веселовский A. H. Данте и символическая поэзия католичества / Весе¬
ловский А. Н. Собр. соч. Т. 3. С.. 109.
Дантология Веселовского sub specie temporis nostri
571
Столь же заинтересованной была реакция Веселовского на бро¬
шюру другого специалиста в области средневековой литературы
А. Д’Анконы «La Beatrice di Dante» (Pisa, 1865), хотя мнение мо¬
лодого ученого расходилось с авторской трактовкой дантовского
образа. «Беатриче «Божественной Комедии» — что это? — во¬
прошал Веселовский. — Земная ли женщина (...) или аллегория,
символическое изображение науки богословия? Таким вопросом
задавались многие и томили себя ненужными толкованиями.
Кому ясен символический смысл «Божественной Комедии»,
того не удовлетворит ни одно из них...»*. Беатриче, писал позже
Веселовский, «... в одно и то же время и чувство, и идея, и воспо¬
минание, и принцип, объединившиеся в одном образе»**, «...она
одухотворилась до символа, но в ее упреках Данте, среди земного
рая, чувствуется человеческая нота «Обновленной жизни»...»***.
Это суждение, косвенно оспариваемое позднее Л. Валли,
ставившим под радикальное сомнение возможность отражения
в «Новой Жизни» земной любви Данте****, находит излишне ка¬
тегорическое утверждение у современного немецкого дантолога
Ф. Шнайдера: «...тот, для кого Беатриче является созданным
Данте мифом, аллегорией или чем-либо подобным, — пишет
он, — никогда не сможет понять Данте, даже если он, как пока¬
зывают примеры, крупный дантолог»*****.
Несравненно ближе точке зрения Веселовского взгляд Э. Ауэр¬
баха: «Гений Беатриче(...), — пишет он, — никогда не перестает
быть тем, кем он был вначале: конкретным человеком и совершенно
конкретным личным переживанием (...)это сам Амор, возводящий
человека к лицезрению Бога. В конечной судьбе явление не отделе-
ноотидеи, носохраненоипретвореновней » ******* Сходноесоображение
высказывает У. Эко: «...когда Данте говорит, что он выражает дик¬
туемое изнутри Любовью, мы сталкиваемся с чем-то иным, даже
если определим эту «Любовь» философски: это новое понимание
творчества,сочевидностьюсвязанноесмиромстрастиичувства»*******.
* Там же. С. 108.
** Веселовский А. Н. Данте // Веселовский А. Н. Избранные статьи. С. 144.
*** Тамже.С. 150.
**** Valli L. Il Linguaggio segreto di Dante e dei «Fede li d’Amore». P. 8.
***** Цит. по: Бэлза И. Il ben de l’intelletto // Дантовские чтения. M., 1985. С. 91.
Замечание Шнайдера о «крупном дантологе» касается Ф. Де Санктиса.
****** Ауэрбах Э. Данте — поэт земного мира. Пер. с нем. M. 2004. С. 108.
******* Эко У. Эволюция средневековой эстетики. Пер. с итал. СПб., 2004. С. 230.
572
А. А. АСОЯН
С этими авторитетными мнениями солидаризуется и более
развернутое высказывание А. Л. Доброхотова: «Подобно номи¬
налистам XIV в., которые утвердили в философии первичность
индивидуума и производность абстракций, Данте утверждает
исходность живого образа (достигающего своей полноты в обра¬
зе личности) и вторичность рациональных толкований. Земная
и небесная Беатриче прекрасно уживаются в одном образе по¬
эмы, потому что все высшее должно иметь личностное вопло¬
щение. Архетипом для такого символа является Христос, кото¬
рого никакой теолог не мог назвать идеей или принципом, ибо
догматически определено было, что он человек и бог. Данте от¬
крыл в символизме бесконечные возможности для художника,
увидел в сопряжении жизни и духа через символ смысл суще¬
ствования художника, его собственное дело, которое не может
за него сделать никто» *.
По прошествии полутора веков некоторые высказывания
Веселовского о «Божественной Комедии» кажутся чем-то само
собой разумеющимися, хотя в момент их рождения они не ка¬
зались бесспорными. Таково замечание ученого, что «...Данте
просветил единством поэтической мысли символическую кос¬
могонию средних веков...»**. «Комедия» эта— просто книга
Данте, — уточнял Веселовский, — il Dante»***. Проницатель¬
ность и справедливость этого отнюдь не банального мнения
подтверждается в наше время замечанием искушенного читате¬
ля — X. — Л. Борхеса. Касаясь стихов «Ада», в которых Улисс
рассказывает Вергилию о своей страсти «Изведать мира даль¬
ний кругозор» (XXVI, 98/ а Данте — о нечаянной гибели грече¬
ского героя «в том дальнем месте света,// где Геркулес воздвиг
свои межи» (XXVI, 107-108), Борхес пишет: «Я предполагаю,
что в этом эпизоде об Улиссе, в этой самопроекции своего вну¬
треннего конфликта, связанного с необходимостью и страхом
совершить неслыханное путешествие, в конце концов как будто
осененное Божественной Благодатью [...]Данте сам был Улиссом
и в какой-то мере мог опасаться, что его постигнет таже кара» ****.
* Доброхотов А. Л. Указ. соч. — С. 153.
** Веселовский А. Н. Данте и символическая поэзия католичества//
Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 3.. С. 108.
*** Веселовский А. Н. Данте // Веселовский А. Н. Избранные статьи. С. 151.
**** Борхес X. Л. Девять эссе о Данте // Борхес X. Л. Соч.: В 3 т. М.» 1997. Т. 2.
С. 512.
Дантпология Веселовского sub specie temporis nostri
573
Развитие концептуального предположения Борхеса просле¬
живается в интерпретации «Божественной Комедии» А. Добро¬
хотовым и Д. Томпсоном*. Томпсон сопоставляя путешествие
Данте со странствиями Одиссея и Энея, полагает, что если в об¬
разе гомеровского героя, который в «Комедии» не только от¬
правлен за Геркулесовы столпы, но и совращен «сладким зовом»
сирены («Чистилище», XIX, 22), Данте запечатлел свое прео¬
доленное прошлое, свой интеллектуальный искус, питавшийся
уверенностью в самодостаточности человеческих сил, то в обра¬
зе вергилиевого Энея поэт воплотил представление о своей высо¬
кой миссии, предопределенной Божественной Благодатью.
Pendant Томпсону Доброхотов пишет: «В «Комедии» некото¬
рые персонажи оказываются своего рода двойниками Данте, ко¬
торые реализуют возможности его духовного развития и как бы
позволяют Данте взглянуть в зеркало самопознания. Таким зер¬
калом служит и Улисс. Он похож на Данте тем, что стремится
вырваться из рамок обыденности, открыть новые миры:
Тот малый срок, пока еще не спят
Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны...)
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и знанью рождены...
(Чист., XXVI, 114-115).
Так обращается Улисс к своим спутникам, которых он увлек
в плаванье за Геркулесовы столбы (корабль Улисса попал в юж¬
ное полушарие и погиб недалеко от горы Чистилища). Роднит
героев и то, что оба они на пути домой побывали в загробном
мире. В то же время Улисс — антипод Данте. Он движется
по земной поверхности, по горизонтали, а Данте, уведенный
с ложного пути Вергилием, движется по вертикали, которая
одновременно и мировая ось, и лестница духовного восхожде¬
ния. Улисс влеком собственной авантюрной страстью, а Данте
руководим авторитетом — Вергилием. Улиссом движет лю¬
бопытство, а Данте — жажда истины. «Данте — паломник,
а Улисс — путешественник», — подытоживает Ю. М. Лотман.
* Доброхотов А. Л. Указ, соч.; Thompson D. Dante’s epic journeus.
Baltimore-London, 1974.
574
А. А. АСОЯН
Улисс — герой наступающей эпохи возрождения, и характерно,
что этот образ и привлекает и отталкивает Данте»*.
Между тем во многом внешне традиционное, но, оригиналь¬
ное, по сути, утверждение Веселовского об авторском персона¬
лизме «Комедии» не раз подвергалось сомнению в XIX столетии.
Флото находил в ней «частые противоречия»**, а Ф. Де Санктис
отказывал «священной поэме» в целостности: «Если в «Аду»
цель (изображение страстей) полностью достигнута, — настаи¬
вал он, — то в «Раю» поэт был вынужден прибегать к богословию
и аллегории и все-таки не сумел передать красоту добродетели
так, чтобы она могла соперничать с грехом, столь живо описан¬
ным в «Аду». Данте выполнил свой замысел, нарисовал мир до¬
бродетелей и совершенства, но не сумел его реализовать»***.
После подобных суждений авторитетность точки зрения Ве¬
селовского, солидарной не только с дефинициями немецких ро¬
мантиков {см., например: «Божественная Комедия» — (...) аб¬
солютный индивидуум, ни с чем, не сравнимый, кроме самого
себя»****}, но и предваряющей новейшие исследования, кажется
особенно очевидной. Так, автор монографии «Данте и Творец»
У. Андерсон убежден, что поэту удалось передать читателям «...
полноценное ощущение реальности загробного мира»*****. Пер¬
воначальным творческим импульсом «Комедии», считает он,
были свойственные средневековому сознанию видения, пре¬
творенные в художественные образы «фильтрами души»******.
Андерсон указывает, что подобную «психологию творчества»
описывал Августин. Видимо, добавим мы, Августин опирался
на Аристотеля, утверждавшего, что через искусство возникают
те вещи, формы которых находятся в душе художника.
Стоит подчеркнуть, что и Веселовский трактовал «Боже¬
ственную комедию» как более сложное художественное образо¬
вание, чем автобиографическая «дантеида». Заявляя, что «Ко¬
медия» — «просто книга Данте, il Dante», и утверждая таким
образом мысль о ее внутреннем единстве, он вместе с тем неодно¬
* Доброхотов А. Л. Указ. соч. — С. 116-117.
** Веселовский А. Н. Данте Алигиэри, его жизнь и произведении // Весе¬
ловский А. Н. Собр. соч. Т. 3. С. 9.
*** Де Санктис Ф. История итальянской литературы. T. 1. С. 222.
**** Шеллинг Ф. Философия искусства. М., 1966. С. 446.
***** Anderson W. Dante and Maker. London, 1980. P. 279.
****** Ibid. P. 300.
Дантология Веселовского sub specie temporis nostri
575
кратно отмечал вселенские границы самоанализа поэта*, связь
поэмы с эпохой итальянского средневековья: «Четырнадцать
веков работали над нею, оттого и царит она над четырнадцатью
веками»**. Данте, писал Веселовский, «... был собирателем, как
Гомер, как все великие эпические поэты древности, великие по¬
тому, что содержали в себе все свое время и многое из прошлого;
и как про Гомера говорили, что он создал греческих богов, так
Данте просветил единством поэтической мысли символическую
космогонию средних веков»***. Почти через четверть века в лек¬
ционных курсах 1880-х гг. Веселовский снова вернется к этой
теме: «В немногих случаях, — скажет он, — когда поэт овла¬
девает идеальным содержанием современного ему общества,
создается нечто, напоминающее древний эпос цельностью ми¬
росозерцания, хотя последнее уже не охватывает всего народа.
Таковы поэмы Данте (идеи католичества и империи: Рим)...»**** *****.
Обращая внимание на тщательно продуманную композици¬
онно-смысловую организацию «Комедии», Веселовский писал,
что весь загробный мир в поэме предстал «законченным зда¬
нием, архитектура которого рассчитана во всех подробностях,
определения пространства и времени отличаются математиче-
скойиастрономическойточностью » ****** Этонаблюдениебытовало
и до Веселовского, но еще Дж. Вико, называвший Данте вели¬
ким историографом христианской эпохи, полагал основным не¬
достатком поэта преобладание чувства над интеллектом******.
На фоне столь одиозных оценок, свойственных не только
Вико, но и Вольтеру, чрезвычайно примечательна солидарность
с Веселовским французского исследователя Ж. Дофине, автора
монографии «Космос Данте». Он отмечает «парадоксальное»,
идущее, впрочем, от Августина и Фомы Аквината, стремление
Данте к исчисляемости христианской Вселенной. « Дантовский
космос, — пишет Дофине, — это космос математический», в ко-
* Веселовский А. Н. Данте // Веселовский А. Н. Избранные статьи. С. 148.
** Веселовский А. Н. Данте и символическая поэзия католичества // Весе¬
ловский А. Н. Собр. соч. T. 3. С. 75.
*** Там же. С. 108.
**** Веселовский Александр. Эпос. Из авторского конспекта лекционных кур¬
сов 1881-1882 и 1884-1885 гг. (публикация С. Н. Азбелева) // Веселов¬
ский А. Избранные труды и письма. СПб., 1999. С. 109.
***** Веселовский А. Н. Данте // Веселовский А. Н. Избранные статьи. С. 149.
****** См. Dante. The critical heritage. 1314-1870 / Ed by M. Caesar New York,
1989. P. 352-355.
576
А. А. АСОЯН
тором иерархия оказывается общим законом божественного
мироздания*. Об этом свидетельствуют исследования и других
авторов, в том числе и отечественных в XX столетии: А. А. Илю¬
шина, сравнивающего терцины с цепью рождений: то, что в пер¬
вой терцине было как бы эмбрионом в несущем его организме,
в следующей становится телом, несущим в себе зародыш буду¬
щей терцины; М. Л. Андреева, утверждающего, что во времен¬
ной ряд «Комедии» вписываются «те события священной исто¬
рии, в которых с наибольшей полнотой осуществилось единство
земного и небесного, человеческого и божественного, историче¬
ского и вечного, — творение, воплощение, искупление»**. Дан¬
те, пишет Доброхотов, «создает целую философию композиции,
которая сама по себе заслуживает исследовательского внима¬
ния, тем более что дается она в скрытом виде, уже воплощен¬
ная в художественной вселенной, построенной великим масте¬
ром»***, «... ни образ, ни идея, ни переживание не существуют
в поэме изолированно. Их собственная неполноценность прео¬
долевается непрерывной взаимной связью»**** *.
Разработке вопросов иерархического принципа в «Боже¬
ственной Комедии» посвящены две статьи Веселовского. В пер¬
вой «Нерешеные, нерешительные и безразличные дантовского
ада» (1888) он, в частности, ставил задачу «разграничить долю
поэта от легенды, мотивы древних представлений от их нового
понимания»*****. Размышляя об участи обитателей первого кру¬
га Inferno, Веселовский пришел к заключению, что Вергилий
и «все великие иноверцы лимба являются в таком симпатич¬
ном и вместе грустном освещении, что оно искупает, не отменяя
его, строгий приговор догмата. И это не шаг назад в понимании
древности, а прогресс; гуманистическая идеализация взяла
перевес над христианской: содержание языческой мысли и по¬
эзии ценится в них самих, в их целях и человеческих задачах,
* См.: Ibid. Р. 21. Dauphiné J. Le cosmos de Dante. Paris: Les Belles
Lettres,1984. P. 23, 21.
** См.: Илюшин A. A. Стих «Божественной Комедии»//Дантовские чте¬
ния. — м.: Наука, 1971; Андреев M. Л. Время и вечность в «Божествен¬
ной комедии»//Дантовские чтения. — М.: Наука, 1979.
“ Доброхотов А. .Л. Указ. соч. — С. 89.
Доброхотов А. Л. Там же. — С. 101.
“ Веселовский А. Н. Нерешеные, нерешительные и безразличные
дантовского ада // Собр. соч. Т. 4. Вып. 1. С. 351.
Дантология Веселовского sub specie temporis nostri
577
не по идее прообразования, спасавшей для новой культуры за¬
веты древней — поскольку последняя, казалось, предвещала
первую...»*. Этот вывод подтверждает исследование североаме¬
риканского дантолога К. Фостера, который считает, что этиче¬
ский принцип размещения язычников в Лимбе обусловлен при¬
сущим дантовскому миросозерцанию дуализмом**. Гуманизм
Данте, выразившийся в образе Вергилия как обитателя Лимба,
посути, неортодоксальный, по лагает Фостер, нехристианский***.
Во второй статье «Лихва в лествице грехов у Данте» Весе¬
ловский приходил к выводу, что «место, отведенное в Inferno
ростовщикам, объясняется логической попыткой Данте согла¬
совать воззрение на лихву, как на насилие (...) Это он и выразил
образно, но значение этой образности уже в его время, — писал
ученый, — могло ускользнуть от внимания читателей, не загля¬
дывавших в декреталии» ****, которые, писал Веселовский « ...сво¬
дят под одним титулом лихву не только с поджогом, с разбоем
и татьбой, но и с crimen falsi» *****.
Отсылка к декреталиям побуждает процитировать слова Ау¬
эрбаха, который отмечал: «... хотя «Комедия» часто трудна, она
никоим образом не является шарадой» ******; « ...мне кажется недо¬
пустимым, — замечал он по поводу встречи Данте с фуриями
у ворот Дита, — уклоняться от истолкования этого места, как
это происходит в большинстве случаев, когда заявляют, что
Данте не имел здесь в виду ничего определенного, либо под¬
разумеваемое им неважно или непоэтично, либо, что данные
строки — всего лишь художественный прием, цель которого —
служитьвведениемкпоследующемуэпизоду... » *******. Pendant »Ау¬
эрбах писал: «На первый взгляд, адские чудовища сохраняют
в неизменности ужасный и мрачный фантастический облик;
но если вглядеться внимательней, мы тотчас заметим, что Дан¬
те назначает и приписывает каждому из них точный смысл, так
* Веселовский А. Н. Нерешеные, нерешительные и безразличные
дантовского ада // Указ. соч. — С. 351.
** Foster К. The Two Dantes and other studies. Berkeley and Los Angeles,
1977. P. 208.
*** Ibid. P. 253.
**** Веселовский A. H. Лихва в лествице грехов у Данте // Собр. соч. Т. 4.
Вып. 1. С. 393.
***** Веселовский А. Н. Лихва в лествице грехов // Там же. С. 392.
****** Ауэрбах Э. Данте — поэт земного мира. С. 142.
******* Там же.
578
А. А. АСОЯН
что они не только не нуждаются в комментарии, но скорее сами,
в своей области, служат комментарием к тексту»*.
Этой реплике ученого созвучно высказывание Веселовского,
который писал о «Божественной Комедии» : «Во всем сознатель¬
ная, таинственная символика [...] Все это может показаться ме¬
лочным, если не вдуматься в миросозерцание времени, в ярко
сознательную до педантизма, черту дантовского миросозер¬
цания (...) и все это соединяется с другой, на этот раз поэтиче¬
ской последовательностью, которая заставляет нас любоваться
скульптурной определенностью Ада, сознательно-бледными
тонами Чистилища и геометрическими очертаниями Рая, пе¬
реходящими в гармонию небес» **. Акцентируя в Данте единство
мыслителя и поэта, Веселовский писал: «Эта вдумчивость, эта
жажда общих начал, определенности, внутренней цельности
не исключали у него ни страстности, ни воображения; то и дру¬
гое мирилось, определяя качества его поэзии, его стиля, образ¬
ность его абстракции. Любовь к Беатриче получила для него
таинственный смысл; он вносил его в каждый ее момент, рас¬
членяя его путем аллегорических толкований...» ***, — но, наста¬
ивал Веселовский, — «Божественная Комедия» — «это произ¬
ведение в полном смысле символическое, как и все самобытно
развившееся из народной мифической фантазии, на почве ко¬
торой оно выросло. Говорить о поэме Данте, усиленно указывая
на ее аллегории, мы положительно не можем. Аллегория пред¬
полагают нечто исключительно личное, она является, когда
самобытность народной фантазии замутилась, единство преда¬
ний и поверий подалось перед неорганическими вторжениями
и культурными струями, которые ведут за собой неизбежный
разрыв между поэтом и народом, знаменующий новое время[...]
аллегория есть попытка чисто личного символизма»****.
У. Эко, словно дополняя рассуждения Веселовского, пишет:
«Переход метафизического символизма к вселенскому аллего¬
ризму нельзя интерпретировать ни в логических, ни в историче¬
* Там же. С. 121.
** Веселовский А. Н. Данте // Веселовский А. Н. Избранные статьи. С. 149.
*** Тамже.С. 141.
Веселовский А. Н. Вилла Альберти. Новые материалы для характеристи¬
ки литературного и общественного перелома в итальянской жизни XIV-
XV столетия. Критическое исследование // Веселовский А. Н. Собр. соч.
Т. 3. С. 436-437.
Дантология Веселовского sub specie temporis nostri
579
ских терминах. Превращение символа в аллегорию — это про¬
цесс, который вне всякого сомнения, наблюдается в некоторых
литературных традициях, но в Средневековье эти два типа виде¬
ния сосуществовали. Символ более философичен и, несомненно,
предполагает оригинальность мышления, равно как и менее от¬
четливое и определенное ощущение постигаемой вещи»*, а «Ал¬
легория, — констатирует Эко, — более популярна, общепри¬
нята, легитимизирована. Ее можно обнаружить в бестиариях,
лапидариях, «Физиологе», «Церковномзерцале...»**.
В контексте этих рассуждений о символе и аллегории особен¬
но примечательно высказывание Веселовского о Беатриче как
«символе любви очищающей» ***. Он писал « ...аллегория не гар¬
монирует с цельностью символического впечатления, произво¬
димого поэмой Данте»****, «...Беатриче не что иное, как (...) бла¬
женство непосредственного созерцания, приближающего нас
к божеству»*****.
Логика соображений Веселовского как будто устремлена на¬
встречу книге Б. Кроче «La poesia di Dante» (1921) и его пони¬
манию средневековой эстетики, которая, по мнению У. Эко, тол-
куетсяуКрочекак «философия л прической интуиции» ******;такая
эстетика предполагает, что цель искусства — чувственное изо¬
бражение трансцендентного содержания, ибо, по словам Сугге-
рия из Сен-Дени, «mens hebes ad verum per materialia surgit» —
«косный ум восходит к истине через материальное» *******.
Именно в свете этих средневековых воззрений трактует про¬
блему символа в художественной системе итальянского поэта
П. Дронке в монографии «Данте и средневековые латинские тра¬
диции». Он считает, что для великого флорентийца, как и всех
платоников его времени, символ был собранием видимых форм
для обозначения невидимых сущностей. Приближая земное
к небесному, символ расширял и углублял смысл буквально вы¬
сказанного; в нем совершался порыв к избыточности значений,
за пределы какой-либо однозначности, столь характерной для
* Эко У. Эволюция средневековой эстетики. С. 125.
** Там же.
*** Веселовский А. Н. Данте и символическая поэзия католичества. С. 112.
**** Там же. С. 108.
***** Там же. С. 109.
****** Цит.по: Эко У. Эволюция средневековой эстетики. С. 248.
******* Цит.по: Ауэрбах Э. Данте — поэт земного мира. С. 25.
580
А. А. АСОЯН
аллегории*. Об этом, по мнению Дронке, свидетельствует и моно¬
лог Беатриче в IV песне «Рая», в котором утверждается мысль
о способности человеческого ума воспринимать сверхъестествен¬
ное лишь через посредство зримых чувственных образов**.
В контексте таких суждений заинтересованное отношение
молодого ученого к «гипотезе» Ф. Переса, предвосхитившей по¬
добное восприятие дантовского символа, требует особого внима¬
ния, а призыв Веселовского исключить толкование «священной
поэмы» из дебрей аллегорий*** представляется принципиаль¬
ным. Он писал, имея в виду позднее средневековье: «...как пре¬
жде символ выходил из жизни, так жизнь начинает теперь опре¬
деляться внесенным в нее умственным материалом, к которому
отнеслась символически (...) в этом отличие древнего развития
отнового» ****. Здесь кстати вспомнить «Разговор о Данте» О. Ман¬
дельштама, который считал, что в будущем предметом науки
об авторе «Комедии» «станет (...) изучение соподчиненности
порываитекста» *****. Доброхотов, как будто в противовес давнему
заключению Де Санктиса и вслед Мандельштаму, резонно заме¬
чает: «Божественная Комедия» вся построена на этом виртуоз¬
ном сопряжении дионисийского и аполлонического начал, со¬
ставляющем для ее автора высокую задачу поэта. Данте сказал,
что на его поэме лежит благословление земли и неба(Рай XXV
2). Пожалуй, эти слова можно отнести и к осуществлению двух
измерений— страстного порыва и просветляющего «текста»,
в своем союзе порождающих красоту. Естественно, что такое
поэтическое самосознание должно предъявлять особые требова¬
ния к организации художественного текста»******.
Суровый критик Веселовского И. Н. Голенищев-Кутузов
порой предъявлял ему чужие счета, полагая, что «Веселов¬
ский упорно повор ачивает Данте лицом в прошлое...» *******. Между
тем Веселовский писал: «...такое объективное создание, како¬
* Dronke Р. Dante and Medieval Latin Traditions. Cambridge, 1986. P. 24-31.
** Ibid.
*** Веселовский A. H. Данте // Веселовский А. Н. Избранные статьи. С. 151.
**** Веселовский А. Н. Данте и символическая поэзия католичества // Весе¬
ловский А. Н. Собр. соч. Т. 3. С. 90-91.
***** Мандельштам О. Э. Разговор о Данте/ Мандельштам О. Э. Слово и культу¬
ра. — М.:, 1987.—С. 152.
****** Доброхотов А. Л. Указ. соч. — С. 89.
******* Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура. С. 478.
Дантпология Веселовского sub specie temporis nostri
581
ва комедия Данте, возможно только на развалинах прошлого,
с которым сознание уже порешило»*. «Данте, — утверждал он
в диссертации «Вилла Альберти», заслужившей всеевропей¬
ское признание**, — представляется нам с ног до головы средне¬
вековым человеком (...), но, — продолжал он, — уже человеком,
пришедшим в сознание самого себя, что уже предполагает воз¬
можность отрицания»***. Двойственное положение Данте «меж¬
ду старым и новым временем, — полагал Веселовский, — объ¬
ясняет двойственные нападения на него: со стороны церкви
и со стороны ученых начинавшегося возрождения»****.
Насколько верно такое заключение, косвенно свидетель¬
ствует аргументированный вывод Ауэрбаха. «Для него (Дан¬
те. — А.А.)«история» и «прогресс», — писал он, — не имели
никакой самостоятельной ценности; он искал признаки, кото¬
рые могли бы придать смысл происходящим событиям, но на¬
ходил лишь хаос, противозаконные притязания отдельных лю¬
дей, а потому смуту и бедствия. В его глазах мерилом истории
служила не сама история, а совершенный божественный миро¬
порядок — статичный и трансцендентный принцип, который,
однако, вовсе не становится от этого абстрактным и мертвым» *****.
Ниже Ауэрбах отмечает: «...позиция Данте была позицией кон¬
сервативного защитника, ведущего борьбу за отвоевание уже
утраченного. В этой борьбе он потерпел поражение, и его наде¬
ждам и пророчествам не суждено было сбыться. Идеи мирового
господства Римской империи сохраняли силу вплоть до эпохи
Высокого Возрождения, а возмущение испорченностью Церкви
привело к великим явлениям Реформации и Контрреформации.
Но эти идеи и умонастроения имели не более чем внешнее сход¬
ство с образом мыслей Данте [...] никогда эти идеи не обладали
глубиной и универсальным единством томистско-дантовской
картины мира, и породили они не humana civitas [град челове¬
* Веселовский А. Н. Взгляд на эпоху Возрождения в Италии //
Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 3. С. 568.
** См. рецензию Ф. Либрехта <11 Paradiso degli Alberti e gli ultimi trecentisti.
Saggio di storia letteraria italiana» // Heidelberger Jährlicher der Literatur
1870 (63 Jahrgg.) 2 Hälfte. S. 663-9.
*** Веселовский А. H. Вилла Альберти... // Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 3.
С. 361.
**** Веселовский А. Н. Положения к диссертации «Вилла Альберти» //
Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 3. С. 574.
***** Ауэрбах Э. Данте — поэт земного мира. С. 69,
582
А. А. АСОЯН
ческий], где объединилась бы вся ойкумена, как мечтал Данте,
а нарастающий раскол созидательных сил»*.
Последнее замечание немецкого исследователя особенно зна¬
чимо для адекватного понимания концепции Веселовского, его
оценки культурного поворота, начавшегося в средневековой Ита¬
лии. Известно, что Голенищев-Кутузов порицал Веселовского
за «резкую оппозицию к тем ученым, которые пытаются найти
в XIII веке начало перелома, в нашей современной терминологии
именуемое Предвозрождением»**, а также за картину этого еще
как будто пребывающего в неподвижности столетия, словно не со¬
влекшего с себя, по словам Веселовского, «ветхого человека»***.
Но для Веселовского, обоснованно подчеркивающего очевид¬
ную связь дантовского века с томизмом****, взгляд на эпоху Воз¬
рождения был отнюдь не столь прямолинеен. При защите диссер¬
тации он, впоследствии слывший радикальным позитивистом,
утверждал: «В истории идей насильственных перерывов гораздо
менее, чем обыкновенно думают. Эпохи упадка и возрастания,
эпохи процветания и косности — все это искусственные рубрики,
группирующие известное количество фактов, произвольно отго¬
роженных для удобства изучения » *****. Примечательно, что почти
через семьдесят лет подобное мнение выскажет нидерландский
историк культуры Й. Хейзинга: «Соотношение между расцвета¬
ющим Гуманизмом и умирающим духом Средневековья далеко
не так просто (...) в ренессансном духе черты Средневековья были
укоренены гораздо глубже, чем это обычно сознают»******.
Некоторые ученые XX века высказывались категоричнее. «Не
существует, — заявлял на страницах влиятельного английского
* Там же. С. 186.
** Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура. С. 476.
'** Тамже.
В статье «Данте и символическая поэзия католичества», критикуя
Huillard-Bréholles'a, Веселовский писал: «... в угоду предвзятому мнению,
целый век принужден (...) проститься со своим Фомой Аквинатом...» —
Веселовский А. Н. Собр. соч. Т. 3. С. 51. Из современных работ о влиянии
Фомы Аквината на миросозерцание Данте см., например: Ауэрбах Э. Дан¬
те — поэт земного мира. Пер. с нем. С. 93-108; Foster К. The two Dante
and other studies. P. 56-65; 192-198. Dauphiné J. Le cosmos de Dante.
P. 20.
'** Веселовский A. H. Взгляд на эпоху Возрождения в Италии // Веселов¬
ский А. Н. Собр. соч. Т. 3. С. 559.
'** Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988. С. 355.
Дантология Веселовского sub specie temporis nostri
583
издания «Journal of the History of Ideas» (1943) Л. Торндайк, —
разграничивающей линии между средневековой и ренессансной
культурой»*. Взгляд Веселовского на «искусственные рубрики»
подтверждают и специальные исследования дантовской поэмы.
К. Бурдах едва ли через десять лет после смерти русского ученого
с проницательно отмечал: «Данте относит свое таинственное пу¬
тешествие, которое ведет его через ад, чистилище в рай, к этому
юбилейному году (1300 г.). Он сделал это потому, что по определе¬
нию юбилейной буллы, по официальному указанию о юбилейном
годе пером кардинала Якоба Стефанески-Гаэтани и по уверению
гуманистического историка Феррето из Виченцы это празднова¬
ние в Риме первого юбилейного года** должно быть мировым омо¬
вением, в котором посредством полного отпущения будут омыты
все грехи человечества <...> толпы людей жаждали в грубом су¬
еверии магического омовения, осовбождающего от всякой вины
и наказания, и надеялись обрести это в Риме. Данте противопо¬
ставил в своей Divina commedia двойному злоупостреблению этим
новым церковным омовением мира и возрождением грандиозную
картину будущего идеального обновления и возрождения мира
и себя самого <...> Идея омовения мира для возрождения стано¬
вится символом прогрессирующего сознания времени».
Многие дантологические воззрения Веселовского продол¬
жают свою жизнь в науке. Их методологическое значение дает
о себе знать по сей день. Веселовский был одним из первых, кто
заговорил об отличиях итальянского возрождения от северного,
обусловленных, по мнению ученого, «... различным отношени¬
ем старых основ и новых начал. На Севере, — писал Веселов¬
ский, — возрождение являлось раскрытием нового культур¬
ного принципа, который шел вразрез с содержанием прежнего
развития, но вместе с тем был новым вкладом в его историю
и выводил ее на новые пути. В Италии принципы возрожде¬
ния не приносят ничего нового сравнительно с теми, которые
уже лежали в основаниях предыдущей культуры...»***. Говоря
* Цит. по: Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М.,
1988. С. 11.
** Империя Августа всегда была идеалом для более поздних правлений//
Моммзен Теодор. История римских императоров. СПб.: Ювента, 2002. —
T.IV. — С. 130.
*** Веселовский А. Н. Взгляд на эпоху Возрождения в Италии // Веселов¬
ский А. Н. Собр. соч. Т. 3. С. 574.
584
А. А. АСОЯН
об этих основаниях, Веселовский имел в виду, как точно заме¬
тил М. П. Алексеев, «роль классического предания в итальян¬
ской жизни средних веков»*. В этом отношении знаменательно
замечание С. С. Аверинцева о заключительном стихе «Боже¬
ственной Комедии» «L’amor che move il sole e Faltre stelle» : «это
не полет поэтической фантазии, а корректное формулирование
одного из тезисов аристотелевской космологии»**.
Согласно современным интерпретациям, итальянский ренес¬
санс обязан своим возникновением попытке кватроченто при¬
мирить классическое наследие с христианством, или античную
философию природы с откровением Бога в истории, проще —
примирить небо и землю. На Севере же, как отмечает Л. М. Бат¬
кин, новая картина мира формировалась без оглядки на антич¬
ность. Европейский Север выходил из Средневековья с опорой
на ту же самую средневековую культуру: «способность взглянуть
на средневековье критически, тем самым преодолевая его, рожда¬
лось преимущественно из раздвижения и обособления его полю¬
сов», земли и неба, мирского и сакрального, человеческого и бо¬
жественного...»*** ****. Нельзя не заметить, что соображение Баткина
корреспондирует с «новым принципом», который предложен Ве¬
селовским при характеристике генезиса северного Возрождения.
М. Л. Андреев, автор обзора «Божественная Комедия» Данте
в зарубежной критике 1970-х годов» видит новизну дантологи-
ческой критики этих лет в том, что исследователи сосредоточи¬
ли свое внимание на литературных достоинствах дантовской
поэмы, отказываясь толковать ее как некую богословскую «сум¬
му» ***** Прецеденты такой стратегии в изучении «Божественной
Комедии», конечно, были и раньше. Уже в XVI веке изучением
языка и стиля великого флорентийца профессионально зани¬
мался П. Бембо*****. Традиция подобных исследований была пре¬
* Алексеев М. П. Комментарии // Веселовский А. Н. Избранные статьи. С. 544.
** Аверинцев С. С. Два рождения европейского рационализма // Аверин¬
цев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. M.»
1996. С. 340.
*** Баткин Л. М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. М., 1995.
С. 36.
**** Андреев М. Л. «Божественная Комедия» Данте в зарубежной критике
1970-х годов (обзор) // Современные исследования по литературе Средних
веков и Возрождения. М.,1979. С. 105.
***** См: Dante: the critic heritage, 1314 (?) -1870 / Ed by M. Caesar. — London,
New York, 1989. P. 228-240.
Дантология Веселовского sub specie temporis nostri
585
рвана классицизмом. XIX век возвращался к ней с немалыми
усилиями, благодаря работам К. Витте, Г. Бланка, Э. Мура...
В этом ряду ученых был и Александр Веселовский с его «гелер¬
терской», по словам А. Н. Пыпина, манерой, которая, по мне¬
нию автора, служила барьером широкому интересу к трудам
ученого. «Его исследование, — писал Пыпин, — есть чрезвы¬
чайно любопытный опыт проникнуть в древнейшие отношения
европейской, и в том числе славянской и русской, культуры, —
проникнуть не путем поэтической идеализации, а с реальными
историческими фактами в руках. И здесь опять приходится жа¬
леть, что исключительно гелертерская форма [напр., слишком
лаконические указания источников, не переведенные цитаты
(иногда в две-три страницы) греческие, румынские, среднене¬
мецкие и старо-французские и т. п.] делает его труды мало до¬
ступными для обыкновенных читателей...» *.
Сам Веселовский воспринимал «гелертерскую» манеру как
необходимое условие изучения истории литературы, осознан¬
ной «...как целое, имеющее свое определенное развитие во вре¬
мени, свое русло, уследимое в сети притоков и разветвлений,
свою законность в последовательной смене поэтических родов,
в истории стиля, эстетических воззрений и сюжетов. Понятая,
таким образом, как своеобразный организм, — писал Веселов¬
ский, — она не только не исключает, но и предполагает при¬
стальное, атомистическое изучение какой-нибудь невзрачной
легенды, наивной лирической драмы, не забывая ради них Дан¬
та и Сервантеса, а приготовляя к ним»**.
Как показало время, Веселовский остался почти один на этом
направлении литературоведческой науки. Его судьба несколь¬
ко напоминает судьбу Андрея Тарковского, чей гений ни у кого
не вызывает сомнений, но молодые режиссеры вынуждены при¬
знать, что замедленное течение времени в фильмах признанно¬
го художника кажется им искусственным, вступающим в кон¬
фликт с темпоральностью, свойственной менталитету XXI века.
Ощущение «торричеллиевой пустоты» рождалось у Веселов¬
ского, вероятно, и при оглядке на собственный опыт изучения
Данте, поскольку преемников ему не суждено было увидеть.
* Пыпин А. Н. История русской этнографии: В 2т. СПб., 1891. Т. 2. С. 272.
** Веселовский Александр. О романо-германском кружке в Петербурге и его
возможных задачах // Веселовский А. Избранные труды и письма. С. 126.
586
А. А. АСОЯН
В 1893 г. он сообщал Пыпину: «Я написал небольшую статью
о Данте для Энциклопедического словаря. В русской библиогра¬
фии, которую я хочу присоединить к ней, я исключил все писа¬
ное у нас о Данте, ибо все это устарело...»*.
Не лучше складывались отношения ученого и с новой пле¬
ядой зарубежных исследователей, когда он вернулся из по¬
следней заграничной командировки в Россию**. «Rossica non
leguntur», — говорил он, встречая на страницах иностранных
изданий «новые» открытия, представляющие, по сути, ранее
введенное им в научный обиход и им же истолкованное глубже
европейских коллег. Слова Веселовского о «россике вне чте¬
ния» приходят на память, когда листаешь современные издания
Дантовских энциклопедий. Самая поздняя из них, «Thè Dante
Encyclopedia». (Ed by Richard Lansing. N.Y.; L., 2000), удели¬
ла Веселовскому четыре строки. В пятитомной «Enciclopedia
Dantesca», увидевшей свет в 1996 г. в Риме, дана лишь библио¬
графическая справка трудов русского ученого; в обстоятельном
исследовании А. Валлоне о дантологической критике ХГХвека***,
в котором Озанаму посвящено четыре страницы, русскому уче¬
ному не нашлось и одной строки.
Между тем, перечитывая статьи Веселовского о Данте, обна¬
руживаешь в них идеи, которые в иной стилистической форме,
на ином уровне обобщения и с иной глубиной проникновения
в текст определяют пульсацию мысли современных исследова¬
телей и новейшие дантологические концепции. Пожалуй, имен¬
но таким впечатлениям мы обязаны прежде всего знакомству
с замечательной книгой Эриха Ауэрбаха «Данте — поэт земного
мира», который назвал свою монографию как будто по завеща¬
нию русского ученого, хотя вряд ли когда-нибудь читал Весе¬
ловского. Но, как говорил В. К. Шилейко, «область совпадений
едва ли не обширнее области заимствований и подражаний».
Совпадение позиций Веселовского и Ауэрбаха мировоззренче¬
ское. Оба считали, что творец «Божественной Комедии» — хри¬
стианский поэт, сохранивший земное бытие по ту сторону жиз¬
* Веселовский Александр. Письмо А. Н. Пыпину. Первая пол. 1893 г. //
Веселовский А. Избранные труды и письма. С. 272.
** См. об этом: Алексеев М. П. Александр Веселовский и западное литерату¬
роведение // Изв. АН СССР. Отде-ние обществ, наук. 1938, № 4. С. 121-
138.
*** См.: Vallone A. La critica Dantesca Nell’Ottocento. Firenza, 1958.
Дантология Веселовского sub specie temporis nostri
587
ни, и в его «священной поэме» человек предстает как «образ
своей исторической природы»*.
С этим выводом коннотируется и мнение современного отече¬
ственного исследователя. Автор монографии «Данте Алигьери»,
редкой по своему познавательному потенциалу и дающей глу¬
бокое, целостное представление о «Комедии», пишет, что поэма
потребовала от ее автора «вдохновения поэта, мудрости филосо¬
фа, знаний ученого, интуиции пророка. Что не сказано им пря¬
мо, сказано в символе; что не сказано в символе, сказано в образе.
Многое же запечатлено в самом строении поэмы, в ее содержа¬
тельной и формальной организации. Как по ориентировке алтаря
можно восстановить день закладки храма, так и по структуре «Бо¬
жественной комедии» можно воспроизвести черты духовной жиз¬
ни зрелого средневековья. Но сама эта задача требует творческих
усилий. Жизнь поэмы в последующих веках и ее современное
понимание — это не только разъяснение ее загадок, но и самопо¬
знание тех, кто подходил к ней с Дантовым призывом: «Яви мне
путь...»**. Создается впечатление, что именно этот призыв, обра¬
щенный уже к читателю, услышан Ольгой Седаковой, нашедшей
свой экзистенциальный, неотчуждаемый диалог поэта с поэтом.
Интерес к Данте, Боккаччо, Рабле, средневековому роману,
эпохе Возрождения объединял Веселовского и Ауэрбаха, этих,
казалось бы, непохожих друг на друга историков европейской ли¬
тературы. Уже в своей первой опубликованной работе «Техника
новеллы раннего Возрождения в Италии и во Франции» (1921)
Ауэрбах рассматривал новеллу как фокус культуры: «ее субъектом
всегда является общество, а ее объектом — весь земной мир, кото¬
рый мы называем культурой» ***. Напомним еще раз постулат Весе¬
ловского: «История литературы и есть именно история культуры».
* Ауэрбах Эрих, Данте — поэт земного мира. С. 185.
** Доброхотов А. Л. Данте Алигьери. — М.: Мысль, 1990. — С. 187.
*** Цит.: Лагутина И. Н. «Горизонты ожидания» Эриха Ауэрбаха // Ауэр¬
бах Э. Данте — поэт земного мира. С. 194. Любопытно сравнить эту точ¬
ку зрения с синхронным мнением Л. Карсавина, «самого выдающегося
ученика» И. М. Гревса, преемника Веселовского: «Историк должен уметь
увидеть в каждой форме проявления социальной деятельности проявле¬
ние „единого субъекта“ — исторически конкретного индивидуума и «кол¬
лективности» (семья, народ, группа) с их потребностями, представлени¬
ями и тому подобными “фактами порядка психического“, то есть общие
черты сознания и мысли эпохи» (Карсавин Л. П. Введение в историю (тео¬
рия истории). Пг., 1920. С. 11-12).
588
А. А. АСОЯН
В отчете о заграничной командировке 1862-1863 гг. он пи¬
сал: «Историю провансальской поэзии нельзя ограничить
биографиями трубадуров да сирвентезами Бертрана де Борн
и нравоучительными песнями Джираута де Борнейль. Биогра¬
фии трубадуров поведут к рыцарству, к жизни замков и судьбе
женщин в средние века; на ярком фоне крестовых походов яс¬
нее выскажется значение любовной песни; а сирвентезы заста¬
вят говорить об альбигойцах и их непоэтической литературе [...]
Все это также относится к истории литературы, хотя и не имеет
претензии называться поэзией; разделить то и другое было бы
так же неуместно, как если бы кто вздумал ограничить свое изу¬
чение Данте одной поэтической экономией его комедии, предо¬
ставив специалистам его исторические намеки, средневековую
космогонию и богословские диспуты в раю».
В этом высказывании, хотим мы этого или нет, звучит отда¬
ленное предвосхищение популярного ныне «нового историз¬
ма», или «поэтики культуры» — явления гуманитарной науки
последних десятилетий. Так начинается второе столетие со дня
смерти великого ученого.
Ill
ИССЛЕДОВАНИЯ О ДАНТЕ
€4^
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
Данте и символическая поэзия католичества
I
Возносясь по следам Беатриче, Данте видел в небе Марса
души тех, которые пролили кровь за Господа и за церковь. Они
сложились в образе креста и блестят крупными и мелкими звез¬
дами, как между полосами млечный путь (Galassia), над тай¬
ной которого задумываются мудрецы. Одна звезда скатывается
к подножию креста— это душа Каччьягвиды, одного из предков
Данте, убитого в Палестине в крестовом походе Конрада III. Он
пришел поговорить с правнуком о старом добром времени, как
он его помнит, когда Флоренция еще не выходила из пределов
своих древних стен, люди были просты и матери сидели дома,
убаюкивая своих детей родною речьюрассказами про Трою,
Фьезоле и вечный Рим. Теперь все этоизменилось, жалуется
Каччьягвида: исчезла античная простота нравов, уже женщи¬
ны не отходят от зеркала неприкрашенные и ненарумяненные,
как бывало прежде: город разросся, потянув в себя окружную
Кампанию, и гордый своим родомаристократ никак не может
помириться с мыслью, что наплыв пришлого деревенского на¬
селения мог изменить наследственную чистоту флорентийской
крови. И он принимается горевать над грядущими бедами род¬
ного города и самому Данте прочить ссылку.
Non vo’ pero, eh’ a’ tuoi vicini invidie.
Poscia che s’infutura la tua vita
Vie più là che’l punir di lor perfìdie.
Par. с. XVII. w. 97-9.
592
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
«Но ты не завидуй им: ты еще переживешь кару, которая
постигнет их нечестие». Пророчество Каччьягвиды было рас¬
считано на ближайшее время: может быть, его нашептала по¬
эту надежда, никогда не оставлявшая его: надежда возврата
и оправдания. Надежда не сбылась, как известно; но пророче¬
ство уже давно начало сбываться, и 14 мая 1865 года заверши¬
лось на наших глазах торжественной жертвой очищения: та же
самая Флоренция, которая изгнала поэта из своих стен, празд¬
новала теперь его шестисотлетний юбилей. Поэту, действитель¬
но, нечего было завидовать минутному торжеству современных
партий: он пережил их всех — не переживши самого себя.
Очистительная жертва памяти поэта началась впрочем го¬
раздо раньше — при ближайшем поколении. Уже Боккачио
твердил о ней, когда на кануне смерти, подрываемый медлен¬
ной болезнью, он комментировал Божественную Комедию
в церкви Santo-Stefano: «Неблагодарная родина! Какое безумие
побудило тебя изгнать твоего поэта? Какими преимуществами
гордишься ты, что позволила себе изгнать такого гражданина,
которому ни один соседний город не может указать равного!...
Открой глаза, посмотри и постыдись: умер твой Данте, в изгна¬
нии, на которое ты обрекла его: он покоится под другим небом,
и тебе больше не видать его, разве в тот день, когда увидишь
всехсвоих граждан со всеми их прегрешениями перед лицом-
праведного судьи! » Он советует флорентийцамобратиться к жи¬
телям Равенны с просьбою об уступке тела Данте, хотя наперед
уверен, что оно не будет возвращено.
Интересно, что почти непосредственно по смерти Данте его
начали изучать, комментировать, как изучают древние тексты,
как в старину писались глоссы к римскому кодексу, к«Сумме
теологии» Фомы Аквината. Уже Боккачио обращается к нему,
как толкователь, вдумывающийся в тайный смысл непонятного
слова, хоть это слово только вчера перестало звучать. Как специ¬
алист, привыкающий любить свою специальность, он делается
ревностным поклонником Данте и собственноручно переписы¬
вает Божественную Комедию, чтобы подарить ее Петрарке, ко¬
торому она была незнакома. Все это дает меру того отношения,
в которое стала к Данте ближайшая к нему эпоха. О нем начи¬
нала составляться целая легенда, как о лице, на которое успе¬
ло налечь несколько слоев исторической пыли. Он как будто
Данте и символическая поэзия католичества
593
завершающий камень, на котором ничего далее не строится, —
гигантский аккорд во весь оркестр, в котором замерла эпиче¬
ская симфонии средневекового католичества. Непосредственно
за ним следует буйный разгул Декамерона.
Для позднейших комментаторов расстояние должно было
увеличиться само собою, стало бытьи потребность в коммента¬
рии стала больше. Чем дальше они стояли от поэта, тем меньше
понимали смысл его частых намеков на современные ему поли¬
тические обстоятельства; его страстные выходки, объяснимые
борьбою партий, трудно поддавались на толкование, потому
что недоставало самой страсти. Наконец, и время ушло вперед,
и давно перестали ходить в школу к схоластикам, углубляться
в «Сумму теологии», в которую углублялся Данте. И коммен¬
таторы ревностно принялись толковать, что было для них не¬
понятного в Божественной Комедии, и всякий, разумеется, ду¬
мал видеть в ней то, чего ему хотелось, т. е. что он мог понять.
Платонизирующие ученые XV и XVI веков внесли в нее свои
видения, на которым впрочемДанте легко поддавался, так как
сам он ходит в школу к платоническому св. Бонавентуре. Мно¬
гих это насильственное внесение философского смысла может
не удовлетворить, как не удовлетворило оно, напр., Пиччи,
Ландино, Сансовино, Vellutello, Daniellon др. ему не нравят¬
ся, говорить Шлоссер: «Признаемся, несколько более располо¬
женные к мистицизму, чем новейшие итальянцы, мы многому
научились от Ландино и Веллутелло, которых толкования, на¬
сколько они не касаются жизненной практики и нападок на ду¬
ховенство, пришлись нам темболеено сердцу, что они не очень
искусственны и не натянуты. Мы, впрочем, не желаем навязы¬
вать их другим, потому что в Данте мы искали нестолько света,
сколько облака, в которое уходили отгорькой действительности
и безотрадного света исторической критики».
И далее он продолжает на ту же тему: «Разнообразные тол¬
кования такого всеобъемлющего произведения, какБожествен-
ная Комедия, могут в одно и тоже время удовлетворить самые
противоположные умы, причем очень мало приходит в расчет,
что собственно думал и как чувствовал сам поэт, потому что он
был только органом высшего, присущего всему человечеству
и в одиночным личностях проявляющегося, духа, и его труд,
как свободное творчество, также богат разнообразным смыс¬
594
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
лом, как всякое другое проявление божественной, творческой
силы вовнешнеммире». Отмерив, такимобразом, толкованию
широкий лирический простор, упрекнув французов и новей¬
ших итальянцев в отсутствии всякой склонности к созерцанию
и к внутренней самозаключенной жизни, Шлоссер выгоражива¬
ет самого себя и свою любовь к платоническим комментаторам
XV века, тем более, «что они отвечали внутренней потребности
его души». И этой внутренней потребностью души он руково¬
дится и начинает толковать Божественную Комедию по Ланди-
но и Вел л уте лл о.
Блестящий пример Шлоссера может служить нам образчи¬
ком того критического метода, которому следовала и еще сле¬
дует большая часть комментаторов Данте. Странная вообще
участь великих людей, этих органов всему человечеству при¬
сущего божественного духа! Как сами они стояли в челе своего
времени, выдвинутые им носители его идей, его мировыхпред-
ставлений, его загробных желаний, так всякая последующая
эпоха в свою очередь спешит овладеть их величавыми образа¬
ми и к ним привязать руководящие идеи своего развития. Как
будто оттого ее надежды становится сбыточное, что несколько
сотлет тому назад те же надежды высказаны были каким-то ве¬
ликим человеком. И так с каждой эпохой, пока еще не вымер¬
ла в нас сила предания и мы, не установившись на прочных
положительных требованиях, неуверенные в своем праве, все
еще ждем, чтоб наше прошлое сказало за нас слово. Как от все¬
го этого приходится иногда нашим великим, людям, легко себе
представить. Они делаются какими-то собирательными суще¬
ствами, в которых каждая мимоидущая пора складывает свои
прошедшие страдания и свой завет будущему. Если вХШ сто¬
летии Данте отразил в себе поэтическую космогониюсредних
веков католичества, то в XV его заставили отзываться на плато-
ническиепрения флорентийских академий; bXVI он принужден
был пойти в сравнение с Гомером, и благодушно выслушивать
грамматическиетонкости блюстителей чистоты языка. Потом
поочередноон становился еретиком, революционером, рьяным
защитником единой Италии— всегда по требованию времени.
На беду ему случилось сказать нисколько резких слов по пово¬
ду распущенности современного духовенства, и несколькихпап
поместить в преисподнюю. На нравы духовенства нападал тог¬
Данте и символическая поэзия католичества
595
да не один он, на них обращали постоянное внимание и рим-
скаякурияи соборы— и никто не выводитиз этого заключе¬
ния о реформационных попыткахримской церкви, пришедшей
к сознанию своей собственной греховности. Что между папами
было много несостоятельных — это тоже никому не могло быть
тайной, и не один Данте считал их достойными, но крайней
мере, чистилища. Все эти благочестивые нападки, совершенно
соединимые с должным уважением к существующей религии,
в терцинах Данте становились подозрительными. Не довольно
было объяснить их обыкновенным негодованием, — их возвели
к другому, более скрытому источнику: из Данте сделали заго¬
ворщика и реформатора, всю Божественную Комедию — одним
длинным заговором. Россетти, итальянский изгнанник, ком¬
ментировавший Божественную Комедиюв Лондоне, доказывает
это до подробностей: послушать его, так вся итальянская поэ¬
зия XIII — XV веков не что иное, как одно сплошное Франкма¬
сонство во всех возможных поэтических видах, в сонетах и ди¬
фирамбах и видениях загробного мира. Беатриче Данте, Лаура
Петрарки, даже прозаическая Фиамметта Боккачио — все это
не что иное, как политические аллегории, без тела и крови; тер¬
цины Данте и воркования Петрарки — условные знаки партий.
Заметьте — говорит Россетти — только стихи гибеллинских
поэтов носясь на себе тот эротико-платонический покров, о ко¬
торый разбивается пытливое внимание комментаторов; все они
воспевают женщину, к которой питают безграничную любовь;
поэты гвельфской партии, напротив, просты, ясны, и любви
не знают. Не заставляет ли все это предполагать, что за неесте¬
ственною восторженностью Гибеллинов кроется тайный смысл,
недоступный толпе? Вся Италия разделялась тогда на двепар-
тии, и условная стихотворная речь прикрывала для одной изних
политические речи... Гибеллины составляли тайное общество,
с условными выражениями и шифрами; кто хотел быть поня¬
тым всеми, тот писал по-латыни, впротивном случай он поль¬
зовался народным языком и аллегорическими оборотами. Отто¬
го так темны все стихотворения Петра delaVigna, Фридриха II,
GiacomodaLentino, GuidoGuinicelli и многие места Данте; всю¬
ду идеальные вздохи по какой-то тени; любовь (amore) означала
для них ненависть к панской власти, madonna — императора;
когда говорили о живых (vivi), разумели Гибеллинов; мертвые
596
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
(morti) были Гвельфы. Восьмидесятилетний старик умирает,
как того следует ожидать в его возрасте: «Плачьте мадонны» —
восклицает по этому поводу поэт Гибеллин — «плачьте любов¬
ники всех стран! Мессер Чино умер! он умирал уже три раза,
но теперь он в самом деле скончался». Это должно означать,
по толкование Россетти, что Мессер Чино быль человек непосто¬
янный в своих политических убеждениях и до трех раз менял
знамя; любовники, которых поэт приглашает к похоронному
плачу, это члены тайных обществ; мадонны — их руководите¬
ли. И также во всем остальном!.. Мы оставляем за Россетти его
проницательность, какими бы побуждениями она ни была вы¬
звана. В частностях он может быть, напал на удачное разреше¬
ние некоторых стихотворных загадок, зато понимание целого
убегало от него всякий раз, как он подходит к нему вооружен¬
ный своею теорией. Иначе, впрочем, и быть не могло; его теория
слишком последовательна, и эта последовательность основала
на слишком небольшом количестве односторонне истолкован¬
ных фактов, чтобы свободное развитие истории могло улечься
в положительные мерки, не выбиваясь наружу. Если аллегории
гибеллинских поэтов в самом делескрывали широкий заговор
итальянского народа против авторитета римской церкви, то нам
оставалось бы только удивиться, как он ни разу не обнаружился
и не сказался в большем числефактов. Нам толкуют о какой-то
тайной попытке реформы, задуманной за долго дореформаци-
онного движения XV и ХУГвеков — а между тем, всамый разгар
гибеллинских аллегорий, JacopoPassavanti собирает в своем
«Specchiodellaverapenitenza» золотые легенды католичества:
JacoponediTodi доходит до крайностей мистического восторга;
нищенские ордена основались, и св. Францис^’Аз81зшропел
свой гимнсолнцу; Бонифаций VIII зоветв Рим на празднество
юбилея весь крещеный люд. Данте выносит оттуда мысль Бо¬
жественной Комедии, как многие думали, и какВиллани на са¬
мом деле вывез план своей хроники, о чем он сам и сообщает.
Схоластическая философия вошла в третью пору своего разви¬
тия и одолжена ею почти исключительно Италии, что ни гово-
pHTCousin, который хотел бы отдать ФранциииФому Аквина¬
та и св. Бонавентуру. Если рвение крестовых походовуспело
улечься, то лишь для того, чтобы под верховным руководством
пап вырезать Альбигойскую ересь. Нигде религиозного про¬
Данте и символическая поэзия католичества
597
теста, хотя жалобы на злоупотребленияи могли подыматься,
и в следующем столетии запечатлелись резкимсмехом новеллы.
Но после этого все лучшие папы — реформаторы: между тем,
они только были последовательны встрогом отделении алтаря
от егослужителей: если первый неприкосновенен, то последние
могут падать по извинительной слабости плоти.
Что касается вековой распри Гвельфов и Гибеллинов, то в сущ¬
ности она никогда не была религиозной, хоть на сторонепослед-
них и чаще стояли папы. Кто сколько-нибудь знаком политиче¬
ской историейтого времени, тот знает как не осязаемы в своем
значенииэти клички двух партий, к которым привыкли пристра¬
ивать всю историюсредневековой Италии, и как часто они пере¬
ходили от одного знамени к другому. В религиозных партиях мы
обыкновенно не встречаем такого непостоянства; борьбав самом
деле была политическая в своей задаче и в последствиях. Папа
мог называть императора еретиком, антихристом и всеми ора¬
торскими украшениями панской буллы: императорская партия,
со своей стороны, могла казаться посягающею на прерогативы
римской церкви, посягая на светский авторитет папы. Все это,
разумеется, догмата нисколько не касалось. Между тем, на ос¬
новании подобного рода данных, хотели сделать из Фридриха II
что-то вроде преобразователя, замышлявшего религиозный рас¬
кол в среде католической церкви, вскормившей его на своем лоне
neTpadelaVagna, его ученый канцлер — эго верховный апостол,
на котором должна была основаться крепость будущей церкви;
кстати подавалось на сравнениеи самое имя Петра, и в дошедшей
до нас переписке как будто попадаются на это аллегорические на¬
меки. Литературный двор, окружавший Фридриха II, заражен¬
ный близостью востока и философией Аверроэса, являлся глав¬
ным рассадником раскола. Все это Huilliard-Bréholles открыл
несколько лет тому назадв введении к изданной им дипломати¬
ческой истории Фридриха II. Ему отвечалиПеВ^пв и Waitz:
они упрекали автора в увлечениях, составляющих слабую сторо¬
ну теории Россетти, в искании какого-то тайного смысла в мета¬
форических выражениях библейского стиля, освященных цере¬
мониалом полувосточного двора, в которых, если хотите, велико
искажениебиблии, но о новой императорской церкви и помину
HeT.Huilliard-Bréholles написал по этому поводу целую книгу
о neTpedelaVagna, главным образом на основанииего переписки.
598
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
Мы прочликнигу и нисколько не убедились втом, что хотел бы
доказать ее автор: будто ХШвек есть век потрясенный до сво¬
их крайнихсоциальных слоев, движимый неясным желанием-
религиозного обновления, самым насущным вопросом, какой,
когда бы то ни было, ставили себе люди: кому будет управлять
миром — светской или духовной власти, папе или императору?
«Другого, с точки зрения искусства, может быть, поразит вели¬
чаво-разумное устройство готических соборов», говорит далее
наш автор: «но на самом деле, в них следует видеть зарождение
светской школы архитектуры и упадок церковного предания».
Громадные здания, назначенные по мысли своих основателей,
принимать под свои тройчатые своды все общество, отвечать
всем его духовным потребностям, уже не отвечают более ни дви¬
жению его мысли, ни его жизненным переворотам; многие из со¬
боров так и остались некончеными. Перейдя в другую сферу
идей, можно удивиться глубокому систематическому уму тако¬
го мыслителя, как св. Фома Аквинат, неизменному служению
правде в Людовике Святом — но все это только исключения. Сам
Людовик Святой, уже по тому одному, что в нем нет ни одного
из недостатков и крайностей его времени, не может быть верным
представителем настоящего ХШвека, хотя он и связан с ним не¬
которыми отношениями, монашеским аскетизмом и независи¬
мым положением относительно папского престола. Вообще он
представляет высший нравственный идеал, не принадлежащей
тому, либо другому веку, но который можешь стать образцом
во все возрасты человечества, какие бы впрочем ни были его
политическиеотношения. На нашвзгляд единственнымполным
представителем этой эпохи бурной, ломающей, скептической,
был Фридрих II».
Так, в угоду предвзятому мнению, целый век принужден
совлечь с себя ветхогочеловека, изрелигиозного, легендарно¬
го, готического пойти в предвестники реформации.Ондолжен
проститься с своим Фомой Аквинатом, который был только ис¬
ключением из него; сам Людовик Святой испаряется вкакого-то
отвлеченного великого человека, носителя общечеловеческихи-
дей, страдальца за все историческое человечество, какого Шлос¬
сер хотел бы видеть в Данте.
Вообще, прежде чем говорить о реформе, надо бы наперед
условиться, что понимать под реформой. В последнее время
Данте и символическая поэзия католичества
599
нам так часто толковали о предшественниках великого север¬
ного движения вХШ, XII, XI и еще в более отдаленных веках,
что мы решительно опустили руки в неизвестности, где начать
и на чем остановиться. Нам кажется, весь вопрос сводится
к petitioprincipii: не всякийпротест есть реформа, хотя всякая
реформа предполагает протест. Если смешивать то и другое как
теперь часто делается, то после этого в первом человеке, кото¬
рый перевязал ремень у сапога, потому что ремень резал ногу,
придется признать первого реформатора, и извеликих. Между
тем онсделал только первый amendement к биллю не им пред¬
ложенному, обрекавшем свободную ногу на хождение в стесня¬
ющей обуви. Если хотите — кто выдумал обувь, быль первый
реформатор. Мы по крайней мере, с понятием реформы сое-
диняемпонятие о новых принципах, вместе с нею пришедших
в жизнь, чего протест вовсе не предполагает. Протестуется
во имя одного вечного принципа свободы против всех возмож¬
ным, социальных и физическихгнетов, стесняющих развитие
этой свободы; протест сампо себевсегда отрицателен, после него
всегда возможно возвращение к старому; он только удаляет
гнет, но не предотвращает его, потому что ее предполагает пре¬
образовательной силы, пересоздающей отношения, вызываю¬
щей новые формыжизни.
Эпоха Фридриха II и Данте была именно такой эпохой про¬
теста: протеста политического, социального, коммунального,
религиозного, если хотите; ремни резали всюду, и тело сильно
наболело, но уменья не хватило даже развязать ремня у сапога,
не то чтоб освободиться от него совершенно. Еще реформация
была за горами с своей силой, разрушающей и создающей вме¬
сте; по реформаторы были вместе с тем и протестантами.
Мы не столько остановились на грамматическом отличии
слов, остающихсяво всяком случае условными, растяжимыми,
смотря по значению, которое с ними соединяют, сколько стара¬
лись выяснить отношение понятий, которые мы часто не разде¬
ляем, сами не замечая неприятных практическихпоследствий,
какие ведет за собою подобное смешение. Распространяя, таким
образом на прошлые века наши настоящиетребования, наши
гадания, мы понево л вделаемся солидарными с этим прошлым
и заставляем его отвечать за нас, и потому самому поставлены
в необходимость отвечать за него. Таким образом, мы никогда
600
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
не выходим изкрутаисторически-патриархальных отношений,
где прошлые века сидятотцами, дедами, набольшими в семей¬
стве, а мы являемся детьми и юношами, которых вечно при¬
струнивает строгое слово старого деда, и мы ничего не говорим
такого, что бы не было сказано до нас и за нас. Собственно гово¬
ря, мы ничего не говорим от себя, потому что всегда оглядыва¬
емся назад, на вещее слово; мы не говорящие люди, не pépoîteg
avôpcorcoi Гомера — нашу личность поглотило историческое пра¬
во. Это тоже самоесмешение, которое заставляет наших вели¬
ких людей отзываться на все очередные вопросы дня, лишаяих
исторической ночвы и растягивая их личность до космополити¬
ческих размеров* Встречаясь с ними, мы всегда ожидаем встре¬
тить вних самих себя и только для приличия одеваем их в ан¬
тичные платья по Kostümkunde Вейса.
Мы видели, что подобная критическая метода поочередно
делала из Данте, и наперед знаем, чего ждать от его коммен¬
таторов, старых и новых. В крайнем случае, мы дознаемся от-
них, как их время смотрело на певца Божественной Комедии,
какиефилософскиесистемы были в ходу, и какие политические
теориисозревали в современной им социальной среде. Мы поо¬
чередно знакомимся с веком Боккачио, Ландино, Daniello, по¬
том с Вентури, Вольни, Коста и т. п., с Томмазео и Россетти; век
и понятиясамого Данте обрисовываются неясно сквозь противо-
речивуюмглу толкований. В этом случаевернее всего объяснить
Данте из него самого, как делаетОшИат, наследникБоккачио
на дантовскойкафедре во Флоренции: лишь бы поменьше бо-
гословияи официальных патриотических вздохов. Blanc, про¬
фессор в Галле и один из лучших знатоков Данте в Германии,
недавно издавший свой перевод Божественной Комедии, следо¬
вал той же методе толкования, ограничиваясь, впрочем, одним
филологическим комментарием и не вдаваясь в исследование
скрытого под аллегорией смысла. Отподобного рода работ мы
ожидаем всего более результатов, как и с другой стороны не мо¬
жем не радоваться всякой новой попытке, как бы она ни была
мелочна, исторически выяснить такую интересную эпоху, как
XIII и XIV века, эпоху Данте и Фридриха II. В материалах нет
недостатка: многое было собрано старыми комментаторами,
многое еще лежит вархивах: надо только уметь богатство ком-
ментаторовосвободить отложного освещения, стряхнуть с ар¬
Данте и символическая поэзия католичества
601
хивов залежавшуюся пыль. Такому двойному труду мы одол¬
жены книгой известного Carlo Troja «Del veltro allegorico de
Ghibellini», в которой поповоду дантовского veltro он сообщил
много новыхподробностей о взаимных отношениях Гвельфови
Гибеллинов и о главных вождях императорской партии, собран¬
ных Данте в аллегорию борзой собаки (veltro), преследующей
римскую волчицу. Нечто подобное сделал Тонини по поводу по¬
этического эпизода Франчески daRimini, разъяснив ее генеало¬
гию, обстоятельства ее брака и несчастной любви. Из многого
мы выбираем немногое, потому что, если бы все поминать, при¬
шлось бы дать полную библиографию Данте — а на это мы не го¬
товы. Здесь скажем лишь несколько слов об одном из последую¬
щих трудов по литературе Данте и его периода, о книгевенского
профессора Zamboni: «Данте. Эццелины и рабы». Мы как-то
трудно понимаем эту трилогию, предполагающуюцелое столе¬
тие и странную связь времен. Между тем, вся она не что иное,
как пространный экскурс в слишком 300 страниц к нескольким
терцинам Божественной Комедии.
Данте встретился в небе Венеры с Куниццой, сестрой Эцце-
лина III, последнего из de’ Romano. Между тем, этого самого
Эццелина он поместил в аду, да и о сестре его только и было из¬
вестно, что она широко прожила свою молодость и была любов¬
ницей Сорделло; и в райском жилище, куда поместил ее поэт,
в ней прорываются такие черты гибеллинской злобы, которые
делают ее достойною участи брата. Эццелин III принадлежал
к демоническим натурам, какие часто должны были встречать¬
ся в средние века: это Франческо Ченчи XIII Столетия. Союзник
Фридриха II в его борьбе с ломбардскими коммунами, он дер¬
жал под собою всю тревизскую марку; весь северИталии дро¬
жал от его имени. Трудно себе представить такое соединение
ума, пронырливости сэгоистическим равнодушием к выбору
средств, с безумной отвагойи трусливой верой в приметы. За¬
саднив половину народонаселенияв тюрьмы, чтоб самому было
просторнее, он живет одинокий, удаляясь от женщин и удо¬
вольствий, ревниво вмешиваясь в частную жизнь подданных,
прислушиваясь к разговорам, вечно окруженный астрологами.
Он не снимал лагеря, не спросившисьпрежде звезд, держал при
дворе одного звездочета, сарацина страшного вида, и известно¬
го Гвидо Бонатти; кого не мог залучить к себе, с тем вел астро¬
602
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
логическую переписку. Он царствовать страхом; в латинских
стихах Альбертино Муссато, современника Данте, написавшего
CBOioEccerinis по плану Сенековых трагедий, как будто прогля-
дываютиз-под тяжелого классического покрова предсмертные
судороги кончающегося.
Мы не удивились бы, если бы Эццелин сам, наконец, уверо¬
вал в свое демоническое призвание, окруженный тупым стра¬
хом и темными, может быть, до него доходившими, рассказами.
По крайней мере, Муссато сохранил в своей трагедии такое пре¬
дание о нем. В первом актеАделейта или Аделаидапризывает
к себе сыновей Эццелина и Альберика, чтоб открыть им тайну
их рождения. Несколько раз она принимается за рассказ и вся¬
кий раз не в силах; она падает в обморок. Когда, наконец, она.
пришла в себя, Эццелин пристает к ней с вопросами: «Говори,
говори скорее матушка! »
— В первом часу ночи, когда все было тихо кругом, мне
послышалось, как земля разверзлась громадным мычанием,
будто раскрылся старый хаос. В небе отдалось его эхо, в возду¬
хе пошелсерый дым, будто облако: молния осветила дом, гром
грянул, и покои наполнил смрадный запах. Тогда, оужас! я по¬
чувствовала приближение невиданного любовника.
— Кто ж это был, матушка?
— На мохнатой голове у него два рога, словно у быка, гла¬
за налиты ядовитой кровью, из ноздрей пышет пламя, из пасти
сыплются искры на бороду и на обросшие уши. Победное чудо¬
вище провалились в преисподнюю; я осталась беременной. Ка¬
ких страданий стоило мне смертоносное семя, которое я заклю¬
чала в ce6et! Ты, Эццелин, был достойным сыном такого отца.
В продолжении десяти месяцев моя жизнь прошла в слезах,
вздохах и муках, мои внутренности горели — и твое рождение
было не менее страшно твоего зачатия.
— Рассказывай далее.
— Кровавый ребенок, грозного вида, ты был чудовищем...
Затем Аделейта обращается к Альберику, чтобы ему расска¬
зать тоже самое.
Он в отчаянии; но Эццелин видимо торжествует в сознании
своей демонической силы.
«Чего жетебе больше?», говорит он брату; «ты не стыдишь¬
ся ли родителя? Ты хотел бы отвергнуть твое божественное про¬
Данте и символическая поэзия католичества
603
исхождение? Мужайся; мы рождены божеством, наш родслав-
нее рода Ромула и Рома, сыновей Марса. Нашотец— бог более
могущественный, царь пространного царства, царь чести; ему
повинуются бичи божие, все сильные, царствующие, повелева¬
ющие. Мы будем достойными судьями отцовского судилища,
если нашими делами вновь завоюем себе царство отца, которо¬
му люба война, убийство, обман, измена, гибель всего челове¬
ческого рода».
Альберик, ни в чем не уступал брату, даже был преступнее
его, потому что лицемернее. Но народное предание сделало
его мягче характером, и все, что было в нем мрачного, переве¬
ло на фигуру Эццелина, которая, таким образом, разрослась
до размеров дантовского Кананея.
Так плодотворно действует народная фантазия, что, прика¬
саясь с нею впредании, риторический Муссато становится выше
себя. Его Эццелин прямо годился в ад, где Данте поместил его
с теми, кто в жизни насильничал ближних.
Не помогли ему ни достоинство императорского викария, ни-
ярость Гибеллина, которая столь многое скрашивала в глазах-
Данте.
Тотчас по битве при С. Кассано, в 1260 году, где погибла сила
гиббелинской партии в Марке, и сам Эццелин потерял жизнь, —
владения, принадлежавшие его роду, были раскассированы
между союзными городами, поднявшими против него знамя, Ве¬
роной, Падуей, Тревизо и др. С этим вместе связан один из важ¬
нейших экономических фактов, ознаменовавших XIII век:
уничтожено было в имениях Эццелинов крепостное состояние,
исчезло сословие «сервов глебы» — переворот, приготовлен¬
ный, впрочем, заранее буллой Евгения IV от 1258 года, хоть
и рассчитан он был, как временная политическая мера. Личное
рабство с этим не исчезло, и его можно проследить по частным
случаям вплоть до ХУвека; за то название «schiavidellagleba»,
столь часто встречающееся в документах ранее 1261 года, с это¬
го года более не попадается; крестьянин, работавший до сих пор
на господина, начинает работать на самого себя, на известных
условиях, за условную плату, либо берет землю на аренду. Так
было во всей тревизской Марке, где переход от крепостного со¬
стояния к свободному труду совершался постепенно между 1256
и 60 годами. Ему отвечали частые попытки средне-итальянских
604
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
городов Фдоренции, Перуджии, Болоньи, гдев конце того же
столетия также было обращено внимание на улучшение зем¬
ледельческого быта. Во всем этом, разумеется, не справлялись
с владельческими правами Эццелинов, потому что с битвы при
Кассано они перестали defacto существовать; к тому же и род-
весьвымер, или быль вырезан, и из сестер оставалась одна Ку-
ницца, на которую права на поземельную собственность не пе¬
реходили, по завещанию ее отца, Эццелина II Монаха.
Бедная, всеми оставленная, она живет во Флоренции, поми¬
рилась с церковью и небом и в 1265 подписывает акт, которым
дарует вольность всем крепостным людям, бывшим у ееотца
и братьев, Эццелина и Адьберика; даже жителей S. Zenone отпу¬
скает, пославши их наперед кчерту, с душейи телом, за то, что
они изменническиотстали отАльберика: «praeter (вм. praeterea)
illos qui steterunt cum domino Aubrico in castro et turim Sancti
Zenonis, qui de co fecerunt feloniam in dicto castro et turim illos
dimixit centum diabollis de inferno cum animo et corpore». Гибел-
линская злоба и тут не позабыла сказаться. Как бы то ни было,
она приходила слишком поздно, потому что вольность давно
уже существовала на деле, завоеванная лет пять тому назад.
Какое же значение могло иметь это новое дарование свободы,
когда у Куниццы и дарить было не из чего? Действовало ли тут
пустое самолюбие, думающее обмануть людей на счет своего
бессилия заявлением несуществующейсилы? Илив самом деле
она пришла к сознанию своей греховности и накануне смерти
задумала отступиться от своего человеческого права, в святость
которого она продолжала верить? Была ли заслуга в ее поступ¬
ке, или не было никакой, во всяком случае в Тоскане, где жила
Куницца, и где могли не знать подробностей северо-итальян¬
ского переворота, ее самовольное отречение должно было про¬
извести сильный эффект и окружить ореолом святости ее дого¬
равшие дни. Прибавьте к тому, что акт о воле подписанбыл ею
в 1265 году, в самый год рождения Данте, в доме Кавальканти,
и что свидетелем был отец одного из самых близких поэту лю¬
дей. Понятно после этого, почему светская женщина, поэтиче¬
ская любовница Сорделло, исчезла для него за ликом преобра¬
женной святой. Между ней и зверским Эццелином пропадало
всякое нравственное родство, хоть и пошли они изодного корня
(d’unaradicenacquiedioedella); оттого Данте встречается с нею
Данте и символическая поэзия католичества
605
в раю, в небе Венеры: там она блещет, потому что подвластна
была влиянию небесного светила; но она радостно покоряется
своей судьбе, и ей не скучно (Par. с. IX, v. 31-36).
Так, выглянув из любого места Божественной Комедии, как
из резного киоска, из которого виды открываются во все сторо¬
ны, мы выйдем к XIII веку, чтобы посмотреть на него с какой-ни¬
будь новой, невиданной стороны. Другое дело: открыл ли ее сам
Данте, или только любовь позднейших поколений привыкла
связывать с его именем, что высокого делается и делалось в ита¬
льянском народе? Мы протестовали против критического ме¬
тода, но не протестуемпротив памятника, если основания его
раздвигаются на целые века и не хотят ограничиться площадью
S. Croce.
II.
План Божественной Комедии более или менее знаком вся¬
кому, и мы можем ограничиться здесь указанием его главных
архитектонических очертаний. Данте заблудился на половине
жизненного пути в темном лесу; три страшные зверя переходят
ему дорогу: лев, пантера и волчица, и он уже готов воротиться,
если б не дорогая тень поэта Вергилия. Она ведет его к селени¬
ям вечной печали, где надежда покидает всех входящих. Здесь,
по меретого как они спускаются к центру земли, где крылья Лю-
циферавеют над ледяным озером, тысячи разнообразных муче¬
ний проносятся мимо них в плаче, в безумных вызовах судьбе,
в молчаливо сосредоточенной злобе. Все эти грешники не зна¬
ют настоящего на земле и с любопытство расспрашивают Дан¬
те, как живется людям на том свете; если перед ними раскрыта
книга будущего, то это будущее не для них, и все они обращены
к своей прошлой жизни, относятся к ней с страстью: там не для
одной из них были счастливые времена, о которых так больно
поминать Франческе. Оттого так полны жизни эпизоды дантов-
скогооада, что они навеяны воспоминанием, которое спешит
удалиться от мрачной действительности к образам прошлых
дней и судорожно хватается за малейшиеподробности, анализи¬
руя ихс болезненностью мономана. Сон Уголино, книга, в кото¬
рой читали Франческа и ее любовник— все получает значение;
подробно описываются горы, реки, долины, половина ада состо¬
606
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
ит из воспоминаний, потому что нет надежд, и издалека земля
кажется лучше. Так в изгнании Данте, когда громит Флорен¬
цию и когда поет ее античную простоту, все-таки возвращается
к мысли:
Del bello ovile, ov’ io dormii agnello.
Потом, цепляясь за мохнатые члены адского бога, Данте
и Вергилий выходят на другую строну земли, где на тихих водах
стоит гора чистилища. Здесь к ним присоединяется поэт Ста¬
ций; здесь меньше воспоминаний, потому что болыпенадежд
на будущее: на верху горы расстилаются цветущие сени зем¬
ного рая, и каждому открывает туда путь добровольная жерт¬
ва очищения. Здесь царство будущего, как в аду была любовь
прошедшего; только странствуя с Беатриче по кругам птолеме¬
евского неба, мы добираемся до того мирного довольства насто¬
ящим, о котором не спится земным людям. Так, прошедшее,
будущее, настоящее светят различным светом по мере того, как
Божественная Комедия подвигается к своей развязке в небе:
для эстетической оценки Данте, нам кажется необходимым
удержать эту троякую точку зрения, совершенно определяемую
католическим взглядом на жизнь. Позднее мы подойдем к ней
с другой стороны.
Странно, что в эпоху, самую близкую ко времени Данте,
почти вовсе не было обращено внимания на то, что, собствен¬
но говоря, нас всего более интересует: на легендарную основу
Божественной Комедии. Современники Данте и его ближайшие
наследники не находили в ней ничего странного, выходящего
из ряда символических представлений, которыми они были
окружены: оттого они и не остановились на ней. Позднее, ког¬
да классическая мерка была приложена к Данте, он принужден
был одинотвечать за свой нерукотворенный план, над которым
работали и небо, и земля, и вся католическая поэзия средних
веков. У него также стили искать fabula, с завязкой и развязкой
и аллегорическим содержанием, так как другого содержания
в нем не умели найти. Кстати, самое название комедииподле-
жало риторической феруле, а как поэма, в стилеИлиады и Эне¬
иды, Божественная Комедия не удовлетворяла. Так вся тяжесть
плана легла на Данте; сравнение было невозможно при слабом
Данте и символическая поэзия католичества
607
знакомстве с литературой других народов и исключительном
развитии классического образования, оттеснившего в народ
всю богатую литературу легенд, и без того отличавшуюся мест¬
ным характером. Только в XVII столетии Убальдини вспомнил
о serBrunetto, бывшем учителе Данте, который также блуждал
в темном лесу, где тень Овидия явилась ему руководителем,
и он сам толкует с Природой и Добродетелью о путях, которы¬
ми она приобретается. Из всего этого Убальдини заключил:
«averDanteimitatodalTesoretto (поэма Брунетто Латини, дидак¬
тического рода) losmarrimentoperunaselvaoscura». Но сходство
ограничивается одним введением: далее обе поэмы расходятся,
как небо от земли: странно только, как Peiii, Corniani и Ginguené
все еще рассуждают о сродстве. Позже явилась гипотеза, что
на идеюзагробного хождения Данте мог быть наведен извест¬
ным poMaHOMGuerinoilMeschino, которого герой спускается
вчистилище св. Патрика. Но уже Боттарп утверждал, что ита¬
льянская редакция романа, будто бы первоначально написан¬
ного на провансальском языке (?), относится ко временяпосле
Данте и принадлежит Андрею di Jacopodi Tieridi Barberinodi
Valdesa; переводв ottavarimac испанского текста, сделанный-
Tyллиeйd’Arragona, относятся к еще позднейшему периоду.
Что касается легенды о чистилище св. Патрика, то она известна
в редакциях конца XII века и могла иметьвлияние на Данте; до¬
казательства на это должны были выйти из ближайшего сравне¬
ния, на которое XVIII век был неспособен.
Более полная оценка легендарного круга, стоящегов связи
с Божественной Комедией, предоставлена была позднейшему
времени. Между итальянцами писал о нем Уго Фосколо, огра¬
ничиваясь, впрочем, христианской эпохой. Если не ошибаем¬
ся, впримечаниях к немецкому переводу Божественной Коме-
flHnKopisch’a собрано много материалов для сравнительного
изучениясредневековых поверий. В книге Озанама «Dante et
la philosophie catholiqueau XIII siècle» целая глава посвящена
такомутруду сравнения. Озанам тоже не касаетсяклассических
поверий, которыесделал предметом особой диссертации, пред¬
ставленной им впарижскийуниверситет, ни всего богатства
мифических аналогий, какие могли ему представить верова-
ниядругих народов. Они восходятк евангельскойповести о со¬
шествии Христа в преисподнюю, квидениям апостолов Павла
608
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
и Иоанна, к страданиям св. Перпетуи и житию св. Григория
чудотворца, к письмамсв. Киприяна и к угодникам Фиваиды
и римских катакомб. Этим завершается первый период литера¬
турной истории загробных странствований — от I до V века.
Второй период обнимает время от VI до X столетия. Легенда,
оставаясь набожною, принимает более и более литературный
характер.В житии св. Макария несколько монахов отправля¬
ются искать земной рай, проходя неведомые страны, добираясь
до границизвестного тогда географического мира, и по дороге
встречают различные мучения ирайские сады. Существует одна
итальянская редакция этого жития, почти современная Данте
и оставшаяся неизвестною Озанаму. Здесь уже виден литера¬
турный прием и знакомство с общими местами средневековых
путешествий: монахи обращают в бегство целоевойско пигмеев.
В латинской поэме Страбона Валафрида, из поздних произве-
денийкарловинской эпохи, даже заметно сатирическое направ¬
ление: много монаховипрелатов томится в аду, уже чистилище
представлено горою, как у Данте, на ней епископы наказаны
за потворство, графы платятся за свою хищность, и сам велншй
император запада, сын Пиппина, оплакивает неудержимую по¬
хоть плоти.
Видениеобмершего нортумберландца, сохраненное Бэдой,
и путешествиесв. Брандана, изданное Jubinal’eM, мы не хоте¬
ли бы разделять: оба они нас переносят на север и к новым чер¬
там легенды. У Брандана адская гора царит над морем, на ней
черные кузнецы днем и ночью расковывают грешников; земной
рай в запустении, он заселится христианами, когда новые го¬
нения поднимутся на Христову веру. Интересны подробности
обрае птиц: это нейтральные ангелы, не отпадшие, но и не при¬
ставшие к небесному воинству. В житии Макария мы встречаем
ту же черту, не замеченную Озанамом. «Мы пришли в другое
место, рассказывали путники, где было много высоких деревь¬
ев, вродефиговых, на ветвях сидели птицы, похожие на рай¬
ских, и человеческими голосами воспевали, громко восклицая:
«пощади нас, Боже, создавший нас, пощади нас, милосердый,
согрешили мы перед лицом твоим, по всей земле». Мы же стали
молиться, говоря: милосердый Боже, объяви нам чудеса, кото¬
рые мы зрим, зане мы не разумеемих. Бысть же глас: не досто¬
ит вам знать тайны, которые вы видели— идите своим путем».
Данте и символическая поэзия католичества
609
Представление человеческой души птицей — очень обыкновен¬
ный мифологический мотив; интересно, что в христианской
символике птицами всего чаще изображают души чистилища.
Так, Петр Дамьянирассказывает о душах, освобождавшихся
по воскресным дням от чистилищных мук и летавших птицами:
св. Патрика они сопровождали стадами, черные и белые. Каку
Петра Дамьяни, так и в англонормандской поэме Адама deRos
о сошествии в ад апостола Павла, Бог дает грешникам один день
в неделю на отдых — воскресенье.
С путешествием св. Брандана, с поэмой о посещении ада апо¬
столом Павлом (о чем Данте упоминает во второй necHelnferno),
и с чистилищем св. Патрика, будто бы имевшем косвенное
влияние на устроение Божественной Комедии, мы переходим
от XI века прямо к эпохе Данте XIV столетию. Приключения
Owayn’a (Оеп), английского рыцаря, в пургатории св. Патрика
стали известны с 1140 г., когда они описаны монахом Генри¬
хом deSaltry (ofSaltrey), впоследствии повторены Винченцом
deBeauvais и Матфеем Парижским (ad. ап. 1153 г.), пока они
не перешли в стихотворную обработку MariedeFrance и англо¬
нормандских труверов. На острове озера Dungal (Donegal) от¬
крылась по молитвам св. Пагрика чудесная пещера — это чи¬
стилище. Приготовившись молитвами и покаянием, Owayn
вступает в темную область мучений, где, как и в предыдущих
рассказах, временные страдания не отделены от вечных. Меж¬
ду грешниками Owayn и встречает своих старых соратников.
По мосту, переброшенному через пропасть, который суживает¬
ся под ногами грешников и только искупленным даст проход,
расширяясь. Owayn достигает Эдема, где живут праведники,
прежде чемвознестись на небо. Сонм святых мужей с пением
и ликованиями встречает нового пришельца и ведет его к одному
месту, откуда ему становитсявидна божественная слава.|
К этой эпохе относится Solarliôd, последнее христианское
преображение грозных образов Эдды, не уступающее им в яр¬
кости красок, видениемонаха Альберика, о котором мы предо-
ставляемсебе поговорить подробнее. Но вообще легенда начина¬
ет разлагаться, уступая свое место умильной повести, народной
прибаутке, сатиристическимГаЬИаих, и надо было явиться Дан¬
те, чтоб изжившееся содержание загробного мира снова под¬
нять до величавой строгости христианского верования. Жон-
610
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
гл еры уже приучились обращаться с ним, как с литературной
темой: райский двор, крестьянин, попавший в рай по протек¬
ции, путь к аду. Lejongleurquivaàl’enfern т. п.Мы с своей сто¬
роны могли бы указать на народные сказки и поверья, до сих
пор ходящие в народе, где мифология граничите христианской
легендой, и обепросветляются порой здоровым смехом. Эллис-
сен издал несколько лет тому назад средневековую греческую
повесть сатирического направления, которая также относится
к нашей литературе (Тимарион). Вообще материалов много,
надо только критически разобрать их но эпохам, чтоб история
религиозного сознания выяснилась целой значительной сто¬
роною: хронологическое разделение Озанама чистовнешнее
и может только послужить памяти. Такое сравнительно-исто¬
рическое изучениеможет быть полезно своими результатами
и для вопроса о византийском влиянии, который до сих пор
стоит над нами неразрешенным призраком. Сравнивая леген¬
ду о св. Брандане с житием св. Макария, Озанам нашел в них
отличия востока и запада, в виденияхсирийских монахов отпе¬
чаток византийского стиля и сурового восточного мистицизма.
Мы не находим лучшей характеристики для нашихдревних ле¬
генд вродеповести о грешной матери, видения мукгрешницы
в аду, легенды о временномпосещении ада и о бесноватой жене
Соломонии. Здесь краски даже форсированы. Монахи Макария
приходятв глубокую, скалистую лощину, гдеим показывается
женщина, нагая, с страшным, растерзанным лицом, ее охва¬
тил громадный змей, и, когда она открывала рот, чтобговорить
и кричать, змей вкладывал ей в рот голову и кусал ее за язык.
Волосы у ней были длинные и доходили до земли. В нашем «Ви¬
дении мук грешницы в аде» двум благодетельным мнихам по¬
падается на дороге та же самая жена, только если можно, еще
страшнее: «и третияго дни, вкупе им идущим, показася им она
жена сидящи на страшноми лютом змеи, и два ужа велика со-
крушаху выю ея, и два перси ссуще, два же нетопыря деруще
очи ея; и от уст ея исходит огнь жупелный, руце же ея грызя-
ху два пса великие, во ушах ея две стрелы великия огненнии,
вонзени во главу ея, колико быша власов толико ящерице».
Византийская фантазия как будто с любовью останавливает¬
ся наэтихужасах, чтоб напугатьими грешную плоть, пытав¬
шуюся разорвать аскетическиеузы под благословенным небом
Данте и символическая поэзия католичества
611
востока. В райских видениях не было нужды, онивстречались
на каждом шагу, и надо было бежать от них в самозабвение,
в Фиваиду, кнебу, в эгоистическую заключенность столпников.
Западный религиозный человек шел более с жизнью, любил
прислушиваться к райской птице и за еенебесным пением за¬
бывался на целые сотни лет. Он былнепоследователен в своей
борьбе сплотью, потому что переносил в небо много плотских
порывов, языческих воспоминаний и земных красот, зато он
более поэт: он меньше различал в тонких богословских спорах,
и не от него выходили толки о догматах — он больше переживал
их чувством. Византийский богослов счел бы кощунством такое
наивное перенесение феодальных понятий ncoursd’amourB не¬
бесные жилища, какое нередко в западных легендах. Я говорю
здесь не столько об автореГелианда, сколько о венецианскомпо-
этеХШвека, fraGiacomino, может быть, одном из учеников с.
Франциска д’Ассизи. У Giacomino в небе заведенфеодальный
порядок. Богоматерь— рыцарская дама, у которой свой двор,
и она дарит своим поклонникам богатых коней.
Живая вода, молодящие яблоки — все воспоминания не¬
забытой мифологии перенесены в описание библейского рая,
которое каждый разнообразил по-своему, не справляясь с ка¬
ноном. Старая мифология играла, разумеется, главную роль
в этом художественном распространении: она давала готовые
образы и определяла краски. Мы выше сказали, как скандина-
вский8о1агИ00ничем не уступает диким красотамЭдды. Покой¬
ный отец является во снесыну и рассказывает ему в виде поуче¬
ния все, что он виделна том свете: адскую область, разделенную
на семь поясов, у входа которой стаями кружатся почерневшие
от дыма птицы, все грешные души — еще приношение к христи¬
анской символикептиц. На груди завистливых стоят кровавые
руны, зловещие звезды горят над головой отлученных от церкви
грешников, змеи грызут сердце убийц — все дантовские карти¬
ны, один из редких примеров, когда одиночное воображение по¬
эта сходится с вековой фантазией народа.
Помимо мифологических воспоминаний еще другой поэти¬
ческий элемент принял сильное участие в создании той католи¬
ческой космогонии, которая в комедии Данте достигла своего
идеала. Это — сентиментальное отношение к природе, харак¬
теризующее вообще христианское созерцание в его отличии
612
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
отязыческого. В древнем мире человек стоял в природе, вместе
с нею, не отдаляясь от нее, и она отвечала на его расспросы. Тог¬
да звери еще говорили, растения жили человеческой жизнью
и так же плакали и радовались, как обыкновенные люди. Хри¬
стианство изменило эти отношения, лишив природу ее богатой
индивидуальной жизни, поставив человека выше окружающего
его мира. Он стал выше его, потому что выше в ряду существую¬
щего, но, с другой стороны, на нем одном лежала печать первого
греха, он вышел из общего единства жизни и перестал понимать
тайны творения. Природа сделалась для него загадкой с тех
пор, как он святотатски коснулся заповедного дерева; то зна¬
ние, которое он в ней так жадно искал, навеки скрылось от него
в грехопадении. И он начинает бежать от самого себя в природу,
к зеленой «матери пустыне», как поэтически выражаются наши
духовные стихи; чистая от первородного греха, она продолжает
славословить Бога в пении птиц, в шуме вековой чащи, и он спе¬
шит слиться с нею в пантеистическом поклонении. Нигде, может
быть, этосентиментальное чувство природы не выказалось так
откровенно, как в известном гимне к солнцу Франциска д’Асси¬
зи — он весь в нее погрузился: «Да похвален будет Господь Бог
мой со всеми творениями, наипаче с батюшкой братцем солн¬
цем (Messer lo frateSole); в нем он нам светит и подает день,
в нем, прекрасном, в полном блеске светящемво свидетельство
твое, Господи. Похвалим Господа за луну сестрицу (suorLuna)n
за звезды: он создал их в небе, светлыеи прекрасные.За братца
ветра, и за воздух, за облако, за ясную погоду и всякую другую
да похвален будет Господь, который дает ими жизнь всем тво¬
рениям. Похвален буди, Господи, за сестру воду, низменную,
полезную, драгоценную, чистую (laqualeèmoltoutile, e humele,
e preciosa, e casta)... и за братца огня, которым ты освещаешь
ночь, за прекрасного могучего, веселого (e elloèbello, e jocundo,
e robustissimo, e forte). И за нашу мать землю (у слав.нашу мать
сыру землю) благодарим тебя, Господи, что она носит и кормит
нас (nesostenta e governa) и всякие плоды производит, цветы
разные и травы». Так из догмата человеческой греховности раз¬
вивалось то болезненно страстное отношение к природе, из ко¬
торого вышел наш пейзаж, игравший такую незначительную
роль в древнем искусстве, живописные виды на землю, откры¬
вающееся из Божественной Комедии, и те цветистые описания
Данте и символическая поэзия католичества
613
земного рая, полные чудных деревьев и целебных вод, какие
мы встречаемв христианских легендах. Библия подала тут руку
мистическому воображению средневекового человека; темные
сведения о востоке, распространенные средневековыми путе¬
шественниками и паломниками, довершили остальное. Земной
рай являлся садом, иногда на горе, которая «всем горам мати»
и выше всего стоит на земле, как рассказывает одна итальян¬
ская легенда. Как из него пошло, что есть в мире люди, зве¬
ри и растения, так вообще он был рассадником всего живого,
хранилищемсемян мировойжизни, вроде нашего сказочного
острова Буяна. Отсюда эти семена разносятся ветроми прини¬
маются на земле; так, по крайней мере, объяснили Данте на бе¬
регу райской реки. Иногда ветер обламывает ветки с райских
деревьев, сносит их в реку и так доставляет людям, которые их
вылавливают и называют имбирем, алоэ и корицей. Это пишет
сир de Joinville, по понятиям которого Нил выходит из земного
рая, хотя обыкновенно райская гидрография ограничивается
четырьмя реками, отекающими весь свет: Тигром, Евфратом,
Гиономи Физоном.
Но тут начинается легенда. На берегу одной из этих рек стоял
когда-то монастырь, и жили в нем богобоязненные иноки. Слу¬
чилось однажды, что трое из них, гуляя по монастырскому саду,
пришли к берегу Гиона, омыли себе ногии руки сидят. Смотрят:
плывет по воде древесная ветка вся в разноцветных листьях —
один листок золотой, другой серебряный, третий лазоревый,
четвертый зеленый, и так всякий иного цвела, а на ветке висели
яблоки и всякие другие вкусные плоды. Стали иноки разгля¬
дывать чудную ветку и прослезились: должно быть, из святого
места эта ветка, думал каждый про себя; видно, там пребывает
Господь со своими ангелами. И стали они друг у друга спраши¬
вать, почему тот и другой плачет, и все сошлись в одной мыс¬
ли: искать им святого места вверх по реке, куда Бог доведет.
Ипошли, не сказавшись даже настоятелю; по дороге питались
сладкою манною, которую собирали потраве, и яблоками, упав¬
шими на землю. Целый год продолжалось их странствование;
они шли так легко и бодро, что почти не касались почвы. Когда
остановились они у подошвы горы, на которой находился зем¬
ной рай (InParadisodeliciano), им стало слышно пение райских
ангелов; и они исполнились веселияи шли еще с большей охотой.
614
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
Гора была в вышину сто миль, вся покрытая разного рода дере¬
вьями, на деревьях висели плоды сладкие и приятные на вкус,
кругом разлеталась святая нива, в цветах, чудных запахах и ты¬
сячах оттенках света. На вершине горы райские двери были за¬
перты, и херувим сторожилих с огненныммечем в руке. Монахи
сели у дверей и смотрелина херувима; и так неизреченна была
его красота, что, глядя на него, они позабыли весь мирземной
и надземный. Так пробыли они пять дней и пять ночей. Спраши¬
вает их херувим: чего вы ищете?—Мы бы желали войти внутрь,
если тебе угодно. — отвечали монахи — на три, либо на четыре
дня. Двери тотчас же раскрылись, послышался звук вращавше¬
гося небесного круга, и этот звук был так приятен, что монахи
совсем позабыли, гдеони, сели и заслушались. Такк сидящим
им подошли два прекрасных старца, белые как лунь, с бородой
и волосами по землю, Ильи и Энох, которых Бог поместил в зем¬
ном раю, чтобы они пребывали там до скончания светаи свиде¬
тельствовали о смерти И. Христа, его единородного сына. Спра¬
шивают Илья и Энох: что вы тутделаете? Монахи отвечали, что
пришли посмотреть на святое место. Возблагодарите Господа,
говорят старцы, за его великую милость; потому что еще никог¬
да телесный человек не приходил сюда, только души прослав-
ленныеи чистые. Они взяли монахов за руки и пошли им пока¬
зывать чудеса рая, которые ни словомне рассказать, ни сердцем
вообразить. Чудесное пение ангелов раздавалось в небе, и наши
монахи мл ел йот его неизреченной сладости. Тутувидали они
ключ живой воды, кто ее напьется, во век не состарится, а кто
стар, станет тридцати лет. Увидели древо познания добра и зла,
через которое все мы подпади греху, когда от него отведали
Адам и Ева, и древо нашего спасения, из которого сделан был
святой крест — перед ним путники преклонили колена и обра¬
тились к Богу в молитве и слезах. Кто отведал плодов третье¬
го дерева, никогда не умирал. Еще видели четыре источника,
из которых выходили четыре реки, окружающие свет; озеро
расстилалось на пять миль в длину и столько же в ширину, пол¬
ное всяких рыб, которые денно и нощно отзывались на райское
пение. Дерево славы простирало ветви на целую милю вокруг,
листья были из золота, широкие, как фиговый лист, плоды сла¬
дости неописанной; на ветвях сидели малые птицы с красны¬
ми перьями, будто горячее угли, либо развешанные по дереву
Данте и символическая поэзия католичества
615
фонари, и пели во все часы дня, славословя райские жилища
(lacortedelParadiso). Монахи поели плодов молодящего дерева,
напились воды, удаляющей старость, и семьсот лет, проведен¬
ных ими в земном рае, показались им неделей. По приказанию
Ильи и Эпоха они возвращаются на землю, в свой монастырь,
где их никто не узнает, итам, попрошествии сорока дней, обра¬
щаются в пепел, в поучение своим младшим братьям и во спасе¬
ние людям.
Виллари, профессор пизанского университета и автор из¬
вестной жизни Савонаролы, готовил к празднику Данте кри¬
тическое исследование об источниках и легендарном круге Бо¬
жественной Комедии. Нам кажется, что в таком труде не надо
ограничиваться одними загробными хождениями, которые
во всяком случае были только литературной формой, а допу¬
стить к сравнению всякую весть о том свете, в какой бы она
формени явилась: в мистерии и легенде, в проповеди и новел¬
ле, вдогматическом рассуждении или монастырской хронике.
Главная задача, которая манит нас, в Божественной Комедии
сводится к исследованиюпути, которым христианское созерца¬
ние, в начале робкое и скупое на образы, потом незаметно все
болееи более поддаваясь эстетическому чутью и желанию разъ¬
яснить себе тайны будущей жизни от бедного своими формами
зародыша легенды постепенно приходило к такому симметри¬
ческому созданию, как поэма Данте. Четырнадцать веков рабо¬
тали над нею, оттого и царит она над четырнадцатью веками.
За то надо же и человека, крепкого мышцами, чтобы выдержать
на себе их веками накопленную тяжесть.
Первые шаги к неизвестному робки. Одному в минуты рели¬
гиозного восторга раскрывались небесныесени, другого созна¬
ние греха заставляло преимущественно останавливаться на ви¬
дениях мук, ожидающих его по смерти. Но и те и другие образы
были шатки и далеки от архитектонической крепости дантов-
ской космогонии. Между адом и раем проходит слабая черта
раздела, вечные муки сплывались с временными, не исключа¬
ющими надежду на небесный покой, из которых впоследствии,
отвечая на социальные и нравственные требования западной
мысли разовьется догмат чистилища. В старых легендах он еще
не выяснился: узкий мост, перекинутый через огненную про¬
пасть, прямо ведетиз ада к райским жилищам; под шагами пра¬
616
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
ведных он расширяется, грешники обрываются с него и падают
в реку, где очищаются мучениями, пока не сделаются достойны¬
ми пройти по мосту. Hoc autem insinuante Apostolo purgatorii
nomen habere cognovi, сообщает Адьберик co слов апостола. Бо¬
гословские эстетики XVIII века, чутьбыло не обвинили Альбе-
рика в Оригеновской ереси за такое неканоническое смешение
чистилища и ада. Но после этого вся старая легендарная лите¬
ратура подлежит тому же упреку, и даже большему, потому что
в видении Альберика догмат чистилища формулирован, хотя
неясно, чего нет в старых легендах, и везде тот же мифический
мост, перекинутый между адомираем, по которому проходят
очистившиесядуЩи. Чистилище выделялось из ада постепен¬
но. Оно вышло из видений Эрма, H3Stromaton Климента Алек¬
сандрийского, из сивиллинских книг, приписываемых ерети¬
ку Монтану (во II векепо P. X.), и учений Оригена. Вполовине
ШстолетияМани учил о грешных душах, чтопрежде чемдостиг-
нуть неба, они должны пройти через луну, наполненную по его
понятиям водою, где остаются две недели, чтобы потом в тече¬
ние двух недель быть очищенными огнем. По следам других
отцов церкви, Григорий Великий в концеVI века, первый опре¬
деляет идею чистилища: как перед концом ночи, прежде чем
поднимется солнце, появляется заря, полусмешанная с мглою,
так до кончины видимого мира просвечивает в его мраке духов¬
ный мир будущего. И он рассказывает по этому поводу целый
ряд видений: как душа готского короля Теодорика кипятится
в большом чане в недрах Этны, и диакон Пасхазий обречен му¬
читься в дыму пуццольских бань. В Этне помещены все котлы
чистилища, которые кипят тем сильнее, чем более в них пада¬
ет душ. Случилось однажды, что какой-то Стефан умер, и его
хотели уже ввергнуть в котел, когда оказалось, что это не тот
Стефан, которого было нужно, и что смерть ошиблась в лицах.
Тогда умерший тотчас же воскрес, зато настоящий Стефан и от¬
правился занять назначенное ему место.
В X веке легендарии, цветники, золотые легенды наполне¬
ны рассказами о чистилище, которые иезуитРоссильони собрал
в своей книге: Meraviglie di Dio nelle anime del Purgatorio. Меж¬
ду прочим, какой-то неизвестный писатель, скрывшийся под
именем Кирилла Александрийского, написал книгу подобно¬
го рода, где говорит, как блаженный Иероним явилсяпо своей
Данте и символическая поэзия католичества
617
смерти какому-то Евсевию и повелел ему возложить свою оде¬
жду на трех покойников, которые тотчас же воскресли и еще
двадцать дней жили, проповедуя чистилище. Они рассказыва¬
ли, что были обречены на адские муки, но что бл. Иероним буд¬
то воспротивился этому решению, и Бог возвратил их к жизни,
чтобы они успели покаяться в грехах. Тогда бл. Иероним, что¬
бы дать им почувствовать, чем они ему одолжены, заставил их
пройти через ад и чистилищеи на самих себе испытать двойные
муки. Сочинитель рассказывает потом, каковы были эти муки.
Это один из первообразов позднейших загробных путешествий,
оставшийся неизвестным Озанаму.
Так учение о чистилище понемногу проникало в жизнь с по¬
учительной легендой, но еще не было признано богословским
догматом. В XI веке Одилон, аббат Клюнийского монастыря,
сделался известен чудесным освобождением чистилищных
душ; в XII Оттон Фрейзингенский говорит об этом догмате, что
онпринят некоторыми (quidamasserunt), то есть еще не былцер-
ковным. В эпоху Данте, в XIII — XIV вв., он должен был оконча¬
тельно установиться, когда в следующем столетии он мог быть
предметом спора на флорентийском соборе 1439 года.
Видение Альберика относится именно к той переходной
поре, когда загробная трилогия католицизма еще только созда¬
валась, но уже начинали устанавливаться ее основные формы.
Уже душа обрекалась по смерти на одно из трех существований,
даже в этих существованиях есть переходы, разделения, адские
круги и отличия небесных тел. Альберик, ближайший пред¬
шественник Данте, пришел раньше его, не обладал его гением
и не так цельно, не так поэтически ясно понимал величавое со¬
здание католической космогонии; но если, изучая Шекспира,
мы оглядываемся на утлую мистерию, предшествовавшую ему
на английской сцене, мы не понимаем презрения Пертикари
к бедному монтекассинскому монаху, у которого будто бы Данте
не мог украсть идеи Божественной Комедии. Идея не принадле¬
жала ни ему, ни Данте: она выходила из самого века.
Хождение Альберика очень мало известно: Фосколе и Оза-
нам говорят о нем лишь несколько слов; в 1814 году Канчеллье-
ри издал его с плохим итальянским переводом в книге, которая
теперь не читается, и ее трудно достать; в 1845 году Тости в исто¬
рии Монтекассинского монастыря сообщил роспись заглавий
618
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
в исправленном переводе. Мы последуем здесь за наивными
видениями монаха, пользуясь книгой Канчелльери и рассказом
Петра диакона, современника Альберика и продолжателя лето¬
писи Монтекассинского монастыря.
Во времена аббата Герарда (1111-1123) случилось чудо
в Кампании, «во всем подобное древним чудесам». В местечко
Комино, построенном в честь святых семи братьев, сын одного
именитого рыцаря, по имени Альберик, по десятому году воз¬
раста, схвачен был внезапною немочью, в которой пролежал
девять дней и девять ночей, как мертвый. В это время вот что
с ним было.
Белая птица, Броде голубя, подлетела к нему, вложила клюв
в его уста, откуда ему показалось что-то вышло; потом, схва¬
тив его за волосы, она приподняла его от земли на рост чело¬
века. Тут явился ему Петр апостол с двумя ангелами Hemanuel
(Emmanuhel) и Heios (Eloy), и вместе стали показывать ему оби¬
тель адских мук.
В первой долине, полной огня и жгучих паров, очищаются
детские души, как у Данте некрещеный дети помещены в пред¬
дверии ада. Петр объясняет Альберику постепенность адских
мук, и почему души детей не свободны от греха: они могли опеча¬
лить мать, ударить ее в лицо и т. п. УДанте великие мужи древ¬
ности, не дожившие до вести спасения, также находятся в лим¬
бе — отчего у Альберика первый круг ада зовется Prudentìa?
В следующей долине грешники сидят во льду, более или ме¬
нее глубоко, смотря по вине, самые виновные на высоте. Это
развратники и прелюбодейцы (ср. Inf. с. XXXII). У злых жен¬
щин, отказавших в своей груди осиротевшим младенцам, змеи
сосут груди; неверные жены повешены за волосы над огнем.
Невоздержные, не почитавшие господних праздникови по¬
стов воздержанием от жен, пытались в следующей долине: они
обречены были идти по лестнице в 365 локтей длины, накален¬
ной и испускавшей искры, как толькочто из огня вынутое же¬
лезо; внизу кипела в громадном вместилище смола, куда они
падали (Purg. с. XXVI?).
Только что объяснил ему это апостол, как он увидел огненные
шары и синеватое пламя: в этом пламени наказываются те, ко¬
торые управляли своими подданными не как господа, а как ти¬
раны неправедные: перед ними стоят те, которых они гналипри
Данте и символическая поэзия католичества
619
жизни, и осыпают их упреками. Точно так же перед злыми мате¬
рями, заморившими в себе младенцев, стоят они и также упрека¬
ют их. Но это не они сами, а только злые духи приняли их образ,
потому что злой дух принимает различные виды: людей, живот¬
ных и т. п. (Так у Данте, Inf. с. VII, скупые и расточительные
упрекают друг друга во взаимныхгрехах. Срав. Inf. с. XXVI).
Убийцы и ненавистники погружены в кровяное озеро, но эта
кровь— огонь. У Данте гневные и вялые точно так же погруже¬
ны в воду Стикса (Inf. с. VII infine и Vili), а насильники в кро¬
вавую реку,
la riviera del sangue, in la qual holle
Qual che per violenza in altrui noccia.
Iuf. c. VII, V. 47-8.
Всего интереснеепо своей оригинальности наказание недо¬
брых прихожан, которые знают про своего духовного пастыря,
что он развратник, клятвопреступник и находится под церков¬
ным отлучением, и, не смотря на все эго, терпят и слушают его.
Самое место наказания зовется Covinium: род бассейна, гро¬
мадной длины и ширины, наполненный расплавленной медью,
оловом, свинцом, серой и смолой. С одной стороны его держал
голову огненный конь, шестьдесят локтей в длину, тридцать
в вышину, двадцать в ширину; с другой открывалось в бассейн
небольшое отверстие, которым входили грешники, чтобы пройти
через раскаленную массу и через голову коня выйти его задом.
Адское путешествие приближается к концу. Уже Альберик
стоит у зева пропасти (hos infernalis baratri), которую, как
и Данте, сравнивает, с гигантским колодцем. Все полно смрада,
воплей и отчаянных криков. Общее средним векам представле¬
ние сатаны в виде громадного змея, которое у Данте уже антро-
поморфировалось (впрочем.Inf. с. XXXIV, v. 108, он еще назы¬
вает его vermereo), принято и Альбериком: он прикован к цепи,
перед ним стоит множество грешных душ, которые он втягива¬
ет в себя дыханием, словно мух, и потом снова выдыхает обра¬
щенные в пепел, и это повторяется над ними, пока не очистят¬
ся от греха, за который осуждены. И здесь, как в предыдущих
легендах, бессознательное смешение чистилища с адом, у входа
в который, по слову поэта, должна остаться всякая надежда.
620
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
Почти непосредственно за этим видение себе противоречит, ког¬
да говорит о грешниках, помещенных в преисподней, что они
не будут судимы, но без суда погибнуть. Между ними находят¬
ся: Иуда, Anna, Каифас и Ирод.
Описав обитель сатаны, Альберик еще останавливается
на мучениях, постигших святотатцев, симоньяков (у Данте, Inf.
с. XIX. они также мучимы огнем), оставивших духовный чин
и монашеское звание, клятвопреступников, погруженных в чер¬
ное озеро, полное гадов, где демоны бичуют их змеями (у Данге,
Inf. с. XVIII, бичевание присуждено соблазнителям женщин),
наконец, воров (furesetrapaces), обремененных огненными цепя¬
ми и тяжелыми привесами к шее, не позволявшими им поднять
лицо (см. Данте, Inf. с. XXIII, наказание лицемеров иеще более
BPurg. сс. X — XII, где надменные обременены тяжестями, ко¬
торые также гнут их к земле, гденачерчены в лицах поучитель¬
ные примеры смирения: в Purg. с. XIX, скупые лежатничком,
по словам псалмопевца, adhaesitpavimentoanimamea). Зачем
эти грешники поставлены в такое близкое соседство с центром
ада, мы не знаем. У Альберика вообще нет того чувства красок
и теней, которыми в такой высокой степени обладал Данте, ког¬
да у него тени располагаются гуще и краски становятся темне-
епо мере приближения к источнику мрака, ипотом постепенно
яснеют и блещут с каждым шагом к небу. Наконец, Альберик
был просто набожный сказатель, безотчетно следовавший ми¬
стическому откровению легенды, тогда как Данте проникнулся
всей современной богословской наукой и учениями схоластики,
которые помогали ему внести более строгую систему в распре¬
деление мук и степеней блаженства. Степени греховности у него
расположены по Аристотелю (Ethica, lib.VIIcap. I):
Non ti rimembra di quelle parole,
Con le quai la tua Etica pertratta
Le tre disposizion, che’ Ciel non vuole;
Incontinenza, malizia, e la matta
Bestialitade?
Inf. с. XI, w. 79-83.
В этом разделении обозначен весь последующий ход его ада.
У Альберика апостол Петр наставляет в смертных грехах, кото¬
Данте и символическая поэзия католичества
621
рые сводит к главным трем: Gula, Cupiditas и Superbia— от них
пошли все остальные; но на внутренней экономии рассказа та¬
кое разделение не оставило следа.
Альберик все еще стоит в преисподней, juxtainferniclaustra,
когда, он увидел птицу удивительной величины и красоты, нес¬
шую под крылом ветхого днями монаха, которого она уронила
над огненной пропастью. Злые духи тотчас же к нему присту¬
пили, но птица снова подхватила его и понесла. Тогда апостол
Петр оставил Альберика, чтобы пойти отворить райские двери
божьему слуге: в его отсутствие один из демонов уже думает
приняться за Альберика, как Дате в аду досаждают злые духи;
и как там Вергилий, так здесь апостол является на выручку
и открывает Альберику видения славы (meque subito arripiens
in quendam locum gloriose projecit visionis). Отсюда переки¬
дывается на другую сторону адской реки тот мост, пытающий
грешников, о котором мы говорили, и Петр объясняет своему
спутнику, что они в чистилище. По этому поводу он говорит ему
о силе покаяния и приводит в пример легенду о спасшемся бо¬
гаче. Жил-был один благочестивый отшельник, расставшийся
с светом для поста и молитвы. И стал он просить Бога оботкро-
вении: кому он уподоблен будет на том свете? Ему указано было
на неправедного богача. Смутился святой отец: зачем было по¬
ститься и молиться, когда на томсвете уподоблену быть богачу
неправедному? И вот смущенный святой идет к нему и слышит
от него повесть его прегрешений: как он преждебыл предан
страстям и питал нечистую любовь к одной замужней женщи¬
не, которая противилась его обольщениям; как ее мужа забра¬
ли сарацины, и она, не находя денег для его выкупа, сама при¬
шла к богачу и отдалась ему. Тронутый ее привязанностью, он
ее не коснулся, заплатил выкуп за мужа и покаялся вогрехах.
Когда отшельник в другой раз видится с покаявшимся богачом,
он застает его на смертном ложе и видит, как ангел смывает его
слезами рукопись прегрешений, представленную диаволом. Эта
легенда часто встречается в средневековой европейской литера¬
туре, и, если не ошибаюсь, известна была и у нас.
Короткое изображение чистилища интересно в особенности
по эпическому мотиву охоты и преследованию, с которым лю¬
били соединять в средние века понятие загробного очищения.
Мы видели выше, как, следуя Гелинанду, Боккачио и Пасса-
622
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
ванти, каждый с своей точки зрения воспользовался этим мо¬
тивом, которого связь с германским мифом о диком охотнике
заслуживает внимания. Более чем литература романов и стран¬
ствующих повестей, легенды и жития соединяли разрозненные
члены христианского мира и быстро народнели, так что иногда
трудно бывает различить непосредственное влияние от общего
сходства культурных форм, языческий миф от самостоятельно¬
го творчества христианской мысли.
И у Альберика дьявол ездит на оседланном и взнузданном
драконе, будто рыцарь (inspeciemilitis), с змеей в руке, которою
стегает настигнутые души. Поле простирается далекое, на трое
суток пути, покрытое тернием и иглами, промеж которых негде
поставить ноги: по нем бегают души, спасаясь от дракона, тем
быстрее, чемболее очистились от грехов в мучительном беге,
пока не перейдут, наконец, на другую поляну, такую обшир¬
ную, исполненную такой красоты и славы, что ни один язык,
никакая речь не могут передать. Там запах роз и лилий, там
манна и вечное довольство. Толькочто вступил в нее очистив¬
шийся грешник, растерзанные члены и порвавшаяся на тер¬
ниях одежда возобновляется; ихприветствуют, вставши, души
успокоившихся праведников ипоют хвалу Богу. Так у Данте
гора чистилища содрогается от веселия при вести о спасенном
грешнике.
Тут были сонмы ангелов и других святых, покоящихсяв ше¬
стом небе, сонм монахов и исповедников — между ними бла¬
женный Бенедикт пользуется большей славой, чем другие. Апо¬
стол Петр долю говорит с Альбериком обобязанностях и подвиге
монашеской жизни.
Посреди поляна высокой горе и ближе к небу находится зем¬
ной рай с древом жизни, охраняемым херувимами, и деревом,
от которого плодов отведал Адам: ими ему Neptalim. Здесь поко¬
ятся Авель, Авраам, Лазарь и праведный разбойник— других-
не назвал апостол. Возле рая Альберику показано было ложе,
богато убранное, по бокам которого стояли два священника
в облачении с кадильницами: он услышал имя возлежавшего,
но ему запрещено было поведать о нем.
Голубь, появившийся в начале виденияи потом исчезнувший
во время адского путешествия, теперь снова является, вероятно
Данте и символическая поэзия католичества
62:
изображая собою благодать св. Духа, и ведет Альберика на небо
в сопровождении ап. Петра и двух ангелов.
Первое небо воздушное (aereum), где находится звезда по
луденная (stellameridian) и над этим небом вращается луна
а не ниже, как то кажется людям.
Второе небо эфирное (aethereum) с звездой Марса.
Третье звездное (sidereum) с Меркурием.
Четвертое зовется Orleons (?), где в 365 дней солнце соверша
ет свое обращение.
Питое Junionc, звездой Юпитера (Junion — юпитеровское?)
Шестое Venustion, где звезда Венеры, хоры ангелов, арханге
лов, патриархов, пророков, апостолов, мучеников, исповедни
ков и девственниц. Надо всеми хор апостолов, а выше всех Пет]
апостол.
Седьмое зовется Апаресоп (?), где находится Сатурн, враща
ющийся в 365 дней, как и солнце, дающий ему блеск и теплоту
«потому что как утром и вечером солнце умеренно светити гре
ет, так было бы и днем, если бы сверху ходящая звезда не дава
ла ему силы и жару. Здесь перед престолом Всевышнего хорь
шестикрылых херувимов славословят Бога трикратной славой
О херувимах же мне поведал св. Петр, что они предстоят Бог?
в том виде, в каком до создания неба и земли Господь носила
на крыльях ветряных».
Наконец, голубь приводит Альберика к месту, круженном]
высокими стенами. Что он там видел, он не может рассказать
Так и у Данте в виду неизреченных откровений неба подломи
лись крылья фантазии:
All’alta fantasia qui manco possa.
Par. с. XXXIII, V. 142.
Выше мы сказали несколько слов о связи средневековьп
путешествий с пейзажами легендарного рая. Только несколь
ко шагов далее к Востоку, за ImagèneduMonde и Dittamondo
за страной баснословных пигмеев и одноглавых людей — и мь
очутимся у ворот, сторожимых херувимом. Путешествие на неб<
было в средние века гораздо легче, чем теперь: нужно был<
только идти да идти, пока не дойдешь туда, где земля сходится
с небом. Оттого, показавши Альберику тайны неба, мистиче
624
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
ский голубь обращает его внимание на землю с ее пятьюдеся¬
тью одною областью, которые называет по имени. Поэтическое
чутье не позволило Данте такого шага назад: с высоты небесных
сфер земля кажется ему небольшим клочком материи, делаю¬
щим нас столь жестокими друг к другу, и он обозревает ее одним
взглядом, от гор и до моря (Par. с. XXII, w. 151-153; с. XXVII,
w. 85-6).
В одной из этих областей Альберик видит аллегорию стражду¬
щей церкви, не такую общую, мировую, как апокалипсическое
видение последних песен чистилища, а более местного, узко-на¬
ставительного свойства. Опустелый город, разрушенный храм,
толпы детей быстро проходят мимо, гонимые людьми мрачного
вида — демонами. Они хотели бы остановиться, войти в церковь,
положить на себя знамение креста, но не могут; обнаженная
женщина с распущенными волками и двумя зажженными свеча¬
ми в руках пытается сделать то же самое— и не в силах. А из го¬
рода в это время слышатся вопли. Это наказание его нечестивым
жителям, не чтившим церковь, приходившим в нее не для того,
чтобы молиться и слышать божественное слово, но чтоб затевать
хоры. Женщина была владетельницей города, ничего не пода¬
вавшая ни бедным, ни на божий храм; в руках у ней зажженные
свечи — при жизниу ней их было множество, но она не стави¬
ла их перед образами. Как то раз случилось ей отдать нищему
башмаки, за то Боги облегчил ей наказание, и она обута, хотя
совсем нагая; распущенные ее волосы жгут ее пламенем. Совсем
картина чистилища, еслиб действие не помещено было на земле,
и мы не могли истолковать его аллегорий грешной церкви, ото¬
шедшей от чистоты своего божественного призвания.
Известен поэтический рассказ Данте о происхождении ад¬
ских рек: на острове Крит стоит гора, которую Рея избрала ко¬
лыбелью своему сыну; на горе стоит старец-исполин, голова его
чистого золота, руки и грудь чистого серебра, медное все осталь¬
ное до раздвоения ног, весь низ железный, только правая нога
из глины. И все части его надтреснуты, кроме золотой головы:
из трещин капают слезы, собирающиеся в адскиереки: Ахерон,
Стикс, Флегетон и Коцит. Легенда о плачущих образах очень
обыкновенна в средневековой символике: если мы встречаем ее
у Альберика, то это еще новая черта общего сходства мотивов
между ним и Божественной Комедией. И Альберику видится
Данте и символическая поэзия католичества
625
в Галатии церковь, где «superamulamcristallinam» стоит гигант¬
ское распятие, льющее слезы над людскими грехами.
И еще многое другое показал апостол Альберику и велел
передать людям. Был же Петр росту среднего, худой телом,
с несколько толстым лицом, волоса с проседью, в белой туни¬
ке и с золотой цепью на шее, на голове золотая корона, в руках
ключи с драгоценнымикаменьями — какого металла, Альберик
не мог различить. Апостол вложил ему в рот длинную, мелко
исписанную хартию со словами: «Ты не имеешь власти извер¬
гнуть ее, ни кровь твоя не может ее разрушить».
Тут Альберик очнулся.
«С тех пор и даже до сего дня», повествует о нем Петр диакон,
видевший его в монастыре, «он такой воздержной жизни, таких
строгих нравов, что никто не усомнится в видении им адских
мук и славы божьих святых. С тех самых пор он не есть ни мяса,
ни сала, не пьет вина, ходит босой, даже до сего дня, по благосло¬
венно Божию. Если не его слово, то его жизнь могла бы служить
свидетельством, что он многое видел такое, и страшное и желан¬
ное, что скрыто для других». Его хождение в скором времени
распространилось в народе, и, как водится, дополнено разными
апокрифическими статьями: так что аббат Герард принужден
был поручить исправление текста монаху Гвидону и тому же
Петру диакону. Их-то редакция лежит переднами; в введении
Гвидон сообщает роспись отброшенных статей: о высоте адских
врат; о блуждающих корабельщиках; страдания св. Пандида;
церковь св. исповедника Архилегия; слова Моисея к Богу; о со¬
творены Адама, об его жизни, об его пищеи о смерти; о Ноевом
винограднике; о высотенеба и т. п. При такой распространенно¬
сти сказания, нельзя предположить, чтоб оно осталось неизвест¬
ным Данге: кроме общего сходства мотивов, в Божественной Ко¬
медии встречаются такие подробности, на которых отзывается
скучная латинская проза Альберика; даже в метафорах и неко¬
торых картинных выражениях слышится будто еедалекийотзыв.
Вспомним, что Данте бывал в MonteCassino на пути к неаполи¬
танскому двору, куда он ходил посланником от Флорентийской
сеньории; и что еще в Par. с. XXII, v. 37 он поминает:
Quel monte, a cui Cassino é nella costa.
626
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
Если отложитьв сторону вопрос о более близких отношениях
между поэтом иясновидящим XII века, то все же за Альбериком
остается более ясное формулирование космогонических пред¬
ставлений католичества в эпоху, предшествовавшую Данте; он
ее сдал ему на руки; это — ветка с золотыми, серебряными и ла¬
зоревыми листьями, приплывшая из небесного сада, но кото¬
рой Данте добрался до своего Божественного рая.
III.
Сознание средних веков отличалось глубоким характером
символизма. Все мы болееили менее понимаем жизнь симво¬
лически, вследствие нашего субъективного отношения к пред¬
метам внешнего мира. Полное, всестороннее понимание может
быть развеидеалом науки: в ежедневном обиходе мы обыкновен¬
но довольствуемся общими очертаниями предмета, по большей
части одною какой-нибудь чертою, почему бы то ни было пора¬
зившею нас — и эта одна выдающаяся черта определяети харак¬
тер нашего внутреннего восприятия. Такое одностороннее впе¬
чатление становится для нас символом всего предмета и в свою
очередь устанавливает наши дальнейшие отношения к нему;
последующие впечатления уже находят в душе не tabularasa,
а крепко сложившийся символически образ, в который они спе¬
шат уложиться, распространяя и обогащая его подробностя¬
ми. Каждый последующий символ определяется предыдущим
и прежде составленным, который с своей стороны связан с це¬
лым рядом символических представлений, отвечавшихобразам
внешнего мирана разных степенях человеческого развития.
Таким образом, восходя далее и далее к началу, мы дойдем,
наконец, до мифической поры, когда первыесимволические
впечатления мира закреплены были в языке, в конкретной од¬
носторонности слова. Мы стоим в природе по крайней мере
на столько же, на сколько в истории и так же определяемся субъ¬
ективными преданиями человечества, как разнообразием объек¬
тивных влияний природы. Раскроются ли когда-нибудь законы
их взаимодействуя, и возможна ли будет когда наука истории?
Не в этом смысле назвали мы «символическим» христиан¬
ское сознание средних веков; мы хотели охарактеризовать его
и не дали бы никакой характеристики, отнеся его к общему
Данте и символическая поэзия католичества
627
символическому процессу. Между тем, нет ничего более проти¬
воположного ему, ничего столь прямо идущего в разрез с этим
процессом. Выше мы указали, как всякое наше представле¬
ние, всегда символическое, в разной степени одностороннее,
по необходимости связано с историей предшествовавших пред¬
ставлений и ими определяется: символ вырабатывайся жиз¬
нью. С христианством это вырабатывание приостанавливается
на всех точках развития: масса нового умственного материала,
чуждые идеи, не приготовленные историей, не чаемые жиз¬
нью! Сознаниеначинает относиться к ним как привыкло отно¬
ситься к миру объективных явлений, так же символически,
односторонне, прилаживая их к себе, приводя их содержание
к своей собственной мерке. Оно создало христианскую симво¬
лику. Но такова последовательная сила внесенных идей, дале¬
кая от пассивного характера природных впечатлений, что даже
под узкой оболочкой символа она продолжала доходить до сво¬
их последствий, не спрашиваясь органического хода истории:
какпрежде символ выходит из жизни, так жизнь начинает те¬
перь определяться внесенным в нее умственным материалом,
к которому отнеслась символически. В этом смысле мы и назва¬
ли ее символической; в этом отличие древнего развития от ново¬
го, христианского.
Интерес, возбужденный в последние годы наукой мифоло¬
гии, оставил на время в тени животрепещущий вопрос о влия¬
нии христианских идей, столь важный для полного понимания
средневековой жизни и ее идеалов, религиозных, обществен¬
ных и литературных. Старые мифы выдвинулись на первый
план в наивной прозрачности своего символизма; если Гримм,
Вольф и Mannhardt обращаются иногда к набожным легендам,
то, главнымобразом, для того, чтобы вскрыть затаившуюся
в них языческою сагу. Но это лишь одна струя — в разнообраз¬
ном течении средних веков, где столько неразрешимо смешан¬
ных влияний, где тонкая струя классическогопредания про¬
бивается в основу народного мифа, и все вместе отливаются
в христианскиформы, так что иногда и не отличишь, где кон¬
чается одно и начинается другое. У христианских идей была,
кроме того, своя особенная история, они последовательно раз¬
вивались из своих собственных начал, надолго вперед опреде¬
ляя социальные и эстетические типы; тогда как национальный
628
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
и классический элементы продолжали прозябать под землею,
в монастырях и только позднее объявилось, что они никогда
не умирали совершенно.
На этой-то истории христианских влияний нам хочется оста¬
новиться, чтоб указать ее главные результаты. Христианство
выработалось в иной среде, в конце другого, более законченного
развития, чем среди какого ему привелось потом действовать.
Понятно, что в этой новой среде отношения к нему могли быть
только неполные, односторонние, потому что умы еще не были
приготовлены к цельному принятию его учений. Оттого его по¬
нимают здесь символически: его высокие тайны, его руководя¬
щее догматы, нравственные типы, даже восточный колоритего
евангельского слова. Известно, что почти все богатство пласти¬
ческих образов, которыми красуется старое христианское ис¬
кусство, вышло, главным образом, из такого векового недораз¬
умения: слово, эпитет, название принималось конкретно за то,
что оно всего ближе обозначало, потому что еще недоступен был
скрытый за эпитетом и метафорой отвлеченный смысл. Вэтом
внешнем отношении к предмету, исключающем его полное по¬
нимание — основа христианского символизма, как вообще вся¬
кого другого. Так имя св. Христофора истолковано было эти¬
мологически, как богоносца, и на этимологии основалась целая
легенда: он в самом деле стал носильщиком и на своих плечах
перенес божественного младенца: ему ифигура была дана такая:
высокая, с кряковистым суком в руках. Старая легенда припи¬
сывала ему страшный вид — и эта подробность понята была кон¬
кретно: русские иконописцы изображали его с лошадиной, либо
песьей головой. Ренат (Renatus) был дважды рожденный, т. е.
из тьмы неверия воскрешенный к жизни веры — о нем пошло
предание, как о действительно восставшем от мертвых. На устах
святых, обладавших сладостью божественной речи, пчелы ста¬
ли класть соты; мудрые змии и незлобивые голуби евангелия
вместес библейским змием ипредставлением св. Духа под ви¬
дом голубя — подали повод к бесчисленному множеству легенд,
разнообразивших ту же самую тему; с первых же временхристи-
анства голубь является символом душевной чистоты, в его вид
душиправедных возносятся на небо, Дух святой сходит голубем
на плечи святых. С другой стороны, змей становится общим
символом злого духа. Так все звери и растения библейских ал¬
Данте и символическая поэзия католичества
629
легорий и евангельской притчи: лев и волк, мистический агнец,
виноградник, роза и лилия, поочередно переходили в символ,
утрачивая за собою тот смысл, в котором они встретились раз
в священном тексте, а символ в свою очередь рождал легенду.
Что старые мифы могли принимать участие в такой символи¬
зации — нетсомнения; здесь нас собственно интересует воспро-
изводительность христианских представлений, перенесенных
на языческую почву.
Все это, впрочем, внешние стороны символического отно¬
шения к христианству, характеризующая средние века, хотя
и по ней можно составить себе понятие о его внутренних по¬
следствиях для общества. Гораздо интереснее по своим резуль¬
татам символически-одностороннее понимание христианских
типов, представляемое средневековыми легендами, потому что
им определялся кодекс нравственных правил, семейные от¬
ношения и общественное положение женщины. Не даром Лия
и Рахиль представлены у Данте символами жизни деятельной
и самозаключенной, и апостолы Петр, Иоанн и Иаков поделили
между собою учения веры, любви и надежды — так понимали
их средние века. Все выдающаяся личности ветхого и нового
заветов и апостольский церкви являлись символами, предста¬
вителями одной идеиизвестного типа добродетели; они живые
примеры, которым оставалось следовать, чтобы достигнуть со¬
вершенства. Кто хотеть укрепиться в вере, руководился твердо¬
стью апостола, на котором покоится церковь Христова; к лю¬
бимому ученику Иисуса Христа обращались все жаждавшие
небесной любви. Эго отразилось на литературном характере
позднейших легенд, где жития святых следуют до подробностей
установившимся первообразам христианской жизни: пустын¬
ники Фиваиды давали норму пустынножителям, жития глав¬
ных святых католического монашества очевидно расположе¬
ны по евангельскому рассказу о земной жизни Иисуса Христа,
буддистская легенда о Варлааме и Иосафате, которой греческая
редакция долгое время приписывалась Иоанну Дамаскину, по¬
вела за собойвереницу родственных сказаний; грешники кая¬
лись с МариейМагдалиной, Иосиф прекрасный быль образом
девственной чистоты, и все повести об аскетическом забвении
плоти восходили к нему, как к своему прототипу. Мы позво¬
лим себе остановиться на последнем сказании, чтоб разъяснить
630
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
на нем, как символическое понимание библии вело к созданию
типа, проникнутого всеми крайностями восточного аскетизма,
и из легенды проходило в жизнь, в народную песнь и духовные
стихи, с победною песнью над грешною плотью.
В рассказе библии эпизод о женеПентефрия (Потифара)
играет второстепенную роль, соединяя около себя вторую по¬
ловину рассказа: местью за отверженную любовь мотивируется
заключение в темницу, толкование снов Фараона и позднейшие
судьбы Иосифа. Во всем этом и следа нет, чтоб его воздержанию
придавался какой либо особый смысл в общем ходе событий.
Между тем так его поняли средние века, которых болеечем что
другое должна была поразить аскетическая девственность, не¬
знакомая пластическому чувству язычника: Иосифпрекрасный
стал по преимуществу девственником, весь библейский рассказ
сошелся к эпизоду об искушении, и братья Иосифа очутились
паломниками, странниками ко святым местам. Надо только
было спасти романическую подробность о чаше, которую Ио-
сифзапрятал в мешок Вениамина, чтоб испытать своих братьев:
в христианской редакции сказания Вениамин смешан с Иоси¬
фом —кстати, уже в библии оба брата стоят ближе друг к другу,
как сыновья одной матери и более мягкого характера, чем дру¬
гие братья. Но теперь чашу прячет не Иосиф, а жена Пентеф-
рия подкладывает ее Иосифу, чтобы служить уликой к ее наве¬
там. Интересно, что на востоке и на западе Европы библейский
рассказ пришел к одним и тем же сокращениям под влиянием
символического характера, которого девственный Иосиф сде¬
лался носителем всредние века. Мы говорим именно орусским
духовном стихе: «Сорок калик со каликою», и о западной леген¬
де о странниках ко гробу св. Иакова Кампостелльского. Касьян,
сын Михайлович, духовного стиха — народная переделка пре-
красногоИосифа; его братья перешли в калик. Они идут в Иеру-
салими промеж себя положили заповедь великую:
Кто украдет, или кто солжет,
Али кто пустится на женский блуд
И окопать по плеча во сыру землю
Данте и символическая поэзия католичества
631
Еще кто из нас из сорока калик,
Котора калика заворуется,
Котора калика заплутуется,
Котора обзарится на бабицу —
Отвести того, дородна молодца,
Отвести далеко во чисто поле:
Копать ему ямище глубокое,
Зарывать его во сыру землю,
Во сыру землю по белым грудям,
Чист-речист язык вынять теменем,
Очи ясные — косицами,
Ретиво сердце промежду плечей.
Молодая княгиня Апраксеевна, жена Пентефрия в библей¬
ском рассказе, обзарилась на атамана калик, молодого Касьяна,
сына Михайловича; не успевши в своем намерении, она велит:
Прорезать бы ему суму рыта бархата,
Запихать бы чарочку серебряну
(«наливную чашу однозолотную», в стихе об Иосифе пре¬
красном «золотую чашу волховуюь). Калики уходят, не заме¬
чая хитрости; Алеша Попович (либо Добрыня) настигает лож¬
ных грабителей, после чего калики исполняют над атаманом
свою заповедь:
Брат его Михаило Михайлович,
Принимался за заповедь великую,
Между тем странники побывали в Иерусалиме, искупались
в Ердан-реке, утирались нетленной ризой, и идут назад к городу
Киеву:
А идут назад уже месяца два,
На то место не угодили они,
Обошли маленько сторонкою
Его молода Касьяна Михайловича
Голосок наносит по малехоньку:
А и тут калики остоялися,
632 А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
А и место стали опознавать;
Подалися малехонько — и увидели
Молода Касьяна, сына Михаиловича.
По одной редакции стиха прилетала к покинутому калике
райская птичка, велела ему умыться росой с шелковой травы
и его раны заросли:
Вскакивал из сырой земли,
Как ясен сокол из тепла гнезда
Если перейти теперь к западной легенде окампостелльских
странниках, мы поражены будем сходством мотива, вышедшим
из одинаково-символического отношения к библейской пове¬
сти. И здесь три паломника: отец, мать и сын, идут на поклоне¬
ние к гробнице св. Иакова в Галиции. По дороге они останавли¬
ваются в гостинице; племянница хозяина пристает к молодому
страннику: «Поцелуй меня, будь-же вежлив», — «Не тому учит
заповедь Господня, ни св. Яаков Кампостелльский». Девуш¬
ка берет золотую чашу и прячет ее в карман путнику. За обе¬
дом хватаются кубка: «Где же золотой кубок, из которого пьет
дядя?» Девушка указывает, на юношу, которого судья приго¬
варивает к виселице. Несмотря на это, отец и мать исполняют
данный обет и доходят до святого гроба. На возвратном пути ма¬
тери хотелось бы еще раз поглядеть на сына; еще издалека, толь-
кочто завидела его, она принимается плакать. А он как ни в чем
не бывало: св. Иаков поддерживал его за ноги. Богородица дер¬
жала голову, и ангелы его окружали. Его снимают с виселицы,
и его место занимает ложная доносчица. Вольф сообщил эту ду¬
ховную легенду, как она поетсяв Каталонии, почти необращая
внимания на относящуюся сюда литературу; ReinholdKöhler
в журнале Эберта занялся изысканием ее источников и приво¬
дит сходныесказания у Луция Маринея, Людовика dellaVega,
Николая Бертрана, Цесаря Гейсгербахского, в нидерландской
народной песне и итальянской мистерии. О библейском Иоси¬
фе он поминает только в конце, по поводу спрятанной чаши,
не подозревая общего родства содержания, которого не заметил
и Вольф в своих примечаниях к статье Köhler’a. Обоим остался
неизвестным русский стих о сорока каликах и наши духовные
Данте и символическая поэзия католичества
633
стихи об Иосифе прекрасном, из которого он, очевидно, вышел,
повинуясьвлечению ксимволической целости типа, отличаю¬
щему христианскую фантазию, и обставляясь чертами народно¬
го эпоса.
Мы видели, как евангельское слово и образы откровенных
сказаний, переходя в сознание новых людей, принимали новые
формы, вследствие одностороннего отношения к ним, и вели кбо-
гатству христианской символики и тем узким символическим
типам, по которым начинала слагаться средневековая жизнь.
То же самое было с догматом. К числу самыхзапутанных во¬
просов цивилизации принадлежит странное в своей двойствен-
ностиположение женщины в средних веках, загнанной дома,
в лице жены и дочерей, а вне дома поставленной на пьедестал,
в лице рыцарской дамы, как предмет риторических вздохов тру¬
бадура. Все, что говорено было по этому поводу об идеальном
положении женщины в древне-германской семье, нисколько
не ведет к делу и всегда остается вопрос: откуда пошел этот не¬
объяснимый поворот семейных отношении? Нам кажется, что
германскую женщину слишком идеализировали вслед за «Гер¬
манией» Тацита: если они сильнее и самостоятельнее наших,
если они сражаются наряду с мужьямииубивают себя, когда
римляне отказывают кимврянкам в священстве, то все это пото¬
му, что тогда все были сильнее и самостоятельнее. Обществен¬
ные отношения определялись силой, одна сила мускулов це¬
нилась, с нею сообразовалась вира, за раба платилось меньше,
как за побежденного, стало быть малосильного, уступившего
большей силе; права личности на относительную свободу опре¬
делялись относительною крепостью: права в собственном смыс¬
ле еще не было. Мы не понимаем, как подобные бытовые отно¬
шения могли не отразиться и на семейных; надо помнить, что
Тацит писал сатируна римское общество и, во чти бы то ни ста¬
ло, должен был находить похвальным в германском устройстве
многое такое, что само в себе не имело ничего хорошего, и чего,
может быть, он сам не понимал, потому что не все ему было пока¬
зано. Нам, по крайней мере, которые не верим в необъяснимые
исторические скачки, забитая семейная жизнь средневекового
рыцарства кажется только органическимпродолжением гер¬
манской семьи, как существовала она в до-христианскую эпоху.
С другой стороны, догмат воплощения поставил образ женщины
634
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
высоко над обыденными потребностями страсти и домашнего
обихода. Средневековой человек понял ее также символически,
односторонне, как многое другое в христианстве, и столь же
мало перевел его в жизнь, еще не раскрывшуюся для понима¬
ния его таинств. Католический культ мадонны, освященный
в XI веке, и тесно связанное с ним поэтическоеобожание жен¬
щины — лучшее тому доказательство. Там и здесь посторонняя
владетельная дама, окруженная могуществом и блеском двора,
от которой ждут милостивого взгляда, предстательства, кото¬
рую окружают риторическойфразой, либо мистическим покло¬
нением. И та идругая вдалеке: в небе или неприступномзамке;
в жизнь они не сошли, и у семейного очага продолжается та же
тяжелая доля женщины, как и прежде — может быть, жить
стало еще хуже, потому что, опьяненный восторгом, человек
неохотно отрывался отпластического символизма мадонны,
и семейная действительность казалось ему еще сереепрежнего.
В такие минуты он мог серьезно рассуждатьо том, возможна ли
любовь при брачных узах, и совершенно сознательно решать его
в отрицательную сторону. Так рыцарско-католическийидеал
нисколько не поднял общественного уровня женщины, но, если
возможно, еще понизил его своим узким символизмом.
Мы бы хотели указать здесь еще на одно следствие симво-
лически-внешнего понимания нашего догмата, следствие, ко¬
торого, нам кажется, никто не заметил, хотя оно и отозвалось
всредневековойлитературе рядомсимволических саг и целым
циклом романов. Известны легенды о демоническом происхож¬
дении и о любви демона к земной женщине, бывшие в большом
ходу в средние века. Выше мы видим, что подобная легенда
ходила о братьях Эццелине и Альберике; может быть, еще ме¬
нее известно, что такое же происхождение приписывалось им¬
ператору Юстиниану. Предадим, сохраненные венгерскими
летописями об Альме и св. Стефане, миф о демоническом про¬
исхождении гуннов, русская повесть о бесноватой жене Саломо-
нии — не что иное, как развитие того жемотива. Как божество
сошло на землю и приняло человеческую плоть, чтоб искупить
людей, так злая сила пользуется иногда тем же способом, чтоб
сеять на земле плевела греха. Мифы с Мерлине и связанный
с ним романтический круг, всего яснее покажут нам, что имен¬
но в этом смысле средне века понимали Легенды о демониче-
Данте и символическая поэзия католичества
635
скомзачатии. Все, что толкуют о кельтских источниках этого
предания или о его связис востоком в целоми в подробностях,
нисколько не поколебало нашего убеждения, что мистический
смысл, который это предание приняло в средневековом романе,
никогда не мог выработаться из народного эпоса и всеми свои¬
ми частями вышел из символической поэзии христианства. Как
она не остановилась на безыскусственной простоте евангельско¬
го рассказа и создала апокрифическуюлитературу евангелий,
так последовательно развиваясьиз своих начал, от апокрифов
перешла к романам Мерлина и св. Грааля. Христианский сим¬
волический роман становился обок с последними отпрысками
языческого эпоса, особой полосою, и между тем и другим прохо¬
дила частая связь влияний, обременившая христианскую идею
подробностями народного мифа; причем было свершенною слу¬
чайностью, что этот миф —кельтский.
В апокрифическом евангелии Никодима рассказывается,
что Карин и Лентий (Charinus et Lenthius), сыновья Симеона
Богоприимца, восстали из мертвых, когда Иисус Христос со¬
шел в преисподнюю и сокрушил врата адовы. Они вернулись
на землю с этой благовестью: молчаливые, как мертвые, они
пребывают в Аримафии, только прохожие слышат их возды¬
хающих (simulaudiuntclamantes). Когда книжники и Фарисеи
приступили к ним с расспросами, они кладут себе на язык зна¬
мение креста, отчего их молчание разрешилось, и требуют хар¬
тии (singulostomoschartae), где бы им написать, что они виде¬
ли и слышали. Они находились в аду, когда вест о пришествии
Спасителя распространилась: святые ликуют, адское сборище
сошлось на совет, что делать, как быть. Сатана, князь смерти
(princepsetduxmortis), сообщает грозную весть Вельзевулу,
царю ада (princepsinferorum). После взаимных уверений и опа¬
сений, гонимые грядущим страхом, демоны набрасываются
на своего вождя, осыпая его упреками. Тут является Спаситель
и выводит святых из лимба.
Ад поражен — здесь собственно начинается роман Мерли¬
на — но не хочет поступиться своими правами на землю. Новый
совет демонов собирается, где совративший Эву злой дух пред¬
лагает Люциферу свои слуги: «Как я был причиной соблазна
Адама и Эвы, так теперь я буду причиной, что родится другой
человек от девственницы, не знавшей мужа. Этот человек будет
636
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
Мерлин. Чтоб исполнить свое намерение, демон отправляет¬
ся в Англию, где у одной женщины по имени Filides, были три
дочери. Он совращает ее самую, доводит до отчаяния ее мужа
и развращает двух дочерей, несмотря на благочестивые поуче¬
ния пустынника Блазия.С третьей он соединяется сам во время
сна. Позднее сам Мерлин так рассказывает о своем происхож¬
дении: «Итак я хочу, чтоб ты знал и верил», говорит он судье,
«что я сын проклятого адского демона, который соблазнил мою
мать; этот род демонов зовется Eschibedes, обитает в воздухе,
и Господь Бог дозволил мне иметь их ум и память вещей ска¬
занных, совершенных и прошедших». Натура Мерлина в самом
деле совершенно демоническая: его вещее знание, его неулови¬
мые метаморфозы, быстрота, с которой онпереносится с места
на место, его проказы и проделки напоминают затейливую де¬
монологию средних веков, домашних духов-проказников, до¬
бродушных и злобно-шутливых. Но вместе с тем он верит в ис¬
тинного Бога, он сообщаетпустыннику Блазию, что если в нем
тело принадлежит злому началу, то его душа божья; его мать,
навещенная демоном, проводит жизнь в молитве и посте; он сам
удостоился крещения. Оттого он обманывает ожидания ада,
пытавшегося сверхъестественным образом возвратить утрачен¬
ную власть: еще грешная слабость плоти осталась в нем, как
он сам сознается, но свое знание он употребляет только на бла¬
го людям. Небо еще раз победило ад его же оружием: Мерлин
делается проповедником божественного слова, его учительной
деятельности отведено широкое место в романе. Интересно про¬
следить, каким образом вся история его жизни складывается
по аналогии его евангельского прототипа, как, по замечани-
юМаигу, жития святых подражали земной жизни Иисуса Хри¬
ста. Мы уже сказали о сверхъестественном происхождении
Мерлина; онтолько что родился, и Вортиргерн начинает искать
его крови, как Ирод младенцев Вифлиема; он проповедует,
учит, делает чудеса, ученики записывают его вещие слова. Уч¬
реждение Круглого стола при дворе Утерпандрагона — прямое
напоминание Тайной Вечери; с этою мыслью учредил его Мер¬
лин. «Ты должен знать», говорит он королю, «что Господь наш
Иисус Христос пришел на землю единственно для того, чтобы
спасти от грехов мир и человека, и должен верить в то, что он
делалнаТайной Вечери, и что он сказалсвоим апостолам: «Один
Данте и символическая поэзия католичества
637
из вас предаст меня»; и как один из них отдалился от него и его
предал, и сам он претерпел за нас страдание и смерть. Тогда
пришел другой муж (uncavallier), по имени Иосиф Аримафей-
ский (JosephAbarimathia), и попросил в награду за свою служ¬
бу телоИисуса Христа; и оно было ему отдано. Этот муж питал
великую любовь к Господу и долгое время спустя по его воскре-
сениипошел в пустыню, взяв с собой часть своего племени и на¬
рода, где они терпели голод и большую нужду. Однажды народ
приступил к тому мужу и стал жаловаться на свою нужду; он
обратился с молитвой к Господу нашему Иисусу Христу, чтобы
он открыл ему, откуда им такая беда. И приказать ему Господь
Бог устроить стол во имя его святой вечери и поставить на стол
сосуд и покрыть его белым платом. А сосуд этот даровал ему Ии¬
сус Христос, им он разделял грешных людей от праведных; кто
будет сидеть за тем столом, тому сбудутся все желания его серд¬
ца; и есть у того стола одно пустое место, то самое, на котором
сидел Иуда предатель... За этим вторым столом сосуд зовется
Gradale, что означает вечерю Иисуса Христа. В воспоминание
этих двух столов Мерлин советует Утерпандрагону устроить
третий, за которым также оставлено незанятое место, и если
нет св. Граля, то только потому, что еще не родился девствен¬
ный витязь, который прикоснулся бы к нему чистыми руками.
Но сосуд невидимо существует, потому что еще продолжает дей¬
ствовать и приносить плоды жертвы, принесенной на Голгофе:
она то изображается в чаше, дарованной Иосифу Аримафейско-
му, и ею спасаются люди. Так символические образы Мерлина
и св. Граля сводятся в своем основании к наивному рассказу
Никодимова евангелия, в котором неудовлетворенный еван¬
гельской повестью ум искал осязательно раскрыть себе тайну
искупления.
Если мы верно поняли связь представлений, то имеем пра¬
во повторить здесь то, что уже высказали не раз, предваряя
свидетельство фактов: а именно, что символическое отноше¬
ние средневековой мысли к догматам и учению христианства
оставило долгие следы в литературных типах и в жизни, кото¬
рой они были выражением. Вся жизнь, все космогонические
представления средневекового человечества распределялись
по символам: человек принадлежал либо небу, либо аду, либо
чистилищу, но почти никогда не принадлежал земле, по кото¬
638
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
рой ступал. Борьба добра со злом, плоти и духа, начавшаяся
у подножия райского дерева, происходити в жизни: тогда плоть
победила, она и теперь побеждает, потому что еще грехи совер¬
шаются. Змей, соблазнивший Эву, обратился в постоянный
источник греха: от него выходят соблазны и нечистые похоти,
сами несущиенаказание себе; он прикован в глубине ада, в ко¬
тором символически выражено злое начало, царство плоти, как
в небе царство духа. Небо и ад, добро и зло сходятся на земле,
продолжая вековую борьбу в человеке: злой дух и добрый ангел
сопутствуют ему по средневековым понятиям, каждый увле¬
кая его в свою сторону: небо посылает ему откровения, ад свои
соблазны; демоны вселяются в людей, владеют земными жен¬
щинами: у Данте рассказывается об одном грешнике, которого
душа уже давно томилась в аду, между тем как тело продолжало
ходить по земле, оживленное демонической силой. Даже у по¬
стели умирающего продолжается борьба: ангелпредставляет ру¬
кописание добрых дел, злой дух считает накопившиеся грехи,
и душа шла в ад либо в рай, смотря по тому, в какую сторону
подались весы правосудия. Католические века понимали толь¬
ко святых — или отверженных, избранных небом — или зака¬
баливших себя аду, и не понимали человека.
Где же в самом деле было развиться личности, когда небо
и ад поделили таким образом между собою землю? Все, что чело¬
век ни делал, что ни совершалось в его сознании, не ему принад¬
лежало и почти никогдане ставилось в заслугу или осуждение:
его просвещала небесная благодать, его окружали адские коз¬
ни. Если он пытался скрыться от этой мучительной двойствен¬
ности, загораживаясь отмира и уходя в самого себя — и там он
встречал тоже самое: мистическое предвкусив рая, демонов,
совращавших пустынников Фиваиды. Вся жизнь становилась
одним огромным чистилищем, как самое учение о нем выходи¬
ло из догматической последовательности средневекового ума.
Не всякого посещает благодать, и не всякому дано настолько
силы, чтобы избегнуть мирских козней, со всех сторон прегра¬
ждающих ему путь к спасению. Иногда подвиг целой жизни
слишком мал, чтоб искупить иной грех, а то бывает, что грешник
покается на смертном ложе, и у него отнято время делами дока¬
зать свое раскаяние. Тогда перед ним раскрывалось чистилище,
продолжавшее собою жизнь покаяния: здесь он мог завершить
Данте и символическая поэзия католичества
639
начатую борьбу, поддерживаемый надеждою, светившею ему
с вершины земного рая; здесь ему легче нести греховное бремя,
когда, согбенному под его тяжестью, ему видятся начертанные
на пути наставительные примеры добродетели, когда в воздухе
слышится бодрящий голос, и ангел спешит с неба, чтоб отраз¬
ить нападение древнего змия. И он весь обращается в надежду и
раскаяние, с восторгом терпит положенные муки, отрешающие
его от личности с ее плотской определенностью, но также и с ее
плотской греховностью. Собственно говоря, чистилище — это
католическийидеал жизни, идеал загробный, потому-то не¬
достижимый по сю сторону смерти, но все же приводивший
вжизнь разными своими сторонами и определявший ее стрем¬
ления. В самом деле: есть ли что-нибудь драматичнее средневе¬
ковой истории, где такое столкновение страстей, такое богатство
переворотов? Между тем, поглядите в современные хроники,
в монастырские записки — личности как будто не бывало, все,
что делается на земле, совершается не ее силами, а вмешатель¬
ством других, высших сил. Борется ли церковь с священною
римскою империей — это не Григорий VII, и не Григорий IX,
и не немецкие императоры, а Христос, поражающий Антихри¬
ста; монашеские ордена — это христово стадо, еретики — семя
древнего змия. Сколько драмы было в одном Данте, вБоккачио,
между тем, нитот, ни другой драмы не написал; Божественная
Комедия— космогоническая мистерия в 100 песнях, как все ми¬
стерии, с их тройственным разделением неба, земли и ада, были
божественный комедии в малом виде. Если Альбертино Муссато
пишет трагедии, то у него выходят плохиеподражания Сенеке,
привитые к безличному однообразию мистерий. Католическое
созерцание не было способно к драме; надо было реформацию,
надо было возрождение языческого мира, чтобы личность снова
пришла к сознанию своей драматической самостоятельности,
и чтобы явился Шекспир.
Теперь мы понимаем, почему чистилище Данте вышло такое
бесцветное, будто написанное полутонами. Обыкновенно дума¬
ют, что, потратив краски на описание ада и рая, поэтическая
фантазия сложила крылья на полпути, отдыхая от понесенно¬
го труда. Нам, напротив, представляется в чистилище высший
подвиг, может быть, бессознательного поэтического ясновиде¬
ния: только такое чистилище достойно завершало католиче-
640
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
скую трилогию Данте. Если в аду собрались все земные страсти,
совлекающие людей: любовь, ненависть, демонические порывы
злобы, все, что так мощно движет человеком на земле, — то это
требовало резких красок ифорсированного колорита. Оттого
в аду и помещены все пластические эпизоды Божественной Ко¬
медии, ибо, по понятиям католичества, человек грешит по пре¬
имуществу своей пластикой. На долю неба отнесены неземные
восторги, гармония сфер, райские песни и невиданная игра бес¬
конечного света: если ад мы назвали пластическим, то рай рас¬
плывается водну сплошную мелодию. Так, между адом и раем
поделены грешные страсти и небесные восторги; по середине,
на узкой полосе земли, кажущейся столь ничтожною с высоты
неба, человеку не оставалось ничего, кроме слез и надежды.
Эго — чистилище жизни.
Данте — поэт католичества; мы не знаем другого более пол¬
ного выражения католической трилогии, обнимавшей всю
жизнь, земную и небесную. К ней сходились все разнообразные
символическиепредставления средневекового христианства,
укладываясь в ее широкую тройственность; к ней стремились
общественные идеалы, о ней говорили мистерии, устройство
народного театра, гдепо середине шло действие на земле, сверху
царила Троица, и демоны выходили из преисподней, располо¬
женной ниже; современные живописныепредставления на сте¬
нах церквей и монастырей и аллегорические игры на pontealla
Carraja и молча, и громко проповедовали о ней народу. В тиши
монастырского затворничества она посещала Альберика в неж¬
ных, мистических образах; богословы ее доказывали, астроло¬
гия преследовала ее по следам птолемеевской системы неба,
и наивные путешественники привозили о ней загадочные вести
с Востока. После всех отрывочных попыток разъяснить себе
мглу неизведанного явился Данте. Он не даром учился у Бру-
нетто Латини, не даром ходил в школу к схоластикам и публич¬
но защищал тезис о воде и земле. В нем счастливо соединилась
большая часть энциклопедических сведений, которыми так бо¬
гаты в высшей степени энциклопедические средние века. Он
тоже был собирателем, как Гомер, как все великие поэты древ¬
ности, великие потому, что содержали в себе все свое время
и многое из прошлого; и как про Гомера говорили, что он создал
грекам их богов, так Данте просветил единством поэтической
Данте и символическая поэзия католичества
641
мысли символическую космогонию средних веков, от ада и зем¬
ли до вершин христианского Олимпа, где его манила мистиче¬
ская роза, а в мистической розе, в сонме блаженных душ, сияла
неземною любовью его Беатриче.
IV.
Беатриче Божественной Комедии — что это? Земная ли жен¬
щина, не забытая ли страсть, или аллегория, символическое
изображение науки богословия? Таким вопросом задавались
многие и томили себя ненужными толкованиями. Кому ясен
символический смысл Божественной Комедии, того не удовлет¬
ворит ни одно из них. Земной женщине само собою недоступны
были небесные сени, перед которыми остановилась даже вели¬
кая тень Вергилия. Кроме того, задуманная аллегория не гар¬
монирует с цельностью символического впечатления, произ¬
водимого поэмой Данте; где все богословские и человеческие
добродетели распределены между историческими носителями,
давно освященными католической символикой, или выражены
в общих, полных смысла, символах, там человеческая фигура
Беатриче, представительницы теологии, должна была являться
резким диссонансом. И странно видеть, как богословские загад¬
ки решает не всегда она, как апостолы Петр, Иоанн иИаков на¬
ставляют поэта, и последнее посвящение его в таинства Троицы
она опять же предоставляет св. Бернарду.
Нас более привлекает другая гипотеза, недавно высказан¬
ная Пересом. Как мы старались привязать идею Божественной
Комедии к космогоническим идеям католичества, так он при¬
водит ее в непосредственную связь с психологическими поняти¬
ями средневековыхсхоластиков. Мы не будем останавливаться
на подробностях их учения: скажем только, что в душе чело¬
веческой они признавали две способности: рассудок (ragione)
и разум (intelligenzapossibile), обе потенциальные, существу¬
ющие только в возможности, необходимо предполагающие
участие деятельного начала, чтоб эта возможность перешла
в действие. Фантазия является таким деятельным началом для
рассудка; безучастия «деятельногоразума» (intelligenzaattiva),
безличного, мирового, единственногодля всех, наш потенци¬
альный разум никогда не возвысится до высоты созерцания
642
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
(intellettospeculativo); только при постоянном единении с ним,
с этиммировым разумом, мы достигаем того божественного,
откровенного разума, который один делает человека совершен¬
ным, подобным Богу. К нему то стремится Данте: его Беатриче
не что иное, как такое блаженство непосредственного созерца¬
ния, приближающего нас к божеству, от которого его отдали¬
ла одно время ложная философская наука — эта другая дама
его мыслей. Выражаясьязыкомсхоластиков, Беатриче— это
«intelligenza attiva, illuminatrice dell’intelletto possibile, che
unendosi a quello si fa beatrice beata», p. 196. Что свое стремле¬
ние к божественному разуму Данте выразил в повести любви —
в этом не было ничего необыкновенного для средних веков, где
Песнь песней перетолковывалась точно таким же мистическим
образом: душа, стремившаяся к божеству, представлялась лю¬
бовницей, ждущей прихода любовника, и все подробности плот¬
ской любви отражали всебеисториюмистических порывов духа.
И здесь Данте оставался в пределах средневековой символики.
С чем мы не можем согласиться — это то, что будто бы всепро-
изведения Данте, не выключая и его юношеские, его Vitanuova,
Convito и Божественная Комедия, все без исключения были
только различными развитиями одного и того же аллегориче¬
ского образа. Так толкует Перес: по его мнению, любовь Дан¬
те к дочери Портинари —эротический роман, изображенный
Боккачио; будто сам Данте никогда неговорил о земной любви.
А между тем, Боккачио комментировал Данте всего каких-ни¬
будь 50 лет спустя по его смерти и не мог выдумывать факты,
на которые могли быть улики и свидетели. С такой методой,
пожалуй, мы все любовные историиХШ века переведем в одно
общее искание божественного разума, лицемерно прикидываю¬
щееся земной страстью. Бедные Лауры и Беатриче и все люби¬
мые женщины XIII века!
А мы все еще не отказались от Беатриче-женщины; нашему
эстетическому чувству противна мысль, обращающая всю эту
цветущую историю любви в какое-то аллегорическое искание
истины, хотя бы эта истина и была высшая, доступная челове¬
ку, правда. И мы сами себе объяснили историю Беатриче, не вы¬
ходя из пределов человечности. Хорошенькая девятилетняя де¬
вочка, тихая и застенчивая, как сам Данте, произвела на него
сильное впечатление на майском празднике. Он любил ее тою
Данте и символическая поэзия католичества
643
чистою любовью, к которой способно бывает только молодое
сердце, еще не тронутое житейскими дрязгами. Он бледнел
при ее встрече, каждый ее взгляд, каждый шаг, приветливое
слово, неотданный поклон получали для него значение, и он
принялся писать стихи, что в двадцатилетием юноше не уди¬
вит никого.Особенно же тогда была пора трубадуров, стихи
писались в запуски, и все объяснялись стихами. Может быть,
и Данте не ушел бы от их риторической пустоты, еслиб в кра¬
соте Беатриче не было той очищающей силы, которая отводит
мысль отплотского помысла и заставляет человека быть лучше.
Данте говорит о таком нравственномвлиянии Беатриче в своей
Vitanuova; он и сам на себе должен был испытать это влияние:
Alcun tempo’l sostenni col mio volto,
говорит ему Беатриче на вершине чистилища,
Monstrando gli occhi giovinetti a lui
Meco’l menava in dritta parte volto.
Purg. с. XXX, w. 121-123,
Когда она покинула его для лучшей жизни, и он не встречать
более глубоких глаз, которых красота была ему безмолвным
упреком, он будто потерялся в темном лесу, отдавшись другим
привязанностям :
Questi si tolse a me, e diessi altrui.
Purg. с. XXX, V. 126.
Между тем, время шло и приносило с собой утешение. Данте
старел, занимался богословскими спорами, и одно время даже
объявил исключительной дамой своего сердца «прекрасную
и достойную дочь императора мира, которой Пифагор дал на¬
звание философии. Но это была его вторая любовь, и он тща¬
тельно отделял ее от своей первой, с которой началась его «мо¬
лодая жизнь» (Vitaniova).
Прошли еще годы: Данте еще постарел; по следам поэтиче¬
ских богословов XIII века он стал задумываться над тайнами
жизни за гробом, над ее откровениями, которыми руководи¬
644
А. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
лась наивная набожность средних веков. Он спускался вместе
с Вергилием к мучениям ада, в мытарствах чистилища увидел
идеал того безличного существования, который славился в поу¬
чение средневековым людям; потом, становясь все легче, свет¬
лее и радостнее, будто освобождаясь от земного бремени, он до¬
ходил до тех кругов неба, где очищается все земное. Тогда ему
вспомнилось другое счастливое время, когда и он становился
выше и поднимался нравственно под влиянием своеймолодой
любви. И на высоте неба, очищающего от греховных помыслов,
он не мог позабыть Беатриче, этого символа любви очищающей.
Так, наивный иконописец средних веков писал иногда славу Бо¬
гоматери и святых, и в соседстве, где-нибудь на краю картины,
фигуру набожного даятеля на коленях, с руками сложившими¬
ся к молитве, с глазами обращенными к совершающемуся перед
ним чуду. В соседстве неба как будто преображался сам человек.
Флоренция, 14-го мая 1865 г.,
День юбилея Данте.
М. Е. ГРАБАРЬ-ПАССЕК
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
Вокруг «Божественной комедии» с каждым годом вырастает
все большее число научных книг и статей, и все сложнее стано¬
вятся вопросы, связанные с ее изучением. И чисто историческая
основа этой огромной поэмы, и ее философско-религиозная си¬
стема, и ее моральное учение, и даже ее естественнонаучные
и географические представления подвергались и подвергаются
тщательному исследованию. При этом большой трудностью ра¬
боты над «Божественной комедией» является то, что все эти как
будто далекие друг от друга линии поэмы теснейшим образом
переплетаются. Едва ли не в каждом, даже незначительном,
отрезке мы встречаемся и с античнымиреминисценциями и об¬
разами, и с мистически окрашенными тезисами средневекового
богословия, и с отголосками современных Данте политических
и национальных распрей, столь резкими и озлобленными, что
порой именно они звучат сильнее всего и как бы заглушают
другие, более общезначимые высказывания и мысли. Именно
вследствие этой крепкой спаянности разнородных элементов
«Божественной комедии» выделение какого-либо одного из них
и изучение его самого по себе, вырванного из общей ткани поэ¬
мы, неминуемо производит впечатление односторонности и не¬
полноты. Поэтому, пытаясь дать обзор античных литературных
и исторических образов и мотивов в поэме Данте, мы должны
все время помнить о том, что античность — лишь один из аспек¬
тов этого произведения, необъятного по своей идеологической
ширине и глубине.
Трехчастное построение поэмы общеизвестно. На своем пути
через три сферы мироздания — Ад, Чистилище и Рай — Дан¬
646
M. E. ГРАБАРЬ-ПАССЕК
те, сопровождаемый на первых двух этапах пути Вергилием,
на последнем, высшем, своей умершей возлюбленной Беатри¬
че, встречает огромное число душ людей, живших в разные
эпохи и получивших в загробном мире ту или иную судьбу:
они либо навеки осуждены на страшные мучения, строго раз¬
личающиеся и по степени и по характеру, либо проходят иску¬
пительные кары, но твердо надеются на прощение, либо уже
удостоились блаженства. Все это множество людей — а список
их, имеющийся в каждом указателе собственных имен в лю¬
бом комментированном издании «Божественной комедии»,
доходит до сотни— принадлежит в основном либо к античным
героям, мифологическим или историческим, либо к современ¬
никам и ближайшим предшественникам той эпохи, в которую
жил Данте, т. е. к XIII и началу XIV в. Деятели средневеко¬
вые, за исключением римских пап и основателей главнейших
монашеских орденов, упоминаются в меньшем числе. Души
всех этих людей Данте, притом с большой точностью и уверен¬
ностью, распределяет по соответствующим «кругам», которые
в свою очередь подразделяются на более мелкие «пояса». Как
именно представлял себе Данте физически это построение сфер,
кругов и их отделов и какие ужасающие, беспощадные карти¬
ны он рисует в первых тридцати четырех песнях, описываю¬
щих Ад, — все это изучено уже не раз и даже иллюстрировано
крупными художниками. Но гораздо важнее вопрос, по какому
принципу Данте проводит это распределение встречающихся
ему людей — вернее, человеческих душ — по кругам и поясам,
каков критерий оценки их земной закончившейся жизни, иначе
говоря, какие преступления, проступки и черты характера он
считает наихудшими и непростительными, какие — заслужи¬
вающими снисхождения и прощения и перед какими он прекло¬
няется как перед достойными не наказания, а награды.
Наиболее точно распределяет Данте первую «категорию» —
тех, кто погрешил так сильно, что не может рассчитывать
на прощение. Интересно отметить, что Данте не придерживает¬
ся в этом отношении чисто религиозных установок, а придает
больше значения тем проступкам, которые вредят человеку или
человеческому обществу.
Наиболее снисходительно оцениваются незаконные любов¬
ные отношения (знаменитый эпизод о Франческе и Паоло, поме¬
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
647
щенных во втором круге Ада). Тяжелее их, так сказать, бытовые
дурные качества и проступки — обжорство, скупость и мотов¬
ство (последнее как антитезу скупости Данте считает не менее
тяжкой провинностью по отношению к обществу); далее идут
вспыльчивость, гневливость, склонность к оскорблениям и дра¬
кам (в этой оценке сказывается уважение Данте к сдержанно¬
сти, свойственное строгому аристократическому воспитанию).
На половине спуска в адскую бездну, представленную у Данте
в виде глубокой воронки, доходящей до центра земли, нахо¬
дятся стены страшного огненного города, окруженного рекой.
Через нее перевозит уже не Харон, перевозчик всех умерших,
направляемых в ад, а перевозчик Флегий (от греческого слова
фХо£— пламя). Преступники против единой христианской—
по взгляду Данте, конечно, католической — веры, еретики
и лжеучители, хотя и подвергаются огненным мукам, но все же
еще не включены в этот страшный город, обнесенный стена¬
ми и замкнутый воротами. Они лежат в могилах перед входом
в него. За этими стенами начинаются три последних круга —
«нижний» Ад, и здесь, за одним только исключением, Данте
помещает тех, кто погрешил не против религии и бога, а про¬
тив людей. В седьмом круге те, кто совершали насилие, одни —
над людьми (убийцы, разбойники, тиранические властите¬
ли), другие — над собой (самоубийцы), третьи — хулившие
бога (последние и составляют упомянутое исключение). Но так
как Данте считает веру в бога свойственной человеку вообще,
и к этому же разряду преступлений (насилию) зачисляет формы
противоестественного разврата, т. е. людей, насилующих чело¬
веческую природу, то в конечном счете в седьмом круге находят¬
ся все те, кто преступает законы человеческого естества.
Сравнительно с отнесенными к седьмому кругу тяжки¬
ми преступлениями кажется странным, что в восьмом, более
страшном, предпоследнем круге подвергаются ужасным карам
в десяти «Злых щелях» те, кто совершил преступления, так ска¬
зать, юридического или чисто морального характера: сводники,
волшебники и прорицатели, лицемеры, воры, взяточники, лу¬
кавые советчики, фальшивомонетчики, подстрекатели. Но для
Данте все эти проступки подходят под понятие «обмана» (frode),
который, по его мнению, самое худшее, что может совершить
человек. Всех, кто терпит наказание в восьмом круге, он назы¬
648
М. Е. ГРАБАРЬ-ПАССЕК
вает frodolenti. И наконец, последний, девятый, круг заключа¬
ет в себе предателей — traditori. Этот круг делится на четыре
пояса — Кайну, где караются предавшие своих родичей (от Ка¬
ина — первого убийцы на земле), Антенору — те, кто предал
родину, Толомею — те, кто предал друзей, и Джудекку (от име¬
ни Иуды Искариота, предавшего Христа)—те, кто предал сво¬
их благодетелей, проявив таким образом то свойство, которое
Данте осуждает резче всего — неблагодарность по отношению
к тому, от кого преступник видел только добро.
Нет необходимости говорить о том, что критерии, уста¬
новленные Данте, в которые он, очевидно, сам твердо верил,
не совпадают ни с античными представлениями о добре и зле,
ни с понятиями эпохи Возрождения или новой «буржуазной»
Европы. Суровые кары «еретиков», беспощадное осуждение са¬
моубийц, более мягкая оценка предательства родины по срав¬
нению с предательством относительно отдельных лиц — даже
и друзей и благотворителей, — более снисходительная оценка
тиранов и убийц по сравнению с лицемерами, ворами и сводни¬
ками — все это и с античной, и с более современной точки зре¬
ния кажется непонятным и неприемлемым.
Однако в целях данной работы нам предстоит не устанавли¬
вать или критиковать взгляды самого Данте, а рассмотреть его
характеристику и оценку тех героев античного мира, которых
он помещает в тот или иной круг Ада. Эти античные образы при¬
надлежат, так сказать, к двум сферам: во-первых, мифологиче¬
ские персонажи, во-вторых — исторические лица, правители,
полководцы, древние философы и ученые. Причины их распре¬
деления по кругам иногда совершенно ясны для нас, иногда,
напротив, понятны только при учете особых воззрений Данте.
Те и другие не отделены друг от друга, их имена все время пере¬
межаются.
Во втором круге, в котором находятся «погубленные жаждой
наслаждений» («Ад», V, 69), Данте встречает Елену и Париса,
из исторических лиц — Клеопатру. Помещение этих лиц в круг
поклонников любовных радостей понятно. Менее ясно, почему
к ним же принадлежит Ахилл. По-видимому, он попал сюда
за соблазнение Деидамии. Дальнейшие круги вплоть до седь¬
мого круга в «нижнем», страшнейшем, Аду свободны от антич¬
ных образов, в них все время сменяют друг друга современники
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
649
Данте (обжоры, скупцы, расточители). Но уже в седьмом кру¬
ге появляются тираны и убийцы — Пирр-Неоптолем, убийца
Приама, и Секст, имя которого комментаторами истолковыва¬
ется по-разному. Наиболее вероятно, что под ним надо подразу¬
мевать Секста Тарквиния, подвергшего насилию знаменитую
Лукрецию. В числе тиранов горит в огне Александр Македон¬
ский, в числе богохульников — мифический Капаней, участник
похода «семи против Фив»: он взобрался первым на фиванскую
городскую стену против воли Зевса и, обратившись к Зевсу с на¬
смешливым дерзким вызовом, был низвергнут со стены молни¬
ей Зевса. Этот прототип эпического «богоборца» был перенесен
Вергилием в «Энеиду» под именем Мезентия.
Еще большее число античных образов видит Данте в восьмом
круге — лжецов и обманщиков. В качестве лживого обольстите¬
ля выступает Язон, обманувший двух женщин, любивших его,
Гипсипилу и Медею.
Как полон он величия былого!
То мудрый и отважный властелин,
Язон, руна стяжатель золотого...
Он обманул, украсив речь богато,
Младую Гипсипилу...
Ее он бросил там понесшей плод.
За это он так и бичуем злобно
И также за Медею казнь несет.
(«Ад», XVIII, 85-96)
Особенно много осужденных оказывается в «злой щели»
волшебников и прорицателей. Здесь в резком противоречии
с античным воззрением на боговдохновенность оракулов и про¬
рицателей сурово осуждены идеальные образы античности:
Амфиарай, любимый Зевсом, спасенный им от смерти на поле
битвы и низвергнутый живым в Аид; Тиресий и его дочь Манто.
Более понятно осуждение Калханта, погубившего своими про¬
рицаниями Ифигению.
Интересно отметить, что ведь сам Вергилий в течение сред¬
них веков пользовался не совсем доброй славой волшебника
и чародея, но именно эту средневековую традицию Данте, без¬
условно, отвергает. Вергилия, своего руководителя и спутника
650
М. Е. ГРАБАРЬ-ПАССЕК
вплоть до райских врат, Данте, конечно, не может признать ви¬
новным в одном из самых противных ему проступков — в обма¬
не.
Одним из интереснейших эпизодов, в котором выступает из¬
вестный античный герой, помещенный в этот же круг лжецов,
является встреча Данте с Одиссеем. На этом эпизоде следует
остановиться несколько подробнее. Он очень своеобразен. Толь¬
ко этому герою Данте посвящает целую песнь (XXVI) и отноше¬
ние его к Одиссею (конечно, названному по латинской традиции
Улиссом) оригинально и сложно.
Хотя Одиссей находится в одной из «Злых щелей» восьмого
круга, где в блуждающие языки пламени превращены злые со¬
ветчики, у читателя этой песни невольно возникает впечатле¬
ние, что Данте сочувствует и даже симпатизирует этому герою.
Свое наказание Одиссей несет за двойной обман: он выманил
своей хитрой выдумкой Ахилла с острова Скироса (см. гл.III,
об «Ахиллеиде» Стация), и до самой смерти Деидамия тщет¬
но ждала своего молодого мужа, а во взятии Трои участвовал
уже ее сын; Одиссей же изобрел деревянного коня на гибель
троянцам и вместе с Диомедом открыл ворота Трои греческим
воинам. Поэтому-то он и Диомед горят в одном пламени, под¬
нимающемся двумя колеблющимися языками. Но как только
эти огни приближаются к Данте и Вергилию, Данте обращает¬
ся к своему руководителю с просьбой разрешить ему спросить
Одиссея о его последнем путешествии и его смерти. Вергилий
одобряет это желание Данте и берет на себя беседу с Одиссеем,
потому что греческие герои могутне понять речи итальянца.
О каком последнем путешествии Одиссея говорит Данте, стано¬
вится понятным только в том случае, если иметь в виду, что уже
у позднейших античных мифографов (см. III гл. об Аполлодо-
ре) упоминаются различные версии о судьбе Одиссея после его
возвращения на Итаку. Он либо едет в Феспротию (Далмацию
и Иллирию), либо решается снова пуститься в путь по морю
на запад и дойти до «столпов Геркулеса» (т. е. до Гибралтара).
В легендах средних веков его путь был продлен уже за Герку¬
лесовы столпы и с его именем связывалось основание Лисса¬
бона (Олисиппо) и плавание по океану. Однако в большинстве
версий это свое последнее путешествие Одиссей предпринимал
уже после возвращения домой и оно было вызвано какими-либо
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
651
местными причинами — на него либо гневались жители Ита¬
ки за расправу с женихами, либо начинался разлад в его семье.
В поэме же Данте Одиссей отвечает на вопрос Вергилия иначе:
после годичного пребывания у Цирцеи он вообще не поехал до¬
мой, а, гонимый жаждой новых знаний и открытий, с немно¬
гими оставшимися друзьями поплыл на одном лишь небольшом
корабле на запад. Рассказ Одиссея так драматичен, что нельзя
не привести его целиком.
Ни нежность к сыну, ни перед отцом
Священный страх, ни долг любви спокойной
Близ Пенелопы с радостным челом
Не возмогли смирить мой голод знойный
Изведать мира дальний кругозор
И все, чем дурны люди и достойны.
И я в морской отважился простор,
На малом судне выйдя одиноко
С моей дружиной, верной с давних пор.
Я видел оба берега, Марокко,
Испанию, край сардов, рубежи
Всех островов, раскиданных широко.
...Севилья справа отошла назад,
Осталась слева, перед этим, Сетта.
«О братья, — так сказал я, — на закат
Пришедшие дорогой многотрудной!
Тот малый срок, пока еще не спят
Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны,
Чтоб солнцу вслед увидеть мир безлюдный!
Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и к знанью рождены.
Товарищей так живо укололи
Мои слова и ринули вперед,
Что я и сам бы не сдержал их воли.
Кормой к рассвету свой шальной полет
На крыльях весел судно устремило,
Все время влево уклоняя ход...
...гора, далекой грудой темной
652
М. Е. ГРАБАРЬ-ПАССЕК
Открылась нам; от века своего
Я не видал еще такой огромной.
Сменилось плачем наше торжество;
От новых стран поднялся вихрь, с налета
Ударил в судно, повернул его
Три раза в быстрине водоворота;
Корма взметнулась на четвертый раз,
Нос канул книзу, как назначил Кто-то,
И море, хлынув, поглотило нас.
(«Ад». XXVI. 94-105. 110-126. 133-142)
Вместо хитроумного и терпеливого Одиссея, упорно стре¬
мящегося на родину и охотно принимающего щедрые подарки
феаков, Данте рисует иной образ — смелого исследователя не¬
ведомых стран. По-видимому, Данте либо создал эту фигуру
на основании первых стихов Одиссеи, если он знал поэму Гоме¬
ра, что отнюдь не доказано, — либо, вернее, он воплотил в этом
герое стремление многих из своих современников проникнуть
за Гибралтар, переплыть океан и исследовать форму земли. Это
стремление в античной литературе не раз изображалось как без¬
законие. Уже в XIII в. интерес к Востоку после неудачных по¬
следних крестовых походов стал сменяться интересом к откры¬
тиям западных путей преимущественно для проникновения
в Индию не через враждебный магометанский Восток, а через
океан. Именно такой образ неутомимого искателя познаний
и приключений, несомненно, привлекательный для Данте, он
и воплотил в своем пылающем Одиссее.
В повествовании Одиссея отразились и географические и ре¬
лигиозные представления Данте: Одиссей достиг моря в другом
полушарии, не в том, в каком лежат материки Европы, Азии
и Африки; то полушарие все сплошь покрыто водой, там светят
другие звезды (их видит Одиссей), и там из глубин моря воз¬
вышается гора, где находится Чистилище. Одиссей уже видит
эту гору, но ему не суждено ее достигнуть потому, что его даль¬
нейшее путешествие противно воле бога. Отразилось ли в этом
взгляде Данте только средневековое учение об ограниченности
знаний и сил человеческих, или здесь звучит отголосок антич¬
ных высказываний о беззаконности мореплавания вообще —
решить едва ли возможно. Но на фоне страшных и местами от¬
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
653
вратительных картин дантовского ада неутомимый скиталец
Одиссей выступает скорее как пример для подражания, чем как
заслуженно наказанный преступник, вызывающий либо отвра¬
щение (как тираны и предатели), либо невольную жалость (как
самоубийцы, превращенные в кровоточащие деревья; «Ад»,
XIII).
Совершенно иначе Данте говорит об обманщике Синоне
и о зачинщиках гражданских раздоров (к ним причисляются
римлянин Курион, побудивший Цезаря развязать граждан¬
скую войну, и средневековый трубадур Бертран деБорн, под¬
стрекавший сына английского короля Генриха II Плантагенета
к восстанию против отца).
Но самому жестокому осуждению подвергаются наравне
с Иудой, чье имя стало символом самого гнусного предатель¬
ства, Брут Кассий, убийцы Юлия Цезаря, — всех троих держит
в своих пастях трехглавый сатана — Люцифер.
Исследователи «Божественной комедии» не раз выражали
свое удивление по поводу того, что именно этих двух борцов
за римскую республику против диктатуры Цезаря Данте счи¬
тал наихудшими преступниками из всех злодеев мира; напро¬
тив, многие современники их, начиная с Цицерона, а также
ряд самых разнообразных исторических деятелей, боровшихся
с монархией и единоличным произволом (особенно в XVHI в.),
признавали Брута и Кассия образцами героического свободолю¬
бия. Резко отрицательное отношение Данте к ним объясняется
исключительно политическими условиями его эпохи: кровавые
раздоры, подкуп, жестокость и предательство, господствовав¬
шие в карликовых республиках Италии XIII — XIV в., сделали
Данте ярым врагом всех мелких деспотов из среды какой-либо
аристократической или купеческой клики и заставили его меч¬
тать о надпартийном беспристрастном правителе, которого он
пытался найти то в одном, то в другом авантюристе — герцоге
иликороле своего времени. Именно таким милосердным, спра¬
ведливым, нелицеприятным владыкой представлял себе Данте
сильно идеализируемого им Цезаря, и поэтому враги Цезаря
казались ему не борцами за свободу, а поджигателями граждан¬
ской распри. Однако некоторую роль в осуждении их сыграли
и религиозные убеждения Данте, не раз страдавшего от небла¬
годарности и предательства приверженцев тех политических
654
М. Е. ГРАБАРЬ-ПАССЕК
группировок, к которым он примыкал, и считавшего поэтому
проявления неблагодарности самыми дурнымии поступками,
на которые способен человек.
Кроме мифических и исторических героев античного мира,
Данте населяет Ад и множеством устрашающих мифологиче¬
ских образов: вход в седьмой круг охраняют беснующийся Ми¬
нотавр и кентавры (между ними, правда, находится и мудрый
спокойный Хирон), между восьмым и девятым кругами поме¬
щены гиганты — Бриарей, Антей, Тифей. На башнях огненного
города машут змеями фурии — Тисифона, Мегера и Алекто.
Некоторые же мифологические фигуры, введенные в первую
часть «Божественной комедии», производят на современного
читателя скорее комическое, чем устрашающее, впечатление,
потому что Данте, оставляя за ними то имя, которое им присвое¬
но в античных мифах, изображает их в виде чертей со средневе¬
ковых икон Страшного суда. Это лохматые чудища с рогами или
крыльями, с хвостами и когтями. Таков и перевозчик Харон,
и привратник четвертого круга Плутос, и Цербер, превратив¬
шийся из пса в дьявола с лицом и руками. Но самую удивитель¬
ную метаморфозу претерпел Минос: в античности справедли¬
вый, неподкупный судья подземного мира, он превратился
у Данте в длиннохвостого черта, который направляет грешника
в тот или иной круг Ада, обвивая его своим хвостом соответ¬
ственное число раз. В песне XXVII об этом рассказывает привер¬
женец Гибеллинов Гвидо де Монтефельтре. Проведя конец своей
жизни в францисканском монастыре, он надеялся на спасение,
и за него заступался даже сам святой Франциск, но за дурные со¬
веты, которые он, уже будучи монахом, давал папе Целестину V
и в них не раскаялся, он был послан к Миносу, который
...обвив
Хвост восемь раз вокруг спины могучей,
Его от злобы даже укусив,
Сказал: «Ввергается в огонь»...
(«Ад», XXVII, 124-127)
Таковы мрачные античные реминисценции, которыми Данте
наполнил то обиталище, где на воротах написаны знаменитые
слова: «Входящие, оставьте упованье» («Ад», III, 9).
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
655
Однако античные образы вызывали у Данте и более светлые
представления и чувства, и он видел их живущими даже в пре¬
делах высших сфер — Чистилища и Рая. В самом Аду Данте
помещает их в еще не затронутый нами первый, крайний свер¬
ху, круг, которому он дает латинское название Лимба. Перечис¬
ление душ, находящихся в Лимбе, особенно интересно с точки
зрения отношения Данте к античному миру.
В противоположность восьми кругам Ада — от второго до де¬
вятого, в которых герои и деятели античного мира встречаются
поодиночке или маленькими группами, притом не во всех кру¬
гах, — Лимб населен именно ими. Из Лимба был вызван Вер¬
гилий, чтобы по поручению Беатриче спасти Данте от грозив¬
шей ему гибели в зубах жадной волчицы (олицетворения греха).
В Лимбе Данте встречает прежде всего величайших, по его
мнению, поэтов древнего мира— Гомера, Горация, Овидия
и Лукана («Ад», IV, 88-90). Интересно отметить, что Горация
он называет «сатириком». Очевидно, Данте предпочитал его
как сатирика Ювеналу, который, хотя тоже находится в Лимбе
(«Чистилище», XXII, 103), не принадлежит к этому высшему
пятизвездию (пятый в нем, разумеется, сам Вергилий). В Лим¬
бе Данте видит Энея, Гектора, царя Латина и Лавинию, многих
женщин-героинь— Пентесилею, Камиллу, Лукрецию. Вме¬
сте с ними помещены и прославившиеся добродетелью и стро¬
гостью жизни римлянки— Марция, жена КатонаУтического,
Корнелия, мать Гракхов, и по существу ничем не замечательная
Юлия, дочь Цезаря и жена Помпея. Однако, по всей вероятно¬
сти, Данте высоко оценил ее по политическим причинам: ее брак
с Помпеем, решенный между двумя вершителями судеб Рима
при заключении первого триумвирата, на некоторое время от¬
срочил гражданскую войну, а ее ранняя смерть развязала руки
им обоим. Отвращение Данте к гражданским распрям, с кото¬
рыми он имел дело всю жизнь, выразилось, как мы видели,
в жестоком осуждении Куриона, «злого советчика» Цезаря (см.
выше). Кроме того, Юлия у позднейших историков изображена
нежной и верной женой своего уже пожилого мужа. Кого под¬
разумевает Данте под «Цезарем в латах с орлиным взором» —
Юлия Цезаря или Августа, — комментаторы толкуют по-разно¬
му. Вероятным представляется первое: Юлий Цезарь — более
прославленный полководец, чем Август, изображен в полном
656
М. Е. ГРАБАРЬ-ПАССЕК
вооружении, и недалеко от него упоминается его единственная
дочь.
На холме в отдалении от военных героев Данте помещает фило¬
софов — Сократа, Платона, Демокрита, моралистов— Цицерона
и Сенеку, врачей — Гиппократа и Галена, математиков — Эвкли¬
да и Птолемея («Ад», IV, 134-143). Свое свободомыслие Данте
проявляет в том, что к этим же избранным мудрецам причисляет
двух арабских ученых Аверроэса и Авиценну и справедливого сул¬
тана Саладина, стоящего одиноко в отдалении от всех других. Зато
из числа греческих философов он сознательно удаляет Эпикура
и помещает его в одну из огненных могил перед стенами седьмого
круга, в которых мучаются еретики. Этому наказанию он подвер¬
гнут за то, что не признавал бессмертия человеческой души.
К античным писателям Данте возвращается еще раз — на сво¬
ем долгом подъеме на гору Чистилища. К нему и Вергилию
присоединяется на этом пути римский поэт Стаций, почему —
об этом речь будет дальше. Этот поэт обращается к Вергилию
с вопросом, куда попали после смерти Теренций, Варрон, Плавт
и Цецилий — неужели они страдают в Аду? Вергилий успокаи¬
вает его — они находятся вместе с ним в Лимбе возле Гомера —
и тут же упоминает об Еврипиде, Симониде, а из мифических
персонажей — о всех женщинах, имена которых встречаются
в поэме Стация «Фиваида». Он называет Гипсипилу, Аргию,
жену Полиника, Антигону и Йемену.
У непосвященного читателя, которому не приходилось
специально вникать в сложную систему мировоззрения Данте,
невольно возникает вопрос — почему же все эти великие мужи,
прославившиеся либо подвигами, либо талантом, либо мудро¬
стью и добродетелью, и женщины, образцы верности, доброты
и чистоты, находятся в Аду, хотя и в первом, наименее страш¬
ном его круге. Ответ Данте, вложенный им в уста Вергилия,
строго догматичен — все эти люди жили до Христа и не были
крещены. Поскольку это не их вина, они не терпят никаких на¬
казаний, но чувствуют «безбольную скорбь» («Ад», IV, 28). Сам
Данте тоже глубоко опечален:
...эти избранные души,
томясь в преддверии, чужды спасенью,
(там же, 43-45)
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
657
Однако в ту эпоху, когда жил Данте, иной ответ на вопрос
о судьбе язычников или магометан, хотя бы самых просвещен¬
ных и добродетельных, едва ли был возможен. Католическая
церковь была очень могущественна и даже за небольшое откло¬
нение от ее догматов могла жестоко покарать отступника, тем
более что Данте далеко не всегда был в ладах с папским престо¬
лом. Но и самому Данте вера в безусловную силу таинств была,
конечно, близка. Ведь уже через двести лет после смерти Данте
Лютер, отказавшись от учения о семи таинствах, не решился
тронуть сомнением двух — крещения и причащения.
Именно в этом плане следует коснуться очень важного вопро¬
са — отношения Данте к Вергилию, перед которым он безогово¬
рочно преклоняется, и кСтацию, сопровождающему их по кру¬
тым поворотам дороги, обвивающейГору Чистилища. Почему
именно Стаций был выбран Данте на эту роль, объясняется лю¬
бовью и уважением Стация к творчеству Вергилия, о чем сам
Стаций не раз говорит в «Фиваиде». Рассказав о гибели двух
юных воинов, Дима и Гоплия, он сравнивает их с Нисом и Эври-
алом в « Энеиде », поручает их покровительству этих прославлен¬
ных в римской литературе друзей (в свою очередь написанных
по образцу Ореста и Пи л ад а), хотя «мои песни звучат на менее
славной лире», («Фиваида», X, 445-446). В последних стихах
«Фиваиды» Стаций, обращаясь к своей поэме, законченной им
после двенадцатилетнего труда, опять вспоминает Вергилия:
Стих мой, живи; но не вздумай вступать с «Энеидой» свя¬
щенной
В спор — нет, за нею иди, пред следами ее преклоняясь.
(«Фиваида», XII, ст. 816-817)
Вергилий, встретившись со Стацием, относится к нему ла¬
сково, говоря, что знает о его преклонении и любви (ему об этом
говорил Ювенал, сошедший в Лимб). Таким образом, связь
между этими двумя поэтами Данте показал ясно. Более зага¬
дочен другой вопрос, почему Вергилий как языческий поэт
остается в Лимбе, а Стаций не только находится в Чистилище,
но, отбыв срок наказания длиной в «тысячи лун» за расточи¬
тельность, как раз в этот день, когда Вергилий и Данте встре¬
чаются с ним, должен быть принят в Рай. Примыкает ли Данте
658
М. Е. ГРАБАРЬ-ПАССЕК
в своем ответе на этот вопрос к какой-либо более древней сред¬
невековой легенде или весь этот эпизод является его вымыслом,
комментаторам достоверно установить пока не удается. Стаций,
по его собственным словам, вложенным в его уста, был тайным
христианином — он был крещен, но боялся в этом сознаться
(«Чистилище», XXII, 76-91) и за эту робость был наказан еще
четырехсотлетней карой.
В беседе между Стацием и Вергилием бросается в глаза
утверждение Вергилия, что в его «Фиваиде» не заметноника-
ких признаков его обращения в христианство. Стаций же гово¬
рит, что еще до того, как он в своих стихах
К фиванским рекам путь открыл аргосцам,
он принял крещение, плененный твердостью и добротой хри¬
стиан во время гонения Домициана. Подготовил же его к новой
вере сам Вергилий своей четвертой эклогой, которую в средние
века было принято считать пророчеством о рождении Христа
от Девы. Путем образного сравнения Стаций объясняет, как мог
Вергилий, сам не будучи христианином, обратить его в христи¬
анство: подобно тому как тот, кто несет закрытый фонарь, об¬
ратив его свечой назад, освещает путь не себе, а идущим за ним
следом, так Вергилий, не видя света, осветил путь своему по¬
следователю.
Несмотря на то, что Вергилий прямо говорит, что в «Фива¬
иде» Стация нет никакого указания на его христианскую веру,
комментаторы Данте попытались найти в этой античной поэме
такие намеки, на основе которых Данте мог с каким-то вероя¬
тием изобразить Стация христианином, и нашли их во многих
высказываниях Стация, осуждающих жестокость и прослав¬
ляющих милосердие. При этом богиней, олицетворяющей ми¬
лосердие и доброту к людям, не терпящей насилия и кровавых
жертв, а требующей только чистоты сердца и любви, является
дева Афина. Надо признать, что эта характеристика сильно
расходится с античным образом суровой девы-воительницы,
которая ободряет героев в бою и сама в него вмешивается. Усмо¬
трел ли Данте в восхвалении «алтаря Милосердия», посвящен¬
ного Афине (ara dellaClemenza), намек Стация на христианскую
проповедь милосердия или заимствовал эту мысль у кого-ни¬
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
659
будь из средневековых богословов, пока решить нельзя. Поня¬
тие «dementia» было уже с I в. до н. э. и в течение первых ве¬
ков н. э. очень существенным элементом в сочинениях римских
историков и моралистов. Это свойство подчеркивает в своем ха¬
рактере Цезарь в «Записках о галльской войне», его восхваляет
Цицерон в речах, произнесенных перед Цезарем, а ближайший
предшественник Стация Сенека посвятил этой теме особое сочи¬
нение. Поэтому Стаций мог быть хорошо знаком с этим поняти¬
ем, не будучи христианином.
Однако сам Данте ценит выше всего не эту черту характера,
а стремление к свободе и справедливость. Об этом ясно свиде¬
тельствуют еще три античных образа, которые он вводит в свою
поэму. Первым поборником свободы является КатонУтический
(Младший). Данте назначил его стражем у входа в Чистилище
и изобразил его суровым старцем с длинной седеющей бородой.
Катон обращается к Вергилию и Данте со строгим вопросом:
почему и по какому праву они переходят из Ада в Чистилище.
Вергилий объясняет ему, по какой причине и под чьим покро¬
вительством Данте, еще живой, и он сам, обитающий в Лимбе,
должны пройти все уступы Чистилища, пройдя через круги
Ада. Чтобы подчеркнуть суровость и недоступность Катона,
Данте вводит следующий мотив: мягкий и снисходительный
к людям Вергилий сообщает Катону, что вместе с ним в Лимбе
находится жена КатонаМарция; она и Катон считались образ¬
цом верной супружеской любви. Упоминанием о ее «очах» Вер¬
гилий хочет порадовать и смягчить Катона, но Катон остается
холоден и даже порицает Вергилия за его просьбу —
Пусть мысль о ней и к нам тебя преклонит.
Всякие земные чувства Катону уже чужды:
«Мне Марция настолько взор пленяла,
Пока я был в том мире, — он сказал, —
Что для нее я делал все, бывало.
Теперь меж нас бежит зловещий вал.
Я, изведенный силою чудесной,
Блюдя устав, к ней безучастен стал.
Но если ты — посол жены небесной,
660 М. Е, ГРАБАРЬ-ПАССЕ К
Достаточно и слова твоего,
Без всякой льстивой речи, здесь невместной».
(«Чистилище», I, 85-93)
Образ Катона, неоднократно использованный римскими писа¬
телями как пример непреклонной верности своему делу (Цицерон,
Лукан и Сенека), был верно понят Данте и, очевидно, покорил его
своей цельностью, за которую он простил ему и его ярую вражду
к Юлию Цезарю и его добровольный уход из жизни, между тем как
самоубийц он, как мы видели, подвергает жестокой каре.
Образцом справедливейшего правителя в течение средних
веков считался император Траян. Легенда о нем, сложившаяся
предположительно не позже VIII в., заключает в себе два основ¬
ных момента. Первым является рассказ о бедной вдове, умо¬
лявшей императора о справедливом возмездии убийце ее сына.
Траян в это время отправлялся в поход и хотел отложить разбор
дела до своего возвращения или, если ему суждено пасть на во¬
йне, поручить это дело своему преемнику. Но, пораженный сло¬
вами вдовы
...Не оправданье,
Когда другой добро за нас творит,
Траян ей отвечает:
Утешься! Чтя мое призванье,
Я не уйду, не сотворив суда.
Так требует мой долг и состраданье.
(«Чистилище», X, 88-93)
Этот рассказ из общеизвестной в ту пору легенды Данте пе¬
редает в форме, заимствованной им из I песни «Энеиды» (ст.
453-493). Подобно тому как Эней видит у входа во дворец Дидо¬
ны картины из истории Троянской войны, Данте, пройдя кру¬
тое и темное ущелье, ведущее в Чистилище, выходит к обрыву,
мраморная стена которого покрыта прекрасными барельефами,
изображающими разные сцены из библейской истории, и меж¬
ду ними император Траян, окруженный воинами и выслушива¬
ющий просьбу вдовы:
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
661
Там возвышалась истинная слава
Того владыки римлян, чьи дела
Григорий обессмертил...
(«Чистилище», X, 73-75)
Именно это имя римского папы Григория I, энергичного
церковного деятеля, проповедника и богослова, является пе¬
реходом ко второму моменту легенды о Траяне. По преданию,
папа Григорий (540-604 гг.) так высоко оценил справедливость
и милосердие Траяна, что решил своими упорными и горячими
молитвами освободить его из Ада, где он как язычник должен
был находиться. Но, не получив крещения, Траян не мог быть
допущен даже в Чистилище и тогда по молитвам Григория
Тот славный дух, о ком идет рассказ,
На краткий срок в свое вернувшись тело,
Уверовал в того, кто многих спас;
И, веруя, зажегся столь всецело
Огнем любви, что в новый смертный миг
Был удостоен этого предела.
(«Рай», XX, 112-117)
Таким образом, и здесь, принимая эту фантастическую ле¬
генду, Данте не отступает от церковного учения о необходимо¬
сти принятия крещения.
И вдруг... на той же высокой ступени блаженной жизни,
которую заслужил Траян не только своими добрыми делами,
но и заступничеством главы римской церкви и обрядом кре¬
щения, оказывается язычник, никому не известный и ничем
не замечательный троянец по имени Рифей. И что особенно не¬
ожиданно — Данте вводит его не с цельюопровергнуть учение
церкви, а как раз для того, чтобы подтвердить наглядным при¬
мером один пункт этого учения.
Третья часть «Божественной комедии» — «Рай» наиболее
трудна для понимания, поскольку в нее включены образы и по¬
нятия чисто богословские, тесно соприкасающиеся с легендами
о мистических видениях людей, впадавших в состояние рели¬
гиозного экстаза. Характерной чертой таких видений были
представления о ярком свете, переливающемся всеми цветами
662
М. Е. ГРАБАРЬ-ПАССЕК
радуги, подобном блеску и сверканию драгоценных камней.
Диковинные цветы, деревья и птицы, необыкновенной красоты
люди тоже нередко описывались повествователями о видениях
и чудесах. Нередко встречался и более рационалистический эле¬
мент — аллегорические изображения добродетелей и, конечно,
образы прославленных святых, почитаемых церковью. Все эти
элементы сплетаются самым причудливым образом в поэме
Данте, и именно в таком окружении им введен Рифей. Весь этот
эпизод, по-видимому, является всецело личным творчеством
Данте, никаких источников его не найдено.
Кто же этот Рифей? Вергилий упоминает о нем в рассказе
Энея о взятии Трои:
Рифей, как спутник, ко мне пристает и во брани могучий
Эпит...
(«Энеида», II, 339)
Далее Эней рассказывает, как он и несколько воинов надева¬
ют на себя вооружение убитых греков и, прибегнув к этой воен¬
ной хитрости, некоторое время удачно сражаются. В их числе
находится и Рифей (там же, ст. 394). И наконец, когда греки рас¬
крывают обман, под их ударами падают многие из этого отряда:
...упадает Рифей, один из честнейших,
Кто между Тевкрами был справедливости лучший блюсти¬
тель.
(«Энеида», II, ст. 426-427)
На этой-то характеристике Рифея Данте и создал целую тео¬
рию его принятия в христианский Рай.
В XIX песне Данте описывает, как перед ним явилось не¬
кое видение — мистический орел, как бы сотканный из лучей
и окруженный нимбом, вещающий человеческим голосом рели¬
гиозные истины и отвечающий на некоторые недоуменные во¬
просы Данте:
Парил на крыльях широкораскрытых
Прекрасный образ и в себе вмещал
Веселье душ...
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
663
Я видел и внимал, как говорил
Орлиный клюв...
(«Рай», XIX. 1-3.10-11)
В лучах, окружающих голову орла, находятся: псалмопевец
царь Давид, Траян, благочестивый иудейский царь Езекия, им¬
ператор Константин и
Кто бы поверил, дольной тьмой объятый,
Что здесь священных светов торжество
Рифей-троянец разделил как пятый?
Теперь он знает многое, чего
Вам не постигнуть в милости бездонной,
Неисследимой даже для него.
(«Рай».XX. 67-72)
Вопросительная форма, в которой Данте вводит имя Рифея,
уже подготовляет читателя к чему-то необычному, и далее,
в объяснении, которое ему дает орел, заключен христианский
догмат о непостижимости для людского ума тех решений, ко¬
торые принимаются божественной волей по благодати. Рифей
и принят в Рай
...по благодати, чей родник
Бьет из таких глубин, что взор творенья
До первых струй ни разу не проник.
Направил к правде он свои стремленья,
И бог, за светом свет, ему открыл
Грядущую годину искупленья.
И с той поры он в этой вере жил,
И не терпел языческого смрада,
И племя развращенное корил.
Он крестник был трех жен господня сада,
Идущих рядом с правым колесом
Сверх десяти столетий до обряда.
(«Рай», XX, 118-129)
Три жены господня сада — вера, надежда и любовь, олице¬
творенные в трех женщинах, сопровождающих колесницу церк¬
664
М. Е. ГРАБАРЬ-ПАССЕК
ви, — так называемые три «теологические» добродетели («Чи¬
стилище», XXIX, 106-154).
Образ Рифея, созданный Данте, ни в какой мере не соответ¬
ствует тому, что сказано у Вергилия, и, излагая учение о необъ¬
яснимом действии «благодати», Данте, по всей вероятности,
хотел подготовить к мысли о непостижимости и непонятности
человеческих судеб, к мысли, которую он и выражает в следу¬
ющих словах, произносимых не мистическим орлом, а самим
Данте:
О, смертные! И мы, хоть бога зрим,
Еще не знаем сами всех избранных.
Мы счастливы неведеньем своим.
(«Раи», XX, 134-136)
Это примирение с «неведеньем» является в поэме Данте ха¬
рактерным пережитком средневекового мировоззрения, кото¬
рое у самого Данте уживалось с неудержимой жаждой позна¬
ния, вложенной им в образ пылающего Одиссея.
Таковы, в основном, те античные реминисценции, которые
мы находим в главном творении Данте, именно те, в которые он
хотел вложить какое-либо свое личное убеждение, выразить на¬
глядно свои мысли. Кроме этих, так сказать, ведущих образов
и тезисов, античные мифы и события из истории древнего мира
часто употребляются им в чисто художественных целях, в срав¬
нениях, аллегориях, украшательных эпитетах, метафорах,
но эта тема относится уже к изучению литературных приемов
самого Данте и выходит за пределы настоящей работы.
H. И. БАЛАШОВ
Данте и Возрождение
ВВЕДЕНИЕ
МЕСТО ДАНТЕ В ИСТОРИИ ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И РЕНЕССАНСНЫЕ СТОРОНЫ ЕГО ТВОРЧЕСТВА И МИРО¬
ВОЗЗРЕНИЯ
Прежде чем непосредственно обратиться к конкретным во¬
просам, рассматриваемым в гл. I — III, нужно сказать, что про¬
блема — относится ли творчество Данте преимущественно (или
даже целиком) к литературе средних веков или к литературе
Возрождения — имеет большое значение для научного понима¬
ния истории культуры и для периодизации истории всемирной
литературы. Само восстановление разграничения литературы
средних веков в литературы Возрождения, объединявшихся
на рубеже XIX в. романтиками, было важным достижением
науки. Наиболее острое определение эпоха Возрождения как
величайший прогрессивный переворот по сравнению со всеми,
которые до того переживало человечество, получила на стра¬
ницах Введения к «Диалектике природы» Энгельса. Однако
именно вследствие того, что с эпохой Возрождения связывает¬
ся представление о великом прогрессивном перевороте, о раз¬
рушении идеологической диктатуры церкви, о преодолении
старого узкого «круга земель», о прославлении человека и его
возможностей, возникла как реакция на все это тенденция под¬
вергнуть такого рода суждения о Ренессансе скептической кри¬
666
Н. И. БАЛАШОВ
тике, представить их как некий миф. Такой тенденцией, полу¬
чившей распространение в западноевропейской науке XX в.,
порождается стремление хронологически ограничить эпоху
Возрождения. Недоверие, если не неприязнь к содержанию,
вкладываемому в понятие ренессансной культуры, ведет к тому,
Что эпоху Возрождения в ее основных сферах (кроме; разве де¬
ятельности собственно гуманиСтов-ученых) сводят к кратчай¬
шему периоду времени. Опасность тенденции к ограничению
и обесценению Возрождения наглядно обнаруживается, когда
эта тенденцияприлагается к Италии, в истории которой куль¬
тура Возрождения играла исключительную роль и составляет
величайшую национальную гордостьи величайшее культурное
достояние страны. «Антиренессансная» тенденция встречает
сопротивление со стороны части западных ученых и находится
в полном противоречии с развитием гуманитарных наук в дру¬
гих странах. Проблема Возрождения как общемирового литера¬
турного процесса с рядом общих черт ставится применительно
ко многим литературам, ранее не рассматривавшимся в этом
плане, — например, к поэзии на фарси времен Саади, Руми,
Хафиза, если не Омара Хайама и Низами, к тюркским литера¬
турам (Навои, Физули), к литературам Армении и Грузии. Есть
крупные ученые, которые обосновывают понятие Возрождения
в литературах Дальнего Востока. Все больше накоплено мате¬
риалов об эпохе Возрождения в Греции (особенно на островах,
избежавших турецкого порабощения), в Албании, в Молдавии
и Валахии. Если раньше в отношении славянского мира счита¬
лось, что Возрождением были охвачены лишь западные славяне
и та часть южных, что жила в бассейне Адриатического моря,
то современное состояние науки показало ренессансные процес¬
сы в культуре восточнославянских народов и у южных славян.
Мало того, изучение фресок середины XIII в. в Боннской церкви
близ Софии, живописи сербских монастырей и церквей XIII в.,
некоторых памятников материальной культуры и словесности
Руси первой половины того же века помогло обнаружить, что
у южных и восточных славян в XIII в. также начало склады¬
ваться ренессансное искусство, развитие которого было вскоре
оборвано или задержано татарским и турецким завоеванием.
По мере накопления подобных данных тенденция к суже¬
нию или обесценению итальянского Ринашименто, являющего
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
667
собой своего рода эталон для ренессансных процессов в куль¬
туре других народов, становится анахронизмом. Ее нежизнен¬
ность обнаруживается при построении историй всемирной ли¬
тературы и вообще при всяких попытках определения степени
единства мирового литературного процесса в рассматривае¬
мый период. Если считать началом итальянского Возрождения
не поэзию конца XIII — начала XIV в., атворчество Петрарки
и Боккаччо, или, как это нередко делают, — деятельность гума¬
нистов-ученых XV в., либо даже расцвет культуры второй поло¬
вины Кваттроченто и рубежа Чинквеченто, то затушевываются
общие закономерности литературного развития западно- и цен¬
тральноевропейских стран и заранее устраняется возможность
научных сопоставлений с ренессансными процессами в литера¬
турах других народов.
Подход к Данте как к поэту Возрождения, а тем более выде¬
ление и изучение ренессансных сторон его творчества отнюдь
не относится к области парадоксальных новшеств и имеет дол¬
гую историю. Можно напомнить доводы, которые позволяют
рассматривать поэта как одного из основоположников ренес¬
сансного мировоззрения.
Давно установлено проходящее через «Божественную Коме¬
дию» противоречие между признанными в средние века нор¬
мами божественного правосудия, иной раз мрачно именуемого
Данте «vendettadiDio» (Inf., XIV, 16), и собственным мнением
поэта, во многих случаях горячо сочувствующего осужденным.
Всем памятны ярко охарактеризованные еще Де Санктисом
наиболее разительные примеры этого рода: античные мысли¬
тели и поэты во главе с Аристотелем, Гомером и Вергилием,
Франческа («первая женщина нового мира»*), Фарината, Пьер
делла Винья, Брунетто Латини и др,
Данное противоречие выражается у Данте и по-иному —
в пересмотре средневековой системы грехов и наказания греш¬
ников: введение в лимб, помимо некрещенных младенцев,
бесспорных язычников и даже мыслителей-магометан; замена
средневековой системы грехов гуманной Аристотелевой клас¬
сификацией пороков и преступлений**; облегчение воздаяния
* Фр. Де Санктис. История итальянской литературы, т. I. М., 1963, стр.
236.
** Ср.: Аристотель. Этика, кн. V, § 10-15; кн. VII, § 1.
668
Н. И. БАЛАШОВ
за чувственную любовь; определение грехов главным образом
не по помыслу, а по действию. В связи с этим находится стрем¬
ление Данте образно показать, что наказание таится уже в са¬
мом преступлении, а также в общественном осуждении за него,
что подготовляло теорию нравственности, не нуждающейся
в загробном воздаянии.
Плодом Пересмотра средневековой системы грехов было
изменение подхода к гордости. Само собой разумеется, Дан¬
те прямо не оспаривал восходившего к Книге Бытия и к Еван¬
гелию представления о гордости как о первопричине грехов
и сам писал: «Principiodelcaderfuilmaladettosuperbir» (т. е.
«проклятая гордыня Сатаны») (Par., XXIX, 55-56). Поэт не¬
навидел спесь, присущую феодальной знати; он осудил этот
порок в аллегорическом образе льва — второго зверя в темном
лесу, — шедшего «как будто на меня» (Inf., I, 46). Однако соз¬
давая свою поэму, чтобы исправить мир, погрязший во зле (...
inprodelmondochemalvive.— Purg., XXXII, 103), Данте имел
в виду современную ему эпоху, для которой главным источни¬
ком зла стало стяжание*, заклейменное поэтом в образе худшего
из трех зверей—«волчицы неуемной» (Inf., I, 58).Практически,
по отношению к людям, Данте исключил гордость — первей¬
ший грех из числа наказуемых вечными муками (т. е. в аду).
Этот новый подход был знамением эпохи Возрождения, содер¬
жанием которой в значительной мере и было раскрепощение
личности от духовной диктатуры церкви и от пут феодальных
установлений. Не выведи Данте гордость из числа грехов, на¬
* Это суждение Данте об исключительной роли, которую приобрело стяжа¬
тельство среди пороков складывавшегося нового общества, находилось
в строгом соответствии с исторической истиной. Оно было подчеркну¬
то, поддержано и блестяще проиллюстрировано Боккаччо в его лекциях
1373-1374 гг. о «Комедии». См.: G. Boccaccio. Esposizioni (встарыхизда-
ниях «Il Comento») sopra la Comedia di Dante, a cura di G. Padoan (Tutte le
opere di G. Boccaccio, a cura di V. Branca (Verona), Mondadori, 1965, voi.
VI); далее Esposiz., р.80-90: «Чтобы удовлетворить эту неутолимую жа¬
жду (наживы), — пишет Боккаччо, — стяжатель ни перед чем не остано¬
вится — ни перед какой опасностью, ни перед каким бесстыдным обма¬
ном, ни перед какой ложью и ни перед какой-либо другой гнусностью»
(Esposiz., р. 81). Боккаччо гениально связывает размах стяжательства
с прогрессивным развитием Италии, ставшей передовой страной мира
(«capodelmondo») — «ив которой этот порок, нам кажется, приобрел та¬
кую мощь, как ни в одной другой стране мира» (Esposiz., р. 90).
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
669
казуемых в аду, то и Гвиницелли, и Кавальканти, и сам Данте,
и художники —их современники (а за ними, прибавим, и все
титаны Возрождения!) должны бы были бытьввержены в геен¬
ну. Не отвергни Данте средневековый подход к гордости, он, как
заранее обреченный грешник, не мог бы взять на себя миссию
судии над современным ему обществом, т. е. не могло бы быть
самой «Божественной Комедии».
С ренессансной точки зрения Данте порицает свои колеба¬
ния, решиться ли на «высокий подвиг» (alto passo. — Inf., II,
12); он вкладывает в уста Вергилия суровое осуждение смире¬
ния как низменной боязливости— «perchétantaviltènelcorealle
te?» (Inf., II, 122).
Пристрастие к гордому самосознанию человека объясняет
появление сочувственного тона даже в изображении таких отъ¬
явленных гордецов, какбогоборец Капаней. Его титанизм заво¬
раживает поэта. Несломленный адским огнем, Капаней кричит:
«Каким я жил» таким и в смерти буду» *, под пыткой ликуя, что
богу не удастся «averlavendettaallegra» (Inf., XIV, 51-60).
Ренессансное представление о человеческой гордости влекло
за собой отход от христианского понятия о суетности земных
успехов и утверждение земной славы. Читателей «Божествен¬
ной Комедии» поражает, насколько души умерших пекутся
о том, чтобы жить в памяти человечества. «Теоретиком» такой
концепции Данте выставил своего учителя Брунетто Лати-
ни, уверенного, что «он еще живет в своем сочинении» **(ilmio
Tesoro, Il nelqualiovivoancora. — Inf., XV, 119-120).Латини
обучил самого Данте искусству, как увековечить себя в славе
(m’insegnavatecome l’uoms’eterna. — Inf., XV, 86). Обещание
* Стихотворный перевод «Божественной Комедии» здесь, и ниже —
М. Л. Лозинского.
** Забота умерших грешников о славе в «Комедии» Данте поражала уже со¬
временников. По Боккаччо, на примере Латини «можно понять, насколь¬
ко сладостна слава, если даже в аду осужденные грешники, не имеющие
надежды на возвращение и выход из ада, все-таки жаждут ее» (Esposiz.,
р. 682). Боккаччо уловил ренессансную тенденцию Данте, превосход¬
но поняв, что эта жажда славы свидетельствует о достоинстве человека.
В своих лекциях Боккаччо раскрывает ее, прежде всего, как стремление
к поэтической славе и противопоставляет удовлетворение от нее барышу.
Боккаччо высмеивает «тупое мнение, что не может быть никакой прибы¬
ли, кроме той, которая наполняет мошну деньгами» (scioccooppinarecheno
nsiaguadagnoaltrochequellocheempielaborsade’danari. — Esposiz., p. 683).
670
Н. И. БАЛАШОВ
напомнить об умершем на земле — лучший способ заставить за¬
говорить его душу (напр., Inf., XIII, 52-54); мечтою напомнить
о себе согражданам охвачен даже не имевший чем похвалиться
обжора 4aKKO*(priegoticheallamentealtruimirechi. — Inf., VI,
89). К культу земной славы у Данте причастны не только греш¬
ные души. Сама божественная Беатриче превозносит земную
славу Вергилия и прорицает, что она продлится до скончания
света** (Inf., II, 59-60).
К этимдоводам, показывающим переход Данте к ренессанс¬
ным представлениям в области нравственности, могут быть
добавлены доказательства преодоления Данте основных сред¬
невековых представлений в области политики. Пропитав «Ко¬
медию» и трактат «О монархии» идеей борьбы против мирской
власти пап***, Данте выступил как один из предшественников ре¬
нессансной и реформационной политической концепции и как
провозвестник светского политического мышления Нового вре¬
мени.
Недаром трактат «О монархии», осужденный уже в XIV в.
в специальных сочинениях и сожженный в 1329 г. по приговору
кардиналаПоджетто, был в годы Реформаций, в 1554 г., офици¬
ально включен в папский индекс запрещенных книг, в котором
пробыл до 1896 г., т. е. был изъят из индекса без малого шесть
столетий спустя после написания — только тогда, когда во мно¬
гих католических странах церковь уже отделилась от государ¬
ства.
Данте отвергал тысячелетний опыт христианской государ¬
ственности от самого ее истока, от времени Константина, и в ка¬
честве образца для современников предлагал языческую Рим¬
скую империю. Развитие средневековой государственности
Данте представил как ретроградное— «против движения неба»
(controalcorsodelciel. — Par., VI, 2). Проницательное разобла¬
чение политики средневековых пап, основанной на авторитете
ими же вымышленного «дара Константинова»****, было звеном
Этот поразительный случай любви к славе также отмечен Боккаччо
(Esposiz., р. 361).
** Боккаччо с его восприимчивостью к ренессансным идеям Данте сочув¬
ственно и подробно прокомментировал эти стихи (Esposiz., р. 115-118).
*** Подробнее об этом см. гл. I.
**** Подложный документ, известный под заглавием «Donatio Const ant ini»
(точнее: «Constitum domini Constantini imperatorie»), согласно которому
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
671
в системе той, можно сказать универсальной критики, которой
Данте подверг важнейшие политические установления средних
веков. Сюда же относятся яростные (и через 650 лет пребывав¬
шие в индексе) инвективы против пап-современников, осужден¬
ных поэтом наадские муки*; и изгнание пап почти за тыся¬
челетний период из рая; и, наконец, то слово, самое свирепое
из когда-либо высказанных католической церкви, которое Дан¬
те решился приписать апостолу Петру в XXVII песни «Рая» (ст.
19-27), и следующие за гневным словом Петра и констатацией
недействительности папской власти (’nterranonèchigoverni. —
Par., XXVII, 140) предсказание даже не реформы, а полного
переворота в церковном и мирском укладе: «... вихрь, уже дав¬
но предвозвещанный, // Носы туда, где кормы, повернет» (ст.
145-146).
Св. Петр в начале этой мятежной XXVII песни произносит
приговор всему институту папства, такому, как он реально
существовал при Данте. Петр говорит, что его престол, узур¬
пированный лженаместниками, в глазах Христа пустует. Это
уже не критика, а непризнание современного Данте панства.
Апостольское проклятье папе, не признанному Господом, про¬
клятье, в котором Петр трижды с болью повторяет слова «мое
место» — эго стон отчаяния и крик ненависти самого поэта-гу¬
маниста, прощанье с тысячелетней покорностью церкви.
Возможно, именно с небывалой смелостью речи св. Петра
(от которой: «меняют цвет» души праведников в раю) и с про-
Константин в благодарность за исцеление от проказы якобы передавал
светскую власть в Западной империи папе Сильвестру и его наследникам,
был изготовлен 500 лет спустя после смерти императора. Скорее всего его
автором был либо Анастасий Библиотекарь, действовавший по приказу
папы Николая I иди Иоанна Vili (т. е. около 860-870 гг.), либо Гильдуэн
из Сен-Дени, живший лет на 50 раньше. Этот подлог, сыгравший столь
зловещую роль в средневековой истории, не только освящал земную
власть римской церкви и обладание ею мирскими благами, но был направ¬
лен против Восточной империи. Однако православная церковь, которая,
в отличие от римской, канонизировала Константина» позже использова¬
ла «вено Константиново» в своих целях: наследниками светской власти
здесь объявлялись православные патриархи как наместники старшего
(первозванного) апостола Андрея. Еще в XVII в. на «вено Константиново»
ссылался патриарх Никон в борьбе с царем Алексеем Михайловичем.
* Данте осудил всех пап, правивших, начиная с первых лет его политической
зрелости, кроме эфемерного Бенедикта XI (1303-1304), которого поэт
вообще не упоминает, если не считать намека в Послании Vili (§10).
672
Н. И. БАЛАШОВ
рицанием неизбежного переворота связан рассказ Боккаччо
в «Жизни Данте» о судьбе последних, песен «Рая». Они якобы
не были обнаружены по смерти поэта —и, лишь некоторое вре¬
мя спустя, Данте в сиянии святого (vestitodicandissimivestime
ntied’unalucenonusata. — «LaVitadiDante», § 14), — явившись
в видении своему сыну Якопо, указал, где находится рукопись.
Это предание как бы снимало с поэта и его сыновей человече¬
скую ответственность за проклятие Петра в XXVII песни, или,
во всяком случае, соединяло вопрос о ее осуждении с вопросом
об осуждении всей деятельности Данте в целом.
Все сказанное об отходеДанте от средневековых представле¬
ний и о его приближении к ренессансным понятиям в области
этики, политики и общих вопросов философии, было бы не¬
полным, если не упомянуть то, что за время работы над «Бо¬
жественной. Комедией» мировоззрение Данте заметно разви¬
лось в ренессансном направлении. Такие невероятно смелые
действия, как восславление «вечного сияния» Сигера (Par., X,
136), как вознесение в рай язычника троянца Рифея (Par., XX,
68, 118-148), или: как громовое слово апостола Петра о. том,
что пред богом папский престол пустует, еще не были возмож¬
ны в период создания «Ада». Недаром появляются, например,
во Франции и в ГДР такие интересные работы, как основатель¬
нейший труд Поля Ренуччи «Данте — ученик и судья греко-ла¬
тинского мира», как статья Фр. Шнейдера «Данте и Вергилий.
О вечности или невечности лимба», авторы которых утвержда¬
ют, что если Данте имел бы возможность пересмотреть всю по¬
эму с тех позиций, к которым он пришел, когда, создавая «Чи¬
стилище» и «Рай», он «спас от ада» КатонаУтического, Стация,
Траяна и Рифея, он «вывел бы из ада» Аристотеля, Вергилия,
Энея, всех поэтов и мудрецов античности*.
Иными словами, к концу своего творческого пути Данте
во все возрастающей степени становился поэтом Возрождения.
* Paul Renucci. Dante, disciple et juge du monde gréco-latin. Paris, 1954, p.
256273; Fr. Schneider Dante und Virgil.Die Ewigkeit oder Nicht-Ewigkeit
des Limbo. — «Deutsches Dante-Jahrbuch«, Bd. 36-37. Weimar, 1958, S.
129-130,141,156.
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
673
I
ДАНТЕ И ФОМА АКВИНСКИЙ
В связи с начавшимся у Данте процессом пересмотра этиче¬
ских и политических ценностей средних веков находится его
полемика с некоторыми важными положениями католического
богословия в той завершенной форме, которая была им придана
старшим современником поэта Фомой Аквинским.
Вопрос о подходе Данте к философии Фомы Аквинского,
вообще важный для понимания соотношения взглядов поэта
и средневековой идеологии, стал особенно актуален в настоя¬
щее время. Неофомизм (или как у нас теперь пишут на запад¬
ный лад — неотомизм) сделался одним из наиболее распро¬
страненных современных реакционных философских учений.
В области дантоведения неотомизм в последнее время был пред¬
ставлен влиятельной группой католических ученых во главе
с мюнхенским кардиналом Мартином Грабманом* и итальян¬
ским теологом кардиналом Микеле Маккарроне**, редактором
церковного журнала «RivistadistoriadellaChiesainltalia».
Тенденция представить Данте последовательным томистом
и подкрепить авторитет Фомы авторитетом великого поэта вызвала
сопротивление у ряда исследователей в Италии, Франции и других
странах. Тяжелый удар по томистской интерпретации Данте нанес
известный итальянский ученый Бруно Нарди, особенно в книге
«Dal «Convivio» alia «Cominedia» (Roma, 1960), в которой он на ос¬
новании изучения новых документовдоказал несогласие поэта
с важными положениями учения Фомы и обрисовал картину оже¬
сточенной борьбы томистов XIV в. против воззрений Данте.
Само собой разумеется, речь не идет об отрицании значитель¬
ности вклада Фомы Аквинского в развитие европейской фило¬
софии или об умалении влияния Фомы на Данте и его современ¬
ников. Фома, вслед за Альбертом Болыптедским, представляет
тот важный этап средневекового мышления, когда в связи с бур¬
* М. Грабман (1875-1949), виднейший ученый неотомист. Здесь име¬
ется в виду прежде всего «Studienüberd. Einfl.deraristot. Philosophie
auf die mittelalt. Theorien über d. Verhaltniss von Kirche und Staat. In:
Sitzungsber. der Bayer: Akademie der Wissenschaften. Philos. — hist or.
Abteilung ».München, 1934, № 2.
** См.: M. Maccarrone. II terzo librodella «Monarchia». — «Studi Danteschi»,
vol. XXXIII, Firenze.
674
Н. И. БАЛАШОВ
ным развитием и усложнением структуры и социальных про¬
блем феодального общества оказалось необходимым серьезное
освоение и приспособление античной правовой и философской
мысли. В конечном счете, Фома (как и современные неотоми¬
сты) стремился к неосуществимому: к согласованию науки и ре¬
лигии. Но все, что он делал, он делал основательно. Фома прео¬
долел августинское субъективистское и примитивное презрение
к науке. С особой полнотой Фома Аквинский освоил произве¬
дения Аристотеля. В результате в самый ход изложения важ¬
нейших произведений Фомы, таких, как «Summa theologiae»
(«Итог богословия»), проникали элементы античной диалекти¬
ки. Каждый параграф этой книги открывает известный простор
для самостоятельного мышления читателя, ибо содержит изло¬
жение аргументов «за» и «против», после чего дается синтети¬
ческий вывод, в какой-то мереучитывающий разные стороны
предмета и существование противоречивых точек зрения*.
Фома Аквинский не ограничивается опытом феодальных
учреждений, и в его теорию государства были включены и по¬
лучили развитие идеи важности «общего блага», «интересов
большинства». В ней содержатся даже такие опасные мысли,
как мысль о праве на восстание против деспотизма, пять веков
спустя превратившаяся в лозунг антифеодальных революцио¬
неров. В одном из параграфов «Summae theologiae» (Ia— IIae,
Qu. 96, а. 4), в «тезисе», ссылаясь на слова пророка Исайи
об угнетении бедняков (X, 1 и сл.), Фома, пишет: «Ведь каждо¬
му позволено избегать угнетения и насилия. Тоесть людские
законы не являются обязательным предписанием для совести
человека». В «синтезе» этого параграфа философ решается
ограничить применение формулы св. Павла, что всякая власть
от Бога, и допускает возможность открытого сопротивления
бесчеловечным законам. Не менее решительно Фома Аквин¬
ский высказался в трактате «DeRegimeneprincipum» (кн. 1,
гл. 6), где он объяснял, как с точки зрения церкви** могут быть
* См., напр.: « Summat heologiae», Ia — IIae, Qu. 90, a. 1—«ulrumlexordinetu
rsemperadbonumcommune», где указывается, что хотя закон осуществля¬
ется в каждом отдельном частном случае, направляет действия отдельных
людей и может иметь в виду также частную собственность, — он приобре¬
тает значение закона, лишь поскольку он направлен на общее благо.
** Фома цитирует Притчи Соломона (XXI, 1): «Якоже устремление воды,
тако сердце царево в руке Божией».
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
675
оправданы смещение и убийство тирана (в том числе законно¬
го короля), и рекомендовал влиятельнейшим людям, если они
действуют в Интересах большинства, идти при определенных
обстоятельствах на убийство тирана, рискуя собственной жиз¬
нью. Наконец, Фома признавал за людьми право в случаях
крайней необходимости не считаться с установленными закона¬
ми. Ему принадлежит афоризм, которому мог бы позавидовать
автор «Общественного договора»: «necessitasnonsubditurlegi»
(«необходимость не подчиняется закону»)*.
Фома Аквинский придерживался концепции прогрессив¬
ного развития познания в области точных наук и в области
нравственности. «Представляется, — писал он, — что чело¬
веческому разуму свойственно постепенно, переходить от не¬
совершенного к совершенному. Так, мы видим, что в, области
отвлеченных наук, первые, кто стал ими заниматься, оставили
несовершенные знания, которые позже были усовершенствова¬
ны их последователями. Так же обстоит дело в области наук, на¬
правляющих человеческую деятельность...»**. Ремесла (artes),
«созданные человеческим разумом», тоже прогрессируют:
«Здесь, если находят что-либо лучшее, меняют установившееся
в прежнее время» (там же, § 2).
Фома Аквинский в отдельных случаях не.чужд некоторым
предренессансным веяниям. Он полагал, что в жизни, в из¬
вестных пределах(т. е. не впадая в соблазн), можно считаться
с эстетическим критерием, например, при выборе места для
постройки города. Оно должно нравиться жителям своей красо¬
той. Его желательно выбрать на обширной равнине, омываемой
с разных сторон реками, близ гор, среди приятных рощ. Однако
Фома тут же предостерегает, что слишком большая приятность
может легко повести людей по пути сладострастия***.
Воздействие предренессансных идей на Фому Аквинского,
может быть, ярче всего сказалось в том, что богослов в прин¬
ципе признавал, хотя и с оговорками, необходимость радо¬
сти, развлечений для сохранения земной жизни человека (Lu
dusestnecessariusadconservationemvitaehumanae). Поэтому
в «Summatheologiae» (Па — Пае, Qu. 167-168) Фома, вопреки
* S. t. Iя — IIae, Qu. 96, а. 5.
** S.t.F — IIae, Qu. 97, а. 1.
“* * De Regimene principum », II, 3.
676
Н. И. БАЛАШОВ
неистово-лютым инвективам против театра, как порождения
дьявола, у церковных авторов — Тертуллиана, Киприана, Лак-
танция, Иоанна Златоуста, Августина, Исидора, — занял сме¬
лую позицию по принципиальному для культурной политики
средних веков вопросу о допустимости театральных представ¬
лений. Фома полагал, что участие в представлении или посе¬
щение театра сами по себе «индифферентны», т. е. не являются
смертным грехом, если поставленная вещь не будет признана
«бесстыдной» по своему содержанию и если она не играется
«бесстыдным» образом.
В период высшего напряжения борьбы средневековой и ре¬
нессансной идеологий — во время столетней битвы за свободу
театра в Испании XVII в. — авторитет Фомы сослужил нема¬
лую службу защитникам свободы искусства.
Однако это парадоксальный случай. В целом же Фома Ак¬
винский шел на известные уступки новым идеям, потому Что
это было целесообразно; для эффективной защиты средневеко¬
вых устоев, потому что он принадлежал к числу наиболее даль¬
новидных защитников католицизма, создававших оружие, рас¬
считанное на многовековое использование. Несмотря на свою
видимую смелость, диалектичность, аристотелизм, Фома в ос¬
новных вопросах богословия, этики, политики и особенно при
формулировке конечных выводов по этим вопросам, делал шаг
назад не только по сравнению с передовыми аристотеликами-а-
верроистами вроде Сигера, но отчасти был осмотрительнее сво¬
его учителя Альберта. В главных спорах современности Фома
по существу выступал как ревнитель средневековой традиции,
как упорный доминиканец — противник церковного «либера¬
лизма» таких францисканских богословов XIII в., как Бонавен¬
тура Баньорейский. Подчиняя философию богословию, Фома
объективно проявлял себя как враг превознесенного им самим
Аристотеля, как противниксамостоятельности светского мыш¬
ления и антагонист важнейших предренессансных тенденций.
Если Данте полагал, что потребность в государстве и церкви
возникла только после грехопадения*, что по состоянию нау¬
ки того времени было «историческим подходом» к их возник¬
новению, то согласно Фоме, насилие, власть человека над че¬
* Они, по Данте, не были бы нужны, «если бы человек пребывал бы в состо¬
янии невинности» («Demonarchia», III, 4).
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
677
ловеком изначальны, необходимы при всех обстоятельствах.
Из разнообразия человеческих устремлении и поступков Фома
выводил положение, которое он сделал исходным пунктом сво¬
его трактата об управлении: «Человеку нужно, чтобы кто-либо
управлял им» («DeRegimeneprincipum», I, 1). Фома со стран¬
ным упорством утверждал, будто «хозяйственное и граждан¬
ское подчинение» «установлены еще до грехопадения» (Ia, Qu.
92, а. 1). Между тем, в самом Писании не говорится ни о какой
хозяйственной деятельности до греха, а о господстве Адама над
Евой заходит речь только после грехопадения: «Жене сказал
(Господь): умножу... к мужу твоему влечение твое и он будет го¬
сподствовать над тобой» (Бытие, III, 16); при этом по контексту
(«...умножу... к мужу твоему влечение твое»)* не совсем ясно,
не имеет ли здесь глагол %upt£ucù оов значения «обладать тобой»
в ином — неполитическом смысле.
Идея необходимости подавления человека и насильственно¬
го господства внешней силы над ним вытекала из сути учения
Фомы и была развита им с железной настойчивостью. Таким об¬
разом, Фома поистине сам вырыл яму собственному политиче¬
скому учению. Он сам доказал, что с отказом от мысли, что вся
жизнь человека подчинена одной высшей цели загробного бла¬
женства, отпадет необходимость вечного угнетения. «Если бы
человек был призван только к целям, соответствовавшим его
естественным способностям, то ему не было бы надобности
иметь... некий руководящий принцип (aliquoddirectivum), по¬
ставленный над естественным законом. Но человек, пишет
дальше Фома, предназначен к цели вечного блаженства, кото¬
рая превышает масштаб естественных возможностей челове¬
ка... Следовательно, было необходимо, чтобы над естественным
и людским законом Богом был установлен закон, ведущий че¬
ловека к этой высшей цели» (S. t., Iе— IIae, Qu. 91, а. 4). Отсю¬
да у Фомы выводилось положение, что для соответственного
«усовершенствования добродетели» (virtutisperfectio) челове¬
ку не может хватить его собственных сил, и он должен подвер¬
гнуться некоему обузданию: «aliquamdisciplinam». «Ибо,—
* Правда, в латинском переводе Библии, которым пользовался Фома, эта
часть фразы (,..rcXr|(h)vœ...7cpôç xóv âvôpa оов т) алоотрофц оов) передавалась
заведомо тенденциозно: «et sub viri potestateeris» («и будешь под властью
мужа»).
678
Н. И. БАЛАШОВ
говорит Фома, — усовершенствование добродетели как раз
состоит в удалении человека от недозволенных наслаждений,
к которым люди именно склонны, особенно молодые, приме¬
нительно к коим поэтому приложение дисциплины наиболее
эффективно. To-есть должно, чтобыкем-либо другим для людей
устанавливалась такого рода дисциплина, посредством которой
достигается добродетель» (S. t., 1а — Пае, Qu. 95, а. 1).
С этой мрачной нравственной и политической концепцией
было связано отрицательное отношение Фомы к любви и жен¬
щине. Любовная страсть рассматривалась Фомою как себялю¬
бие (S. t. 1а — IIae, Qu. 26, а. 4; Qu. 27, а. 3; Qu. 28, а. 1 etc.).
В отношении к женщине, которое было «пробным камнем»
предренессансного гуманизма, Фома разделял взгляды, прямо
противоположные: взглядам Данте, поэта «нового сладостного
стиля» и певца Беатриче, сказавшего о любимой женщине поис¬
тине «quellechemainonfudettod’ alcuna» («VitaNuova», XL, 11)*.
Фома же здесь придерживался буквы того (самого не приемле¬
мого для любого гуманистического мышления) места в Св. Пи¬
сании, где апостол Павел поучает: «ибо не создан бысть муж
жены ради, но жена мужа ради...» (Кор., I, XI, 7; у Фомы см.: S.
t., Ia, Qu. 93, а. 4). Вдобавок для Фомы женщина была Первым
объектом упоминавшегося уже якобы извечного «хозяйствен¬
ного или гражданского подчинения», при котором господин
распоряжается подчиненными якобы не в своих интересах, как
при порабощении, но по праву более мудрого, во имя их же бла¬
га (S. t., Ia, Qu. 92, а. 1).
Данте неустанно и энергично обличал корыстолюбие церк¬
ви и считал, что обладание мирскими благами специаль¬
но запрещено Иисусом (perpraeceptumprohibitivumexpress
um—«Demonarchia», III, 10; имеется в виду заповедь Иисуса
ученикам: «Не стяжите злата, ни сребра, ни меди при поясех ва¬
ших» . — Матф., X, 9). Фома практически придерживался проти¬
воположной точки зрения. Как будет видно ниже, он санкциони¬
ровал в своих трудах корыстные притязания папства на земную
власть. В некоторых случаях положения Фомы в этой области
сформулированы так, что прикрывают авторитетом религии
любой разбой. Фома делает широкие общие выводы из несколь¬
ких специфических мест Ветхого завета. Господь, согласно Би¬
* «... что никогда не было сказано ни об одной ».
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
679
блии, повелел иудеям украсть взятые у египтян золотые сосуды
(«и обобрал он (народ господень) египтян»— Исход, XII, 35-36),
а в другом случае приказал пророку Осии взять себе жену блуд¬
ницу (Осия, I, 2). Фома выносит отсюда урок, Что взятие Чужой
жены*«ио приказу господню» (exmandatodivino) не составляет
ни прелюбодеяния, ни разврата. «Это же соображение, упрямо
добавляет Фома, действительно и по отношению к воровству,
т. е. в присвоении чужой вещи. Ведь что бы человек ни брал
по приказу Бога, господина (Dominus) всех вещей, он не берет без
согласия хозяина (domini), что было бы воровством» (S. t., 1а —
IIae, Qu. 94, а. 5). Самая страшная сторона этого рассуждения за¬
ключена, в том, что толкование вопроса, где грабеж боле не гра¬
беж (ибо все — божье), Фома доверяет не только богу, но «и тому,
кому сам бог это специально препоручит» (...velsicuiipse (Deus)
specialitercommiteret. — S. t., F — IIae, Qu. 97, a. 4). T. e. Фома
признавал закатолической церковью, за папой право освящать
любой грабеж ссылкой на то, что экспроприация якобы осущест¬
вляется exmandatodivino. Так давалась санкция походам кресто¬
носцев, грабежу имущества православных, не говоря уже о ере¬
тиках, маврах или евреях, — санкция будущему колониальному
разбою. Фома здесь опустился ниже Доминика, лицемерно уда¬
лившегося на молитву во время битвы под Мюре в 1213 г., когда
крестоносцы exmandatodivinoиcтpeбляли альбигойцев, а заодно
обрушились на народ, богатства и высокую культуру Прованса.
Центральным пунктом расхождений Данте, с томизмом был
спор о зависимости или независимости государства от папской
власти. Речь шла не просто о многовековой борьбе императоров
и пап, а о принципиальном разрешении вопроса, должно ли
человеческое общество во всей совокупности своих земных дел
и интересов подчиняться церкви.
Спорящие стороны, как томисты, так и Данте, отдавали себе
отчет, что решение этого вопроса зависит от решения главной
мировоззренческой проблемы того времени, целиком ли земная
жизнь общества и человека подчинена единой цели потусторон¬
него блаженства, или она имеет также самостоятельное значе¬
ние и свою цель.
* Как это ни странно, Фома вольно обращается со Св. Писанием, путая
с приведенным местом из пророка Осии другое, где говорится: * ...еще иди
и возлюби жену... любодейку» (Осия, III, 1).
680
Н. И. БАЛАШОВ
В этом вопросе — быть или не быть Ренессансу, быть или
не быть обществу и понятиям нового времени, — Фома твердо
стоял на позициях прошлого, а Данте так же твердо — на пози¬
циях будущего.
Неотомисты — историки и литературоведы, понимая, что
невозможно доказать, будто Данте был за светскую власть церк¬
ви, и в то же время не желая «терять» Данте для томизма, по¬
пытались хоть по видимости примирить непримиримое. Было
выдвинуто положение, что Данте, хотя был против «прямой вла¬
сти» церкви (potestasdirecta), но якобы так же, как и Фома, был
за «косвенную власть» пап в светских делах (potestasindirecta).
Бруно Нарди убедительно доказал, что различение теорий
«прямой» и «косвенной» власти пап в светских делах— это
произвольная конструкция кардиналов Грабмана и Маккарро-
не*. Нюанс этот, возникший в XIII в. в словоупотреблении не¬
которых, так сказать, «умеренных» теократов, вроде учителя
Данте, Пьера Ди Джан Оливо, был связан с практической не¬
обходимостью считаться-с античными правовыми теориями**.
Однако этот нюанс оставался формальной оговоркой, посколь¬
ку томисты исходили в теории из единства цели человеческого
общества (потустороннее блаженство), а на практике были рев¬
ностными сторонниками папства. Нарди приводит показатель-
нейшее суждение Фомы на эту тему:«Ибо высшая цель множе¬
ства, соединенного в общество, не в том, чтобы жить согласно
добродетели, но в том, чтобы добродетельной жизнью достичь
наслаждения вечным блаженством... откуда вытекает, что по за¬
кону Христа цари должны быть подчинены священнослужите¬
лям»***. Что же касается ординарных томистов и пап XIII столе¬
тия — от Иннокентия III, вдохновителя поругания Царьграда,
замышлявшего насадить католицизм в Тырнове, и до ненавист¬
ного Данте властолюбивого христопродавца Бонифация VIII, —
то они вожделели именно к «potestatemdirectam». Иннокен¬
тий III, ухватившись за возможность помазать Калояна царем
Болгарии, заявил о своем прямом «праве» назначать королей
* В. Nardi. Dal «Convivio» alla «Commedia».Roma, 1960, p. 153-154.
** Там же, стр. 164-166.
*** «DeRegimeneprincipum» ,1, 14. К этому нужно добавить, что в других сво¬
их сочинениях Фома еще резче настаивает на прерогативах пап, выступая
предшественником доктрины папской непогрешимости (напр.: Quodlibet,
Qu. 4, а. 13).
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
681
(regemtestatuimus) и вообще провозгласил, что папы «избра¬
ны господом, чтобы быть первосвященниками и государями»
(hoselegitDominusutessentsacerdotesetreges). Такая же точка
зрения спустя сто лет утверждалась Бонифацием VIII в булле
«Unamsanctam». Соответственно флорентинский «умеренный»
томист-доминиканец фра Ремйджо де’ Джиролами теоретиче¬
ски обосновывал множество случаев, когда папская юрисдикция
должна прямо распространяться на мирские дела (iurisdictiopa-
ре directeseextenditadtemporalia). Даже фра Ремйджо в грубой
форме повторял приведенный выше аргумент Фомы Аквинско¬
го, говоря, что «раз плоть также содержит в себе дух», то в из¬
вестном смысле «плотское тоже может считаться духовным,
и оно относится прямо (directe) к юрисдикции папы»*.
Против политической доктрины томизма, против средневе¬
ковых теократов.Данте боролся в «Божественной Комедии»;
специально против них он выступил в своем великом полити¬
ческом трактате. Должно сразу же указать, что традиционный
русский перевод-калька названия трактата («О монархии»),
не передает ни его идеи, ни смысла заглавия. Данте, по услови¬
ям времени, был мало сведущ в греческом языке**. При выборе
заглавия он допустил ошибку такого же типа, как те, которые
встречались позже у Боккаччо в «греческих» названиях его про¬
изведений ( « Фи л окопо », « Фи лострато » ). Слово шопагсЫаД анте
понимал, прежде всего, не как господство одного, не как монар¬
хию, а как единое всемирное государство (unicusprincipatus —
I, 2), ограниченное «только Океаном» (I, 11) и представляющее
интересы всего «рода человеческого» (I, 2). Назначение такого
идеального государства, предварявшего последующие ренес¬
сансные утопии, Данте видел в том, чтобы обеспечить «благо¬
получие всего света» (adbeneessemundi — I, 2), «всеобщий мир»
(paxuniversalis — I, 4) и наибольшую возможную свободу (I,
12, II, 5). Главное препятствие на пути к осуществлению этого
идеала Данте видел в стяжательстве, корысти (cupiditas — I,
11). Препятствие заключалось не только в алчности отдельных
* Fra Remigio de’ Girolami. Contra falsos Ecclesiae professores. Цит. по kh.:
B. Nardi. Указ. соч., стр. 171,211. Аналогичных выводов придерживались
другие канонисты, связанные с курией, напр. Эгидий Римский, епископ
Буржа.
** Хотя он и стремится обратиться к греческим источникам (см. об «эпиейке-
ее» в «DeMonarchia», I, 14).
682
Н. И. БАЛАШОВ
индивидуумов, но в алчности государей (I, 13) и ревнителей
церкви («сынами церкви себя нарекают, а порождения дьявола
суть» — III, 3). Обращаясь к евангельскому рассказу, что даже
воины, распявшие Христа и разделившие его одежды, не ре¬
шились разодрать оставшийся после него «хитон нешитый»
(tunicainconsutilis), Данте обвиняет стяжательство в том, что
именно оно своими когтями разодрало этот «хитон нешитый»,
единство человеческого рода (1,16).
Книга Данте направлена не только против стяжательства
церкви и томистских теорий, объективно его оправдывавших,
но, как это ни странно с первого взгляда, трактат о монархии на¬
правлен также против реальных монархий. Их Данте обознача¬
ет словом «царство», «королевство» (regnum)*. Все эти царства
и их царей Данте подвергает самой резкой критике (1,11,13, II,
1, 13) во имя идеи единого всемирного государства, единствен¬
ным достойным носителем которой в свою эпоху он одно время
готов был признать Генриха VII (1308-1313). Данте призывал
расправиться с государями, не желавшими признать идеи еди¬
ного государства: «чтобы порвать узы невежества таких царей
и государей и показать, что человечество освободится от их ига,
я хочу, следуя святому пророку, сказать вместе с ним: «Разо¬
рвем узы их, и сбросим с себя ярмо их» (II, 1).
В отношении главы единого всемирного государства Данте
не настаивал на каких-либо специально монархических атри¬
бутах и не обязательно именовал его «монархом» или «импе¬
ратором», но также «fungensimperiiauctoritate» (III, 10) и даже
просто « curat ororbis» (III, 16) и требовал, чтобы он применял
власть в соответствии с «предписаниями философов» (Conv.,
IV, 6). Самый термин «monarchia», в том смысле, в котором его
применил Данте (единое всемирное государство), противосто¬
ял, как уже отмечалось, термину « regnum » (царство, самодер¬
жавное государство) и был во времена Данте своего рода новше¬
ством.
Такое новшество породила попытка Данте создать ренес¬
сансную утопию о счастливой жизни человечества в едином для
всего мира, не знающем войн и раздоров светском обществе.
В своем трактате Данте в принципе утверждал значение посю¬
сторонней, земной жизни и деятельности человека и старался
* Ср. у Фомы: «De Regimene principum», I, 1.
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
683
наметить основы государственного устройства, пригодного для
этой цели.
Трактат был непосредственно направлен против римской ку¬
рии, и Данте отчетливо представлял себе против какого врага он
выступает и с какой опасностью сопряжено такое выступление.
Данте знал, что завязывает бой, и называл вещи своими именами
(certamenincipio — III, 3; поэт обозначал эту борьбу также сло¬
вом litighini— например, III, 3, илиgymnasium — III, 1*)- Что¬
бы укрепиться в стойкости, Данте берет за образец самого Ии¬
суса Христа и, опережая на два столетия Гуттена и гуманистов
начала XVI в., осмысляет выступление против пап как борьбу
за освобождение от власти тьмы (depotestatetenebrorum — III,
1). Оценивая остроту развернувшейся борьбы, Данте разъясня¬
ет, что в данном случае не невежество порождает спор, но имен¬
но острота спора — невежество (sichielitigiumcausaignorantiaes
itmagis — III, 3).
Поэт знал, что среди врагов, которые «сильнее всего борют¬
ся против устанавливаемой им истины», на первом месте стоит
сам папа: ... «Христа наместник и Петра наследник, которому
мы не всё то, что Христу, но все то, что Петру должны, будет
против нас, может быть, из рвения к ключам» (III, 3). От этого,
почти открыто иронического «может быть, из рвения» Данте
непосредственно переходит к яростному обличению декрета-
листов и других сознательных, идеологов церкви, «одержимых
своекорыстием» (suacupiditatedetenti — III, 3). «Покрытые —
по выражению Данте — вороньими перьями, они похваляются,
что они белые овечки в стаде Господнем... Чтобы вершить свои
гнусности, они растлевают мать, изгоняют братьев...» (III, 3).
С широтой и бесстрашием человека новой эпохи Данте опро¬
вергает иерократическую аргументацию, показывая неоснова¬
тельность важнейшего довода папистов — ссылки на то место
из Евангелия от Матфея (XVI, 18-19), где Иисус говорит, что
то, что Петр свяжет или разрешит на земле, будет связано или
разрешено на небесах. Данте перечисляет оплошности самого
апостола Петра, и утверждает, «что Петр имел обыкновение-
говорить о вещах поверхностно» (III, 9), напоминая, как Иисус
* В XV в. Марси л ио Фичино в своем итальянском переводе трактата пе¬
редает «gymnasium» словом «битва» (battaglia). См.: Dante Alighieri.
Opereminori per P. Fraticelli, voi. II. Firenze, 1861, p. 354.
684
Н. И. БАЛАШОВ
однажды сказал Петру «отойди от меня, сатана». Доказывая,
что не только папа, но и апостол Петр далеко не все может «раз¬
решить» (т. е. не может отпустить всякий грех), Данте в своей
смелости доходит до того, что определяет разумом границы все¬
могущества бога: если бы Петр все мог — «мог бы мне отпустить
грехи и без покаяния, чего не может сделать даже сам бог» (III,
8)*.
Отрицая за церковью право утверждения римского прин-
цепса, Данте пишет, что церковь не получила этого права
ни от бога, ни от себя самой, ни от какого-либо императора,
ни — и здесь ренессансная универсальность и светскость мыш¬
ления Данте выступает с особой силой — «ни со всеобщего со¬
гласия людей, либо, по крайней мере, их преобладающей части»
(III, 14). Необычайна сама мысль, что права такого учреждения
как церковь могут быть установлены не от бога, а путем обще¬
ственного волеизъявления. Но Данте идет дальше, объективно
подвергая с точки зрения складывавшегося ренессансного уни¬
версализма сомнению притязания римской церкви на всеобщее
(«католическая» означает «всеобщая») господство, как не под¬
крепленные одобрением большинства человечества. Данте сме¬
ло пользуется для опровержения законности светской власти
церкви этим в принципе не приемлемым ни для какого феодаль¬
ного учреждения, можно сказать, революционным критерием.
«Никто ведь не предположит, — пишет Данте, — что церковь
получила это право с одобрения всех или большинства людей,
ибо не только все азийцы и африканцы, но даже большая часть
жителей Европы с ненавистью его отвергают» (III, 14).
За сто тридцать лет до того, как Лоренцо Валла филологиче¬
скими аргументами доказал подложность «дара Константино¬
ва», Данте раскрыл полную несостоятельность подобного акта,
так как отчуждение императором светской власти в пользу церк¬
ви и принятие ею этого дара одинаково незаконны. Неустраши¬
мый поэт уподобил эту вымышленную сделку «благочестивого»
императора с церковью сговору Иуды с первосвященниками
о предательской выдаче Христа. Бруно Нарди (указ.соч., стр.
* У Бруно Нарди (напр., указ.соч., стр. 46) можно найти интересные дан¬
ные о том, что Данте по ряду богословских вопросов разделял с западны¬
ми аверроистами «отчетливо антитомистскую» (nettamenteantitomistica)
позицию.
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
685
106) указал на то, что Данте осмелился демонстративно приме¬
нить к Константину (II, 13) слова Писания, относящиеся к Иуде
(«лучше было бы этому человеку не родиться»).
Утверждая независимость «монархии», а в принципе госу¬
дарства вообще, от церкви, Данте, как уже отмечалось, исхо¬
дил из антитомистского тезиса о том, что человек предназна¬
чен не только к загробной, но и к земной жизни. Этот тезис,
составляющий сердцевину трактата, развит и обоснован Дан¬
те подробно и основательно*. Данте специально посвящает
ему заключительный параграф (III, 16) сочинения. Исходя
из учения Аристотеля (и из его аверроистической интерпрета¬
ции), Данте пишет, что человек, единственный из всего суще¬
го, сочетает в себе нетленное и тленное; поэтому провидением
ему предназначены две цели (duosfines): счастье в этой жизни
(beatitudohuiusvitae), достигаемое посредством собственных
сил человека, и блаженство в вечной жизни, для достижения
которого недостаточно человеческих сил, но нужна еще помощь
божественного света.
Утверждение самостоятельного значения первой из этих це¬
лей в корне противоречило учению Фомы, а выраженное в та¬
кой резкой форме у Данте, вообще отчетливо противостояло
средневековому христианскому взгляду на вещи.
«Земного счастья, — пишет Данте, употребляя очень силь¬
ное слово «beatitudo», которое означает не только счастье,
но и блаженство, — мы достигаем при помощи наставлений фи¬
лософов (perphilosophicadocumenta), потому мы следуем этим
наставлениям, поступая в соответствии с моральными и интел¬
лектуальными добродетелями» (III, 16**). Т. е. для устройства
* Бруно Нарди справедливо замечает, что подобная идея была высказана
Данте еще в «Пире» (кн. IV, гл. 22). См.: В. Nardi. Указ.соч., стр. 83.
** Данте в таком понимании блаженства следовал Аристотелю, определяв¬
шему в «Этике» (кн. X, § 7)«блаженство, как деятельность, сообразную
с добродетелью», имея прежде всего в виду созерцательную деятельность.
Аристотель же считал, что понятие счастия приложимо к живым и лишь
незначительно касается умерших (судьба потомства и пр.) («Этика», кн.
I, § 11). Нарди показал, как Фома в своем комментарии к «Этике» отошел
от посюсторонности Аристотеля (указ.соч., стр. 94). Напротив, Данте под¬
черкивал значение связанных с повседневной деятельностью «моральных
добродетелей» (справедливость, правдивость, общительность и пр.), ко¬
торые более свойственны всем людям, известны и постоянно требуются
в жизни (Conv., IV, 7).
686
Н. И. БАЛАШОВ
гражданской жизни, для полного достижения счастья на зем¬
ле — вопреки Фоме* — вовсе не нужны ни церковь, ни даже
христианская религия и ее «божественное право» (lexdivina).
«Подлинная основа империи — согласно Данте — это человече¬
ское право» (III, 10). Данте употребляет термин iushumanum,
т. е. человеческое или естественное право, который уже у древ¬
них римлян противопоставлялся понятию сакральное право
(iusdivina). Позднейшие гуманисты трактовали это высказы¬
вание Данте весьма решительно: основой государства должен
быть человеческий разум (laumanaragione**).
В противоположность этому Фома учил, что Человеческий
разум, сам по себе, не может быть основой, отправной точкой
(ratiohumanasecundumsenonestregularerum — Qu. 91, а. 3). Че¬
ловеческий закон, по Фоме, лишь производное от естественного
закона, который также лишь частичное производное от вечного
божественного закона, действительное в той степени, б какой
оно причастно установлениям последнего (inquantumaliquidpa
rticipatderegulavelmensura — Qu. 91, а. 2).
Между тем, по Данте, гражданское государство полностью
осуществляло свое назначение уже тогда, когда Риму еще
не было известно «божественное право» (изложенное в Ветхом
Фома Аквинский утверждал прямо противоположное: « ...homo ordinatur
ad fìnem beatitudinis aeternae, quae excedit proportionem naturalis facul-
tatis humanae...; ideo necessarium fuit ut supra legem naturalem et huma-
nam, dirigeretur etiam ad suum fìnem lege divinitus data» (S. t.» Ia — IIae,
Qu. 91, a. 4; переводом, выше, стр. 19). Для Данте подобная аргументация
применима только к загробному блаженству: « Adsecundam (beatitudinem)
vero (venimus), perdocumentaspiritualia, quaehumanamrationemtranscend
unt, dummodoillasequamursecundumvirtutestheologicasoperando...» (Ili,
16).
Попытка одного из сторонников томистской интерпретации «Монархии»
Густаво Вине (в кн.: Dante.Monarchia... perGustavoVinay, Firenze, 1950,
p. 281-282) доказать, что Данте в данном вопросе якобы следовал Фоме,
поддержанная М. Маккарроне, который даже пишет о «буквальной зави¬
симости Данте от славного доктора» (указ, соч., стр. 114-115), была бле¬
стяще опровергнута Нарди (указ, соч., стр. 289 и 92-96). Нарди приводит
особенно выразительное высказывание Фомы: «Должно быть разъясне¬
но, что окончательное и совершенное блаженство не может заключаться
ни в чем, кроме созерцания божественной сущности» (S. t., Iе — IIae, Qu.
3, а. 8). См. также: «Contragentiles», I, 25.
** См. у Марсилио Фичино (указ.соч., стр. 389).
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
687
завете), а церкви не существовало: «... ecclesianonexistenteautn
onvirtuante, imperiumhabuittotamsuamvirtutem» (III, 13).
Таким образом, Данте в решении важнейшего и актуально¬
го для его времени вопроса о самостоятельной ценности зем¬
ного бытия и независимости государства от церкви выступал
как последовательный антитомист. Вместе с тем, его позиция
в данном вопросе входит в систему складывавшейся общеренес¬
сансной тенденции идти в поисках первопричин от обращения
к богу к обращению к природе. По Данте получается, что не при¬
рода сообразуется с божьей волей, но, вопреки Символу веры,
бог с законами природы. «...Того, что противоречит замыслу
природы, — пишет Данте, — бог не хочет» (111,2).
При оценке подобного рода идей надо учитывать, что вопло¬
щенные в стихи и образы «Комедии» они громовой песнью раз¬
носились по всему западному миру. В одном из узловых пунктов
поэмы, в диалоге с мудрым ломбардцем Марко о господстве зла
в современном мире, говорится:
Вы для всего причиной признаете
Одно лишь небо, словно все дела
Оно вершит в своем круговороте.
(«Чистилище», XVI, 67-69)
Затем поэт разъясняет непосредственную причину, которая
сделала мир преступным: это папское владычество*, узурпи¬
ровавшее права гражданских властей и нарушившее равенство
двух солнц, освещавших одно — путь к земному процветанию,
другое — к спасению душ. Надо обратить внимание на ренес¬
сансное развитие мысли Данте. В трактате «О монархии» гово¬
рилось лишь о солнце и луне (III, 4), и Данте отстаивал неза¬
висимость «луны». В поэме он пишет уже не о «двух светилах»
(duoluminaria), а о двух равноправных началах, о «двух солн¬
* Ты видишь, что дурное управленье
Виной тому, что мир такой плохой,
А не природы вашей извращенье.
Рим, давший миру наилучший строй,
Имел два солнца, так что видно было,
Где божий мир лежит и где мирской;
Потом одно другое погасило...
(«Чистилище», XVI, 103-109)
688
Н. И. БАЛАШОВ
цах» (duesoli), т. е. вводит такой смелый образ, как солнце граж¬
данской жизни*.
Злосчастному псевдодару Константина поэт неизменно по¬
свящает гневное слово во всех трех частях «Комедии».
. .. Ahi, Constantin, di quanto mal fu matre
non la tua conversion, ma quella dote,
che da te prese il primo ricco patre
(Inf.,XIX,115-117)**
В «Рае» последствия передачи светского правления папам
выражены со зловещим лаконизмом прорицания: «... от этого
погибнуть может мир» (XX, 60).
Именно в связи с принятием «дара» «торжествующая цер¬
ковь» в «Аде» (XIX, 90-117) и в «Чистилище» (XXXII, 124-
129) уподоблена великой блуднице, «сидящей на звере багря¬
ном... с семью головами». Этот символический образ окружен
у Данте такой же ненавистью, что и в Апокалипсисе (гл. XVII),
но употреблен в противоположном смысле; Данте творит суд
не над блудницей языческой империи Рима, как Иоанн, но над
блудницей — римской церковью...
Антитомизм Данте проявился в «Комедии» также в сдержан¬
ной характеристике самого Фомы Аквинского в «Рае», в допуще¬
нии Аверроэса (и Авиценны) в лимб, и, наконец, в том апофеозе
главного идейного противника Фомы — Сигера Брабантского***,
* В трактате «Пир» (I, 13) Данте, говоря о смене языков и культурных эпох,
также обращался к образу второго, «нового солнца», заменяющего преж¬
нее «usatosole». В трактате «О монархии» он со ссылкой на Аристотеля
вновь обратился к образу солнца в характерном для ренессансных воззре¬
ний духе: «человек порожден человеком и солнцем» (I, 9). Данте ссыла¬
ется на «Физику» Аристотеля. Имеется в виду кн. II, § 2, 194в. Место это
довольно трудное и, по-видимому, его надо понимать иначе, чем его понял
Данте (см.: Аристотель. Физика. Пер. В. П. Карпова. М., 1937, стр. 33).
** «Увы, Константин, началом скольких зол было //не твое обращение, но этот
дар, // который от тебя принял первый ставший богатым папа». Тут же Дан¬
те резко осуждает стяжательство пап (lavostraavarizia— XIX, 104).
'** Данте помещает в рай (XII, ст. 104-141) также блаженного Иоахима Флор¬
ского (1130-1202). В «Комедии» св. Бонавентура хвалит его за то, что он
«пророческим духом был наделен», хотя пророчества Иоахима об очище¬
нии церкви, подхваченные еретиками («иоахимитами»), были церковью
осуждены.
О Сигере и библиографию вопроса см.: Г. В. Шевкина. Проблема отноше¬
ния разума и веры у парижских аверроистов («Средние века». Сб. Инсти¬
тута истории АН СССР, вып. 27. М., 1965, стр. 73-85).
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
689
похвальную речь которомуДанте вложил в уста самого Фомы.
Текст «Рая» здесь совершенно ясен, и никакие усилия католиче¬
ских ученых не могут поставить под сомнение факт, что поэт с эн¬
тузиазмом стал на сторону Сигера против Фомы, т. е. в широком
смысле слова — на сторону философского рационализма против
догматического богословия. Сигер в написанном около 1270 г.
трактате «Deanimaintellectiva», восстанавливая вслед Аверроэсу
подлинного, не «христианизированного» Аристотеля, утверждал
независимость философского разума от веры (как независимость
познающего духа — animaintellectiva— от душ конкретных лю¬
дей, создаваемых в каждом отдельном случае богом, и у которых,
согласно Фоме, разум должен подчиняться воле верующего).
Ответный трактат Фомы «Deimitateintellectus» дал сигнал
к репрессиям против Сигера, книга которого была в 1270 г. осу¬
ждена инквизицией. В1277 г. Сигер был вторично осужден и при
темных обстоятельствах погиб в тюрьме Орвието около 1282 г.
Кардинал Мартин Грабман не мог принять кощунственного
с томистской точки зрения оправдания Сигера и предположил,
будто Данте могло быть известно якобы принадлежащее Сигеру
покаянное сочинение «QuestionessuperlIIlibrosdeanima», обнару¬
женное Грабманом среди мюнхенских рукописей. Достоверность
этих конъектур была успешно оспорена Бруно Нарди. Уже совре¬
менники Данте разбирались в этих вопросах лучше, чем М. Гра¬
бман. Нарди напоминает, что фанатичный монах Гвидо Вернани
да Римини в своей злобной полемике против Данте (contraDantem)
вменял поэту в вину «худшее заблуждение» Аверроэса — «что
у всех людей существует один единственный интеллект» *.
Существенно, что Данте не оправдывал, а прославлял Сиге¬
ра, и как раз за высказанные им смелые истины, вызывавшие
ненависть томистов:
... essa èia luce eterna di Sighieri,
che. ..
sillogiso invidiosi veri
(Par., xt 136-138)**
* См.: В. Nardi. Указ.соч.» стр. 90.
** ... a это — вечное сиянье Сигера,
который ...
в силлогизмах доказал истины, возбуждающие ненависть
690
Н. И. БАЛАШОВ
Антитомистская философия и политическая доктрина Данте
образовывает весьма выразительное идейное единство. «Соот¬
ношение между империей и церковью для него, — пишет Нар¬
ди, — это не такое, которое существовало между телом и душой
по мнению иерократов — все равно у фра Толомео да Лукка или
у фра Ремиджо де’ Джиролами, — но такое, какое аверроисты
его эпохи устанавливали между разумом и откровением, между
философией и верой. В этом вопросе Данте в «Монархии», авер-
роист на сто процентов...»*
Главный поборник «томизма» Данте кардинал М. Маккарро-
не не сумел или не захотел разобраться в характере дантовского
различения «наставлений философов» и «духовных наставле¬
ний», но и М. Маккарроне вынужден был признать, что это раз¬
личение « весьма отчетливо » **. Нарди цитирует в этой связи очень
важное место из заключительного параграфа «Монархии», где
Данте утверждает, что понятие земного счастья и путей его до¬
стижения (в отличие от небесного, которое раскрыто святым ду¬
хом в Писании) постигается человеческим разумом и полностью
(tota) изложено у философов (III, 16). Подхватывая выражение
М. Маккарроне, Нарди пишет: «Да, различение столь отчетли¬
во, что... в то время как Джакомо да Витербо и сам Фома, чтобы
преодолеть затруднение, пришли к подчинению «философских
наставлений» «духовным наставлениям» и отсюда вывели под¬
чинение светских властей церковным, Данте, напротив, из этого
«весьма отчетливого» различения логически и с полной последо¬
вательностью вывел такое же «весьма отчетливое» различение
и независимость империи от церкви... Во всяком случае, согла¬
сованность между Данте и св. Фомой, принимаемая за нечто не¬
сомненное, с этого момента выступает как иллюзия»***.
У Данте, в противоположность томистам, стал склады¬
ваться ренессансный светский подход к истории, «la storio
grafialaica» — по определению Нарди — не антирелигиозная
или антихристианская, но несомненно антицерковная»****.
* В. Nardi. Указ.соч., стр. 201. Заметим, что фра Толомео да Лукка, вид¬
ный томист, дописавший III и IV книги трактата Фомы «De Regimene
principum», в которых говорится о даре Константина (III, 10,16,17) и пр.
** MicheleMaccarrone. Указ.соч., стр. 116; цит. по кн.: В. Nardi. Указ.соч.,
стр. 291.
*** В. Nardi.yKa3.co4., стр. 291.
**** Там же, стр. 101.
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
691
Догматическое упорство неотомистов, втискивающее миро¬
воззрение Данте в рамки своей схемы, привело к противополож¬
ным результатам, вызвав полемику, показавшую, что поэт в сво¬
их антицерковных и антитомистских взглядах зашел настолько
далеко, что выступил как предшественник реформации. Ког¬
да М. Маккарроне уверяет (без доказательств), что Данте знал
и якобы мог одобрить ультрасофистические рассуждения тео¬
логов Вроде Эгидия Римского, будто «Св. Писание воспрещает
церкви curaetsollicitudotemporaliumpossessionum(3a6oTy и по¬
печение о земном имении), а не само possessio(nMeHne), которое
дозволено духовным так же, как и мирянам»*, — то М. Маккар¬
роне сам вызывает полемику. Сведя воедино все контраргумен¬
ты против догматики дантологов-неотомистов, Нарди пришел
к выводам, в некоторых аспектах приближающимсяк заключе¬
ниям советского историка Л. М. Баткина** о связи между док¬
триной книги «О монархии» Данте и чаяниями плебейских
реформаторов и еретиков его эпохи. Во всяком случае в ходе
полемики Нарди был вынужден констатировать близость Дан¬
те «к сторонникам религиозной реформы, которая, не задевая,
как это делали Вальдо, апостольские братья и фра Дольчино,
внутренней структуры и иерархии церкви, освободила бы ее
от давящего груза дара Константинова и вернула бы к евангель¬
ской бедности...» ***. «И религиозная реформа, провозглашенная
Данте, не была капризом ума, по представляла собой высокий
* М. Массаггопе. Указ.соч., стр. 104; В. Nardi Указ, соч., стр. 276-277.
** См.: Л. М. Баткин. Данте и его время. М., 1965, стр. 59-61.
*** В. Nardi. Указ.соч., стр. 113. Ср. у Л. М. Баткина (стр. 59): «Ветхозавет¬
ный пророческий тон Данте и пессимистическое, в духе Апокалипсиса
восприятие социальной действительности живо напоминает о проповедях
иоахимитов. «Апостольские братья» утверждали, что со времени папы
Сильвестра, принявшего гибельный «Константиновдар», римская цер¬
ковь сошла с праведного пути и погрязла в пороках, в жадности и гордыне.
Ее прелаты, ее монахи — «слуги дьявола». Римская курия— это блудни¬
ца, описанная в Апокалипсисе, это Вавилон, который должен быть раз¬
рушен. Церковь необходимо реформировать и возвратить к образу жизни
времен раннего христианства... Церковь должна быть лишена богатства
и светской власти...» Поль Ренуччитакже указывает, если не на близость
Данте к реформационной идеологии, то во всяком случае к ереси катаров
(альбигойцев), датировавших падение римской церквипринятием дара,
а папу Сильвестра («ilprimoriccopatre», — говорит о нем с ненавистью-
Данте — Inf., XIX, 117) — антихристом (PaulRenucci. Указ.соч., стр. 325
и 402).
692
Н. И. БАЛАШОВ
нравственный замысел, продукт глубокого размышления поэта
и пламенную надежду множества людей...»*.
Ренессансные тенденции философской и политической
мысли Данте были не изолированным явлением, а ярчайшим
выражением идейной борьбы того времени и способствовали
обострению этой борьбы. Идеи Данте разделяли многие из его
передовых современников (можно назвать хотя бы самых из¬
вестных: друга Данте и вдохновителя Боккаччо, поэта и юри¬
ста Чино ди Пистойя, поэта, ученого и общественного деятеля,
автора первого драматического произведения в духе Сенеки —
политической трагедии «Экцерин» Альбертино Муесато, исто¬
рика Дино Компайьи) и идейных наследников, от Марсилия
Падуанского и Кола ди Риенцо до Петрарки, и самого верного
и глубокого из всех— Боккаччо.
Для правильного понимания антицерковной и антитомист-
ской позиции Данте полезно напомнить о реакции, вызванной
его произведениями во враждебном лагере. Сожжение трактата
«О монархии» кардиналом Поджетто, последующее включение
трактата и многих мест из «Комедии» в индекс запрещенных
книг было подготовлено в ходе свирепой полемики. Аноним¬
ный составитель рукописи из Знойне, открытой Ф. М. Барто¬
шем оценил трактат Данте как «схизматический» и раздумывал
«передать ли его инквизитору по делам еретиков, либо лучше
полностью уничтожить (velpotiustotaliler (sit) delendus**).
Зноенский аноним выразил позиции большой и могуще¬
ственной группы томистов и других еще более отчаянных фа¬
натиков реакции. Сюда входили «эремитани» (т. е. августин¬
цы строгой схимы)—Эгидий Римский, автор книги «О власти
церкви» («Deecclesiasticapotestate») и вдохновитель иерокра-
тической буллы Бонифация Vili «Unamsanctam», и Джакомо
да Витербо, написавший трактат «О христианском правлении».
(«DeRegimenechristiano»). С непоколебимым догматизмом он
твердил, что «земная цель подчиняется небесной», и признавал
за светской властью лишь «материальный и начинательный»
характер. В полемическом ожесточении этот папист дошел
до спора; с самим Христом: «Пускай Христос не осуществлял
земной власти, однако его наместник может ее осуществлять,
* В. Nardi. Указ.соч.» стр. 126.
** Цит, по кн.: В. Nardi. Указ.соч., стр. 114.
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
693
хотябы и не следуя в полном смысле примеру Христа»*. Под
стать Джакомо да Витербо был другой фанатик иерократии,
канонист Энрико да Кремона, автор сочинения «О папской вла¬
сти» («Depotestatepape»), который тоже поправляет Христа. Эн¬
рико не устраивали слова Христа «царство мое не от мира сего»
(Иоанн, XVIII, 36), и Энрико пишет: «Но на это (т. е. на слова
Христа!) можно ответить, что оно не было его царством defacto,
поскольку ему не повиновались, но deiure, безусловно, было».
Бруно Нарди было чему удивиться, когда он узнал, что кардинал
Маккарроне считает подобные рассуждения, фактически пере¬
черкивающие Евангелие в угоду папизму, «un’efficacerisposta»
(«действенным ответом»)**.
На подобном фоне выигрывал фра Ремиджо ди Кьяро де’Джи-
ролами, являющийся, по словам Нарди, умеренным иерократом
в сравнении с Фомой*** ****. Действительно в его сочинениях, напри¬
мер в трактате «О благе мира», содержались положения, якобы
допускающие в известных пределах самостоятельное значение
мирской жизни. Но когда Нарди познакомился с флорентий¬
ской рукописью главного сочинения Ремиджо — с трактатом
«Против ложных учителей церкви» («Contrafalsosecclesiaeprof
essores»), выяснилось подлинное лицо этого доминиканца, под¬
визавшегося в том же монастыре Санта Мария Новелла во Фло¬
ренции, что и ученик и прямой продолжатель Фомы — Толомео
да Лукка. Фра Ремиджо, как уже говорилось выше, отстаивал
прямую власть папы в мирских делах и преподносил в этом
трактате томистскую политическую доктрину в откровенном
средневековом обличии: ...«папа относится к императору так,
как душа к телу, как интеллективное к чувственному, как не¬
бесное к земному, как господин к слуге и как бог к человеку» *****
Всю подобного рода аргументацию, начиная с опроверже¬
ния представления о самостоятельностиземной жизни, собрал
и направил непосредственно против Данте другой доминиканец
Гвидо Вернани да Римини. Этот фанатик-томист, в свое время
бывший составителем Бонифациевой буллы «Unamsanctam»,
написал против Данте сочинение «Об осуждении трактата Мо¬
* См.: В. Nardi. Указ.соч., стр. 303,274, 280; М. Массаггопе. Указ.соч., стр.
111.
** См.: В. Nardi. Указ.соч., стр. 194, 249, 277.
*** См. там же, стр. 256.
**** Там же, стр. 170-171.
694
Н. И. БАЛАШОВ
нархия» («DereprobationeMonarchiae»). Доводы Данте в защиту
значения Римской империи к моменту воплощения Христа он
поносил «как ничтожный и достойный осмеяния аргумент»*.
Об ожесточении, с которым в начале XIV в. велась борьба меж¬
ду средневековым и оформлявшимся ренессансным подходом
к миру, свидетельствует то, что со злобной руганью против
Данте выступали даже францисканцы. Так, брат Гульельмо
да Кремона, не уступая Зноенскому анониму и Гвидо Вернани,
обозвал величайшего поэта, которого знала Европа, во всяком
случае за тринадцать веков, прошедших после того как в черно¬
морской ссылке угас Овидий, — «нечестивцем» или «злодеем»
(nefariushomo)!
Однако исторический спор двух эпохальных мировоззрений,
представленный могучими фигурами Фомы Аквинского и Дан¬
те, уже нельзя было перерешить, и «nefariushomo» положил
начало эпохе, в которую мирская власть церкви больше не при¬
знавалась, а идея самостоятельного значения земной жизни
прочно вошла в общественное сознание.
II
ТЕРМИН «INGEGNO»
И ПОНЯТИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ГЕНИЯ У ДАНТЕ
Исследование вопроса о смысле, который вкладывал Данте
в понятие «ingegno» в «Комедии», приводит к выводу, что он
придавал общественному назначению поэта новую, свойствен¬
ную эпохе Возрождения великую значительность.
Согласно «Vocabolario dantesco» di L. G. Blanc (recato in
italiano da G. Carbone.Firenze, 1883, p. 182), Данте употре¬
бляет слово ingegnoB «Комедии» 22 раза (один важный слу¬
чай— Inf., XXVI, 21— Бланк пропустил**). Все эти случаи
* См. там же, стр. 106.
** В новом большом (732 стр.) «Словаре «Божественной Комедии» (Giorgio
Siebzehner-Vivanti. DizionariodellaDivinaCommedia, acuradiM. Messina.
Milano, 1965; первое издание — Флоренция, 1954), выдержанном в общем
в традициях консервативной науки, дается исчерпывающая лишь половину
случаев и отличная от предлагаемой нами смысловая классификация. Одна¬
ко Дж. Зибценер-Виванти также располагает все значения слова «ingegno»
между двумя полюсами: 1. «l’acutointelletto» и 6. personificatoperuomod
igrandeingegno» (стр. 307). Ниже будет объяснено, почему эта — важней¬
шая — категория оказалась у Зибценера-Виванти менее разработанной.
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
695
могут быть подразделены на две основные категории: на фоне
первой, в которой слово употребляется в смысле «способность»
и которая менее важна в данном аспекте, четко выделяется вто¬
рая, где ingegnoo3Ha4aeT не просто врожденную способность;
но «genio», т. е. «художественный талант» (главным образом,
самого Данте) и, наконец, собственно «поэтический гений»
в высшем смысле слова, «ingegnosommo», т. е. «гений»*.
* К первой категории, которую мы кратко охарактеризуем в данном приме¬
чании, можно отнести 12 случаев.
В шести из них слово «ingegno» употреблено в значении «склонности»,
«способности», «искусность». Напр., Par., XIII, 72— из объяснений
Фомы Аквинского «е voinascetecondiversoingegno»; Inf., XXXIV, 26 —
Данте говорит читателю, что тот поймет ужас поэта при виде Сатаны —
«s’haiflord’ingegno»; Purg., IX, 125 — использование одного из двух клю¬
чей Чистилища— «vuoltroppo// d’artee d’ingegnoavantiche. disserri»;
Inf., VI, 81—где говорится., что попали в ад многие, которые, по мнению
Данте, «a benfarpuoserl’ingegni». Из этих четырех случаев Зибценер-Ви-
ванти под словом «ingegno» упомянул, только первый и четвертый, кото¬
рым дал в общем аналогичные нашим определения: 3. «Semplicemente per
mente umana» (Inf., VI, 81) и4. «il complessp delle doti dell’animo» (Par.,
XIII, 72). — Diz., p. 307. Однако и в первой категории дважды встречается
такое употребление, при котором подразумевается высокая степень спо¬
собности: это стих из последнего напутственного слова Вергилия к Данте
(Trattot’hoquiconingegnoeconarte. — Purg., XXVII, 130), а также стих,
в котором Данте призывает на помощь весь свой талант, чтобы передать
блеск Беатриче при ее переходе в сферу Солнца: «Perch’iolo ’ngegnoe 1
’artee I’uso.chiami, // sinoldirei, chemais’imaginasse» (Par., X, 43-44).
Этого случая Зибценер-Виванти не упоминает, а предыдущему дает опре¬
деление: 1. «L’acutointeletto».
В «Рае», в поучениях приобщившейся вечной жизни Беатриче поэту,
ingegno дважды употреблено для характеристики ограниченной земны¬
ми условиями способностями познания. Случай, когда Беатриче поуча¬
ет Данте, что «уоз!го(человеческий) ingegno// ...solodasensatoapprende»
(Par., IV, 40-41) приводится Аттилио Момильяно в его коммента¬
рии как крайний пример того, что после Кроче стали называть poesia
didascalica, противостоящей собственно поэзии у Данте («La Divina
ComraediacommentatedaA.Momigliano», vol. III.Firenze, 1952, p. 564.
У Зибценера-Виванти относится без дальнейшего дифференцирования
к упомянутой рубрике 3). В менее категорической форме об ограниченно¬
сти чeлoвeчecкoгoingegnoБeaтpичe на небе говорила еще раз (Par., VII, 59;
Зибценер-Виванти этот случай вообще опустил).
Третья смысловая группа первой категории представлена четырьмя
случаями, когда поэт с большой человечностью говорит о своих ошиб¬
ках. Иногда мнимое заблуждение ingegno Данте (Вергилий— Данте:
«Perchetantodelira» // disse, «lo ’ngegnotuo» — Inf., XI, 76-77; Опу¬
щено у Зибценера-Виванти) позволяет Вергилию взамен традиционной
696
Н. И. БАЛАШОВ
Для данного исследования важны смысловые группы вто¬
рой категории, где слово «ingegno» употребляется в смысле
«genio», с разными оттенками значения*, иногда в смысле
ingegnosommo, т. е. высшая творческая способность, гений,
и где Данте сам объективно характеризует свое дарование как
ренессансное.
«Гений» Данте жаден к науке, к знанию (miocupidoingegno—
Par., V, 89; тоже не учтено в словаре Зибценера-Виванти). Если
кому-либо «гений» Данте готов следовать, то, в известных
пределах, — античным поэтам. В отношении речей Вергилия
Данте однажды употребляет выражение— mioseguaceingegno
(Purg., XVIII, 40; этот интереснейший случай также обойден
Зибценером-Виванти). Данте говорит (в связи с оценкой изо¬
бражений в чистилище) о требовательном и тонком «гении»
(unoingegnosottile— Purg., XII, 66; нет у Зибценера-Виванти)—
требовательном ценителе искусства. Здесь у Данте намечается
проблема просвещенной публики, к которой обращались ренес¬
сансные поэты и художники. Прямым развитием этой мысли
было Боккаччиево противопоставление задачи «dilettargliocchi
degliignoranti » (угождать глазам невежд) у художников прошло¬
го (т. е. средних веков) задаче «compiacerealio ’ntellettodesavj »
(писать в соответствии с пониманием разумных) у художников
нового времени, т. е. Возрождения («Il Decamerone, VI, 5.См.
ниже, стр. 45-46).
церковной системы грехов, изложить гуманную классификацию престу¬
плений в «Этике» Аристотеля. Подобной же ссылкой на мнимую непонят¬
ливость своего ingegno (Purg., IV, 78; отсутствует у Зибценера-Виванти)
Данте дает возможность Вергилию объяснить, почему на Южном полу¬
шарии экватор расположен на севере. К этой группе должен быть отне¬
сен упрек Беатриче Данте, не сразу понимающему сложный символизм
древа познания (Dormelo* ngegnotuo. — Purg., XXXIII, 64. Также отсут¬
ствует у Зибценера-Виванти), который вызывает сочувствие не к Беатри¬
че, а к Данте. Сюда же относится и похвала со стороны св. Петра, гово¬
рящего, что если бы всё так усвоили вероучение, как Данте, то—«nonv’
avrialocoingegnodisofista» (Par., XXIV, 81; поЗибценеру-Виванти: 2.
«ingegnosità, spirito acuto anche in senso cattivo»; тамже, стр. 307).
* Ha рубеже этих двух категорий стоит случай, когда Данте, увидев кресто¬
образный знак на Марсе, вспоминает нравственную «лучезарность распя¬
тия» и признается, что его творческое воображение (lo’ngegno) побежде¬
но; оно не может передать этого образа, живущего в памяти: «Qui vince
la memoria mia lo ’ngegno. // che’n quella croce lampeggiava Cristo» (Par.,
XIV, 103-104.Отсутствует в словаре Зибценера-Виванти).
698
Н. И. БАЛАШОВ
«Памятник» Горация или финал «Метаморфос» Овидия, либо
помнил « Cedantcarminibusregesregumquetriumphi» («Amores»,
I, XV, 33), те или иные стихи позднейших римских поэтов. Ус¬
ловия, в которых творил Данте, возродили у него понимание
высокой общественной миссии поэта, «главою непокорной»
вознесшегося выше царей и пап. У Данте концепция величия
поэта еще не вылилась в основательный трактат, как в XIV кни¬
ге «Генеалогии богов» или в лекциях о «Комедии» Боккаччо,
но выражена она достаточно решительно.
Боккаччо обострил ренессансный характер апологии поэзии,
противопоставив поэта как феодальному государству и сослов¬
ной иерархии, так и буржуазному стяжательству*, единым,
согласно Боккаччо, в своей враждебности искусству. Боккаччо
настаивает на низком происхождении Горация (которое тот под¬
черкивал и сам**) и других великих поэтов. «Гомер был низкого
рода... отец его в простом кабаке распивочно (aminuto) торговал
вином, а мать продавала зелень на рынке, как наши зеленные
торговки» ***. Эти легенды Боккаччо приводит неспроста, но что¬
бы тут же показать истинное величие поэзии в противопостав¬
лении суетности преходящего величия государств, напоминая,
как Гомер «сказал Гермолаю, царю или точнее тирану Афин...
что за все его царство не дал бы ни малейшего слога ни из одно¬
го из своих стихов» (Esposiz., р. 156). К такому же, если не бо¬
лее резко выраженному противопоставлению Боккаччо возвра¬
щается несколько раз. Не ограничиваясь примерами Горация
и Грмера («poverissimoHOTO e dinazione(3flecb род. — Н. Б.)
umilissima»), он называет многих античных поэтов, особо оста¬
навливаясь на Вергилие, «гений (ingegno) которого отличался
таким совершенством, что, будучи сыном гончара, Вергилий,
по единодушному решению сената, который тогда вершил судь¬
бами мира, был увенчан теми же лаврами, что и Октавиан Це¬
зарь, повелитель всего мира» ****. Не нужно думать, что Боккаччо
приравнивает великого поэта к известному деспоту. «Пирамиды
царского строения» и «александрийские столпы» были нужны
поэтам лишь для наглядного изображения масштабности вели¬
* См. выше, стр. 13, прим. 5; Esposiz., р. 683.
** ...libertinopatrenatum (Sat., I, 6, 45).
*** Esposiz., p. 192.
**** Esposiz., p. 684-685.
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
699
чия поэзии. Когда дело доходит до современности (nost rit empi),
противопоставление поэтов и царей делается у Боккаччо осо¬
бенно отчетливым. Можно ли сказать, — спрашивает он, — что
имя Петрарки постоянно на устах итальянских государей? «...
Non dico de’ prencipi cristiani, li quali li piu sono oggi idioti...»
(«не скажу этого о христианских государях, которые ныне в сво¬
ем большинстве невежды » *).
Эти суждения находятся в полном соответствии с мыслями
Данте, ingegnoKOToporo в «Комедии» на деле творил суд над го¬
родами и над царствами. Если вернуться к обращению к Музе
из XVIII песни «Рая», видно, что Данте отстаивает в принципе
такое право за поэтом. Недаром, вслед за приведенным обра¬
щением к Музе он помещает на небе наставительную надпись
царям: «Diligiteiustitiamquiiudicatisterram»**, а в следующей,
XIX, песни предает позору сонм современных королей, воглаве
с самим императором Альбрехтом I, «в пустыню обратившим
царство Пражское» (117).
В обращении к Музе Данте употребляет чрезвычайно ха¬
рактерное выражение. Он хочет, чтобы она явила свою мощь
(paiatuapossa). Это слово — мощь — определенно характеризу¬
ет дантовское понимание поэтического гения. Обращение к по¬
нятию «мощь» вновь наводит на мысль о близости этого места
к «Памятнику» Горация, где было употреблено то же понятие,
причем в слове того же корня: «ex humilipotens» («из ничего мо-
гущ»***, согласно переводу В. Я. Брюсова).
Вместе с тем Данте, говоря о мощи поэтического гения, не за¬
бывает и художественной, эстетической стороны: явить мощь
должно в отточенной и сжатой форме «этих кратких стихов»
(inquestiversibrevi).
С сознанием мощи, важности общественной миссии поэтиче¬
ского гения у Данте соединено чувство благородной гордости.
* Esposiz.» р. 685.
** «Возлюбите правду, судящие землю» — слова, открывающие книгу пре¬
мудрости Соломони.
*** Свободное, собственно дантовское расположение этих идей не исключает
Горациевых реминисценций. Можно вспомнить, например, что Державин
при подражании Оде 30 книги III («Памятник», 1795) несколько смягчил
политическую заостренность стихотворения Горация, но зато при подра¬
жании Оде 20 книги II («Лебедь», 1805) вместил в это второе стихотво¬
рение идею Горациева «Памятника»: «Оставлю под собой блеск царств»
и пр.
700
Н. И. БАЛАШОВ
Связывая происхождение своего дара с влиянием созвездия
Близнецов, под знаком которого он родился и которое счита¬
лось покровительствующим словесности и учености, Данте
гордо говорит о своем поэтическом Гении: «tutto, qualchesisia,
ilmioingegno» (Par., XXII, 114)*.
В открывающих вторую часть поэмы прославленных легко¬
стью и радостным ощущением свободы стихах непринужденно,
но решительно утверждается ренессансная концепция могуще¬
ства поэтического гения: «Percorrermiglioriacquealzalevele//
omailanavicelladelmioingegno» (Purg., 1,1-2)«Ладье гения Дан¬
те» с легкостью дается свершение невероятного, ни разу не со¬
вершенного до Данте ни одним человеком подвига (проникно¬
вение в чистилище), за попытку содеять который Одиссей и его
спутники поплатились жизнью**.
Гений измеряется подвигом, им совершенным, а такой под¬
виг, согласно представлениям современников Данте, превосхо¬
дил всякую меру. Данте понимал это. Он вложил в уста стражу
чистилища Катону гневный и недоуменный вопрос к пришель¬
цам: сломлены ли законы ада (т. е. законы, запечатленные
в ужасающей надвратной надписи), «иль новое решилось в гор¬
ней сени?» (Purg., I, 46-47). Вопрос Катона устанавливает по¬
истине гигантский масштаб, в котором Данте мыслил деятель¬
ность поэтического гения.
Катонов вопрос в несколько иной модуляции повторяется
в самом будто бы неподходящем случае, в молитве раскаяв¬
шихся гордецов в первом круге чистилища. Толпа этих душ,
среди которых есть художники, старшие современники Дан¬
те, считает нужным, если можно так выразиться, логически
обосновать (даже в молитве!) свой отказ бороться за дости¬
жение «царства божия» одними силами человеческого гения
(contuttonostroingegno— Purg., XI, 9)***ссылкой на ангелов,
* О пламенные звезды, о родник
Высоких сил, который возлелеял
Мой гений, будь он мал или велик.
Дж. Зибценер-Виванти не оценил пафоса этих строк и отнес значение сло¬
ва ingegnoB них к рубрике 1 (l’acutointelletto: «острый ум».).
Невнимание к ренессансной стороне творчества Данте повело к тому, что
Зибценером-Виванти обойдены и эти знаменитые стихи.
*** У Зибценера-Виванти отнесено к рубрике 3: «...mentelimana»,
с уточняющим переводом: «contutteleforzedelnostrospirito» (там же, стр.
307).
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
701
пожертвовавших своей волей богу. Стихи эти показывают, как
с истоков Возрождения складывалась основа для таких позд¬
нейших выступлений гуманистов, как трактат Пико делла Ми-
рандола «О человеческом достоинстве», определенно ставив¬
ший человека над ангелами.
Самым показательным для дантовского понимания Поэти¬
ческого гения должны считаться те случаи, где это понятие не¬
посредственно сопряжено с определением «alto», «altezza» —
«высокий», «высота».
В начале «Божественной Комедии» Данте обращается
за помощью к Музам и к своему высокому гению: «О Muse,
о altoingegno, orm’aiutate» (Inf., Il, 7). В позитивистской науке
Х1Хв., с трудом представлявшей себе ход мышления и смущаю¬
щую смелость титанов Возрождения, высказывалось сомнение,
«имеет ли Данте в виду свой собственный гений или, скорее,
человеческий гений вообще, гений как таковой»*. Важным фор¬
мальным основанием для этого служил комментарий Пьетро
ди Данте, писавшего, что отец «invocataltumingeniumingener
aleetabstracto».Однако само замечание сына Данте свидетель¬
ствует, что по этому вопросу велась полемика непосредствен¬
но после смерти поэта. Действительно, уже современники вос¬
принимали, это место ка!к оценку, данную Данте собственному
поэтическому гению: в Монтекассинском списке «Комедии»
к слову «ingegno» сделано примечание: «scilicetmei» (подразу¬
мевает себя**).Крупные исследователи нашего времени, напри¬
* L. С. Blanc, Vocabolariodantesco, ed. cit., p. 182.Сам Бланк писал:
«iopropendiperquest’ ultimaspiegazione» (там же). Зибценер-Виванти
по этому поводу высказал точку зрения, близкую нашей (см.: Diz., р. 307).
** См.: DanteAlighieri. LaDivinaCommediaconintrod. eilcommentodiE.
Camerini, Milano, Sonzogno, s. d. p. 31 и D. Giacomo Poletto. Dizionario
dantesco, Voi. III.Siena, 1886, p. 279.
Боккаччо считал само собой разумеющимся, что Данте имел в виду свой-
♦alto, ingegno», и комментировал этот стих как выражение концепции,
общей у него самого (noi) с Данте: «Индженьо человека, это — внутренняя
способность духа, с помощью которой мы во многих случаях отыскиваем
(«слагаем», «создаем» —troviamo) нечто новое, что мы никогда ни у кого
не заимствовали» (Esposiz., р. 102). Что Боккаччо понимал стих Данте
как обращение последнего к своему ingegno, с несомненностью доказы¬
вает следующий абзац, где, продолжая комментарий, Боккаччо пишет:
«Nonbastandosololo’ngegno... invocaancoralamentesua...» (там же, курсив
мой. — Н. Б).
702
Н. И. БАЛАШОВ
мер, А. Момильяно, считают несомненным, что Данте говорит
о собственном гении*.
Однако здесь должно быть сделано важное уточнение: аполо¬
гия общественной значительности поэта и даже гордое возвели¬
чение собственного гения у Данте, прокладывавшее путь свой¬
ственному новому времени пониманию роли культуры в жизни
общества, не имело никакого оттенка тщеславия или самолю¬
бования. Воздвигая себе как поэту «памятник нерукотворный»,
Данте был целен, чист и требователен к себе. Само понятие поэ¬
тического гения было во времена Данте оружием. Авторитетам
иерархическим противопоставлялся свободный авторитет поэ¬
та как выразителя передовой мысли эпохи, пробуждающегося
гения итальянской нации. Данте был точен, когда, желая утвер¬
дить родной язык, без самовозвеличения и без самоуничижения
писал в начале трактата «О народной речи»: «Для такого слав¬
ного питья мы черпали не только из одного источника нашего
гения (nonsolumaquamnostriingenii), но заимствовали и смеши¬
вали лучшее, что есть у других, чтобы из всего этого можно было
приготовить сладчайший медовый напиток» (Volg. el., 1,1).
Отсутствие какого-либо оттенка тщеславия в самоосознании
себя гением у Данте объясняется также тем, что согласно его мне¬
нию одной врожденной способности не было достаточно, чтобы
осуществить великое призвание поэта. Говоря о сложности соз¬
дания канцоны, Данте делает существенное обобщение: в этом
деле «никогда не может быть достигнут успех без подъема твор¬
ческой способности (sinest renuit at eingenii), упорства в овладе¬
нии ремеслом и навыка в науках. Так поступали те, кого поэт
в VI книге «Энеиды» называет любимцами бога, в пламенном
порыве возносящимися к небу, и детьми богов, впрочем выра¬
жаясь образно. По той причине обнаруживается неразумие тех,
кто, не имея навыков в искусстве и науке, но полагаясь на одну
только творческую способность (desolomgenioconfldentes),
устремляется возвышеннейшим образом воспевать возвышен¬
ное» (Volg. el., II, 4).
* «Oaltoingegno»: diquesta coscienzadisecisonomolte provenella Commedia:
V., p. es. 1, 87 (где Данте писал, что взял у Вергилия «lobellostilechem’
hafattoonore».— Н. Б.), elasignificativamateriadelgironedeisuperbinel
♦Purgatorio».— «La Divina Commedia commentata da A. Momigliano»,
vol. 1. Firenze, 1948, p.13.
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
703
Понимание необходимости соединения врожденной способ¬
ности с искусностью и богатством познаний было связано у Дан¬
те с вопросом об ответственности и о внутренней дисциплине ге¬
ния. В XXVI песни «Ада», задолго до встречи с Одиссеем, когда
Данте еще описывает трудность перевала в восьмой ров и общий
вид долины воздаяния ложным советчикам, он делает отступле¬
ние, насыщенное лиризмом и философичностью:
Allor mi dolsi, eora mi ridoglio
quando drizzo la mente a ciò ch’io vidi
e piu lo ingegno affreno ch’i’ non soglio,
perché non corra che virtù noi guidi;
si che, se Stella bona omiglior cosa
m’ha dato il ben, ch’io stessi noi m’invidi*.
(Purg., XXVI. 19-22)
A. Момильяно в своем комментарии (указ.изд., т. 1, стр.
188) резонно связывает это место с эпизодом Одиссея в «Коме¬
дии», видя в нем доказательство автобиографичности эпизода.
Об этом будет сказано ниже (гл. III). Здесь же важно, что Дан¬
те имеет в виду самодисциплинирование гения, прежде всего
в аспекте задач земной жизни, достижение которых обеспечи¬
вается добродетелью (virtù). Вспомним мнение самого Данте,
что добродетель не может обеспечить достижения небесного
блаженства (adquampropriavirtusascenderenonpotest — Mon.,
Ill, 16). У Данте говорится к тому же, что вообще он не имеет
обыкновения (iononsoglio) Ктакой мере обуздывать свое даро-
* Этот случай употребления слова ingegnonponyiijeH в словаре Бланка (и,
конечно, у Зибценера-Виванти).
Тогда страдал я и страдаю снова
Когда припомню то, что я видал;
И взнуздываю ум сильней былого,
Чтоб он без добрых правил не блуждал,
И то, что мне дала звезда благая
Иль кто-то лучший, сам я не попрал.
Подстрочный перевод стиха 21: «Ия сильнее обуздываю свое дарование
нежели имею обыкновение (это делать)».
Так же, как Данте, думал и Боккаччо (ср. прим. 71 к стр. 39). Комменти¬
руя стихи 7-8 второй песни «Ада», он пишет, что для творчества, поми¬
мо ingegno, необходим еще и рассудок («душа в ее способности познавать
и понимать». — Esposiz., р. 103).
704
Н. И. БАЛАШОВ
вание в соответствии с virtu, и ясно, что поэт не мог подразу¬
мевать постоянного нарушения «теологических добродетелей»
(virtutestheologicae: вера, надежда, любовь). Следовательно, са¬
модисциплина гения для Данте связана с гражданской жизнью
общества. Сравнение «либо кесарь, либо поэт» (о cesareo poeta—
Par., 1, 29) точно определяет мысль Данте об ответственности
поэта за земную жизнь человеческого общества во всемирном
масштабе. Как это ни странно, но Данте, описавший странствие
в загробный мир и насытивший свою поэму пророчествами,
был согласен сравнивать поэта с утопическим всемирным граж¬
данским правителем, но не со вселенским духовным пастырем.
Когда борьба пап с императорами за светскую власть отошла
в прошлое, сопоставление поэта с кесарем потеряло всякий
смысл и вновь вспомнили, что римляне именовали поэтов про¬
роками (vates). Вместо дантовского «о cesareo poeta» гремело
пушкинское «правдив и свободен их вещий язык», а у некото¬
рых народов, как например у испанцев или у поляков в эпоху
романтизма, понятие великого поэта и пророка сливалось в од¬
ном слове «vate», «wieszcz», и за словом vatesвoзникaлo иное,
но вновь гражданское, понятие tribunusplebis.
Проблемы самодисциплины и гражданской ответственно¬
сти гения не снимали для Данте вопроса о значении поэтиче¬
ской гениальности. Пробуждающийся гений открывал ренес¬
сансному человеку пути в новый мир. В известном рассказе
из «Пира», где Данте говорит, как, обратившись в поисках уте¬
шения к чтению античных философов, он пережил под их воз¬
действием полный духовный переворот, поэт свидетельствует,
что его ingegnooT4acTH предварил результаты занятий и этот
переворот: «силою дарования я будто в полусне уже заранее
видел многое: судить об этом дает возможность «Новая жизнь»
(Conv., II, 13).
Суммарная оценка величию человеческого гения, расцвету
поэзии начала Треченто и собственному поэтическому гению
дана Данте в сцене встречи с отцом поэта Гвидо Кавальканти.
Увидев живого человека в аду, Кавальканти-старший не удив¬
ляется тому, что Данте peraltezzad’ingegno(BbicoTofi, величием
гения) преодолел божий запрет, но лишь тому, что другой слав¬
ный поэт века, его сын Гвидо Кавальканти, не преодолел запрет
господень:
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
705
...Если в этот склеп слепой
Тебя привел твой величавый гений,
Где сын мой? Почему он не с тобой?*
Появление одного поэта, преодолевшего пределы возможного
и рвущего тысячелетние путы, не удивляет старого Кавалькан¬
ти. Удивление высказано по поводу того, что такой титан только
один! Едва ли мыслимо более определенно выразить дух великой
эпохи, «которая нуждалась в титанах и породила титанов...».
Принципиально ренессансный характер этого эпизода, одна¬
ко, не был в полной мере выявлен критикой. От сути вопроса,
что человек способен «peraltezzad’ingegno» проникнуть в поту¬
сторонний мир, отвлекло сложное и грамматически хитро выра¬
женное объяснение, которое Данте (как персонаж «Божествен¬
ной Комедии») дает Кавальканти-старшему (ст. 61-63), почему
Гвидо не разверз, как Данте, адских врат. Понимать ли это так,
что Данте, любившему античных поэтов, помогло заступни¬
чество Вергилия, или что самым важным здесь было предста-
тельство Беатриче, это все равно не снимает существа вопроса.
Великий поэт может «peraltezzad’ingegno» вступать в спор с бо¬
жественной властью («Fecemiladivinapotestate» — написано
на вратах ада). Мощь поэта (possa— Par., XVIII, 87) нужна ему
нетолько, чтобы давать земную славу городам и царствам, или
судить пап, императоров и королей (что само по себе било беско¬
нечно смело!), но эта мощь имеет и высшее истинно ренессанс¬
ное предназначение: преодоление «peraltezzad’ingegno» уста¬
новленных средневековой традицией искусственных границ
возможного содержало в зародыше дух Колумба и Коперника.
Данте сознавал символическое величие задачи проникнове¬
ния в потусторонний мир, ранее осуществленный якобы Энеем
и апостолом Павлом**: «Io nonEnea, iononPaolosono» (Inf., Il,
* ... Seperquestocieco
carcerevaiperaltezzad’ingegno,
mio figlio ov’è? perché non è ei teco?
(Inf., X. 58-60)
Зибценер-Виванти не уловил значения, которое придается слову
«ingegno» выражением «altezzad’...» и чисто формально включил данный
случай в рубрику 3 (mentehumana— р. 307).
** О легендарном нисхождении в Аид Одиссея Данте, должно быть, не имел
ясного представления, а преданиям такого рода об Орфее и Геракле
не придавал значения.
706
Н. И. БАЛАШОВ
32). Смирение Дантев этих словах паче всякой гордости. Особо
должно быть отмечено сопоставление со св. Павлом. Данте мои
иметь в виду распространенное в средние века «Видение св. Пав¬
ла»*, но должен был считаться со вторым «Посланием к корин¬
фянам» (XII, 1-5). Св. Павел там, собственно, не говорит, что
был вознесен на небо. Напротив, он говорит, что ему неполезно
хвалиться собой, но что он может похвалиться известным ему
человеком, который был вознесен до третьего неба: «... он был
восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых чело¬
веку нельзя пересказать. Таким, (человеком) могу хвалиться...»
Данте понимал, что взялся за подвиг, перед которым скло¬
нялся сам апостол Павел. Причем апостол ясно сказал, что
«ineffabiliaverba... nonliceathominiloqui», а Данте берет на себя
свершение невозможного по св. Павлу — пересказывает людям
в своей поэме «неизреченные слова».
В преодолении господнего запрета «peraltezzad’ingegno» за¬
ложена идея сравнения человека с богом. Начало Треченто это
далеко еще не бурные времена Пико делла Мирандола, и ка¬
жется невероятным, что подобные идеи могли возникать у со¬
временников Данте. Однако они возникали и у самого Данте.
В «Пире», аллегорически трактуя историю Марции (разошед¬
шейся с Катоном Младшим, но вернувшейся к нему после смер¬
ти своего второго мужа) как возвращение благородной души
на склоне лет к богу, — Данте ставит вопрос о возможности
человека являть, представлять (significare) бога. В категориче¬
ской форме Данте дает положительный ответ, не смущаясь даже
тем, что Катон, который, по его мнению, может представить
бога — язычник и самоубийца: «E qualeuomoterrenopiùdegnofu
disignificarelddio, cheCatone? Certonullo» (Conv., IV, 28).
Таким же важным для понимания во всей полноте Дантова
суждения об «altezzad’ingegno» является недостаточно оценен¬
ное утверждение Боккаччо, что сам Данте с его «силой гения
и последовательной настойчивостью», если бы он не встретил
* «VisioPauli», известное не только по-латыни, но также в версиях на на¬
родных языках (напр., во французском варианте, приписываемом поэту
XIII в. Адаму де Рос), восходит к греческому источнику IV в., связанно¬
му с апокрифическими апокалипсисами св. Петра и св. Павла. Видение,
описывающее загробный мир и казни грешников, могло поразить Данте
глубокой человечностью: грешники якобы вымолили еженедельное пре¬
кращение мук на пол субботы и на воскресенье.
Античные образы в «Божественной комедии» Данте 707
упорных врагов,— «на земле стал бы Богом»*. Высказывая
эту гиперболически заостренную и совершенно ренессансную
концепцию великого поэта, Боккаччо не только находился под
общим идейным влиянием мысли Данте о преодолении го¬
споднего запрета «peraltezzad’ingegno», но помнил и самые
слова Данте, которые у него вольно или невольно повторены:
« perforzadingegno ».
Приведенное рассуждение Боккаччо свидетельствует о том,
что новая дантовская высокая концепция безмерных возмож¬
ностей и общественной значительности художественного гения
прочно вошла в арсенал ренессансной мысли.
III
ДАНТЕ И АНТИЧНЫЕ ПОЭТЫ.
ЭПИЗОД ОДИССЕЯ В XXVI ПЕСНИ «АДА»
И ПРЕОДОЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЗАМКНУТОСТИ
Для уяснения проблемы «Данте и Возрождение» важен со¬
прикасающийся с вопросом о понятии гения вопрос о взгляде
* «E seobstanticotantie cosifattiawersari, quantiequalidisoprasonostatim
ostrati, egliperforzad’ingegnoediperseveranzariuscichiaroqualnoivegghia
mo; chesipuosperarech’essofossedivenuto, avendoavutoaltrettantiaiutato
ri, о alraenoniunecontrario, о pochissimicomehannomolti? Certo io non so;
ma se lecito fosse a dire, io direi: che egli fosse in terra divenuto uno Iddio»
(Boccaccio. La Vita di Dante, § 5).
Мысль Боккаччо, что Данте, что великий поэт вообще, мог стать Богом
на земле, еще смелее его похвал античной традиции почитать великих
поэтов как богов (см., напр., Esposiz., р. 684), хотя уже такое одобрение,
традиции, возможной при политеизме, но совершенно не согласуемой
с христианским учением, также было ярким проявлением ренессансного
свободомыслия.
Выражение «perforzad’ingegno» Боккаччо прилагал к самым великим
деяниям, например, к откровению пророков Ветхого завета (Esposiz., р..
274), которое тогда считалось величайшим вкладом в духовную историю
человечества; это выражение Боккаччо употреблял применительно к Дан¬
те (в некоторой синтаксической модуляции), «силой гения которого»
(dellaforzadelsuoingegno, р. 102), были изменены прежние представления
поэтов об аде; оно могло под пером Боккаччо обозначать мощь творческого
воображения, возмещающую у античных поэтов ошибочность представле¬
ний, связанных с языческой верой: «quellocheipoetifinserofeceroperforzad
’ingegno.. .» («вымысел поэтов создавался силою их гения. ..» (Esposiz.,
р. 35-36).
708
Н. И. БАЛАШОВ
Данте на соотношение античной и современной ему поэзии и ис¬
кусства.
Одним из первых ясных высказываний, свидетельствующих
об осознании наступления новой эпохи в искусстве и характе¬
ра этой эпохи как возрождения античности, резонно считается
размышление Боккаччо (в пятой новелле шестого дня «Декаме¬
рона») о перевороте, совершенном Джотто в искусстве.
Боккаччо конкретизирует понятие художественного гения,
объясняя, почему Джотто « ebbeunoingegnodetantaeccelenz
za», и почему именно итальянский художник той эпохи может
с основанием рассматриваться как лучший живописец мира
(ilmigliordipintordelmondo). Боккаччо хвалит Джотто не только
за то, что тот писал так правдиво, что изображения принима¬
ли за действительность, но считает нужным остановить внима¬
ние на духовности его искусства. Джотто, по Боккаччо, велик
тем, что обращался своей живописью не к внешним чувствам,
а к интеллекту и разумению людей.Отсюда Боккаччо делает
вывод о возрождении в творчестве Джотто искусства после мно¬
говекового упадка, т. е. впервые формулирует идею Возрожде¬
ния: «... avendoegliquellaarteritornatainluce, chemoltisecoliso
ttoglierrord’alcuni, chepiuadilettargliocchidegliignorantichea
’compiacerealio ’ntelettode’ savjdipignendo, erastatasepulta...»
(Dec., VI, 5)*.
Следует обратить внимание на то, что Боккаччо относит воз¬
рождение искусства собственно, не к своему времени, а на пол¬
столетия раньше— к эпохе Джотто и Данте.
Самому Данте также, хотя не в такой степени как Боккаччо,
было свойственно теоретическое понимание того, что наступает
новая эпоха в искусстве. Об этом можно судить уже по заключе¬
нию первой книги «Пира», где поэт, очевидно, говорит не про¬
сто о смене литературного языка, но и о становлении новой, бо¬
лее доступной и близкой народу литературы**: «Это будет новый
* «...он снова вывел на свет искусство, в течение многих столетий
погребенное по заблуждению тех, кто писал; желая скорее угодить глазам
невежд, чем пониманию разумных...» (пер. А. Н. Веселовского).
** В статье«Duecapitolidifìlosofiadantesca. II. Illinguaggio» .Бр. Нарди писал,
что Данте ясно понимал «corrispondenzatrai ’espressionevolgareeisentime
ntidell’animadelpopolo...» Цит. покн.: Gaetano Scarlatta. Le origini della
letteratura italiana nel pensiero di Dante. Palermo, 1929, p. 30. Скарлатта
приводит еще более острое суждение Сальваторе Сантанджело (и солида-
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
709
свет, новое солнце, которое поднимется там, где дряхлое зай¬
дет. Новое солнце даст свет тем, кому дряхлое солнце не светит
и кто обречен на мрак и темноту» *.
Не исключено, что к этим строкам Данте восходит импульс,
породивший Боккаччиев оборот « rit ornât ainluce».
Как ни понимать образ «привычного», «дряхлого» солнца
(то ли как средневековую латынь и литературу на ней, то ли как
средневековую литературу на итальянском языке — как твор¬
чество таких поэтов, как Гвиттоне), все равно ясно, что Данте
осознавал, что начинается новая культурная эпоха («новое
солнце») и что она принесет свет множеству людей, «которым
дряхлое солнце не светит». Таким образом, утрированное об¬
винение против Данте, которое было засвидетельствовано уже
в начале XV столетия в диалоге Леонардо Бруни, будто Данте
«был поэтом для сапожников и для булочников», действитель¬
но отразило присущую великому поэту тенденцию к новой, об¬
щественно значимой, воздействующей на широкий круг людей
поэзии.
Чтобы разобраться в вопросе, в какой мере Данте отдавал
себе отчет, что с его времени начинается новый период в поэзии,
эпоха, преемственно связанная с античностью и противостоя¬
щая эпохе delsoleusato, полезно обратиться к анализу встречи
с античными поэтами в лимбе ада. Интересную сжатую характе¬
ристику этой сцены дал Аттил ио Момильяно, писавший: «Дух
этой сцены — гуманистический; но вкус и анахронистические
формы, ей приданные, — чисто средневековые»**. Определение
это было бы более точным, если во фразе А. Момильяно пере¬
ставить ударения в соответствии с тем, что в сцене с поэтами яв¬
ляется исторически более важным и поразительным для своего
времени. Иными словами, должно было бы сказать, что образы
античных поэтов представлены здесь Данте отчасти в манере
средневековой дидактической поэзии, но дух сцены совершенно
гуманистичен.
ризируется с ним), что Данте под «новым солнцем» прямо подразумевает
свое творчество и творчество своих современников (р. 32-33).
* Questosaràlucenuova, solenuovo, loqualesurgeràlàdovel’usatotramonterà,
edaràluceacolorochesonointenebreeinoscuritàperlousatosolechealorononlu
ce» (Conv., 1,13).
** «La Divina Commedia commentata da A. Momigliano», vol. 1, p. 31.
710
Н. И. БАЛАШОВ
Заслуживает внимания замечание Джорджо Падоана, что
Данте в концепции лимба настолько «антиконформистичен»,
что порой смущает самого Боккаччо, не всегда знающего, как
объяснить подобную смелость*.
Данте не объединяет, как это делали в средние века, поэтов
и мудрецов (Inf., IV, 131-132). Он уделяет большое внимание
эстетическому началу, не отождествляемому с ученостью. По¬
эты, о мудрости которых, конечно, также говорится, играют
несравненно большую роль даже чем философы. При прибли¬
жении Вергилия в лимбе раздается голос (по-видимому, Гоме¬
ра): «Onorate l’altissimopoeta» (Inf., IV, 80), т. е.гений и здесь
почтен Данте имейно в обличии поэта (характеризуемого тем же
определением alto, что и ingegno). Сознание значимости и вы¬
сокой миссии поэта сказывается в том, что само имя «поэт»
воспринимается как высшая похвала, как понятие «великий
поэт»** (Вергилий говорит: «...Nelnomechesonolavocesola//,
fannomionore...»; 92-93).
Трепетное уважение соединяется у Данте с чувством родства
и доверия к художественному миру античности. Это в принципе
то же чувство, которое охватывает современного человека, всту¬
пающего через Пропилеи в Акрополь. Средневековые люди «не
замечали» античных развалин, их красоты, для них христиани¬
зированные Вергилий и даже Овидий были прежде всего учи¬
телями нравственности, такими же как полулегендарные семь
мудрецов. Понимание античной культуры как эстетической
нормы и образца развилось в эпоху Возрождения. Превознесе¬
ние Вергилия как поэта, превознесение самого имени «поэта»
было возрожденческим завоеванием Данте***.
Знаменитый стих, в котором Данте сообщает, что он вступа¬
ет в один ряд с пятью мудрыми античными поэтами****, поражает
не только ренессансным содержанием, ренессансной смелостью
* См.: Esposiz., р. 854, п. 56.
** Боккаччо с энтузиазмом поддерживает такую точку зрения: «быть поэ¬
том, признанным людьми, понимающими, что такое поэзия — это, без,
сомнения, была высокоторжественная почесть» (Esposiz., р. 206).
'** Весьма осторожный исследователь Герман Гмелин отмечает ренессанс¬
ную сторону в подходе Данте к античной поэзии (HermannGme lin.
DanteunddieromischenDichter. Deut schesDant е-Jahrbuch. Weimar, 1953,
Bd. 31-31, S. 42).
'** «sich’iofuisestotracotantosenna» (Inf., IV, 102).
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
711
дерзания*, но и ренессансной динамикой изображения. Здесь
запечатлен не только факт приобщения к возрожденной антич¬
ности, но и схвачен порыв к ней, т. е. ренессансный дух прони¬
кает в форму изображения.
Такое значение знаменитого стиха не вызывает сомнений,
«Этим стихом, — пишет Момильяно, — Данте отделяет себя
от современной литературы и помещает среди продолжателей
великого искусства античности; мы сказали бы теперь, опреде¬
ляет себя как гуманиста» (указ.соч., т. I, стр. 32). Действитель¬
но, как бы восстановив ряд, оборвавшийся тринадцать веков на¬
зад с гибелью Лукана, младшего из пяти изображенных в этой
сцене античных поэтов, Данте сам определил себя как поэта воз¬
рождения античности.
Рассказывая о своей беседе с древними поэтами, Данте пи¬
шет, что о вещах, о которых шел разговор, «хорошо умолчать»
(parlandocosecheiltacerèbello— Inf., IV, 104). К этому месту
по традиции делается чисто формальный комментарий**, повли¬
явший также и на переводы. Между тем, едва ли можно запо¬
дозрить Данте с его стремлением к предельной сжатости слога,
что он просто стал бы упоминать нечто, не достойное упомина¬
ния, ничего не подразумевая.
Насколько активна традиционная дантовская критика, ког¬
да можно надеяться продемонстрировать ту или иную право-
верно-католическую мысль Данте, настолько эта критика нема
и нерешительна, когда речь идет о его гуманистических идеях.
В плену такой традиции иногда оказываются даже такие вы¬
дающиеся ученые, как Франческо Флора. Имея в виду знаме¬
нитые строки: «И всякий наставленье да поймет, // сокрытое
под странными стихами» («Ад», IX, 62-63), Флора утверждал,
будто поэт «вряд ли имеет в виду некое неизвестное учение, ко¬
торое так и осталось навеки скрытым, если бы не его открове¬
ние, но общепризнанную школьную и церковную премудрость»
(malacomunedottrinadellescuoleedellaChiesa***). Однако, если б
не цепкая традиция, было бы ясно, что для истолкования сим¬
* Боккаччо энергично защищает право Данте на такую смелость (Esposiz.,
р. 206).
** Даже А. Момильяно пишет по этому поводу: « Вещи, о которых Данте мол¬
чит, потому что они не относятся к теме его, путешествия». — Указ, соч;,
стр. 32.
*** F. Flora. Storia della letteratura italiana.Milano, 1956, vol. I, p. 204.
712
Н. И. БАЛАШОВ
волики IX песни «Ада» как выражения «общепринятого цер¬
ковного учения», должно поступать в духе полного произвола.
Напротив, не нужно никакого насилия, чтобы представить себе
самые общие, конечно, контуры тем, на которые, выражаясь
фигурально, мог беседовать с античными поэтами новый поэт,
впервые после более чем тысячелетнего разрыва дерзнувший
и сумевший вступить в их круг! Если Данте пишет, что должен
промолчать, это отнюдь не означало, что ему нечего было ска¬
зать. Данте положил начало тому по-новому содержательному
«диалогу» с античным миром, который в течение трех последу¬
ющих столетий стал одной из важнейших особенностей гума¬
нистической итальянской и не только итальянской культуры.
Данте счел нужнымповедать, что он первым в новое время во¬
шел в круг поэтов древности, и так же счел нужным объявить,
что он вступил с ними в «беседу» :
portando cose che il lacer e bello,
si com’era 1 parlar colà dov’era.
Дантологи, в частности Поль Ренуччи (указ.соч., стр. 276-
277), обратили внимание, как за время работы над «Комедией»
росла осведомленность поэта в греческой литературе. Если в IV
песни «Ада» из греческих писателей назван один Гомер, да й
XXIII песни мимоходом упоминается «la favolad’Isopo» (V,
4), то в XXII песни «Чистилища» среди обитателей лимба, на¬
ряду с римскими поэтами (Теренций, Цецилий, Барий, Плавт,
Персий) Вергилий называет Антифонта, Эврипида, Симонида,
Агафона, «и многих, кто меж греков знаменит» (ст. 97-108).
Возрастало и восторженное уважение Данте к Гомеру «гре¬
ку, которого музы вспоили, как никогда никого другого» (ст.
101-102); оставалось только, как это и сделал Боккаччо в конце
1350-х годов с помощью грека Пилата, сесть за чтение Гомера
в подлиннике.
«Беседа Данте с античными писателями» шла столь интен¬
сивно, что через несколько лет, когда Данте писал вторую и, осо¬
бенно, третью часть «Комедии», он был готов распахнуть врата
христианского рая язычникам, открыв теперь Им путь к спасе¬
нию, который вначале он не решился указать своим любимым
вождям —Вергилию и Аристотелю.
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
713
Продолжительная «беседа с античными поэтами» привела
к тому, что Данте в такой степени переосмыслил изложенную
в приписывавшейся Дионисию Ареопагиту книге* христи¬
анскую небесную иерархию, что поместил в раю нескольких
из главных языческих богов, включив их в число небесных сил
и поручив им управление вращением соответствующих сфер
неба. На пути в рай ладье Данте парус надувает Афина, а правит
Аполлон (Minervaspira, e conducemiApollo... — Par., II, 8).
Данте положил начало сочувственному отношению к антич¬
ным языческим богам, без которого не мыслима культура Ре¬
нессанса и последующих эпох и которое означало, крушение
христианской веры в ее догматически-тотальной форме. Здесь
Данте вновь выступил как прямой предшественник Боккаччо
и его книги «Genealogiadeorumgentilium». Данте рассматри¬
вал языческих богов не как ложных богов, но как воплощение
несовершенного** представления язычников о небесных силах
или «интеллигенциях». В этом плане очень показателен ком¬
ментарий Данте к словам Пирра о богине Гере в «Фарсалии»
Лукана. Данте поясняет, что Пирр подразумевал под Герой
фортуну, добавляя, что «мы называем ее лучше и правильней
божественным провидением» (Mon., II, 10). В связи с подобного
рода высказываниями Поль Ренуччи замечает, что уже Боккач¬
чо вынужден был в оправдание Данте делать разъяснение будто
«всякий раз, когда Юпитер поминается по поводу какого-либо
славного деяния, мы можем и должны разуметь, что речь идет
о всемогущем Господе»***. Однако такое благочестивое по види¬
мости разъяснение не может спасти положение, когда Данте
с почтением говорит именно о Зевсе и его детях, а не о христиан¬
ском боге. Например, Ренуччи приводит стихи, описывающие
* Данте, несомненно, был знаком с латинским переводом книги «Perites
uranias hierarchies»: (входившей в « CorpusAreopagiticum»), в некотором
роде резюмированной поэтом и образах XXVIII песни «Рая».
** Это несовершенство, по Данте, обусловлено не просто тем, что язычники
жили до Христа, т. е. до «благодати», но и тем, что их общепризнанные
представления о богах не были достаточно философичны: «Язычники их
называли богами или богинями, так как понимали их не так философски,
как Платон» (Conv., II, 5). Принципиальное (для христианина) значение
благодати у Данте сглаживалось, поскольку он допускалвозможность пе¬
реходов, промежуточных звеньев (в данном случае, философия Платона)
между язычеством и христианством.
*** См.: Р. Renucci.YKa3.co4.; стр. 195 и сл. У Боккаччо —Esposiz., р. 98.
714
Н. И. БАЛАШОВ
наказание гигантов богами: «Я видел Тимбрея (т. е. Аполло¬
на), Палладу и Марса, еще в доспехах, стоящими вокруг своего
отца,.. » (Purg., XII, 31-32). Не менее удивительно молитвенное
обращение в начале «Рая» к Аполлону, считавшемуся в средние
века подручным сатаны. Эпитеты «odivinavirtù» (Par., I, 22),
«padre» (v. 28), которыми Данте наделяет Аполлона, смуща¬
ют всех комментаторов «Комедии»; даже Момильяно пытается
давать появлению этих эпитетов частные объяснения (напр.,
«Padre: padredeipoeti». — Указ.соч., т. III, стр. 532), хотя речь
идет о становлении более широкого и не могущего удовлетво¬
риться христианской догматикой взгляда на мир.
Этим новым, широким взглядом на мир объясняется такое
неслыханное дело, как вознесение язычников на небо в третьей
части поэмы Данте.
Пробой сил перед этим было во второй части поэмы оправда¬
ние Катона Утического и выведение на путь спасения римского
поэта Папиния Стация (ок. 45-98 н. э.). Стаций формально обя¬
зан своим негаданным спасением придуманной Данте версии,
будто тот был тайным христианином. Вопиюще дерзким и не¬
складным с богословской точки зрения вэтом предприятий спа¬
сения язычника было утверждение, будто христианином Стация
сделал язычник Вергилий! Стаций объясняет, что только благо¬
даря нравственному уроку «Энеиды» он не в аду (Purg., XXII,
27-54), и, наконец, прямо говорит Вергилию: «Pertepoetafui,
pertecristiano» (Purg., XXII, 73)*.
Чем дальше продолжалась «беседа с античными поэтами»,
тем больше Данте смелел. Удивительные примеры ренессанс¬
ной смелости мышления встречаются в «Рае». Вершиной дерз¬
кого своеволия Данте как нового человека было вознесение
язычников — императора Траяна и безвестного троянца Ри-
фея, жившего по преданию за 1200 лет до рождества Христова,
* «Ты дал мне петь, ты дал мне верить в бога...»
Недаром ученый-богослов Вентури, посвятивший свое издание «Боже¬
ственной Комедии» (Лукка, 1732) папе Клименту XII, осудил эпизод
со Стацием. По поводу готовности Стация заплатить продлением своих
мук в чистилище за честь жить на земле одновременно с Вергилием (Purg.,
XXI, 100-102) Вентури писал, что это немалая глупость, если душа, про¬
ходившая очищенье много сот лет, готова отсрочить вхождение в рай ради
суетного удовлетворения оказаться современником Вергилия. См.: Dante
Alighieri: La Divine Comédie par Artaud de Montor, 3me éd; Paris, 1878. p.
281.
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
715
в рай в самую сияющую точку неба Юпитера. Если для вознесе¬
ния Траяна, имевшего в средние века репутацию справедливо¬
го государя, хотя он был известен также гонениями христиан,
была хотя бы шаткая опора в предании*, история с вознесени¬
ем на небо Рифея поистине поразительна. Формальной основой
для этого беспрецедентного и неслыханного дела было сетова¬
ние Вергилия по поводу несправедливой судьбы этого, нигде
более не упоминавшегося троянца**. Во второй песне «Энеиды»
поэт в рассказе о гибели Трои, печально повествуя об обречен¬
ности самой героической борьбы, если ей не благоприятствуют
боги (Aen., II, 402), и перечисляя павших троянцев, в трех сти¬
хах поминает и некоего Рифея (Ripheus):
Повержен и Рифей, что был между троян
Светильник правоты и истины орган,
Достоин лучших дней (судили инак боги)
(II, 426-428; пер. В, Я. Петрова)
И вот Данте, исходя из суммарной рекомендации, данной
язычником язычнику (iustissimusunus) и, возможно, также
из крайне свободного толкования, данного adhoccловом «боги
судили иначе» (disalitervisum***), ломает принципы христи¬
анского богословия и возносит Рифея в рай (Par., XX, 67-72,
100-148). Невозможно всерьез предположить, будто Данте рас¬
сказом о вознесении Рифея укреплял мысль о неисповедимости
путей господних, ибо в таком случае любое отступление от бук¬
вы и духа церковного учения должно было бы рассматриваться
как утверждение веры. Опытный католический богослов Венту¬
ри оценивал вознесение Рифея как «безрассудно смелое пося¬
гательство»**** на основы веры и со своей точки зрения был прав,
так как пересмотр отношения к языческим богам, оправдание
* Существовал рассказ о том, что Траян однажды, хотя и неохотно,
согласился рассмотреть жалобу обиженной вдовы, что побудило папу
Григория молиться о спасении души Траяна.
** Само имя Рифей редко, но встречалось в греческих источниках. Сви¬
детельством этому служит упоминание Овидием среди множества сви¬
репых кентавров, перебитых Тесеем, гигантского Рифея: «Sternit...
etsummisexstantemRipheasilvis...» (Met., XII, 351-352).
*** См.: P. Renucci. Указ.соч., стр. 254-257.
**** См.: «La Divine Comédie par Artaud de Montor», ed. cit., p. 281.
716
Н. И. БАЛАШОВ
язычников у Данте — это явление, свидетельствующее об укре¬
плении возрожденческой идеологии в Италии началaXIV в.
Одна из важнейших вех в развитии ренессансной стороны
творчества Данте, это эпизод с Одиссеем. В отличие от сцены
с античными поэтами в IV песни, здесь, в XXVI песни «Ада»,
гуманистическое содержание облекается никак не в средневе¬
ковую форму, и рассказ о последнем плавании Одиссея пред¬
ставляет собой специфически ренессансную интерпретацию
(и развитие) античного предания. «При упоминании Одис¬
сея, — писал по этому поводу Фридрих Шнейдер, — ад мер¬
кнет, и мы переносимся в Грецию»*.
Если временно отвлечься от символической автобиографич¬
ности эпизода, то можно сказать, что Данте вдохновлялся до¬
шедшими до него через Горация, Вергилия, Овидия и других
писателей отзвуками «Одиссеи» Гомера** и некоторыми новыми
моментами, которые сказания об Улиссе приобрели в средние
века. Легенды об Улиссе полностью не умерли, и ему припи¬
сывалось плавание за Геркулесовы столпы. В VII в. у Исидора
Севильского Olisipo(coBp. Лиссабон) именуется Ulyssipona, т. е.
рассматривается как город, основанный Одиссеем***.
Однако основу рассказа о последнем плавании Одиссея Дан¬
те взял из жизни итальянских моряков****, подобно тому, как для
живейшей сцены с бесами и кипящей смолой во рву мздоимцев
поэт почерпнул материал из повседневной жизни большой вене¬
цианской верфи (Inf., XXI, 7 и сл.). Данте гениально обобщил
данные об опыте предвозрожденческих атлантических море¬
ходов и, переработав их в своем творческом воображении, дал
пророческую картину эпохи великих открытий и нового, колум¬
* Fr. Schneider. Die Tragödie des Odysseus (Inf., XXVI) in: «Deutsches Dante-
Jahrbuch». Weimar, 1951, 13d. 29-30, S. 205.
** Сам Гомер не рассказывал о странствиях Одиссея после возвращения
на Итаку. Но тень Тиресия предсказывает герою новые скитания, хотя
обещает: «...смерть не застигнет тебя на туманном // Море...» («Одиссея»,
XI, 120-137 и XXIII, 265-284). Греческие поэмы, в которых описывались
позднейшие приключения Одиссея, не сохранились.
*** Об основании Одиссеем на Пиренейском полуострове городов Odÿsseia и
Olysipóncoo6n^ еще Страбон. См.: J. Wilhelm. DieGestaltdesOdysseusinD
antesGottlicherKomödieinDDJ. 1960, Bd. 38, S. 84.
**** Наиболее известным фактом такого рода является генуэзская экспедиция
1291 г., снаряженная на двух галерах Тедизио д’Ориа и братьями Уголино
и Вадино де’Вивальди, участники которой пропали без вести.
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
717
бовского типа человека*. «Dante, hatdenEntdeckerentdeckt!», —
восклицает Фр. Шнейдер**. Айша Гелль писала, что «у Одиссея
Данте нет прообраза в средневековой поэзии, и он является, так
сказать, первым воплощением «Фауст-проблемы»...»***.
В поэме Данте оговорено, что морской подвиг, на который
Одиссей увлек своих состарившихся спутников, не поставлен
ему в вину****, и Одиссей несет равную с непричастным к этому
делу Диомедом кару за прежние лукавые советы (взятие Трои
хитростью и др.).
Угроза гибели, с самого начала нависшая над отважными
мореплавателями, имеет не только характер роковой неизбеж¬
ности, но правдиво отражает бесчисленные опасности, с ко¬
торыми были сопряжены великие географические открытия,
осуществленные ценою огромных жертв. Эта угроза оттеняет
спокойный героизм мореплавателей, прокладывающих дорогу
в неизвестное.
Ничто не могло смирить внутренний огонь*****, который по¬
буждал Одиссея к исследованию мира. В образе Одиссея и его
спутников Данте сознательно противопоставляет человече¬
ское начало животному. В критике уже отмечалось, что эти об¬
разы противостоят погрязшему в похотях вору Ванни Фуччи,
кричавшему, что ему нравится жить по-скотски, а не по-чело¬
вечески (vitabestialmipiacqueenonumana— Inf., XXIV, 124).
* Подобная точка зрения получает большое распространение, хотя из нее
обычно не делаются общие выводы о соотношении Данте и Возрожде¬
ния. Юлиус Вильгельм пишет, что «diemeistenlnterpreten» рассматрива¬
ют речь Одиссея у Данте как «гимн свободе человеческого духа, первое
провозглашение ренессансного стремления к открытиям и фаустовской
жажды познания, свойственной новому времени», и настаивают «на про¬
тиворечии со средневековым складом мышления» (J.Wilhe 1ш. Указ,
соч., S. 82). Сам Юлиус Вильгельм не полностью разделяет эту точку зре¬
ния (см.: S. 86-87).
** Fr. Schneider. Указ.соч., S. 219.
*** AischaHell. OdysseusbeiDante.DDJ, 1960, Bd. 38, S. 96.
'*** ОЬи не может быть, по Шнейдеру, поставлен в вину Одиссею с точки зре¬
ния Данте, «потому что Одиссей не мог решительно ничего знать о чисти¬
лище, и его путешествие— это лишь опыт проникновения в мир, не до¬
ступный для смертных» (Fr. Schneider. Указ.соч., стр. 222).
*** ..мой голод знойный
Изведать мира дальний кругозор
И все, чем дурны люди и достойны.
(«Ад ».XXVI, 97-99)
718
Н. И. БАЛАШОВ
Речьже, которую произносит Одиссей, когда его корабль вы¬
ходит за Геркулесовы столпы, на простор Атлантики, — одно
из удивительнейших творений мировой литературы. В не¬
скольких кратких стихах выражена гуманистическая концеп¬
ция жизни, посвященной до последнего мгновения подвигу
и знанию. «Люди, которые еще недавно были горстью ловких
искателей приключений, — пишет Поль Ренуччи, — высту¬
пают как достойная удивления делегация рвущегося вперед
и героического человечества» (указ.соч., стр. 211). «Одиссей
ищет не приключений, но знания» *. Идея «Пира», что «наука
есть высшее совершенство нашей души», высказана здесь без
всяких схоластических наслоений, обращена к практическо¬
му освоению мира, порождает организованную волю к дей¬
ствию:
«О братья, — так сказал я, — на закат
Пришедшие дорогой многотрудной!
Тот малый срок пока еще не спят
Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны,
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный.
Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли
Но к доблести и к знанью рождены».
Товарищей так живо укололи
Мои слова и ринули вперед,
Что я и сам бы не сдержал их воли.
(«Ад», XXVI, 112-123)
Плаванье и крушение корабля Одиссея можно понимать
не только в фигуральном смысле (попытка живым достичь зем¬
ного рая и ее невозможность), но и в самом прямом. Корабль
Дантова Одиссея лег за Гибралтаром на тот классический курс,
который позже, в эпоху великих открытий, держали Жан де
Бетанкур, Бартоломе Диас, Колумб, Васко де Гама. Затем ко¬
рабль Одиссея, «все время влево уклоняя ход» (ст. 126), пошел
будущим путем Васко де Гама, и шел пять месяцев (ст. 130),
т. е. то же время, которое позже действительно потребовалось
* Fr.Schneider. Указ.соч., стр. 211.
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
719
Васко, чтобы достичь мыса, прозванного Диасом мысом Бурь
(о cabodasTormentas; позднейшее прозвание — мыс Доброй
Надежды — было дано мысу как своего рода заклинание). Еще
два споловиной века спустя после Данте бесстрашный Камоэнс,
сам здесь проходивший, сделал опасный мыс местопребывани¬
ем Гиганта Бурь — Адамастора, который препятствовал даль¬
нейшему плаванию кораблей. Там, где, по Данте, нашел гибель
Одиссей, начинался необоримый для парусных судов Южный
океан, те «ревущие широты», освоение которых стало возмож¬
ным лишь в XIX — XX вв.
Данте, несомненно, опирался на сведения, почерпнутые
из рассказов безвестных мореходов: ведь даже у подымающей¬
ся среди океана высокой горы («Я не видал еще такой огром¬
ной» , ст. 135), при приближении к. которой потерпел крушение
корабль Одиссея, есть вполне реальный прототип. Пик Тейде
на острове Тенерифе лежит прямо на курсе Одиссеева кора¬
бля (конечно, значительно ближе, чем мыс Бурь). Он взмыва¬
ет прямо из океана на высоту 3710 м, и действительно должен
был казаться огромным среднеземноморским морякам, высо¬
чайшими вершинами для которых был Олимп (2912 м) и Этна
(ок. 3000 м).
Разрушение старого представления о «круге земель»
(orbisterrarum) было одной из характерных особенностей эпо¬
хи Возрождения. Но Данте не географ и не путешественник,
и разрушение это он мыслил не только в пространственном
смысле. Его не удовлетворяла и этическая замкнутость в пре¬
делах христианского мира, его волновала проблема такого
мироустройства, при котором путь к блаженству не был бы
заранее преграждай ни древним язычникам, ни современным
иноверцам. Орел в небеЮпитера у Данте — это не просто орел
римской империи, Данте хочет превратить его в символ неко¬
его мирового утопического справедливого государства*, созда¬
* Эта мысль, с большой настойчивостью утверждается в первой речи Орла
в XIX песни «Рая», Ст. 13-18:
♦За правосудье, — молвил он сначала, —
И праведность я к славе вознесен,
Для коей одного желанья мало.
Я памятен среди земных племен,
Но мой пример в народах извращенных,
Хоть и хвалим, не ставитсяв закон»...
720
Н. И. БАЛАШОВ
ваемого под девизом «любите справедливость», мысль о кото¬
ром терзала поэта*.
Орел прочел в мыслях Данте сомнения, выраженные поэтом
лишь косвенно, когда он говорит, что живет в «великом посте»
по отношению к справедливости, «не находя для нее на земле
никакой пищи» (Par., XIX, 25 и 27). Орел оценил трагизм поло¬
жения, если христианин не находит на земле «никакой пищи»
(ciboalcuno) для справедливости. Он произнес монолог-притчу
об ограниченности человеческого разума (и дна моря не видят,
но дно-то есть), а затем в третьем монологе ответил на вопрос,
якобы заданный Данте, хотя на самом деле поэт не осмелился
его высказать:
Ты говорил**: «Родится человек
Над брегом Инда; о Христе ни слова
Он не слыхал и не читал вовек;
Он был всегда, как ни судить сурово,
В делах и мыслях к правде обращен,
Ни в жизни, ни в речах не делал злого.
И умер он без веры, не крещен.
И вот он проклят, но чего же ради?
Чем он виновен, что не верил он?»***
(«Рай», XIX, 70-78)
Орлу нечего ответить. И на строго логичный вопрос Данте,
разбивающий узко догматические-представления о справед¬
* В ответе Орлу (ст. 31-33) поэт говорит:
Вы знаете...
... сомненье, тайных мук
Моей душе принесшее столь много.
** chétudicevi; по тексту же Данте ничего не говорил!
*** Эта проблема волновала Данте еще в; период написания «Пира». В проти¬
воположность характерной для средневековых религиозных споров дог¬
матической нетерпимости, Данте в гуманистическом ключе искал общие
черты у разных религий. Не только греко-римское язычество, но другие
религии он не противопоставлял, как тьму свету, но сопоставлял, видя
в них различные стадии познания истины. Например, говоря о вере в бес¬
смертие души, Данте проводил именно сопоставление: «Представляется,
что такой точки зрения придерживались все поэты, писавшие в соответ¬
ствии с языческой верой; эта точка зрения свойственна любому закону,
иудеям, сарацинам, татарам й всем другим, кто живет сколько-нибудь
разумно» (Conv., II, 9).
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
721
ливости, Орел отвечает банальным обвинением против самого
Данте. Ежели с формулировать это обвинение на современный
лад, то оно сводится к тому, что поэт ре средневековый, а ренес¬
сансный человек:
Кто ты, чтоб в судейском сев наряде,
За много сотен миль решать дела,
Когда твой глаз не видит дальше пяди?
Когда бы вас Писанье не смиряло,
Сомненьям бы не ведали числа.
(«Рай», XIX, 79-85)
Данте безмолвствует, а Орел, накормивший его таким пост¬
ным яством, кружа в вышине, утешает питомца:
... как невнятны
Тебе мои слова, так искони
Пути господни смертным непонятны.
(«Рай», XIX, 97—99)
Дальше поэт в своей жажде справедливости для всего мира —
христианского, дохристианского и внехристианского, в сво¬
ей жажде вывести справедливость за границы средневекового
круга земель, творит нечто невообразимо смелое. Поэт как бы
ловит небесного Орла на слове «о неисповедимости пути», и за¬
ставляет его (раз все равно пути неисповедимы) противоречить
самому себе. Орел еще раз в категорической форме повторил то,
что говорил раньше*, а уже в следующей, XX песни выясняется,
что в раю, — в глазе самого Орла (он состоит из праведных душ)
пребывают сияющие души двух язычников, Рифея и Траяна.
Должно быть на заре Возрождения было необходимо сломать
абсолютность обоих положений, высказанных Орлом, и пока¬
зать, что справедливость может быть распространена на дохри-
стиан и на нехристиан. Тому же, кто этого еще не был способен
* ... Сюда, в чертог небесный,
(никогда) Не восходил не веривший в Христа.
Ни ранее, ни позже казни крестной
(«Рай», XIX, 102-104)
722
Н. И. БАЛАШОВ
принять, Данте отвечает тем же аргументом о неисповедимости
провидения, которым Орел софистически ответил на вопрос,
почему праведные нехристиане должны неуклонно быть про¬
кляты. При этом поэт вкладывает второй ответ, прямо противо¬
положный первому, в уста того же Орла.
Спасение язычников взволновало Данте:
Но: «Как же это?» —сквозь мои уста
Толкнуло грузно всем своим напором.
«Хоть ты уверовал, что это так,
Как я сказал, — твой ум не постигает;
И ты, поверив, не рассеял мрак...»
(«Рай», XX. 82-90)
Принцип исключительности, обрекавший на проклятье всех
нехристиан, Данте разрушал не только примером Рифея и Тра¬
яна, но и прямо противоречившим догме, отразившейся в над¬
писи ада, положением о неокончательности божьего суда. Ока¬
зывается, не только люди, но сам небесный Орел еще не знает
окончательно всех удостоенных блаженства: «nonconosciamoan
cortuttilieletti» (Par., XX, 135).
Данте меняет представление о такой ужасающей идее, как
идея Страшного Суда. На время Страшного Суда приостано¬
вится действие надвратной надписи, и грешники получат наде¬
жду на пересмотр своей участи. Во всяком случае, нехристиа¬
не, по Данте, именно от Страшного Суда могут, наконец, ждать
справедливости: многие христиане в этот день станут «гораздо
менее близко (assaimenprope) От Христа, чем тот или иной, кто
его не знал» (Par., XIX, 106-108), таких-то христиан осудит
эфиоп (ст. 109*), а перс не сможет не обвинить многих христи¬
анских королей (ст. 112).
Как видно, Данте мыслил приобщение всех народов к спра¬
ведливости путем, прямо противоположным насильственной
христианизации. За два века до антифеодальных революций
XVI столетия в его мыслях закладывалась основа для идеологи¬
ческого переворота более радикального, чем Реформация. Сред¬
* Слово «эфиоп» Данте употребил в смысле африканец вообще, упустив
в данном случае из вида, что собственно Эфиопия — христианская страна.
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
723
невековый «круг земель »с его узкими представлениями и рав¬
нодушием к тому, что делается за его пределами, стал тесен для
поэта.
Данте и Дантов Одиссей — родственные души. Если пони¬
мать его плавание не только в прямом, но и в переносном смыс¬
ле, то Одиссей предваряет не только Колумба, но и Фауста,
и самого Данте. Выше приводились стихи из начала Одиссее¬
вой песни «Ада» (XXVI, 19-24 — «Allormidolsi...»), где Данте
как бы в сопоставлении с Одиссеем говорит о необходимости
«обуздывать свой гений». Можно не соглашаться с А. Момилья¬
но, что это «élamoraledelcantodiUlisse» (указ.соч., т. I, стр. 188),
но едва ли может быть не принято замечание этого ученого, что
«в речи Улисса к товарищам поется гимн идее, проходящей че¬
рез всю жизнь поэта» (там же). К этому нужно прибавить, что
Данте для изображениясвоего пути в чистилище и в рай при¬
бегает в обоих случаях к образу морского путешествия, а во II
книге «Рая», как бы повторяя своего Одиссея, говорит, что плы¬
вет водами, которыми до него никто не шел (L’acquachéiopren
dogiàmainonsicorse. — Par., II, 7. Ср. Purg., I, 130-132).Даже
на звездном небе рая Данте не забывает своего героя и, видя
с высоты океан за Кадиксом, вспоминает «шальной // Улиссов
путь» (Par., XXVII, 82-83).
Одиссей выражает «глубочайшие убеждения самого Данте» *;
движимый жаждой познания и доблестью, он надеялся достичь
со своими товарищами-язычниками земного рая, т. е. Одиссей
пытался разрешить тот же вопрос, который волновал Данте,
Одиссей был в более трудном положении, чем другие предше¬
ственники Данте, проникавшие в потусторонний мир, — Эней
и человек, которым хвалился апостол Павел. Одиссей ставил
перед собой большие задачи и действовал без какой-либо помо¬
щи неба (даже будучи, заранее осуждённым на вечные, муки),
полагаясь только на помощь своего человеческого гения. При
приближении к. заветной цели он погиб по воле еще не ведомого
ему бога: «так было угодно некому другому» — comaltruipiacque
(Inf., XXXVI, 141).
Данте считал, что он вернее, чем Одиссей, приуготовлен
к тому, чтобы проложить людям дорогу к счастью, но и он дол¬
жен был действовать «peraltezzad’ingegno», или, как говорит
* Fr. Schneider. Указ.соч., стр. 218.
724
Н. И. БАЛАШОВ
о нем Боккаччо, «perforzad’ingegnoediperseveranza». Данте
обозначает свое деяние и путешествие Одиссея не только одним
и тем же образом плавания по неизведанным морям, но и опре¬
деляет их одним и тем же абстрактным понятием «altopasso»
(высокий подвиг Inf., II, 12; XXVI,132). Больше нигде в «Коме¬
дии» этого выражения, стоящего в одном ряду с такими напол¬
ненными ренессансным содержанием понятиями, как «altezza»
d’ingegno, altissimopoeta», Данте не употребляет.
«Altopasso» — высокий подвиг Данте, открывший путь Воз¬
рождению, был величайшим деянием поэта и человека, ко¬
торого Боккаччо, предваряя высшую ренессансную похвалу:
«hewasaman» — назвал «splendidouomo»*.
* G. Boccaccio. La Vita di Dante. § 17.
€4^
Б. Г. КУЗНЕЦОВ
Данте
Глава из книги «Идеи и образы Возрождения»
Можно ли связать трагедию Данте, трагедию его изгнания,
его любви и его творчества с коллизией познания, с поисками
наличного бытия в безостановочном потоке становления? Мож¬
но ли ассоциировать трагедию Данте с апориями современной-
науки?
Для современной науки (под ней мы, как и раньше, понимаем
науку второй половины нашего столетия) характерно нарушен¬
ное классическое соответствие образа и логической дедукции.
Прежде всего апория бесконечных значений энергии и заряда
элементарных частиц, вытекающая из применения релятивист¬
ских соотношений к ультрамикроскопическому миру, означает,
что логическая дедукция приводит к фантастическому образу
частицы с бесконечной энергией, а непротиворечивый образ ча¬
стицы, где срезаются бесконечные энергии, остается пока не до¬
стигнутой целью науки. Это — только один пример и, чтобы
не входить в ненужные здесь специальные сюжеты, им следует
ограничиться. Классическая ретроспекция видела в специфи¬
ческом ренессансном отсутствии устойчивых инвариантов кар¬
тины мира чисто негативное определение научных представле¬
ний XIV — XVI вв. Сейчас новый угол ретроспекции позволяет
увидеть в таком отсутствии нечто тесно связанное с культурой
Возрождения, с ее позитивными определениями.
Возьмем политические идеалы Данте, его научные идеалы
и снизывающие то и другое этические, эстетические и эмоци¬
ональные особенности творчества. Данте смотрел на Флорен-
726
Б. Г. КУЗНЕЦОВ
циюХШ-XIV вв. как на средоточие наиболее значительных
политических событий и культурных ценностей эпохи. Вме¬
сте с тем он не жалел эпитетов в инвективах, адресованных
«...своей Флоренции желанной, вероломной, низкой, долго¬
жданной» — эта строка Анны Ахматовой очень точно переда¬
ет отношение Данте к родному городу. Его отношение остается
амбивалентным, когда речь идет обо всем мире, каким он был
на рубеже XIII — XIV вв.: сонет «Залит проклятым ядом целый
свет...» включает надежду на торжество правды и вселенский
мир*. Все построение поэмы отражает путь от мучений и пре¬
ступлении к гармонии. К общественной и моральной гармонии.
Но этот путь вместе с тем ведет к познанию тайн мироздания.
От «Ада» к «Чистилищу» и к «Раю» мировоззрение поэта рас¬
ширяется. Происходит такое расширение мировоззрения —
в прямом смысле этого слова — от Флоренции к Европе, ко всей
Земле и ко всему мирозданию. Изгнание вызвало у него и ре¬
плики о «радости видеть новые звезды и новое небо», апофеоз
движения и узнавания, и «горечь чужого хлеба и чужих лест¬
ниц»**. Но тут была и некоторая идейная подоснова. Знакомство
с миром, вплоть до самых последних тайн мироздания, не рас¬
крывало пути к моральной и общественной гармонии. Только
в XVII — XVIII вв. появилось представление о естественном как
об основе такой гармонии, причем естественное начали пони¬
мать как соответствующее законам природы. Тогда и начался
мощный ток от естествознания к общественной мысли, кото¬
рый достиг наибольшей интенсивности в XVIII в. у Вольтера,
а затем у французских материалистов. В XIV в. до этого было
еще очень далеко. Наука еще не пришла к новым, динамиче¬
ским инвариантам, претендующим на универсальный харак¬
тер. Синтез натурфилософии, морали и общественной мысли
происходил в поэтической форме. Но она раскрывала не столь¬
ко синтез, сколько их конфликт. Политический идеал Данте —
объединение Италии и всей Европы — не воплощен в какой-то
конкретный и устойчивый образ. Данте возлагает надежды
на самые различные варианты и видит, как они не реализуют¬
ся. Не реализуются и надежды на возвращение во Флоренцию;
трагическая личная судьба изгнанника и трагическая судьба
* Сонет 49, пер. E. М. Солоновича.
** См. об этом в ни.: Bérence F. Renaissance Italienne. 1966, p. 51.
Данте
727
его города, страны, мира — соединены. И то и другое сливает¬
ся в «Божественной комедии». Но выхода и здесь нет. Личная,
эмоциональная установка поэта не согласуется с новыми мо¬
ральными канонами, их еще нет, они возникнут позже, а ста¬
нут универсальными критериями оценок — еще позже. Образы
«Божественной комедии» принадлежат повой эпохе, а идеи еще
не вышли из круга средневековых канонов. Данте рисует пораз¬
ительный по глубине портрет Франчески — прообраз Фьяметты
и всего ряда любящих женщин Нового времени, но он не видит
моральных инвариантов, которые спасли бы Франческу от мук,
ее уносит вихрь, и Данте не в силах вынести конфликт между
повой тенденцией образа и старым каноном загробного возда¬
яния.
Почему Данте, выслушав рассказ Франчески да Римини,
«падает, как труп», почему терцины «Ада» выражают здесь
невероятное смятение, почему язык произведения становится
отрывочным и наиболее взволнованным? Причина в том, что
здесь — наиболее тяжелая коллизия всего творчества и всего
мировоззрения Данте. Он уже вышел из мира обязательных
и вместе с тем вызывающих эмоциональный подъем средневе¬
ковых концепций, религиозных и моральных норм, стоящих
над человеком и претендующих на абсолютный вневременной
и внепространственный характер. Он исходит из земных, чело¬
веческих критериев, меняющихся во времени и в пространстве.
Но в поисках отсутствующих пока новых универсалий, новых
общезначимых норм Данте возвращается к традиционным усто¬
ям, он знает, что любовь Франчески и Паоло подлежит нака¬
занию, индивидуальное бытие еще не стало критерием добра,
так же как в картине мира индивидуальные события здесь-те¬
перь еще не стали критерием истины. Но старые устои уже
не могут вызвать в душе Данте эмоционального подъема, они
сжимают его душу. Это еще очень далеко от протеста Ивана Ка¬
рамазова, отвергающего мировую гармонию, возвращающего
билет для входа в такую гармонию, если она игнорирует инди¬
видуальную судьбу страдающего, замученного человека. Дале¬
ко по радикальности протеста, но близко по ощущению колли¬
зии, по трагической компоненте познание реальности.
Но где же был выход из подобной коллизии? Не окончатель¬
ный, но вызвавший переход к ее новой форме, характерной уже
728
Б. Г. КУЗНЕЦОВ
для Постренессанса. Он состоял в превращении локального,
индивидуального элемента бытия в его определяющий момент.
Такой переход произошел в математике, физике, механике,
в общественных идеях, в стиле мышления и чувствах челове¬
ка. Возрождение было декларацией прав индивидуального,
Барокко и классическая наука — его апофеозом. Достоевский
называл «неглижаблем» человека, индивидуальная судьба ко¬
торого игнорируется вселенской гармонией. Но negligable уже
без кавычек, это — основа классических понятий в математи¬
ке, физике, общественных теориях (естественные нормы — это
нормы, естественные для конкретного человека, а не Человека
как абстракции в духе Августина Блаженного).
Средоточие «Божественной комедии» — образ Беатри¬
че. Прежде всего — образ. Он появился в сознании мальчи¬
ка, встретившего Биче Портинари в 1274 г. у Понте Веккио.
В том же алом платье еще более прекрасная, еще более конкрет¬
ная Беатриче появляется в «Божественной комедии», где ста¬
новится олицетворением высшего познания — познания всей
схемы мироздания. Это преобразование флорентийской, живой
БичеПортинари в Беатриче «Рая», Беатриче, от которой Дан¬
те узнает тайны вечного бытия, вызвало множество коммен¬
тариев, где образ, царивший в сердце Данте, рассматривается
как символ, как аллегория, подчас даже как символ традици¬
онного богословия. Но основное в указанной трансформации
имеет и противоположный смысл — очень глубокий, непо¬
средственно связанный с исторической миссией «Божествен¬
ной комедии» и Возрождения в эволюции познания. Структу¬
ра «Божественной комедии» — это иммортализация земного,
сенсуально постижимого, трансформирующегося, модального
бытия в вечное, которое перестает противостоять ему, а стано¬
вится объектом адекватного незнания. Вся природа как целое,
naturanaturans, оказывается тождественной naturanalurata.
Космос постигается земным, чувственным познанием, и в этом
смысле гносеология «Божественной комедии» — предшествен¬
ница гносеологической позиции Галилея, высказанной в его
замечании о человеческом познании, равном по достоверности
божественному, о чем речь впереди.
Переход от традиционного средневекового противопостав¬
ления человеческого и божественного познания с перекинутым
Данте
729
между ними откровением к новому человеческому, сенсуально¬
му и эмоциональному познанию истины в рамках civitaterrena,
десакрализация познания — характерная черта Возрождения.
Нельзя думать, что Средневековье отворачивалось от земной
жизни, земных эмоций, земной любви. Книга, которую читали
Франческу и Паоло, была средневековой легендой о Ланселоте
и Джиневре. Но средневековая апология земной любви не поку¬
шалась на гносеологический эффект, не возвращалась к идеям
Эмпедокла и Платона, не открывала дорогу соединению фило¬
софии любви и натурфилософии, столь характерному для Воз¬
рождения.
Длительная история дискуссии о «Божественной комедии»
включает спор о том, является ли она продолжением «Новой
жизни», воспевает ли она Беатриче, нужно ли ее рассматривать
как гениальный лирический дневник или же это изложение те¬
ологических концепций. Де Санктис и БенедеттоКроче склоня¬
лись к первому взгляду, имея в виду в особенности песни «Рая».
Достаточно многочисленными были и попытки видеть в Беа¬
триче только идею («Не Биче Портинари, я — идея», — писал
ДжозуэКардуччи), только аллегорию. В действительности же,
чем больше лирических отступлений в песнях «Рая», где Беа¬
триче разъясняет Данте тайны мироздания, тем ближе ткань
«Божественной комедии» к новым идеям, к новым инвариан¬
там познания.
Об этом нужно сказать подробнее. Выше, в очерке, посвя¬
щенном ренессансной концепции времени, уже упоминалась
сцена «Рая», где Данте смотрит на Беатриче, а она упрекает по¬
эта, который не хочет забыть о земной любви и земной красоте.
Но именно в таких прорывах вполне земного, вполне человече¬
ского эмоционального созерцания и виден новый, ренессанс¬
ный подход к миру. Уже не каноны прошлого, закрепленные
в неподвижных универсалиях, а динамичные и гуманистиче¬
ские, связанные с действием, волей, эмоциями, критерии опре¬
деляют отношение человека к миру и к самому себе.
Здесь будут уместными некоторые дополнительные пояс¬
нения, относящиеся к уже введенным раньше понятиям поэ¬
тического и гносеологического инварианта. Познание никог¬
да не преобразует понятия чисто логически, без некоторого
металогического аккомпанемента, без некоторой деформации
730
Б. Г. КУЗНЕЦОВ
логических понятий и логических норм, без включения обра¬
зов. Логическое обобщение образов не стирает их красок, даже
в математическом рассуждении сохраняется (хоть и скрывает¬
ся — каждым знаком равенства) некоторая многокрасочность
исходных образов. В свою очередь в рамках поэтического пре¬
образования сохраняется познание мира: если понятие окруже¬
но облаком конкретных ассоциаций, то образ окружен облаком
виртуальных логических дедукций.
Поэтическая трансформация Беатриче — это переход от ло¬
кального образа «Новой жизни» к космическому обобщению
«Божественной комедии». Но обобщение остается поэтическим.
В «Божественной комедии» поэт берет на себя изложение систе¬
мы мира, оставаясь поэтом. Он сохраняет в образе Беатриче то,
что было названо поэтическим инвариантом, только здесь го¬
раздо громче, чем у других, зазвучал гносеологический акком¬
панемент — познание мира. Именно благодаря тому, что это ак¬
компанемент поэтической эволюции образа, система мира уже
не может быть старой, основанной на откровении и схоластике
универсалий. Но могла ли она стать новой?
Присмотримся к той картине мира, которую Беатриче раз¬
вертывает перед Данте. Присмотримся и к истокам этой карти¬
ны. Это — неоплатоническая картина. Она близка к тому, что
нарисовано в трактате «О небесной иерархии», который припи¬
сывался Псевдо-Дионисию Ареопагиту, неоплатонику IV —
V вв., которого средневековая традиция считала одним из пер¬
вых афинских христиан, учеником апостола Павла, а потом
идентифицировала с ним французского епископа Святого Дио¬
ниса. Греческая рукопись «О небесной иерархии» в IX в. была
доставлена из Византии в Париж, переведена Эриугеной на ла¬
тынь и хранилась в монастыре Сен-Дени, где в XII в. аббат Су-
герий излагал идеи Ареопагита*. Можно думать, что здесь, в аб¬
батстве Сен-Дени, Данте познакомилсяс творением Ареопагита
и с идеями Сугерия. Дает ли все это основание для отнесения
Данте к числу средневековых мыслителей? Нет, неоплатонизм
Средних веков перешел в Возрождение, и его эволюция в рам¬
* См.: Panofsky Е. Abbat Suger on the Abbey Church of St. Denis. Princeton,
1946; Roques R. Structure hiérarchique du inonde selon le Pseudo Denis.
Paris, 1954; Голенищев-Кетузов И, И. Творчество Данте и мировая куль¬
тура. М., 1971, с. 273-275.
Данте
731
ках Возрождения состояла в инверсии, о которой уже шла речь,
в представлении о пространственной, сенсуально постижимой
субстанции как основе неоплатонической иерархии мирозда¬
ния. У Данте схема мироздания соответствует еще не инверти¬
рованному неоплатонизму, но здесь в игру входит колоссальный
поэтический потенциал «Божественной комедии» и сенсуально
эмоциональная рамка изложения — образ Беатриче. В этом —
начало ренессансной инверсии неоплатонизма.
Восхождение Данте к звездам начинается взглядом Беатри¬
че в упор на солнце. Такое созерцание создает движение вверх
со скоростью света. Данте смотрит в глаза Беатриче и благода¬
ря этому участвует в указанном движении. Это — характерное
для «Божественной комедии» соединение человеческого, эмо¬
ционального порыва — любви к земной Биче Портинари —
и познания космической гармонии в ее традиционном содер¬
жании. Это — конфликтное соединение, источник такого же,
что и в сцене с Франческой, конфликта старых устоев и новых
ощущений, еще не ставших устоями. Это опять-таки становле¬
ние, которое еще не привело к наличному бытию, — сквозная
коллизия культуры Возрождения. В песнях «Рая» Данте оста¬
ется в рамках традиционной схемы мироздания, хотя поэтика
«Божественной комедии» представляет собой порыв к динами¬
ческой схеме, вытекающей из локальных сенсуально постижи¬
мых ситуаций.
Но такой новой схемы нет, и натурфилософия «Божествен¬
ной комедии» не может вырваться из традиционной схемы. Рай
Данте — это рай Ареопагита. Но этот неоплатонический рай
не мешает Данте выйти за пределы средневековой мысли. Не¬
оплатонические каноны здесь не изменены, но инверсия нео¬
платонизма уже началась. Началась не в богословских и натур¬
философских канонах, она началась поэтикой Данте. Отсюда
ее глубоко личный характер. Философия Кватроченто и натур¬
философия Чинквеченто вышли из рамок поэтики, но сохрани¬
ли личный характер. Понятие объективной истины, независи¬
мой от судьбы и эмоций познающего субъекта, стало не только
мыслью, но и психологической презумпцией дознания только
в XVII в. У Джордано Бруно этого еще нет — на этом придется
остановиться позже в связи с судьбой Бруно и отличием его по¬
зиции от позиции Галилея. В этом отношении Данте — предше¬
732
Б. Г. КУЗНЕЦОВ
ственник Бруно, только у последнего разрыв с догматами охва¬
тывает не только политические идеалы, но и кинематику мира.
У Данте кинематика мира — традиционно-неоплатоническая,
но он излагает ее в рамках эмоциональной и политической ли¬
рики, которая не может быть отделена от натурфилософии.
Здесь — связь позиции Данте с его личной судьбой. Данте
понимает, что его идеи, тот факт, что он населил круги Ада,
Чистилище и Рай исходя из политических и личных симпатий
и убеждений, навсегда развеют его надежду на возвращение
во Флоренцию и триумф в родном городе («В ином руне, в ином
величьи звонком Вернусь поэт и осенюсь венком Там, где кре¬
щенье принимал ребенком»). В раю Данте встречает своего
прапрадеда Каччагвиду, который предсказывает ему тяжелую
жизнь в изгнании, если поэт не утаит хотя бы частично свои
впечатления. Но если он изложит их полностью, уделом Данте
будет бессмертная слава («Твой крик пройдет, как ветер по вы¬
сотам, Клоня сильней большие дерева; И это будет для тебя поче¬
том»), В основе этой позиции — специфическое для Возрожде¬
ния представление об истине как о чем-то глубоко личном, как
об основе автономии и самого существования личности.
Нужно сказать, что эта особенность, как и все определяю¬
щие особенности культуры Возрождения, специфична отнюдь
не в абсолютном смысле. Автономия личности и познание ис¬
тины, как ее основа, сохраняются и после Возрождения. Слова
Данте: «...следуй своим путем и пусть говорят об этом, что хо¬
тят», процитированные Марксом в предисловии к «Капиталу»,
могли бы стать эпиграфом изложения повой идеи в любую эпо¬
ху. Новое в XVII в. по сравнению с Возрождением состоит в том,
что критерием истины, сохраняющей свое значение для лично¬
сти человека, становится общезначимое внешнее оправдание —
эксперимент, и внутреннее совершенство — однозначный ло¬
гический (с XVII в. — в значительной мере математический)
вывод из более общих посылок.
И. Ф. БЭЛЗА
Некоторые проблемы интерпретации и комменти¬
рования «Божественной Комедии»
Многочисленные работы о жизни и творчестве Данте, появив¬
шиеся на протяжении десятилетий, отделяющих нас от Дантов¬
ского 1921 года, когда во всем мире отмечалось 600-летие со дня
смерти великого флорентийца, постепенно утвердили интерди¬
сциплинарный характер дантологии, во многом определивший
направленность дальнейших исследований в этой области. Важ¬
но отметить, однако, что многоплановость творчества Данте,
в особенности «Божественной Комедии», привлекала внимание
уже первых комментаторов. Около 1325 г., например, болон¬
ский нотариус сер Грациоло де’Бамбальоли в своем латинском
трактате об «Аде» восторгался поэтическими образами первой
кантики «Божественной Комедии», но вместе с тем указывал
и на морально-этический аспект великой поэмы. Другой болон¬
ский автор — Якопо делла Лана — почти в то же время пишет
обширный комментарий ко всей поэме, рассматривая ее как про¬
изведение теологическое и философское, вкратце излагая содер¬
жание каждой песни и останавливаясь попутно на аллегориях,
усматриваемых им во всех кантиках*. Вслед за обоими болон¬
цами к поэме Данте обратились и сыновья поэта — Якопо, ко¬
торому традиция приписывает комментарий к «Аду», и Пьетро,
написавший около 1340 г. большое сочинение о «Божествен¬
* Комментарий Якопо делла Лана, написанный в оригинале по-итальян¬
ски, был переведен на латинский язык и дошел до нас в этом переводе
во многих списках, свидетельствующих о широком распространении это¬
го ценного труда, но, к сожалению, изобилующих искажениями.
734
И. Ф. БЭЛЗА
ной Комедии» и высказавший мысль, что ее следует тракто¬
вать в семи аспектах: «sensus litteralis, historicus, apologeticus,
metaphoricus, allegoricus, tropologicus, anagogicus». К числу ал¬
легорий Пьетро Алигьери относит прежде всего образ Беатриче,
который, как он утверждает, является воплощением Теологии.
Эта аллегория надолго утвердилась в дантологии.
Нет надобности продолжать перечень комментариев к «Бо¬
жественной Комедии», количество которых стремительно умно¬
жалось уже в XIV — XV вв., причем некоторые авторы пытались
также обобщить результаты работ своих предшественников.
Так, «Ottimo commento», приписываемый многими исследова¬
телями флорентийскому нотариусу Андреа Ланчиа, содержит
материалы, почерпнутые, как считают некоторые, у обоих бо¬
лонских дантологов. Но независимо от вопросов датировки пер¬
вых комментариев к Данте, можно считать несомненным, что
их авторы были твердо убеждены в том, что содержание «Боже¬
ственной Комедии» выходит далеко за пределы непосредствен¬
ного восприятия ее текста. И, начиная с самого раннего периода
развития дантологии, эпиграфом ко многим трудам в этой стре¬
мительно разраставшейся области могли бы послужить строки
из болдинских стихов Пушкина:
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу.
Особое внимание исследователей привлекали, естественно,
наиболее загадочные места «Комедии», в частности те, которые
звучали как пророческие. Уже первая песнь «Ада» содержит
грозное, тщательно зашифрованное пророчество, вложенное
в уста Вергилия, который предвещает гибель Волчицы, пре¬
следующей Данте и преграждающей путь многим («non lascia
altrui passar per la sua via». Inf. I, 95). «Высочайший поэт» на¬
зывает того, кто погубит Волчицу:
...infin che ’1 Veltro
verrà, che la farà morir con doglia.
(1,101-102)
M. Л. Лозинский переводит:
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования 735
...но славный
Нагрянет Пес, и кончится она.
Слово «Veltro» действительно можно перевести как «слав¬
ный пес», точнее, борзая, которая на охоте не отступает ни пе¬
ред медведем*, ни перед волком, так что в данном контексте
победа борзой над волчицей представляется как бы естествен¬
ным исходом поединка. Но в последующих терцинах образ
Veltro безмерно усложняется и наделяется таинственными
чертами. Приведем стихи 103-105 в оригинале и в переводе
Лозинского:
Questi non ciberà terra né peltro,
ma sapienza, amore e virtute,
e sua nazion sarà tra Feltro e Feltro.
He персть вкусит он, не металл двусплавный,
Но добродетель, мудрость и любовь,
Меж войлоком и войлоком державный.
Это— экспозиция образа, который впоследствии, видимо,
превращается в число 515, именуемое Данте затем «вестни¬
ком бога» («Чист.» ХХХШ, 44) и наносящее смертельный удар
не только «волчице», называемой уже «fuia», но и «гиганту» —
иными словами, французскому королю Филиппу IV, прозван¬
ному Красивым, — палачу Ордена тамплиеров, и в качестве
такового получившему кличку Проклятого**. Обратим внимание
на то, что пророчества эти вложены Данте в уста его двух пер¬
вых вожатых — Вергилия и Беатриче (как ни странно звучит
в ее устах грубое слово «fuia», обозначающее непотребную жен¬
щину!), своим авторитетом утверждающих ту неотвратимость
возмездия, в которую так верил Данте, именно поэтому, как мы
постараемся показать дальше, выбравший своим третьим вожа¬
тым Бернарда Клервоского.
* Как известно, немецкий дантолог Эдуард Бемер (Boehmer) давно уже
указал, что в «Песни о Роланде» также появляется «uns veltres», т. e.
Veltro — борзая, которую Карл Великий видит во сне в поединке с мед¬
ведем, являющимся аллегорическим воплощением изменника Ганелона.
См.: Deutsches Dante-Jahrbuch, 1869, 2, S. 367.
** Именно поэтому французский писатель Морис Дрюон назвал свой знаме¬
нитый цикл романов «Проклятые короли» («Les rois maudits»).
736
И. Ф. БЭЛЗА
Русский перевод последнего стиха приведенной терцины
опирается на встречающееся в ряде кодексов «Божественной
Комедии» написание «tra feltro e feltro» (т. e. co строчными,
a не прописными буквами), трактуемое как указание на то, что
грядущий избавитель будет избранником, ибо урны для голо¬
сования обивались в то время войлоком (feltro). Авторитетные
комментаторы «Божественной Комедии», в том числе Наталино
Сапеньо и Аттилио Момильяни, принимают эту версию, кото¬
рой, однако, противостоят другие. Не останавливаясь на так на¬
зываемой «астрологической» версии, соблазнявшей некоторых
комментаторов, в частности тем, что она приводила к созвездию
Близнецов, под знаком которого родился Данте*, напомним,
что сторонники «географической» версии, также весьма мно¬
гочисленные, выдвигали различные гипотезы относительно
личности Veltro, руководствуясь тем, что, в соответствии с этой
гипотезой, грядущий избавитель должен быть уроженцем севе¬
роитальянской местности, расположенной между Monte Feltro
(в Романье) и Feltro — венецианским поселением.
Именно в этом районе (в городе Тревизо) родился, в частно¬
сти, Никколо Боккасино, ставший преемником Бонифация VIII
под именем Бенедикта XI и заслуживший своей миротворче¬
ской деятельностью симпатии и уважение Данте. К тому же,
как подчеркивает П. Ренуччи**, стремясь доказать, что именно
Бенедикт XI изображен у Данте в качестве Veltro, до избрания
папой он был генералом Ордена доминиканцев, название ко¬
торых читалось (со времени получения ими инквизиционных
прав и функций в 1232 г.) как «Domini canes», т. е. «псы го¬
сподни». Но помимо того, что понтификат Бенедикта XI длил¬
ся очень недолго (1303-1304), нельзя забывать, что Данте ни¬
как не мог высказывать надежду, что папа победит и «заточит
в Аду» («Ад» I, 110)«Волчицу», образ которой восходит к сле¬
дующему папе — Клименту V (1305-1314). Не может прообра¬
зом Veltro считаться ни благородный властитель Вероны (рас¬
положенной «tra Feltro e Feltro»), покровитель и друг поэта Кан
* Две наиболее яркие звезды этого созвездия носили имена Диоскуров —
братьев Кастора и Поллукса, которые изображались в древнеримских
головных уборах — войлочных шапочках (pilleus) и поэтому назывались
pilleati fratres.
** См.: Renucci Paul. Dante. Paris, 1952; Idem. Dante disciple et juge du monde
gréco-latin. Paris, 1954.
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
737
Гранде (Сап Grande — «Великий Пес»!) делла Скала, — хотя бы
из-за ограниченных военных и политических возможностей се¬
вероитальянского гибеллина, ни его союзник Угуччоне делла
Фаджиуола.
Видимо, следует согласиться с недавно скончавшимся выда¬
ющимся словацким дантологом Йозефом Феликсом, который,
напоминая о комментарии, приписываемом Якопо Алигьери,
и присоединяясь к точке зрения Микеле Барби, пишет: «В об¬
щем можно сказать, что вопрос о дантовском Veltro остается все
еще открытым, хотя дантологи, в том числе весьма видные, по¬
святили ему много усилий» *. Еще в комментарии Якопо о Veltro
говорится как об «alcuno virtuoso» — о «некоем добродетель¬
ном» — папе или императоре, но Феликс справедливо считает,
что, собственно говоря, обе основные версии («географическая»
и «войлочная») имеют пока одинаковые шансы, и поэтому отме¬
чает, что словацкий перевод («medzi Feltrami») нельзя назвать
неоспоримым. Заметим попутно, что в юбилейном издании
(«Edizione del Centenario») собрания сочинений Данте** предпо¬
чтение оказано варианту «tra Feltro e Feltro». Такое же чтение
(«mezi dvëma Feltry») принято в чешском переводе О. Ф. Бабле-
ра, в польском переводе Эдв. Порембовича («Ojczyzna jego—
posród Feltr dzierzawy»), хотя он приводит и другие версии,
не исключая и той, которая трактует войлок как атрибут бедно¬
сти, ассоциативно связывающийся с францисканским орденом.
В кубинской билингве «Ада» (1968) перепечатан испанский пе¬
ревод Бартоломэ Митре, где данный стих, в соответствии с под¬
линником, переведен: «у su nation sera entre Feltre y Feltre».
В хорватском переводе Миховил Комбол также придерживает¬
ся «географической» версии («med Felt rom cé mu dom i Feltrom
* Помимо упоминаемых Феликсом работ Леонардо Олыпки и Эриха фон
Рихтхофена, можно назвать еще комментарий Луиджи Пьетробоно к пер¬
вой песни «Ада* (1959) и специальное исследование; Cian Vittorio. Oltre
l’enigma dantesco del Veltro. Torino, 1945. Что касается обзора высказы¬
ваний о «загадке Veltro», то, видимо, наиболее полным следует считать
именно комментарии Феликса к «Аду», переведенному им совместно
с поэтом Вилиамом Турчаным на словацкий язык: Dante Alighieri. Bozskâ
Komédia. Peklo. Bratislava, 1964. См. об этом издании: Бэлза Игорь. Выда¬
ющееся достижение словацкой дантологии. — Советское славяноведение,
1966, № 2.
** Dante Alighieri. Tutte le opere / A cura di Fredi Chiapelli. Milano, 1965.
738
И. Ф. БЭЛЗА
biti» ), кратко отмечая в примечаниях разногласия между ком¬
ментаторами этого стиха*.
Не будет преувеличением считать, что Данте особенно тща¬
тельно зашифровал терцины, посвященные Veltro, хотя, как
справедливо указал Барби, отчетливо выделил благородство,
величие и мощь этого персонажа, разгадать имя которого пы¬
тались и пытаются многие дантологи, склоняясь нередко к вы¬
воду, что в глазах Данте все же этим Veltro был «высокий Ар-
риго» — император Генрих VII, тот, кого поэт в торжественном
послании своим соотечественникам-итальянцам («Universis
et singulis») назвал Титаном-миротворцем, титулуя его также
«clementissimus Henricus, divus et Augustus et Cesar». Такая
персонификация Veltro, разумеется, является сильнейшим ар¬
гументом в пользу «войлочной» версии, ибо Генрих VII родился
не «tra Feltro e Feltro», a был избран «tra feltro e feltro».
Ho Veltro, появление которого предсказано в I песни «Ада»,
уже там характеризуется как мститель, карающий Волчицу: «...
ее нагнав, он заточил в Аду». В XIX песни «Ада» Данте уточня¬
ет место этого заточения — третий ров восьмого круга, назван¬
ного Данте «Malebolge» (Inf. XVIII, 1)— «Злые щели». Там,
в расщелины адской скалы, погружены вниз головою симони-
сты (то есть торговцы церковными прерогативами и должностя¬
ми), ноги которых торчат в воздухе, пылая огнем, карающим
за преступление. Там терпит такое мучение папа Николай III,
ожидающий прихода папы Бонифация VIII, приговоренного
к такому же наказанию, а за ним
...всех в скверне обогнав,
Придет с заката пастырь без закона,
И, нас покрыв, он будет только прав.
Как, в Маккавейских книгах, Иасона
Лелеял царь, так и к нему щедра
Французская окажется корона.
(«Ад» XIX, 82-87)
Таким наиболее преступным «беззаконным пастырем» («un
pastor senza legge») здесь именуется папа Климент V. Мнения
* См. также: Besutti А. II Veltro «tra Feltro e Feltro» : soluzione dell’enigma di
Dante Alighieri. Scalini — Carrara, 1921.
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
739
комментаторов расходятся в одном: некоторые полагают, что тер¬
цины эти были созданы еще при жизни этого папы, другие же счи¬
тают их «пророчеством post hoc», — ведь Данте со всей опреде¬
ленностью указал, что путешествовал по загробному миру в марте
1300 г., тогда как работа над «Божественной Комедией» началась
через несколько лет, заполненных событиями, повествование
о которых, следовательно, лишь выглядело пророческим. В каче¬
стве такого же пророчества, изложенного в форме аллегории, осо¬
бенно понятной в последние годы жизни Данте, воспринималась
и упоминавшаяся уже речь Беатриче в последней песни «Чисти¬
лища», в которой Волчица именуется уже Блудницей*.
Речи «Благороднейшей» предшествует сцена в лесу Земно¬
го Рая, в которой появляется «блудница наглая» («una puttana
sciolta»).
С ней рядом стал гигант, чтобы не смела
Ничья рука похитить этот клад;
И оба целовались то и дело.
Едва она живой и жадный взгляд
Ко мне метнула, друг ее сердитый
Ее стегнул от головы до пят.
(«Чистилище» XXXII, 151-156)
Поцелуи, перемежающиеся побоями, — трудно найти бо¬
лее точную характеристику тех лет, когда Филипп Проклятый
добивался от «беззаконного пастыря» того осуждения Ордена
тамплиеров, без которого даже этот «гигант» не решался дове¬
сти до конца расправу над рыцарями Храма. Поэтому Беатриче
предвещает гибель обоих — преступного короля и папы:
...Пятьсот пятнадцать, вестник бога,
Воровку** и гиганта истребит
За то, что оба согрешали много.
(«Чистилище» XXXIII, 43-45)
* Слово «lupa» (волчица) уже в античные времена применялось также для
обозначения проститутки наиболее низкого пошиба, поэтому Беатриче
и применяет в дальнейшем, как уже говорилось, слово «fuia», бытовав¬
шее в тосканском volgare.
** У Данте здесь повторяется эпитет «fuia», и метрика стиха вполне допуска¬
ла здесь сохранение слова «блудница».
740
И. Ф. БЭЛЗА
Преступление, инкриминируемое королю, достаточно опре¬
деленно указано в той же кантике. В XX песни «Чистилища»
вновь вспоминается Волчица и звучит вопрос: «Идет ли тот,
кто эту тварь изгонит?» Слова Беатриче о «Пятистах пятнадца¬
ти», именуемых ею там «вестником бога», который уничтожит
обоих, вызвали многочисленные толкования*. Нет надобности
останавливаться на них, — подчеркнем лишь, что этот таин¬
ственный вестник большинством комментаторов идентифици¬
руется с Veltro, мстящим «новому Пилату, столь жестокому»
(и его сообщнику), который «в Храм вторгаёт хищные ветрила»
(«le cupide vele». — Purg. XX, 93). «Божественная Комедия»
содержит и другиё резкие высказывания о Филиппе IV, имену¬
емом, например, «злом Франции» («mal di Francia». — Purg.
VII, 109) и осуждаемом даже близкими людьми за «порочную
и грязную жизнь» («la vita sua viziata e lorda»). Лозинский пе¬
реводит эту терцину очень близко к подлиннику:
Отец и тесть французского элодея,
Они о мерзости его скорбят,
И боль язвит их, в сердце пламенея.
(«Чистилище», VII, 109-111)
И даже в последней кантике в апокалипсические обличения
европейских монархов вплетается смертный приговор Филип¬
пу:
Там узрят, как над Сеной жизнь скудна,
С тех пор как стал подделыциком металла
Тот, кто умрет от шкуры кабана...
(«Рай» XIX, 118-120)
Оставляя в стороне вопрос, действительно ли король погиб
«dicolpodicottena» **, или был отравлен, или, как утверждал брат
* Критический обзор значительной части этих толкований дан француз¬
ским переводчиком «Божественной Комедии», выдающимся дантологом
Анри Лоньоном в комментариях к своему переводу. См.: Danle. La Divine
Comédie / Traduction, préface, notes et commentaires par Henri Longnon.
Paris: Classiques Garnier, 1975, p. 630-632.
** Несчастный случай на охоте, «предсказываемый» здесь, весьма проти¬
воречиво описан различными хронистами XIV века, причем, например,
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
741
короля Шарль де Валуа в беседе со своим племянником (сыном
Филиппа) Людовиком XI, умер от горя, якобы причиненного
ему казнокрадством его наиболее доверенного лица Ангеррана
де Мариньи*, или, наконец, умер от какой-то странной болезни,
не сопровождавшейся, как подчеркивается в «Хронике» Гийома
Шотландца, никакими болезненными ощущениями, — отме¬
тим одно обстоятельство, заслуживающее, видимо, присталь¬
ного внимания дантологов. Для этого обратимся к анонимной
хронике, озаглавленной «Древняя хроника Фландрии». В ней
содержится рассказ о несчастном случае на охоте — но не на ка¬
бана, а на оленя («ung grant cerf»), причем лошадь, пришпорен¬
ная Филиппом, понесла, так что он ударился о дерево и, «поте¬
ряв сознание и силы» («en luy def faillant sens et povoir»), упал,
получив тяжкие повреждения. «И тогда, когда он совсем осла¬
бел и понял, что смерть близка, то отдал распоряжения и при¬
нял последнее причастие: умереть он хотел в Фонтенбло [...]
Как только король Филипп Красивый скончался, его тело было
отлично набальзамировано («richement embalsmé»), а затем пе¬
ренесено в храм святого Бернарда»**. Далее следует описание
королевского облачения, в котором, увенчанный короной («une
moult riche couronne» — подчеркивает хронист), со скипетром
в руке, лежал тот, совесть которого была отягчена гибелью Ор¬
дена тамплиеров, в храме, воздвигнутом в честь патрона Орде¬
на — Бернарда Клервоского, третьего вожатого Данте. И только
на следующий день тело Филиппа перевезли, как того требовал
церемониал погребения королей Франции, в собор Парижской
Богоматери, а оттуда — в усыпальницу в Сен-Дени***.
Едва ли можно сомневаться, что отклонение от этого цере¬
мониала, заключавшееся в том, что гроб простоял целую ночь
если так называемая «Нормандская хроника» повествует о «большом
и удивительном вепре» («un sanglier grant et merveilleux»), то Жоф-
фруа (Годфруа) де Пари ссылается только на слухи («Et d”autre part fu
raconte»),
* См. о нем: Favrier J. Enguerrand de Marigny. Paris: Presses Universitaires
de France, 1963.
** Recueil des historiens de la France, t. 22, p. 401. В Нормандской хрони¬
ке говорится о том, что лошадь понесла из-за того, что вепрь вцепился ей
в ногу. Некоторые другие источники, в том числе так называемая Боль¬
шая хроника Сан-Дени, вообще умалчивают о падении короля.
*** Находившийся во время болезни Филиппа при нем хронист Гийом Шот¬
ландец, упомянутый выше, был монахом в Сен-Дени.
742
И. Ф. БЭЛЗА
в храме св. Бернарда, было вызвано предсмертным распоряже¬
нием самого короля, сделанным им, по всей вероятности, во вре¬
мя последней, весьма длительной беседы с сыном Людовиком,
с которым он, прощаясь с жизнью, пожелал остаться наедине*.
Как известно, существует версия, не раз уже появлявшаяся
в исторической и художественной литературе** и сводящаяся
к тому, что депрессия, в состоянии которой находился король
Филипп в последние месяцы своей жизни, была обусловлена
вовсе не предосудительным поведением Ангеррана де Мари-
ньи (разве «французский злодей» не умел расправляться даже
с ни в чем не повинными людьми?), а страхом перед грозившей
королю карой за смерть погубленных им рыцарей Ордена Хра¬
ма. Страх этот особенно возрос тогда, когда через месяц после
казни (18 марта 1314г.) великого магистра Ордена тамплиеров
Жака де Моле и прецептора Нормандии Жоффруа де Шарнэ
скончался папа Климент V, которого, как гласит предание, ве¬
ликий магистр, задыхаясь в дыму костра и собрав последние
силы, громогласно проклял и «призвал на суд божий». Пока
разгоравшееся пламя не прервало нить жизни великого маги¬
стра, он проклял также короля Франции и предрек ему смерть
в ближайшие месяцы.
Нет сомнения, что мужественное поведение обоих рыцарей
Храма во время казни, их требование обратить их лицами к со¬
бору Парижской Богоматери, а также проклятие великого ма¬
гистра, прозвучавшее как смертный приговор папе и королю,
передаваясь из уст в уста, постепенно обрастали самыми раз¬
личными дополнениями, подчас совершенно неправдоподобны¬
ми. Так, например, возникла версия о том, что великий магистр
«призвал на суд божий», т. е. предрек скорую смерть, еще и де¬
ятельному участнику разгрома Ордена, хранителю королевской
печати канцлеру Гийому де Ногаре, хотя тот умер еще в апреле
1313 г. Распространялись также слухи, что великий магистр
проклял не только самого короля, но и его потомков, — и эта
версия подкреплялась тем, что сын и преемник Филиппа IV
Людовик X умер (в возрасте 27 лет) через каких-нибудь два
года после смерти отца, а его брат, следующий король Франции
* Lacabane Léon. Dissertation sur F’histoire de France au XIV-е siècle. —
Biblio théque de l’Ecole des Chartes, 1897, Janvier, passim.
** Напр., в цит. статье Л. Лакабана: Lacabane L. Op. cit., p. 2.
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
743
Филипп V, также царствовал недолго, скончавшись в возрасте
28 лет*. Наконец, в том же возрасте умер в 1328 г. Карл IV Кра¬
сивый, их младший брат.
С другой стороны, некоторые историки оспаривали текст
проклятия (вряд ли письменно зафиксированный), а некоторые
из них, наиболее скептически настроенные, отрицали даже факт
произнесения его Жаком де Моле. Совсем недавно, например,
хранительница Национальных архивов Франции Режин Пэрну
выступила с утверждением, что именно смерть папы и коро¬
ля «поразила население и породила легенду о том, что Жак де
Моле призвал одного и другого предстать на протяжении шести
месяцев перед судом божьим»**. Не отрицая наличия интерес¬
ного фактического материала в небольшой книжке Р. Пэрну,
нельзя не поразиться безапелляционности ее суждений и выво¬
дов. Достаточно сказать что, говоря о Филиппе IV, автор заявля¬
ет, что «наиболее темным делом этого царствования» остается
«процесс о прелюбодеянии трех невесток короля» и что «дело
тамплиеров не было в общем ни более недостойным, если речь
идет о предъявленных обвинениях, ни более жестоким, если
говорить о примененных методах, чем дело Бонифация VIII,
епископа Гишарда или собственных невесток короля...» ***. При¬
знавая, впрочем, что процесс тамплиеров отличался от про¬
цесса «жизнелюбивых» принцесс «по количеству и личностям
привлеченных к нему людей», Режин Пэрну оставляет в сторо¬
не вопрос о причинах подавленного состояния короля Филиппа
после смерти папы, о массовых отказах духовенства служить
заупокойные мессы по королю Франции, о его «посмертном
покаянии» в храме св. Бернарда. Но самое главное — Р. Пэрну
забывает даже упомянуть о том, что папу Климента V и короля
* Видимо, к тому времени утвердилась версия о том, что проклятие велико¬
го магистра распространялось и на потомков Филиппа IV, ибо Филиппа V
пытались исцелить, принося к его смертному ложу такие реликвии, кото¬
рые, как надеялись, спасут его от «чар», — частицу древа Креста господня
и один из гвоздей Распятия.
** Pernoud Régine. Les Templiers. Paris: Presses Universitaires de France,
1974, p. 113.
*** Ibid., p. 113-114. Причиной смерти Филиппа автор считает кровоизлия¬
ние в мозг, — такой диагноз не противоречит рассказам об угнетавшей ко¬
роля скорби (« ...car sa douleur agravoit de jour en jour» — свидетельствует
анонимный автор цитировавшейся уже Фландрской хроники), ни расска¬
зам о падении его с лошади.
744
И. Ф. БЭЛЗА
Филиппа IV проклял не только великий магистр Ордена Хра¬
ма, но и Данте Алигьери. В частности, призыв предстать перед
«божьим судом», обращенный Жаком де Моле к папе, повторен
в «Рае» (Par. XXX, 142).
Ни об одном персонаже поэмы Данте не говорит так часто
и с такой яростью, как именно о папе Клименте V и о «фран¬
цузском злодее». Три аргумента приводятся обычно коммен¬
таторами для объяснения этого факта— «авиньонское плене¬
ние» папы, выпуск неполноценных денег («...falseggiando la
moneta». — Par. XIX, 19) и, наконец, разгром Ордена («Чист.»
XX, 91-93.), сопровождавшийся пытками, массовыми убий¬
ствами и грабежом, который, как считает французский дантолог
Анри Лоньон (заметим попутно, что его труд по переводу и ком¬
ментированию «Божественной Комедии» был увенчан Фран¬
цузской Академией), был основной целью короля*. Что касается
первых двух аргументов, то ламентации по поводу «пленения»
заставляют вспомнить, что первым «авиньонским» папой был
Клименту, названный в поэме, как уже говорилось, «пасты¬
рем беззаконным» и наиболее преступным из всех наместников
святого Петра («Ад» XIX, 82-83). Кстати сказать, адские муче¬
ния всех вверженных в «Злые щели» (т. е. пламя, сжигающее
их ноги, которые болтаются в воздухе) могли быть отражени¬
ем действительного события, а именно пожара, вспыхнувшего
в храме, где стоял гроб с телом Климента V, причем обуглились
именно ноги трупа. Валютные махинации Филиппа IV, упоми¬
наемые в «Чистилище», никак не могли вызвать таких инвек¬
тив, которые обрушились на него во всех трех кантиках поэмы.
Основной причиной этих инвектив была, конечно, расправа
с тамплиерами и гибель Ордена. Именно поэтому необходимо
было остановиться на событиях 1314 г. Углубленное изучение
их, как нам кажется, может с течением времени в значитель¬
ной степени способствовать постижению мировоззрения Данте,
которое запечатлелось в «Божественной Комедии», изобилую¬
* Dante. La Divine Comedie. Op. cit.» p. 602. Режин Пэрну пытается, прав¬
да, в какой-то мере снять с короля это обвинение, ссылаясь на его жела¬
ние, чтобы сокровища Ордена были предназначены для продолжения
борьбы за Святую землю, и называя эти сокровища «гипотетическими»
(Pernoud R. Ор. cit., р. 125). Думается, что «гипотетическими» можно
скорее назвать Рассуждения самой Р. Пэрну. Ср.: Lévis-Mirepoix Due de.
La tragédie des Templiers. Paris, 1951.
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
745
щей зашифрованными образами и суждениями, включенными
в концепцию поэмы. Впрочем, сам Данте счел необходимым
указать на «герметичность» ее текста, и указания эти, есте¬
ственно, привлекли особое внимание комментаторов. Первое
из таких указаний содержится в IX песни «Ада» :
О voi ch’avete Ii’ntelleti sani,
mirate la dottrina che s’asconde
sotto il velame de li versi strani.
(Inf. IX, 61-63).
Обратим внимание прежде всего на числовые особенности
места, в котором Данте поместил эту терцину, одну из самых за¬
гадочных во всей «Божественной Комедии». Основоположник
советской дантологии А. К. Дживелегов пишет о великой по¬
эме: «Над ее чудесной, почти невероятной по точному расчету
конструкцией сияет магия чисел, берущая начало у пифагорей¬
цев, переосмысленная схоластиками и мистиками. Числам 3
и 10 придается особый смысл, и поэма представляет собою бес¬
конечно разнообразные варианты на числовую символику. По¬
эма разделена на три части, в каждой из них по 33 песни, всего
99, вместе со вступительной 100; все цифры — кратные 3 и 10.
Строфа— терцина, то есть трехстрочный куплет, в нем пер¬
вая строка рифмуется с третьей, а вторая — с первой и третьей
строкой следующего куплета, и т. д. Каждая кантика кончается
одним и тем же словом «stelle» — «светила». Это все более или
менее известные особенности «Комедии». Но есть и такие, кото¬
рые известны меньше.
С точки зрения изначального смысла «Комедии», задуманной
как поэтический памятник Беатриче, центральным пунктом по¬
эмы должна была быть та песнь, где Данте впервые встречается
с «благороднейшей». ЭтоXXX песнь «Чистилища». Цифра 30
одновременно кратна 3 и 10. Если считать подряд от начала, эта
песнь будет по порядку 64-й; 6 4- 4=10. До нее 63 песни; 6 + 3 = 9.
После нее 36 песен; 3 + 6 = 9. В песне 145 стихов; 1 + 4 + 5=10.
В ней два центральных пункта. Первый, когда Беатриче, обраща¬
ясь к поэту, называет его «Данте», — единственное место во всей
поэме, где поэт поставил свое имя. Это стих 55-й; 5 + 5=10. До него
54 стиха; 5 + 4 = 9. После него 90 стихов; сумма цифр равняется
746
И. Ф. БЭЛЗА
9. Второе, столь же важное для Данте место, — то, где Беатриче
впервые называет себя: «Взгляни же на меня. Это я, это я — Беа¬
триче». Это 73-й стих; 7 + 3=10. И, кроме того, это средний стих
всей песни. До него и после него по 72 стиха: 7+2=9»*.
Приведенная терцина находится, как уже было сказано,
именно в IX песни первой кантики, иными словами, в песни,
порядковый номер которой указан числом, которому Данте
придавал особое значение, вплоть до отождествления девяти
с Беатриче**, ибо «ни под каким иным числом не пожелало стать
имя моей Донны, как именно под девятью» (Vita Nuova VI).
М. Лозинский переводит эту терцину так:
О вы, разумные, взгляните сами,
И всякий наставленье да поймет,
Сокрытое под странными стихами!
Сопоставление с оригиналом убеждает, что отклонение
от него допущено только в одном слове — у Данте речь идет
не о «наставленьи» (у Лоньона так же — «l’enseignement», од¬
нако, у Лонгфелло — «the doctrine» и у Митре — «la doctrina»),
а об «учении» (доктринальном!).
Именно учении фигурирует и в переводе Филалета (коро¬
ля Иоанна Саксонского), отказавшегося, так же как Лоньон,
от рифмы:
О ihr, die mit gesundem Geist begabt seid,
Betrachtet wohl die Lehre, die verborgen
Liegt unterm Schleier seltsamen Gedichtes.
В словацком переводе:
Ö, vsetci vy, co mâte rozum zdravy,
prenikajte az do nâuky, ktorâ
spod clony divnÿch versov sa vâm zjavi!
В обширном комментарии к этой терцине Йозеф Феликс при¬
соединяется к мнению Ренуччи и других дантологов, склонных
* Дживелегов А. К. Данте Алигиери. Жизнь и творчество. Изд. 2-е, пере-
раб. М., 1946, с. 290-292. Издательским редактором этой книги был один
из наиболее выдающихся советских литературоведов Б. Л. Сучков.
** « Но если рассуждать более тонко и согласно с непреложной истиной, то это
число было ею самой» (Vita Nuova XXIX(XXX). — Перевод А. М. Эфроса).
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
747
видеть в Медузе Горгоне символ сомнений и скепсиса, приводя¬
щего к неверию эпикурейцев и к ереси*.
Из контекста всей песни явствует, что слово «dottrina»
вряд ли может относиться к предыдущим терцинам данной пес¬
ни, в которых речь идет о змееволосых фуриях и Медузе Горго¬
не. Гораздо логичнее считать, что загадочная терцина является
как бы интродукцией к стихам 106-133, где речь идет о раска¬
ленных гробницах ересиархов (li eresiarche).
Ни одного слова, осуждающего еретиков, более многочис¬
ленных, чем это принято думать, но различающихся по степени
накаленности гробниц (i monimenti) и именуемых в последнем
стихе мучениками (i martiri). Этот эпитет повторяется и в на¬
чале следующей песни («Ад» X, 2), причем Данте не скрывает
глубокого уважения к мужеству того, кто, невзирая на адский
огонь, сжигавший его,
...чело и грудь вздымая властно,
Казалось, Ад с презреньем озирал.
(35-36)
То был Фарината дельи Уберти, осужденный за неверие
в бессмертие души, вождь гибеллинов и очутившийся поэтому
в шестом круге Ада:
Здесь кладбище для веривших когда-то,
Как Эпикур и все, кто вместе с ним,
Что души с плотью гибнут без возврата.
(«Ад» X, 13-15)
На одном из рисунков Боттичелли, находящемся, вместе
с семью другими, в Ватиканском собрании**, атмосфера этого
* Манфреди Лорена, внесший много нового в понимание Данте уже в своих
ранних работах (см., напр.: Porena Manjredi. La mia lectura Dantis. Napoli,
1932), полагает, что речь идет только об эпикурейцах, но не об еретиках,
следовательно, не связывает образ Медузы со скепсисом тех, кто помещен
в огненные гробницы». Ср.: Schneider Friedrich. Dante. Sein Leben und
sein Werk. Weimar, 1960, S. 203.
** В берлинском Кабинете гравюр (Kupferstichkabinett) находятся все осталь¬
ные сохранившиеся иллюстрации Боттичелли к «Божественной Комедии»,
спасенные в 1945 г. советскими войсками. См.: Timm Werner. Botticellis
Handzeichnungen zu Dantes «Göttlicher Komödie». Leipzig, 1961, S. 12.
748
И. Ф. БЭЛЗА
кладбища еретиков, так сильно отличающегося от других пей¬
зажей «Ада», передана в соответствии с дантовским описани¬
ем величественных гробниц, объятых огнем, причем в центре
композиции помещен Данте, беседующий с Фаринатой. Здесь
невольно вспоминается рассказ Вазари о работе над иллюстри¬
рованием «Божественной Комедии», предпринятой Боттичел¬
ли, которого, в связи с этим, он называет «persona sofistica».
Вероятно, таким казался и сам Данте тем, которые не понимали
сокровенного смысла того, что он определил словом «dottrina»,
значение которого мы стремились уточнить. Что же касается
рисунков Боттичелли к великой поэме, то, хотя сохранившиеся
листы содержат иллюстрации ко всем трем ее кантикам (не до¬
шли до нас рисунки ко II — VII, XI и XIV песням «Ада»), вклю¬
чая XXXII песнь «Рая», страница пергамента, предназначенная
для рисунка к предыдущей песни, оставлена пустой. Это обсто¬
ятельство, допускающее различные толкования, несомненно
заслуживает внимания, тем более что именно в XXXI песни по¬
является облаченное в белое («con [come] le genti gloriose») Бер¬
нард Клервоский — третий и последний вожатый Данте — тот,
у подножия статуи которого, как уже говорилось, лежал в гробу,
поставленном в парижском храме, король Филипп, проклятый
великим магистром Ордена тамплиеров, некогда облачавшихся
в белые плащи. И кровавой орифламме — красно-золотой во¬
енной хоругви королей Франции — в этой песни, вызвавшей,
видимо, у великого иллюстратора «Комедии» особенно глубо¬
кие раздумья, Данте противопоставил «мирную орифламму»
(«pacifica orifiamma» — Par. XXXI, 127).
Напомним, что третий вожатый Данте — Бернард Клер¬
воский (дядя которого аббат Андре де Монбар был одним из де¬
вяти первых рыцарей Храма) принимал деятельное участие
в составлении статута Ордена тамплиеров и, как полагают его
биографы, сам участвовал в том заседании специально созван¬
ного папой Гонорием II совета в Труа, утвердившего 13 января
1128 г. этот первоначальный статут, дополнявшийся в после¬
дующие годы и окончательно утвержденный в 1139 г. Булла
«Omne datum optimum» Иннокентия II послужила основой для
предоставления Ордену привилегий, включая право замеще¬
ния духовных должностей без согласования с епископскими
кафедрами. Это обстоятельство, как утверждали враги Ордена,
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
749
облегчило развитие в его среде «ереси», обвинение в которой
во время процесса, длившегося семь лет, сыграло решающую
роль. Именно эти годы (1307-1314), последние годы царство¬
вания Филиппа, многие дантологи склонны считать периодом
создания «Ада», а некоторые — и «Чистилища». Так или иначе,
работу над «Пиром» Данте прервал в 1307 г., ознаменовавшем¬
ся массовыми арестами тамплиеров, которые упоминавшийся
уже французский ученый Леви-Мирпуа назвал «одной из са¬
мых необыкновенных полицейских операций всех времен».
Для того чтобы оправдать королевский ордонанс, предписывав¬
ший «арестовать всех братьев названного Ордена, без какого бы
то ни было исключения, содержа их в заключении и передав их
суду Церкви», а также— еще до суда, ибо для Фальшивомо¬
нетчика главной целью был грабеж, «захватить их имущества,
движимые и недвижимые», — для всего этого беззакония пона¬
добились фабриковавшиеся на протяжении семи лет обвинения
в «безбожии», «богохульстве», «кощунстве», «святотатстве»,
«идолопоклонстве» и в прочих проявлениях «ереси». Обвине¬
ния эти отвергались тамплиерами во всех странах, кроме Фран¬
ции, где были применены самые чудовищные пытки, чтобы
вырвать «признания» у ряда заключенных, преимуществен¬
но у стариков*. В протоколах допроса рыцарей Храма слова
«ересь», «еретик» фигурируют чрезвычайно часто.
В связи с этим крайне важно напомнить слова Энгельса: «Ре¬
волюционная оппозиция феодализму проходит через все сред¬
невековье. Она выступает, соответственно условиям времени,
то в виде мистики, то в виде открытой ереси, то в виде вооружен¬
ного восстания»**. Данте знал многие виды «открытой ереси»,
о которых он повествовал в цитировавшихся уже песнях «Ада»,
подчеркивая в соответствии с исторической действительностью
общность, характеризующую различные виды ереси (катары,
вальденсы, патарены, альбигойцы и мн. др.)***:
* Lévis-Mirepoix Duc de. La tragédie des Templiers. Paris, 1951, passim;
см. также: Oursel R, Le procès de Templiers. Paris, 1951 — и статьи того же
автора, публиковавшиеся в последующие годы, которые ознаменовались
резким усилением интереса историков к Ордену тамплиеров и его гибели.
** Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 7, с. 361.
'** Название катаров (т. е. «чистых») происходит от греческого корня, валь-
денсов — от имени лионского купца Пьера Вальдо, патаренов — от быто¬
вавшего в итальянских наречиях слова, обозначавшего «тряпичник» (т. е.
750
И. Ф. БЭЛЗА
Simile qui con simile ë sepojto,
e i monimenti son piu e men caldi.
Подобные с подобными легли,
И зной в гробах где злей, где меньше страшен.
(Inf. IX, 130-131)
Степень жара в гробницах соответствует аллегорически сте¬
пени гонения, которому подвергались различные секты, при¬
чем дело нередко доходило до массовых репрессий и даже ис¬
треблений (особенно жестокой была расправа Филиппа IV
с альбигойцами). Что касается «тайного учения» тамплиеров,
которое канцлер Гийом де Ногарэ во время процесса так старался
представить и осудить как еретическое, то еще А. Н. Веселовский
обратил внимание на близость его к учению богомилов, которое,
так же как и многие другие «еретические» учения, основывалось
на принципе дуализма, во многих случаях являвшемся именно
«революционной оппозицией против феодализма». Вере в дог¬
мат искупления, дававший духовенству власть над людьми, судь¬
бы «вечной жизни» которых якобы находились в руках церкви,
богомилы, так же как и многие другие «еретики», противопо¬
ставили учение о дуализме, о непрекращающейся изначальной
борьбе сил света и мрака, добра и зла. «В истории дуалистиче¬
ских учений славянские народы в первый раз, до появления Гуса,
вносят в общеевропейскую жизнь свой интеллектуальный вклад,
оставивший прочные следы на всем развитии человечества», —
указывал Веселовский, отмечая распространение в Северной
Италии богомильского учения* и подчеркивая, что «демон там¬
плиеров отвечает учению о злом начале у богомилов»**.
в переносном смысле — бедняк), альбигойцев — от названия южнофран¬
цузского города Альби.
* Веселовский А. Н. Собр. соч., т. 8, вып. 1. Пг., 1921, с. 176. Речь идет,
в частности, о болгарском происхождении (port at um de Bulgaria) так
называемых «Вопросов святого Иоанна» («Inlerrogationes S. Joannis
et Responsiones Christi Domini»)— богомильской книги, изучавшейся
в конце XII в. в Конко-Реццо (неподалеку от Милана), где возникла сек¬
та «Concorricenses», примыкавшая к богомильскому дуализму. Книга
эта содержала апокрифическое изложение беседы, якобы происходившей
во время Тайной вечери между апостолом Иоанном и Иисусом Христом,
которому в этом апокрифе приписывалось изложение принципов дуали¬
стического мировоззрения.
** Там же, с. 230.
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
751
Нельзя пройти мимо того факта, что, отрицая догмат иску¬
пления, богомилы, а вслед за ними и тамплиеры внесли из¬
менения и в чин богослужения, изъяв из него слова о «пресу¬
ществлении» вина и хлеба в кровь и плоть искупления («hoc
est enim corpus meum...» — «сие есть тело мое...») и открывая
литургию чтением первых восемнадцати стихов Евангелия
от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог...». Не подлежит сомнению, что этот текст так назы¬
ваемого «Пролога» четвертого Евангелия, содержащий, в част¬
ности, восходящее к гностицизму торжественное утверждение
всемогущества и даже божественности Слова («Логоса»)*, был
близок Данте. Однако чрезвычайно трудно ответить на вопрос,
в какой степени Данте ориентировался в особенностях тех или
иных еретических учений. Из последних терцин девятой пес¬
ни «Ада», бесспорно, явствует, что он был хорошо осведомлен
о многочисленности этих учений и, что для нас в данном случае
чрезвычайно важно, не осуждал их ни своими словами, ни сло¬
вами Вергилия, а только ограничился констатацией большо¬
го количества «огненных гробниц» (это отразил и Боттичелли
в своем рисунке). Но тамплиеры ведь были осуждены имен¬
но как еретики, и папские буллы (в частности, «Vox in excelso
audita est» от 2 мая 1312 г.) способствовали преступлению Фи¬
липпа. Однако, как мы знаем, Данте осудил не обвинявшихся
в ереси рыцарей Храма, а именно короля-грабителя и его пособ¬
ника — папу.
В середине прошлого века французский исследователь Эжен
Ару издал работу, в которой пытался доказать, что Данте был
тамплиером**, а в Ордене Храма было широко распростране¬
но учение катаров. Сопоставляя это утверждение с фактами,
приводимыми Веселовским, и другими материалами, нельзя
не признать, что идеи дуализма, в различных формах развивав¬
шиеся как у богомилов, так и у катаров, получили распростра¬
нение в Ордене. Говоря об этом, следует помнить и о том, что
различные дуалистические учения переплетались между собою:
вальденсы во многом опирались на учение катаров, богомилы,
* Наиболее детальный анализ первых восемнадцати стихов четвертого
Евангелия содержится в капитальном труде: Poniatowski Zygmunt. Logos
Prologu Ewangelii Janowej. Warszawa, 1970.
** Aroux Eugène. Dante hérétique, révolutionnaire et socialiste. Paris, 1854.
752
И. Ф. БЭЛЗА
в особенности в Боснии, объединялись с патаренами, не теряя
связи и с катарами*, а в 1167 г., например, во дворце Сен Фе¬
ликс де Караман неподалеку от Тулузы встречаются представи¬
тели альбигойцев и итальянских катаров. Болгарские ученые
Йор. Иванов, Д. Ангелов, В. Топенчаров создали обширную
литературу о богомильском движении, его распространении
на Западе, в частности в Италии и во Франции** а также о связях
с южнофранцузскими альбигойцами (albigenses) и ломбардски¬
ми альбаненцами (albanenses, эта секта возникла в Дезенцано).
Перечень дуалистических сект и вопросов, связанных с их
происхождением и развитием, можно было бы продолжить.
Однако у нас нет никаких данных, позволяющих утверждать,
как это отмечает Дени де Ружмон***, говоря об Ару и Пеладане,
что Данте был тамплиером и что Орден рыцарей Храма был не¬
посредственно связан с движением катаров (к числу которых,
кстати сказать, принадлежали родители одного из палачей
ордена — Гийома де Ногарэ). Однако слово «катар» постепен¬
но приобрело в различных языках (например, в немецком —
Katzer) значение «еретик». И тот же Ару дал повод иронически
отнестись к своей концепции, выпустив через два года после
выхода в свет своей книги брошюру, длинное название которой
начиналось так: «Ключ к антикатолической «Комедии» Дан¬
те Алигьери, пастыря альбигойской флорентийской Церкви
во Флоренции, соединенной с Орденом тамплиеров...». Далее
указывалось, что этот «ключ» содержит «объяснение символи¬
ческого язык... в лирических композициях, романсах и рыцар¬
ских эпопеях трубадуров». Прямолинейность толкований около
пятисот зашифрованных (по мнению Ару) выражений и терми¬
нов «символического языка» была, конечно, причиной крайне
скептического отношения к этому «ключу».
И тем не менее в дантологической литературе не раз возникал
вопрос о связи Данте с Орденом тамплиеров, подробно рассма¬
триваемый, например, в известной книге Ж. А. Пробст-Бирабе-
* См.: Sanjek Franjo. Bosanske-humski (Herzegovacki) krstjani i katarsko-
dualisticki pokret u srednjem vijeku. Zagreb, 1975, passim. Книга содержит
обширную библиографию (с. 11-25) и ряд данных, почерпнутых из архив¬
ных материалов, датируемых XII — XV вв.
** См.: Бэлза Игорь. Вклад славянских народов в мировую культуру. —
Вестник Академии наук СССР, 1976, № 10.
*** Rougemont Denis de. L’amour et l’Occident. Paris: Plon, 1956, passim.
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
753
на «Тайны Тамплиеров»*. Отметим прежде всего, что преслову¬
тое «тайное учение» тамплиеров, о котором писал еще Мишле**,
вне всякого сомнения, было достоянием лишь интеллектуаль¬
ной элиты ордена и поныне не может быть представлено в сколь¬
ко-нибудь законченном изложении. Суммируя все данные, ко¬
торыми мы располагаем до сего времени, и отбрасывая явно
клеветнические измышления, имеющие в основном целью обе¬
лить Филиппа IV (например, путем объяснения его преступных
действий стремлением к абсолютизации королевской власти
как залога величия Франции), можно с той или иной степенью
уверенности утверждать, что в руководящих кругах Ордена раз¬
вивалась дуалистическая концепция, близкая Данте, но перво¬
начально почерпнутая им, быть может, из «еретических» уче¬
ний, стремительно распространявшихся на его родине.
Следуя приводившемуся уже положению Энгельса об «от¬
крытой ереси» как о революционной оппозиции против феода¬
лизма, А. К. Дживелегов в своей монографии о Данте, уделя¬
ющий ересям внимание больше, чем кто-либо из дантологов,
пишет: «Для Флоренции было особенно важно то, что во время
победы гибеллинов получили свободу слова и действия ерети¬
ки». И далее: «Данте был свидетелем триумфов ереси и ее пора¬
жения. И отнюдь не безучастным» ***. В настоящее время, как бы
ни дифференцировались различные «еретические» учения,
правильнее всего говорить не об их региональных особенностях
и отличиях, а об общности их дуалистической основы, наличе¬
ствовавшей и у приобщенных к ней рыцарей Храма, и у Данте,
который, как уже говорилось, с особенной яростью обрушился
на «французского злодея» в «Божественной Комедии».
Личные контакты Данте с Орденом не исключены, но и не до¬
казаны. Тот факт, что он был женат, сам по себе не мог служить
препятствием для посвящения в рыцари Храма, а лишь не давал
права носить белый плащ с красным восьмиконечным крестом
и пояс. Вряд ли можно сомневаться, однако, в том, что Данте
был известен устав Ордена («Regula pauperum commilitorum
Christi templique Salomoniaci»). Постепенно слова о «храме
Соломоновом», введенные в этот устав после того, как король
* Probst-Biraben J. H. Les mystères des Templiers. Nice, 1947, passim.
** Michelet J. Le procès des Templiers. Vol. 1-2. Paris, 1841-1851.
'** Дживелгелов A. К. Данте Алигьери, с. 32, 34.
754
И. Ф. БЭЛЗА
Иерусалимский Балдуин II передал Ордену часть своего двор¬
ца, сооруженного вблизи храма Соломонова, приобрели алле¬
горическое значение, в особенности после потери Иерусалима
крестоносцами в 1187 г. Впрочем, такое аллегорическое значе¬
ние существовало еще задолго до этого, и М. Булгаков в романе
«Мастер и Маргарита» отразил это достаточно точно в сцене до¬
проса «странствующего философа» Пилатом:
«— Так ты собирался разрушить здание храма и призывал
к этому народ? ...
— Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры
и создастся новый храм истины»*.
Именно о «новом храме истины» думал великий флорен¬
тиец, создавая свое произведение, в котором обличались
и «новый Пилат», и другие люди, предававшие поруганию
этические идеалы человечества. Гора Сион, на которой воз¬
вышается Иерусалимский храм, у Данте («Чист.» II), как
отмечают комментаторы, расположена на одной параллели
с горой Чистилища, а погружение в адскую бездну, приводя¬
щее в центр земли к Люциферу, хотя и происходит по кругам,
но позволяет провести перпендикулярную линию, верхняя
точка которой расположена во вратах Храма**, — таким обра¬
зом, Храм, противостоящий владыке Ада, является как бы
символическим ориентиром загробных скитаний Данте.
Именно поэтому, как можно предположить, строителя Хра¬
ма, царя Соломона, в X песни «Рая» Данте так прославляет
устами Фомы Аквината:
Тот, пятый блеск, прекраснее, чем каждый
Из нас, любовью вдохновлен такой,
Что мир о нем услышать полон жажды.
В нем мощный ум, столь дивный глубиной,
Что, если истина — не заблужденье,
Такой мудрец не восставал второй.
(«Рай»Х, 109-114)
* Булгаков M. А. Романы. М.: Худож. лит., 1973, с. 438, 441.
** С предельной наглядностью это изображено, например, на схеме, при¬
ложенной к томику: Scritti varii intorne a Dante Alighieri e alia Divina
Commedia. Venezia, 1856 (издание выпущено c «Imprimatur» курии па¬
триарха Венеции).
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования 755
Надо полагать, что терцины эти посвящены мудрому Соло¬
мону именно как строителю «храма, восстающего во мгле»,
а не как состарившемуся, жены которого «склонили сердце его
к иным богам» (Третья книга царств, 11, 4). Кроме того, нельзя
не обратить внимание на перечень богословов, ученых и писа¬
телей, о которых здесь говорит Фома, называя имена Альберта
Великого, Пьетро Ломбардского, Дионисия Ареопагита, Павла
Орозия, Боэция, Исидора Испанского, Беды Достопочтенного,
Ришара де Сен Виктора*, Сигера Брабантского. Почему царь Со¬
ломон оказался единственным ветхозаветным среди всех этих
персонажей? Не потому ли, что Данте стремился выделить «1а
quinta luce, ch’è tra noi più bella» (Par. X, 109), имея в виду тот
«прекраснейший свет», исходящий из созидавшегося Храма,
непреложность которого утверждается заслуживающим раз¬
мышления замечанием «se ’1 vero è vero» («если истина есть
истина» — Par. X, 113). Отметим еще раз, что десятая песнь со¬
держит в конце упоминание о «вечном свете Сигера» («la luce
etterna di Sigieri» — 136), теологические труды которого при¬
влекли внимание инквизиции, обнаружившей в них явное вли¬
яние аверроизма (вспомним, что Аверроэса— «Averrois, che
’1 gran coment о feo» — вместе с другими мудрецами древности
Данте поместил в Лимб. — Inf. IV, 144), после чего епископ Па¬
рижский, осудивший 219 (!) положений Сигера, включая и док¬
тринальные, создал такую атмосферу вокруг «вечного света»,
что знаменитый теолог вынужден был обратиться к римской
курии с целью разъяснения своих концепций. Комментаторы
Данте (в частности, Лоньон, Ядвига Галушка, Шнейдер и др.)
считают по меньшей мере загадочным отношение Данте к бра¬
бантскому философу и прославление его, да еще вложенное
в уста Аквината, который в действительности выступал против
Сигера в Париже, куда, по мнению Э. Жильсона, «ангеличе-
ский доктор» приехал в 1269 г. именно для борьбы с аверроис-
тами. Думается, что отношение Данте к Сигеру, явно противо¬
поставляемое Фоме (правда, он был канонизирован лишь через
два года после смерти Данте), до известной степени объясняется
* В оригинале этот теолог шотландского происхождения, ставший при¬
ором парижского монастыря св. Виктора, именуется Riccardo. Другой
теолог-мистик, регулярный (т. е. монашествующий) каноник аббатства
св. Виктора — Ugo da San Vittore, упоминается далее в XII песни «Рая».
756
И. Ф. БЭЛЗА
тем, что Сигер (который, как переводит Лозинский, прекрасно
передавая мысль Данте, «неугодным правдам поучал») возво¬
дил детерминизм в ранг доктрины, в той или иной мере проти¬
востоявшей догмату об искуплении, отринутому, как уже гово¬
рилось, дуалистическими учениями.
Не менее загадочным представляется многим комментаторам
завершение двенадцатой песни «Рая» прославлением знамени¬
того Иоахима да Фьоре, калабрийского аббата, «наделенного
пророческим даром («il calavrese abate Giovacchino, / di spirito
profetico donato». — Par. XII, 140-141). Прославление это Дан¬
те вложил в уста францисканца Бонавентуры, хотя именно этот
кардинал был наиболее последовательным противником Иоа¬
хима и его последователей — иоахимитов*. Комментарии Иоа¬
хима к Библии, в особенности к Апокалипсису, вызывали рез¬
кие возражения и других теологов, отвергавших, в частности,
его учение о грядущем «царстве святого духа». Установлено,
что в основе учения этого лежали воззрения катаров и соответ¬
ственно богомилов, — иными словами, Данте выделил среди
всех «светочей» Сигера Брабантского и Иоахима да Фьоре, так
или иначе связанных с концепцией дуализма, беспощадно пре¬
следовавшейся (по указанным уже причинам) как официальной
«церковью воинствующей», так и светскими властями.
Изучение сложных вопросов, связанных с распространени¬
ем тех дуалистических концепций катаров и богомилов, кото¬
рые академик Владимир Топенчаров образно называет «двумя
языками одного пламени»** на протяжении последних деся¬
тилетий ознаменовалось появлением многочисленных работ,
в особенности после того, как доминиканец А. Донден нашел
и опубликовал катарский теологический трактат «Liber de
duobus principiis» («Книга о двух основах»)***. Димитр Ангелов
в нескольких работах решительно и очень убедительно возра¬
жает против того, чтобы полностью отождествлять богомилов
с катарами и считать оба учения продолжением манихеизма,
как это, кстати сказать, вплоть до последнего времени делают
* См., в частности: Russo P. Francesco. Bibliografia Gioachimita. Firenze,
1954.
** Topentchatov Vladimir. Bou[I]gres et cathares. Deux brasiers, une même
fiamme. Paris, 1971.
*** DondaineA., O. P. Un traité néo-manichéen du XIII-e siècle, le «Liber de
duobus principiis* suivi d’un fragment de rituel cathare. Roma, 1939.
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования 757
многие западноевропейские исследователи. Дуалистическая
концепция облекалась в самые различные формы в зависимо¬
сти от конкретных социально-исторических условий, нередко,
к сожалению, оттесняемых на второй план догматическими ка¬
тегориями, хотя «катарская ересь», которая, как с удивлением
констатируют некоторые исследователи (в том числе компетент¬
ный автор книги «Die Katharer» Арно Боршт), на протяжении
каких-нибудь двух лет «проникла из Болгарии в Англию», явно
восходила к богомильскому учению.
Между тем распространение дуалистических учений в раз¬
личных видах до крайности беспокоило властодержцев светских
и духовных, тем более что учения эти порождали многочислен¬
ные легенды и поэтические произведения, включая сказания
о святом Граале, поэзию трубадуров и т. п. Отто Ран (Rahn)
образно назвал варварские истребления «еретиков» (так назы¬
ваемые «крестовые походы против альбигойцев») и созданных
ими художественных ценностей «крестовым походом против
Грааля» («Croisade contre le Graal»*). Недаром еще в 1177 г**,
граф Раймунд V Тулузский жаловался, что бессилен предпри¬
нять что-либо против повсеместно распространившихся ересей,
а через каких-нибудь десять лет после этой ламентации в том же
графстве слагал песни в честь радостей весны и (!) замка Фанжо
(резиденции епископа-еретика Гилсбера де Кастр) прославлен¬
ный поэт Пейре Видаль. В наши задачи не входит вопрос о связи
искусства трубадуров с катарами и альбигойцами, вызвавший
ожесточенную дискуссию после появления упоминавшейся
уже книги Дени де Ружмона и его высказываний о «трубаду¬
рах — хранителях тайны»***. Думается, однако, что вопрос этот
* Таково название его книги: Rahn Otto. La croisade contre le Graal. Paris,
s. a. Полной уверенности в том, что Ран имел достаточно оснований отож¬
дествлять сильно поврежденный этими «крестоносцами» замок Монсегюр
с легендарным Монсальватом — резиденцией Парсифаля, у нас, конечно,
нет.
** T. е. через десять лет после первого катарского собора, на котором были
представлены многие страны Европы.
Видимо, Трубадуры не только хранили тайны дуалистических сект,
но и гневно обличали их преследователей, примером чему может слу¬
жить сирвента Гиллема Фигейра, осуждающая «святого отца» и Лю¬
довика Vili за упомянутый «поход против Грааля». См.: Roché Déodat.
L’Eglise romaine contre les cathares albigeois. — Cahiers d’études cathares.
Narbonne, 1969, passim.
758
И. Ф. БЭЛЗА
должен быть включен в круг проблем дантологии, тем более что
он неразрывно связан с имеющей, быть может, ключевое зна¬
чение, но далеко еще не разработанной проблемой раскрытия
зашифрованной дуалистической концепции «Божественной
Комедии». Коснемся хотя бы вкратце некоторых аспектов дан¬
ной проблемы, во многих комментариях к великой поэме даже
не затрагиваемой, хотя внимательное чтение дантовского ше¬
девра не может не привести к убеждению в его связи с дуали¬
стическими учениями (вспомним еще раз проницательное опре¬
деление Энгельса о роли мистики и открытой ереси в развитии
«революционной оппозиции феодализму»).
Как известно, пристальное внимание дантологов с давних
пор привлекало начало тридцать четвертой песни «Ада», осо¬
бенно первый стих:
« Vexilla regis prodeunt inferni
verso di noi; però dinanzi mira»
disse’l maestro mio «se tu’l discerni».
(Inf. XXXIV, 1-3)
Этими словами Вергилий предлагает Данте вглядеться
в ту страшную фигуру «мучительной державы властелина»
(«Lo’mperador del doloroso regno».— Inf. XXXIV, 28; доел.
«Повелитель царства скорби»; ср.: «cittàdolente». — Inf. Ill, 1),
к которой приближаются поэты. Первые три слова первого сти¬
ха представляют собою начало католического «Гимна кресту»,
который сочинил в VI в. Венанцио Фортунато, епископ Пуатье.
Гимн этот, по содержанию своему отвечавший догмату иску¬
пления, совершившегося по ортодоксальному учению Церк¬
ви в момент смерти Иисуса, завершившей его крестные муче¬
ния, исполнялся в католических храмах в Страстную пятницу
(то есть в день, посвященный церковью этой смерти) и в день
«Воздвижения Креста господня». Именно крест именовался
«знаменем господним» («vexilla regis»), что подчеркивалось по¬
следующими словами гимна, поныне сохранившегося в церков¬
ном обиходе: «Vexilla Regis prodeunt / Fulget Crucis mysterium»
(«Приближается знамя господне / Блистает таинство Креста»).
И в тексте этого же гимна крест именуется «единственной наде¬
ждой» верующего («О Crux, ave, spes unica...»).
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
759
Данте прибавил только одно слово к первому стиху этого кре¬
стопоклонного гимна: «Vexilla regis prodeunt inferni», то есть
«близятся знамена владыки ада», — и такое дополнение вы¬
зывало немалое смущение комментаторов. Наталино Сапеньо,
к которому присоединились Йозеф Феликс и некоторые другие
дантологи, выдвинул предположение, что Данте прибегнул
к такому приему, чтобы подчеркнуть грозную торжественность
обезображенного Люцифера. Думается, однако, что правиль¬
нее считать данное место в завершении первой кантики одним
из применений «дуалистического шифра» «Комедии», — в дан¬
ном случае путем противопоставления «vexilla regis» и «vexilla
regis inferni», иными словами — Царства Света и царства Тьмы.
Именно к властелину царства Тьмы, называемому в данном
случае одним из его имен, обращается в начале VII песни страж
четвертого круга Ада, демон Плутос, пытающийся запугать
пришельцев:
«Pape Satàn, papé Satàn aleppel»
(Inf. VII, 1)
Этот возглас породил множество самых разноречивых ком¬
ментариев. И. М. Греве в примечаниях к первому изданию
«Ада» в переводе М. Лозинского (1939) присоединился к тем
комментаторам, которые считают, что такими непонятными
словами Плутос старался вызвать смятение у Данте и Верги¬
лия. В последующих изданиях, комментированных самим Ло¬
зинским, сказано: «Как видно из ст. 3-12, Вергилию понятен
смысл этих загадочных слов: они выражают ярость и угрозу»*.
К такому пониманию смысла этих слов, видимо, можно присое¬
диниться, хотя Аттилио Момильяно** и некоторые другие авторы
считают, что возглас этот лишен какого бы то ни было смысла,
и попытки расшифровать его, пользуясь романской, еврейской
и арабской лексикой, не выдерживают никакой критики. Впро¬
чем, Скартаццини уже в конце прошлого века подсчитал, что ко¬
личество толкований этого возгласа приближается к ста***.
* Данте Алигьери. Божественная Комедия: Ад. М., 1974, с. 271.
** Momigliano Attilio. Dante, Manzoni, Verga. Messina — Firenze, 1955.
*** Scartazzini G. A. Enciclopedia Dantesca, vol. 1. Milano, 1896, p. 1424-1429.
Из новых комментариев к VII песни «Ада» можно назвать посвященные
ей работы М. Марти (1959) и А. Валлоне (1960).
760
И. Ф. БЭЛЗА
Что касается версии Бенвенуто Челлини, то его трактовка
иногда все еще цитируется комментаторами, пытающимися
найти в этом возгласе Плутоса какие-то элементы, привнесен¬
ные в текс» из другого языка. В главе XXVII второй книги сво¬
ей автобиографии Бенвенуто повествует, как в Париже, в ре¬
зультате затеянной против него тяжбы, он оказался однажды
в огромнейшем» зале (sala grandissima), где восседал судья, на¬
поминавший своим обликом Плутоса и обратившийся к кричав¬
шему на кого-то сторожу: «Тише, тише, Сатана (Satanasso), уби¬
райся отсюда (levate di costi), и тише!» Бенвенуто поясняет, что
по-французски эти слова звучали так: «phe phe Satan phe phe
Satan alè phe». Комментаторы «Жизни Бенвенуто Челлини»,
в частности Бруноне Бьянки, поясняют, что автор этой «самой
удивительной книги Чинквеченто» «стремился передать зву¬
чание французских слов: «paix, paix, Satan, paix, paix, Satan;
allez, paix»*.
Челлини поясняет далее: «Я, который отлично научился
французскому языку, услышав это выражение, мне пришло
на память то, что Данте хотел сказать, когда он вошел с Верги¬
лием, своим учителем, в ворота Ада. Потому что Данте в одно
время с Джотто, живописцем, были вместе во Франции и преи¬
мущественно в Париже, где, по сказанным причинам, то место,
где судятся, может быть названо Адом; поэтому также Данте,
хорошо зная французский язык, воспользовался этим выра¬
жением; и мне казалось удивительным делом, что оно никогда
не было понято как таковое; так что я говорю и полагаю, что
эти толкователи заставляют его говорить такое, чего он никогда
и не думал»**. Вряд ли Данте в VII песни «Ада» хотел воспро¬
извести окрик парижского судьи, ибо челлиниевская интерпре¬
тация этого возгласа оставляет открытым вопрос, к кому же он
относился в Аду — не к повелителю же самого Плутоса?! Мож¬
но согласиться поэтому с теми биографами Бенвенуто, которые
высказывают подозрение, что автор этой достославной книги
стремился не столько к лаврам ученого комментатора Данте,
сколько к нанесению удара «этим толкователям».
* Cellini В. La Vita di Benvenuto Cellini sciitta da lui medesimo. Edizione
stereotipa. Milano, 1907, p. 246.
** Челлини Б. Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорен¬
тинца, написанная им самим во Флоренции. М.; Л., 1931, с. 482.
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
761
Первый стих VII песни «Ада» все еще продолжает привле¬
кать внимание комментаторов. Но если многие из них согла¬
шаются с Момильяно, придающего особое значение звуковому
строению дантовского стиха, то все же попытка этого бесспорно
выдающегося исследователя «Божественной Комедии» ограни¬
чить комментирование данного стиха его фонетической струк¬
турой не получила сколько-нибудь широкой поддержки, хотя
указание на «тембр» возгласа Плутоса вошло в современную
дантологическую литературу. Так, Фреди Кьяппелли счита¬
ет этот стих «фразой выразительной, но непонятной (oscura),
которую невозможно истолковать с достаточной уверенностью
(sicuramente). Представляется она обращением к Сатане, угро¬
жающим зачином и наверняка передает хриплый голос чудови¬
ща»*.
Анри Лоньон, более других комментаторов склонный под¬
черкивать дуалистические элементы «Божественной Коме¬
дии», также отмечает загадочность, а следовательно, и зашиф-
рованность данного стиха, но высказывает предположение,
что его следует толковать как тревожное обращение к обожест¬
вляемому князю Тьмы, властителю преисподней, и предлагает
французскую «транскрипцию» этого возгласа: «О dieu Satan,
о dieu Satan, alerte! » ** Йозеф Феликс*** придает особое значение
тому, что начинается возглас Плутоса, а следовательно, и вся
VII песнь словом «papé», которое (как считают и некоторые
другие комментаторы) относилось к Бонифацию VIII и было
«зачином» песни, содержащей резкие антиклерикальные вы¬
пады:
Здесь встретишь папу, встретишь кардинала****,
Не превзойденных ни одним скупцом.
(«Ад» VII, 47-48)
Подобные обличительные инвективы уже служат подготов¬
кой к сценам кары пап в «Злых щелях». Но и здесь возникает
явно дуалистический мотив, «сокрытый под странными стиха¬
* Dante Alighieri. Tutte le opere / A cura di Fredi Chiappelli. Edizione del
Centenario. Milano: Mursia, 1965, p. 952.
** Dante. La Divine Comédie. Op. cit., p, 450
*** Dante Alighieri. Bozskà Komedia. Op. cit., s. 324-325.
**** В подлиннике — множественное число: « ...e papi e cardinali».
762
И. Ф. БЭЛЗА
ми». Ибо сопоставление этих щелей (названных Данте приду¬
манным им словом «Malebolge») с купелями флорентийского
баптистерия на первый взгляд кажется по меньшей мере стран¬
ным — ведь как-никак в тех купелях любимого храма Данте со¬
вершалось таинство крещения:
Io vidi per le coste e per lo fondo
piena la pietra livida di fori,
d’un largo lutti e ciascun era tondo.
Non mi parean men ampi né maggiori
che que’che son nel mio bel San Giovanni,
fatti per luogo de’battezzatori;
l’un de li quali, ancor non è molt’anni,
rupp’io per un che dentro v’annegava:
e questo sia suggel ch’ogn’uomo sganni.
Fuor de la bocca a ciascun soperchiava
d’un peccator li piedi e de le gambe
infìno al grosso, e l’altro dentro stava.
Le piante erano a tutti accese intrambe...
Повсюду, и вдоль русла, и по скатам,
Я увидал неисчислимый ряд
Округлых скважин в камне сероватом.
Они совсем такие же на взгляд,
Как те, в моем прекрасном Сан Джованни,
Где таинство крещения творят.
Я, отрока спасая от страданий,
В недавний год одну из них разбил:
И вот печать, в защиту от шептаний!
Из каждой ямы грешник шевелил
Торчащими по голени ногами,
А туловищем в камни уходил.
У всех огонь змеился над ступнями...
(«Ад» XIX, 13-25)
Не случайно многие комментаторы останавливались на этих
терцинах, поныне не достигнув толкования, преемлемого для
всех. Думается, однако, что наибольшего внимания заслужива¬
ет в данном случае не слово «battezzatori», означающее в этом
контексте вероятнее всего «крестильницы» (т. е. купели для
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования 763
совершения таинства крещения)*, а сравнение пяти «щелей»
в полу баптистерия, пять раз упоминаемого Данте**, с «злыми
щелями» в адском камне, причем освященная вода таинства
тем самым противопоставляется огню посмертной кары. Но по¬
мимо такого дуалистического «противоборствастихий», внима¬
ние комментаторов привлекает еще рассказ Данте о том, как он
разбил одну из крестильниц баптистерия для того, чтобы спасти
тонувшего в ней человека, имя которого (Антонио ди Бальди-
наччи деи Кавиччули) упоминается в некоторых толкованиях.
Но не связывается ли этот эпизод (если даже он имел место в дей¬
ствительности), столь кратко рассказанный в XIX песни «Ада»,
с цитировавшимся призывом, обращенным в IX песни ко всем
«имеющим здравый рассудок», — постичь «доктрину» — уче¬
ние, зашифрованное в различных местах «Божественной Ко¬
медии»? Ибо почти все ереси, известные Данте, основывались
на доктрине извечной борьбы добра со злом, отрицая догмат
того «искупления», залогом которого было таинство крещения.
И удары, нанесенные Данте по краю одной из купелей баптисте¬
рия, не имели ли «ритуального» значения?
Ответы на такого рода вопросы, возникающие при чтении
«Божественной Комедии», связаны, естественно, с изучением
той проблемы дуалистической концепции великой поэмы, ко¬
торая, как можно считать, является основной или, во всяком
случае, одной из основных проблем современной дантологии.
Отдельные аспекты этой проблемы рассматривались как зару¬
бежными (в частности, Лоньоном и Феликсом), так и отечествен¬
ными (особенно Дживелеговым) учеными, хотя подавляющее
большинство дантологов к ней не обращалось. Поиски ключа
к таинственной доктрине IX песни «Ада» потребуют значитель¬
ных усилий, далеко выходящих за пределы возможностей одно¬
го человека, если даже он будет наделен «гениальной работоспо¬
собностью» , как выразился когда-то Шнайдер о Барби.
* Такое понимание этого стиха, принимаемое многими авторами вплоть
до нашего времени, восходит еще к анонимному, так называемому «Луч¬
шему комментарию» («Ottimo Commento»), относящемуся, как полагает
Джузеппе Ванделли, примерно к 1333-1343 гг. См.: L’Ottimo Commento
della Divina Commedia Dantis Alighieri / Edito da A. Torri, vol. 1, Pisa,
1827.
** «Наш храм» («nostro tempio».— Inf. X, 87), разумеется, тоже Сан
Джованни.
764
И. Ф. БЭЛЗА
Дело в том, что поэма Данте отличается не только поистине
удивительным обилием образов, но и их многозначностью, за¬
частую ускользающей от комментаторов, в особенности склон¬
ных к компилятивным приемам, из-за которых, кстати сказать,
ошибки в переводах и толкованиях переходят из одного изда¬
ния в другое. Так, например, среди трех зверей, встретивших¬
ся Данте в «сумрачном лесу» I песни «Ада», фигурирует «una
lonza leggiera e presta molto, / che di pel maculato era coverta»
(Inf. I, 32-33). Слово «lonza» переводится обычно как «лео¬
пард», «пантера», «рысь», и лишь Лоньон (в отличие от своего
предшественника Александра Массерона, оставившего во фран¬
цузском переводе олово «lonza» без перевода) указал, что слово
это означает «гепард». А гепард, в отличие от рыси (которую он
несколько превосходит по величине, уступая, однако, леопар¬
ду), в эпоху Данте (а в Иране и Индии вплоть до нашего време¬
ни) легко приручался и применялся на охоте. И, кстати сказать,
зверь этот упоминается Данте и в другом месте:
Io avea una corda intorno cinta,
e con essa pensai alcuna volta
prender la lonza a la pelle dipinta.
(Inf. XVI, 106-108).
В этой терцине говорится, следовательно, о веревке, обвивав¬
шей стан поэта, при помощи которой он думал поймать гепар¬
да, — вряд ли, конечно, такое намерение могло бы возникнуть
по отношению к хищной рыси или пантере. Заметим попутно,
что вслед за Франческо Бути, комментарий которого относит¬
ся примерно к 1383 г., многие авторы считали, что упоминание
о веревке этой может служить указанием на то, что Данте был
терциарием (т. е. принадлежал к третьему, светскому Орде¬
ну францисканцев). Толкование это сменилось разными ины¬
ми. Указывается, в частности, что пояс терциариев назывался
«capestro», а не «corda». Слово же «corda» могло означать пояс
тамплиера* — возможно, «corda di San Giovanni» — так назы¬
* См.: John Robert L. Dante. Wien, 1946, S. 140 sqq. Австрийский дантолог
указывает также, что в 1313 г. один из тамплиеров — Ноффо Деи, ока¬
завшийся предателем, был повешен и что поэтому Данте отдает свой пояс
Вергилию, дабы тот бросил его в адскую бездну как символ кары, постиг¬
шей изменника. Толкование это, справедливо представляющееся многим
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
765
вался белый шнур, которым опоясывали неофитов во время
посвящения их в легендарное «тайное учение» Ордена. Предпо¬
ложение, что Данте принадлежал к числу тамплиеров, но дер¬
жал это в тайне, казалось бы, согласуется с его высказывания¬
ми об Ордене и его палачах, отчетливо проходящими через всю
«Божественную Комедию», но мало связывается именно с дан¬
ным эпизодом.
Говоря же о гепарде как об одном из трех зверей I песни
«Ада», нельзя не заметить двойственности этого образа. Каза¬
лось бы, это — хищник, от которого спасается Данте, но вместе
с тем весьма привлекательный зверь*: в XVI песни речь идет уже
только о его шкуре, переливающейся красками (да, собственно
говоря, эта «lonza leggiera e presta molto» уже в лесу показа¬
лась не такой уж опасной, когда поэт взглянул на восходящее
солнце и звезды). Такой же двойственностью характеризуются
и два других зверя: лев не только хищник, но и властный, гроз¬
ный царь зверей**, наделенный величием; что же касается вол¬
чицы, то вряд ли найдется человек романской культуры, у ко¬
торого этот образ не ассоциировался бы с римской волчицей,
вскормившей Ромула и Рема. И аллегорией каких бы пороков
ни представлялся комментаторам «третий зверь», эта ассоци¬
ация, с нашей точки зрения, исчезнуть не может, — она даже
помогает понять, почему только о волчице говорится, как много
скорби она уже принесла своим жертвам («e molte genti fe’già
viver grame». Inf. 1,51).
В наши задачи не входит критика и сопоставление необозри¬
мого количества комментариев к «Божественной Комедии».
Мы старались лишь подчеркнуть места, подтверждающие тезис
А. К. Дживелегова, отсутствующий у многих комментаторов:
«Данте был свидетелем триумфов ереси и ее поражения. И от¬
дантологам малоубедительным (ибо у Данте веревка эта связывается пре¬
жде всего с гепардом), интересно, однако, как свидетельство возрастаю¬
щего интереса к тамплиерским мотивам «Божественной Комедии».
* Йозеф Феликс, приводя многочисленные аллегорические толкования
образов трех зверей, высказывает интересное предположение, что слово
«lonza» ассоциируется у Данте с его родным городом, войдя в цепь, начи¬
нающуюся латинским названием гепарда: Felis опса — lonza — Fiorenza.
См.: Dante Alighieri. Bozskâ Komedia. Op. cit., s. 296-297.
** Предположение, что Данте имел в виду Филиппа Красивого, изображая
хищный рев голодного льва, не соответствует образному строю всей сце¬
ны, не допускающей персонификации зверей.
766
И. Ф. БЭЛЗА
нюдь не безучастным»*. Нет сомнения, что произведение Данте
содержит места, которые с точки зрения ортодоксальной теоло¬
гии нельзя квалифицировать иначе как еретические и кощун¬
ственные. Заметим попутно, что в инквизиторской инструкции
«De executione in cadavere delinquentis» (дословно это значит
«О наказании грешника, ставшего трупом») понятия «ересь»
и «кощунство» не различались: всякое «еретическое» высказы¬
вание или действие рассматривалось как кощунство, а каждое
кощунство было поступком еретическим**. Правда, эта инструк¬
ция, представлявшая собой весьма своеобразный «уголовный
кодекс» (который в качестве наименее сурового наказания пред¬
усматривал «лишение креста» могилы посмертно осужденного
грешника), появилась примерно через двести лет после смерти
Данте, но в ней был учтен весь опыт «защиты веры», который
накопили «псы господни» — инквизиторы-доминиканцы. На¬
помним, что «Tractatus de hereticis» Ансельма Александрий¬
ского появился, как полагают, примерно в год рождения Данте,
а год его смерти ознаменовался очередным инквизиционным
процессом катаров во Франции, — второй «авиньонский» папа
Иоанн XXII не хотел отставать от своего «беззаконного» пред¬
шественника, которому Данте отвел место в «Злых щелях».
Прошло семь лет после трагического завершения процесса там¬
плиеров, a «dottrina», положенная в основу их «тайного учения»
и утверждавшаяся богомилами, катарами, вальденсами, альбиго¬
йцами и другими дуалистическими сектами, продолжала сильно
беспокоить «воинствующую церковь» («ecclesia militane»), ибо
подрывала ее авторитет и посягала на ее права, — прежде всего
на право решать загробные судьбы людей и, основываясь на дог¬
мате искупления, осуждать или прощать их. Поэтому, «еретиче¬
ским» признавался даже обряд «consolamentum» (т. е. поддерж¬
ки, утешения), возникший уже в X в., заключавшийся в том, что
любой член общины катаров или богомилов мог возложить руки
на плечи нуждавшегося в моральной поддержке собрата (в неко¬
торых сектах обряд этот, до известной степени соответствовавший
«отпущению грехов», был обязателен по отношению к умираю¬
щим). И инквизитор Жан Фернье, который вел в Памье процесс
* Дживелегов А. К. Данте Алигиери, с. 34.
** См. также: Pratica inquisitionis hereticas pravitatis / Publié par. S. Douai.
Paris, 1886, passim.
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования 767
1321 г., добился осуждения и заключения в тюрьму Беатрисы де
Планиссоль, признавшейся в том, что члены ее общины, в том
числе и она сама, повинны в таком «преступлении».
Но в «Божественной Комедии» такой же проступок, как
нам уже приходилось отмечать, не раз совершают и Вергилий,
и Данте («вина» которого, разумеется, усугубляется тем, что
он принимает «утешение» от язычника). Особенно многозначи¬
тельна в этом отношении седьмая терцина III песни «Ада» :
E poi che la sua mano a la mia pose
con lieto volto, ond’io mi confortai,
mi mise dentro a le segrete cose.
(Inf. Ili, 19-21)
Комментаторы оставляют это место без толкований*, так же,
впрочем, как и многие другие места, так или иначе связанные
у Данте с дуалистическими учениями. Между тем совершенно
очевидно, что Вергилий перед тем, как войти во врата Ада вме¬
сте с Данте, и, начав загробные скитания, посвятить его в «таин¬
ственные вещи» (Лозинский переводит «таинственныесени»)**,
совершает именно обряд « consolamentum» — сперва наставляет
поэта (III, 14-18), а затем возлагает на него руку. Но эта терцина
в высшей степени важна еще и потому, что в ней человеческая
воля противостоит божественному установлению: ведь Ад соз¬
дан, как гласят «слова темного цвета» (трудно представить себе,
что этот великолепный образ возник в начале XIV в.!), «боже¬
ственной мощью, высшей мудростью и изначальной любовью».
Последняя строка надписи на вратах Ада предвещает каждому
входящему потерю какой бы то ни было надежды: «Lasciate ogni
speranza...» (Ini. Ill, 9). А Вергилий, употребляя тот же глагол,
призывает отказаться от какого бы то ни было колебания («Qui
si convien lasciare ogni sospetto...» — Inf. Ili, 14).
Что же касается следующей терцины, завершающей обраще¬
ние Вергилия, то она заслуживает внимания в контексте всей
первой кантики «Божественной Комедии»:
* Если не считать филологических пояснений (напр., a la mia sulla mia;
поэтому перевод М. Л. Лозинского «дав руку мае» отклоняется от смысла).
** Позволительно предположить, что le segrete cose уже в какой-то степени
предвещают и то, что в IX песни названо «dottrina».
768
И. Ф. БЭЛЗА
Noi siam venuti al loco ov’io t’ho detto
che tu vedrai le genti dolorose
c’hanno perduto il ben de l’intelletto.
Я обещал, что мы придем туда,
Где ты увидишь, как томятся тени,
Свет разума утратив навсегда.
(«Ад» III, 16-18)
Обычно эти строки сопоставляются с тем местом «Пира»,
где говорится, что «мы можем размышлять об истине, кото¬
рая и есть наше высшее совершенство, как говорит Философ
в шестой книге «Этики», когда он утверждает, что истина есть
благо разума» («Пир» II, XIII, 6)*. Сопоставление это вполне
закономерно, так как выражение «il ben de l’intelletto» в при¬
веденной терцине соответствует словам трактата: «che l’vero
è lo bene de lo intelletto». Однако толкование, даваемое неко¬
торыми комментаторами, например Кьяппелли, не представ¬
ляется нам убедительным, тем более что оно никак не может
опираться на подразумеваемое в «Пире» высказывание Ари¬
стотеля. «Il ben de l’intelletto» — «благо разума» сопровожда¬
ется в этом толковании III песни «Ада» (III, 18) разъяснением:
«la contemplazione della Verità, cioè Dio» (созерцание Истины,
т. e. Бога)**. Но в «Пире» речь идет не о «созерцании», а о том,
что благодаря наукам «мы можем размышлять об истине» («per
l’abito le quali*** potemo la varitade speculare»). Как показывает
Данте, души, томящиеся в аду, не теряют способности «раз¬
мышлять об истине», — и способность эта нередко проявляется
в форме ереси (включая даже кощунство), от которой автор «Ко¬
медии» неизменно спешит отмежеваться, хотя дарованная им
грешникам способность вряд ли соответствует ортодоксальным
религиозным нормам.
Отождествление Истины с Богом подкреплялось в коммен¬
тариях к цитированной терцине, как, впрочем, и ко многим
другим местам, такими ссылками на высказывания « ангеличе-
ского доктора», которые зачастую воспринимаются как натяж¬
* Данте Алигьери. Малые произведения. М., 1968, с. 155. Перевод А. Г. Га¬
бричевского.
** Dante Alighieri. Tutte le opere / A cura di Fredi Chiappelli, p. 948.
*** T. e. le scienze.
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
769
ки. Такой натяжкой можно считать и в данном случае ссылку
на Аквината («Summa theologiae», III, suppl. qu. ХСП, 1-3)*,
так как в «Пире», как было сказано, прямо назван Аристотель.
Обратимся, однако, к тем песням «Ада», в которых грешники
проявляют, вопреки словам Вергилия, то, что он называет «il
ben de l’intelletto». Таков прежде всего знаменитый эпизод
встречи Данте и Вергилия с Фаринатой (Якопо дельи Уберти)
в шестом круге (песнь X).
Воздававший должное мужеству и любви к родному городу
этого вождя гибеллинов, Данте, хотя и был белым гвельфом, со¬
здал незабываемый по силе образ человека, воля которого про¬
является и в «огненной могиле» Ада:
А он, чело и грудь вздымая властно,
Казалось, Ад с презреньем озирал
(com’avesse l’inferno in gran dispitto).
(«Ад» X, 35-36)
Эрнесто Джакомо Пароди, Микеле Барби и другие выдаю¬
щиеся дантологи, комментируя X песнь, считали, что в ней,
по существу, прославляется грешник-еретик, ибо Фарината
был посмертно осужден как «эпикуреец», отрицавший веру
в загробную жизнь. Наталино Сапеньо, анализируя эту песнь
в своем комментарии к «Божественной Комедии»**, пришел
к заключению, что вся встреча с Фаринатой, взволнованным
услышанными им звуками тосканской речи, задумана Данте
как размышление о судьбах Флоренции. И обращение к Данте,
неожиданно раздавшееся
Amore е’1 cor gentil sono una cosa...
Благое сердце и Любовь — одно...
Donne ch’avete intelletto d’amore,
I’vo’ con voi de la mia donna dire...
* См., напр., комментарий Скартаццини, пересмотренный после смерти это¬
го классика дантологии (Dante Alighieri. La Divina Commedia / Commenti
di G. A. Scartazzini. Quinta edizione curata da G. Vandelli. Milano, 1906, p.
24; cp.: Vazzano S. II canto III dell’inferno. Torino, 1965.
** Dante Alighieri. La Divina Commedia. Inferno / A cura di N. Sapegno.
Firenze, 1955. См. также однотомник, в который вошли все три кантики
(1957).
770
И. Ф. БЭЛЗА
О донны, вам, что смысл Любви познали,
Я стану о мадонне говорить...
...e qual soffrisse di starla a vedere
diverria nobil cosa, о si morria.
...Пред кем пройдет, красой озарена,
Тот делается благ иль умирает...
Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia quand’ella altrui saluta,
ch’ogne lingua deven tremando muta,
e li occhi no l’ardiscon di guardare.
Ella si va, sentendosi laudare,
benignamente d’umiltà vestuta;
e par che sia una cosa venuta
da cielo in terra a miraeoi mostrare.
Mostrasi si piacente a chi la mire,
che dà per li occhi una dolcezza al core,
che’ntender no la può chi no la prova:
e par che de la sua labbia si mova
un spirito soave pien d’amore,
che va dicendo a l’anima: Sospira.
Столь благородна, столь скромна бывает
Мадонна, отвечая на поклон,
Что близ нее язык молчит, смущен,
И око к ней подняться не дерзает.
Она идет, восторгам не внимает,
И стан ее смиреньем облачен,
И кажется: от неба низведен
Сей призрак к нам, да чудо здесь являет.
Такой восторг очам она несет,
Что, встретясь с ней, ты обретаешь радость,
Которой непознавший не поймет,
И словно бы от уст ее идет
Любовный дух, лиющий в сердце сладость,
Твердя душе: «Вздохни...» — и воздохнет.
— Che fai? non sai novella?
morta è la donna tua, ch’era sì bella.
— Что медлишь? Весть ли не дошла?
Так знай же: днесь мадонна умерла!
Ita n’è Beatrice in l’alto cielo,
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
771
nel reame oveliangeli hanno pace...
Сияет Беатриче в небе горнем,
Где ангелы вкушают сладость дней...
...io spero di dicer di lei quello che mai
non fue detto d’alcuna.
...я надеюсь сказать о ней то, что никогда
еще не говорилось ни об одной.
...poi prende Amore in me tanta vertute,
che fa li miei spiriti gir parlando,
ed escon for chiamando
la donna mia, per darmi più salute.
Questo m’awene ovunque ella mi vede,
e sì è cosa umil, che noi si crede.
Поистине Любовь так правит мной,
Что вздохи повсеместно бьют тревогу
И кличут на помогу
Мою мадонну, щит и панцирь мой:
Она спешит, и с ней — мое спасенье,
И подлинно чудесно то явленье.
из могилы, звучит как исповедание любви к родине и родно¬
му народу» («di quella nobil patria natio»):
Тосканец, ты, что городом огня
Идешь, живой, и скромен столь примерно,
Прошу тебя, побудь вблизи меня.
Ты, судя по наречию, наверно,
Сын благородной родины моей,
Быть может, мной измученной чрезмерно».
(«Ад» X, 22-27):
Нет сомнения, что знаменитый римский дантолог прав, под¬
черкивая, что основной темой этого «поединка» (как назвал диа¬
лог Данте и Фаринаты Александр Массерон) были судьбы Флорен¬
ции, которую каждая из враждующих партий любила по-своему.
И Данте, с течением времени ставший «сам себе партией», про¬
должает, однако, отстаивать свою правоту даже в преисподней.
Но, каковы бы ни были гражданские мотивы, развитые в X песни
и подчеркиваемые Сапеньо, а вслед за ним и некоторыми другими
772 И. Ф. БЭЛЗА
комментаторами, все же нельзя забывать, что Данте знал об инк¬
визиционном процессе, который состоялся через девятнадцать лет
после смерти Фаринаты и закончился осуждением по всей форме
его и его жены как еретиков. В соответствии с приговором инк¬
визиционного суда посмертное наказание не ограничивалось упо¬
минавшейся уже карой «лишения креста». Кости обоих супругов
были вырыты рукою палача из могил, которые были осквернены
по распоряжению ретивых доминиканцев, инспирированному,
правда, гвельфами. Данте, который хотя и был политическим
противником гибеллинов, вложил в уста Фаринаты слова гнева
и презрения («quasi sdegnoso / mi dimandò». — Inf. X, 41-42),
относившиеся, конечно же, не к Данте, а к святой инквизиции,
вынесшей позорное решение о надругательстве над могилой «ере¬
тика». Данте, казалось бы, соглашается с мотивировкой этого
приговора, помещая Фаринату среди «эпикурейцев», и даже усу¬
губляет ее, приписывая Фаринате грех гордыни. Но в конечном
итоге основными чертами облика этого «еретика» оказываются
величайшее чувство человеческого достоинства и воли, противо¬
стоящей адским мукам: Фарината, таким образом, в полной мере
сохраняет «il ben de l’intelletto», — если только, разумеется, по¬
нимать эти слова в прямом смысле, не прибегая для их толкова¬
ния к концепциям святого Фомы, влияние которого на Данте, как
правило, преувеличивается и, во всяком случае, мешает правиль¬
ному пониманию того, что сам он назвал «dottrina».
Приведем еще один пример «шифра», применяемого в «Бо¬
жественной Комедии». В восьмом круге Ада, в змеином седь¬
мом рве, предназначенном для воров, Данте видит Ванни Фуч-
чи, который вынужден признаться в своем преступлении:
Я так глубоко брошен в яму эту
За то, что утварь в ризнице украл.
Тогда другой был привлечен к ответу.
(«Ад» XXIV, 137-139)
Это место привлекало многих комментаторов, указывавших,
что речь идет о совершенной в 1293 г. краже церковной утвари
из ризницы* пистойского собора св. Иакова. Соучастником Грн-
M. Лозинский правильно переводит (и соответственно комментирует) сло¬
во «sagrestia» — ризница.
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
773
бежа был Ванни Фуччи, который принял участие и в ложном
доносе на ни в чем не повинного Рампино ди Рануччо Форези,
но правда через некоторое время открылась, и, хотя самому
Фуччи удалось сбежать, его сообщник пистойский нотариус
Ванни дела Монна был повешен в 1296 г. В дантологических
работах Манфреди Порена* отмечается, что Ванни Фуччи, как
персонажу «Ада», особенно тяжело было сделать свое призна¬
ние, ибо в 1300 г. (к которому отнесена его встреча с поэтом
в «Комедии») его виновность еще не была доказана.
Андре Пизар, а также некоторые другие дантологи считают,
что Данте подчеркивает кощунственный характер этой кражи.
Тогда понятно, почему следующая песнь начинается кощун¬
ственной выходкой Ванни Фуччи (напророчившего перед этим
поражение белых гвельфов):
По окончанье речи, вскинув руки
И выпятив два кукиша, злодей
Воскликнул так: «На, боже, обе штуки!»
(«Ад» XXV, 1-3)
Оказывается, грешник в Аду может не только презирать (как
Фарината) определенную ему кару, но и проявлять злую волю,
вплоть до богохульства, звучащего как вызов богу. Данте, видя,
как набрасываются на Ванни Фуччи змеи и душат его, немед¬
ленно выражает свое отношение к этой каре в самой решитель¬
ной, быть может, даже несколько странной форме:
Da indi in qua mi fuor le serpi amiche...
С тех самых пор и стал я другом змей...
(«Ад» XXV, 4)
Это звучит не только как прелюдия к знаменитой инвекти¬
ве, обращенной к Пистойе («Ahi Pistoia, Pistoia...» — Inf. XXV,
10-15), но и как заверение, что он, Данте Алигьери, восхваляет
суровую кару, неотвратимо постигающую грешника. Правда,
* См., напр.: PorenaM. La mia Lectura Dantis. Napoli, 1932. Комментарии
к XXIV песни «Ада» опубликовали Пассерини (1926), Муратори (1932),
Валлоне (1959), Бруни (1961), Майер (1962) и другие авторы, указываю¬
щие на враждебное отношение Данте к Пистойе.
774
И. Ф. БЭЛЗА
объяснения, каким образом совершают проступки уже умер¬
шие (иными словами — тени) и осужденные, в «Божественной
Комедии» нет. И, судя по всему, быть не может. Ибо «другом
змей» поэт назвал себя, как можно предположить, для того,
чтобы иметь возможность напомнить это, если бы его обвинили
в «десакрализации» ортодоксальных религиозных представле¬
ний, выражаясь современным языком. В те далекие времена это
слово, так же как и многие другие, заменялось простым и ем¬
ким словом «ересь»*. И в эпоху Данте «ересью», конечно, могло
быть названо противопоставление Провидению человеческой
воли, проявляемой даже посмертно. Как явствует из IV песни
«Ада», Данте чи^ал Сенеку и даже поместил его в Лимб как мо¬
ралиста («Seneca morale». — VI, 141). Возможно, что его слова
«Ducunt volentem fata», ставшие рыцарским гербовым деви¬
зом некоторых участников крестовых походов, Данте не только
знал, но и своеобразно претворил в тех терцинах «Ада», в кото¬
рых предстают мятежные «volentes».
«Десакрализация» евангельских и даже литургических слов
и выражений происходит, собственно говоря, уже в «Новой
Жизни», а затем и в «Божественной Комедии». В обоих произ¬
ведениях тексты, содержащиеся в сакральных книгах, относят¬
ся к Беатриче и к самому Данте, на что обратил особое внимание
Джованни Папини в своей известной книге «Dante vivo» («Жи¬
вой Данте»), в частности в главах, посвященных связям Данте
с иоахимитами**. Наиболее «кощунственными» Папини считает
слова Вергилия, обращенные к Данте:
«benedetta colei che in te s’incinse!»
«Блаженна несшая тебя в утробе!»
(«Ад» VIII, 45)
Скартаццини ограничивается тем, что дает ссылку на еван¬
гельский текст, в котором речь идет о женщине, которая, «возвы¬
сивши голос из народа», сказала Иисусу: «блаженно чрево, но¬
* Пушкин тонко подметил свободное обращение с этим словом и в более
близкие к нам времена. В «Борисе Годунове» игумен Чудова монастыря
соглашается с мнением патриарха, считающего, что слова «врагоугодни-
ка», заявившего «буду царем на Москве», — «сущая ересь».
** Об этой книге см.: Бэлза Игорь. Беатриче: Некоторые проблемы дантоло¬
гии. — В кн.: Дантовские чтения. 1973. М., 1973, с. 204-205.
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
775
сившее тебя...» (Лк. XI, 27), но Папини считает, что приведенные
слова Вергилия нужно рассматривать не иначе как кощунство,
ибо они равносильны уподоблению Данте Христу. Между тем
Данте не мог не знать, что католическая церковь осудила попыт¬
ки францисканцев уподобить жизнь Франциска Ассизского жиз¬
ни Иисуса. Правда, Данте мало считался с мнениями римской ку¬
рии, ибо, например, несмотря на дважды подтвержденное (в 1215
и 1255 гг.) осуждение пророчества о грядущем «третьем царстве»
и торжестве «Вечного Евангелия», поместил калабрийского абба-
таврай(«Рай» XII, 139-141), подчеркнув его «пророческий дар»*.
Заметим попутно, что это место в третьей кантике дало повод еще
для одной расшифровки Veltro, являющегося якобы сокращени¬
ем слов «Vangel Eterno» («Вечное евангелие»), взятых Иоахимом
да Фьоре из Апокалипсиса (XIV, 6), — VangELeTeRnO. Папини
посвящает целую главу четвертой части своей книги проблеме
Veltro, завершая, однако, эту главу выводом, встречающимся
и у всех других католических комментаторов произведений «вы¬
сочайшего поэта», единодушно утверждающих, что Данте был
«всегда далек от сектантства». Такой вывод направлен, конечно,
не против «сектантства», а против приобретавшего различные
формы дуалистического социально-этического учения об извеч¬
ном противоборстве добра и зла, той «революционной оппозиции
против феодализма», о которой писал Энгельс.
Евангельскую легенду о страданиях Христа Данте рассма¬
тривал, мы можем полагать, как ярчайший пример, своего рода
архетип борьбы добра и зла, в которой торжествует несправед¬
ливость, пусть даже в конечном счете победит Логос. Сопоста¬
вим слова Вергилия, повторившего восхваление матери Христа
по отношению к матери Данте, с одним из утерянных писем
автора «Божественной Комедии». Обращено оно не к властям
Флоренции, а к народу и, по свидетельству Леонардо Аретино,
одного из ранних биографов Данте, было очень длинным и на¬
чиналось словами: «Popule mee, quid feci tibi?»**. Такое начало
* См.: Cosmo U. Pier-Giovanni Olivi e Dante. — Giornale Dantesco 1898, 6,
p. 112 sqq. Лекции Пьер-Джованни Оливи Данте слушал в 1287-1289 гг.
во францисканском монастыре Санта-Кроче. В 1289 г. он уже сражался
в качестве рыцаря в битве под Кампальдино (ср. «Рай» XXII, 1-9).
** Труд Леонардо Аретино, редко цитируемый дантологами (на него об¬
ратил внимание М. Барби), вошел в сборник: Le vite di Dante scritte da
Giovanni e Filippo Villani, da Giovanni Boccaccio, Leonardo Aretino e
776
И. Ф. БЭЛЗА
письма заслуживает внимания в не меньшей степени, чем фраза
Вергилия, ибо взято Данте из богослужения, совершающегося
в Страстную пятницу, т. е. в день, посвященный церковью рас¬
пятию и смерти Христа. Канторский зачин импроперий (так на¬
зываются песнопения — «упреки») гласит: «Popule meus, quid
feci tibi?» («Народ мой, что сделал я тебе?»)*.
Такое сопоставление может дать повод считать, что Данте
уподоблял себя Христу. Вряд ли, однако, такое предположение,
сколько-нибудь допустимое по отношению к той эпохе, надле¬
жит считать обоснованным. Гораздо правильнее считать, что
«процесс Иисуса» Данте считал наиболее ярким примером та¬
кого беззакония, каким были, с его точки зрения, и варварская
расправа с тамплиерами, и его изгнание из Флоренции, давшее
ему право обратиться к родному народу с такими же упреками,
которые содержались в тексте импроперии, основанном именно
на обличении беззакония судей.
Нельзя не вспомнить, что через несколько сот лет прославлен¬
ный русский писатель в своем последнем произведении также
обратился к евангельскому повествованию (правда, достаточно
критически подойдя к его канонической редакции) и создал об¬
раз невинно осужденного «бродячего философа» Иешуа Га-Но-
цри, трагедия и гибель которого соотносятся и со смертельной
болезнью булгаковского Мастера, и с травлей самого писателя,
хотя он, конечно, не отождествляет себя с Иисусом. Мы вправе
говорить о дантовском принципе абсолютизации вины, который
последовательно проводится через всю «Божественную Коме¬
дию», оказавшую такое громадное, но, к сожалению, далеко еще
не до конца изученное воздействие на развитие мировой литера¬
туры и художественной культуры в целом. Как бы ни относился
поэт к риминийским любовникам или к Фаринате, они остают¬
ся в аду, ибо этого требуют этические нормы, нарушенные ими.
И в точном соответствии с этими нормами погибают герои До¬
стоевского, оплакиваемые писателем, к страшной каре в «Ма¬
стере и Маргарите» приговаривается детоубийца Фрида, хотя
она и вызывает сострадание у Маргариты и читателей романа.
Giannozzo Manetti / Ora novemente pubblicate con introduzione e con note
daG. L. Passerini. Firenze, 1917.
* Отметим также, что непосредственно после импроперий исполняется
упоминавшийся уже гимн «Vexilla Regis prodeunt».
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
777
Что касается преступных новозаветных персонажей, то они
несут наказание в первой кантике «Божественной Комедии»,
где, как уже отмечалось, прокуратор Иудеи, утвердивший при¬
говор Иисусу, упоминается лишь для сопоставления с королем
Филиппом. Зато фактический виновник смерти Христа, пер¬
восвященник Каиафа, распятый тремя колами на земле в кру¬
ге восьмом, где к таким же вечным мучениям приговорены его
тесть Анна и все члены синедриона, требовавшие этой смерти под
тем предлогом, «что может всех спасти один казненный» («porre
un uom per lo popolo a’martiri». — Inf. XXIII, 117)*. Самая страш¬
ная кара назначена предавшему Христа Иуде, по имени которого
назван гигантский круг ледяного озера — Джудекка (Giudecca).
Он ввергнут в среднюю пасть гиганта Люцифера, который гры¬
зет его и сдирает когтями с него кожу. В двух боковых пастях
находятся терзаемые Сатаной Марк Юний Брут и Кассий. Дан¬
те не считает их стремления «тираноборческими». Для него они
не только убийцы, но и предатели, ибо Цезарь доверял им, а сле¬
довательно, тот принцип абсолютизации вины, который установ¬
лен Данте, требует такой кары в соответствии с такой мерой.
Комментаторы Данте довольно единодушно** указывают, что
три величайших грешника выбраны из всех прочих в качестве
жертв самого Сатаны, как предатели власти: Иуда — божествен¬
ной, Брут и Кассий — светской, то есть императорской, прослав¬
лявшейся в дантовской «Монархии». Отметим все же еще одно
место, которое иногда кажется анахронизмом. Вергилий говорит
Данте, что родился «sub Julio». Предлог «sub» (под) в подобного
рода оборотах обозначал «во время властвования». Между тем
Юлию Цезарю в год рождения Вергилия (70 г. до н. э.) исполни¬
лось примерно 30 лет***, а политическая карьера его, по существу,
еще не начиналась. Но слова «sub Julio» правильнее, как нам
* Комментируя удивленный взгляд Вергилия («Al lor vid’io maravigliar
Virgilio / sovra colui ch’era disteso in croce». — Inf. XXIII, 124-125), Сапеньо
указывает на желание Данте подчеркнуть, что во время первого сошествия
в Ад, т. е. в 19 году до н. э., Вергилий еще не мог видеть этих осуяденных.
** Кьяпелли ограничивается, правда, лаконичным пояснением: «Брут,
подобно Кассию, предатель и убийца Цезаря» (Dante Alighieri. Tutte le
opere/Acura di F. Chiappelli, p. 974).
*** Напомним, что по странному стечению обстоятельств ни в одной из до¬
шедших до нас «больших» биографий Цезаря не сохранились первые ли¬
сты с указанием даты его рождения, каковой предположительно считает¬
ся 100 г. до н. э.
778
И. Ф. БЭЛЗА
кажется, трактовать не как анахронизм, а скорее как поэтиче¬
ское выражение личного отношения Данте к великому римля¬
нину, самое имя которого превратилось в императорский титул.
Образ Брута, правда, тоже сделался нарицательным, — недаром
сохранился рассказ о том, что Павел I, приняв одного из убийц
за своего сына, воскликнул: «И ты, Александр?!» Такая трак¬
товка образа Брута восходит бесспорно к дантовской традиции,
к дантовской философско-этической концепции.
Изучение этой концепции постепенно приводит к убеждению,
что наиболее загадочными и вместе с тем наиболее многознач¬
ными образами дантовского творчества являются не «Пятьсот
пятнадцать» и даже не Veltro (ибо вконечном итоге смысловое
содержание этих образов достаточно понятно), а появляющиеся
уже в «Новой Жизни» Amor и Беатриче.
Правда, в «Новой Жизни», так же как и в ранних стихотво¬
рениях Данте, Amor — бог любви, лишь приобретающий «об¬
лик некоего мужа, видом своим страшного тому, кто смотрит
на него [...] и в речах своих он говорил много вещей, из которых
понял я лишь немногое, а среди прочего понял следующее: «Ego
dominus tuus»*. Итак, «муж страшного вида» заменил собою ан¬
тичного божка любви с луком в руках, а, кроме того, слова этого
мужа странным образом перекликаются со словами ветхозавет¬
ного бога: «Ego sum Dominus Deus tuus» (Исход XX, 2). Кьяппел-
ли подчеркивает «величайшую торжественность» («la massima
solennità») этих слов, указывая, что слова Амора «Vide cor tuum»,
возможно, восходят к евангельскому наставлению**. «Десакрали¬
зация» или, проще говоря, очеловечивание библейских образов
(как Ветхого, так и Нового Завета), происходит на протяжении
всей «Новой Жизни», вплоть до уподобления Беатриче Христу,
а ее подруги — Иоанну Предтече***. Подробный анализ «Новой
Жизни» дан в работах Н. Г. Елиной**** которые содержат также об¬
ширное обозрение литературы об этом произведении и критику
комментариев к нему. Нам важно подчеркнуть, что уже в «Но¬
* Данте. Vita nova / Пер. и прим. Абрама Эфроса. М, 1934, с. 71.
** Dante Alighieri. Tutle le opere / A cura di F. Chiappelli, p. 1041.
*** См.: Бэлза Игорь. Беатриче. — В кн.: Дантовские чтения. 1973. М., 1973,
с 199-206.
**** ЕлинаН. Г. Поэзия «Новой Жизни». — В кн.: Дантовские чтения. 1971.
М., 1971; Она же. Проза «Новой Жизни». — В кн.: Дантовские чтения.
1973. М., 1973.
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
779
вой Жизни» Амор наделен своеобразными чертами. А. М. Эфрос
справедливо замечает: «Говоря дантовским языком, «кто умеет
судить тонко», тот может постигнуть весь путь, пройденный в эти
годы, сопоставив первый и последний сонет «Новой Жизни». [...]
Финал «Vita nova» не столько «сладостный новый стиль», сколь¬
ко ранний stil dantesco, прообраз той скульптуры слова, которая
через полтора десятилетия, в 1310-х годах, отложится могучим
рельефом начальных песен «Inferno»*. Но в «Inferno», а затем
и в последней кантике «Божественной Комедии» Amor приобрел
такие черты, которые никогда еще до Данте не приписывались
богу любви. Если в I песни «Ада» выражение «Гатог divino»
(Inf. I, 39) правда, можно понять в сопоставлении с текстом над¬
писи на вратах Ада в III песни как движущую силу «изначальной
любви» («primo amore». — Inf. III. 6), как именуется в этой над¬
писи третья ипостась св. Троицы, то есть «дух святой», то все же
остается не до конца ясным, почему «перводвигателем» именует¬
ся «Amor divino», а не триединое божество».
Был ранний час, и солнце в тверди ясной
Сопровождали те же звезды вновь,
Что в первый раз, когда их сонм прекрасный
Божественная двинула Любовь.
(«Ад» I, 37-40)
Из надписи на дверях Ада, как уже говорилось, явствует,
что преисподняя была создана всеми тремя ипостасями св. Тро¬
ицы. Но в третьей кантике описывается Перводвигатель все¬
ленной, каковым является девятое небо, которое, как поясняет
Беатриче, вращается ангелами («Рай», II, XXVII— XXVIII).
Это объяснение отличается, как обычно у Данте, стройностью,
но тем более неожиданно звучит завершение последней канти¬
ки, посвященное лицезрению божества, изображенного в виде
трех равновеликих, но разноцветных кругов («tre giri I di tre
colori». — Par. XXXIII, 116-117), причем, в соответствии с ка¬
толическим догматом «filioque»**, третий казался огнем, исхо¬
дящим от двух первых. Именно эта «Троица единосущная»,
* Эфрос А. Молодой Данте. — В кн.: Vita nova. М., 1934, с. 14-16.
** По догмату православной церкви Дух святой исходит от первой ипостаси
Троицы, а католическая церковь учит, что «и от сына» («filioque»).
780
И. Ф. БЭЛЗА
казалось бы, управляет вселенной. Но уже в конце предпослед¬
ней песни «Рая», Бернард Клервоский, третий вожатый Данте,
призывает его обратить взоры к, «изначальной» любви — «е
drizeremo li occhi al primo amore» (par. XXXII, 142). Ho несмо¬
тря на то, что слова «primo amore» отнесены были в первой кан¬
тике к третьей ипостаси Троицы, святой Бернард произносит
поэтичнейшее молитвословие, обращаясь к Богоматери (Par.
XXXIII, 1-39), у подножия трона которой, несколько ниже
прародительницы Евы, Данте видит Беатриче («Рай» XXXI,
65-72; XXXII, 9), в последних словах, услышанных Данте, при¬
звавшую, подобно великому магистру Ордена тамплиеров, Кли¬
мента V на суд божий (Par., XXX, 142-148).
Все это, включая поклонение Царице Эмпирея*, говорит
о возвышенной любви, сочетающейся с культом Марии, создан¬
ным Бернардом, и с обожествлением Беатриче, о которой уже
писали многие комментаторы Данте. Но ни один из них, кажет¬
ся, не поднял вопроса о том, почему созерцанием единосущной
Троицы не завершается «Божественная Комедия». И почему си¬
лой, управляющей вселенной (космосом, сказали бы в наше вре¬
мя), оказывается в конечном итоге все же Амор — «Гатог che
move il sole e Г altre stelle». Это последний стих великой поэмы.
Очень трудно однозначно ответить на вопрос, почему дантов-
ский Амор «движет солнце и прочие светила». Но А. К. Дживе-
легов, впервые в отечественной дантологии обстоятельно рас¬
смотревший проблему связи мировоззрения Данте с ересями,
задает и множество других вопросов. «Какой вселенский собор
постановил отдать христианских грешников на суд язычнику
Миносу, а подступы к чистилищу поручить язычнику Катону?
[...] Образы античной мифологии с капризной непринужденно¬
стью приходят в соприкосновение с христианскими и аллего¬
рическими. Гиганты и кентавры состязаются с более или ме¬
нее ортодоксальными дьяволами и бесами всех рангов. Поэзия
остается в выигрыше. Католический догматизм несет великий
ущерб. Такова религия Данте в «Комедии». Она не была бы
столь свободной, если бы сознания поэта не коснулась ересь»**.
Всемогущий Амор, принимающий облик,, то чувства, обла¬
гораживающего сердце, то безграничной мощи, управляющей
* « ...veegi seder la reaina cui questo regno è suddito e devoto».
** Дживелегов A. К. Данте Алигиери, с. 334-335.
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
781
миром, несомненно, самая сложная проблема, ассоциативно
связывающаяся с «религией любви» альбигойцев. Глубоко прав
Дживелегов, когда видит в поэме Данте «беспредельное господ¬
ство любви, правды и человечности над канонами» (выделе¬
но мною. — И. Б.)*. Несравненным по философско-этической
и художественной мощи является воплощение безграничной
силы Любви в Беатриче, появляющейся впервые в XXX** пес¬
ни «Чистилища». Но если историчность Беатриче Портинари
в настоящее время уже не вызывает сомнения, то вряд ли может
вызывать сомнение и то, что она не имела ничего общего с пре¬
мудрой наставницей Данте, которой он даровал бессмертие.
Видимо, ему необходим был живой прообраз персонажа, име¬
ющего ключевое значение в произведении, уникальном по мас¬
штабу, по глубине концепции, которую сам Данте определил
недвусмысленным термином «dottrina». Чем более мы будем
пользоваться ключом к этому термину, указанным Энгельсом,
тем более, думается, понятно нам будет величие Данте как мыс¬
лителя.
Правда, вплоть до последнего времени высказывалось и дру¬
гое весьма дискуссионное мнение о Данте. «С точки зрения
иерархии ценностей его классицизм был средневековым и ка¬
толическим. И вместе с тем в его произведениях с огромной,
поистине пророческой силой высказаны мысли о таких гряду¬
щих изменениях и обновлениях, о такой радикальной переоцен¬
ке истин, которые испугали бы его самого, если бы он уяснил
их себе до конца. Ибо, как это бывало неоднократно, интуиция
гениального художника намного превосходила его интеллект,
в значительной степени подчиненный духовным традициям
эпохи, тяготевшим над художником»***.
Да позволено будет выразить уверенность в том, что чем глуб¬
же мы будем постигать мысли Данте, тем больше будем прекло¬
няться не только перед его творческим гением, но и перед мо¬
щью и бесстрашием его интеллекта, победившего «духовные
традиции эпохи», догмы и обветшавшие каноны средневековья.
* Там же, с. 335.
** Видимо, следует все же сопоставить это число с тем номером, под которым
значится не называемая по имени джентильдонна в знаменитом стихотво¬
рении Данте « Guido, i’vorrei», где говорится о «той, чье тридцать тайное
число». См.: Dante Alighieri. Tutte le opere / A cura di F. Chiappelli, p. 427.
*** Тэнасе A. Культура и религия. M, 1977, с. 44-45.
€4^
М. Л. АНДРЕЕВ
Семиотика «Новой жизни»
Воспоминания, тем более воспоминания о себе, не относят¬
ся к числу популярных средневековых жанров: их так мало,
что их можно считать исключениями. «Исповедь» Августина,
«История моих бедствий» Абеляра, «О своей жизни» Гвиберта
Ножанского — вот, собственно, и все. К этому ряду часто при¬
соединяют и «Новую жизнь» Данте, но хотя начинается она
с обращения к памяти, на книгумемуаров похожа еще меньше,
чем другие средневековые автобиографии. Непохожа настоль¬
ко, что одно время серьезные сомнения вызывала историческая
реальность ее главного, помимо самого Данте, действующего
лица — Беатриче. Теперь эти сомнения отброшены: найдено до¬
статочное количество документальных подтверждений того, что
Беатриче Портинари, дочь видного флорентийского граждани¬
на и жена не менее видного (и к тому же очень богатого) гражда¬
нина той же Флоренции Симоне дей Барди, не является плодом
поэтического вымысла. Но возникли сомнения не случайно,
и дело даже не в том головокружительном преображении, ко¬
торое постигло прекрасную флорентийскую даму, ставшую под
пером Данте его водительницей по Царству славы и олицетво¬
рением Небесной мудрости. Дело, скорее, вдругом: в бесплот¬
ности, почти призрачности образа Беатриче, явленного «Новой
жизнью».
В «Новой жизни» нет событий: событиями являются поклон
Беатриче или отказ в поклоне, а о единственном настоящем со¬
бытии, о смерти Беатриче, Данте рассказывать отказался и под¬
робно, хотя все равно туманно, свой отказ обосновал. В «Новой
жизни» нет людей: только их тени, только их условные знаки.
Семиотика «Новой жизни»
783
Друг, спутницы, завистники, дамы, «разумные в любви», «да¬
мы-ширмы», «сострадательная дама». Да и о самой Беатриче,
о ее внутреннем или хотя бы внешнем облике, мы знаем только
одно: цвет ее платья — алого в первом явлении, белоснежного
во втором. В «Новой жизни» нет пространства: только город,
не имеющий имени, не имеющая имени река, й еще некоторые
столь же безымянные и безликие «места» (parte). Место, где
«раздавались похвалы преславной королеве небес», место, где
«собралось много благородных дам», место, где Данте «преда¬
вался воспоминаниям о прошлом» — знаки пространства та¬
кие же условные и бесплотные, как люди, его населяющие.
В «Новой жизни» нет времени, вернее, нет его протекания.
«После того, как я сочинил эту канцону...», «после того, как
я сложил этот сонет...», «после вышесказанного видения...»,
«после сражения этих мыслей...» — это обычные начала глав.
Последовательность выстраивается, но эта последовательность
разорвана и не образует сюжета, события или, лучше сказать,
состояния поставлены друг за другом, но друг из друга не сле¬
дуют. Первая встреча, Беатриче в начале своего девятого года,
Данте — в конце своего девятого; вторая встреча, через девять
лет, и Данте овладевает Амор; две «донны-ширмы», служением
которым Данте прикрывает свою любовь к Беатриче; отказ Беа¬
триче, оскорбленной «невоздержанными толками» вокруг этих
мнимых увлечений Данте, в приветствии; горе Данте и его пре¬
ображение в присутствии Беатриче; беседа с дамами, «владею¬
щими разумом любви», о цели любви и решение перейти к новой
«материи» — к «хвале»; смерть отца Беатриче; болезнь Данте;
смерть Беатриче; встреча е «сострадательной» или «благород¬
ной» дамой; искушение новой любовью и преодоление его; ре¬
шение не говорить больше о Беатриче, пока Данте не будет готов
«сказать о ней то, что никогда еще не было сказано ни об одной
женщине». Есть события, в которых еще меньше сюжетообра¬
зующей логики: много, например, просьб о сложении стихов.
Есть события, еще меньше похожие на события: сны и видения
Данте, «сражения мыслей». Вот, собственно, и все содержание
дантовской «книжицы» (libello).
Она и не могла стать рассказом о жизни — у нее другой пред¬
мет. Этот предмет — поэзия. Между жизнью и текстом, к ней об¬
ращенным, здесь стоит еще один текст — стихи Данте. Он и яв¬
784
М. Л. АНДРЕЕВ
ляется основным, тогда как собственно биография дает лишь
материал для его истолкования и организуется в соответствии
с ним, т е. в конечном счете — в соответствии с законами и схе¬
мами куртуазной поэзии. Отсюда в «Новой жизни» такие ее
поэтически традиционные и поэтически условные персонажи,
как первая и вторая «дамы-ширмы», как завистники («иные,
полные зависти и любопытства, стремились узнать то, что я хо¬
тел скрыть от всех...»), отодвинутые на сюжетную периферию,
но явно обязанные своим происхождением фигуре провансаль¬
ского «клеветника», как хор сочувствующих и просвещенных
в любви благородных донн.Если подходить к «Новой жизни»
как к биографическому комментарию к поэзии (а такие основа¬
ния она дает), то ее главным жанровым прототипом надо считать
жизнеописания провансальских трубадуров (так называемые
vidas и razos), сложившиеся в обширный корпус в первой трети
XIII в. Так оно и есть, но отличия в данном случае много суще¬
ственней сходства.Отличий много: например, провансальское
«разо» не знает стиховедческого комментария, тогда как Дан¬
те почти каждое включенное в «Новую жизнь» стихотворение
сопровождает его композиционным разбором («сонет делится
на три части: в первой я призываю верных Амору и побуждаю
их к плачу..., во второй я повествую о причине, [слез], в третьей
я говорю о чести, которую Амор воздал даме...»). Это заявляет
о себе «сладостный новый стиль» с его рационализмом, с его
родственной близостью к высокой схоластике. Но главное отли¬
чие вдругом: автор жизнеописания трубадура пишет о трубаду¬
ре, автор «Новой жизни» пишет о себе. И совершенно не важно,
что в некоторых (очень, впрочем, немногочисленных) прован¬
сальских жизнеописаниях автор и герой являются одним лицом
(или были одним лицом в некоем гипотетическом первоначаль¬
ном варианте текста), — важно, что повествование от первого
лица в них не встречается никогда и, как правило, это соответ¬
ствует реальному положению дел. Как следствие, провансаль¬
ское жизнеописание тяготеет к казусностии анекдотичности,
оно вовлечено в тот процесс структурирования малой повество¬
вательной формы, который постепенно приведет к рождению
новеллы, оно «овнешвляет» и опредмечивает содержание стиха,
переводит (очень часто неправильно или произвольно) эмоцио¬
нальное состояние на язык биографического события: Иногда
Семиотика «Новой жизни»
785
что-то подобное происходит и в «Новой жизни», но, как прави¬
ло, переход от поэзии к прозе, от «текста» к комментарию не вы¬
водит нас здесь из мира внутреннего в мир внешний: жизнео¬
писание предстает не как серия анекдотов, а как ряд душевных
состояний — видений, озарений, скорбей, радостей. Оттого-то
так бледен, так призрачен внешний мир в «Новой жизни» —
в нем нет ничего, что не было бы проекцией внутреннего мира.
Единственное произведение, с которым дантовская «книжи¬
ца» может быть сопоставлена, единственная история жизни,
главный предмет которой составляет жизнь души — это «Ис¬
поведь» Августина. То, что «Исповедь» рассказывает о душе,
ищущей Бога, а «Новая жизнь» — о душе, порабощенной Амо¬
ром, препятствием не является, и прежде всего потому, что лю¬
бовное чувство в «Новой жизни» по мере его нарастания или,
лучше сказать, по мере его самораскрытия все ближе соприка¬
сается с чувством религиозным, а сам предмет этого чувства
все ощутимее сдвигается в сферу сакрального. Нарастает и сте¬
пень сакральности: божественность Беатриче получает имя,
это имя — Христос. О самой смерти Беатриче в «Новой жизни»
не рассказано, зато рассказано о предчувствии этой смерти,
ибо, наверное, только так, имея при себе алиби пророческого
и вместе с тем лихорадочного видения (это видение послано
Данте в болезни), можно было обставить смерть возлюбленной
теми же эффектами, которыми сопровождалась смерть Христа
(недра земли сотрясаются, птицы падают мертвыми, ангелы
встречают усопшую возгласами «Осанна»). Уже в следующей
главе (XXIV) и в следующем видений отождествление с Хри¬
стом проводится впрямую. Данте видит Беатриче, идущую сле¬
дом за донной его «первого друга», и Амор следующим образом
изъясняет ему смысл этого видения: «Первая зовется Прима-
вера лишь благодаря сегодняшнему ее появлению; я вдохновил
того, кто дал ей имя Примавера, так ее назвать, ибо она придет
первой в день, когда Беатриче предстанет своему верному по¬
сле его видения. И если ты хочешь проникнуть в смысл первого
ее имени, оно обозначает равно «Она придет первой», так как
происходит от имени того Иоанна, который предшествовал све¬
ту истины...» И наконец, в главе XXIX, сразу вслед за извести¬
ем об успении Беатриче и за отказом о нем рассказывать Данте
объясняет причину мистической связи между Беатриче и чис¬
786
М. Л. АНДРЕЕВ
лом девять: девять — число священное, ибо корень его — три
и Троица себя в нем проявляет, а дружило оно с Беатриче, более
того, было самой Беатриче, дабы всембыло ясно, что и Беатри¬
че есть явление священное, что она есть чудо и «корень этого
чуда — единственно чудотворная Троица».
Надо сказать, что вкультуре средних веков два этих языка,
язык религии и язык любви, демонстрируют устойчивую тен¬
денцию к сближению. Путь средневековой поэзии, от ранних
провансальцев к поздним и к их итальянским последовате¬
лям, — это путь нарастающей спиритуализации, в ходе которой
и образ любви, и образ возлюбленной приобретают специфиче¬
ские для этой культуры атрибуты духовности. Естественным
исходом этого пути выглядит поэзия Гвидо Гвиницелли и окон¬
чательное присвоение даме ангельского чина. С другой стороны,
средневековая религиозная мистика, в особенности мистика
францисканская, понимала земную любовь как несовершенный
образ любви Творца-к творению и как первую ступень в восхож¬
дении души к Божеству (одновременно сообщая некоторые:
элементы чувственности своей картине божественной любви).
Слияния языков тем не менее не происходило; они оставались
разделенными даже в трактате Андрея Капеллана «О любви»,
где под изложение куртуазной точки зрения на даму и религи¬
озно-моралистического взгляда на женщину отведены сосед¬
ние, но различные части труда. Только Данте, только в «Новой,
жизни» как бы полностью реализовал метафору, и благосклон¬
ность стала благодатью, восторг — блаженством, любовь — мо¬
литвой, а возлюбленная — божеством.
Поэтому понятны и объяснимы многочисленные попытки
прочтения «Новой жизни» как «легенды о св. Беатриче», как ее
жития, даже как ее евангелия. Понятны, но все равно неверны,
ибо, как уже было сказано, в «Новой жизни» Беатриче нет, это
рассказ не о ней: если Беатриче — святая, то «Новая жизнь» —
это житие одного из свидетелей ее святости; если Беатриче —
Христос, то «Новая жизнь» — это евангелие, рассказывающее
об евангелисте. Но самое главное, что и в «Новой жизни» дис-
танцированность языков религии и любви сохраняется — толь¬
ко не на семантическом, а так сказать, на семиотическом уровне.
Те, кто отождествляют дантовскую «книжицу» с житием, пред¬
ставляют дело так, будто и любовь к Беатриче сама есть нечто
Семиотика «Новой жизни»
787
вроде метафоры или иносказания. Эту иносказательность мож¬
но отбросить сразу; так, например, поступил старофранцузский
переводчик трактата Андрея Капеллана, объявивший Прекрас¬
ную Даму Девой Марией. Эту иносказательность можно выяв¬
лять и преодолевать постепенно — освобождаясь от миражей
телесности, прозревая духовно. Именно таким, считается, был
путь Данте в «Новой жизни»: чем выше восхождение по ступе¬
ням созерцания, тем очевиднее, что истинная любовь — это лю¬
бовь к Христу и другого предмета у любви быть не может.
Это не так или не совсем так: Беатриче никогда не становит¬
ся только идеей совершенства и благодати, идантовская «кни¬
жица» не превращается в некий беллетризованный вариант
трактата Бонавентуры «Путеводитель души к Богу», (хотя вли¬
яние такого родалитературы на «Новую жизнь» несомненно).
Да, язык куртуазной поэзии в «Новой жизни» чем дальше, тем
определеннее используется для описания опыта не собственно
любовного, а скорее мистического — это неоспоримо. Но рав¬
ным образом неоспоримо и то, что язык религиозного пере¬
живания со своей стороны отсылает к чувствам отнюдь не ре¬
лигиозным. Допустимо утверждать, что оба этих смысловых
ряда— и тот, которыйопределяется куртуазной идеологией
служения Прекрасной Даме, и тот, который определяется те¬
орией и практикой мистической медитации, могут выступать
в отношении друг друга в качестве языка или, другими слова¬
ми, и тот, и другой могут являться друг для друга как планом
выражения, так и планом содержания. Амор, объясняя Данте
то его видение, в котором владычица его души предстала иду¬
щей вслед за донной Примаверой, сначала объявляет Беатриче
новым воплощением Христа и тут же своим собственным вопло¬
щением, «Тот, кто пожелает более утонченно вникнуть в суть ве¬
щей, увидит, что Беатриче следовало бы назвать Амором благо¬
даря большому сходству сомной...»
Эта повышенная семиотическая мобильность, эта постоян¬
ная готовность к перевертыванию смысла— из профанного
в сакральный и обратно — если не объясняется, то оправдыва¬
ется той ролью, которую играет в «Новой жизни» поэтика ин¬
терпретации. В первых же ее строках упоминается некая «кни¬
га», «книга памяти», представленная и описанная именно как
книга: в ней есть части, рубрики, записи, и эти записи Данте,
788
М. Л. АНДРЕЕВ
приступая к сложению другой книги или «книжицы», как он
ее называет, чтобы отличить от первой и основной, намерен
воспроизвести — по крайней мере, их суть и смысл (sentenza).
Он не переписчик, слепо копирующий образец, он истолкова¬
тель. Мы то и дело видим его в этой роли: заключая свое рас¬
суждение о таинственном тождестве Беатриче и числа девять,
он прямо говорит, что возможны и более тонкие истолкования
(piusottileragione), но предложенное им нравится ему более
других. Почти в самом центре «Новой жизни», во всяком слу¬
чае, близко к ее кульминации, сразу после главы, в которой Беа¬
триче была отождествлена одновременно с Христом и с Амором,
Данте счел необходимым представить объяснения по поводу
своего понимания бога любви: ведь многие недоумевают, отчего
он говорит об Аморе так, как «если бы он обладал самостоятель¬
ным бытием». На самом деле таковое он Амору не приписывает
и не присваивает: это поэтическая вольность, дозволенная всем
стихотворцам, как писавшим на латинском (что доказывается
примерами), так и писавшим на народном языке (ибо что до¬
зволено первым, то дозволено и вторым). Пользоваться своей
большей, по сравнению с прозаиками, свободой речи поэты,
однако, должны с осторожностью и «не безрассудно»: они обя¬
заны в любом случае уметь изъяснить истинное значение того,
что скрыли под цветом или фигурой риторики. «Новая жизнь»
и является таким раскрытием истинного значения дантовской
поэзии, но раскрытием не окончательным и не исчерпываю¬
щим. Заканчивает «Новую жизнь» Данте обещанием дать еще
одно «истолкование», создать еще одну книгу, в которой скажет
о Беатриче то, что «никогда еще не было сказано ни об одной
женщине». К этому он еще не готов, но «прилагает все усилия»
(studio quantoposso), чтобы стать готовым. «Новая жизнь» тем
самым оказывается неким промежуточным текстом; она распо¬
лагается не только между двумя периодами жизни, но и между
двумя «книгами» — одной, запечатленной в памяти и в стихах,
и другой, еще не написанной.
Трудно сказать, на что точно указывает дантовское прощаль¬
ное обещание. Если верно предположение о том, что послед¬
ние главы «Новой жизни» были добавлены к ней много позже,
когда возник и оформился замысел «Божественной Комедии»,
то именно «Комедия» могла иметься в виду под более достой¬
Семиотика «Новой жизни»
789
ным повествованием. Во всяком случае, Беатриче «Новой
жизни» царствует в душе и только в душе и власть ее здесь на¬
столько всеобъемлюща, что весь остальной мир бледнеет и мер¬
кнет — в «Божественной Комедии» Беатриче будет прославлена
во всем мироздании, взятом с подавляющей полнотой. И имен¬
но с высоты «Божественной Комедий» «новизна» «Новой жиз¬
ни» могла быть понята не только как «обновление» (в том числе
и в духе слов апостола Павла: «Кто во Христе, тот новая тварь»),
но и как «младость» — т. е. как нечто прекрасное и истинное,
но оставшееся в прошлом.
М. С. САМАРИНА
Данте и готика
Имя Данте и термины архитектуры справедливо соседствуют
в истории европейской культуры. Архитектура — действитель¬
но царица искусств и именно она в наиболее полной мере отра¬
жает менталитет и мировосприятие той или иной эпохи истории
человеческой культуры. Подобный подход (то есть характе¬
ристика культуры в терминах архитектуры), несмотря на всю
рискованность подобных параллелей между разными видами
искусств, является плодотворным для многих эпох истории
культуры прошлых столетий (барокко в литературе...). К наше¬
му времени это применимо в меньшей степени, так как в эпоху
постмодернизма мы утратили основную архитектурную харак¬
теристику, свойственную именно дантовскому наследию — це¬
лостность картины мира, распавшегося на фрагменты, поэтому
ни о какой архитектуре, ни о каком здании уже не может идти
и речи.
Вероятно поэтому для современного исследователя дантов-
ская эпоха имеет странную притягательность. Эта странность
заключается, вероятно, и в том, что с точки зрения мировос¬
приятия нет более противоположных культур, чем постмодер¬
низм и средневековье*. С одной стороны — средневековье с его
всеобъемлющими система-ми, с другой — современный мир
с отсутствием в нем какого-либо конкретного стиля или худо¬
жественного течения, так как не поддающийся определению
постмодернизм сам по себе не является какой-либо системой,
* Вслед за Ле Гоффом (см. работу «Цивилизация средневекового Запада»)
мы придерживаемся концепции так называемого «долгого средневеко¬
вья», поэтому Данте для нас — писатель средневековый.
Данте и готика
791
а всего лишь противоречивым состоянием искусства, литерату¬
ры и самой жизни. С одной стороны — средневековая вселенная
как единое целое, где все взаимосвязано, оправдано и подчине¬
но единой идее и единой цели, макрокосм со всей системой вза¬
имосвязей алгебры и гармонии, вселенная подобная готическо¬
му собору с его философией и символикой (вспоминается емкое
выражение Жоржа Дюби— «Время соборов», послужившее
названием для его книги о культуре средневековья). С другой
стороны — современный мир, о котором, казалось бы, мы знаем
так много, мир, превратившийся в хаос, где действительность
распадается на подробнейшим образом описанные фрагменты,
текст на сегменты и т. д. Именно огромное количество постоян¬
но поступающих сведений о мире и разрушило ту цельную кар¬
тину мира, которая создавалась столетиями европейской куль¬
туры.
Универсальность и целостность взгляда на мир — вот то, что
было утрачено в конечном счете нашей культурой, все более при¬
обретающей вид мозаичного хаоса. Современный мир распался
на неисчислимое количество подробнейшим образом описан¬
ных фрагментов, став пугающе многообразным, и множествен¬
ность подходов и точек зрения уничтожили саму возможность
существования единой идеологической системы, в течение мно¬
гих веков объединявшей Европу- религиозный взгляд на мир
уже не является единственно возможным. На смену идейному
и художественному единообразию (сначала средневековая Ев¬
ропа была вся романской, затем вся готической, сначала в ли¬
тературе господствовал эпос, и т. д.) пришла новая эклектика
как сознательное смешение разных стилей. Современный автор
уже не может ограничивать себя рамками какой-то одной худо¬
жественно-философской системы. В результате оказалась утра¬
ченной и одна из основных характеристик средневековой куль¬
туры — сакральное отношение к творчеству и к Слову. Ars est
scientia (Искусство есть наука) — средневековое определение
искусства как священнодействия, требующего всеобъемлющих
знаний, как философских и естественнонаучных, так и эзотери¬
ческих, уже в прошлом. Современное искусство стало относить¬
ся к себе и к самому процессу творчества с все большей долей
иронии, и современная культура стала игровой, тотально иро¬
ничной и «смеховой культурой» в прямом смысле этого слова.
792
М. С. САМАРИНА
Именно с целостностью, масштабностью и несоизмеримо¬
стью с другими литературными величинами и связано одно
из наиболее известных архитектурных сравнений — а именно
сравнение «Божественной комедии» с пирамидой в пустыне,
принадлежащее выдающемуся немецкому дантологу Карлу
Фосслеру. Сравнение несколько уязвимо с исторической точ¬
ки зрения, хотя первая часть метафоры — пирамида — как
нельзя более оправдана. Семантическое поле слова пирамида
включает в себя все дантовские характеристики — сакраль-
ность, недоступность, таинственность, магия чисел. Вторая
часть (пустыня) более утрирована — вряд ли стоит определять
литературную ситуацию додантовской Италии как абсолютный
вакуум. Все же образ одиноко высящегося колоссального соо¬
ружения чрезвычайно удачен именно с точки зрения сопостав¬
ления литературных величин — до «Божественной комедии»
итальянская средневековая литература действительно не обла¬
дала почти ничем, за исключением определенных поэтических
достижений «сицилийской школы», «сладостного нового сти¬
ля»» и «Гимна творениям» Франциска Ассизского. При этом
только сицилийцы могут считаться в какой-то степени школой
общеевропейского масштаба. Более того — у истоков итальян¬
ской литературы отсутствует то, с чего начинается любая наци¬
ональная литература — крупные эпические произведения, по¬
добные «Сагам», «Песни о Роланде», «Слову о полку Игореве».
Италия, давшая впоследствии миру лучшие образцы поэзии,
поистине удивительным образом вошла в мировую литературу,
минуя стадию эпоса. «Божественная комедия», непостижимым
образом возникшая посреди литературной пустыни, на совер¬
шенно неподготовленной почве, сразу же и надолго (до 17 века)
завоевала для Италии первое место в литературном развитии
Европы. Таково влияние субъективного фактора в истории —
сила дантовского гения, создавшего колоссальную конструк¬
цию практически на пустом месте, разбудила поколения гума¬
нистов и надолго обеспечила Италии гегемонию над духовной
жизнью Европы.
Другая «архитектурная» параллель более справедлива. Это
известнейшее сравнение «Божественной комедии» с готиче¬
ским собором насчитывает уже более 200 лет (впервые эта мысль
возникла в эпоху Просвещения) и как нельзя более оправдана.
Данте и готика
793
Сравнение справедливо, прежде всего, в общекультурном
аспекте. Дантовская эпоха является неотъемлемой составляю¬
щей так называемого Высокого средневековья (12-14 вв.), ко¬
торое многие медиевисты рассматривают как особый период
и отдельную историческую эпоху, говоря о «религиозном возро¬
ждении» с эпитетом «готический»*, когда создана чрезвычайно
своеобразная культура, совершенно не похожая на культуру ан¬
тичного мира. Вспомним, что именно за эту непохожесть ее так
не любили деятели Возрождения и классицизма.
Для этого периода, помимо небывалого расцвета культуры
(возникновение университетов, расцвет куртуазной литерату¬
ры, строительство готических соборов и т. д.) характерен насто¬
ящий духовный эмоциональный взрыв, взрыв интереса именно
к духовной стороне человеческой личности. Обычно мы гово¬
рим о подобном интересе к человеку исключительно со стороны
культуры Возрождения, забывая о том, что гораздо больший
интерес к духовности проявляло и средневековье, с той лишь
разницей, что оно понимало духовность более однобоко, то есть
как дух исключительно, минуя материю.
Эти духовные искания проявились в так называемом «ре¬
лигиозном возрождении» Высокого средневековья, используя
выражение французского историка Озанама, еще в 19 веке за¬
говорившего о том, что именно религиозное возрождение пред¬
шествовало и духовно подготовило гуманистическую культуру
Возрождения. Впоследствии термины «религиозное возрожде¬
ние», «готическая эпоха» были незаслуженно отвергнуты или
забыты. Тем не менее, выражение «литература готической эпо¬
хи» имеет право на существование хотя бы по аналогии с давно
утвердившимся сочетанием «литература эпохи классицизма,
литература эпохи барокко».
С этим связан и другой аспект сравнения дантовского насле¬
дия с готическим собором — оценочный, так как на протяжении
ряда столетий (то есть начиная с эпохи Возрождения и практи¬
чески до эпохи романтизма) слово «готический», неизменно со¬
провождавшее и средневековую архитектуру, и дантовское на¬
* О духовном кризисе и религиозном возрождении «готической» эпохи
12-14 века см. работы русских медиевистов начала 20 века — О. А. Доби-
аш-Рождественской, Л. П. Карсавина, И. М. Гревса, В. И. Герье, С. П. Кот-
ляревского, П. М. Бицилли и др.
794
М. С. САМАРИНА
следив, имело ясно выраженный негативный оттенок, являясь
синонимом всего варварского, мрачного и средневекового в худ¬
шем смысле этого слова, так как именно в готическом искусстве
полнее всего обнаруживается болезненный средневековый мен¬
талитет и менее всего отражается влияние светлой и гармони¬
ческой античности. Известны резко отрицательные высказы¬
вания Рафаэля по поводу готического искусства (именно ему
приписывается изобретение термина «готический», в смысле
«варварский», чуть позднее введенного в широкий обиход Ва¬
зари), а также других деятелей и теоретиков Возрождения.
Вспомним, что практически одновременно — а именно в эпоху
Возрождения — началась резкая критика Данте за грубость его
стиля, необработанность формы, и, самое главное, отход от ан¬
тичных традиций и, как следствие подобного подхода, уже на¬
чале 15 века был сделан первый перевод «Божественной коме¬
дии» на латынь ученым-латинистом Джованни да Серравалле.
В следующем 16 веке один из столпов лингвистики кардинал
Пьетро Бембо, автор основополагающего трактата о языке, вы¬
сказывался достаточно резко о Данте, отвергая его за варвар¬
ство и грубость и противопоставляя ему совершенство гармонии
петраркизма. Авторитет Бембо в вопросах языка был настолько
весом, что таким образом было положено начало некоей тради¬
ции критики Данте как писателя грубого, примитивного и вар¬
варского.
Критика Данте как «готического» писателя продолжалась
и в 17 веке, как со стороны писателей классицизма, так и ба¬
рокко параллельно с резким неприятием готического средневе¬
ковья вообще и готического стиля в архитектуре в частности..
Известно возмущение Мольера по поводу антиэстетики Собора
Парижской Богоматери, а для Лабрюйера и Расина слово «готи¬
ческий» вообще стало ругательным. Одновременно с проектами
разрушения готических храмов продолжаются более или менее
удачные попытки переводов «Божественной комедии» Данте
с «вульгарного» народного итальянского языка на классиче¬
скую латынь.
Начиная с эпохи Просвещения Божественную комедию ста¬
ли сравнивать с готическим собором (литературный критик
и переводчик де Кларфон впервые провел эту параллель, при¬
чем как в качестве похвалы за высоту и смелость, так и как
Данте и готика
795
упрек в отсутствии вкуса) Но настоящим ярым критиком Данте
стал Вольтер. Для него Данте (как и не менее ненавидимый им
Шекспир) также оставался типичным представителем «готиче¬
ской» культуры, при этом слово «готический» у него являлось
синонимом всего варварского, непонятного и мрачного, хотя он
и не мог отрицать поразительной творческой силы автора «Ада»
(Вольтер основывал свои суждения в основном на этой части
«Божественной комедии»). Именно ему принадлежит убий¬
ственная фраза из статьи о Данте в «Философском словаре»,
действительно во многом справедливая — «Слава Данте будет
вечной, потому что его никто никогда не читает. Есть с дюжину
мест, заучиваемых наизусть; этого достаточно, чтоб не давать
себе труда заглянуть в остальное»
Данте вновь начали воспринимать более или менее благо¬
склонно в эпоху предромантизма, но только с определенной
точки зрения — как автора инфернального и мистического. Это
были, в основном, создатели так называемых готических рома¬
нов (X. Уолпол, А. Радклиф, М. Г. Льюис, Мэри Шелли, Ч. Ма-
тьюрин), в особенности их привлекали ужасы Ада -эпизод
Уголино (Т. Уортон). Данте продолжали называть готическим
автором, но уже совсем без пренебрежительного оттенка, а на¬
против — как гения ужаса и мрака.
Для романтизма во всех странах Европы характерен насто¬
ящий культ Данте, которого наконец поставили на пьедестал
наравне с Гомером и Шекспиром, как одного из величайших по¬
этов мира, при этом восторженное восприятие Данте шло парал¬
лельно с не менее восторженным отношением к средневековью
и в особенности к готике. Увлечение презираемым ранее готи¬
ческим средневековьем стало всеобщим — ему отдали дань как
писатели — Гюго с характернейшим названием романа «Собор
Парижской богоматери», Шатобриан, Виньи, Мюссе, Ламар¬
тин, Сент Бев, Леопарди, так и художники — Энгр, Делакруа
(а позже и Роден). Ламартин писал о настоящем «культе Данте»
При этом восторги перед дантовскими образами соседствовали
с увлечением готической архитектурой (Шатобриан).
Для романтического восприятия Данте характерна и чрез¬
вычайно плодотворная мысль, неоднократно в разных работах
высказанная теоретиком романтизма Ф. В. Шеллингом, что
Божественную комедию невозможно расчленить на более или
796
М. С. САМАРИНА
менее удачные и доступные пониманию поэтические эпизоды
(как поступал впоследствии Б. Кроче), а следует воспринимать
в комплексе, с философской точки зрения — как единый в сво¬
ем роде замкнутый мир, систему, и — добавим от себя — собор.
В этом смысле параллель между «Комедией» и готическим
собором как нельзя более оправдана. Это, безусловно, философ¬
ское единство — «Божественная комедия» Данте, созданная
во время расцвета западноевропейской готики, отражает следу¬
ющие основные моменты «готического сознания» эпохи.
Речь идет, прежде всего, о духе восхождения и устремленно¬
сти ввысь (этому соответствует восхождение Данте-персонажа
из глубин Ада к высотам Рая) — направление движения к свету
согласно учению Дионисия Ареопагита о божественном свете,
воспринятому как Данте, так и строителями готических собо¬
ров (символика входа — входящий в собор неизбежно направ¬
ляется с запада, где царят силы зла, на восток, где расположен
алтарь, где встает солнце, где родился Спаситель и т. д.). Фило¬
софия света у Данте и готические витражи в готической церкви
имеют, таким образом, одну и ту же философскую основу.
Энциклопедичность и космичность свойствена большин¬
ству произведений средневековья, подобно великим «Суммам»
Фомы Аквинского. По мысли Л. П. Карсавина, «Величие и тра¬
гедия средневековья в его неосуществившемся стремлении
к всеобъемлющему синтезу.»*.Как в «Божественной комедии»,
в «Миллионе» Марко Поло, в «Сокровище» Брунетто Латини,
так и в готическом соборе заключены все накопленные к тому
времени знания о земле и вселенной.
С этим связаны огромные размеры произведений готической
эпохи (Кельнский собор выше пирамиды Хеопса, «Божествен¬
ная комедия» превосходит размерами все остальные произве¬
дения итальянской художественной литературы того времени,
становясь в один ряд с немыслимыми по размеру великими фи¬
лософскими «Суммами» Фомы Аквинского и агиографической
«Золотой легендой»). Это происходит от такого свойства готиче¬
ского менталитета как максимализм во всех его проявлениях,
от физических размеров храма и высоты шпилей до проявле¬
ний чувств и эмоциональных оценок у Данте — резкий перегиб
а сторону духовного, бестелесного.
* Л. П. Карсавин. Культура средних веков. Киев, 1999, стр. 165.
Данте и готика
797
Готической эпохе свойственна подчиненность строжайшим
законам математики и геометрии, несмотря на эмоциональный
размах (числовая символика у Данте, архитектоника «Боже¬
ственной комедии» и математические формулы готической ар¬
хитектуры — «алгеброй гармонию...», пифагорейские и неопла¬
тонические принципы). Данте сам называет себя геометром*.
Это исключает все случайное и хаотичное, так как «Искусство
есть наука». Вспомним слова Пушкина о плане «Комедии», ко¬
торый «уже один есть плод высокого гения».
Символизм и аллегоричность каждого образа— свойство
всего религиозного средневекового искусства, и они прояви¬
лись в готике в наиболее крайнем варианте (рассуждения Данте
о четырех смыслах художественного произведения — букваль¬
ном, символическом, нравственном и анагогическом).
По поводу готического эзотеризма, то есть сознательной за-
шифрованности многих символов, существует большое количе¬
ство исследований**. Литература по тайнам готических соборов
по своему объему сравним с литературой по неразгаданным дан-
товским строкам (примеры — лабиринт, изображенный на полу
готических соборов, соответствующий дантовскому пути, там¬
плиерская символика у Данте и роль ордена тамплиеров в стро¬
ительстве готических соборов).
С этим связана обязательная мистичность готических про¬
изведений, присутствие в них чувства приобщенности к боже¬
ственным тайнам (чаша Грааля — алхимическая чаша — чаша
причастия, астрология и Данте, мистическая роза «Рая», тайна
божества в мистическом финале «Комедии»). У Жоржа Дюби —
«благодаря совершенству своей формы, памятник (собор) слу¬
жил выражением невидимого порядка. Подобно иллюстрациям
священных книг, и даже в еще большей степени, церковная ар¬
хитектура была откровением, снятием покрова с тайны... Цер¬
ковь приоткрывает видимую завесу, за которой скрывается ис¬
тина»***
Необходимо присутствуют в «Божественной комедии» и не¬
кие элементы устрашения, дьявольского начала — это демоны,
* Божественная комедия, Рай, песнь XXXIII, 133.
** См. известную работу Фулканелли «Тайны готических соборов». М.,
1996.
Ж. Дюби. Европа в средние века. Смоленск, 1994, стр. 53.
798
М. С. САМАРИНА
чудовища и призраки дантовского Ада, подобные химерам со¬
бора Парижской Богоматери и т. д. Ужас является одной из не¬
обходимых составляющих готического искусства (мысль Жака
ле Гоффа о том, что средневековье было временем великих стра¬
хов*). Отсюда и связанная с этим эсхатологическая идея близо¬
сти конца света — в архитектуре это апокалиптические сцены
на западном портале соборов, в литературе — эсхатология всей
«Божественной комедии». Одна из важнейших черт готического
«рыцарского» средневековья — обожествление женского нача¬
ла (культ Девы Марии, которой посвящены готические соборы,
произведения Бернарда Клервосского и дантовская Беатриче).
Готику, безусловно, нельзя назвать только архитектурным
стилем, это общее умонастроение эпохи, охватывающее все сфе¬
ры творчества, от литературы до изобразительного искусства.
Данте все же вышел за рамки «готического сознания» в чрез¬
вычайно важном аспекте — в отрицании анонимности худо¬
жественного творчества, тогда как творцы готических соборов
сознательно не оставили своих имен потомкам. Имя же Данте
звучит на страницах «Божественной комедии».
* Ж. Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992, стр. 226.
С. М. СТАМ
Странная комедия. Читая Данте...
<Фрагменты>
ЭПИГРАФ
О вы, разумные, взгляните сами,
и веянии наставленье да поймет,
сокрытое под странными стихами!*
К своей знаменитой «Комедии», разделенной на три части —
«Ад», «Чистилище» и «Рай», Данте не дал эпиграфа. Приве¬
денные выше стихи взяты из IX песни «Ада». Они, как нож,
врезаны в текст после описания неожиданной встречи путеше¬
ственников (Данте, напоминаем, в его хождении по Аду сопро¬
вождает Вергилий) с тремя отвратительными фуриями, грозив¬
шими смертью. Они, несомненно, символизируют инквизицию,
страшных лап которой во что бы то ни стало нужно избежать.
И автора «Комедии» спасает его мудрый и энергичный друг
Вергилий.
Далеко не всякому читателю удается понять и сами стихи,
и то, почему они находятся именно там. Между тем приведенные
строки как нельзя более удачно помещены там, где им и должно
быть. Но если бы Данте поставил эти стихи в качестве эпиграфа
ко всему произведению, они были бы тоже к месту и помогли бы
* Данте Алигьери. Божественная комедия / Пер. М. Лозинского. М., 1967.
Ад. IX, 61-63; далее: А. — Ад, 4. — Чистилище, Р. — Рай; отсылка будет
идти в тексте сразу за приведенным стихом.
800
С. М. СТАМ
читателю раньше и выше подняться к пониманию всех глубин
«наставления» поэта и, более того, помогли бы почувствовать,
с какой любовью и болью за людей поэт-мыслитель создавал
творение, как много он сказал людям не только своего поколе¬
ния, но и грядущих веков.
Поэтому — да простится нам такое «вмешательство» в автор¬
ский текст и решимость поставить эту терцину эпиграфом к на¬
шей работе — очередной попытке понять исполненную трагиз¬
ма «Комедию» Великого Флорентийца.
СИНТЕЗ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ?
Прошло почти семь столетий с тех пор, как Данте бросил
в мир свою потрясающую «Комедию». С тех пор о ней написа¬
ны горы литературы. Кажется, все выяснено. Но мы читаем это
творение снова и снова. И восхищаемся и в то же время натыка¬
емся на неясности и недоумения — они все еще остаются. Осме¬
люсь высказать сомнение: вполне ли внимательно мы прочли
эту поэму, вполне ли добрались до того самого главного, что ее
автор называл «соком замысла»?
Известна концепция, выдвинутая неотомистами: Данте —
это высшее выражение «средневекового гуманизма». У нас эта
концепция не получила поддержки. И — вполне естественно,
потому что в феодальном обществе, где свободное мышление
и действие суверенной личности рассматривались как грехов¬
ное противодействие божьей воле, где идеалом человека был
смиренный, нищий духом раб божий, — для гуманизма с его
идеалом высокого достоинства человека, его непрерывного ум¬
ственного и нравственного развития и творчества не могло быть
места.
Но и у нас порой еще пишут: поэма Данте — это монумен¬
тальный синтез средневековой культуры. Однако, что же это
за синтез культуры Средневековья, где римские папы броше¬
ны вверх ногами в пылающие адские ямы? Где сама Римская
церковь объявлена «Вавилонской блудницей»? Где отсутству¬
ет краеугольная идея религии — идея страха божьего? Где нет
ни проповеди презрения к миру, ни проповеди покорности и ни¬
щеты духа?
Странная комедия. Читая Данте...
801
Нет, замкнуть Данте в рамки средневекового сознания не¬
возможно. Вот почему Ф. Энгельс, подходя к проблеме гораздо
глубже, назвал Данте «последним поэтом Средневековья и вме¬
сте с тем первым поэтом Нового времени». Этой или близких
точек зрения придерживаются в наше время многие историки
литературы. Однако справедливо ли такое рассечение надвое?
ВОСХОДЯЩЕЕ ОЧИЩЕНИЕ ДУШИ?
Для произведения, целиком посвященного путешествию ав¬
тора по загробному миру, первым встает вопрос: зачем? чего
ради? чего искал там поэт?
До сих пор не оставлена старинная версия: Данте хотел по¬
казать путь очищения души, ее восхождения от греховности
к исправлению и, наконец, — к райской чистоте и блаженству.
Но где же восходящее очищение в поэме? Уже в Аду мы видим
не одних тиранов, лицемеров и жадных златолюбцев, но и лю¬
дей, верных своему долгу, смелых мучеников свободной, бла¬
городной и чистой любви, людей несгибаемой воли, героически
бесстрашных поборников истины, неутолимой жажды знания.
А Лимб Ада полон великих поэтов, ученых, мыслителей и ге¬
роев, каких напрасно искать в Раю. Это люди истинно высо¬
кого духа, вся «греховность» которых — только в том, что они
не были христианами, как правило, жили до возникновения
этой религии.
В Чистилище еще встречаются высокие умы и смелые души,
подобные Марко Ломбардо, но их гораздо меньше, и им недо¬
стает воли и неукротимости. Души Чистилища никаких очи¬
стительных подвигов не совершают и не собираются совершать.
Они только поют славу господу и, выбиваясь из сил, карабкают¬
ся вверх по крутому склону горы или ищут более пологих и лег¬
ких путей подъема на
... горный склон,
Ведущий вверх стезею очищений (Ч., ХШ, 2-3).
Но вот этих-то духовных очищений, какого-то нравственного
роста, чему, казалось бы, и должно служить Чистилище, чита¬
тель в нем и не находит.
802
С. М. СТАМ
В Раю личность не расцветает, не возвышается духовно. Она
растворяется в неподвижной иерархической соподчиненно-
сти «блаженных», феерических переливах света, цвета и звука
и беспрерывном славословии вседержителя. Нет, это не апофе¬
оз человеческого духа.
Таким образом, трехступенчатая лестница поступательно¬
го восхождения душ никак не может служить, и в поэме Данте
не служит, путеводителем одухотворения человека, его восхож¬
дения к высшему нравственному совершенству.
В Раю преобладают благочестивые резонеры, холодные схо¬
ласты или чуждые жизни мистики, чьи индивидуальности, как
правило, вообще не раскрыты (ведь они должны были раство¬
ряться в боге), и все ограничивается перечислением их богоу¬
годных заслуг.
Что же касается личности автора «Комедии», то она, вопло¬
щенная в Данте-герое поэмы, и в Аду поражает читателя своим
благородством, мужеством, человечностью. Она и в Аду непри¬
частна злу и грязи, и в Чистилище не совершает каких-либо
подвигов очищения.
По сюжету, у врат Чистилища, по слову его привратника
Катона Утического, Вергилий отмывает лицо Данте от копоти
Ада, осевшей на нем. Но никакого нравственного усилия это
не требует. А далее время от времени появляется ангел и, без
каких-либо заслуг поэта перед богом и даже без молитв, свои¬
ми крылами стирает с его лба очередную латинскую букву «Р»
(peccatum — грех) — из семи начертанных на нем чьей-то «свя¬
щенной» рукой при вступлении в эту часть загробного царства.
При этом тело Данте становится легче (Ч., ХХП, 7), но опять-та¬
ки в душе поэта никаких возвышающих сдвигов не происходит.
Правда, Вергилий, не сумев разрешить сомнений Данте, уго¬
варивает его:
Стремись быстрей достигнуть исцеления
Пяти рубцов, как исцелились два,
Изглаженные силой сокрушения (Ч., XV, 79-81).
Но в том-то и дело, что никакого сокрушения, никакой удру¬
ченности, никакого чувства раскаяния (esser dolente) во взгля¬
дах Данте не испытывает.
Странная комедия. Читая Данте...
803
ПРОБЛЕМА БЕАТРИЧЕ
Нередко представляют, что Беатриче — одна из самых ясных
или даже самая «прозрачная» фигура дантовой «Комедии»: пре¬
красная молодая флорентинка, очаровавшая юного Данте, рано
умершая и оплаканная им в его знаменитой «Новой жизни».
И, по безусловному убеждению поэта, вознесенная вышними си¬
лами в райские кущи. В ее славу писалась «Комедия». Любовь,
возникшая на Земле, не гаснет и в небесах: яркими, теплыми,
порою обжигающими вспышками человеческой сердечности
озаряет она холодные уголки вселенной, изображенной Данте.
Но небесная Беатриче в поэме обогащена софистикой фило¬
софии Аквината. Беатриче рассуждает «вслед Фоме» (P., XIV,
6-7). Данте-автор заставляет блаженную Беатриче вести уче¬
ные споры с Данте-героем поэмы, стараясь ее устами рассеять
сомнения в вопросах религии, высказанные его устами.
К этому должно добавить немаловажный момент: по замыс¬
лу поэмы, именно Беатриче по воле небесных сил передает поэ¬
ту разрешение посетить потусторонние владения бога. Она, как
упоминалось, делает это через посредство Вергилия, каковому
и поручает водительство живого поэта через Ад.
Но в душе Данте-автора жива любовь к той женщине, кото¬
рая пленила его в ранней юности, безвременную кончину ко¬
торой он оплакал в своих стихах и во имя которой он решился
создать эту грандиозную поэтическую эпопею. И его Беатриче
тоже не может сбросить, вовсе скрыть своей любви к поэту, той,
которой он так ждал на земле и которую решил нарисовать в по¬
эме. Отзвуки их взаимного чувства прорываются редко, но они
не могут не волновать читателя. Данте — живой и не святой —
свои чувства выражает открыто:
Сто сот желаний, жарче чем костер,
Вонзили взгляд мой в очи Беатриче (Ч., XXXI, 118-119).
И далее:
Мои глаза так алчно утоляли
Десятилетней* жажды жгучий зной
* Имеется в виду десятилетие со дня смерти Беатриче.
804
С. М. СТАМ
Что все другие чувства мертвы стали;
Взор здесь и там был огражден стеной
Невнятия, влекомый неуклонно
В былую сеть улыбкой неземной (Ч., XXXII, 1-6).
Беатриче не равнодушна к этим, к ней обращенным порывам
искреннего чувства Данте, но ее реакция гораздо сдержаннее:
взгляд, улыбка, — но и этого уже много для обожающего ее по¬
эта. Больше же всего она отвечает укоряющей речью, в которой
слиты и женская ревность, и осуждение любых мирских (осо¬
бенно философских) увлечений, и обличение религиозных со¬
мнений Данте, и его отступлений от правоверия.
Новая, небесная Беатриче восхищает Данте-героя поэмы. Он
убежден, что она
Гармонией небес осенена (Ч., XXXII, 144).
Но гармония эта оказывается глубоко противоречивой, как
и образ Беатриче, созданный автором «Комедии». Данте не за¬
мечает, что его Беатриче, укоряя поэта за неверность в его любви
к ней после ее смерти, делает это не с небесных высот, а из недр
того самого «грешного мира», который она призывает прези¬
рать, но от которого, получается, она сама не может полностью
оторваться, который продолжает ее волновать. Ясно, что такой
мучительно хотел ее видеть Данте.
Вместе с тем на протяжении почти всей «Комедии», осо¬
бенно во время «полета» в небесные сферы, Беатриче, волей
автора, являет другой лик. Она не устает упрекать поэта в ре¬
лигиозных сомнениях, в увлечении рационалистической фи¬
лософией, в недостаточном правоверии, преподает ему своео¬
бразную «азбуку томизма». Так, в XXVIII песни Рая главный
герой выслушивает целую лекцию по богословско-схоласти¬
ческой «астрономии» райских небес и «чинов». Любопыт¬
но, однако, что Беатриче стремится всю эту догматическую
софистику как-то увязать с разумом, так чтобы и разум был
«утоляем до конца» (P., XXVIII, 107-108). Разум допускает¬
ся догматически, только как подпорка религии. Но без раз¬
ума дело уже не обходится. Очевидно, так Данте понимает
Фому.
Странная комедия. Читая Данте...
805
Данте-герой поэмы, как правило, не спорит. Он молчит.
Но за этим молчанием нельзя не услышать ноты иронии. На¬
пример, во время катастрофических метаморфоз священной
колесницы. Пассивное наблюдение Беатриче за тяжкими испы¬
таниями и дьявольским извращением колесницы церкви и пол¬
ная пассивность самого Грифона (Христа) во время этих пертур¬
баций выглядят, по крайней мере, странно.
Более того, Беатриче и сама активно включается в критику
современной церкви, по крайней мере низовой, приходской, ее
проповедников, да и умонастроения прихожан:
«Теперь в церквах лишь на остроты падки
Да на ужимки; если громок смех,
То куколь пыжится, и все в порядке» (P., XXIX, 115-
118).
«А стадо глупых с пастбища бредет,
Насытясь ветром...» (P., XXIX, 106-107).
Но еще более значительные слова вложил Данте в уста воз¬
любленной и одновременно оппонентки его героя:
«Затем, что силой воли не задуть,
Она, как пламя, борется упорно,
Хотя б его сто раз насильно гнуть».
Пусть потом он сам же устами Беатриче пытается схоласти¬
чески ограничить смысл этих слов, — они остаются великолеп¬
ной, смелой декларацией свободы человеческой воли в мире,
якобы подвластном сверхчеловеческим силам. Более того, Беа¬
триче, эта поборница богопочитания и страха божьего, бросает
в мир неслыханно смелый и дерзкий вызов:
«Бояться должно лишь того, в чем вред
Для ближнего таится сокровенный;
Иного, что страшило бы, и нет» (А., II, 88-90).
Неслыханная, гуманистическая ересь! Это ведь получается,
что и страха божьего не существует, быть не должно. Есть толь¬
806
С. М. СТАМ
ко человек, и только о нем, о его безопасности, его достоинстве,
о его благе должна быть забота. Устами «божественной» Беатри¬
че Данте выразил свою человечность.
И — однако...Попытаемся рассмотреть вышесказанное бли¬
же, конкретнее. Вот, например, Данте ищет объяснения нрав¬
ственного несовершенства земной жизни людей — распростра¬
нения зависти. Его героя не убеждают заверения Вергилия, что
спасение от зависти — только в любви к богу, в которой будто бы
«мое» превращается в «наше».
Теперь я даже меньше утолен, —
Ответил я ему, — чем был сначала,
И большими сомненьями смущен (Ч., XV, 58-60).
На что Данте-автор отвечает устами Вергилия:
«... Ты снова дал уму
Отвлечься в сторону земного дела...» (Ч., X, 64-65).
И излагает еще ряд богословских софизмов. Но, видимо,
и сам не очень верит в убедительность этих «доводов» :
«Когда моим ответом ты не сыт,
То Беатриче все твои сомненья,
И эти, и другие, утолит» (Ч., XV, 76-78).
Данте-герой поэмы не возражает, но никак не выказывает
своего согласия.
Еще один момент: устами Беатриче автор поэмы высоко оце¬
нивает свои творческие стремления периода создания «Новой
жизни» и их реализацию в «Комедии». Однако при этом его
героиня оговаривает: это осуществилось не только благодаря
его таланту, чему причастна природа, в частности — «располо¬
женье звезд», «Но милостью божественных щедрот» (Ч., XXX,
112).
И, главное, — далее: после смерти Беатриче герой поэмы,
по ее словам, увлекся философией, светскими (ложными) нау¬
ками, а к ней охладел.
Странная комедия. Читая Данте,..
807
«Он устремил шаги дурной стезей.
К обманным благам, ложным изначала.
Чьи обещанья — лишь посул пустой» (Ч., XXX, 130-132).
Речь, очевидно, идет о тех занятиях философией, в которые
погрузился реальный Данте после смерти Беатриче в стремле¬
нии искать истины на путях рационального мышления. С это¬
го «ложного» пути Беатриче пыталась увести его Данте-героя
«в снах и наяву», «чтоб ты от всех сомнений был свободен» (Р.,
VII, 121). Но безуспешно. Тогда она решилась на крайнее:
«Так глубока была его беда,
Что дать ему спасенье можно было
Лишь зрелищем погибших навсегда» (Ч., XXX, 136-138).
Очевидно, по мысли Беатриче, путешествие по Аду должно
было устрашить Данте и вернуть его на путь смиренной богопо-
слушности, нерассуждающей веры, Но требуемого раскаяния,
облитого слезами (Ч., XXX, 145), отречения от велений разу¬
ма благочестивые (хотя и очень противоречивые) наставники
от поэта так и не добились.
Как убедительно показала «Комедия», путешествие по за-
гробью привело ее главного героя к противоположным выводам.
Он ненавидит зло и несправедливость и одобряет их наказание,
но он не может мириться с отвратительным, унизительным ка¬
лечением человеческого тела, не может примириться с жесто¬
кими наказаниями свободной и чистой любви, с безжалостным
преследованием инаковерия и инакомыслия, смелого, неустра¬
шимого порыва к познанию. Он презирает тех, кто «меж добром
и злом», кто в своем послушном небокоптительстве не проявил
своей воли и не оставил благодарной памяти у потомков. Он
прославляет бесстрашных искателей знаний, новых открытий.
Он отвергает слепой страх (страх божий) и славит могущество
человеческого разума и человеческой воли. Данте-автор сумел
убедить себя в правильности такой позиции.
Противоречивость, пронизывающая «Комедию» Данте, быть
может, ярче всего проявляется в сложной фигуре Беатриче.
На протяжении II и III кантик она только и делает, что «пере¬
воспитывает» бесстрашного и своемысленного поэта, и она же,
808
С. М. СТАМ
особенно в I кантике, хотя отнюдь не только там, провозглашает
свободомысленные и своевольные идеи: бояться нужно только
того, что может принести вред другому; «иного, что страши¬
ло бы, — инет».
Значит, повторимся, страха божьего нет, не должно суще¬
ствовать. Так осталось ли место для самого бога? Отдавал ли
себе Данте отчет в том, что устами Беатриче он высказал, в сущ¬
ности, атеистическую мысль? И даже если на минуту оставить
общемировоззренческий аспект и попытаться ограничиться
этическим: никакой внешней понуждающей силы нет — есть
только человек и человечество и — отношения между людьми.
Какая глубокая, какая смелая, какая гуманистическая мысль!
Устами Беатриче ее впервые высказал Данте — и заложил пер¬
вый камень фундамента будущей великой гуманистической
идеологии.
В образе Беатриче особенно ярко проявилась способность
Данте насыщать своих героев противоречивым духом эпохи.
При этом дантовские, передовые, раскрепощающие душу мыс¬
ли высказываются устами оппонентов Данте-героя поэмы.
Потом, в полпути на небеса, споря с «заблудшим» поэтом, он
устами Беатриче будет вносить «поправки и уточнения» в эту
формулу и ограничивать свободу человеческой воли ее согласо¬
ванностью с волей божества, но это не может заслонить глубо¬
кой правды ее первоначальной, гуманистической декларации.
Объективно ее декларация воли звучит как героический вызов
ввергнутых в огонь и камень героев-богоборцев дантовского
Ада — Одиссея, Капанея, Фаринаты.
Но и позже, при всех оговорках, Данте через Беатриче про¬
должает прославлять волю человека, утверждая, что даже страх
не должен побуждать волю склониться перед насилием, иначе,
смирившись с ним, она (воля) сама становится пособницей на¬
силия, сливается с ним (P., IV, 73-80, 100-111):
«А если в чем-либо она (воля) покорна,
То вторит силе» (P., IV, 79-80).
И хотя по сюжету Беатриче ведет речь о твердости благоче¬
стивых побуждений воли, самый принцип безусловной покор¬
Странная комедия. Читая Данте...
809
ности человеческой воли велениям божества и непротивления
злу, присущий религиозной этике, — отвергается.
Беатриче и позднее выступает у Данте горячей поборницей
свободы воли человека, объявляя ее излюбленным даром бога:
«Превысший дар создателя вселенной,
Его щедроте больше всех сродни
И для него же самый драгоценный, —
Свобода воли...» (P., V, 19-22).
При этом Данте заставляет Беатриче начисто забыть, что,
согласно Библии, именно проявление перволюдьми своей воли,
несогласной с волей бога, явилось причиной изгнания людей
из Рая и вечного проклятия рода человеческого.
Данте отдал свою возлюбленную небесам. Но он отдал ее
не всю.
Она осталась и дантовской и порой говорит языком Дан¬
те-гуманиста. Здесь очень важно уловить (как, впрочем, в «Ко¬
медии» в целом) соотношение текста и подтекста. Становится
ясным, что Беатриче, как защитник правоверия, как оппонент
определенного скептицизма и вольномыслия, необходима поэ¬
ту: 1) как наиболее удобный способ для выражения его глубо¬
ких религиозных сомнений; 2) как средство вуалирования этих
сомнений, для создания впечатления, что он не хочет отступать
от правоверия или готов вернуться к нему.
Не забудем, что Беатриче — любимый образ творца «Коме¬
дии». Данте не мог не внести в него того, что больше всего его
волновало: и новые, смелые, гуманистически направленные
нравственные порывы, и помыслы, и свои нараставшие сомне¬
ния в отношении религии, церкви, политики, и, с другой сто¬
роны, богословские контр-идеи, которые окружали его со всех
сторон, и в спорах, в борьбе с которыми поэт отстаивал главное,
ранне-гуманистическое направление своего мировоззрения.
Отсюда и яркость, привлекательность и поразительная проти¬
воречивость образа святой флорентинки.
Именно в ее санктификации, совершенной исключительно во¬
лей поэта, и коренится, в первую очередь, эта нераздельная про¬
тиворечивость, если угодно — двойственность Беатриче. Данте
вознес ее на небо — и потому неизбежно произвел глубокую мета¬
810
С. М. СТАМ
морфозу в образе очаровательной молодой горожанки. Ее земная
красота, доброта, достоинство, обаятельность — вроде бы, сохра¬
нились. И вместе с тем в Чистилище, в Земном раю, и особенно
в Раю небесном, в образе Беатриче верх берут ученая холодность,
правоверная назидательность; томистская теология вытесняет
живое чувство любви к миру, к природе, женское обаяние.
АПОФЕОЗ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ,
ИЛИ ВЫЗОВ, БРОШЕННЫЙ ЕМУ В ЛИЦО?
«Комедия» Данте настолько сложна и противоречива, что за¬
дача ее аналитического определения нередко сбивает с толку ис¬
следователей. Скажем, в одной из ранних статей уже названный
выше А. Н. Веселовский назвал «Комедию» Данте «поэтиче¬
ской энциклопедией средневекового миросозерцания», но позд¬
нее пришел к совершенно иному выводу: «Такое объективное со¬
здание, какова комедия Данте, возможно только на развалинах
прошлого, с которым сознание уже порешило»*.
Действительно, идейные и нравственные принципы Данте
решительно расходятся с принципами, одобряемыми церко¬
вью. Он не скрывает своих симпатий к «еретикам» аверроис-
там; восхищается героизмом эпикурейца Фаринаты, которого
изображает презирающим самый ад; он с уважением упоминает
мифологического Капанея, открытого богоборца; он всей душой
сочувствует Франческе да Римини, караемой за чистую, но «без¬
законную» ее любовь; он обоснованно героизирует Улисса, пла¬
менного поборника знания, вопреки божественным запретам
зовущего людей к новым открытиям; прославляет языческих
античных, а также мусульманских поэтов, ученых, доблестных
воинов; прославляет «еретиков» — Сигера Брабантского, Ио¬
ахима Флорского, отстаивает принципы веротерпимости, чу¬
ждой Средневековью.
Объективный анализ «Комедии» Данте убеждает: нет, это
не апофеоз Средневековья и не поэтическая энциклопедия сред¬
невекового миросозерцания, а начало нравственной и полити¬
ческой критики, начало отрицания несправедливого, жестокого
Средневековья с его постоянно воюющими тиранами и его идеа¬
лами аскетизма, богобоязни и покорной пассивности.
* Веселовский А. Н. Избранные статьи. Л.,1939. С. 537.
Странная комедия. Читая Данте...
811
Эта критика была призвана разбудить современников. Уста¬
ми Вергилия Данте провозглашает, требует:
«Ленивых надобно будить, а сами
Они не расшевелятся никак» (Ч., XV, 137-138).
Данте спустился в царство умерших, — для того чтобы раз¬
будить живых. Поэт отправил себя в потусторонние царства
не из любопытства и не потому, что хотел бежать от мира,
а, напротив, потому, что оттуда, из запределья, было лучше
увидеть, легче понять и показать людям всю кривду мира
реального — его социальную и политическую несправедли¬
вость, его моральную уродливость. Парадоксально, но факт:
двигаясь потусторонней дорогой, Данте сумел невиданно
ярко осветить действительность своего времени. В средневе¬
ковой оболочке видения рождался неслыханно смелый реа¬
лизм.
Зачем Данте писал поэму? В самой поэме об этом сказано
достаточно ясно. В Раю, на восьмом небе, апостол Петр, произ¬
неся негодующую филиппику против современного папства, за¬
вершает ее прямым призывом к поэту:
«И ты, мой сын, сойдя к земной судьбе,
Под смертным грузом, смелыми устами
Скажи о том, что я сказал тебе» (P., XVII, 64-66).
Очевидно, и самый Рай, и самый бог не в силах справиться
с ожиревшим и закусившим удила папством. — Требуется под¬
держка со стороны людей!
Чего искал Данте в загробье? Не ужасов. Собственно пытки
и муки, стенания и вопли истязаемых грешников почти не по¬
казаны. И даже идущие в огне и под огненным дождем в его по¬
эме люди рассказывают о себе, о своих грехах, чего, наверное,
не сделали бы на земле, расспрашивают поэта о делах на роди¬
не. Спорят и судят по вопросам политическим и нравственным.
И им это доставляет наибольший интерес, а тем более — автору
и читателям. Особенно привлекает свобода признаний и отно¬
шений — ведь они уже осуждены. Здесь можно говорить откры¬
то почти все, что хочешь, чего, наверно, ни за что не сказал бы
812
С. М. СТАМ
на земле. Данте избрал загробье как наиболее подходящее ме¬
сто для откровенного разговора о жизни, о действительности,
о мечтах (да, и о мечтах!) этих людей.
Данте однажды называет свое произведение «священной по¬
эмой» (lo sacrato poema) (P., XXIII, 62), и сакральных сюжетов
и моментов в нем немало. Но все это путешествие по потусто¬
ронним владениям бога наполнено постоянными помышлени¬
ями и рассуждениями о земле, о людях, о человеческой любви,
о несправедливости земных порядков, о гнилости церкви, о пу¬
тях оздоровления жизни человечества. И так — от первых строк
«Ада» до последних строк «Рая». Данте верил в жизнь и воз¬
можность на Земле жизни разумной и счастливой.
Смысл дантова путешествия по загробъю — не в том, чтобы
душеспасительно запугать людей адскими муками и терзания¬
ми, а в том, чтобы показать людям на Земле все политическое
и нравственное непотребство их реальной жизни и призвать их
к жизни разумной, активной, целеустремленной — истинно че¬
ловеческой. Такую задачу мог поставить (и выполнить!) только
гуманистически мыслящий поэт. За мистической фразеологи¬
ей в «Комедии» Данте прорывается почти не скрываемый про¬
тест и призыв. Только поняв это, мы поймем парадоксальное:
автор «Божественной комедии» был любимым поэтом Карла
Маркса. Почти всю «Комедию» Маркс знал наизусть и порой,
когда собирались друзья, читал целые «песни» из творения
Данте. Что привлекало пламенного революционера к «Боже¬
ственной комедии», как в те времена было принято называть
поэму Данте? Надо думать, непримиримость к общественному
злу, обличение царящей несправедливости, папства и — не¬
преклонность воли поэта, звавшего людей вперед, к лучшей,
человеческой жизни.
ПО ЛЕЗВИЮ НОЖА
Данте сознавал, что в «Комедии» он идет по лезвию ножа.
Устами Вергилия он так говорит об этом:
«Немало я услышал тяжких слов
О том, что в жизни для меня настанет,
Хотя к ударам рока я готов» (P., XVII, 22-24).
Странная комедия. Читая Данте,,,
813
Поэту было ясно, что он пишет не в общепринятом, не знаю¬
щем сомнений, правоверном духе. Он сомневается, во многом
сомневается. Он даже позволяет себе спорить с каноническими
«истинами». А это — не в духе общепринятого, старого, но еще
не сдавшего своих позиций, не обеззубевшего времени. Его по¬
эзия многих задевает и многим не нравится. Отсюда — горькие
слова, обращенные к Каччагвиде, пращуру:
Я вижу, мой отец, как на меня
Несется время, чтоб я в прах свалился,
Коль я пойду, себя не охраня.
Пора, чтоб я вперед вооружился.
Дабы расставшись с краем, всех милей,
Я и других чрез песни не лишился (там же, 106-111).
В сущности, Данте понимает свою «Комедию» как акт обще¬
ственной, идейной борьбы, в которой требуется и выдержка,
и осторожность, и надежная духовная вооруженность. Он ведет
бой. И не боится этого.
В безмерно горьком мире...
Я многое узнал, чего вкусить
Не все, меня услышав, будут рады;
А если с правдой побоюсь (!) дружить,
То средь людей, которые бы звали
Наш век старинным, вряд ли буду жить (там же, 112-120).
Каччагвида подтверждает, что среди людей бессовестных
правдивая «Комедия» Данте добавит ему врагов. И все-таки —
«Все, что ты видел, объяви сполна,
И пусть скребется, если кто лишавый!
Пусть речь твоя покажется дурна
На первый вкус и ляжет горьким гнетом,
Усвоясь, жизнь оздоровит она.
Твой крик пройдет, как ветер по высотам,
Клоня сильней большие дерева;
И это будет для тебя почетом» (P., XVII, 128-135).
814
С. М. СТАМ
Более чем примечательно: по замыслу Данте гражданин Фло¬
ренции (пусть прошлых времен), нимало не сомневаясь, увидел
в «Комедии» светское сочинение, направленное к тому, чтобы
обнажить и осудить язвы, в которых мучается ныне живущее
человечество, и содействовать оздоровлению жизни. Причем
главными объектами критики являются «большие дерева» —
феодально-тиранические властители и высшая иерархия церк¬
ви, включая папство. И это — не спокойное чтиво о тогдашних
временах и тем более не увлекательный рассказ о приключени¬
ях в вымышленном загробном мире. Это, как выразился в поэме
Каччагвида, — »крик» (значит, больше терпеть нельзя), кото¬
рый, как мощный вихрь, промчится по высотам, клоня сильней
«большие дерева» — тогдашних хозяев жизни. Значит, автору
нужно быть осторожным и уметь защищаться.
И Данте осторожен. В Чистилище на жалобы измотанных
камненосителей: «я истощен!» — он с усмешкой возражает:
«нельзя истощаться там, где не существует пищи для тела»;
но не спешит с естественным выводом, что не может быть фи¬
зических страданий там, где нет тела. Даже спустя два столе¬
тия, когда Колумб совершит свое великое открытие Америки,
прославившийся своим цинизмом папа Александр IV Борджия
заявит: «Конечно, я, как человек современный, ни на минуту
не могу поверить в существование ада и рая, но я сожгу на костре
каждого, кто посмеет в этом усомниться». А в начале XIV века
требовалась удвоенная смелость и осторожность.
Вот откуда отдельные восторженные обращения к богу, от¬
дельные хвалы божьему суду, горько-ироничное косвенное одо¬
брение аскетической «нищеты духа». Обратимся к тексту. В Чи¬
стилище Данте слышит вдохновенный возглас ангела:
«О род людской, чтобы взлетать рожденный!» (Ч., XII, 95).
Вслед за этим слышится напев: «Блаженны нищие духом»,
и Данте комментирует:
«Напев неизреченной благодати» (Ч., XII, 111).
Но Данте нигде в «Комедии» не выводит и не восхваляет лю¬
дей нищих духом, не проповедует духовной нищеты.
Странная комедия. Читая Данте,.,
815
Слова о напеве не могут быть поняты иначе, как горькая иро¬
ния или вынужденный защитительный прием автора. Говоря
его же словами, — »тонкая пелена» благочестивых языковых
стереотипов, отвечающих изображаемому месту и моменту.
Благочестие соблюдено. А внимательный читатель, благода¬
ря бесстрашной правдивости поэта, смог услышать уже с неба
вдохновенный голос о высоком призвании человека.
ЛЮДИ — ЧЕРВИ?
Почти в середине поэмы, в IX песни Чистилища, есть пас¬
саж, на который, как на нелепую корягу в светлом лесу, не мо¬
жет не натолкнуться глаз внимательного читателя. Пассаж не¬
велик, всего три терцины, но требует объяснения. Вот они:
О христиане, гордые сердцами,
Несчастные, чьи тусклые умы
Уводят вас попятными путями!
Вам невдомек, что только черви мы,
В которых зреет мотылек нетленный,
На божий суд взлетающий из тьмы!
Чего возносится ваш дух надменный,
Коль сами вы не разнитесь ничуть
От плоти червяка несовершенной? (Ч., X, 121-129).
И это писал Данте? Данте, который устами своего любимого
героя, бесстрашного Улисса обратился к людям с гордыми сло¬
вами:
«Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и к знанью рождены» (А., XXVI, 119-120).
Нет, в приведенных терцинах не язык Данте, это язык аске¬
тического памфлета, сочиненного папой Иннокентием III
на пороге XIII века (тогда Иннокентий был еще кардиналом).
Памфлет назывался «О презрении к миру, или о ничтожестве
человеческого состояния», и в нем автор всеми силами старал¬
ся доказать, что человек — самое худшее, самое отвратительное
существо на земле: все растения и животные приносят что-ни¬
816
С. М. СТАМ
будь полезное, человек же — только отбросы, экскременты. Че¬
ловек хуже копошащегося в грязи червя. В книжке проповедо¬
вался предельный аскетизм, полное самоуничижение.
Не было ничего более чуждого, неприемлемого для Данте,
чем самооплевывание человека. В его поэме нет ни самого сло¬
ва «аскетизм», ни пропаганды «убиения плоти». На страни¬
цах «Комедии» этого мы не встретим даже в речах апостолов.
Жестоко осуждаются человеческие пороки: жадность, зависть,
коварство. Критикуются, обличаются современная церковь,
папство, корыстолюбивое духовенство, но не человек вообще.
Даже в Аду герой поэмы обнаруживает честных, благородных
и доблестных людей. И своей «Комедией» Данте хотел способ¬
ствовать улучшению жизни на земле. Он любил людей.
Откуда же взялись терцины? Объяснения надо искать в той
крайне противоречивой социально-политической и идейной
атмосфере, в которой рождалось грандиозное творение Данте,
и в тексте самой «Комедии».
На трудной дороге подъема к горе Чистилища, «на привале»,
измотанные Данте и Вергилий увидели, что на них медленно
надвигается какая-то необозримая мрачная масса. Оказалось,
это грешники; видимо, не убийцы, не злодеи (тем место в Аду!),
а просто грешники (ведь не могут же люди быть совсем безгреш¬
ными!). И каждый — на спине, на голове нес огромные, тяже¬
ленные камни. Бросить их было нельзя. Смотреть на этих лю¬
дей было страшно.
Кто легче нес, а кто тяжеле гнёт,
И так, согбенный, двигался по краю;
Но с виду терпеливейший и тот
Как бы взывал в слезах: «Изнемогаю!» (Ч., X, 136-139).
(Скажем, что через 200 лет этот сюжет вдохновил Микелан¬
джело на создание серии скульптур «Люди с камнями», где
мужчины с могучими и красивыми телами гнутся, раздавливае¬
мые непосильно тяжелыми глыбами дикого мрамора, что давят
на их головы и плечи. Некоторые пытаются сбросить проклятый
камень. Но он уже врос в тело, а то уж и головы не осталось —
вместо нее бесформенная глыба дикого камня — Микеланджело
прекрасно понял мысль любимого поэта.)
Странная комедия. Читая Данте...
817
После этой ужасной (поистине адской) сцены в Чистилище
(этап «духовного возвышения» в потустороннем мире?), сцены,
обнажающей жестокость и бесчеловечность божьего приговора,
Данте счел необходимым прибегнуть к беспощадной иронии
и поставить те три античеловечные терцины, словно выхва¬
ченные из пресловутого «трактата» Иннокентия Ш. Ни одна
строка в «Комедии» Данте не позволяет подумать, что эти тер¬
цины выражают истинное отношение Данте к человеку. Поэт,
вложивший в уста бесстрашного Улисса вдохновенный призыв
к людям, никоим образом не мог одновременно проповедовать,
что люди — черви.
Но все-таки почему аскетические терцины, унижающие че¬
ловека, поставлены именно в этой главе поэмы? Порой их тол¬
куют просто как защитительную завесу. Почему же именно
здесь — как кол, вбитый посреди чистого поля? Ведь мы толь¬
ко что видели, какое тяжкое, гнетущее впечатление произвели
на Данте — героя поэмы неисчислимые толпы грешников, ко¬
торые по божьему произволу, превыше всяких сил, на плечах,
на своих головах волочили неподъемные глыбы дикого камня,
изнемогая, сами почти обращаясь в камень. И толпа этих муче¬
ников — людей, сваливаясь без сил, все-таки выполняла жесто¬
кий приговор всевышнего. Изнемогали, но не роптали и сми¬
ренно продолжали нести божью кару — ведь они только жалкие
люди, которые грешны и не смеют перечить божьей воле.
До какой же муки, до какого самоуничижения дошли покор¬
ные рабы божии! Или они и впрямь жалкие ничтожества, чер¬
ви, пригодные только быть раздавленными нелепыми камень¬
ями и отдать богу (а зачем они ему нужны?) свои измученные
души и тем выполнить свой долг?
Да, — хочет сказать им возмущенный поэт, — тогда вы
не люди, вы — жалкие черви, которых безжалостно топчет бо¬
жья воля.
Нет, Данте ставил человека очень высоко. Еще в трактате
«Пир» он писал: «Я осмеливаюсь утверждать, что человеческое
благородство, поскольку оно касается множества его плодов,
превосходит благородство ангела»*. Почему же человеческое
благородство выше ангельского? «Поскольку оно касается мно¬
жества его плодов». Эти слова перечеркивают сказанное Ин¬
* Данте. Пир. IV, XIX, 6. С. 244.
818
С. М. СТАМ
нокентием Ш. Примечательно: в XV веке гуманист Джаноццо
Манетти в знаменитом трактате «О достоинстве и превосход¬
стве человека» так же, только гораздо шире, чем Данте, будет
аргументировать высокое достоинство человека прежде всего
поразительной изобретательностью его мысли и величием его
созидательной деятельности.
И для Манетти его трактат в защиту человека дался нелег¬
ко. Нужно представить, насколько сложнее была эта задача
для Данте, писавшего на полтора столетия раньше! Он был
вынужден пользоваться языком Иннокентия Ш, едва при¬
крыв его полупрозрачным флером иронии, не будучи уверен,
до всех ли эта иройия дойдет. Он жил, мыслил, писал в усло¬
виях, о которых сказал очень сдержанно, но достаточно выра¬
зительно:
Я был как тот, кто притупляет жало
Желания и заявить о нем
Не смеет, чтоб оно не раздражало (P., XXII, 25-27).
Редкое мужество с легким щитом осторожности. Данте не со¬
мневался, что умные, чуткие люди, даже далекие потомки, его
поймут и оценят.
«РОДИТСЯ ЧЕЛОВЕК НАД БРЕГОМ ИНДА»
В своем полете к Эмпирею главный герой поэмы оказывается
в небе Юпитера. Там над ним раскинул крылья божественный
орел, вознесенный небесными силами, как он вещает, «за пра¬
восудье и праведность». Понимая, что это посланец бога, Данте,
не употребляя этого имени, как не упоминает его и орел, обра¬
щается к небесным силам и признается в своих религиозных со¬
мнениях:
« ...О вечные цветы
Нетленной неги...
Повейте мне, чтоб я не знал алканья,
Которым я терзаюсь так давно,
Не обретая на земле питанья!
Странная комедия. Читая Данте...
819
Вы знаете, как я вам внемлю строго,
И знаете сомненье, тайных мук
Моей душе принесшее столь много» (P., XIX, 22-33).
Орел, отвечая, старается доказать бессилие и ложность чело¬
веческого разума и резюмирует:
«Свет — только тот, который воспринят
От вечной Ясности; а все иное —
Мрак, мгла телесная, телесный яд» (P., XIX, 64-66).
А далее божественный орел учиняет поэту «разнос» за не по¬
кидающие его идеи веротерпимости:
«Ты говорил: «Родится человек
Над брегом Инда; о Христе ни слова
Он не слыхал и не читал вовек;
Он был всегда, как ни судить сурово,
В делах и в мыслях к правде обращен,
Ни в жизни, ни в речах не делал злого.
И умер он без веры, не крещен.
И вот он проклят; но чего же ради?
Чем он виновен, что не верил он?» (P., XIX, 70-78).
Орел с презрением высмеивает поэта, который «в судейском
сев наряде», за сотни миль берется решать дела,
«Когда твой глаз не видит дальше пяди?»
Орла возмущает свобода человеческой мысли:
«Когда бы вас Писанье не смиряло,
Сомненьям бы не ведали числа» (там же, 79-84).
Это уже окрик. И Данте колеблется. Поэт уверяет, что из клю¬
ва святонебесной птицы звучат слова,
...Которых знойно
Желало сердце (P., XX, 29-30),
820
С. М. СТАМ
что они были выражением
Той изначальной воли, чьи веленья
Всему, что стало, повелели стать (P., XX, 77-78).
Это может быть понято двояко: как оправдание орлиного
окрика или, напротив, — ведь орел повторил слова Данте в за¬
щиту веротерпимости. Во всяком случае, поэт не может сдер¬
жать «моего сомненья» (79) и восклицает: «Как же это?» (82),
ибо его «разум мучился раздором» (87).
Однако небесный орел вещает о ничтожестве людей и их раз¬
ума — да не смеют они судить божьи дела и приговоры (103).
А ведь автор поэмы от Ада до Рая только тем и занимается, что
судит и мертвых и живых. Противоречие очевидно. Оно не раз¬
решается и дальше.
Орел гордится «блаженством» райских душ:
«Мы счастливы неведеньем своим:
Всех наших благ превыше это благо —
Что то, что хочет бог, и мы хотим» (Там же, 136-138).
И Данте, который объявил познание первейшим побуждением
и высшим блаженством человеческой души, который восславил
несокрушимость человеческой воли, не только не спорит, не воз¬
ражает — он устами главного героя благодарит орла, который
...Озарил мой близорукий взгляд,
Мне подалась целительная влага (Там же, 140-141).
Но спор отнюдь не окончен. И в Раю Данте не скрывает своих
вероисповедных сомнений. Приведем еще раз его призыв:
Повейте мне, чтоб я не знал алканья
Которым я терзаюсь так давно,
Не обретая на земле питанья!
Вы знаете, как я вам внемлю строго,
Вы знаете сомненье, тайных мук
Моей душе принесшее столь много (P., XIX, 25-27, 31-33).
Странная комедия. Читая Данте...
821
Из дальнейшего выясняется, какие еще вопросы мучат Дан¬
те. Почему божья воля не всегда согласуется с разумом? Разве
человеческий разум не в силах все познать и все понять?
Орел дает безусловно отрицательный ответ: человеческий
разум не только недостаточен, он противоположен истинному
знанию, он — «мрак», «телесный яд» (I).
И переходит в наступление. Он снова отвергает безупреч¬
ную логику суждения о человеке, который родился «над брегом
Инда». Он изобличает греховность самого подхода к вопросам
религии от человека, а не от бога. Его же оппонент не отступает
от человеческого, гуманистического подхода, а средневекового
не приемлет.
И умер он без веры, не крещен.
И вот он проклят; но чего же ради?
Чем он виновен, что не верил он?
Логика неодолимая. И в рамках логики орлу нечего ответить.
Он переходит, как выше замечено, к оскорблениям:
«Кто ты, чтобы в судейском сев наряде,
За много сотен миль решать дела,
Когда твой глаз не видит дальше пяди?»
Иначе говоря, ты — человек и знай свое место. Все решает
божья воля. Если человек берется судить божьи дела, он судья
самозванный. Все устанавливает «благая воля» бога.
«То справедливо, что созвучно с ней».
Для сомнений, вопросов, суждений места не оставлено,
и есть узда:
«Когда бы вас Писанье не смиряло,
Сомненьям бы не ведали числа» (P., XIX, 70-88).
Это уже не окрик, не завет, не завещание бога людям, не ко¬
декс высокой совести и чести. Писание толкуется как непрере¬
каемый свод правил безусловного смирения. Никакого места
822
С. М. СТАМ
для размышления, обсуждения и, уж конечно, — никакой кри¬
тики.
Данте не спорит, не возражает; он молчит. И смысл этого
молчания вдумчивый читатель не может не понять. Ведь, соб¬
ственно, Данте заставил орла (и где? — в Раю!) изложить идею,
отрицающую святая святых церковной идеологии — догмат
об исключительности спасительной силы христианства. Нет,
Данте придерживался другого мнения: не место рождения,
не культ, не догматы и предписания, а только дела и помыслы
человека определяют его достоинство. Религия, принудитель¬
ная сила церкви отодвинуты, по крайней мере, на второй план.
На первый вышел сам человек. От своих убеждений Данте не от¬
ступил. В этом «споре» со священным орлом Данте, по сути
дела, в высших владениях бога продекларировал великую идею
веротерпимости. Эта идея открывала и дверь в просторы Ренес¬
санса и не утратила своего значения до наших дней.
КТО ЖЕ ГЕРОЙ ПОЭМЫ?
В таком сложном, многогранном произведении, как «Коме¬
дия» Данте, поэме, охватывающей и Землю, и Небо, ответить
на этот вопрос не так-то просто. Бог? Но он как лицо, как пер¬
сона на сцене не появляется. Святители, известные церковные
деятели XII-XIII веков появляются эпизодически, рассказыва¬
ют о своих заслугах перед церковью, временами современную
церковь подвергают нелицеприятной критике; иногда даже
призывают бога покончить с происходящим безобразием; ино¬
гда выступают в роли путеводителей Данте, но — не более того.
Кто же тогда?
Остаются люди. В Раю их, собственно, нет. Там — святые
или сверхсвятые, они выше простых человеческих разговоров.
Затем это множество просто «блаженных», которые либо поют,
либо танцуют и кувыркаются в радужных переливах феери¬
ческого многоцветья. Ни в прямом, ни в переносном смысле
героев здесь нет. В Раю — одна выразительная человеческая
личность — Каччагвида. Но она почти целиком поглощена
восхвалением прошлого родной Флореции и сожалением об ее
упадке. Но пращур поэта высоко ценит вдохновенное творение
своего гениального потомка, понимает силу и общественное
Странная комедия. Читая Данте...
823
значение «Комедии» и дает Данте мудрые советы осторожно¬
сти.
Несколько больше дает Чистилище, где можно встретить
единичных людей с вовсе не безликими биографиями, может
быть, даже умных людей. Но они либо поглощены карабканием
на высокую гору, либо задыхаются под непосильной тяжестью
глыб дикого камня, которые обязаны перетаскивать с места
на место. Они — терпят.
Стражи божьего всевластья, нерушимого провиденциона-
лизма упрятали в Чистилище одного из умнейших политиков
эпохи— знаменитого Марко Ломбардо. Данте с горячим со¬
чувствием воспринял и пренебрежительное отношение Марка
к астрологии, и его честный и глубокий ответ на недоумения
поэта:
«И если мир шатается сейчас,
Причиной — вы!
На то и нужен, как узда, закон» (Ч., XVI, 82-83, 94).
Но где же путь к этому закону? Кто его установит?
Людей больше всего в Аду. Разумеется, это в основном пре¬
ступники: убийцы, грабители, разжигатели раздоров и войн,
обманщики, интриганы, лихоимцы, святокупцы и другая по¬
добная публика.
Есть в Аду и хорошие люди, например, Франческа и Паоло.
Но это — жертвы, не борцы.
Быть может, Брунетто Латини? Но он со своим «Сокрови¬
щем» (Сводом научных сведений XII века) остался лишь выра¬
зительным реликтом ушедшего «Возрождения XII столетия».
Есть в Аду и другая категория наказуемых — это те, кто не¬
послушен божьей воле, позволяет себе сомневаться в богодухно-
венных истинах Писания, мыслить по-своему и даже отрицать
непреложные истины веры.
Вот Фарината дельи Уберти, флорентиец. Бесстрашный
воин, хотя и гибеллин. Когда приглашенные гибеллинами не¬
мецкие рыцари, будучи не в силах истребить своемыслие и сво¬
бодомыслие флорентийцев, предложили вообще уничтожить
Флоренцию, стереть ее с лица земли, Фарината в полном ры¬
824
С. М. СТАМ
царском вооружении, шагнув вперед, сказал: «Первый, кто по¬
пытается это сделать, будет, прежде всего, иметь дело со мной».
И ни одна рука не шелохнулась. Фарината спас Флоренцию.
Но Фарината был эпикурейцем. Во Флоренции в XII —
XIII веках сложился кружок эпикурейцев, которые отрицали
бессмертие и утверждали: умирает тело — умирает и душа. Фа¬
рината отрицал существование загробного мира. А потому, как
утверждала церковь, после смерти Фарината был отправлен
в Ад и навеки брошен в пылающую яму. Но и там он отказывался
признать существование Преисподней. Огромным усилием при¬
подняв тяжелую каменную крышку своего огненного саркофага,
...он, и чело и грудь вздымая властно,
Казалось, Ад с презреньем озирал (А., X, 35-36).
Это уже мятежное отрицание божьего приговора. Пусть наве¬
ки закроется его огненная яма!
Да, приговор божьего суда страшен. Но какова воля челове¬
ка, разум которого говорит ясно: никакой преисподней не суще¬
ствует, ад — это только вымысел. Разум сильнее религиозных
вымыслов. Перед нами руководимый разумом герой. И Данте
восхищается Фаринатой.
От языческого Зевса христианский бог унаследовал немало
узников Ада, казнимых за противодействие божьей воле. Сре¬
ди них — Капаней — один из семи древних царей, осаждавших
против воли Зевса город Фивы. Взобравшись на крепостную
стену и считая себя победителем, Капаней бросил гордый вызов
Зевсу, за что был повержен молнией Зевса. В Аду, под палящим
огнем, проливным дождем, Капаней, несмотря на пытки огнем
и водой, смеялся над Кронидом и кричал:
«Каким я жил, таким и в смерти буду!» (А., XVI, 51).
Это уже полное пренебрежение волей божества. Более того,
это уже явное богоборчество. Божьей воле противопоставлен
твердый характер непокорного богу человека.
И, наконец, Улисс. Это тоже мученик Ада, унаследованный
христианским богом от того же Зевса, языческого бога. Древние
римляне видели в Улиссе (Одиссее) вместе с его другом Диоме¬
Странная комедия. Читая Данте.»
825
дом главных виновников падения и разрушения Трои, а в тро¬
янцах римляне видели своих предков. Улиссу ставили в вину
вовлечение в войну Ахиллеса, что привело к его гибели. Одис¬
сея и Диомеда винили в похищении крупнейшей в Трое статуи
Афины-Паллады, которая, как считали, защищала город. Но са¬
мым губительным изобретением улиссовой хитрости считалось
построение огромного деревянного коня, брюхо которого было
набито воинами осаждавших; эта конно-десантная операция
и решила исход осады Трои, исход войны. А Улисс, чьими хода¬
тайствами, мы не знаем, вместе с Диомедом оказались в глухих
подземельях Аида. Там их оставил и христианский бог. Но те¬
перь уж за новые, непростительные «грехи»: Улиссом овладе¬
ла неутолимая жажда познания мира. А это уже ересь. Пусть
ее уничтожит вечное раскаленное подземелье! Но упрятанный
в адскую расселину, Улисс продолжает звать людей к доблести,
не к животному существованию, а к ненасытной жажде знания,
к новым открытиям и победам разума. Речь Улисса — это под¬
линная кульминация «Комедии» Данте. Это высокая заслуга
Алигьери как первого итальянского гуманиста.
Что же касается трансатлантического плавания, то жизнь
порою подбрасывает гению такие подсказки, какие только ге¬
ний умеет правильно понять и оценить. Мало кто знает, что
в 1291 году (за 200 лет до Колумба и Васко да Гамы) два генуэз¬
ца — братья Вивальди на корабле вышли через Гибралтар в Ат¬
лантический океан, поставив задачей открыть морской путь
в Индию, и поплыли на юг вдоль западного берега Африки.
Застигнутый сильным штормом, корабль потонул, и в Италии
мало кто обратил внимание на этот эпизод.
Данте, очевидно, — обратил. И в этом трагическом эпизоде
сумел увидеть искру великих открытий будущего. Ведь, как
явствует из той же речи Улисса, Данте смутно предполагал
в просторах океана наличие каких-то «новых стран» (А., XXV,
137). Оптимизм не покидал Данта. Открытие Колумба для него
не явилось бы неожиданностью.
ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ «КОМЕДИЯ»?
В своем поэтическом творении Данте не ослабил (для удоб¬
ства публики) того нечеловеческого напряжения всех духовных
826
С. М. СТАМ
сил, какого потребовало от него его фантастическое, но нрав¬
ственно тяжелое путешествие по избранному им «потусторон¬
нему» миру. Перед читателями он развернул широчайшую па¬
нораму «загробья», полную физических и нравственных мук,
страдания и сострадания, страха, сомнений, гнева и протеста.
Вывел на сцену не только отвратительных злодеев, тиранов,
предателей и безропотных «рабов божьих», но и смелых искате¬
лей правды, свободы и человеческого достоинства и героически
бесстрашных богоборцев. Их не много, но они заслоняют тол¬
пу раболепных и блаженных своим безволием. Именно эти ге¬
рои привлекают внимание и симпатии читателя и пробуждают
в нем дух, гордость за человека.
Перед нами прежде всего героическая эпопея, которая не мо¬
жет не потрясти читателя. Такова она по своему дерзкому за¬
мыслу, по целой плеяде героических образов и, конечно же,
по подлинной героичности ее главного героя — ее автора.
И вместе с тем это эпопея сатирическая — бесстрашное ос¬
меяние «волков грызливых» — лицемерных, жадных и пре¬
ступных «духовных пастырей» эпохи, именем доброго бога
хозяйничавших в «стаде овец». А рядом с ними— вереница
современных Данте жадных, лживых, бесчестных светских
тиранических правителей Италии, да и всей Европы, — такая
широкая, критическая, сатирическая политическая панора¬
ма средневековой — феодальной Европы, какой до Данте еще
не создавал никто. Вот почему эта фантастическая поэма ита¬
льянского поэта XIV века знаменует собой первое и великое
торжество рождавшегося литературного реализма — реализма
Возрождения.
Но почему все-таки Данте назвал свою грандиозную эпопею
«Комедией»? Недоумевали и современники поэта, да и до сих
пор многие дантологи (быть может, даже большинство), высоко
ценя прославленную поэму Данте, не признают литературной
правомерности того названия, которое дал своему детищу поэт.
Уже в XVIII веке разгорелись и до сих пор не затихают типо¬
логические споры: к какому роду литературы должно отнести
произведение великого флорентийца? Проницательный кри¬
тик Гаспар Гоцци видел в поэме Данте сочетание эпоса, траге¬
дии, сатиры и лирики. Но не находил в ней ничего комическо¬
го. Только трагедия и сатира! Однако разве сатира не включает
Странная комедия. Читая Данте...
827
в себя иронию, насмешки, даже осмеяния? В XIX веке Гегель
видел в поэме Данте эпопею, Шеллинг — беспримерное сме¬
шение всех видов литературы. Но никто не видел в поэме ни¬
чего комического, и никто из крупных историков и теоретиков
литературы не относит к творению Данте понятие комедии.
На Валерия Брюсова поэма Данте производила «трагическое
впечатление» — и не без основания, но для комедии здесь ме¬
ста не оставалось. Ромен Роллан, боготворивший Данте, одним
из первых увидел органическую связь «Божественной коме¬
дии» Данте с «Человеческой комедией» Бальзака. Как отмеча¬
ет М. А. Тахо-Годи, вслед за Данте Бальзак осмелился показать
комедию или трагикомедию человеческой жизни*.
И в самом деле: провалы и пропасти Ада, полные крови жертв
тиранических правителей; другие — полные никогда не отта¬
ивающего льда или вечно пылающего пламени, люди (души),
замороженные под коркой льда, души в вечно пылающих сар¬
кофагах, души, пронизанные змеями и превращаемые в пепел
и вновь превращенные в тела, люди с повернутыми назад голо¬
вами, шествующие ягодицами вперед. Ужас. И — ни одного ко¬
мического эпизода. И — не только в Аду. В Чистилище сердце
сжимается при воображении толп людей, обязанных постоянно
переносить с места на место, на голове и на плечах, огромные,
совершенно непосильные для человека камни.
В Раю нет мук, «там только мир, покой и любовь». Но какие
гневные, обличительные речи по адресу церкви, папства и мир¬
ской неправды! Какие призывы-требования к богу исправить
прогнившую церковь, обрушиться на мирскую несправедли¬
вость! Обличают известнейшие святые церкви. Их речи подхва¬
тывают огромные толпы блаженных, так что Данте, как он пи¬
шет, едва не упал и едва не оглох...И — ни йоты смеха.
Так где же комедия? Данте отмалчивался. И, наконец, от¬
ветил: в определении литературной классификации своего
произведения он исходил из классической (античной) схемы:
трагедия должна быть написана «высоким» (громоподобным)
стилем, — этого, по мнению Данте, у него нет. Значит, не тра¬
* См.: Елина Н. Г. Проблемы художественного своеобразия поэзии Данте //
Дантовские чтения. 1968. С. 74.; Брюсов В. Я. Данте — путешественник
по загробью // Там же. С. 229; Тахо-Годи М. А. Ромен Роллан и Данте //
Там же. С. 193.
828
С. М. СТАМ
гедия. Комедия, по классическим принципам, пишется в «низ¬
ком» (бытовом?) стиле; этого у Данте, правда, тоже не много,
почти нет. Поэма написана, по мнению ее автора, в «среднем»
стиле, а потому вернее всего отнести поэму к «среднему» стилю,
и значит, к комедиям. Не всех это удовлетворило, но ведь у поэ¬
мы счастливый, во всяком случае, спокойный конец.
Нам трудно с этим согласиться. Пусть классическую траге¬
дию Нового времени создаст только Шекспир, то, что создал
Данте, несомненно, тоже трагедия, трагедия другого типа и мас¬
штабности, но трагедия, если угодно — еще более трагическая,
чем последующие, классические. Здесъ еще нет глубочайшего
психологизма Гамлета, но Данте развернул перед читателями
потрясающую картину трагедии европейского человечества,
картину, заставляющую мыслить и понять трагизм положения
человека в тираническом феодально-церковном обществе и тра¬
гизм развития человеческого общества в данную эпоху истори¬
ческого развития, трагизм совесть раздирающего противоречия
между благими «небесными» идеалами любви, братства и гар¬
монии и ужасом «реализации» этих идеалов. Великая заслуга
Данте перед человечеством состоит в том, что он показал фло¬
рентийцам, итальянцам, всему человечеству, что они живут
в Аду.
Беатриче однажды в Раю упрекнула Данте:
«Не на Земле ты, как считал превратно,
Но молния, покинув свой предел,
Не мчится так, как ты к нему обратно» (P., I, 91-93).
Этот упрек — скорее похвала. Данте был глубоко посюсто¬
ронним, земным человеком: все, что он узнавал в космических
полетах с Беатриче, он примерял к потребностям и нуждам зем¬
ного человечества.
Тональность заключительных строк всей поэмы:
Здесь изнемог моей фантазии полет,
Но страсть и волю мне уже стремила,
Как если колесу дан ровный ход,
Любовь, что движет солнце и светила* (P., XXXIII, 142-145),
* Уточнение перевода первой строки терцины С. М. Стама.
Странная комедия. Читая Данте..,
829
— может быть определена как сдержанно-мажорная. Поэт осу¬
ществил путешествие фантастическое (не только в переносном,
но и в прямом смысле). Многому он подивился, многому ужас¬
нулся, в ряде случаев вмешивался в божьи приговоры и кое-что
порой весьма существенно исправлял. Но больше страдал. И он
возвращается домой, на родину — на Землю, над которой светит
солнце, с которой видны и Луна, и бесчисленные звезды. Каж¬
дый раз, когда над ним раскрывалось это чудо — безбрежный
шатер небес, усеянный неисчислимыми светилами, которые со¬
единил, связал друг с другом в многообразном, но едином и пра¬
вильном движении некий закон взаимного тяготения, который
не назовешь иначе как Законом любви, — душа поэта ликовала.
Как же возликовала она теперь, когда такое трудное путеше¬
ствие (пусть даже вымышленное) завершилось, когда он снова
на родной планете и его разум, и его воля тоже подключены
к ритмичному ходу космического движения, называемого За¬
коном любви. (Обратим внимание: при этом — ни одного слова
благодарности Всевышнему).
Ну, что ж, вот счастливый конец, и значит, перед нами ко¬
медия? Только на первый взгляд. Данте всей душой любил Зем¬
лю, этот «Милый мир». Но он знал и его изнанку. А его запре¬
дельное путешествие еще более обнажило язвы земной жизни.
Ведь он и отправился в свое немыслимое путешествие и вер¬
нулся из него с тем, чтобы с большей убежденностью сказать
людям: так дальше жить нельзя! Значит, на Земле его ждало
не безоблачное умиротворение, а горячая идейная борьба, —
ведь он же ее и начал своею бесподобной, бурной поэмой. Так
что возвращение домой было радостью, но не всеразрешающим
счастливым концом. На земле, в родной Флоренции, Данте —
«белому гвельфу» — уже давно грозил костер, а Данте — автору
«еретической» «Комедии» — после его смерти инквизиция гро¬
зила сожжением его бренных останков.
Комедия не получилась. Так поэт морочил головы современ¬
никам? Нет, он написал согражданам, современникам правду,
правду их злой, жестокой, несправедливой жизни. Но скажите,
мог ли он эту правду высказать здесь, среди живых, когда, к при¬
меру, соперник мог схватить своего соперника и вместе с детьми
и внуками засадить в глухую башню и уморить всех абсолютным
голодом — вплоть до людоедства, как это сделал Руджиери, архив-
830
С. М. СТАМ
пископ пизанский, представитель верхнего слоя церковной иерар¬
хии? И подобным преступлениям и злодеяниям не было конца.
Данте знал, что «дружить с правдой» опасно, но дружбе этой
он оставался верен. Если живым правду говорить нельзя, так
мертвым можно — там хоть второй раз не убьют.
Но дело не только в этом. Как ни странно, из загробья, из цар¬
ства мертвых, жизнь живых видится гораздо яснее, чем под не¬
бом. Как это ни парадоксально, там больше свободы. Нужно
только, чтобы чисто было протерто зеркальное стекло между за-
гробьем и жизнью. Ну и, разумеется, чтобы чище была совесть
пишущего. И тогда из подземелья живая жизнь видится яснее,
просвечивается насквозь. Вот и показывай через это подземное
зеркало живым о мертвых — честно, без утайки, без предвзято¬
стей и подправок, на какие живые падки.
В том-то и величие Данте, что он (хоть «во сне») не побоялся
спуститься в преисподнюю и оттуда, через зеркальное, правди¬
вое стекло показать от имени мертвых — живым, в каком аду
они живут и каковы они сами, птицы высокого полета. Данте
понял: чтобы пробудить совесть живых, нужно показать им
жизнь мертвых, ушедших, — с помощью волшебного историче¬
ского зеркала. Печально, но ведь смешно.
И, наконец, нельзя исключать еще одного и самого смелого,
можно сказать, «взрывного» смысла названия, которое дал сво¬
ей поэме Данте. Как известно, Данте никогда не называл свою
комедию божественной, но один раз называет ее «священной
комедией». «Священная комедия»? Каково словосочетание?!
Разве что-нибудь священное, именующее себя благим, добрым,
любвеобильным, может быть смешным? Может быть жесто¬
ким, — отвечает Данте своей поэмой, а потому — нелепым, тра¬
гически смешным в своих претензиях на высочайшую любовь..
Было от чего злобствовать «любвеобильным» слугам господ¬
ним... Пройдет пять столетий, и на другом историческом этапе,
но вращаясь вокруг сходных социальных проблем, мысль ге¬
ниального Бальзака, боготворившего Данте, потечет сходным
(но отнюдь не подражательским) руслом и побудит его объеди¬
нить группу его лучших романов почти дантовским названием:
«Человеческая комедия». (Спор с Данте здесь чисто внешний
и лишь кажущийся: в XIX веке «Комедию» Данте все еще назы¬
вали «Божественной комедией»).
Странная комедия. Читая Данте.,,
831
Персонажи Бальзака живут мечтами об обогащении и всту¬
плении в «приличное общество», где они будут приняты как
«порядочные» люди, может быть, и как важные персоны, а для
этого, сохраняя внешне приличный вид, карабкаются наверх
по спинам, а то и по головам нижестоящих и слабых.
И то и другое — трагично. Но разве при этом не смешно?
Название «Комедия» напрашивается само собой. Бальзак пре¬
красно понял Данте и с полным правом воспользовался велико¬
лепной литературной находкой старинного флорентийца.
За пятьсот лет многое изменилось до неузнаваемости. Отпа¬
ла необходимость в фантастических полетах и даже в «странных
стихах». Но тайны человеческого сердца, его скрытых страстей
и жажды успеха, богатства и власти во что бы то ни стало —
не исчезли. И только такой великий человековед, каким был
Бальзак, мог раскрыть действие этих тайных пружин человече¬
ской, мещанской, буржуазной души — их величие и их ничто¬
жество, их трагизм и их комизм.
Бальзак подхватил мысль Данте, глубоко раскрыл великий
замысел поэта, давшего своей грандиозной, порою — громопо¬
добной поэме скромное, а в сущности проницательнейшее на¬
звание— «Комедия».
Не случайно и не по ошибке уже после смерти поэта инквизиция
дважды высылала отряды монахов и рыцарей к замку графов По¬
лента — похитить саркофаг Данте, чтобы сжечь на костре остан¬
ки этого «еретика». И дважды рыцарские отряды Гвидо Полента
(племянника Франчески да Римини) обращали в бегство святых
налетчиков и спасали честь Италии, породившей великого Данте.
Горькое, но очень верное название дал своей поэтической эпо¬
пее Данте. Он раскрыл и трагизм и комизм человеческой жизни
под ферулой церкви, каковую, человек же и создал. И остается
только удивляться, как исследователи, разглядевшие в данто-
вой поэме сатиру, могли отрицать наличие в ней комизма. Разве
настоящая сатира возможна без насмешки, без комизма? Почи¬
тайте Ювенала, почитайте Гоголя.
Великий поэт XIV века, не претендуя на «божественность»
своего творения, мудро назвал его «Комедией», «Священной ко¬
медией». Было от чего злобствовать стражам нерушимой веры.
В этом названии сказалось не только тонкое и точное литератур¬
ное чутье, здесь проявилось бесстрашное свободомыслие Данте.
К. В. СЕРГЕЕВ
Театр судьбы Данте Алигьери: введение в практи¬
ческую анатомию гениальности.
< Глава 1>
Если мы представим себе некоего человека, имеющего со¬
вершенные способности познавать истину, и попросим его
растолковать всю совокупность причин, по которой возникали
или могли возникнуть все когда-либо написанные тексты, наш
воображаемый собеседник окажется в замешательстве. Лаби¬
ринт из бесконечно разнообразных чувств, эмоций и порывов
предстанет его взгляду— жажда к бессмертию мысли будет
переплетаться с самыми незначительными обстоятельствами,
вызванными прихотью судьбы, а скрытый императив разума,
побуждающий мысль искать свою форму в созвучиях слов, —
со столь же непреодолимой нуждой зарабатывать себе на хлеб,
соединяя образы в витиеватые оды. Потрясающие наше вообра¬
жение картины, созданные из умело составленных слов, будут
смущать неразрешимой загадкой — не является ли эта архитек¬
тура мысли всего лишь случайной комбинацией, извлеченной
интуицией автора из безбрежного океана потенциальных форм.
Наш вопрос останется без ответа.
Но стоит нам задать себе иной вопрос — какова причина, по¬
буждающая нас читать с одинаковым интересом тексты, напи¬
санные людьми разных культур, живущими ныне и умершими
много сотен лет назад, — и ответ найден! Человек стремится
к тексту, чтобы извлечь из него опыт интерпретации реально¬
сти. Этот опыт универсален так же, как универсален человече¬
Театр судьбы Данте Алигьери
833
ский глаз, трансформирующий по единым принципам световые
пятна в зримые образы. Наследуя чужой опыт понимания ре¬
альности, человек пополняет каталог мысленных предметов,
различаемых его разумом, — тем самым заполняя пустые клас¬
сификационные ячейки своего воображения. Его разум усили¬
вается.
Среди огромного количества текстов, «усиливающих» разум,
мы без труда выделяем самые действенные — ими всегда ока¬
жутся наиболее почитаемые, «культурообразующие» тексты,
чья действенности общепризнанна и не подлежит сомнению.
Она подтверждена традицией и авторитетами. Но спросите
этих авторитетов: в чем заключена сила воздействия таких тек¬
стов — и они не ответят вам ясно и односложно. Вы услышите
туманные рассуждения о магии поэтического языка, об истин¬
ном гуманизме автора, раскрывающего перед читателем под¬
линный мир чувств, о недоступных разуму тайнах, заложенных
божественной силой в этих текстах.
Это так, но где же здесь опыт?! Какой ясный и мощный опыт
может быть зашифрован в туманных образах и аллегориях,
скрыт под масками театральных персонажей, которых каждый
из нас может увидеть в себе? Читая, мы как будто вспоминаем,
открываем в себе фрагменты той реальности, которая странно
и в то же время рельефно описывается в тексте. В аллегориче¬
ских одеяниях перед нами предстает наш собственный индиви¬
дуальный опыт мышления. Он беден и слаб, не находит опоры
в себе самом, но неожиданно — вначале нетвердо, потом все
смелее и смелее опираясь на слово, на образ, на метафору, —
обретает силу, развивается, крепнет, подготавливая человека
к путешествию в глубь своего сознания.
Именно такие тексты, передающие опыт мышления, и явля¬
ются наиболее действенными и долговечными. Их способность
адаптироваться к стремительной смене культурных и историче¬
ских реалий поражает. Эти тексты выживают, несмотря на оче¬
видную еретичность, на тотальные сожжения библиотек, полный
культурный упадок, одичание, смену эстетических критериев —
кажется, что они обладают механизмом самовоспроизводства.
Некогда возникнув, они создают импульс, которому не суждено
угаснуть, но, наоборот — развиться, ожить в чужом воображе¬
нии, обретая жизнь в индивидуальном человеческом опыте.
834
К. В. СЕРГЕЕВ
Я говорю: «обретая жизнь». Но каким образом нечто мерт¬
вое, чужеродное может вновь ожить через опыт другого челове¬
ка? Что является той структурой, которая может соединить два
человеческих опыта мысли — «живой» и «текстуальный» —
в единое целое, в эмбрион нового мышления? Разумно предпо¬
ложить, что эта структура есть метафорическая ткань текста,
опутывающая своей сетью сознание читателя и соединяющая
свои невидимые волокна с щупальцами тех потенциальных об¬
разов, которые населяют изначальную, «родовую» память че¬
ловека.
Итак, мы движемся путем образов. Среди многих, кто неког¬
да шел этим путем, мы выбираем Данте. Стараясь проникнуть
в скрытый, структурный смысл его образов, мы не ищем ни по¬
эзии, ни истории, ни случайности. Наша цель — проникнуть
в его опыт мышления*.
Образ есть атом мира мышления, и человек, мыслящий об¬
разами, помимо своей осознанной воли должен соткать мир
из этих атомов, пристыковывая их друг к другу, переплетая
их невидимые нити, устремляя основу и уток навстречу друг
другу. Единичный образ, не укорененный в мысленном мире,
легко становится добычей случайности, отсекающей все не¬
стойкое, не обретшее систему. Поэтому образы, существующие
в воображении автора и читателя, способны вести диалог лишь
в пределах созданного ими мира, соединяясь на перешейке, имя
которому — текст.
Текст — зримая реализация мира образов, попадая в ко¬
торый, читатель прежде всего должен свыкнуться с ландшаф¬
том, «акклиматизироваться», ощутить своей стопой прочность
той земли, куда его забросила жажда мыслительного опыта.
* Необходимо отметить, что уже давно существует исследовательская тра¬
диция, обращенная к «анатомии гениальности». К этой традиции бес¬
спорно принадлежат О. Э. Мандельштам и Поль Валери, и — в меньшей
степени — X. Л. Борхес. См.: Мандельштам, 1994; Борхес, 1994; Валери,
1976. Ни «Разговор о Данте» Мандельштама, ни «Девять очерков о Дан¬
те» Борхеса не являются в строгом смысле слова литературоведческими
работами, однако по степени проникновения в смысл текстов флорентий¬
ца, в их скрытую «механику» эти книги оставляют позади себя множество
научных трудов. Поэтому мы убеждены, что использованный этими авто¬
рами метод анализа механизмов креативности, отраженных в тексте, ис¬
ключительно ценен и более того, необходим и для формального научного
анализа сочинений флорентийца.
Театр судьбы Данте Алигьери
835
Он оглядывается, пересиливая легкую дрожь, старается по¬
нять смысл тех элементов пейзажа, которые его обступают,
словно бы стремясь поглотить, вобрать в себя, омертвить сво¬
им магическим взглядом. И вот путешественник уже начинает
разгадывать смысл окружающих его предметов, он узнает их,
пробуждая в своей памяти унаследованный опыт осознания. Он
оказался на месте того, кто некогда вообразил этот мир. Он ста¬
новится автором.
Конечно, все, что я сказал о ландшафте, — метафора. Под
ландшафтом нужно понимать выражение некоего состояния
духа (точнее сказать — когнитивного состояния), которое
трансформируется в образы, способные вызвать в любом чело¬
веке соответствующее настроение, воспоминание о подобном
состоянии, некогда пережитом. Разгадывая их, читатель полу¬
чает возможность до известной степени отождествиться с авто¬
ром, ощутить в себе ту исходную точку, с которой автор некогда
предпринял путешествие в мир мыслительного опыта.
Обратимся к первой терцине «Божественной комедии». Пе¬
ред нами ландшафт. Человек, утратив истинный путь, бредет
по тропе в сумраке лесной чащи. Но в это, казалось бы, зримое,
природное описание вплетаются два странных намека, изме¬
няющих ясную картину. Тропа, по которой движется путник,
оказывается «тропой нашей жизни». Иными словами, Дан¬
те априорно утверждает сопричастность каждого из живущих
тому пути, по которому он некогда двигался. Тропа магическим
образом притягивает читателя, помещая его в некую свою точ¬
ку, хотя и отличную от той, в которой находился флорентиец.
Читатель сопричастен его пути.
Такая сопричастность предполагает наличие изначально¬
го опыта движения по этой тропе. Он, бесспорно, есть — это
опыт жизни. Таким образом, Данте в первой строке «Комедии»
апеллирует к изначальному, самому древнему и естественному
опыту — опыту жительствования человека. Но его опыт уника¬
лен — он ощущает себя в середине, в самой глубине опыта жиз¬
ни. Он начал свое движение с небывалой точки, стремясь завер¬
шить его в точке невообразимой.
Тропу окружает la selva oscura («темная чаща»), что также
можно понимать и как «смутная чаща». Перед нами первый на¬
мек на то, что окружающий путника мир — мир фантомов, ил¬
836
К. В. СЕРГЕЕВ
люзий, символов. Данте описывает ночные предгорья Луниджа-
ны, охваченные туманом, среди которого предметы теряют свои
очертания, оборачиваясь странными фантомами обостренного
воображения. Чувства путешественника необычайно напряже¬
ны. Он, подобно скульптору, пытается высвободить из упругой,
бесформенной массы тумана скрытые формы мира. Он их созда¬
ет, блуждая там, где «истинный путь потерян».
Утратив путь, странник бредет по тропе. Il cammino («тро¬
па») принадлежит нашей жизни. Но кому принадлежит la
diritta vìa («путь», «магистральная дорога»), которую человек
ищет в тумане? Это противопоставление неожиданно меняет
точку перспективы, с которой читатель видит текст. Из некоей
выбранной им точки тропы жизни читатель переносится в ту¬
манную чащу. Он не может больше оставаться на этой просеке,
торной тропинке, которую несколькими мгновениями раньше,
произнося первую строку, считал путем. Истинный путь поте¬
рян. Читатель спешит за Данте в туман, чтобы обрести опыт
нахождения этого неведомого пути. Он знает: Данте его нашел,
ибо интеллектуальное бессмертие флорентийца — прямое тому
доказательство.
Но если читатель оказался в тумане смутного леса вслед
за Данте, то каким образом сам Данте увидел эти странные кар¬
тины? Воображение флорентийца создало мир, придав зримые,
выпуклые очертания его эмоциональному состоянию — скажем
мы, видя в нем скорее поэта, нежели мыслителя. Это не так.
Данте сам во второй строке первой терцины разъясняет эту за¬
гадку двусмысленным ответом, говоря: mi ritrovai («я вновь
очутился» (в темной чаще)) — что может также быть понято
и как «я изобрел себя».
Перед нами два возможных пути понимания:
1) путешественник вновь возвращается в некую точку мыс¬
ленного пространства, где он некогда уже был;
2) путешественник усилием разума изобретает путь, следуя
по которому, он оказывается в состоянии увидеть нечто, недо¬
ступное человеческому глазу.
Следуя первому пути понимания, мы видим человека, вно¬
сящего в «книжицу памяти» рассказ о своем путешествии, ис¬
тинный смысл которого им был осознан только теперь. Он смо¬
трит в прошлое, переигрывая всеми забытую партию в надежде
Театр судьбы Данте Алигьери
837
найти решение, некогда им упущенное, — и находит его. Он за¬
писывает ответ — и мир неожиданно меняется, обретая новые
черты. Недоступное становится достижимым, огонь рефлексии
охватывает образы, словно сухие и ломкие осенние листья, ис¬
пепеляя все случайное и оставляя в своем горниле самую суть,
структуру мысли. Обстоятельства жизни, поместившие его
в этот призрачный мир, становятся неважны, взгляд фокусиру¬
ется на акте вспоминания пути.
Второй путь понимания открывает перед нами картины не¬
виданной мыслительной мощи. Человек изобретает мир уси¬
лием интеллекта, он оказывается заброшенным в некую ситу¬
ацию не прихотью слепого случая или потревоженной памяти,
но следуя своей творческой воле, подчиняясь неумолимой, ме¬
ханистической логике разума. Человек изобретает себя в без¬
выходной ситуации, чтобы впоследствии «возделывать благо»,
извлеченное им из путешествия вглубь своего мышления. Перед
нами мыслительный опыт в обоих смыслах этого слова: опыт,
сознательно поставленный над своим мышлением, — и опыт,
полученный в процессе практикования, «возделывания» мыш¬
ления, оставленный в виде текста.
Определить, какой из этих путей понимания верен, было бы
скорее актом мифологическим, нежели мыслительным. Сам
факт наличия такой двойственности предполагает скрытый ди¬
алог двух возможностей — ив этом диалоге, вновь воспроизве¬
денном мной, должен быть рожден ответ на вопрос о механизме
создания такого метафорического мира, в который вслед за соз¬
дателем могут быть заброшены все возможные читатели текста.
Итак, путешественник движется к сердцевине своего мира,
сопровождаемый синхронным движением мысли читателя,
послушно бредущей избранной флорентийцем тропой. Перед
нами странная, чуждая нашему жизненному опыту игра мыс¬
ли: по листу, горизонтально расчерченному мелкими строчка¬
ми, перемещается фигура, за которой внимательно следит че¬
ловеческий глаз, повторяя, как в зеркале, каждое ее движение.
Кто управляет этой игрой: читатель, передвигающий, словно бы
играя в шахматы, по строкам терцин составленную из изогну¬
тых и остроугольных готических букв фигурку Данте — или
воображаемая фигура флорентийца, которая, блуждая среди
строк своей поэмы, увлекает за собой читателя, чье обостренное
838
К. В. СЕРГЕЕВ
стремление к новому знанию концентрируется в отраженной
зрачком фигурке? Ответ несущественен. Читателю интересна
эта игра, и он без страха предается ей в поисках неизведанного
еще интеллектуального приключения.
Уводя за собой читателя, Данте в начале пути создает кар¬
тины, интуитивно понятные любому человеку. Каждый из нас
в своем эмоциональном опыте может найти соответствие тому
мыслительному состоянию, в котором, говоря о смутной чаще
и потерянном пути, оказался флорентиец. Исток его опыта
мышления нам понятен. Используя предложенные метафоры,
мы легко пристыковываем извлеченный из текста опыт к соб¬
ственному. И именно здесь читатель оказывается в ловушке.
Отталкиваясь от известного, он оказывается в мире, чуждом его
жизненному опыту. Увлеченный игрой образов, он уже бесси¬
лен повернуть назад — равно как бессилен и продолжать путь
по неизведанному пространству. Опыт покидает читателя.
То же состояние охватывает и путешественника, покинув¬
шего лес и поднимающегося от подножия горы к ее вершине.
Мысль, утратив опору, порождает страшные образы, прегра¬
ждающие путнику тропу. Звери, возникающие перед Данте, тес¬
нят его в сторону леса, который он покинул — то есть в ту точку
жизненного пути, которая уже безвозвратно пройдена. Лес те¬
перь для путешественника не существует — как не существует
для каждого из нас покинутое нами прошлое. Весь возможный
путь — уже пройденный и тот, который еще предстоит прой¬
ти, — концентрируется, сжимается до единой точки простран¬
ства, в которой оказывается Данте. Его движения парализова¬
ны, он — будучи заключенным в узкую щель существующего
для него мысленного пространства — находится на грани ис¬
чезновения.
С этого момента читатель входит в мир иного, недоступно¬
го большинству людей опыта мышления. Задача, стоящая пе¬
ред флорентийцем, беспрецедентна: изменить свое восприятие
мира, выйти за пределы того мысленного пространства, в гра¬
ницах которого он не может более существовать. Стиснутый
между омертвелым прошлым и омертвляющим будущим, путе¬
шественник ради сохранения своего разума должен изобрести
себя в некоем пространстве, логика которого позволила бы че¬
ловеку уйти в себя в момент концентрации прошлого, настоя¬
Театр судьбы Данте Алигьери
839
щего и будущего в единой точке. (Описываемая мной ситуация
«уплотнения времени» ни в коей мере не является метафорой:
жизнь действительно может забрасывать людей в логически
безвыходные состояния, единственным способом выживания
в которых является изменение онтологии сознания, приво¬
дящее к раскрытию в человеке невиданных ранее физических
и интеллектуальных способностей.)
Мы сформулировали отправную точку неизведанного нами
мыслительного опыта флорентийца — точку, в которой мысль
открывает перед человеком пути к постижению механизма
мышления, к программам, активирующим возможность изме¬
нить картину мира. Путешествие, начавшееся «в средине тро¬
пы нашей жизни», неожиданно переносится во внутренний мир
каждого из нас. Читатель, неожиданно осознающий, что Данте
движется в глубь именно его разума, ощущает в себе отголосок
мыслительного импульса, некогда изобретенного среди можже¬
веловых нагорий Луниджаны.
Мысль читателя напряжена, чувства обострены — он с не¬
терпением наблюдает за Данте, застывшим в мертвой точке
пространства. Сознание, судорожно искавшее выход, неожи¬
данно успокаивается — отказываясь от логики, оно обращается
к вспоминанию чужого опыта, позволяющего найти иной путь.
Выход найден! Перед Данте возникает воплощение такого опы¬
та в образе Вергилия, описавшего некогда путешествие героя
в иной мир. Механика воображения растягивает пространство,
помещая на каменистую тропу рядом с путешественником и со¬
провождающим его читателем еще один персонаж.
Вергилий подсказывает страннику решение: a te convien tenere
altro viaggio («ты должен избрать иное путешествие»). Эти сло¬
ва моментально меняют существовавшую до того картину мира:
двойственность случайно выбранной тропы и утерянного ис¬
тинного пути замещается идеей двух путешествий — ложного
и истинного. Тропа и путь универсальны, они существуют в про¬
странстве вне зависимости от мысли человека, в основе же путеше¬
ствия лежит индивидуальный образ мысли — идущие по одному
и тому же пути могут совершать различные путешествия. Своими
словами Вергилий освободил Данте от давления обычного, линей¬
ного пространства, расчленив «путь» и «путешествие». Путеше¬
ствие, свободное от пути, может быть только путешествием в себя.
840
К. В. СЕРГЕЕВ
Теперь читатель, свободный от страха, может идти вслед
за путниками. Опыт освобождения мысли, который нескольки¬
ми строками ранее казался ему чуждым и недоступным, стал,
наконец, частью его сознания, неотторжимой от всей совокуп¬
ности уже обретенного жизненного опыта. Чудо, произошедшее
с путешественником, уже кажется чем-то естественным. Чита¬
тель осознает, что единственной точкой иного пространства,
в которой может оказаться путешественник, избежавший не¬
минуемой смерти, является начало потерянного им истинного
пути. Посох Вергилия неумолимо гонит Данте в недра собствен¬
ного мышления.
Вслед за Данте мы должны свыкнуться с новым, необыч¬
ным миром, который был приоткрыт Вергилием перед обесси¬
лившим странником. Но если мир первых терцин «Комедии»,
мир лесной чащи и утраченного пути возникал перед читателем
через ландшафт, через зримые картины, то мир иного путеше¬
ствия открывается через уяснение тех особенностей простран¬
ства, благодаря которым путешественник обретает свою цель.
Иными словами, структура пространства содержит в себе объ¬
яснительную схему самой идеи путешествия.
Человек движется в гору, поднимаясь по каменистому, порос¬
шему кустарником склону. Неожиданно его путь преграждается
непреодолимым препятствием— пространство, знакомое всем
нам, отказывается ему служить. И тогда он завязывает простран¬
ство узлом, сгибает его в кольцо! Не будучи в силах достичь искомой
точки коротким путем, он совершает кольцеобразное движение:
спускается в недра горы, проходит землю насквозь, поднимается
по «противоположной» стороне кольца и оказывается в той точке
пространства, которую видел, стоя у подножия горы.
Перед нами — описание, «путевой лист» иного путеше¬
ствия, предложенного Вергилием Данте. Замыкающееся
в себе, кольцеобразное пространство иного мира способно вы¬
вести путешественника в обитель света только через глубины
ада и склоны чистилища. Движение в этом поедающем себя,
змееподобном пространстве возможно лишь в одном направле¬
нии — против часовой стрелки (если читатель, конечно, сможет
вообразить описанный флорентийцем мир в виде циферблата).
Теперь мы знаем особенности того пространства, по кото¬
рому должен пролечь путь влекомого проводником странника.
Театр судьбы Данте Алигьери
841
Но, представляя себе этот странный способ движения, путеше¬
ственник должен обладать уверенностью в том, что его вожатый
действительно знает путь. Предчувствуя грядущее погруже¬
ние в адскую бездну, Данте должен верить, что сопровождающая
тень способна вывести его к свету невредимым, что образ вожа¬
того истинен, а не создан дьявольским искушением гордыни.
Начав движение вслед за проводником, путник отдает себя
во власть призраку — слова Вергилия о себе поп ото, ото già fui
(«не человек, уж был им») красноречиво об этом свидетельству¬
ют. Явление тени, спасшей путешественника, пусть даже и об¬
условленное имеющимся у Вергилия «опытом путешествия»,
не может гарантировать истинности вновь избранного странни¬
ком пути. Необходимо внутреннее, укорененное в индивидуаль¬
ной человеческой памяти основание веры в проводника, в его
способность провести истинным путем, минуя все возникаю¬
щие преграды. Тень проводника, сотканная из опыта ушедших
поколений, должна быть утверждена, укоренена в сознании
флорентийца некоей силой, уже существующей в его памяти, —
силой чего-то ему очень близкого и обладающего огромной вла¬
стью над его разумом. Вергилий, доказывая свое знание пути,
свою «легитимность», обращается к Беатриче.
Наконец-то охотники за мыслительным опытом флорентий¬
ца обрели короткую передышку после долгого пути! Читатель,
чье воображение с первых же строк концентрировалось на не¬
ведомом ему калейдоскопе образов, на поглощении чуждого
ему мыслительного опыта, неожиданно обрел надежную точку
опоры в своей памяти. Следуя за Данте — и в то же время остав¬
ляя его, чтобы погрузиться в себя, — он отыскивает в своей па¬
мяти образ, само воспоминание о котором вселяет в него силы,
оживляя давно умершее. Все, что может быть соединено с этим
образом, обретает внутреннюю легитимность, истинность, ибо
сила образа коренится в свободе от всех лишних, искажающих
связей, паразитных смыслов, ненужных воспоминаний.
Соединяя мыслительный опыт Данте со своим жизненным
опытом, читатель неожиданно обнаруживает странное свойство
возникающего в словах Вергилия образа Беатриче — этот об¬
раз, если можно так выразиться, «орудиен». Перед нами некий
очень сложный психический механизм: оказывающийся в без¬
выходном положении человек обретает спасение через последо¬
842
К. В. СЕРГЕЕВ
вательное явление ему фигур, призванных вернуть страннику
утраченную силу и уверенность. Вергилий спасает Данте —
и затем, обнаруживая его сомнения, сообщает, что он призван
к нему Беатриче, которую об этом, в свою очередь, попросила
Святая Лючия. Лючии же помочь Данте повелела сама Бого¬
матерь. Импульс, рожденный в высших сферах, устремляется
по нервным клеткам образов к погибающему путешественнику,
оживляя фантомы на своем пути. Вергилий, созданный в созна¬
нии Данте мольбами Беатриче, по сути своей является не чем
иным, как инструментом спасения в техническом, орудийном
смысле этого слова. Беатриче же — образ силы, способной заро¬
дить веру в истинность пути к спасению. Беатриче, возникаю¬
щая перед Данте во второй песне, движима лишь справедливо¬
стью и неким небесным механизмом, согласно логике которого
флорентиец должен быть спасен. Иллюзия, возникшая у чи¬
тателя, рассеивается: то, что вначале казалось порождением
человеческой любви — чувства, знакомого всем по опыту, —
оказалось элементом небесной механики, частью чудовищной
машины собственного интеллекта, развернутого Данте в про¬
странстве трех кантик.
Миром, во власти которого оказываются путешественники,
управляет собственная, незнакомая нам по опыту логика. Это
область действия неких сил, причудливо изменяющих есте¬
ственные основы человеческой личности. То, что в реальном
мире размыто и неясно, отдано на откуп судьбе, — здесь управ¬
ляет всем, подчиняя все единой механике. Данте попадает в об¬
ласть справедливости, где нет места надежде.
Перед странниками, бредущими заросшей тропой, неожи¬
данно вырастают Врата иного мира. Надпись, их украшающая,
представляется весьма загадочной: Врата говорят о себе от пер¬
вого лица, словно бы они — пасть огромного адского чудовища.
Они открывают путешественникам законы иного мира, рас¬
сказывая о тех силах, которые создали эту нечеловеческую ар¬
хитектуру. Giustizia mosse il mio alto Fattore: fecemi la Divina
Potestate, la Somma Sapienza e *1 Primo Amore («Справедливо¬
стью движим был мой высший создатель. Я сотворен Божествен¬
ной Силой, Высшей Мудростью и Первой Любовью») — такова
вторая терцина надписи. Возникает вопрос: к чему относится
это высказывание — только лишь к области Ада, или ко всему
Театр судьбы Данте Алигьери
843
трехчастному зданию мира, который предстоит пойти странни¬
ку?
Справедливость есть дух, оживляющий, приводящий в дви¬
жение механизм иного мира. Любой объект, попадающий в этот
мир, «классифицируется» самой его структурой, логикой этой
машины морали, интерпретирующей человеческую сущность
согласно определенным фундаментальным принципам. Приро¬
да этих принципов не ясна. Перед путешественником, читаю¬
щим надпись, возникают как бы три эманации высшего создате¬
ля — Божественная Сила, Высшая Мудрость и Первая Любовь.
Для человека, следующего христианским догматам, это, бес¬
спорно, Святая Троица. Но если читатель, абстрагируясь от дог¬
матов, увидит эту надпись — перед ним появится космогония
гностического характера. Врата, повествующие входящему
об ином мире, не упоминают Бога, говоря лишь о высшем созда¬
теле, выступающем как орудие справедливости. Данте вступает
в мир машины, где нет места Богу, замещенному механисти¬
ческой, логической справедливостью. Три эманации Творца,
создавшие иной мир, есть лишь элементы высшей сущности,
заключенные в мыслящей машине демиурга.
Перед изумленным путником впервые появляется тень ма¬
шины универсума, определяющей удел человеческой душе со¬
гласно закону справедливости. Образы, населявшие первые две
песни и апеллировавшие к обобщенному жизненному опыту
людей, неожиданно исчезают, уступая место новым, механи¬
стическим призракам, элементам машины. Данте оказывается
в точке мысленного, «интеллектуального» пространства, где
перед его взглядом возникает рубеж, отделяющий его общече¬
ловеческий опыт «путешествия в себя» от того удивительного,
устрашающего своей логикой и почти недостижимого опыта,
для обретения которого необходимо отбросить последние сомне¬
ния.
Но вместе с сомнениями он должен отказаться перед этими
Вратами и от самой сути человеческого существа — от надеж¬
ды. Последняя строка надписи гласит: lasciate ogni speranza,
voi ch'entrate («оставьте надежду, входящие сюда»). Наде¬
жда есть упование на Милость Божию, и отказ от нее — отказ
от Бога. Надежда есть нечто, противостоящее справедливости,
нечто чуждое механике универсума — универсальный класси¬
844
К. В. СЕРГЕЕВ
фикатор человеческих сущностей не может допустить в самом
своем существе, в недрах машины акт надежды, способный
разрушить стройную логическую архитектуру, спутать нити со¬
вершенной ткани справедливости. Человек, отказываясь от на¬
дежды, содержащей в себе потенциальный страх нереализации
желаемого, обретает силу духа и чистоту веры, позволяющую
пройти через адский огонь, не оставив на себе его следа.
Итак, путешественники входят в пределы иного мира. Опыт
пересечения границы, запретной для смертных, описан и со¬
общен читателю, оказывающемуся вместе с флорентийцем
в недрах машины универсума. Врата затворяются, машина
приходит в движение. «Комедия» разворачивается на глазах
путника. Но когда человек, перейдя недоступную для живых
границу, вспоминает надпись на Вратах, ему начинает казать¬
ся, что ее слова обращены не к погибшим теням, толпящимся
у входа, но к тем, кому суждено, оставив надежду, пройти через
три области иного мира, чтобы вновь увидеть звезду над верши¬
ной холма.
Перед нами в аллегорической форме предстал мыслитель¬
ный опыт Данте. Точнее сказать, не весь опыт, но та его часть,
которая создала импульс к дальнейшему самоуглублению,
к рефлексии глубинных логических структур машины универ¬
сума, отраженных в его воображении. Этот первый шаг в без¬
дну лишен той механистичности, которая будет сопровождать
путешественников в ином мире: путешественник отталкивается
от общечеловеческих, «психических» основ, от того, что приня¬
то называть человеческой природой, — чтобы затем, изменив
себе, совершить прыжок в бездну.
Если попробовать сжато, формульно изложить «сюжет» это¬
го мыслительного опыта, он будет выглядеть следующим обра¬
зом: человек оказывается в логически безвыходной ситуации,
на краю гибели; пребывая в таком состоянии, он материализует
в своем сознании, вспоминает некий образ, изменяющий логи¬
ку его мышления и тем извлекающий человека из безвыходной
ситуации, сообщая его мысли новое направление, иную дорогу.
Иными словами, Данте описывает механику изменения онто¬
логии сознания.
Если перед читателем — действительно описание механики
суперрефлексии, то встает вопрос об универсальности такого
Театр судьбы Данте Алигьери
845
описания. Метафоры и образы, из которых Данте конструиру¬
ет свое изложение опыта — действительно ли они универсаль¬
ны, или же они являются порождениями его индивидуального
мышления, символами его личного опыта?
Текст Данте не уникален. Можно вспомнить вереницы тек¬
стов, содержащих описание мыслительного опыта такого клас¬
са. Люди, принадлежавшие различным культурам, жившие
в разное время, оказывались в ситуациях, когда разуму для вы¬
живания было необходимо изменить свои логические основа¬
ния, свой познавательный механизм — и эти измененные ког¬
нитивные состояния были метафорическим образом описаны
ради сохранения операционального опыта мышления.
Читателю, следовавшему за флорентийцем к Вратам ада, не¬
трудно убедиться в том, что Данте описывает не мистические
переживания, но процесс позитивного познавания возможно¬
стей человеческого сознания. Если это так, то мы сможем найти
в текстах такого же класса описание состояний, подобных тем,
через которые прошел путешественник, вступивший в сопрово¬
ждении Беатриче в обитель света.
€4^
В. Л. РАБИНОВИЧ
Мастера Данте Алигьери заповедь, в которой сло¬
во делается, а дело сказывается
Данте и... музыка, искусство, философия, наука... Иссле¬
довательский лот, едва коснувшись дна «Божественной коме¬
дии», выброшен на вновь непроницаемую поверхность этого
на самом — то деле поистине бездонного — безмерного — тек¬
ста. Можно начинать сначала.
Поэма — кристалл, а камень философский
Но можно и расширить ряд сопоставлений. Пусть этим сопостав¬
ляемым станет средневековая алхимия, со-бытий которой с Дан-
товой «Комедией» очевидно, достаточно вспомнить о посмертной
судьбе Капоккьо и Гриффолино. Но механизм сопряжения этих
двух в высшей степени значимых реальностей средневековой
культуры до поры сокрыт. Попробуем сопоставить их, наведя ка¬
меру-обскуру сперва на частное и «видимое» (цвет алхимического
рукотворения— свет в «Комедии»), а потом на всеобщее и «слыши¬
мое» (алхимический миф — жизнь этого мифа в «Комедии»).
«Танцующая химическая формула»
Волны и фиксированное в объеме тело — для Данте равно¬
весное существо. Такой взгляд — алхимический взгляд.
Обратимся к Осипу Мандельштаму — к его этюду о Данте.
А именно к тем его местам, где к «Божественной комедии» при¬
менена фразеология точного естествознания XX века.
Мастера Данте Алигьери заповедь
847
О. Мандельштам писал: «Музыка и оптика образует узел
вещи», Данте «мечется между примером и экспериментом»*,
«музыка здесь не извне приглашенный гость, но участник спо¬
ра; а еще точнее — она способствует обмену мнений, увязывает
его, благоприятствует силлогистическому пищеварению, растя¬
гивает предпосылки и сжимает выводы... роль ее чисто хими¬
ческая»**. Прочтем также: «химическая природа оркестровых
звучаний», «химически реактивный оркестр»; дирижерская
палочка— «танцующая химическая формула»***, «...тембр —
структурное начало, подобно щелочности или кислотности того
или иного химического соединения. Колба — баллада с ее обще¬
известностью разбитавдребезги. Начинается химия с ее архи¬
тектонической драмой»****. И наконец: «Дант может быть понят
лишь при помощи теории квант»*****.
Существенно здесь двойственное видение материи: она —
и вещество, и излучение сразу. Волны (свет/цвет и звук) и фик¬
сированное в объеме тело — для Данте равновесное существо.
Такой взгляд — алхимический взгляд. Но есть и отличие. При¬
нятая у алхимиков иерархия металлов и описание их свойств
для Данте... Не металлы — предмет приложения рук. Они —
скорей, пример, но радикально переосмысленный пример:
В горе стоит великий старец некий;
Он к Дамиате обращен спиной
И к Риму, как к зерцалу, поднял веки.
Он золотой сияет головой,
А грудь и руки — серебро литое,
И дальше — медь, дотуда, где раздвой;
Затем — железо донизу простое,
Но глиняная правая плюсна,
И он на ней почил, как на устое.
(«Ад», XIV, 103-111).
Снята идея трансмутации. Металлы сосуществуют здесь и те¬
перь, там и тогда — повсеместно, всегда. Намечена лишь иерар¬
* Мандельштам О. Разговор о Данте. М., 1967. С. 36.
** Там же. С. 38.
*** Там же. С. 40.
**** МандельштамО. Разговор о Данте. С. 42-43.
***** Там же. С. 76.
848
В. Л. РАБИНОВИЧ
хическая последовательность. А эссенция «золотости», заклю¬
ченная согласно алхимической доктрине и в железе, во внимание
не принята. Но в Дантовой иерархии металлов зажелезом рас¬
полагается глина —самое несовершенное из сотворенного. Она
и есть тот устой, на котором держится все. Металлы здесь не сами
по себе. Они — аллегории железного, медного, серебряного, зо¬
лотого веков и как бы уравнены в правах. Различия стерты:
«Сейчас» и «тотчас» сходствуют не боле,
Чем тот и этот случай, если им
Уделено вниманье в равной доле.
(«Ад»,ХХ1П, 7-9)
Но если трансмутации металлов оставлены для подделыва¬
телей Капоккьо и Гриффолино, то реальные превращения в ад¬
ской потусторонности явлены в алхимическом многоцветий:
И оба слиплись, точно воск горячий,
И смешиваться начал цвет их тел,
Окрашенных теперь уже иначе,
Как если бы бумажный лист горел
И бурый цвет распространялся в зное,
Еще не черен и уже не бел.
«Увы, Аньель, да что с тобой такое? —
Кричали, глядя, остальные два. —
Смотри, уже ты ни один, ни двое».
Меж тем единой стала голова,
И смесь двух лиц явилась перед нами,
Где прежние мерещились едва».
(«Ад», XXV, 61-72)
Обретение двойственного бытия вместо однобытийственной
цели алхимиков.
Двоящееся единство — наблюдение ренессансного человека.
Человек Средних веков определенней: он не в силах остановить¬
ся, не доведя различений до конца.
Двоящееся единство — наблюдение ренессансного человека.
Человек Средних веков определенней: он не в силах остановить¬
ся, не доведя различений до конца.
Мастера Данте Алигьери заповедь
849
Личность Данте состоялась. Преодолены самые неукосни¬
тельные запреты Средневековья. Немыслимое для Средневеко¬
вья жестокосердие — пусть даже и к самому последнему него¬
дяю— для Данте добродетель:
«Но руку протяни к глазам моим,
Открой мне их! » И я рукой не двинул,
И было доблестью быть подлым с ним.
(«Ад», XXXIII, 148-150)
Но это лишь симптомы нового мироощущения. По-преж¬
нему несводимы друг к другу огонь Эмпирея и холод Коцита;
гармония и нарушение всяческих пропорций. Правда, это лишь
отдельные стихи, вызволенные из текста. Но в них — грозовой
разряд, единственно реальный измеритель движения в исто¬
рии, в «алхимически» трансмутирующемся мышлении*. Имен¬
но потому для нас особенно важны эти редкие случаи у Данте.
А теперь начнем всматривание-вслушивание в текст — в цве¬
тистое дело алхимиков XIII — ХГУвеков и световое слово Данте,
сосуществовавшее и собеседовавшее с алхимическим «Великим
деянием».
Да будет цвет!
Хвост павлина
Цветовое превращение — очевидная характеристика пре¬
дельно зрительного искусства алхимиков. В то же время цвет
в алхимии — скорее £огтаТогшапз(формирующая форма), из¬
лучающая, оформляющая символы в изобильном многообра¬
зии, нежели formaformata^opMHpoBaHHan форма).
Соотнесенность человеческих судеб и констелляций в астро¬
логии дается в оппозиции черного — белого. Промежуточные
цвета поглощены крайними цветами. Астрологическая доктри¬
* «Прообразом исторического события — в природе служит гроза. Прооб¬
разом же отсутствия события можно считать движение часовой стрелки
по циферблату. Было пять минут шестого, стало двадцать минут. Схе¬
ма изменения как будто есть, на самом деле ничего не произошло. Про¬
гресс — это движение часовой стрелки, и при всей своей бессодержа¬
тельности это общее место представляет огромную опасность для самого
существования истории» (Мандельштам О. Разговор о Данте.С. 77).
850
В. Л. РАБИНОВИЧ
на осуществляется в алхимии в иной оппозиции: металлы —
планеты и знаки Зодиака. Естественные цвета самородных
металлов или их руд заполняют пустое пространство между чер¬
ным и белым в астрологии, обнимая цветовую гамму вселенской
вещественности. Благородные металлы, отмечает К. Маркс,
«представляются в известной степени самородным светом, до¬
бытым из подземного мира, причем серебро отражает все све¬
товые лучи в их первоначальном смешении, а золото лишь цвет
наивысшего напряжения, красный. Чувство же цвета являет¬
ся популярнейшей формой эстетического чувства вообще»*.
Цвет — промежуточная форма между материей и духом.
Цвет в алхимии — наиболее выразительная реальность,
связующая небо и землю. Цвет— и духовный, и материаль¬
ный субстрат, чувственно-понятийная первооснова алхимиков.
Символ и предмет вместе. Иначе: слово и вещь, пребывающие
в грядущем обещании стать звучащим словом и многокрасоч¬
ной вещью, как и полагается быть тому и другой в мышлении
Нового времени.
3 о сим а Панополитанский (IV в.), авторитетный во все
века алхимического тысячелетия, говорит: «Вот тайна: дра¬
кон, пожирающий свой хвост, поглощенный и расплавленный,
растворенный и превращенный брожением. Он становится
темно-зеленым и переходит в золотистый цвет. От негопро-
исходит красный цвет киновари. Это киноварь философов.
Чрево дракона и спина его желты, голова темно-зеленая. Его
четыре ноги — это четыре стихии. Его три уха — поднявши¬
еся пары. Одно снабжает другое своею кровью, одно зачинает
другое. Сущность радуется сущности, сущность очаровыва¬
ет сущность. И не потому, что они противоположны, но по¬
тому, что это одна и та же сущность и происходит из себя
самой — трудно, с усилием. О, мой друг! Приложи ум свой
к этому, и ты не ошибешься. Будь серьезен и прилежен, покуда
не увидишь конца. Дракон простерся у порога. Он сторожит
храм, овладев им. Убей его, сдери с него кожу и, содрав ее вплоть
до самых костей, выложи ею ступени, ведущие в храм. Войди
в него, и ты найдешь желанное, потому что жрец этого хра¬
ма, некогда медный, изменил свой цвет, а значит, и свою при¬
* Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Со¬
брание сочинений. М.» 1959. Т. 13. С. 136.
Мастера Данте Алигьери заповедь
851
роду, и стал серебряным. Спустя несколько лет, коли пожела¬
ешь, ты увидишь его золотым» *. Дракон — фундаментальная
алхимическая аллегория превращающегося вещества, перели¬
вающегося в полихроматическом многообразии: зеленое, золо¬
тистое, желтое. Цвета частей тела дракона преобразуются
в цвета-металлы, из которых сделан жреце разные моменты
своего трансмутирующегося бытия: медный, серебряный, зо¬
лотой. Игра цвета в алхимических метаморфозах.
Сложные аллегорические фигуры принимают доступные
зрительные формы. Зосима продолжает: «...пустившись стран¬
ствовать, встретил я между двумя горами важного господи¬
на, на котором был серый плащ, а на голове — черная шляпа.
На шее его был завязан белый шарф, а талия стянута желтым
поясом. Обут он был в желтые сапоги»**. Эта аллегория обозна¬
чает далеко ещене все оттенки киновари, принимающем и дру¬
гие цвета в зависимости от степеннее дисперсности: серый,
черный, белый, желтый. Персонификация цвета. Объектива¬
ция цвета как признака предмета: плащ, шляпа, шарф, пояс,
сапоги.
Но алхимическому цвету тесно в локальном микрокосмосе —
в человеческих персонификациях. Цвета выходят в большой
мир — во вселенский космос, упорядочивающий первичный
хаос: север — чернота, черный; запад — белизна, белый; юг —
лиловатость, лиловый, фиолетовость, фиолетовый; восток —
желтизна, желтый, краснота, красный.
Бесцветное неоплатоническое Единое пресуществляется
в алхимии в многоцветный звучащий телесный дух, представ¬
ляющий Вселенную. Этот дух, как феникс, возрождающийся
из своего пепла, снова предстает в телесном обличье слышимых
цветов — черном, белом, красном. Возможны вариации: жел¬
тый, оранжевый; цвет ириса, или хвост павлина. Важно, одна¬
ко, то, что именно цвет выступает как переходный, срединный
момент, осуществляющий средостение духовного и телесного.
Видимослышимое.
Цвета выходят во вселенский космос, упорядочивающий
первичный хаос: север — черный; запад — белый; юг —лило¬
вый, фиолетовый; восток —желтый, красный.
* Lindsay J. The origins of alchemy... P. 348-349.
** Пуассон А. Теория и символы алхимиков // Изида, 1914-1915. № 4. С. 5.
852
В. Л. РАБИНОВИЧ
Ивсе-таки главным предназначением цветов алхимической
гаммы остается воспроизведение рукотворных операций. Ма¬
терия, приведенная в движение огнем соответствующей сте¬
пени, начинает чернеть. В черном заключены белый, желтый
и красный. Белый в алхимии уже не высокий Свет, а лишь цвет,
приравненный ко всем прочим. Почти краска. Черный же
предстает источником, порождающим другие цвета. Картина
по сравнению с традиционно христианской выглядит перевер¬
нутой: не белый, а черный во главе. Черный цвет — источник
и начало цветообразования.
Для цветовой алхимической гаммы характерна двухступен¬
чатая иерархия классов цветов. Цвета первого класса: черный,
белый, красный. Цвета второго класса: серый (между черным
и белым), зеленый, голубой, желтый, оранжевый (между бе¬
лым и красным). Цвета первого класса — главные. Но и в этой
иерархии черный — изначальный цвет, который с помощью
рукотворной процедуры выявляет сокрытый блеск: чернение
исходного неблагородного металла (получение черняди) — ис¬
пытание огнем (муки Христа) на пути к совершенному червон¬
ному золоту; окончательный цвет — красный. Воплощенный,
зрительно воспринимаемый Логос. Смолкшее слово — глаго¬
лющий цвет.
За металлами скрываются еще более глубокие пласты архе¬
типического: два алхимических пола — мужской и женский.
Мужское символизируется красным, женское — белым: король
в красном — золото; серебро — королева в белом.
Мир живого не ограничивается человеком. Пернатые сим¬
волы обозначают те же цвета. И здесь уже цвет выступает как
уподобляемый предмет, а птица — его символическим подоби¬
ем: черный — ворон, белый — лебедь, цвета радужного спек¬
тра — павлин, цвет ириса или красный — птица-феникс (он же
царь со скипетром), зеленый — утренний сон, малахитовый
дом. Но все вещи подлунной — материализованное, застывшее
и цветное эхо первоначального творческого слова.
Четыре стихии-элемента символически окрашены в соответ¬
ствующие им четыре цвета. Во время Великого деяния появля¬
ются четыре цвета: черный, словно уголь; белый, как лилия;
желтый, как ноги кобчика; красный, будто рубин. Чернота —
воздух, белизна — земля, желтизна — вода, а красный — огонь.
Мастера Данте Алигьери заповедь
853
Стихии, люди, птицы, цветы, плоды, предлагаемые в ка¬
честве символических подобий алхимических цветов, высту¬
пают уже не как символы, а как реальные воплощения. Если
установить третью степень огня, считает алхимик, то можно
увидеть созревание всевозможных прекрасных плодов, ка¬
ковы айва, лимон, апельсины, превращающиеся в красные
яблоки*.
И снова — природно-циклические ассоциации: весна — чер¬
ный, лето — белый, осень — красный, зима — цвет ириса.
И вот, когда уже вовсе исчерпан символотворческий ма¬
териал, находимый между небом и землей, снова вступают
в силу космические уподобления: Сатурн — свинец — черный,
Луна — серебро — белый, Венера — медь — красный, Марс —
железо — цвет ириса**. Этот символический ряд запечатлен
в «Большой поэме философского Олимпа»:
Сатурн выходит черный и чернеет
На синем предвечернем небосклоне,
Как вдруг откуда ни возьмись Юпитер
Является, чтобы лишить господства
Надменный черно-пепельный Сатурн.
Луна восплачет. Вслед за ней Венера
Слезами оловянными всплакнет.
На этом умолкаю. Не прибавлю
К сему почти что ничего.
Лишь только
Про Марс скажу, который установит
На грешной нашей маленькой Земле
Убийственный стенающий, сиротский,
Воинствующий, вдовствующий век.
Железный векнам установит Марс.
И будет век из чистого железа,
Покуда Солнце, возродясь из мрака,
Над грешною Землею не взойдет***.
* Пуассон А. Теория и символы алхимиков // Изида, 1914-1915. № 8. С. 9.
** Подробнее см.: NorthonTh. Tract at us Grede Mihi, seu Ordinale dictus //
Bibliotheca Chemica Curiosa. Genevae, 1702.Vol. II. P. 285-308.
Пуассон A. Теория и символы алхимиков // Изида, 1914-1915. № 8. С. 9.
Стихотворный пер. В. Рабиновича.
854
В. Л. РАБИНОВИЧ
Когда исчерпан символический материал, находимый между
небом и землей, снова вступают в силу космические уподобле¬
ния: Сатурн — свинец — черный, Луна — серебро — белый, Ве¬
нера — медь — красный, Марс — железо — цвет ириса.
И все же самые далекие символические ассоциации видимых
цветовых изменений — это каждый раз одна и та же, сотканная
из слов история, рассказывающая о центральном событии алхи¬
мического мифа: судьбе философского камня.
Операционально-цветовые перипетии аляповато, но впечат¬
ляюще воспроизводят поучающее Слово, зовущее к подража¬
нию, — житие Иисуса Христа: черный цвет — гниение, смерть;
белый (вслед зачёрным) — воскресение из мертвых, жизнь
как попрание смерти смертью же. Символ жизни: зерно-колос.
Тело воскреснет в день Страшного суда. Единоборство черного
с белым совершается в философском яйце. Процедура беления
уподоблена омовению. Воскресшие скелеты. Белые, омытые
дождями кости. Белые птицы устремляются вверх. Хлещет ли¬
вень, орошая живой водою человеческие останки: подобие про¬
тивоточной дистилляции. И вновь — испарение, возгонка. Сте¬
лющиеся над землей пары. Внизу — сконденсированный пар
в виде темной жидкости. Это операция конденсации, сгущения.
Каждому цветовому переходу соответствует конкретная проце¬
дура из двенадцати операций алхимического регламента...
По пути к химии Нового времени сакральный смысл цвето¬
вой гаммы уступает место цвету как безмолвной физической
реальности: окрашивание несовершенного металла в золотопо¬
добный цвет, исцеление порчи — «язвы металлов».
Однако это не просто материализация цвета. Цвет — духов¬
но-материальный объект во всей своей символико-веществен¬
ной одновременности. Подсыпание пурпурного порошка фи¬
лософского камня к помещенной в восковую тубу смеси ртути,
свинца и олова при нагревании, способном расплавить воск, мо¬
жет обратить «больные» металлы в золото.
Таков алхимический цвет, символ и реальность одновремен¬
но. Цвет в алхимии, представленный здесь лишь на феномено¬
логическом уровне, требует теперь осмысливания в более широ¬
ком —символотворческом— контексте.
Мастера Данте Алигьери заповедь
855
Цвет как символ
Цветовые переходы в алхимии от черного к красному через
белый с протуберанцами вспомогательных цветов, сопровожда¬
ющих три основных, соответствуют восходящей трансмутации
металлов от несовершенного железа к совершенному золоту.
Если расширить пределы, то этот отрезок можно представить
в еще более общем виде: от хтонически-темной, лишенной опре¬
деленности первоматерии до неизреченной всеобъемлющей
квинтэссенции, соответствующей в известном смысле неоплато¬
ническому Единому. На этом, в некотором роде христианском,
пути нет места символотворчеству как таковому. Здесь разы¬
грывается многоцветное мифологическое житие центральной
алхимической субстанции — металлов. Оно — житие — собы¬
тийно представлено в виде трех главных сюжетов христианской
истории, осуществленной в поучительной земной жизни Иису¬
са Христа, а точнее, в ее финале: смерть, воскресение из мерт¬
вых, священный брак с зачатием и рождением (последний сю¬
жет имеет отношение к дорождественской библейской истории).
Адепт изобретает мифо-алхимический образ в искаженной
форме общепринятого христианского образца. Однако если вни¬
мательней присмотреться, то окажется, что и образец по сравне¬
нию с первоначальным выглядит тоже деформированным. Чер¬
ный цвет предстает дарующим жизнь всем остальным цветам,
в том числе и наисовершеннейшему— красному. Все иные цвета
изначально уже содержатся в черном. Вместе с тем белый цвет —
не свет! Он — один из... в цветовой алхимической иерархии —
в отличие от Света в христианстве, света, выходящего за пределы
цветовой гаммы и над нею стоящего. Видимый — равно и слы¬
шимый — цвет. Над цветовой алхимической гаммой стоит лишь
сам алхимик, молчаливый распорядитель алхимического — си-
речь божественного — света, изобретающий философский ка¬
мень, цвет света, цветные этапы судьбы которого эквивалентны
цветовой гамме в алхимии. Цвета в алхимическом многоцветий
пресуществляются один в другой, как, впрочем, и металлы, хотя
и с помощью медиатора, чудодейственного рукотворного инстру¬
мента в демиургических говорящих руках безмолвного адепта.
Но именно в этом месте — в месте соприкосновения с философ¬
ским камнем-медиатором, изобретенным богоравным адептом,
856
В. Л. РАБИНОВИЧ
начинается нарастающая, готовая захлестнуть всю Вселенную,
весь алхимический универсум волна символических уподобле¬
ний — и философского камня, и семи металлов, и двенадцати
рукотворных операций над ними, и алхимических, и космого¬
нических Аристотелевых начал. Алхимические цвета выступа¬
ют в качестве символов различных состояний, переживаемых
философским камнем, воздействующим на металлы. Только
изцветов — как, впрочем, и из иных символических рядов, ос¬
мысленных в алхимии (камни, травы, земные животные, пти¬
цы, планеты, знаки Зодиака) — можно выстроить весь алхими¬
ческий космос, герметический окоем, за которым — слышимый
цвет и видимое Слово. Между тем цвет в алхимии — символ осо¬
бого рода. В нем, как и в любом другом, схвачены всеособенности
символа вообще, алхимического символа в частности.
Из цветов — как и из иных символических рядов, осмыслен¬
ных в алхимии (камни, травы, земные животные, птицы, пла¬
неты, знаки Зодиака) — можно выстроить весь алхимический
космос, герметический окоем, за которым — слышимый цвет
и видимое Слово.
Однако помимо этого цвет как символ совпадает с реальными
цветовыми превращениями химического порядка, с превраще¬
ниями, которые можно вызывать, которыми можно управлять
и которые можно наблюдать. Поэтому алхимический цвет —
прежде всего физическая реальность, признак химического
соединения, потенциально и актуально могущего означить
химическое соединение. Алхимический цвет в строгом смыс¬
ле— еще не символ, а только свойство; специфический признак
вещи, рукотворно этой вещи присвоенный (если, конечно, эта
вещь изготовлена руками алхимика). Рукотворно, но и чудо¬
действенно. Цвет как физическая реальность тут же начинает
обретать священнодейственный метафизический смысл. Сна¬
чала —через событийные священные перипетии философского
камня: смерть, воскрешение, брак, соитие, зачатие, рождение.
Следующий шаг— это объективация признака вещи, становя¬
щегося эквивалентным самой вещи. Цвет становится объектом.
К цвету подбираются — изобретаются — символические подо¬
бия. Но прежде сам цвет как атрибут процесса раздваивается,
удваиваясь: черный — чернота, белый — белизна, красный —
краснота. Признак живет жизнью вещи, обретающей священ¬
Мастера Данте Алигьери заповедь
857
ство в своих символических, тоже теперь уже реальных копиях,
неотличимых от оригинала, тем более что о настоящем оригина¬
ле — металлах, их трансмутациях, ртутно-серном медиаторе —
киновари, как будто и вовсе позабыли. Черный живет жизнью,
вернее, смертью ворона, белый — жизнью саламандры, лилии
или белой невесты, красный — новой, только что начатой жиз¬
нью дитяти, увенчанного царским пурпуром.
Таким образом, если медиатор — философский камень — по¬
средничает меж несовершенным и совершенным в технохими-
ческих действиях адепта-демиурга, то цвет — посредник между
земным и небесным рядами. Он и символ, и реальность купно,
вещно-понятийная конструкция, средоточие химического дей¬
ствия и герметического священнодействия. Аудио-визуальный
кентавр. Цветомузыка. Алхимическая физика и алхимиче¬
ская же метафизика, запечатленная в цвете-символе, цвете-сло¬
ве, цвете-вещи, цвете — признаке вещи. Но цвет в алхимии — это
изобретение ее адептов, еретический дилетантский акт единения
Земли и Неба, как бы упраздняющий разноречие между номина¬
листическими и реалистическими умозрениями; заполняющий
зияние меж слухом и зрением. Только цвет, понятый как символ,
способен выявить специфический смысл алхимического симво¬
лизма. Только цвет может сочленить как бы разъятые полюса
Великого Делания (вещь и символ) в целостную картину алхими¬
ческого мира. И все-таки двойственная природа алхимического
цвета в реальной жизни обозначает, акцентирует то одну, то дру¬
гую сторону своей же двойственной природы. И вот тогда алхи¬
мический мир то распадается на отдельные микромиры, то вновь
соединяется в калейдоскопическое целое. То вдруг многоцветная
лоскутная реальность, то вновь единая черно-белая метафизи¬
ка. Обретенный вселенский порядок уступает место вселенскому
беспорядку. И наоборот. Алхимический конструктивизм расша¬
тывает неукоснительность официального Средневековья, хотя
образ интеллектуальной жизни адепта становится все более кос¬
ным и незыблемым в статической своей карикатурности.
Цвет в алхимии — свет у Дайте
Это обращение к собственно алхимическому делу нам пона¬
добилось лишь для того, чтобы сопоставление цвета в алхимии
858
В. Л. РАБИНОВИЧ
с переживанием цветовых ощущений в неалхимическом Сред¬
невековье, которое сейчас последует, выглядело более отчетли¬
во.
Неалхимическое Средневековье... Пусть им будет Дантова
«Комедия», грандиозная метафора интеллектуального Средне¬
вековья. В поэме представлено два типа цветовых ощущений:
цвета ахроматического ряда начинаются черным и завершают¬
ся белым цветом (точнее, светом). Он же, белый свет, — источ¬
ник полихроматического многообразия радуги. Радужное мно¬
гоцветие «Ада» тождественно греховной фантасмагории лжи,
мздоимства и прочих смертных грехов:
Две лапы, волосатых и когтистых;
Спина его, и брюхо, и бока —
В узоре пятен и узлов цветистых.
Пестрей основы и пестрей утка
Ни турок, ни татарин не сплетает;
Хитрей Арахна не ткала платка.
(«Ад», XVII, 13-18)
Таков Герион— «образ омерзительный обмана», мозаикой
цветов ириса обозначивший ложь.
Ощущение хаоса порочного мира нарастает по мере умноже¬
ния цветовой гаммы. Об обитателях Герионова седьмого и вось¬
мого кругов Данте сообщает:
У каждого на грудь мошна свисала,
Имевшая особый знак и цвет,
И очи им как будто услаждала,
Так, на одном я увидал кисет,
Где в желтом поле был рисунок синий,
Подобный льву, вздыбившему хребет.
А на другом из мучимых пустыней
Мешочек был, подобно крови, ал
И с белою, как молоко, гусыней.
(«Ад», XVII, 55-63)
Обратите внимание: знак и цвет. В контексте «Божественной
Комедии» цвет есть говорящий знак.
Мастера Данте Алигьери заповедь
859
Полихроматическая гамма, представленная в инферналь¬
ном беспорядке, — свидетельство хаоса, на пути от «Ада»
к «Раю» обретающего порядок, вселенскую божественную гар¬
монию.
В. П. Гайдук отмечает существенный момент: белый, по¬
падая в сумятицу павлиньих цветов, усугубляет ужас адского
хаоса. Белое собственным священством на пиру красок адской
преисподней делает разнузданность и мерзость совсем уже
омерзительными и как будто вовсе неистребимыми*. Полихро¬
матическая гамма, представленная в инфернальном беспоряд¬
ке, — свидетельство хаоса, на пути от «Ада» к «Раю» обретаю¬
щего порядок, вселенскую божественную гармонию, которой
вовсе не противопоказан полихроматизм радужного спектра.
Но каждый цвет в Дантовой «Комедии» — лишь отблеск бе¬
лого света, та или иная его степень, та или иная мера внутрен¬
ней напряженности Света. Мера божественного слова. Цвето¬
вая его мера.
Каким сияньем каждый был одет
Там, в недрах солнца, посещенных нами,
Раз отличает их не цвет, а свет!
(«Рай», X,40-42)
Трехцветная «Троица» у Данте — лишь три взаимно перели¬
вающиеся друг в друге концентрические проекции того же «Вы¬
сокого света»:
Я увидал, объят Высоким Светом
И в ясную глубинность погружен,
Три равноемких круга, разных цветом.
Один другим, казалось, отражен,
Как бы Ирида от Ириды встала;
А третий — пламень, и от них рожден.
(«Рай», XXXIII, 115—120)
Это цветовая аллегория, метафора католического догмата
АИоцие(Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына): Бог-сын есть
* Гайдук В. П. К вопросу о цветовой символике « Божественной Комедии » //
Дантовские чтения. М., 1971. С. 174-180.
860
В. Л. РАБИНОВИЧ
отражение Бога-отца, и вместе они рождают дух-пламень, по¬
рождение двух этих цветовых кругов. Отметим здесь, однако,
равновеликость этих кругов (трех ипостасей Троицы), равно-
мочность перед всеобъемлющим — начальным и конечным —
божественным светом, сводящим на нет — или вбирающим,
но и порождающим — каждый цвет. Даже кровь у Данте «убе¬
ляет».
Правда, тончайшие различения цвета тоже осмысленны,
причем до полного перевертыша (багровое — грешная жизнь;
красное же — напротив — искупление). Багровое и красное,
сакрально значимые, физически ощутимые цвета, порождения
ослепляюще черного неизреченного Глагола.
Иерархия цветовой гаммы «Божественной комедии» вос¬
ходяща и устремлена к свету, порождающему, в свою очередь,
каждый цвет этой гаммы. Хаос же цветовых ощущений ориен¬
тирован на их гармонию, на союз божественного и земного, вос¬
крешенных и воплощенных в субъекте. Свет объективирован,
Человек — носитель лишь малой его частицы. В алхимии —
иное: Свет выведен из иерархии цветов. Носитель света — сам
алхимик, творящий символы как образы. Он — ряженый бог.
Данте же, представляя Средневековье, метафоризирует все-та-
ки образец, но образец божественный.
Вещь, данная в опыте, восходит к явлению. Цвет же, дан¬
ный в традиции, восходит к сущности, то есть к Слову.
В каком же отношении к определяемой вещи находится
у Данте цвет? В символическом? Едва ли. Цвет, если только от¬
влечься от сакрального контекста, — физическая краска, в неко¬
тором смысле произвольно нанесенная на объект. Аллегориче¬
ские поучения, соотнесенные с цветами спектра, в тексте поэмы
не даются, но разноречиво примысливаются обыденным созна¬
нием средневекового человека. Цвет как признак вещи не слит
с вещью. Возможность объективации признака почти не прояв¬
лена. Аллегорические смыслы возникают в связи с окрашенной
вещью. Цвет — существенный момент вещи, ее, так сказать, по¬
тенциальная, очищенная от земных случайностей судьба. Вещь
и ее цвет находятся не в символических — в иных отношениях.
Вещь, данная в опыте, восходит к явлению. Цвет же, данный
в традиции, восходит к сущности, то есть к Слову, — вопреки
своей очевидной явленности.
Мастера Данте Алигьери заповедь
861
Метафизический смысл прочитывается в световой — не цве¬
товой! — реальности. Синтетическое единение четырех смыс¬
лов Оригена— Данте.
Диаметральное переосмысление цвета дела не меняет. Отноше¬
ние вещи к цвету остается прежним — менее всего символическим.
Византиец Никита Хониат (ХП— XIII вв.) сопрягает царский
пурпур не с рождением, а с кровью расправ, а царское золото —
не со светом Солнца, а с цветом «желчи, обещающим поражение».
Багрец и золото — двойственная сущность власти василевса. Вну¬
треннее состояние земного мира, а не символическое его удвоение.
Воистину: цвет только слышим, а слово — видимо. И только.
Однако кривозеркальная жизнь алхимии не прошла неза¬
меченной и неучтенной официальным Средневековьем. Отно¬
шение вещи к цвету под воздействием символических — цве¬
товых — связей в алхимии существенно видоизменяется.
Примечательнейшее место «Божественной комедии»:
И я от изумленья стал безгласен,
Когда увидел три лица на нем;
Одно — над грудью; цвет его был красен; <...>
Лицо направо — бело-желтым было;
Окраска же у левого была,
Как у пришедших с водопадов Нила.
(«Ад», XXXIV, 37-39, 43-45)
Трехипостасное лицо — точнее, три лица Люцифера. Три
устойчивых цвета, приколоченные к этой триликой роже на¬
вечно: красное, бело-желтое, неопределенное (по-видимому,
близкое к черному). На память приходит трехцветная судьба
философского камня, изобретенного алхимиком. Здесь Данте
вдвойне изобретатель. Цветовые переходы исключены. Цвета
дискретны, непереходящи друг в друга. О свете и говорить не¬
чего! Каждый цвет — знак прямо противоположного тому, что
за ним закреплено в традиции. Но все-таки еще знак. Не пото¬
му ли это уже в некотором роде алхимические символы? И все же
одно отличие: если алхимический медиатор богоподобен, то ал¬
химический образ у Данте дьяволоподобен. Он и есть дьявол.
Отличие — в нравственной направленности. Искривленное изо¬
бражение Бога есть дьявол.
862
В. Л. РАБИНОВИЧ
Алхимик— конструктор цветовой символической пары.
Человек Средневековья (отчасти и Данте) — участник-коммен¬
татор подвижной, пластической пары иного рода, свободной
от алхимического символизма. Аббат Сутерий: «Мы приобрета¬
ем... драгоценную чашу, сделанную из одного куска сардоникса,
в котором красный цвет присваивает себе цвет (свет? — В. Р.)
другого»*.
Итак:
Имеющий очи — да слышит!
Имеющий уши — да зрит!
Алхимик-еретик тайно подослан в келью послушливого
христианина, дабы выправить столь странное для наших глаз
и ушей положение. Он призван из цвета сделать краску, а слово
представить бесплотным тусклым звуком. Но все это, кажетсяу-
же знал и умел античный Мастер. Но все это (хотя и по-другому)
еще будет уметь и знать Мастер Нового времени — живописец,
физико-химик, технолог, музыкант и их несметные потребите¬
ли. Но пока об этом никто не знает и ничего такого не умеет.
Алхимик-еретик тайно подослан в келью послушливого хри¬
стианина. Он призван из цвета сделать краску, а слово предста¬
вить бесплотным тусклым звуком...
Средневековый алхимик —посредине. Почти пародийное алхи¬
мическое ухо-глаз своим, полуторатысячелетним существованием
повергает в инфернальный ужас чуткое зрение и проницательный
слух официального Средневековья, размагничивая, расшатывая
его, но зато предустанавливая и указуя пути в новые века.
Всеслышащему оку христианской души только предстоит—
не без алхимического искуса— обрести нормальную глухую
зрячесть научно устроенной сетчатки новоевропейского глаза.
А теперь настроим нашу камеру-обскуру на удаление, ибо
предмет сделался куда крупнее: им стал алхимический миф
в целом и жизнь этого мифа в инфернальном сюжете о подделы¬
вателях металлов, как он дан в «Божественной комедии».
Миф о философском камне и миф о богочеловеке
Чтобы приготовить эликсир мудрецов, или философский ка¬
мень, возьми, сын мой, философской ртути и накаливай, пока
* Грановский T. Н. Аббат Сугерий. М., 1866. С. 78-79.
Мастера Данте Алигьери заповедь
863
она не превратится в зеленого льва. После этого прокаливай
сильнее, и она превратится в красного льва. Дигерируй этого
красного льва на песчаной бане с кислым виноградным спир¬
том, выпари жидкость, и ртуть превратится вкамедеобразное
вещество, которое можно резать ножом. Положи его в обмазан¬
ную глиной реторту и не спеша дистиллируй. Собери отдельно
жидкости различной природы, которые появятся при этом. Ты
получишь безвкуснуюфлегму, спирт и красные капли. Кимме¬
рийские тени покроют реторту своим темным покрывалом, и ты
найдешь внутри нее истинного дракона, потому что он пожира¬
ет свой хвост. Возьми этого черного дракона, разотри на камне
и прикоснись к нему раскаленным углем. Он загорится и, при¬
няв вскоре великолепный лимонный цвет, вновь воспроизведет
зеленого льва. Сделай так, чтобы он пожрал свой хвост, и снова
дистиллируй продукт. Наконец, мой сын, тщательно ректифи¬
цируй, и ты увидишь появление горючей воды и человеческой
крови»*.
Что это? Бессмысленное бормотание мага и колдуна, шар¬
латана и мошенника, рассчитывающего на непосвященных,
застывших в почтительном молчании перед таинственными
заклинаниями и узорчатой речью чудодея; а может быть, «лже¬
научные »попытки отворить с помощью Слова алхимический
Сезам; или, наконец, ритуальное стихотворение, произнесен¬
ное без практической цели и потому так и остающееся для нас,
людей XXI века, века неслыханного торжества химии, за семью
печатями, неразгаданным и по правде говоря, не очень-то зову¬
щим расшифровать этот герметический код. А может быть...
В свое время мною предлагалась «химическая» расшифров¬
ка этого рецепта**. Но такая худосочная расшифровка выхола¬
щивала самое душу этого текста. Какое же это истолкование,
когда напрочь исчезает сам предмет истолкования?! Усыхает
живое слово. Остается его квазихимический экстракт. А может
быть, и не толковать вовсе? Но...
Оставить этот текст, рецепт получения философского кам¬
ня английского алхимика Джорджа Рипли из XV века, но вос¬
ходящий к тексту Раймонда Луллия из века тринадцатого,
* Dumas J. В. Leçons sur la philosophie chimique. Paris, 1837.P. 30.
** Рабинович В. П. Алхимия как феномен средневековой культуры. М.,
1979. С. 16-20.
864
В. Л. РАБИНОВИЧ
неистолкованным — а именно так следовало бы сделать, если
он миф, — означает погрузить его в беспамятное историческое
забытье. В лучшем случае посчитать этот красивый текст ин¬
крустированной безделицей, пришедшейся к слову. Но можно
и объяснить — расшифровать, переобозначить на разные лады:
на химический лад (химические реакции, представшие зверо¬
подобными воплощениями, их перипетиями); на метафори¬
ческий, так сказать, поучительно-притчевый; наконец, на лад
чистейшей чепухи, лженаучный и обскурантистский. Можно
и объяснить, и расшифровать. Но всегда остается нечто, гармо¬
нически неразложимое, алгеброй неповеряемое. Цельное — не¬
проницаемое, — зовущее проникнуть в себя, себя же и постичь.
Рациональное — какое бы то ни было! — истолкование вся¬
кий раз оборачивается неполнотою этого истолкования, вынуж¬
дающего предпринять еще одно в надежде на окончательную
однозначность.
Звероподобные и змееобразные метаморфозы во имя золота.
Золото во имя цветных львов и черного дракона. Алхимический
сон. Греза, в главном совпадающая со всеми иными снами всех
иных алхимиков всех десяти алхимических столетий. Это сон
о событии главном и единственном — о получении философско¬
го камня, а с его помощью золота: здесь и теперь, повсеместно
и навеки. Смерть ржавого железа и его воскрешение, но уже
в солнечном блеске золота. Сбывшихся снов никогда не бывает,
но они всегда есть. Это перефразированный Саллюстий, неопла¬
тоник IV века, тонко уловивший, что миф говорит о вещах, ко¬
торых никогда не было, но которые всегда есть. В этом смысле
злато-сереброискательский сон — миф.
Звероподобные и змееобразные метаморфозы во имя золота.
Золото во имя цветных львов и черного дракона. Алхимический
сон.
Миф — всегда магия. То же и алхимия как практическое дело.
Но хтонические глубины алхимической магии связаны с кро¬
восмешением. Этому можно найти подтверждение у древних,
например у Катулла, которого толкует С. С. Аверинцев в статье
«К истолкованию символики; мифа об Эдипе»: если маг хочет
проникнуть в великие тайны посвященных и угодить нездешним
силам благоприятным совершением славословий и действий,
надо, чтобы маг этот родился в результате инцеста. Обряд нече¬
Мастера Данте Алигьери заповедь
865
стив, но истинное кровосмешение запретно и страшно. Но разве
тайны богов не запретны и не страшны? У Катулла тайна откры¬
та сыну, а не грешнику. Но в мире мифа это безразлично. Маг —
ремесленник, знающий Слово. Он— сын ремесла; ремесло —
его мать(т£%уг| — ремесло и магия — женского рода). Но именно
с ремеслом мастер-ремесленник-маг вступает в недозволенное
соитие-инцест— сын с матерью*. У Арнольда из Виллановы
есть рецепт о семи сыновьях-металлах, которые должны слиться
со своей матерью-первоматерией... Мифологема кровосмеситель¬
ного брака не просто взята алхимией напрокат, но в ней укорене¬
на в качестве структурного ее первоэлемента. А может быть, это
просто сравнениеили аллегорическое иносказание?
Событие, происходящее в алхимии как мифе, происходит
каждый раз непосредственно, сиюминутно. Оно и уникально,
и всеобще одновременно. Таково главное событие алхимиче¬
ского мифа —трансмутация металла от несовершенства к со¬
вершенству. Время остановлено; Гермес чаял о том же, о чем
и Рипли, а этот последний — о том же, что и Парацельс, что
и нынешний хемооккультист. Временные несоответствия ви¬
дятся сквозь, пальцы — Единство двоится. Двойственность
укрупняется до целого (алхимическийребис).
Взаимозаменяемость частей торжествует, оставаясь при этом
сакральной тайной, — низ и верх Гермесовой скрижали. Вера
в трансмутацию беспомощна, но этим и сильна. Все тождествен¬
но только себе. Случившееся дважды или многажды случилось
лишь один-единственный раз. Зато раз и навсегда. Мышление
в мифе — «отсечное» мышление, причем отсекидействуют кик
целое, не соприкасаясь друг с другом. Поэтому детерминирован¬
ность явлений в мифе иная, не совпадающая с причинно-след¬
ственными обусловленностями мышления Нового времени.
Крестоносцы точно знают, что галилейский учитель был распят
именно в I веке. Однако с неменьшей убежденностью тот же кре¬
стоносец, разя сарацинов близ Иерусалима в XII веке, уверен
в том, что именно эти — из XII века — сарацины распяли Спа¬
сителя**. Золото и железо — независимые творения Бога. Алхи¬
* Аверинцев С. С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // Античность
и современность. М., 1972. С. 95-96.
** Подробнее о средневековых представлениях о времени см.: Гуре¬
вич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 84-138.
866
В. Л. РАБИНОВИЧ
мик это знает. Вместе с тем железо — еще не пресуществленное
золото. И эта предпосылка движет всеми помыслами алхимика,
хотя первая, ее исключающая, живет в его христианско-деми-
ургическом сознании. Тогда Бог тождествен самому алхимику.
Предмет и понятие об этом предмете как бы слиты: золото —
оно же и Солнце. Тождественное и сходное сливаются. Слово
и дело пребывают вкупе. Столь же нераздельны предмет и его
признак. Круговорот повторений охраняет миф от саморазру¬
шения, обеспечивает цельность и замкнутость сферы. Непре¬
рывное воспроизведение раз и навсегда данного образца. Это
философский камень, как бы пародирующий собственно хри¬
стианский образец. Этим еще не исчерпываются структурные
характеристики мифа. Их можно длить и длить. Но даже при¬
стально аналитический их перечень ничего еще не дает тому,
кто хочет, толкуя алхимический сон, наяву увидеть этот сон.
Упраздняется алхимия как предмет этого сна. Говорят лишь
о безлично — мифическом, внеисторическом, бесцветно — все¬
человеческом. Вместе с тем «природа несказанного... такова,
что о нем самом нельзя говорить, и, чтобы его выразить, нуж¬
но говорить о другом»*. Мифические первосхемы не являются
этим другим — они тождественны мифу как таковому — это
значит Леви-Строссовскому первобытному мифу. Для постиже¬
ния культурного мифа о философском камне нужно культурное
иное, с ним сосуществующее. Для этого надо мифологемы вооб¬
ще понять как мифологемы алхимические.
Оборотничество — центральная мифологема мифа. Оно
спонтанно, вне явного движения, ибо топос мифических пере¬
вертней неизменен. Сам акт мифической метаморфозы не раз¬
мыкает изоморфное пространство мифа, а напротив, упро¬
чивает его герметическую замкнутость**. То же и в алхимии.
Трансмутация металлов. Золото — оборотень железа. Переоде¬
вание? Не совсем. Это радикальное превращение, высвобожде¬
ние скрытой сущности, то есть золотости, всегда пребывающей,
но лишь крайне редко высвобождающейся и доступной не оку,
* Манн Т. Иосиф и его братья. М., 1968. Т. 2. С. 406.
** Например, гоголевская Панночка с перевязанной рукой — черная кошка
с перебитой лапой. Всякая черная кошка с перебитой лапой — гоголевская
Панночка из «Майской ночи». Оборотничество варварских мифологий,
перевертни. Переодевания фольклорных созданий есть осуществление
мифологемы метаморфозности вообще.
Мастера Данте Алигьери заповедь
867
но глазу. Оборотничество особого рода. Такого, впрочем, рода,
что похоже на христианское пресуществление (хлеб — тело Го¬
сподне и вино — кровь Господня). Как будто так. Только грубей.
Материальней. Материальная поправка к пресуществленче-
ской духовности.
Но так ли? А может быть, природа алхимического оборот-
ничества принципиально иная? В каноническом христианстве
чудо пресуществления материализуется в ритуале причастия
к телу — хлебу, крови — вину. Но за ритуалом — некогда совер¬
шившаяся великая драма реального жития, имевшего начало,
середину, конец. Жития, зовущего к подражанию, требующего
действительных последователей, включенных в историческое
время и лишь потому причастных к вечному (когда — то тоже
временному — житию богочеловека). Хлеб и вино как предметы
с самого начала олицетворены. Так в христианском каноне.
Алхимическое оборотничество становится средством выхода
за пределы алхимии, ибо с самого начала оно есть оборотниче¬
ство инородное — сродни кривозеркально искаженной христи¬
анской пресуществимости.
В алхимии предмет остается предметом, хотя и другим. Зо¬
лото — преображенное, пресуществленное железо. Но лицо,
управляющее трансмутацией, само пребывает вне превраще¬
ний. Предмет и лицо разведены. Хотя возможность жития,
то есть такой жизни, когда историческое лицо возведет черно¬
вик предмета в его беловой совершенный образ-образец, в ал¬
химии угадывается. Брезжит в потемках алхимического мифа.
Но лишь на фоне христианских житий, дерзко заземленных,
овеществленных, в некотором смысле обезличенных в алхимии.
Алхимическое оборотничество вопреки своей искусной
мифической природе, призванной охранять миф от разру¬
шений-вторжений, становится средством выхода за пределы
алхимии, ибо с самого начала оно есть оборотничество ино¬
родное — сродни кривозеркально искаженной христианской
пресуществимости со всеми сопутствующими этому соображе¬
ниями. Алхимическое оборотничество двукультурно, хотя и су¬
ществует в границах культуры европейских Средних веков.
Пресуществленческое алхимическое оборотничество устрое¬
но таким образом, что является одновременно и целью чаяний
адепта, и средством выхода из мира этих чаяний в иное куль¬
868
В. Л. РАБИНОВИЧ
турное пространство. Вместе с тем исходное определение этой
алхимической мифологемы совпадает с определением самой
алхимии как материально-пародийного изображения Средне¬
вековья, при собственной серьезности сосуществующей и вза¬
имодействующей с официальным христианством в составе
средневековой культуры. Будем считать, что найден в алхимии
такой структурный признак, который, с одной стороны, скре¬
пляет и организует эту историко-культурную реальность, с дру¬
гой — обеспечивает выходы за пределы этой реальности. Иначе
говоря, способ выхода за пределы алхимии осмысливается как
существенный структурный элемент самой алхимии. Заметь¬
те: цель становится средством, а средство — целью. Но именно
такова алхимия в каждом деятельном своем шаге. Философ¬
ский камень — существенная цель алхимиков, тут же, однако,
становящаяся средством по ее достижении: камень нужен для
трансмутации свинца в золото. Золото — цель, но оно же и сред¬
ство, ибо с его помощью осуществляется всечеловеческое благо¬
денствие и т. д. Вместе с тем вся злато — сереброискательская
идея алхимиков — лишь средство для алхимического устро¬
ения космоса. Но только в хорошо устроенном космосе можно
достичь овеществления золотых алхимических грез. И космос
здесь — лишь инструмент. Такая обратимая трансмутация
(цель— средство) пародирует нечто сходное в каноническом
христианстве, заземляя-уплотняя собственнохристианскую ду¬
ховность и лишь с нею имеете существуя. Здесь-то и намечают¬
ся возможности саморазрушения алхимического мифа, ибо это
саморазрушение и есть его фундаментальный структурообразу¬
ющий признак.
Могут возразить: не есть ли сменяемость средства целью и да¬
лее вновь... — свойство любой человеческой деятельности? Вер¬
но. Есть. Но с той существенной разницей, что в конструкциях
немифических эта смена бесконечна. В алхимии —ежемгновен-
ное замыкание, микроцикличность повсеместно, каждый раз.
Размыкание алхимического двуполовинчатого, ребис-по-
добного мифического кольца в культурное — историческое —
пространство мнится как разрешение иной оппозиции: вечно-
сущностность — житийность, миф — летопись, вневременная
алхимическая литургия — исторически фиксированное ле¬
тописное житие... Первое осуществление чуда трансмутации
Мастера Данте Алигьери заповедь
869
есть сюжет первого алхимического жития. Трансмутация мо¬
жет стать пресуществлением. Жизнь адепта — житием свято¬
го. Алхимическое деяние — сакральной литературой. А потом
и просто литературой — авантюрной, плутовской, какой угод¬
но. Но именно к этому все идет. От мифа к литературе, от мифа
к истории; но к такой литературе и таким историям, которые
помнят и говорят (!) о своем мифическом предбытии. Но как же
свершилось это радикальное превращение?
Верно, что алхимическое мифотворчество практично в от¬
личие от духовного, собственно христианского мифотвор¬
чества. Его материальная изнанка, дополняющая, но и ка¬
рикатурная. Алхимия — это магия, принявшая, однако,
в средневековые времена форму теургии, то есть прямого воз¬
действия на верховного Бога. Именно в монотеистической ал¬
химической магии языческие сны и христианская явь живут
нераздельно*. Но именно здесь и таится возможность преоб¬
разования алхимического мифа в иное: оборотничество как
пресуществление.
В позднеалхимические — последантовские— времена эта
мифологема становится предметом осознания. Алхимическое
трансмутационное мифотворчество пресуществляется в боже¬
ственное дело, объемлющее весь средневековый окоем. Миф,
притязающий и на чужое пространство, деградирует в-неми-
фическую реальность. Языческое оборотничество ушло в пресу¬
ществление, но ушло алхимическим образом — опять-таки с по¬
мощью небесно-магического «камня». Но в последантовской
алхимиивоспроизводится и черномагическая возможность:
«черный камень» соединяет с Христом вечным словом и горя¬
щей любовью. Здесь лить начало черномагической алхимии,
еще помнящей о христианском мифе, живущей рядом с ним, им
и притворившейся. Утверждается понятие об адской тинктуре,
которая состоит из адских алхимических начал, то есть адских
серы, ртути и соли. Они истекают из сущностей обитателей
преисподней, не являясь, однако, дьявольскими сущностями.
Адская тинктура — это темный камень, осуществляющий отри¬
цательное —Люциферово— совершенство. В итоге: грех, блуд,
маниакальная плотская любовь вместо Божественной любви,
* Языческие сны — поскольку это магия; христианская явь — поскольку
магия эта теургична.
870
В. Л. РАБИНОВИЧ
за которую ответственна «небесная тинктура». Здесь же и ад¬
ское золото, с виду ничем не отличимое от праведно получен¬
ного, зато обладающее греховными свойствами. Вместе с тем
адская тинктура, как и небесная, столь же всесильна и всепро-
никающа, а материя ее столь же тонка и субтильна.
Алхимическое трансмутационное мифотворчество пресу¬
ществляется в божественное дело, объемлющее весь средневе¬
ковый окоем.
Пресуществление наоборот. Вниз! Языческо-христианское
оборотничество. Опять-таки алхимический способ выйти в чер¬
номагические потемки — за пределы алхимического мифа.
Но с помощью главной алхимической мифологемы: философ¬
ского камня как средства оборотническогопресуществления*.
Алхимический миф и миф христианский. Их синхронное
историческое сосуществование. Каково оно?
И вновь Данте, современник и очевидец алхимических фан¬
тасмагорий, глядящий в кривое алхимическое зеркало, рассма¬
тривающий ночной алхимический миф чистыми глазами хри¬
стианина XIII — Х1Устолетий и как бы предусмотревший ее
предсмертную жизнь — на три-четыре века вперед.
«Искусник в обезьянстве»
Круг восьмой Дантова Ада. Ров десятый. «Последняя оби¬
тель Злых Щелей...» Здесь подделыватели металлов мучаются
жуткой телораздирающей чесоткой. Вслед за Данте познако¬
мимся и мы с ними. Первый подделыватель, аретинецГриффо-
лино, рекомендует себя так:
«Я из Ареццо; и Альберо вСьене, —
Ответил дух, — спалил меня, хотя
И не за то, за что я в царстве теней.
Я, правда, раз ему сказал, шутя:
«Я и полет по воздуху изведал»;
А он, живой и глупый, как дитя,
* Несомненно, все это окрашено и в социальные тона. Учение обадской
трансмутации — хороший способ отмежеваться от подозрений, дабы обе¬
спечить безопасные практические штудии в области трансмутации рай¬
ской. Вор, кричащий «Держи вора!», — точная характеристика кризис¬
ной ситуации алхимического мифа.
871
Мастера Данте Алигьери заповедь
Просил его наставить; так как Дедал
Не вышел из него, то тот, кому
Он был как сын, меня сожженью предал.
Но я алхимик был, и потому
Минос, который ввек не ошибется,
Меня послал в десятую тюрьму».
(«Ад», XXIX, 109-120)
Земная смерть Гриффолино вполне тривиальна. Костер свя¬
той инквизиции — за безбожное колдовство. Однако не столь-
коза колдовство, сколько за неудавшееся колдовство: не смог
обучить Альберо, любимца сьенского епископа, летать по воз¬
духу. Колдовство, бесполезное для власть имущих, и есть ересь,
достойная костра. Колдовство с пользой — совсем другое дело.
Алхимия здесь ни при чем. Она была вполне дозволенной, если
только без надобности и без ведома с ее помощью не подделы¬
вать металлы. Гриффолино подделывал или мог подделывать
металлы, потому что был алхимиком. Именно это обстоятель¬
ство не ускользнуло от проницательного Миноса. В результа¬
те — «десятая тюрьма».
Рассказывая земные сьенские истории, Гриффолино упо¬
минает своих дружков Стрикку и Никколо, которые в земной
жизни принадлежали кнекоему «расточительному дружеству».
Оно состояло из двенадцати молодых мотов, решивших все свое
состояние прокутить, пустить на ветер, как о том толкуют ком¬
ментаторы «Божественной комедии». Значит, рядом с алхими¬
ей, алчущей золота, стоят чернокнижное колдовство и лихая
расточительность. Но и сама алхимия, всецело дозволенное ис¬
кусство, могла быть средством обмана.
Капоккьо— второй алхимик. Он был, по свидетельству био¬
графов Данте, школьным товарищем поэта. В 1293 г. его сожг¬
ли по приговору инквизиции в Сьене. Он представляется Данте
несколько иначе:
«И чтоб ты знал, кто я, с тобой трунящий
Над сьенцами, всмотрись в мои черты
И убедись, что этот дух скорбящий —
Капоккьо, тот, что в мире суеты
Алхимией подделывал металлы;
872 В. Л. РАБИНОВИЧ
Я, как Ты помнить, если это ты,
Искусник в обезьянстве был немалый».
(«Ад», XXIX, 133-139)
Здесь с алхимией соседствует «обезьянство», искусство озор¬
ного передразнивания, которое вкупе с изготовлением фальши¬
вой монеты неумолимо ведет на костер.
С алхимией соседствует «обезьянство», искусство озорного
передразнивания, которое вкупе с изготовлением фальшивой
монеты неумолимо ведет на костер.
Можно допустить, что алхимия, не занимающаяся поддел¬
кой, сама по себе была бы вполне дозволена. Подлинные транс¬
мутации, имеющие природу пресуществленческого оборотни-
чества, воспринимаются с глубочайшим пиететом, исполнены
трепетного почтения как практическое дело, восполняющее
бестелесную духовность. Но с одним, правда, условием: без
обманного лицедейства. Иначе все это — лишь «обезьянство».
И тогда ты не алхимик, а фальшивомонетчик, подбавляющий
«к флоринам трехкаратную подмесь» («Ад», XXX; 90)*.
Там же, в десятом рву, томятся и другие подделыватели:
подделыватели людей, денег, слов. Обманным подделкам про¬
щения нет. Зато подлинное превращение — железа в золото,
«быка в козу» — приветствуют. Но историческая жизнь алхи¬
мии , поддерживаемая реально-мифической неосуществимо¬
стью сокровенных чаяний в области истинной трансмутации,
осуществляла себя мифически-реальной осуществимостью
мнимых превращений, замешанных на чернокнижном кол¬
довстве, авантюрном мотовстве, передразнивающем «обезьян¬
стве» — изнанке сдержанности и аскетической умеренности ка¬
нонического Средневековья.
Это и составляло социально-историческую жизнь алхимии,
ее практику, противостоящую официальной средневековой со¬
циально-исторической жизни с ее христианской духовностью.
Данте видит составность алхимии: переводит на язык правовер¬
ного христианина лишь то, что переводимо, переводя и алхими¬
ческий миф в христианский, изгоняя из христианского мифа
чернокнижно-алхимическое —лицедейски-обезьянье. Но такое
* То есть на одну унцию золота — три карата меди; карат — 1/24 унции.
См.: Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1967. С. 587.
Мастера Данте Алигьери заповедь
873
изгнание сродни обнажению в алхимии... алхимии, Средних ве¬
ков... в Средних же веках. Зато выход в иное культурное про¬
странство — в Ренессанс, новое время.
Заметьте: выход в иное мыслится Данте как подлинно ал¬
химический —пресуществленчески-оборотнический— выход.
Но алхимическое лицедейство рядом. Обезьянничающий фаль¬
шивомонетчик Капоккьо и летающий по воздуху мот и транжир
обманщик Гриффолино— вот они тут, в пределах средневеко¬
вой культуры.
« Falseggiandolamonet а »
Подделыватель металла —обязательный персонаж универ¬
сального текста средневековой культуры Дантовой «Комедии».
Столь же обязательный, сколь и гонимый (не изгоняемый!).
Однако соразмерное этому преступлению наказание ждет алхи¬
мика-фальшивомонетчика только в аду (костер на этом свете —
чересчур.) Какое же им —Капоккьо и Гриффолино— уготовано
мучение?
Я видел двух, спина к спине сидевших,
Как две сковороды поверх огня,
И от ступней по темя острупевших.
Поспешней конюх не скребет коня,
Когда он знает — господин заждался,
Иль утомившись на исходе дня,
Чем тот и этот сам в себя вгрызался;
Ногтями, чтоб на миг унять свербеж,
Который только этим облегчался,
Их ногти кожу обдирали сплошь,
Как чешую с крупночешуйной рыбы
Или с леща соскабливает нож.
(«Ад», XXIX, 73-84)
Наказание как бы восстанавливает порченый металл — сди¬
рается фальшивая позолота во имя высветления подлиннойсущ-
ности, если таковая есть. Рыба — иносказание алхимического
Меркурия-ртути, одного из двух основополагающих начал ис¬
кусства Гермеса, беспорочная чистота которого (Меркурия) —
874
В. Л. РАБИНОВИЧ
залог истинности трансмутации, ничего общего с подделкой
не имеющей. Чесаться — мука, но и облегчение. Как мучитель¬
но-сладок подвижнический труд настоящего адепта Великого
деяния! Поэтому ироническая реплика Вергилия, обращенная
к одному из чешущихся, скорее доброжелательная, нежели из¬
девательская:
«...Да не обломаешь
Вовек ногтей, несущих этот труд!»
(«Ад», XXIX, 89-90)
Наказание, неотвратимо адекватно содеянному, и распоря¬
дитель-судья — язычник Минос. Обратите внимание: именно
язычник распоряжается посмертными судьбами христианских
грешников, и распоряжается правильно — «Минос, который
ввек не ошибется» («Ад», XXIX, 119). В данном случае — чест¬
но-алхимический тип наказания за нечестно-алхимический
грех. Собственно алхимия— вне осуждения.
Подделка, фальсификация, выдача одного за другое — по¬
нятие широкое и связывается не только с подделкой металла.
Подделыватели людей (выдающие себя за других), денег, слов
(лжецы и клеветники) находятся там же, в последней обители
Злых Щелей (Malebolge) — в десятом рву. Таким образом, ак¬
цент на первом — подделка, а уж потом — что именно поддела¬
но. И тогда алхимия подделывающая — в одном ряду с мошен¬
ническими проделками и с обманнымсловоговорением. Снова
заметим: именно подделывающая алхимия, поставляющая
сырье —фальшивым металл — для фальшивой монеты, изго¬
товление которой — дело совсем уже не алхимиков, а фальши¬
вомонетчиков.
Подделку денег обыденное сознание уверенно сближает с ал¬
химическим искусством, ибо в основе такой подделки изменение
обличья металлической субстанций — изменение лигатуры.
Любым подделкам — прощения нет. ДжанниСкикки, «под¬
делывающий старого Буозо», дабы изменить условия завеща¬
ния последнего к собственной выгоде; Мирра, подделывающая
себя, чтобы прелюбодействовать с родным отцом; Синон, обма¬
нувший троянцев со своим пустотелым — истинна лишь оболоч¬
ка — конем; жена кастрата Потифара, оклеветавшая Иосифа
Мастера Данте Алигьери заповедь
875
с помощью поддельных слов — словесных знаков, пришпилен¬
ных к вымышленной сути... Во всех случаях — внешность одна,
существо — совершенно иное. Внешне алхимическое превраще¬
ние, в принципе не имеющее ничего общего с подлинным преоб¬
ражением —пресуществлением— вещи, с теоретически обосно¬
ванной алхимической трансмутацией.
Подделку денег обыденное сознание уверенно сближает с ал¬
химическим искусством, ибо в основе такой подделки изменение
обличья металлической субстанций — изменение лигатуры. Та¬
ков Мастер Адамо — англичанин из Казентино, расположенного
в долине верхнего Арно. По заказу графов Твиди да Ромена этот
Адамо чеканил для них фальшивые флорины, бесчестя и фаль¬
сифицируя «Крестителей запечатленный сплав» — золотую
флорентийскую монету (fiorino). На лицевойстороне этого фло-
рина(Аоге) изображали Иоанна Крестителя, на оборотной — ли¬
лию, герб Флоренции. Подделка такой монеты вдвойне грехов¬
на: это одновременно и антихристианская, и антигражданская
акции, которые к этим временам не обязательно должны со¬
впасть. В результате — мученическая смерть на костре в 1281 г.
именем Флорентийской республики. Но инициаторы этой под¬
делки, заказчики мастера — графы Гвиди, владельцы Ромены
и Порчано(Рогшапо — Porci— свиньи) — для Данте куда вино¬
внее и отвратительней исполнителя Адамо. Таков заказчик
...среди дрянной свиной породы,
Что только желудей не жрет пока...
(«Чистилище», XIV, 43-44)
А теперь самое время обратиться к инфернальному быту раз¬
ного рода подделывателей, как это дано у Данте (предстоит про¬
странное цитирование, но оно необходимо):
Один совсем как лютня был устроен;
Ему бы лишь в паху отсечь долой
Весь низ, который у людей раздвоен.
Водянка порождала в нем застой
Телесных соков, всю его середку
Раздув несоразмерно с головой.
И он, от жажды разевая глотку,
876
В. Л. РАБИНОВИЧ
Распялил губы, как больной в огне,
Одну наверх, другую к подбородку.
«Вы, почему-то здравыми вполне
Сошедшие в печальные овраги, —
Сказал он нам, — склоните взор ко мне!
Вот казнь Адамо, мастера-бедняги!
Я утолял все прихоти свои,
А здесь я жажду хоть бы каплю влаги.
Все время казентинские ручьи,
С зеленых гор свергающие в Арно
По мягким руслам свежие струи,
Передо мною блещут лучезарно.
И я в лице от этого иссох;
Моя болезнь и та не так коварна.
Там я грешил, там схвачен был врасплох,
И вот теперь — к местам, где я лукавил,
Я осужден стремить за вздохом вздох.
Я там, в Ромене, примесью бесславил
Крестителем запечатленный сплав,
За что и тело на костре оставил.
Чтоб здесь увидеть, за их гнусный нрав,
Тень Гвидо, Алессандро иль их братца,
Всю Бранду я отдам, возликовав.
Один уж прибыл, если полагаться
На этих буйных, бегающих тут.
Да что мне в этом, раз нет сил подняться?
Когда б я был чуть-чуть поменьше вздут,
Чтоб дюйм пройти за сотню лет усилий,
Я бы давно предпринял этот труд,
Ища его среди всей этой гнили,
Хотя дорожных миль по кругу здесь
Одиннадцать да поперек полмили.
Я из-за них обезображен весь;
Для них я подбавлял неутомимо
К флоринам трехкаратную подмесь».
(«Ад» XXX, 49—90)
Пока остановимся. О «трехкаратной подмеси», то есть о под¬
делке сплава, «запечатленного Крестителем», уже сказано.
Мастера Данте Алигьери заповедь
877
Не сказано о наказании — водянке, пустых водах, раздувших
телесную — внешнюю — оболочку, лишенную сути: телесные
соки застойны, а пересохший рот жаждет животворящей —
не поддельной — воды казентинских ручьев. Антитеза мнимого
и подлинного. Жажда по настоящему, мучительная в своей не¬
достижимости. И все это — за обман во имя чужих интересов.
Истинное слово — золотое слово. Ложное — та же фаль¬
шивая монета. Подделка вещи и слова — обычный род заня¬
тий алхимика — шарлатана, ни в коем случае не истинного
адепта герметического искусства.
Кто же окружает несчастного Адамо? Такие же подделыва¬
тели, как и он, — но только подделыватели слова. Истинное
слово — золотое слово. Ложное— та же фальшивая монета. Вот
почему фальшивомонетчик и лжец — рядом. Овеществленное
слово — оглашенная вещь. Средневеково-алхимический кун-
стшюк. Подделка вещи и слова— обычный род занятий ал¬
химика-шарлатана, ни в коем случае не истинного адепта гер¬
метического искусства. И хотя «Крестителем запечатленный
сплав» фальсифицирован изменением лигатуры, это все-таки
«аурификция», но не «аурифакция». Подделка, а не златодель-
ческое деяние трансмутирующего алхимика.
Но двинемся дальше — вслед за Адамо и его со-мучениками:
И я: «Кто эти двое, в клубе дыма,
Как на морозе мокрая рука,
Что справа распростерты недвижимо? »
Он отвечал: «Я их, к щеке щека,
Так и застал, когда был втянут Адом;
Лежать им, видно, вечные века.
Вот лгавшая на Иосифа; а рядом
Троянский грек и лжец Симон; их жжет
Горячка, потому и преют чадом».
Сосед, решив, что не такой почет
Заслуживает знатная особа,
Ткнул кулаком в его тугой живот.
Как барабан, откликнулась утроба;
Но мастер по лицу его огрел
Рукой, насколько позволяла злоба,
Сказав ему: «Хоть я отяжелел
878 В. Л. РАБИНОВИЧ
И мне в движенье тело непокорно,
Рука еще годна для этих дел ».
«Шагая в пламя, — молвил тот задорно, —
Ты был не так-то на руку ретив,
А деньги бить она была проворна».
И толстопузый: «В этом ты правдив,
Куда правдивей, чем когда троянам
Давал ответ, душою покривив».
И грех: «Я словом лгал, а ты — чеканом!
Всего один проступок у меня,
А ты всех бесов превзошел обманом!»
«Клятвопреступник, вспомни про коня, —
Ответил вздутый, — и казнись позором,
Всем памятным до нынешнего дня!»
«А ты казнись, — сказал Синон, — напором
Гнилой водицы, жаждой иссушен,
И животом заставясь, как забором!»
Тогда монетчик: «Искони времен
Твою гортань от скверны раздирало;
Я жажду, да, и соком наводнен,
А ты горишь, мозг болью изглодало,
И ты бы кинулся на первый зов Л
изнуть разок Нарциссово зерцало».
(«Ад», XXX, 91-129)
Язычник и христианин вместе, ибо грех один, почитавшийся
таковым всегда. И все же: «Я словом лгал, а ты — чеканом!» —
возражает находчивый грек фальшивомонетчику Адамо. Для
грека времен Троянской войны подделка слова куда безобиднее,
нежели подделка монеты. Для Данте — обман есть обман, ибо
слово и вещь взаимопревращаемы, взаимообращаемы — транс-
мутационно-алхимическим образом. И потому обе подделки рав¬
но греховны; может быть, обе есть одна подделка. По той же при¬
чине в этой склоке победителей нет и не будет. Так им всем и надо!
Для грека времен Троянской войны подделка слова куда бе¬
зобиднее, нежели подделка монеты. Для Данте обман есть об¬
ман, ибо слово и вещь взаимопревращаемы, взаимообращае¬
мы — трансмутационно-алхимическим образом.
Мастера Данте Алигьери заповедь
879
А вот и подделыватели людей дубасят подделывателя метал¬
ла Капоккьо. Это небезызвестные ДжанниСкикки и Мирра. Вот
что, например, вытворяет этот самый Скикки и прелюбодейка
Мирра с бедным алхимиком, гораздым на подделки металла:
...две бледных голых тени,
Которые, кусая всех кругом,
Неслись, как боров, поломавший сени.
Одна Капоккьо в шею вгрызлась ртом
И с ним помчалась; испуская крики,
Он скреб о жесткий камень животом.
Дрожа всем телом: «Это ДжанниСкикки, —
Промолвил аретинец, — Всем постыл,
Он донимает всех, такойвот дикий»,
(«Ад», XXX, 25—33)
А вот и:
«...Мирры безрассудной
Старинный дух, той, что плотских утех
С родным отцом искала в страсти блудной.
Она такой же с ним свершила грех,
Себя подделав и обману рада,
Как тот, кто там бежит, терзая всех,
Который, пожелав хозяйку стада,
Подделал старого Буозо, лег
И завещанье совершил, как надо».
(«Ад», XXX, 37-45)
Все то же. Любые обманы уравнены в правах. Отмечу здесь
вновь появившийся образ свиньи («‘1 porco»). Запомним. Эта
свинья — или боров, или кабан — нам еще пригодится.
Итак, «софистика» — подделка драгоценных металлов, а по¬
том и денег. Что, в конце концов, подневольный Адамо и даже
его заказчики — графы Гвиди, когда сам Филипп IV Красивый
(он же «Проклятый») замешан в том же! К. Маркс: «...подделка
денег: в этом Филипп Красивый мастер. Запрещает, например,
совершенно вывоз золота и серебра, заставляет жестокими на¬
казаниями принимать свое низкопробное золото: принудил
В. Л. РАБИНОВИЧ
880
однажды всех— кроме епископов и баронов— отдать 1/2 их
серебряной утвари для своего монетного двора... повсюду вспы¬
хивали волнения (в 1306,1310 и 1314 гг. — В. PJ... его проделки
с монетой обогатили только ростовщиков и спекулянтов... достиг
на время единства монеты»*. Он отменяет право светских феода¬
лов выпускать собственную монету, однако при уплате налогов
требует безусловно «добрую монету». Вот какой был этот авгу¬
стейший. Филипп-фальшивомонетчик, конечно же, затмивший
кустаря-одиночку Адамо и даже его заказчиков — графов Гвиди.
Общественное мнение бурлит. Подделка монеты — тягчай¬
шее социальное зло.
Гильо де Mainò, один из приближенных короля Чехии Яна
Богемского, сына Генриха VII:
«Есть еще вещь, по мне нехорошая,
Это...
Порченая монета...»**.
Жиль Ли Мюизис: «Жаждут мира и хорошей монеты» ***.
Он же:
«Король должен...
Чеканить настоящую монету, которая бы повсюду принима-
___ ****
лась»
Годфруа Парижский:
Путем порчи[монеты] и колебаний ее стоимости
советникинашею доброго короля
Нас всех к такому разоренью привели»*****.
Налоговый гнет и порча монеты — два зла, с коими не может
смиритьсянетольконарод,ноигородскиеверхитоженемогут******.
Каким же образом Филипп Красивый фальсифицировал мо¬
нету? Практиковались добавки олова (возможно, и меди) к зо¬
лоту, что, конечно же, изменяло лигатуру. Это подтверждает
флорентиец Джованни Виллани, автор «Новой Хроники».
* Маркс К. Хронологические выписки // Архив Маркса и Энгельса. М.»
1970. Т. 5. С. 320-321.
** Мелик-ГайказоваН. Н. Французские хронистыХГУ в. как историки свое¬
го времени (общественно — политические взгляды), М., 1970. С. 126.
*** Там же. С. 126.
**** Там же. С. 128.
***** Мелик-Гайказова H. Н. Французские хронисты XIV в... С. 129.
****** См,: Наумов.Е.П. Сословные монархии средневековой Европы и полити-
ческиеконцепции Данте //Дантовские чтения. М., 1979. С. 28-32.
Мастера Данте Алигьери заповедь 881
Жульнические «финансовые реформы» шли рука об руку
с прямым разбоем и грабежом. Этот монарх с одобрения папы
Климента V не только ограбил орден тамплиеров, но и жестоко
расправился с рыцарями Храма. Жак де Моле, великий магистр
ордена, сожженный в марте 1314 г., проклиная своего палача
Филиппа IV Французского, в провидческом озарении будто бы
отпустил Филиппу только несколько месяцев жизни. Прорица¬
ние Моле сбылось: во время королевской охотына лошадь Фи¬
липпа якобы напал гигантский Кабан; король упал и от тяжких
переломов костей вскорости умер. Эту версию принял Данте:
Там узрят, как над Сеной жизнь скудна,
С тех пор как стал подделыциком металла
Тот, кто умрет от шкуры кабана...
(«Рай», XIX, 118-120)
Снова кабан («colpodicotenna»), олицетворяющий нечистую
силу, сопутствующий, как мы видим, мошеннически-алхими-
ческим плутням. «Falseggiandolamoneta» — убедительное за¬
вершение всей предварительной работы алхимика, вставшего
на путь «аурификции» — имитации золота, подделки металла.
Кабан, олицетворяющий нечистую силу, сопутствует, как
мы видим, мошенническималхимическим плутням — имита¬
ции золота, подделкой металла.
Беззаконная светская власть бок о бок со столь же беззакон¬
ной властью церковной:
...всех в скверне обогнав,
Придет с заката пастырь без закона...
(«Ад», XIX, 82-83)
Этот жуткий союз папской власти и власти королевской
с фантасмагорической выразительностью запечатлен так:
...священный храм
Явил семь глав над опереньем птичьим:
Вдоль дышла — три, четыре — по углам.
Три первые уподоблялись бычьим,
У прочих был единый рог в челе;
882
В. Л. РАБИНОВИЧ
В мир не являлся зверь, странней обличьем.
Уверенно, как башня на скале,
На нем блудница наглая сидела,
Кругом глазами рыща по земле;
С ней рядом стал гигант, чтобы не смела
Ничья рука похитить этот клад;
И оба целовались то и дело.
(«Чистилище», XXXII, 142-153)
Если присмотреться, семиглавое чудовище — священный
храм — сработано по алхимическим рецептам. Четырежды
повторенный образ единорога, один из центральных в гер¬
метической символологии, свидетельствует не столько об ал¬
химической фразеологии, сколько об алхимическом способе
лепки и формовки художественной мысли. Алхимический
гротеск в качестве оружия против алхимии фальсифициру¬
ющей, то есть в сущности уже не алхимии. Овеществленное
и одушевленное слово поэта-алхимика. «Три унции злости
и пять унций ртути» вступили в алхимическое — поэтиче¬
ское! — соитие. Имя и вещь предстают в алхимически-поэ-
тическом, вызывающе впечатляющем средостении. Отметим
и запомним это.
Правоверный еретик
Алхимия — не только мошеннические имитации, но еще
и подлинные трансмутации, всегда сопровождаемые магиче¬
скими (шире — чудодейственными) действованиями. Именно
от них следует решительно отмежеваться. Что и делает Дан¬
те, поместив прорицателей и волшебников — в Четвертый ров
Восьмого круга (те же Злые Щели):
Когда я взору дал по ним скользнуть,
То каждый оказался странно скручен
В том месте, где к лицу подходит грудь;
Челом к спине повернут и беззвучен,
Он, пятясь задом, направлял свой шаг
И видеть прямо был навек отучен.
(«Ад», XX, 10—15)
Мастера Данте Алигьери заповедь
883
И далее:
А следующий, этот худобокой,
Звался МикелеСкотто и большим
В волшебных плутнях почитался докой.
А вот Бонатти; вот Азденте с ним;
Жалеет он о коже и о шиле,
Да опоздал с раскаяньем своим.
Вот грешницы, которые забыли
Иглу, челнок и прялку, ворожа;
Варили травы, куколок лепили.
(«Ад», XX, 115-123)
Кто они такие? МикелеСкотто— астролог XIII века. Гвидо
Бонатти из Форли— тоже астролог того же века. Азденте сапо¬
жник из Пармы, предсказатель. Все атрибуты для ворожбы. Ку¬
колки («imago»), с помощью которых колдуньи изводили жизнь
из людей. Ведьмовские отвары — будущие зелья трех ведьм
Шекспирова «Макбета». Все, как положено. Всю эту нечисть
представляет поэту его римский собрат и учитель Вергилий
как бы между прочим:
Так, на ходу, он говорил со мной.
(«Ад», XX, 131)
Обратите внимание: прямой взгляд всем им категорически
противопоказан — кривда, путь в обход, ведьмаческий экивок.
И все это — для начала — во имя реабилитации Вергилия,
слывшего магом. Попутно стоит отметить, что, по преданию, род¬
ной город поэта, Мантую, основала волшебница Манто. Вергилий
обосновывает иную — праведную — версию основания города:
«И если ты услышал бы в народе;
Не эту быль о родине моей,
Знай — это ложь и с истиной в разброде».
(«Ад», XX, 97-99)
Вергилий, вопреки слухам, оправдан. Оправдан и Данте.
Чернокнижие осуждено. Можно сказать, что пресуществ лена
884
В. Л. РАБИНОВИЧ
и алхимия: соскоблена черномагическая порча с этого золото¬
носного дела. Во всяком случае, такое домысливание допусти¬
мо.
Чернокнижие осуждено. Можно сказать, что пресуществле-
на и алхимия: соскоблена черномагическая порча с этого золо¬
тоносного дела.
Между тем этого магоненавистника— Данте подозревали
в совершении магических действии, связывая эти действия,
как считают иные историки, с «причастностью» Данте к поку¬
шению на папу Иоанна XXII*. Не поэтому ли кардинал Под-
жетто требует предать останки поэта инквизиционному костру?
Инструкция «Deexecutioneincadaverdelinquentis» («О наказа¬
нии грешника, ставшего трупом») предусматривает в качестве
самой мягкой меры снятие креста с могилы грешника (=ерети-
ка). Ересь и кощунство — синонимы. Верно: эта инквизитор¬
ская инструкция появилась два века спустя после смерти Дан¬
те, но время поэта она сполна ассимилировала. Тем более что
у этого документа были вполне авторитетные предшественники
* Об отношении Иоанна XXII к алхимии следует сказать особо. В 1334 г.
он становится обладателем несметных сокровищ, якобы наработанных
многотрудными алхимическими стараниями, описанными в его соб¬
ственном алхимическом трактате. Первый христианин католического
мира — автор тайных книг. Вместе с тем тот же папа в 1327 г. издает бул¬
лу против магов «Superilliusspecula». Онаотлучала!рзо facto всех, кто-
занималсячерномагическимиделами (Thorndike L. History of Magic and
Experimental Science. N. Y., 1934. Vol. 3. Ch. 11). Булла «специально про¬
тив алхимиков» — «Spondetquas non exhibent» —издана им же десяти¬
летие мранее (Stillmann J. М. The Story of Alchemy and Early Chemistry.
N. Y., 1960. P. 274). Неуловка ли все это? Всмотримся пристальней. Инк¬
визитор Николай Эймерик (1396 г.), как о том свидетельствует Линн-
Торндайк, сообщает: папа Иоанн XXII, прежде чем обнародовать буллу,
собрал алхимиков и природознатцев, дабы выведать у них, основывает¬
ся ли алхимия на природе. Алхимики сказали да, природознатцы— нет.
Но доказать свое мнение алхимики не смогли. Отождествив алхимиков
с фальшивомонетчиками, папа постановил: «Отныне занятия алхимией
запрещаются, а те, кто ослушается, будут наказаны, заплатив в пользу
бедных столько, сколько произведено золота. Если этого будет мало, су¬
дья вправе прибавить, объявив их всех преступниками. Если мошенни¬
ками окажутся клирики, то их следует лишить бенефициев» (ThomdikeL.
History of Magicand Experimental Science. P. 32; Walsh J. J, The Popes
and Science. L., 1912. P. 124-126). Алхимики (точнее, фальшивомонетчи¬
ки) — подрыватели экономических устоев, а не устоев веры. Данте и папа
Иоанн XXII — оба — против изготовителей фальшивой монеты.
Мастера Данте Алигьери заповедь
885
(например, «Tractatusdehereticis» Ансельма Александрийско¬
го, появление которого как бы отметило год рождения Данте).
А в год смерти поэта отшумел очередной инквизиционный про¬
цесс катаров во Франции, курируемый папой Иоанном XXII,
вполне подходящим восприемником «беззаконного пасты¬
ря» — Климента V, которого нам сполна представил поэт*.
Поэтому мера, предложенная бдительным кардиналом Под-
жетто, обратившего свойвсепроникающий взор к останкам твор¬
ца «Комедии», не кажется чем-то особенным. Обычные дела...
Итак, антифальшивомонетчик, античернокнижник, анти-
маг, но преследуемый и гонимый, травимый и по смерти. Зна¬
чит, сейсмически чуткое ухо церкви что-то такое слышало. Это
ухо слышало особые еретические обертоны внешне ортодоксаль¬
ных речений поэта. А недреманное око той же церкви безупреч¬
но улавливало — тоже еретические — сполохи испепеляющих
и прямых Дантовых взоров.
Что мы знаем о еретическом ощущении бытия, явленном
в жизни и творчестве поэта?
А. К. Дживелегов отмечал: «Данте был свидетелем триум¬
фов ереси и ее поражения. И отнюдь не безучастным»**. И да¬
лее: «Какой вселенский собор постановил отдать христианских
грешников насуд язычнику Миносу, а подступы к чистилищу
поручить язычнику Катону? <...>Образы античной мифологии
с капризной непринужденностью приходятв соприкосновение
с христианскими и аллегорическими. Гиганты и кентавры со¬
стязаются с более или менее ортодоксальными дьяволами и бе¬
сами всех рангов. Поэзия остается в выигрыше. Католический
догматизм несет великий ущерб. Такова религия Данте в «Ко¬
медии». Она не была бы столь свободной, если бы сознания поэ¬
та не коснулась ересь. Беспредельное господство любви, правды
и человечности над «канонами»***.
Влияние ересей дуалистического типа на формирование
мировоззренческих установок Данте обстоятельно изучил
И. Ф. Бэлза, отметив альбигойцев с их религией любви, ката¬
ров, вальденсов, богомилов. Он же указал и на мировоззренче¬
* Бэлза И. Некоторые проблемы интерпретации и комментирования «Бо¬
жественной комедии» // Дантовские чтения. М.» 1979. С. 61-62.
** Дживелегов А. К. Данте Алигиери. Жизнь и творчество. М.» 1946. С. 34.
*** Дживелегов А. К. Данте Алигиери... С. 334-335.
886
В. Л. РАБИНОВИЧ
скую связь храмовников и Данте* — связь с поэтом тех самых
гонимых и травимых тамплиеров, разбогатевших, как утвер¬
ждали доверчивые современники, в числе прочего, и злато-се-
реброискательскими алхимическими стараниями.
«Неугодные правды» ересей были поэту по сердцу и по душе:
То вечный свет Сигера, что читал
В Соломенном проулке в оны лета
И неугодным правдам поучал.
(«Рай»,Х, 136-138)
Так говорит канонизированный Фома Аквинский о еретике
Сигере из Брабанта, поселившемся Дантовой волею в Раю. Неу¬
годные правды.,. Знаменательнейшее место!
Дуалистический характер ересей, полюбившихся Данте, —
вещь существенная. Именно в этой точке — возможное место
встречи Дантова сознания с сознанием алхимическим. В под¬
робности входить сейчас не будем.
Укажем лишь на резкую поляризацию vexillaregisn
vexillaregisinferni(4apcTBa света и царства тьмы), столь впе¬
чатляюще явленную в «Комедии». Абсолютизация вины и аб¬
солютизация богоугодного дела — структурирующий принцип
построения поэмы. Но метапринцип, осуществляющий художе¬
ственное средостение добра и зла, это, конечно же,
Lïamor chemoveilSoleel’altrestele.
Любовь, что движет солнце и светила.
(«Рай», ХХХШ, 145)
Именно Любовь (сравните альбигойскую, вполне еретическую
религию любви) —Дантов философский камень, претворяю¬
щий эту великую трансмутацию— переплав и единство — Добра
иЗла. Именно поэтому этот стих венчает все три кантики поэмы.
Любовь, что движет солнце и светила.
Но материал поэмы — это всегда «слова темного цвета»
(«scurosocheparlo», «Чистилище», XI, 139): отяжеленный
* Бэлза И. Некоторые проблемы интерпретации... С. 51.
Мастера Данте Алигьери заповедь
887
дух — одухотворенный предмет в их удивительной — алхими¬
ческом — одновременности.
Дуалистический мотив обретает осязаемую реальность
развернутого образа в следующих терцинах:
Повсюду, и вдоль русла, и по скатам,
Я увидал неисчислимый ряд
Округлых скважин в камне сероватом.
Они совсем такие же на взгляд.
Как те, в моем прекрасном Сан-Джованни,
Где таинство крещения творят.
Я, отрока спасая от страданий,
В недавний год одну на них разбил:
И вот печать, в защиту от шептаний!
Из каждой ямы грешник шевелил
Торчащими по голени ногами,
А туловищем в камни уходил.
У всех огонь змеился над ступнями...
(«Ад», XIX, 13-25)
Флорентийский баптистерий, церковь Иоанна Крестителяв
Сан — Джованни, отрицательно аналогичен адским огненным
«крестильницам» (battezzatori). Злые щели в адском камне —
негатив пяти щелей баптистерия. Освященная вода таинства
крещения — антипод огня посмертной кары. Это место инте¬
ресно, по-новому и убедительно толкует И. Ф. Бэлза, полагая
удар по купели ритуальным жестом Данте, который хоть и спа¬
сал тонущего в купели мальчика, утверждал этим жестом тщету
искупления посредством крещения. Вещь вполне еретическая,
замешанная на дуалистическом представлении Добра и Зла*.
Как бы там ни было, священный камень Сан — Джованни и ад¬
ский камень, крещальная вода и адский огонь творят алхимиче¬
скую метаморфозу содеянного на земле в наказуемое по смерти,
высвобождая от порчи сокровенное — чистое и беспорочное —
посредством крещального красного пламени адских узилищ.
Почти алхимическая реминисценция греческих алхимиков
александрийской поры, восстанавливающих новое единение
вещи и имени, поступка и бестелесного для землян воздая¬
* Бэлза И. Некоторые проблемы интерпретации... С. 58-59.
888
В. Л. РАБИНОВИЧ
ния за него, овеществленного огня-духа и одухотворенной те¬
лесно-святой воды. Так казнятся не кто-нибудь, а святокуп-
цы-симонисты, торгующие духом святым как вещами, то есть
те же алхимики, только опять-таки поддельные и неистинные.
Алхимия истинная — оппозиция Добра и Зла, флорентийско¬
го баптистерия и адской купели, святой воды и адскихпламен,
камня священного и камня Преисподней...
Вечное время. Опыт трансмутации
Вот, кажется, и все внешнеалхимические включения в это
величественное сооружение Дантова гения. Отторгнуты мошен¬
нические судьбы Капоккьо и Гриффолино, до конца скомпроме¬
тированы всевозможные подделки-имитации: металлов, денег,
людей, слов. Разоблачено обманное — на публику рассчитан¬
ное — дешевое колдовство.
Оставлено без осуждения разве что веселое передразниваю¬
щее «обезьянство» — бесцельное как игра, как произвол ребен¬
ка или же озорная — со значением — пересмешка шута. Что же
до еретических, дуалистического свойства, доктрин, то они
в текст, конечно же, не вошли. Разве только провоцируют хитро¬
умие комментаторов, ищущих еретические пассажи в живых —
многозвучных и многоцветных — метафорах, этих неожидан¬
ных сполохах гениальной конструктивной фантазии великого
поэта. Цветосветовые ассоциации Данте, в которых, собственно,
и живет предметно выявленный мир «Комедии», не распада¬
ющийся — напротив, концентрирующийся — линзою Любви,
тождественной Фаворскому Свету истины — божественной, поэ¬
тической. Пресуществленческое оборотничество, поддерживаю¬
щее миф о философском камне, конечно же, не то же самое, как
о том уже сказано и как то уже показано, что пресуществление
христианское. Оно — иное, ибо преодолевает два великих иску¬
са: соблазн предмета, тяжелого, плотного, может быть, обезду¬
шенного, и соблазн духа, забывшего о своей воплощенной судь¬
бе, в которой этот дух только и существует. Ясно, что Данте-поэт
преодолевает эти искушения. Может быть, как раз трансмутаци¬
онным, как бы алхимическим образом. Конечно же, на уровне
структурной организации слова, а не на уровне прямолинейных
идеологем и внешне эмпирических сходств. Посмотрим.
Мастера Данте Алигьери заповедь
889
Все, что отринуто, то отринуто. Но зато замечено, выявлено
и представлено как эмпирически и поэтически данное: обман,
подделка, ворожба, ересь; соскоблен цвет как краска; подроб¬
но выписаны, отсняты в свете истины и стали поучениями XIV
и иных веков жуткие картины инфернальных наказаний мстя¬
щего, но взыскующего справедливости поэта. Остались невы-
явленными время и вечность, история и смысл истории, о ко¬
торых последующаяречь. Способ их средостения в «Комедии»
и есть квазиалхимический механизм Дантова художественного
мышления.
М. Бахтин писал: «...образы и идеи, наполняющие верти¬
кальный мир, наполнены мощным стремлением вырваться
из него и выйти на продуктивную историческую горизонталь,
расположиться не по направлению вверх, а вперед... Отсюда ис¬
ключительная напряженность всего Дантова мира. Ее создает
борьба живого исторического времени с вневременной потусто¬
ронней идеальностью. Вертикаль как бы сжимает в себе мощно
рвущуюся вперед горизонталь»*. Здесь, как, впрочем, всегда,
М. Бахтин попадает в самую суть дела. Блестящий комментарий
к М. Бахтину дает М. Л. Андреев, точными и емкими словами
представив соотношение времени и вечности у Данте**. Попро¬
буем дать результат этого замечательного анализа, конечно же,
приспособив его для наших дел. Поэма флорентийца мыслится
как «испытание исторического настоящего всемирной истори¬
ей, человека бренного человеком вечным... История для Данте
не является чем-то... неистинным, в ней должен содержаться
смысл, выход за пределы голой злободневности, благодаря ко¬
торому история и может быть поверена вечностью» ***. Пересече¬
ние времени и вечности, причем время — становящийся образ
вечности. Но вечность, вмещающая смысл истории, есть непод¬
вижный образ становления, «инобытие земной реальности».
А Данте — полномочный представитель человечества. При
этом будущее— не «движение к итогу»; оно— «развертыва¬
ние нескончаемой цепи становления», «победа добра над злом
в самой истории, а не вне ее». Вечность — не итог, а принцип.
* Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М.» 1975. С. 307-308.
** Андреев М. Л. Время и вечность в «Божественной Комедии» //
Дантовские чтения. М., 1979. С. 156-212.
Там же. С. 209.
890
В. Л. РАБИНОВИЧ
Она — для времени, а не наоборот. Она как бы восстанавливает
единство исторической жизни, осуществляя средостение плоти
и духа, морали и закона, человека и божества...» Время транс¬
формирует вечность в диалектический этап становления, кото¬
рое взрывает ее изнутри*. И далее: «Время... есть подвижный
образ неподвижного смысла». «Вечность и время по меньшей
мере на равных правах участвуют в диалоге, а вернее — ведет
его время, вечность же подает ответные реплики». Человек
исторический (Homoviator) осуществляет себя в человеке «веч¬
ном»**.
Злоба дня «финансовых реформ» Филиппа Красивого по¬
веряется инфернальными страстями чудовища и блудницы,
плутни подделывателей металлов — вечной телораздирающей
чесоткой, социальные конфликты «ортодоксии»и ереси стран¬
ным метафоротворчеством адской и земной купелей, в одной
из которой льется искупительный огонь, в другой — полыха¬
ет крещальная вода; цвет как краска вещает о божественном
свете любви... И тогда принцип организации «темнословного»
материала— не столько вечность, сколько «пресуществленче-
ское оборотничество» — центральная мифологема алхимиче¬
ского Дела, вечного, как слово, бренного, как вещь, — золото,
истинное и беспорочное, устремленное горизонтально — в уто¬
пическое грядущее благоденствие, наполняющее смыслом сию¬
минутное настоящее. Такова алхимия — «наука недвижимая»
(scientiaimmulabilis), но развернутая во времени становящейся
чредой предметно-вещных и понятийно-умозрительных станов¬
лений.
Словесно-вещный, рационально-сенсуалистический кен¬
тавр. Таков и алгоритм «Божественной комедии». Такая анало¬
гия (точнее: гомология) естественна, если попросту при таком
вот отсекающем всматривании неочевидна. Ибо и алхимия,
и поэзия причастны внеисторическим временам — вечности.
Но есть и отличие, как и положено ему быть во всякой уважаю¬
щей себя аналогии-гомологии. Если алхимик анонимен, внес-
ценичен и потому вездесущ, поэт — всегда личность. С имен¬
ным, только ему присущим жестом. «И я рукой не двинул...»:
отсутствие жеста как жест в высшей мере. Это и есть Дантов
* Там же. С. 210.
** Тамже. С. 211.
Мастера Данте Алигьери заповедь
891
философский камень, то есть он сам, в отличие от магистерия
алхимиков, ими же сотворенного в качестве предмета, в некото¬
ром смысле отделенного от мастера. Данте — сам: себе мастер,
сам себе и изделие. Творец самого себя; Ренессансная горизон¬
таль в отличие от индивидуалистической «вертикальной гори¬
зонтали» всесильных адептов тайного искусства*.
Здесь, может быть, и находится ключ, открывающий ставни
окна, из которого будет видна Дантова картина мира, «химиче¬
ски реактивный оркестр».
Здесь, может быть, — в этом сравнении — находится ключ,
открывающий ставни окна, из которого будет видна Дантова
картина мира, понятая как принцип сложения этой картины,
как «химически реактивный оркестр», управляемый дирижер¬
ской палочкой, этой, по точному и прозрачному слову Осипа
Мандельштама, «танцующей химической формулой», запечат¬
левающей алхимически неопалимую купину ртути и злости,
плоти и духа, истории и ее смысла, времени и вечности, поступ¬
ка и совести.
А теперь: сквозь термины — к звездам!
Небесный закройщик
Беру все небо на хитон,
Все целиком беру,
Ведь нежный этотматерьял
Брать надо целиком.
Рвать на клочки его нельзя,
Косынка, сарафан...
Нешвенно небо: только все —
Сейчас и про запас.
На хилость плеч и мышц моих...
Что без хитона я?!
А вот в Хитоне я Гермес,
Финист и Трисмегист.
Где небо веселило всех,
Теперь висит дыра,
* Подробности приключений адептов Гермеса см.: Рабинович В. Л. Алхимия
как феномен средневековой культуры. М., 1979; а также: Рабинович В. Л.
♦Божественная комедия» и миф о философском камне // Дантовские
чтения 1985. М„ 1985. С. 235-269.
892
В. Л. РАБИНОВИЧ
На тогу осе оно ушло
Во всю моюдлину...
Чуть сеем, — и снова неба синь,
На блейзер подойдет,
Или кровавая заря —
На пурпуровый плащ.
Когда ж сойдет сурьмянный цвет
В серебряную стынь,
Неброский этот двуколор
На палантин пущу.
Остудит пламена мои,
Стреручит* он меня,
Вверх обратит мои глаза
И крылья даст взамен —
Пространства обживать вокруг
С рулеткой и мелком
Прикидывать и обшивать
Тот свет на каждый день.
Но каждый день в зефирах тех —
Как праздник без забот,
А праздники у них идут
За будничные дни.
Скроил, как целый москвошвей,
Семи небес задел
И в этот крой за восемь дней
Всех ангелов одел.
Да простят мне эту терминологическую вольность любители и профессио¬
налы верховой езды.
И. Ю. ШАУБ
Дантов Улисс и Одиссей античного мифа
Впечатляющий образ Улисса, уникальность его фигуры
в «Божественной комедии» неоднократно привлекали к нему
внимание комментаторов и исследователей*, в том числе и оте¬
чественных**. Однако все они либо рассматривали этого героя как
литературный персонаж (У. Б. Станфорд, М. Е. Грабарь-Пас-
сек и др.), либо анализировали его с точки зрения семиотики***.
Нас же здесь интересует в первую очередь вопрос о том, в какой
степени Улисс (Одиссей) **** нашёл отражение у Данте как мифо л о-
* Библиография (не исчерпывающая): Лотман Ю. М Путешествие Улисса
в «Божественной комедии» Данте // Лотман Ю. М. Семиосфера; Культура
и взрыв; Внутри мыслящих миров: Статьи. Исследования. Заметки. СПб.,
2000. С. 310. Прим. 2.
** Грабарь-Пассек М. Е. Античные сюжеты и формы в западноевропейской
литературе. М., 1966; Сахаров В. И. Данте и Улисс // Литературная уче¬
ба, 1978, №6. С. 199-202; Лотман М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 303-
313.
*** Вот как, к примеру, Ю. М. Лотман резюмирует своё исследование эпи¬
зода путешествия Улисса в «Божественной комедии»: «Эпический плут,
сказочный герой-обманщик, превратившийся в поэзии Гомера в хитроум¬
ного царя Итаки, обретает в поэме Данте черты человека Возрождения,
первооткрывателя и путешественника. Образ этот и привлекает Данте
цельностью и силой, и отталкивает моральным индифферентизмом ...»
(Лотман Ю. М. Путешествие Улисса... С. 313.)
**** О многочисленных вариантах имени греческого героя и о том, как
на италийской почве он стал Улиссом см.: Maras D. Note sull’arrivo del
nome di Ulisse in Etruria // Studi Etruschi. V. 65-68 (2002). P. 237-249;
Poccetti P. Names ofGreek Religion and Mythology in the Languages of
Ancient Italy // Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens
I Edited by Martti Leiwo, Hilla Hallaaho & Marja Vierros. V. XVII. 2012.
P. 80-82.
894
И. Ю. ШАУБ
гический персонаж. (Насколько нам известно, под таким углом
зрения этот герой ещё не рассматривался).
Однако, прежде чем рассмотреть данный вопрос, позволим
себе привести пространную цитату из посвящённой Дантову
Улиссу работы Ю. М. Лотмана, поскольку, опираясь на его се¬
миотический анализ данного персонажа, можно, на наш взгляд,
сделать к выводам тартусского исследователя существенное до¬
полнение. По словам Лотмана, «нельзя не признать, что путе¬
шествие Улисса представляет собой весьма своеобразный эпи¬
зод. Образ Улисса в «Комедии» двоится. В «Злые щели» Улисс
попал как податель коварных советов... Улисс, как и Данте, на¬
делен индивидуальным путем. Между их трассами в мировом
континууме есть еще одно существенное сходство: они — герои
прямого пути. Сходство проявляется и в том, что пути их вопло¬
щают открытое движение, порыв в бесконечность; начинаясь
в точно обозначенных местах, они движутся в избранном на¬
правлении, а не стремятся к заранее обозначенному конечному
пункту.
Улисс — своеобразный двойник Данте. Двойничество его
проявляется в двух существенных аспектах. Во-первых, оба
они, в отличие от остальных персонажей, чьи грехи или добро¬
детели однозначно закрепили их за определенными locus ’ами
дантовского мира, «герои пути» — они постоянно находятся
в движении и, что еще важнее, постоянно пересекают грани¬
цы запретных пространств... Только Данте и Улисс — добро¬
вольные или вынужденные изгнанники, гонимые могучей
страстью, пересекают рубежи, отделяющие одну область миро¬
здания от другой. Во-вторых, их роднит общность маршрута:
и Данте, и Улисс спешат в одном направлении; разными путями
они движутся к Чистилищу: Данте сквозь Ад и через пещеры,
пробитые при падении телом Люцифера, Улисс — морем, мимо
Испании, Гибралтара, Марокко. Хотя путешествие Данте совер¬
шается в инфернальном мире, а Улисса — в реальном географи¬
ческом пространстве, — мета, к которой они спешат, одна. Это
подтверждается тем, что в путешествии по Чистилищу и Раю
Данте как бы перенимает эстафету погибшего Улисса. Два раза
поэт напоминает об утонувшем герое, и оба упоминания полны
значения»*.
* Лотман. Ук. соч. С. 311.
Мастера Данте Алигьери заповедь
895
Приведя данный пассаж для того, чтобы продемонстрировать
ход мысли исследователя, обратимся к тому месту «Божествен¬
ной комедии», которое представляет для нас особый интерес. Мы
имеем в виду перечисление живущих вдоль течения Арно свино¬
подобных жителей Порчано, собак-аретинцев, волков-флорен¬
тийцев и лисиц-пизанцев (Ч. XIV, 43-53). Отмечая этот пассаж,
Ю. М. Лотман констатирует, что «на реализации метафоры ско¬
топодобия построены многие адские муки. Поэтому слова Улис¬
са, напоминающего своим спутникам, что они люди, а не скоты,
и рождены для благородного знания, а не для животного суще¬
ствования, исполнены для поэта глубокого значения:
Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come
bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.
(Подумайте о том, чьи вы сыны: Вы созданы не для живот¬
ной доли, Но к доблести и к знанью рождены (Ад, XXVI,
118-120)»*.
Эта интерпретация, несомненно, верна. Однако, на наш взгляд,
семиотический анализ данного пассажа следует продолжить, по¬
скольку перечислению упомянутых в нём «скотоподобных» об¬
разов предшествует упоминание Цирцеи**, отличительной чертой
* Там же. С. 312. В поэме неоднократно встречается противопоставление
подлинных людей скотоподобным существам в человеческом облике, од¬
нако рассматриваемый пассаж имеет совершенно особый характер.
** «Места ли эти под наитьем зла,
Или дурной обычай правду рушит,
Но жалкая долина привела
Людей к такой утрате их природы,
Как если бы Цирцея их пасла.
Сперва среди дрянной свиной породы,
Что только желудей не жрет пока,
Она струит свои скупые воды;
Затем к дворняжкам держит путь река,
Задорным без какого-либо права,
И нос от них воротит свысока.
Спадая вниз и ширясь величаво,
Уже не псов находит, а волков
Проклятая несчастная канава.
И, наконец, меж темных омутов,
Она к таким лисицам попадает,
Что и хитрец пред ними бестолков»
(Ч. XIV, 38-54. Пер. М. Л. Лозинского).
896
И. Ю. ШАУБ
которой являлась не просто способность, но стремление превра¬
щать всех людей, попавших в её обитель, в животных. (Эта вол¬
шебница, в образе которой сохранились верования, связанные
с могущественной Владычицей зверей — одной из главных ипо¬
стасей Великой богини Средиземноморья, была хорошо известна
Данте не только из «Метаморфоз» Овидия(Х1У, 242-440) и «Эне¬
иды» Вергилия, но и из итальянской топонимики*) Учитывая это
обстоятельство можно предположить, что наряду с антиподаль¬
ной парой Улисс — Данте в поэме в скрытом виде присутствует
и её женский аналог: Цирцея** — Беатриче. Эта пара в ещё боль¬
шей степени, чем первая, воплощает в себе противоположные
полюса***. Если наша гипотеза верна, образность «Божественной
комедии» оказывается ещё более сложной и в тоже время ещё бо¬
лее стройной, чем представлялось ранее.
В своем пассаже, посвященном Улиссу (Ад. XXVI, 52 след.)
Данте объединяет наказание этого героя с мучением другого Го¬
меровского героя — Диомеда****. Оба они горят в одном и том же
огне. На вопрос Данте о том, кто пребывает в двойном огне Вер¬
гилий отвечает:
«В нем мучатся...
Улисс и Диомед, и так вдвоем,
Как шли на гнев, идут путем расплаты» (пер. М. Лозинского).
За что расплата? В полном соответствии с античным ми¬
фом — за «ввод коня, разверзший стены града, откуда римлян
В соответствии с позднейшей по отношению к Гомеру традицией место
пребывания Цирцеи было отнесено к Италии, конкретно — к мысу вблизи
Гаэты, «где потом пристал Эней» (Ад. XXVI, 92-93). Речь идет о Горе Цир¬
цеи (Монте Чирчелло) неподалеку от места, где, согласно легенде, Эней
похоронил свою кормилицу Кайету, назвав эту область ее именем (Verg.
Aen. VII, 1-24).
** Немаловажно, что по одной из версий мифа, Цирцея воскрешает Улисса
(Цец. Комментарий к «Александре» Ликофрона 806, 808; см.: Торши-
лов Д. О. Комментарий // Гигин. Мифы. СПб, 2000. С. 159.)
*** В данном случае речь идёт об антиномиях «Вечной Женственности».
**** О Диомеде в Италии см.: Немировский А. И. Античный миф о челове¬
ке-лебеде и его древнеславянские параллели // Норция, Воронеж. 1978.
Вып. 2. С. 23-30; он же. Каталог этрусских кораблей в Энеиде // ВДИ.
1978. № 1. С. 126; он же. Этруски. С. 26; Мавлеев Е. В. Греческие Диоме¬
ды и этрусский «человек-лебедь» // Художественные изделия античных
мастеров. Л. 1982. С. 89.
Мастера Данте Алигьери заповедь
897
вышел славный род», «за стоны мертвой Дейдамии», зовущей
Ахилла, за Палладий. Что здесь имеется ввиду? Троянский
конь, созданный по совету Одисеея (Улисса) и погубивший Трою
(об этом Данте хорошо знал из Энеиды (Verg. Aen. II, 13-267)).
Дейдамия — дочь скиросского царя Ликомеда, возлюбленная
Ахилла, который скрывался во владениях ее отца. Одиссей
и Диомед при помощи хитрости обнаружили героя на о-ве Ски-
рос и увлекли на роковую для него войну против Трои (об этом
упоминается и в Ч. IX, 39). Под ее стенами он и погиб. Безу¬
тешная Дейдамия призывает его в Лимбе (Ч. XXII, 103-120).
О похищении Одиссеем и Диомедом Палладия — священного
изображения богини Минервы (Афины), нахождение которого
в Трое гарантировало безопасность города, Данте было известно
из Энеиды (Verg. Aen. Il, 162-170).
Главные черты античного Одиссея — это ум и хитрость. Со¬
гласно некоторым вариантам мифа он сын не Лаэрта, а Сизифа,
обманувшего Смерть. Дед Одиссея со стороны матери (Анти¬
клеи)— Автолик— «великий клятвопреступник и вор» (Od.
XV, 396 сл.) — сын Гермеса. В Илиаде (II. XIII, 291-295) Афина
говорит, что в хитростях, измышлениях и коварстве с Одиссеем
трудно состязаться даже богу. Первоначально Одиссей не был
связан с мифами Троянского цикла, но пришел туда из фоль¬
клора, сказки, о чем наглядно свидетельствуют главные черты
его «истории» — полные опасностей приключения, встречи
с чудовищами и волшебницами, пребывание в «ином» мире
и многое другое.
В контексте «Божественной комедии» особенно важно пре¬
бывание Одиссея в загробном мире. Главный эпизод 26 песни
«Ада» — гибель Улисса в океане в виду горы Чистилища —
восходит к античной традиции. Так, Кратет из Маллы (II в.
до н. э.)*, который аллегорически толковал Гомера в духе стои¬
ческой космологии, полагал, что странствия Одиссея происхо¬
дили в океане. Там же, по мнению древних, находились и Остро¬
ва блаженных. Поэтому, вероятно, отнюдь не случаен тот факт,
* Pfeiffer R. A History of Classical Scholarship, t. 1. Oxf1968. P. 234-251;
Mette H. J. Sphairopoiia. Untersuchungen zur Kosmologie des Krates von
Pergamon mit einem Anhang: Texte. Muenchen. 1936; Bilie T. Crates of
Mallos and Pytheas of Massalia: Examples of Homeric Exegesis in Terms
of Mathematical Geography // Transactions of the American Philological
Association. 142 (2012). P. 295-328.
898
И. Ю. ШАУБ
что «второй раз Улисс вспоминается во время вступления поэта
в зону Близнецов. Оказавшись в точке, антиподной месту ги¬
бели Улисса, Данте совершает перелет к меридиану Геркулесо¬
вых столпов и далее, в бесконечной выси, повторяет путь Улис¬
са, пока не оказывается над местом его гибели, на меридиане
Сион — Чистилище. Здесь по оси падения Люцифера, прохо¬
дящей через место, где разбился корабль Улисса, он совершает
взлет в Эмпирей. Таким образом, путешествие Данте как бы про¬
должает путешествие Улисса с момента гибели последнего»*.
Однако если в локализации гибели Улисса в «Божественной
комедии» прослеживается античная традиция, то её антураж
и трактовка в качёстве наказания за его неуемную пытливость —
это целиком и полностью создание творческой фантазии Данте.
Кроме того, что для создания образа своего Улисса и истории
его странствий Данте пользовался «Энеидой» Вергилия и «Ме¬
таморфозами» Овидия (XIII, 1-398; XIV, 242-440)**. он явно об¬
ращался и к прочим источникам, прежде всего фольклорным,
поскольку в Италии существовала мощная и устойчивая тради¬
ция, связанная с пребыванием здесь Одиссея, свидетельством
чего являются многочисленные топонимы, восходящие к ан¬
тичности, которые традиция связывала со странствиями этого
героя у побережья Италии***.
Не менее тесная связь Улисса с Италией зафиксирована и ми¬
фологией. Так. по Феопомпу (FHG I, р.296 Fr. 115), Одиссей
умер в Этрурии; Ликофрон упоминает о том, что он похоронен
там на горе Перга близ Кортоны (Lyc. 805). В связи с этим его
иногда отождествляли с этрусским героем Наном****.
* Лотман. Ук. Соч. С. 312. Здесь же тартусский исследователь отмечает, что
«до этого момента они как бы дублируют друг друга».
** В комментариях к своему переводу «Божественной комедии» М. Л. Ло¬
зинский отмечает, что «рассказ о гибели Улисса восходит, по-видимому,
к послегомеровской легенде, передаваемой Плинием Старшим (I в.) и Со-
лином (III в.), согласно которой Улисс, по возвращении на Итаку, выплыл
в Атлантический океан, основал Лиссабон (Улиссип) и погиб в бурю у за¬
падного берега Африки». Откуда почерпнуты эти сведения неясно. В тек¬
сте Плиния этих сведений нам обнаружить не удалось, а у Сол ина Улисс
не упоминается вовсе.
'** См.: Philipps E. D. Odysseus in Italy // Journal of Hellenic Studies. V. 73.
1953. P. 53-67.
*** Об этом загадочном персонаже см.: Geisau Н. von. Nanas, Nanos // Der
kleine Pauly. Bd. 3. 1979. Sp. 1566.
Мастера Данте Алигьери заповедь
899
Детьми Улисса и Цирцеи (или Калипсо)* считались Авсон (Ав-
зон) (Plut. Rom. 2)** — родоначальник авсонов, древнейшего пле¬
мени Италии, первый царь Италии, и Латин — родоначальник
латинов, эпоним Лация (Hes. Theog. 1011-1016). Знаменательно,
что у Гесиода — древнейшего после Гомера античного автора —
Одиссей выступает в качестве родоначальника не греков, но важ¬
нейших для них племён Италии — латинов и тирренов (этрусков)***.
Но, пожалуй, наиболее впечатляющим известием об Одиссее
в Италии является сообщение Гелланика Лесбосского (V в. до н.
э****.) о том, что этот герой (наряду с Энеем) основал Рим (Dion.
Hal. Ant. Rom. I, 72, 2)*****.
* Несмотря на то, что столь важную для сюжета « Одиссеи » нимфу Калипсо Дан¬
те не упоминает (равно как и его античные источники — Вергилий и Овидий,
поскольку она для них явно персонаж избыточный), следует сказать о ней
несколько слов. У Гомера Калипсо выступает как «хитроковарная дочь козно-
дея Атланта», с которой «не водят общества» «ни вечные боги, ни смертные
люди». Негативный аспект образа Калипсо ярко выступает не только в том,
что она много лет против воли удерживает Одиссея на своём острове, но и в са¬
мом ее имени: Калипсо означает по-гречески «скрывающая», что указывает
на ее связь с миром смерти. О том же говорит и любимое занятие Калипсо —
ткачество (в мировом фольклоре прядение и ткачество тесно связаны с симво¬
ликой смерти). Можно с уверенностью утверждать, что в образе гомеровской
нимфы Калипсо явственно прослеживаются амбивалентные черты древней
доэллинской Великой богини всего сущего, владычицы жизни и смерти (Гомер
называет ее «светлокудрой нимфой», но он же именует ее «могучей богиней»
и даже «богиней богинь». В ее власти наделить Одиссея (но он от этого дара
отказывается) не только бессмертием, но и «вечноцветущей младостью», а это,
по представлениям греков, под силу разве только Зевсу. Кроме того, Калипсо
еще и распоряжается ветрами и, во всяком случае, в определенном радиусе
господствует на море.). Не исключено, что смутные воспоминания об этой бо¬
гине могли оживиться у греков под впечатлением знакомства с заброшенными
мегалитическими храмами на Мальте и Гозо, некогда воздвигнутыми для по¬
читания подобной же богини. Но идентификация одного из островов Мальтий¬
ского архипелага с обителью нимфы Калипсо могла произойти только через
сотни лет после создания «Одиссеи» (подробнее см.: Андреев Ю. В. Поэзия
мифа и проза истории. Л. 1990. С. 126; Шауб И. Ю. Был ли Одиссей у Калип¬
со? И Всемирный следопыт. № 12. 2005. С. 99.
** Здесь же Плутарх называет Одиссея отцом Рома — эпонима Вечного города.
*** Philipps E. D. Odysseus in Italy // Journal of Hellenic Studies. V. 73. 1953.
P. 55. У Гигина отцом Латина от Цирцеи называется сын Улисса Телемах,
а другой его сын, Телегон, выступает в качестве отца Итала (от Пенело¬
пы) — эпонима Италии (Hyg. 127).
**** Гелланик — один из древнейших греческих авторов, упоминающих Рим.
***** См.: Ampolo С. Eneaed Ulisse nel Lazio da Ellanico (FGrHist 4 F 84) a Festo
(432 L.) Ц Parola del Passato. V. 47. 1992. P. 321-342.
900
И. Ю. ШАУБ
Однако главным для Данте в мифологическом Улиссе-Одиссее
было не только и не столько то, что этот герой был тесно связан
с Италией, и тем более не то, что он был мореплавателем, но тот
факт, что, подобно самому Данте и его вожатому Вергилию, он
представлялся путешественником по «загробью», одним из вхо¬
дов в которое считалось Авернское озеро или пещера близ него.
Здесь, где, по преданию обитала знаменитая Кумекая сивилла,
существовал доисторический оракул мёртвых*. Причём важно
отметить: вера в то, что вход в загробный мир находился именно
там, бытовала не только в период античности, но сохранялась
и в эпоху Средневековья.
Нет сомнений в том, что шестая книга «Энеиды» Верги¬
лия, в которой повествуется о странствиях Энея в подземном
мире, напрямую зависит от «Некий» (где речь идёт о спуске
Одиссея в царство Аида)«Одиссеи»**. Е. Д. Филипс справедли¬
во утверждает, что именно странствия по «загробью» были са¬
мым впечатляющим приключением Одиссея, приуроченным
к Италии, и резонно замечает, что «если бы «Некия» Одиссея
не была локализована в Кампании, то трудно понять, как Вер¬
гилий, столь многим обязанный Гомеру, мог бы ввести посеще¬
ние Аида в свой национальный римско-италийский эпос; и ещё
менее понятно, как он сделал это событие поворотным пунктом
своей поэмы и авторитетным откровением о судьбе Рима»***.
* Philipps E. D. Odysseus in Italy // Journal of Hellenic Studies. V. 73.1953. P. 67.
** Cm.: Aeneis Buch VI / P. Vergilius Maro; Erklärt von Eduard Norden. 2. Aufl.
Leipzig; Berlin, 1916.
*** Philipps E. D. Op. cit. P. 67.
КОММЕНТАРИИ
МЫСЛИТЕЛИ, ЛИТЕРАТОРЫ, ПОЭТЫ О ДАНТЕ
С. П. Шевырев
Данте и его век
<Фрагмент>
Впервые: Шевырев С. П. Дант и его век // Ученые записки Москов¬
ского Университета. 1833, №V-VI; 1834, MVII-XL Отделение IV.
Дант-Художник. Эстетический разбор Божественной комедии // Уче¬
ные записки Московского Университета. Часть III. 1834. Февраль,
№ 8. С. 336-373; март, № 9. С. 550-575. Печатается по этому изданию.
Н. И. Надеждин
О происхождении, природе и судьбах поэзии,
называемой романтической
<Фрагмент>
Впервые: Nadezdin, Nicolaus. De poesi romantica. De origine, natura
et fatis poeseos, quae romantica audit. M., 1830. (На лат. яз.). На рус¬
ском языке были опубликованы фрагменты работы: Надеждин Н. И.
О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии;.
Вестник Европы. 1830, № 1. С. 3-37; Надеждин Н. И. Различие между
классическою и романтическою поэзиею, объясняемое из их происхож¬
дения. Вестник Европы. 1830, № 2. С. 122-151. Печатается по: Наде¬
ждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 124-253.
902 КОММЕНТАРИИ
3. Н.Гиппиус
Воображаемое
<Фрагмент>
Впервые: Звезда. 1994. № 12 (публ. и примеч. М. М. Павловой по ав¬
тографу: ОРРНБ. Ф. 481. № 26). Републикация: Гиппиус 3. Н. Дневни¬
ки. В 2 т. Т. 2. М., 1999. Печатается по: Гиппиус 3. Н. Собрание сочине¬
ний. Т. 8. Дневники: 1893-1919. М.: Русская книга, 2000. С. 462-464.
1 Виардо Мишель Фернанда Полина, урожд. Гарсиа (1821-1910) —
французская певица и композитор; друг и возлюбленная И. С. Тургенева.
2 ...«в разлуке вольной таится ложь»... — Из стихотворения Гиппиус
«Берегись...» (1913).
3 «Он имел одно виденье...» — Из стихотворения А. С. Пушкина «Жил
на свете рыцарь бедный...» (1829).
4 «Смысл любви» — трактат философа и поэта Владимира Сергеевича
Соловьева.
5 Филемон и Бавкида — персонажи восьмой книги «Метаморфоз»
римского поэта Публия Овидия Назона, супруги, всю жизнь прожившие
в благочестии и умершие в один день (боги превратили их в дуб и липу,
растущие из одного корня).
Д. С. Мережковский
Данте
Впервые: Мережковский Д. С. Данте. В 2 кн. Брюссель-Париж, 1939.
T. 1. Жизнь Данте; т. 2. Что сделал Данте. Печатается по: Мережков¬
ский Д. С. Данте. Томск: Водолей, 1997. 288 с. 1 Книга Д. С. Мережков¬
ского «Данте» вышла с огромным количеством ошибок наборщика и опе¬
чаток. Эти ошибки продолжают сохраняться и в современных изданиях.
Для настоящего сборника была проделана работа по возможному исправ¬
лению этих ошибок, несоответствия сносок тексту, раскрытию сокраще¬
ний автора, сверке ссылок на текст «Божественной комедии». Редактор¬
ские дополнения или исправления даются в тексте Д. С. Мережковского
в квадратных скобках. Данная работа осуществлена В. В. Андерсеном.
2 «Нет, никогда не будет три одно!» — вероятно, имеется в виду за¬
пись в «Разговорах с Гете» И. П. Эккермана от 4 января 1824 г.: «мне еще
КОММЕНТАРИИ
903
следовало знать, что троица едина, а единое — трояко, но это шло вразрез
с моим правдолюбием».
3 «Prius ad speculandum, et secundum ad operandum* — цитата
из «Монархии» Данте приведена Мережковским не вполне верно; в тек¬
сте: « prius ad speculandum et secondario propter hoc ad operandum per suam
extensionem». В переводе В. IL Зубова текст выглядит так: «Итак, доста¬
точно разъяснено, что дело, свойственное всему человеческому роду, взя¬
тому в целом, заключается в том, чтобы переводить всегда в акт всю потен¬
цию “возможного интеллекта”, прежде всего ради познания, и, во-вторых,
расширяя область познания, применять его на практике».
4 «Слава его будет расти тем больше, чем меньше его читают* —
у Вольтера: «его репутация будет всегда утверждаться, поскольку его
едва ли кто читает».
5 Древние персы и мидяне, чтобы сохранить тела покойников
от тления, погружали их в мед — Геродот (I, 198) и Страбон (XVI, 20)
говорят о таком способе захоронения у вавилонян, ассирийцев и египтян;
«медом» эти авторы называют смолу для бальзамирования.
6 «saevissima indignatone cor dilaceratum» — парафраз цитаты
из эпитафии Дж. Свифта (1667-1745).
7 венчанная и облеченная смирением — «Новая жизнь», XXVI.
8 ...в Равенне.,, где Византийская Восточная империя кончилась и на¬
чиналась Западная, Римская— город Равенна, по преданию основанный
этрусками и умбрами, в III в. до н. э. был завоеван римлянами. В 404 г. н. э.
Равенна стала столицей резиденцией западноримских императоров, в 493 —
столицей империи остготов, а с 554 г. по 751 являлась столицей подчиненного
Византии Равеннского экзархата (наместничества за пределами метрополии).
9 «Иисус Неизвестный» — название религиозно-философского «ро¬
мана» Мережковского (1932).
10 ...первые основатели города, римляне... — Флоренция была основа¬
на римлянами в 59 г. до н. э. на месте доисторического поселения.
11 ...старое гнездо Алигьери — современный «дом Данте» воссоздан
на том же месте.
12 ...будучи гвельфского рода — гвельфы — политическая группиров¬
ка, выступавшая за ограничение власти императора Священной Римской
империи в Италии и поддерживавшая папство. Назывались так по имени
немецкого дома Вельфов, соперничавших во время борьбы за инвеституру
с императорами дома Штауфенов.
13 «Что за лицо у бога Любви?— спрашивает Платон и отвечает:
«молниеносное» — «Федр» 254Ь (но речь здесь идёт не об Эроте, а о лице
904
КОММЕНТАРИИ
любимого; возможно, Мережковский смешал этот пассаж Платона с сооб¬
щением о том, что у Алкивиада был щит с изображением Эрота с молнией
в руке: Плутарх, «Алкивиад», 16).
14 францисканской обители Санта Кроче — нищенствующий духов¬
ный орден францисканцев был основан в 1209 г. св. Франциском Ассиз¬
ским (1182-1226). Строительство церкви Санта-Кроче началось в конце
XIII в., еще при жизни Данте. Здесь находится роскошный саркофаг, при¬
готовленный флорентийцами для останков Данте, оставшийся пустым,
так как поэт похоронен в Равенне, а также памятник великому поэту
на площади перед церковью.
15 доминиканская обитель Санта Мария Новелла — нищенству¬
ющий духовный орден доминиканцев был основан испанским святым
св. Домиником (ок. 1170-1221). Доминиканская церковь находится
на противоположном по отношению к францисканской церкви Санта Кро¬
че конце Флоренции — таково было негласное правило сосуществования
двух соперничающих орденов. Церковь Санта-Мария-Новелла строилась
с конца 1270-х по начало 1360-х гг.
16 «Данте... видел всё»... Фр. Саккетти — три новеллы из сборника
Саккетти «Триста новелл» посвящены различным анекдотическим эпи¬
зодам из жизни Данте. Мережковский ссылается на новеллу 114, в кото¬
рой Данте наблюдает дурное поведение молодого дворянина, но ближе
к его интерпретации характеристика из новеллы 121: «...Великое дело,
когда маленький человек, как Данте, не обладающий не только всем,
но и какой-либо частью всего, увидел и описал все».
17 ...воспоминание, anamnesis — (от греч. ‘припоминание’) — основ¬
ной термин теории познания Платона (диалоги «Менон» и «Федон»)
согласно которой абстрагированные от материальных вещей идеи могут
быть постигнуты только припоминанием знания, которым обладала душа
до ее вселения в тело.
18 Густеет мрак, как хаос на водах — у Тютчева: «Тогда густеет ночь,
как хаос на водах...».
19 Брунетто Латини — сочинения, которые упоминает Мережков¬
ский: «Малое сокровище» (Il Tesoretto)— аллегорическая поэма на ита¬
льянском языке о путешествии по царству природы и добродетели;
«(Большое) сокровище» (Li Livres dou Trésor) — прозаическое энциклопе¬
дическое сочинение на французском языке.
20 Джиоттову образу... в часовне Барджелло — в часовне Палаццо
Борджелло во Флоренции находится фреска Джотто, на которой Данте
изображен в группе праведников в Раю.
КОММЕНТАРИИ
905
21 ...больнице для бедных, при церкви Санта-Мария-Нова — больница
Санта-Мария-Нуова была основана Фолько Портинари в 1288 г.
22 Старую народную сказку о сердце любовника, пожираемом воз¬
любленной, повторяют многие провансальские певцы-трубадуры тех
дней — в литературной версии биографии трубадура Гильома де Кабеста-
ня (XII в.) в него влюбляется жена графа Руссильонского; ревнивый граф
убивает трубадура и дает жене съесть его сердце. Узнав об убийстве, жена
графа бросается из окна замка. Эта история лежит в основе одной из но¬
велл «Декамерона» (IV, 9).
23 ...сжечь свою Новорожденную Венеру на костре Савонароллы —
флорентийский художник Сандро Боттичелли под воздействием пропо¬
веди доминиканского монаха Джироламо Савонаролы предал огню ряд
своих живописных произведений. Картина «Рождение Венеры» чудом
уцелела.
24 юные дамы на провансальских «Судах любви» — по свидетельству
Андрея Капеллана, при дворе Алиеноры Аквитанской и Марии Шам¬
панской регулярно собирались судилища из знатных дам, обсуждавших
вопросы любовной казуистики и разрешавших споры между возлюблен¬
ными. В настоящее время существование подобных «судов любви» учены¬
ми практически единогласно отвергается.
25 «Пира» Платона Данте, вероятно, не читал... — древнегреческо¬
го языка Данте не знал, а первый латинский перевод популярнейшего диа¬
лога Платона «Пир» появился в 1484 году в переводе Марсилио Фичино.
Единственное произведение Платона, которое, без сомнения, читал Дан¬
те — это «Тимей» (в переводе Кальцидия). Однако и названия, и содержа¬
ние платоновских диалогов во времена Данте были хорошо известны.
26 Пандора — (греч. «всем одарённая») в греческой мифологии (в част¬
ности, у Гесиода) источник всех людских бедствий.
27 в бою (под Кампалъдино) — в битве на равнине Кампальдино
11 июня 1289 г. войска гвельфов (преимущественно из Флоренции) разби¬
ли армию гибеллинов из Ареццо. Данте принимал участие в этом сраже¬
нии.
28 dolce stil nuovo — «сладостный новый стиль», итальянская поэтиче¬
ская школа конца XIII века. Ее главой был болонский поэт Гвидо Гвини-
целли, ее последователи — молодой Данте, его друг Гвидо Кавальканти,
Дино Фрескобалъди. Поэты этой школы воспевали любовь как возвышаю¬
щую и облагораживающую, но жестокую силу.
29 amor da lonh — вернее, «amor de lonh», ‘далекая любовь’, понятие,
появляющееся в лирике провансальского трубадура Жофре Рюделя. Сме¬
906
КОММЕНТАРИИ
шивание творчества трубадуров и идей «куртуазной любви» Андрея Ка¬
пеллана, характерное для Мережковского и ряда исследователей XIX в.,
с точки зрения современной науки не имеет под собой оснований.
30 альбигойцы (катары) — религиозное гностическое течение, при¬
шедшее в Южную Европу (в особенности в Прованс) с Восточной Европы
и Ближнего Востока. Альбигойцы вели строго нравственную жизнь и при¬
держивались древнего манихейского дуализма, отвергали основные догма¬
ты и обряды католической церкви. В 1209 году против Прованса и Верхнего
Лангедока, где альбигойцы были особенно распространены, был объявлен
крестовый поход. Кровопролитнейшие «Альбигойские войны» длились не¬
сколько десятилетий. Дольше всех сопротивлялась крепость Монсегюр, ко¬
торая все же пала в 1244 году. Последнего катара сожгли в 1321 году (в год
смерти Данте). В результате этих войн Прованс был практически опустошен
и многие города стерты с лица земли. Во время альбигойского крестового
похода была организована св. Домиником и законодательно закреплена
инквизиция как средство борьбы с инакомыслием. Существуют исследова¬
ния о дуалистической (катарской) концепции Божественной Комедии.
31 Первые костры Святейшей Инквизиции на юге Франции — имеет¬
ся в виду возникновение инквизиции в процессе Альбигойских войн.
32 gay a sienzia — прованс. ‘gai saber’, ит. ‘gaia scienza’ — «веселая
наука», провансальский концепт искусства, требующегося для сочине¬
ния поэзии. Термин прославлен в современности как название трактата
Ф. Ницше (1882).
33 Патарины — участники патарии, религиозного движения в Ми¬
лане XI в., направленное на реформу церкви и ее очищения от симонии
и браков среди клириков. Впоследствии становится синонимом термина
«катары».
34 Вальдейцы — вальденсы, движение последователей лионского куп¬
ца Вальдеса второй половины XII века. Вальденсы основывались на иде¬
алах раннего христианства и проповедовали ликвидацию частной соб¬
ственности, бедность и свободу чтения Библии. Вальденсы, будучи близки
к альбигойцам (катарам), иногда с ними отождествляются.
35 В «Ланчелоте-Граале» — «Ланселот-Грааль» («Прозаический Лан¬
селот», ок. 1230) — эпопея из пяти рыцарских романов, рассказывающих
истории о Ланселоте, Мерлине, короле Артуре и поисках Грааля.
36 «И звуков небес заменить не могли... » — цитата из стихотворения
М. Ю. Лермонтова «Ангел».
37 ...«строителя мостов», по... слову Платона о боге Эросе — В диа¬
логе «Пир» (202е) Платон говорит об Эроте, который соединяет небо и зем¬
КОММЕНТАРИИ
907
лю. Образ бога Любви — «строителя мостов» принадлежит, скорее всего,
В. С. Соловьеву, который так характеризует Эрота в своей статье «Жизнен¬
ная драма Платона».
38 как евангельский богатый юноша, «отошел с печалью» — Мф.
19:22, Мк. 10:22
39 «снежная кукла» Св. Франциска — один из самых известных эпи¬
зодов францисканской агиографии: Франциск Ассизский, тоскуя по своей
несостоявшейся семье, лепит из снега фигуры жены и детей.
40 будь «скопцомради Царства Небесного» — Мф. 19:12.
41 Церера — римская богиня производительных сил земли, покрови¬
тельница женщин.
42 Елевзис — Элевсин, город в Аттике, центр мистерий богини — по¬
кровительницы живых и мёртвых Деметры и её дочери Коры (Персефоны
как жены бога загробного мира Аида).
43 Самофракия — остров в северной части Эгейского моря, где прохо¬
дили мистерии хтонических (подземных) богов Кабиров («великих богов
Самофракийских»); происхождение и детали культа этих богов неясны.
44 В Абидосском храме... и некрополе — Абидос был древним центром
культа египетского бога мёртвых Осириса, культ которого был тесно свя¬
зан с идеологией царской власти.
45 Дендерахское святилище — эллинистическо-римский (конец II в.
до н. э. — I в. н. э.) храм египетской богини неба Хатор, которая в это вре¬
мя уже идентифицировалась с Исидой.
46 Изида (Исида) — египетская богиня-мать; в эллинистическую эпо¬
ху — универсальное божество. Считалась женой и сестрой Осириса.
47 Песнь Песней— т. е. «превосходная песнь», книга Библии, при¬
писывающаяся царю Соломону; представляет собою цикл лирических
диалогизированных стихотворений. Только благодаря аллегорическому
толкованию (духовный брак Христа с Церковью) эта книга была принята
в библейский канон.
48 «Бросься вниз... сделаться хлебами» — искушение Христа Сатаной
(Мф 4:2-3).
49 «Легче верблюду... царство Божие» — Мф 19:24; Лк 18:25.
60 Екклезиастовой мудрости — Екклезиаст, книга Библии, написан¬
ная, вероятно, в III в. до н. э.; отличается полным отрицанием посюсто¬
ронних благ.
51 Агасфер — «Вечный Жид», персонаж легенды позднего средневеко¬
вья: во время крестного пути Иисуса Христа на Голгофу грубо отказал Ему
в передышке, за что обречён скитаться до Страшного суда.
908
КОММЕНТАРИИ
52 «...Отравленная одежда Нисса липнет к телу...» — Кентавр Несс,
покусившийся на жену Геракла Деяниру и смертельно раненый отравлен¬
ными стрелами героя, отомстил ему тем, что посоветовал ей собрать его
кровь в качестве приворотного зелья. Одежда, пропитанная этой кровью,
была послана Деянирой Гераклу; прилипнув к его телу, эта одежда послу¬
жила причиной его мучительной смерти.
53 Фортуна — в римской мифологии богиня случая, удачи и счастья.
54 ... Улиссовы спутники, превращенные в свиней, в хлеву у Цирцеи... —
спутники Одиссея (Улисса), по «Одиссее» Гомера, на острове волшебницы
Кирки (Цирцеи) были превращены ею в свиней и других животных.
55 «...царица Южная — в Иерусалим» — царица Савская к Соломону
(Мф 12:42; Лк 11:31; ср. 3 Цар. 10:1-13.)
56 «...Паллада на Геликон...» — Овидий, «Метаморфозы», V, 230 сл.
57 «Псам не давайте святыни и не бросайте жемчуга вашего перед
свиньями» — Мф 7:6.
58 Сибилла (сивилла) — прорицательница (греч.).
59 Аэндорская волшебница — 1 Цар. 28.
60 Бешеный Орланд — имеется в виду поэма «Неистовый Роланд» Ари¬
осто.
61 «... косноязычен, как Моисей» — Исх. 4:10.
62 ...этрусский бог вечности — седовласый, новорожденный младе¬
нец — подразумевается Таг — этрусское божество с трудноопределимыми
функциями.
63 Вечное блаженство Данте понял Джиотто, а вечную муку его —
Рафаэль — Джотто изобразил Данте в самом расцвете сил, Рафаэль (фре¬
ски «Парнас» и «Диспут» в Ватикане) — скорбным и умудренным опы¬
том.
64 «И сердце трепетное вынул... водвинул» — из стихотворения
А. С. Пушкина «Пророк».
65 «... Равенна — могила веков, колыбель вечности» — аллюзия
на стихотворение А. Блока «Равенна».
66 ...Равенна основана... почти за две тысячи лет до Рима — эта ле¬
генда лишена каких бы то ни было исторических оснований.
67 ...перейдя Рубикон — река Рубикон во времена Юлия Цезаря (ок.
100-44 г. до н. э.) считалась границей Италии. В 49 г. до н. э. выступив
из Равенны и перейдя через Рубикон, Цезарь начал войну за власть над
Римом.
68 ...в этой надгробной часовне, где... покоятся в двух исполинских гро¬
бах римская императрица Галла Плацидия и супруг её, последний рим¬
КОММЕНТАРИИ
909
ский император Запада, Валентиниан III,.. — так называемый мавзолеи
(ок. 440 г.) Галлы Плацидии (388-450), украшенный изумительными мо¬
заиками, не стал местом её последнего упокоения (два саркофага, стоящие
здесь ныне, были привезены сюда позднее из другого места). Император
Флавий Плацид Валентиниан III (419-455), сын дочери императора Фео¬
досия I Галлы Плацидии, которая с 425 по 437 гг. состояла регентшей при
своем малолетнем сыне, был последним представителем династии Вален-
тиниана-Феодосия.
69 ...крестных язе се. Франциска Ассизкого — тлекпся в виду его
стигматы.
Д. С. Мережковский
Данте. Киносценарий
Впервые: Мережковский Д. С. Данте; Гиппиус З.Н., Мережков¬
ский Д. С. Борис Годунов. Киносценарий / Составление, вступ. ст.
и примеч. Т. Пахмусс. Нью-Йорк, 1991. Печатается по: Мережков¬
ский Д. С. Драматургия. Томск: Водолей, 2000. С. 452-507.
Сценарий «Данте» был написан во второй половине 30-х гг. в Ита¬
лии и предназначался для постановки фильма. Судя по письмам Мереж¬
ковских, работа над книгой о Данте и сценарием шла параллельно.
По свидетельству ныне покойной Темиры Пахмусс, американской
исследовательницы творчества Мережковских и хранительницы их архи¬
ва, сценарий был реконструирован ею «по черновым, часто хаотическим
и трудно читаемым рукописям Мережковского». Из писем 3. Н. Гиппиус
к их многолетнему секретарю В. А. Злобину явствует, что она принимала
активное участие в редактировании и «причёсывании» (её глагол) послед¬
них произведений своего мужа, в числе которых был и данный сценарий.
Сценарий был переведен на итальянский, английский, немецкий
и французский языки (тексты переводов, вероятно, не сохранились). По¬
становка фильма по нему планировалась в «Голливуде» « и в одной из ки¬
ностудий Франции, но вследствие начавшейся войны не была реализова¬
на. Гиппиус с сожалением писала о том, что «Холливуд занят фильмом
«Жизнь Хитлера»... Это исключает всякий интерес к «Жизни Данте»...».
«Сценарий «Данте» в сжатой драматической форме, с выразитель¬
ными деталями, в живых и рельефных ситуациях воспроизводит слож¬
ную личность Данте и его участие в религиозной и политической жизни
910
КОММЕНТАРИИ
Италии, — пишет Пахмусс, отмечая, что «в сценарии мы находим сжатую
экспозицию главных религиозно-метафизических концепций Мережков¬
ского, например, противопоставление понятий «похоть» и «любовь-влю¬
бленность». Как и Вл. Соловьев, Мережковский и Гиппиус настаивали
на существовании таинственной связи между любовью и бессмертием че¬
ловеческой личности. Настоящая любовь одна, она не повторяется, не из¬
меняется. Любовь— это мост в вечность, «нетленность», «чудесность»
и «неизменность» (Гиппиус). Похоть же можно разделить с кем угодно;
в ней нет, и не может быть, триумфа над смертью.
Божественное число «три», лежащее в основе понятия Мережков¬
ского о христианстве, также проникает в текст «Данте». Во имя создания
Живой Церкви, Церкви Царства Третьего Завета, Церкви трех ближай¬
ших к Спасителю апостолов — Петра, Павла и Иоанна — должны соеди¬
ниться в единую, соборную Вселенскую Церковь. Война и ненависть тогда
исчезнут и наступит вечное Царство — Любви, Красоты и Мира.
Идея «двойника», карамазовского черта, представлена в сценарии
«Данте» в антиномиях Папы-Антипапы, Христа-Антихриста, и Дан-
те-Антиданте. Подобно Ивану Карамазову, Данте, который не в состоянии
сделать последнего выбора между Богом и дьяволом, Христом и Антихри¬
стом, подвержен глубоким страданиям.
Как всегда у Мережковского, его гуманность, метафизическая сосре¬
доточенность, страстное желание предотвратить духовную погибель че¬
ловечества и неустанные поиски абсолютного стоят в сценарии на первом
месте, образуя органическое единство с его творчеством in toto (в целом).
Форма сценария своеобразна: он состоит из большого количества моно¬
логов и диалогов, чередующихся с описательными сценами. Временные
и пространственные взаимосвязи... читаются «между сценами». Мы их
не «видим глазами».
По мнению специалиста по творчеству Мережковского Е. А. Андрущенко,
он в своём сценарии «воссоздает традицию средневековой религиозной драмы
на темы из жизни святых, но в качестве нового героя новой религии избирает
Данте, пророка будущего «сверхисторического» христианства. Повествование,
неторопливое и красочное, построено в виде сцен, сгруппированных в части,
а голос автора как голос чтеца мистериального театра, скрепляет сцены между
собой». Её примечания к публикации драматических произведений Мереж¬
ковского использованы при составлении нижеследующих комментариев.
1 ...Тихая музыка флорентийских колоколов <...> Где наша радость
сделается вечной. «Рай». Песнь X, ст. 139-148.
КОММЕНТАРИИ
911
2 ... живое красное пламя и живая кровь... — у Данте и поэтов dolce stil
nuovo цвет любви (Амора) — цвет пламени.
3 ...праздник 1 Мая — Весенний ритуал выбора в королевы весны са¬
мой красивой девушки. Имеется в виду праздник 1 Мая 1274 г.
4 «...Весна идет, весна идет,... Солнце на небе — в сердце любовь!»
(«Новая жизнь», II).
5 высказал в статье «М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества». Здесь
сформулирован «общий закон мистического опыта», по которому человеческие
души не могут вспомнить, что было до их рождения, не знают «откуда», чтобы
яснее представить, «куда». Идея восходит к библейской легенде о войне Дракона
с ангелами. Комментируя эту легенду, Мережковский упоминает «Божествен¬
ную комедию» Данте. В эссе «Паскаль» Мережковский пишет: «Существует
древняя, вероятно, гностического происхождения легенда, о которой упоминает
и Данте в «Божественной Комедии», имея в виду Песнь Ш «Ада» (37-39).
6 Донат Элий (ок. 320 — ок. 380) — римский грамматик и ритор.
Учебники Доната — имеется в виду «Ars grammatica» («Искусство грам¬
матики»), состоящий из двух частей учебник латинской грамматики: «Ars
minor» («Малая грамматика») — для начальной стадии обучения и «Ars
maior» («Большая грамматика») — для усовершенствования. Труд Доната
не только был основным пособием по изучению латыни в Средневековье,
но и сохранил своё значение вплоть до наших дней.
7 «И в Бога я не верил, // И Церкви я не чтил; // Словами и делами
IIЯ оскорблял ее» — Цитируется аллегорическая поэма Брунетто Латини
«Tesauretto».
8 «Коль будешь верен ты своей звезде, // То и тебе откроет двери
Слава.» — «Ад». Песнь XV, ст. 55-56.
9 «Запечатлен во мне навеки, сэр Брунетто, // Ваш дорогой, любез¬
ный, отчий лик. II Тому меня вы первый научили, // Как человек стано¬
вится бессмертным» — «Ад». Песнь XV, ст. 82-85.
10 «...бог Любви воцарился в моей душе так, что я вынужден был
исполнять все его желания. Много раз повелевал он мне увидеть этого
юнейшего Ангела» — «Новая жизнь», II.
11 «Я, прежде чем Ее мои глаза // Увидели, — уже по тайной силе, //
Что исходила от Нее, — узнал, // Какую все еще имеет власть. // Моя
любовь к Ней древняя, как мир» — «Чистилище». Песнь XXIV, ст. 52—54.
12 «И, подождав немного, он разбудил спящую легкий сон мой вы¬
нести ее не мог, — проснулся» — «Новая жизнь», III.
13 «A ciascun’alma presa е qentil core... // Salute in lor segnor, cioè
Amore» — «Новая жизнь», III.
912
КОММЕНТАРИИ
14 *... Я один из тех, // Кто слушает, что говорит в их сердце // Лю¬
бовь, и пишет то, что слышит» — «Чистилище». ПесньXXIV, ст. 52-54.
15 «Весна» — Картина Сандро Боттичелли (ок. 1477-1478 гг.).
16 Убертино да Казале — духовник Данте, монах ордена св. Фран¬
циска. В поэме о Франциске Ассизском (1891) Мережковский воссоздавал
этот фрагмент легенды так:
Отрока спросил учитель нежный:
Отчего ты грустен, милый брат? —
О, прости мне, отче! Я горюю
О семье. Я вспомнил мать родную,
Братьев, маленьких сестер моих.
Скучно мне, душа болит о них...
И Франциск с улыбкой состраданья,
Не сказав ни слова, но спеша,
Вышел поскорей из шалаша,
Стал лепить из снега изваянья.
Кончив, с торжествующим лицом,
Он, смеясь, их обошел кругом
И воскликнул: Где же ты, Руффино?
Братец, люди снежные!., взгляни,
...И Руффино вышел, грусти полный;
Искрятся при свете звезд ночных
Изваянья, бледны и безмолвны;
И Франциск указывал на них:
Вот — отец твой, мать, вот — сестры, братья...
Что ж ты медлишь? Подойди скорей!
Видишь, как им холодно, согрей,
Поцелуй их, заключи в объятья!
Но когда к груди прижмешь — в тепле
Изваянья снежные растают
И умрут они, как умирают
Все, кого мы любим на земле.
17 Имеется в виду майский (в Провансе — апрельский) обряд выборов
в качестве «королевы весны» самой красивой из девушек.
18 Брачная любовь и та, которая соединяет истинных любовников,
исходят из различнейших чувств — одно из ведущих положений кон¬
цепции Мережковского о сущности любви. В статье «О новом значении
древней трагедии. Вступительное слово к представлению «Ипполита»
Д. С. Мережковский писал: «Слово любовь на русском и на всех новых
КОММЕНТАРИИ
913
европейских языках имеет двойное значение: первый смысл — древний,
языческий: любовь-страсть, плотское вожделение, Эрос, тяготение пола
к полу. Второй смысл — уже новый, христианский: любовь-милосердие,
сострадание, всепрощение, любовь девственная». Этой теме посвящен раз¬
дел в монографии Мережковского «Л. Толстой и Достоевский».
19 Монна Ладжия — возлюбленная Лапо Джанни, друга Данте, фло¬
рентийского нотариуса и поэта.
20 По библейскому преданию, Содом и Гоморра были истреблены Го¬
сподом за грехи их жителей, Бытие 19:24-29.
21 «Начали глаза мои слишком услаждаться видом ее (Дамы
Щита) и это было мне так тяжело, что я не мог вынести» — «Новая
жизнь», XXXVII, XXXVIII.
22 «И по причине молвы, бесчестившей меня, эта Благороднейшая,
разрушительница всех пороков и царица добродетели, проходя однажды
мимо меня, отказала мне в своем приветствии, в котором заключалось
все мое блаженство» — «Новая жизнь», X.
23 «Я был тому геометру подобен, Потухло все в уме изнеможен¬
ном» -»Рай». ПесньXXXIII, ст. 133-142.
24 «Беатриче наша любимая узнала, что ты докучаешь той Даме
Щита и один из которых теперь — ты сам» — «Новая жизнь», XII.
25 «О если бы Дама эта знала чувства мои, она не посмеялась бы надо
мной, а пожалела бы меня!» — «Новая жизнь», XIV.
26 «Душа моя, гонимая любовью Смехом ее убивается жа¬
лость...» — «Новая жизнь», XV.
27 Монна Ванна — Джованна, избранница флорентийского поэта Гви¬
до Кавальканти, воспетая им под условным именем Primavera («Весна»).
28 «Столько же, как прежде, казалась мне любовь // жестокой,
дать ей больше этого блаженства,...» — «Новая жизнь», XVII (канц.).
29 «Весь исхудалый, волосами обросший, сам на себя не похожий, так
что жалко было смотреть на него, сделался он как бы диким зверем или
страшилищем» — Боккаччо «Жизнь Данте», III.
30 «Каждыйраз, когда я вспоминаю о той, // кого уже никогда не уви¬
жу, II я зову к себе смерть, // как отдых блаженный... » — «Новая жизнь»,
XXX, канц. 4.
31 «Вскоре после того я тяжело заболел и начал бредить И так
смиренно было лицо ее, что, казалось, говорило: «Всякого мира я вижу
начало» — «Новая жизнь», XXV.
Всякого мира я вижу начало... — Четвертая книга Моисеева, Числа
24:17.
914
КОММЕНТАРИИ
32 «...Ее похитил не холод, не жар, как других людей похищает,
но взял ее Господь к Себе, потому что скучная наша земля недостойна
была такой красоты...» — «Новая жизнь», XXXI.
33 «Как одиноко стоит Город, некогда многолюдный, великий между
городами! Он стал как вдова» — «Новая жизнь», XXVII.
34 «Город этот потерял свое Блаженство (Беатриче), // и то, что
я могу сказать о нем, // заставило бы плакать всех людей» — «Новая
жизнь», XL.
35 «... Как розовое солнце на востоке... //Является сквозь утренний
туман...
...И боль такая растерзала душу, // Что я упал без чувств,
и что со мною было, // Она одна лишь знает» — «Чистилище».
Песнь XXX, ст. 28-83. Песнь XXXI, ст. 1-90.
36 ...из логова Римской Волчицы — В образной системе Данте аллего¬
рические образы Волчицы — корыстолюбия и распутства, Рыси — зави¬
сти и Льва — властолюбия становятся символами борющихся сил: Рим¬
ской курии (Волчица), партии Белых и Черных (Рысь), Франции и ее
короля Карла Валуа (Лев).
37 Сюжет о приезде кардинала Маттео д’Акваспарты во Флоренцию
описывается в «Истории Флоренции» Н. Макиавелли (II, 17,19).
38 Папа— Имеется в виду Бонифаций VIII (7-1303), папа Римский
с 1294 по 1303. По мнению современников, «он подкрался, как лисица,
царствовал, как лев, и умер, как собака».
39 Речь идет о фрагменте «Ада». ПесньXIX, ст. 22-27, 43-57. Папа
Николай III (Орсини), папа римский с 1277 по 1280 гг.
40 Торчали ноги их из каждой ямы... Чтоб растерзать ее потом! —
«Ад». Песнь XIX, ст. 43-57.
41 «Из Франции придет он безоружный, // С одним Иудиным копьем,
которым // Флоренции несчастной вспорет брюхо» — «Чистилище».
Песнь XX, ст. 73-75.
42 Имеется в виду «Божественная комедия».
43 Сила моя совершается в немощи... — 2-е послание к Коринфянам
св. Апостола Павла 12:9.
44 Блаженны изгнанные за правду... — Евангелие от Матфея 5:10.
45 ...настоящего града не имеющих, грядущего Града ищущих... — По¬
слание к Евреям 13:14.
46 ...Улиссовы спутники, в хлеву Цирцеи... — согласно «Одиссее» (X,
135-574), спутники Одиссея (римск. Улисса), отправленные им на разведку
на о. Эя, были превращены волшебницей Киркой (римск. Цирцеей) в свиней.
КОММЕНТАРИИ
915
47 ...выкинуть из Святой Поэмы этот грешный стих... — По пре¬
данию, Данте посвятил последнюю часть «Божественной комедии» Кан
Гранде делла Скала.
48 Несмотря на жестокость и хитрость Борджа, Макиавелли восхищал¬
ся его смелостью и решимостью в борьбе за объединение различных частей
Апеннинского полуострова. Мережковский, вспоминая о Чезаре Борджа
в своём исследовании «Лев Толстой и Достоевский», приводит характери¬
стику, которую дал Борджа Ф. Ницше в «Антихристе».
49 «Собаке собачья смерть!» — «Ад». Песнь VIII, ст. 49-51.
60 «Данте, находясь при дворе Кан Гранде, <...> Если бы вы знали,
ваше высочество, что сходство нравов и сродство душ есть основание
дружбы, то вы этому не удивлялись бы!» — ответил Данте». — Бок¬
каччо «Жизнь Данте».
51 Имеется в виду фрагмент «Ада» (Песнь VIII, 44 и след.), где Данте
обещает грешнику очистить его глаза ото льда и со злорадством не испол¬
няет своего обещания.
52 Псам не давайте святыни и не бросайте жемчуга вашего перед
свиньями... — Евангелие от Матфея 7:6.
53 «О, протяни же руку поскорей, // Не медли же, открой, открой
мне очи, II Чтоб хоть немного выплакать я мог // Теснящую мне серд¬
це, муку, прежде, // Чем новые, в очах, застынут слезы! « — «Ад».
Песнь XXXIII, ст. 112-114.
64 «В Италии, между двумя морями, Блаженствуя в чистейшем
созерцаньи» — «Рай». Песнь XXI, ст. 106-117.
55 «Коль суждено моей Священной Песне, Чтоб там же, где кре¬
щен я, быть венчанным» — «Рай». Песнь XXV, ст. 1-9.
56 Знамение положил Господь на Каина, чтобы никто, встретившись
с ним, не убил его... — Бытие 4:15.
57 Вечный Жид — иудей, осужденный Богом на вечные скитания за то,
что не дал Христу отдохнуть по пути на Голгофу.
58 Имя Катона и его жены Марции упоминается в ст. 127-128 Песни IV
«Ада».
59 ...как тот путник на большой дороге подобны тому левиту
и священнику, которые прошли мимо него — Сюжет из Евангелия от Луки
10:30-33.
60 О Франческе и Паоло Данте упоминает в ст. 73-75 Песни V «Ада».
«О, милая,родная нам душа.. ». — цитируются стихи 88-93 песни 5 «Ада».
61 «Питьмучеников сладкую полынь..». — «Чистилище». ПесньXXIII,
ст. 86.
916
КОММЕНТАРИИ
62 «...Таков был этот Свет, Что до конца исполнилось виденье
Рая!» — «Рай». ПесньXXXIII, ст. 76-84.
63 «святой Горы Очищения» — Имеется в виду «Чистилище».
64 «И слышал я в листве деревьев райских... // Как бы далекий гул
колоколов, // Такой же точно, как в бору сосновом, // На берегу Киас-
си, в час ночной, // Когда сирокко знойный дует с моря» -»Чистилище».
Песнь XXVIII, ст. 19-21.
65 Ангел, стоящий на море времени больше не будет — Открове¬
ние св. Иоанна Богослова 10:5-6.
66 Неточно, Евангелие от Луки 2:29.
67 «Был час, когда пловец душой стремится Как будто плачущий
над смертью дня» — «Чистилище». Песнь Vili, ст. 1-7.
68 «О, Юпитер, // За нас распятый на земле, ужели // Ты отвратил
от нас святые очи?» — «Чистилище», Песни V, II, С. 8-120.
69 Отступи от меня, чтоб я мог подкрепиться, прежде нежели отой¬
ду и не будет меня! — Псалтирь 38:14.
70 «Зачем ты так влюблен в мое лицо, // Что и смотреть не хочешь
на прекрасный // В лучах Христа цветущий Божий Сад?» — «Чистили¬
ще». Песнь XXIII, ст. 19-20.
71 «Она явилась мне, в покрове белом // На ризе алой, как живое пла¬
мя— // Я потрясен был и теперь, как в детстве, // Когда Ее увидел
в первый раз» — «Чистилище». Песнь XXX, ст. 31-42.
72 Легенда о розыске песен «Рая» пересказана по Боккаччо, «Жизнь Данте».
А. Ф. Лосев
Данте
Остетика Возрождения. Фрагмент>
Впервые: Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978. Пе¬
чатается по: Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. Исторический смысл
эстетики Возрождения М.: Мысль, 1998. С. 200-207.
А. Ф. Лосев
Приложение
[Тетрадь с пометой «Средневековая литература № 11»]
Впервые: Лосев А. Ф. Приложение. [Тетрадь с пометой «Средневе-
КОММЕНТАРИИ
917
ковая литература № 11»] // Дантовские чтения. 2001 ! Под общ. ред.
А. Илюшина. М.: Наука, 2002. С. 76-91.
О. А. Седакова
Под небом насилия
Лекция, прочитанная в Миланском университете 2 апреля 2008 года.
Впервые: Седакова О. А. Под небом насилия. Данте Алигьери. «Ад».
Песни XII-XIV. Лекция // Континент. 2008. № 3 (137). С. 418-432.
О. А. Седакова
Данте: мудрость надежды
Выступление на Международной богословской конференции
«Resurrexit sicut dîcit», Рим, 18 апреля 2007.
Впервые: Седакова О. А. Данте: мудрость надежды // Континент.
2007. № 4 (134). С. 411-421. Автор цитирует Данте по изданию: La Com¬
media secondo l’antica vulgata a cura di Giorgio Petrocchi. Firenze, 1994.
ДАНТОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ И РОССИЯ
И. Ф. Бэлза
Брюсов и Данте
Впервые: Бэлза И. Ф. Брюсов и Данте // Данте и славяне: Сб. статей
/ Под общ. ред. И. Ф. Бэлзы. М.: Наука, 1965. С. 67-94.
И. Ф. Бэлза
Размышления Мандельштама о Данте
Впервые: Бэлза И. Ф. Размышления Мандельштама о Данте // Дан¬
товские чтения. 1968 / Под общ. ред. И. Ф. Бэлзы. М.: Наука, 1968.
С. 213-217.
918 КОММЕНТАРИИ
С. И. Гиндин
Брюсов о главном герое «Божественной Комедии»
Впервые: Гиндин С. И. Брюсов о главном герое «Божественной Ко¬
медии» // Дантовские чтения. 1971 / Под общ. ред. И. Ф. Бэлзы. М.:
Наука, 1971. С. 234-236.
М. Л. Андреев
Беатриче Данте и Маргарита Булгакова
Впервые: Андреев М. Л. Беатриче Данте и Маргарита Булгакова //
Дантовские чтения. 1990 / Под общ. ред. И. Ф. Бэлзы. М.: Наука, 1993.
С.148-154.
П. Н. Долженков
Мотивы и образы «Божественной Комедии» Данте
в произведениях Чехова
Впервые: Долженков П. Н. Мотивы и образы «Божественной Коме¬
дии» Данте в произведениях Чехова // Дантовские чтения. 1998 / Под
общ. ред. А. А. Илюшина. М.: Наука, 2000. С. 78-88.
Е. А. Илюшин
Данте в судьбах и поэзии декабризма
Впервые: Илюшин Е. А. Данте в судьбах и поэзии декабризма //
Дантовские чтения. 1998 / Под общ. ред. А. А. Илюшина. М.: Наука,
2000. С. 71-77.
А. Н. Николюкин
Данте и русская эмиграция
Впервые: Николюкин А. Н. Данте и русская эмиграция // Дантов¬
ские чтения. 2001 / Под общ. ред. А. А. Илюшина. М.: Наука, 2002.
С. 173-181.
КОММЕНТАРИИ 919
М. И. Шапир
Данте и Тёркин «на том свете»
Впервые: Шапир М. И. Данте и Тёркин «на том свете» (О судьбах
русского бурлеска в XX веке) // Дантовские чтения. 2001 / Под общ.
ред. А. А. Илюшина. М.: Наука, 2002. С. 50-62.
Е. А. Тахо-Годи
Данте и К. К. Случевский.
Впервые: Тахо-Годи Е. А. Данте и К. К. Случевский: Влияние поэ¬
зии Данте на творчество К. К. Случевского // Дантовские чтения. 1995
/ Под общ. ред. А. А. Илюшина. М.: Наука, 1996. С. 69-94.
Е. А. Тахо-Годи
О дантовских моделях в литературном наследии А. Ф. Лосева
Впервые: Тахо-Годи Е. А. О дантовских моделях в литературном
наследии А. Ф. Лосева // Дантовские чтения. 2004 / Под общ. ред.
А. А. Илюшина. М.: Наука, 2005. С. 94-116.
К. В. Ратников
Данте в творчестве С. П. Шевырева
Впервые: Ратников К. В. Данте в творчестве С. П. Шевырева //
Дантовские чтения. 2004 / Под общ. ред. А. А. Илюшина. М.: Наука,
2005. С. 69-94.
Г. И. Чулков
Дант и Пушкин
Речь, произнесенная на торжественном заседании Института Ита¬
льянской культуры. Всероссийского союза писателей, Общества
любителей российской словесности и Академии духовной культуры
14 сентября 1921 года.
920
КОММЕНТАРИИ
Впервые: Чулков Г. И. Дант и Пушкин / публикация, вступитель¬
ная статья, комментарии М. В. Михаловой // Archivio russo-italiano IV
! a cura di D. Rizzi e A. Shishkin. Salerno, 2005. P. 325-330.
1 «Зорю бьют ... Из рук моих // Ветхий Данте выпадает...» —
А. С. Пушкин, «Зорю бьют ... Из рук моих...» (1829).
2 «Ее чела я помню покрывало Понятный смысл правдивых раз¬
говоров» — А. С. Пушкин, «В начале жизни школу помню я ...» (1830).
3 «LAmor che muove il sole e Гaltre stelle...» — «Любовь, что дви¬
жет солнце и светила» (Данте, «Божественная комедия», «Рай»,
XXXIII, ст. 145; пер. М. Л. Лозинского)
4 «Веленью Божию, о Муза, будь послушна...» — А. С. Пушкин, «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836).
6 «И Бога глас ко мне воззвал: Восстань, пророк, и виждь, и внемли/
Исполнись волею Моей...» — А. С. Пушкин, «Пророк» (1826).
6 «Принес — и ослабел и лег // Под сводом шалаша на лыки, //
И умер бедный раб у ног // Непобедимого владыки...» — А. С. Пушкин,
«Анчар» (1828).
М. В. Михайлова
Неизданный доклад Г. Чулкова
Впервые: Михайлова М. В. Неизданный доклад Г. Чулкова //
Archivio russo-italiano IV / a cura di D. Rizzi e A. Shishkin. Salerno,
2005. P.317-324.
A. X. Гольденберг
«Гоголь и Данте» как современная научная проблема
Впервые: Гольденберг А. X. «Гоголь и Данте» как современная
научная проблема // Н. В. Гоголь и современная культура: Шестые
Гоголевские чтения: Материалы докладов и сообщений Международ¬
ной конференции / Под общ. ред. В. П. Викуловой. М.: Книжный дом
«Университет», 2007. С. 159-174.
КОММЕНТАРИИ 921
А. А. Асоян
Дантология Веселовского sub specie temporis nostri
Впервые: Асоян А. А. Дантология Веселовского sub specie temporis
nostri // Русская литература. 2011. № 1. С. 143-154.
1 ... sub specie temporis nostri (лат.) — с точки зрения нашего времени;
по современным представлениям.
ИССЛЕДОВАНИЯ О ДАНТЕ
А. Н. Веселовский
Данте и символическая поэзия католичества
Впервые: Веселовский А. Н. Данте и символическая поэзия като¬
личества // Вестник Европы. 1866. Декабрь. T. IV. Отд. I. С. 152-209.
Печатается по изданию: Веселовский А. Н. Данте и символическая по¬
эзия католичества // Веселовский А. Н. Собрание сочинений. Серия II.
Италия и Возрождение: T. I. (1859-1870). СПб.: Отд-ние рус. яз. и сло¬
весности Имп. Акад, наук, 1908. С. 42-112. В публикации опущены
многочисленные подстраничые примечания автора, содержащие об¬
ширные цитаты из источников и исследований на языках оригиналов.
М. Е.Грабарь-Пассек
Античные образы в «Божественной комедии» Данте
Впервые: Грабарь-Пассек М. Е. Античные образы в «Божественной
комедии» Данте // Грабарь-Пассек М. Е. Античные сюжеты и формы
в западноевропейской литературе. М.: Наука, 1966. С. 241-264.
922 КОММЕНТАРИИ
Н. И. Балашов
Данте и Возрождение
Впервые: Балашов Н. И. Данте и Возрождение // Данте и всемир¬
ная литература / Под редакцией Н. И. Балашова, И. Н. Голенище¬
ва-Кутузова, А. Д. Михайлова. М.: Наука, 1967. С. 9-58.
Б. Г. Кузнецов
Данте
Впервые: Кузнецов Б. Г. Идеи и образы Возрождения: Наука XIV-
XVI вв. в свете современной науки. М.: Наука, 1979. — (Библиотека
всемирной истории естествознания). С. 240-247.
И. Ф. Бэлза
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
«Божественной Комедии»
Впервые: Бэлза И. Ф. Некоторые проблемы интерпретации и ком¬
ментирования «Божественной Комедии» // Дантовские чтения. 1979 /
Под общ. ред. И. Ф. Бэлзы. М.: Наука, 1979. С. 34-73.
М. Л. Андреев
Семиотика «Новой жизни»
Впервые: Андреев М. Л. Семиотика «Новой жизни» // Другие
средние века. К 75-летиюЛ.Я. Гуревича / Сост. И. В. Дубровский,
С. В. Оболенская, М. Ю. Парамонова. М.— СПб.: Университетская
книга, 1999. С. 13-18.
М. С. Самарина
Данте и готика
Впервые: Самарина М. С. Данте и готика // Дантовские чтения.
2001 / Под общ. ред. А. А. Илюшина. М.: Наука, 2002. С. 151-157.
КОММЕНТАРИИ 923
С. М. Стам
Странная комедия. Читая Данте... <Фрагменты>
Впервые: Стам С. М. Странная комедия. Читая Данте... Саратов:
Изд-во Саратовского ун-та, 2003.168 с.
К. В. Сергеев
Театр судьбы Данте Алигьери <Глава 1 >
Впервые: Сергеев К. В. Театр судьбы Данте Алигьери: введение
в практическую анатомию гениальности. М.: Летний сад, 2004. 238 с.
В. Л. Рабинович
Мастера Данте Алигьери заповедь, в которой слово делается,
а дело сказывается
Впервые: Рабинович В. Л. Полдень Средневековья. М.: Эксмо,
2013. — (Российский институт культурологии. Сокровищница миро¬
вой культуры). С. 325-390.
И. Ю. Шауб
Дантов Улисс и Одиссей античного мифа
Статья подготовлена для настоящего издания. Публикуется впер¬
вые?
СОДЕРЖАНИЕ
М. С, Самарина
ПУТИ РАЗВИТИЯ ДАНТОЛОГИИ:
ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 7
I
МЫСЛИТЕЛИ, ЛИТЕРАТОРЫ,
ПОЭТЫ О ДАНТЕ
С. П. ШЕВЫРЕВ
Данте и его век 19
Н. И. НАДЕЖДИН
О происхождении, природе и судьбах поэзии,
называемой романтической <Фрагмент> 37
3. Н ГИППИУС
Воображаемое <Фрагмент> 41
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Данте 44
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ
Данте. Киносценарий 218
А. Ф, ЛОСЕВ
Данте <Эстетика Возрождения. Фрагмент> 279
А. Ф. ЛОСЕВ
Приложение [Тетрадь с пометой
«Средневековая литература №11»] 287
О. А. СЕДАКОВА
Под небом насилия 309
О. А. СЕДАКОВА
Данте: мудрость надежды 330
II
ДАНТОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ
И РОССИЯ
И. Ф. БЭЛЗА
Брюсов и Данте 345
И. Ф. БЭЛЗА
Размышления Мандельштама о Данте 371
С. И. ГИНДИН
Брюсов о главном герое «Божественной Комедии» 379
М. Л. АНДРЕЕВ
Беатриче Данте и Маргарита Булгакова 382
П. Н. ДОЛЖЕНКОВ
Мотивы и образы «Божественной Комедии» Данте
в произведениях Чехова 392
Е. А. ИЛЮШИН
Данте в судьбах и поэзии декабризма 406
А. Н. НИКОЛЮКИН
Данте и русская эмиграция 415
М. И. ШАПИР
Данте и Тёркин «на том свете»
(О судьбах русского бурлеска в XX веке) 426
Е. А. ТАХО-ГО ДИ
Данте и К. К. Случевский 443
Е. А. ТАХО-ГОДИ
О дантовских моделях в литературном наследии А. Ф. Лосева 476
К. В. РАТНИКОВ
Данте в творчестве С. П. Шевырева 502
Г И. ЧУЛКОВ
Дант и Пушкин 531
М. В. МИХАЙЛОВА
Неизданный доклад Г. Чулкова 538
А. X. ГОЛЬДЕНБЕРГ
«Гоголь и Данте» как современная научная проблема 546
А. А. АСОЯН
Дантология Веселовского sub specie temporis nostri 561
IH
ИССЛЕДОВАНИЯ О ДАНТЕ
A. Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ
Данте и символическая поэзия католичества 591
М. Е. ГРАБАРЬ-ПАССЕК
Античные образы в «Божественной комедии» Данте 645
Н. И. БАЛАШОВ
Данте и Возрождение 665
Б. Г. КУЗНЕЦОВ
Данте. Глава из книги «Идеи и образы Возрождения» 725
И. Ф. БЭЛЗА
Некоторые проблемы интерпретации и комментирования
«Божественной Комедии» 733
М. Л. АНДРЕЕВ
Семиотика «Новой жизни» 782
М. С. САМАРИНА
Данте и готика 790
С. М. СТАМ
Странная комедия. Читая Данте... <Фрагменты> 799
К В. СЕРГЕЕВ
Театр судьбы Данте Алигьери:
введение в практическую анатомию гениальности 832
B. Л. РАБИНОВИЧ
Мастера Данте Алигьери заповедь, в которой слово делается,
а дело сказывается 846
И. Ю. ШАУБ
Дантов Улисс и Одиссей античного мифа 893
КОММЕНТАРИИ 901
Научное издание
ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ: PRO ET CONTRA
Личность и наследие Данте
в оценке отечественных
исследователей и писателей
Антология
Т. 2
Составители
М. С, Самарина, И. Ю. Шауб
Директор издательства Р. В. Светлов
Заведующий редакцией В. Н. Подгорбунских
Корректор А. А. Борисенкова
Верстка В. А. Смолянинова
Подписано в печать 16.12.2016. Формат 60x90 х/1в
Бум. офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 58. Тираж 300 экз.
Зак. № 780
191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 15,
Издательство Русской христианской гуманитарной академии.
Тел.: (812) 310-79-29; факс: (812) 571-30-75;
email: editor@rhga.ru. URL: http://www.rhga.ru
Отпечатано в типографии «Контраст»
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 38

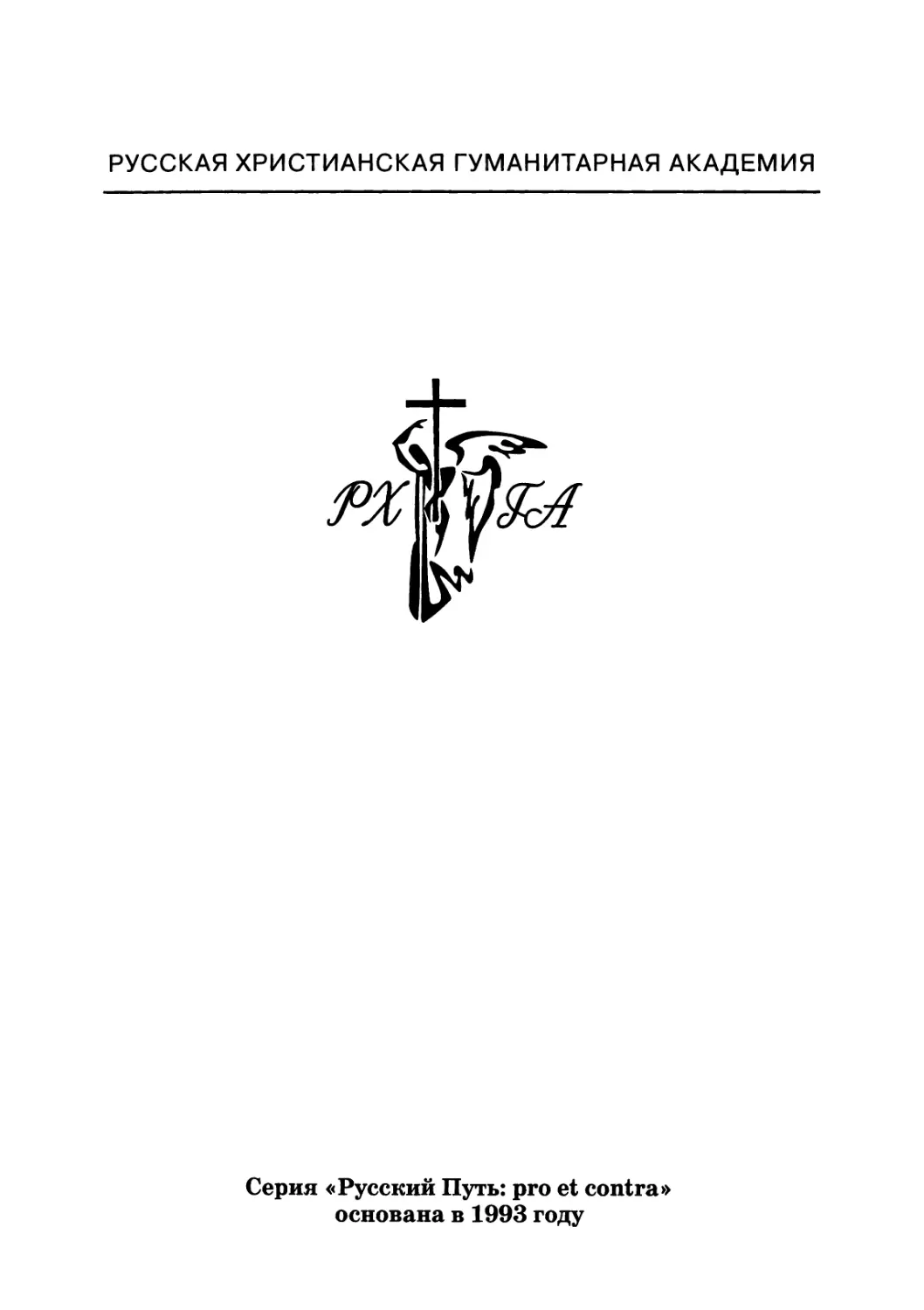
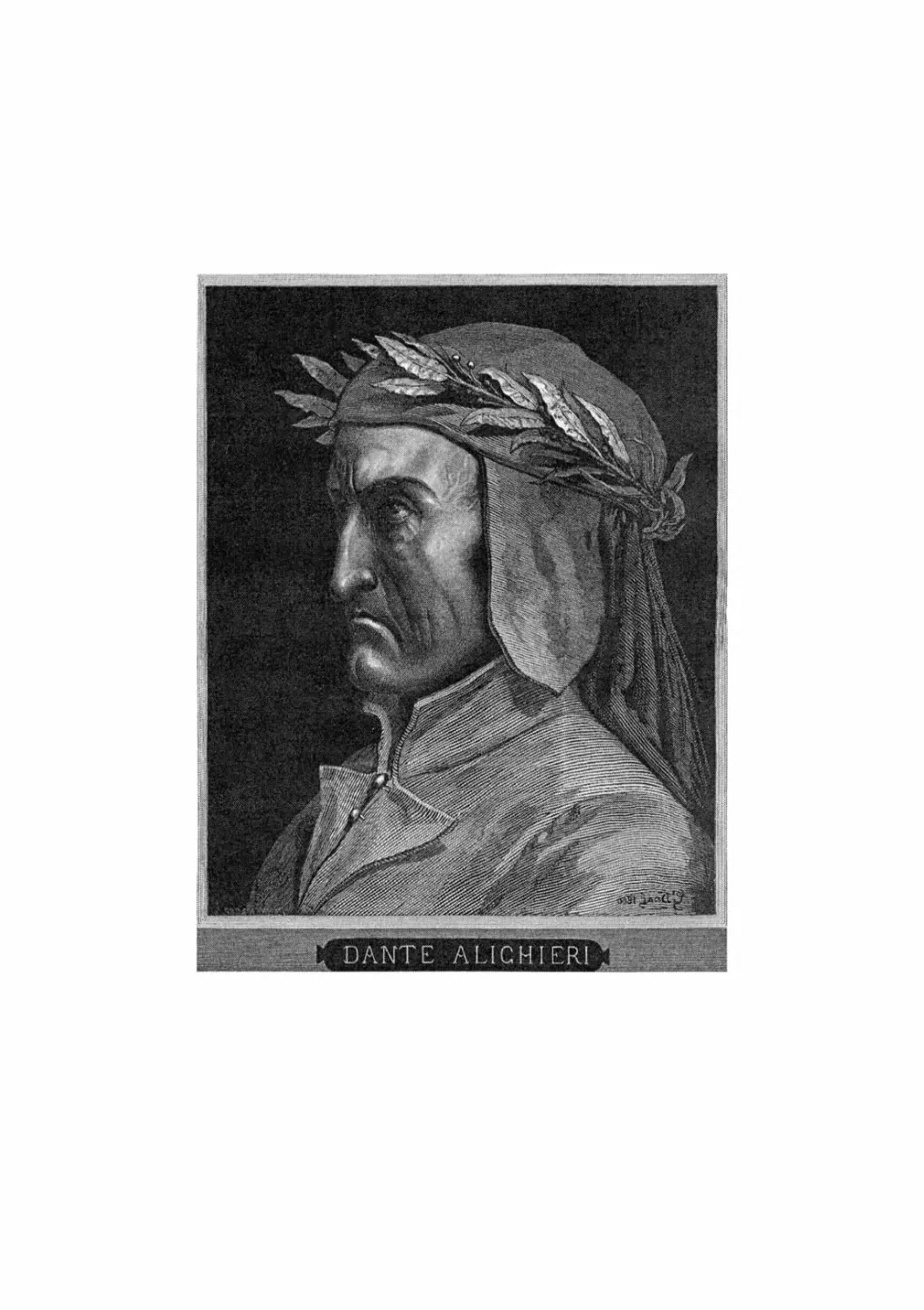
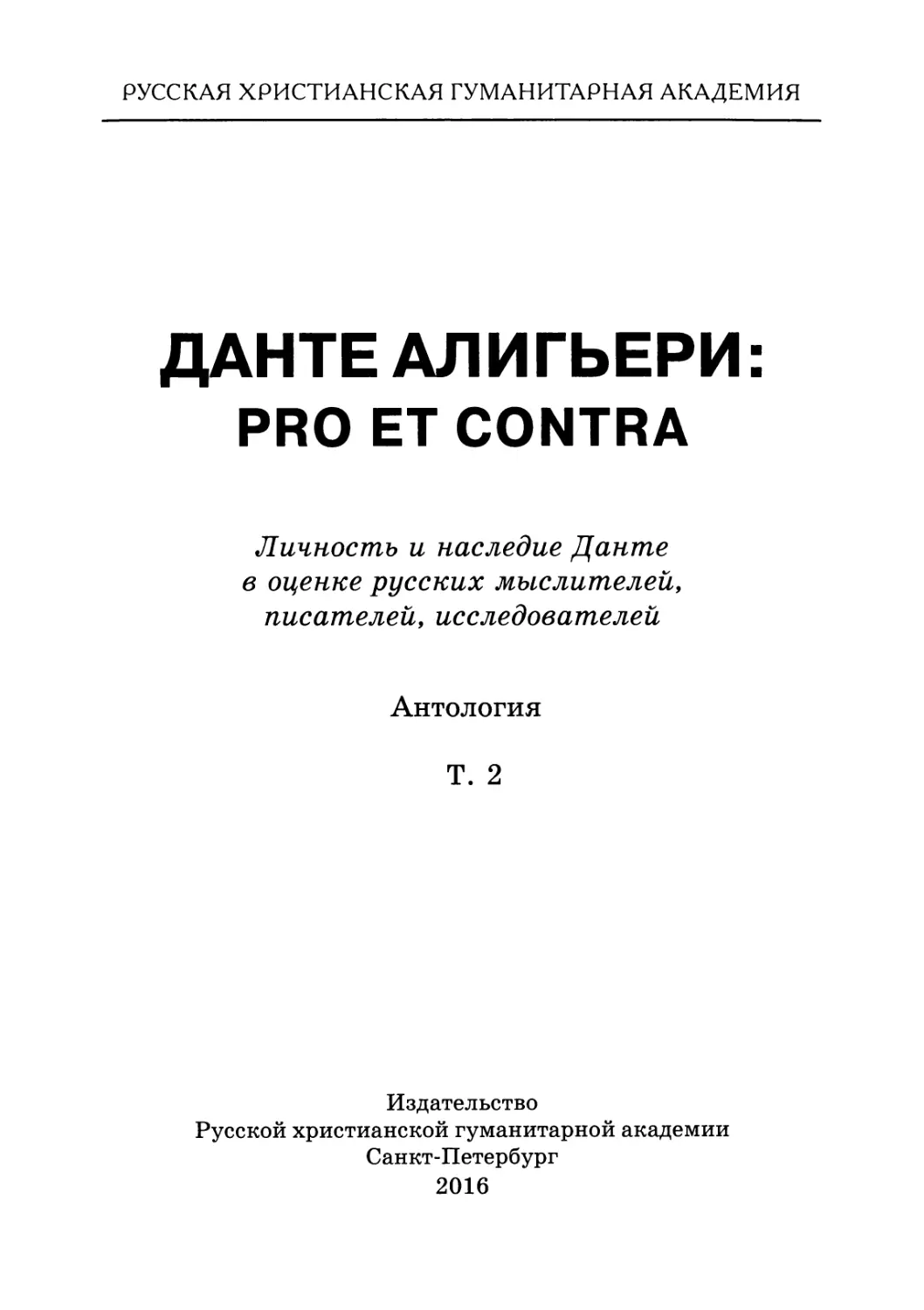
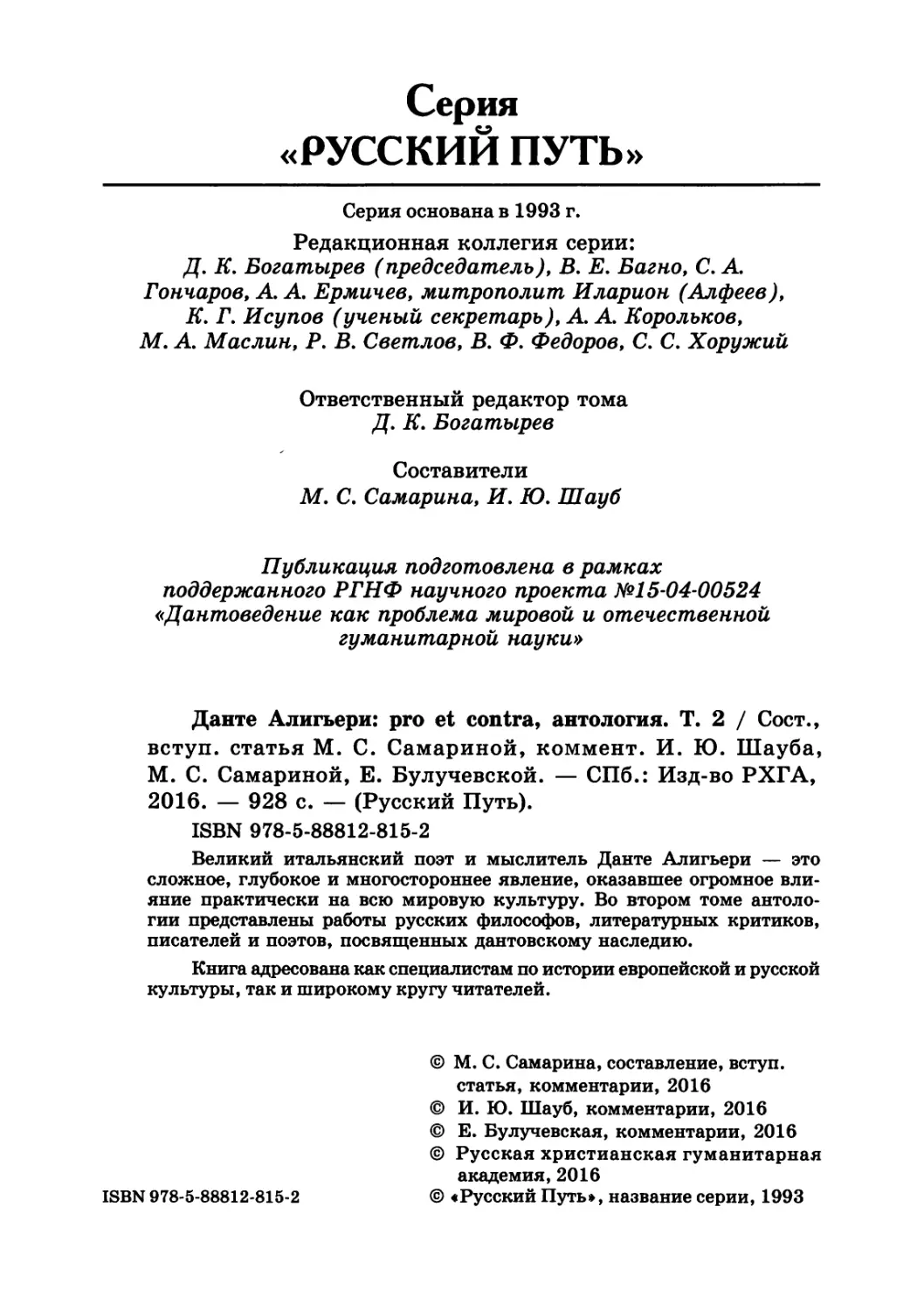
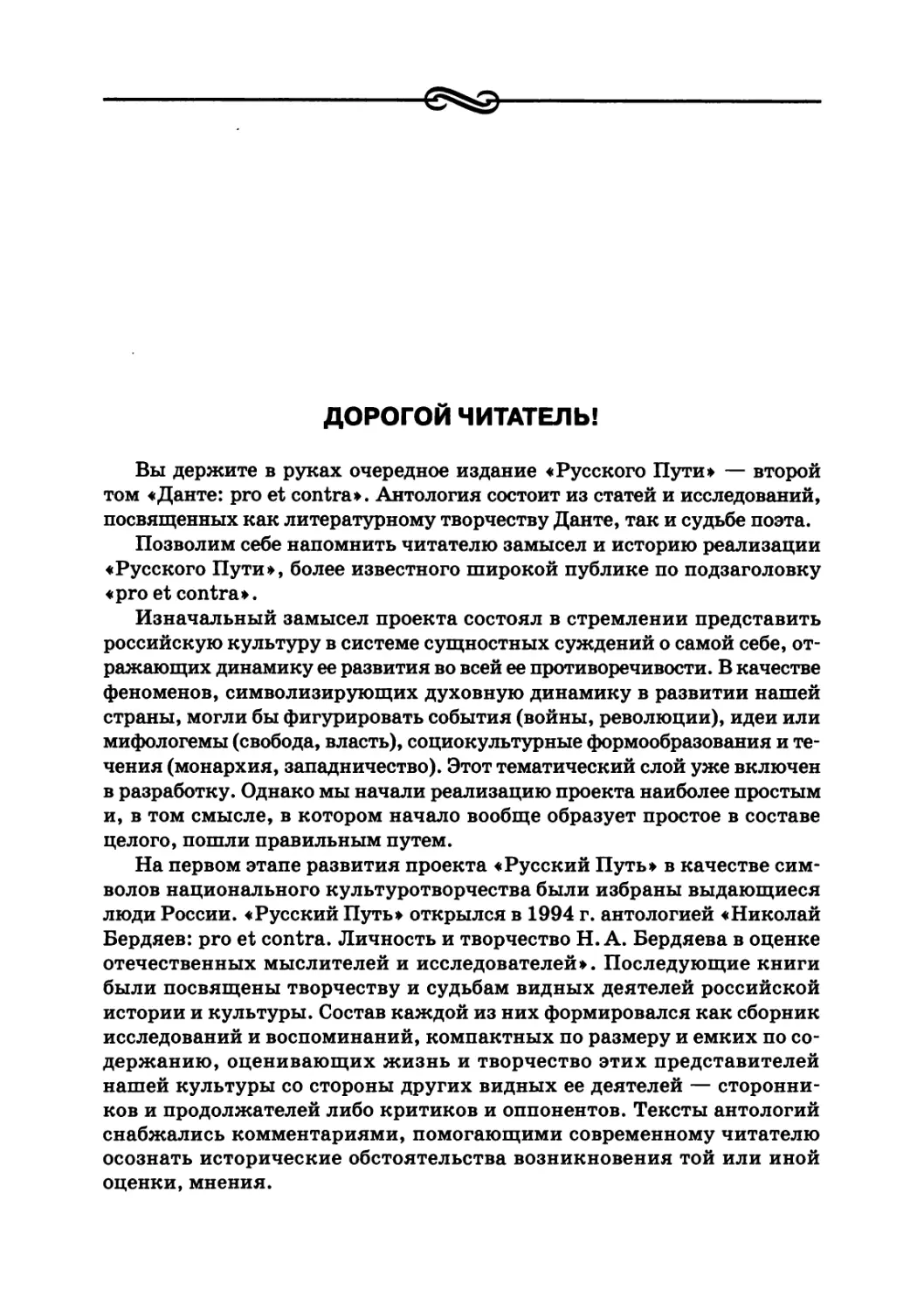
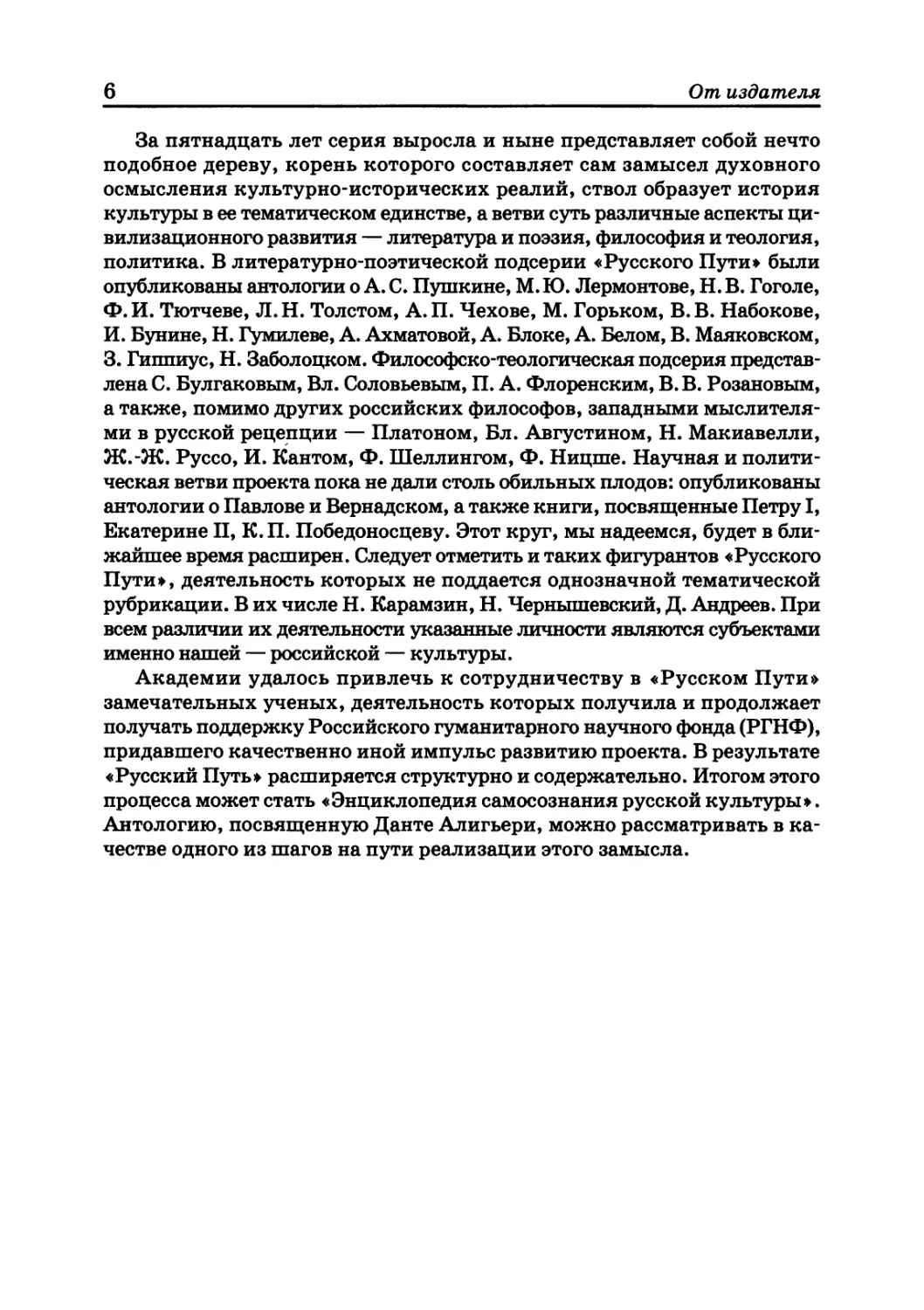
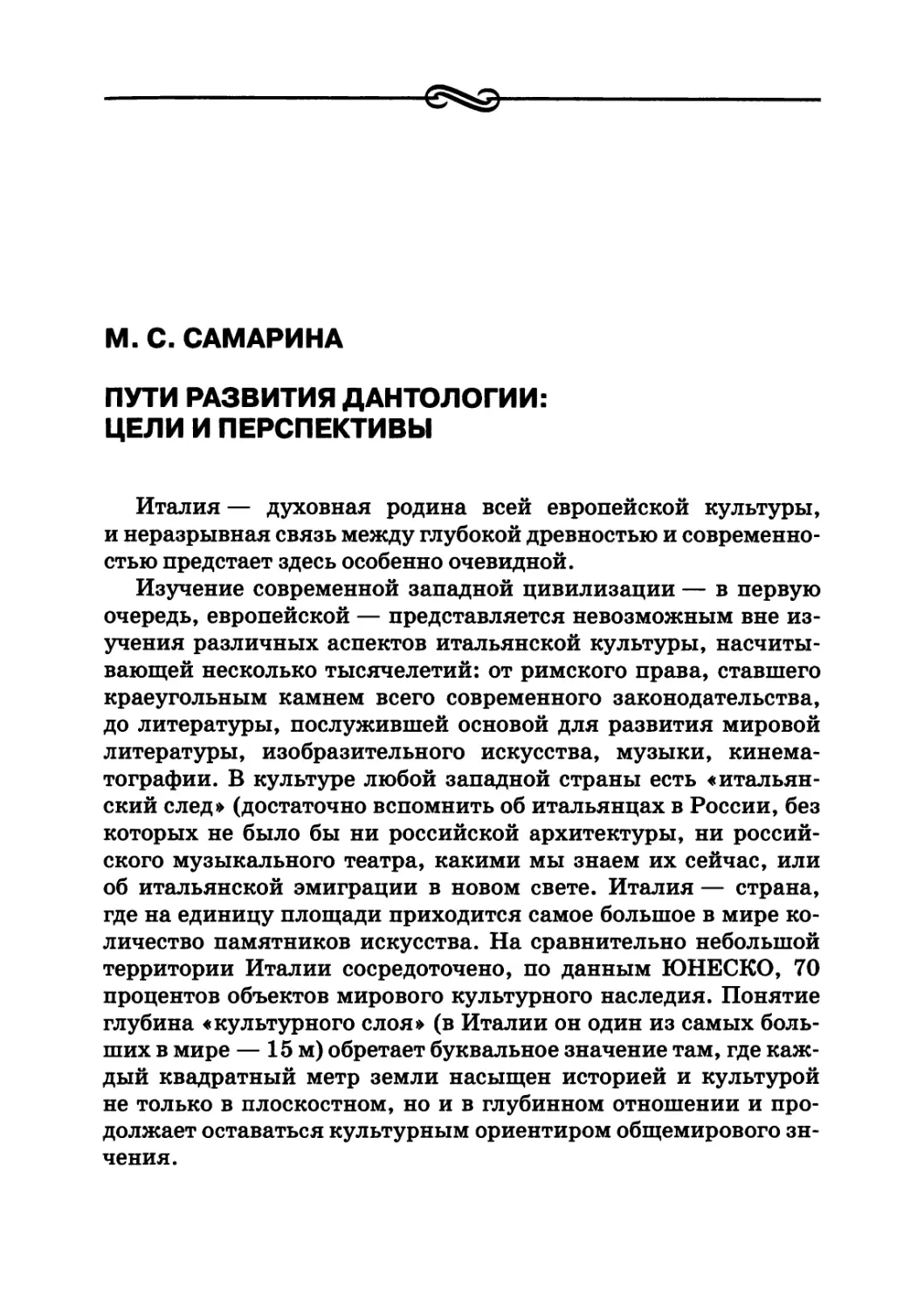

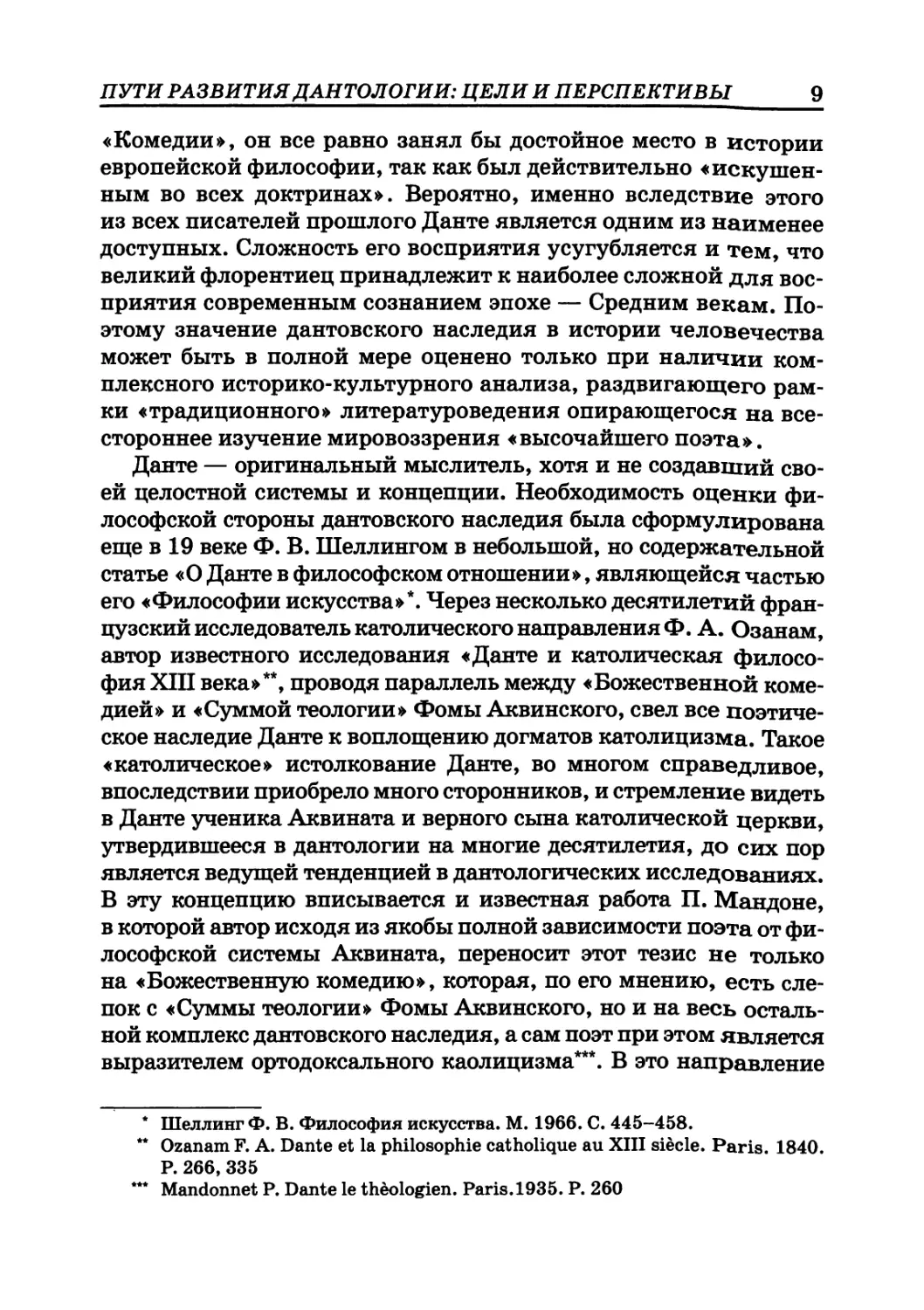
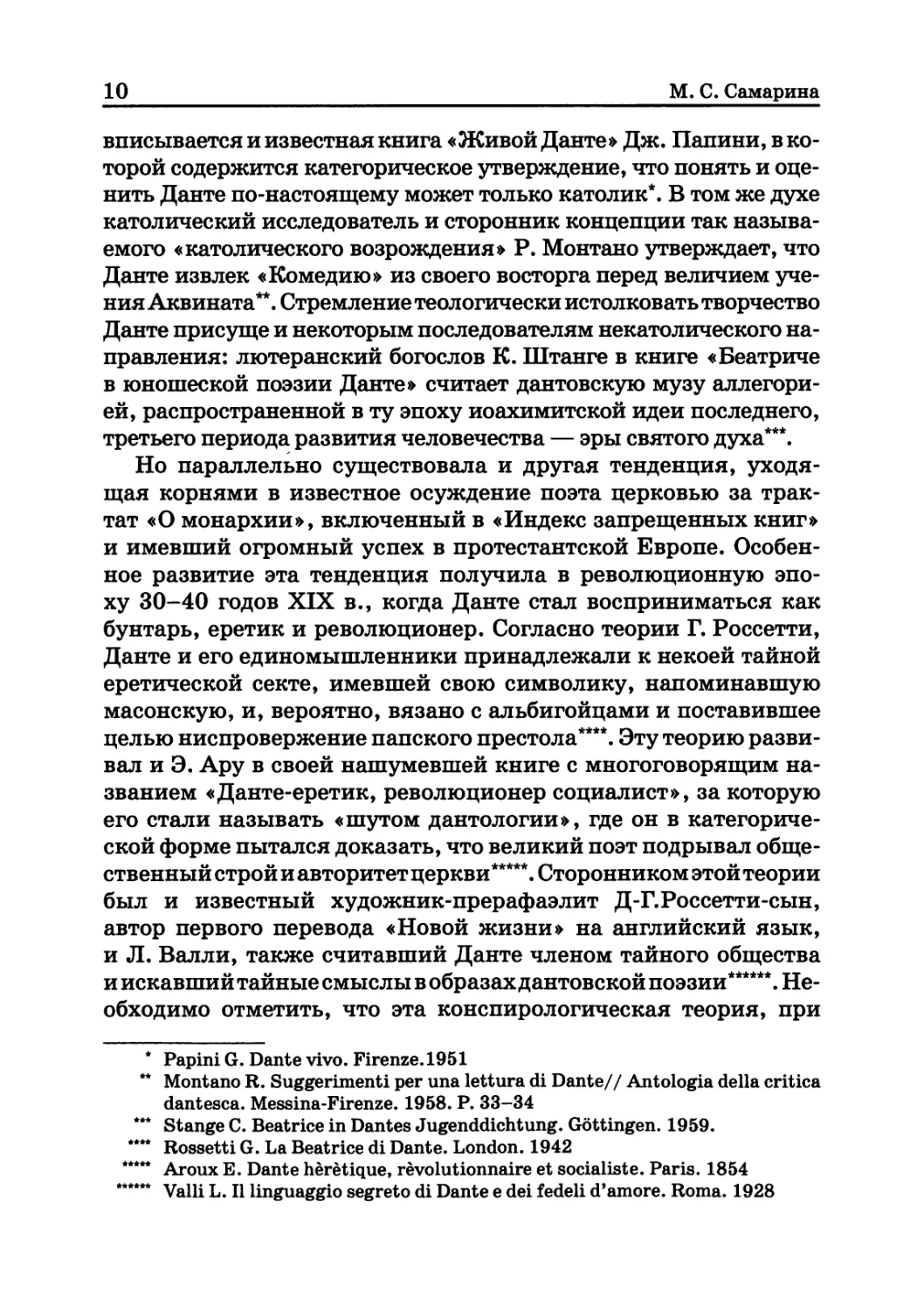
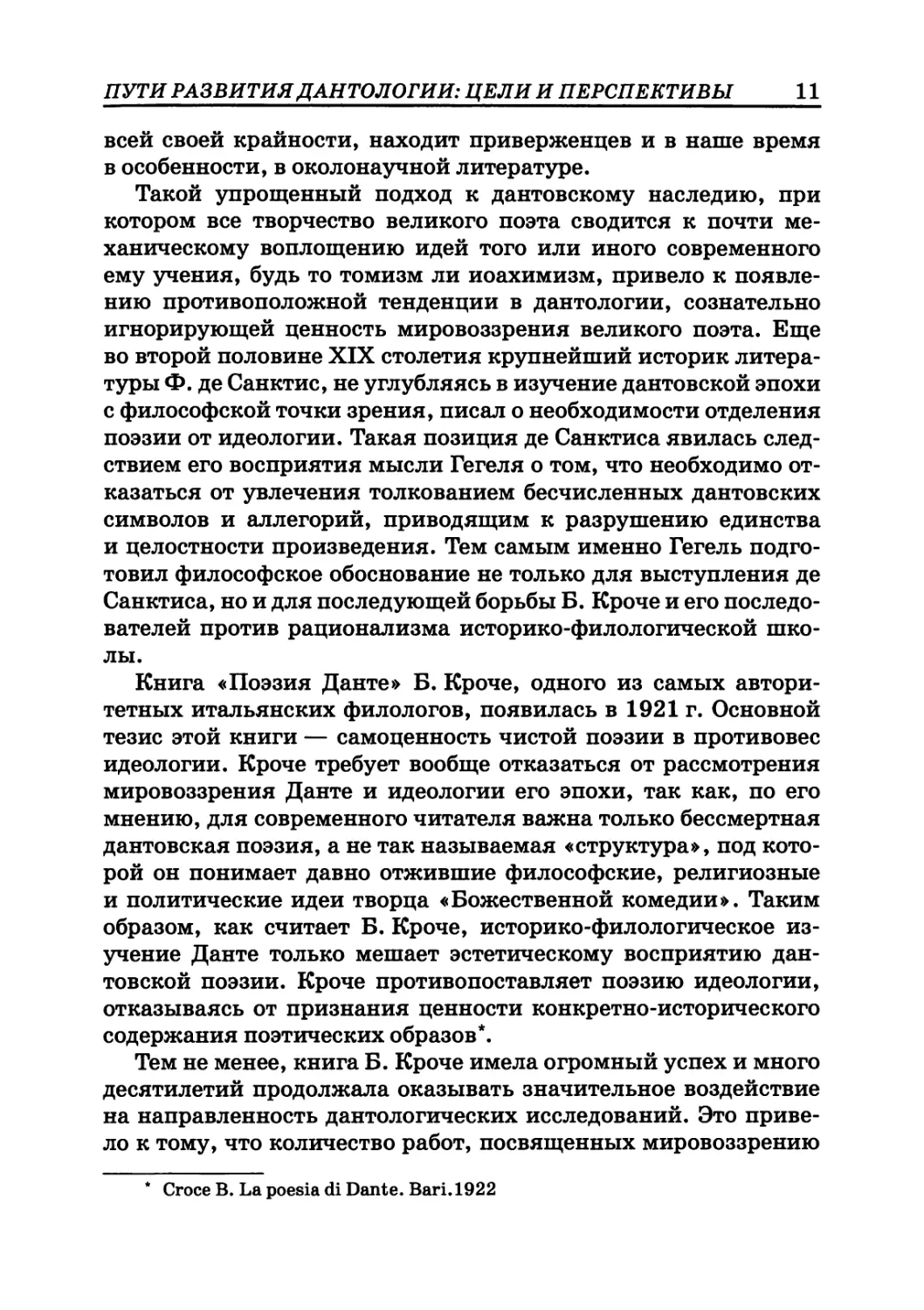
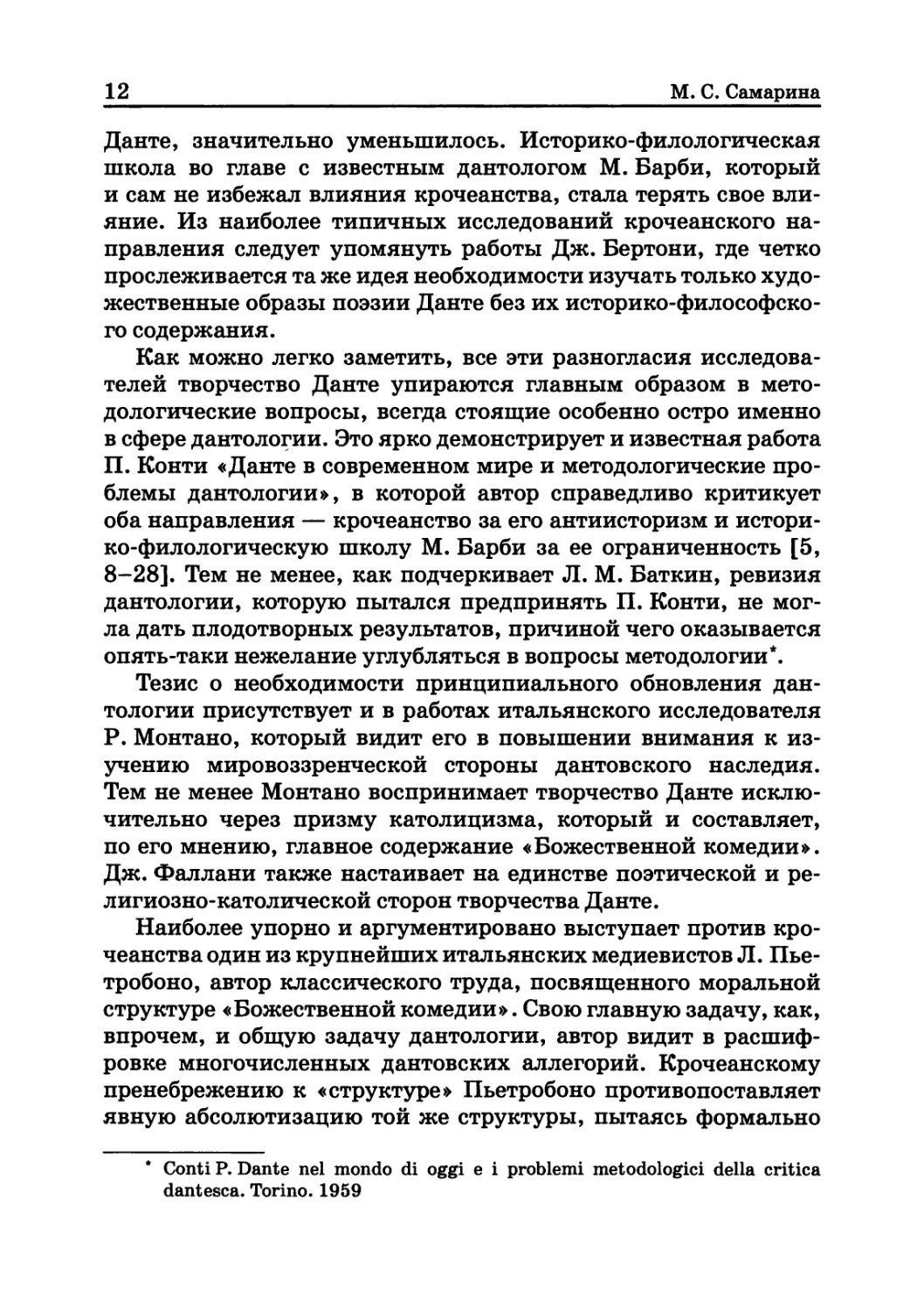
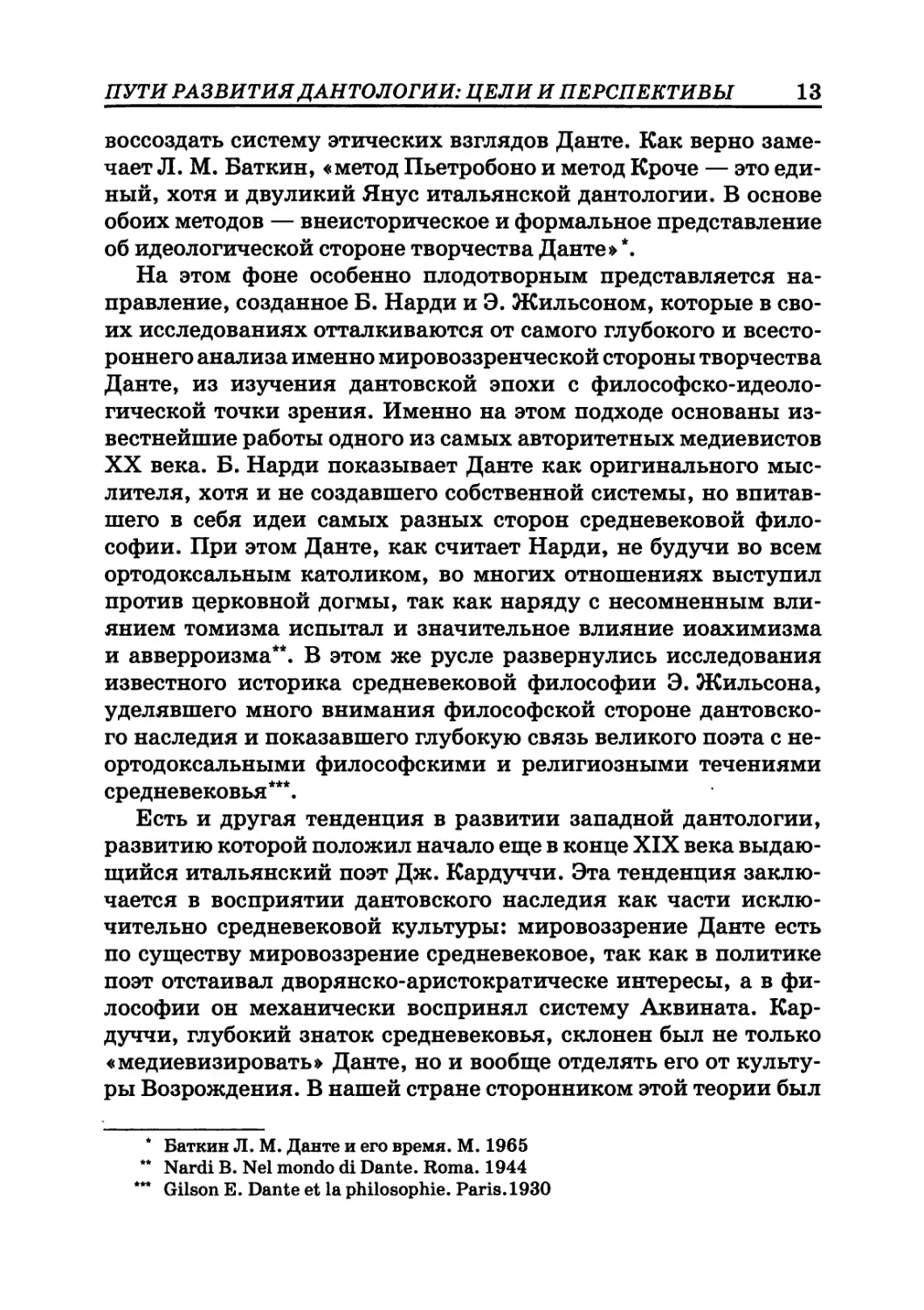
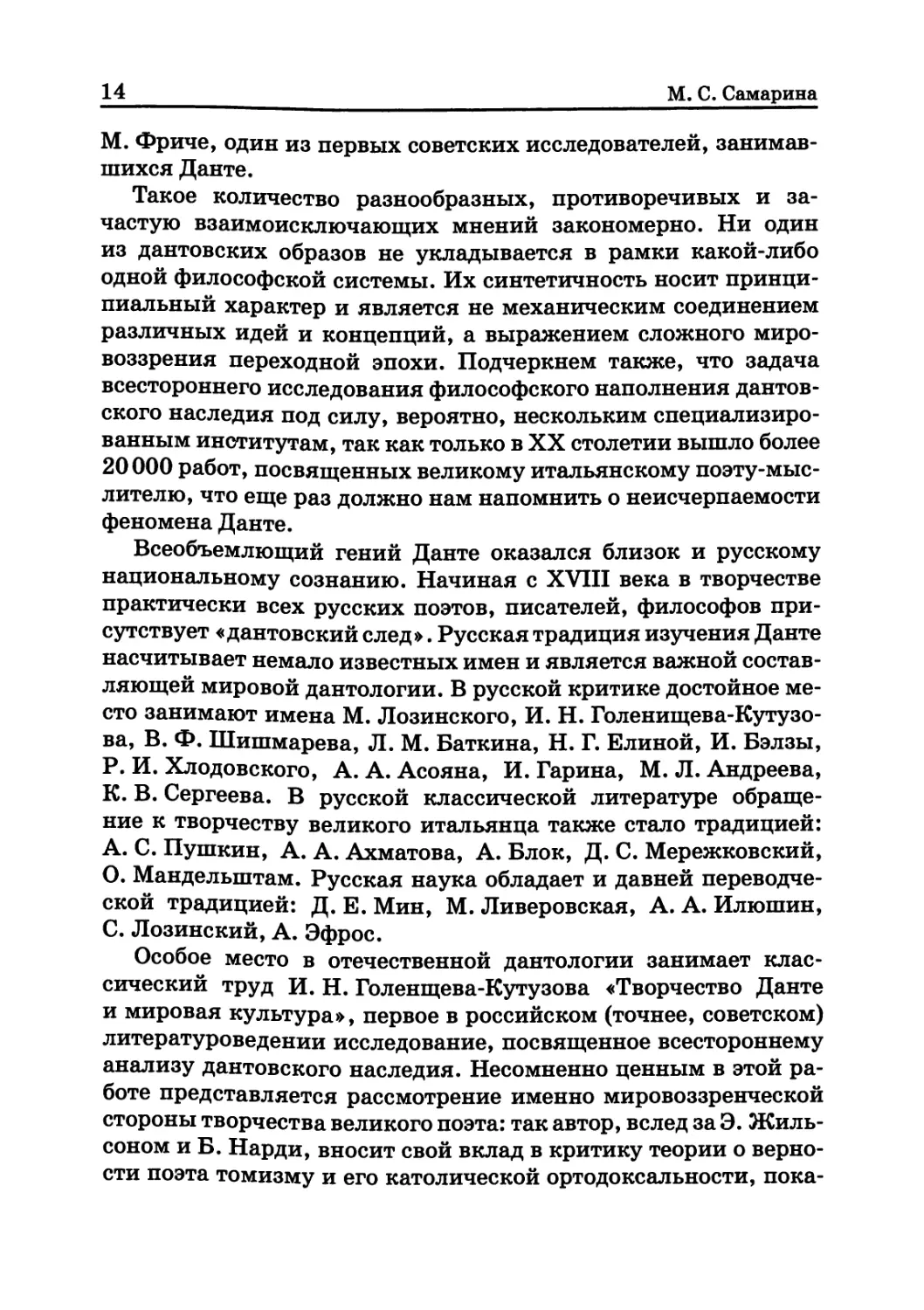
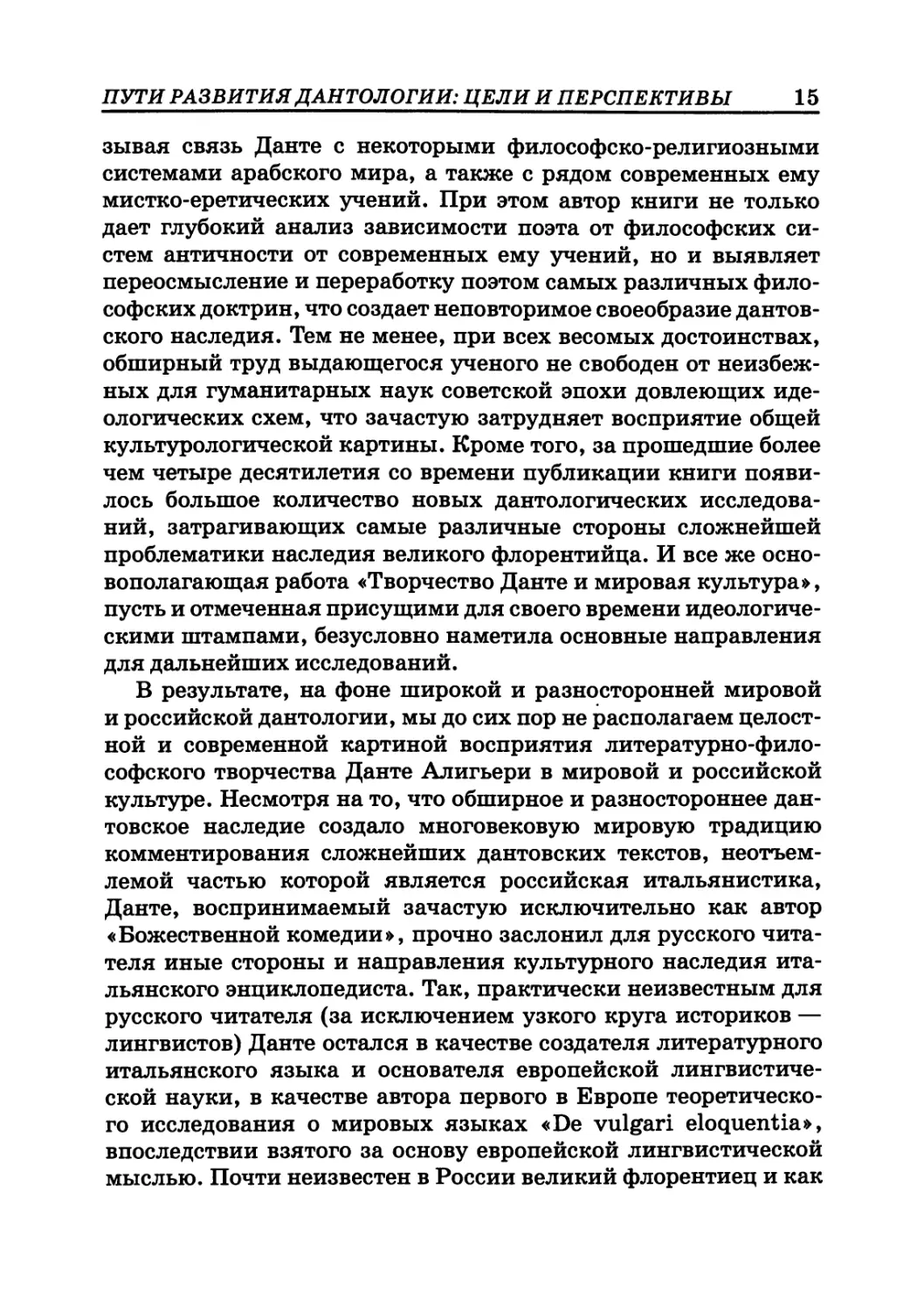
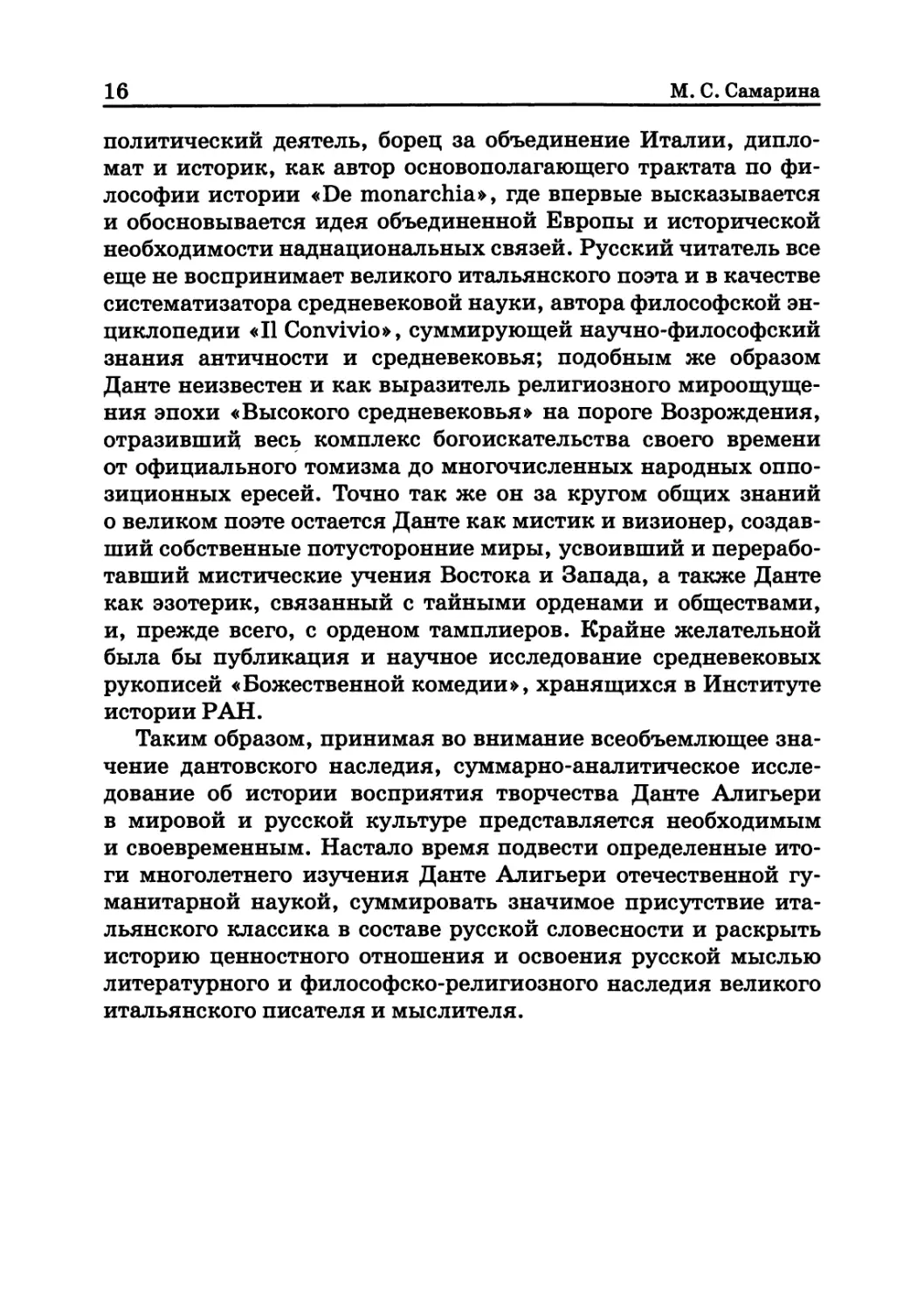
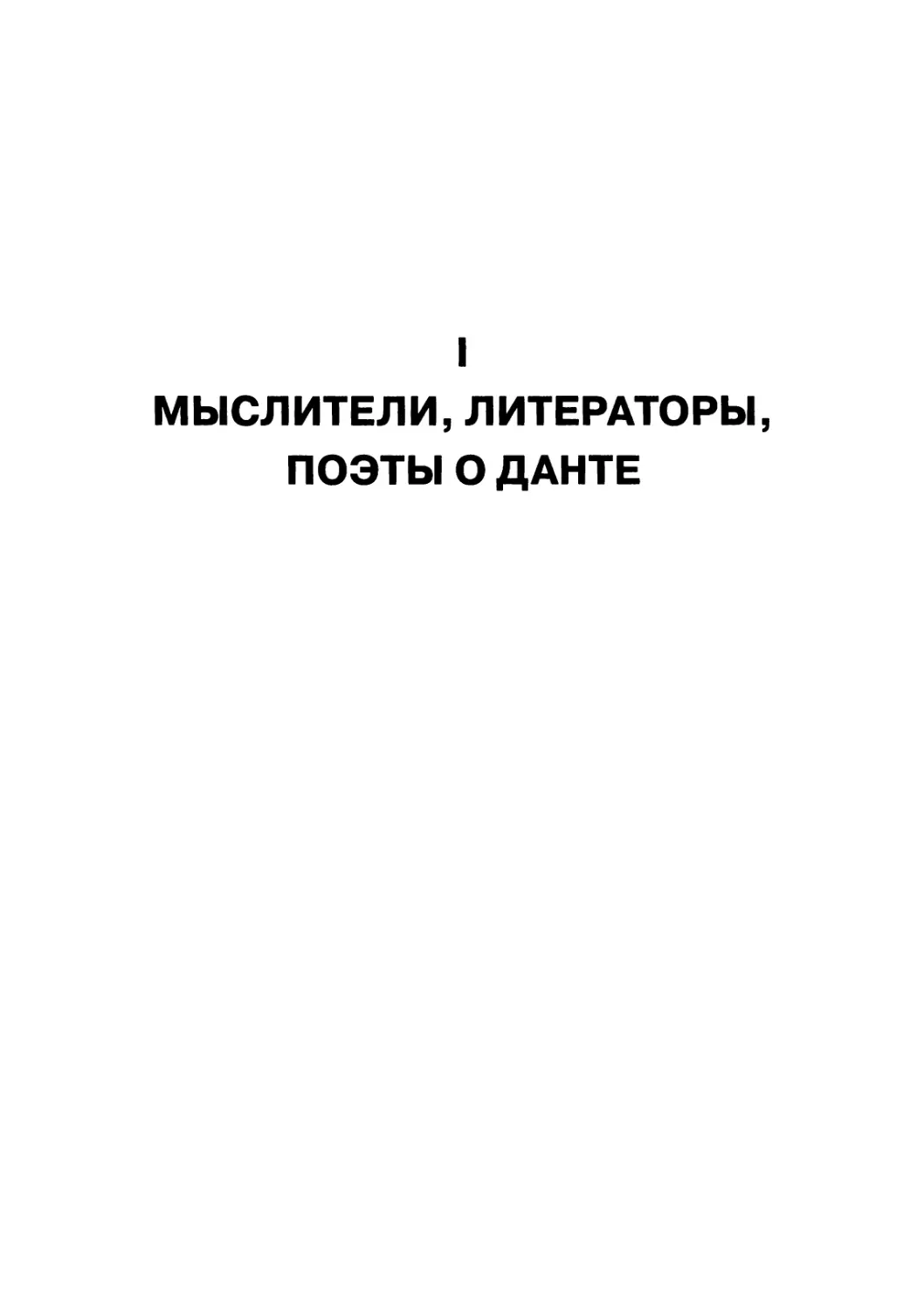

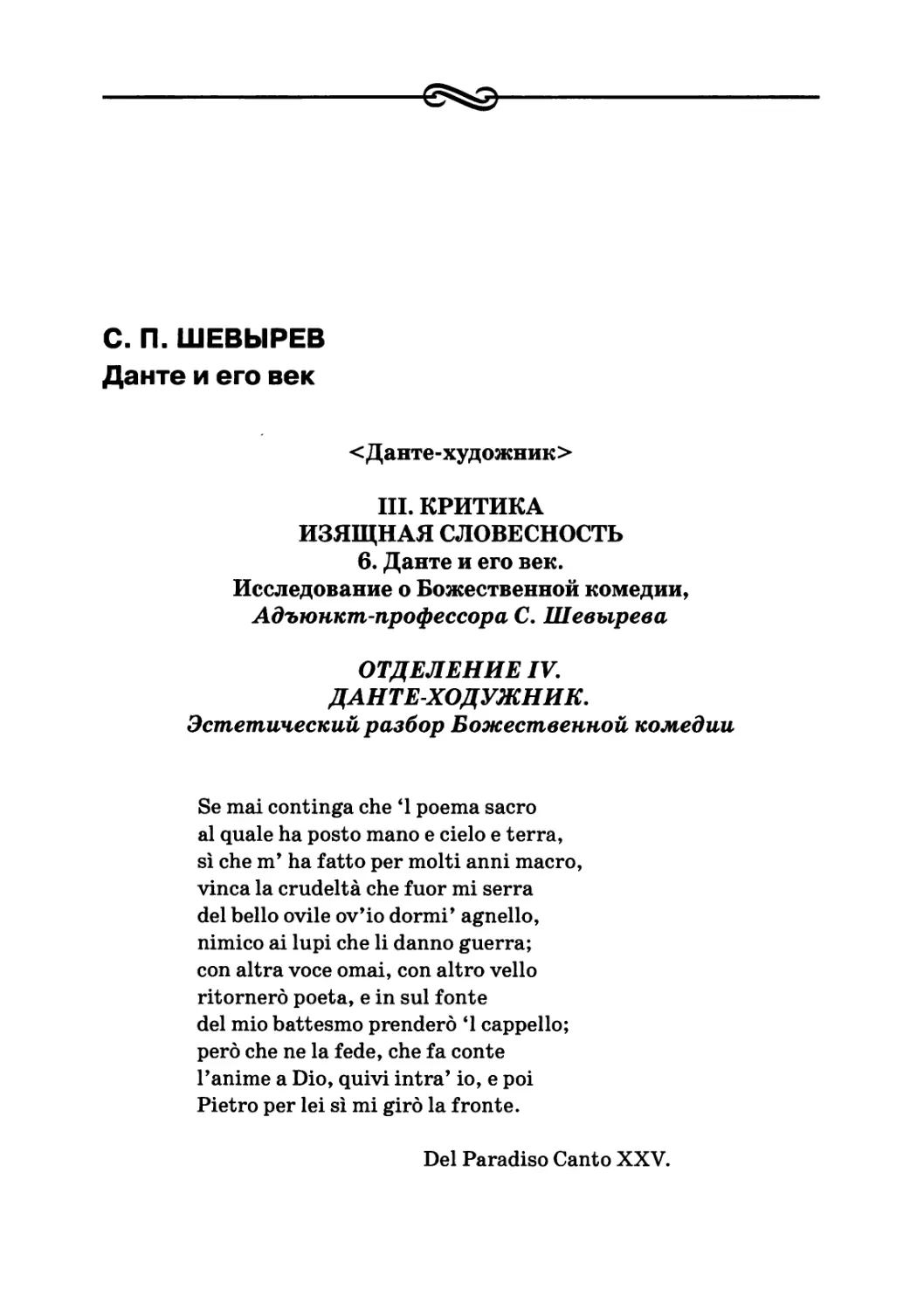

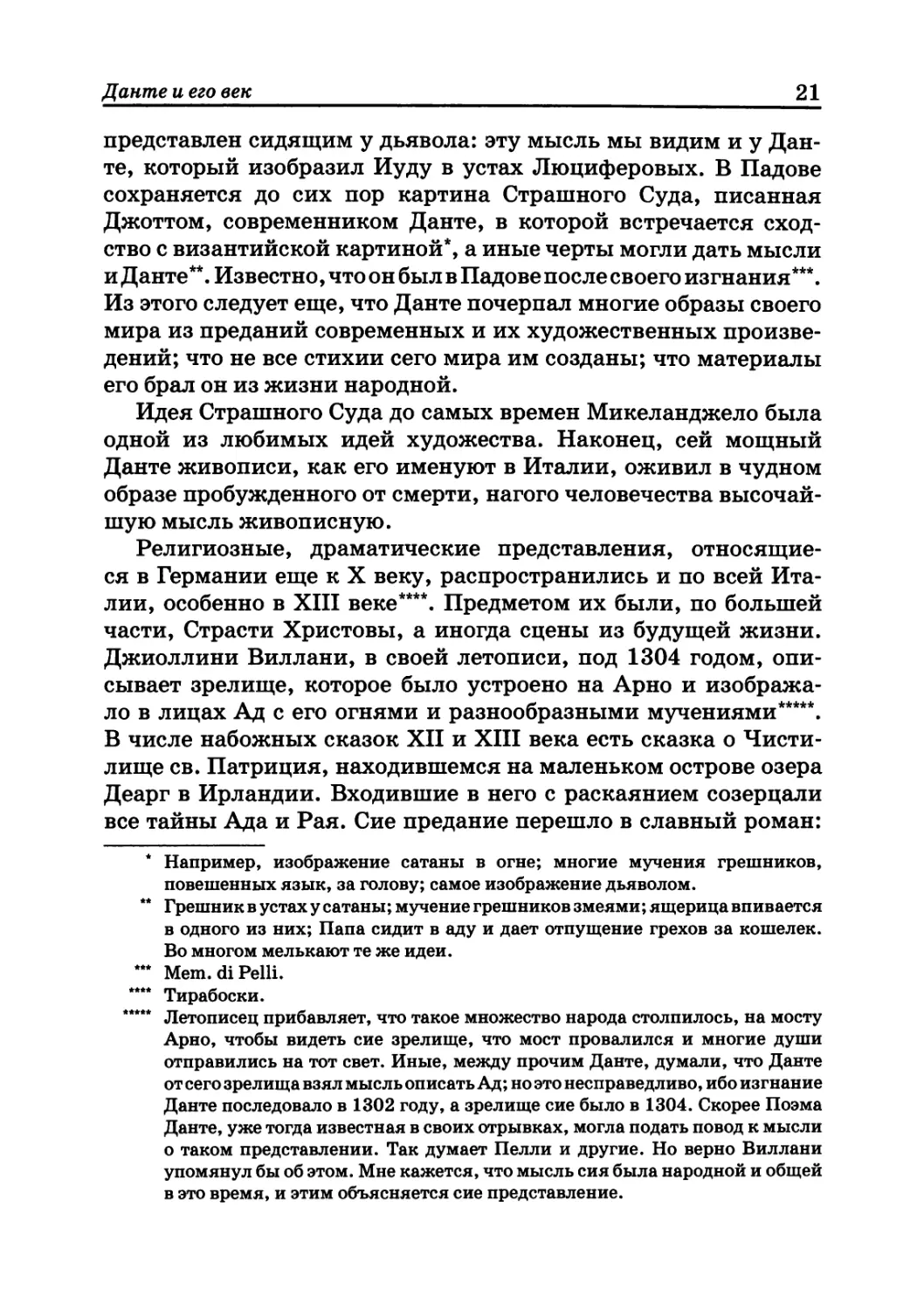
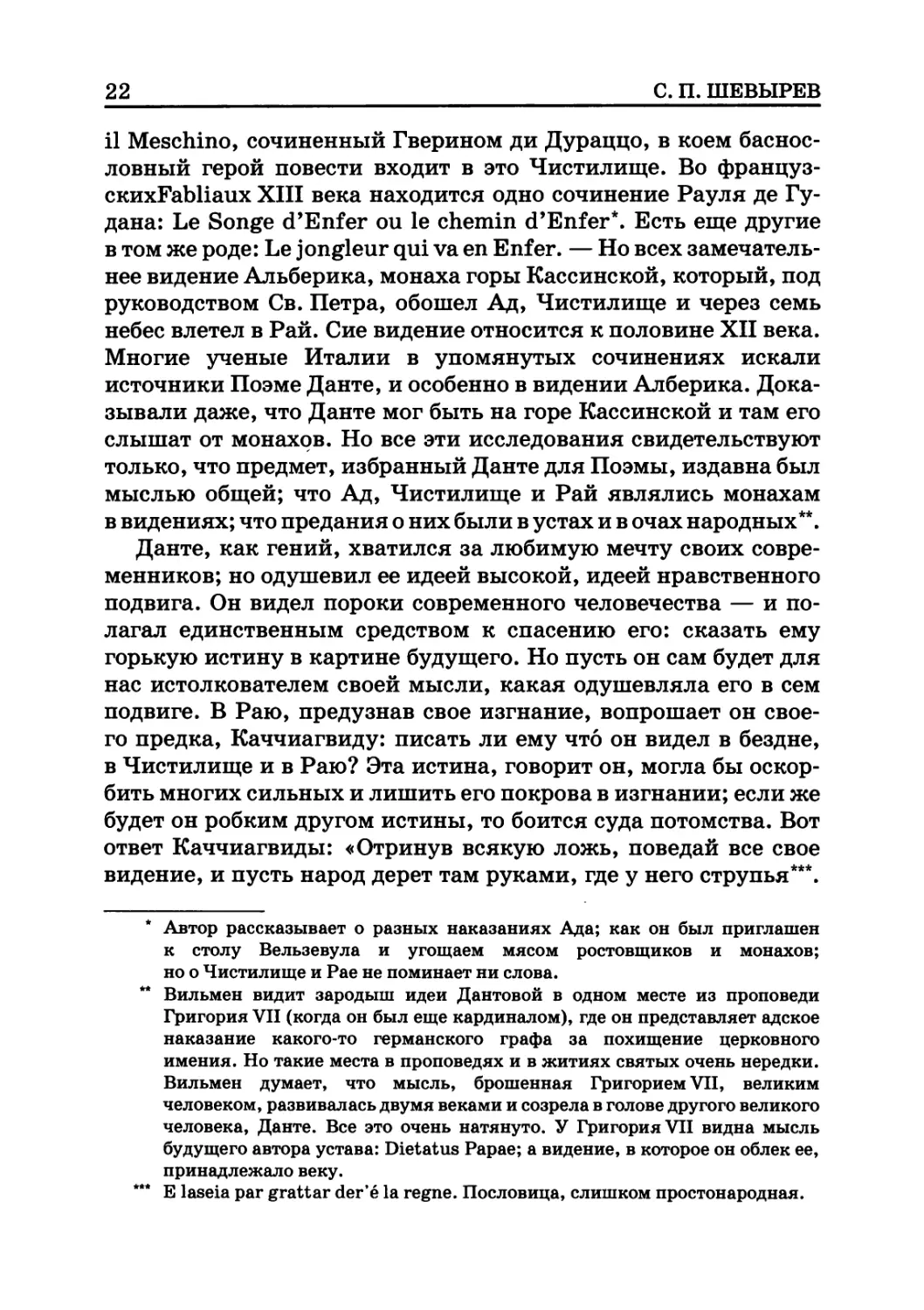
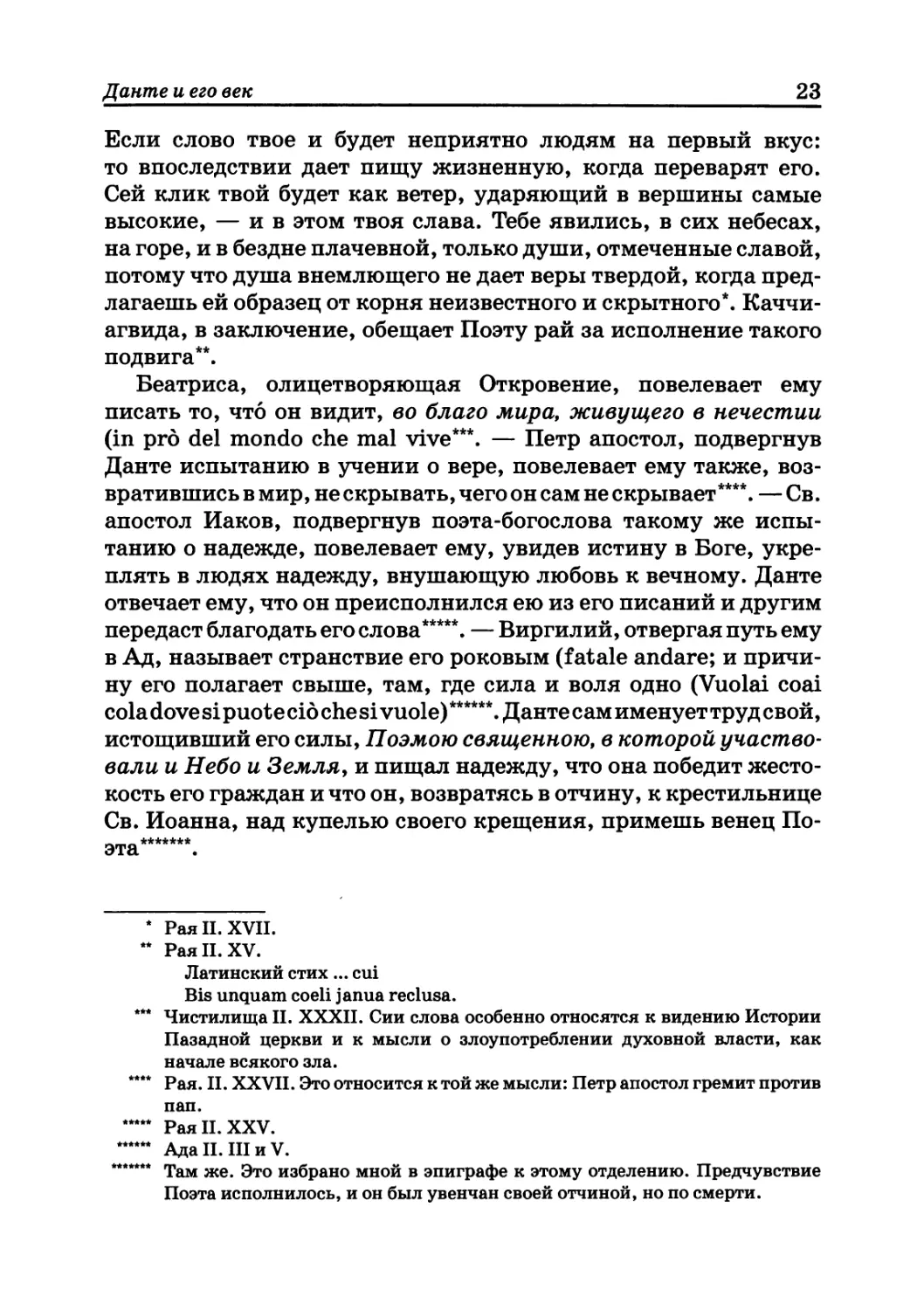
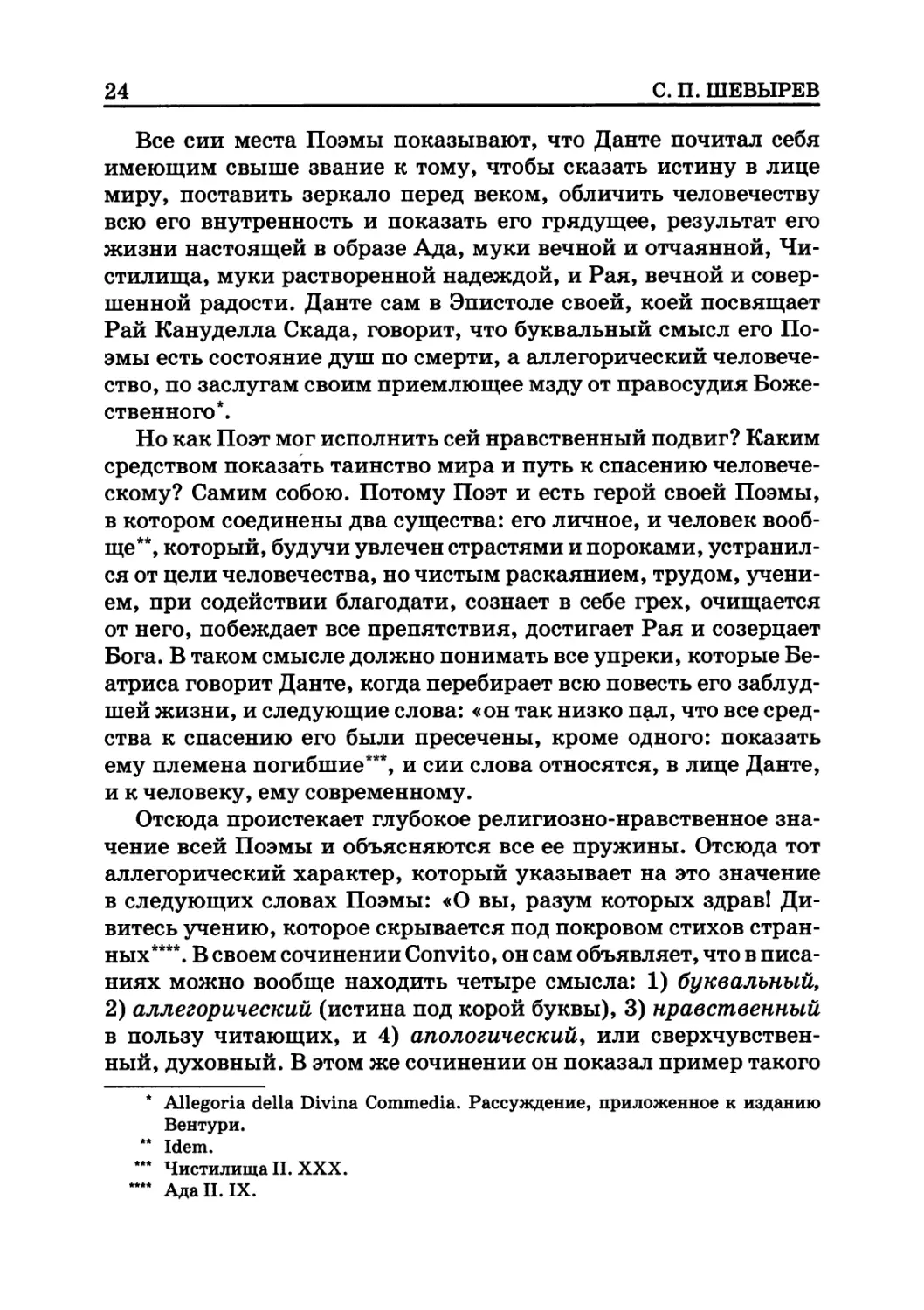
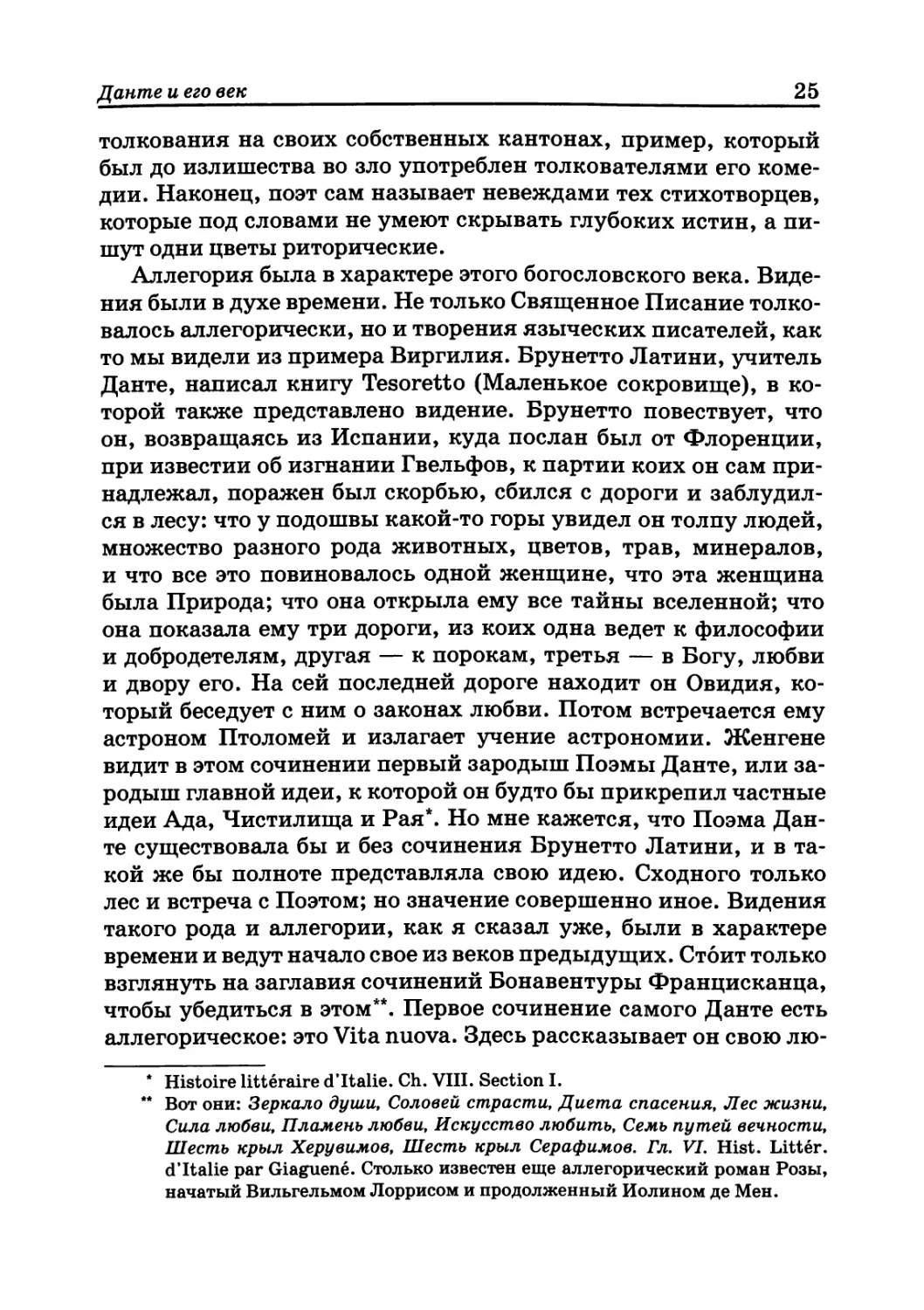
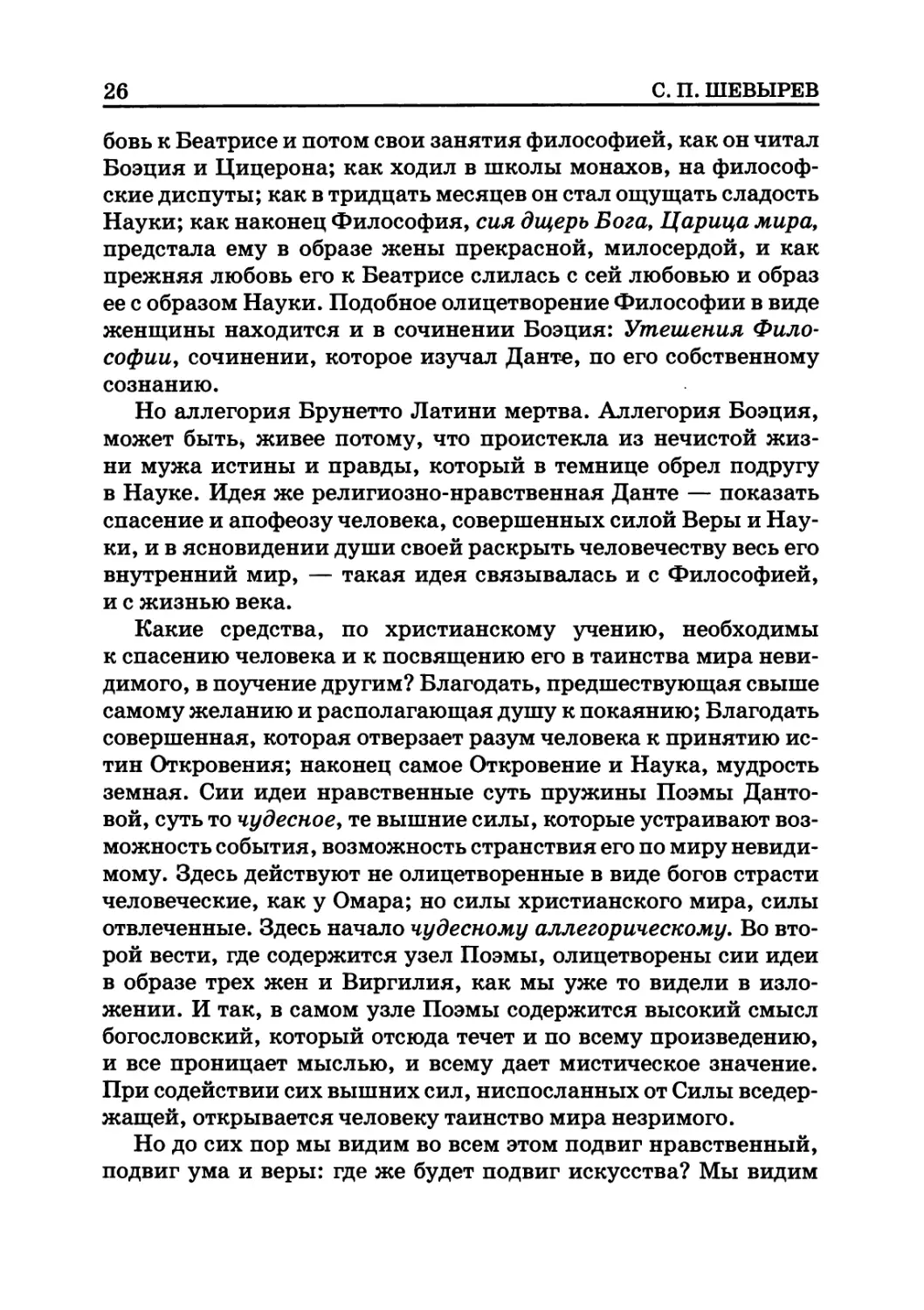
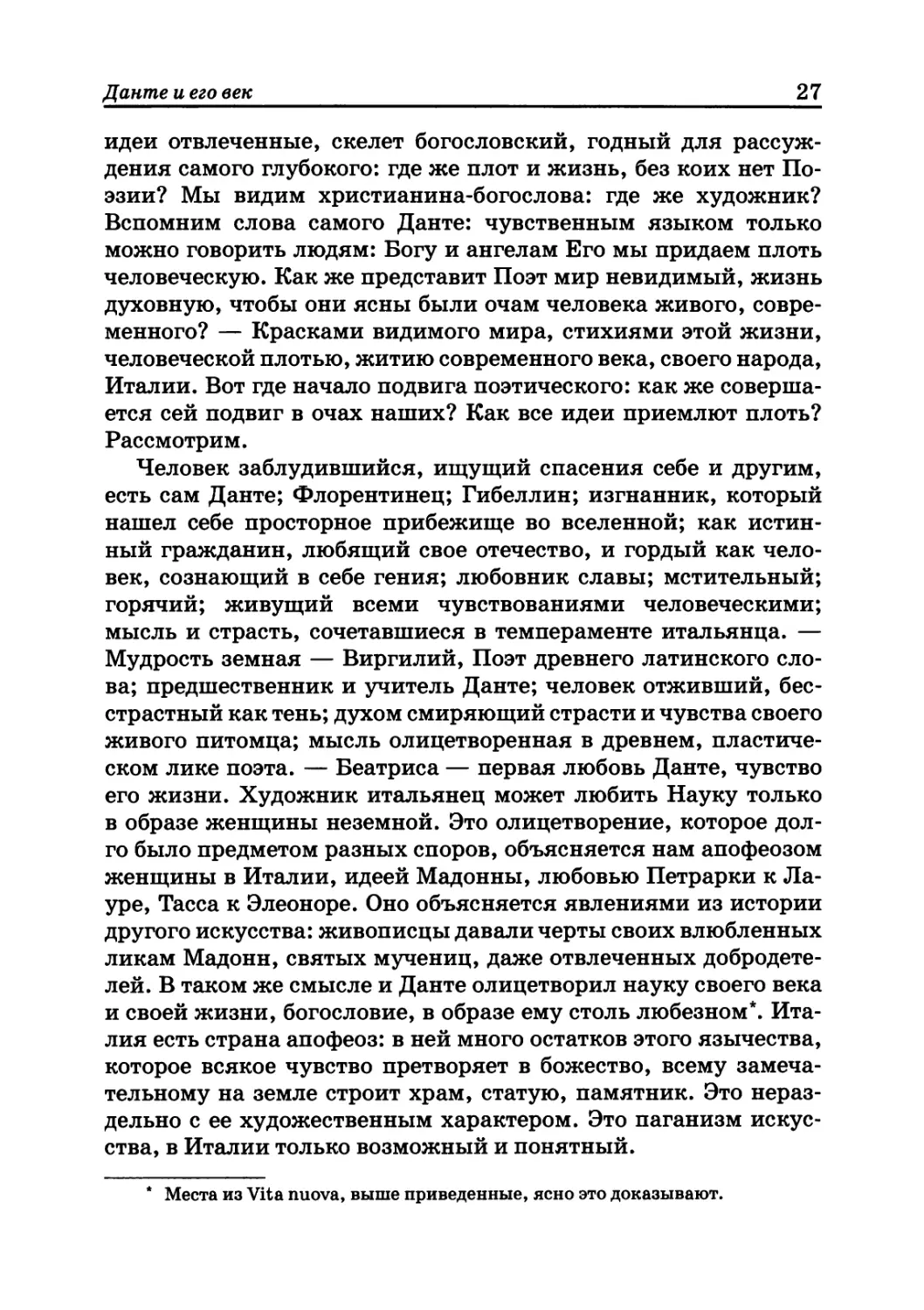
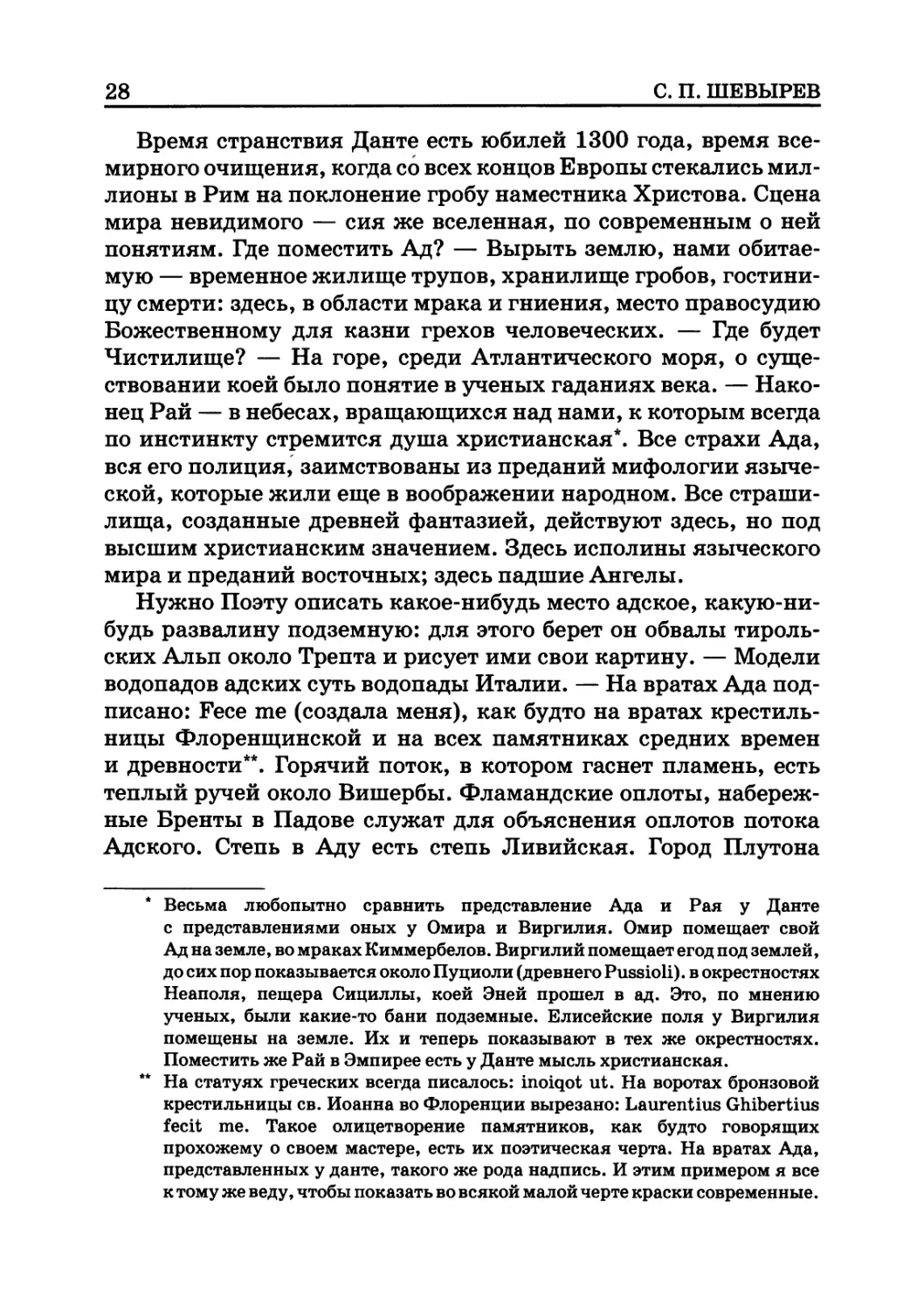
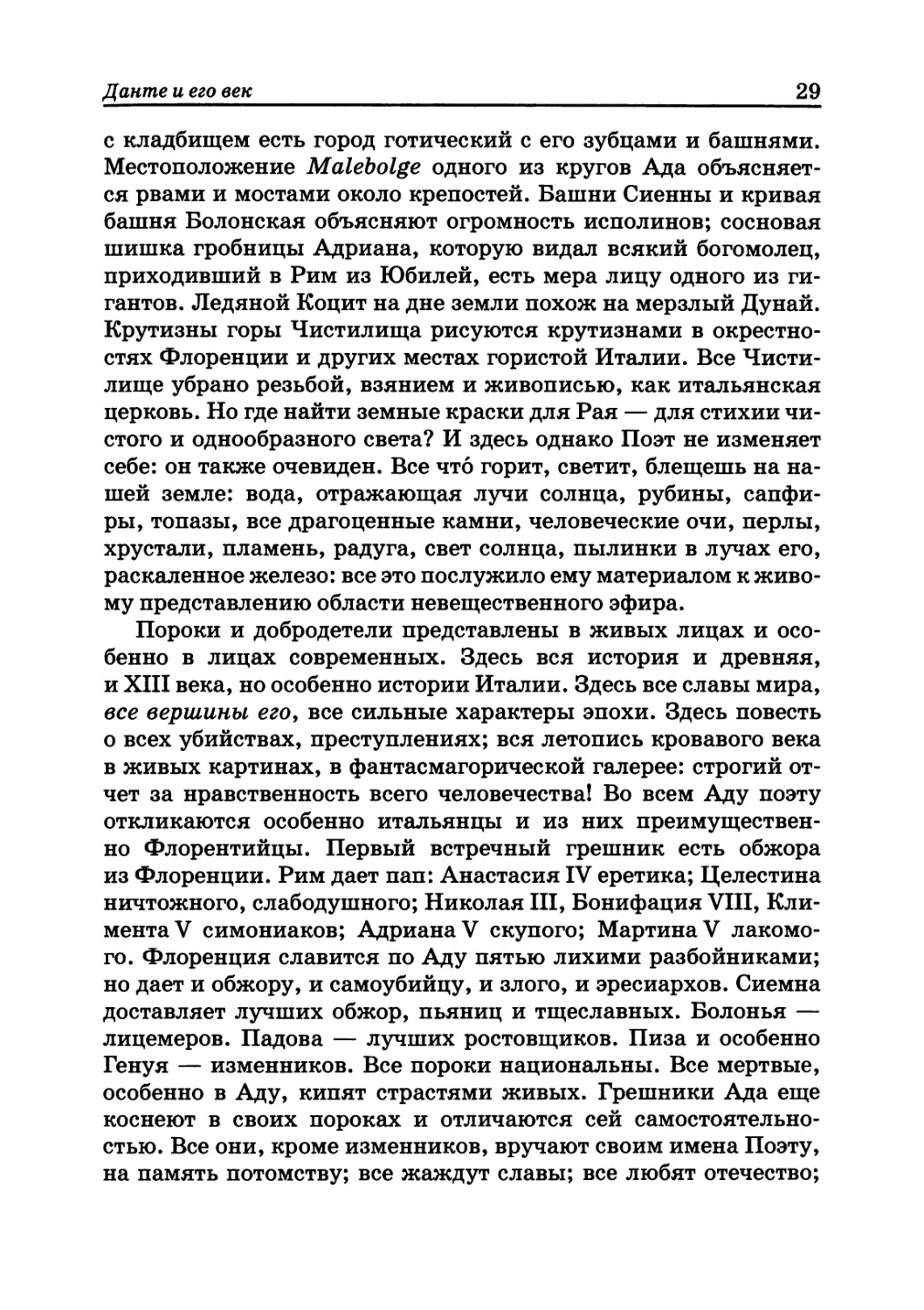
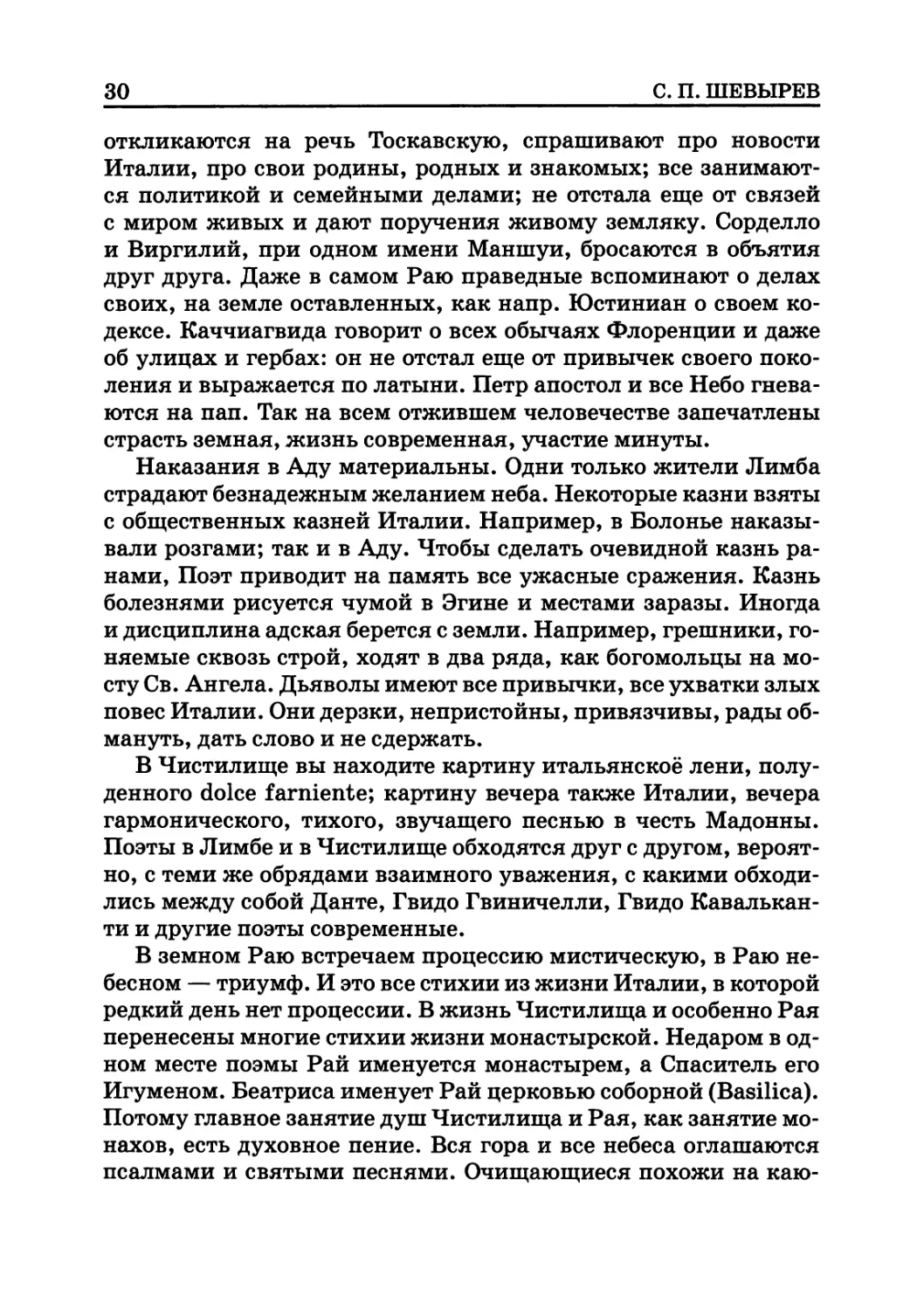

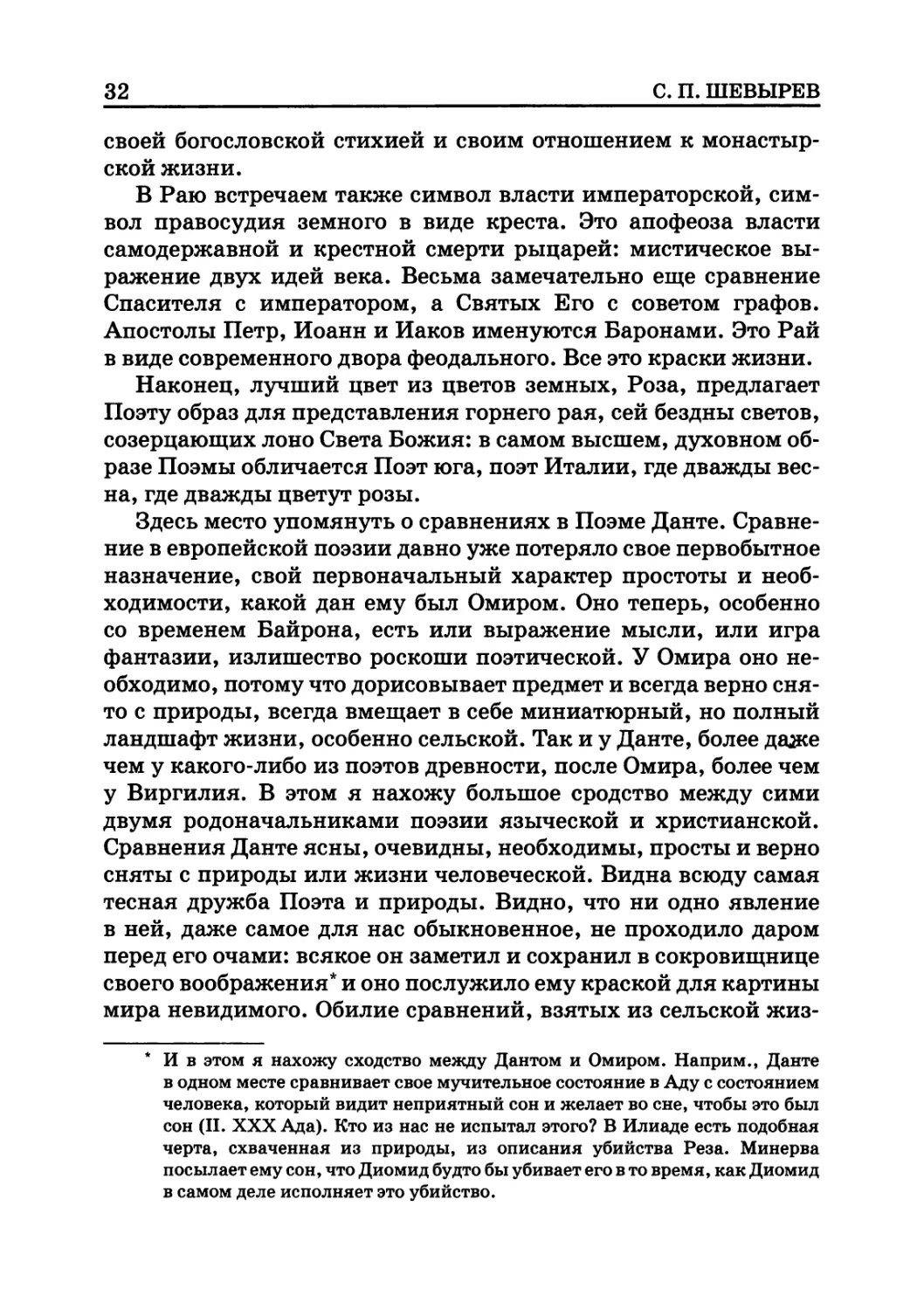

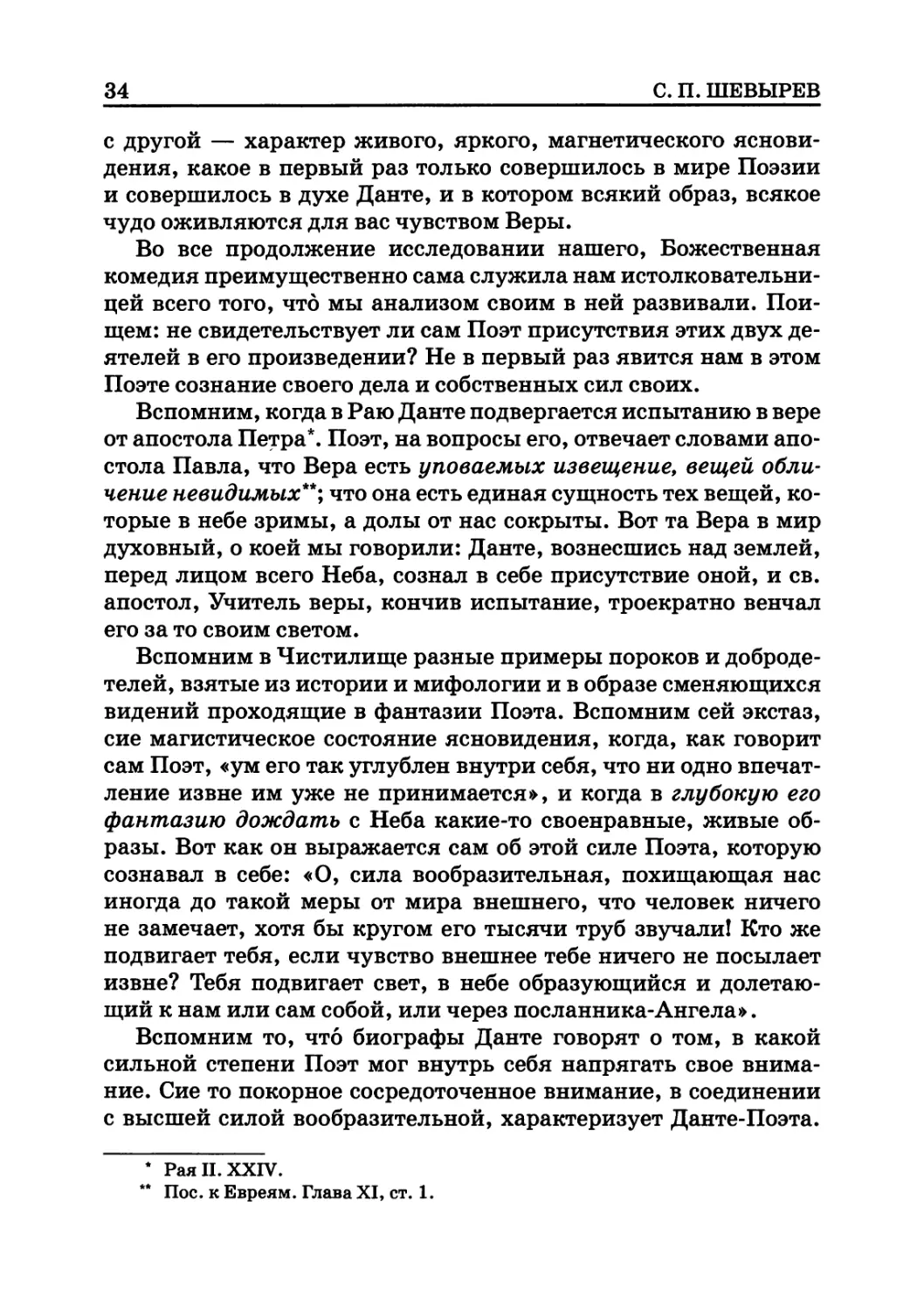
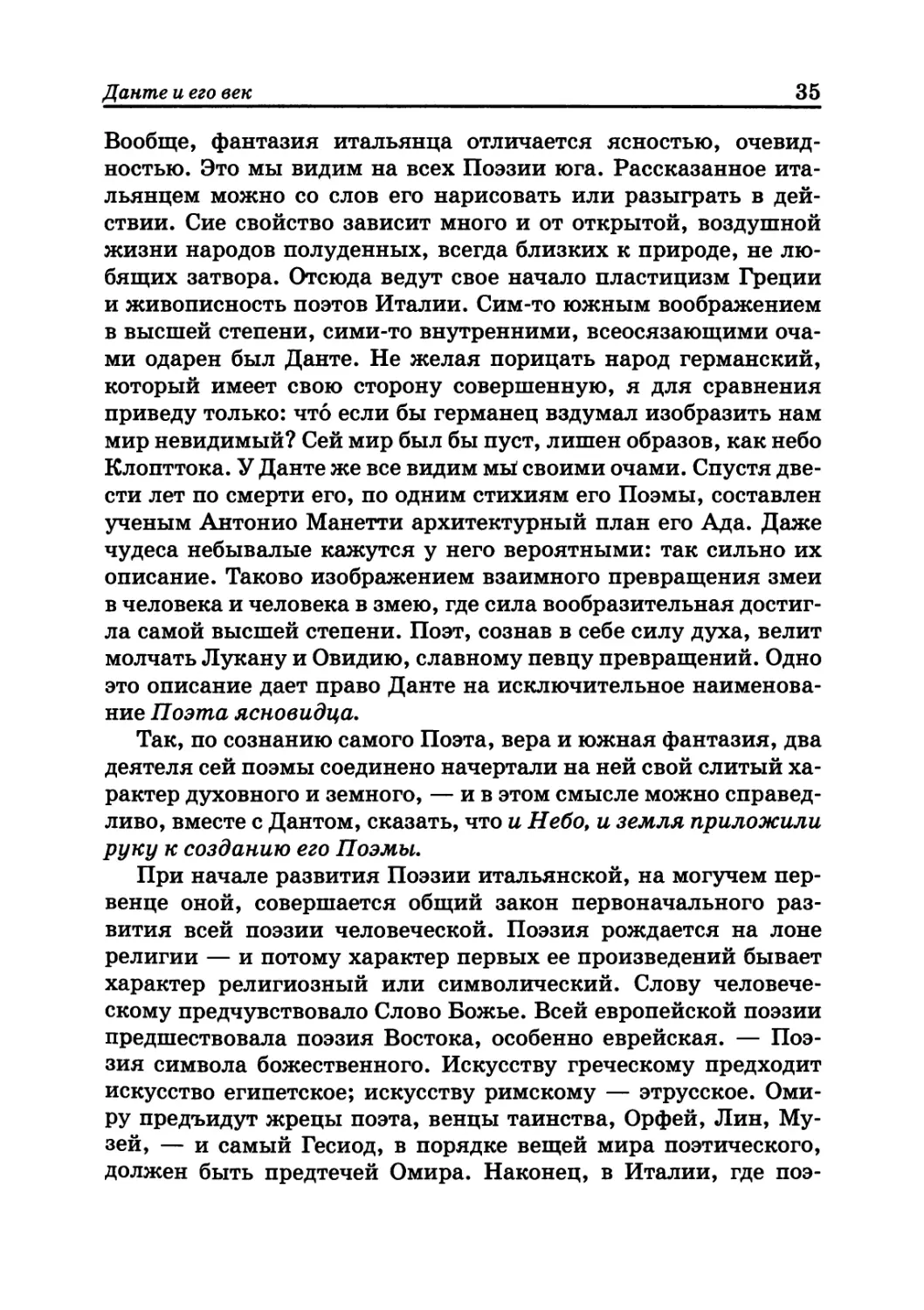
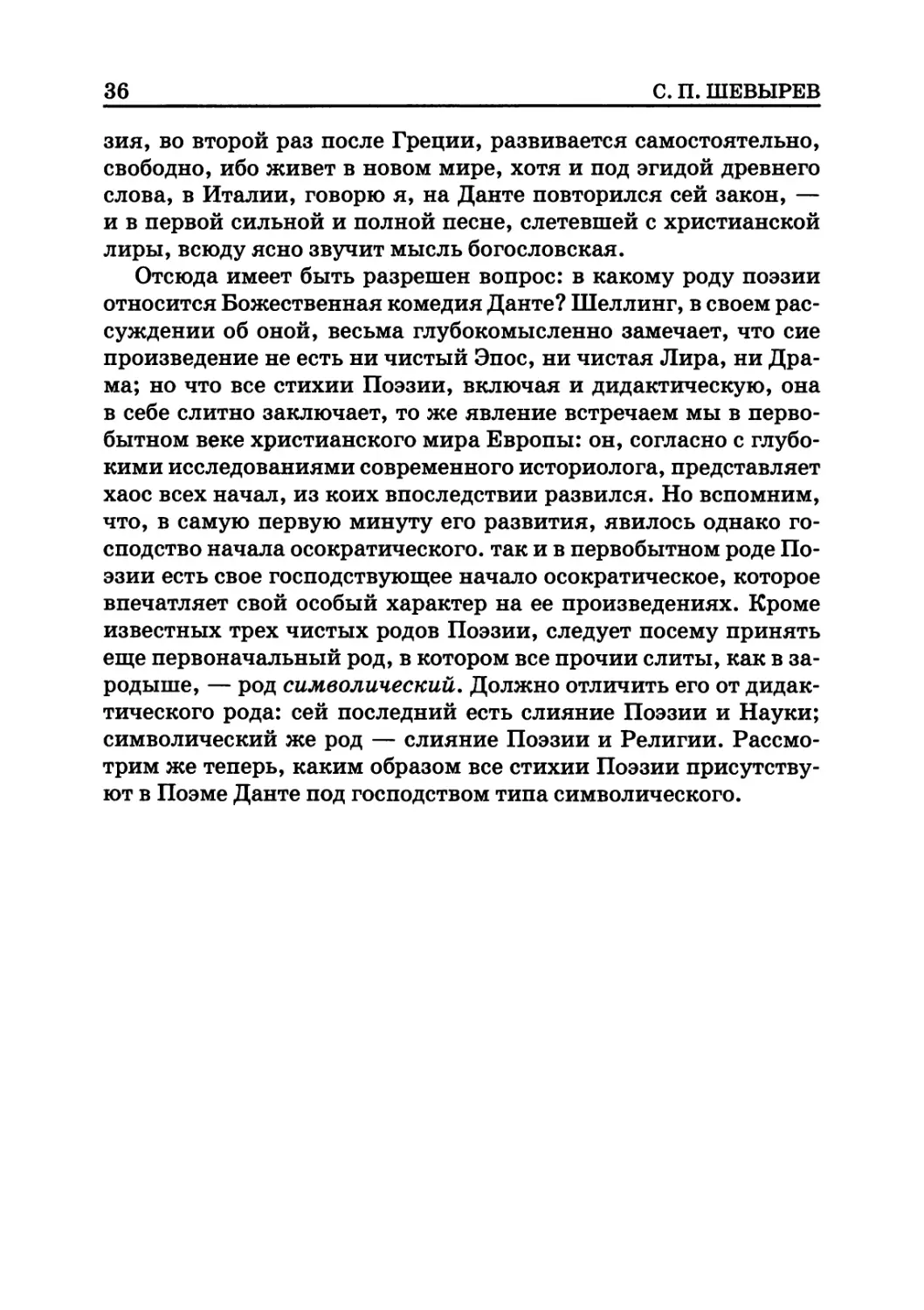
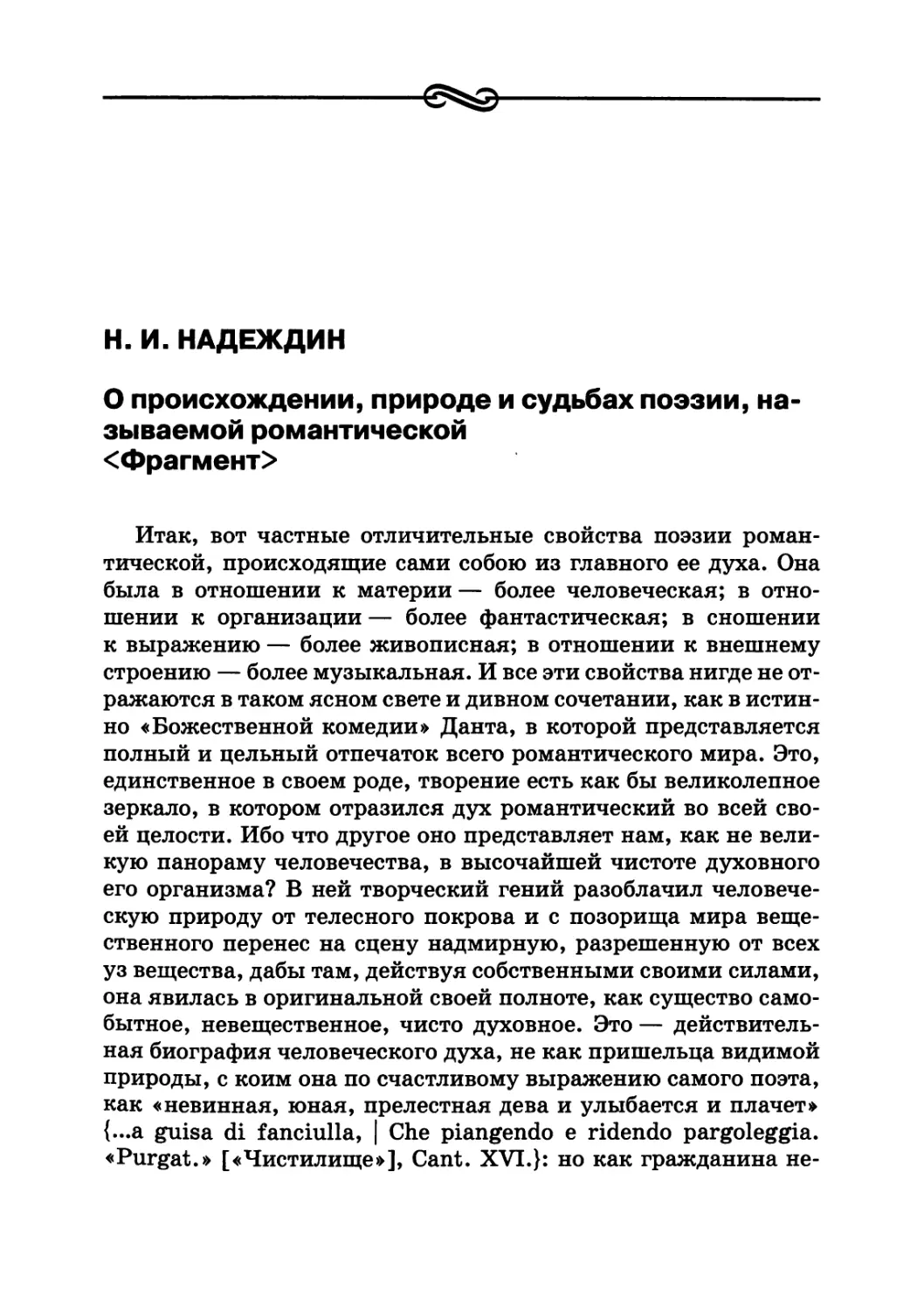
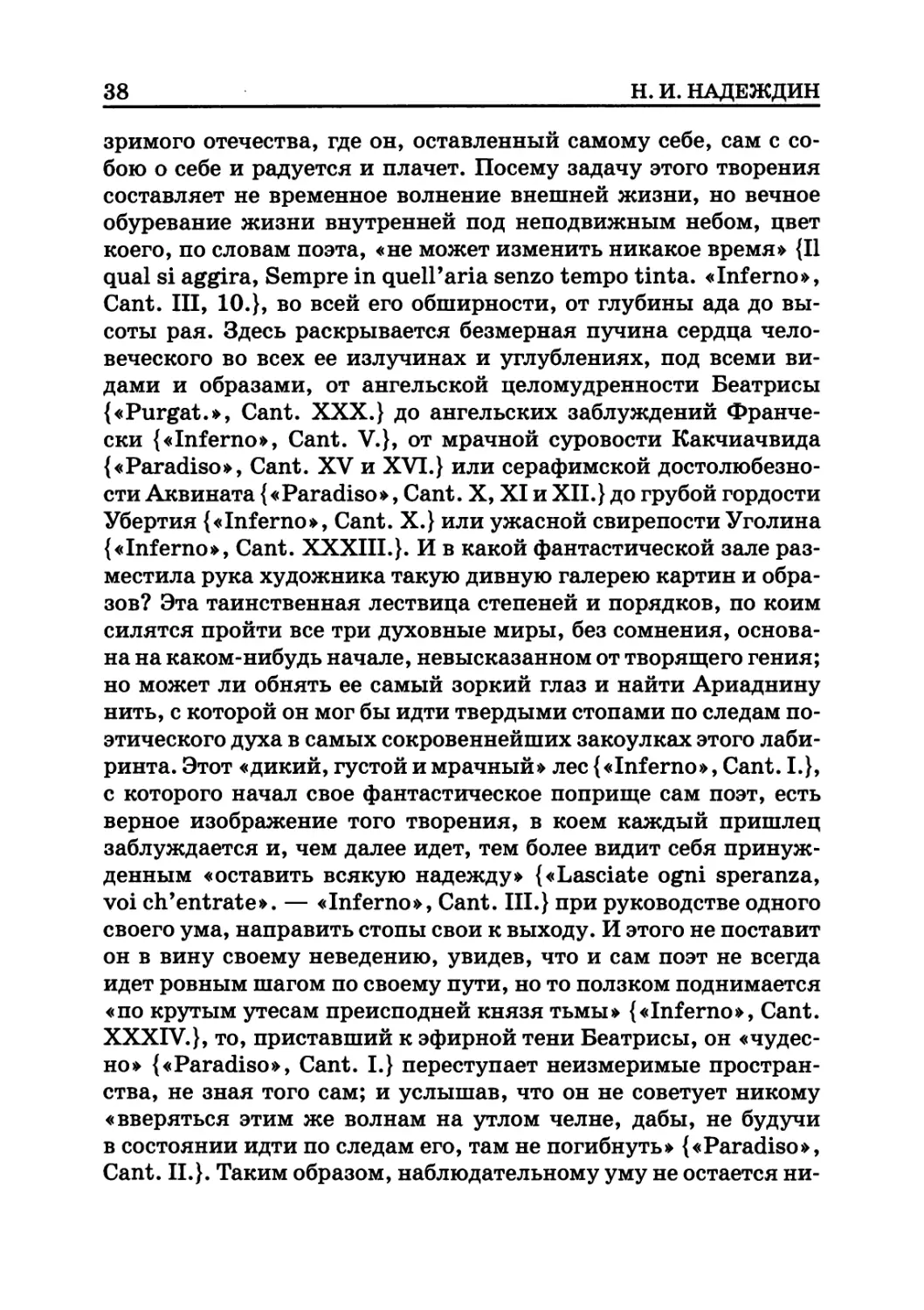
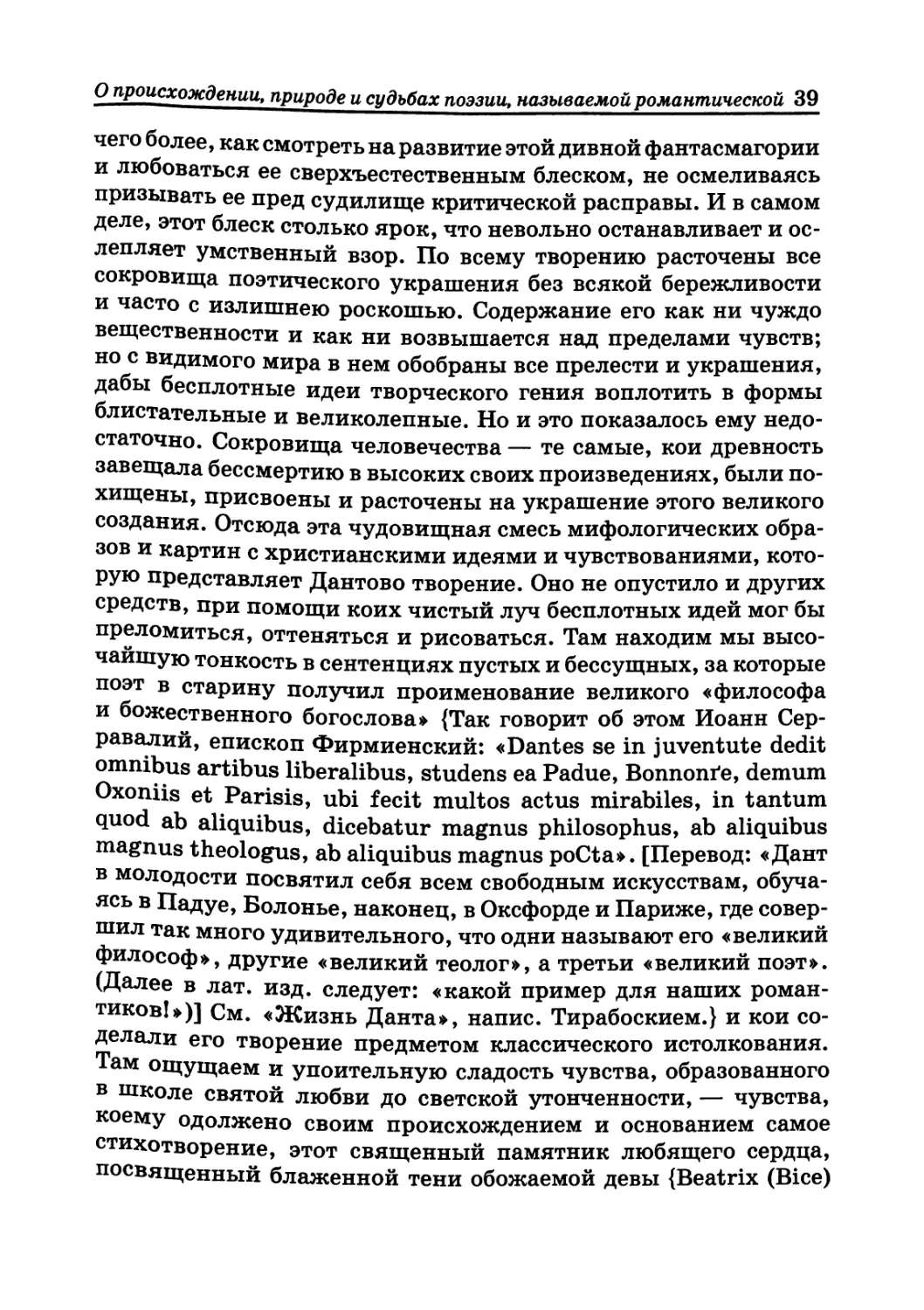
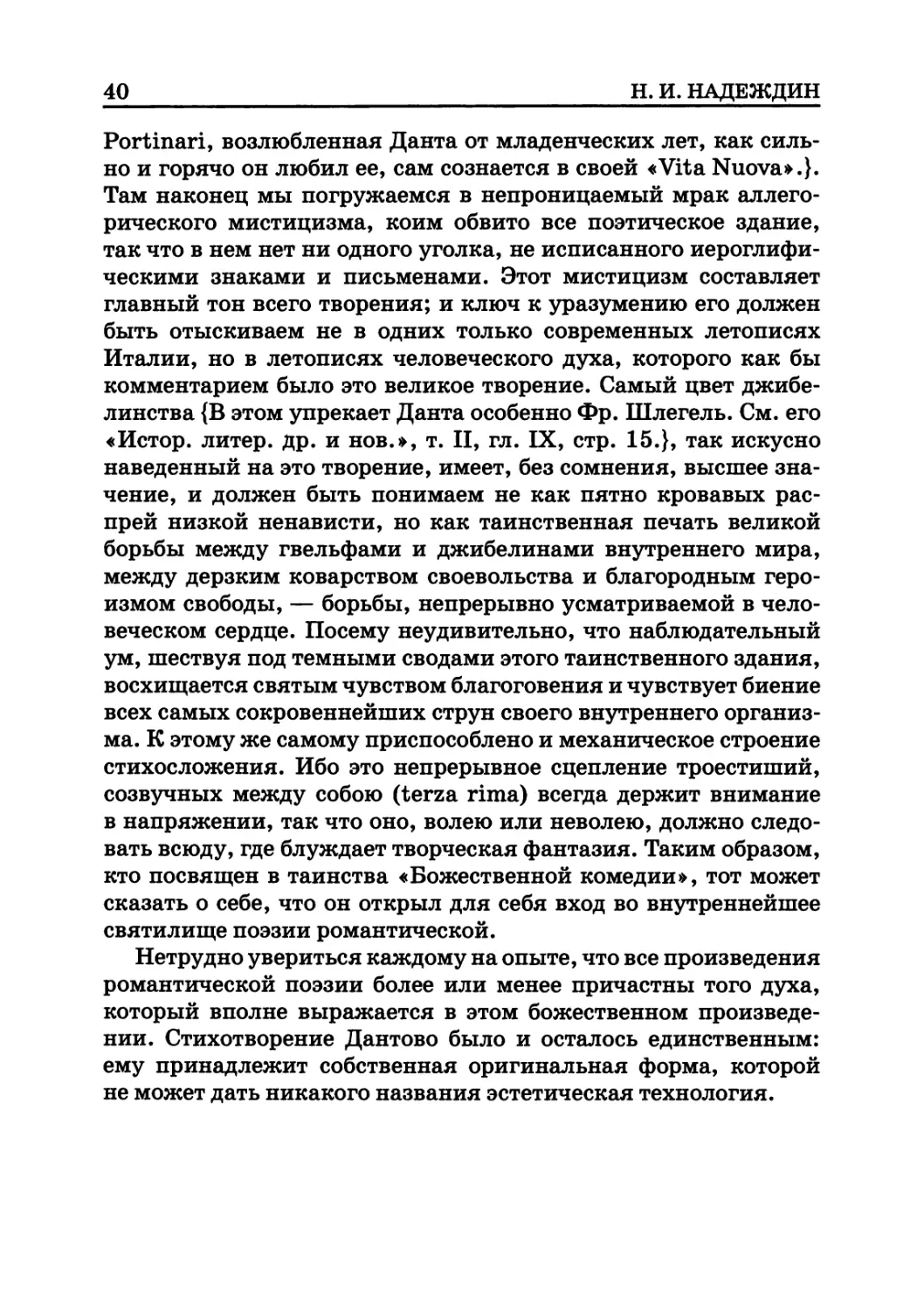
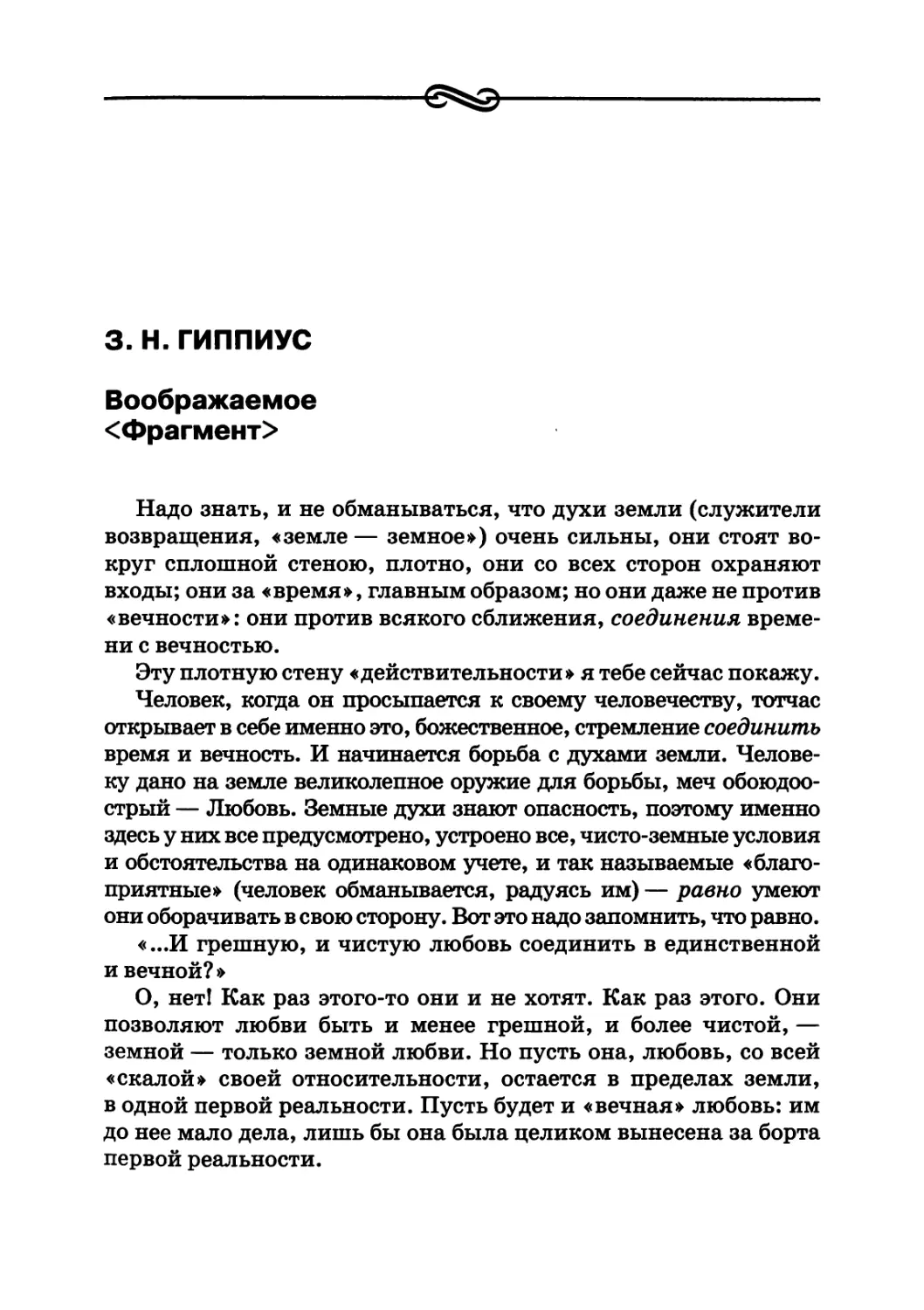
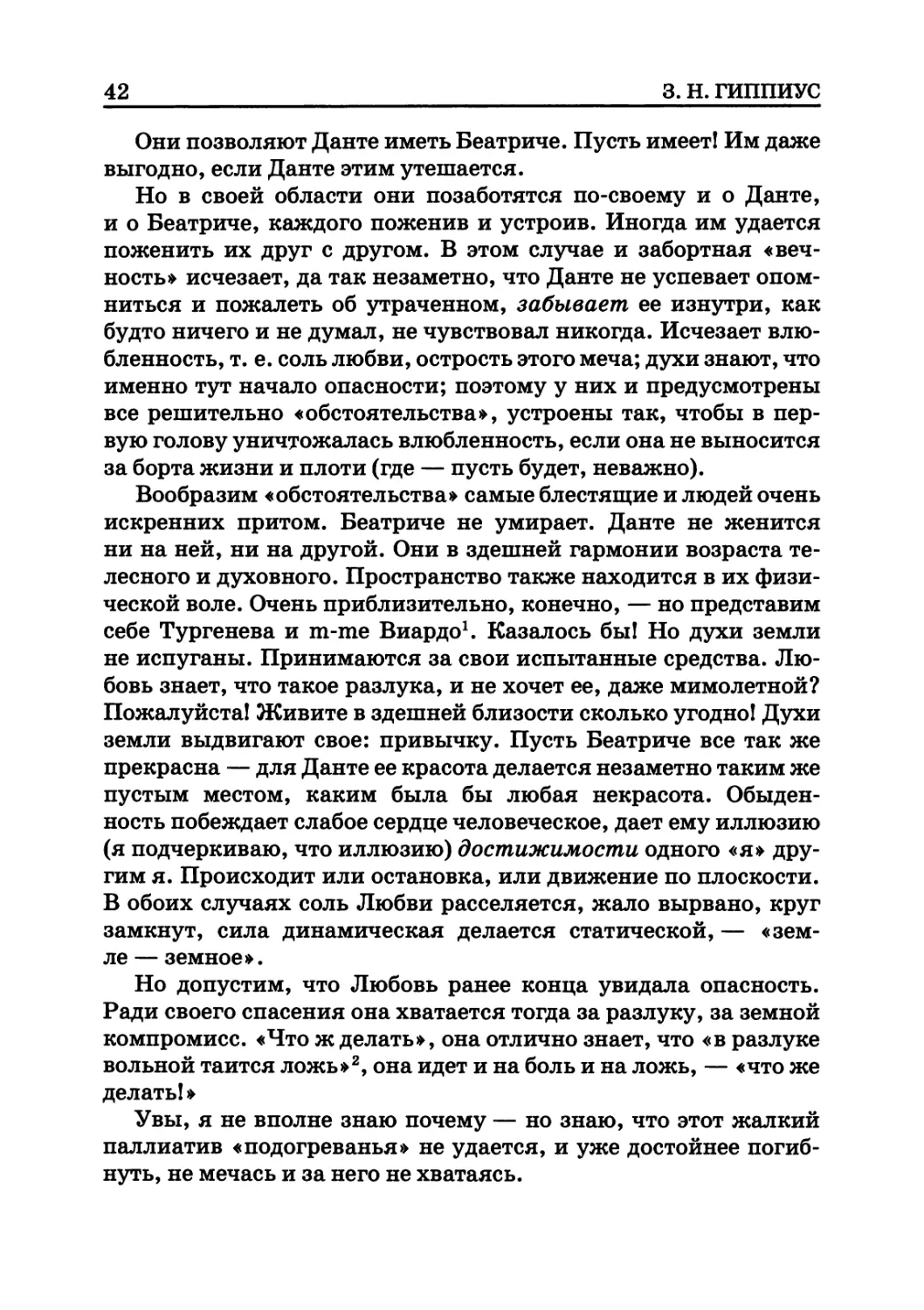
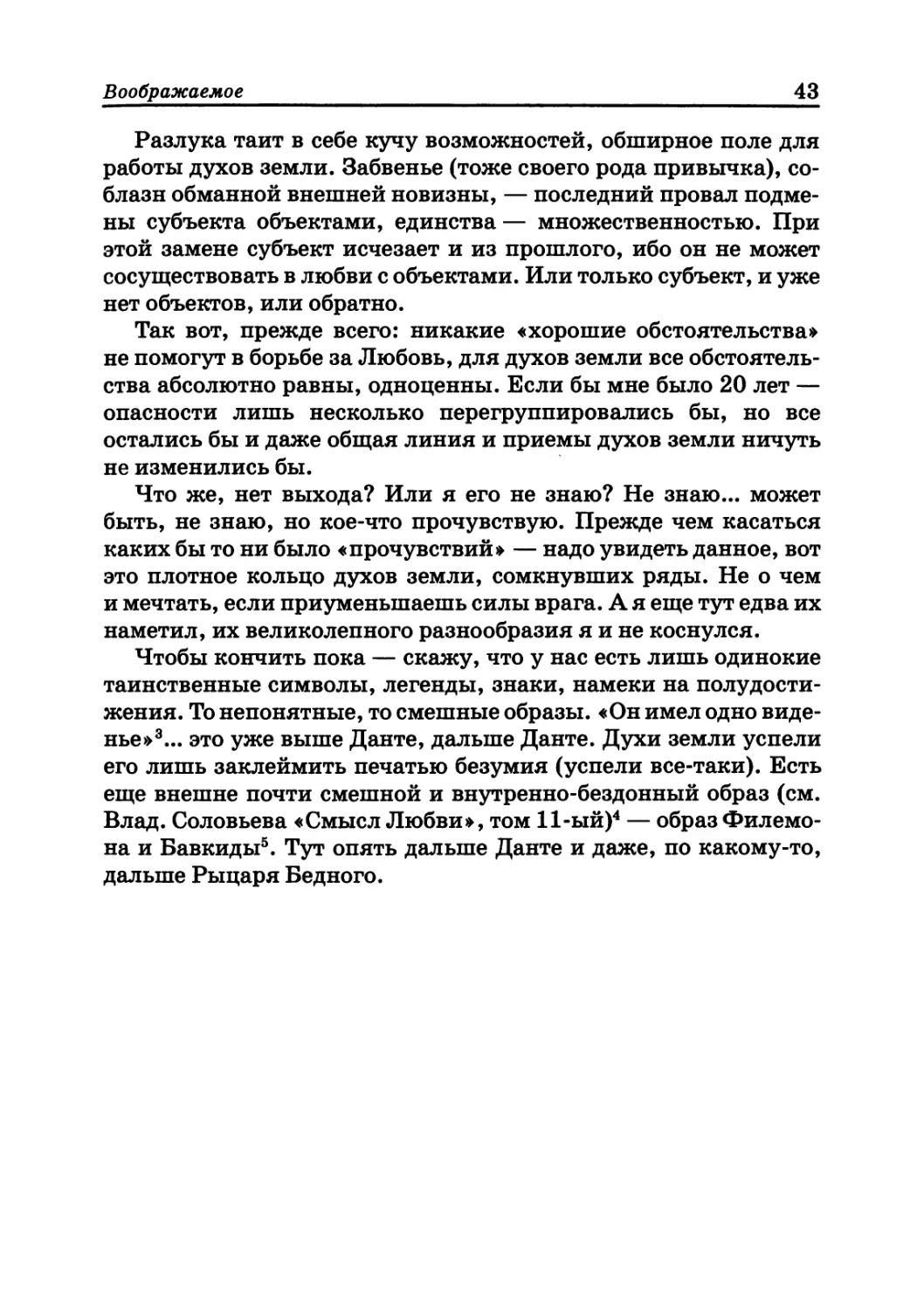
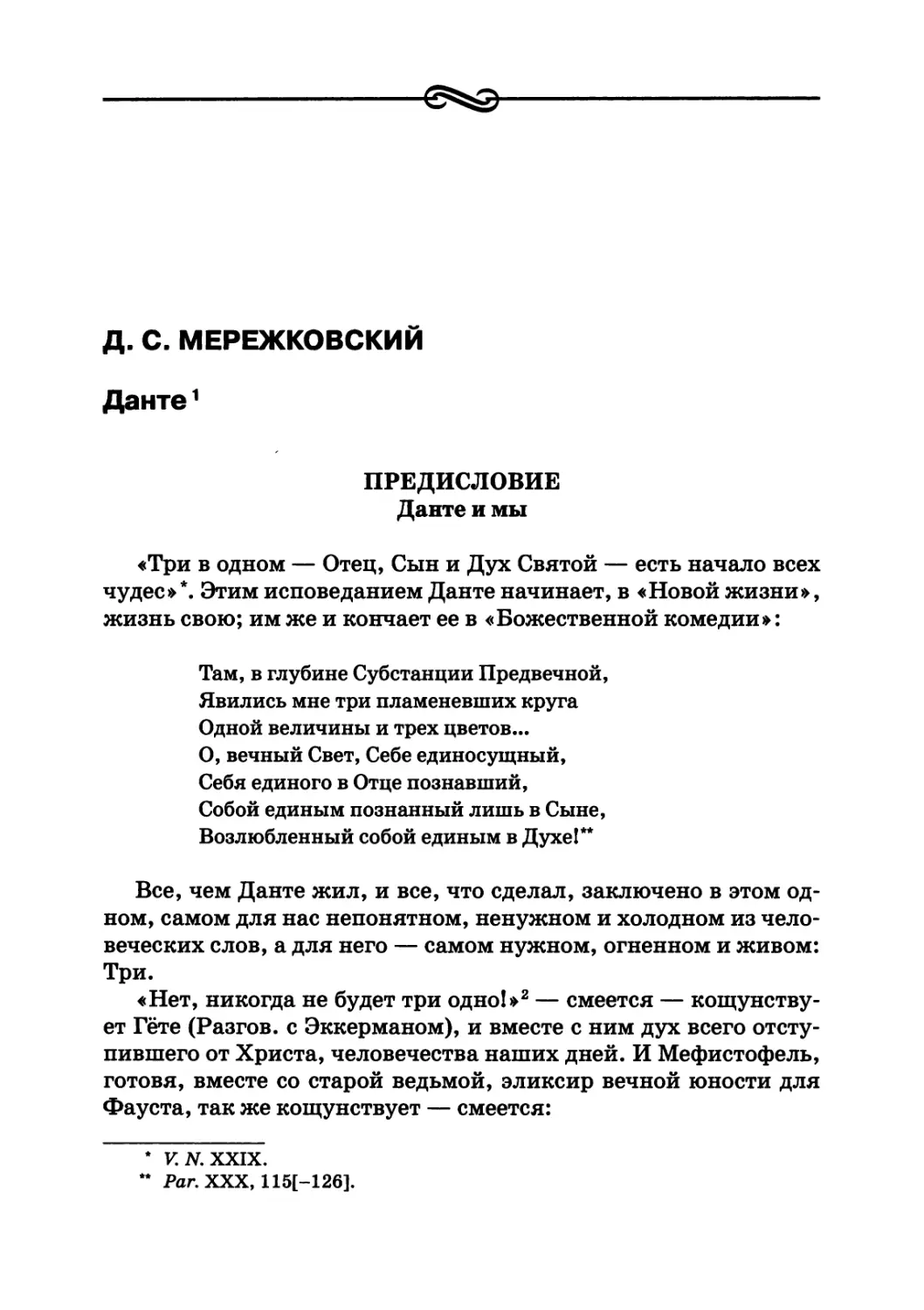
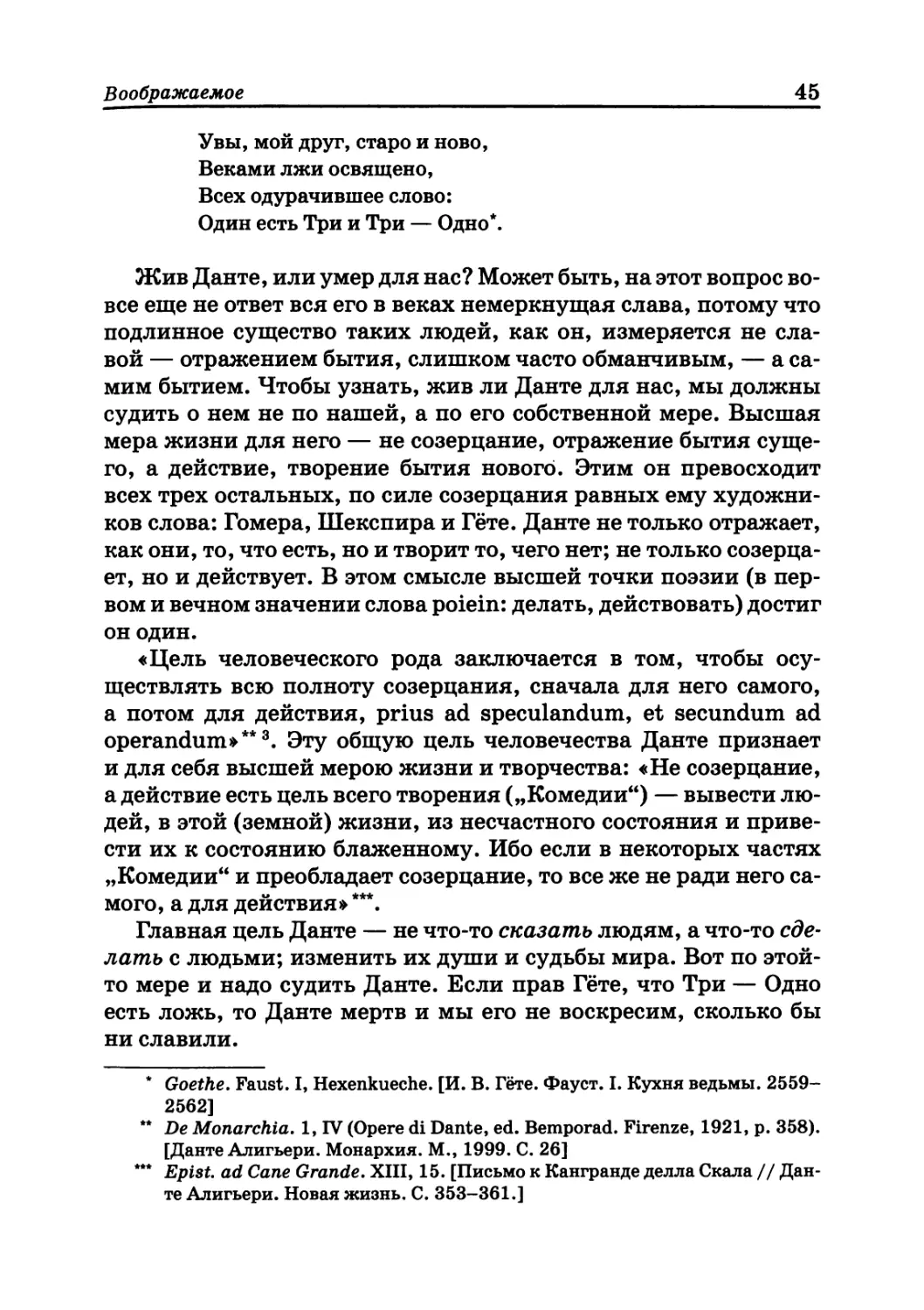
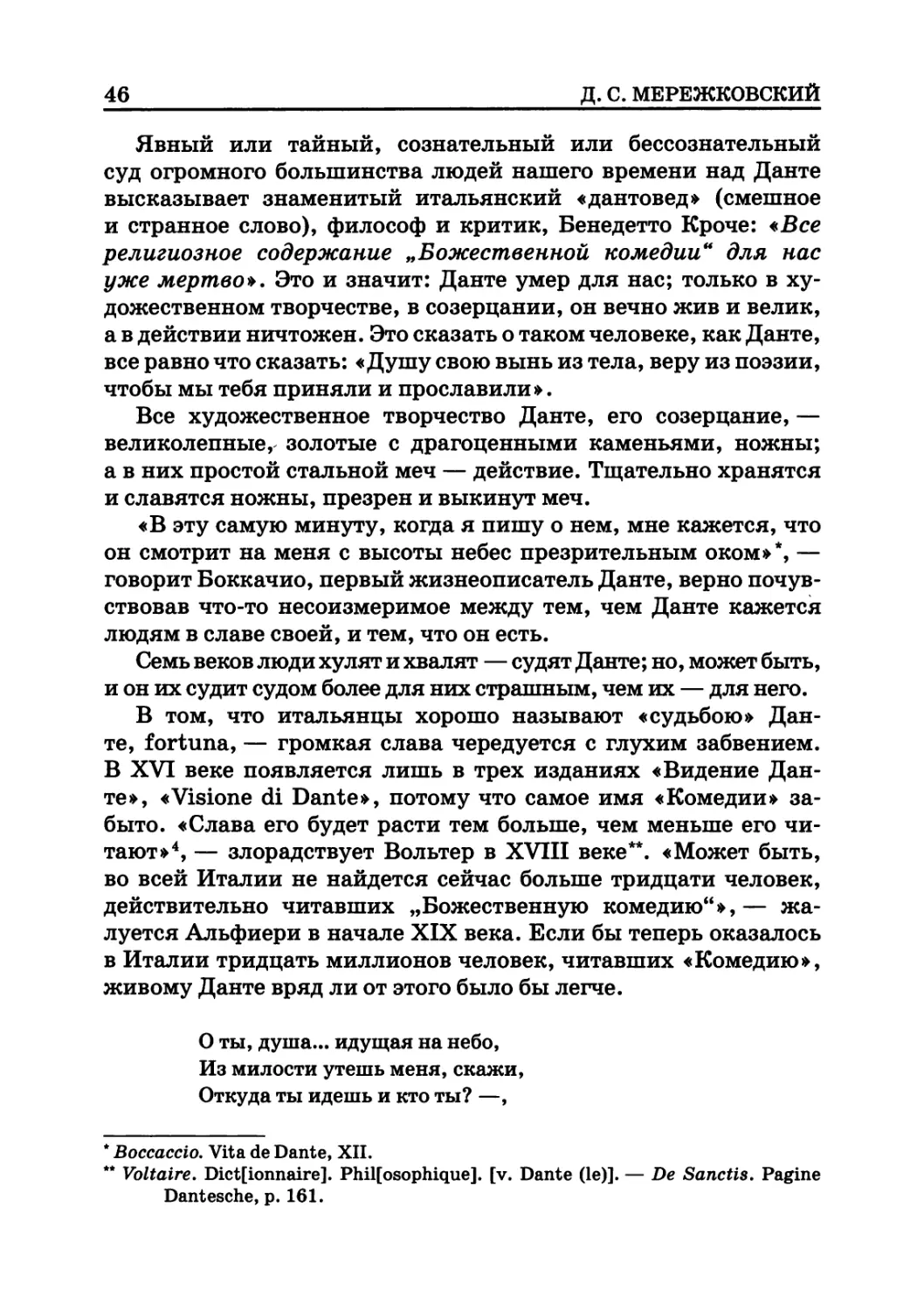
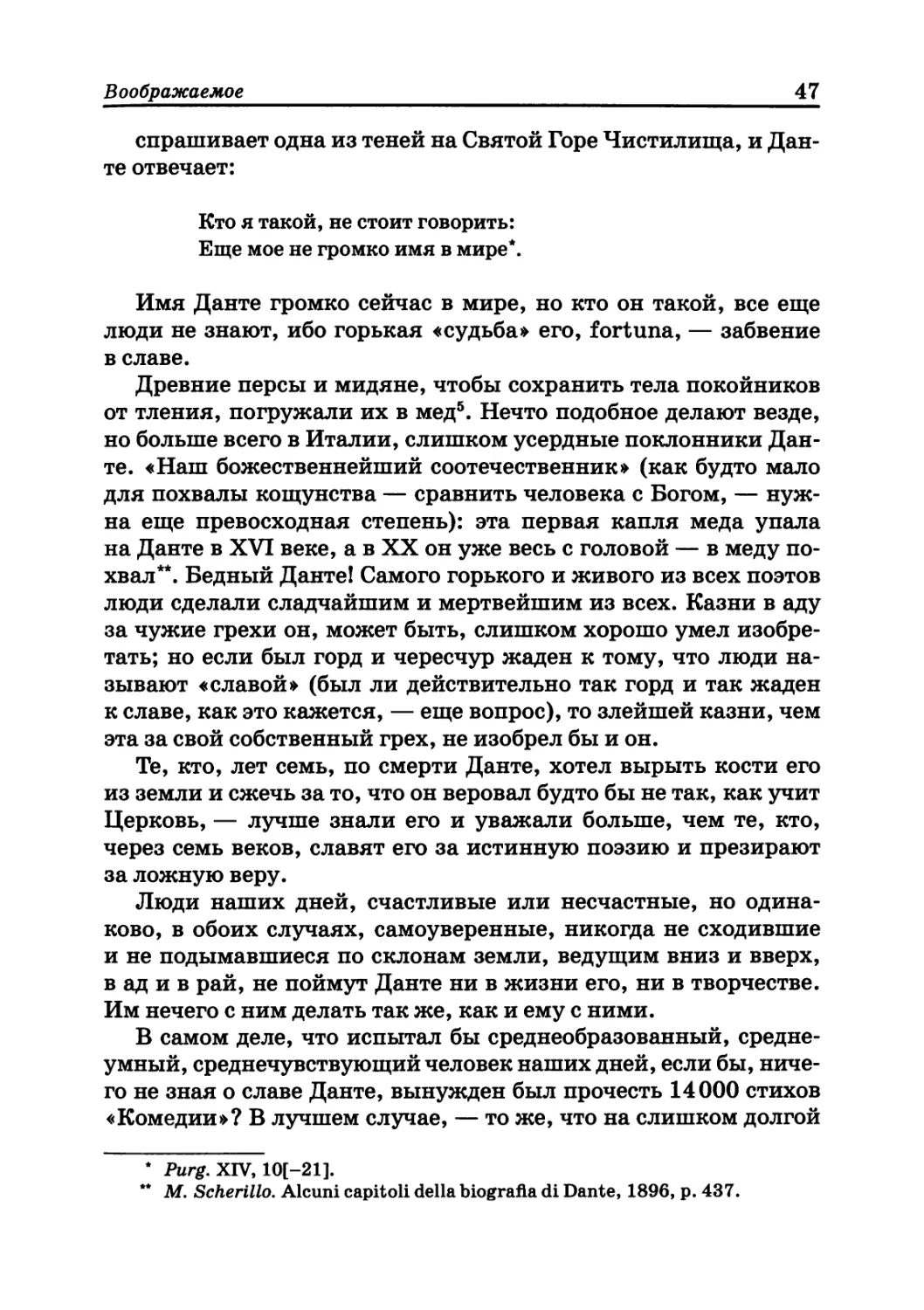
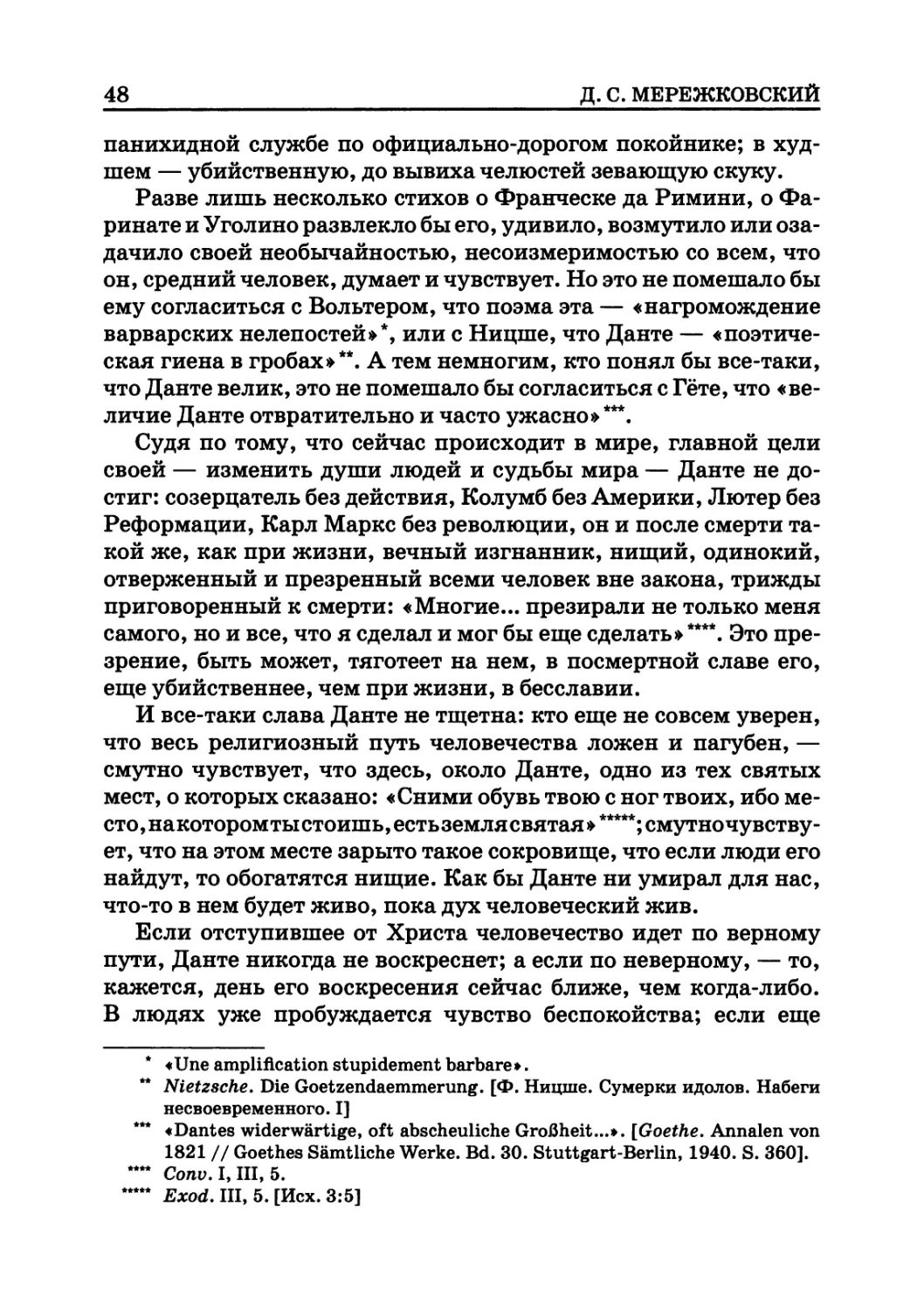
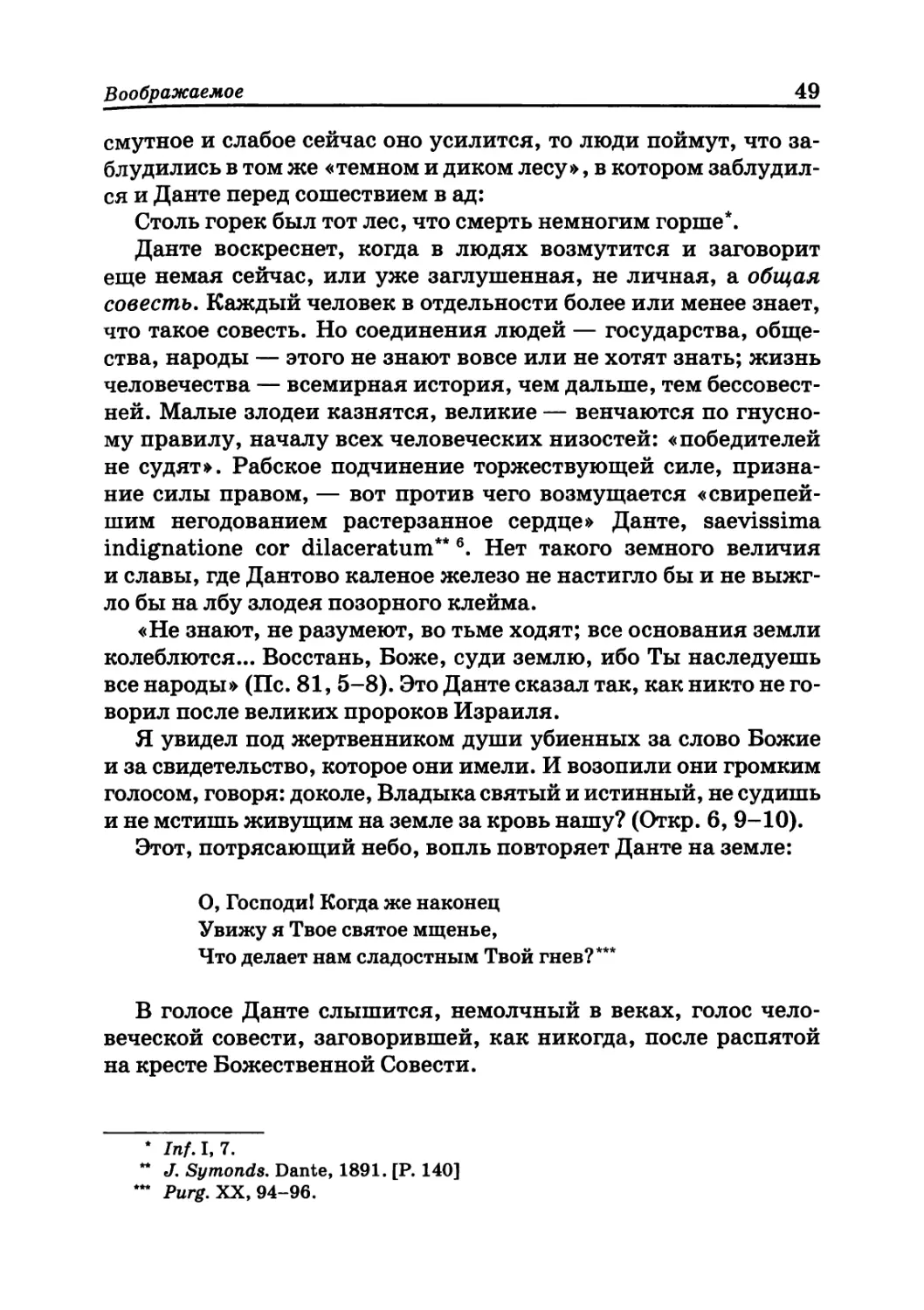
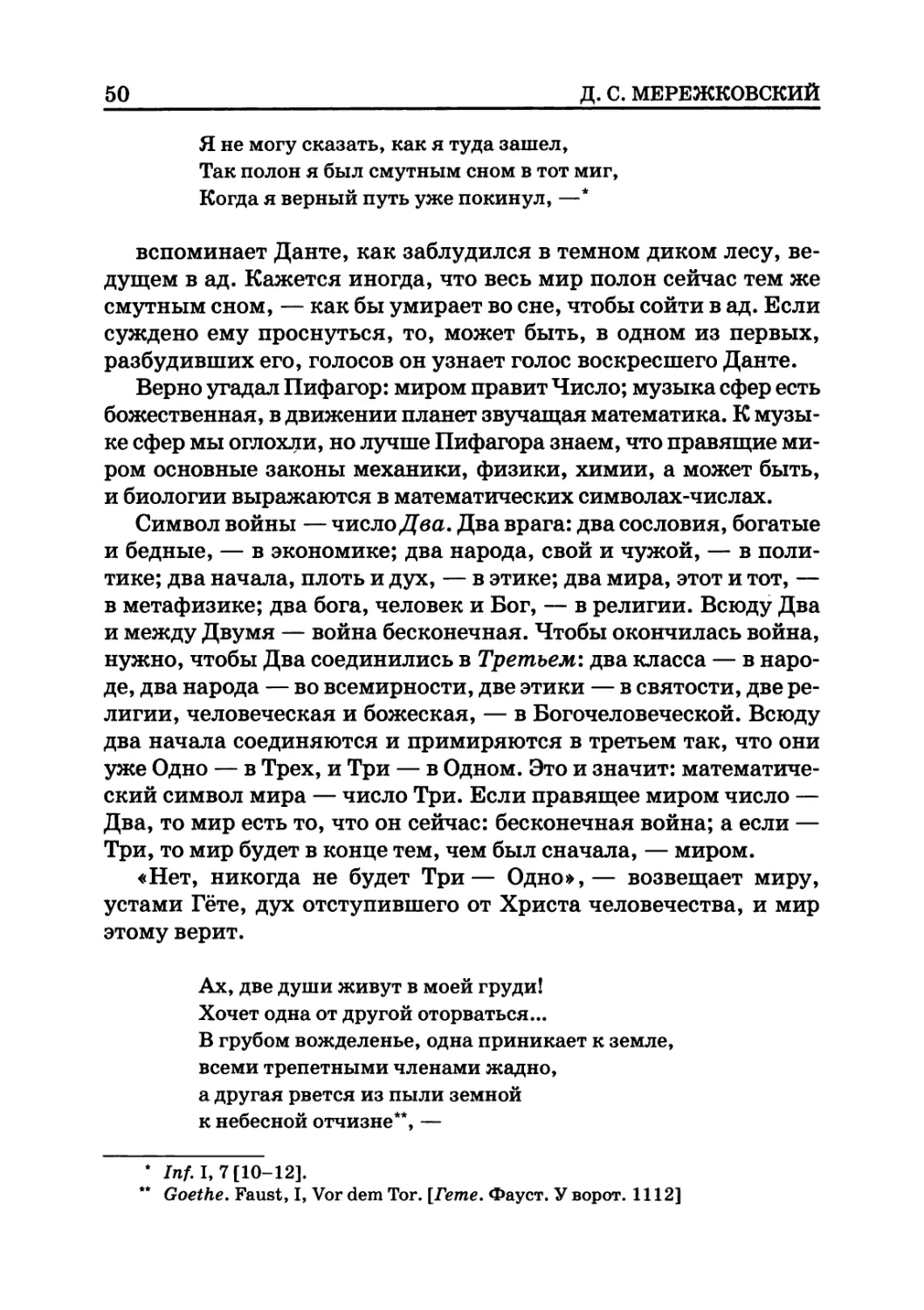

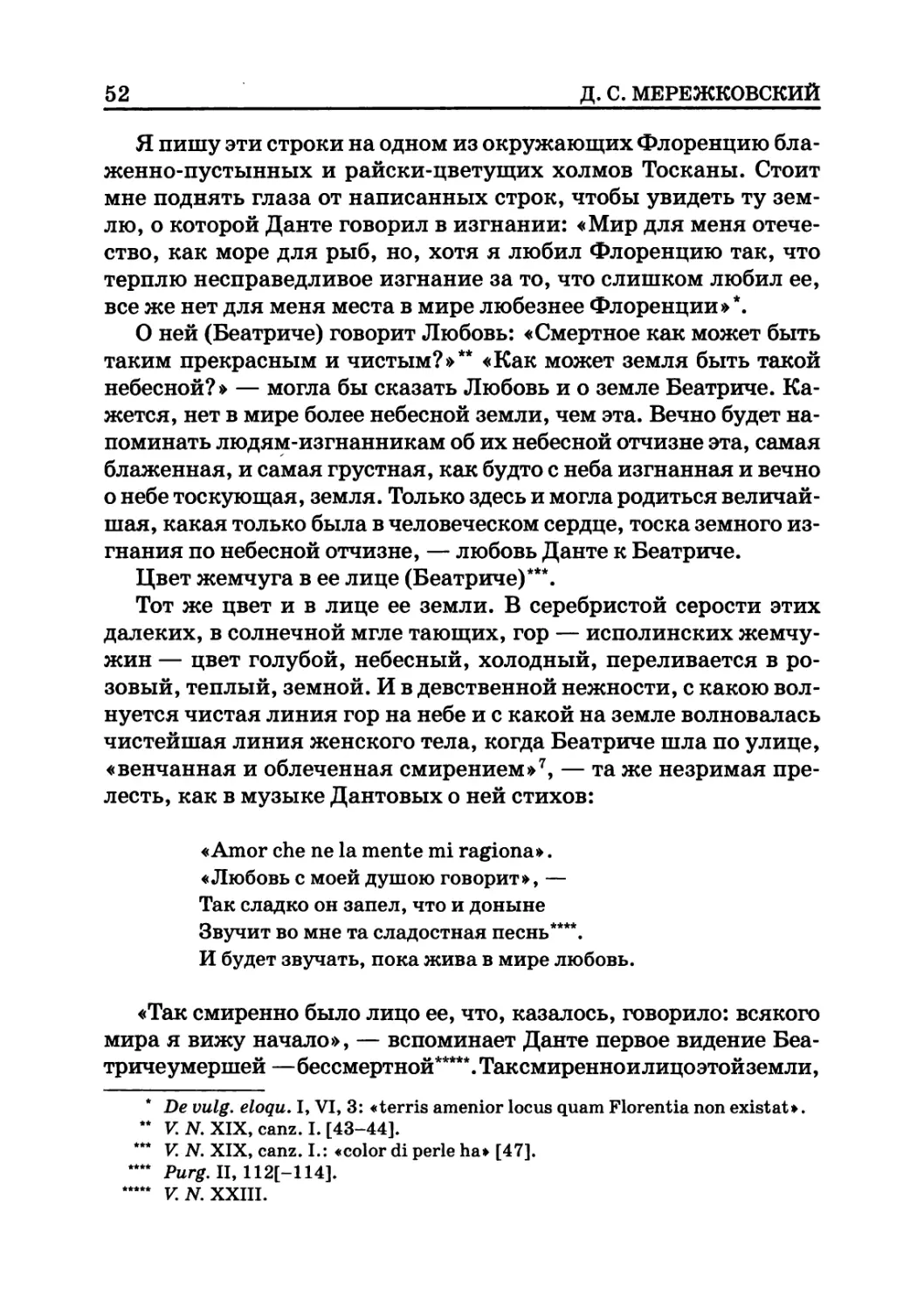

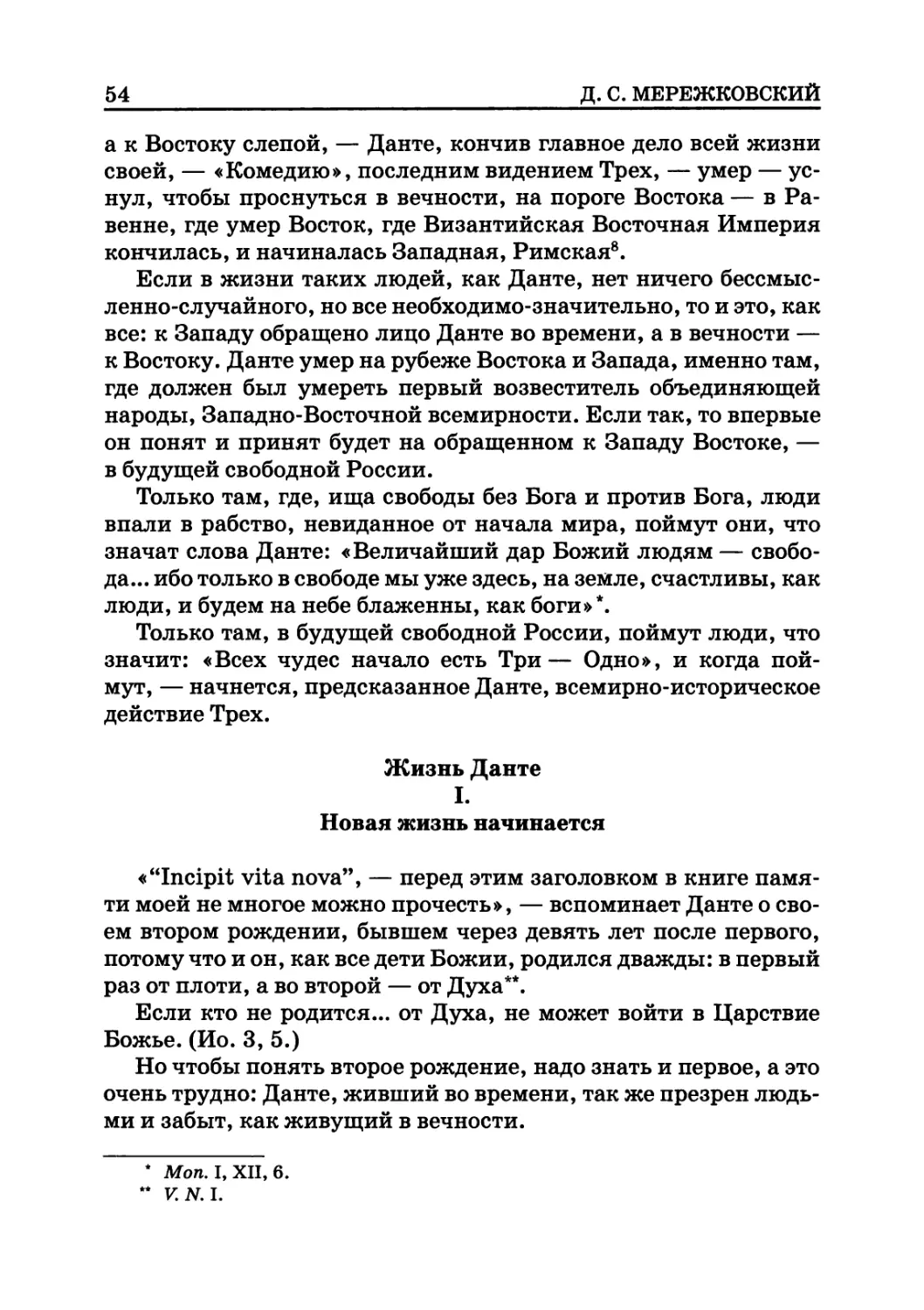
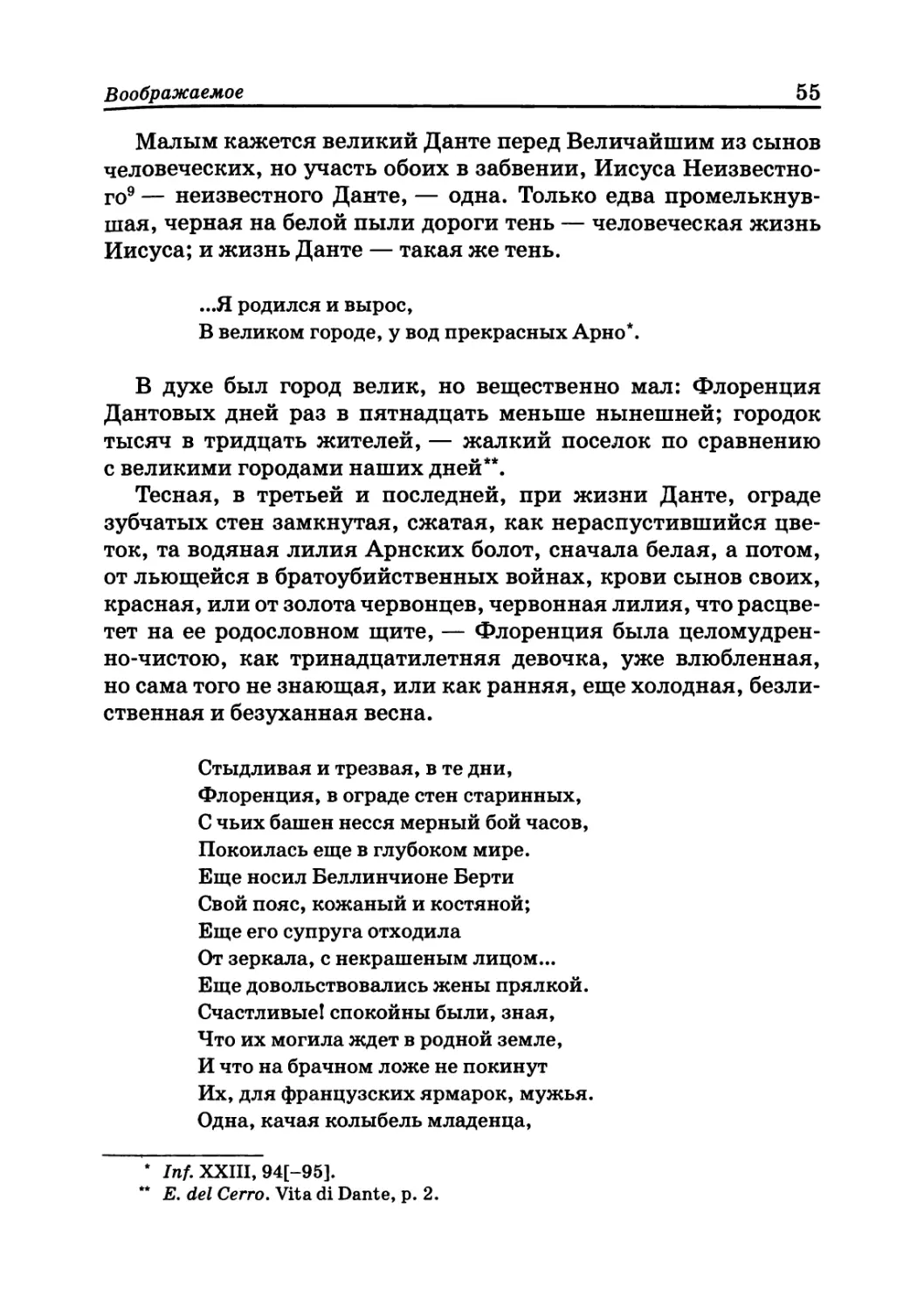
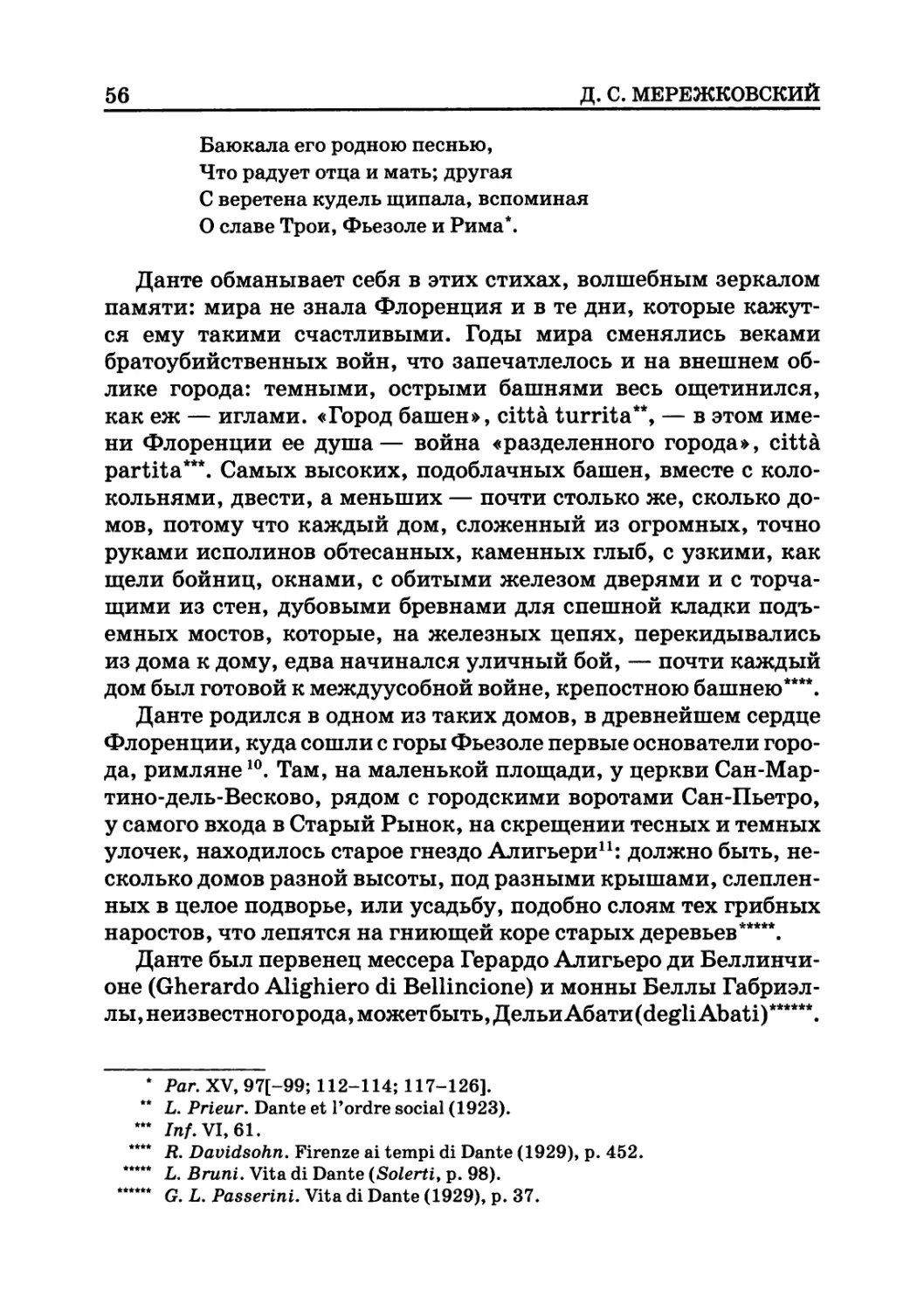
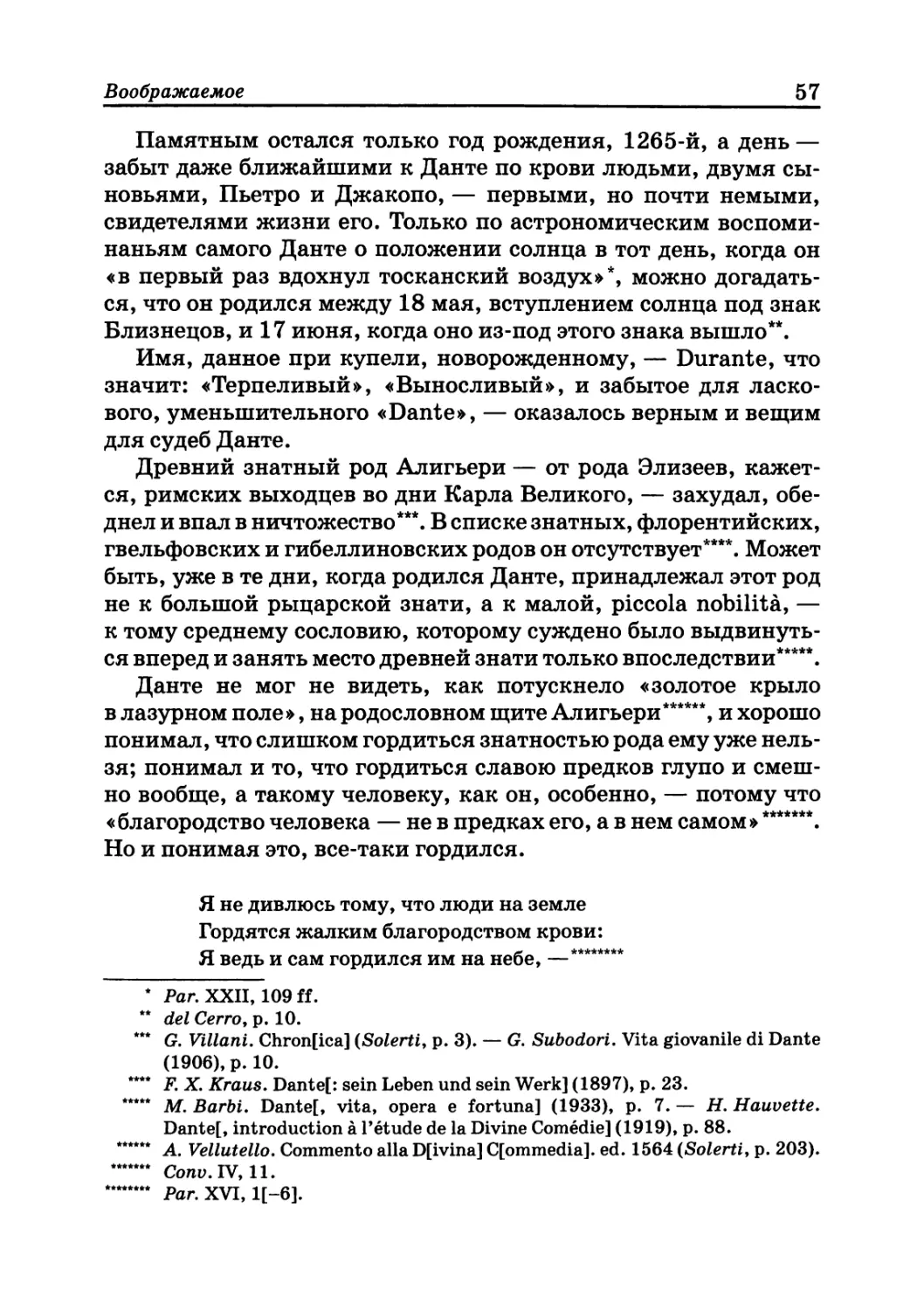
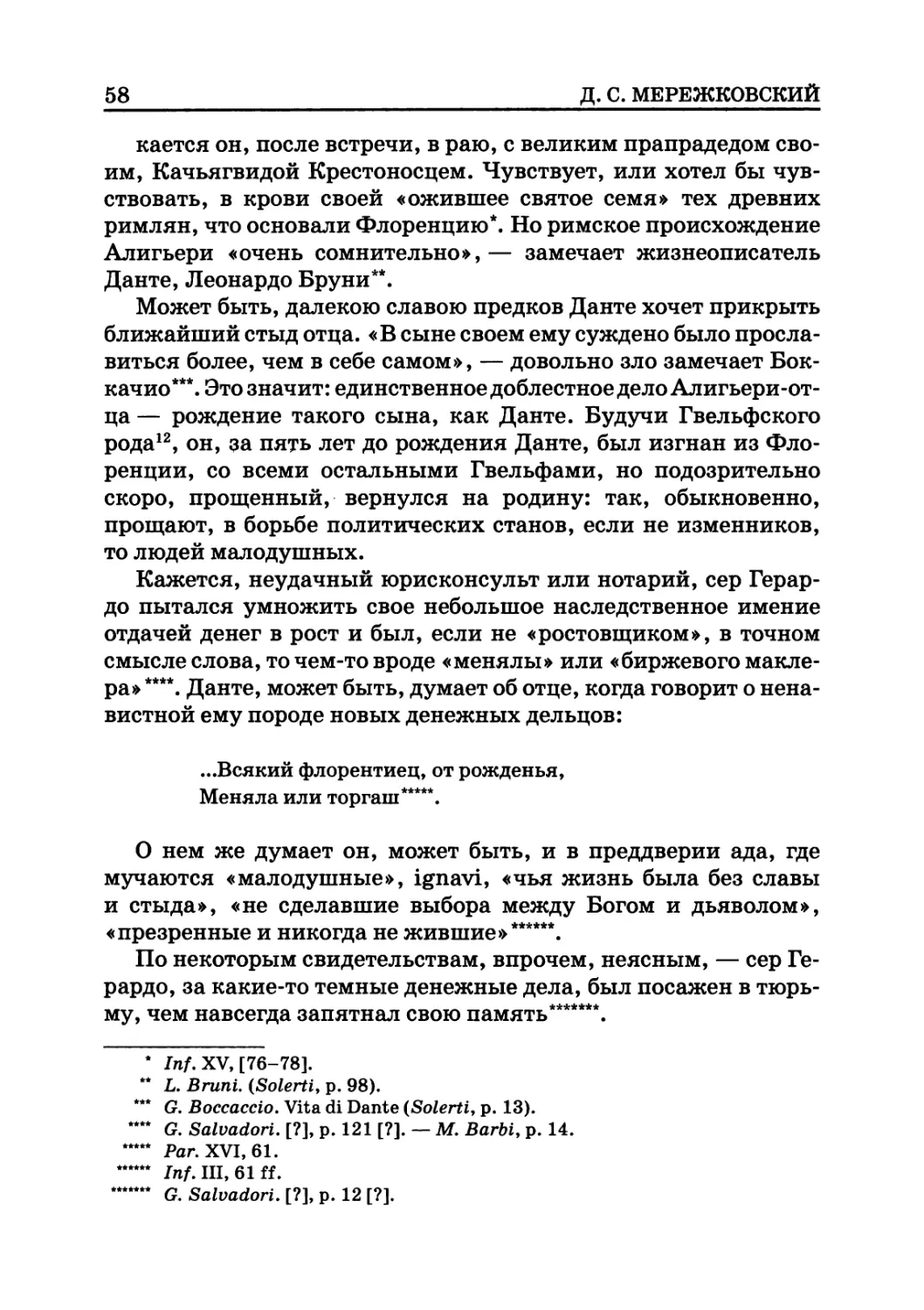
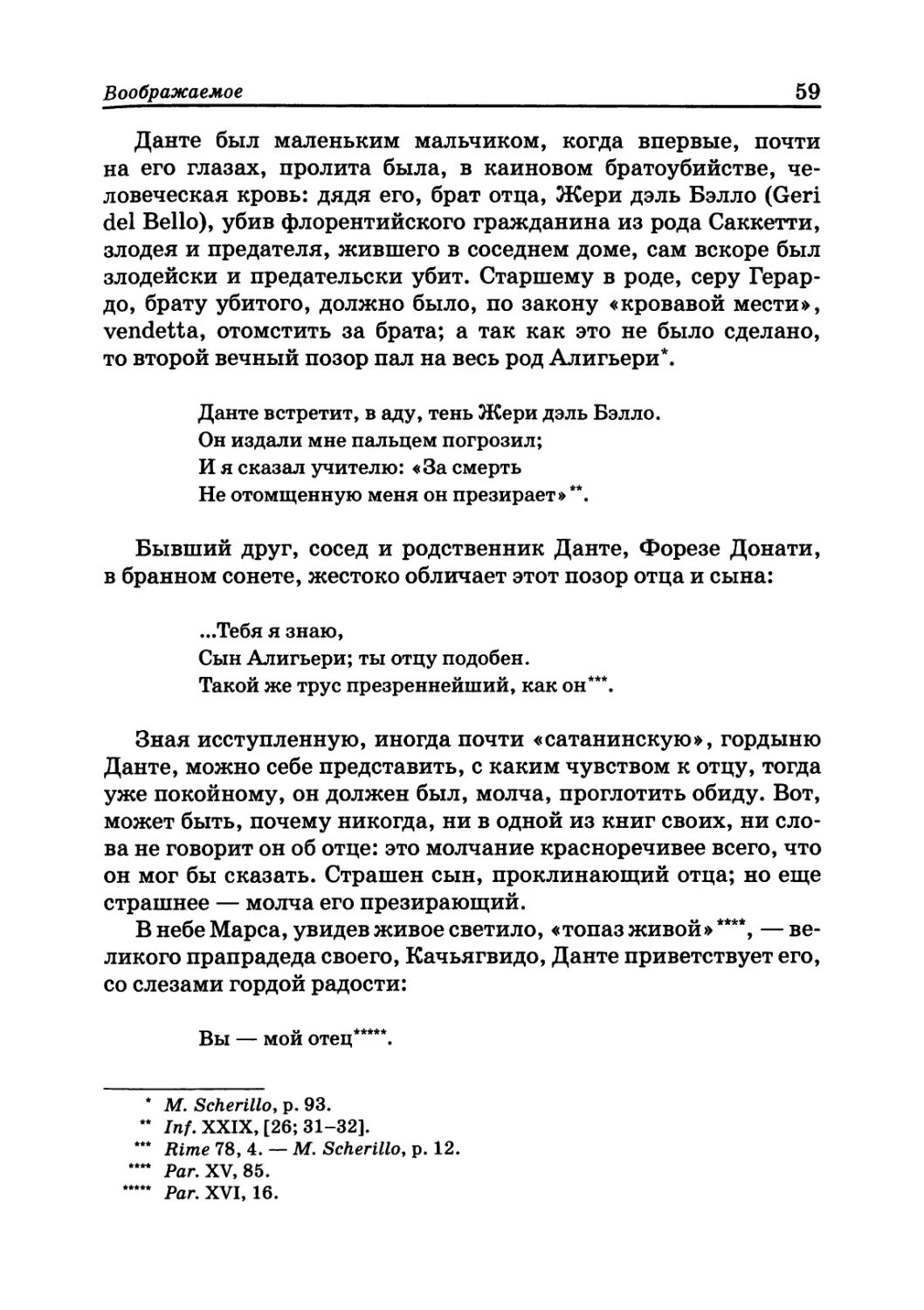
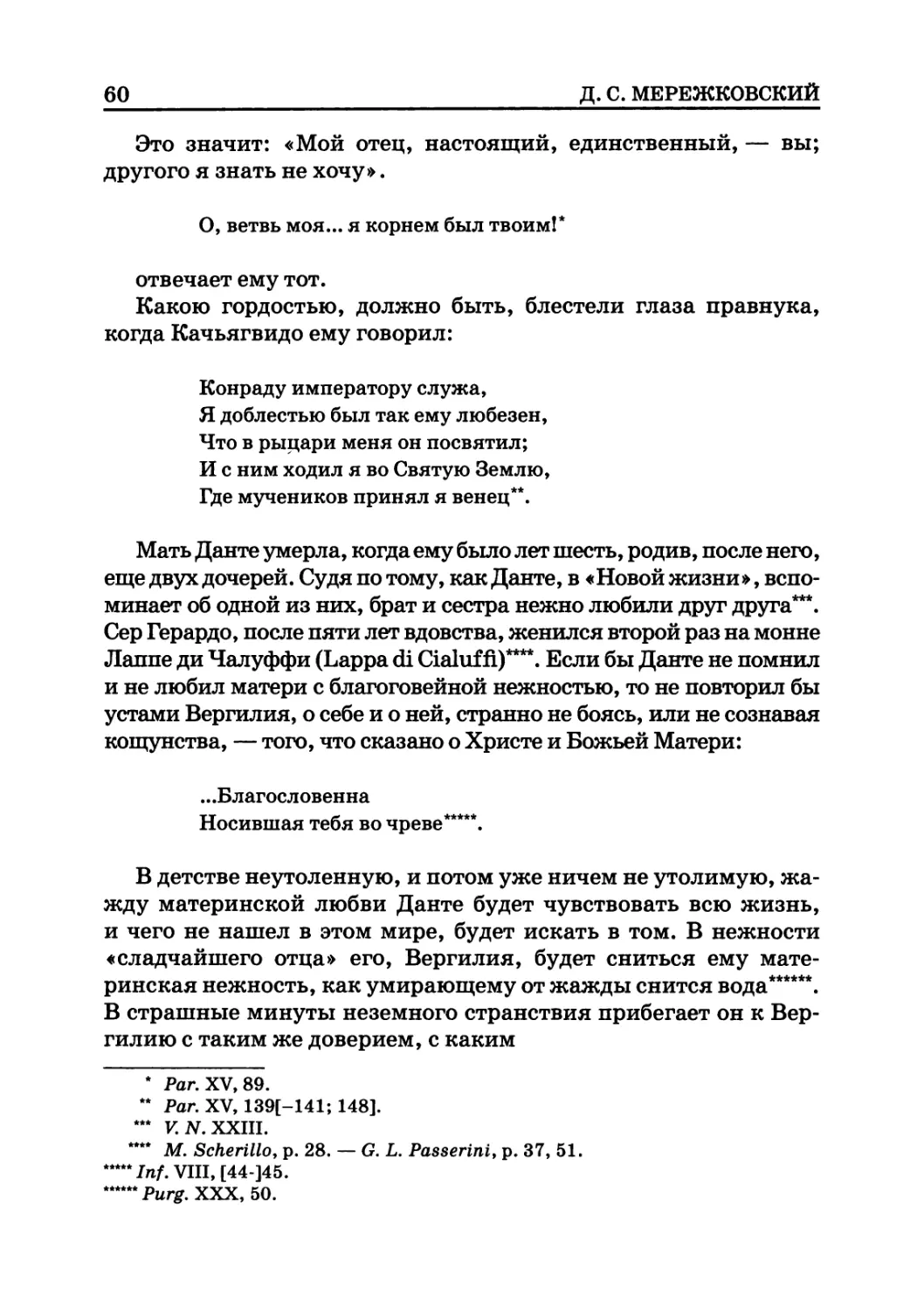
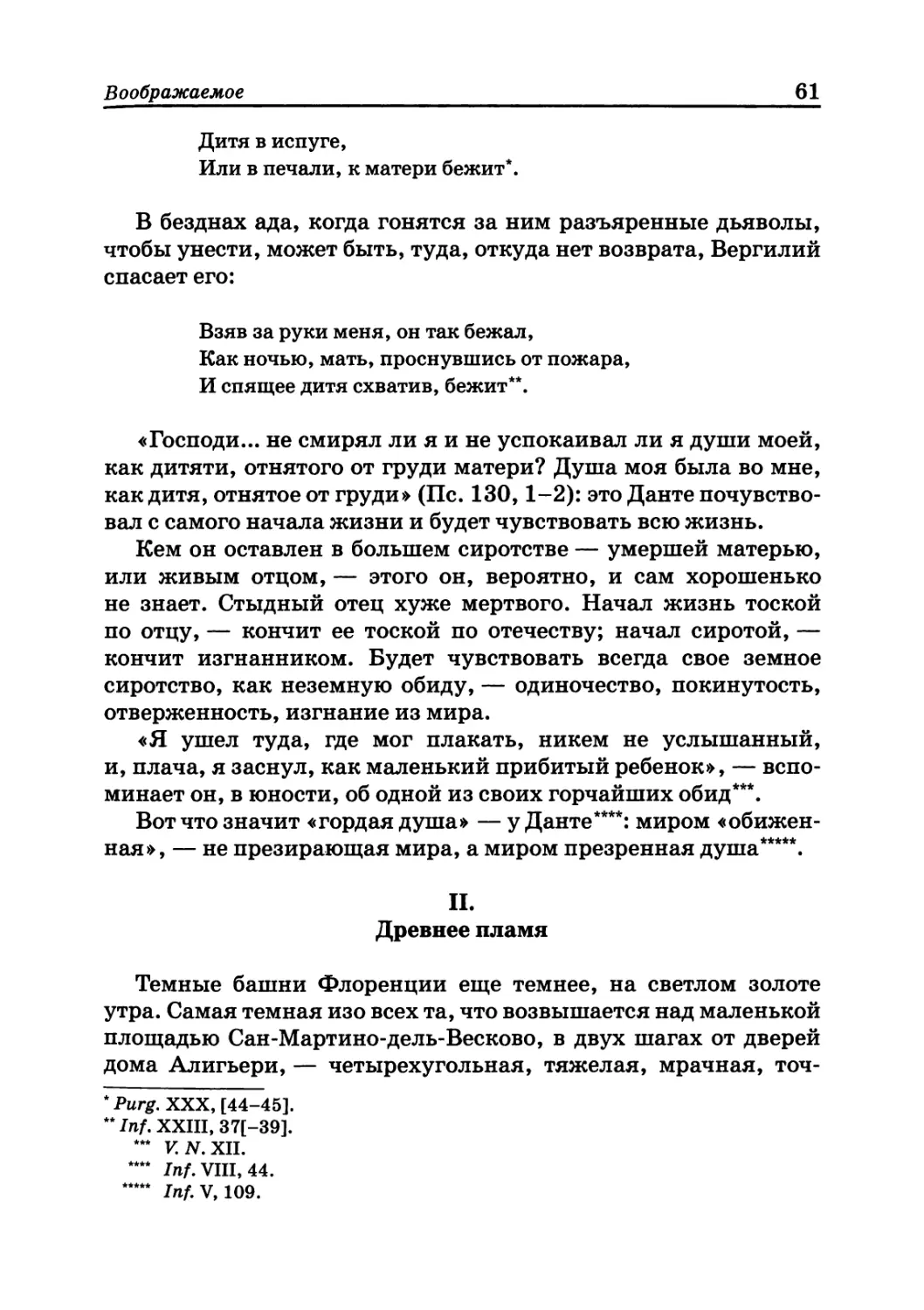
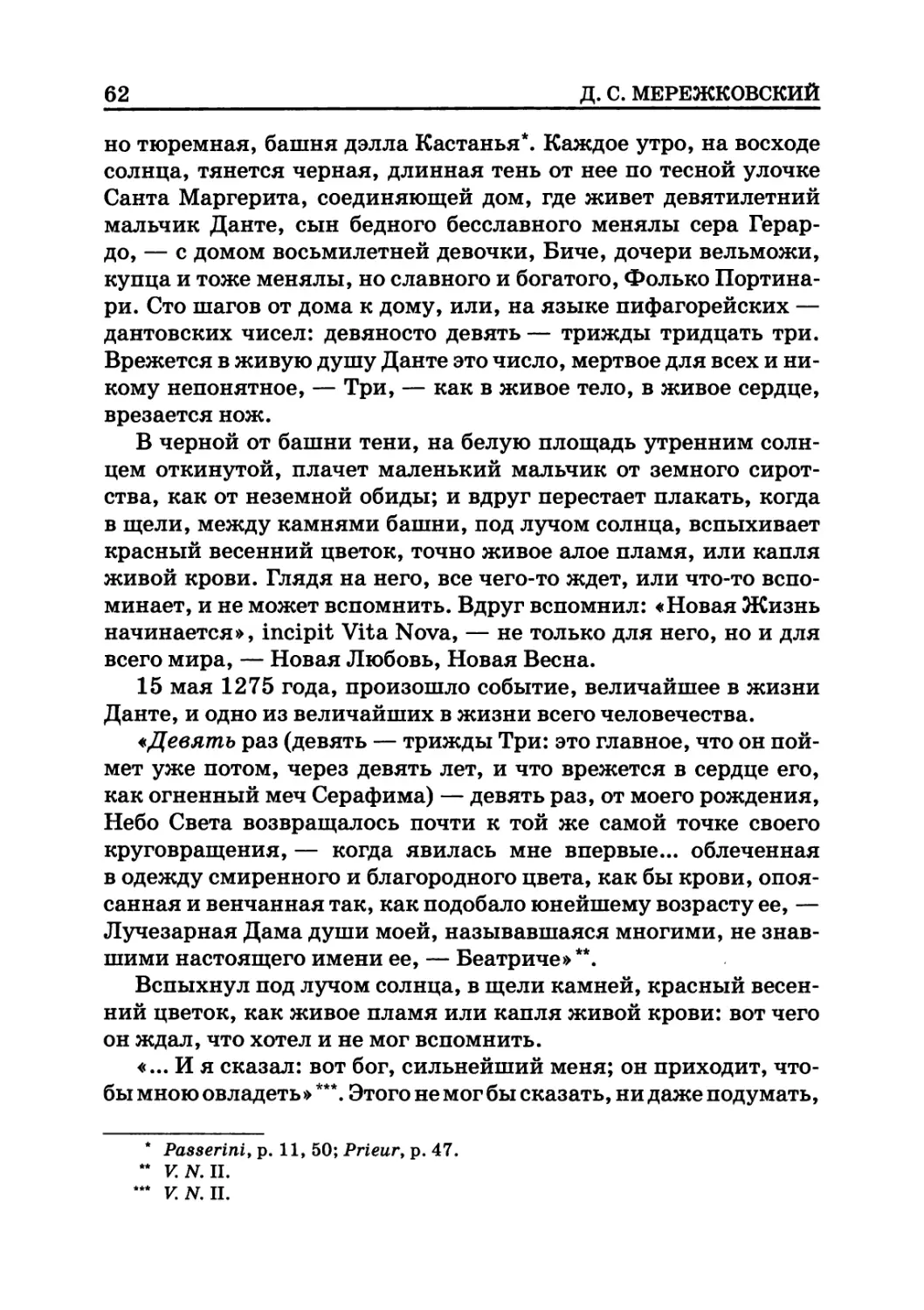
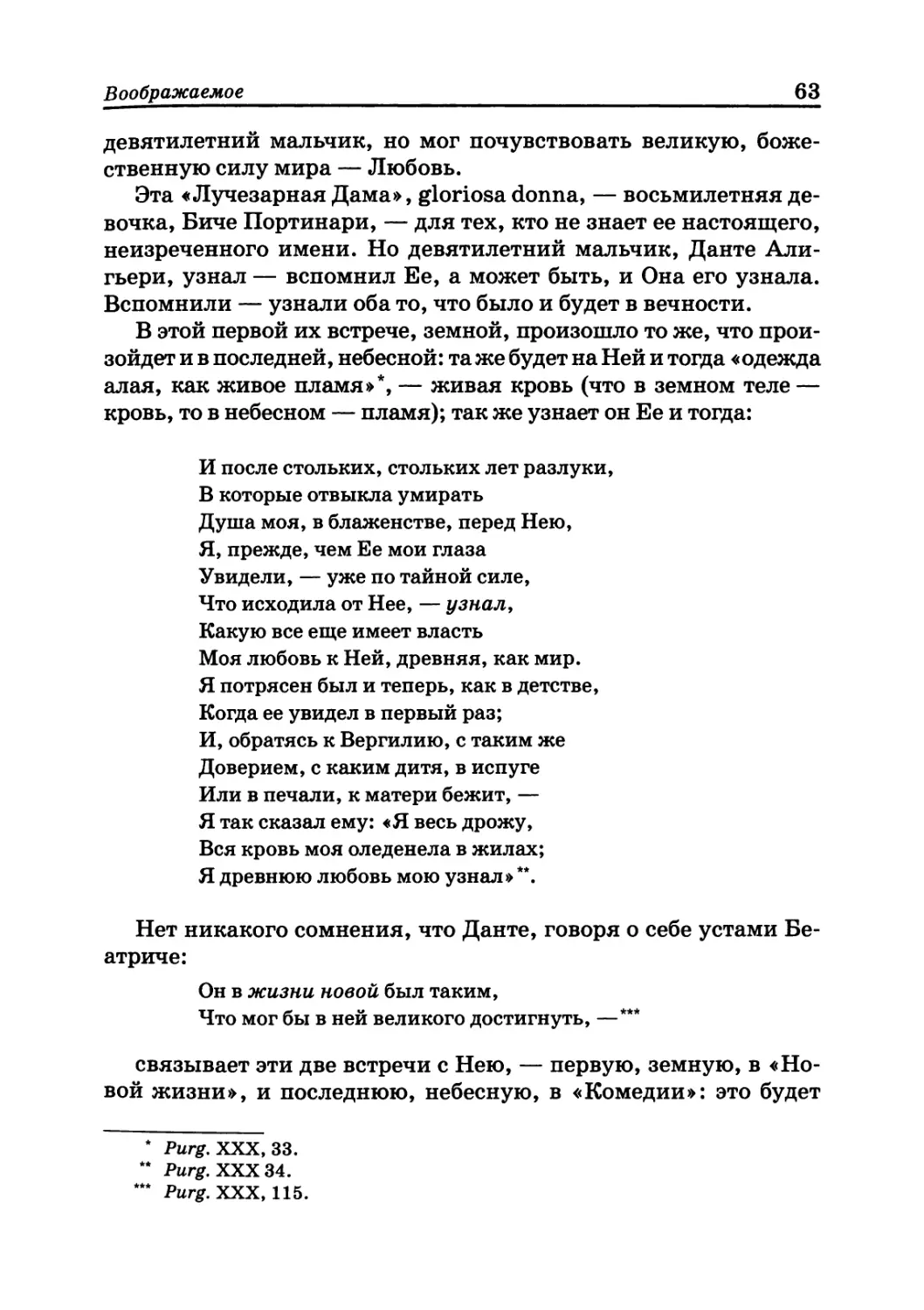
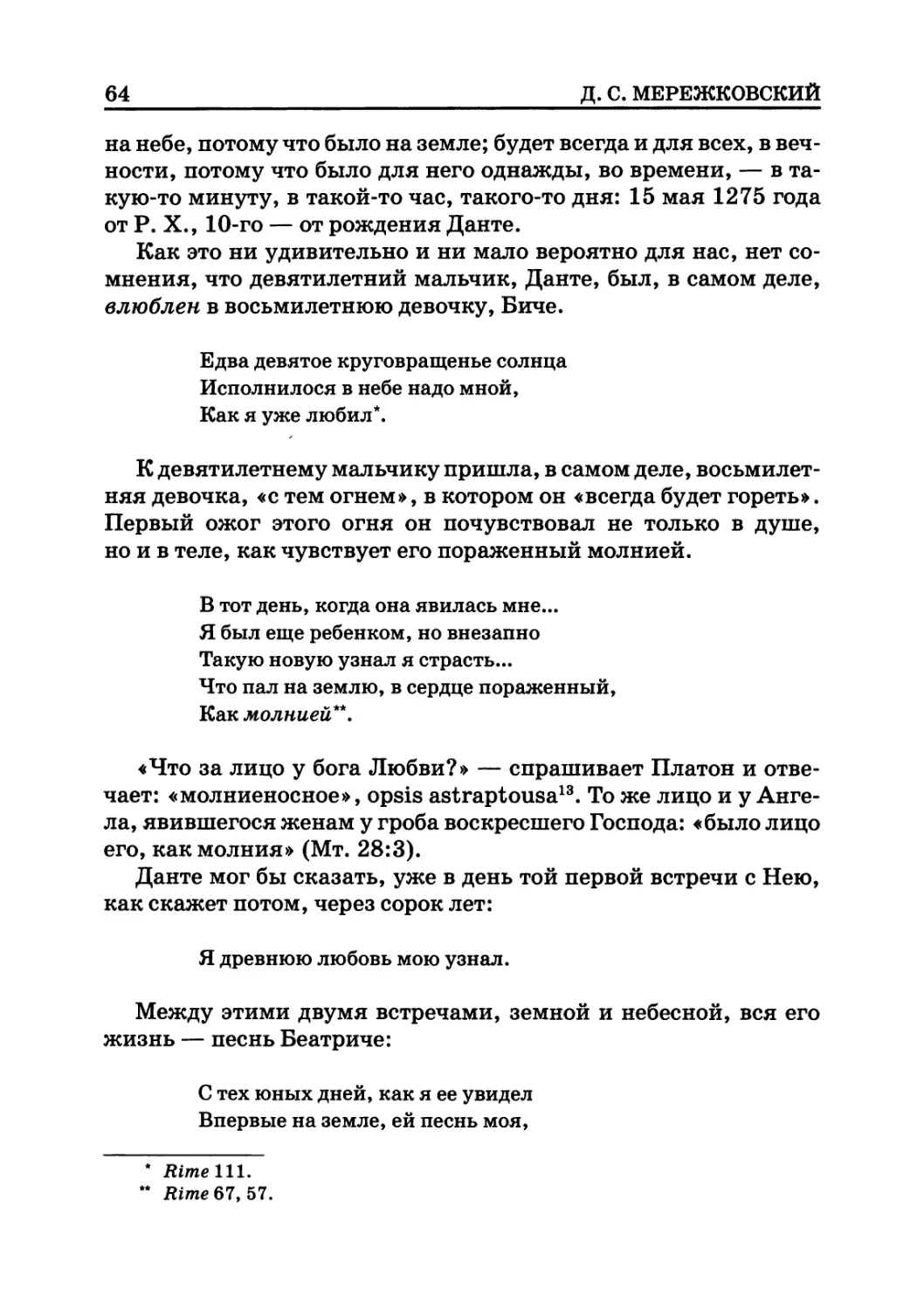
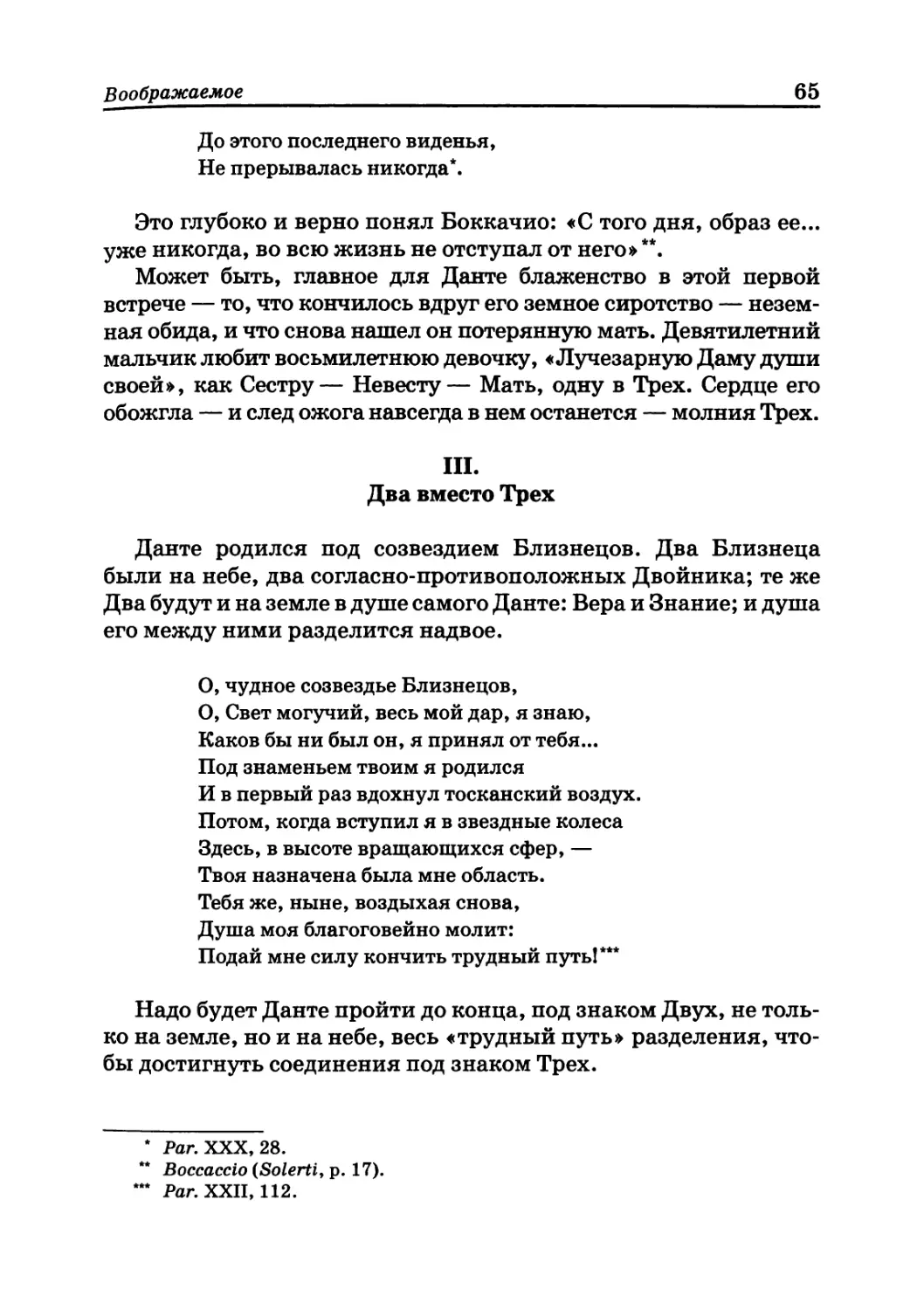
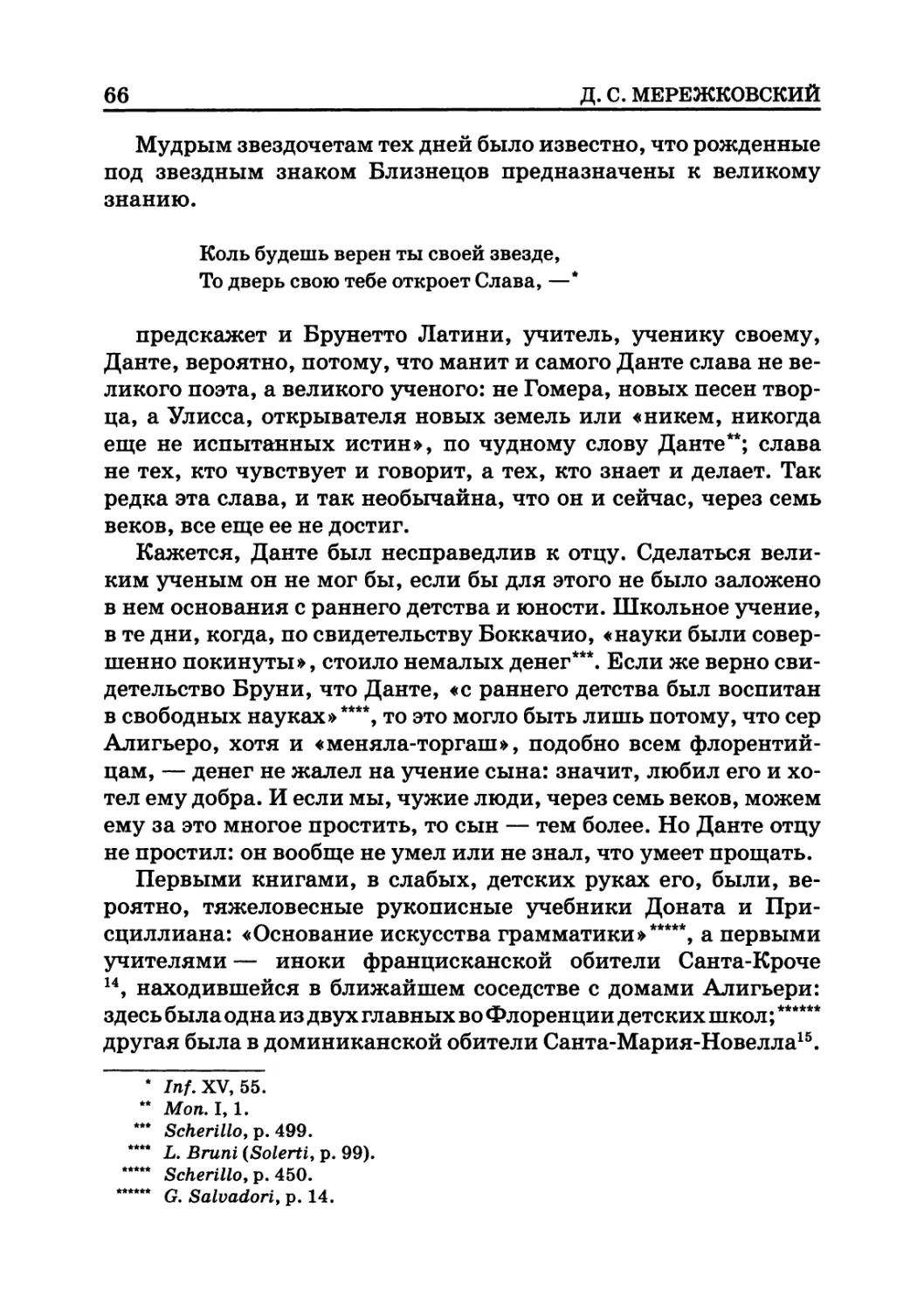
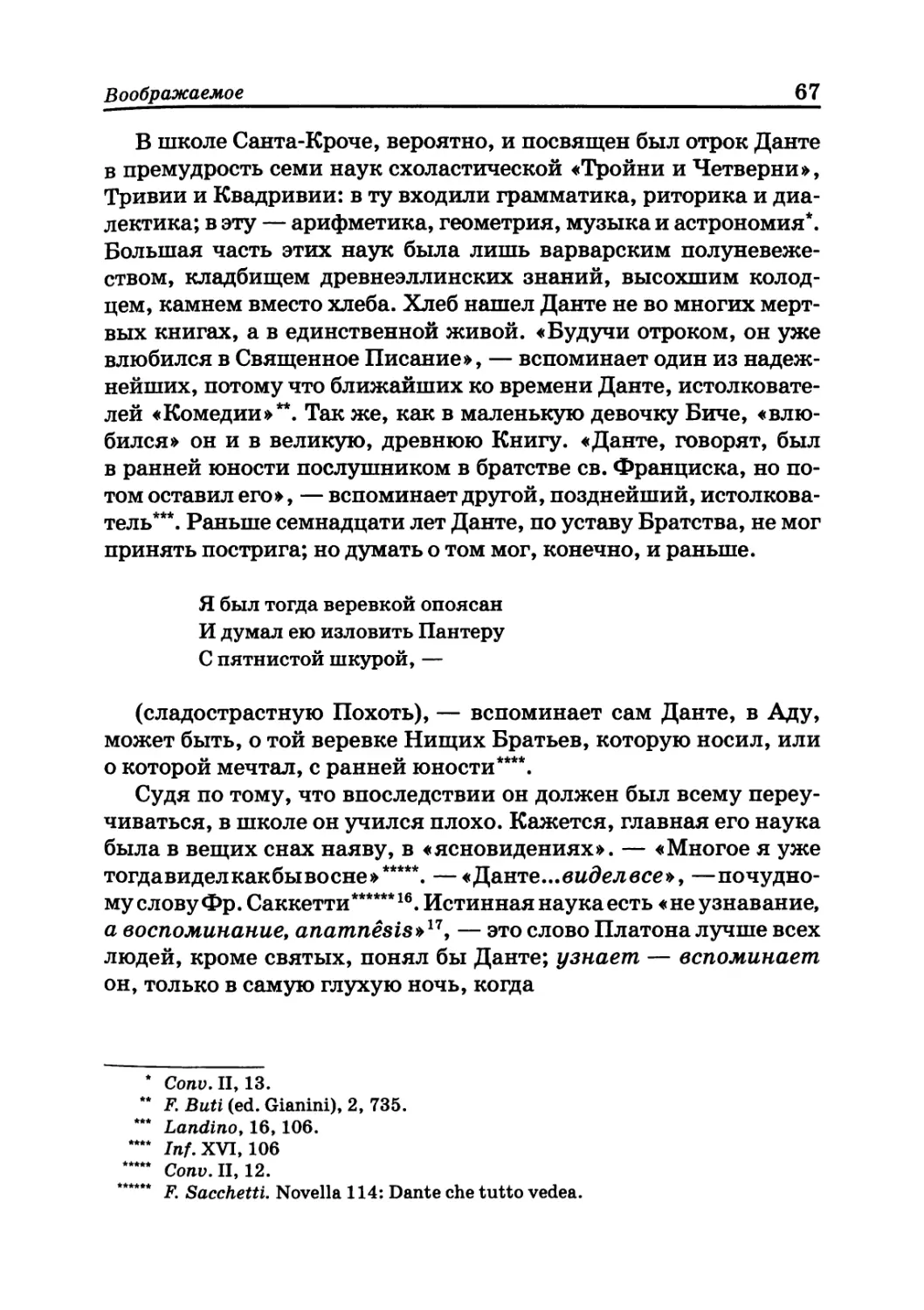
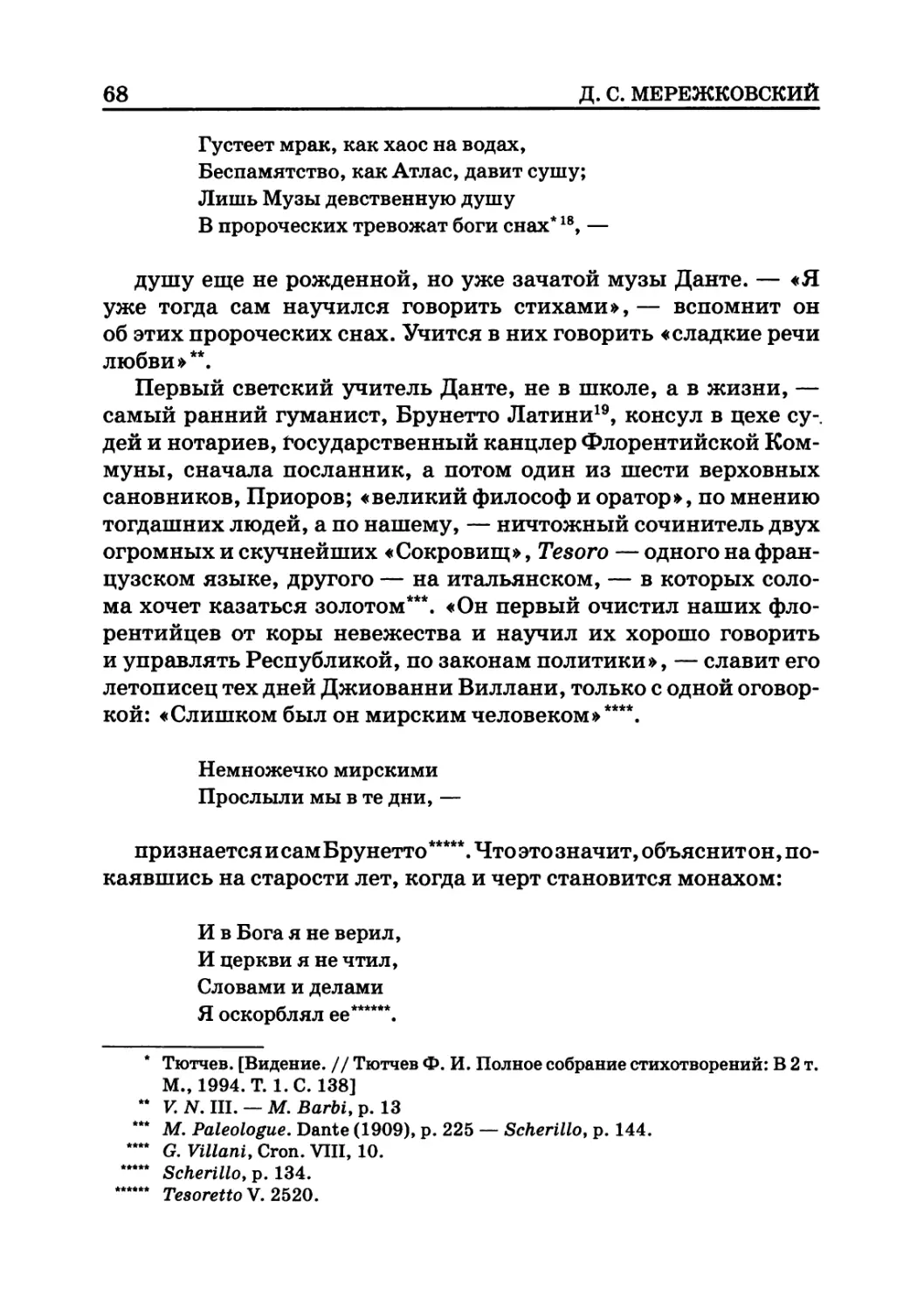
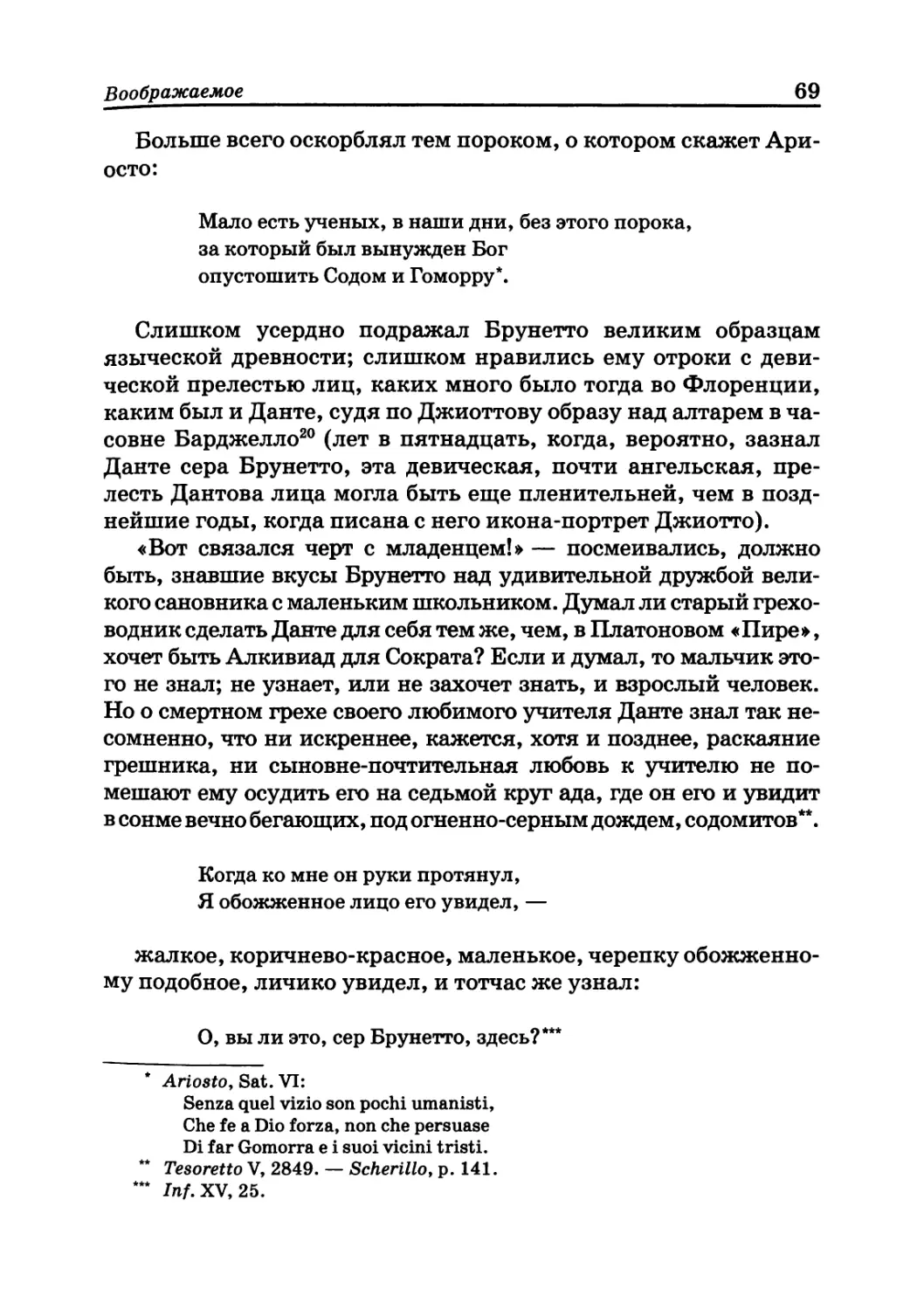
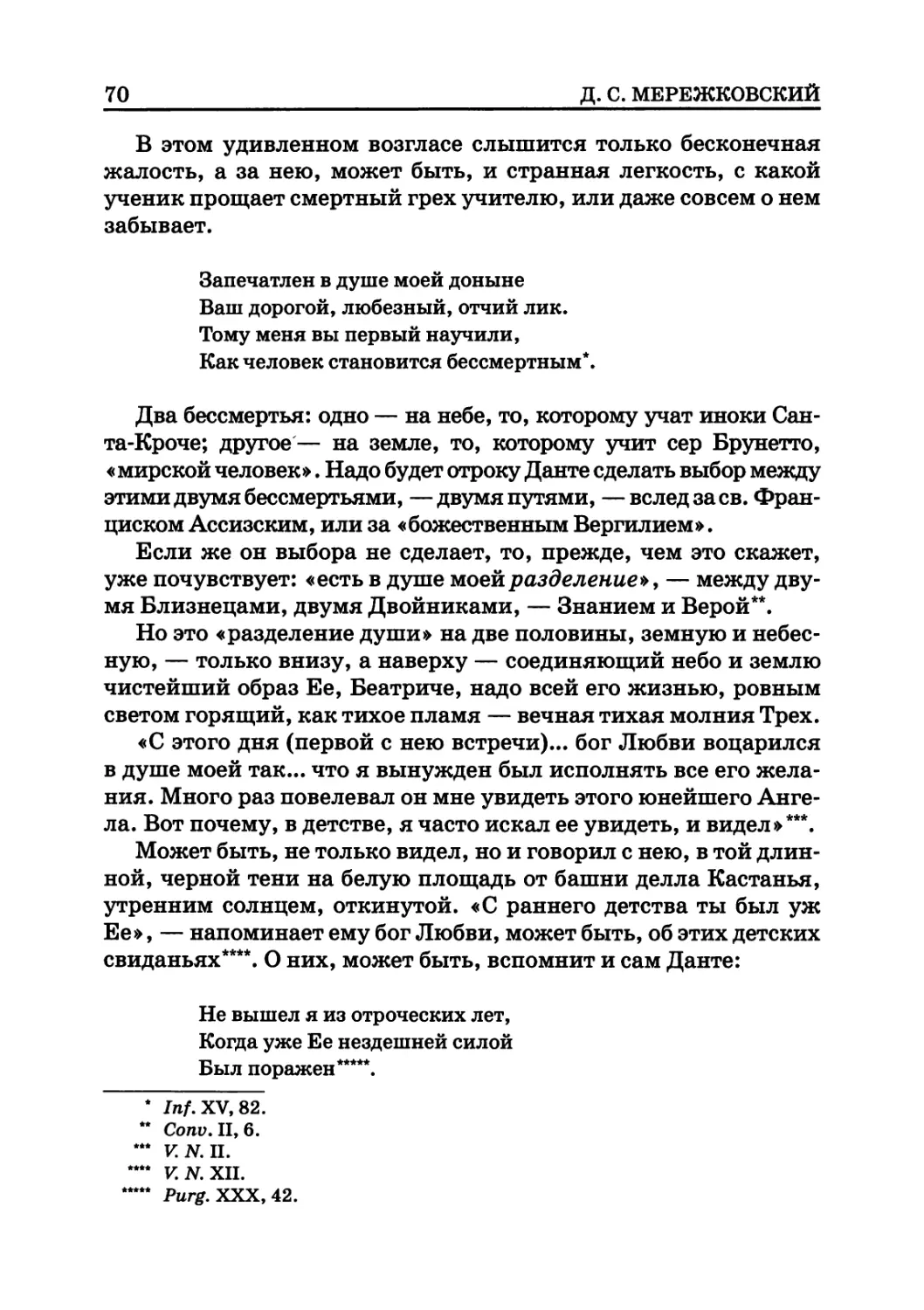
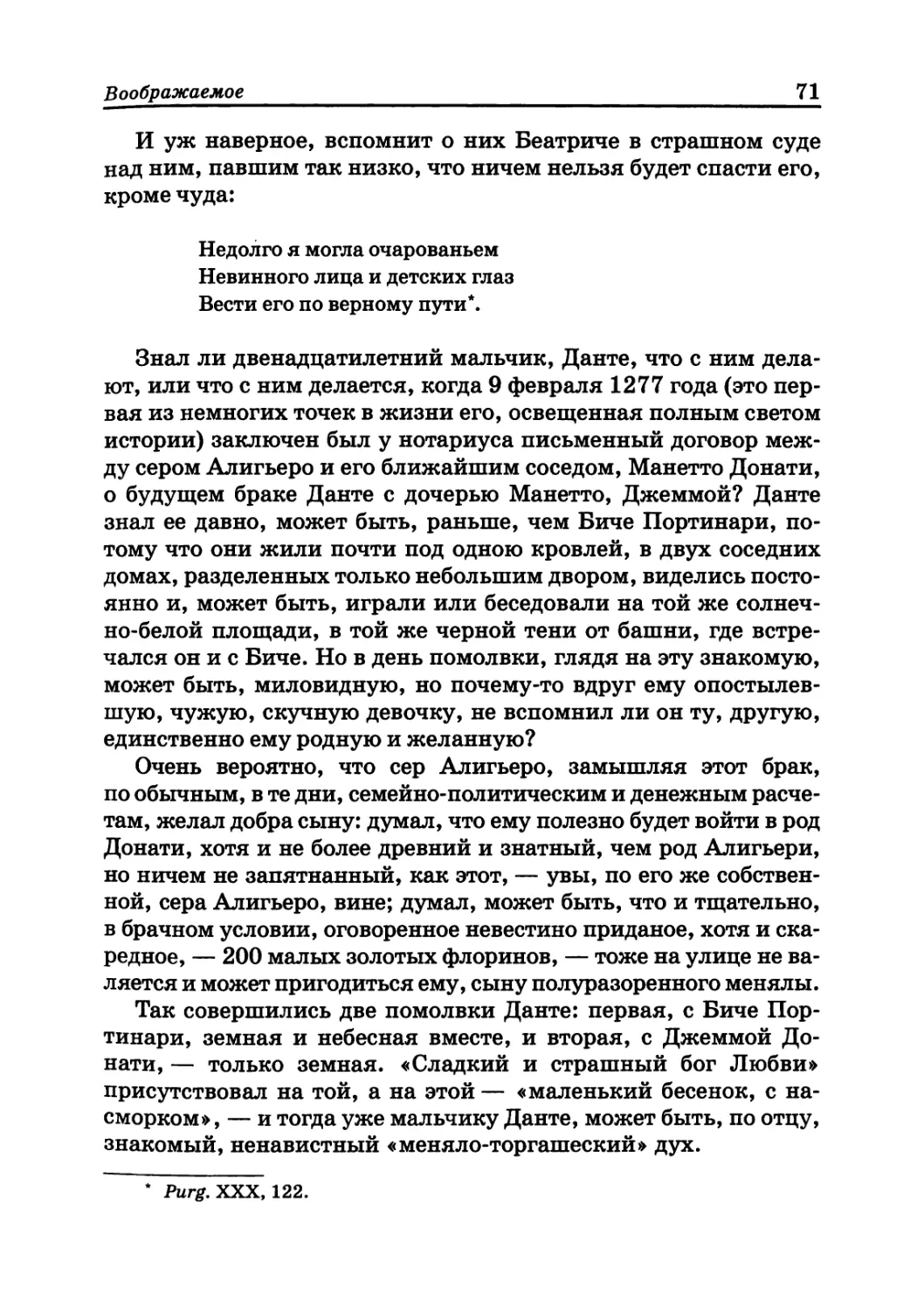
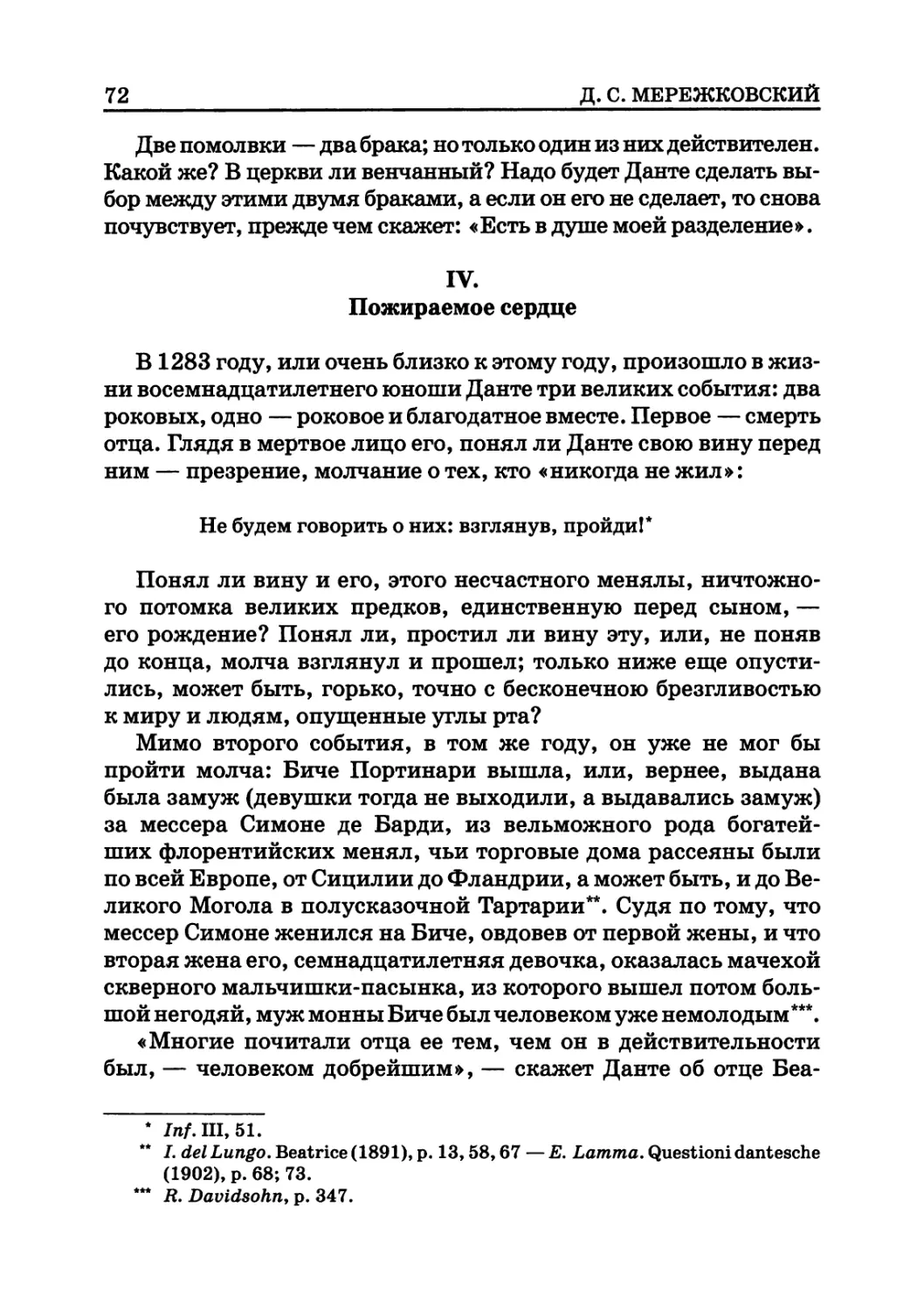
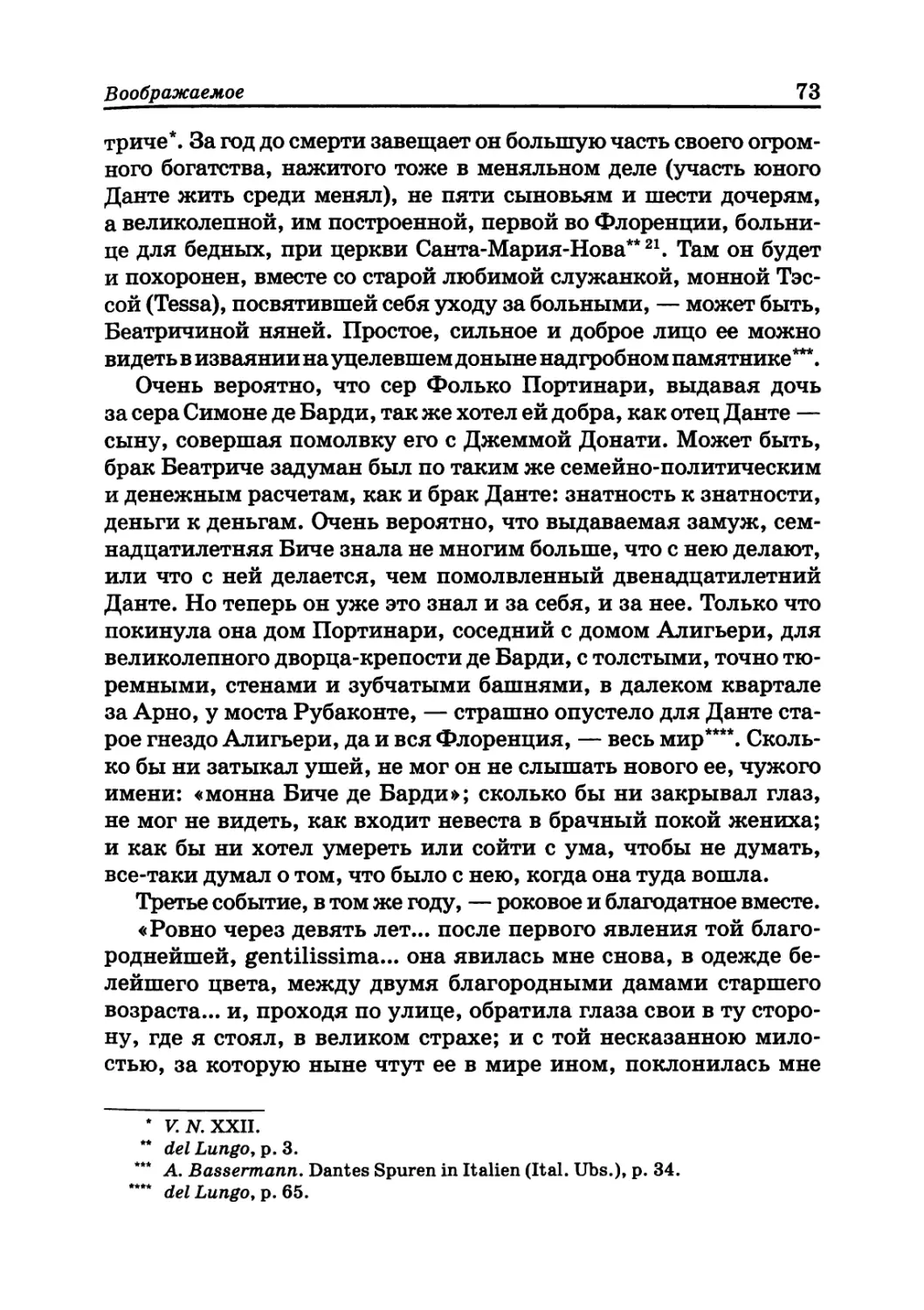
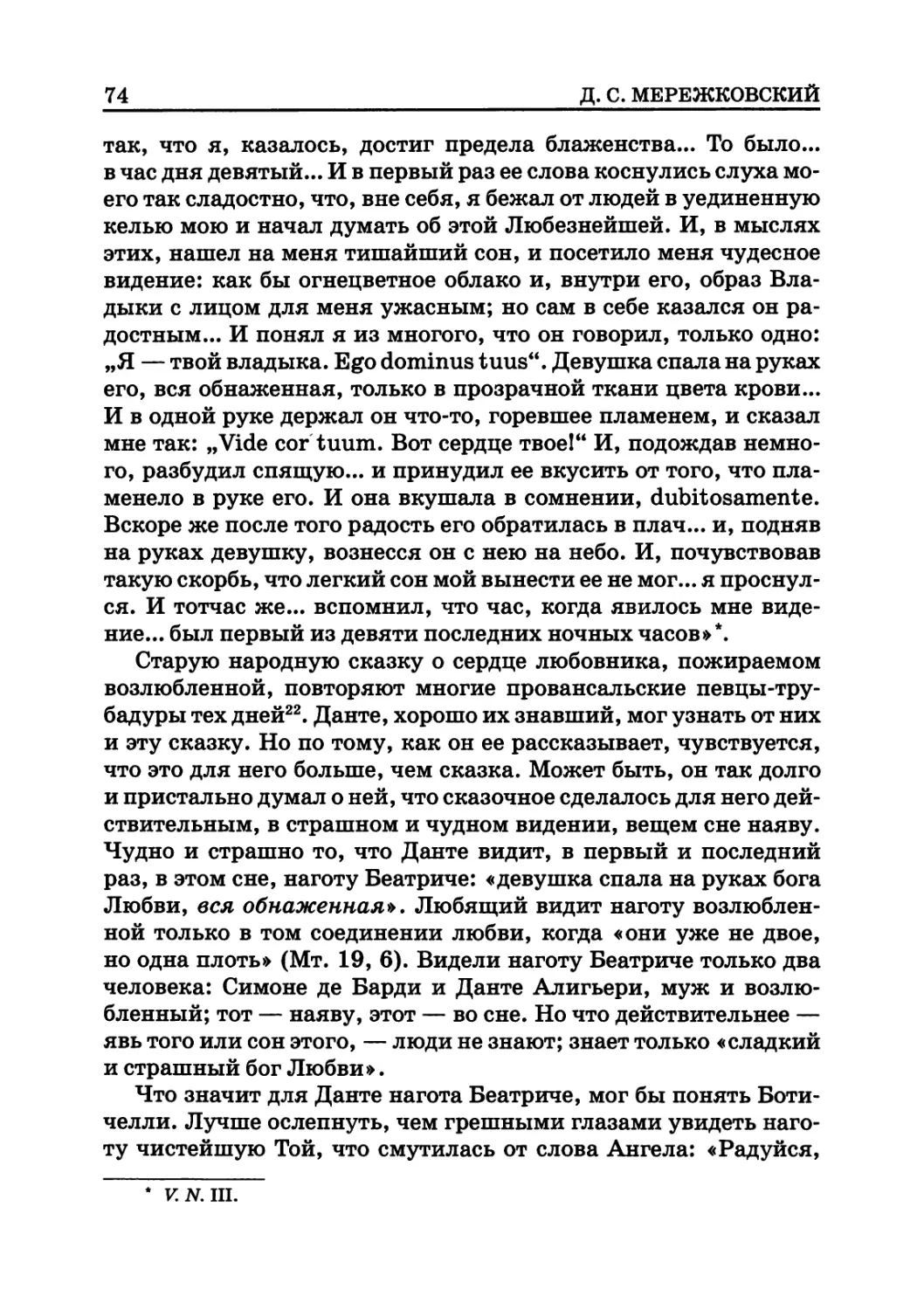
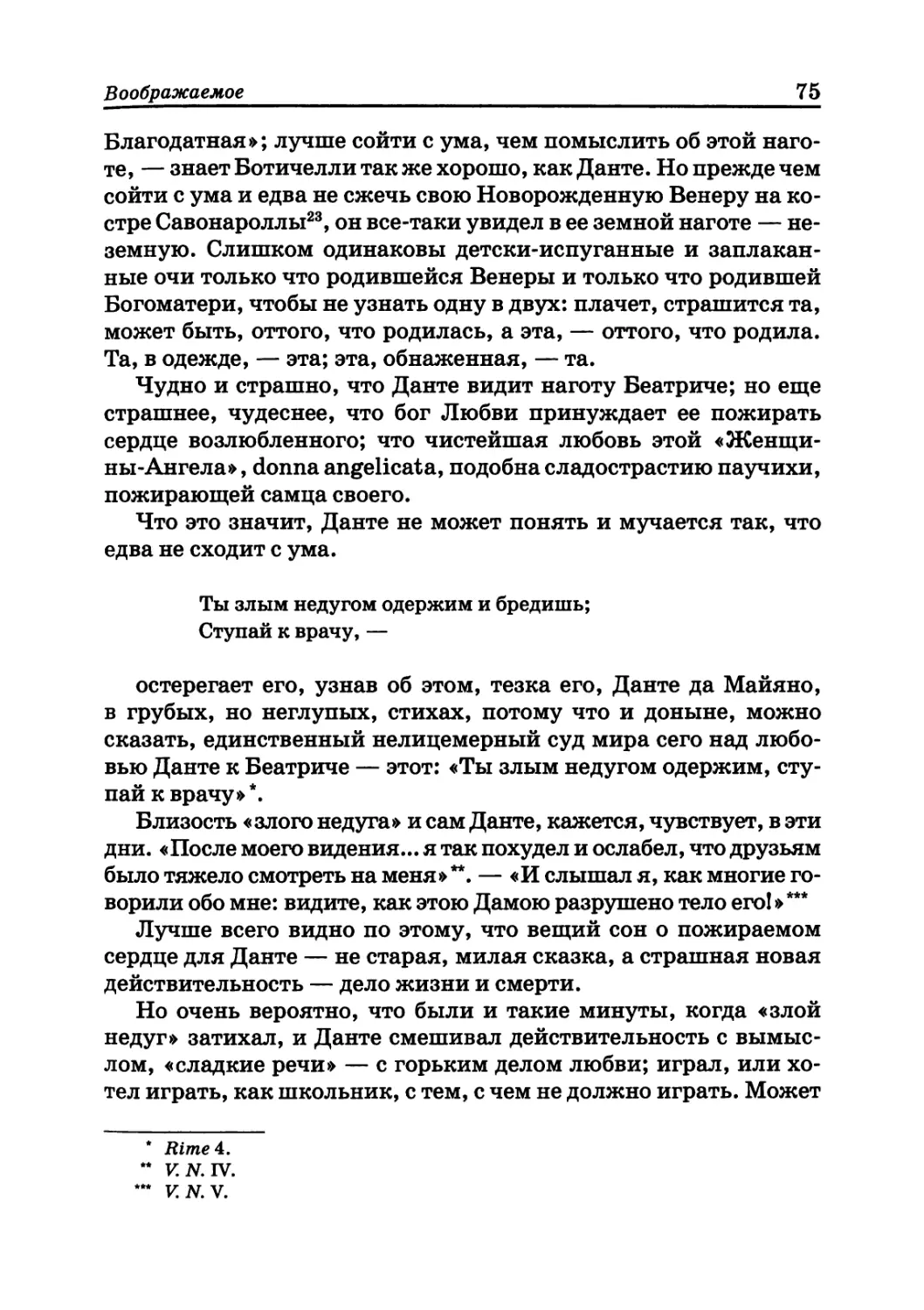
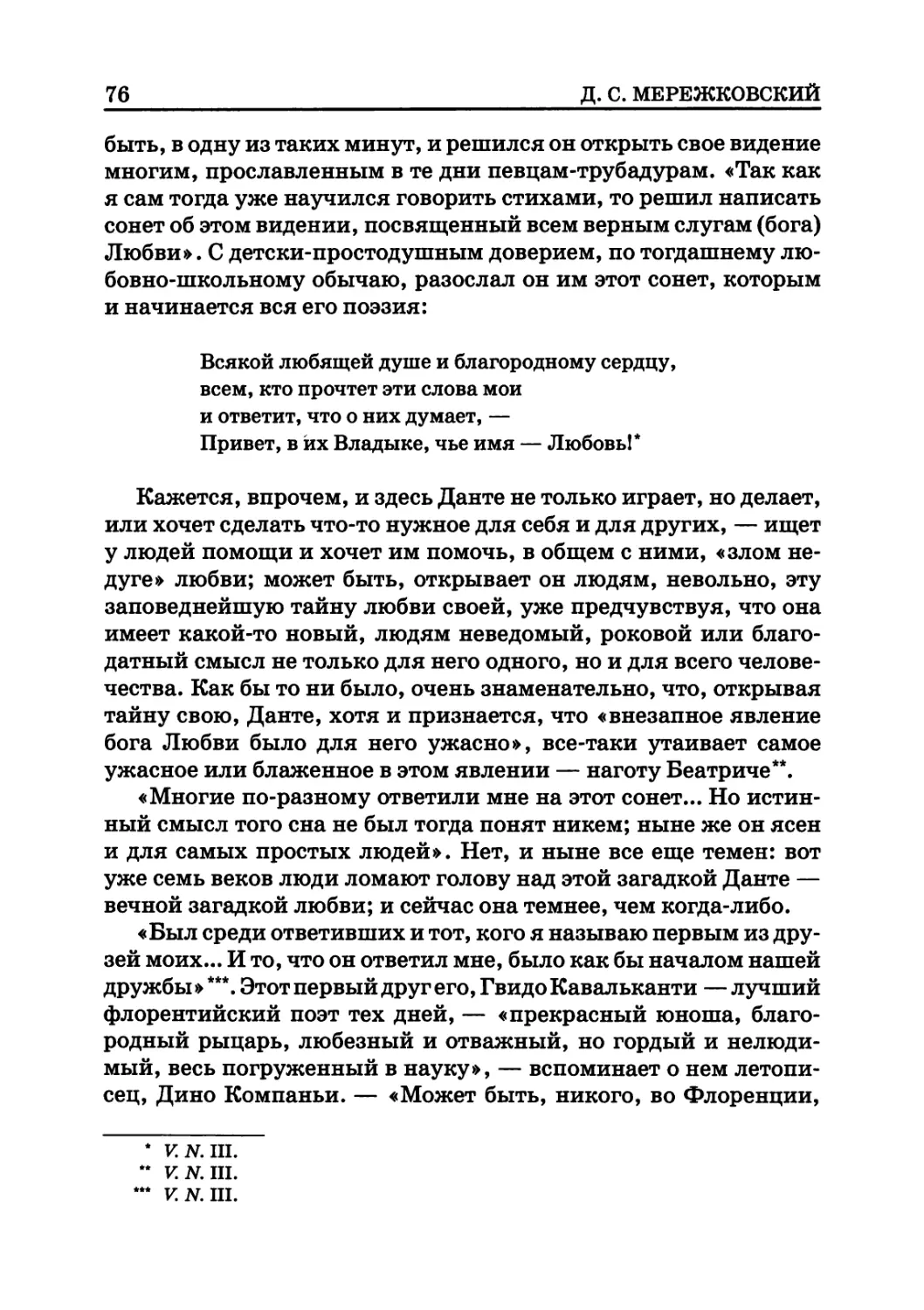
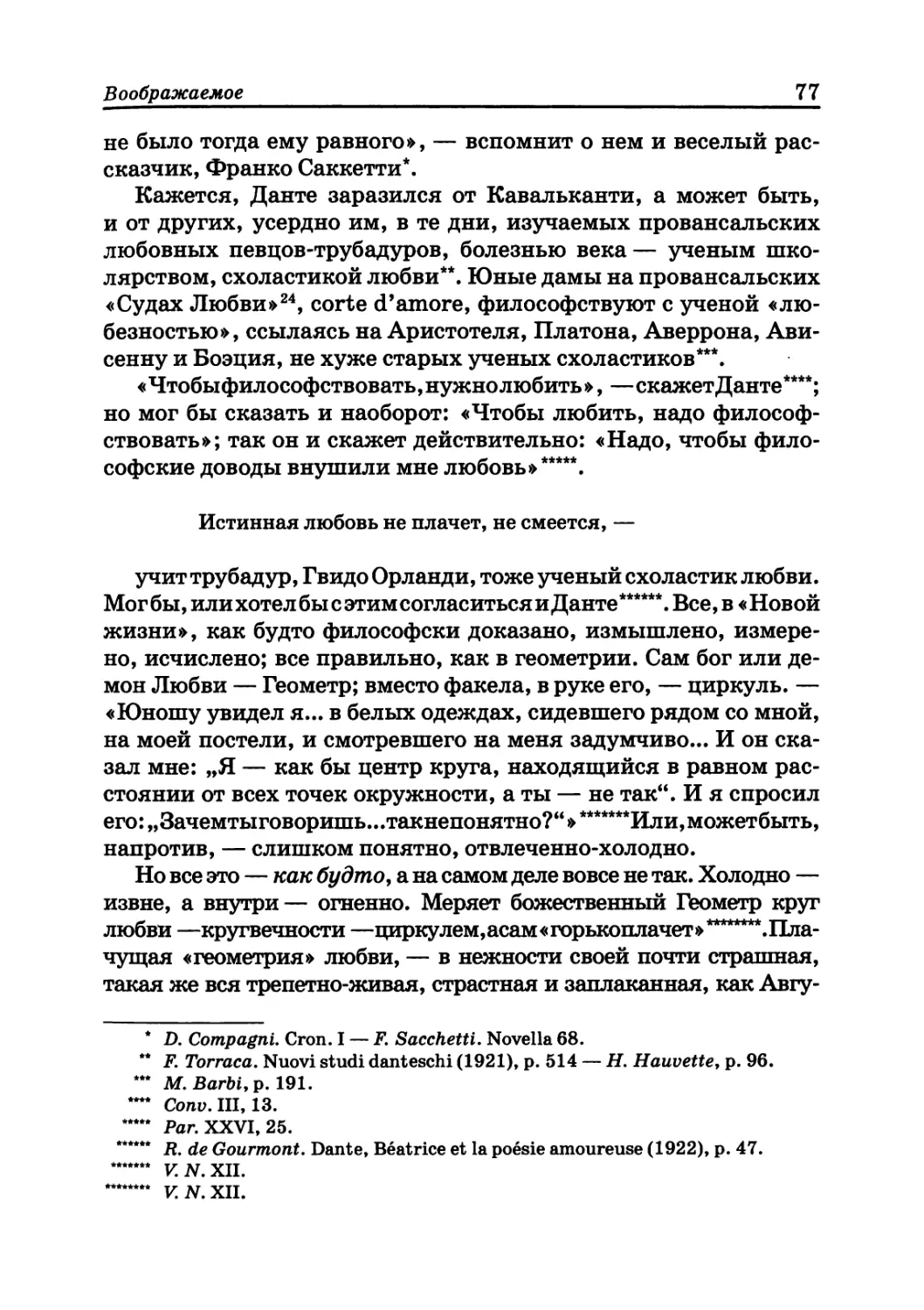
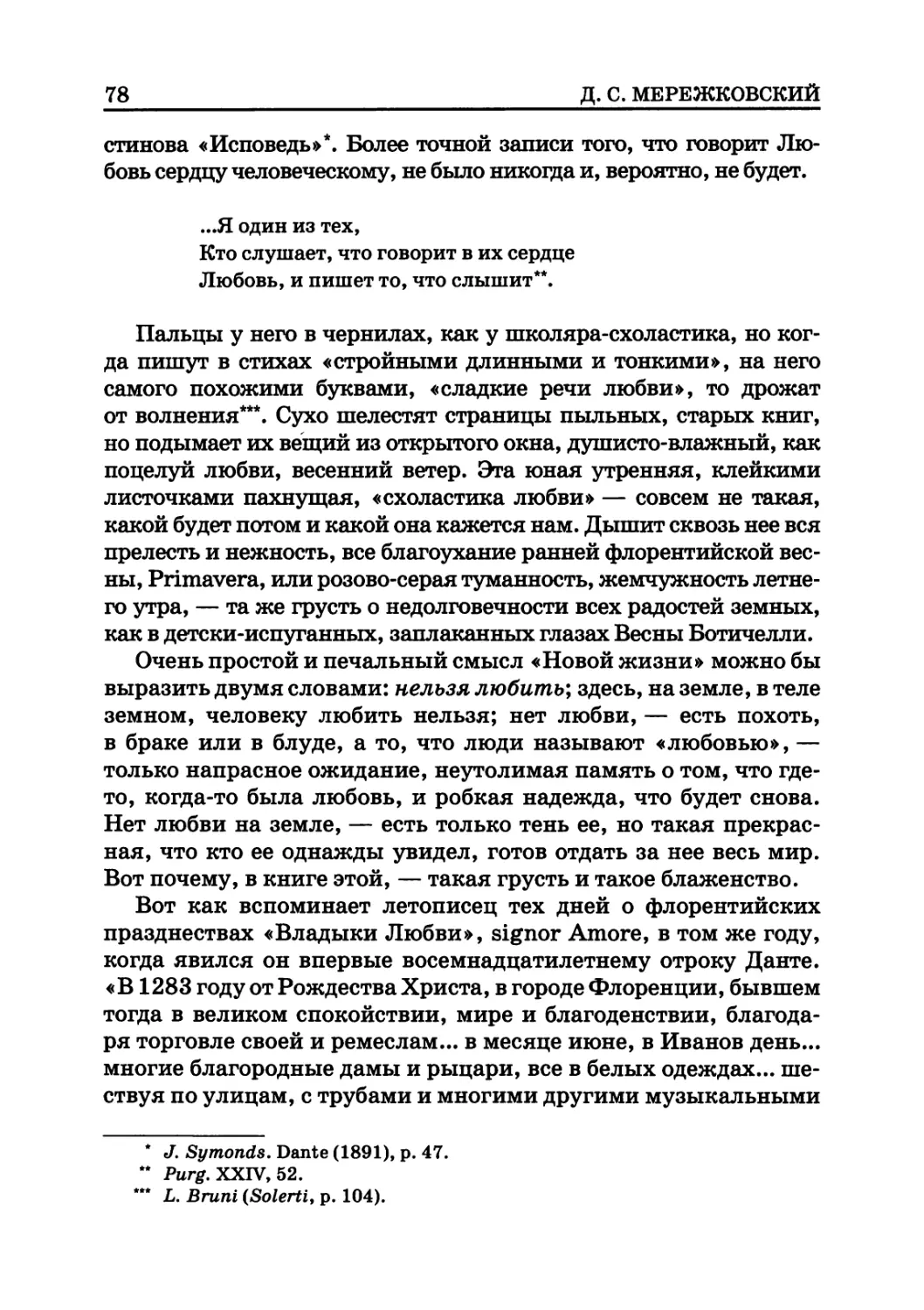


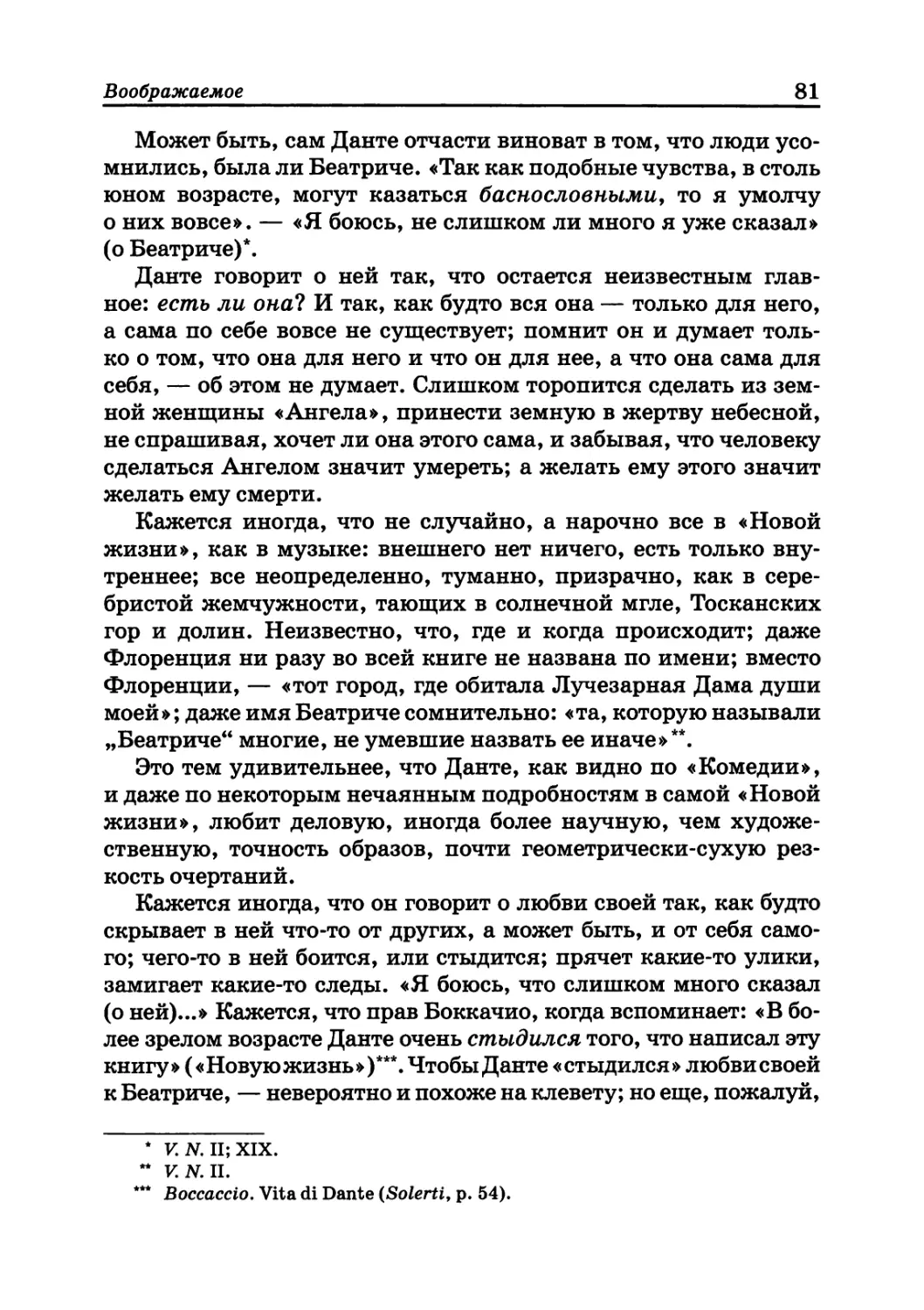
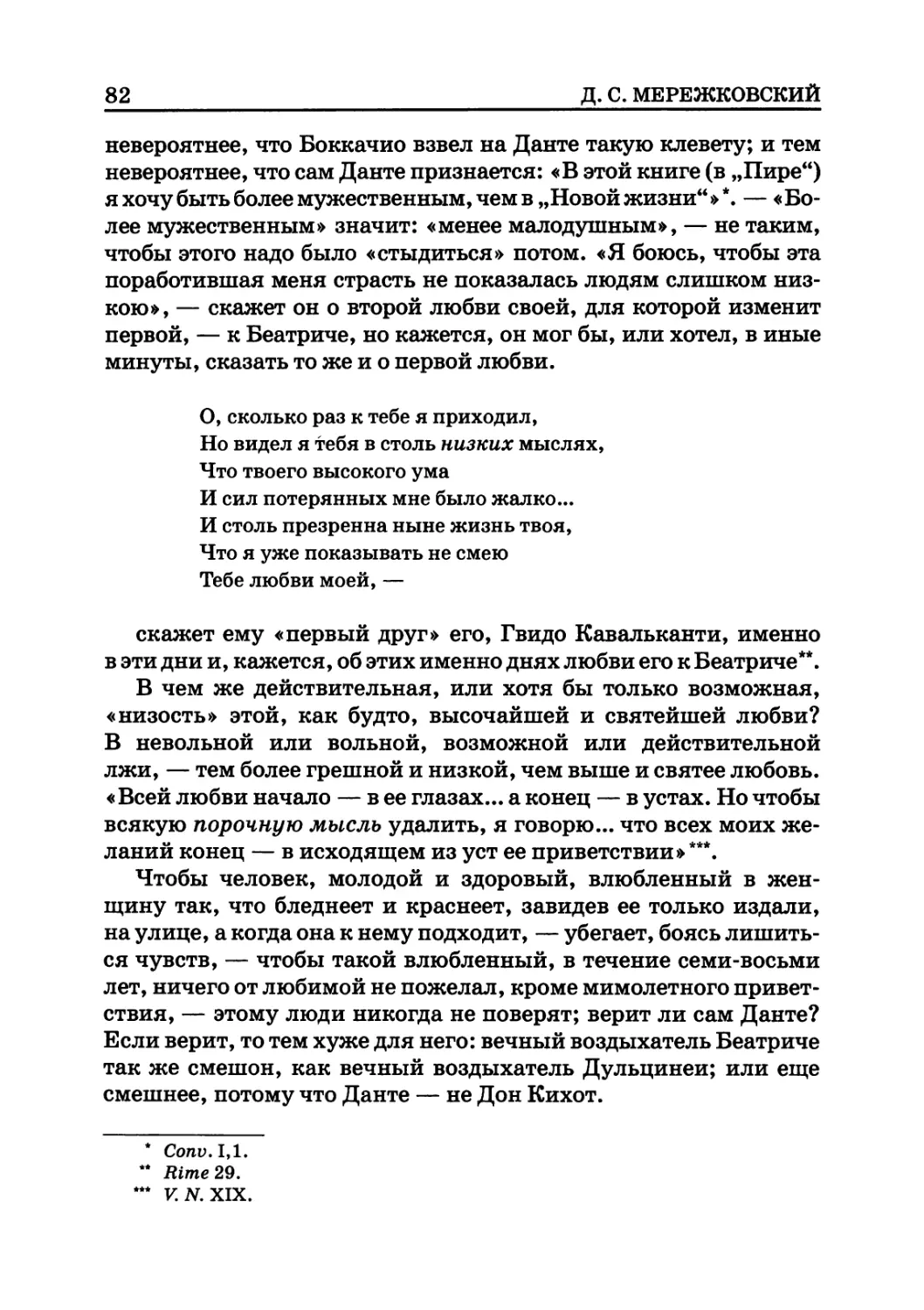
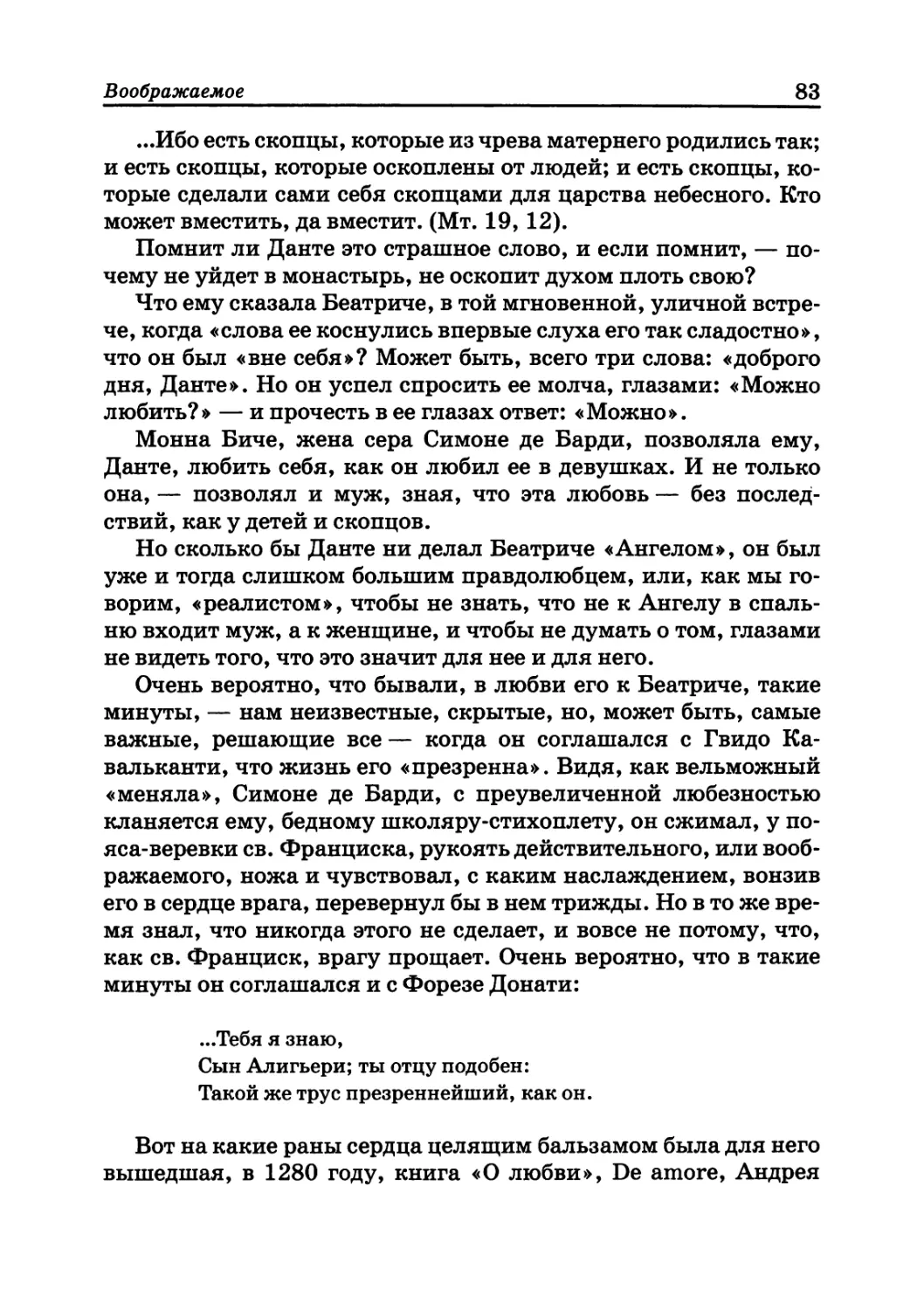
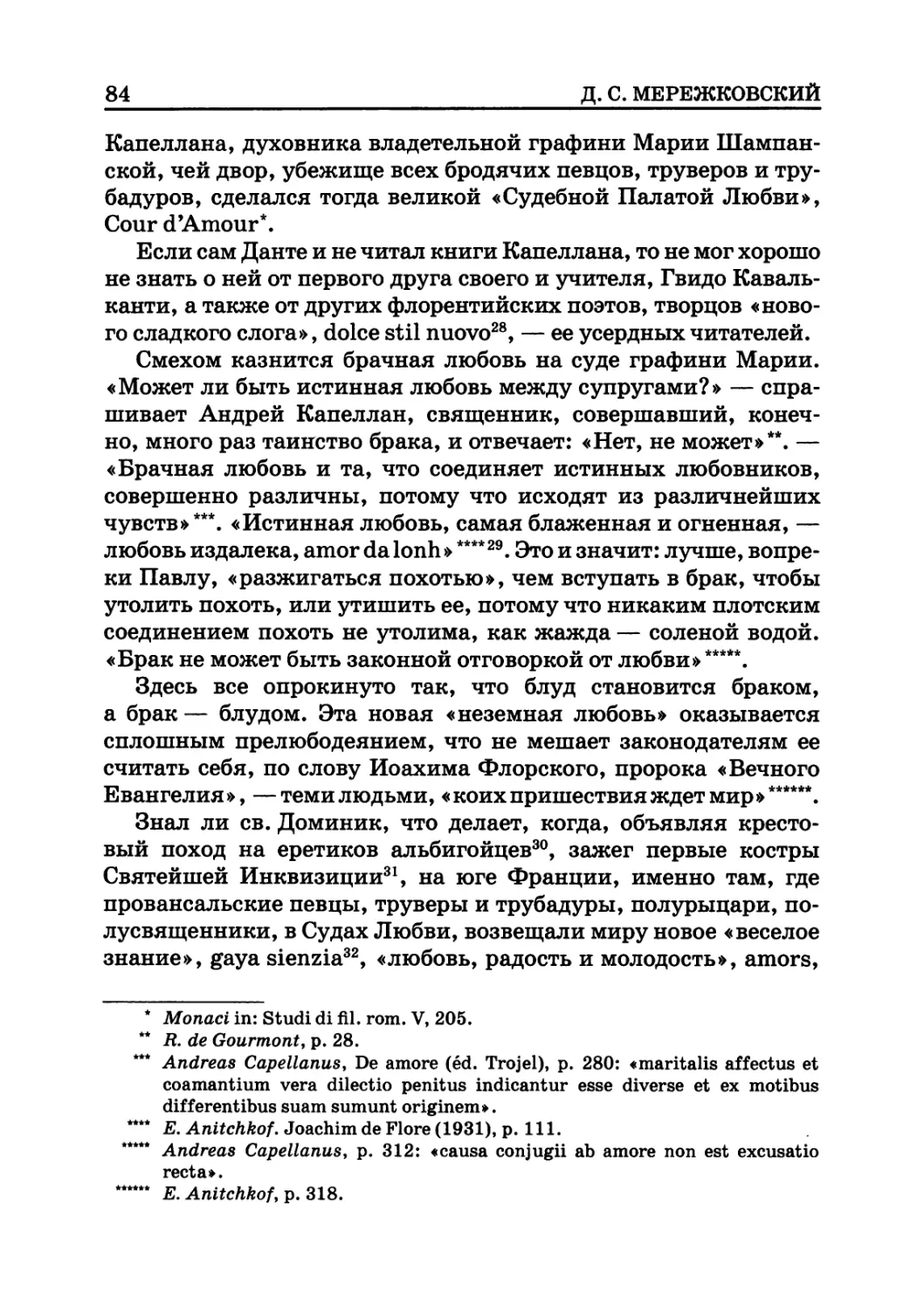
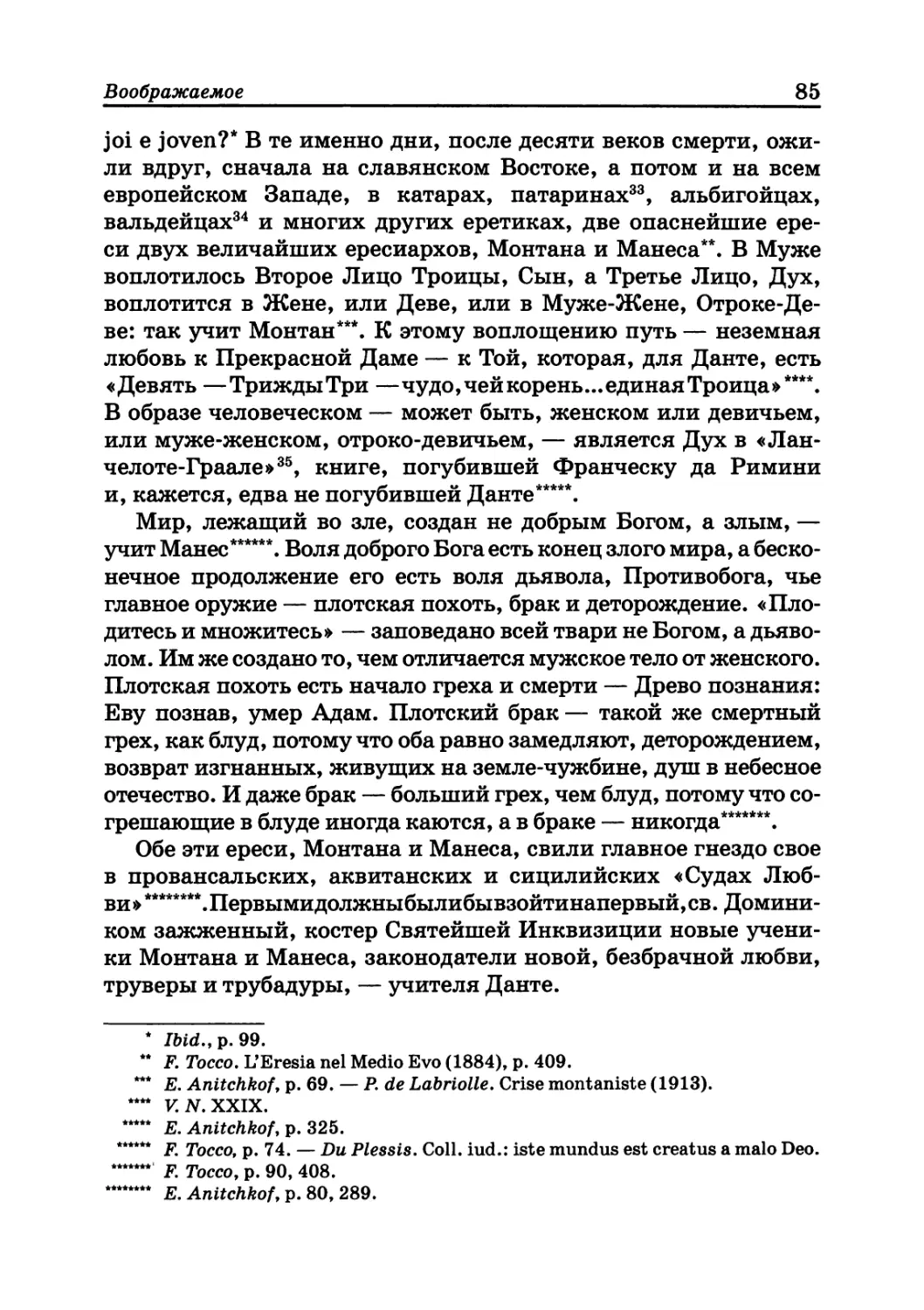
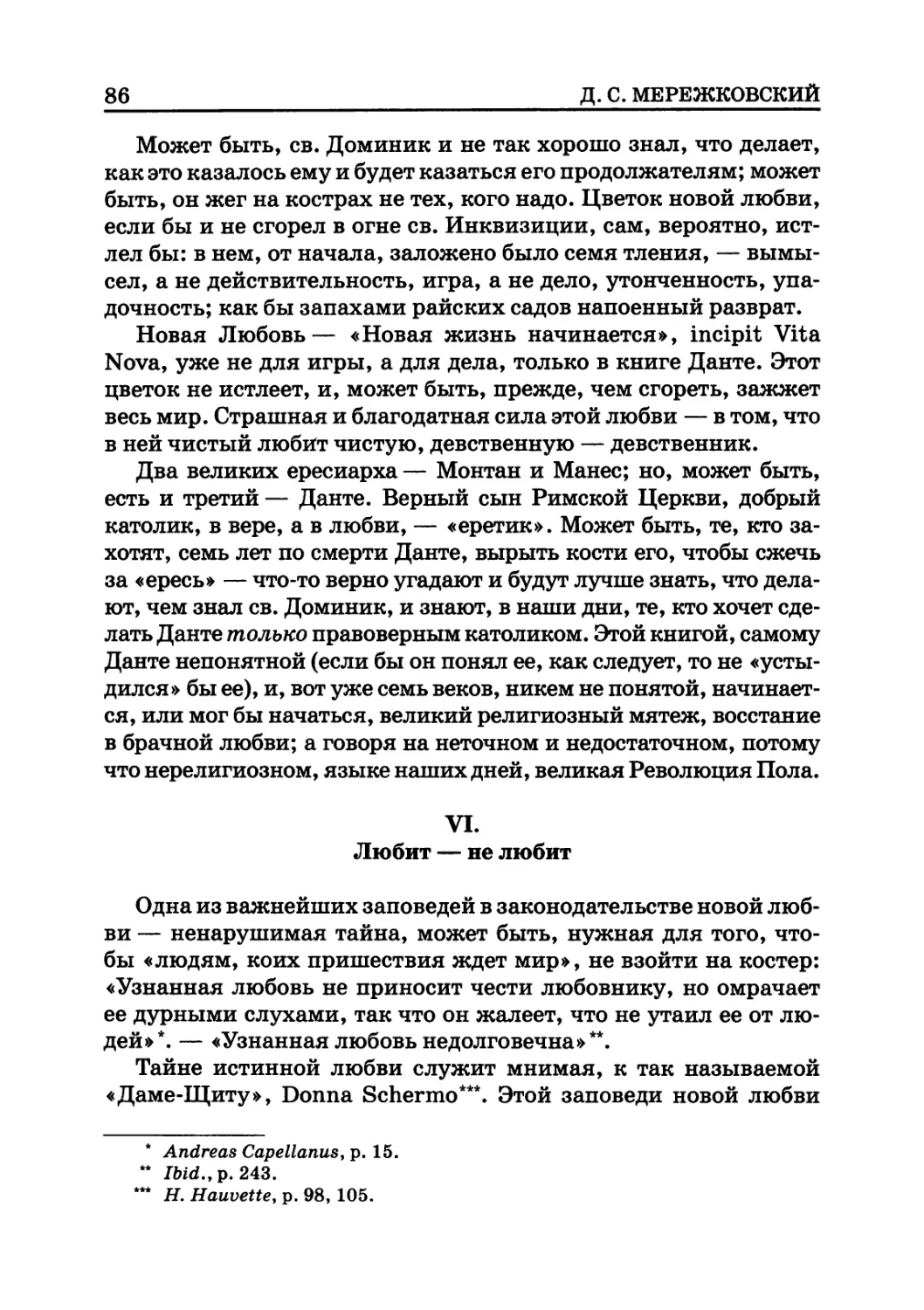
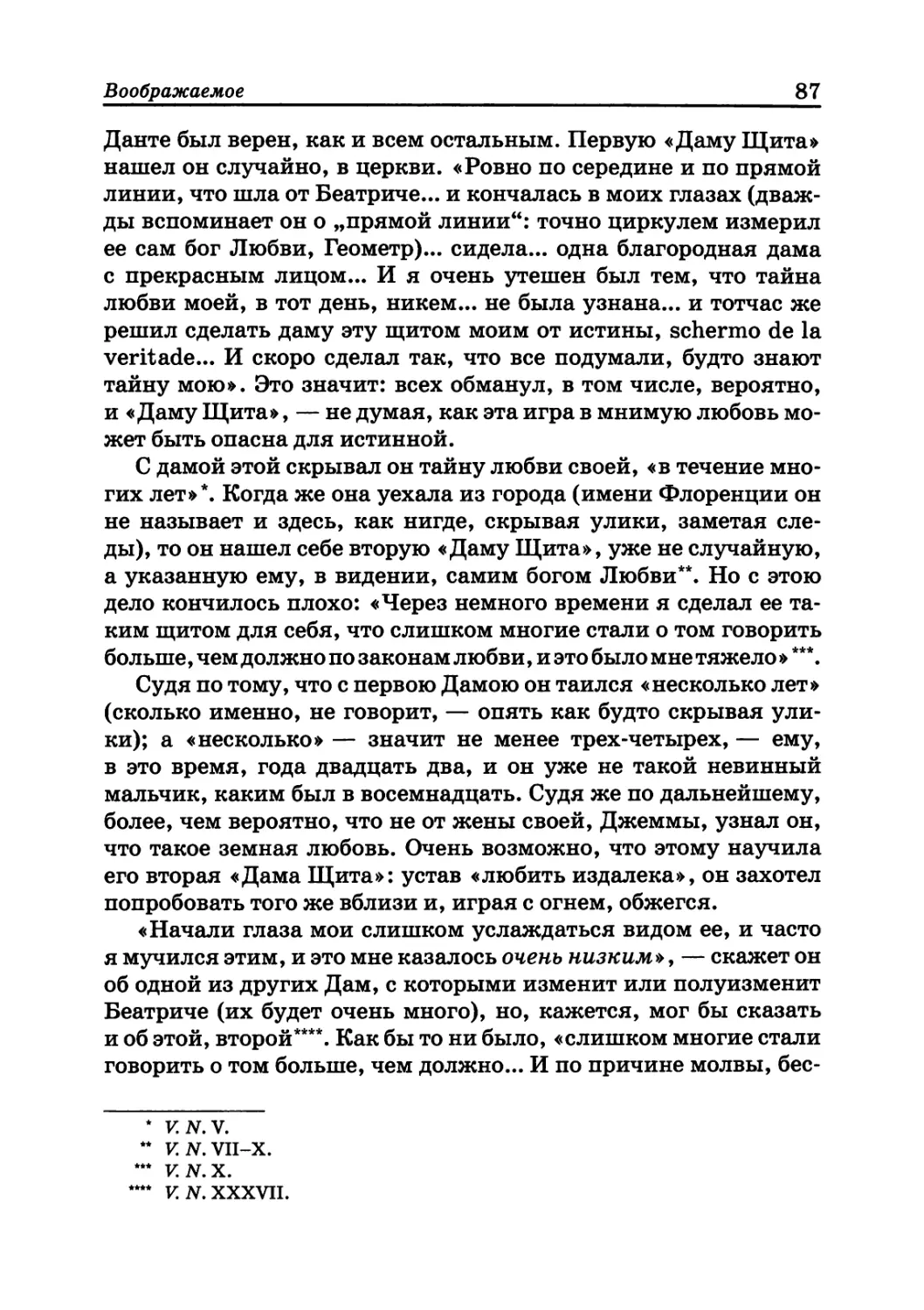
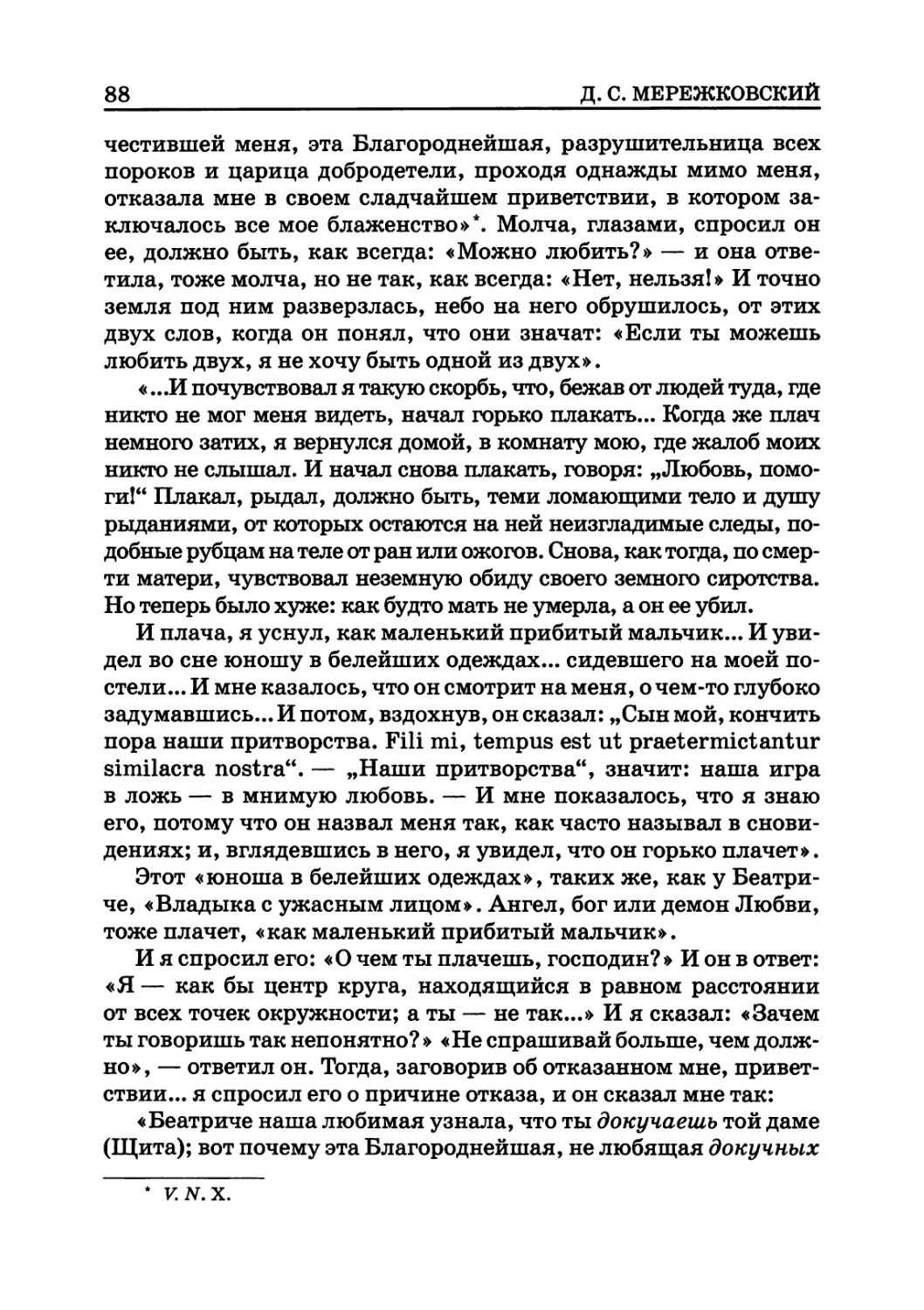
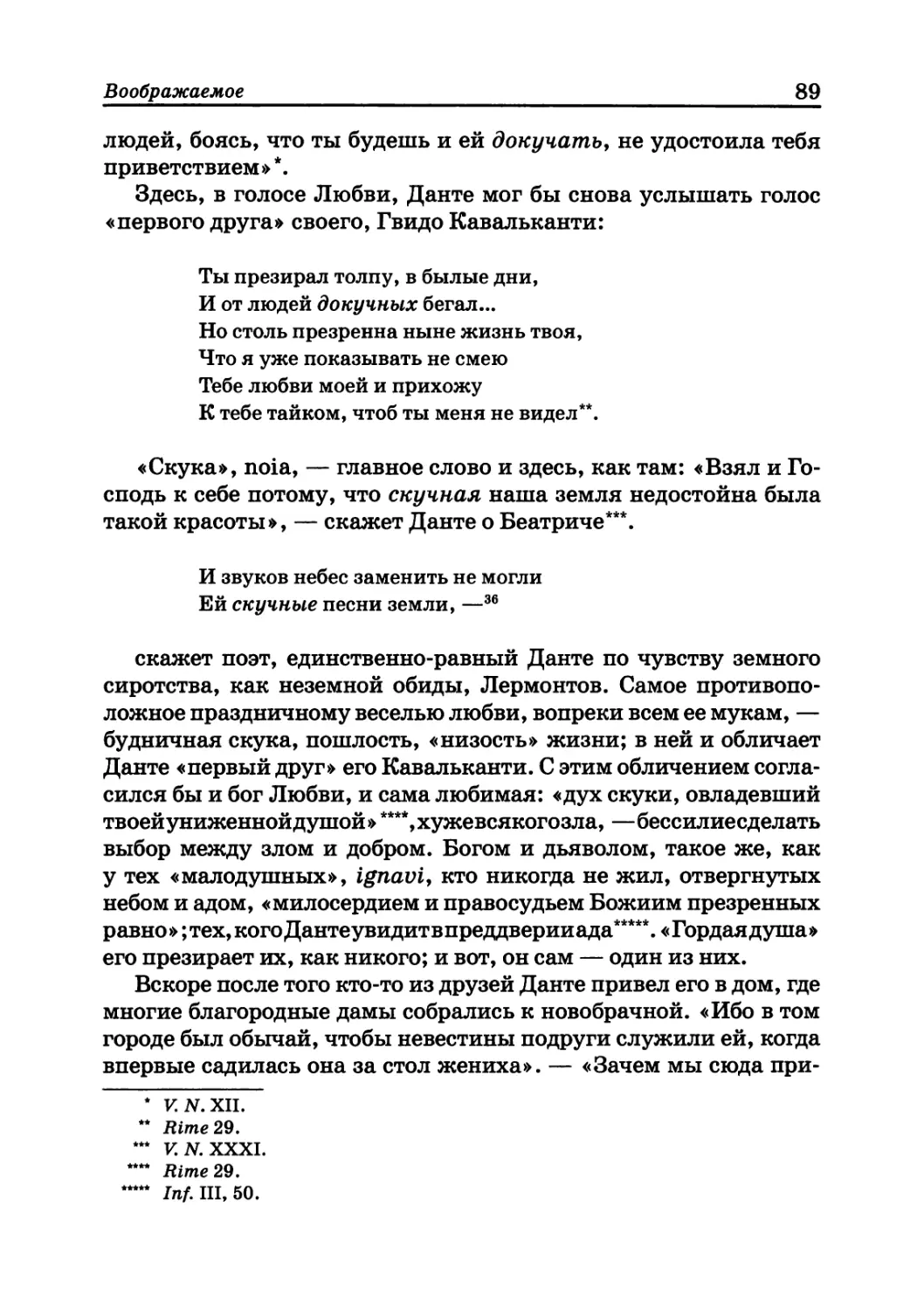
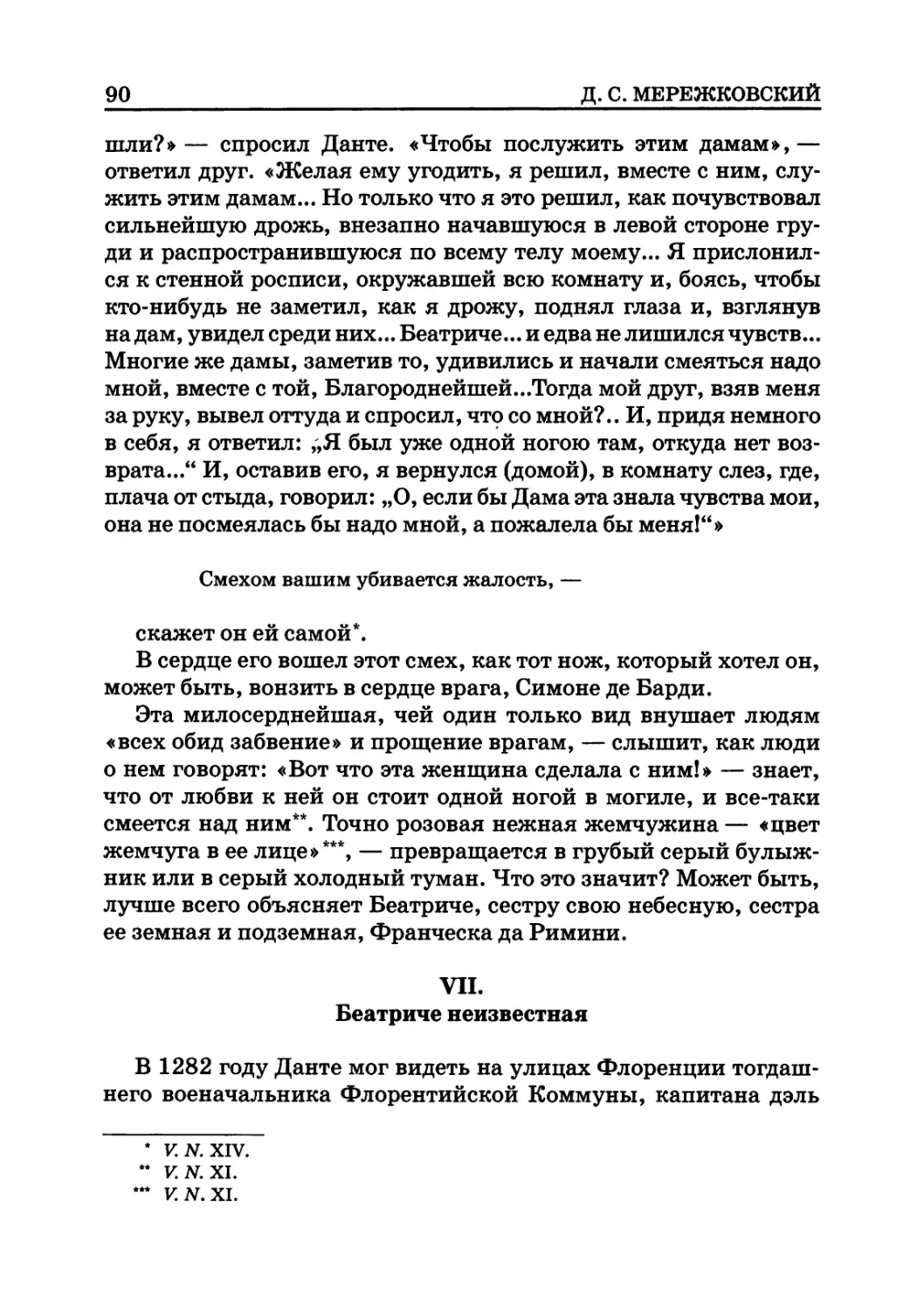
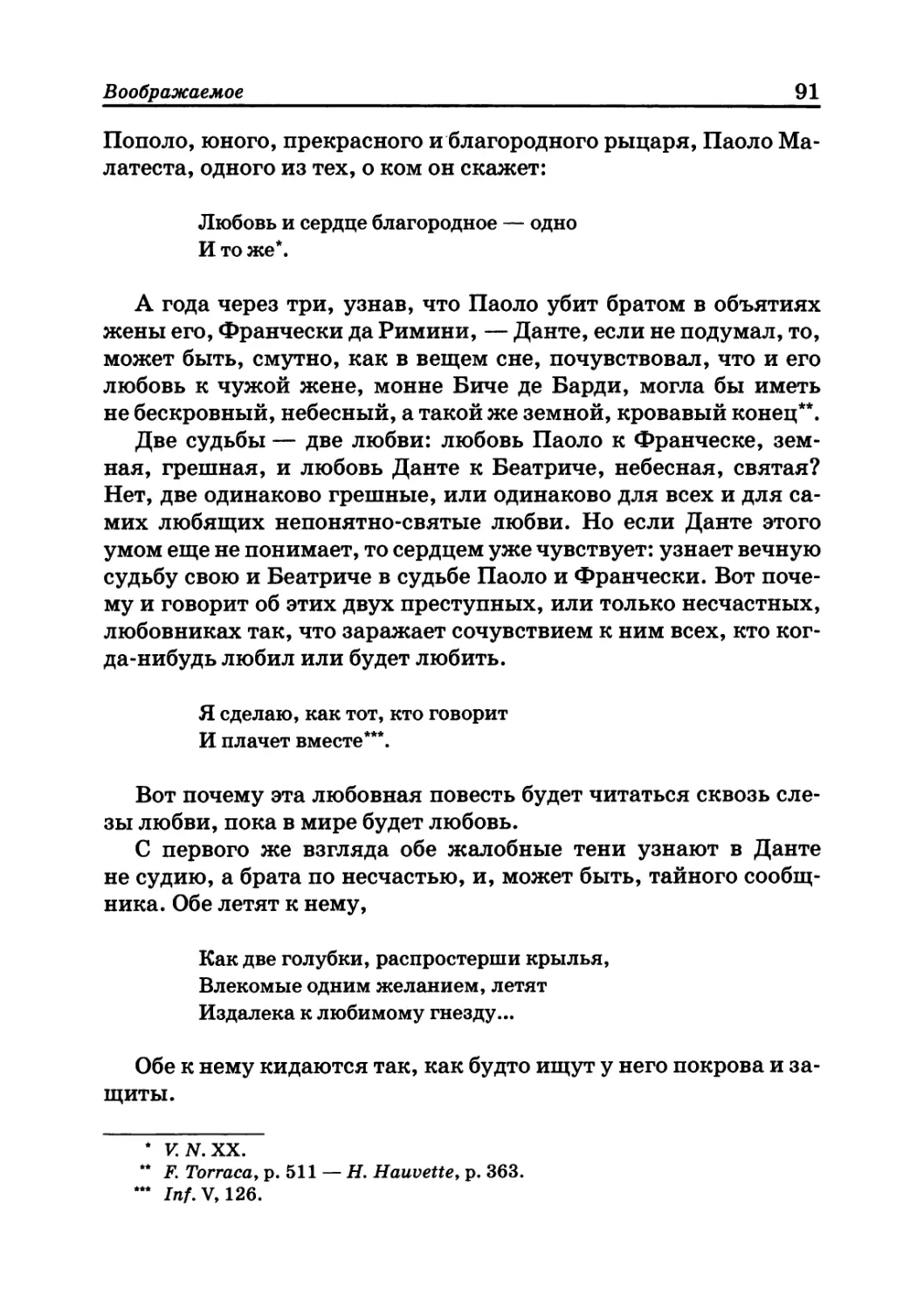
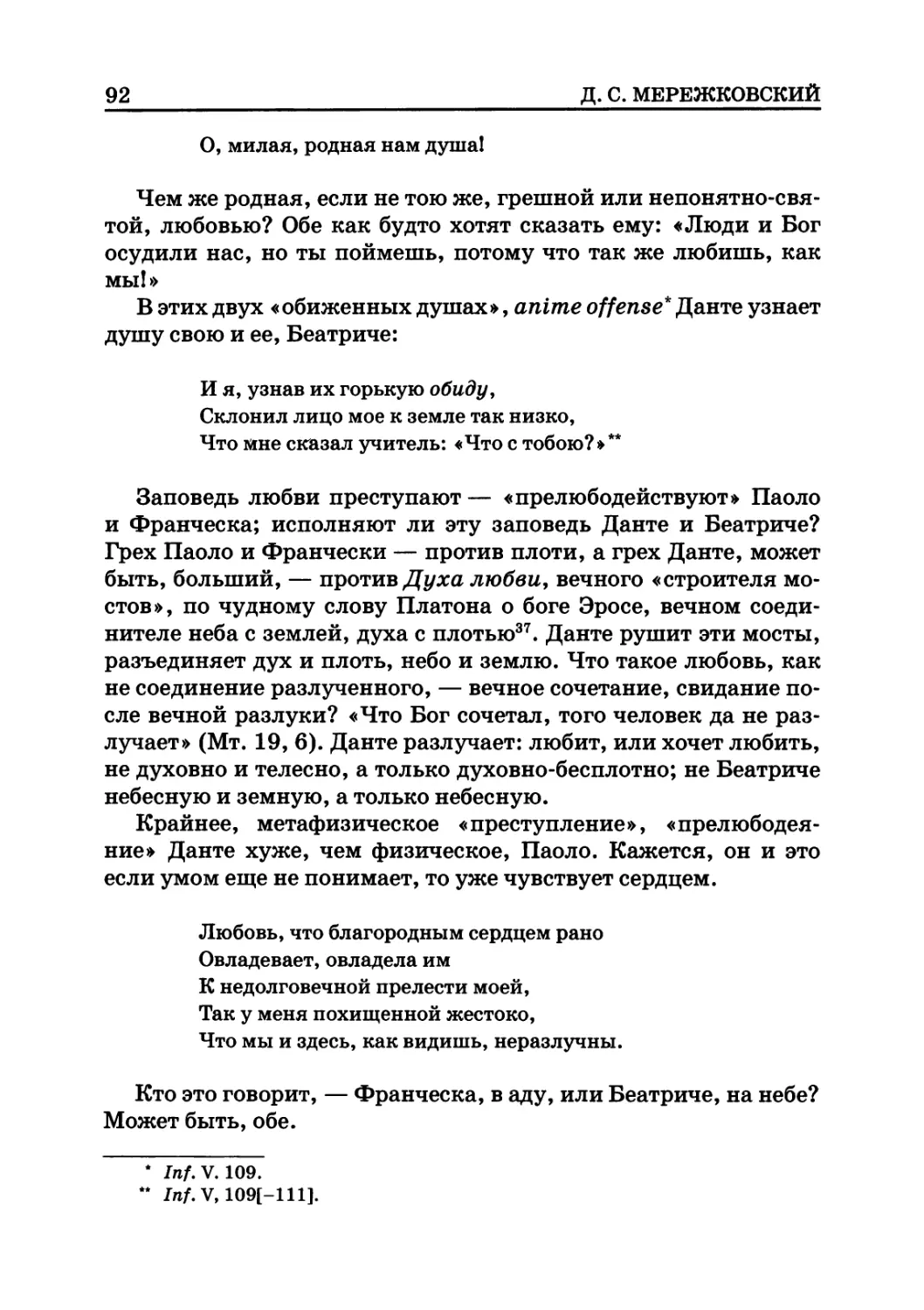
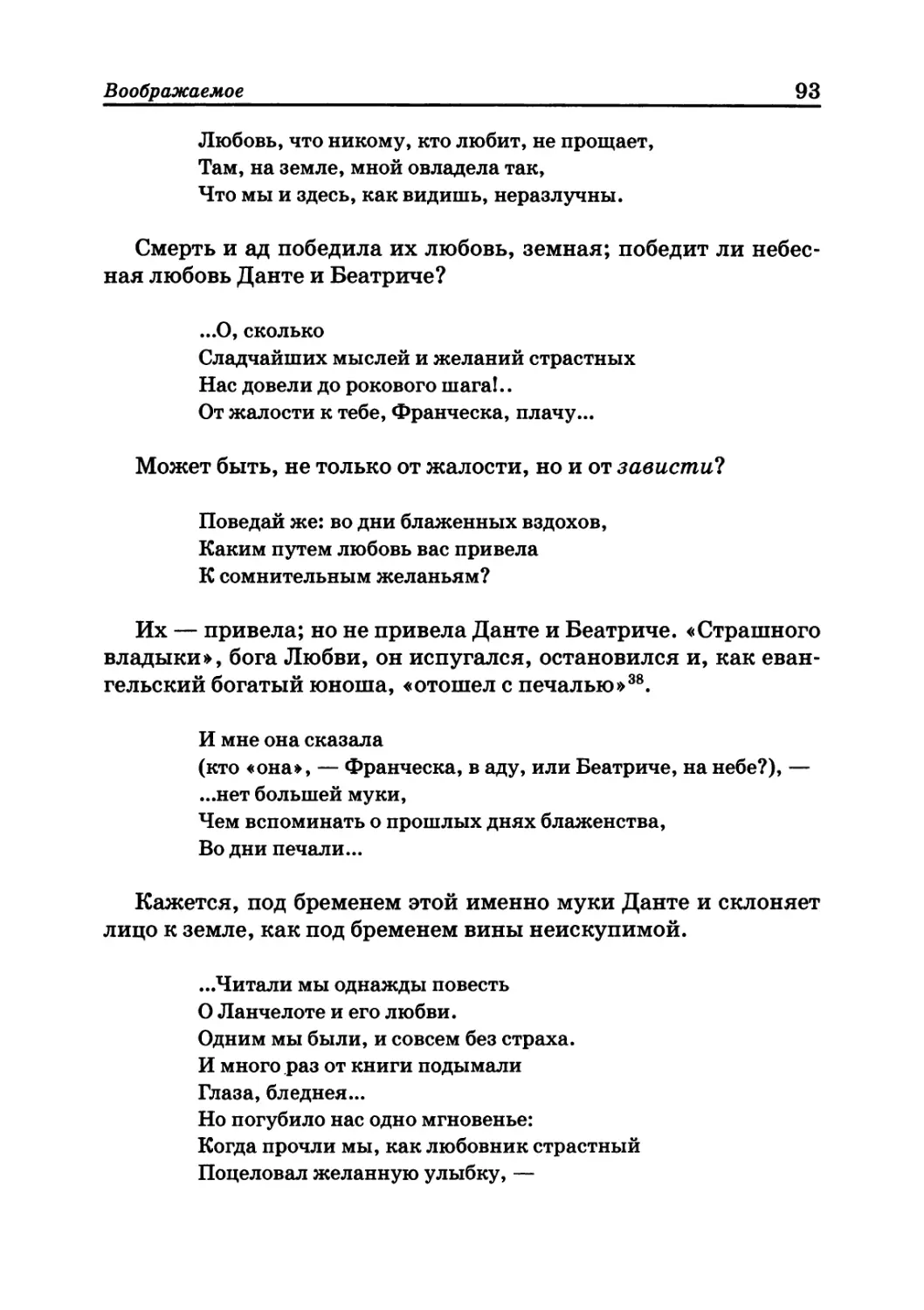

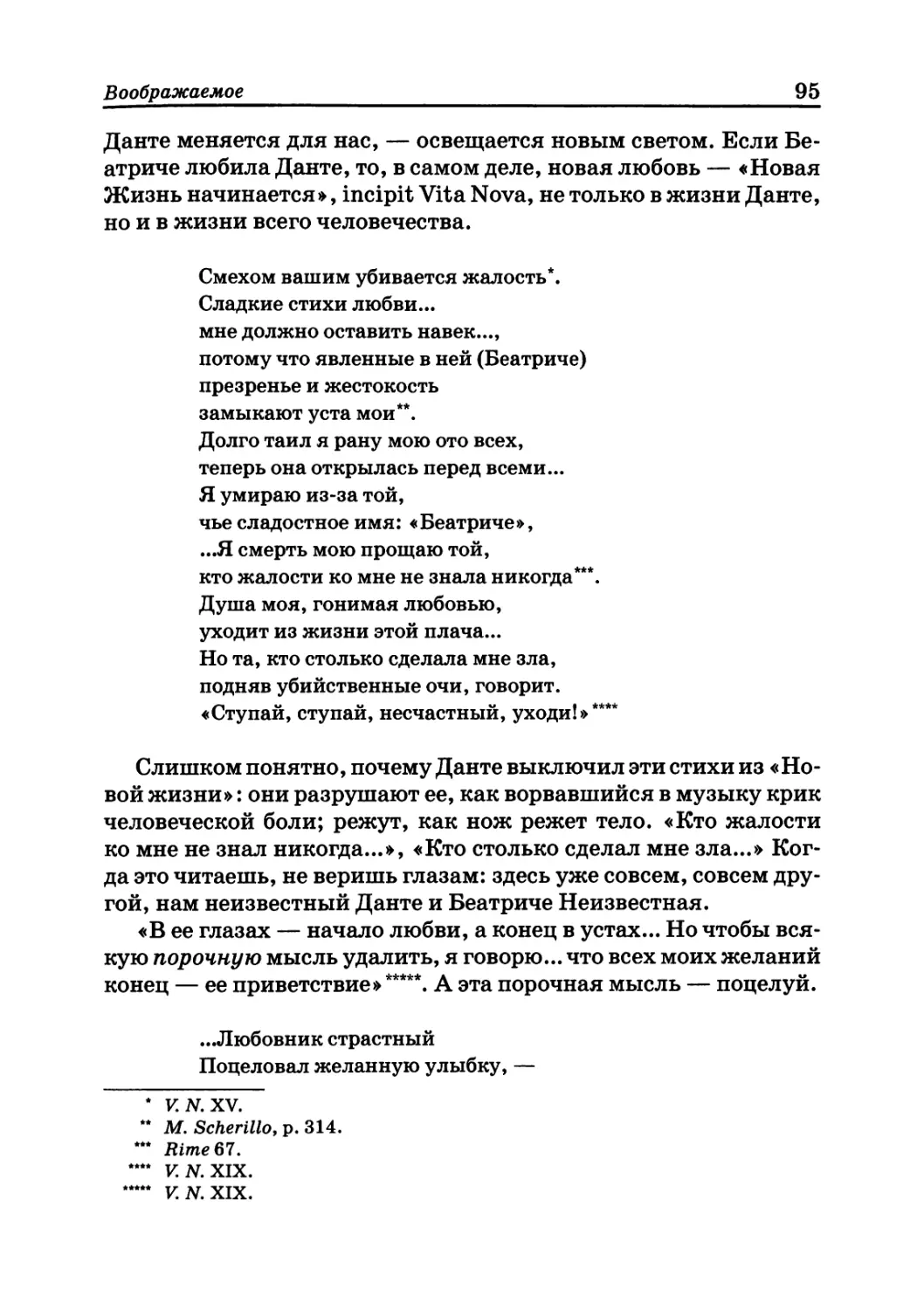
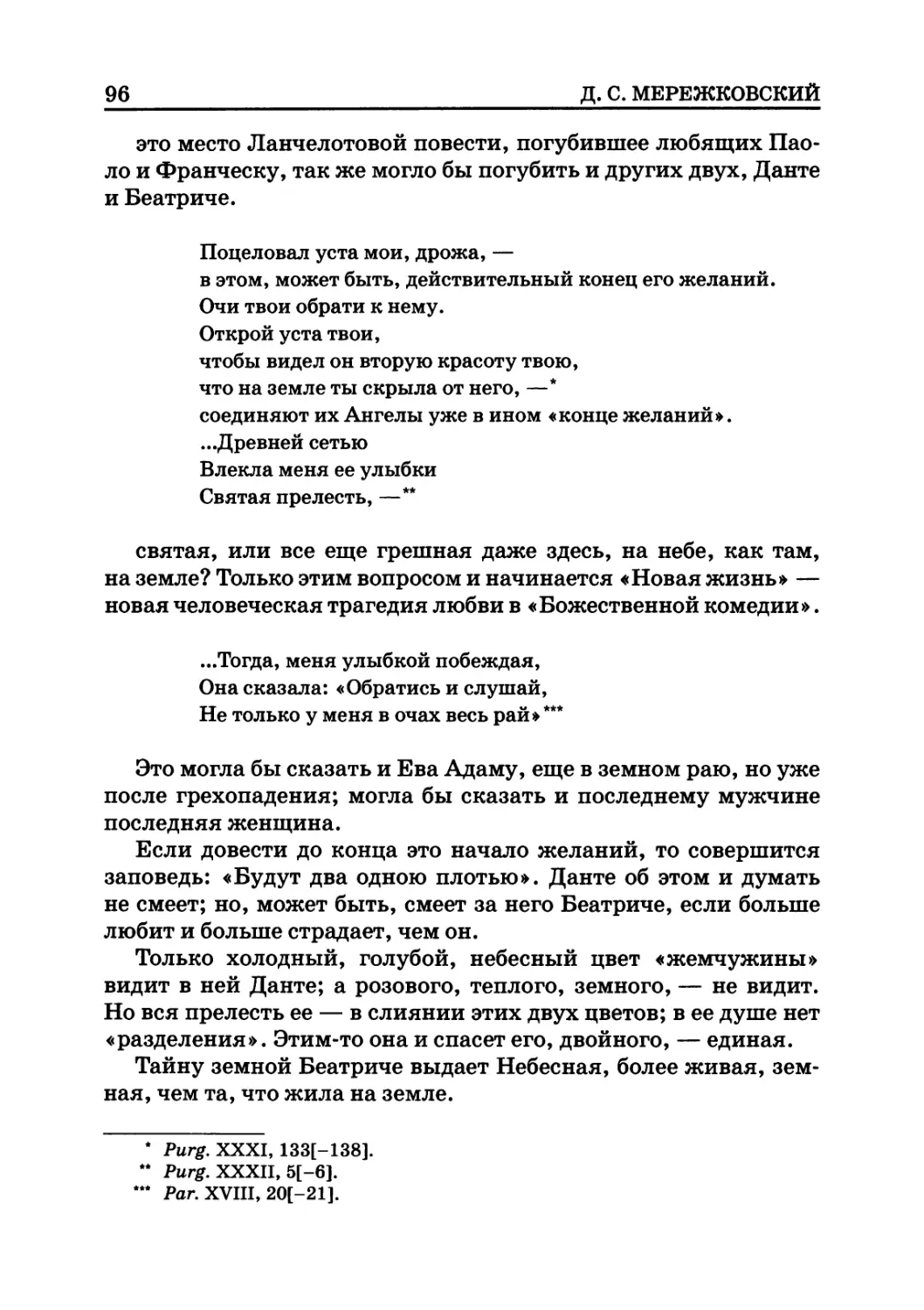
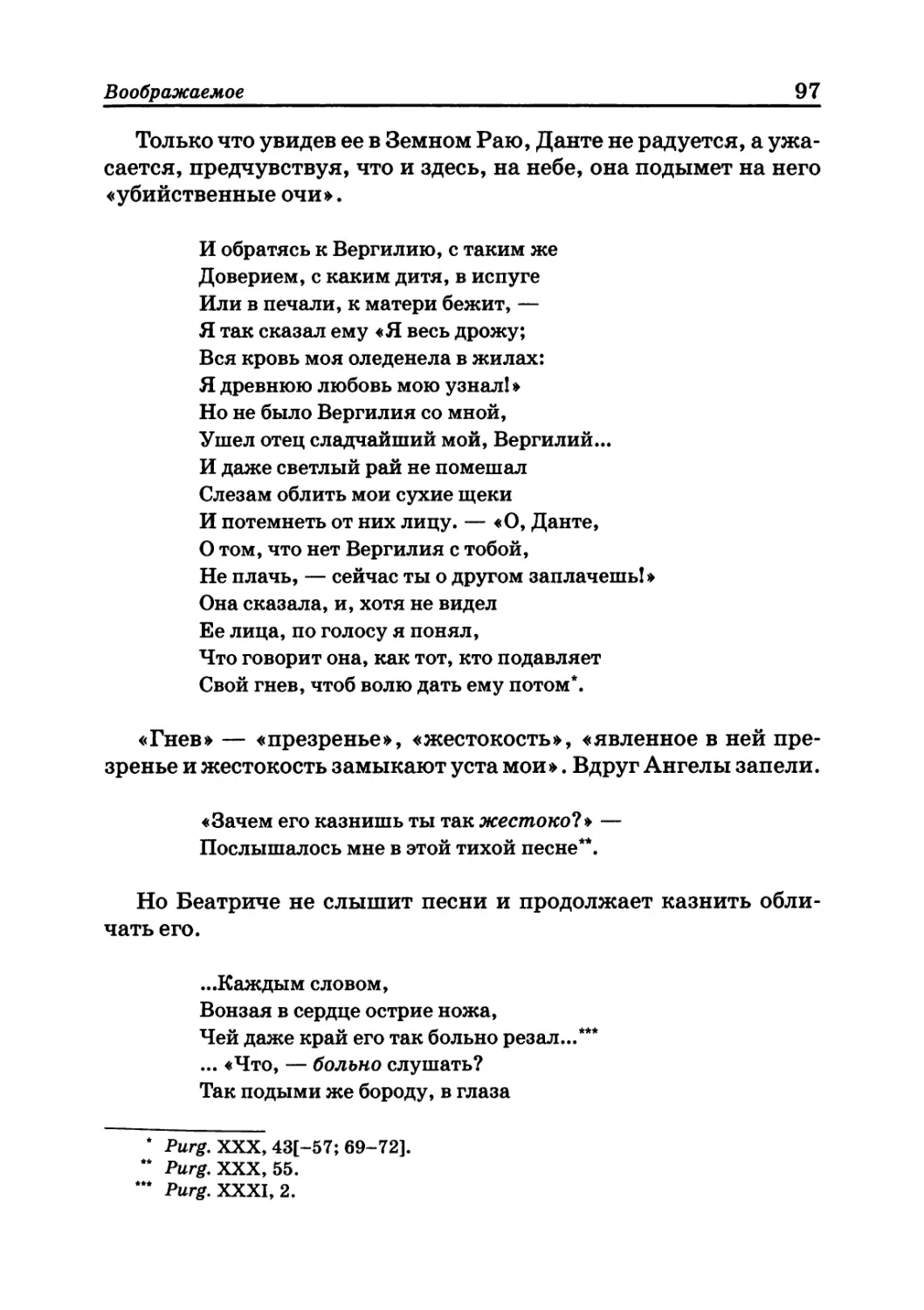

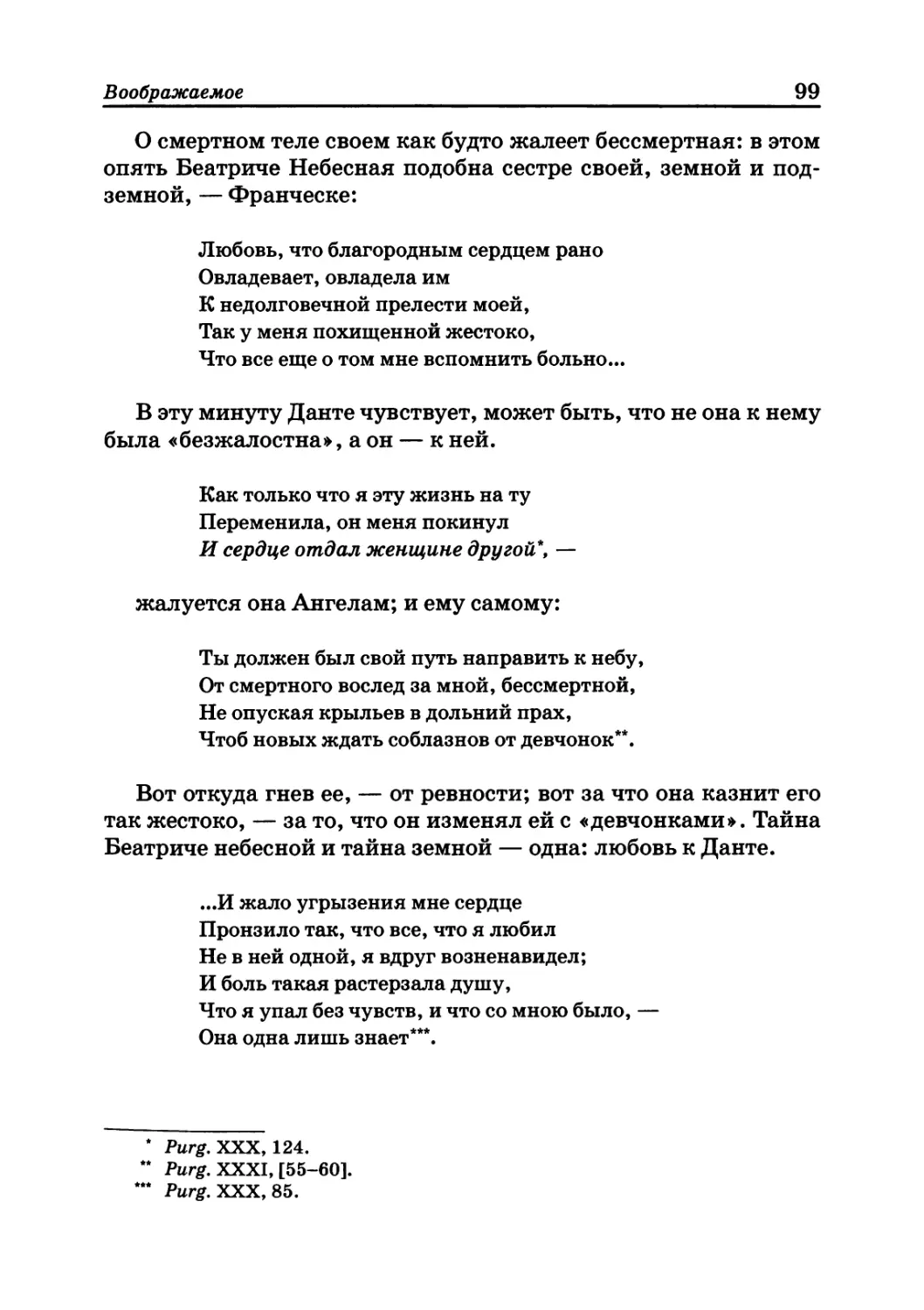

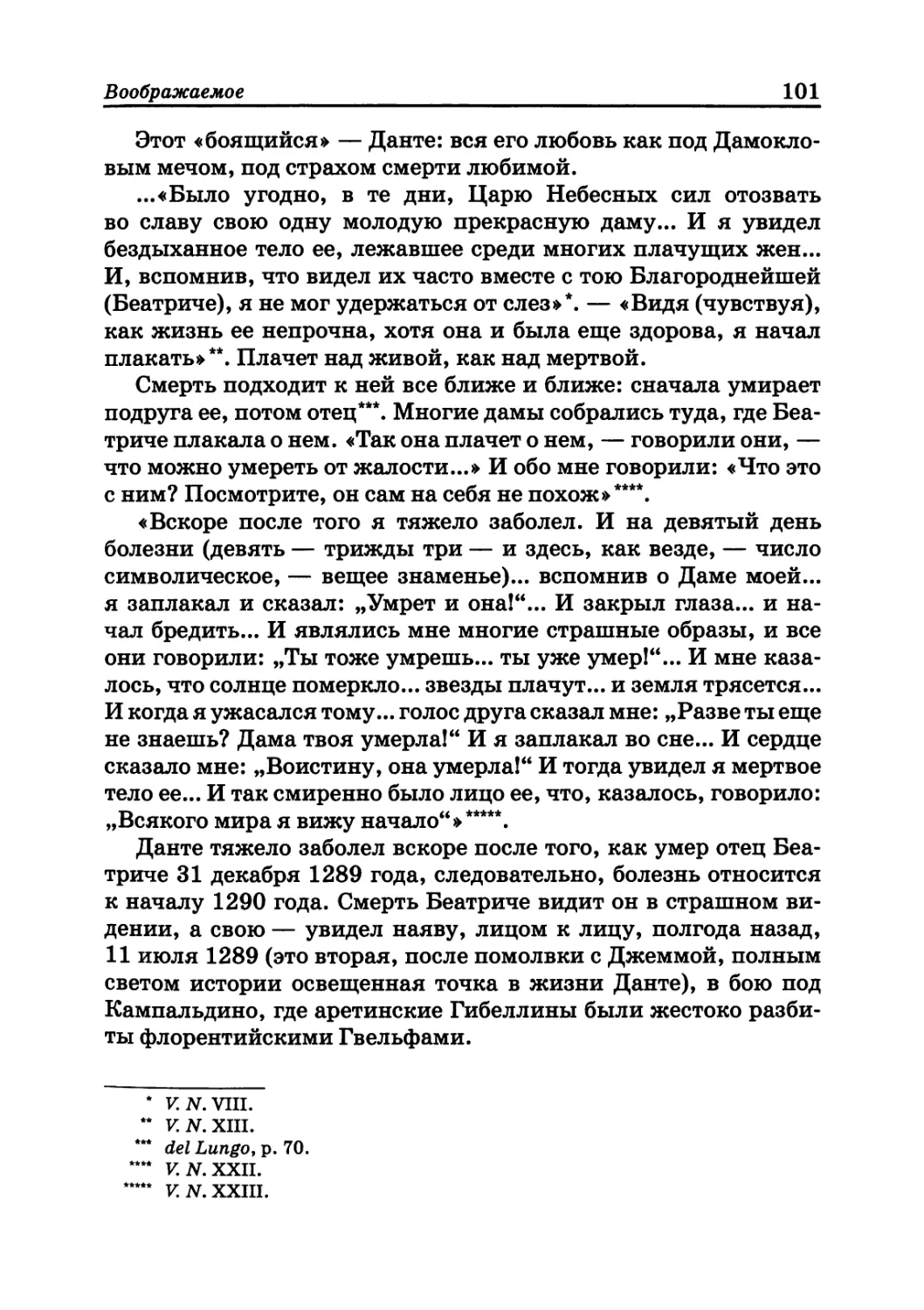
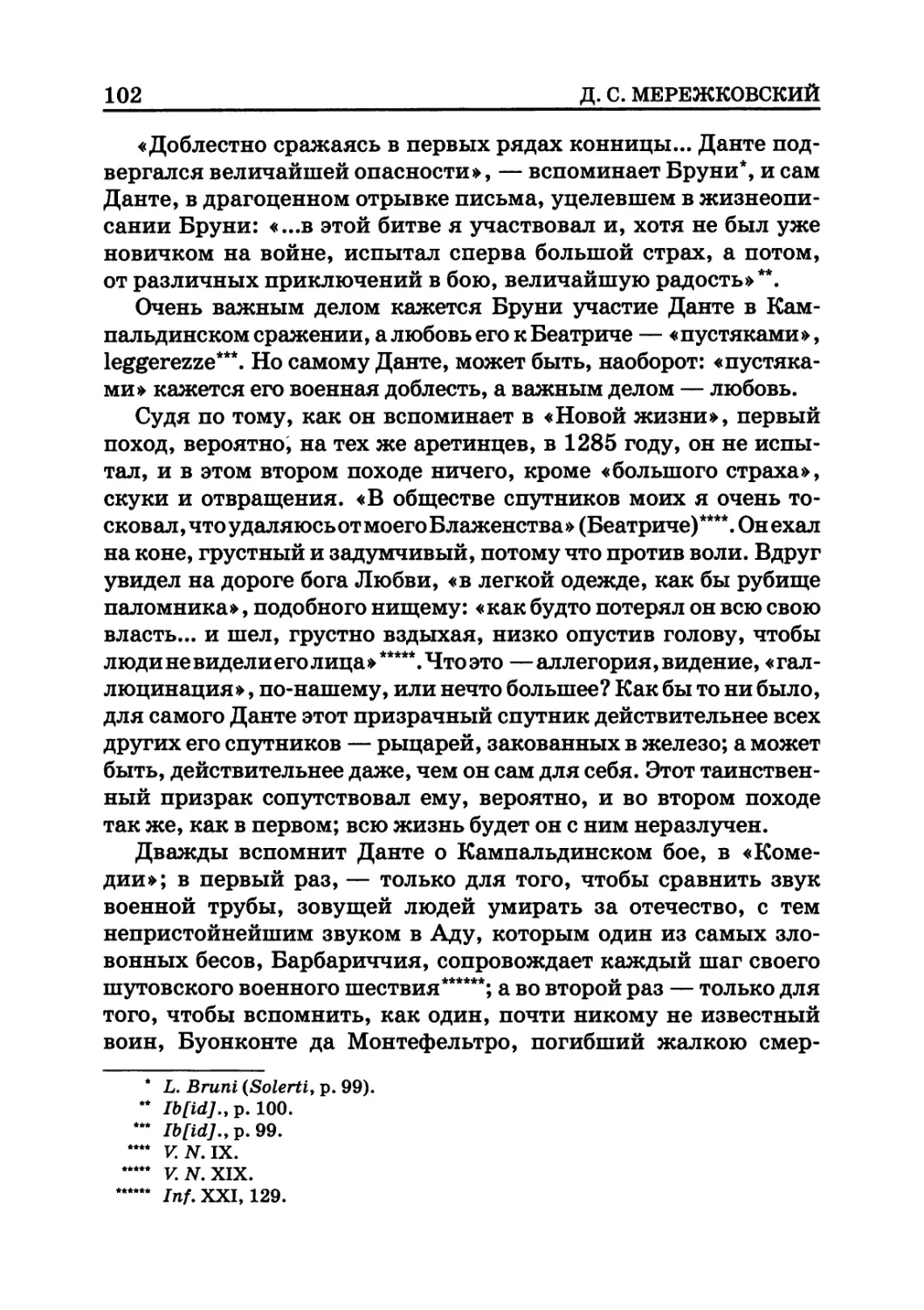
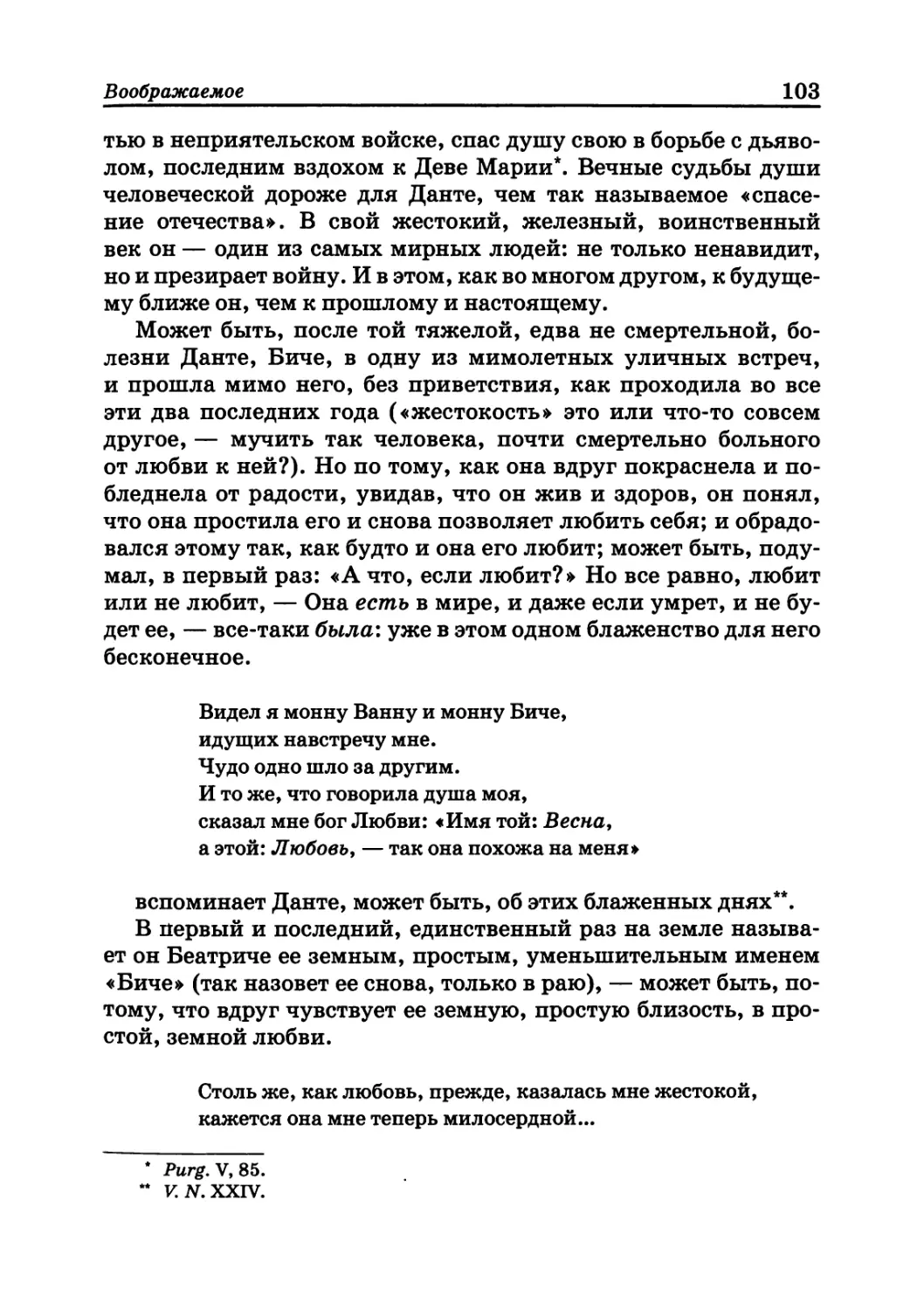
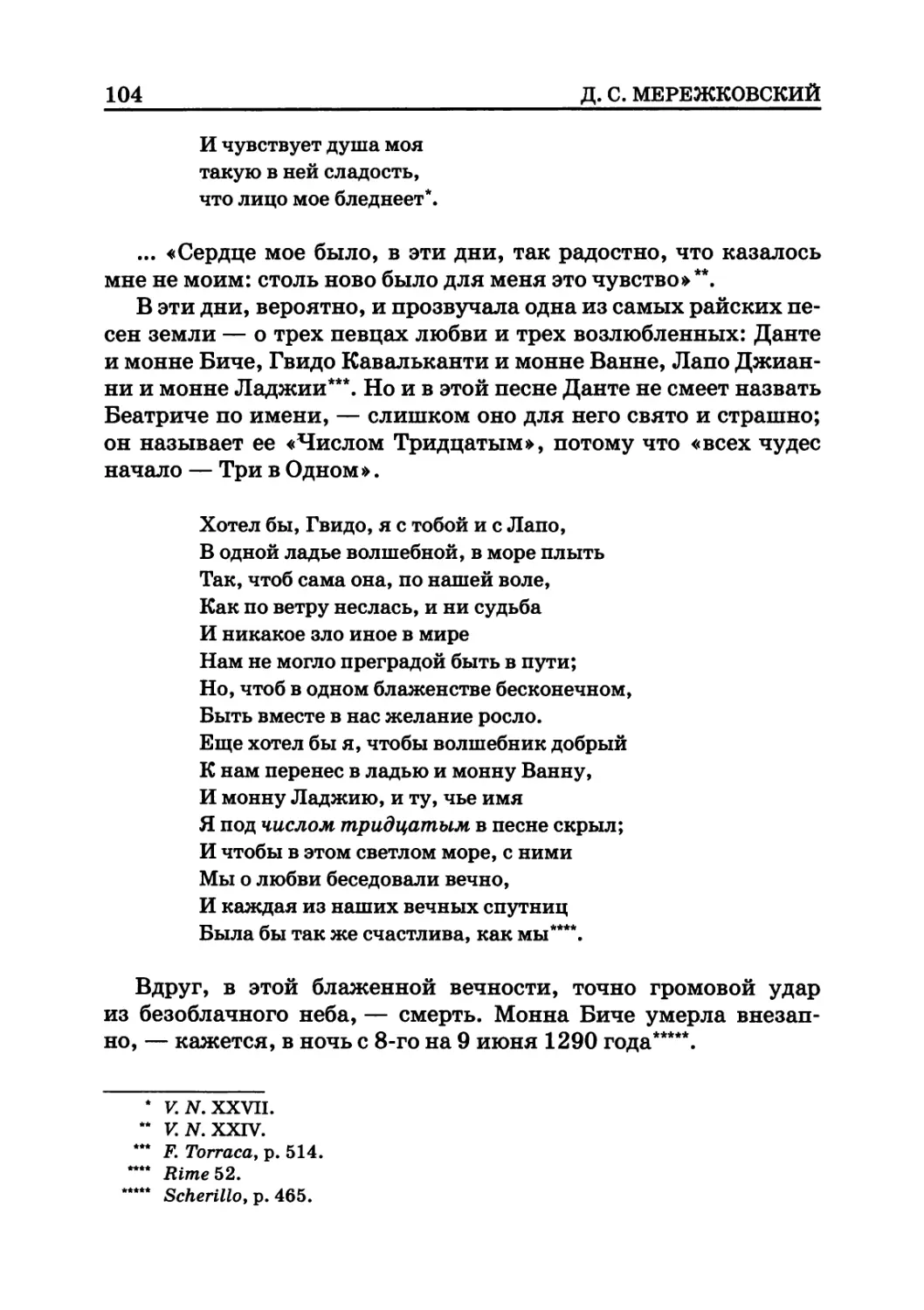
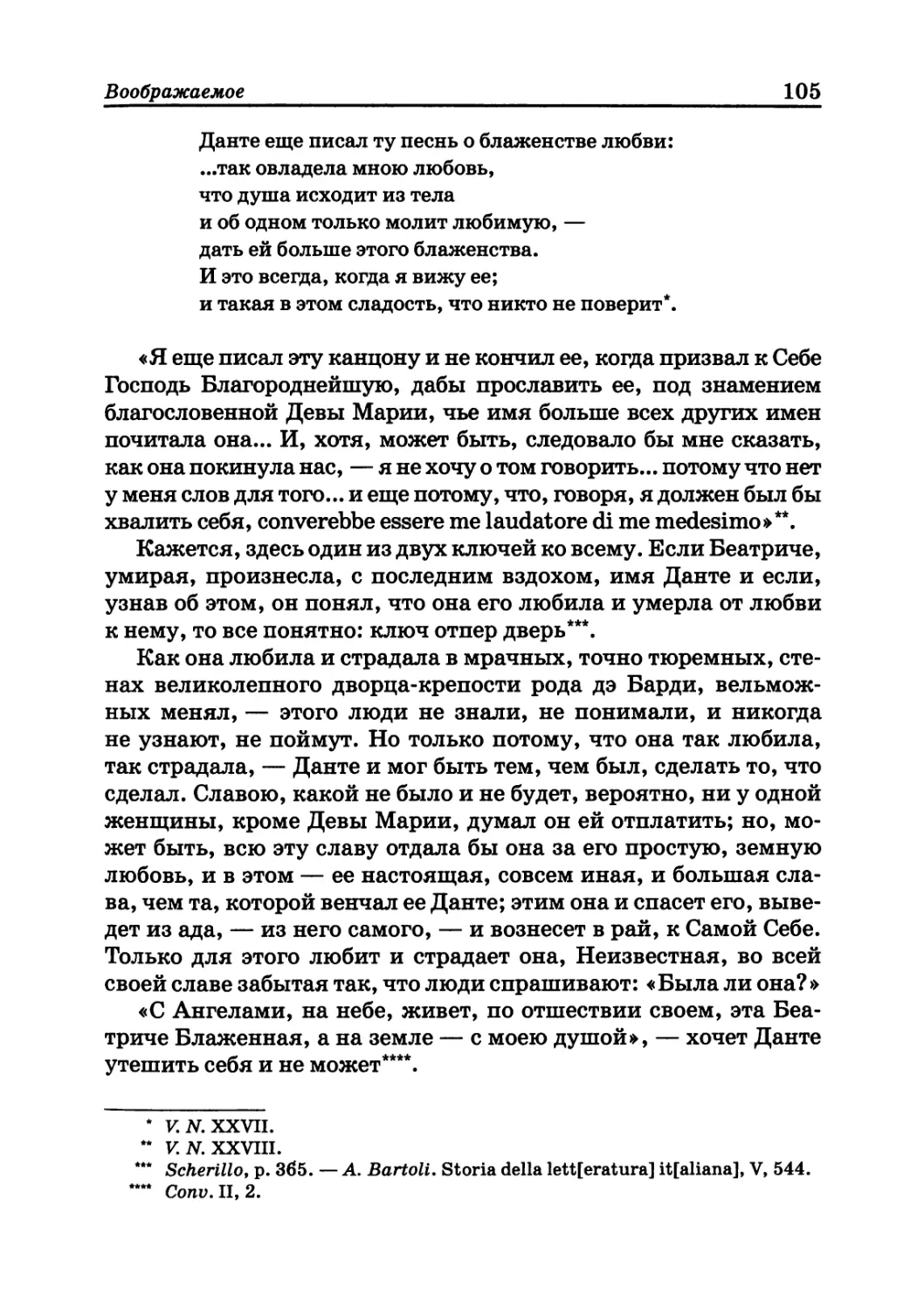
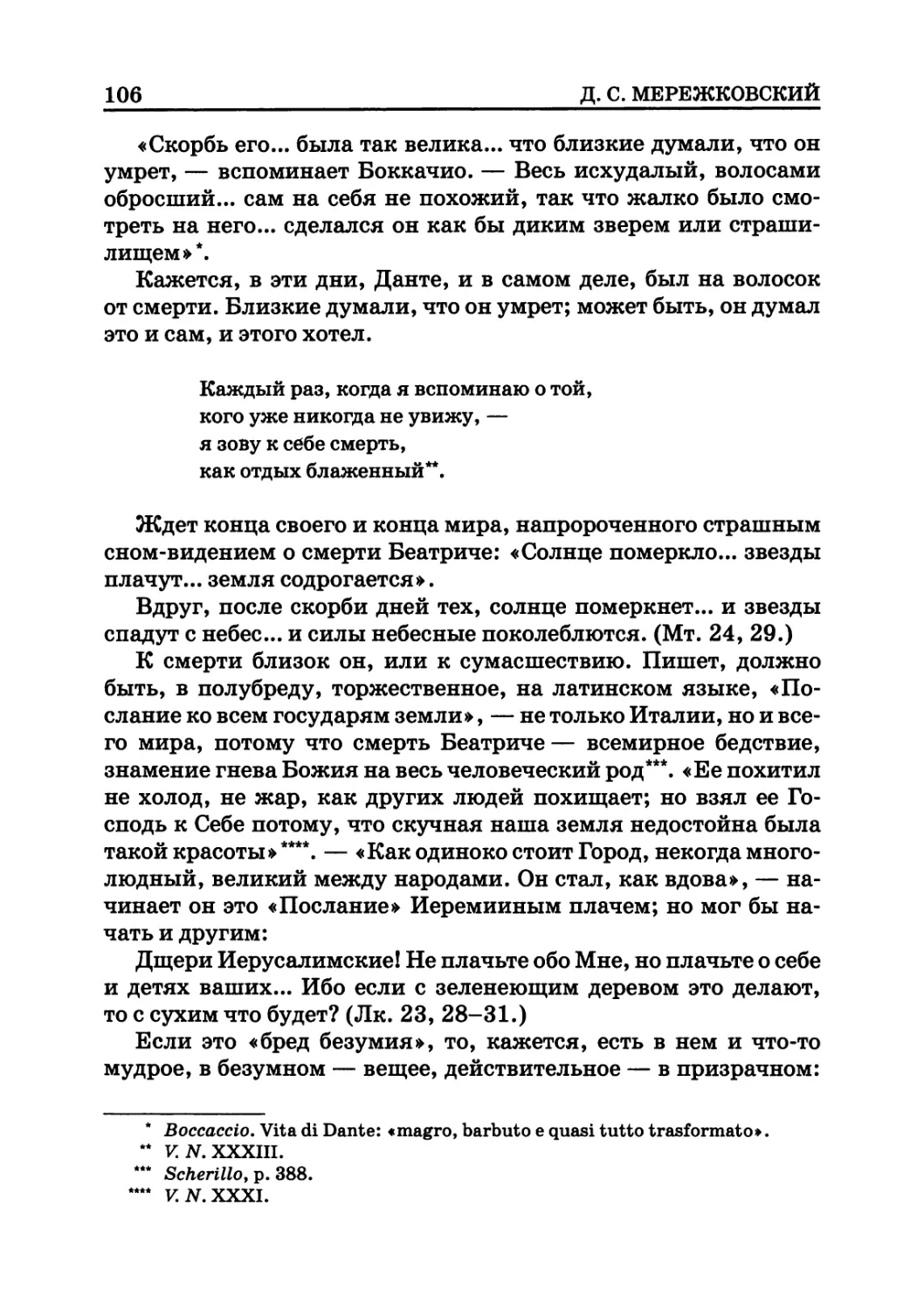

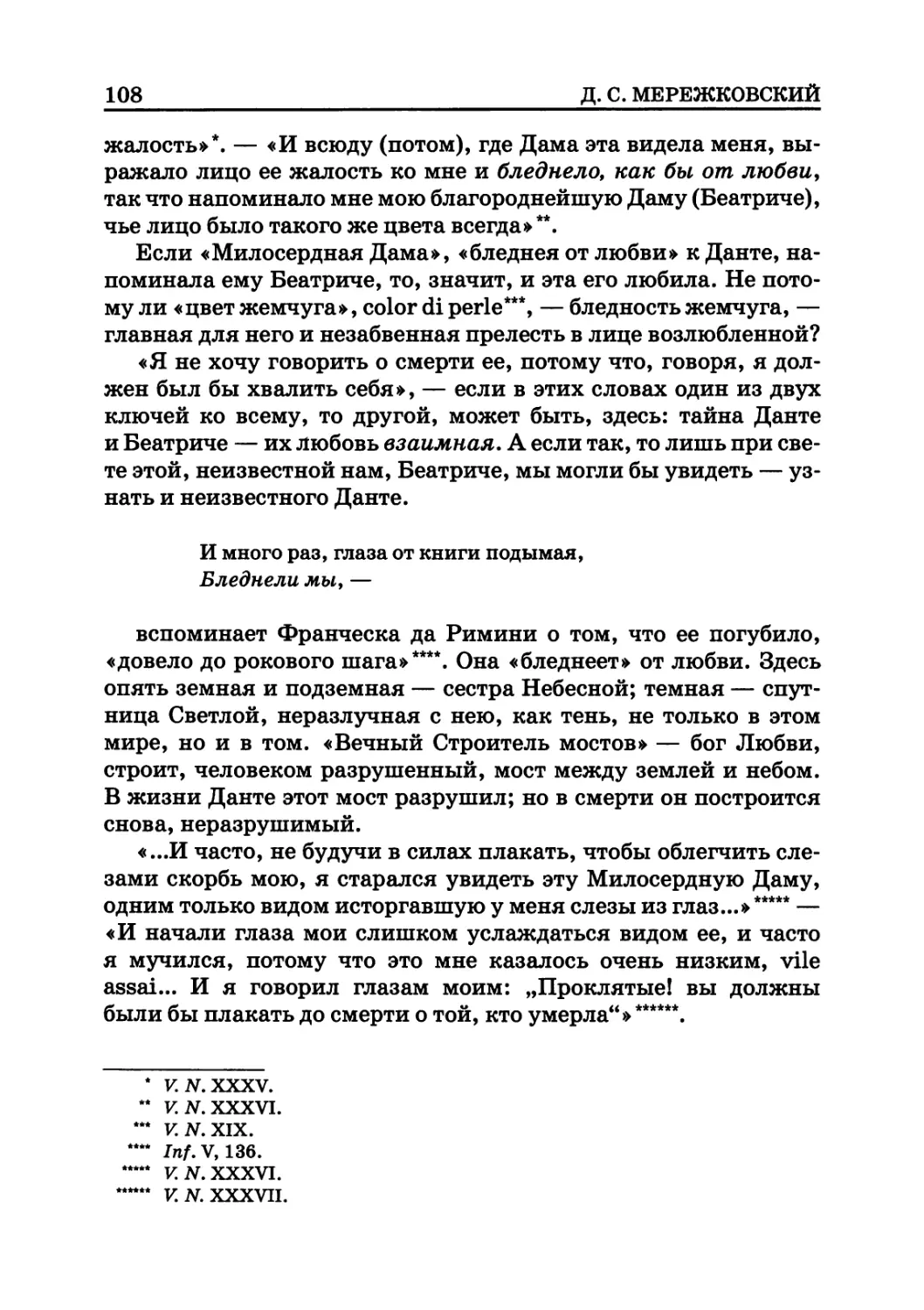
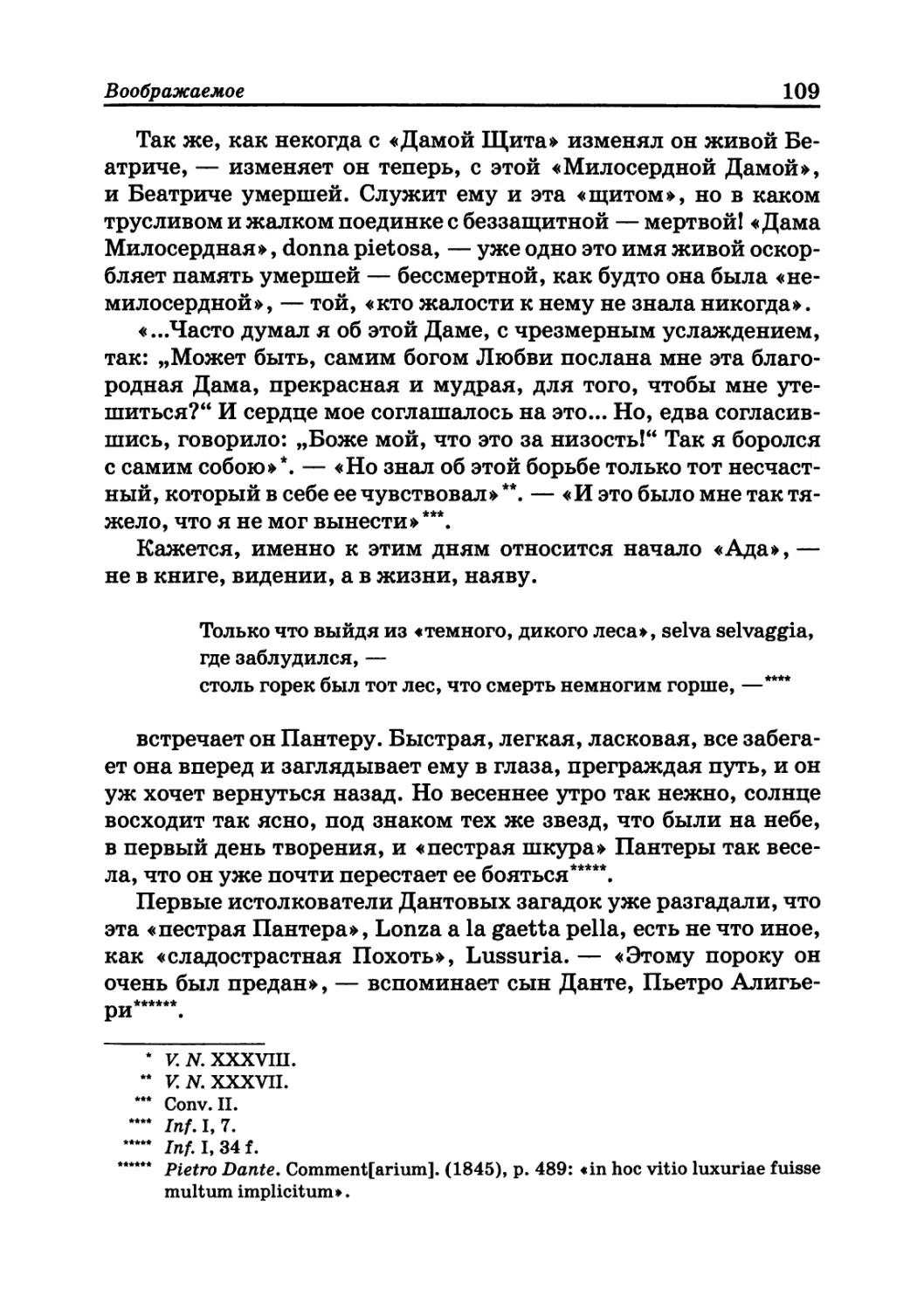
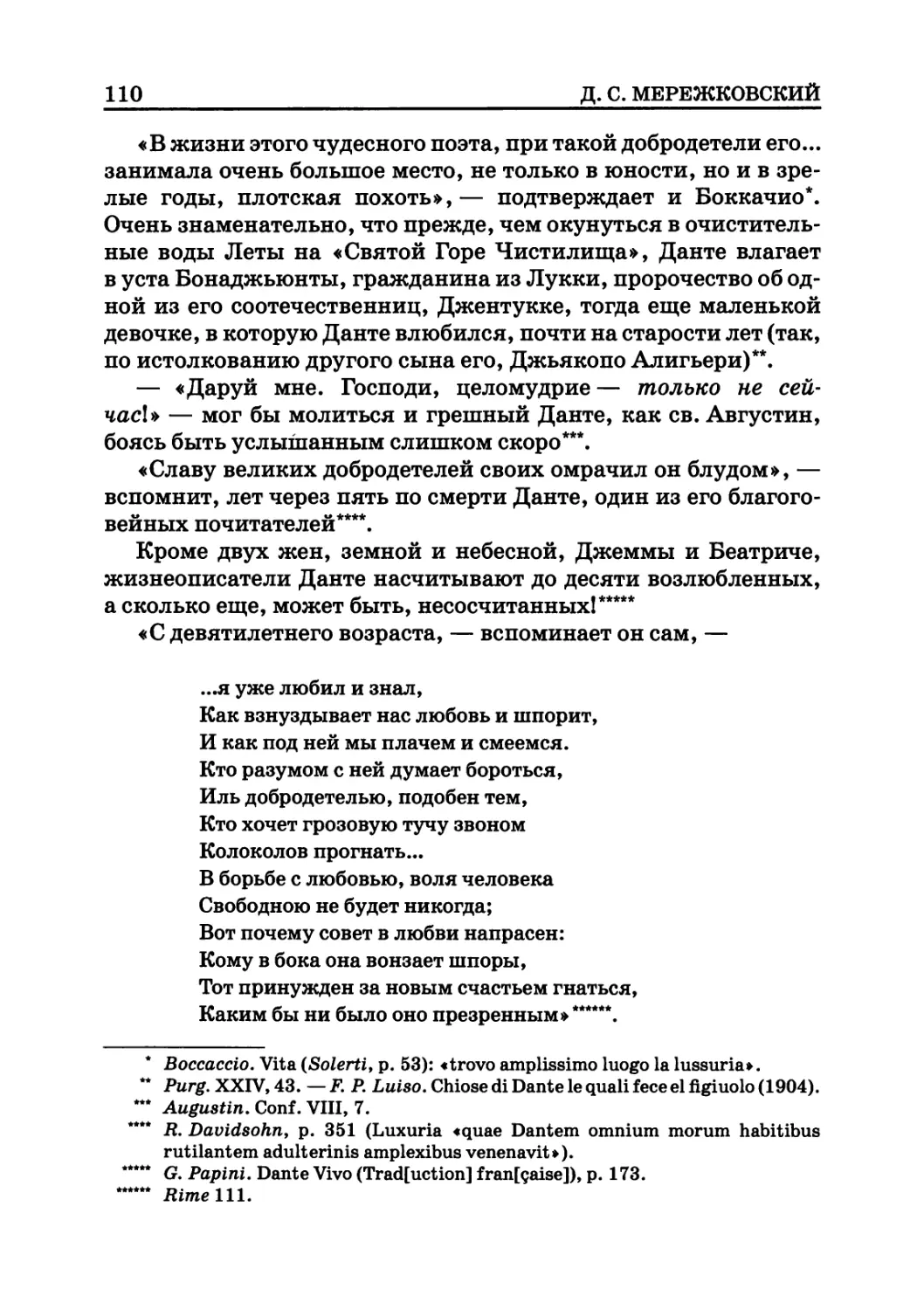
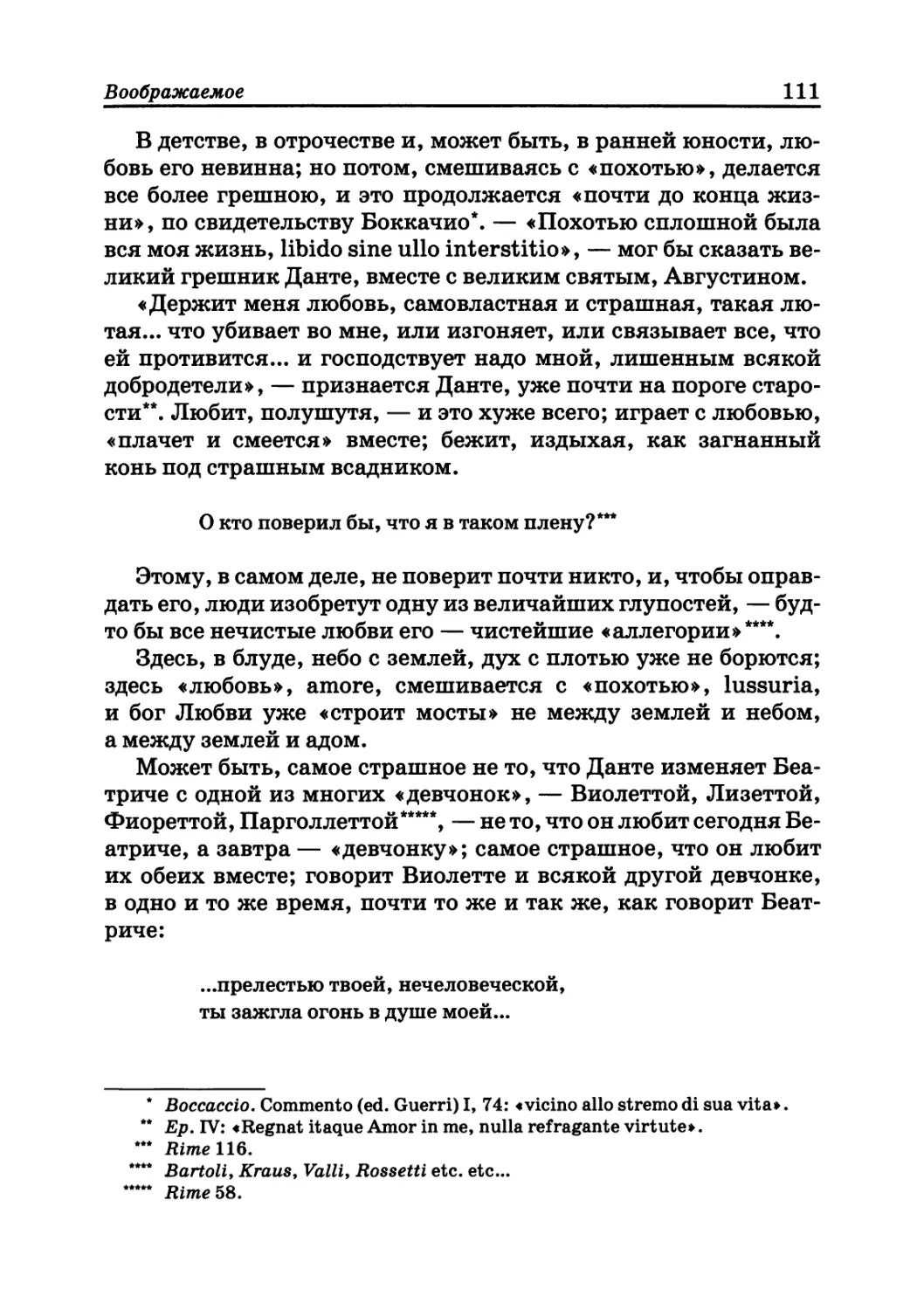
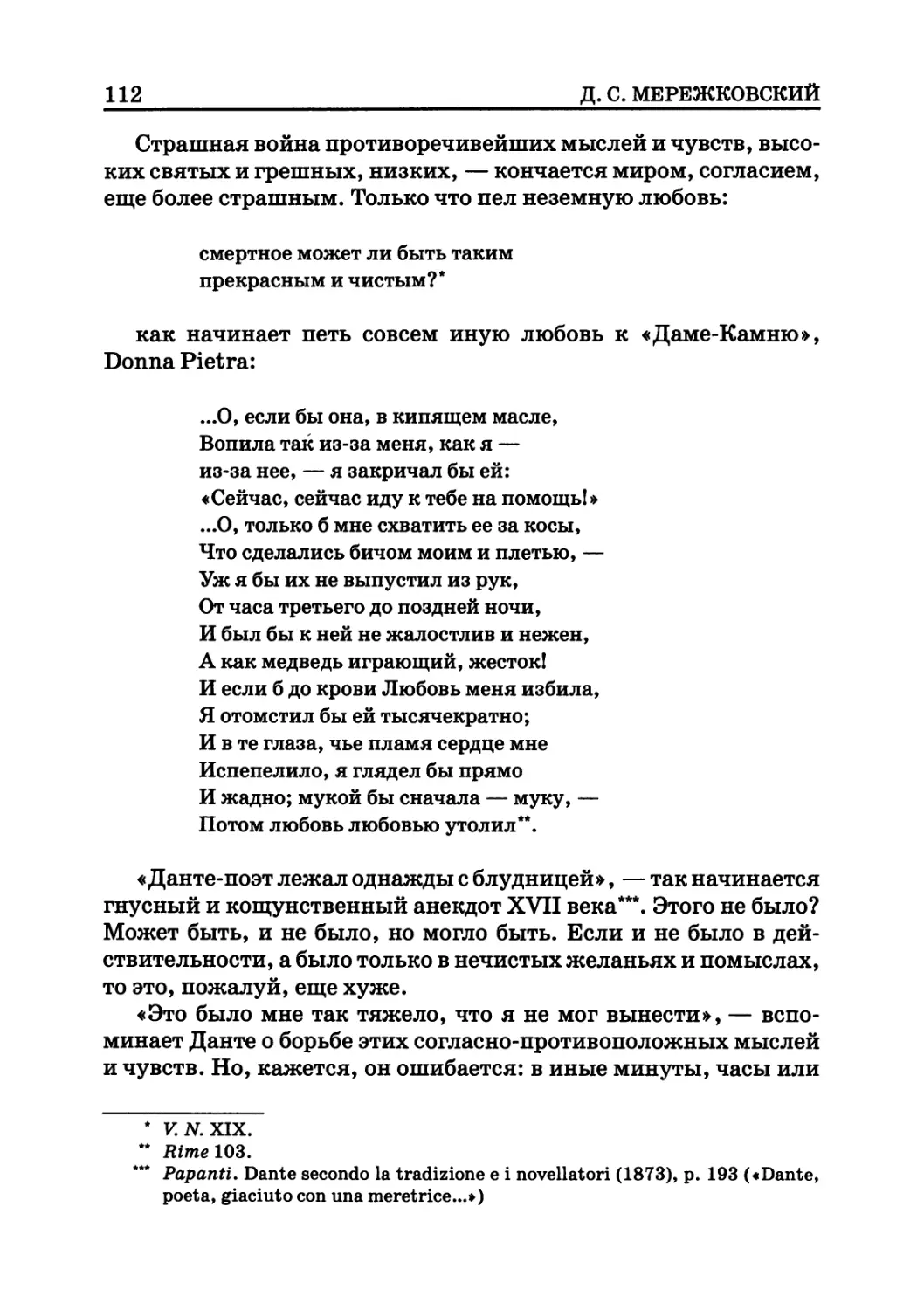

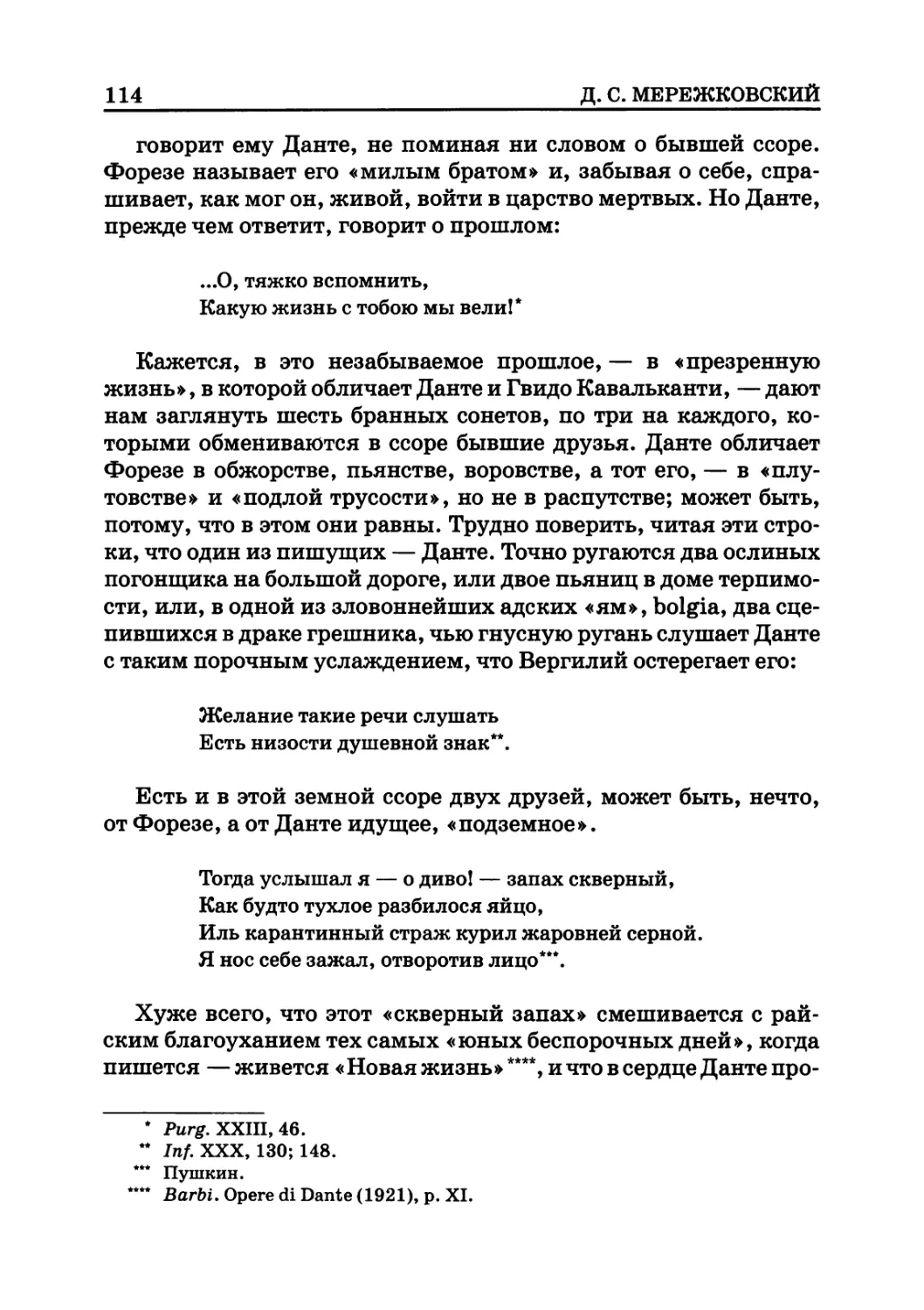
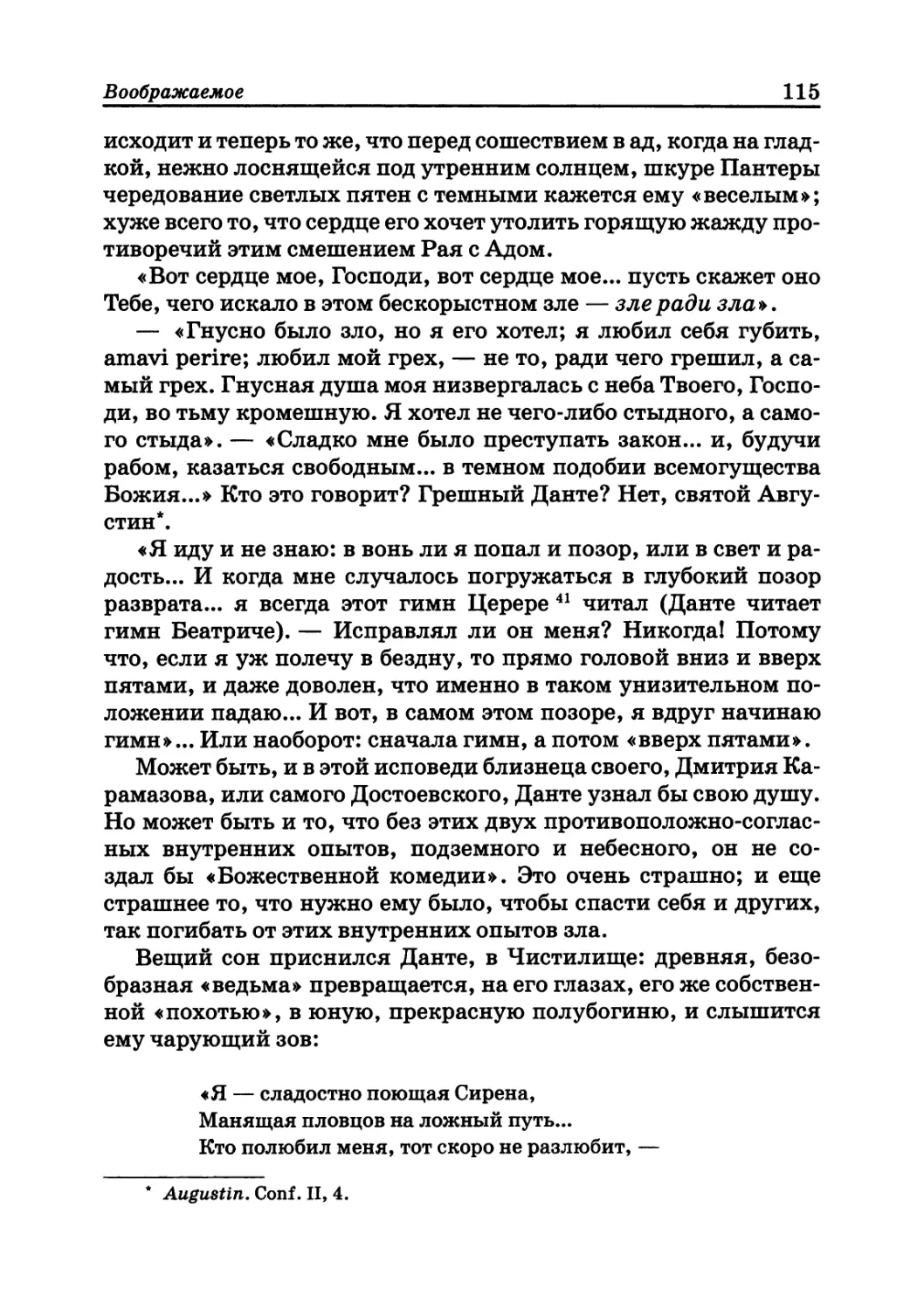
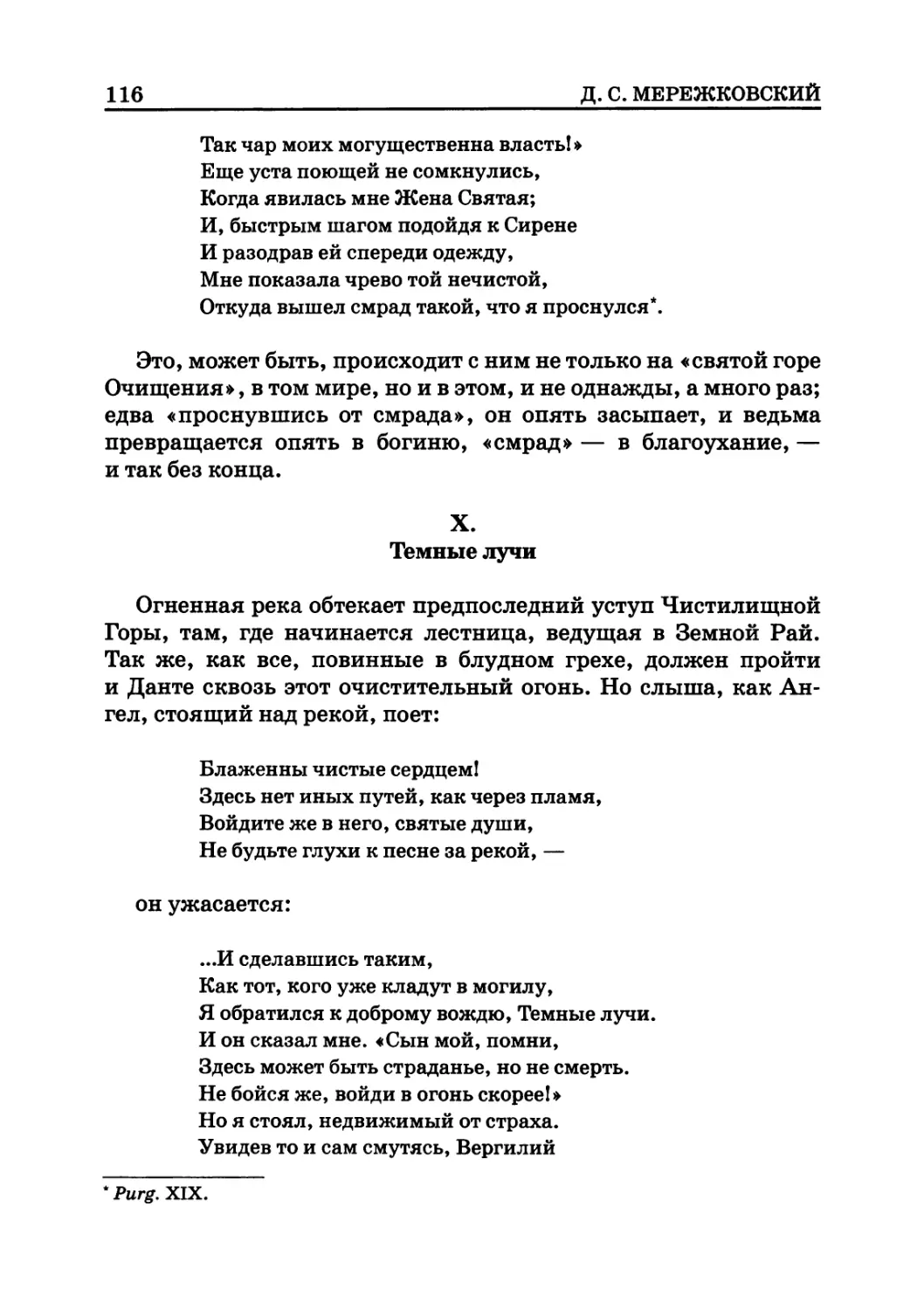
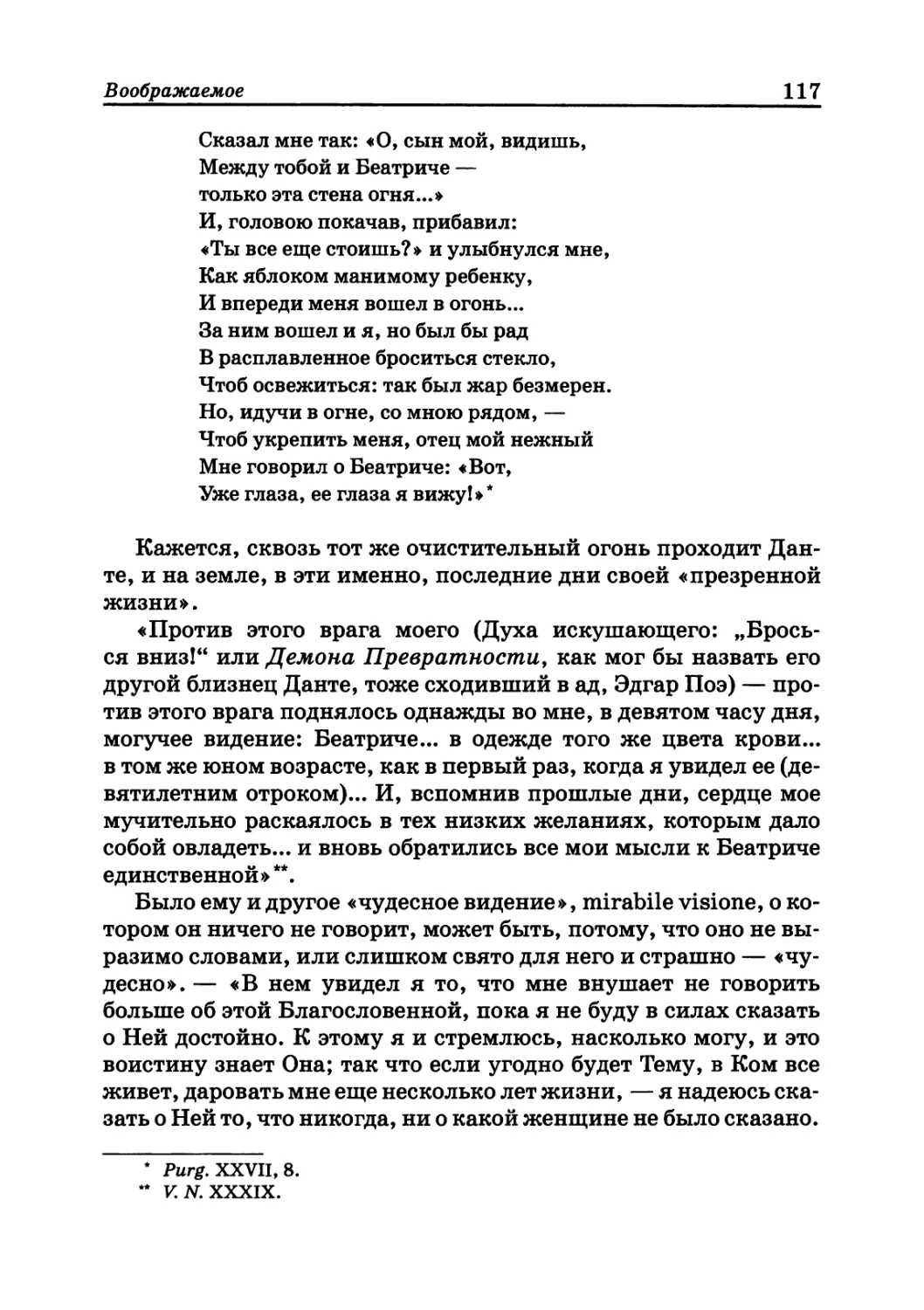
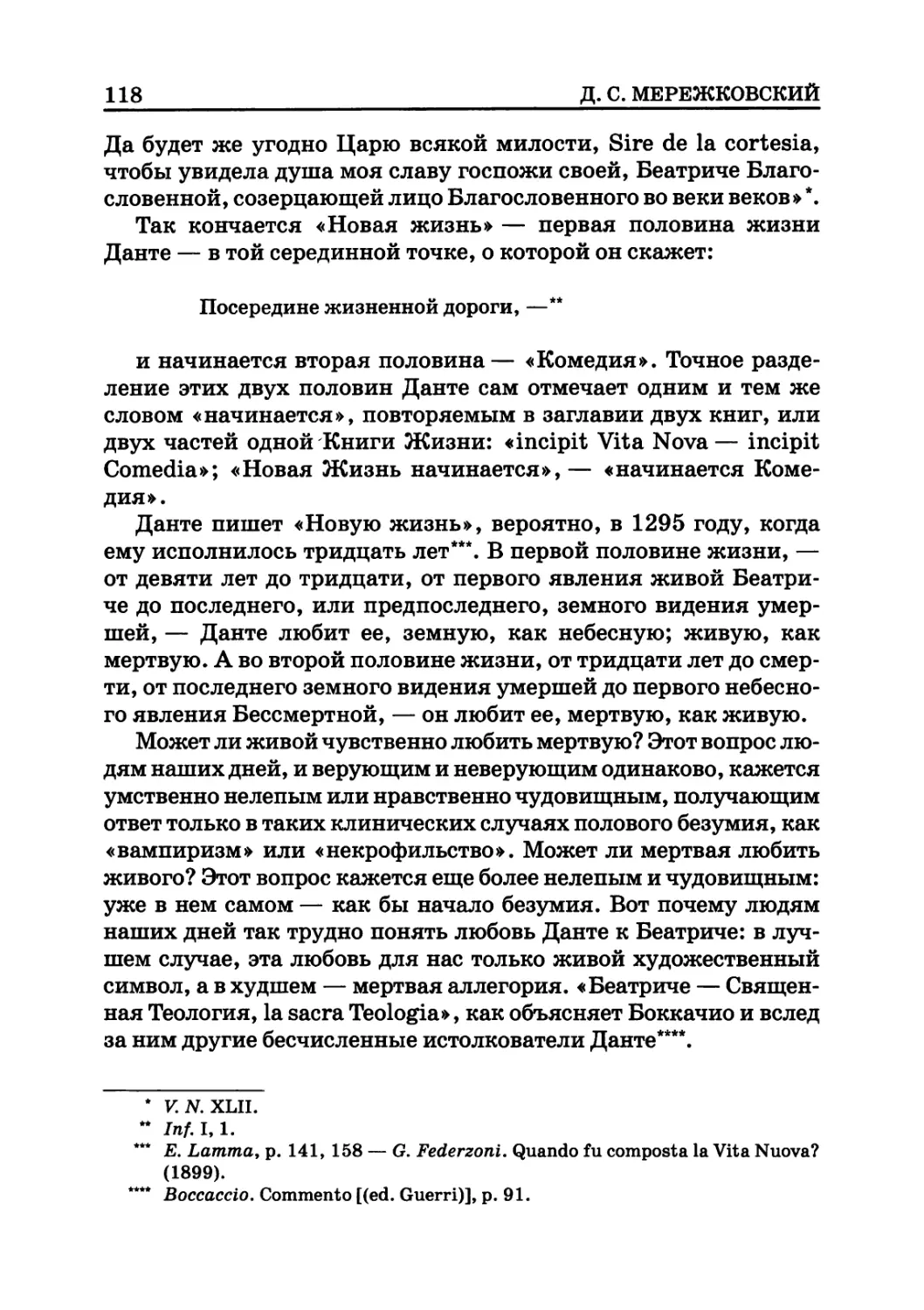
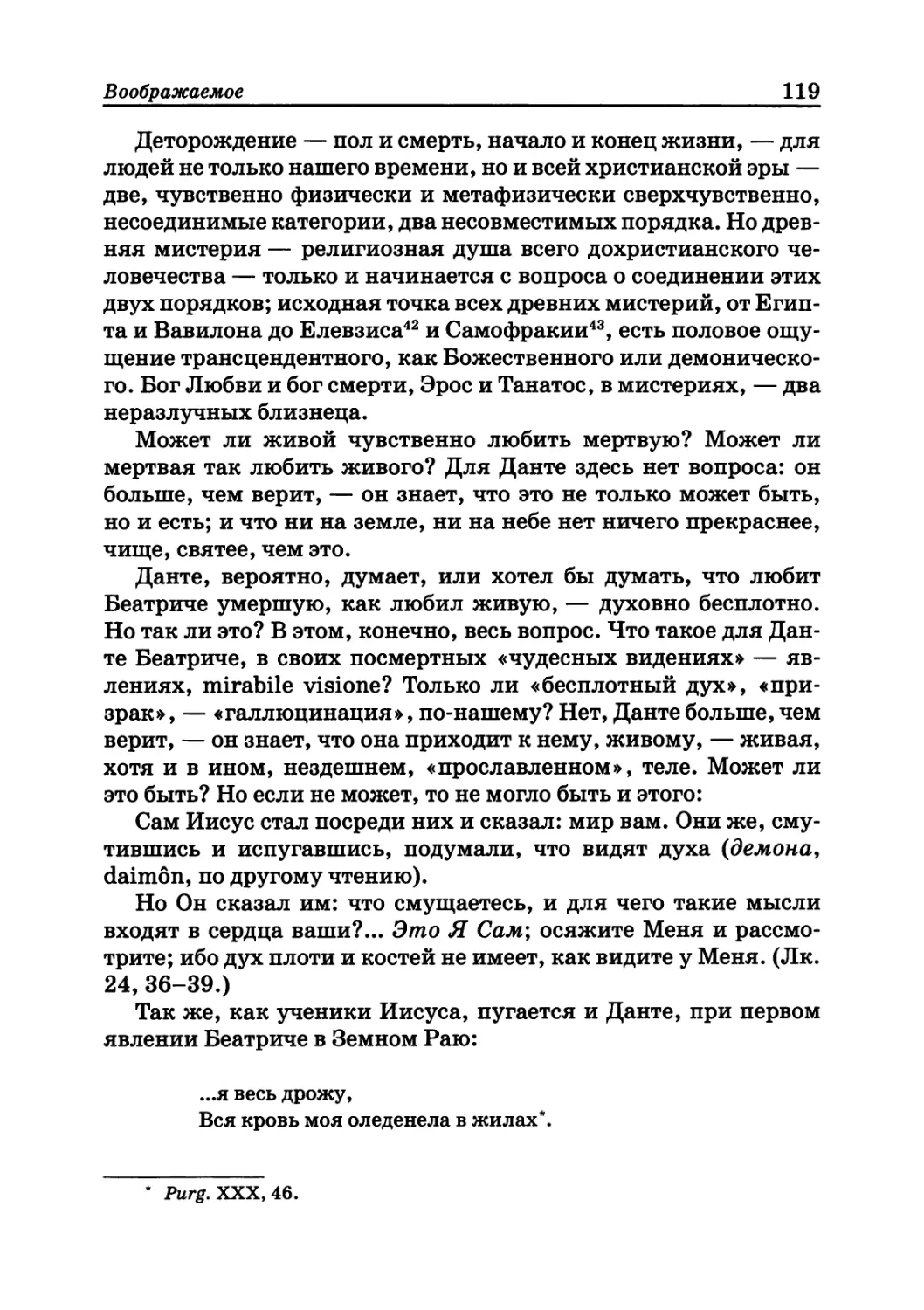
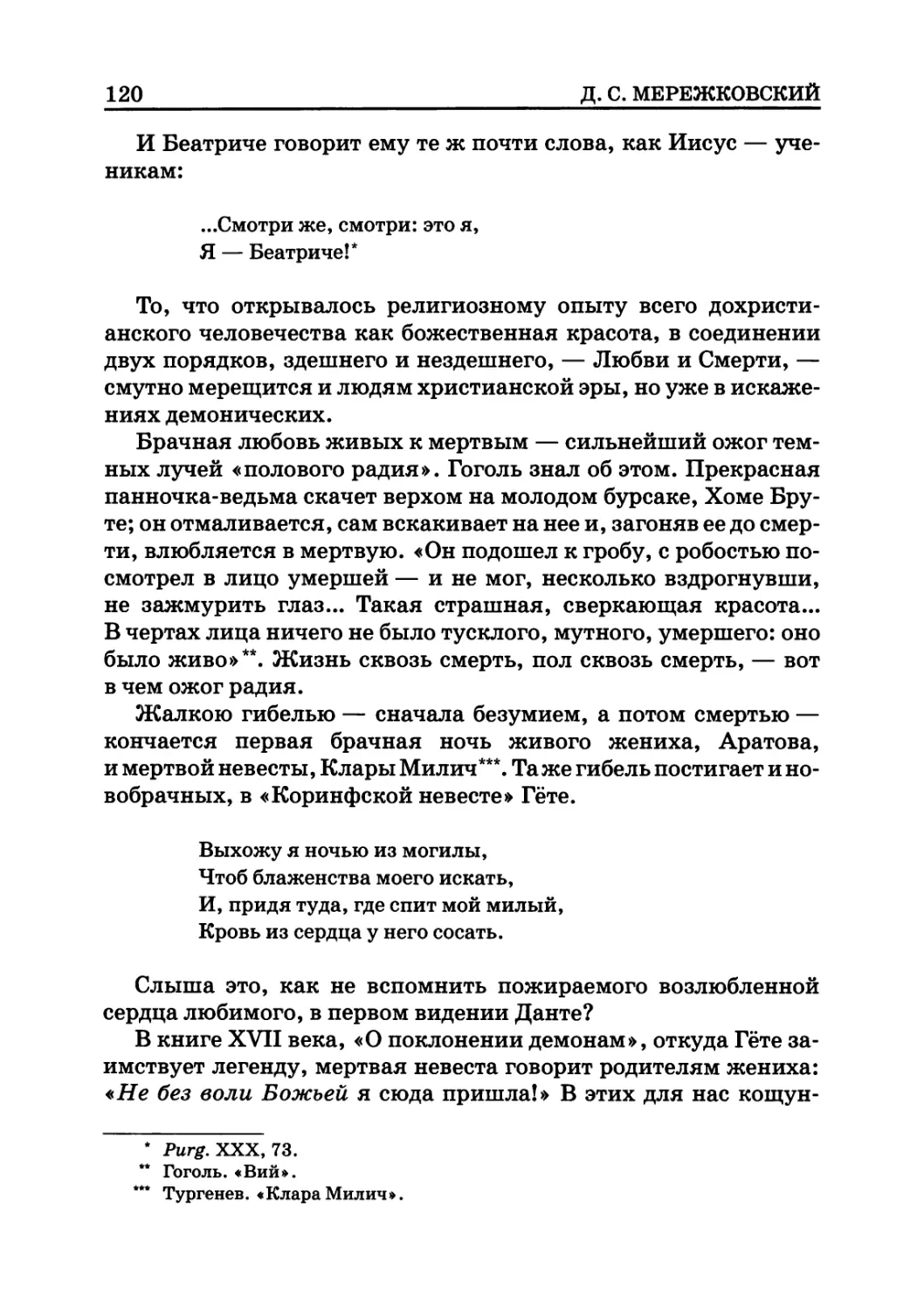
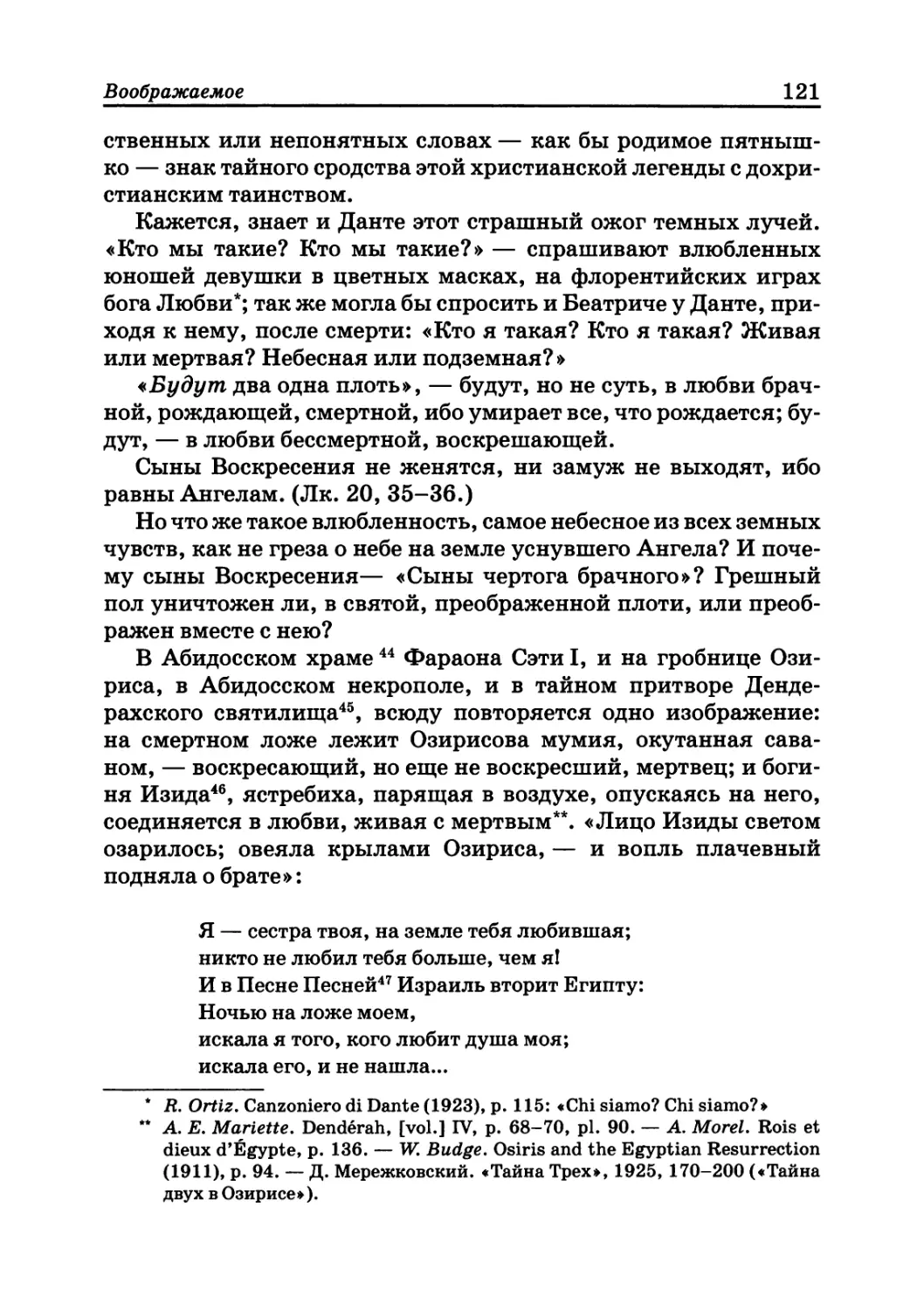
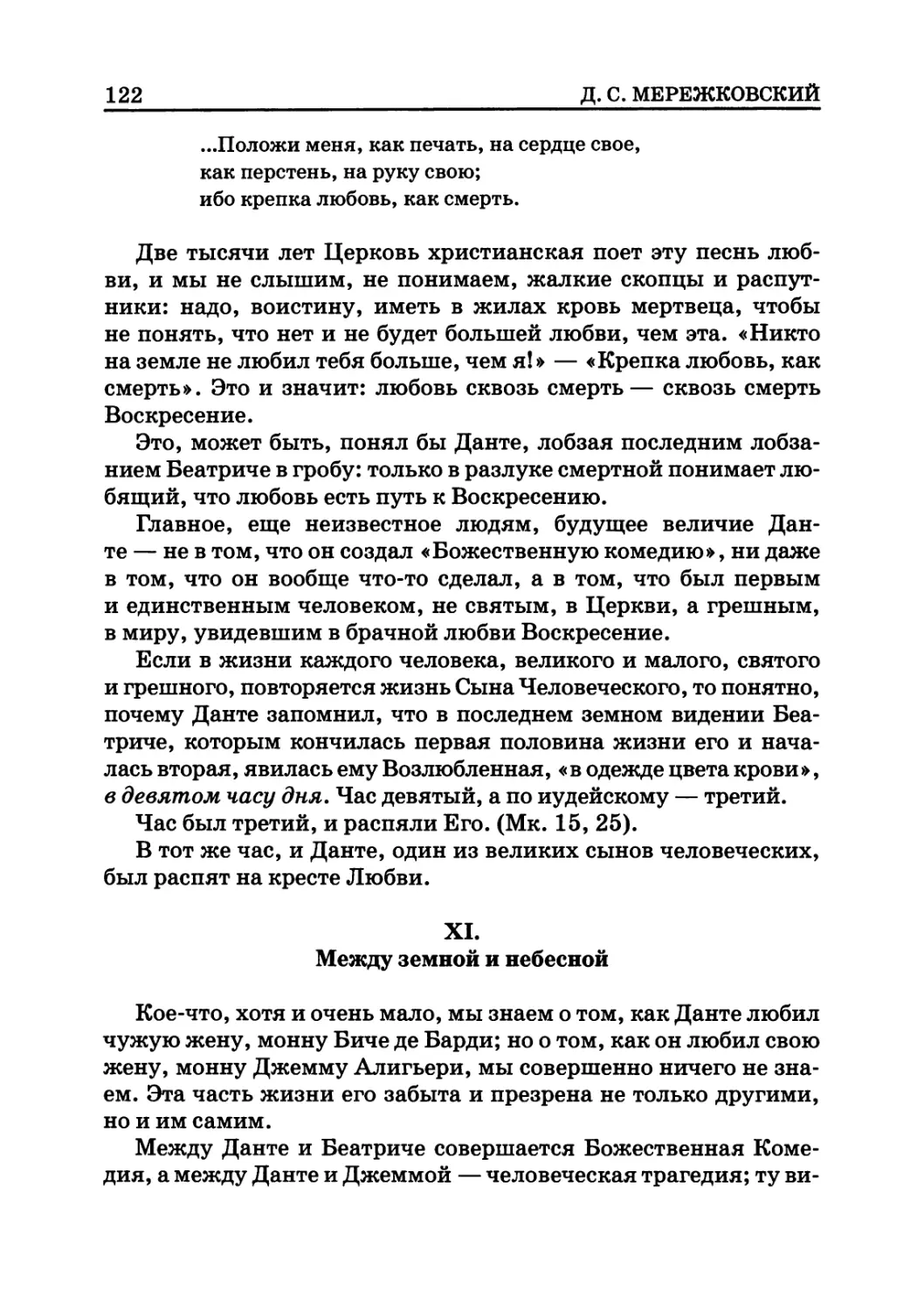
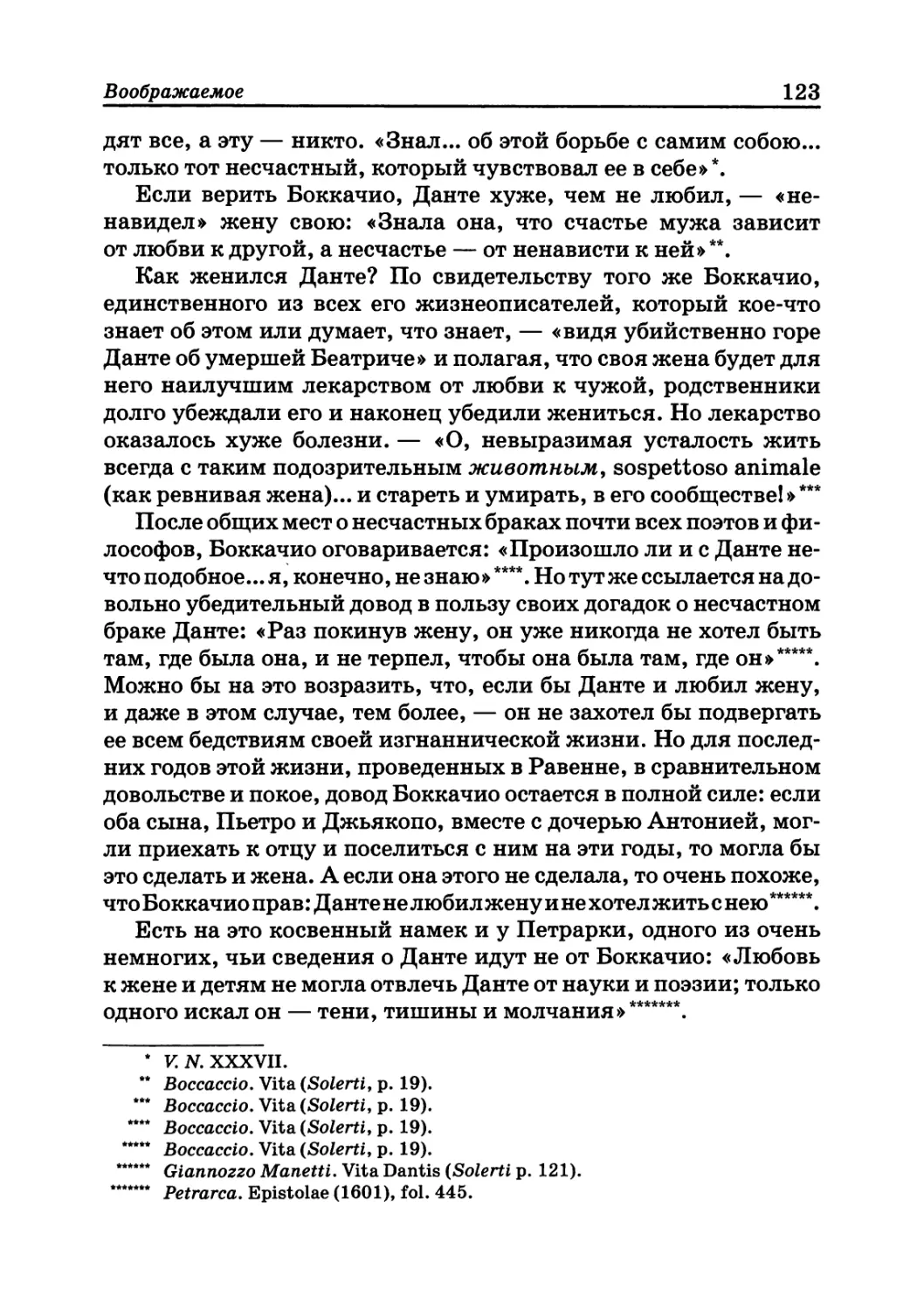
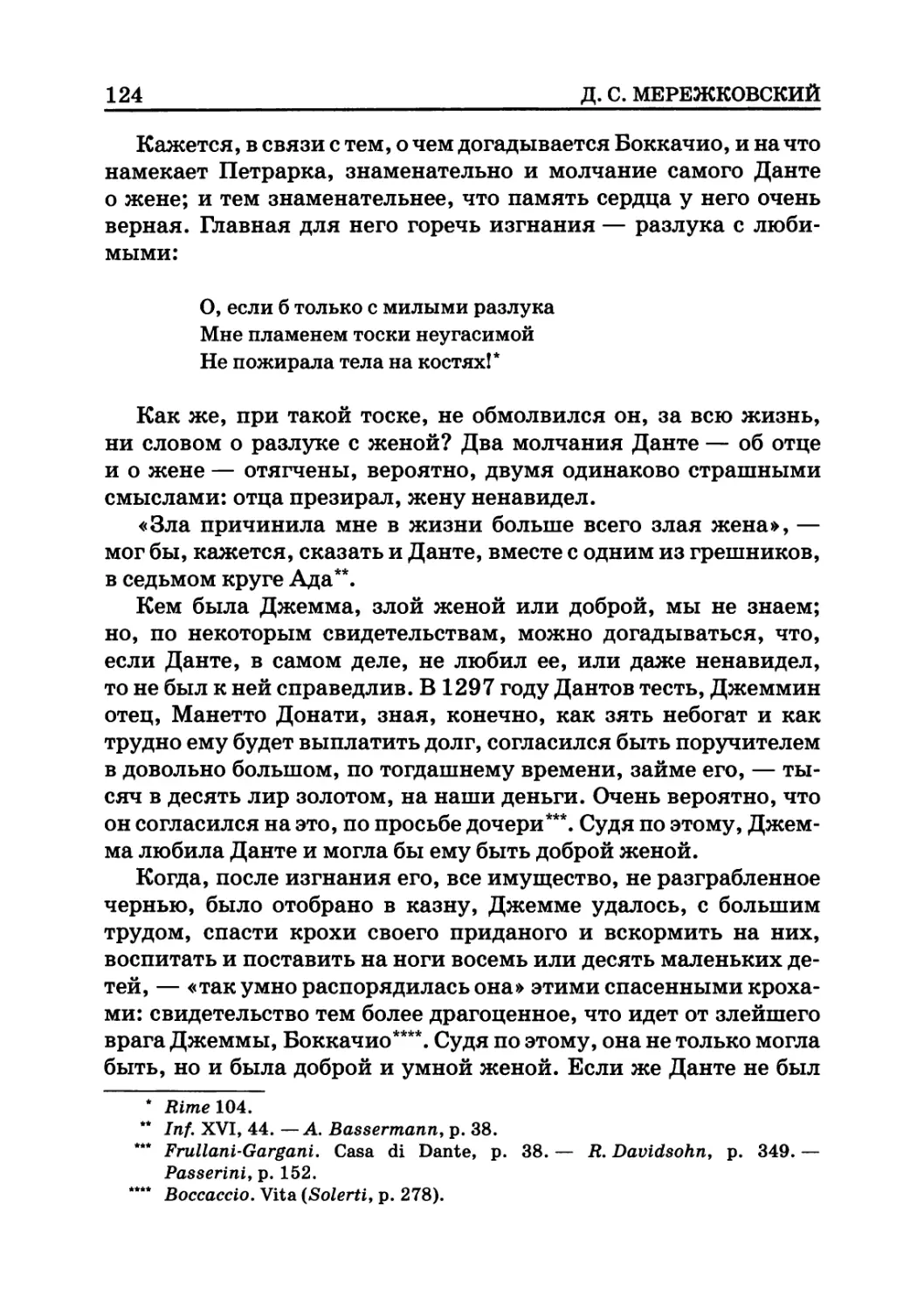
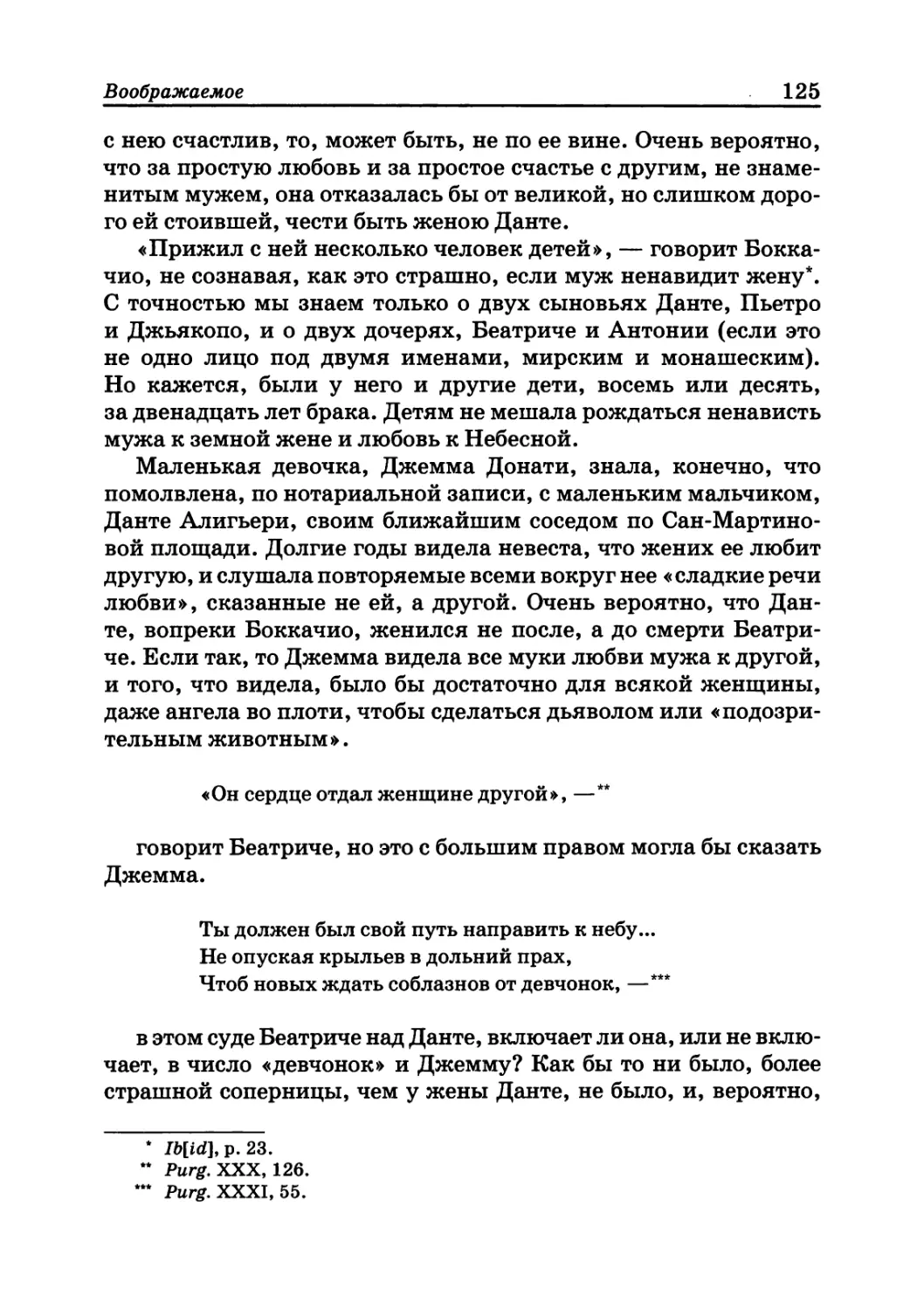
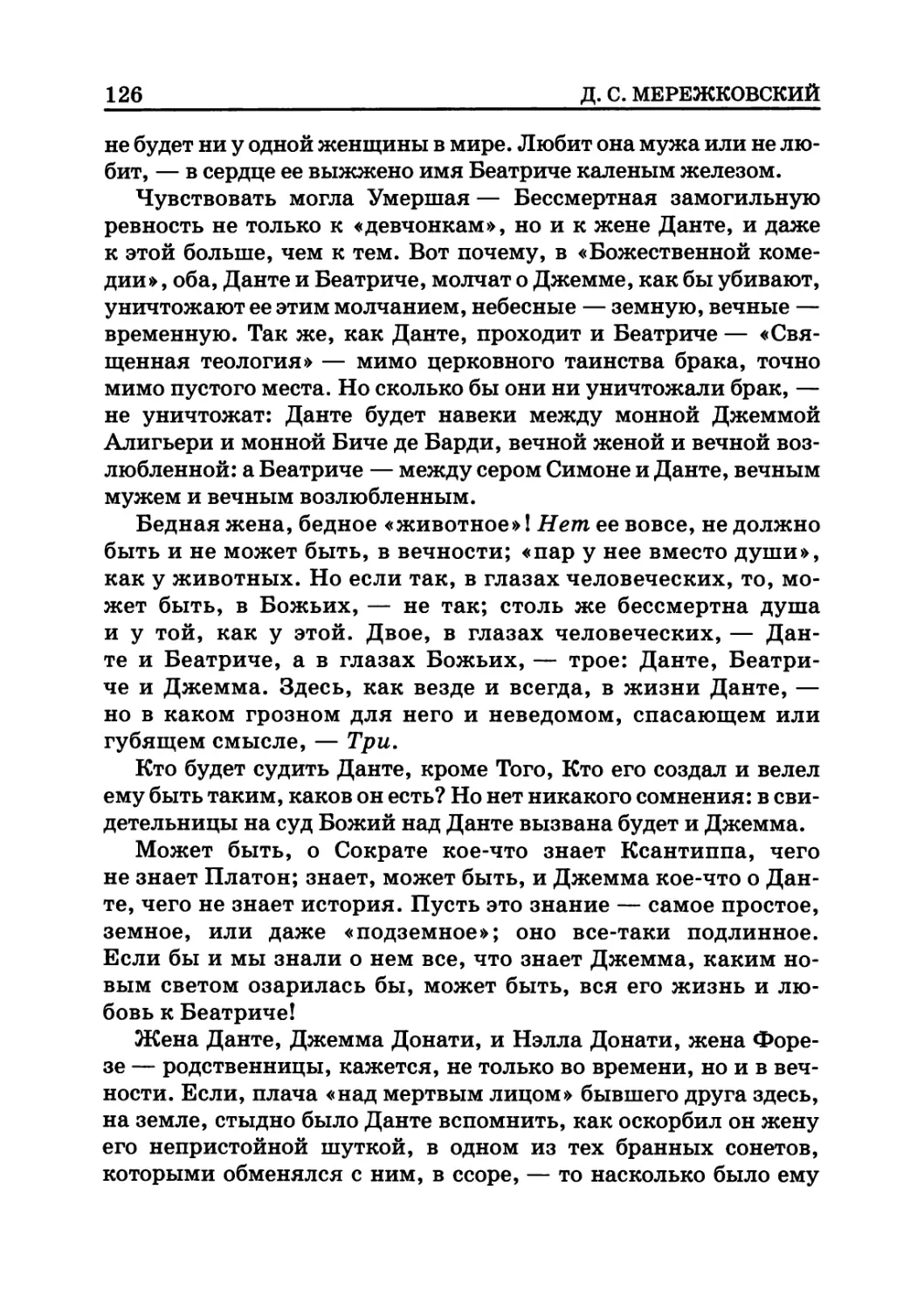
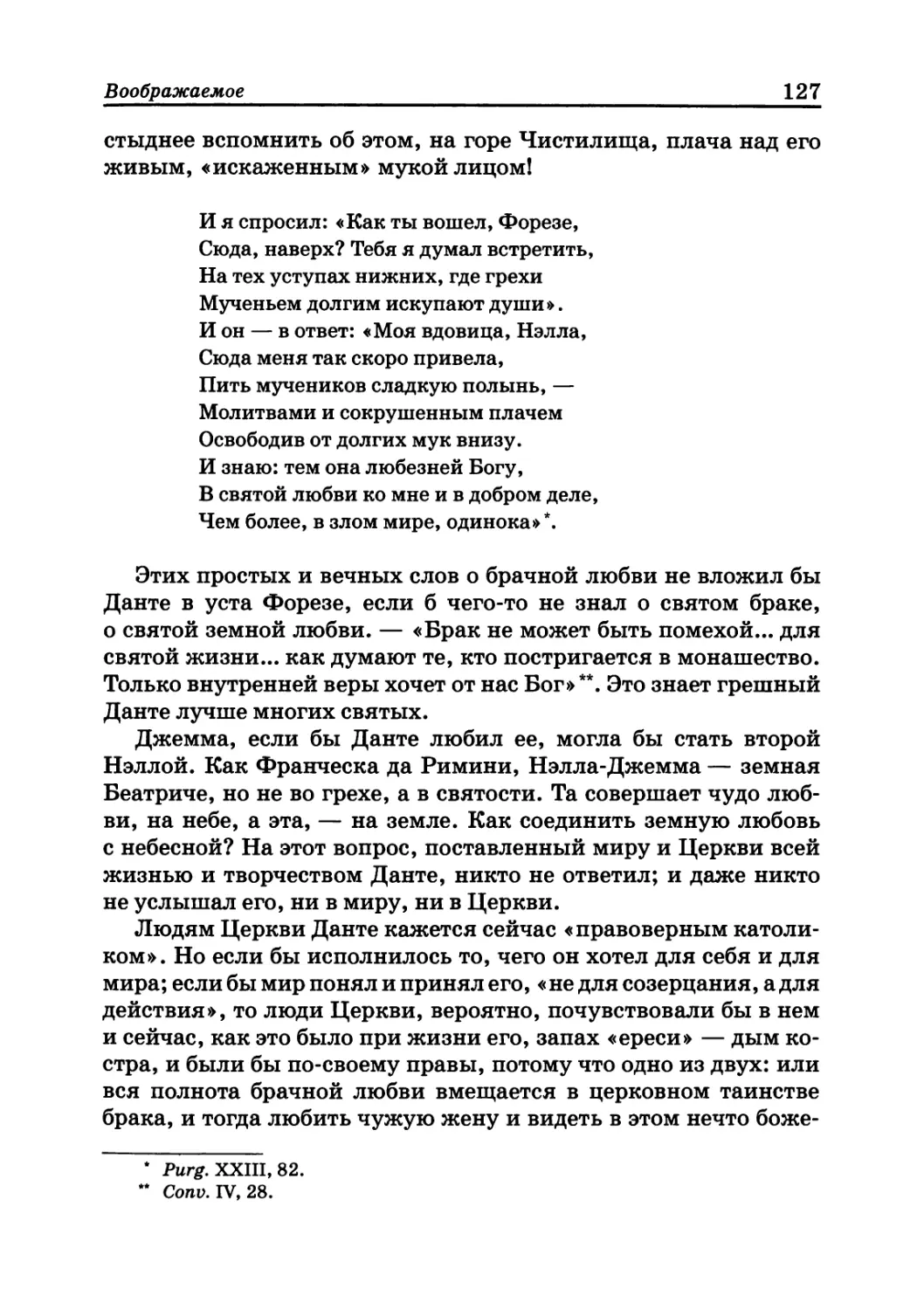

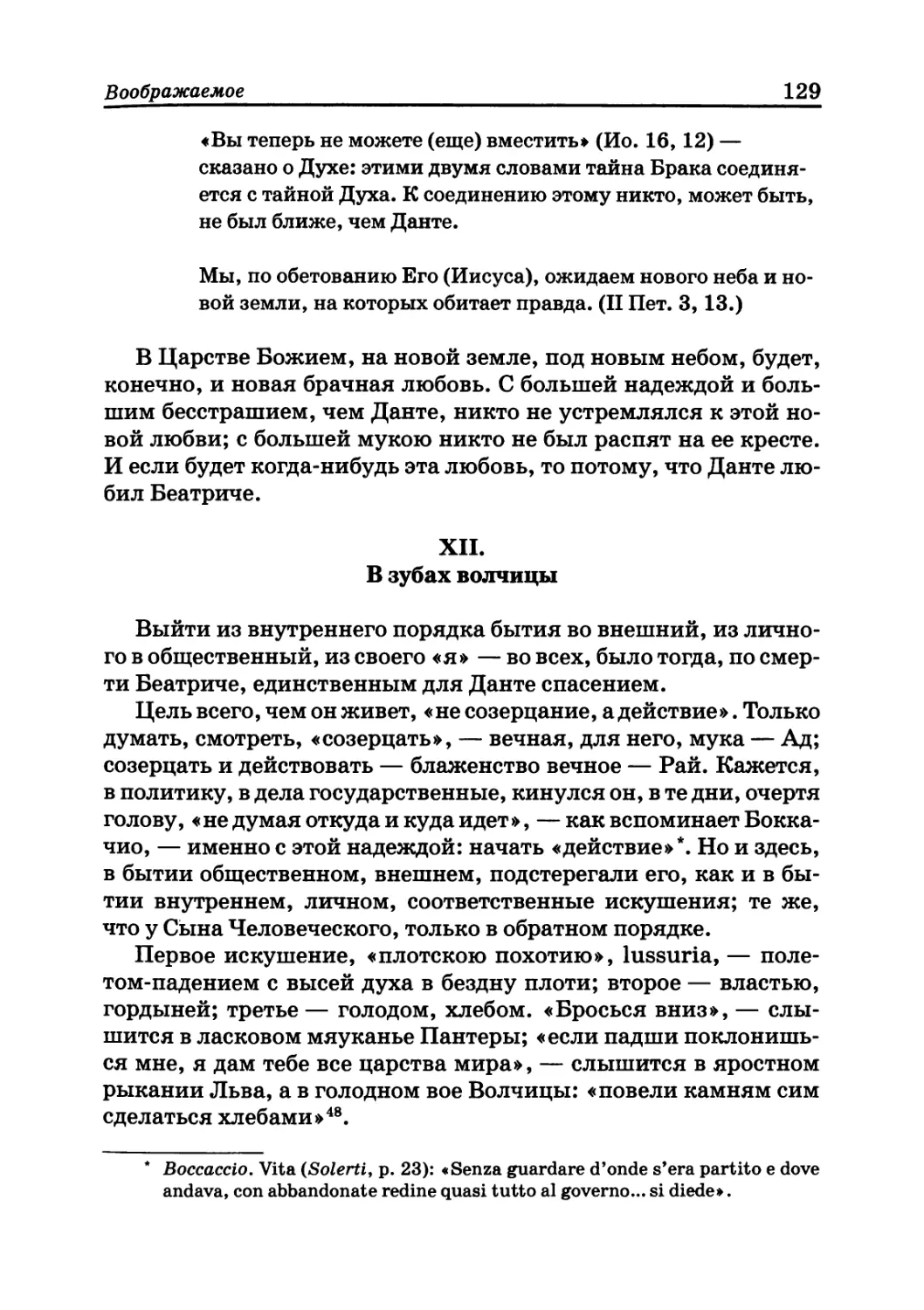
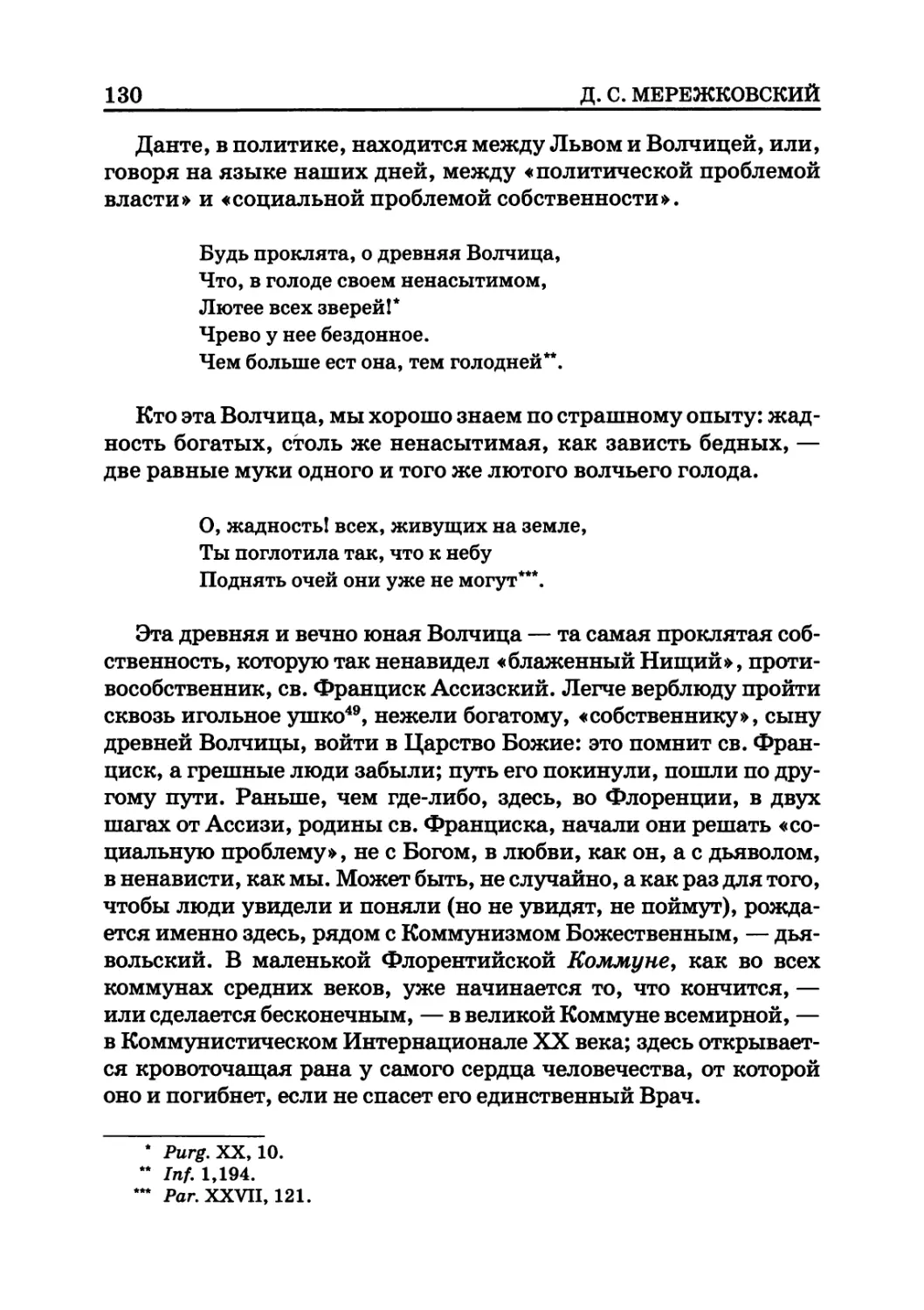
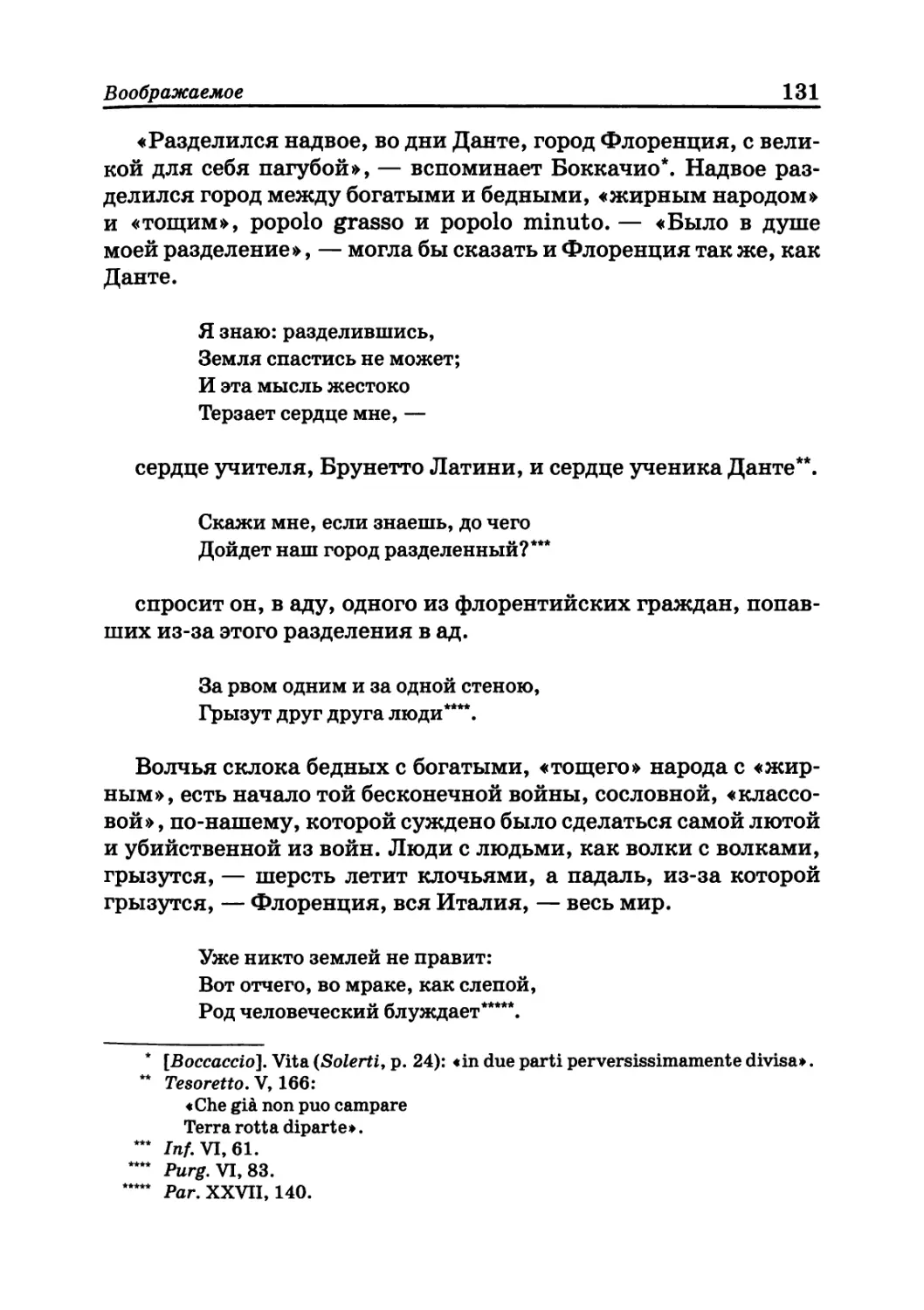
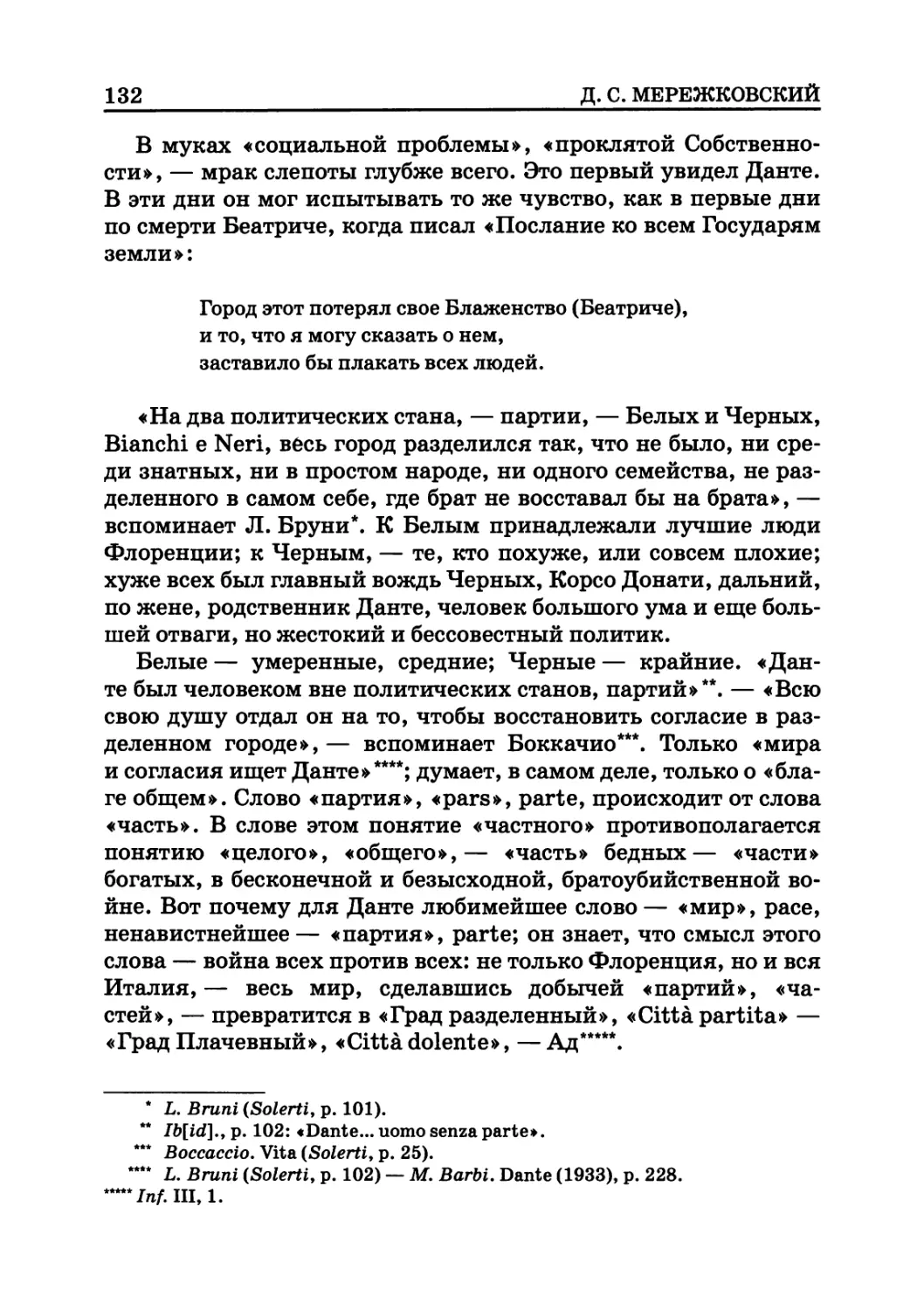

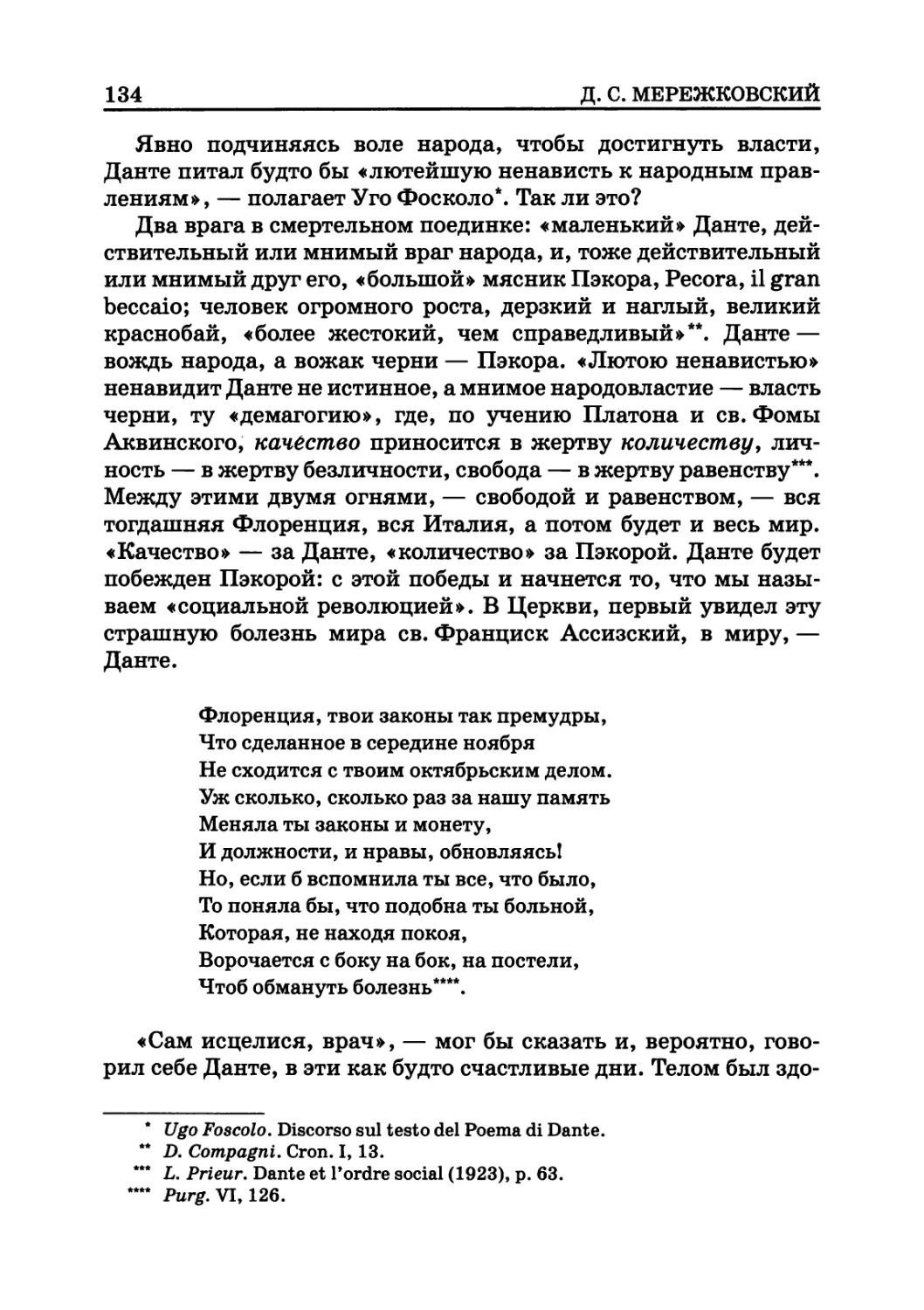
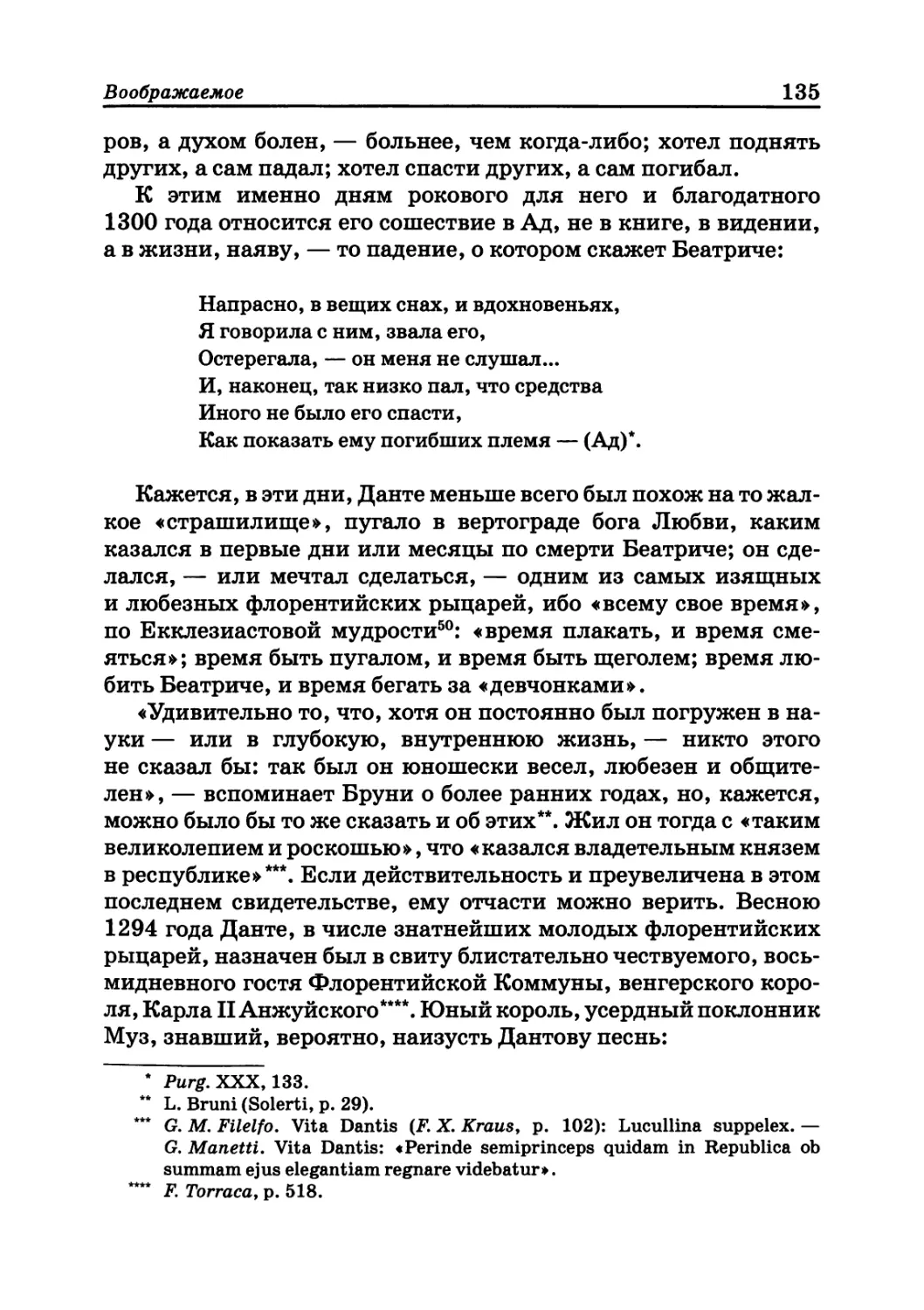
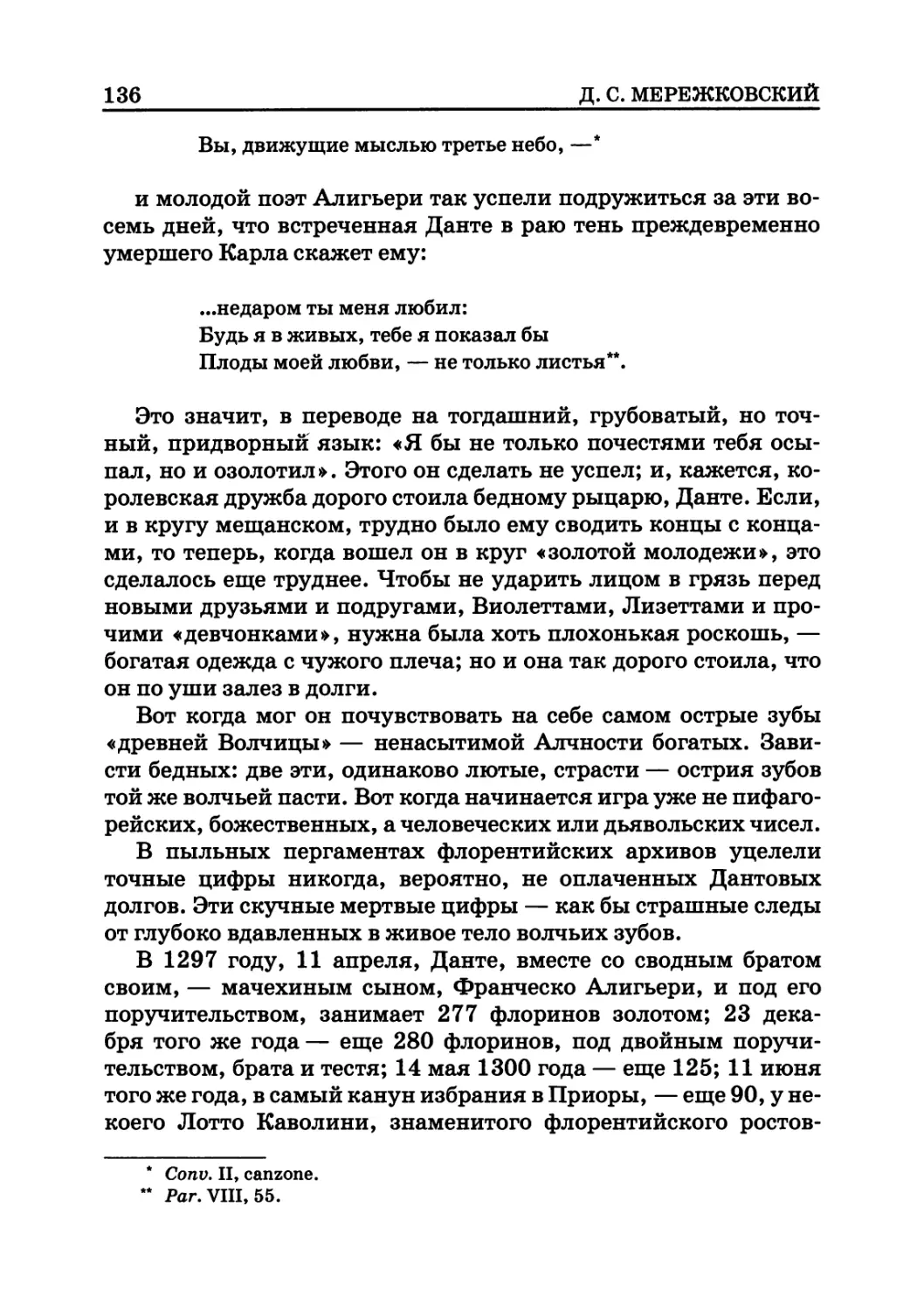
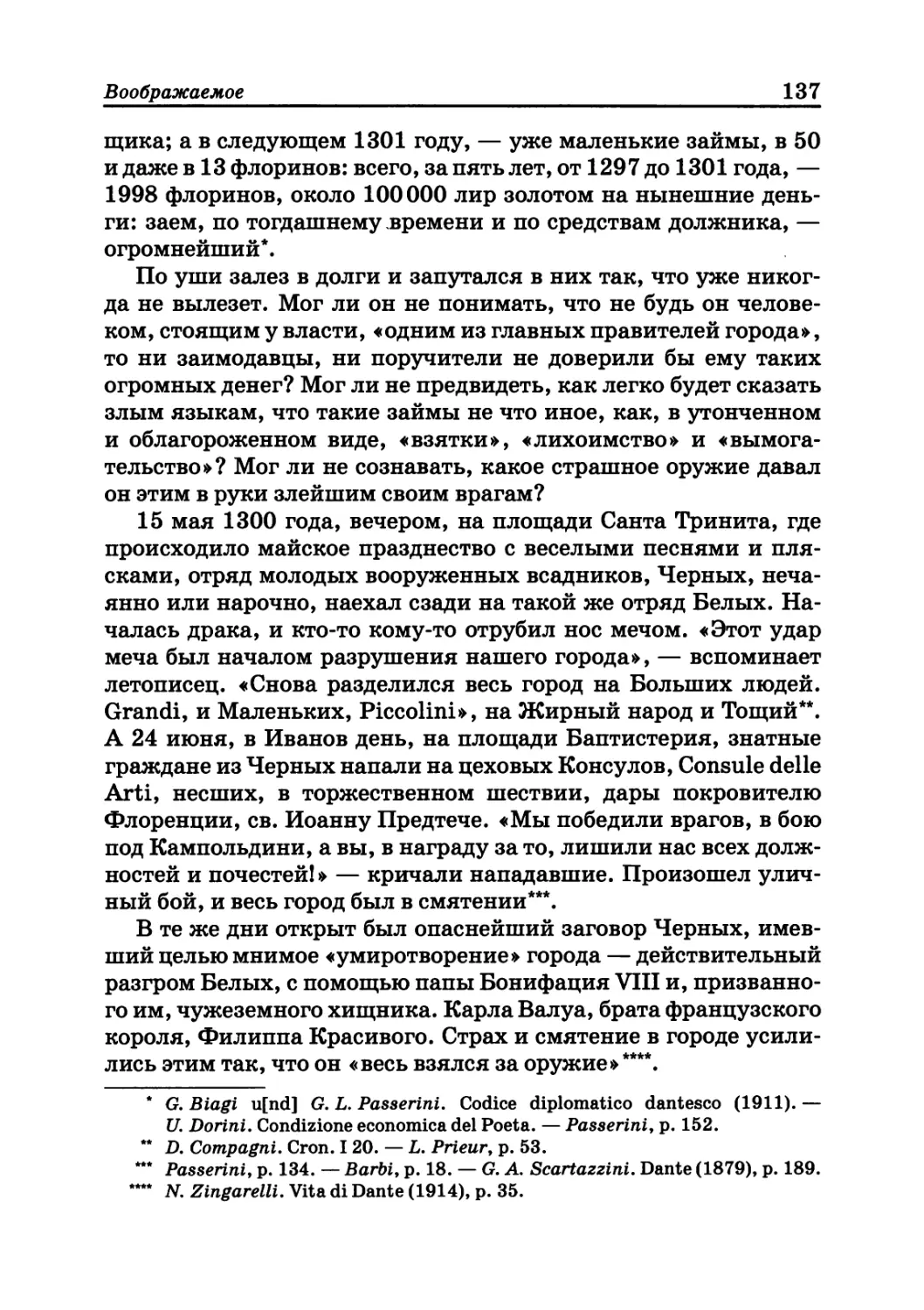

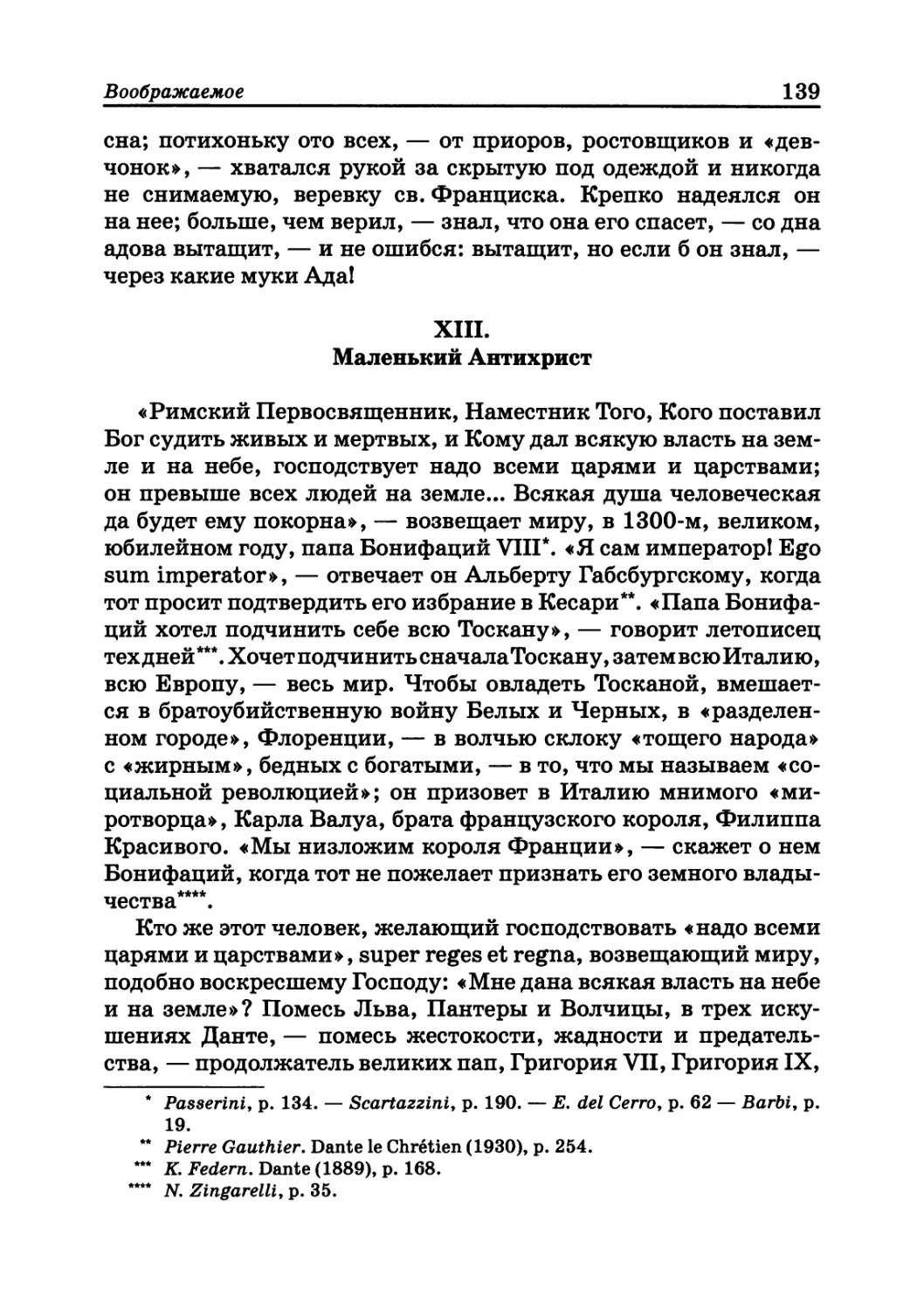
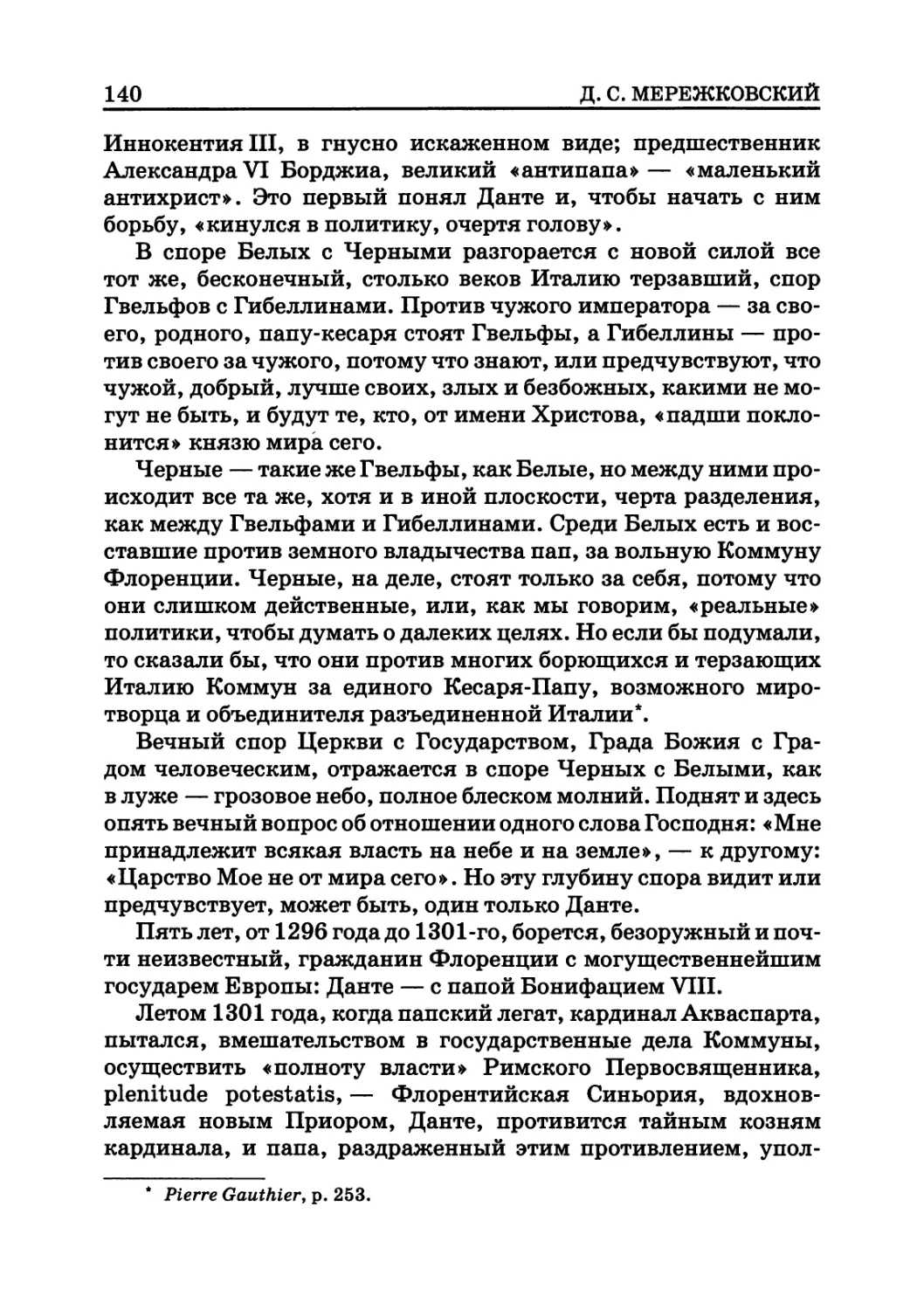
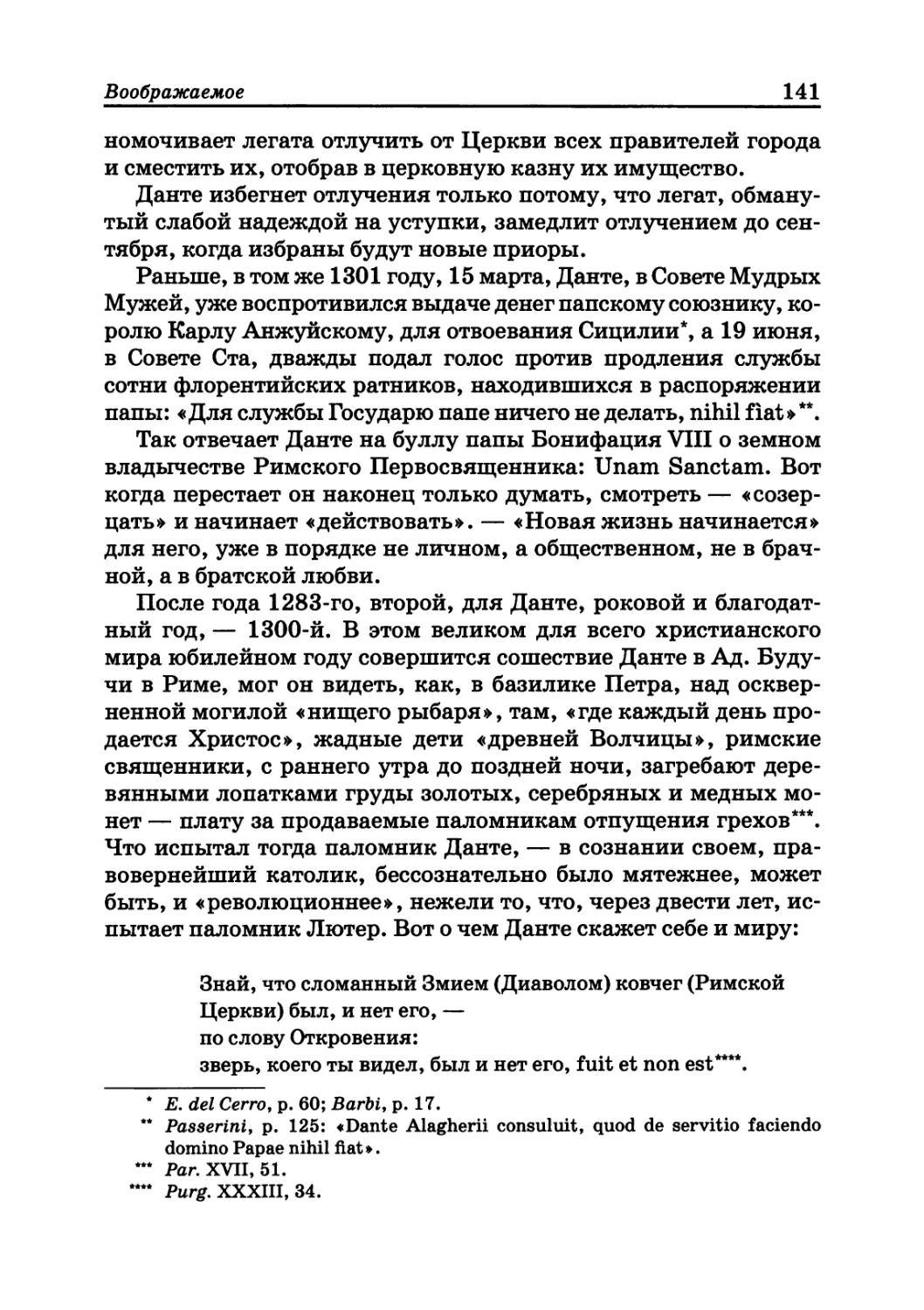
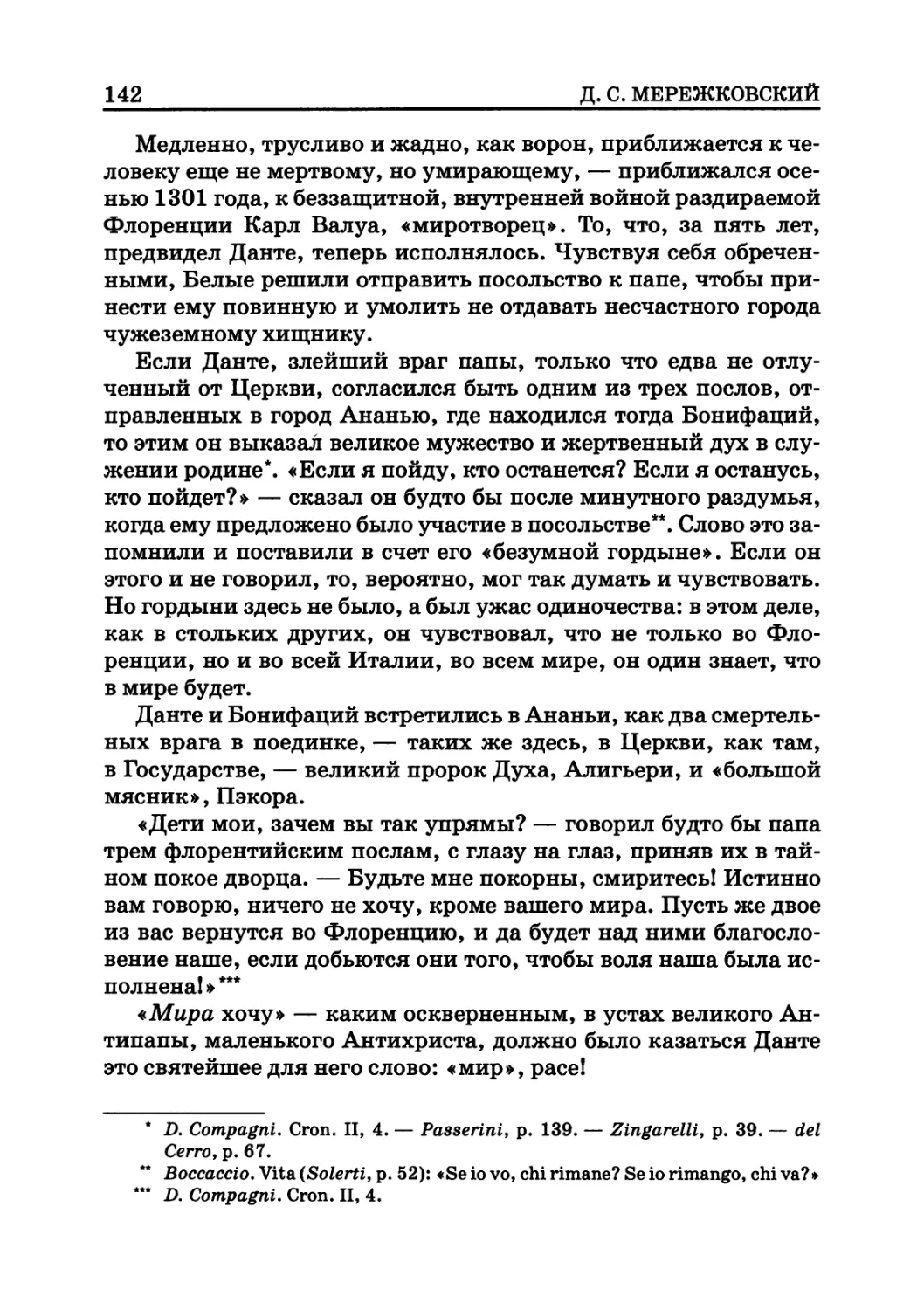
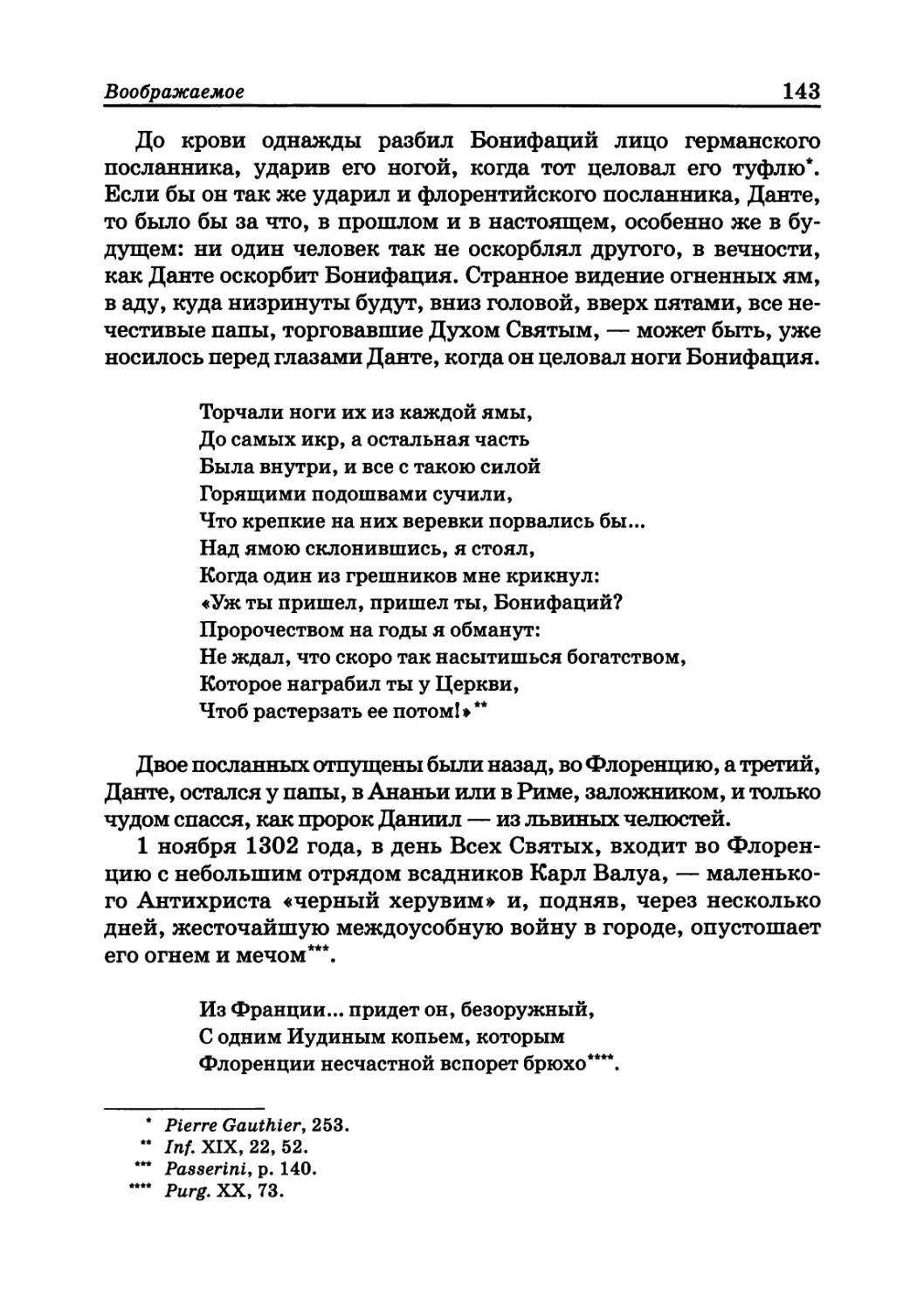
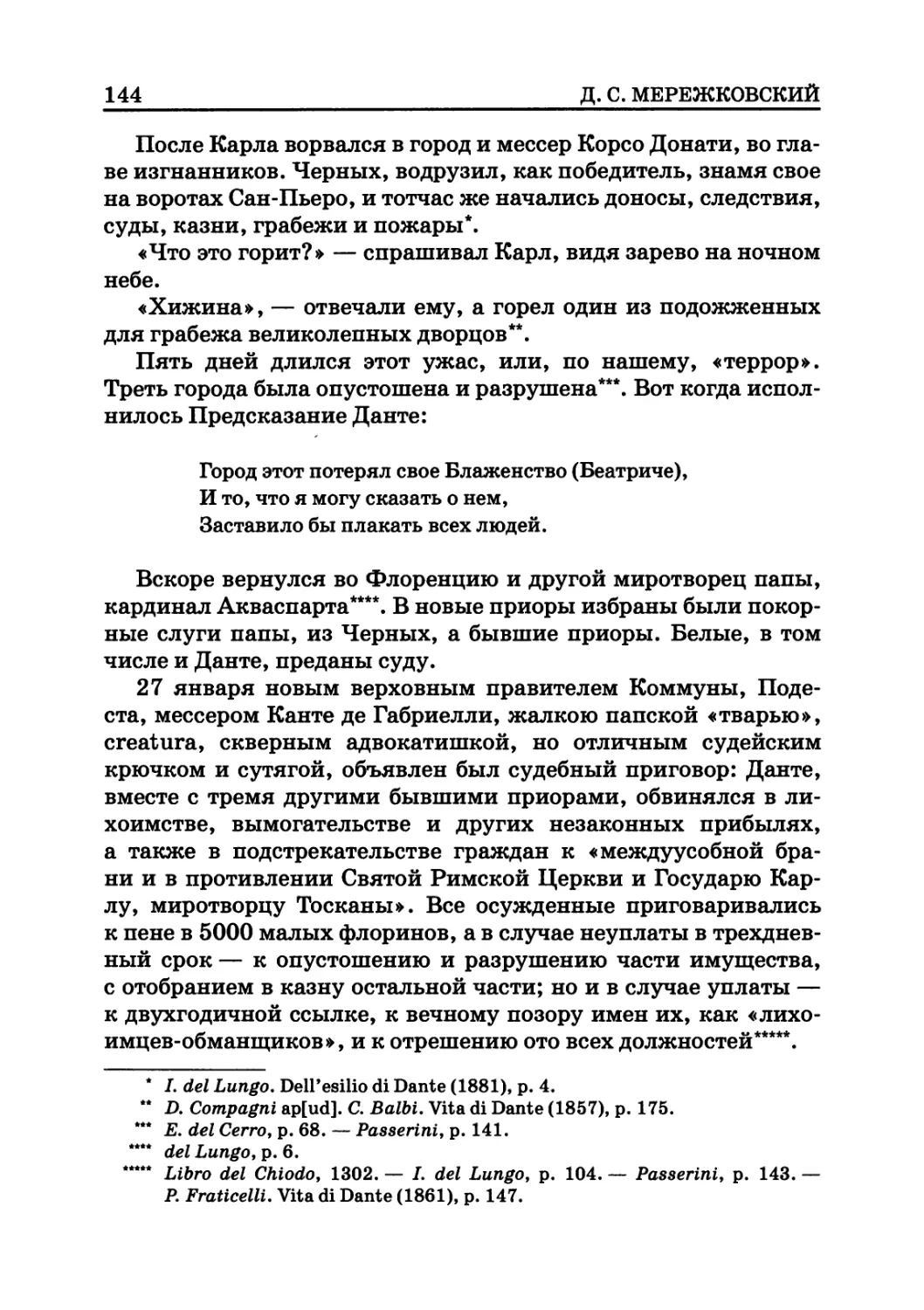
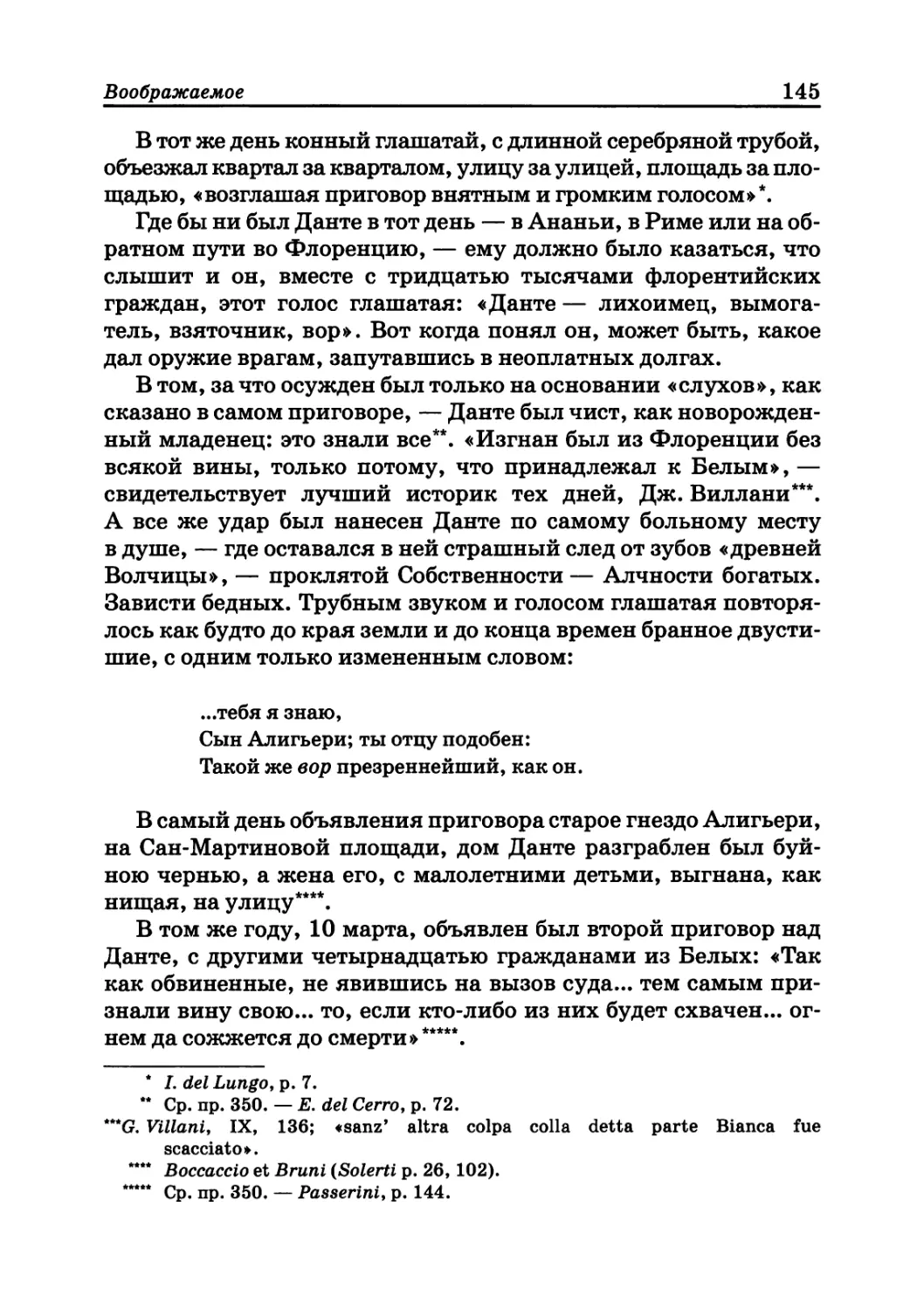

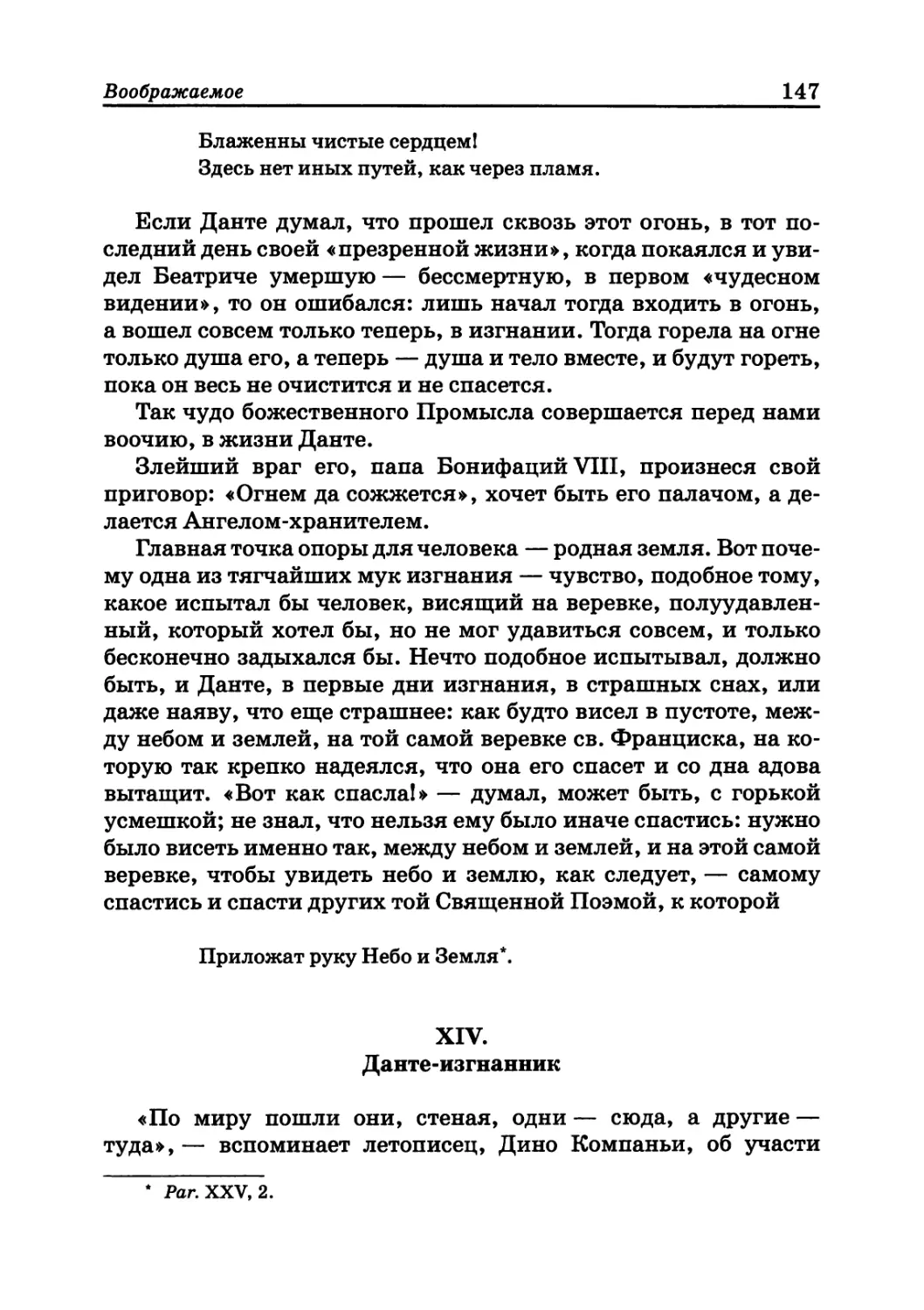
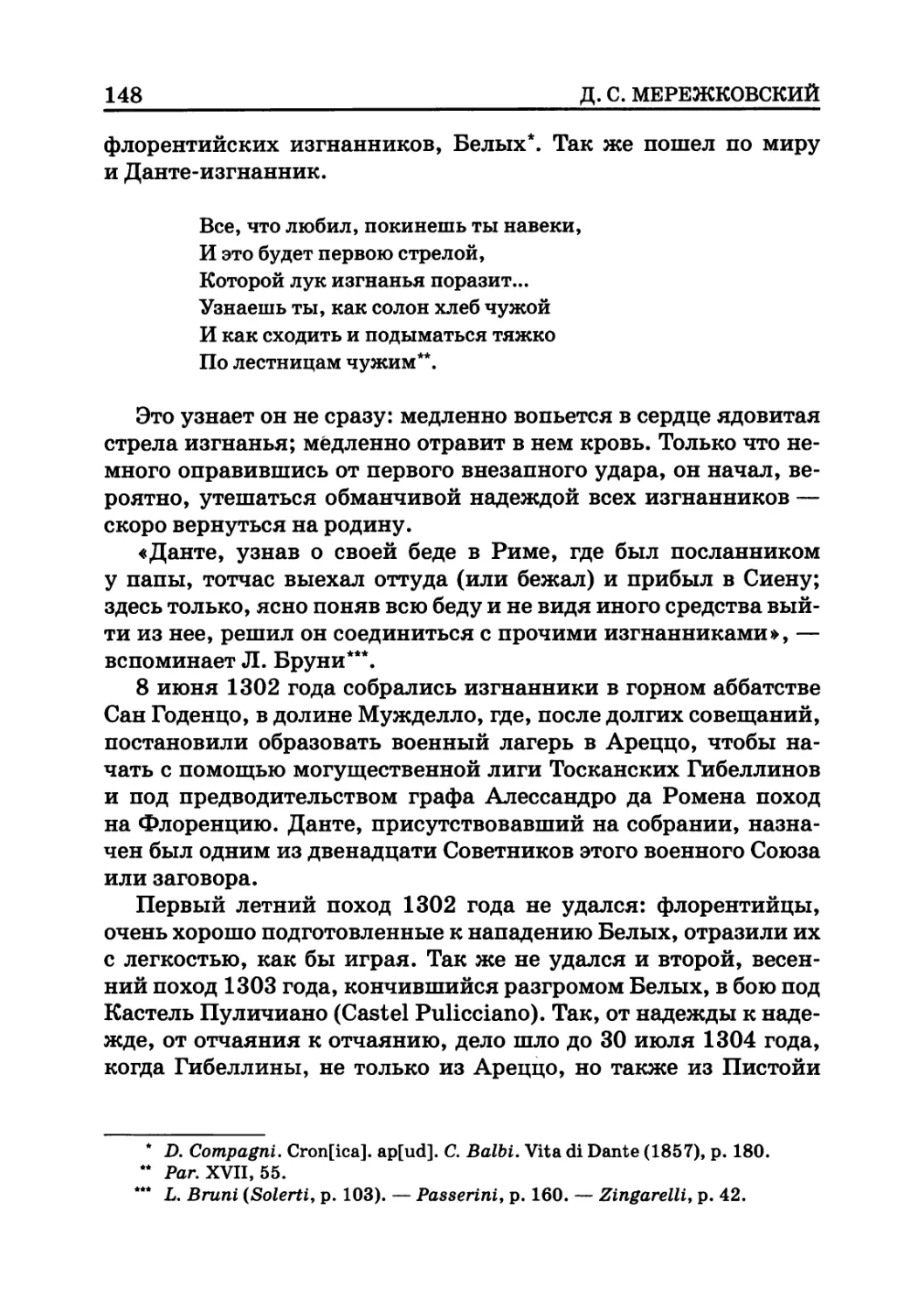


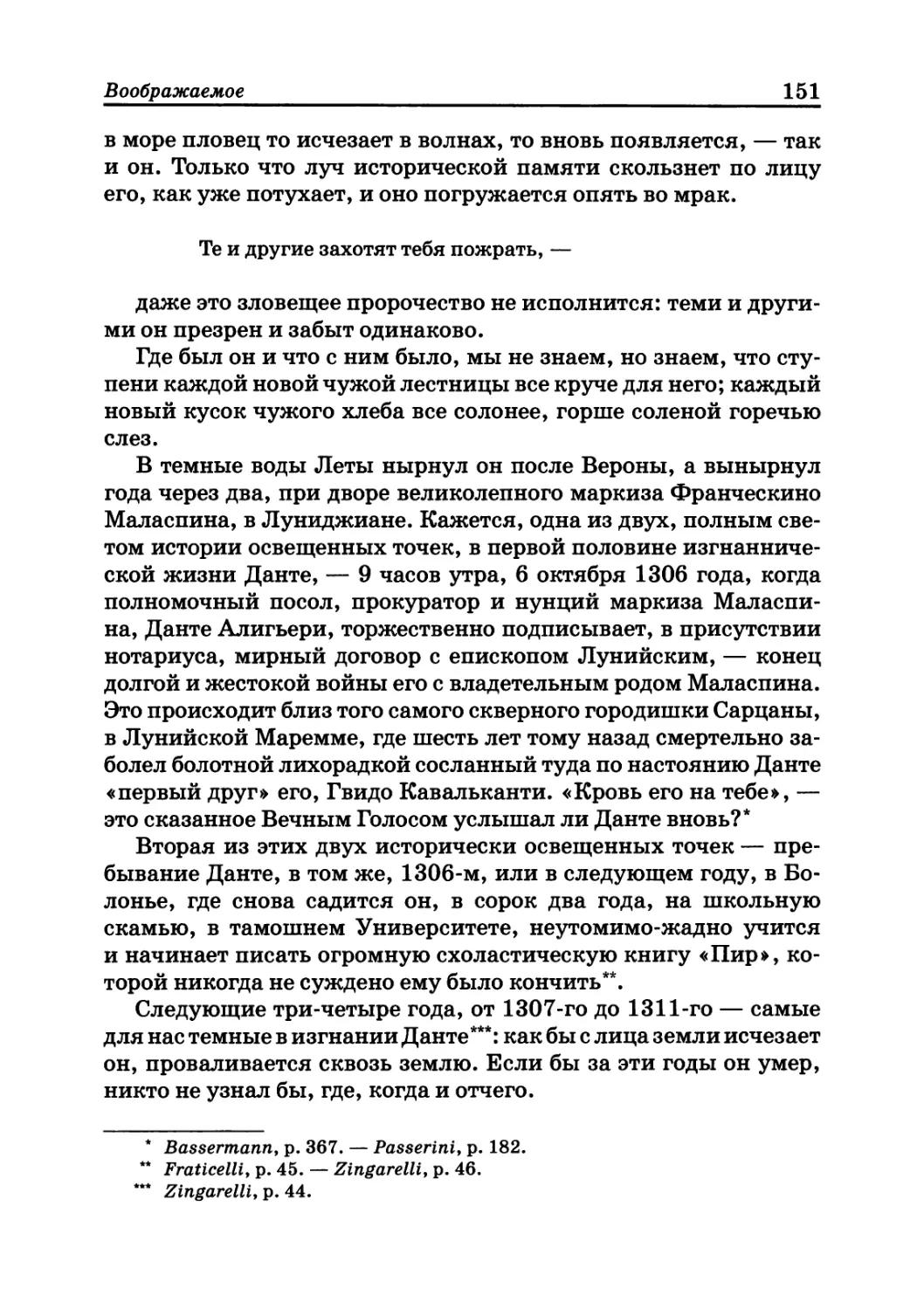
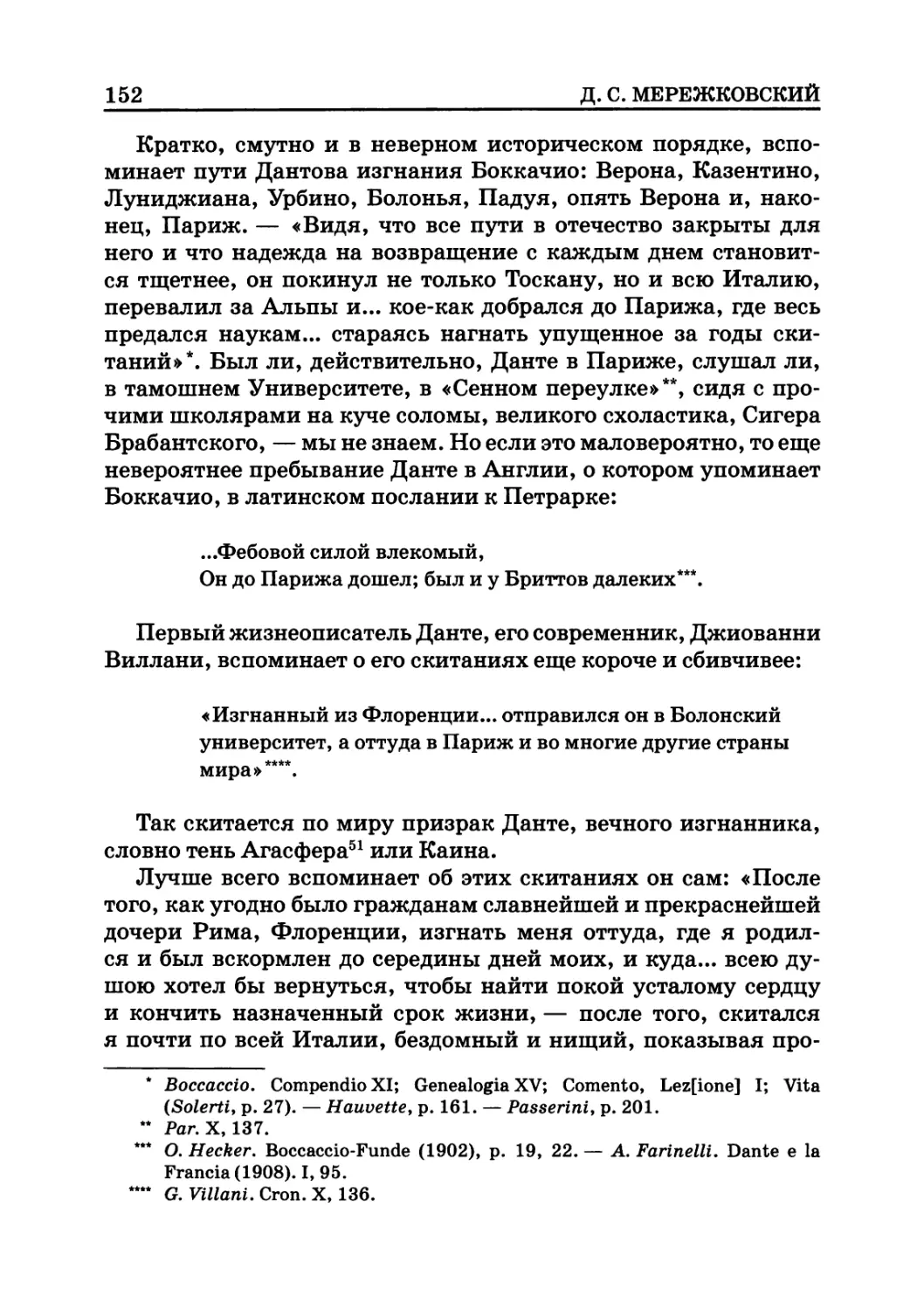
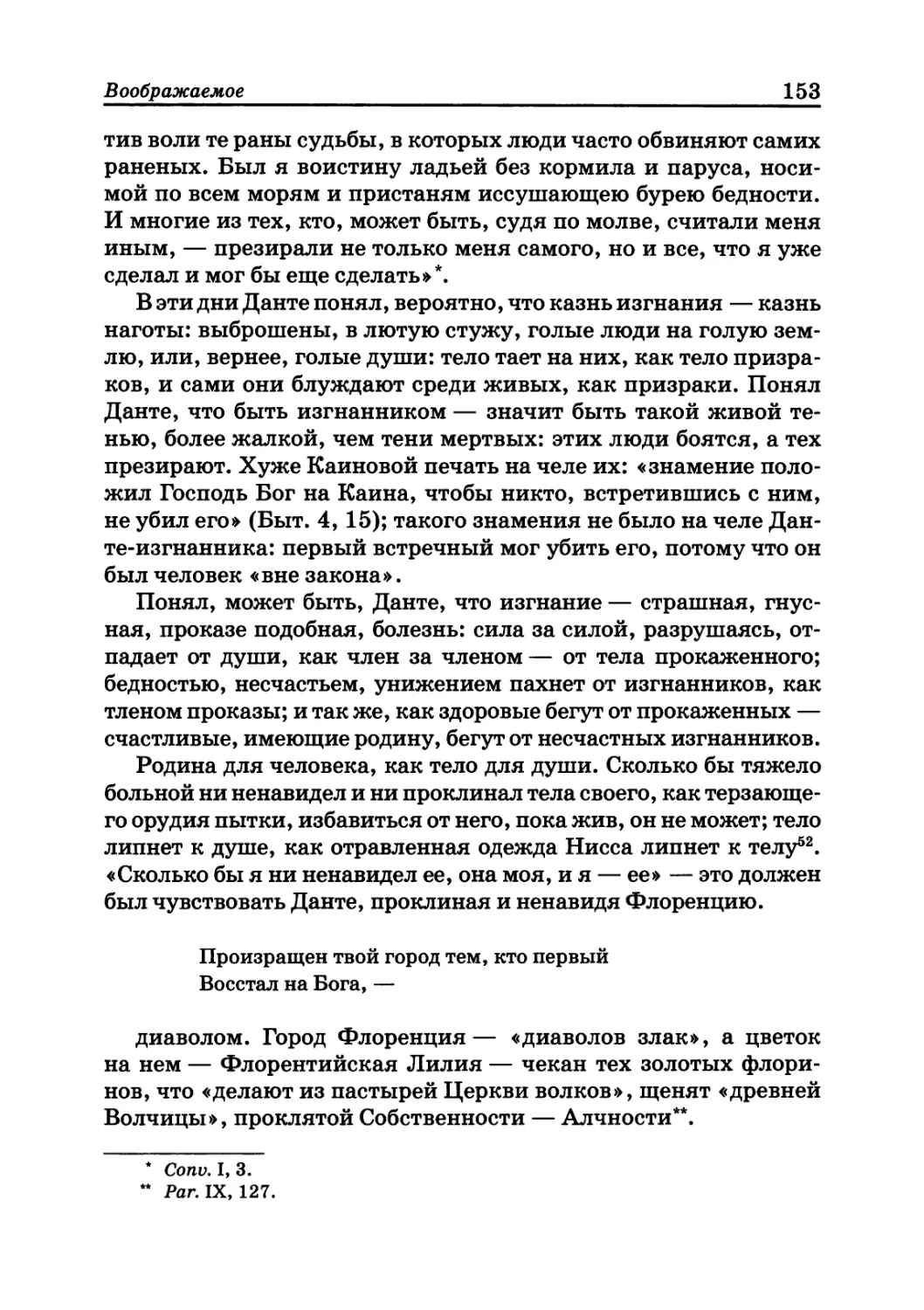

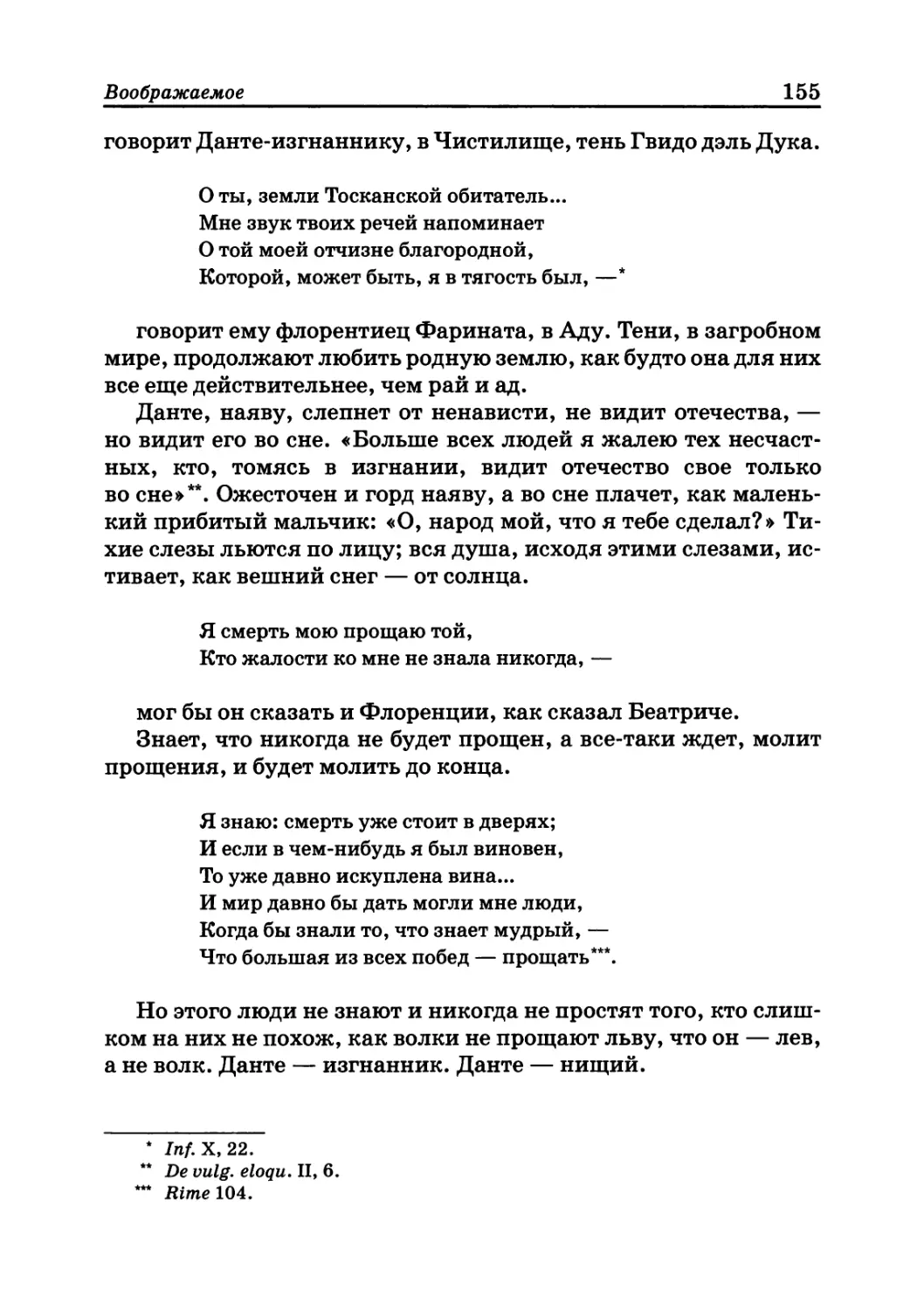
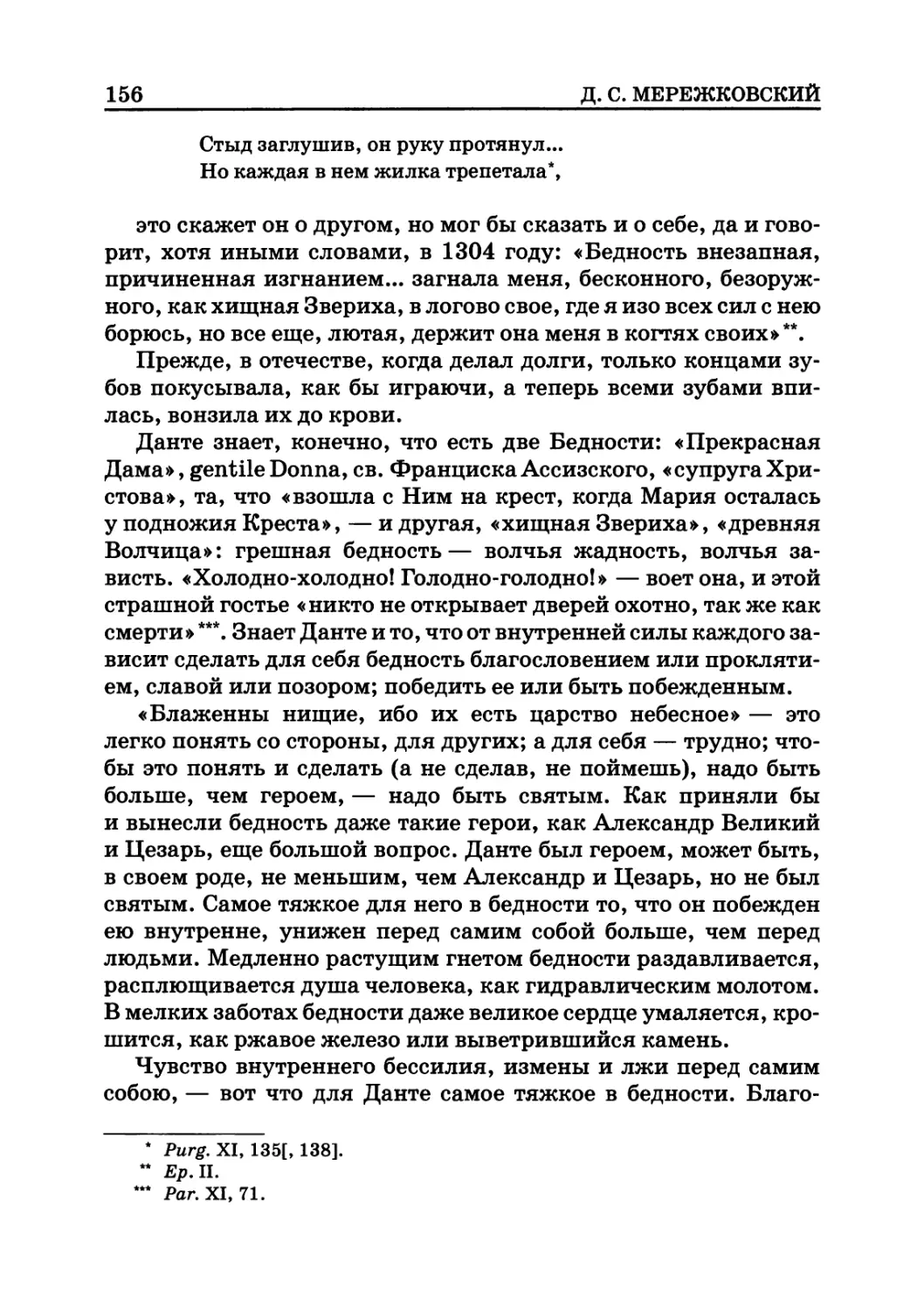
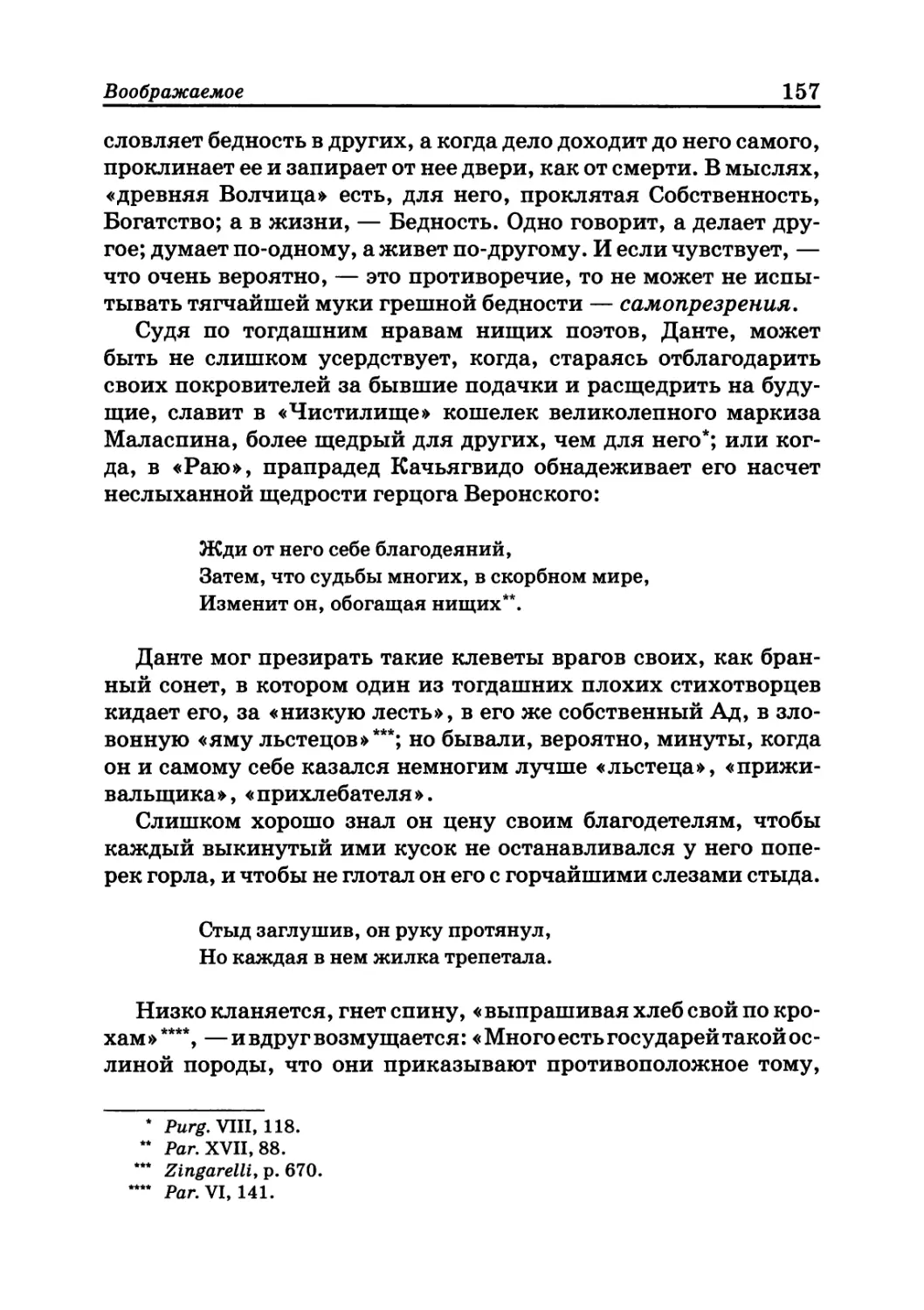
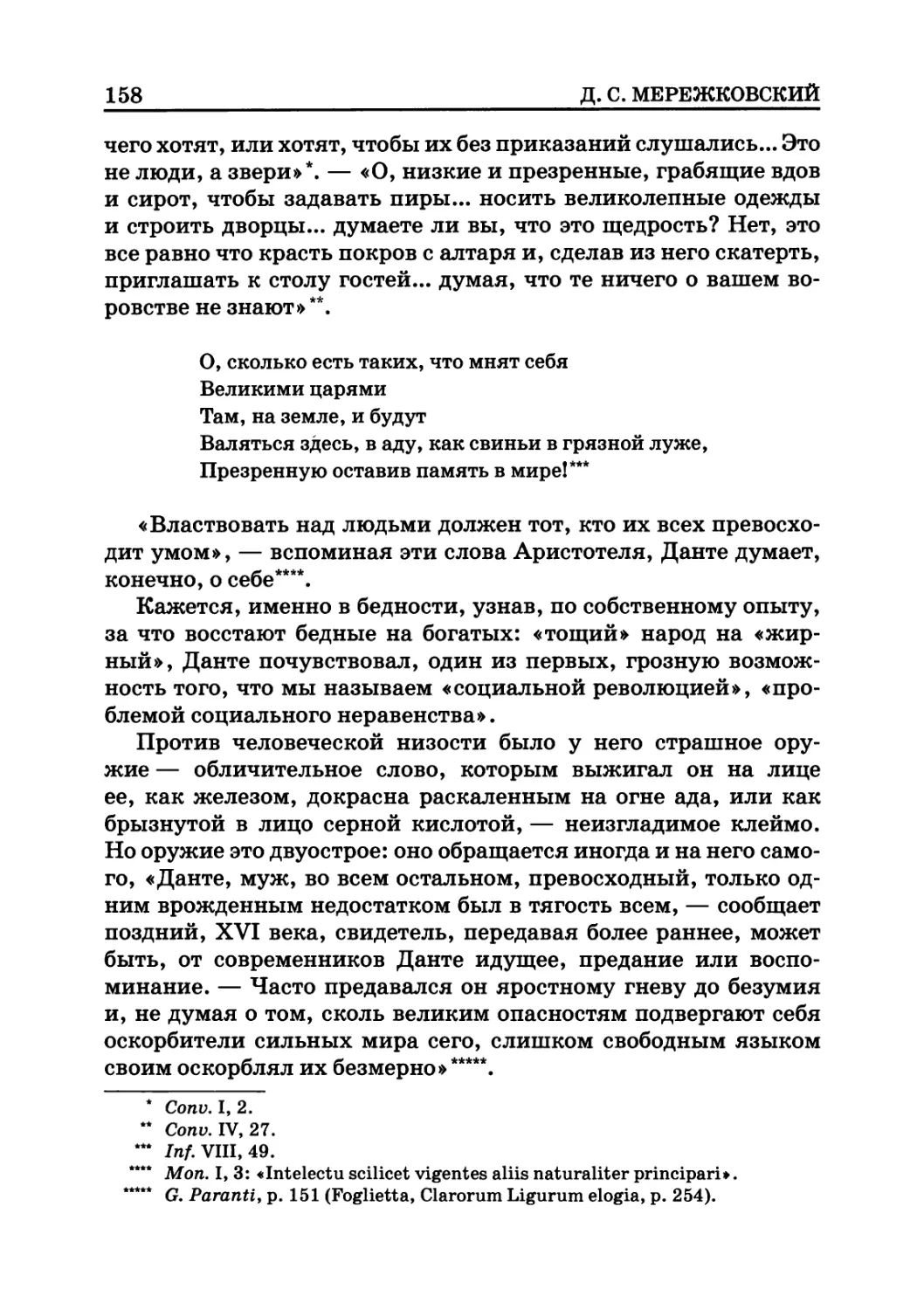
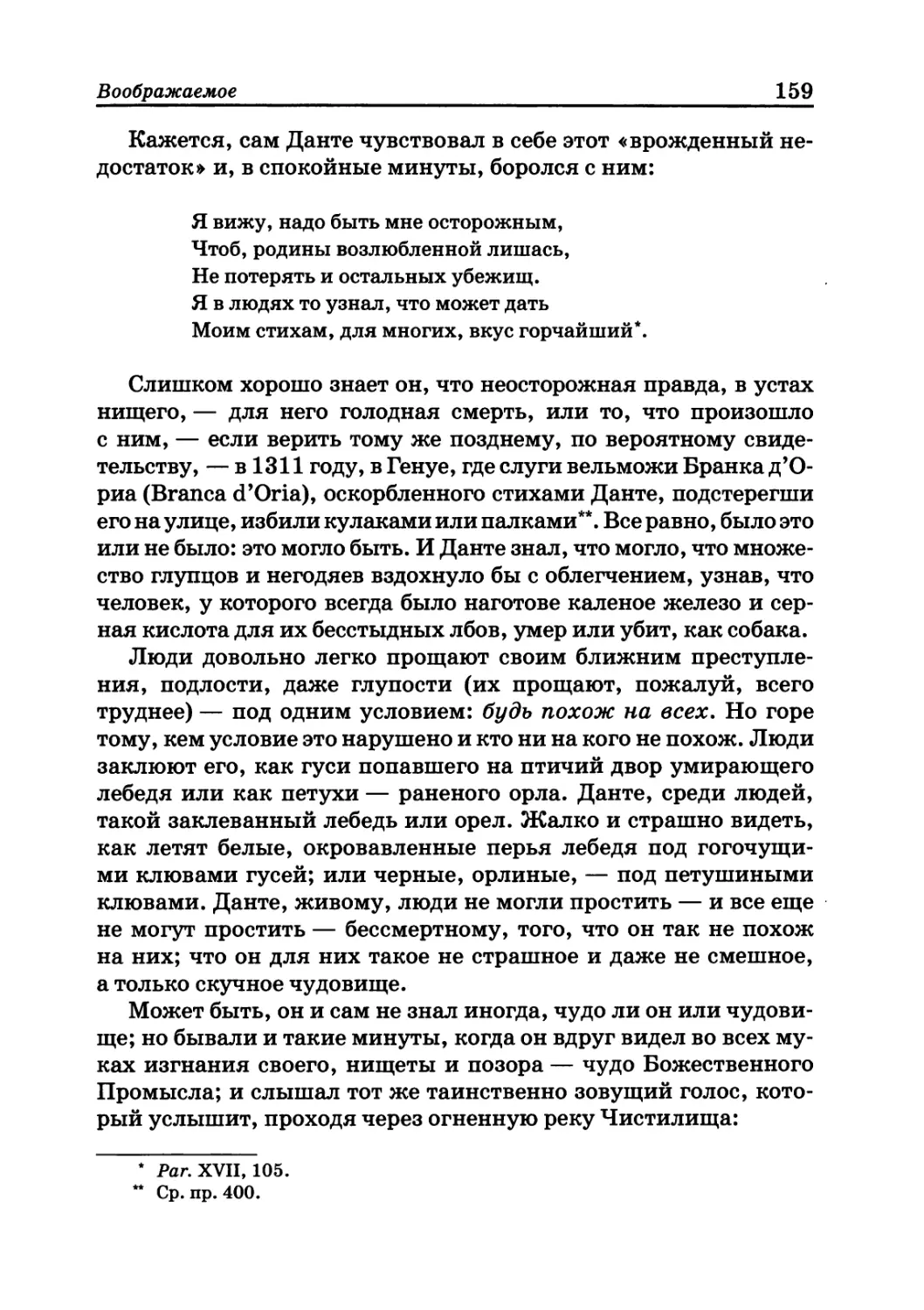
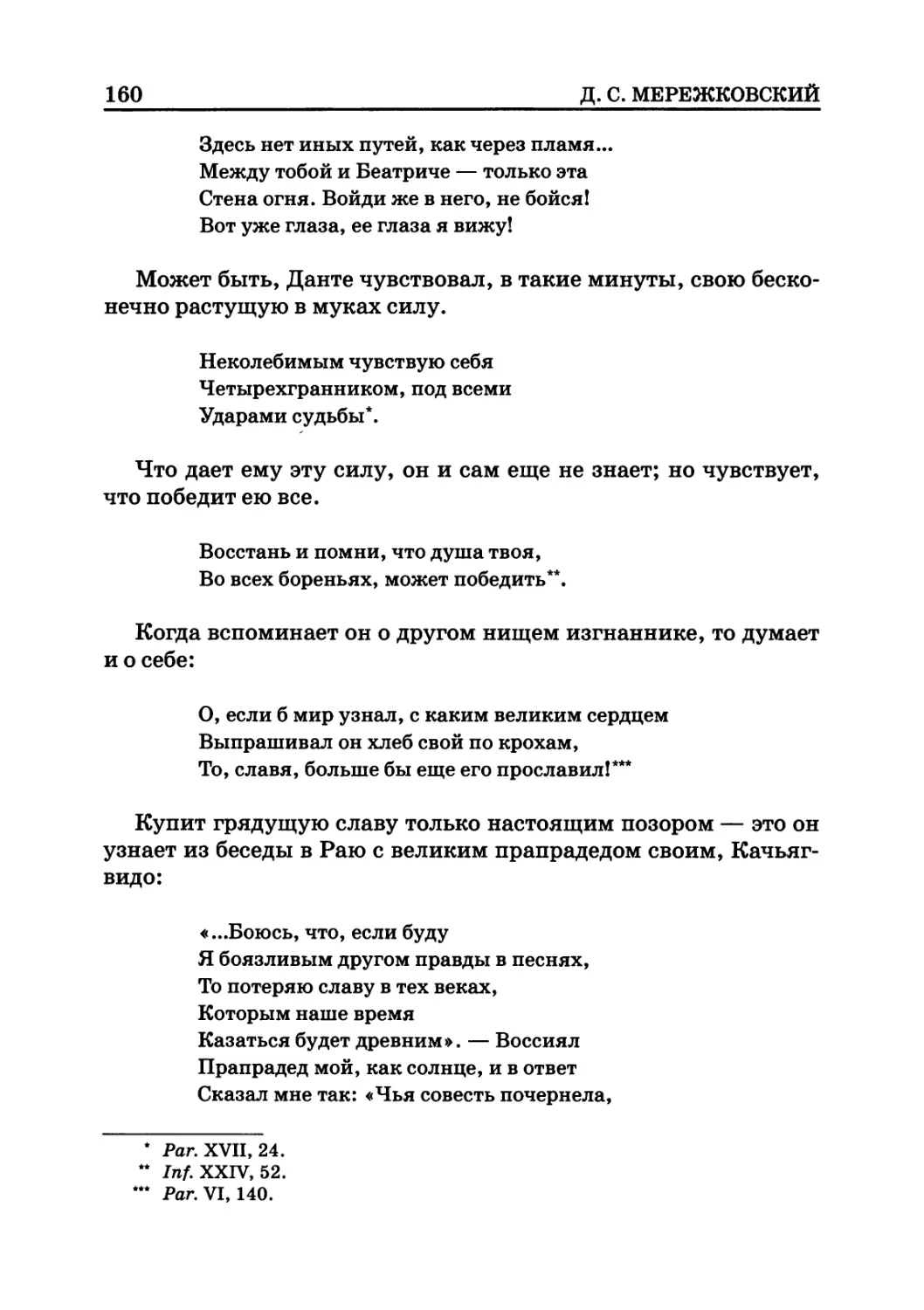

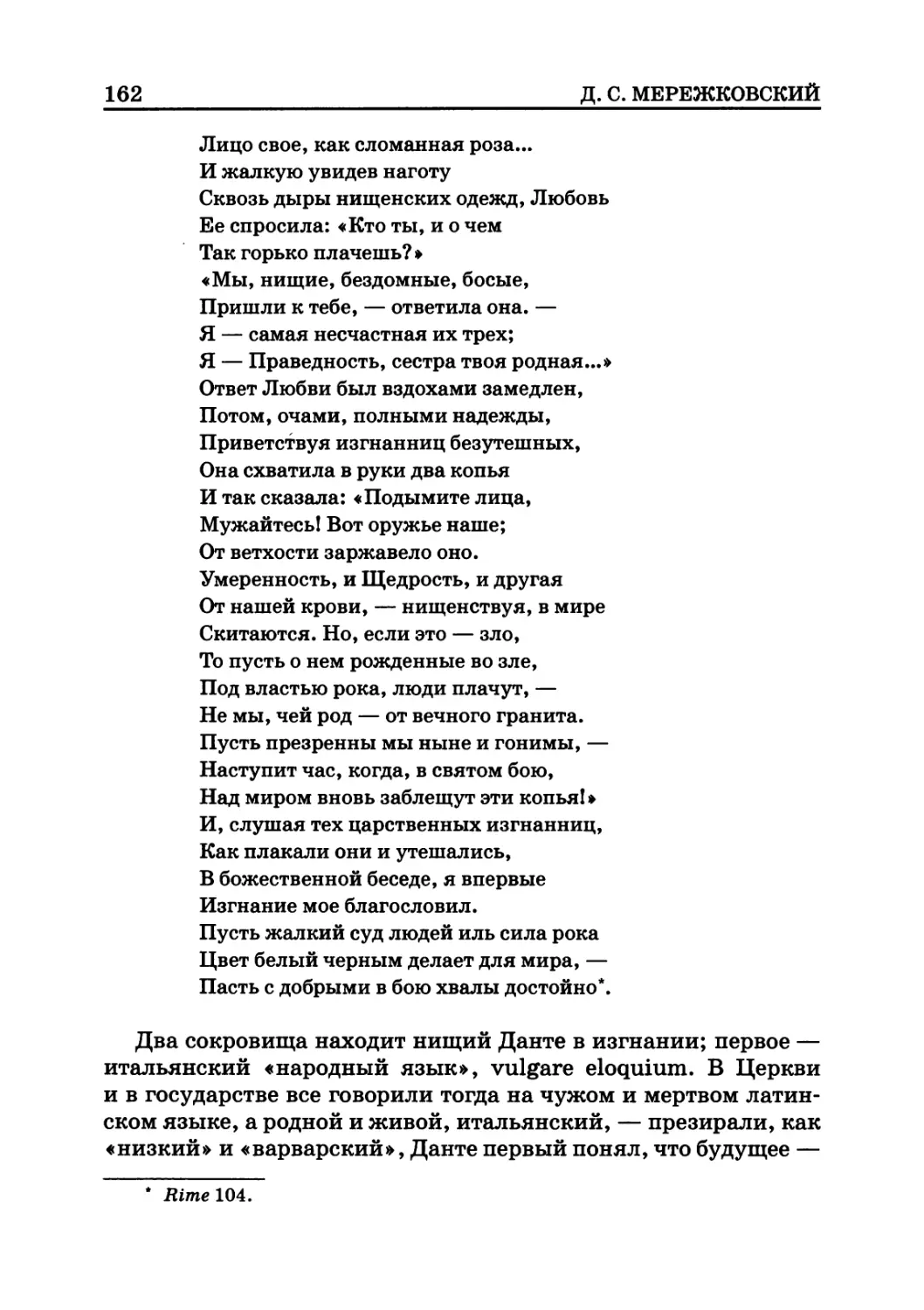
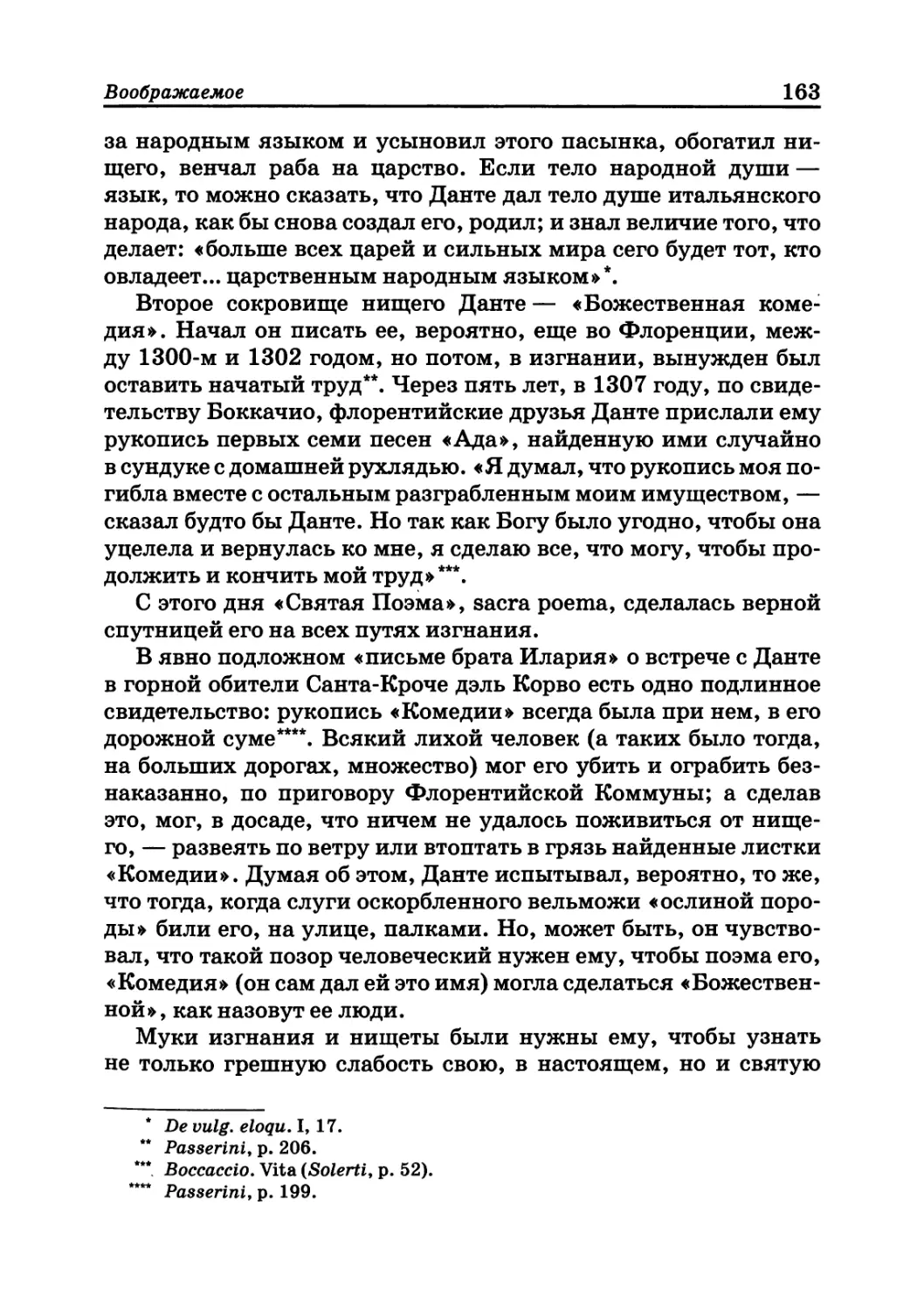
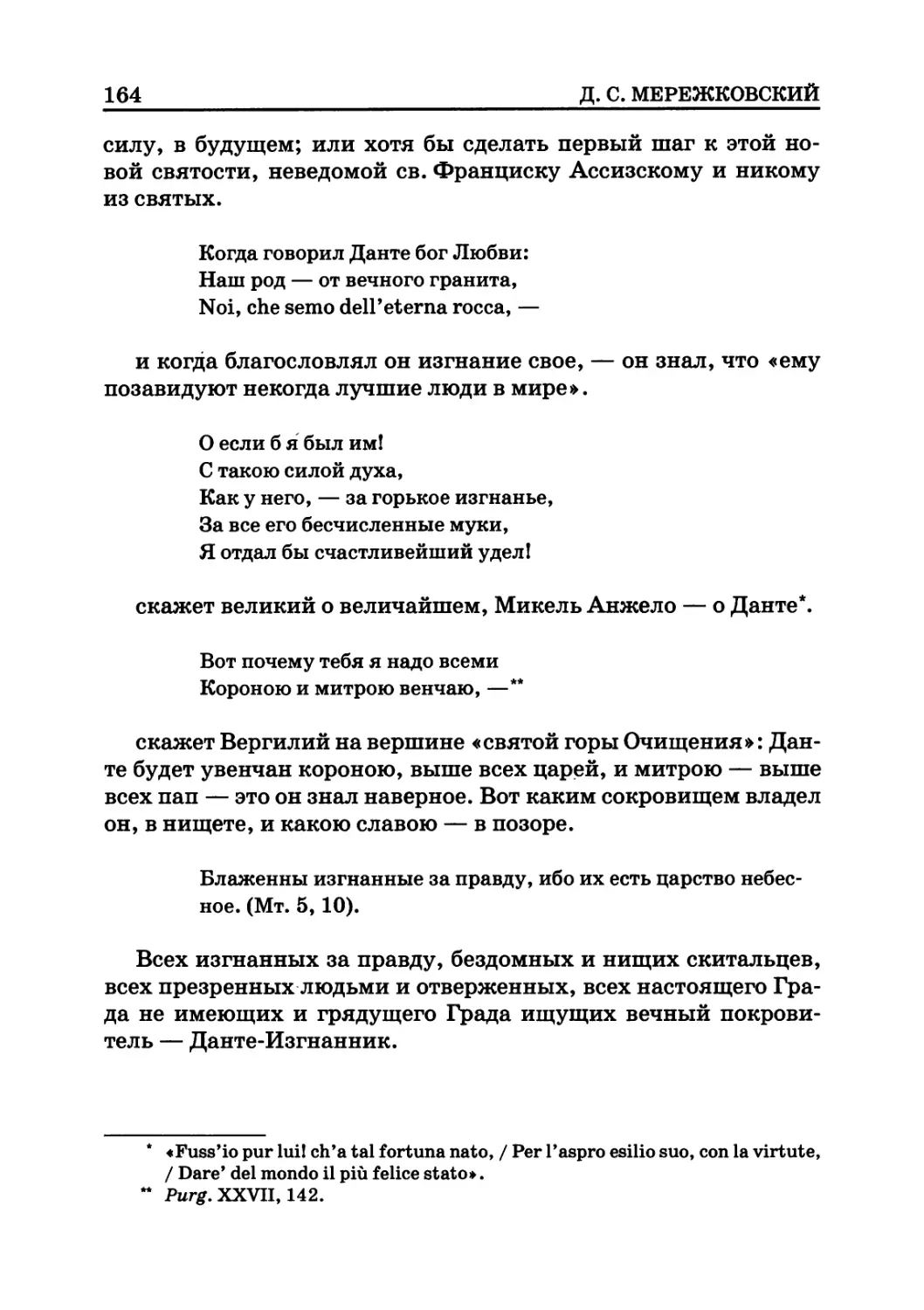

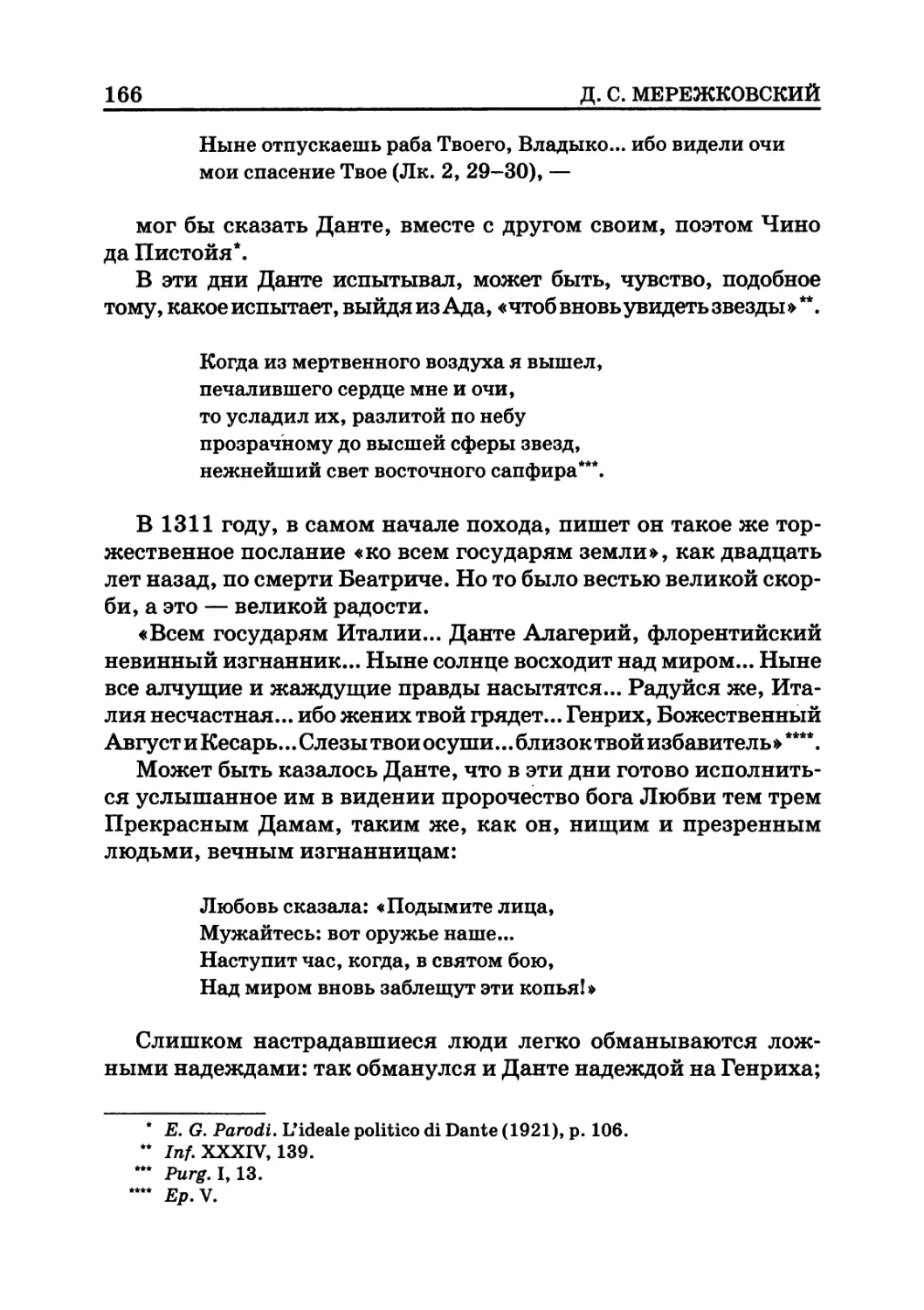
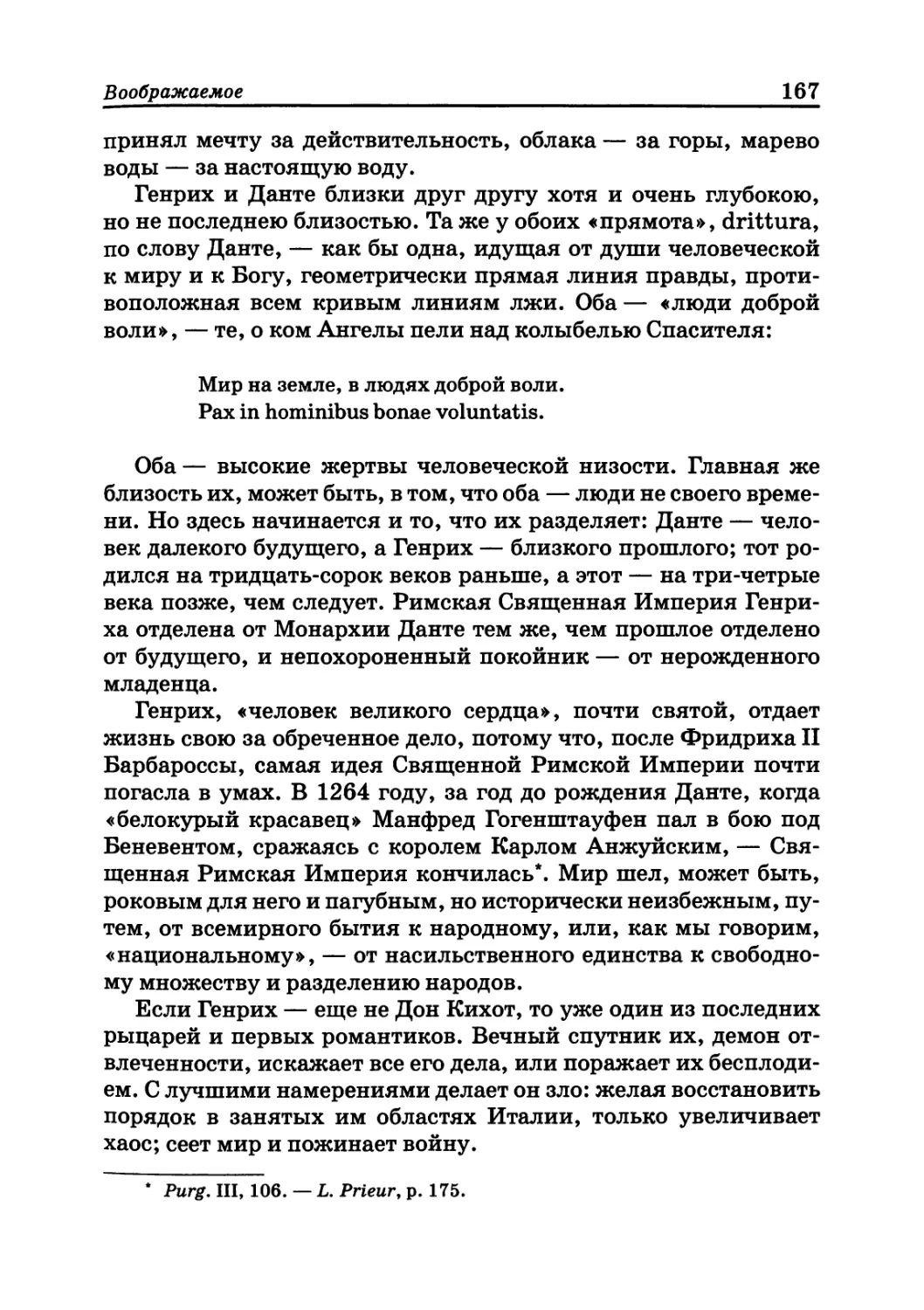
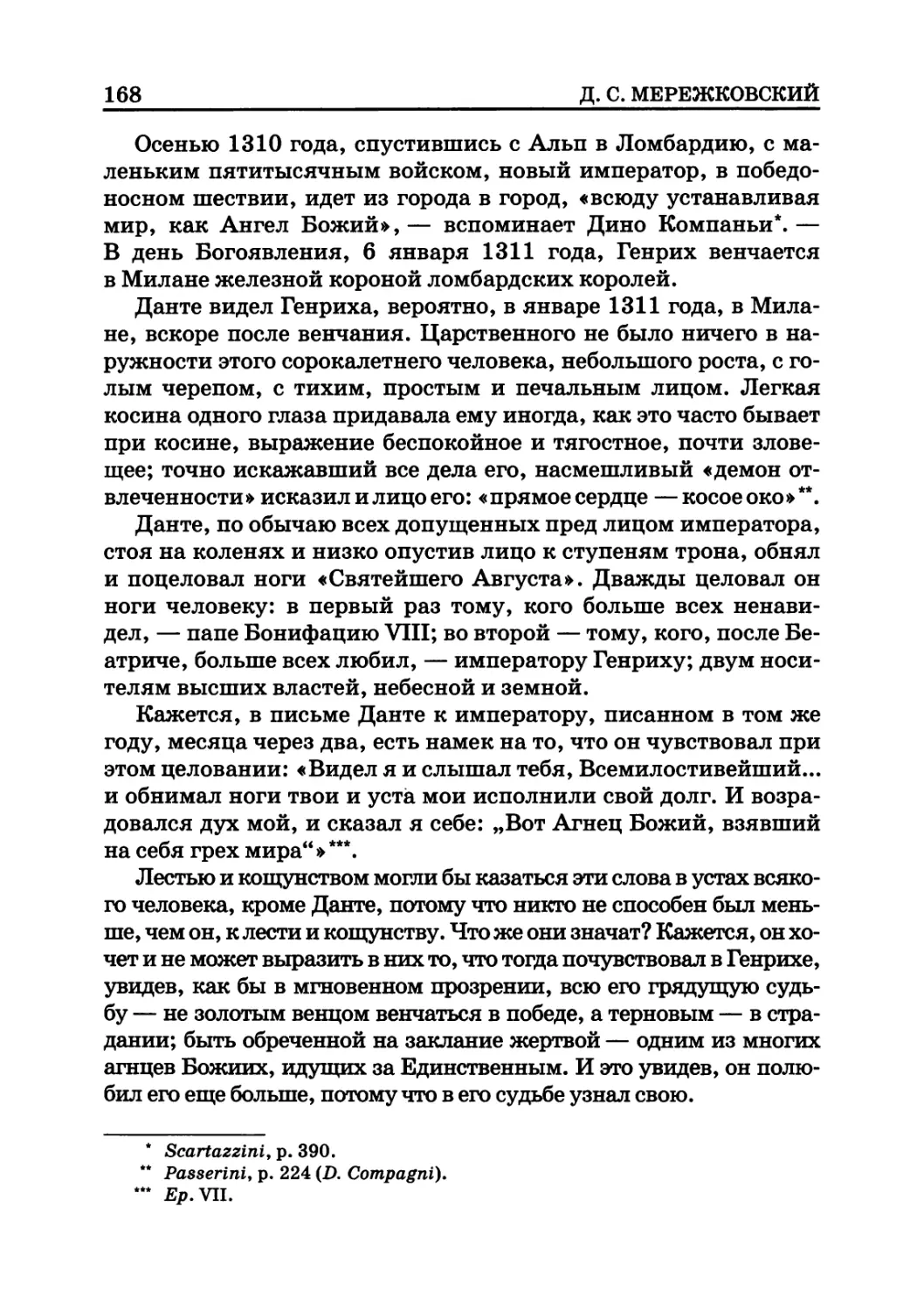
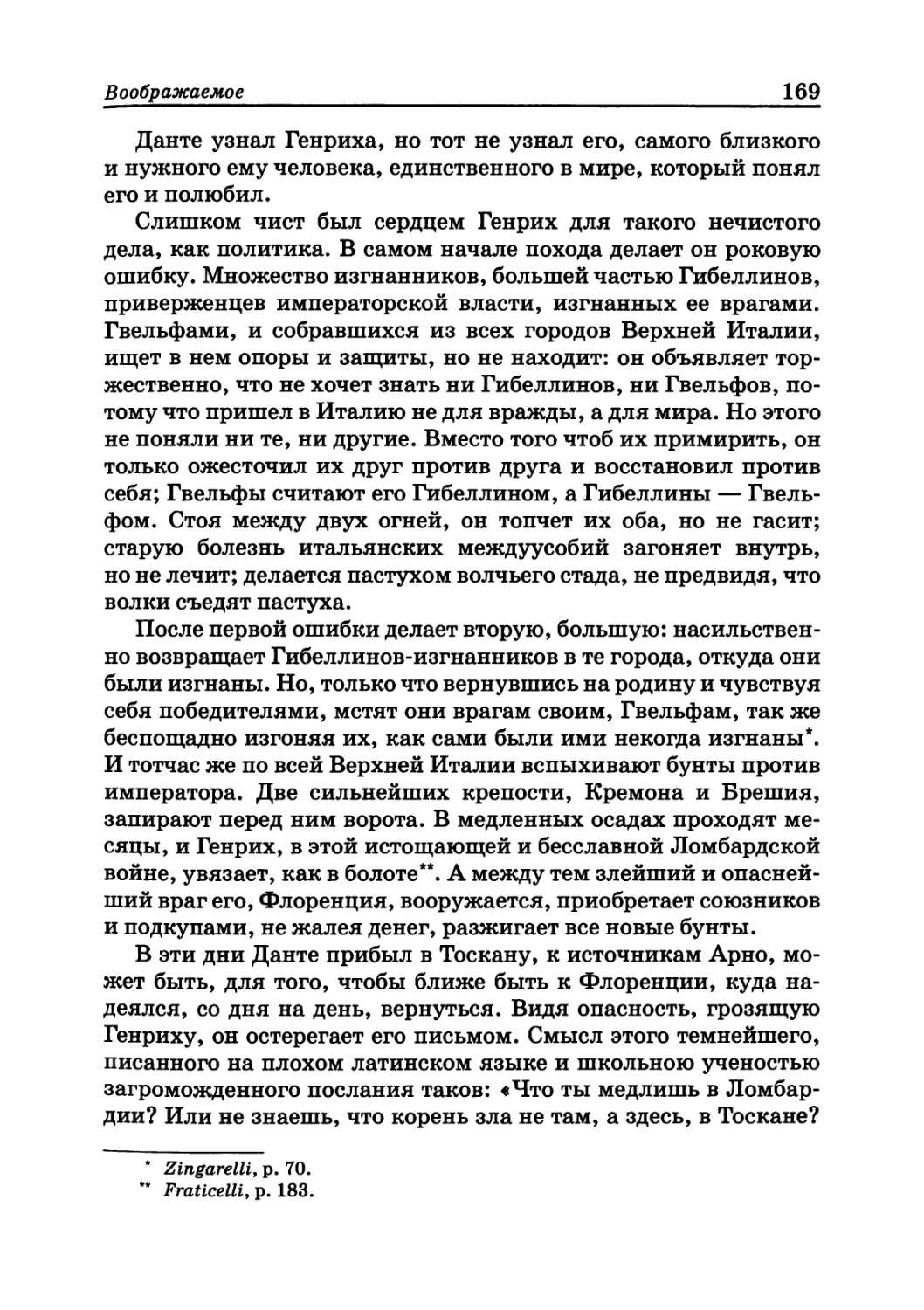
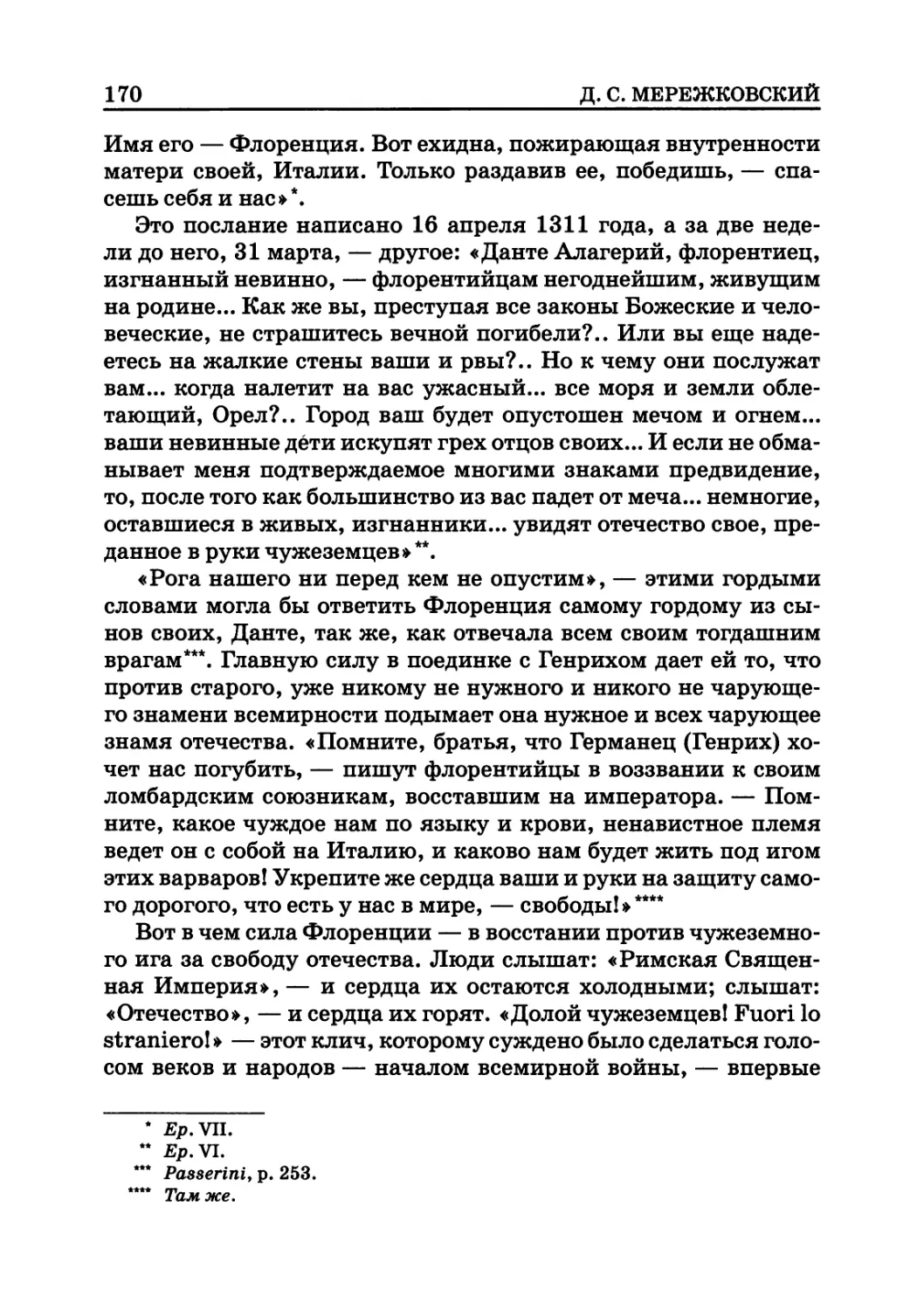
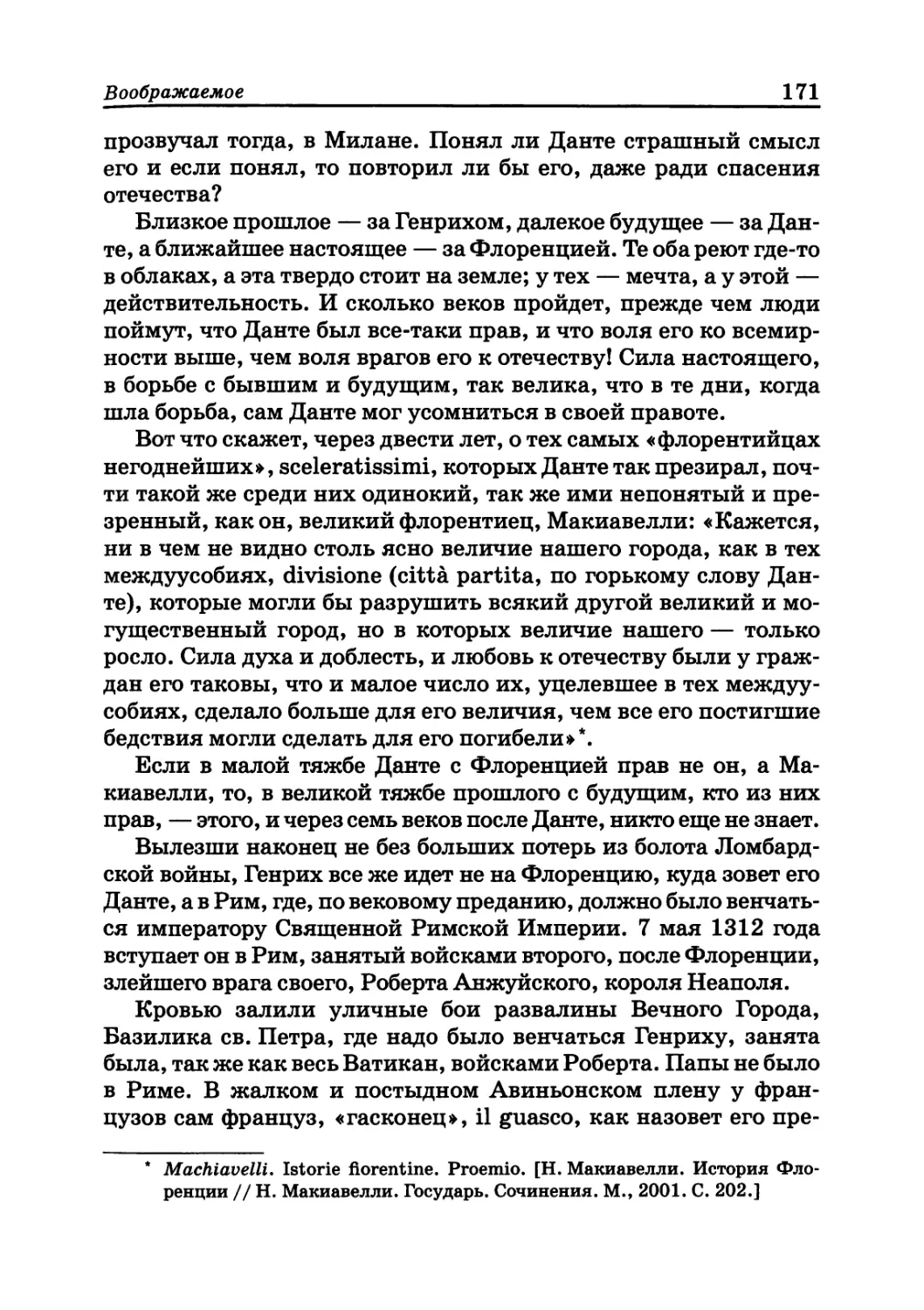
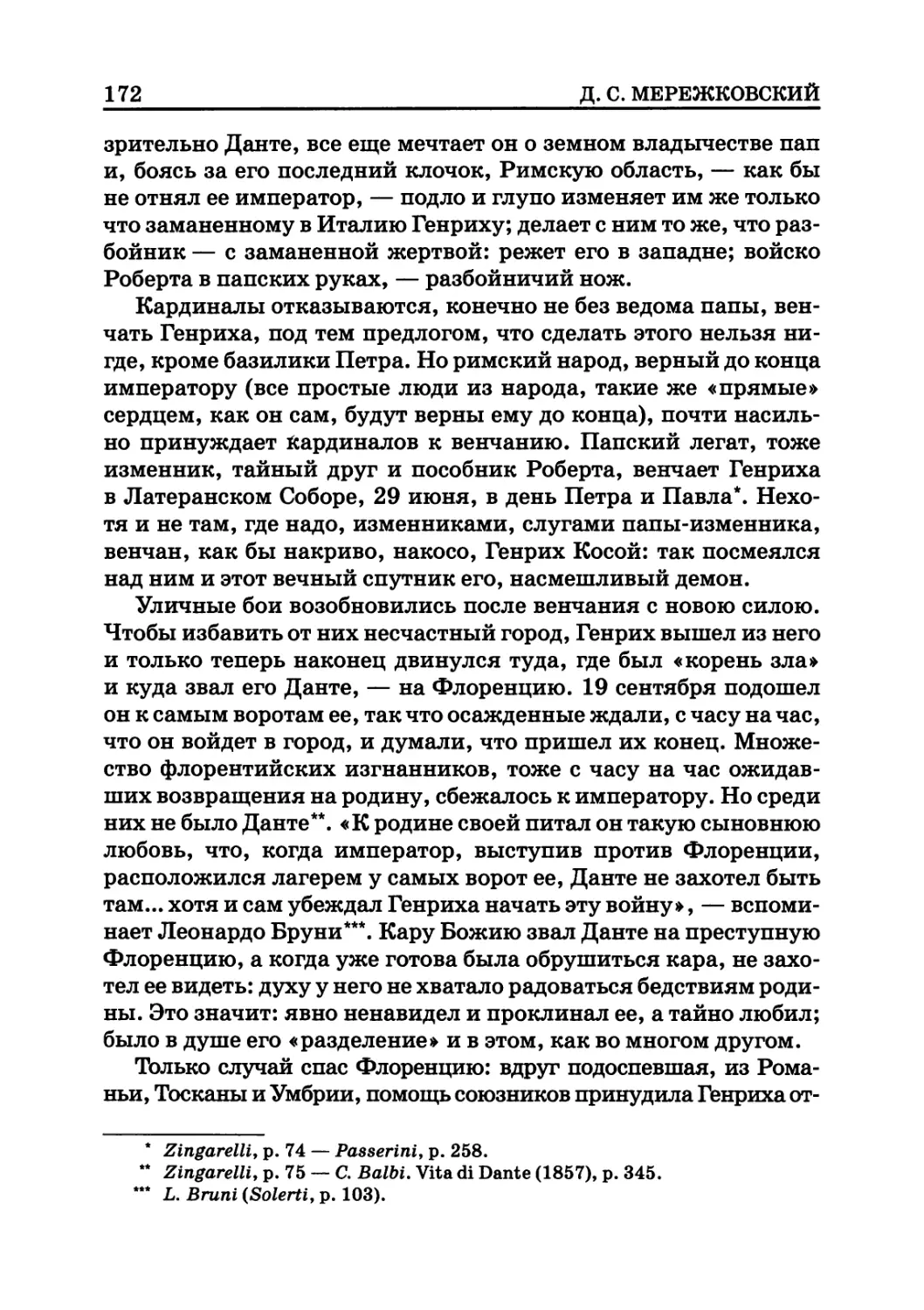
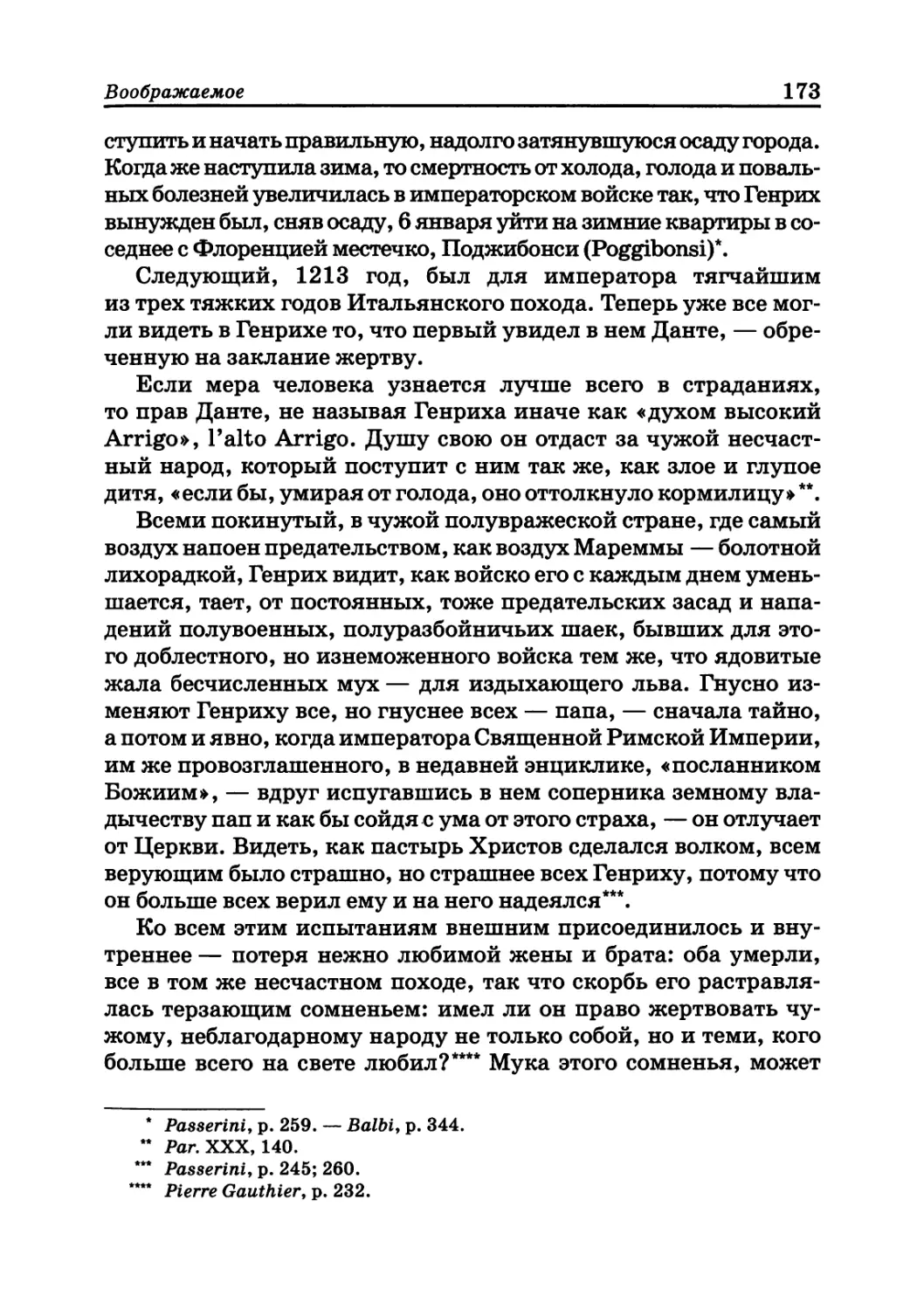
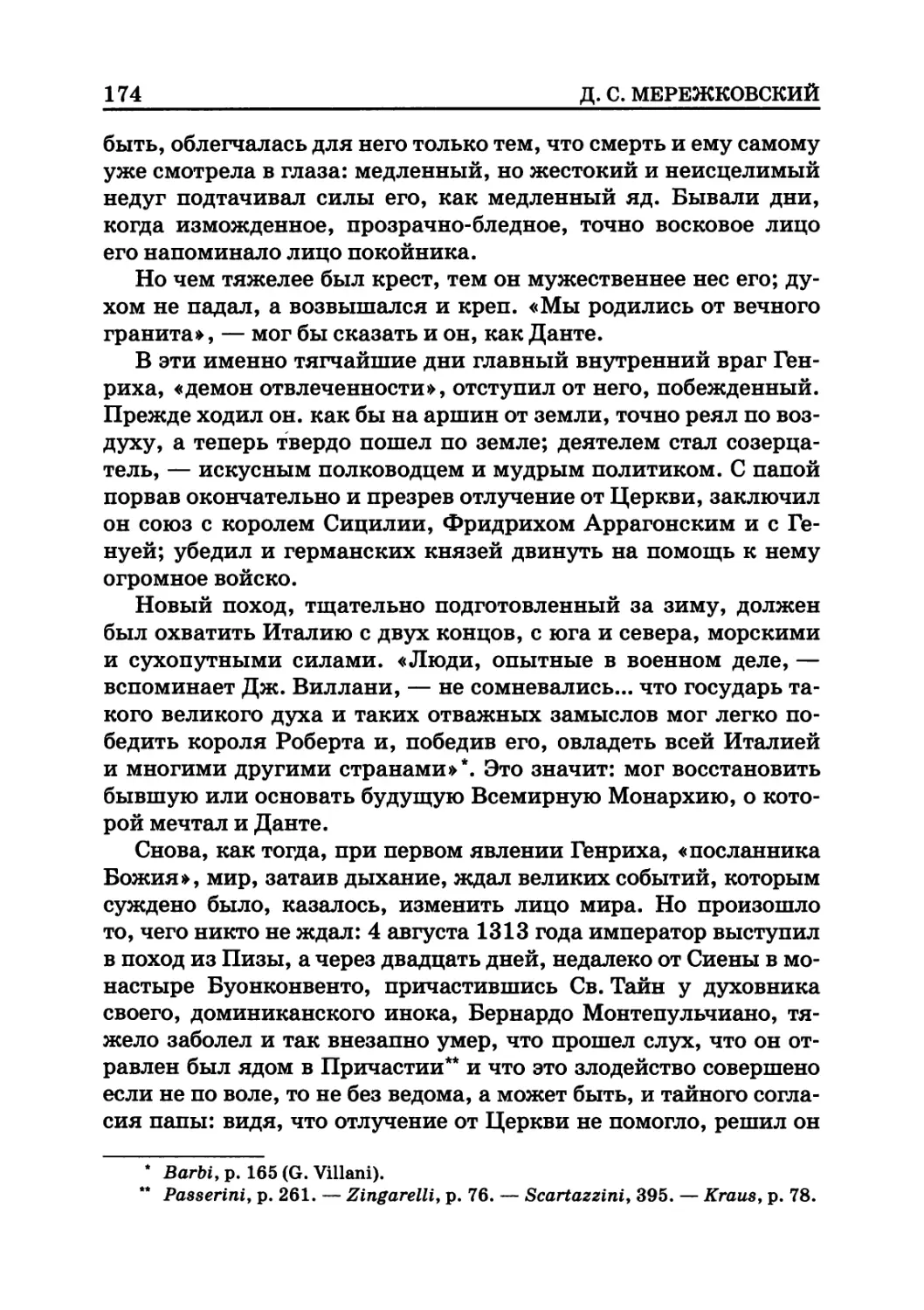
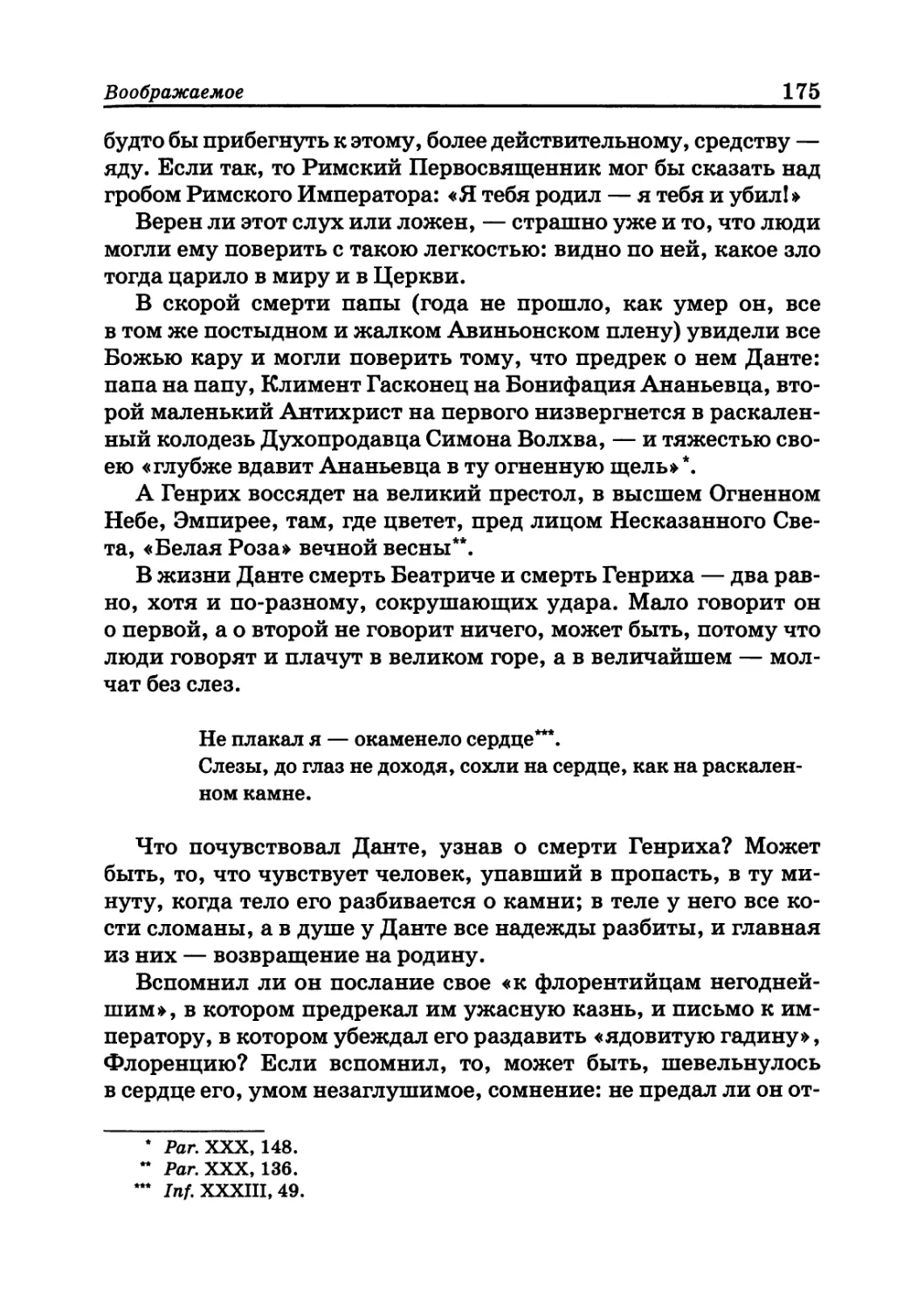

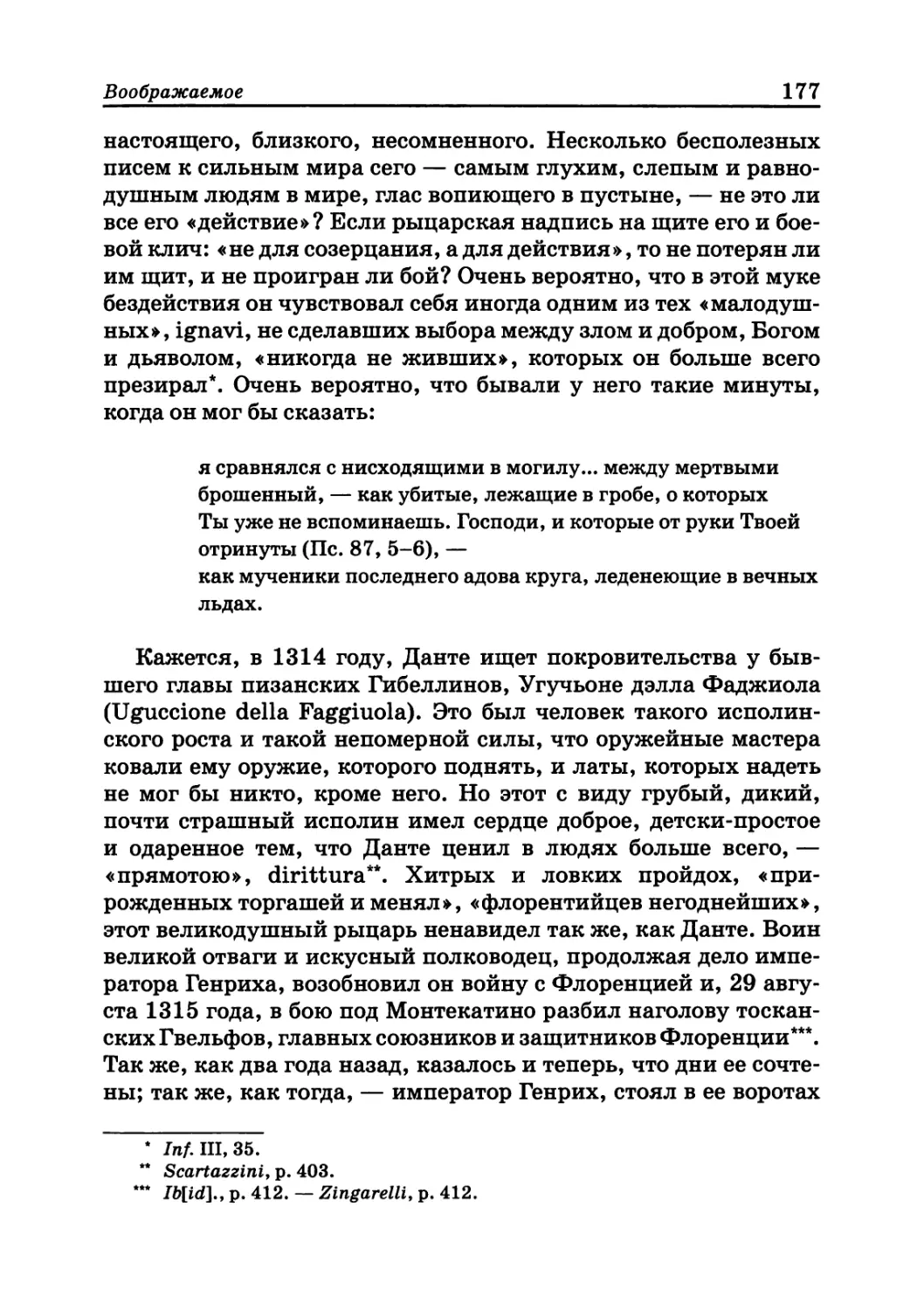
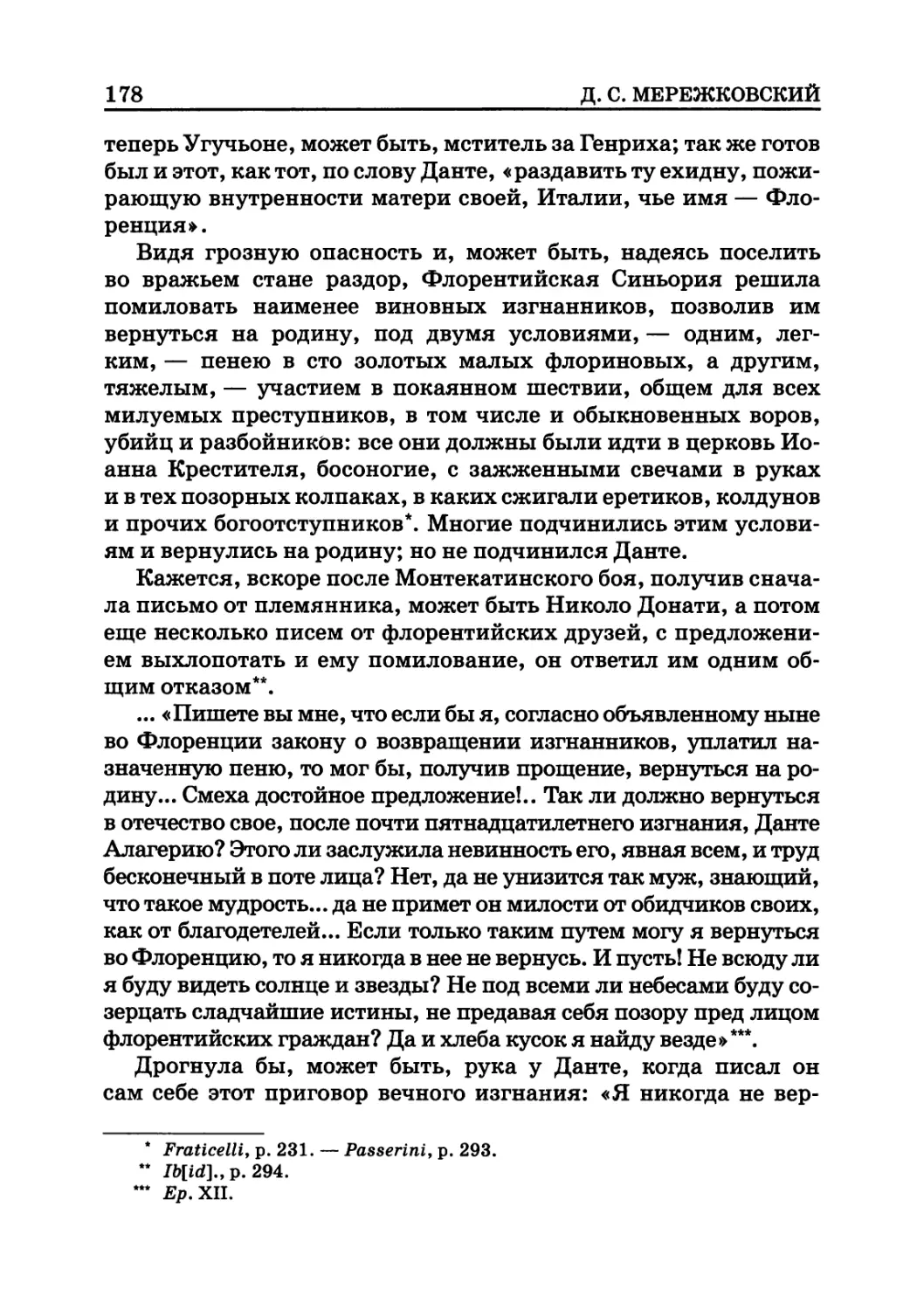
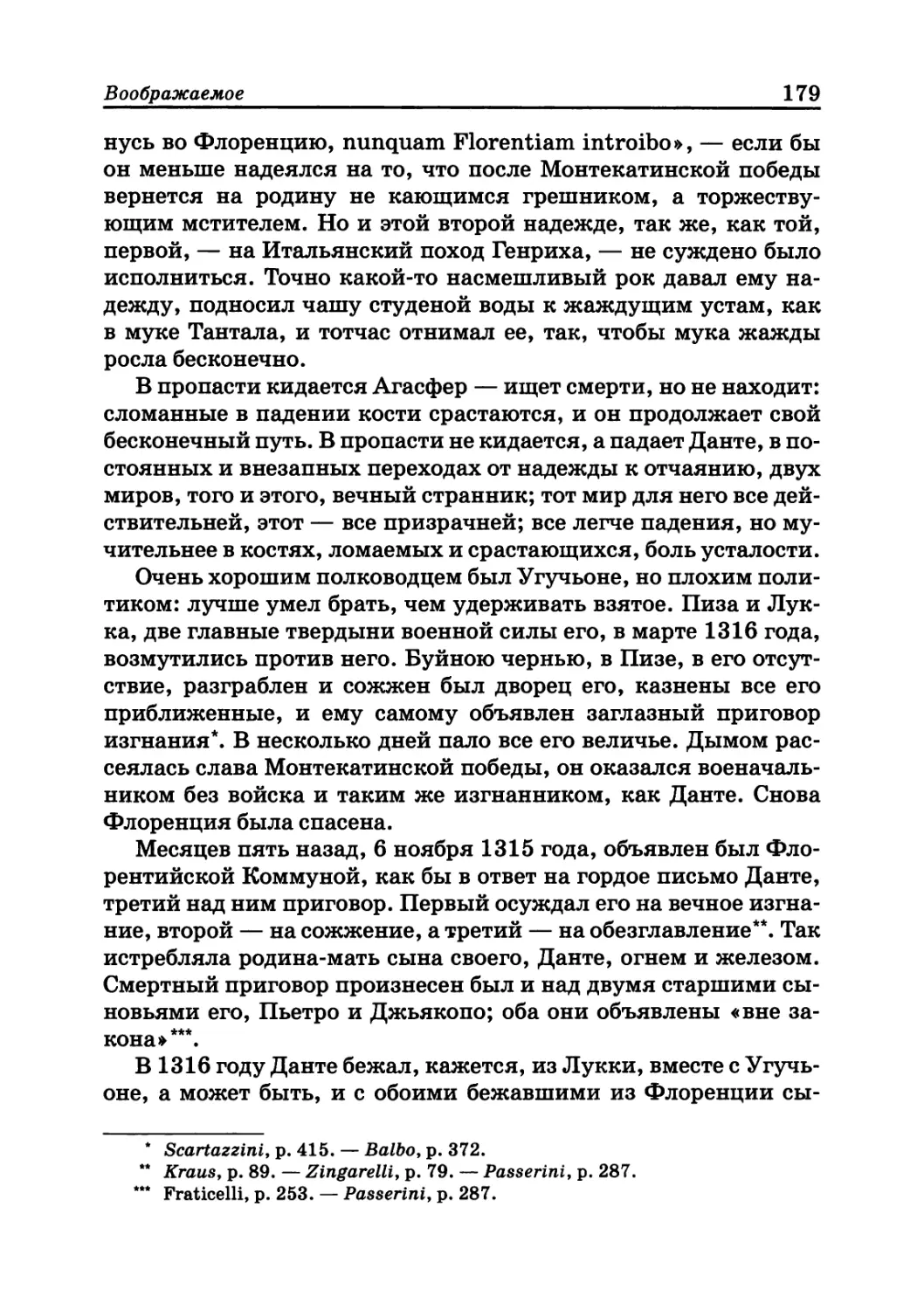
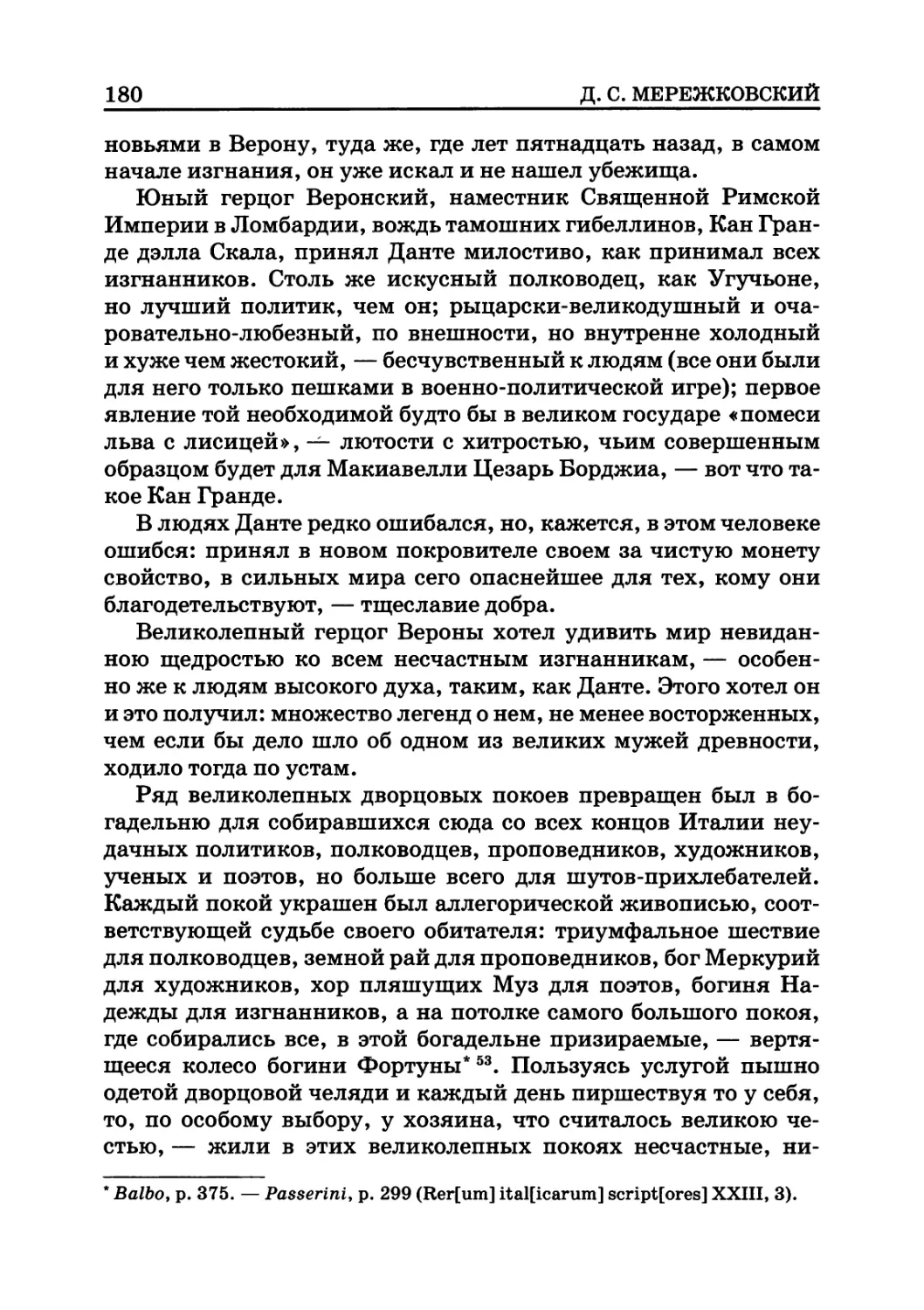
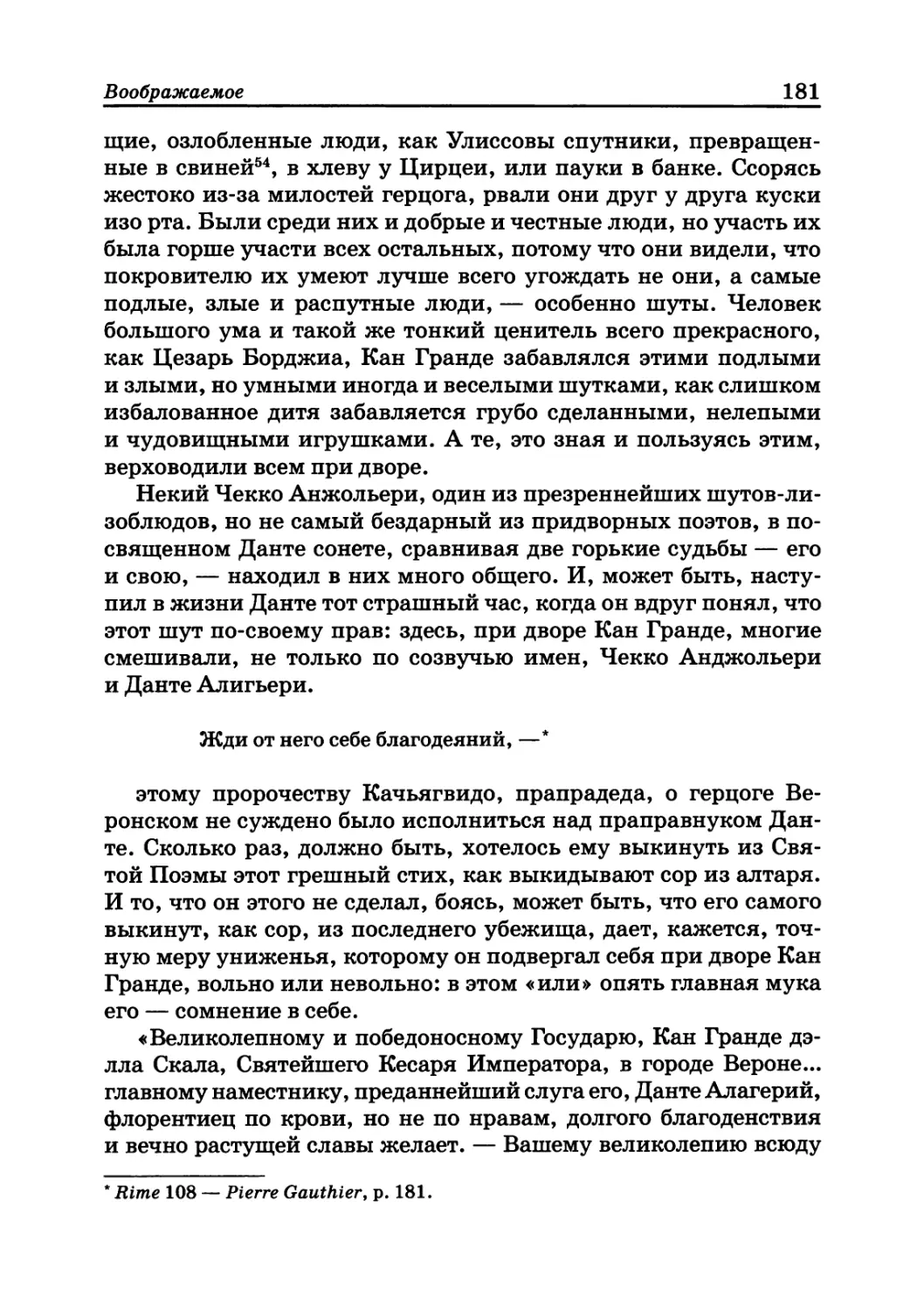
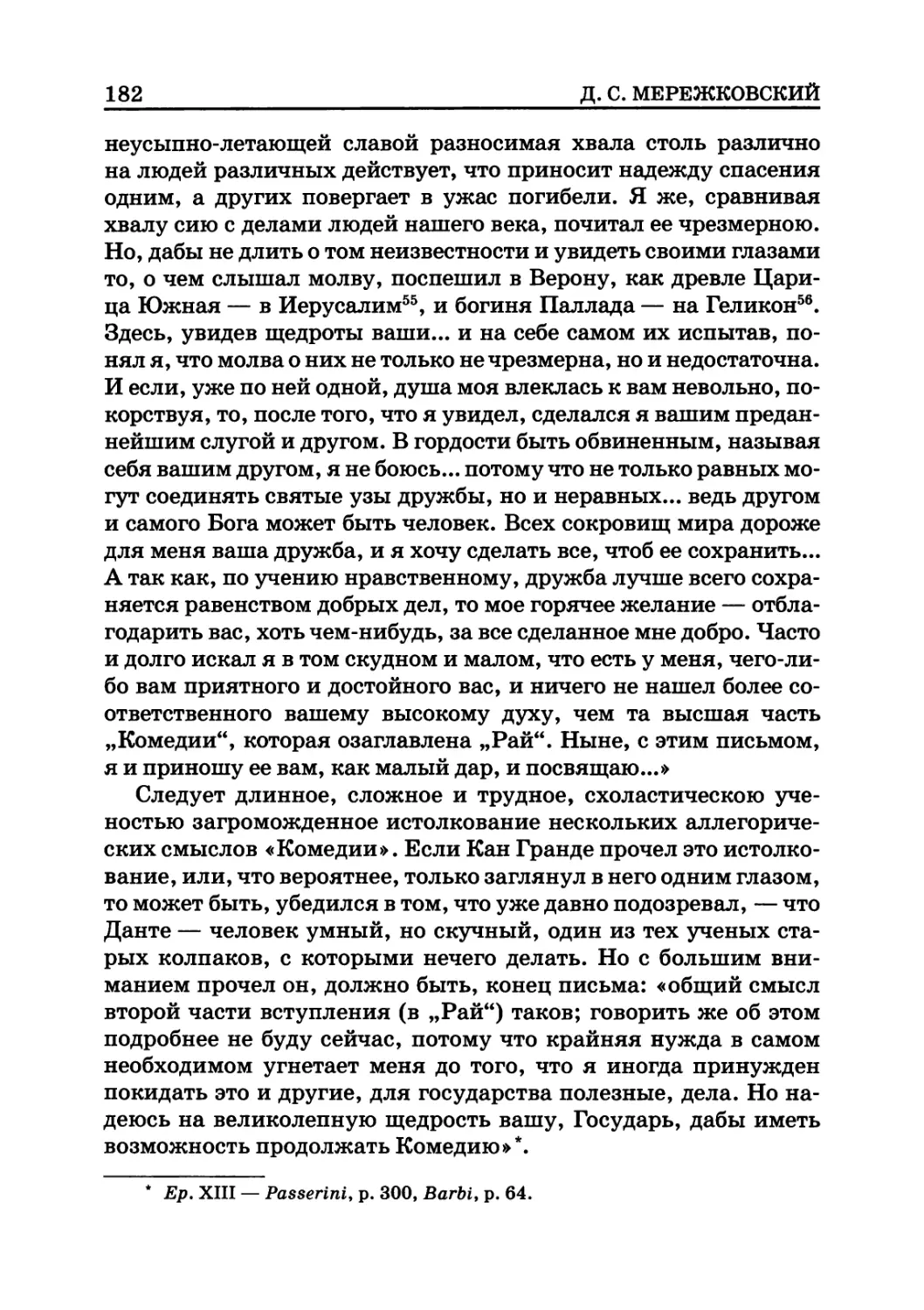
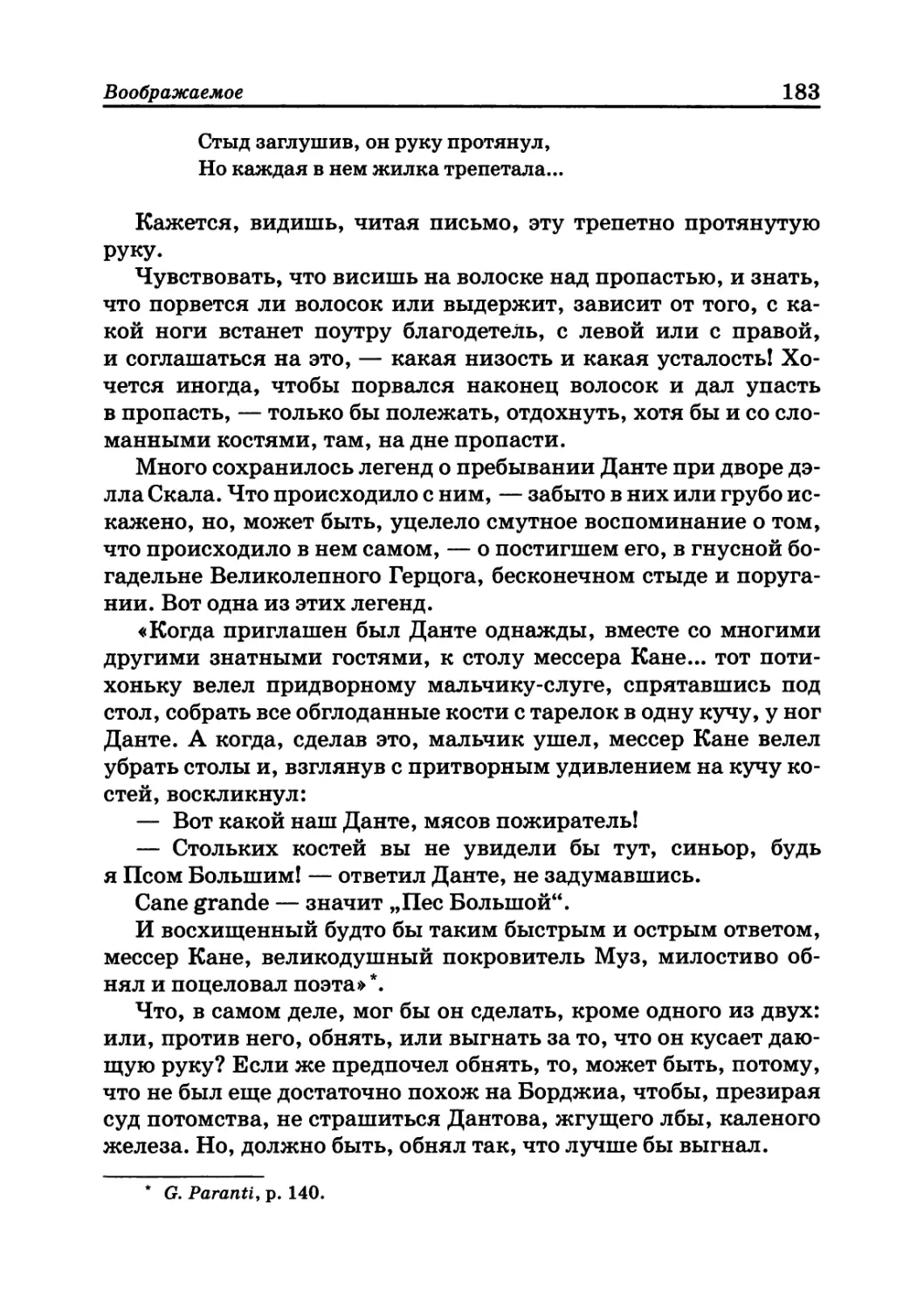

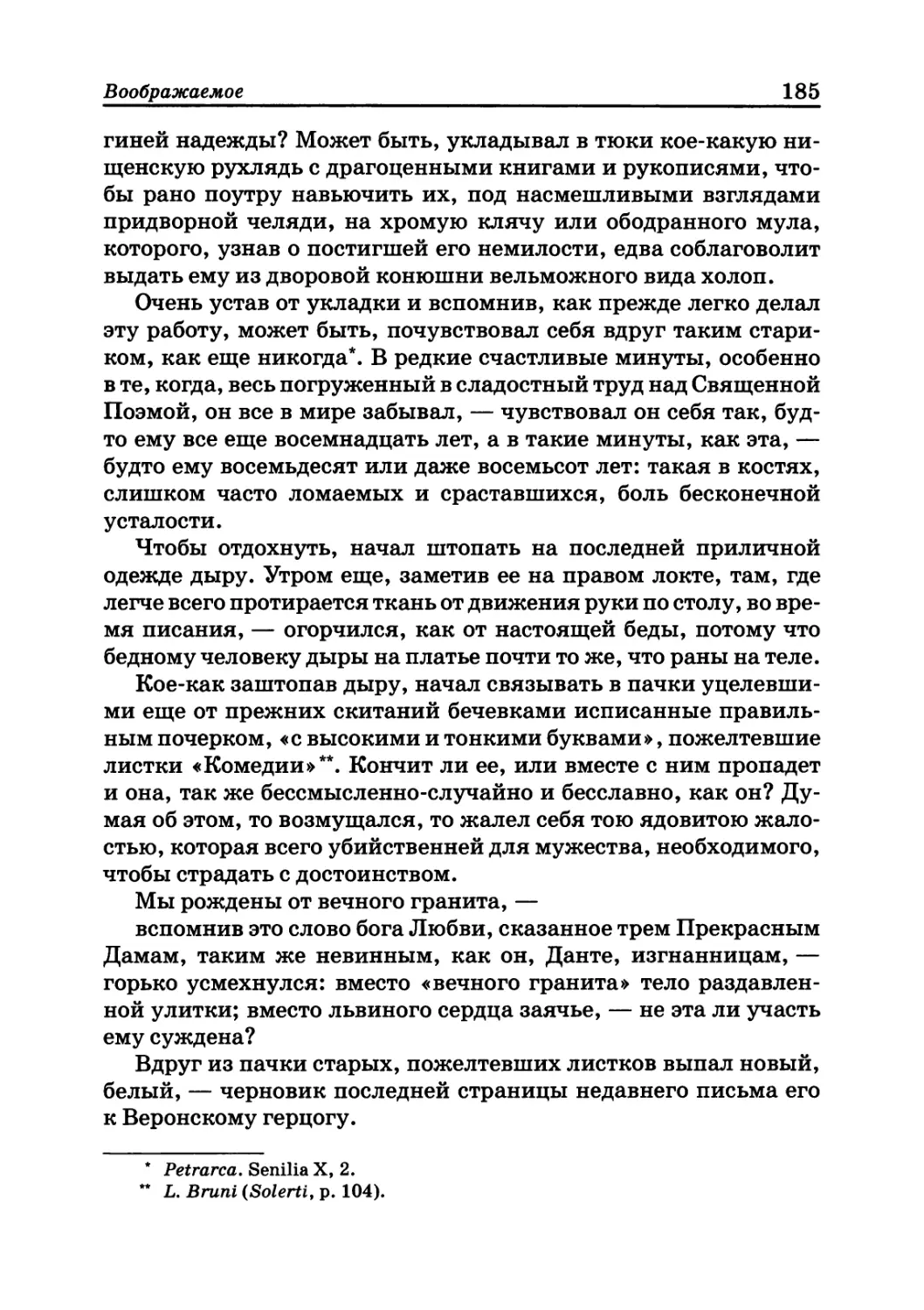
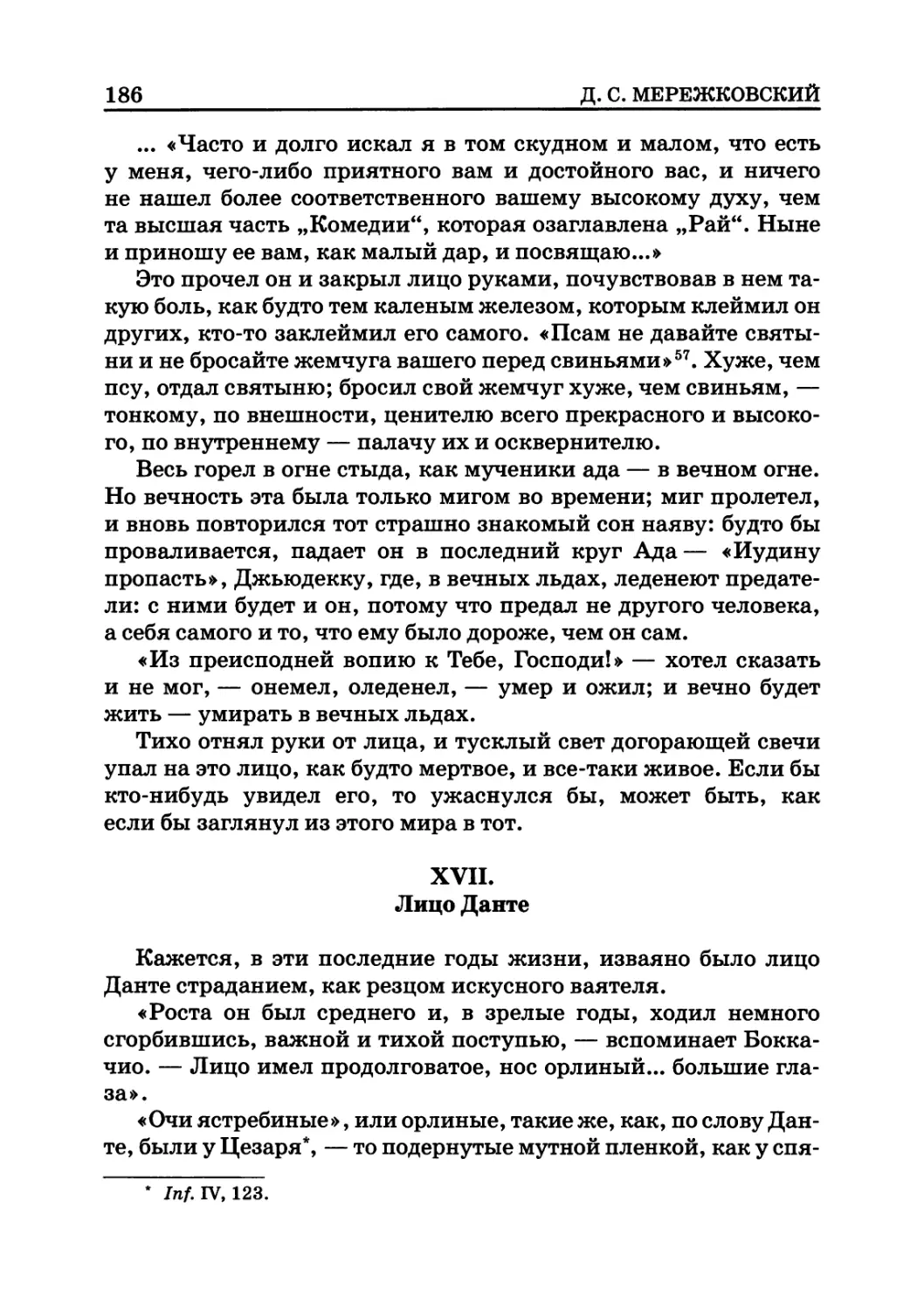
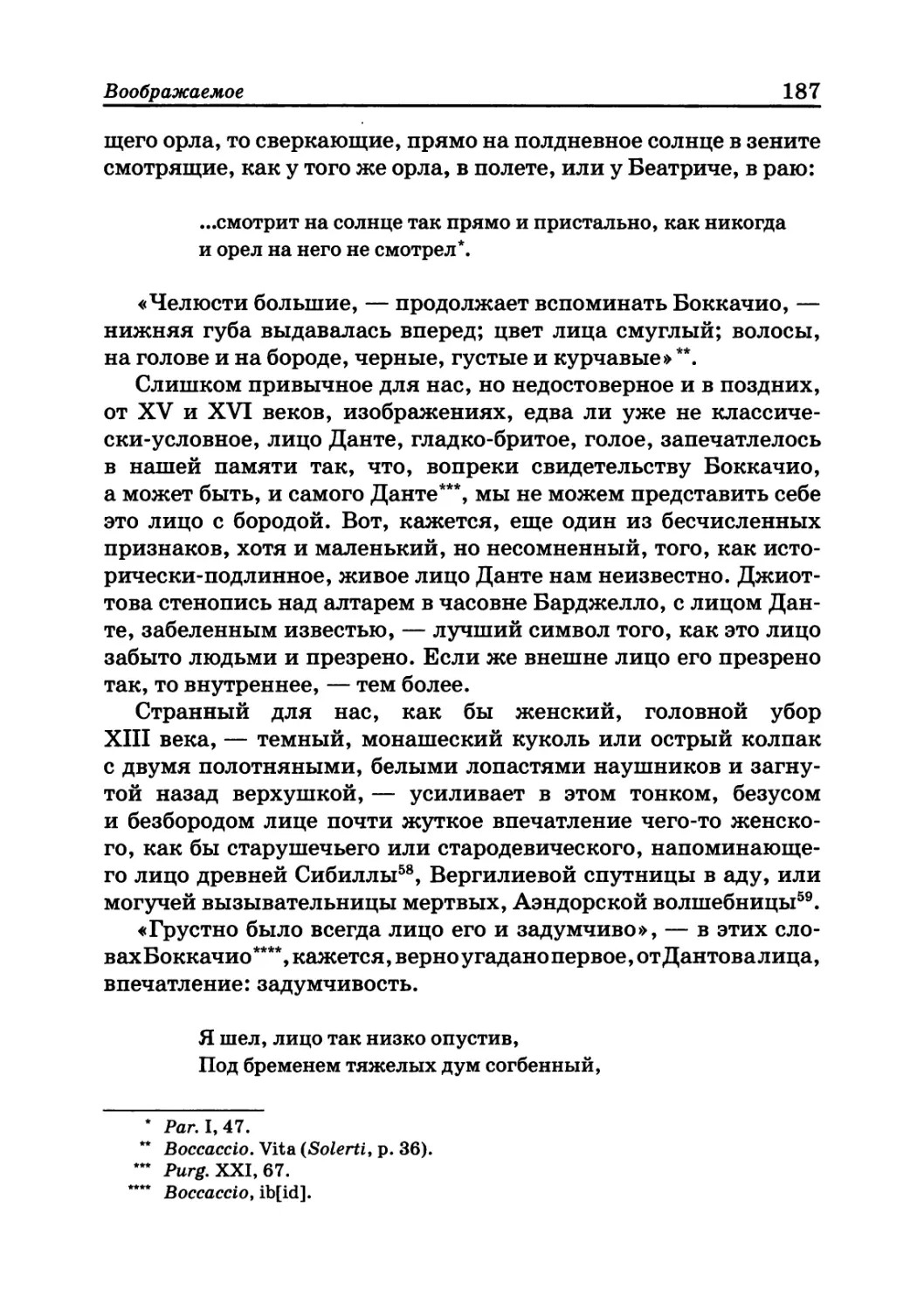
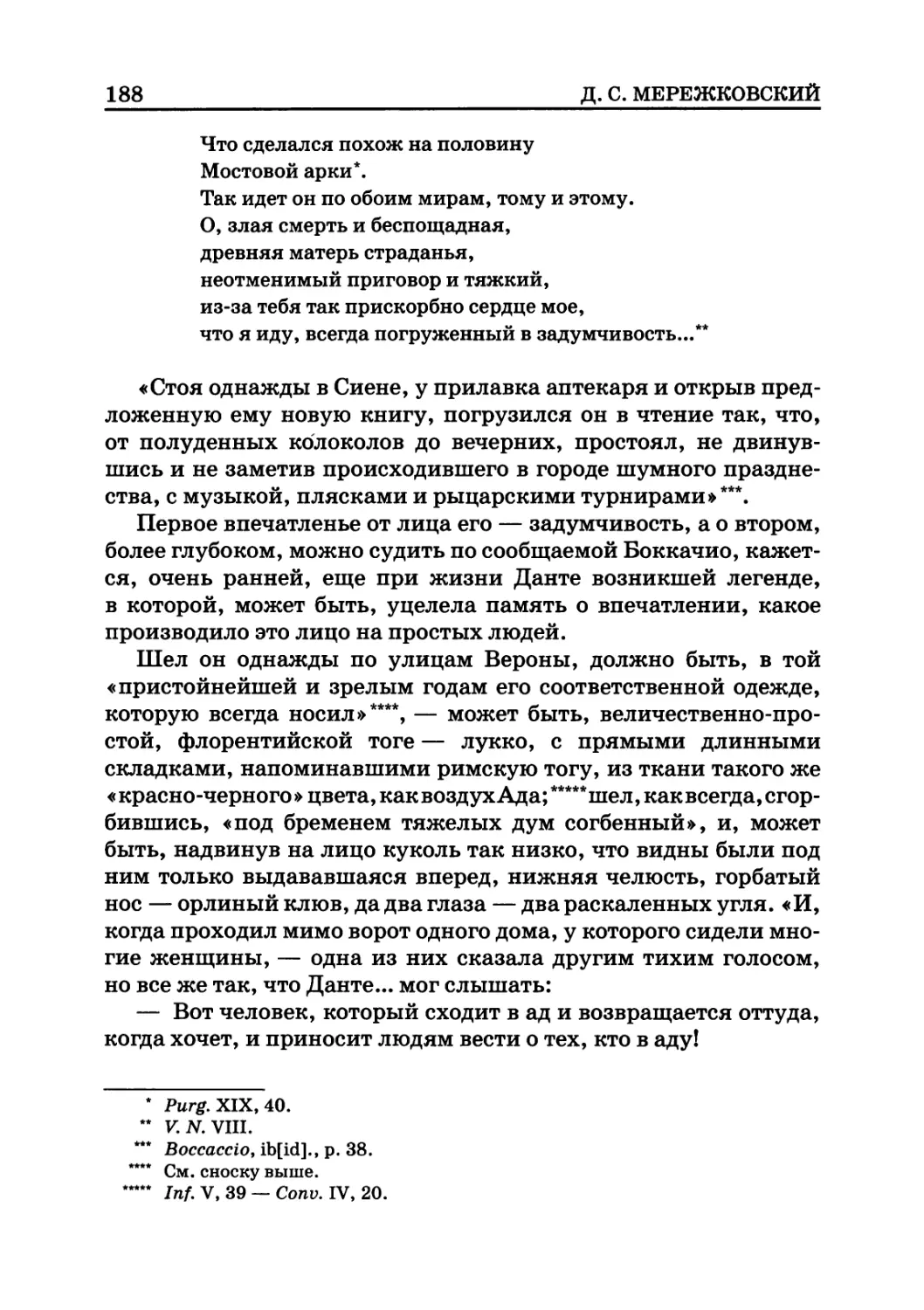
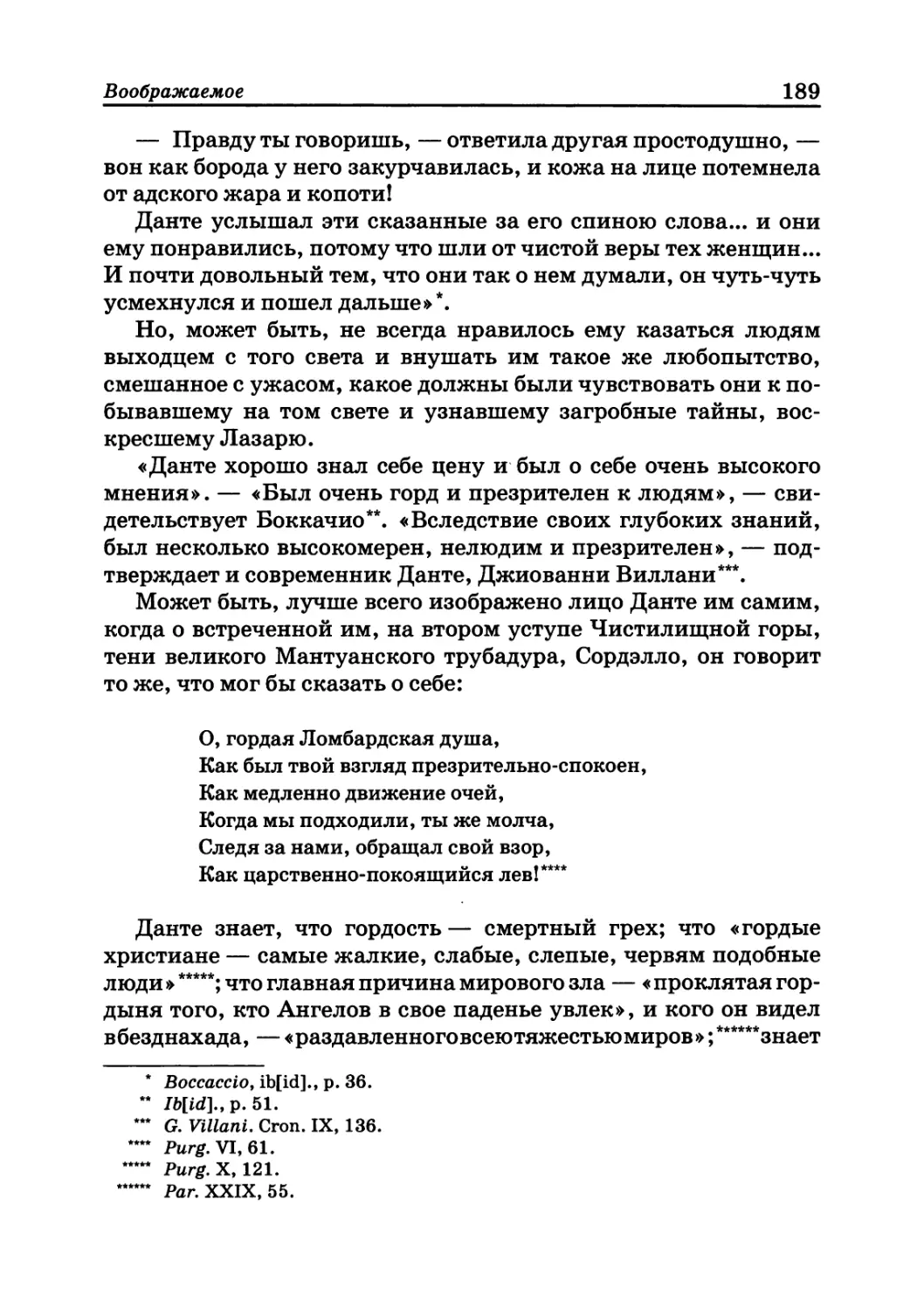
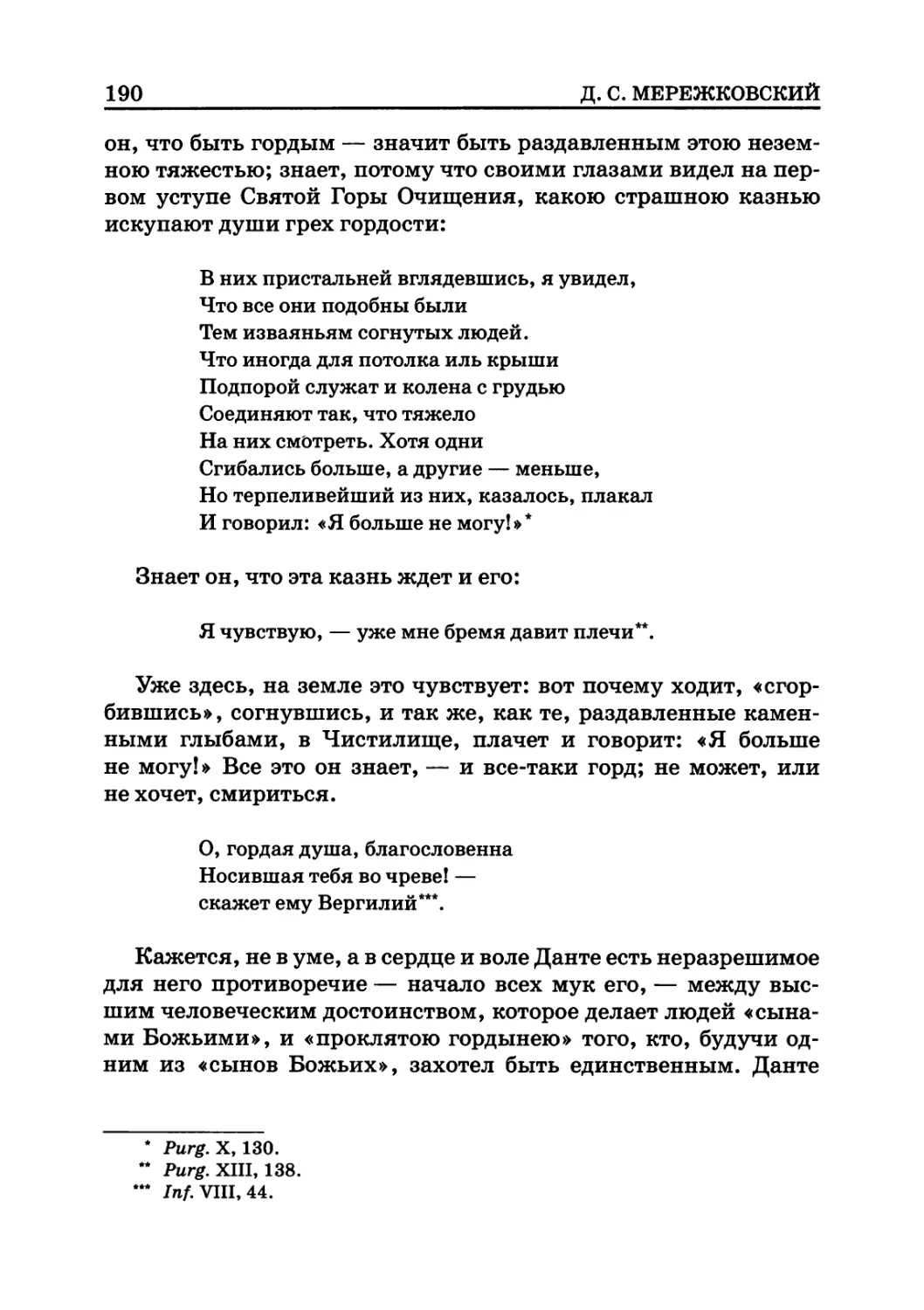
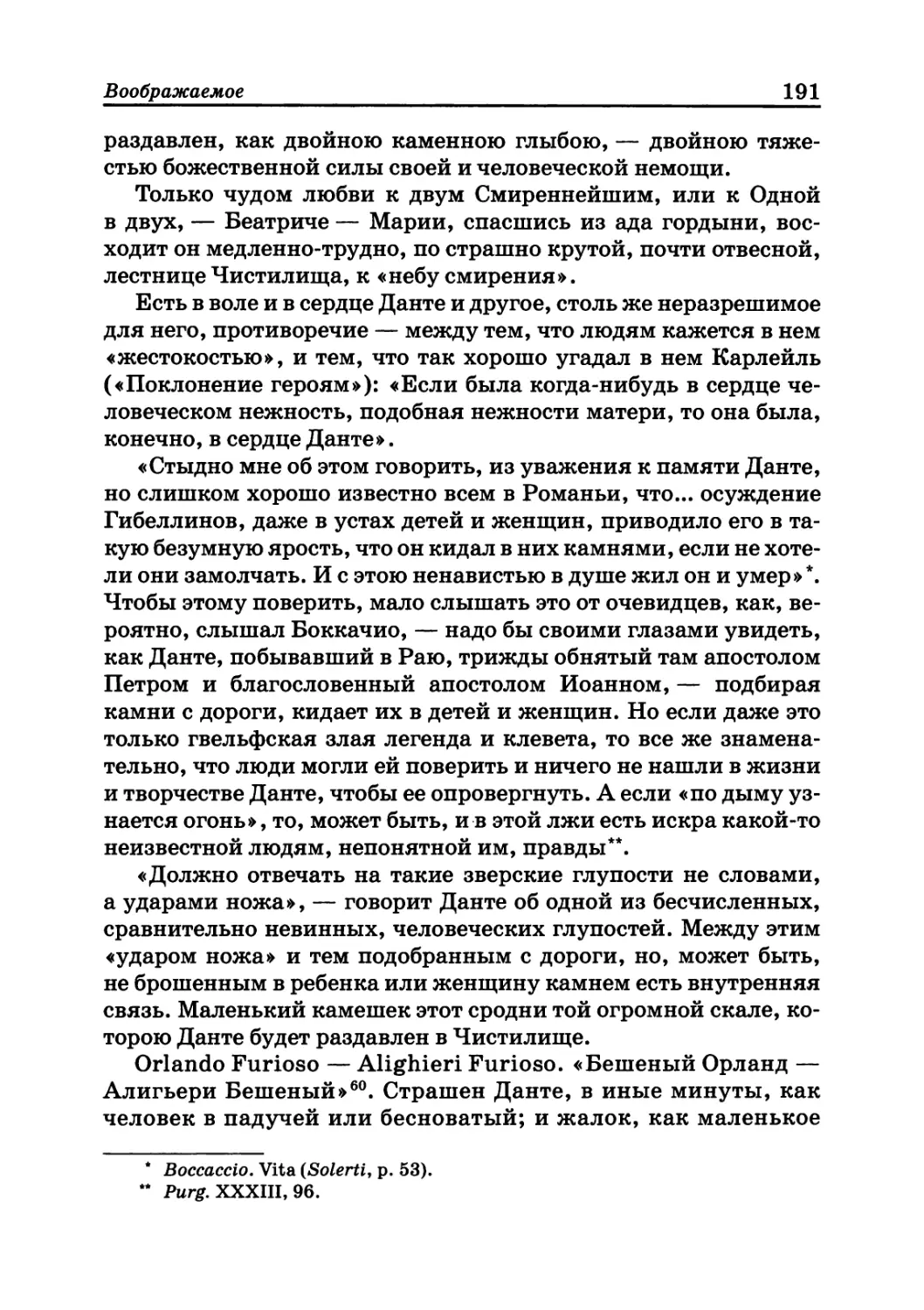

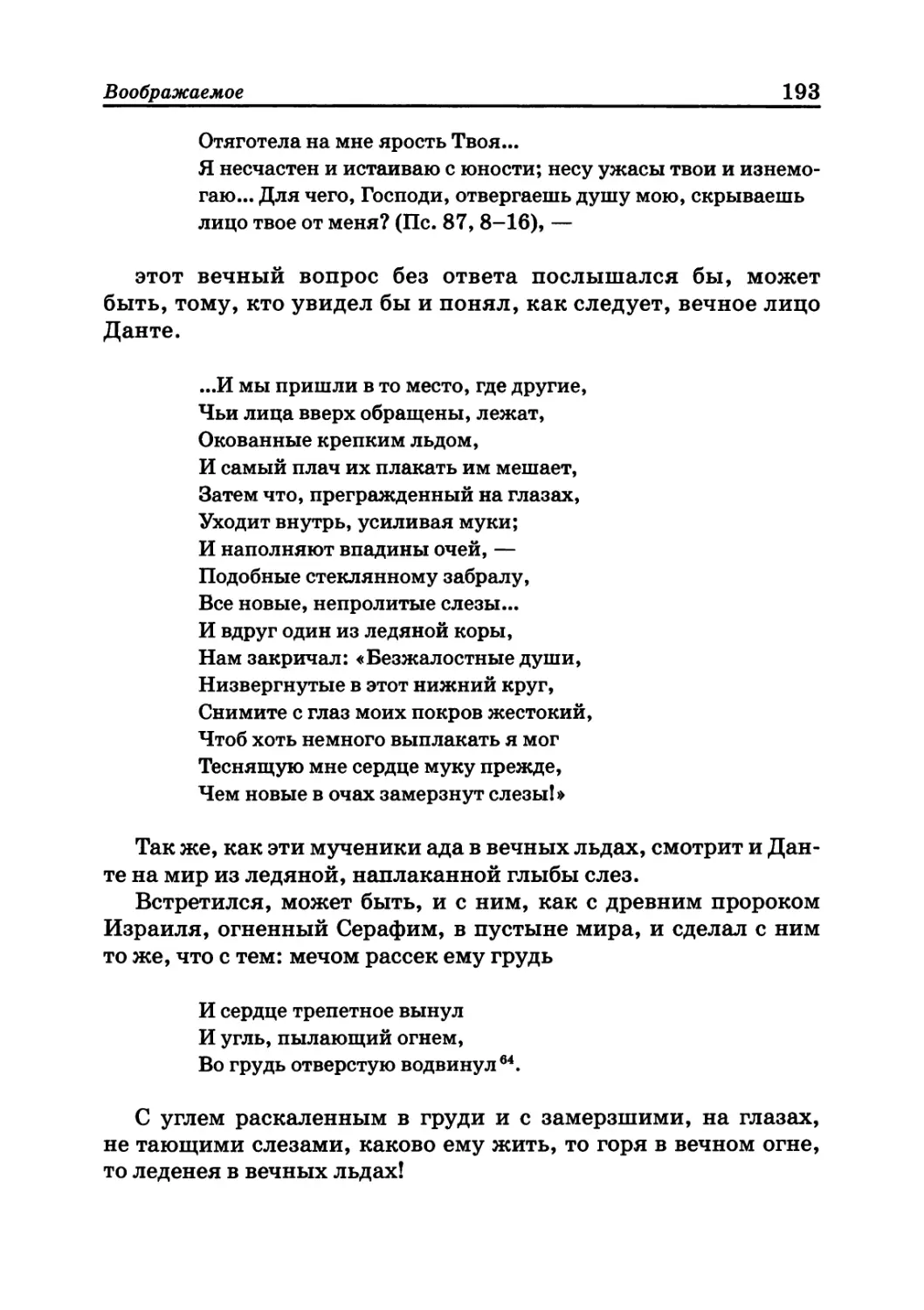
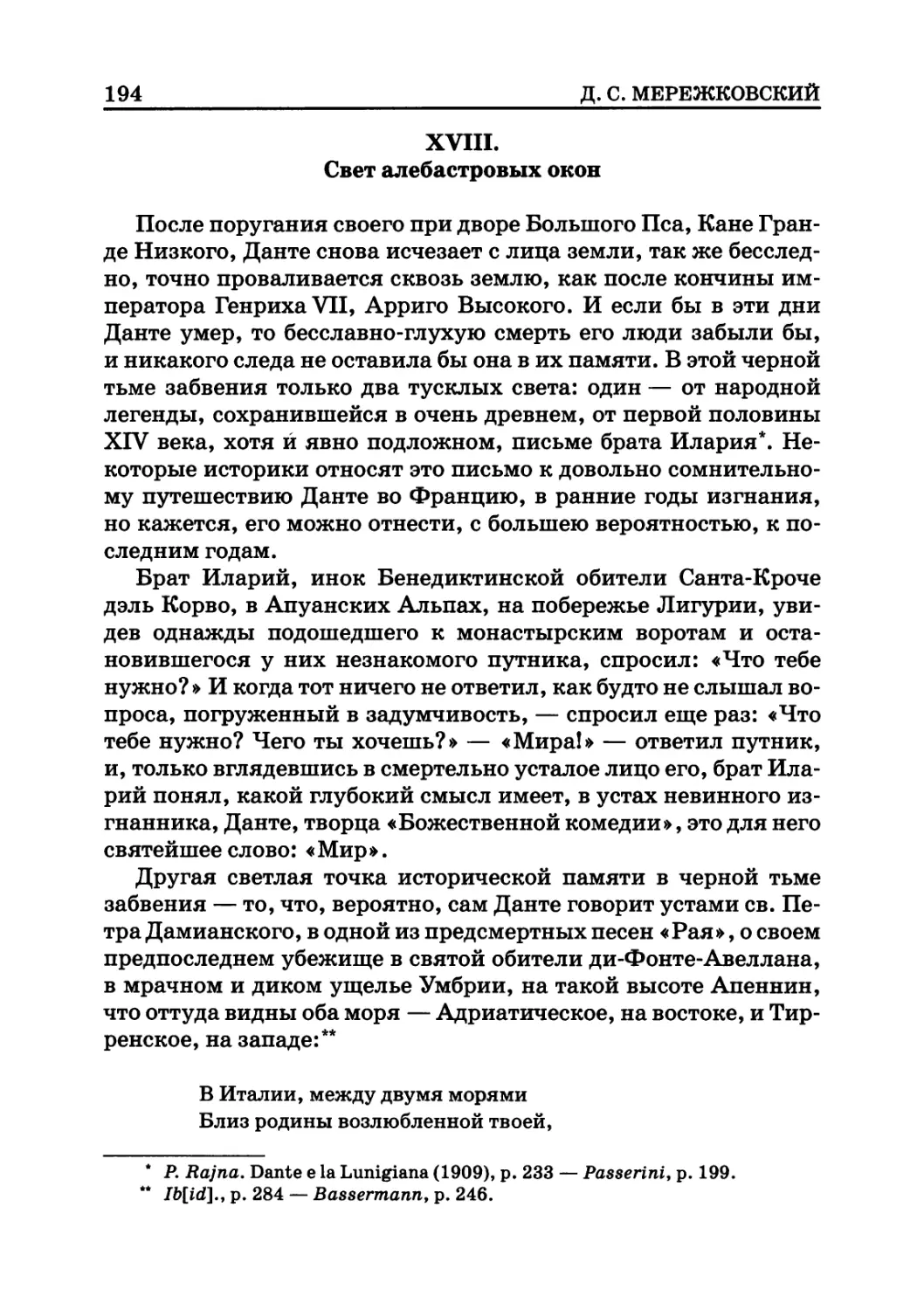
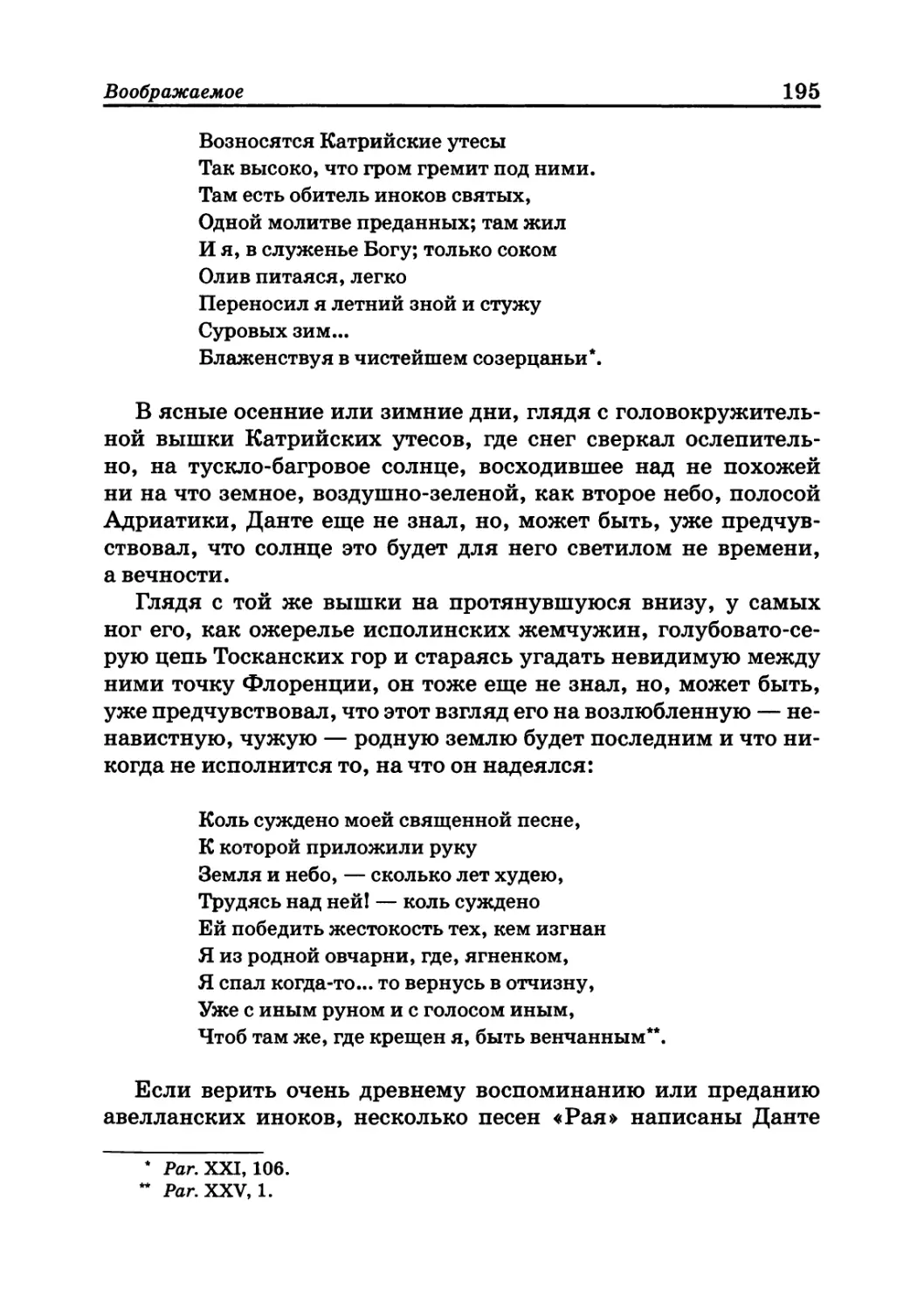
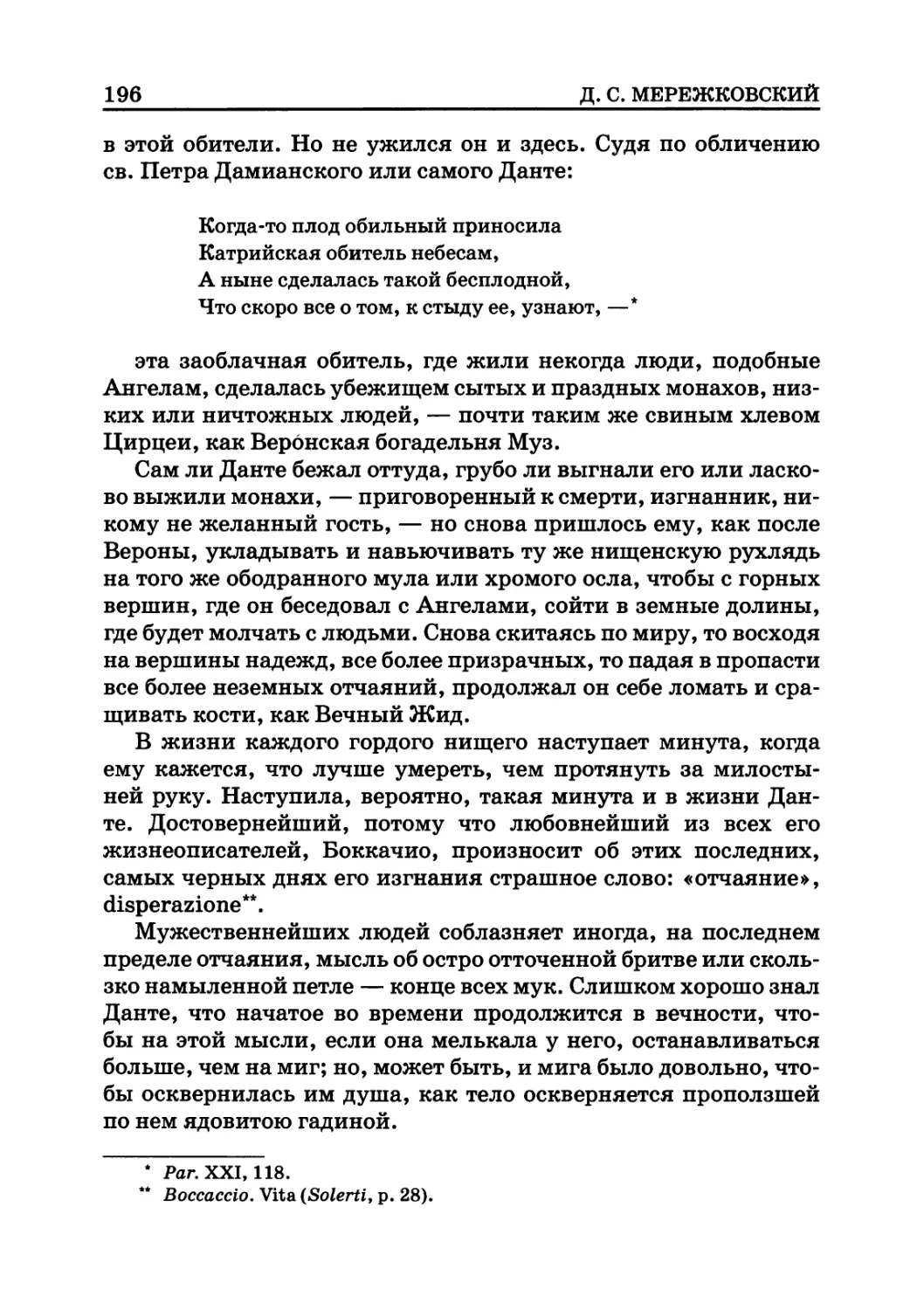
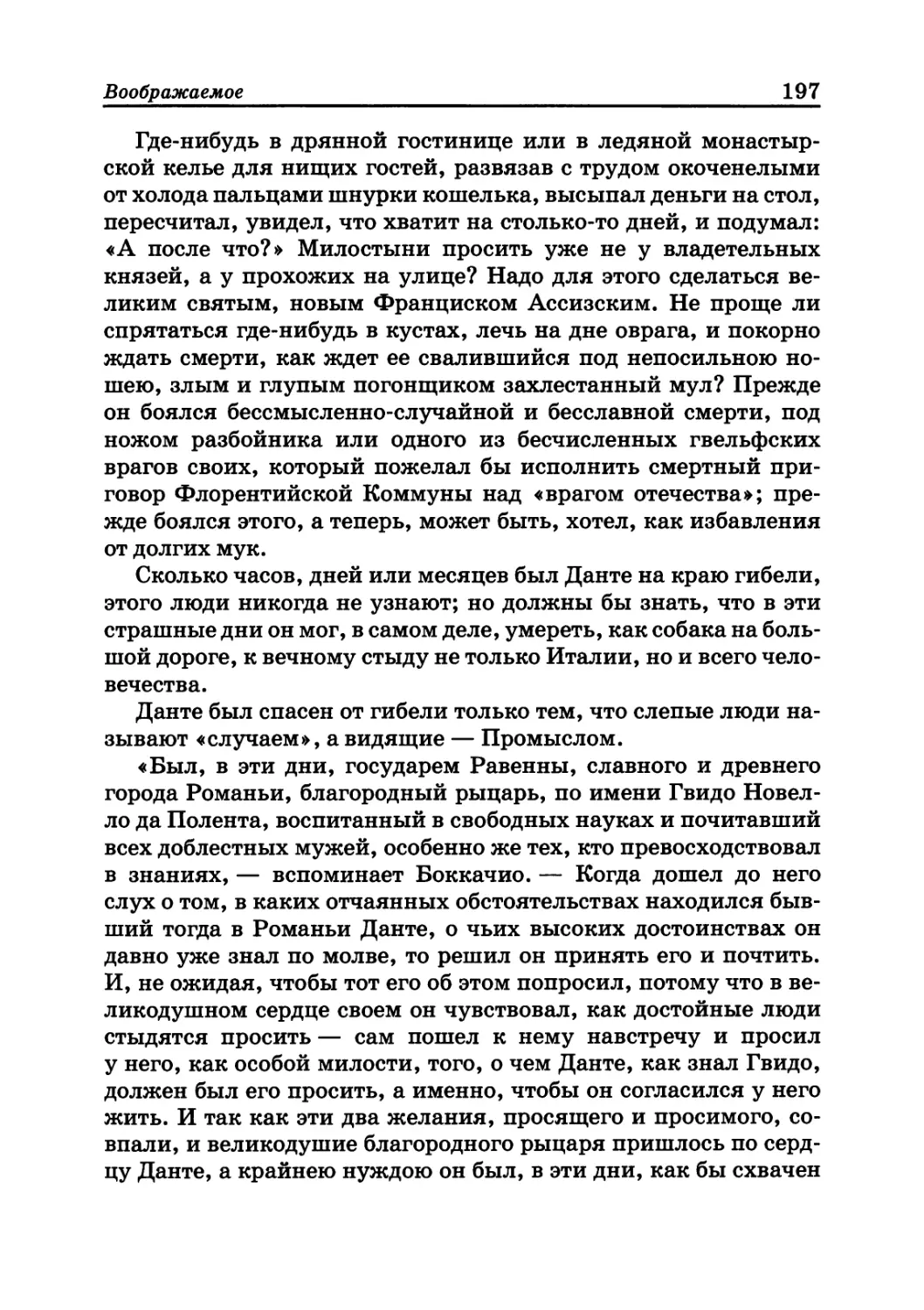
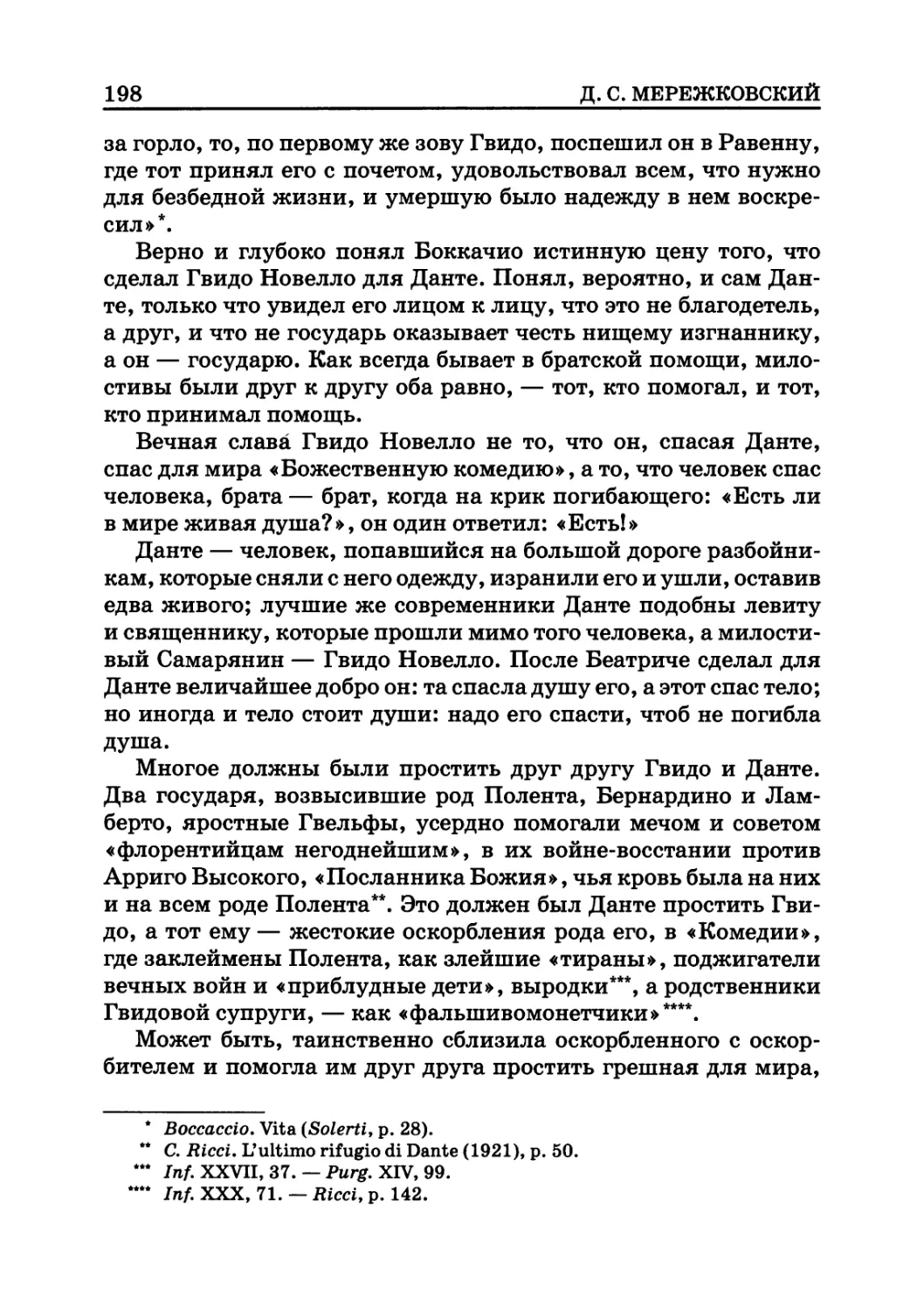
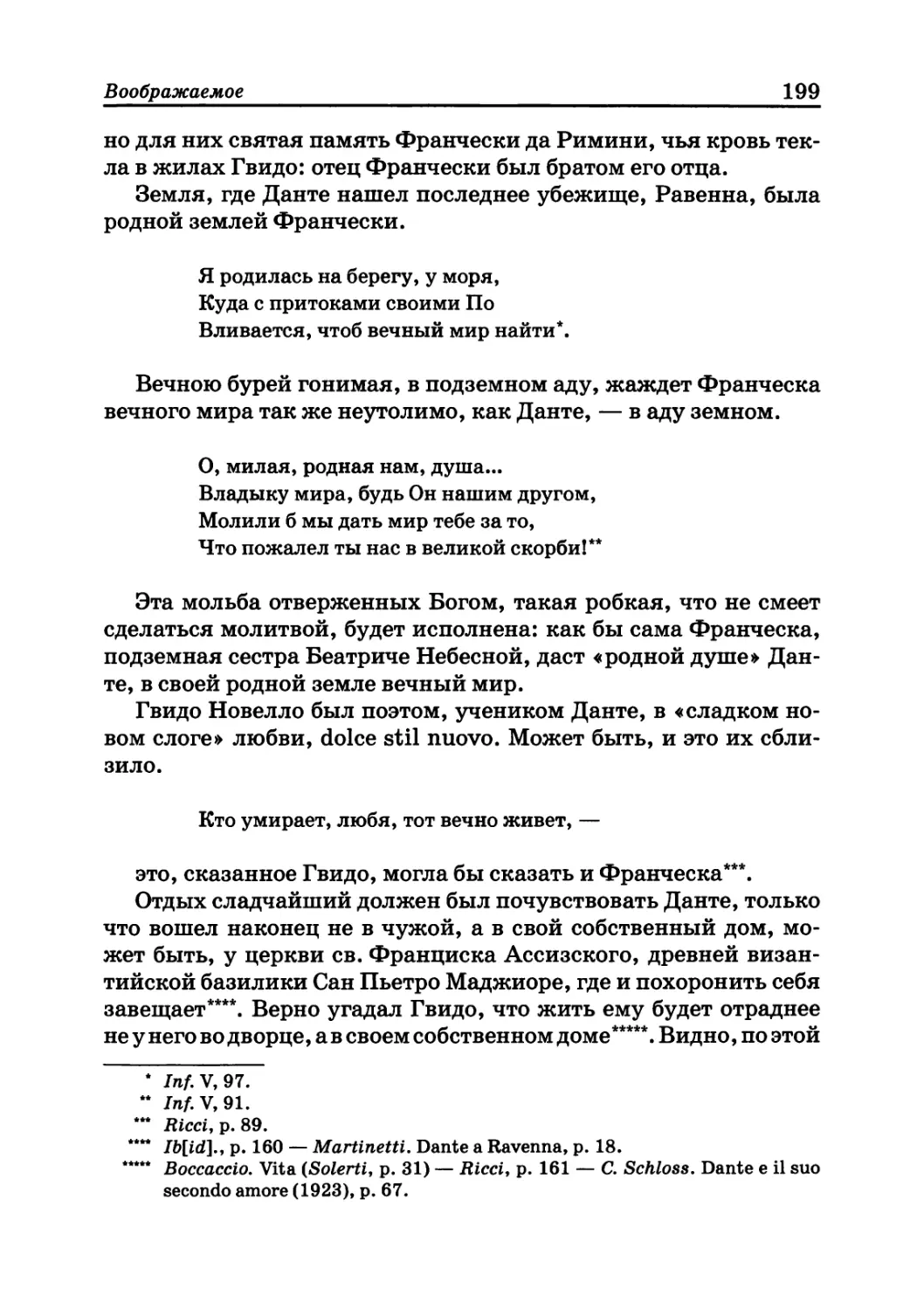

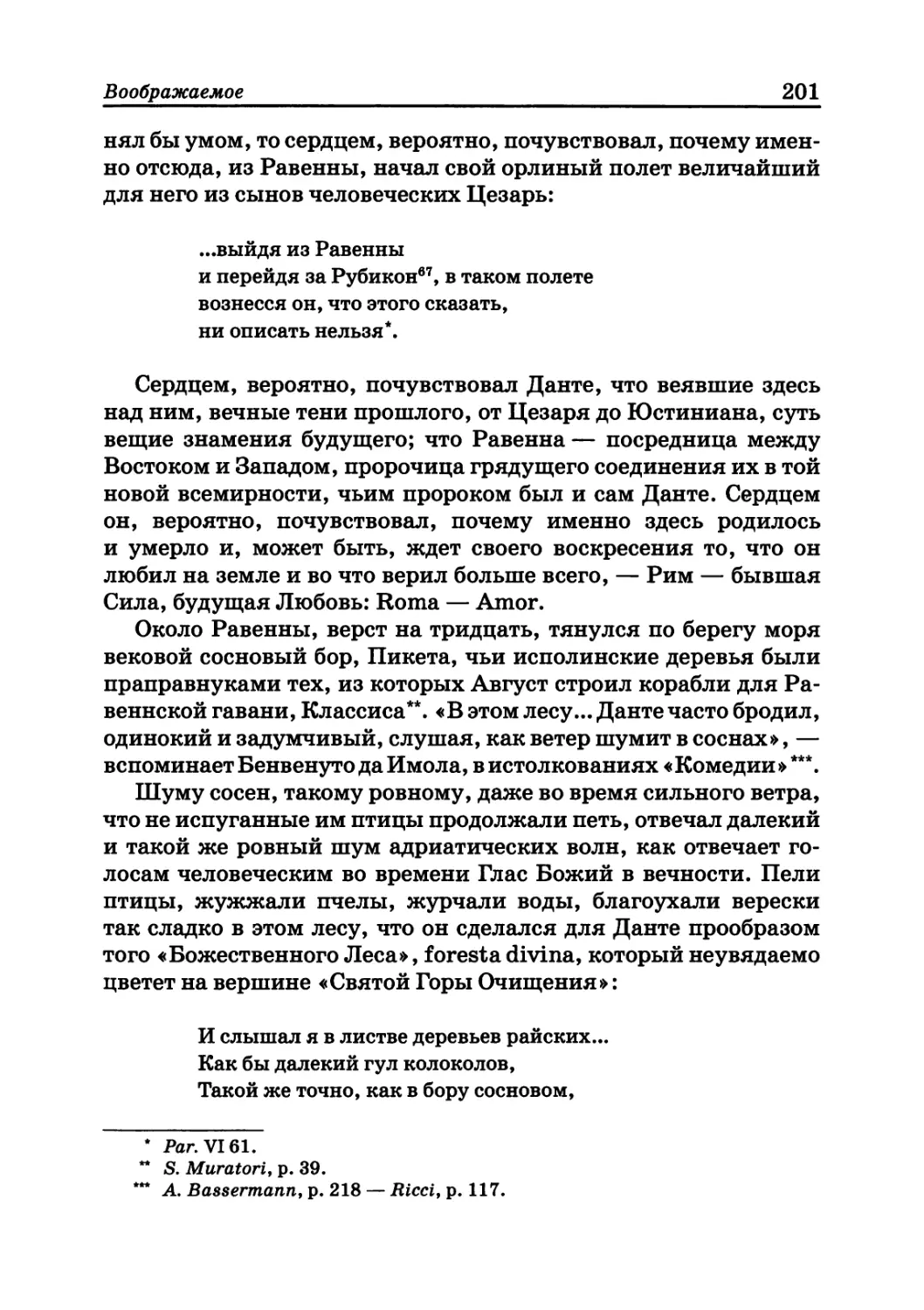
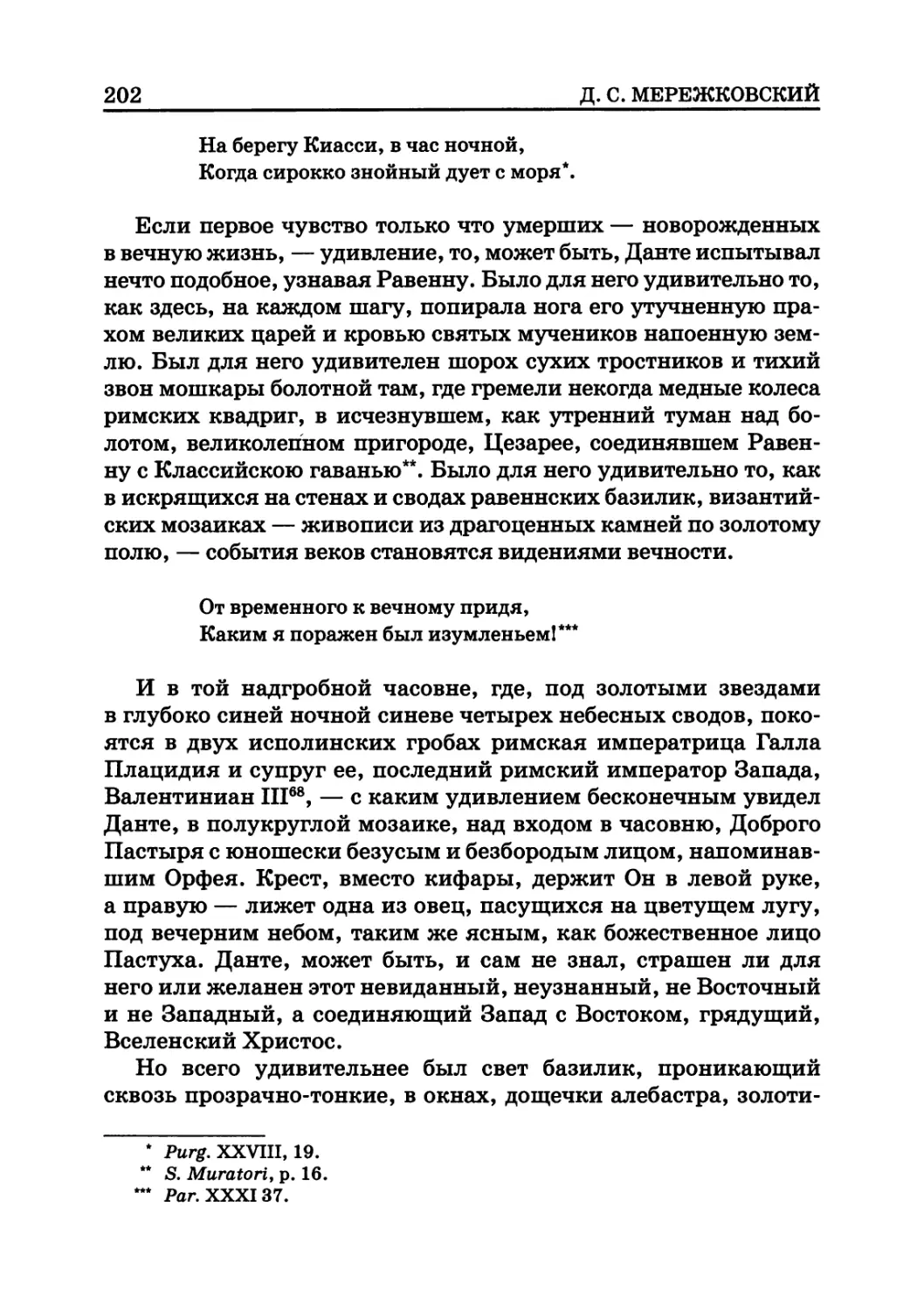
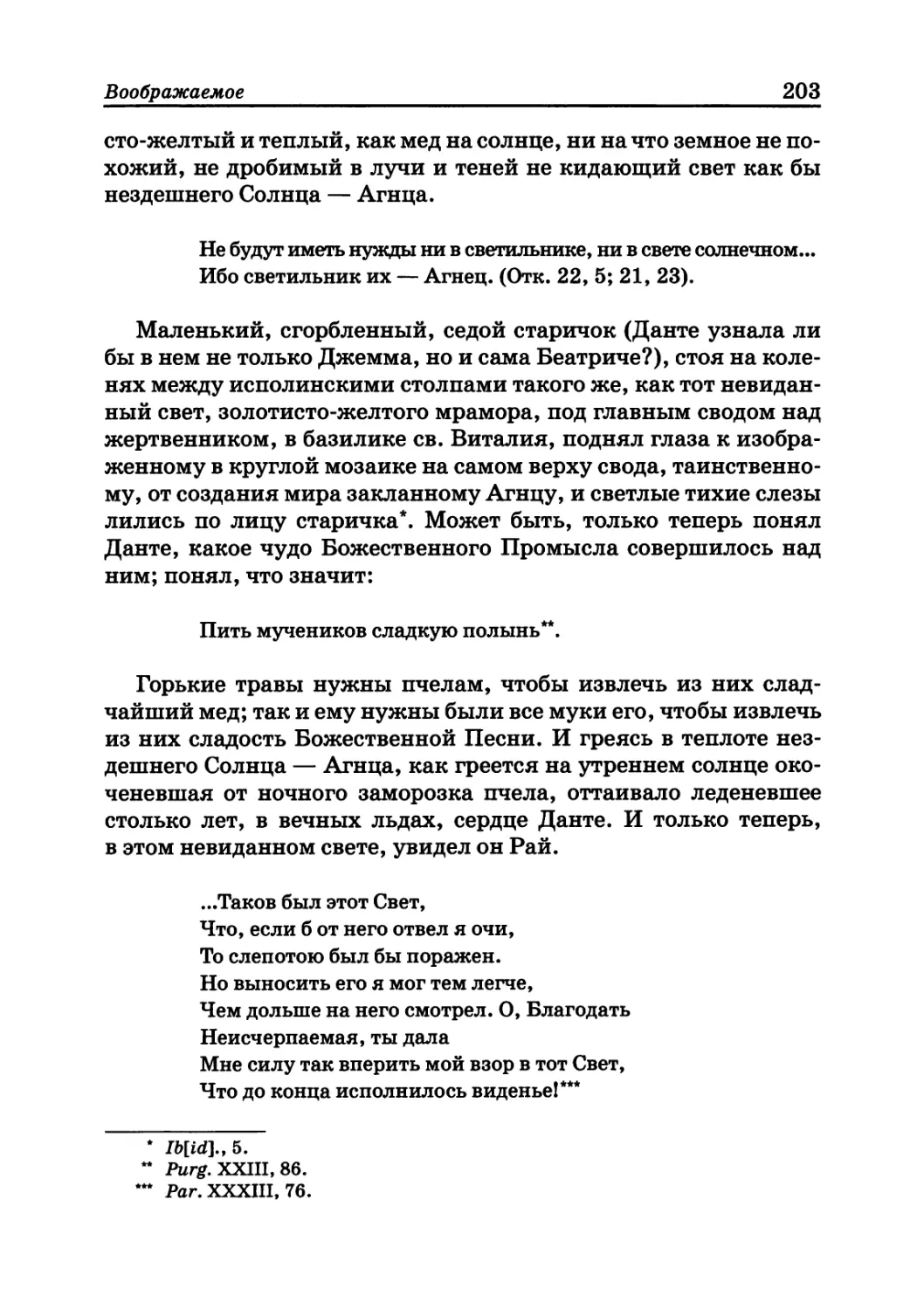
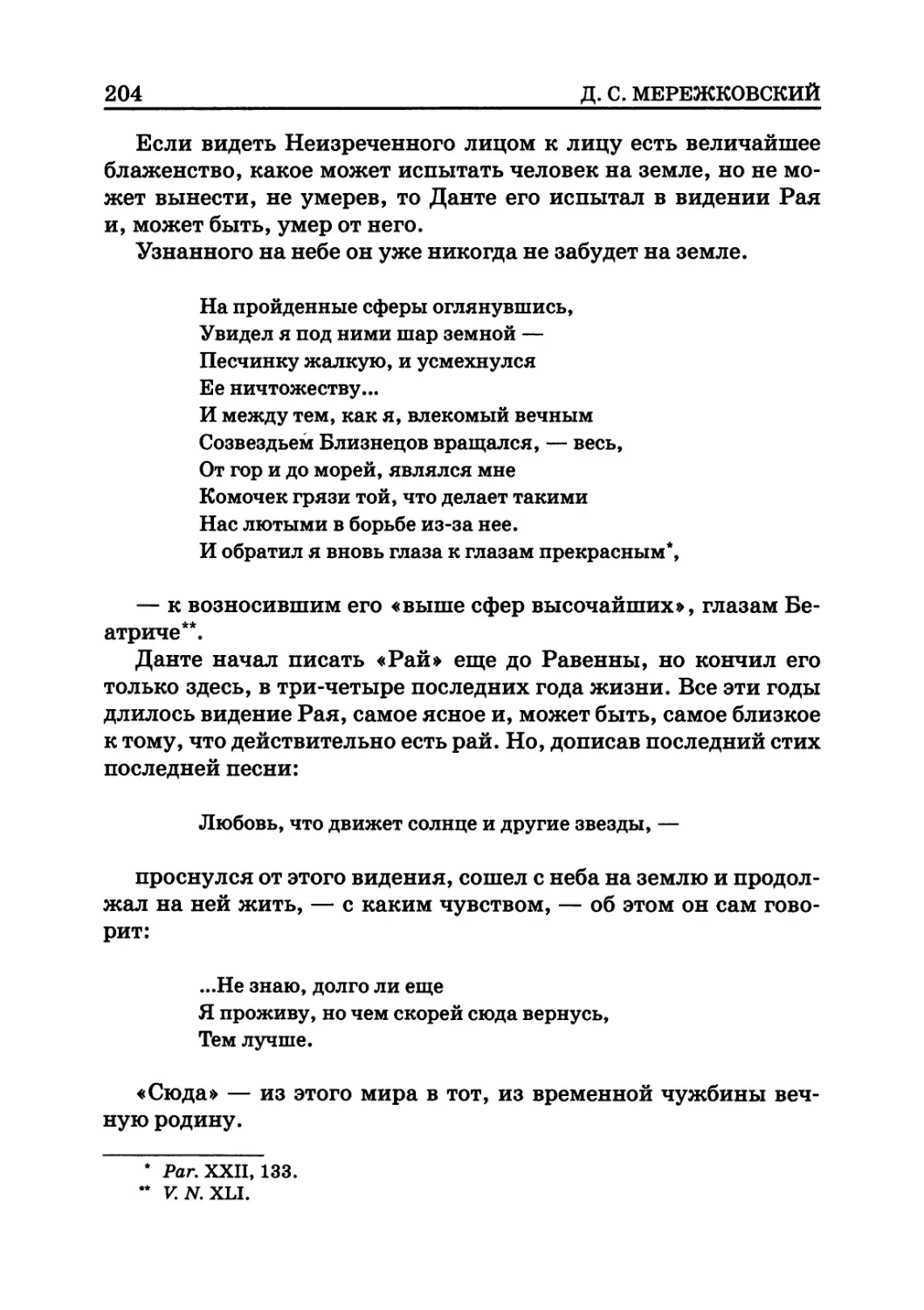
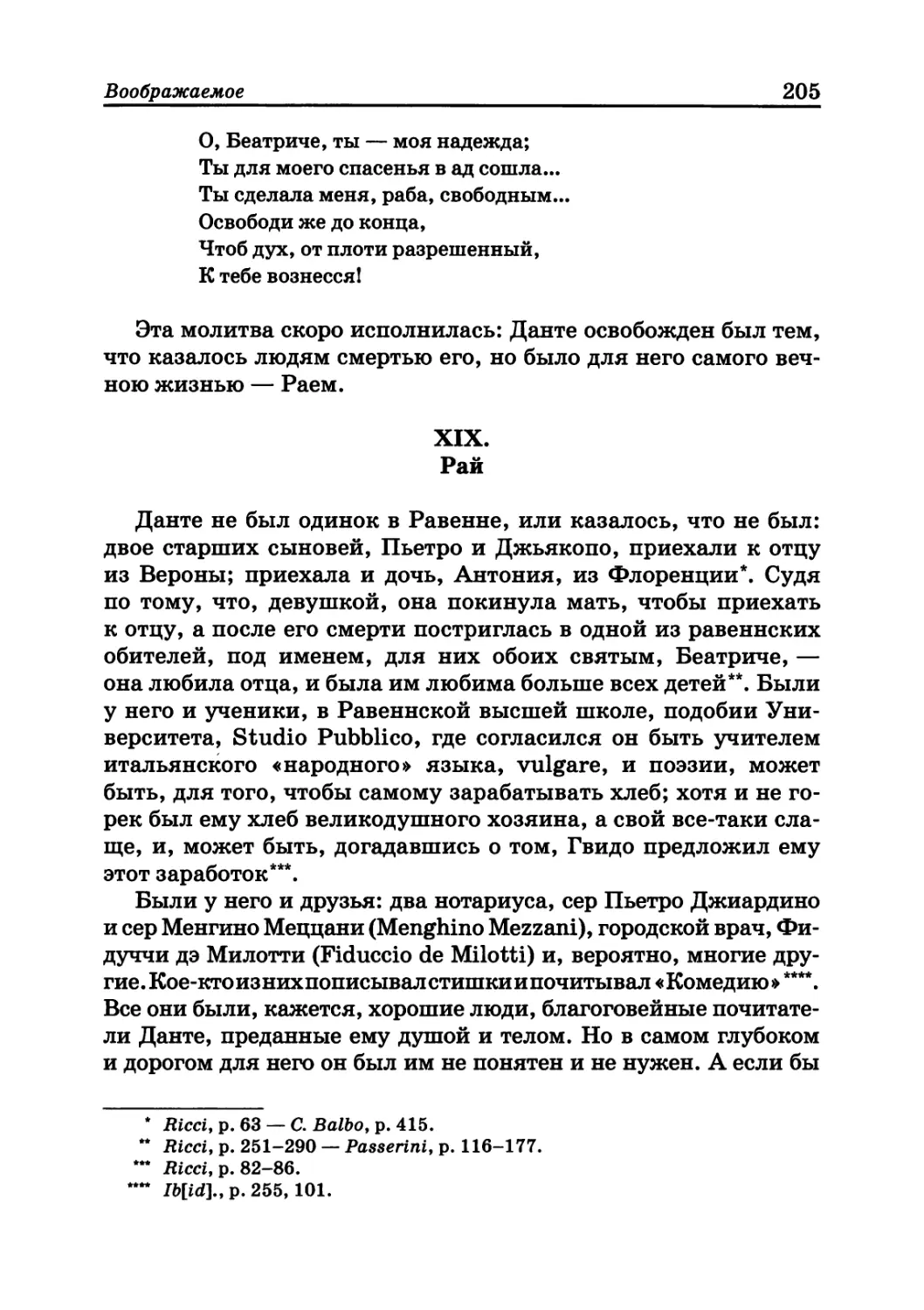

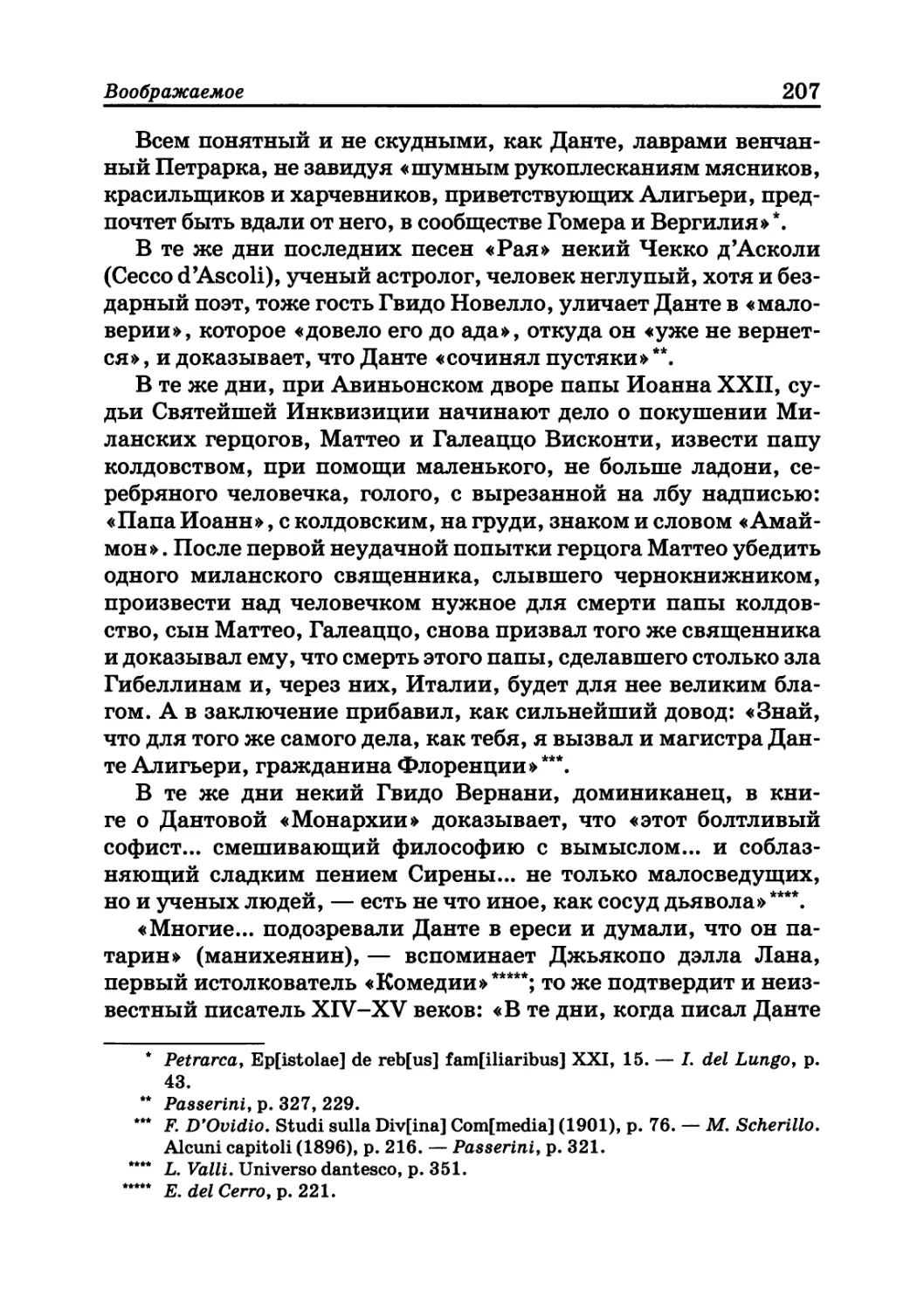
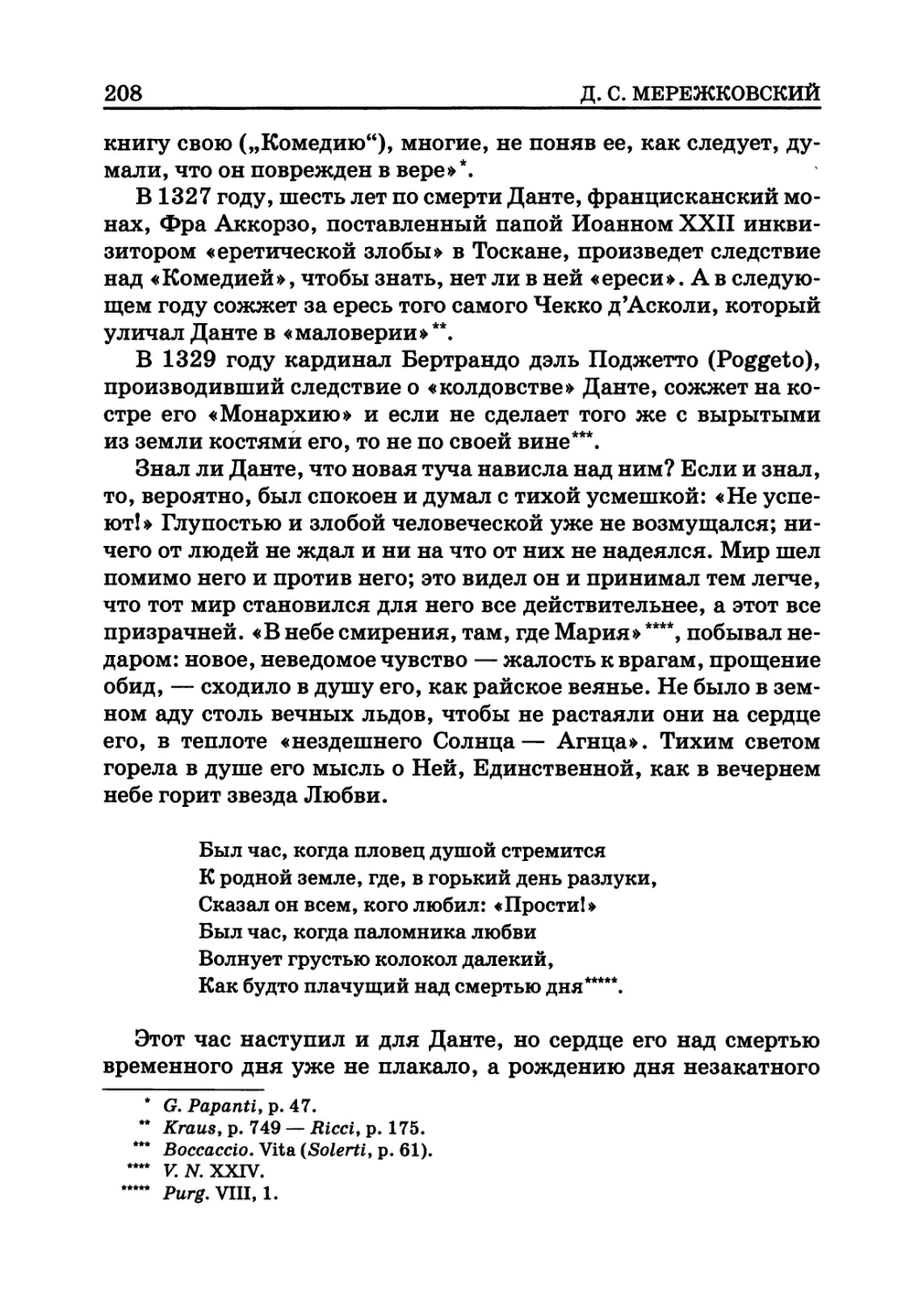
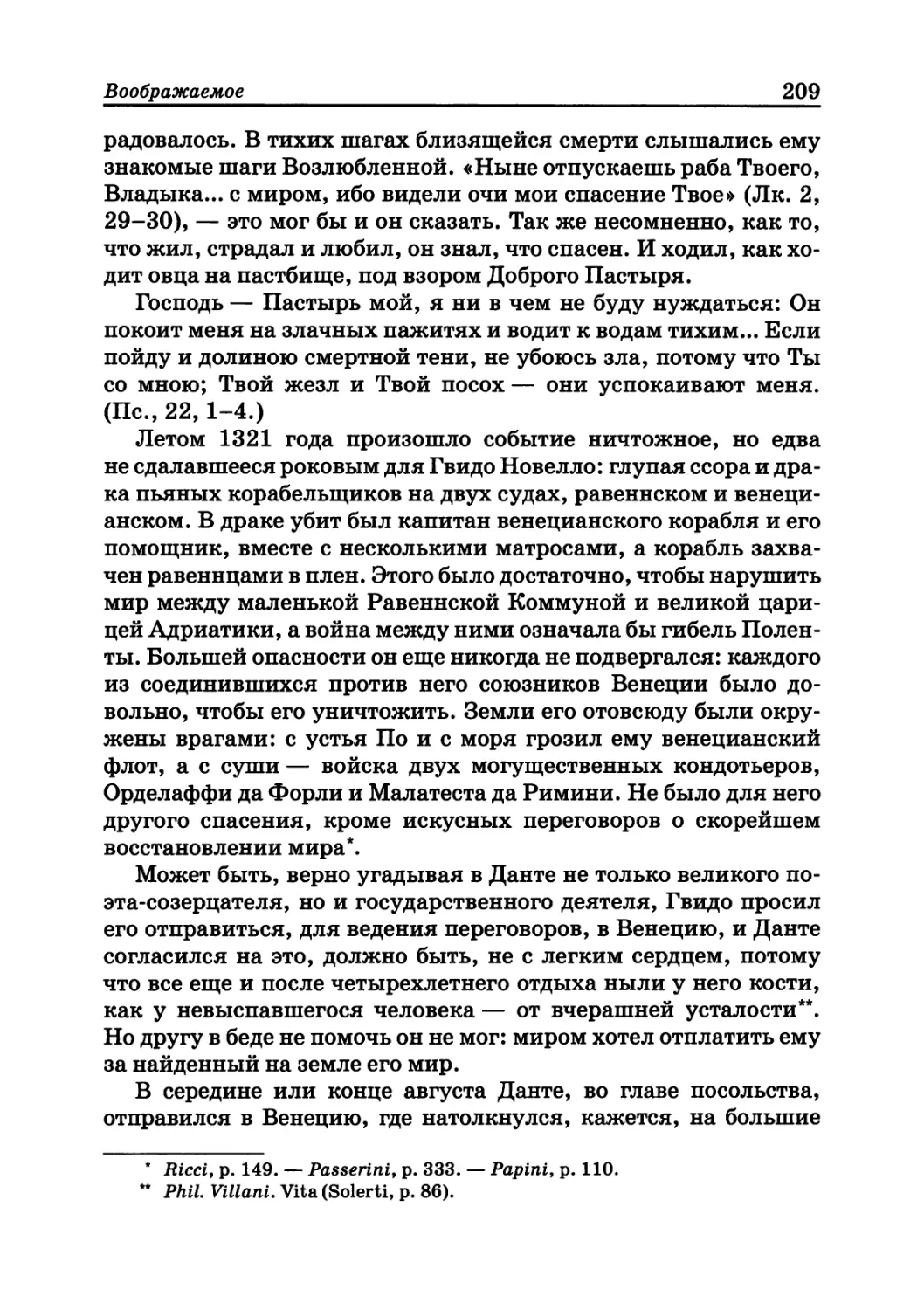
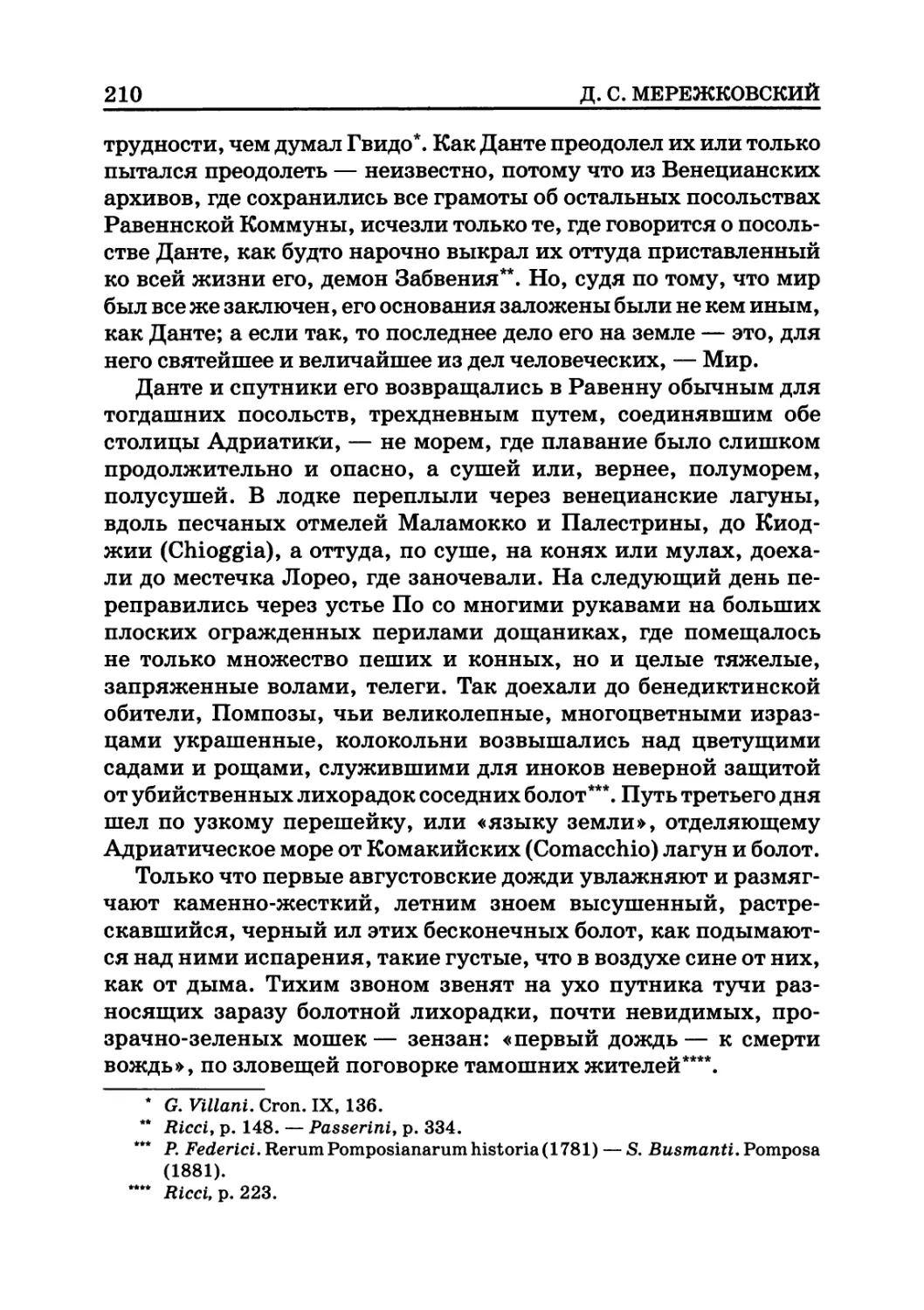

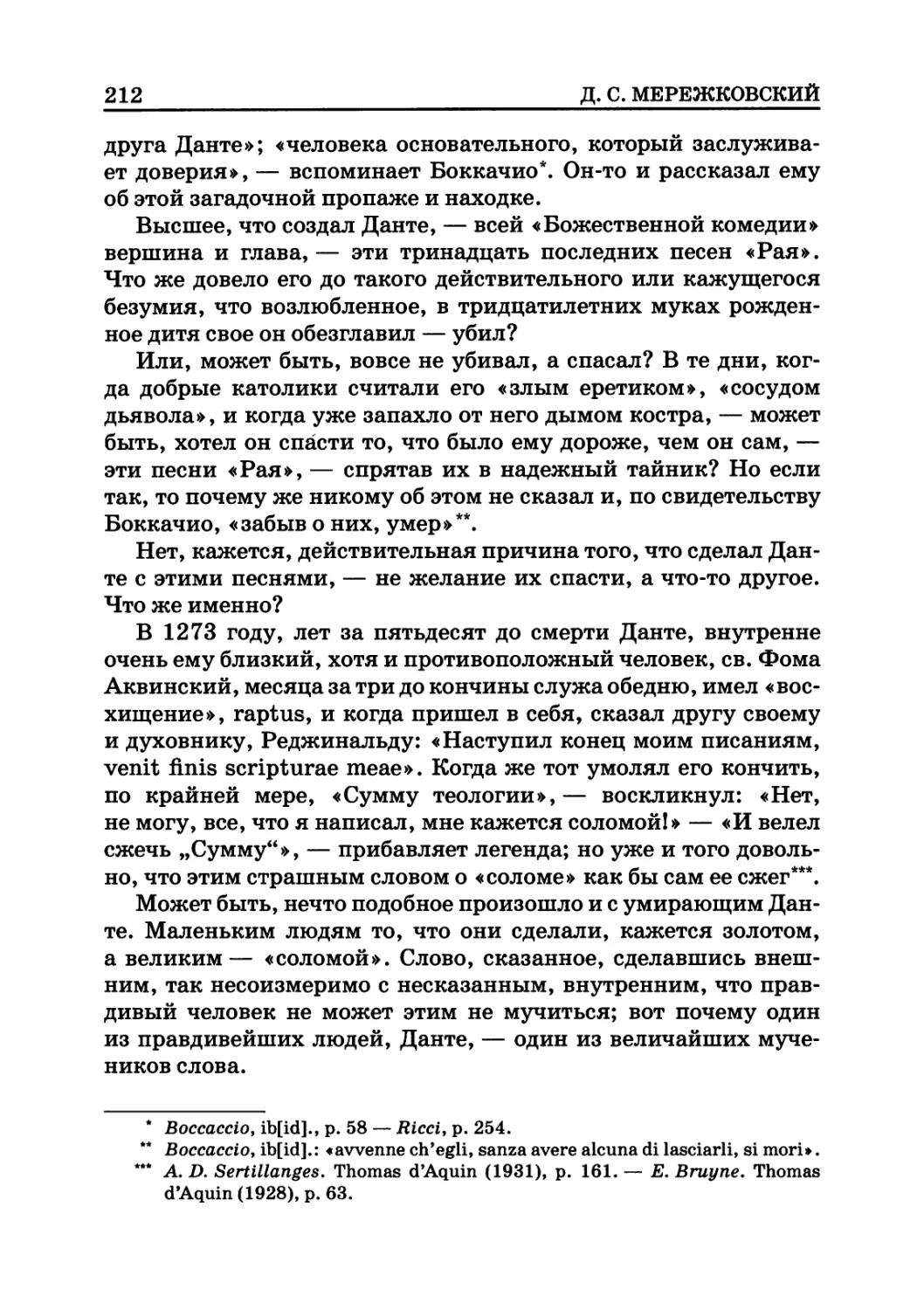

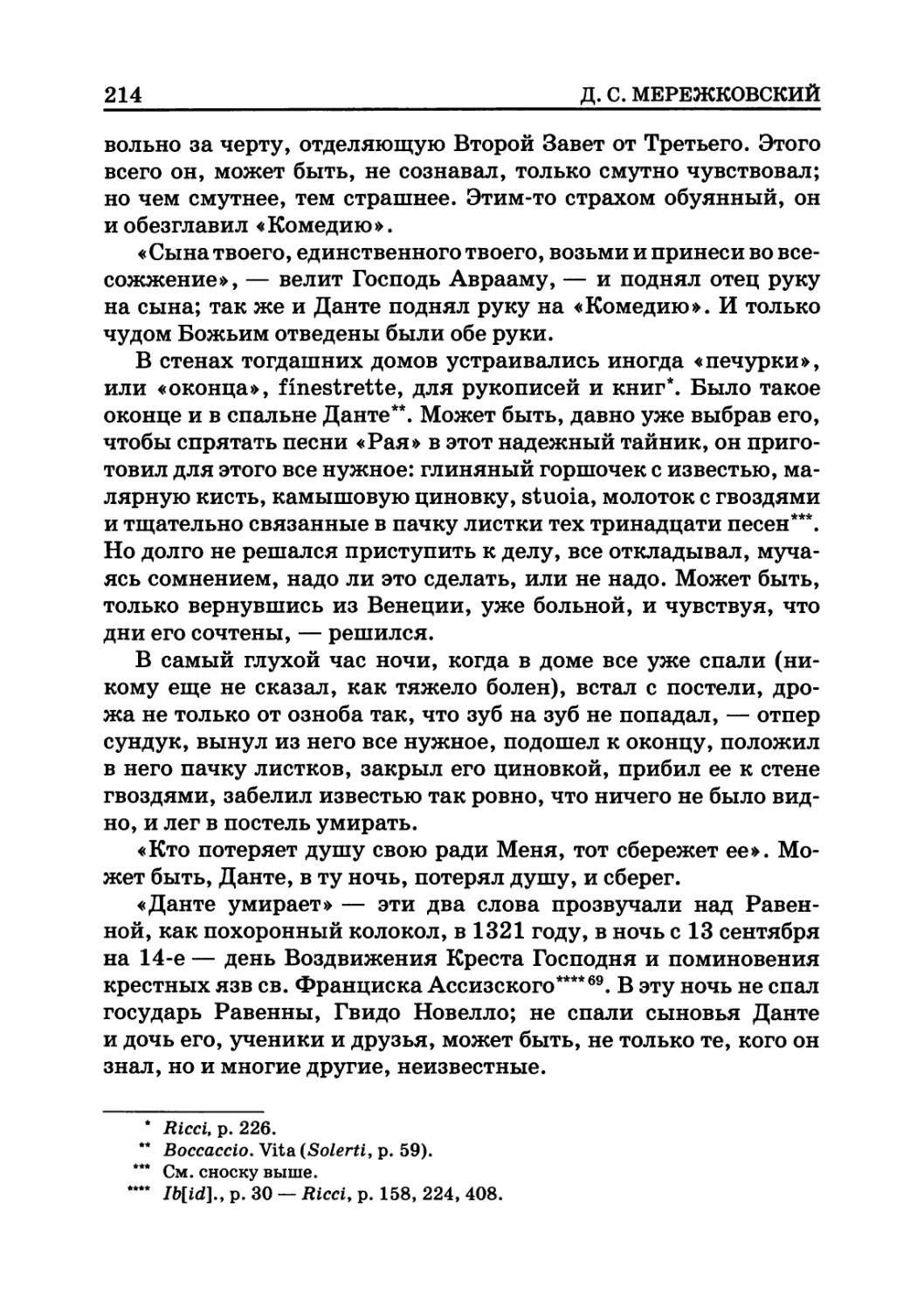
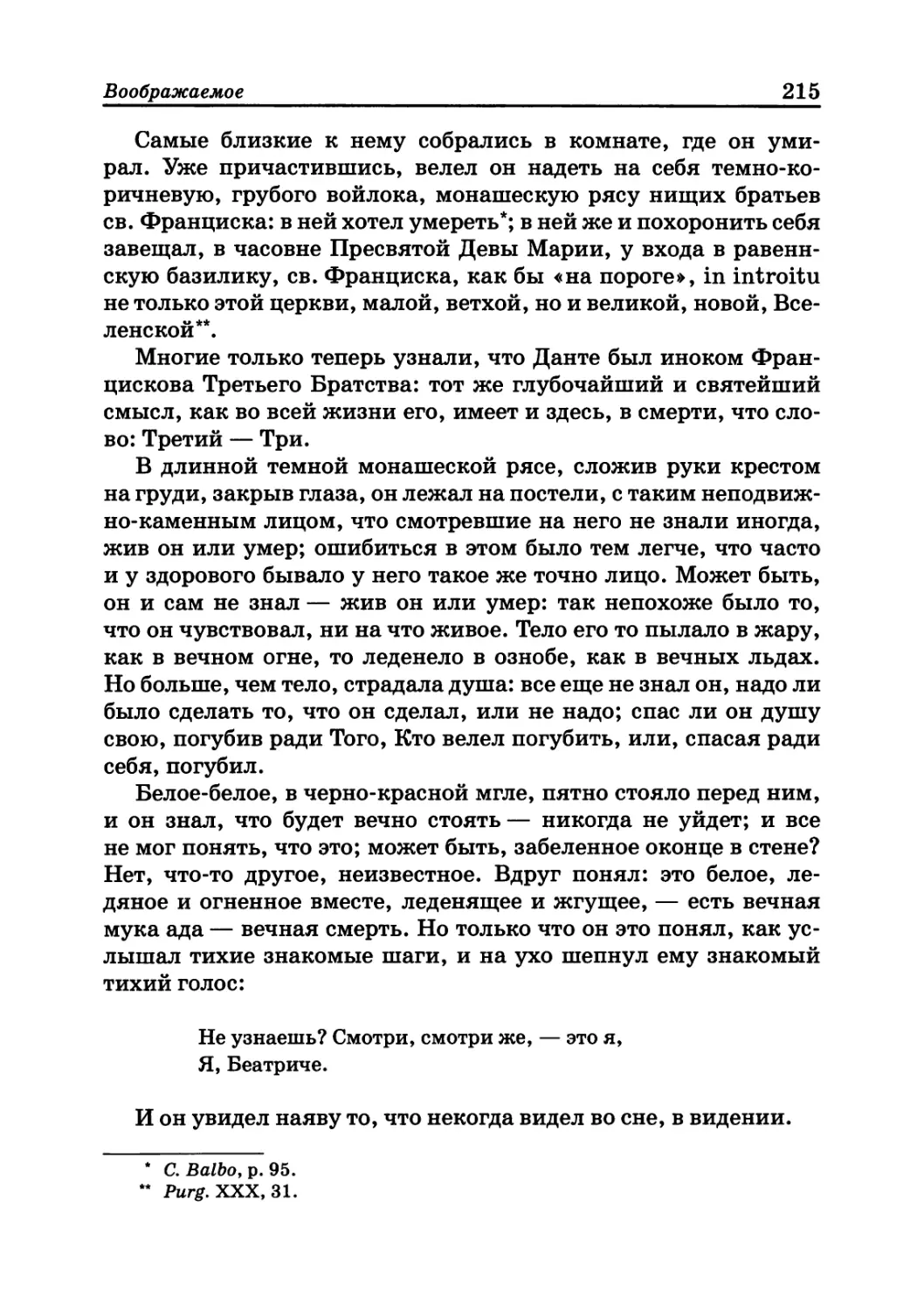
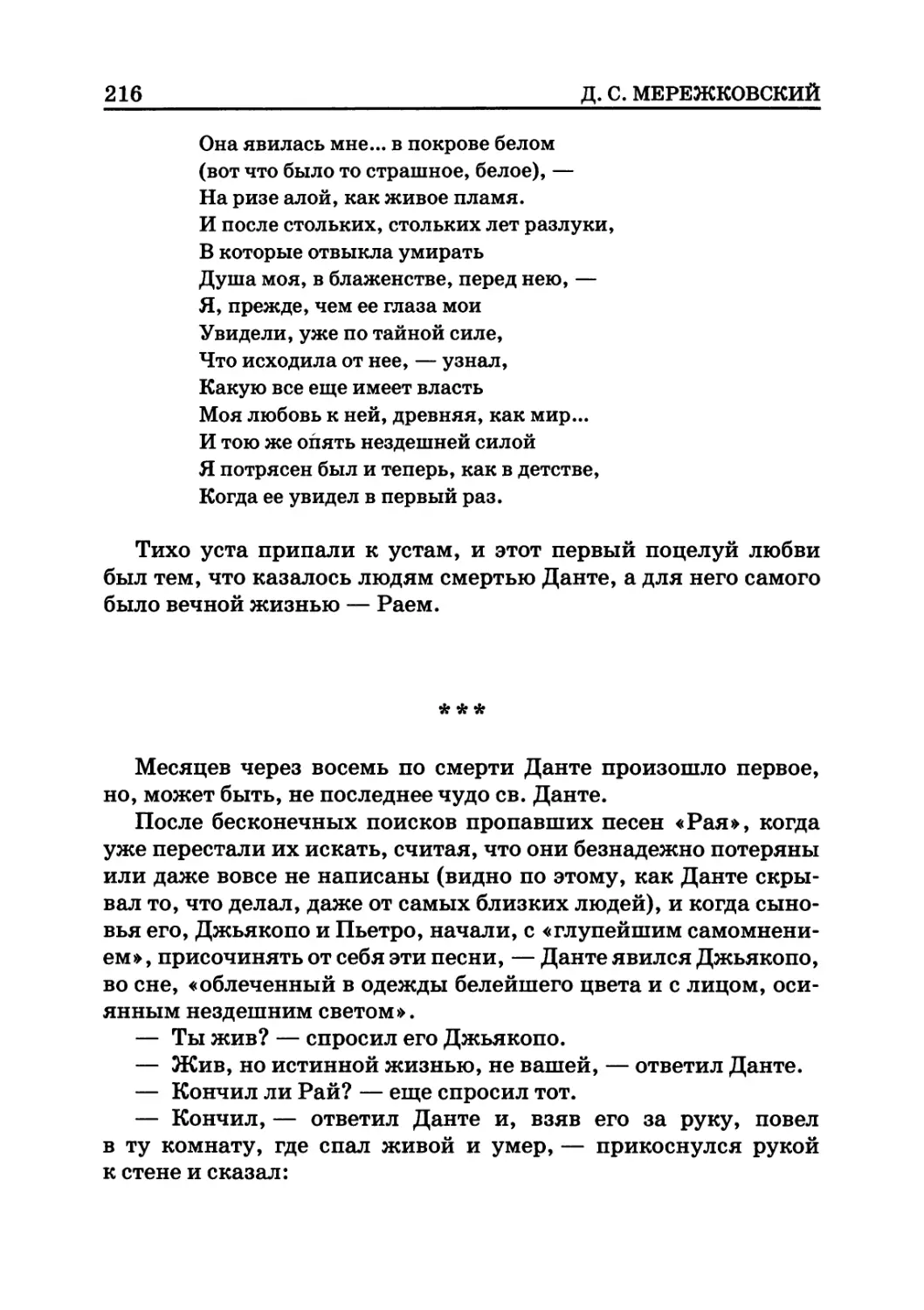
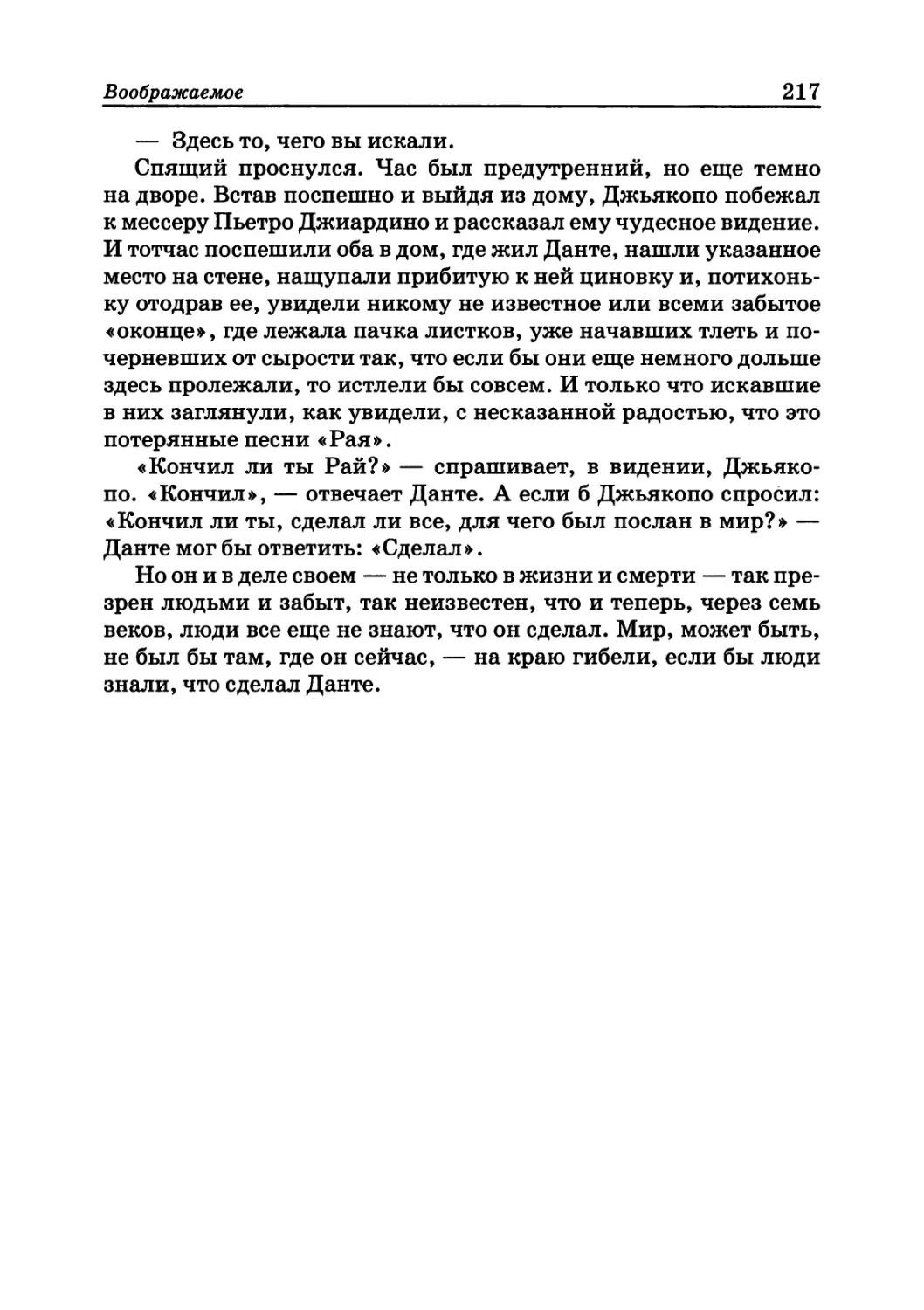
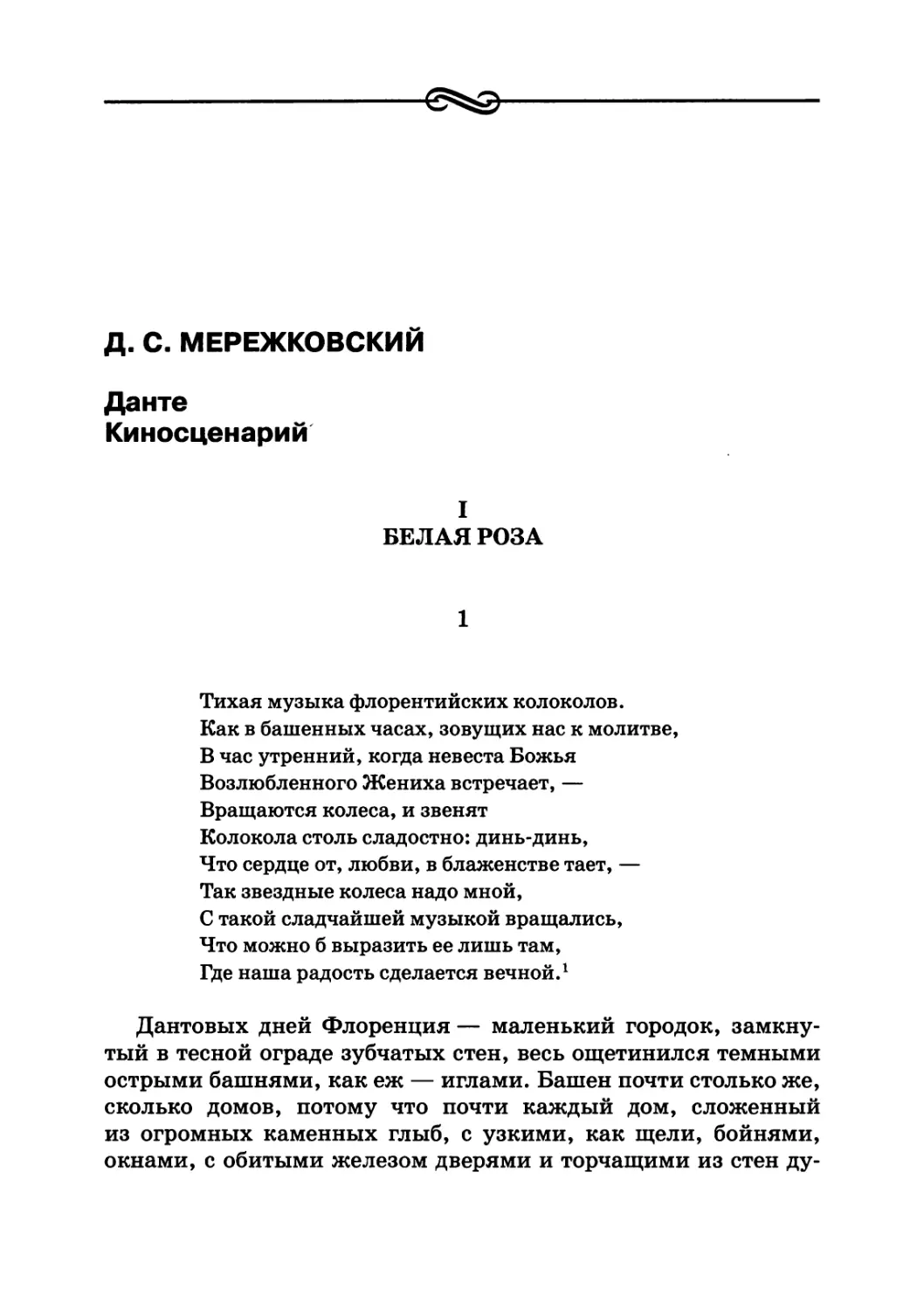
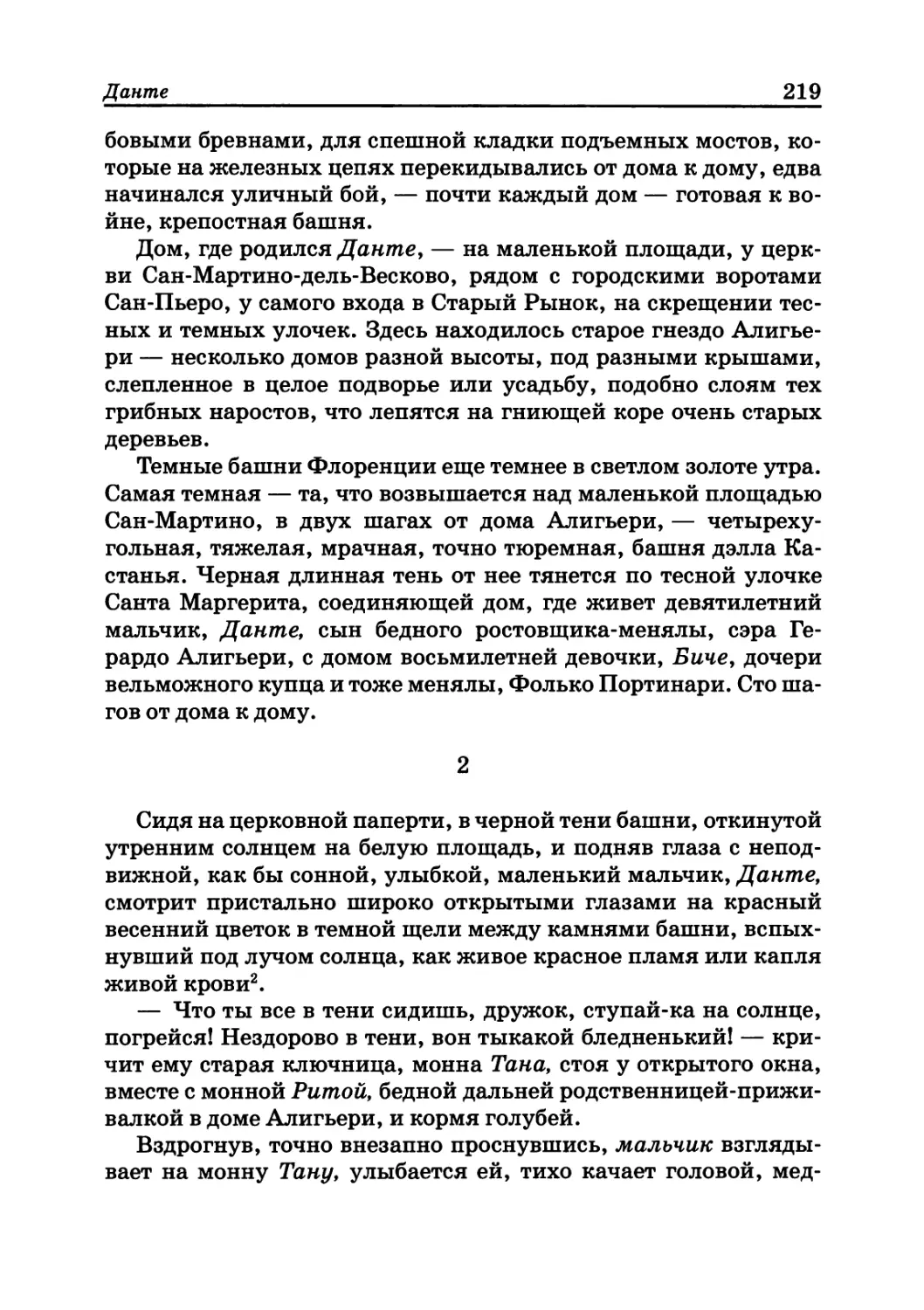
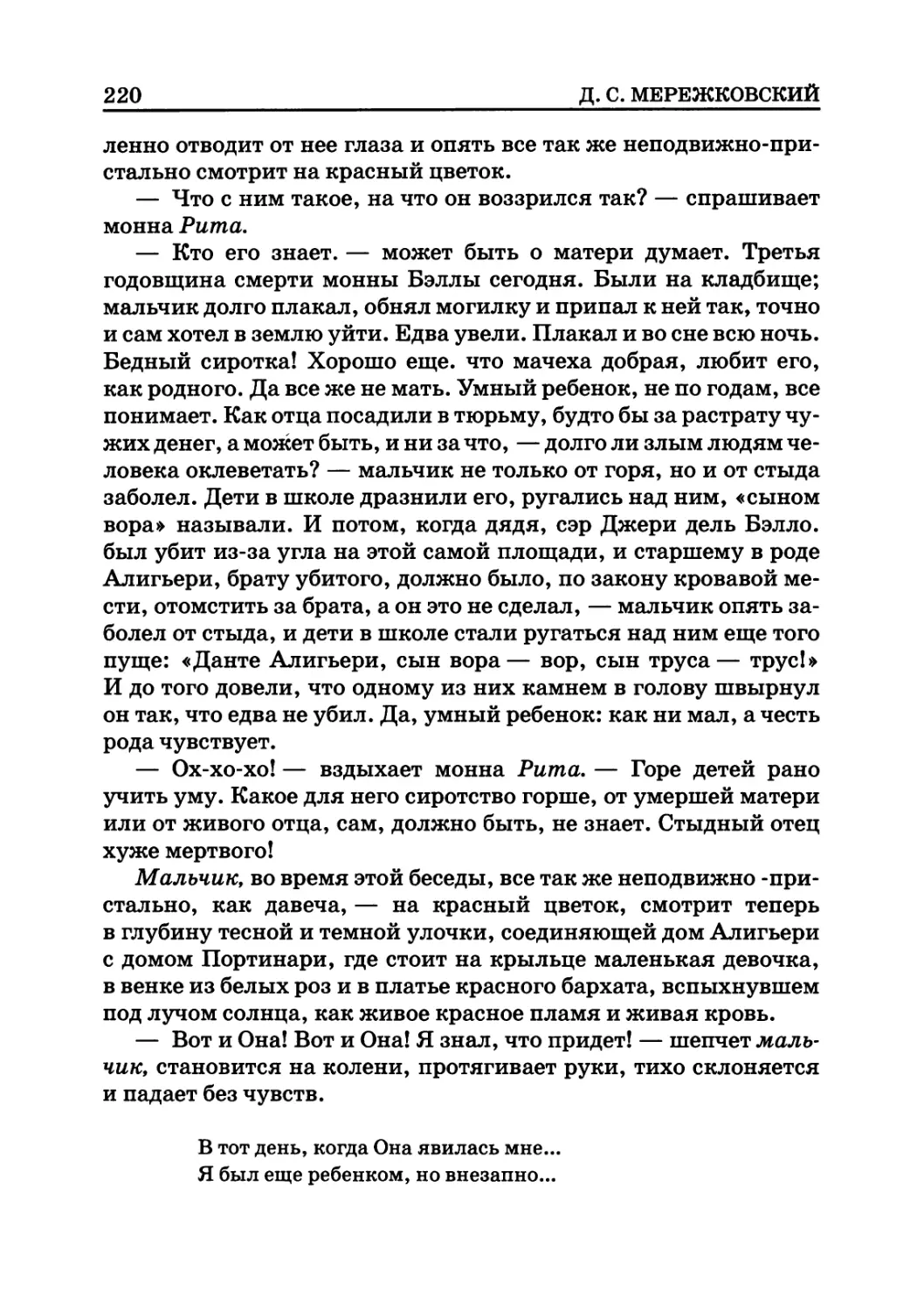
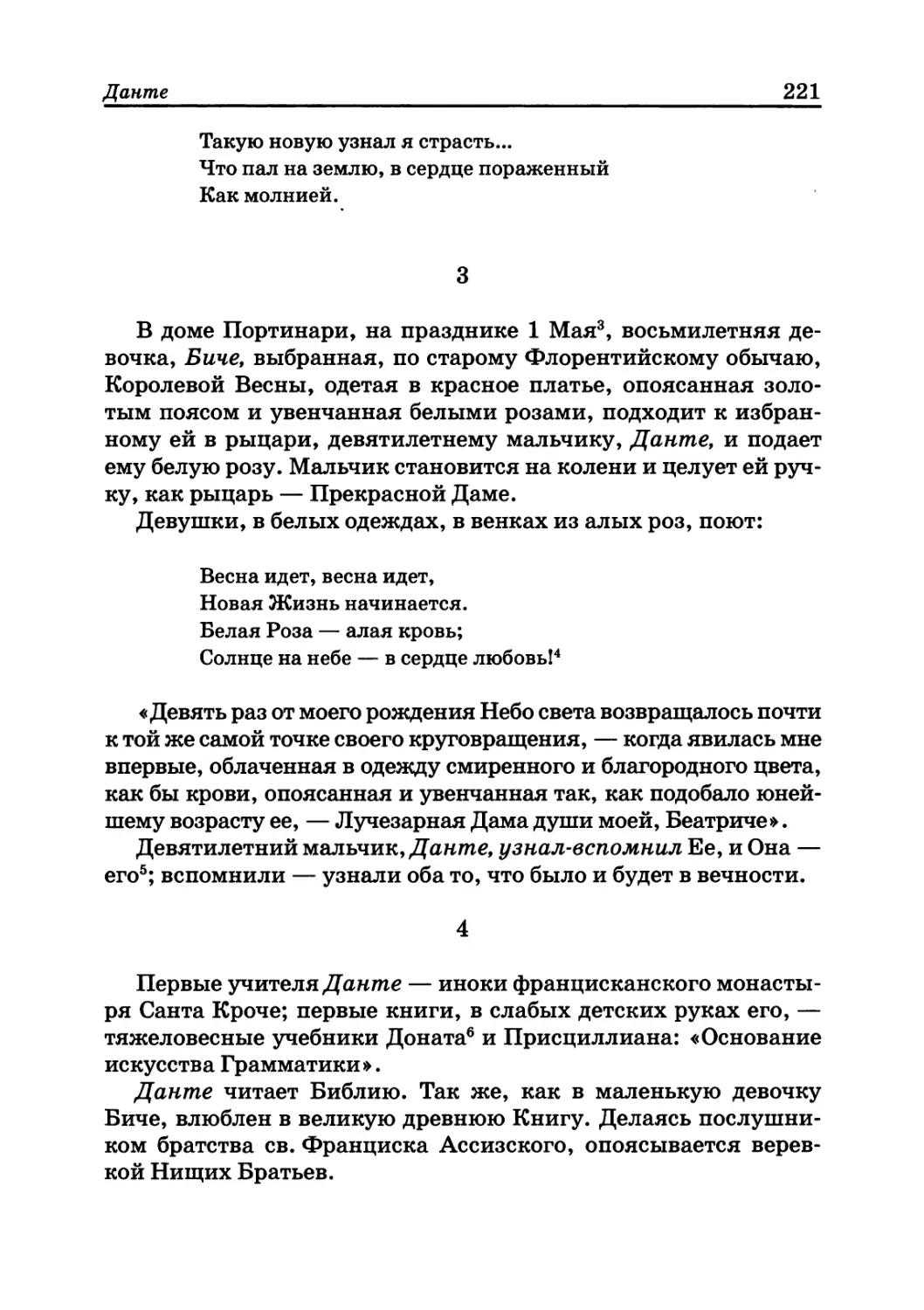
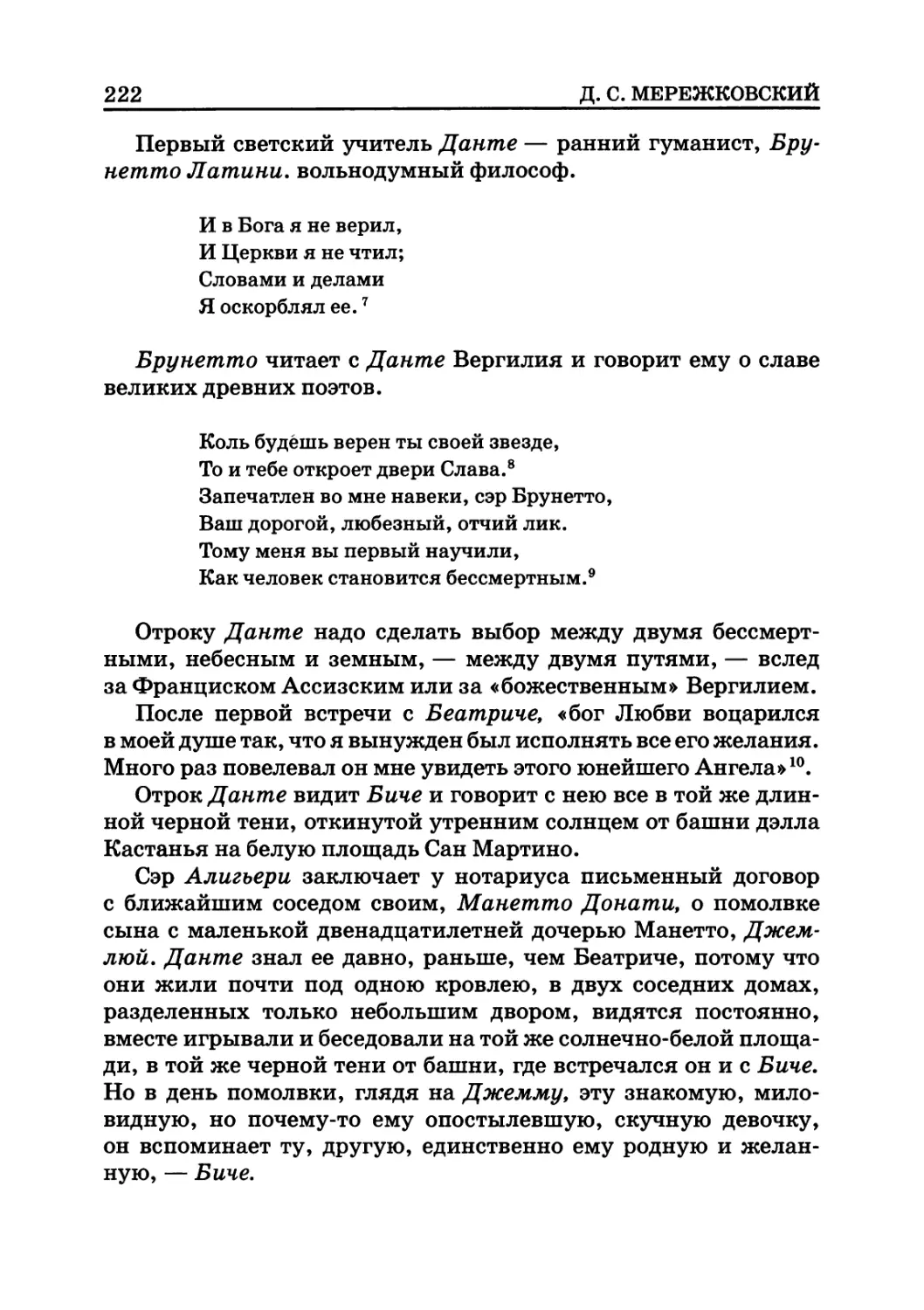
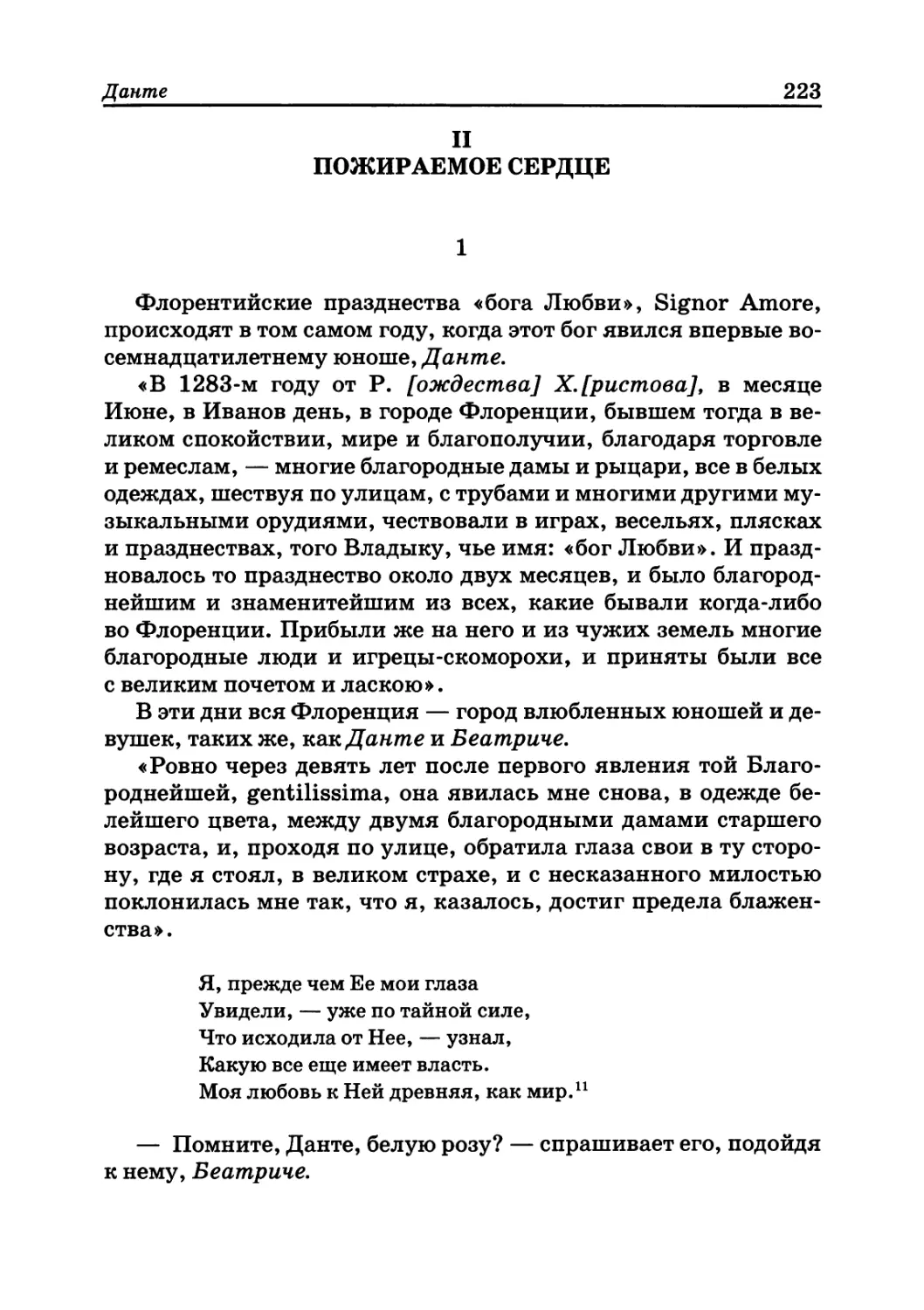
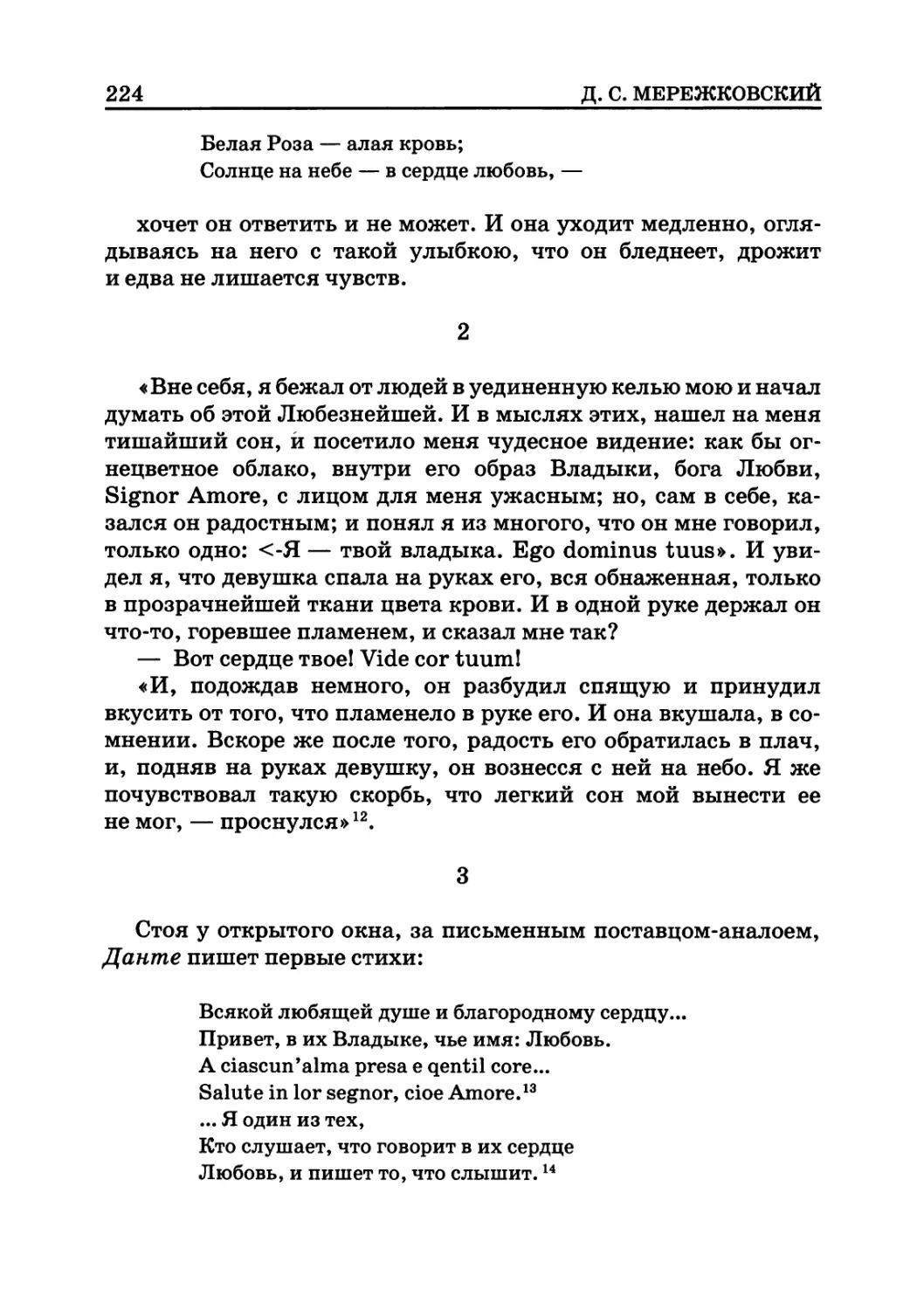





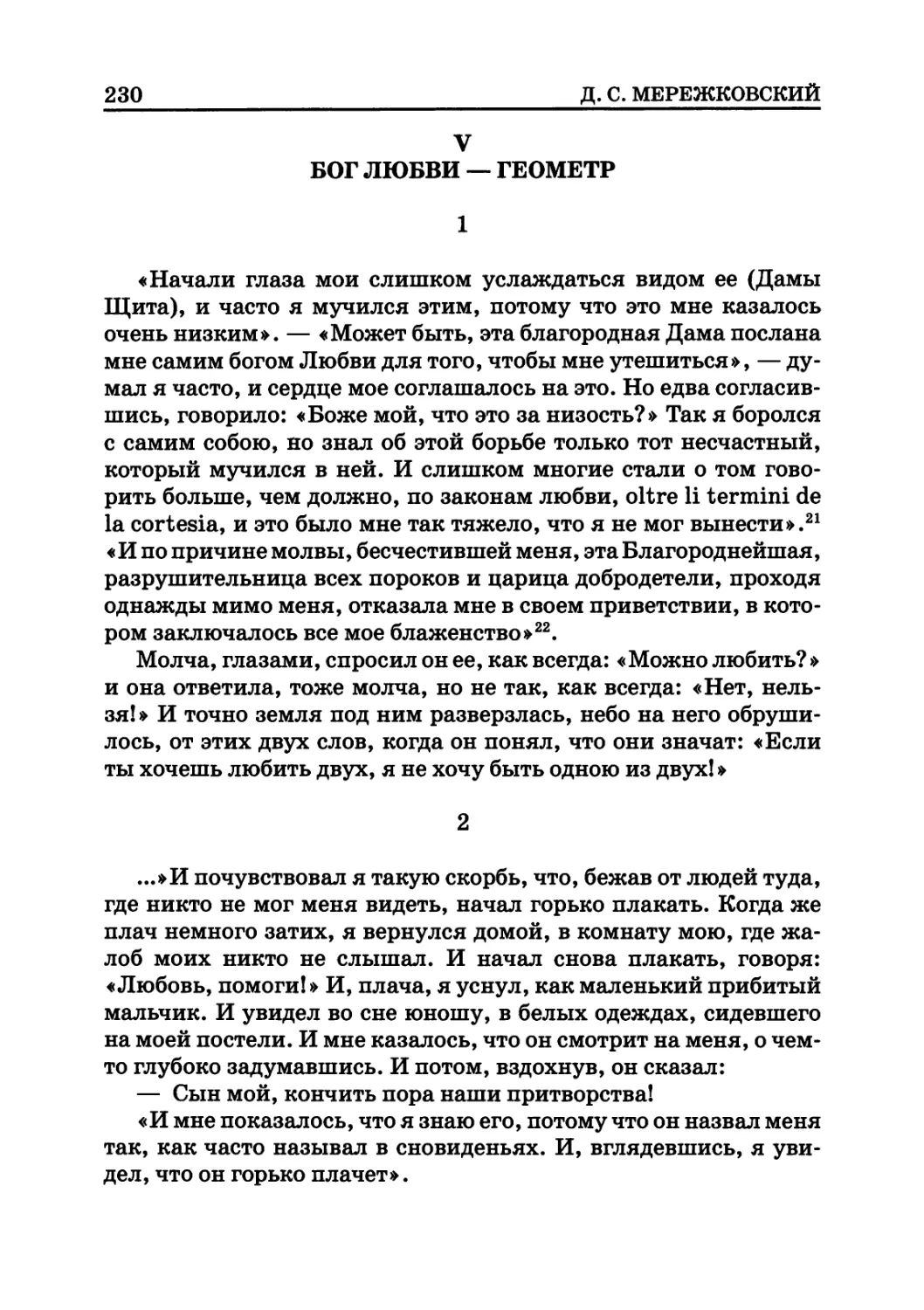

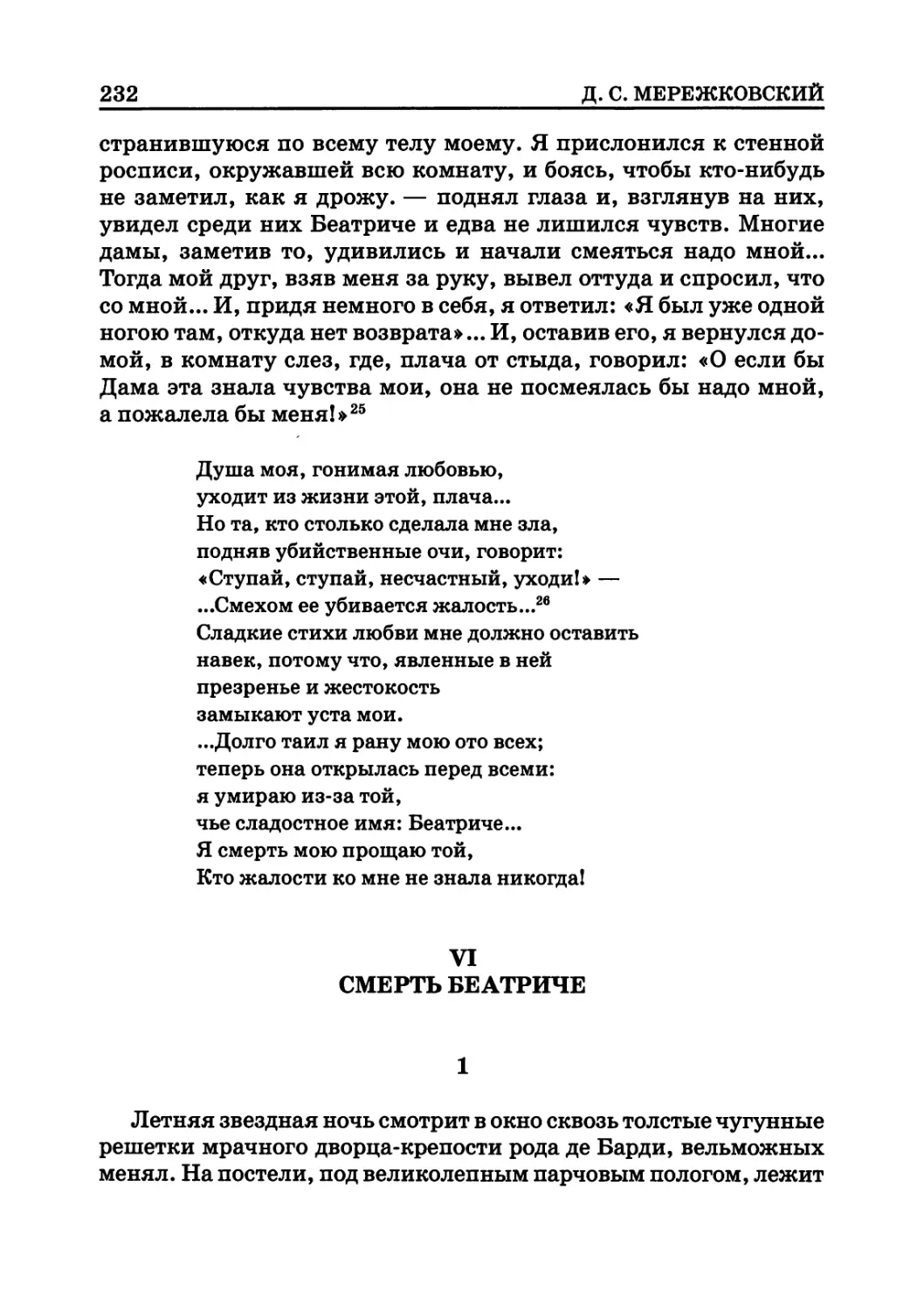
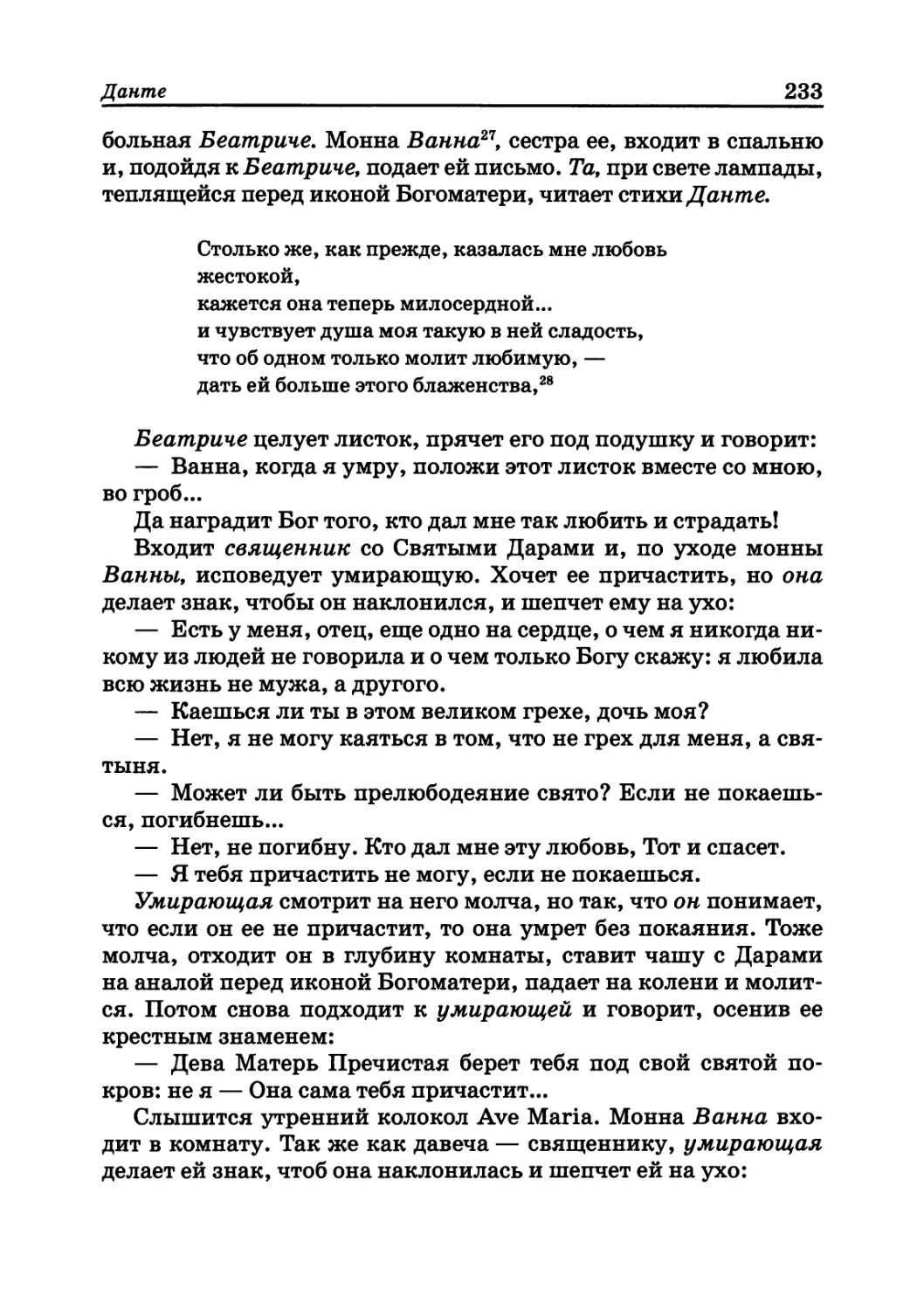
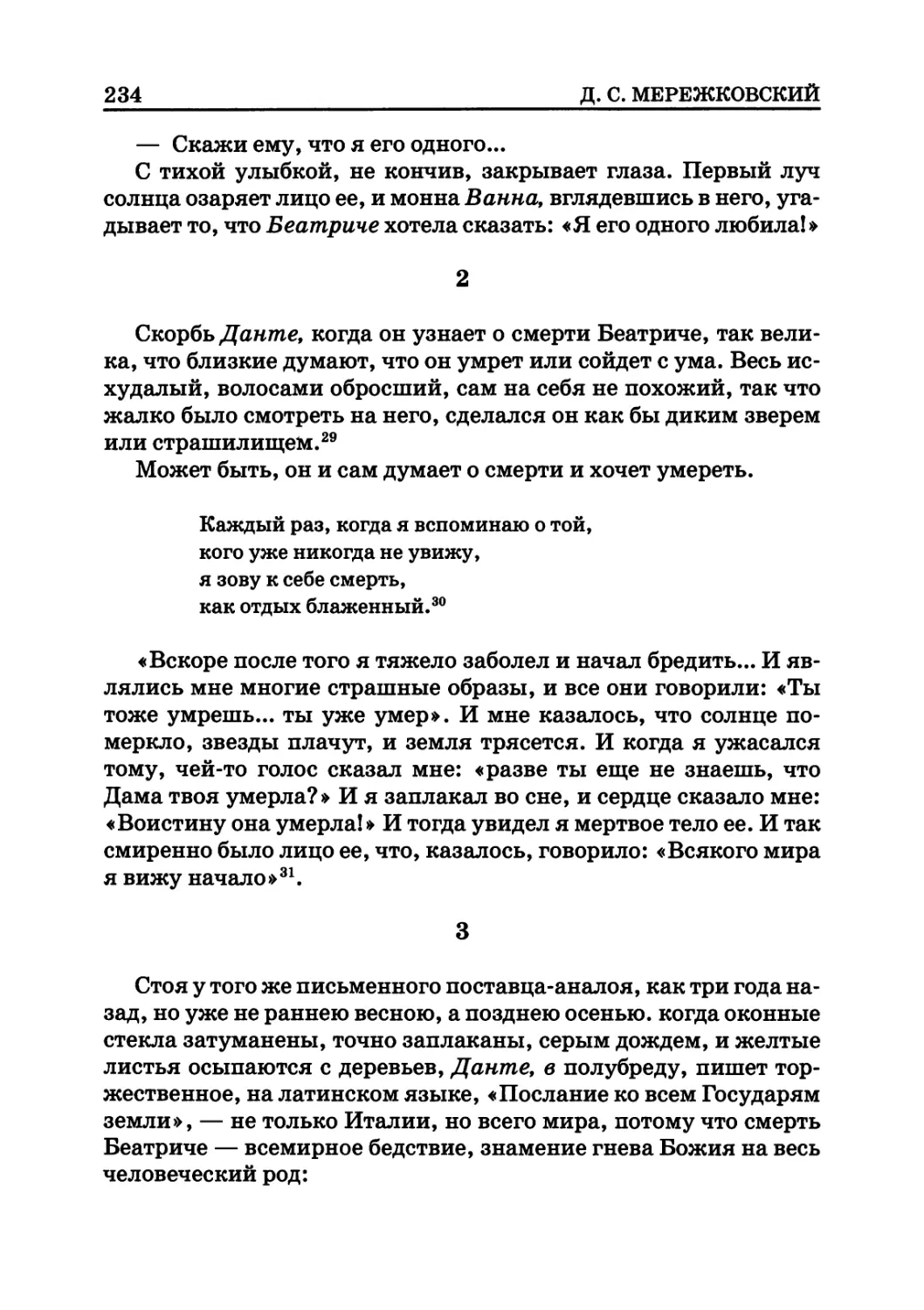
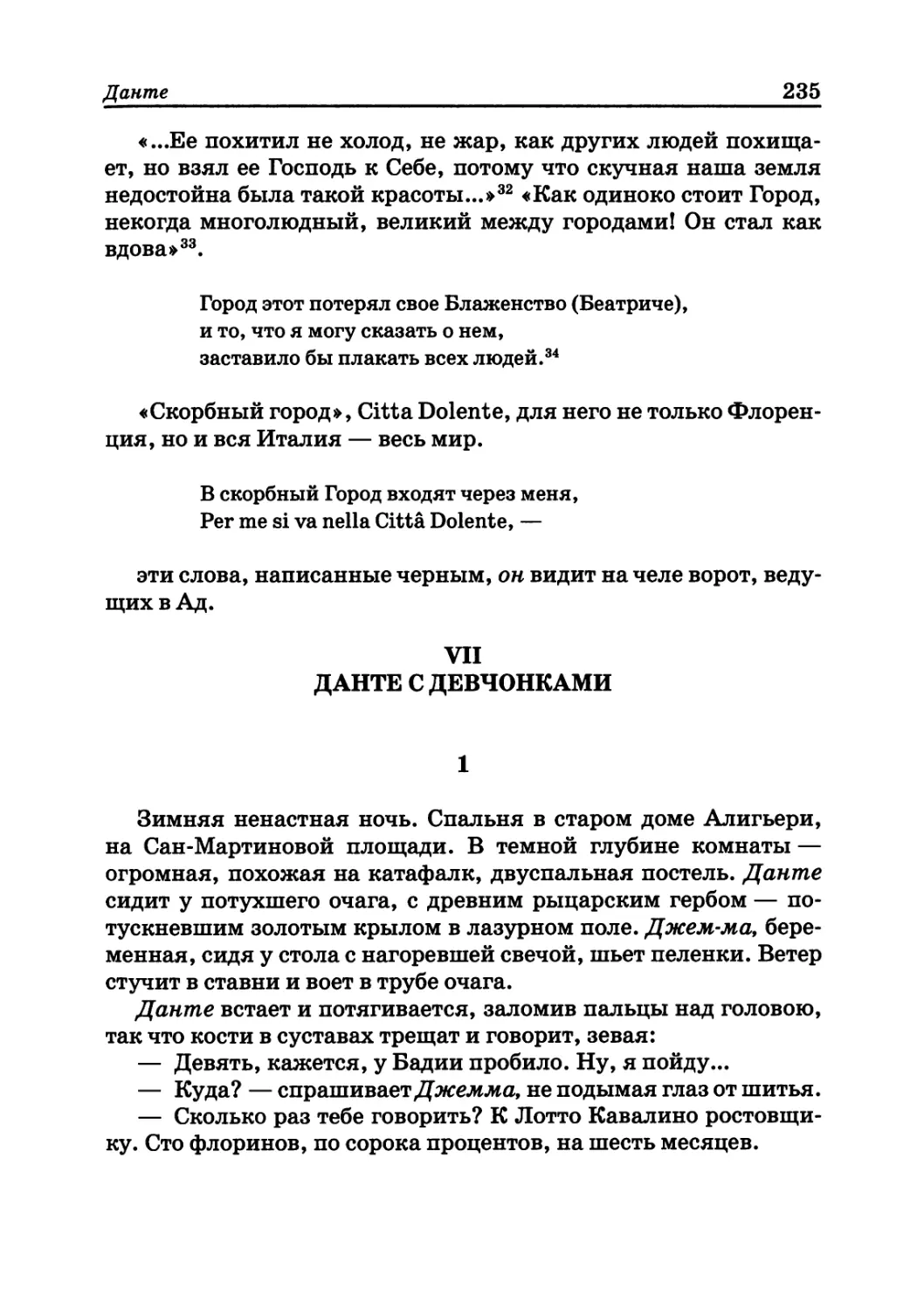
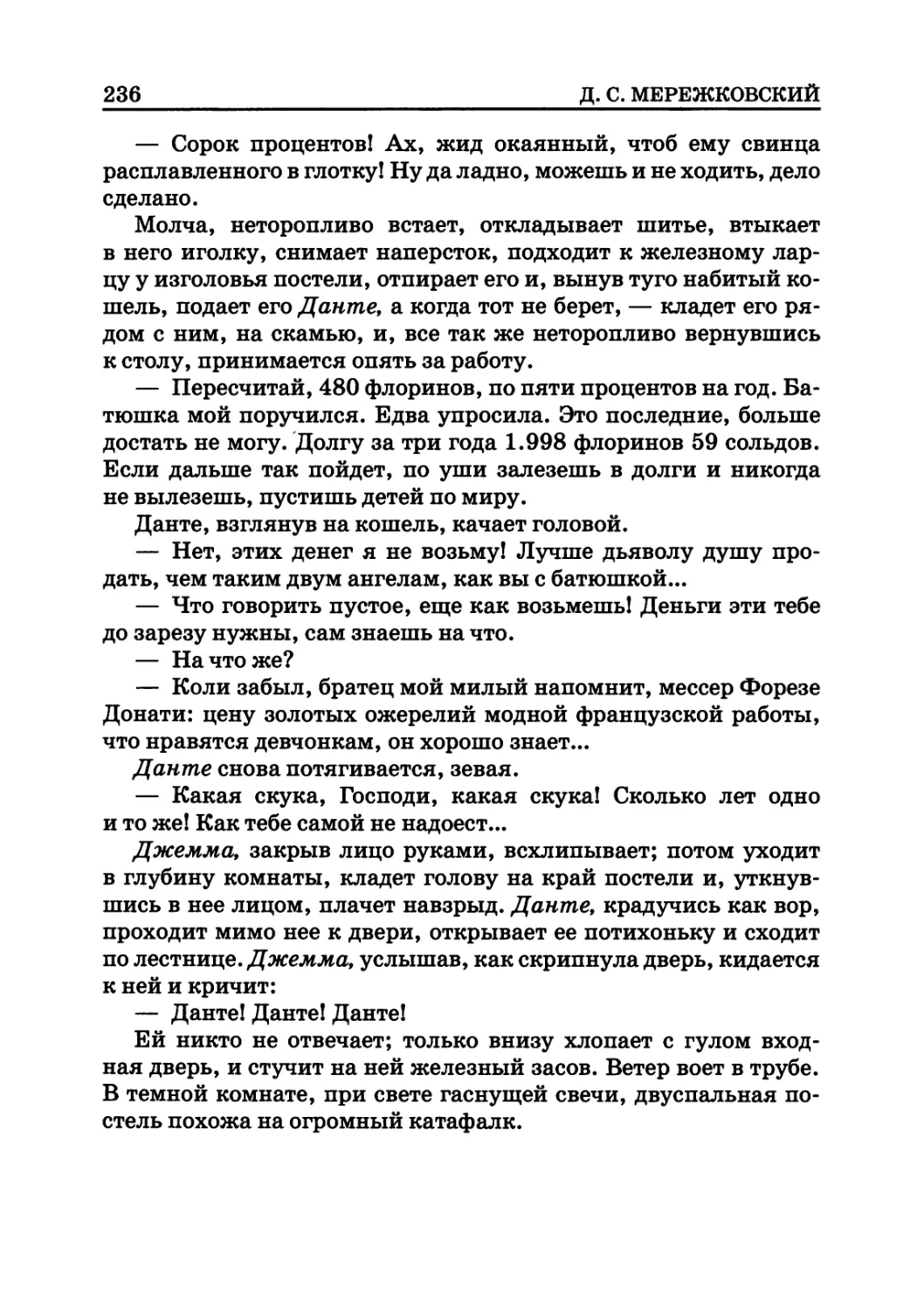
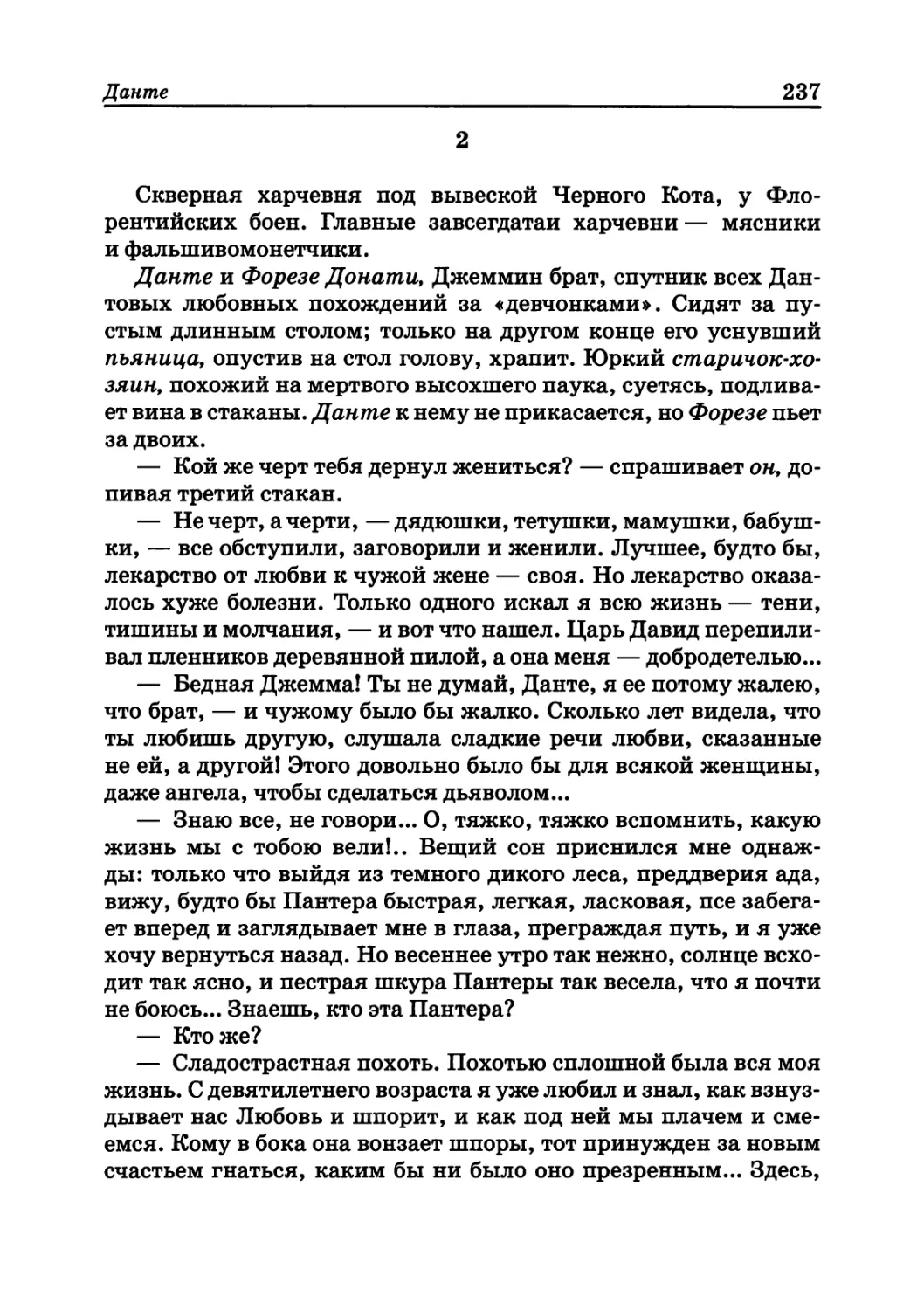
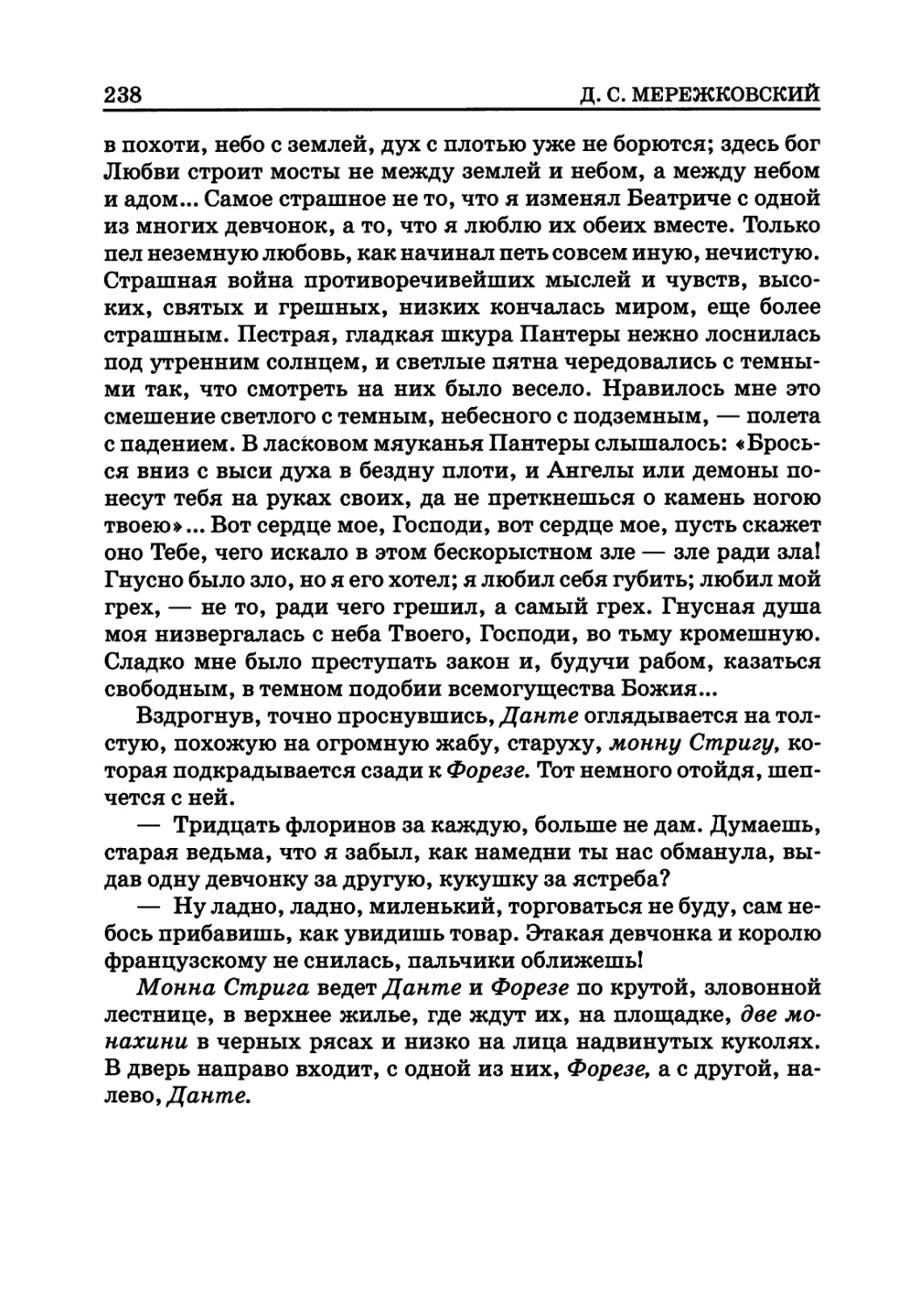
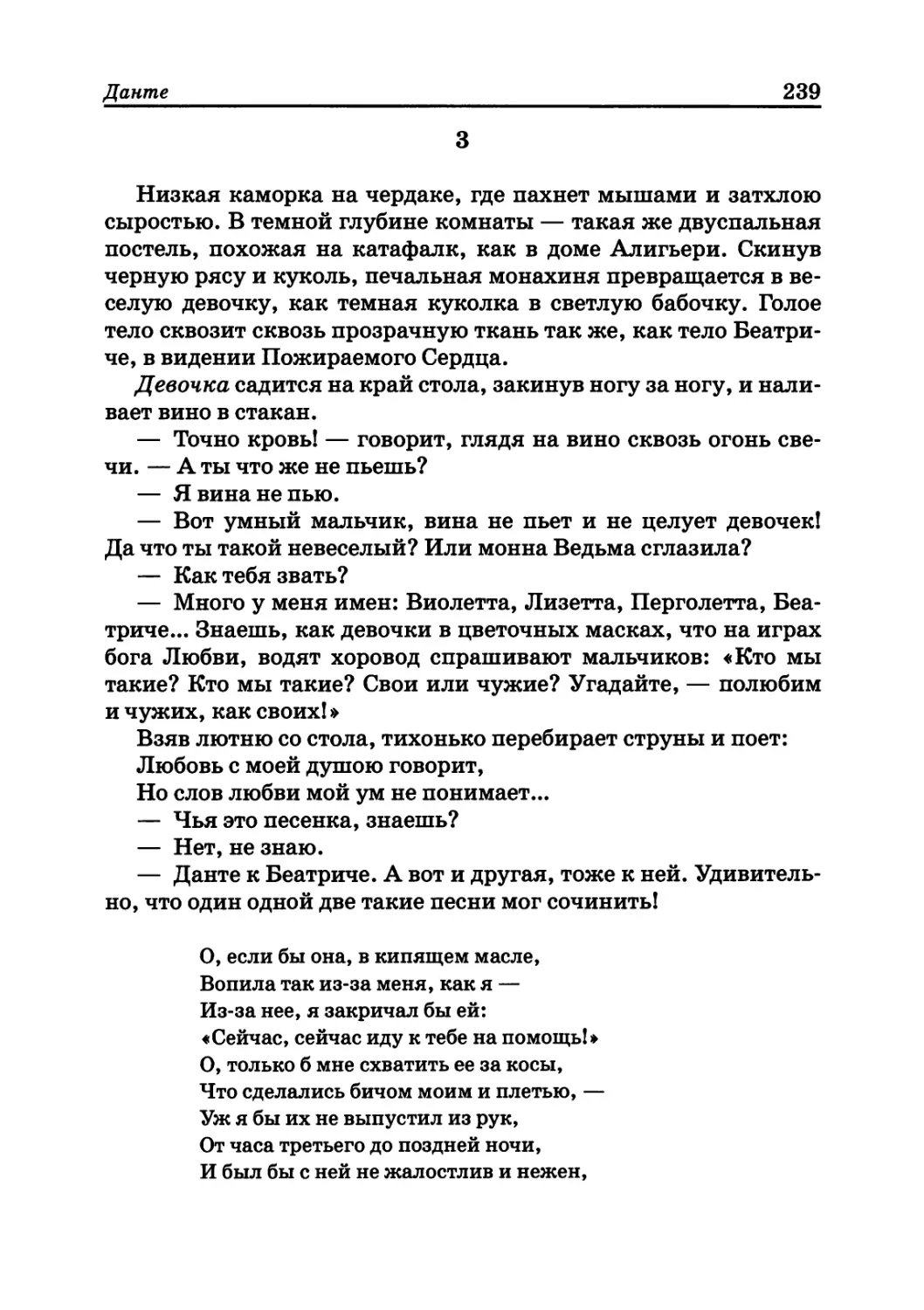
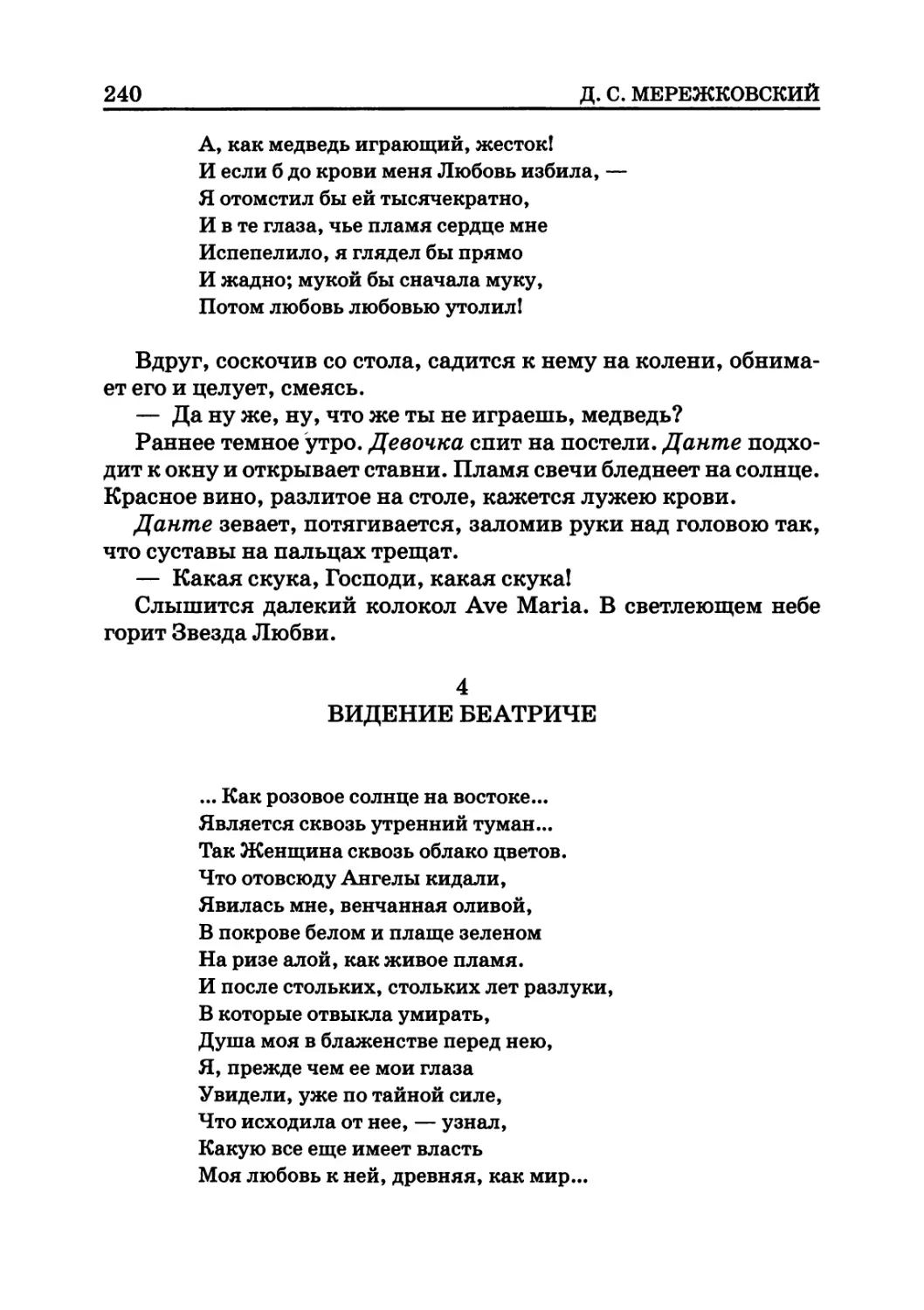
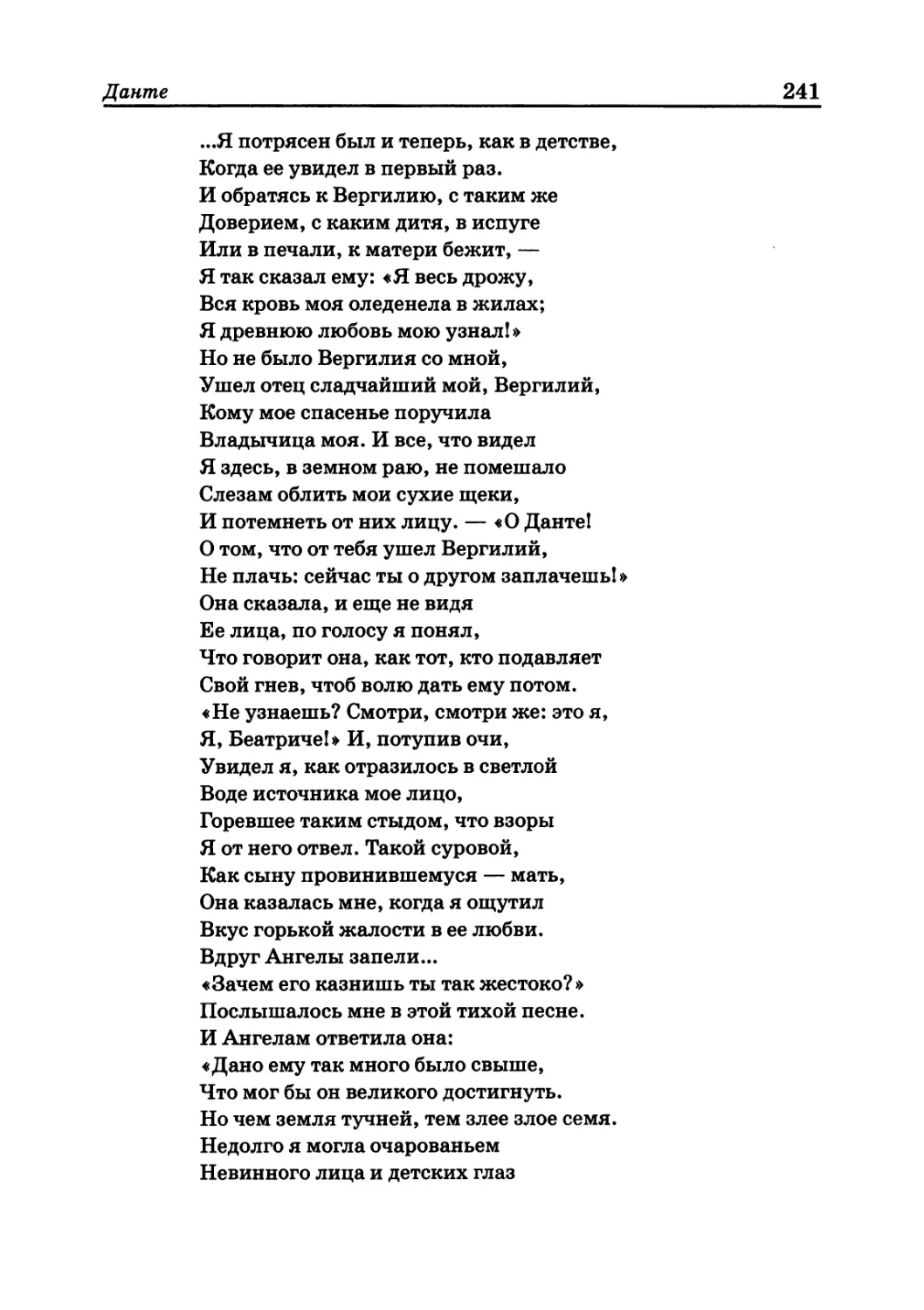
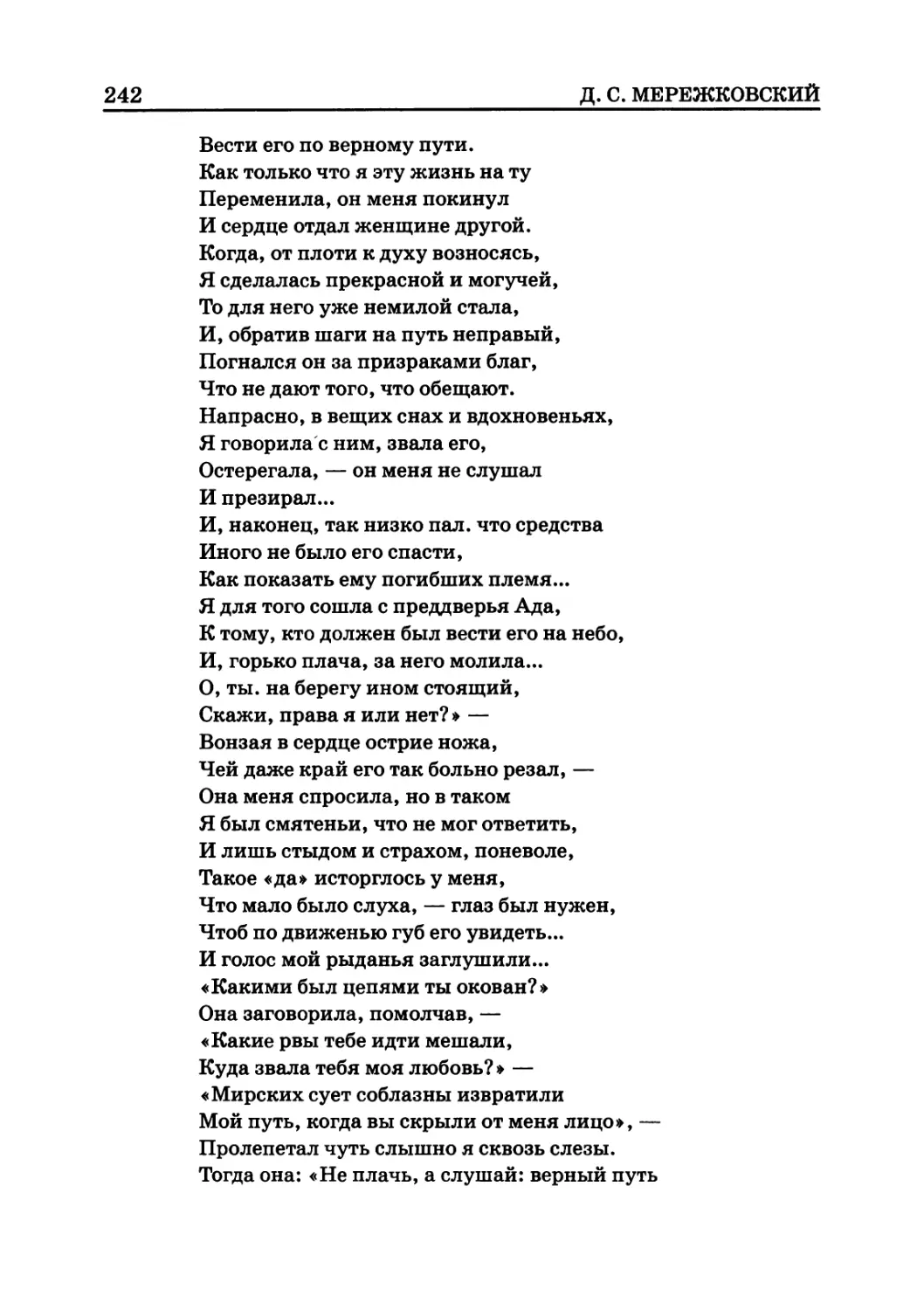

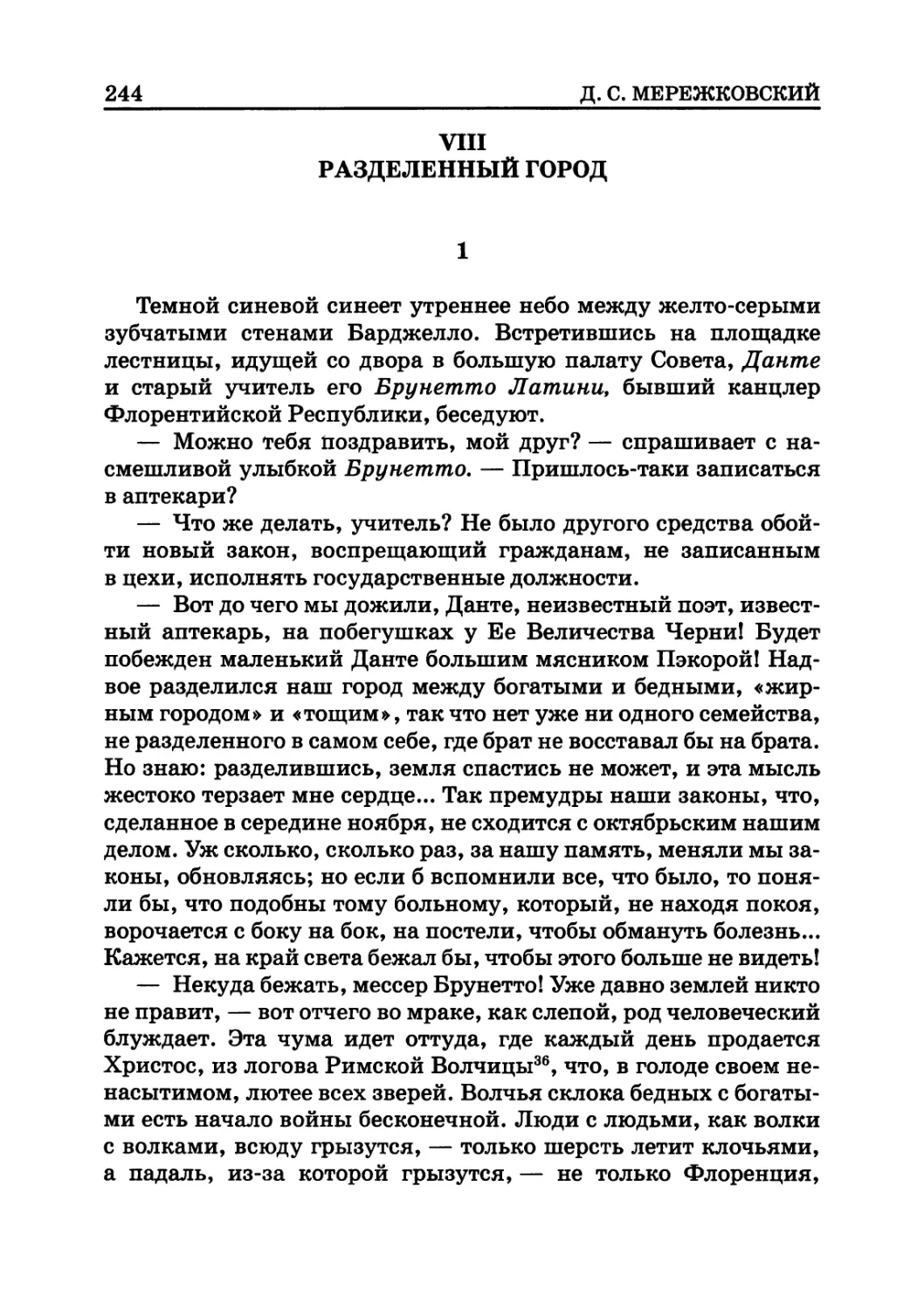

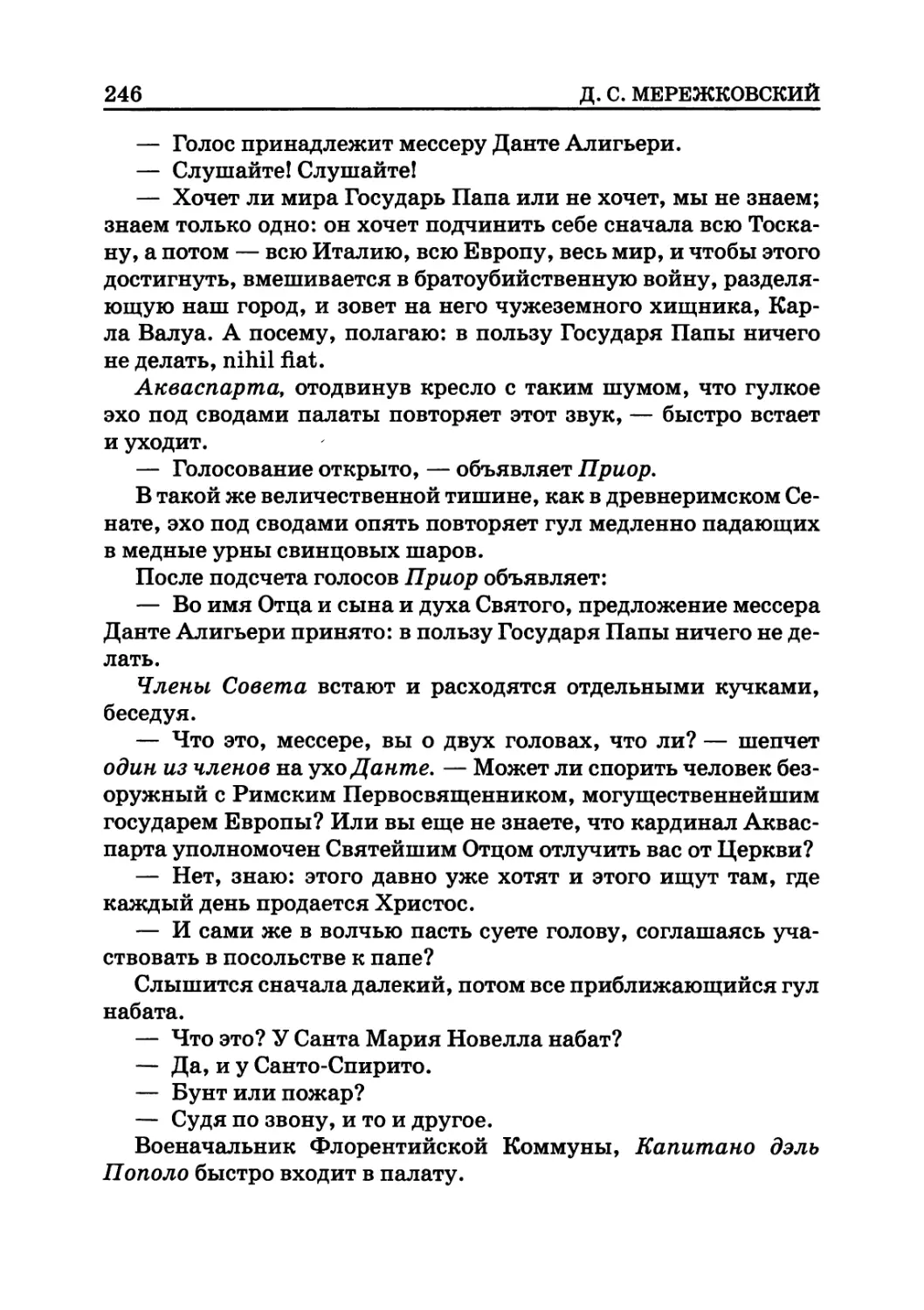
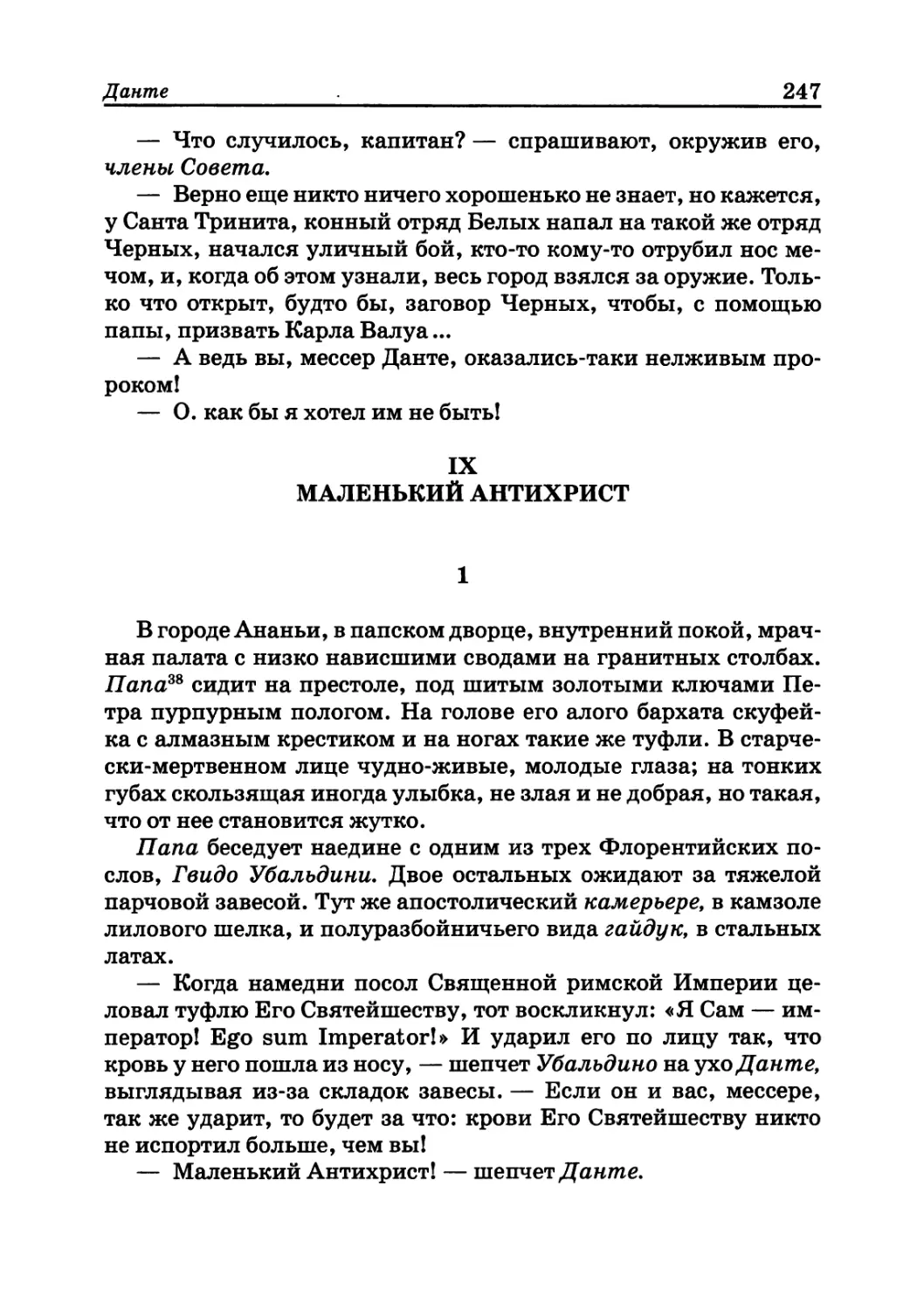
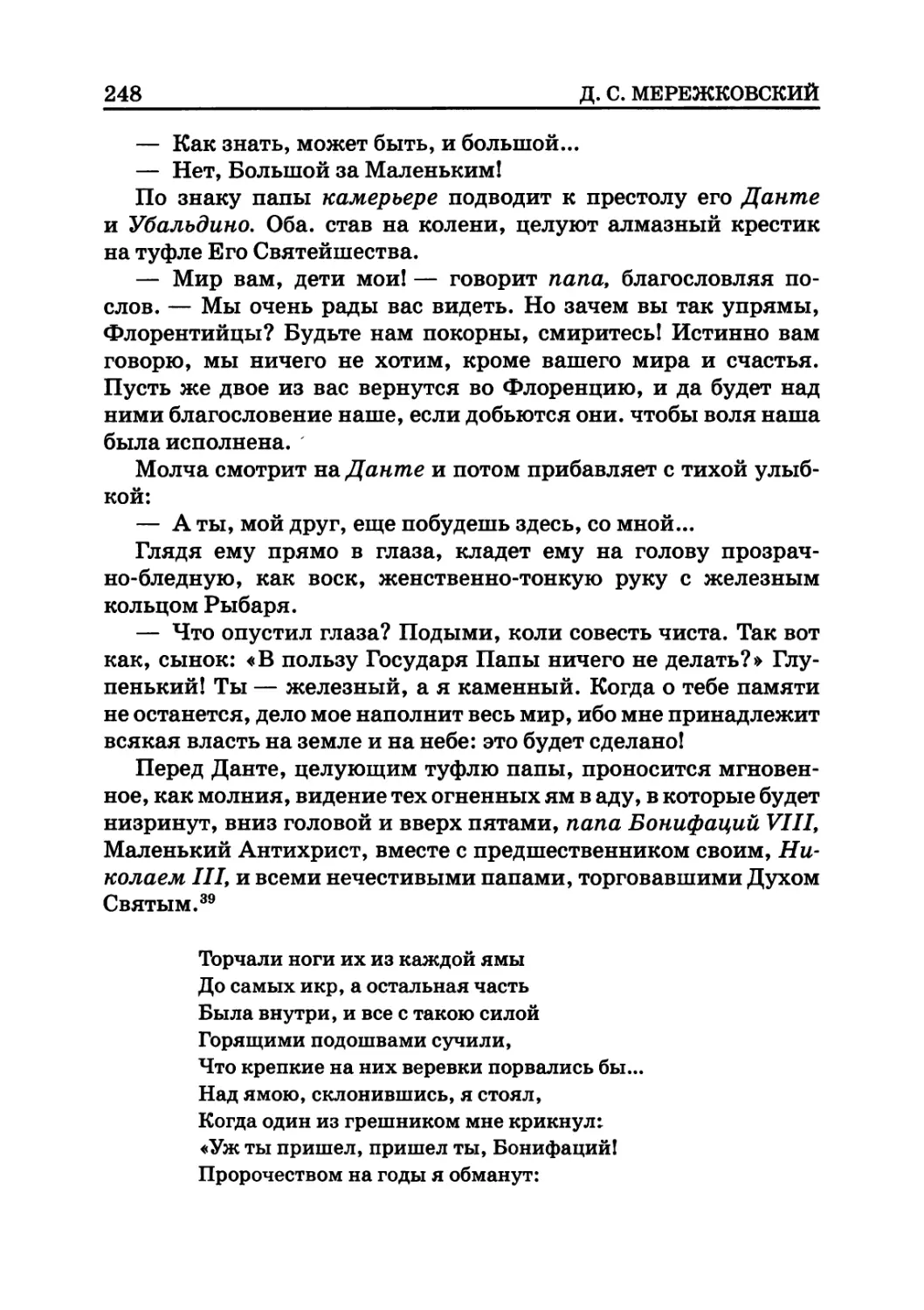
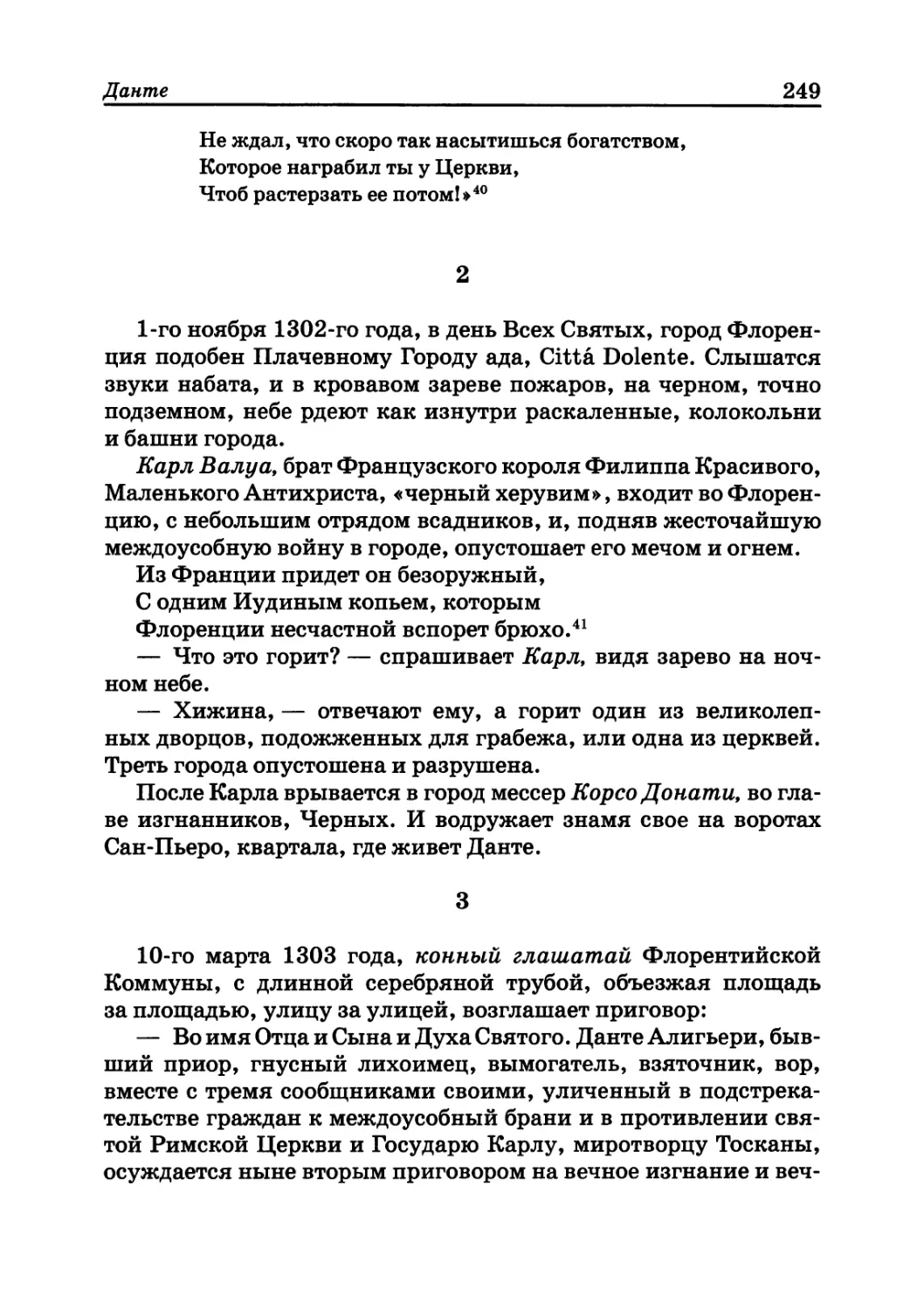


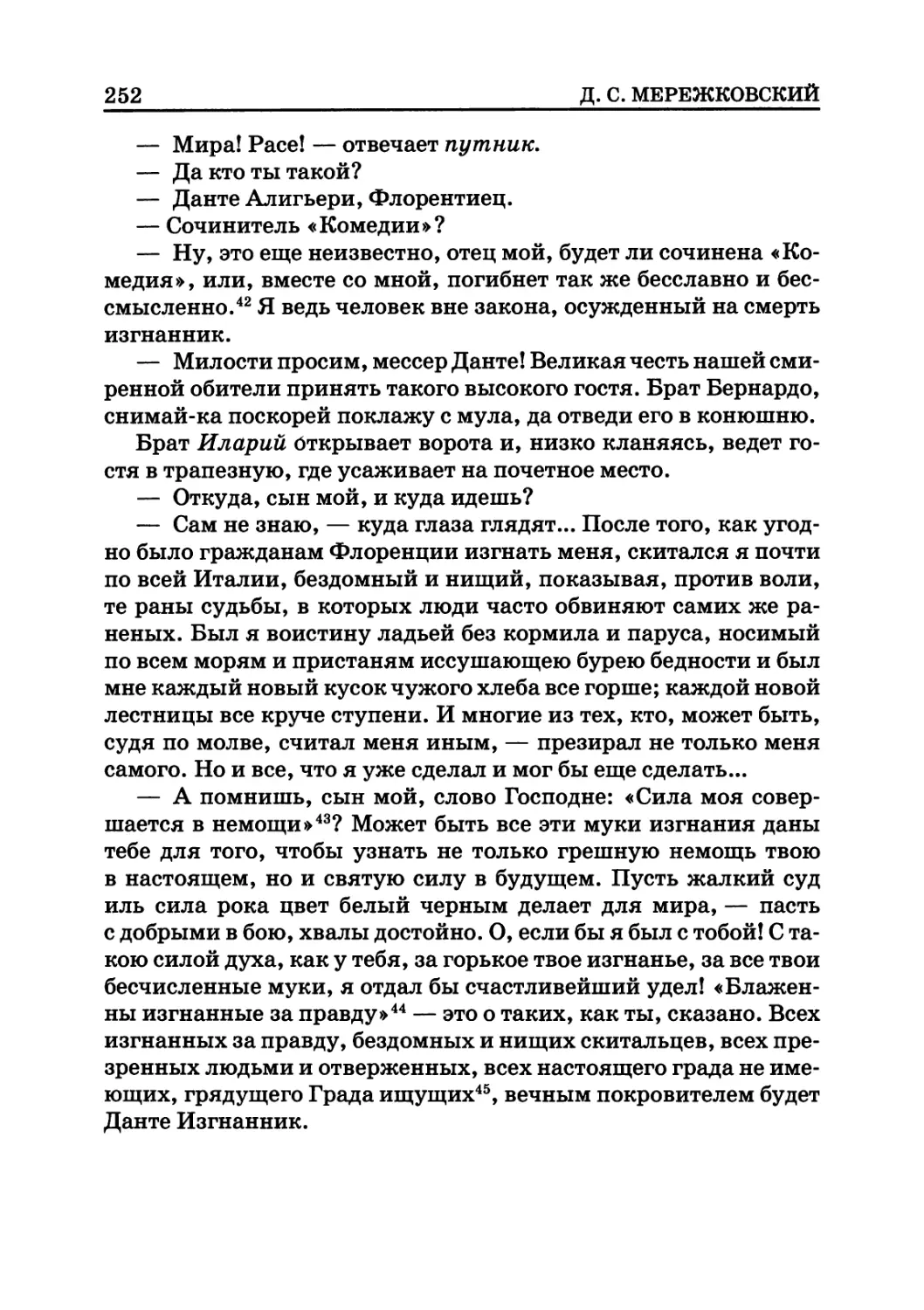
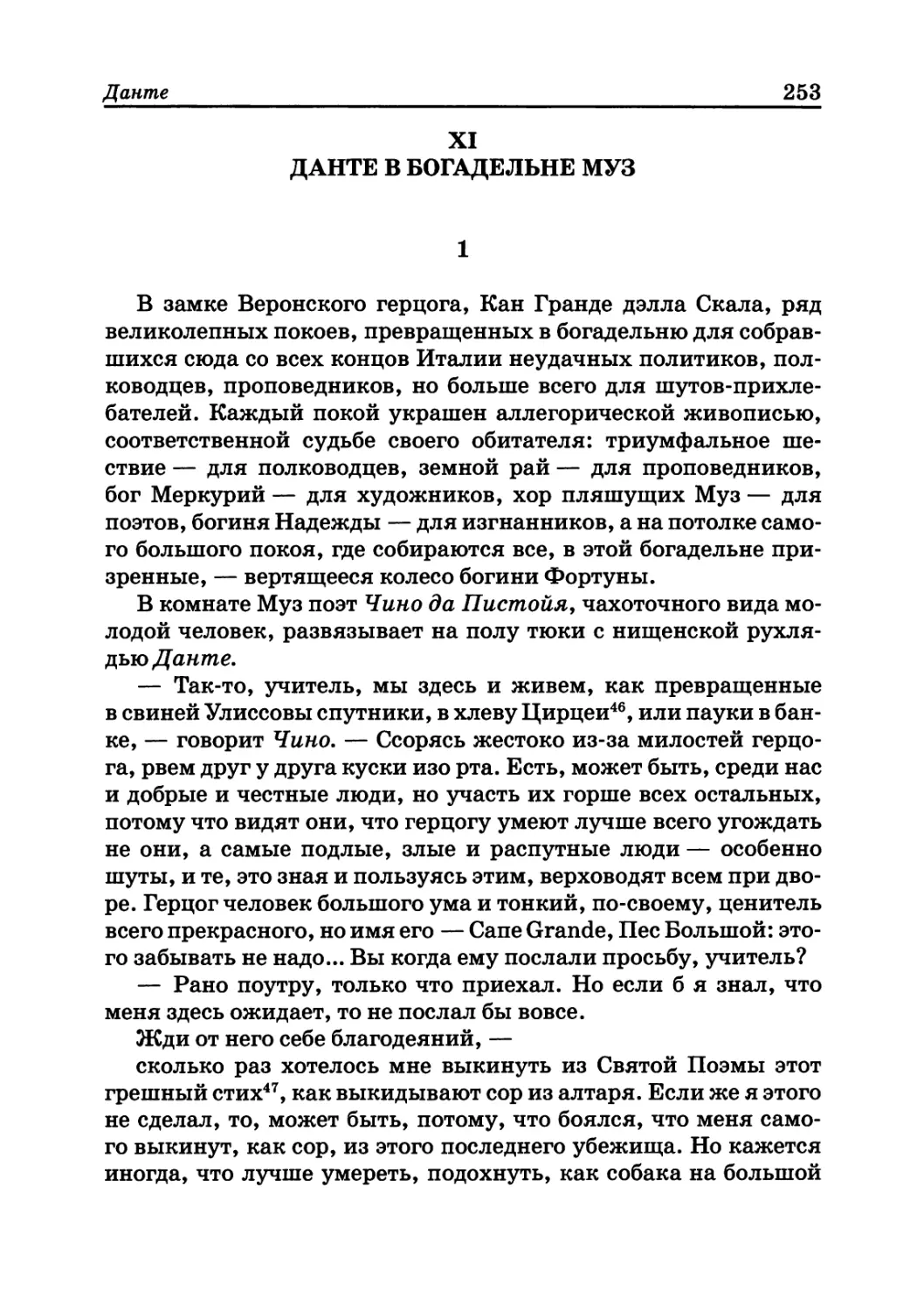

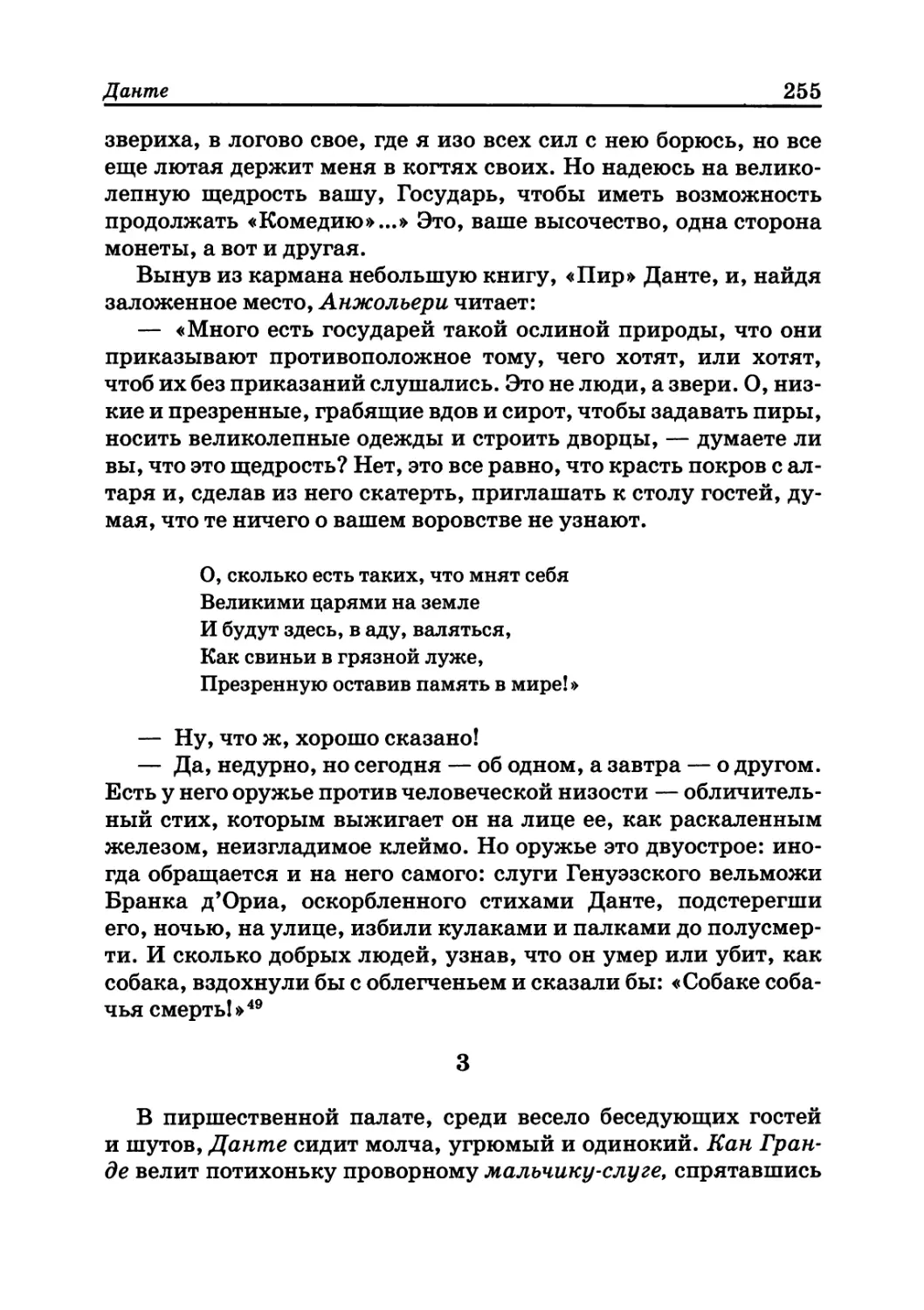
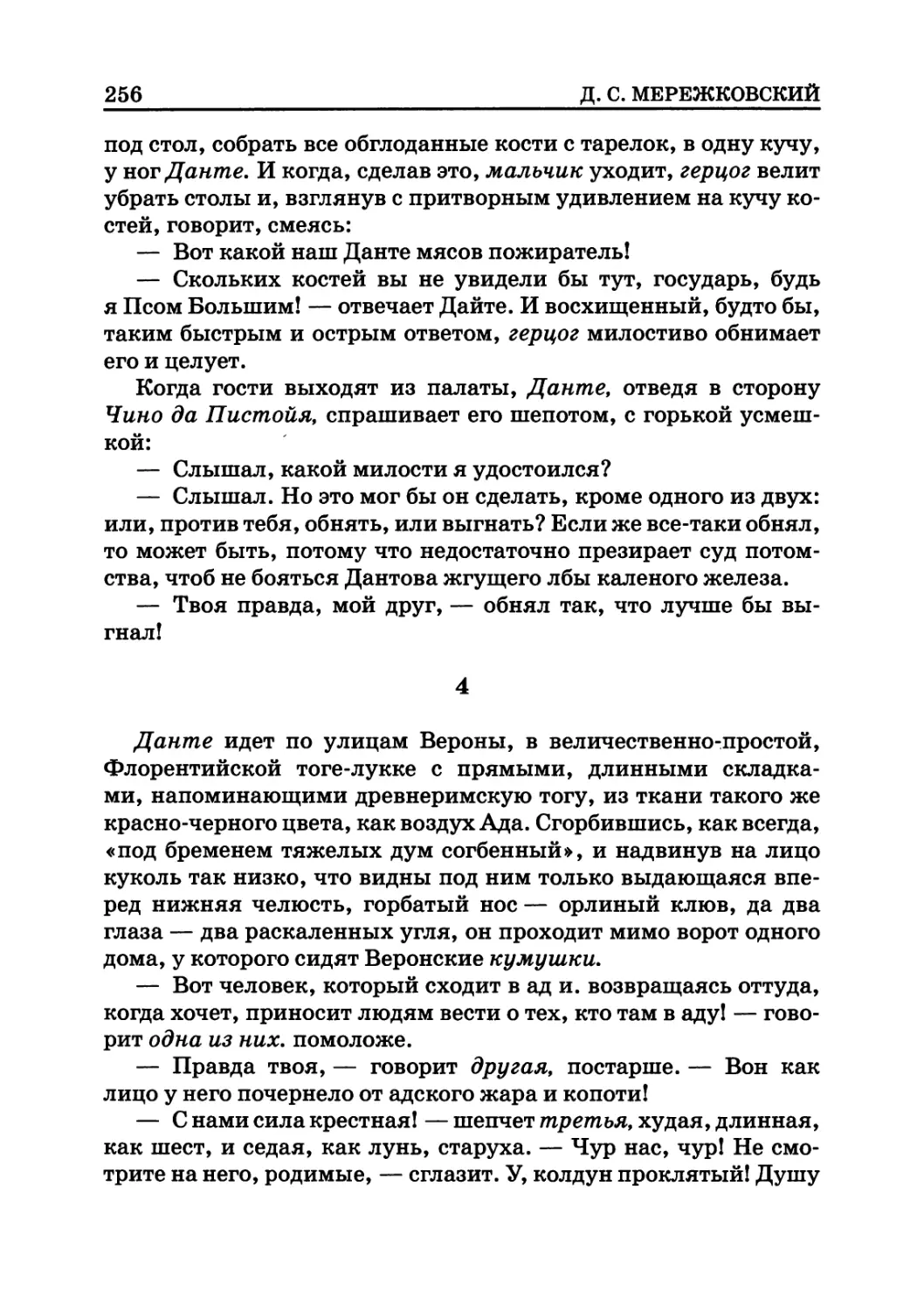
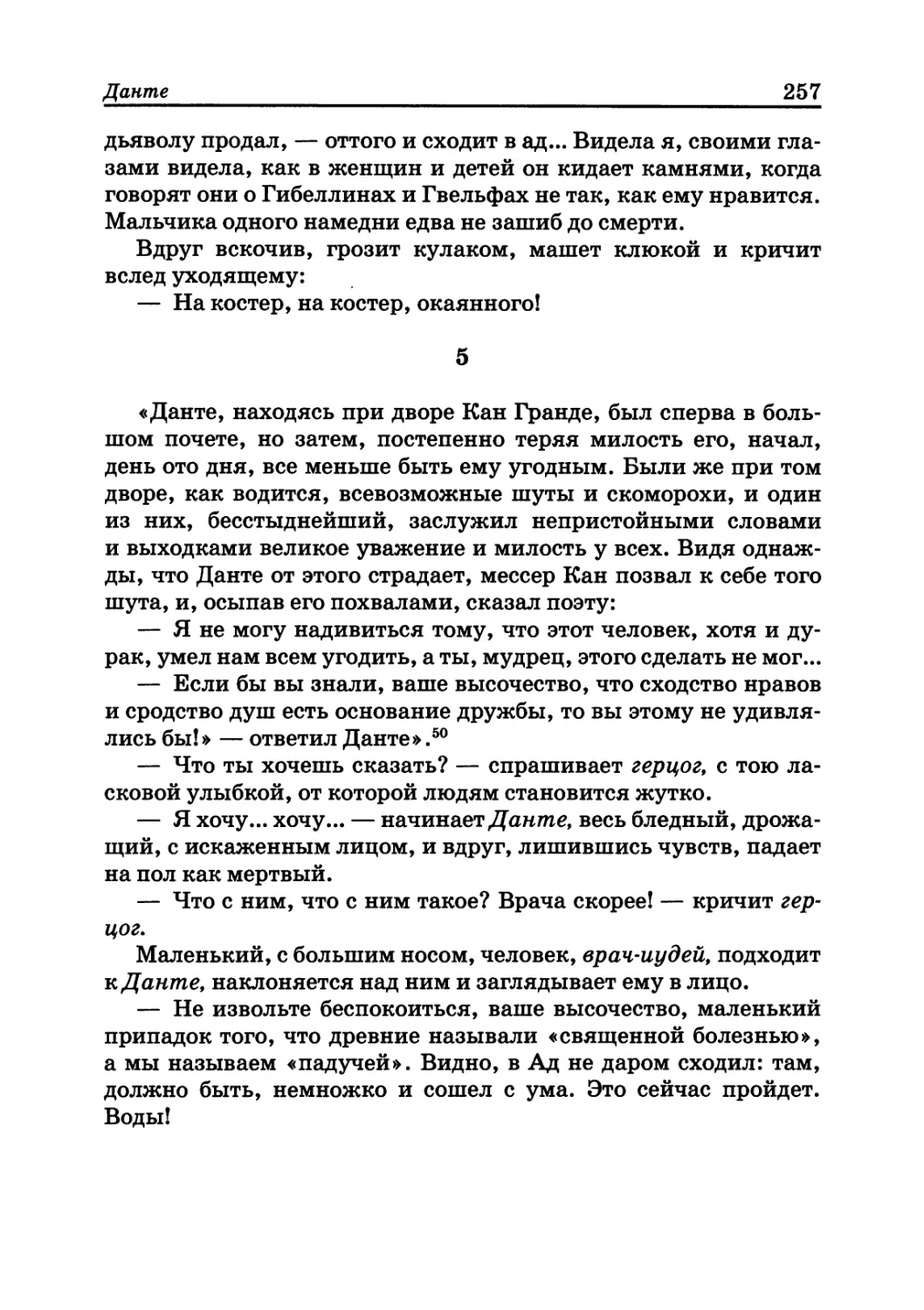
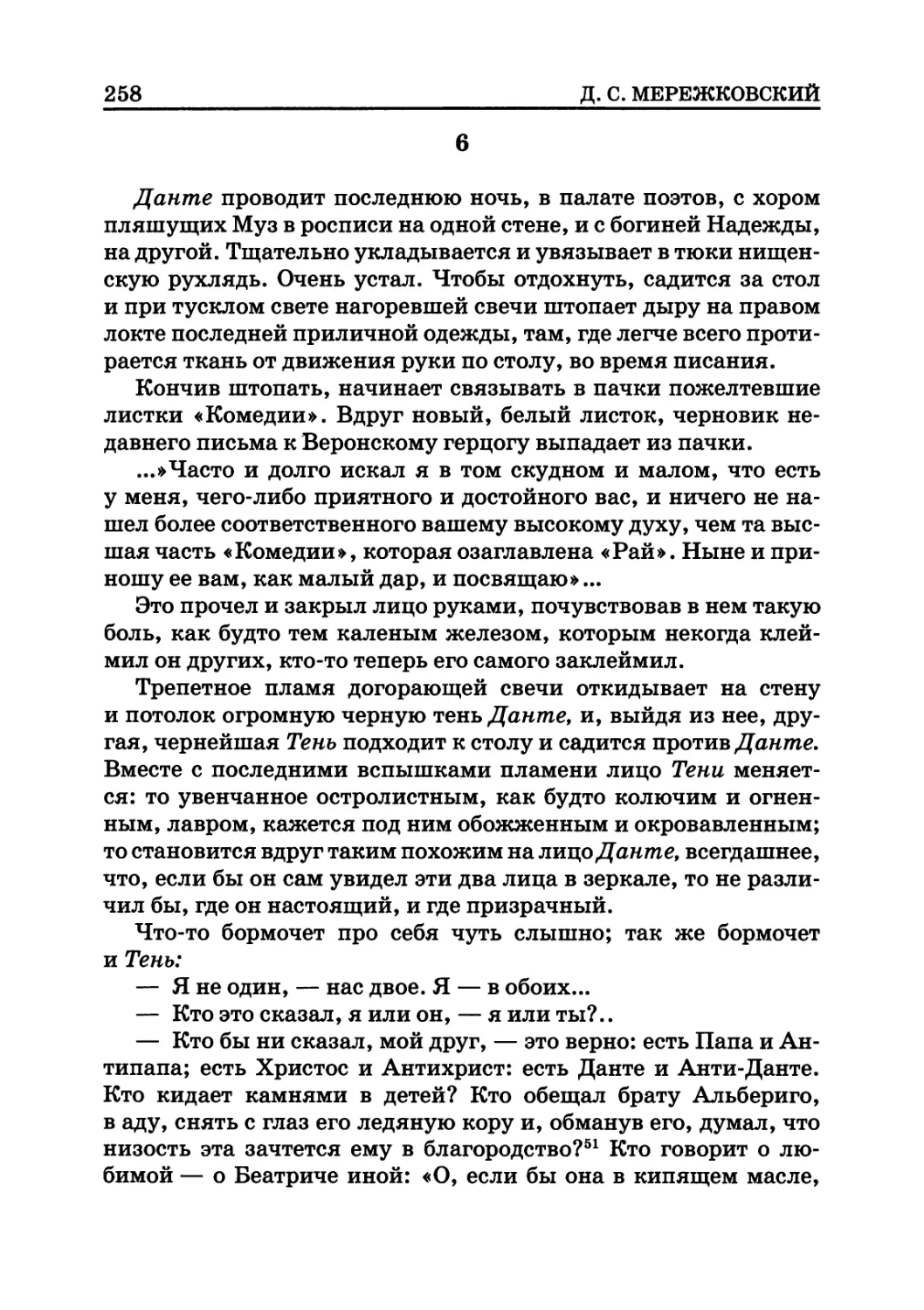

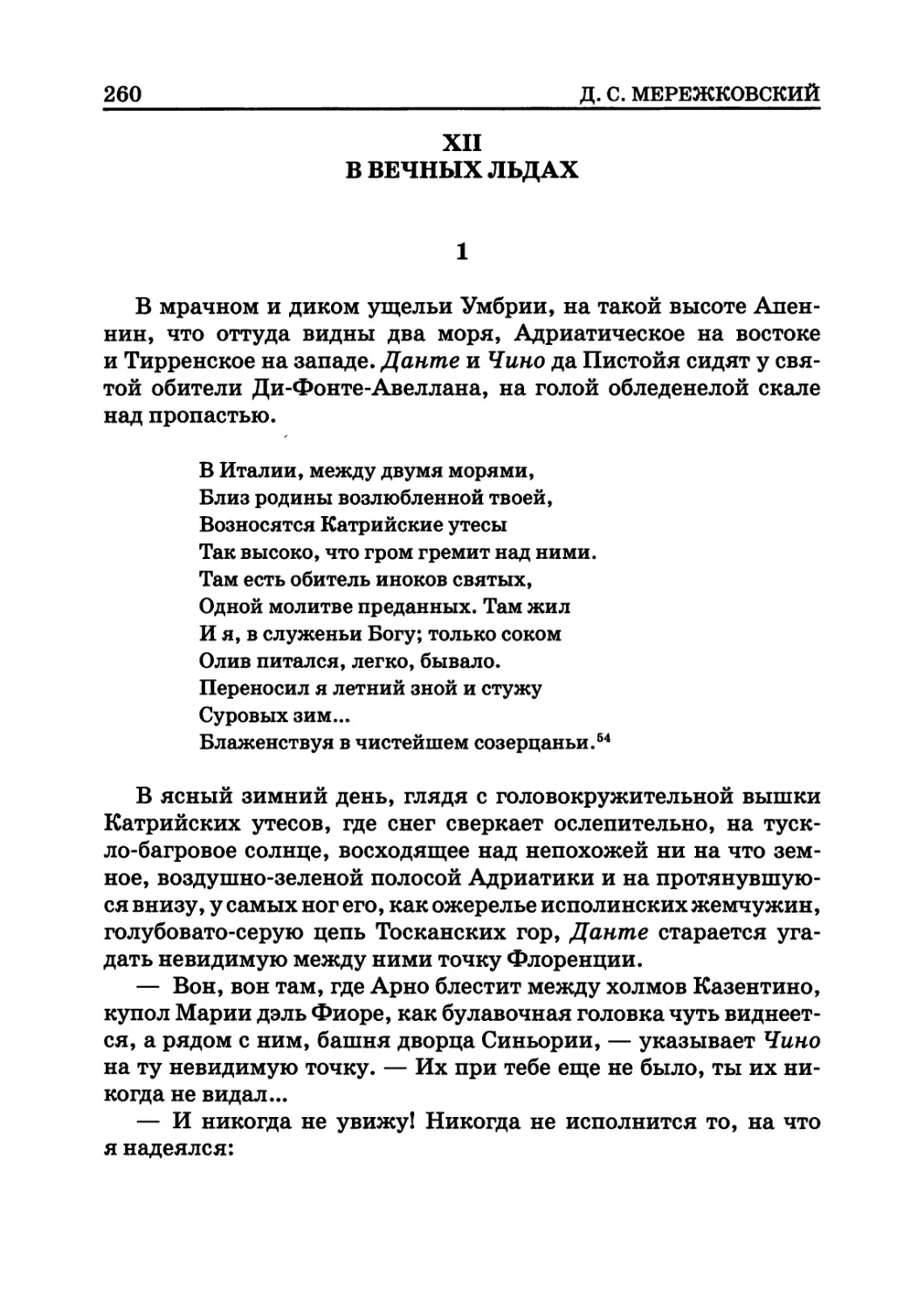
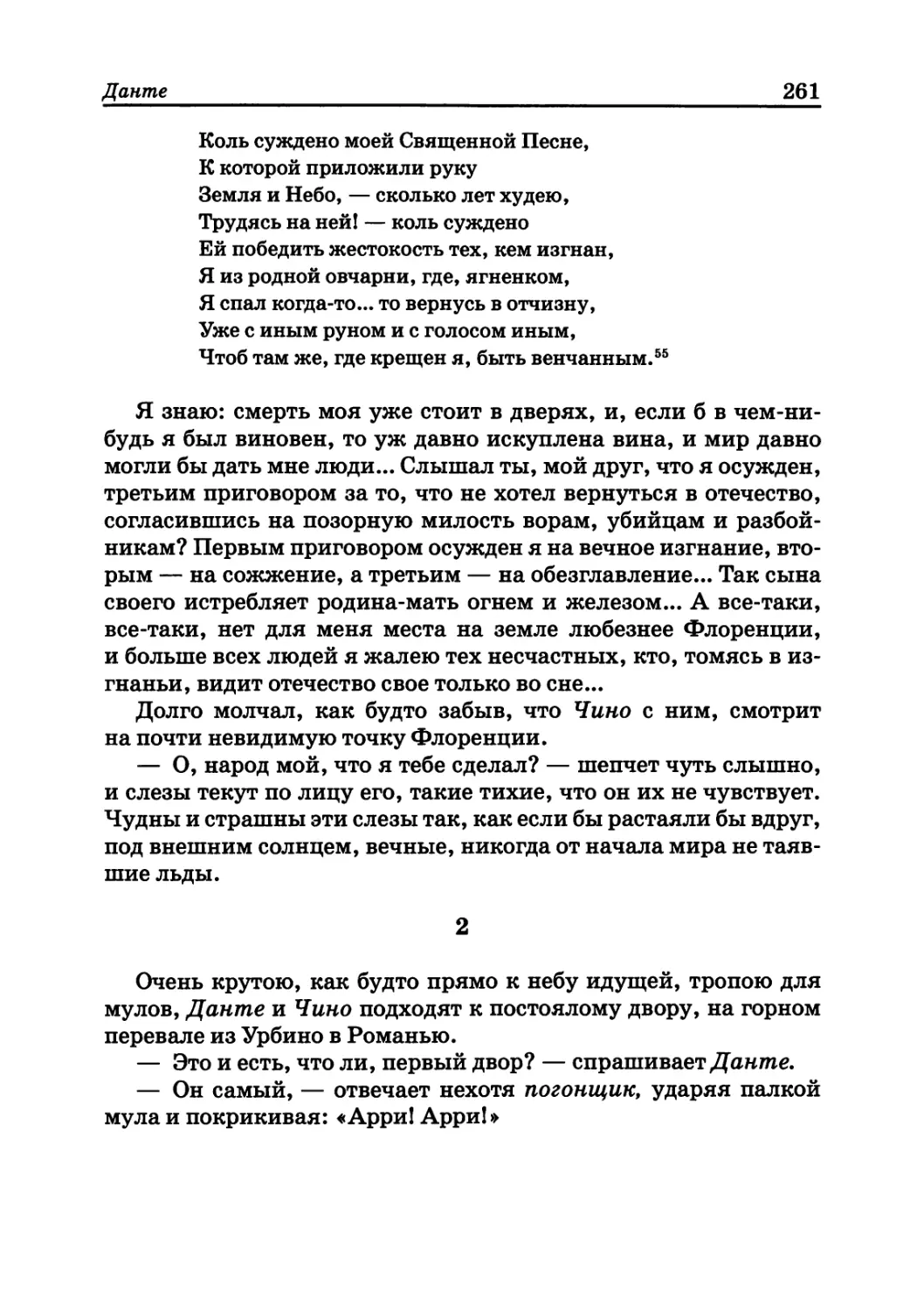

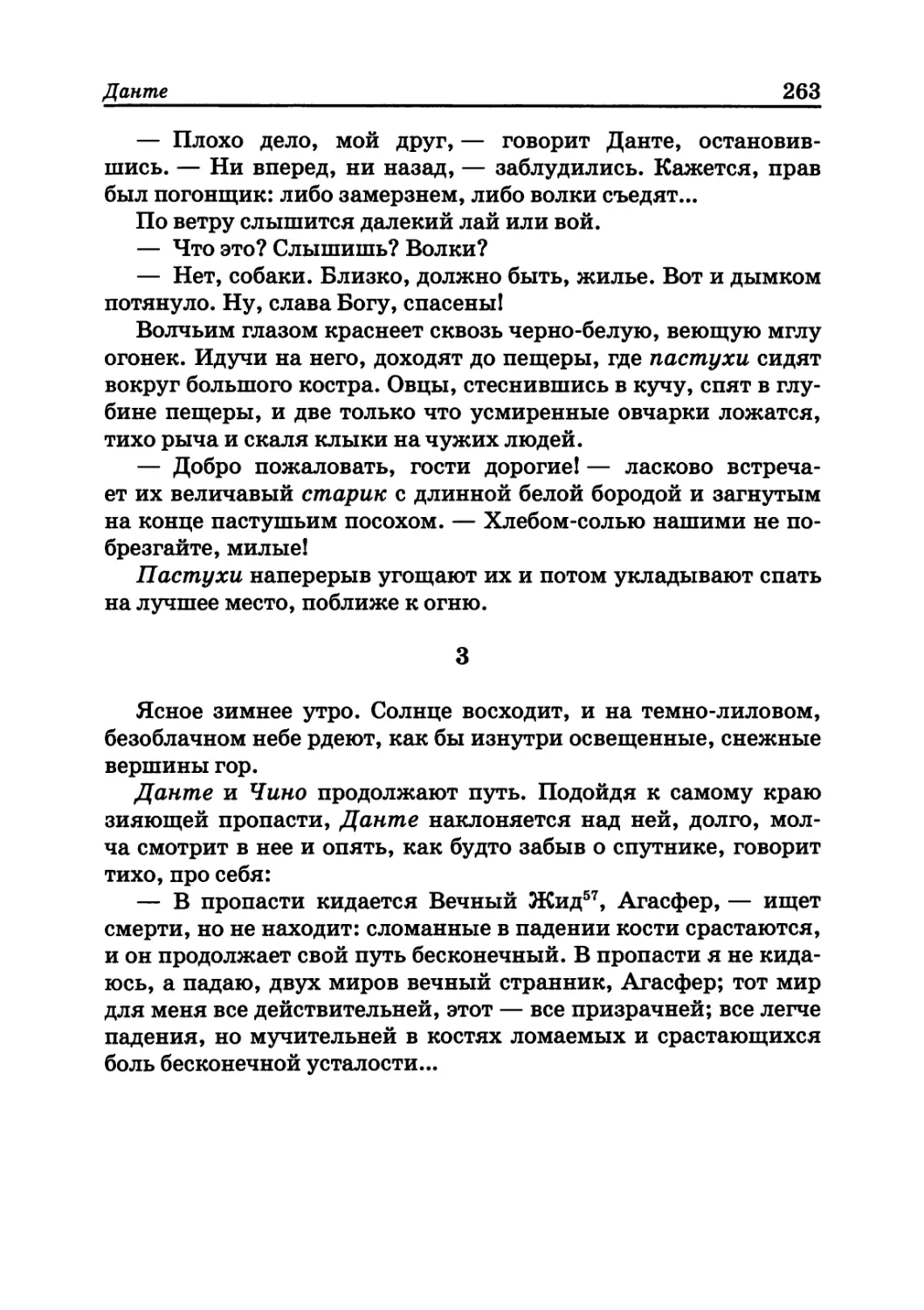
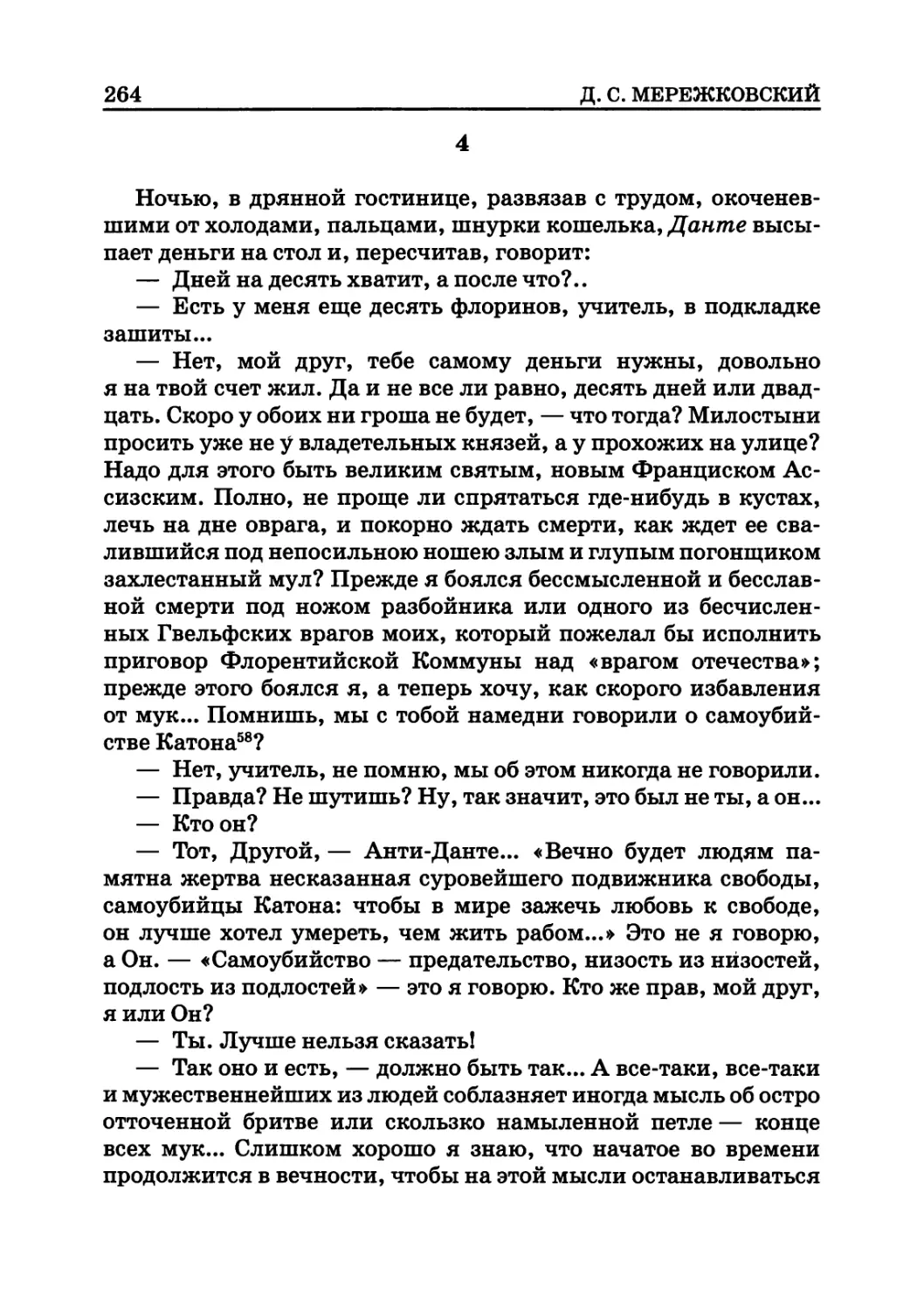
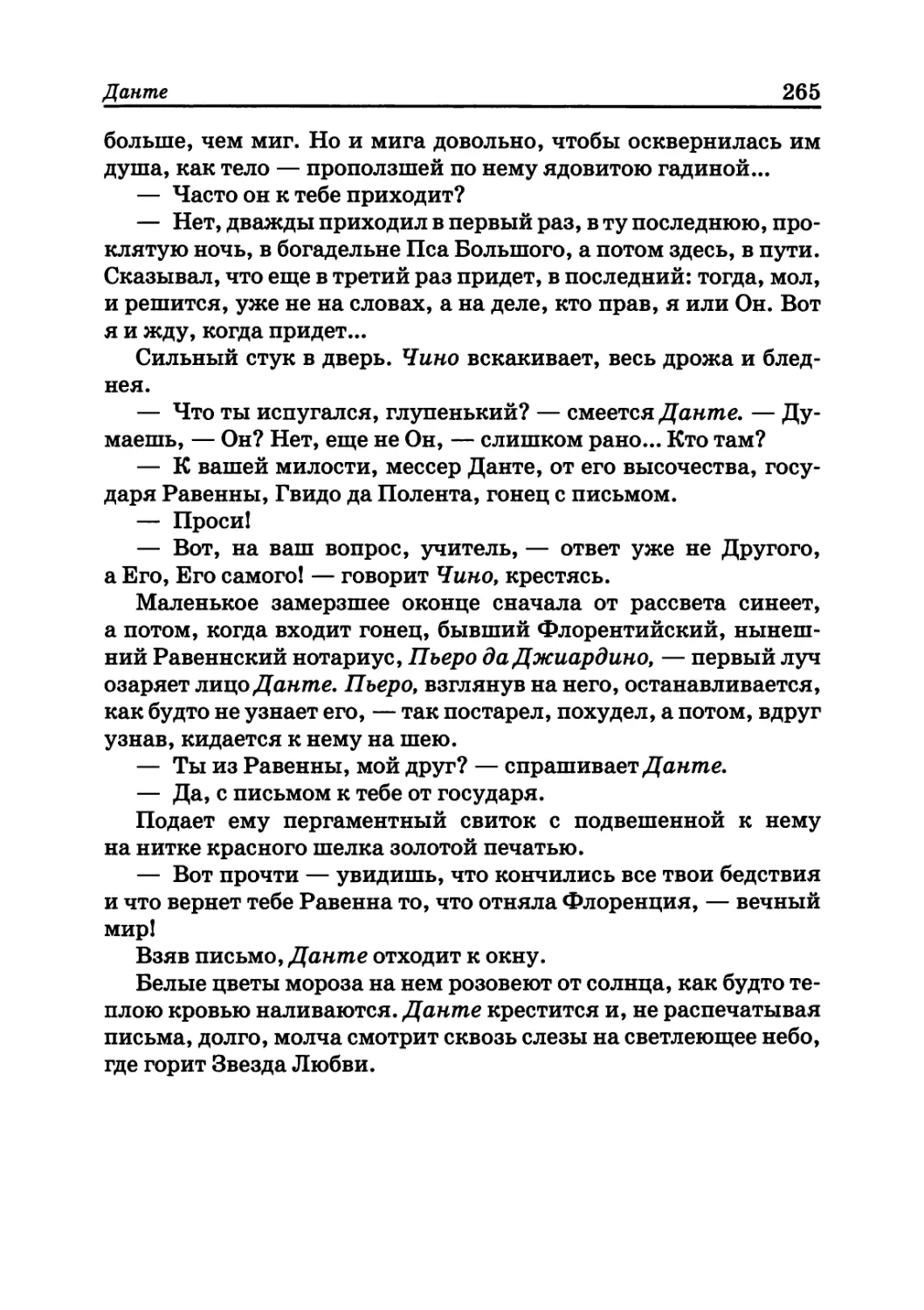
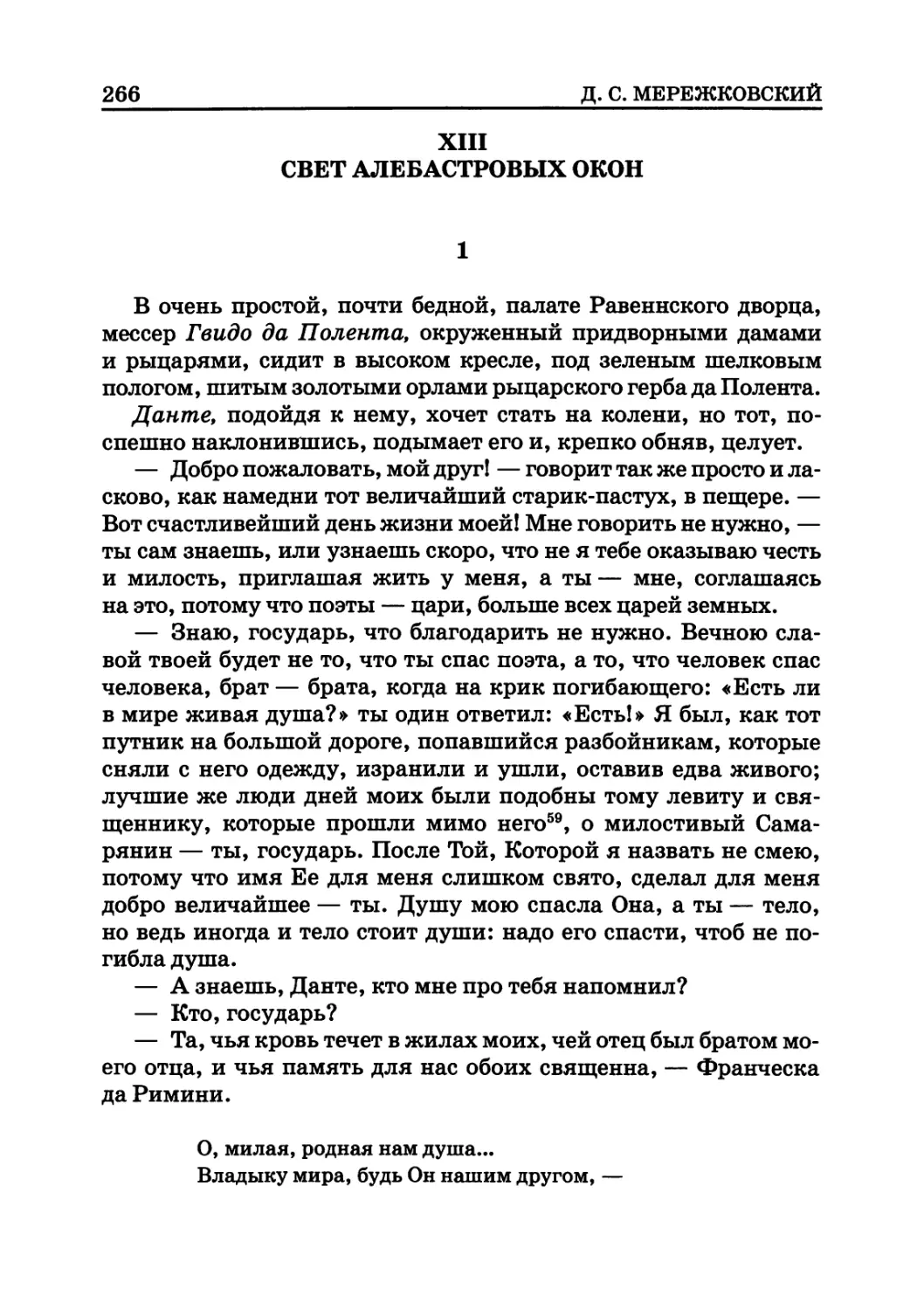
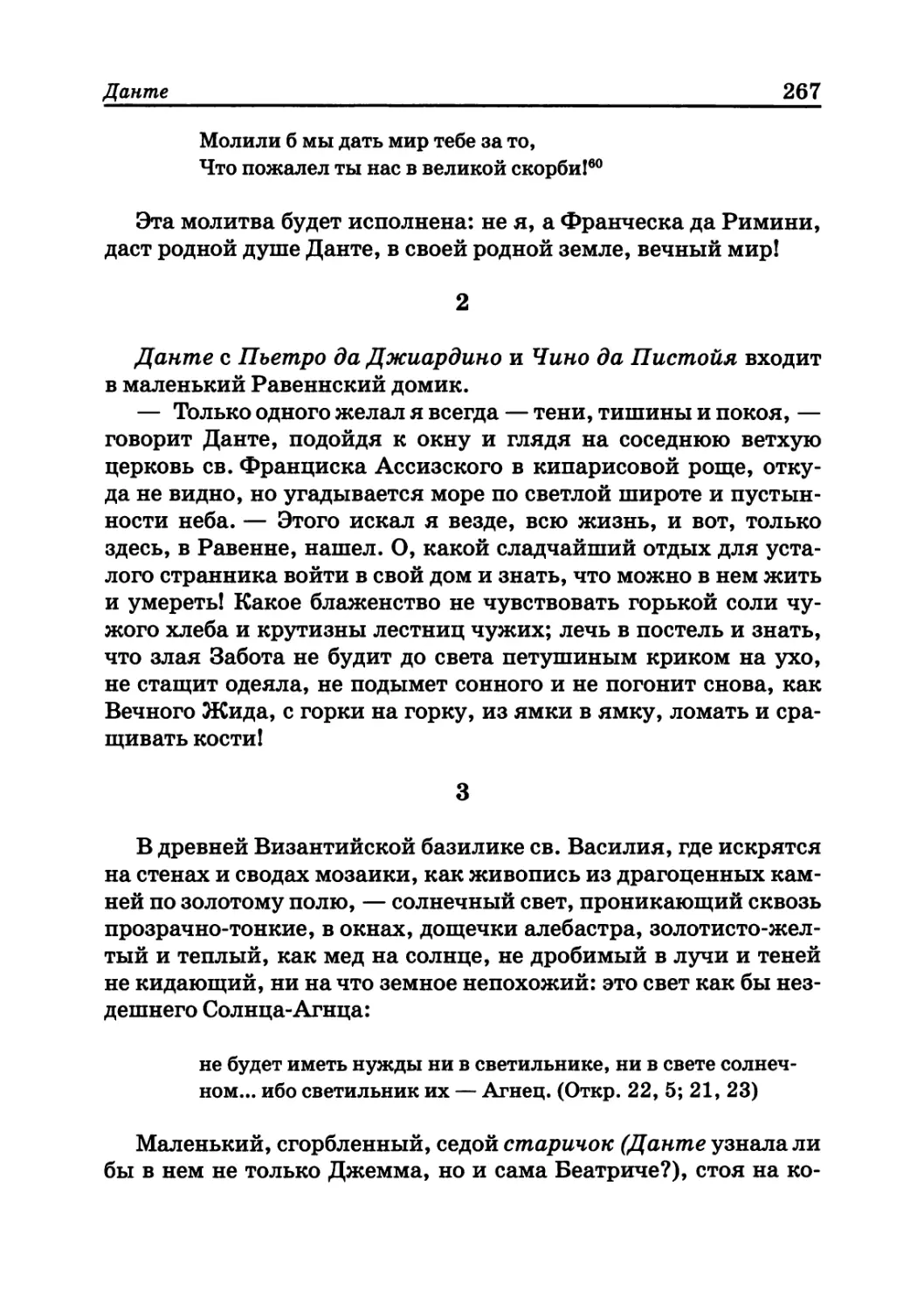
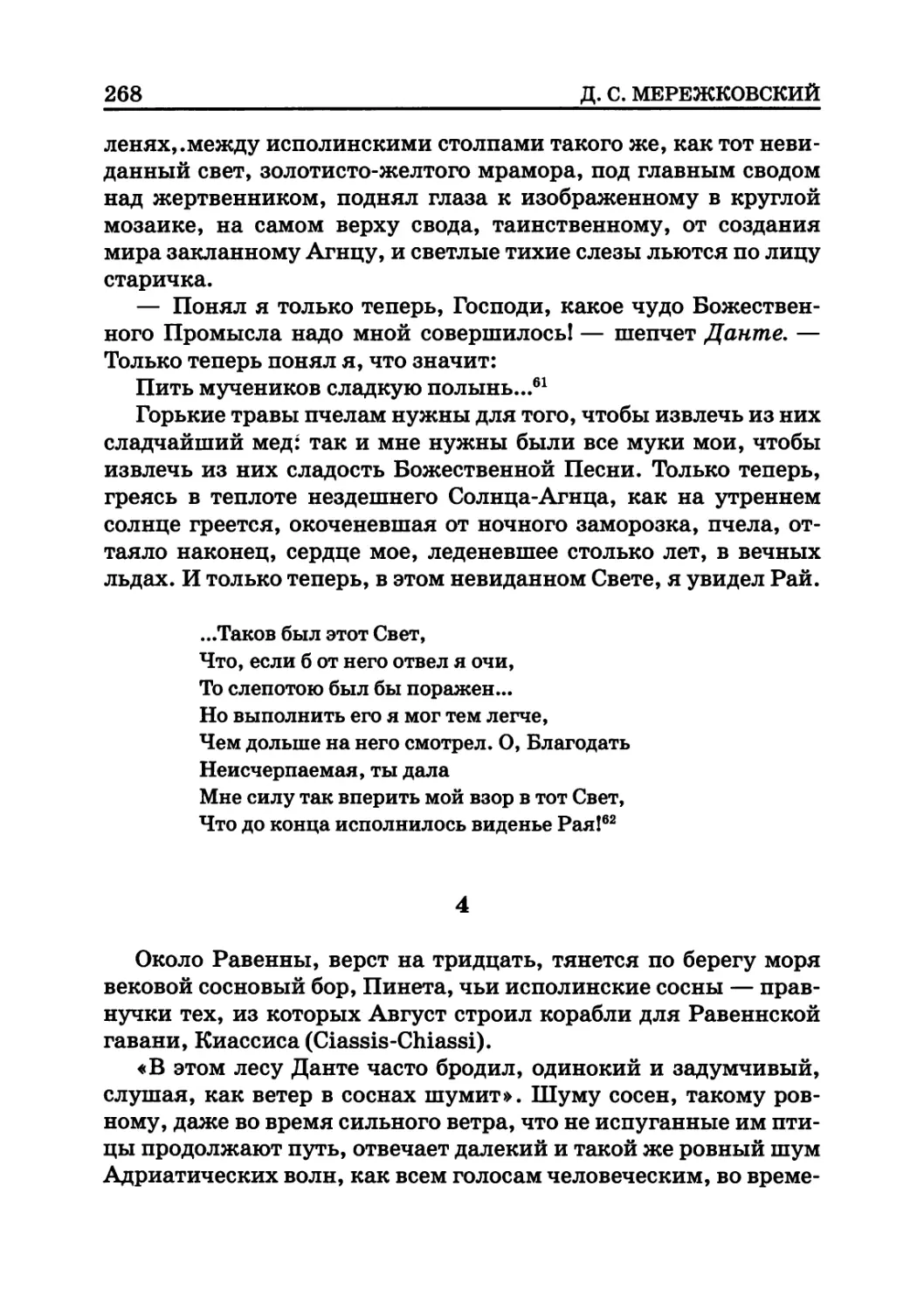
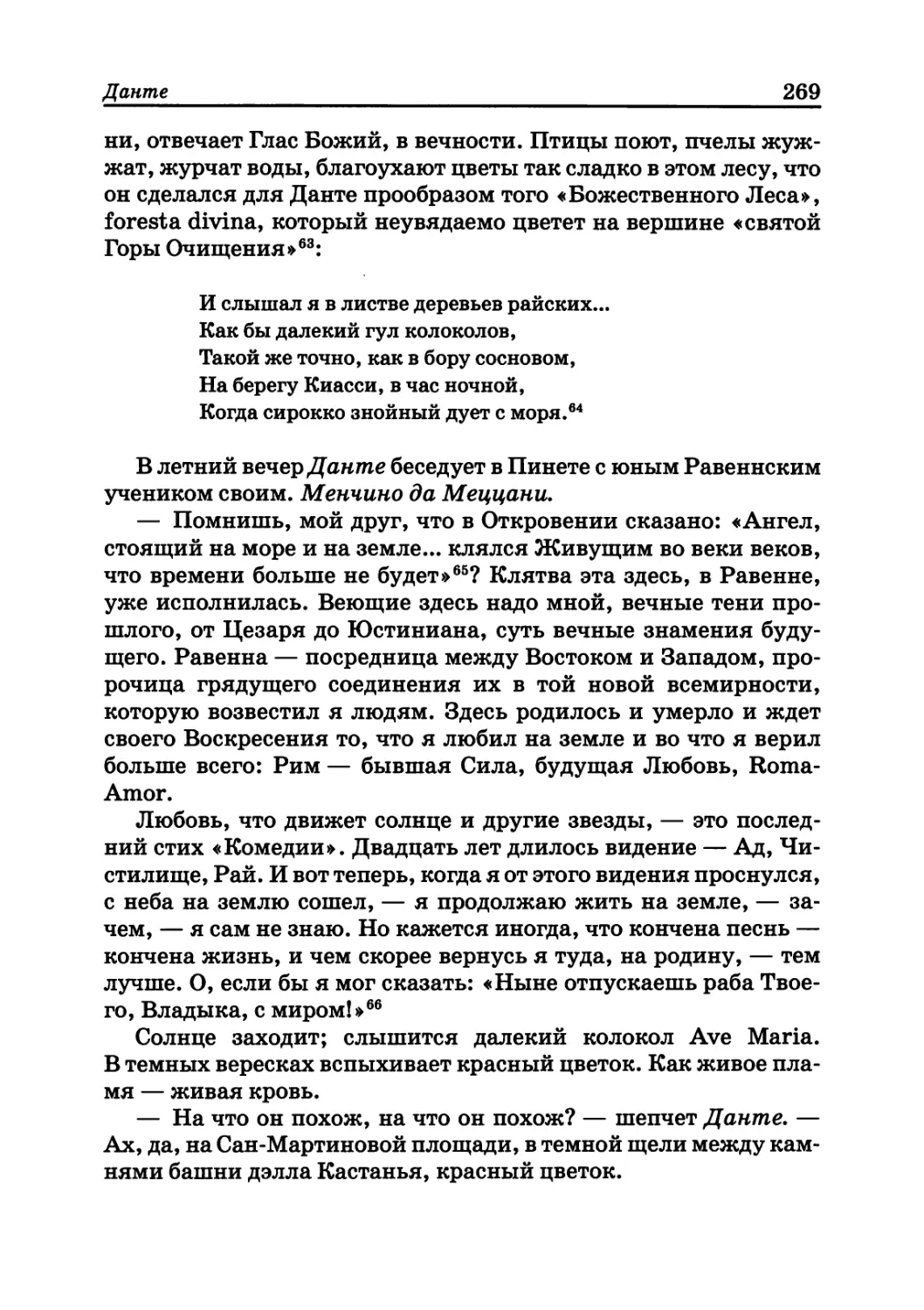
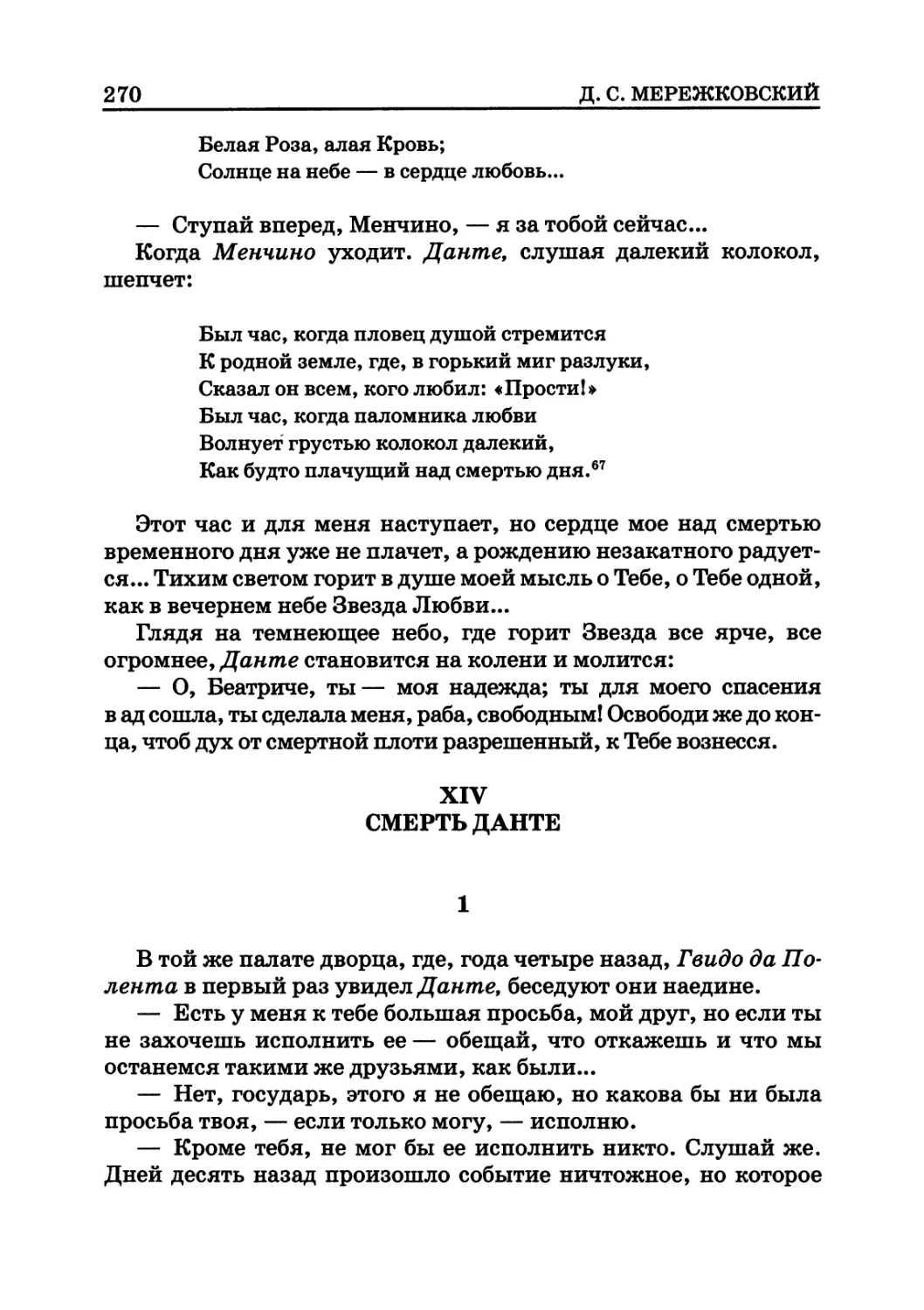
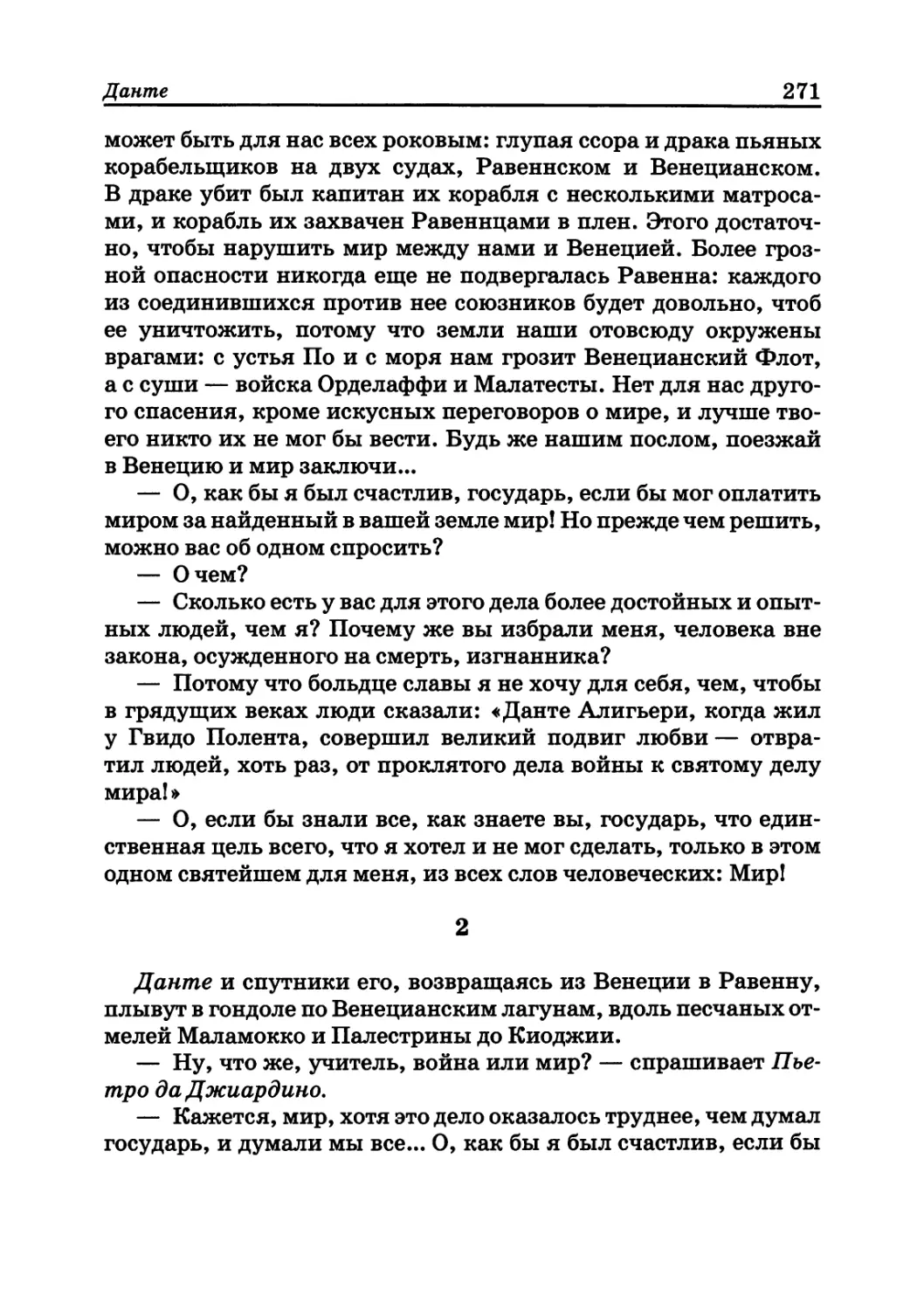
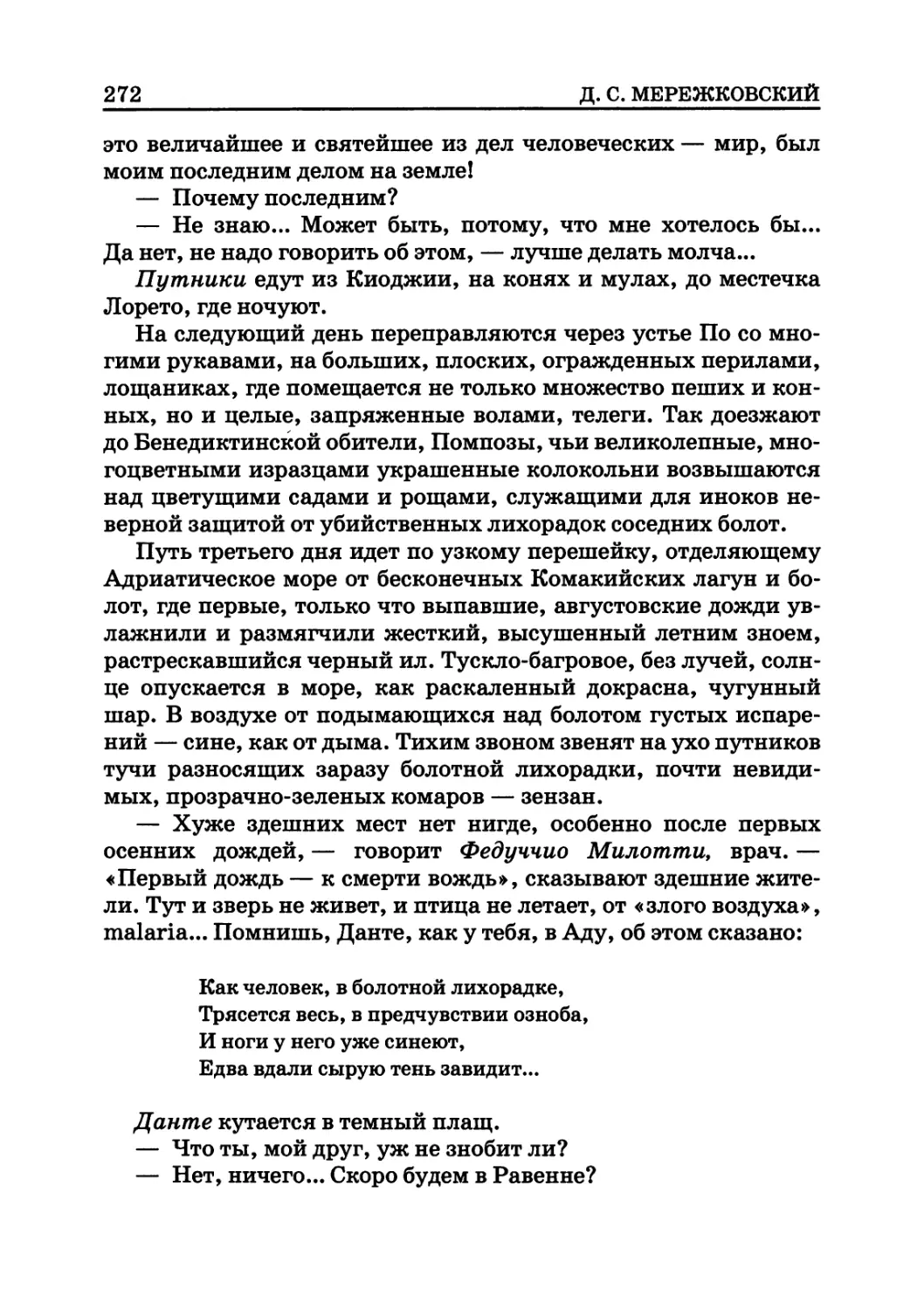
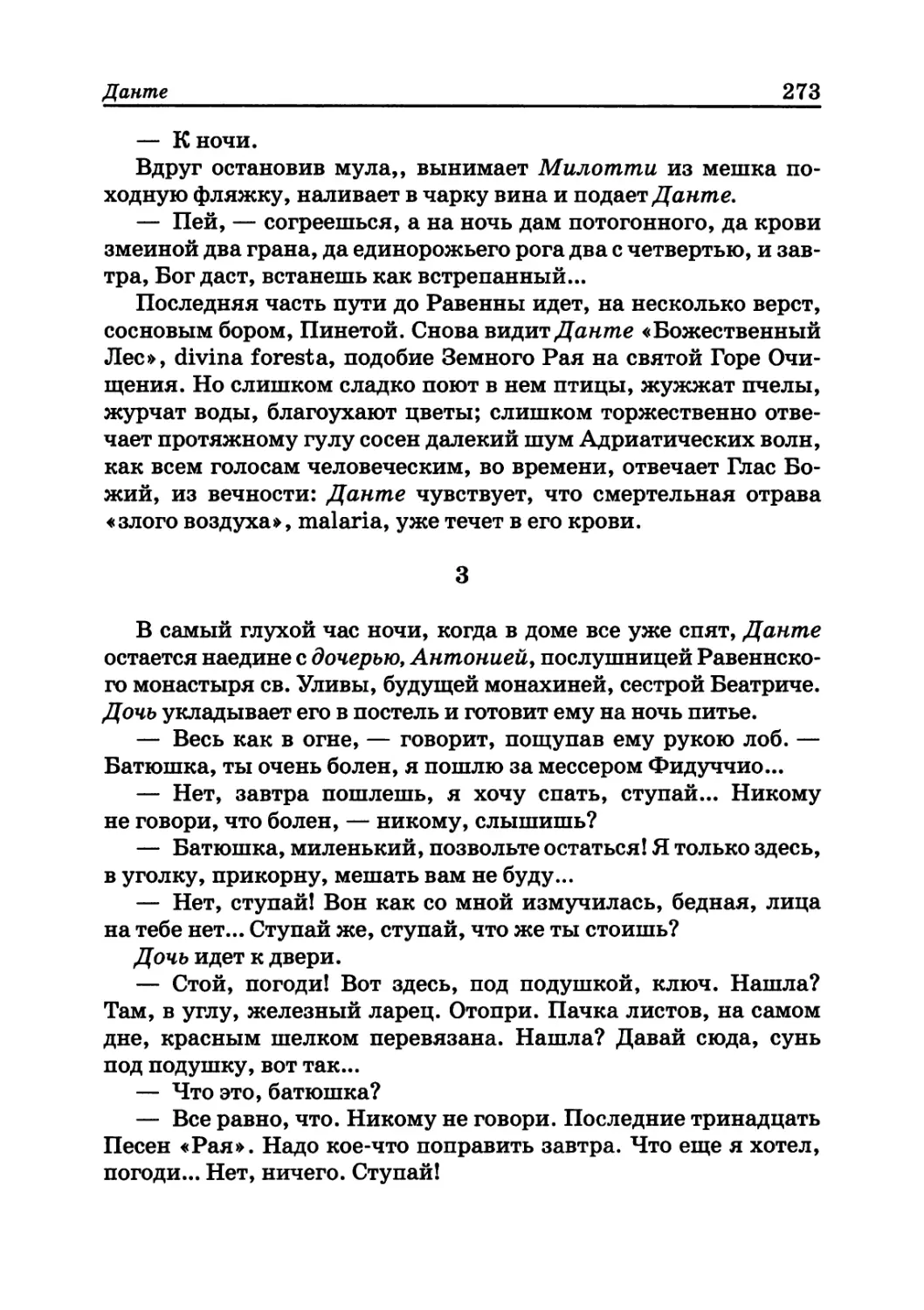
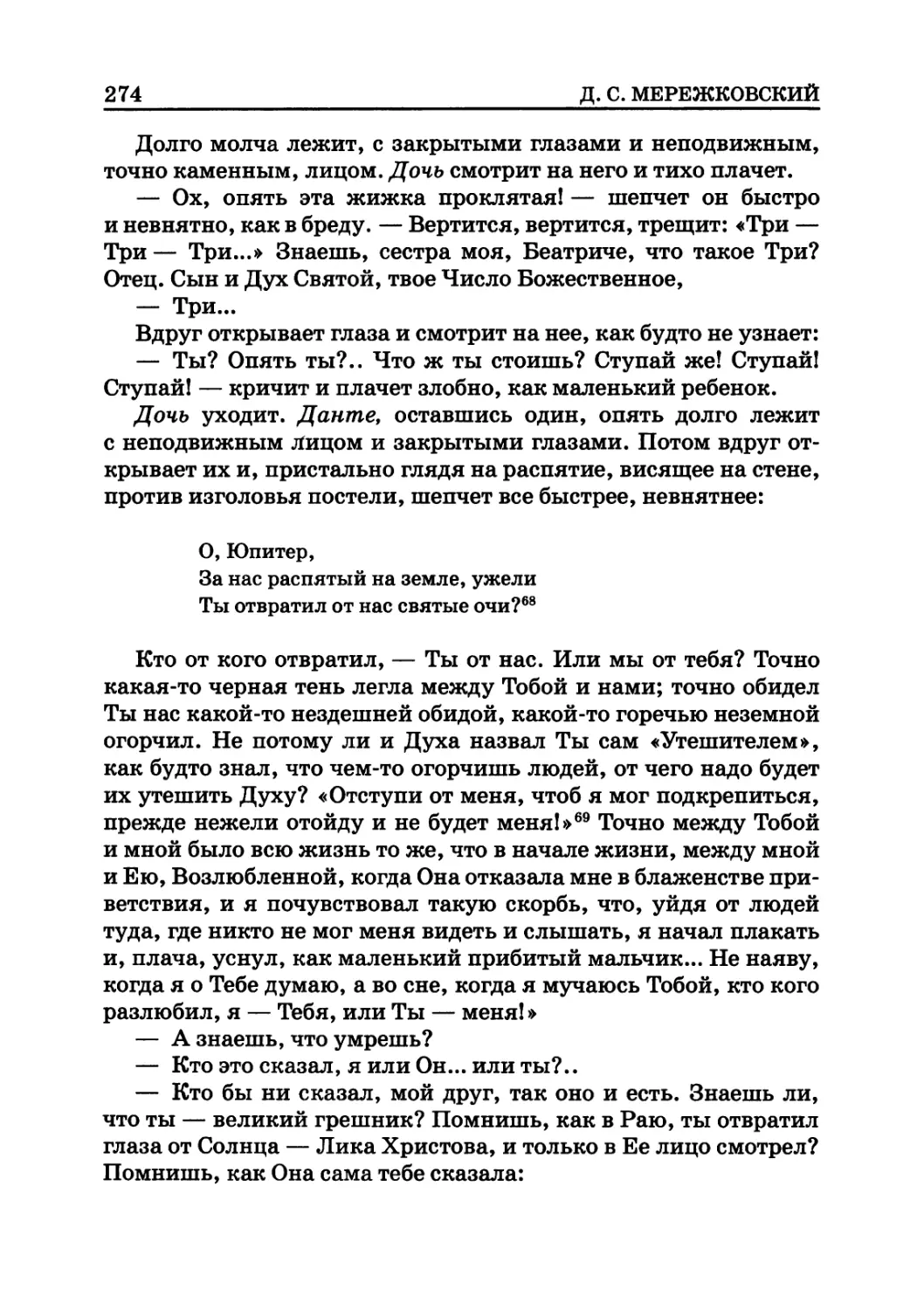
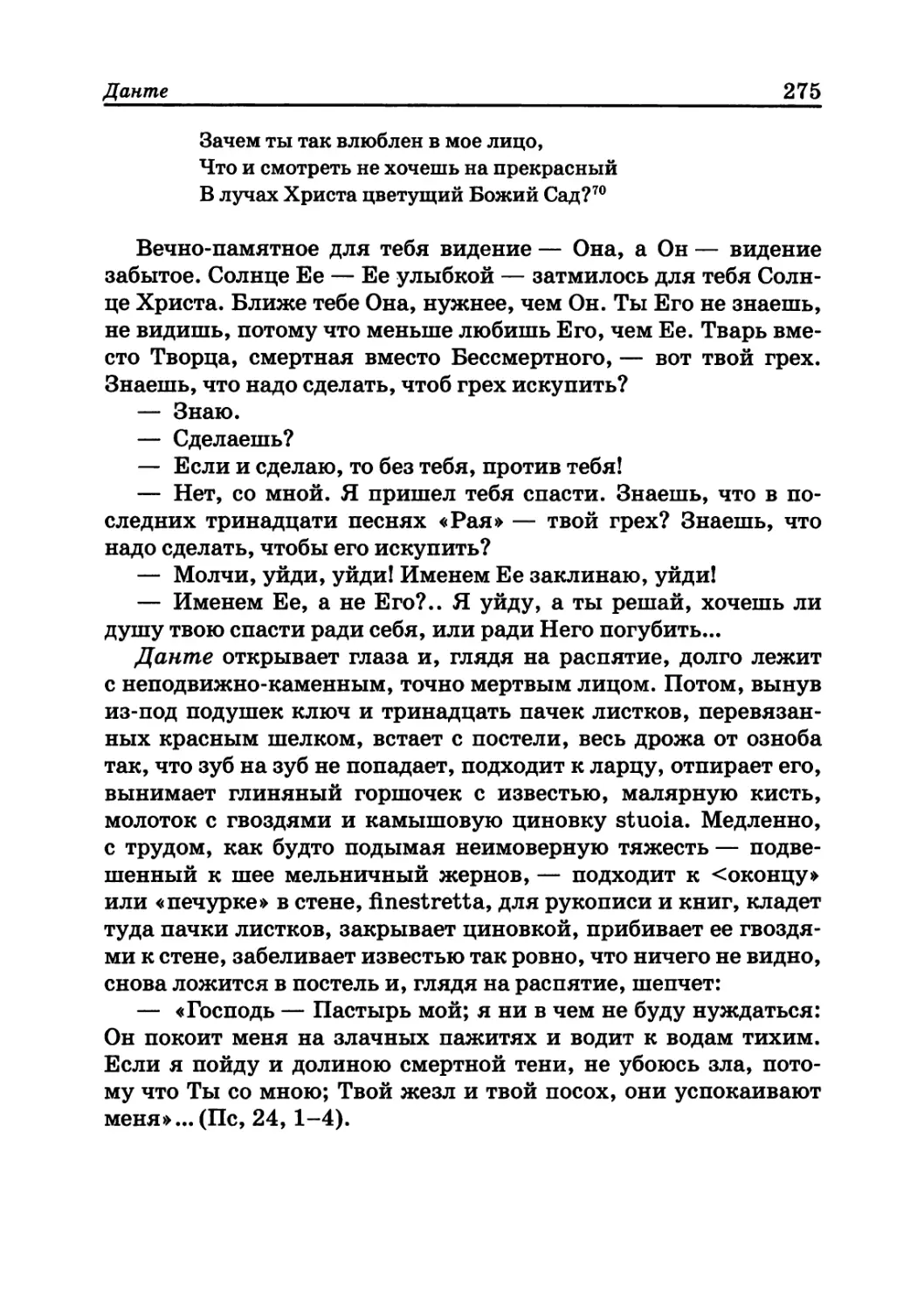

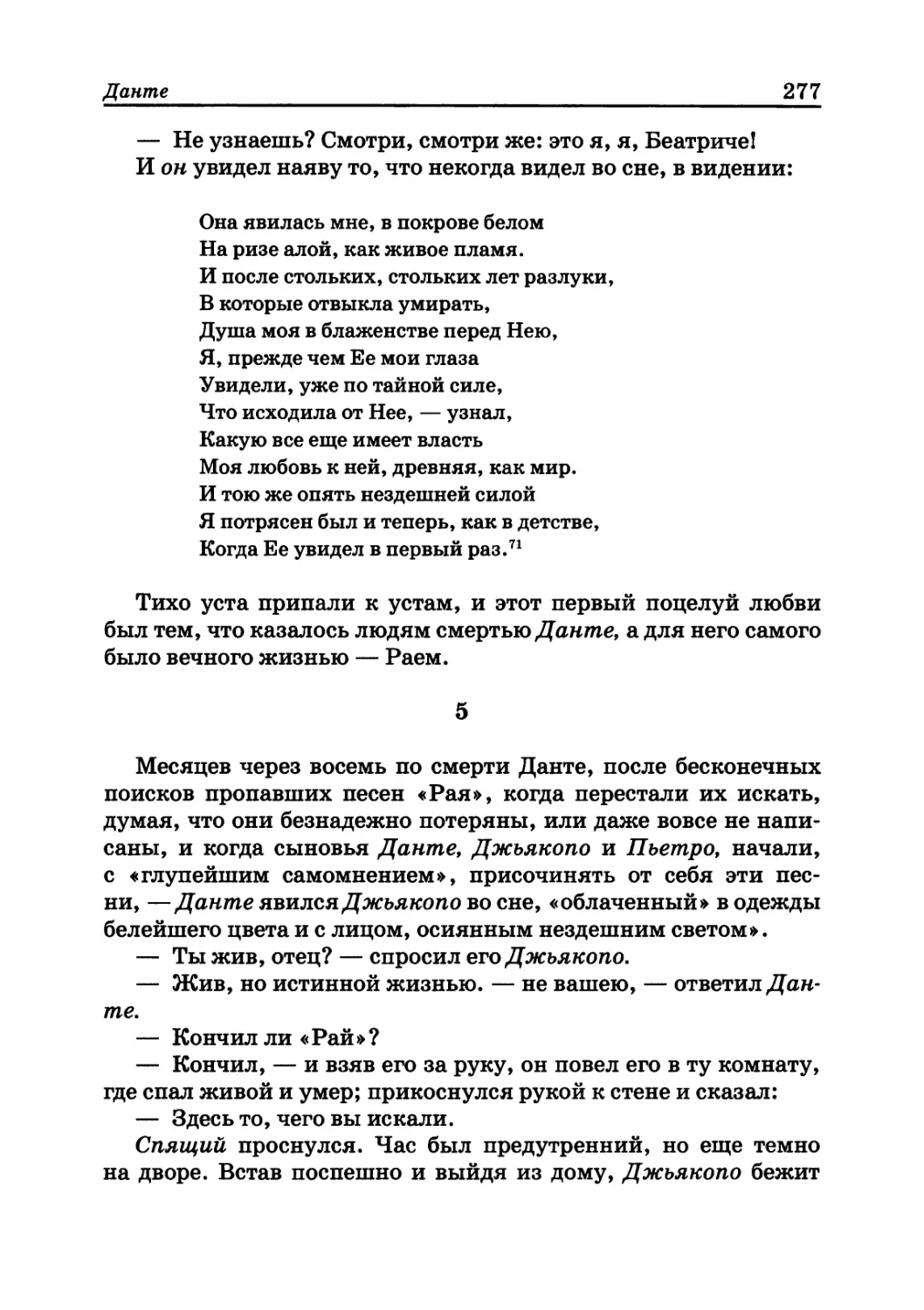
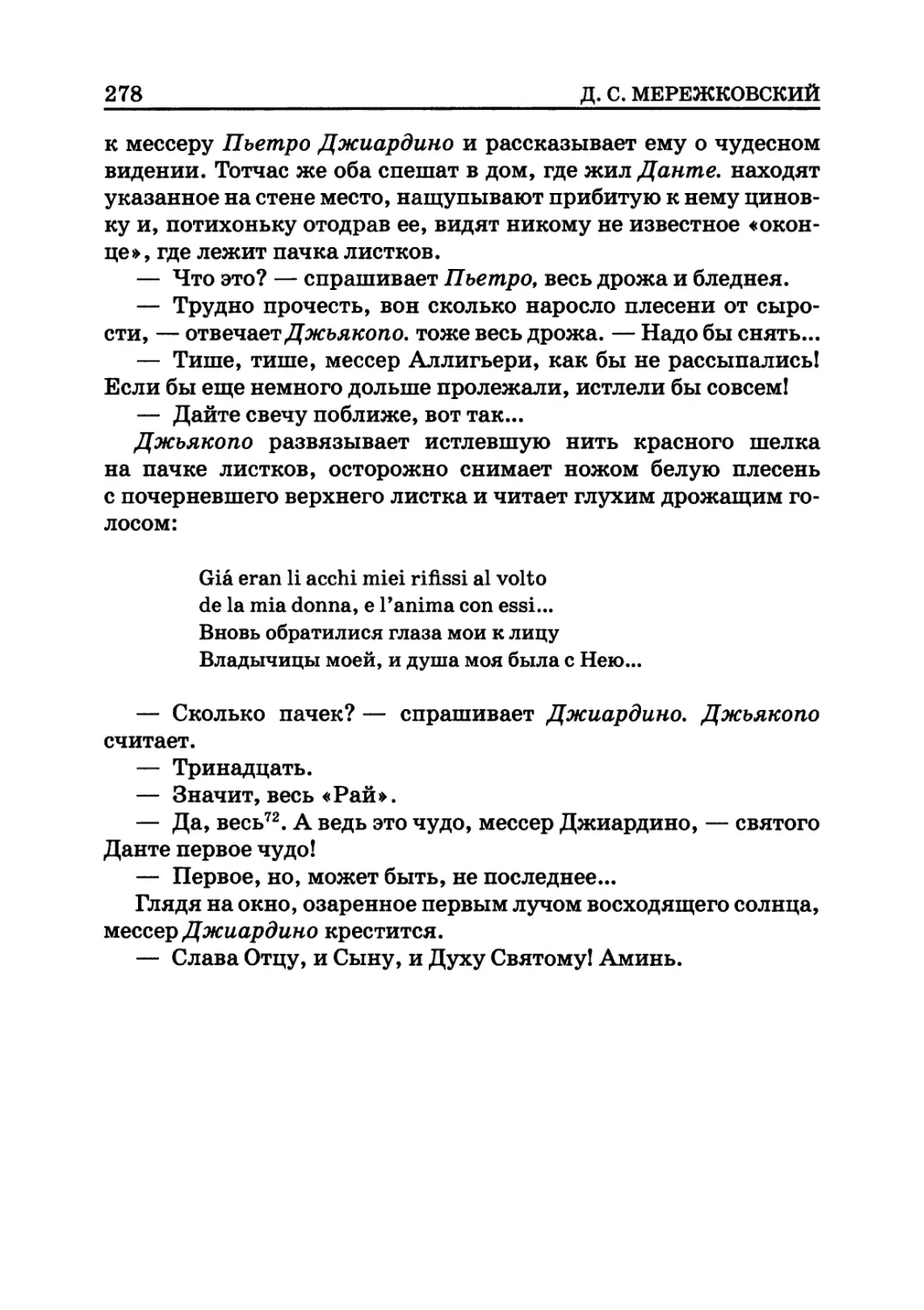
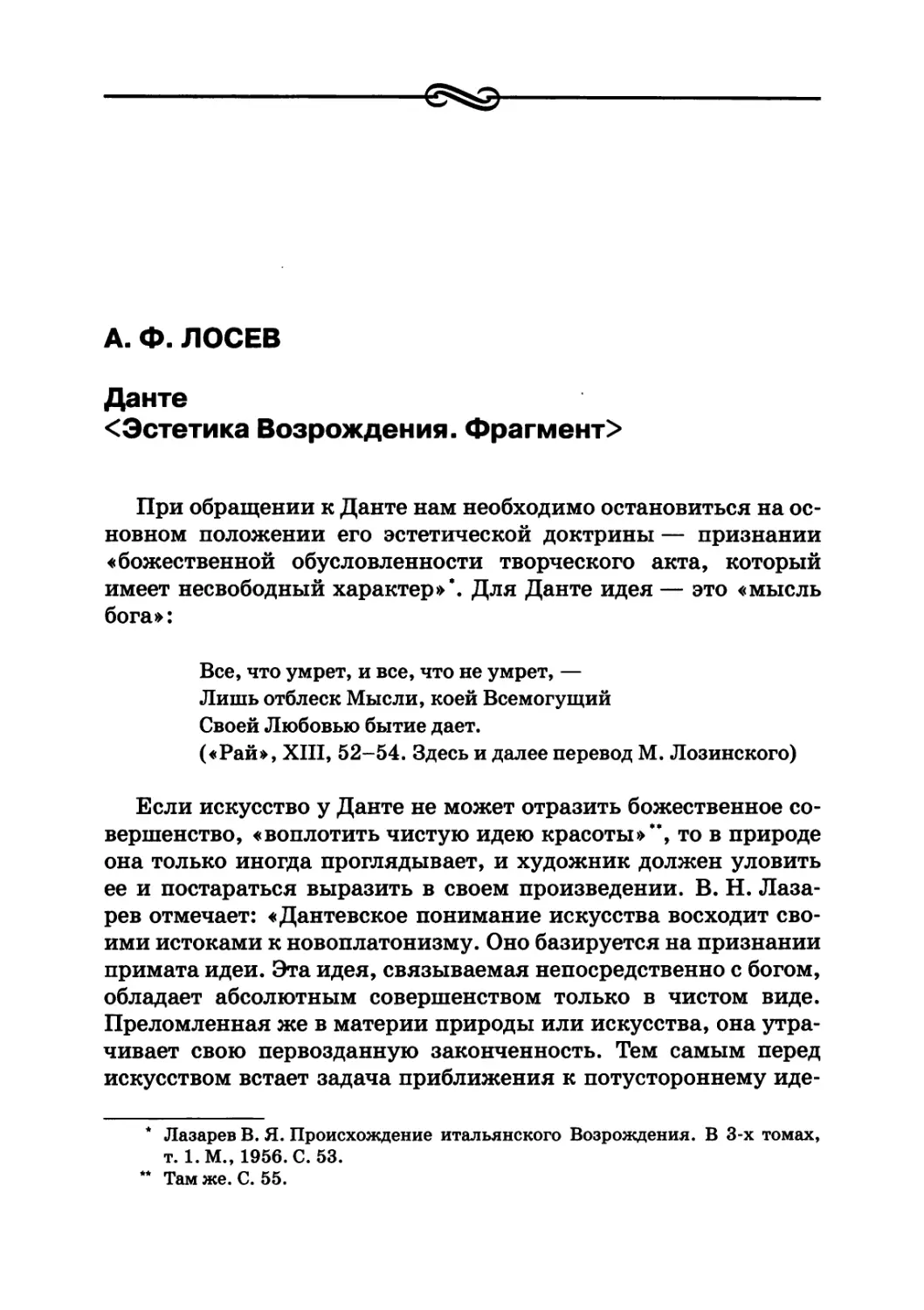
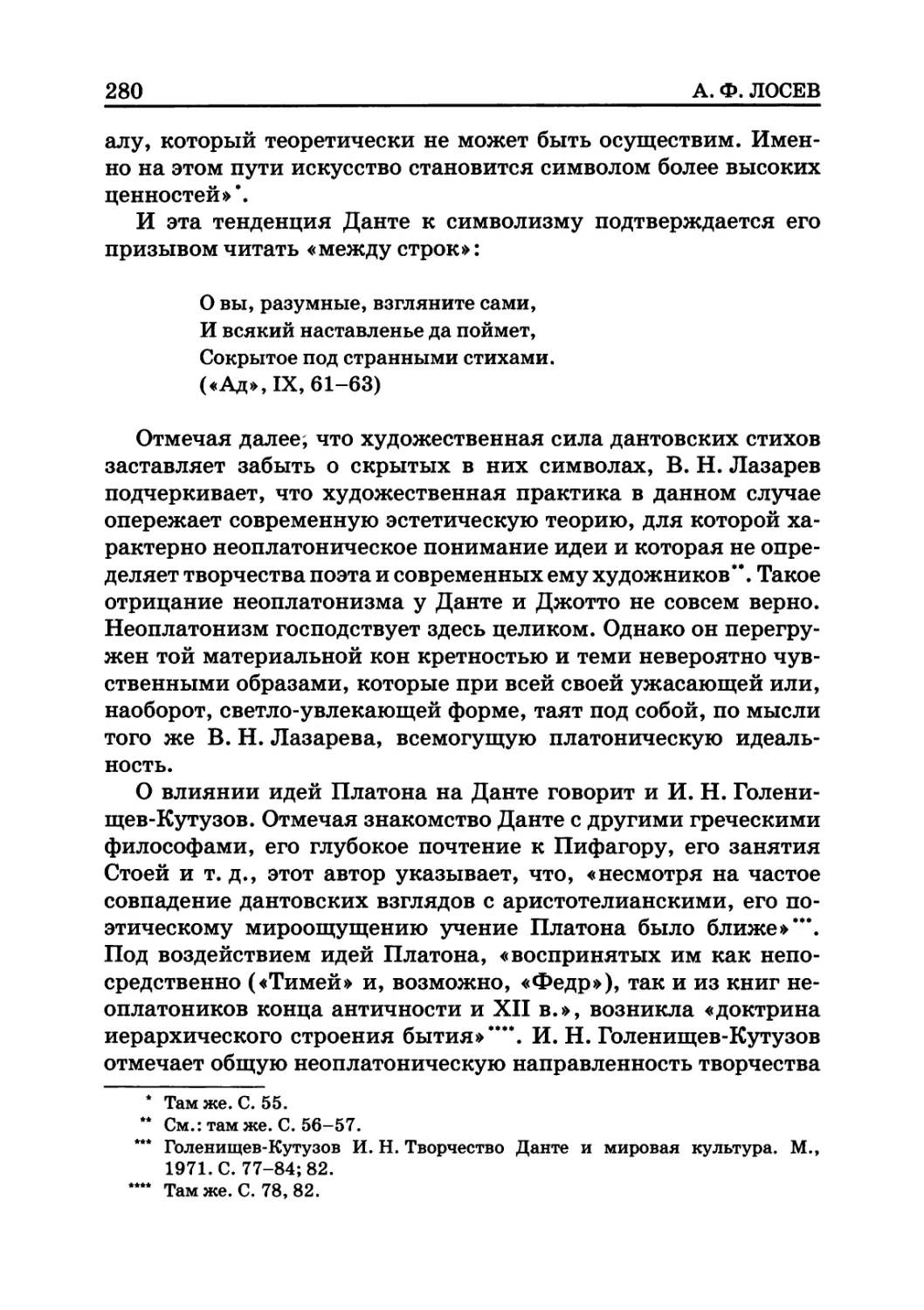
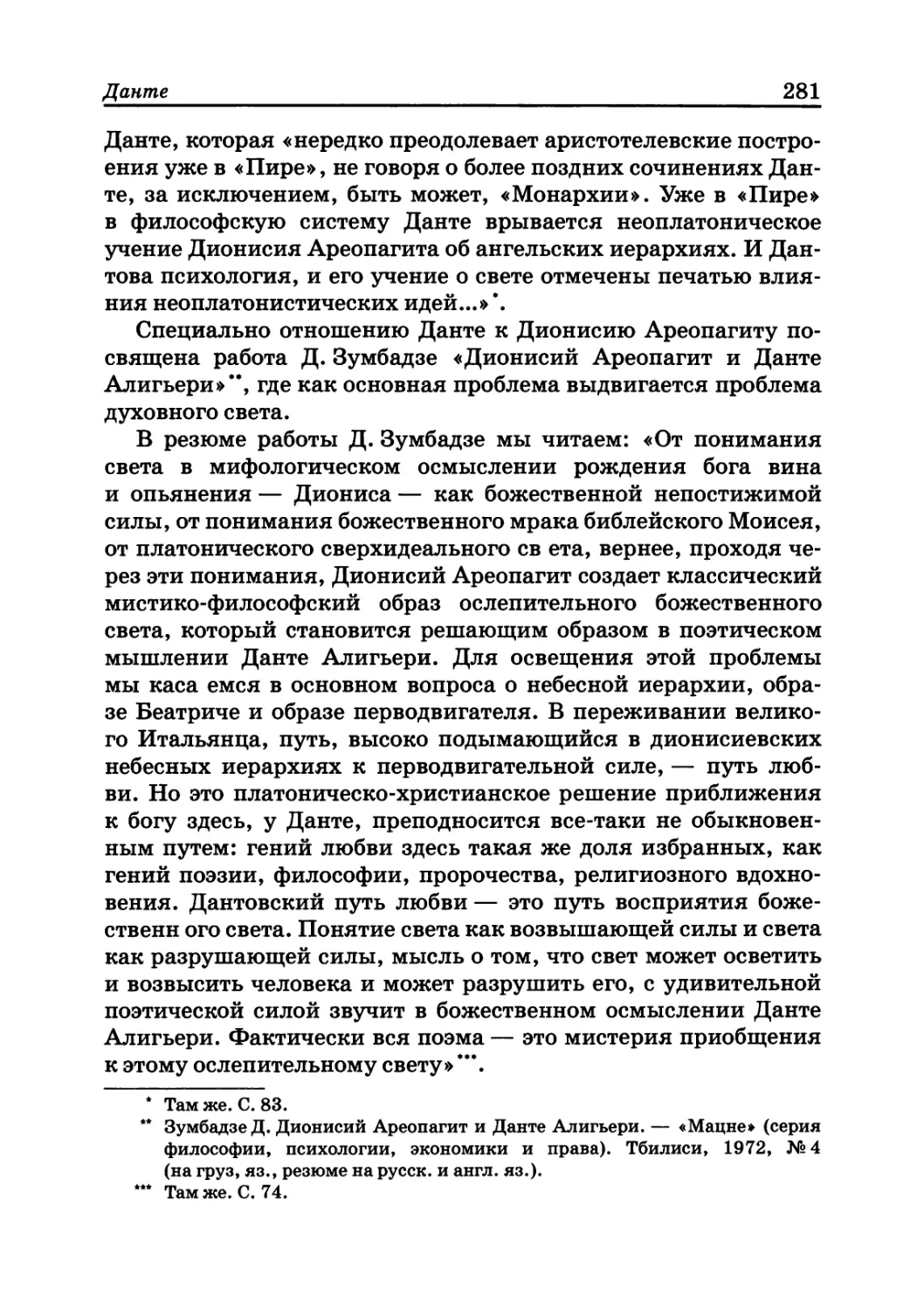

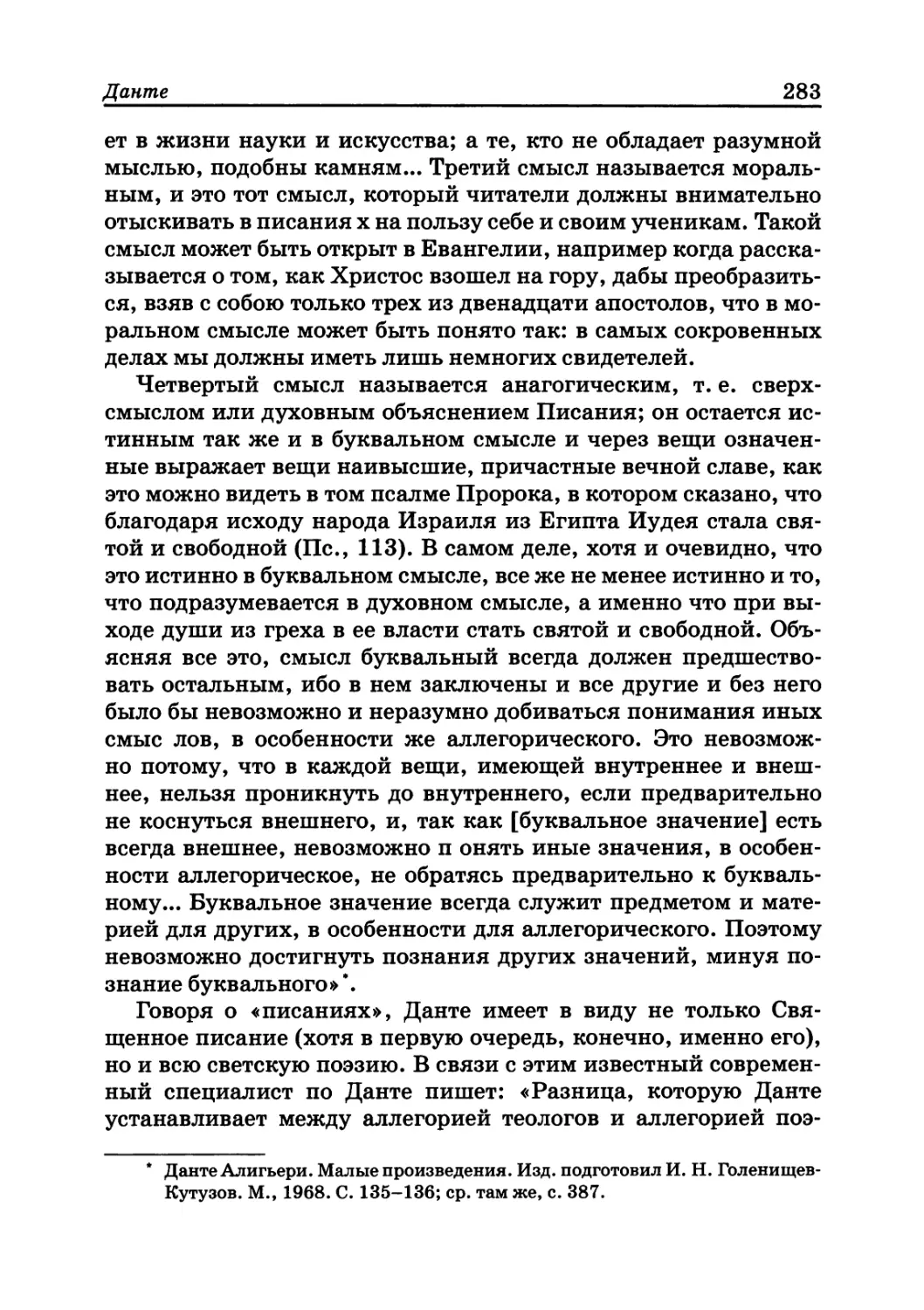
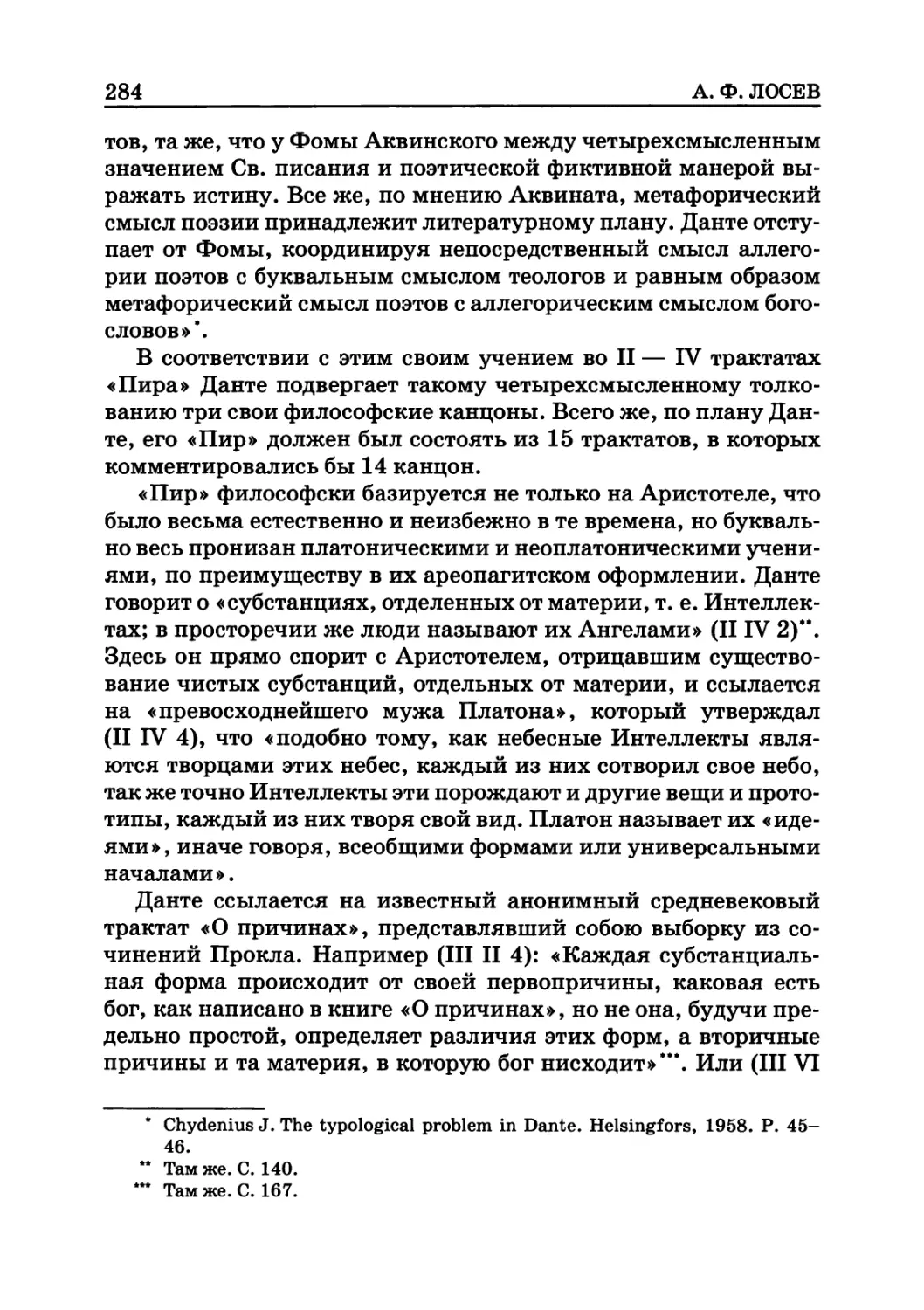
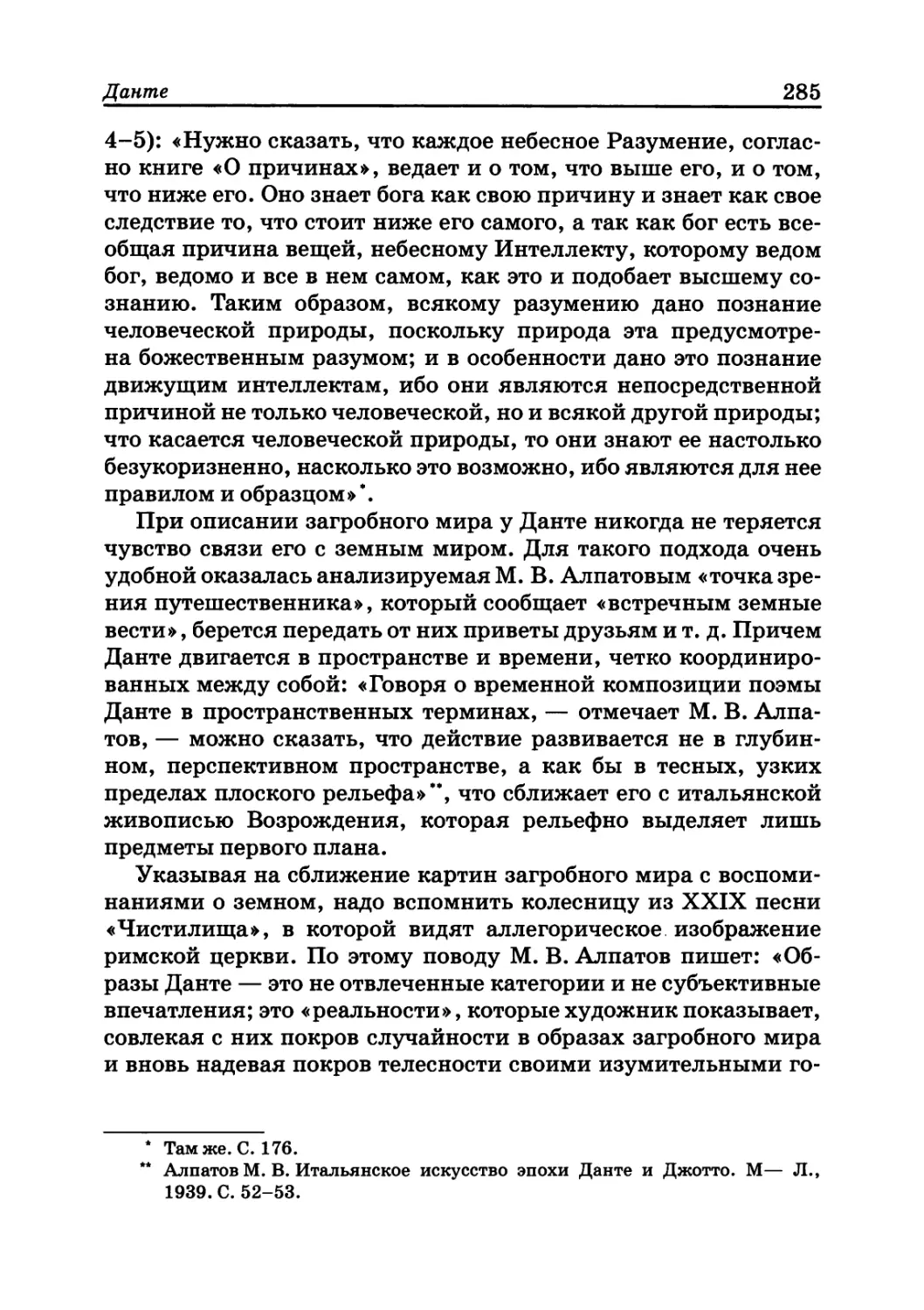
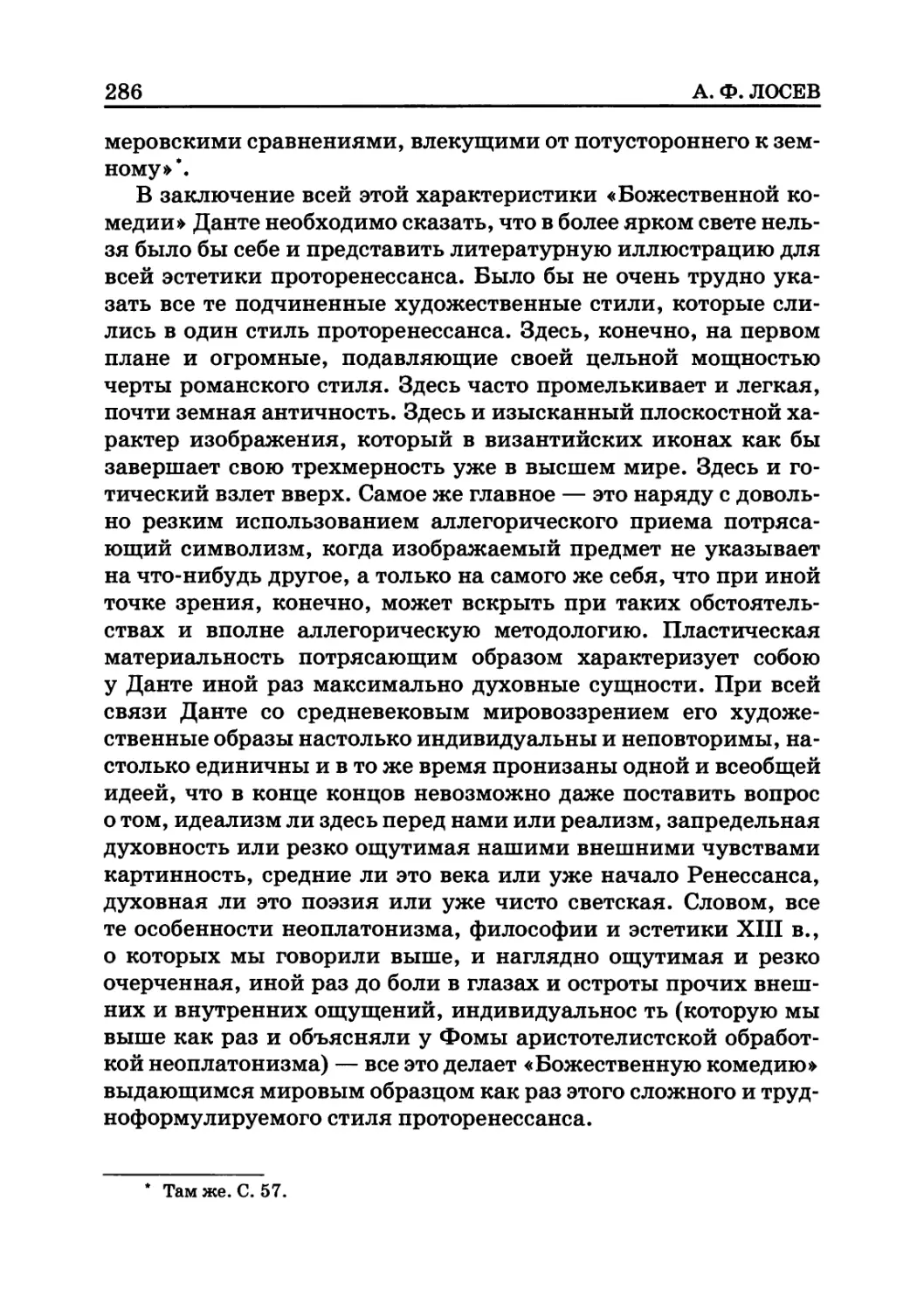
![А. Ф. ЛОСЕВ. Приложение [Тетрадь с пометой «Средневековая литература №11»]](https://djvu.online/jpg/d/q/y/dqy7NF5i7PPnI/288.webp)