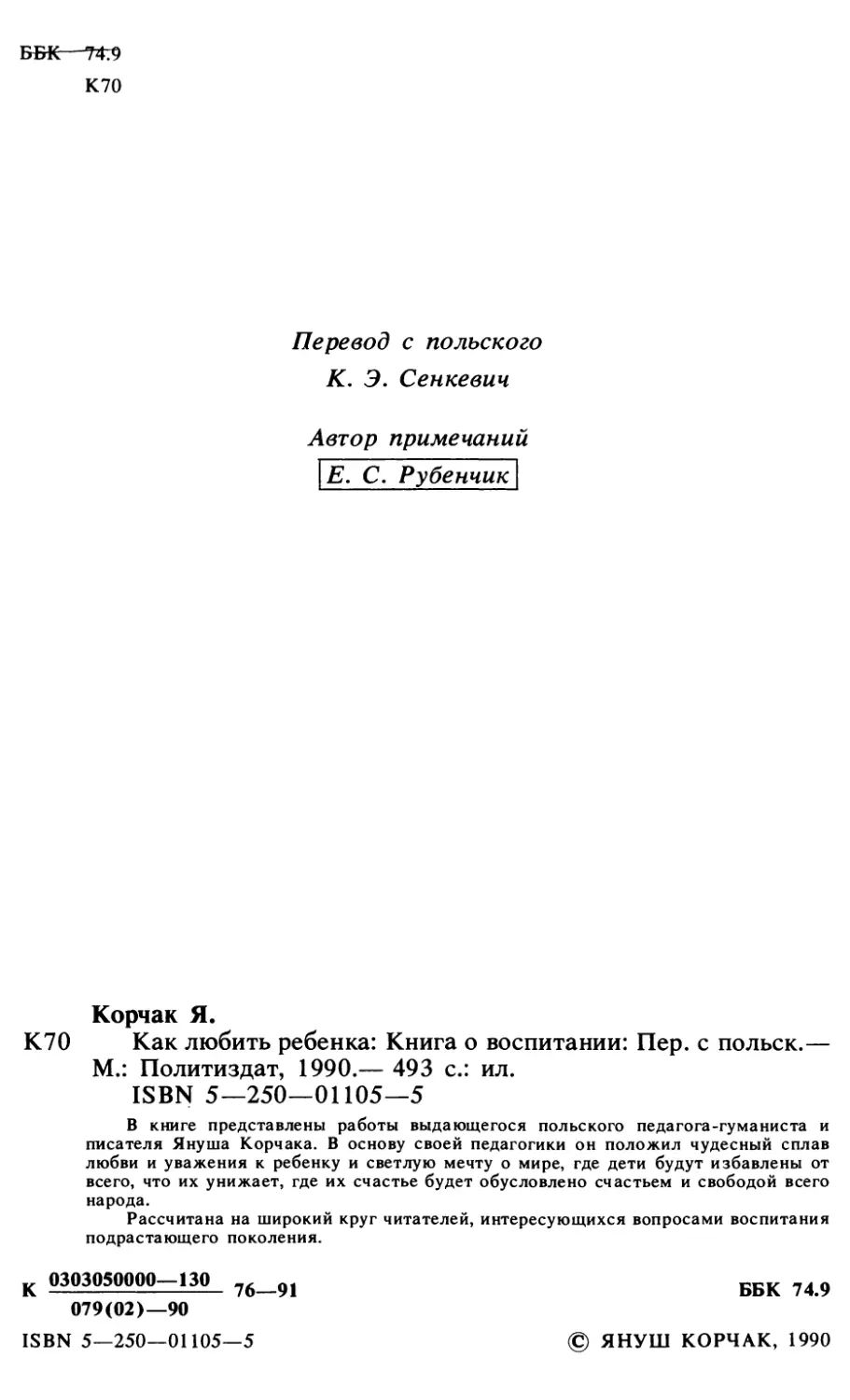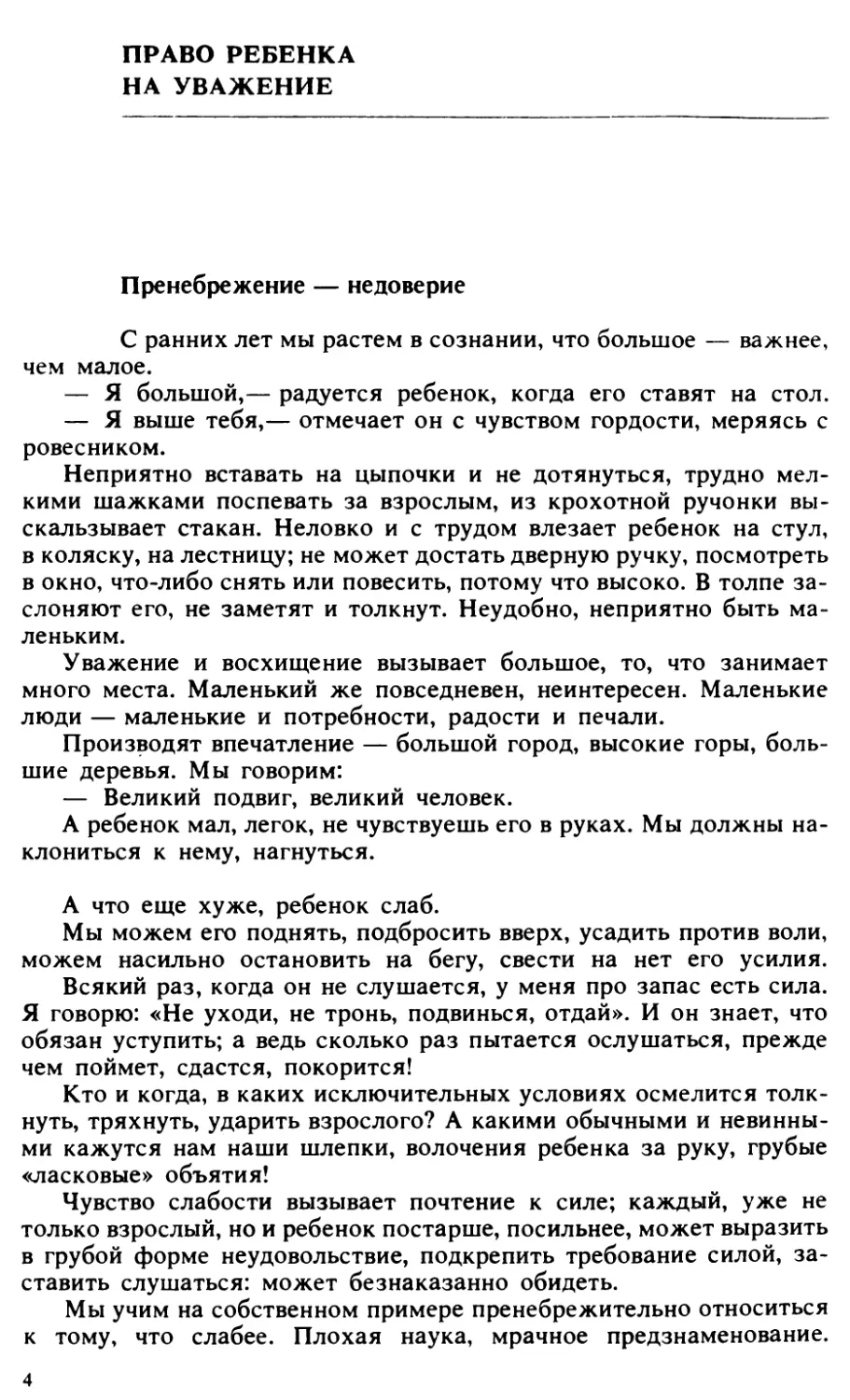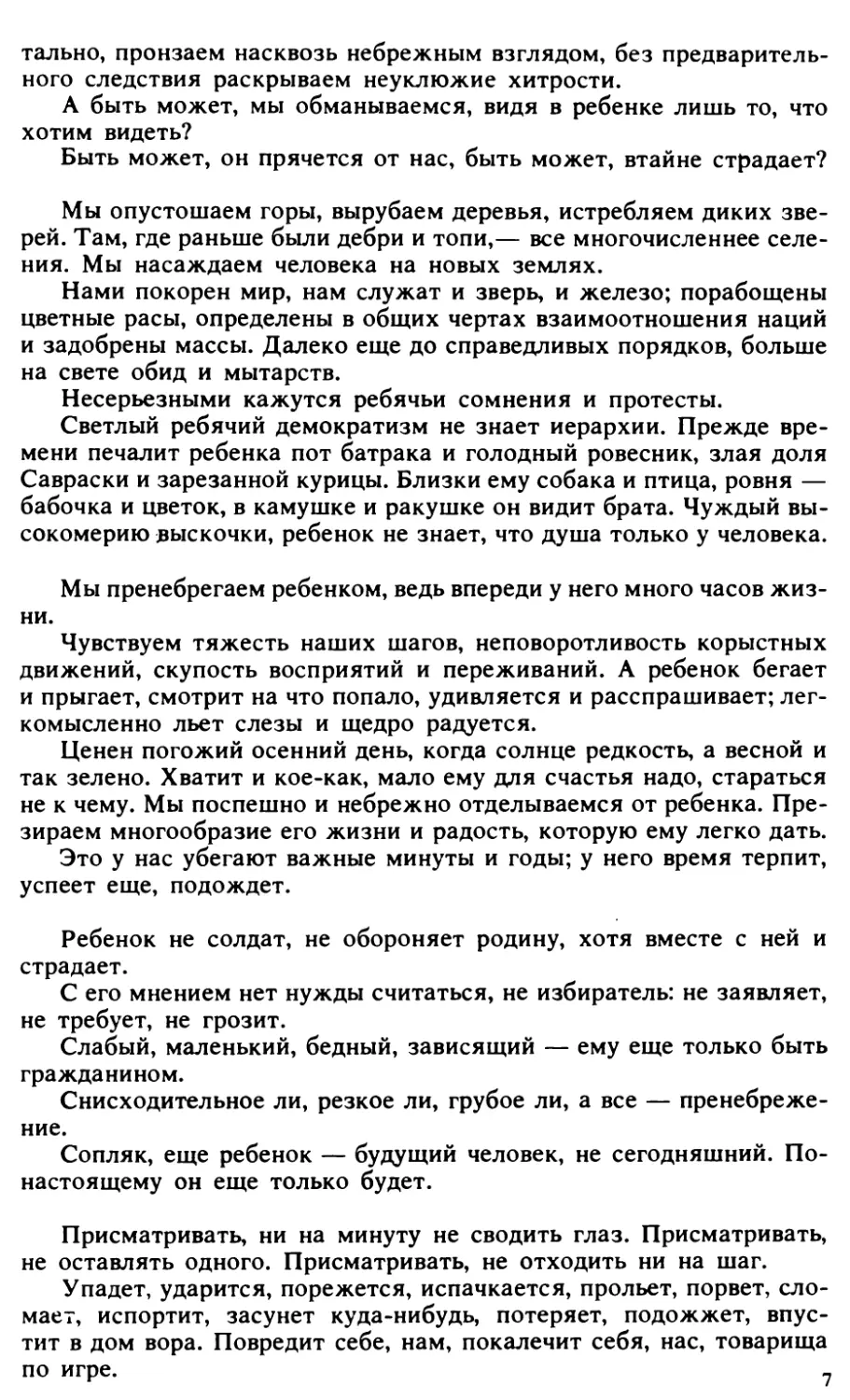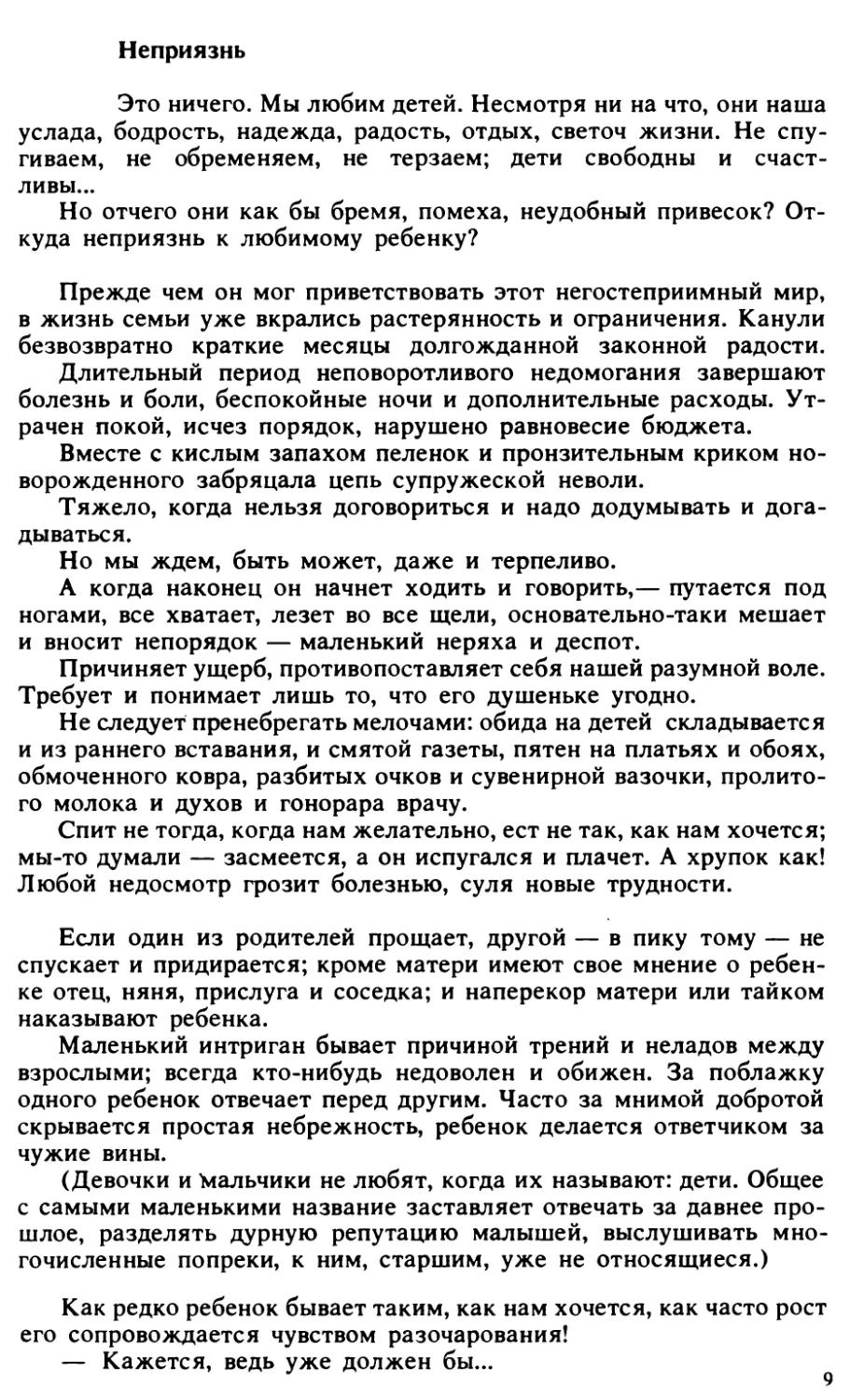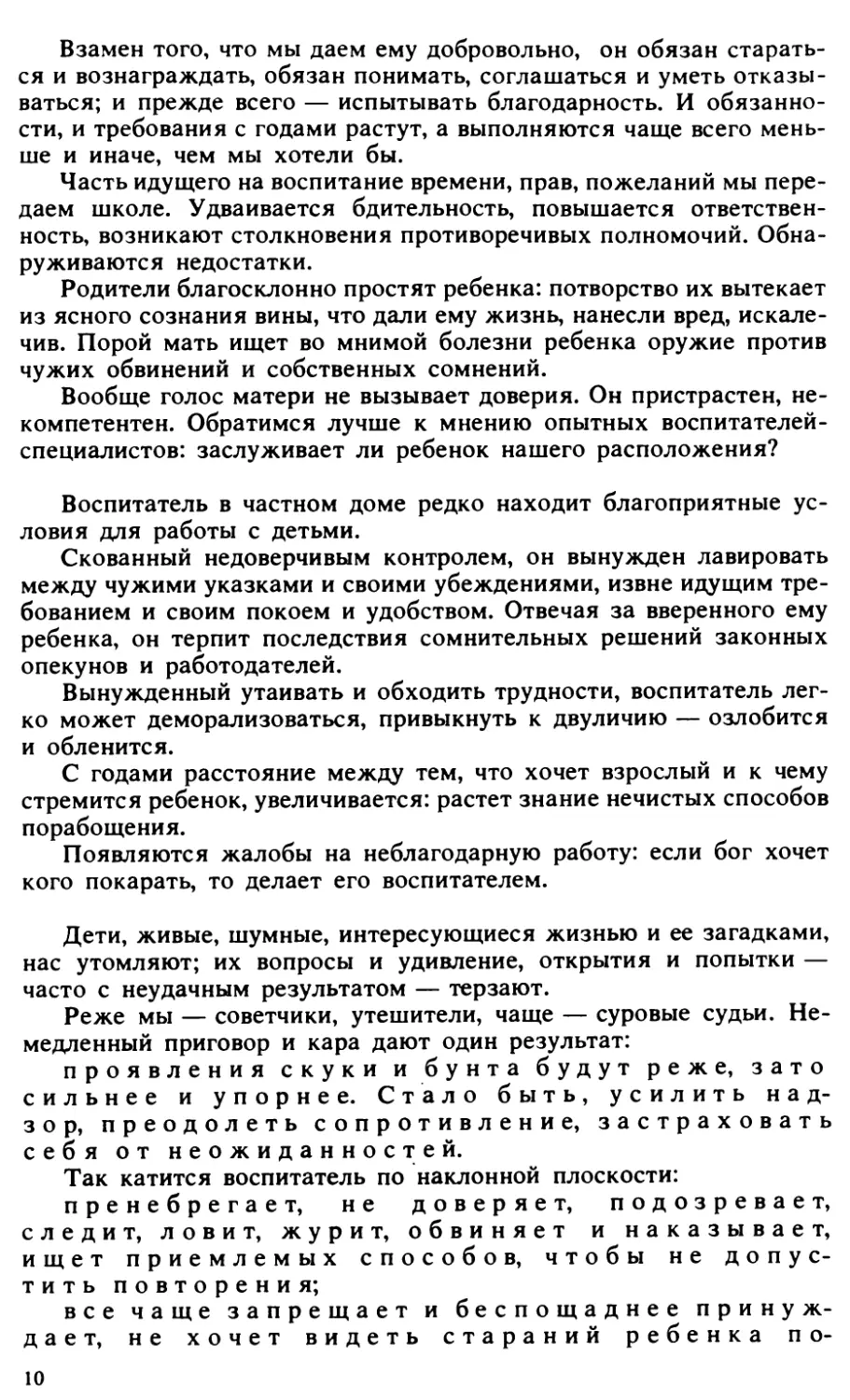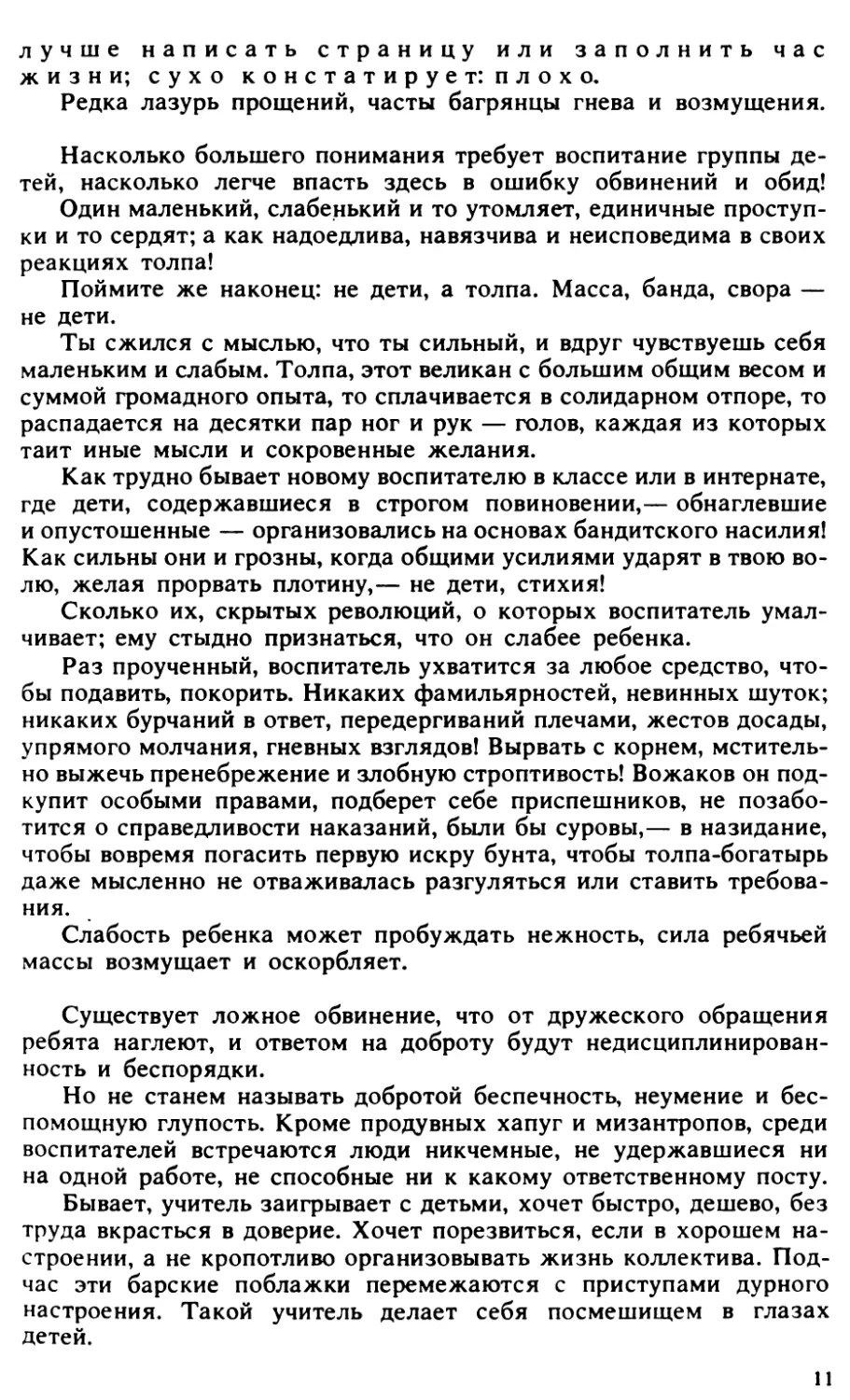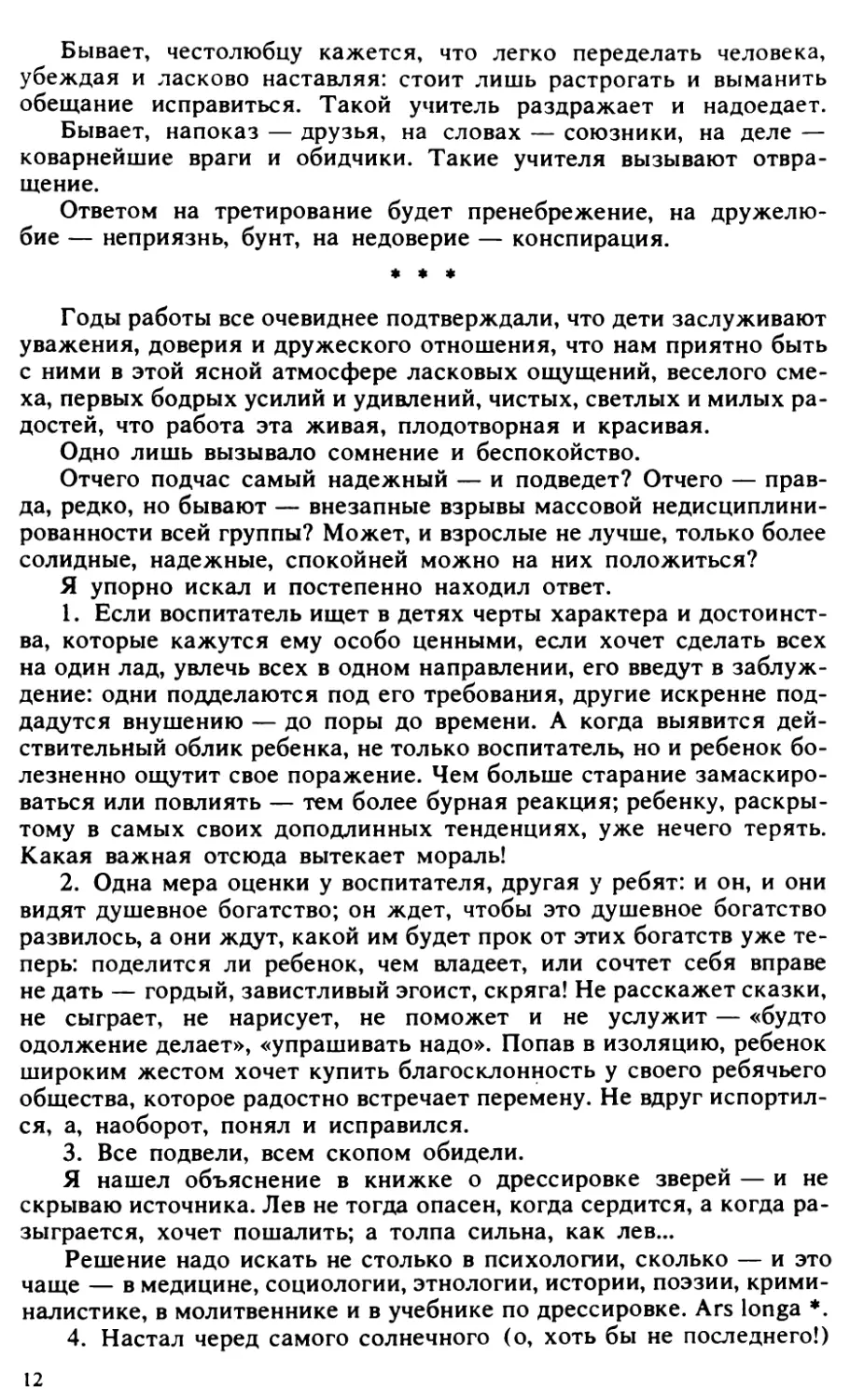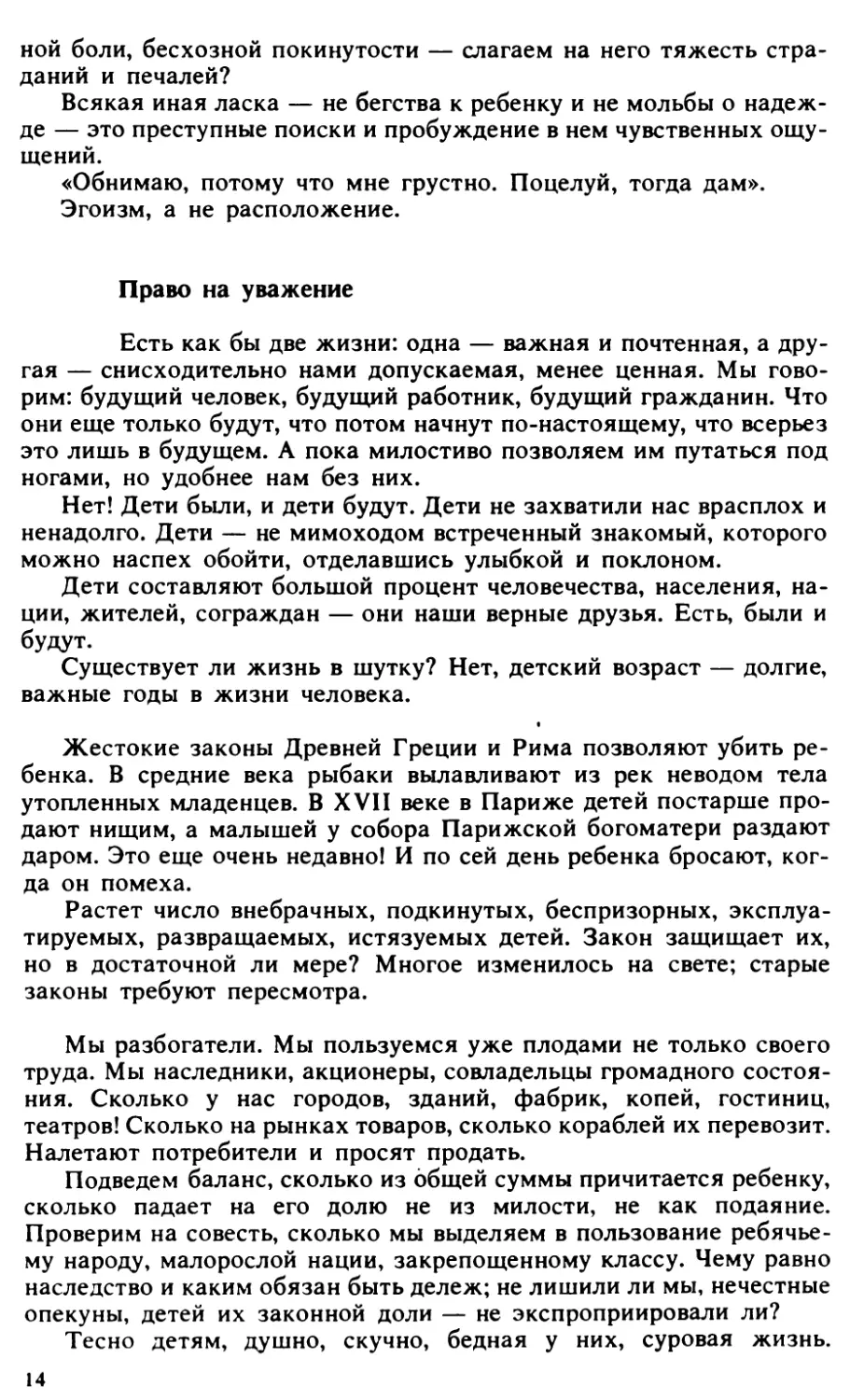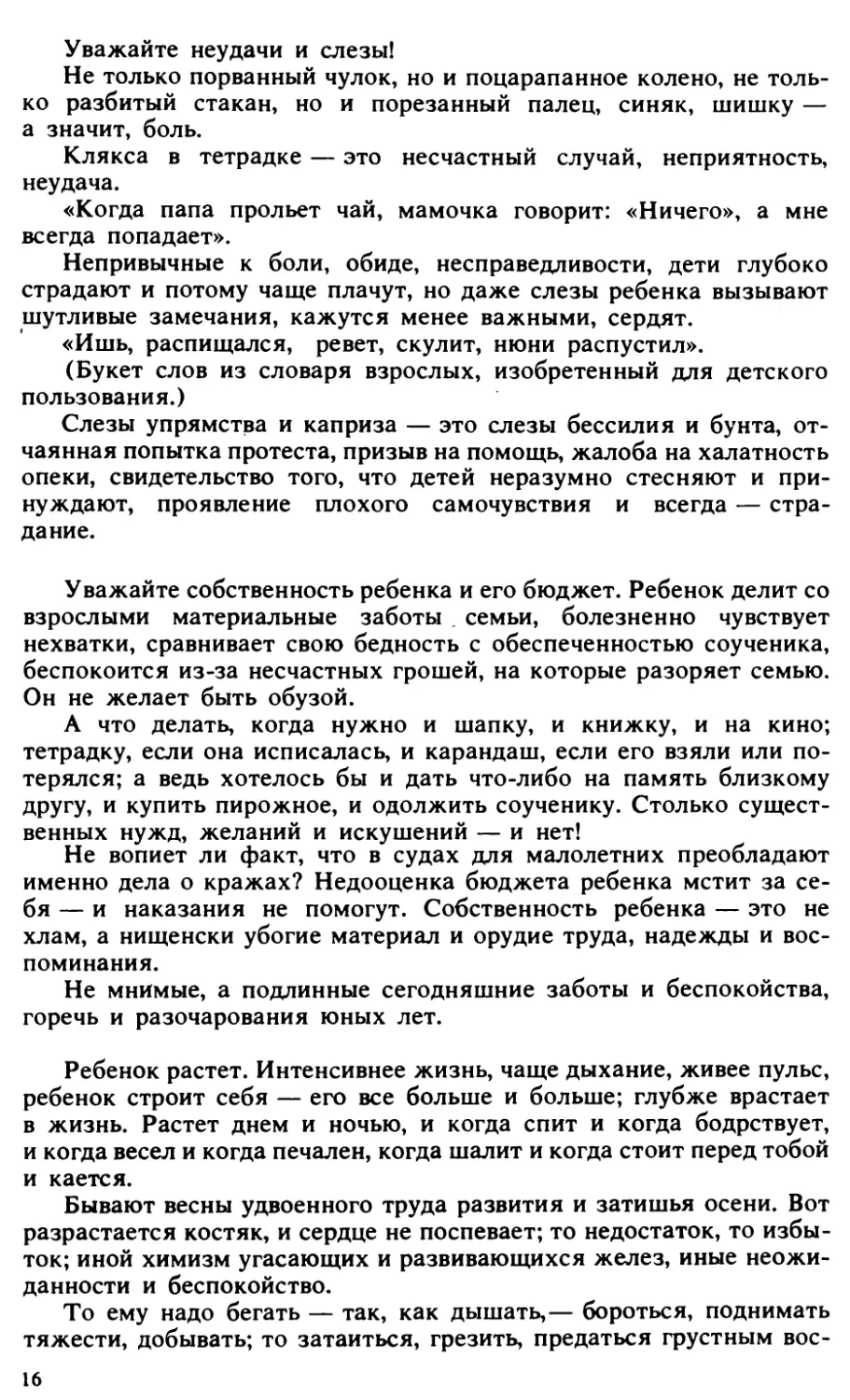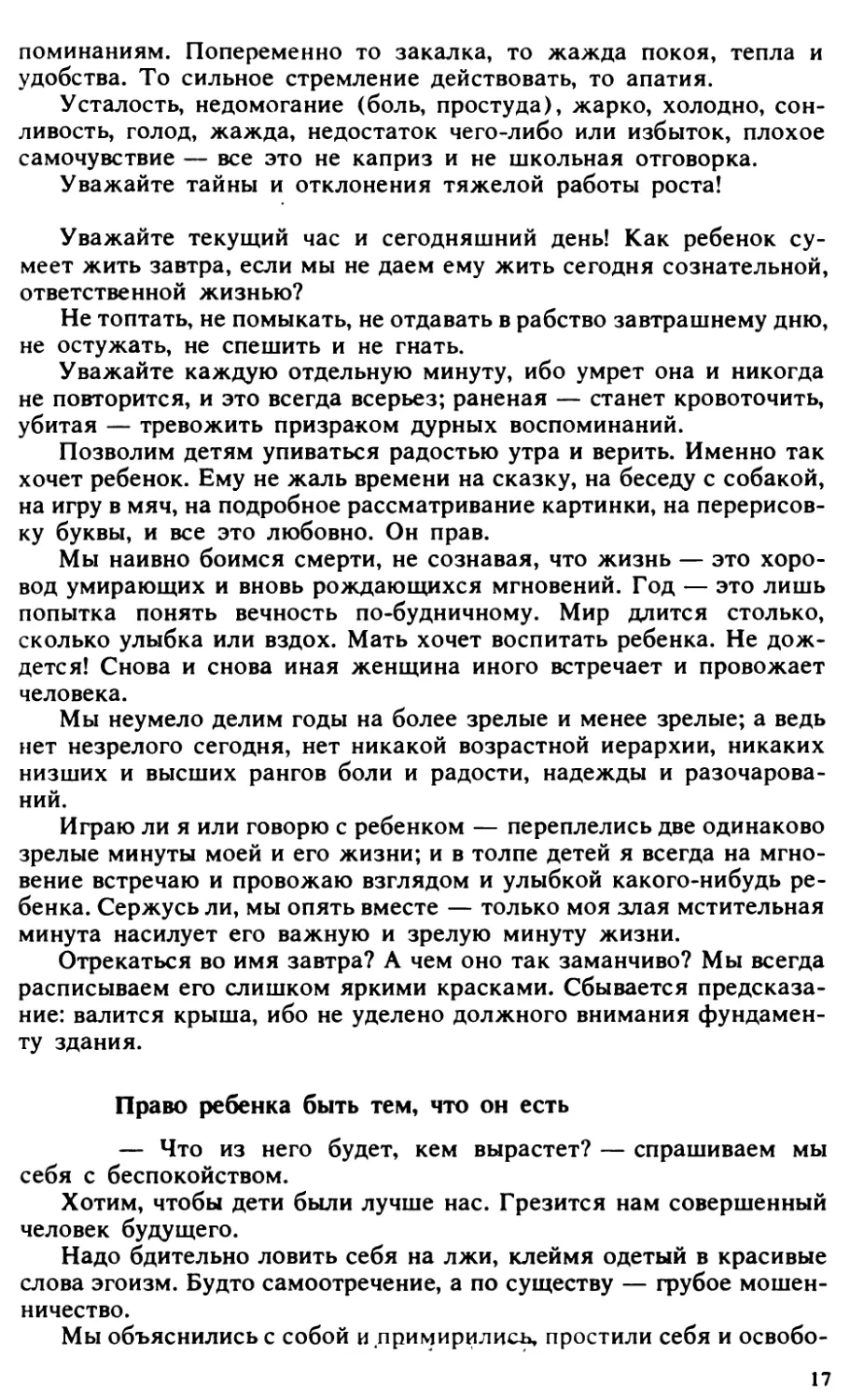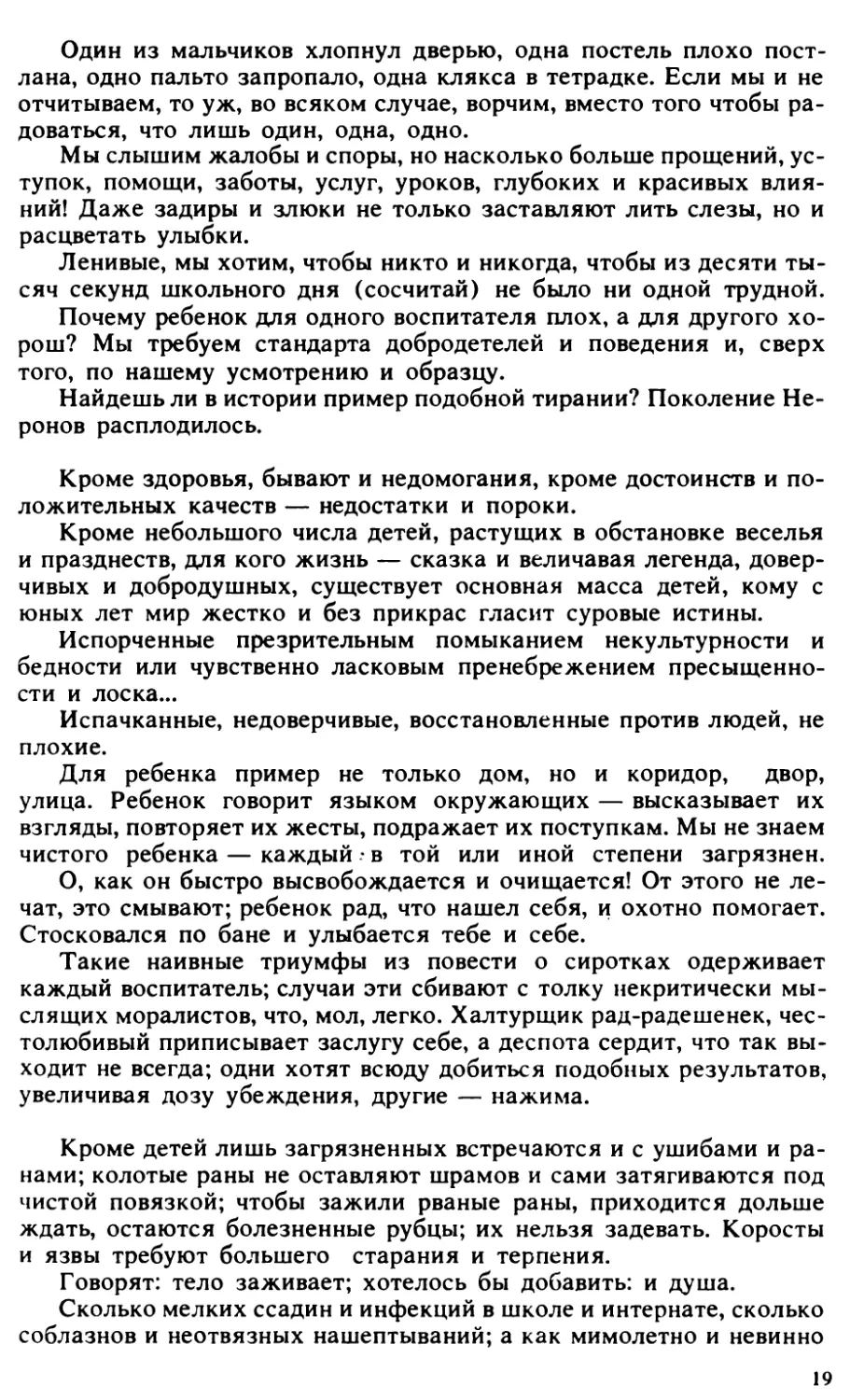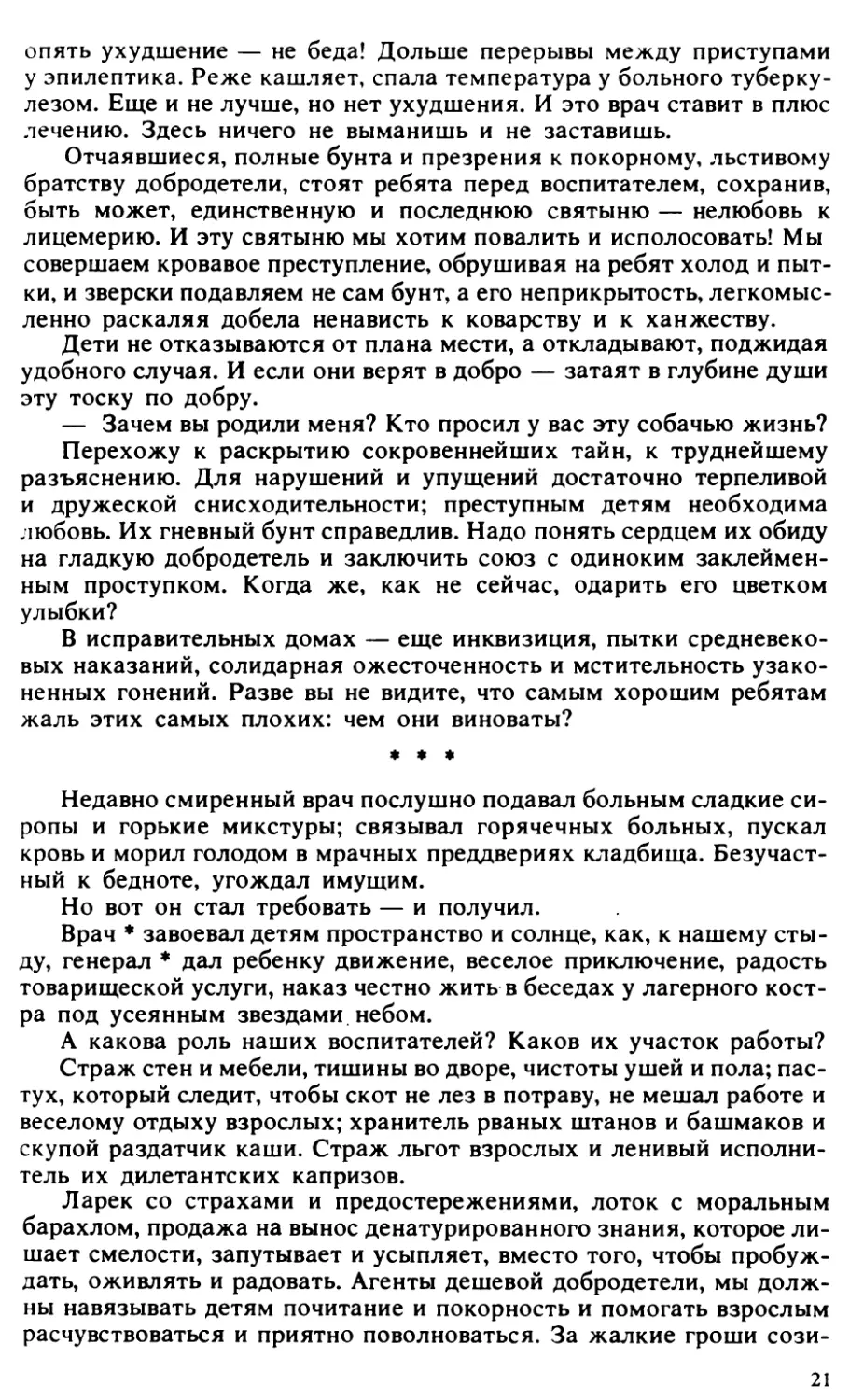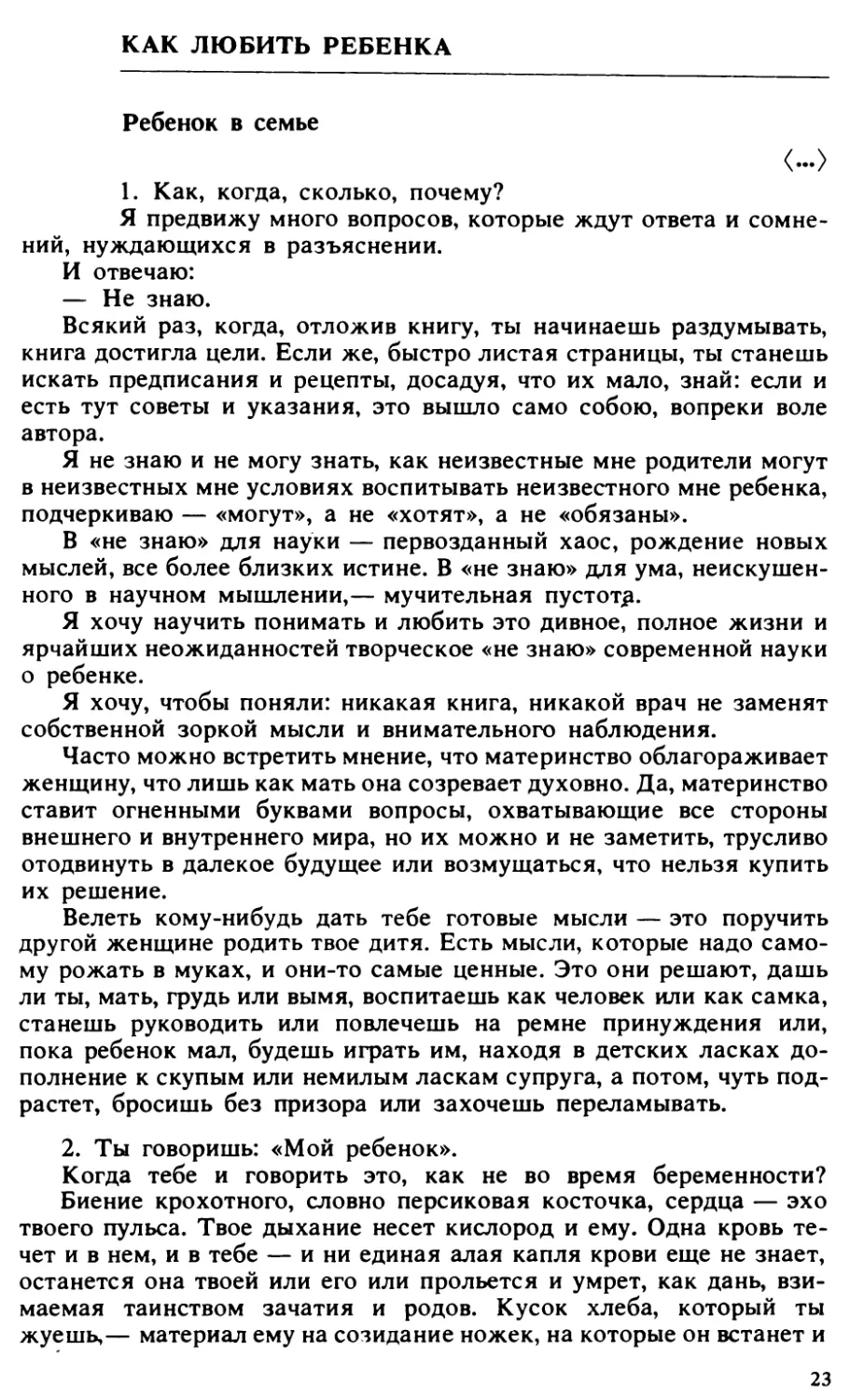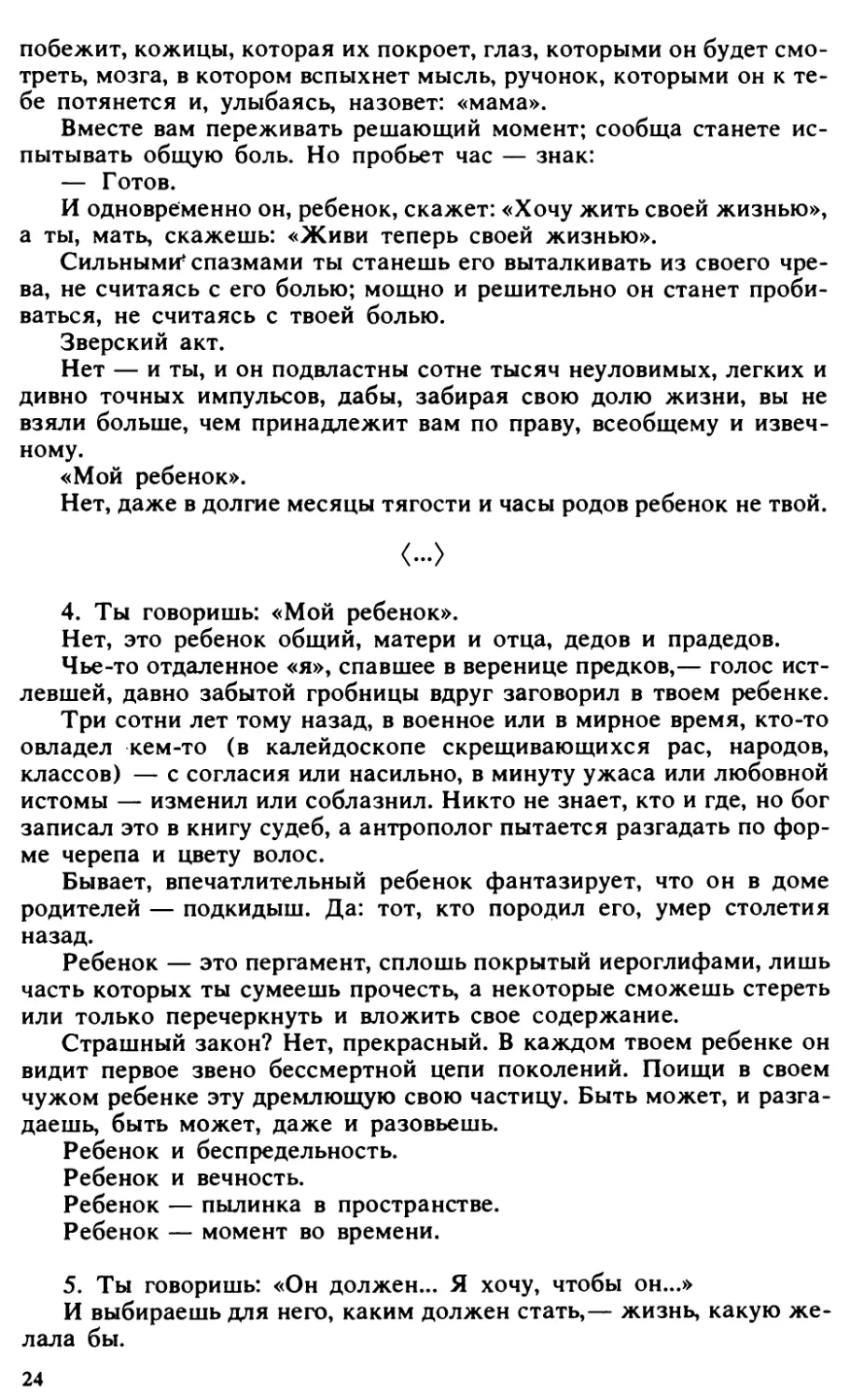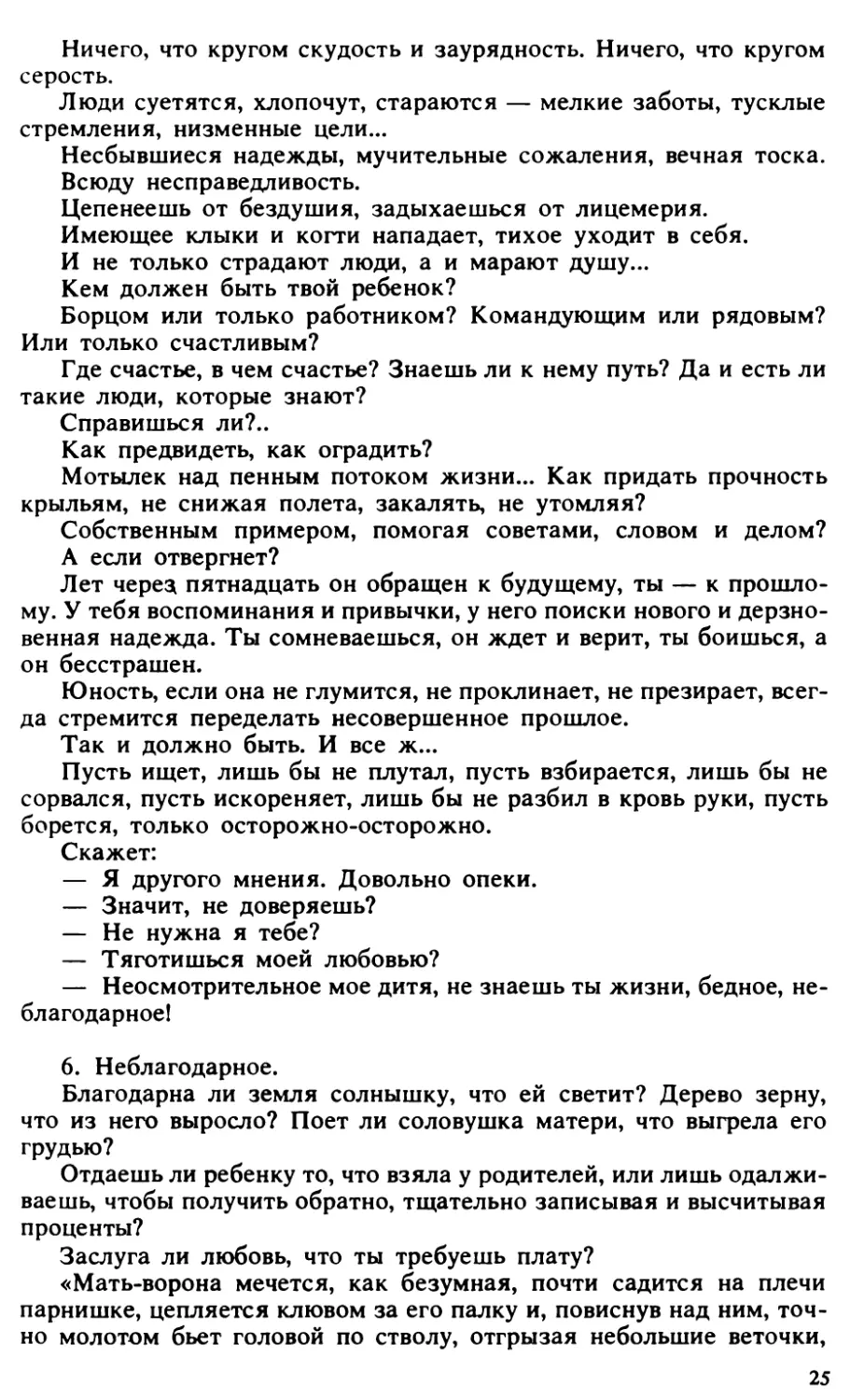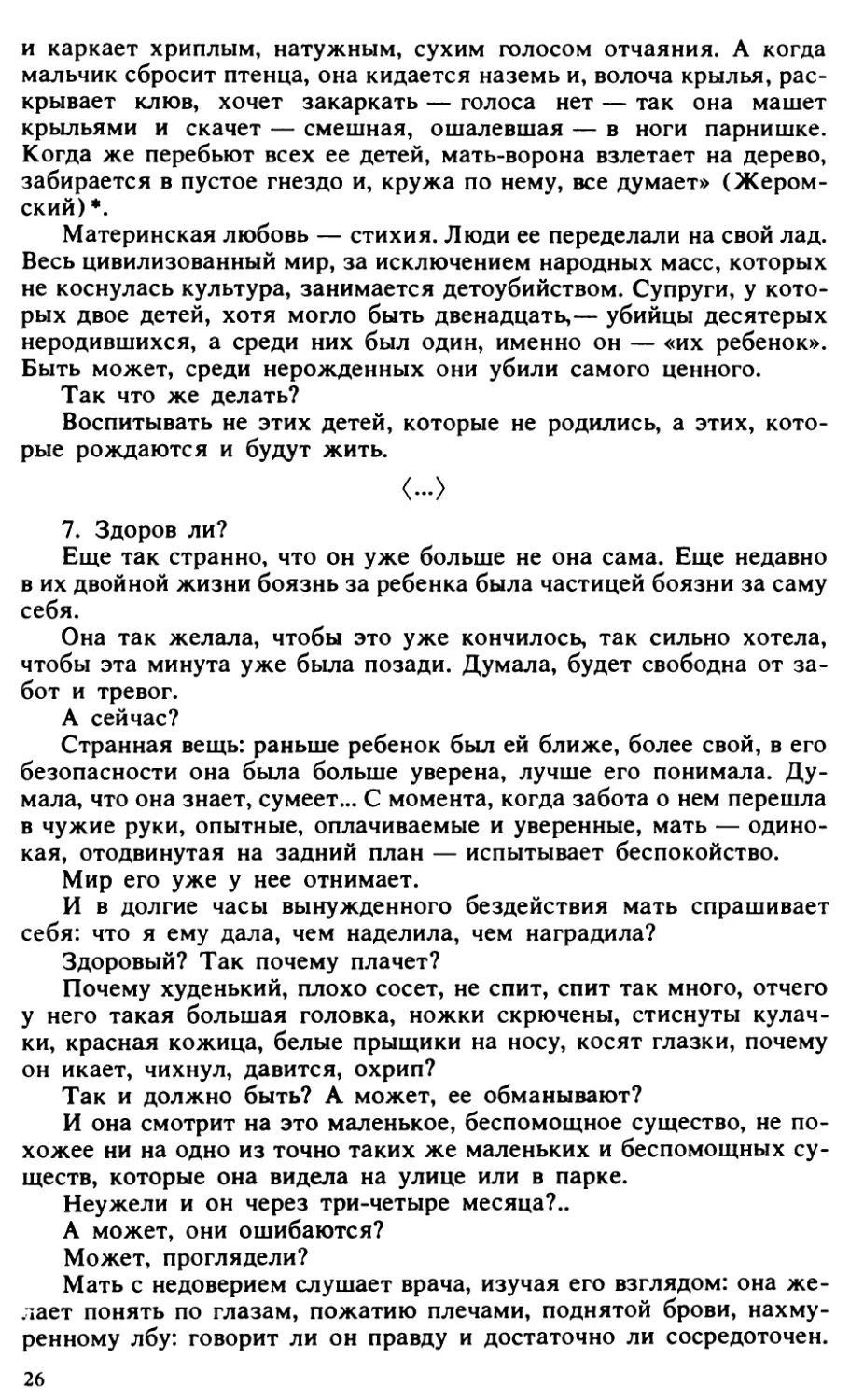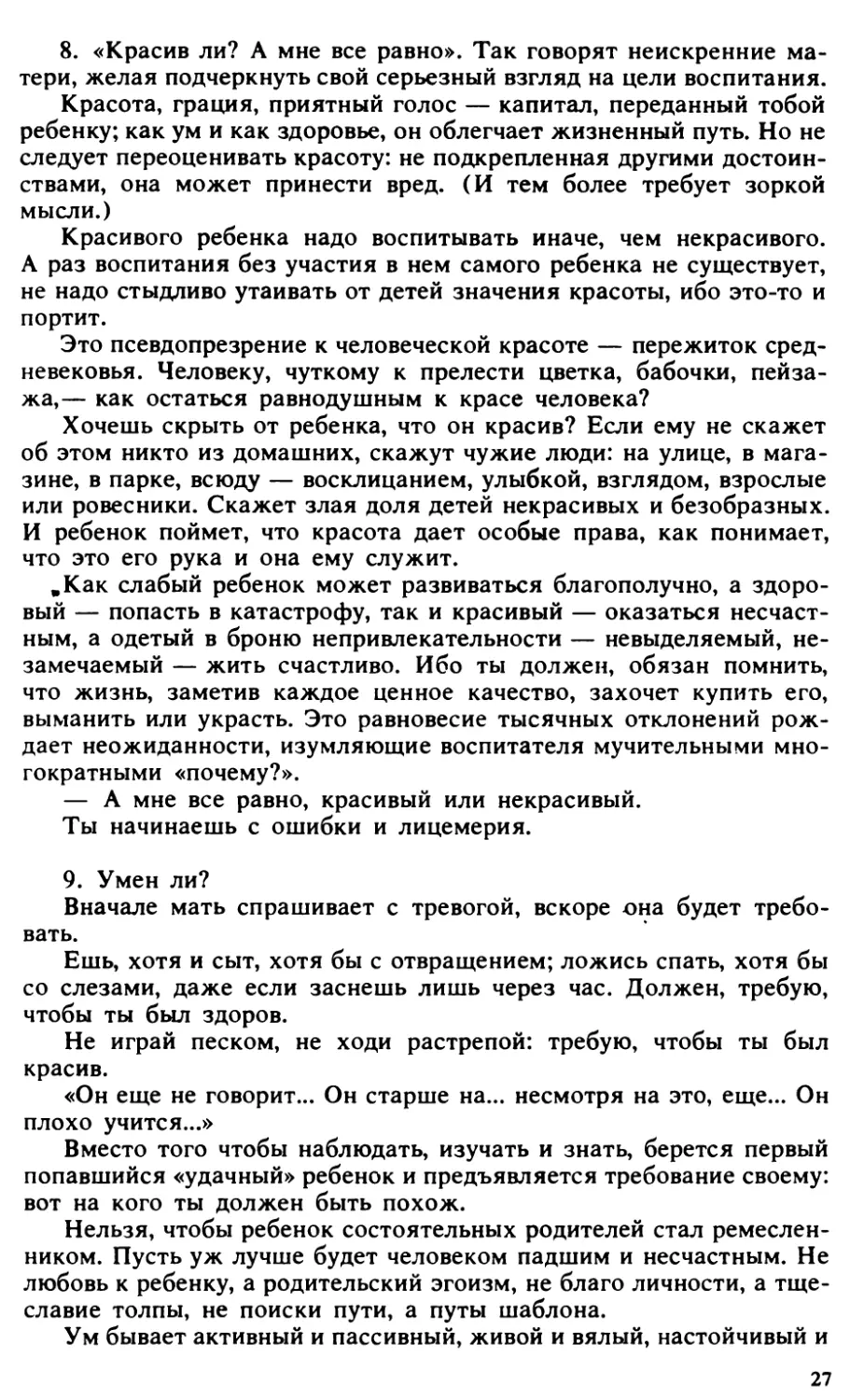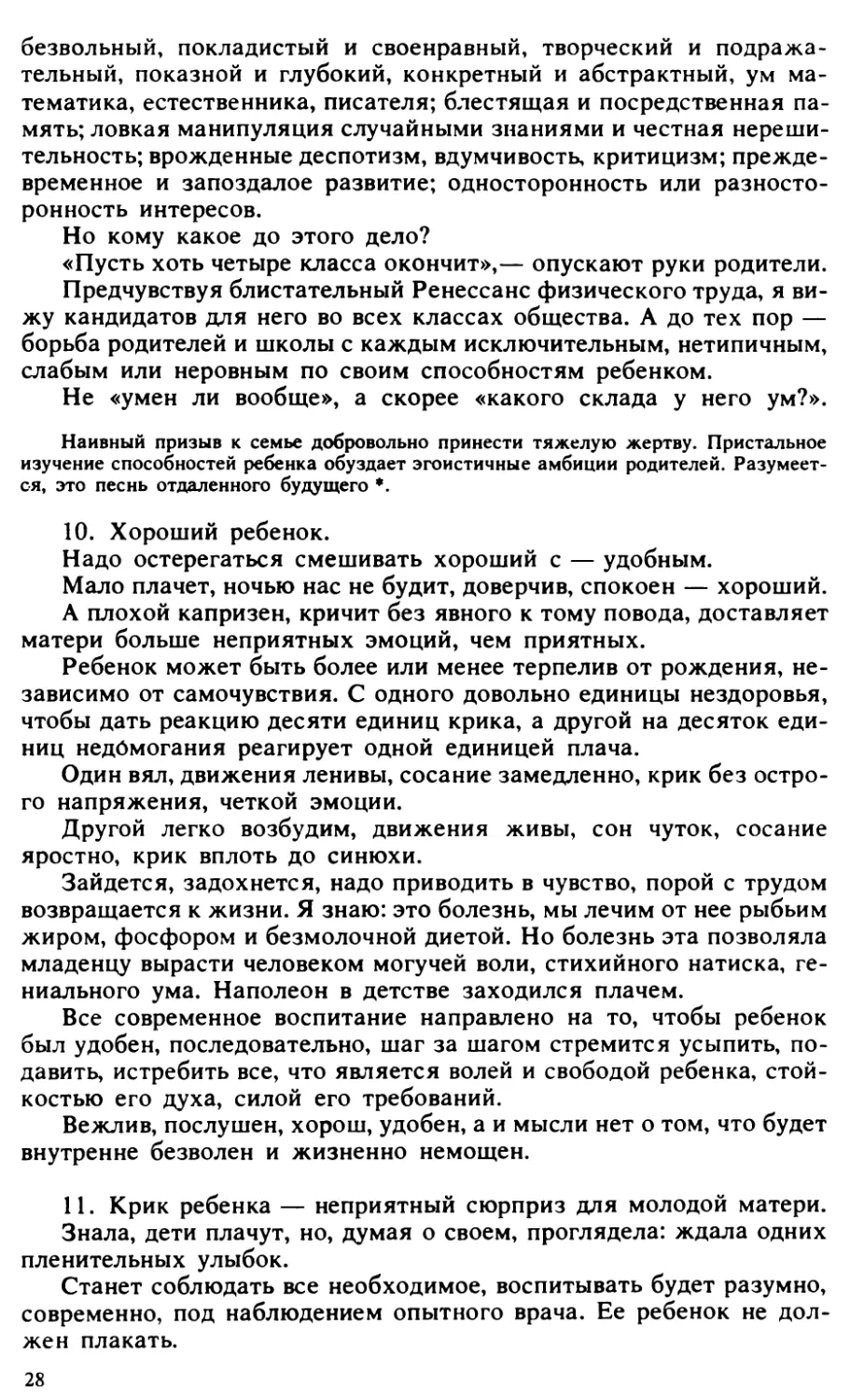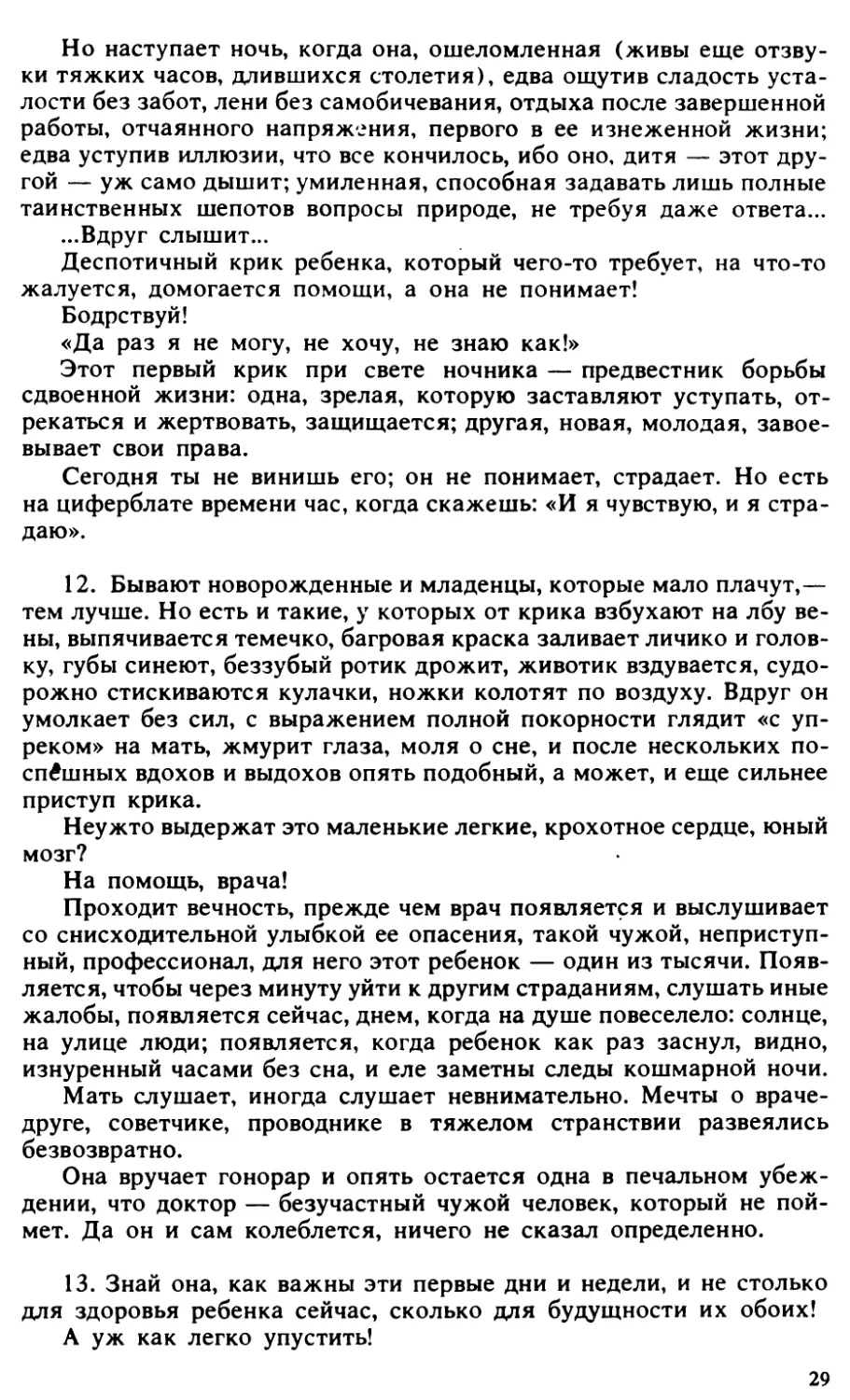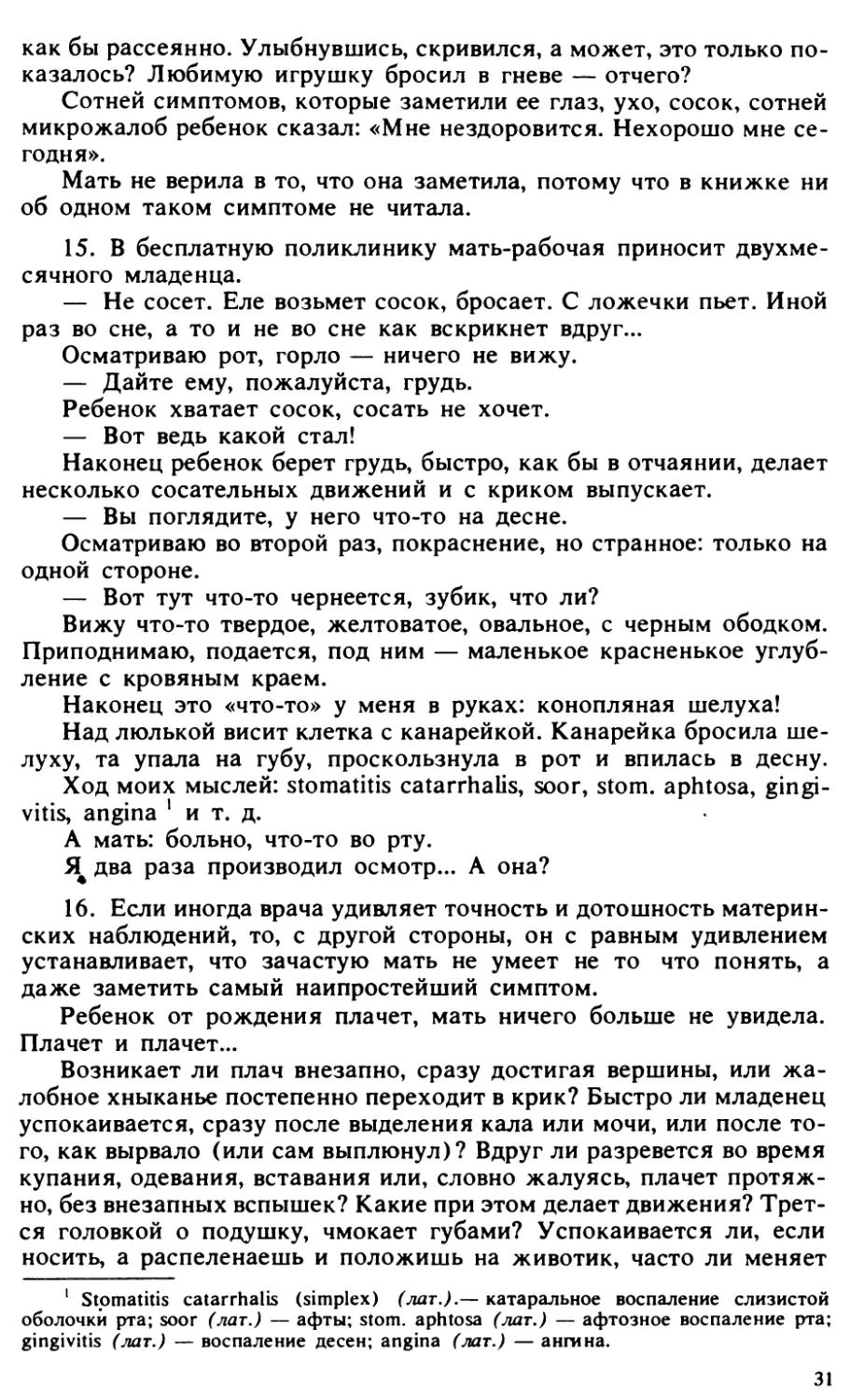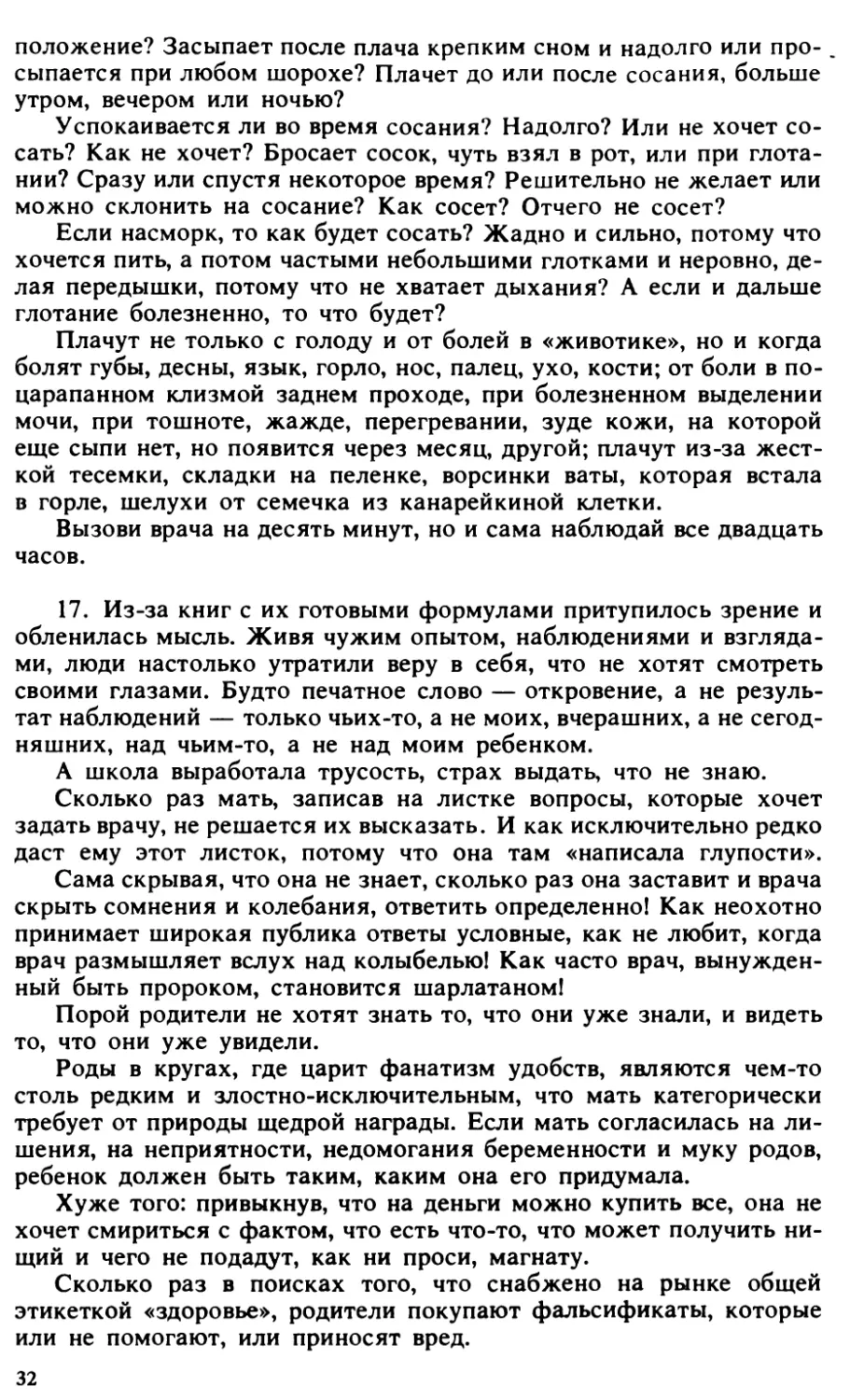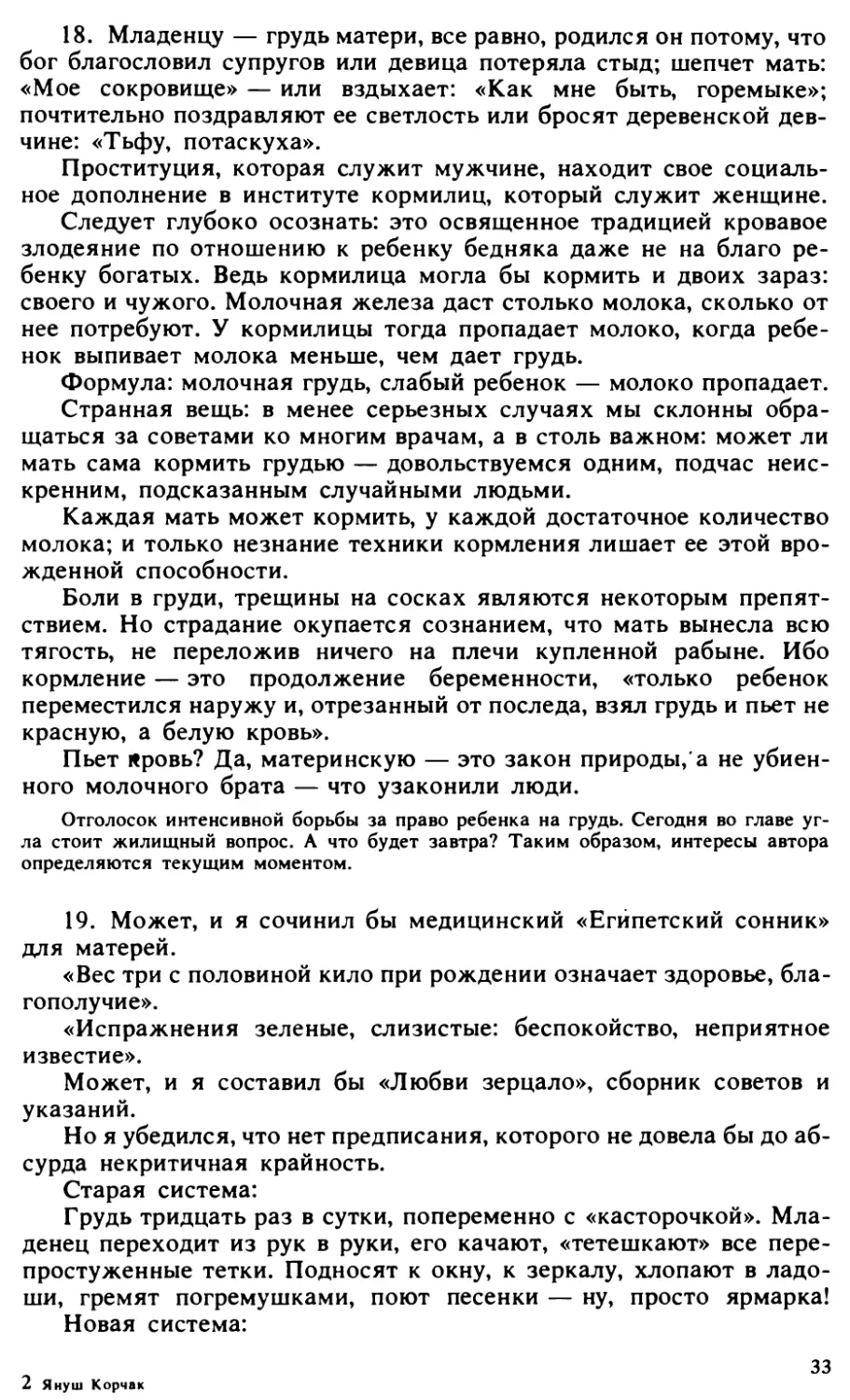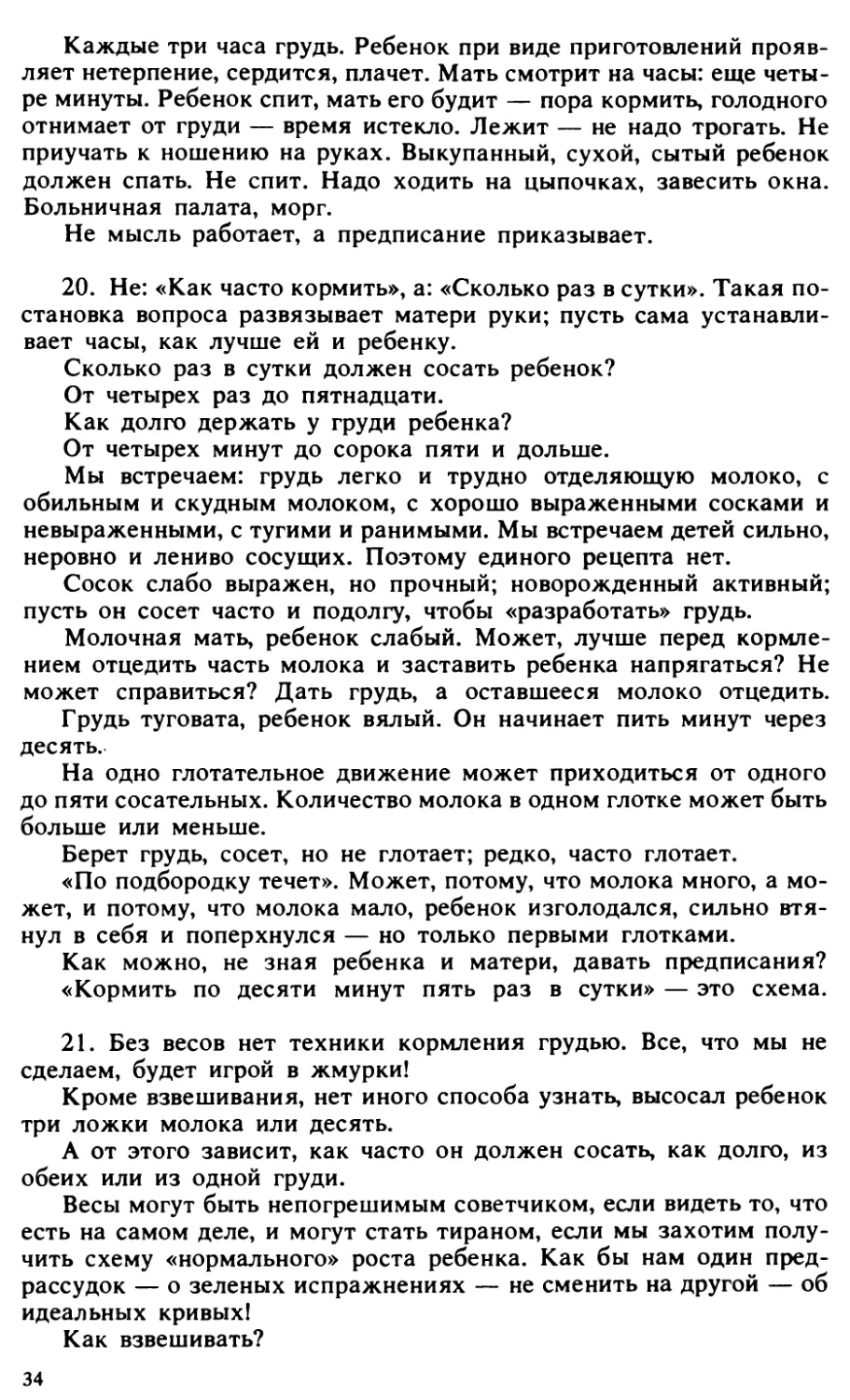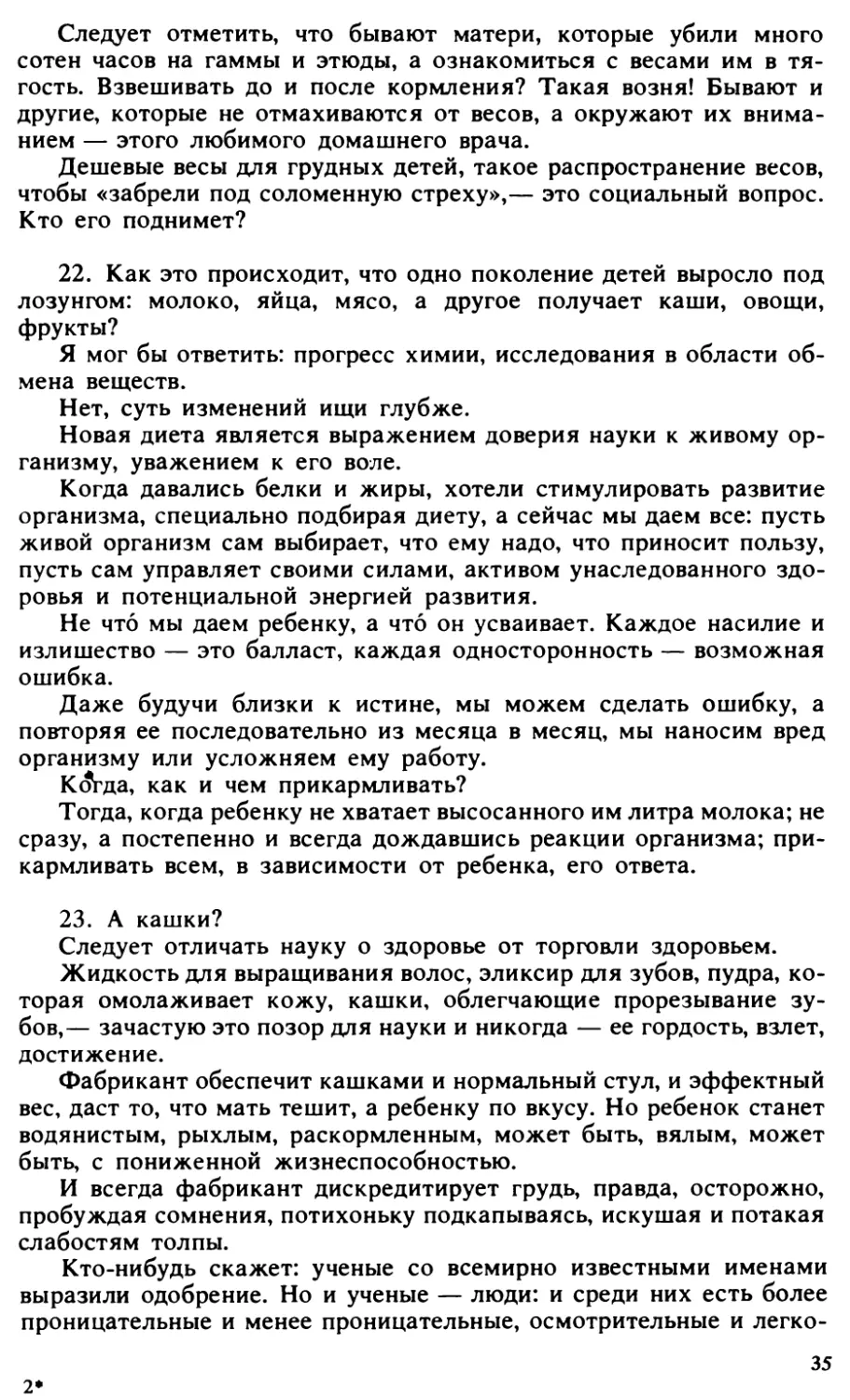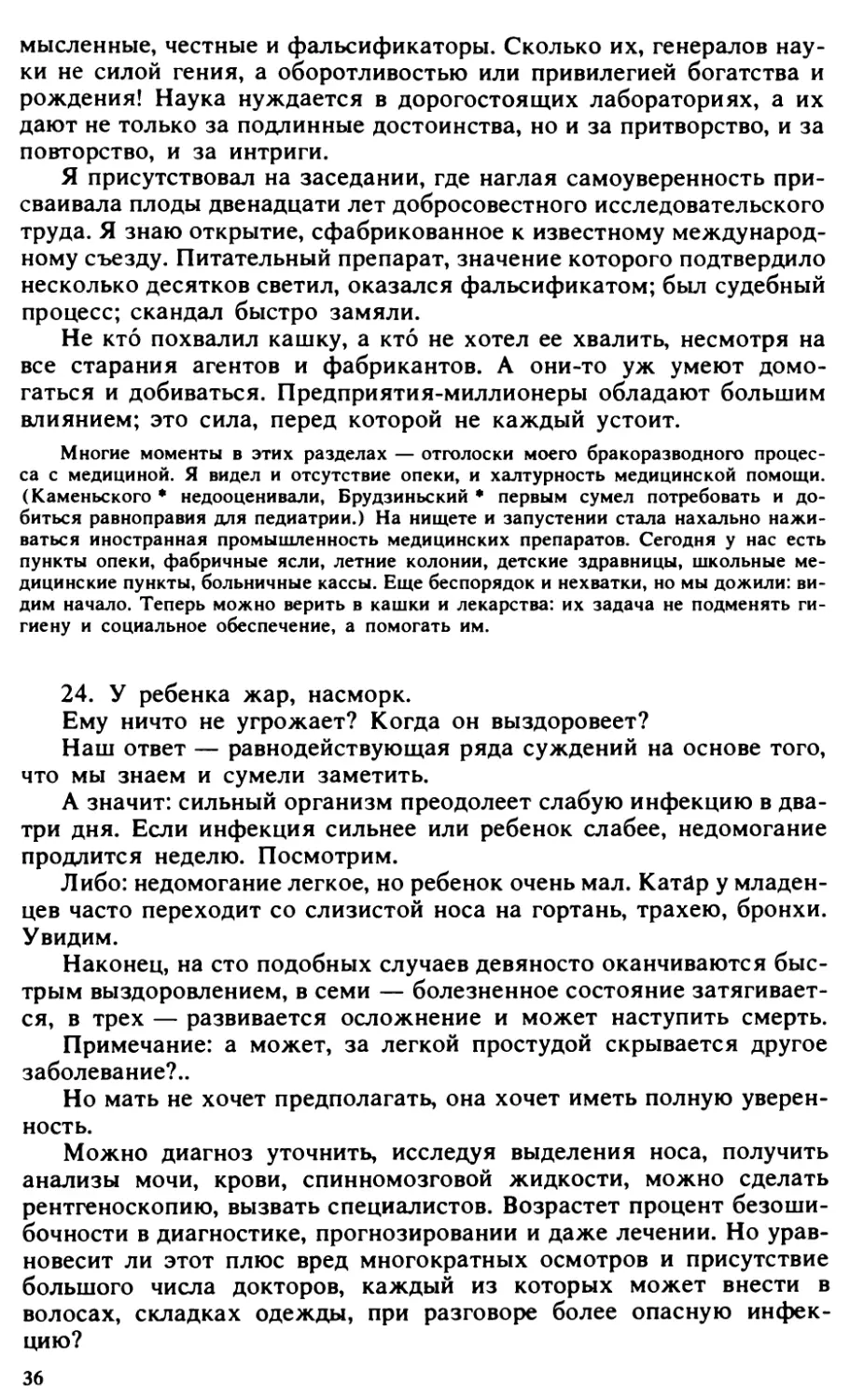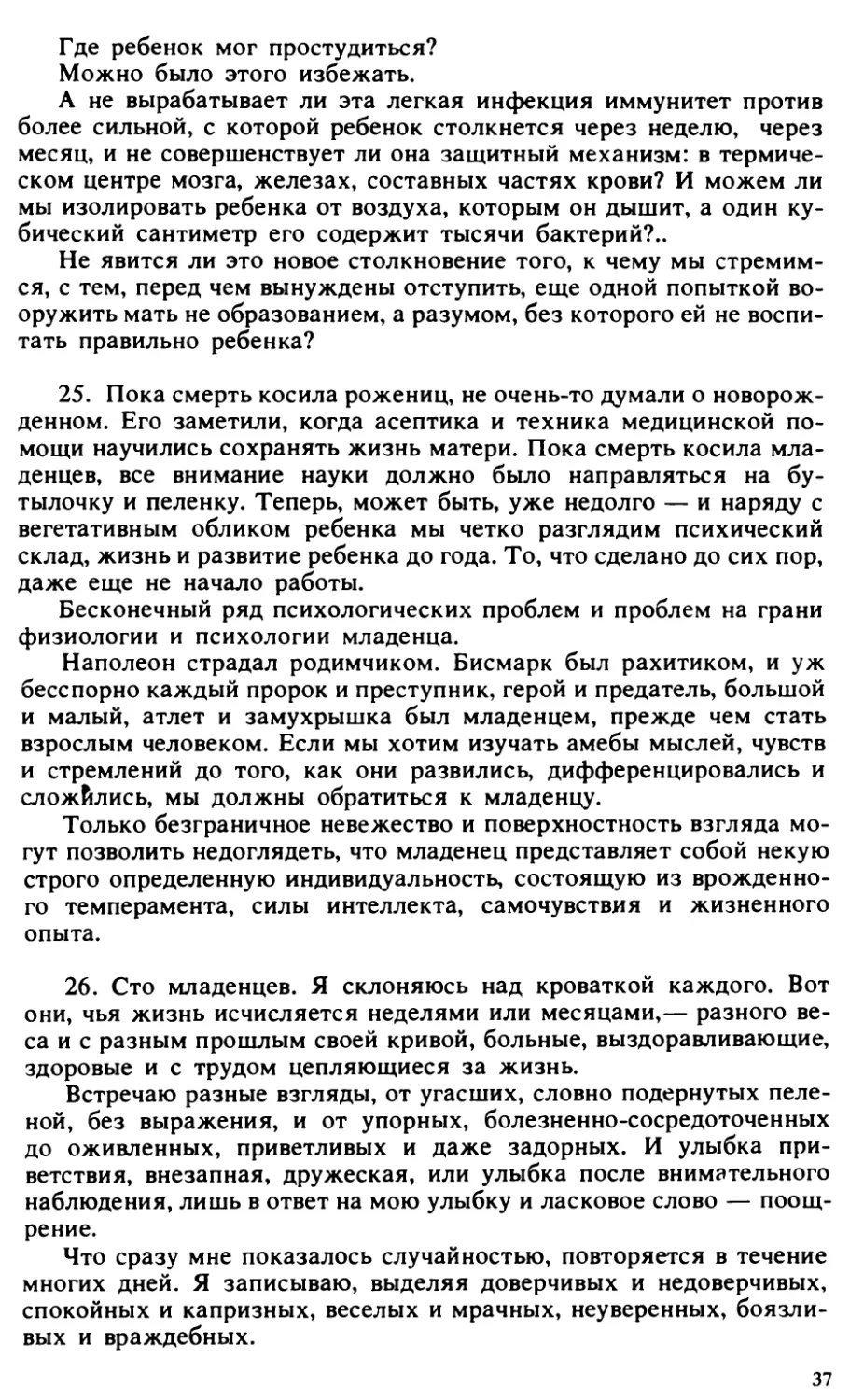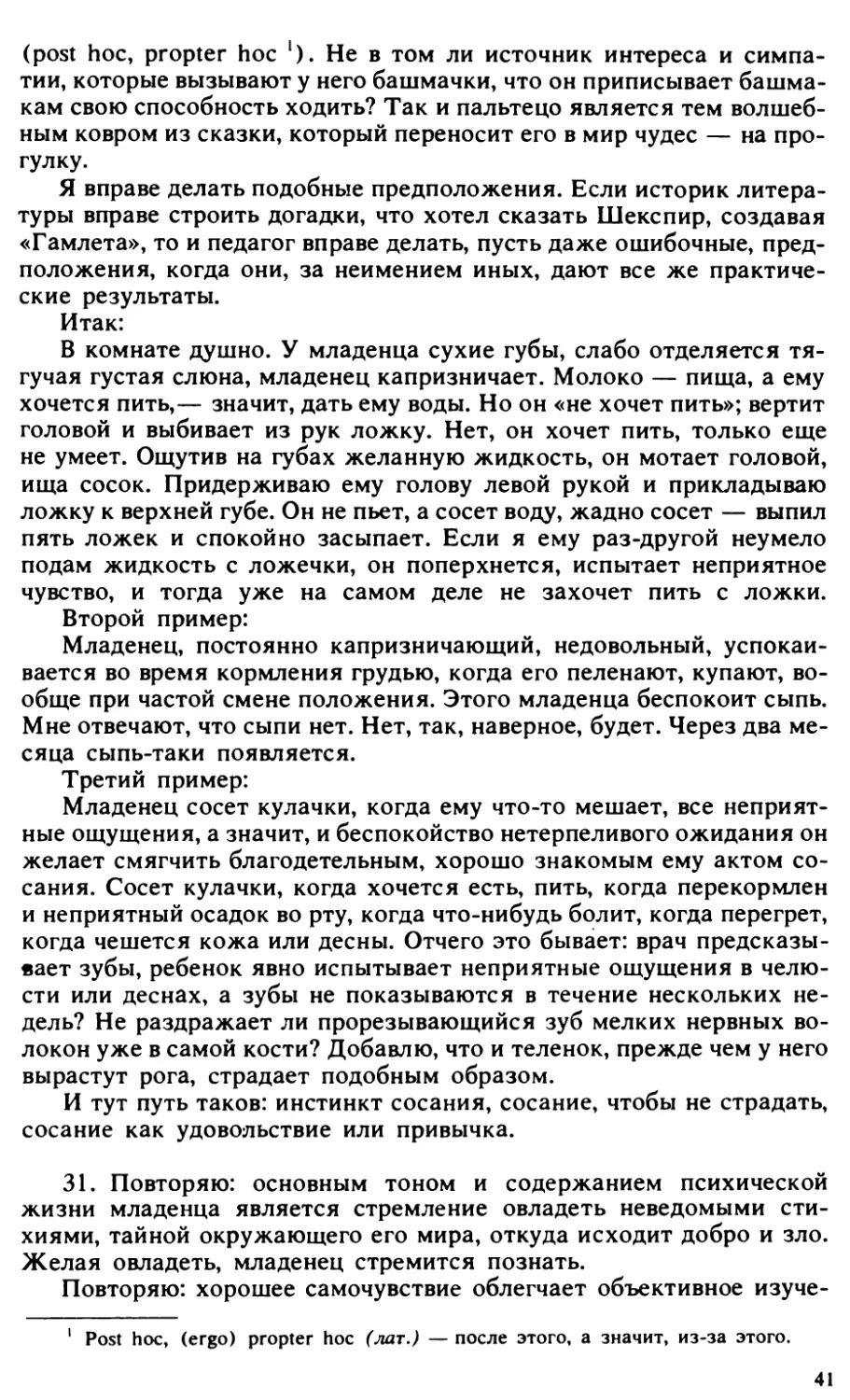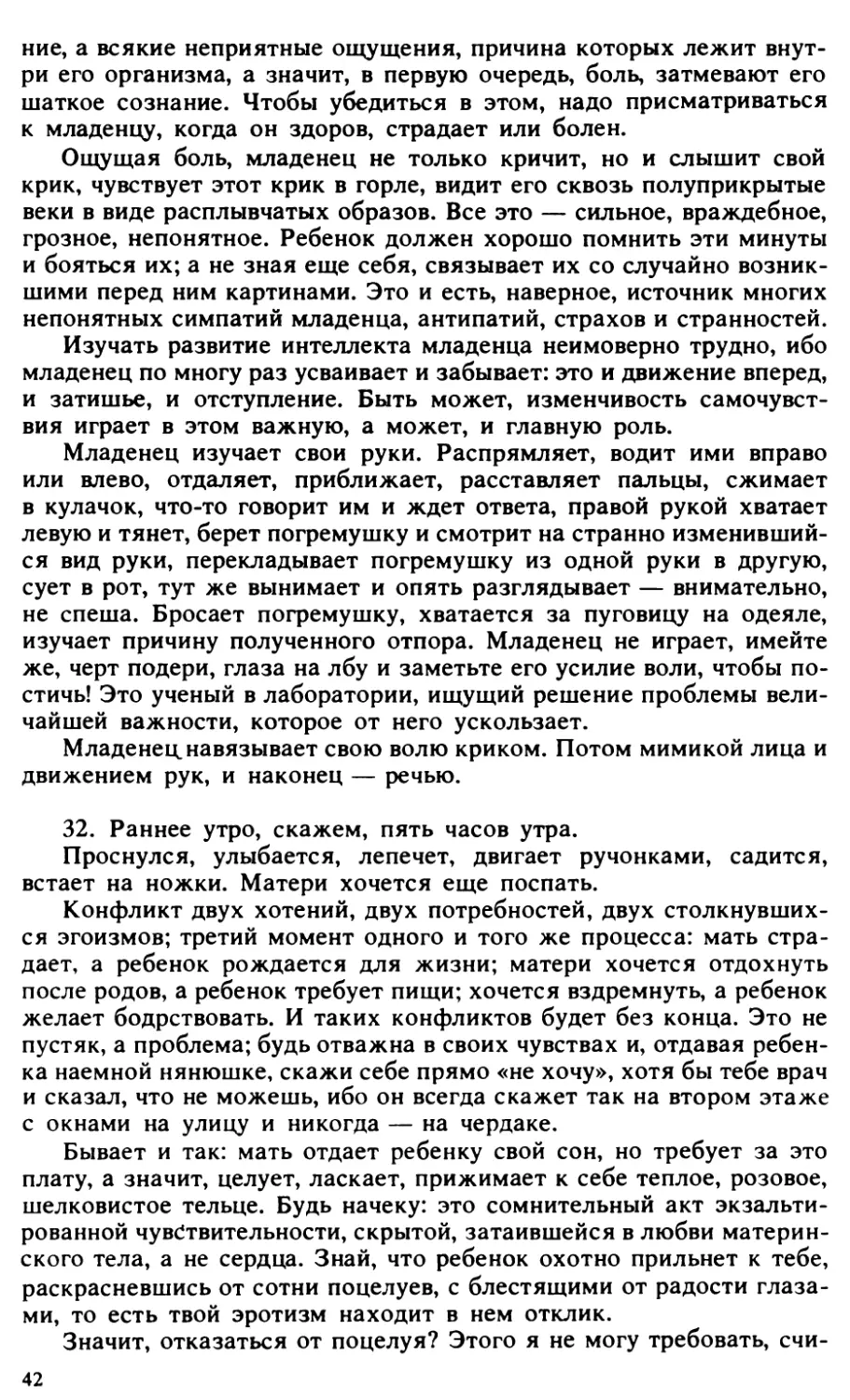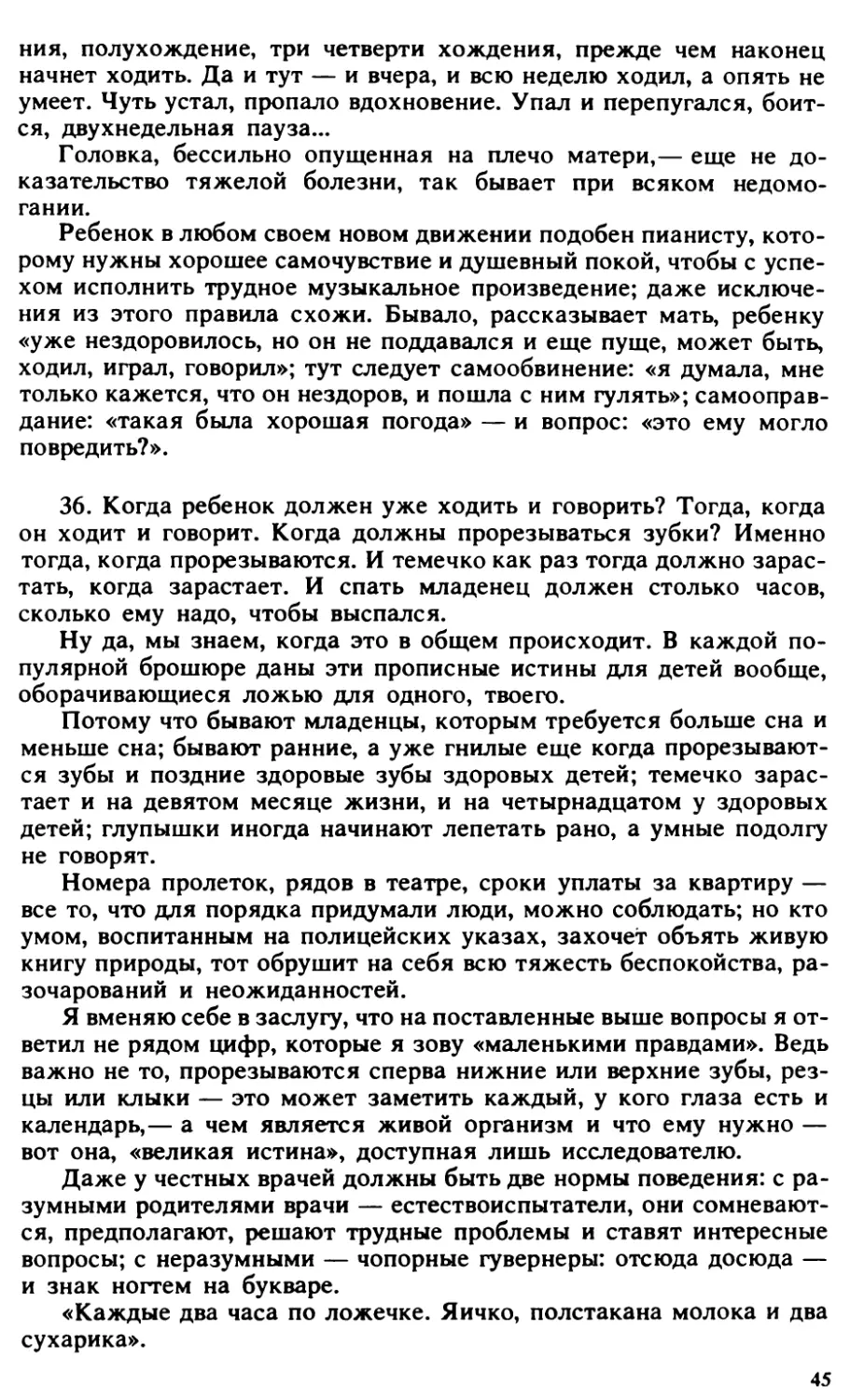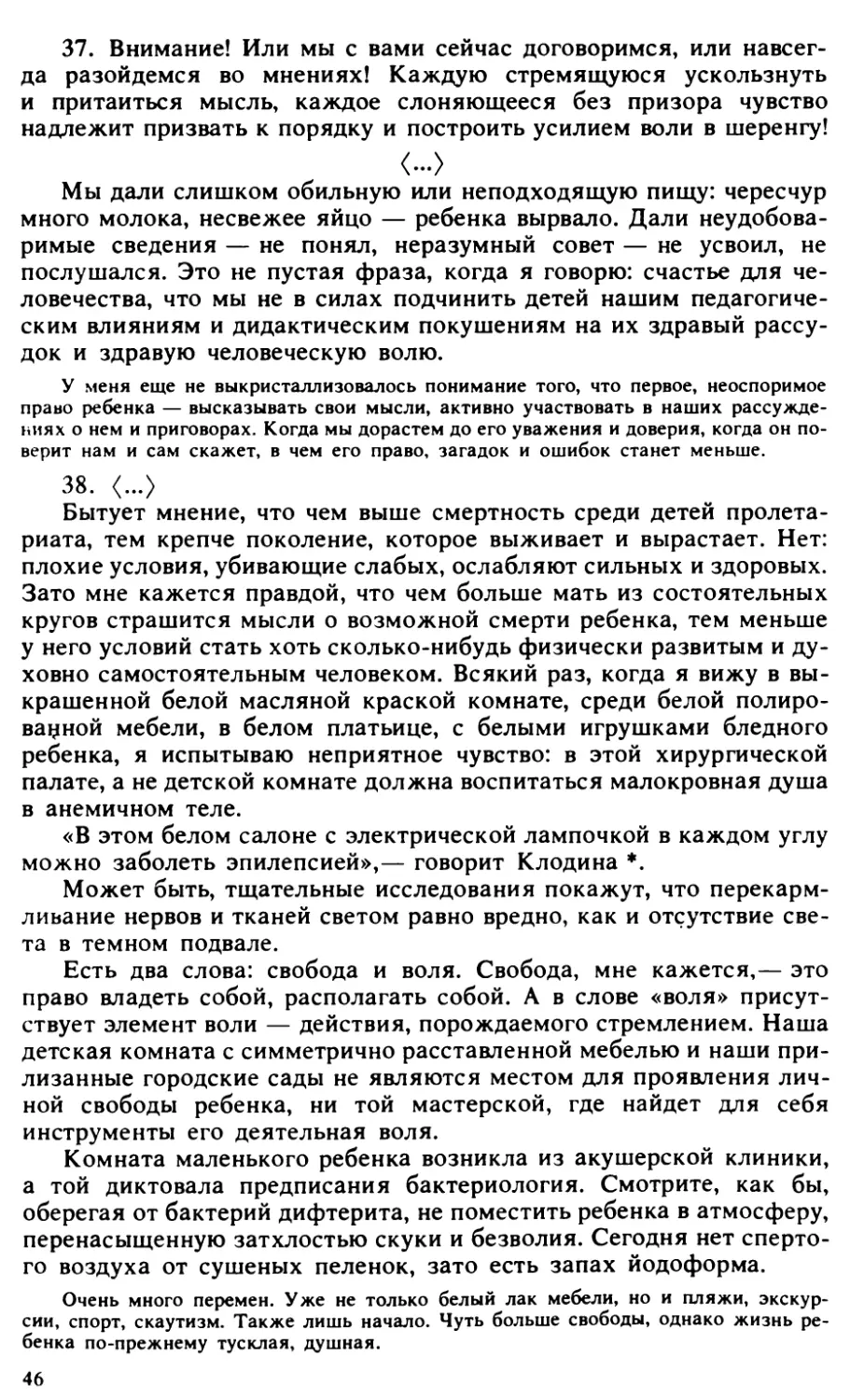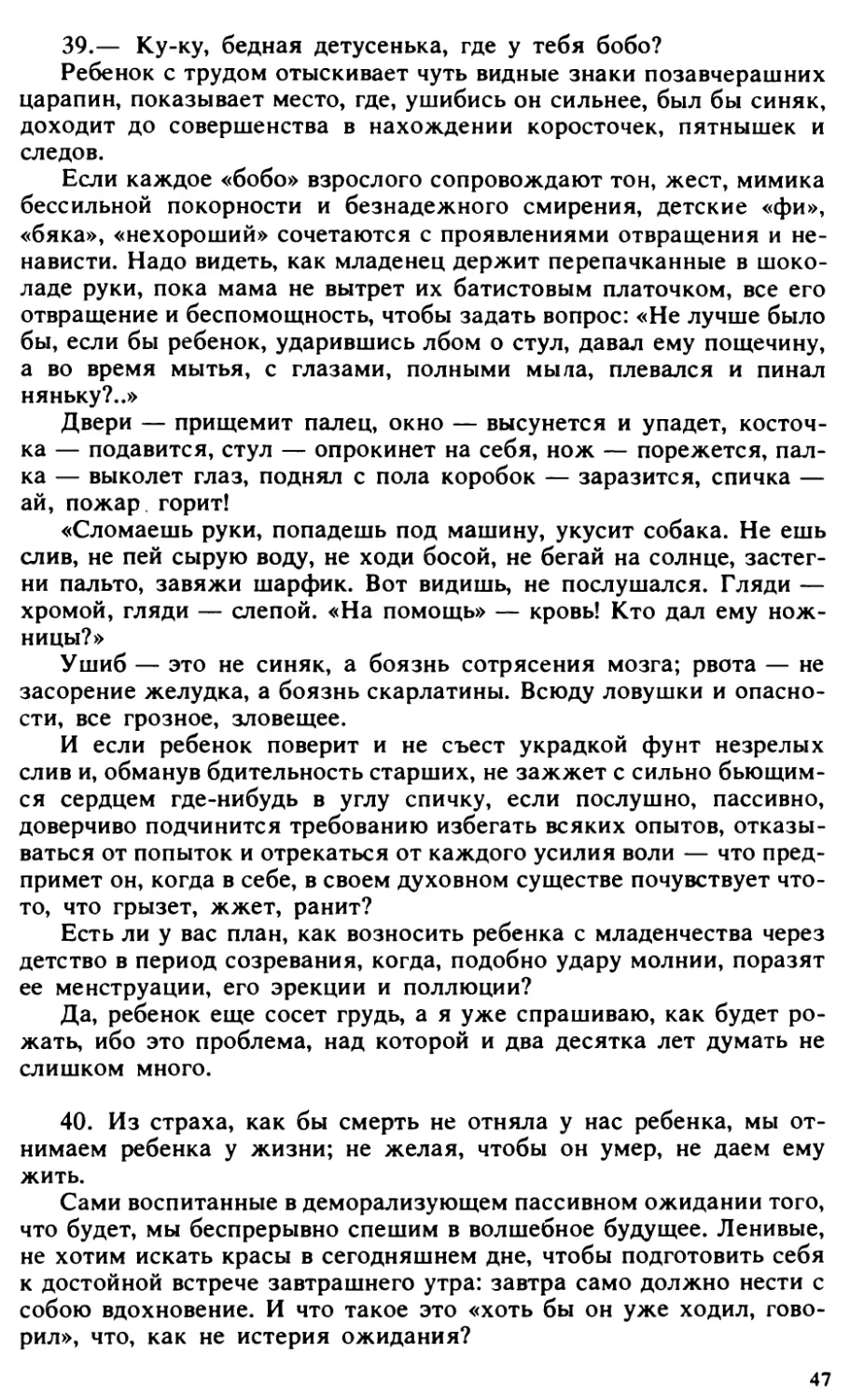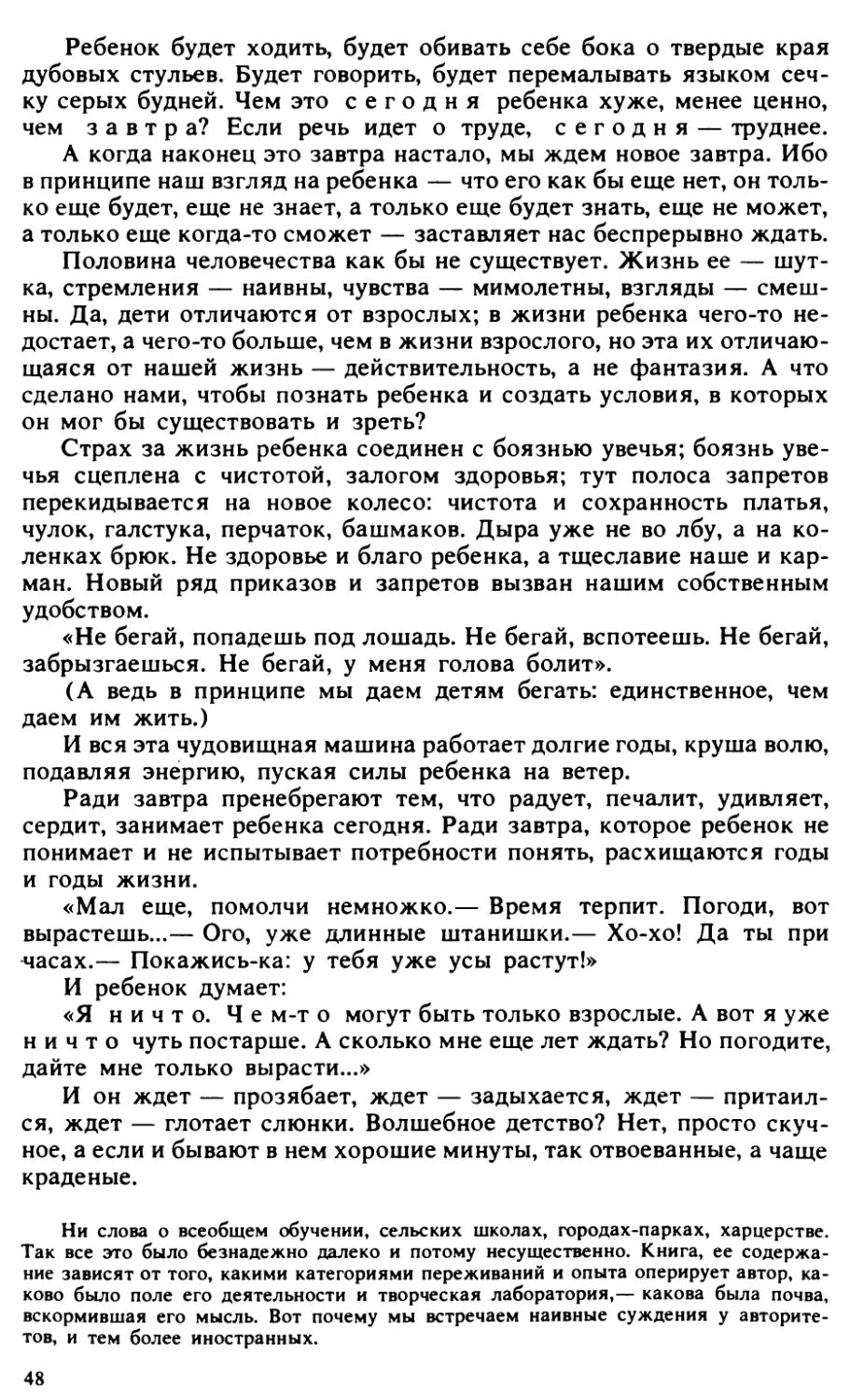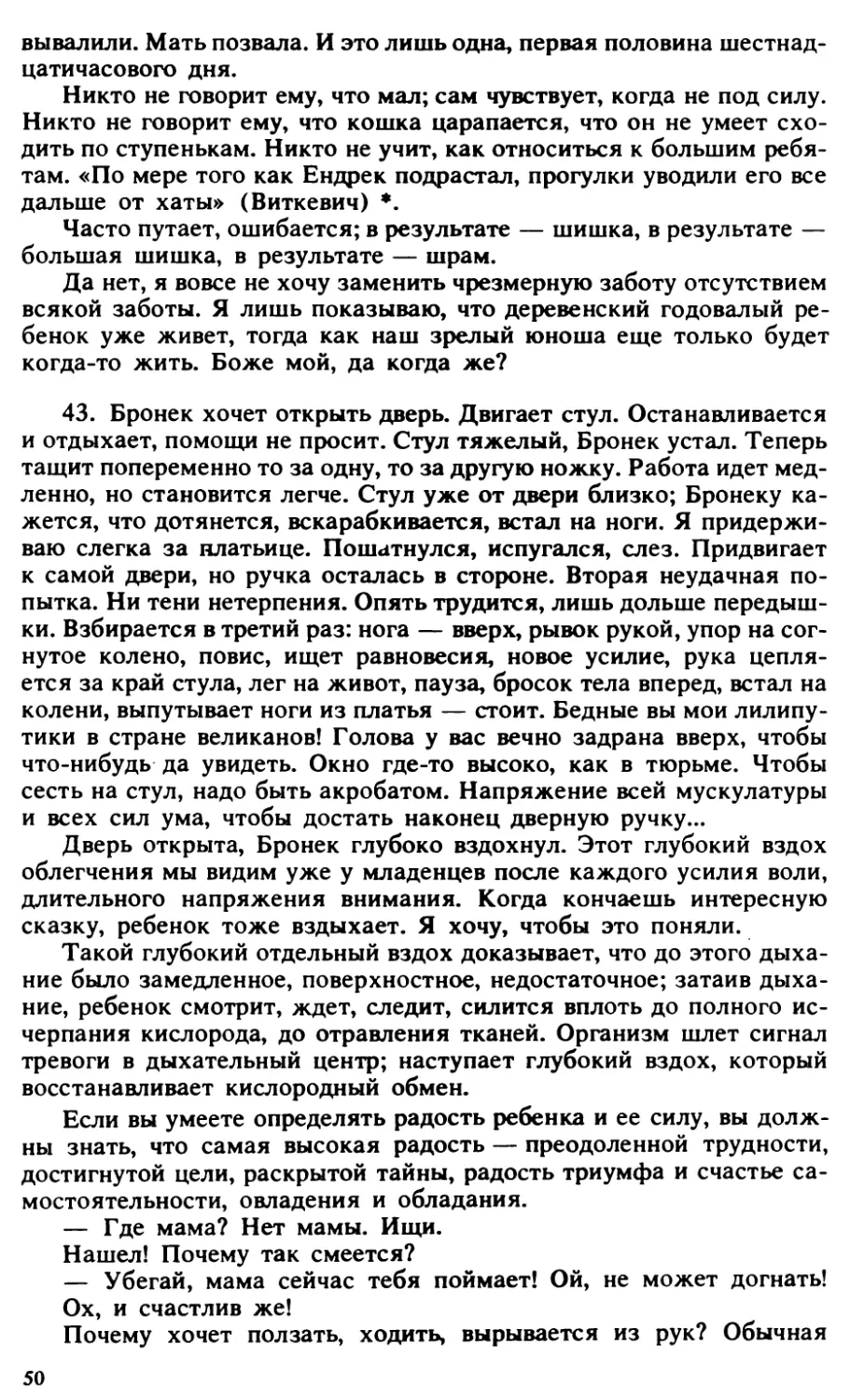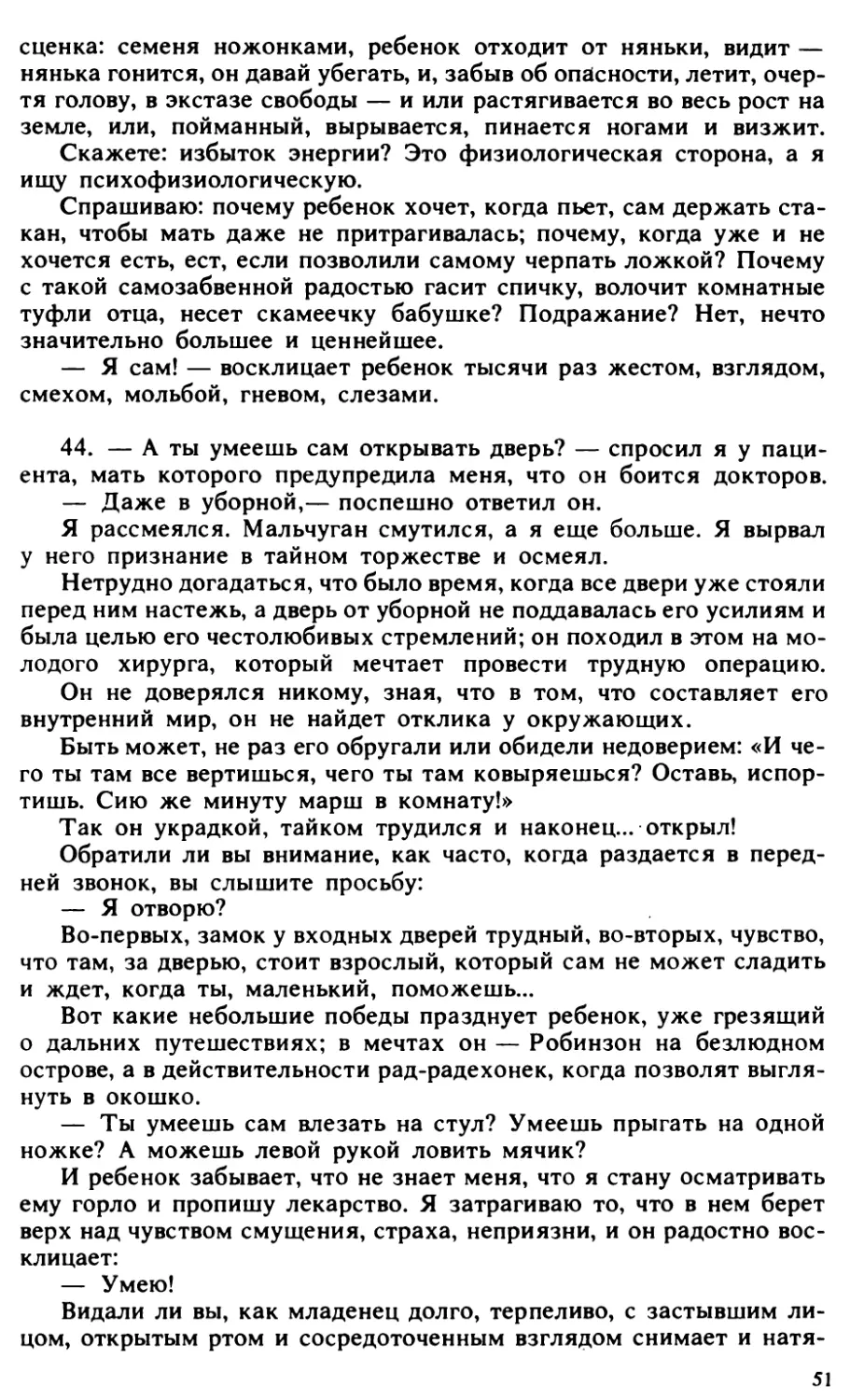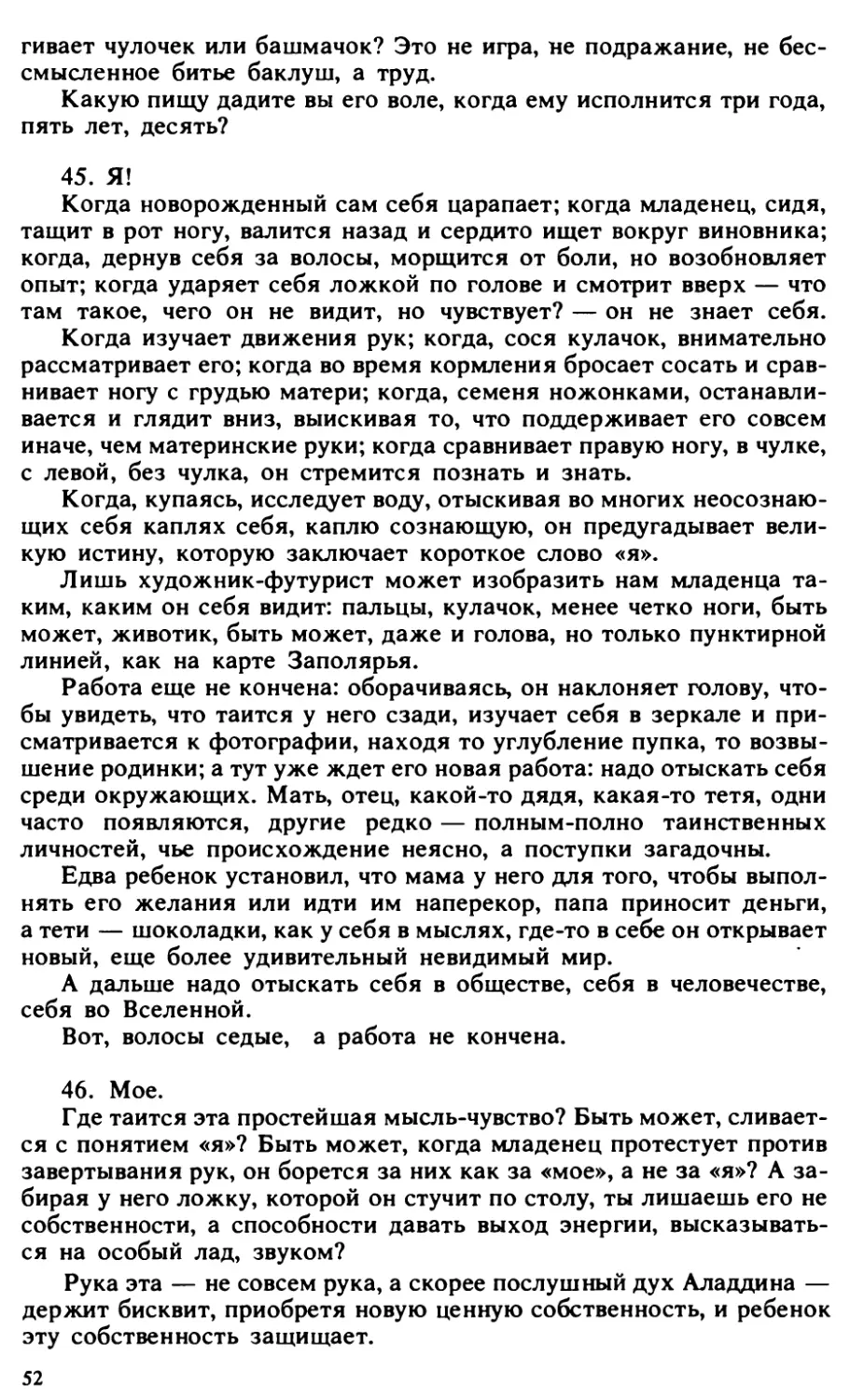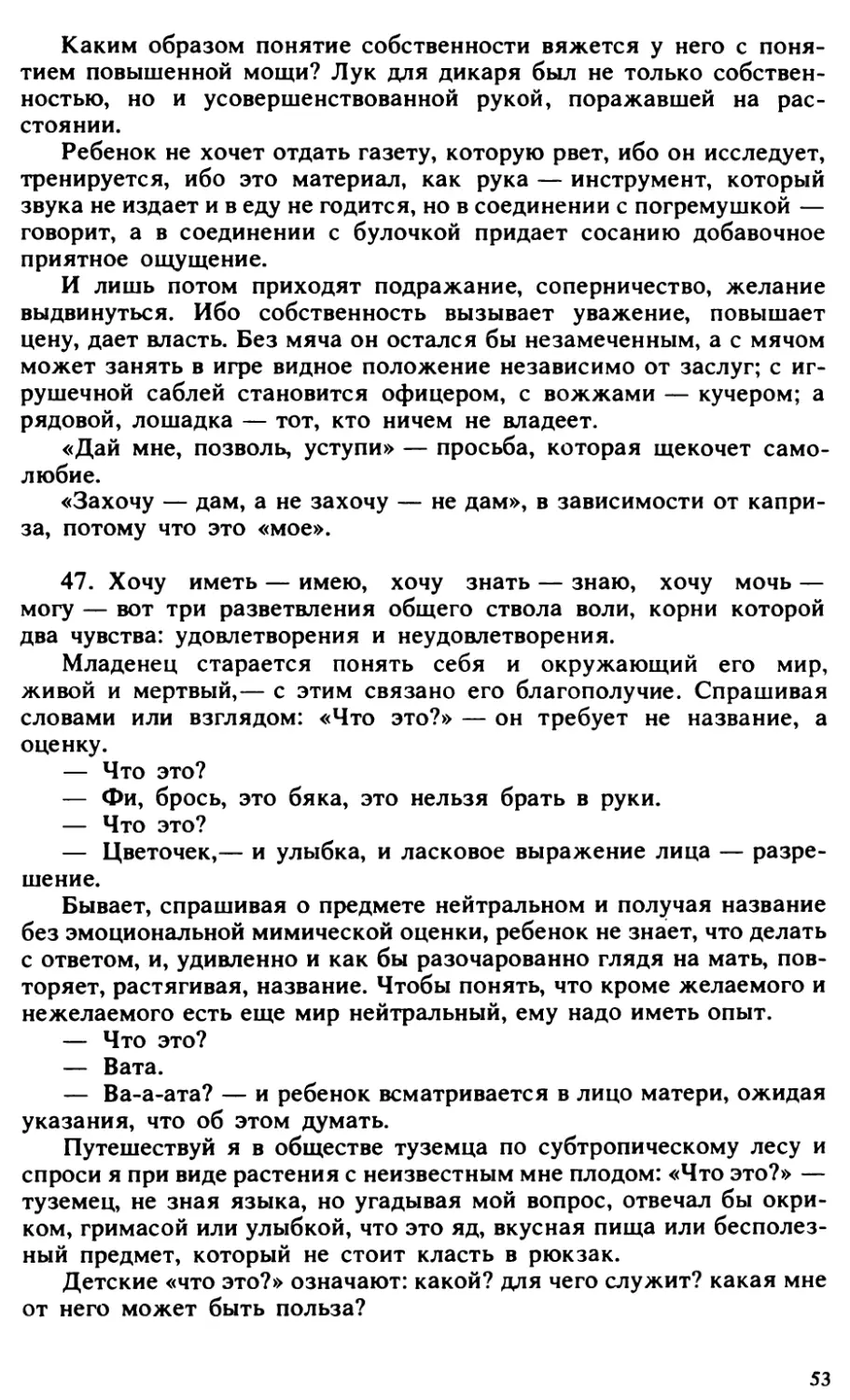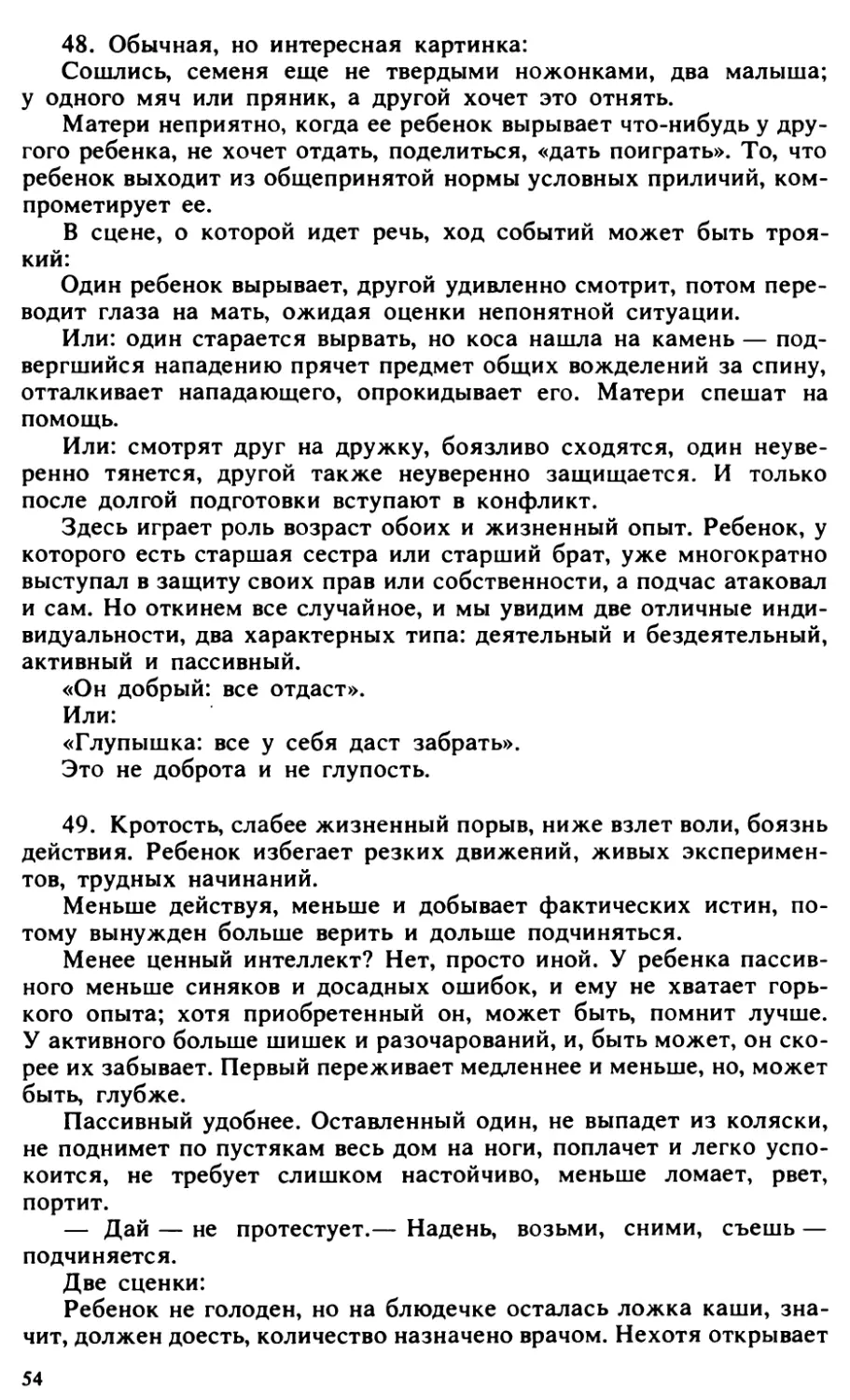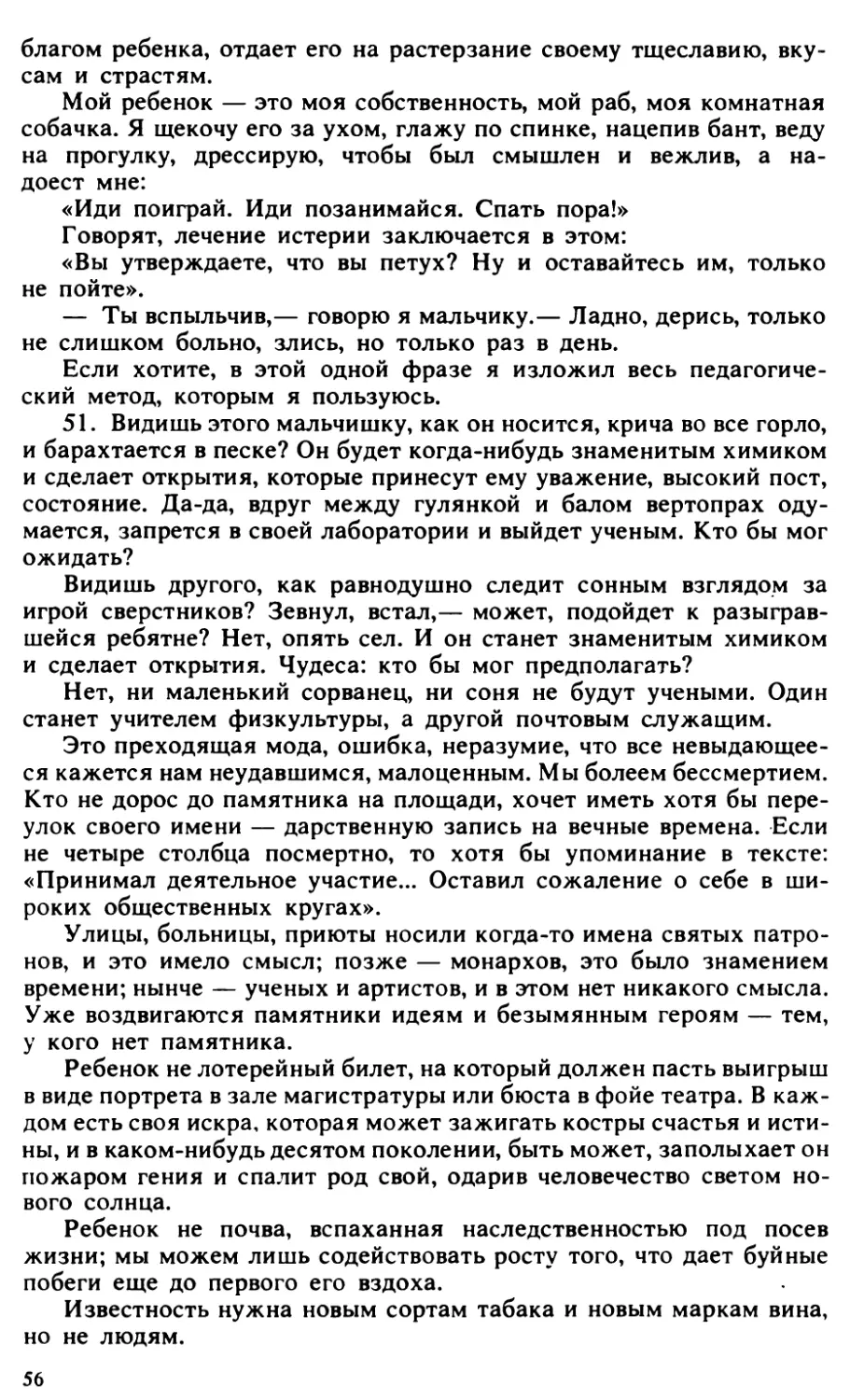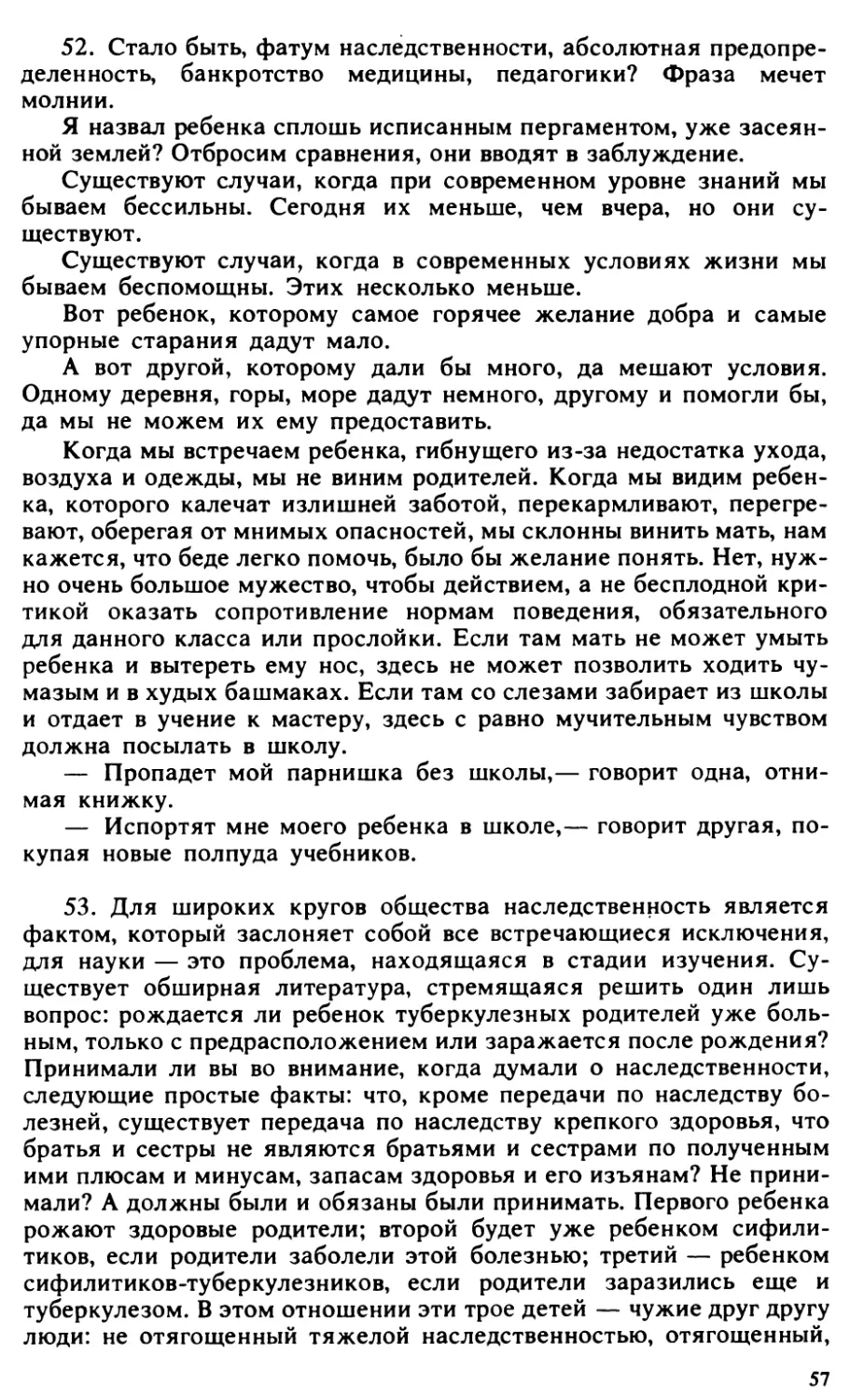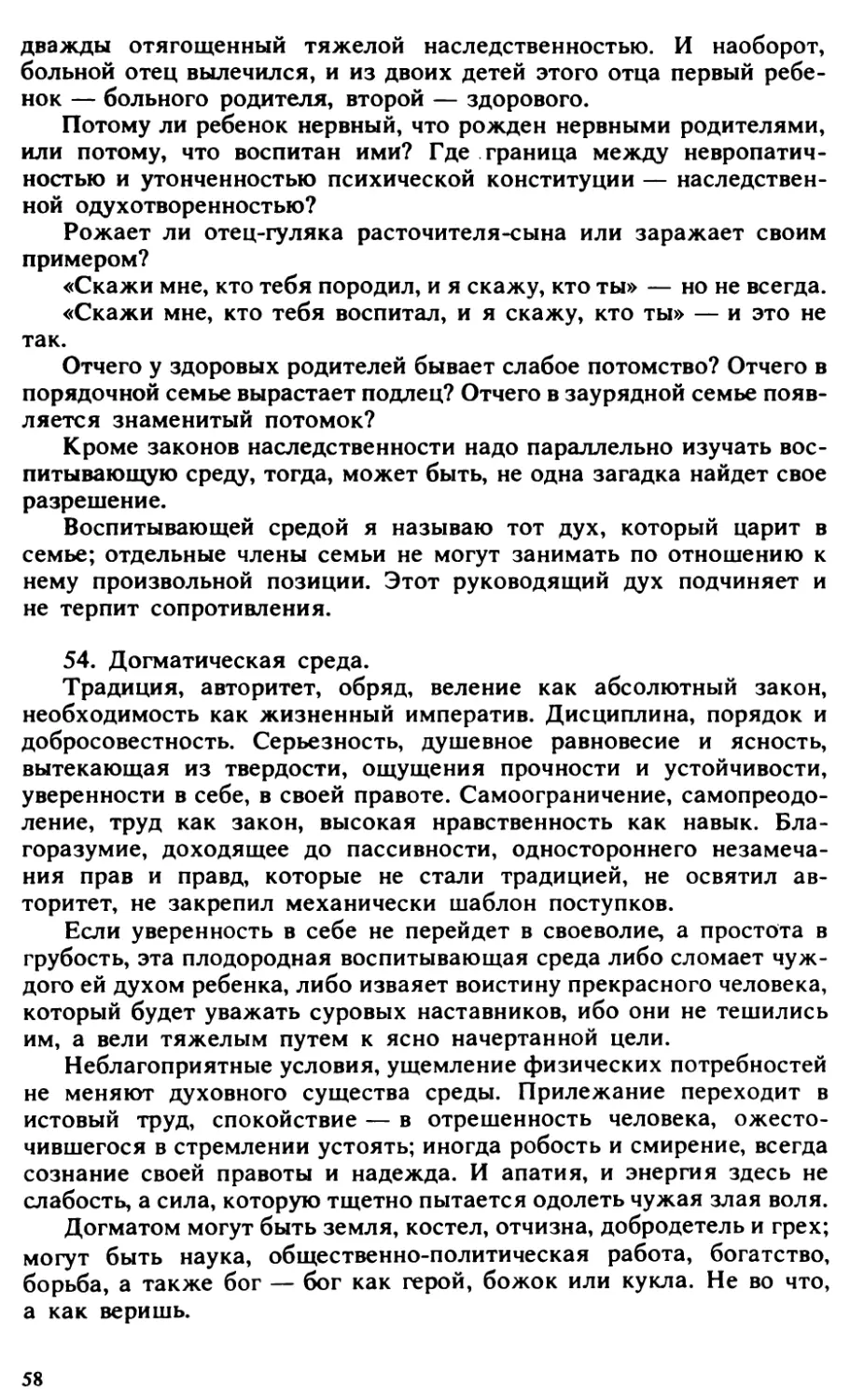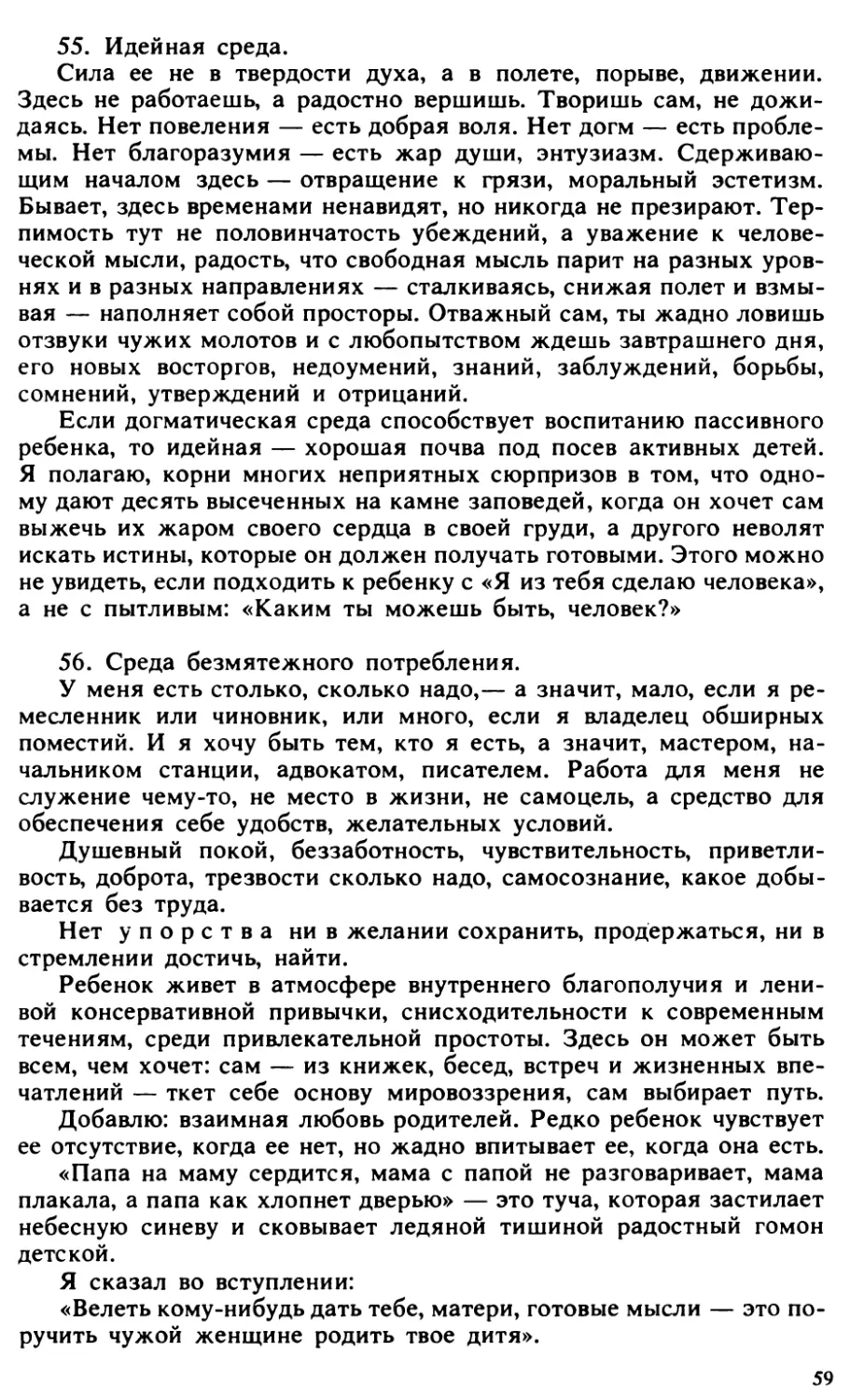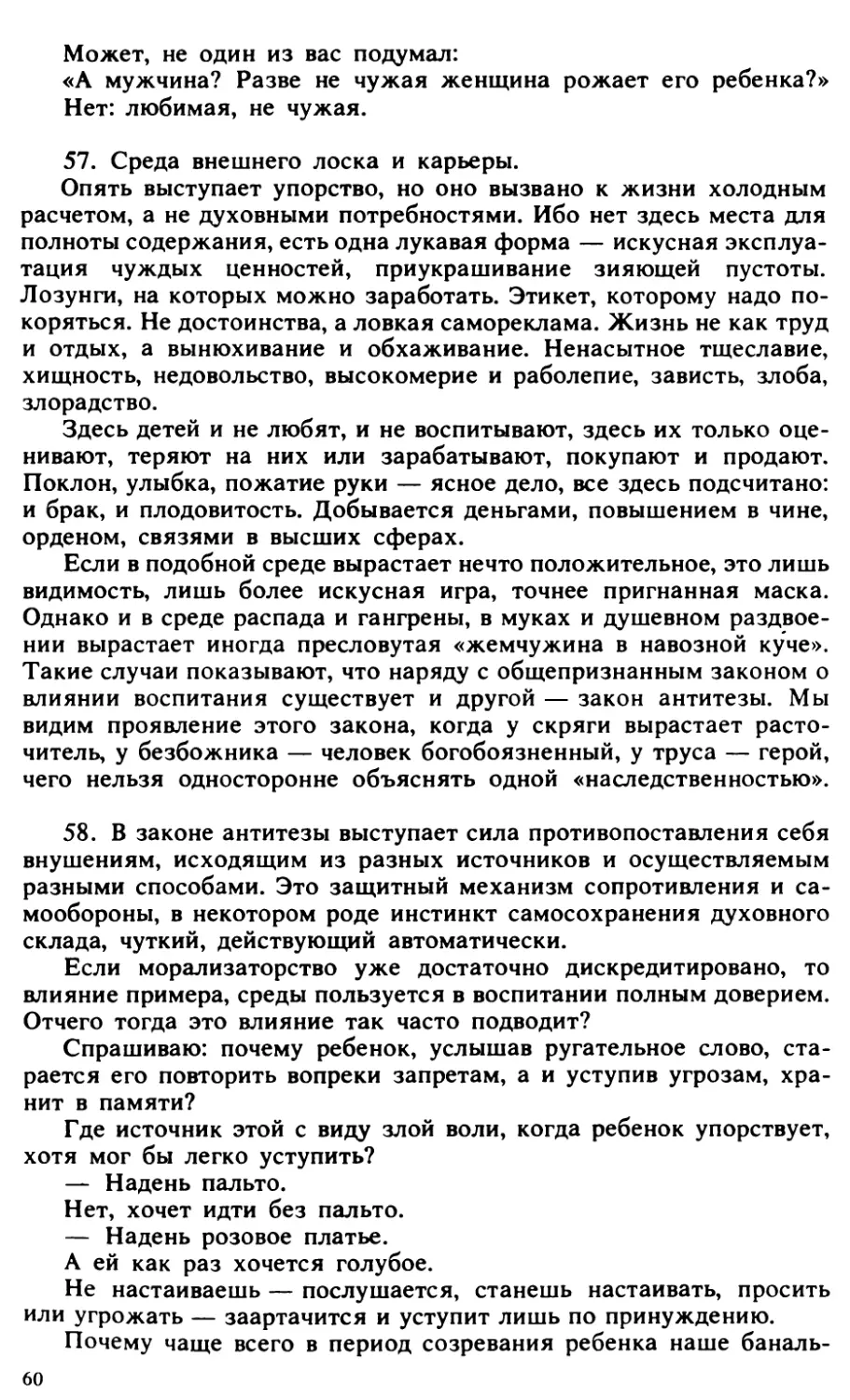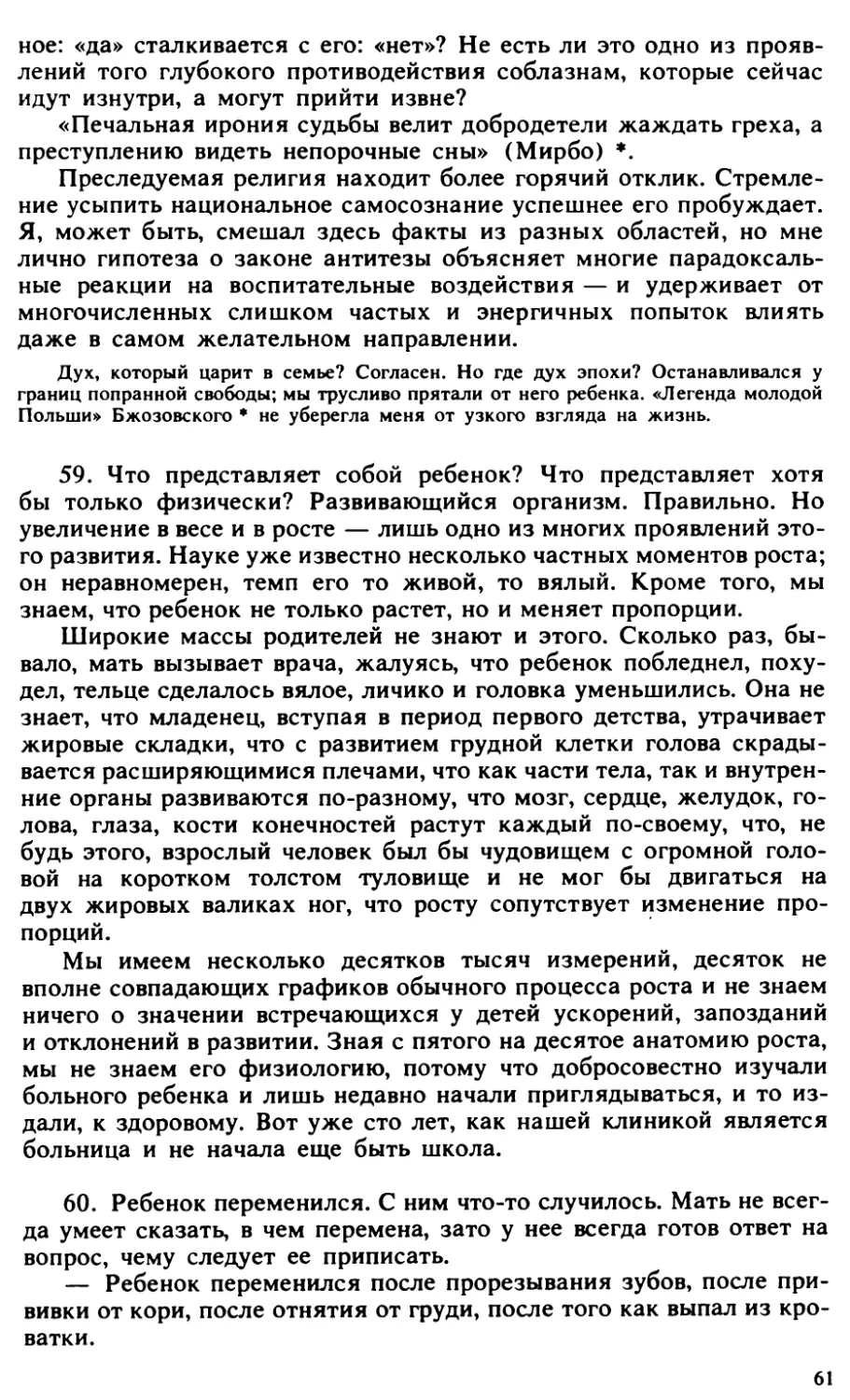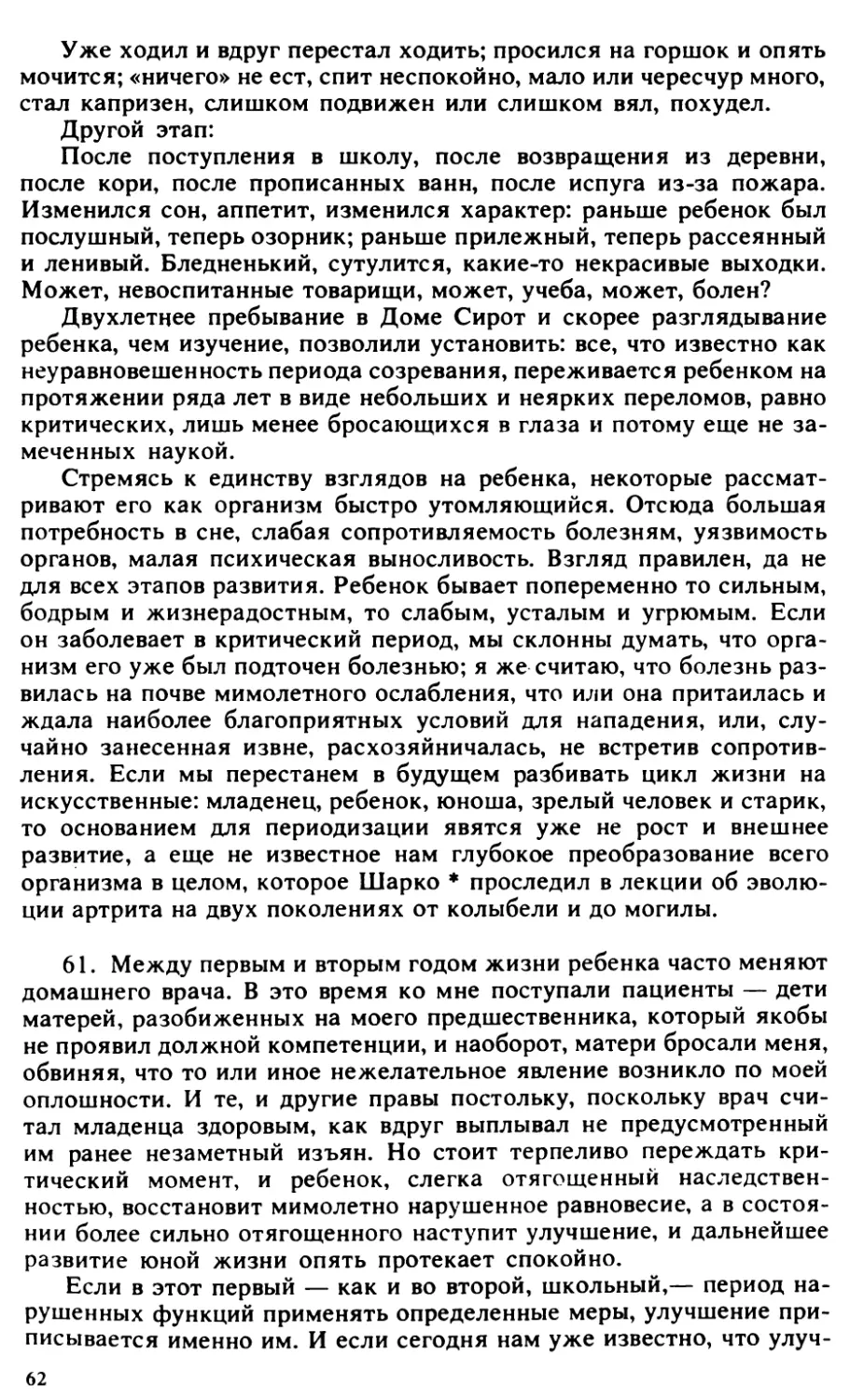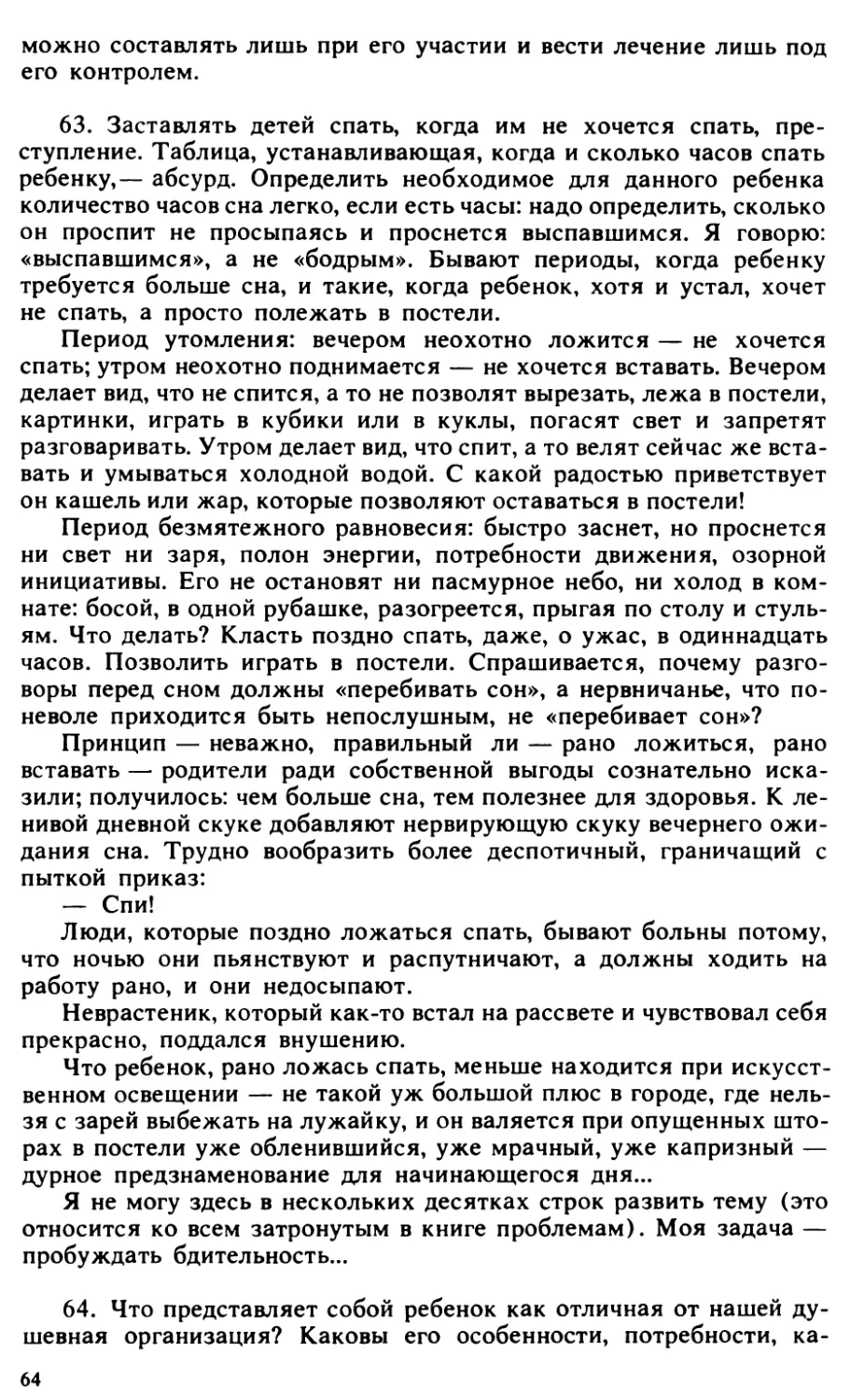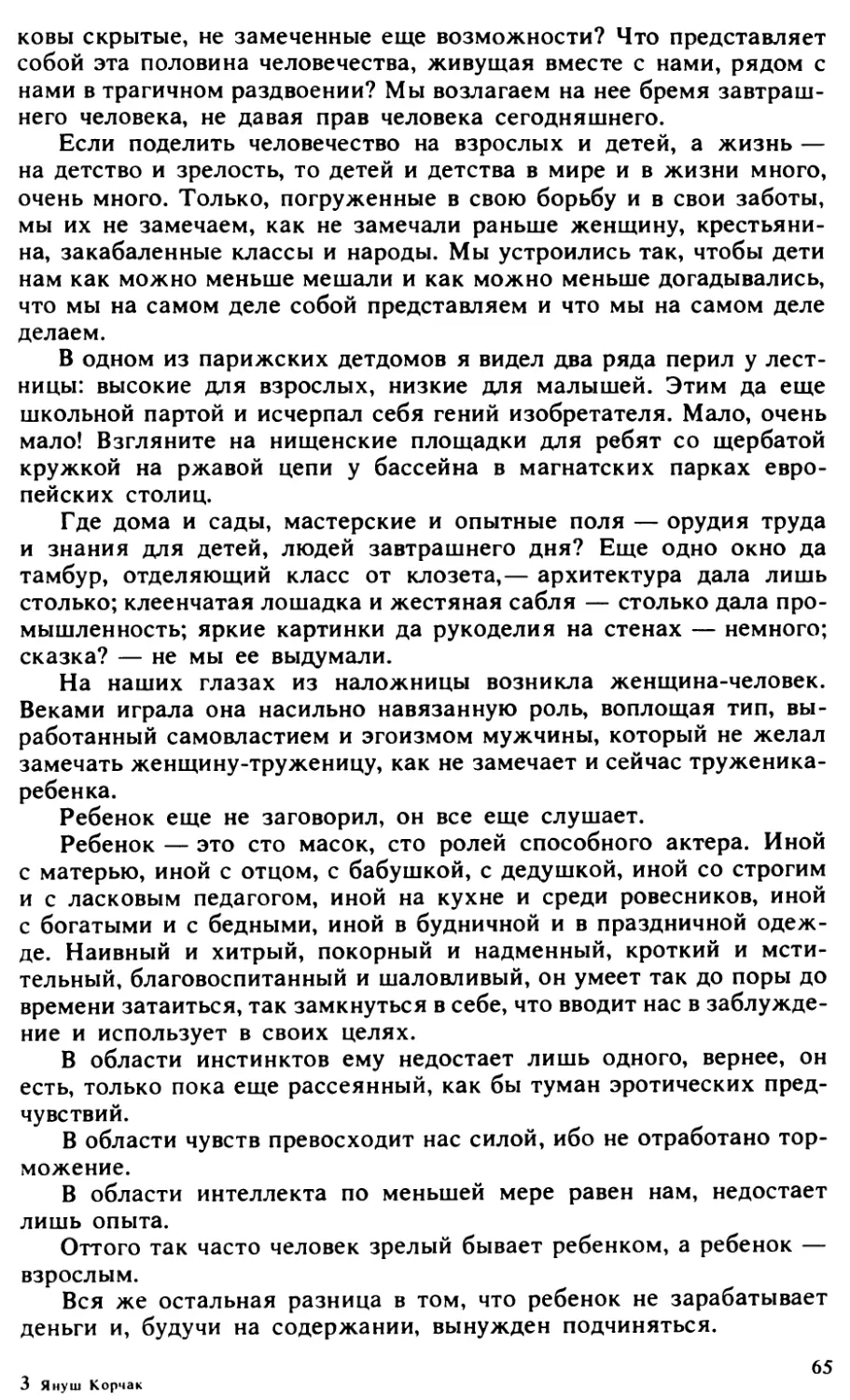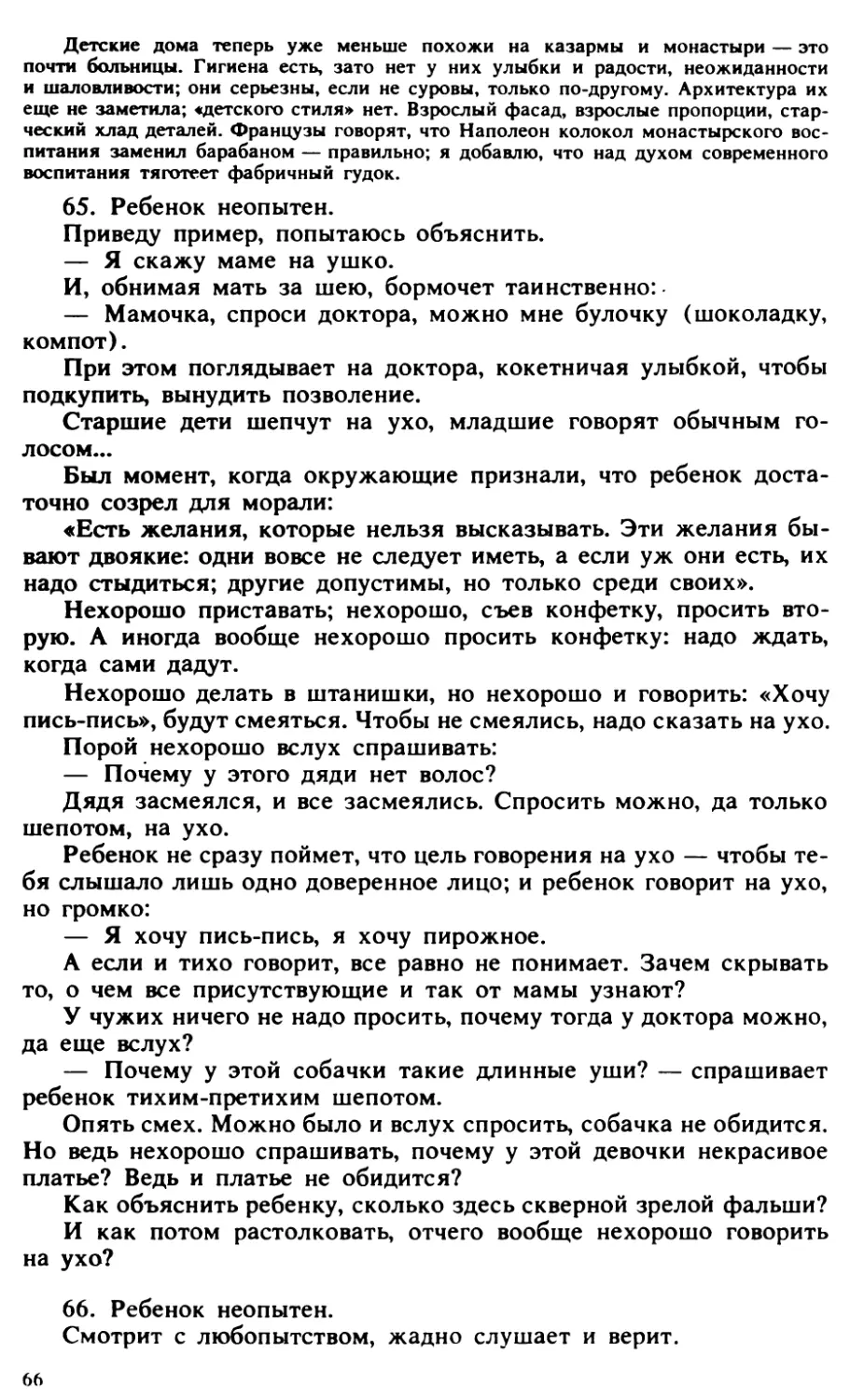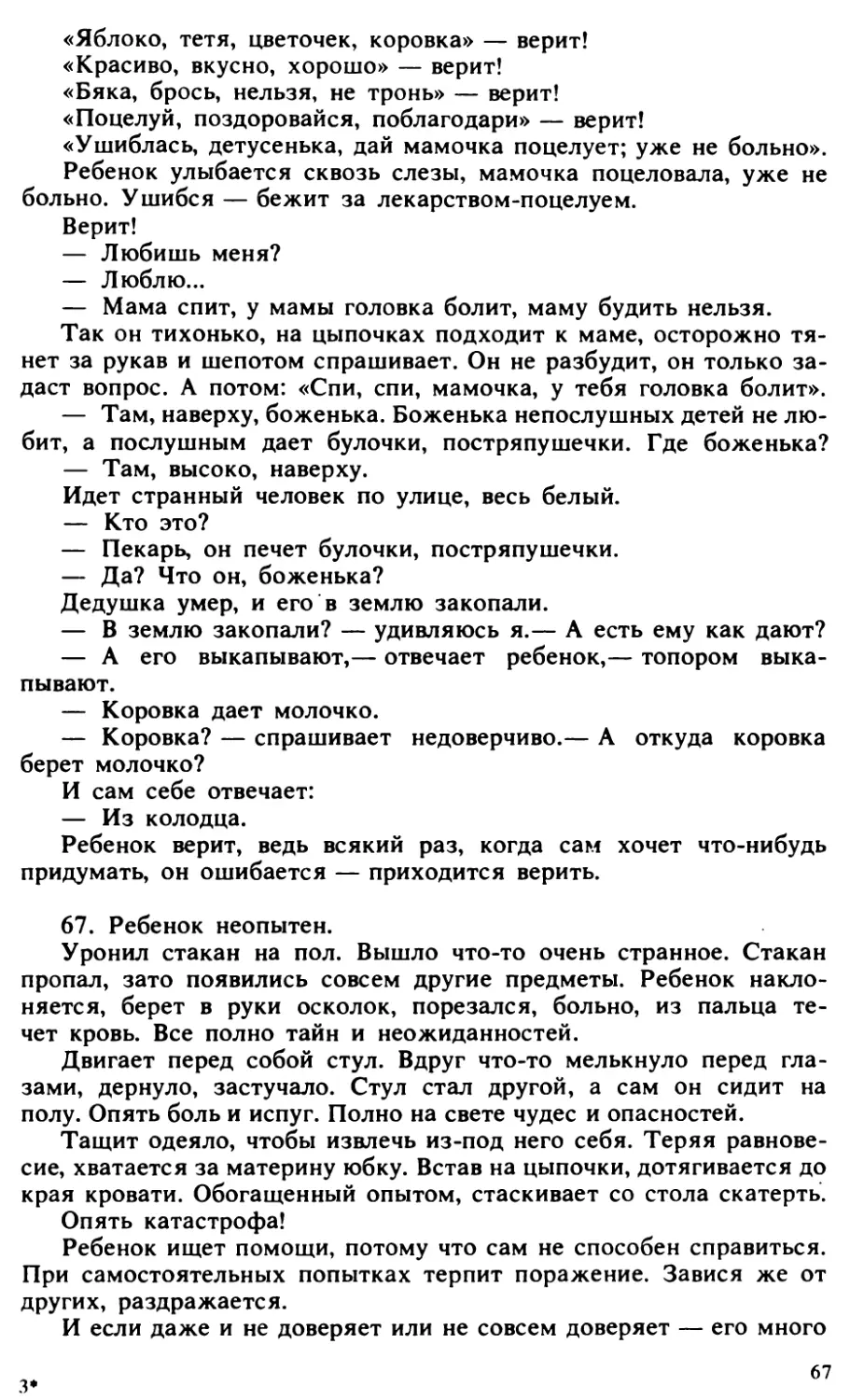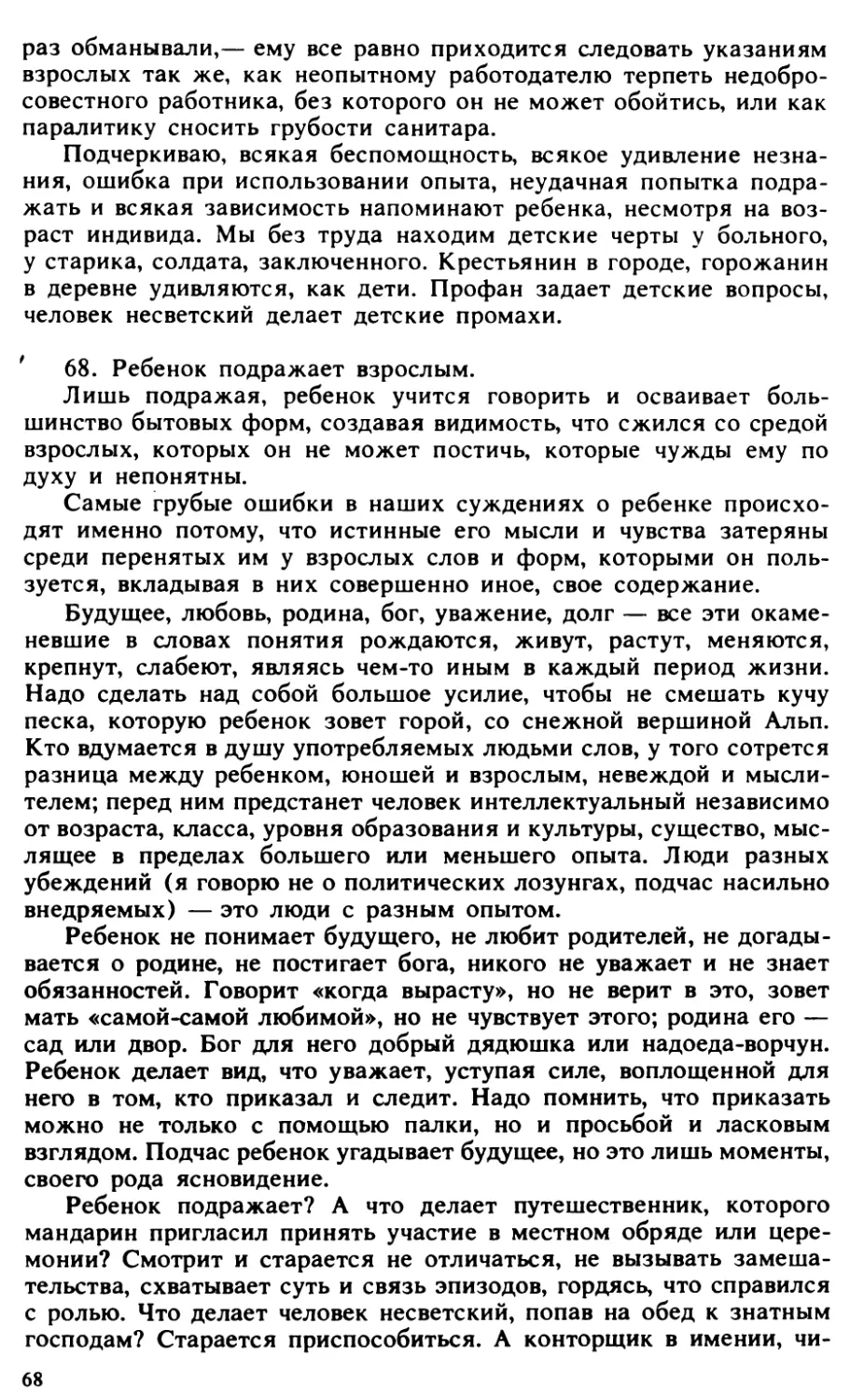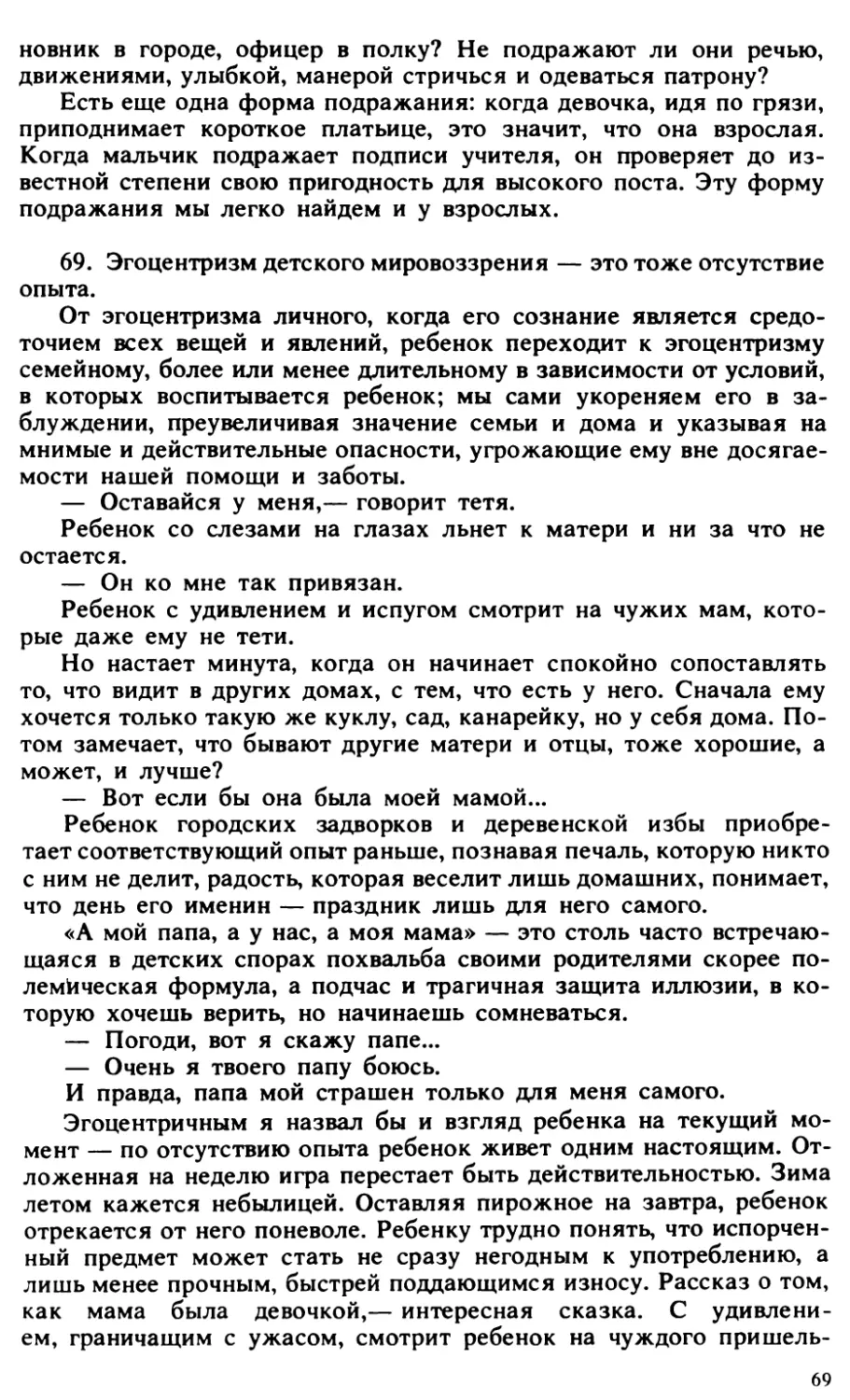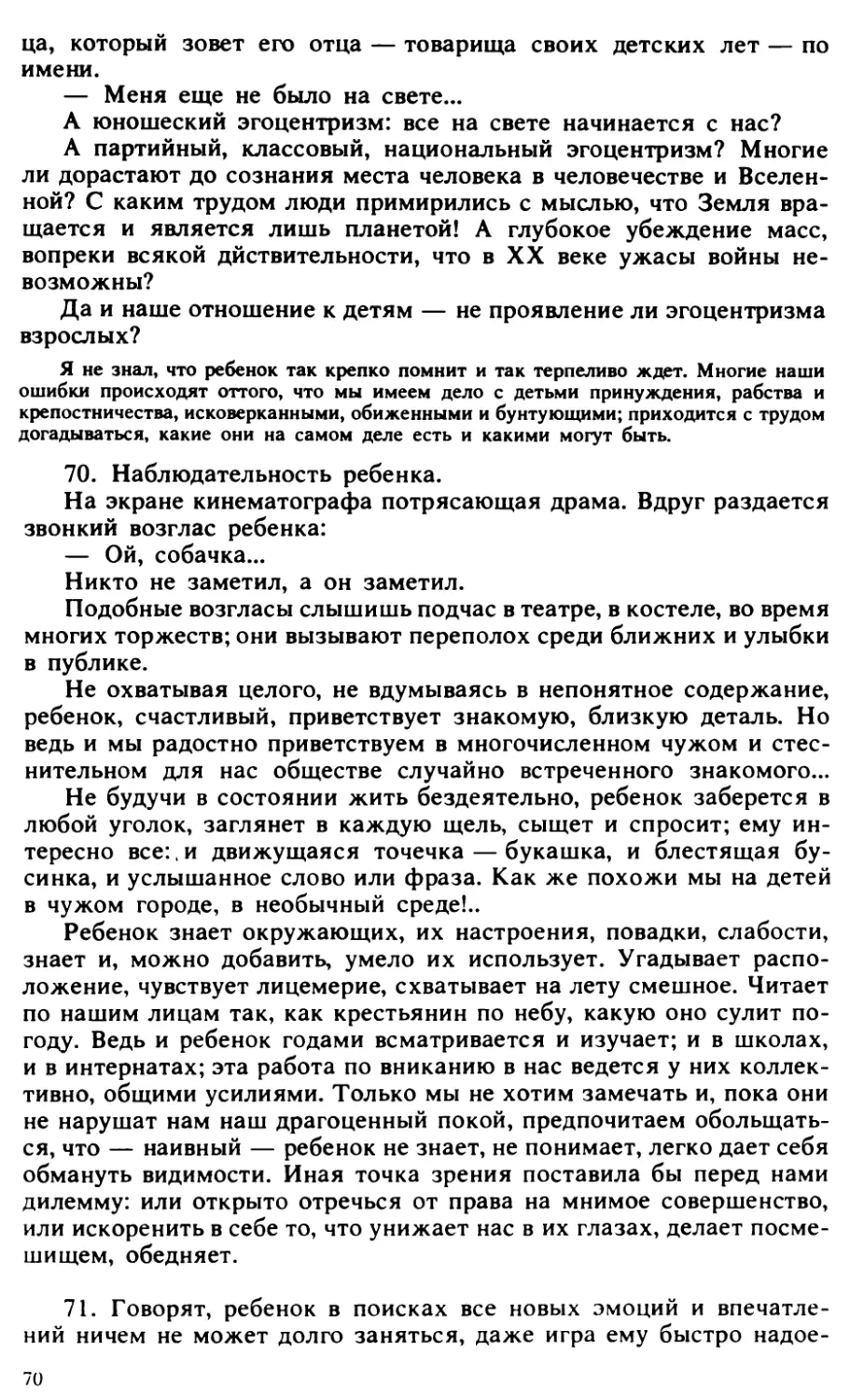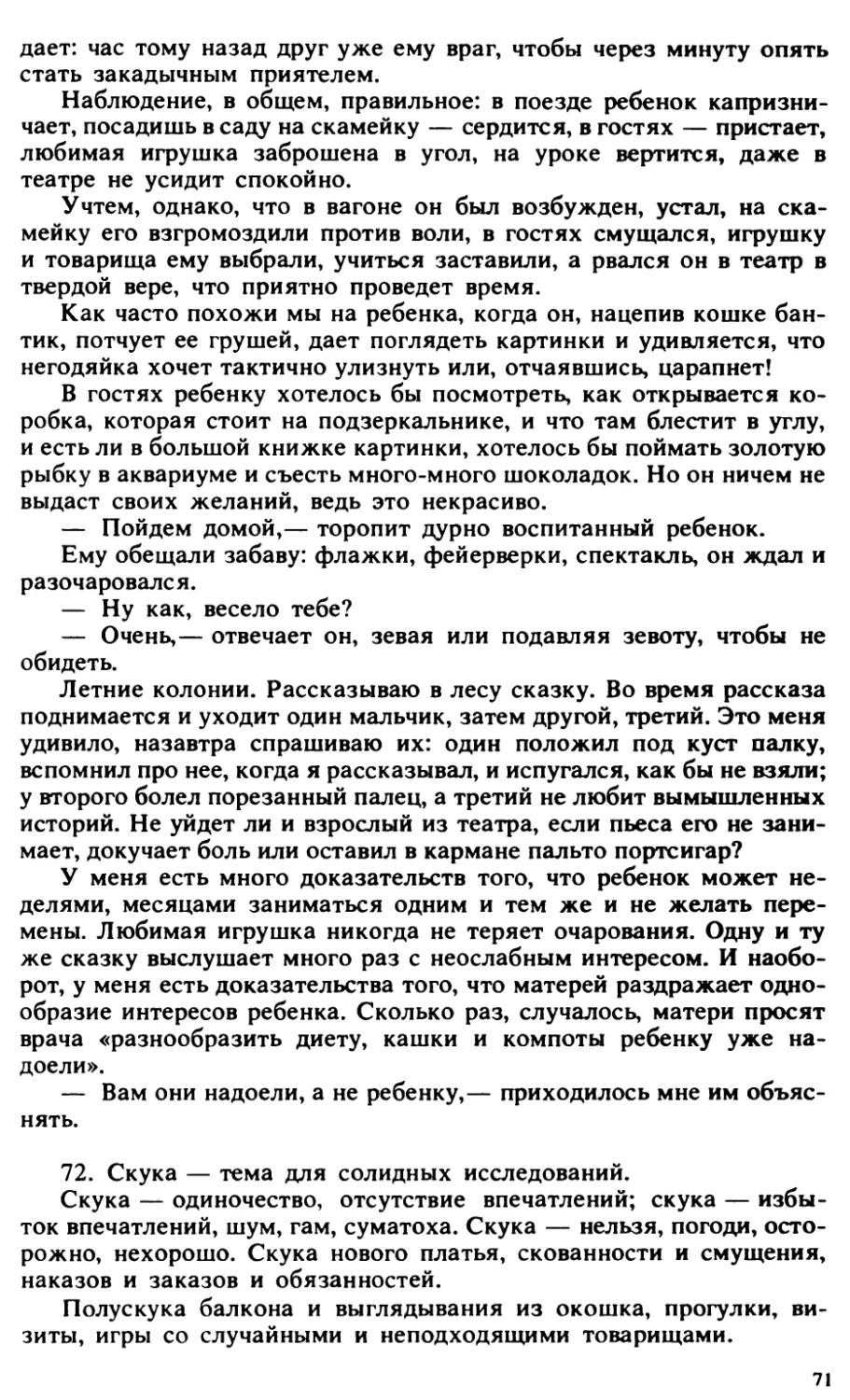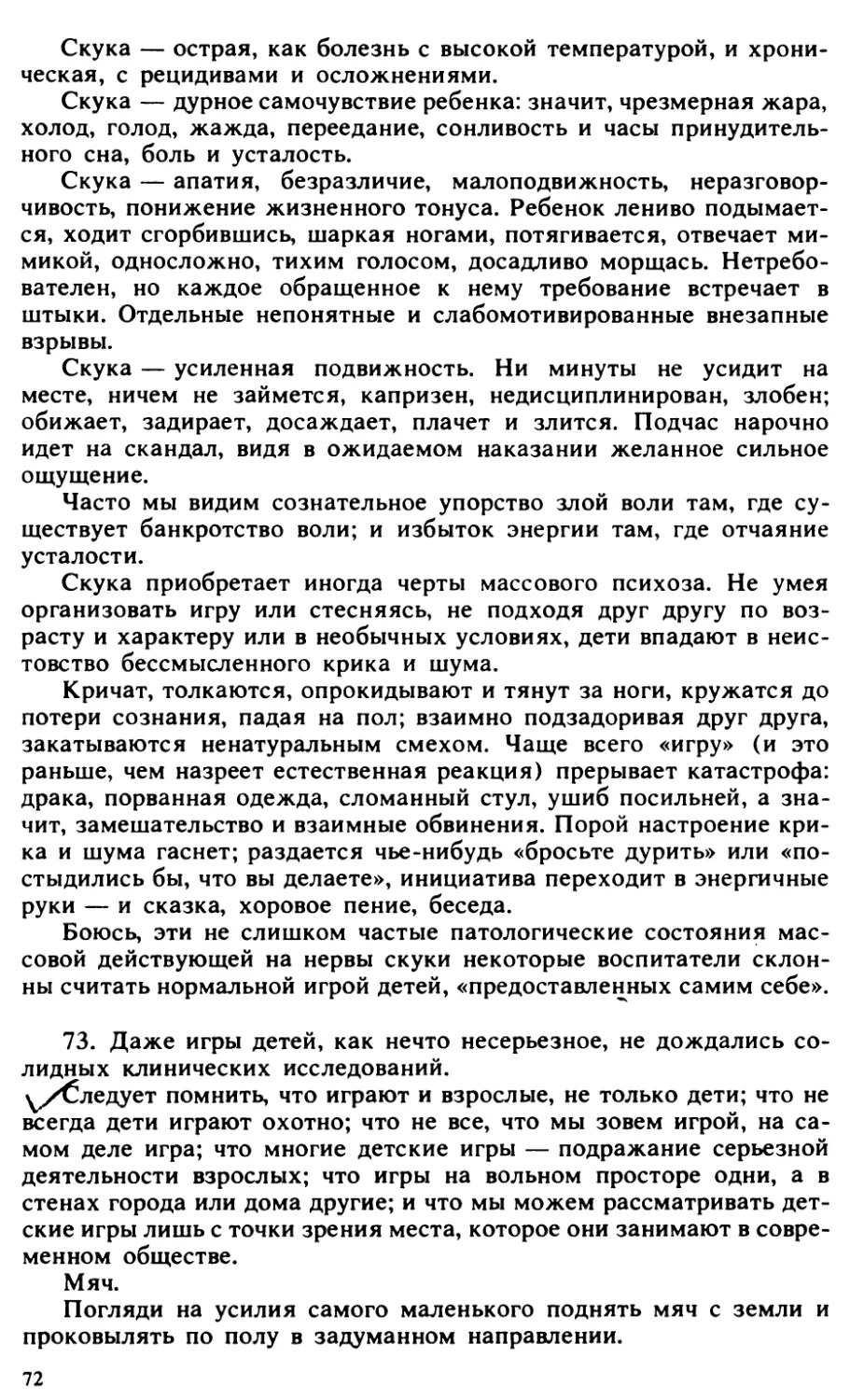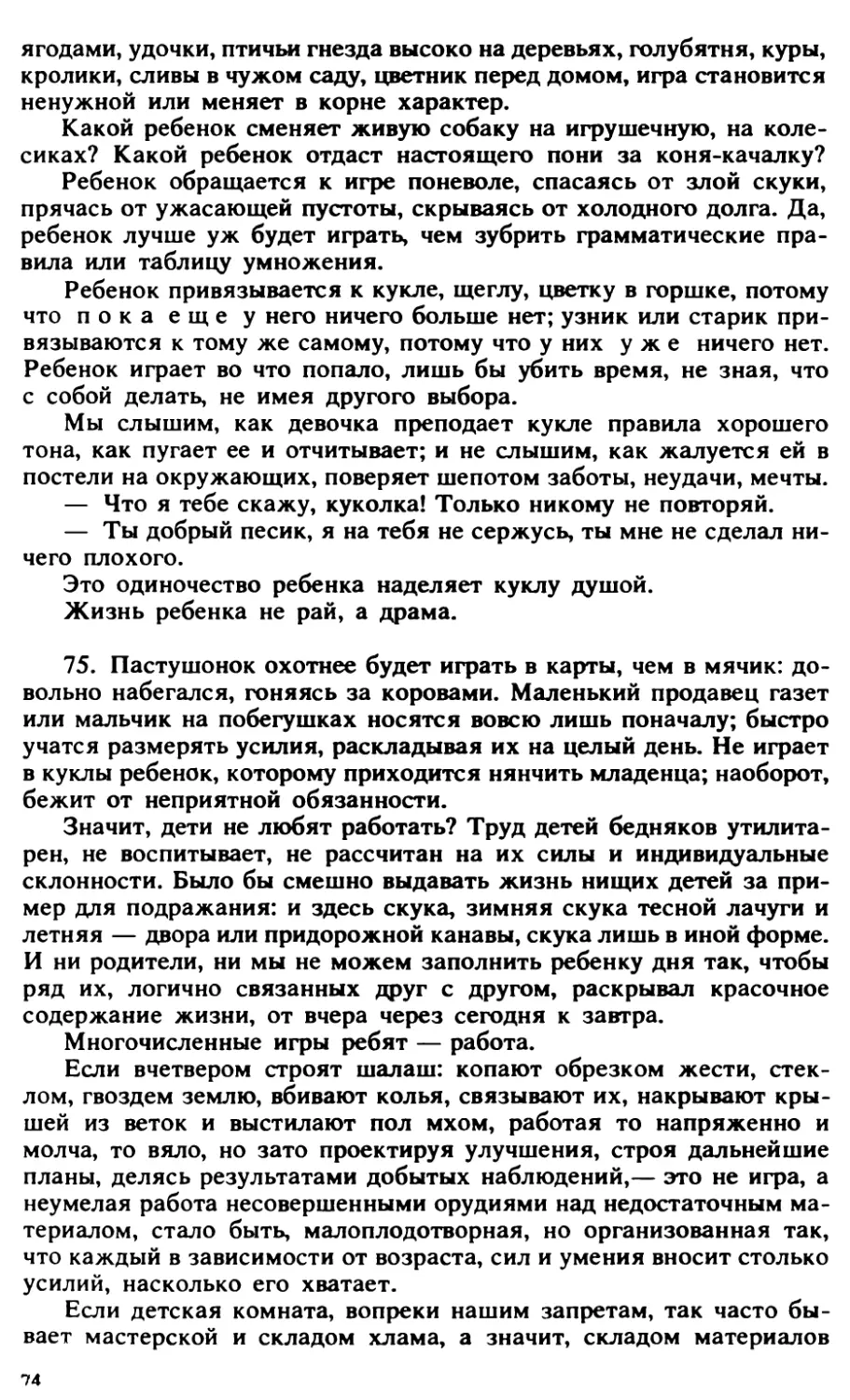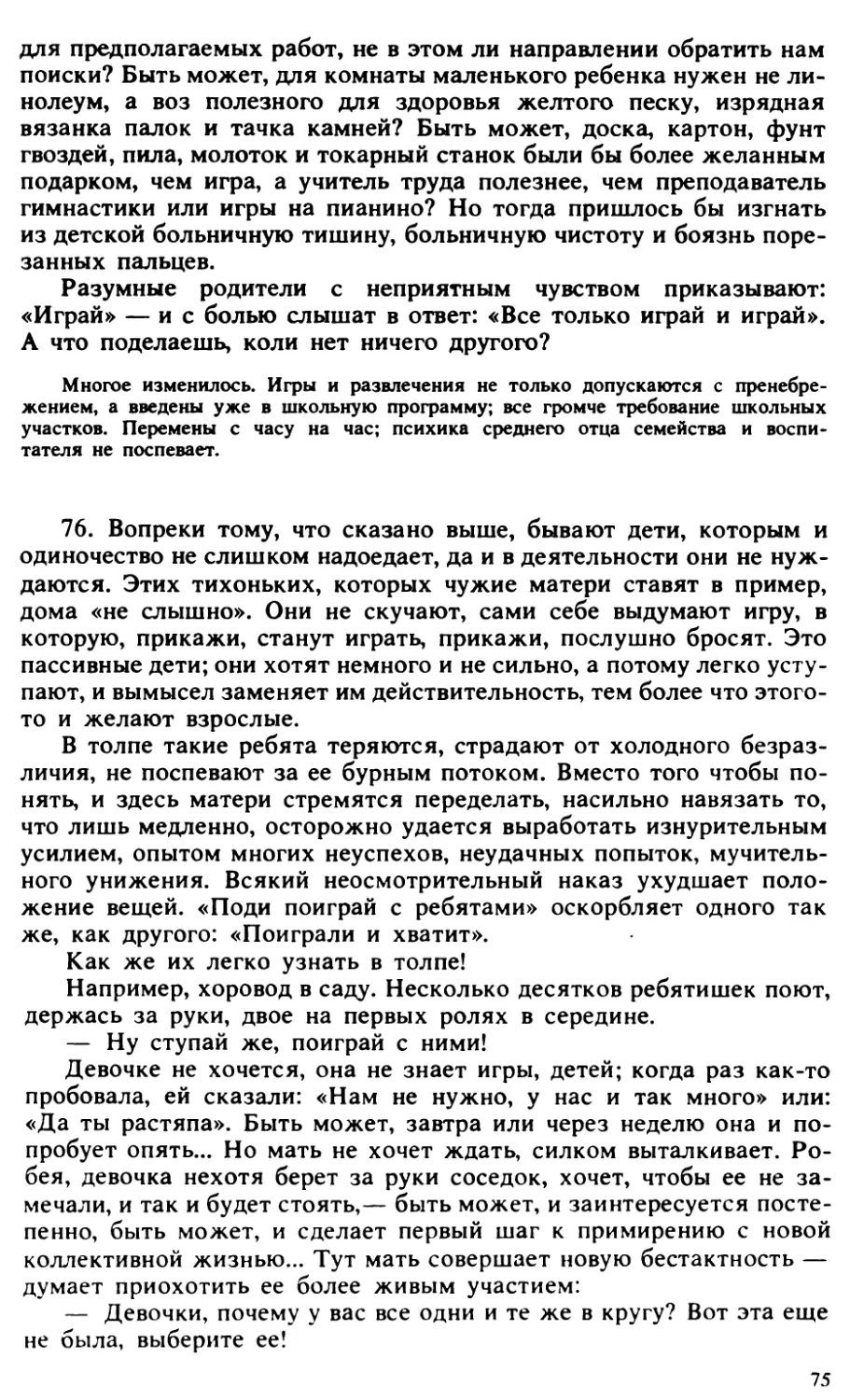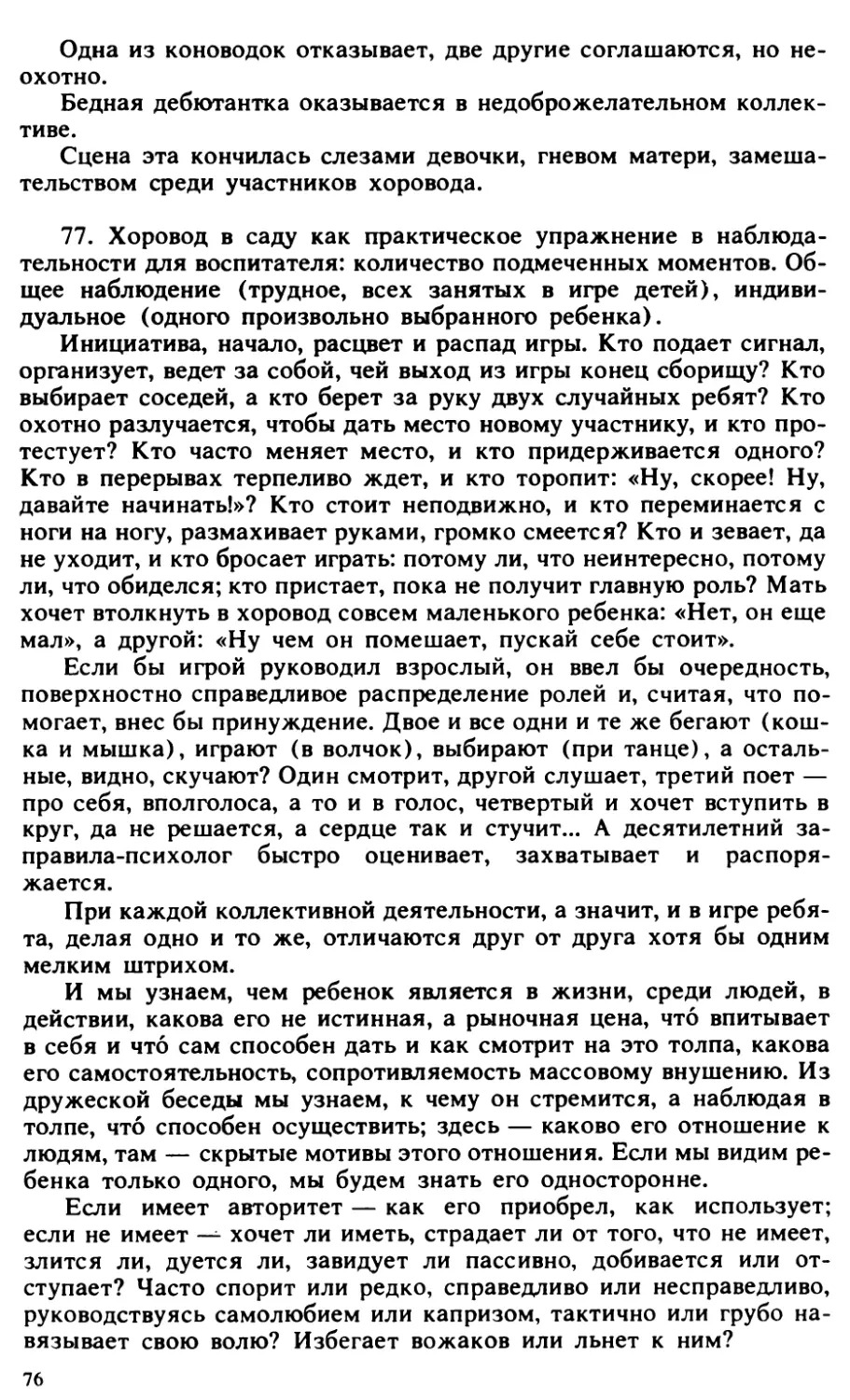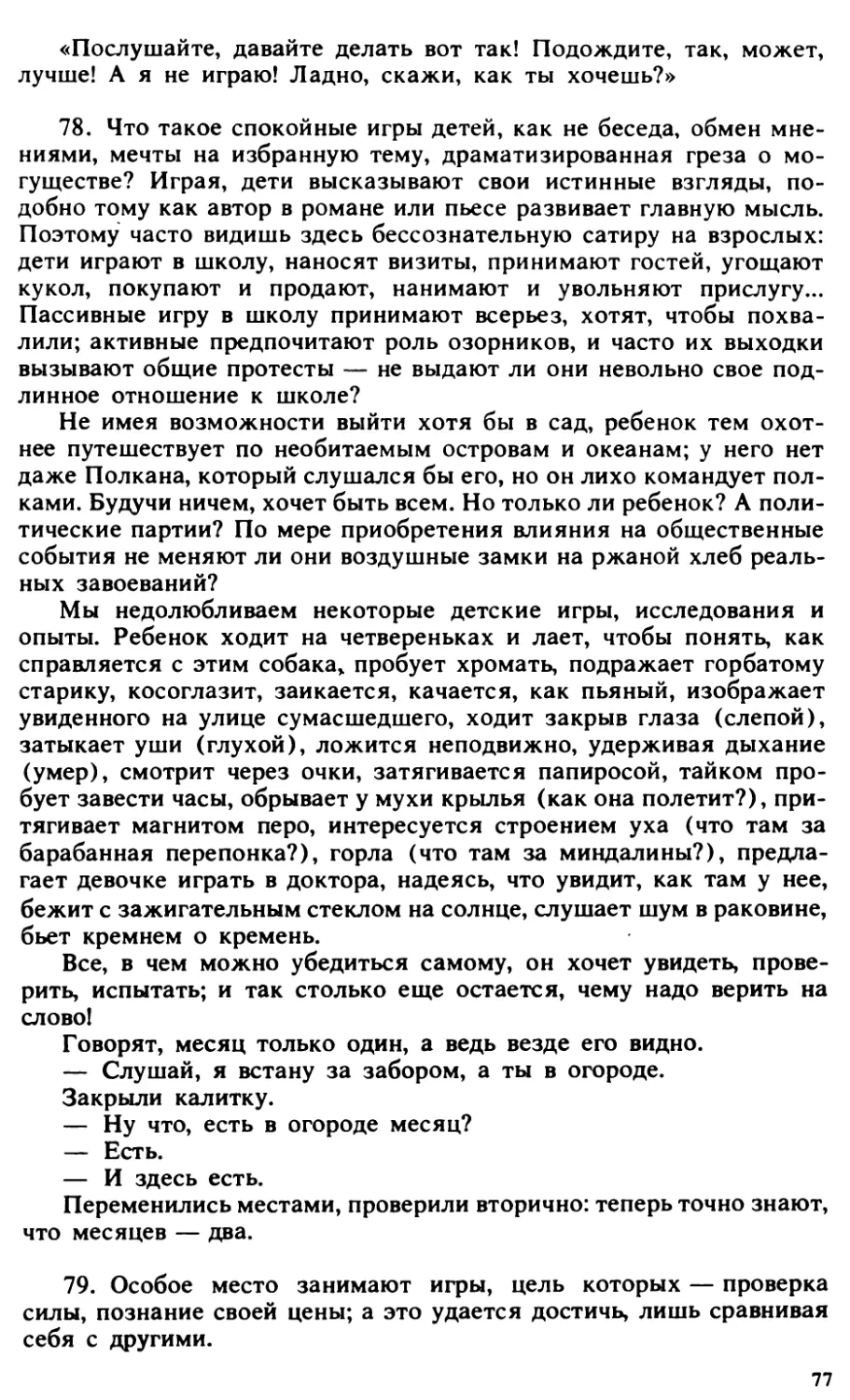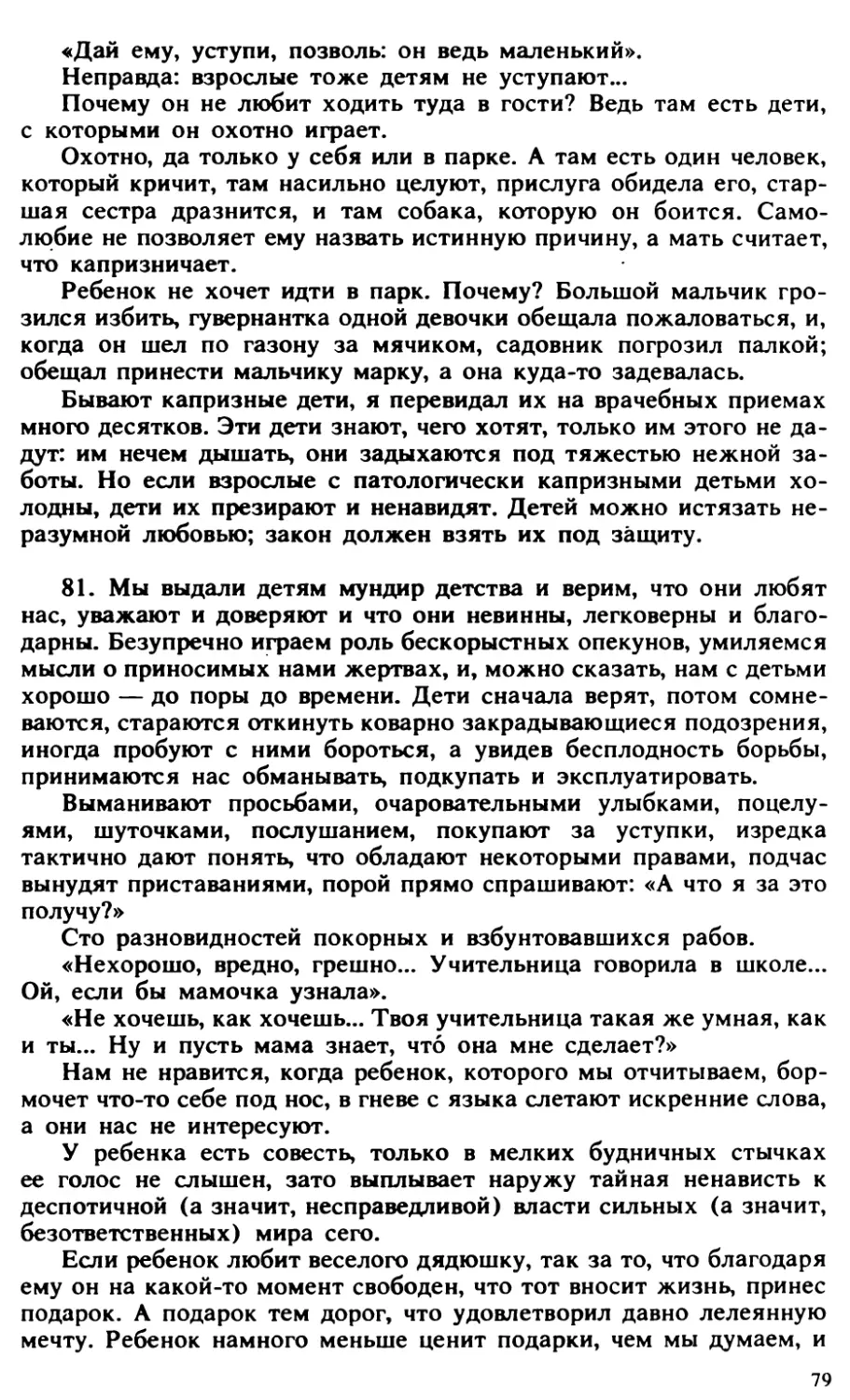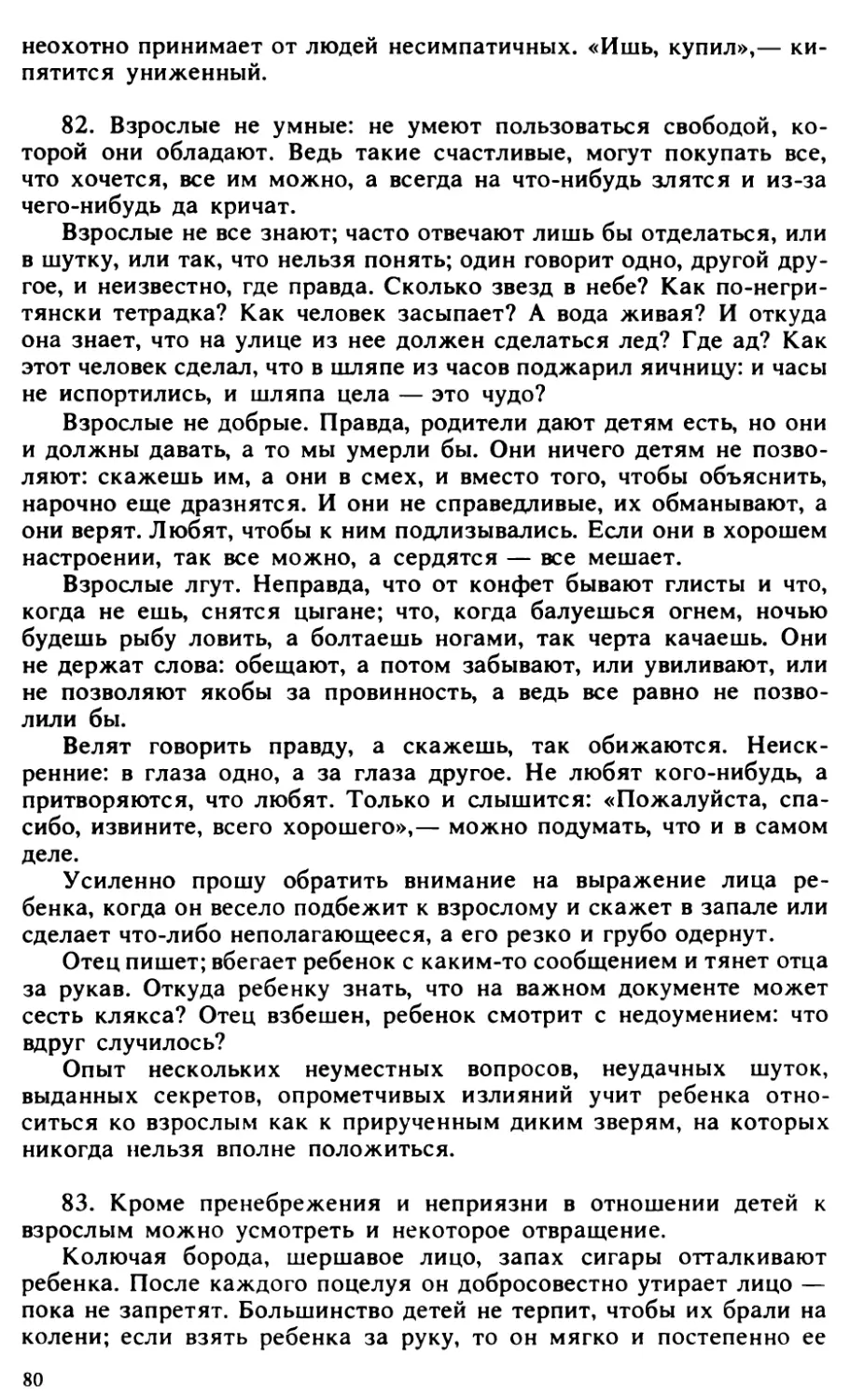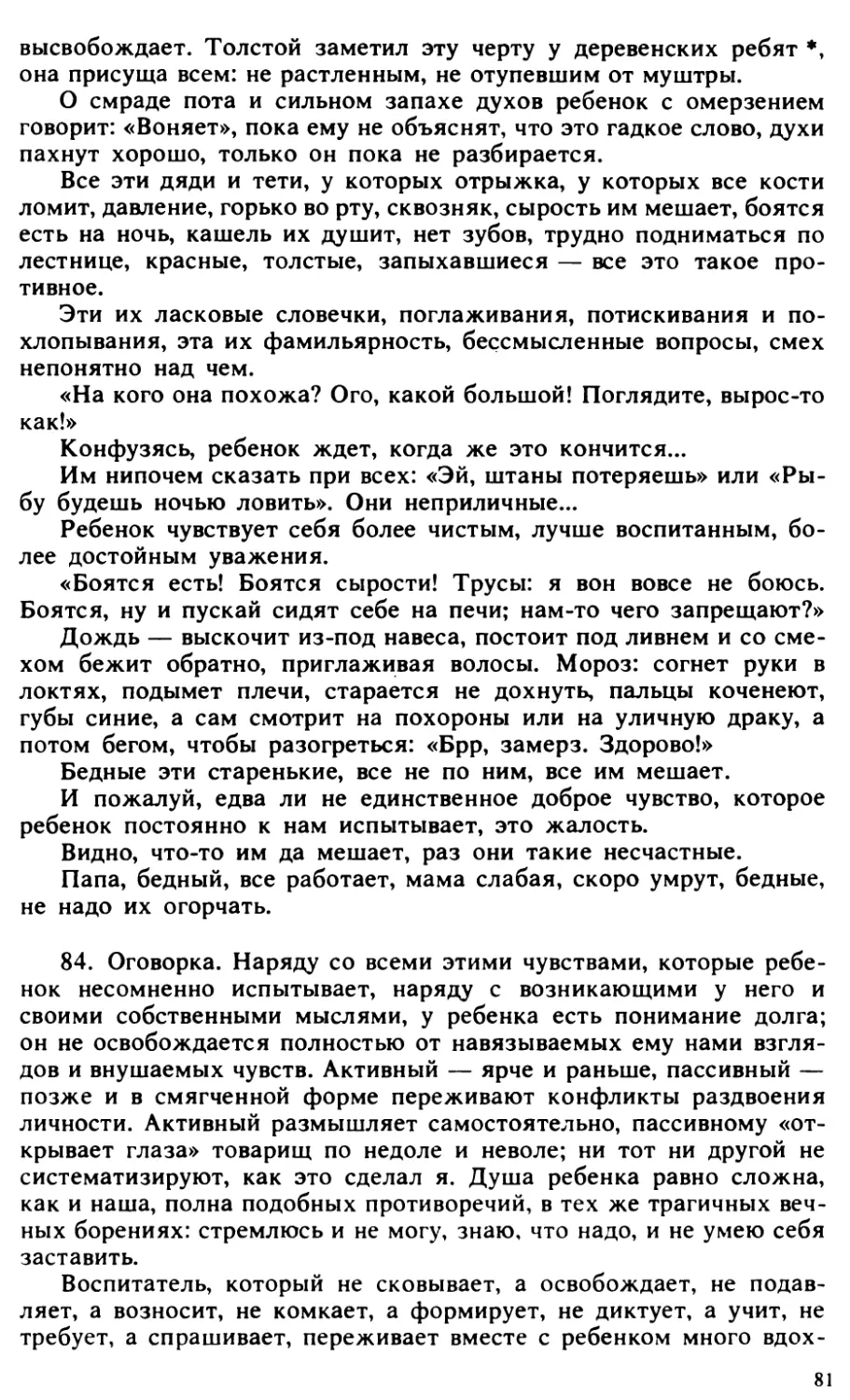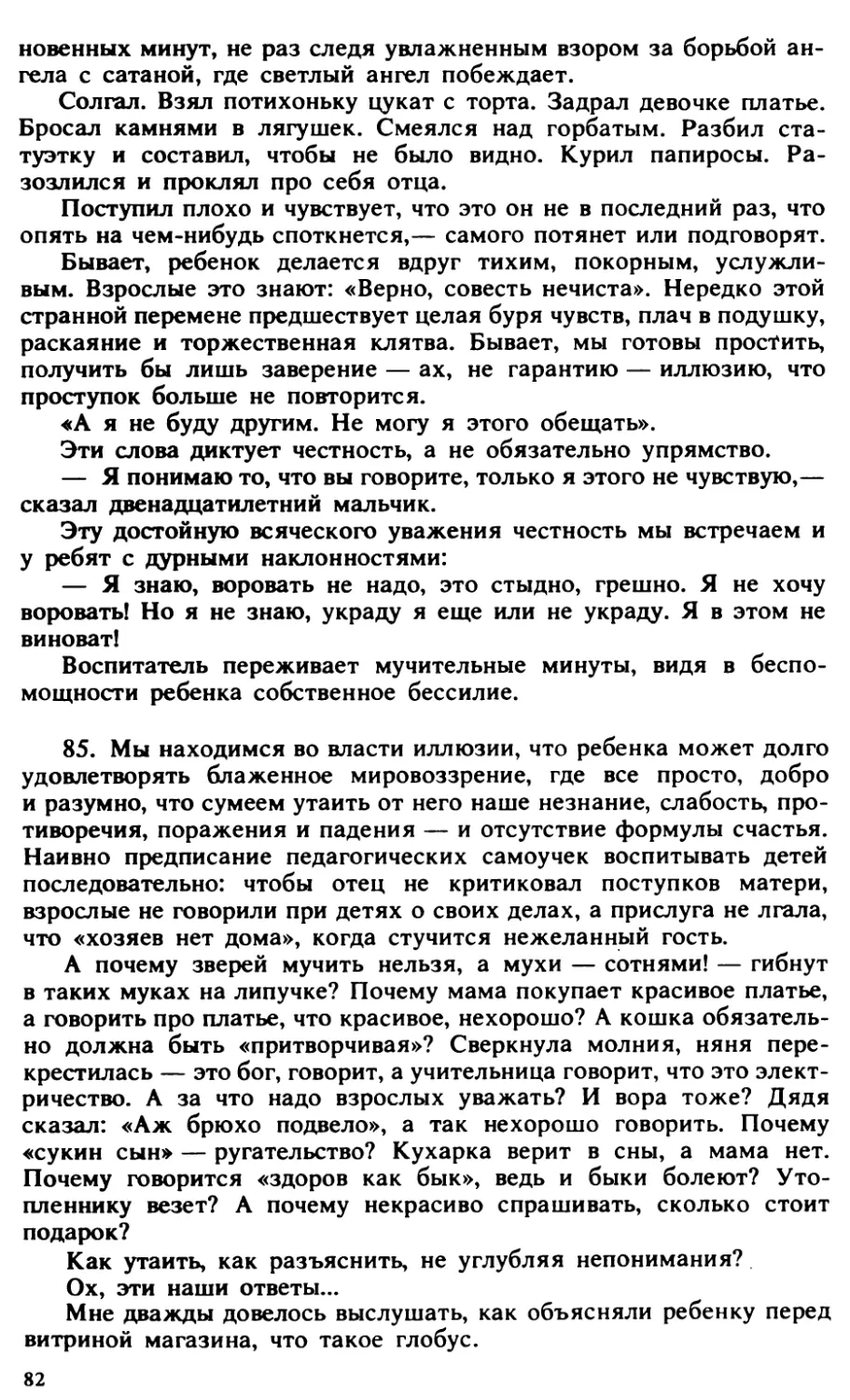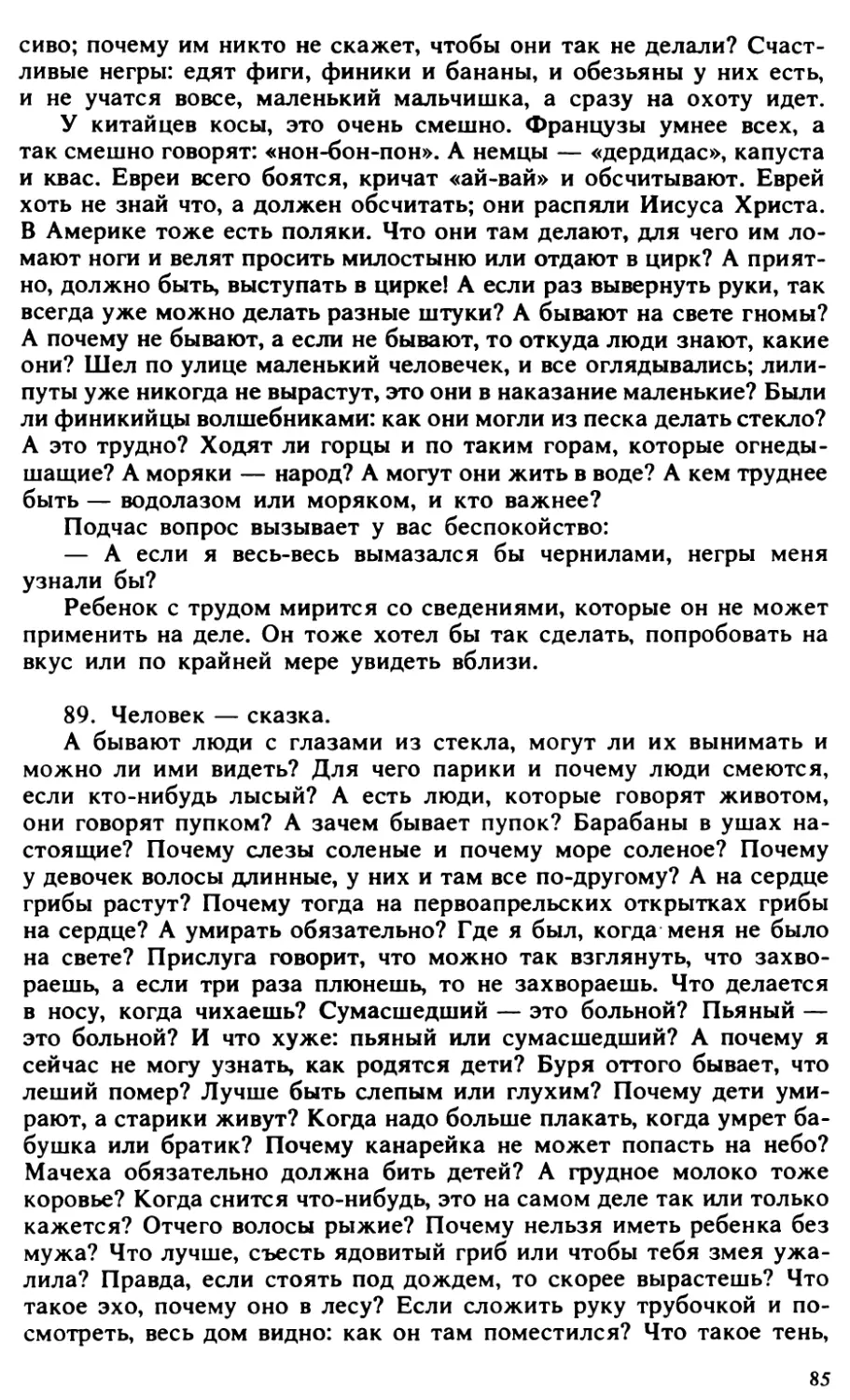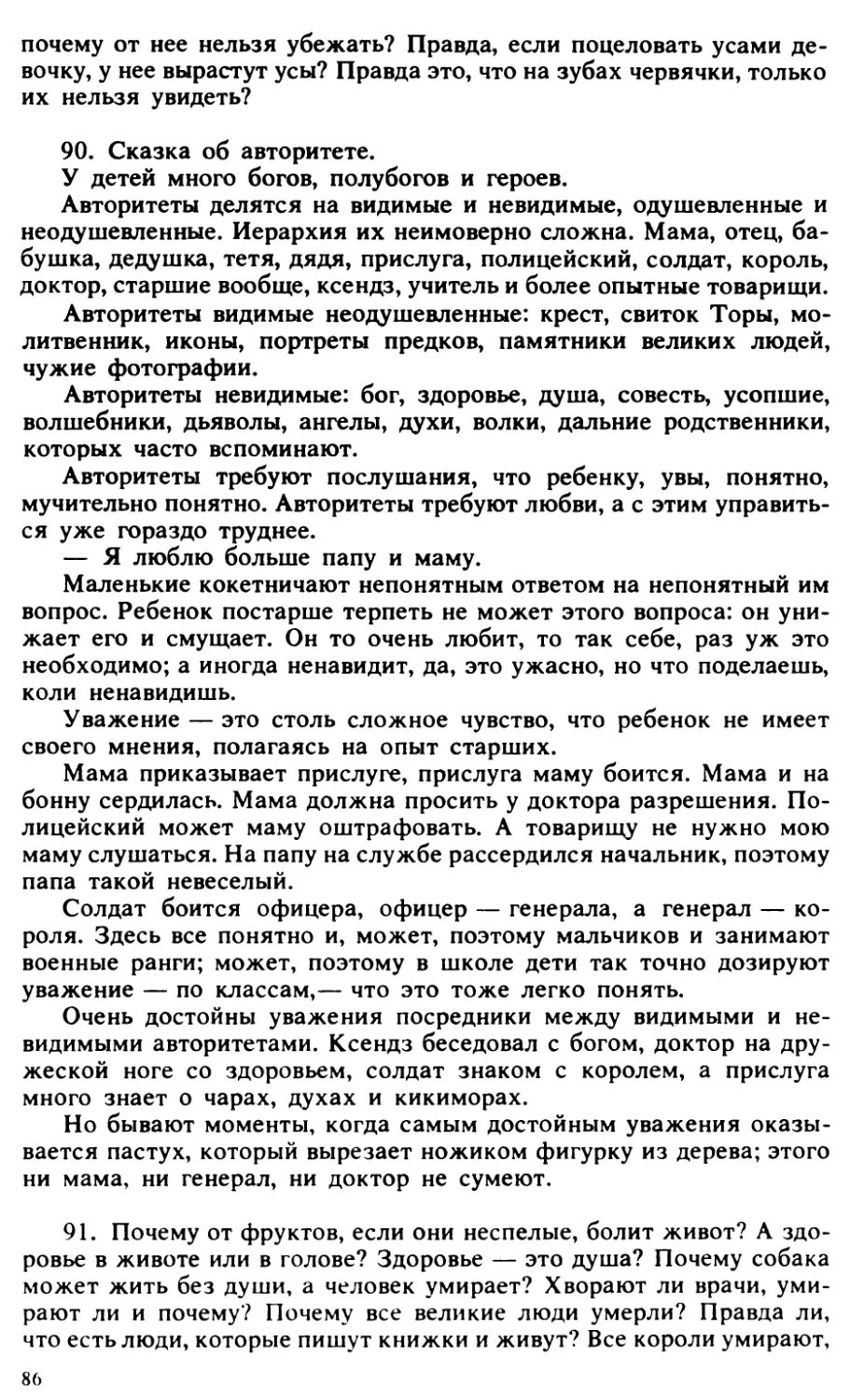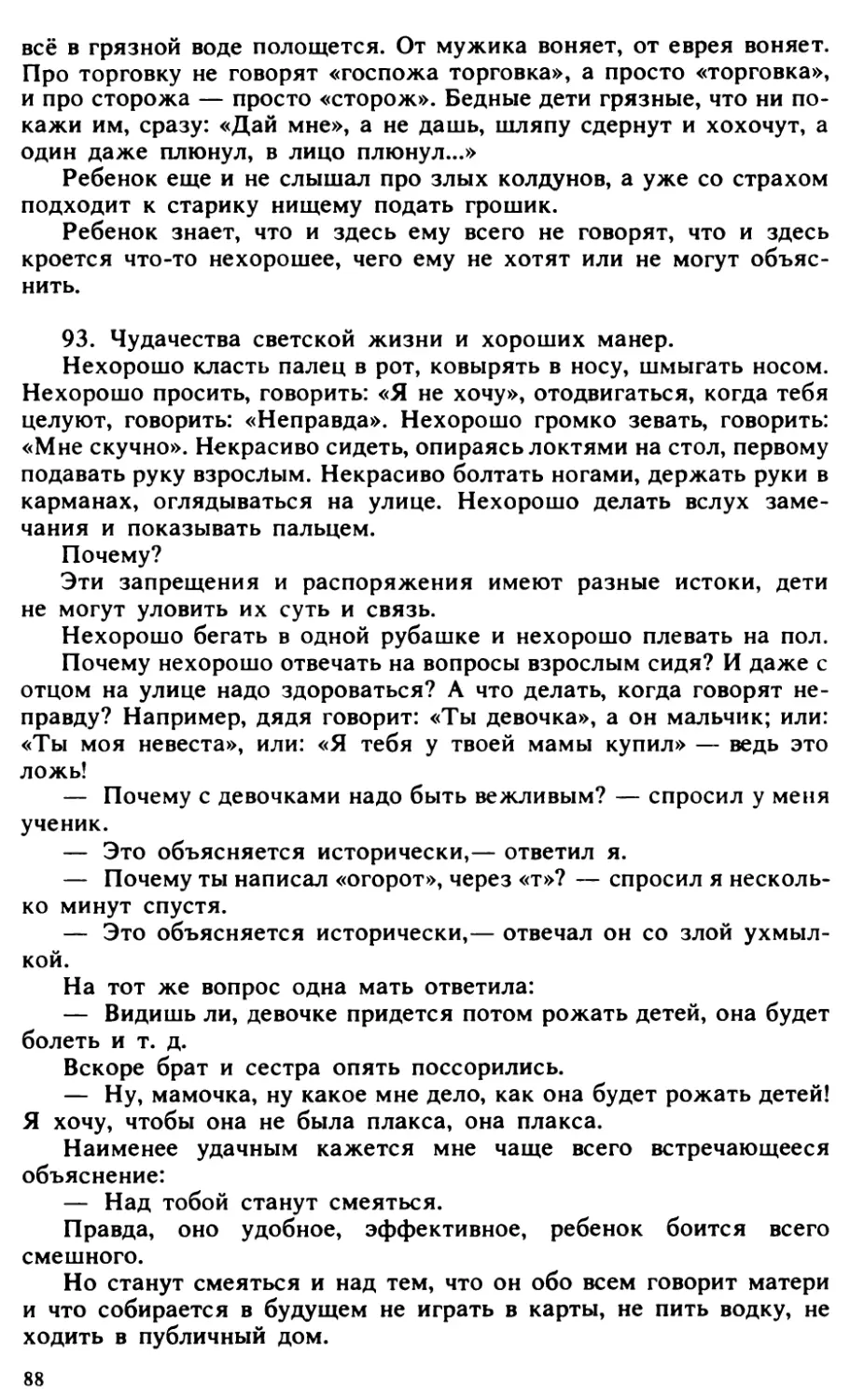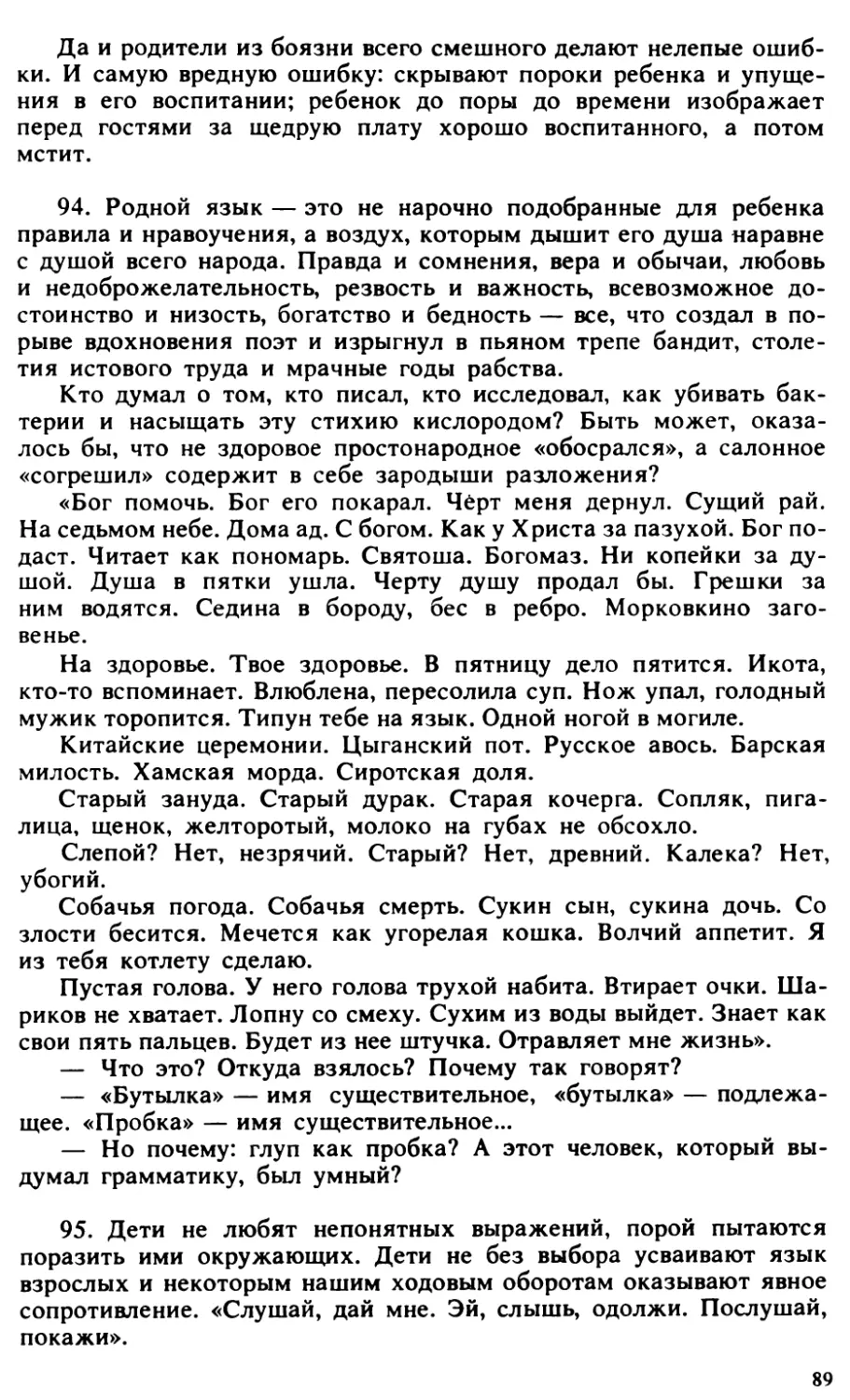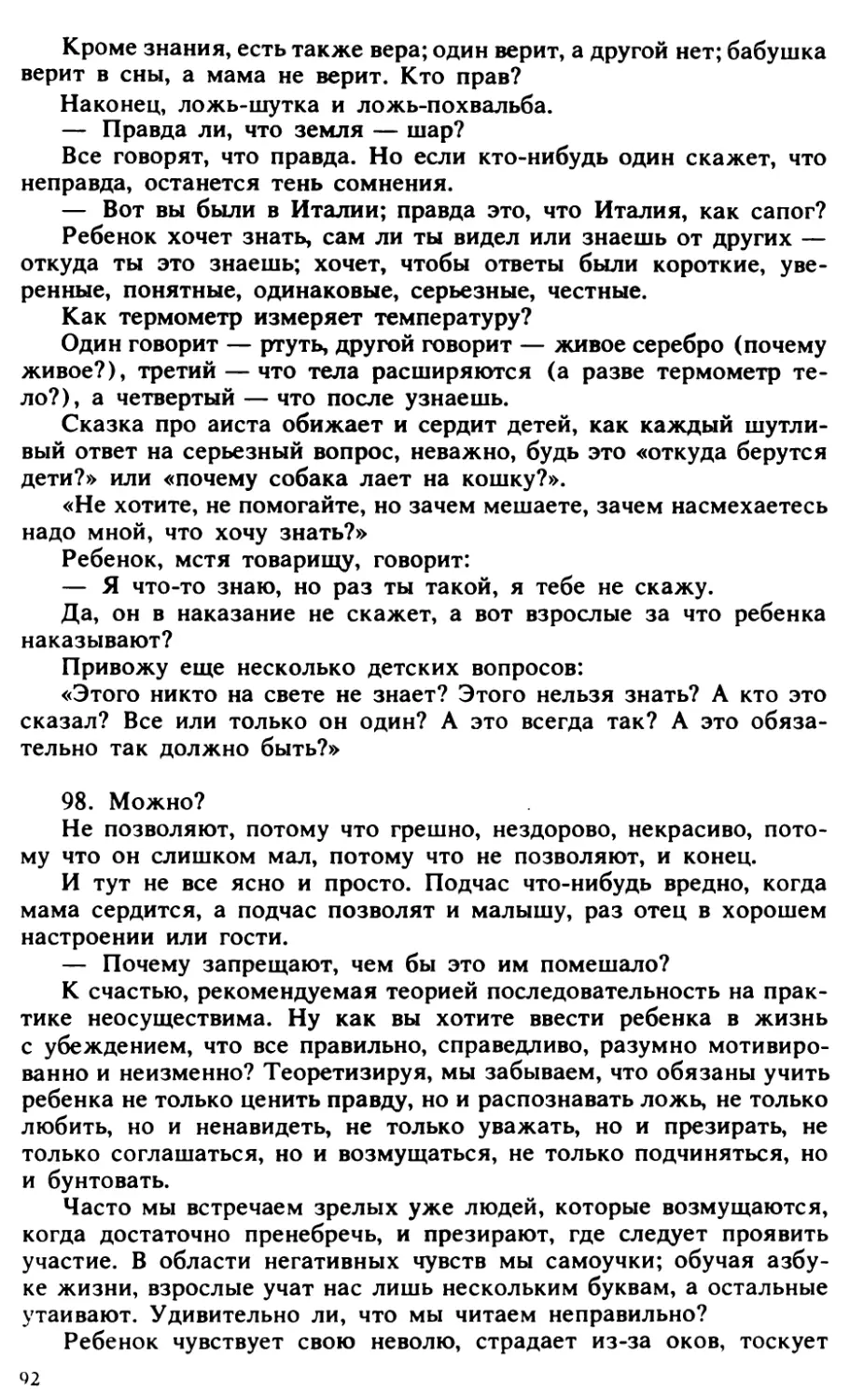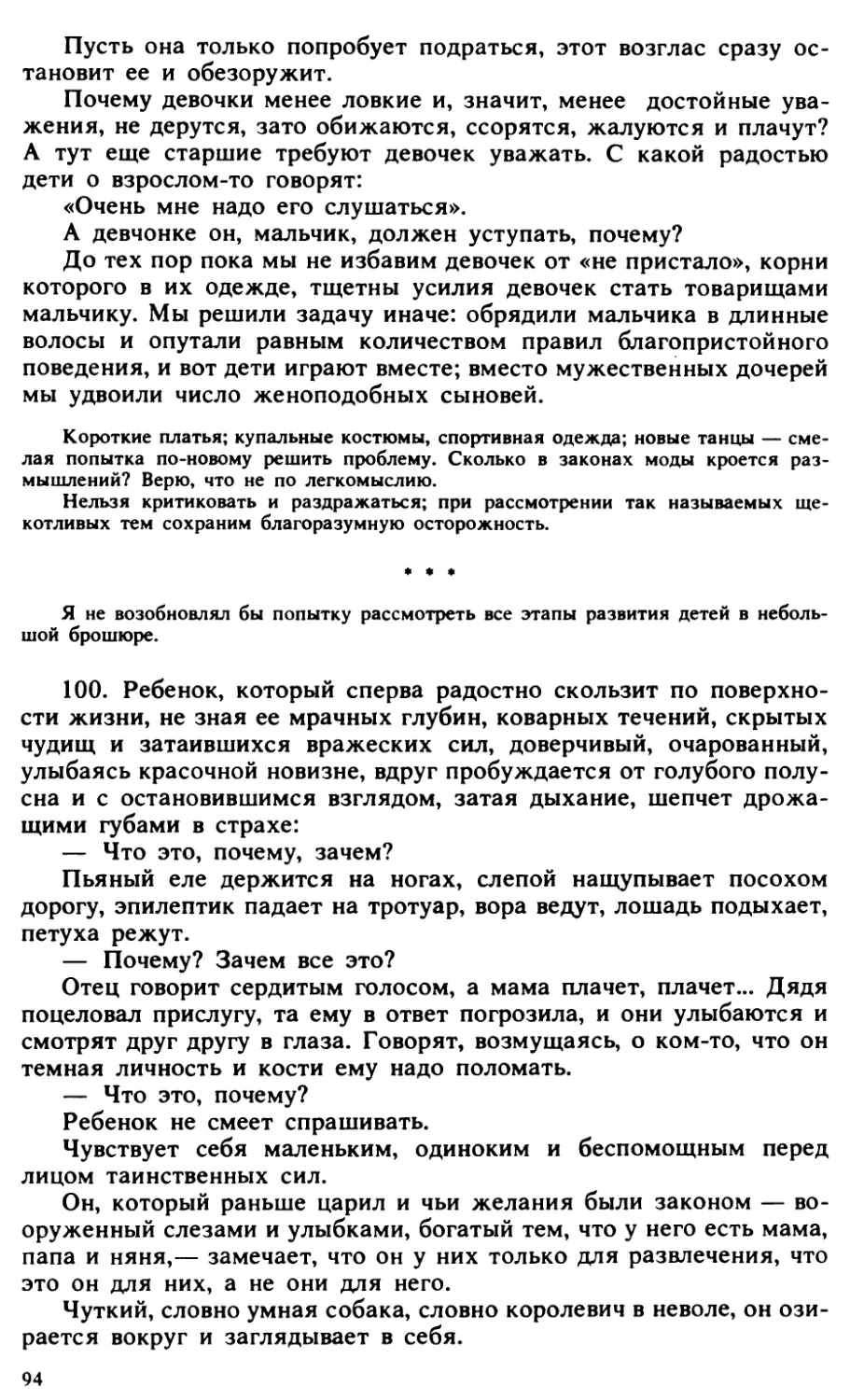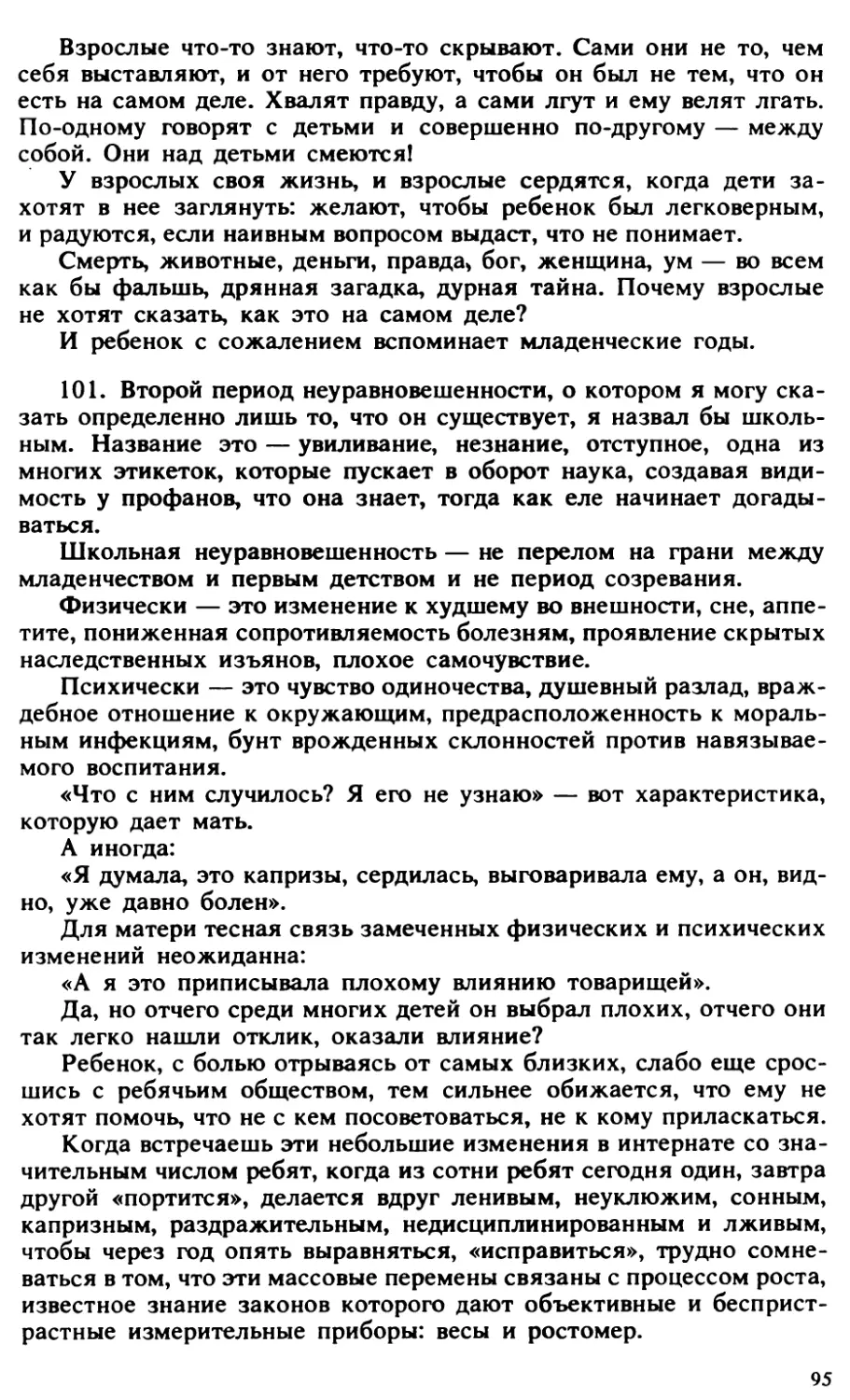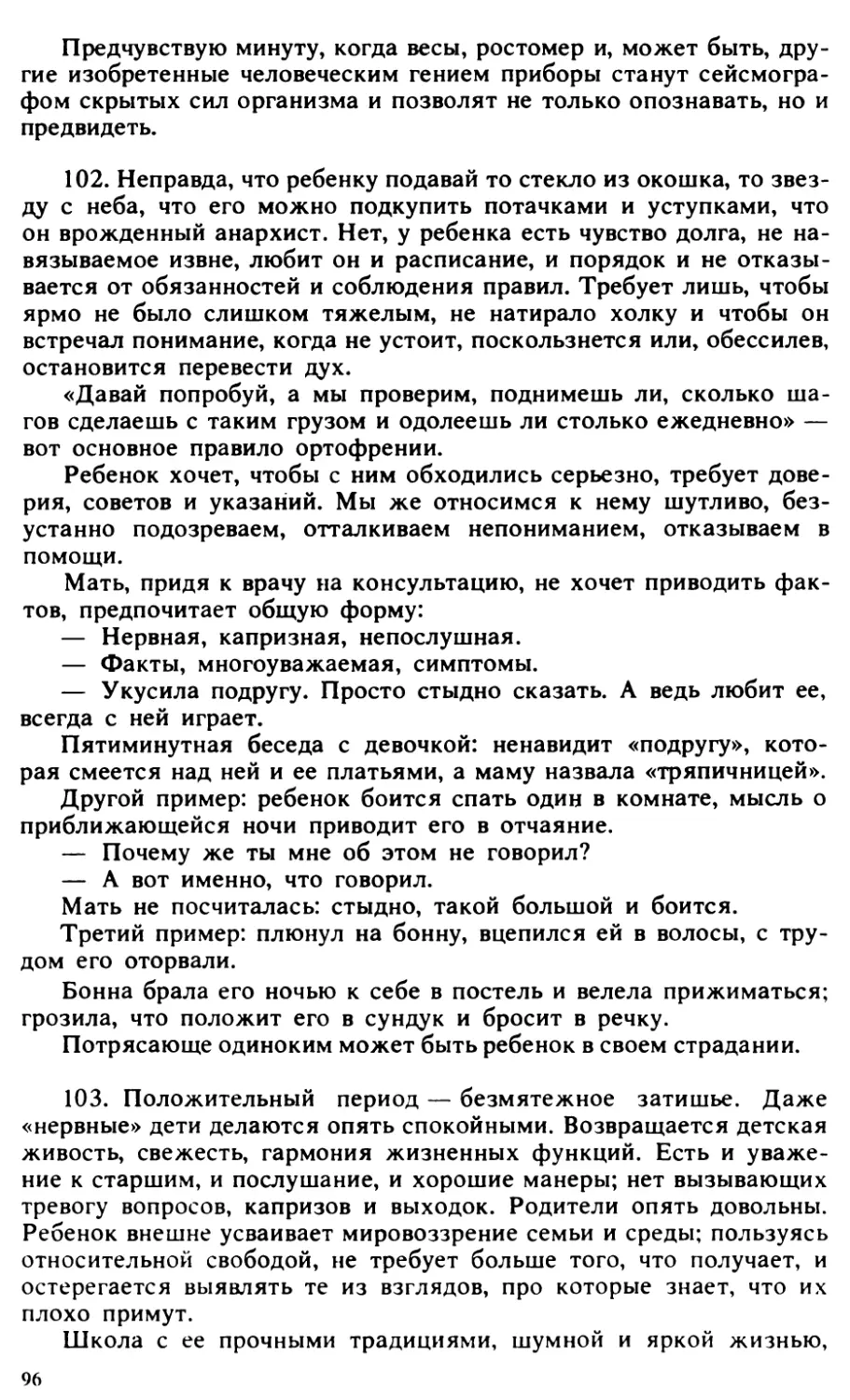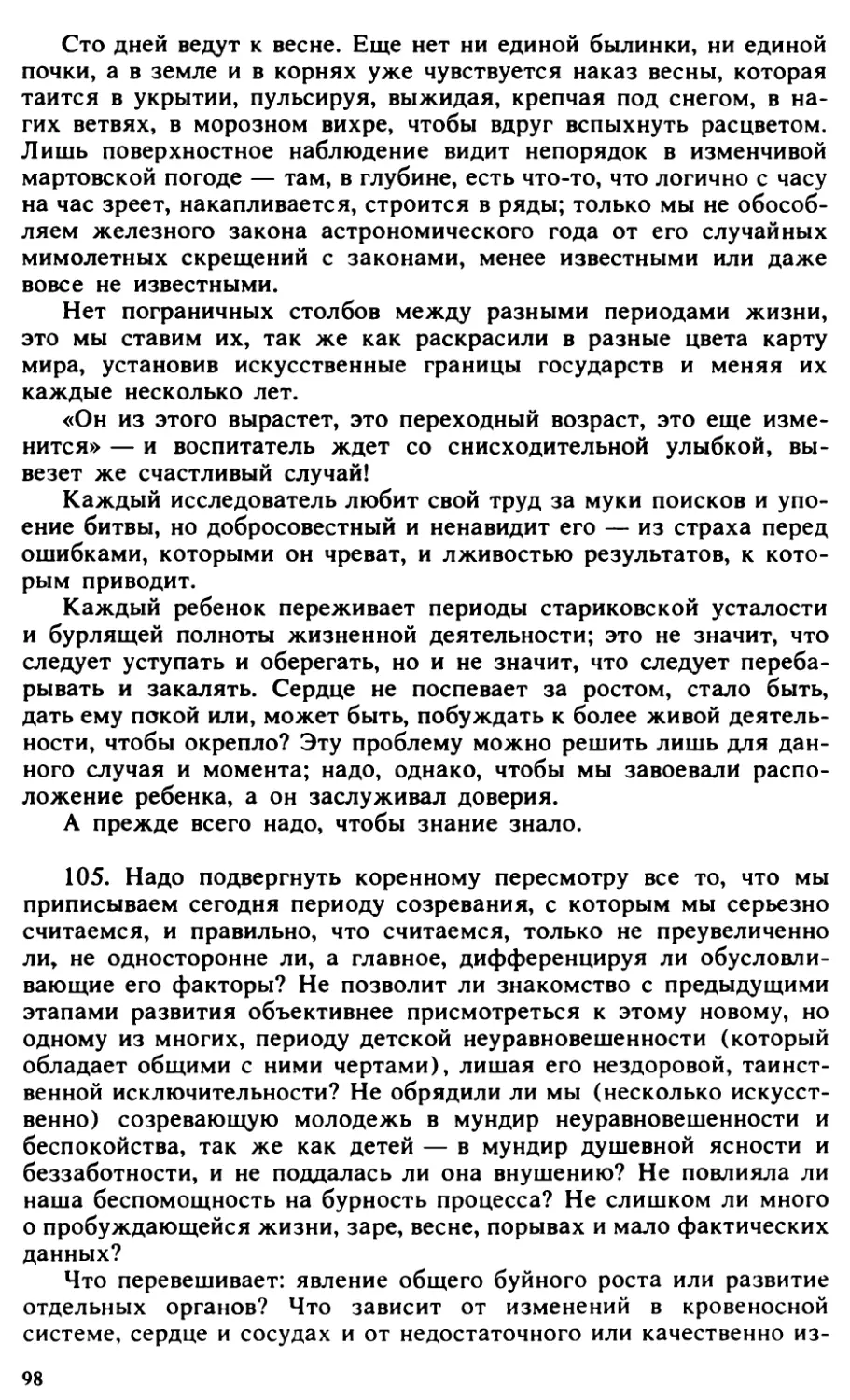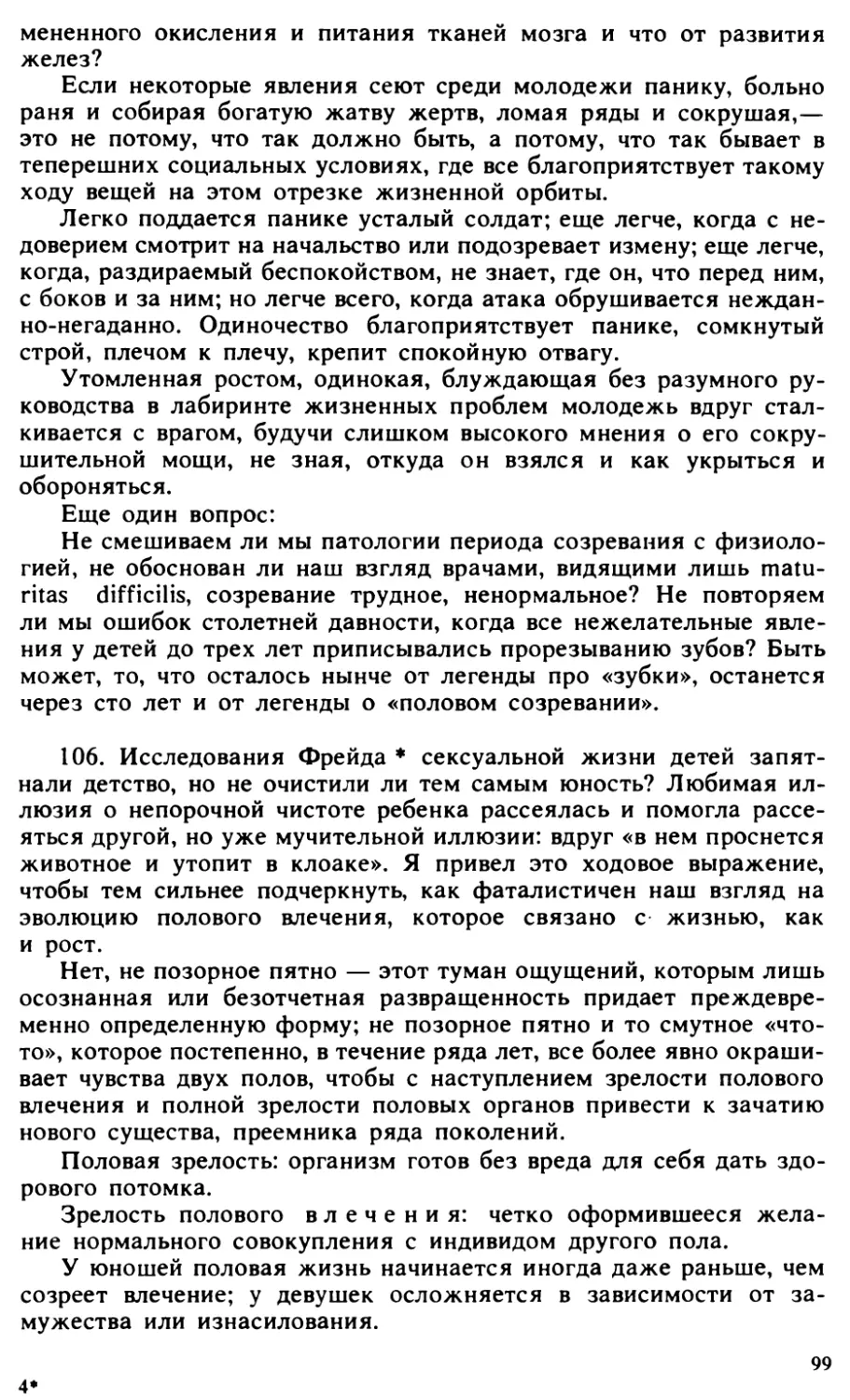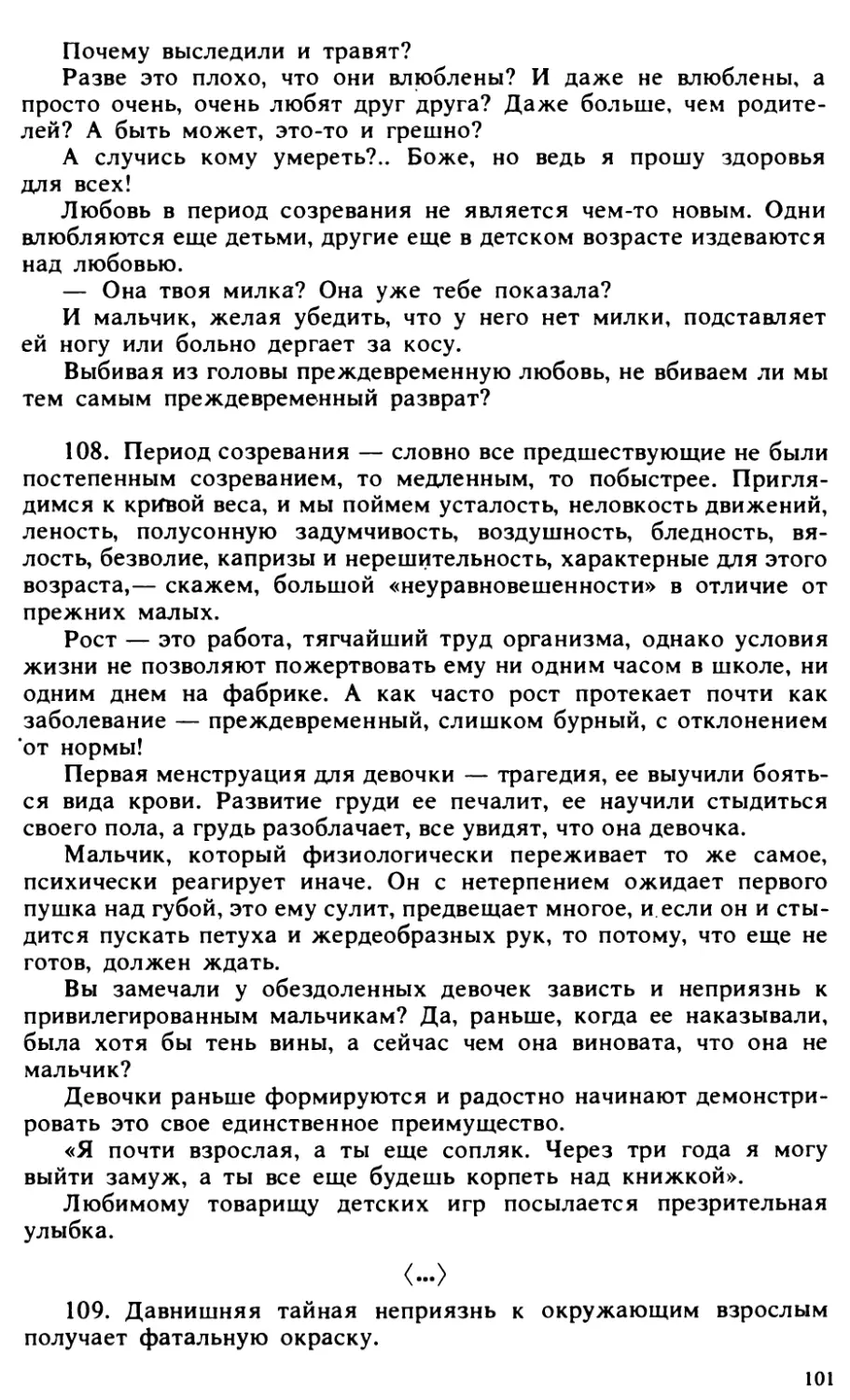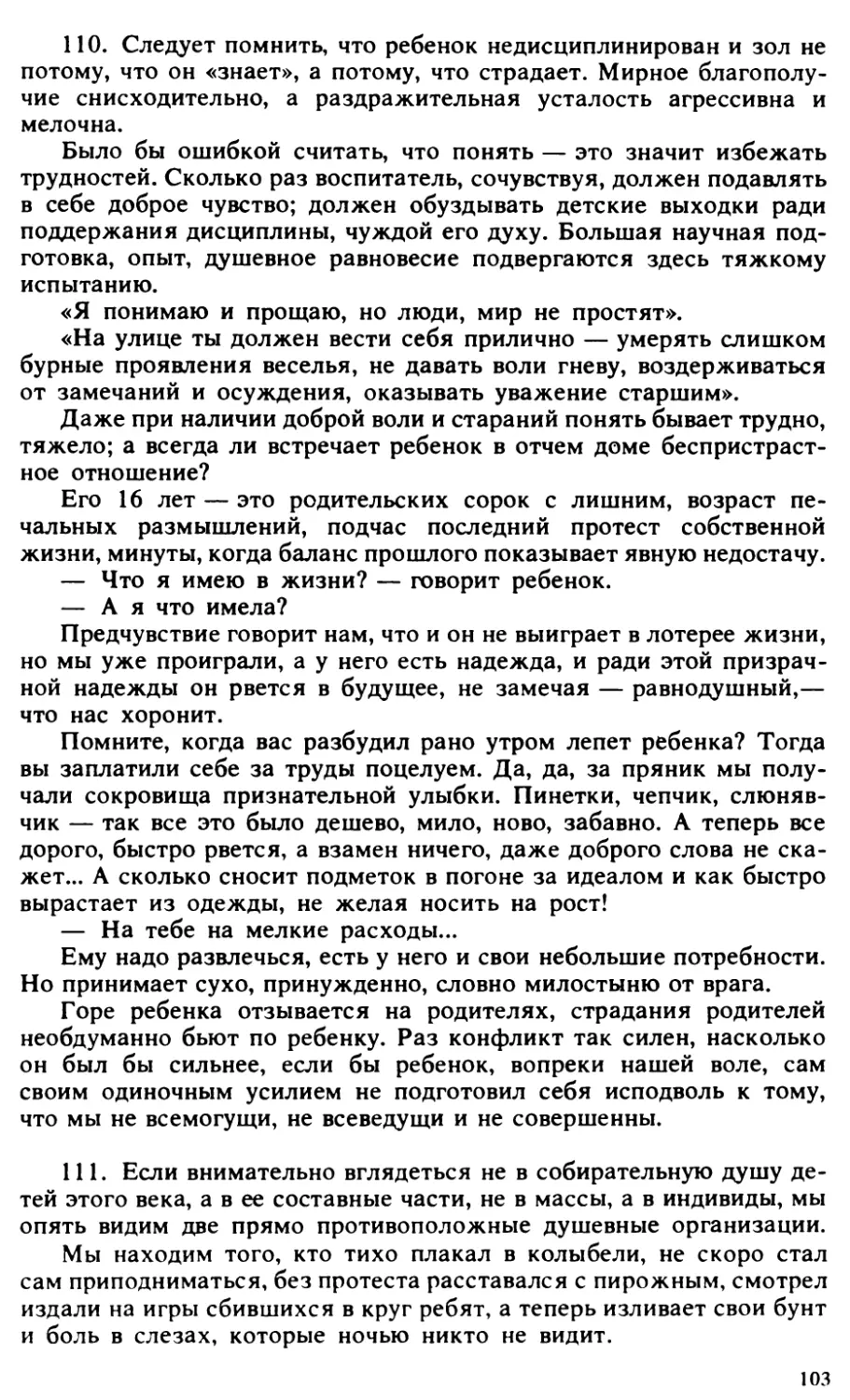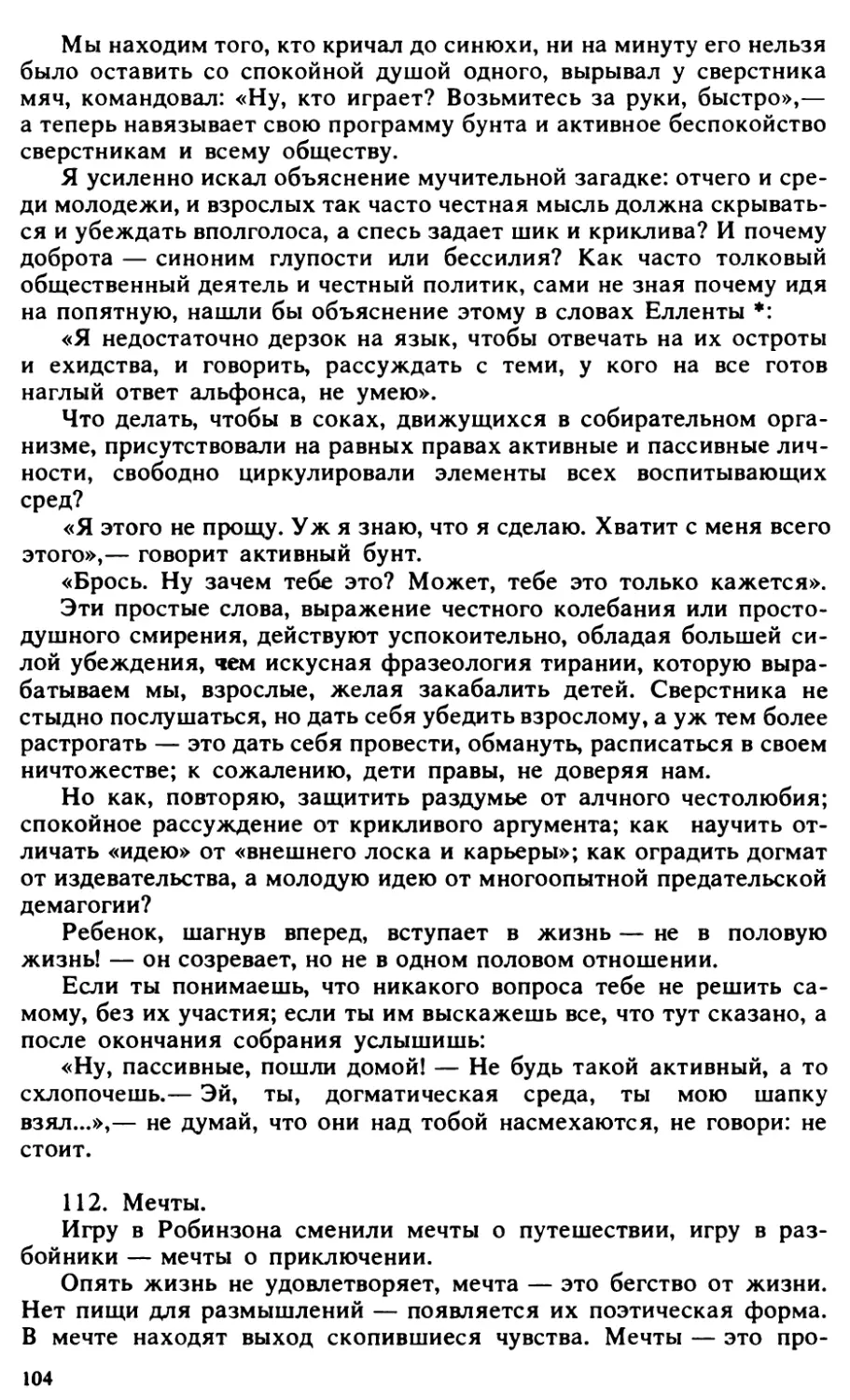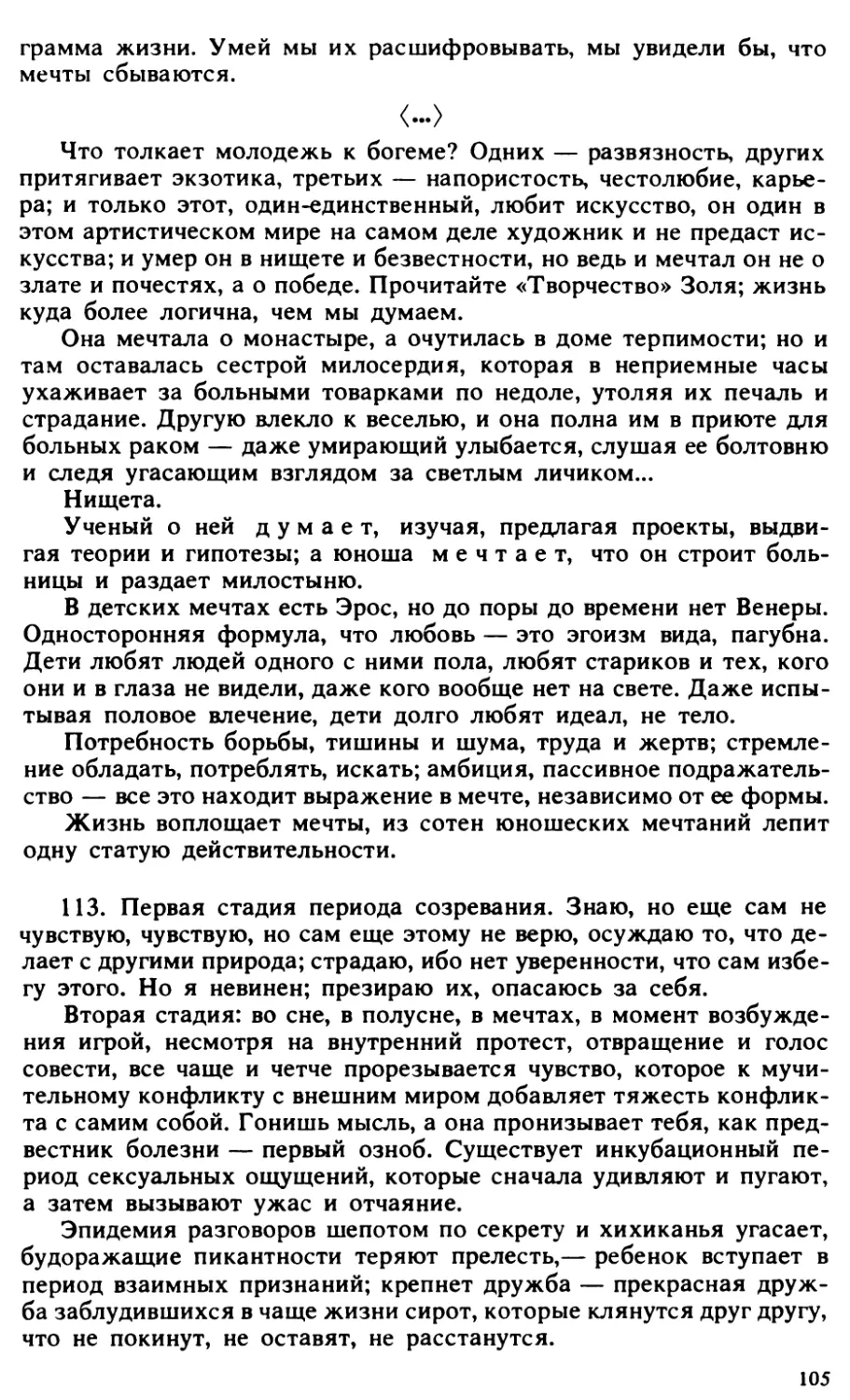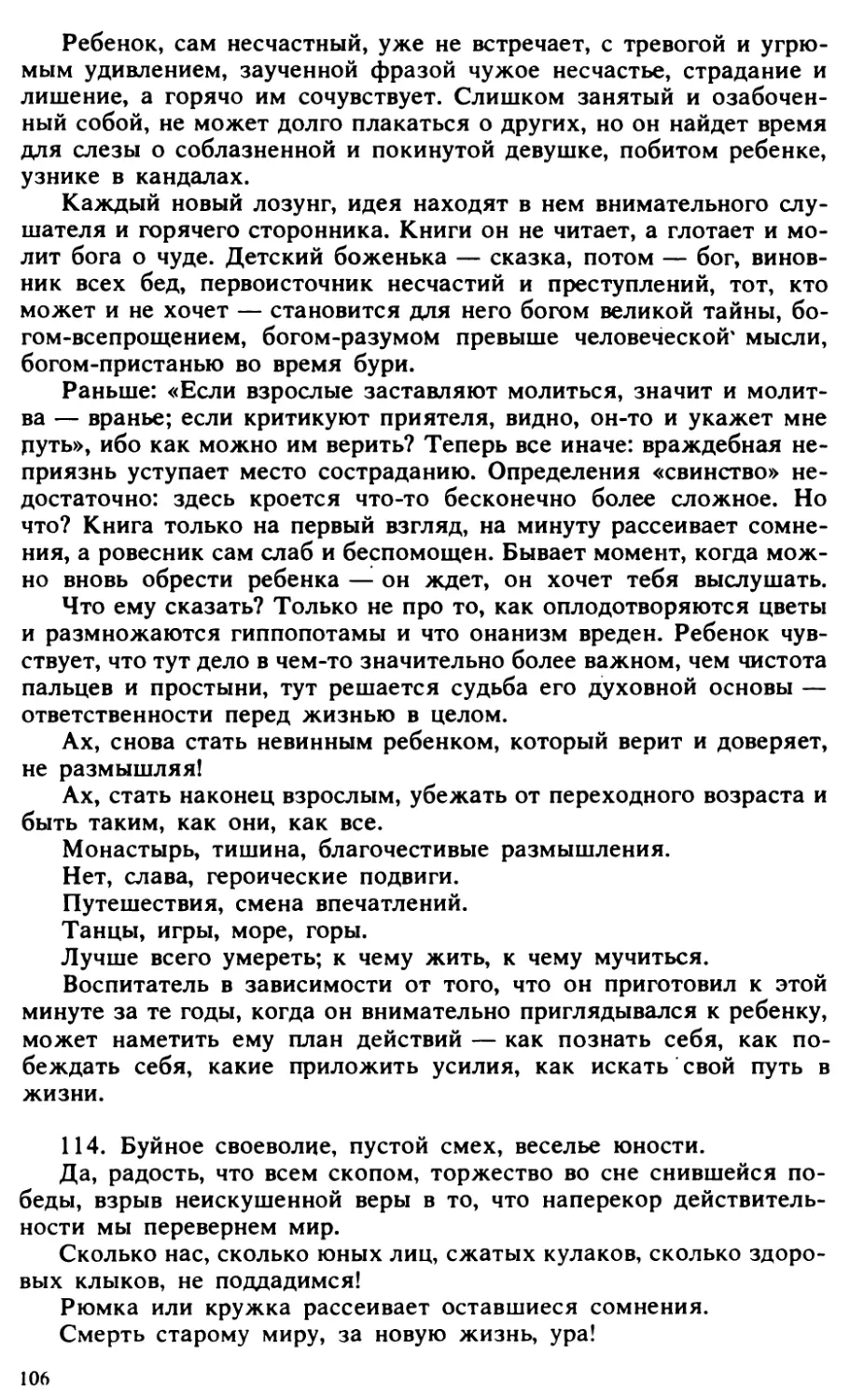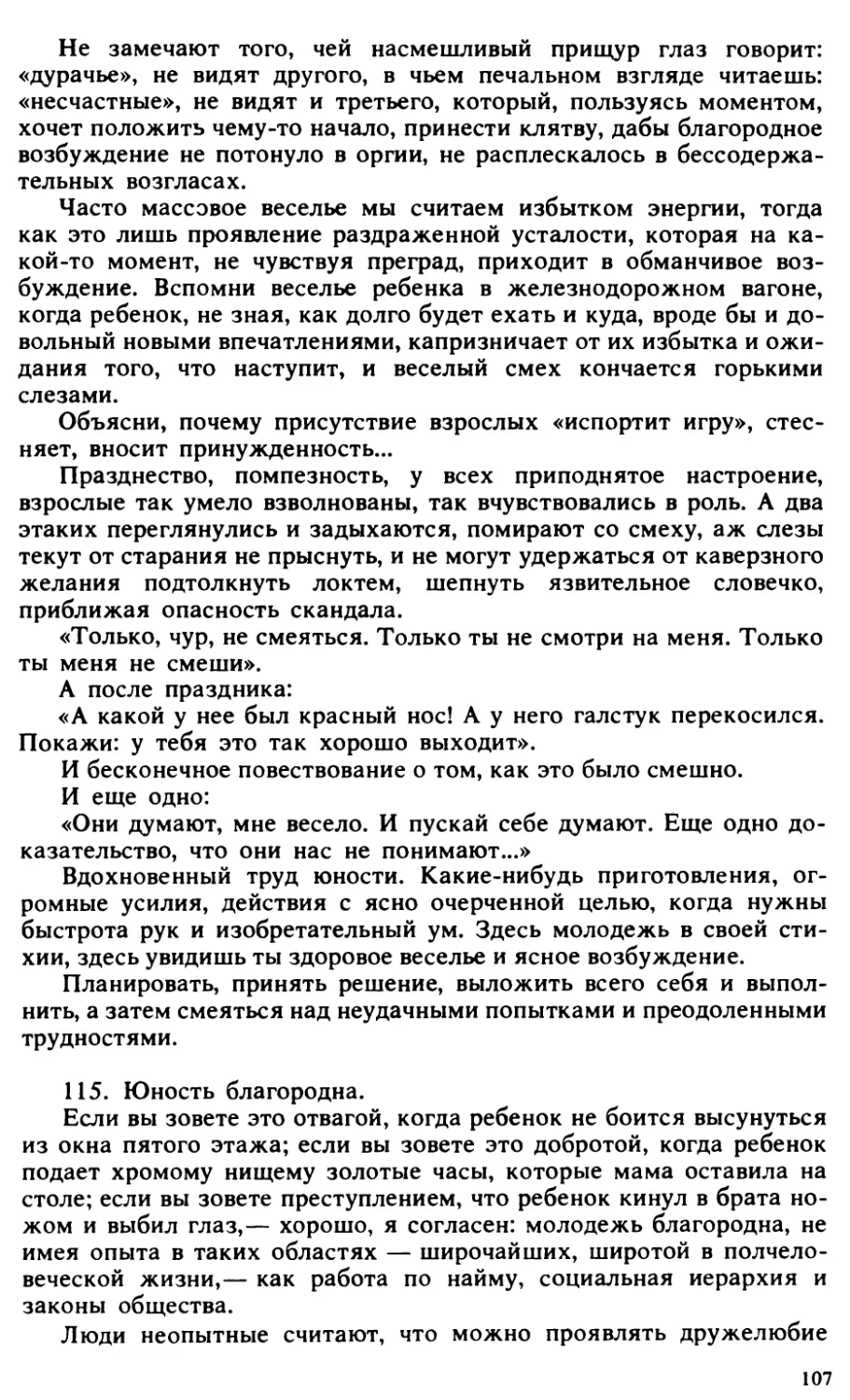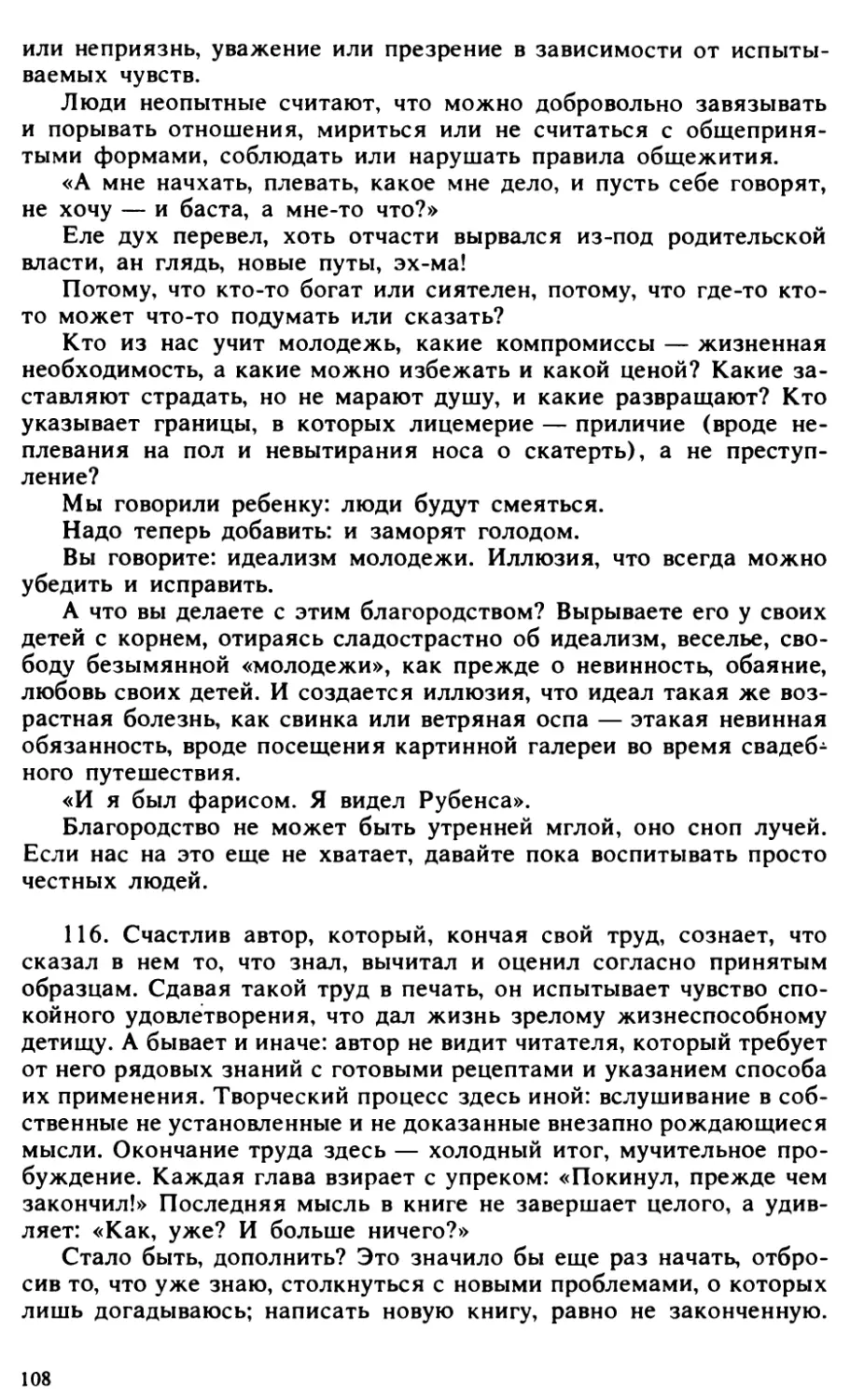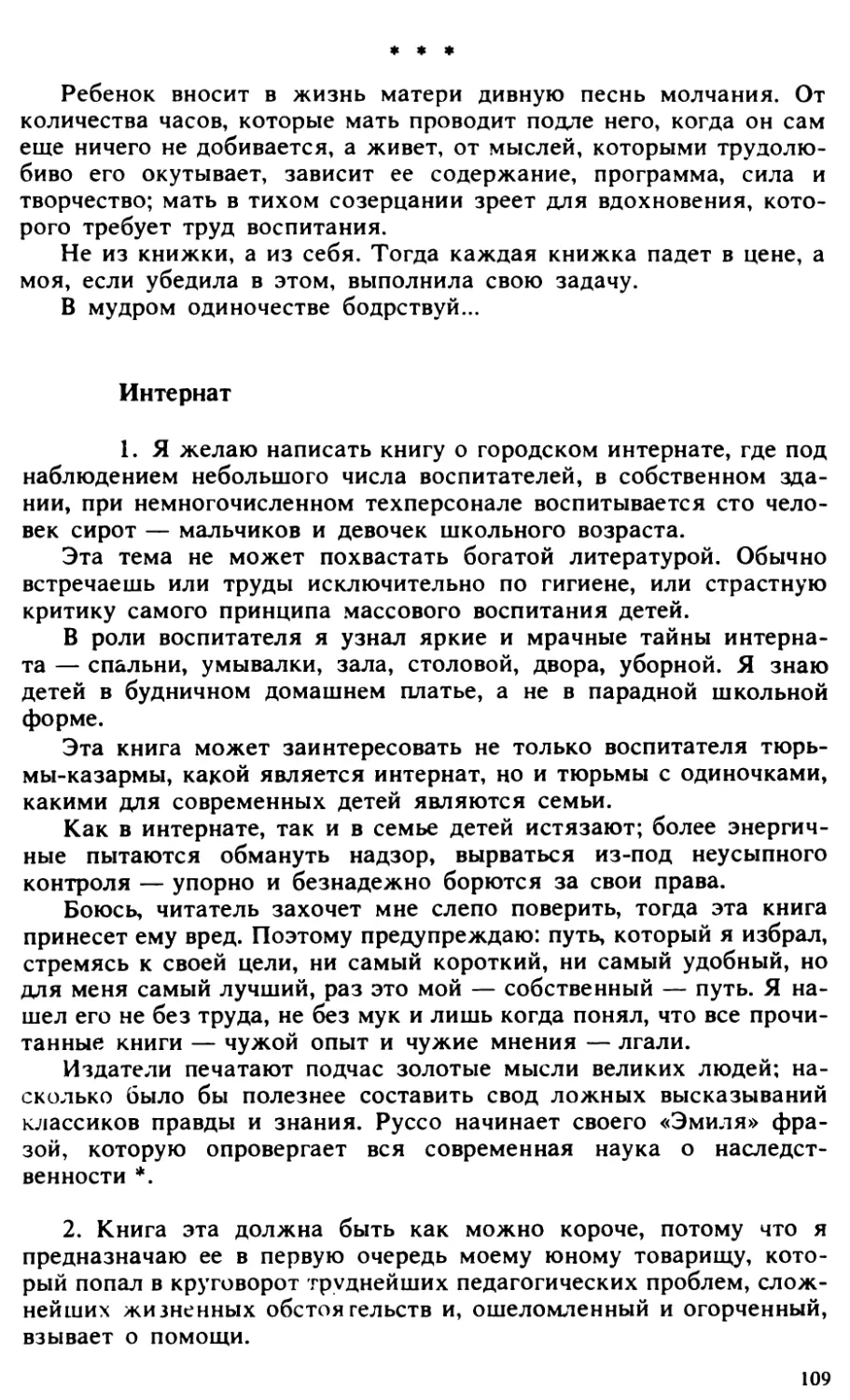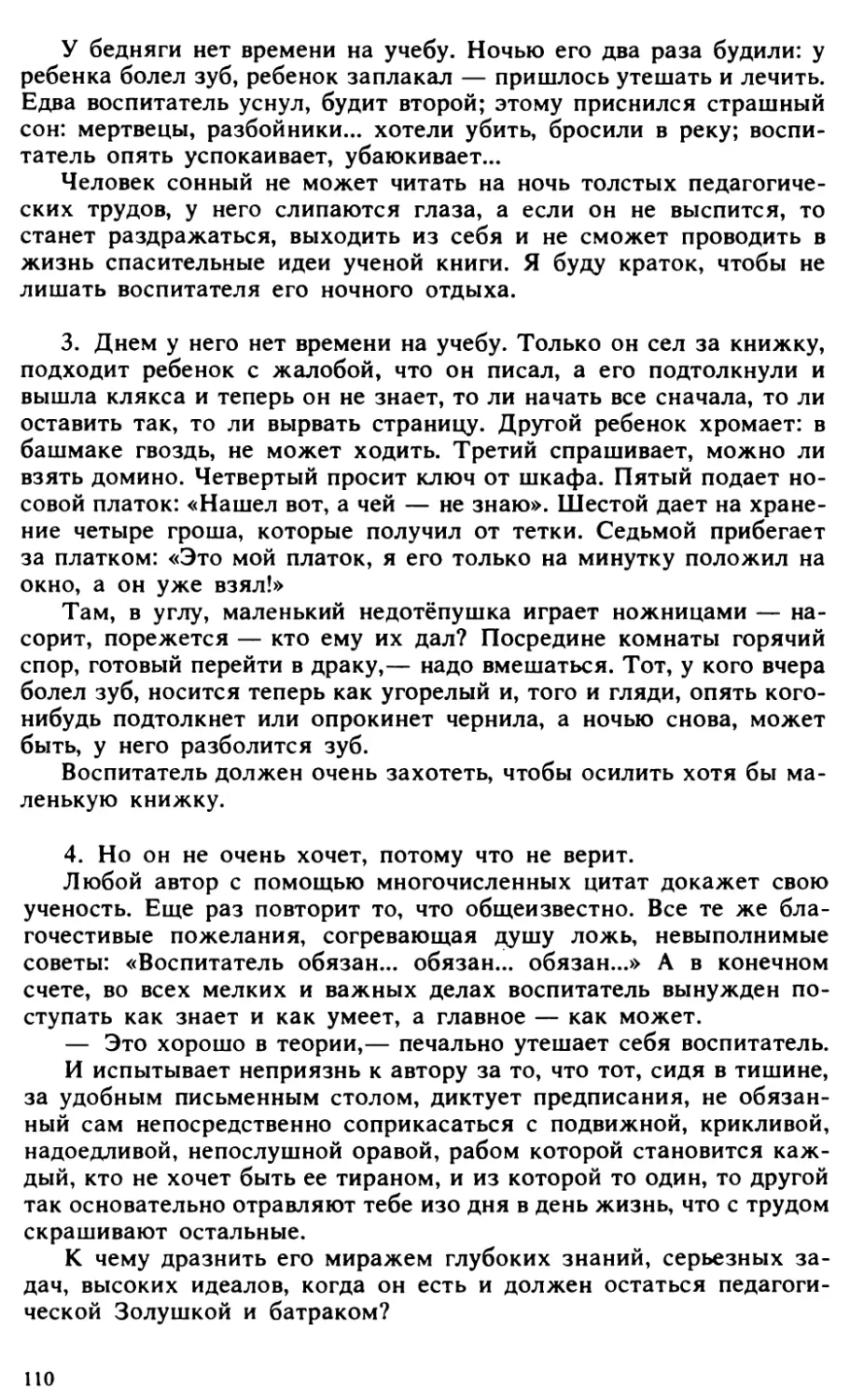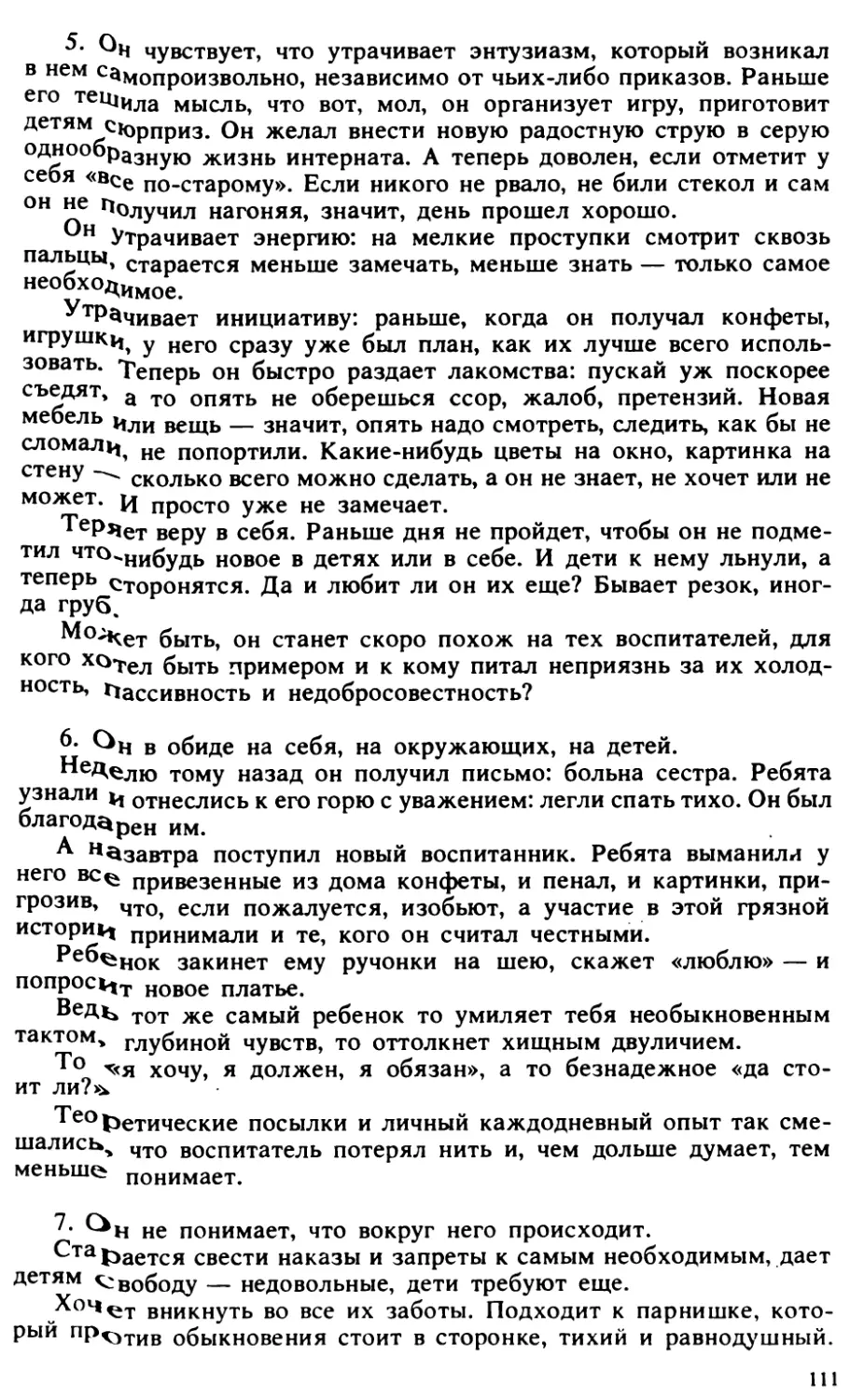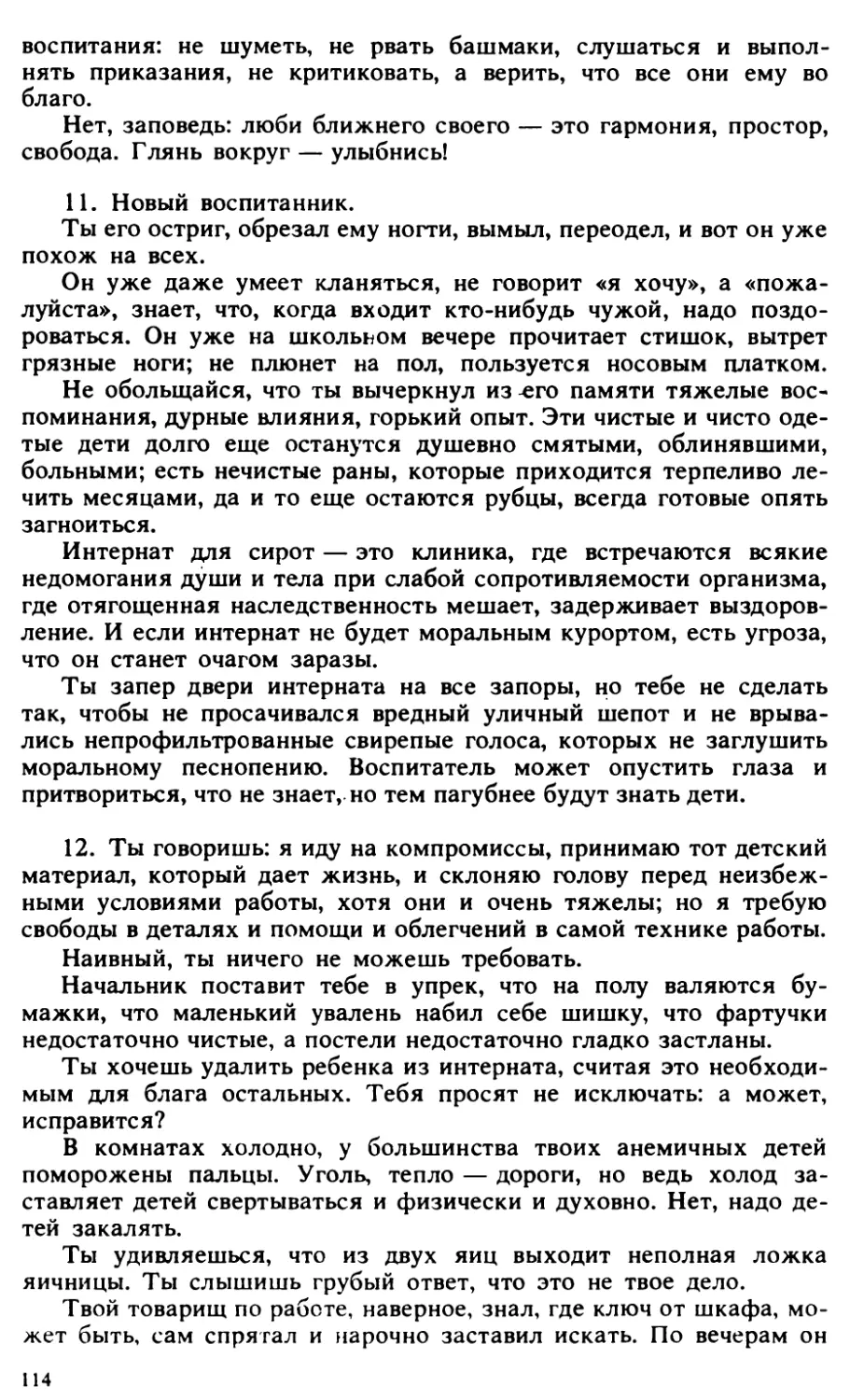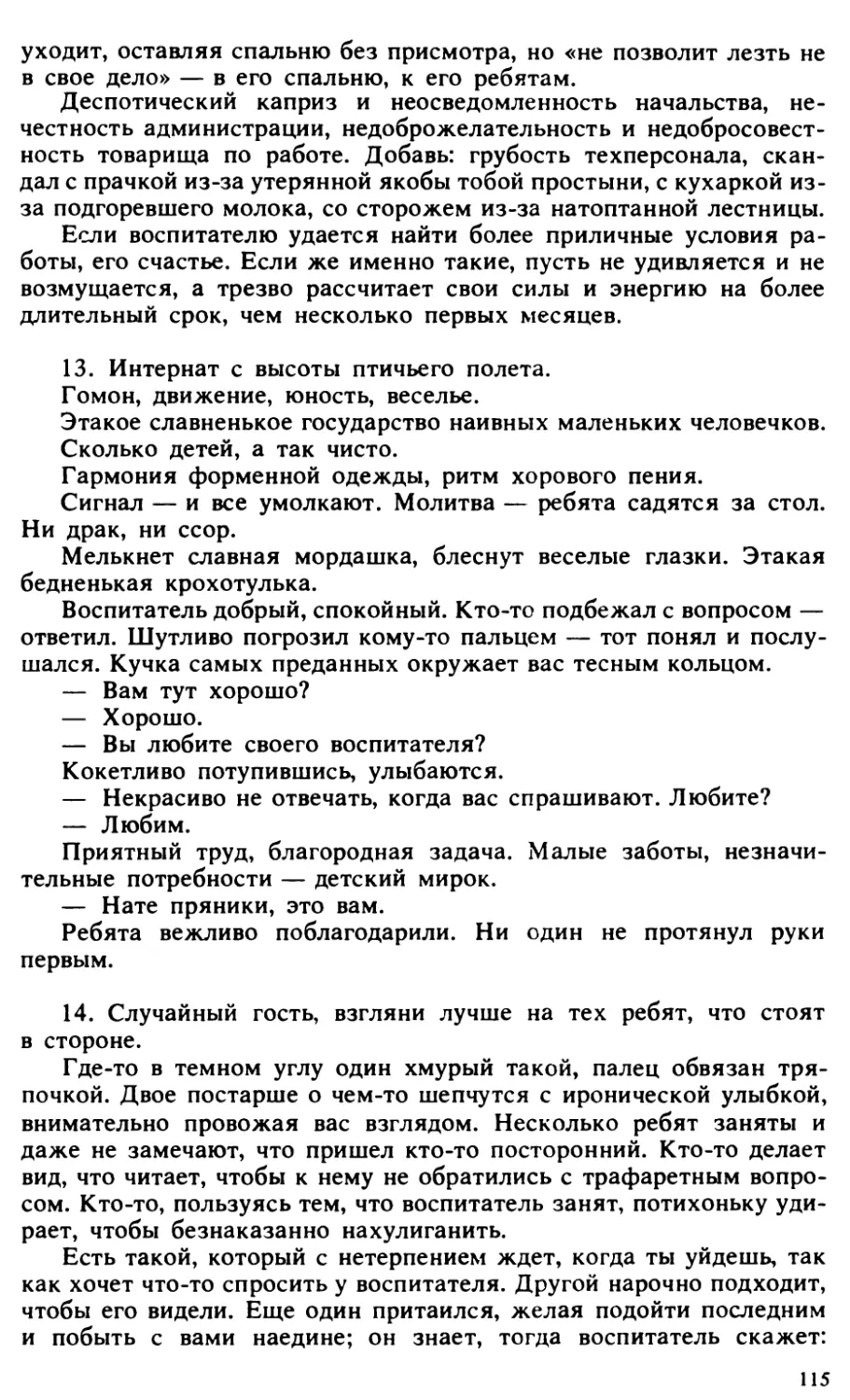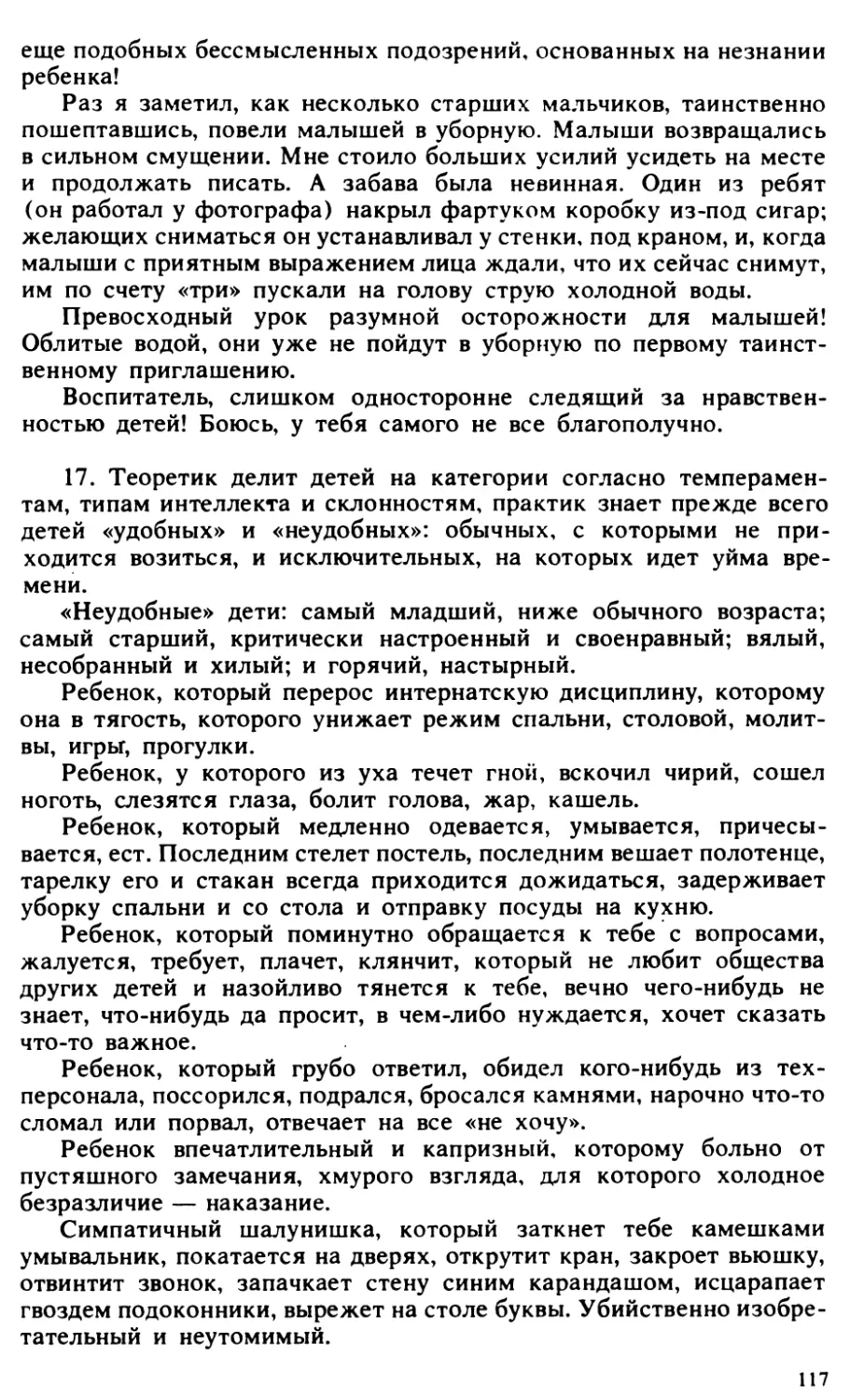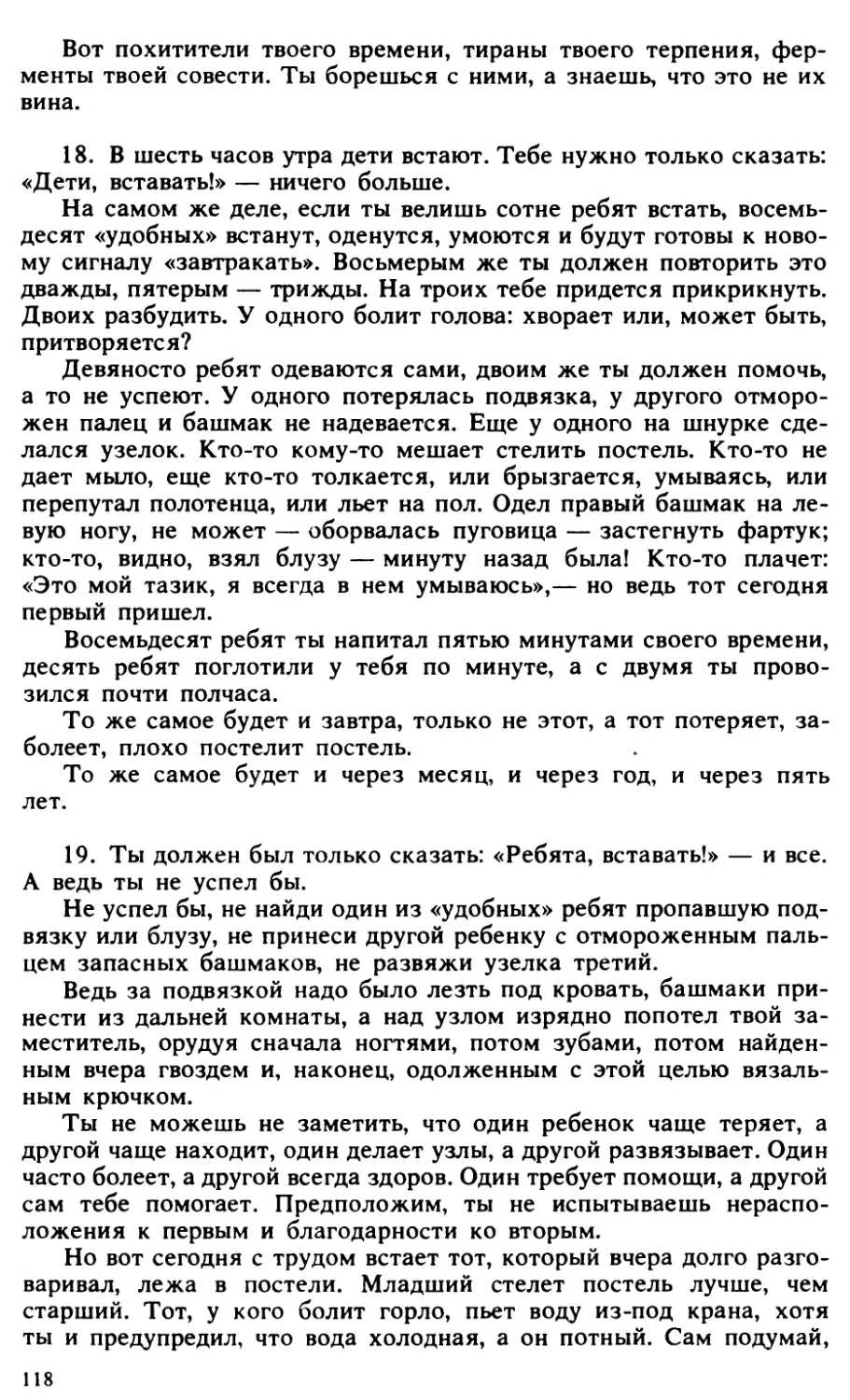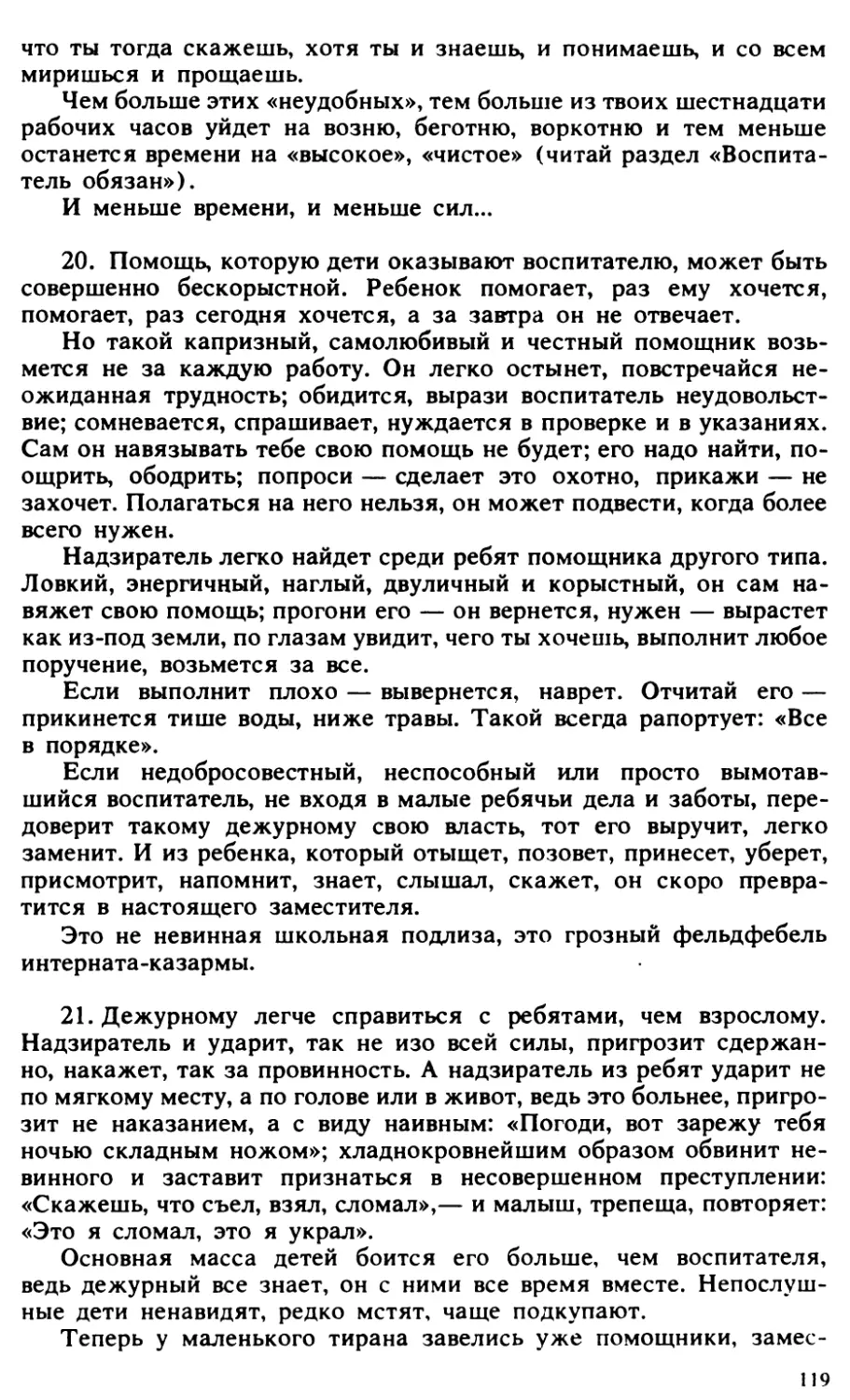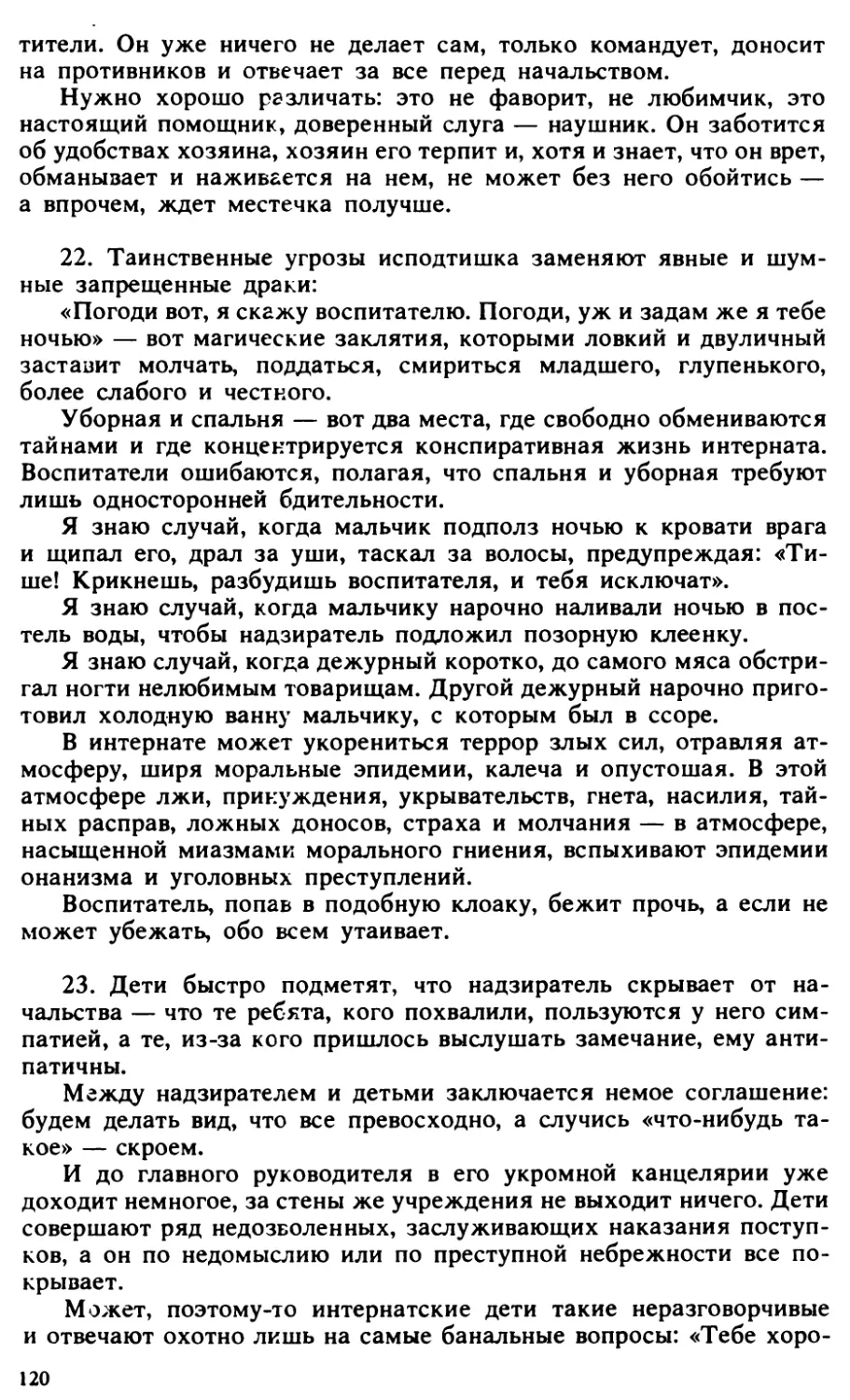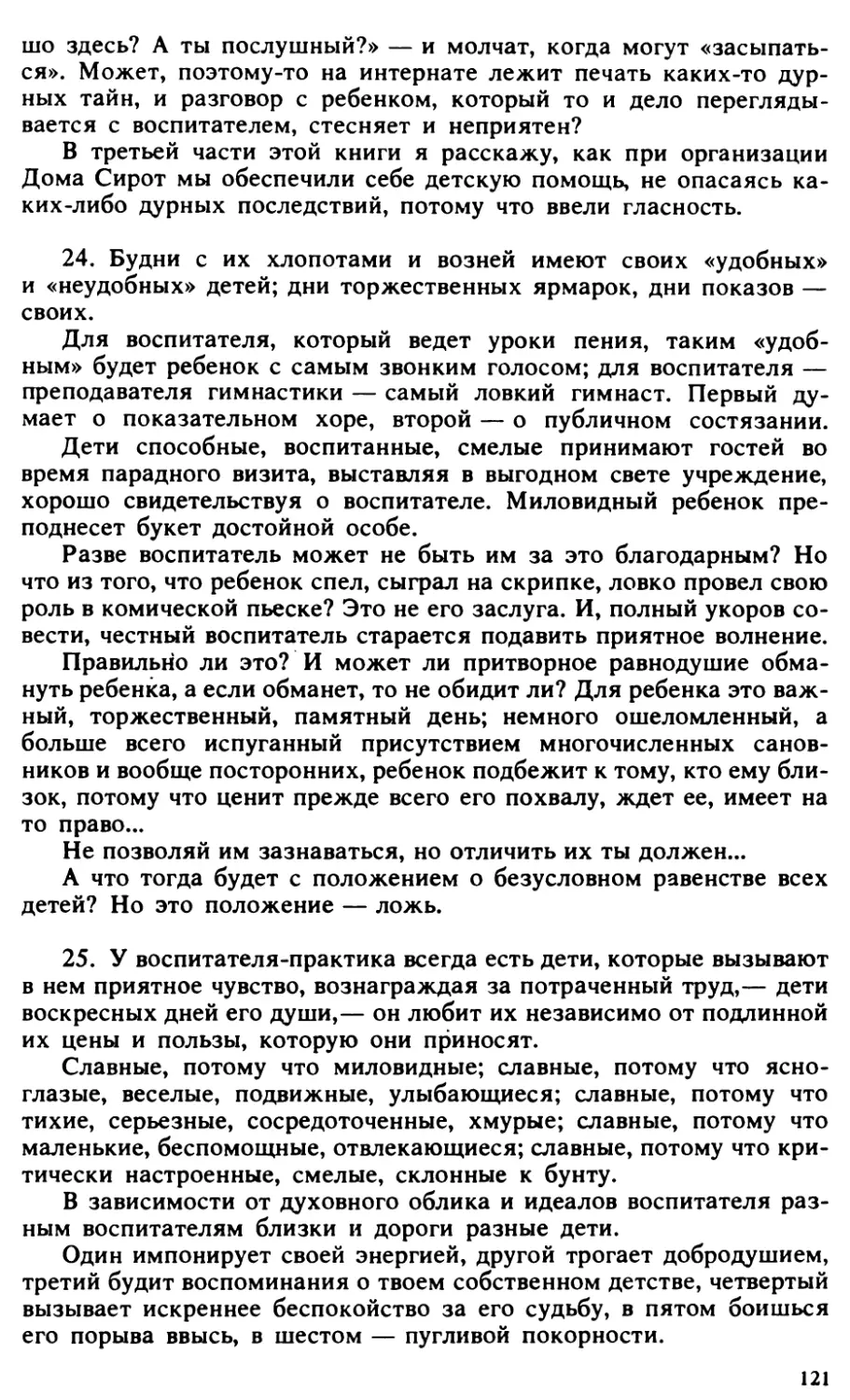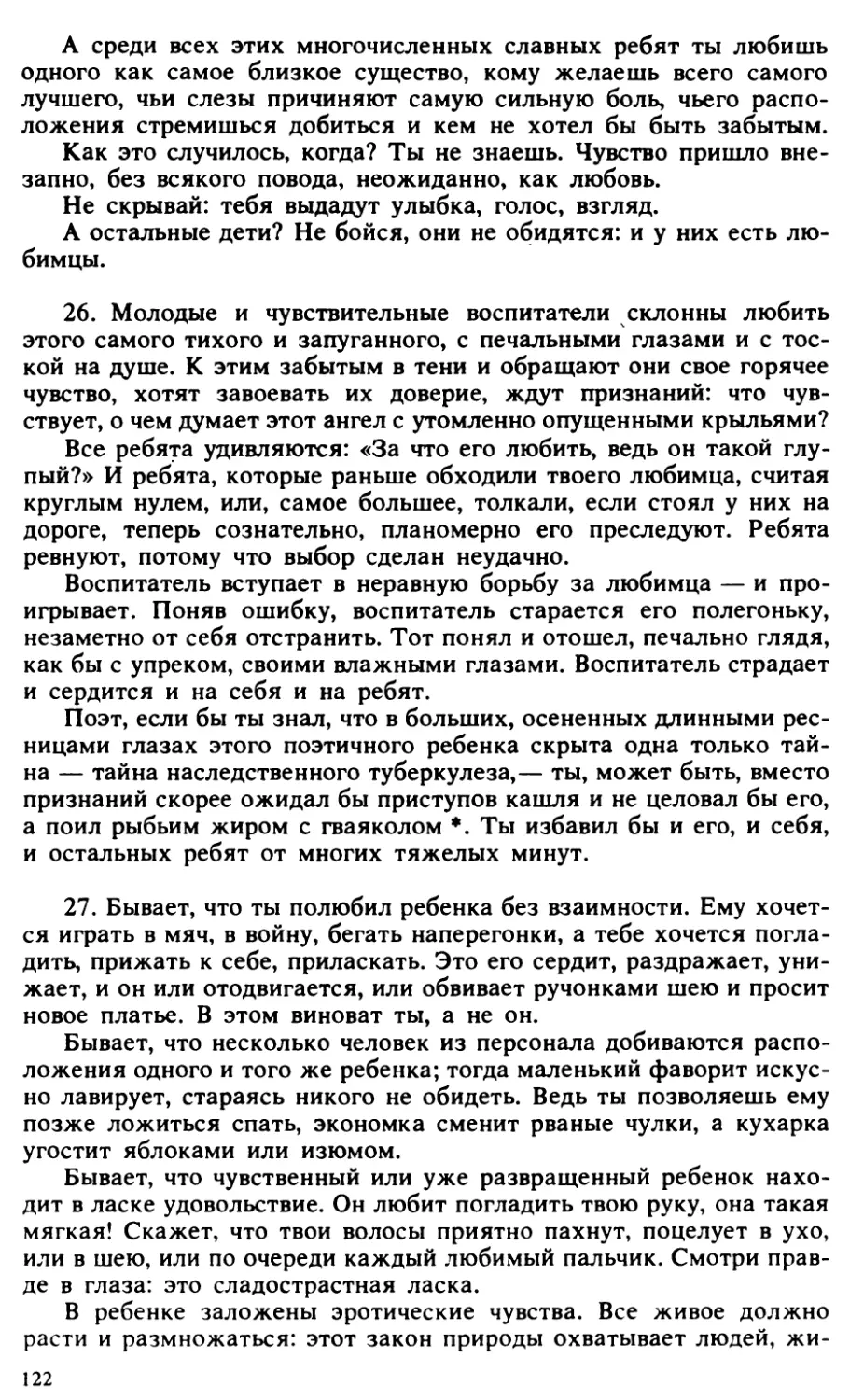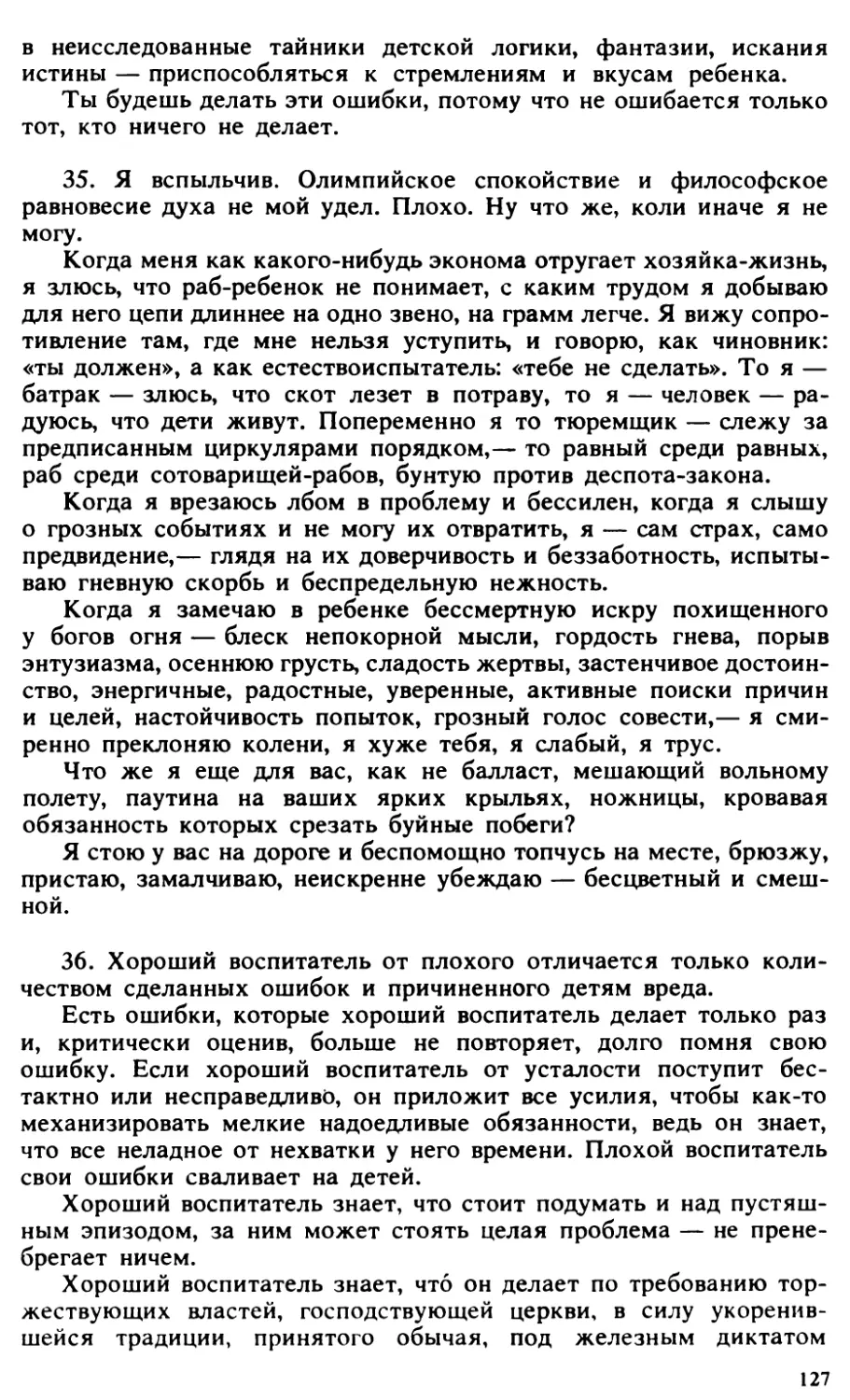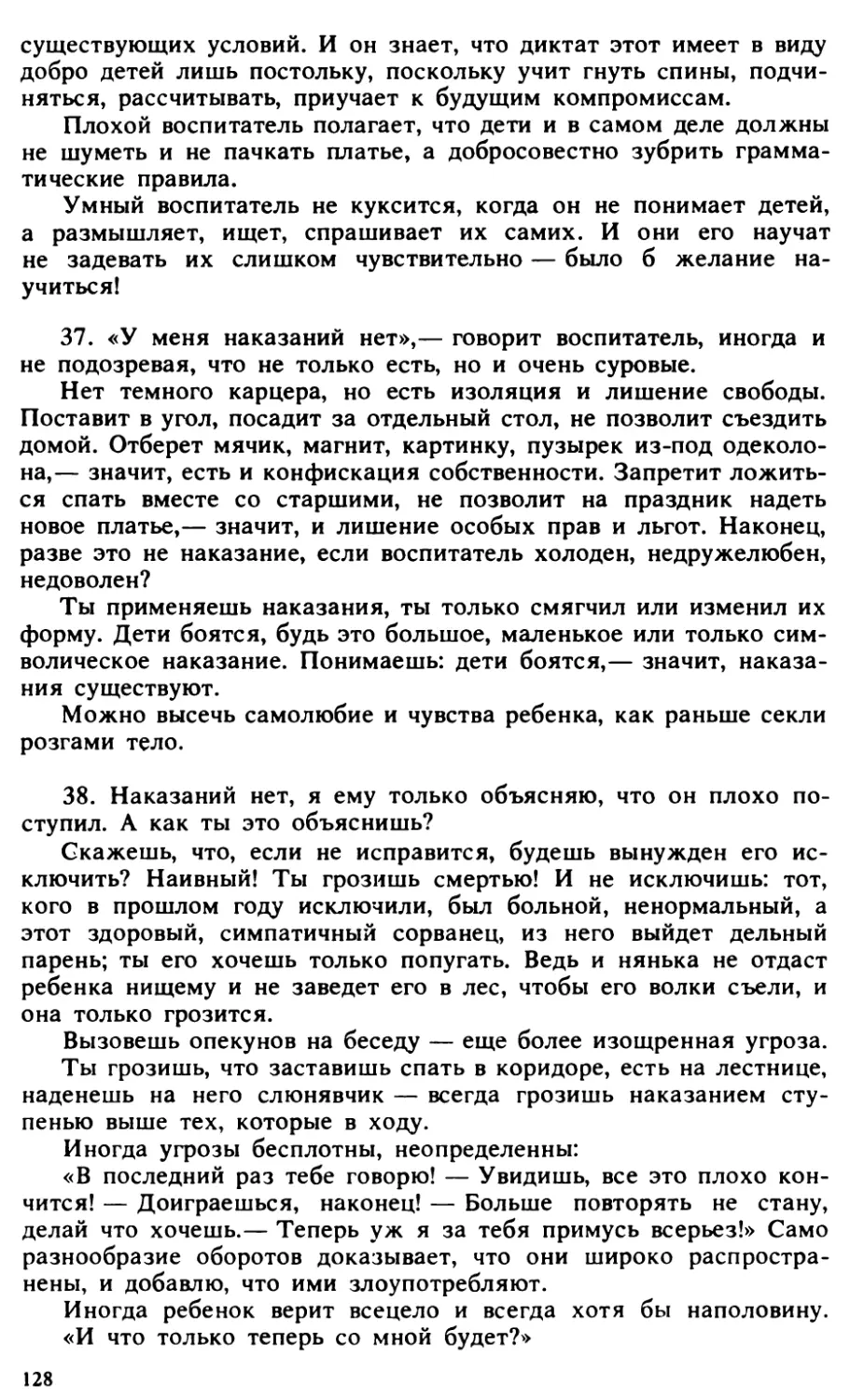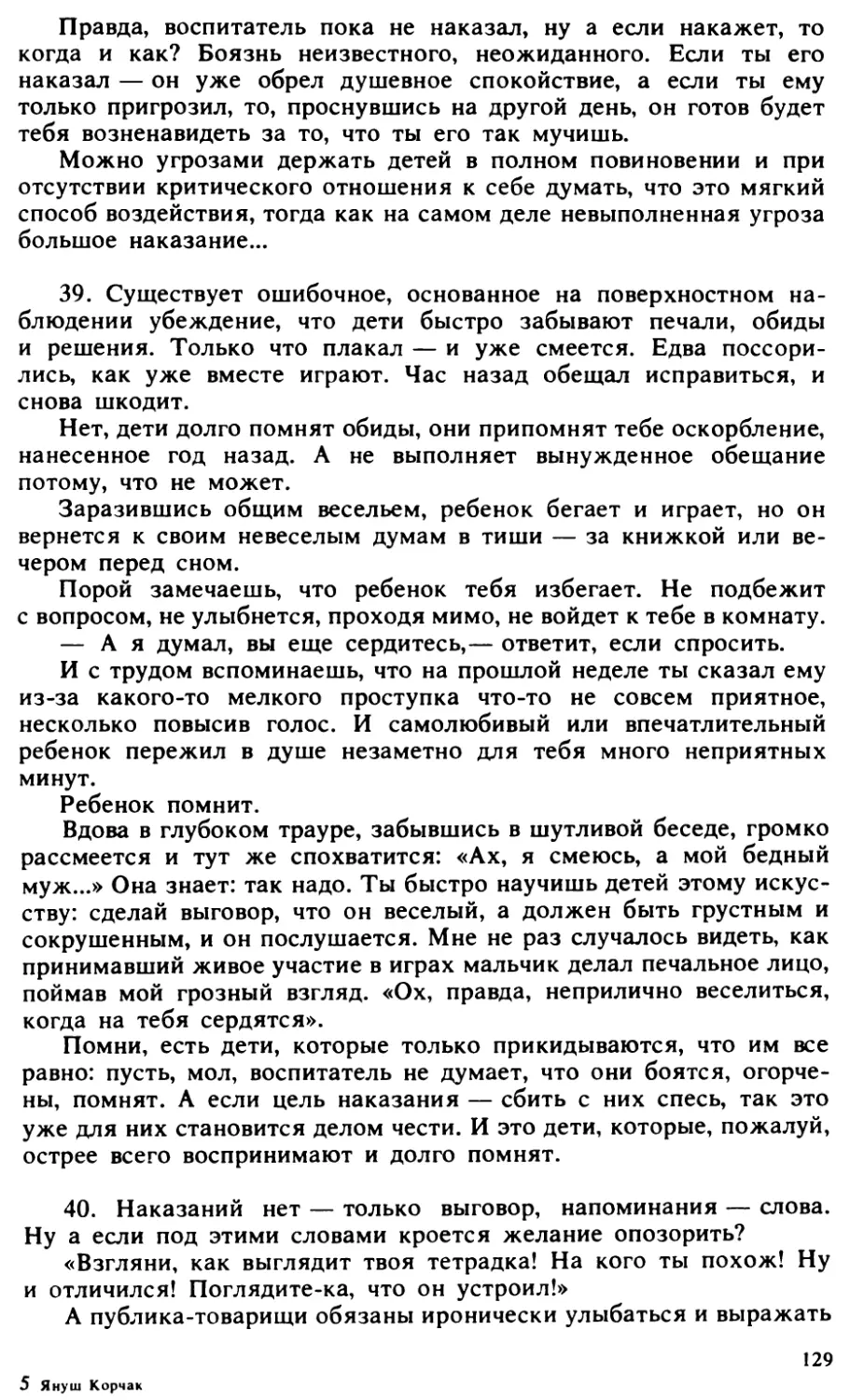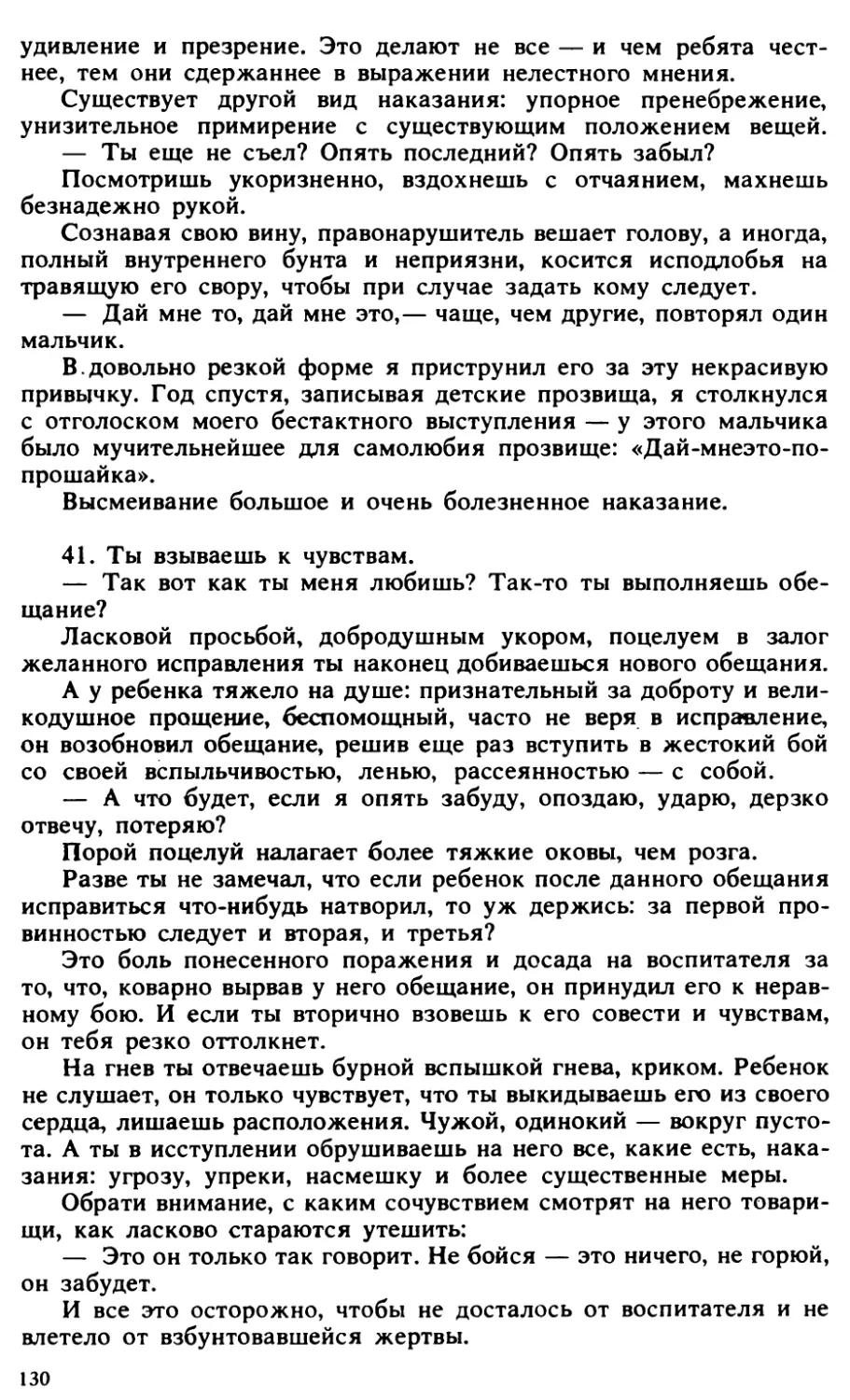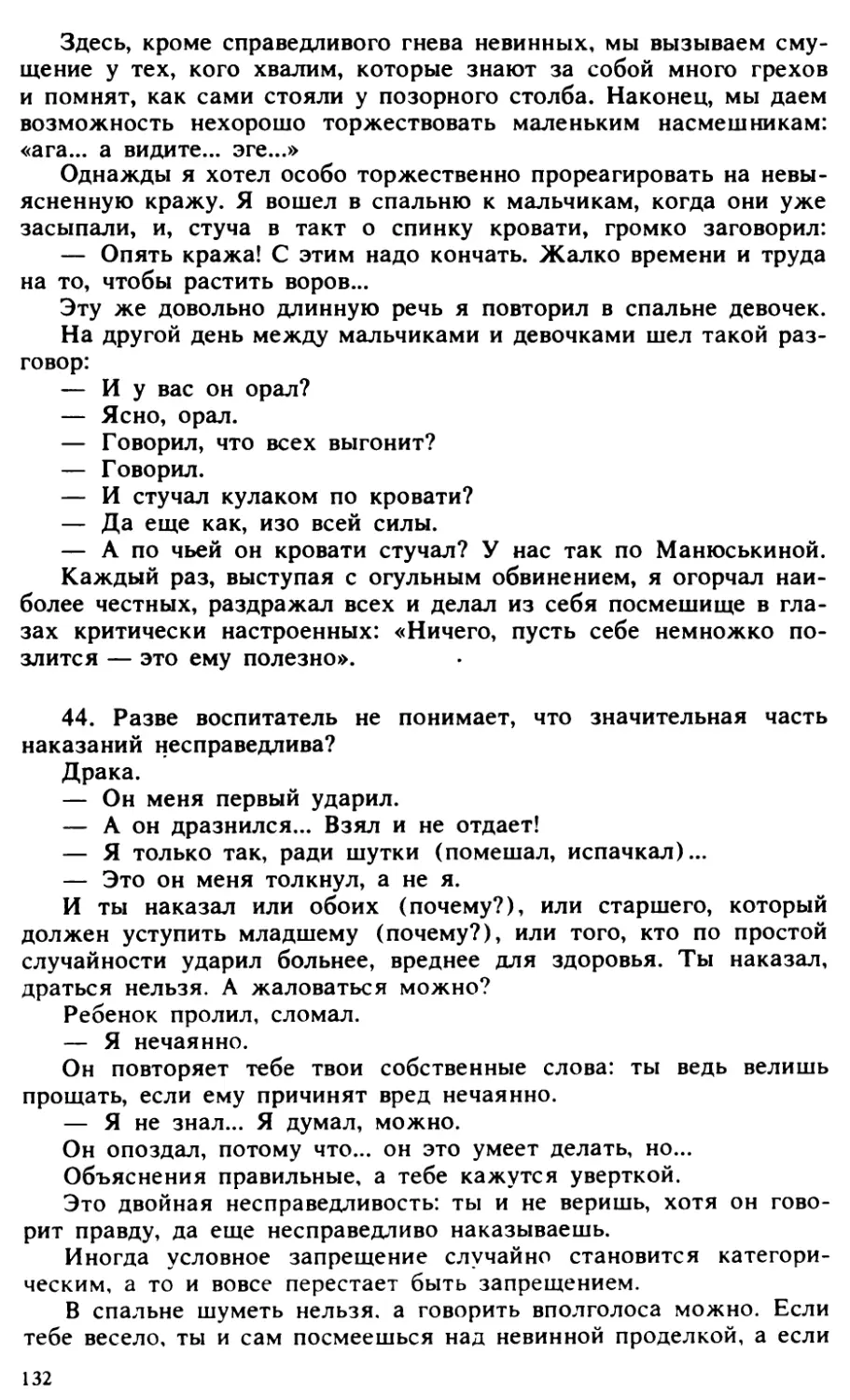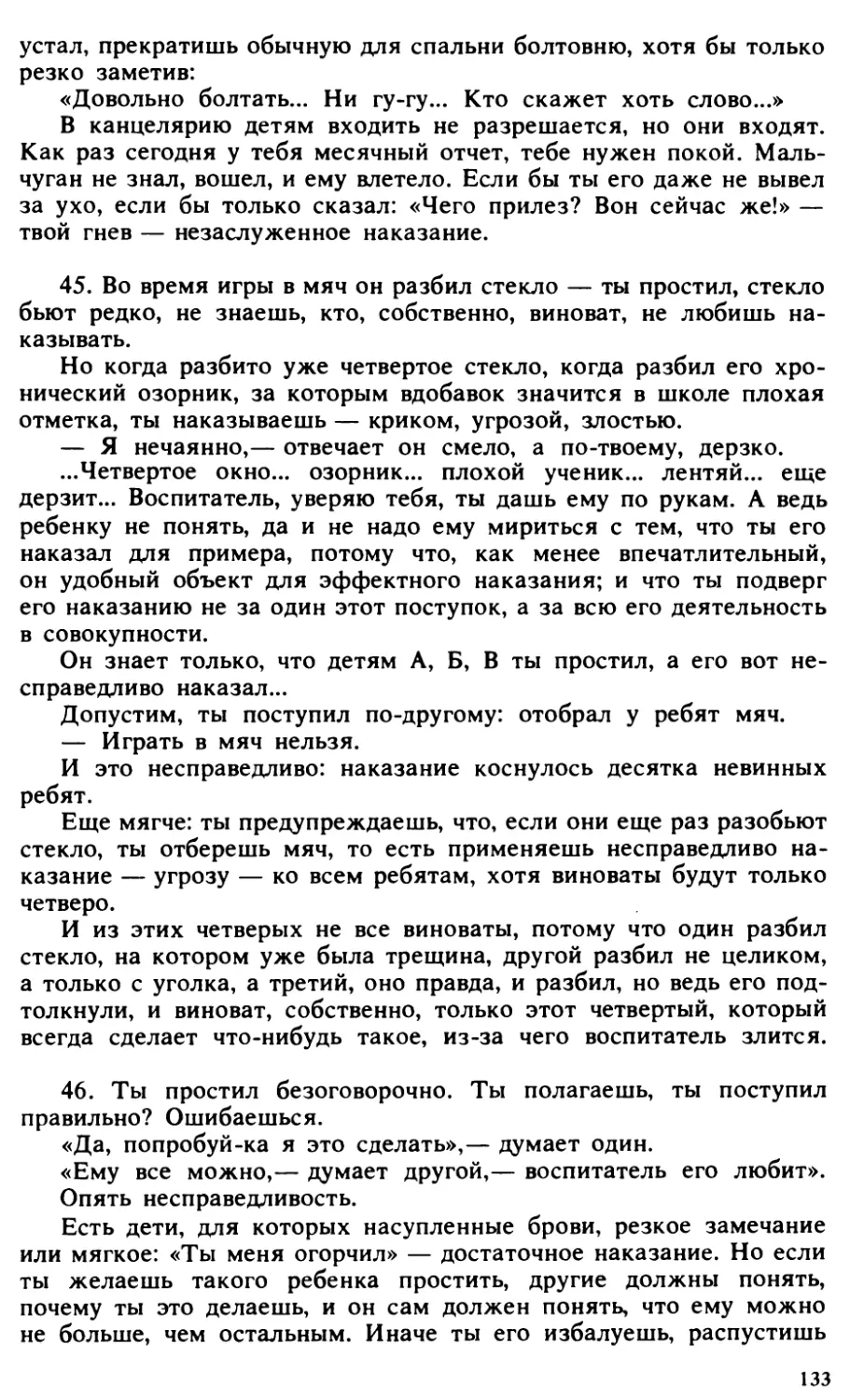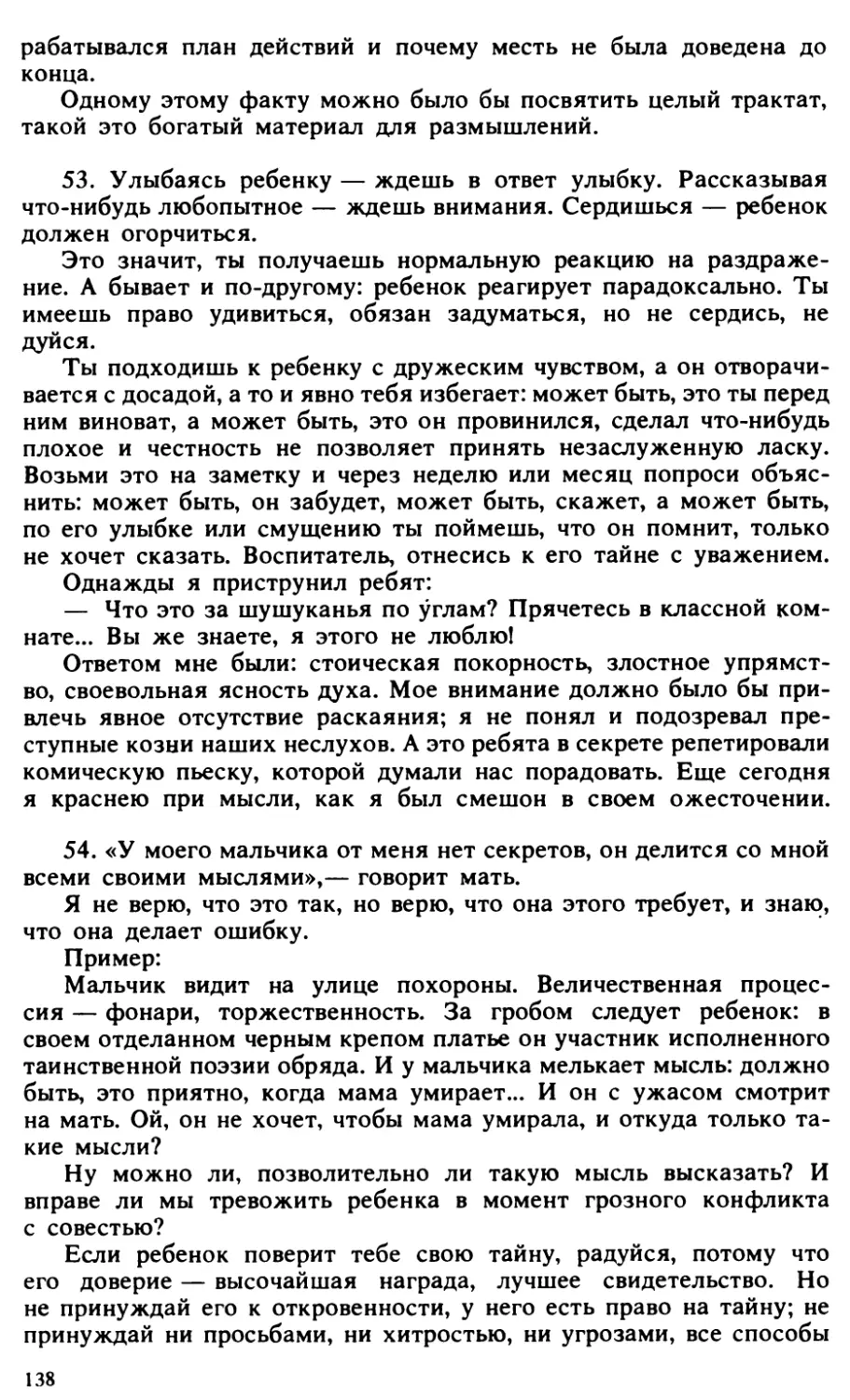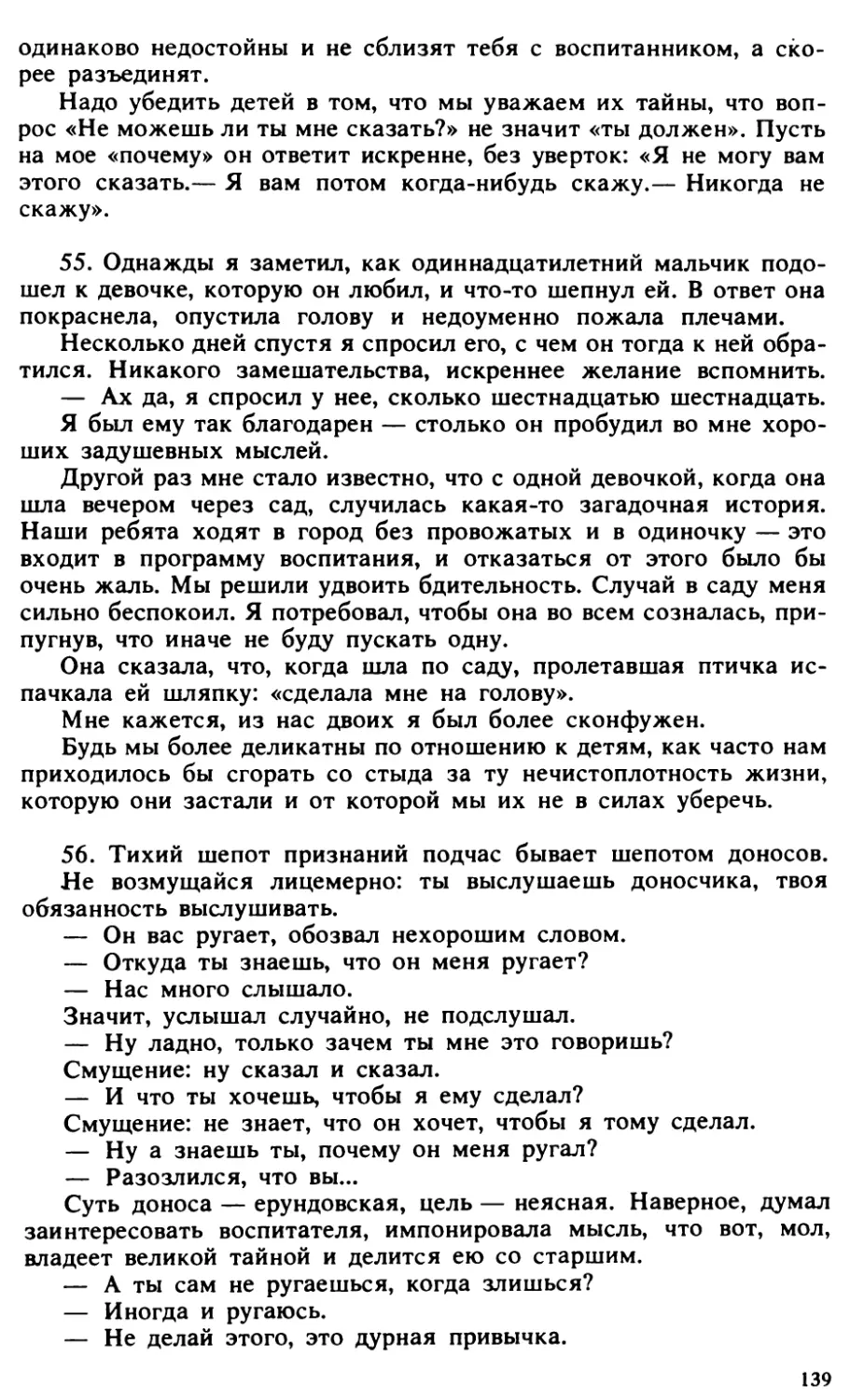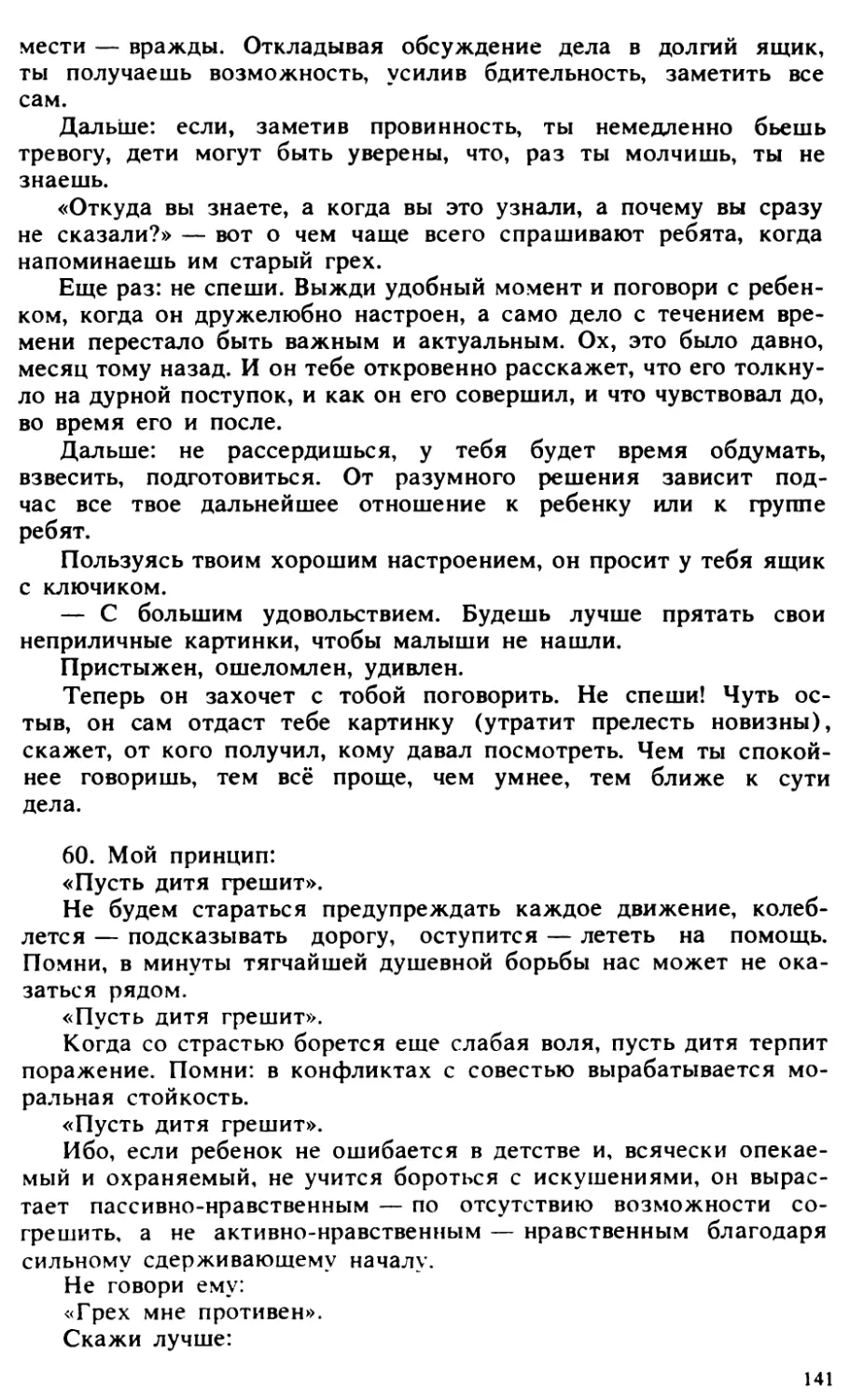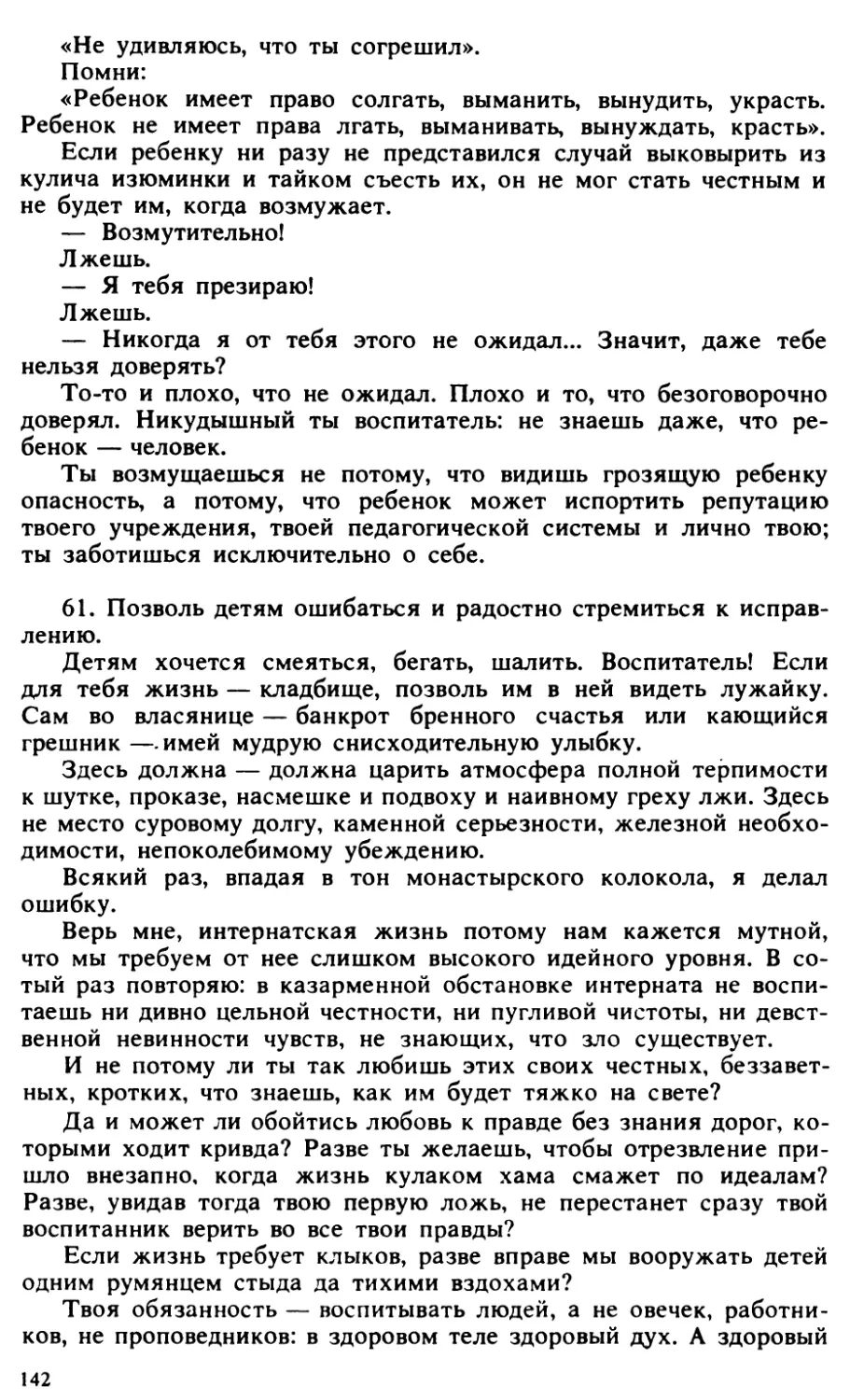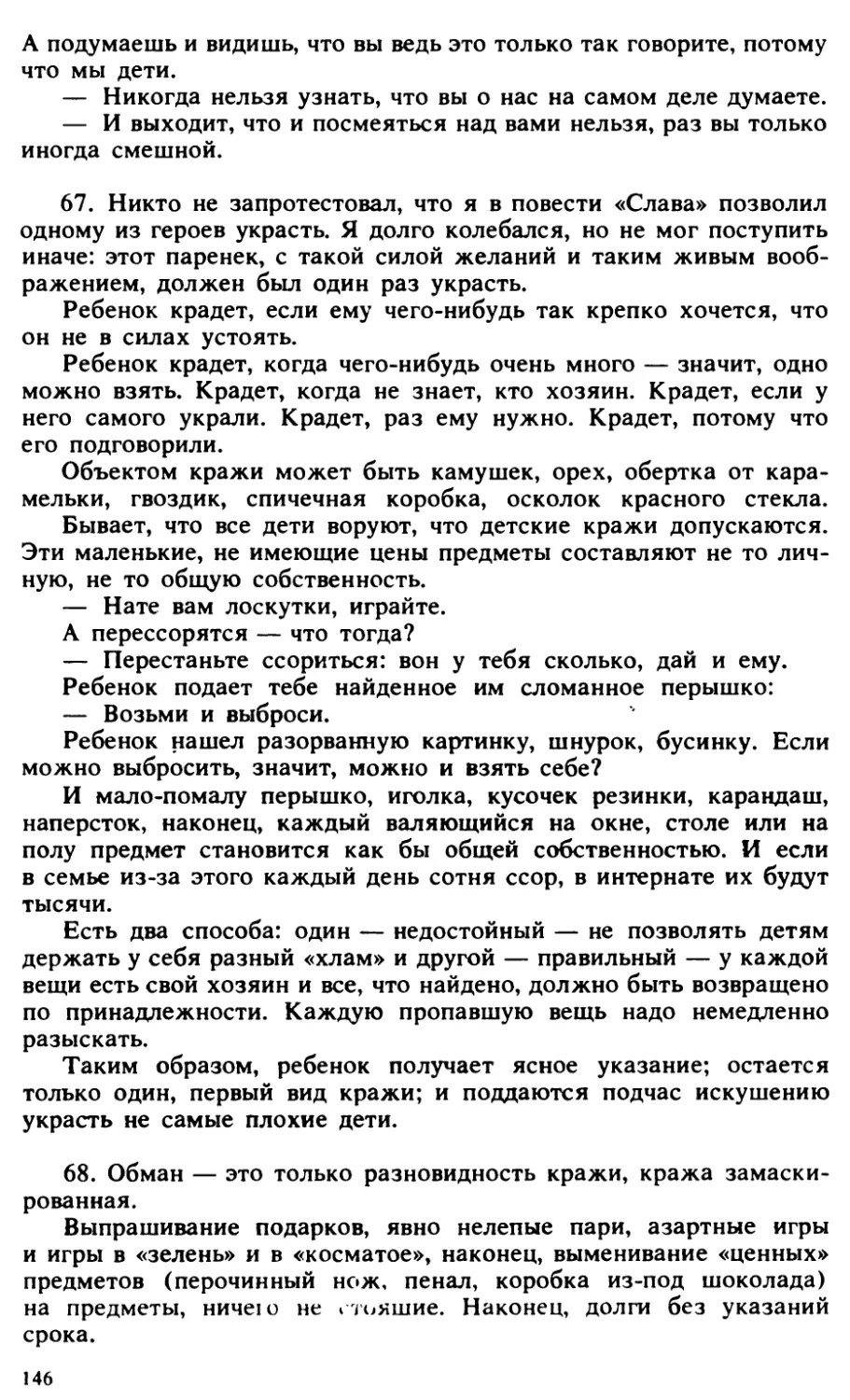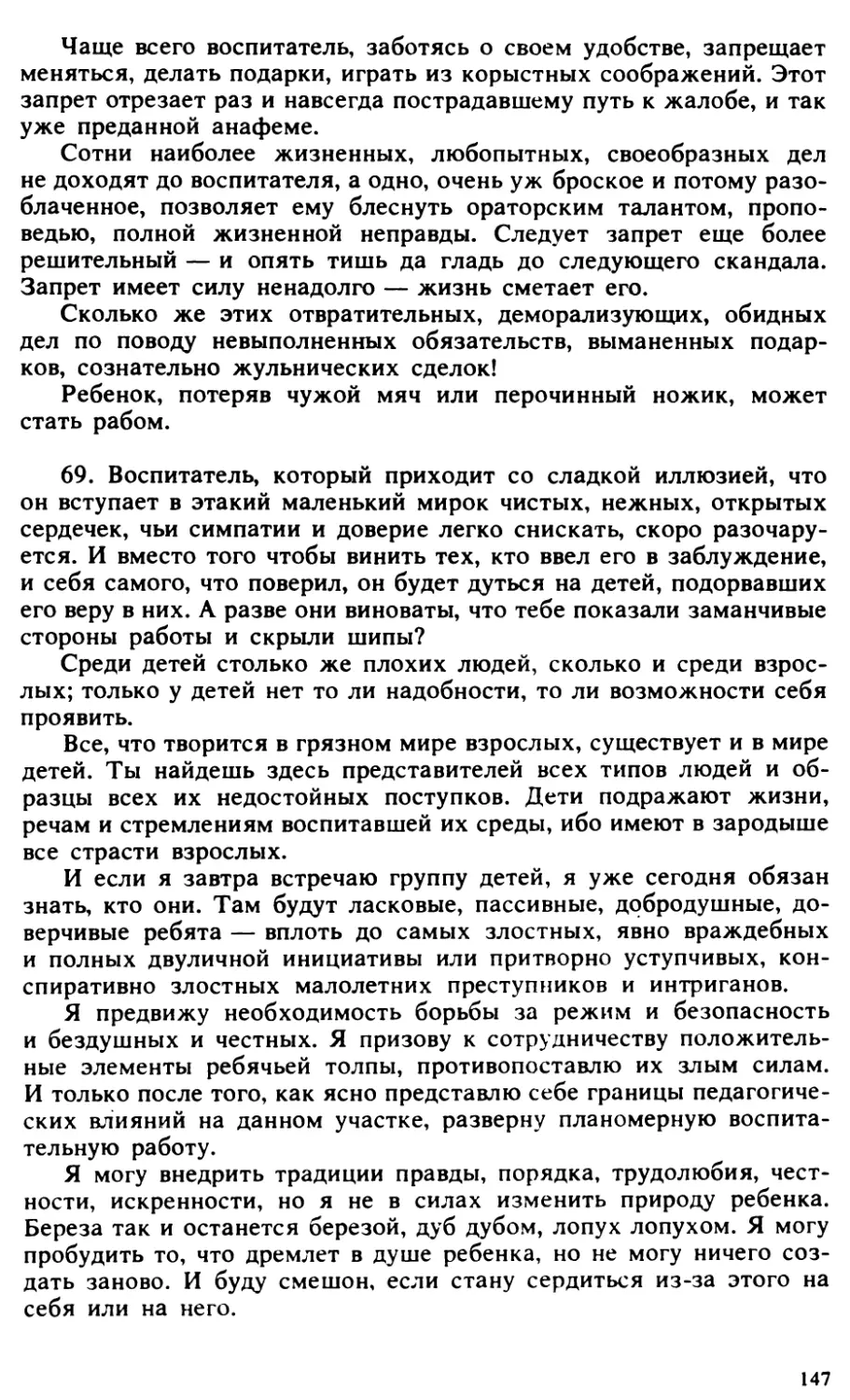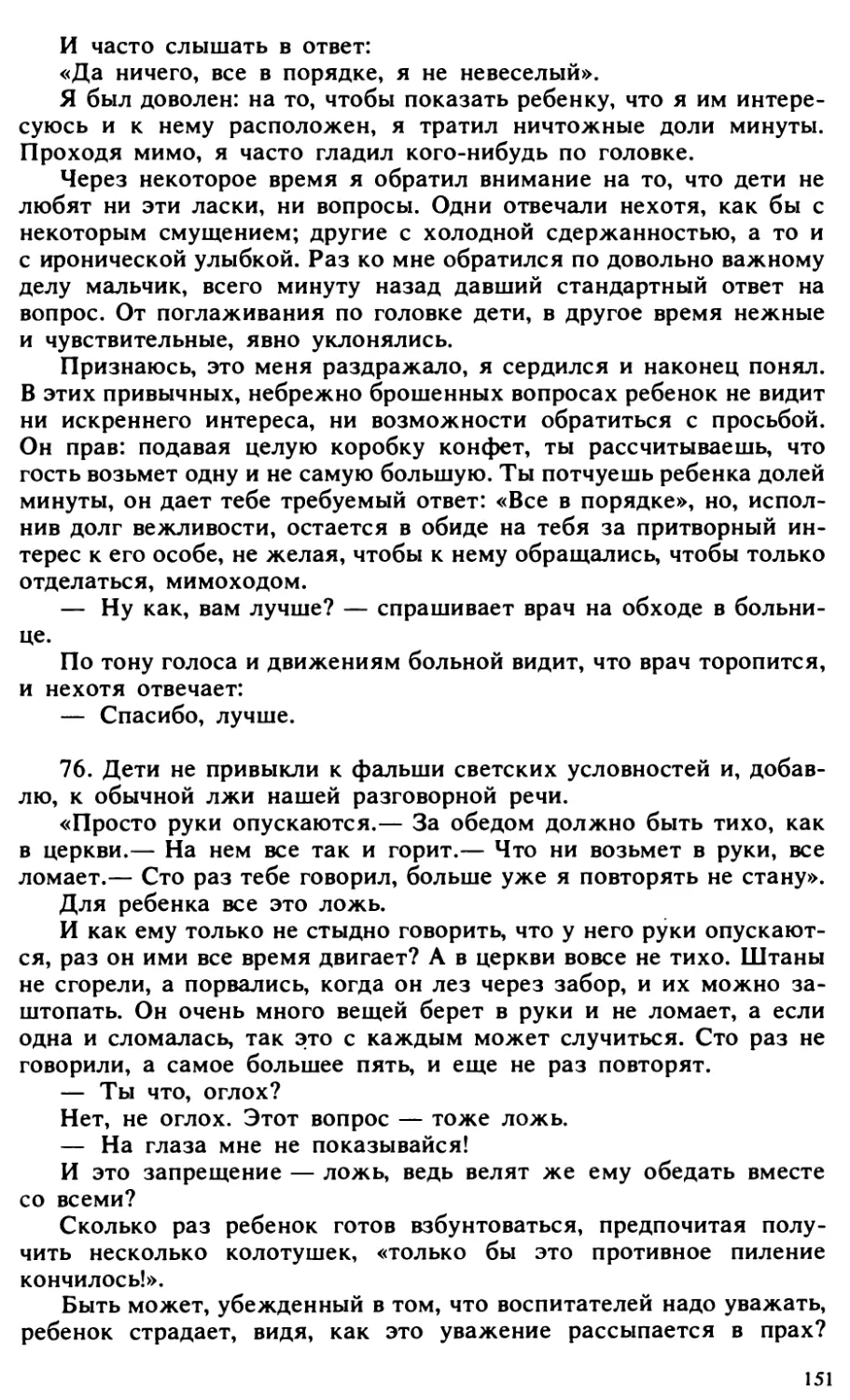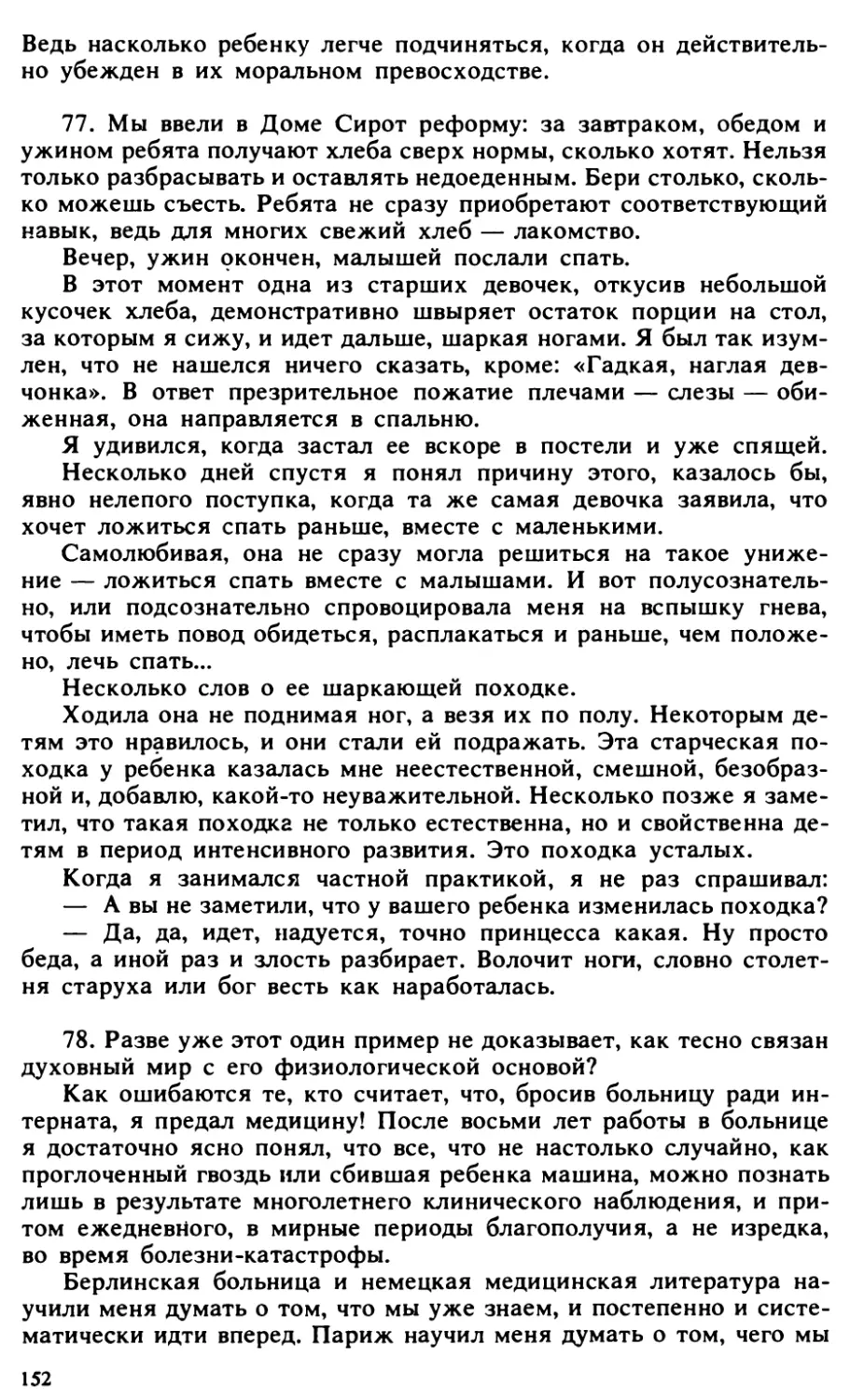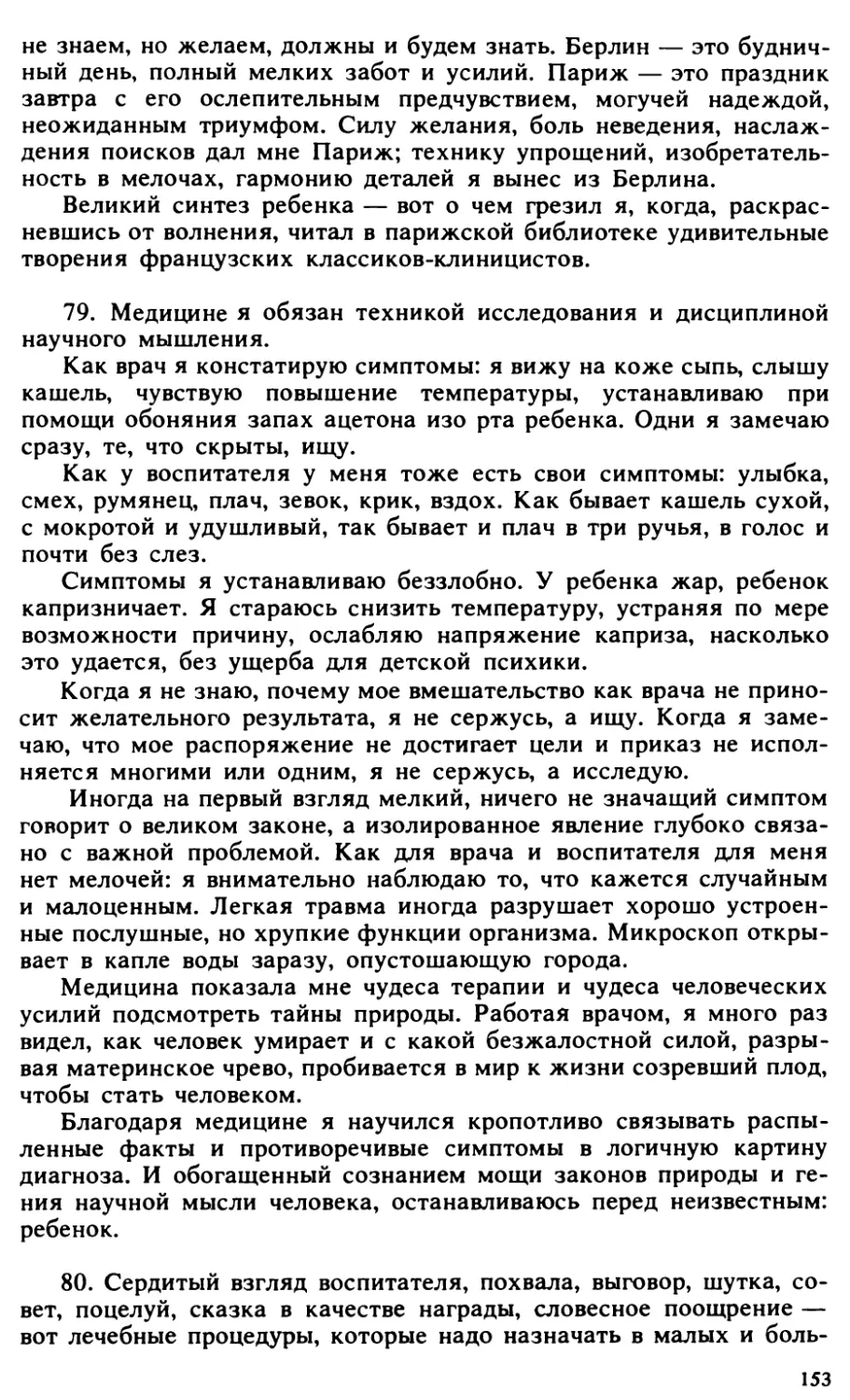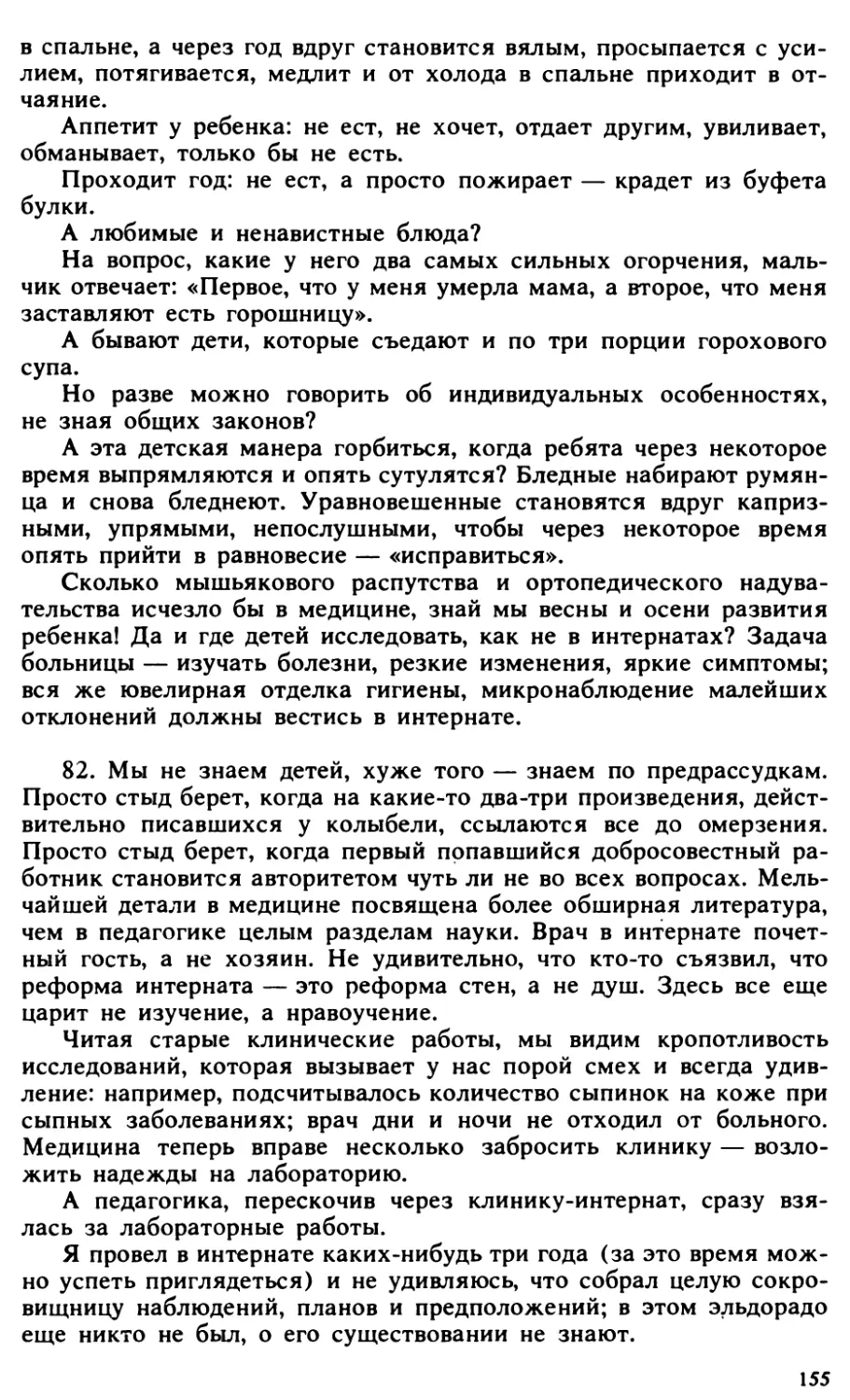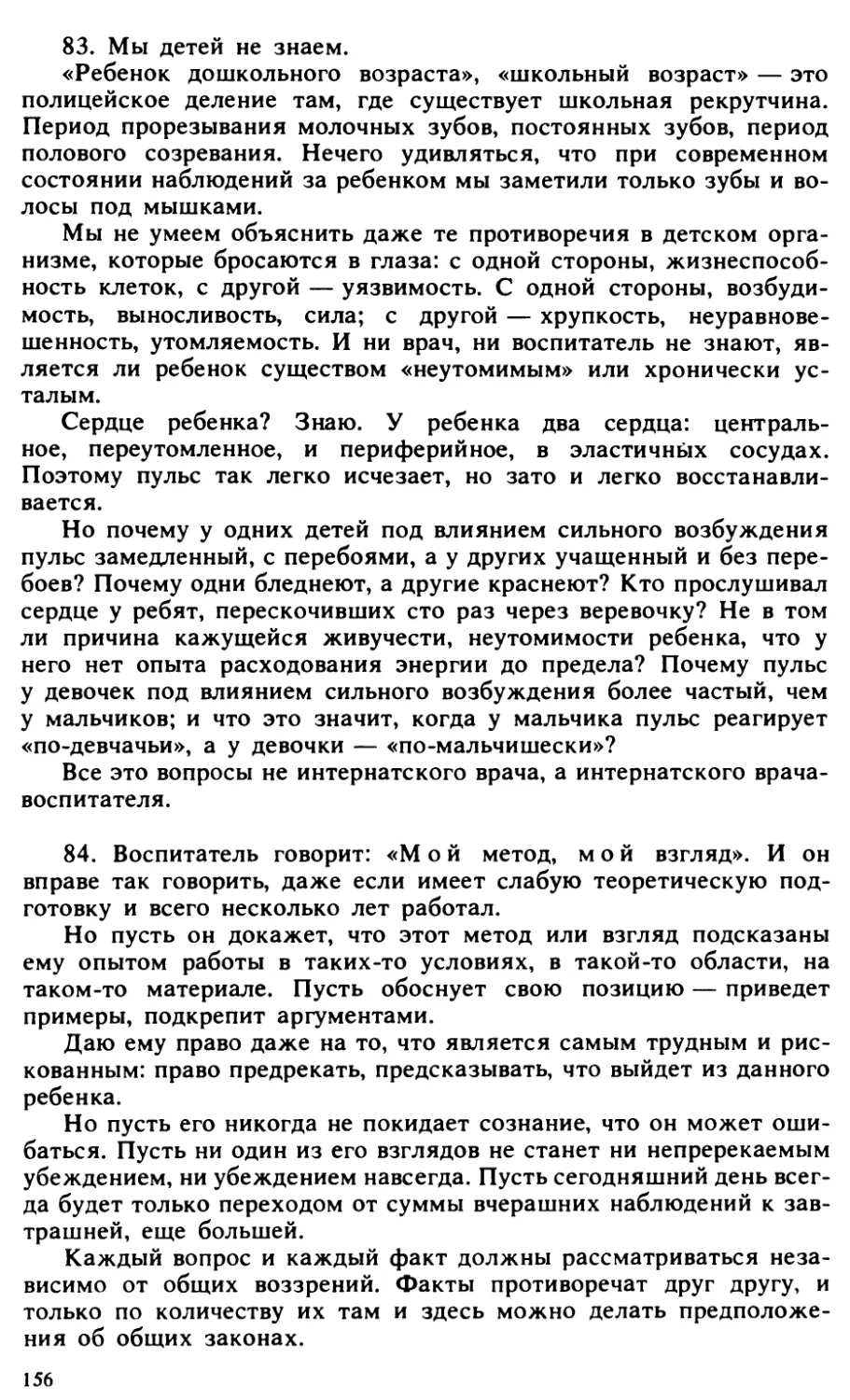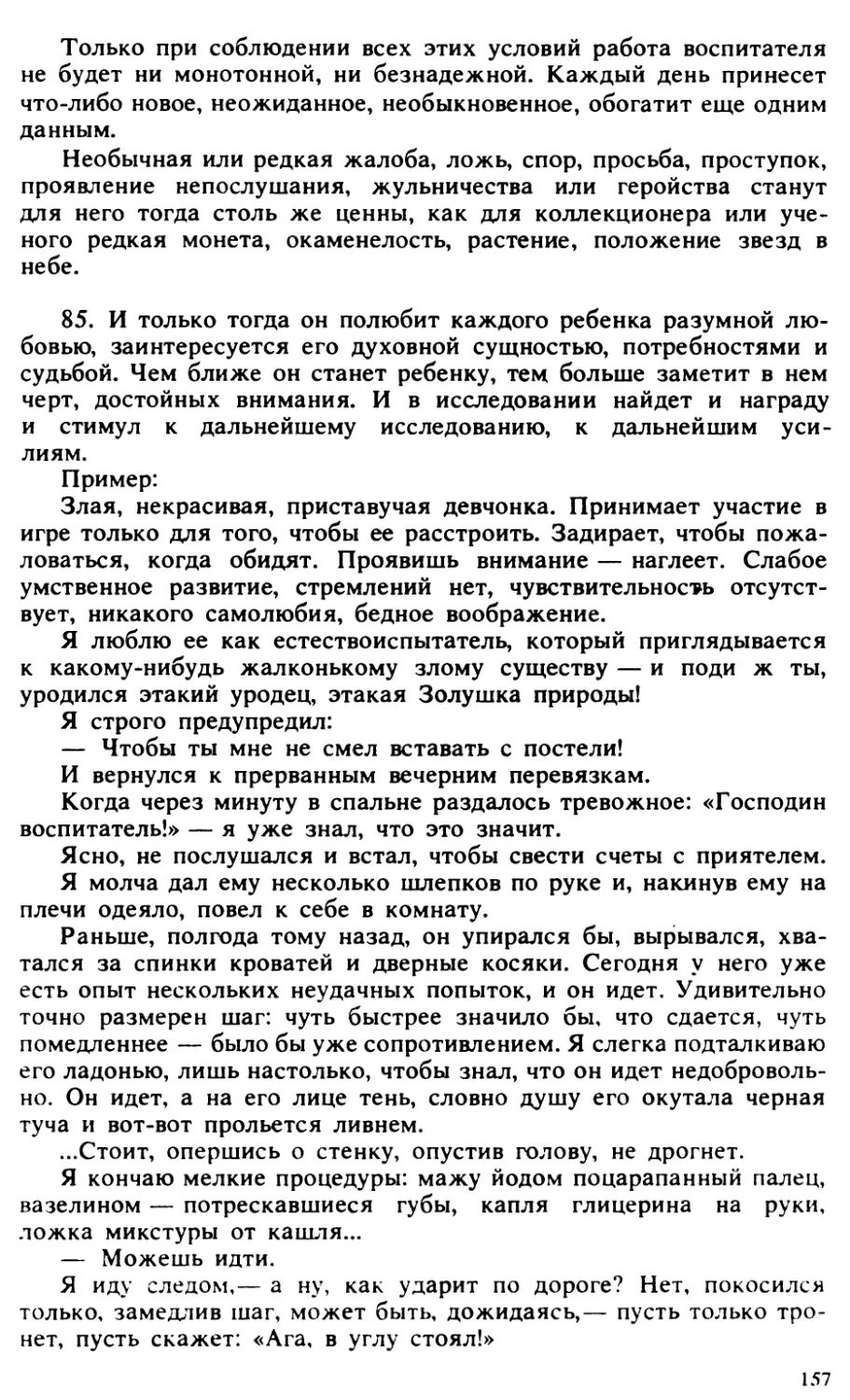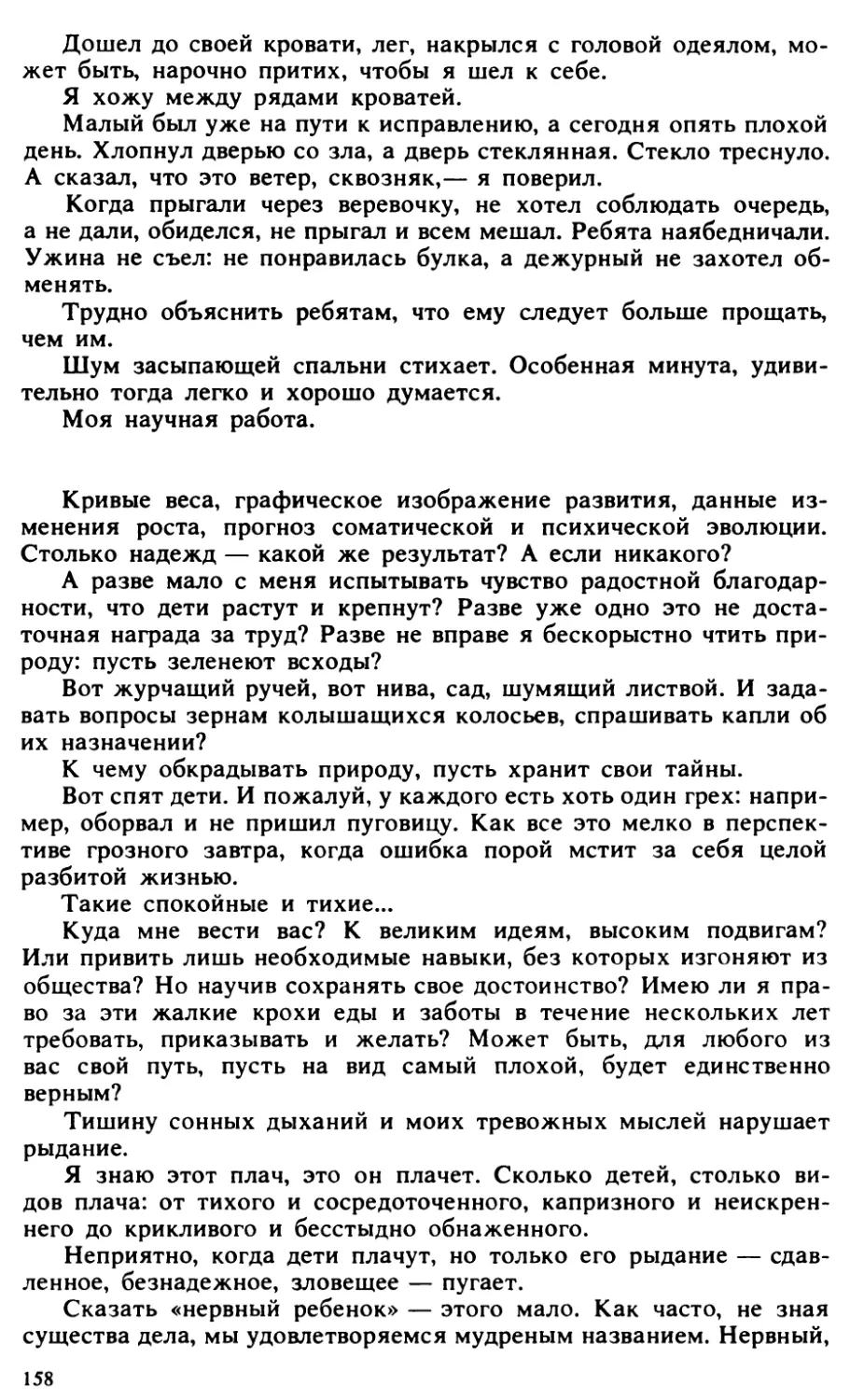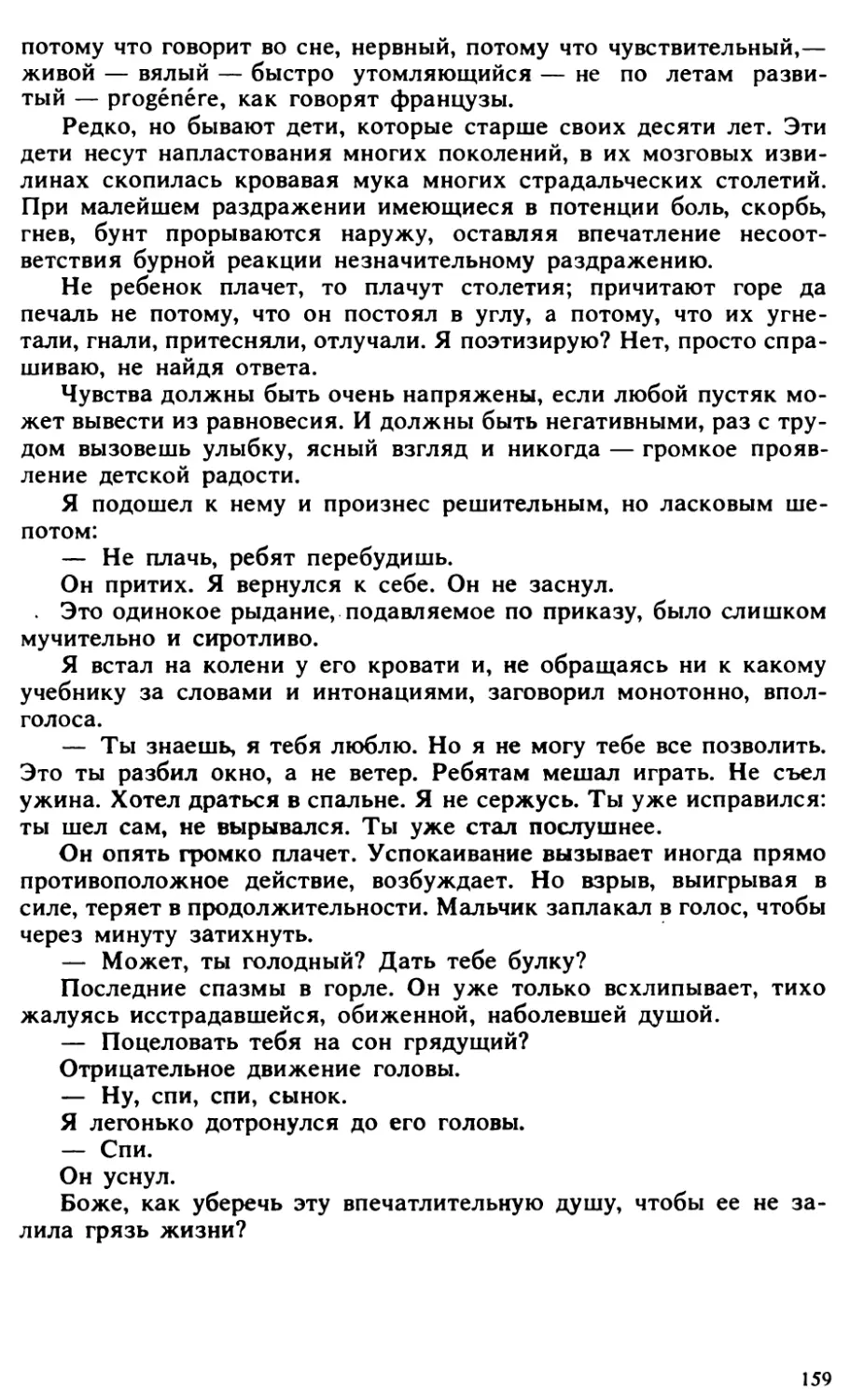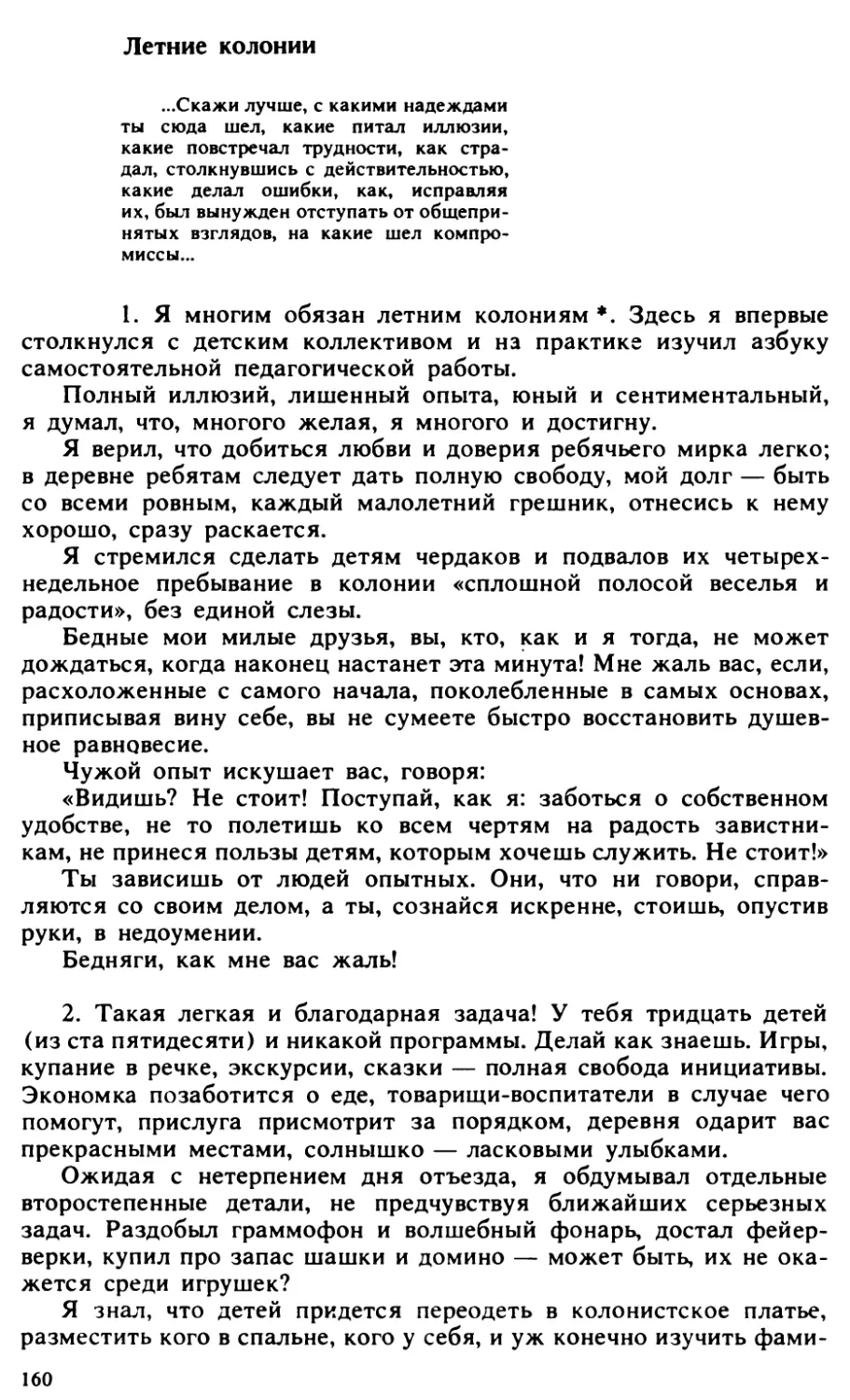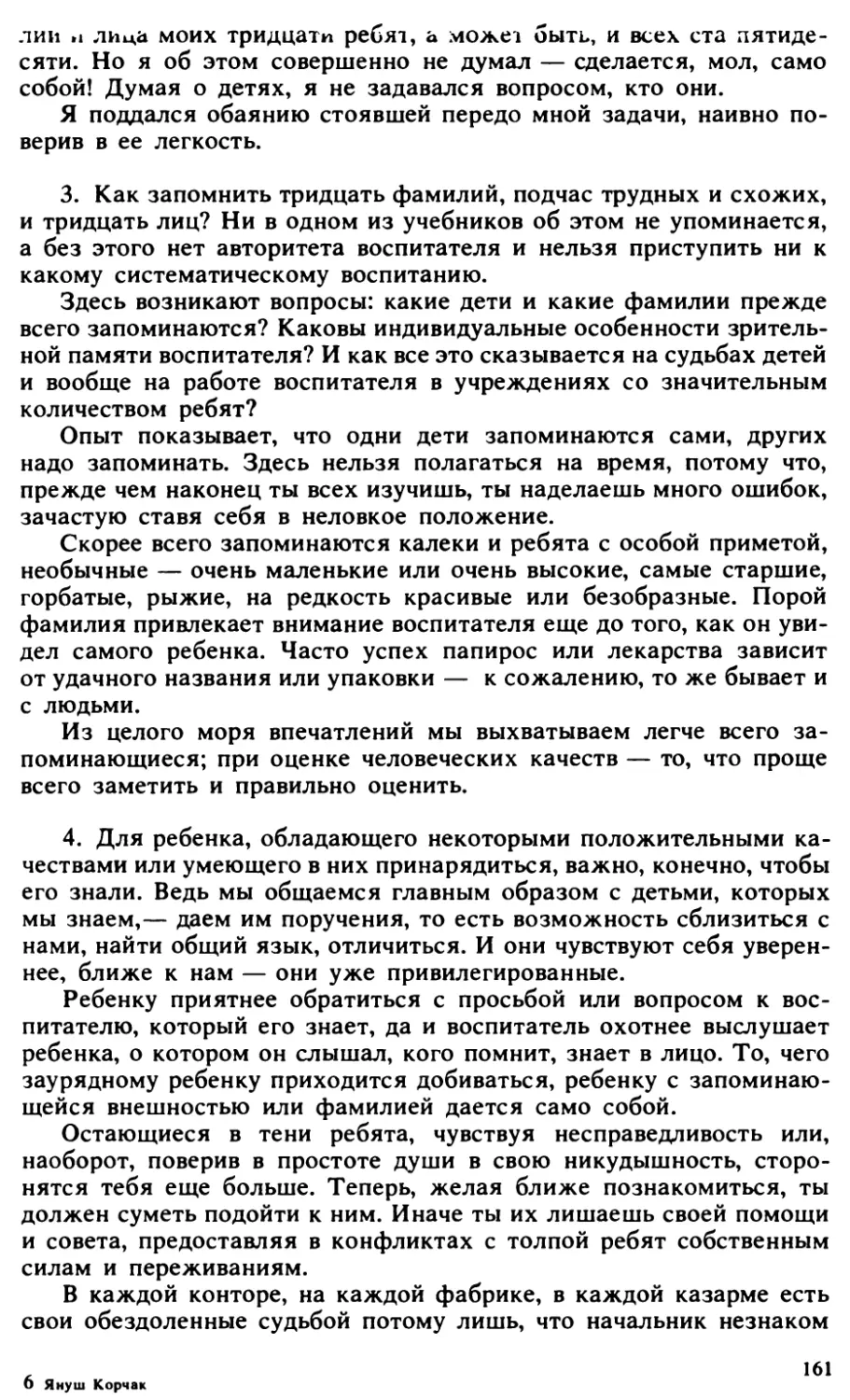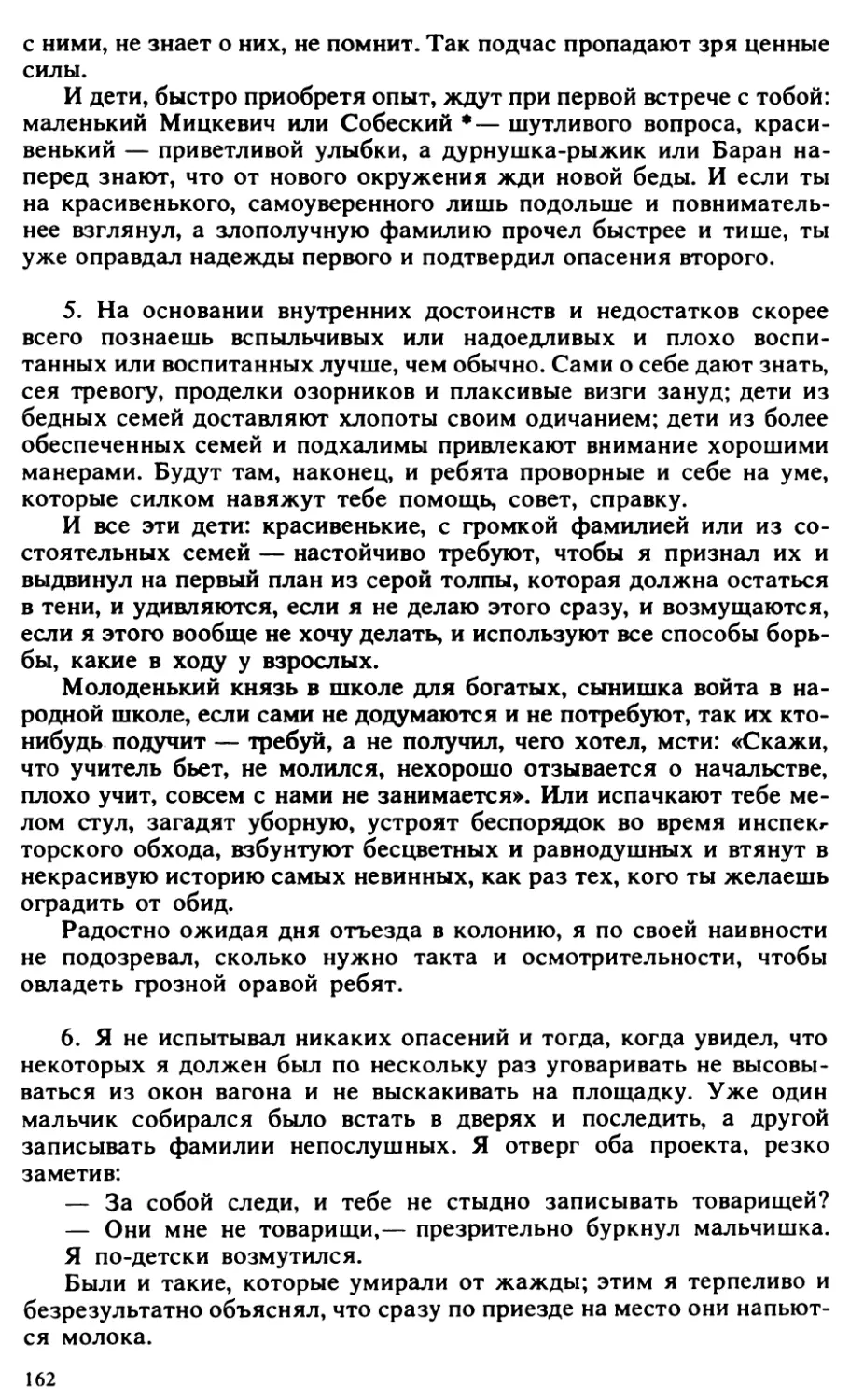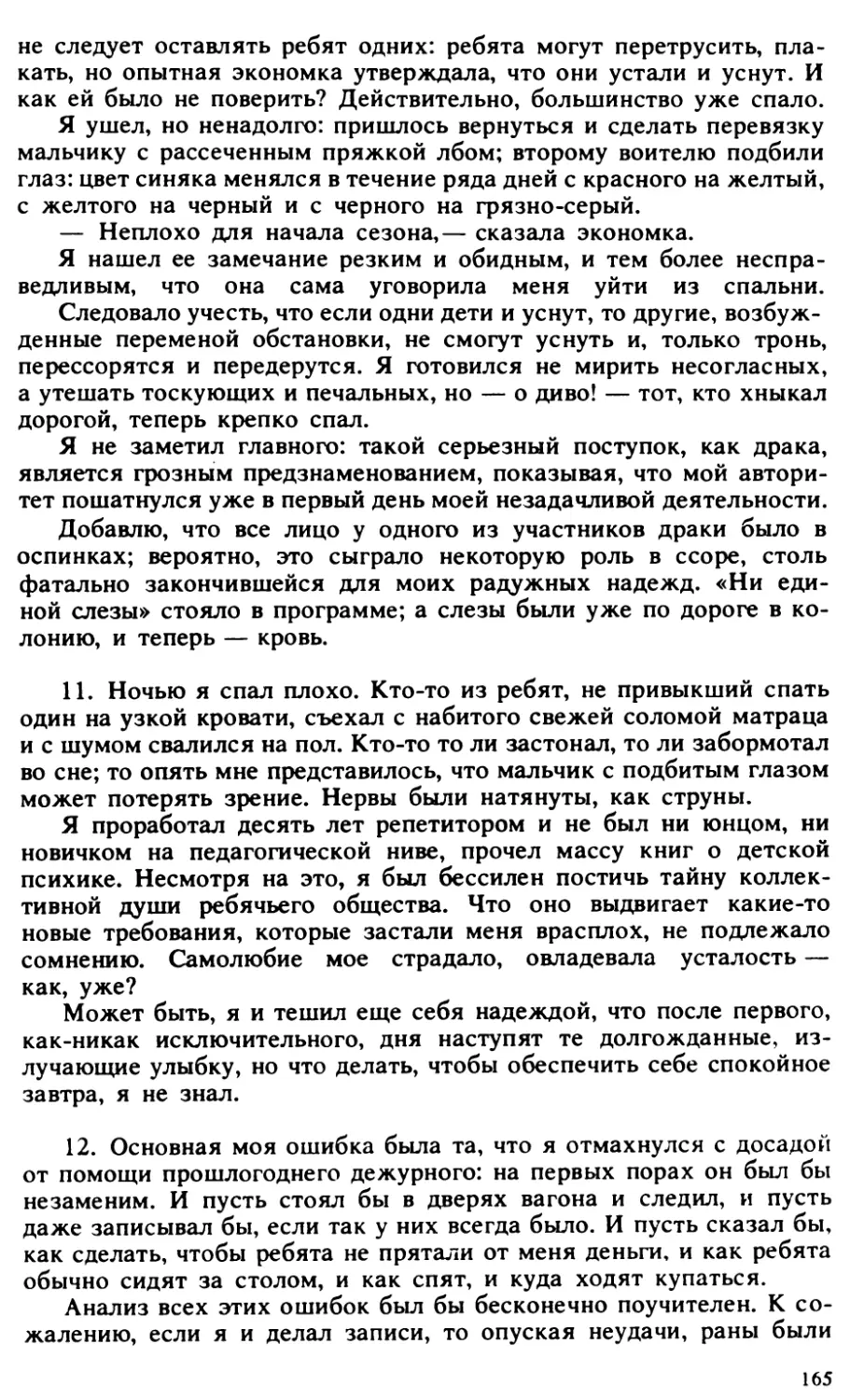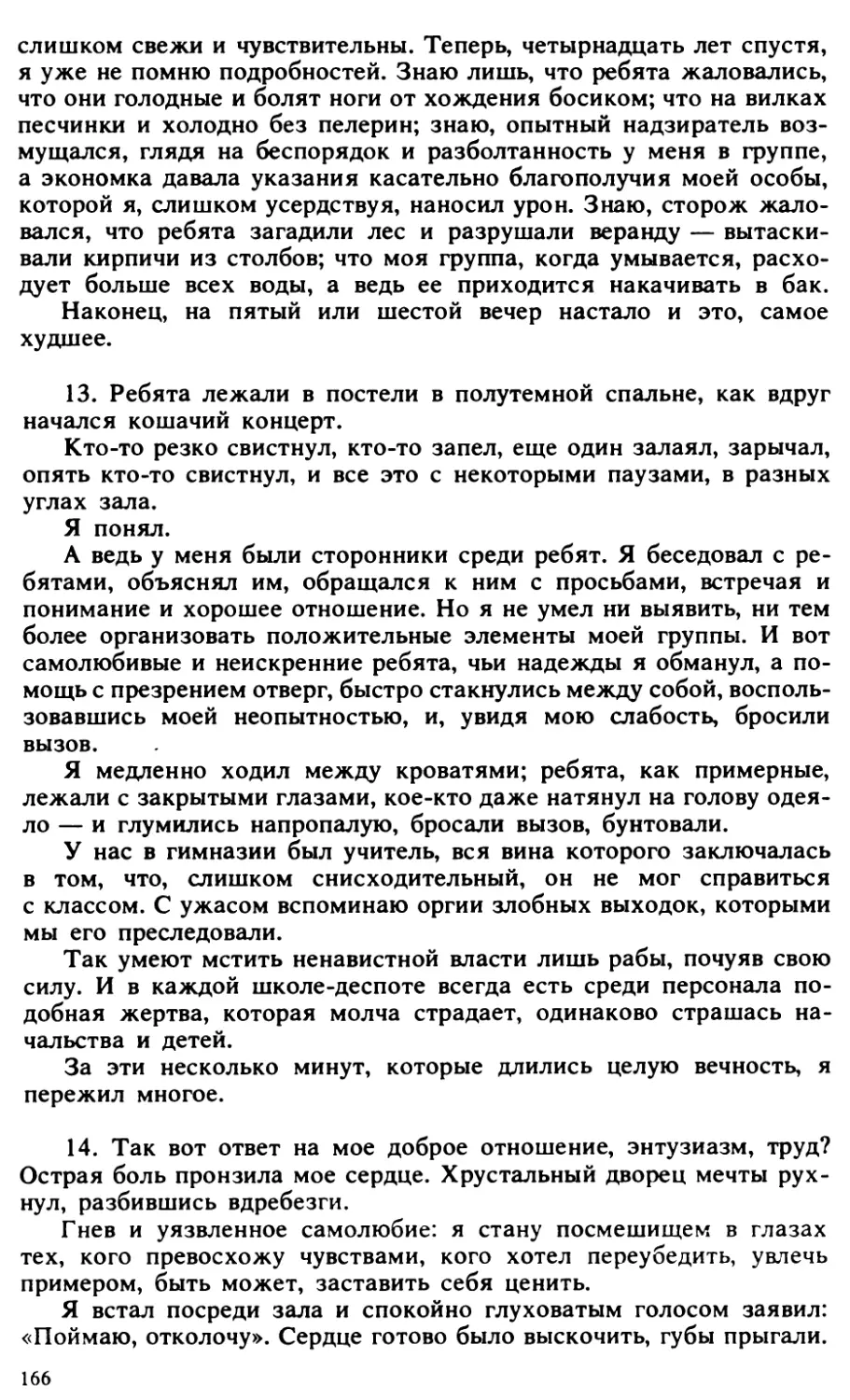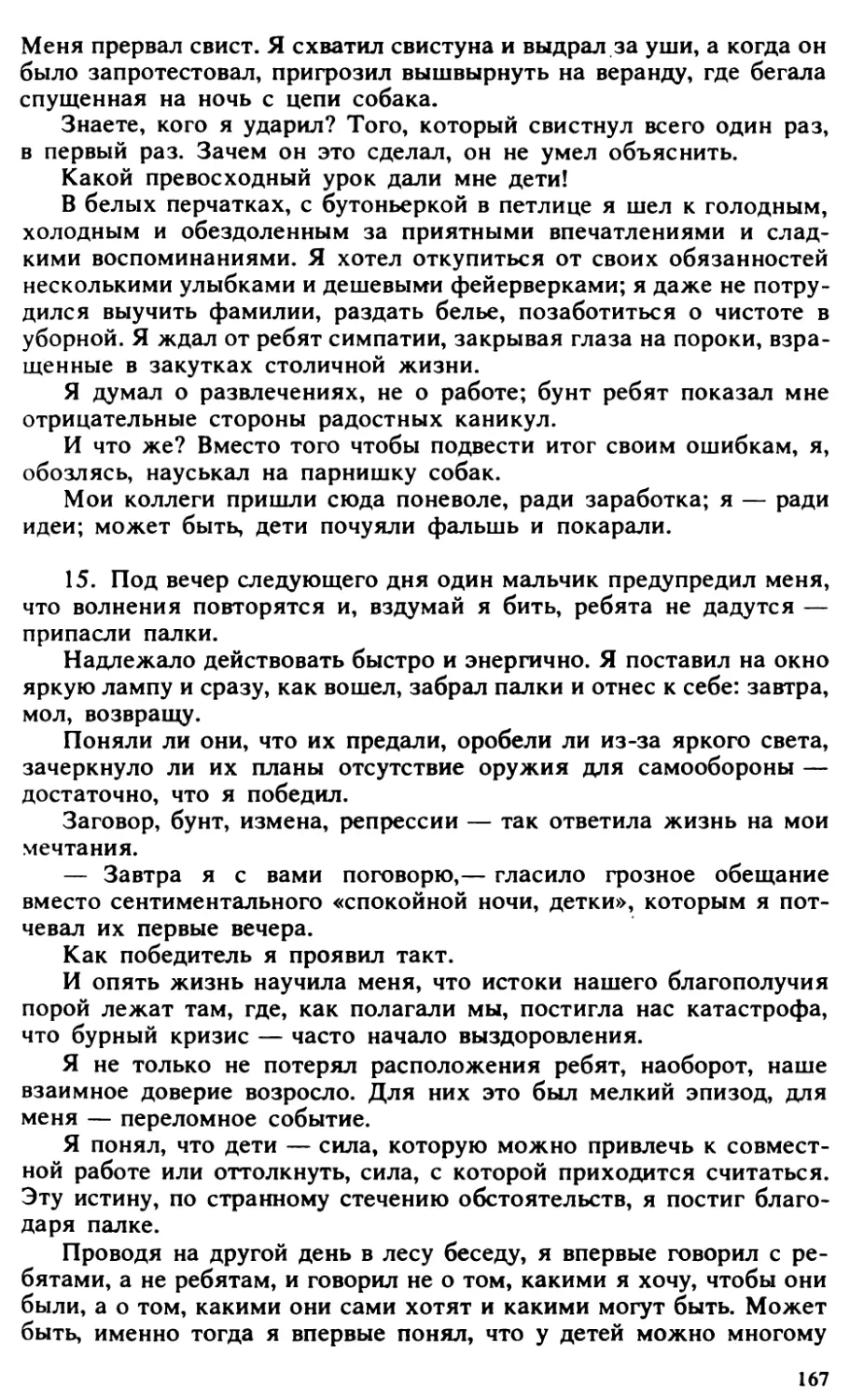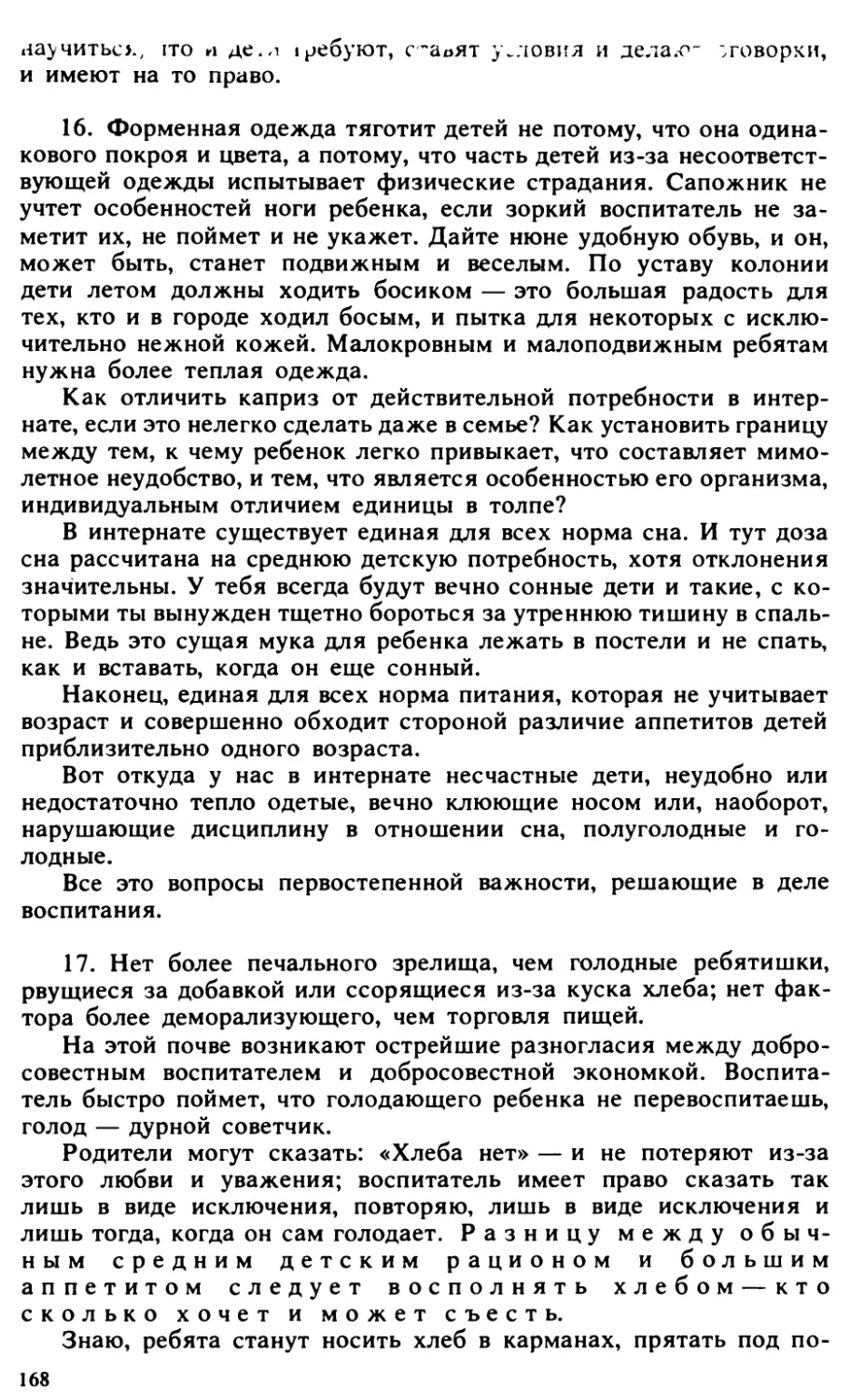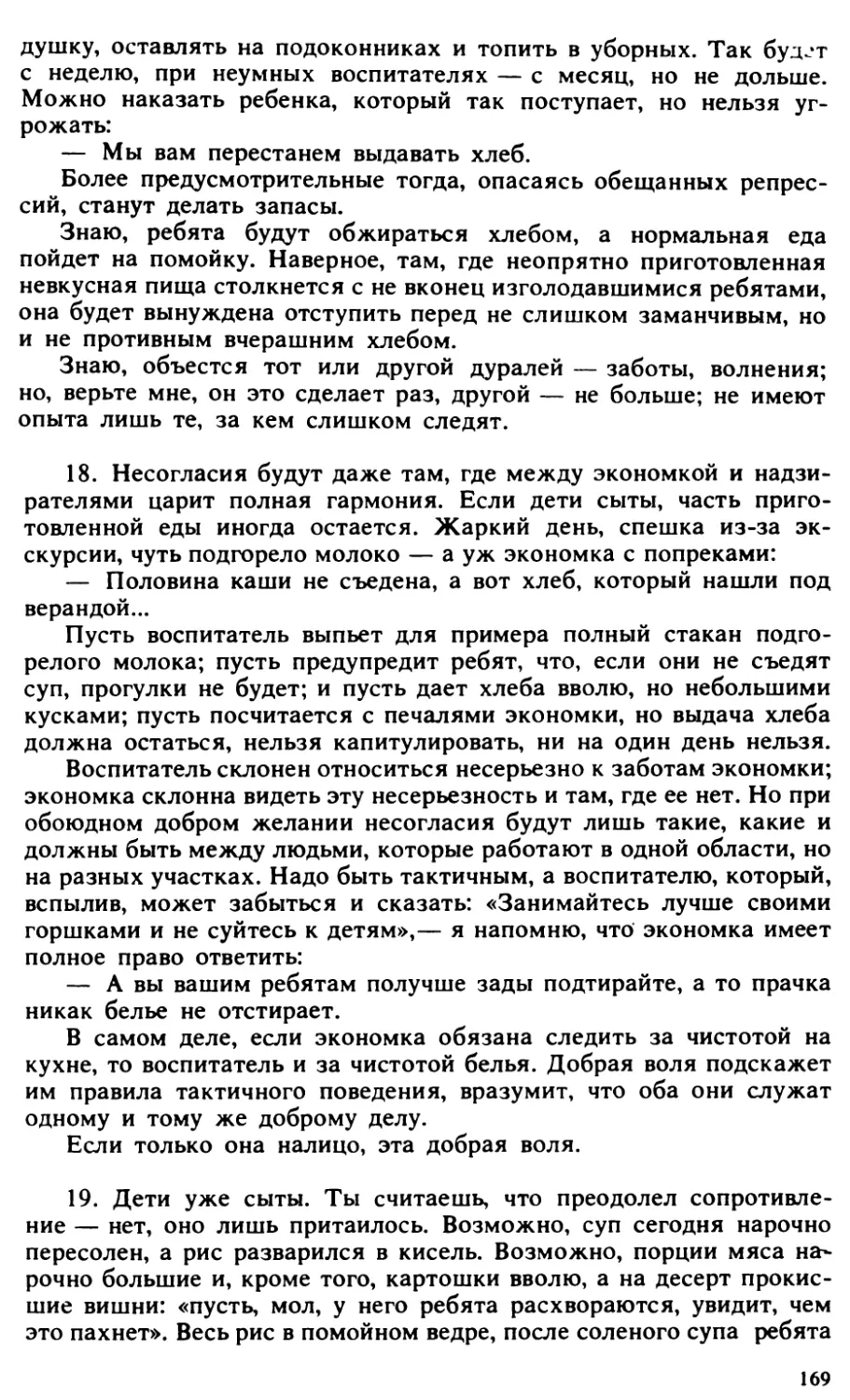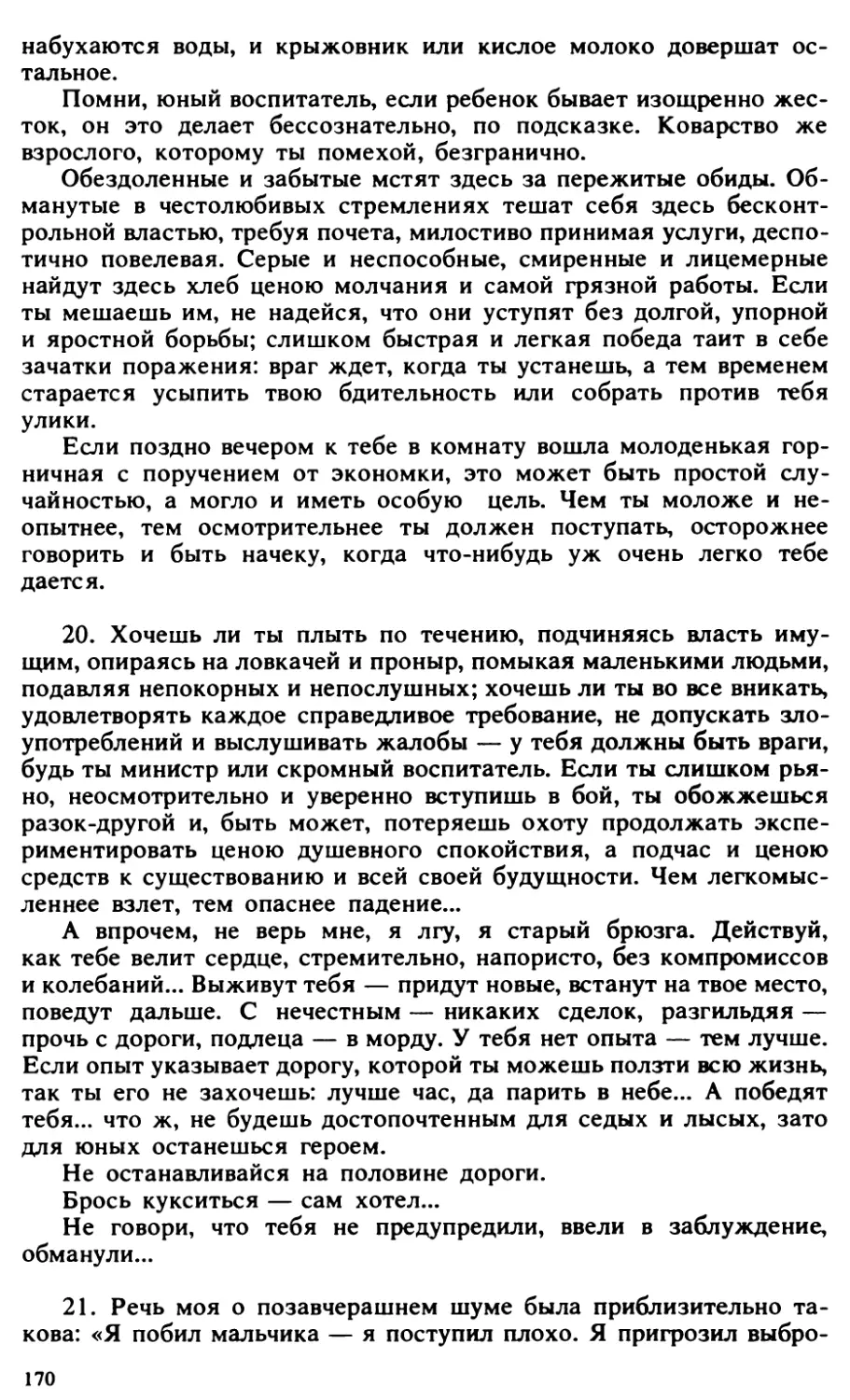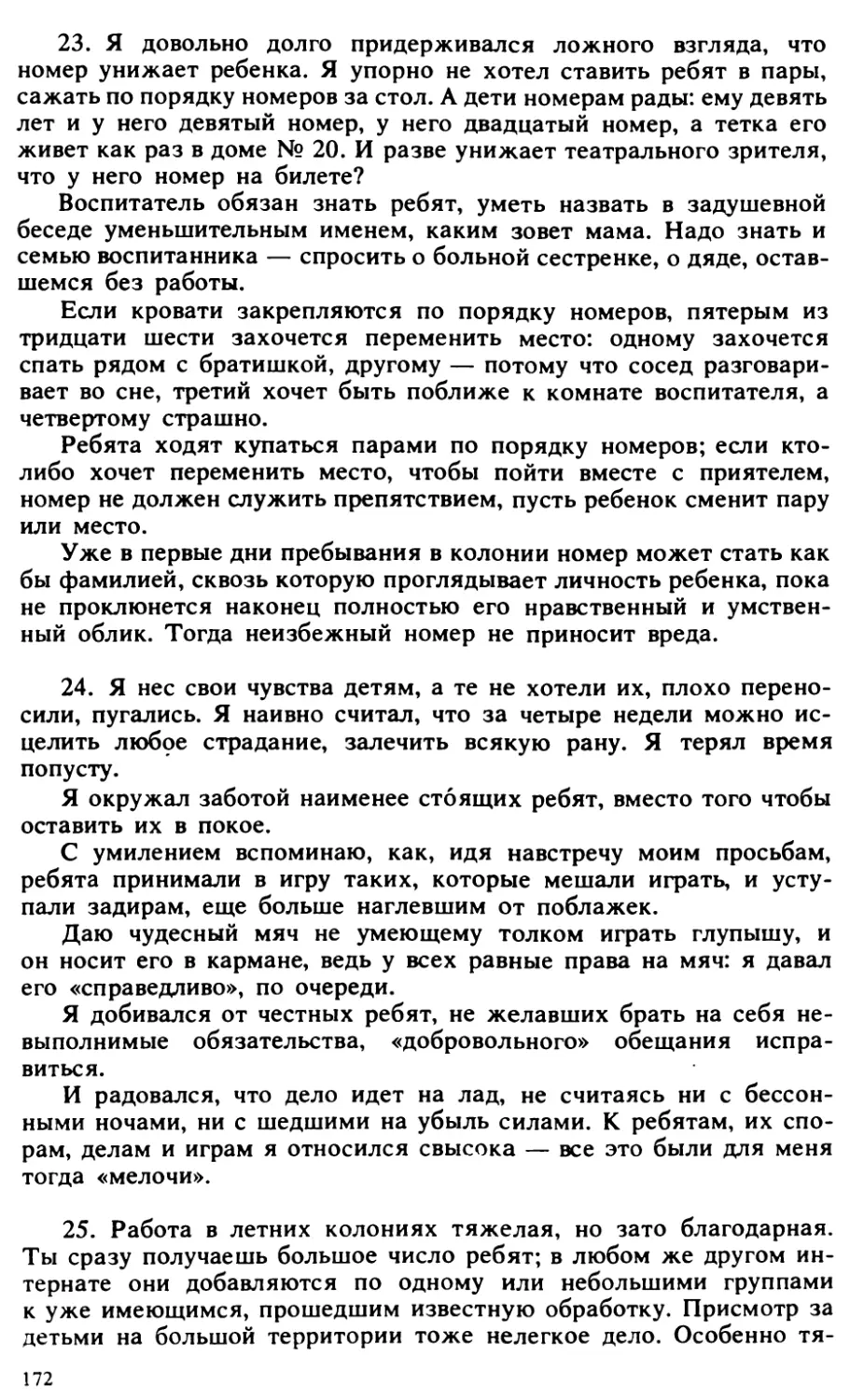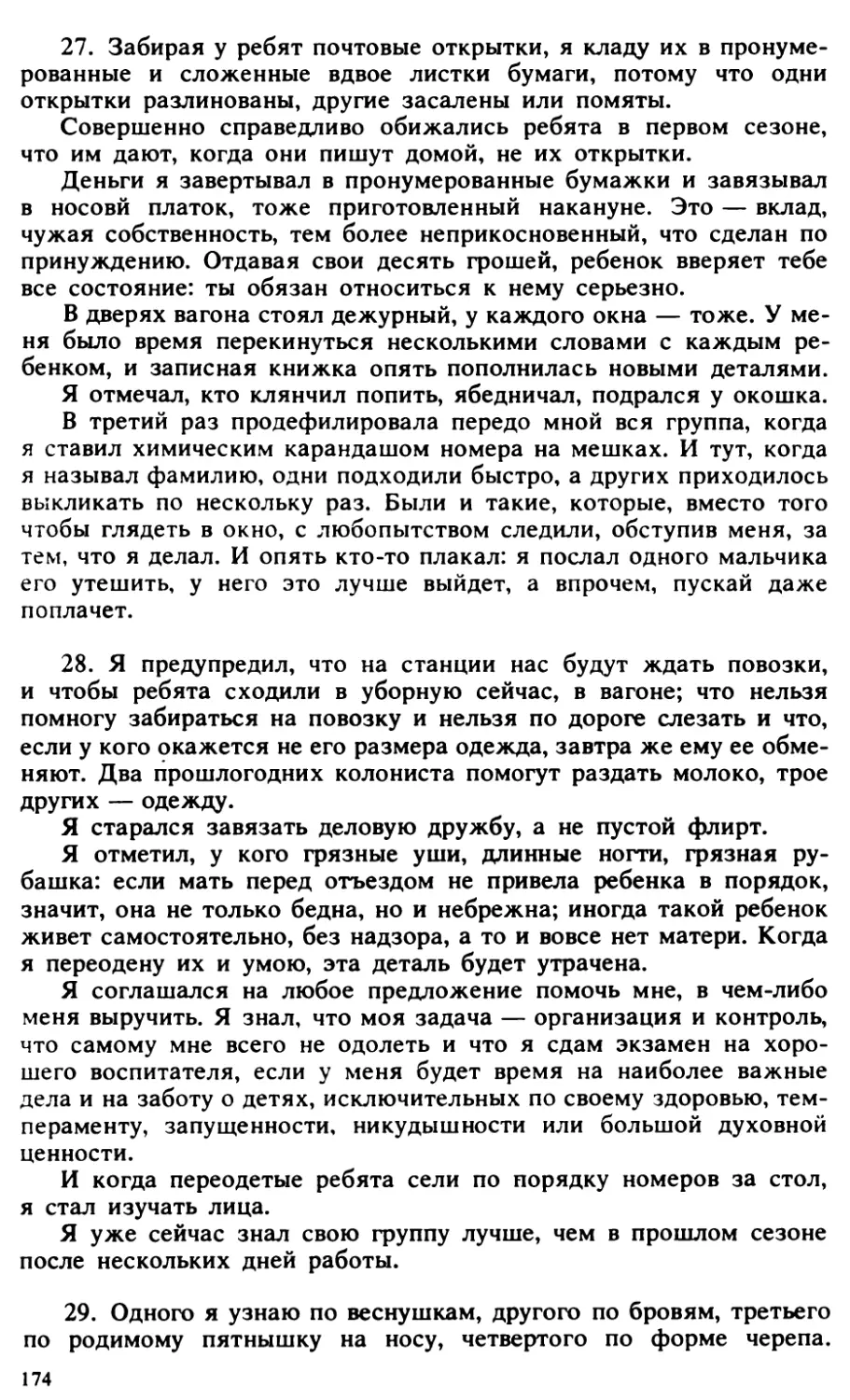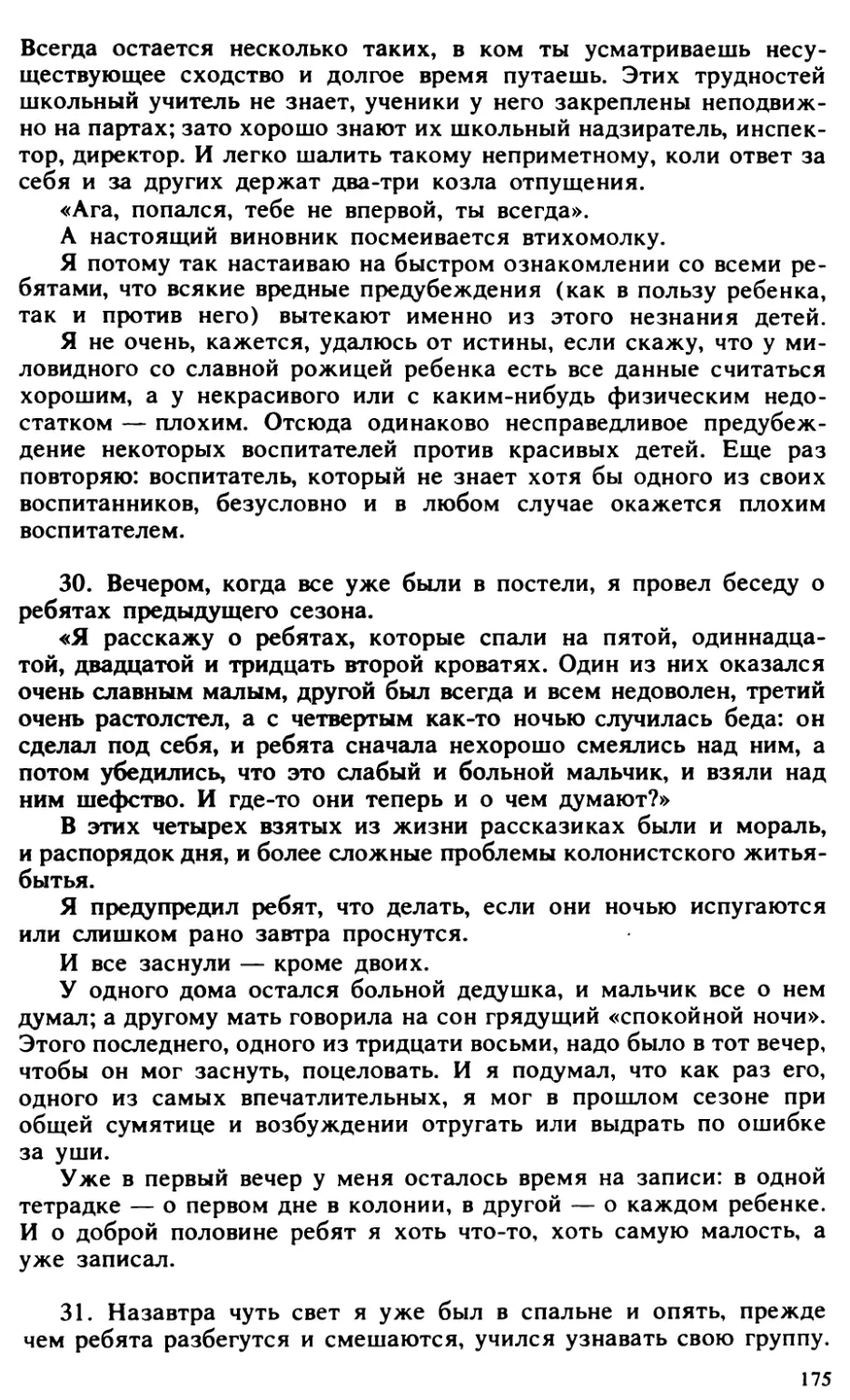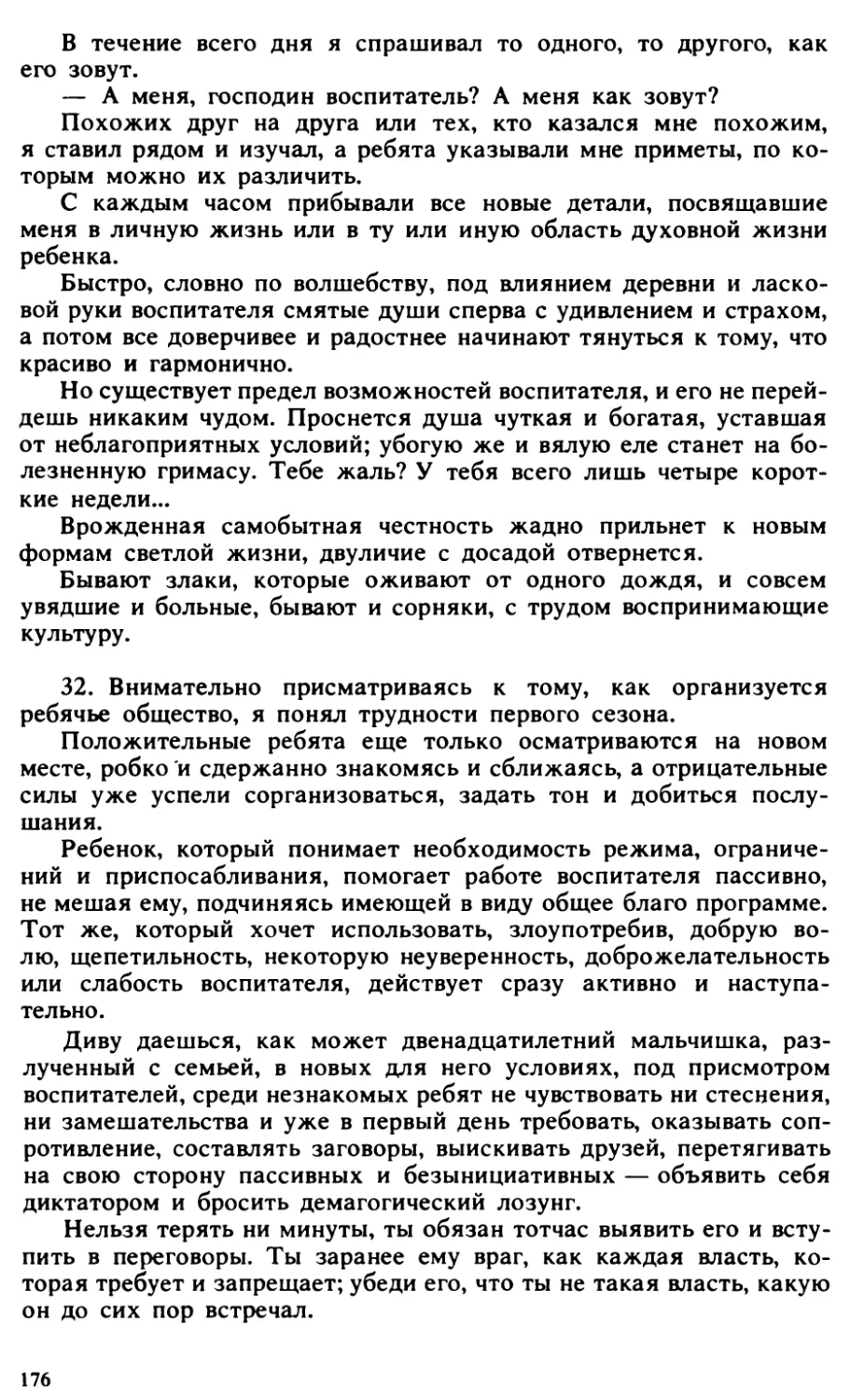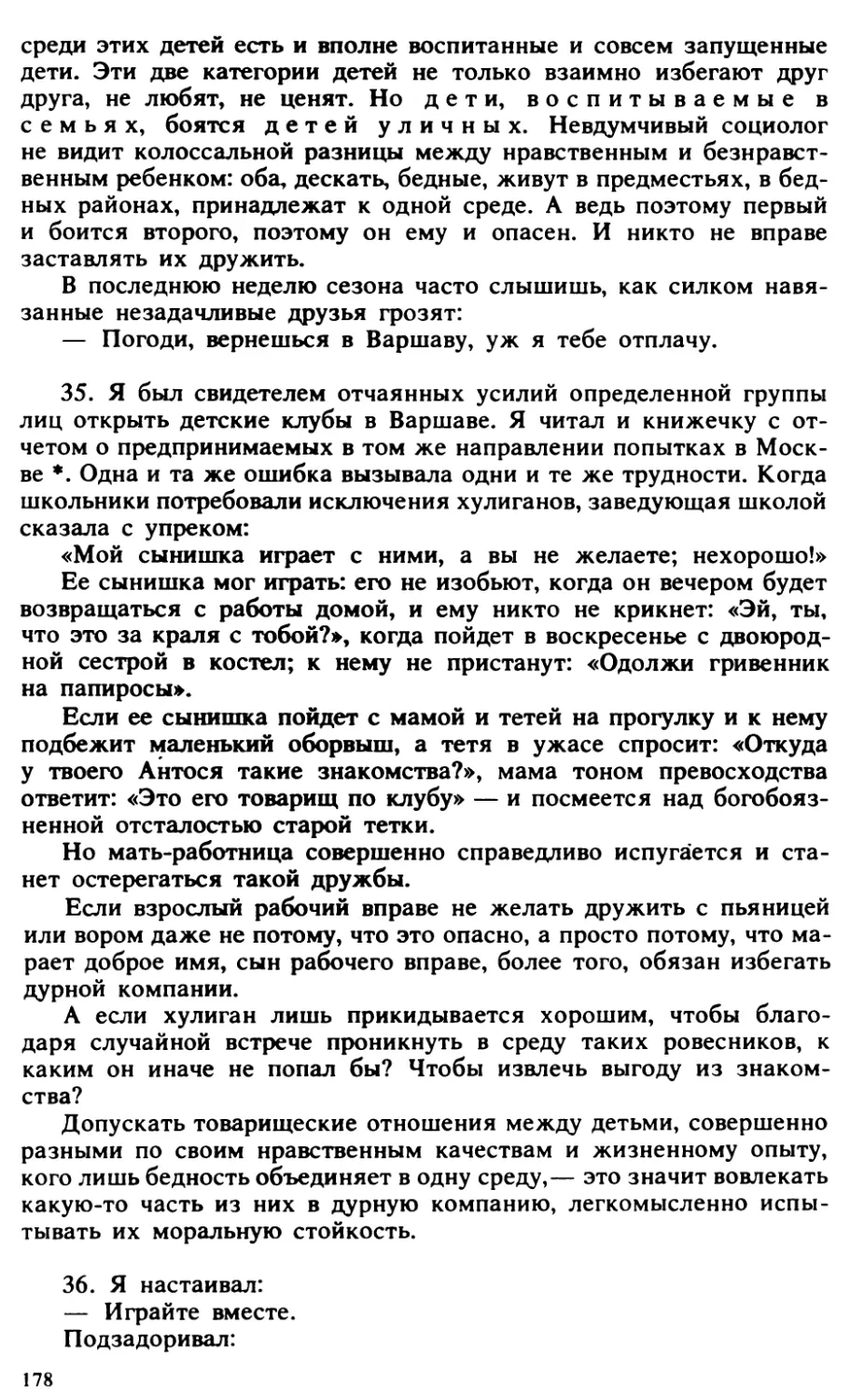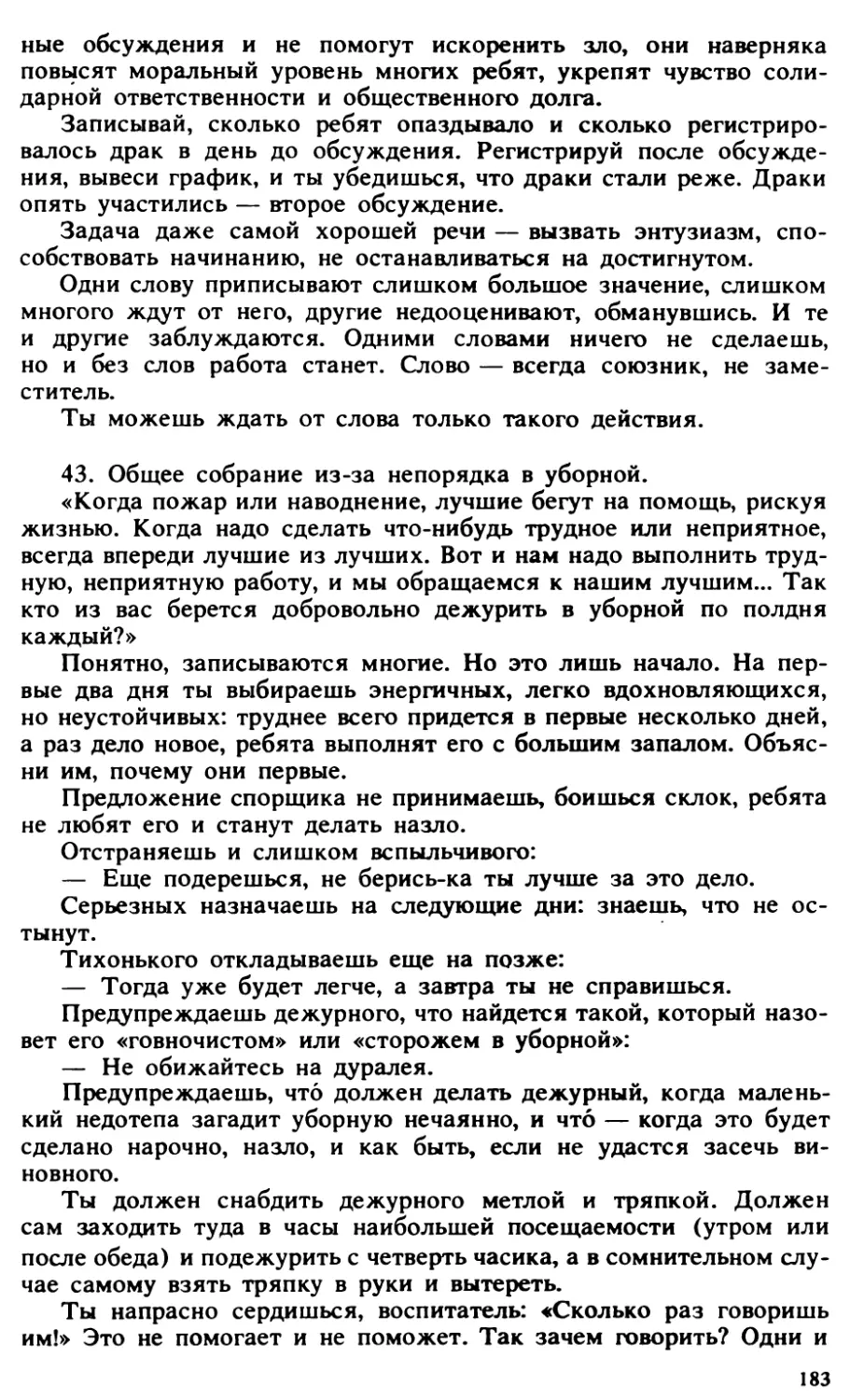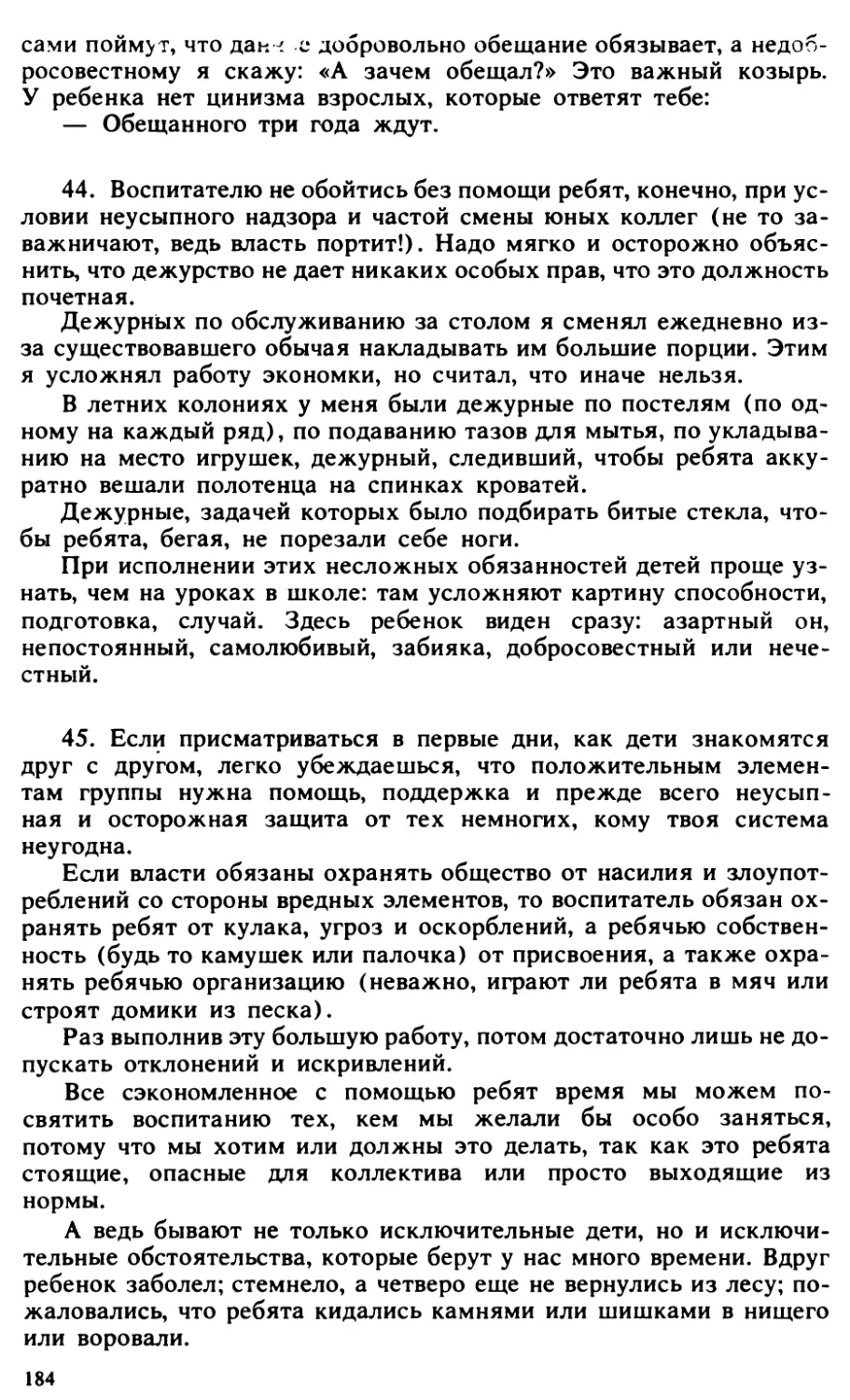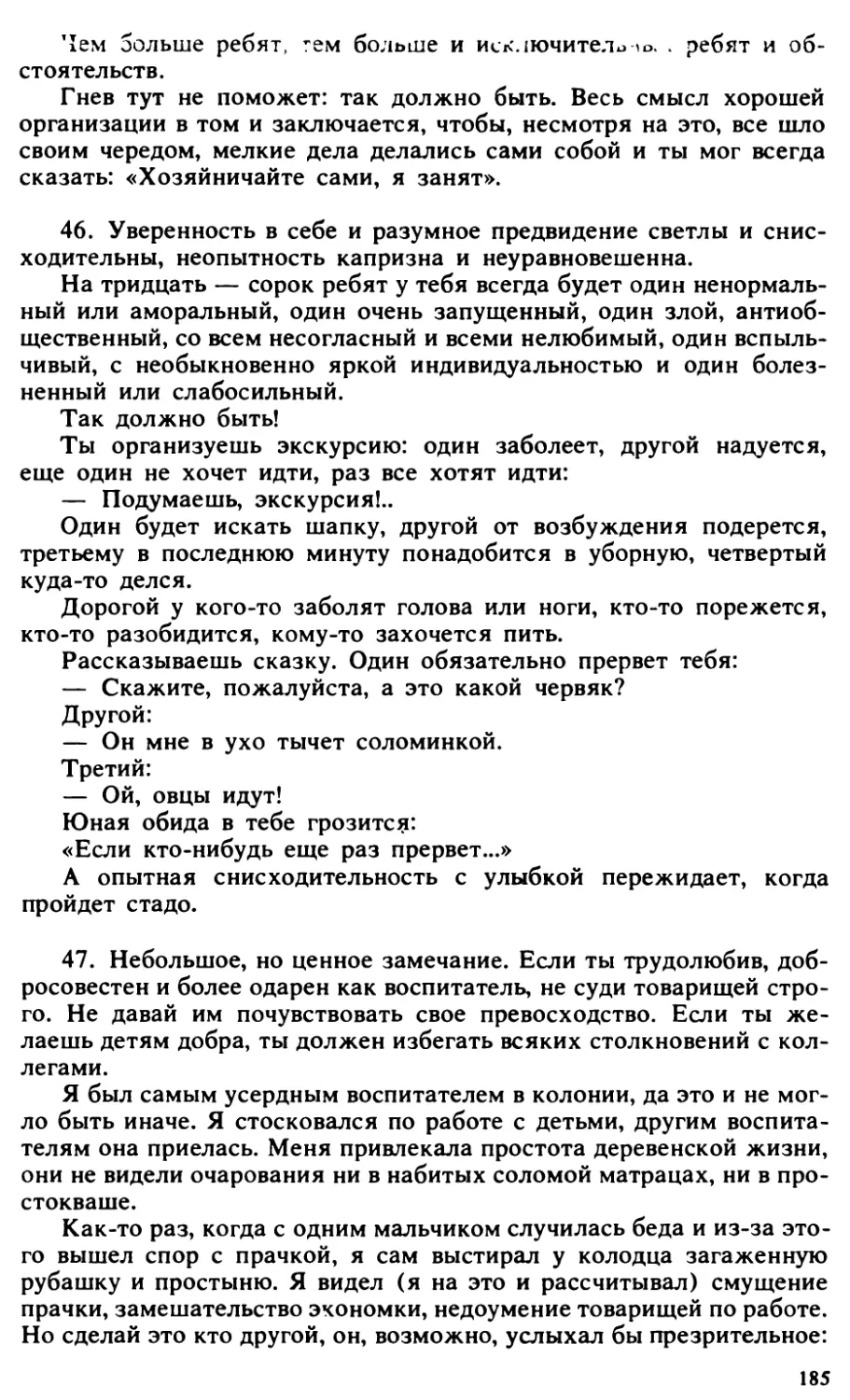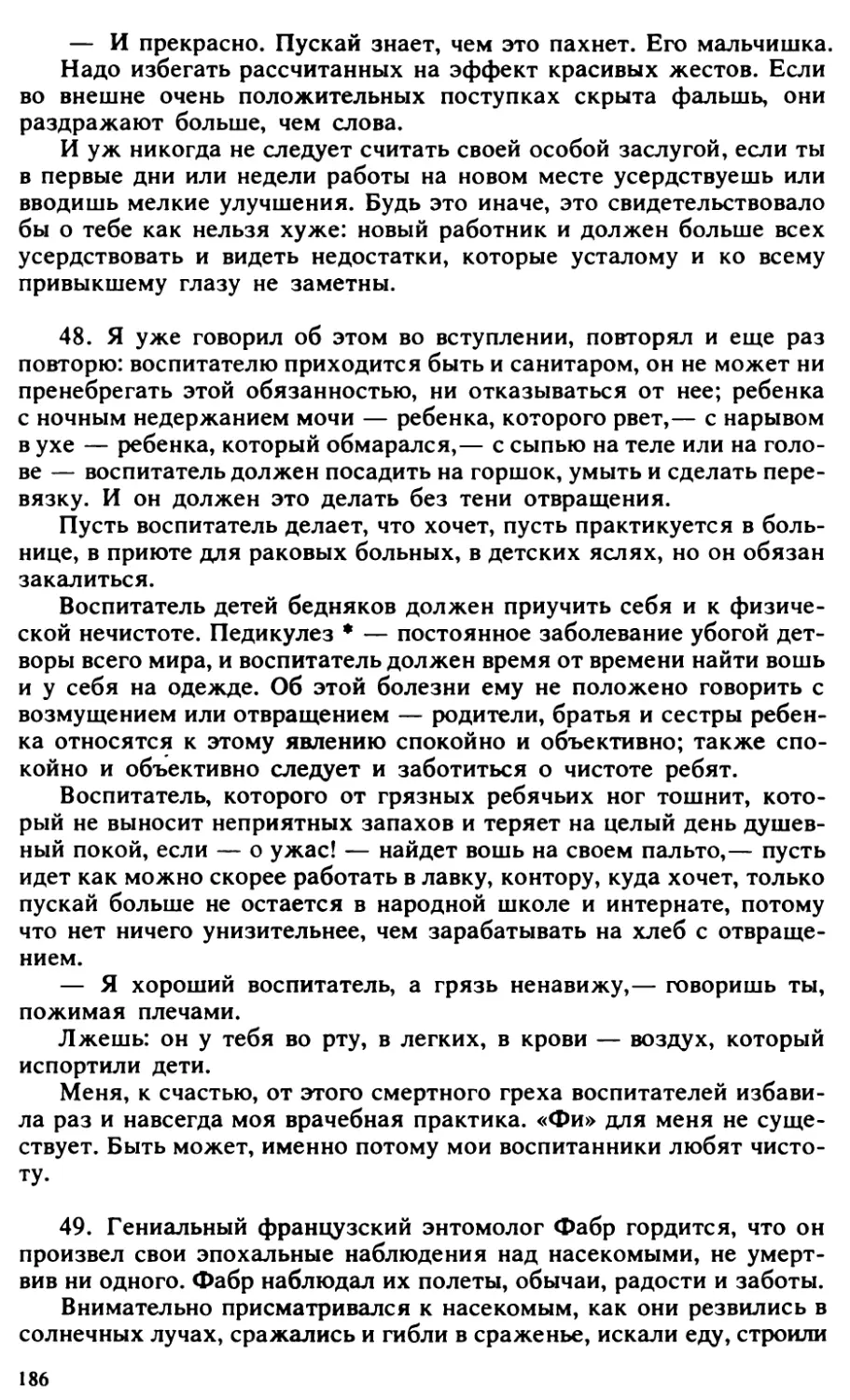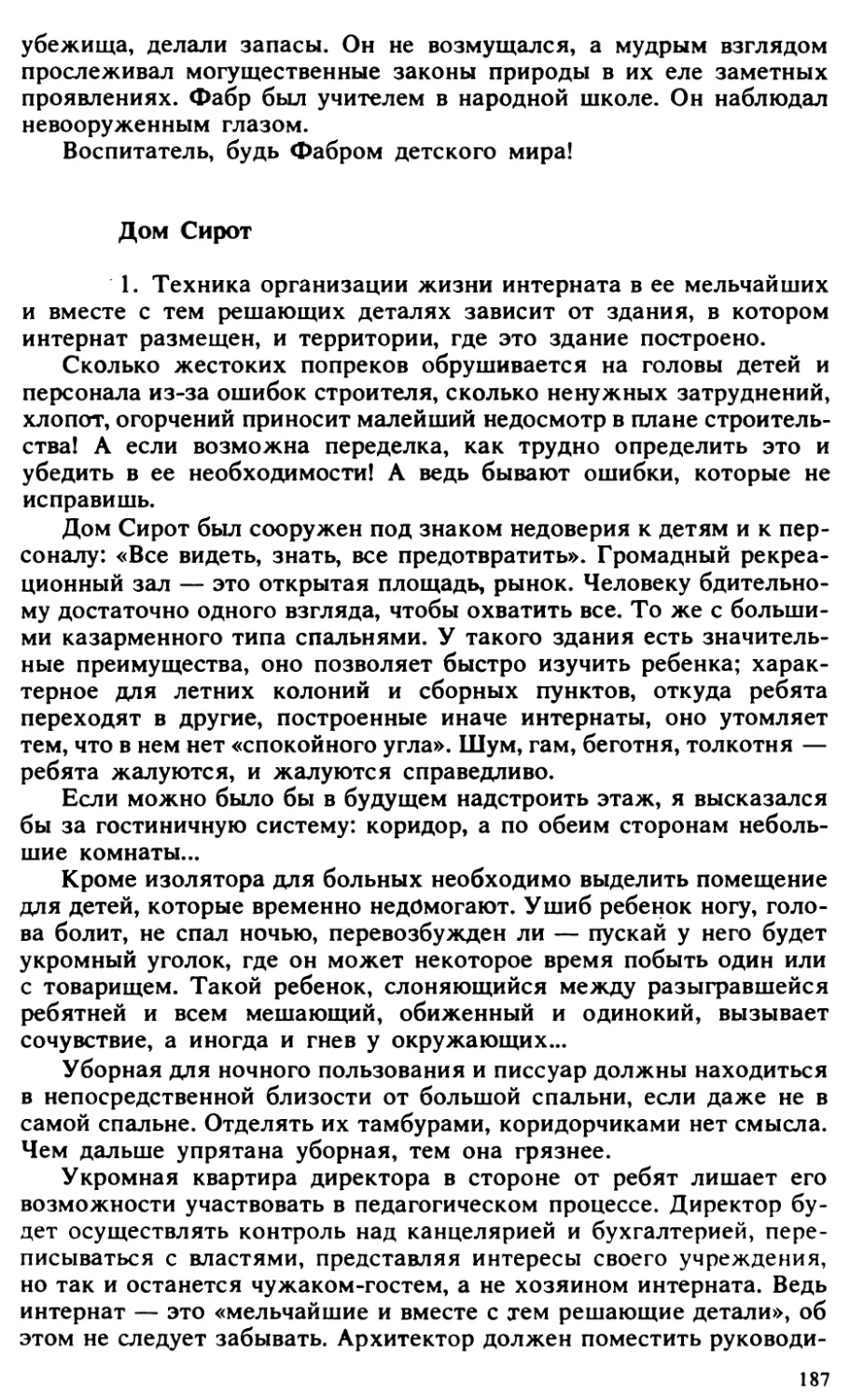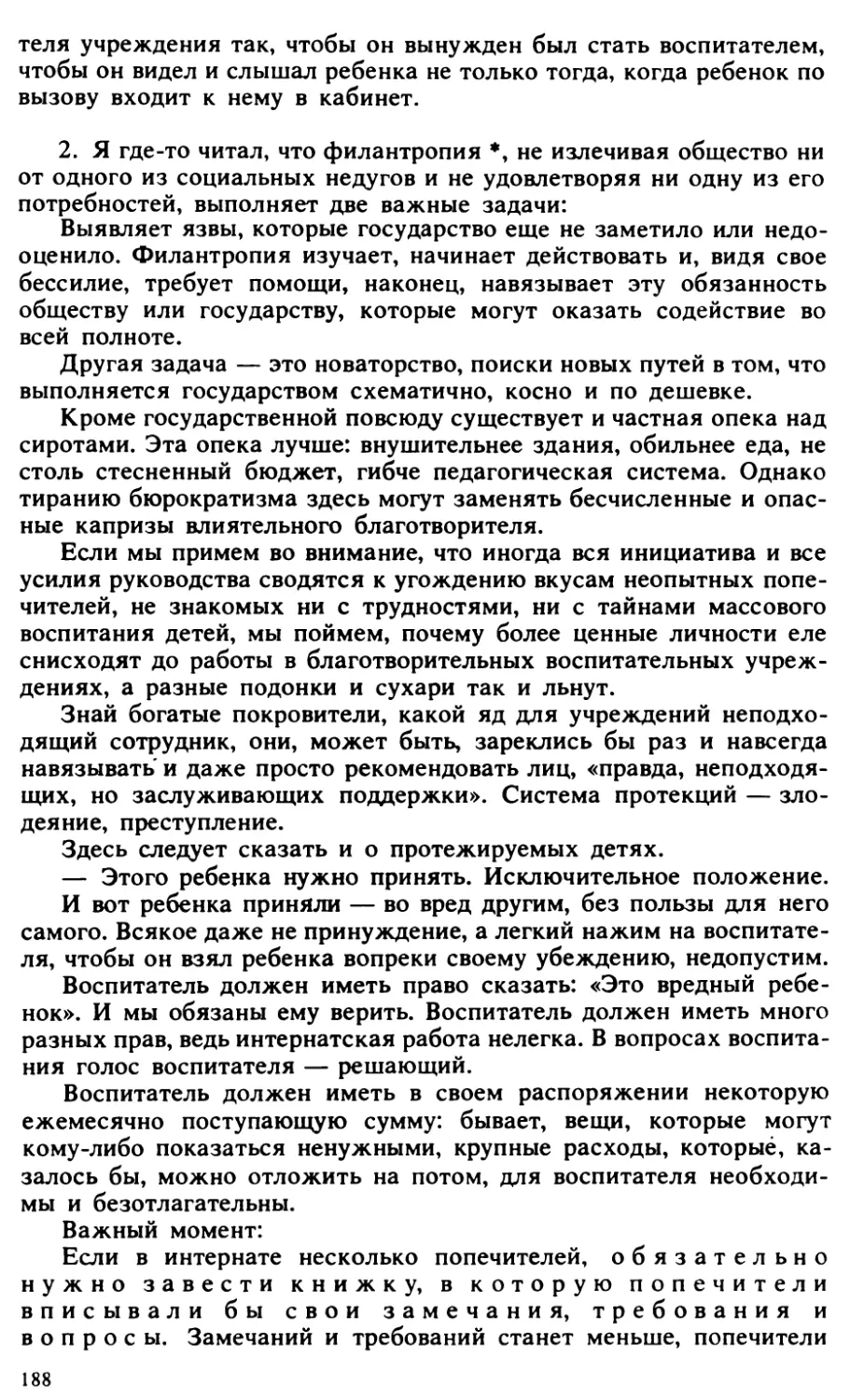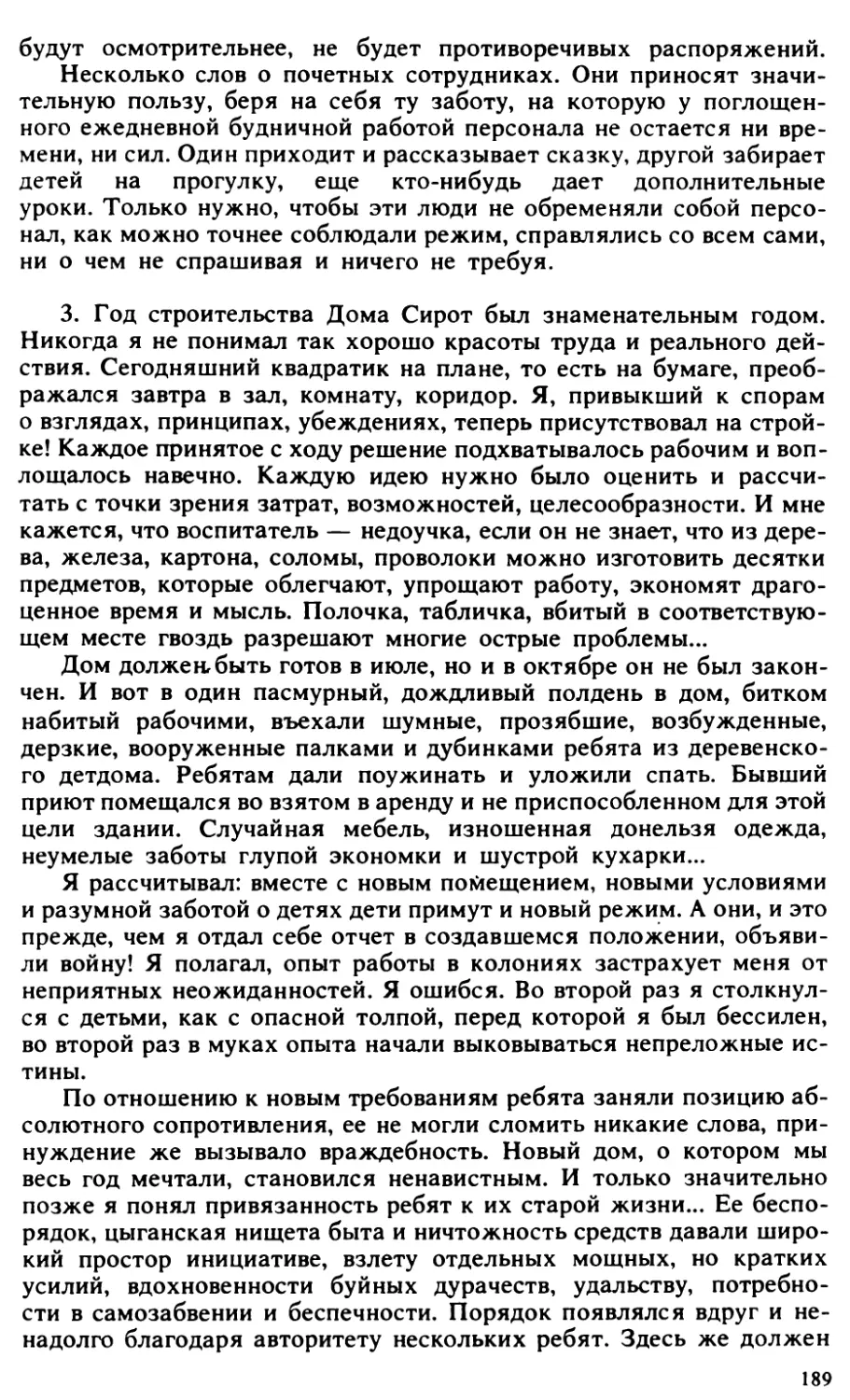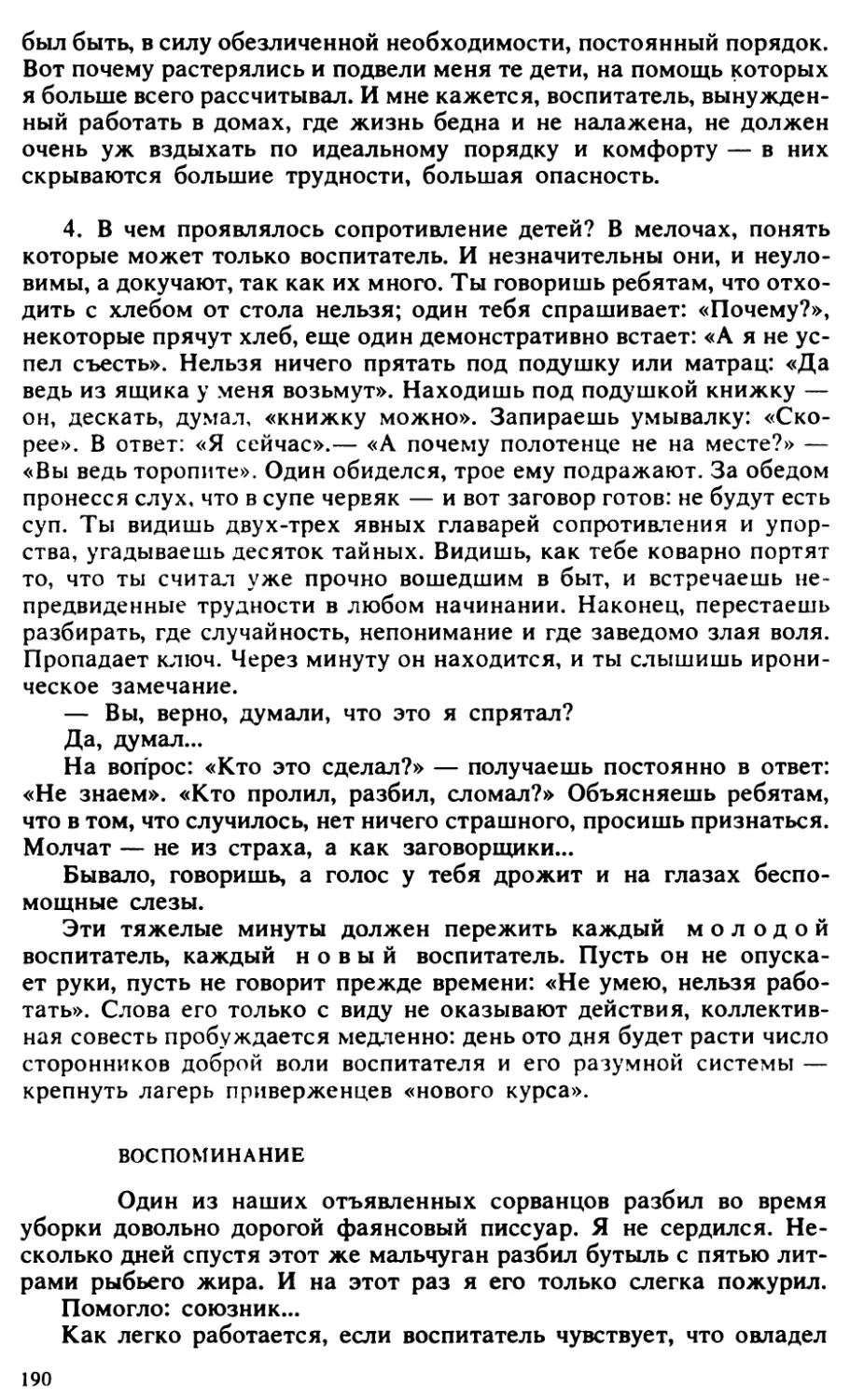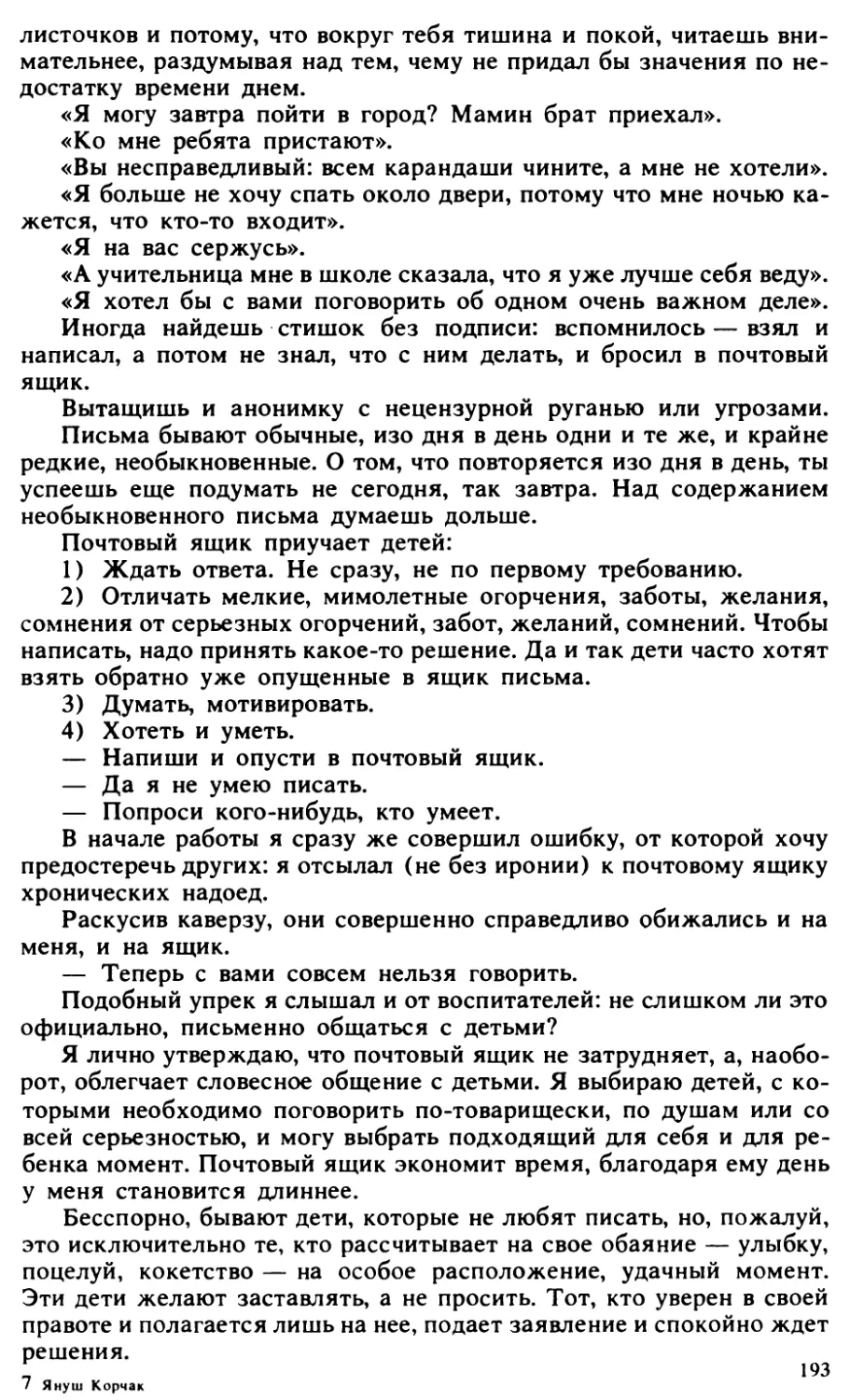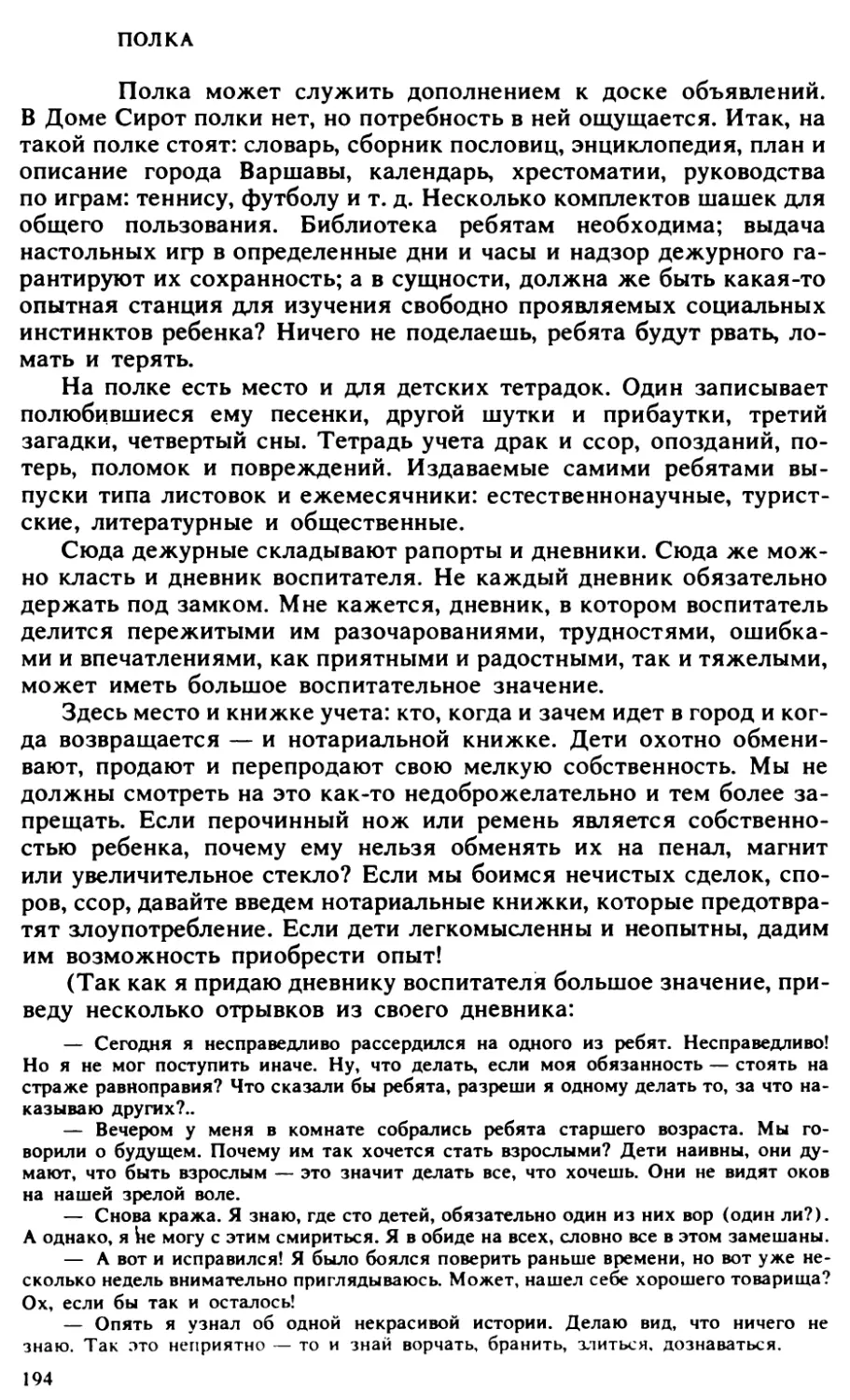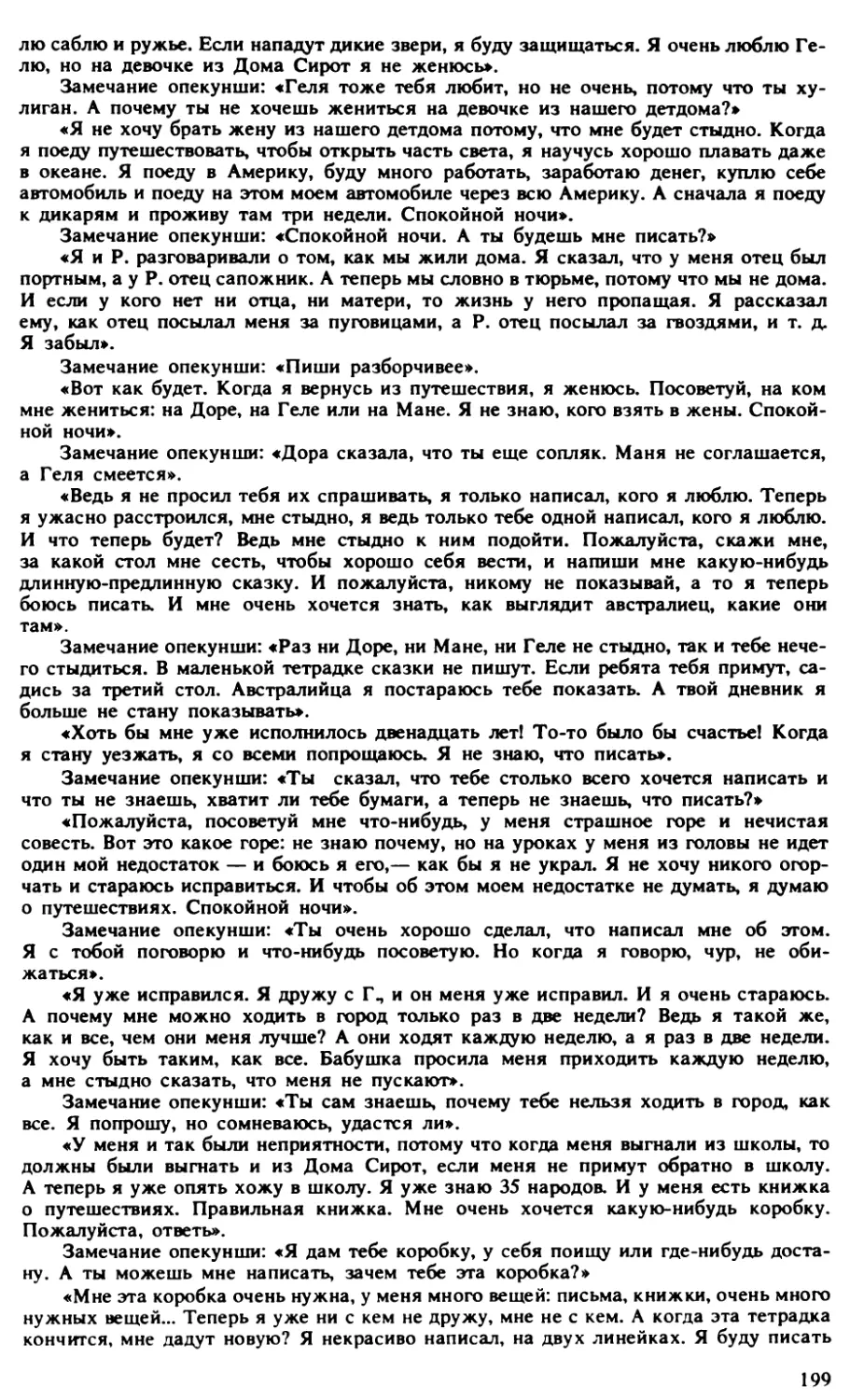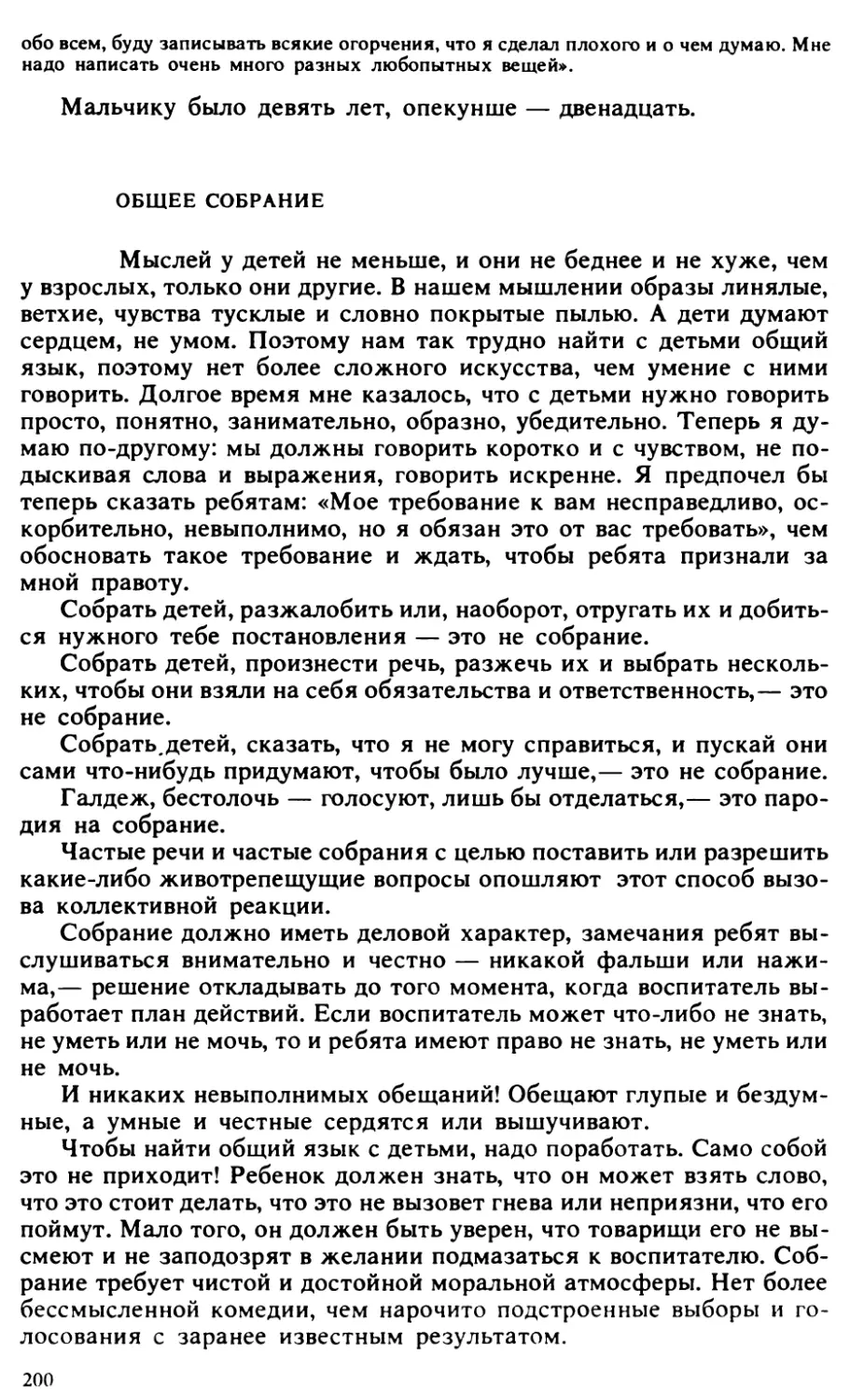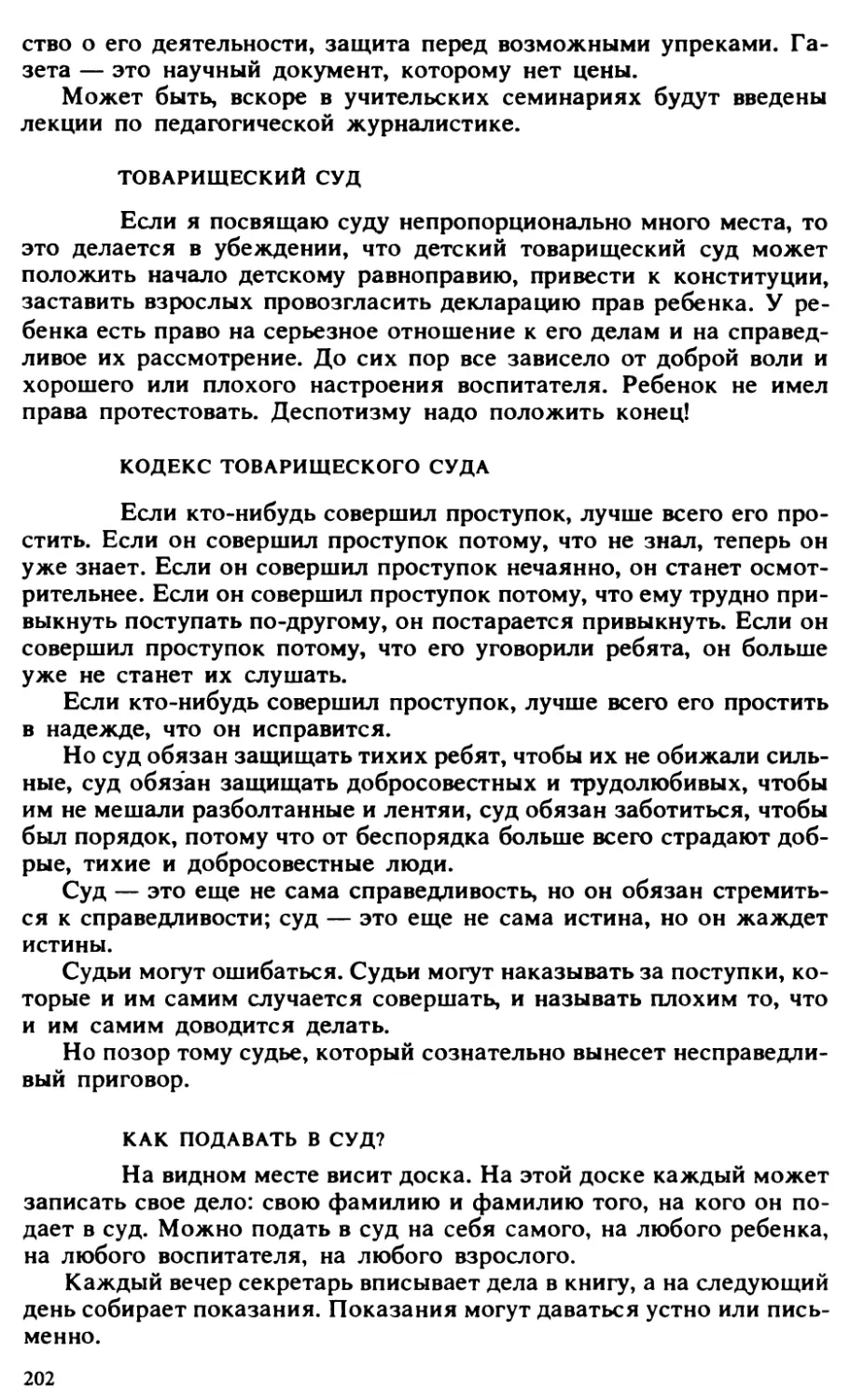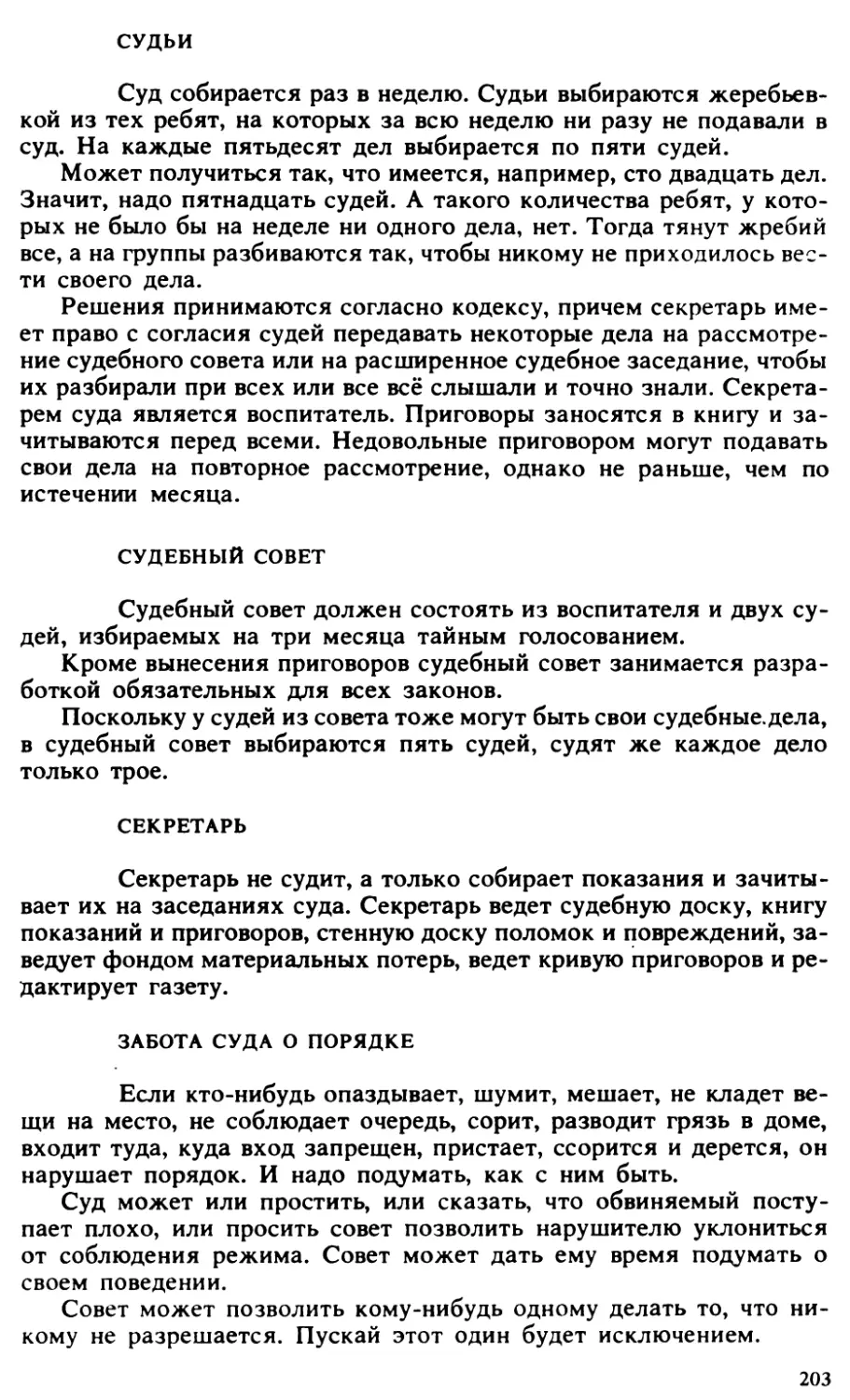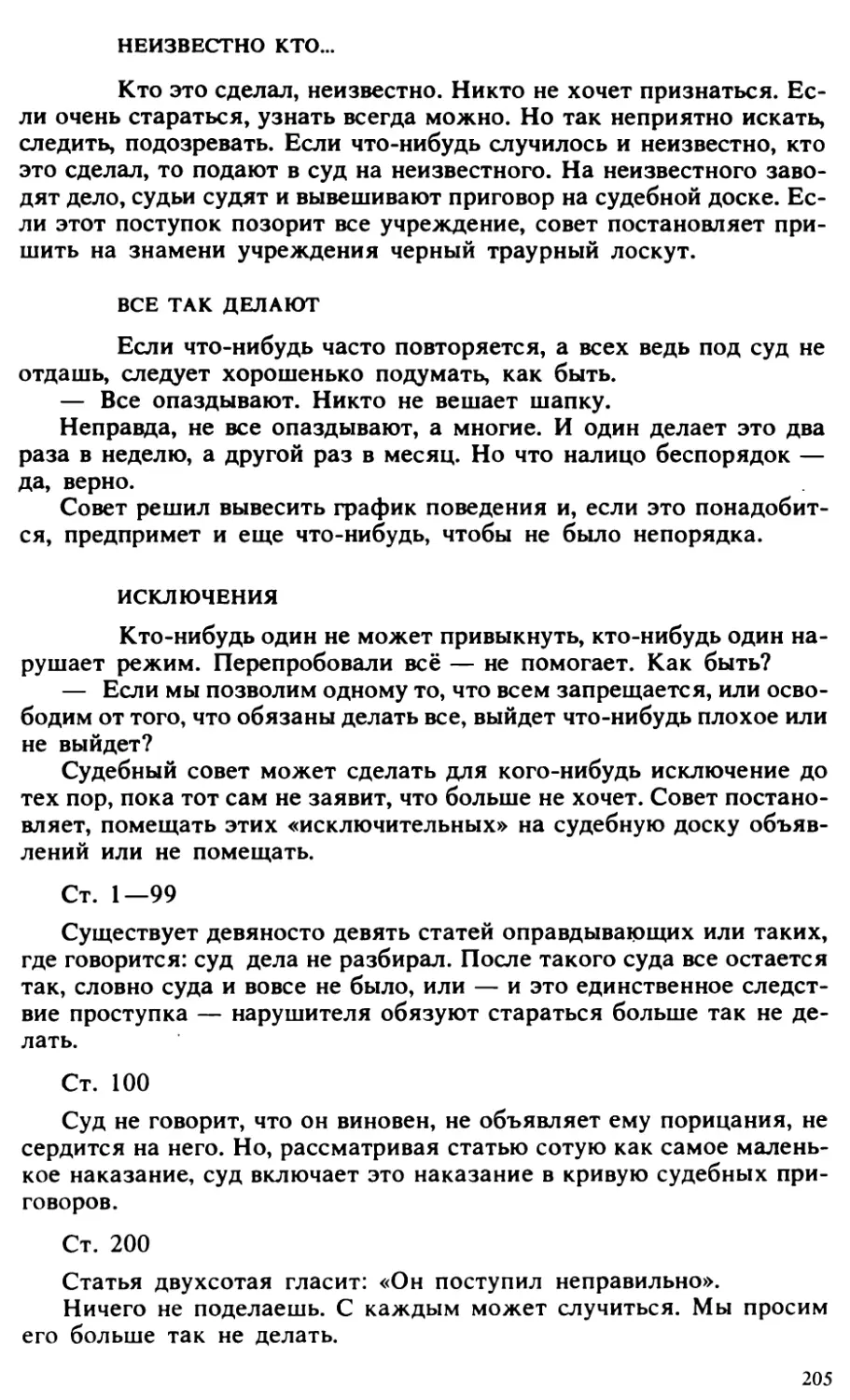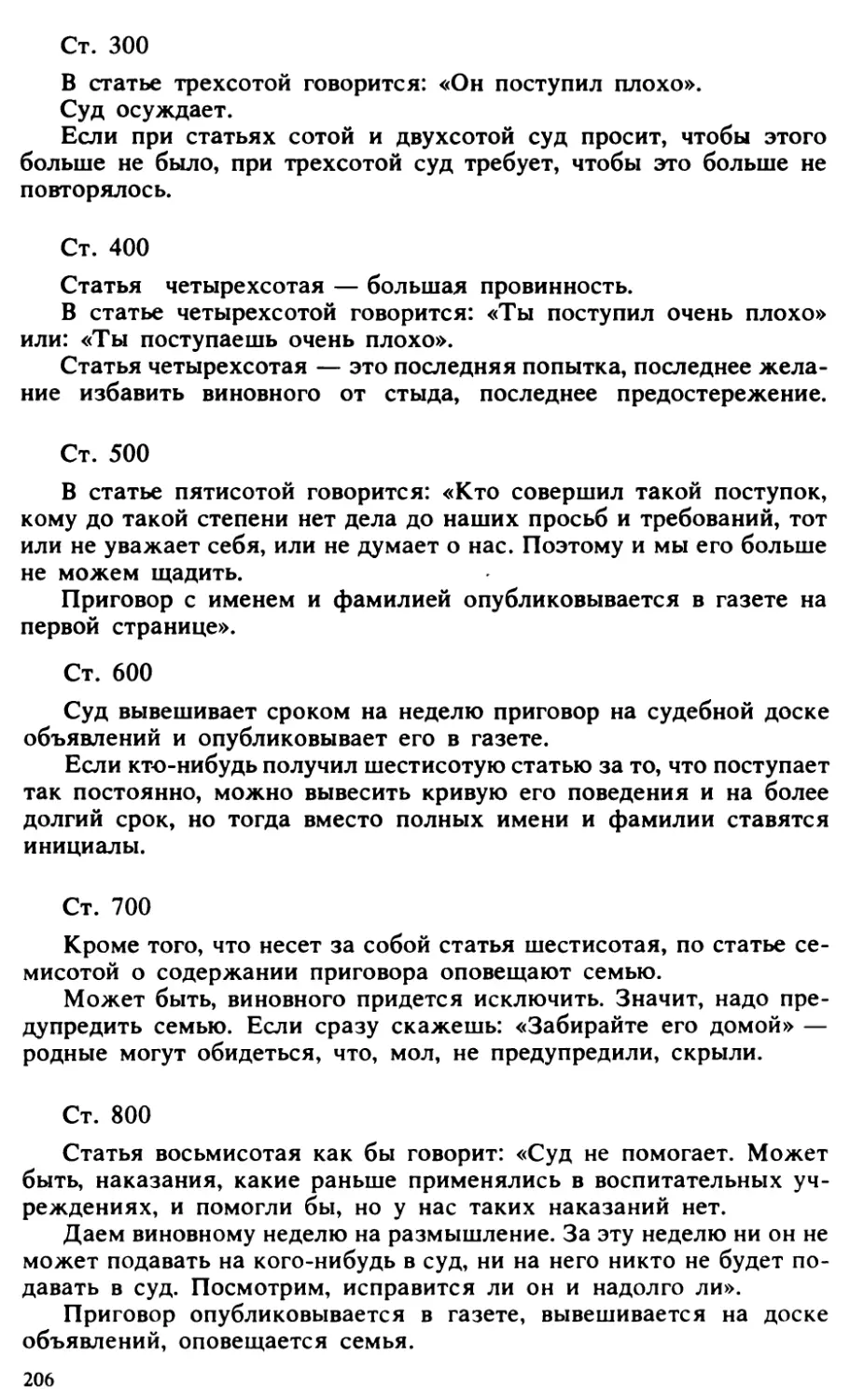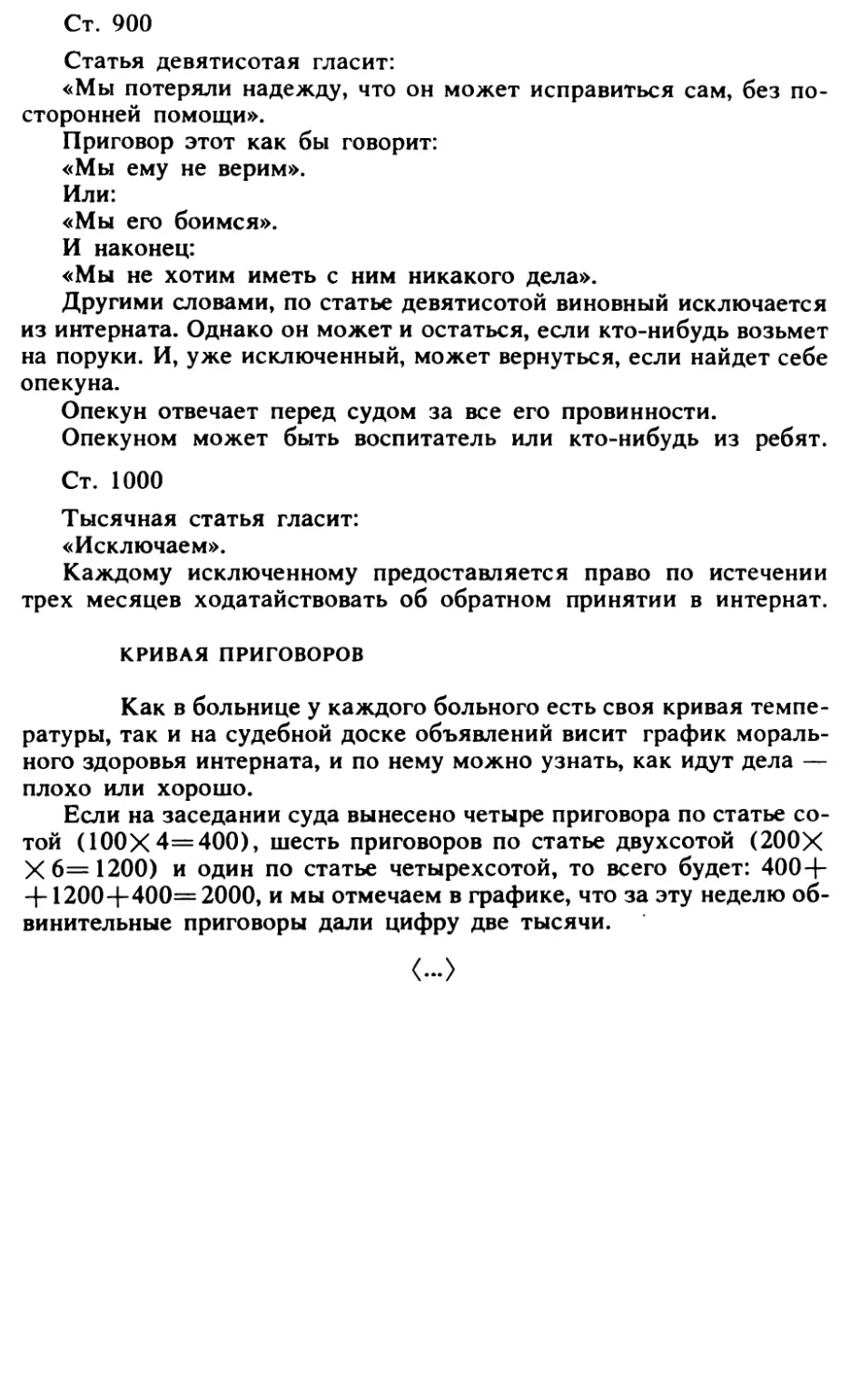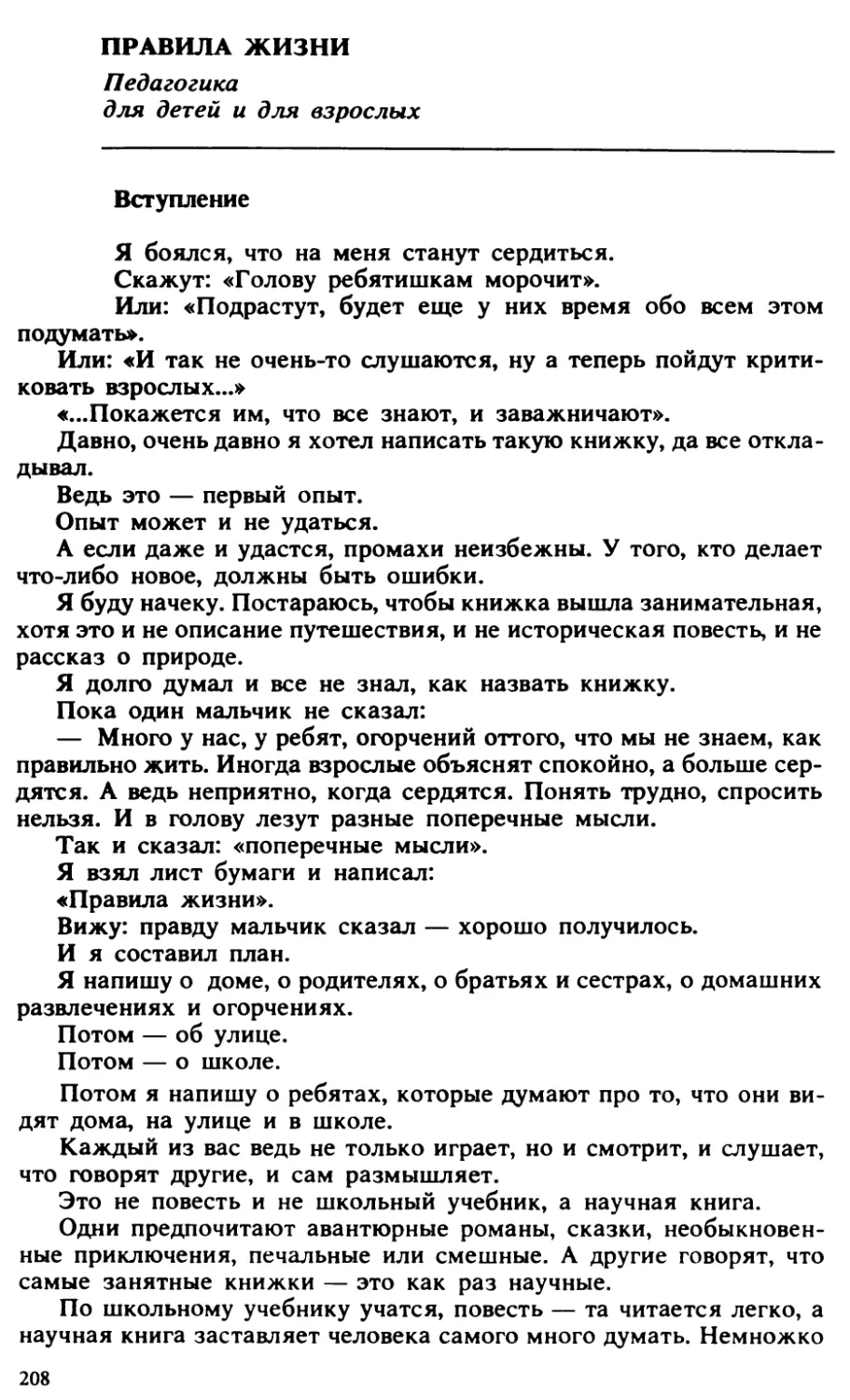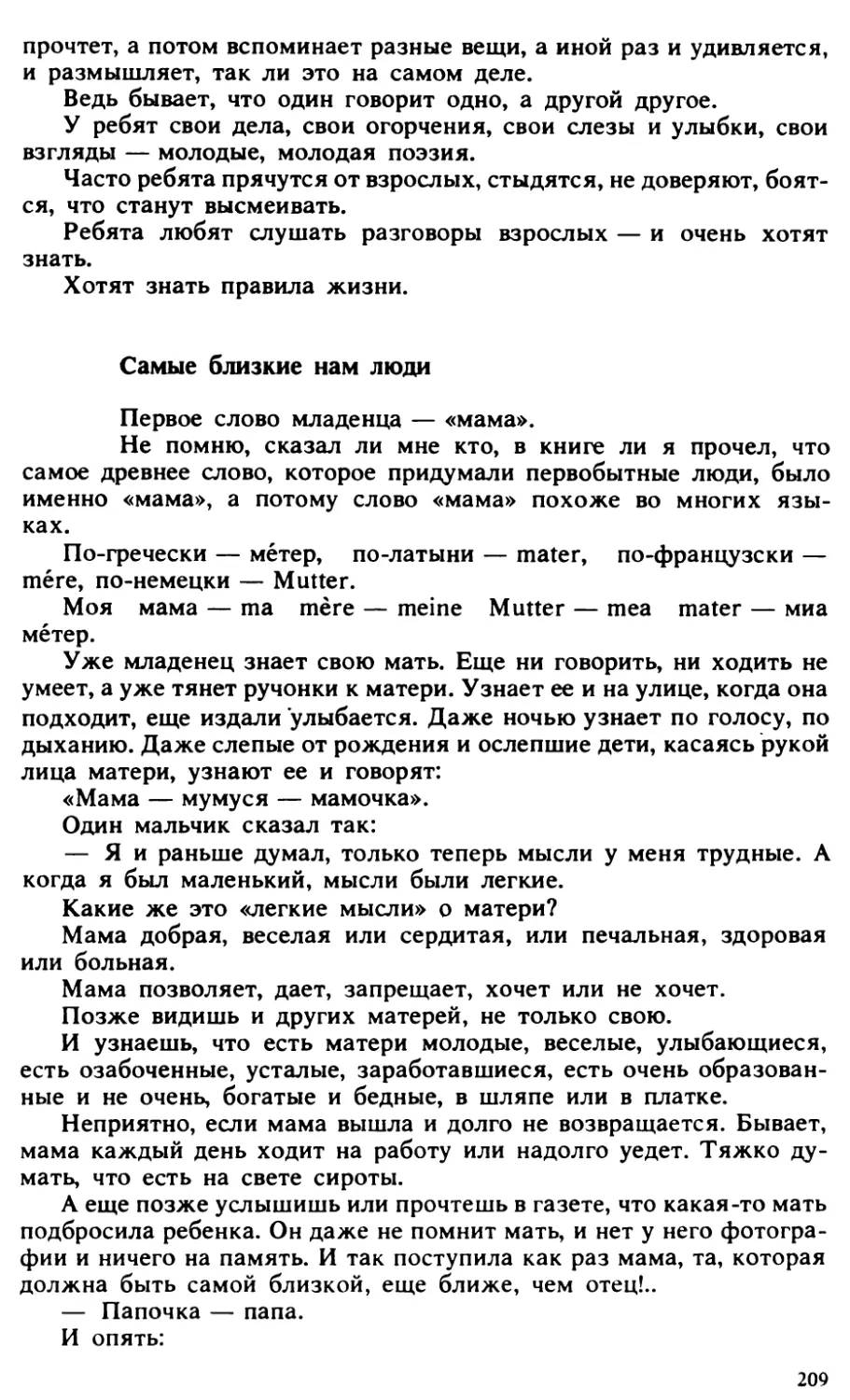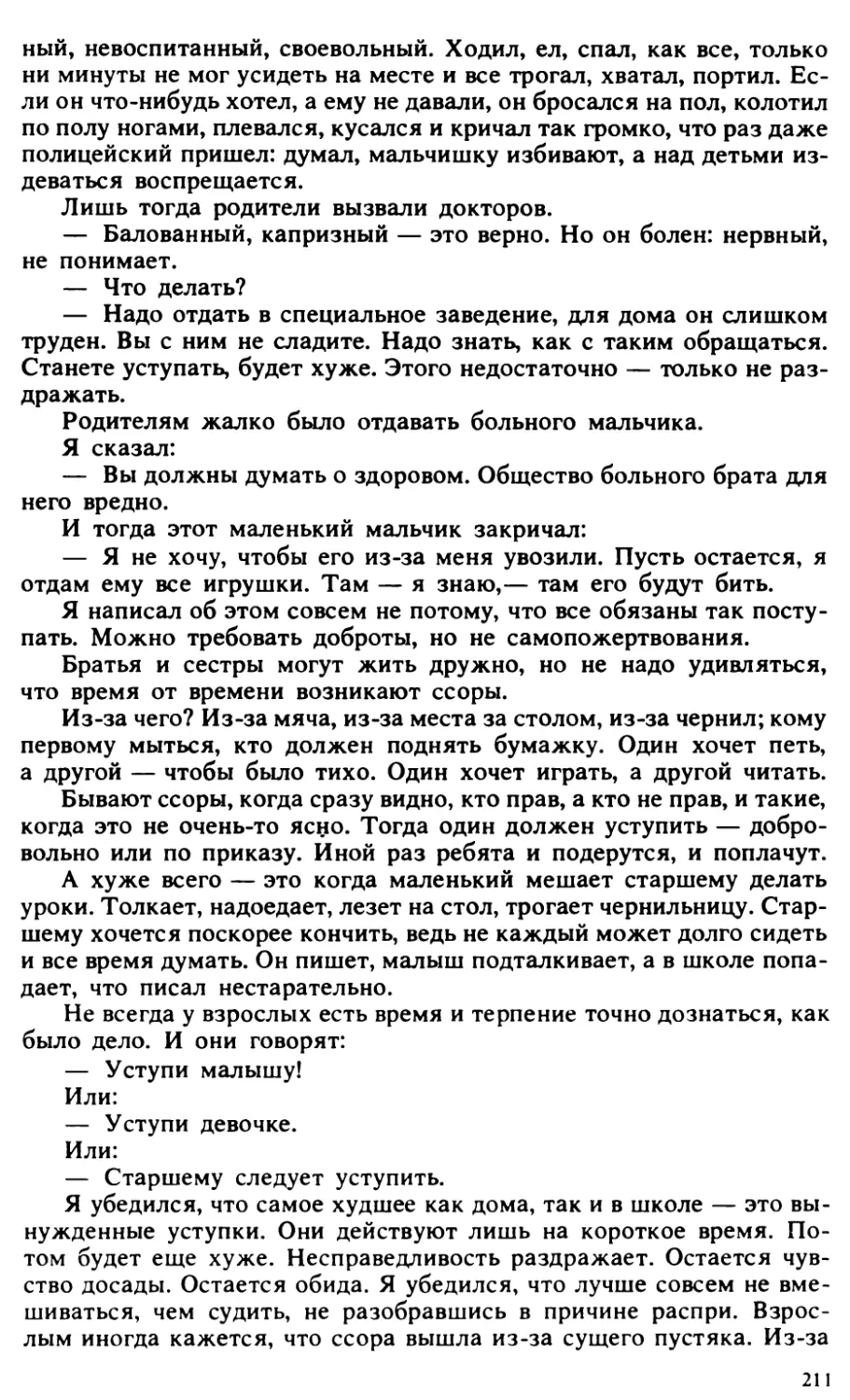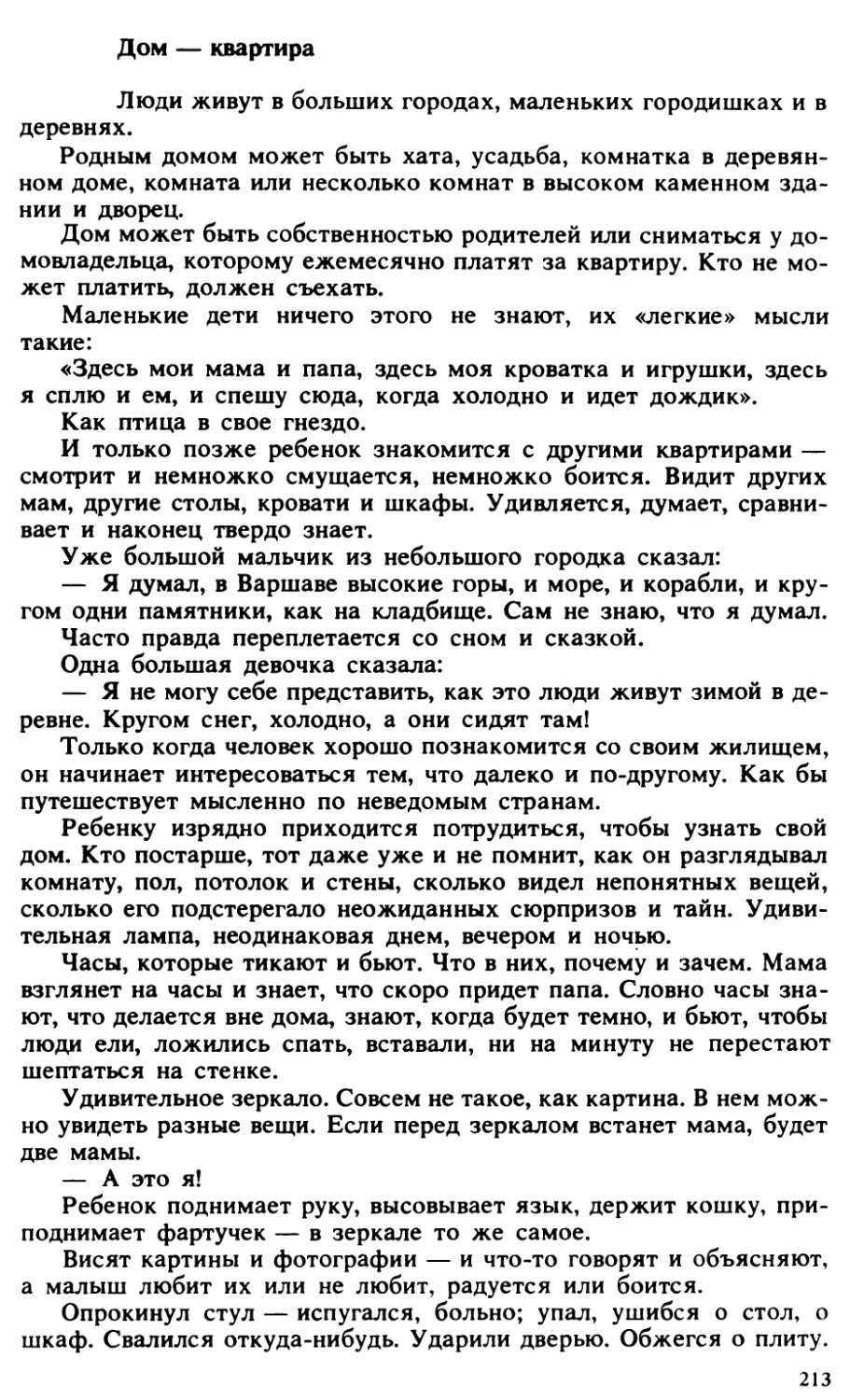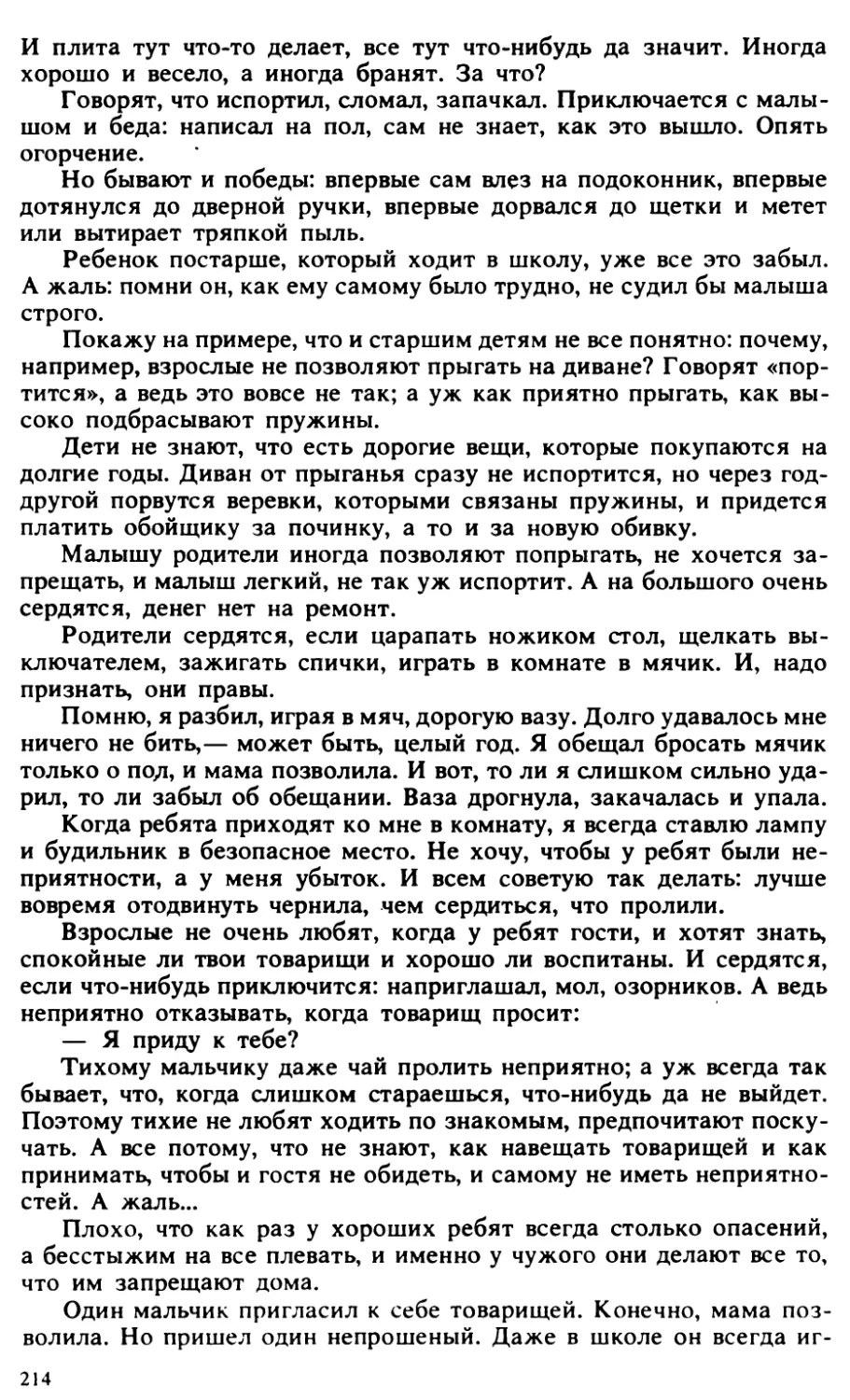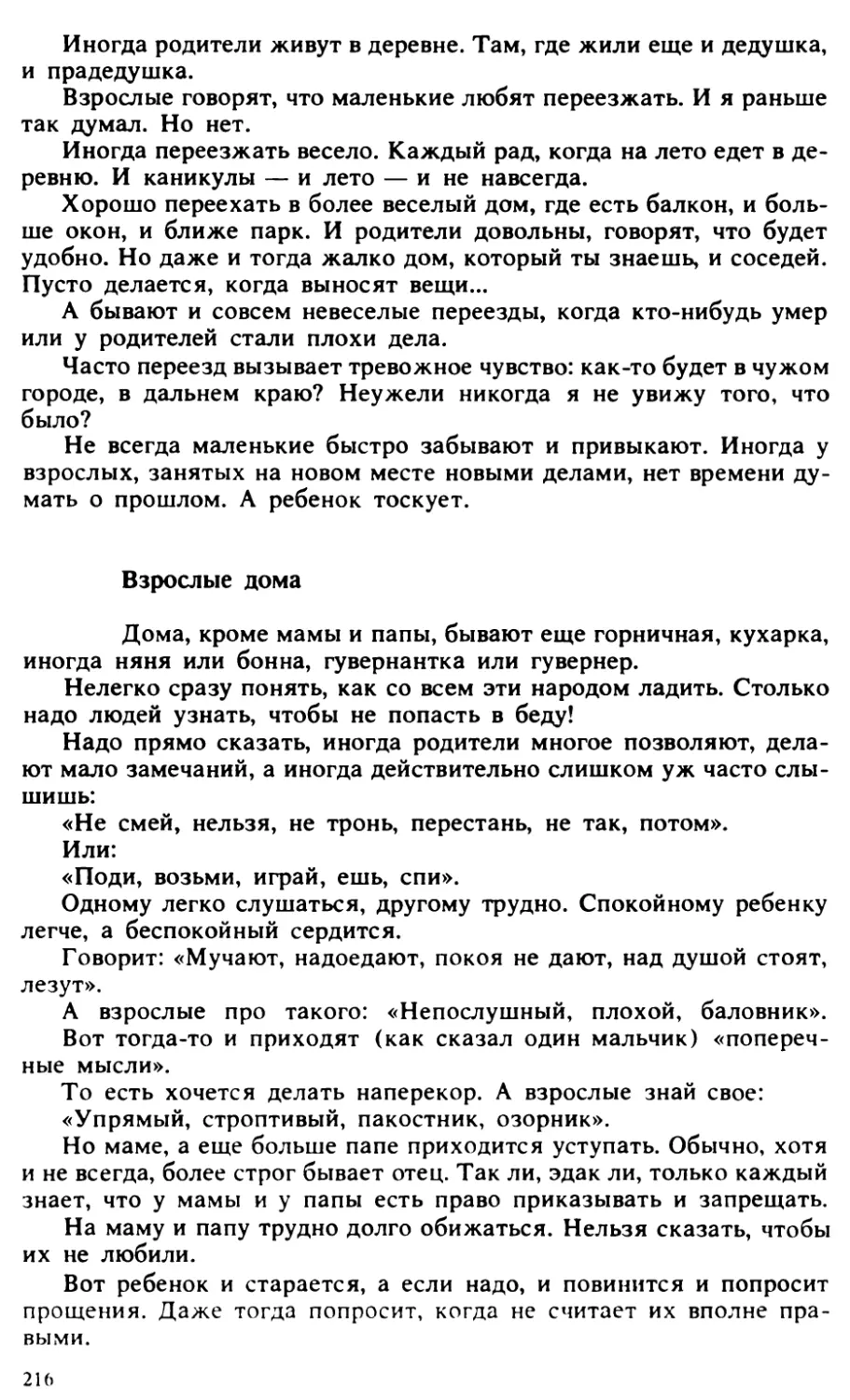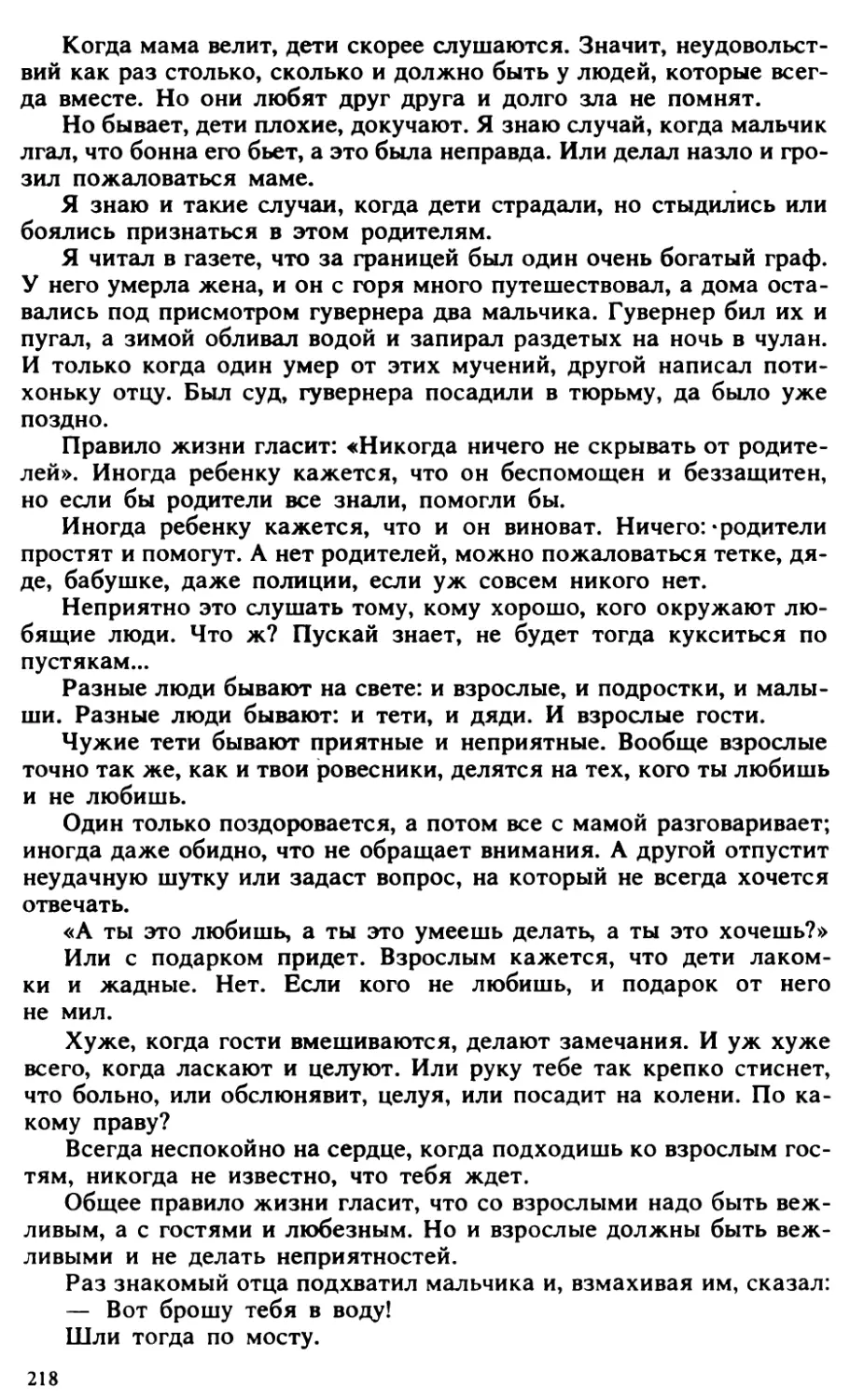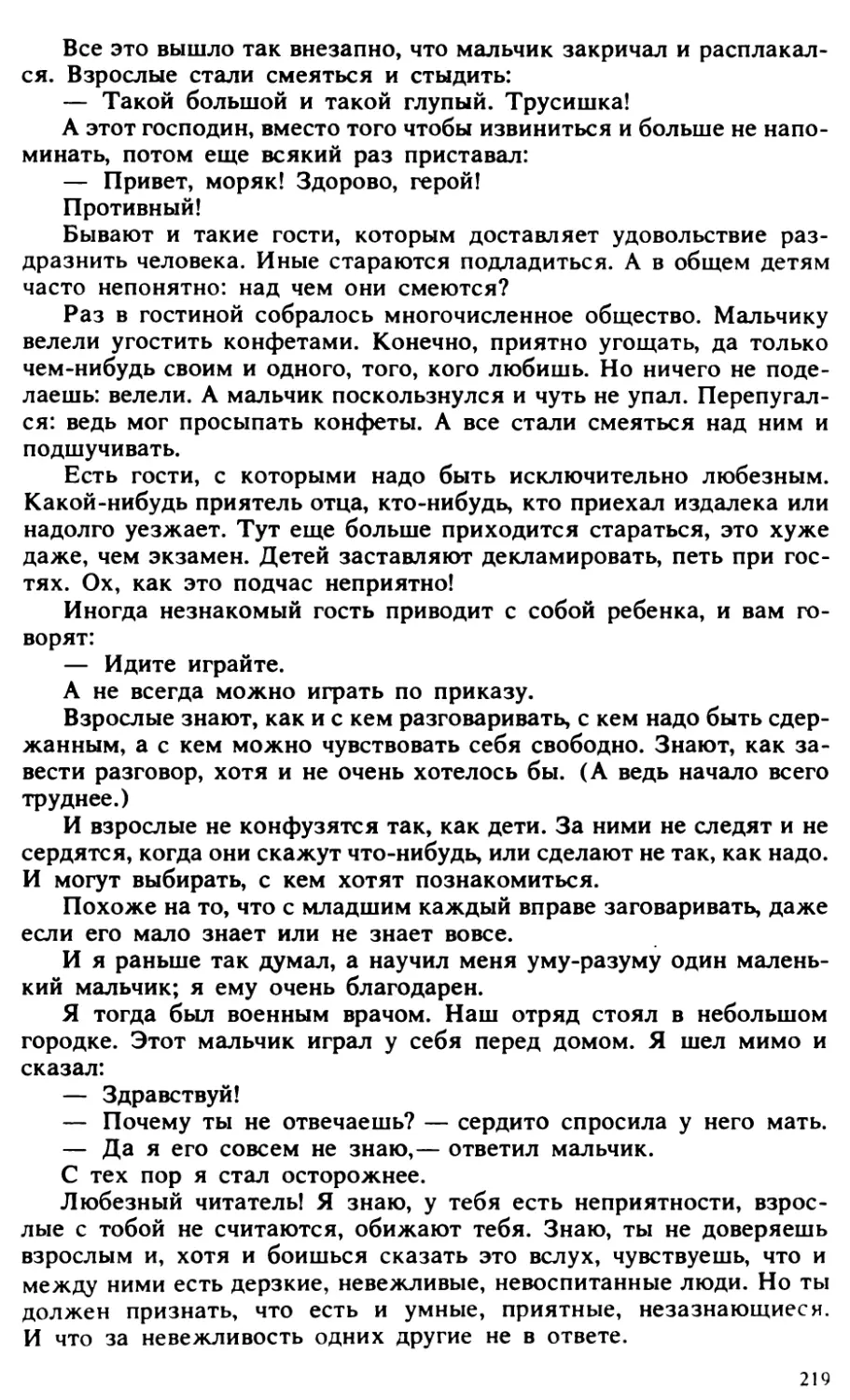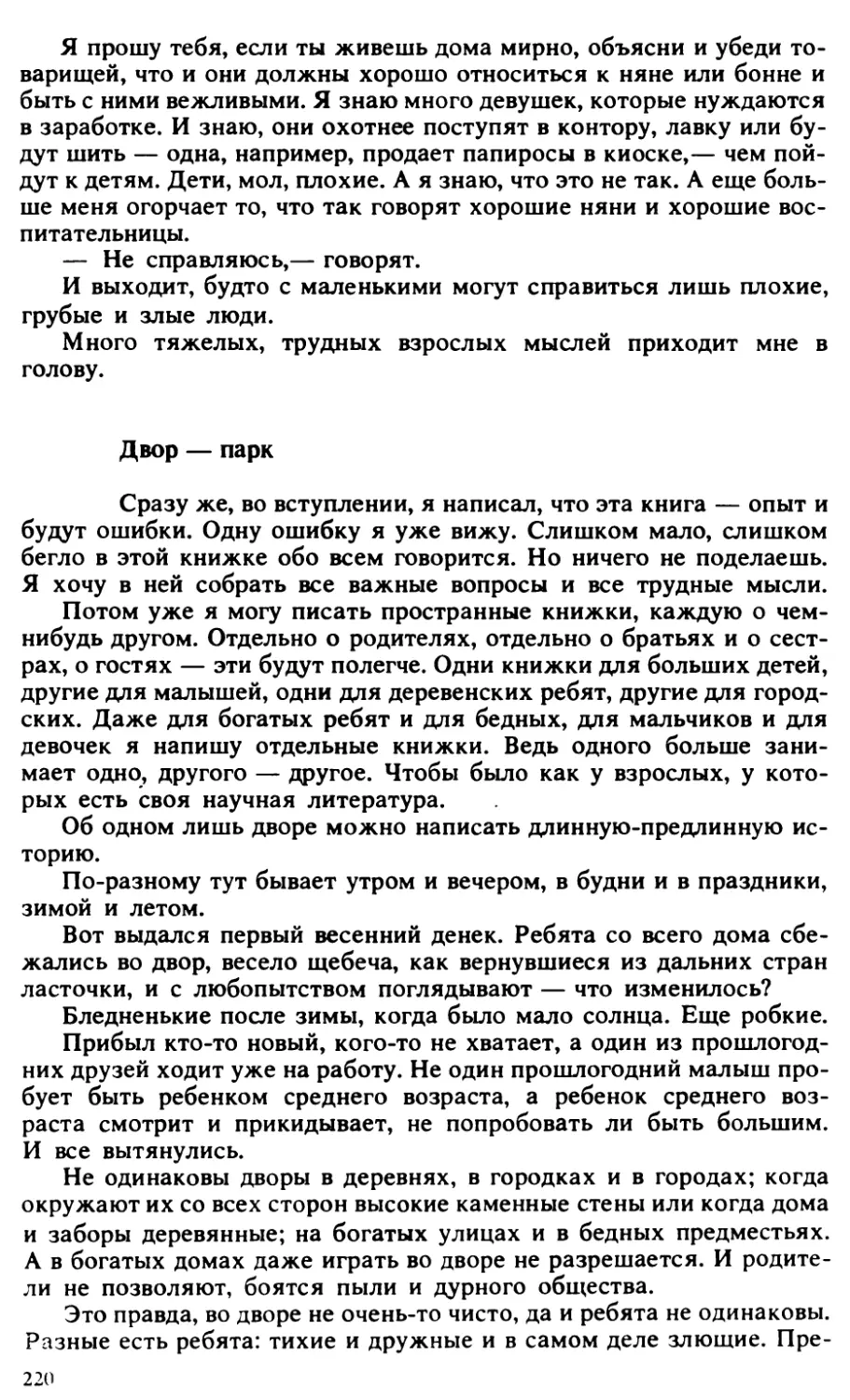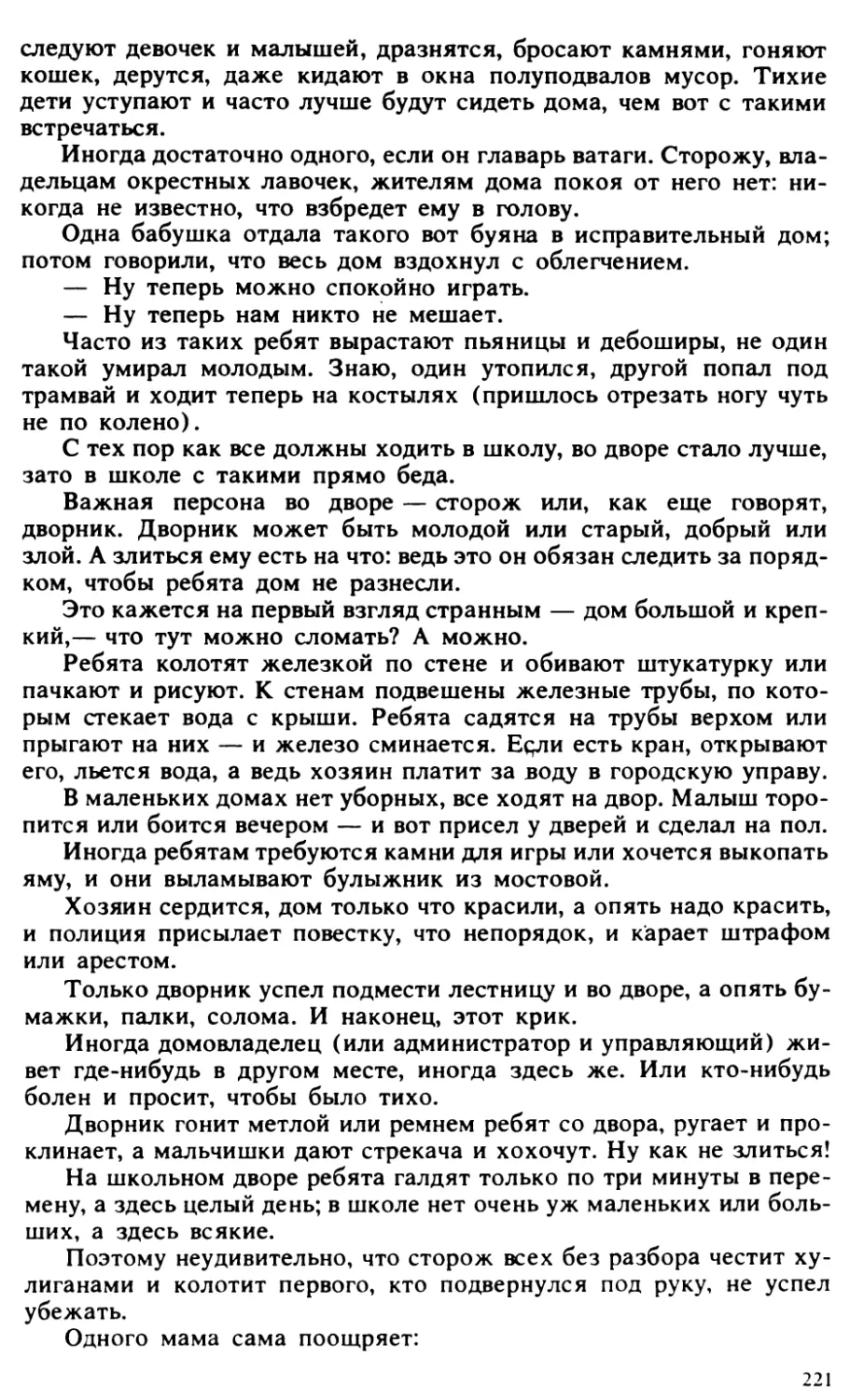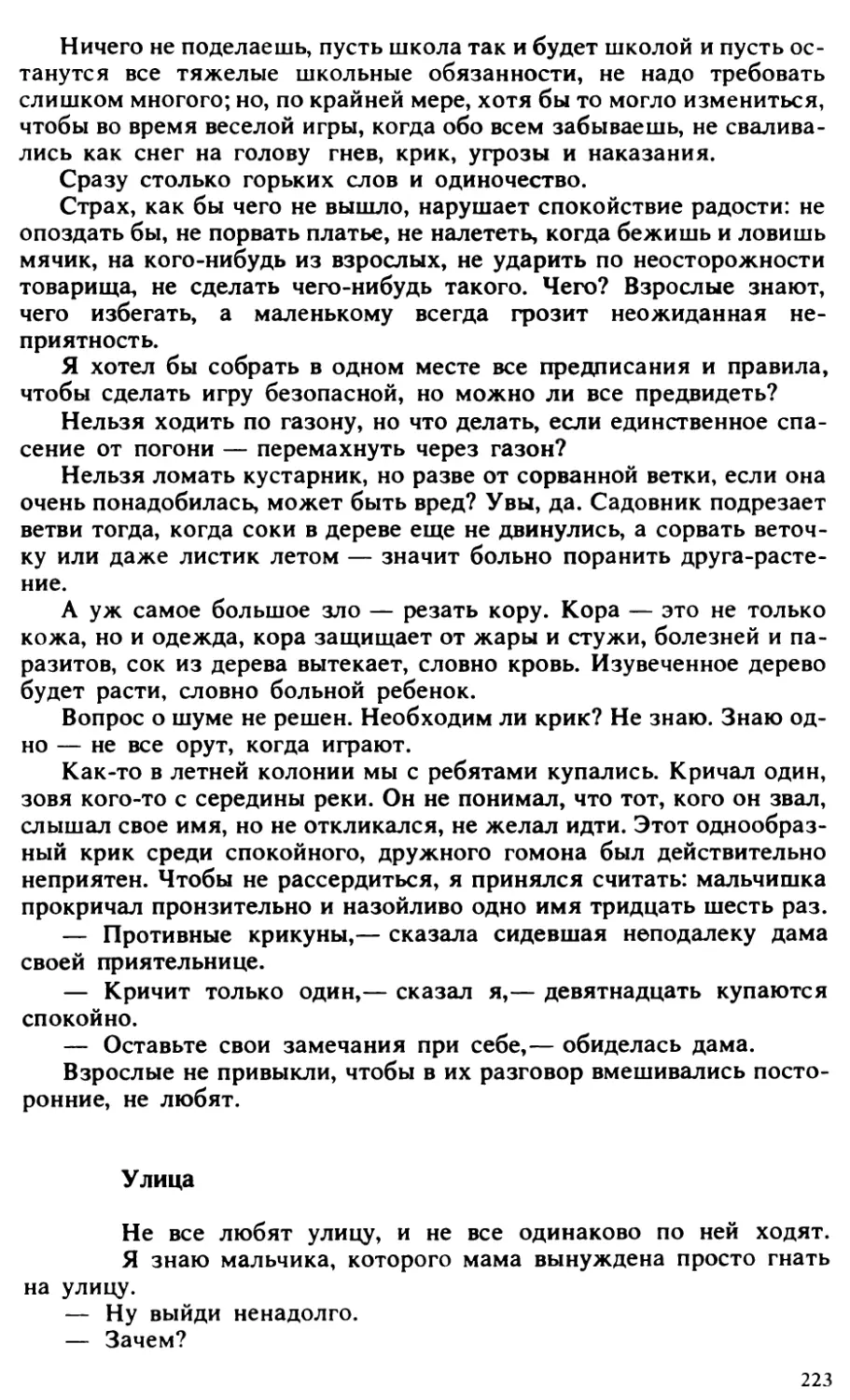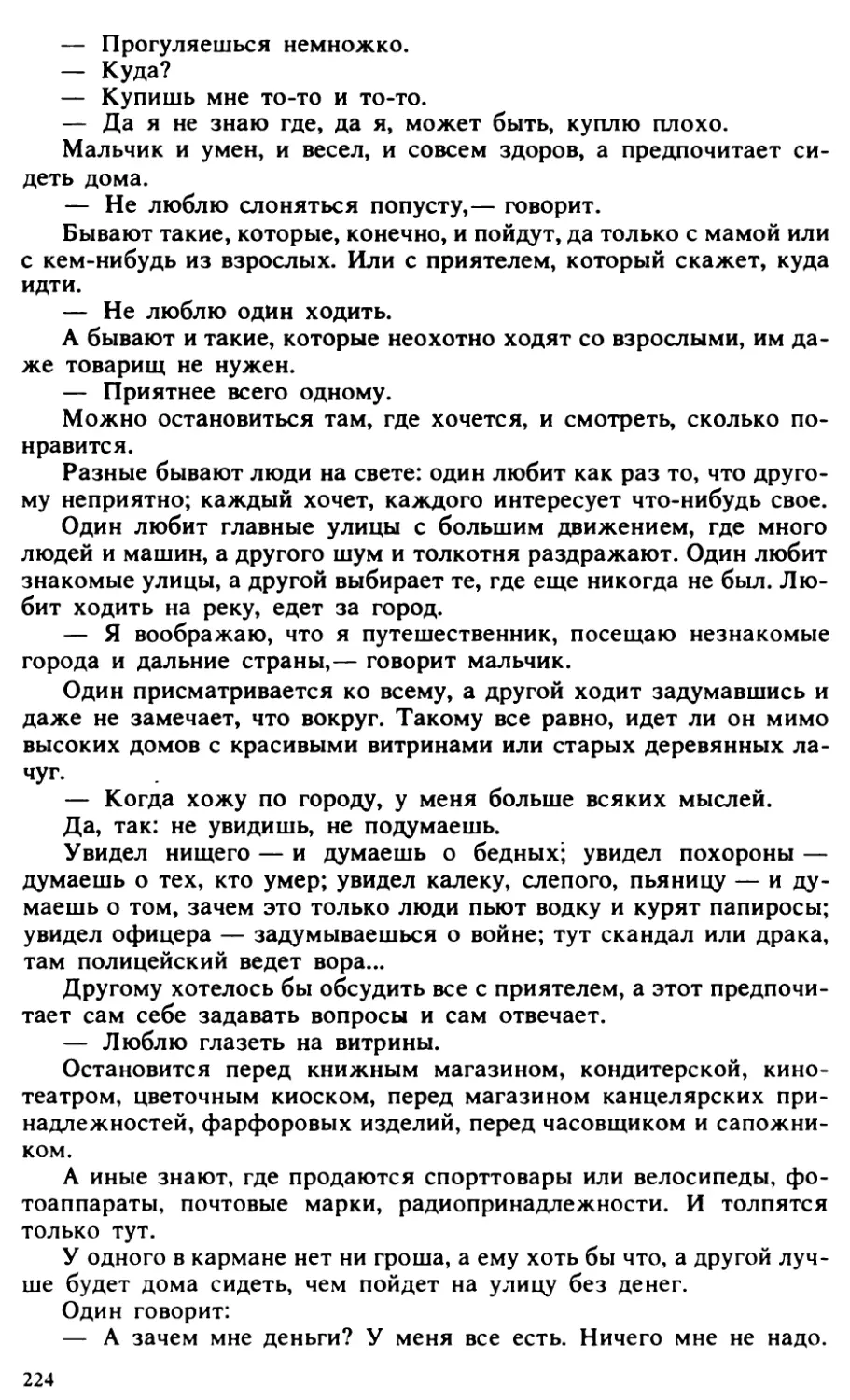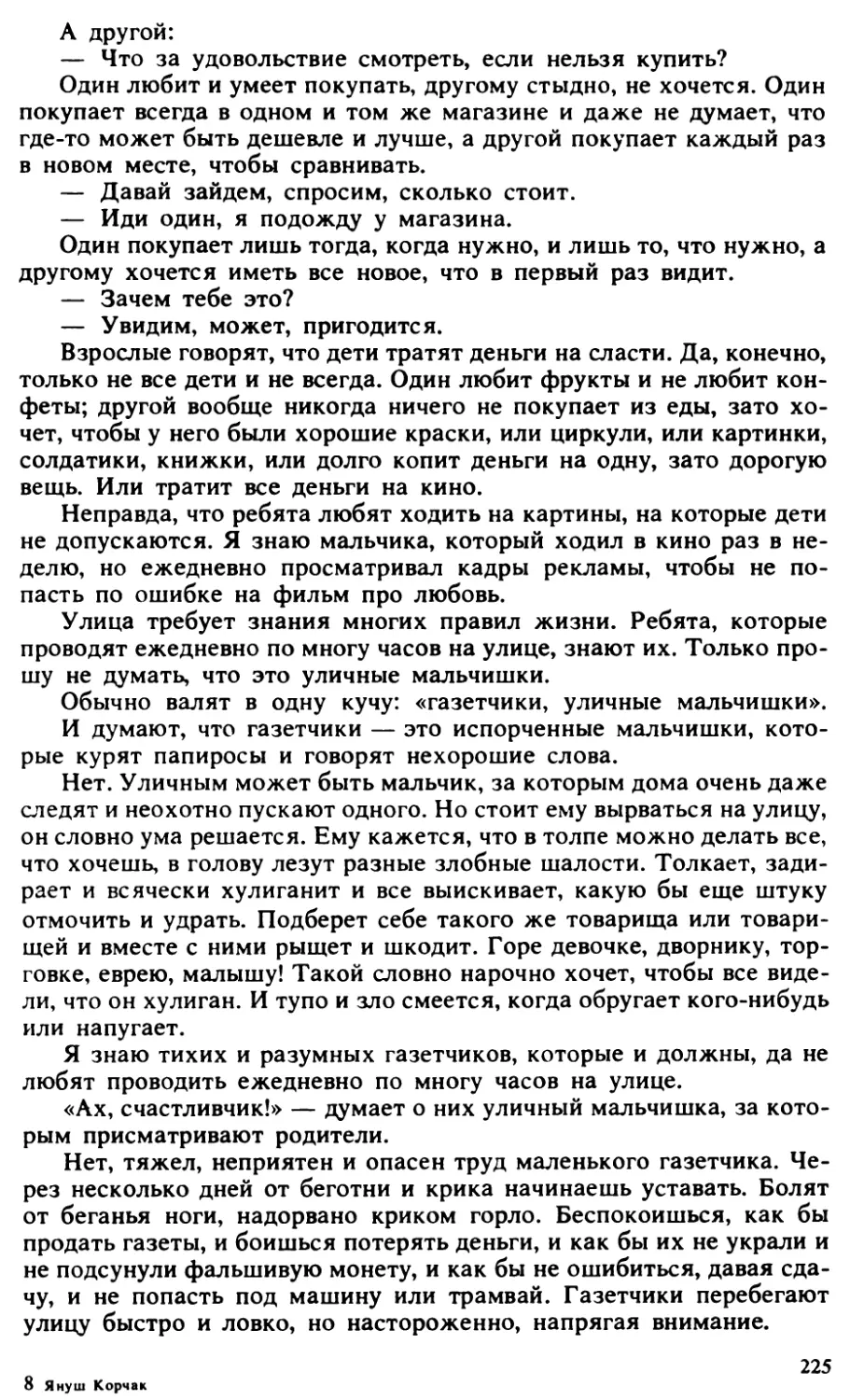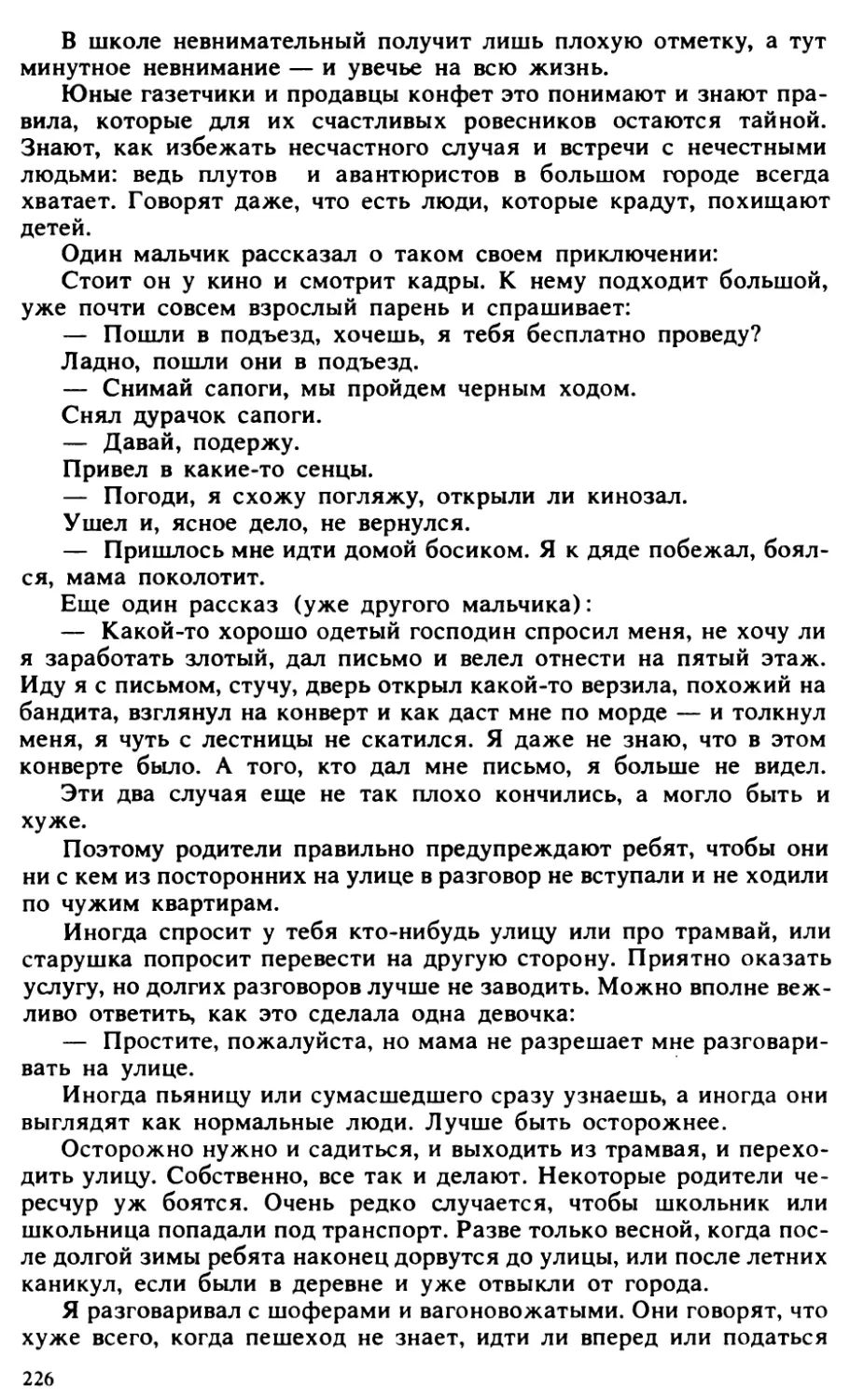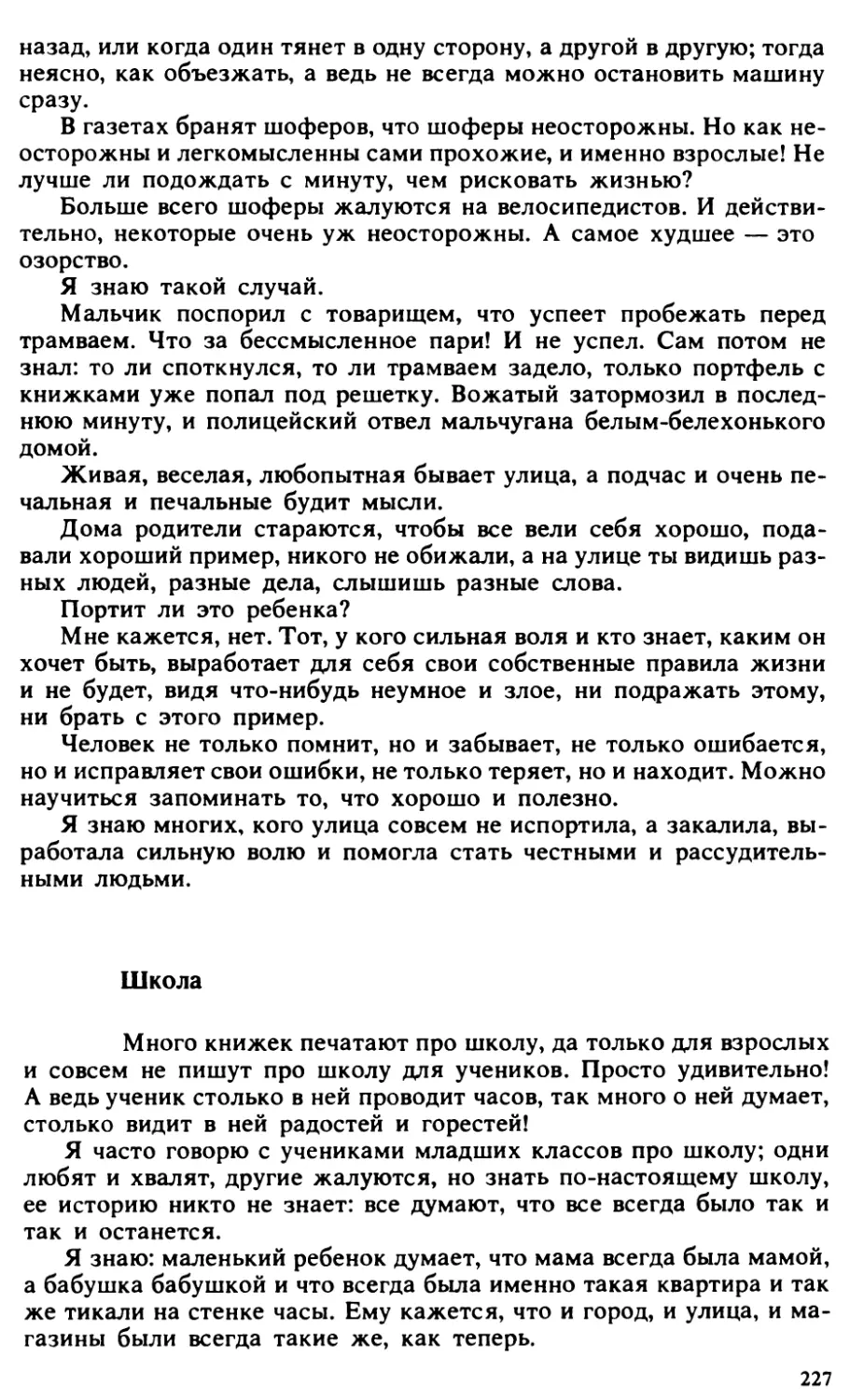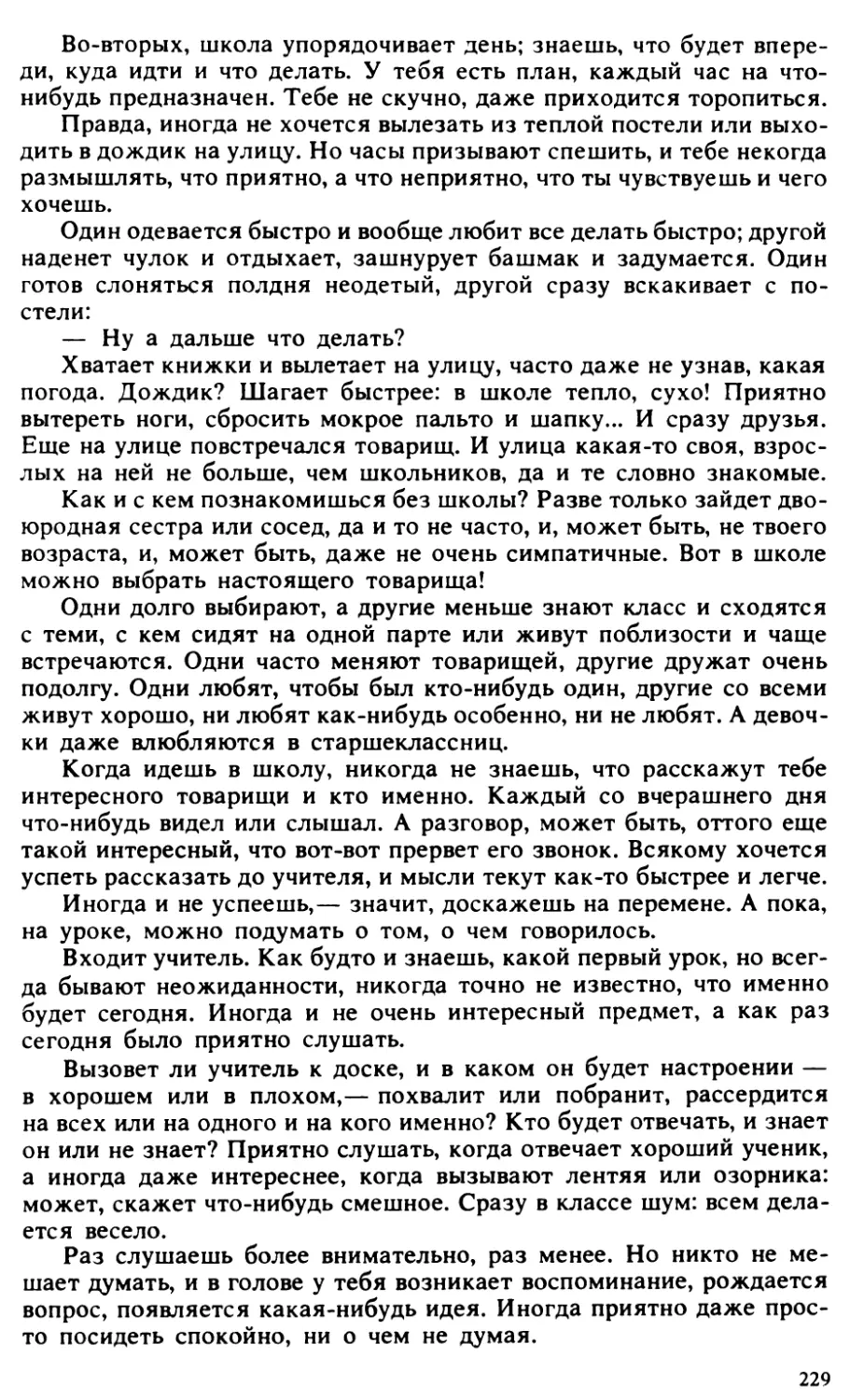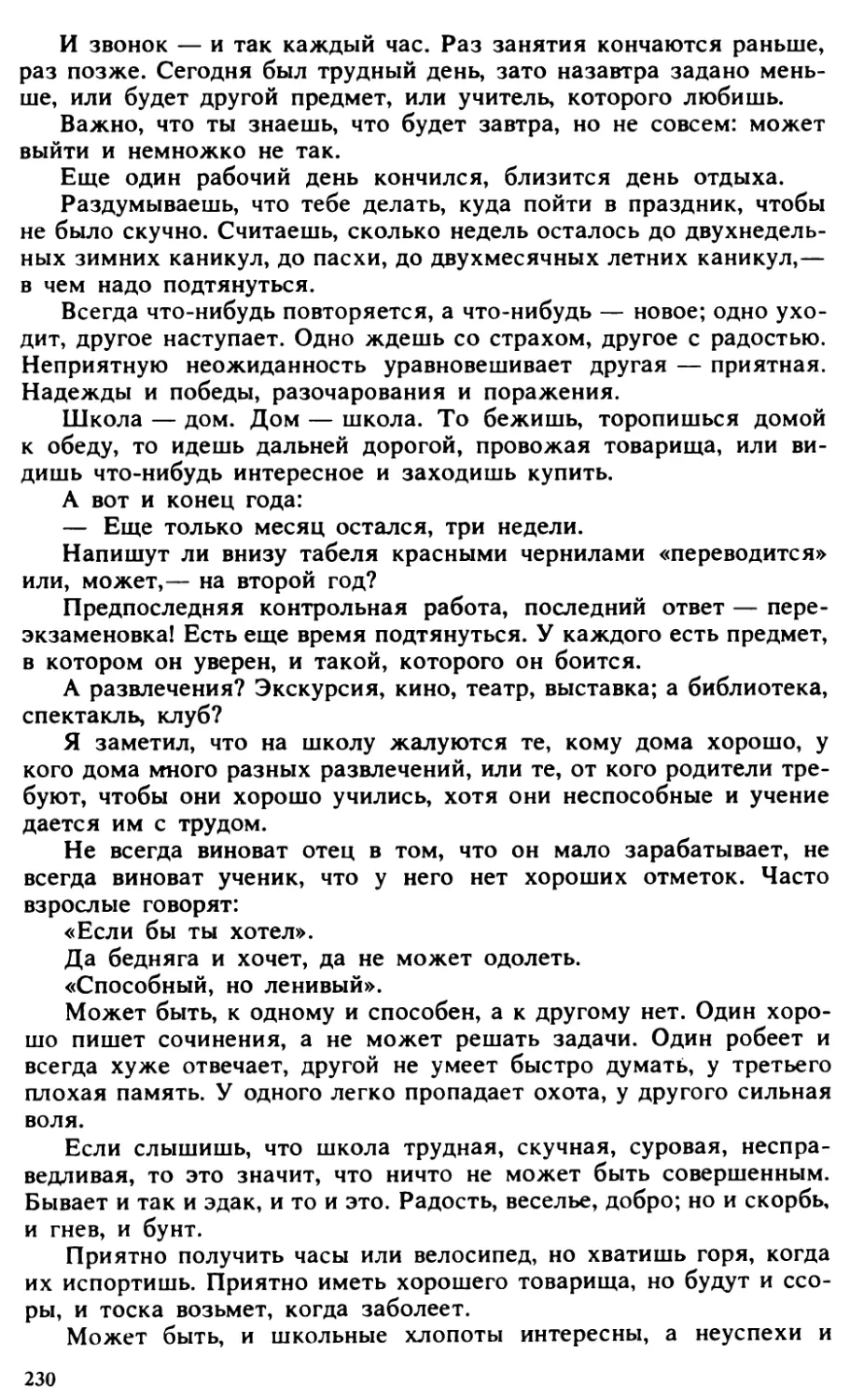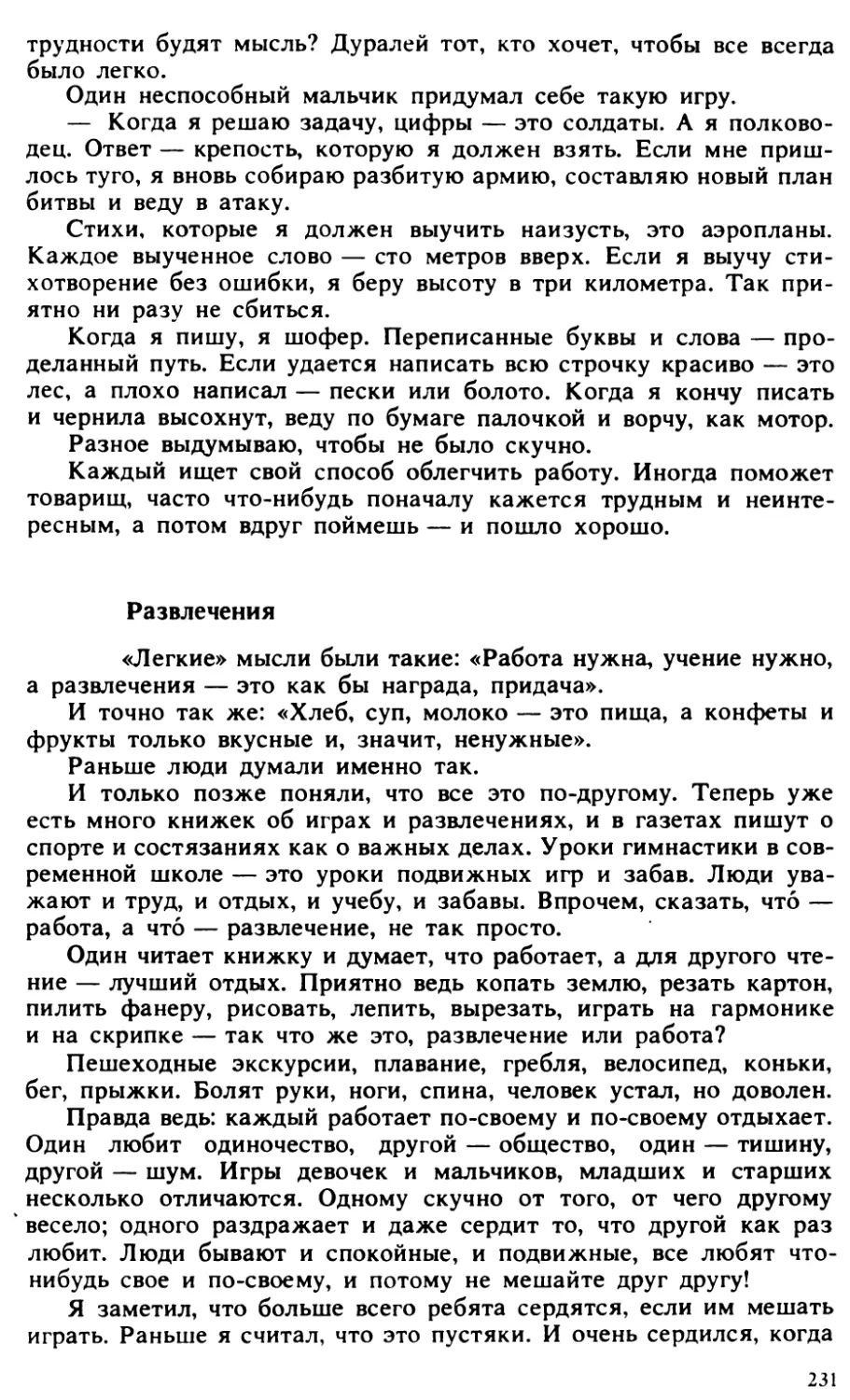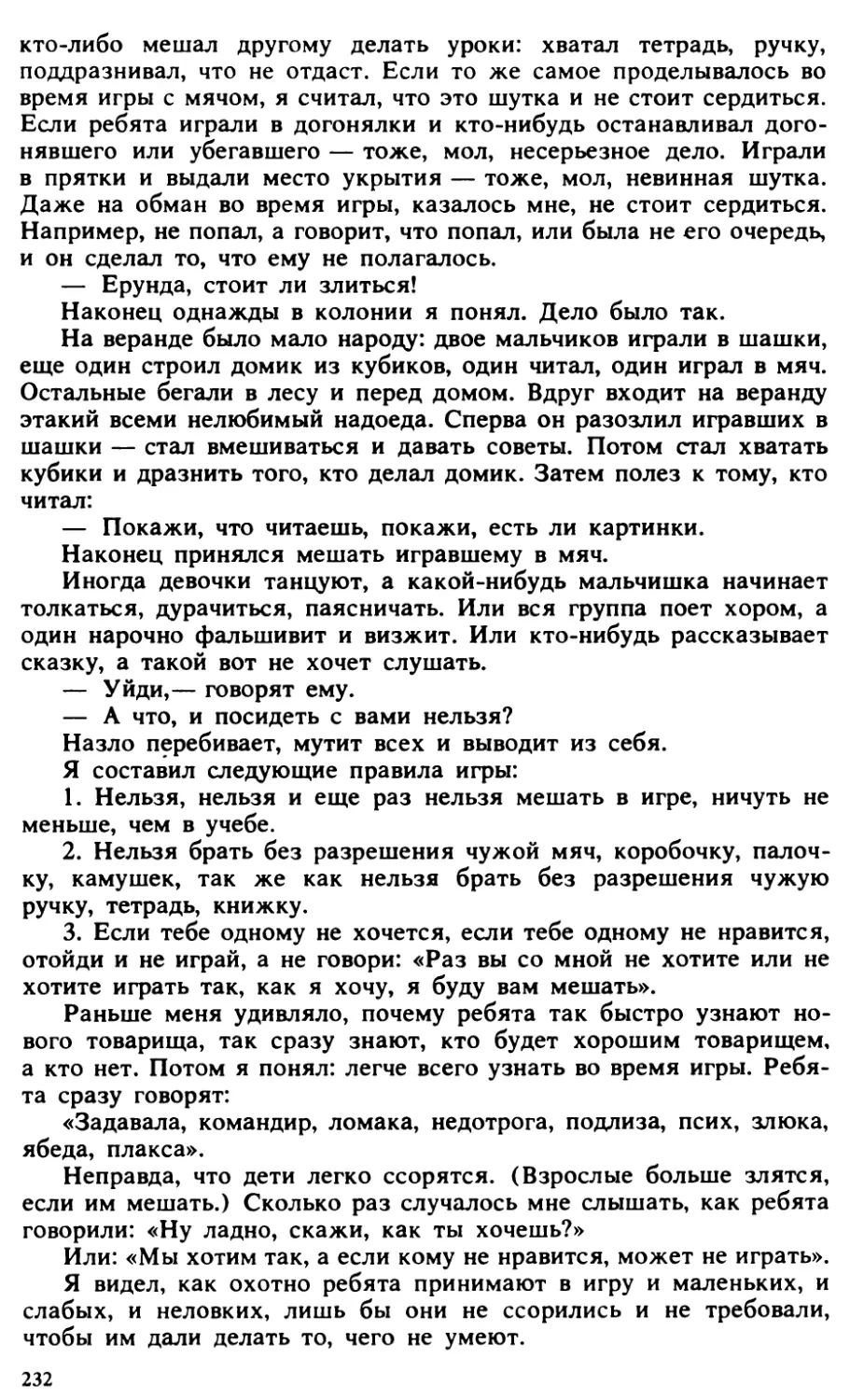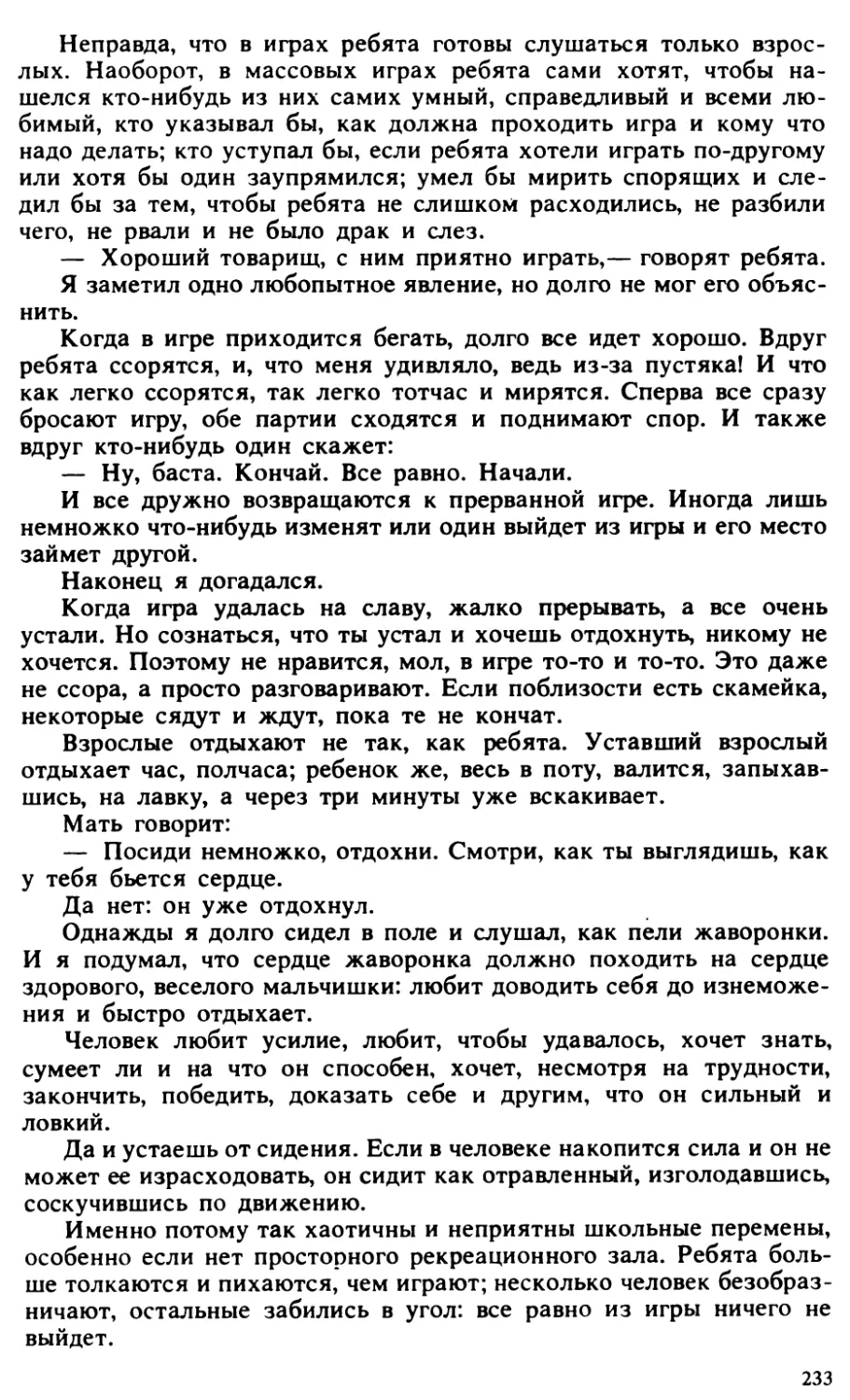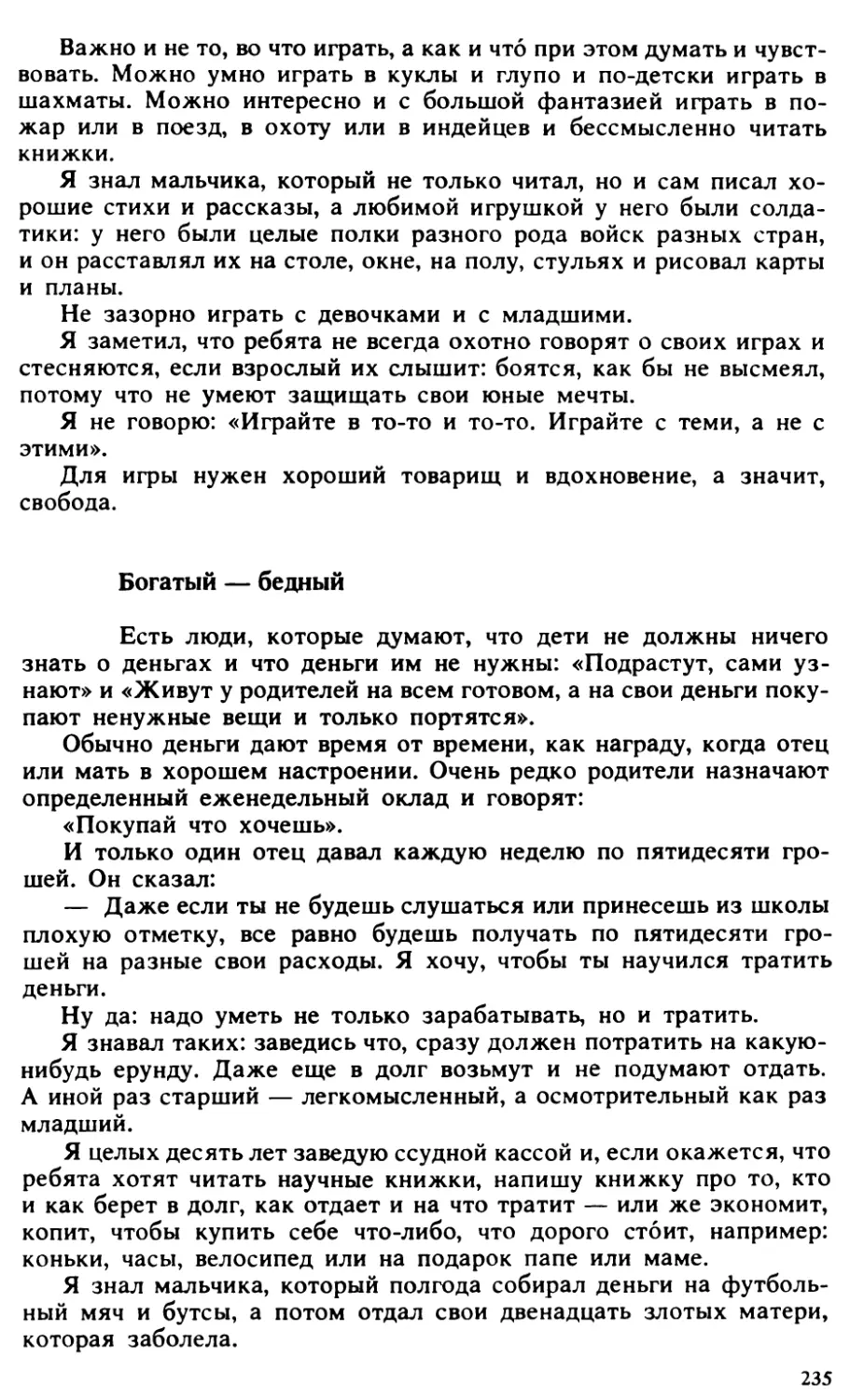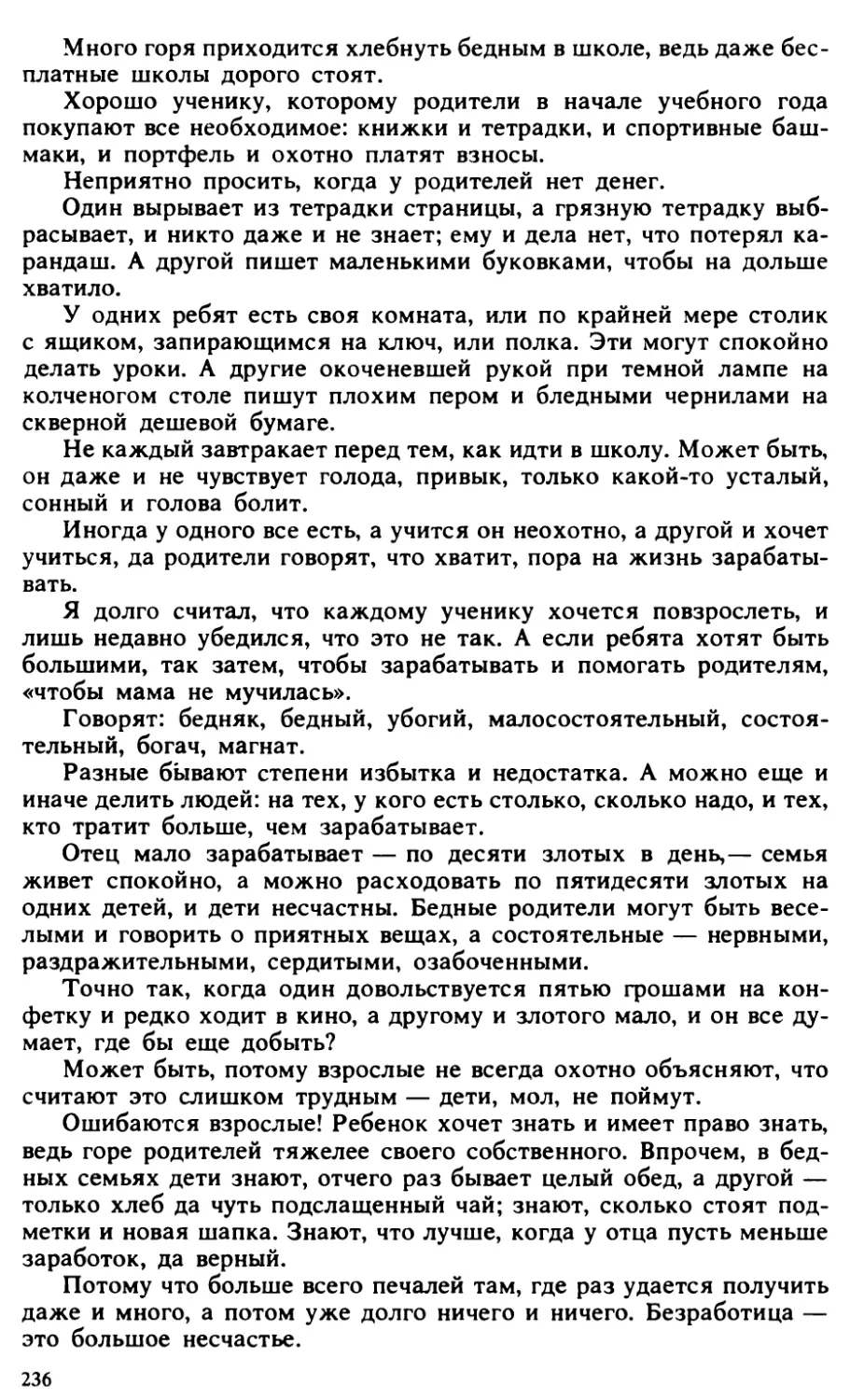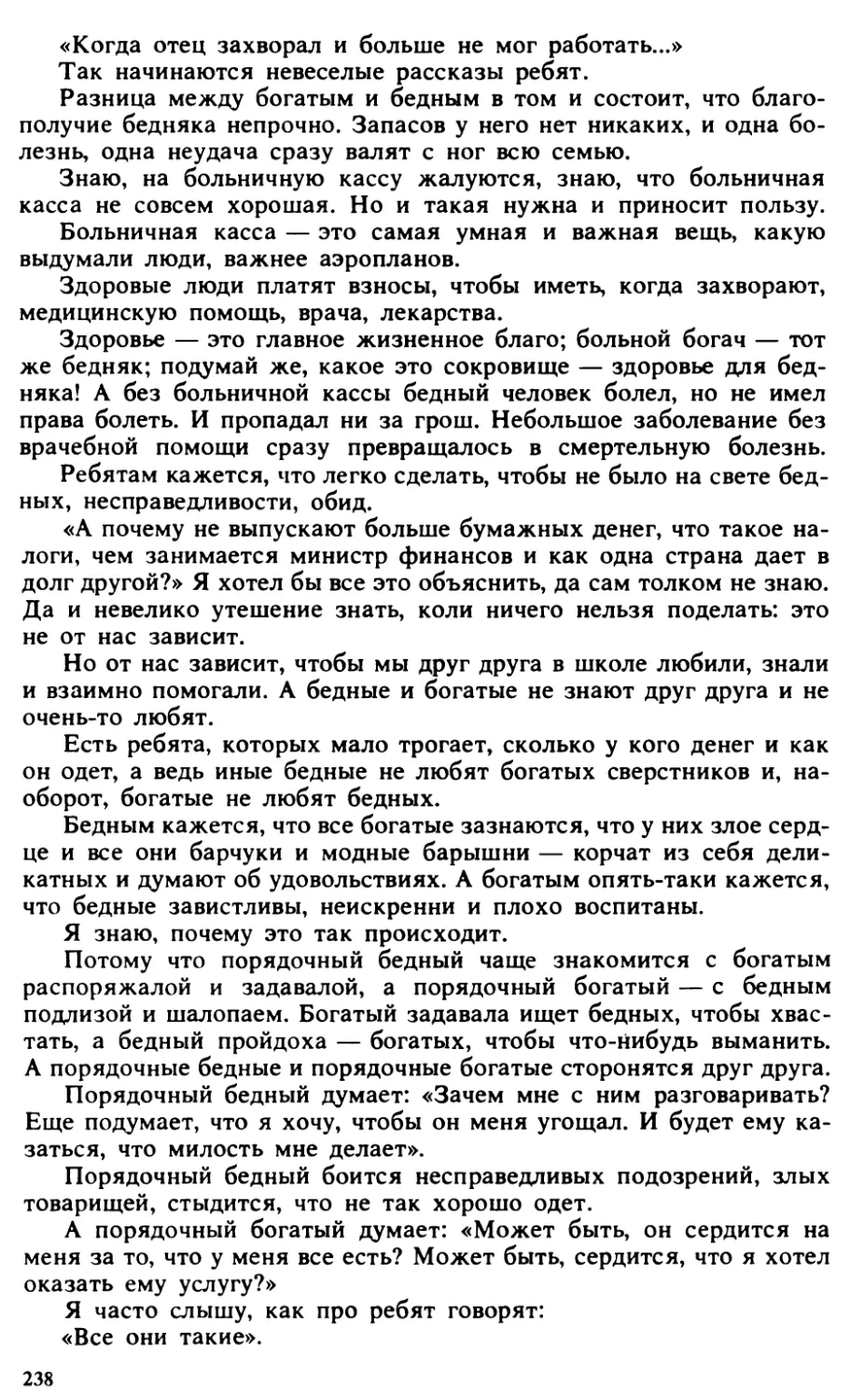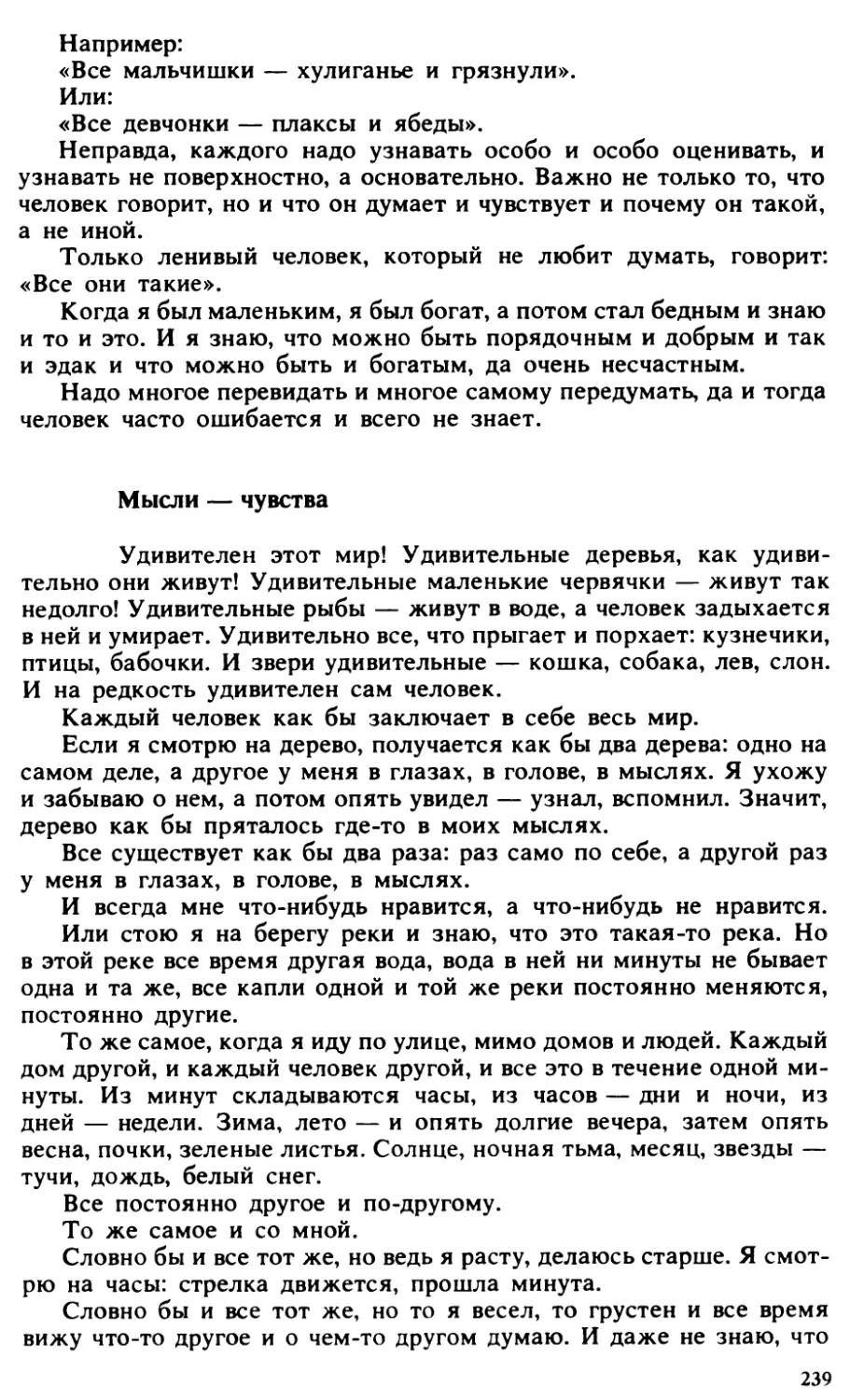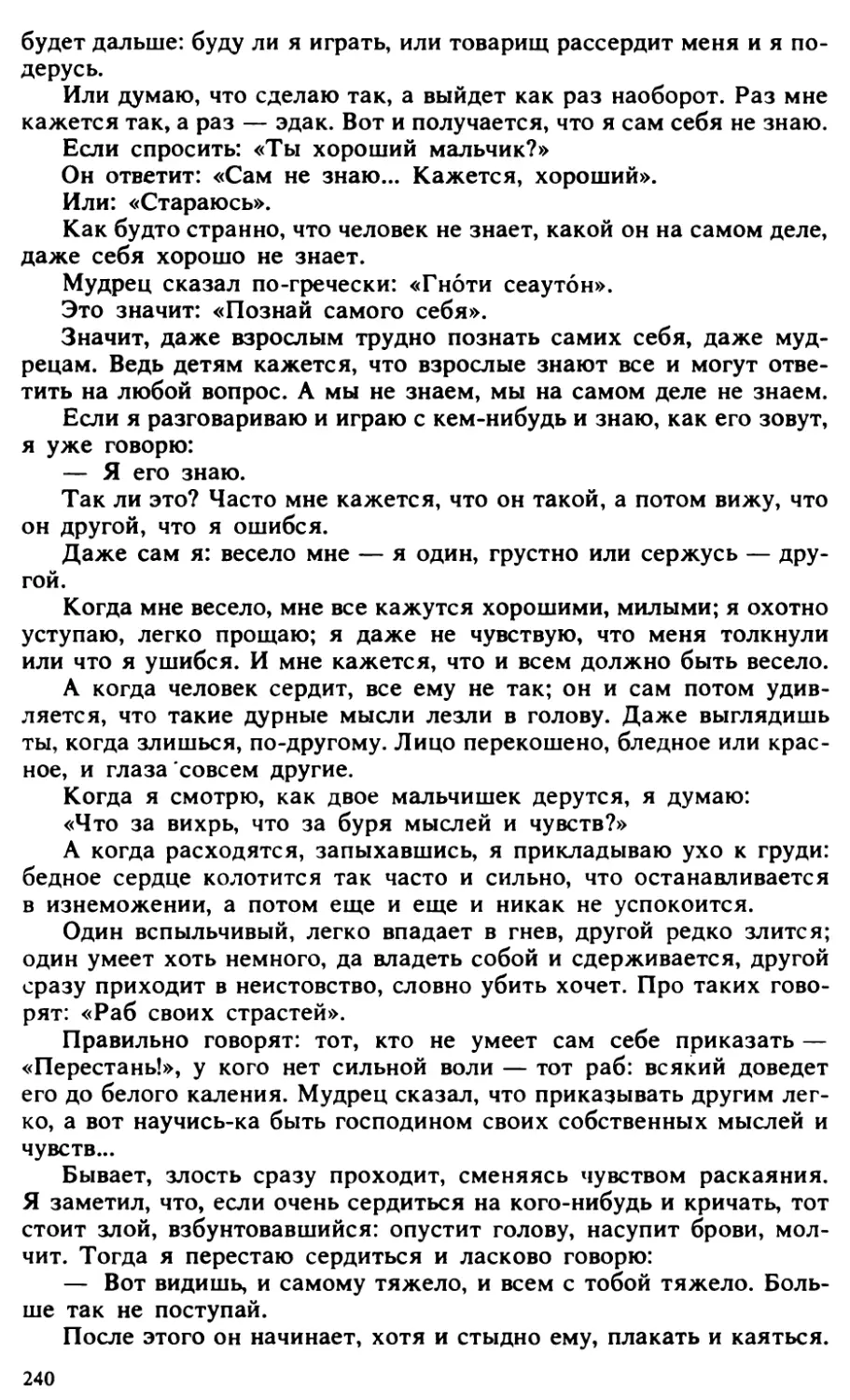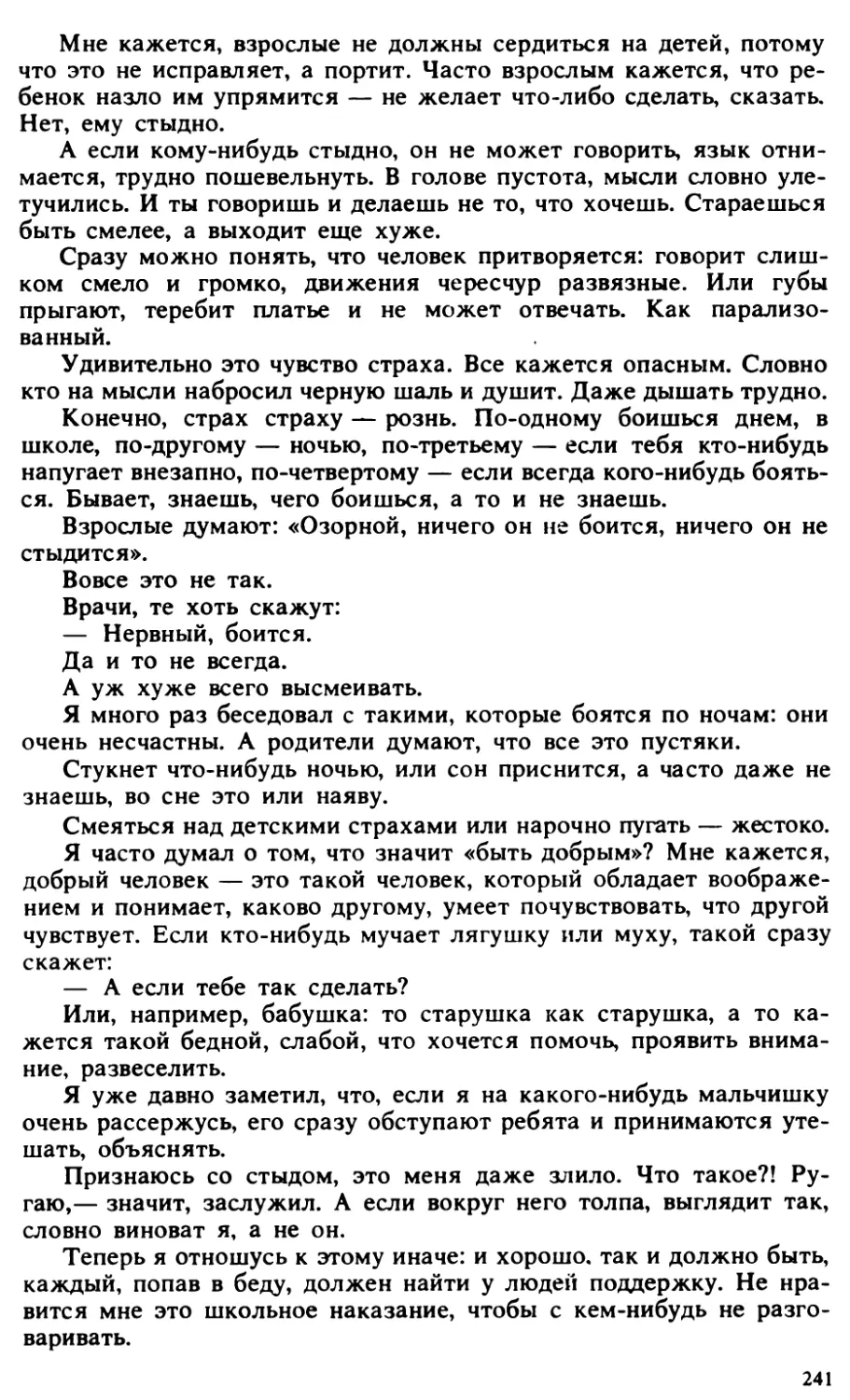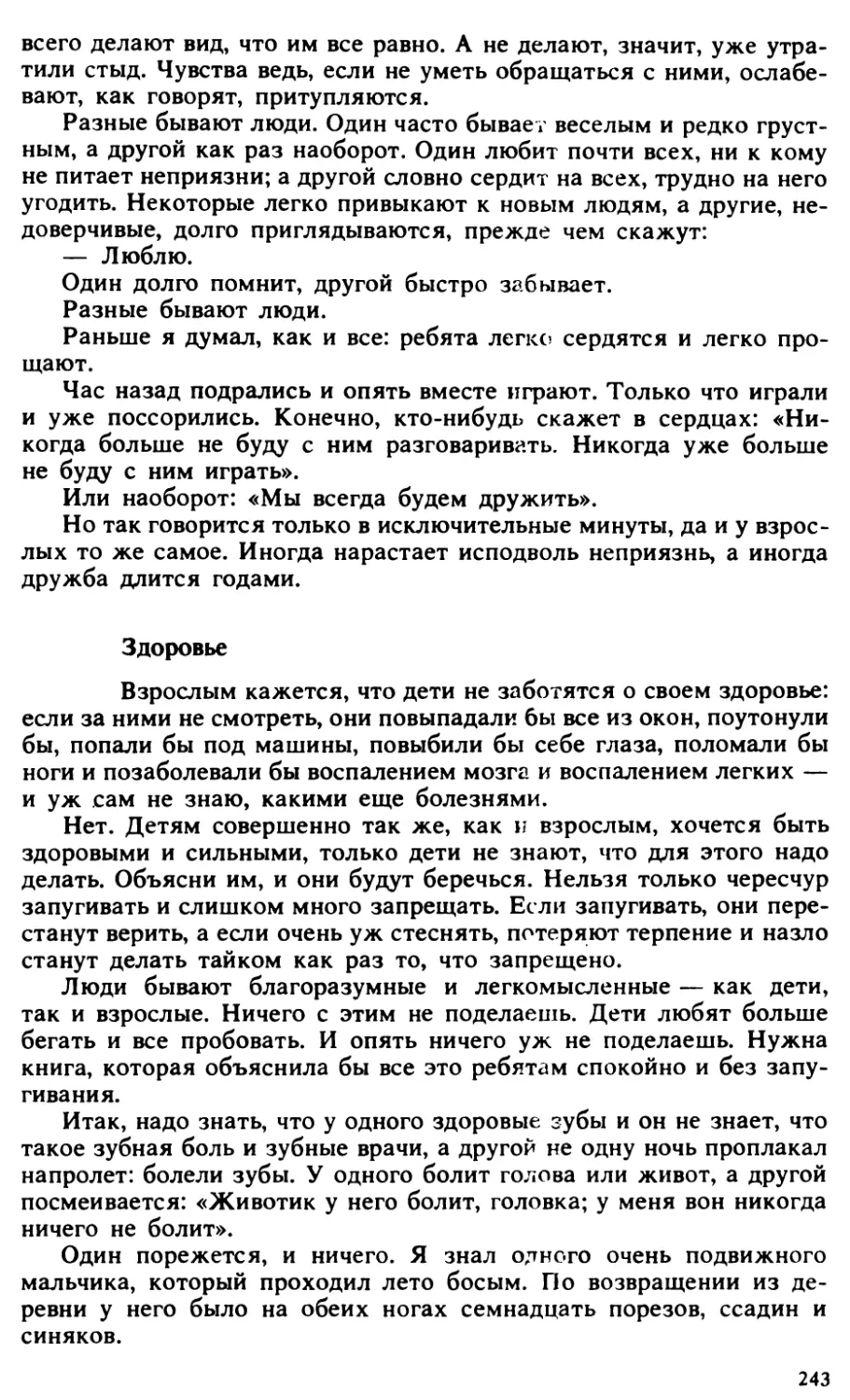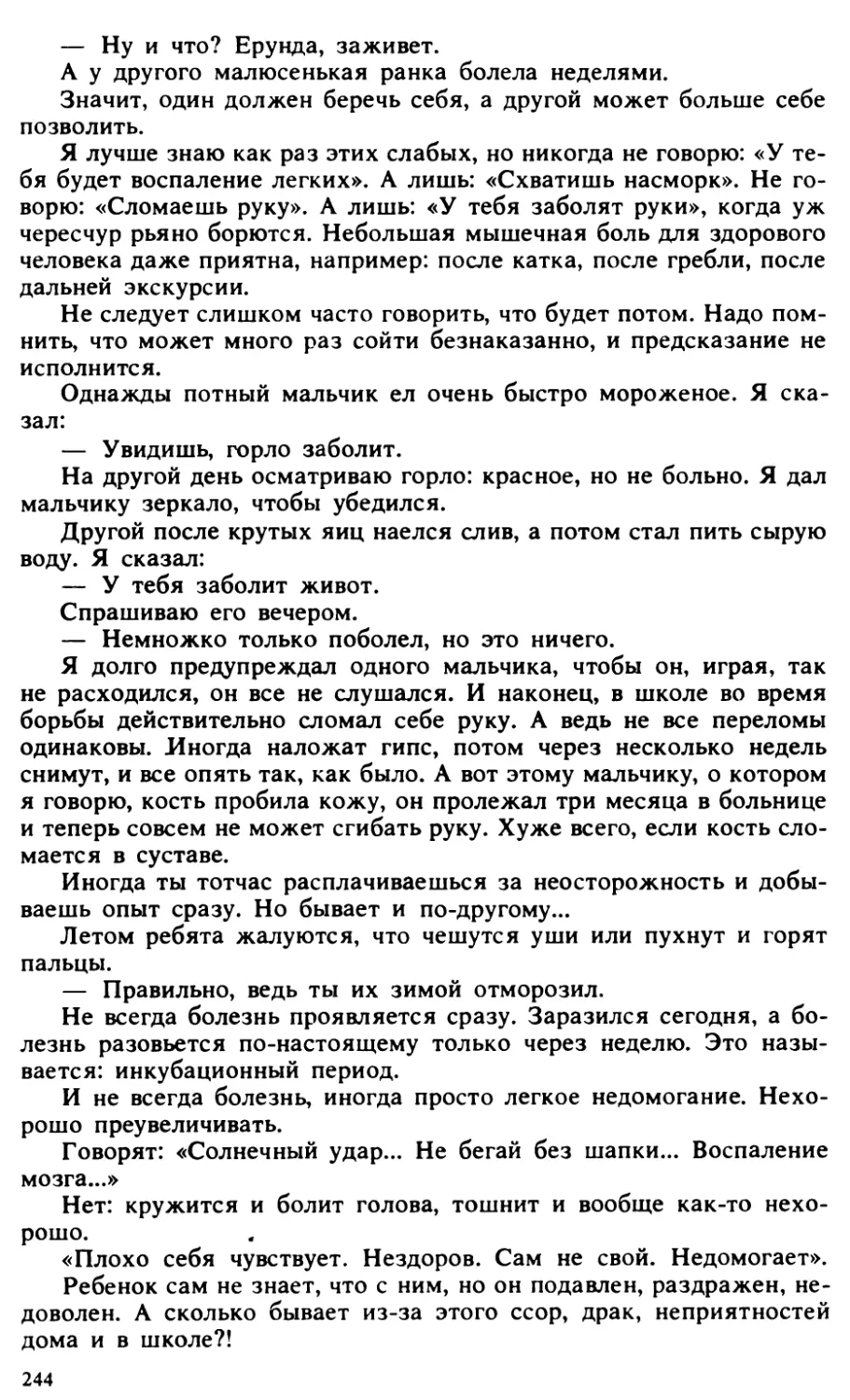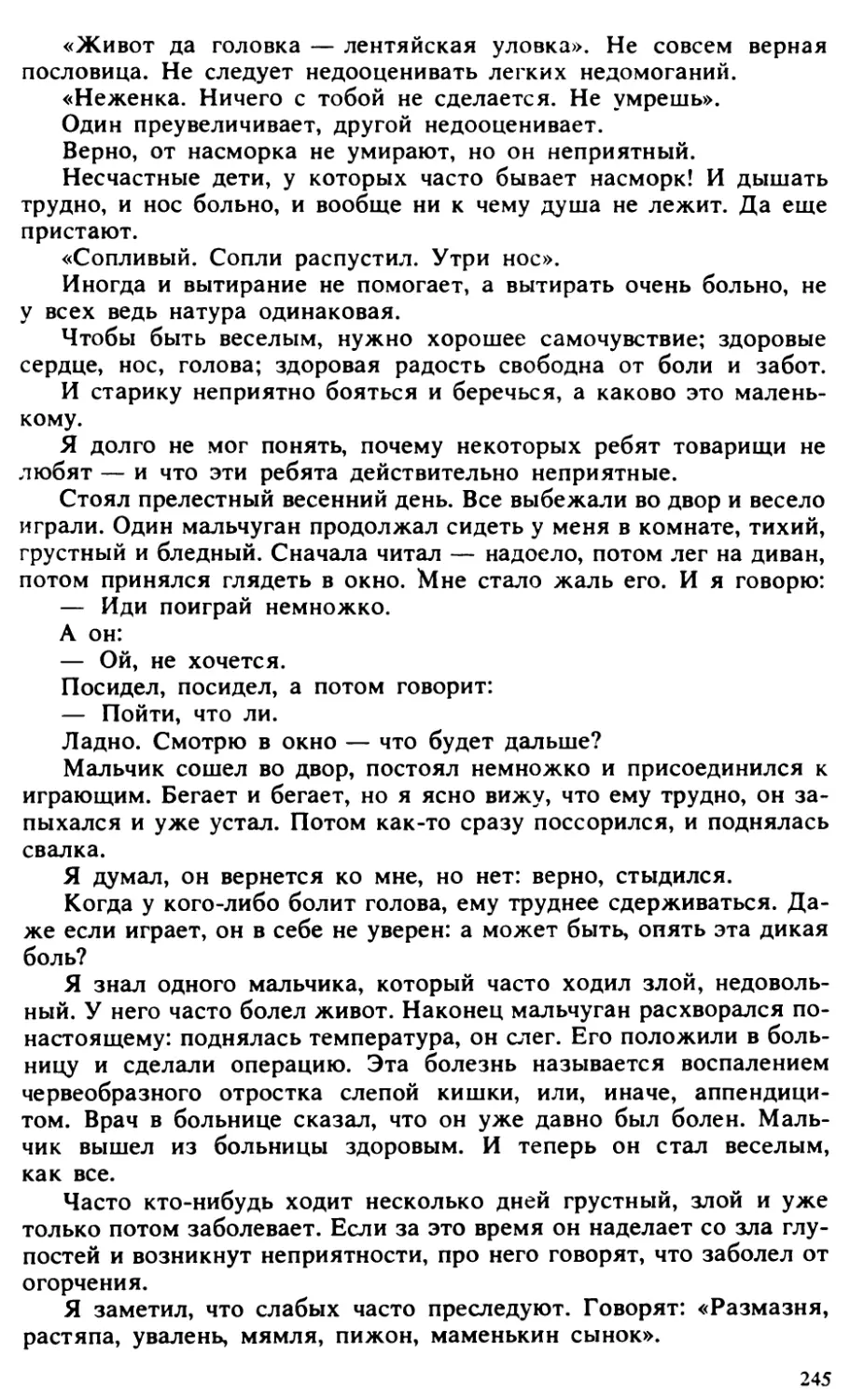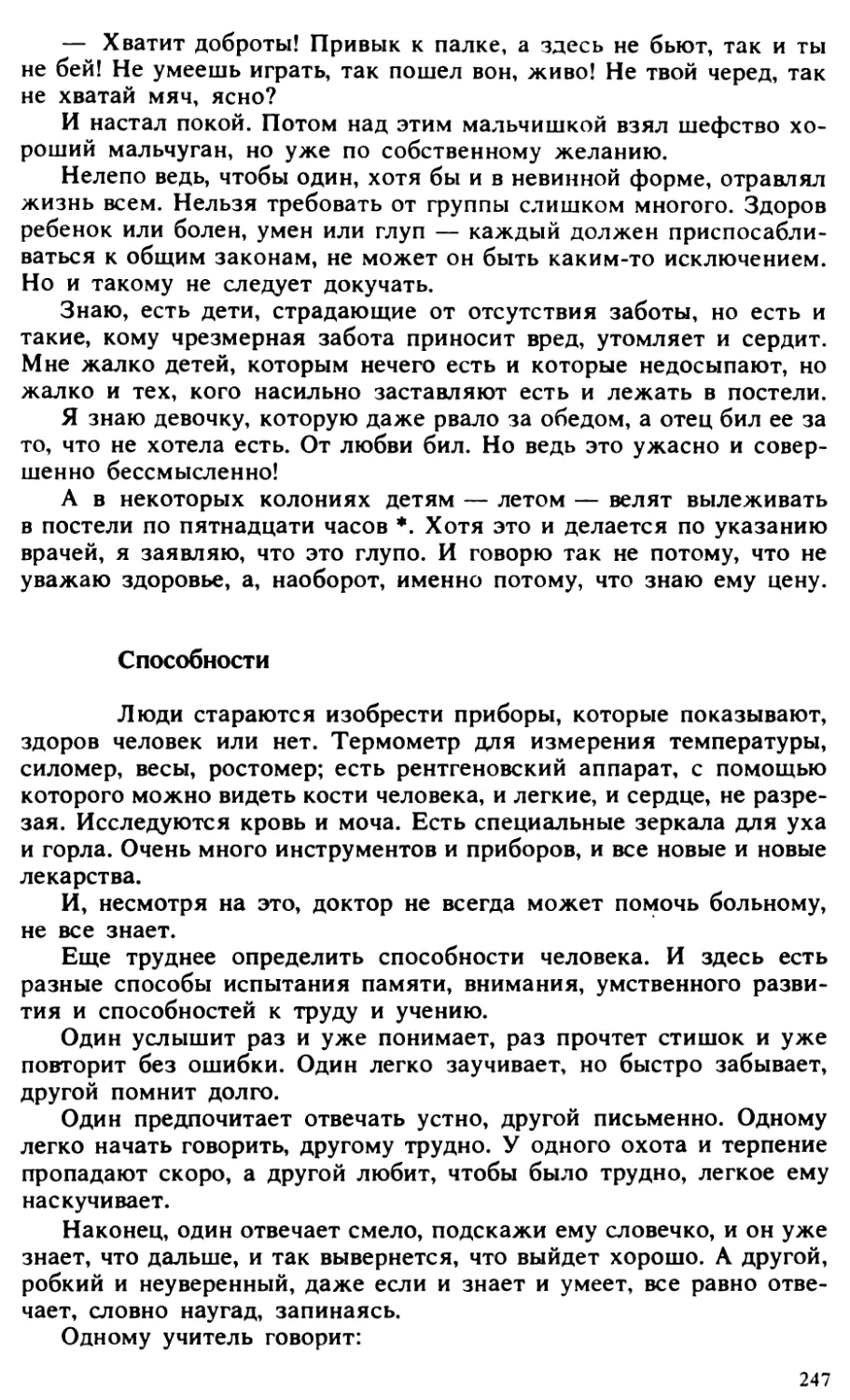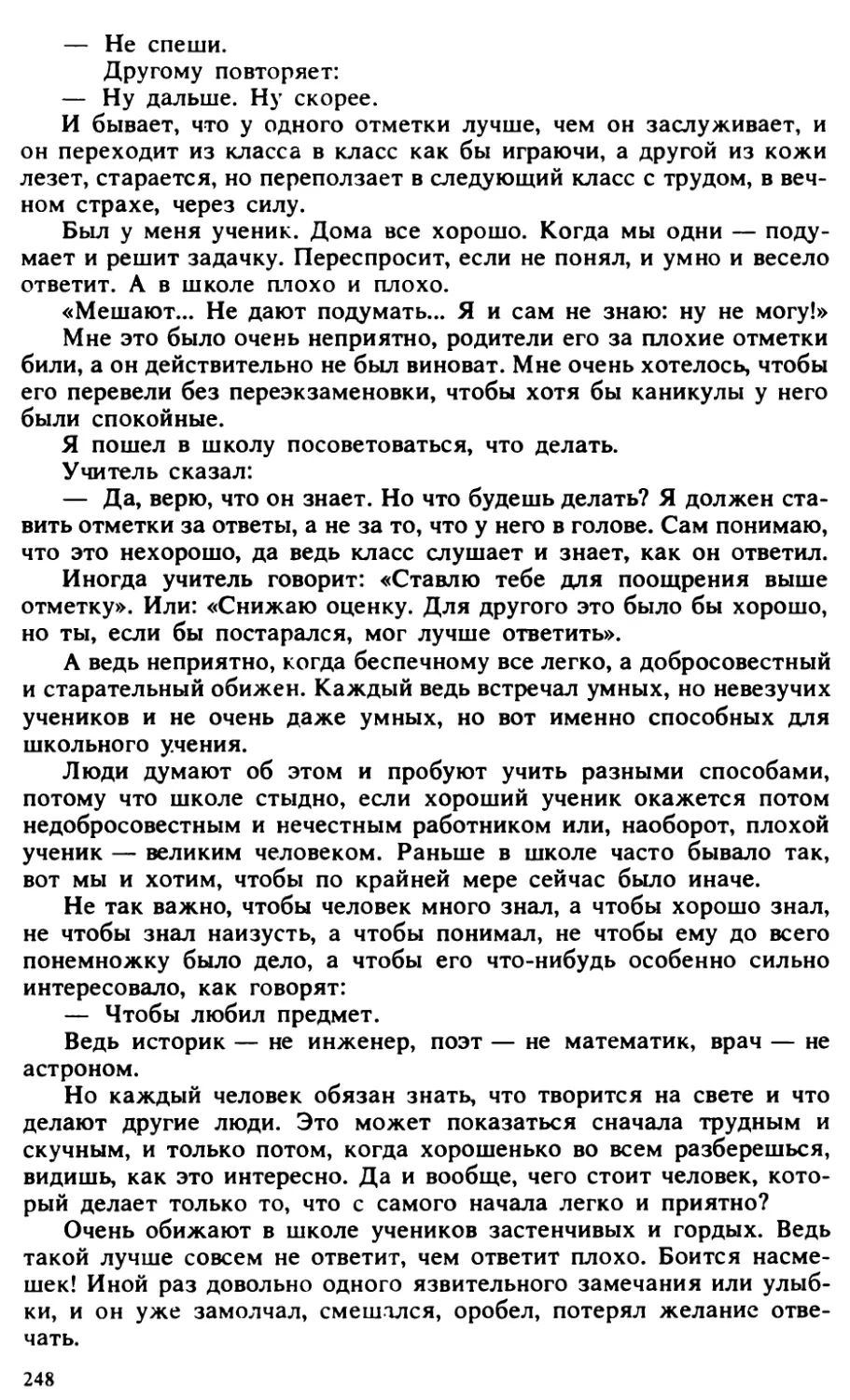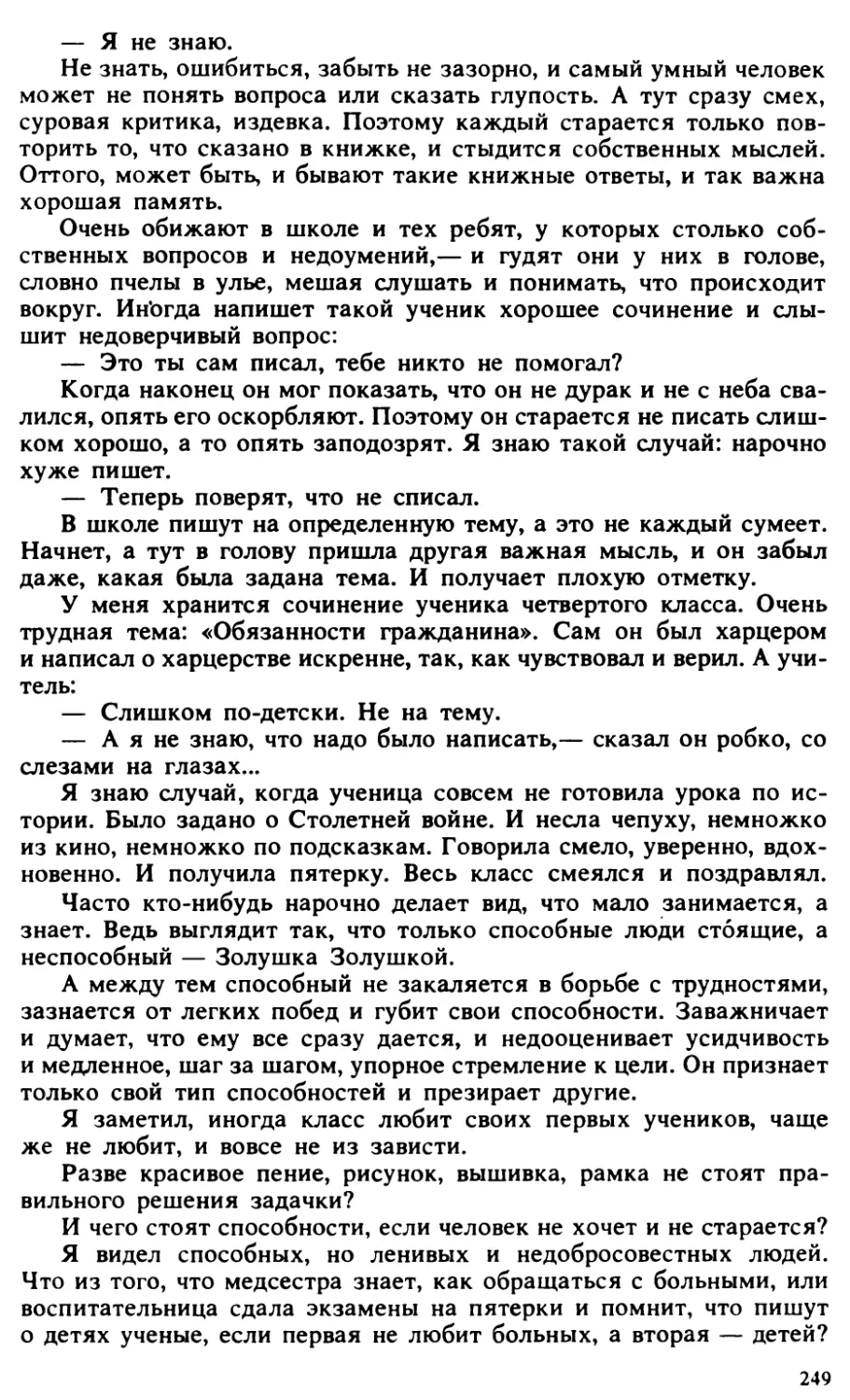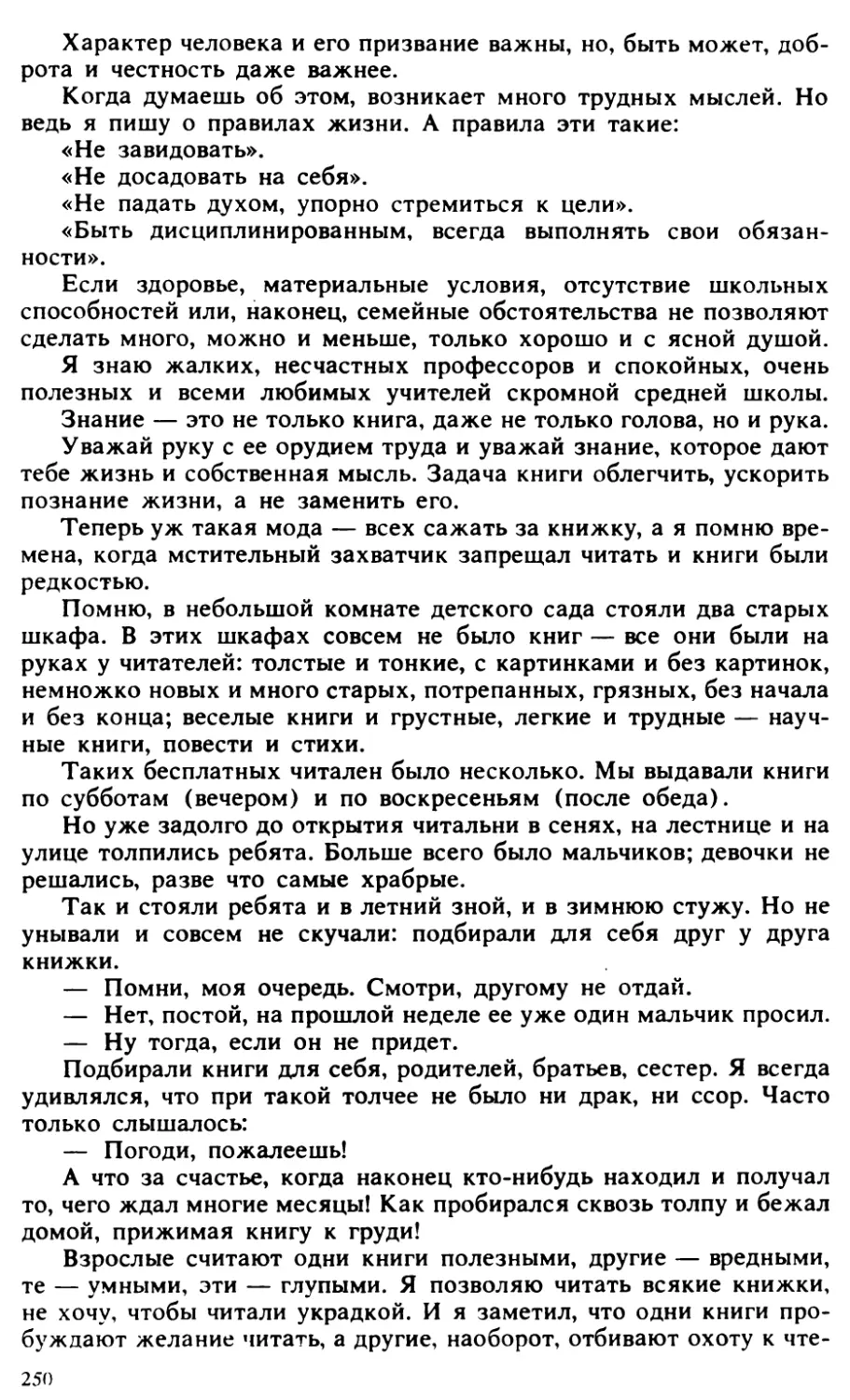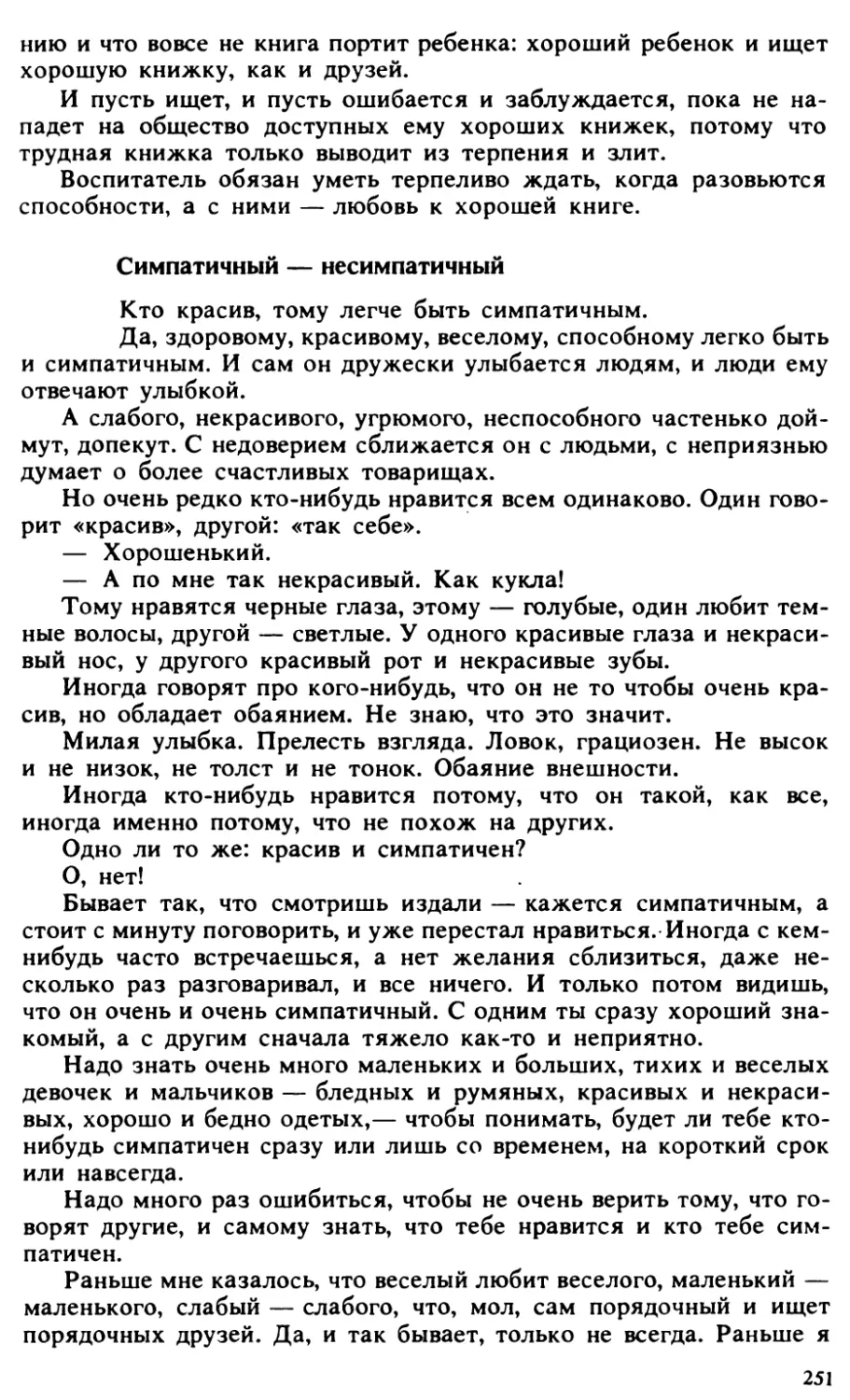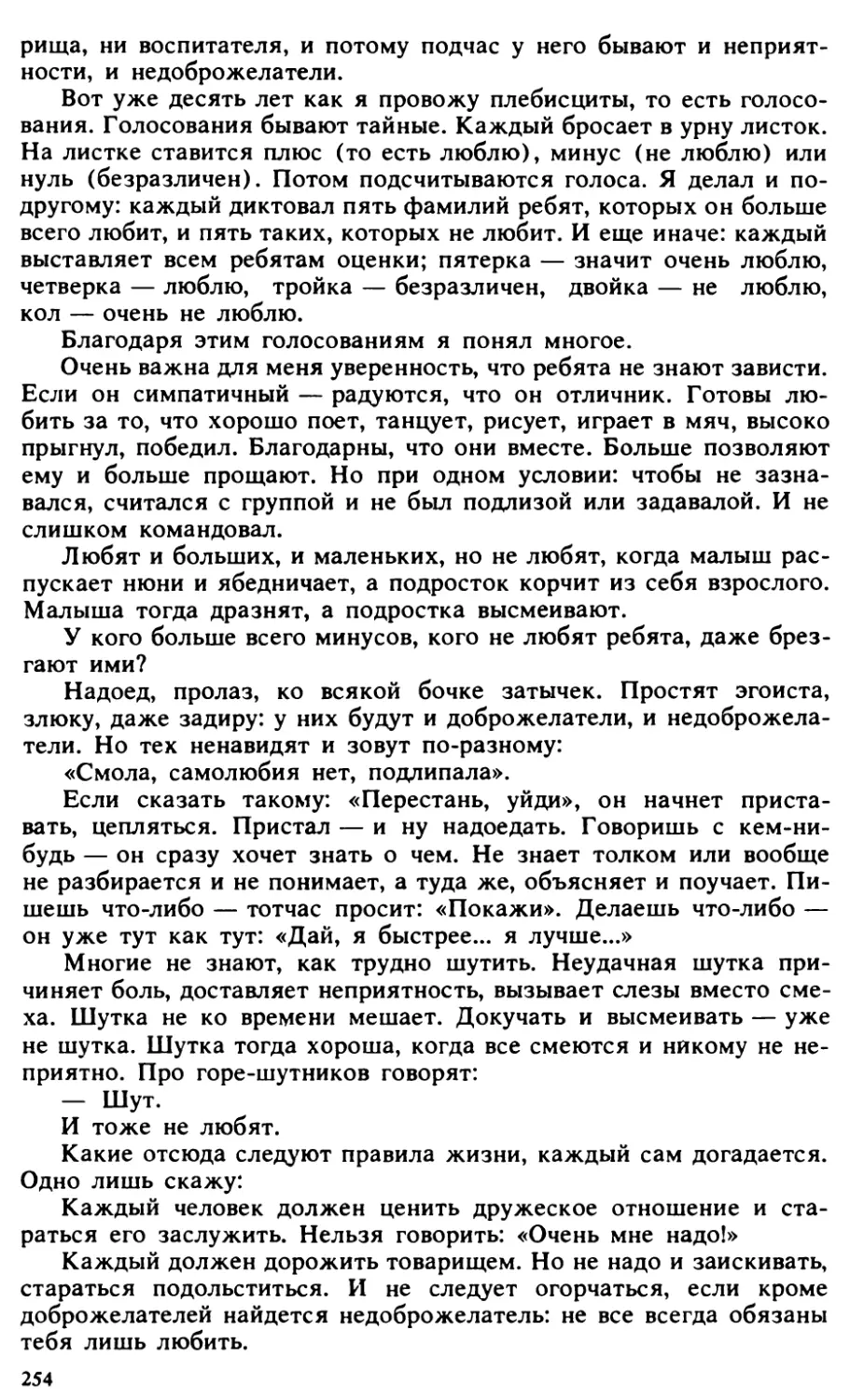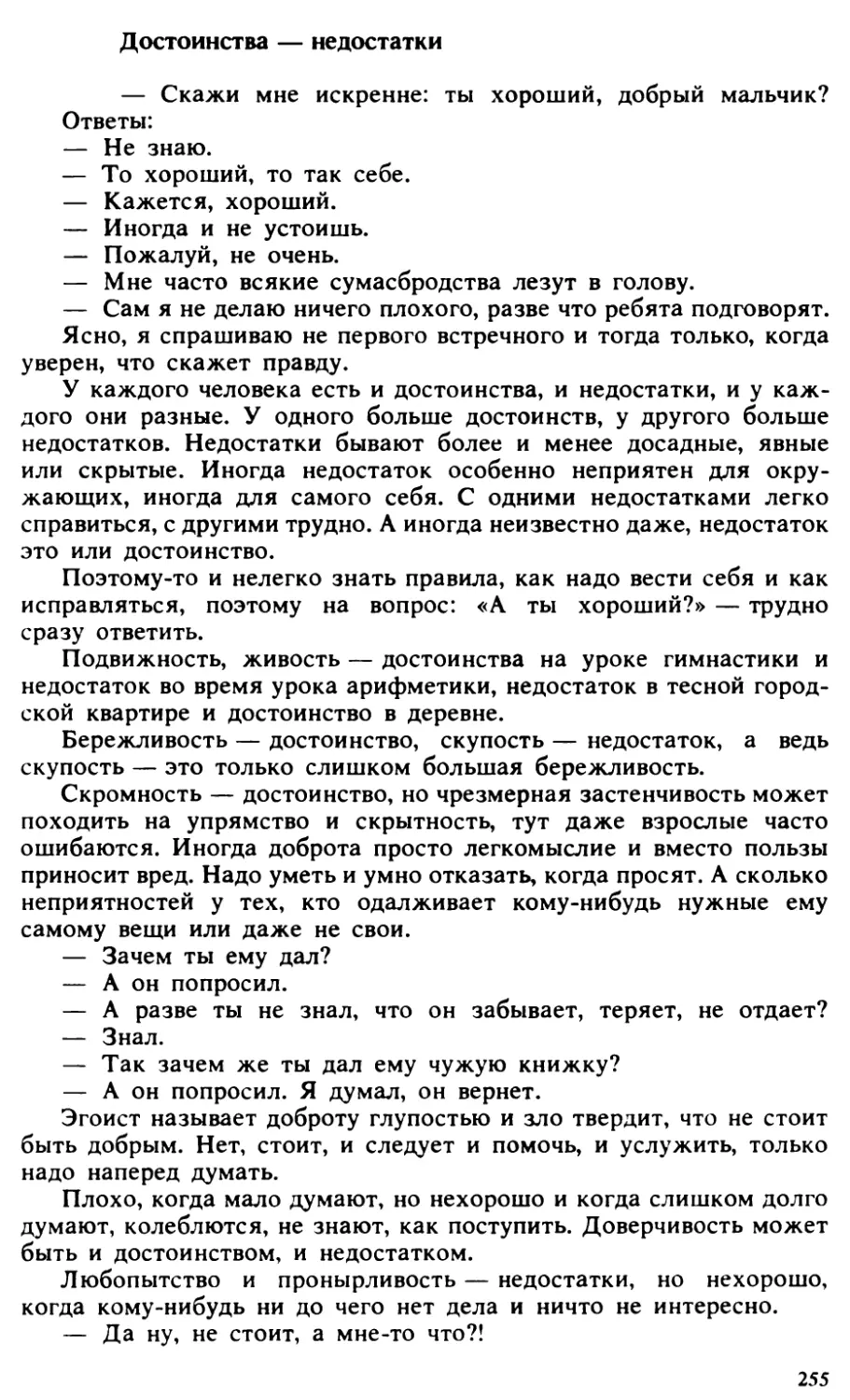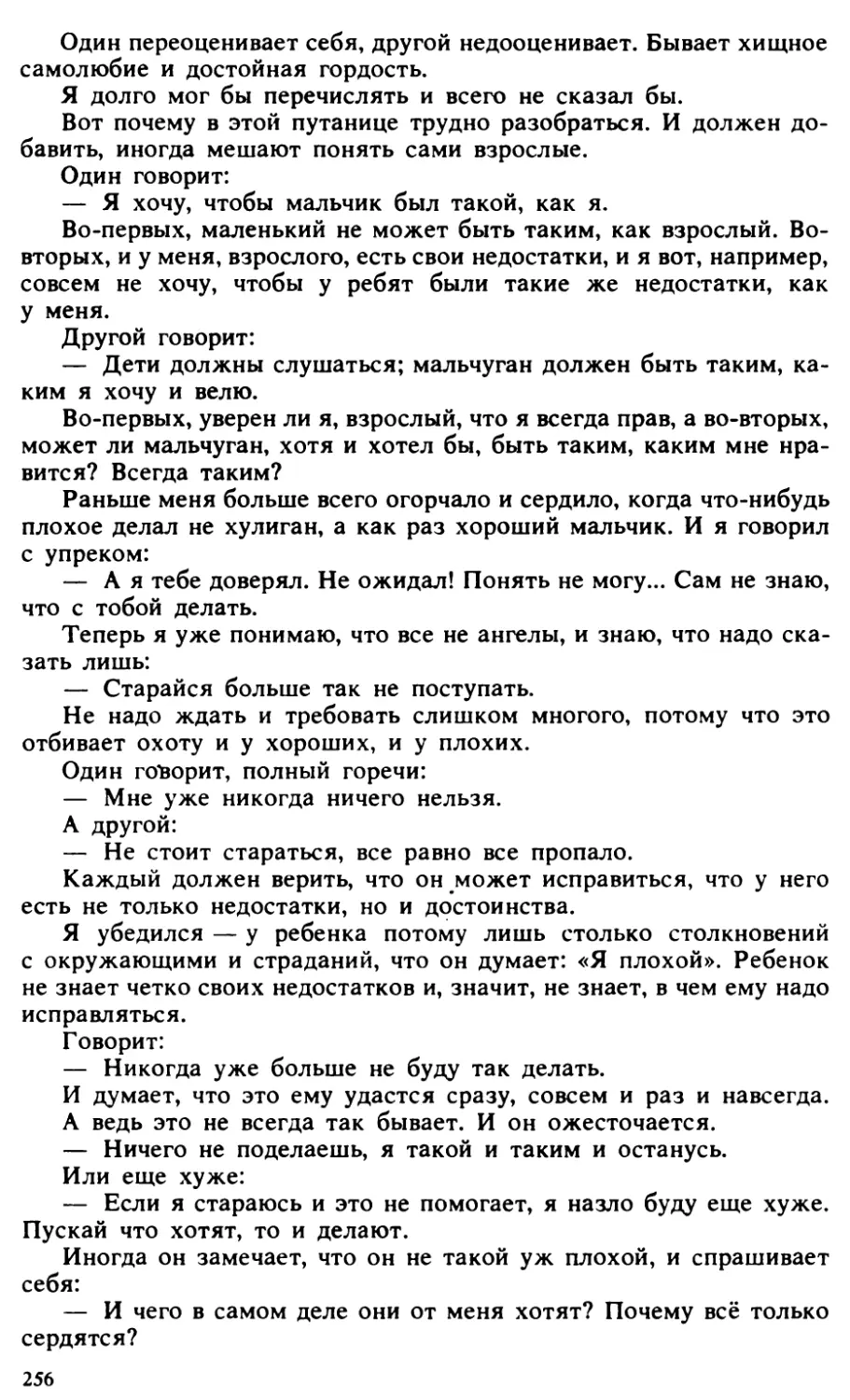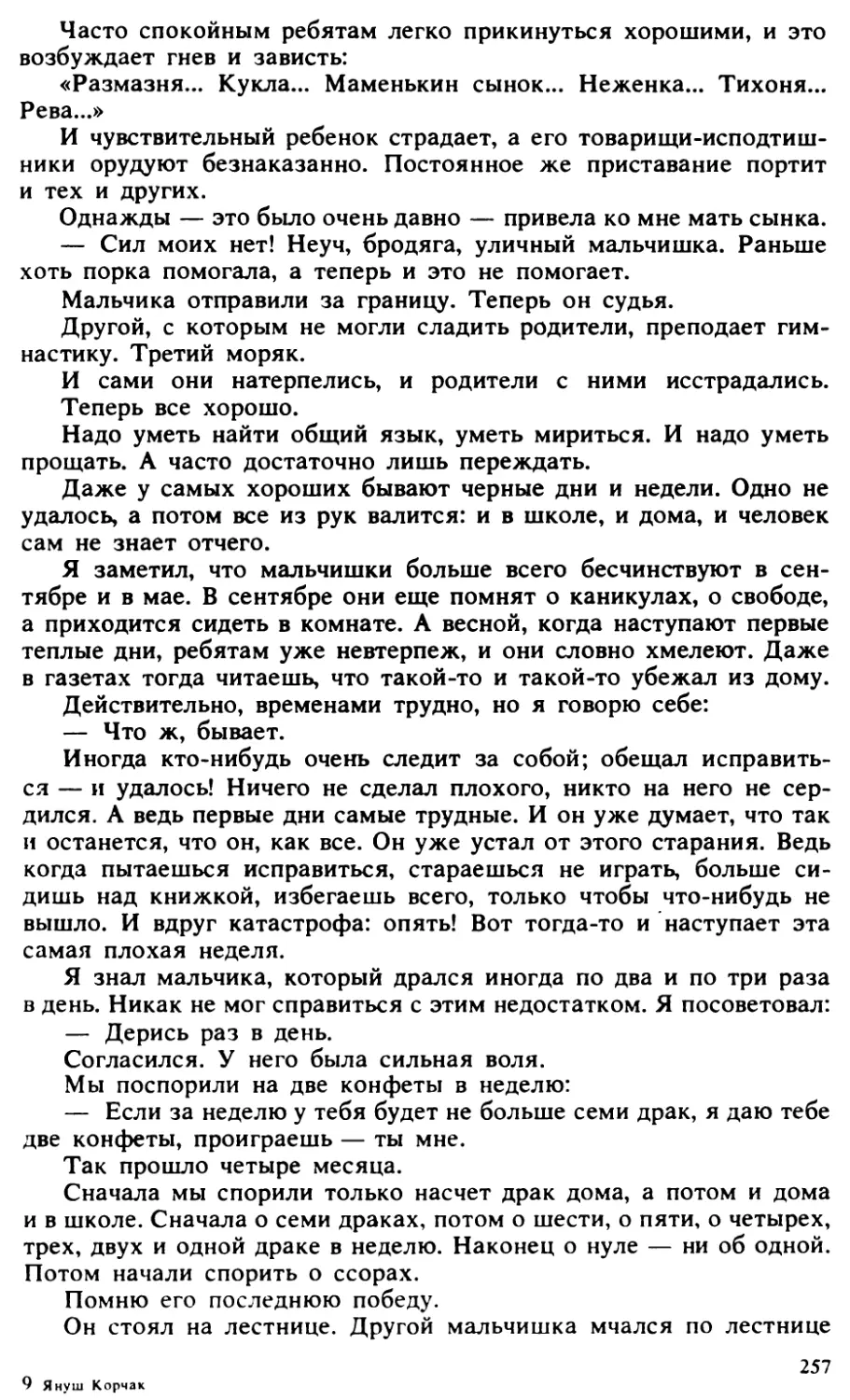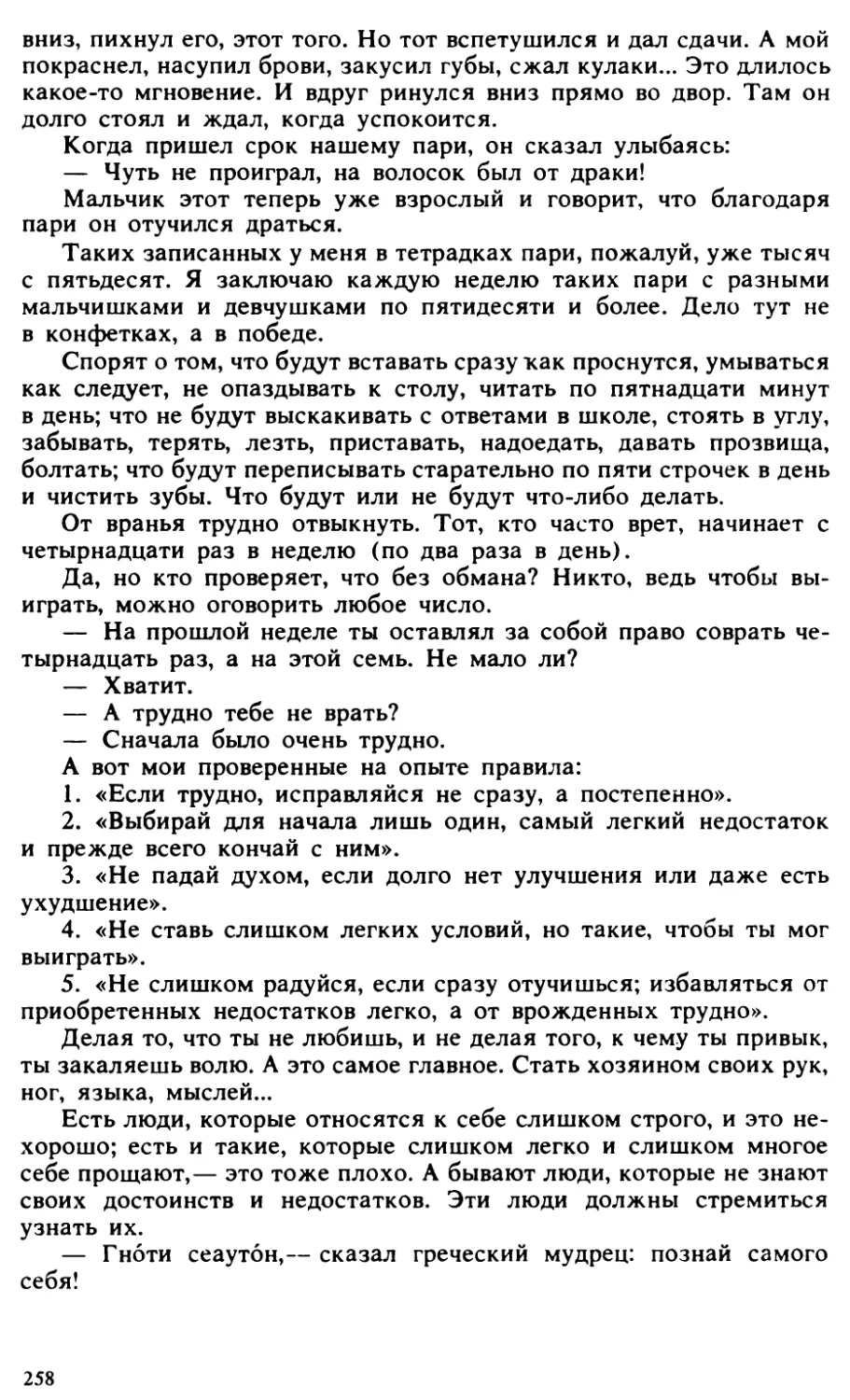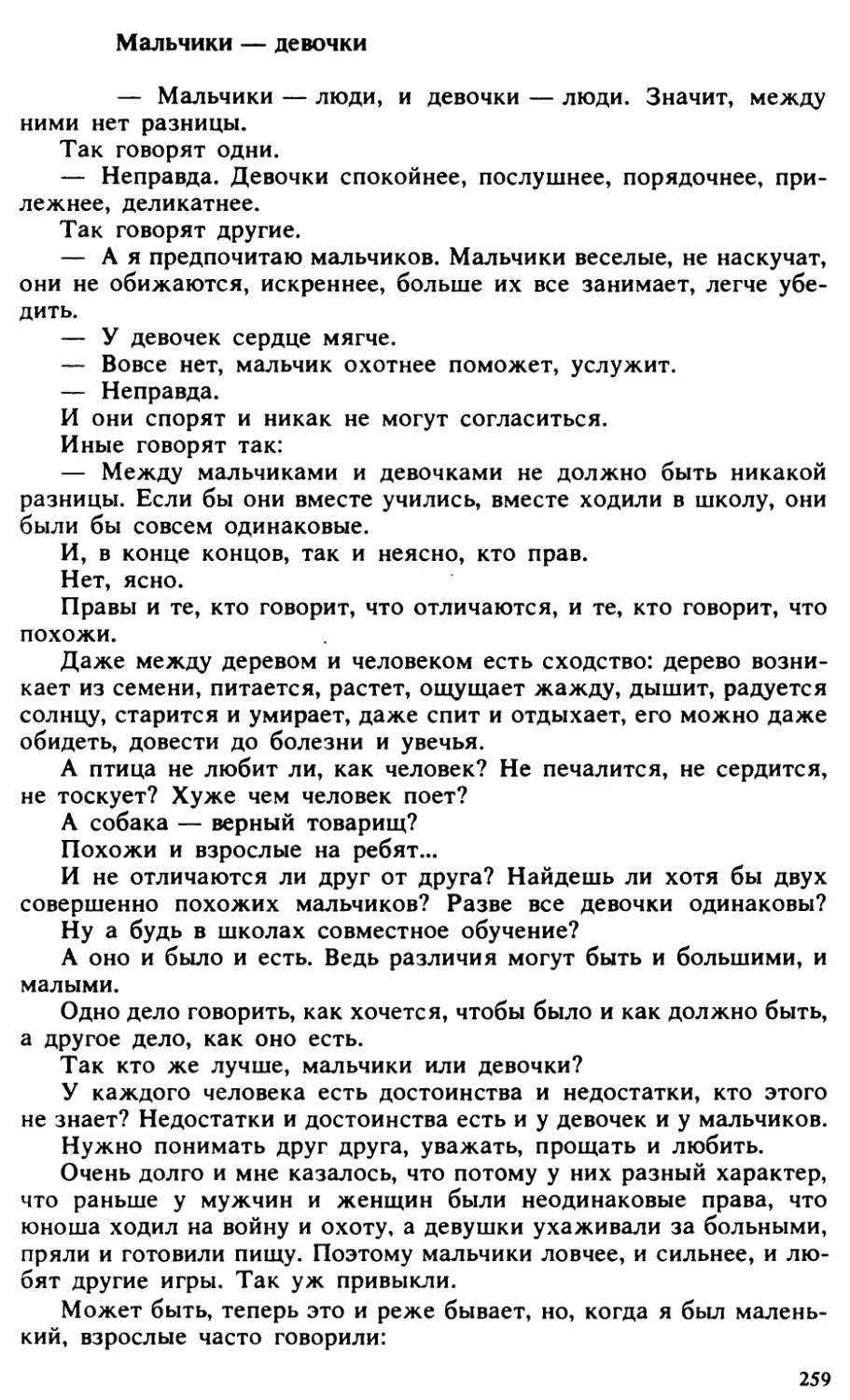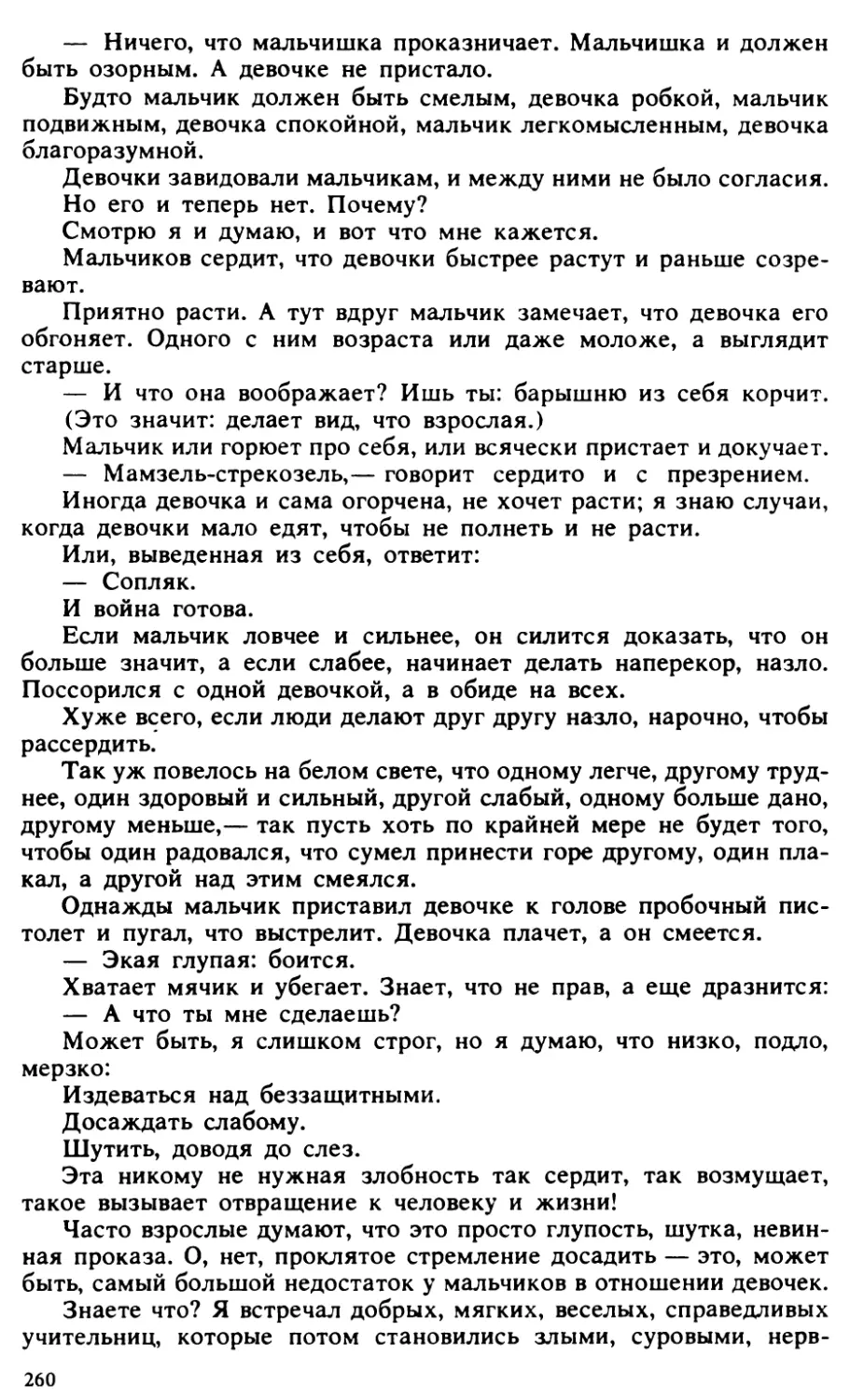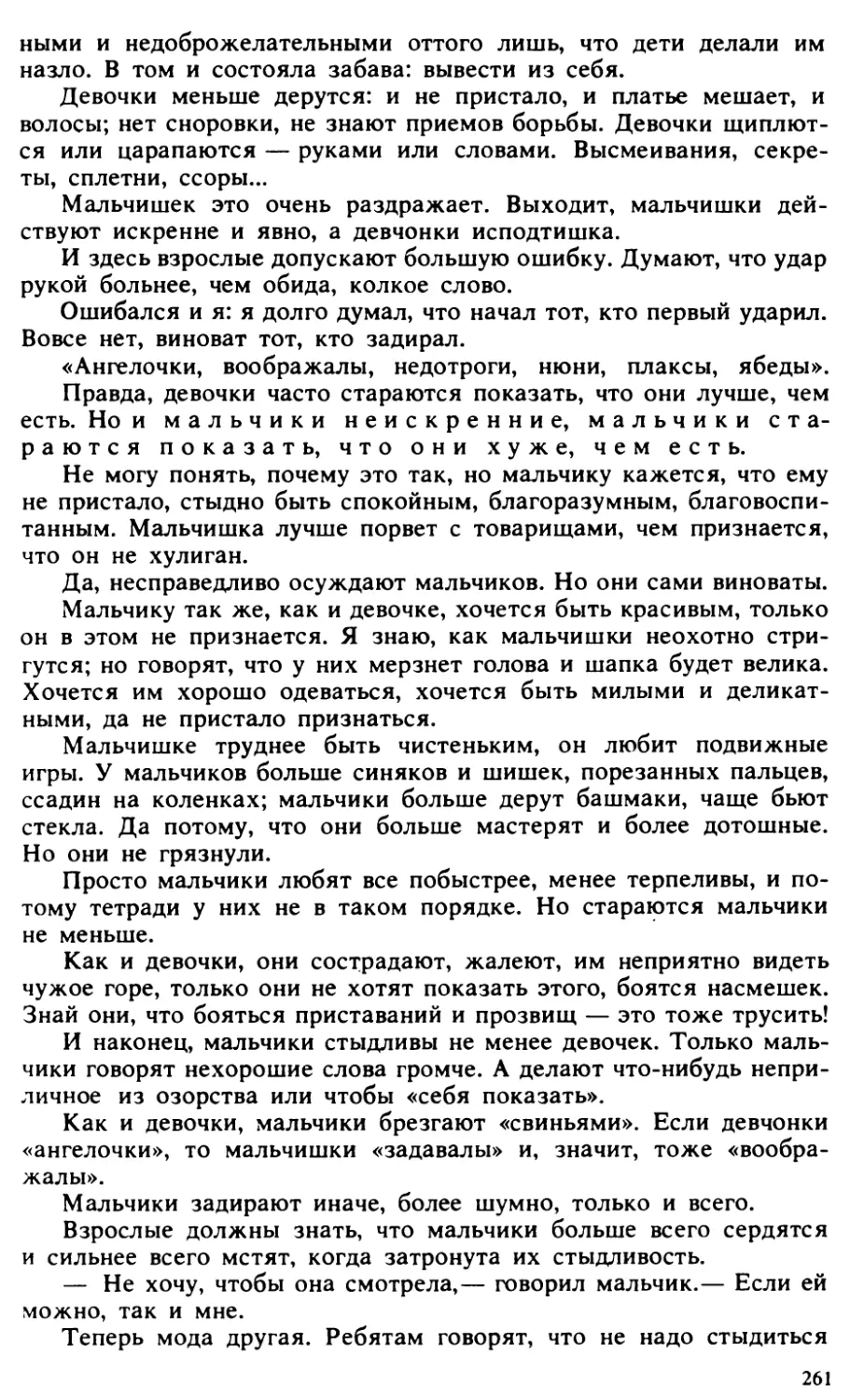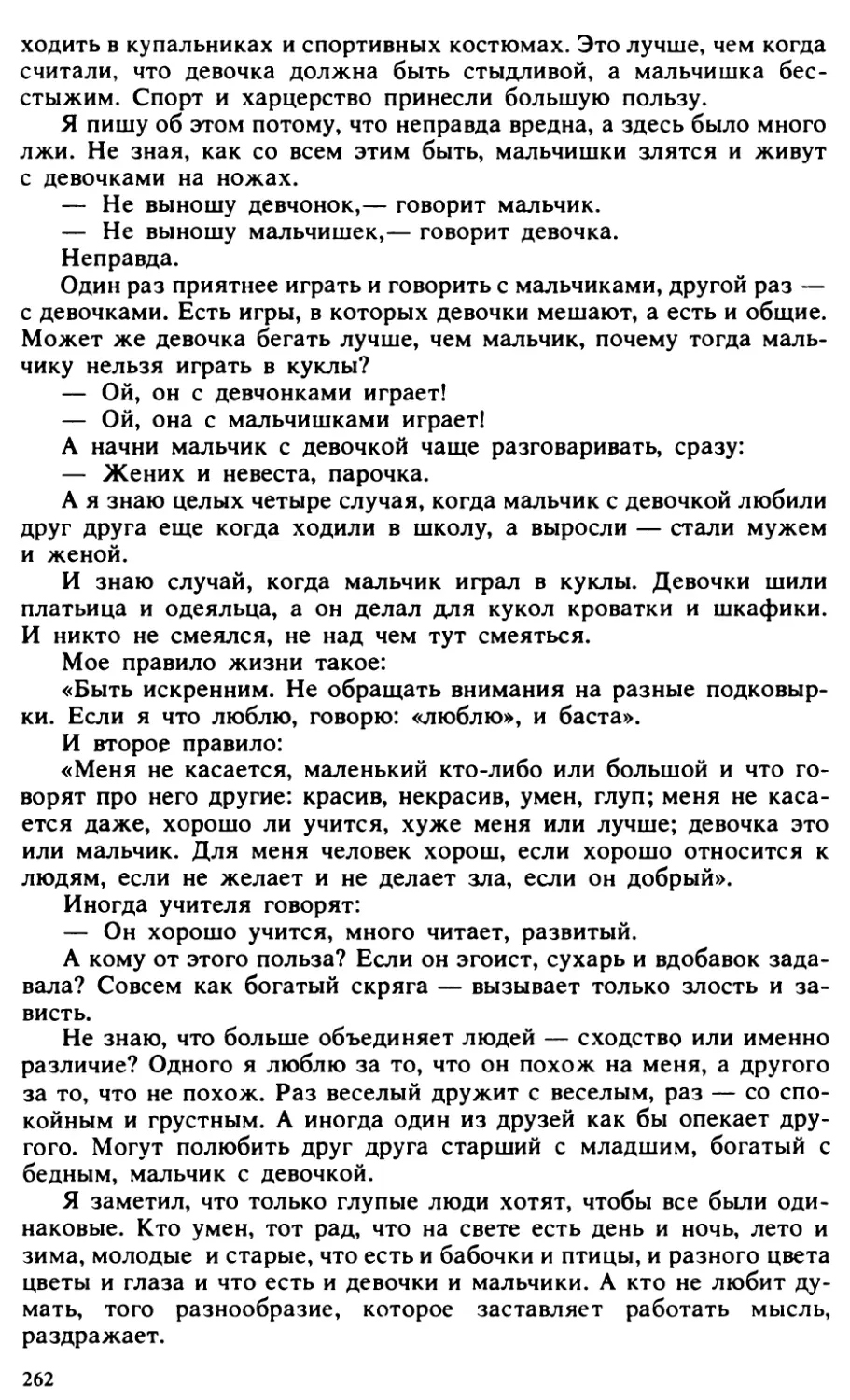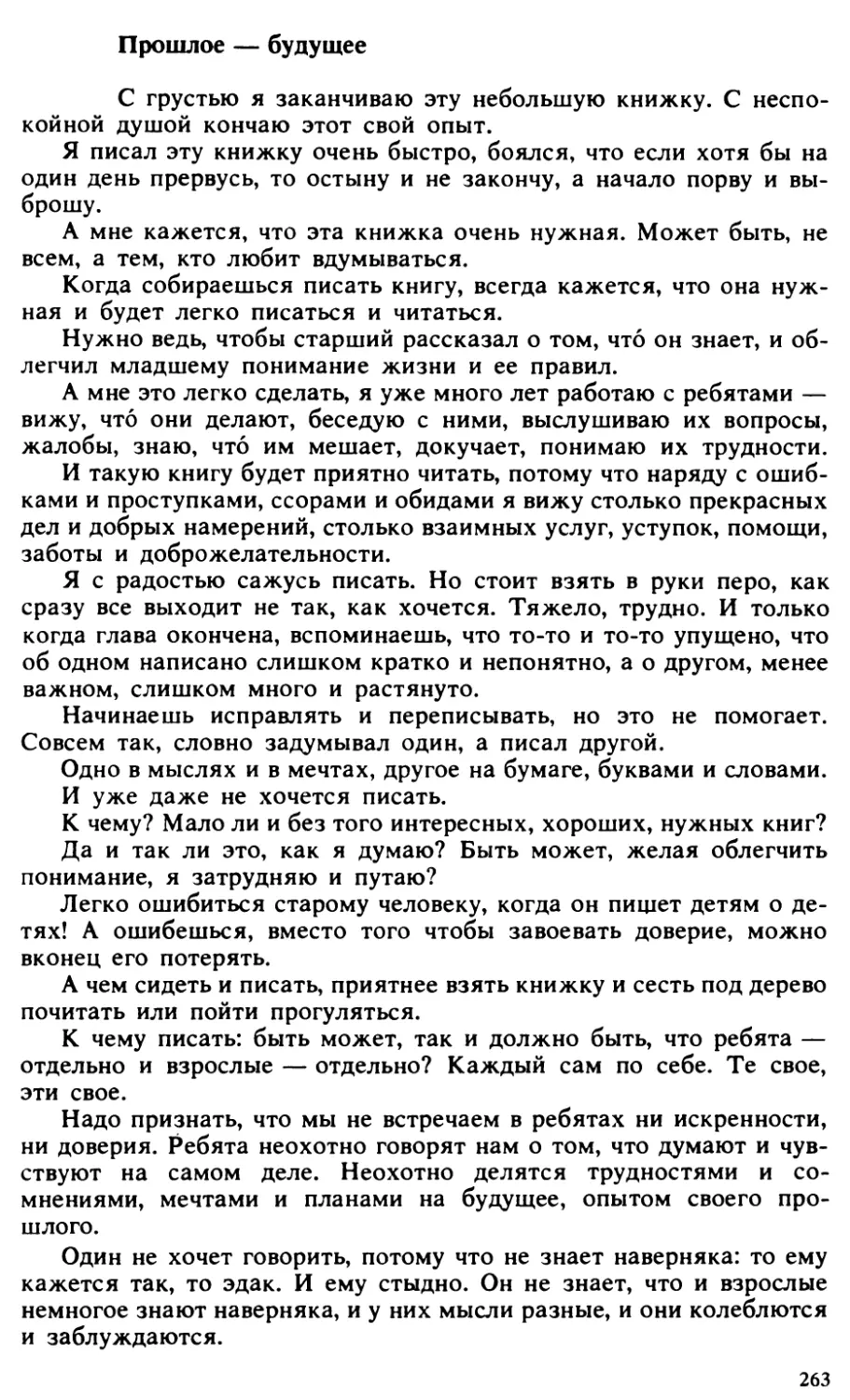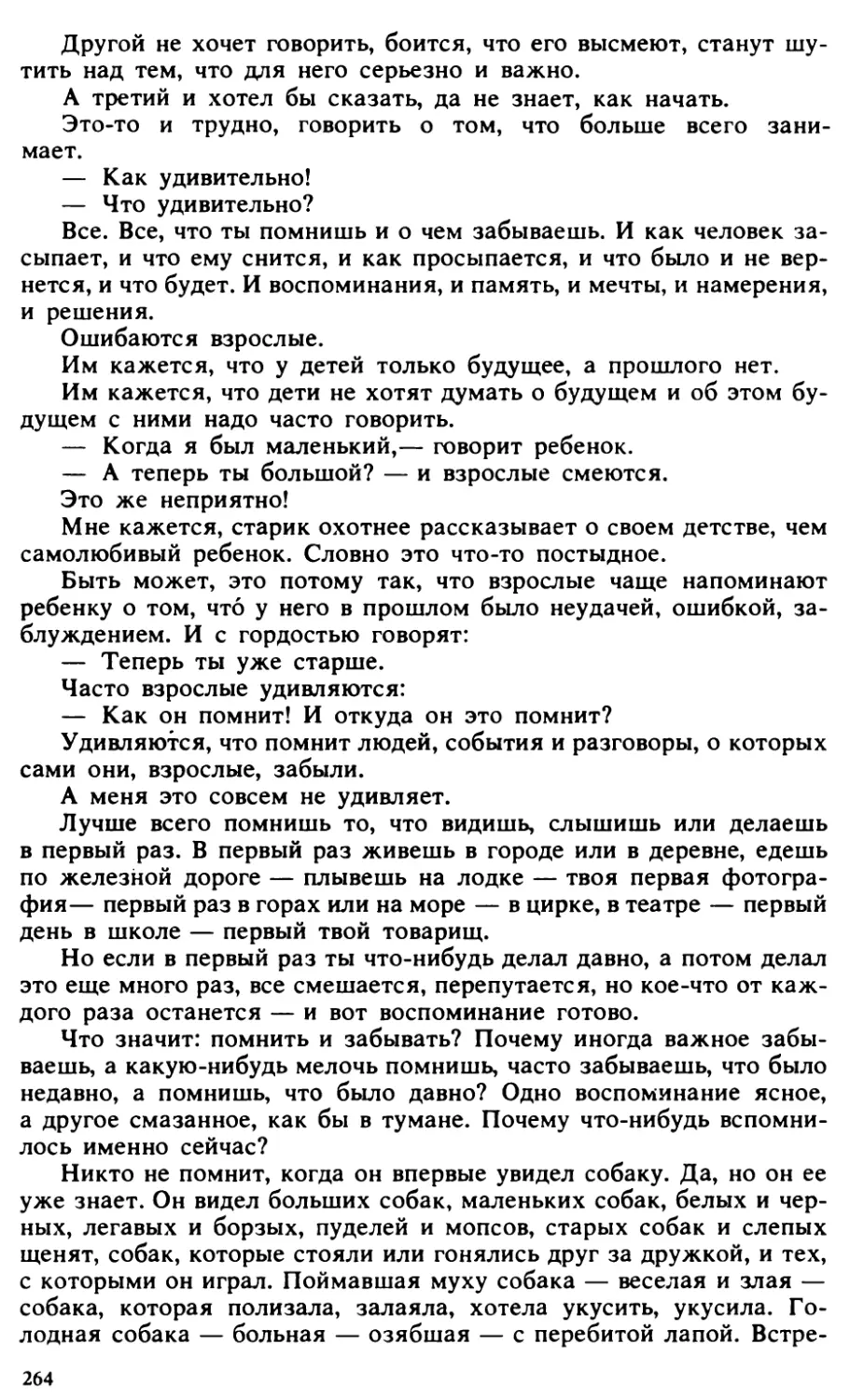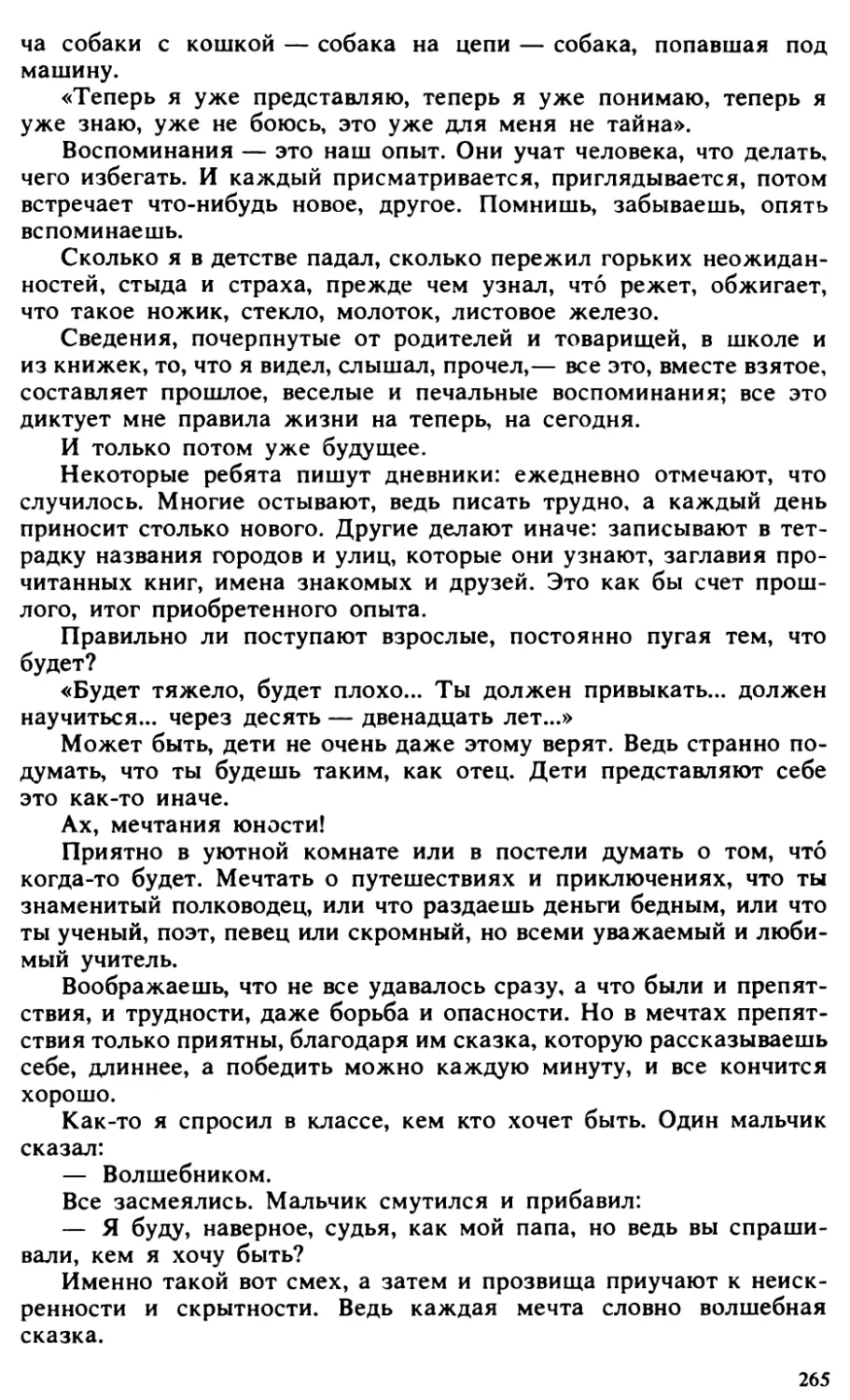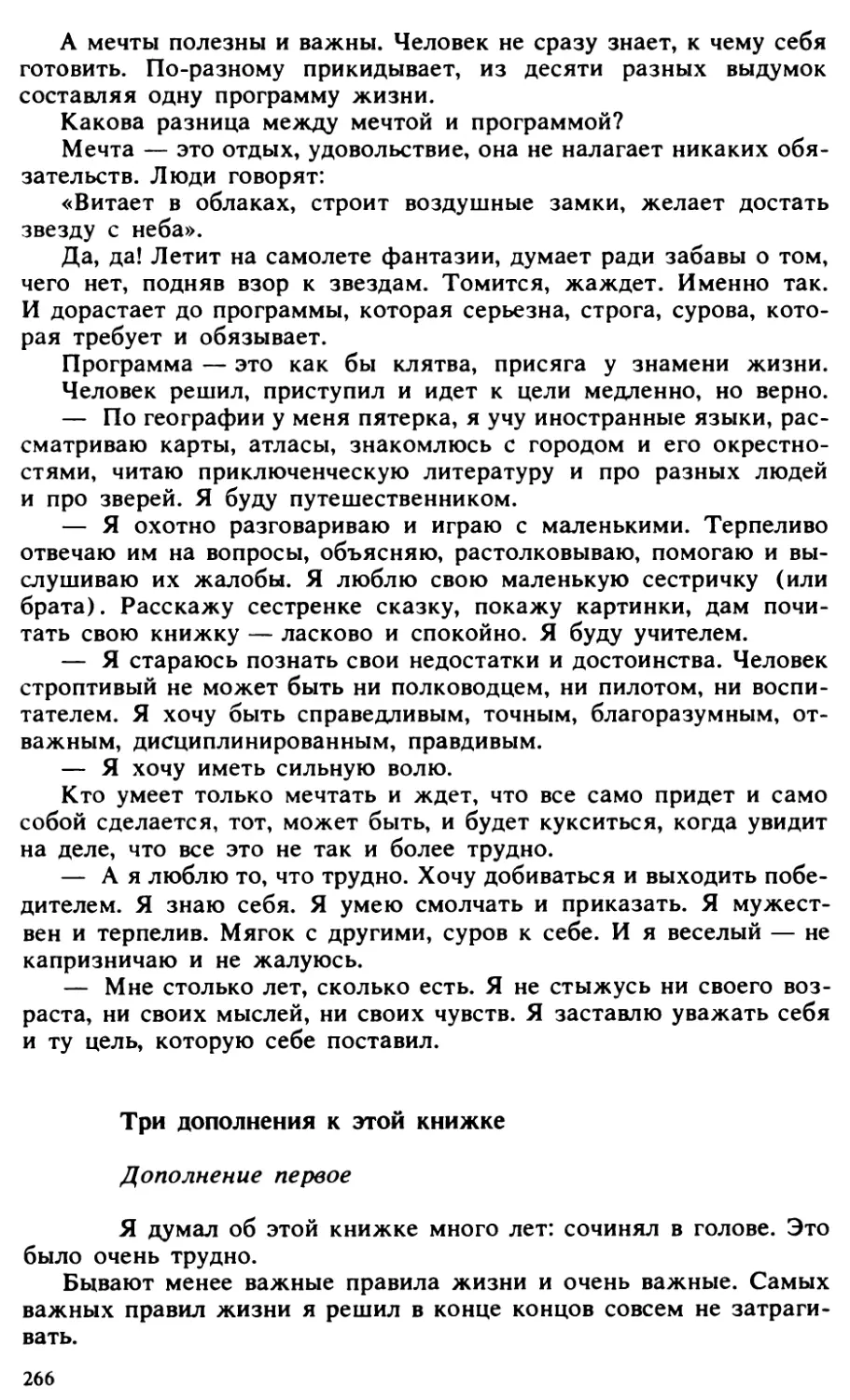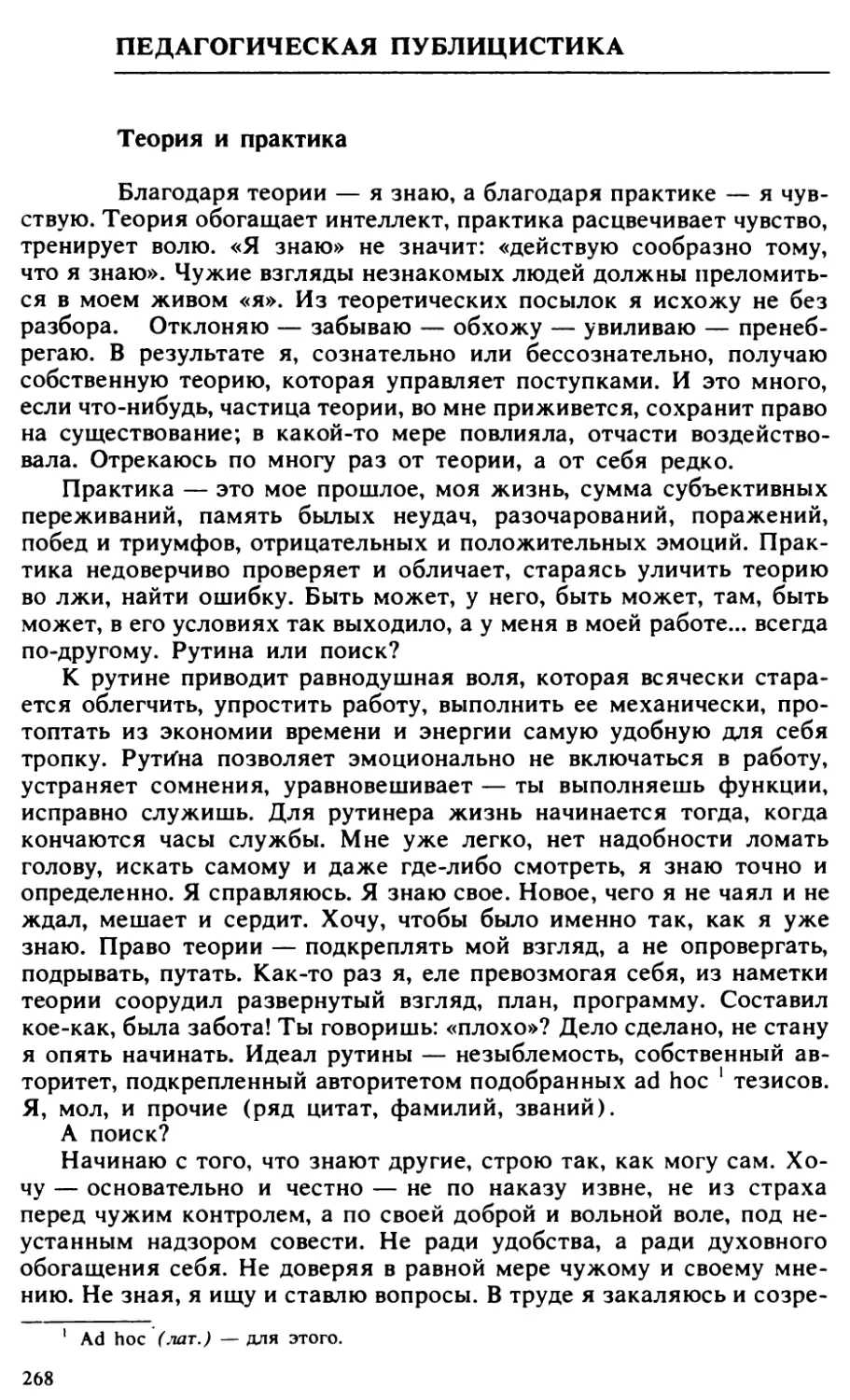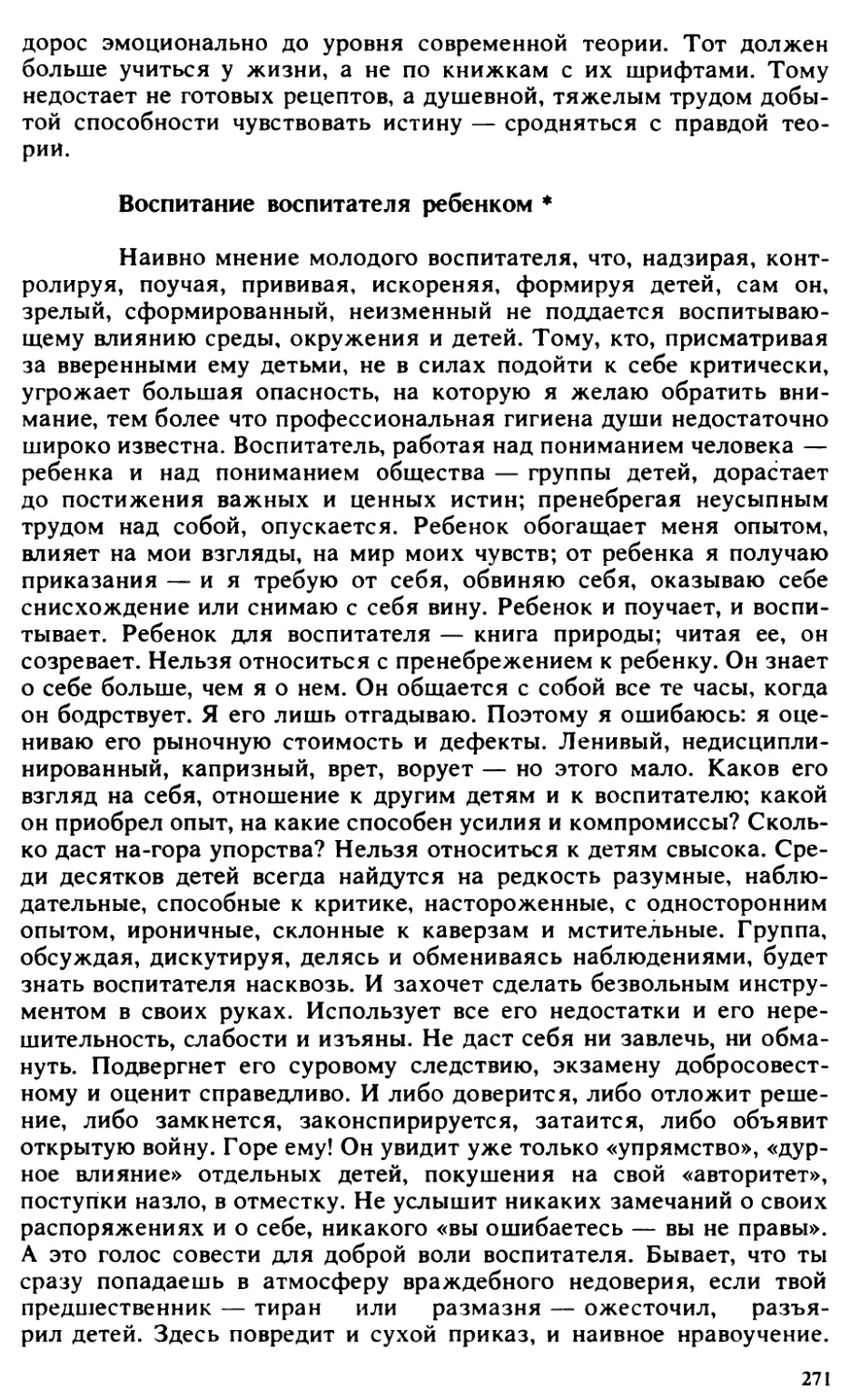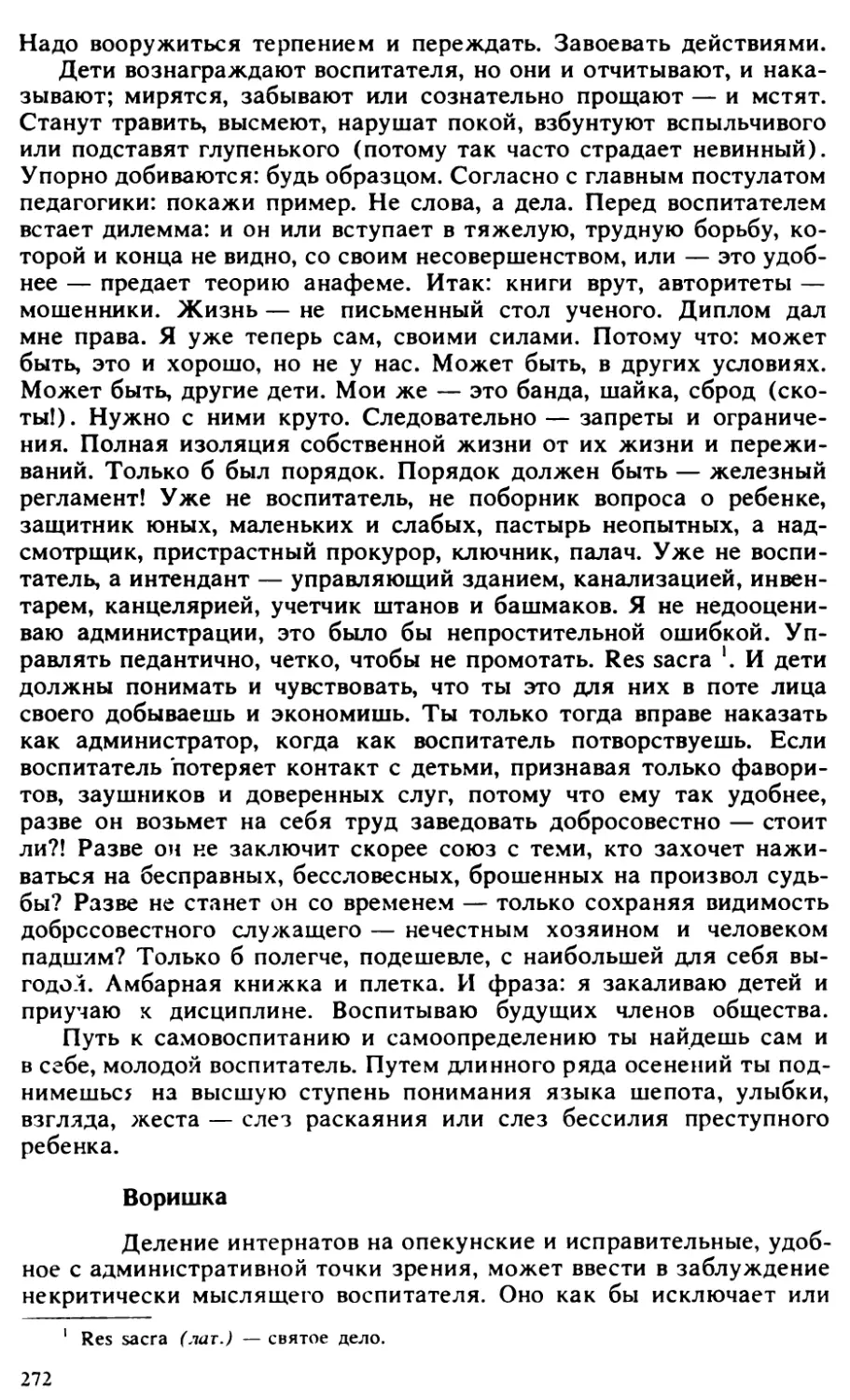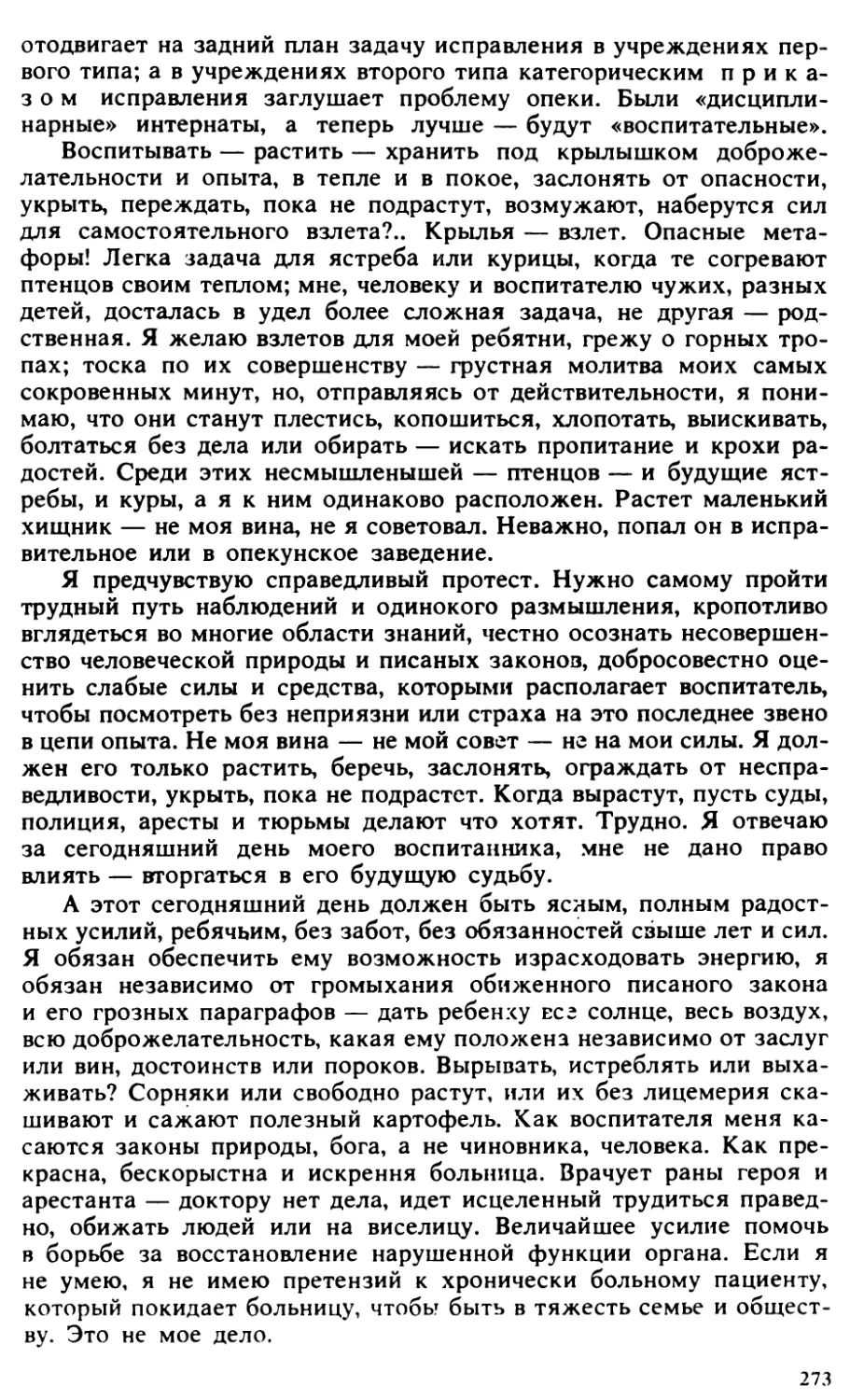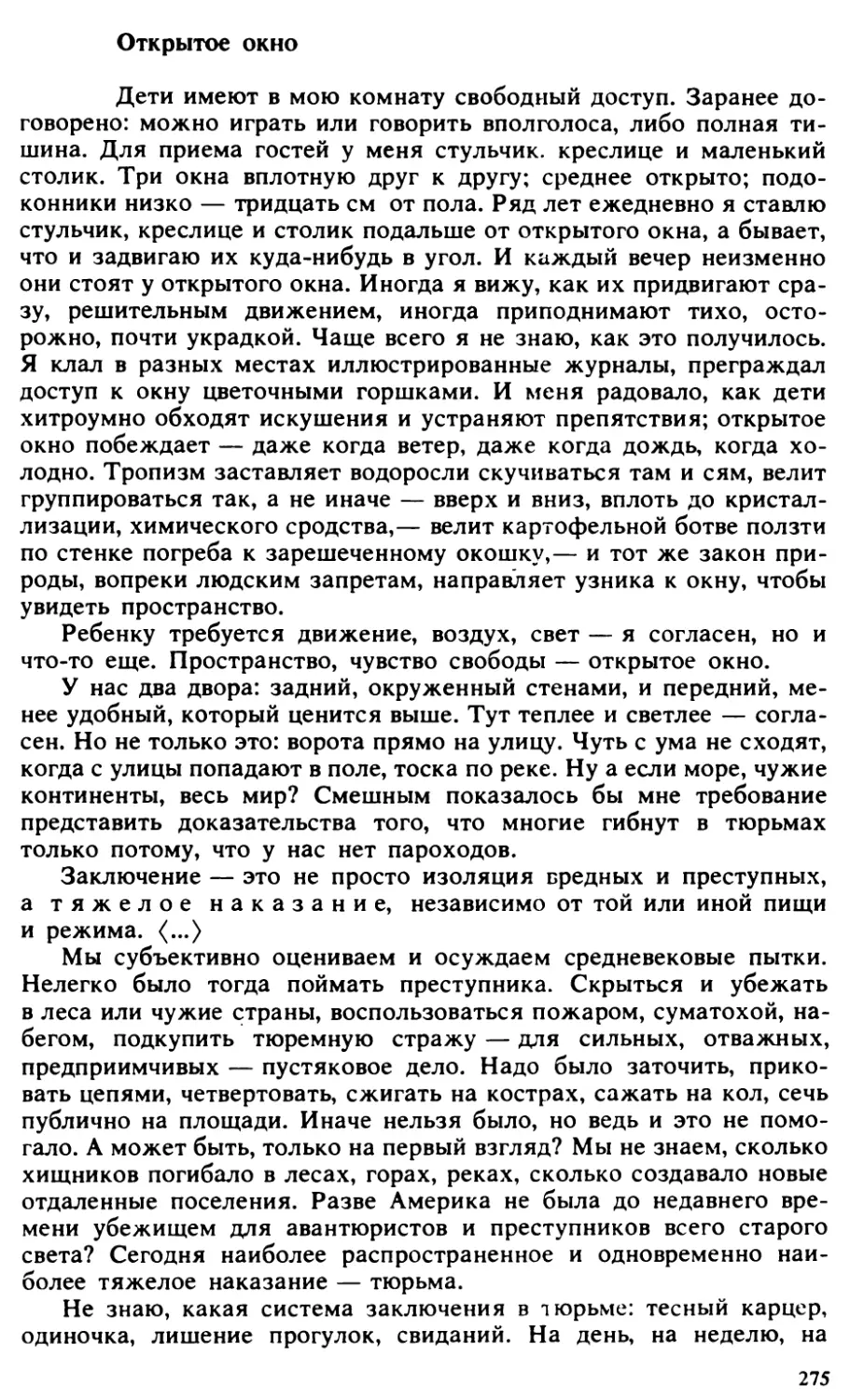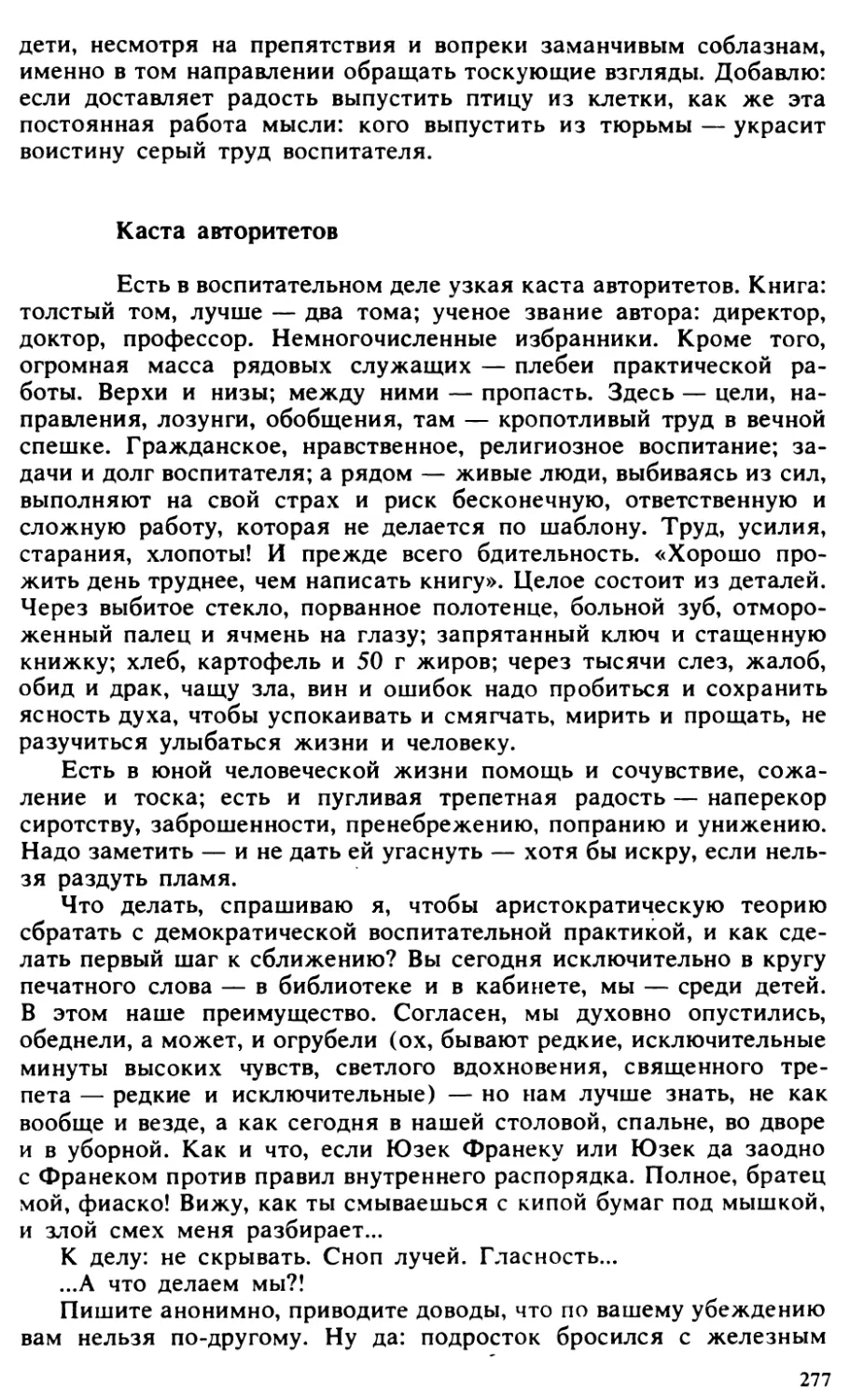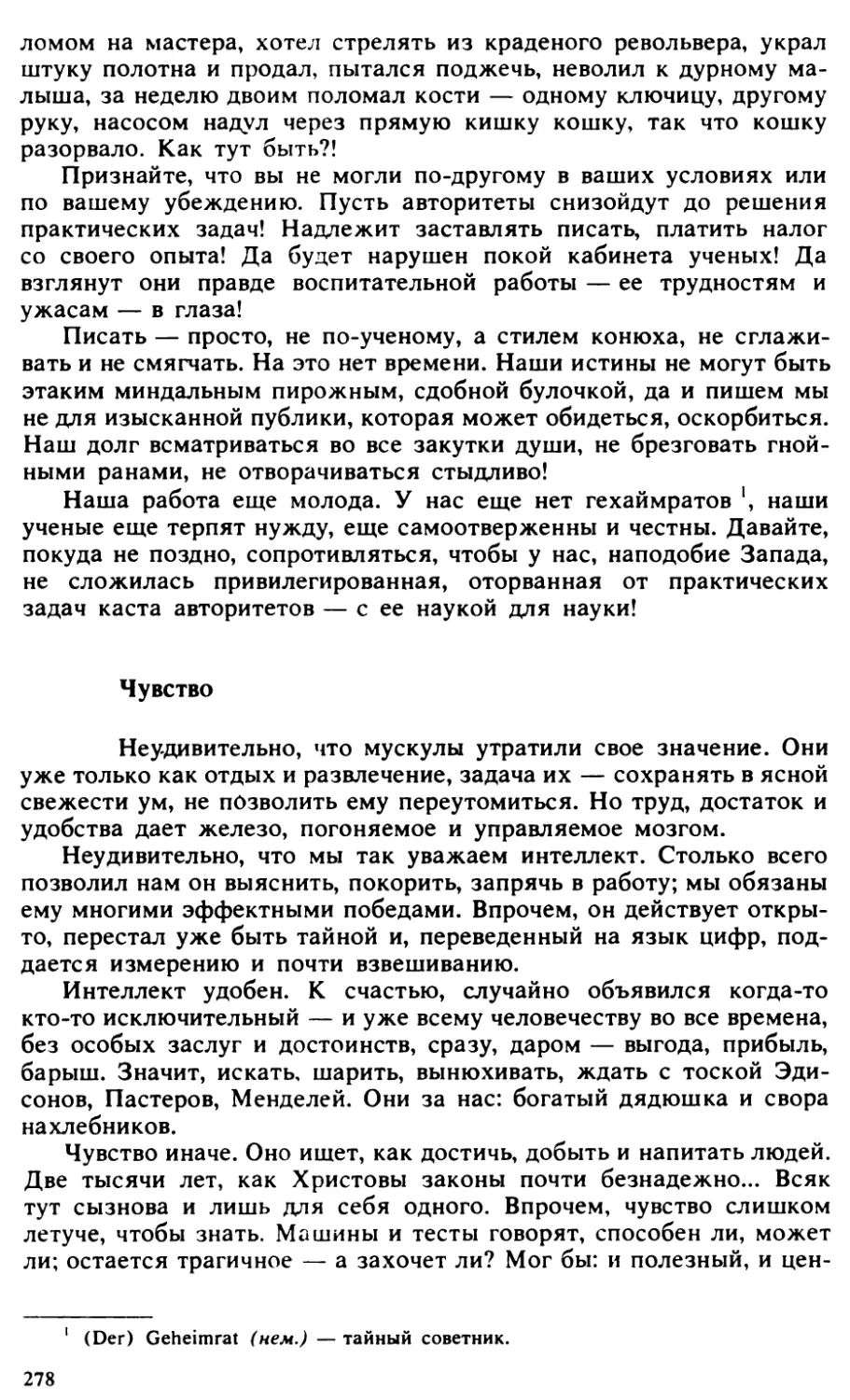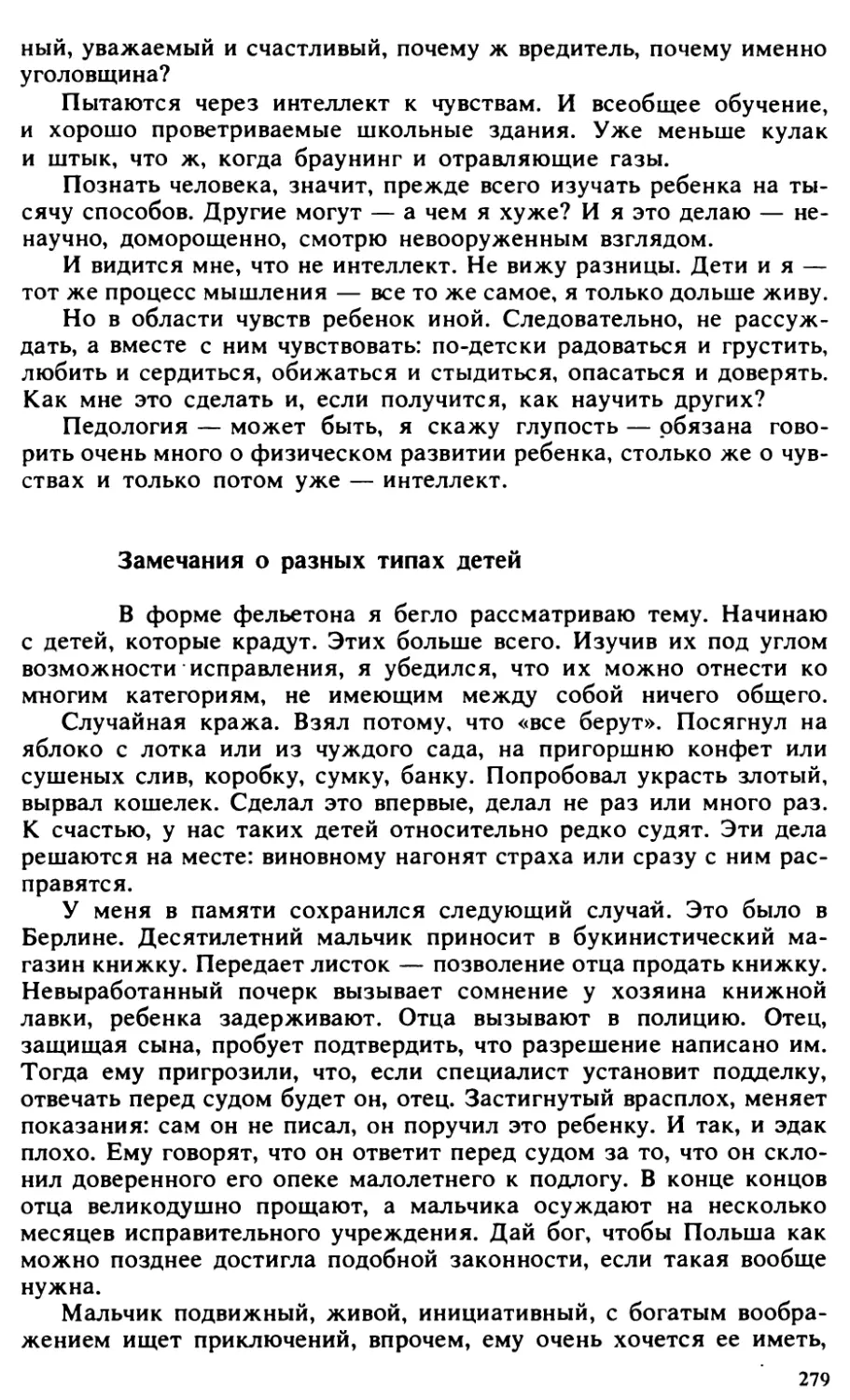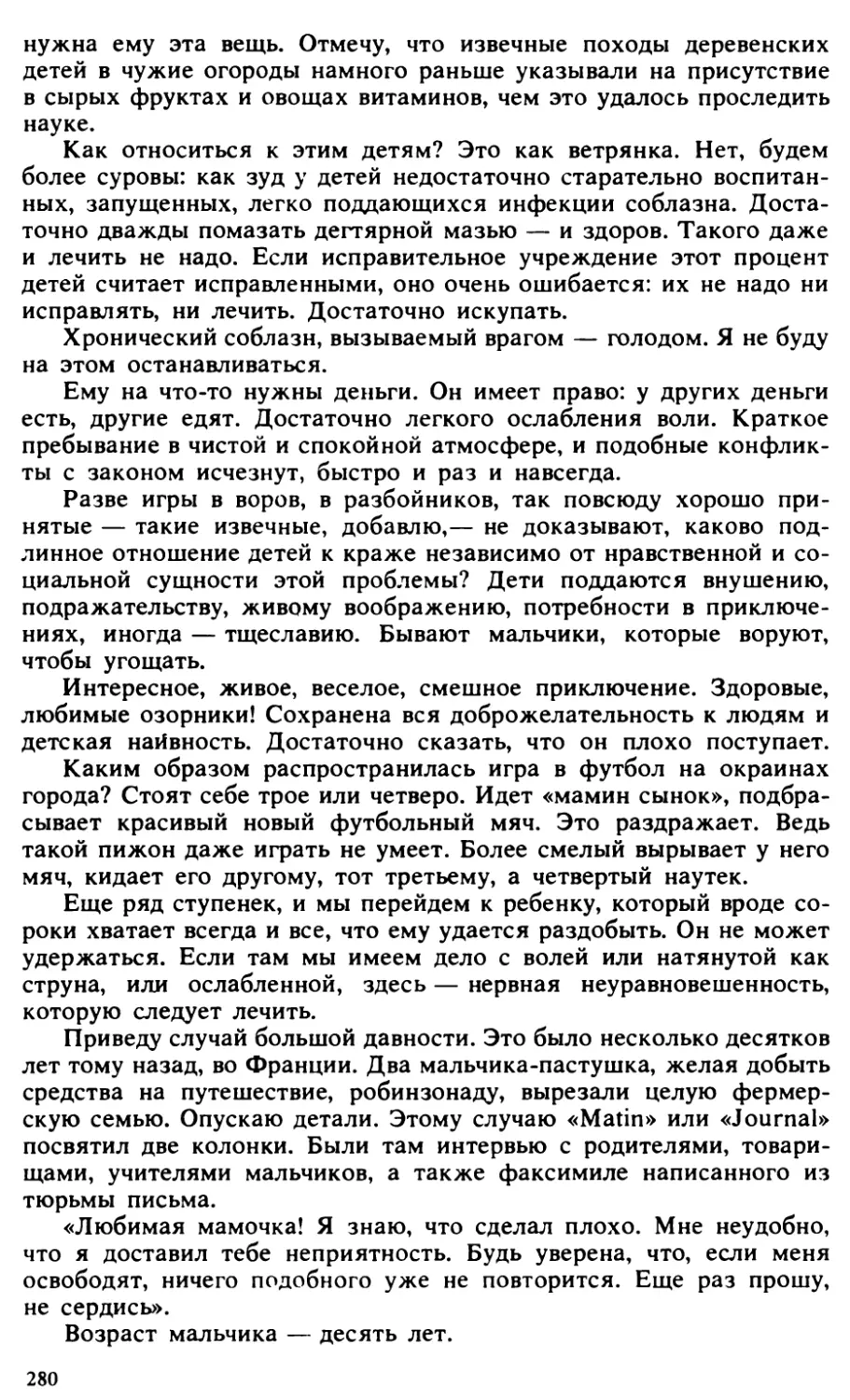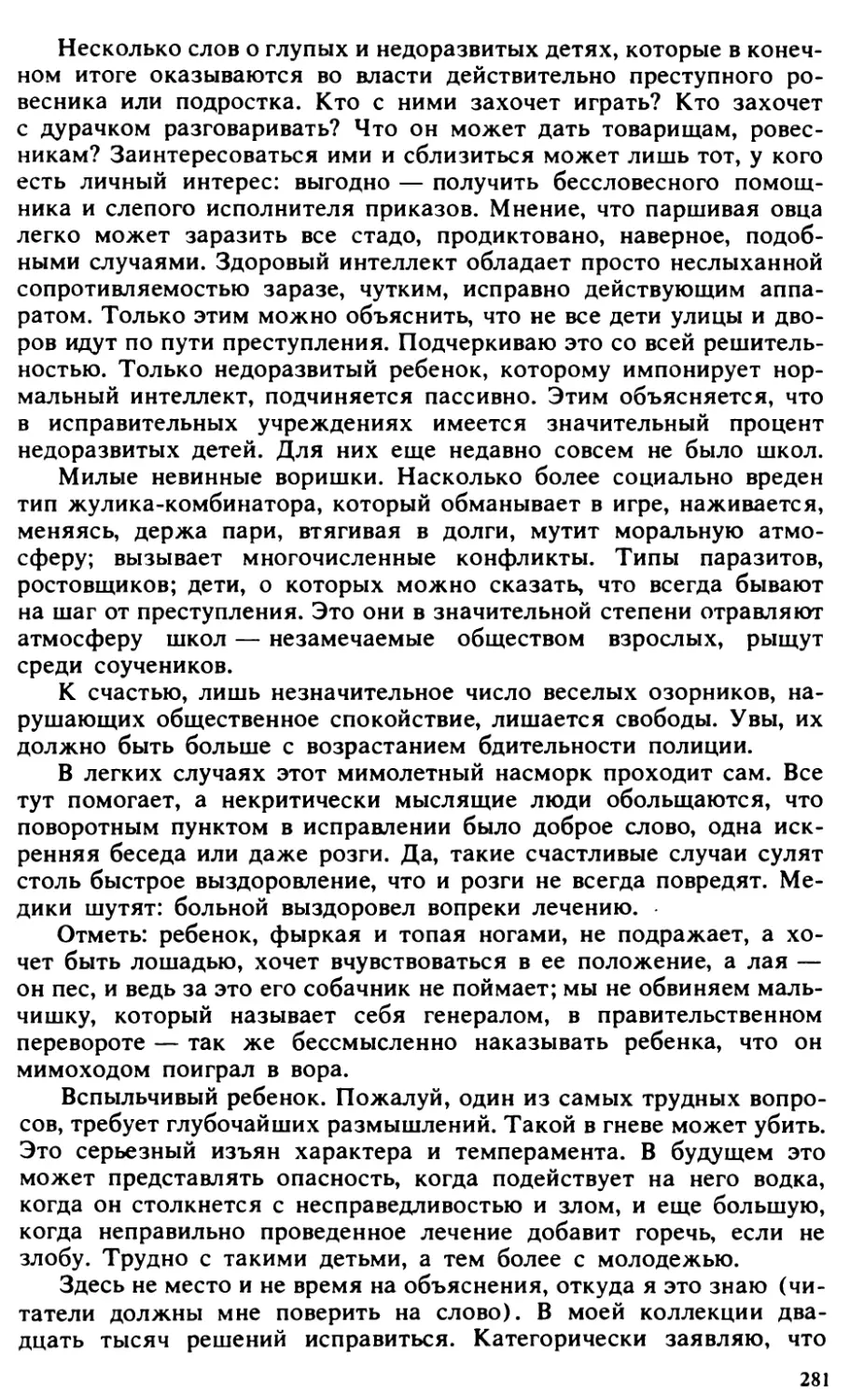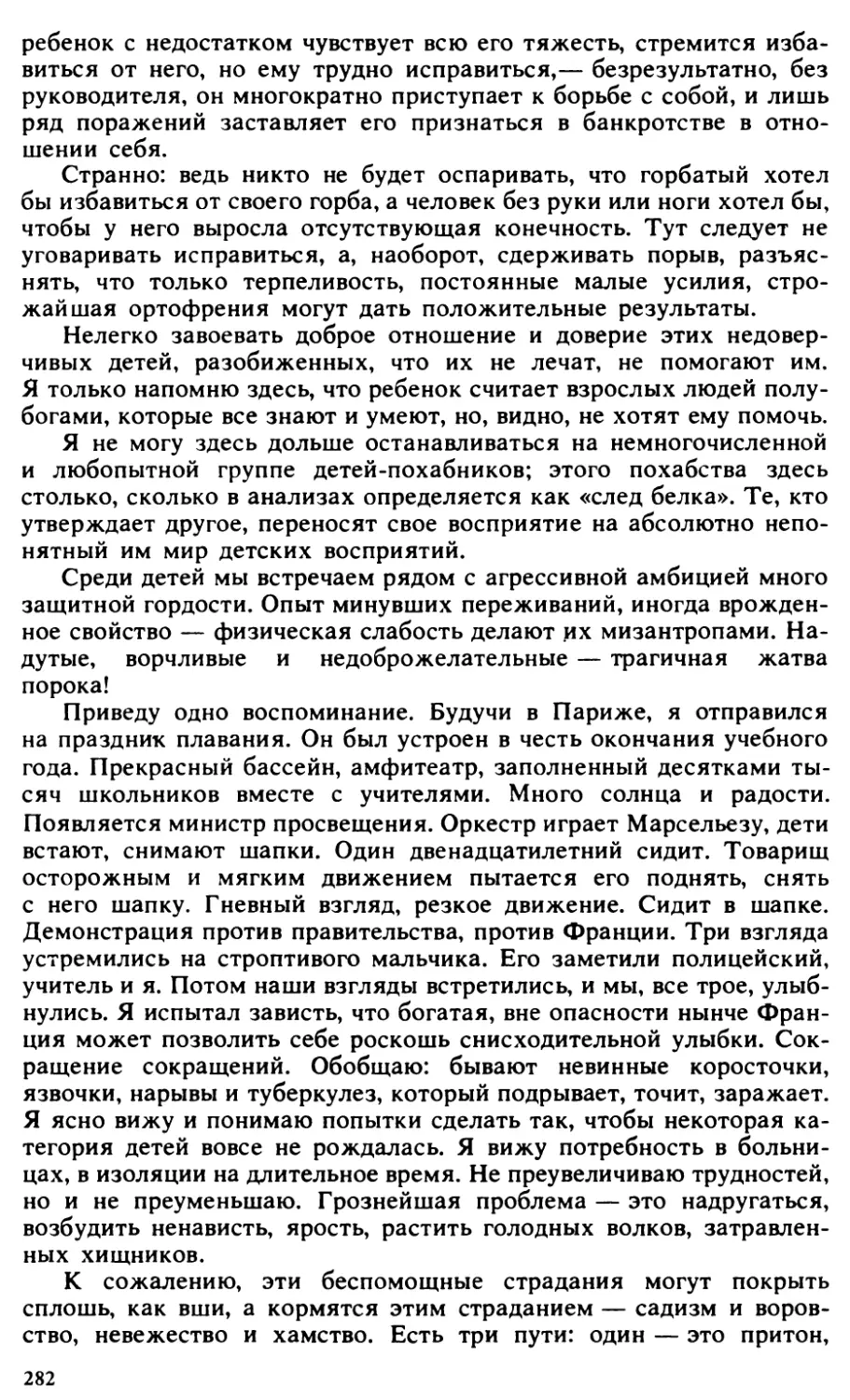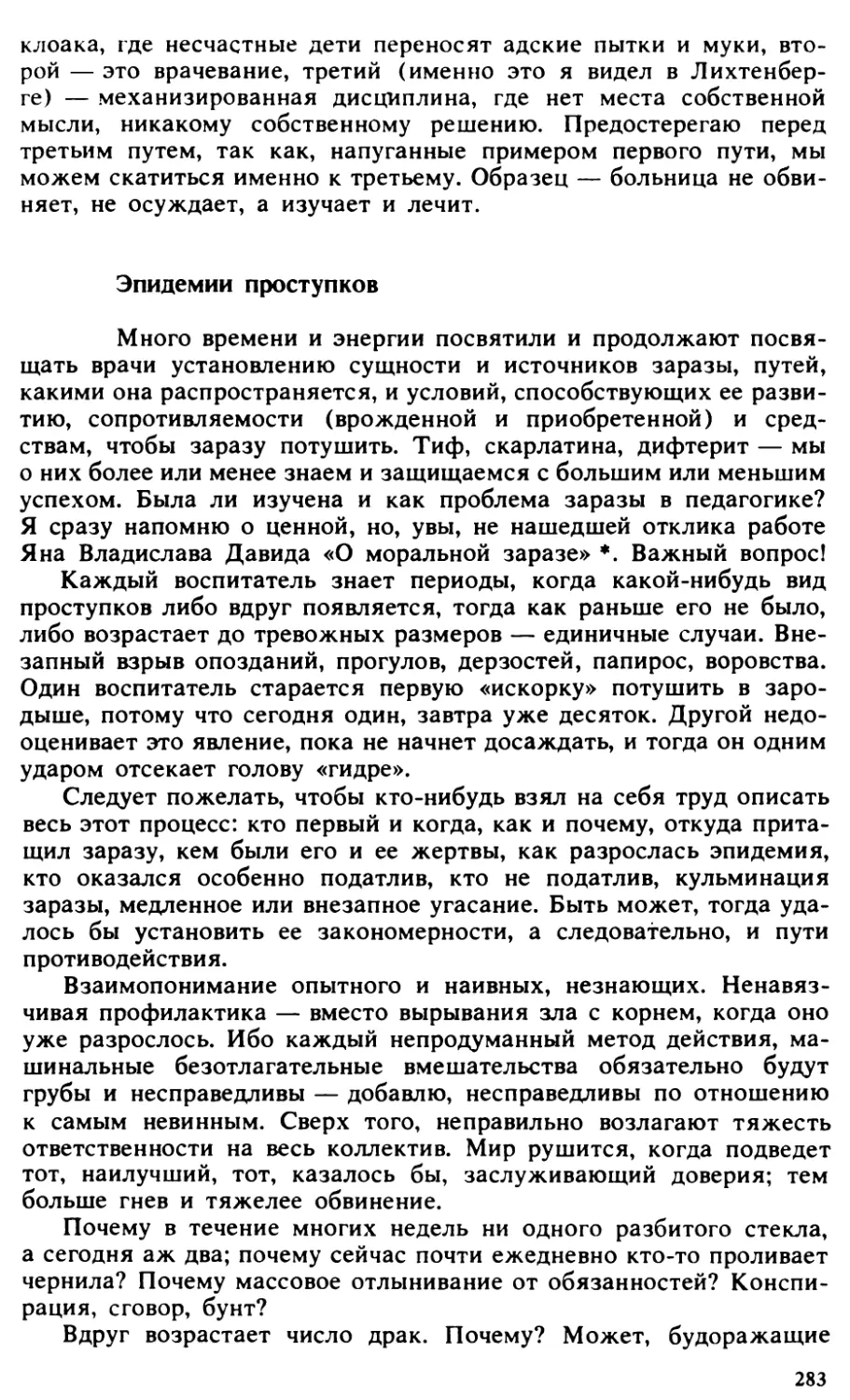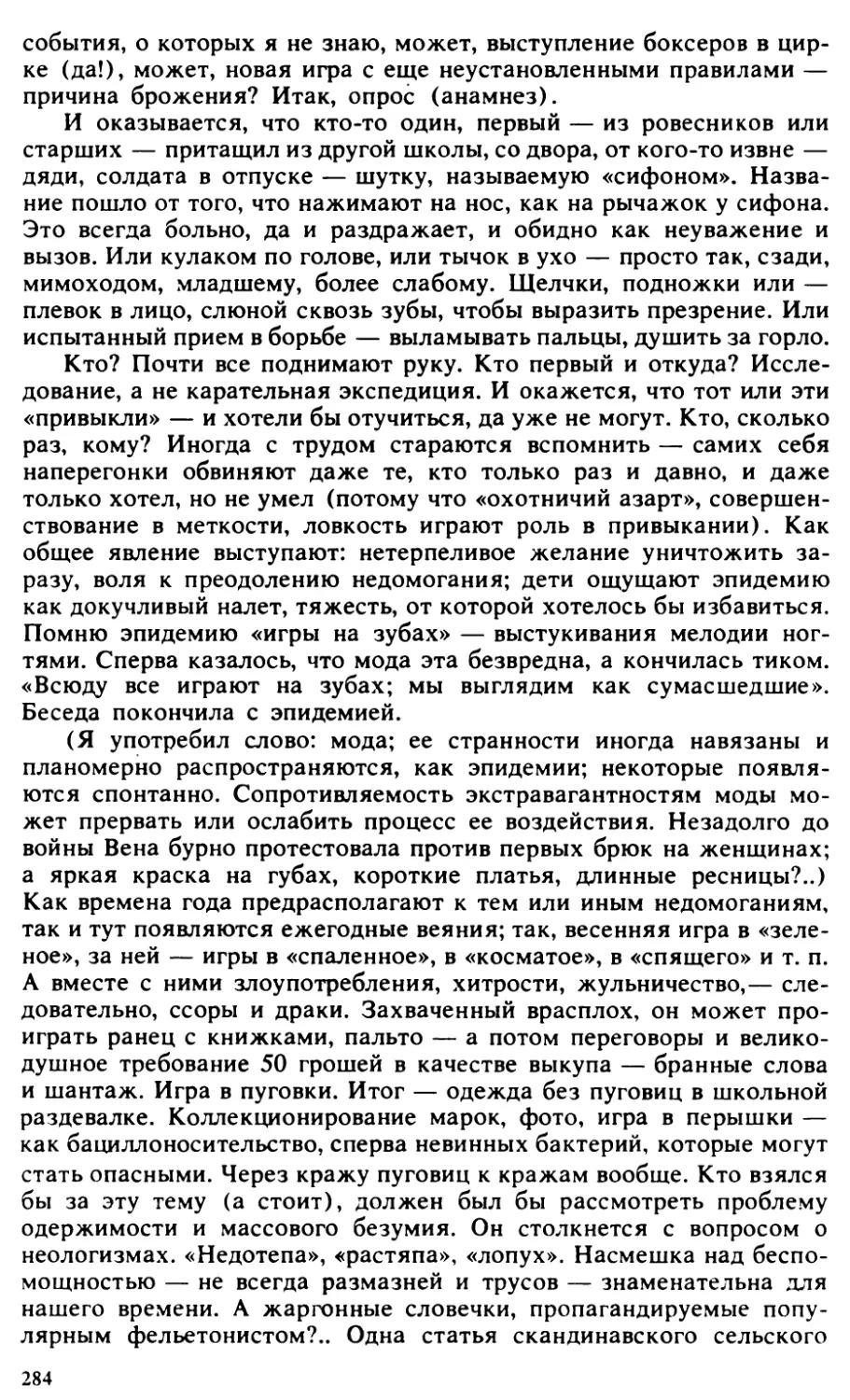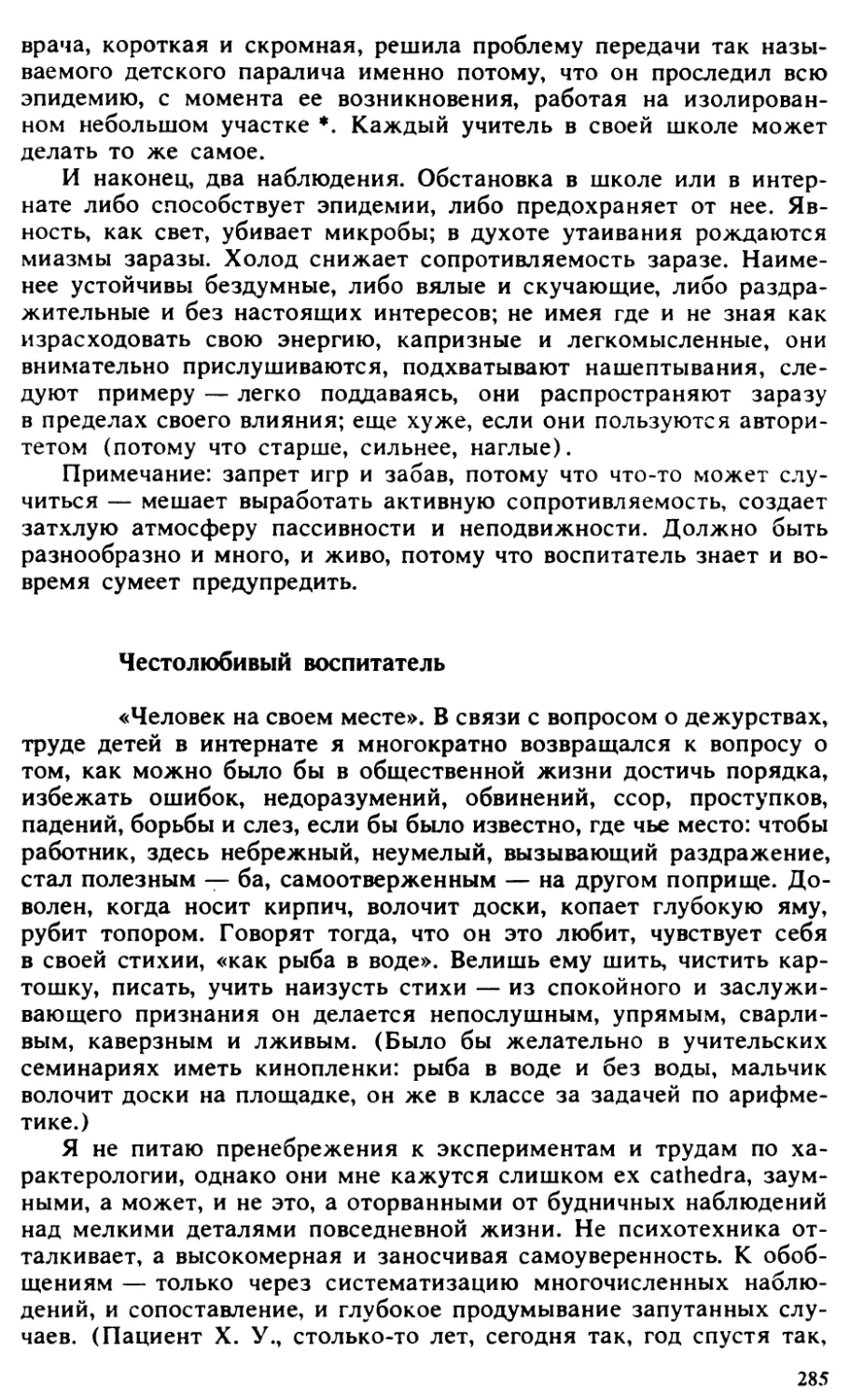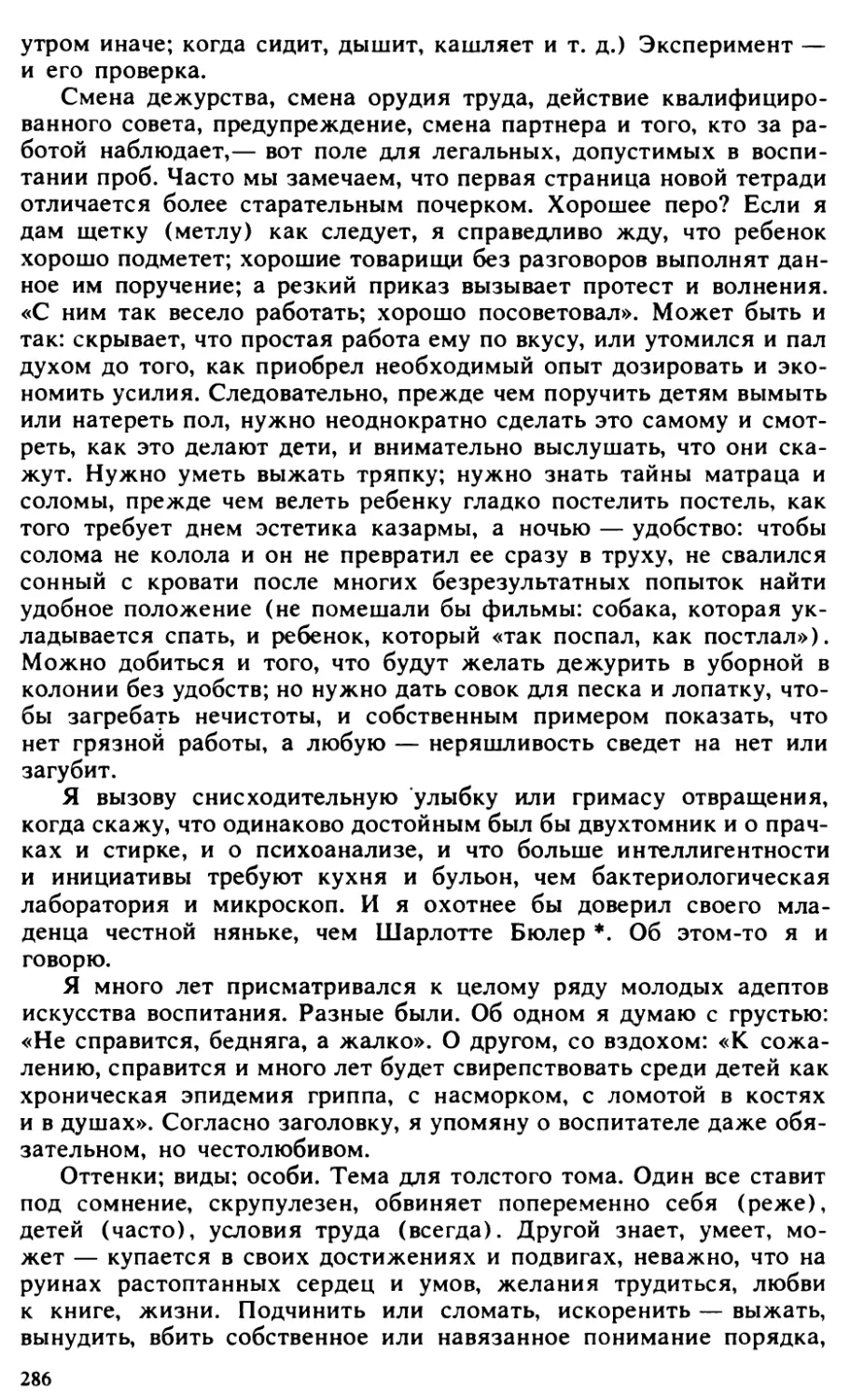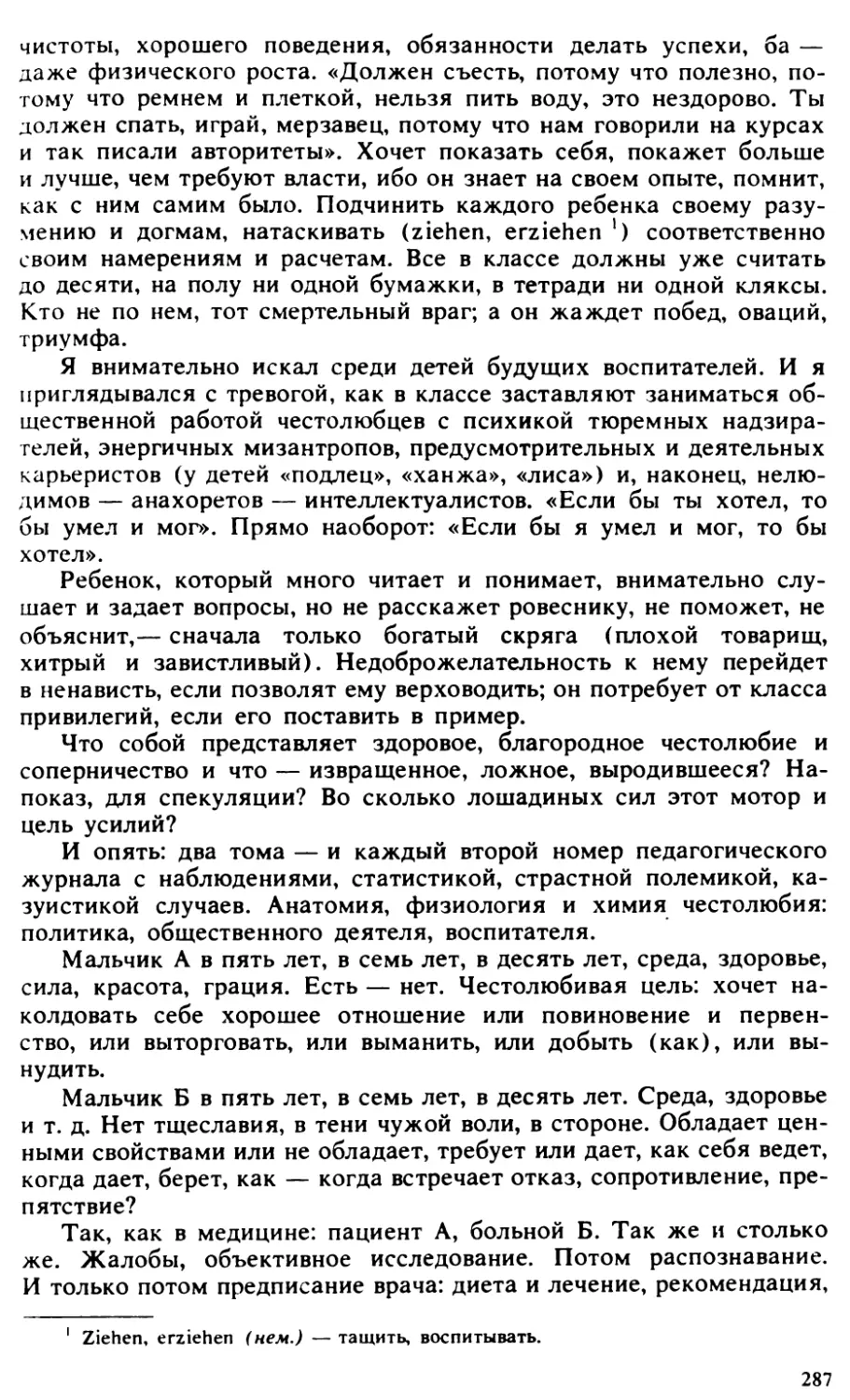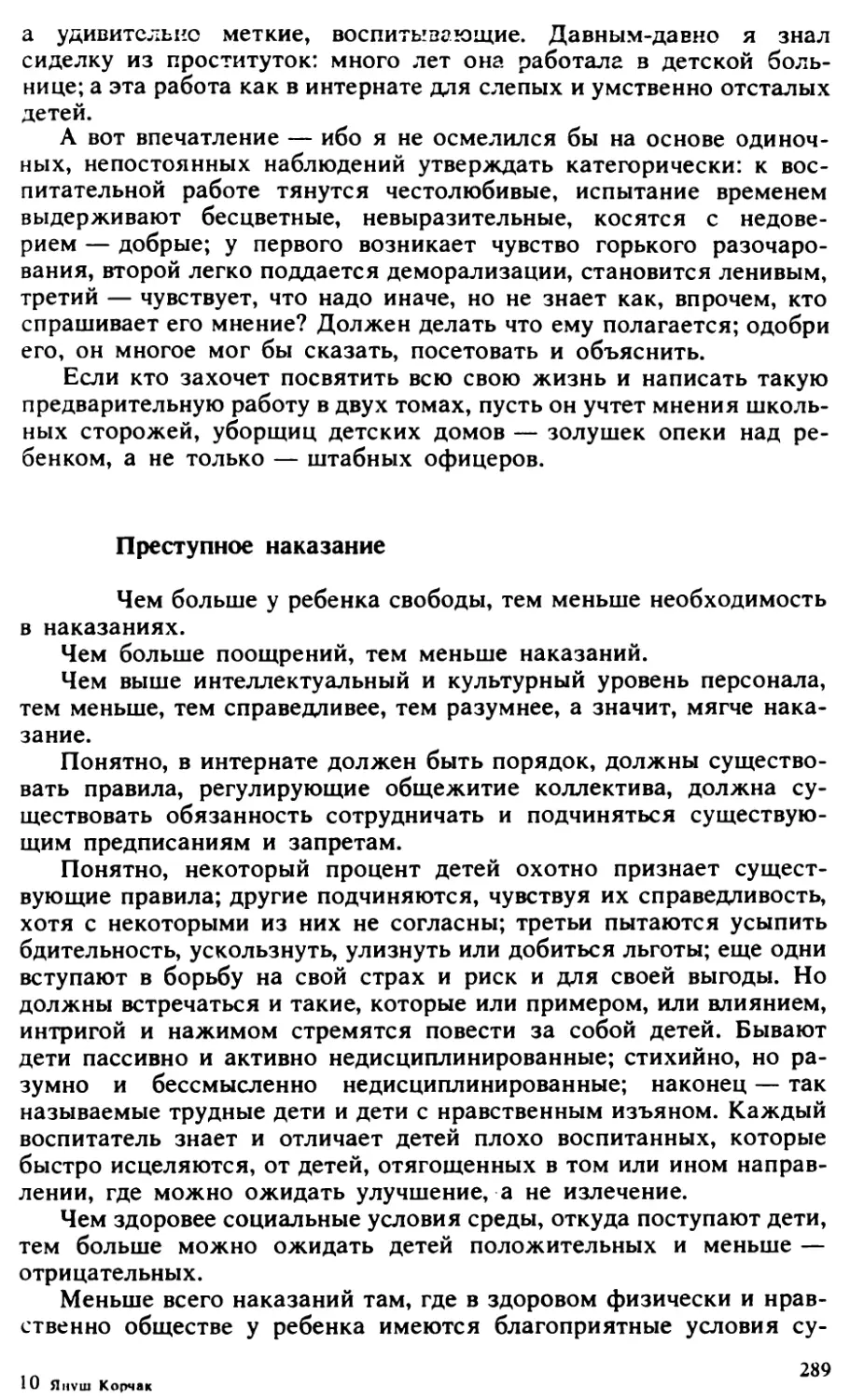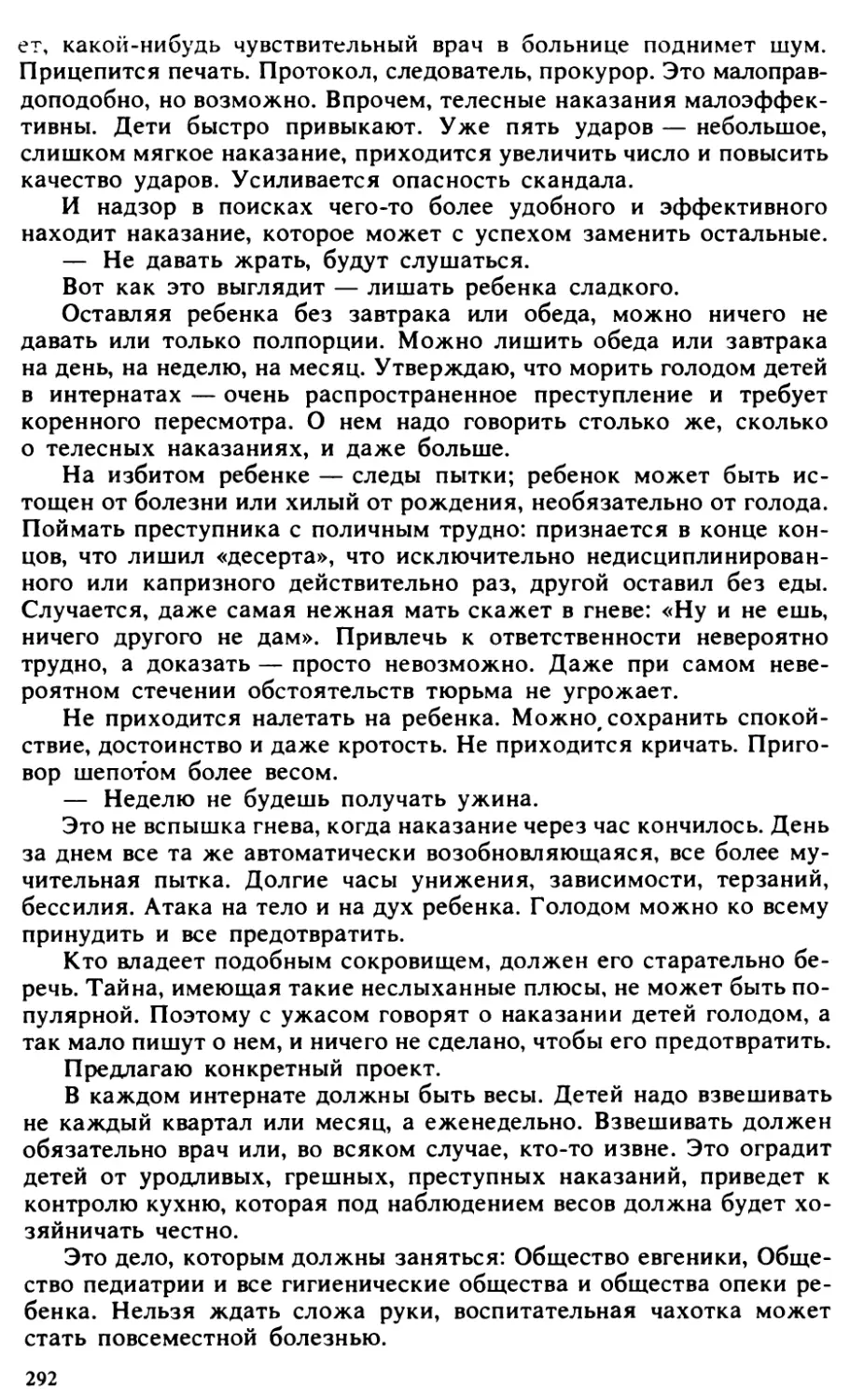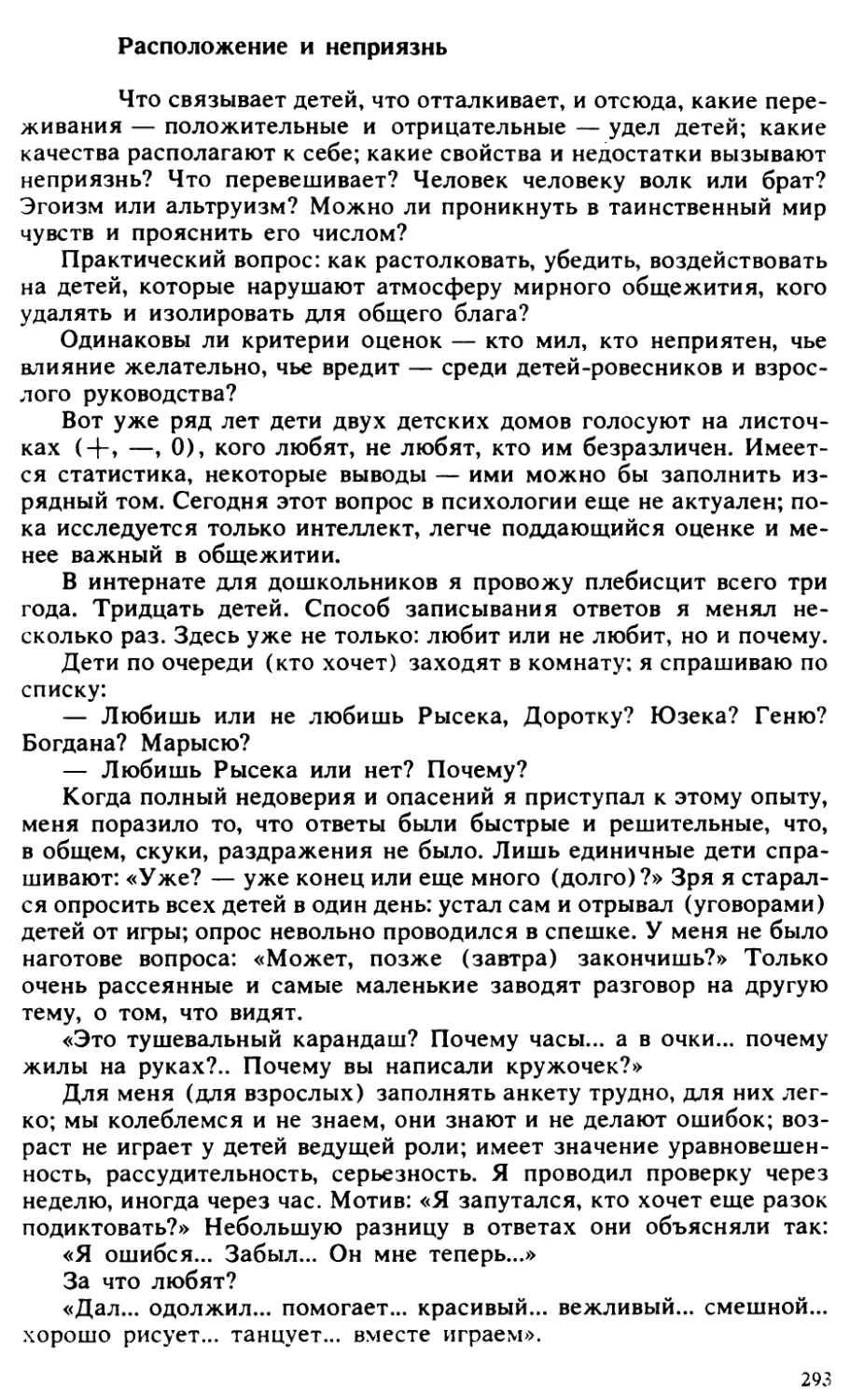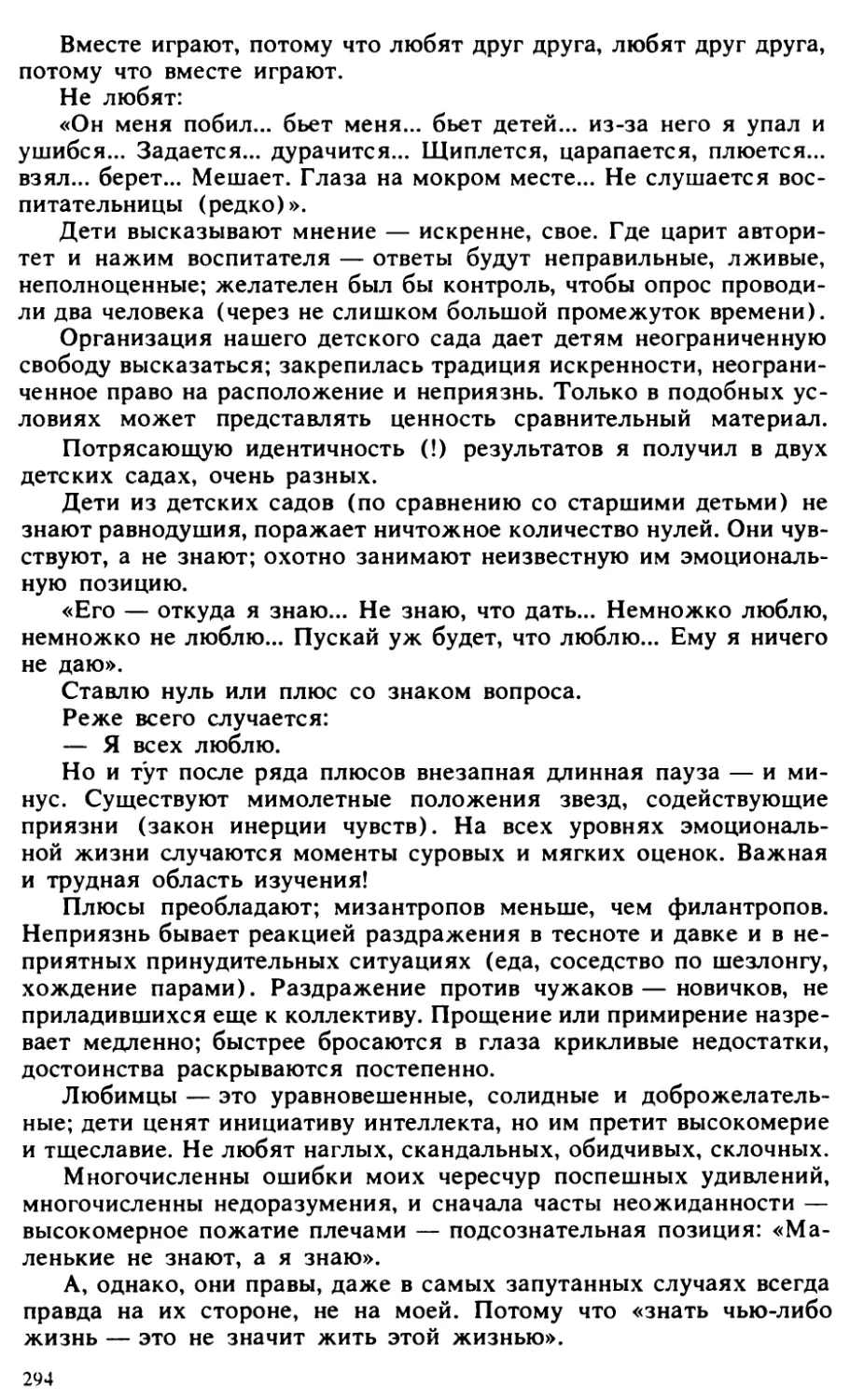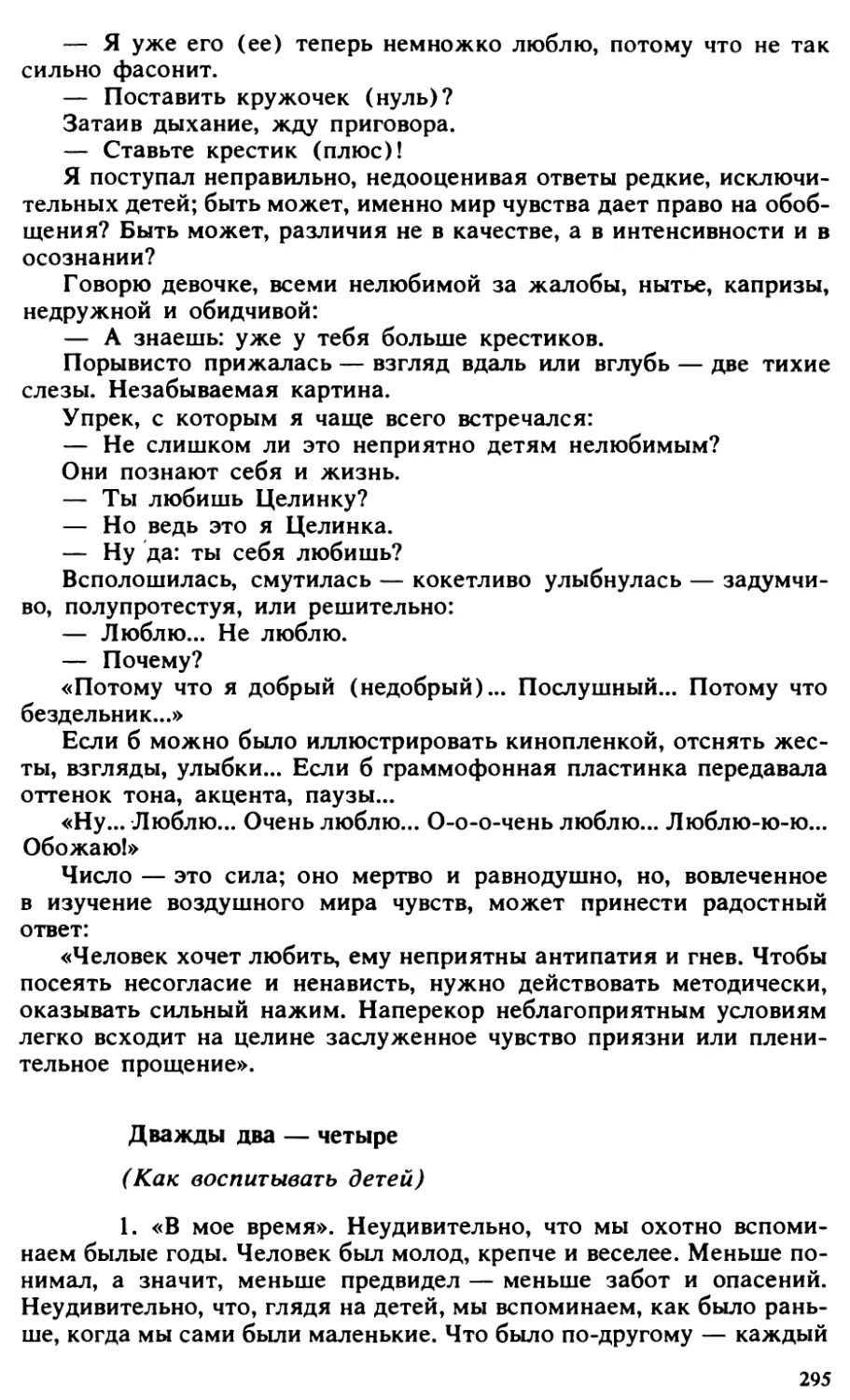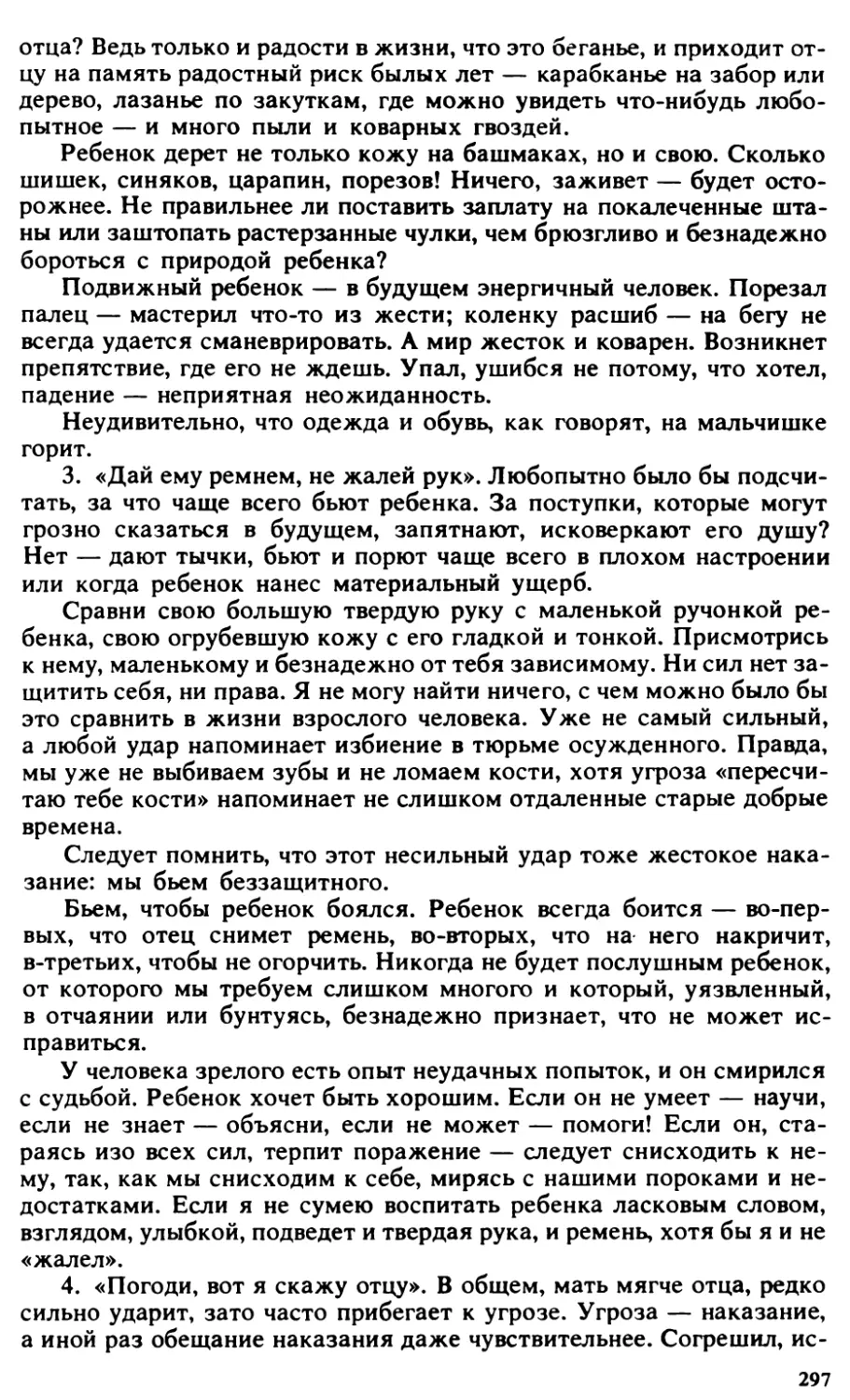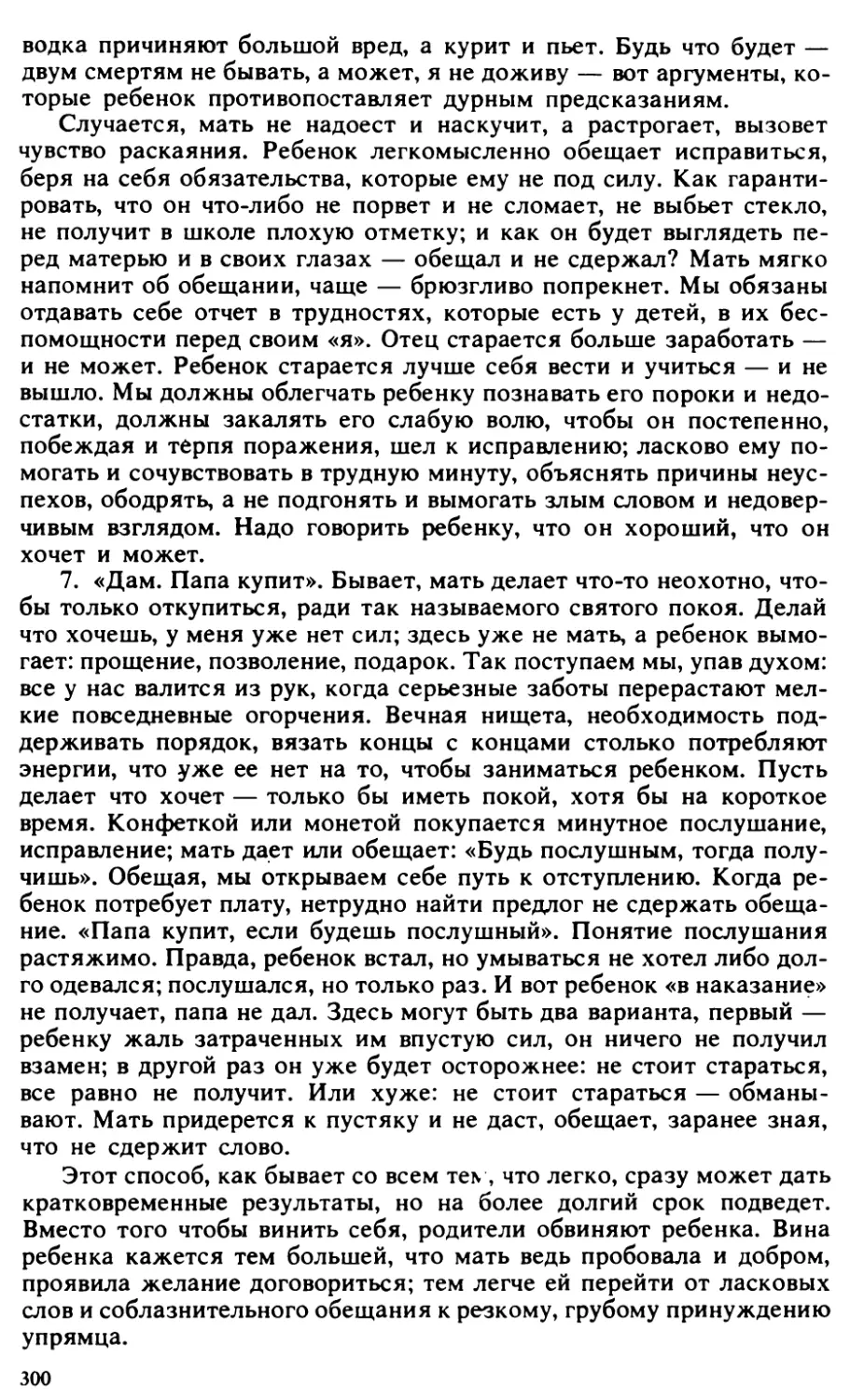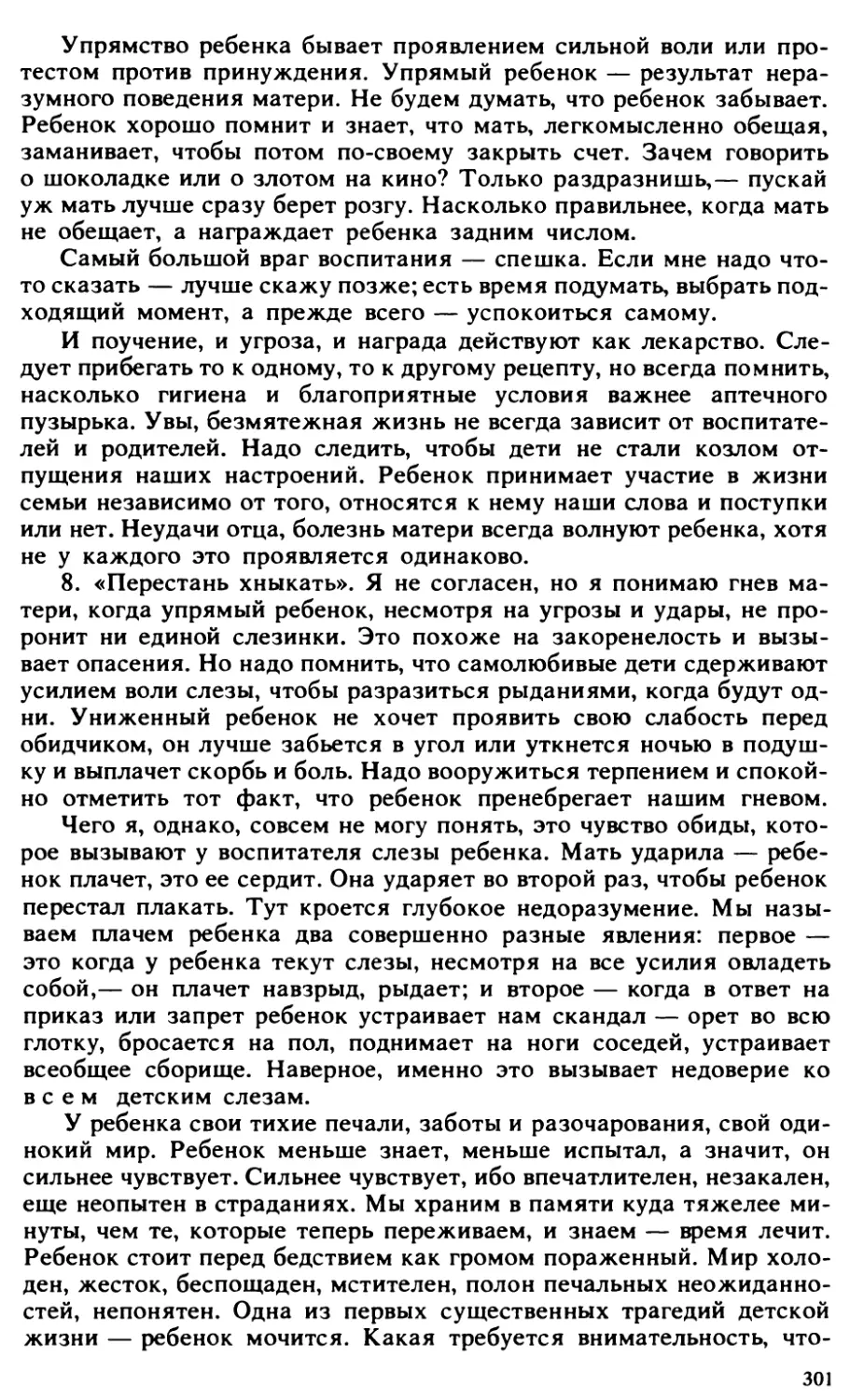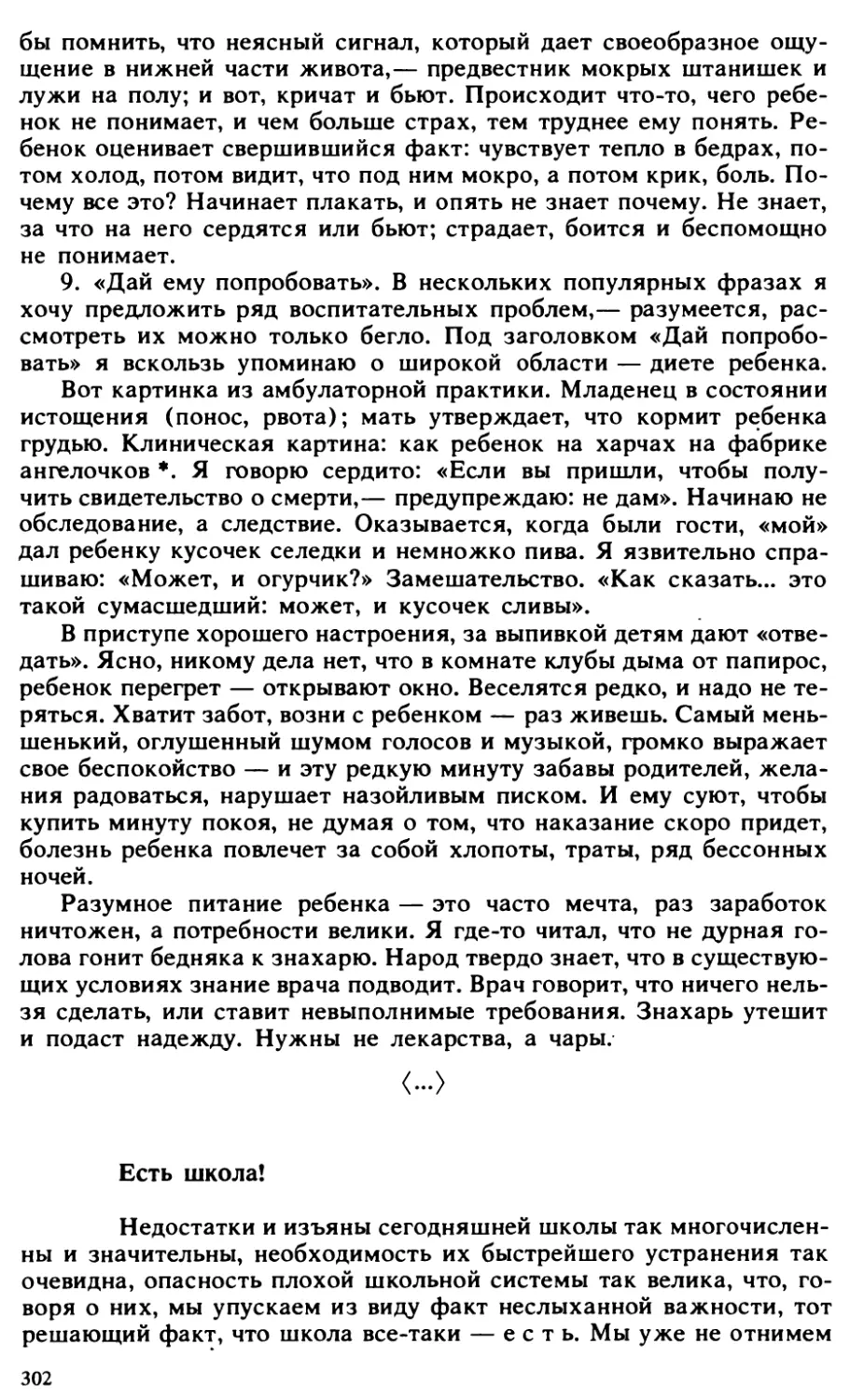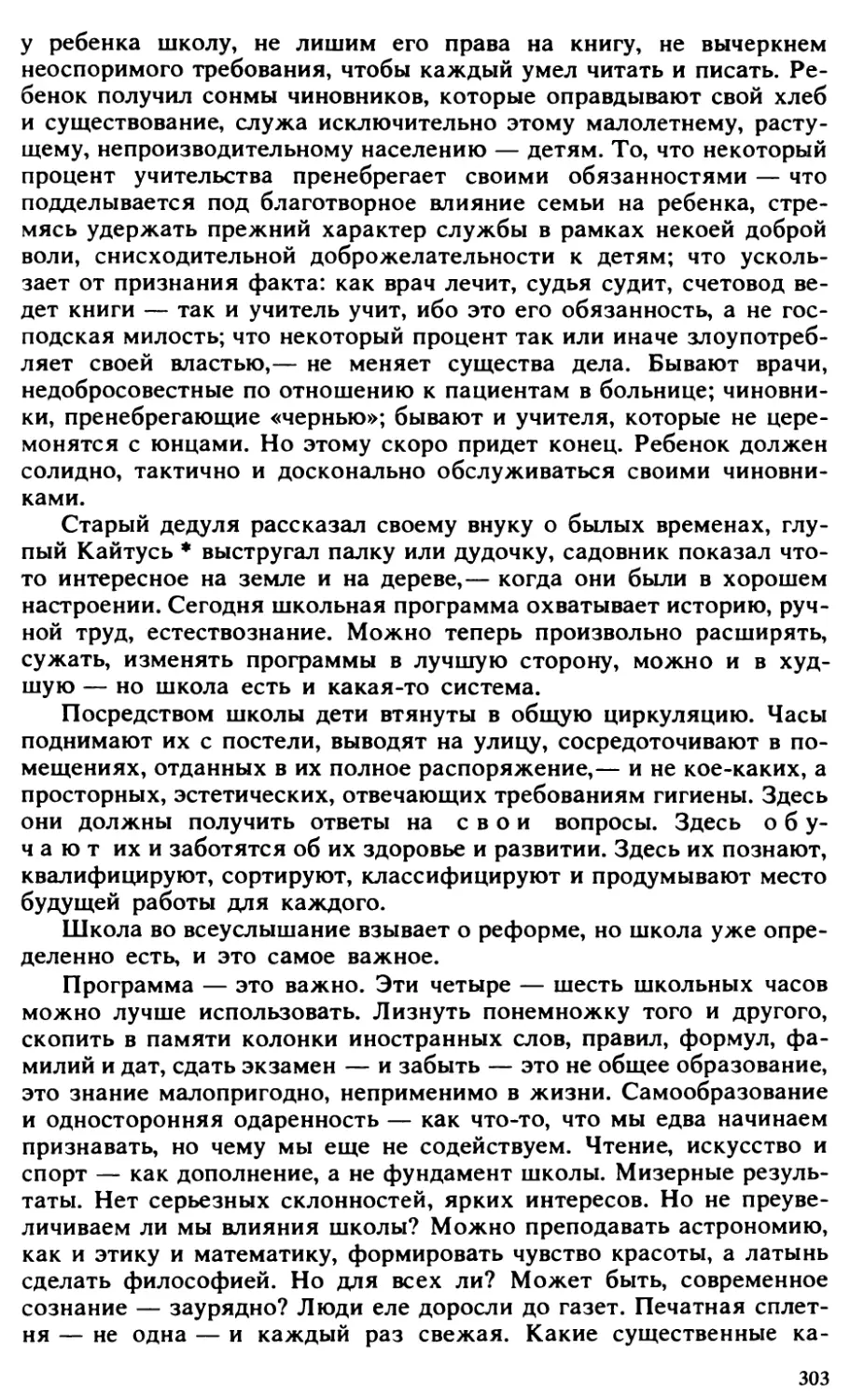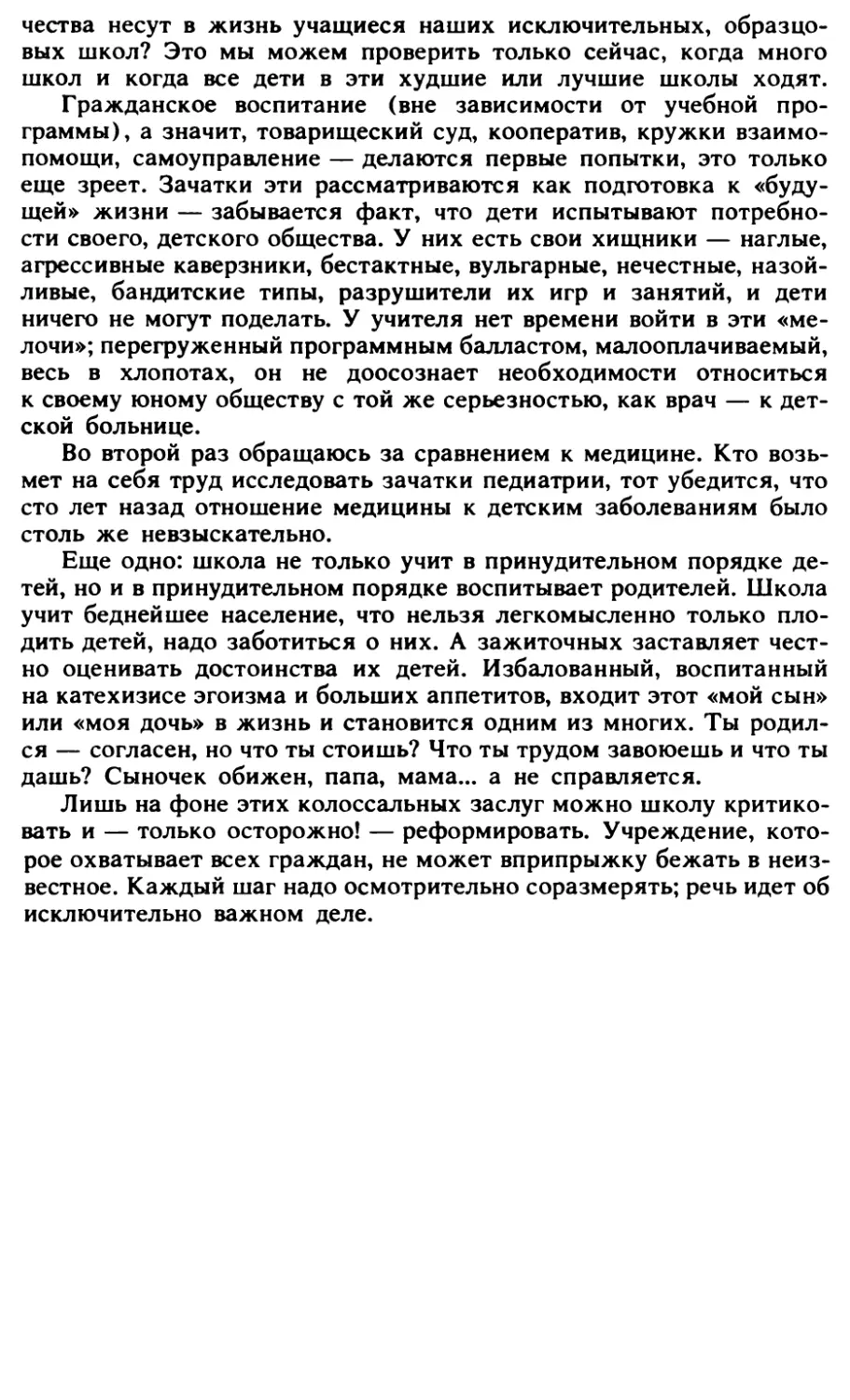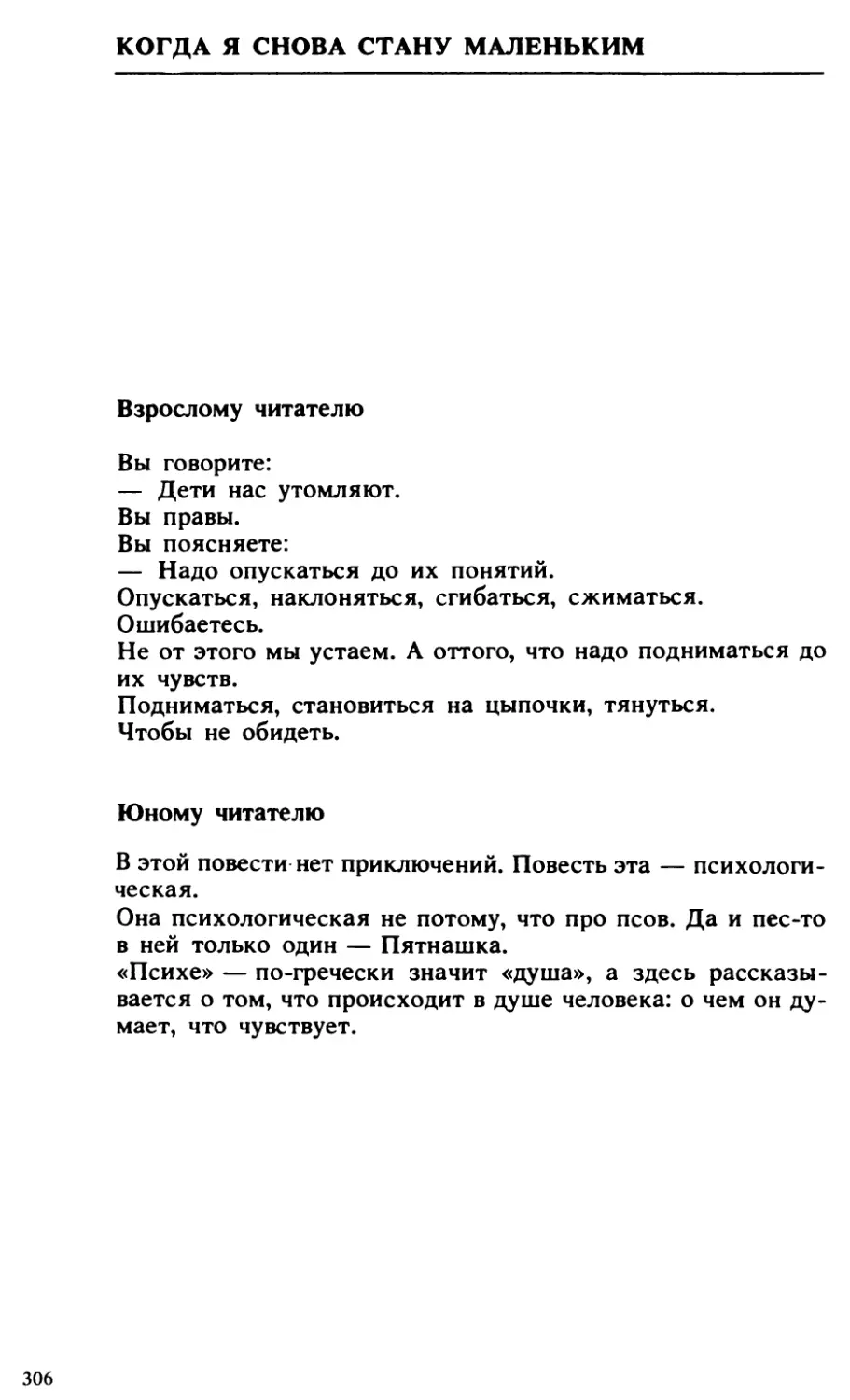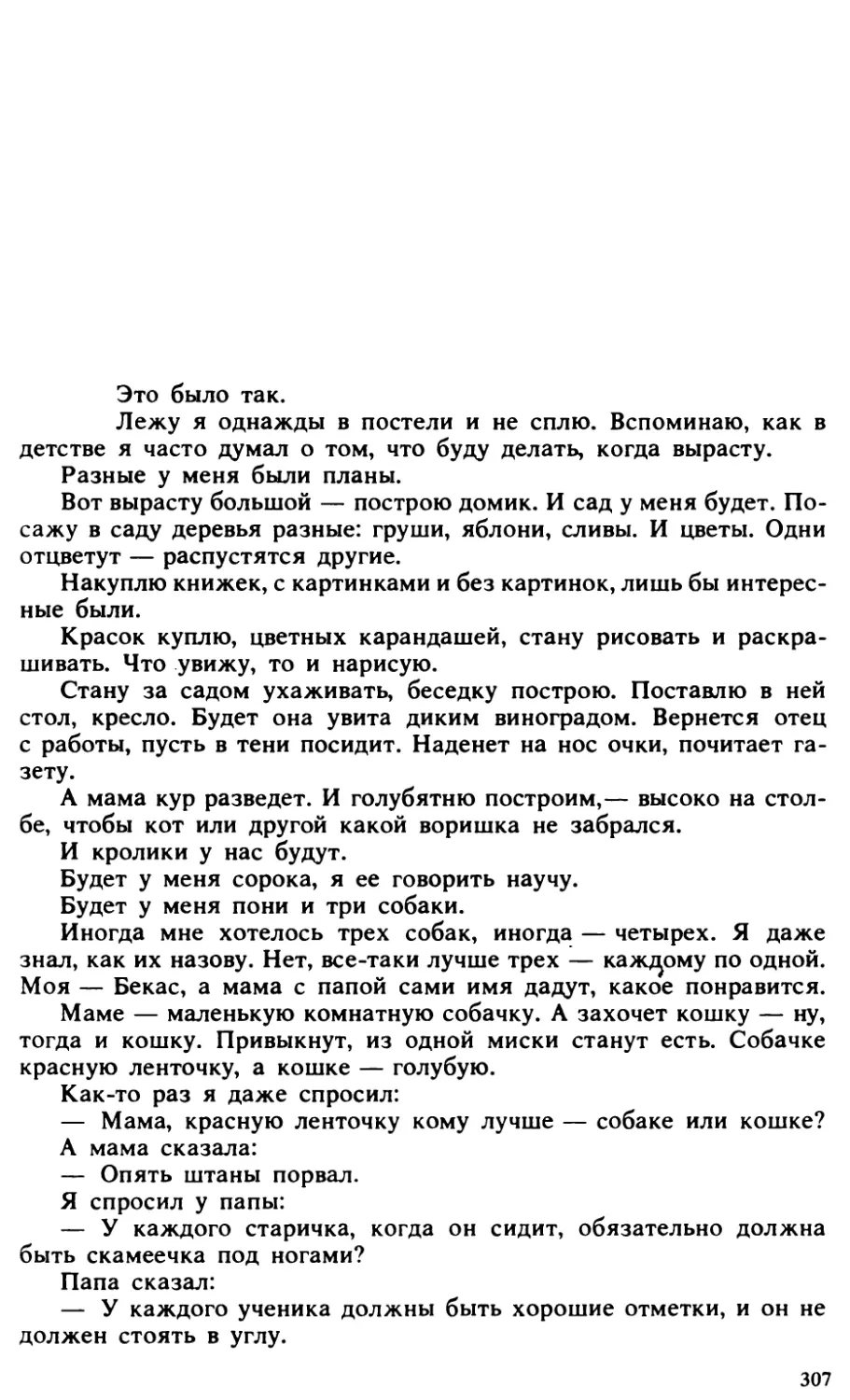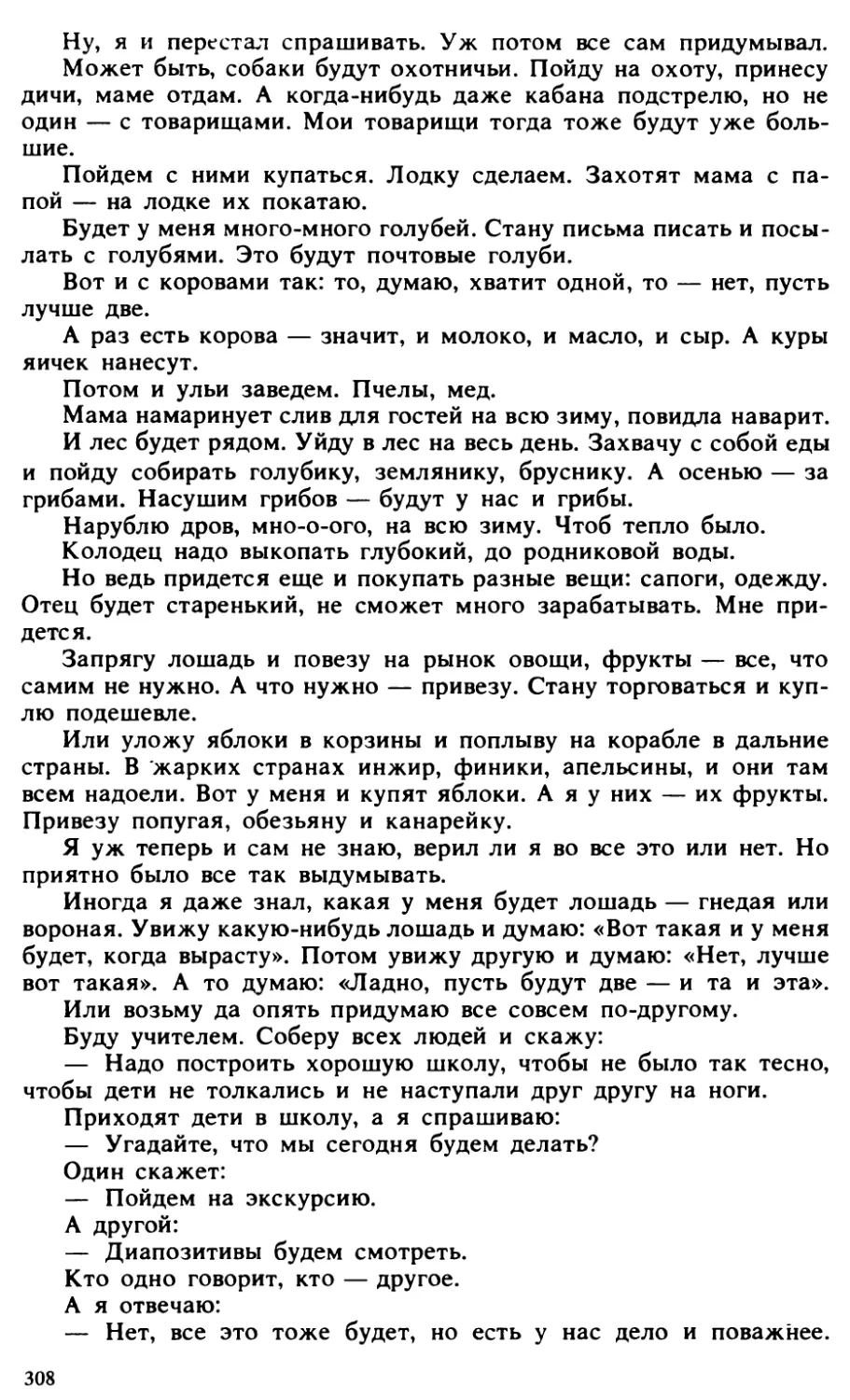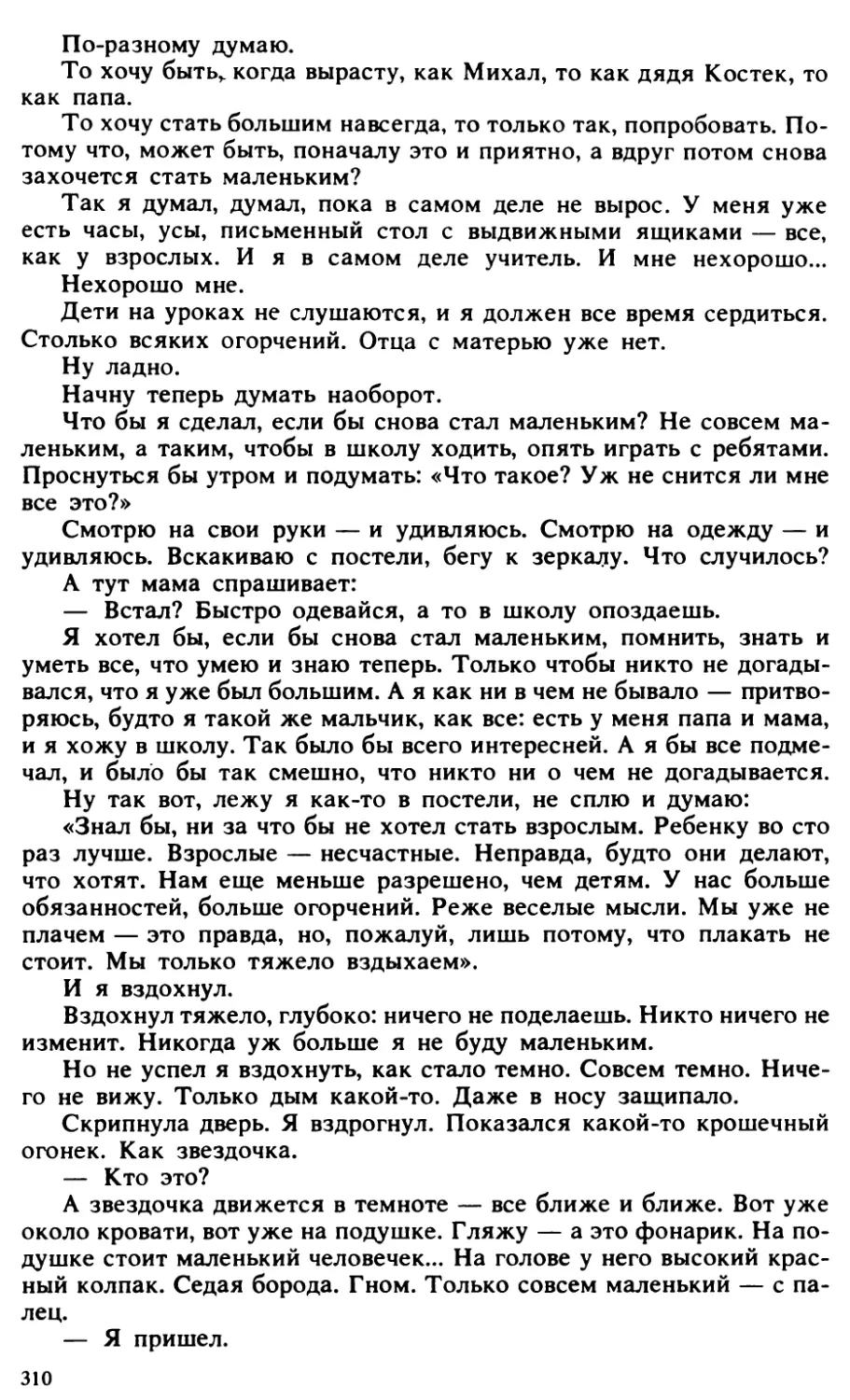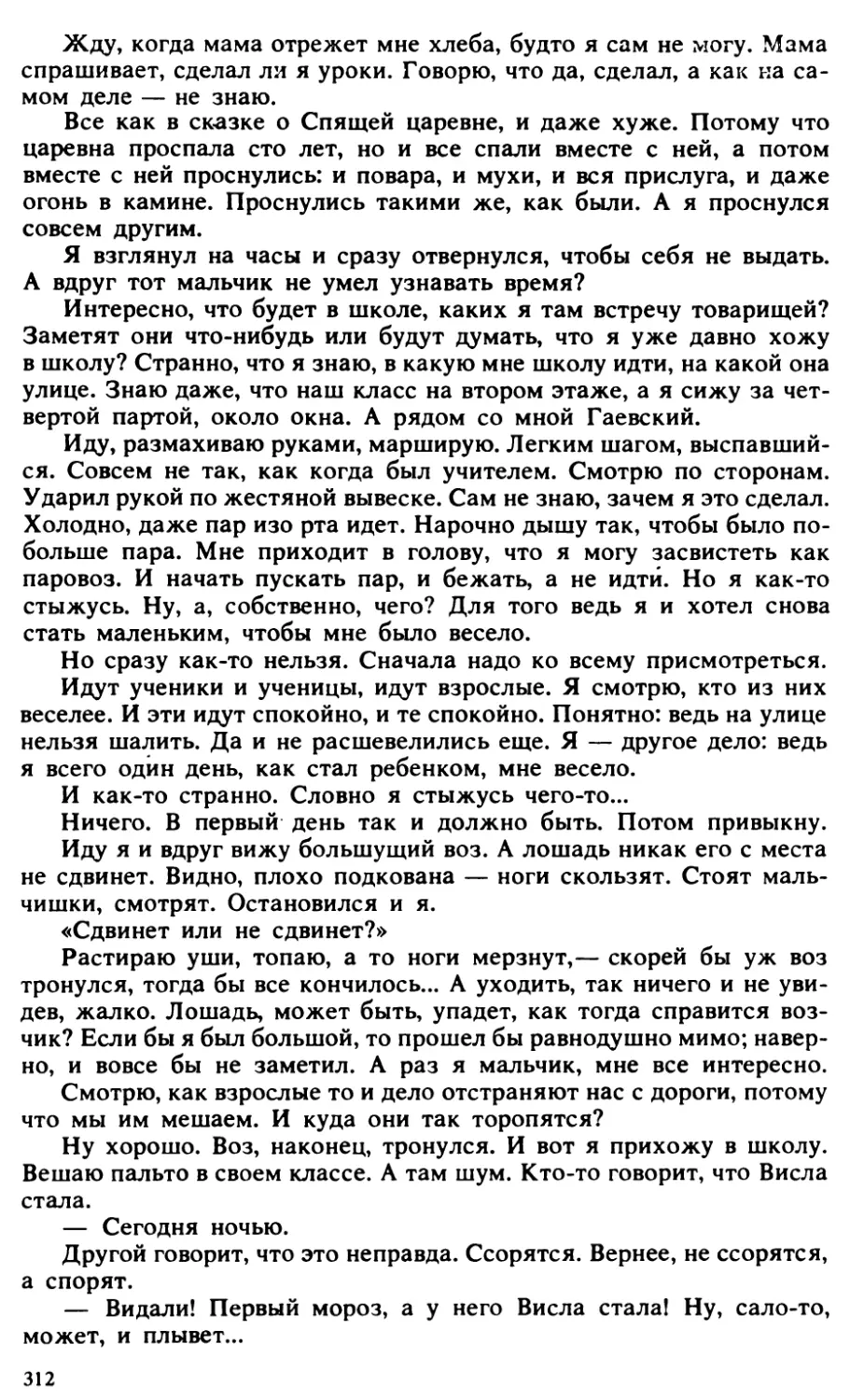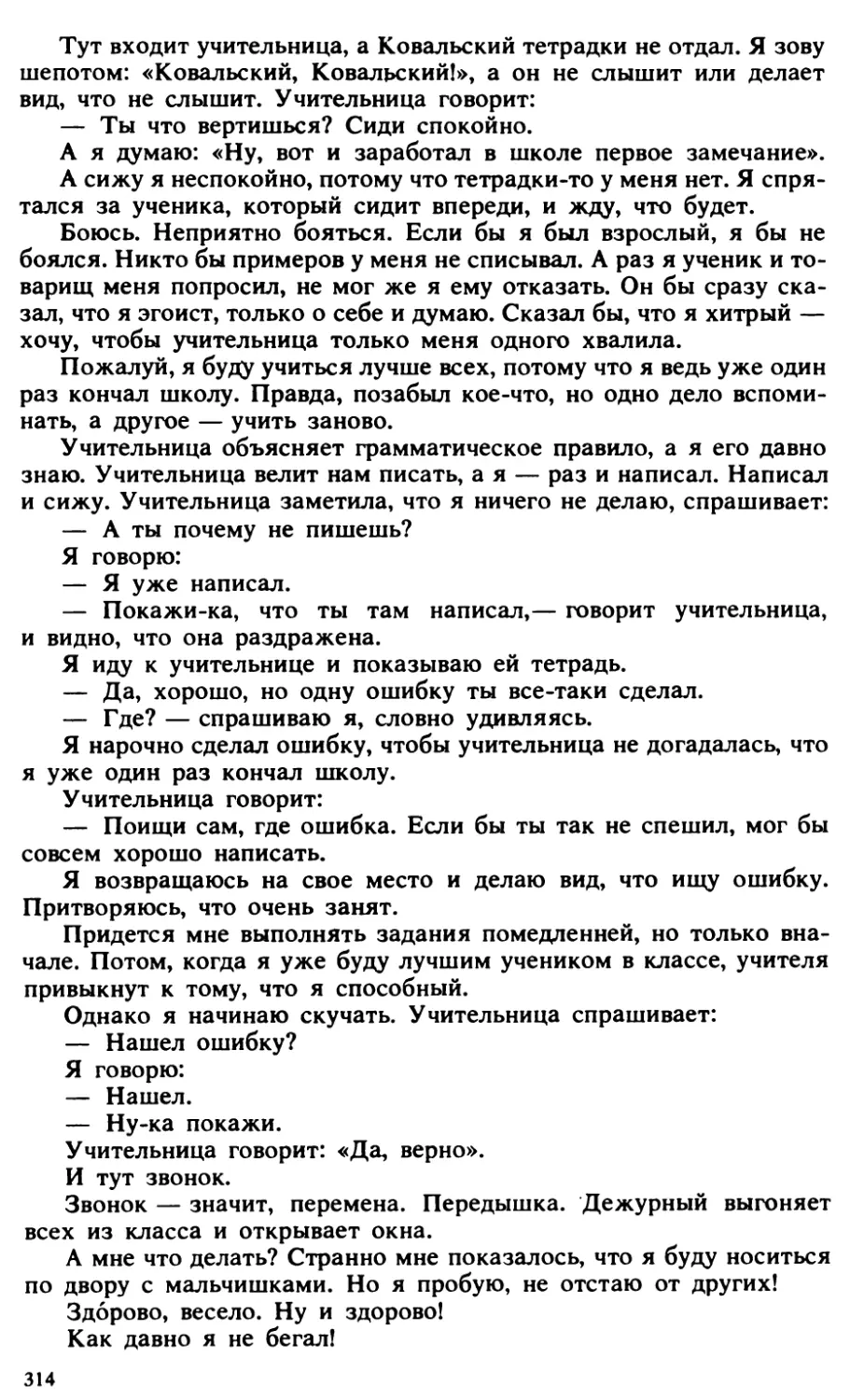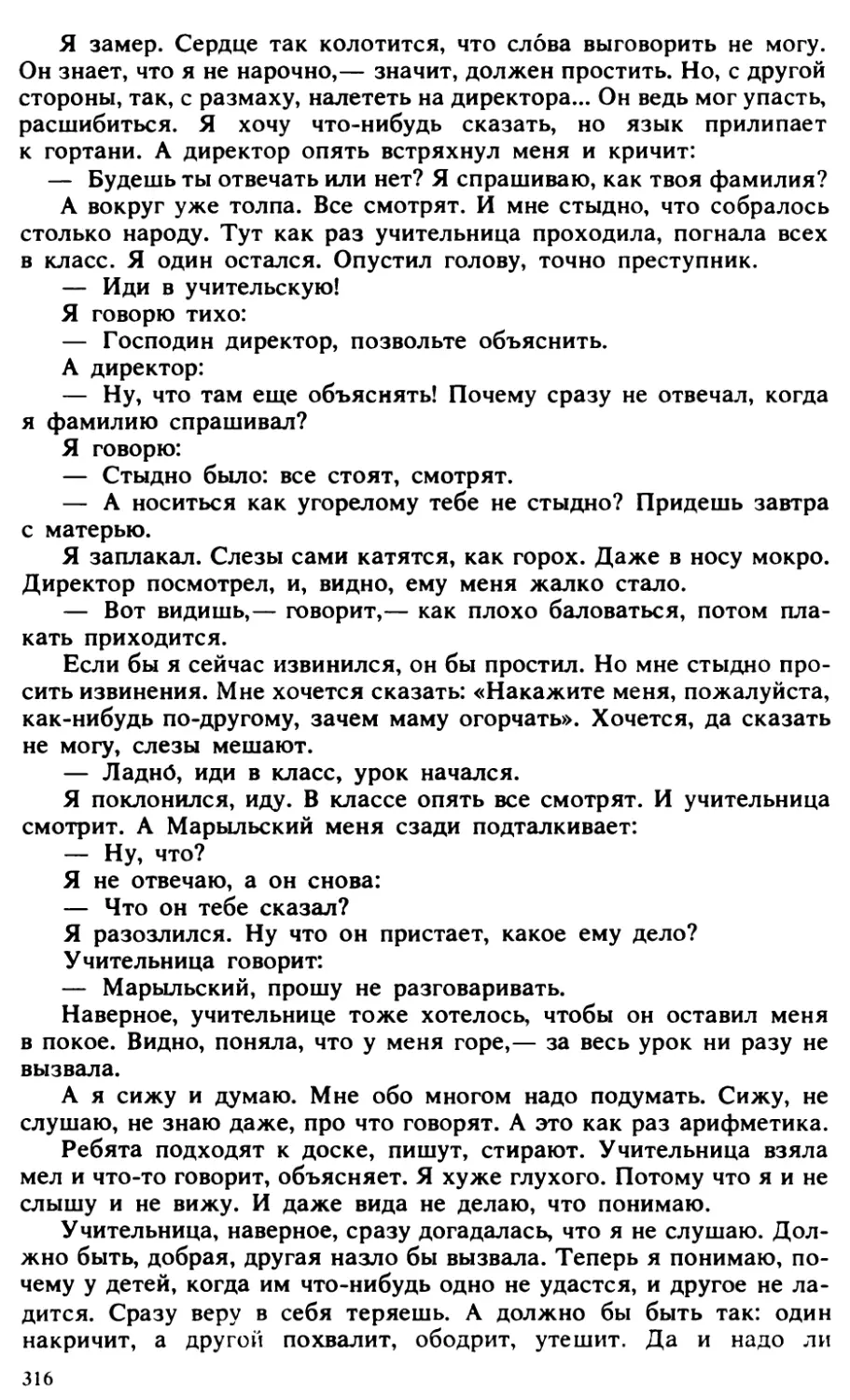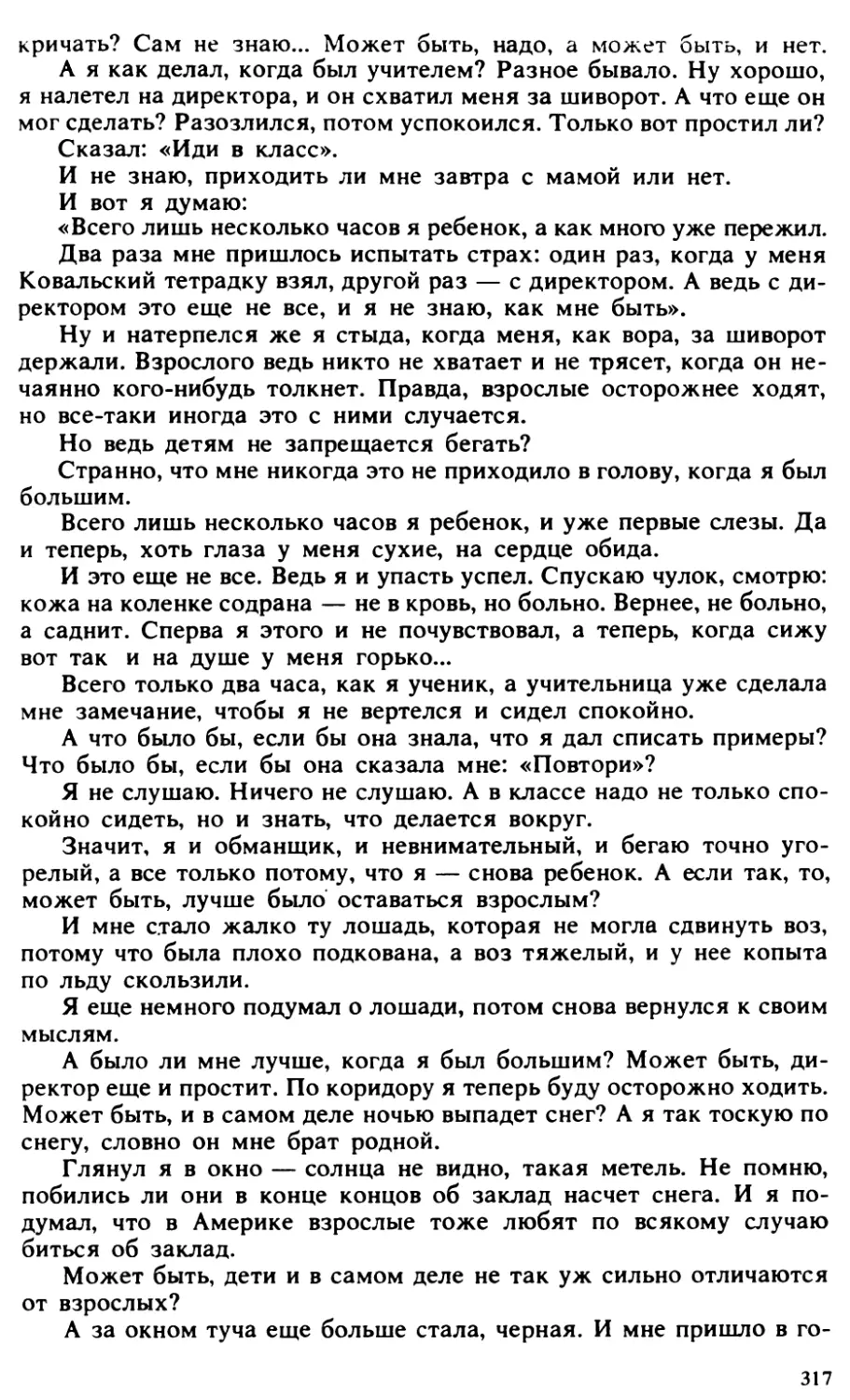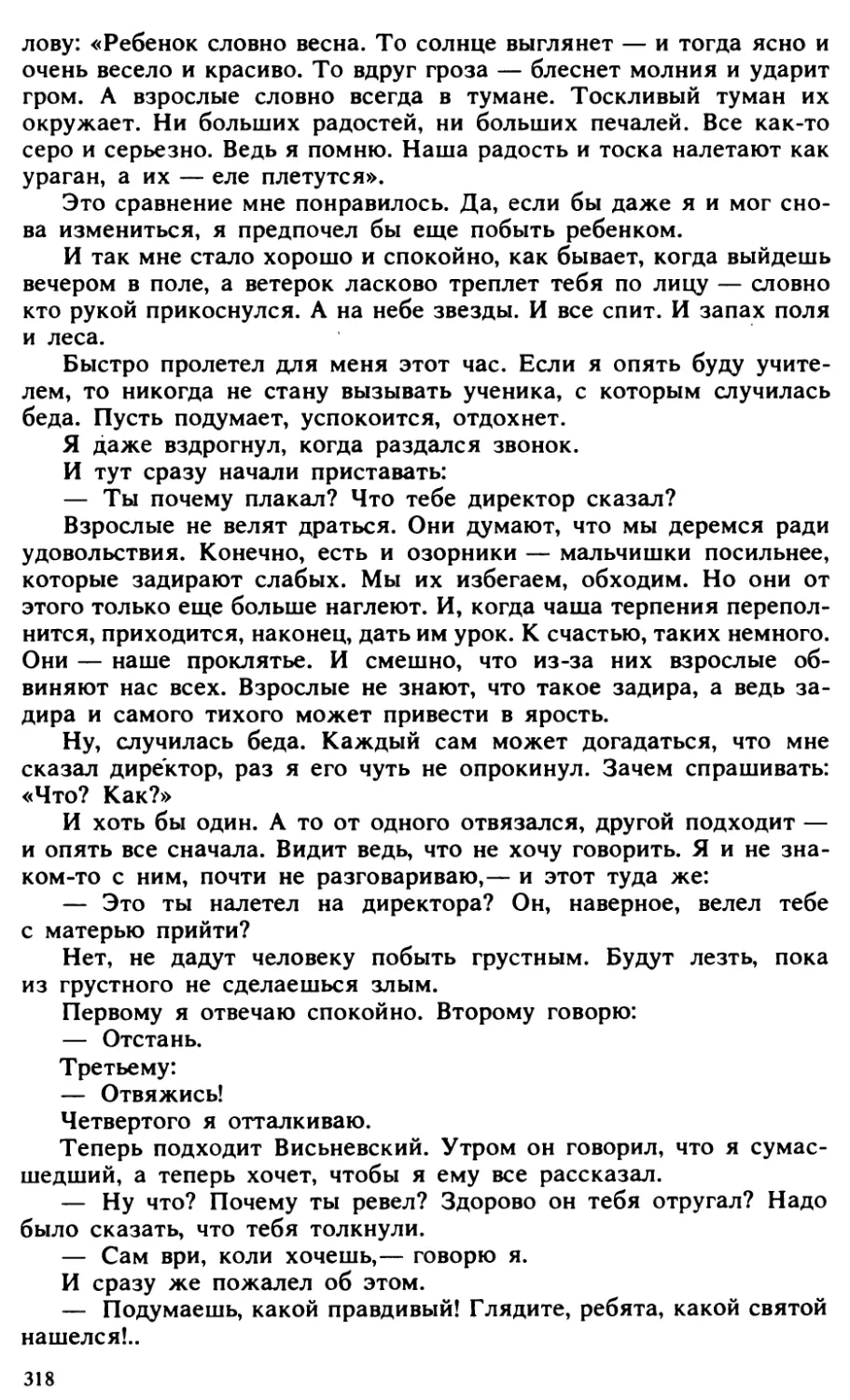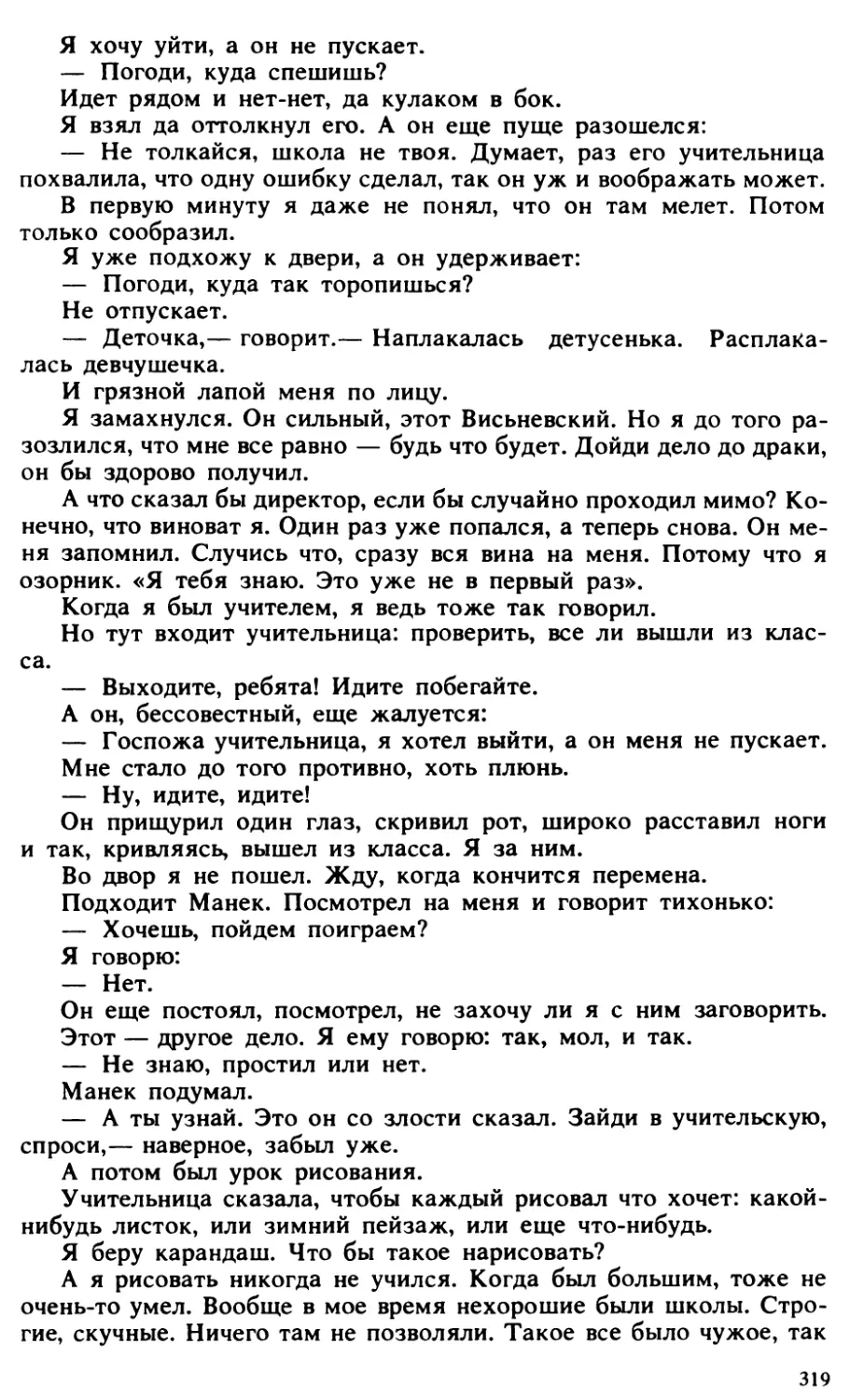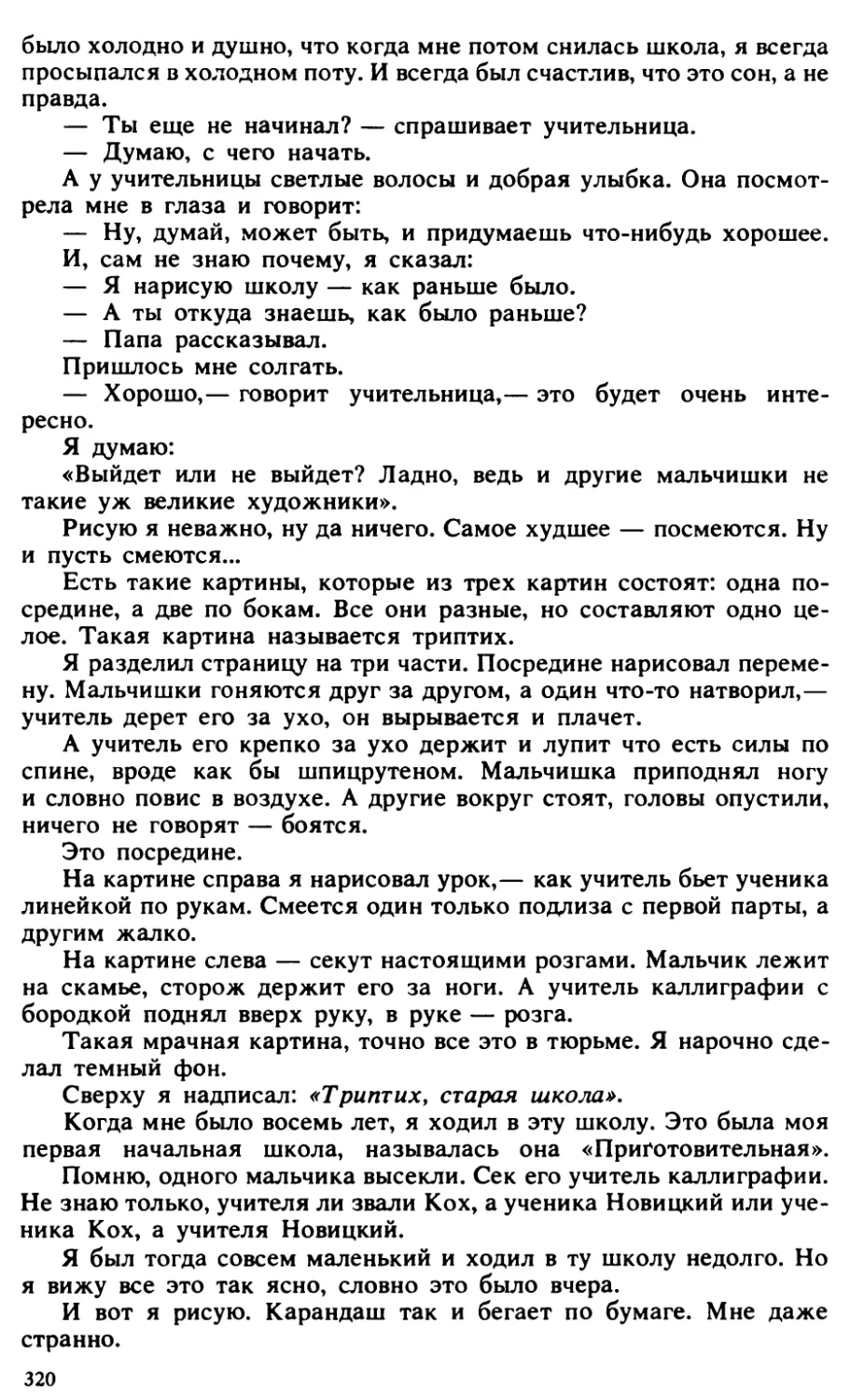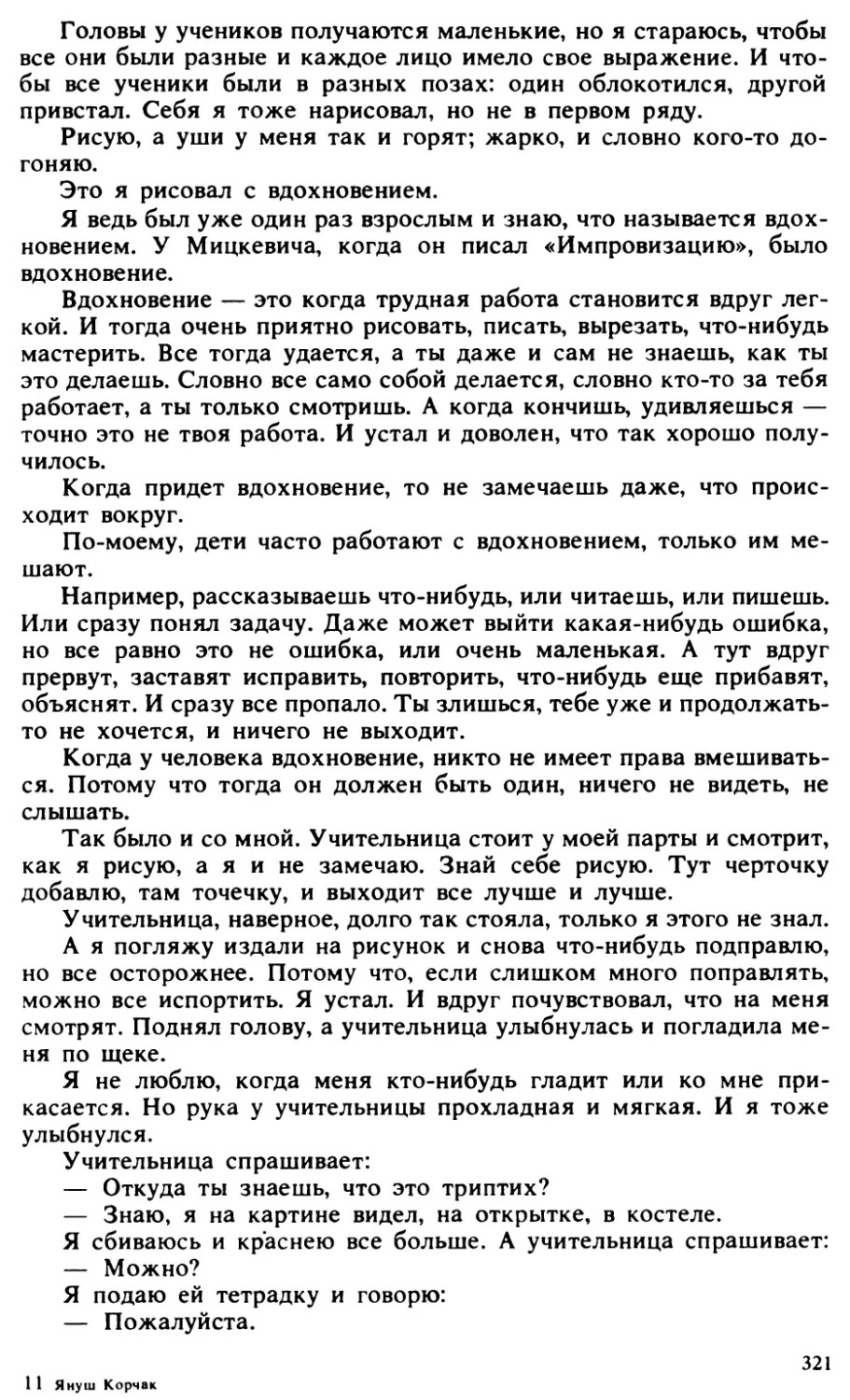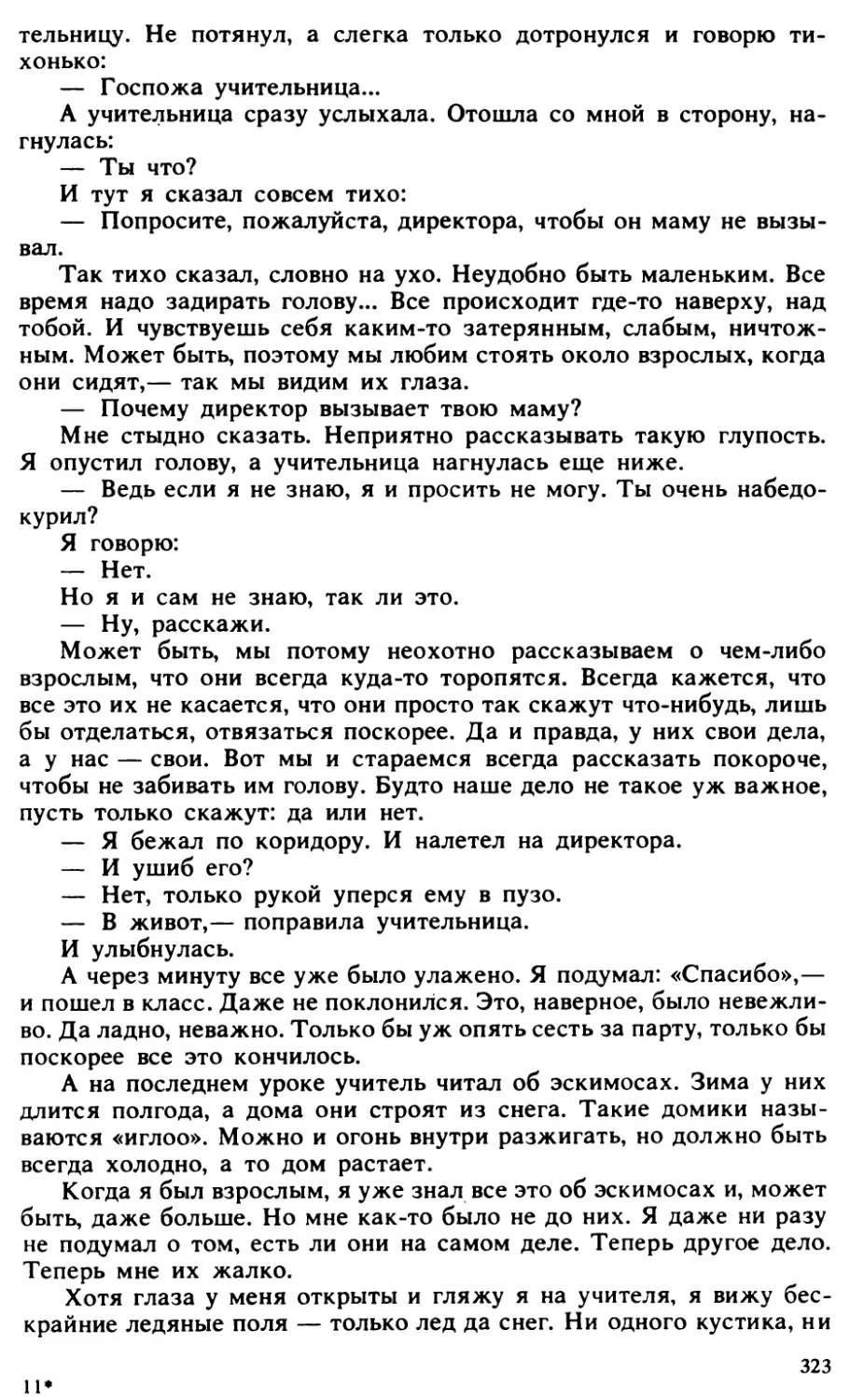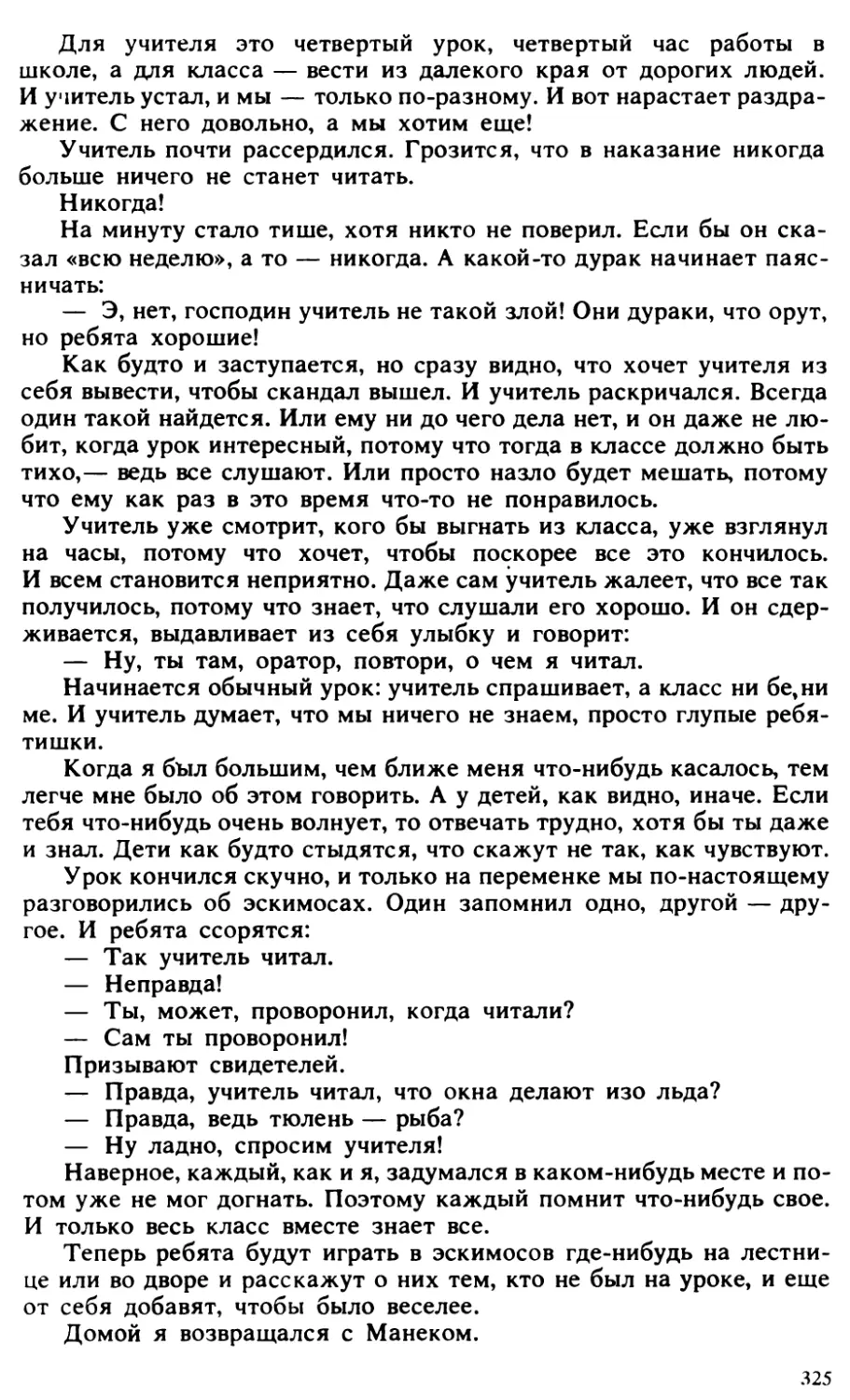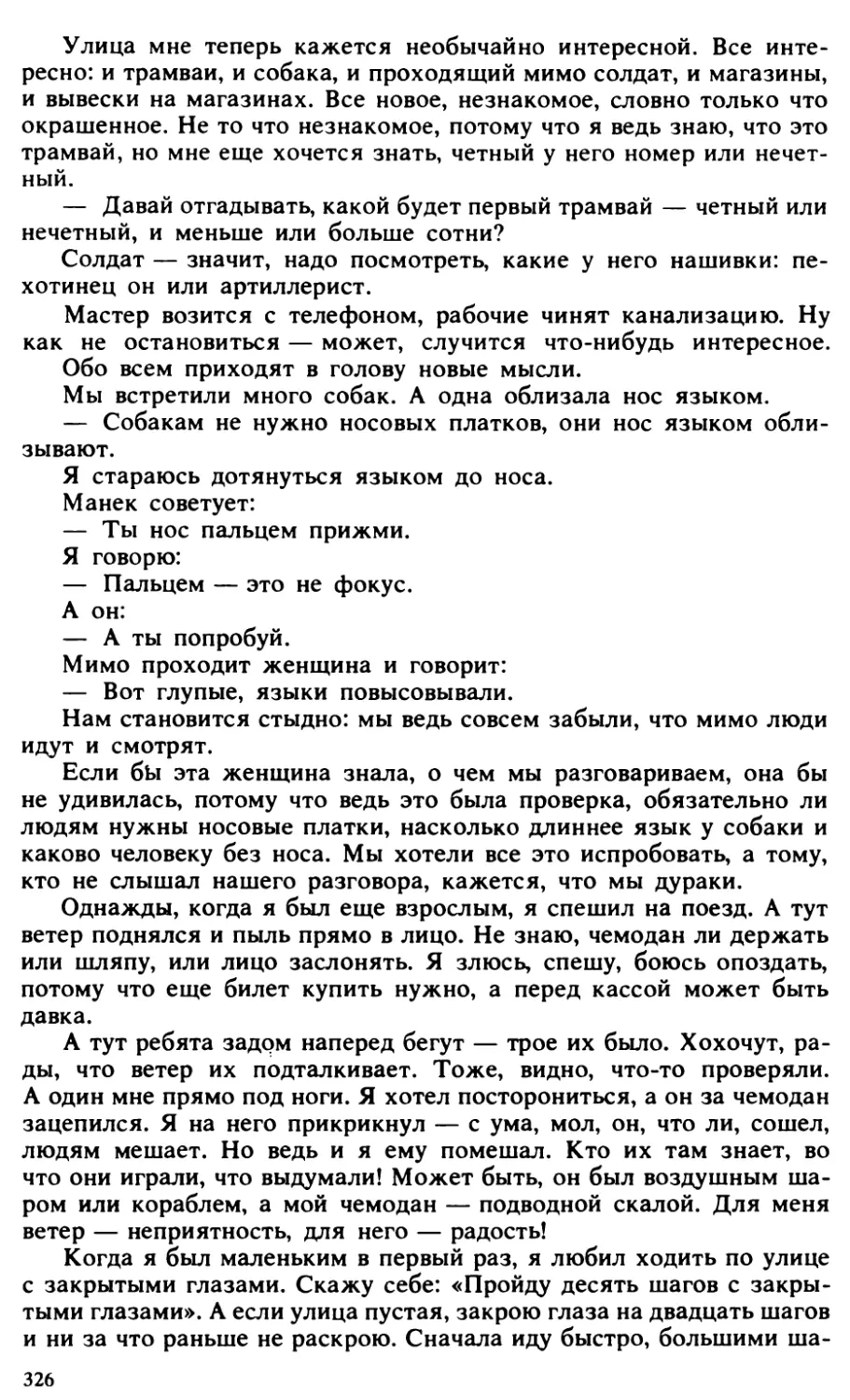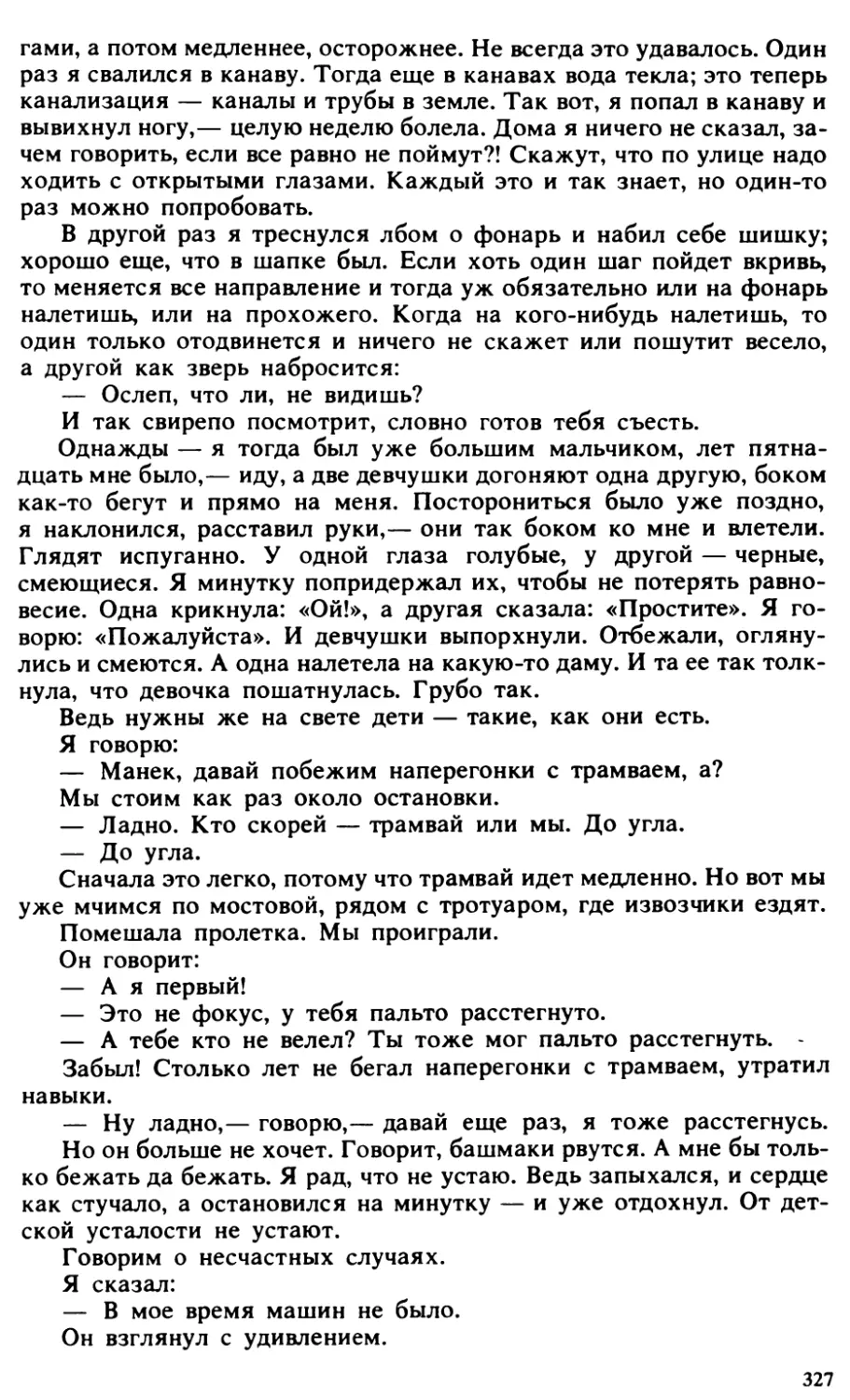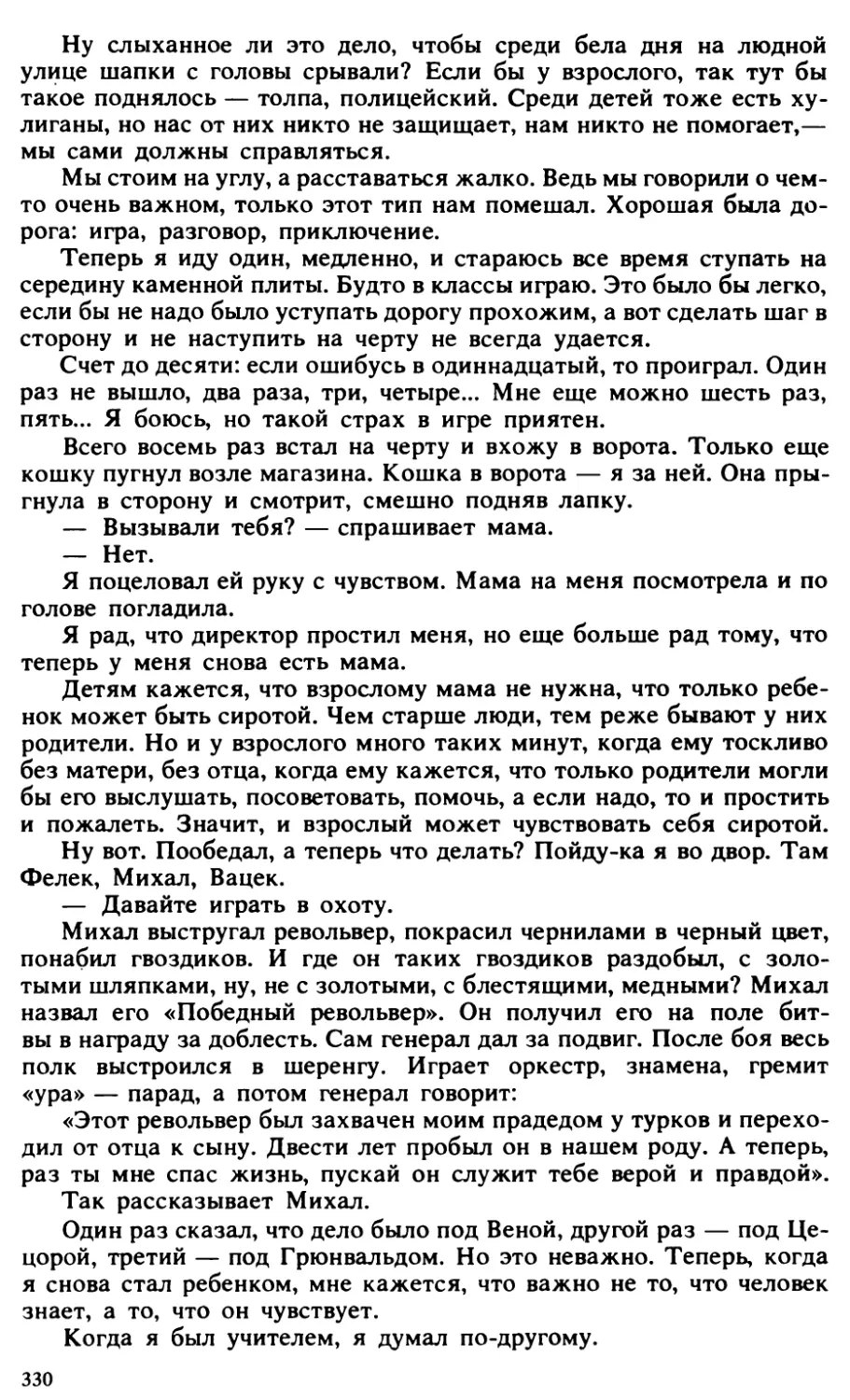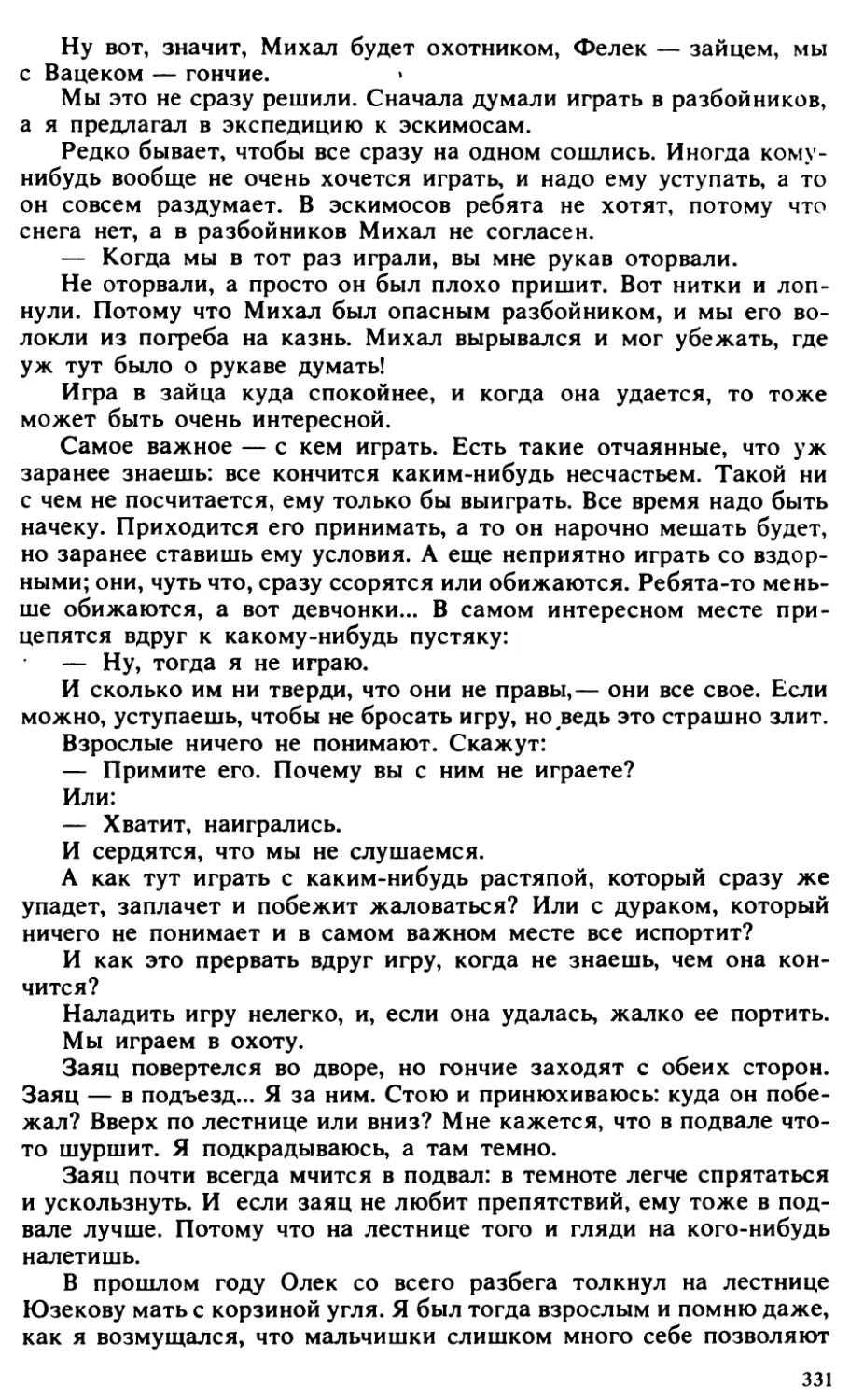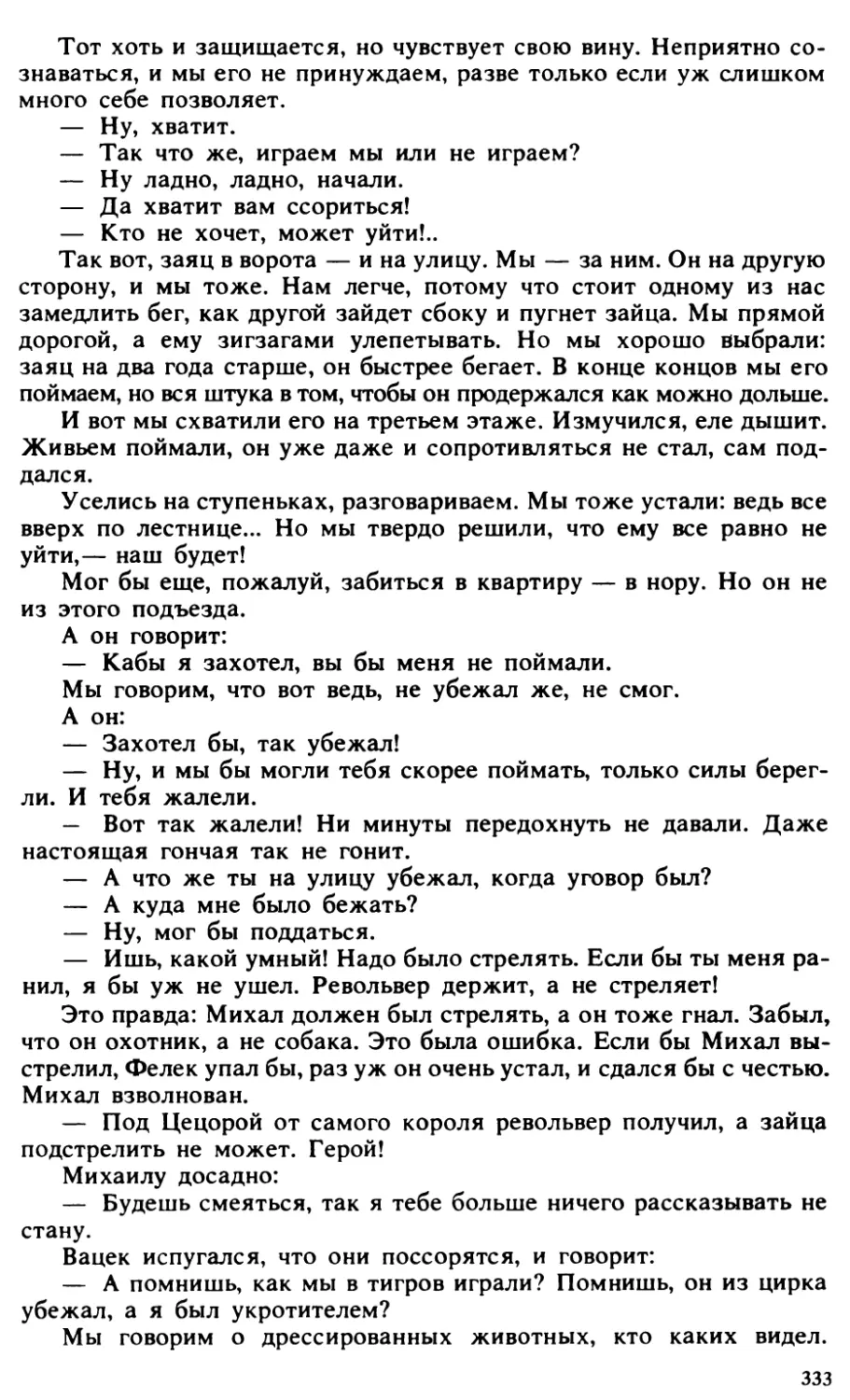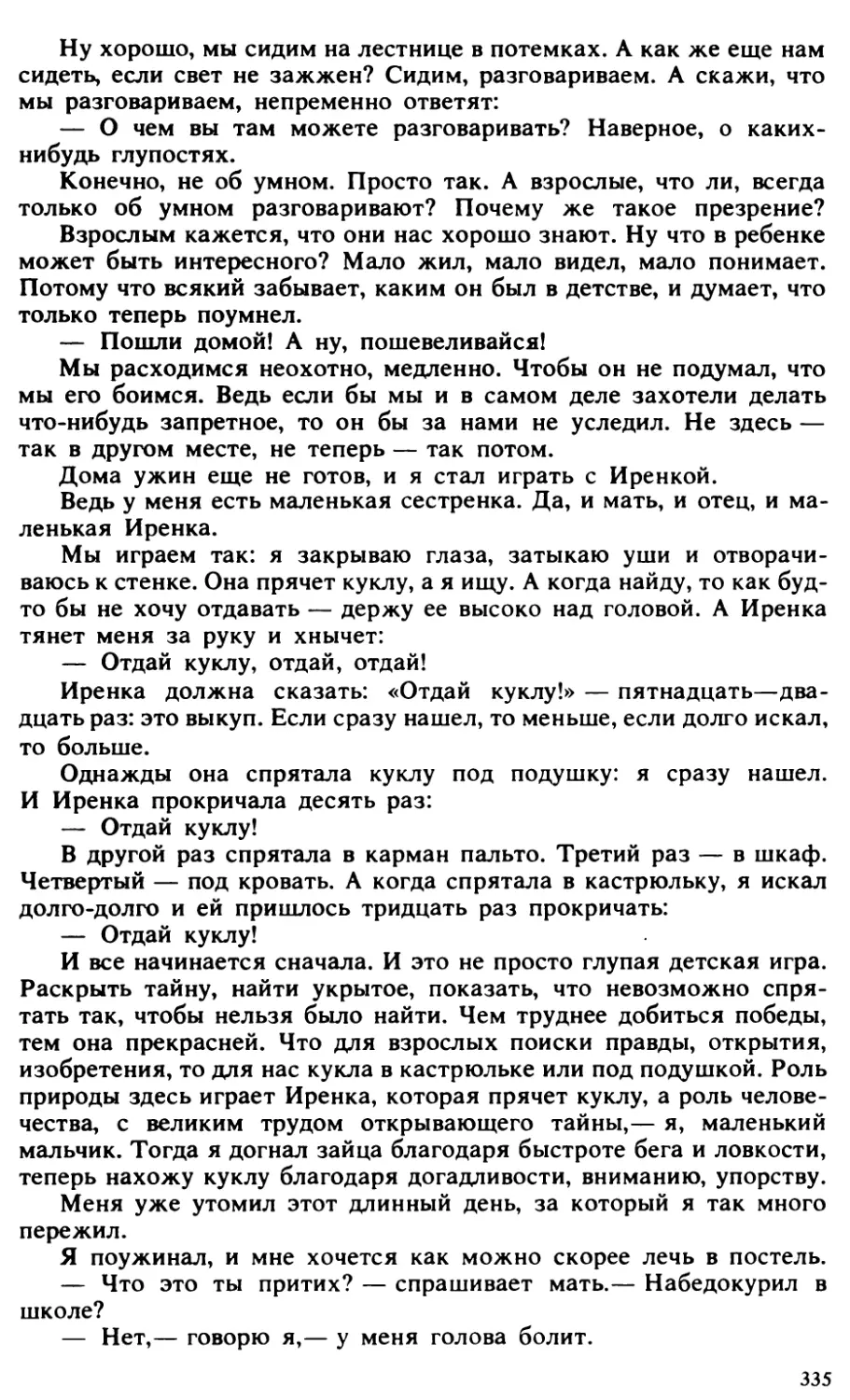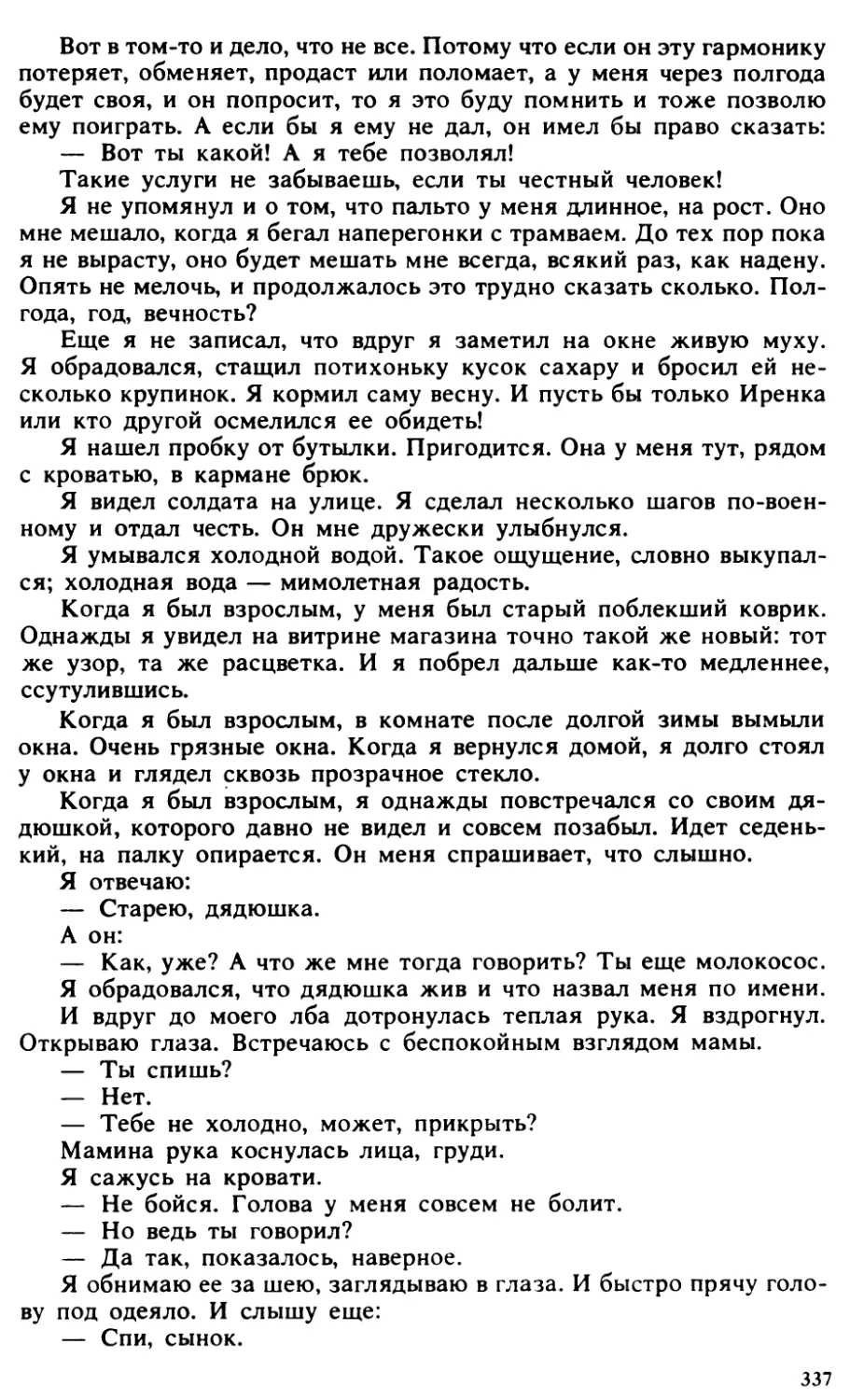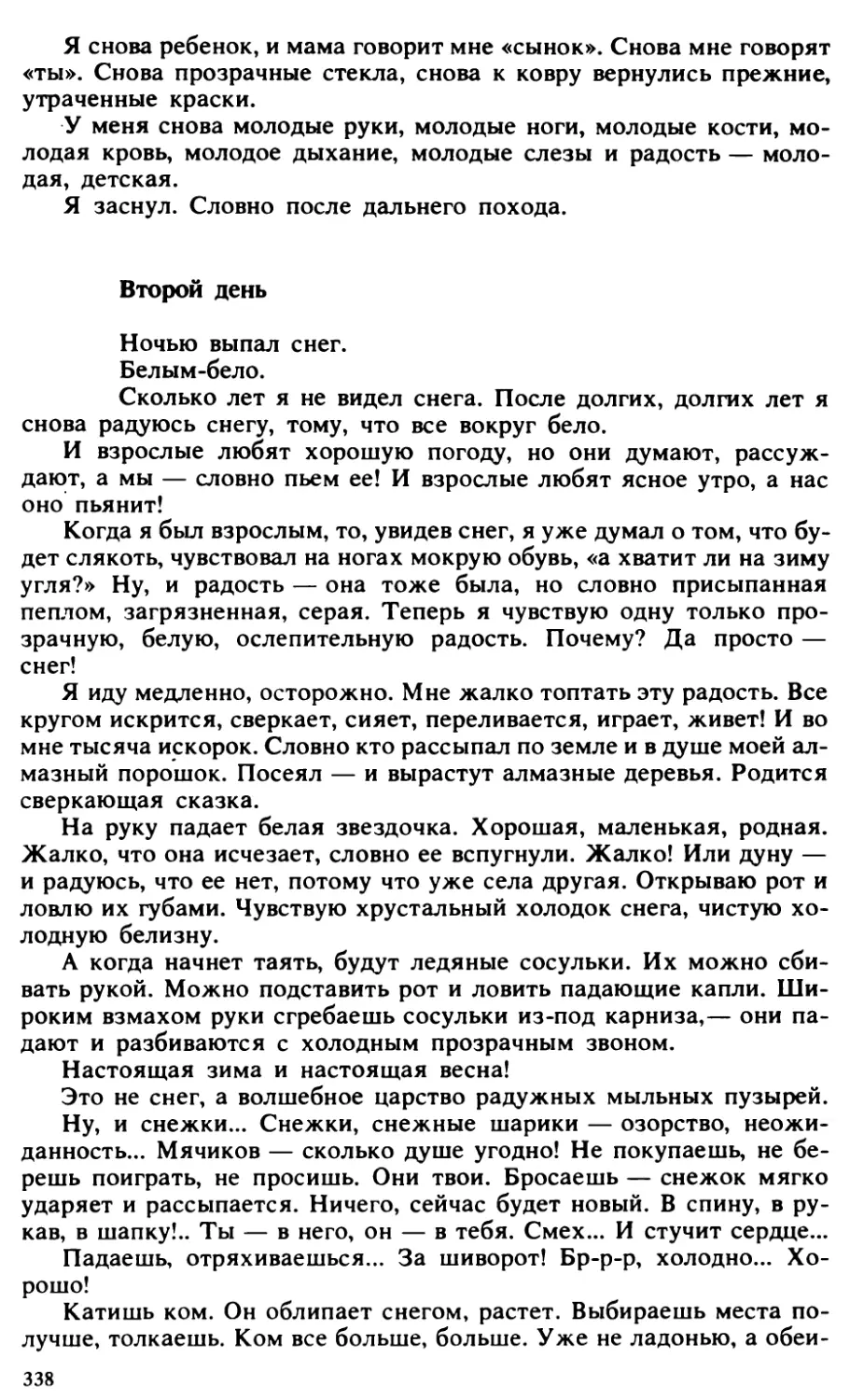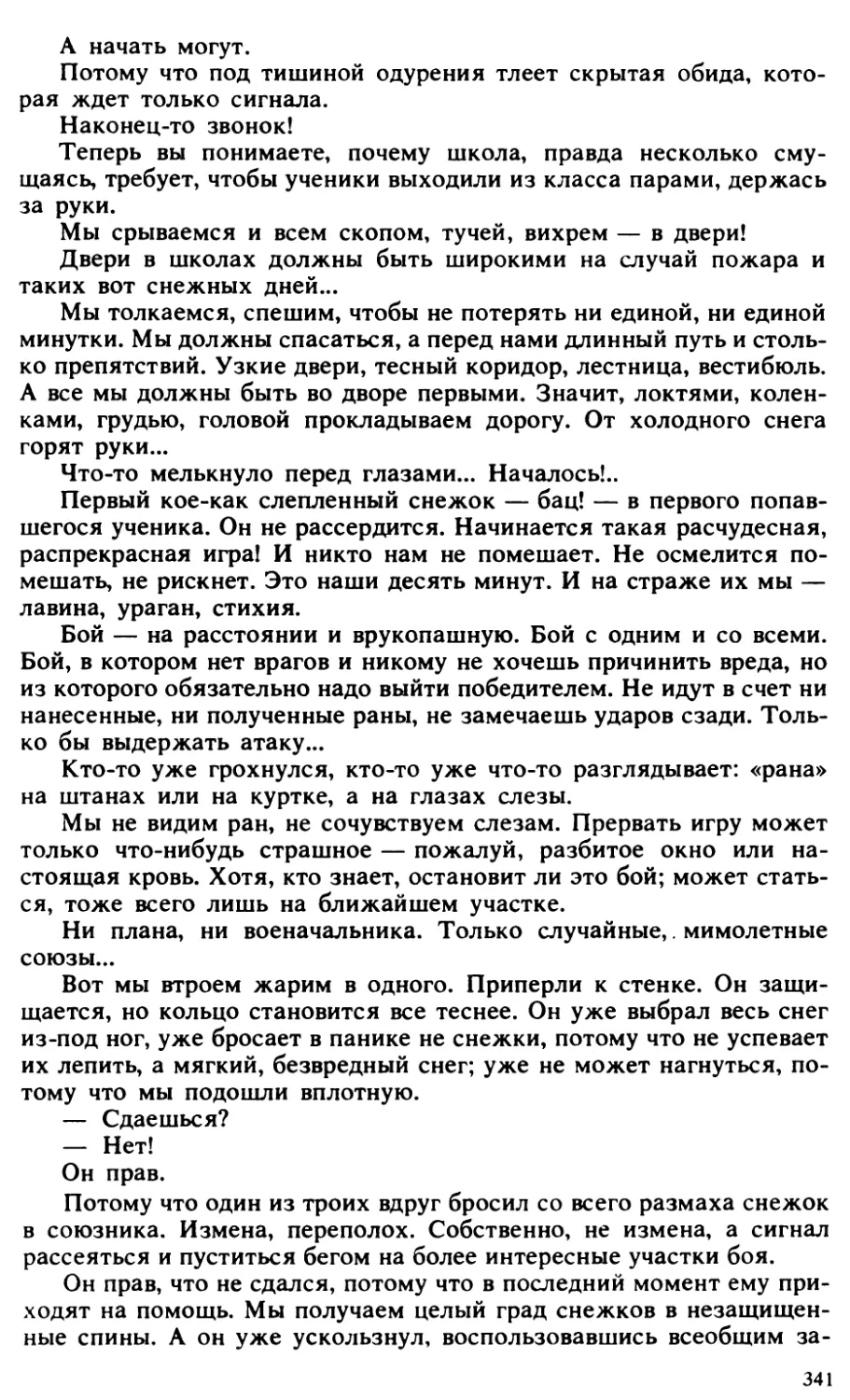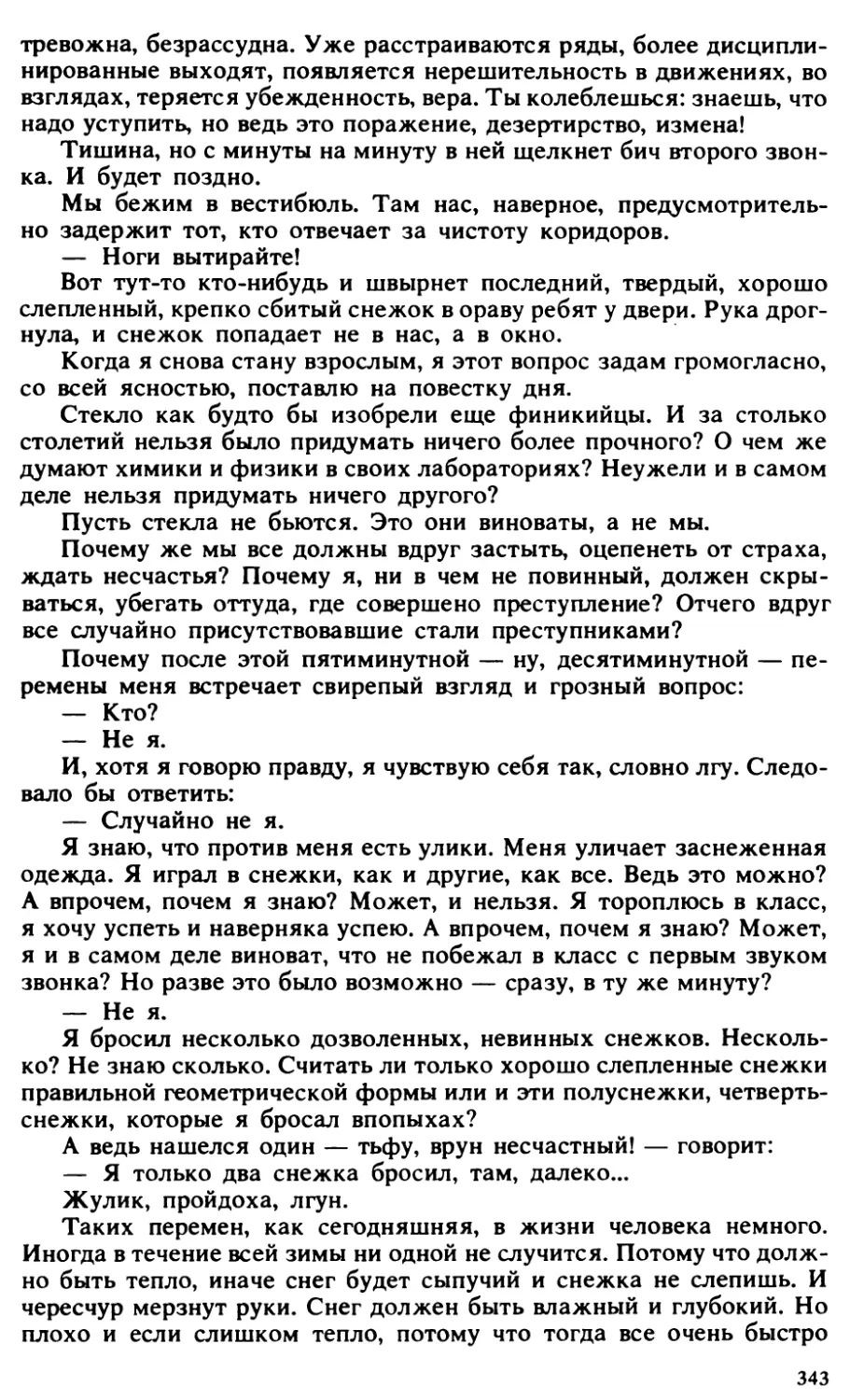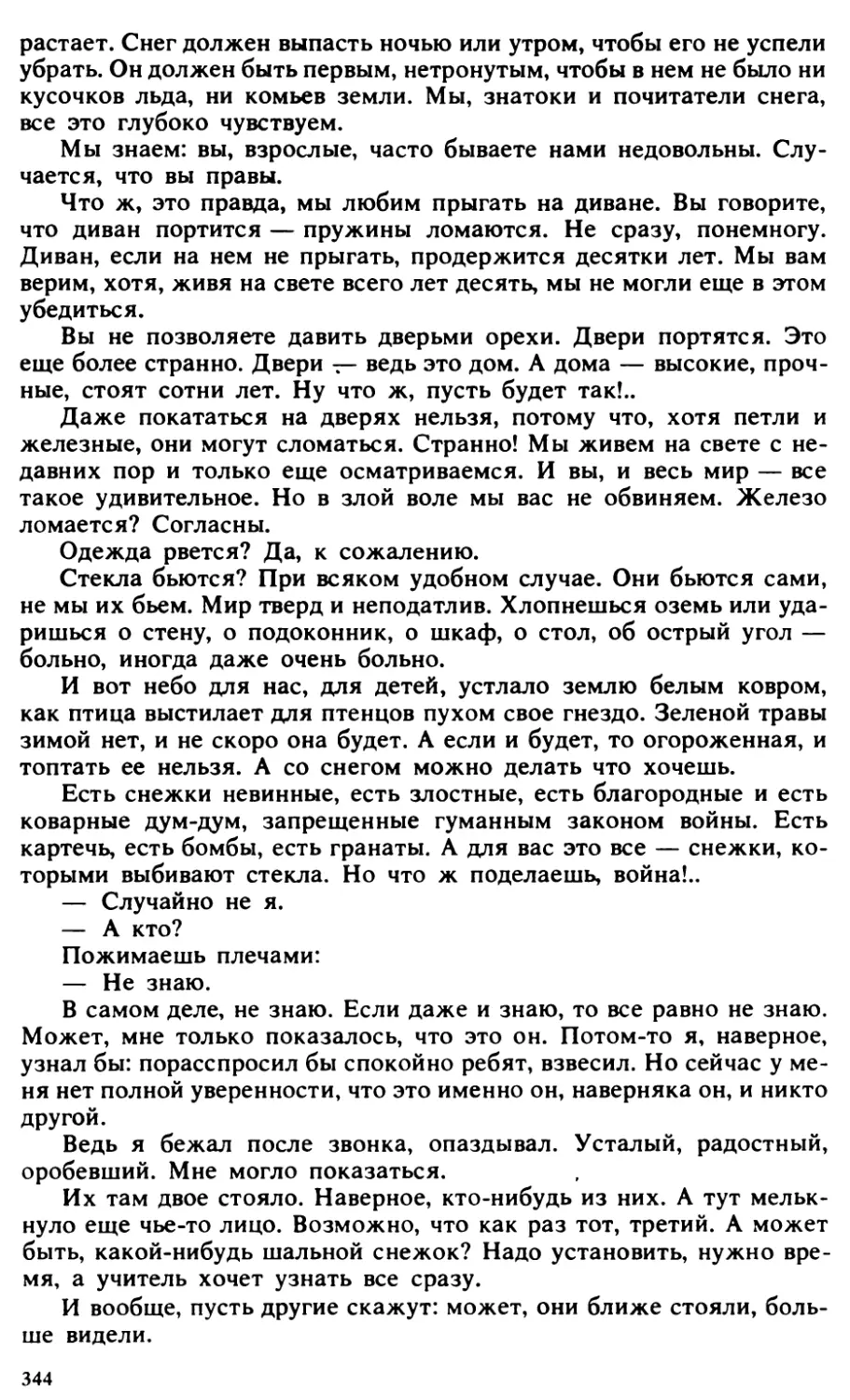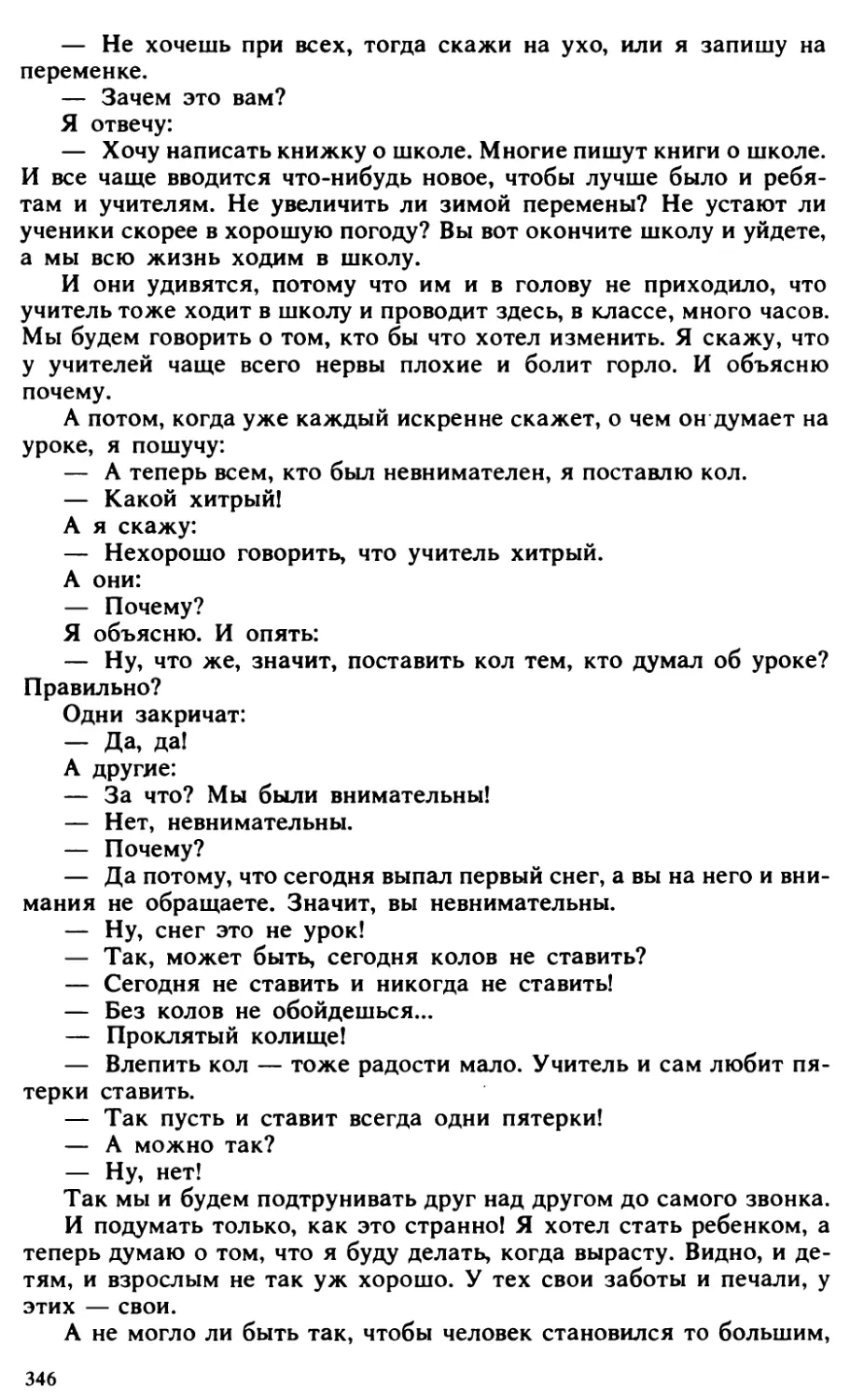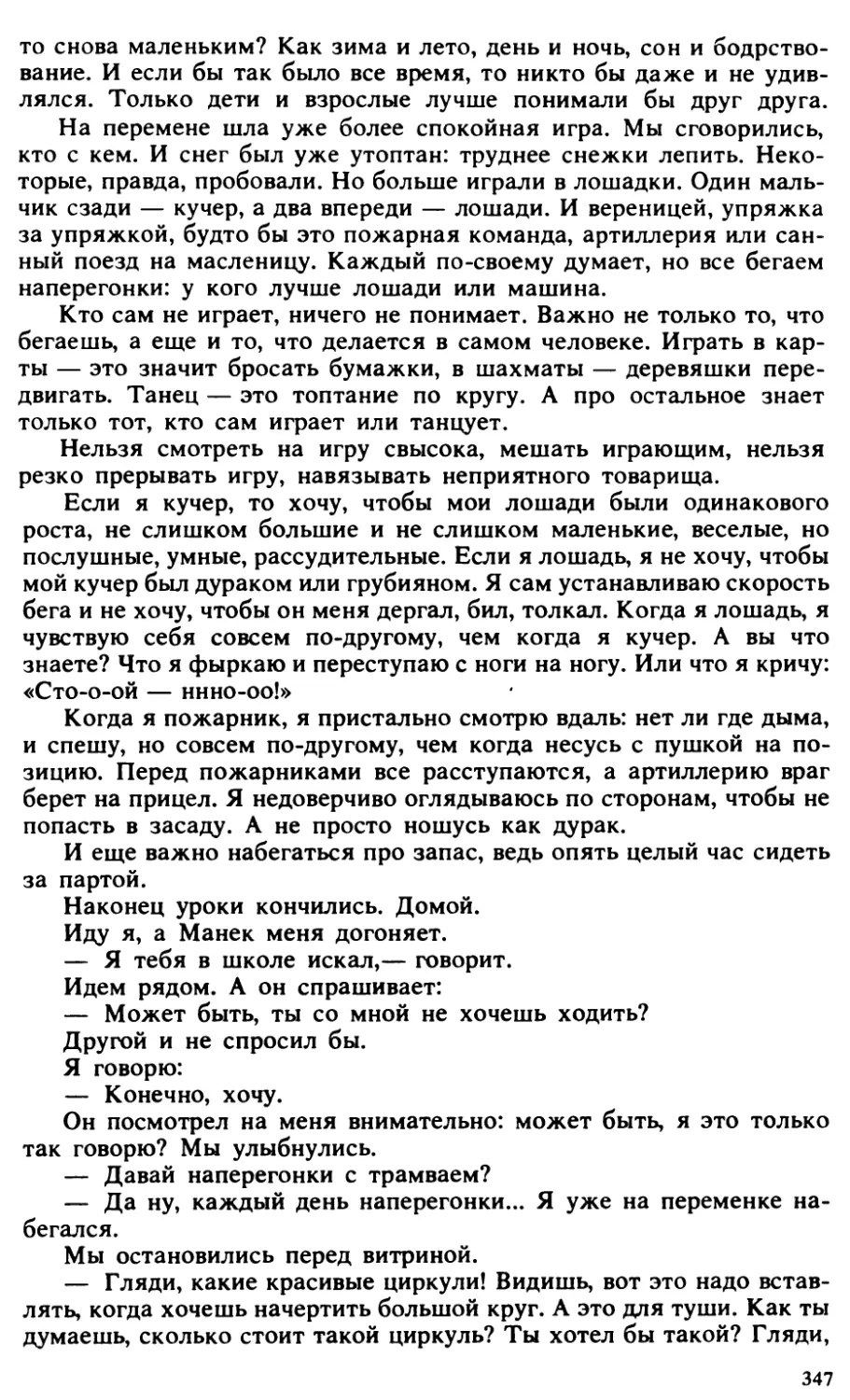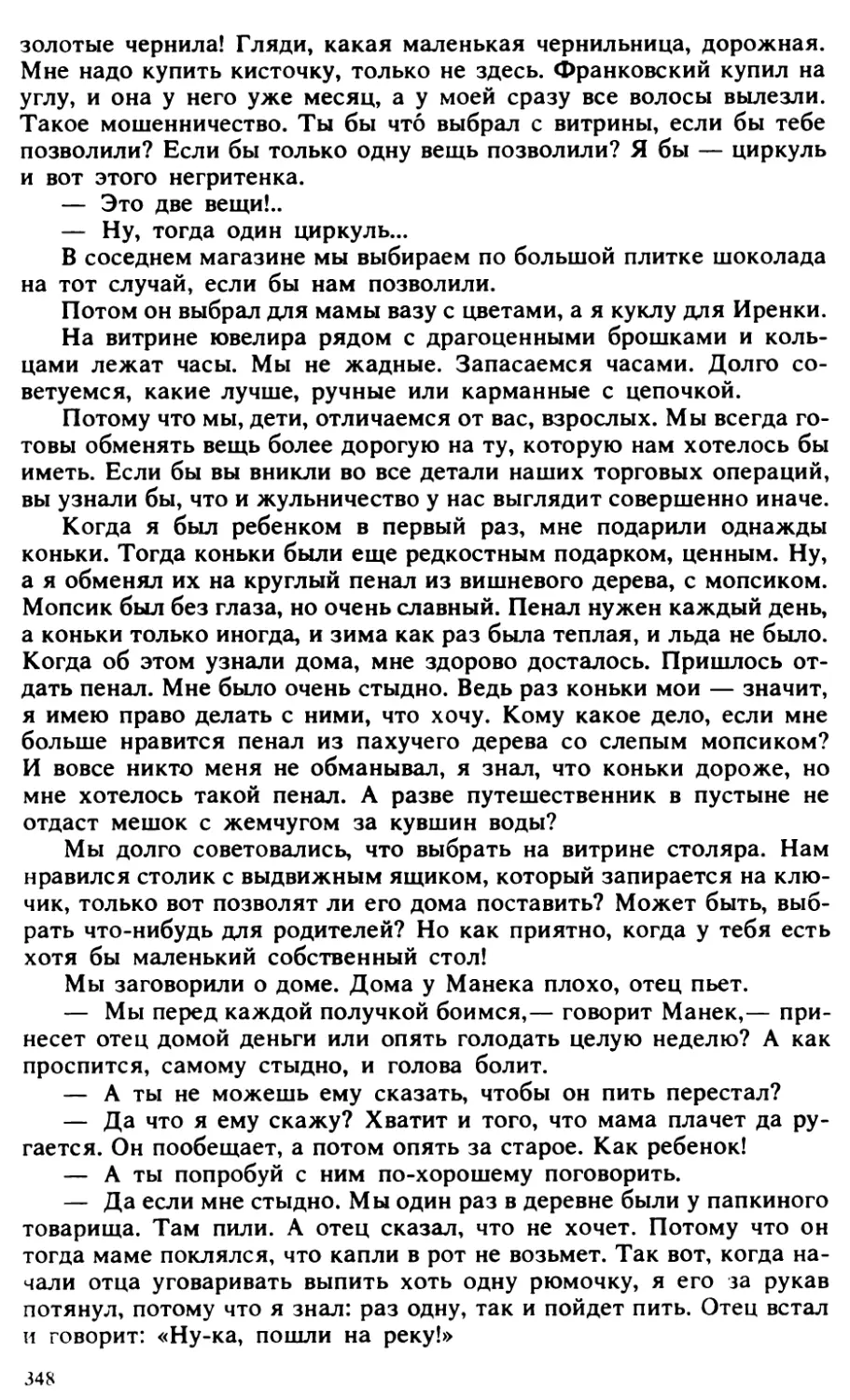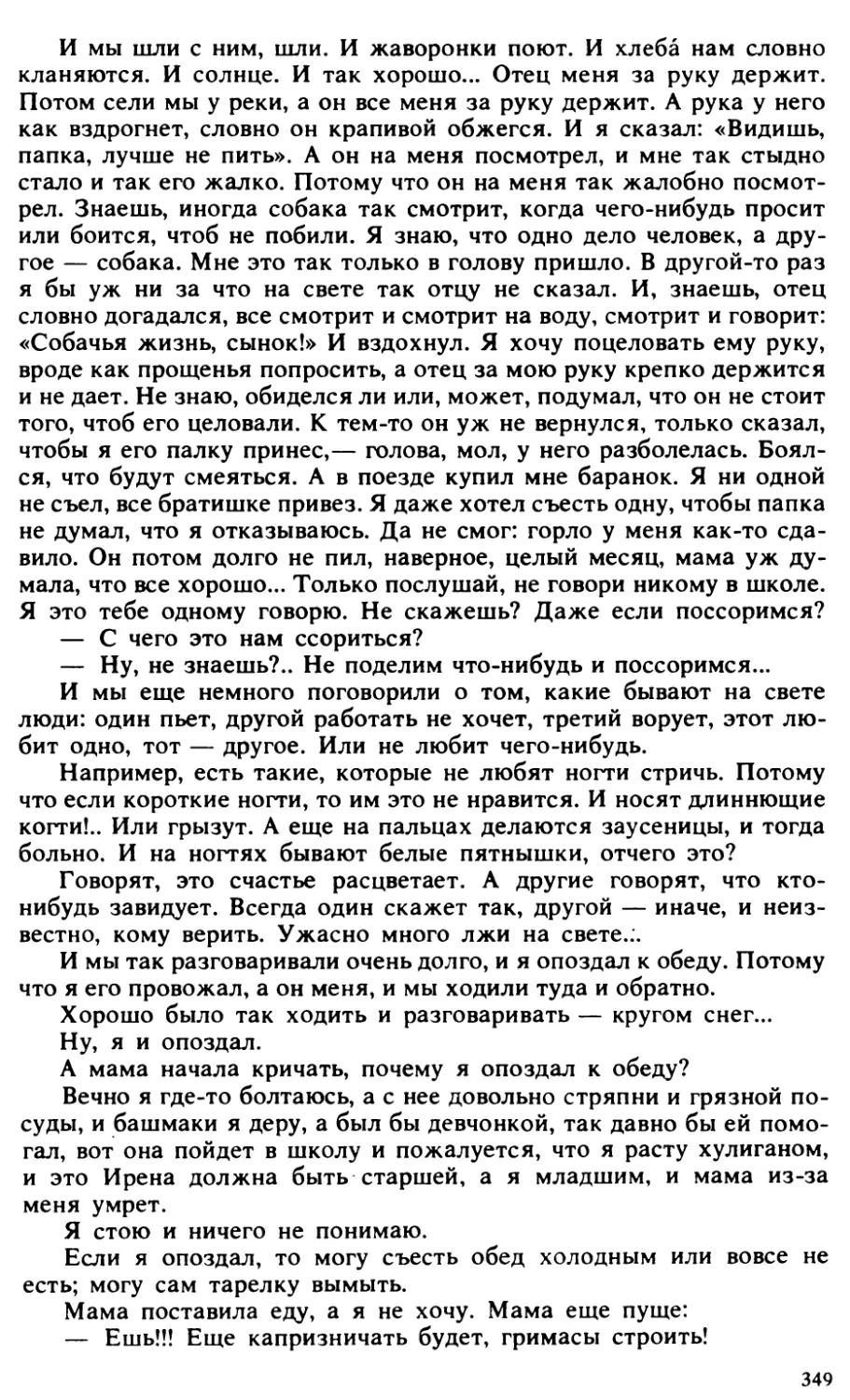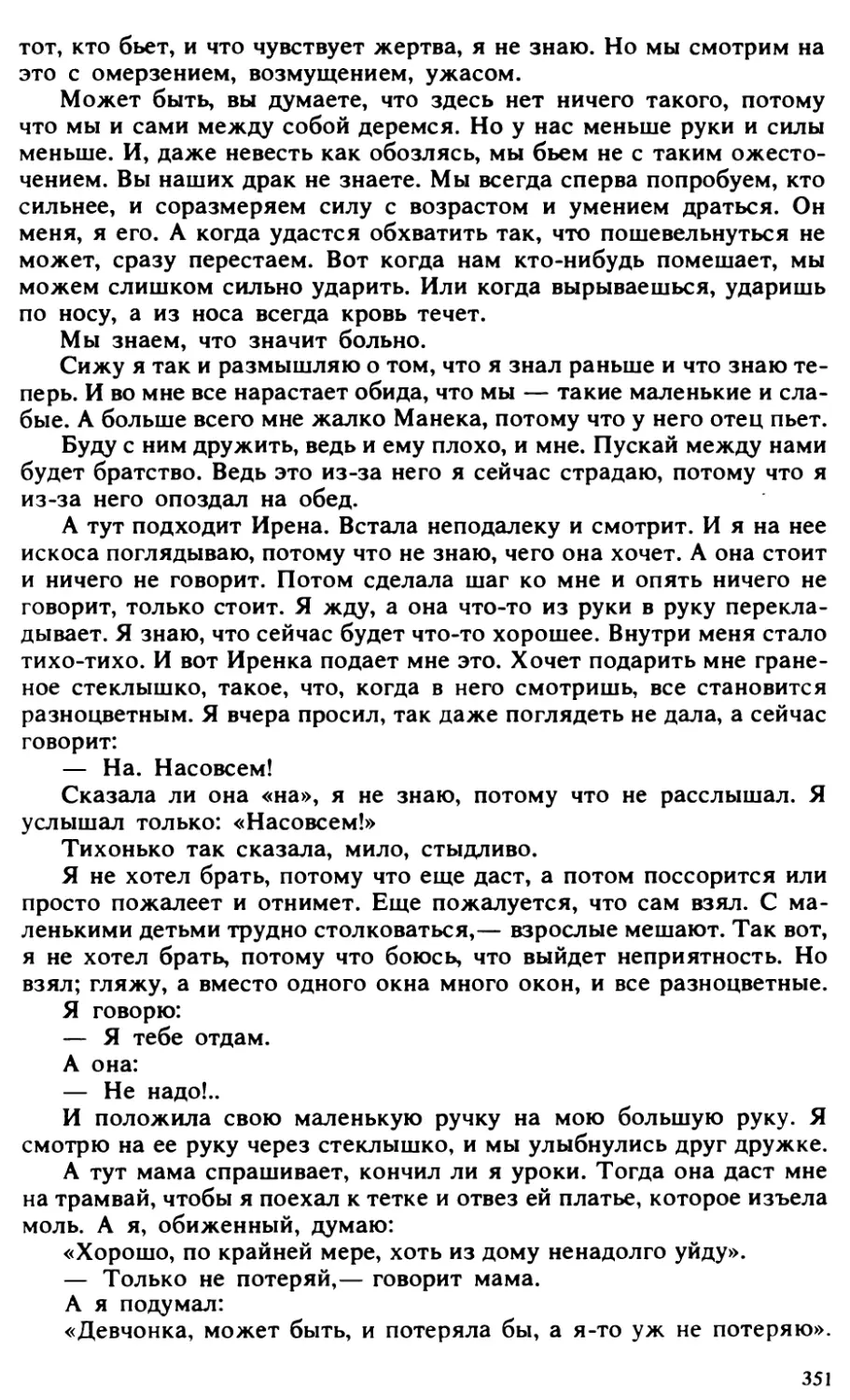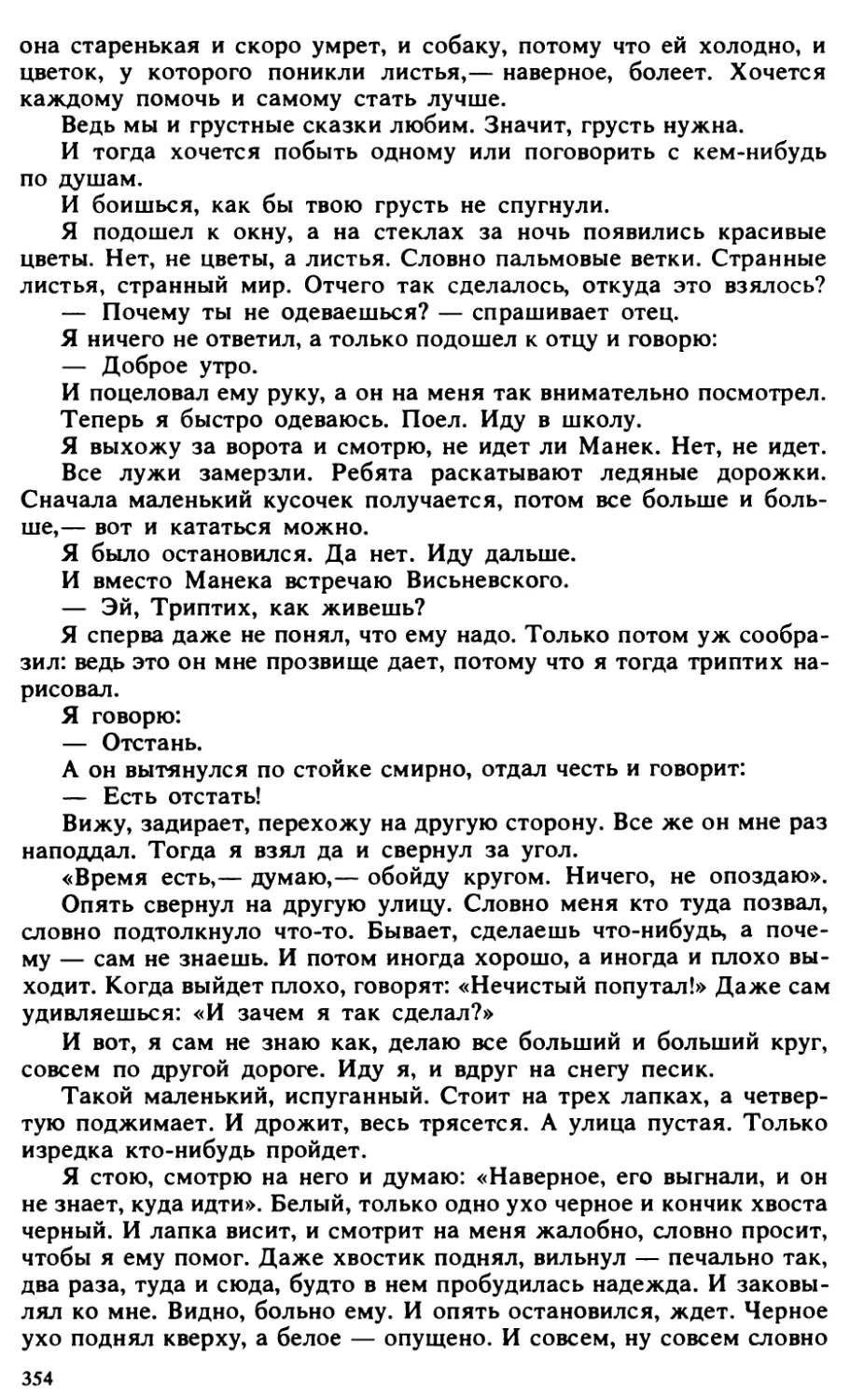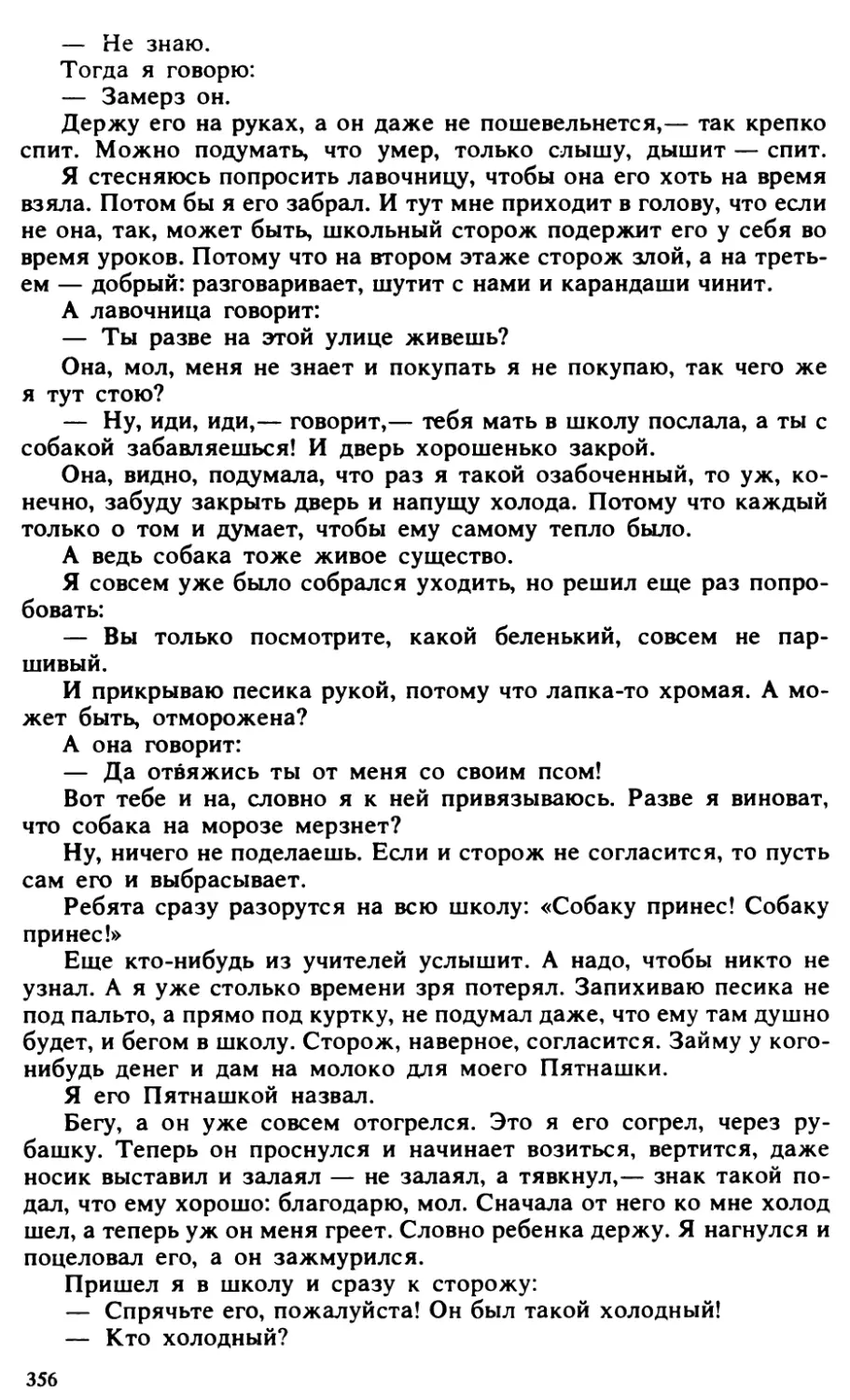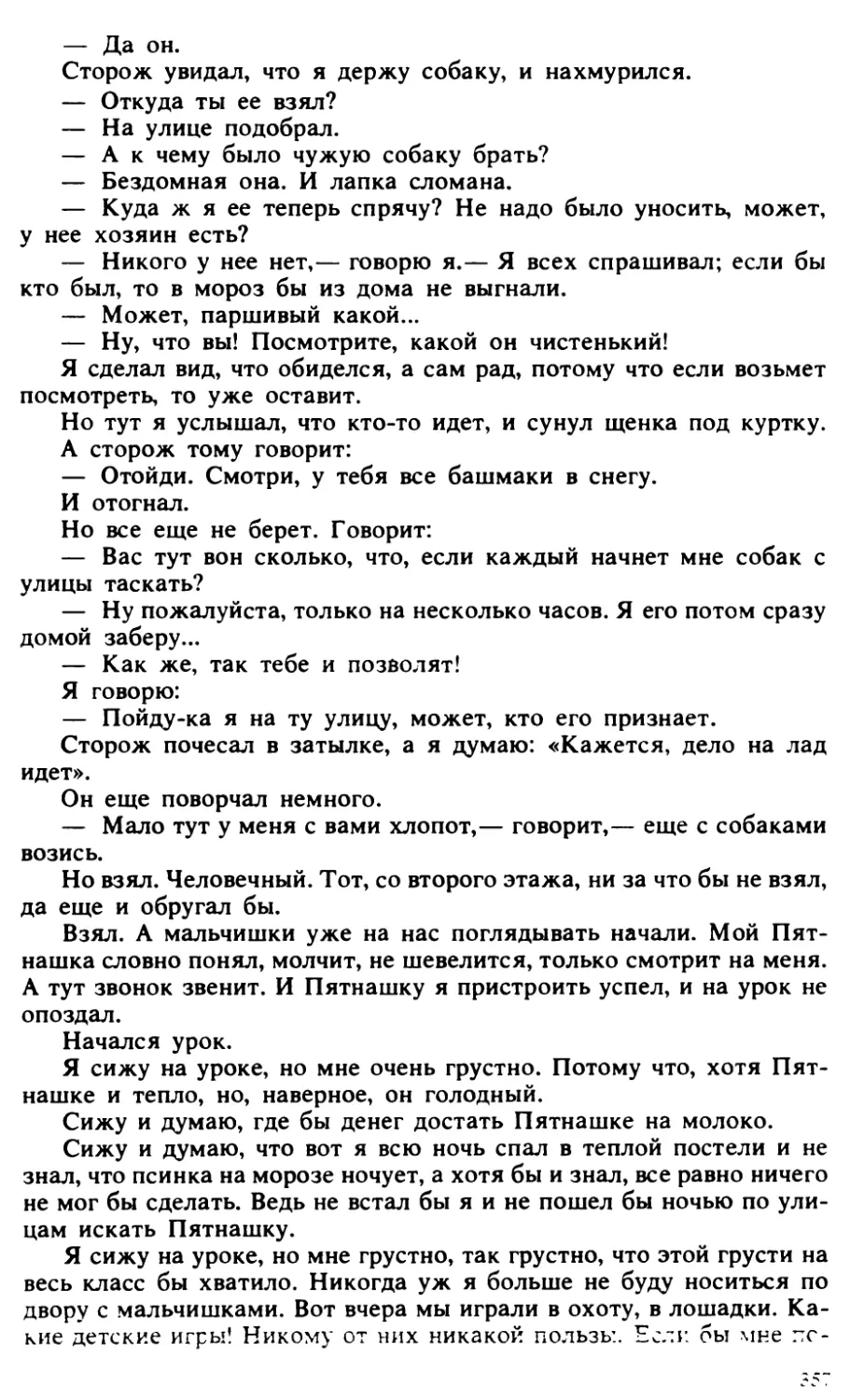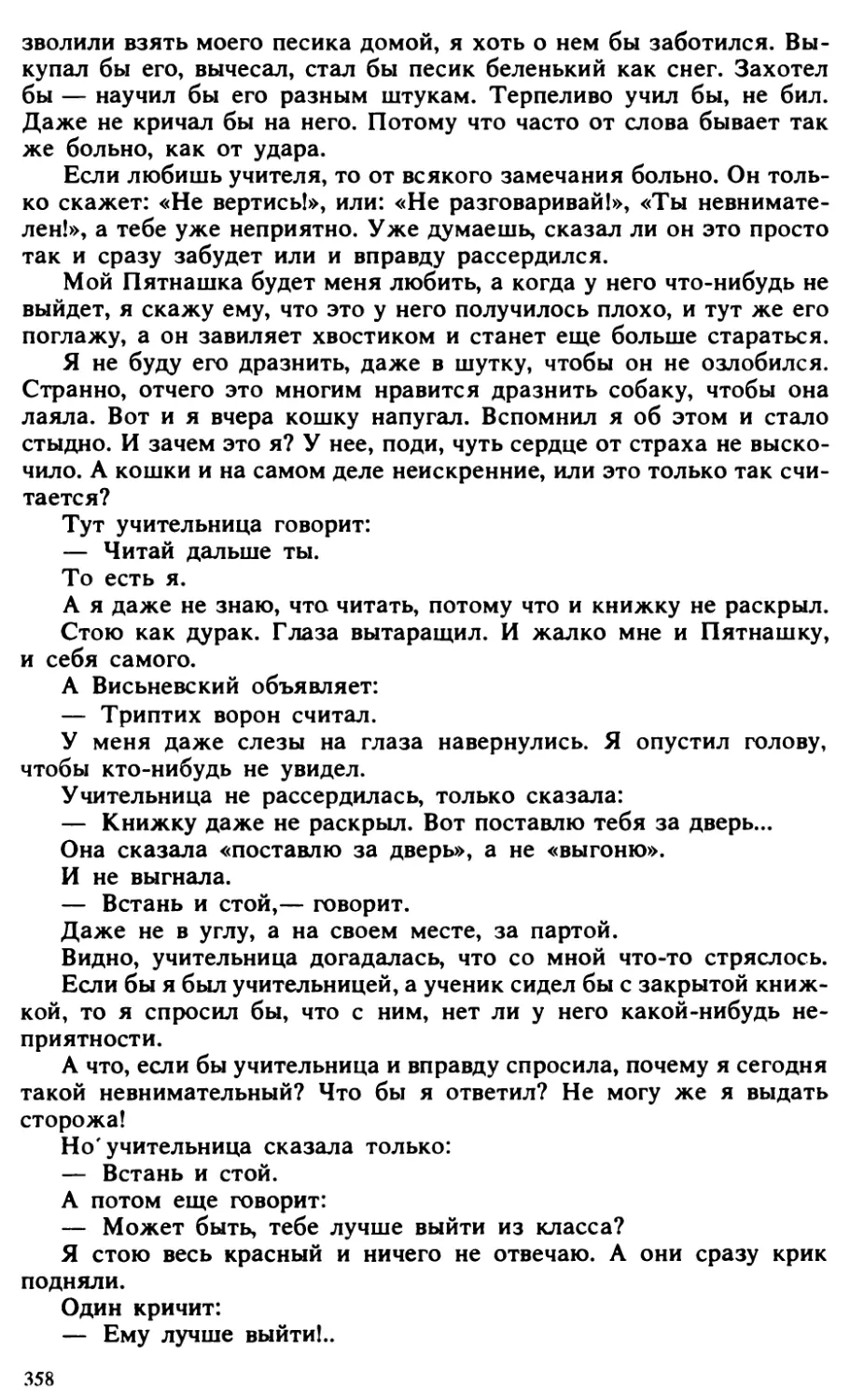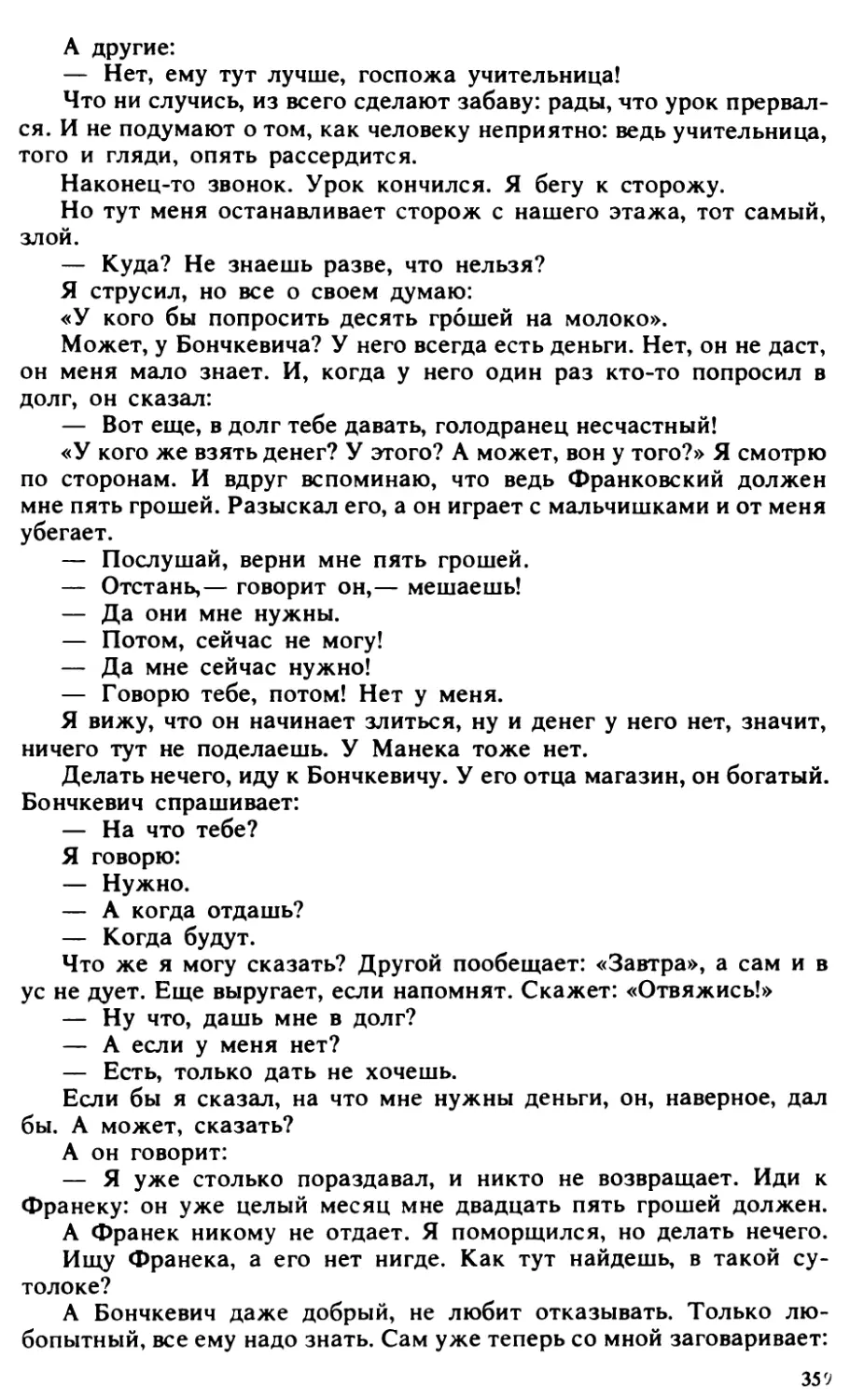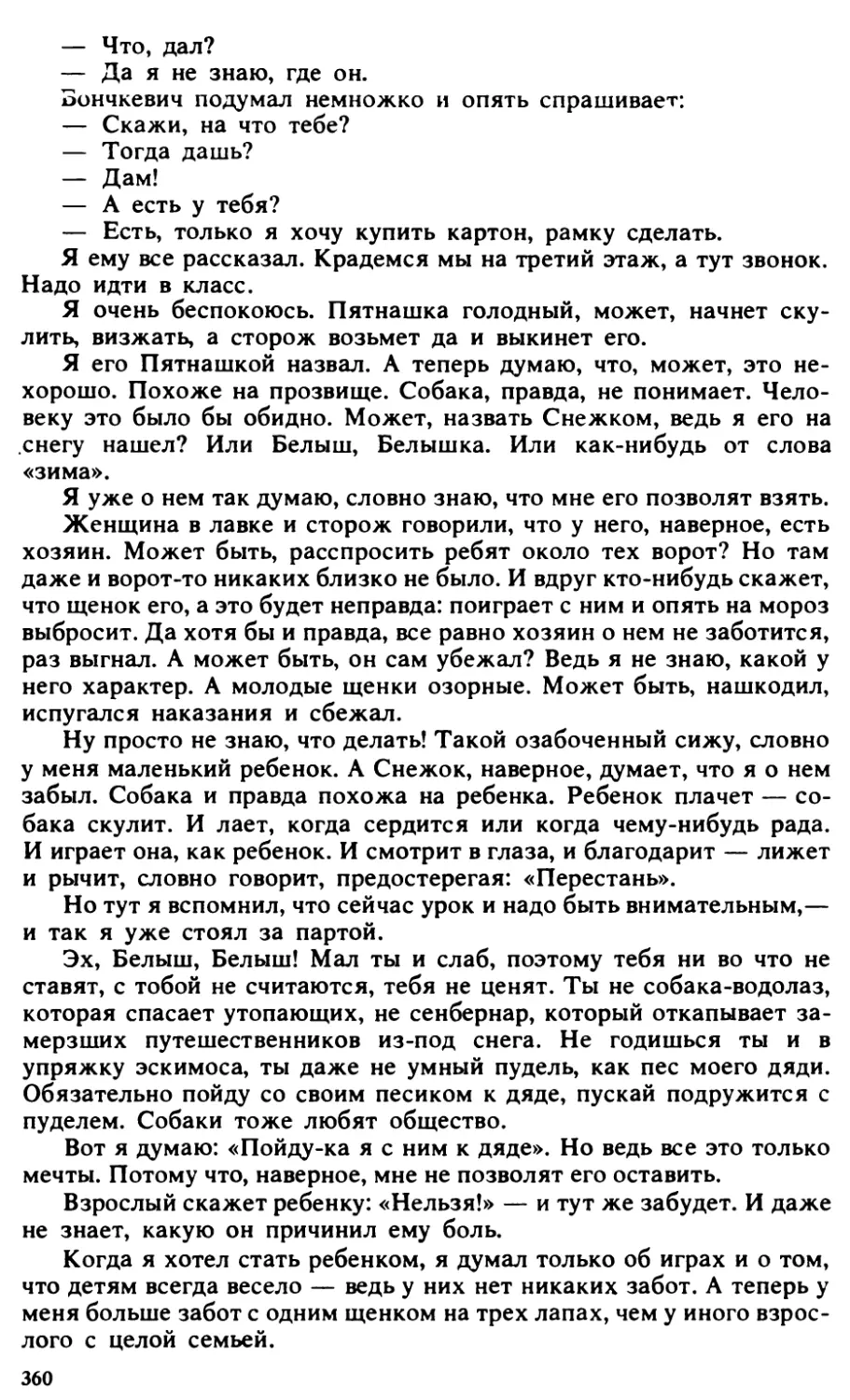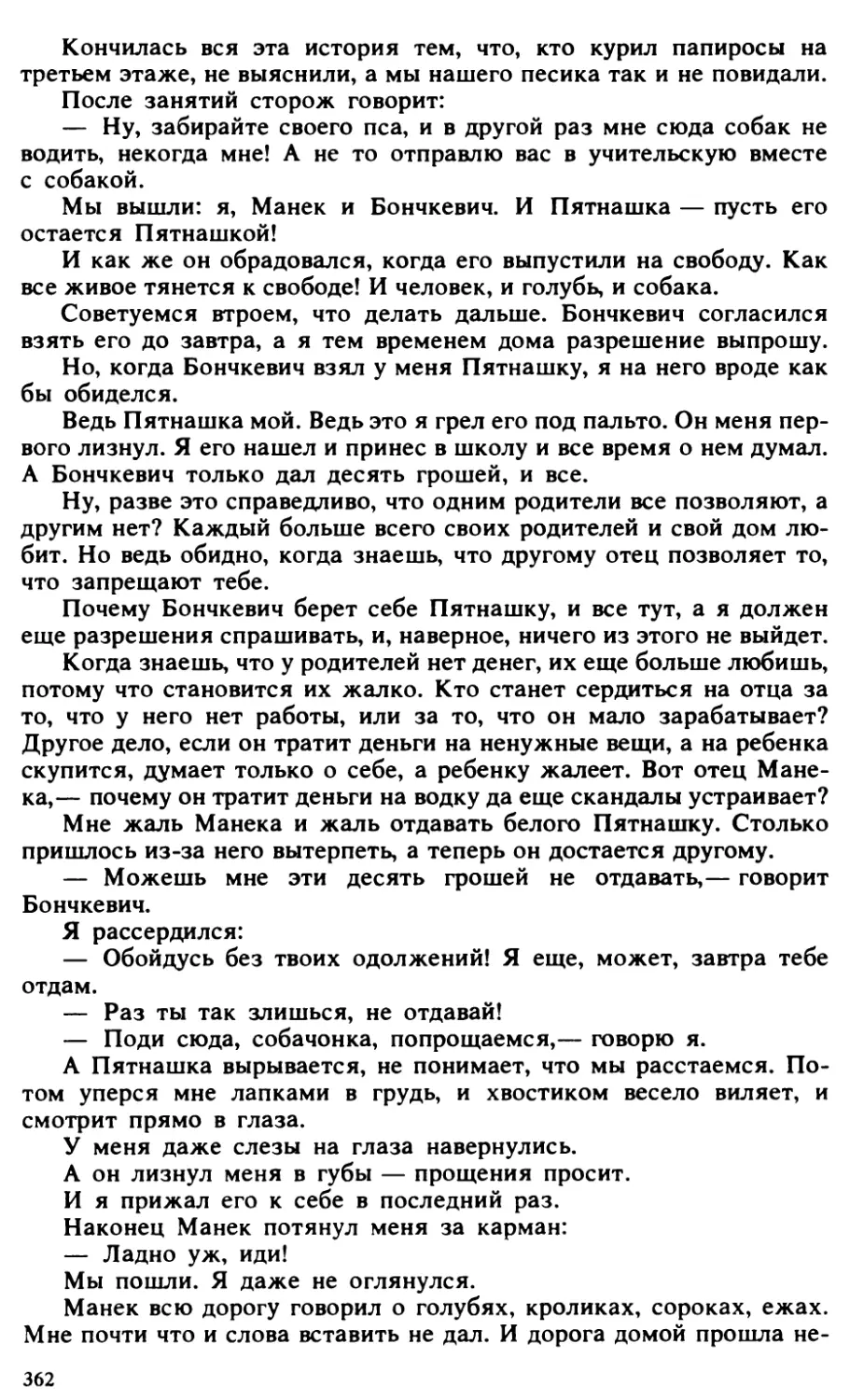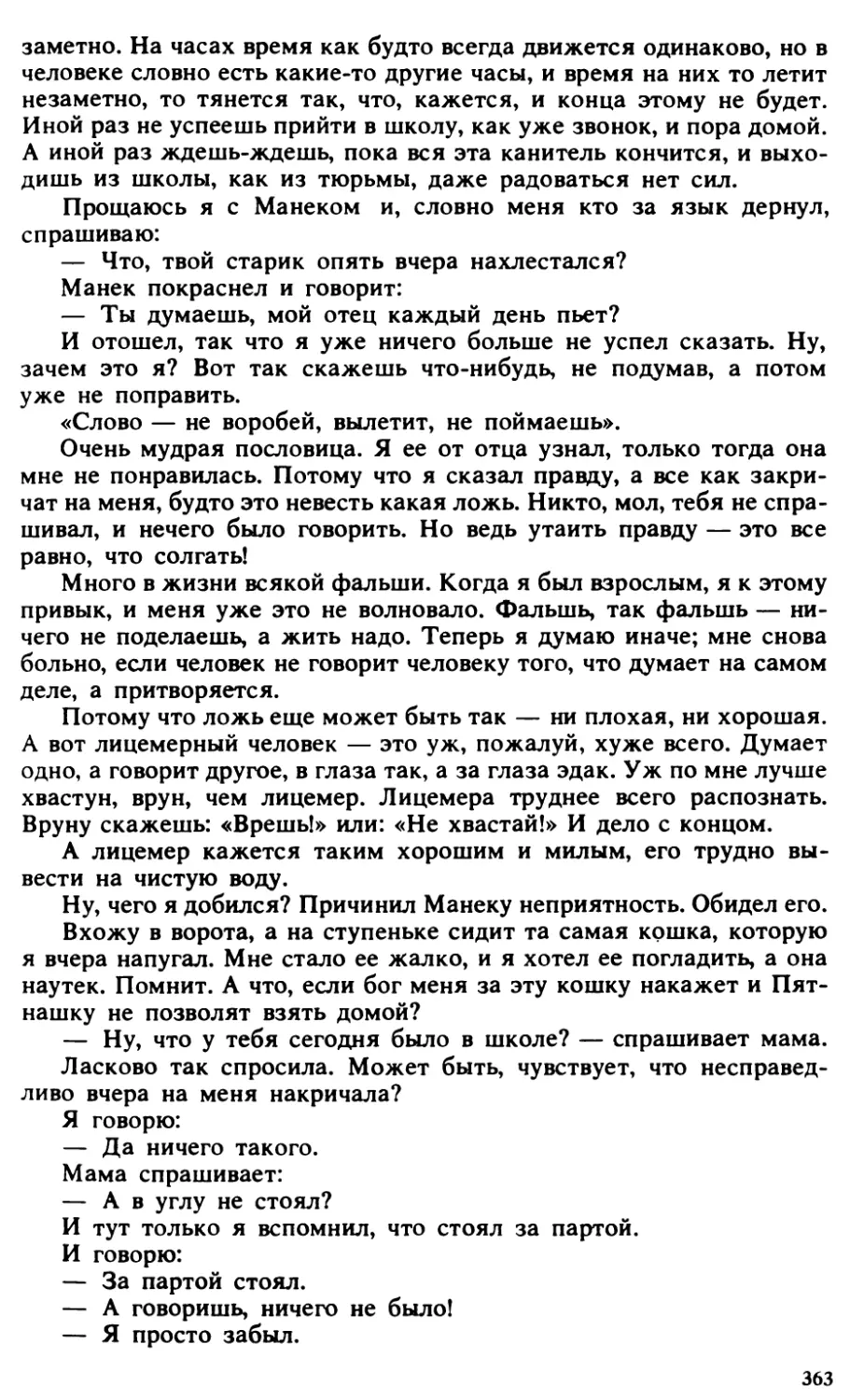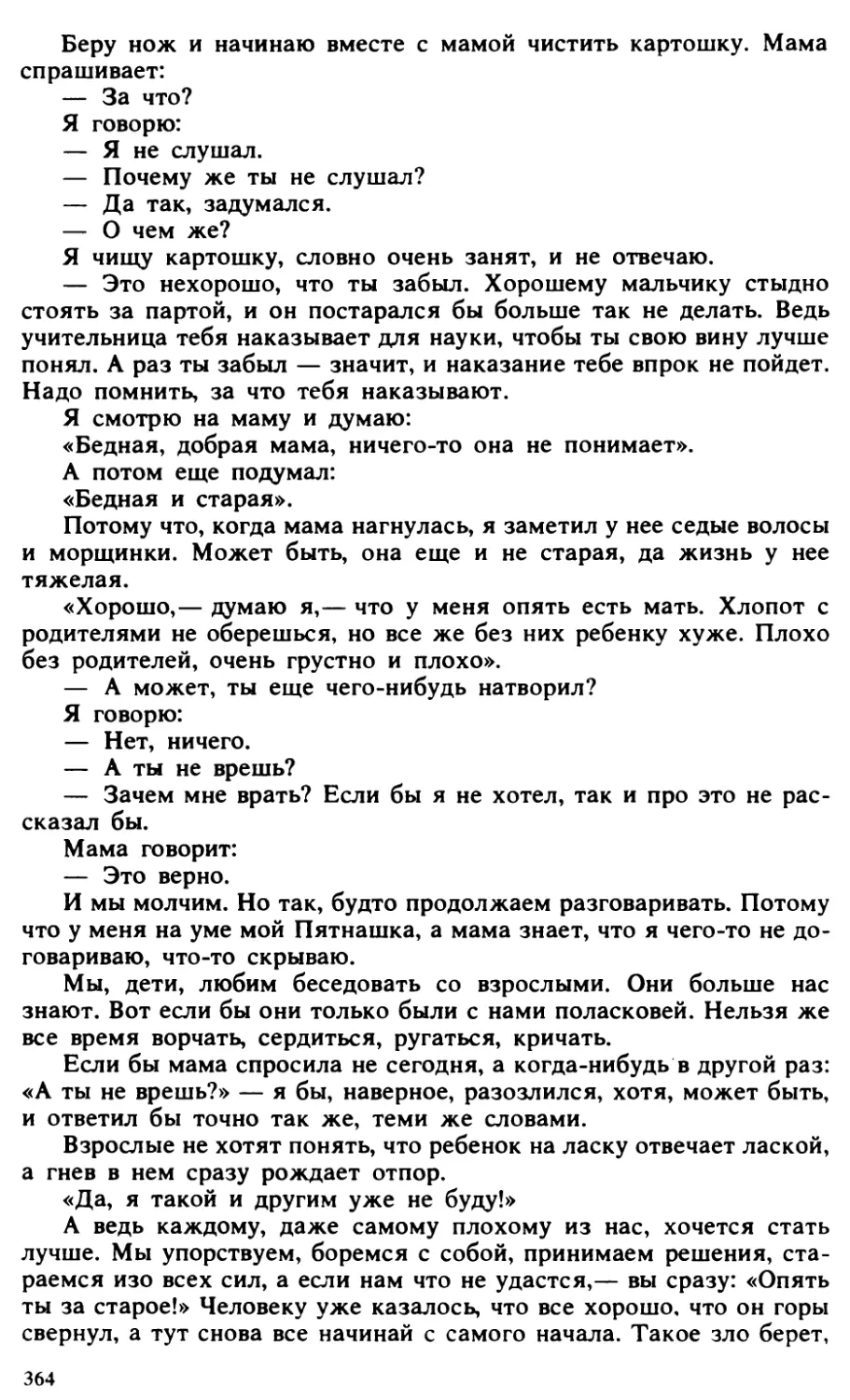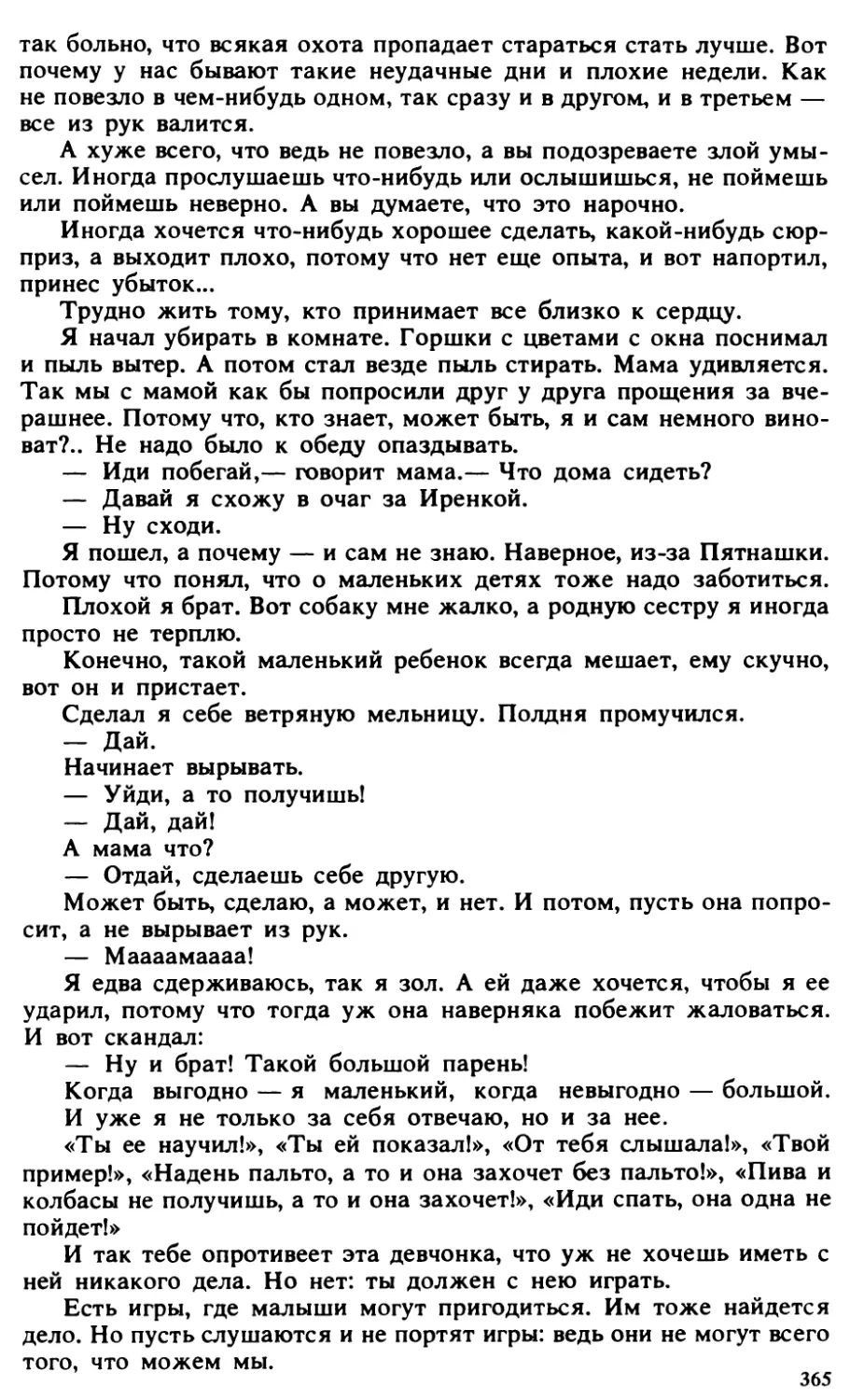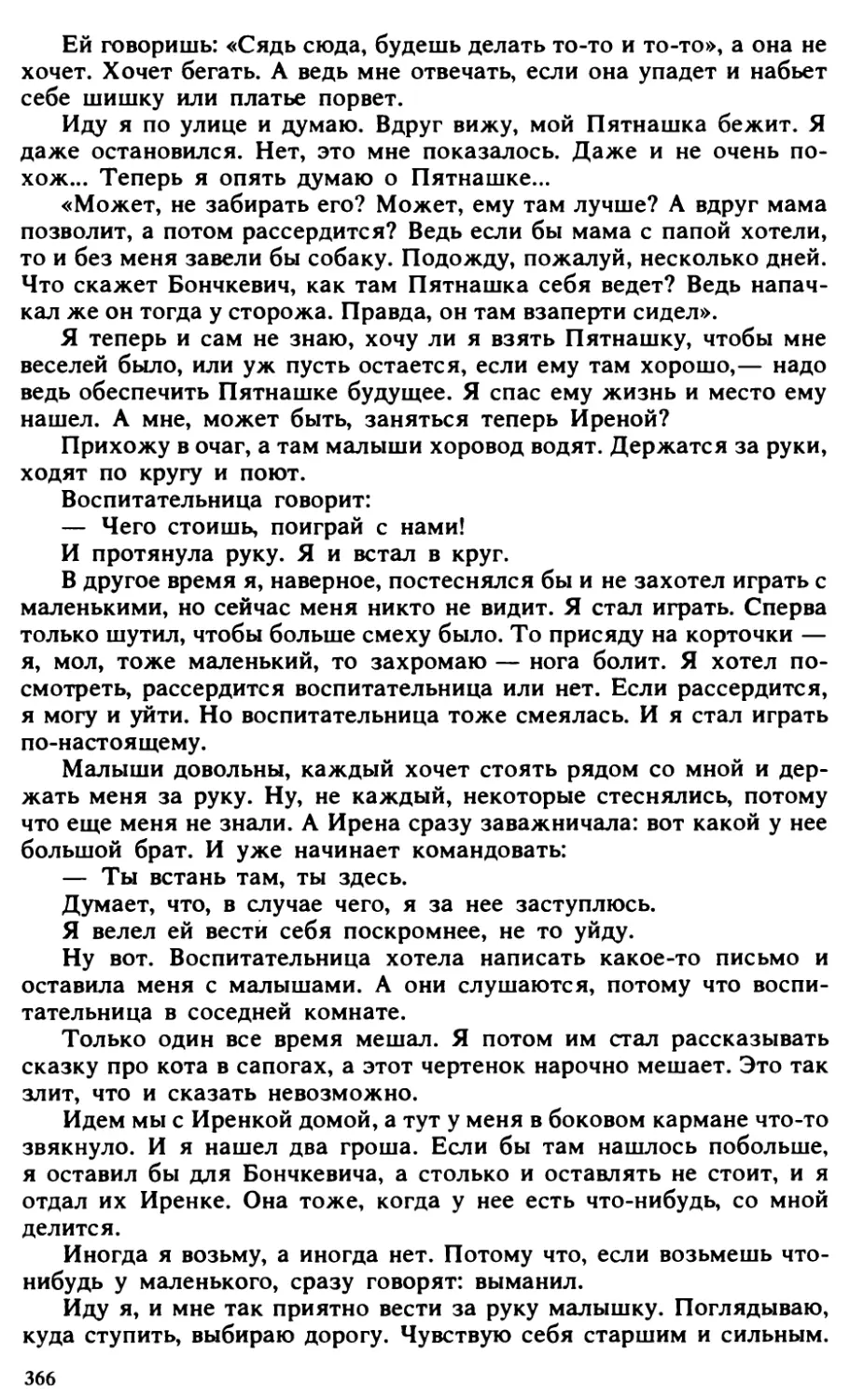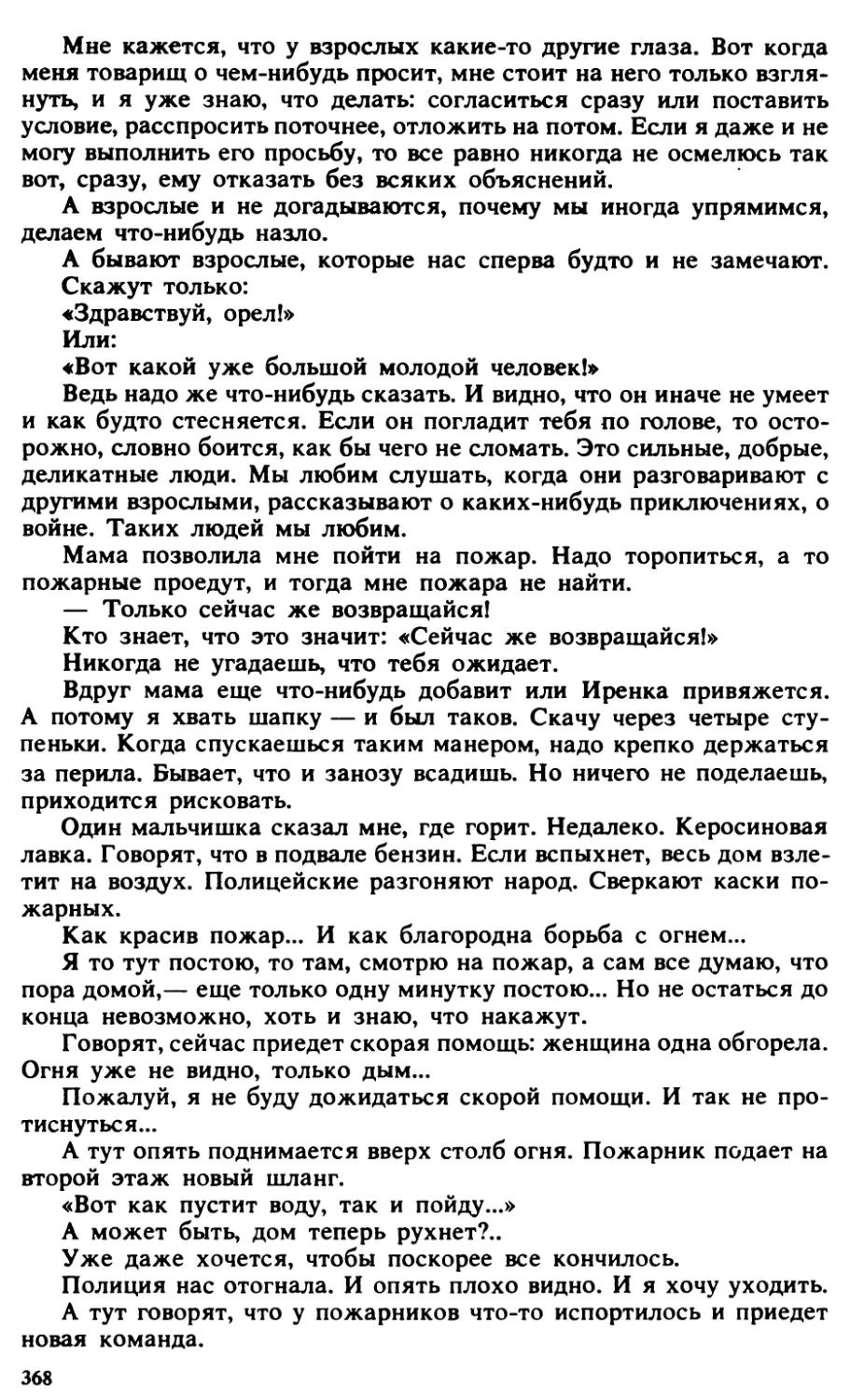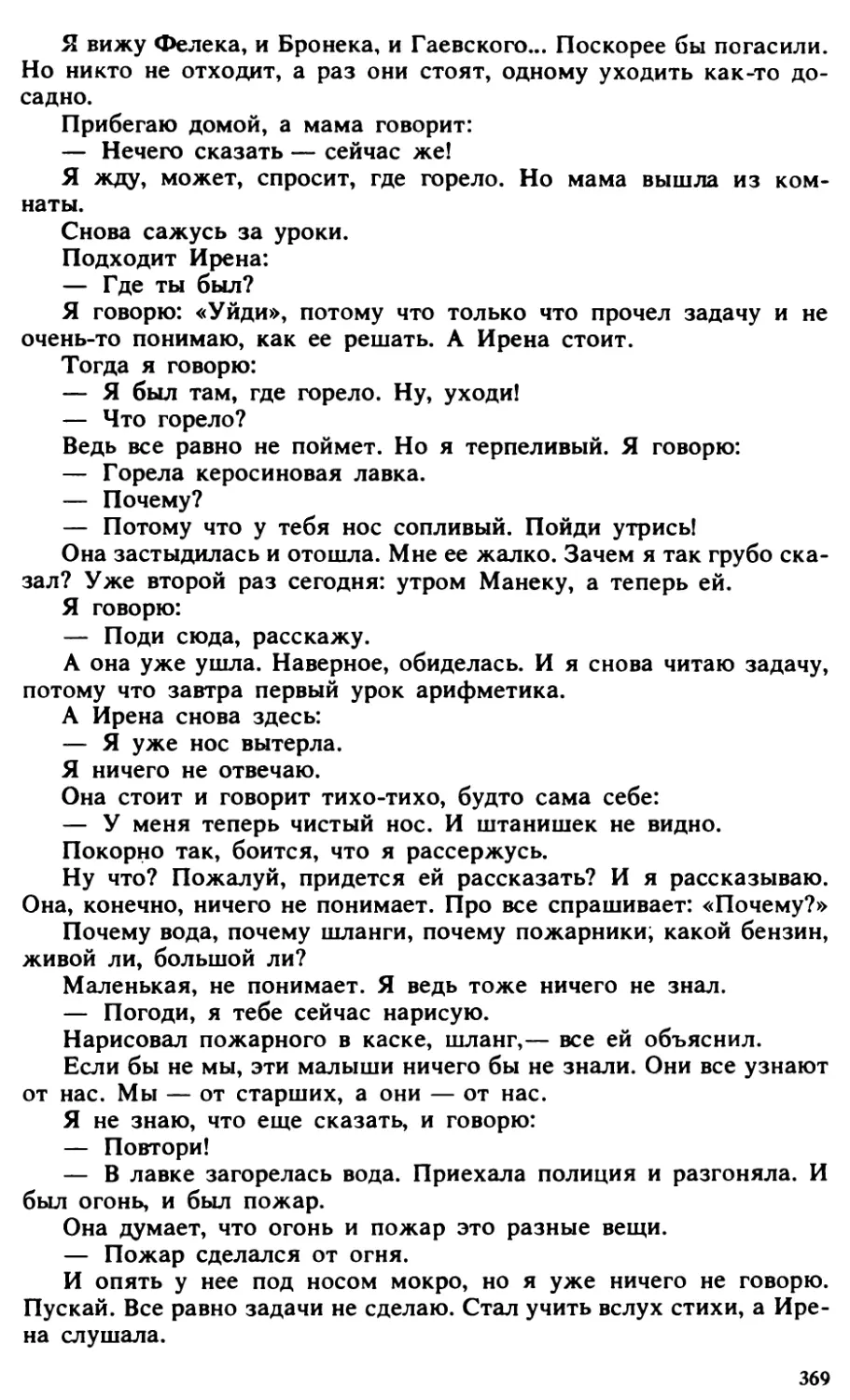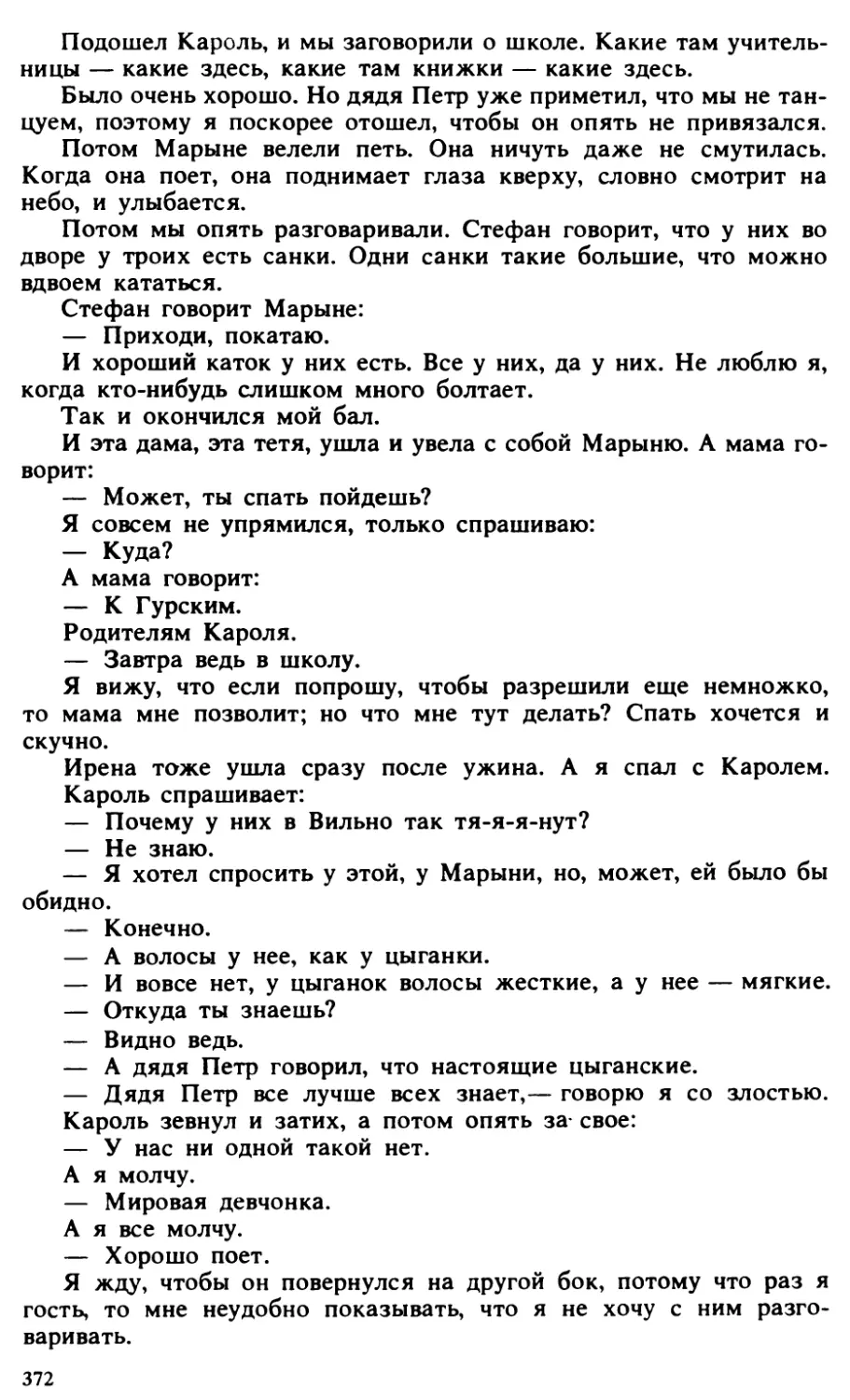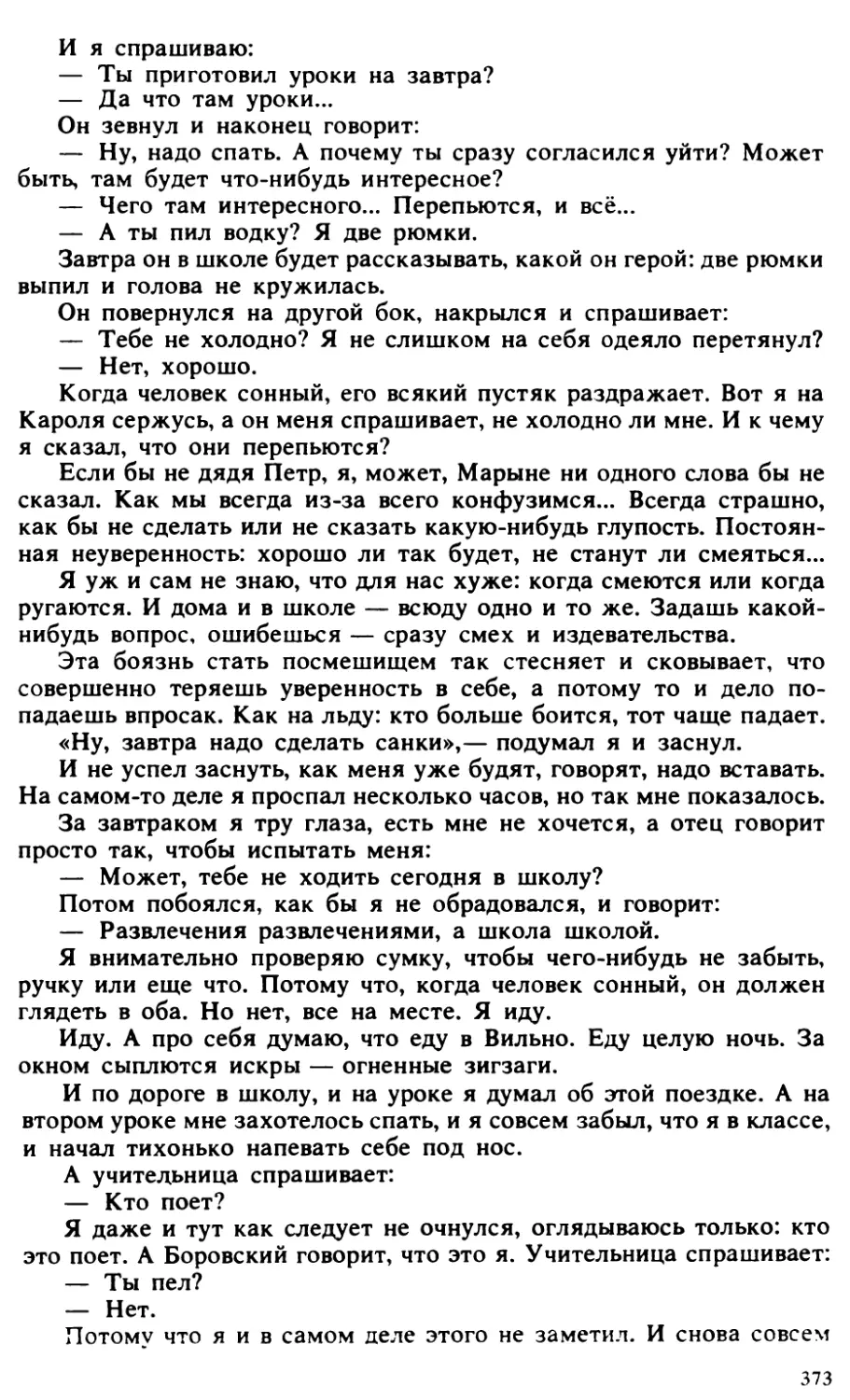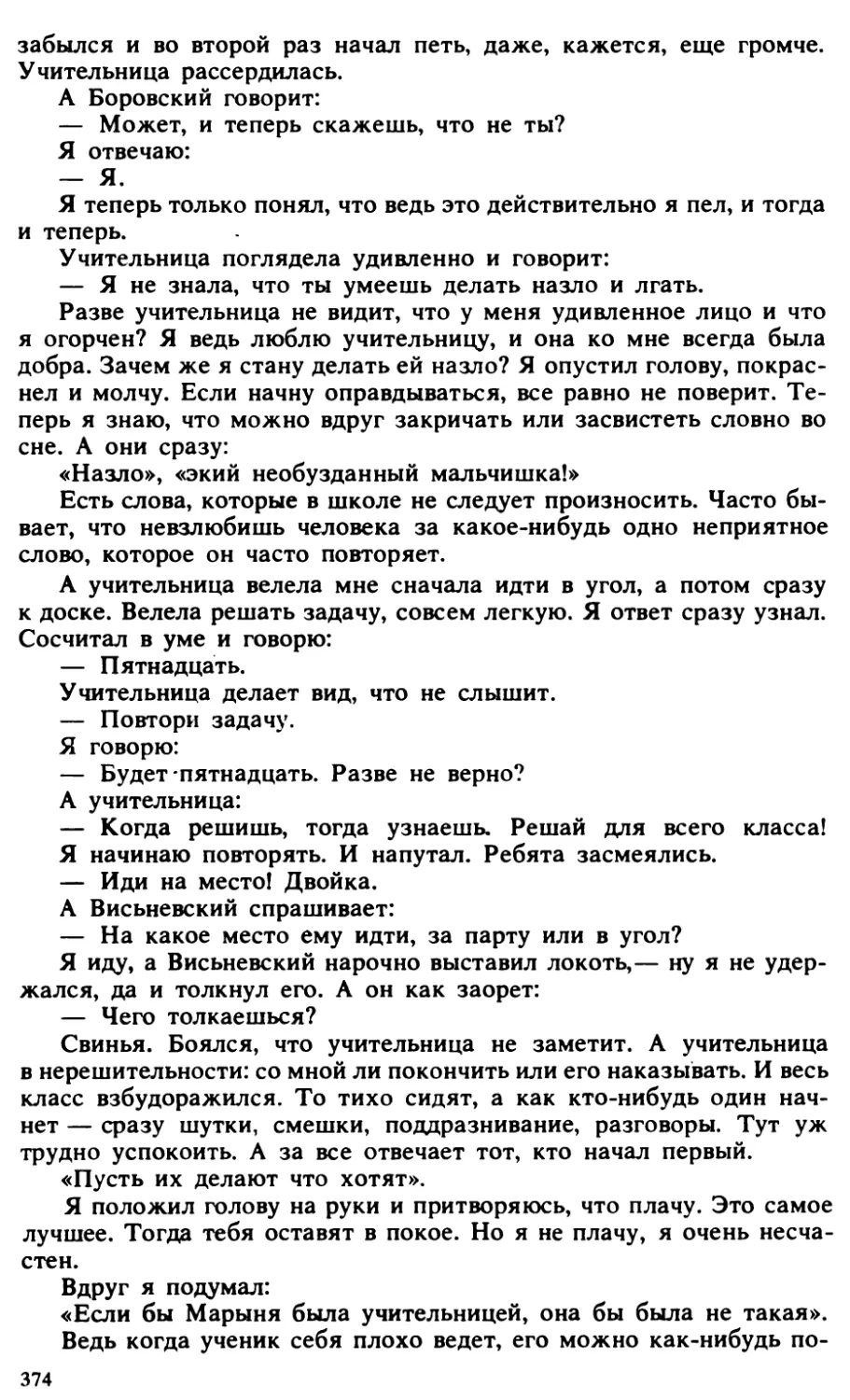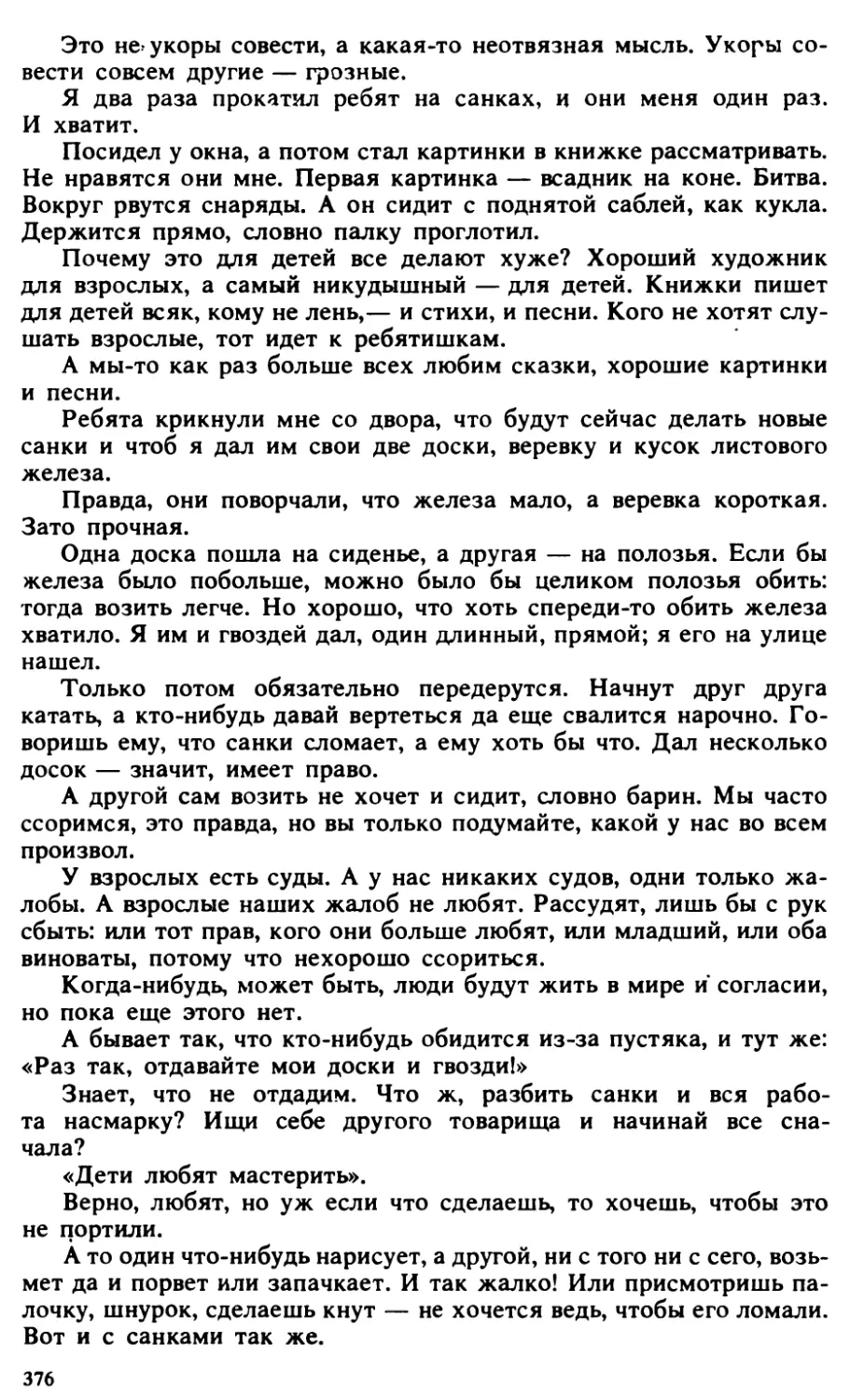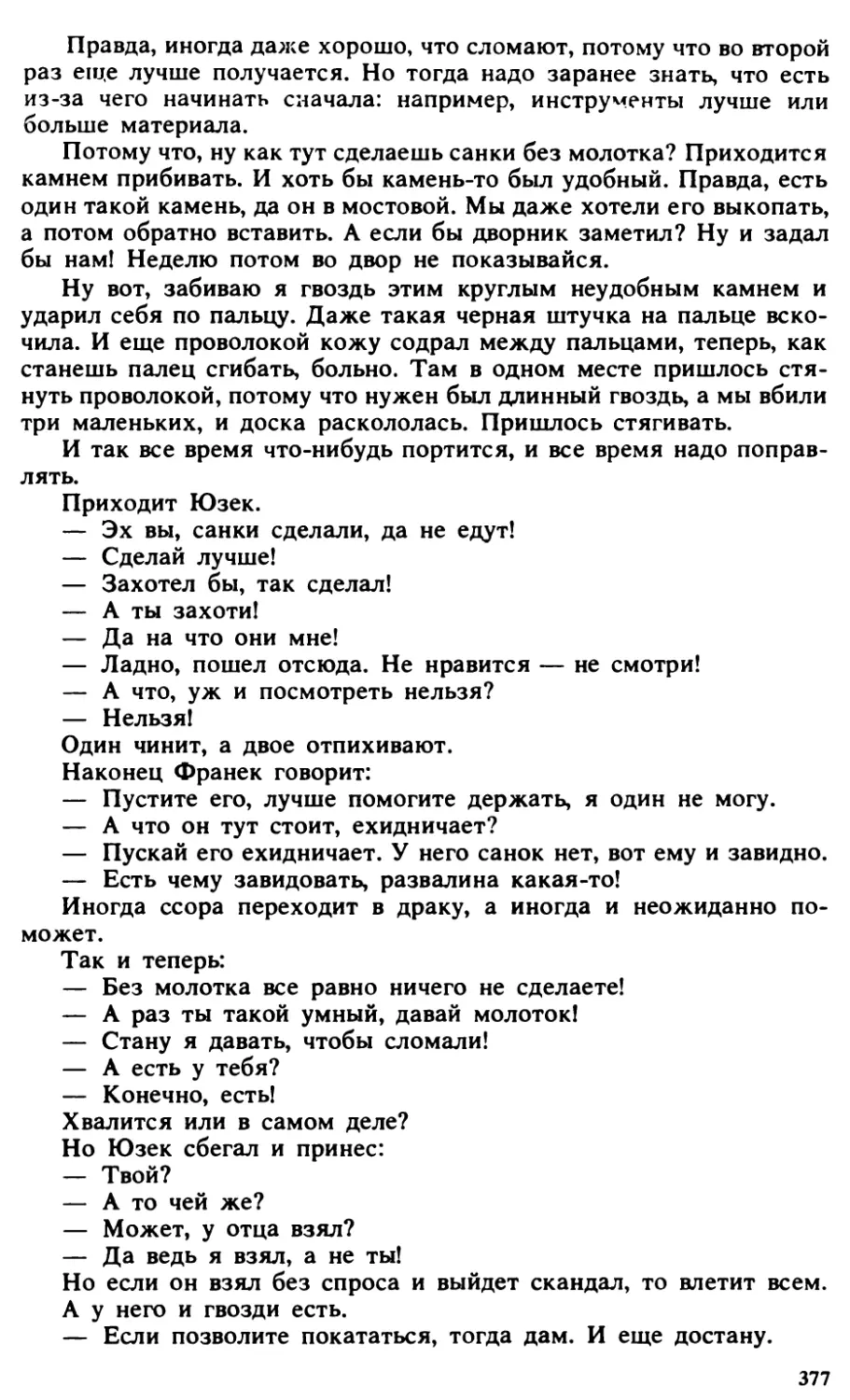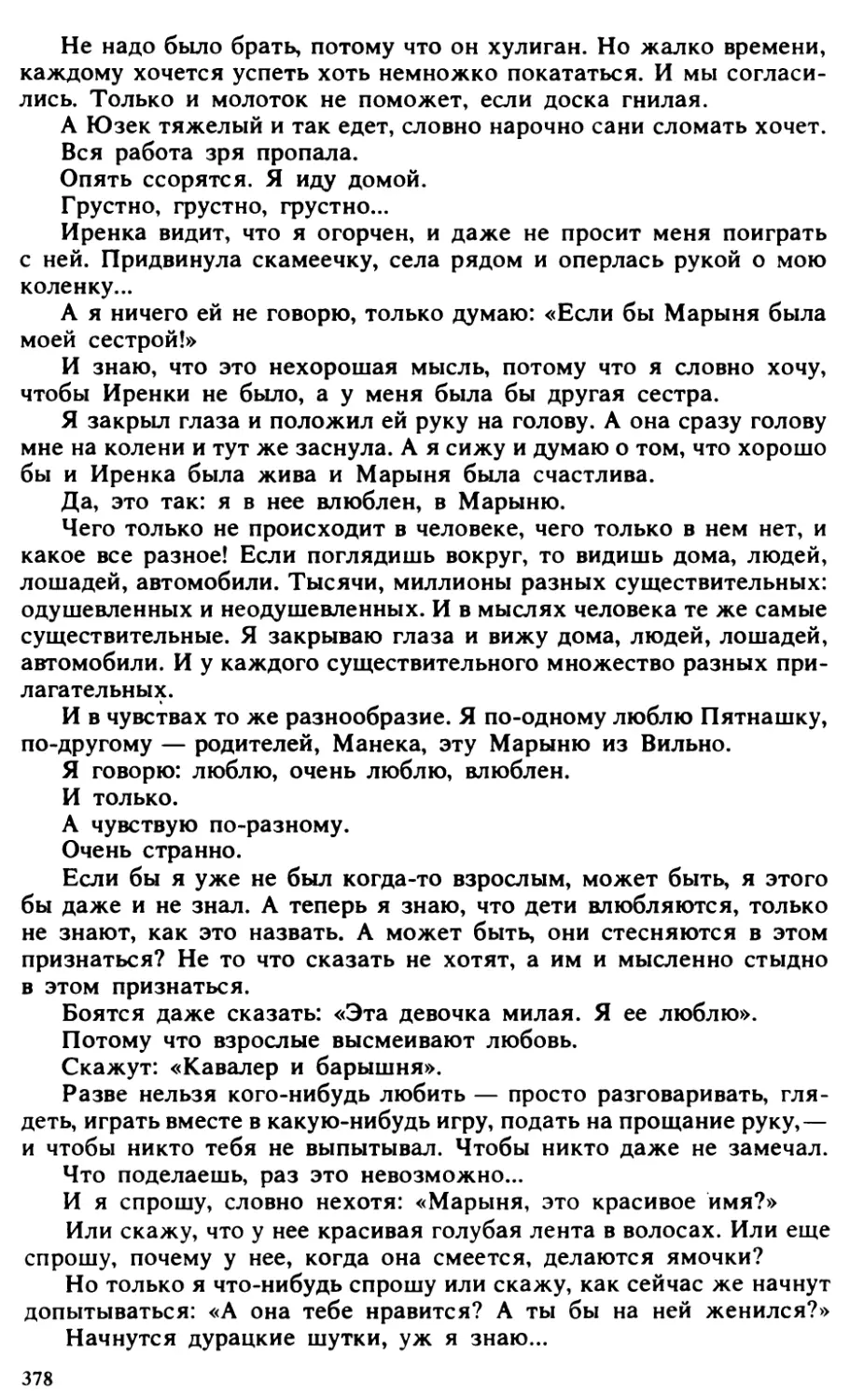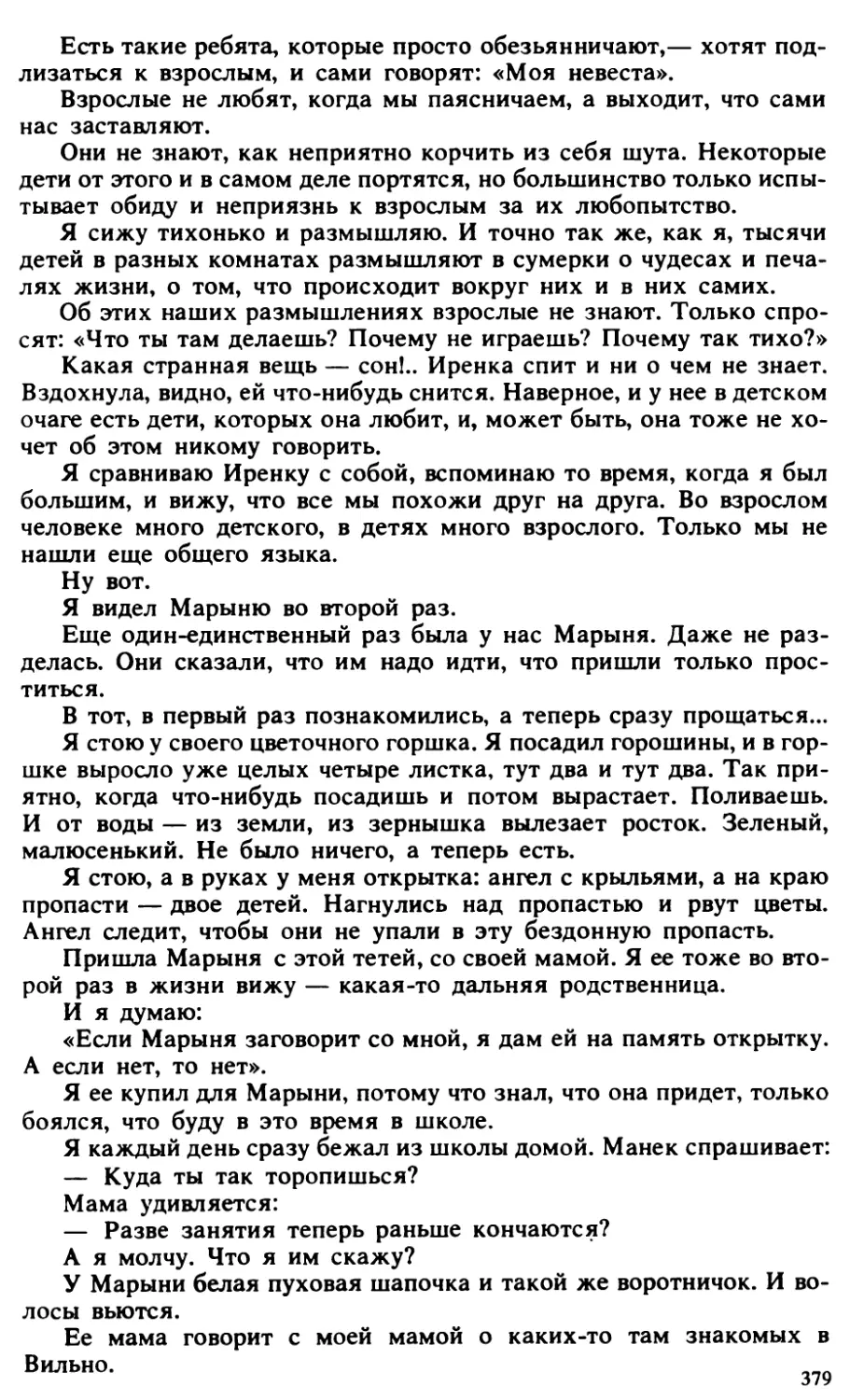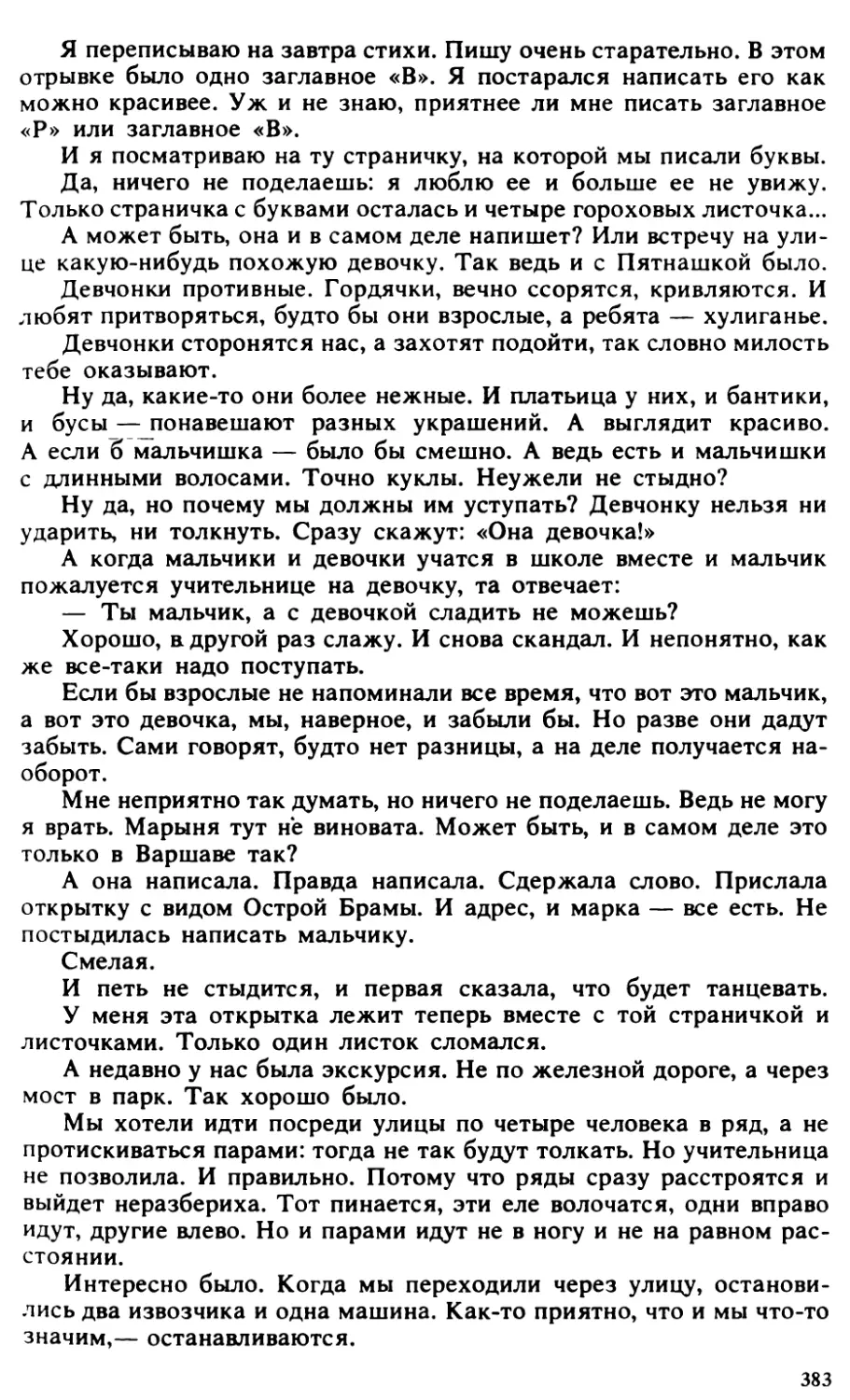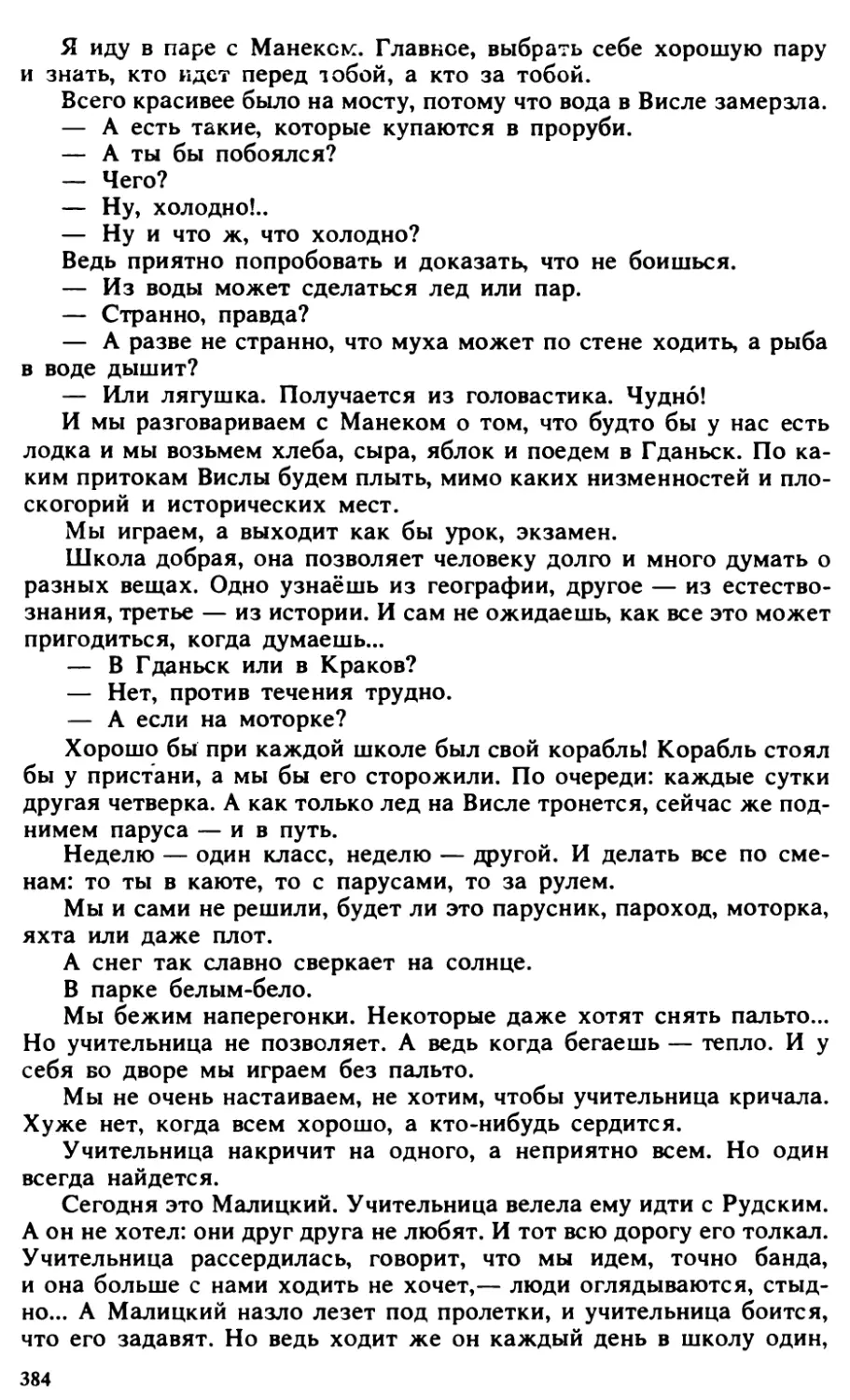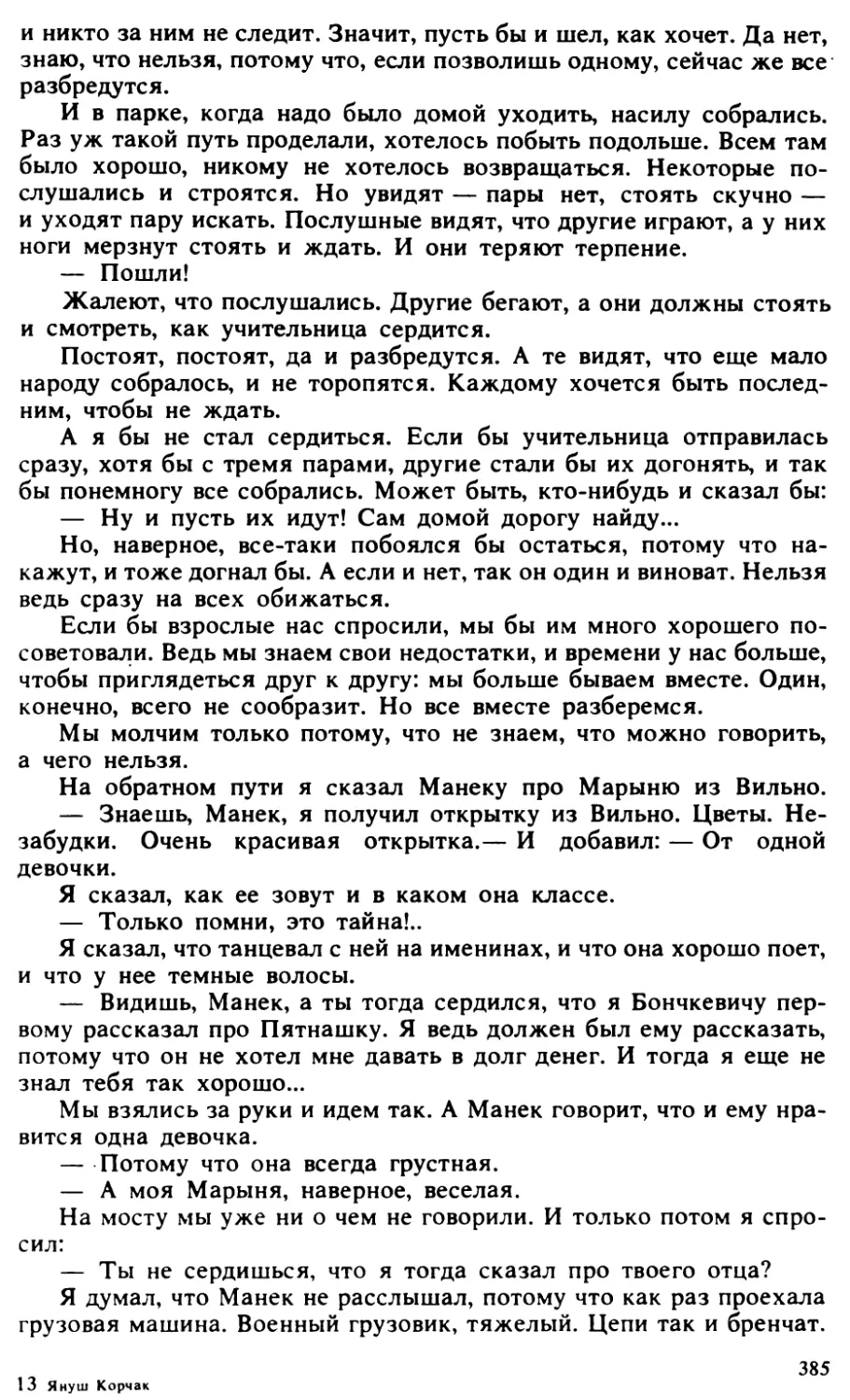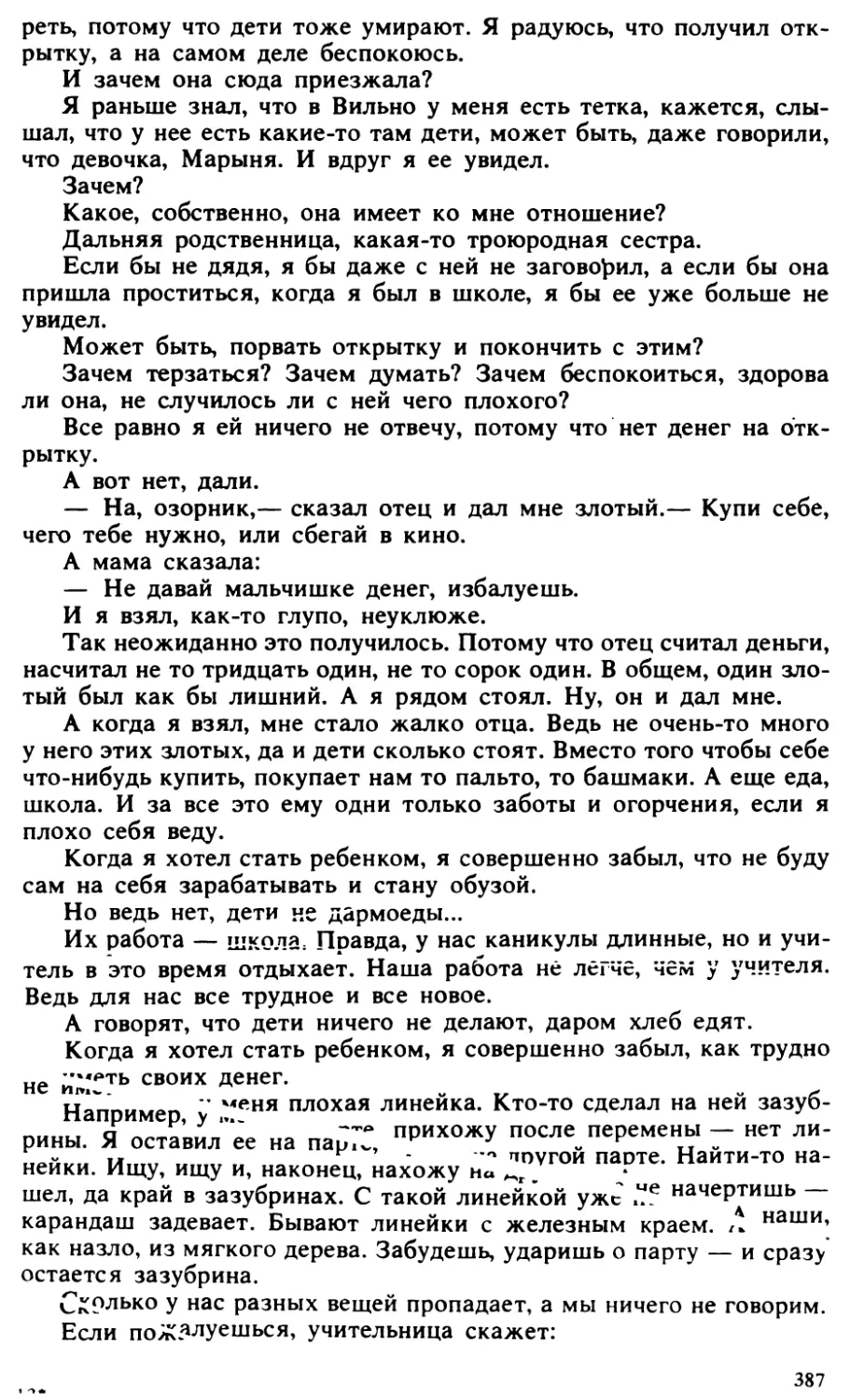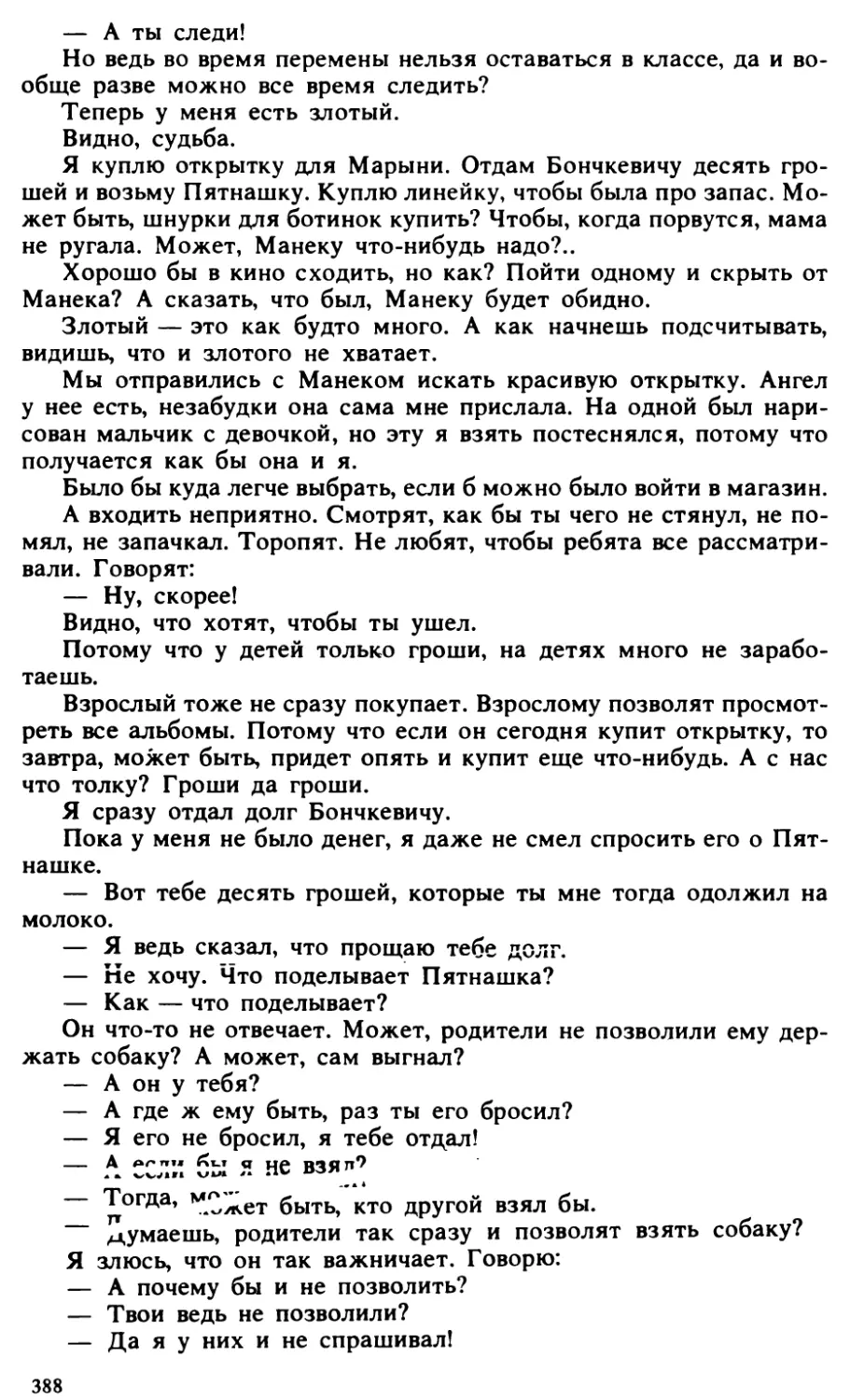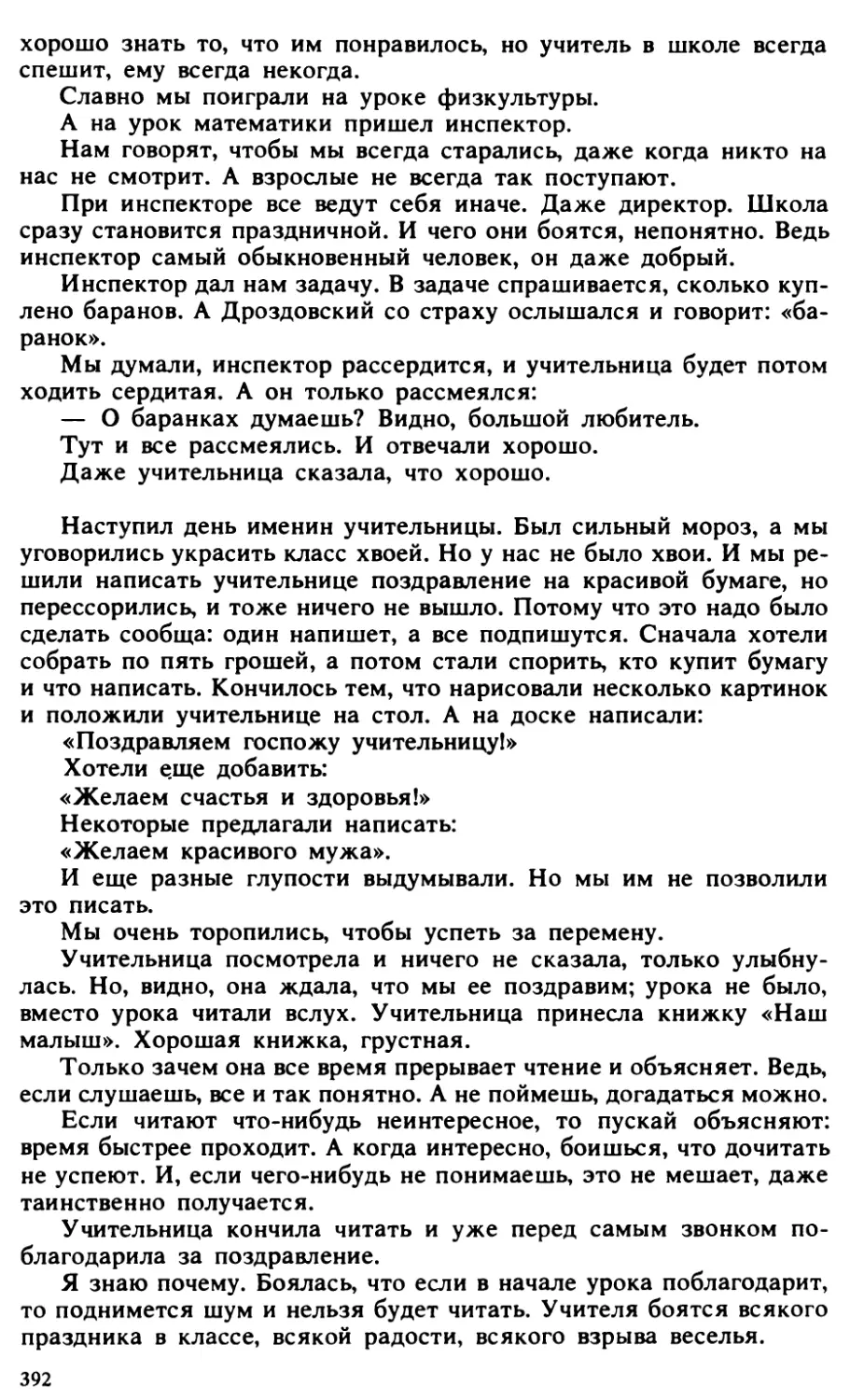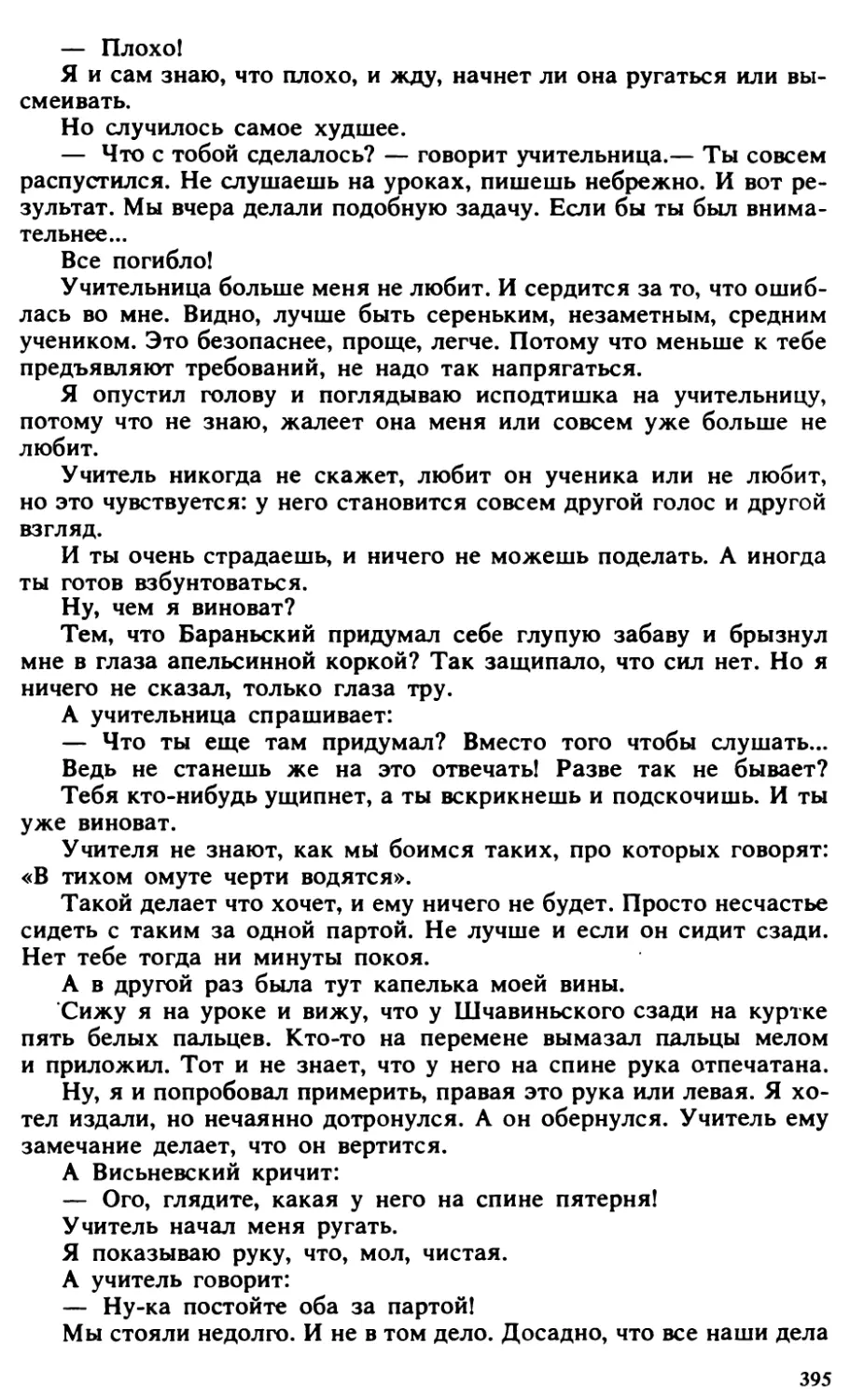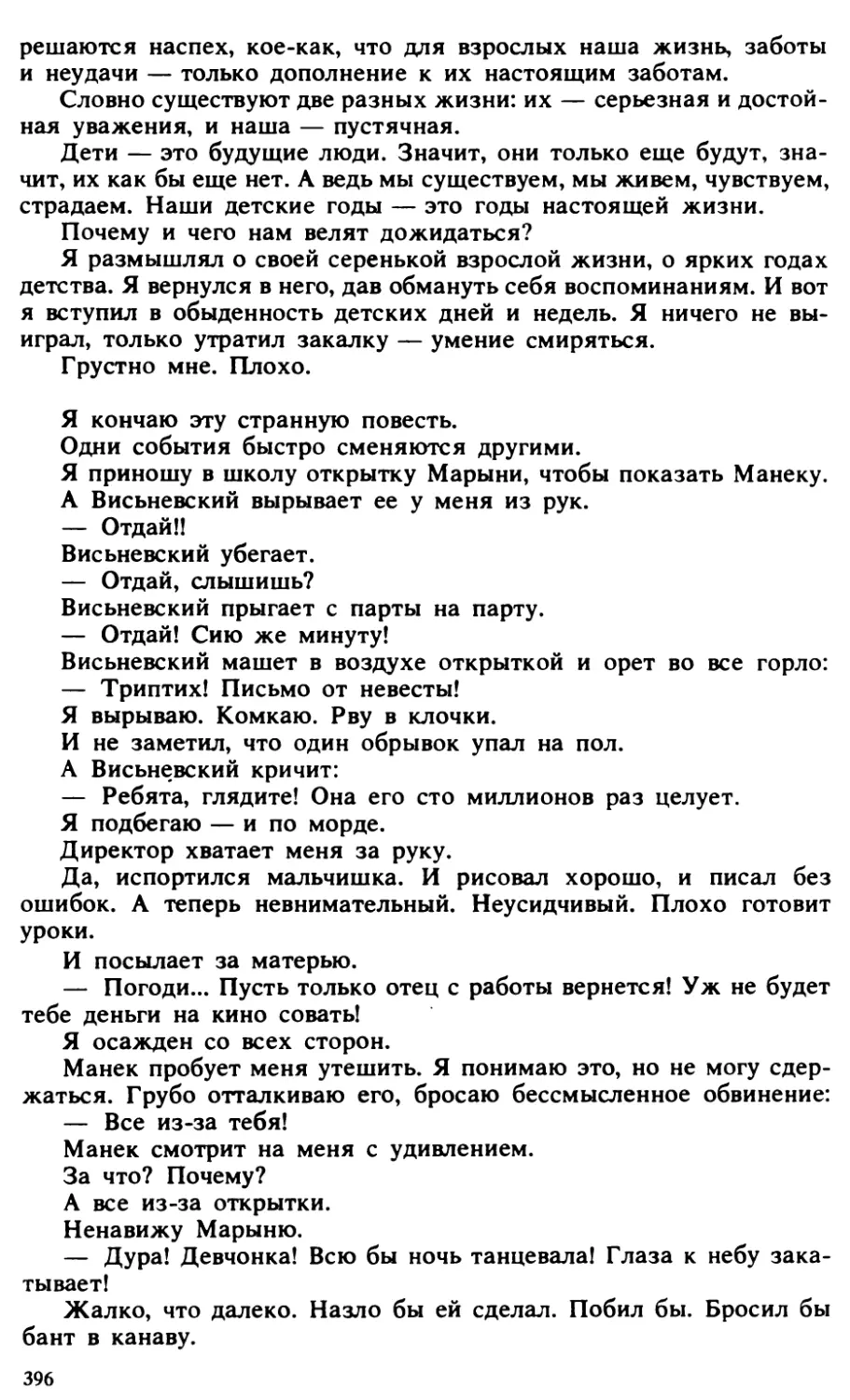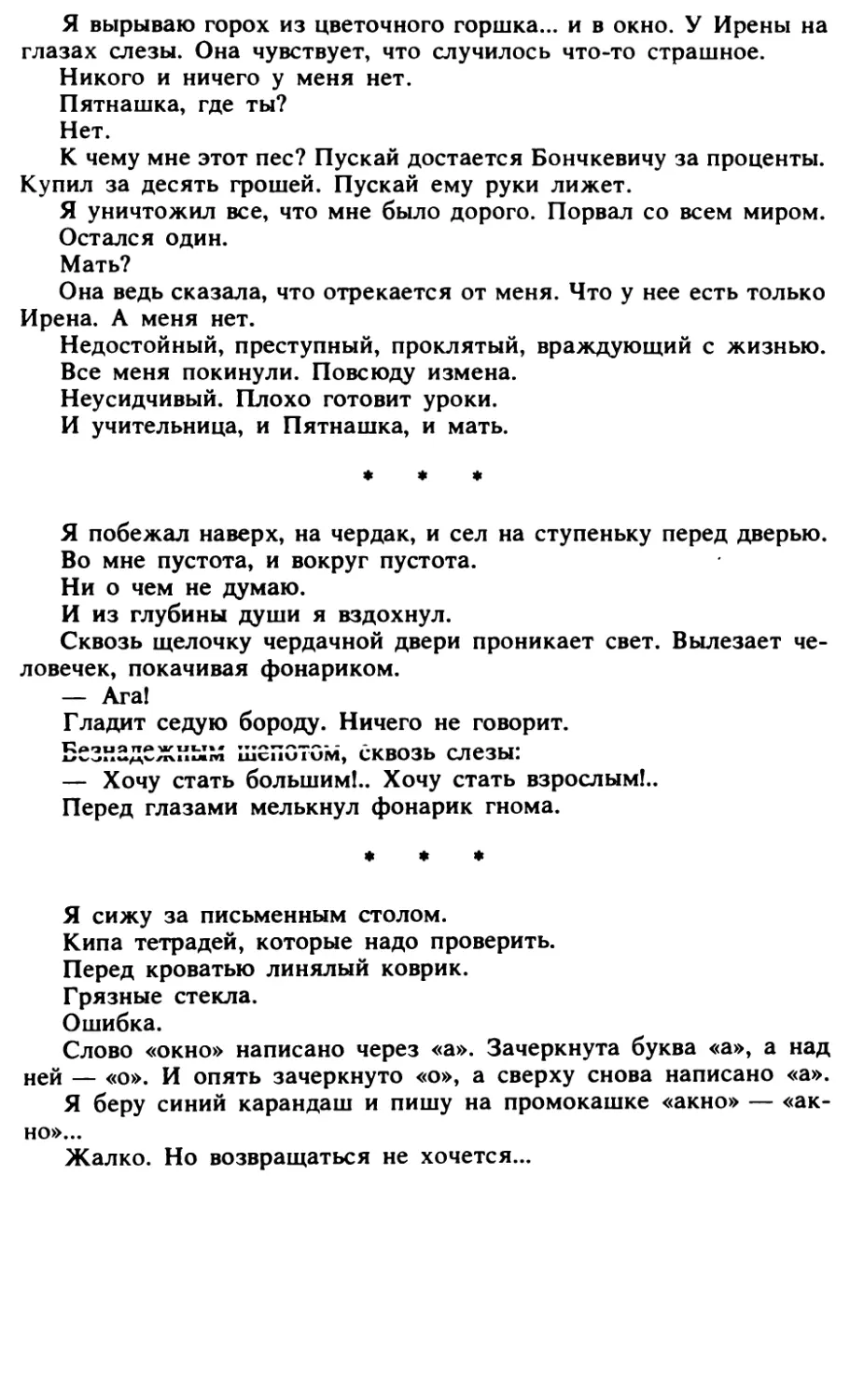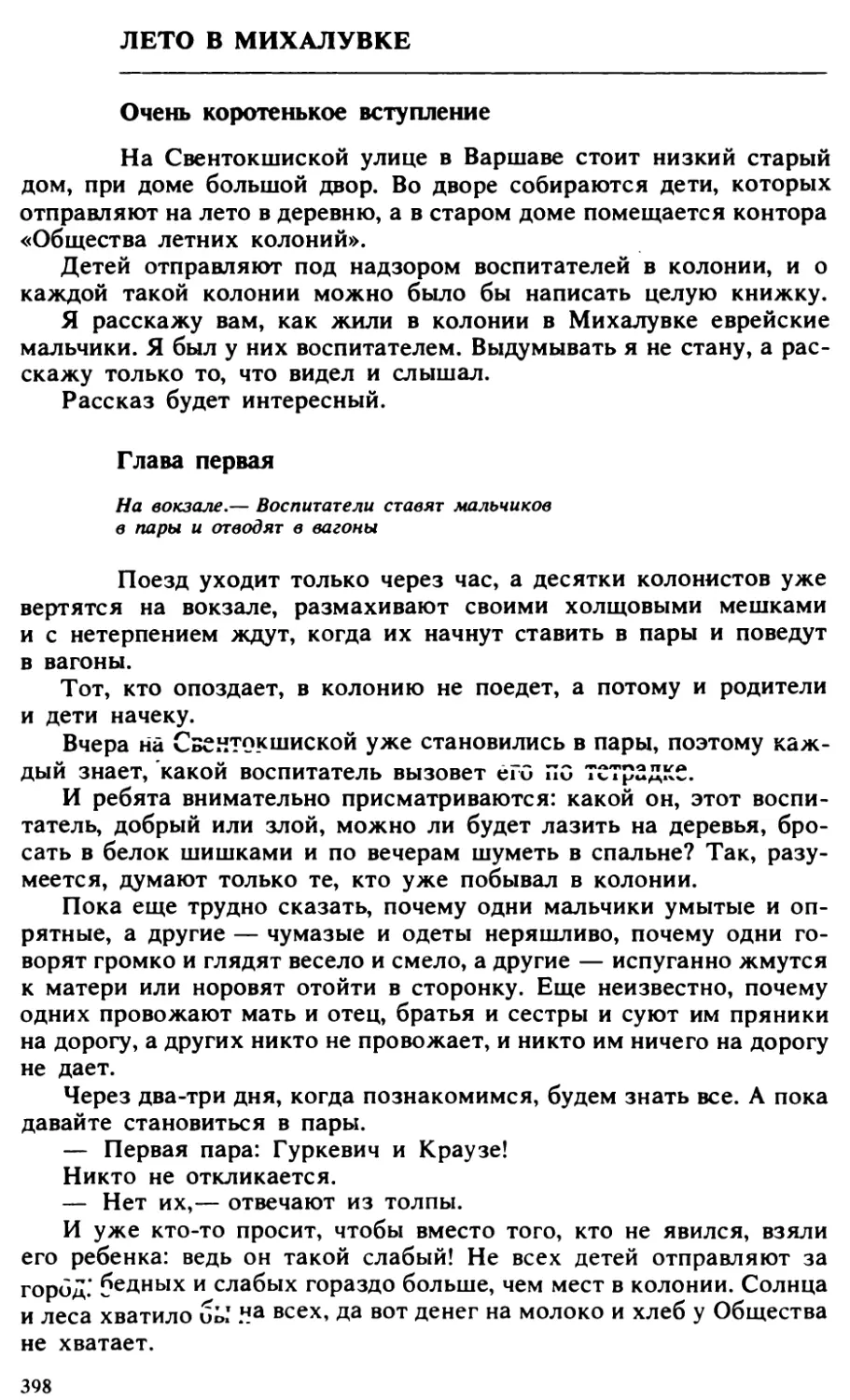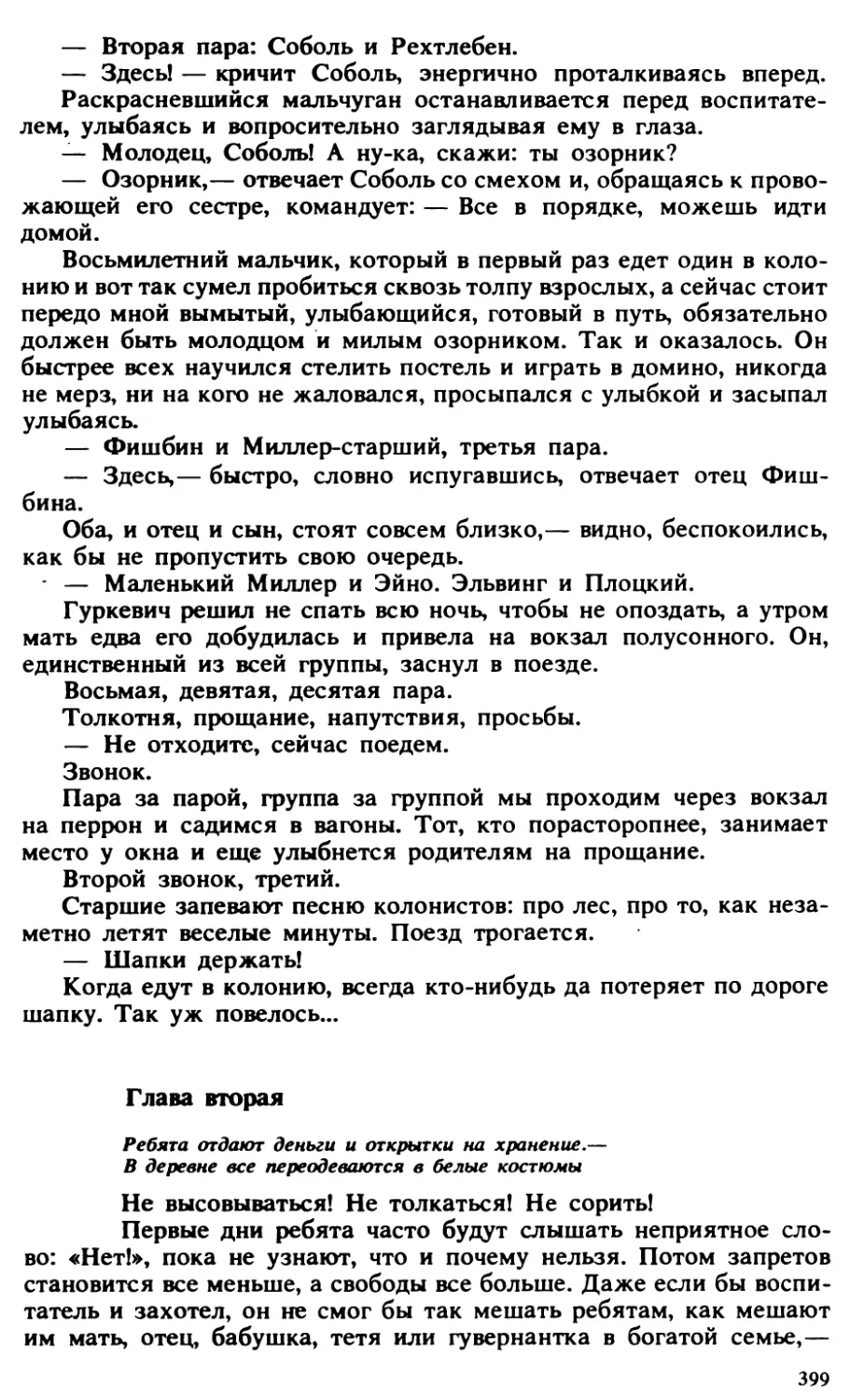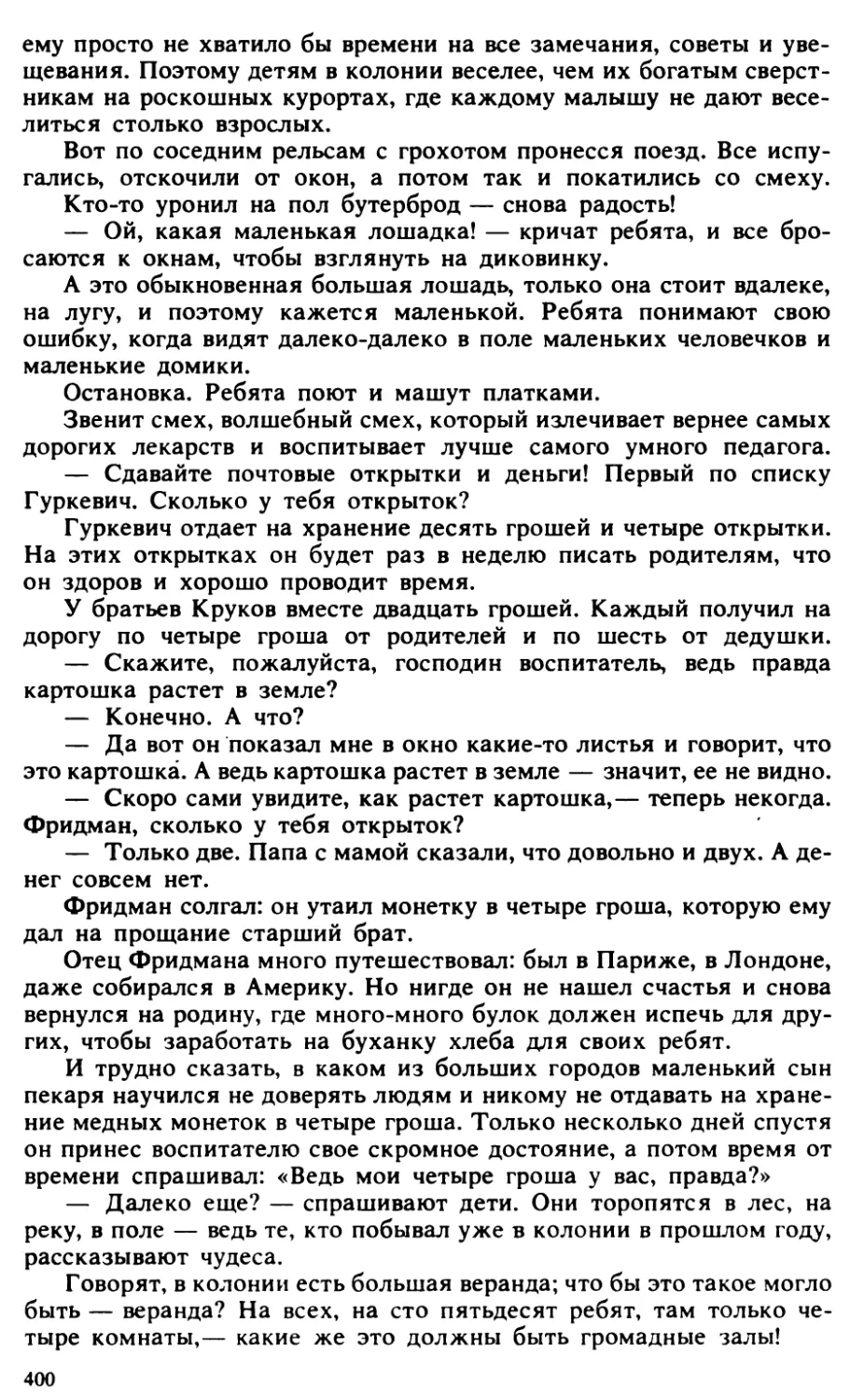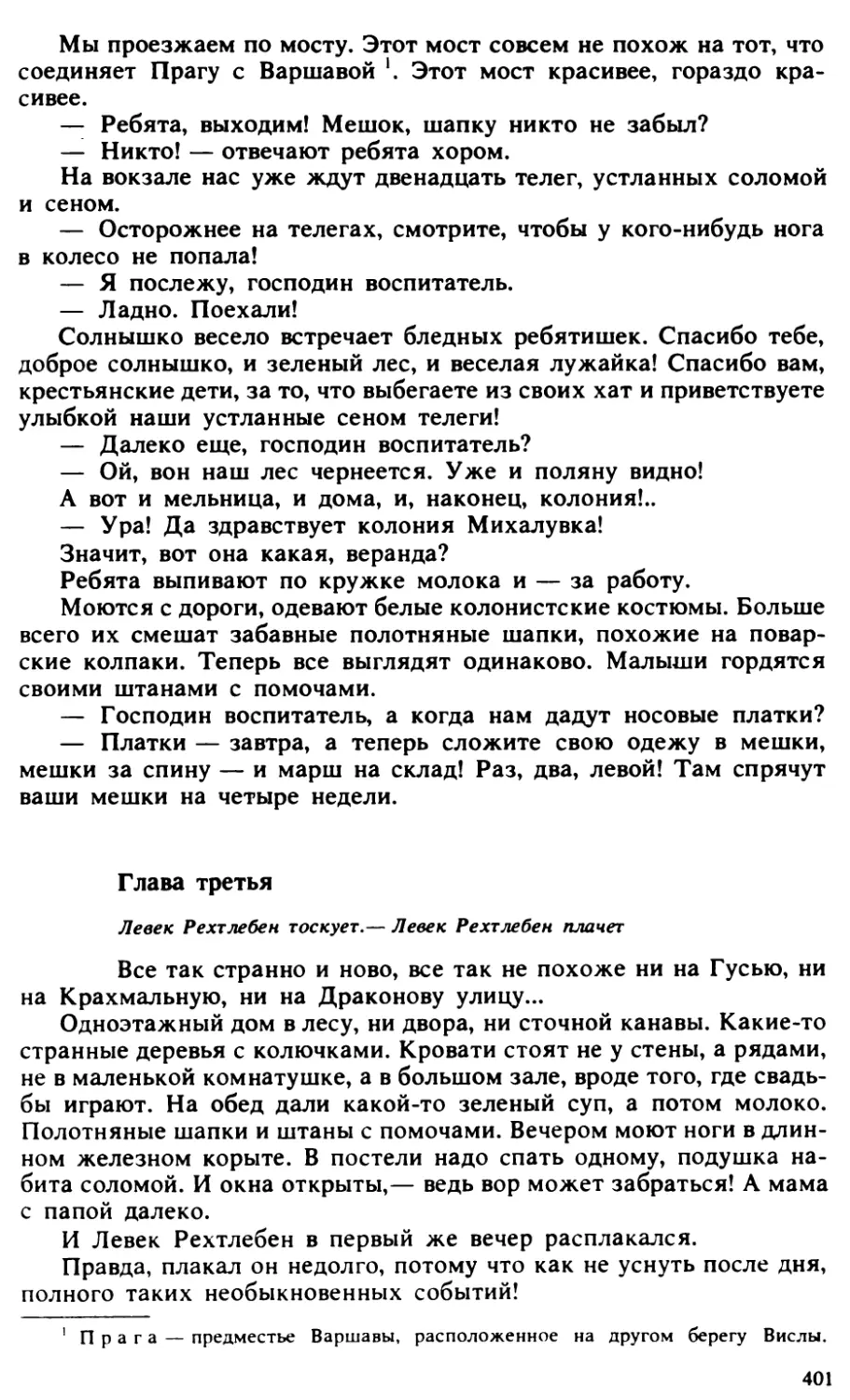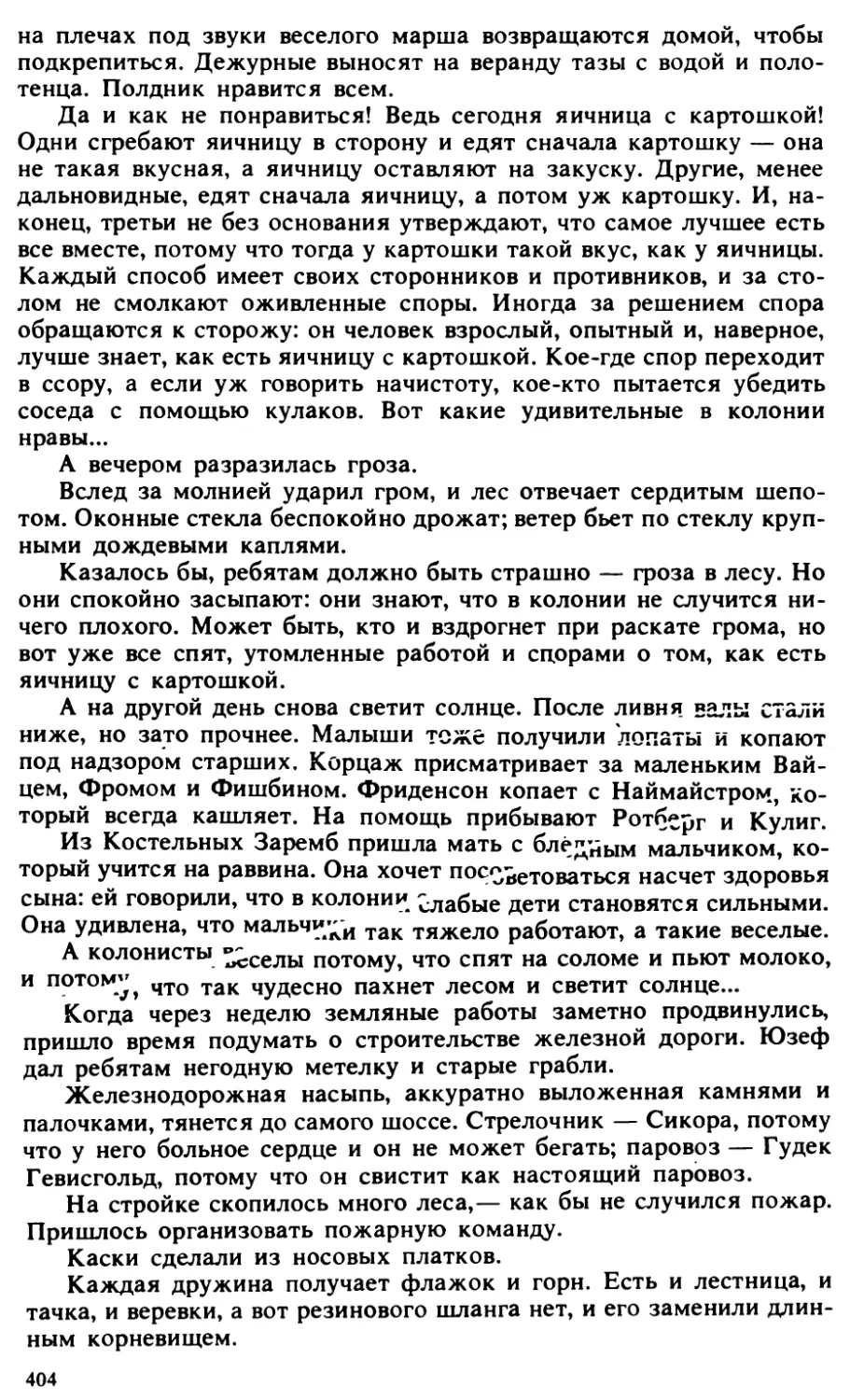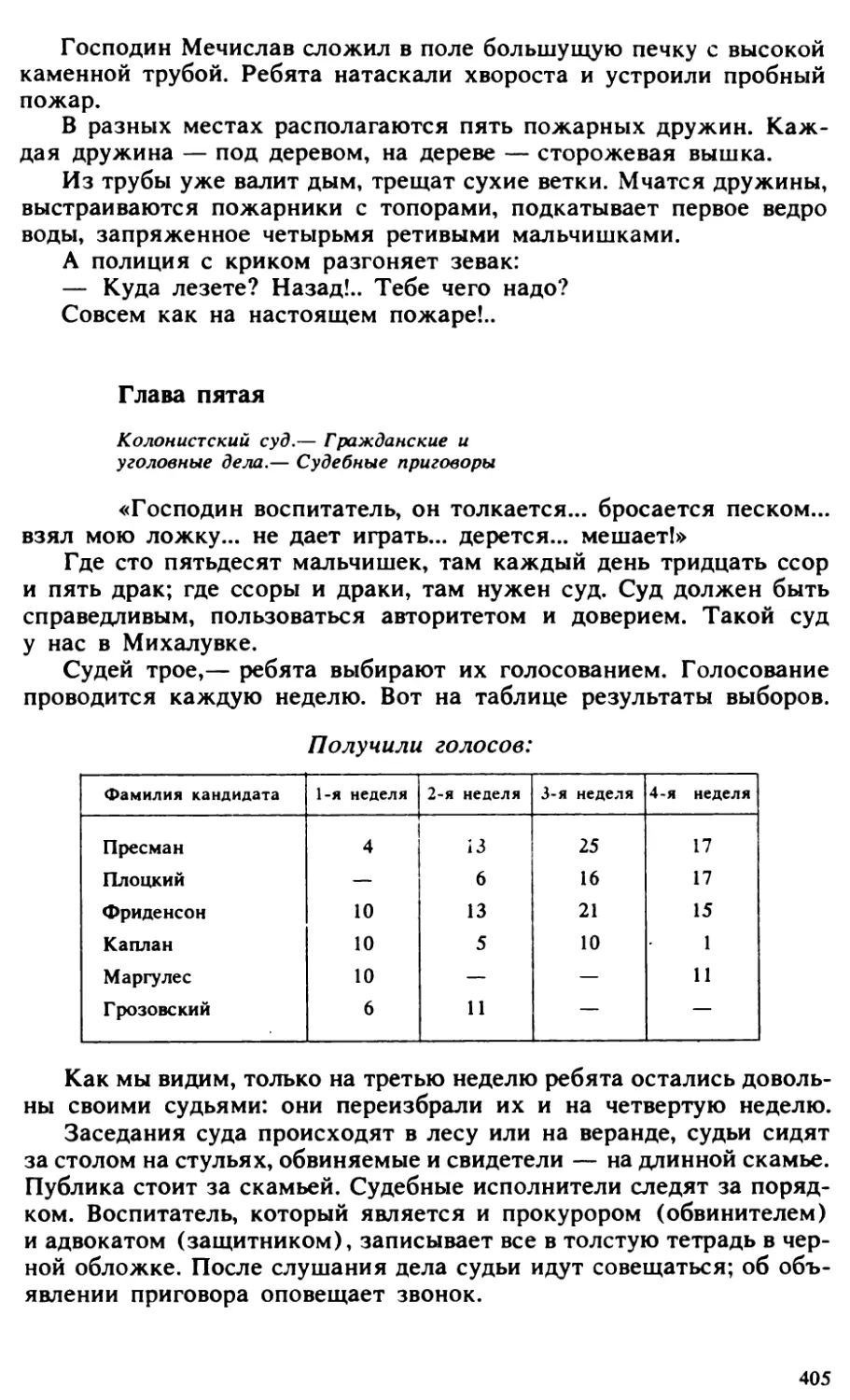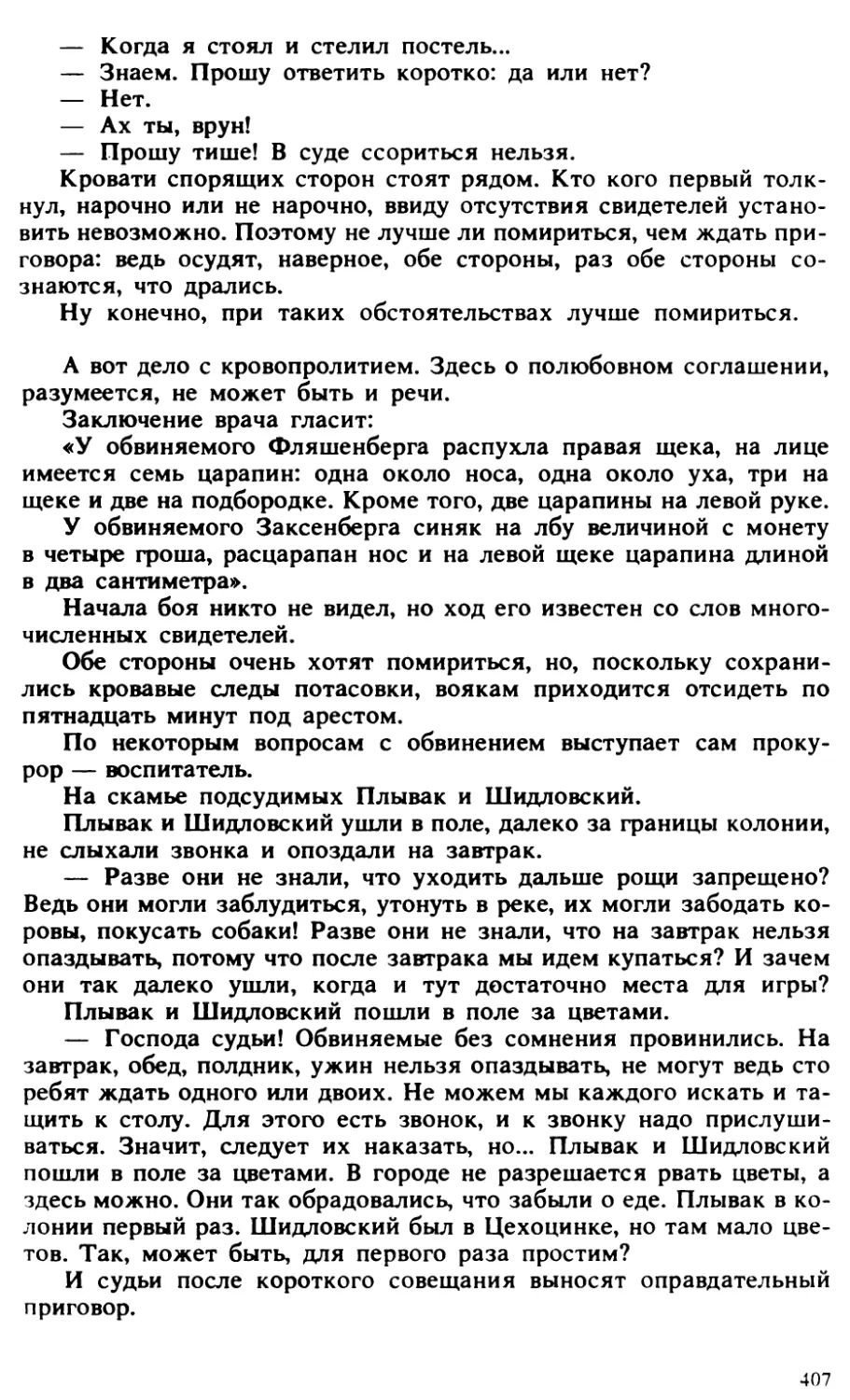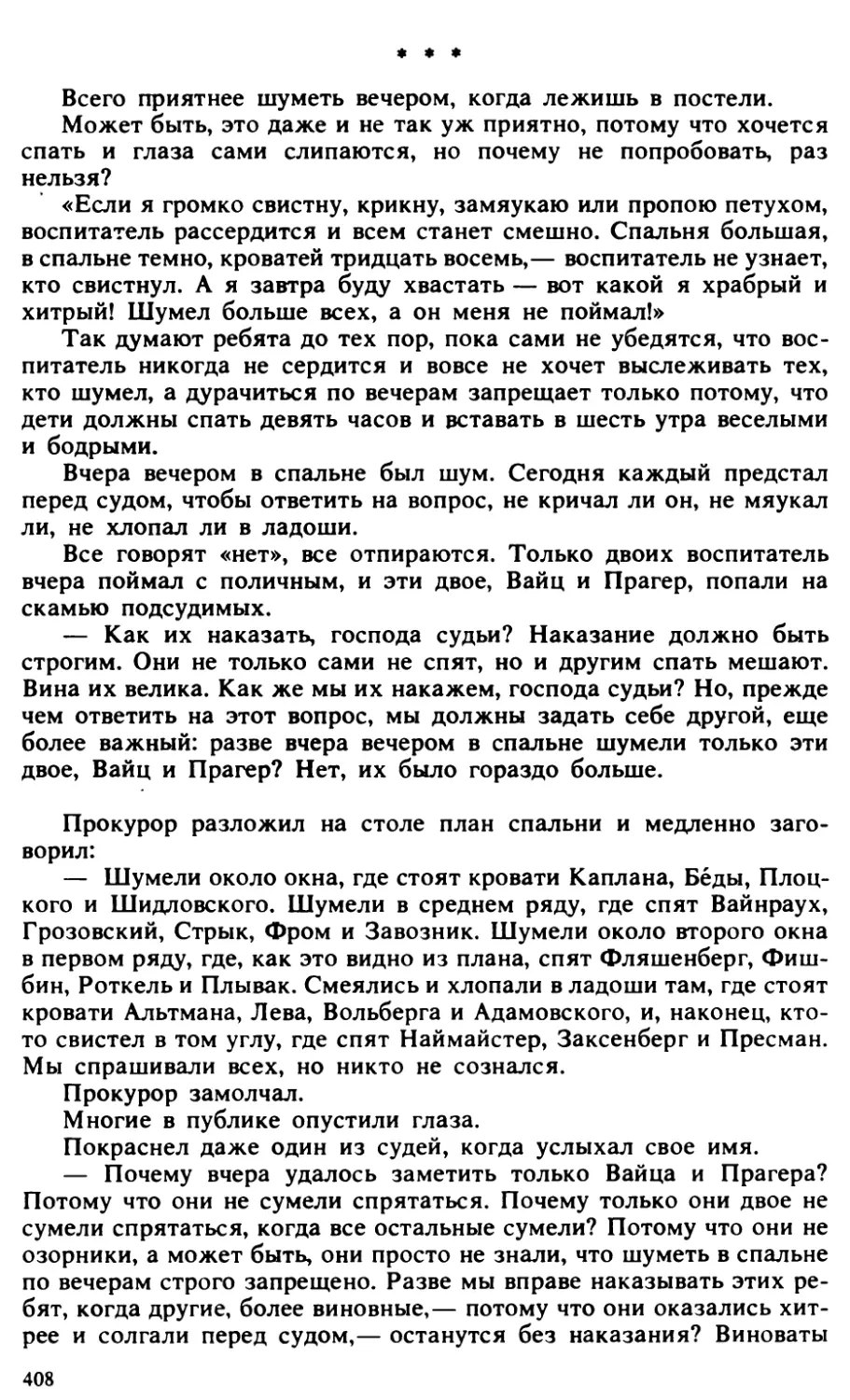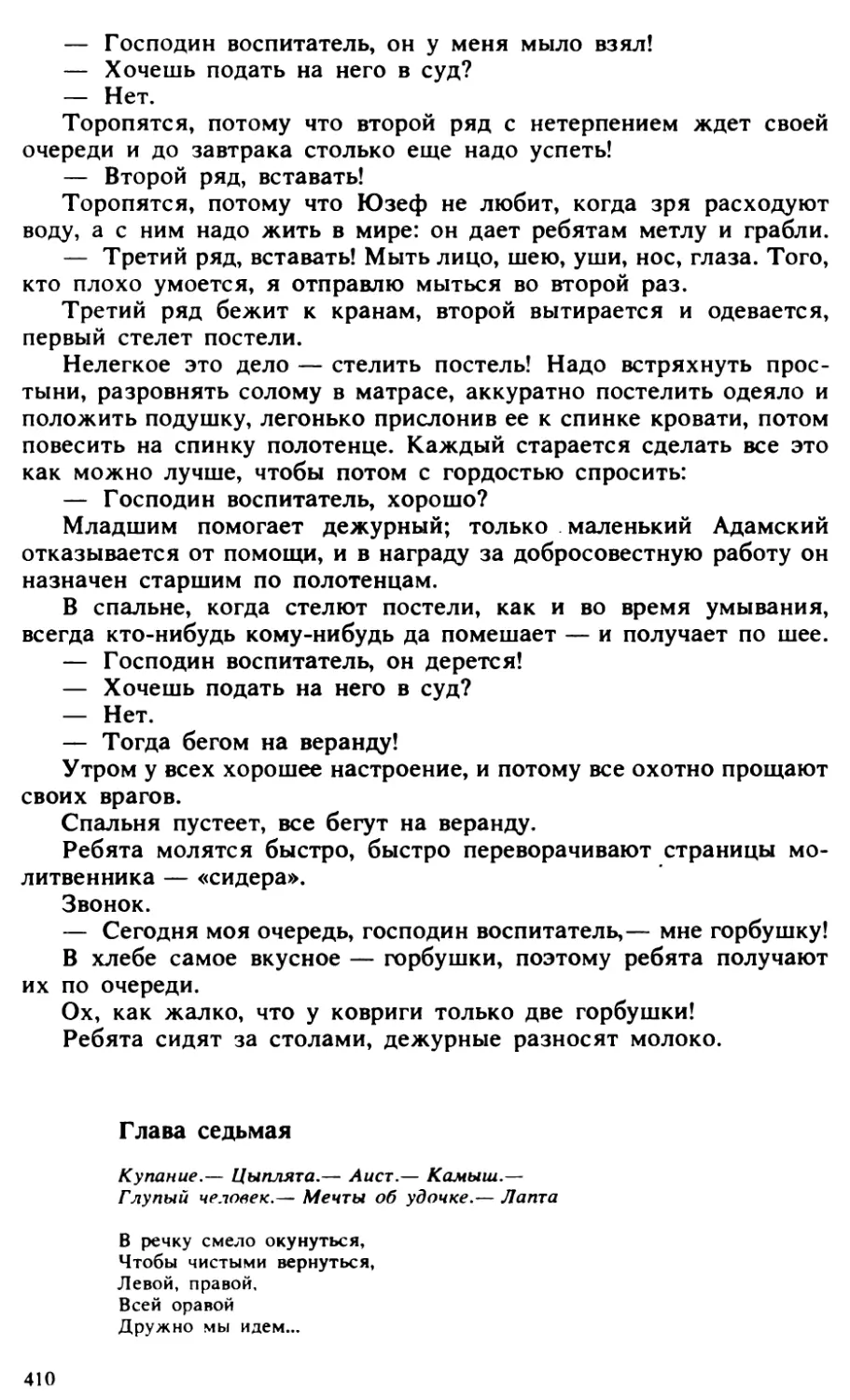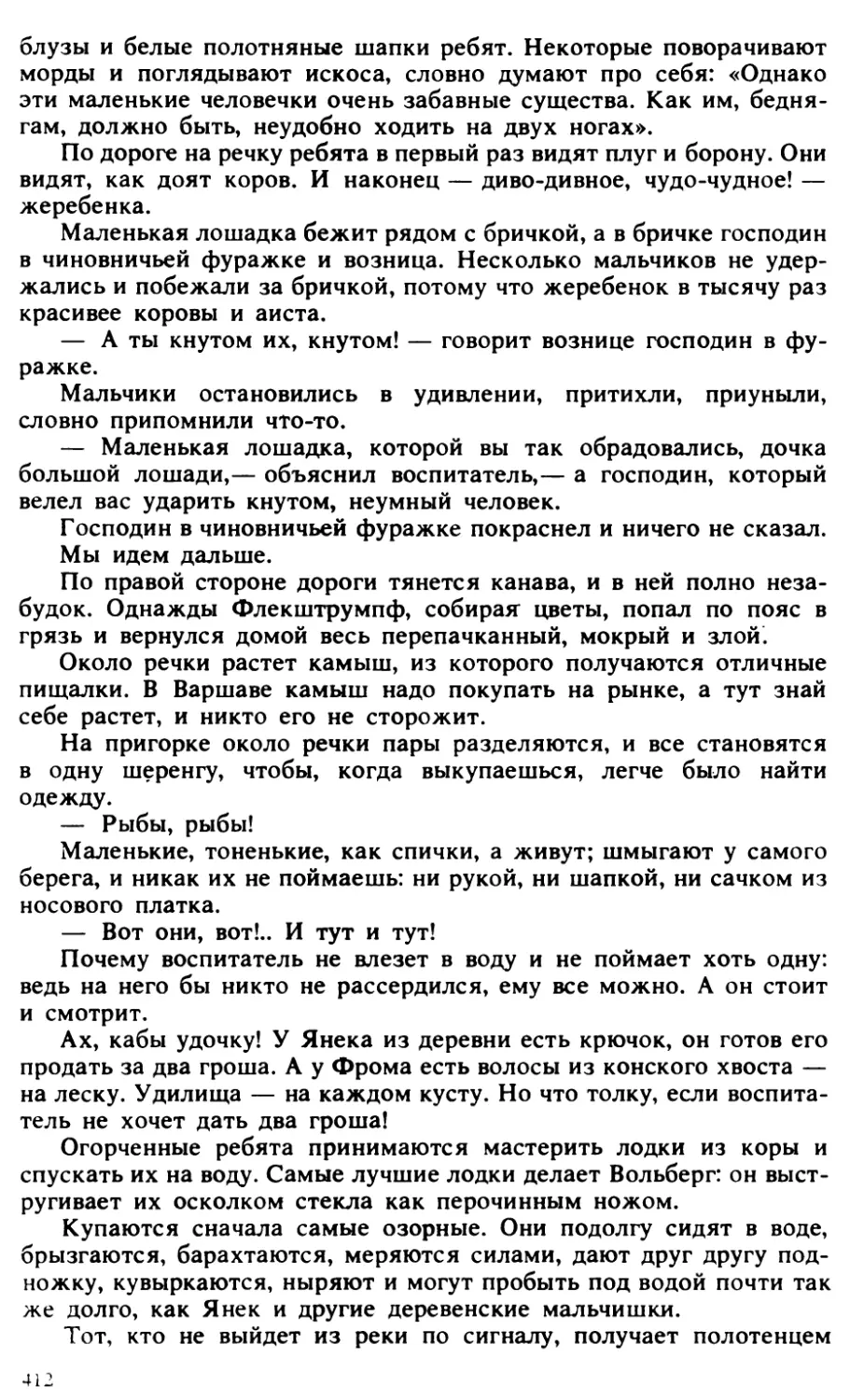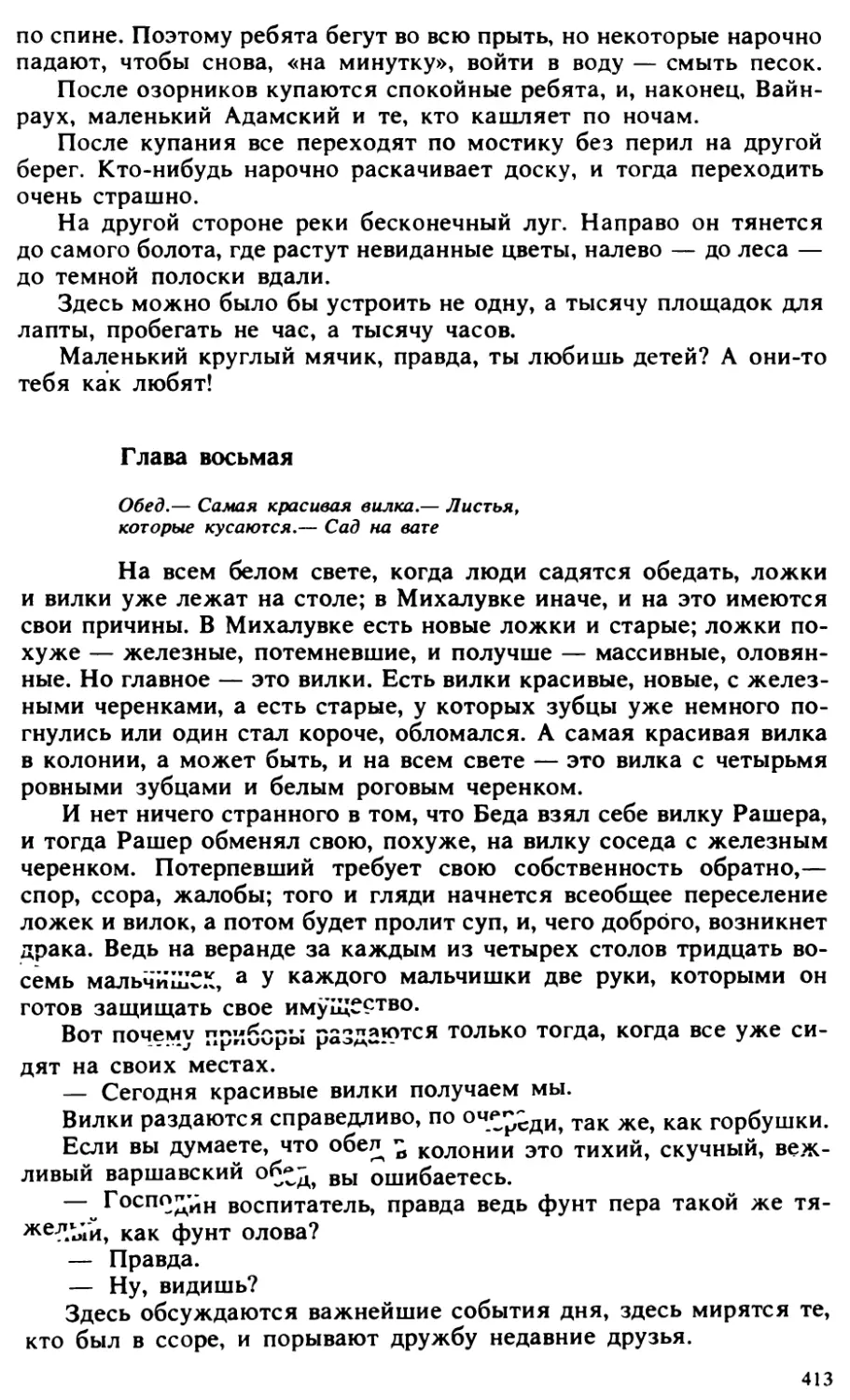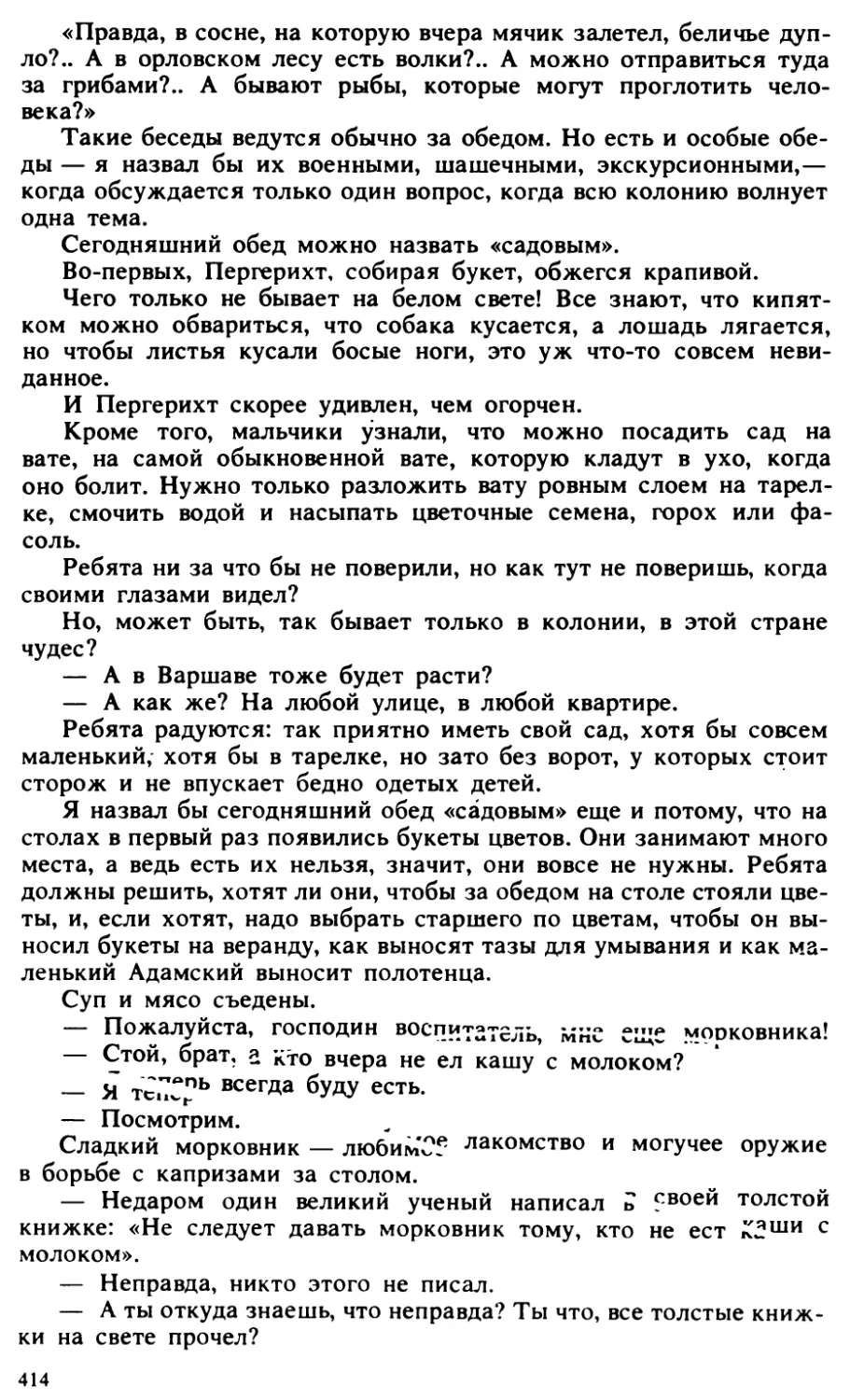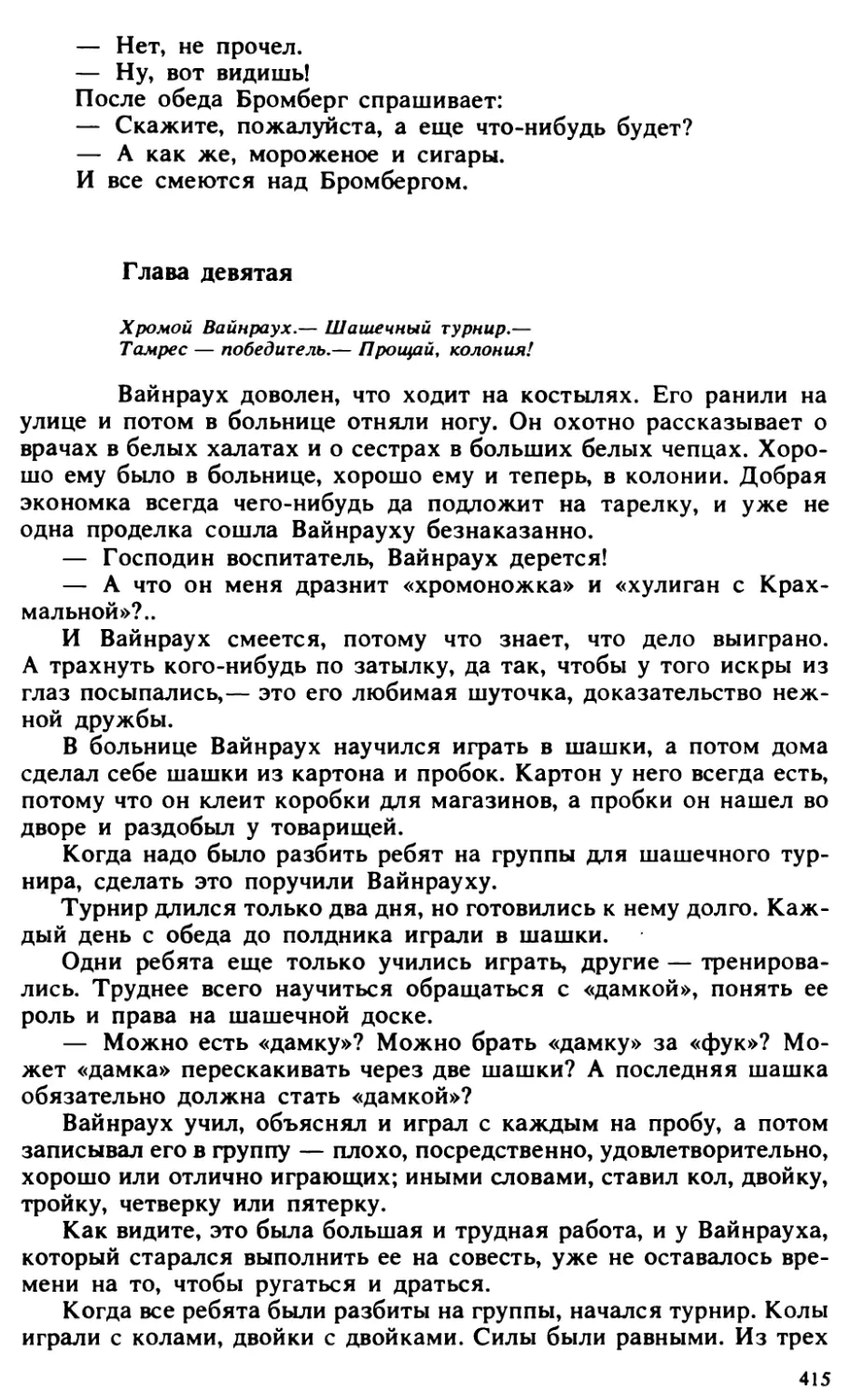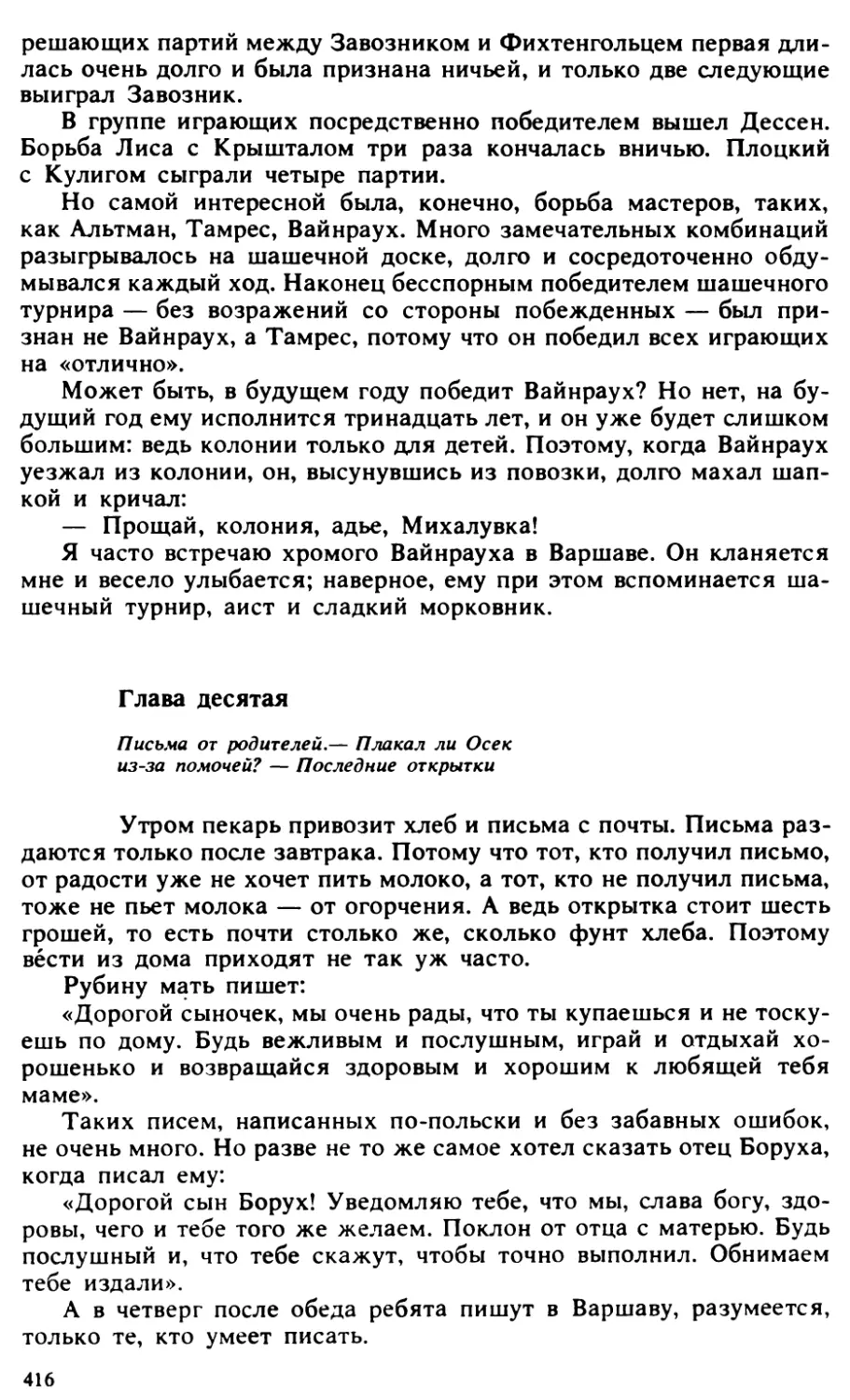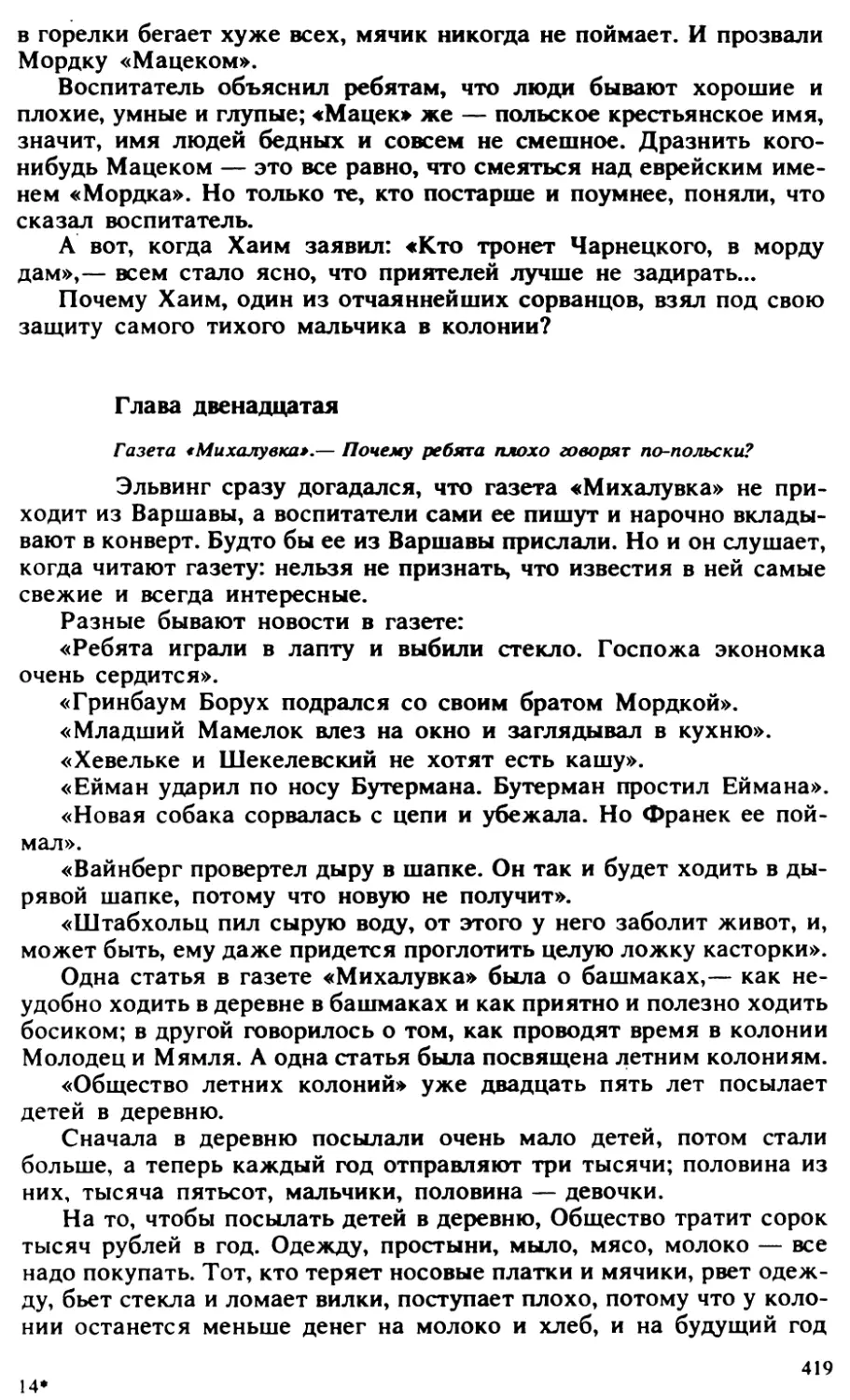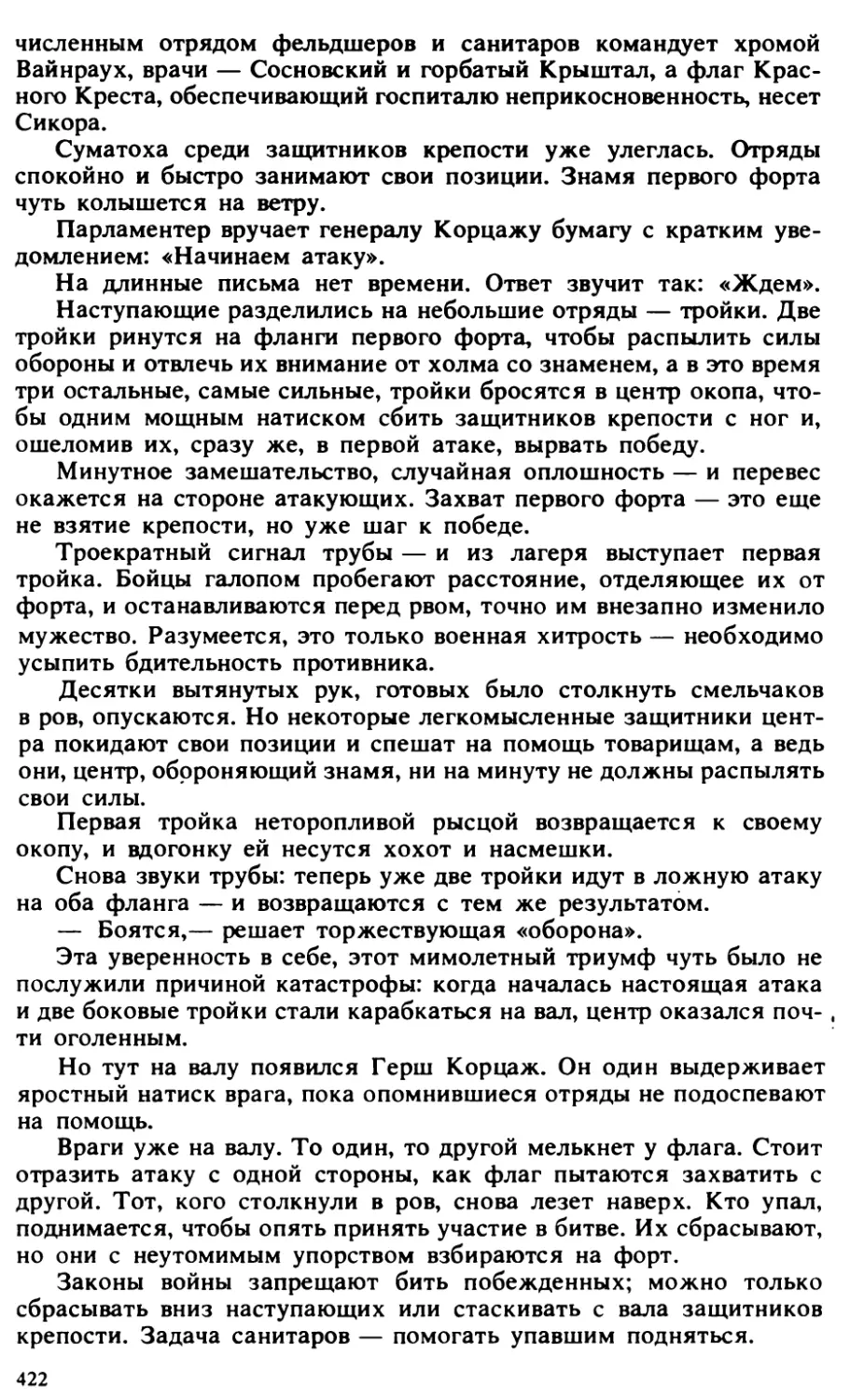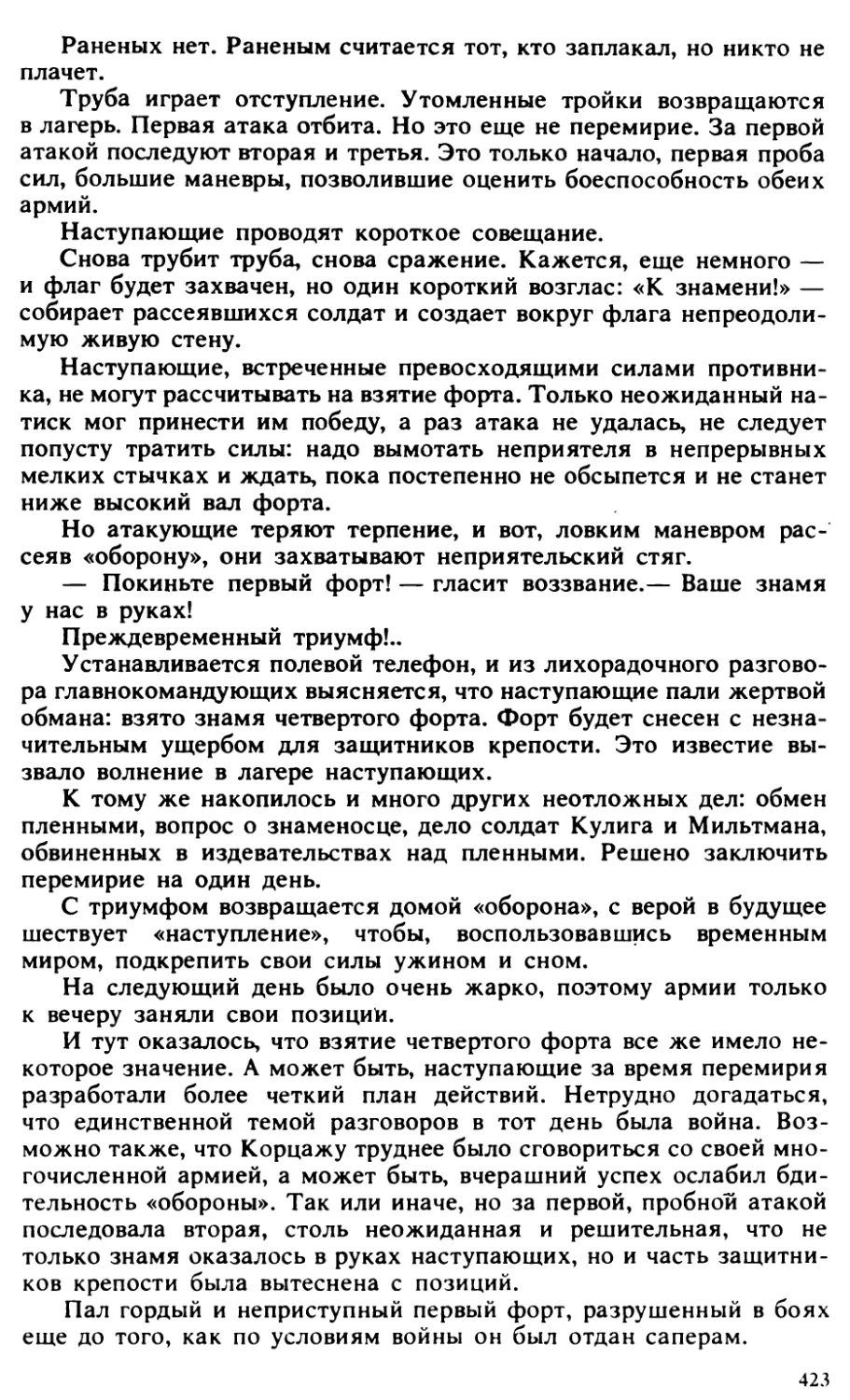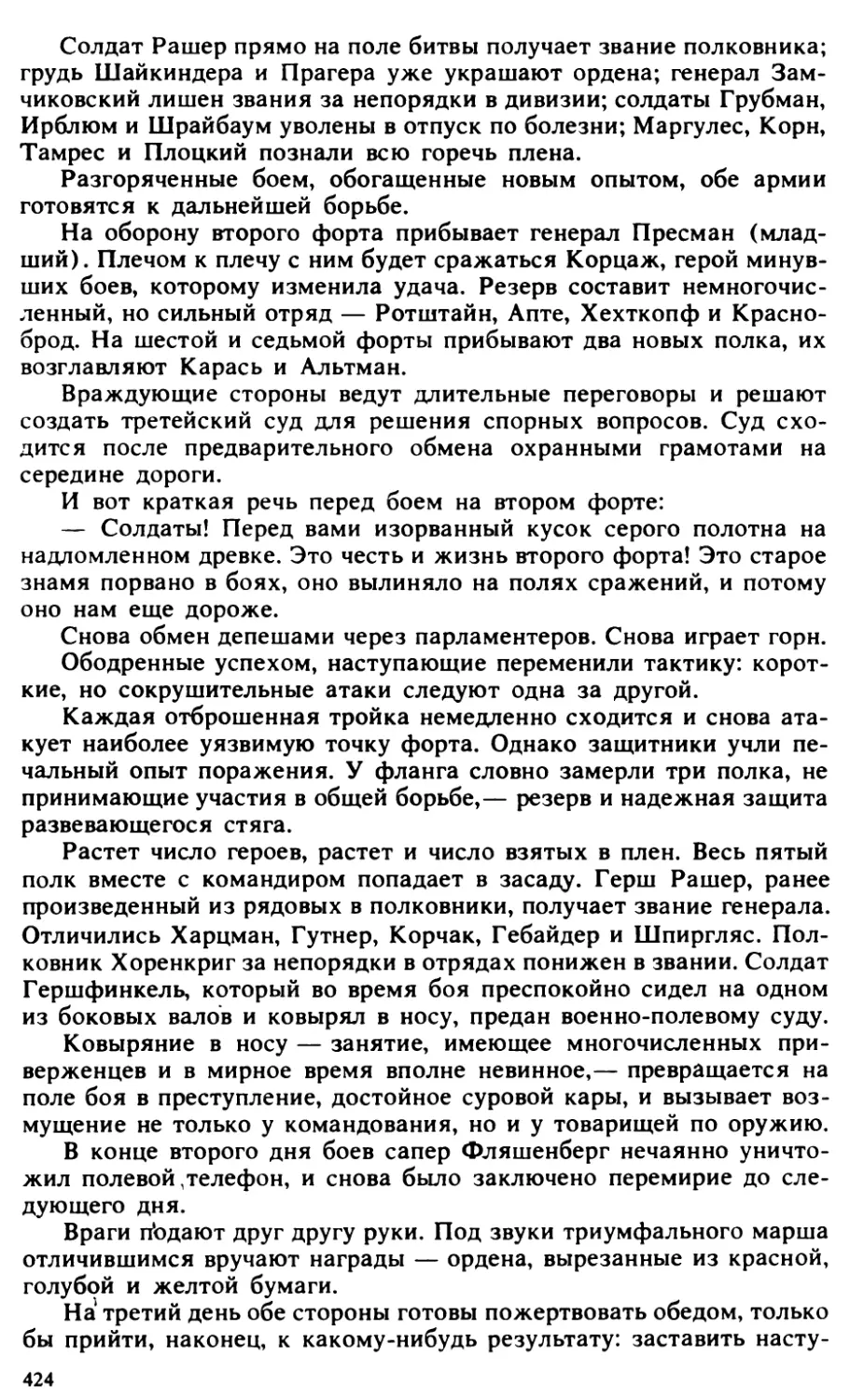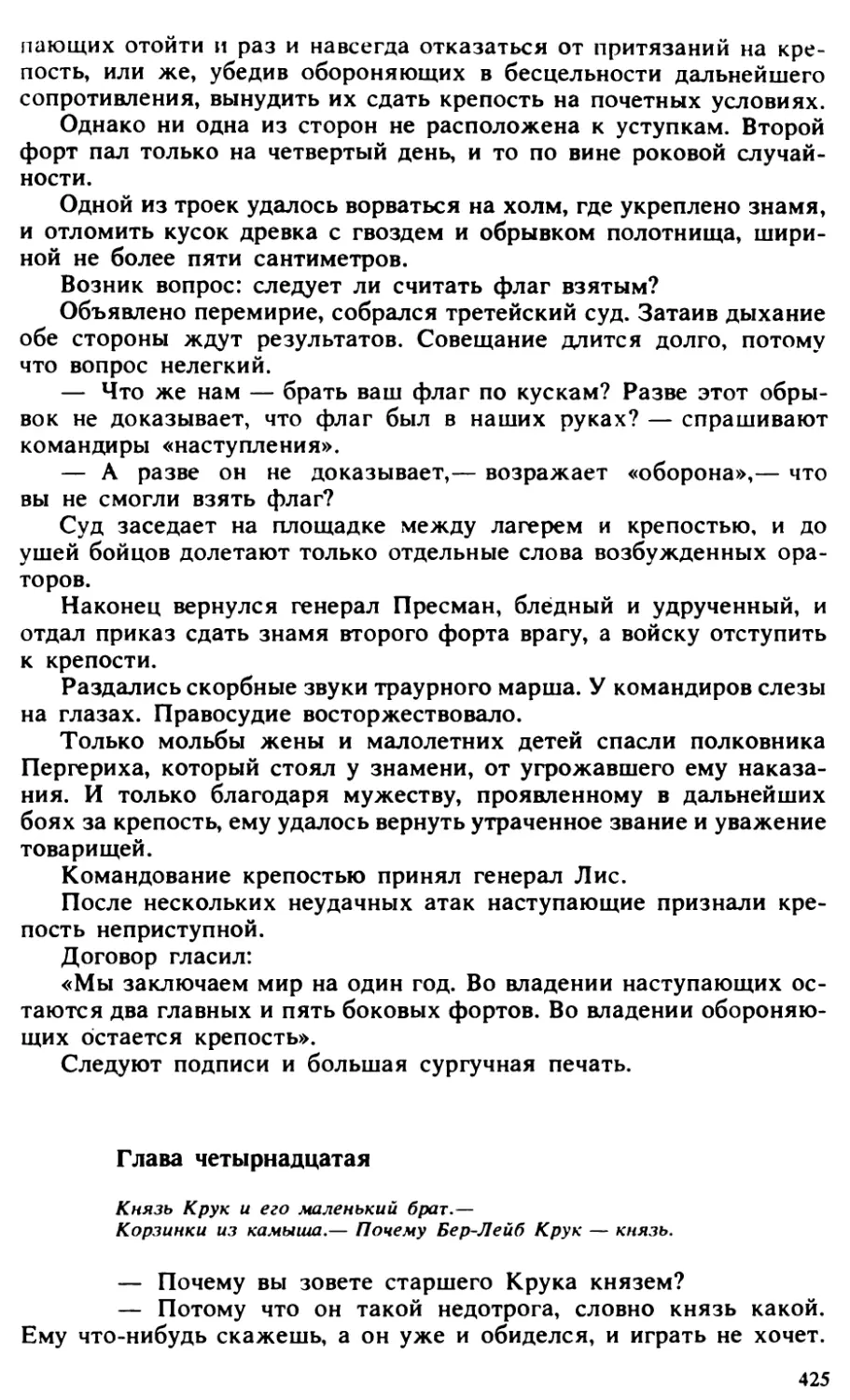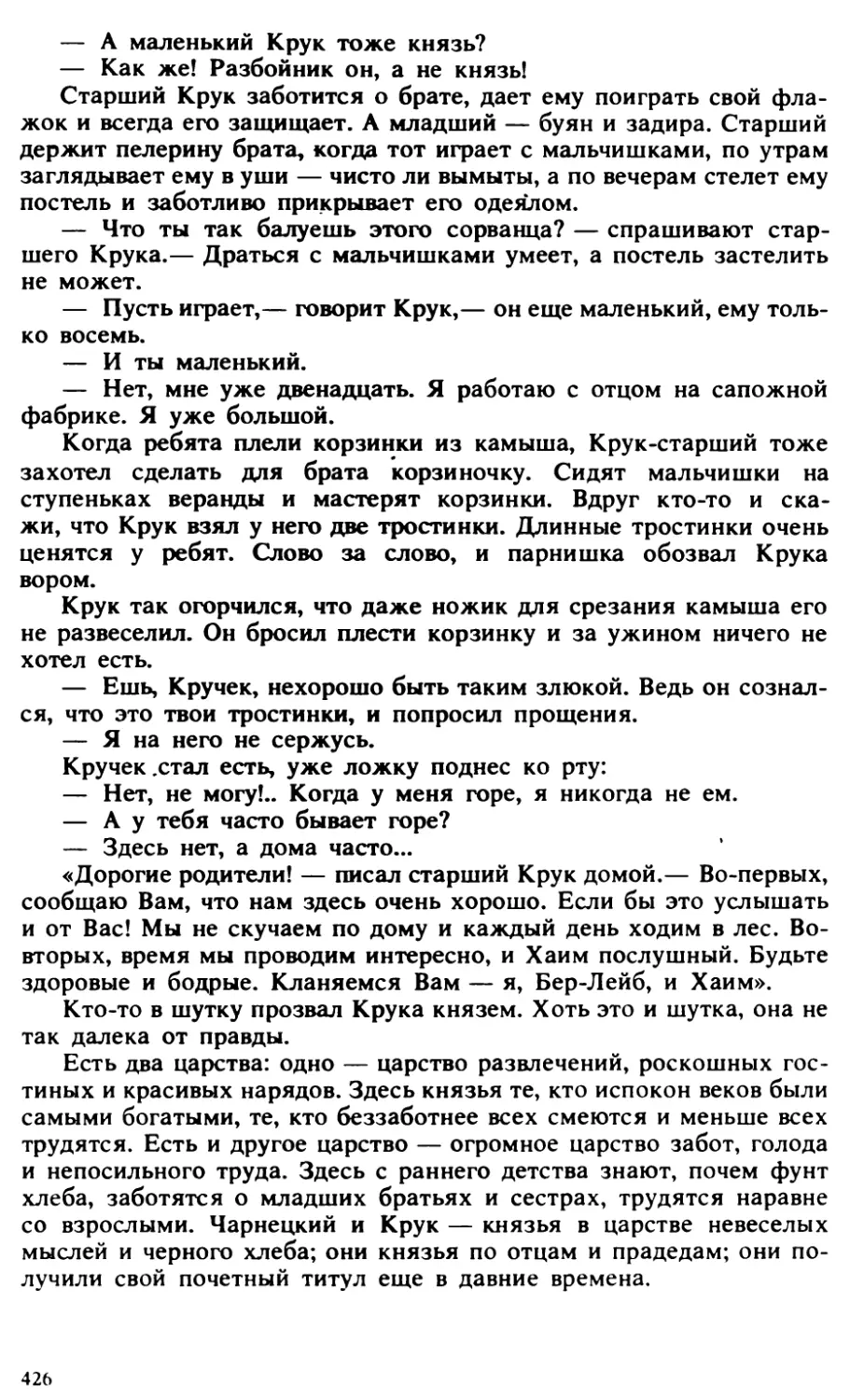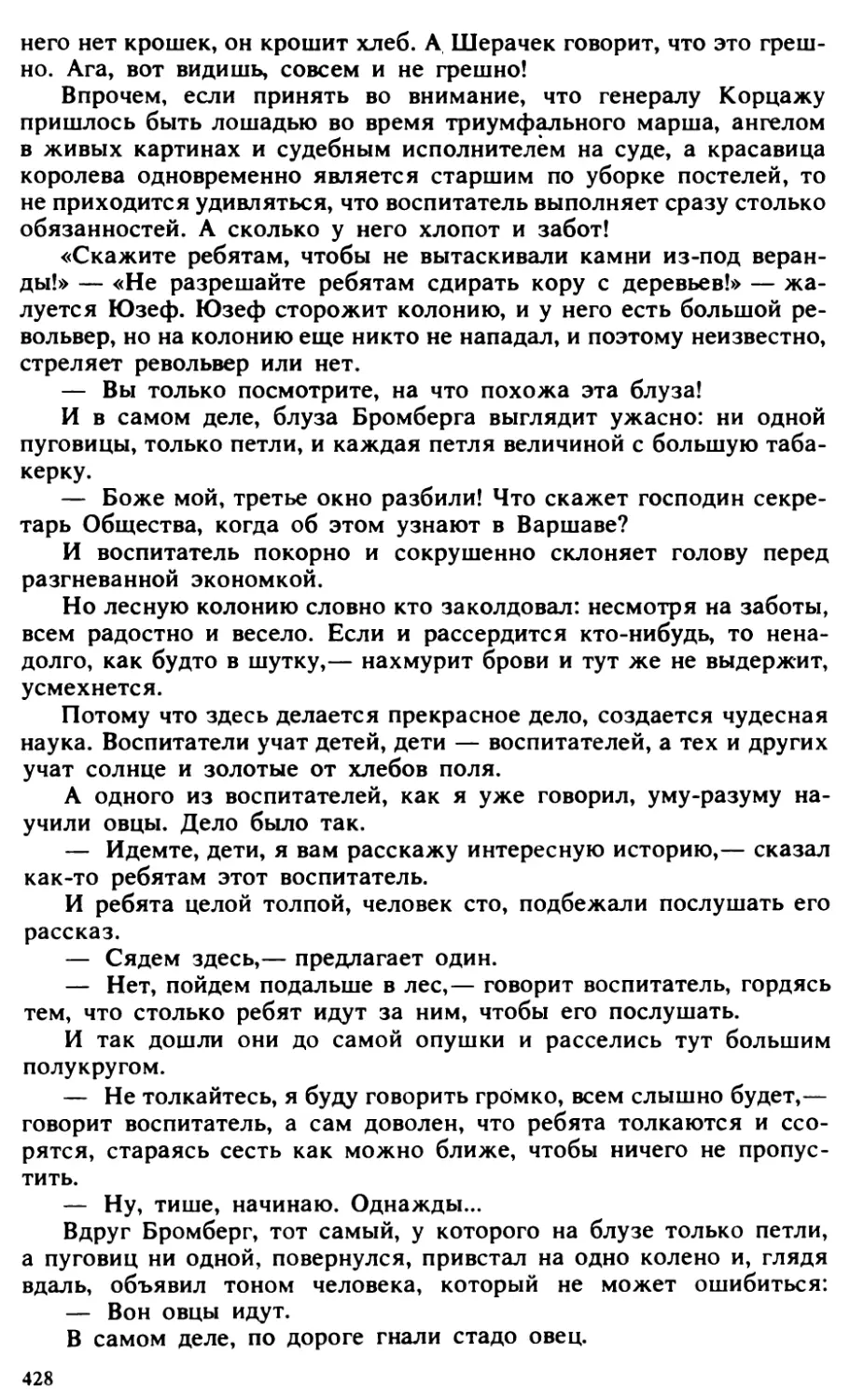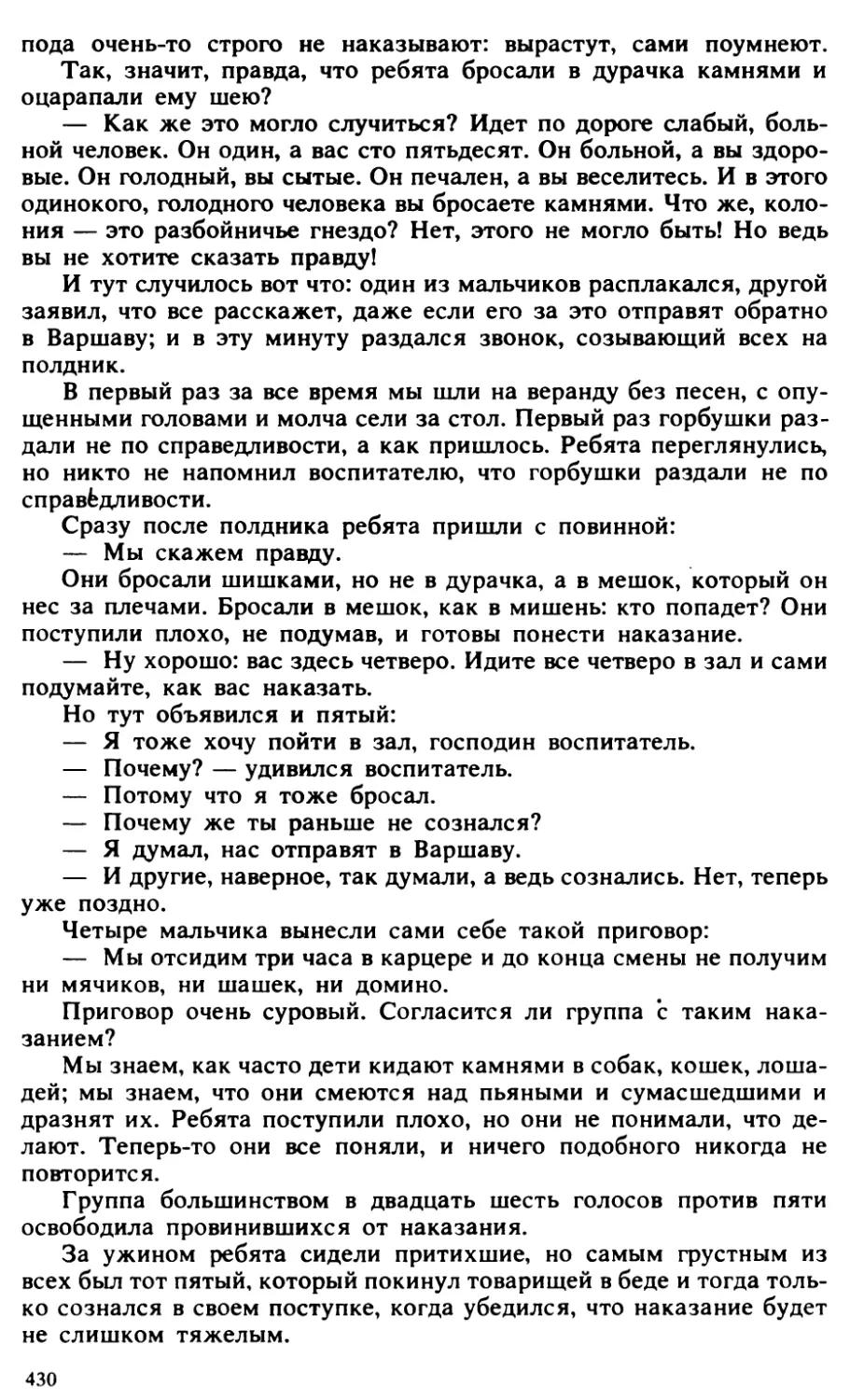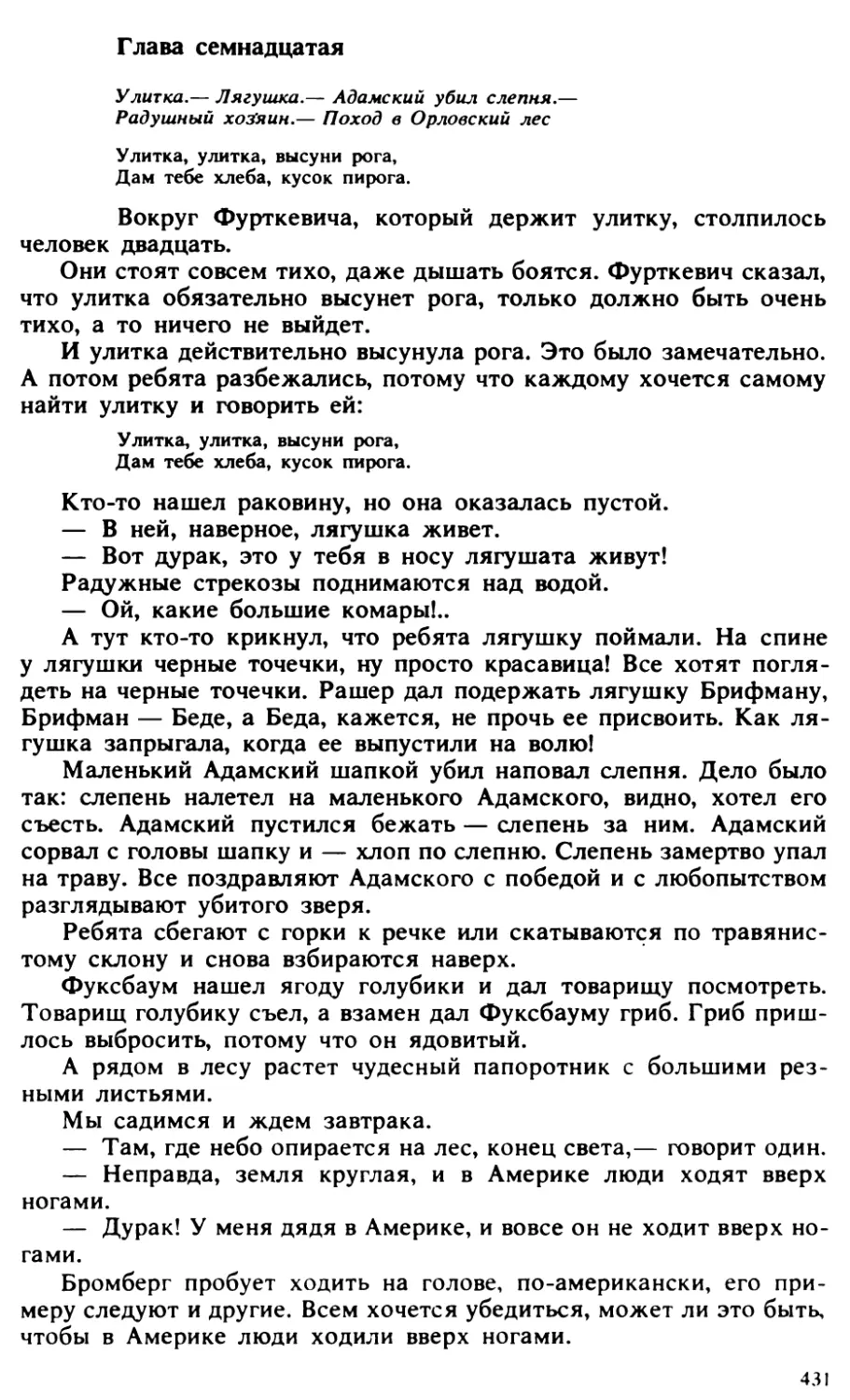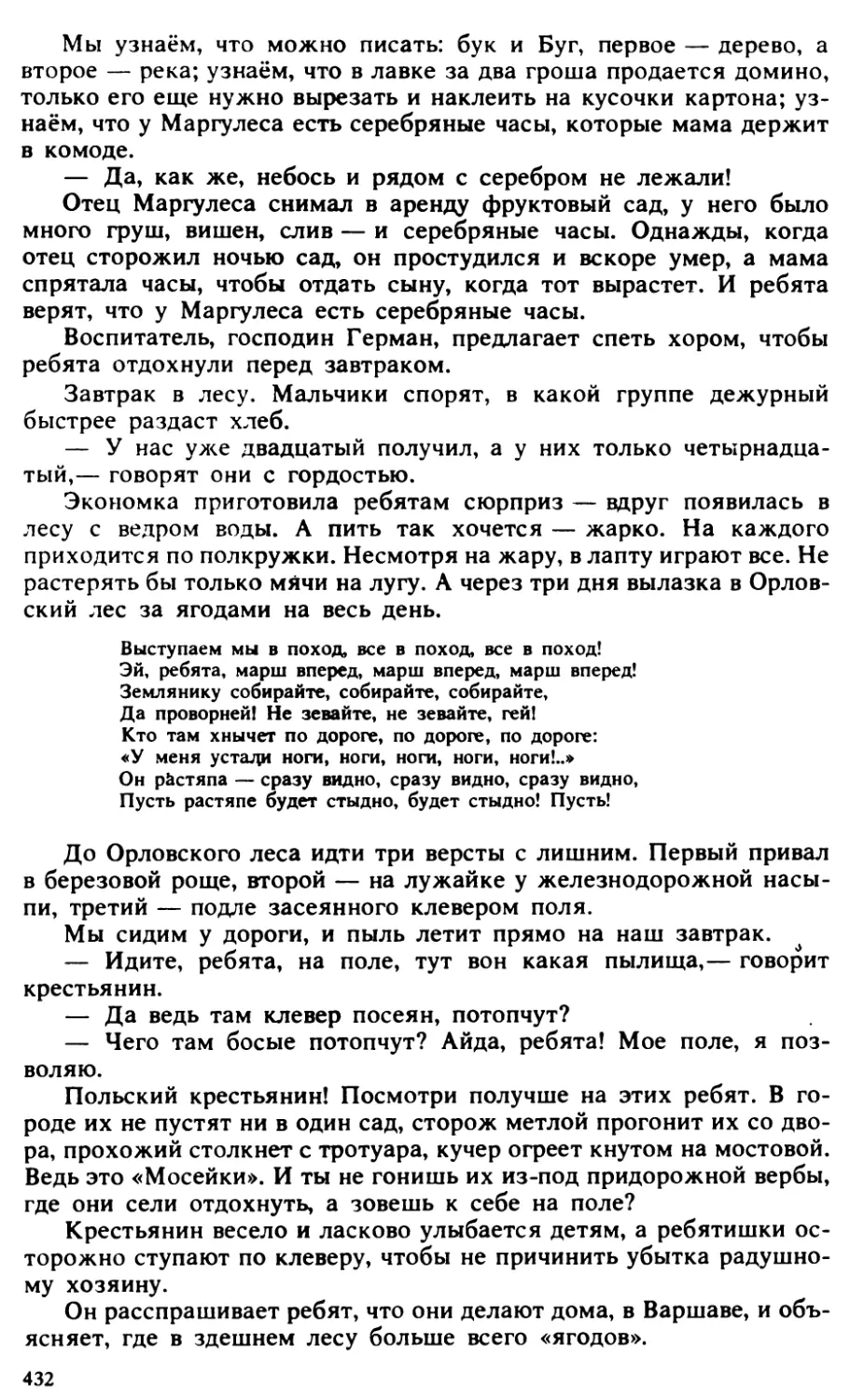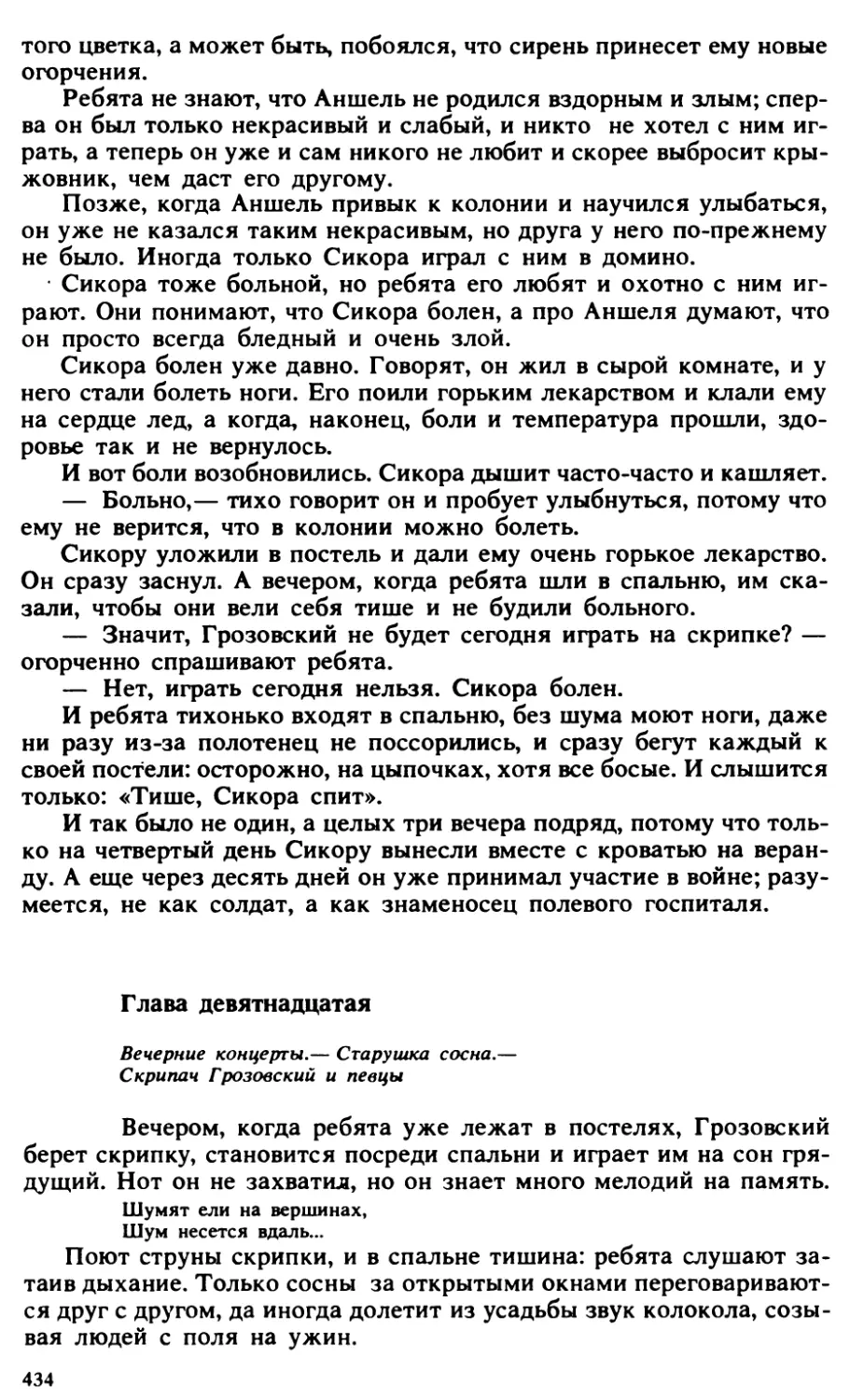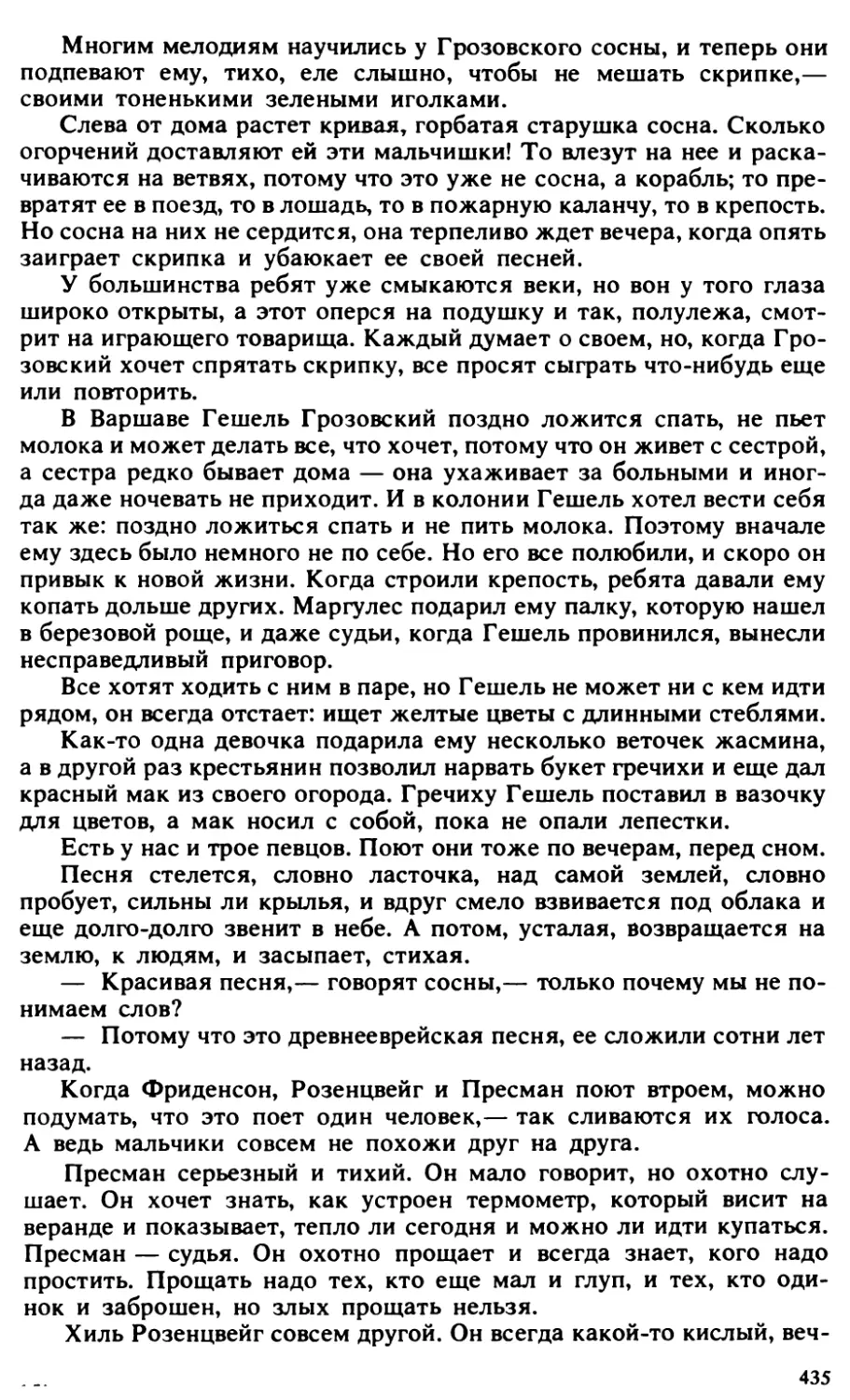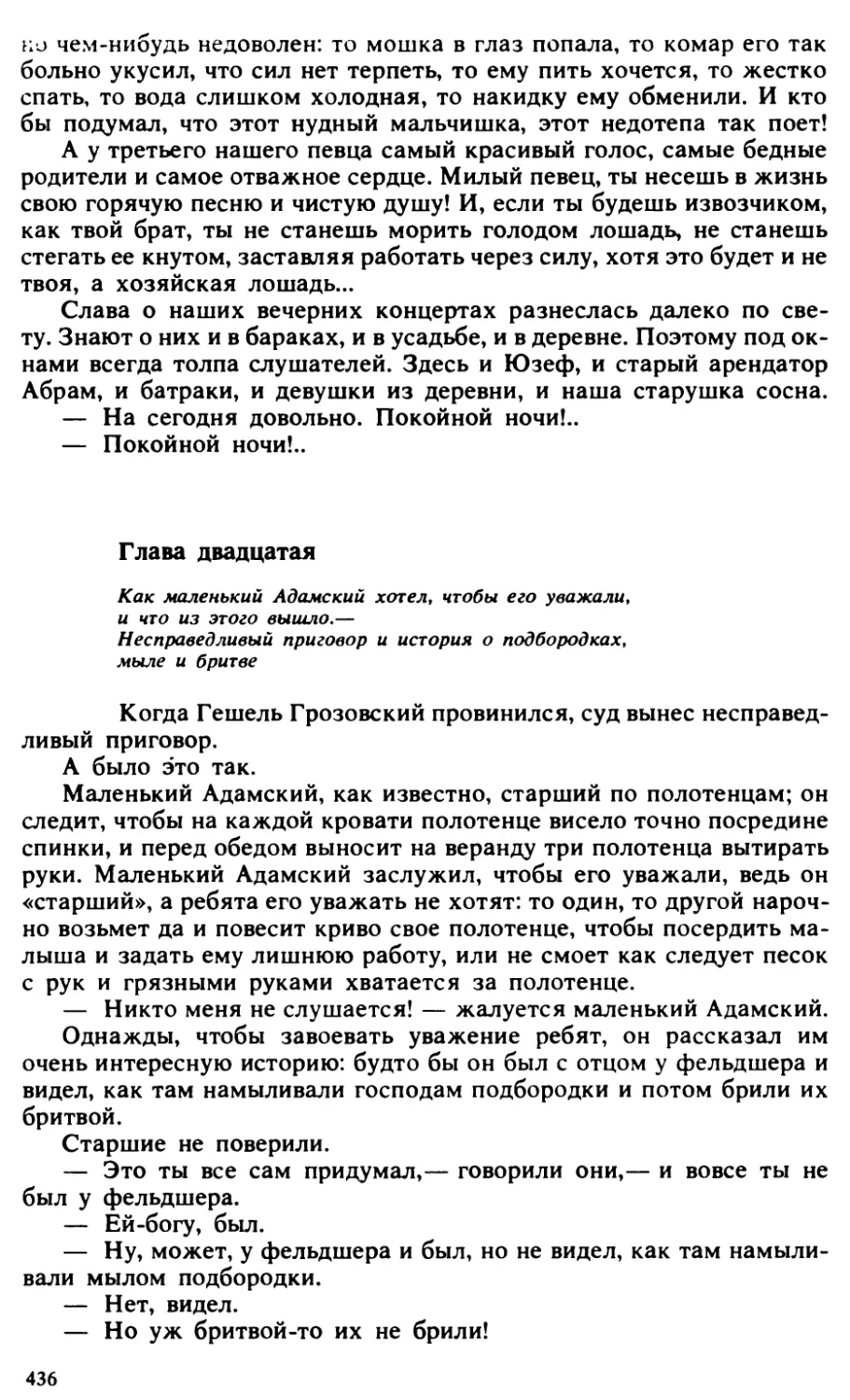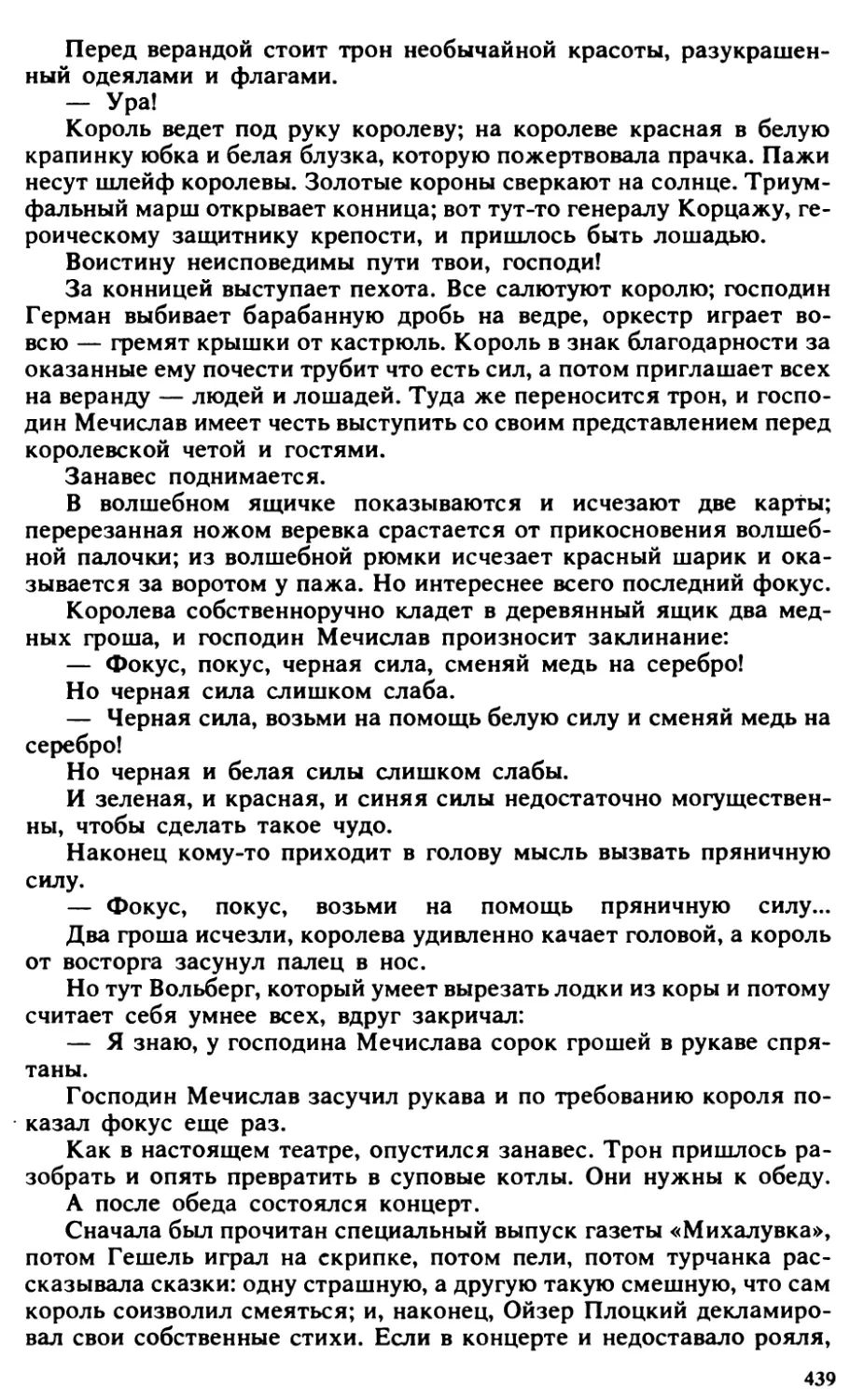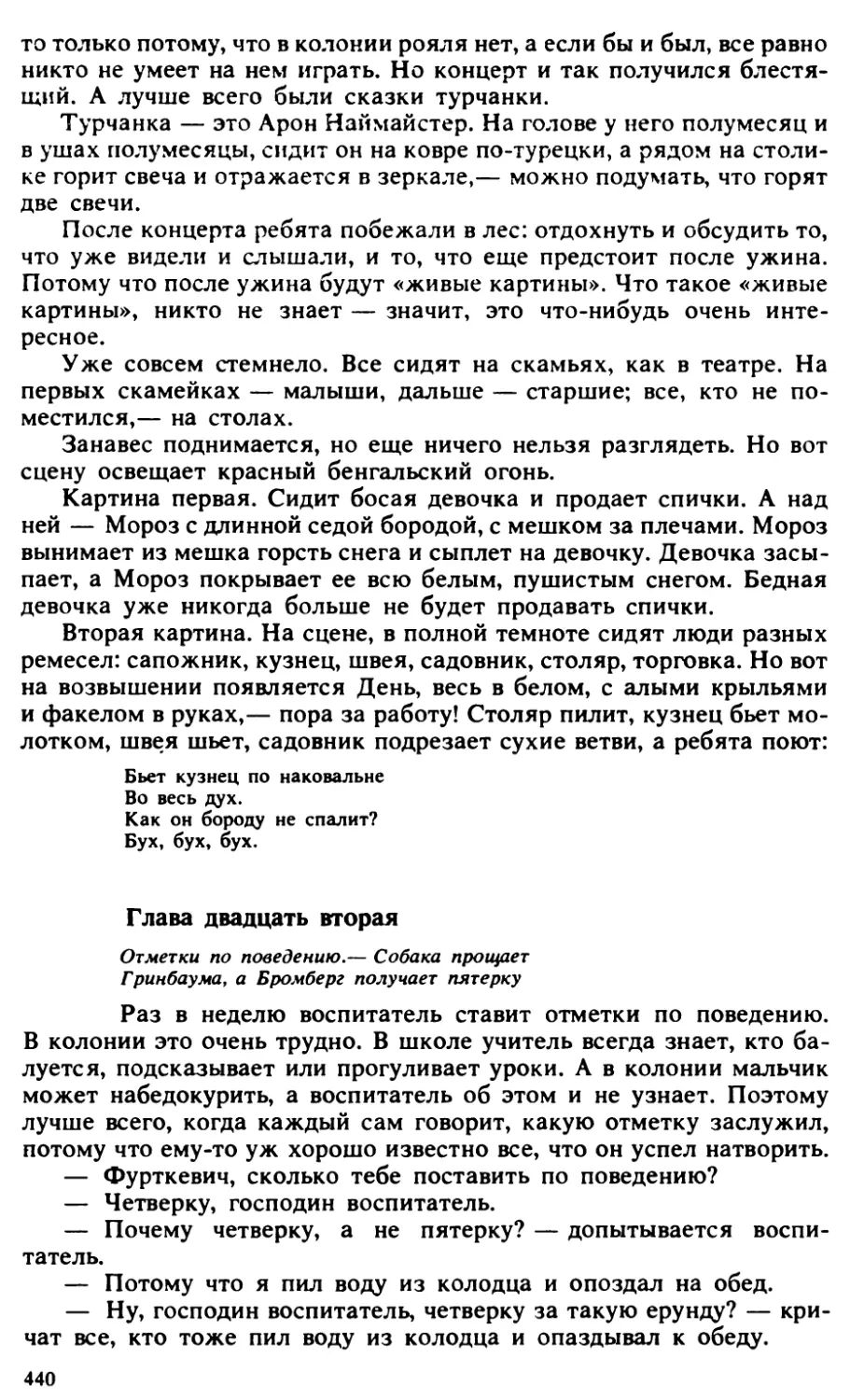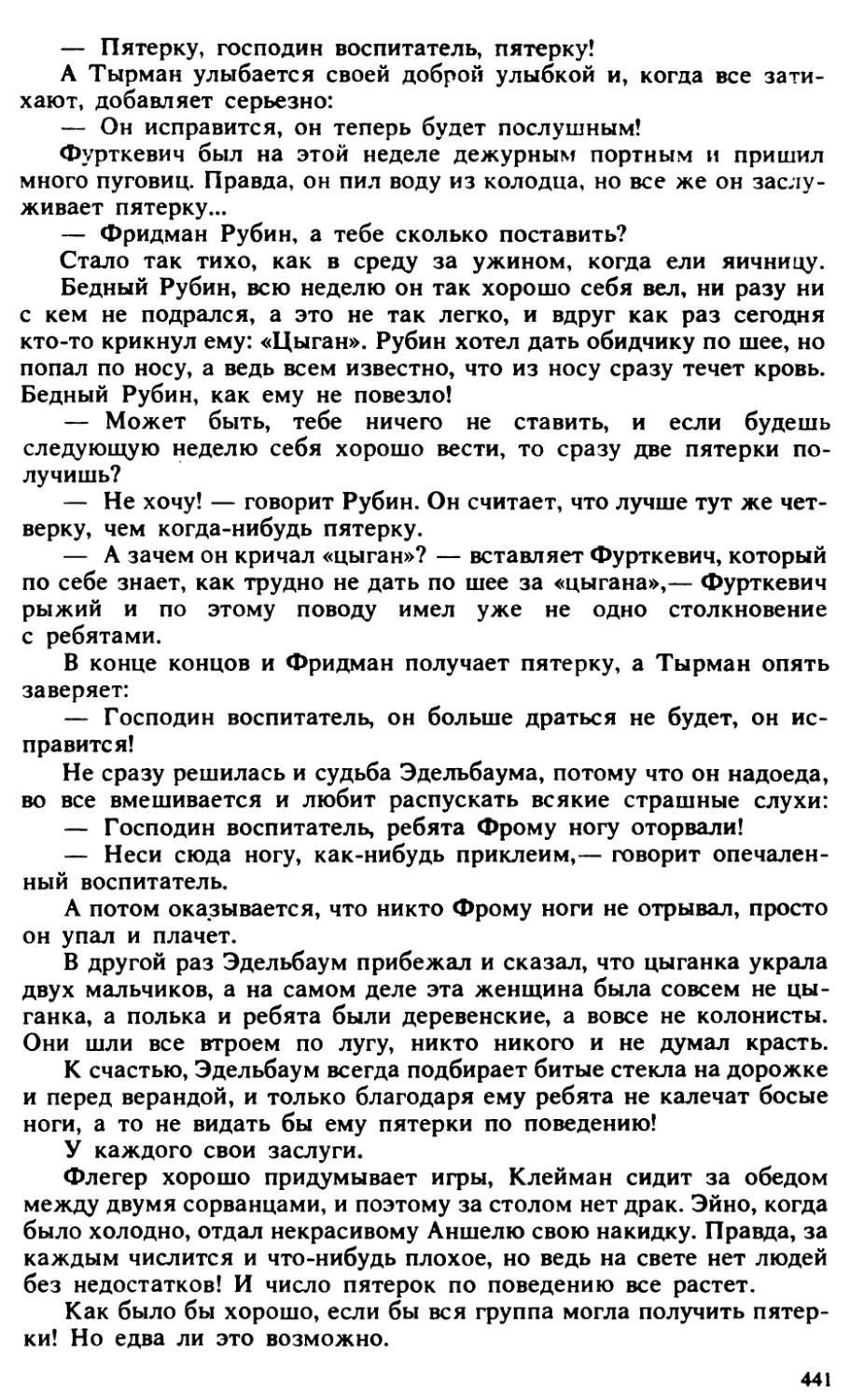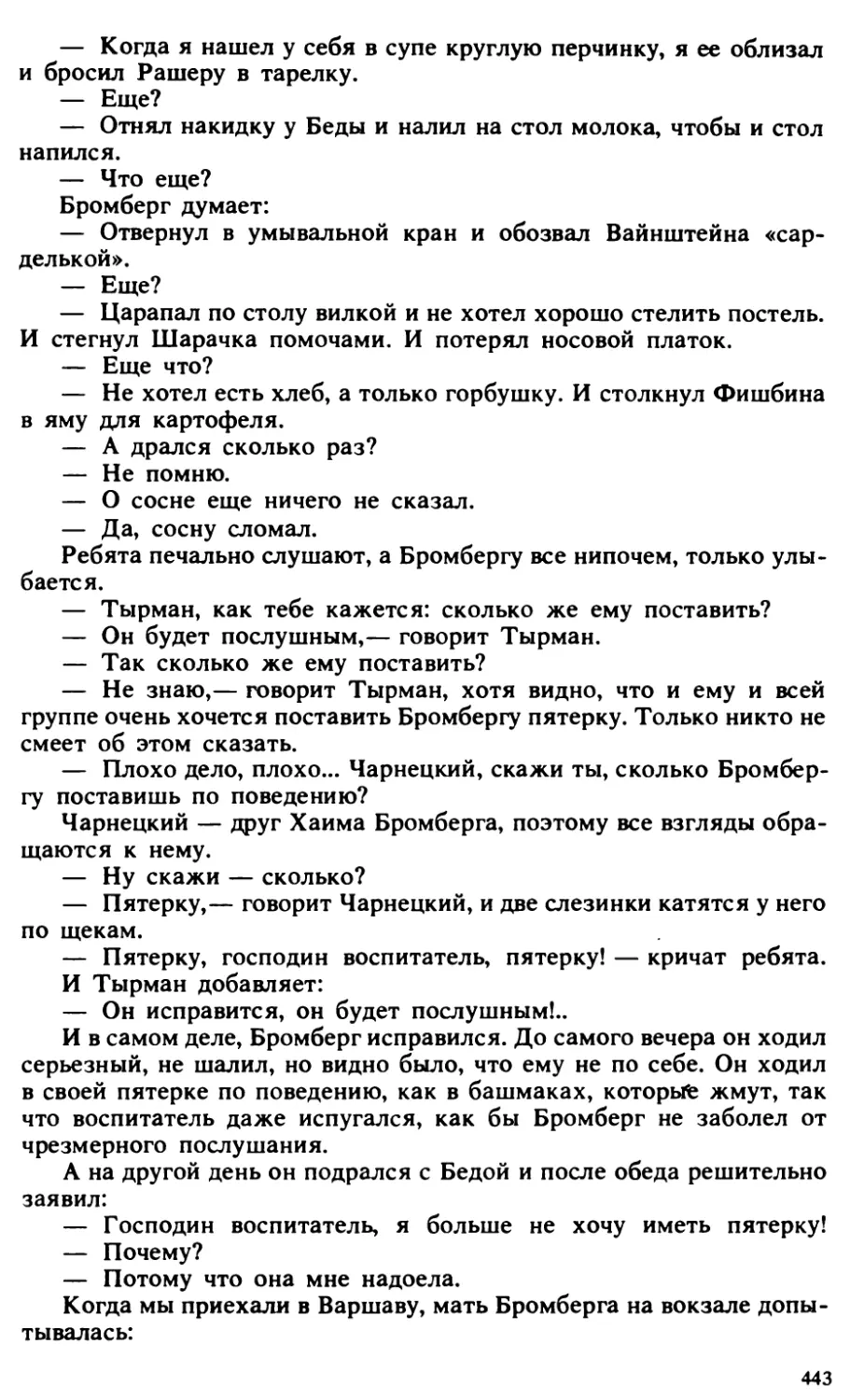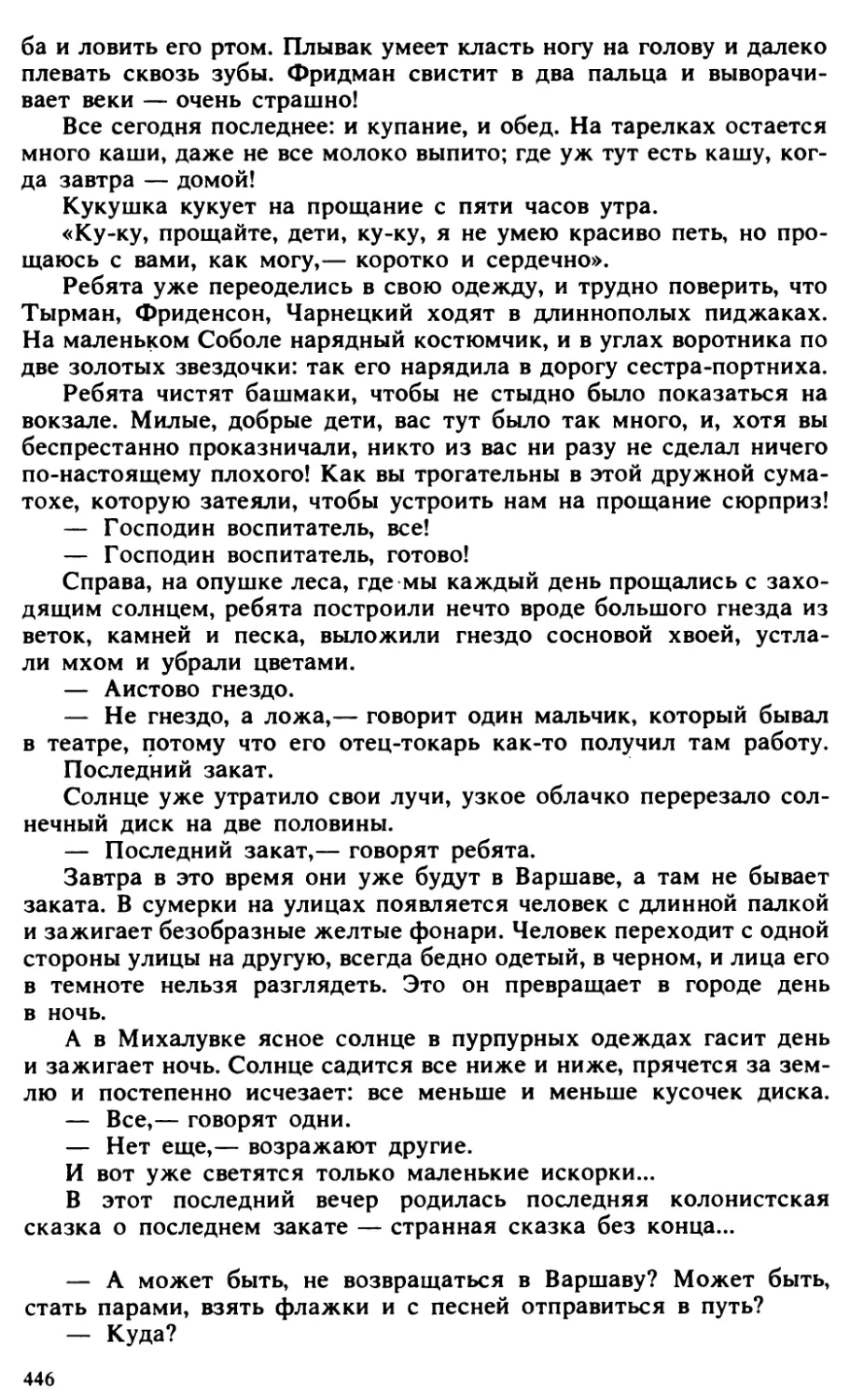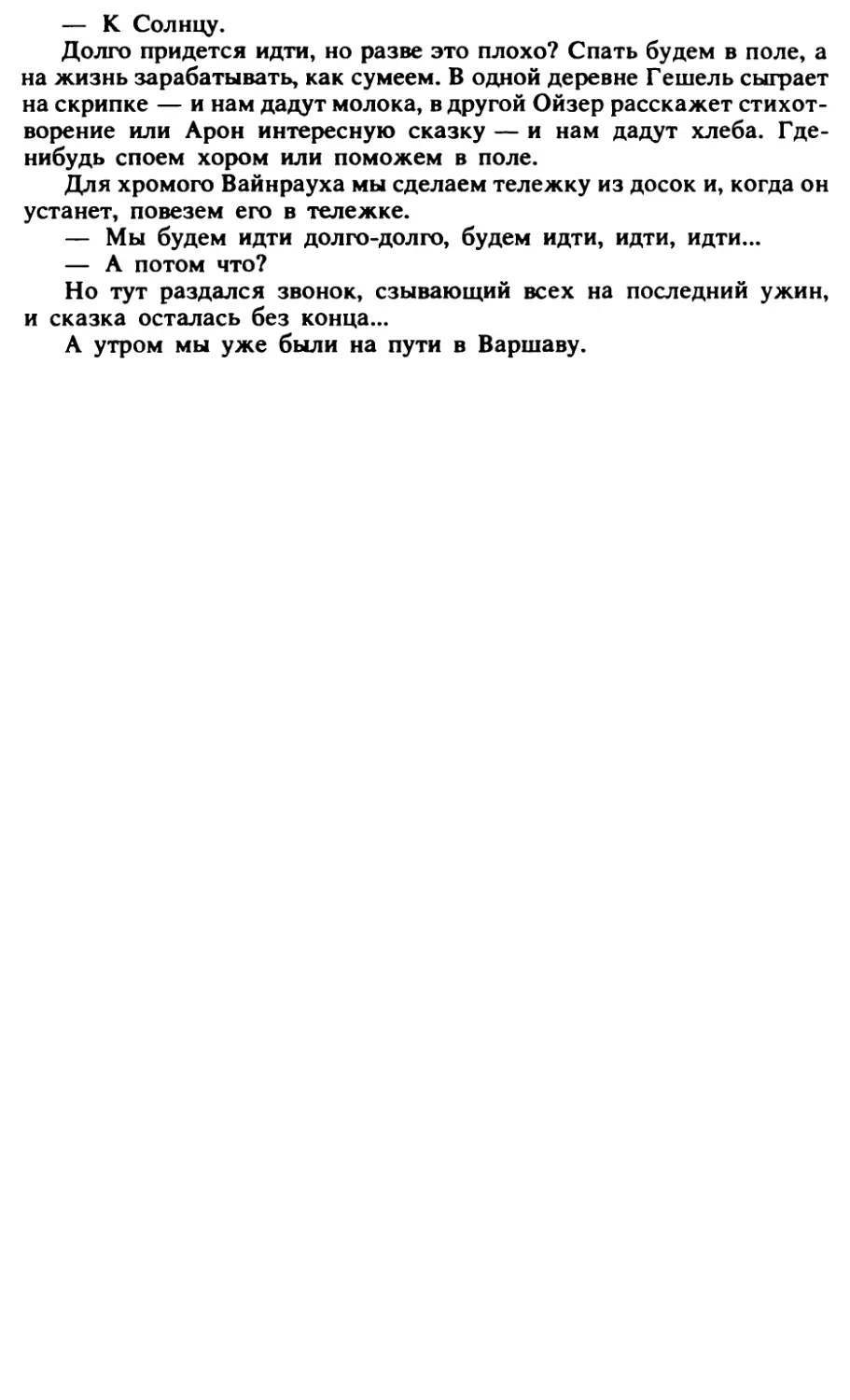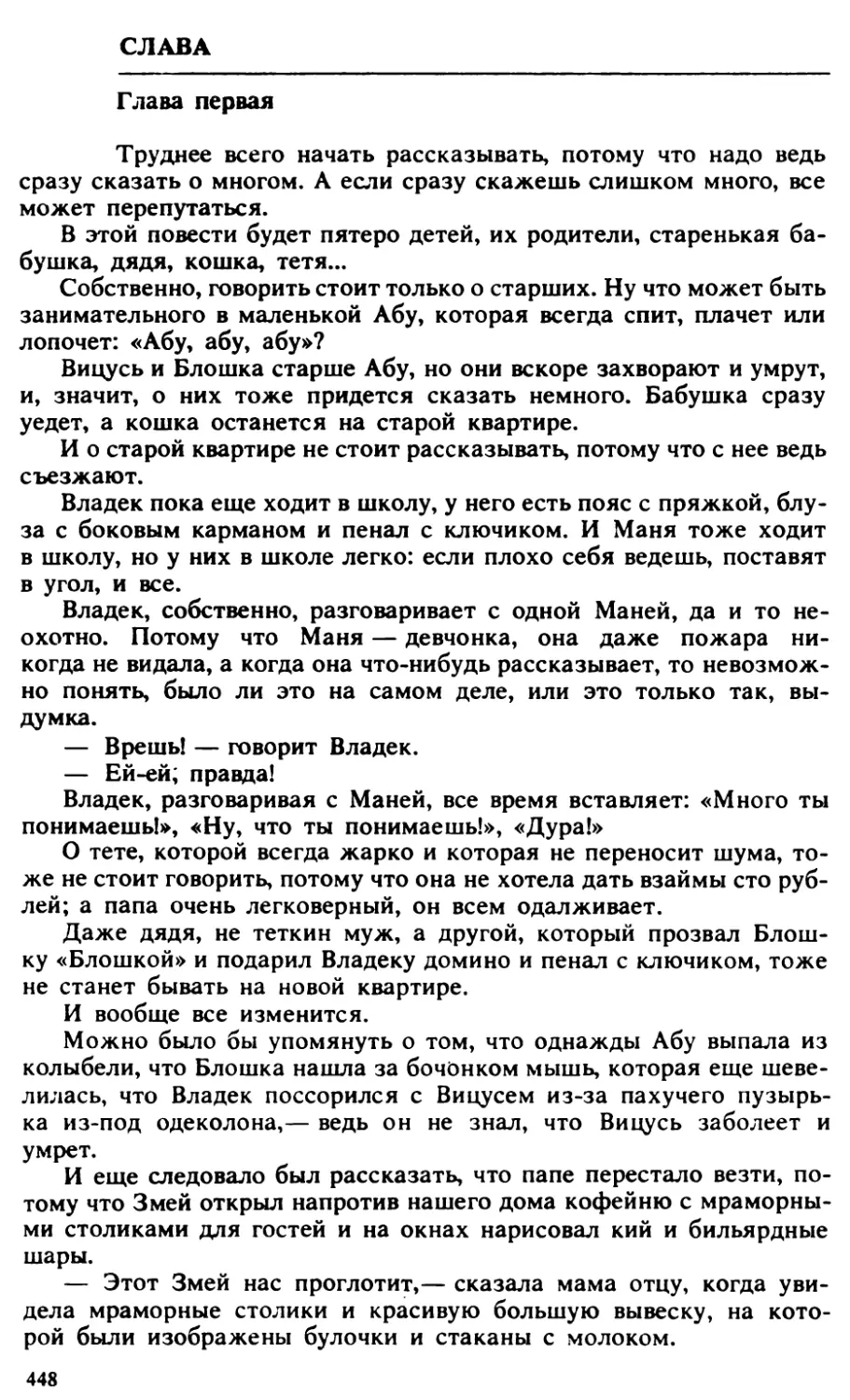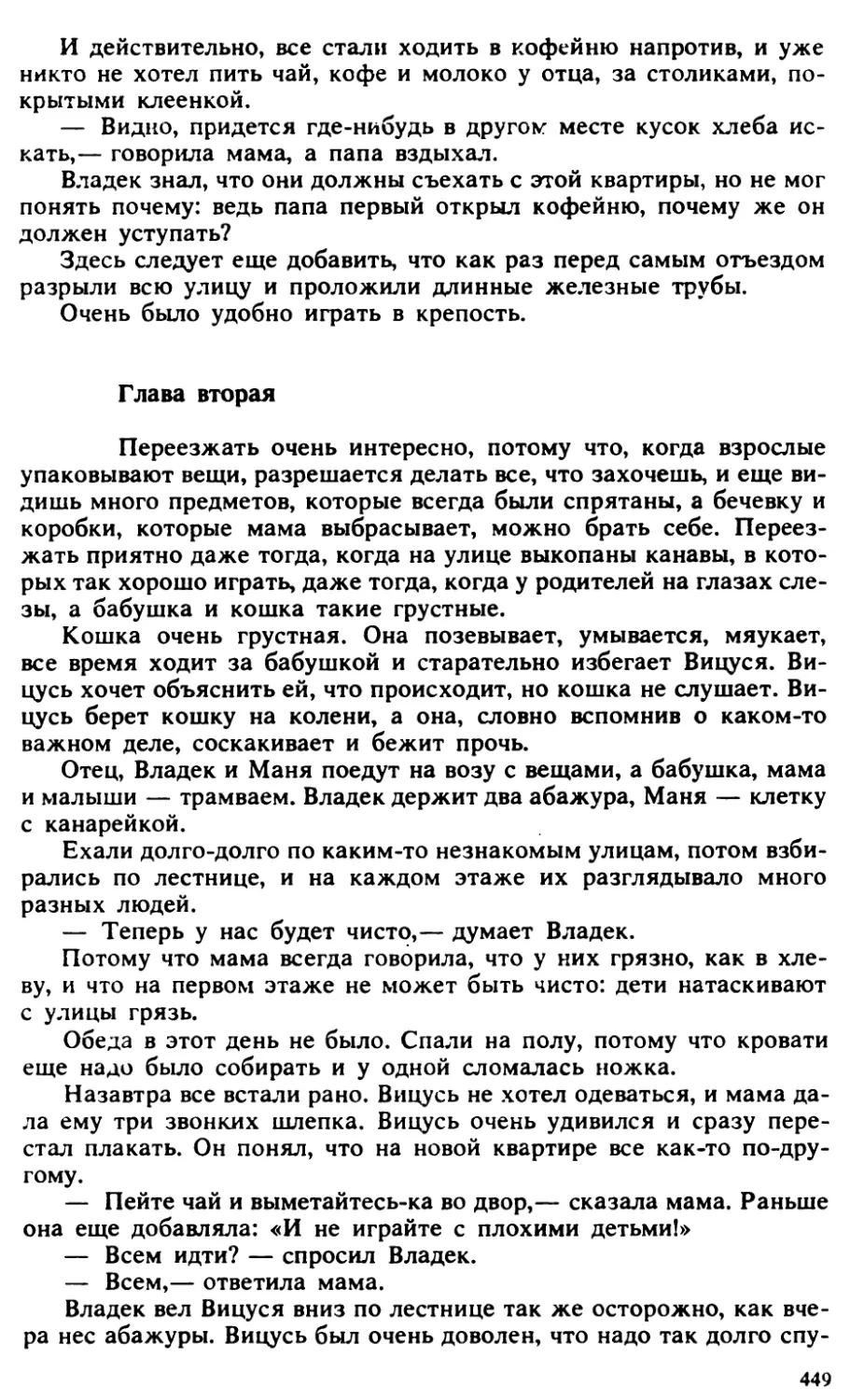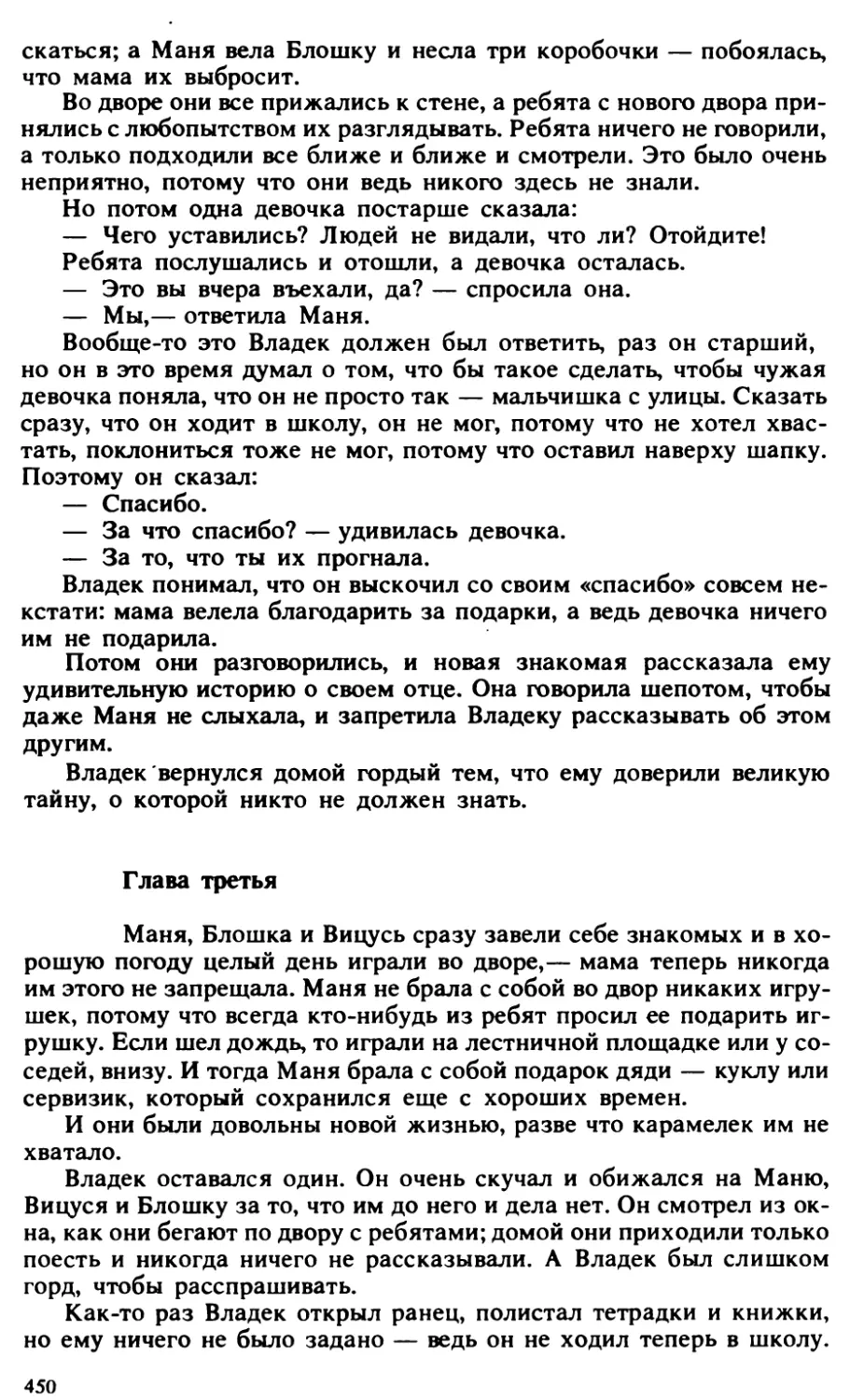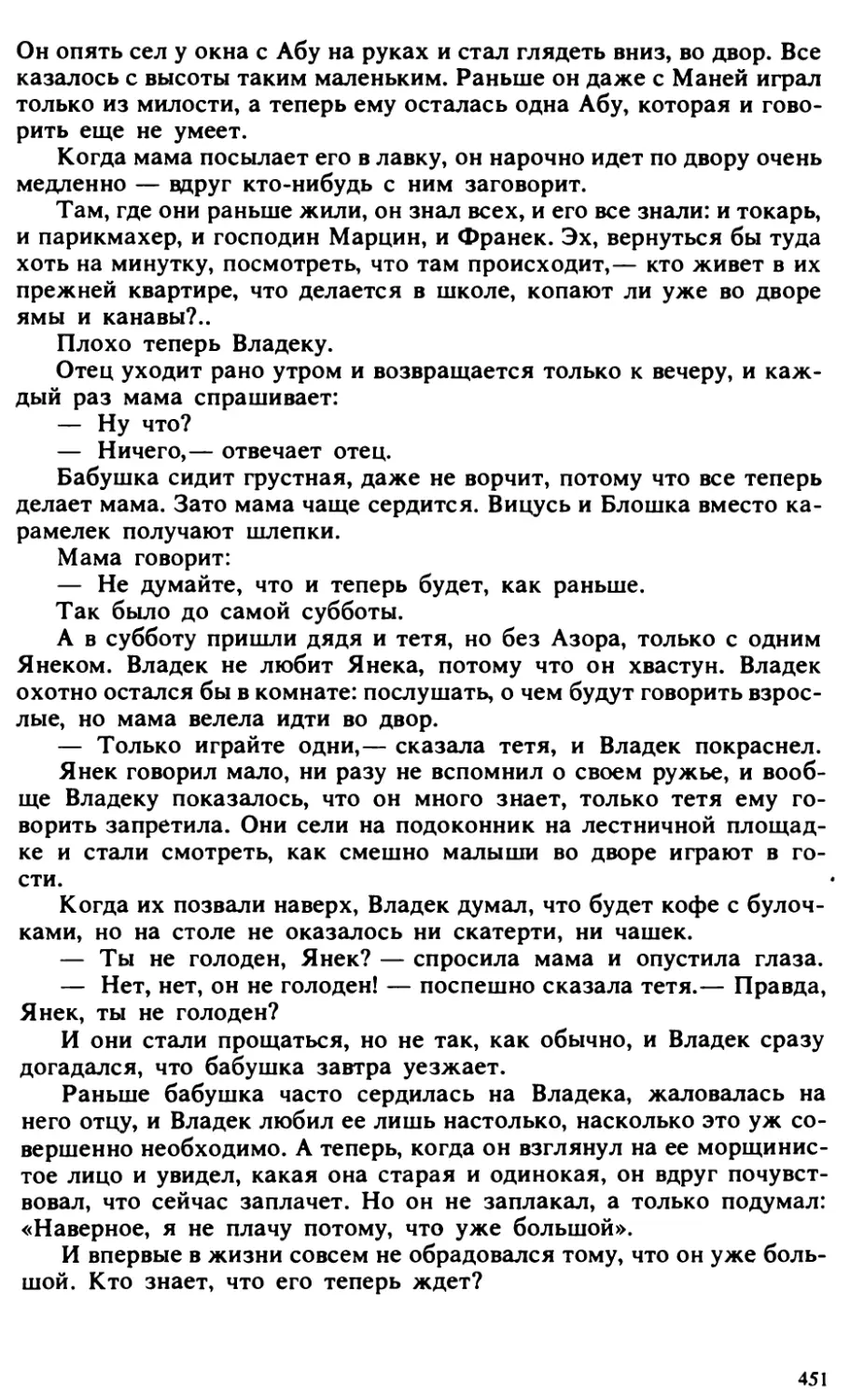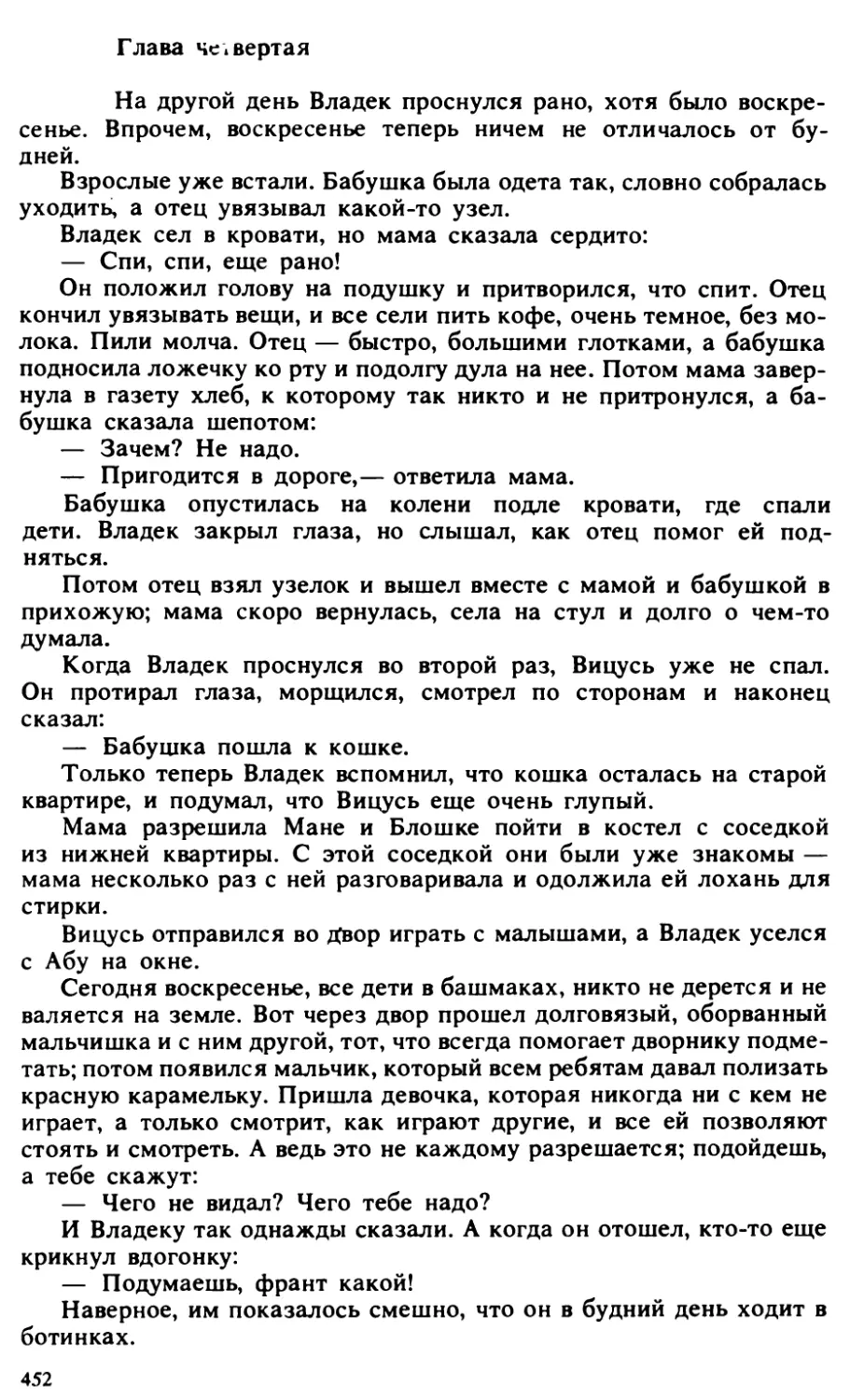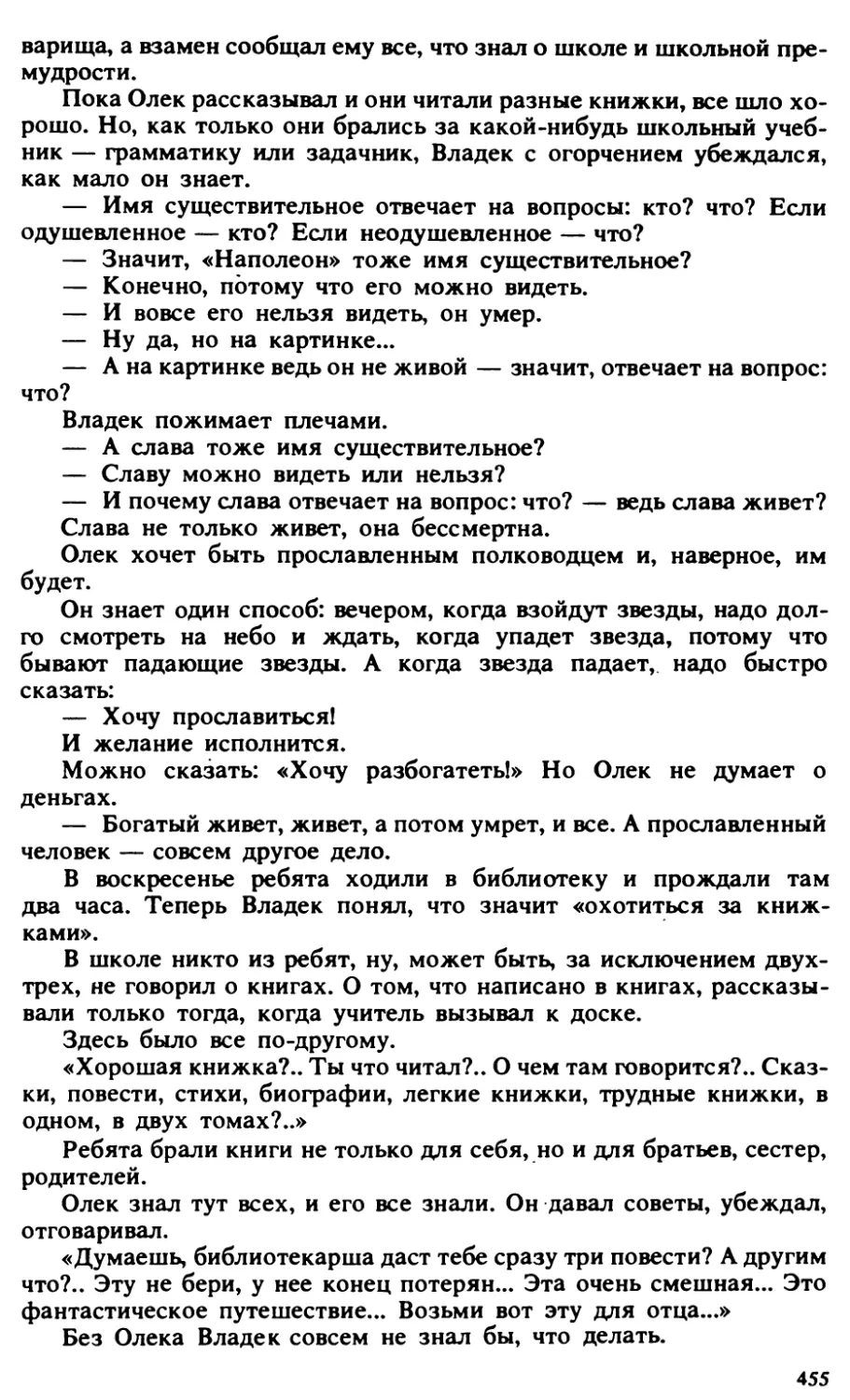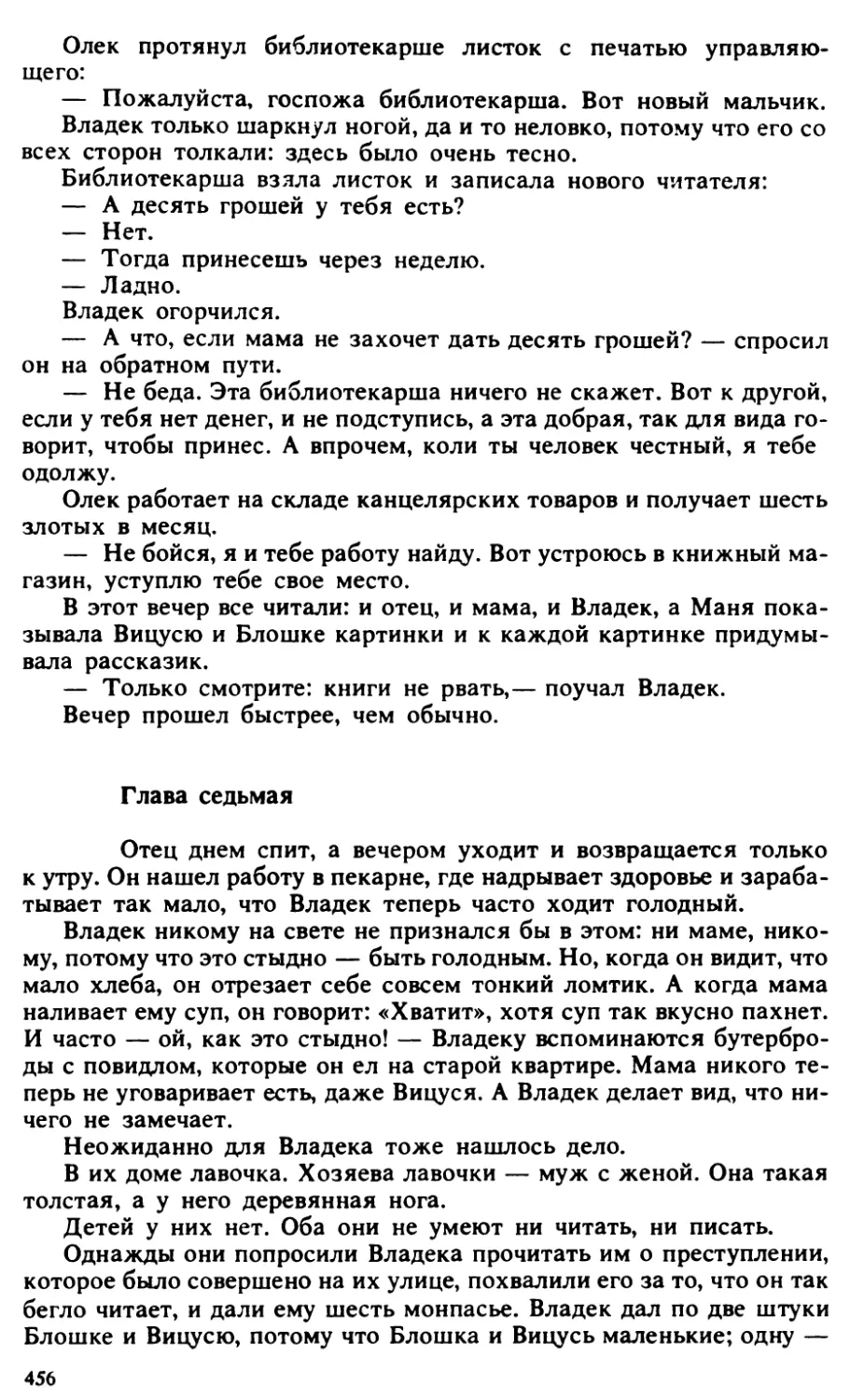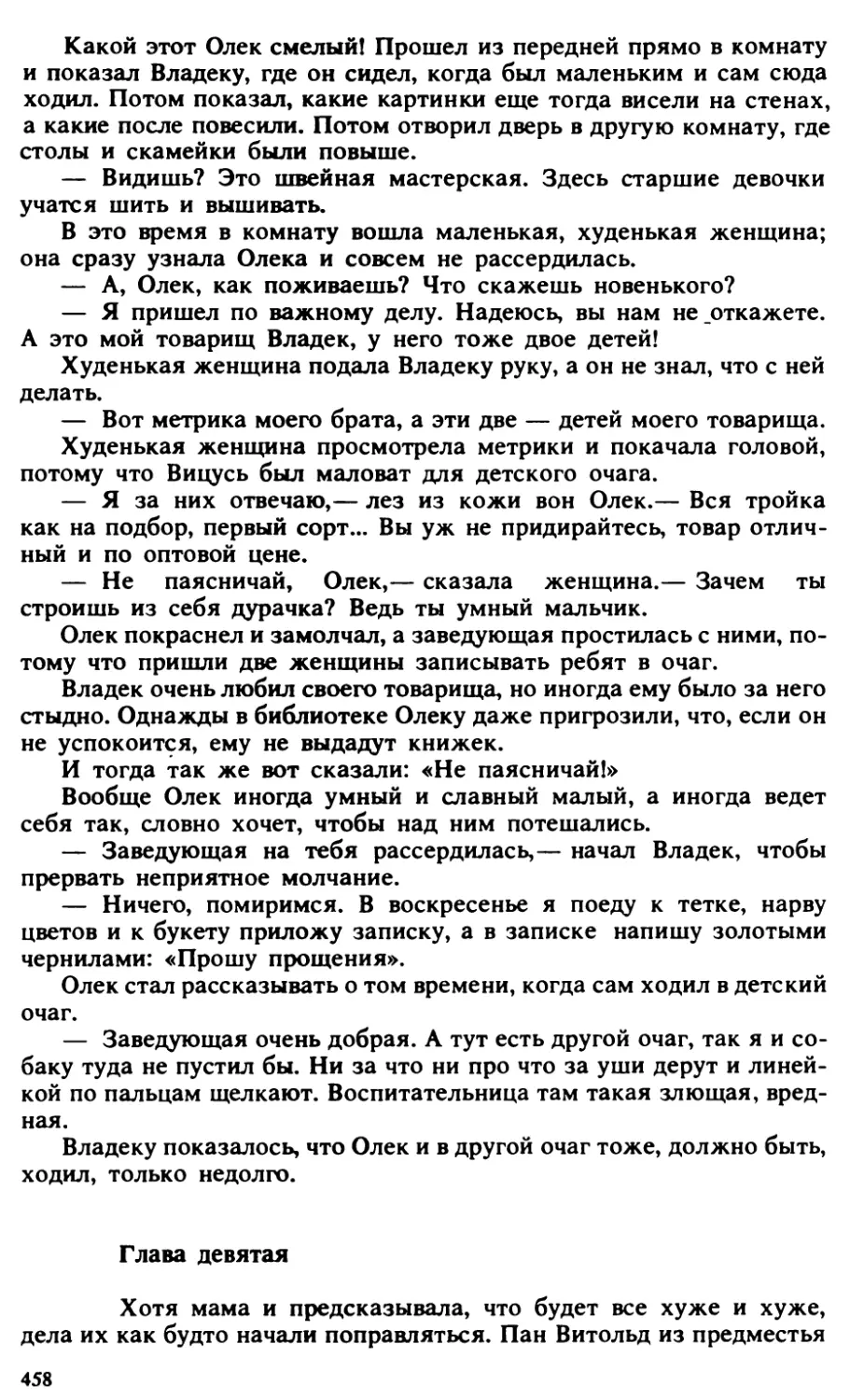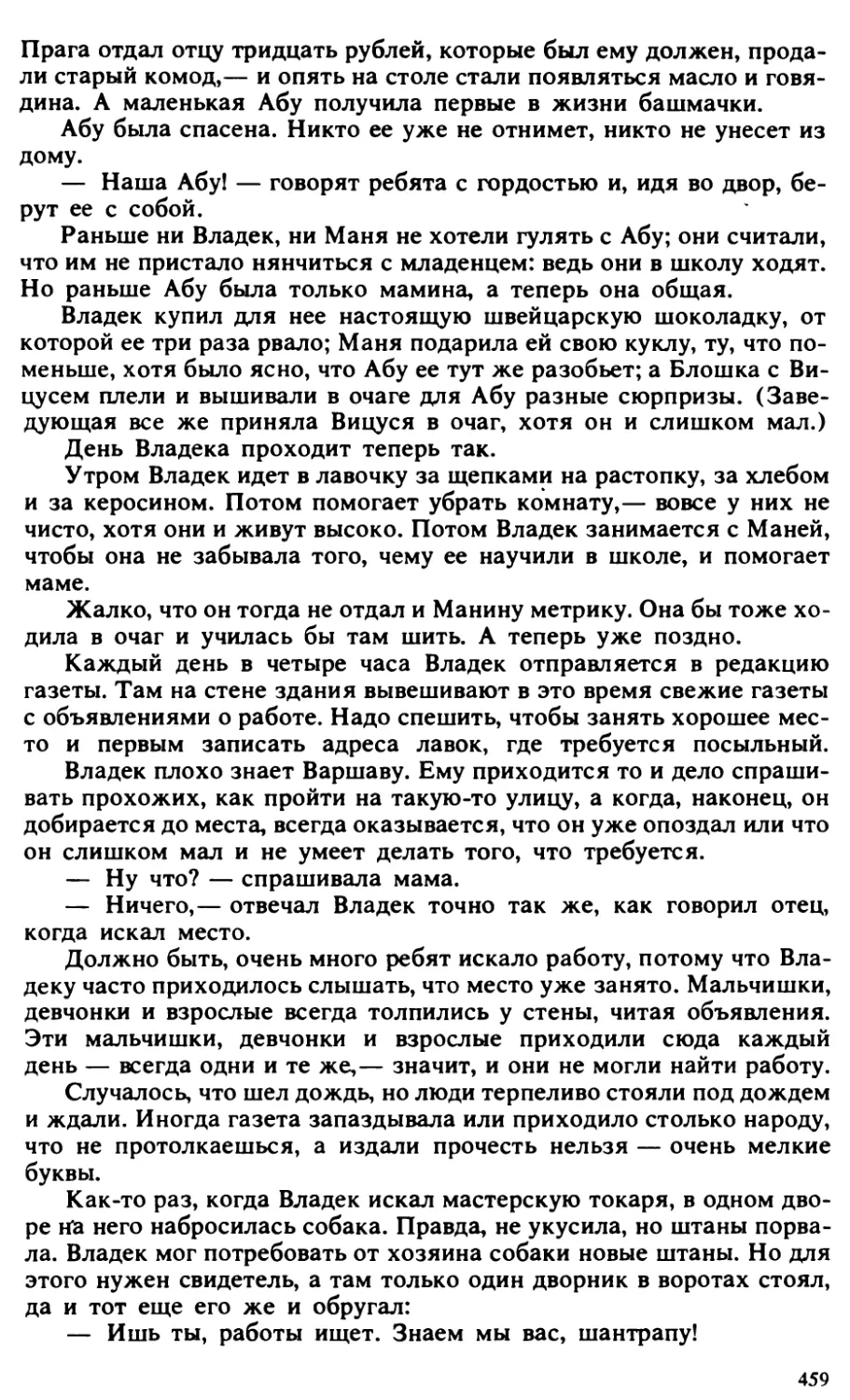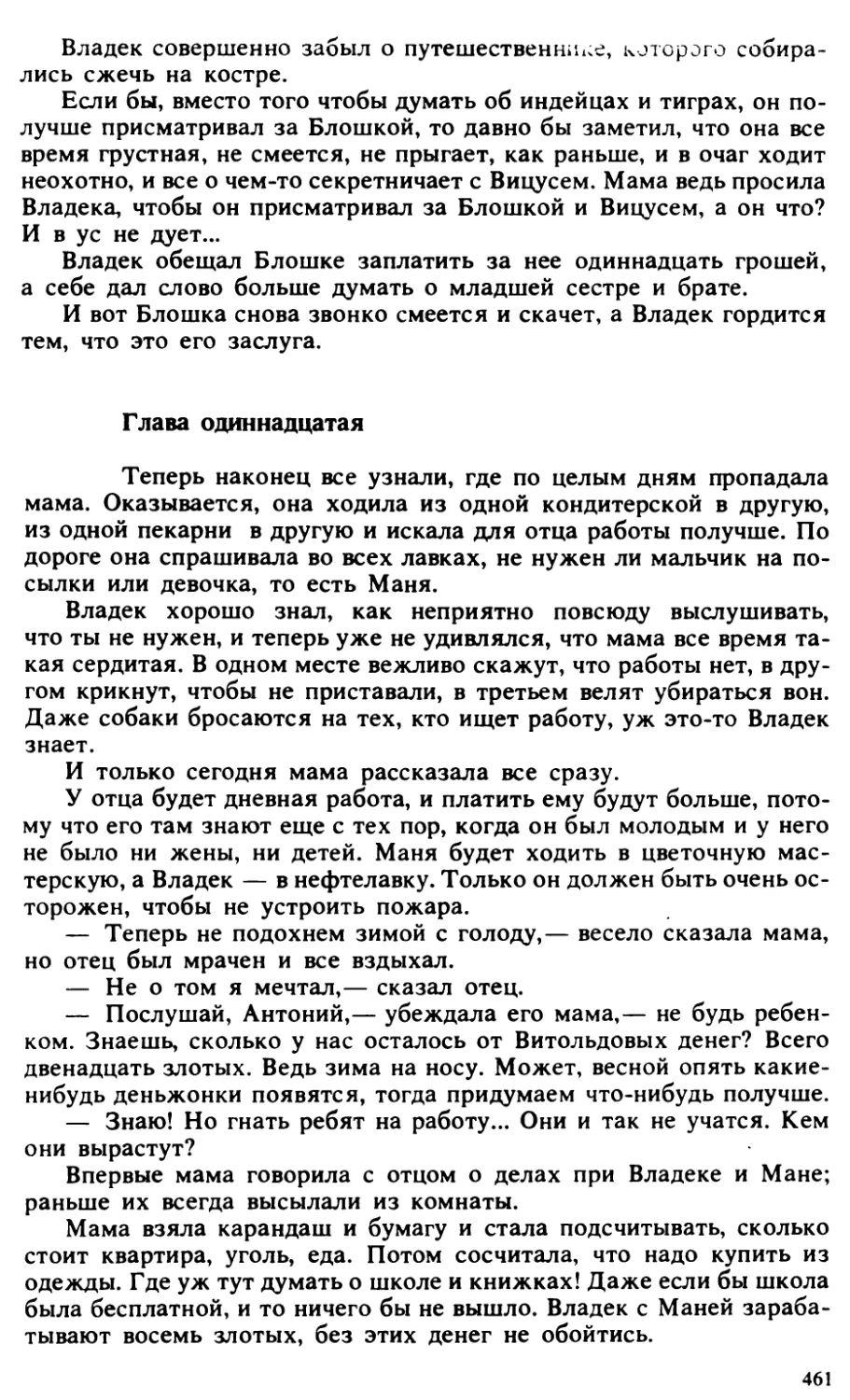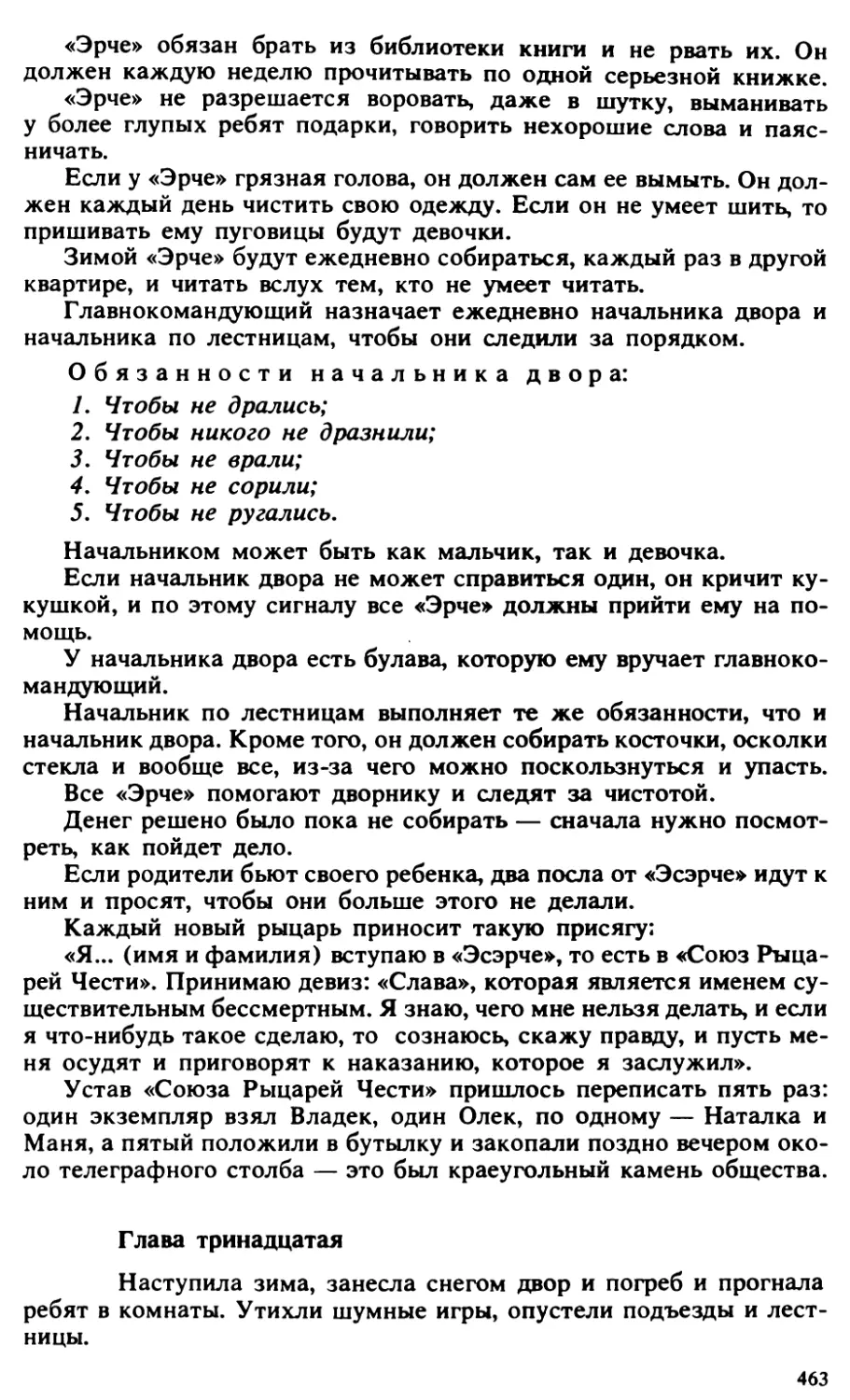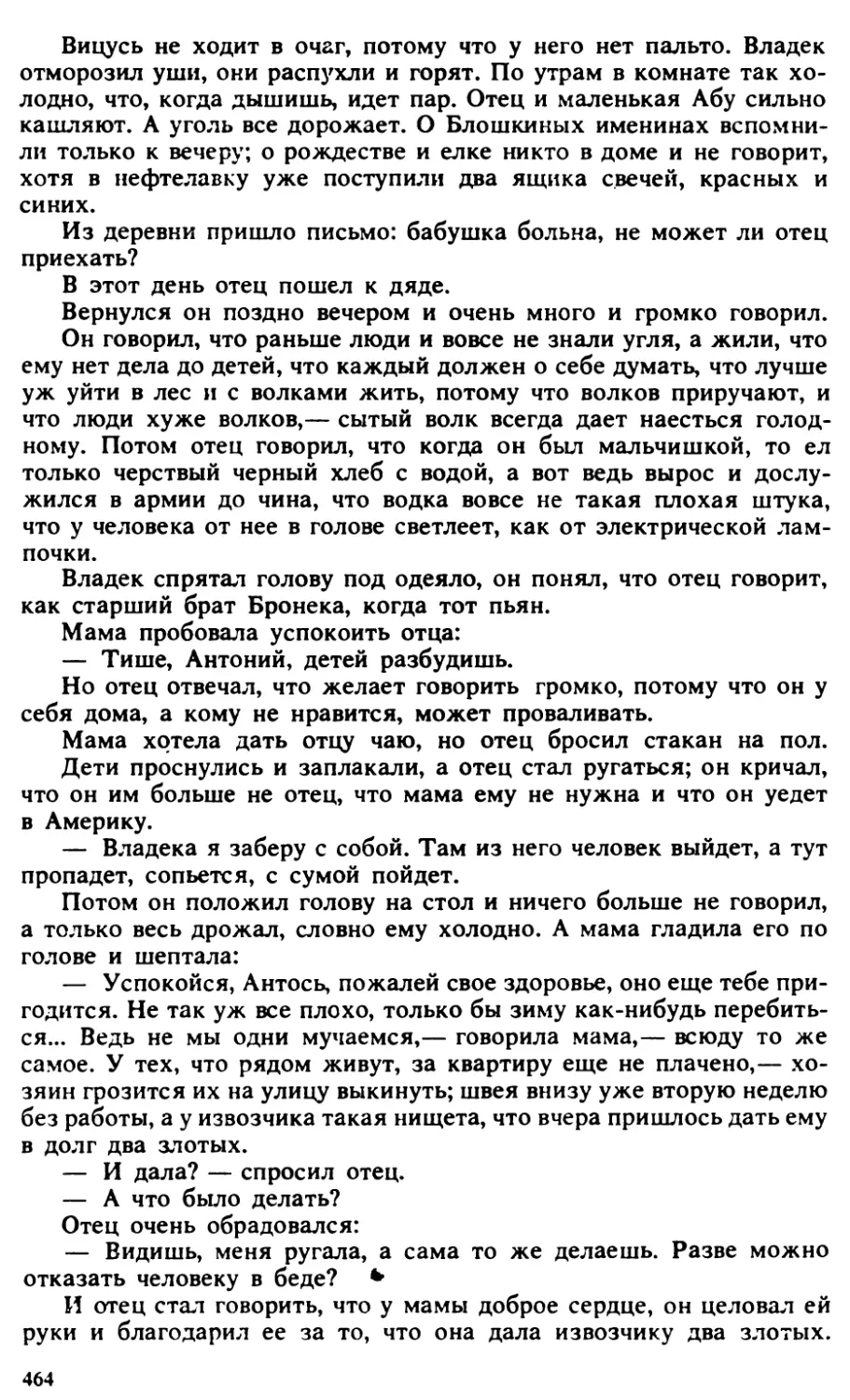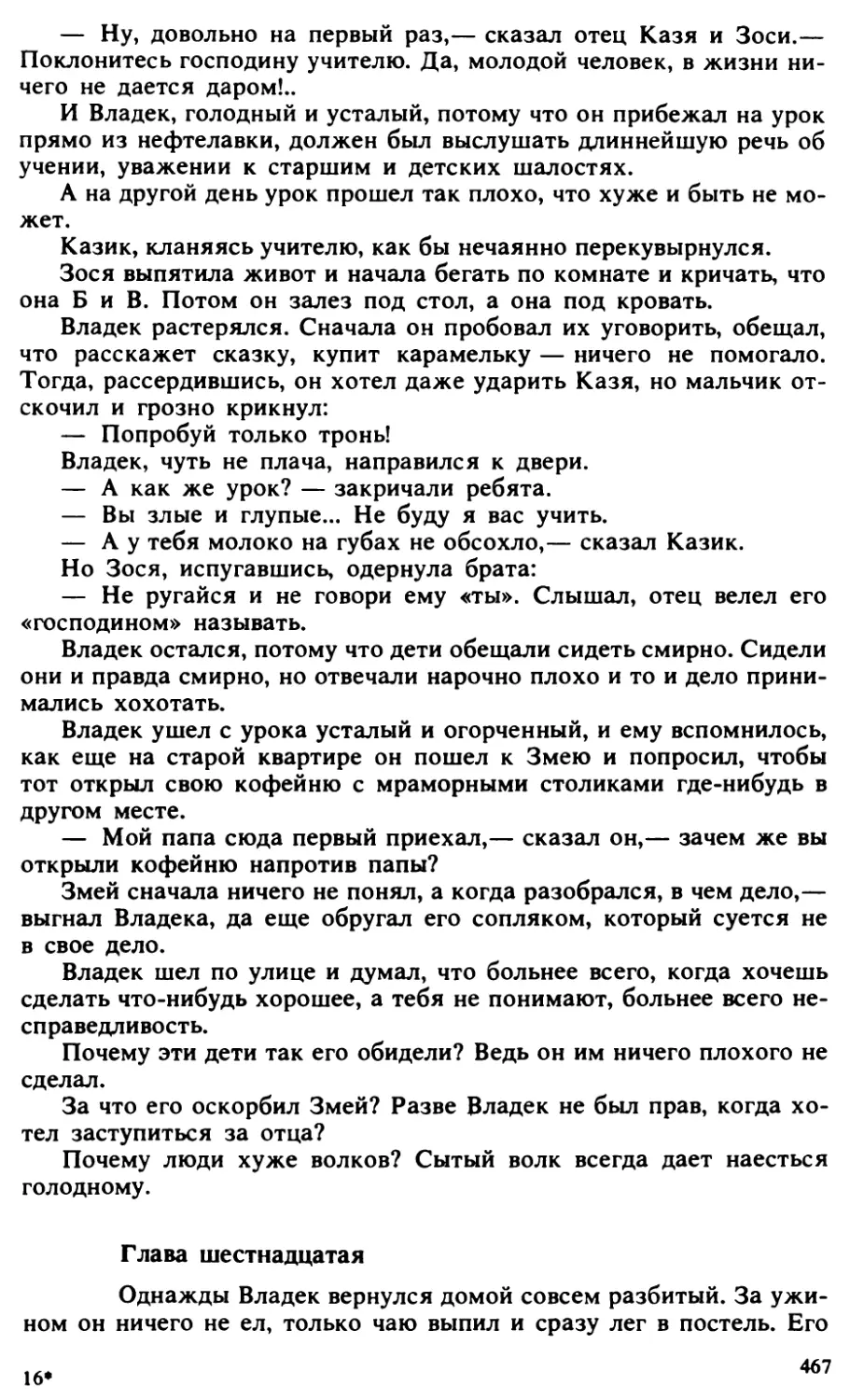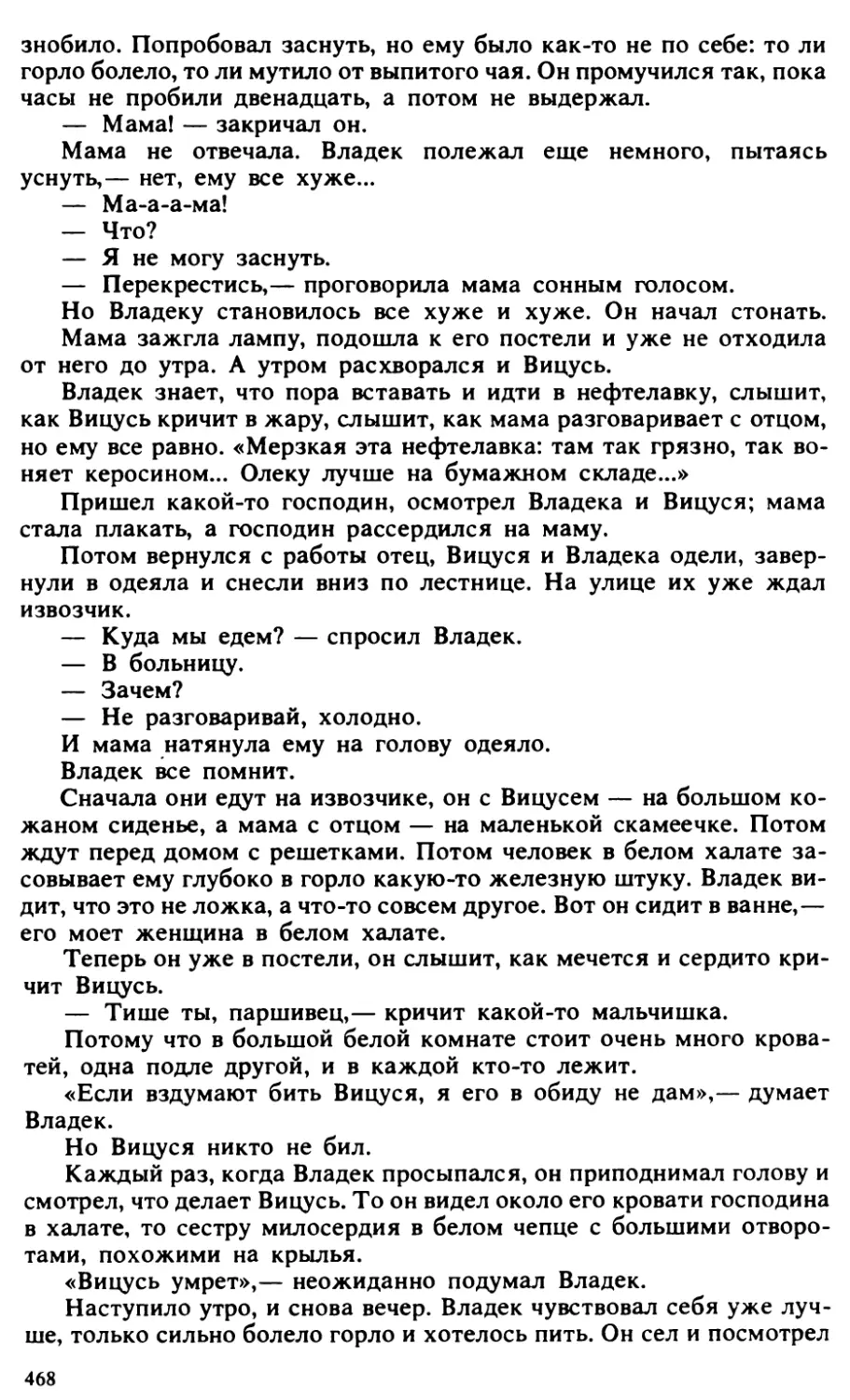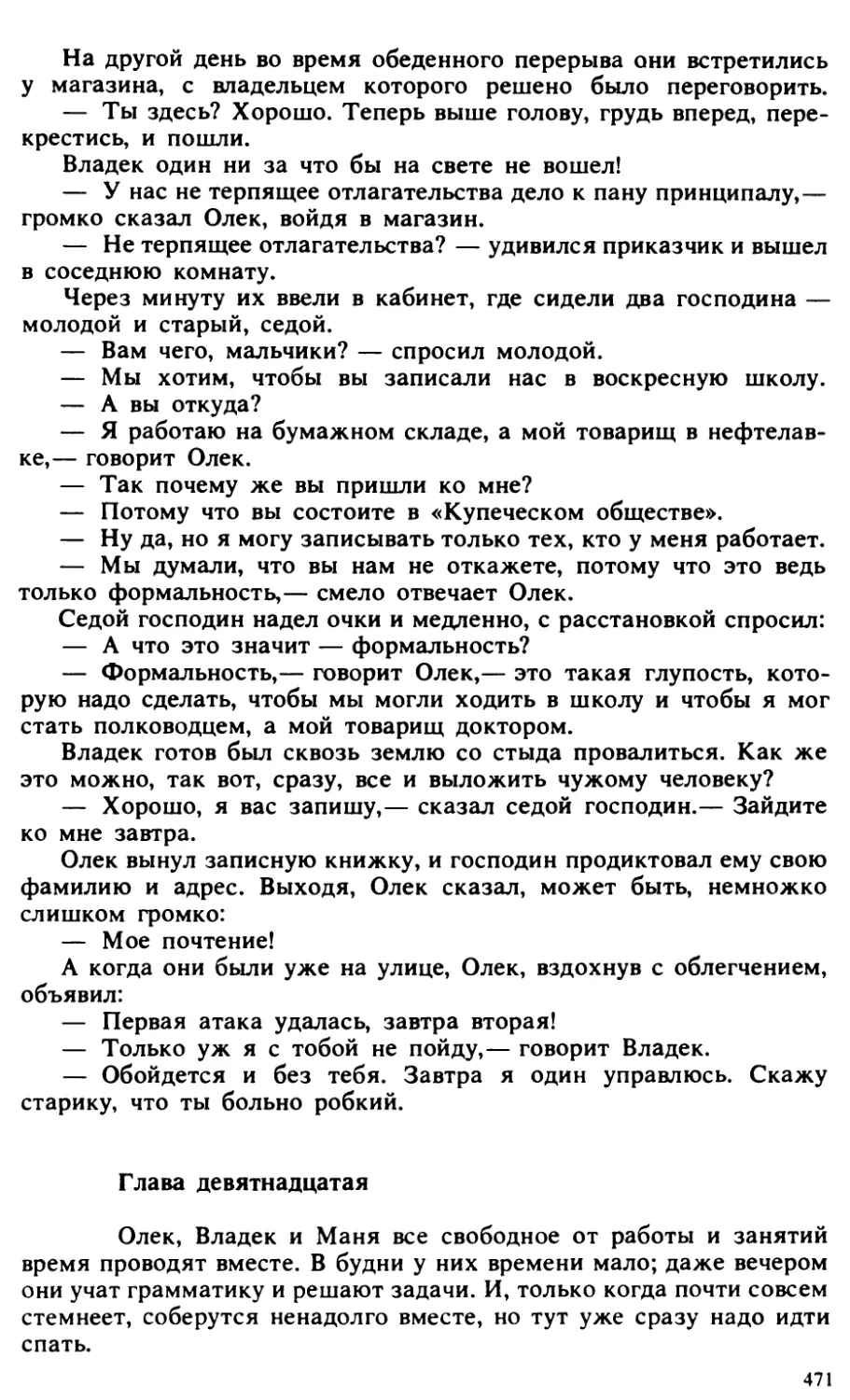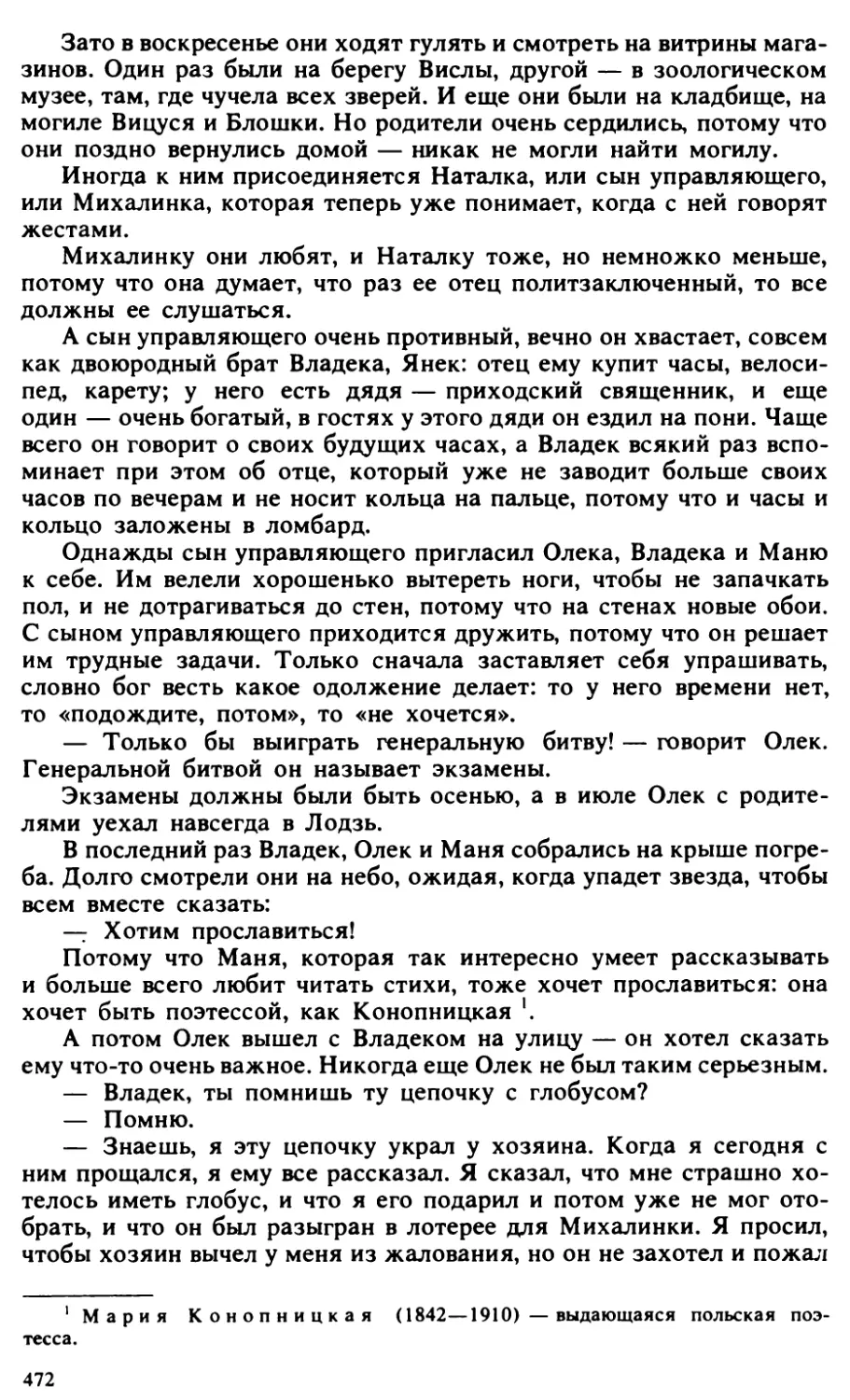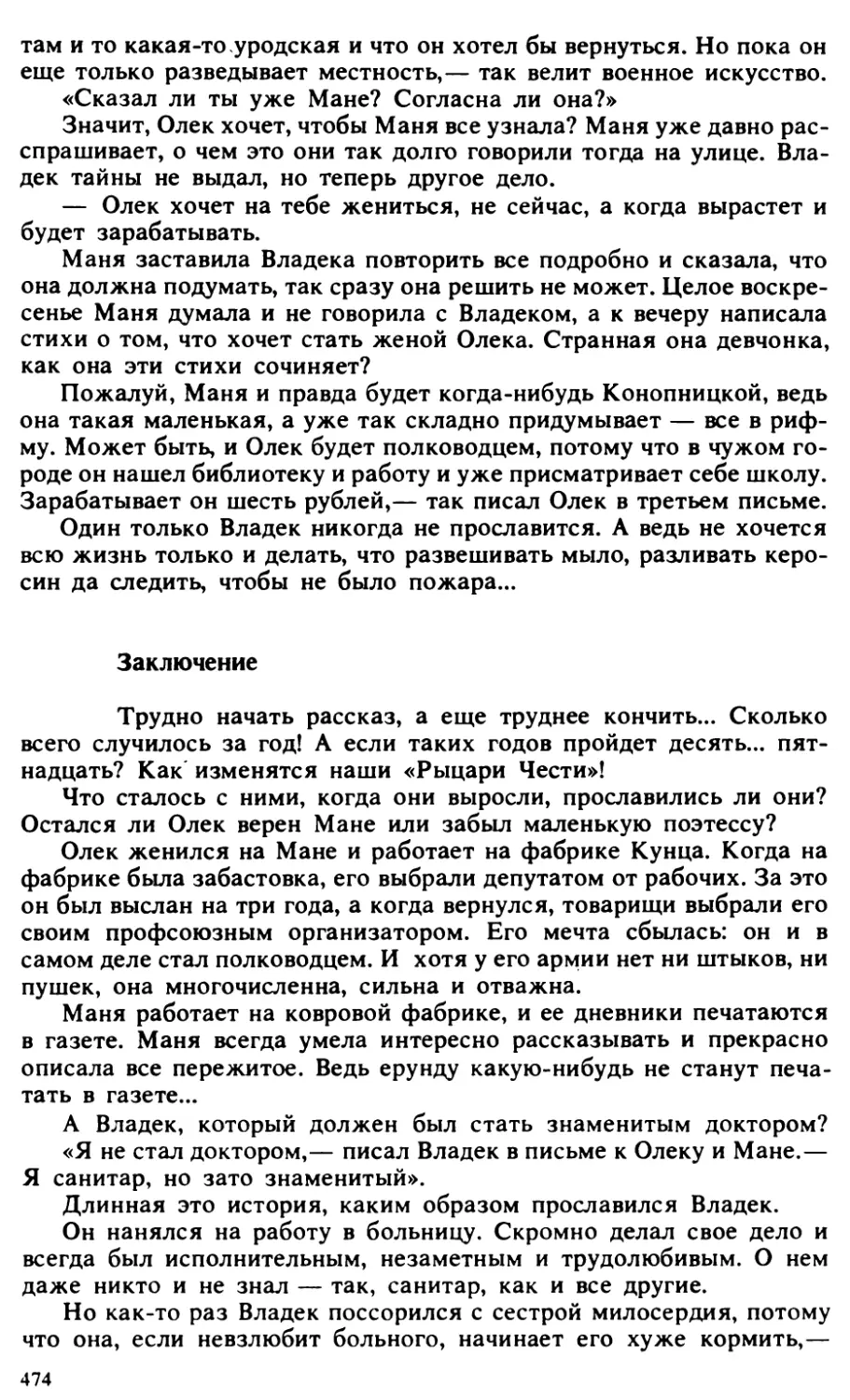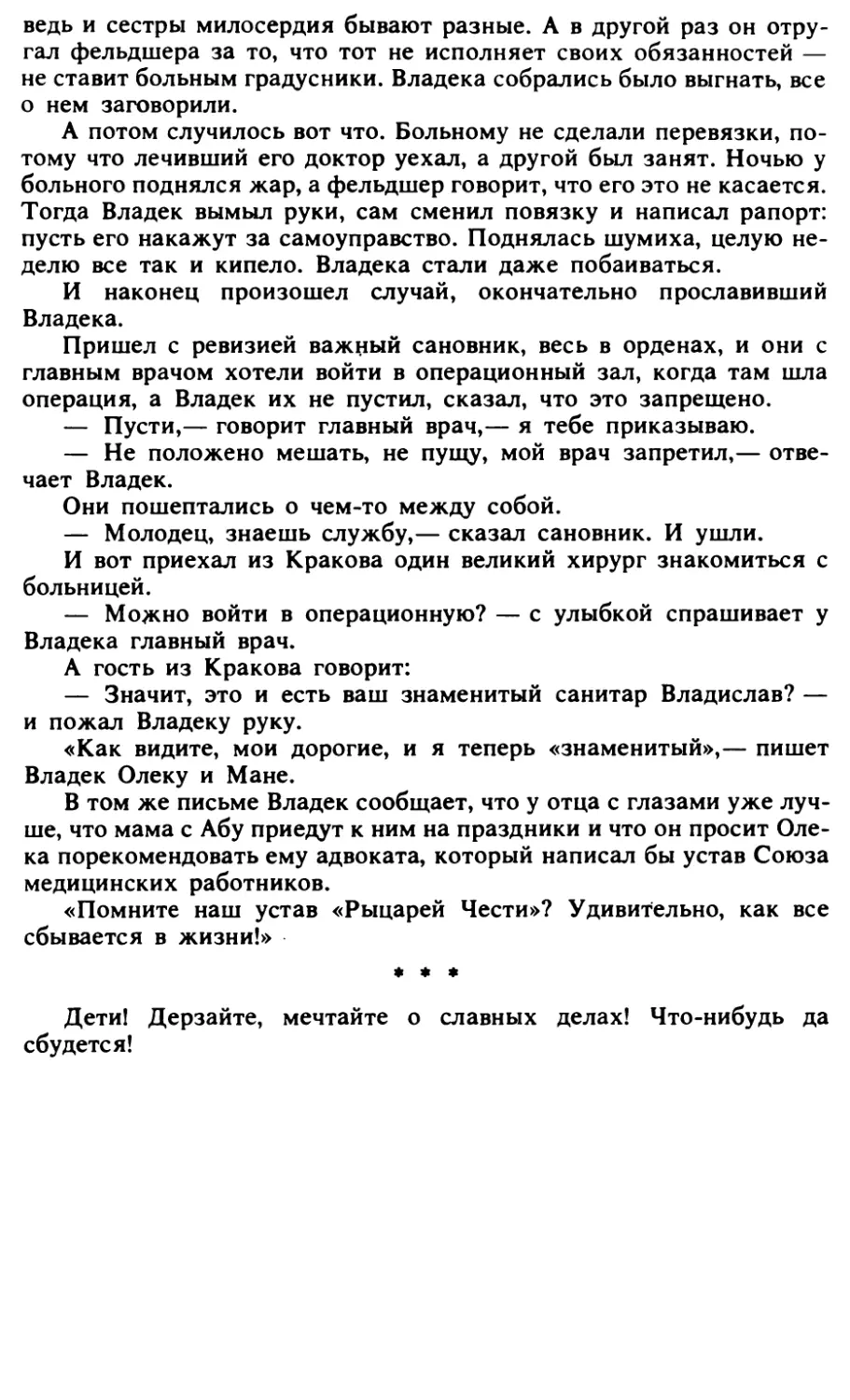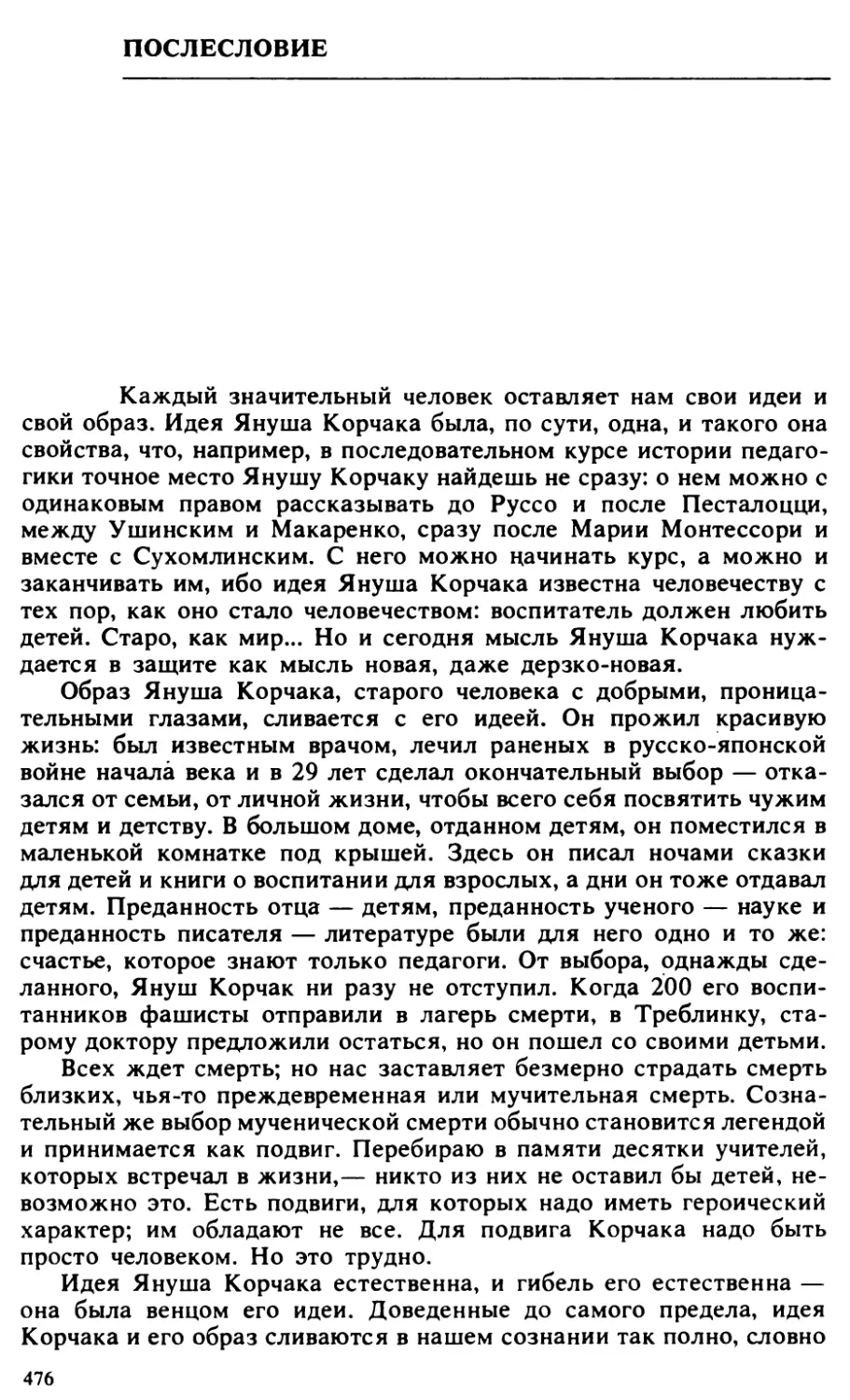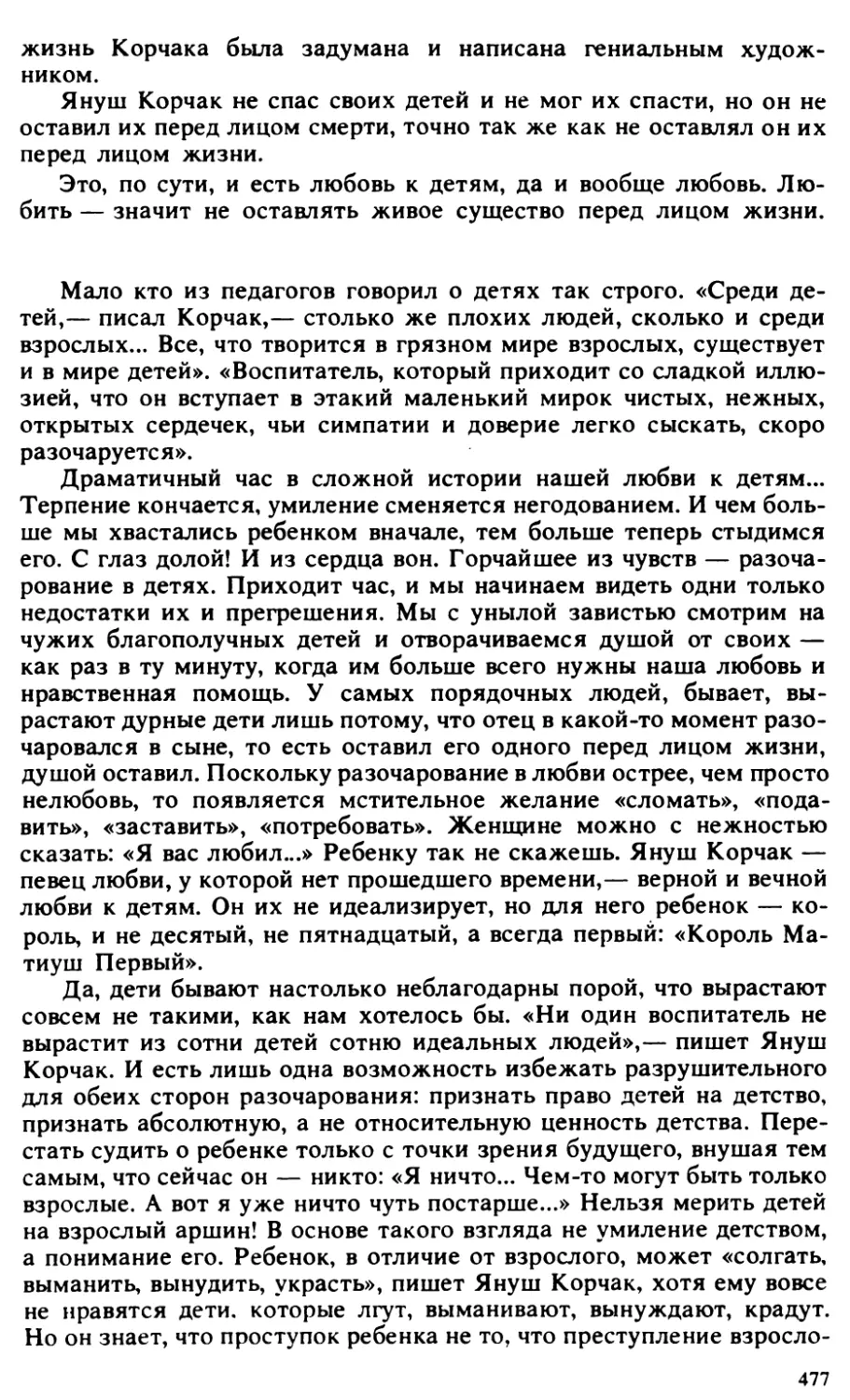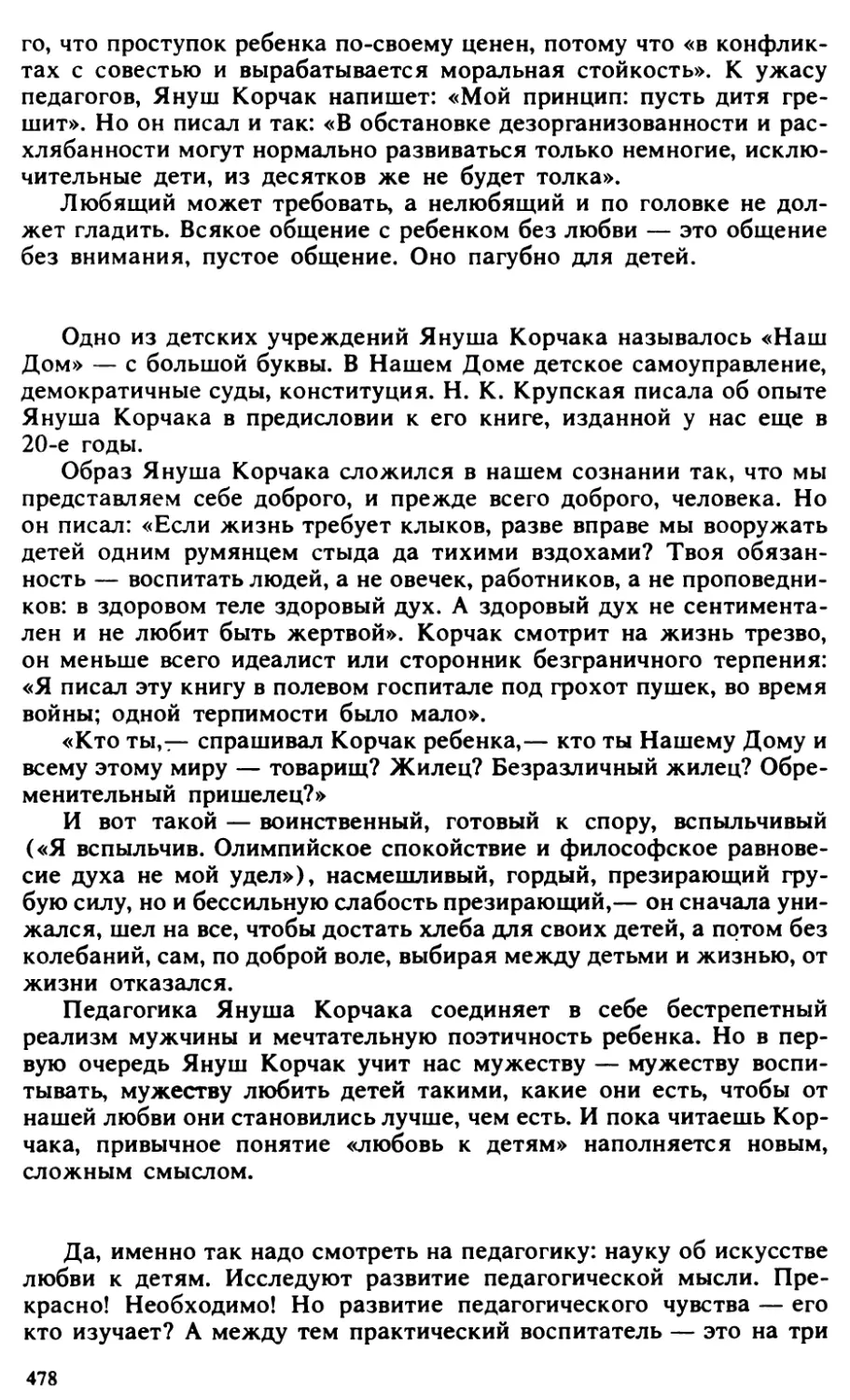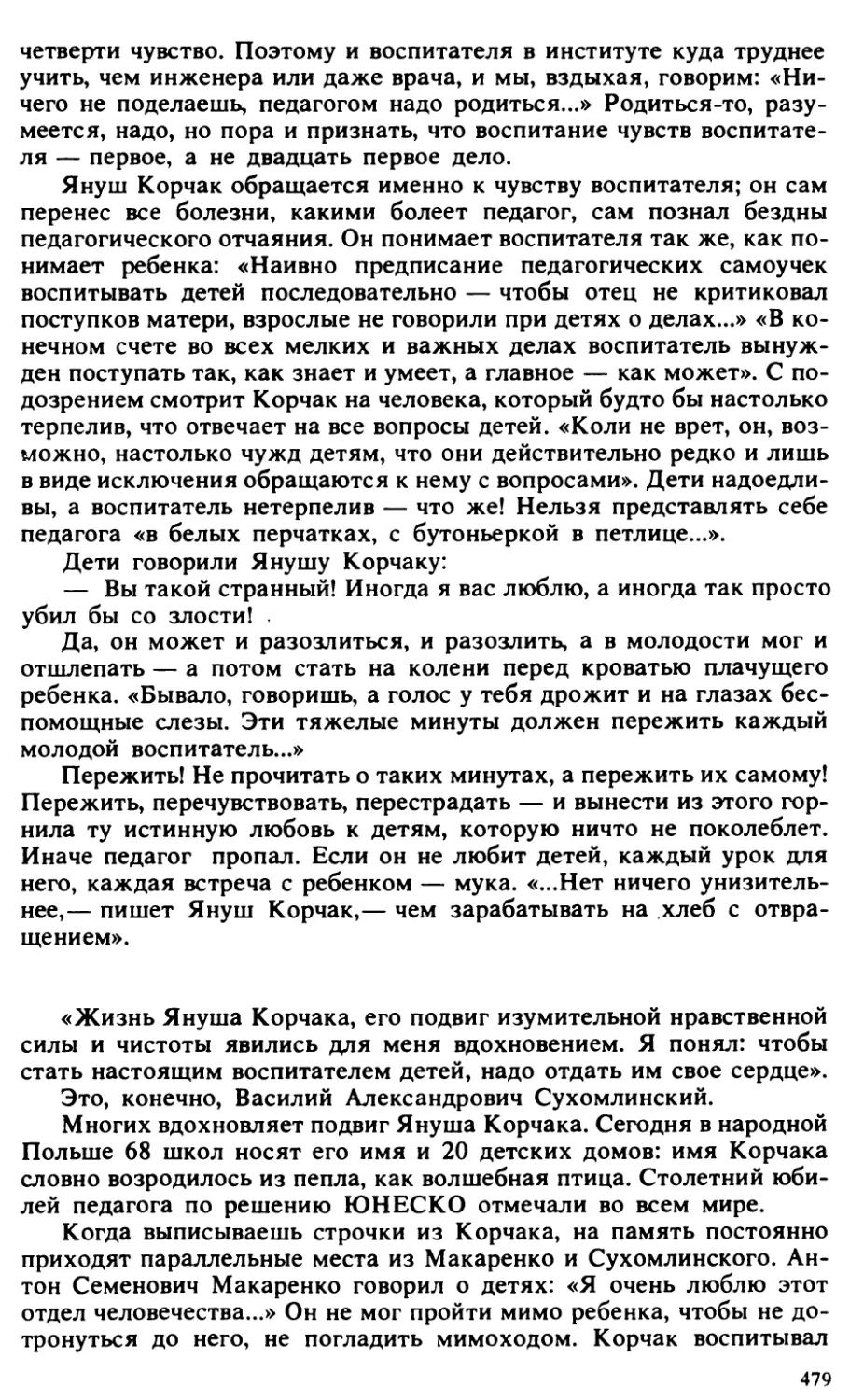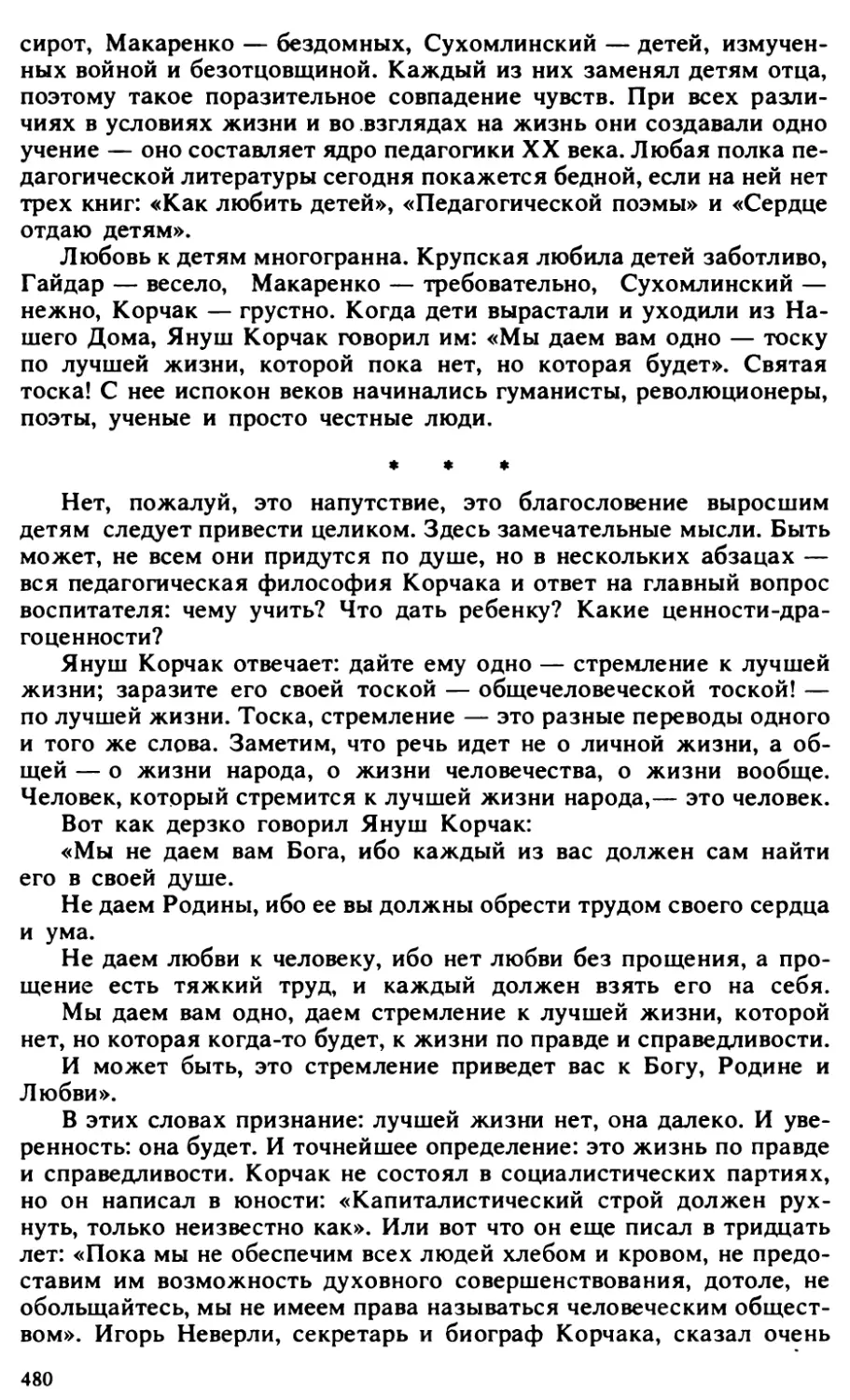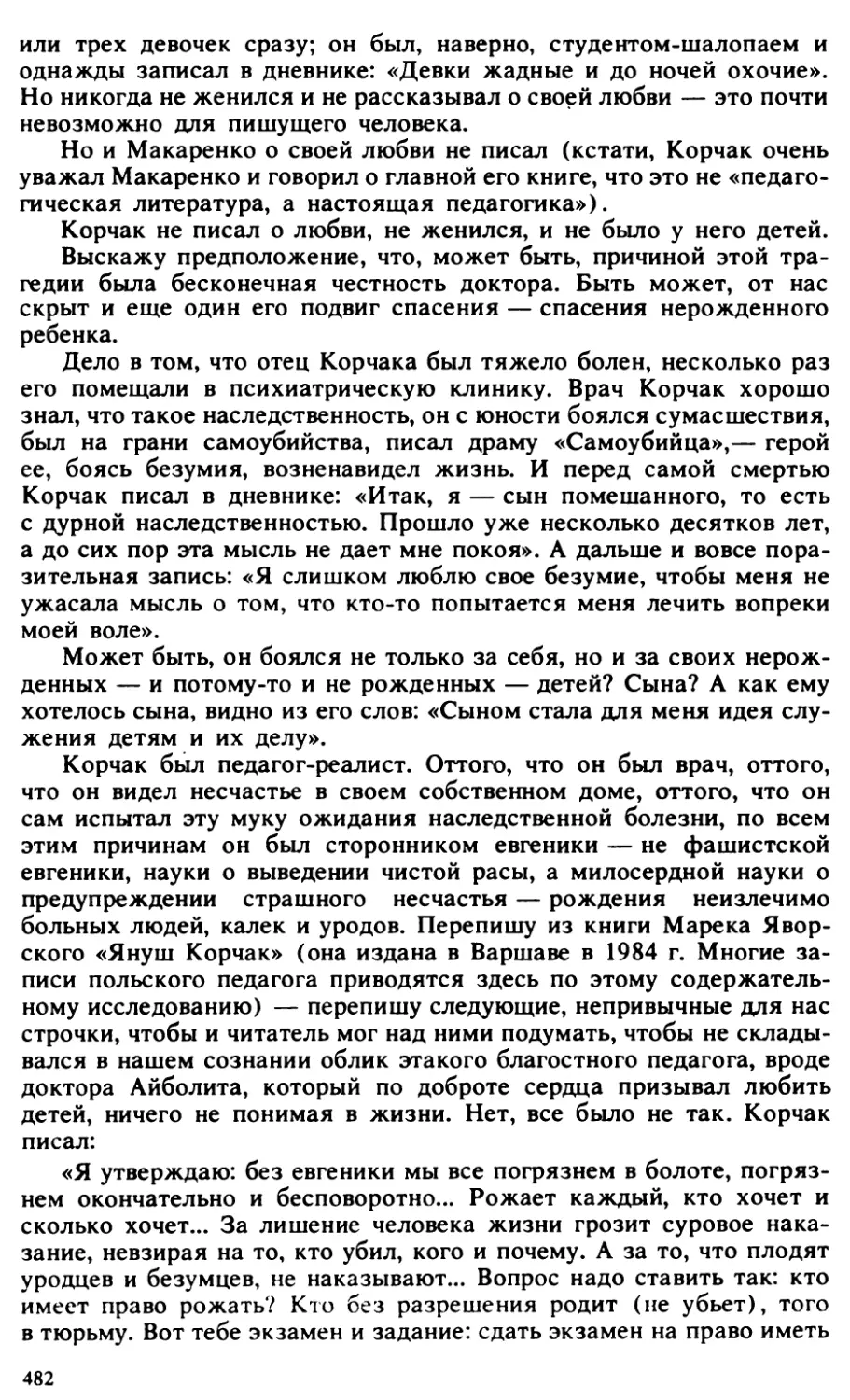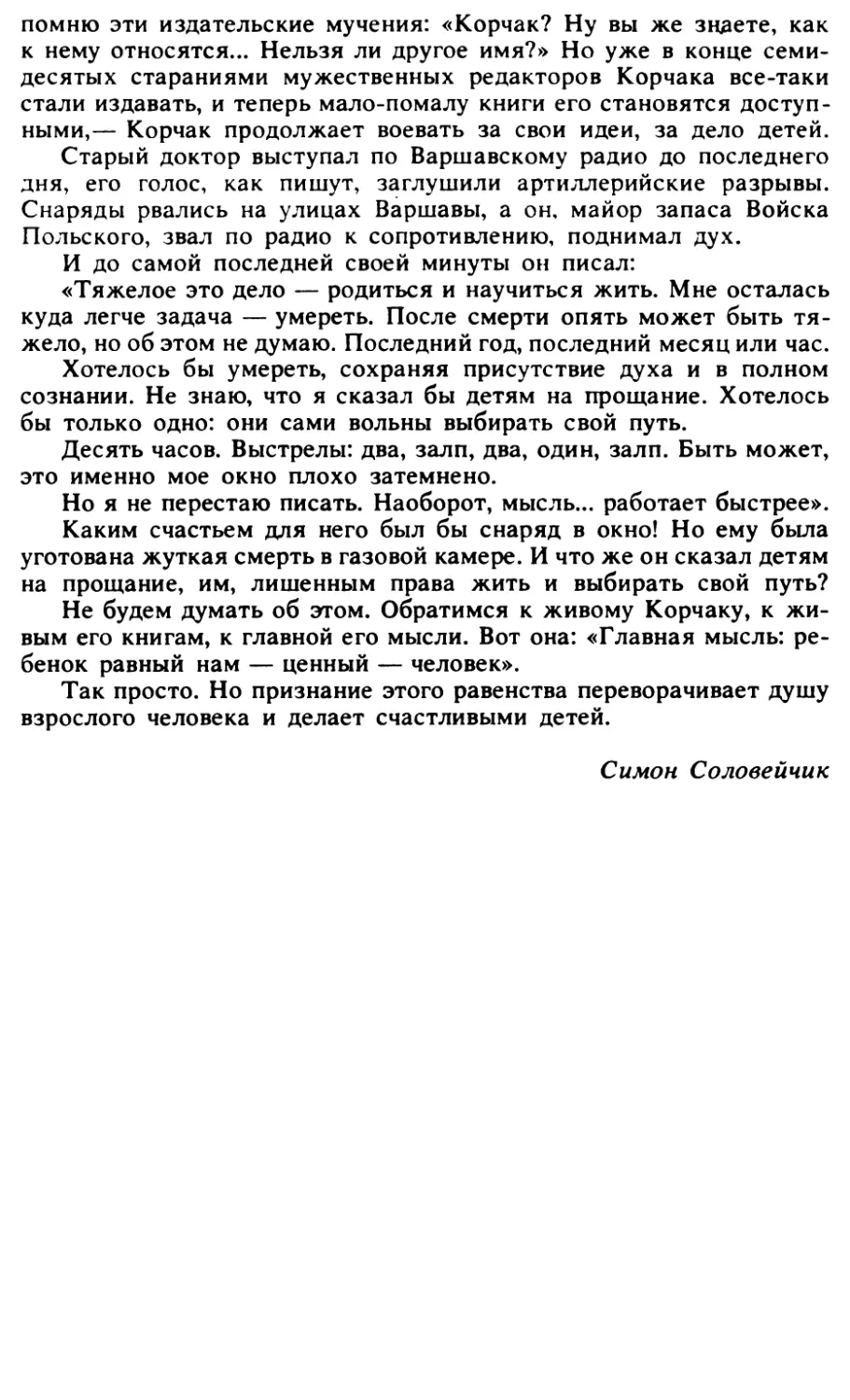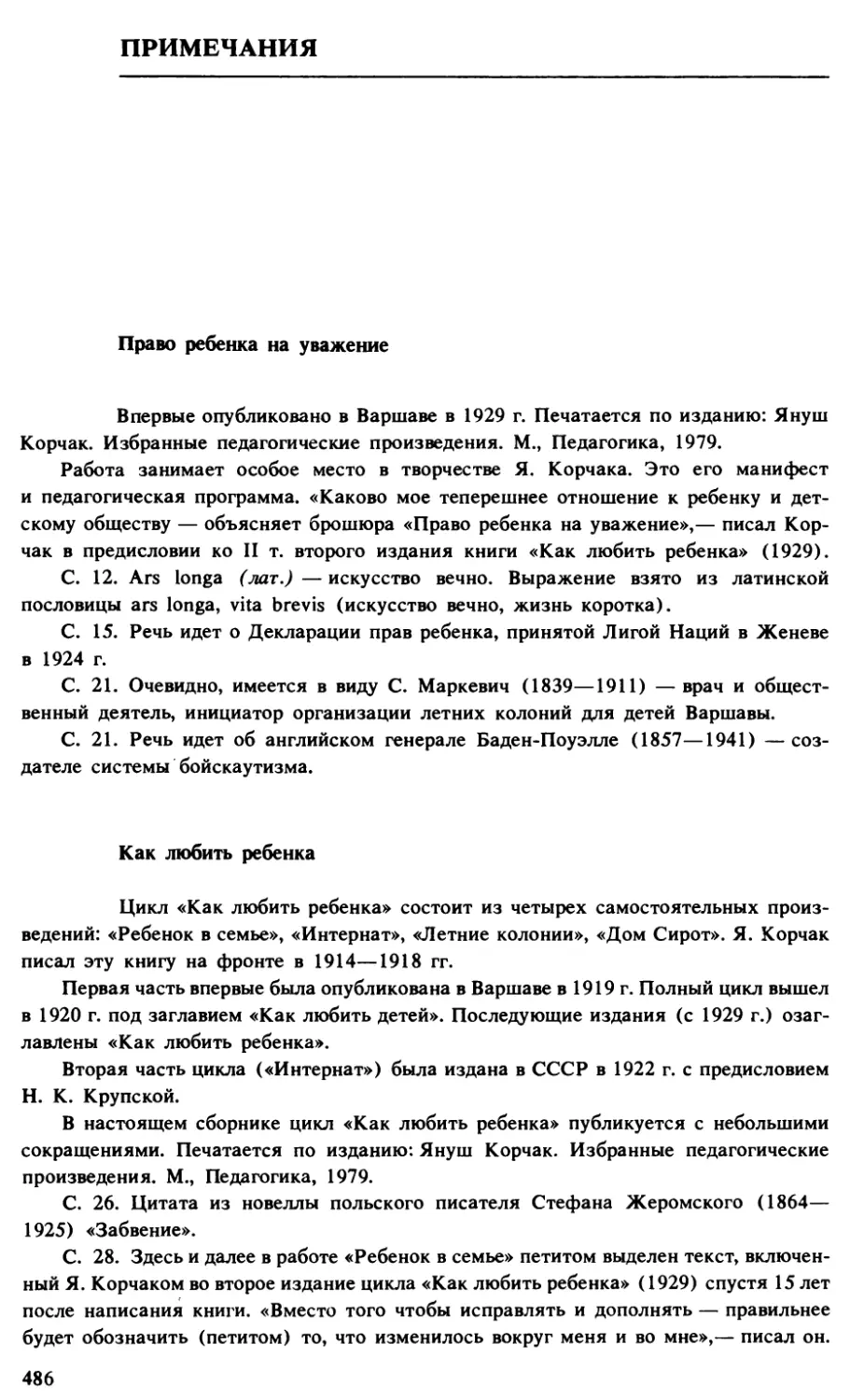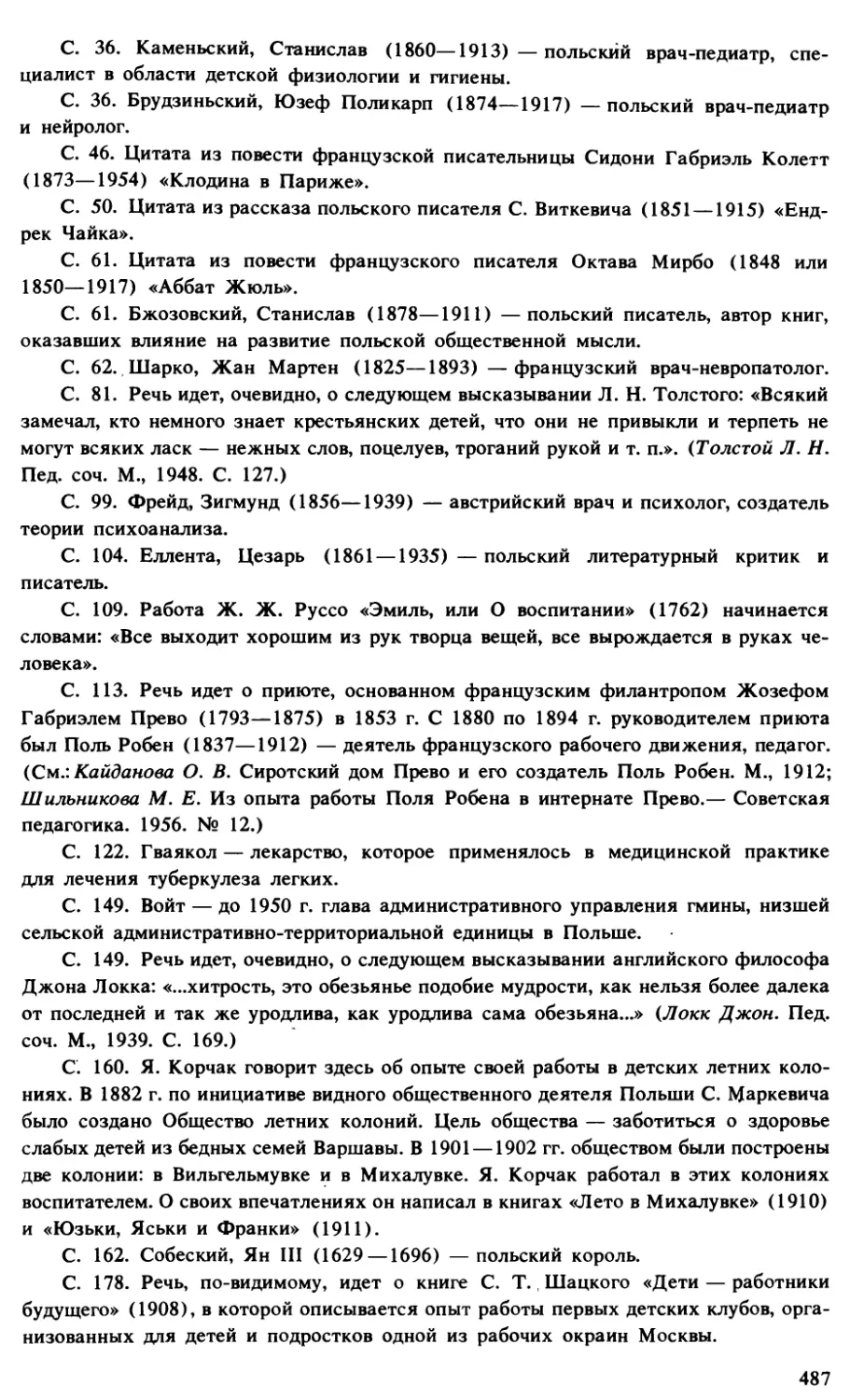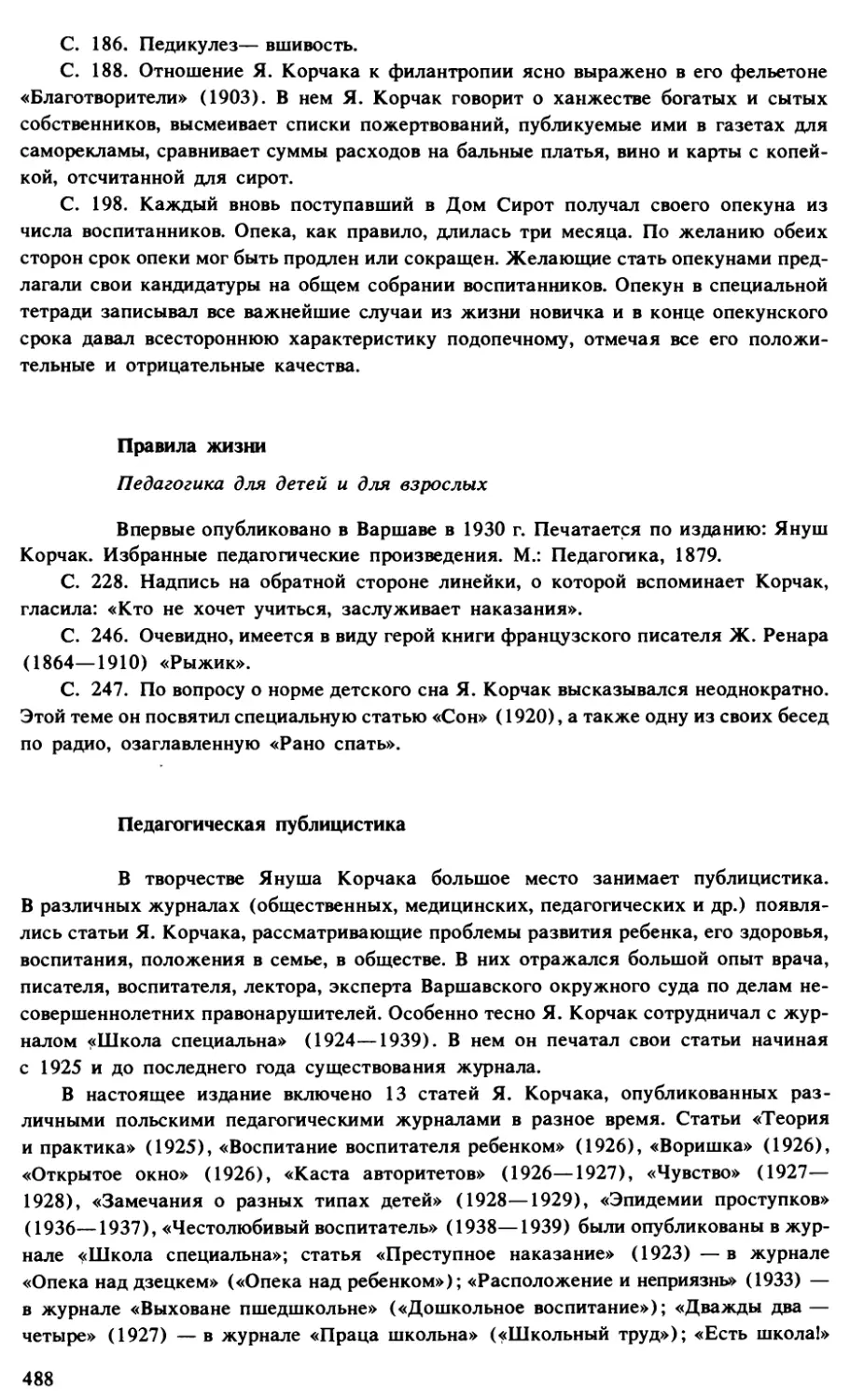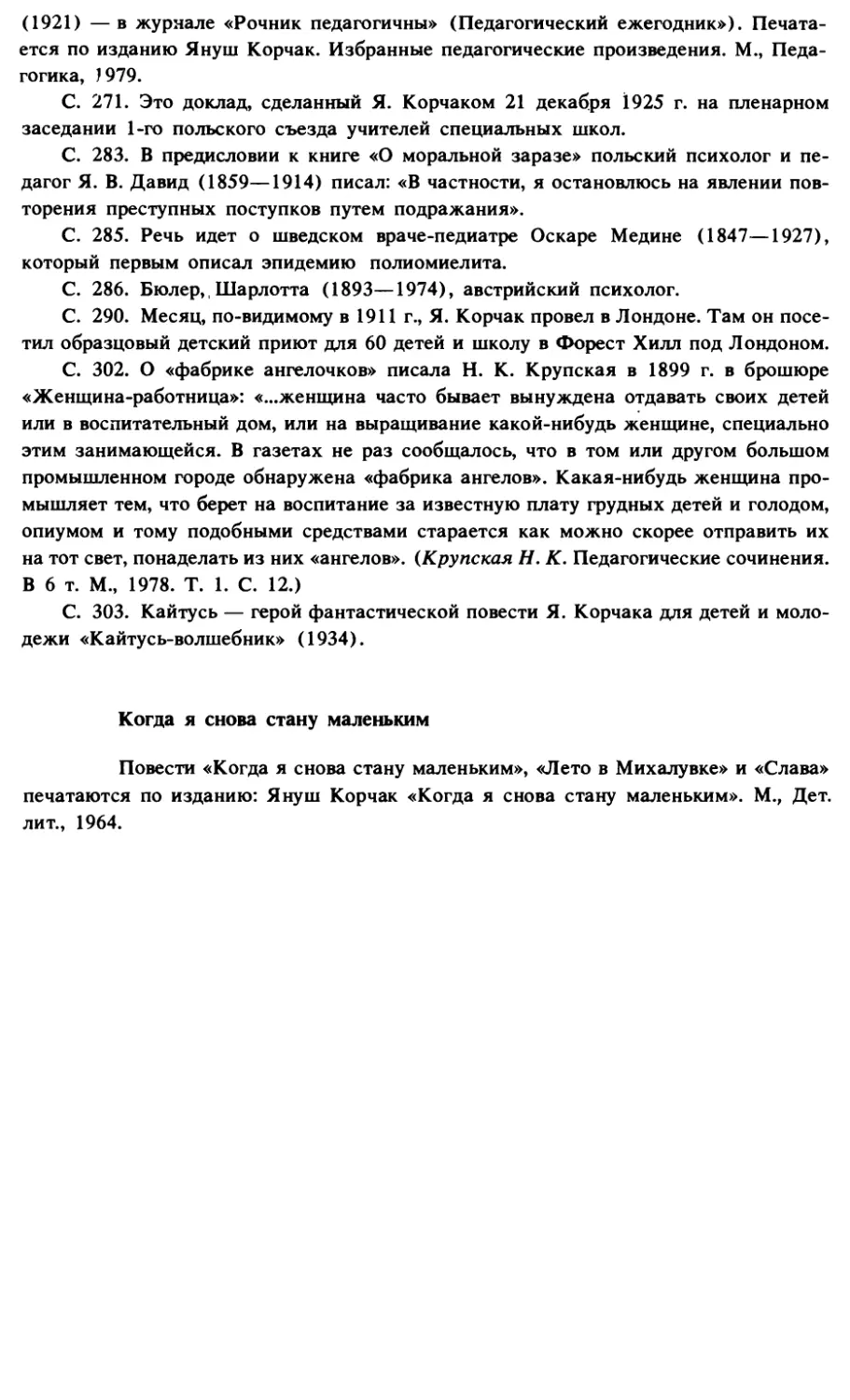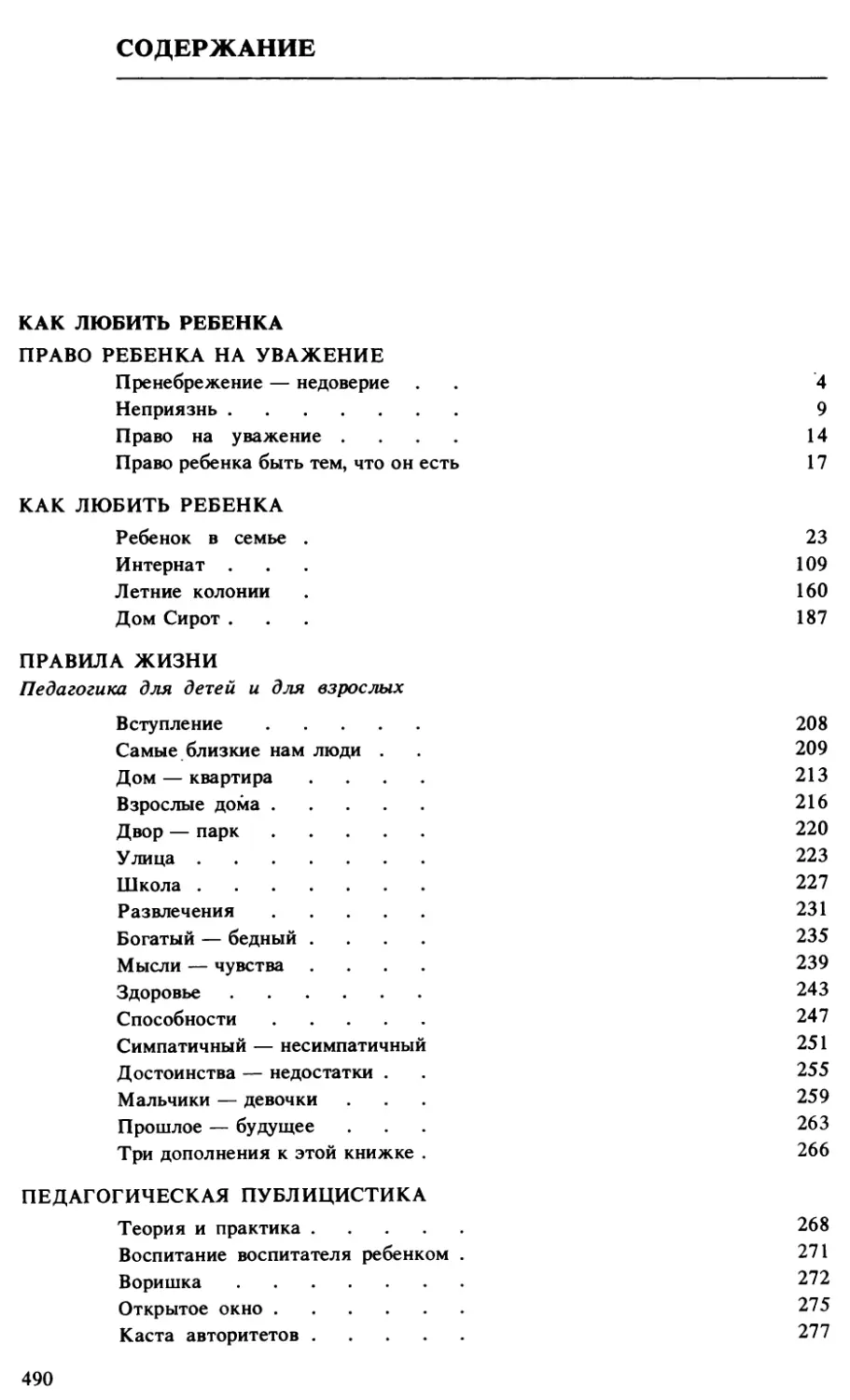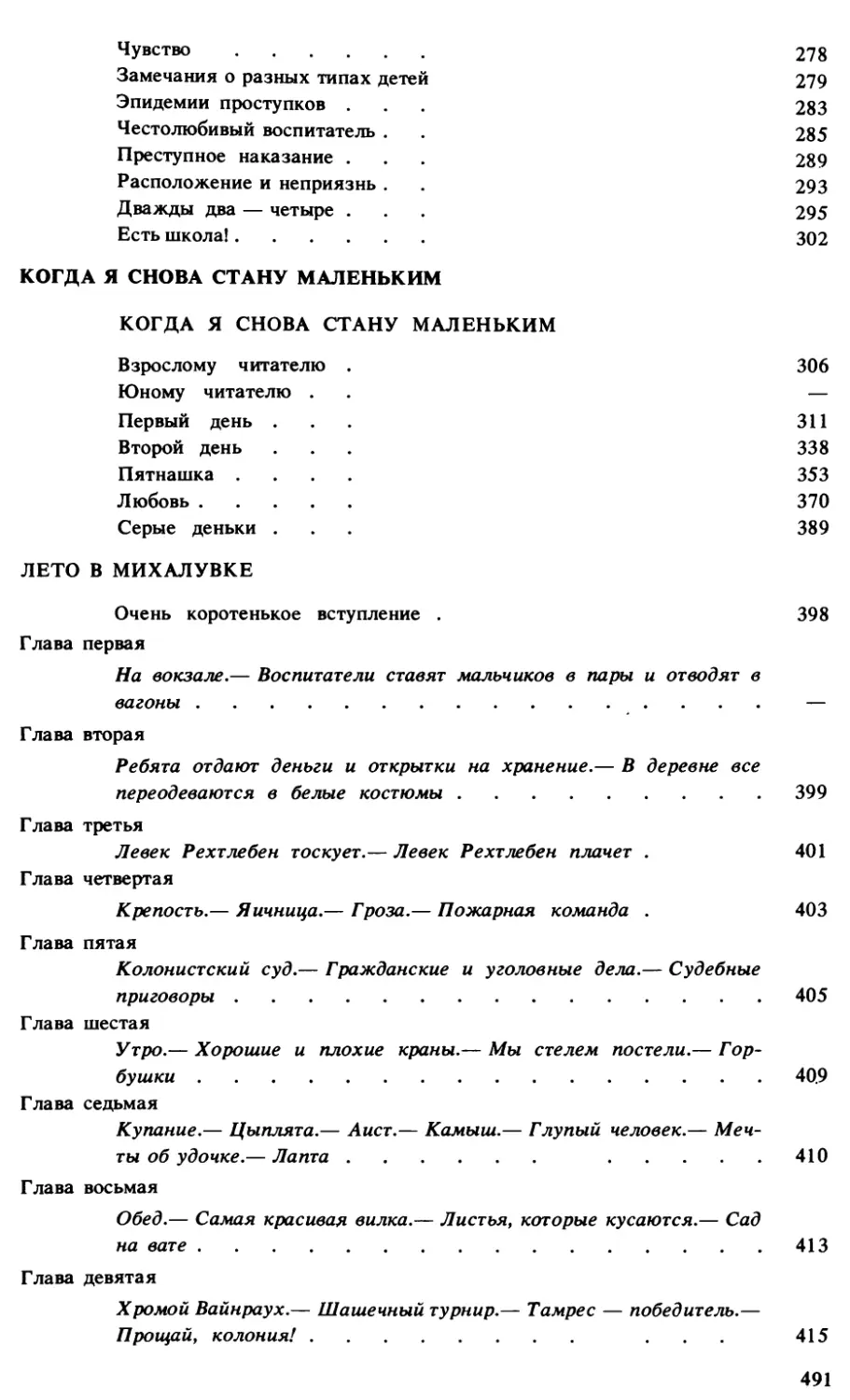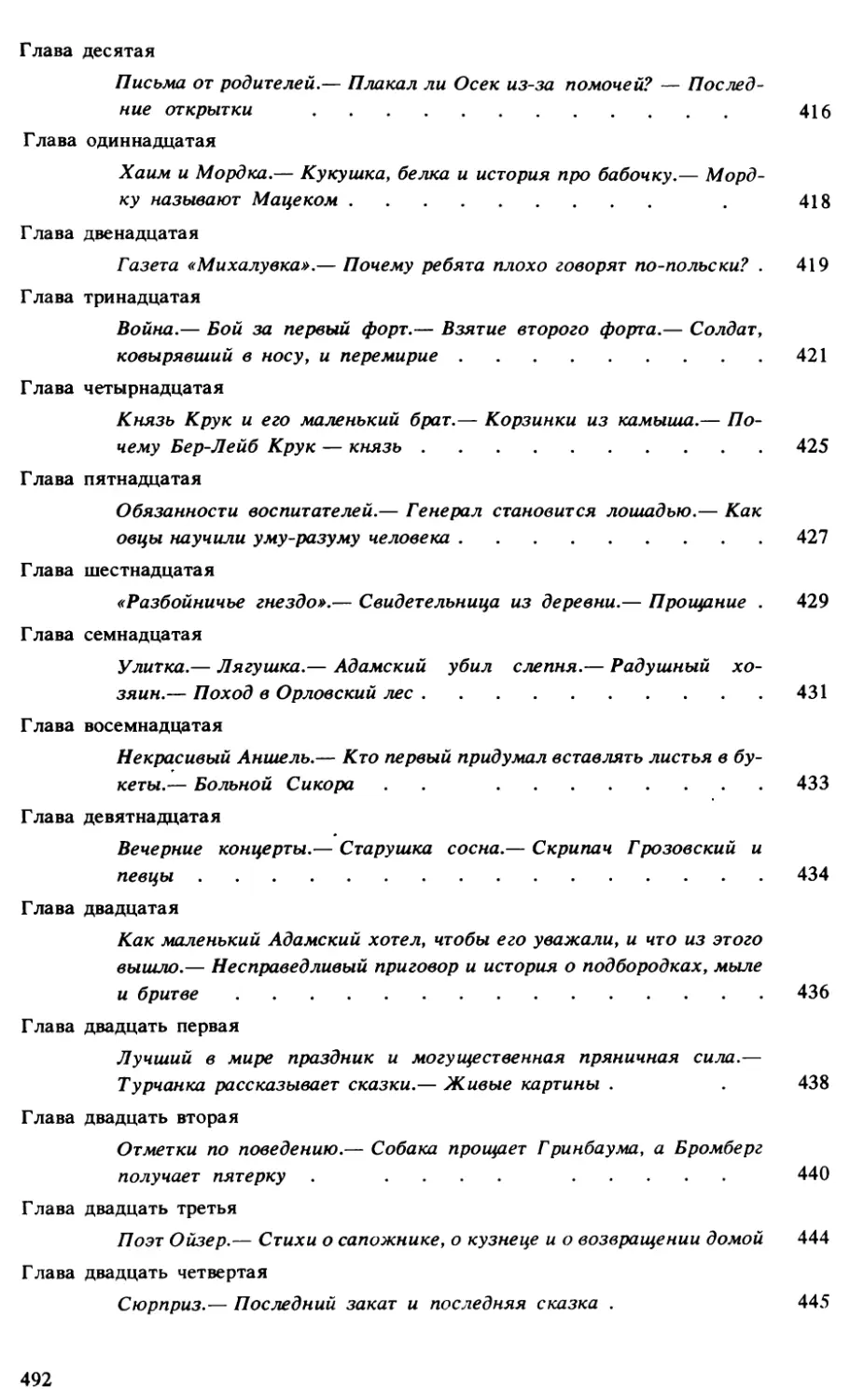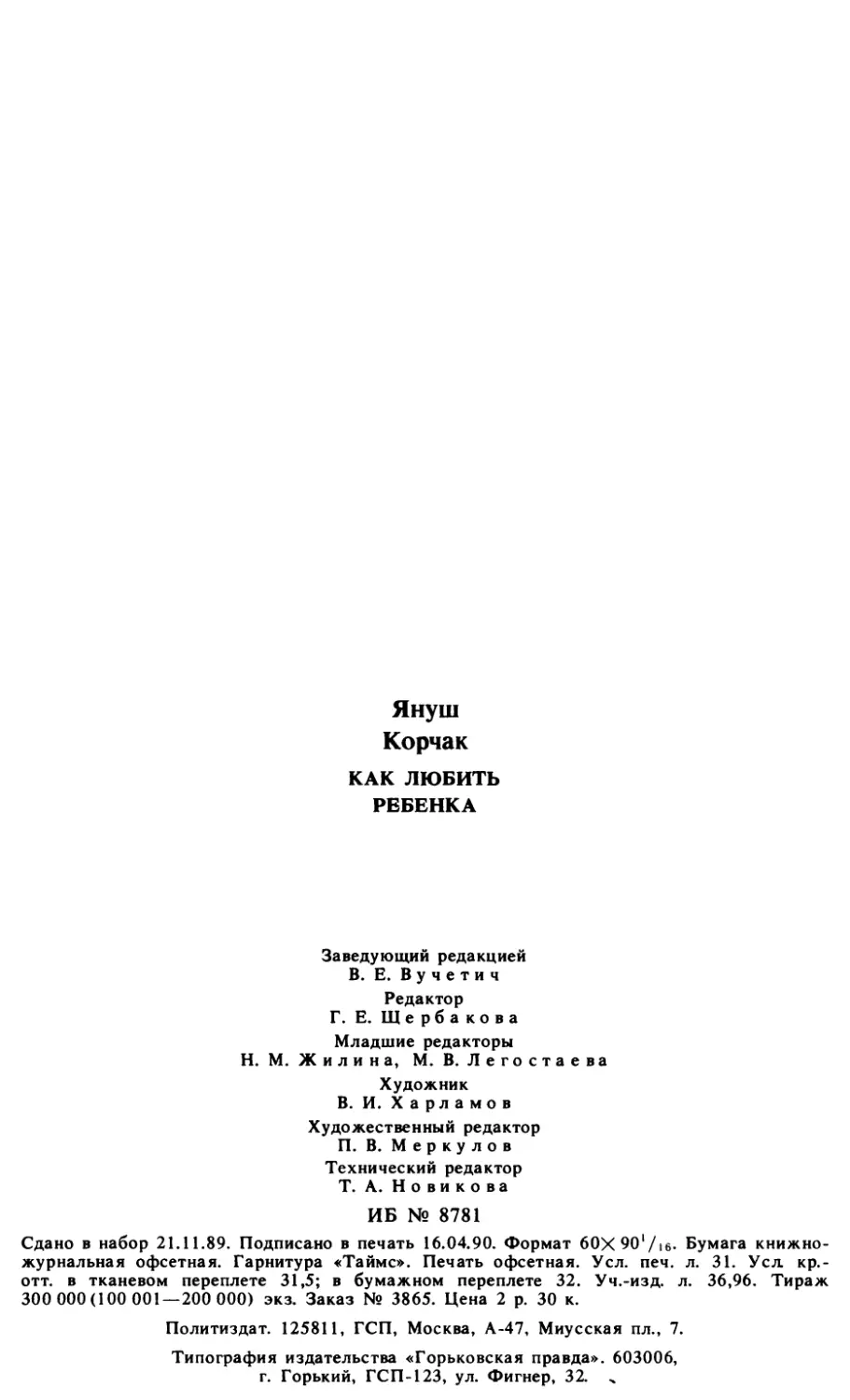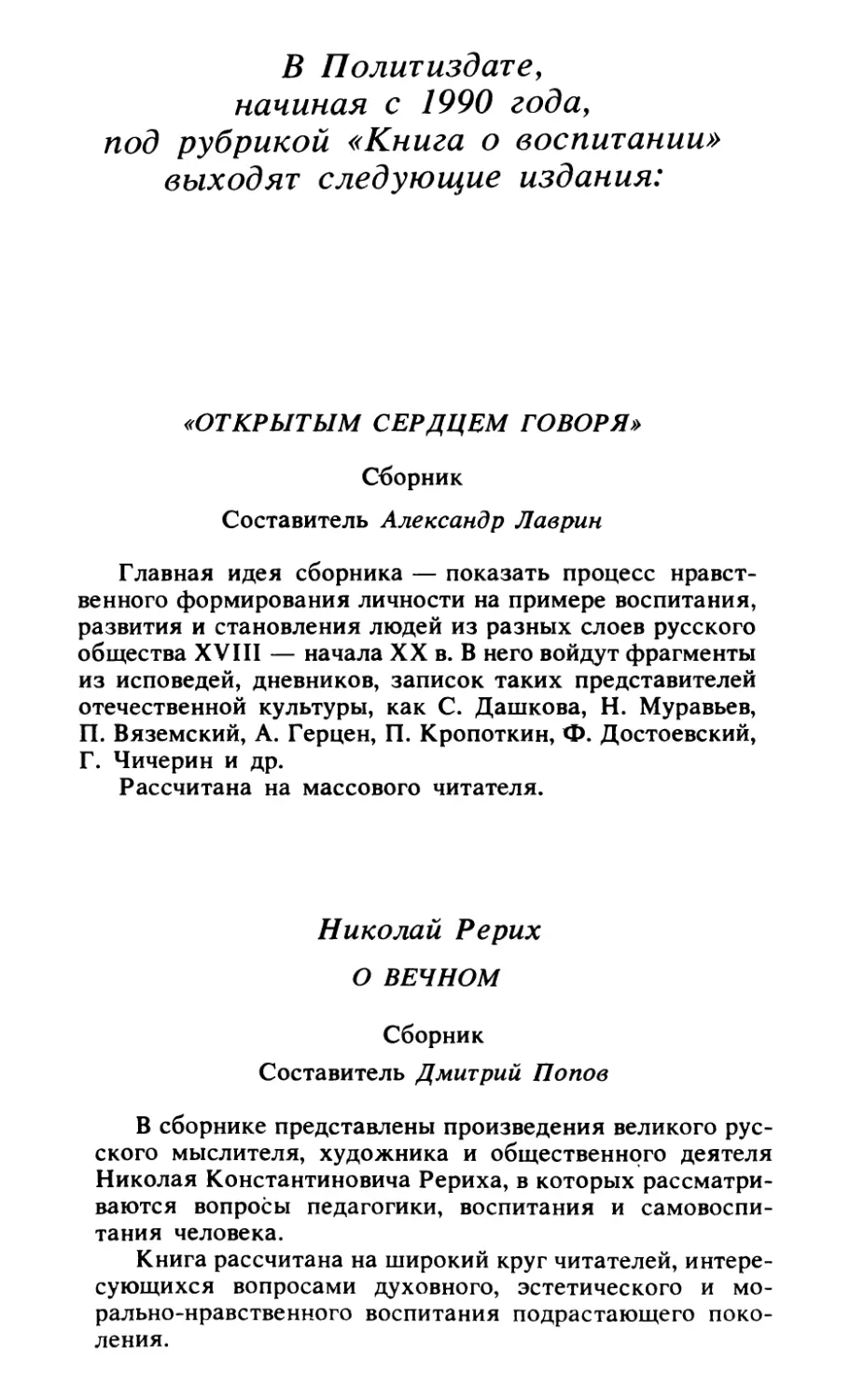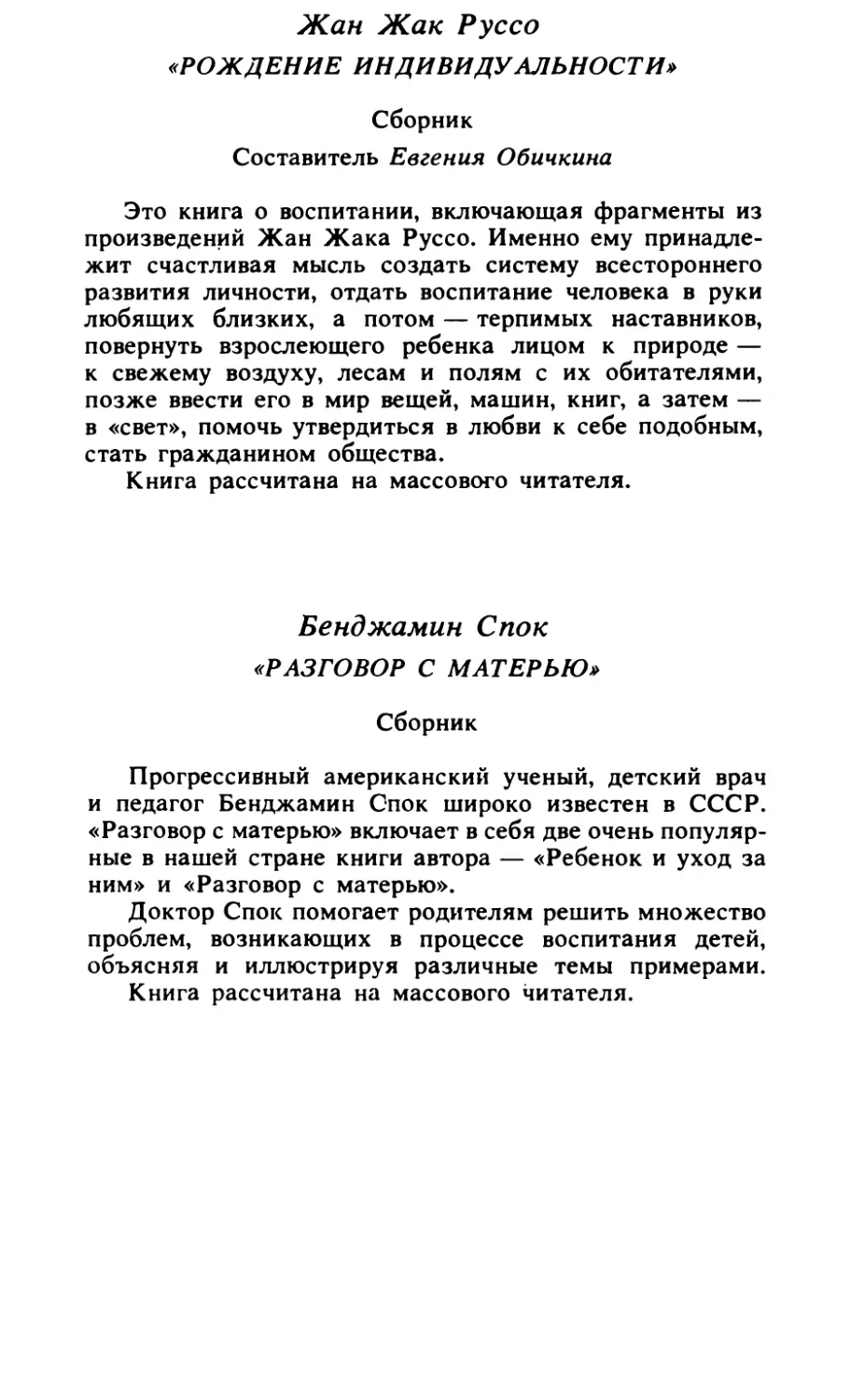Автор: Корчак Я.
Теги: народное образование педагогическая наука психология
ISBN: 5-250-01105-5
Год: 1990
Текст
Януш
Кшчак
Москва
Издательство
политический
литературы
1990
ББК—7«
К70
Перевод с польского
К. Э. Сенкевич
Автор примечаний
Е. С. Рубенчик
Корчак Я.
К70 Как любить ребенка: Книга о воспитании: Пер. с польск.—
М.: Политиздат, 1990.— 493 с: ил.
ISBN 5—250—01105—5
В книге представлены работы выдающегося польского педагога-гуманиста и
писателя Януша Корчака. В основу своей педагогики он положил чудесный сплав
любви и уважения к ребенку и светлую мечту о мире, где дети будут избавлены от
всего, что их унижает, где их счастье будет обусловлено счастьем и свободой всего
народа.
Рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся вопросами воспитания
подрастающего поколения.
к 0303050000-130 76_91 ББК 74 9
079(02)—90
ISBN 5—250—01105—5 © ЯНУШ КОРЧАК, 1990
Как любить
ребенка
ПРАВО РЕБЕНКА
НА УВАЖЕНИЕ
Пренебрежение — недоверие
С ранних лет мы растем в сознании, что большое — важнее,
чем малое.
— Я большой,— радуется ребенок, когда его ставят на стол.
— Я выше тебя,— отмечает он с чувством гордости, меряясь с
ровесником.
Неприятно вставать на цыпочки и не дотянуться, трудно мел-
кими шажками поспевать за взрослым, из крохотной ручонки вы-
скальзывает стакан. Неловко и с трудом влезает ребенок на стул,
в коляску, на лестницу; не может достать дверную ручку, посмотреть
в окно, что-либо снять или повесить, потому что высоко. В толпе за-
слоняют его, не заметят и толкнут. Неудобно, неприятно быть ма-
леньким.
Уважение и восхищение вызывает большое, то, что занимает
много места. Маленький же повседневен, неинтересен. Маленькие
люди — маленькие и потребности, радости и печали.
Производят впечатление — большой город, высокие горы, боль-
шие деревья. Мы говорим:
— Великий подвиг, великий человек.
А ребенок мал, легок, не чувствуешь его в руках. Мы должны на-
клониться к нему, нагнуться.
А что еще хуже, ребенок слаб.
Мы можем его поднять, подбросить вверх, усадить против воли,
можем насильно остановить на бегу, свести на нет его усилия.
Всякий раз, когда он не слушается, у меня про запас есть сила.
Я говорю: «Не уходи, не тронь, подвинься, отдай». И он знает, что
обязан уступить; а ведь сколько раз пытается ослушаться, прежде
чем поймет, сдастся, покорится!
Кто и когда, в каких исключительных условиях осмелится толк-
нуть, тряхнуть, ударить взрослого? А какими обычными и невинны-
ми кажутся нам наши шлепки, волочения ребенка за руку, грубые
«ласковые» объятия!
Чувство слабости вызывает почтение к силе; каждый, уже не
только взрослый, но и ребенок постарше, посильнее, может выразить
в грубой форме неудовольствие, подкрепить требование силой, за-
ставить слушаться: может безнаказанно обидеть.
Мы учим на собственном примере пренебрежительно относиться
к тому, что слабее. Плохая наука, мрачное предзнаменование.
4
Облик мира изменился. Уже не сила мускулов выполняет рабо-
ты и обороняет от врага, не сила мускулов вырывает у земли, у моря
и лесов владычество, благосостояние и безопасность. Закабален-
ный раб — машина! Мускулы утратили свои исключительные права
и цену. Тем больший почет уму и знаниям.
Подозрительный чулан, скромная келья мыслителя разрослись в
залы исследовательских институтов. Нарастают этажи библиотек,
полки гнутся под тяжестью книг. Святыни гордого разума запол-
нились людьми. Человек науки творит и повелевает. Иероглифы
цифр и знаков опять и опять обрушивают на толпы новые достиже-
ния, свидетельствуя о мощи человечества. Все это надо охватить па-
мятью и постичь.
Продлеваются годы упорной учебы, все больше школ, экзаменов,
печатного слова. А ребенок маленький, слабенький, живет еще не-
долго — не читал, не знает...
Грозная проблема — как делить завоеванные пространства, ка-
кие и кому давать задания и вознаграждения, как освоить покорен-
ный земной шар. Сколько и как разбросать мастерских, чтобы на-
кормить алчущие труда руки и мозг, как удержать человечий мура-
вейник в повиновении и порядке, как застраховать себя от злой воли
и сумасбродства личности, как наполнить часы жизни действием,
отдыхом, развлечениями, уберечь от апатии, пресыщения, скуки.
Как сплачивать людей в дисциплинированные союзы, облегчать
взаимопонимание; когда разъединять и делить. Здесь подгонять,
ободрять, там сдерживать, здесь разжигать пыл, там гасить.
Осторожно действуют политики и законодатели, да и то часто
ошибаются.
И о ребенке взрослые совещаются и решают; но кто станет у на-
ивного спрашивать его мнения, его согласия: что он может сказать?
Кроме ума и знаний в борьбе за существование и за вес в общест-
ве помогает смекалка. Человек расторопный чует поживу и срывает
куш; вопреки всем расчетам, сразу и легко зашибает деньгу; пора-
жает и вызывает зависть. Досконально приходится знать человека, и
уже не алтари, а хлева жизни.
А ребенок семенит беспомощно с учебником, мячом и куклой,
смутно чувствуя, что без его участия где-то над ним совершается
что-то важное и большое, что решает, есть ему доля или нет доли, ка-
рает и награждает и сокрушает.
Цветок — предвестник будущего плода, цыпленок станет кури-
цей-несушкой, телка будет давать молоко. А до тех пор — старания,
траты и забота — убережешь ли, не подведет ли?
Все растущее вызывает тревогу, долго ведь приходится ждать;
может быть, и будет опорой старости, и воздаст сторицею. Но жизнь
знает засухи, заморозки и град, которые побивают и губят жатву.
Мы ждем предзнаменований, хотим предугадать, оградить; тре-
вожное ожидание того, что будет, усиливает пренебрежение к тому,
что есть.
Мала рыночная стоимость несозревшего. Лишь перед законом и
богом цвет яблони стоит столько же, что и плод, и зеленые всходы —
сколько спелые нивы.
Мы пестуем, заслоняем от бед, кормим и обучаем. Ребенок по-
лучает все без забот; чем он был бы без нас, которым всем обязан?
Исключительно, единственно и все — мы.
Зная путь к успеху, мы указываем и советуем. Развиваем до-
стоинства, подавляем недостатки. Направляем, поправляем, при-
учаем. Он — ничто, мы — все.
Мы распоряжаемся и требуем послушания.
Морально и юридически ответственные, знающие и предвидящие,
мы единственные судьи поступков, душевных движений, мыслей и
намерений ребенка.
Мы поручаем и проверяем выполнение по нашему хотению и ра-
зумению — наши дети, наша собственность — руки прочь!
(Правда, кое-что изменилось. Уже не только воля и исключи-
тельный авторитет семьи — еще осторожный, но уже общест-
венный контроль. Слегка, незаметно.)
Нищий распоряжается милостыней как заблагорассудится, а у
ребенка нет ничего своего, он должен отчитываться за каждый даром
полученный в личное пользование предмет.
Нельзя порвать, сломать, запачкать, нельзя подарить, нельзя с
пренебрежением отвергнуть. Ребенок должен принять и быть до-
вольным. Все в назначенное время и в назначенном месте, благора-
зумно и согласно предназначению.
Может быть, поэтому он так ценит ничего не стоящие пустячки,
которые вызывают у нас удивление и жалость: разный хлам — един-
ственная по-настоящему собственность и богатство — шнурок, ко-
робок, бусинки.
Взамен за эти блага ребенок должен уступать, заслуживать хоро-
шим поведением — выпроси или вымани, но только не требуй! Нич-
то ему не причитается, мы даем добровольно. (Возникает печальная
аналогия: подруга богача.)
Из-за нищеты ребенка и милости материальной зависимости
отношение взрослых к детям аморально.
Мы пренебрегаем ребенком, ибо он не знает, не догадывается, не
предчувствует. Не знает трудностей и сложности жизни взрослых,
не знает, откуда наши подъемы и упадки и усталость, что нас лишает
покоя и портит нам настроение; не знает зрелых поражений и банк-
ротств. Легко отвлечь внимание наивного ребенка, обмануть, утаить
от него.
Он думает, что жизнь проста и легка. Есть папа, есть мама; отец
зарабатывает, мама покупает. Ребенок не знает ни измены долгу, ни
приемов борьбы взрослых за свое и не свое.
Свободный от материальных забот, от соблазнов и от сильных
потрясений, он не может о них и судить. Мы его разгадываем момен-
6
тально, пронзаем насквозь небрежным взглядом, без предваритель-
ного следствия раскрываем неуклюжие хитрости.
А быть может, мы обманываемся, видя в ребенке лишь то, что
хотим видеть?
Быть может, он прячется от нас, быть может, втайне страдает?
Мы опустошаем горы, вырубаем деревья, истребляем диких зве-
рей. Там, где раньше были дебри и топи,— все многочисленнее селе-
ния. Мы насаждаем человека на новых землях.
Нами покорен мир, нам служат и зверь, и железо; порабощены
цветные расы, определены в общих чертах взаимоотношения наций
и задобрены массы. Далеко еще до справедливых порядков, больше
на свете обид и мытарств.
Несерьезными кажутся ребячьи сомнения и протесты.
Светлый ребячий демократизм не знает иерархии. Прежде вре-
мени печалит ребенка пот батрака и голодный ровесник, злая доля
Савраски и зарезанной курицы. Близки ему собака и птица, ровня —
бабочка и цветок, в камушке и ракушке он видит брата. Чуждый вы-
сокомерию выскочки, ребенок не знает, что душа только у человека.
Мы пренебрегаем ребенком, ведь впереди у него много часов жиз-
ни.
Чувствуем тяжесть наших шагов, неповоротливость корыстных
движений, скупость восприятий и переживаний. А ребенок бегает
и прыгает, смотрит на что попало, удивляется и расспрашивает; лег-
комысленно льет слезы и щедро радуется.
Ценен погожий осенний день, когда солнце редкость, а весной и
так зелено. Хватит и кое-как, мало ему для счастья надо, стараться
не к чему. Мы поспешно и небрежно отделываемся от ребенка. Пре-
зираем многообразие его жизни и радость, которую ему легко дать.
Это у нас убегают важные минуты и годы; у него время терпит,
успеет еще, подождет.
Ребенок не солдат, не обороняет родину, хотя вместе с ней и
страдает.
С его мнением нет нужды считаться, не избиратель: не заявляет,
не требует, не грозит.
Слабый, маленький, бедный, зависящий — ему еще только быть
гражданином.
Снисходительное ли, резкое ли, грубое ли, а все — пренебреже-
ние.
Сопляк, еще ребенок — будущий человек, не сегодняшний. По-
настоящему он еще только будет.
Присматривать, ни на минуту не сводить глаз. Присматривать,
не оставлять одного. Присматривать, не отходить ни на шаг.
Упадет, ударится, порежется, испачкается, прольет, порвет, сло-
мает, испортит, засунет куда-нибудь, потеряет, подожжет, впус-
тит в дом вора. Повредит себе, нам, покалечит себя, нас, товарища
по игре. -
Надзирать — никаких самостоятельных начинаний — полное
право контроля и критики.
Не знает, сколько и чего ему есть, сколько и когда ему пить,
не знает границ своих сил. Стало быть, стоять на страже диеты, сна,
отдыха.
Как долго? С какого времени? Всегда. С возрастом недоверие
к ребенку принимает иной характер, но не уменьшается, а даже воз-
растает.
Ребенок не различает, что важно, а что неважно. Чужды ему по-
рядок, систематический труд. Рассеянный, он забудет, пренебре-
жет, упустит. Не знает, что своим будущим за все ответит.
Мы должны наставлять, направлять, приучать, подавлять, сдер-
живать, исправлять, предостерегать, предотвращать, прививать,
преодолевать.
Преодолевать капризы, прихоти, упрямство.
Прививать осторожность, осмотрительность, опасения и беспо-
койство, умение предвидеть и даже предчувствовать.
Мы, опытные, знаем, сколько вокруг опасностей, засад, ловушек,
роковых случайностей и катастроф.
Знаем, что и величайшая осторожность не дает полной гаран-
тии — и тем более мы подозрительны: чтобы иметь чистую со-
весть, и случись беда, так хоть не в чем было себя упрекнуть.
Мил ему азарт шалостей, удивительно, как он льнет именно к
дурному. Охотно слушает дурные нашептывания, следует самым
плохим примерам.
Портится легко, а исправить трудно.
Мы ему желаем добра, хотим облегчить; весь свой опыт отдаем
без остатка: протяни только руку — готовое! Знаем, что вредно
детям, помним, что повредило нам самим, пусть хоть он избежит
этого, не узнает, не испытает.
«Помни, знай, пойми».
«Сам убедишься, сам увидишь».
Не слушает! Словно нарочно, словно назло.
Приходится следить, чтобы послушался, приходится следить,
чтобы выполнил. Сам он явно стремится ко всему дурному, выби-
рает худший, опасный путь.
Как же терпеть бессмысленные проказы, нелепые выходки,
необъяснимые вспышки?
Подозрительно выглядит первичное существо. Кажется по-
корным и невинным, а по существу хитро и коварно.
Умеет ускользнуть от контроля, усыпить бдительность, обмануть.
Всегда у него готова отговорка, увертка, утаит, а то и вовсе солжет.
Ненадежный, вызывает разного рода сомнения.
Презрение и недоверие, подозрения и желание обвинить.
Печальная аналогия: дебошир, человек пьяный, взбунтовавший-
ся, сумасшедший. Как же — вместе, под одной крышей?
8
Неприязнь
Это ничего. Мы любим детей. Несмотря ни на что, они наша
услада, бодрость, надежда, радость, отдых, светоч жизни. Не спу-
гиваем, не обременяем, не терзаем; дети свободны и счаст-
ливы...
Но отчего они как бы бремя, помеха, неудобный привесок? От-
куда неприязнь к любимому ребенку?
Прежде чем он мог приветствовать этот негостеприимный мир,
в жизнь семьи уже вкрались растерянность и ограничения. Канули
безвозвратно краткие месяцы долгожданной законной радости.
Длительный период неповоротливого недомогания завершают
болезнь и боли, беспокойные ночи и дополнительные расходы. Ут-
рачен покой, исчез порядок, нарушено равновесие бюджета.
Вместе с кислым запахом пеленок и пронзительным криком но-
ворожденного забряцала цепь супружеской неволи.
Тяжело, когда нельзя договориться и надо додумывать и дога-
дываться.
Но мы ждем, быть может, даже и терпеливо.
А когда наконец он начнет ходить и говорить,— путается под
ногами, все хватает, лезет во все щели, основательно-таки мешает
и вносит непорядок — маленький неряха и деспот.
Причиняет ущерб, противопоставляет себя нашей разумной воле.
Требует и понимает лишь то, что его душеньке угодно.
Не следует пренебрегать мелочами: обида на детей складывается
и из раннего вставания, и смятой газеты, пятен на платьях и обоях,
обмоченного ковра, разбитых очков и сувенирной вазочки, пролито-
го молока и духов и гонорара врачу.
Спит не тогда, когда нам желательно, ест не так, как нам хочется;
мы-то думали — засмеется, а он испугался и плачет. А хрупок как!
Любой недосмотр грозит болезнью, суля новые трудности.
Если один из родителей прощает, другой — в пику тому — не
спускает и придирается; кроме матери имеют свое мнение о ребен-
ке отец, няня, прислуга и соседка; и наперекор матери или тайком
наказывают ребенка.
Маленький интриган бывает причиной трений и неладов между
взрослыми; всегда кто-нибудь недоволен и обижен. За поблажку
одного ребенок отвечает перед другим. Часто за мнимой добротой
скрывается простая небрежность, ребенок делается ответчиком за
чужие вины.
(Девочки и Мальчики не любят, когда их называют: дети. Общее
с самыми маленькими название заставляет отвечать за давнее про-
шлое, разделять дурную репутацию малышей, выслушивать мно-
гочисленные попреки, к ним, старшим, уже не относящиеся.)
Как редко ребенок бывает таким, как нам хочется, как часто рост
его сопровождается чувством разочарования!
— Кажется, ведь уже должен бы...
Взамен того, что мы даем ему добровольно, он обязан старать-
ся и вознаграждать, обязан понимать, соглашаться и уметь отказы-
ваться; и прежде всего — испытывать благодарность. И обязанно-
сти, и требования с годами растут, а выполняются чаще всего мень-
ше и иначе, чем мы хотели бы.
Часть идущего на воспитание времени, прав, пожеланий мы пере-
даем школе. Удваивается бдительность, повышается ответствен-
ность, возникают столкновения противоречивых полномочий. Обна-
руживаются недостатки.
Родители благосклонно простят ребенка: потворство их вытекает
из ясного сознания вины, что дали ему жизнь, нанесли вред, искале-
чив. Порой мать ищет во мнимой болезни ребенка оружие против
чужих обвинений и собственных сомнений.
Вообще голос матери не вызывает доверия. Он пристрастен, не-
компетентен. Обратимся лучше к мнению опытных воспитателей-
специалистов: заслуживает ли ребенок нашего расположения?
Воспитатель в частном доме редко находит благоприятные ус-
ловия для работы с детьми.
Скованный недоверчивым контролем, он вынужден лавировать
между чужими указками и своими убеждениями, извне идущим тре-
бованием и своим покоем и удобством. Отвечая за вверенного ему
ребенка, он терпит последствия сомнительных решений законных
опекунов и работодателей.
Вынужденный утаивать и обходить трудности, воспитатель лег-
ко может деморализоваться, привыкнуть к двуличию — озлобится
и обленится.
С годами расстояние между тем, что хочет взрослый и к чему
стремится ребенок, увеличивается: растет знание нечистых способов
порабощения.
Появляются жалобы на неблагодарную работу: если бог хочет
кого покарать, то делает его воспитателем.
Дети, живые, шумные, интересующиеся жизнью и ее загадками,
нас утомляют; их вопросы и удивление, открытия и попытки —
часто с неудачным результатом — терзают.
Реже мы — советчики, утешители, чаще — суровые судьи. Не-
медленный приговор и кара дают один результат:
проявления скуки и бунта будут реже, зато
сильнее и упорнее. Стало быть, усилить над-
зор, преодолеть сопротивление, застраховать
себя от неожиданностей.
Так катится воспитатель по наклонной плоскости:
пренебрегает, не доверяет, подозревает,
следит, ловит, журит, обвиняет и наказывает,
ищет приемлемых способов, чтобы не допус-
тить повторения;
все чаще запрещает и беспощаднее принуж-
дает, не хочет видеть стараний ребенка no-
lo
лучше написать страницу или заполнить час
жизни; сухо констатирует: плохо.
Редка лазурь прощений, часты багрянцы гнева и возмущения.
Насколько большего понимания требует воспитание группы де-
тей, насколько легче впасть здесь в ошибку обвинений и обид!
Один маленький, слабенький и то утомляет, единичные проступ-
ки и то сердят; а как надоедлива, навязчива и неисповедима в своих
реакциях толпа!
Поймите же наконец: не дети, а толпа. Масса, банда, свора —
не дети.
Ты сжился с мыслью, что ты сильный, и вдруг чувствуешь себя
маленьким и слабым. Толпа, этот великан с большим общим весом и
суммой громадного опыта, то сплачивается в солидарном отпоре, то
распадается на десятки пар ног и рук — голов, каждая из которых
таит иные мысли и сокровенные желания.
Как трудно бывает новому воспитателю в классе или в интернате,
где дети, содержавшиеся в строгом повиновении,— обнаглевшие
и опустошенные — организовались на основах бандитского насилия!
Как сильны они и грозны, когда общими усилиями ударят в твою во-
лю, желая прорвать плотину,— не дети, стихия!
Сколько их, скрытых революций, о которых воспитатель умал-
чивает; ему стыдно признаться, что он слабее ребенка.
Раз проученный, воспитатель ухватится за любое средство, что-
бы подавить, покорить. Никаких фамильярностей, невинных шуток;
никаких бурчаний в ответ, передергиваний плечами, жестов досады,
упрямого молчания, гневных взглядов! Вырвать с корнем, мститель-
но выжечь пренебрежение и злобную строптивость! Вожаков он под-
купит особыми правами, подберет себе приспешников, не позабо-
тится о справедливости наказаний, были бы суровы,— в назидание,
чтобы вовремя погасить первую искру бунта, чтобы толпа-богатырь
даже мысленно не отваживалась разгуляться или ставить требова-
ния.
Слабость ребенка может пробуждать нежность, сила ребячьей
массы возмущает и оскорбляет.
Существует ложное обвинение, что от дружеского обращения
ребята наглеют, и ответом на доброту будут недисциплинирован-
ность и беспорядки.
Но не станем называть добротой беспечность, неумение и бес-
помощную глупость. Кроме продувных хапуг и мизантропов, среди
воспитателей встречаются люди никчемные, не удержавшиеся ни
на одной работе, не способные ни к какому ответственному посту.
Бывает, учитель заигрывает с детьми, хочет быстро, дешево, без
труда вкрасться в доверие. Хочет порезвиться, если в хорошем на-
строении, а не кропотливо организовывать жизнь коллектива. Под-
час эти барские поблажки перемежаются с приступами дурного
настроения. Такой учитель делает себя посмешищем в глазах
детей.
11
Бывает, честолюбцу кажется, что легко переделать человека,
убеждая и ласково наставляя: стоит лишь растрогать и выманить
обещание исправиться. Такой учитель раздражает и надоедает.
Бывает, напоказ — друзья, на словах — союзники, на деле —
коварнейшие враги и обидчики. Такие учителя вызывают отвра-
щение.
Ответом на третирование будет пренебрежение, на дружелю-
бие — неприязнь, бунт, на недоверие — конспирация.
* * *
Годы работы все очевиднее подтверждали, что дети заслуживают
уважения, доверия и дружеского отношения, что нам приятно быть
с ними в этой ясной атмосфере ласковых ощущений, веселого сме-
ха, первых бодрых усилий и удивлений, чистых, светлых и милых ра-
достей, что работа эта живая, плодотворная и красивая.
Одно лишь вызывало сомнение и беспокойство.
Отчего подчас самый надежный — и подведет? Отчего — прав-
да, редко, но бывают — внезапные взрывы массовой недисциплини-
рованности всей группы? Может, и взрослые не лучше, только более
солидные, надежные, спокойней можно на них положиться?
Я упорно искал и постепенно находил ответ.
1. Если воспитатель ищет в детях черты характера и достоинст-
ва, которые кажутся ему особо ценными, если хочет сделать всех
на один лад, увлечь всех в одном направлении, его введут в заблуж-
дение: одни подделаются под его требования, другие искренне под-
дадутся внушению — до поры до времени. А когда выявится дей-
ствительный облик ребенка, не только воспитатель, но и ребенок бо-
лезненно ощутит свое поражение. Чем больше старание замаскиро-
ваться или повлиять — тем более бурная реакция; ребенку, раскры-
тому в самых своих доподлинных тенденциях, уже нечего терять.
Какая важная отсюда вытекает мораль!
2. Одна мера оценки у воспитателя, другая у ребят: и он, и они
видят душевное богатство; он ждет, чтобы это душевное богатство
развилось, а они ждут, какой им будет прок от этих богатств уже те-
перь: поделится ли ребенок, чем владеет, или сочтет себя вправе
не дать — гордый, завистливый эгоист, скряга! Не расскажет сказки,
не сыграет, не нарисует, не поможет и не услужит — «будто
одолжение делает», «упрашивать надо». Попав в изоляцию, ребенок
широким жестом хочет купить благосклонность у своего ребячьего
общества, которое радостно встречает перемену. Не вдруг испортил-
ся, а, наоборот, понял и исправился.
3. Все подвели, всем скопом обидели.
Я нашел объяснение в книжке о дрессировке зверей — и не
скрываю источника. Лев не тогда опасен, когда сердится, а когда ра-
зыграется, хочет пошалить; а толпа сильна, как лев...
Решение надо искать не столько в психологии, сколько — и это
чаще — в медицине, социологии, этнологии, истории, поэзии, крими-
налистике, в молитвеннике и в учебнике по дрессировке. Ars longa *.
4. Настал черед самого солнечного (о, хоть бы не последнего!)
12
объяснения. Ребенка может опьянить кислород воздуха, как взрос-
лого водка. Возбуждение, торможение центров контроля, азарт,
затмение; как реакция — смущение, неприятный осадок — изжо-
га, сознание вины. Наблюдение мое клинически точно. И у самых по-
чтенных граждан может быть слабая голова.
Не порицать: это ясное опьянение детей вызывает чувство рас-
троганности и уважения, не отдаляет и разделяет, а сближает и де-
лает союзниками.
Мы скрываем свои недостатки и заслуживающие наказания
поступки. Критиковать и замечать наши забавные особенности, дур-
ные привычки, смешные стороны детям не разрешается. Мы строим
из себя совершенства. Под угрозой высочайшей обиды оберегаем
тайны господствующего класса, касты избранных — приобщенных к
высшим таинствам. Обнажать бесстыдно и ставить к позорному
столбу можно лишь ребенка.
Мы играем с детьми краплеными картами; слабости детского воз-
раста бьем тузами достоинств взрослых. Шулеры, мы так подтасо-
вываем карты, чтобы самому плохому в детях противопоставить то,
что в нас хорошо и ценно.
Где наши лежебоки и легкомысленные лакомки-гурманы, дураки,
лентяи, лодыри, авантюристы, люди недобросовестные, плуты, пья-
ницы и воры? Где наши насилия и явные и тайные преступления?
Сколько дрязг, хитростей, зависти, наговоров, шантажей, слов, что
калечат, дел, что позорят! Сколько тихих семейных трагедий, от ко-
торых страдают дети, первые мученики — жертвы!
И смеем мы обвинять и считать их виновными?!
А ведь взрослое общество тщательно просеяно и процежено.
Сколько человеческих подонков и отбросов унесено водосточными
канавами, вобрано могилами, тюрьмами и сумасшедшими домами!
Мы велим уважать старших, опытных, не рассуждая; а у ребят
есть и более близкое им начальство — подростки, с их навязчивым
подговариванием и давлением.
Преступные и неуравновешенные ребята бродят без призора и
пихаются, расталкивают и обижают, заражают. И все дети несут за
них солидарную ответственность (ведь и нам, взрослым, подчас от
них чуть-чуть достается). Эти немногочисленные возмущают обще-
ственное мнение, выделяясь яркими пятнами на поверхности дет-
ской жизни; это они диктуют рутине ее методы: держать детей в по-
виновении, хотя это и угнетает, в ежовых рукавицах, хотя это и ра-
нит, обращаться сурово, что значит грубо.
Мы не позволяем детям организоваться; пренебрегая, не доверяя,
недолюбливая, не заботимся о них; без участия знатоков нам не
справиться; а знатоки — это сами дети.
Неужели мы столь некритичны, что ласки, которыми мы пресле-
дуем детей, выражают у нас расположение? Неужели мы не пони-
маем, что, лаская ребенка, это мы принимаем его ласку, беспомощно
прячемся в его объятия, ищем защиты и прибежища в часы бездом-
13
ной боли, бесхозной покинутости — слагаем на него тяжесть стра-
даний и печалей?
Всякая иная ласка — не бегства к ребенку и не мольбы о надеж-
де — это преступные поиски и пробуждение в нем чувственных ощу-
щений.
«Обнимаю, потому что мне грустно. Поцелуй, тогда дам».
Эгоизм, а не расположение.
Право на уважение
Есть как бы две жизни: одна — важная и почтенная, а дру-
гая — снисходительно нами допускаемая, менее ценная. Мы гово-
рим: будущий человек, будущий работник, будущий гражданин. Что
они еще только будут, что потом начнут по-настоящему, что всерьез
это лишь в будущем. А пока милостиво позволяем им путаться под
ногами, но удобнее нам без них.
Нет! Дети были, и дети будут. Дети не захватили нас врасплох и
ненадолго. Дети — не мимоходом встреченный знакомый, которого
можно наспех обойти, отделавшись улыбкой и поклоном.
Дети составляют большой процент человечества, населения, на-
ции, жителей, сограждан — они наши верные друзья. Есть, были и
будут.
Существует ли жизнь в шутку? Нет, детский возраст — долгие,
важные годы в жизни человека.
Жестокие законы Древней Греции и Рима позволяют убить ре-
бенка. В средние века рыбаки вылавливают из рек неводом тела
утопленных младенцев. В XVII веке в Париже детей постарше про-
дают нищим, а малышей у собора Парижской богоматери раздают
даром. Это еще очень недавно! И по сей день ребенка бросают, ког-
да он помеха.
Растет число внебрачных, подкинутых, беспризорных, эксплуа-
тируемых, развращаемых, истязуемых детей. Закон защищает их,
но в достаточной ли мере? Многое изменилось на свете; старые
законы требуют пересмотра.
Мы разбогатели. Мы пользуемся уже плодами не только своего
труда. Мы наследники, акционеры, совладельцы громадного состоя-
ния. Сколько у нас городов, зданий, фабрик, копей, гостиниц,
театров! Сколько на рынках товаров, сколько кораблей их перевозит.
Налетают потребители и просят продать.
Подведем баланс, сколько из общей суммы причитается ребенку,
сколько падает на его долю не из милости, не как подаяние.
Проверим на совесть, сколько мы выделяем в пользование ребячье-
му народу, малорослой нации, закрепощенному классу. Чему равно
наследство и каким обязан быть дележ; не лишили ли мы, нечестные
опекуны, детей их законной доли — не экспроприировали ли?
Тесно детям, душно, скучно, бедная у них, суровая жизнь.
14
Мы ввели всеобщее обучение, принудительную умственную рабо-
ту; существует запись и школьная рекрутчина. Мы взвалили на ре-
бенка труд согласования противоположных интересов двух парал-
лельных авторитетов.
Школа требует, а родители дают неохотно. Конфликты между
семьей и школой ложатся всей тяжестью на ребенка. Родители соли-
даризуются с не всегда справедливыми обвинениями ребенка шко-
лой, чтобы избавить себя от навязываемой ею над ним опеки.
Солдатская учеба тоже лишь подготовка ко дню, когда призовут
солдата к подвигу; но ведь государство солдата обеспечивает всем.
Государство дает ему крышу над головой и пищу; мундир, карабин
и денежное довольствие являются правом его, не милостыней.
А ребенок, подлежа обязательному всеобщему обучению, дол-
жен просить подаяния у родителей или общины.
Женевские законодатели спутали обязанности и права; тон дек-
ларации * не требование, а увещание: воззвание к доброй воле,
просьба о благосклонности.
Школа создает ритм часов, дней и лет. Школьные работники
должны удовлетворять сегодняшние нужды юных граждан. Ребе-
нок — существо разумное, он хорошо знает потребности, трудности
и помехи своей жизни. Не деспотичные распоряжения, не навязан-
ная дисциплина, не недоверчивый контроль, а тактичная договорен-
ность, вера в опыт, сотрудничество и совместная жизнь!
Ребенок не глуп; дураков среди них не больше, чем среди взрос-
лых. Облаченные в пурпурную мантию лет, как часто мы навязы-
ваем бессмысленные, некритичные, невыполнимые предписания!
В изумлении останавливается подчас разумный ребенок перед аг-
рессией язвительной седовласой глупости.
У ребенка есть будущее, но есть и прошлое: памятные события,
воспоминания и много часов самых доподлинных одиноких раз-
мышлений. Так же как и мы — не иначе,— он помнит и забывает,
ценит и недооценивает, логично рассуждает и ошибается, если не
знает. Осмотрительно верит и сомневается.
Ребенок — иностранец, он не понимает языка, не знает направ-
ления улиц, не знает законов и обычаев. Порой предпочитает ос-
мотреться сам; трудно — попросит указания и совета. Необходим
гид, который вежливо ответит на вопросы.
Уважайте его незнание!
Человек злой, аферист, негодяй воспользуется незнанием ино-
странца и ответит невразумительно, умышленно вводя в заблужде-
ние. Грубиян буркнет себе под нос. Нет, мы не доброжелательно ос-
ведомляем, а грыземся и лаемся с детьми — отчитываем, выговари-
ваем, наказываем.
Как плачевно убоги были бы знания ребенка, не приобрети он их
от ровесников, не подслушай, не выкради из слов и разговоров
взрослых.
Уважайте труд познания!
15
Уважайте неудачи и слезы!
Не только порванный чулок, но и поцарапанное колено, не толь-
ко разбитый стакан, но и порезанный палец, синяк, шишку —
а значит, боль.
Клякса в тетрадке — это несчастный случай, неприятность,
неудача.
«Когда папа прольет чай, мамочка говорит: «Ничего», а мне
всегда попадает».
Непривычные к боли, обиде, несправедливости, дети глубоко
страдают и потому чаще плачут, но даже слезы ребенка вызывают
шутливые замечания, кажутся менее важными, сердят.
«Ишь, распищался, ревет, скулит, нюни распустил».
(Букет слов из словаря взрослых, изобретенный для детского
пользования.)
Слезы упрямства и каприза — это слезы бессилия и бунта, от-
чаянная попытка протеста, призыв на помощь, жалоба на халатность
опеки, свидетельство того, что детей неразумно стесняют и при-
нуждают, проявление плохого самочувствия и всегда — стра-
дание.
Уважайте собственность ребенка и его бюджет. Ребенок делит со
взрослыми материальные заботы семьи, болезненно чувствует
нехватки, сравнивает свою бедность с обеспеченностью соученика,
беспокоится из-за несчастных грошей, на которые разоряет семью.
Он не желает быть обузой.
А что делать, когда нужно и шапку, и книжку, и на кино;
тетрадку, если она исписалась, и карандаш, если его взяли или по-
терялся; а ведь хотелось бы и дать что-либо на память близкому
другу, и купить пирожное, и одолжить соученику. Столько сущест-
венных нужд, желаний и искушений — и нет!
Не вопиет ли факт, что в судах для малолетних преобладают
именно дела о кражах? Недооценка бюджета ребенка мстит за се-
бя — и наказания не помогут. Собственность ребенка — это не
хлам, а нищенски убогие материал и орудие труда, надежды и вос-
поминания.
Не мнимые, а подлинные сегодняшние заботы и беспокойства,
горечь и разочарования юных лет.
Ребенок растет. Интенсивнее жизнь, чаще дыхание, живее пульс,
ребенок строит себя — его все больше и больше; глубже врастает
в жизнь. Растет днем и ночью, и когда спит и когда бодрствует,
и когда весел и когда печален, когда шалит и когда стоит перед тобой
и кается.
Бывают весны удвоенного труда развития и затишья осени. Вот
разрастается костяк, и сердце не поспевает; то недостаток, то избы-
ток; иной химизм угасающих и развивающихся желез, иные неожи-
данности и беспокойство.
То ему надо бегать — так, как дышать,— бороться, поднимать
тяжести, добывать; то затаиться, грезить, предаться грустным вос-
16
поминаниям. Попеременно то закалка, то жажда покоя, тепла и
удобства. То сильное стремление действовать, то апатия.
Усталость, недомогание (боль, простуда), жарко, холодно, сон-
ливость, голод, жажда, недостаток чего-либо или избыток, плохое
самочувствие — все это не каприз и не школьная отговорка.
Уважайте тайны и отклонения тяжелой работы роста!
Уважайте текущий час и сегодняшний день! Как ребенок су-
меет жить завтра, если мы не даем ему жить сегодня сознательной,
ответственной жизнью?
Не топтать, не помыкать, не отдавать в рабство завтрашнему дню,
не остужать, не спешить и не гнать.
Уважайте каждую отдельную минуту, ибо умрет она и никогда
не повторится, и это всегда всерьез; раненая — станет кровоточить,
убитая — тревожить призраком дурных воспоминаний.
Позволим детям упиваться радостью утра и верить. Именно так
хочет ребенок. Ему не жаль времени на сказку, на беседу с собакой,
на игру в мяч, на подробное рассматривание картинки, на перерисов-
ку буквы, и все это любовно. Он прав.
Мы наивно боимся смерти, не сознавая, что жизнь — это хоро-
вод умирающих и вновь рождающихся мгновений. Год — это лишь
попытка понять вечность по-будничному. Мир длится столько,
сколько улыбка или вздох. Мать хочет воспитать ребенка. Не дож-
дется! Снова и снова иная женщина иного встречает и провожает
человека.
Мы неумело делим годы на более зрелые и менее зрелые; а ведь
нет незрелого сегодня, нет никакой возрастной иерархии, никаких
низших и высших рангов боли и радости, надежды и разочарова-
ний.
Играю ли я или говорю с ребенком — переплелись две одинаково
зрелые минуты моей и его жизни; и в толпе детей я всегда на мгно-
вение встречаю и провожаю взглядом и улыбкой какого-нибудь ре-
бенка. Сержусь ли, мы опять вместе — только моя злая мстительная
минута насилует его важную и зрелую минуту жизни.
Отрекаться во имя завтра? А чем оно так заманчиво? Мы всегда
расписываем его слишком яркими красками. Сбывается предсказа-
ние: валится крыша, ибо не уделено должного внимания фундамен-
ту здания.
Право ребенка быть тем, что он есть
— Что из него будет, кем вырастет? — спрашиваем мы
себя с беспокойством.
Хотим, чтобы дети были лучше нас. Грезится нам совершенный
человек будущего.
Надо бдительно ловить себя на лжи, клеймя одетый в красивые
слова эгоизм. Будто самоотречение, а по существу — грубое мошен-
ничество.
Мы объяснились с собой и примирились, простили себя и освобо-
17
дили от обязанности исправляться. Плохо нас воспитали. Но поздно!
Пороки и недостатки уже укоренились. Не позволяем критико-
вать нас детям и не контролируем себя сами.
Отпустили себе грехи и отказались от борьбы с собой, взвалив
эту тяжесть на детей.
Воспитатель поспешно осваивает особые права взрослых: смо-
треть не за собой, а за детьми, регистрировать не свои, а детские
вины.
А вина ребенка — это все, что метит в наш покой, в самолюбие
и удобство, восстанавливает против себя и сердит, бьет по привыч-
кам, поглощает время и мысли. Мы не признаем упущений без
злой воли.
Ребенок не знает, не расслышал, не понял, прослушал, ошибся,
не сумел, не может — все это его вина. Невезение или плохое само-
чувствие, каждая трудность — это вина и злая воля.
Недостаточно быстро или слишком быстро и потому недоста-
точно исправно выполненная работа — вина: небрежность, лень,
рассеянность, нежелание работать.
Невыполнение оскорбительного и невыполнимого требования —
вина. И наше поспешное злое подозрение — тоже его вина. Вина
ребенка — наши страхи и подозрения и даже его старание ис-
правиться.
«Вот видишь, когда ты хочешь, ты можешь».
Мы всегда найдем, в чем упрекнуть, и алчно требуем все больше
и больше.
Уступаем ли мы тактично, избегаем ли ненужных трений, об-
легчаем ли совместную жизнь? Не мы ли сами упрямы, приверед-
ливы, задиристы и капризны?
Ребенок привлекает наше внимание, когда мешает и вносит
смуту; мы замечаем и помним только эти моменты. И не видим,
когда он спокоен, серьезен, сосредоточен. Недооцениваем безгреш-
ные минуты беседы с собой, миром, богом. Ребенок вынужден скры-
вать свою тоску и внутренние порывы от насмешек и резких замеча-
ний; утаивает желание объясниться, не выскажет и решения испра-
виться.
Не бросит проницательного взгляда, затаит в себе удивление,
тревогу, скорбь, гнев, бунт. Мы хотим, чтобы он подпрыгивал и хло-
пал в ладоши — он и показывает ухмыляющееся лицо шута.
Громко говорят о себе плохие поступки и плохие дети, заглушая
шепот добра, но добра в тысячу раз больше, чем зла. Добро сильно
и несокрушимо. Неправда, что легче испортить, чем исправить.
Мы тренируем свое внимание и изобретательность в высматрива-
нии зла, в расследовании, в вынюхивании, в выслеживании, в пресле-
довании, в ловле с поличным, в дурных предвидениях и в оскорби-
тельных подозрениях.
(Разве мы приглядываем за стариками, чтобы не играли в фут-
бол? Какая мерзость — упорное выслеживание у детей онанизма.)
18
Один из мальчиков хлопнул дверью, одна постель плохо пост-
лана, одно пальто запропало, одна клякса в тетрадке. Если мы и не
отчитываем, то уж, во всяком случае, ворчим, вместо того чтобы ра-
доваться, что лишь один, одна, одно.
Мы слышим жалобы и споры, но насколько больше прощений, ус-
тупок, помощи, заботы, услуг, уроков, глубоких и красивых влия-
ний! Даже задиры и злюки не только заставляют лить слезы, но и
расцветать улыбки.
Ленивые, мы хотим, чтобы никто и никогда, чтобы из десяти ты-
сяч секунд школьного дня (сосчитай) не было ни одной трудной.
Почему ребенок для одного воспитателя плох, а для другого хо-
рош? Мы требуем стандарта добродетелей и поведения и, сверх
того, по нашему усмотрению и образцу.
Найдешь ли в истории пример подобной тирании? Поколение Не-
ронов расплодилось.
Кроме здоровья, бывают и недомогания, кроме достоинств и по-
ложительных качеств — недостатки и пороки.
Кроме небольшого числа детей, растущих в обстановке веселья
и празднеств, для кого жизнь — сказка и величавая легенда, довер-
чивых и добродушных, существует основная масса детей, кому с
юных лет мир жестко и без прикрас гласит суровые истины.
Испорченные презрительным помыканием некультурности и
бедности или чувственно ласковым пренебрежением пресыщенно-
сти и лоска...
Испачканные, недоверчивые, восстановленные против людей, не
плохие.
Для ребенка пример не только дом, но и коридор, двор,
улица. Ребенок говорит языком окружающих — высказывает их
взгляды, повторяет их жесты, подражает их поступкам. Мы не знаем
чистого ребенка — каждый • в той или иной степени загрязнен.
О, как он быстро высвобождается и очищается! От этого не ле-
чат, это смывают; ребенок рад, что нашел себя, и охотно помогает.
Стосковался по бане и улыбается тебе и себе.
Такие наивные триумфы из повести о сиротках одерживает
каждый воспитатель; случаи эти сбивают с толку некритически мы-
слящих моралистов, что, мол, легко. Халтурщик рад-радешенек, чес-
толюбивый приписывает заслугу себе, а деспота сердит, что так вы-
ходит не всегда; одни хотят всюду добиться подобных результатов,
увеличивая дозу убеждения, другие — нажима.
Кроме детей лишь загрязненных встречаются и с ушибами и ра-
нами; колотые раны не оставляют шрамов и сами затягиваются под
чистой повязкой; чтобы зажили рваные раны, приходится дольше
ждать, остаются болезненные рубцы; их нельзя задевать. Коросты
и язвы требуют большего старания и терпения.
Говорят: тело заживает; хотелось бы добавить: и душа.
Сколько мелких ссадин и инфекций в школе и интернате, сколько
соблазнов и неотвязных нашептываний; а как мимолетно и невинно
19
их действие! Не будем опасаться грозных эпидемий там, где атмо-
сфера интерната здоровая, где много кислорода и света.
Как мудр, постепенен и чудесен процесс выздоровления! Сколь-
ко в крови, соках, тканях важных тайн! Как каждая нарушенная
функция и затронутый орган стараются восстановить равновесие и
справиться со своим заданием! Сколько чудес в росте растения и че-
ловека — в сердце, в мозгу, в дыхании! Самое маленькое волнение
или напряжение — и уже сильнее трепыхается сердце, уже чаще
пульс.
Так же силен и стоек дух ребенка. Существует моральная устой-
чивость и чуткая совесть. Неправда, что дети легко заражаются.
И верно, поздно, к сожалению, попала педология в школьные
программы. Нельзя проникнуться уважением к таинству исправле-
ния, не поняв гармонии тела.
Халтурный диагноз валит в одну кучу детей подвижных, самолю-
бивых, с критическим направлением ума, всех «неудобных», но здо-
ровых и чистых — вместе с обиженными, надутыми, недоверчивы-
ми — загрязненными, искушенными, легкомысленными, послушно
следующими дурным примерам. Незрелый, небрежный, поверхност-
ный взгляд смешивает, путает их с редко встречающимися преступ-
ными, отягощенными дурными задатками детьми.
(Мы, взрослые, не только сумели обезвредить пасынков судьбы,
но и умело пользуемся трудом отверженных.)
Вынужденные жить вместе с ними, здоровые дети вдвойне стра-
дают: их обижают и втягивают в преступления.
Ну, а мы? Не обвиняем ли легкомысленно всех ребят огулом, не
навязываем ли солидарную ответственность?
«Вот они какие, вот на что они способны».
Наитягчайшая, пожалуй, несправедливость.
Потомство пьянства, насилия и исступления. Проступки — эхо
не внешнего, а внутреннего наказа. Черные минуты, когда ребенок
понял, что он иной, что ничего не поделаешь, он — калека и его пре-
дадут анафеме и затравят. Первое решение — бороться с силой, ко-
торая диктует ему дурные поступки. Что другим далось даром, так
легко, что в других пустяк и повседневность — погожие дни ду-
шевного равновесия,— он получает в награду за кровавый поединок
с самим собой. Он ищет помощи и, если доверится — льнет к тебе,
просит, требует: «Спасите!» Проведал о тайне и жаждет исправиться
раз и навсегда, сразу, одним усилием.
Вместо того чтобы благоразумно сдерживать легкомысленный
порыв, отдалять решение исправиться, мы неуклюже поощряем и ус-
коряем. Ребенок хочет высвободиться, а мы стараемся уловить в се-
ти; он хочет вырваться, а мы готовим коварные силки. Дети жаждут
явно и прямо, а мы учим только скрывать. Дети дарят нам день, це-
лый, долгий и без изъяна, а мы отвергаем его за одно дурное мгно-
вение. Стоит ли это делать?
Ребенок мочился под себя ежедневно, теперь реже, было лучше,
20
опять ухудшение — не беда! Дольше перерывы между приступами
у эпилептика. Реже кашляет, спала температура у больного туберку-
лезом. Еще и не лучше, но нет ухудшения. И это врач ставит в плюс
лечению. Здесь ничего не выманишь и не заставишь.
Отчаявшиеся, полные бунта и презрения к покорному, льстивому
братству добродетели, стоят ребята перед воспитателем, сохранив,
быть может, единственную и последнюю святыню — нелюбовь к
лицемерию. И эту святыню мы хотим повалить и исполосовать! Мы
совершаем кровавое преступление, обрушивая на ребят холод и пыт-
ки, и зверски подавляем не сам бунт, а его неприкрытость, легкомыс-
ленно раскаляя добела ненависть к коварству и к ханжеству.
Дети не отказываются от плана мести, а откладывают, поджидая
удобного случая. И если они верят в добро — затаят в глубине души
эту тоску по добру.
— Зачем вы родили меня? Кто просил у вас эту собачью жизнь?
Перехожу к раскрытию сокровеннейших тайн, к труднейшему
разъяснению. Для нарушений и упущений достаточно терпеливой
и дружеской снисходительности; преступным детям необходима
любовь. Их гневный бунт справедлив. Надо понять сердцем их обиду
на гладкую добродетель и заключить союз с одиноким заклеймен-
ным проступком. Когда же, как не сейчас, одарить его цветком
улыбки?
В исправительных домах — еще инквизиция, пытки средневеко-
вых наказаний, солидарная ожесточенность и мстительность узако-
ненных гонений. Разве вы не видите, что самым хорошим ребятам
жаль этих самых плохих: чем они виноваты?
♦ ♦ *
Недавно смиренный врач послушно подавал больным сладкие си-
ропы и горькие микстуры; связывал горячечных больных, пускал
кровь и морил голодом в мрачных преддвериях кладбища. Безучаст-
ный к бедноте, угождал имущим.
Но вот он стал требовать — и получил.
Врач * завоевал детям пространство и солнце, как, к нашему сты-
ду, генерал * дал ребенку движение, веселое приключение, радость
товарищеской услуги, наказ честно жить в беседах у лагерного кост-
ра под усеянным звездами небом.
А какова роль наших воспитателей? Каков их участок работы?
Страж стен и мебели, тишины во дворе, чистоты ушей и пола; пас-
тух, который следит, чтобы скот не лез в потраву, не мешал работе и
веселому отдыху взрослых; хранитель рваных штанов и башмаков и
скупой раздатчик каши. Страж льгот взрослых и ленивый исполни-
тель их дилетантских капризов.
Ларек со страхами и предостережениями, лоток с моральным
барахлом, продажа на вынос денатурированного знания, которое ли-
шает смелости, запутывает и усыпляет, вместо того, чтобы пробуж-
дать, оживлять и радовать. Агенты дешевой добродетели, мы долж-
ны навязывать детям почитание и покорность и помогать взрослым
расчувствоваться и приятно поволноваться. За жалкие гроши сози-
21
дать солидное будущее, обманывать и утаивать, что дети — это мас-
са, воля, сила и право.
Врач вырвал ребенка из пасти у смерти, задача воспитателей дать
ему жизнь, завоевать для него право быть ребенком.
Исследователи решили, что человек зрелый руководствуется
серьезными побуждениями, ребенок — импульсивен; взрослый —
логичен, ребенок во власти прихоти воображения; у взрослого есть
характер и определенный моральный облик, ребенок запутался в
хаосе инстинктов и желаний. Ребенка изучают не как отличающую-
ся, а как низшую, более слабую и бедную психическую организа-
цию. Будто все взрослые — ученые-профессора.
А взрослый — это сплошной винегрет, захолустье взглядов и
убеждений, психология стада, суеверие и привычки, легкомыслен-
ные поступки отцов и матерей, взрослая жизнь сплошь, от начала и
до конца, безответственна! Беспечность, лень, тупое упрямство, не-
домыслие, нелепости, безумство и пьяные выходки взрослых...
...И детская серьезность, рассудительность и уравновешенность,
солидные обязательства, опыт в своей области, капитал верных суж-
дений и оценок, полная такта умеренность требований, тонкость
чувств, безошибочное чувство справедливости.
Каждый ли из нас обыграет ребенка в шахматы?
Давайте требовать уважения к ясным глазам, гладкой коже, юно-
му усилию и доверчивости. Чем же почтеннее угасший взор, покры-
тый морщинами лоб, жесткие седины и согбенная покорность
судьбе?
Восход и закат солнца. Утренняя и вечерняя молитва. И вдох,
и выдох, и сокращение, и расслабление сердца.
Солдат все солдат — и когда идет в бой, и когда возвращается,
покрытый пылью.
Растет новое поколение, вздымается новая волна. Идут и с недо-
статками, и с достоинствами; дайте условия, чтобы дети вырастали
более хорошими! Нам не выиграть тяжбы с гробом нездоровой на-
следственности, ведь не скажем мы василькам, чтобы стали хлебами.
Мы не волшебники — и не хотим быть шарлатанами. Отрекаем-
ся от лицемерной тоски по совершенным детям.
Требуем: устраните голод, холод, сырость, духоту, тесноту, пере-
население!
Это вы плодите больных и калек, вы создаете условия для бунта
и инфекции: ваше легкомыслие и отсутствие согласия.
Внимание: современную жизнь формирует грубый хищник, homo
тарах: это он диктует методы действий. Ложь — его уступки сла-
бым, фальшь — почет старцу, равноправие женщины и любовь к
ребенку. Скитается по белу свету бездомная Золушка — чувство.
А ведь именно дети — князья чувств, поэты и мыслители.
Уважайте, если не почитайте, чистое, ясное, непорочное святое
детство!
22
КАК ЛЮБИТЬ РЕБЕНКА
Ребенок в семье
(...)
1. Как, когда, сколько, почему?
Я предвижу много вопросов, которые ждут ответа и сомне-
ний, нуждающихся в разъяснении.
И отвечаю:
— Не знаю.
Всякий раз, когда, отложив книгу, ты начинаешь раздумывать,
книга достигла цели. Если же, быстро листая страницы, ты станешь
искать предписания и рецепты, досадуя, что их мало, знай: если и
есть тут советы и указания, это вышло само собою, вопреки воле
автора.
Я не знаю и не могу знать, как неизвестные мне родители могут
в неизвестных мне условиях воспитывать неизвестного мне ребенка,
подчеркиваю — «могут», а не «хотят», а не «обязаны».
В «не знаю» для науки — первозданный хаос, рождение новых
мыслей, все более близких истине. В «не знаю» для ума, неискушен-
ного в научном мышлении,— мучительная пустоту.
Я хочу научить понимать и любить это дивное, полное жизни и
ярчайших неожиданностей творческое «не знаю» современной науки
о ребенке.
Я хочу, чтобы поняли: никакая книга, никакой врач не заменят
собственной зоркой мысли и внимательного наблюдения.
Часто можно встретить мнение, что материнство облагораживает
женщину, что лишь как мать она созревает духовно. Да, материнство
ставит огненными буквами вопросы, охватывающие все стороны
внешнего и внутреннего мира, но их можно и не заметить, трусливо
отодвинуть в далекое будущее или возмущаться, что нельзя купить
их решение.
Велеть кому-нибудь дать тебе готовые мысли — это поручить
другой женщине родить твое дитя. Есть мысли, которые надо само-
му рожать в муках, и они-то самые ценные. Это они решают, дашь
ли ты, мать, грудь или вымя, воспитаешь как человек или как самка,
станешь руководить или повлечешь на ремне принуждения или,
пока ребенок мал, будешь играть им, находя в детских ласках до-
полнение к скупым или немилым ласкам супруга, а потом, чуть под-
растет, бросишь без призора или захочешь переламывать.
2. Ты говоришь: «Мой ребенок».
Когда тебе и говорить это, как не во время беременности?
Биение крохотного, словно персиковая косточка, сердца — эхо
твоего пульса. Твое дыхание несет кислород и ему. Одна кровь те-
чет и в нем, и в тебе — и ни единая алая капля крови еще не знает,
останется она твоей или его или прольется и умрет, как дань, взи-
маемая таинством зачатия и родов. Кусок хлеба, который ты
жуешь,— материал ему на созидание ножек, на которые он встанет и
23
побежит, кожицы, которая их покроет, глаз, которыми он будет смо-
треть, мозга, в котором вспыхнет мысль, ручонок, которыми он к те-
бе потянется и, улыбаясь, назовет: «мама».
Вместе вам переживать решающий момент; сообща станете ис-
пытывать обитую боль. Но пробьет час — знак:
— Готов.
И одновременно он, ребенок, скажет: «Хочу жить своей жизнью»,
а ты, мать, скажешь: «Живи теперь своей жизнью».
Сильными* спазмами ты станешь его выталкивать из своего чре-
ва, не считаясь с его болью; мощно и решительно он станет проби-
ваться, не считаясь с твоей болью.
Зверский акт.
Нет — и ты, и он подвластны сотне тысяч неуловимых, легких и
дивно точных импульсов, дабы, забирая свою долю жизни, вы не
взяли больше, чем принадлежит вам по праву, всеобщему и извеч-
ному.
«Мой ребенок».
Нет, даже в долгие месяцы тягости и часы родов ребенок не твой.
<->
4. Ты говоришь: «Мой ребенок».
Нет, это ребенок общий, матери и отца, дедов и прадедов.
Чье-то отдаленное «я», спавшее в веренице предков,— голос ист-
левшей, давно забытой гробницы вдруг заговорил в твоем ребенке.
Три сотни лет тому назад, в военное или в мирное время, кто-то
овладел кем-то (в калейдоскопе скрещивающихся рас, народов,
классов) — с согласия или насильно, в минуту ужаса или любовной
истомы — изменил или соблазнил. Никто не знает, кто и где, но бог
записал это в книгу судеб, а антрополог пытается разгадать по фор-
ме черепа и цвету волос.
Бывает, впечатлительный ребенок фантазирует, что он в доме
родителей — подкидыш. Да: тот, кто породил его, умер столетия
назад.
Ребенок — это пергамент, сплошь покрытый иероглифами, лишь
часть которых ты сумеешь прочесть, а некоторые сможешь стереть
или только перечеркнуть и вложить свое содержание.
Страшный закон? Нет, прекрасный. В каждом твоем ребенке он
видит первое звено бессмертной цепи поколений. Поищи в своем
чужом ребенке эту дремлющую свою частицу. Быть может, и разга-
даешь, быть может, даже и разовьешь.
Ребенок и беспредельность.
Ребенок и вечность.
Ребенок — пылинка в пространстве.
Ребенок — момент во времени.
5. Ты говоришь: «Он должен... Я хочу, чтобы он...»
И выбираешь цдя него, каким должен стать,— жизнь, какую же-
лала бы.
24
Ничего, что кругом скудость и заурядность. Ничего, что кругом
серость.
Люди суетятся, хлопочут, стараются — мелкие заботы, тусклые
стремления, низменные цели...
Несбывшиеся надежды, мучительные сожаления, вечная тоска.
Всюду несправедливость.
Цепенеешь от бездушия, задыхаешься от лицемерия.
Имеющее клыки и когти нападает, тихое уходит в себя.
И не только страдают люди, а и марают душу...
Кем должен быть твой ребенок?
Борцом или только работником? Командующим или рядовым?
Или только счастливым?
Где счастье, в чем счастье? Знаешь ли к нему путь? Да и есть ли
такие люди, которые знают?
Справишься ли?..
Как предвидеть, как оградить?
Мотылек над пенным потоком жизни... Как придать прочность
крыльям, не снижая полета, закалять, не утомляя?
Собственным примером, помогая советами, словом и делом?
А если отвергнет?
Лет через пятнадцать он обращен к будущему, ты — к прошло-
му. У тебя воспоминания и привычки, у него поиски нового и дерзно-
венная надежда. Ты сомневаешься, он ждет и верит, ты боишься, а
он бесстрашен.
Юность, если она не глумится, не проклинает, не презирает, всег-
да стремится переделать несовершенное прошлое.
Так и должно быть. И все ж...
Пусть ищет, лишь бы не плутал, пусть взбирается, лишь бы не
сорвался, пусть искореняет, лишь бы не разбил в кровь руки, пусть
борется, только осторожно-осторожно.
Скажет:
— Я другого мнения. Довольно опеки.
— Значит, не доверяешь?
— Не нужна я тебе?
— Тяготишься моей любовью?
— Неосмотрительное мое дитя, не знаешь ты жизни, бедное, не-
благодарное!
6. Неблагодарное.
Благодарна ли земля солнышку, что ей светит? Дерево зерну,
что из него выросло? Поет ли соловушка матери, что выгрела его
грудью?
Отдаешь ли ребенку то, что взяла у родителей, или лишь одалжи-
ваешь, чтобы получить обратно, тщательно записывая и высчитывая
проценты?
Заслуга ли любовь, что ты требуешь плату?
«Мать-ворона мечется, как безумная, почти садится на плечи
парнишке, цепляется клювом за его палку и, повиснув над ним, точ-
но молотом бьет головой по стволу, отгрызая небольшие веточки,
25
и каркает хриплым, натужным, сухим голосом отчаяния. А когда
мальчик сбросит птенца, она кидается наземь и, волоча крылья, рас-
крывает клюв, хочет закаркать — голоса нет — так она машет
крыльями и скачет — смешная, ошалевшая — в ноги парнишке.
Когда же перебьют всех ее детей, мать-ворона взлетает на дерево,
забирается в пустое гнездо и, кружа по нему, все думает» (Жером-
ский)*.
Материнская любовь — стихия. Люди ее переделали на свой лад.
Весь цивилизованный мир, за исключением народных масс, которых
не коснулась культура, занимается детоубийством. Супруги, у кото-
рых двое детей, хотя могло быть двенадцать,— убийцы десятерых
неродившихся, а среди них был один, именно он — «их ребенок».
Быть может, среди нерожденных они убили самого ценного.
Так что же делать?
Воспитывать не этих детей, которые не родились, а этих, кото-
рые рождаются и будут жить.
<.„>
7. Здоров ли?
Еще так странно, что он уже больше не она сама. Еще недавно
в их двойной жизни боязнь за ребенка была частицей боязни за саму
себя.
Она так желала, чтобы это уже кончилось, так сильно хотела,
чтобы эта минута уже была позади. Думала, будет свободна от за-
бот и тревог.
А сейчас?
Странная вещь: раньше ребенок был ей ближе, более свой, в его
безопасности она была больше уверена, лучше его понимала. Ду-
мала, что она знает, сумеет... С момента, когда забота о нем перешла
в чужие руки, опытные, оплачиваемые и уверенные, мать — одино-
кая, отодвинутая на задний план — испытывает беспокойство.
Мир его уже у нее отнимает.
И в долгие часы вынужденного бездействия мать спрашивает
себя: что я ему дала, чем наделила, чем наградила?
Здоровый? Так почему плачет?
Почему худенький, плохо сосет, не спит, спит так много, отчего
у него такая большая головка, ножки скрючены, стиснуты кулач-
ки, красная кожица, белые прыщики на носу, косят глазки, почему
он икает, чихнул, давится, охрип?
Так и должно быть? А может, ее обманывают?
И она смотрит на это маленькое, беспомощное существо, не по-
хожее ни на одно из точно таких же маленьких и беспомощных су-
ществ, которые она видела на улице или в парке.
Неужели и он через три-четыре месяца?..
А может, они ошибаются?
Может, проглядели?
Мать с недоверием слушает врача, изучая его взглядом: она же-
лает понять по глазам, пожатию плечами, поднятой брови, нахму-
ренному лбу: говорит ли он правду и достаточно ли сосредоточен.
26
8. «Красив ли? А мне все равно». Так говорят неискренние ма-
тери, желая подчеркнуть свой серьезный взгляд на цели воспитания.
Красота, грация, приятный голос — капитал, переданный тобой
ребенку; как ум и как здоровье, он облегчает жизненный путь. Но не
следует переоценивать красоту: не подкрепленная другими достоин-
ствами, она может принести вред. (И тем более требует зоркой
мысли.)
Красивого ребенка надо воспитывать иначе, чем некрасивого.
А раз воспитания без участия в нем самого ребенка не существует,
не надо стыдливо утаивать от детей значения красоты, ибо это-то и
портит.
Это псевдопрезрение к человеческой красоте — пережиток сред-
невековья. Человеку, чуткому к прелести цветка, бабочки, пейза-
жа,— как остаться равнодушным к красе человека?
Хочешь скрыть от ребенка, что он красив? Если ему не скажет
об этом никто из домашних, скажут чужие люди: на улице, в мага-
зине, в парке, всюду — восклицанием, улыбкой, взглядом, взрослые
или ровесники. Скажет злая доля детей некрасивых и безобразных.
И ребенок поймет, что красота дает особые права, как понимает,
что это его рука и она ему служит.
„Как слабый ребенок может развиваться благополучно, а здоро-
вый — попасть в катастрофу, так и красивый — оказаться несчаст-
ным, а одетый в броню непривлекательности — невыделяемый, не-
замечаемый — жить счастливо. Ибо ты должен, обязан помнить,
что жизнь, заметив каждое ценное качество, захочет купить его,
выманить или украсть. Это равновесие тысячных отклонений рож-
дает неожиданности, изумляющие воспитателя мучительными мно-
гократными «почему?».
— А мне все равно, красивый или некрасивый.
Ты начинаешь с ошибки и лицемерия.
9. Умен ли?
Вначале мать спрашивает с тревогой, вскоре она будет требо-
вать.
Ешь, хотя и сыт, хотя бы с отвращением; ложись спать, хотя бы
со слезами, даже если заснешь лишь через час. Должен, требую,
чтобы ты был здоров.
Не играй песком, не ходи растрепой: требую, чтобы ты был
красив.
«Он еще не говорит... Он старше на... несмотря на это, еще... Он
плохо учится...»
Вместо того чтобы наблюдать, изучать и знать, берется первый
попавшийся «удачный» ребенок и предъявляется требование своему:
вот на кого ты должен быть похож.
Нельзя, чтобы ребенок состоятельных родителей стал ремеслен-
ником. Пусть уж лучше будет человеком падшим и несчастным. Не
любовь к ребенку, а родительский эгоизм, не благо личности, а тще-
славие толпы, не поиски пути, а путы шаблона.
Ум бывает активный и пассивный, живой и вялый, настойчивый и
27
безвольный, покладистый и своенравный, творческий и подража-
тельный, показной и глубокий, конкретный и абстрактный, ум ма-
тематика, естественника, писателя; блестящая и посредственная па-
мять; ловкая манипуляция случайными знаниями и честная нереши-
тельность; врожденные деспотизм, вдумчивость, критицизм; прежде-
временное и запоздалое развитие; односторонность или разносто-
ронность интересов.
Но кому какое до этого дело?
«Пусть хоть четыре класса окончит»,— опускают руки родители.
Предчувствуя блистательный Ренессанс физического труда, я ви-
жу кандидатов для него во всех классах общества. А до тех пор —
борьба родителей и школы с каждым исключительным, нетипичным,
слабым или неровным по своим способностям ребенком.
Не «умен ли вообще», а скорее «какого склада у него ум?».
Наивный призыв к семье добровольно принести тяжелую жертву. Пристальное
изучение способностей ребенка обуздает эгоистичные амбиции родителей. Разумеет-
ся, это песнь отдаленного будущего *.
10. Хороший ребенок.
Надо остерегаться смешивать хороший с — удобным.
Мало плачет, ночью нас не будит, доверчив, спокоен — хороший.
А плохой капризен, кричит без явного к тому повода, доставляет
матери больше неприятных эмоций, чем приятных.
Ребенок может быть более или менее терпелив от рождения, не-
зависимо от самочувствия. С одного довольно единицы нездоровья,
чтобы дать реакцию десяти единиц крика, а другой на десяток еди-
ниц недомогания реагирует одной единицей плача.
Один вял, движения ленивы, сосание замедленно, крик без остро-
го напряжения, четкой эмоции.
Другой легко возбудим, движения живы, сон чуток, сосание
яростно, крик вплоть до синюхи.
Зайдется, задохнется, надо приводить в чувство, порой с трудом
возвращается к жизни. Я знаю: это болезнь, мы лечим от нее рыбьим
жиром, фосфором и безмолочной диетой. Но болезнь эта позволяла
младенцу вырасти человеком могучей воли, стихийного натиска, ге-
ниального ума. Наполеон в детстве заходился плачем.
Все современное воспитание направлено на то, чтобы ребенок
был удобен, последовательно, шаг за шагом стремится усыпить, по-
давить, истребить все, что является волей и свободой ребенка, стой-
костью его духа, силой его требований.
Вежлив, послушен, хорош, удобен, а и мысли нет о том, что будет
внутренне безволен и жизненно немощен.
11. Крик ребенка — неприятный сюрприз для молодой матери.
Знала, дети плачут, но, думая о своем, проглядела: ждала одних
пленительных улыбок.
Станет соблюдать все необходимое, воспитывать будет разумно,
современно, под наблюдением опытного врача. Ее ребенок не дол-
жен плакать.
28
Но наступает ночь, когда она, ошеломленная (живы еще отзву-
ки тяжких часов, длившихся столетия), едва ощутив сладость уста-
лости без забот, лени без самобичевания, отдыха после завершенной
работы, отчаянного напряжения, первого в ее изнеженной жизни;
едва уступив иллюзии, что все кончилось, ибо оно, дитя — этот дру-
гой — уж само дышит; умиленная, способная задавать лишь полные
таинственных шепотов вопросы природе, не требуя даже ответа...
...Вдруг слышит...
Деспотичный крик ребенка, который чего-то требует, на что-то
жалуется, домогается помощи, а она не понимает!
Бодрствуй!
«Да раз я не могу, не хочу, не знаю как!»
Этот первый крик при свете ночника — предвестник борьбы
сдвоенной жизни: одна, зрелая, которую заставляют уступать, от-
рекаться и жертвовать, защищается; другая, новая, молодая, завое-
вывает свои права.
Сегодня ты не винишь его; он не понимает, страдает. Но есть
на циферблате времени час, когда скажешь: «И я чувствую, и я стра-
даю».
12. Бывают новорожденные и младенцы, которые мало плачут,—
тем лучше. Но есть и такие, у которых от крика взбухают на лбу ве-
ны, выпячивается темечко, багровая краска заливает личико и голов-
ку, губы синеют, беззубый ротик дрожит, животик вздувается, судо-
рожно стискиваются кулачки, ножки колотят по воздуху. Вдруг он
умолкает без сил, с выражением полной покорности глядит «с уп-
реком» на мать, жмурит глаза, моля о сне, и после нескольких по-
спешных вдохов и выдохов опять подобный, а может, и еще сильнее
приступ крика.
Неужто выдержат это маленькие легкие, крохотное сердце, юный
мозг?
На помощь, врача!
Проходит вечность, прежде чем врач появляется и выслушивает
со снисходительной улыбкой ее опасения, такой чужой, неприступ-
ный, профессионал, для него этот ребенок — один из тысячи. Появ-
ляется, чтобы через минуту уйти к другим страданиям, слушать иные
жалобы, появляется сейчас, днем, когда на душе повеселело: солнце,
на улице люди; появляется, когда ребенок как раз заснул, видно,
изнуренный часами без сна, и еле заметны следы кошмарной ночи.
Мать слушает, иногда слушает невнимательно. Мечты о враче-
друге, советчике, проводнике в тяжелом странствии развеялись
безвозвратно.
Она вручает гонорар и опять остается одна в печальном убеж-
дении, что доктор — безучастный чужой человек, который не пой-
мет. Да он и сам колеблется, ничего не сказал определенно.
13. Знай она, как важны эти первые дни и недели, и не столько
для здоровья ребенка сейчас, сколько для будущности их обоих!
А уж как легко упустить!
29
Вместо того чтобы примириться с мыслью, что если врачу ее ре-
бенок интересен лишь тем, что приносит доход или льстит тще-
славию, так и для мира он ничто, и дорог лишь ей...
Вместо того чтобы примириться с современным состоянием нау-
ки, которая догадывается, старается узнать, изучает и делает шаг
вперед — знает, но не уверена, помогает, но не дает гарантий...
Вместо того чтобы мужественно установить: воспитание ребен-
ка — это не милая забава, а дело, требующее капиталовложений —
тяжких переживаний, забот бессонных ночей и много, много
мыслей...
Вместо того чтобы переплавить все это в огне чувств на честное
знание без иллюзий, без детского фырканья и эгоистичной горечи,
она способна перевести ребенка вместе с няней в дальнюю комнату,
потому что «не может смотреть» на мучения крошки, «не может слы-
шать» его жалобных призывов; способна опять и опять вызывать
врачей, не приобретая никакого опыта,— прибитая, отупевшая, оду-
ревшая.
Как наивна радость матери, что она поняла первую неясную речь
ребенка, угадала путаные, недоговоренные слова!
Лишь сейчас?.. Лишь это?.. И не больше?..
А язык плача и смеха, язык взгляда и губ сковородочкой, язык
движений и сосания?..
Не отрекайся от этих ночей! Они дают то, чего не даст книга и
ничей совет. Ценность этих ночей не только в знании, но и в глу-
боком душевном перевороте, который не позволяет вернуться к бес-
плодным размышлениям: «Что могло бы быть, что должно бы быть,
как было бы хорошо, если бы...», а учит действовать в условиях, ко-
торые налицо.
В эти ночи может родиться дивный союзник, ангел-хранитель
ребенка — интуиция материнского сердца, ясновидение, которое
состоит из пытливой воли, зоркой мысли, неомраченных чувств.
14. Бывало и так: вызывает меня мать.
— Ребенок здоров, с ним ничего нет. Но я хотела бы, чтобы вы
его посмотрели.
Осматриваю, даю несколько указаний, отвечаю на вопросы. Да
здоров же, милый, веселый!
— До свидания!
И в тот же вечер или на другой день:
— Доктор, у ребенка жар.
Мать заметила то, чего я, врач, не сумел прочесть при поверх-
ностном осмотре во время краткого визита.
Часами склоненная над малышом, не владея методом наблюде-
ния, она не знает, что именно она заметила, и, не доверяя себе, не
смеет признаться в сделанных ею тонких наблюдениях.
А она заметила, что у ребенка хрипоты нет, но голос глуховатый.
Лепечет чуть меньше или тише. Раз вздрогнул во сне, несколько
сильнее, чем обычно. Рассмеялся, когда проснулся, но потише. Сосал
чуть медленнее, может быть, с более длительными передышками,
30
как бы рассеянно. Улыбнувшись, скривился, а может, это только по-
казалось? Любимую игрушку бросил в гневе — отчего?
Сотней симптомов, которые заметили ее глаз, ухо, сосок, сотней
микрожалоб ребенок сказал: «Мне нездоровится. Нехорошо мне се-
годня».
Мать не верила в то, что она заметила, потому что в книжке ни
об одном таком симптоме не читала.
15. В бесплатную поликлинику мать-рабочая приносит двухме-
сячного младенца.
— Не сосет. Еле возьмет сосок, бросает. С ложечки пьет. Иной
раз во сне, а то и не во сне как вскрикнет вдруг...
Осматриваю рот, горло — ничего не вижу.
— Дайте ему, пожалуйста, грудь.
Ребенок хватает сосок, сосать не хочет.
— Вот ведь какой стал!
Наконец ребенок берет грудь, быстро, как бы в отчаянии, делает
несколько сосательных движений и с криком выпускает.
— Вы поглядите, у него что-то на десне.
Осматриваю во второй раз, покраснение, но странное: только на
одной стороне.
— Вот тут что-то чернеется, зубик, что ли?
Вижу что-то твердое, желтоватое, овальное, с черным ободком.
Приподнимаю, подается, под ним — маленькое красненькое углуб-
ление с кровяным краем.
Наконец это «что-то» у меня в руках: конопляная шелуха!
Над люлькой висит клетка с канарейкой. Канарейка бросила ше-
луху, та упала на губу, проскользнула в рот и впилась в десну.
Ход моих мыслей: stomatitis catarrhalis, soor, stom. aphtosa, gingi-
vitis, angina ' и т. д.
А мать: больно, что-то во рту.
Я два раза производил осмотр... А она?
16. Если иногда врача удивляет точность и дотошность материн-
ских наблюдений, то, с другой стороны, он с равным удивлением
устанавливает, что зачастую мать не умеет не то что понять, а
даже заметить самый наипростейший симптом.
Ребенок от рождения плачет, мать ничего больше не увидела.
Плачет и плачет...
Возникает ли плач внезапно, сразу достигая вершины, или жа-
лобное хныканье постепенно переходит в крик? Быстро ли младенец
успокаивается, сразу после выделения кала или мочи, или после то-
го, как вырвало (или сам выплюнул)? Вдруг ли разревется во время
купания, одевания, вставания или, словно жалуясь, плачет протяж-
но, без внезапных вспышек? Какие при этом делает движения? Трет-
ся головкой о подушку, чмокает губами? Успокаивается ли, если
носить, а распеленаешь и положишь на животик, часто ли меняет
1 Stomatitis catarrhalis (simplex) (лат.).— катаральное воспаление слизистой
оболочки рта; soor (лат.) — афты; stom. aphtosa (лат.) — афтозное воспаление рта;
gingivitis (лат.) — воспаление десен; angina (лат.) — ангина.
31
положение? Засыпает после плача крепким сном и надолго или про-
сыпается при любом шорохе? Плачет до или после сосания, больше
утром, вечером или ночью?
Успокаивается ли во время сосания? Надолго? Или не хочет со-
сать? Как не хочет? Бросает сосок, чуть взял в рот, или при глота-
нии? Сразу или спустя некоторое время? Решительно не желает или
можно склонить на сосание? Как сосет? Отчего не сосет?
Если насморк, то как будет сосать? Жадно и сильно, потому что
хочется пить, а потом частыми небольшими глотками и неровно, де-
лая передышки, потому что не хватает дыхания? А если и дальше
глотание болезненно, то что будет?
Плачут не только с голоду и от болей в «животике», но и когда
болят губы, десны, язык, горло, нос, палец, ухо, кости; от боли в по-
царапанном клизмой заднем проходе, при болезненном выделении
мочи, при тошноте, жажде, перегревании, зуде кожи, на которой
еще сыпи нет, но появится через месяц, другой; плачут из-за жест-
кой тесемки, складки на пеленке, ворсинки ваты, которая встала
в горле, шелухи от семечка из канарейкиной клетки.
Вызови врача на десять минут, но и сама наблюдай все двадцать
часов.
17. Из-за книг с их готовыми формулами притупилось зрение и
обленилась мысль. Живя чужим опытом, наблюдениями и взгляда-
ми, люди настолько утратили веру в себя, что не хотят смотреть
своими глазами. Будто печатное слово — откровение, а не резуль-
тат наблюдений — только чьих-то, а не моих, вчерашних, а не сегод-
няшних, над чьим-то, а не над моим ребенком.
А школа выработала трусость, страх выдать, что не знаю.
Сколько раз мать, записав на листке вопросы, которые хочет
задать врачу, не решается их высказать. И как исключительно редко
даст ему этот листок, потому что она там «написала глупости».
Сама скрывая, что она не знает, сколько раз она заставит и врача
скрыть сомнения и колебания, ответить определенно! Как неохотно
принимает широкая публика ответы условные, как не любит, когда
врач размышляет вслух над колыбелью! Как часто врач, вынужден-
ный быть пророком, становится шарлатаном!
Порой родители не хотят знать то, что они уже знали, и видеть
то, что они уже увидели.
Роды в кругах, где царит фанатизм удобств, являются чем-то
столь редким и злостно-исключительным, что мать категорически
требует от природы щедрой награды. Если мать согласилась на ли-
шения, на неприятности, недомогания беременности и муку родов,
ребенок должен быть таким, каким она его придумала.
Хуже того: привыкнув, что на деньги можно купить все, она не
хочет смириться с фактом, что есть что-то, что может получить ни-
щий и чего не подадут, как ни проси, магнату.
Сколько раз в поисках того, что снабжено на рынке общей
этикеткой «здоровье», родители покупают фальсификаты, которые
или не помогают, или приносят вред.
32
18. Младенцу — грудь матери, все равно, родился он потому, что
бог благословил супругов или девица потеряла стыд; шепчет мать:
«Мое сокровище» — или вздыхает: «Как мне быть, горемыке»;
почтительно поздравляют ее светлость или бросят деревенской дев-
чине: «Тьфу, потаскуха».
Проституция, которая служит мужчине, находит свое социаль-
ное дополнение в институте кормилиц, который служит женщине.
Следует глубоко осознать: это освященное традицией кровавое
злодеяние по отношению к ребенку бедняка даже не на благо ре-
бенку богатых. Ведь кормилица могла бы кормить и двоих зараз:
своего и чужого. Молочная железа даст столько молока, сколько от
нее потребуют. У кормилицы тогда пропадает молоко, когда ребе-
нок выпивает молока меньше, чем дает грудь.
Формула: молочная грудь, слабый ребенок — молоко пропадает.
Странная вещь: в менее серьезных случаях мы склонны обра-
щаться за советами ко многим врачам, а в столь важном: может ли
мать сама кормить грудью — довольствуемся одним, подчас неис-
кренним, подсказанным случайными людьми.
Каждая мать может кормить, у каждой достаточное количество
молока; и только незнание техники кормления лишает ее этой вро-
жденной способности.
Боли в груди, трещины на сосках являются некоторым препят-
ствием. Но страдание окупается сознанием, что мать вынесла всю
тягость, не переложив ничего на плечи купленной рабыне. Ибо
кормление — это продолжение беременности, «только ребенок
переместился наружу и, отрезанный от последа, взял грудь и пьет не
красную, а белую кровь».
Пьет ировь? Да, материнскую — это закон природы,'а не убиен-
ного молочного брата — что узаконили люди.
Отголосок интенсивной борьбы за право ребенка на грудь. Сегодня во главе уг-
ла стоит жилищный вопрос. А что будет завтра? Таким образом, интересы автора
определяются текущим моментом.
19. Может, и я сочинил бы медицинский «Египетский сонник»
для матерей.
«Вес три с половиной кило при рождении означает здоровье, бла-
гополучие».
«Испражнения зеленые, слизистые: беспокойство, неприятное
известие».
Может, и я составил бы «Любви зерцало», сборник советов и
указаний.
Но я убедился, что нет предписания, которого не довела бы до аб-
сурда некритичная крайность.
Старая система:
Грудь тридцать раз в сутки, попеременно с «касторочкой». Мла-
денец переходит из рук в руки, его качают, «тетешкают» все пере-
простуженные тетки. Подносят к окну, к зеркалу, хлопают в ладо-
ши, гремят погремушками, поют песенки — ну, просто ярмарка!
Новая система:
2 Януш Корчак
33
Каждые три часа грудь. Ребенок при виде приготовлений прояв-
ляет нетерпение, сердится, плачет. Мать смотрит на часы: еще четы-
ре минуты. Ребенок спит, мать его будит — пора кормить, голодного
отнимает от груди — время истекло. Лежит — не надо трогать. Не
приучать к ношению на руках. Выкупанный, сухой, сытый ребенок
должен спать. Не спит. Надо ходить на цыпочках, завесить окна.
Больничная палата, морг.
Не мысль работает, а предписание приказывает.
20. Не: «Как часто кормить», а: «Сколько раз в сутки». Такая по-
становка вопроса развязывает матери руки; пусть сама устанавли-
вает часы, как лучше ей и ребенку.
Сколько раз в сутки должен сосать ребенок?
От четырех раз до пятнадцати.
Как долго держать у груди ребенка?
От четырех минут до сорока пяти и дольше.
Мы встречаем: грудь легко и трудно отделяющую молоко, с
обильным и скудным молоком, с хорошо выраженными сосками и
невыраженными, с тугими и ранимыми. Мы встречаем детей сильно,
неровно и лениво сосущих. Поэтому единого рецепта нет.
Сосок слабо выражен, но прочный; новорожденный активный;
пусть он сосет часто и подолгу, чтобы «разработать» грудь.
Молочная мать, ребенок слабый. Может, лучше перед кормле-
нием отцедить часть молока и заставить ребенка напрягаться? Не
может справиться? Дать грудь, а оставшееся молоко отцедить.
Грудь туговата, ребенок вялый. Он начинает пить минут через
десять.
На одно глотательное движение может приходиться от одного
до пяти сосательных. Количество молока в одном глотке может быть
больше или меньше.
Берет грудь, сосет, но не глотает; редко, часто глотает.
«По подбородку течет». Может, потому, что молока много, а мо-
жет, и потому, что молока мало, ребенок изголодался, сильно втя-
нул в себя и поперхнулся — но только первыми глотками.
Как можно, не зная ребенка и матери, давать предписания?
«Кормить по десяти минут пять раз в сутки» — это схема.
21. Без весов нет техники кормления грудью. Все, что мы не
сделаем, будет игрой в жмурки!
Кроме взвешивания, нет иного способа узнать, высосал ребенок
три ложки молока или десять.
А от этого зависит, как часто он должен сосать, как долго, из
обеих или из одной груди.
Весы могут быть непогрешимым советчиком, если видеть то, что
есть на самом деле, и могут стать тираном, если мы захотим полу-
чить схему «нормального» роста ребенка. Как бы нам один пред-
рассудок — о зеленых испражнениях — не сменить на другой — об
идеальных кривых!
Как взвешивать?
34
Следует отметить, что бывают матери, которые убили много
сотен часов на гаммы и этюды, а ознакомиться с весами им в тя-
гость. Взвешивать до и после кормления? Такая возня! Бывают и
другие, которые не отмахиваются от весов, а окружают их внима-
нием — этого любимого домашнего врача.
Дешевые весы для грудных детей, такое распространение весов,
чтобы «забрели под соломенную стреху»,— это социальный вопрос.
Кто его поднимет?
22. Как это происходит, что одно поколение детей выросло под
лозунгом: молоко, яйца, мясо, а другое получает каши, овощи,
фрукты?
Я мог бы ответить: прогресс химии, исследования в области об-
мена веществ.
Нет, суть изменений ищи глубже.
Новая диета является выражением доверия науки к живому ор-
ганизму, уважением к его воле.
Когда давались белки и жиры, хотели стимулировать развитие
организма, специально подбирая диету, а сейчас мы даем все: пусть
живой организм сам выбирает, что ему надо, что приносит пользу,
пусть сам управляет своими силами, активом унаследованного здо-
ровья и потенциальной энергией развития.
Не что мы даем ребенку, а что он усваивает. Каждое насилие и
излишество — это балласт, каждая односторонность — возможная
ошибка.
Даже будучи близки к истине, мы можем сделать ошибку, а
повторяя ее последовательно из месяца в месяц, мы наносим вред
организму или усложняем ему работу.
Когда, как и чем прикармливать?
Тогда, когда ребенку не хватает высосанного им литра молока; не
сразу, а постепенно и всегда дождавшись реакции организма; при-
кармливать всем, в зависимости от ребенка, его ответа.
23. А кашки?
Следует отличать науку о здоровье от торговли здоровьем.
Жидкость для выращивания волос, эликсир для зубов, пудра, ко-
торая омолаживает кожу, кашки, облегчающие прорезывание зу-
бов,— зачастую это позор для науки и никогда — ее гордость, взлет,
достижение.
Фабрикант обеспечит кашками и нормальный стул, и эффектный
вес, даст то, что мать тешит, а ребенку по вкусу. Но ребенок станет
водянистым, рыхлым, раскормленным, может быть, вялым, может
быть, с пониженной жизнеспособностью.
И всегда фабрикант дискредитирует грудь, правда, осторожно,
пробуждая сомнения, потихоньку подкапываясь, искушая и потакая
слабостям толпы.
Кто-нибудь скажет: ученые со всемирно известными именами
выразили одобрение. Но и ученые — люди: и среди них есть более
проницательные и менее проницательные, осмотрительные и легко-
го
35
мысленные, честные и фальсификаторы. Сколько их, генералов нау-
ки не силой гения, а оборотливостью или привилегией богатства и
рождения! Наука нуждается в дорогостоящих лабораториях, а их
дают не только за подлинные достоинства, но и за притворство, и за
повторство, и за интриги.
Я присутствовал на заседании, где наглая самоуверенность при-
сваивала плоды двенадцати лет добросовестного исследовательского
труда. Я знаю открытие, сфабрикованное к известному международ-
ному съезду. Питательный препарат, значение которого подтвердило
несколько десятков светил, оказался фальсификатом; был судебный
процесс; скандал быстро замяли.
Не кто похвалил кашку, а кто не хотел ее хвалить, несмотря на
все старания агентов и фабрикантов. А они-то уж умеют домо-
гаться и добиваться. Предприятия-миллионеры обладают большим
влиянием; это сила, перед которой не каждый устоит.
Многие моменты в этих разделах — отголоски моего бракоразводного процес-
са с медициной. Я видел и отсутствие опеки, и халтурность медицинской помощи.
(Каменьского * недооценивали, Брудзиньский * первым сумел потребовать и до-
биться равноправия для педиатрии.) На нищете и запустении стала нахально нажи-
ваться иностранная промышленность медицинских препаратов. Сегодня у нас есть
пункты опеки, фабричные ясли, летние колонии, детские здравницы, школьные ме-
дицинские пункты, больничные кассы. Еще беспорядок и нехватки, но мы дожили: ви-
дим начало. Теперь можно верить в кашки и лекарства: их задача не подменять ги-
гиену и социальное обеспечение, а помогать им.
24. У ребенка жар, насморк.
Ему ничто не угрожает? Когда он выздоровеет?
Наш ответ — равнодействующая ряда суждений на основе того,
что мы знаем и сумели заметить.
А значит: сильный организм преодолеет слабую инфекцию в два-
три дня. Если инфекция сильнее или ребенок слабее, недомогание
продлится неделю. Посмотрим.
Либо: недомогание легкое, но ребенок очень мал. Катар у младен-
цев часто переходит со слизистой носа на гортань, трахею, бронхи.
Увидим.
Наконец, на сто подобных случаев девяносто оканчиваются быс-
трым выздоровлением, в семи — болезненное состояние затягивает-
ся, в трех — развивается осложнение и может наступить смерть.
Примечание: а может, за легкой простудой скрывается другое
заболевание?..
Но мать не хочет предполагать, она хочет иметь полную уверен-
ность.
Можно диагноз уточнить, исследуя выделения носа, получить
анализы мочи, крови, спинномозговой жидкости, можно сделать
рентгеноскопию, вызвать специалистов. Возрастет процент безоши-
бочности в диагностике, прогнозировании и даже лечении. Но урав-
новесит ли этот плюс вред многократных осмотров и присутствие
большого числа докторов, каждый из которых может внести в
волосах, складках одежды, при разговоре более опасную инфек-
цию?
36
Где ребенок мог простудиться?
Можно было этого избежать.
А не вырабатывает ли эта легкая инфекция иммунитет против
более сильной, с которой ребенок столкнется через неделю, через
месяц, и не совершенствует ли она защитный механизм: в термиче-
ском центре мозга, железах, составных частях крови? И можем ли
мы изолировать ребенка от воздуха, которым он дышит, а один ку-
бический сантиметр его содержит тысячи бактерий?..
Не явится ли это новое столкновение того, к чему мы стремим-
ся, с тем, перед чем вынуждены отступить, еще одной попыткой во-
оружить мать не образованием, а разумом, без которого ей не воспи-
тать правильно ребенка?
25. Пока смерть косила рожениц, не очень-то думали о новорож-
денном. Его заметили, когда асептика и техника медицинской по-
мощи научились сохранять жизнь матери. Пока смерть косила мла-
денцев, все внимание науки должно было направляться на бу-
тылочку и пеленку. Теперь, может быть, уже недолго — и наряду с
вегетативным обликом ребенка мы четко разглядим психический
склад, жизнь и развитие ребенка до года. То, что сделано до сих пор,
даже еще не начало работы.
Бесконечный ряд психологических проблем и проблем на грани
физиологии и психологии младенца.
Наполеон страдал родимчиком. Бисмарк был рахитиком, и уж
бесспорно каждый пророк и преступник, герой и предатель, большой
и малый, атлет и замухрышка был младенцем, прежде чем стать
взрослым человеком. Если мы хотим изучать амебы мыслей, чувств
и стремлений до того, как они развились, дифференцировались и
сложились, мы должны обратиться к младенцу.
Только безграничное невежество и поверхностность взгляда мо-
гут позволить недоглядеть, что младенец представляет собой некую
строго определенную индивидуальность, состоящую из врожденно-
го темперамента, силы интеллекта, самочувствия и жизненного
опыта.
26. Сто младенцев. Я склоняюсь над кроваткой каждого. Вот
они, чья жизнь исчисляется неделями или месяцами,— разного ве-
са и с разным прошлым своей кривой, больные, выздоравливающие,
здоровые и с трудом цепляющиеся за жизнь.
Встречаю разные взгляды, от угасших, словно подернутых пеле-
ной, без выражения, и от упорных, болезненно-сосредоточенных
до оживленных, приветливых и даже задорных. И улыбка при-
ветствия, внезапная, дружеская, или улыбка после внимательного
наблюдения, лишь в ответ на мою улыбку и ласковое слово — поощ-
рение.
Что сразу мне показалось случайностью, повторяется в течение
многих дней. Я записываю, выделяя доверчивых и недоверчивых,
спокойных и капризных, веселых и мрачных, неуверенных, боязли-
вых и враждебных.
37
Всегда веселый: улыбается до и после кормления, разбуди
его — сонный, разомкнет веки, улыбнется и уснет. Всегда мрачный:
с беспокойством встречает тебя, уже готовый заплакать, за три неде-
ли улыбнулся, и то мельком, лишь раз...
Осматриваю горло. Живой, бурный, страстный протест. Или
лишь досадливо сморщится, нетерпеливо мотнет головой и уже доб-
родушно улыбается. Или подозрительно насторожен при каждом
движении чужой руки, впадает в гнев раньше, чем испытал боль...
Массовая прививка оспы: по пятидесяти детей в час. Это уже
эксперимент. И опять — у одних немедленная и энергичная реак-
ция, у других — постепенная и слабая, а у третьих — безразличие.
Один младенец довольствуется удивлением, другой доходит до
беспокойства, третий бьет тревогу; один быстро приходит в равно-
весие, другой долго помнит, не прощает...
Кто-нибудь скажет: возраст. Да, но только до известной степени.
Быстрота ориентации, память пережитого. О, мы знаем детей, кото-
рые приобрели горький опыт знакомства с хирургом; знаем, что есть
дети, которые не хотят пить молоко, потому что им давали белую
эмульсию с камфорой.
А разве психический облик зрелого человека складывается из
чего-то другого?
27. Один младенец:
Родился, уже примиренный с холодом воздуха, жесткой пелен-
кой, беспокойством звуков, работой сосания. Сосет трудолюбиво,
расчетливо и смело. Уже улыбается, уже агукает, уже владеет рука-
ми. Растет, совершенствуется, ползает, ходит, лепечет, говорит. Как
и когда это произошло?
Спокойное, безоблачное развитие...
Второй младенец:
Прошла неделя, прежде чем научился сосать. Ряд тревожных но-
чей. Неделя без хлопот, однодневная буря. Развитие несколько вя-
лое, прорезывание зубов тяжелое. В общем, бывало по-разному, но
теперь уже все в порядке: спокойный, милый, потешный.
Быть может, прирожденный флегматик и недостаточно проду-
манная опека, недостаточно хорошая грудь, развитие благопо-
лучное.
Третий младенец:
Стремительный. Весел, легко возбудим, испытывая неприятные
впечатления, начало которых в его организме или вне организма,
борется отчаянно, не щадя сил. Живые движения, неожиданные
смены, сегодняшний день не похож на вчерашний. Усваивает и за-
бывает попеременно. Развитие скачкообразное, с резкими подъема-
ми и падениями. Неожиданности от самых приятных до мнимо гроз-
ных. Невозможно определить.
Наконец: легко возбудим, раздражителен, сила, но капризная;
может быть, представляет собой большую ценность...
Четвертый младенец:
Если сосчитать солнечные и дождливые дни, первых окажется
38
немного. Недовольство как основной тон. Нет болей, так есть не-
приятные ощущения; не ворчит, так куксится. Было бы хорошо, да...
Никогда безоговорочно.
Это ребенок с предрасположением к некоторым заболеваниям,
неразумно воспитываемый...
Температура комнаты, сто граммов молока лишних, сто граммов
питьевой воды недостает — все это оказывает влияние не только
гигиеническое, но и воспитательное. У младенца, которому
предстоит столько всего изучить, додумать, узнать, освоить, полю-
бить и возненавидеть, разумно защищать и завоевывать,— должно
быть хорошее самочувствие независимо от врожденного темпера-
мента и быстрого или вялого ума.
Вместо навязанного неологизма: «osesek» я употребляю старое выражение:
«niemowle.». Греки говорили: «нёпиос», римляне: «infans». Если таково было жела-
ние польского языка, к чему нам переводить некрасивое немецкое «Säugling»? Нельзя
произвольно хозяйничать в словаре старых и важных слов.
28. Зрение. Свет и тьма, ночь и день. Во сне мало что происхо-
дит, наяву больше; случается что-то хорошее (грудь) или плохое
(боль). Новорожденный смотрит на лампочку. И не смотрит: глаз-
ные яблоки то сходятся, то расходятся. Позже, водя взглядом за
медленно передвигаемым предметом, поминутно улавливает его и
теряет из виду.
Контуры тени, первые наметки линий, и все это без перспективы.
Мать на расстоянии одного метра — уже другая тень, чем когда
склоняется над ним вблизи. Сбоку ее лицо — словно серп месяца,
и только подбородок и губы — если смотреть снизу, лежа у матери
на коленях; то же лицо — с глазами, и еще по-другому — с воло-
сами, когда сильнее нагнется. А слух и обоняние говорят, что все это
одно и то же.
Грудь — это светлое облако, вкус, запах, теплота, доброта. Мла-
денец выпускает грудь и смотрит, изучая взглядом то удивительное
что-то, которое появляется над грудью и откуда плывут звуки и веет
теплом дыхания. Младенец не знает, что грудь, лицо, руки состав-
ляет единое целое — мать.
Кто-то чужой протягивает руки. Обманутый знакомым движе-
нием, знакомой картиной, ребенок переходит в эти руки. И тут
только замечает ошибку. На этот раз руки отдаляют его от знакомой
тени, приближая к чему-то чужому, вселяющему страх. Внезапным
движением ребенок поворачивается к матери и, уже в безопас-
ности, смотрит и удивляется или, чтобы избежать опасности, ут-
кнется матери в грудь.
Наконец лицо матери перестает быть тенью, оно изучено руками.
Младенец многократно хватал мать за нос, трогал удивительный
глаз, который попеременно то блестит, то, матовый, прикрыт веком,
и изучал волосы. А кто из нас не видал, как он отгибает губу, осмат-
ривает зубы, заглядывает в рот, сосредоточенный, суровый, важ-
ный! Только ему мешает пустая болтовня, поцелуи и шутки — то,
что у нас называется «забавлять» ребенка. Это мы забавляемся, он
39
изучает. У него уже есть очевидные для него истины, предположе-
ния и вопросы в стадии исследования.
29. Слух. Все, начиная с далеких отголосков — уличного шума
за окном, тиканья часов, разговоров и стука — и кончая обращен-
ным непосредственно к ребенку шепотом и словами вслух,— все это
создает хаос раздражений, которые он должен классифицировать
и понять.
Сюда следует добавить звуки, которые издает сам ребенок, а зна-
чит, крик, агуканье, бормотанье. Прежде чем он узнает, что это он
сам, а не кто-нибудь, кого не видно, агукает и кричит, пройдет
много времени. Когда он лежит и бубнит свое «абб, аба, ада», он слу-
шает и исследует ощущения, которые он испытывает, шевеля губа-
ми, языком, гортанью. Не зная еще себя, он устанавливает лишь про-
извольность одоления звукотворчества.
Когда я говорю младенцу на его собственном языке: «аба, абб,
адда», он с удивлением присматривается ко мне — таинственному
существу, издающему хорошо известные ему звуки.
Вдумайся мы глубже в сущность сознания младенца, мы нашли
бы там значительно больше, чем нам сперва представлялось, только
не то и не в таком виде, как нам это представлялось. «Бедная моя
малявочка, бедная моя голодная крошка, она хочет ам-ам, хочет
маляко». Младенец прекрасно понимает, он ждет, когда кормящая
расстегнет лиф и подложит ему под подбородок платочек, и злит-
ся, если очень уж задержат ожидаемое угощение. И все-таки всю эту
тираду мать произнесла самой себе, а не ребенку. Он легче закрепил
бы в памяти те звуки, которыми хозяйка скликает домашнюю птицу:
«цып-цып-цып» или «утя-утя».
Младенец мыслит ожиданием приятных впечатлений и боязнью
впечатлений неприятных; о том, что он мыслит не только зритель-
ными, но и звуковыми образами, можно судить хотя бы по зарази-
тельности крика; крик возвещает несчастье, или крик автоматиче-
ски приводит в движение аппарат, выражающий неудовольствие.
Внимательно приглядитесь к младенцу, когда он слушает плач.
30. Младенец упорно стремится овладеть внешним миром: же-
лает одолеть окружающие его злые, враждебные силы и заставить
служить на благо себе добрых духов. У него есть два заклятия,
которыми он пользуется, прежде чем завоюет третье чудесное ору-
дие воли: свои руки. Эти два заклятия — крик и сосание.
Если вначале младенец кричит, потому что его что-то беспокоит,
то потом он научится кричать, чтобы предупредить возможное бес-
покойство. Оставь его одного — плачет, заслышав шаги, успокаи-
вается; хочет сосать — плачет, увидев приготовления к кормлению,
перестает плакать.
Младенец действует в пределах сведений, которые у него имеют-
ся (а их мало), и средств, которыми он располагает (а они невели-
ки). Совершает ошибки, обобщая отдельные явления и связывая
два следующие друг за другом факта как причину и следствие
40
(post hoc, propter hoc '). He в том ли источник интереса и симпа-
тии, которые вызывают у него башмачки, что он приписывает башма-
кам свою способность ходить? Так и пальтецо является тем волшеб-
ным ковром из сказки, который переносит его в мир чудес — на про-
гулку.
Я вправе делать подобные предположения. Если историк литера-
туры вправе строить догадки, что хотел сказать Шекспир, создавая
«Гамлета», то и педагог вправе делать, пусть даже ошибочные, пред-
положения, когда они, за неимением иных, дают все же практиче-
ские результаты.
Итак:
В комнате душно. У младенца сухие губы, слабо отделяется тя-
гучая густая слюна, младенец капризничает. Молоко — пища, а ему
хочется пить,— значит, дать ему воды. Но он «не хочет пить»; вертит
головой и выбивает из рук ложку. Нет, он хочет пить, только еще
не умеет. Ощутив на губах желанную жидкость, он мотает головой,
ища сосок. Придерживаю ему голову левой рукой и прикладываю
ложку к верхней губе. Он не пьет, а сосет воду, жадно сосет — выпил
пять ложек и спокойно засыпает. Если я ему раз-другой неумело
подам жидкость с ложечки, он поперхнется, испытает неприятное
чувство, и тогда уже на самом деле не захочет пить с ложки.
Второй пример:
Младенец, постоянно капризничающий, недовольный, успокаи-
вается во время кормления грудью, когда его пеленают, купают, во-
обще при частой смене положения. Этого младенца беспокоит сыпь.
Мне отвечают, что сыпи нет. Нет, так, наверное, будет. Через два ме-
сяца сыпь-таки появляется.
Третий пример:
Младенец сосет кулачки, когда ему что-то мешает, все неприят-
ные ощущения, а значит, и беспокойство нетерпеливого ожидания он
желает смягчить благодетельным, хорошо знакомым ему актом со-
сания. Сосет кулачки, когда хочется есть, пить, когда перекормлен
и неприятный осадок во рту, когда что-нибудь болит, когда перегрет,
когда чешется кожа или десны. Отчего это бывает: врач предсказы-
вает зубы, ребенок явно испытывает неприятные ощущения в челю-
сти или деснах, а зубы не показываются в течение нескольких не-
дель? Не раздражает ли прорезывающийся зуб мелких нервных во-
локон уже в самой кости? Добавлю, что и теленок, прежде чем у него
вырастут рога, страдает подобным образом.
И тут путь таков: инстинкт сосания, сосание, чтобы не страдать,
сосание как удовольствие или привычка.
31. Повторяю: основным тоном и содержанием психической
жизни младенца является стремление овладеть неведомыми сти-
хиями, тайной окружающего его мира, откуда исходит добро и зло.
Желая овладеть, младенец стремится познать.
Повторяю: хорошее самочувствие облегчает объективное изуче-
1 Post hoc, (ergo) propter hoc (лат.) — после этого, а значит, из-за этого.
41
ние, а всякие неприятные ощущения, причина которых лежит внут-
ри его организма, а значит, в первую очередь, боль, затмевают его
шаткое сознание. Чтобы убедиться в этом, надо присматриваться
к младенцу, когда он здоров, страдает или болен.
Ощущая боль, младенец не только кричит, но и слышит свой
крик, чувствует этот крик в горле, видит его сквозь полуприкрытые
веки в виде расплывчатых образов. Все это — сильное, враждебное,
грозное, непонятное. Ребенок должен хорошо помнить эти минуты
и бояться их; а не зная еще себя, связывает их со случайно возник-
шими перед ним картинами. Это и есть, наверное, источник многих
непонятных симпатий младенца, антипатий, страхов и странностей.
Изучать развитие интеллекта младенца неимоверно трудно, ибо
младенец по многу раз усваивает и забывает: это и движение вперед,
и затишье, и отступление. Быть может, изменчивость самочувст-
вия играет в этом важную, а может, и главную роль.
Младенец изучает свои руки. Распрямляет, водит ими вправо
или влево, отдаляет, приближает, расставляет пальцы, сжимает
в кулачок, что-то говорит им и ждет ответа, правой рукой хватает
левую и тянет, берет погремушку и смотрит на странно изменивший-
ся вид руки, перекладывает погремушку из одной руки в другую,
сует в рот, тут же вынимает и опять разглядывает — внимательно,
не спеша. Бросает погремушку, хватается за пуговицу на одеяле,
изучает причину полученного отпора. Младенец не играет, имейте
же, черт подери, глаза на лбу и заметьте его усилие воли, чтобы по-
стичь! Это ученый в лаборатории, ищущий решение проблемы вели-
чайшей важности, которое от него ускользает.
Младенец, навязывает свою волю криком. Потом мимикой лица и
движением рук, и наконец — речью.
32. Раннее утро, скажем, пять часов утра.
Проснулся, улыбается, лепечет, двигает ручонками, садится,
встает на ножки. Матери хочется еще поспать.
Конфликт двух хотений, двух потребностей, двух столкнувших-
ся эгоизмов; третий момент одного и того же процесса: мать стра-
дает, а ребенок рождается для жизни; матери хочется отдохнуть
после родов, а ребенок требует пищи; хочется вздремнуть, а ребенок
желает бодрствовать. И таких конфликтов будет без конца. Это не
пустяк, а проблема; будь отважна в своих чувствах и, отдавая ребен-
ка наемной нянюшке, скажи себе прямо «не хочу», хотя бы тебе врач
и сказал, что не можешь, ибо он всегда скажет так на втором этаже
с окнами на улицу и никогда — на чердаке.
Бывает и так: мать отдает ребенку свой сон, но требует за это
плату, а значит, целует, ласкает, прижимает к себе теплое, розовое,
шелковистое тельце. Будь начеку: это сомнительный акт экзальти-
рованной чувствительности, скрытой, затаившейся в любви материн-
ского тела, а не сердца. Знай, что ребенок охотно прильнет к тебе,
раскрасневшись от сотни поцелуев, с блестящими от радости глаза-
ми, то есть твой эротизм находит в нем отклик.
Значит, отказаться от поцелуя? Этого я не могу требовать, счи-
42
тая разумно дозированный поцелуй ценным воспитательным факто-
ром; поцелуй успокаивает боль, смягчает резкое замечание, будит
раскаяние, награждает усилия, является символом любви, как
крест — символом веры, и действует как таковой. Я говорю: являет-
ся символом любви, а не что должен являться символом любви.
А впрочем, если это странное желание прижимать к себе, гладить,
обонять, впитывать в себя ребенка не вызывает у тебя сомнений,—
делай как знаешь. Я ничего не запрещаю и не предписываю.
33. Когда я смотрю на младенца, как он открывает и закрывает
коробочку, кладет в нее и вынимает камешек, встряхивает и прислу-
шивается; когда годовалый ребенок тащит скамеечку, сгибаясь под
ее тяжестью и пошатываясь; когда двухлетний, услышав, что корова
это «му-у», прибавляет от себя «ада-му-у», а «ада» — это имя их со-
баки, то есть делает архилогичные языковые ошибки, которые сле-
дует записывать и оглашать...
Когда среди разного хлама у ребенка постарше я вижу гвозди,
веревочки, тряпочки, стеклышки, потому что это «пригодится» для
осуществления сотни замыслов; когда дети пробуют, кто дальше
«скакнет»; мастерят, возятся, затевают игру; спрашивают: «Когда
я думаю о дереве, то у меня в голове маленькое дерево?»; дают нище-
му не двушку, чтобы видели и похвалили, а двадцать шесть грошей,
все свое состояние, ведь он такой старый и бедный и скоро умрет...
Когда подросток, поплевав на ладонь, приглаживает волосы,
потому что должна прийти подруга сестры; когда девушка пишет мне
в письме, что «мир подлый, а люди звери», и умалчивает, почему; ког-
да юнец гордо бросает бунтарскую, но такую избитую, лежалую
мысль — вызов...
О, я целую этих детей взглядом, мыслью и спрашиваю: вы, див-
ная тайна, что несете? Целую усилием воли: чем могу вам помочь?
Целую их так, как астроном целует звезду, которая была, есть и бу-
дет. Этот поцелуй должен быть равно близок экстазу ученого и по-
корной молитве. Но не изведает его чар тот, кто в поисках свободы
потерял в давке бога.
34. Ребенок еще не говорит. Когда он заговорит?
Правда, речь — показатель развития ребенка, но не единствен-
ный и не главный. Нетерпеливое ожидание первого слова — это
ошибка, доказательство воспитательной незрелости родителей.
Если новорожденный в ванночке вздрогнет и взмахнет руками,
теряя равновесие, он как бы говорит: «боюсь» — крайне любопытен
этот рефлекс страха у существа, столь далекого от понимания опас-
ности. Даешь грудь — не берет, как бы говорит: «Не хочу». Протя-
гивает руку к желаемому предмету: «Дай». Перекошенным от плача
ртом и оборонительным жестом говорит: «Я тебе не доверяю», иног-
да спрашивает мать: «Можно ли ему довериться?»
Чем является пытливый взгляд младенца, как не вопросом: «Что
это?» Тянется за чем-нибудь, с трудом достает и глубоко взды-
хает — этим вздохом облегчения он говорит: «Наконец-то». Попро-
43
буй отнять, десятком оттенков поведения он скажет тебе: «Не от-
дам». Поднимает голову, садится, встает: «Действую». Чем являет-
ся улыбка рта, глаз, как не: «О, как хорошо мне на свете»?
Языком мимики говорит, языком зрительных образов и памяти
чувств мыслит.
Мать надевает на него пальтецо, ребенок рад, поворачивается
всем корпусом в сторону двери, выражая нетерпение, подгоняя.
Мыслит картинами прогулки и воспоминанием об испытанных тогда
приятных ощущениях. Младенец питает к доктору дружеские чув-
ства, но, завидев у него в руках ложку, сразу распознает в нем врага.
Младенец понимает язык не слов, а мимики и интонаций.
— Где у тебя носик?
Не понимая ни одного из этих четырех слов, он по голосу и по
движению губ знает, какого от него ждут ответа.
Не умея еще говорить, он умеет вести весьма сложную беседу.
— Не тронь,— говорит мать.
Несмотря на это, он протягивает ручонку и берет запрещенный
предмет, мило склоняет головку, улыбается, проверяя, не возобно-
вит ли мать еще строже запрещение или, обезоруженная изощрен-
ным кокетством, уступит, разрешит.
Еще не сказав ни одного слова, ребенок лжет, беспардонно лжет.
Желая освободиться от несимпатичной особы, он подает условный
знак, грозный сигнал и, сидя на известном сосуде, взглядывает из-
девательски и с торжеством на окружающих.
Попробуй подшутить над ним, протягивая и тут же отдергивая
требуемый предмет, ребенок не всегда рассердится, подчас только
обидится.
Ребенок и без слов умеет быть деспотом, приставать неотвязно,
тиранить.
35. Очень часто, когда врач спрашивает, когда именно ребенок
начал говорить и ходить, мать, смутившись, дает робко приблизи-
тельный ответ:
— Рано, поздно, нормально.
Она считает, что дата столь важного факта должна быть точной
и что любое сомнение представит ее в дурном свете; я упоминаю об
этом, чтобы показать, как непопулярна у населения мысль, что даже
точное научное наблюдение лишь с трудом дает приблизительную
линию развития ребенка, и как повседневно школярское желание
скрыть свое незнание.
Как отличить, когда младенец вместо «ам, ан, ама» впервые
сказал: «мама», а вместо «аб-ба» — «баба»? Как определить, когда
слово «мама» уже тесно связано в его сознании с образом матери,
и ничьим другим?
Ребенок прыгает на коленях у матери, стоит, поддерживаемый
ею или сам, опершись о край сетки у кроватки; стоит какой-то мо-
мент без посторонней помощи; сделал несколько шагов по полу и
много шагов в воздухе; барахтается, ползает, ходит на четверень-
ках; толкает перед собой стул, не теряя равновесия; четверть хожде-
44
ния, полухождение, три четверти хождения, прежде чем наконец
начнет ходить. Да и тут — и вчера, и всю неделю ходил, а опять не
умеет. Чуть устал, пропало вдохновение. Упал и перепугался, боит-
ся, двухнедельная пауза-
Головка, бессильно опущенная на плечо матери,— еще не до-
казательство тяжелой болезни, так бывает при всяком недомо-
гании.
Ребенок в любом своем новом движении подобен пианисту, кото-
рому нужны хорошее самочувствие и душевный покой, чтобы с успе-
хом исполнить трудное музыкальное произведение; даже исключе-
ния из этого правила схожи. Бывало, рассказывает мать, ребенку
«уже нездоровилось, но он не поддавался и еще пуще, может быть,
ходил, играл, говорил»; тут следует самообвинение: «я думала, мне
только кажется, что он нездоров, и пошла с ним гулять»; самооправ-
дание: «такая была хорошая погода» — и вопрос: «это ему могло
повредить?».
36. Когда ребенок должен уже ходить и говорить? Тогда, когда
он ходит и говорит. Когда должны прорезываться зубки? Именно
тогда, когда прорезываются. И темечко как раз тогда должно зарас-
тать, когда зарастает. И спать младенец должен столько часов,
сколько ему надо, чтобы выспался.
Ну да, мы знаем, когда это в общем происходит. В каждой по-
пулярной брошюре даны эти прописные истины для детей вообще,
оборачивающиеся ложью для одного, твоего.
Потому что бывают младенцы, которым требуется больше сна и
меньше сна; бывают ранние, а уже гнилые еще когда прорезывают-
ся зубы и поздние здоровые зубы здоровых детей; темечко зарас-
тает и на девятом месяце жизни, и на четырнадцатом у здоровых
детей; глупышки иногда начинают лепетать рано, а умные подолгу
не говорят.
Номера пролеток, рядов в театре, сроки уплаты за квартиру —
все то, что для порядка придумали люди, можно соблюдать; но кто
умом, воспитанным на полицейских указах, захочет объять живую
книгу природы, тот обрушит на себя всю тяжесть беспокойства, ра-
зочарований и неожиданностей.
Я вменяю себе в заслугу, что на поставленные выше вопросы я от-
ветил не рядом цифр, которые я зову «маленькими правдами». Ведь
важно не то, прорезываются сперва нижние или верхние зубы, рез-
цы или клыки — это может заметить каждый, у кого глаза есть и
календарь,— а чем является живой организм и что ему нужно —
вот она, «великая истина», доступная лишь исследователю.
Даже у честных врачей должны быть две нормы поведения: с ра-
зумными родителями врачи — естествоиспытатели, они сомневают-
ся, предполагают, решают трудные проблемы и ставят интересные
вопросы; с неразумными — чопорные гувернеры: отсюда досюда —
и знак ногтем на букваре.
«Каждые два часа по ложечке. Яичко, полстакана молока и два
сухарика».
45
37. Внимание! Или мы с вами сейчас договоримся, или навсег-
да разойдемся во мнениях! Каждую стремящуюся ускользнуть
и притаиться мысль, каждое слоняющееся без призора чувство
надлежит призвать к порядку и построить усилием воли в шеренгу!
<->
Мы дали слишком обильную или неподходящую пищу: чересчур
много молока, несвежее яйцо — ребенка вырвало. Дали неудобова-
римые сведения — не понял, неразумный совет — не усвоил, не
послушался. Это не пустая фраза, когда я говорю: счастье для че-
ловечества, что мы не в силах подчинить детей нашим педагогиче-
ским влияниям и дидактическим покушениям на их здравый рассу-
док и здравую человеческую волю.
У меня еще не выкристаллизовалось понимание того, что первое, неоспоримое
право ребенка — высказывать свои мысли, активно участвовать в наших рассужде-
ниях о нем и приговорах. Когда мы дорастем до его уважения и доверия, когда он по-
верит нам и сам скажет, в чем его право, загадок и ошибок станет меньше.
38. <...>
Бытует мнение, что чем выше смертность среди детей пролета-
риата, тем крепче поколение, которое выживает и вырастает. Нет:
плохие условия, убивающие слабых, ослабляют сильных и здоровых.
Зато мне кажется правдой, что чем больше мать из состоятельных
кругов страшится мысли о возможной смерти ребенка, тем меньше
у него условий стать хоть сколько-нибудь физически развитым и ду-
ховно самостоятельным человеком. Всякий раз, когда я вижу в вы-
крашенной белой масляной краской комнате, среди белой полиро-
ванной мебели, в белом платьице, с белыми игрушками бледного
ребенка, я испытываю неприятное чувство: в этой хирургической
палате, а не детской комнате должна воспитаться малокровная душа
в анемичном теле.
«В этом белом салоне с электрической лампочкой в каждом углу
можно заболеть эпилепсией»,— говорит Клодина *.
Может быть, тщательные исследования покажут, что перекарм-
ливание нервов и тканей светом равно вредно, как и отсутствие све-
та в темном подвале.
Есть два слова: свобода и воля. Свобода, мне кажется,— это
право владеть собой, располагать собой. А в слове «воля» присут-
ствует элемент воли — действия, порождаемого стремлением. Наша
детская комната с симметрично расставленной мебелью и наши при-
лизанные городские сады не являются местом для проявления лич-
ной свободы ребенка, ни той мастерской, где найдет для себя
инструменты его деятельная воля.
Комната маленького ребенка возникла из акушерской клиники,
а той диктовала предписания бактериология. Смотрите, как бы,
оберегая от бактерий дифтерита, не поместить ребенка в атмосферу,
перенасыщенную затхлостью скуки и безволия. Сегодня нет сперто-
го воздуха от сушеных пеленок, зато есть запах йодоформа.
Очень много перемен. Уже не только белый лак мебели, но и пляжи, экскур-
сии, спорт, скаутизм. Также лишь начало. Чуть больше свободы, однако жизнь ре-
бенка по-прежнему тусклая, душная.
46
39.— Ку-ку, бедная детусенька, где у тебя бобо?
Ребенок с трудом отыскивает чуть видные знаки позавчерашних
царапин, показывает место, где, ушибись он сильнее, был бы синяк,
доходит до совершенства в нахождении коросточек, пятнышек и
следов.
Если каждое «бобо» взрослого сопровождают тон, жест, мимика
бессильной покорности и безнадежного смирения, детские «фи»,
«бяка», «нехороший» сочетаются с проявлениями отвращения и не-
нависти. Надо видеть, как младенец держит перепачканные в шоко-
ладе руки, пока мама не вытрет их батистовым платочком, все его
отвращение и беспомощность, чтобы задать вопрос: «Не лучше было
бы, если бы ребенок, ударившись лбом о стул, давал ему пощечину,
а во время мытья, с глазами, полными мыла, плевался и пинал
няньку?..»
Двери — прищемит палец, окно — высунется и упадет, косточ-
ка — подавится, стул — опрокинет на себя, нож — порежется, пал-
ка — выколет глаз, поднял с пола коробок — заразится, спичка —
ай, пожар горит!
«Сломаешь руки, попадешь под машину, укусит собака. Не ешь
слив, не пей сырую воду, не ходи босой, не бегай на солнце, застег-
ни пальто, завяжи шарфик. Вот видишь, не послушался. Гляди —
хромой, гляди — слепой. «На помощь» — кровь! Кто дал ему нож-
ницы?»
Ушиб — это не синяк, а боязнь сотрясения мозга; рвота — не
засорение желудка, а боязнь скарлатины. Всюду ловушки и опасно-
сти, все грозное, зловещее.
И если ребенок поверит и не съест украдкой фунт незрелых
слив и, обманув бдительность старших, не зажжет с сильно бьющим-
ся сердцем где-нибудь в углу спичку, если послушно, пассивно,
доверчиво подчинится требованию избегать всяких опытов, отказы-
ваться от попыток и отрекаться от каждого усилия воли — что пред-
примет он, когда в себе, в своем духовном существе почувствует что-
то, что грызет, жжет, ранит?
Есть ли у вас план, как возносить ребенка с младенчества через
детство в период созревания, когда, подобно удару молнии, поразят
ее менструации, его эрекции и поллюции?
Да, ребенок еще сосет грудь, а я уже спрашиваю, как будет ро-
жать, ибо это проблема, над которой и два десятка лет думать не
слишком много.
40. Из страха, как бы смерть не отняла у нас ребенка, мы от-
нимаем ребенка у жизни; не желая, чтобы он умер, не даем ему
жить.
Сами воспитанные в деморализующем пассивном ожидании того,
что будет, мы беспрерывно спешим в волшебное будущее. Ленивые,
не хотим искать красы в сегодняшнем дне, чтобы подготовить себя
к достойной встрече завтрашнего утра: завтра само должно нести с
собою вдохновение. И что такое это «хоть бы он уже ходил, гово-
рил», что, как не истерия ожидания?
47
Ребенок будет ходить, будет обивать себе бока о твердые края
дубовых стульев. Будет говорить, будет перемалывать языком сеч-
ку серых будней. Чем это сегодня ребенка хуже, менее ценно,
чем завтра? Если речь идет о труде, сегодня — труднее.
А когда наконец это завтра настало, мы ждем новое завтра. Ибо
в принципе наш взгляд на ребенка — что его как бы еще нет, он толь-
ко еще будет, еще не знает, а только еще будет знать, еще не может,
а только еще когда-то сможет — заставляет нас беспрерывно ждать.
Половина человечества как бы не существует. Жизнь ее — шут-
ка, стремления — наивны, чувства — мимолетны, взгляды — смеш-
ны. Да, дети отличаются от взрослых; в жизни ребенка чего-то не-
достает, а чего-то больше, чем в жизни взрослого, но эта их отличаю-
щаяся от нашей жизнь — действительность, а не фантазия. А что
сделано нами, чтобы познать ребенка и создать условия, в которых
он мог бы существовать и зреть?
Страх за жизнь ребенка соединен с боязнью увечья; боязнь уве-
чья сцеплена с чистотой, залогом здоровья; тут полоса запретов
перекидывается на новое колесо: чистота и сохранность платья,
чулок, галстука, перчаток, башмаков. Дыра уже не во лбу, а на ко-
ленках брюк. Не здоровье и благо ребенка, а тщеславие наше и кар-
ман. Новый ряд приказов и запретов вызван нашим собственным
удобством.
«Не бегай, попадешь под лошадь. Не бегай, вспотеешь. Не бегай,
забрызгаешься. Не бегай, у меня голова болит».
(А ведь в принципе мы даем детям бегать: единственное, чем
даем им жить.)
И вся эта чудовищная машина работает долгие годы, круша волю,
подавляя энергию, пуская силы ребенка на ветер.
Ради завтра пренебрегают тем, что радует, печалит, удивляет,
сердит, занимает ребенка сегодня. Ради завтра, которое ребенок не
понимает и не испытывает потребности понять, расхищаются годы
и годы жизни.
«Мал еще, помолчи немножко.— Время терпит. Погоди, вот
вырастешь...— Ого, уже длинные штанишки.— Хо-хо! Да ты при
часах.— Покажись-ка: у тебя уже усы растут!»
И ребенок думает:
«Я ничто. Ч е м-т о могут быть только взрослые. А вот я уже
ничто чуть постарше. А сколько мне еще лет ждать? Но погодите,
дайте мне только вырасти...»
И он ждет — прозябает, ждет — задыхается, ждет — притаил-
ся, ждет — глотает слюнки. Волшебное детство? Нет, просто скуч-
ное, а если и бывают в нем хорошие минуты, так отвоеванные, а чаще
краденые.
Ни слова о всеобщем обучении, сельских школах, городах-парках, харцерстве.
Так все это было безнадежно далеко и потому несущественно. Книга, ее содержа-
ние зависят от того, какими категориями переживаний и опыта оперирует автор, ка-
ково было поле его деятельности и творческая лаборатория,— какова была почва,
вскормившая его мысль. Вот почему мы встречаем наивные суждения у авторите-
тов, и тем более иностранных.
48
41. Стало быть, все позволять? Ни за что: из скучающего раба
мы сделаем изнывающего со скуки тирана. А запрещая, закаляем
как-никак волю, хотя бы лишь в направлении обуздания, ограниче-
ния себя, развиваем изобретательность, умение ускользнуть из-под
надзора, будим критицизм. И это чего-то да стоит, как — правда,
односторонняя — подготовка к жизни. Позволяя же детям «все»,
бойтесь, как бы, потакая капризам, не подавить сильных желаний.
Там мы ослабляли волю, здесь отравляем.
Это не «делай что хочешь», а «я тебе сделаю, куплю, дам все, что
хочешь, ты только скажи, что тебе дать, купить, сделать. Я плачу за
то, чтобы ты сам ничего не делал, я плачу за то, чтобы ты был по-
слушный».
«Вот съешь котлетку, мама купит тебе книжечку. Не ходи гу-
лять — на тебе за это шоколадку».
Детское «дай», даже просто протянутая молча рука должны стол-
кнуться когда-нибудь с нашим «нет», а от этих первых «не дам, не-
льзя, не разрешаю» зависит успех целого и огромнейшего раздела
воспитательной работы.
Мать не хочет видеть этой проблемы, предпочитает лениво, трус-
ливо отсрочить, отложить на после, на потом. Не хочет знать, что
ей удастся, воспитывая ребенка, ни устранить трагичную коллизию
неправильного, неисполнимого, не проверенного на деле хотения и
проверенного на деле запрета, ни избежать еще более трагичного
столкновения двух желаний, двух прав в одной области деятельно-
сти. Ребенок хочет взять в рот горящую свечку — я не могу ему это-
го позволить; он требует нож — я боюсь дать, он тянется к вазе, ко-
торую мне жалко, хочет играть со мной в мяч — а я хочу читать.
Мы должны разграничивать его и мои права.
Младенец тянется за стаканом — мать целует ручонку, не по-
могло — дает погремушку, велит убрать с глаз соблазн. Если младе-
нец вырывает руку, бросает на пол погремушку, ищет взглядом спря-
танный предмет, а затем сердито смотрит на мать, спрашиваю: кто
прав? Обманщица мать или младенец, который ее презирает?
Кто не продумает основательно вопроса запретов и приказов,
когда их мало, тот растеряется и не охватит всех, когда их будет
много.
42. Деревенский мальчишка Ендрек. Он уже ходит. Держась за
дверной косяк, осторожно переваливается через порог в сени. Из
сеней по двум каменным ступенькам сползает на четвереньках. У из-
бы встретил кошку: оглядели друг друга и разошлись. Споткнулся
о ком сухой грязи, остановился, глядит. Нашел палочку, сел, ковы-
ряет в песке. Валяются очистки от картофеля, берет в рот, песок во
рту, морщится, плюет, бросает. Опять встал на ноги, бежит прямо на
собаку; дрянная собака его опрокидывает. Сморщился, вот-вот заре-
вет, да нет, вспомнил что-то и тащит метлу. Мать по воду пошла; ух-
ватился за подол и бежит уже увереннее. Кучка ребят постарше,
с тележкой — он глядит; прогнали его — встал в сторонку, глядит.
Дерутся два петуха — глядит. Посадили Ендрека на тележку, везут,
49
вывалили. Мать позвала. И это лишь одна, первая половина шестнад-
цатичасового дня.
Никто не говорит ему, что мал; сам чувствует, когда не под силу.
Никто не говорит ему, что кошка царапается, что он не умеет схо-
дить по ступенькам. Никто не учит, как относиться к большим ребя-
там. «По мере того как Ендрек подрастал, прогулки уводили его все
дальше от хаты» (Виткевич) *.
Часто путает, ошибается; в результате — шишка, в результате —
большая шишка, в результате — шрам.
Да нет, я вовсе не хочу заменить чрезмерную заботу отсутствием
всякой заботы. Я лишь показываю, что деревенский годовалый ре-
бенок уже живет, тогда как наш зрелый юноша еще только будет
когда-то жить. Боже мой, да когда же?
43. Бронек хочет открыть дверь. Двигает стул. Останавливается
и отдыхает, помощи не просит. Стул тяжелый, Бронек устал. Теперь
тащит попеременно то за одну, то за другую ножку. Работа идет мед-
ленно, но становится легче. Стул уже от двери близко; Бронеку ка-
жется, что дотянется, вскарабкивается, встал на ноги. Я придержи-
ваю слегка за платьице. Пошатнулся, испугался, слез. Придвигает
к самой двери, но ручка осталась в стороне. Вторая неудачная по-
пытка. Ни тени нетерпения. Опять трудится, лишь дольше передыш-
ки. Взбирается в третий раз: нога — вверх, рывок рукой, упор на сог-
нутое колено, повис, ищет равновесия, новое усилие, рука цепля-
ется за край стула, лег на живот, пауза, бросок тела вперед, встал на
колени, выпутывает ноги из платья — стоит. Бедные вы мои лилипу-
тики в стране великанов! Голова у вас вечно задрана вверх, чтобы
что-нибудь да увидеть. Окно где-то высоко, как в тюрьме. Чтобы
сесть на стул, надо быть акробатом. Напряжение всей мускулатуры
и всех сил ума, чтобы достать наконец дверную ручку...
Дверь открыта, Бронек глубоко вздохнул. Этот глубокий вздох
облегчения мы видим уже у младенцев после каждого усилия воли,
длительного напряжения внимания. Когда кончаешь интересную
сказку, ребенок тоже вздыхает. Я хочу, чтобы это поняли.
Такой глубокий отдельный вздох доказывает, что до этого дыха-
ние было замедленное, поверхностное, недостаточное; затаив дыха-
ние, ребенок смотрит, ждет, следит, силится вплоть до полного ис-
черпания кислорода, до отравления тканей. Организм шлет сигнал
тревоги в дыхательный центр; наступает глубокий вздох, который
восстанавливает кислородный обмен.
Если вы умеете определять радость ребенка и ее силу, вы долж-
ны знать, что самая высокая радость — преодоленной трудности,
достигнутой цели, раскрытой тайны, радость триумфа и счастье са-
мостоятельности, овладения и обладания.
— Где мама? Нет мамы. Ищи.
Нашел! Почему так смеется?
— Убегай, мама сейчас тебя поймает! Ой, не может догнать!
Ох, и счастлив же!
Почему хочет ползать, ходить, вырывается из рук? Обычная
50
сценка: семеня ножонками, ребенок отходит от няньки, видит —
нянька гонится, он давай убегать, и, забыв об опасности, летит, очер-
тя голову, в экстазе свободы — и или растягивается во весь рост на
земле, или, пойманный, вырывается, пинается ногами и визжит.
Скажете: избыток энергии? Это физиологическая сторона, а я
ищу психофизиологическую.
Спрашиваю: почему ребенок хочет, когда пьет, сам держать ста-
кан, чтобы мать даже не притрагивалась; почему, когда уже и не
хочется есть, ест, если позволили самому черпать ложкой? Почему
с такой самозабвенной радостью гасит спичку, волочит комнатные
туфли отца, несет скамеечку бабушке? Подражание? Нет, нечто
значительно большее и ценнейшее.
— Я сам! — восклицает ребенок тысячи раз жестом, взглядом,
смехом, мольбой, гневом, слезами.
44. — А ты умеешь сам открывать дверь? — спросил я у паци-
ента, мать которого предупредила меня, что он боится докторов.
— Даже в уборной,— поспешно ответил он.
Я рассмеялся. Мальчуган смутился, а я еще больше. Я вырвал
у него признание в тайном торжестве и осмеял.
Нетрудно догадаться, что было время, когда все двери уже стояли
перед ним настежь, а дверь от уборной не поддавалась его усилиям и
была целью его честолюбивых стремлений; он походил в этом на мо-
лодого хирурга, который мечтает провести трудную операцию.
Он не доверялся никому, зная, что в том, что составляет его
внутренний мир, он не найдет отклика у окружающих.
Быть может, не раз его обругали или обидели недоверием: «И че-
го ты там все вертишься, чего ты там ковыряешься? Оставь, испор-
тишь. Сию же минуту марш в комнату!»
Так он украдкой, тайком трудился и наконец... открыл!
Обратили ли вы внимание, как часто, когда раздается в перед-
ней звонок, вы слышите просьбу:
— Я отворю?
Во-первых, замок у входных дверей трудный, во-вторых, чувство,
что там, за дверью, стоит взрослый, который сам не может сладить
и ждет, когда ты, маленький, поможешь...
Вот какие небольшие победы празднует ребенок, уже грезящий
о дальних путешествиях; в мечтах он — Робинзон на безлюдном
острове, а в действительности рад-радехонек, когда позволят выгля-
нуть в окошко.
— Ты умеешь сам влезать на стул? Умеешь прыгать на одной
ножке? А можешь левой рукой ловить мячик?
И ребенок забывает, что не знает меня, что я стану осматривать
ему горло и пропишу лекарство. Я затрагиваю то, что в нем берет
верх над чувством смущения, страха, неприязни, и он радостно вос-
клицает:
— Умею!
Видали ли вы, как младенец долго, терпеливо, с застывшим ли-
цом, открытым ртом и сосредоточенным взглядом снимает и натя-
51
гивает чулочек или башмачок? Это не игра, не подражание, не бес-
смысленное битье баклуш, а труд.
Какую пищу дадите вы его воле, когда ему исполнится три года,
пять лет, десять?
45. Я!
Когда новорожденный сам себя царапает; когда младенец, сидя,
тащит в рот ногу, валится назад и сердито ищет вокруг виновника;
когда, дернув себя за волосы, морщится от боли, но возобновляет
опыт; когда ударяет себя ложкой по голове и смотрит вверх — что
там такое, чего он не видит, но чувствует? — он не знает себя.
Когда изучает движения рук; когда, сося кулачок, внимательно
рассматривает его; когда во время кормления бросает сосать и срав-
нивает ногу с грудью матери; когда, семеня ножонками, останавли-
вается и глядит вниз, выискивая то, что поддерживает его совсем
иначе, чем материнские руки; когда сравнивает правую ногу, в чулке,
с левой, без чулка, он стремится познать и знать.
Когда, купаясь, исследует воду, отыскивая во многих неосознаю-
щих себя каплях себя, каплю сознающую, он предугадывает вели-
кую истину, которую заключает короткое слово «я».
Лишь художник-футурист может изобразить нам младенца та-
ким, каким он себя видит: пальцы, кулачок, менее четко ноги, быть
может, животик, быть может, даже и голова, но только пунктирной
линией, как на карте Заполярья.
Работа еще не кончена: оборачиваясь, он наклоняет голову, что-
бы увидеть, что таится у него сзади, изучает себя в зеркале и при-
сматривается к фотографии, находя то углубление пупка, то возвы-
шение родинки; а тут уже ждет его новая работа: надо отыскать себя
среди окружающих. Мать, отец, какой-то дядя, какая-то тетя, одни
часто появляются, другие редко — полным-полно таинственных
личностей, чье происхождение неясно, а поступки загадочны.
Едва ребенок установил, что мама у него для того, чтобы выпол-
нять его желания или идти им наперекор, папа приносит деньги,
а тети — шоколадки, как у себя в мыслях, где-то в себе он открывает
новый, еще более удивительный невидимый мир.
А дальше надо отыскать себя в обществе, себя в человечестве,
себя во Вселенной.
Вот, волосы седые, а работа не кончена.
46. Мое.
Где таится эта простейшая мысль-чувство? Быть может, сливает-
ся с понятием «я»? Быть может, когда младенец протестует против
завертывания рук, он борется за них как за «мое», а не за «я»? А за-
бирая у него ложку, которой он стучит по столу, ты лишаешь его не
собственности, а способности давать выход энергии, высказывать-
ся на особый лад, звуком?
Рука эта — не совсем рука, а скорее послушный дух Аладдина —
держит бисквит, приобретя новую ценную собственность, и ребенок
эту собственность защищает.
52
Каким образом понятие собственности вяжется у него с поня-
тием повышенной мощи? Лук для дикаря был не только собствен-
ностью, но и усовершенствованной рукой, поражавшей на рас-
стоянии.
Ребенок не хочет отдать газету, которую рвет, ибо он исследует,
тренируется, ибо это материал, как рука — инструмент, который
звука не издает и в еду не годится, но в соединении с погремушкой —
говорит, а в соединении с булочкой придает сосанию добавочное
приятное ощущение.
И лишь потом приходят подражание, соперничество, желание
выдвинуться. Ибо собственность вызывает уважение, повышает
цену, дает власть. Без мяча он остался бы незамеченным, а с мячом
может занять в игре видное положение независимо от заслуг; с иг-
рушечной саблей становится офицером, с вожжами — кучером; а
рядовой, лошадка — тот, кто ничем не владеет.
«Дай мне, позволь, уступи» — просьба, которая щекочет само-
любие.
«Захочу — дам, а не захочу — не дам», в зависимости от капри-
за, потому что это «мое».
47. Хочу иметь — имею, хочу знать — знаю, хочу мочь —
могу — вот три разветвления общего ствола воли, корни которой
два чувства: удовлетворения и неудовлетворения.
Младенец старается понять себя и окружающий его мир,
живой и мертвый,— с этим связано его благополучие. Спрашивая
словами или взглядом: «Что это?» — он требует не название, а
оценку.
— Что это?
— Фи, брось, это бяка, это нельзя брать в руки.
— Что это?
— Цветочек,— и улыбка, и ласковое выражение лица — разре-
шение.
Бывает, спрашивая о предмете нейтральном и получая название
без эмоциональной мимической оценки, ребенок не знает, что делать
с ответом, и, удивленно и как бы разочарованно глядя на мать, пов-
торяет, растягивая, название. Чтобы понять, что кроме желаемого и
нежелаемого есть еще мир нейтральный, ему надо иметь опыт.
— Что это?
— Вата.
— Ва-а-ата? — и ребенок всматривается в лицо матери, ожидая
указания, что об этом думать.
Путешествуй я в обществе туземца по субтропическому лесу и
спроси я при виде растения с неизвестным мне плодом: «Что это?» —
туземец, не зная языка, но угадывая мой вопрос, отвечал бы окри-
ком, гримасой или улыбкой, что это яд, вкусная пища или бесполез-
ный предмет, который не стоит класть в рюкзак.
Детские «что это?» означают: какой? для чего служит? какая мне
от него может быть польза?
53
48. Обычная, но интересная картинка:
Сошлись, семеня еще не твердыми ножонками, два малыша;
у одного мяч или пряник, а другой хочет это отнять.
Матери неприятно, когда ее ребенок вырывает что-нибудь у дру-
гого ребенка, не хочет отдать, поделиться, «дать поиграть». То, что
ребенок выходит из общепринятой нормы условных приличий, ком-
прометирует ее.
В сцене, о которой идет речь, ход событий может быть троя-
кий:
Один ребенок вырывает, другой удивленно смотрит, потом пере-
водит глаза на мать, ожидая оценки непонятной ситуации.
Или: один старается вырвать, но коса нашла на камень — под-
вергшийся нападению прячет предмет общих вожделений за спину,
отталкивает нападающего, опрокидывает его. Матери спешат на
помощь.
Или: смотрят друг на дружку, боязливо сходятся, один неуве-
ренно тянется, другой также неуверенно защищается. И только
после долгой подготовки вступают в конфликт.
Здесь играет роль возраст обоих и жизненный опыт. Ребенок, у
которого есть старшая сестра или старший брат, уже многократно
выступал в защиту своих прав или собственности, а подчас атаковал
и сам. Но откинем все случайное, и мы увидим две отличные инди-
видуальности, два характерных типа: деятельный и бездеятельный,
активный и пассивный.
«Он добрый: все отдаст».
Или:
«Глупышка: все у себя даст забрать».
Это не доброта и не глупость.
49. Кротость, слабее жизненный порыв, ниже взлет воли, боязнь
действия. Ребенок избегает резких движений, живых эксперимен-
тов, трудных начинаний.
Меньше действуя, меньше и добывает фактических истин, по-
тому вынужден больше верить и дольше подчиняться.
Менее ценный интеллект? Нет, просто иной. У ребенка пассив-
ного меньше синяков и досадных ошибок, и ему не хватает горь-
кого опыта; хотя приобретенный он, может быть, помнит лучше.
У активного больше шишек и разочарований, и, быть может, он ско-
рее их забывает. Первый переживает медленнее и меньше, но, может
быть, глубже.
Пассивный удобнее. Оставленный один, не выпадет из коляски,
не поднимет по пустякам весь дом на ноги, поплачет и легко успо-
коится, не требует слишком настойчиво, меньше ломает, рвет,
портит.
— Дай — не протестует.— Надень, возьми, сними, съешь —
подчиняется.
Две сценки:
Ребенок не голоден, но на блюдечке осталась ложка каши, зна-
чит, должен доесть, количество назначено врачом. Нехотя открывает
54
рот, долго и лениво жует, медленно и с усилием глотает. Другой,
тоже не голодный, стискивает зубы, энергично мотает головой, от-
талкивает, выплёвывает, защищается.
А воспитание?
Судить о данном ребенке по двум диаметрально противополож-
ным типам детей — это говорить о воде на основании свойств кипят-
ка и льда. Шкала — сто градусов, где же мы поместим свое дитя? Но
мать может знать, что врожденное, а что с трудом выработанное, и
обязана помнить, что все, что достигнуто дрессировкой, нажимом,
насилием, непрочно, неверно и ненадежно. И если податливый, «хо-
роший» ребенок делается вдруг непослушным и строптивым, не надо
сердиться на то, что ребенок есть то, что он есть.
50. Крестьянин, чей взор устремлен на небо и землю — сам плод
и продукт земли,— знает предел человеческой власти. Быстрая,
ленивая, пугливая, норовистая лошадь, ноская курица, молочная
корова, урожайная и неурожайная почва, дождливое лето, зима без
снега — всюду встречает он что-то, что можно слегка изменить или
изрядно подправить надзором, тяжким трудом, кнутом. А бывает,
что и никак не сладишь.
У горожанина слишком высокое понятие о человеческой мощи.
Картофель не уродился, но достать можно, надо только заплатить
подороже. Зима — надевает шубу, дождь — калоши, засуха — по-
ливают улицы, чтобы не было пыли. Все можно купить, всякому
горю помочь. Ребенок бледен — врач, плохо учится — репетитор.
А книжка, поясняя, что надо делать, создает иллюзию, что можно
всего добиться.
Ну как тут поверить, что ребенок должен быть тем, что он есть,
что, как говорят французы, экзематика можно выбелить, но не
вылечить?
Я хочу раскормить худого ребенка, я делаю это постепенно,
осторожно, и — удалось: килограмм веса завоеван. Но достаточно
небольшого недомогания, насморка, не вовремя данной груши, и па-
циент теряет эти с трудом добытые два фунта.
Летние колонии для детей бедняков. Солнце, лес, река; ребята
впитывают веселье, доброту, приличные манеры. Вчера — малень-
кий дикарь, сегодня он — симпатичный участник игр. Забит, пуг-
лив, туп — через неделю смел, жив, полон инициативы и песен. Здесь
перемена с часу на час, там с недели на неделю; кое-где никакой.
Это не чудо и не отсутствие чуда; есть только то, что было и ждало,
а чего не было, того и нет.
Учу недоразвитого ребенка: два пальца, две пуговицы, две спички,
две монеты — «два». Он уже считает до пяти. Но измени порядок
слов, интонацию, жест — и опять не знает, не умеет.
Ребенок с пороком сердца: смирный, медлительные движения,
речь, даже смех. Задыхается, каждое движение поживее для него —
кашель, страдание, боль. Он должен быть таким.
Материнство облагораживает женщину, когда она отказывается,
отрекается, жертвует; и деморализует, когда, прикрываясь мнимым
55
благом ребенка, отдает его на растерзание своему тщеславию, вку-
сам и страстям.
Мой ребенок — это моя собственность, мой раб, моя комнатная
собачка. Я щекочу его за ухом, глажу по спинке, нацепив бант, веду
на прогулку, дрессирую, чтобы был смышлен и вежлив, а на-
доест мне:
«Иди поиграй. Иди позанимайся. Спать пора!»
Говорят, лечение истерии заключается в этом:
«Вы утверждаете, что вы петух? Ну и оставайтесь им, только
не пойте».
— Ты вспыльчив,— говорю я мальчику.— Ладно, дерись, только
не слишком больно, злись, но только раз в день.
Если хотите, в этой одной фразе я изложил весь педагогиче-
ский метод, которым я пользуюсь.
51. Видишь этого мальчишку, как он носится, крича во все горло,
и барахтается в песке? Он будет когда-нибудь знаменитым химиком
и сделает открытия, которые принесут ему уважение, высокий пост,
состояние. Да-да, вдруг между гулянкой и балом вертопрах оду-
мается, запрется в своей лаборатории и выйдет ученым. Кто бы мог
ожидать?
Видишь другого, как равнодушно следит сонным взглядом за
игрой сверстников? Зевнул, встал,— может, подойдет к разыграв-
шейся ребятне? Нет, опять сел. И он станет знаменитым химиком
и сделает открытия. Чудеса: кто бы мог предполагать?
Нет, ни маленький сорванец, ни соня не будут учеными. Один
станет учителем физкультуры, а другой почтовым служащим.
Это преходящая мода, ошибка, неразумие, что все невыдающее-
ся кажется нам неудавшимся, малоценным. Мы болеем бессмертием.
Кто не дорос до памятника на площади, хочет иметь хотя бы пере-
улок своего имени — дарственную запись на вечные времена. Если
не четыре столбца посмертно, то хотя бы упоминание в тексте:
«Принимал деятельное участие... Оставил сожаление о себе в ши-
роких общественных кругах».
Улицы, больницы, приюты носили когда-то имена святых патро-
нов, и это имело смысл; позже — монархов, это было знамением
времени; нынче — ученых и артистов, и в этом нет никакого смысла.
Уже воздвигаются памятники идеям и безымянным героям — тем,
у кого нет памятника.
Ребенок не лотерейный билет, на который должен пасть выигрыш
в виде портрета в зале магистратуры или бюста в фойе театра. В каж-
дом есть своя искра, которая может зажигать костры счастья и исти-
ны, и в каком-нибудь десятом поколении, быть может, заполыхает он
пожаром гения и спалит род свой, одарив человечество светом но-
вого солнца.
Ребенок не почва, вспаханная наследственностью под посев
жизни; мы можем лишь содействовать росту того, что дает буйные
побеги еще до первого его вздоха.
Известность нужна новым сортам табака и новым маркам вина,
но не людям.
56
52. Стало быть, фатум наследственности, абсолютная предопре-
деленность, банкротство медицины, педагогики? Фраза мечет
молнии.
Я назвал ребенка сплошь исписанным пергаментом, уже засеян-
ной землей? Отбросим сравнения, они вводят в заблуждение.
Существуют случаи, когда при современном уровне знаний мы
бываем бессильны. Сегодня их меньше, чем вчера, но они су-
ществуют.
Существуют случаи, когда в современных условиях жизни мы
бываем беспомощны. Этих несколько меньше.
Вот ребенок, которому самое горячее желание добра и самые
упорные старания дадут мало.
А вот другой, которому дали бы много, да мешают условия.
Одному деревня, горы, море дадут немного, другому и помогли бы,
да мы не можем их ему предоставить.
Когда мы встречаем ребенка, гибнущего из-за недостатка ухода,
воздуха и одежды, мы не виним родителей. Когда мы видим ребен-
ка, которого калечат излишней заботой, перекармливают, перегре-
вают, оберегая от мнимых опасностей, мы склонны винить мать, нам
кажется, что беде легко помочь, было бы желание понять. Нет, нуж-
но очень большое мужество, чтобы действием, а не бесплодной кри-
тикой оказать сопротивление нормам поведения, обязательного
для данного класса или прослойки. Если там мать не может умыть
ребенка и вытереть ему нос, здесь не может позволить ходить чу-
мазым и в худых башмаках. Если там со слезами забирает из школы
и отдает в учение к мастеру, здесь с равно мучительным чувством
должна посылать в школу.
— Пропадет мой парнишка без школы,— говорит одна, отни-
мая книжку.
— Испортят мне моего ребенка в школе,— говорит другая, по-
купая новые полпуда учебников.
53. Для широких кругов общества наследственность является
фактом, который заслоняет собой все встречающиеся исключения,
для науки — это проблема, находящаяся в стадии изучения. Су-
ществует обширная литература, стремящаяся решить один лишь
вопрос: рождается ли ребенок туберкулезных родителей уже боль-
ным, только с предрасположением или заражается после рождения?
Принимали ли вы во внимание, когда думали о наследственности,
следующие простые факты: что, кроме передачи по наследству бо-
лезней, существует передача по наследству крепкого здоровья, что
братья и сестры не являются братьями и сестрами по полученным
ими плюсам и минусам, запасам здоровья и его изъянам? Не прини-
мали? А должны были и обязаны были принимать. Первого ребенка
рожают здоровые родители; второй будет уже ребенком сифили-
тиков, если родители заболели этой болезнью; третий — ребенком
сифилитиков-туберкулезников, если родители заразились еще и
туберкулезом. В этом отношении эти трое детей — чужие друг другу
люди: не отягощенный тяжелой наследственностью, отягощенный,
57
дважды отягощенный тяжелой наследственностью. И наоборот,
больной отец вылечился, и из двоих детей этого отца первый ребе-
нок — больного родителя, второй — здорового.
Потому ли ребенок нервный, что рожден нервными родителями,
или потому, что воспитан ими? Где граница между невропатич-
ностью и утонченностью психической конституции — наследствен-
ной одухотворенностью?
Рожает ли отец-гуляка расточителя-сына или заражает своим
примером?
«Скажи мне, кто тебя породил, и я скажу, кто ты» — но не всегда.
«Скажи мне, кто тебя воспитал, и я скажу, кто ты» — и это не
так.
Отчего у здоровых родителей бывает слабое потомство? Отчего в
порядочной семье вырастает подлец? Отчего в заурядной семье появ-
ляется знаменитый потомок?
Кроме законов наследственности надо параллельно изучать вос-
питывающую среду, тогда, может быть, не одна загадка найдет свое
разрешение.
Воспитывающей средой я называю тот дух, который царит в
семье; отдельные члены семьи не могут занимать по отношению к
нему произвольной позиции. Этот руководящий дух подчиняет и
не терпит сопротивления.
54. Догматическая среда.
Традиция, авторитет, обряд, веление как абсолютный закон,
необходимость как жизненный императив. Дисциплина, порядок и
добросовестность. Серьезность, душевное равновесие и ясность,
вытекающая из твердости, ощущения прочности и устойчивости,
уверенности в себе, в своей правоте. Самоограничение, самопреодо-
ление, труд как закон, высокая нравственность как навык. Бла-
горазумие, доходящее до пассивности, одностороннего незамеча-
ния прав и правд, которые не стали традицией, не освятил ав-
торитет, не закрепил механически шаблон поступков.
Если уверенность в себе не перейдет в своеволие, а простота в
грубость, эта плодородная воспитывающая среда либо сломает чуж-
дого ей духом ребенка, либо изваяет воистину прекрасного человека,
который будет уважать суровых наставников, ибо они не тешились
им, а вели тяжелым путем к ясно начертанной цели.
Неблагоприятные условия, ущемление физических потребностей
не меняют духовного существа среды. Прилежание переходит в
истовый труд, спокойствие — в отрешенность человека, ожесто-
чившегося в стремлении устоять; иногда робость и смирение, всегда
сознание своей правоты и надежда. И апатия, и энергия здесь не
слабость, а сила, которую тщетно пытается одолеть чужая злая воля.
Догматом могут быть земля, костел, отчизна, добродетель и грех;
могут быть наука, общественно-политическая работа, богатство,
борьба, а также бог — бог как герой, божок или кукла. Не во что,
а как веришь.
58
55. Идейная среда.
Сила ее не в твердости духа, а в полете, порыве, движении.
Здесь не работаешь, а радостно вершишь. Творишь сам, не дожи-
даясь. Нет повеления — есть добрая воля. Нет догм — есть пробле-
мы. Нет благоразумия — есть жар души, энтузиазм. Сдерживаю-
щим началом здесь — отвращение к грязи, моральный эстетизм.
Бывает, здесь временами ненавидят, но никогда не презирают. Тер-
пимость тут не половинчатость убеждений, а уважение к челове-
ческой мысли, радость, что свободная мысль парит на разных уров-
нях и в разных направлениях — сталкиваясь, снижая полет и взмы-
вая — наполняет собой просторы. Отважный сам, ты жадно ловишь
отзвуки чужих молотов и с любопытством ждешь завтрашнего дня,
его новых восторгов, недоумений, знаний, заблуждений, борьбы,
сомнений, утверждений и отрицаний.
Если догматическая среда способствует воспитанию пассивного
ребенка, то идейная — хорошая почва под посев активных детей.
Я полагаю, корни многих неприятных сюрпризов в том, что одно-
му дают десять высеченных на камне заповедей, когда он хочет сам
выжечь их жаром своего сердца в своей груди, а другого неволят
искать истины, которые он должен получать готовыми. Этого можно
не увидеть, если подходить к ребенку с «Я из тебя сделаю человека»,
а не с пытливым: «Каким ты можешь быть, человек?»
56. Среда безмятежного потребления.
У меня есть столько, сколько надо,— а значит, мало, если я ре-
месленник или чиновник, или много, если я владелец обширных
поместий. И я хочу быть тем, кто я есть, а значит, мастером, на-
чальником станции, адвокатом, писателем. Работа для меня не
служение чему-то, не место в жизни, не самоцель, а средство для
обеспечения себе удобств, желательных условий.
Душевный покой, беззаботность, чувствительность, приветли-
вость, доброта, трезвости сколько надо, самосознание, какое добы-
вается без труда.
Нет упорства ни в желании сохранить, продержаться, ни в
стремлении достичь, найти.
Ребенок живет в атмосфере внутреннего благополучия и лени-
вой консервативной привычки, снисходительности к современным
течениям, среди привлекательной простоты. Здесь он может быть
всем, чем хочет: сам — из книжек, бесед, встреч и жизненных впе-
чатлений — ткет себе основу мировоззрения, сам выбирает путь.
Добавлю: взаимная любовь родителей. Редко ребенок чувствует
ее отсутствие, когда ее нет, но жадно впитывает ее, когда она есть.
«Папа на маму сердится, мама с папой не разговаривает, мама
плакала, а папа как хлопнет дверью» — это туча, которая застилает
небесную синеву и сковывает ледяной тишиной радостный гомон
детской.
Я сказал во вступлении:
«Велеть кому-нибудь дать тебе, матери, готовые мысли — это по-
ручить чужой женщине родить твое дитя».
59
Может, не один из вас подумал:
«А мужчина? Разве не чужая женщина рожает его ребенка?»
Нет: любимая, не чужая.
57. Среда внешнего лоска и карьеры.
Опять выступает упорство, но оно вызвано к жизни холодным
расчетом, а не духовными потребностями. Ибо нет здесь места для
полноты содержания, есть одна лукавая форма — искусная эксплуа-
тация чуждых ценностей, приукрашивание зияющей пустоты.
Лозунги, на которых можно заработать. Этикет, которому надо по-
коряться. Не достоинства, а ловкая самореклама. Жизнь не как труд
и отдых, а вынюхивание и обхаживание. Ненасытное тщеславие,
хищность, недовольство, высокомерие и раболепие, зависть, злоба,
злорадство.
Здесь детей и не любят, и не воспитывают, здесь их только оце-
нивают, теряют на них или зарабатывают, покупают и продают.
Поклон, улыбка, пожатие руки — ясное дело, все здесь подсчитано:
и брак, и плодовитость. Добывается деньгами, повышением в чине,
орденом, связями в высших сферах.
Если в подобной среде вырастает нечто положительное, это лишь
видимость, лишь более искусная игра, точнее пригнанная маска.
Однако и в среде распада и гангрены, в муках и душевном раздвое-
нии вырастает иногда пресловутая «жемчужина в навозной куче».
Такие случаи показывают, что наряду с общепризнанным законом о
влиянии воспитания существует и другой — закон антитезы. Мы
видим проявление этого закона, когда у скряги вырастает расто-
читель, у безбожника — человек богобоязненный, у труса — герой,
чего нельзя односторонне объяснять одной «наследственностью».
58. В законе антитезы выступает сила противопоставления себя
внушениям, исходящим из разных источников и осуществляемым
разными способами. Это защитный механизм сопротивления и са-
мообороны, в некотором роде инстинкт самосохранения духовного
склада, чуткий, действующий автоматически.
Если морализаторство уже достаточно дискредитировано, то
влияние примера, среды пользуется в воспитании полным доверием.
Отчего тогда это влияние так часто подводит?
Спрашиваю: почему ребенок, услышав ругательное слово, ста-
рается его повторить вопреки запретам, а и уступив угрозам, хра-
нит в памяти?
Где источник этой с виду злой воли, когда ребенок упорствует,
хотя мог бы легко уступить?
— Надень пальто.
Нет, хочет идти без пальто.
— Надень розовое платье.
А ей как раз хочется голубое.
Не настаиваешь — послушается, станешь настаивать, просить
или угрожать — заартачится и уступит лишь по принуждению.
Почему чаще всего в период созревания ребенка наше баналь-
60
ное: «да» сталкивается с его: «нет»? Не есть ли это одно из прояв-
лений того глубокого противодействия соблазнам, которые сейчас
идут изнутри, а могут прийти извне?
«Печальная ирония судьбы велит добродетели жаждать греха, а
преступлению видеть непорочные сны» (Мирбо) *.
Преследуемая религия находит более горячий отклик. Стремле-
ние усыпить национальное самосознание успешнее его пробуждает.
Я, может быть, смешал здесь факты из разных областей, но мне
лично гипотеза о законе антитезы объясняет многие парадоксаль-
ные реакции на воспитательные воздействия — и удерживает от
многочисленных слишком частых и энергичных попыток влиять
даже в самом желательном направлении.
Дух, который царит в семье? Согласен. Но где дух эпохи? Останавливался у
границ попранной свободы; мы трусливо прятали от него ребенка. «Легенда молодой
Польши» Бжозовского * не уберегла меня от узкого взгляда на жизнь.
59. Что представляет собой ребенок? Что представляет хотя
бы только физически? Развивающийся организм. Правильно. Но
увеличение в весе и в росте — лишь одно из многих проявлений это-
го развития. Науке уже известно несколько частных моментов роста;
он неравномерен, темп его то живой, то вялый. Кроме того, мы
знаем, что ребенок не только растет, но и меняет пропорции.
Широкие массы родителей не знают и этого. Сколько раз, бы-
вало, мать вызывает врача, жалуясь, что ребенок побледнел, поху-
дел, тельце сделалось вялое, личико и головка уменьшились. Она не
знает, что младенец, вступая в период первого детства, утрачивает
жировые складки, что с развитием грудной клетки голова скрады-
вается расширяющимися плечами, что как части тела, так и внутрен-
ние органы развиваются по-разному, что мозг, сердце, желудок, го-
лова, глаза, кости конечностей растут каждый по-своему, что, не
будь этого, взрослый человек был бы чудовищем с огромной голо-
вой на коротком толстом туловище и не мог бы двигаться на
двух жировых валиках ног, что росту сопутствует изменение про-
порций.
Мы имеем несколько десятков тысяч измерений, десяток не
вполне совпадающих графиков обычного процесса роста и не знаем
ничего о значении встречающихся у детей ускорений, запозданий
и отклонений в развитии. Зная с пятого на десятое анатомию роста,
мы не знаем его физиологию, потому что добросовестно изучали
больного ребенка и лишь недавно начали приглядываться, и то из-
дали, к здоровому. Вот уже сто лет, как нашей клиникой является
больница и не начала еще быть школа.
60. Ребенок переменился. С ним что-то случилось. Мать не всег-
да умеет сказать, в чем перемена, зато у нее всегда готов ответ на
вопрос, чему следует ее приписать.
— Ребенок переменился после прорезывания зубов, после при-
вивки от кори, после отнятия от груди, после того как выпал из кро-
ватки.
61
Уже ходил и вдруг перестал ходить; просился на горшок и опять
мочится; «ничего» не ест, спит неспокойно, мало или чересчур много,
стал капризен, слишком подвижен или слишком вял, похудел.
Другой этап:
После поступления в школу, после возвращения из деревни,
после кори, после прописанных ванн, после испуга из-за пожара.
Изменился сон, аппетит, изменился характер: раньше ребенок был
послушный, теперь озорник; раньше прилежный, теперь рассеянный
и ленивый. Бледненький, сутулится, какие-то некрасивые выходки.
Может, невоспитанные товарищи, может, учеба, может, болен?
Двухлетнее пребывание в Доме Сирот и скорее разглядывание
ребенка, чем изучение, позволили установить: все, что известно как
неуравновешенность периода созревания, переживается ребенком на
протяжении ряда лет в виде небольших и неярких переломов, равно
критических, лишь менее бросающихся в глаза и потому еще не за-
меченных наукой.
Стремясь к единству взглядов на ребенка, некоторые рассмат-
ривают его как организм быстро утомляющийся. Отсюда большая
потребность в сне, слабая сопротивляемость болезням, уязвимость
органов, малая психическая выносливость. Взгляд правилен, да не
для всех этапов развития. Ребенок бывает попеременно то сильным,
бодрым и жизнерадостным, то слабым, усталым и угрюмым. Если
он заболевает в критический период, мы склонны думать, что орга-
низм его уже был подточен болезнью; я же считаю, что болезнь раз-
вилась на почве мимолетного ослабления, что или она притаилась и
ждала наиболее благоприятных условий для нападения, или, слу-
чайно занесенная извне, расхозяйничалась, не встретив сопротив-
ления. Если мы перестанем в будущем разбивать цикл жизни на
искусственные: младенец, ребенок, юноша, зрелый человек и старик,
то основанием для периодизации явятся уже не рост и внешнее
развитие, а еще не известное нам глубокое преобразование всего
организма в целом, которое Шарко * проследил в лекции об эволю-
ции артрита на двух поколениях от колыбели и до могилы.
61. Между первым и вторым годом жизни ребенка часто меняют
домашнего врача. В это время ко мне поступали пациенты — дети
матерей, разобиженных на моего предшественника, который якобы
не проявил должной компетенции, и наоборот, матери бросали меня,
обвиняя, что то или иное нежелательное явление возникло по моей
оплошности. И те, и другие правы постольку, поскольку врач счи-
тал младенца здоровым, как вдруг выплывал не предусмотренный
им ранее незаметный изъян. Но стоит терпеливо переждать кри-
тический момент, и ребенок, слегка отягощенный наследствен-
ностью, восстановит мимолетно нарушенное равновесие, а в состоя-
нии более сильно отягощенного наступит улучшение, и дальнейшее
развитие юной жизни опять протекает спокойно.
Если в этот первый — как и во второй, школьный,— период на-
рушенных функций применять определенные меры, улучшение при-
писывается именно им. И если сегодня нам уже известно, что улуч-
62
шение при воспалении легких или тифе наступает после завершения
цикла болезни, тут неурядица должна продолжаться до тех пор,
пока мы не установим этапы развития ребенка и не наметим особые
кривые развития для детей разного типа.
В кривой развития ребенка есть и весны, и затишья осени,
периоды и напряженного труда, и отдыха в целях доделки, завер-
шения выполненной в спешке работы и предварительного сбора за-
пасов для дальнейшего построения организма. Семимесячный плод
уже способен жить, а ведь еще два долгих месяца (почти четвертую
часть беременности) он дозревает во чреве матери!
Младенец, утраивающий за год исходный вес, имеет право на
отдых. Молниеносный путь, который проделывает его психическое
развитие, дает ему также право забыть кое-что из того, что он уже
умел или знал и что мы преждевременно записали в прочные завое-
вания.
62. Ребенок не хочет есть.
Простенькая задачка по арифметике.
Ребенок родился 8 фунтов с лишним, через год он утроил свой
вес и весит уже 25 фунтов. Продолжай он расти в том же темпе, к
концу второго года он весил бы 25 ф.Х 3=75 ф.
К концу третьего года: 75 ф.Х 3=225 ф.
К концу четвертого года: 225 ф.Х 3=675 ф.
К концу пятого года: 675 ф.Х 3=2025 ф.
Чтобы прокормить это пятилетнее чудовище, весящее 2000
фунтов и потребляющее ежедневно количество пищи, равное
'/б—хh своего веса, как это имеет место у младенцев, требовалось
бы ежедневно 300 фунтов продуктов питания.
В зависимости от механики роста ребенок ест мало, очень мало,
много, очень много. Кривая веса поднимается медленно или вне-
запно, а то и не меняется месяцами. Она неумолимо последователь-
на: недомогая, ребенок в течение нескольких дней теряет в весе, зато
в последующие на столько же и прибавляет, повинуясь внутреннему
голосу, говорящему: «столько, и не больше». Когда здоровый, но
недокармливаемый по бедности ребенок переходит на нормальную
диету, он за неделю восполняет недостачу и достигает своего веса.
Если каждую неделю взвешивать ребенка, через некоторое время он
уж угадывает, прибыл в весе или убыл:
«На прошлой неделе я убыл на триста граммов, видно, нынче
прибавлю на пятьсот.— Сегодня я вешу меньше, я не ужинал.—
Опять я на пятьсот прибавил, спасибо...»
Ребенок хочет угодить родителям: неприятно огорчать мать,
выполнение, родительской воли приносит ему неисчислимую поль-
зу. А значит, если не съест котлетку и не выпьет молоко, это оттого,
что не может. Если же заставлять, повторяющееся через опреде-
ленные промежутки времени расстройство желудка с соответствую-
щей диетой отрегулируют нормальное увеличение в весе.
Принцип: ребенок должен есть столько, сколько хочет, не больше
и не меньше. Даже при усиленном питании больного ребенка меню
63
можно составлять лишь при его участии и вести лечение лишь под
его контролем.
63. Заставлять детей спать, когда им не хочется спать, пре-
ступление. Таблица, устанавливающая, когда и сколько часов спать
ребенку,— абсурд. Определить необходимое для данного ребенка
количество часов сна легко, если есть часы: надо определить, сколько
он проспит не просыпаясь и проснется выспавшимся. Я говорю:
«выспавшимся», а не «бодрым». Бывают периоды, когда ребенку
требуется больше сна, и такие, когда ребенок, хотя и устал, хочет
не спать, а просто полежать в постели.
Период утомления: вечером неохотно ложится — не хочется
спать; утром неохотно поднимается — не хочется вставать. Вечером
делает вид, что не спится, а то не позволят вырезать, лежа в постели,
картинки, играть в кубики или в куклы, погасят свет и запретят
разговаривать. Утром делает вид, что спит, а то велят сейчас же вста-
вать и умываться холодной водой. С какой радостью приветствует
он кашель или жар, которые позволяют оставаться в постели!
Период безмятежного равновесия: быстро заснет, но проснется
ни свет ни заря, полон энергии, потребности движения, озорной
инициативы. Его не остановят ни пасмурное небо, ни холод в ком-
нате: босой, в одной рубашке, разогреется, прыгая по столу и стуль-
ям. Что делать? Класть поздно спать, даже, о ужас, в одиннадцать
часов. Позволить играть в постели. Спрашивается, почему разго-
воры перед сном должны «перебивать сон», а нервничанье, что по-
неволе приходится быть непослушным, не «перебивает сон»?
Принцип — неважно, правильный ли — рано ложиться, рано
вставать — родители ради собственной выгоды сознательно иска-
зили; получилось: чем больше сна, тем полезнее для здоровья. К ле-
нивой дневной скуке добавляют нервирующую скуку вечернего ожи-
дания сна. Трудно вообразить более деспотичный, граничащий с
пыткой приказ:
— Спи!
Люди, которые поздно ложаться спать, бывают больны потому,
что ночью они пьянствуют и распутничают, а должны ходить на
работу рано, и они недосыпают.
Неврастеник, который как-то встал на рассвете и чувствовал себя
прекрасно, поддался внушению.
Что ребенок, рано ложась спать, меньше находится при искусст-
венном освещении — не такой уж большой плюс в городе, где нель-
зя с зарей выбежать на лужайку, и он валяется при опущенных што-
рах в постели уже обленившийся, уже мрачный, уже капризный —
дурное предзнаменование для начинающегося дня...
Я не могу здесь в нескольких десятках строк развить тему (это
относится ко всем затронутым в книге проблемам). Моя задача —
пробуждать бдительность...
64. Что представляет собой ребенок как отличная от нашей ду-
шевная организация? Каковы его особенности, потребности, ка-
64
ковы скрытые, не замеченные еще возможности? Что представляет
собой эта половина человечества, живущая вместе с нами, рядом с
нами в трагичном раздвоении? Мы возлагаем на нее бремя завтраш-
него человека, не давая прав человека сегодняшнего.
Если поделить человечество на взрослых и детей, а жизнь —
на детство и зрелость, то детей и детства в мире и в жизни много,
очень много. Только, погруженные в свою борьбу и в свои заботы,
мы их не замечаем, как не замечали раньше женщину, крестьяни-
на, закабаленные классы и народы. Мы устроились так, чтобы дети
нам как можно меньше мешали и как можно меньше догадывались,
что мы на самом деле собой представляем и что мы на самом деле
делаем.
В одном из парижских детдомов я видел два ряда перил у лест-
ницы: высокие для взрослых, низкие для малышей. Этим да еще
школьной партой и исчерпал себя гений изобретателя. Мало, очень
мало! Взгляните на нищенские площадки для ребят со щербатой
кружкой на ржавой цепи у бассейна в магнатских парках евро-
пейских столиц.
Где дома и сады, мастерские и опытные поля — орудия труда
и знания для детей, людей завтрашнего дня? Еще одно окно да
тамбур, отделяющий класс от клозета,— архитектура дала лишь
столько; клеенчатая лошадка и жестяная сабля — столько дала про-
мышленность; яркие картинки да рукоделия на стенах — немного;
сказка? — не мы ее выдумали.
На наших глазах из наложницы возникла женщина-человек.
Веками играла она насильно навязанную роль, воплощая тип, вы-
работанный самовластием и эгоизмом мужчины, который не желал
замечать женщину-труженицу, как не замечает и сейчас труженика-
ребенка.
Ребенок еще не заговорил, он все еще слушает.
Ребенок — это сто масок, сто ролей способного актера. Иной
с матерью, иной с отцом, с бабушкой, с дедушкой, иной со строгим
и с ласковым педагогом, иной на кухне и среди ровесников, иной
с богатыми и с бедными, иной в будничной и в праздничной одеж-
де. Наивный и хитрый, покорный и надменный, кроткий и мсти-
тельный, благовоспитанный и шаловливый, он умеет так до поры до
времени затаиться, так замкнуться в себе, что вводит нас в заблужде-
ние и использует в своих целях.
В области инстинктов ему недостает лишь одного, вернее, он
есть, только пока еще рассеянный, как бы туман эротических пред-
чувствий.
В области чувств превосходит нас силой, ибо не отработано тор-
можение.
В области интеллекта по меньшей мере равен нам, недостает
лишь опыта.
Оттого так часто человек зрелый бывает ребенком, а ребенок —
взрослым.
Вся же остальная разница в том, что ребенок не зарабатывает
деньги и, будучи на содержании, вынужден подчиняться.
3 Януш Корчак
65
Детские дома теперь уже меньше похожи на казармы и монастыри — это
почти больницы. Гигиена есть, зато нет у них улыбки и радости, неожиданности
и шаловливости; они серьезны, если не суровы, только по-другому. Архитектура их
еще не заметила; «детского стиля» нет. Взрослый фасад, взрослые пропорции, стар-
ческий хлад деталей. Французы говорят, что Наполеон колокол монастырского вос-
питания заменил барабаном — правильно; я добавлю, что над духом современного
воспитания тяготеет фабричный гудок.
65. Ребенок неопытен.
Приведу пример, попытаюсь объяснить.
— Я скажу маме на ушко.
И, обнимая мать за шею, бормочет таинственно:
— Мамочка, спроси доктора, можно мне булочку (шоколадку,
компот).
При этом поглядывает на доктора, кокетничая улыбкой, чтобы
подкупить, вынудить позволение.
Старшие дети шепчут на ухо, младшие говорят обычным го-
лосом...
Был момент, когда окружающие признали, что ребенок доста-
точно созрел для морали:
«Есть желания, которые нельзя высказывать. Эти желания бы-
вают двоякие: одни вовсе не следует иметь, а если уж они есть, их
надо стыдиться; другие допустимы, но только среди своих».
Нехорошо приставать; нехорошо, съев конфетку, просить вто-
рую. А иногда вообще нехорошо просить конфетку: надо ждать,
когда сами дадут.
Нехорошо делать в штанишки, но нехорошо и говорить: «Хочу
пись-пись», будут смеяться. Чтобы не смеялись, надо сказать на ухо.
Порой нехорошо вслух спрашивать:
— Почему у этого дяди нет волос?
Дядя засмеялся, и все засмеялись. Спросить можно, да только
шепотом, на ухо.
Ребенок не сразу поймет, что цель говорения на ухо — чтобы те-
бя слышало лишь одно доверенное лицо; и ребенок говорит на ухо,
но громко:
— Я хочу пись-пись, я хочу пирожное.
А если и тихо говорит, все равно не понимает. Зачем скрывать
то, о чем все присутствующие и так от мамы узнают?
У чужих ничего не надо просить, почему тогда у доктора можно,
да еще вслух?
— Почему у этой собачки такие длинные уши? — спрашивает
ребенок тихим-претихим шепотом.
Опять смех. Можно было и вслух спросить, собачка не обидится.
Но ведь нехорошо спрашивать, почему у этой девочки некрасивое
платье? Ведь и платье не обидится?
Как объяснить ребенку, сколько здесь скверной зрелой фальши?
И как потом растолковать, отчего вообще нехорошо говорить
на ухо?
66. Ребенок неопытен.
Смотрит с любопытством, жадно слушает и верит.
66
«Яблоко, тетя, цветочек, коровка» — верит!
«Красиво, вкусно, хорошо» — верит!
«Бяка, брось, нельзя, не тронь» — верит!
«Поцелуй, поздоровайся, поблагодари» — верит!
«Ушиблась, детусенька, дай мамочка поцелует; уже не больно».
Ребенок улыбается сквозь слезы, мамочка поцеловала, уже не
больно. Ушибся — бежит за лекарством-поцелуем.
Верит!
— Любишь меня?
— Люблю...
— Мама спит, у мамы головка болит, маму будить нельзя.
Так он тихонько, на цыпочках подходит к маме, осторожно тя-
нет за рукав и шепотом спрашивает. Он не разбудит, он только за-
даст вопрос. А потом: «Спи, спи, мамочка, у тебя головка болит».
— Там, наверху, боженька. Боженька непослушных детей не лю-
бит, а послушным дает булочки, постряпушечки. Где боженька?
— Там, высоко, наверху.
Идет странный человек по улице, весь белый.
— Кто это?
— Пекарь, он печет булочки, постряпушечки.
— Да? Что он, боженька?
Дедушка умер, и его в землю закопали.
— В землю закопали? — удивляюсь я.— А есть ему как дают?
— А его выкапывают,— отвечает ребенок,— топором выка-
пывают.
— Коровка дает молочко.
— Коровка? — спрашивает недоверчиво.— А откуда коровка
берет молочко?
И сам себе отвечает:
— Из колодца.
Ребенок верит, ведь всякий раз, когда сам хочет что-нибудь
придумать, он ошибается — приходится верить.
67. Ребенок неопытен.
Уронил стакан на пол. Вышло что-то очень странное. Стакан
пропал, зато появились совсем другие предметы. Ребенок накло-
няется, берет в руки осколок, порезался, больно, из пальца те-
чет кровь. Все полно тайн и неожиданностей.
Двигает перед собой стул. Вдруг что-то мелькнуло перед гла-
зами, дернуло, застучало. Стул стал другой, а сам он сидит на
полу. Опять боль и испуг. Полно на свете чудес и опасностей.
Тащит одеяло, чтобы извлечь из-под него себя. Теряя равнове-
сие, хватается за материну юбку. Встав на цыпочки, дотягивается до
края кровати. Обогащенный опытом, стаскивает со стола скатерть.
Опять катастрофа!
Ребенок ищет помощи, потому что сам не способен справиться.
При самостоятельных попытках терпит поражение. Завися же от
других, раздражается.
И если даже и не доверяет или не совсем доверяет — его много
з*
67
раз обманывали,— ему все равно приходится следовать указаниям
взрослых так же, как неопытному работодателю терпеть недобро-
совестного работника, без которого он не может обойтись, или как
паралитику сносить грубости санитара.
Подчеркиваю, всякая беспомощность, всякое удивление незна-
ния, ошибка при использовании опыта, неудачная попытка подра-
жать и всякая зависимость напоминают ребенка, несмотря на воз-
раст индивида. Мы без труда находим детские черты у больного,
у старика, солдата, заключенного. Крестьянин в городе, горожанин
в деревне удивляются, как дети. Профан задает детские вопросы,
человек несветский делает детские промахи.
68. Ребенок подражает взрослым.
Лишь подражая, ребенок учится говорить и осваивает боль-
шинство бытовых форм, создавая видимость, что сжился со средой
взрослых, которых он не может постичь, которые чужды ему по
духу и непонятны.
Самые грубые ошибки в наших суждениях о ребенке происхо-
дят именно потому, что истинные его мысли и чувства затеряны
среди перенятых им у взрослых слов и форм, которыми он поль-
зуется, вкладывая в них совершенно иное, свое содержание.
Будущее, любовь, родина, бог, уважение, долг — все эти окаме-
невшие в словах понятия рождаются, живут, растут, меняются,
крепнут, слабеют, являясь чем-то иным в каждый период жизни.
Надо сделать над собой большое усилие, чтобы не смешать кучу
песка, которую ребенок зовет горой, со снежной вершиной Альп.
Кто вдумается в душу употребляемых людьми слов, у того сотрется
разница между ребенком, юношей и взрослым, невеждой и мысли-
телем; перед ним предстанет человек интеллектуальный независимо
от возраста, класса, уровня образования и культуры, существо, мыс-
лящее в пределах большего или меньшего опыта. Люди разных
убеждений (я говорю не о политических лозунгах, подчас насильно
внедряемых) — это люди с разным опытом.
Ребенок не понимает будущего, не любит родителей, не догады-
вается о родине, не постигает бога, никого не уважает и не знает
обязанностей. Говорит «когда вырасту», но не верит в это, зовет
мать «самой-самой любимой», но не чувствует этого; родина его —
сад или двор. Бог для него добрый дядюшка или надоеда-ворчун.
Ребенок делает вид, что уважает, уступая силе, воплощенной для
него в том, кто приказал и следит. Надо помнить, что приказать
можно не только с помощью палки, но и просьбой и ласковым
взглядом. Подчас ребенок угадывает будущее, но это лишь моменты,
своего рода ясновидение.
Ребенок подражает? А что делает путешественник, которого
мандарин пригласил принять участие в местном обряде или цере-
монии? Смотрит и старается не отличаться, не вызывать замеша-
тельства, схватывает суть и связь эпизодов, гордясь, что справился
с ролью. Что делает человек несветский, попав на обед к знатным
господам? Старается приспособиться. А конторщик в имении, чи-
68
новник в городе, офицер в полку? Не подражают ли они речью,
движениями, улыбкой, манерой стричься и одеваться патрону?
Есть еще одна форма подражания: когда девочка, идя по грязи,
приподнимает короткое платьице, это значит, что она взрослая.
Когда мальчик подражает подписи учителя, он проверяет до из-
вестной степени свою пригодность для высокого поста. Эту форму
подражания мы легко найдем и у взрослых.
69. Эгоцентризм детского мировоззрения — это тоже отсутствие
опыта.
От эгоцентризма личного, когда его сознание является средо-
точием всех вещей и явлений, ребенок переходит к эгоцентризму
семейному, более или менее длительному в зависимости от условий,
в которых воспитывается ребенок; мы сами укореняем его в за-
блуждении, преувеличивая значение семьи и дома и указывая на
мнимые и действительные опасности, угрожающие ему вне досягае-
мости нашей помощи и заботы.
— Оставайся у меня,— говорит тетя.
Ребенок со слезами на глазах льнет к матери и ни за что не
остается.
— Он ко мне так привязан.
Ребенок с удивлением и испугом смотрит на чужих мам, кото-
рые даже ему не тети.
Но настает минута, когда он начинает спокойно сопоставлять
то, что видит в других домах, с тем, что есть у него. Сначала ему
хочется только такую же куклу, сад, канарейку, но у себя дома. По-
том замечает, что бывают другие матери и отцы, тоже хорошие, а
может, и лучше?
— Вот если бы она была моей мамой...
Ребенок городских задворков и деревенской избы приобре-
тает соответствующий опыт раньше, познавая печаль, которую никто
с ним не делит, радость, которая веселит лишь домашних, понимает,
что день его именин — праздник лишь для него самого.
«А мой папа, а у нас, а моя мама» — это столь часто встречаю-
щаяся в детских спорах похвальба своими родителями скорее по-
лемическая формула, а подчас и трагичная защита иллюзии, в ко-
торую хочешь верить, но начинаешь сомневаться.
— Погоди, вот я скажу папе...
— Очень я твоего папу боюсь.
И правда, папа мой страшен только для меня самого.
Эгоцентричным я назвал бы и взгляд ребенка на текущий мо-
мент — по отсутствию опыта ребенок живет одним настоящим. От-
ложенная на неделю игра перестает быть действительностью. Зима
летом кажется небылицей. Оставляя пирожное на завтра, ребенок
отрекается от него поневоле. Ребенку трудно понять, что испорчен-
ный предмет может стать не сразу негодным к употреблению, а
лишь менее прочным, быстрей поддающимся износу. Рассказ о том,
как мама была девочкой,— интересная сказка. С удивлени-
ем, граничащим с ужасом, смотрит ребенок на чуждого при шел ь-
69
ца, который зовет его отца — товарища своих детских лет — по
имени.
— Меня еще не было на свете...
А юношеский эгоцентризм: все на свете начинается с нас?
А партийный, классовый, национальный эгоцентризм? Многие
ли дорастают до сознания места человека в человечестве и Вселен-
ной? С каким трудом люди примирились с мыслью, что Земля вра-
щается и является лишь планетой! А глубокое убеждение масс,
вопреки всякой дйствительности, что в XX веке ужасы войны не-
возможны?
Да и наше отношение к детям — не проявление ли эгоцентризма
взрослых?
Я не знал, что ребенок так крепко помнит и так терпеливо ждет. Многие наши
ошибки происходят оттого, что мы имеем дело с детьми принуждения, рабства и
крепостничества, исковерканными, обиженными и бунтующими; приходится с трудом
догадываться, какие они на самом деле есть и какими могут быть.
70. Наблюдательность ребенка.
На экране кинематографа потрясающая драма. Вдруг раздается
звонкий возглас ребенка:
— Ой, собачка...
Никто не заметил, а он заметил.
Подобные возгласы слышишь подчас в театре, в костеле, во время
многих торжеств; они вызывают переполох среди ближних и улыбки
в публике.
Не охватывая целого, не вдумываясь в непонятное содержание,
ребенок, счастливый, приветствует знакомую, близкую деталь. Но
ведь и мы радостно приветствуем в многочисленном чужом и стес-
нительном для нас обществе случайно встреченного знакомого...
Не будучи в состоянии жить бездеятельно, ребенок заберется в
любой уголок, заглянет в каждую щель, сыщет и спросит; ему ин-
тересно все:, и движущаяся точечка — букашка, и блестящая бу-
синка, и услышанное слово или фраза. Как же похожи мы на детей
в чужом городе, в необычный среде!..
Ребенок знает окружающих, их настроения, повадки, слабости,
знает и, можно добавить, умело их использует. Угадывает распо-
ложение, чувствует лицемерие, схватывает на лету смешное. Читает
по нашим лицам так, как крестьянин по небу, какую оно сулит по-
году. Ведь и ребенок годами всматривается и изучает; и в школах,
и в интернатах; эта работа по вниканию в нас ведется у них коллек-
тивно, общими усилиями. Только мы не хотим замечать и, пока они
не нарушат нам наш драгоценный покой, предпочитаем обольщать-
ся, что — наивный — ребенок не знает, не понимает, легко дает себя
обмануть видимости. Иная точка зрения поставила бы перед нами
дилемму: или открыто отречься от права на мнимое совершенство,
или искоренить в себе то, что унижает нас в их глазах, делает посме-
шищем, обедняет.
71. Говорят, ребенок в поисках все новых эмоций и впечатле-
ний ничем не может долго заняться, даже игра ему быстро надое-
70
дает: час тому назад друг уже ему враг, чтобы через минуту опять
стать закадычным приятелем.
Наблюдение, в общем, правильное: в поезде ребенок капризни-
чает, посадишь в саду на скамейку — сердится, в гостях — пристает,
любимая игрушка заброшена в угол, на уроке вертится, даже в
театре не усидит спокойно.
Учтем, однако, что в вагоне он был возбужден, устал, на ска-
мейку его взгромоздили против воли, в гостях смущался, игрушку
и товарища ему выбрали, учиться заставили, а рвался он в театр в
твердой вере, что приятно проведет время.
Как часто похожи мы на ребенка, когда он, нацепив кошке бан-
тик, потчует ее грушей, дает поглядеть картинки и удивляется, что
негодяйка хочет тактично улизнуть или, отчаявшись, царапнет!
В гостях ребенку хотелось бы посмотреть, как открывается ко-
робка, которая стоит на подзеркальнике, и что там блестит в углу,
и есть ли в большой книжке картинки, хотелось бы поймать золотую
рыбку в аквариуме и съесть много-много шоколадок. Но он ничем не
выдаст своих желаний, ведь это некрасиво.
— Пойдем домой,— торопит дурно воспитанный ребенок.
Ему обещали забаву: флажки, фейерверки, спектакль, он ждал и
разочаровался.
— Ну как, весело тебе?
— Очень,— отвечает он, зевая или подавляя зевоту, чтобы не
обидеть.
Летние колонии. Рассказываю в лесу сказку. Во время рассказа
поднимается и уходит один мальчик, затем другой, третий. Это меня
удивило, назавтра спрашиваю их: один положил под куст палку,
вспомнил про нее, когда я рассказывал, и испугался, как бы не взяли;
у второго болел порезанный палец, а третий не любит вымышленных
историй. Не уйдет ли и взрослый из театра, если пьеса его не зани-
мает, докучает боль или оставил в кармане пальто портсигар?
У меня есть много доказательств того, что ребенок может не-
делями, месяцами заниматься одним и тем же и не желать пере-
мены. Любимая игрушка никогда не теряет очарования. Одну и ту
же сказку выслушает много раз с неослабным интересом. И наобо-
рот, у меня есть доказательства того, что матерей раздражает одно-
образие интересов ребенка. Сколько раз, случалось, матери просят
врача «разнообразить диету, кашки и компоты ребенку уже на-
доели».
— Вам они надоели, а не ребенку,— приходилось мне им объяс-
нять.
72. Скука — тема для солидных исследований.
Скука — одиночество, отсутствие впечатлений; скука — избы-
ток впечатлений, шум, гам, суматоха. Скука — нельзя, погоди, осто-
рожно, нехорошо. Скука нового платья, скованности и смущения,
наказов и заказов и обязанностей.
Полускука балкона и выглядывания из окошка, прогулки, ви-
зиты, игры со случайными и неподходящими товарищами.
71
Скука — острая, как болезнь с высокой температурой, и хрони-
ческая, с рецидивами и осложнениями.
Скука — дурное самочувствие ребенка: значит, чрезмерная жара,
холод, голод, жажда, переедание, сонливость и часы принудитель-
ного сна, боль и усталость.
Скука — апатия, безразличие, малоподвижность, неразговор-
чивость, понижение жизненного тонуса. Ребенок лениво подымает-
ся, ходит сгорбившись, шаркая ногами, потягивается, отвечает ми-
микой, односложно, тихим голосом, досадливо морщась. Нетребо-
вателен, но каждое обращенное к нему требование встречает в
штыки. Отдельные непонятные и слабомотивированные внезапные
взрывы.
Скука — усиленная подвижность. Ни минуты не усидит на
месте, ничем не займется, капризен, недисциплинирован, злобен;
обижает, задирает, досаждает, плачет и злится. Подчас нарочно
идет на скандал, видя в ожидаемом наказании желанное сильное
ощущение.
Часто мы видим сознательное упорство злой воли там, где су-
ществует банкротство воли; и избыток энергии там, где отчаяние
усталости.
Скука приобретает иногда черты массового психоза. Не умея
организовать игру или стесняясь, не подходя друг другу по воз-
расту и характеру или в необычных условиях, дети впадают в неис-
товство бессмысленного крика и шума.
Кричат, толкаются, опрокидывают и тянут за ноги, кружатся до
потери сознания, падая на пол; взаимно подзадоривая друг друга,
закатываются ненатуральным смехом. Чаще всего «игру» (и это
раньше, чем назреет естественная реакция) прерывает катастрофа:
драка, порванная одежда, сломанный стул, ушиб посильней, а зна-
чит, замешательство и взаимные обвинения. Порой настроение кри-
ка и шума гаснет; раздается чье-нибудь «бросьте дурить» или «по-
стыдились бы, что вы делаете», инициатива переходит в энергичные
руки — и сказка, хоровое пение, беседа.
Боюсь, эти не слишком частые патологические состояния мас-
совой действующей на нервы скуки некоторые воспитатели склон-
ны считать нормальной игрой детей, «предоставленных самим себе».
73. Даже игры детей, как нечто несерьезное, не дождались со-
лидных клинических исследований.
v/Следует помнить, что играют и взрослые, не только дети; что не
всегда дети играют охотно; что не все, что мы зовем игрой, на са-
мом деле игра; что многие детские игры — подражание серьезной
деятельности взрослых; что игры на вольном просторе одни, а в
стенах города или дома другие; и что мы можем рассматривать дет-
ские игры лишь с точки зрения места, которое они занимают в совре-
менном обществе.
Мяч.
Погляди на усилия самого маленького поднять мяч с земли и
проковылять по полу в задуманном направлении.
72
Погляди на изнурительные упражнения старшего, как он ста-
рается научиться ловить правой и левой рукой, заставить отскочить
несколько раз от земли, от стены, подбить лаптой, попасть в цель.
Кто дальше всех, кто выше всех, кто метче всех, кто больше всех.
Соревнование, познавание путем сравнения своей ценности, победы
и поражения, совершенствование.
Неожиданности часто комического характера. Уже был в ру-
ках — и выскользнул, отскочил от одного и попал прямо в руки к
другому; ловя мяч, стукнулись головами; улетел под шкаф и сам
оттуда покорно выкатывается.
Треволнения. Мяч падает на траву, поднять — значит риско-
вать. Потерялся — поиски. Едва не выбил стекло. Залетел на шкаф,
как достать? Совещание. Ударил или не ударил? Кто виноват: кто
криво бросил или кто не поймал? Оживленный спор.
Индивидуализация, внесение разнообразия. Ребенок обманы-
вает: делает вид, что бросает; целится в одного, кидает в другого;
ловко прячет мяч, будто у него его нет. Бросил и дунул на мяч, чтобы
быстрей летел; ловит и падает понарошку; пытается поймать ртом;
ему бросили мяч, а он делает вид, что боится; притворяется, что мяч
его ушиб. Колотит мячик: «Ты, мячик, я тебе дам!» «Там, в мячике,
что-то стучит»,— трясет и слушает.
Есть дети, которые сами не играют, а любят смотреть, подобно
тому как смотрят взрослые на играющих в бильярд или в шахматы.
И в игре в мяч бывают интересные, неверные и гениальные дви-
жения.
Целесообразность движений — лишь одна из многих сторон,
которые делают этот вид спорта приятным.
\rl\. Игры не столько стихия ребенка, сколько единственная
область, где мы предоставляем ему более или менее широкую ини-
циативу. Лишь в играх ребенок чувствует себя до некоторой сте-
пени независимым. Все остальное — мимолетная милость, времен-
ная уступка, на игру же у ребенка есть право.
Играя в лошадки, войну, сыщиков-разбойников, пожарных, ре-
бенок дает выход своей энергии в мнимо целенаправленных дви-
жениях, на какой-то миг поддается иллюзии или сознательно убе-
гает от подлинной жизни. Потому-то так ценят дети участие ровес-
ников с живым воображением, разносторонней инициативой, боль-
шим запасом почерпнутых из книг мотивов и так покорно подчи-
няются их часто деспотичной власти — благодаря им легче облечь
туманные грезы в видимость действительности. В присутствии взрос-
лых и чужих дети стесняются, стыдятся своих игр, сознавая их
ничтожность.
Сколько в ребячьих играх горького сознания недостатков под-
линной жизни, сколько мучительной по ней тоски!
Палка для ребенка не лошадь, но, не имея настоящей лошади,
приходится мириться и с деревянной. И если дети плывут на пере-
вернутом стуле по комнате — это не катание на лодках на озере...
Когда у ребенка в плане дня купание без ограничений, лес с
73
ягодами, удочки, птичьи гнезда высоко на деревьях, голубятня, куры,
кролики, сливы в чужом саду, цветник перед домом, игра становится
ненужной или меняет в корне характер.
Какой ребенок сменяет живую собаку на игрушечную, на коле-
сиках? Какой ребенок отдаст настоящего пони за коня-качалку?
Ребенок обращается к игре поневоле, спасаясь от злой скуки,
прячась от ужасающей пустоты, скрываясь от холодного долга. Да,
ребенок лучше уж будет играть, чем зубрить грамматические пра-
вила или таблицу умножения.
Ребенок привязывается к кукле, щеглу, цветку в горшке, потому
что пока еще у него ничего больше нет; узник или старик при-
вязываются к тому же самому, потому что у них уже ничего нет.
Ребенок играет во что попало, лишь бы убить время, не зная, что
с собой делать, не имея другого выбора.
Мы слышим, как девочка преподает кукле правила хорошего
тона, как пугает ее и отчитывает; и не слышим, как жалуется ей в
постели на окружающих, поверяет шепотом заботы, неудачи, мечты.
— Что я тебе скажу, куколка! Только никому не повторяй.
— Ты добрый песик, я на тебя не сержусь, ты мне не сделал ни-
чего плохого.
Это одиночество ребенка наделяет куклу душой.
Жизнь ребенка не рай, а драма.
75. Пастушонок охотнее будет играть в карты, чем в мячик: до-
вольно набегался, гоняясь за коровами. Маленький продавец газет
или мальчик на побегушках носятся вовсю лишь поначалу; быстро
учатся размерять усилия, раскладывая их на целый день. Не играет
в куклы ребенок, которому приходится нянчить младенца; наоборот,
бежит от неприятной обязанности.
Значит, дети не любят работать? Труд детей бедняков утилита-
рен, не воспитывает, не рассчитан на их силы и индивидуальные
склонности. Было бы смешно выдавать жизнь нищих детей за при-
мер для подражания: и здесь скука, зимняя скука тесной лачуги и
летняя — двора или придорожной канавы, скука лишь в иной форме.
И ни родители, ни мы не можем заполнить ребенку дня так, чтобы
ряд их, логично связанных друг с другом, раскрывал красочное
содержание жизни, от вчера через сегодня к завтра.
Многочисленные игры ребят — работа.
Если вчетвером строят шалаш: копают обрезком жести, стек-
лом, гвоздем землю, вбивают колья, связывают их, накрывают кры-
шей из веток и выстилают пол мхом, работая то напряженно и
молча, то вяло, но зато проектируя улучшения, строя дальнейшие
планы, делясь результатами добытых наблюдений,— это не игра, а
неумелая работа несовершенными орудиями над недостаточным ма-
териалом, стало быть, малоплодотворная, но организованная так,
что каждый в зависимости от возраста, сил и умения вносит столько
усилий, насколько его хватает.
Если детская комната, вопреки нашим запретам, так часто бы-
вает мастерской и складом хлама, а значит, складом материалов
74
для предполагаемых работ, не в этом ли направлении обратить нам
поиски? Быть может, для комнаты маленького ребенка нужен не ли-
нолеум, а воз полезного для здоровья желтого песку, изрядная
вязанка палок и тачка камней? Быть может, доска, картон, фунт
гвоздей, пила, молоток и токарный станок были бы более желанным
подарком, чем игра, а учитель труда полезнее, чем преподаватель
гимнастики или игры на пианино? Но тогда пришлось бы изгнать
из детской больничную тишину, больничную чистоту и боязнь поре-
занных пальцев.
Разумные родители с неприятным чувством приказывают:
«Играй» — и с болью слышат в ответ: «Все только играй и играй».
А что поделаешь, коли нет ничего другого?
Многое изменилось. Игры и развлечения не только допускаются с пренебре-
жением, а введены уже в школьную программу; все громче требование школьных
участков. Перемены с часу на час; психика среднего отца семейства и воспи-
тателя не поспевает.
76. Вопреки тому, что сказано выше, бывают дети, которым и
одиночество не слишком надоедает, да и в деятельности они не нуж-
даются. Этих тихоньких, которых чужие матери ставят в пример,
дома «не слышно». Они не скучают, сами себе выдумают игру, в
которую, прикажи, станут играть, прикажи, послушно бросят. Это
пассивные дети; они хотят немного и не сильно, а потому легко усту-
пают, и вымысел заменяет им действительность, тем более что этого-
то и желают взрослые.
В толпе такие ребята теряются, страдают от холодного безраз-
личия, не поспевают за ее бурным потоком. Вместо того чтобы по-
нять, и здесь матери стремятся переделать, насильно навязать то,
что лишь медленно, осторожно удается выработать изнурительным
усилием, опытом многих неуспехов, неудачных попыток, мучитель-
ного унижения. Всякий неосмотрительный наказ ухудшает поло-
жение вещей. «Поди поиграй с ребятами» оскорбляет одного так
же, как другого: «Поиграли и хватит».
Как же их легко узнать в толпе!
Например, хоровод в саду. Несколько десятков ребятишек поют,
держась за руки, двое на первых ролях в середине.
— Ну ступай же, поиграй с ними!
Девочке не хочется, она не знает игры, детей; когда раз как-то
пробовала, ей сказали: «Нам не нужно, у нас и так много» или:
«Да ты растяпа». Быть может, завтра или через неделю она и по-
пробует опять... Но мать не хочет ждать, силком выталкивает. Ро-
бея, девочка нехотя берет за руки соседок, хочет, чтобы ее не за-
мечали, и так и будет стоять,— быть может, и заинтересуется посте-
пенно, быть может, и сделает первый шаг к примирению с новой
коллективной жизнью... Тут мать совершает новую бестактность —
думает приохотить ее более живым участием:
— Девочки, почему у вас все одни и те же в кругу? Вот эта еще
не была, выберите ее!
75
Одна из коноводок отказывает, две другие соглашаются, но не-
охотно.
Бедная дебютантка оказывается в недоброжелательном коллек-
тиве.
Сцена эта кончилась слезами девочки, гневом матери, замеша-
тельством среди участников хоровода.
77. Хоровод в саду как практическое упражнение в наблюда-
тельности для воспитателя: количество подмеченных моментов. Об-
щее наблюдение (трудное, всех занятых в игре детей), индиви-
дуальное (одного произвольно выбранного ребенка).
Инициатива, начало, расцвет и распад игры. Кто подает сигнал,
организует, ведет за собой, чей выход из игры конец сборищу? Кто
выбирает соседей, а кто берет за руку двух случайных ребят? Кто
охотно разлучается, чтобы дать место новому участнику, и кто про-
тестует? Кто часто меняет место, и кто придерживается одного?
Кто в перерывах терпеливо ждет, и кто торопит: «Ну, скорее! Ну,
давайте начинать!»? Кто стоит неподвижно, и кто переминается с
ноги на ногу, размахивает руками, громко смеется? Кто и зевает, да
не уходит, и кто бросает играть: потому ли, что неинтересно, потому
ли, что обиделся; кто пристает, пока не получит главную роль? Мать
хочет втолкнуть в хоровод совсем маленького ребенка: «Нет, он еще
мал», а другой: «Ну чем он помешает, пускай себе стоит».
Если бы игрой руководил взрослый, он ввел бы очередность,
поверхностно справедливое распределение ролей и, считая, что по-
могает, внес бы принуждение. Двое и все одни и те же бегают (кош-
ка и мышка), играют (в волчок), выбирают (при танце), а осталь-
ные, видно, скучают? Один смотрит, другой слушает, третий поет —
про себя, вполголоса, а то и в голос, четвертый и хочет вступить в
круг, да не решается, а сердце так и стучит... А десятилетний за-
правила-психолог быстро оценивает, захватывает и распоря-
жается.
При каждой коллективной деятельности, а значит, и в игре ребя-
та, делая одно и то же, отличаются друг от друга хотя бы одним
мелким штрихом.
И мы узнаем, чем ребенок является в жизни, среди людей, в
действии, какова его не истинная, а рыночная цена, что впитывает
в себя и что сам способен дать и как смотрит на это толпа, какова
его самостоятельность, сопротивляемость массовому внушению. Из
дружеской беседы мы узнаем, к чему он стремится, а наблюдая в
толпе, что способен осуществить; здесь — каково его отношение к
людям, там — скрытые мотивы этого отношения. Если мы видим ре-
бенка только одного, мы будем знать его односторонне.
Если имеет авторитет — как его приобрел, как использует;
если не имеет —- хочет ли иметь, страдает ли от того, что не имеет,
злится ли, дуется ли, завидует ли пассивно, добивается или от-
ступает? Часто спорит или редко, справедливо или несправедливо,
руководствуясь самолюбием или капризом, тактично или грубо на-
вязывает свою волю? Избегает вожаков или льнет к ним?
76
«Послушайте, давайте делать вот так! Подождите, так, может,
лучше! А я не играю! Ладно, скажи, как ты хочешь?»
78. Что такое спокойные игры детей, как не беседа, обмен мне-
ниями, мечты на избранную тему, драматизированная греза о мо-
гуществе? Играя, дети высказывают свои истинные взгляды, по-
добно тому как автор в романе или пьесе развивает главную мысль.
Поэтому часто видишь здесь бессознательную сатиру на взрослых:
дети играют в школу, наносят визиты, принимают гостей, угощают
кукол, покупают и продают, нанимают и увольняют прислугу...
Пассивные игру в школу принимают всерьез, хотят, чтобы похва-
лили; активные предпочитают роль озорников, и часто их выходки
вызывают общие протесты — не выдают ли они невольно свое под-
линное отношение к школе?
Не имея возможности выйти хотя бы в сад, ребенок тем охот-
нее путешествует по необитаемым островам и океанам; у него нет
даже Полкана, который слушался бы его, но он лихо командует пол-
ками. Будучи ничем, хочет быть всем. Но только ли ребенок? А поли-
тические партии? По мере приобретения влияния на общественные
события не меняют ли они воздушные замки на ржаной хлеб реаль-
ных завоеваний?
Мы недолюбливаем некоторые детские игры, исследования и
опыты. Ребенок ходит на четвереньках и лает, чтобы понять, как
справляется с этим собака% пробует хромать, подражает горбатому
старику, косоглазит, заикается, качается, как пьяный, изображает
увиденного на улице сумасшедшего, ходит закрыв глаза (слепой),
затыкает уши (глухой), ложится неподвижно, удерживая дыхание
(умер), смотрит через очки, затягивается папиросой, тайком про-
бует завести часы, обрывает у мухи крылья (как она полетит?), при-
тягивает магнитом перо, интересуется строением уха (что там за
барабанная перепонка?), горла (что там за миндалины?), предла-
гает девочке играть в доктора, надеясь, что увидит, как там у нее,
бежит с зажигательным стеклом на солнце, слушает шум в раковине,
бьет кремнем о кремень.
Все, в чем можно убедиться самому, он хочет увидеть, прове-
рить, испытать; и так столько еще остается, чему надо верить на
слово!
Говорят, месяц только один, а ведь везде его видно.
— Слушай, я встану за забором, а ты в огороде.
Закрыли калитку.
— Ну что, есть в огороде месяц?
— Есть.
— И здесь есть.
Переменились местами, проверили вторично: теперь точно знают,
что месяцев — два.
79. Особое место занимают игры, цель которых — проверка
силы, познание своей цены; а это удается достичь, лишь сравнивая
себя с другими.
77
Поэтому, у кого больше шаг, сколько шагов пройдет с закры-
тыми глазами, кто дольше простоит на одной ножке, не моргнет,
не рассмеется, глядя в глаза, кто может дольше не дышать? Кто
громче крикнет, дальше плюнет, выше пустит струю мочи или бросит
камень? Кто соскочит с большего количества ступенек, прыгнет
выше и дальше, дольше выдержит боль при стискивании пальцев?
Кто скорее добежит, кто кого поднимет, перетянет, повалит?
«Я могу. Я умею. Я знаю, у меня есть».
«А я могу лучше. А я знаю больше. А у меня лучше».
А потом:
«Мои папа и мама, они могут, у них есть».
Так приобретается уважение, занимается соответствующее поло-
жение в своей среде. А следует помнить, что благополучие детей
зависит не исключительно от того, как их расценивают взрослые,
но и — это в равной, а быть может, и в большей степени — от мне-
ния сверстников, у которых иные, но тем не менее твердые правила
оценки членов своего ребячьего общества и их прав.
Пятилетний ребенок может быть допущен в общество восьми-
летних, а тех могут в свою очередь принять к себе десятилетние,
которые уже выходят одни на улицу и у которых есть пенал с клю-
чиком и записная книжка. Такой, старше тебя на два класса, маль-
чик разрешит многие сомнения, за полпирожного или даже даром
просветит и обучит:
Магнит притягивает железо, потому что он намагничен. Самые
лучшие лошади — это арабские, у них тонкие ноги. У королей кровь
голубая, а не красная. И у льва, и у орла, наверное, тоже голубая
(надо про это еще у кого-нибудь спросить). Если мертвец схватит за
руку, то уж не вырвешь. В лесу бывают женщины, у которых вместо
волос на голове змеи; он сам видел на картинке и даже в лесу видел,
только издали, потому что вблизи как взглянет такая женщина, так
человек превращается в камень (врет, небось?). Он видел утоплен-
ника, знает, как родятся дети, и умеет из бумаги сделать кошелек.
И не только говорит, что умеет, но и сделал бумажный кошелек,
а мама этого не умеет.
80. Не относись мы к ребенку, его чувствам, стремлениям, а
значит, и к играм свысока, мы понимали бы, что он правильно
делает, когда с одним охотно общается, а другого избегает, встре-
чается поневоле и неохотно играет. Можно подраться с самым луч-
шим приятелем и скоро помириться, а с немилым и без ссор не за-
хочешь водиться.
С ним нельзя играть: чуть что — в плач, сразу обижается, жа-
луется, кричит и беснуется, хвастает, дерется, хочет верховодить,
сплетничает, обманывает — фальшивый, нескладный, маленький,
глупый, грязный и некрасивый.
Этакая одна пискля неотвязная портит всю игру. Посмотри,
как остальные дети стараются его обезвредить! Старшие ребята
охотно примут в игру и малыша, и он может сгодиться, только
пусть будет доволен второстепенной ролью, пусть не мешает.
78
«Дай ему, уступи, позволь: он ведь маленький».
Неправда: взрослые тоже детям не уступают...
Почему он не любит ходить туда в гости? Ведь там есть дети,
с которыми он охотно играет.
Охотно, да только у себя или в парке. А там есть один человек,
который кричит, там насильно целуют, прислуга обидела его, стар-
шая сестра дразнится, и там собака, которую он боится. Само-
любие не позволяет ему назвать истинную причину, а мать считает,
что капризничает.
Ребенок не хочет идти в парк. Почему? Большой мальчик гро-
зился избить, гувернантка одной девочки обещала пожаловаться, и,
когда он шел по газону за мячиком, садовник погрозил палкой;
обещал принести мальчику марку, а она куда-то задевалась.
Бывают капризные дети, я перевидал их на врачебных приемах
много десятков. Эти дети знают, чего хотят, только им этого не да-
дут: им нечем дышать, они задыхаются под тяжестью нежной за-
боты. Но если взрослые с патологически капризными детьми хо-
лодны, дети их презирают и ненавидят. Детей можно истязать не-
разумной любовью; закон должен взять их под защиту.
81. Мы выдали детям мундир детства и верим, что они любят
нас, уважают и доверяют и что они невинны, легковерны и благо-
дарны. Безупречно играем роль бескорыстных опекунов, умиляемся
мысли о приносимых нами жертвах, и, можно сказать, нам с детьми
хорошо — до поры до времени. Дети сначала верят, потом сомне-
ваются, стараются откинуть коварно закрадывающиеся подозрения,
иногда пробуют с ними бороться, а увидев бесплодность борьбы,
принимаются нас обманывать, подкупать и эксплуатировать.
Выманивают просьбами, очаровательными улыбками, поцелу-
ями, шуточками, послушанием, покупают за уступки, изредка
тактично дают понять, что обладают некоторыми правами, подчас
вынудят приставаниями, порой прямо спрашивают: «А что я за это
получу?»
Сто разновидностей покорных и взбунтовавшихся рабов.
«Нехорошо, вредно, грешно... Учительница говорила в школе...
Ой, если бы мамочка узнала».
«Не хочешь, как хочешь... Твоя учительница такая же умная, как
и ты... Ну и пусть мама знает, что она мне сделает?»
Нам не нравится, когда ребенок, которого мы отчитываем, бор-
мочет что-то себе под нос, в гневе с языка слетают искренние слова,
а они нас не интересуют.
У ребенка есть совесть, только в мелких будничных стычках
ее голос не слышен, зато выплывает наружу тайная ненависть к
деспотичной (а значит, несправедливой) власти сильных (а значит,
безответственных) мира сего.
Если ребенок любит веселого дядюшку, так за то, что благодаря
ему он на какой-то момент свободен, что тот вносит жизнь, принес
подарок. А подарок тем дорог, что удовлетворил давно лелеянную
мечту. Ребенок намного меньше ценит подарки, чем мы думаем, и
79
неохотно принимает от людей несимпатичных. «Ишь, купил»,— ки-
пятится униженный.
82. Взрослые не умные: не умеют пользоваться свободой, ко-
торой они обладают. Ведь такие счастливые, могут покупать все,
что хочется, все им можно, а всегда на что-нибудь злятся и из-за
чего-нибудь да кричат.
Взрослые не все знают; часто отвечают лишь бы отделаться, или
в шутку, или так, что нельзя понять; один говорит одно, другой дру-
гое, и неизвестно, где правда. Сколько звезд в небе? Как по-негри-
тянски тетрадка? Как человек засыпает? А вода живая? И откуда
она знает, что на улице из нее должен сделаться лед? Где ад? Как
этот человек сделал, что в шляпе из часов поджарил яичницу: и часы
не испортились, и шляпа цела — это чудо?
Взрослые не добрые. Правда, родители дают детям есть, но они
и должны давать, а то мы умерли бы. Они ничего детям не позво-
ляют: скажешь им, а они в смех, и вместо того, чтобы объяснить,
нарочно еще дразнятся. И они не справедливые, их обманывают, а
они верят. Любят, чтобы к ним подлизывались. Если они в хорошем
настроении, так все можно, а сердятся — все мешает.
Взрослые лгут. Неправда, что от конфет бывают глисты и что,
когда не ешь, снятся цыгане; что, когда балуешься огнем, ночью
будешь рыбу ловить, а болтаешь ногами, так черта качаешь. Они
не держат слова: обещают, а потом забывают, или увиливают, или
не позволяют якобы за провинность, а ведь все равно не позво-
лили бы.
Велят говорить правду, а скажешь, так обижаются. Неиск-
ренние: в глаза одно, а за глаза другое. Не любят кого-нибудь, а
притворяются, что любят. Только и слышится: «Пожалуйста, спа-
сибо, извините, всего хорошего»,— можно подумать, что и в самом
деле.
Усиленно прошу обратить внимание на выражение лица ре-
бенка, когда он весело подбежит к взрослому и скажет в запале или
сделает что-либо неполагающееся, а его резко и грубо одернут.
Отец пишет; вбегает ребенок с каким-то сообщением и тянет отца
за рукав. Откуда ребенку знать, что на важном документе может
сесть клякса? Отец взбешен, ребенок смотрит с недоумением: что
вдруг случилось?
Опыт нескольких неуместных вопросов, неудачных шуток,
выданных секретов, опрометчивых излияний учит ребенка отно-
ситься ко взрослым как к прирученным диким зверям, на которых
никогда нельзя вполне положиться.
83. Кроме пренебрежения и неприязни в отношении детей к
взрослым можно усмотреть и некоторое отвращение.
Колючая борода, шершавое лицо, запах сигары отталкивают
ребенка. После каждого поцелуя он добросовестно утирает лицо —
пока не запретят. Большинство детей не терпит, чтобы их брали на
колени; если взять ребенка за руку, то он мягко и постепенно ее
80
высвобождает. Толстой заметил эту черту у деревенских ребят *,
она присуща всем: не растленным, не отупевшим от муштры.
О смраде пота и сильном запахе духов ребенок с омерзением
говорит: «Воняет», пока ему не объяснят, что это гадкое слово, духи
пахнут хорошо, только он пока не разбирается.
Все эти дяди и тети, у которых отрыжка, у которых все кости
ломит, давление, горько во рту, сквозняк, сырость им мешает, боятся
есть на ночь, кашель их душит, нет зубов, трудно подниматься по
лестнице, красные, толстые, запыхавшиеся — все это такое про-
тивное.
Эти их ласковые словечки, поглаживания, потискивания и по-
хлопывания, эта их фамильярность, бессмысленные вопросы, смех
непонятно над чем.
«На кого она похожа? Ого, какой большой! Поглядите, вырос-то
как!»
Конфузясь, ребенок ждет, когда же это кончится...
Им нипочем сказать при всех: «Эй, штаны потеряешь» или «Ры-
бу будешь ночью ловить». Они неприличные...
Ребенок чувствует себя более чистым, лучше воспитанным, бо-
лее достойным уважения.
«Боятся есть! Боятся сырости! Трусы: я вон вовсе не боюсь.
Боятся, ну и пускай сидят себе на печи; нам-то чего запрещают?»
Дождь — выскочит из-под навеса, постоит под ливнем и со сме-
хом бежит обратно, приглаживая волосы. Мороз: согнет руки в
локтях, подымет плечи, старается не дохнуть, пальцы коченеют,
губы синие, а сам смотрит на похороны или на уличную драку, а
потом бегом, чтобы разогреться: «Брр, замерз. Здорово!»
Бедные эти старенькие, все не по ним, все им мешает.
И пожалуй, едва ли не единственное доброе чувство, которое
ребенок постоянно к нам испытывает, это жалость.
Видно, что-то им да мешает, раз они такие несчастные.
Папа, бедный, все работает, мама слабая, скоро умрут, бедные,
не надо их огорчать.
84. Оговорка. Наряду со всеми этими чувствами, которые ребе-
нок несомненно испытывает, наряду с возникающими у него и
своими собственными мыслями, у ребенка есть понимание долга;
он не освобождается полностью от навязываемых ему нами взгля-
дов и внушаемых чувств. Активный — ярче и раньше, пассивный —
позже и в смягченной форме переживают конфликты раздвоения
личности. Активный размышляет самостоятельно, пассивному «от-
крывает глаза» товарищ по недоле и неволе; ни тот ни другой не
систематизируют, как это сделал я. Душа ребенка равно сложна,
как и наша, полна подобных противоречий, в тех же трагичных веч-
ных борениях: стремлюсь и не могу, знаю, что надо, и не умею себя
заставить.
Воспитатель, который не сковывает, а освобождает, не подав-
ляет, а возносит, не комкает, а формирует, не диктует, а учит, не
требует, а спрашивает, переживает вместе с ребенком много вдох-
81
новенных минут, не раз следя увлажненным взором за борьбой ан-
гела с сатаной, где светлый ангел побеждает.
Солгал. Взял потихоньку цукат с торта. Задрал девочке платье.
Бросал камнями в лягушек. Смеялся над горбатым. Разбил ста-
туэтку и составил, чтобы не было видно. Курил папиросы. Ра-
зозлился и проклял про себя отца.
Поступил плохо и чувствует, что это он не в последний раз, что
опять на чем-нибудь споткнется,— самого потянет или подговорят.
Бывает, ребенок делается вдруг тихим, покорным, услужли-
вым. Взрослые это знают: «Верно, совесть нечиста». Нередко этой
странной перемене предшествует целая буря чувств, плач в подушку,
раскаяние и торжественная клятва. Бывает, мы готовы простить,
получить бы лишь заверение — ах, не гарантию — иллюзию, что
проступок больше не повторится.
«А я не буду другим. Не могу я этого обещать».
Эти слова диктует честность, а не обязательно упрямство.
— Я понимаю то, что вы говорите, только я этого не чувствую,—
сказал двенадцатилетний мальчик.
Эту достойную всяческого уважения честность мы встречаем и
у ребят с дурными наклонностями:
— Я знаю, воровать не надо, это стыдно, грешно. Я не хочу
воровать! Но я не знаю, украду я еще или не украду. Я в этом не
виноват!
Воспитатель переживает мучительные минуты, видя в беспо-
мощности ребенка собственное бессилие.
85. Мы находимся во власти иллюзии, что ребенка может долго
удовлетворять блаженное мировоззрение, где все просто, добро
и разумно, что сумеем утаить от него наше незнание, слабость, про-
тиворечия, поражения и падения — и отсутствие формулы счастья.
Наивно предписание педагогических самоучек воспитывать детей
последовательно: чтобы отец не критиковал поступков матери,
взрослые не говорили при детях о своих делах, а прислуга не лгала,
что «хозяев нет дома», когда стучится нежеланный гость.
А почему зверей мучить нельзя, а мухи — сотнями! — гибнут
в таких муках на липучке? Почему мама покупает красивое платье,
а говорить про платье, что красивое, нехорошо? А кошка обязатель-
но должна быть «притворчивая»? Сверкнула молния, няня пере-
крестилась — это бог, говорит, а учительница говорит, что это элект-
ричество. А за что надо взрослых уважать? И вора тоже? Дядя
сказал: «Аж брюхо подвело», а так нехорошо говорить. Почему
«сукин сын» — ругательство? Кухарка верит в сны, а мама нет.
Почему говорится «здоров как бык», ведь и быки болеют? Уто-
пленнику везет? А почему некрасиво спрашивать, сколько стоит
подарок?
Как утаить, как разъяснить, не углубляя непонимания?
Ох, эти наши ответы...
Мне дважды довелось выслушать, как объясняли ребенку перед
витриной магазина, что такое глобус.
82
— Что это за мячик? — спрашивает ребенок.
— Да такой уж мячик,— объясняет няня.
А в другой раз:
— Мама, что это за шар?
— Это не шар, а земля. Там и домики есть, и лошадки, и ма-
муся...
— И мамуся-а-а? — ребенок взглянул на мать с сочувствием
и испугом и не возобновил вопроса.
86. Мы видим детей в бурных проявлениях радости и печали,
когда дети отличаются от нас, и не замечаем внешне резко не вы-
раженных настроений: тихой задумчивости, глубокой растроган-
ности, горького недоумения, мучительного подозрения и унизи-
тельного сомнения, в которых на нас похожи. «Настоящим» ребе-
нок бывает не только тогда, когда скачет на одной ножке, но и когда
задумывается над сказкой жизни. Надо только исключить дейст-
вительно «ненатуральных» детей, бессмысленно твердящих заучен-
ные или перенятые у взрослых фразы. Ребенок не может думать
«как большой», но может по-своему, по-детски вникать в серьезные
проблемы взрослых; недостаток знаний и опыта заставляет его мыс-
лить иначе.
Я рассказываю сказку: волшебники, драконы, злые феи, за-
колдованные королевны,— вдруг раздается с виду наивный вопрос:
— А это правда?
И слышу, кто-то тоном превосходства поясняет:
— Вы ведь говорили, что это сказка.
И персонажи и действия правдоподобны; все это могло бы быть,
но всего этого нет, потому что мы предупредили: в сказках все
неправда.
Человеческая речь, которая должна была развеять
ужасы и чудеса окружающего мира, наоборот, углубила и увеличила
незнание. Раньше крохотная текущая жизнь личных потребностей
нуждалась лишь в некотором количестве решительных ответов,
теперь новая большая жизнь слова погрузила детей сразу во все
вчерашние и завтрашние, отдаленные и отдаленнейшие проблемы.
Нет времени не то что все разрешить, но и просто рассмотреть. Тео-
ретические знания отрываются от повседневной жизни и становятся
вне проверяемости.
Темпераменты — активный или пассивный — выражаются в
складе ума: практическом или умозрительном.
Ребенок с практическим складом ума верит или не верит в за-
висимости от воли авторитета: верить удобнее, выгоднее; с умозри-
тельным — расспрашивает, делает выводы, отрицает, бунтует и в
мыслях, и в действиях. Бессознательную фальшь первого мы про-
тивопоставляем стремлению к истине второго; это ошибка, которая
затрудняет диагностику и делает менее эффективной воспитатель-
ную терапию.
В психиатрических клиниках стенографист записывает моно-
логи и беседы пациентов. То же самое предстоит будущим педо-
83
логическим клиникам. Сегодня у нас есть лишь материал детских
вопросов.
87. Жизнь — сказка. Сказка о мире животных.
В море рыбы, которые глотают людей. Эти рыбы больше ко-
рабля? А если она проглотит человека, человек задохнется; а если
проглотит святого? А когда ни один корабль не разбился, что они
едят? Такую рыбу можно поймать? А как могут жить в море про-
стые рыбы? А почему тех рыб не выловят? Их много, миллион, да?
А из такой рыбы можно лодку сделать? Это допотопные рыбы?
У пчел есть королева, а почему короля нет? Он умер? Если птицы
знают, как лететь в Африку, то они умнее людей, ведь они не учи-
лись. Почему ее называют сороконожкой, если у нее не сорок ног,
а сколько их у нее? Все ли лисы хитрые? Могут они исправиться и
почему они такие? Если кто-либо мучает и бьет собаку, то она
все равно верная? А почему нельзя смотреть, когда собака вска-
кивает на собаку? А набитые звери раньше жили и можно ли набить
человека? Очень ли неудобно улитке; а если вынуть ее, она умрет?
Почему она такая мокрая, она рыба? Она понимает, когда гово-
ришь: «Улитка, улитка, высунь рога»? Почему у рыб холодная кровь?
Почему змее не больно, когда она меняет кожу? О чем муравьи раз-
говаривают? Почему человек умирает, а звери подыхают? Если
порвать пауку паутину, он подохнет? Откуда он возьмет нитки на
вторую паутину? Как из яйца может сделаться курица, яйцо надо в
землю закопать? Страус ест камни и железо, так какие у него ка-
кашки? Откуда верблюд знает, на сколько дней запасать воду? По-
пугай нисколечко не понимает, что он говорит, умнее ли он собаки?
Почему собаке нельзя подрезать язык, чтобы она заговорила? Ро-
бинзон первый научил попугая говорить, трудно ли научить и как это
сделать?
Дерево живет, дышит, умирает. Из маленького желудя выра-
стает дуб. Из цветка делается груша, это можно увидеть? Рубашки
растут на деревьях? Учительница нам так в школе говорила (побо-
жился), правда это? Отец ответил: «Не болтай вздор», мама — что
не на деревьях, лен в поле растет, а в школе учительница сказала,
что на уроке арифметики об этом нельзя говорить, она потом объяс-
нит. Значит, это не враки; хоть бы одно такое деревцо посмотреть!
Ну и что по сравнению с этими чудесами дракон? Драконов нет,
но могли бы и быть. Как Кракус мог убить дракона, если его не было?
Если сирен нет, так почему их рисуют?
88. Сказки о народах.
Негр черный, хоть не знай как мойся. А язык у него не чер-
ный, и зубы тоже не черные. Это не черт: ни рогов, ни хвоста у него
нет. И дети их тоже черные. Негры ужас какие дикие: едят людей.
И в бога не верят, а верят в лягушек. А до этого верили в деревья,
глупые были; а греки тоже верили во всякие глупости, но были ум-
ные; так почему верили? Негры ходят на улице раздетые, и им
вовсе не стыдно. Вставляют себе в нос раковины и думают, что кра-
84
сиво; почему им никто не скажет, чтобы они так не делали? Счаст-
ливые негры: едят фиги, финики и бананы, и обезьяны у них есть,
и не учатся вовсе, маленький мальчишка, а сразу на охоту идет.
У китайцев косы, это очень смешно. Французы умнее всех, а
так смешно говорят: «нон-бон-пон». А немцы — «дердидас», капуста
и квас. Евреи всего боятся, кричат «ай-вай» и обсчитывают. Еврей
хоть не знай что, а должен обсчитать; они распяли Иисуса Христа.
В Америке тоже есть поляки. Что они там делают, для чего им ло-
мают ноги и велят просить милостыню или отдают в цирк? А прият-
но, должно быть, выступать в цирке! А если раз вывернуть руки, так
всегда уже можно делать разные штуки? А бывают на свете гномы?
А почему не бывают, а если не бывают, то откуда люди знают, какие
они? Шел по улице маленький человечек, и все оглядывались; лили-
путы уже никогда не вырастут, это они в наказание маленькие? Были
ли финикийцы волшебниками: как они могли из песка делать стекло?
А это трудно? Ходят ли горцы и по таким горам, которые огнеды-
шащие? А моряки — народ? А могут они жить в воде? А кем труднее
быть — водолазом или моряком, и кто важнее?
Подчас вопрос вызывает у вас беспокойство:
— А если я весь-весь вымазался бы чернилами, негры меня
узнали бы?
Ребенок с трудом мирится со сведениями, которые он не может
применить на деле. Он тоже хотел бы так сделать, попробовать на
вкус или по крайней мере увидеть вблизи.
89. Человек — сказка.
А бывают люди с глазами из стекла, могут ли их вынимать и
можно ли ими видеть? Для чего парики и почему люди смеются,
если кто-нибудь лысый? А есть люди, которые говорят животом,
они говорят пупком? А зачем бывает пупок? Барабаны в ушах на-
стоящие? Почему слезы соленые и почему море соленое? Почему
у девочек волосы длинные, у них и там все по-другому? А на сердце
грибы растут? Почему тогда на первоапрельских открытках грибы
на сердце? А умирать обязательно? Где я был, когда меня не было
на свете? Прислуга говорит, что можно так взглянуть, что захво-
раешь, а если три раза плюнешь, то не захвораешь. Что делается
в носу, когда чихаешь? Сумасшедший — это больной? Пьяный —
это больной? И что хуже: пьяный или сумасшедший? А почему я
сейчас не могу узнать, как родятся дети? Буря оттого бывает, что
леший помер? Лучше быть слепым или глухим? Почему дети уми-
рают, а старики живут? Когда надо больше плакать, когда умрет ба-
бушка или братик? Почему канарейка не может попасть на небо?
Мачеха обязательно должна бить детей? А грудное молоко тоже
коровье? Когда снится что-нибудь, это на самом деле так или только
кажется? Отчего волосы рыжие? Почему нельзя иметь ребенка без
мужа? Что лучше, съесть ядовитый гриб или чтобы тебя змея ужа-
лила? Правда, если стоять под дождем, то скорее вырастешь? Что
такое эхо, почему оно в лесу? Если сложить руку трубочкой и по-
смотреть, весь дом видно: как он там поместился? Что такое тень,
85
почему от нее нельзя убежать? Правда, если поцеловать усами де-
вочку, у нее вырастут усы? Правда это, что на зубах червячки, только
их нельзя увидеть?
90. Сказка об авторитете.
У детей много богов, полубогов и героев.
Авторитеты делятся на видимые и невидимые, одушевленные и
неодушевленные. Иерархия их неимоверно сложна. Мама, отец, ба-
бушка, дедушка, тетя, дядя, прислуга, полицейский, солдат, король,
доктор, старшие вообще, ксендз, учитель и более опытные товарищи.
Авторитеты видимые неодушевленные: крест, свиток Торы, мо-
литвенник, иконы, портреты предков, памятники великих людей,
чужие фотографии.
Авторитеты невидимые: бог, здоровье, душа, совесть, усопшие,
волшебники, дьяволы, ангелы, духи, волки, дальние родственники,
которых часто вспоминают.
Авторитеты требуют послушания, что ребенку, увы, понятно,
мучительно понятно. Авторитеты требуют любви, а с этим управить-
ся уже гораздо труднее.
— Я люблю больше папу и маму.
Маленькие кокетничают непонятным ответом на непонятный им
вопрос. Ребенок постарше терпеть не может этого вопроса: он уни-
жает его и смущает. Он то очень любит, то так себе, раз уж это
необходимо; а иногда ненавидит, да, это ужасно, но что поделаешь,
коли ненавидишь.
Уважение — это столь сложное чувство, что ребенок не имеет
своего мнения, полагаясь на опыт старших.
Мама приказывает прислуге, прислуга маму боится. Мама и на
бонну сердилась. Мама должна просить у доктора разрешения. По-
лицейский может маму оштрафовать. А товарищу не нужно мою
маму слушаться. На папу на службе рассердился начальник, поэтому
папа такой невеселый.
Солдат боится офицера, офицер — генерала, а генерал — ко-
роля. Здесь все понятно и, может, поэтому мальчиков и занимают
военные ранги; может, поэтому в школе дети так точно дозируют
уважение — по классам,— что это тоже легко понять.
Очень достойны уважения посредники между видимыми и не-
видимыми авторитетами. Ксендз беседовал с богом, доктор на дру-
жеской ноге со здоровьем, солдат знаком с королем, а прислуга
много знает о чарах, духах и кикиморах.
Но бывают моменты, когда самым достойным уважения оказы-
вается пастух, который вырезает ножиком фигурку из дерева; этого
ни мама, ни генерал, ни доктор не сумеют.
91. Почему от фруктов, если они неспелые, болит живот? А здо-
ровье в животе или в голове? Здоровье — это душа? Почему собака
может жить без души, а человек умирает? Хворают ли врачи, уми-
рают ли и почему? Почему все великие люди умерли? Правда ли,
что есть люди, которые пишут книжки и живут? Все короли умирают,
86
не жильцы они на этом свете. У королевы есть крылья? Мицкевич
был святым? А ксендз видел бога? Может ли орел долететь до неба?
А бог молится? Что делают ангелы, спят ли, едят ли, играют ли в
мячик, кто им шьет платье? А дьяволам очень больно? Это дьяволы
сделали ядовитые грибы ядовитыми? Если бог прогневался на раз-
бойников, то почему велит за них молиться? Когда Моисей увидел
бога, он его очень испугался? Почему папа не молится, бог ему раз-
решил? Гром — это чудо? Воздух — это бог? Почему нельзя видеть
воздух? Сразу ли воздух входит в пустую бутылку или понемножку,
откуда он знает, что там уже нет воды? Почему бедные проклинают?
Если дождик не чудо, то почему никто не может сделать дождик?
Из чего сделаны тучи? А эта тетя, которая далеко живет, живет в
гробу?
Сколь наивна надежда родителей (только не называйте их про-
грессивными), что, сказав детям: «Бога нет», они облегчают им по-
нимание окружающего мира. Если бога нет, то это что значит? Кто
все это сделал, что будет, когда я умру, а откуда взялся первый че-
ловек? Это правда, что если не молишься, то живешь как скотина?
Папа говорит, что ангелов нет, а я их своими собственными глазами
видел. Если не грешно, то почему нельзя убивать? Ведь и курице
больно?
Те же сомнения и тревожные вопросы.
92. Мрачная сказка, таинственная нищета.
Почему он голодный, почему он бедный, почему ему холодно,
почему он не купит, почему у него нет денег, почему ему «так»
не дадут?
Ты говоришь ребенку:
«Дети бедняков грязные, употребляют нехорошие слова, в голове
у них насекомые. Дети бедняков хворые, от них можно заразиться.
Они дерутся, бросают камни и глаза выбивают. Во двор ходить
нельзя и в кухню нельзя: ничего интересного там нет».
А жизнь заявляет:
«Вовсе не хворые, весь день бегают, веселятся, пьют воду из ко-
лодца и покупают вкусные-превкусные разноцветные конфетки.
Ловко орудуя метлой, мальчишка подметает двор или снег чистит, а
это очень приятно. И никаких насекомых у них нет, неправда это,
и камнями не бросаются, и глаза целы, и не дерутся, а борются. Не-
хорошие слова смешные, а на кухне во сто раз приятнее, чем в ком-
натах».
Ты говоришь:
«Бедных надо любить, уважать, они добрые и много работают.
Надо быть благодарным кухарке, она готовит обед, и сторожу, он
смотрит за порядком. Поиграй с детьми сторожа».
А жизнь:
«Кухарка зарезала курицу, завтра мы ее будем есть, и мама
будет есть, ведь курицу сварили и ей не больно, а вот кухарка
так резала ее живую, мама даже смотреть не могла. Сторож утопил
щенят, а такие они были хорошенькие! У кухарки шершавые руки,
87
всё в грязной воде полощется. От мужика воняет, от еврея воняет.
Про торговку не говорят «госпожа торговка», а просто «торговка»,
и про сторожа — просто «сторож». Бедные дети грязные, что ни по-
кажи им, сразу: «Дай мне», а не дашь, шляпу сдернут и хохочут, а
один даже плюнул, в лицо плюнул...»
Ребенок еще и не слышал про злых колдунов, а уже со страхом
подходит к старику нищему подать грошик.
Ребенок знает, что и здесь ему всего не говорят, что и здесь
кроется что-то нехорошее, чего ему не хотят или не могут объяс-
нить.
93. Чудачества светской жизни и хороших манер.
Нехорошо класть палец в рот, ковырять в носу, шмыгать носом.
Нехорошо просить, говорить: «Я не хочу», отодвигаться, когда тебя
целуют, говорить: «Неправда». Нехорошо громко зевать, говорить:
«Мне скучно». Некрасиво сидеть, опираясь локтями на стол, первому
подавать руку взрослым. Некрасиво болтать ногами, держать руки в
карманах, оглядываться на улице. Нехорошо делать вслух заме-
чания и показывать пальцем.
Почему?
Эти запрещения и распоряжения имеют разные истоки, дети
не могут уловить их суть и связь.
Нехорошо бегать в одной рубашке и нехорошо плевать на пол.
Почему нехорошо отвечать на вопросы взрослым сидя? И даже с
отцом на улице надо здороваться? А что делать, когда говорят не-
правду? Например, дядя говорит: «Ты девочка», а он мальчик; или:
«Ты моя невеста», или: «Я тебя у твоей мамы купил» — ведь это
ложь!
— Почему с девочками надо быть вежливым? — спросил у меня
ученик.
— Это объясняется исторически,— ответил я.
— Почему ты написал «огорот», через «т»? — спросил я несколь-
ко минут спустя.
— Это объясняется исторически,— отвечал он со злой ухмыл-
кой.
На тот же вопрос одна мать ответила:
— Видишь ли, девочке придется потом рожать детей, она будет
болеть и т. д.
Вскоре брат и сестра опять поссорились.
— Ну, мамочка, ну какое мне дело, как она будет рожать детей!
Я хочу, чтобы она не была плакса, она плакса.
Наименее удачным кажется мне чаще всего встречающееся
объяснение:
— Над тобой станут смеяться.
Правда, оно удобное, эффективное, ребенок боится всего
смешного.
Но станут смеяться и над тем, что он обо всем говорит матери
и что собирается в будущем не играть в карты, не пить водку, не
ходить в публичный дом.
88
Да и родители из боязни всего смешного делают нелепые ошиб-
ки. И самую вредную ошибку: скрывают пороки ребенка и упуще-
ния в его воспитании; ребенок до поры до времени изображает
перед гостями за щедрую плату хорошо воспитанного, а потом
мстит.
94. Родной язык — это не нарочно подобранные для ребенка
правила и нравоучения, а воздух, которым дышит его душа наравне
с душой всего народа. Правда и сомнения, вера и обычаи, любовь
и недоброжелательность, резвость и важность, всевозможное до-
стоинство и низость, богатство и бедность — все, что создал в по-
рыве вдохновения поэт и изрыгнул в пьяном трепе бандит, столе-
тия истового труда и мрачные годы рабства.
Кто думал о том, кто писал, кто исследовал, как убивать бак-
терии и насыщать эту стихию кислородом? Быть может, оказа-
лось бы, что не здоровое простонародное «обосрался», а салонное
«согрешил» содержит в себе зародыши разложения?
«Бог помочь. Бог его покарал. Чёрт меня дернул. Сущий рай.
На седьмом небе. Дома ад. С богом. Как у Христа за пазухой. Бог по-
даст. Читает как пономарь. Святоша. Богомаз. Ни копейки за ду-
шой. Душа в пятки ушла. Черту душу продал бы. Грешки за
ним водятся. Седина в бороду, бес в ребро. Морковкино заго-
венье.
На здоровье. Твое здоровье. В пятницу дело пятится. Икота,
кто-то вспоминает. Влюблена, пересолила суп. Нож упал, голодный
мужик торопится. Типун тебе на язык. Одной ногой в могиле.
Китайские церемонии. Цыганский пот. Русское авось. Барская
милость. Хамская морда. Сиротская доля.
Старый зануда. Старый дурак. Старая кочерга. Сопляк, пига-
лица, щенок, желторотый, молоко на губах не обсохло.
Слепой? Нет, незрячий. Старый? Нет, древний. Калека? Нет,
убогий.
Собачья погода. Собачья смерть. Сукин сын, сукина дочь. Со
злости бесится. Мечется как угорелая кошка. Волчий аппетит. Я
из тебя котлету сделаю.
Пустая голова. У него голова трухой набита. Втирает очки. Ша-
риков не хватает. Лопну со смеху. Сухим из воды выйдет. Знает как
свои пять пальцев. Будет из нее штучка. Отравляет мне жизнь».
— Что это? Откуда взялось? Почему так говорят?
— «Бутылка» — имя существительное, «бутылка» — подлежа-
щее. «Пробка» — имя существительное...
— Но почему: глуп как пробка? А этот человек, который вы-
думал грамматику, был умный?
95. Дети не любят непонятных выражений, порой пытаются
поразить ими окружающих. Дети не без выбора усваивают язык
взрослых и некоторым нашим ходовым оборотам оказывают явное
сопротивление. «Слушай, дай мне. Эй, слышь, одолжи. Послушай,
покажи».
89
«Слушай», «послушай» соответствуют нашему «пожалуйста».
Просить — это «просить милостыню» (нищий просит милостыню).
Ребенок не любит это унизительное выражение.
«Думаешь, я тебя просить буду! Не проси его! Стану я его там
просить! Подожди, ты еще у меня напросишься!»
Я знаю один лишь особо торжественный оборот:
— Эх ты какой, а я тебя так прошу!
Выражением «видишь ли» ребенок заменяет не менее неприят-
ное «прости, пожалуйста».
«Видишь ли, я это нечаянно. Видишь ли, я не хотел этого. Ви-
дишь ли, я не знал».
А богатство средств выражения, цель которых убедить, предо-
стеречь, не допустить бурных сцен?
«Перестань, оставь, лучше не трогай, отстань, уйди. Да брось
же! Я тебе добром говорю, перестань! Прошу тебя, перестань (прось-
ба здесь — категорическое приказание). Да уйдешь ты? Слушай,
перестанешь ты наконец?»
Угроза:
«Хочешь получить? Схлопочешь! Вот увидишь, пожалеешь.
Заревешь ты у меня!»
Пренебрежительное сдваивание слов:
«Ладно, ладно... Знаю, знаю... Погоди, погоди...»
Мы заставляем ребенка бояться.
«Очень я боюсь! Думаешь, испугался! Буду я его там бояться!»
Каждая собственность ребенка спорна: нельзя отдать, не спро-
сив, нельзя портить, у него лишь право пользования (и тем более
ценит он нераздельное обладание).
— Это твоя лавка, твой стол?
— Мой (или: А может, твой?).
— Я первый!
«Первый» занял место, начал играть, копать. Заботясь о своем
покое, взрослые очень поверхностно решают споры ребят.
«Это он начал! Он первый начал! Стою я, а он...»
Любопытна отрицательная форма:
«Как я не двину ему! Как я не брошусь бежать! Как мы не
примемся хохотать!»1
Содержание этих рассказов — озорство; может быть, «не» яв-
ляется отголоском запретов.
«Ну помни, не надуй. Ты ведь слово дал. Нарушил слово!»
Кто не сдержал обещания, тот свинья. Взрослые обязаны это
помнить.
Богатый материал для изучения.
96. Ребенок, не вконец восстановленный против бедных людей,
любит кухню, и любит не потому, что там сушеные сливы и изюм,
а потому, что в кухне что-то происходит, а в комнатах ничего не
происходит; и сказка там интереснее, и, кроме сказки, услышит
1 Перевожу дословно — в русском языке аналогичный оборот в детской речи не
отмечен. (Примеч. пер.)
90
рассказ из всамделишной жизни, да и сам что-нибудь расскажет,
и его выслушают с интересом, потому что на кухне он человек, а не
собачонка на атласной подушке.
«Так сказку тебе сказать? Да уж ладно, скажу. Как это там было-
то? Дай вспомню».
Прежде чем сказка начнется, у ребенка есть время принять удоб-
ную позу, оправить платье, откашляться, приготовиться к долгому
слушанию.
«Идет она, идет по лесу. А в лесу темно, ничего не видать: ни де-
рева, ни зверя, ни камня. Темнешенько. Страшно ей, ух как страш-
но! Перекрестилась она раз — страх-то и поубавился, перекрести-
лась другой, дальше идет».
Я пробовал так рассказывать. Нелегкое это дело! Нам не хватает
терпения, мы торопимся, мы не уважаем ни сказки, ни слушателя.
Ребенок не успевает за темпом наших рассказов.
Умей мы так рассказать о полотне, которое делают изо льна,
быть может, ребенок не думал бы, что рубашки растут на деревьях,
а на полях золу сеют...
А вот и подлинное происшествие:
— Утром встаю я, а в глазах у меня все двоится: вижу всего
по два. Смотрю на печку — две печки, смотрю на стол — два стола.
Я знаю, стол один, а вижу два. Протираю глаза — не помогает.
А в голове так и стучит, так и стучит...
Ребенок ждет разрешения загадки, и, когда наконец дело дохо-
дит до незнакомого названия «тиф», он уже готов принять это
новое слово.
— Доктор говорит: тиф...
Пауза. Рассказчик отдыхает, отдыхает и слушатель.
— Так вот, заболел я этим самым тифом...
Повествование продолжается.
Простой рассказ о том, что в деревне был мужик, который ни
одной собаки не боялся, и что побился он раз об заклад и злого, как
волк, пса взял на руки и понес, словно теленка, превращается в
эпос. И как на свадьбе один бабой переоделся и никто не узнал. И
как мужик искал украденную лошадь.
Немного заботливого отношения — и, быть может, на эстрадах
появятся сказочники в сермягах и научат нас рассказывать детям
так, чтобы они нас слушали. Заботиться надо, а мы все хотим за-
прещать.
97. А это правда?
Надо понять суть этого вопроса, который мы не любим и счи-
таем лишним.
Если мама или учительница говорили, значит, это правда.
Ан нет! Ребенок уже убедился, что каждый человек обладает
лишь частью знания, и, например, кучер знает о лошадях даже
больше, чем папа. А потом ведь не всякий скажет, хотя и знает.
Порой просто не хотят, иногда подгоняют правду под детский уро-
вень, часто утаивают или сознательно искажают.
91
Кроме знания, есть также вера; один верит, а другой нет; бабушка
верит в сны, а мама не верит. Кто прав?
Наконец, ложь-шутка и ложь-похвальба.
— Правда ли, что земля — шар?
Все говорят, что правда. Но если кто-нибудь один скажет, что
неправда, останется тень сомнения.
— Вот вы были в Италии; правда это, что Италия, как сапог?
Ребенок хочет знать, сам ли ты видел или знаешь от других —
откуда ты это знаешь; хочет, чтобы ответы были короткие, уве-
ренные, понятные, одинаковые, серьезные, честные.
Как термометр измеряет температуру?
Один говорит — ртуть, другой говорит — живое серебро (почему
живое?), третий — что тела расширяются (а разве термометр те-
ло?), а четвертый — что после узнаешь.
Сказка про аиста обижает и сердит детей, как каждый шутли-
вый ответ на серьезный вопрос, неважно, будь это «откуда берутся
дети?» или «почему собака лает на кошку?».
«Не хотите, не помогайте, но зачем мешаете, зачем насмехаетесь
надо мной, что хочу знать?»
Ребенок, мстя товарищу, говорит:
— Я что-то знаю, но раз ты такой, я тебе не скажу.
Да, он в наказание не скажет, а вот взрослые за что ребенка
наказывают?
Привожу еще несколько детских вопросов:
«Этого никто на свете не знает? Этого нельзя знать? А кто это
сказал? Все или только он один? А это всегда так? А это обяза-
тельно так должно быть?»
98. Можно?
Не позволяют, потому что грешно, нездорово, некрасиво, пото-
му что он слишком мал, потому что не позволяют, и конец.
И тут не все ясно и просто. Подчас что-нибудь вредно, когда
мама сердится, а подчас позволят и малышу, раз отец в хорошем
настроении или гости.
— Почему запрещают, чем бы это им помешало?
К счастью, рекомендуемая теорией последовательность на прак-
тике неосуществима. Ну как вы хотите ввести ребенка в жизнь
с убеждением, что все правильно, справедливо, разумно мотивиро-
ванно и неизменно? Теоретизируя, мы забываем, что обязаны учить
ребенка не только ценить правду, но и распознавать ложь, не только
любить, но и ненавидеть, не только уважать, но и презирать, не
только соглашаться, но и возмущаться, не только подчиняться, но
и бунтовать.
Часто мы встречаем зрелых уже людей, которые возмущаются,
когда достаточно пренебречь, и презирают, где следует проявить
участие. В области негативных чувств мы самоучки; обучая азбу-
ке жизни, взрослые учат нас лишь нескольким буквам, а остальные
утаивают. Удивительно ли, что мы читаем неправильно?
Ребенок чувствует свою неволю, страдает из-за оков, тоскует
92
по свободе, но ему ее не найти, потому что форма воспитания ме-
няется, а содержание — запрет и принуждение — остается. Мы не
можем изменить свою жизнь взрослых, так как мы воспитаны в
рабстве, мы не можем дать ребенку свободу, пока сами мы в кан-
далах.
Если я выкину из воспитания все, что прежде времени отяго-
щает мое дитя, оно встретит суровое осуждение и у ровесников, и
у взрослых. Необходимость прокладывать новый путь, трудность
пути против течения не явятся ли для него еще более тяжким бре-
менем? Как мучительно расплачиваются в школьных интернатах
вольные птицы сельских усадеб за эти несколько лет относительной
свободы в поле, в конюшне и в людской...
Я писал эту книгу в полевом госпитале под грохот пушек, во время войны;
одной терпимости было мало.
99. Почему девочка в нейтральном возрасте уже так сильно от-
личается от мальчика?
Обездоленная детством, она подвержена дополнительным огра-
ничениям как женщина. Мальчик, лишенный прав как ребенок,
обеими руками ухватился за привилегии пола и не выпускает их, не
желая делиться с ровесницей.
«Мне можно, я могу, я мальчик».
Девочка в кругу мальчиков — незваный гость. Из десятерых
всегда один спросит:
— А она зачем с нами?
Возникни спор — мальчики все уладят между собой, не заде-
вая самолюбия, не угрожая изгнанием; а для девочки у них в запасе
резкое:
«Не нравится тебе — ну и иди к своим».
Общаясь охотнее с мальчиками, девочка становится подозри-
тельной личностью в своем кругу.
«Не хочешь, ну и иди к своим мальчишкам».
Обида на презрение отвечает презрением: рефлекс самозащиты
атакуемой гордости.
Лишь совершенно исключительная девочка не опускает руки,
не принимает всерьез общего мнения, стоит выше толпы.
В чем выражается враждебность ребячьего общества к девочкам,
которые упорно играют с мальчиками? Может, я не ошибаюсь,
утверждая, что эта враждебность породила беспощадный жестокий
закон:
«Девочка опозорена, если мальчик у нее увидит штанишки».
Этот закон в той форме, какую он принял среди детей, придуман
не взрослыми.
Девочка не может свободно бегать — если она упадет, прежде
чем успеет привести в порядок платьице, она уже слышит злобный
возглас:
«Ой, штаны!»
«Неправда» или вызывающе: «Ну, и что тут такого»,— говорит
она, вспыхнув, смущенная, приниженная.
93
Пусть она только попробует подраться, этот возглас сразу ос-
тановит ее и обезоружит.
Почему девочки менее ловкие и, значит, менее достойные ува-
жения, не дерутся, зато обижаются, ссорятся, жалуются и плачут?
А тут еще старшие требуют девочек уважать. С какой радостью
дети о взрослом-то говорят:
«Очень мне надо его слушаться».
А девчонке он, мальчик, должен уступать, почему?
До тех пор пока мы не избавим девочек от «не пристало», корни
которого в их одежде, тщетны усилия девочек стать товарищами
мальчику. Мы решили задачу иначе: обрядили мальчика в длинные
волосы и опутали равным количеством правил благопристойного
поведения, и вот дети играют вместе; вместо мужественных дочерей
мы удвоили число женоподобных сыновей.
Короткие платья; купальные костюмы, спортивная одежда; новые танцы — сме-
лая попытка по-новому решить проблему. Сколько в законах моды кроется раз-
мышлений? Верю, что не по легкомыслию.
Нельзя критиковать и раздражаться; при рассмотрении так называемых ще-
котливых тем сохраним благоразумную осторожность.
* * *
Я не возобновлял бы попытку рассмотреть все этапы развития детей в неболь-
шой брошюре.
100. Ребенок, который сперва радостно скользит по поверхно-
сти жизни, не зная ее мрачных глубин, коварных течений, скрытых
чудищ и затаившихся вражеских сил, доверчивый, очарованный,
улыбаясь красочной новизне, вдруг пробуждается от голубого полу-
сна и с остановившимся взглядом, затая дыхание, шепчет дрожа-
щими губами в страхе:
— Что это, почему, зачем?
Пьяный еле держится на ногах, слепой нащупывает посохом
дорогу, эпилептик падает на тротуар, вора ведут, лошадь подыхает,
петуха режут.
— Почему? Зачем все это?
Отец говорит сердитым голосом, а мама плачет, плачет... Дядя
поцеловал прислугу, та ему в ответ погрозила, и они улыбаются и
смотрят друг другу в глаза. Говорят, возмущаясь, о ком-то, что он
темная личность и кости ему надо поломать.
— Что это, почему?
Ребенок не смеет спрашивать.
Чувствует себя маленьким, одиноким и беспомощным перед
лицом таинственных сил.
Он, который раньше царил и чьи желания были законом — во-
оруженный слезами и улыбками, богатый тем, что у него есть мама,
папа и няня,— замечает, что он у них только для развлечения, что
это он для них, а не они для него.
Чуткий, словно умная собака, словно королевич в неволе, он ози-
рается вокруг и заглядывает в себя.
94
Взрослые что-то знают, что-то скрывают. Сами они не то, чем
себя выставляют, и от него требуют, чтобы он был не тем, что он
есть на самом деле. Хвалят правду, а сами лгут и ему велят лгать.
По-одному говорят с детьми и совершенно по-другому — между
собой. Они над детьми смеются!
У взрослых своя жизнь, и взрослые сердятся, когда дети за-
хотят в нее заглянуть: желают, чтобы ребенок был легковерным,
и радуются, если наивным вопросом выдаст, что не понимает.
Смерть, животные, деньги, правда* бог, женщина, ум — во всем
как бы фальшь, дрянная загадка, дурная тайна. Почему взрослые
не хотят сказать, как это на самом деле?
И ребенок с сожалением вспоминает младенческие годы.
101. Второй период неуравновешенности, о котором я могу ска-
зать определенно лишь то, что он существует, я назвал бы школь-
ным. Название это — увиливание, незнание, отступное, одна из
многих этикеток, которые пускает в оборот наука, создавая види-
мость у профанов, что она знает, тогда как еле начинает догады-
ваться.
Школьная неуравновешенность — не перелом на грани между
младенчеством и первым детством и не период созревания.
Физически — это изменение к худшему во внешности, сне, аппе-
тите, пониженная сопротивляемость болезням, проявление скрытых
наследственных изъянов, плохое самочувствие.
Психически — это чувство одиночества, душевный разлад, враж-
дебное отношение к окружающим, предрасположенность к мораль-
ным инфекциям, бунт врожденных склонностей против навязывае-
мого воспитания.
«Что с ним случилось? Я его не узнаю» — вот характеристика,
которую дает мать.
А иногда:
«Я думала, это капризы, сердилась, выговаривала ему, а он, вид-
но, уже давно болен».
Для матери тесная связь замеченных физических и психических
изменений неожиданна:
«А я это приписывала плохому влиянию товарищей».
Да, но отчего среди многих детей он выбрал плохих, отчего они
так легко нашли отклик, оказали влияние?
Ребенок, с болью отрываясь от самых близких, слабо еще срос-
шись с ребячьим обществом, тем сильнее обижается, что ему не
хотят помочь, что не с кем посоветоваться, не к кому приласкаться.
Когда встречаешь эти небольшие изменения в интернате со зна-
чительным числом ребят, когда из сотни ребят сегодня один, завтра
другой «портится», делается вдруг ленивым, неуклюжим, сонным,
капризным, раздражительным, недисциплинированным и лживым,
чтобы через год опять выравняться, «исправиться», трудно сомне-
ваться в том, что эти массовые перемены связаны с процессом роста,
известное знание законов которого дают объективные и бесприст-
растные измерительные приборы: весы и ростомер.
95
Предчувствую минуту, когда весы, ростомер и, может быть, дру-
гие изобретенные человеческим гением приборы станут сейсмогра-
фом скрытых сил организма и позволят не только опознавать, но и
предвидеть.
102. Неправда, что ребенку подавай то стекло из окошка, то звез-
ду с неба, что его можно подкупить потачками и уступками, что
он врожденный анархист. Нет, у ребенка есть чувство долга, не на-
вязываемое извне, любит он и расписание, и порядок и не отказы-
вается от обязанностей и соблюдения правил. Требует лишь, чтобы
ярмо не было слишком тяжелым, не натирало холку и чтобы он
встречал понимание, когда не устоит, поскользнется или, обессилев,
остановится перевести дух.
«Давай попробуй, а мы проверим, поднимешь ли, сколько ша-
гов сделаешь с таким грузом и одолеешь ли столько ежедневно» —
вот основное правило ортофрении.
Ребенок хочет, чтобы с ним обходились серьезно, требует дове-
рия, советов и указаний. Мы же относимся к нему шутливо, без-
устанно подозреваем, отталкиваем непониманием, отказываем в
помощи.
Мать, придя к врачу на консультацию, не хочет приводить фак-
тов, предпочитает общую форму:
— Нервная, капризная, непослушная.
— Факты, многоуважаемая, симптомы.
— Укусила подругу. Просто стыдно сказать. А ведь любит ее,
всегда с ней играет.
Пятиминутная беседа с девочкой: ненавидит «подругу», кото-
рая смеется над ней и ее платьями, а маму назвала «тряпичницей».
Другой пример: ребенок боится спать один в комнате, мысль о
приближающейся ночи приводит его в отчаяние.
— Почему же ты мне об этом не говорил?
— А вот именно, что говорил.
Мать не посчиталась: стыдно, такой большой и боится.
Третий пример: плюнул на бонну, вцепился ей в волосы, с тру-
дом его оторвали.
Бонна брала его ночью к себе в постель и велела прижиматься;
грозила, что положит его в сундук и бросит в речку.
Потрясающе одиноким может быть ребенок в своем страдании.
103. Положительный период — безмятежное затишье. Даже
«нервные» дети делаются опять спокойными. Возвращается детская
живость, свежесть, гармония жизненных функций. Есть и уваже-
ние к старшим, и послушание, и хорошие манеры; нет вызывающих
тревогу вопросов, капризов и выходок. Родители опять довольны.
Ребенок внешне усваивает мировоззрение семьи и среды; пользуясь
относительной свободой, не требует больше того, что получает, и
остерегается выявлять те из взглядов, про которые знает, что их
плохо примут.
Школа с ее прочными традициями, шумной и яркой жизнью,
96
распорядком, требовательностью и заботами, поражениями и побе-
дами и друг-книжка — вот содержание его жизни. Факты не остав-
ляют времени на бесплодное копание.
Ребенок теперь уже знает. Знает, что не все на свете в порядке,
что есть добро и зло, знание и незнание, справедливость и неспра-
ведливость, свобода и зависимость. Не понимает, так не понимает,
какое ему, в конце концов, до этого дело? Он смиряется и плывет
по течению.
Бог? Надо молиться, в сомнительных случаях к молитве доба-
вить милостыню, так делают все. Грех? Придет раскаяние, и бог
простит.
Смерть? Надо плакать, траур носят, вспоминают со вздохом —
все так делают.
Требуют, чтобы был примерным, веселым, наивным и благодар-
ным родителям? Пожалуйста, к вашим услугам!
«С удовольствием, спасибо, простите, мамочка кланяется, желаю
от всего сердца (а не от половинки)» — так это просто, легко, а
приносит похвалу, обеспечивает покой.
Знает, когда, к кому, как и с какой обратиться просьбой, как
половчее вывернуться из неприятного положения, как, кому и чем
угодить, надо лишь взвесить, «стоит ли?».
Хорошее душевное самочувствие и физическое благополучие
делают его снисходительным и склонным к уступкам: родители по
существу добряки, мир вообще симпатяга, жизнь, опуская мелочи,
прекрасна.
Этот этап, который может быть использован родителями для
подготовки и себя и ребенка к ожидающим их новым задачам,—
время наивного покоя и беспечного отдыха.
«Помогли мышьяк или железо, хорошая учительница, каток,
пребывание на даче, исповедь, материнские наставления».
И родители и ребенок тешат себя иллюзией, что уже столкова-
лись, преодолели трудности, тогда как столь же важная, как и
рост, но наименее покорная современному человеку функция раз-
множения начнет вскоре трагично осложнять все еще длящуюся
функцию развития индивида — смутит душу и пойдет в атаку
на тело.
104. И опять лишь старание обойти правду, маленькое облег-
чение в понимании этой правды и опасность ошибиться, что постиг
истину, когда она лишь еле вырисовывается.
И период неустойчивости и уравновешенности — не объясне-
ние явления, а лишь его популярное название. Тайны разгаданные
мы пишем, как объективные математические формулы; другие же,
перед которыми беспомощно остановились, пугают нас и сердят.
Пожар, наводнение, град — катастрофы, но лишь с точки зрения
наносимых убытков; мы организуем пожарную охрану, строим
плотины, страхуем, оберегаем. К весне и к осени мы приспособи-
лись. С человеком же боремся безрезультатно, ибо, не зная его, не
умеем согласовать наши жизни.
4 Януш Корчак
97
Сто дней ведут к весне. Еще нет ни единой былинки, ни единой
почки, а в земле и в корнях уже чувствуется наказ весны, которая
таится в укрытии, пульсируя, выжидая, крепчая под снегом, в на-
гих ветвях, в морозном вихре, чтобы вдруг вспыхнуть расцветом.
Лишь поверхностное наблюдение видит непорядок в изменчивой
мартовской погоде — там, в глубине, есть что-то, что логично с часу
на час зреет, накапливается, строится в ряды; только мы не обособ-
ляем железного закона астрономического года от его случайных
мимолетных скрещений с законами, менее известными или даже
вовсе не известными.
Нет пограничных столбов между разными периодами жизни,
это мы ставим их, так же как раскрасили в разные цвета карту
мира, установив искусственные границы государств и меняя их
каждые несколько лет.
«Он из этого вырастет, это переходный возраст, это еще изме-
нится» — и воспитатель ждет со снисходительной улыбкой, вы-
везет же счастливый случай!
Каждый исследователь любит свой труд за муки поисков и упо-
ение битвы, но добросовестный и ненавидит его — из страха перед
ошибками, которыми он чреват, и лживостью результатов, к кото-
рым приводит.
Каждый ребенок переживает периоды стариковской усталости
и бурлящей полноты жизненной деятельности; это не значит, что
следует уступать и оберегать, но и не значит, что следует переба-
рывать и закалять. Сердце не поспевает за ростом, стало быть,
дать ему покой или, может быть, побуждать к более живой деятель-
ности, чтобы окрепло? Эту проблему можно решить лишь для дан-
ного случая и момента; надо, однако, чтобы мы завоевали распо-
ложение ребенка, а он заслуживал доверия.
А прежде всего надо, чтобы знание знало.
105. Надо подвергнуть коренному пересмотру все то, что мы
приписываем сегодня периоду созревания, с которым мы серьезно
считаемся, и правильно, что считаемся, только не преувеличенно
ли, не односторонне ли, а главное, дифференцируя ли обусловли-
вающие его факторы? Не позволит ли знакомство с предыдущими
этапами развития объективнее присмотреться к этому новому, но
одному из многих, периоду детской неуравновешенности (который
обладает общими с ними чертами), лишая его нездоровой, таинст-
венной исключительности? Не обрядили ли мы (несколько искусст-
венно) созревающую молодежь в мундир неуравновешенности и
беспокойства, так же как детей — в мундир душевной ясности и
беззаботности, и не поддалась ли она внушению? Не повлияла ли
наша беспомощность на бурность процесса? Не слишком ли много
о пробуждающейся жизни, заре, весне, порывах и мало фактических
данных?
Что перевешивает: явление общего буйного роста или развитие
отдельных органов? Что зависит от изменений в кровеносной
системе, сердце и сосудах и от недостаточного или качественно из-
98
мененного окисления и питания тканей мозга и что от развития
желез?
Если некоторые явления сеют среди молодежи панику, больно
раня и собирая богатую жатву жертв, ломая ряды и сокрушая,—
это не потому, что так должно быть, а потому, что так бывает в
теперешних социальных условиях, где все благоприятствует такому
ходу вещей на этом отрезке жизненной орбиты.
Легко поддается панике усталый солдат; еще легче, когда с не-
доверием смотрит на начальство или подозревает измену; еще легче,
когда, раздираемый беспокойством, не знает, где он, что перед ним,
с боков и за ним; но легче всего, когда атака обрушивается неждан-
но-негаданно. Одиночество благоприятствует панике, сомкнутый
строй, плечом к плечу, крепит спокойную отвагу.
Утомленная ростом, одинокая, блуждающая без разумного ру-
ководства в лабиринте жизненных проблем молодежь вдруг стал-
кивается с врагом, будучи слишком высокого мнения о его сокру-
шительной мощи, не зная, откуда он взялся и как укрыться и
обороняться.
Еще один вопрос:
Не смешиваем ли мы патологии периода созревания с физиоло-
гией, не обоснован ли наш взгляд врачами, видящими лишь matu-
ritas difficilis, созревание трудное, ненормальное? Не повторяем
ли мы ошибок столетней давности, когда все нежелательные явле-
ния у детей до трех лет приписывались прорезыванию зубов? Быть
может, то, что осталось нынче от легенды про «зубки», останется
через сто лет и от легенды о «половом созревании».
106. Исследования Фрейда * сексуальной жизни детей запят-
нали детство, но не очистили ли тем самым юность? Любимая ил-
люзия о непорочной чистоте ребенка рассеялась и помогла рассе-
яться другой, но уже мучительной иллюзии: вдруг «в нем проснется
животное и утопит в клоаке». Я привел это ходовое выражение,
чтобы тем сильнее подчеркнуть, как фаталистичен наш взгляд на
эволюцию полового влечения, которое связано с жизнью, как
и рост.
Нет, не позорное пятно — этот туман ощущений, которым лишь
осознанная или безотчетная развращенность придает преждевре-
менно определенную форму; не позорное пятно и то смутное «что-
то», которое постепенно, в течение ряда лет, все более явно окраши-
вает чувства двух полов, чтобы с наступлением зрелости полового
влечения и полной зрелости половых органов привести к зачатию
нового существа, преемника ряда поколений.
Половая зрелость: организм готов без вреда для себя дать здо-
рового потомка.
Зрелость полового влечения: четко оформившееся жела-
ние нормального совокупления с индивидом другого пола.
У юношей половая жизнь начинается иногда даже раньше, чем
созреет влечение; у девушек осложняется в зависимости от за-
мужества или изнасилования.
4*
99
Трудная проблема, но тем неразумнее беспечность, когда дитя
ничего не знает, и недовольство, когда о чем-то догадывается.
Не затем ли мы грубо отталкиваем его всякий раз, когда его
вопрос вторгается в запретную область, чтобы не отваживался об-
ращаться к нам в будущем, когда начнет не только предчувство-
вать, но и чувствовать?
107. Любовь. Ее арендовало искусство, приделало крылья,
а поверх них натянуло смирительную рубашку и попеременно
преклоняло колени и давало в морду, сажало на трон и велело на
перекрестке завлекать прохожих — совершало тысячи нелепостей
обожания и посрамления. А лысая наука, нацепив на нос очки,
тогда признавала ее достойной внимания, когда могла изучать ее
гнойники. Физиология любви имеет одностороннее назначение:
«служить сохранению вида». Маловато! Бедновато! Астрономия
знает больше, чем то, что солнце светит и греет.
И вышло, что любовь в общем грязна и сумасбродна и всегда
подозрительна и смешна. Достойна уважения лишь привязанность,
которая всегда приходит после совместного рождения законного
ребенка.
Поэтому мы смеемся, когда шестилетний мальчуган отдает де-
вочке половинку своего пирожного; смеемся, когда девочка вспы-
хивает в ответ на поклон соученика. Смеемся, подкараулив школь-
ника, когда он любуется «ее» фотографией; смеемся, что кинулась
отворить дверь репетитору брата.
Но морщим лоб, когда он и она как-то слишком тихо играют или,
борясь, повалились, запыхавшись, на пол. Но впадаем в гнев, когда
любовь сына или дочки расстраивает наши планы.
Смеемся, ибо далека, хмуримся, ибо приближается, возмущаем-
ся, когда опрокидывает расчеты. Раним детей насмешками и по-
дозрениями, бесчестим чувство, не сулящее нам дохода.
Поэтому дети прячутся, но любят друг друга.
Он любит ее за то, что она не такая маменькина дочка, как все,
веселая, не ссорится, носит распущенные волосы, что у нее нет
отца, что какая-то такая славная.
Она любит его за то, что не такой, как все мальчики, не хулиган,
за то, что смешной, что у него светятся глаза, красивое имя, что
какой-то такой славный.
Прячутся и любят друг друга.
Он любит ее за то, что похожа на ангела с картины в боковом
крыле алтаря, что она чистая, а он нарочно ходил на одну улицу
посмотреть на «такую» у ворот.
Она любит его за то, что согласился бы жениться при един-
ственном условии: никогда не раздеваться в одной с ней комнате.
Целовал бы ее два раза в год только в руку, а раз по-настоящему.
Испытывают все чувства любви, кроме одного, грубо заподоз-
ренного, что звучит в резком:
«Вместо того, чтобы романами заниматься, лучше бы ты...
Вместо того, чтобы забивать себе любовью голову, лучше бы ты...»
100
Почему выследили и травят?
Разве это плохо, что они влюблены? И даже не влюблены, а
просто очень, очень любят друг друга? Даже больше, чем родите-
лей? А быть может, это-то и грешно?
А случись кому умереть?.. Боже, но ведь я прошу здоровья
для всех!
Любовь в период созревания не является чем-то новым. Одни
влюбляются еще детьми, другие еще в детском возрасте издеваются
над любовью.
— Она твоя милка? Она уже тебе показала?
И мальчик, желая убедить, что у него нет милки, подставляет
ей ногу или больно дергает за косу.
Выбивая из головы преждевременную любовь, не вбиваем ли мы
тем самым преждевременный разврат?
108. Период созревания — словно все предшествующие не были
постепенным созреванием, то медленным, то побыстрее. Пригля-
димся к кривой веса, и мы поймем усталость, неловкость движений,
леность, полусонную задумчивость, воздушность, бледность, вя-
лость, безволие, капризы и нерешительность, характерные для этого
возраста,— скажем, большой «неуравновешенности» в отличие от
прежних малых.
Рост — это работа, тягчайший труд организма, однако условия
жизни не позволяют пожертвовать ему ни одним часом в школе, ни
одним днем на фабрике. А как часто рост протекает почти как
заболевание — преждевременный, слишком бурный, с отклонением
'от нормы!
Первая менструация для девочки — трагедия, ее выучили боять-
ся вида крови. Развитие груди ее печалит, ее научили стыдиться
своего пола, а грудь разоблачает, все увидят, что она девочка.
Мальчик, который физиологически переживает то же самое,
психически реагирует иначе. Он с нетерпением ожидает первого
пушка над губой, это ему сулит, предвещает многое, и если он и сты-
дится пускать петуха и жердеобразных рук, то потому, что еще не
готов, должен ждать.
Вы замечали у обездоленных девочек зависть и неприязнь к
привилегированным мальчикам? Да, раньше, когда ее наказывали,
была хотя бы тень вины, а сейчас чем она виновата, что она не
мальчик?
Девочки раньше формируются и радостно начинают демонстри-
ровать это свое единственное преимущество.
«Я почти взрослая, а ты еще сопляк. Через три года я могу
выйти замуж, а ты все еще будешь корпеть над книжкой».
Любимому товарищу детских игр посылается презрительная
улыбка.
109. Давнишняя тайная неприязнь к окружающим взрослым
получает фатальную окраску.
101
Столь частое явление: ребенок провинился, разбил окно. Он дол-
жен чувствовать, что виноват. Когда справедливо ему выгова-
риваешь, реже встречаешь раскаяние, чаще бунт — гневно насуплен-
ные брови, взгляд исподлобья. Ребенку хочется, чтобы воспитатель
именно тогда проявил доброту, когда он виноват, когда он плохой,
когда его постигло несчастье. Разбито стекло, пролиты чернила,
порвано платье — все это результаты неудачных начинаний, кото-
рые затевались, может быть, даже несмотря на предупреждения.
Ну а взрослые, просчитавшись и потеряв на сделке, как воспримут
претензии, гнев и брань?
Эта неприязнь к суровым беспощадным господам существует и
тогда, когда ребенок считает взрослых высшими существами.
«Ага, значит, это так, значит, вот она, ваша тайна, значит, вы
скрывали, и ведь есть чего вам стыдиться».
Ребенок слышал и раньше, но не верил, сомневался, его это не
касалось. Теперь он желает твердо знать, и у него есть у кого узнать,
эти сведения ему нужны для борьбы с ними, взрослыми, наконец,
он чувствует, что и сам уже замешан в это дело. Раньше было так:
«Это я не знаю, а то знаю наверняка», а теперь ему все ясно.
«Значит, можно и хотеть, да не иметь детей, значит, и у девушки
может быть ребенок, значит, можно не рожать, если не хочешь, зна-
чит, за деньги, значит, болезни, значит, все?!»
А они живут, и ничего, они между собой не стыдятся.
Их улыбки и взгляды, запреты и опасения, смущение и недо-
молвки, все, ранее неясное, становится теперь понятным и потря-
сающе выразительным.
«Ладно, ладно, сочтемся».
Учительница польского языка глаз не сводит с математика.
«Поди сюда, я тебе что-то скажу на ухо».
И смех злобного торжества, и подглядывание в замочную сква-
жину, и изображение сердца, пронзенного стрелой, на промокашке
или классной доске.
Старушка вырядилась. Старикан заигрывает. Дядя берет за
подбородок и говорит: «Э-э, еще молодо-зелено...»
Нет, уже не молодо-зелено, а «Я знаю».
Они, взрослые, еще притворяются, еще пытаются лгать,— зна-
чит, преследовать, разоблачать обманщиков, мстить за годы рабства,
за краденое доверие, за вынужденные ласки, за выманенные при-
знания, принудительное уважение.
Уважать?! Нет, презирать, насмехаться и помнить. Бороться с
ненавистной зависимостью.
«Я не ребенок. Что думаю — мое дело. Не надо было меня
рожать. Завидуешь мне, мама? Взрослые тоже не такие уж
святые».
Или прикидываться, что не знаешь, пользоваться тем, что прямо
сказать они не посмеют, и лишь насмешливым взглядом, полуулыб-
кой говорить: «Знаю», когда уста произносят: «Я не знаю, что в
этом плохого, я не знаю, что вы от меня хотите».
102
ПО. Следует помнить, что ребенок недисциплинирован и зол не
потому, что он «знает», а потому, что страдает. Мирное благополу-
чие снисходительно, а раздражительная усталость агрессивна и
мелочна.
Было бы ошибкой считать, что понять — это значит избежать
трудностей. Сколько раз воспитатель, сочувствуя, должен подавлять
в себе доброе чувство; должен обуздывать детские выходки ради
поддержания дисциплины, чуждой его духу. Большая научная под-
готовка, опыт, душевное равновесие подвергаются здесь тяжкому
испытанию.
«Я понимаю и прощаю, но люди, мир не простят».
«На улице ты должен вести себя прилично — умерять слишком
бурные проявления веселья, не давать воли гневу, воздерживаться
от замечаний и осуждения, оказывать уважение старшим».
Даже при наличии доброй воли и стараний понять бывает трудно,
тяжело; а всегда ли встречает ребенок в отчем доме беспристраст-
ное отношение?
Его 16 лет — это родительских сорок с лишним, возраст пе-
чальных размышлений, подчас последний протест собственной
жизни, минуты, когда баланс прошлого показывает явную недостачу.
— Что я имею в жизни? — говорит ребенок.
— А я что имела?
Предчувствие говорит нам, что и он не выиграет в лотерее жизни,
но мы уже проиграли, а у него есть надежда, и ради этой призрач-
ной надежды он рвется в будущее, не замечая — равнодушный,—
что нас хоронит.
Помните, когда вас разбудил рано утром лепет ребенка? Тогда
вы заплатили себе за труды поцелуем. Да, да, за пряник мы полу-
чали сокровища признательной улыбки. Пинетки, чепчик, слюняв-
чик — так все это было дешево, мило, ново, забавно. А теперь все
дорого, быстро рвется, а взамен ничего, даже доброго слова не ска-
жет... А сколько сносит подметок в погоне за идеалом и как быстро
вырастает из одежды, не желая носить на рост!
— На тебе на мелкие расходы...
Ему надо развлечься, есть у него и свои небольшие потребности.
Но принимает сухо, принужденно, словно милостыню от врага.
Горе ребенка отзывается на родителях, страдания родителей
необдуманно бьют по ребенку. Раз конфликт так силен, насколько
он был бы сильнее, если бы ребенок, вопреки нашей воле, сам
своим одиночным усилием не подготовил себя исподволь к тому,
что мы не всемогущи, не всеведущи и не совершенны.
111. Если внимательно вглядеться не в собирательную душу де-
тей этого века, а в ее составные части, не в массы, а в индивиды, мы
опять видим две прямо противоположные душевные организации.
Мы находим того, кто тихо плакал в колыбели, не скоро стал
сам приподниматься, без протеста расставался с пирожным, смотрел
издали на игры сбившихся в круг ребят, а теперь изливает свои бунт
и боль в слезах, которые ночью никто не видит.
103
Мы находим того, кто кричал до синюхи, ни на минуту его нельзя
было оставить со спокойной душой одного, вырывал у сверстника
мяч, командовал: «Ну, кто играет? Возьмитесь за руки, быстро»,—
а теперь навязывает свою программу бунта и активное беспокойство
сверстникам и всему обществу.
Я усиленно искал объяснение мучительной загадке: отчего и сре-
ди молодежи, и взрослых так часто честная мысль должна скрывать-
ся и убеждать вполголоса, а спесь задает шик и криклива? И почему
доброта — синоним глупости или бессилия? Как часто толковый
общественный деятель и честный политик, сами не зная почему идя
на попятную, нашли бы объяснение этому в словах Елленты *:
«Я недостаточно дерзок на язык, чтобы отвечать на их остроты
и ехидства, и говорить, рассуждать с теми, у кого на все готов
наглый ответ альфонса, не умею».
Что делать, чтобы в соках, движущихся в собирательном орга-
низме, присутствовали на равных правах активные и пассивные лич-
ности, свободно циркулировали элементы всех воспитывающих
сред?
«Я этого не прощу. Уж я знаю, что я сделаю. Хватит с меня всего
этого»,— говорит активный бунт.
«Брось. Ну зачем тебе это? Может, тебе это только кажется».
Эти простые слова, выражение честного колебания или просто-
душного смирения, действуют успокоительно, обладая большей си-
лой убеждения, чем искусная фразеология тирании, которую выра-
батываем мы, взрослые, желая закабалить детей. Сверстника не
стыдно послушаться, но дать себя убедить взрослому, а уж тем более
растрогать — это дать себя провести, обмануть, расписаться в своем
ничтожестве; к сожалению, дети правы, не доверяя нам.
Но как, повторяю, защитить раздумье от алчного честолюбия;
спокойное рассуждение от крикливого аргумента; как научить от-
личать «идею» от «внешнего лоска и карьеры»; как оградить догмат
от издевательства, а молодую идею от многоопытной предательской
демагогии?
Ребенок, шагнув вперед, вступает в жизнь — не в половую
жизнь! — он созревает, но не в одном половом отношении.
Если ты понимаешь, что никакого вопроса тебе не решить са-
мому, без их участия; если ты им выскажешь все, что тут сказано, а
после окончания собрания услышишь:
«Ну, пассивные, пошли домой! — Не будь такой активный, а то
схлопочешь.— Эй, ты, догматическая среда, ты мою шапку
взял...»,— не думай, что они над тобой насмехаются, не говори: не
стоит.
112. Мечты.
Игру в Робинзона сменили мечты о путешествии, игру в раз-
бойники — мечты о приключении.
Опять жизнь не удовлетворяет, мечта — это бегство от жизни.
Нет пищи для размышлений — появляется их поэтическая форма.
В мечте находят выход скопившиеся чувства. Мечты — это про-
104
грамма жизни. Умей мы их расшифровывать, мы увидели бы, что
мечты сбываются.
<->
Что толкает молодежь к богеме? Одних — развязность, других
притягивает экзотика, третьих — напористость, честолюбие, карье-
ра; и только этот, один-единственный, любит искусство, он один в
этом артистическом мире на самом деле художник и не предаст ис-
кусства; и умер он в нищете и безвестности, но ведь и мечтал он не о
злате и почестях, а о победе. Прочитайте «Творчество» Золя; жизнь
куда более логична, чем мы думаем.
Она мечтала о монастыре, а очутилась в доме терпимости; но и
там оставалась сестрой милосердия, которая в неприемные часы
ухаживает за больными товарками по недоле, утоляя их печаль и
страдание. Другую влекло к веселью, и она полна им в приюте для
больных раком — даже умирающий улыбается, слушая ее болтовню
и следя угасающим взглядом за светлым личиком...
Нищета.
Ученый о ней думает, изучая, предлагая проекты, выдви-
гая теории и гипотезы; а юноша мечтает, что он строит боль-
ницы и раздает милостыню.
В детских мечтах есть Эрос, но до поры до времени нет Венеры.
Односторонняя формула, что любовь — это эгоизм вида, пагубна.
Дети любят людей одного с ними пола, любят стариков и тех, кого
они и в глаза не видели, даже кого вообще нет на свете. Даже испы-
тывая половое влечение, дети долго любят идеал, не тело.
Потребность борьбы, тишины и шума, труда и жертв; стремле-
ние обладать, потреблять, искать; амбиция, пассивное подражатель-
ство — все это находит выражение в мечте, независимо от ее формы.
Жизнь воплощает мечты, из сотен юношеских мечтаний лепит
одну статую действительности.
113. Первая стадия периода созревания. Знаю, но еще сам не
чувствую, чувствую, но сам еще этому не верю, осуждаю то, что де-
лает с другими природа; страдаю, ибо нет уверенности, что сам избе-
гу этого. Но я невинен; презираю их, опасаюсь за себя.
Вторая стадия: во сне, в полусне, в мечтах, в момент возбужде-
ния игрой, несмотря на внутренний протест, отвращение и голос
совести, все чаще и четче прорезывается чувство, которое к мучи-
тельному конфликту с внешним миром добавляет тяжесть конфлик-
та с самим собой. Гонишь мысль, а она пронизывает тебя, как пред-
вестник болезни — первый озноб. Существует инкубационный пе-
риод сексуальных ощущений, которые сначала удивляют и пугают,
а затем вызывают ужас и отчаяние.
Эпидемия разговоров шепотом по секрету и хихиканья угасает,
будоражащие пикантности теряют прелесть,— ребенок вступает в
период взаимных признаний; крепнет дружба — прекрасная друж-
ба заблудившихся в чаще жизни сирот, которые клянутся друг другу»
что не покинут, не оставят, не расстанутся.
105
Ребенок, сам несчастный, уже не встречает, с тревогой и угрю-
мым удивлением, заученной фразой чужое несчастье, страдание и
лишение, а горячо им сочувствует. Слишком занятый и озабочен-
ный собой, не может долго плакаться о других, но он найдет время
для слезы о соблазненной и покинутой девушке, побитом ребенке,
узнике в кандалах.
Каждый новый лозунг, идея находят в нем внимательного слу-
шателя и горячего сторонника. Книги он не читает, а глотает и мо-
лит бога о чуде. Детский боженька — сказка, потом — бог, винов-
ник всех бед, первоисточник несчастий и преступлений, тот, кто
может и не хочет — становится для него богом великой тайны, бо-
гом-всепрощением, богом-разумом превыше человеческой* мысли,
богом-пристанью во время бури.
Раньше: «Если взрослые заставляют молиться, значит и молит-
ва — вранье; если критикуют приятеля, видно, он-то и укажет мне
путь», ибо как можно им верить? Теперь все иначе: враждебная не-
приязнь уступает место состраданию. Определения «свинство» не-
достаточно: здесь кроется что-то бесконечно более сложное. Но
что? Книга только на первый взгляд, на минуту рассеивает сомне-
ния, а ровесник сам слаб и беспомощен. Бывает момент, когда мож-
но вновь обрести ребенка — он ждет, он хочет тебя выслушать.
Что ему сказать? Только не про то, как оплодотворяются цветы
и размножаются гиппопотамы и что онанизм вреден. Ребенок чув-
ствует, что тут дело в чем-то значительно более важном, чем чистота
пальцев и простыни, тут решается судьба его духовной основы —
ответственности перед жизнью в целом.
Ах, снова стать невинным ребенком, который верит и доверяет,
не размышляя!
Ах, стать наконец взрослым, убежать от переходного возраста и
быть таким, как они, как все.
Монастырь, тишина, благочестивые размышления.
Нет, слава, героические подвиги.
Путешествия, смена впечатлений.
Танцы, игры, море, горы.
Лучше всего умереть; к чему жить, к чему мучиться.
Воспитатель в зависимости от того, что он приготовил к этой
минуте за те годы, когда он внимательно приглядывался к ребенку,
может наметить ему план действий — как познать себя, как по-
беждать себя, какие приложить усилия, как искать свой путь в
жизни.
114. Буйное своеволие, пустой смех, веселье юности.
Да, радость, что всем скопом, торжество во сне снившейся по-
беды, взрыв неискушенной веры в то, что наперекор действитель-
ности мы перевернем мир.
Сколько нас, сколько юных лиц, сжатых кулаков, сколько здоро-
вых клыков, не поддадимся!
Рюмка или кружка рассеивает оставшиеся сомнения.
Смерть старому миру, за новую жизнь, ура!
106
Не замечают того, чей насмешливый прищур глаз говорит:
«дурачье», не видят другого, в чьем печальном взгляде читаешь:
«несчастные», не видят и третьего, который, пользуясь моментом,
хочет положить чему-то начало, принести клятву, дабы благородное
возбуждение не потонуло в оргии, не расплескалось в бессодержа-
тельных возгласах.
Часто массовое веселье мы считаем избытком энергии, тогда
как это лишь проявление раздраженной усталости, которая на ка-
кой-то момент, не чувствуя преград, приходит в обманчивое воз-
буждение. Вспомни веселье ребенка в железнодорожном вагоне,
когда ребенок, не зная, как долго будет ехать и куда, вроде бы и до-
вольный новыми впечатлениями, капризничает от их избытка и ожи-
дания того, что наступит, и веселый смех кончается горькими
слезами.
Объясни, почему присутствие взрослых «испортит игру», стес-
няет, вносит принужденность...
Празднество, помпезность, у всех приподнятое настроение,
взрослые так умело взволнованы, так вчувствовались в роль. А два
этаких переглянулись и задыхаются, помирают со смеху, аж слезы
текут от старания не прыснуть, и не могут удержаться от каверзного
желания подтолкнуть локтем, шепнуть язвительное словечко,
приближая опасность скандала.
«Только, чур, не смеяться. Только ты не смотри на меня. Только
ты меня не смеши».
А после праздника:
«А какой у нее был красный нос! А у него галстук перекосился.
Покажи: у тебя это так хорошо выходит».
И бесконечное повествование о том, как это было смешно.
И еще одно:
«Они думают, мне весело. И пускай себе думают. Еще одно до-
казательство, что они нас не понимают...»
Вдохновенный труд юности. Какие-нибудь приготовления, ог-
ромные усилия, действия с ясно очерченной целью, когда нужны
быстрота рук и изобретательный ум. Здесь молодежь в своей сти-
хии, здесь увидишь ты здоровое веселье и ясное возбуждение.
Планировать, принять решение, выложить всего себя и выпол-
нить, а затем смеяться над неудачными попытками и преодоленными
трудностями.
115. Юность благородна.
Если вы зовете это отвагой, когда ребенок не боится высунуться
из окна пятого этажа; если вы зовете это добротой, когда ребенок
подает хромому нищему золотые часы, которые мама оставила на
столе; если вы зовете преступлением, что ребенок кинул в брата но-
жом и выбил глаз,— хорошо, я согласен: молодежь благородна, не
имея опыта в таких областях — широчайших, широтой в полчело-
веческой жизни,— как работа по найму, социальная иерархия и
законы общества.
Люди неопытные считают, что можно проявлять дружелюбие
107
или неприязнь, уважение или презрение в зависимости от испыты-
ваемых чувств.
Люди неопытные считают, что можно добровольно завязывать
и порывать отношения, мириться или не считаться с общеприня-
тыми формами, соблюдать или нарушать правила общежития.
«А мне начхать, плевать, какое мне дело, и пусть себе говорят,
не хочу — и баста, а мне-то что?»
Еле дух перевел, хоть отчасти вырвался из-под родительской
власти, ан глядь, новые путы, эх-ма!
Потому, что кто-то богат или сиятелен, потому, что где-то кто-
то может что-то подумать или сказать?
Кто из нас учит молодежь, какие компромиссы — жизненная
необходимость, а какие можно избежать и какой ценой? Какие за-
ставляют страдать, но не марают душу, и какие развращают? Кто
указывает границы, в которых лицемерие — приличие (вроде не-
плевания на пол и невытирания носа о скатерть), а не преступ-
ление?
Мы говорили ребенку: люди будут смеяться.
Надо теперь добавить: и заморят голодом.
Вы говорите: идеализм молодежи. Иллюзия, что всегда можно
убедить и исправить.
А что вы делаете с этим благородством? Вырываете его у своих
детей с корнем, отираясь сладострастно об идеализм, веселье, сво-
боду безымянной «молодежи», как прежде о невинность, обаяние,
любовь своих детей. И создается иллюзия, что идеал такая же воз-
растная болезнь, как свинка или ветряная оспа — этакая невинная
обязанность, вроде посещения картинной галереи во время свадеб-
ного путешествия.
«И я был фарисом. Я видел Рубенса».
Благородство не может быть утренней мглой, оно сноп лучей.
Если нас на это еще не хватает, давайте пока воспитывать просто
честных людей.
116. Счастлив автор, который, кончая свой труд, сознает, что
сказал в нем то, что знал, вычитал и оценил согласно принятым
образцам. Сдавая такой труд в печать, он испытывает чувство спо-
койного удовлетворения, что дал жизнь зрелому жизнеспособному
детищу. А бывает и иначе: автор не видит читателя, который требует
от него рядовых знаний с готовыми рецептами и указанием способа
их применения. Творческий процесс здесь иной: вслушивание в соб-
ственные не установленные и не доказанные внезапно рождающиеся
мысли. Окончание труда здесь — холодный итог, мучительное про-
буждение. Каждая глава взирает с упреком: «Покинул, прежде чем
закончил!» Последняя мысль в книге не завершает целого, а удив-
ляет: «Как, уже? И больше ничего?»
Стало быть, дополнить? Это значило бы еще раз начать, отбро-
сив то, что уже знаю, столкнуться с новыми проблемами, о которых
лишь догадываюсь; написать новую книгу, равно не законченную.
108
* * *
Ребенок вносит в жизнь матери дивную песнь молчания. От
количества часов, которые мать проводит подле него, когда он сам
еще ничего не добивается, а живет, от мыслей, которыми трудолю-
биво его окутывает, зависит ее содержание, программа, сила и
творчество; мать в тихом созерцании зреет для вдохновения, кото-
рого требует труд воспитания.
Не из книжки, а из себя. Тогда каждая книжка падет в цене, а
моя, если убедила в этом, выполнила свою задачу.
В мудром одиночестве бодрствуй...
Интернат
1. Я желаю написать книгу о городском интернате, где под
наблюдением небольшого числа воспитателей, в собственном зда-
нии, при немногочисленном техперсонале воспитывается сто чело-
век сирот — мальчиков и девочек школьного возраста.
Эта тема не может похвастать богатой литературой. Обычно
встречаешь или труды исключительно по гигиене, или страстную
критику самого принципа массового воспитания детей.
В роли воспитателя я узнал яркие и мрачные тайны интерна-
та — спальни, умывалки, зала, столовой, двора, уборной. Я знаю
детей в будничном домашнем платье, а не в парадной школьной
форме.
Эта книга может заинтересовать не только воспитателя тюрь-
мы-казармы, какой является интернат, но и тюрьмы с одиночками,
какими для современных детей являются семьи.
Как в интернате, так и в семье детей истязают; более энергич-
ные пытаются обмануть надзор, вырваться из-под неусыпного
контроля — упорно и безнадежно борются за свои права.
Боюсь, читатель захочет мне слепо поверить, тогда эта книга
принесет ему вред. Поэтому предупреждаю: путь, который я избрал,
стремясь к своей цели, ни самый короткий, ни самый удобный, но
для меня самый лучший, раз это мой — собственный — путь. Я на-
шел его не без труда, не без мук и лишь когда понял, что все прочи-
танные книги — чужой опыт и чужие мнения — лгали.
Издатели печатают подчас золотые мысли великих людей; на-
сколько было бы полезнее составить свод ложных высказываний
классиков правды и знания. Руссо начинает своего «Эмиля» фра-
зой, которую опровергает вся современная наука о наследст-
венности *.
2. Книга эта должна быть как можно короче, потому что я
предназначаю ее в первую очередь моему юному товарищу, кото-
рый попал в круговорот труднейших педагогических проблем, слож-
нейших жизненных обстоятельств и, ошеломленный и огорченный,
взывает о помощи.
109
У бедняги нет времени на учебу. Ночью его два раза будили: у
ребенка болел зуб, ребенок заплакал — пришлось утешать и лечить.
Едва воспитатель уснул, будит второй; этому приснился страшный
сон: мертвецы, разбойники... хотели убить, бросили в реку; воспи-
татель опять успокаивает, убаюкивает...
Человек сонный не может читать на ночь толстых педагогиче-
ских трудов, у него слипаются глаза, а если он не выспится, то
станет раздражаться, выходить из себя и не сможет проводить в
жизнь спасительные идеи ученой книги. Я буду краток, чтобы не
лишать воспитателя его ночного отдыха.
3. Днем у него нет времени на учебу. Только он сел за книжку,
подходит ребенок с жалобой, что он писал, а его подтолкнули и
вышла клякса и теперь он не знает, то ли начать все сначала, то ли
оставить так, то ли вырвать страницу. Другой ребенок хромает: в
башмаке гвоздь, не может ходить. Третий спрашивает, можно ли
взять домино. Четвертый просит ключ от шкафа. Пятый подает но-
совой платок: «Нашел вот, а чей — не знаю». Шестой дает на хране-
ние четыре гроша, которые получил от тетки. Седьмой прибегает
за платком: «Это мой платок, я его только на минутку положил на
окно, а он уже взял!»
Там, в углу, маленький недотёпушка играет ножницами — на-
сорит, порежется — кто ему их дал? Посредине комнаты горячий
спор, готовый перейти в драку,— надо вмешаться. Тот, у кого вчера
болел зуб, носится теперь как угорелый и, того и гляди, опять кого-
нибудь подтолкнет или опрокинет чернила, а ночью снова, может
быть, у него разболится зуб.
Воспитатель должен очень захотеть, чтобы осилить хотя бы ма-
ленькую книжку.
4. Но он не очень хочет, потому что не верит.
Любой автор с помощью многочисленных цитат докажет свою
ученость. Еще раз повторит то, что общеизвестно. Все те же бла-
гочестивые пожелания, согревающая душу ложь, невыполнимые
советы: «Воспитатель обязан... обязан... обязан...» А в конечном
счете, во всех мелких и важных делах воспитатель вынужден по-
ступать как знает и как умеет, а главное — как может.
— Это хорошо в теории,— печально утешает себя воспитатель.
И испытывает неприязнь к автору за то, что тот, сидя в тишине,
за удобным письменным столом, диктует предписания, не обязан-
ный сам непосредственно соприкасаться с подвижной, крикливой,
надоедливой, непослушной оравой, рабом которой становится каж-
дый, кто не хочет быть ее тираном, и из которой то один, то другой
так основательно отравляют тебе изо дня в день жизнь, что с трудом
скрашивают остальные.
К чему дразнить его миражем глубоких знаний, серьезных за-
дач, высоких идеалов, когда он есть и должен остаться педагоги-
ческой Золушкой и батраком?
по
->• Он чувствует, что утрачивает энтузиазм, который возникал
в нем самопроизвольно, независимо от чьих-либо приказов. Раньше
его тецдИла мысль^ что вот^ мол^ он организует игру, приготовит
детям сюрприз. Он желал внести новую радостную струю в серую
одноооразнуЮ ЖИЗНь интерната. А теперь доволен, если отметит у
сеоя «все по-старому». Если никого не рвало, не били стекол и сам
он не Получил нагоняя, значит, день прошел хорошо.
ÜH Утрачивает энергию: на мелкие проступки смотрит сквозь
пальцы, старается меньше замечать, меньше знать — только самое
необхоДимое
УтРачивает инициативу: раньше, когда он получал конфеты,
игрушку у нег0 Сразу уже был план, как их лучше всего исполь-
зовать. Теперь он быстро раздает лакомства: пускай уж поскорее
съедят, а т0 опять не оберешься ссор, жалоб, претензий. Новая
меоель Или вещь — значит, опять надо смотреть, следить, как бы не
сломалИ, не попортили. Какие-нибудь цветы на окно, картинка на
стену -^ сколько всего можно сделать, а он не знает, не хочет или не
может, од просто уже не замечает.
I еРИет веру в себя. Раньше дня не пройдет, чтобы он не подме-
тил что*.нибудЬ новое в детях или в себе. И дети к нему льнули, а
теперь сторонятся. Да и любит ли он их еще? Бывает резок, иног-
да груб%
Ма;Кет быть, он станет скоро похож на тех воспитателей, для
кого хо^ел быть примером и к кому питал неприязнь за их холод-
ность, Массивность и недобросовестность?
"• ^н в обиде на себя, на окружающих, на детей.
НеД^лю тому назад он получил письмо: больна сестра. Ребята
узнали ц отнеслись к его горю с уважением: легли спать тихо. Он был
благод^рен им
А н^завтра поступил новый воспитанник. Ребята выманили у
него вс^ привезенные из дома конфеты, и пенал, и картинки, при-
грозив, чт0^ если пожалуется, изобьют, а участие в этой грязной
историц принимали и те, кого он считал честными.
Рео^нок закинет ему ручонки на шею, скажет «люблю» — и
попросцт новое платье.
ВеДЬ тот же самый ребенок то умиляет тебя необыкновенным
тактом^ ГЛубиной чувств, то оттолкнет хищным двуличием.
Т° \кя хочу, я должен, я обязан», а то безнадежное «да сто-
ит ли?>^
ТеоЕ>етические посылки и личный каждодневный опыт так сме-
шались^ что воспитатель потерял нить и, чем дольше думает, тем
меньше понимает.
'• ^н не понимает, что вокруг него происходит.
^та бается свести наказы и запреты к самым необходимым, дает
детям Свободу — недовольные, дети требуют еще.
Хоч^т вникнуть во все их заботы. Подходит к парнишке, кото-
рый пр^тив обыкновения стоит в сторонке, тихий и равнодушный.
ill
«Что с тобой? Почему ты такой грустный?» — «Ничего... я не груст-
ный»,— отвечает тот неохотно. Воспитатель хочет погладить его по
голове — мальчик резко отстраняется.
Вот оживленно беседует кучка ребят. Воспитатель подходит —
молчание. «О чем говорили?» — «Ни о чем».
Ему кажется, дети его любят. И знает, что над ним смеются. До-
веряют ему — и всегда что-нибудь да скроют. Как будто его словам
верят, а охотно прислушиваются к сплетням.
Воспитатель не понимает, не знает ребят — чуждых, враждеб-
ных. Плохо ему.
А ты лучше порадуйся, о воспитатель! Ты уже отбрасываешь
предвзятое сентиментальное представление о детях. Ты уже зна-
ешь, что ты не знаешь. Это не так, как ты думал, значит, как-то
по-другому. Сам того не понимая, ты уже на правильном пути.
Сбился? Помни, блуждать в огромном лесу жизни — не зазорно.
Даже плутая, гляди по сторонам с интересом и увидишь мозаику
прекрасных образов. Страдаешь? Истина рождается в муках.
8. Будь самим собой, ищи собственный путь. Познай себя прежде,
чем захочешь познать детей. Прежде чем намечать круг их прав и
обязанностей, отдай себе отчет в том, на что ты способен сам. Ты
сам тот ребенок, которого должен раньше, чем других, узнать,
воспитать, научить.
Одна из грубейших ошибок считать, что педагогика является
наукой о ребенке, а не о человеке.
Вспыльчивый ребенок, не помня себя, ударил; взрослый, не
помня себя, убил. У простодушного ребенка выманили игрушку;
у взрослого — подпись на векселе. Легкомысленный ребенок за
десятку, данную ему на тетрадь, купил конфет; взрослый проиграл
в карты все свое состояние. Детей нет — есть люди, но с иным
масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной
игрой чувств. Помни, что мы их не знаем.
Не достигшие зрелости!
Спроси старика, он тебя и в сорок лет считает не созревшим.
Да что там, целые классы общества не созрели, не вошли в силу.
Целые народы нуждаются в опеке, они тоже не достигли зрелости,
у них нет пушек!
Будь самим собой и присматривайся к детям тогда, когда они
могут быть самими собой. Присматривайся, но не предъявляй тре-
бований. Тебе не заставить живого, задорного ребенка стать со-
средоточенным и тихим; недоверчивый и угрюмый не сделается
общительным и откровенным; самолюбивый и своевольный не
станет кротким и покорным.
А ты сам?
Если ты не обладаешь внушительной осанкой и здоровыми
легкими, ты напрасно будешь призывать галдящих ребят к по-
рядку. Но у тебя добрая улыбка и терпеливый взгляд. Не говори
ничего: может быть, они сами успокоятся? Дети ищут свой путь.
Не требуй от себя, чтобы ты уже сразу был степенным, зрелым
112
воспитателем с психологической бухгалтерией в душе и педагоги-
ческим кодексом в голове. У тебя есть чудесный союзник — вол-
шебная молодость, а ты призываешь брюзгу — дряхлый опыт.
9. Не то, что должно быть, а то, что может быть.
Ты хочешь, чтобы дети тебя любили, а сам — обязанный добро-
совестно выполнять предписанную работу — должен втискивать их
в душные формы современной жизни, современного лицемерия,
современного насилия. Дети этого не хотят, они защищаются и
должны быть на тебя в обиде.
Ты хочешь, чтобы они были искренни и хорошо воспитаны,
тогда как формы светской жизни — лживы и искренность — это
дерзость. Знаешь, что думал мальчик, которого ты вчера спраши-
вал, почему он грустный? Он подумал: «Да отстань ты от меня». Он
уже не искренний, не сказал, что думает, а только недовольно от-
странился — и даже это тебя задело.
Жаловаться не положено, ябедничать скверно — а как же
постичь их дела, страдания, грехи?
Не наказывать, не награждать. А должны быть и режим и сиг-
нал, которого дети слушались бы. По звонку все должны собраться к
обеду. Ну, а если опоздают, не придут, не захотят прийти?
Ты должен быть для них образцом, а куда ты денешь свои
пороки, недостатки и смешные стороны? Попробуешь скрыть. На-
верное, тебе это удастся: ведь чем старательней ты будешь скрывать,
тем старательней дети станут притворяться, что не видят, не знают,
и потешаться над тобой, только самым тихим шепотом.
Трудно тебе, даже очень трудно — согласен! Но трудности есть
у каждого, а вот разрешать их можно по-разному. Ответ будет
лишь относительно точен. Ведь жизнь не задачник по арифметике,
где ответ всегда один, а способов решения самое большее два.
10. Обеспечить детям свободу гармонического развития всех
духовных сил, высвободить всю полноту скрытых возможностей,
воспитать в уважении к добру, к красоте, к свободе... Наивный,
попробуй! Общество дало тебе маленького дикаря, чтобы ты его
обтесал, выдрессировал, сделал удобоваримым, и ждет. Ждут го-
сударство, церковь, будущий работодатель. Требуют, ждут, следят.
Государство требует официального патриотизма, церковь — догма-
тической веры, работодатель — честности, а все они — посредствен-
ности и смирения. Слишком сильного сломагг, тихого затрет, дву-
личного порой подкупит, бедному всегда отрежет дорогу — кто?
Да никто — жизнь!
Ты полагаешь, ребенок — это пустяки, сирота-птенец, выпаз-
ший из гнезда, умри он и никто не заметит, порастет могилка тра-
вой? Попробуй испытай, и ты убедишься, что это не так, и запла-
чешь. Прочти историю приюта Прево * в сзободной республикан-
ской Франции.
Ребенок имеет право желать, домогаться, требовать, имеет право
расти и созревать, а достигнув зрелости, приносить плоды. А цель
ИЗ
воспитания: не шуметь, не рвать башмаки, слушаться и выпол-
нять приказания, не критиковать, а верить, что все они ему во
благо.
Нет, заповедь: люби ближнего своего — это гармония, простор,
свобода. Глянь вокруг — улыбнись!
11. Новый воспитанник.
Ты его остриг, обрезал ему ногти, вымыл, переодел, и вот он уже
похож на всех.
Он уже даже умеет кланяться, не говорит «я хочу», а «пожа-
луйста», знает, что, когда входит кто-нибудь чужой, надо поздо-
роваться. Он уже на школьном вечере прочитает стишок, вытрет
грязные ноги; не плюнет на пол, пользуется носовым платком.
Не обольщайся, что ты вычеркнул из ^го памяти тяжелые вос-
поминания, дурные влияния, горький опыт. Эти чистые и чисто оде-
тые дети долго еще останутся душевно смятыми, облинявшими,
больными; есть нечистые раны, которые приходится терпеливо ле-
чить месяцами, да и то еще остаются рубцы, всегда готовые опять
загноиться.
Интернат для сирот — это клиника, где встречаются всякие
недомогания души и тела при слабой сопротивляемости организма,
где отягощенная наследственность мешает, задерживает выздоров-
ление. И если интернат не будет моральным курортом, есть угроза,
что он станет очагом заразы.
Ты запер двери интерната на все запоры, но тебе не сделать
так, чтобы не просачивался вредный уличный шепот и не врыва-
лись непрофильтрованные свирепые голоса, которых не заглушить
моральному песнопению. Воспитатель может опустить глаза и
притвориться, что не знает, но тем пагубнее будут знать дети.
12. Ты говоришь: я иду на компромиссы, принимаю тот детский
материал, который дает жизнь, и склоняю голову перед неизбеж-
ными условиями работы, хотя они и очень тяжелы; но я требую
свободы в деталях и помощи и облегчений в самой технике работы.
Наивный, ты ничего не можешь требовать.
Начальник поставит тебе в упрек, что на полу валяются бу-
мажки, что маленький увалень набил себе шишку, что фартучки
недостаточно чистые, а постели недостаточно гладко застланы.
Ты хочешь удалить ребенка из интерната, считая это необходи-
мым для блага остальных. Тебя просят не исключать: а может,
исправится?
В комнатах холодно, у большинства твоих анемичных детей
поморожены пальцы. Уголь, тепло — дороги, но ведь холод за-
ставляет детей свертываться и физически и духовно. Нет, надо де-
тей закалять.
Ты удивляешься, что из двух яиц выходит неполная ложка
яичницы. Ты слышишь грубый ответ, что это не твое дело.
Твой товарищ по работе, наверное, знал, где ключ от шкафа, мо-
жет быть, сам спрягал и нарочно заставил искать. По вечерам он
114
уходит, оставляя спальню без присмотра, но «не позволит лезть не
в свое дело» — в его спальню, к его ребятам.
Деспотический каприз и неосведомленность начальства, не-
честность администрации, недоброжелательность и недобросовест-
ность товарища по работе. Добавь: грубость техперсонала, скан-
дал с прачкой из-за утерянной якобы тобой простыни, с кухаркой из-
за подгоревшего молока, со сторожем из-за натоптанной лестницы.
Если воспитателю удается найти более приличные условия ра-
боты, его счастье. Если же именно такие, пусть не удивляется и не
возмущается, а трезво рассчитает свои силы и энергию на более
длительный срок, чем несколько первых месяцев.
13. Интернат с высоты птичьего полета.
Гомон, движение, юность, веселье.
Этакое славненькое государство наивных маленьких человечков.
Сколько детей, а так чисто.
Гармония форменной одежды, ритм хорового пения.
Сигнал — и все умолкают. Молитва — ребята садятся за стол.
Ни драк, ни ссор.
Мелькнет славная мордашка, блеснут веселые глазки. Этакая
бедненькая крохотулька.
Воспитатель добрый, спокойный. Кто-то подбежал с вопросом —
ответил. Шутливо погрозил кому-то пальцем — тот понял и послу-
шался. Кучка самых преданных окружает вас тесным кольцом.
— Вам тут хорошо?
— Хорошо.
— Вы любите своего воспитателя?
Кокетливо потупившись, улыбаются.
— Некрасиво не отвечать, когда вас спрашивают. Любите?
— Любим.
Приятный труд, благородная задача. Малые заботы, незначи-
тельные потребности — детский мирок.
— Нате пряники, это вам.
Ребята вежливо поблагодарили. Ни один не протянул руки
первым.
14. Случайный гость, взгляни лучше на тех ребят, что стоят
в стороне.
Где-то в темном углу один хмурый такой, палец обвязан тря-
почкой. Двое постарше о чем-то шепчутся с иронической улыбкой,
внимательно провожая вас взглядом. Несколько ребят заняты и
даже не замечают, что пришел кто-то посторонний. Кто-то делает
вид, что читает, чтобы к нему не обратились с трафаретным вопро-
сом. Кто-то, пользуясь тем, что воспитатель занят, потихоньку уди-
рает, чтобы безнаказанно нахулиганить.
Есть такой, который с нетерпением ждет, когда ты уйдешь, так
как хочет что-то спросить у воспитателя. Другой нарочно подходит,
чтобы его видели. Еще один притаился, желая подойти последним
и побыть с вами наедине; он знает, тогда воспитатель скажет:
115
«Это наш певец, это наша маленькая хозяйка, это жертва траги-
ческого случая». Под одинаковой одеждой бьется сто разных сердец,
и каждое — особая трудность, особый характер работы, особые
хлопоты и опасения.
Сто детей — сто людей, которые не когда-то там, не еще... не
завтра, а уже... сейчас... люди. Не мирок, а мир, не малых, а ве-
ликих, не «невинных», а глубоко человеческих ценностей, досто-
инств, свойств, стремлений, желаний.
Вместо того чтобы спрашивать, любят ли, спроси лучше, чем это
достигается, что они слушаются, что в интернате мир, программа,
порядок.
— Нет наказаний...
— Ложь.
15. Каковы твои обязанности? — Быть бдительным.
Если хочешь быть надзирателем, можешь ничего не делать. Но
если ты воспитатель, у тебя шестнадцатичасовой рабочий день без
перерывов и без праздников, день, состоящий из работы, которую
нельзя ни точно определить, ни заметить, ни проконтролировать,—
и из слов, мыслей, чувств, имя которым — легион. Внешний порядок,
кажущаяся воспитанность, дрессировка напоказ требуют только
твердой руки и многочисленных запретов. И дети всегда мученики
страха за их мнимое благополучие; страх этот — источник тягчай-
ших несправедливостей.
Воспитатель, так же как и надзиратель, хорошо знает, что,
если ударить по глазу, ребенок может ослепнуть, что ему постоянно
угрожает перелом руки или вывих ноги, но помнит и многочислен-
ные случаи, когда ребенок едва не лишился глаза, чуть не выпал
из окна, сильно ушиб, а мог сломать ногу, что действительные
несчастья относительно редки, а главное, застраховать от них не-
возможно.
Чем ниже духовный уровень воспитателя, бесцветнее его мо-
ральный облик, больше забот о своем покое и удобствах, тем больше
он издает приказов и запретов, диктуемых якобы заботой о благе
детей.
Воспитатель, который не хочет неприятных сюрпризов и не же-
лает нести ответственность за то, что может случиться,— тиран.
16. Тираном станет и воспитатель, неумело заботящийся о
нравственности детей.
Болезненная подозрительность может зайти так далеко, что
уже не детей разного пола и не любых двоих уединившихся ребят,
а собственные руки ребенка мы будем считать врагами.
Когда-то, где-то, кто-то безымянный продиктовал запрет: не
держать руки под одеялом.
«А раз мне холодно, а раз мне страшно, а раз я не могу
заснуть?»
Если в комнате тепло, ребенок не только руки, он весь рас-
кроется. И если он сонный, он через пять минут спит. И сколько
116
еще подобных бессмысленных подозрений, основанных на незнании
ребенка!
Раз я заметил, как несколько старших мальчиков, таинственно
пошептавшись, повели малышей в уборную. Малыши возвращались
в сильном смущении. Мне стоило больших усилий усидеть на месте
и продолжать писать. А забава была невинная. Один из ребят
(он работал у фотографа) накрыл фартуком коробку из-под сигар;
желающих сниматься он устанавливал у стенки, под краном, и, когда
малыши с приятным выражением лица ждали, что их сейчас снимут,
им по счету «три» пускали на голову струю холодной воды.
Превосходный урок разумной осторожности для малышей!
Облитые водой, они уже не пойдут в уборную по первому таинст-
венному приглашению.
Воспитатель, слишком односторонне следящий за нравствен-
ностью детей! Боюсь, у тебя самого не все благополучно.
17. Теоретик делит детей на категории согласно темперамен-
там, типам интеллекта и склонностям, практик знает прежде всего
детей «удобных» и «неудобных»: обычных, с которыми не при-
ходится возиться, и исключительных, на которых идет уйма вре-
мени.
«Неудобные» дети: самый младший, ниже обычного возраста;
самый старший, критически настроенный и своенравный; вялый,
несобранный и хилый; и горячий, настырный.
Ребенок, который перерос интернатскую дисциплину, которому
она в тягость, которого унижает режим спальни, столовой, молит-
вы, игры, прогулки.
Ребенок, у которого из уха течет гной, вскочил чирий, сошел
ноготь, слезятся глаза, болит голова, жар, кашель.
Ребенок, который медленно одевается, умывается, причесы-
вается, ест. Последним стелет постель, последним вешает полотенце,
тарелку его и стакан всегда приходится дожидаться, задерживает
уборку спальни и со стола и отправку посуды на кухню.
Ребенок, который поминутно обращается к тебе с вопросами,
жалуется, требует, плачет, клянчит, который не любит общества
других детей и назойливо тянется к тебе, вечно чего-нибудь не
знает, что-нибудь да просит, в чем-либо нуждается, хочет сказать
что-то важное.
Ребенок, который грубо ответил, обидел кого-нибудь из тех-
персонала, поссорился, подрался, бросался камнями, нарочно что-то
сломал или порвал, отвечает на все «не хочу».
Ребенок впечатлительный и капризный, которому больно от
пустяшного замечания, хмурого взгляда, для которого холодное
безразличие — наказание.
Симпатичный шалунишка, который заткнет тебе камешками
умывальник, покатается на дверях, открутит кран, закроет вьюшку,
отвинтит звонок, запачкает стену синим карандашом, исцарапает
гвоздем подоконники, вырежет на столе буквы. Убийственно изобре-
тательный и неутомимый.
117
Вот похитители твоего времени, тираны твоего терпения, фер-
менты твоей совести. Ты борешься с ними, а знаешь, что это не их
вина.
18. В шесть часов утра дети встают. Тебе нужно только сказать:
«Дети, вставать!» — ничего больше.
На самом же деле, если ты велишь сотне ребят встать, восемь-
десят «удобных» встанут, оденутся, умоются и будут готовы к ново-
му сигналу «завтракать». Восьмерым же ты должен повторить это
дважды, пятерым — трижды. На троих тебе придется прикрикнуть.
Двоих разбудить. У одного болит голова: хворает или, может быть,
притворяется?
Девяносто ребят одеваются сами, двоим же ты должен помочь,
а то не успеют. У одного потерялась подвязка, у другого отморо-
жен палец и башмак не надевается. Еще у одного на шнурке сде-
лался узелок. Кто-то кому-то мешает стелить постель. Кто-то не
дает мыло, еще кто-то толкается, или брызгается, умываясь, или
перепутал полотенца, или льет на пол. Одел правый башмак на ле-
вую ногу, не может — оборвалась пуговица — застегнуть фартук;
кто-то, видно, взял блузу — минуту назад была! Кто-то плачет:
«Это мой тазик, я всегда в нем умываюсь»,— но ведь тот сегодня
первый пришел.
Восемьдесят ребят ты напитал пятью минутами своего времени,
десять ребят поглотили у тебя по минуте, а с двумя ты прово-
зился почти полчаса.
То же самое будет и завтра, только не этот, а тот потеряет, за-
болеет, плохо постелит постель.
То же самое будет и через месяц, и через год, и через пять
лет.
19. Ты должен был только сказать: «Ребята, вставать!» — и все.
А ведь ты не успел бы.
Не успел бы, не найди один из «удобных» ребят пропавшую под-
вязку или блузу, не принеси другой ребенку с отмороженным паль-
цем запасных башмаков, не развяжи узелка третий.
Ведь за подвязкой надо было лезть под кровать, башмаки при-
нести из дальней комнаты, а над узлом изрядно попотел твой за-
меститель, орудуя сначала ногтями, потом зубами, потом найден-
ным вчера гвоздем и, наконец, одолженным с этой целью вязаль-
ным крючком.
Ты не можешь не заметить, что один ребенок чаще теряет, а
другой чаще находит, один делает узлы, а другой развязывает. Один
часто болеет, а другой всегда здоров. Один требует помощи, а другой
сам тебе помогает. Предположим, ты не испытываешь нераспо-
ложения к первым и благодарности ко вторым.
Но вот сегодня с трудом встает тот, который вчера долго разго-
варивал, лежа в постели. Младший стелет постель лучше, чем
старший. Тот, у кого болит горло, пьет воду из-под крана, хотя
ты и предупредил, что вода холодная, а он потный. Сам подумай,
118
что ты тогда скажешь, хотя ты и знаешь, и понимаешь, и со всем
миришься и прощаешь.
Чем больше этих «неудобных», тем больше из твоих шестнадцати
рабочих часов уйдет на возню, беготню, воркотню и тем меньше
останется времени на «высокое», «чистое» (читай раздел «Воспита-
тель обязан»).
И меньше времени, и меньше сил...
20. Помощь, которую дети оказывают воспитателю, может быть
совершенно бескорыстной. Ребенок помогает, раз ему хочется,
помогает, раз сегодня хочется, а за завтра он не отвечает.
Но такой капризный, самолюбивый и честный помощник возь-
мется не за каждую работу. Он легко остынет, повстречайся не-
ожиданная трудность; обидится, вырази воспитатель неудовольст-
вие; сомневается, спрашивает, нуждается в проверке и в указаниях.
Сам он навязывать тебе свою помощь не будет; его надо найти, по-
ощрить, ободрить; попроси — сделает это охотно, прикажи — не
захочет. Полагаться на него нельзя, он может подвести, когда более
всего нужен.
Надзиратель легко найдет среди ребят помощника другого типа.
Ловкий, энергичный, наглый, двуличный и корыстный, он сам на-
вяжет свою помощь; прогони его — он вернется, нужен — вырастет
как из-под земли, по глазам увидит, чего ты хочешь, выполнит любое
поручение, возьмется за все.
Если выполнит плохо — вывернется, наврет. Отчитай его —
прикинется тише воды, ниже травы. Такой всегда рапортует: «Все
в порядке».
Если недобросовестный, неспособный или просто вымотав-
шийся воспитатель, не входя в малые ребячьи дела и заботы, пере-
доверит такому дежурному свою власть, тот его выручит, легко
заменит. И из ребенка, который отыщет, позовет, принесет, уберет,
присмотрит, напомнит, знает, слышал, скажет, он скоро превра-
тится в настоящего заместителя.
Это не невинная школьная подлиза, это грозный фельдфебель
интерната-казармы.
21. Дежурному легче справиться с ребятами, чем взрослому.
Надзиратель и ударит, так не изо всей силы, пригрозит сдержан-
но, накажет, так за провинность. А надзиратель из ребят ударит не
по мягкому месту, а по голове или в живот, ведь это больнее, пригро-
зит не наказанием, а с виду наивным: «Погоди, вот зарежу тебя
ночью складным ножом»; хладнокровнейшим образом обвинит не-
винного и заставит признаться в несовершенном преступлении:
«Скажешь, что съел, взял, сломал»,— и малыш, трепеща, повторяет:
«Это я сломал, это я украл».
Основная масса детей боится его больше, чем воспитателя,
ведь дежурный все знает, он с ними все время вместе. Непослуш-
ные дети ненавидят, редко мстят, чаще подкупают.
Теперь у маленького тирана завелись уже помощники, замес-
119
тители. Он уже ничего не делает сам, только командует, доносит
на противников и отвечает за все перед начальством.
Нужно хорошо различать: это не фаворит, не любимчик, это
настоящий помощник, доверенный слуга — наушник. Он заботится
об удобствах хозяина, хозяин его терпит и, хотя и знает, что он врет,
обманывает и наживается на нем, не может без него обойтись —
а впрочем, ждет местечка получше.
22. Таинственные угрозы исподтишка заменяют явные и шум-
ные запрещенные драки:
«Погоди вот, я скажу воспитателю. Погоди, уж и задам же я тебе
ночью» — вот магические заклятия, которыми ловкий и двуличный
заставит молчать, поддаться, смириться младшего, глупенького,
более слабого и честного.
Уборная и спальня — вот два места, где свободно обмениваются
тайнами и где концентрируется конспиративная жизнь интерната.
Воспитатели ошибаются, полагая, что спальня и уборная требуют
лишь односторонней бдительности.
Я знаю случай, когда мальчик подполз ночью к кровати врага
и щипал его, драл за уши, таскал за волосы, предупреждая: «Ти-
ше! Крикнешь, разбудишь воспитателя, и тебя исключат».
Я знаю случай, когда мальчику нарочно наливали ночью в пос-
тель воды, чтобы надзиратель подложил позорную клеенку.
Я знаю случай, когда дежурный коротко, до самого мяса обстри-
гал ногти нелюбимым товарищам. Другой дежурный нарочно приго-
товил холодную ванну мальчику, с которым был в ссоре.
В интернате может укорениться террор злых сил, отравляя ат-
мосферу, ширя моральные эпидемии, калеча и опустошая. В этой
атмосфере лжи, принуждения, укрывательств, гнета, насилия, тай-
ных расправ, ложных доносов, страха и молчания — в атмосфере,
насыщенной миазмами морального гниения, вспыхивают эпидемии
онанизма и уголовных преступлений.
Воспитатель, попав в подобную клоаку, бежит прочь, а если не
может убежать, обо всем утаивает.
23. Дети быстро подметят, что надзиратель скрывает от на-
чальства — что те ребята, кого похвалили, пользуются у него сим-
патией, а те, из-за кого пришлось выслушать замечание, ему анти-
патичны.
Между надзирателем и детьми заключается немое соглашение:
будем делать вид, что все превосходно, а случись «что-нибудь та-
кое» — скроем.
И до главного руководителя в его укромной канцелярии уже
доходит немногое, за стены же учреждения не выходит ничего. Дети
совершают ряд недозволенных, заслуживающих наказания поступ-
ков, а он по недомыслию или по преступной небрежности все по-
крывает.
Может, поэтому-то интернатские дети такие неразговорчивые
и отвечают охотно лишь на самые банальные вопросы: «Тебе хоро-
120
шо здесь? А ты послушный?» — и молчат, когда могут «засыпать-
ся». Может, поэтому-то на интернате лежит печать каких-то дур-
ных тайн, и разговор с ребенком, который то и дело перегляды-
вается с воспитателем, стесняет и неприятен?
В третьей части этой книги я расскажу, как при организации
Дома Сирот мы обеспечили себе детскую помощь, не опасаясь ка-
ких-либо дурных последствий, потому что ввели гласность.
24. Будни с их хлопотами и возней имеют своих «удобных»
и «неудобных» детей; дни торжественных ярмарок, дни показов —
своих.
Для воспитателя, который ведет уроки пения, таким «удоб-
ным» будет ребенок с самым звонким голосом; для воспитателя —
преподавателя гимнастики — самый ловкий гимнаст. Первый ду-
мает о показательном хоре, второй — о публичном состязании.
Дети способные, воспитанные, смелые принимают гостей во
время парадного визита, выставляя в выгодном свете учреждение,
хорошо свидетельствуя о воспитателе. Миловидный ребенок пре-
поднесет букет достойной особе.
Разве воспитатель может не быть им за это благодарным? Но
что из того, что ребенок спел, сыграл на скрипке, ловко провел свою
роль в комической пьеске? Это не его заслуга. И, полный укоров со-
вести, честный воспитатель старается подавить приятное волнение.
Правильно ли это? И может ли притворное равнодушие обма-
нуть ребенка, а если обманет, то не обидит ли? Для ребенка это важ-
ный, торжественный, памятный день; немного ошеломленный, а
больше всего испуганный присутствием многочисленных санов-
ников и вообще посторонних, ребенок подбежит к тому, кто ему бли-
зок, потому что ценит прежде всего его похвалу, ждет ее, имеет на
то право...
Не позволяй им зазнаваться, но отличить их ты должен...
А что тогда будет с положением о безусловном равенстве всех
детей? Но это положение — ложь.
25. У воспитателя-практика всегда есть дети, которые вызывают
в нем приятное чувство, вознаграждая за потраченный труд,— дети
воскресных дней его души,— он любит их независимо от подлинной
их цены и пользы, которую они приносят.
Славные, потому что миловидные; славные, потому что ясно-
глазые, веселые, подвижные, улыбающиеся; славные, потому что
тихие, серьезные, сосредоточенные, хмурые; славные, потому что
маленькие, беспомощные, отвлекающиеся; славные, потому что кри-
тически настроенные, смелые, склонные к бунту.
В зависимости от духовного облика и идеалов воспитателя раз-
ным воспитателям близки и дороги разные дети.
Один импонирует своей энергией, другой трогает добродушием,
третий будит воспоминания о твоем собственном детстве, четвертый
вызывает искреннее беспокойство за его судьбу, в пятом боишься
его порыва ввысь, в шестом — пугливой покорности.
121
А среди всех этих многочисленных славных ребят ты любишь
одного как самое близкое существо, кому желаешь всего самого
лучшего, чьи слезы причиняют самую сильную боль, чьего распо-
ложения стремишься добиться и кем не хотел бы быть забытым.
Как это случилось, когда? Ты не знаешь. Чувство пришло вне-
запно, без всякого повода, неожиданно, как любовь.
Не скрывай: тебя выдадут улыбка, голос, взгляд.
А остальные дети? Не бойся, они не обидятся: и у них есть лю-
бимцы.
26. Молодые и чувствительные воспитатели склонны любить
этого самого тихого и запуганного, с печальными глазами и с тос-
кой на душе. К этим забытым в тени и обращают они свое горячее
чувство, хотят завоевать их доверие, ждут признаний: что чув-
ствует, о чем думает этот ангел с утомленно опущенными крыльями?
Все ребята удивляются: «За что его любить, ведь он такой глу-
пый?» И ребята, которые раньше обходили твоего любимца, считая
круглым нулем, или, самое большее, толкали, если стоял у них на
дороге, теперь сознательно, планомерно его преследуют. Ребята
ревнуют, потому что выбор сделан неудачно.
Воспитатель вступает в неравную борьбу за любимца — и про-
игрывает. Поняв ошибку, воспитатель старается его полегоньку,
незаметно от себя отстранить. Тот понял и отошел, печально глядя,
как бы с упреком, своими влажными глазами. Воспитатель страдает
и сердится и на себя и на ребят.
Поэт, если бы ты знал, что в больших, осененных длинными рес-
ницами глазах этого поэтичного ребенка скрыта одна только тай-
на — тайна наследственного туберкулеза,— ты, может быть, вместо
признаний скорее ожидал бы приступов кашля и не целовал бы его,
а поил рыбьим жиром с гваяколом *. Ты избавил бы и его, и себя,
и остальных ребят от многих тяжелых минут.
27. Бывает, что ты полюбил ребенка без взаимности. Ему хочет-
ся играть в мяч, в войну, бегать наперегонки, а тебе хочется погла-
дить, прижать к себе, приласкать. Это его сердит, раздражает, уни-
жает, и он или отодвигается, или обвивает ручонками шею и просит
новое платье. В этом виноват ты, а не он.
Бывает, что несколько человек из персонала добиваются распо-
ложения одного и того же ребенка; тогда маленький фаворит искус-
но лавирует, стараясь никого не обидеть. Ведь ты позволяешь ему
позже ложиться спать, экономка сменит рваные чулки, а кухарка
угостит яблоками или изюмом.
Бывает, что чувственный или уже развращенный ребенок нахо-
дит в ласке удовольствие. Он любит погладить твою руку, она такая
мягкая! Скажет, что твои волосы приятно пахнут, поцелует в ухо,
или в шею, или по очереди каждый любимый пальчик. Смотри прав-
де в глаза: это сладострастная ласка.
В ребенке заложены эротические чувства. Все живое должно
расти и размножаться: этот закон природы охватывает людей, жи-
122
вотных и растения. Половое чувство не появляется вдруг и из ниче-
го; оно еще дремлет, но его тихое дыхание уже слышно. У детей
есть явно или скрыто чувственные движения, объятия, поцелуи,
игры.
Но воспитателю нет надобности воздевать очи к небу, разводить
в недоумении руками, открещиваться с возмущением.
Сообщи жизни ребенка размах, чтобы он не скучал, позволь
ему бегать и шуметь и спать сколько хочет, и половое чувство пус-
тит ростки спокойно, не марая и не принося вреда.
28. Пытливое око науки обнаружило сексуальное начало и в
родительском чувстве. От него не свободны ни мать, кормящая
грудью младенца, ни отец, прижавший к губам холодную руку
умершего ребенка.
Потрепать по щечке, погладить по головке, подоткнуть одеяль-
це, даже помолиться за счастье своего дитяти, когда оно спокойно
спит в колыбели,— все это нормальное проявление здорового эро-
тического чувства, а бросать ребенка на прислугу и находить высо-
чайшее удовольствие в пустой болтовне в кафе — его извращение.
Для извращенной, притуплённой чувственности эти ощущения
слишком слабы и уже неуловимы. Здесь мать должна осыпать по-
целуями ножки, спинку и животик ребенка, чтобы испытать чувство,
которое здоровая мать получает от легкого прикосновения. Простой
честной чувственности мало, нужно сладострастие.
Ты удивляешься и, может быть, не хочешь мне верить? А мо-
жет, я сказал то, что ты уже сам предчувствовал, подозревал, но
с гневом отвергал?
Ибо ты не знаешь, что инстинкт размножения в его разнород-
ных проявлениях колеблется от возвышенных творческих порывов
до низменнейшего преступления.
Ты обязан дать себе отчет в чувстве, которое испытываешь к де-
тям, и следить за ним, ибо дети могут растлить и тебя, своего воспи-
тателя и воспитанника.
За четырьмя стенами дома, школы, интерната скрыты мрачные
тайны. Иногда их на миг осветит молния уголовного скандала.
И опять тьма.
Указанное насилие над детскими душами, которое допускается
современным воспитанием, рабство, тайна и безапелляционная
власть неизбежно таят в себе и произвол и преступления.
29. «Воспитатель — апостол... Будущее народа... Счастье буду-
щих поколений...»
Но где в этом моя собственная жизнь, мое собственное будущее,
мое собственное счастье, мое собственное сердце?
Я раздаю мысли, советы, предостережения, чувства, раздаю
щедро. Когда поминутно подходит все новый и новый ребенок с
новым и новым требованием, просьбой или вопросом, отнимая вре-
мя, мысль, чувство, ты иногда с болью видишь, что ты, солнце этой
толпы, сам остываешь и, светя им, теряешь за лучом луч.
123
Все детям, а что же мне?
Дети набираются знаний, опыта, моральных принципов; они
обогащаются — я теряю. Как же мне дальше распоряжаться запа-
сом душевных сил, чтобы не оказаться банкротом?
Допустим, у воспитателя нет молодости, предъявляющей свои
права, семьи, сковавшей по рукам и ногам, одолевающих матери-
альных забот, замучивших физических недомоганий. Отдав себя
целиком святому делу воспитания, воспитатель не должен отказы-
ваться от чувств.
Как уберечь их от крушения?
Когда он возвращается в дом, который должен быть его домом,
и не может сердечно приветствовать всех, разве не вправе он улыб-
нуться одному? Когда он покидает вечером спальню и не может
нежно попрощаться со всеми, разве не вправе он одного или двоих
выделить отдельным: «Спи, сынок, спи, баловник»? Или, распекая
за мелкие провинности и произнося суровые слова, прощать взгля-
дом?
Если даже он ошибается и выбрал не самого стоящего, ну что из
этого? Приятное чувство от общения с ним покроет ряд неприят-
ных; полученной от любимого улыбкой воспитатель одарит многих.
Быть может, и есть воспитатели, которым все дети одинаково
безразличны или ненавистны, но таких, которым все до одного были
бы одинаково милы и дороги, нет.
30. Предположим, что существует абсолютное равенство. Нет
ни «удобных», ни «неудобных», ни милых, ни немилых. Для всех
одинаковые куски хлеба и порции супа, одинаковое количество
сна и бодрствования, одинаковые строгости и поблажки и абсолют-
ное тождество одежды, порций, режима, чувств. Несмотря на явную
абсурдность, допустим, что так и должно быть. Никаких приви-
легий, никаких исключений, никаких отличий — все это портит.
И даже тогда воспитатель имеет право ошибаться, отвечая за
последствия совершаемых им ошибок.
Письма Песталоцци о его пребывании в Станце — это прекрас-
нейшее из произведений воспитателя-практика.
«...Один из самых больших моих любимцев злоупотребил моей
верной любовью и несправедливо стал угрожать другому ребенку;
это возмутило меня, и я сурово дал ему почувствовать свое негодо-
вание».
О, диво: у великого Песталоцци были любимчики, Песталоцци
гневался!
Ошибся, чересчур доверившись или захвалив, и в первую оче-
редь был наказан сам: обманулся!
Подчас просто недоумеваешь, как быстро, как жестоко прихо-
дится воспитателю расплачиваться за совершенные им ошибки.
Пускай он их тщательно исправляет.
К сожалению, иногда в самых важных вопросах это ему не под
силу.
124
31. Не шуметь!
Ребята дают разрядку только части энергии, скопившейся у
них в горле, в легких, в душе; только части крика, который живет
в их мускулах. Послушные дети подавляют крик до предела воз-
можного.
«Тише!» — вот девиз класса.
Нельзя шуметь за обедом.
Не шуметь в спальне!
Ребята шумят трогательно тихо, бегают до слез осторожно,
чтобы не сдвинуть стол, обходят друг друга, уступают, только не
было бы ссоры, только бы чего-нибудь не вышло, а то опять услышат
ненавистное: «Только без шума».
Нельзя кричать и во дворе — беспокоят соседей. А единствен-
ная их вина — это то, что в городе каждый метр земли стоит дорого.
«Вы не в лесу». Циничное замечание, грубое издевательство
над ребенком, что он не может быть там, где ему следует быть.
Разрешите им рассыпаться по лужайке — и не будет никакого
крика, лишь милое щебетание человечьих пташек.
Если не все, то по крайней мере значительное большинство ребят
любит двигаться и шуметь. От свободы двигаться и кричать зависит
их физическое и моральное здоровье. А ты, зная это, должен одер-
гивать:
— Сиди спокойно и тихо.
32. Ты всегда делаешь ошибку: борешься со справедливым
упорством ребенка:
— Я не хочу!
Не хочу ложиться спать, хотя часы пробили, ведь ароматный
вечер улыбается мне кусочком звездного неба. Не хочу идти в
школу, ведь ночью выпал первый снег и так весело на свете. Не хочу
вставать, ведь холодно, грустно. Лучше не пообедать, а доиграть
партию в лапту. Не буду просить прощения у учительницы, она
наказала несправедливо. Не хочу готовить уроки, я читаю Робинзо-
на. Не надену коротких штанов, засмеют.
Нет, ты это сделаешь.
Бывает, отдаешь приказ сердито, но без внутреннего убеждения,
так как тебе самому приказали, а не исполнить нельзя.
Значит, слушайся уже не только меня, который взвешивает
каждое распоряжение, прежде чем отдать, но и этих многочислен-
ных безымянных, чьи законы жестоки и несправедливы.
Учись у них, уважай их, верь!
— Не хочу! — это крик ребячьей души, а ты должен его пода-
вить, ведь современный человек живет в обществе, а не в лесу.
Нет, ты это сделаешь.
Сделаешь, а то будет хаос.
Чем незаметней ты сломаешь сопротивление, тем лучше, а чем
скорей и основательней, тем безболезненней обеспечишь дисцип-
лину и достигнешь необходимого минимума порядка. И горе тебе,
если, слишком мягкий, ты этого не сумеешь сделать.
125
В обстановке дезорганизации и расхлябанности могут нормаль-
но развиваться только немногие, исключительные дети, из десят-
ков же не будет толка.
33. Есть ошибки, которые ты будешь совершать всегда, потому
что ты человек, а не машина.
Грустный, усталый, больной, ты с горечью замечаешь в ребенке
черту характера, которая делает взрослых плохими и вредными:
лживость, холодный расчет, пошлое чванство, дрянненькую хит-
рость, хищную жадность; не поступишь ли ты опрометчиво?
У меня не сходится счет. Поминутно кто-нибудь да входит,
хотя вход в канцелярию детям в какой-то мере воспрещен. Послед-
ним входит мальчуган, неся мне в подарок букетик; букет я вы-
брасываю в открытое окно, а его самого вывожу за ухо за дверь.
К чему множить примеры неразумных и грубых поступков?
Но ребенок простит. Обидится, рассердится, а подумает и очень
часто доверчиво припишет вину себе. Несколько наиболее впечат-
лительных ребят будут тебя избегать, когда ты злишься или занят.
Но и они простят, если знают, что, в общем, им желают добра.
Это не какая-нибудь сверхъестественная интуиция, когда ребе-
нок знает, кто его любит, а бдительность зависимого существа,
которое обязано тебя изучить, раз в твоих руках его благополучие.
Так, раб-чиновник до тех пор приглядывается и мучительно думает
о своем шефе, пока не изучит все его привычки, вкусы, настрое-
ния — движения губ, жесты, блеск глаз. И знает, когда попросить
отпуск или повысить жалованье, порой целые недели терпеливо
выжидая подходящей минуты. Дайте им независимость, и они ут-
ратят эту наблюдательность.
Ребенок простит и бестактность, и несправедливость, но не
привяжется к воспитателю-педанту или сухому деспоту. А всякую
фальшь гадливо отбросит или поднимет на смех.
34. Воспитателю не избежать ошибок, вытекающих из порочного
навыка к избитым выражениям и общепринятым поступкам и
из обычного отношения к детям как к существам низшим, не отве-
чающим за себя, забавным своей наивной неопытностью.
Если станешь относиться к их заботам, желаниям, вопросам
презрительно, шутливо или покровительственно, ты всегда кого-
нибудь больно заденешь.
Ребенок имеет право требовать уважения к своему горю, хотя
бы он потерял камешек, желанию, хотя бы хотел пройтись без
пальто по морозцу, к нелепому на вид вопросу. Ты безучастен к
его потере, коротким «нельзя» отклоняешь просьбу, двумя словами
«вот дурачок» пресекаешь сомнения.
А знаешь, почему мальчуган хотел надеть в жаркий день пеле-
рину? На коленке, на чулке у него безобразная заплатка, а в саду
будет девочка, которую он любит.
У тебя нет времени, ты не можешь все время следить, вдумы-
ваться, искать скрытые мотивы явно нелепого желания, проникать
126
в неисследованные тайники детской логики, фантазии, искания
истины — приспособляться к стремлениям и вкусам ребенка.
Ты будешь делать эти ошибки, потому что не ошибается только
тот, кто ничего не делает.
35. Я вспыльчив. Олимпийское спокойствие и философское
равновесие духа не мой удел. Плохо. Ну что же, коли иначе я не
могу.
Когда меня как какого-нибудь эконома отругает хозяйка-жизнь,
я злюсь, что раб-ребенок не понимает, с каким трудом я добываю
для него цепи длиннее на одно звено, на грамм легче. Я вижу сопро-
тивление там, где мне нельзя уступить, и говорю, как чиновник:
«ты должен», а как естествоиспытатель: «тебе не сделать». То я —
батрак — злюсь, что скот лезет в потраву, то я — человек — ра-
дуюсь, что дети живут. Попеременно я то тюремщик — слежу за
предписанным циркулярами порядком,— то равный среди равных,
раб среди сотоварищей-рабов, бунтую против деспота-закона.
Когда я врезаюсь лбом в проблему и бессилен, когда я слышу
о грозных событиях и не могу их отвратить, я — сам страх, само
предвидение,— глядя на их доверчивость и беззаботность, испыты-
ваю гневную скорбь и беспредельную нежность.
Когда я замечаю в ребенке бессмертную искру похищенного
у богов огня — блеск непокорной мысли, гордость гнева, порыв
энтузиазма, осеннюю грусть, сладость жертвы, застенчивое достоин-
ство, энергичные, радостные, уверенные, активные поиски причин
и целей, настойчивость попыток, грозный голос совести,— я сми-
ренно преклоняю колени, я хуже тебя, я слабый, я трус.
Что же я еще адя вас, как не балласт, мешающий вольному
полету, паутина на ваших ярких крыльях, ножницы, кровавая
обязанность которых срезать буйные побеги?
Я стою у вас на дороге и беспомощно топчусь на месте, брюзжу,
пристаю, замалчиваю, неискренне убеждаю — бесцветный и смеш-
ной.
36. Хороший воспитатель от плохого отличается только коли-
чеством сделанных ошибок и причиненного детям вреда.
Есть ошибки, которые хороший воспитатель делает только раз
и, критически оценив, больше не повторяет, долго помня свою
ошибку. Если хороший воспитатель от усталости поступит бес-
тактно или несправедливо, он приложит все усилия, чтобы как-то
механизировать мелкие надоедливые обязанности, ведь он знает,
что все неладное от нехватки у него времени. Плохой воспитатель
свои ошибки сваливает на детей.
Хороший воспитатель знает, что стоит подумать и над пустяш-
ным эпизодом, за ним может стоять целая проблема — не прене-
брегает ничем.
Хороший воспитатель знает, что он делает по требованию тор-
жествующих властей, господствующей церкви, в силу укоренив-
шейся традиции, принятого обычая, под железным диктатом
127
существующих условий. И он знает, что диктат этот имеет в виду
добро детей лишь постольку, поскольку учит гнуть спины, подчи-
няться, рассчитывать, приучает к будущим компромиссам.
Плохой воспитатель полагает, что дети и в самом деле должны
не шуметь и не пачкать платье, а добросовестно зубрить грамма-
тические правила.
Умный воспитатель не куксится, когда он не понимает детей,
а размышляет, ищет, спрашивает их самих. И они его научат
не задевать их слишком чувствительно — было б желание на-
учиться!
37. «У меня наказаний нет»,— говорит воспитатель, иногда и
не подозревая, что не только есть, но и очень суровые.
Нет темного карцера, но есть изоляция и лишение свободы.
Поставит в угол, посадит за отдельный стол, не позволит съездить
домой. Отберет мячик, магнит, картинку, пузырек из-под одеколо-
на,— значит, есть и конфискация собственности. Запретит ложить-
ся спать вместе со старшими, не позволит на праздник надеть
новое платье,— значит, и лишение особых прав и льгот. Наконец,
разве это не наказание, если воспитатель холоден, недружелюбен,
недоволен?
Ты применяешь наказания, ты только смягчил или изменил их
форму. Дети боятся, будь это большое, маленькое или только сим-
волическое наказание. Понимаешь: дети боятся,— значит, наказа-
ния существуют.
Можно высечь самолюбие и чувства ребенка, как раньше секли
розгами тело.
38. Наказаний нет, я ему только объясняю, что он плохо по-
ступил. А как ты это объяснишь?
Скажешь, что, если не исправится, будешь вынужден его ис-
ключить? Наивный! Ты грозишь смертью! И не исключишь: тот,
кого в прошлом году исключили, был больной, ненормальный, а
этот здоровый, симпатичный сорванец, из него выйдет дельный
парень; ты его хочешь только попугать. Ведь и нянька не отдаст
ребенка нищему и не заведет его в лес, чтобы его волки съели, и
она только грозится.
Вызовешь опекунов на беседу — еще более изощренная угроза.
Ты грозишь, что заставишь спать в коридоре, есть на лестнице,
наденешь на него слюнявчик — всегда грозишь наказанием сту-
пенью выше тех, которые в ходу.
Иногда угрозы бесплотны, неопределенны:
«В последний раз тебе говорю! — Увидишь, все это плохо кон-
чится! — Доиграешься, наконец! — Больше повторять не стану,
делай что хочешь.— Теперь уж я за тебя примусь всерьез!» Само
разнообразие оборотов доказывает, что они широко распростра-
нены, и добавлю, что ими злоупотребляют.
Иногда ребенок верит всецело и всегда хотя бы наполовину.
«И что только теперь со мной будет?»
128
Правда, воспитатель пока не наказал, ну а если накажет, то
когда и как? Боязнь неизвестного, неожиданного. Если ты его
наказал — он уже обрел душевное спокойствие, а если ты ему
только пригрозил, то, проснувшись на другой день, он готов будет
тебя возненавидеть за то, что ты его так мучишь.
Можно угрозами держать детей в полном повиновении и при
отсутствии критического отношения к себе думать, что это мягкий
способ воздействия, тогда как на самом деле невыполненная угроза
большое наказание...
39. Существует ошибочное, основанное на поверхностном на-
блюдении убеждение, что дети быстро забывают печали, обиды
и решения. Только что плакал — и уже смеется. Едва поссори-
лись, как уже вместе играют. Час назад обещал исправиться, и
снова шкодит.
Нет, дети долго помнят обиды, они припомнят тебе оскорбление,
нанесенное год назад. А не выполняет вынужденное обещание
потому, что не может.
Заразившись общим весельем, ребенок бегает и играет, но он
вернется к своим невеселым думам в тиши — за книжкой или ве-
чером перед сном.
Порой замечаешь, что ребенок тебя избегает. Не подбежит
с вопросом, не улыбнется, проходя мимо, не войдет к тебе в комнату.
— А я думал, вы еще сердитесь,— ответит, если спросить.
И с трудом вспоминаешь, что на прошлой неделе ты сказал ему
из-за какого-то мелкого проступка что-то не совсем приятное,
несколько повысив голос. И самолюбивый или впечатлительный
ребенок пережил в душе незаметно для тебя много неприятных
минут.
Ребенок помнит.
Вдова в глубоком трауре, забывшись в шутливой беседе, громко
рассмеется и тут же спохватится: «Ах, я смеюсь, а мой бедный
муж...» Она знает: так надо. Ты быстро научишь детей этому искус-
ству: сделай выговор, что он веселый, а должен быть грустным и
сокрушенным, и он послушается. Мне не раз случалось видеть, как
принимавший живое участие в играх мальчик делал печальное лицо,
поймав мой грозный взгляд. «Ох, правда, неприлично веселиться,
когда на тебя сердятся».
Помни, есть дети, которые только прикидываются, что им все
равно: пусть, мол, воспитатель не думает, что они боятся, огорче-
ны, помнят. А если цель наказания — сбить с них спесь, так это
уже для них становится делом чести. И это дети, которые, пожалуй,
острее всего воспринимают и долго помнят.
40. Наказаний нет — только выговор, напоминания — слова.
Ну а если под этими словами кроется желание опозорить?
«Взгляни, как выглядит твоя тетрадка! На кого ты похож! Ну
и отличился! Поглядите-ка, что он устроил!»
А публика-товарищи обязаны иронически улыбаться и выражать
5 Януш Корчак
129
удивление и презрение. Это делают не все — и чем ребята чест-
нее, тем они сдержаннее в выражении нелестного мнения.
Существует другой вид наказания: упорное пренебрежение,
унизительное примирение с существующим положением вещей.
— Ты еще не съел? Опять последний? Опять забыл?
Посмотришь укоризненно, вздохнешь с отчаянием, махнешь
безнадежно рукой.
Сознавая свою вину, правонарушитель вешает голову, а иногда,
полный внутреннего бунта и неприязни, косится исподлобья на
травящую его свору, чтобы при случае задать кому следует.
— Дай мне то, дай мне это,— чаще, чем другие, повторял один
мальчик.
В.довольно резкой форме я приструнил его за эту некрасивую
привычку. Год спустя, записывая детские прозвища, я столкнулся
с отголоском моего бестактного выступления — у этого мальчика
было мучительнейшее для самолюбия прозвище: «Дай-мнеэто-по-
прошайка».
Высмеивание большое и очень болезненное наказание.
41. Ты взываешь к чувствам.
— Так вот как ты меня любишь? Так-то ты выполняешь обе-
щание?
Ласковой просьбой, добродушным укором, поцелуем в залог
желанного исправления ты наконец добиваешься нового обещания.
А у ребенка тяжело на душе: признательный за доброту и вели-
кодушное прощение, беспомощный, часто не веря в исправление,
он возобновил обещание, решив еще раз вступить в жестокий бой
со своей вспыльчивостью, ленью, рассеянностью — с собой.
— А что будет, если я опять забуду, опоздаю, ударю, дерзко
отвечу, потеряю?
Порой поцелуй налагает более тяжкие оковы, чем розга.
Разве ты не замечал, что если ребенок после данного обещания
исправиться что-нибудь натворил, то уж держись: за первой про-
винностью следует и вторая, и третья?
Это боль понесенного поражения и досада на воспитателя за
то, что, коварно вырвав у него обещание, он принудил его к нерав-
ному бою. И если ты вторично взовешь к его совести и чувствам,
он тебя резко оттолкнет.
На гнев ты отвечаешь бурной вспышкой гнева, криком. Ребенок
не слушает, он только чувствует, что ты выкидываешь его из своего
сердца, лишаешь расположения. Чужой, одинокий — вокруг пусто-
та. А ты в исступлении обрушиваешь на него все, какие есть, нака-
зания: угрозу, упреки, насмешку и более существенные меры.
Обрати внимание, с каким сочувствием смотрят на него товари-
щи, как ласково стараются утешить:
— Это он только так говорит. Не бойся — это ничего, не горюй,
он забудет.
И все это осторожно, чтобы не досталось от воспитателя и не
влетело от взбунтовавшейся жертвы.
130
Всякий раз, учинив «великий скандал», я испытывал наряду
с неприятным ощущением светлое чувство. Я был несправедлив
к одному, но зато многих научил великой добродетели — солидар-
ности в несчастье. Маленькие рабы знают, что такое боль.
42. Иногда, выговаривая ребенку, ты читаешь в его взгляде
тысячу бунтовщических мыслей.
«Ты, может, думаешь, я забыл? Я все помню».
Неумело изображая раскаяние, ребенок говорит тебе злыми
глазами:
«Я не виноват, что у тебя такая хорошая память».
Я: — Я был терпелив. Ждал, может, исправишься.
Он: «Эка беда. Не надо было ждать».
Я: — Я думал, ты, в конце концов, возьмешься за ум. Я оши-
бался.
Он: «Умные не ошибаются».
Я: — Раз я прощаю, ты, поди, думаешь, что тебе все можно?
Он: «Вовсе я так не думаю. И когда это только кончится!»
Я: — Нет, с тобой невозможно выдержать.
Он: «Болтай, болтай, ты сегодня зол, как черт, вот и цепля-
ешься...».
Подчас ребенок во время нагоняя проявляет удивительный
стоицизм.
— Сколько раз я тебе повторял: не смей прыгать по крова-
ти! — мечу я громы и молнии.— Кровать это тебе не игрушка. Хо-
чешь играть — играй в мячик, решай кроссворды...
— А что это такое — «кроссворды»? — спрашивает он с любо-
пытством.
Вместо ответа я дал ему по рукам...
В другой раз, после бурного разговора, у меня спросили:
— Скажите, пожалуйста, отчего, когда кто-нибудь злится, он
делается красный?
В то время когда я напрягал голосовые связки и ум, чтобы об-
ратить его на стезю добродетели, он, видите ли, изучал игру красок
у меня на лице! Я поцеловал его — он был очарователен.
43. Дети правильно ненавидят огульные обвинения.
«С вами добром нельзя... Опять вы... Если вы не исправитесь...»
Почему за проступок одного или нескольких должны отвечать
все?
Если повод к взбучке дал маленький циник, он останется дово-
лен: вместо полной порции гнева ему досталась лишь часть. Честный
же будет слишком потрясен, видя столько невинных жертв своего
преступления.
Иногда буря разражается над определенной группой детей:
«совсем никудышные мальчишки» — или наоборот: «на редкость
испорченные девчонки», чаще же всего: «старшие, вместо того
чтобы показать пример... смотрите, как хорошо ведут себя ма-
лыши».
5*
131
Здесь, кроме справедливого гнева невинных, мы вызываем сму-
щение у тех, кого хвалим, которые знают за собой много грехов
и помнят, как сами стояли у позорного столба. Наконец, мы даем
возможность нехорошо торжествовать маленьким насмешникам:
«ага... а видите... эге...»
Однажды я хотел особо торжественно прореагировать на невы-
ясненную кражу. Я вошел в спальню к мальчикам, когда они уже
засыпали, и, стуча в такт о спинку кровати, громко заговорил:
— Опять кража! С этим надо кончать. Жалко времени и труда
на то, чтобы растить воров...
Эту же довольно длинную речь я повторил в спальне девочек.
На другой день между мальчиками и девочками шел такой раз-
говор:
— И у вас он орал?
— Ясно, орал.
— Говорил, что всех выгонит?
— Говорил.
— И стучал кулаком по кровати?
— Да еще как, изо всей силы.
— А по чьей он кровати стучал? У нас так по Манюськиной.
Каждый раз, выступая с огульным обвинением, я огорчал наи-
более честных, раздражал всех и делал из себя посмешище в гла-
зах критически настроенных: «Ничего, пусть себе немножко по-
злится — это ему полезно».
44. Разве воспитатель не понимает, что значительная часть
наказаний несправедлива?
Драка.
— Он меня первый ударил.
— А он дразнился... Взял и не отдает!
— Я только так, ради шутки (помешал, испачкал)...
— Это он меня толкнул, а не я.
И ты наказал или обоих (почему?), или старшего, который
должен уступить младшему (почему?), или того, кто по простой
случайности ударил больнее, вреднее для здоровья. Ты наказал,
драться нельзя. А жаловаться можно?
Ребенок пролил, сломал.
— Я нечаянно.
Он повторяет тебе твои собственные слова: ты ведь велишь
прощать, если ему причинят вред нечаянно.
— Я не знал... Я думал, можно.
Он опоздал, потому что... он это умеет делать, но...
Объяснения правильные, а тебе кажутся уверткой.
Это двойная несправедливость: ты и не веришь, хотя он гово-
рит правду, да еще несправедливо наказываешь.
Иногда условное запрещение случайно становится категори-
ческим, а то и вовсе перестает быть запрещением.
В спальне шуметь нельзя, а говорить вполголоса можно. Если
тебе весело, ты и сам посмеешься над невинной проделкой, а если
132
устал, прекратишь обычную для спальни болтовню, хотя бы только
резко заметив:
«Довольно болтать... Ни гу-гу... Кто скажет хоть слово...»
В канцелярию детям входить не разрешается, но они входят.
Как раз сегодня у тебя месячный отчет, тебе нужен покой. Маль-
чуган не знал, вошел, и ему влетело. Если бы ты его даже не вывел
за ухо, если бы только сказал: «Чего прилез? Вон сейчас же!» —
твой гнев — незаслуженное наказание.
45. Во время игры в мяч он разбил стекло — ты простил, стекло
бьют редко, не знаешь, кто, собственно, виноват, не любишь на-
казывать.
Но когда разбито уже четвертое стекло, когда разбил его хро-
нический озорник, за которым вдобавок значится в школе плохая
отметка, ты наказываешь — криком, угрозой, злостью.
— Я нечаянно,— отвечает он смело, а по-твоему, дерзко.
...Четвертое окно... озорник... плохой ученик... лентяй... еще
дерзит... Воспитатель, уверяю тебя, ты дашь ему по рукам. А ведь
ребенку не понять, да и не надо ему мириться с тем, что ты его
наказал для примера, потому что, как менее впечатлительный,
он удобный объект для эффектного наказания; и что ты подверг
его наказанию не за один этот поступок, а за всю его деятельность
в совокупности.
Он знает только, что детям А, Б, В ты простил, а его вот не-
справедливо наказал...
Допустим, ты поступил по-другому: отобрал у ребят мяч.
— Играть в мяч нельзя.
И это несправедливо: наказание коснулось десятка невинных
ребят.
Еще мягче: ты предупреждаешь, что, если они еще раз разобьют
стекло, ты отберешь мяч, то есть применяешь несправедливо на-
казание — угрозу — ко всем ребятам, хотя виноваты будут только
четверо.
И из этих четверых не все виноваты, потому что один разбил
стекло, на котором уже была трещина, другой разбил не целиком,
а только с уголка, а третий, оно правда, и разбил, но ведь его под-
толкнули, и виноват, собственно, только этот четвертый, который
всегда сделает что-нибудь такое, из-за чего воспитатель злится.
46. Ты простил безоговорочно. Ты полагаешь, ты поступил
правильно? Ошибаешься.
«Да, попробуй-ка я это сделать»,— думает один.
«Ему все можно,— думает другой,— воспитатель его любит».
Опять несправедливость.
Есть дети, для которых насупленные брови, резкое замечание
или мягкое: «Ты меня огорчил» — достаточное наказание. Но если
ты желаешь такого ребенка простить, другие должны понять,
почему ты это делаешь, и он сам должен понять, что ему можно
не больше, чем остальным. Иначе ты его избалуешь, распустишь
133
и отдашь на растерзание затронутой в своих правах толпе. Ты
совершишь ошибку, и он и остальные дети тебя накажут.
Забудь на минутку о четырех выбитых стеклах, а собственно
говоря, о двух, раз на одном уже была трещина, а у второго отбит
только уголок. Забудь и погляди, сколько ребят, сбившись в кучки,
обсуждают несчастный случай. И в каждой кто-нибудь агитирует
за тебя или против.
«Правые» утверждают, что стекло дорогое и что у воспитателя
будут неприятности в правлении — слишком, мол, добрый, дети
не слушаются. У него всегда непорядок: следовало наказать строже.
«Левые» (сторонники игры в мяч):
— Ни во что играть нельзя, все запрещают. Сделай что-
нибудь, сразу в крик, и пошло: угрозы, скандалы. Нельзя же целый
день сидеть, точно кукла какая.
И только «центр» принимает все с доверием и смирением.
Не улыбайся снисходительно — это не шутка, не мелочи; это
и есть жизнь в казармах.
Значит, раз и навсегда, принципиально и во всех случаях от-
казаться от наказаний, предоставив детям полную свободу? А если
своеволие ребенка-единицы ограничивает права массы? Своеволь-
ный и сам не учится, и другим не дает, и свою постель не постелит,
и чужую разворошит, и свое пальто запропастит, да еще чужое
возьмет — что тогда?
47. «Некрасиво жаловаться, я не разрешаю жаловаться».
А что делать ребенку, если его обокрали, оскорбили отца или
мать, наговорили на него товарищам, если ему угрожают, подби-
вают на плохое?
Некрасиво жаловаться. Кто установил это правило? Дети ли
переняли его от плохих воспитателей, или воспитатели от плохих
детей? Потому что оно удобно только для плохих и самых плохих.
Тихих и беспомощных будут обижать, эксплуатировать, обирать,
а позвать на помощь, потребовать справедливости — нельзя!
Обидчики торжествуют, обиженные страдают.
Недобросовестному, неумелому воспитателю удобно не знать,
что вытворяют ребята, он машет рукой на их споры, не умея их
умно рассудить.
«Лучше всего пускай сами мирятся». И тут, когда дело косну-
лось его собственного удобства, его вера в них заходит так далеко,
что он полагается на их разум, опыт, справедливость и предостав-
ляет в столь важной области свободу действий.
Свободу? Ну нет: драться нельзя, ссориться нельзя, ты даже
не разрешишь ему выйти из игры, не дашь устраниться. Ребенок
поссорился и не хочет — всего-навсего — рядом спать, сидеть
за столом, ходить в одной паре. Такое справедливое, естественное
желание — и нельзя.
Дети легко ссорятся? Неправда, они дружны и снисходительны.
Попробуй засади человек сорок служащих в одну комнату на не-
удобные скамьи и держи по пяти часов кряду за ответственной
134
работой под неусыпным надзором начальника — да они глаза друг
другу выцарапают!
Вслушайся в детские жалобы и изучай их, и ты найдешь способ
во многом им помочь. Сосед задел локтем тетрадку, и поперек
страницы поехала некрасивая черта, или перо воткнулось в бумагу,
разбрызгивая чернила. Самая частая жалоба в классе.
48. Особый характер носят жалобы на переменах.
— Он не дает играть, он мешает...
Перемена приводит некоторых ребят в дикое, полубессознатель-
ное состояние. Носятся, скачут, толкаются, бессмысленные крики,
бестолковые движения, безответственные поступки. Вот он бежит
куда глаза глядят, наталкиваясь на идущих, размахивая руками,
издавая возгласы, наконец, ударяет первого встречного ученика.
Обрати внимание, как часто тот, кого толкнули или ударили, сер-
дито обернется и молча посторонится.
А есть дети, которые пристанут ни за что ни про что и не от-
станут. «Уйди, оставь» для них сигнал как раз не уходить. Ребята
не любят таких, презирают за отсутствие самолюбия и такта и
жалуются:
«Мы играем, а он... Господин воспитатель, он всегда... Стоит
нам начать играть, как он...»
Жалобщик в гневе («вскипятился»), в голосе отчаяние. Пере-
мена короткая, жалко каждой драгоценной минуты, а тут отрав-
ляют, крадут у тебя последние минуты свободы...
Помни, ребенок обращается к тебе только в крайнем случае,
выведенный из терпения, беспомощный, не желающий драться.
Он зря теряет время и рискует получить небрежный или резкий
ответ. У тебя должна быть наготове привычная фраза, это сэконо-
мит тебе работу мысли.
— Мешает? Позови-ка его сюда,— говорю я.
Часто все на этом и кончается. Надо было отогнать нахала,
тот, видя, что товарищ пошел жаловаться, спрятался,— значит,
цель достигнута.
Если жалобщик возвращается: «А он не хочет идти» — я грозно
говорю тогда: «Скажи, чтобы немедленно явился».
Вообще дети жалуются очень редко и неохотно. Если некото-
рый процент жалуется часто, надо это изучить и подумать почему.
Ты никогда не узнаешь детей, пренебрегая их жалобами.
49. «Господин воспитатель, можно? Разрешите? Вы мне позво-
лите?»
Мне кажется, воспитатель, который не любит жалоб, в рав-
ной мере не переносит и просьб. Желая, однако, и тут подыс-
кать убедительную мотивировку, он ссылается на принцип, гла-
сящий:
— Все дети на равных правах. Никаких исключений, никаких
привилегий.
Справедливо ли это? Или, может быть, только удобно?
135
Необходимость часто отвечать: «Нельзя.— Не позволяю.—
Не разрешаю» — неприятная необходимость. Когда нам кажется,
что мы свели запреты и приказы до минимума, нас сердит, если
ребята требуют дальнейших уступок. Иногда мы и признаем спра-
ведливость просьбы, да запрещаем, так как одна удовлетворенная
просьба вызывает целый ряд просьб других детей. Мы стремимся
достичь идеала, чтобы дети знали определенные границы и больше-
го не требовали.
Но если ты взвалишь на себя тяжелую обязанность не просто
отклонять детские пожелания, а выслушивать их, если будешь их
записывать и разбивать по рубрикам, ты убедишься, что бывают
желания повседневные и совершенно исключительные.
Постоянные назойливые просьбы о перемене места за столом.
Мы позволили ребятам раз в месяц меняться местами. Об этой
незначительной реформе можно было бы написать обширную мо-
нографию, столько в ней положительных сторон, а обязаны мы ею
исключительно неотвязным просьбам.
Горе ребятам и воспитателю, который умеет подавить каждое
не предусмотренное регламентом желание. Благодаря им, как и
благодаря жалобам, ты познаешь большинство тайн детской души.
50. Кроме детей, которые обращаются к воспитателю по своему
делу, бывают просьбы через послов.
«Он спрашивает, не разрешите ли вы ему? а можно ему?..»
Долгое время этот вид просителей меня злил, и по многим
причинам.
Часто послами бывают дети, у которых и своих дел хватает,
и уже успели тебе с ними надоесть; приходят обычно они не во-
время, когда ты торопишься, занят, не в настроении; просьбы час-
то такие, что ответ должен бы быть явно отрицательным; это созда-
ет впечатление протекции — а не припишет ли посол себе заслугу
благоприятного решения? Наконец, в этом есть вроде как бы неува-
жение: «Приди-ка сам, изволь побеспокоиться, а не проси через
адвоката».
Бесплодность борьбы с такими просьбами заставляла искать
более глубокую причину этого явления. И я нашел ее.
Я обнаружил общечеловеческую, а не чисто детскую тонкость
души.
Резкий ответ не обижает просящего за другого, лично не заин-
тересованный проситель не видит недовольного лица, кривой
усмешки, нетерпеливого жеста. Ему важен отказ, как таковой.
Мне случалось видеть, как настоящий проситель наблюдал из-
дали, какой.эффект вызовет его просьба, готовый по первому зову
подойти и дать разъяснения.
Когда мы ввели в Доме Сирот систему письменного общения
с детьми, количество просьб через послов значительно сократилось,
и у нас появился готовый ответ:
«Пусть напишет, чего он хочет и почему».
136
51. До тошноты часто повторяется ex cathedra ' предписание
отвечать детям на вопросы. И, слепо поверив в него, бедный воспи-
татель вступает в конфликт с совестью, потому что не может, не
умеет, не обладает достаточным терпением непрерывно выслуши-
вать вопросы и вечно давать ответы. И даже не подозревает, что чем
чаще он бывает вынужден отделаться коротким «не надоедай»
от маленького приставалы, тем он лучше как воспитатель.
«Я хорошо написал, вычистил башмаки, вымыл уши?»
Если первый спрашивает, потому что у него есть сомнения, то
уже следующие желают только обратить на себя внимание, пре-
рвать начатую работу, получить лишнюю похвалу.
Бывают вопросы трудные, на которые лучше не отвечать совсем,
чем отделываться поверхностным, непонятным объяснением. Пой-
мет, когда будет изучать физику, космографию, химию. Поймет,
когда будет изучать физиологию. А вот этого никто не знает, даже
взрослые, даже учитель — никто.
Следует принять во внимание самого ребенка: вдумчивый он или
поверхностный, что побудило его спросить — беспредметное ли
любопытство или желание разрешить мучающий его вопрос, тайну
природы, этическую проблему — и, наконец, возможность ответа.
И мое «посмотри в книжке — тебе не понять — не знаю, спроси
у меня через неделю» или «не морочь мне голову» будет результатом
многих правильно учтенных обстоятельств.
Я смотрю с подозрением на воспитателя, который утверждает,
что он терпеливо отвечает детям на вопросы. Коли не врет, он,
возможно, настолько чужд детям, что они действительно редко и
лишь в виде исключения обращаются к нему с вопросами.
52. Если жалобы, просьбы и вопросы — ключ к познанию дет-
ской души, то сделанное шепотом признание — настежь распахну-
тые в нее ворота.
Вот добровольное признание, сделанное через несколько меся-
цев после имевшего место факта:
«Мы очень на вас были злы, он и я. Вот мы и уговорились, что
один из нас заберется ночью через окно к вам в комнату, возьмет
очки и выбросит в уборной, а потом подумали, что ведь жалко вы-
брасывать, что мы только спрячем. Мы не спали и ждали до двенад-
цати часов ночи. Когда я уже встал, чтобы идти, один мальчик
проснулся и пошел в уборную. Но я потом все равно опять встал.
Влез я в окно — сердце во как колотится! Очки лежали на столе.
Вы спали. Я их взял и спрятал у себя под подушкой. Потом-то
мы испугались. Не знали, что и делать. Потом он сказал: «Надо по-
ложить на место». А я ему сказал, чтобы он положил. А он не за-
хотел. Тогда я опять встал, но уже в комнату не влезал, а просто
положил и немножечко еще подтолкнул».
Зная обоих, я понимаю, откуда исходила инициатива, как вы-
1 Ex cathedra (лат.) — с кафедры, т. е. особенно авторитетно, непререкаемо.
137
рабатывался план действий и почему месть не была доведена до
конца.
Одному этому факту можно было бы посвятить целый трактат,
такой это богатый материал для размышлений.
53. Улыбаясь ребенку — ждешь в ответ улыбку. Рассказывая
что-нибудь любопытное — ждешь внимания. Сердишься — ребенок
должен огорчиться.
Это значит, ты получаешь нормальную реакцию на раздраже-
ние. А бывает и по-другому: ребенок реагирует парадоксально. Ты
имеешь право удивиться, обязан задуматься, но не сердись, не
дуйся.
Ты подходишь к ребенку с дружеским чувством, а он отворачи-
вается с досадой, а то и явно тебя избегает: может быть, это ты перед
ним виноват, а может быть, это он провинился, сделал что-нибудь
плохое и честность не позволяет принять незаслуженную ласку.
Возьми это на заметку и через неделю или месяц попроси объяс-
нить: может быть, он забудет, может быть, скажет, а может быть,
по его улыбке или смущению ты поймешь, что он помнит, только
не хочет сказать. Воспитатель, отнесись к его тайне с уважением.
Однажды я приструнил ребят:
— Что это за шушуканья по углам? Прячетесь в классной ком-
нате... Вы же знаете, я этого не люблю!
Ответом мне были: стоическая покорность, злостное упрямст-
во, своевольная ясность духа. Мое внимание должно было бы при-
влечь явное отсутствие раскаяния; я не понял и подозревал пре-
ступные козни наших неслухов. А это ребята в секрете репетировали
комическую пьеску, которой думали нас порадовать. Еще сегодня
я краснею при мысли, как я был смешон в своем ожесточении.
54. «У моего мальчика от меня нет секретов, он делится со мной
всеми своими мыслями»,— говорит мать.
Я не верю, что это так, но верю, что она этого требует, и знаю,
что она делает ошибку.
Пример:
Мальчик видит на улице похороны. Величественная процес-
сия — фонари, торжественность. За гробом следует ребенок: в
своем отделанном черным крепом платье он участник исполненного
таинственной поэзии обряда. И у мальчика мелькает мысль: должно
быть, это приятно, когда мама умирает... И он с ужасом смотрит
на мать. Ой, он не хочет, чтобы мама умирала, и откуда только та-
кие мысли?
Ну можно ли, позволительно ли такую мысль высказать? И
вправе ли мы тревожить ребенка в момент грозного конфликта
с совестью?
Если ребенок поверит тебе свою тайну, радуйся, потому что
его доверие — высочайшая награда, лучшее свидетельство. Но
не принуждай его к откровенности, у него есть право на тайну; не
принуждай ни просьбами, ни хитростью, ни угрозами, все способы
138
одинаково недостойны и не сблизят тебя с воспитанником, а ско-
рее разъединят.
Надо убедить детей в том, что мы уважаем их тайны, что воп-
рос «Не можешь ли ты мне сказать?» не значит «ты должен». Пусть
на мое «почему» он ответит искренне, без уверток: «Я не могу вам
этого сказать.— Я вам потом когда-нибудь скажу.— Никогда не
скажу».
55. Однажды я заметил, как одиннадцатилетний мальчик подо-
шел к девочке, которую он любил, и что-то шепнул ей. В ответ она
покраснела, опустила голову и недоуменно пожала плечами.
Несколько дней спустя я спросил его, с чем он тогда к ней обра-
тился. Никакого замешательства, искреннее желание вспомнить.
— Ах да, я спросил у нее, сколько шестнадцатью шестнадцать.
Я был ему так благодарен — столько он пробудил во мне хоро-
ших задушевных мыслей.
Другой раз мне стало известно, что с одной девочкой, когда она
шла вечером через сад, случилась какая-то загадочная история.
Наши ребята ходят в город без провожатых и в одиночку — это
входит в программу воспитания, и отказаться от этого было бы
очень жаль. Мы решили удвоить бдительность. Случай в саду меня
сильно беспокоил. Я потребовал, чтобы она во всем созналась, при-
пугнув, что иначе не буду пускать одну.
Она сказала, что, когда шла по саду, пролетавшая птичка ис-
пачкала ей шляпку: «сделала мне на голову».
Мне кажется, из нас двоих я был более сконфужен.
Будь мы более деликатны по отношению к детям, как часто нам
приходилось бы сгорать со стыда за ту нечистоплотность жизни,
которую они застали и от которой мы их не в силах уберечь.
56. Тихий шепот признаний подчас бывает шепотом доносов.
Не возмущайся лицемерно: ты выслушаешь доносчика, твоя
обязанность выслушивать.
— Он вас ругает, обозвал нехорошим словом.
— Откуда ты знаешь, что он меня ругает?
— Нас много слышало.
Значит, услышал случайно, не подслушал.
— Ну ладно, только зачем ты мне это говоришь?
Смущение: ну сказал и сказал.
— И что ты хочешь, чтобы я ему сделал?
Смущение: не знает, что он хочет, чтобы я тому сделал.
— Ну а знаешь ты, почему он меня ругал?
— Разозлился, что вы...
Суть доноса — ерундовская, цель — неясная. Наверное, думал
заинтересовать воспитателя, импонировала мысль, что вот, мол,
владеет великой тайной и делится ею со старшим.
— А ты сам не ругаешься, когда злишься?
— Иногда и ругаюсь.
— Не делай этого, это дурная привычка.
139
Не читай ему нравоучений, может быть, он хотел тебе добра,
а если нет, несколько ставящих в тупик вопросов и отсутствие инте-
реса к сообщению — достаточное наказание.
57. Преступная цель: желал отомстить.
— Старшие мальчики говорят разные свинства, и у них какие-
то неприличные картинки есть и стихи.
— Какие такие картинки и стихи?
Не знает. Он спрятался и подслушивал. А говорит потому, что
такие картинки иметь не разрешается. Он хочет, чтобы этих маль-
чишек наказали.
— А ты, случайно, не просил показать тебе картинку?
Просил, да они не захотели, сказали, что он мал еще.
— А я могу им сказать, от кого я узнал?
Нет, нельзя: они его побьют.
— Раз ты мне не позволяешь сказать, от кого я это знаю, то я
не могу им ничего сделать. Они могут подумать на кого-нибудь дру-
гого и побьют его.
Ну ладно, он не боится: поступайте как знаете.
— Спасибо, что сказал. При случае я поговорю с ними, по-
прошу больше этого не делать.
Я говорю ему «спасибо»: он заметил то, что я сам обязан был
заметить. А разговор о том, что месть уродлива, я откладываю
на после. На сегодня довольно, он ожидал другого эффекта —
выстрел не попал в цель.
58. Дело, может быть, очень серьезное, цель — благая.
Он был в доме, где скарлатина.— Малыши забиваются в раз-
девалку и курят, они дом поджечь могут.— Икс подговаривает
Игрека украсть.— Зет относит сторожу еду и взамен получает
яблоки.— Вчера на улице какой-то господин предлагал девочке
пойти в кондитерскую и прокатиться на автомобиле.
Ребенок знает, зачем он это говорит. Заметив опасность или
заслуживающий наказания поступок, он колебался, не знал, что
делать, и вот приходит посоветоваться, потому что тебе доверяет.
Ребята рассердятся, будут избегать его,— что ж, ничего не поде-
лаешь. Он свой долг выполнил: предостерег.
Я должен относиться к нему как к товарищу, который помог
мне решить трудный вопрос. Ребенок оказал мне большую услугу.
А теперь мы вместе с ним думаем, как быть дальше.
Помни, всякий раз, когда к тебе подходит ребенок с чужой тай-
ной, он тебя обвиняет:
«Ты не выполнил свой долг: не знаешь. А не знаешь потому,
что ты пользуешься у детей доверием, да только относительным —
дети тебе доверяют, да не все».
59. После того как ты узнал, не спеши. Не давай бесчестному
доносчику торжествовать: «Я, мол, обратил внимание, я, мол, вы-
полнил важную миссию». Твой долг защитить честного ребенка от
140
мести — вражды. Откладывая обсуждение дела в долгий ящик,
ты получаешь возможность, усилив бдительность, заметить все
сам.
Дальше: если, заметив провинность, ты немедленно бьешь
тревогу, дети могут быть уверены, что, раз ты молчишь, ты не
знаешь.
«Откуда вы знаете, а когда вы это узнали, а почему вы сразу
не сказали?» — вот о чем чаще всего спрашивают ребята, когда
напоминаешь им старый грех.
Еще раз: не спеши. Выжди удобный момент и поговори с ребен-
ком, когда он дружелюбно настроен, а само дело с течением вре-
мени перестало быть важным и актуальным. Ох, это было давно,
месяц тому назад. И он тебе откровенно расскажет, что его толкну-
ло на дурной поступок, и как он его совершил, и что чувствовал до,
во время его и после.
Дальше: не рассердишься, у тебя будет время обдумать,
взвесить, подготовиться. От разумного решения зависит под-
час все твое дальнейшее отношение к ребенку или к группе
ребят.
Пользуясь твоим хорошим настроением, он просит у тебя ящик
с ключиком.
— С большим удовольствием. Будешь лучше прятать свои
неприличные картинки, чтобы малыши не нашли.
Пристыжен, ошеломлен, удивлен.
Теперь он захочет с тобой поговорить. Не спеши! Чуть ос-
тыв, он сам отдаст тебе картинку (утратит прелесть новизны),
скажет, от кого получил, кому давал посмотреть. Чем ты спокой-
нее говоришь, тем всё проще, чем умнее, тем ближе к сути
дела.
60. Мой принцип:
«Пусть дитя грешит».
Не будем стараться предупреждать каждое движение, колеб-
лется — подсказывать дорогу, оступится — лететь на помощь.
Помни, в минуты тягчайшей душевной борьбы нас может не ока-
заться рядом.
«Пусть дитя грешит».
Когда со страстью борется еще слабая воля, пусть дитя терпит
поражение. Помни: в конфликтах с совестью вырабатывается мо-
ральная стойкость.
«Пусть дитя грешит».
Ибо, если ребенок не ошибается в детстве и, всячески опекае-
мый и охраняемый, не учится бороться с искушениями, он вырас-
тает пассивно-нравственным — по отсутствию возможности со-
грешить, а не активно-нравственным — нравственным благодаря
сильному сдерживающему началу.
Не говори ему:
«Грех мне противен».
Скажи лучше:
141
«Не удивляюсь, что ты согрешил».
Помни:
«Ребенок имеет право солгать, выманить, вынудить, украсть.
Ребенок не имеет права лгать, выманивать, вынуждать, красть».
Если ребенку ни разу не представился случай выковырить из
кулича изюминки и тайком съесть их, он не мог стать честным и
не будет им, когда возмужает.
— Возмутительно!
Лжешь.
— Я тебя презираю!
Лжешь.
— Никогда я от тебя этого не ожидал... Значит, даже тебе
нельзя доверять?
То-то и плохо, что не ожидал. Плохо и то, что безоговорочно
доверял. Никудышный ты воспитатель: не знаешь даже, что ре-
бенок — человек.
Ты возмущаешься не потому, что видишь грозящую ребенку
опасность, а потому, что ребенок может испортить репутацию
твоего учреждения, твоей педагогической системы и лично твою;
ты заботишься исключительно о себе.
61. Позволь детям ошибаться и радостно стремиться к исправ-
лению.
Детям хочется смеяться, бегать, шалить. Воспитатель! Если
для тебя жизнь — кладбище, позволь им в ней видеть лужайку.
Сам во власянице — банкрот бренного счастья или кающийся
грешник — имей мудрую снисходительную улыбку.
Здесь должна — должна царить атмосфера полной терпимости
к шутке, проказе, насмешке и подвоху и наивному греху лжи. Здесь
не место суровому долгу, каменной серьезности, железной необхо-
димости, непоколебимому убеждению.
Всякий раз, впадая в тон монастырского колокола, я делал
ошибку.
Верь мне, интернатская жизнь потому нам кажется мутной,
что мы требуем от нее слишком высокого идейного уровня. В со-
тый раз повторяю: в казарменной обстановке интерната не воспи-
таешь ни дивно цельной честности, ни пугливой чистоты, ни девст-
венной невинности чувств, не знающих, что зло существует.
И не потому ли ты так любишь этих своих честных, беззавет-
ных, кротких, что знаешь, как им будет тяжко на свете?
Да и может ли обойтись любовь к правде без знания дорог, ко-
торыми ходит кривда? Разве ты желаешь, чтобы отрезвление при-
шло внезапно, когда жизнь кулаком хама смажет по идеалам?
Разве, увидав тогда твою первую ложь, не перестанет сразу твой
воспитанник верить во все твои правды?
Если жизнь требует клыков, разве вправе мы вооружать детей
одним румянцем стыда да тихими вздохами?
Твоя обязанность — воспитывать людей, а не овечек, работни-
ков, не проповедников: в здоровом теле здоровый дух. А здоровый
142
дух не сентиментален и не любит быть жертвой. Я желаю, чтобы
лицемерие обвинило меня в безнравственности!
62. Дети лгут.
Лгут, когда боятся и знают, что правда не выйдет наружу.
Лгут, когда им бывает стыдно.
Лгут, когда ты их заставляешь сказать правду, которую они не
хотят или не могут сказать.
Лгут, когда им кажется, что так надо.
— Кто это пролил?
— Я,— признается кто-нибудь и попытается оправдаться, если
знает, что ты ему за это скажешь только: «Возьми тряпочку и по-
дотри» — и самое большее добавишь: «разиня».
Он признается и в серьезном проступке, если будет знать, что
воспитатель станет усиленно доискиваться, решив во что бы то ни
стало узнать правду. Пример: нелюбимому мальчику налили в по-
стель воды. Никто не признается. Я предупредил, что, пока винов-
ный не сознается, не выпущу никого из спальни. Прошел тот час,
когда старшие отправляются на работу; приближается время завтра-
ка. Завтракать ребята будут в спальне. В школу они не пойдут, и
так опоздали. В спальне шепот: совещаются. Часть ребят, безуслов-
но, не виновата, остальные в разной степени под подозрением.
Ребята уже, наверное, догадываются, кто мог это сделать, возможно,
уже знают, возможно, уговаривают сознаться.
— Господин воспитатель...
— Это ты сделал?
— Я.
Наказание было бы излишне: подобный проступок не повто-
рится...
Позволь ребенку хранить тайны: если ты дашь ему право ска-
зать: «Знаю, но не скажу» — он не станет лгать, что не знает.
Позволь ребенку свободно признаваться в чувстве, не отвечаю-
щем установленной заповеди.
63. «Как вас дети любят»,— говорит какая-нибудь сентимен-
тальная особа.
Бывает, заключенные любят снисходительных надзирателей.
Но есть ли хоть один ребенок, который не был бы в обиде на своего
воспитателя? Какое-нибудь неприятное распоряжение, какая-
нибудь когда-то сказанная резкость, затаенное желание, которое
он не откроет, «раз все равно из этого ничего не выйдет». Если ре-
бята думают, что они любят, то потому, что старшие им говорят,
что так должно быть; другие не хотят отставать; некоторые и сами
в толк не возьмут, любят они или ненавидят; а все они, видя мои
недостатки, хотели бы меня немножко переделать, сделать лучше.
Бедняги не знают, что самая большая моя вина — это то, что я
перестал быть ребенком.
«Как вас дети любят».
Как ребята подбежали, прильнули ко мне, обступили, когда я
143
пришел с войны! Но разве они не больше обрадовались бы, появись
в зале неожиданно белые мыши или морские свинки?
Мать, отец, воспитатель! Если ребенок полюбил тебя глубокой,
всегда одинаково бескорыстной любовью, пропиши ему водные
процедуры или даже немного брома.
64. Бывают минуты, когда ребенок тебя безгранично любит,
когда ты ему нужен, как никто: когда он болен и когда он испугался
ночью страшного сна.
Помню ночь, проведенную в больнице у постели больной девочки.
Время от времени я давал ей вдыхать кислород. Девочка дремала,
крепко держа меня за руку. Каждое движение моей руки сопровож-
далось словами: «Мама, не уходи», которые она шептала в полуза-
бытьи, не открывая глаз.
Помню, как, весь дрожа, в приступе безнадежного отчаяния,
вошел ко мне мальчик, перепуганный сном о мертвецах. Я взял
его к себе в кровать. Он рассказал сон, рассказал о покойных ро-
дителях и о своем пребывании после их смерти у дяди. Мальчик
говорил задушевным шепотом, может быть, желая вознаградить
за прерванный отдых, а может, из страха, что я усну раньше, чем
от него отступятся злые видения...
У меня есть письмо мальчика, полное жалоб на меня и на Дом
Сирот. Мальчик написал его на прощание. В письме он жалуется,
что я не понимал его и был к нему злой и несправедливый. В дока-
зательство, что он умеет ценить доброту, приведен пример: он, мол,
никогда не забудет, что, когда у него однажды болел ночью зуб, я
не сердился, что меня разбудили, и не брезговал, клал ему на зуб
ватку с лекарством. За все свое двухлетнее пребывание в Доме Си-
рот он один этот факт счел достойным сердечного упоминания.
А воспитатель обязан удалять больных детей из интерната и ночью
после целого дня работы спать.
65. Не будем требовать от детей ни индивидуального, ни кол-
лективного самопожертвования.
Папа, у которого много работы, мама, у которой болит голова,
усталый воспитатель — все это может тронуть раз или несколько
раз; если же это постоянно — утомит, надоест, будет злить. Мы
можем запугать детей так, что при первой же нашей гримасе боли
или выражении неудовольствия они начнут говорить шепотом и
ходить на цыпочках, но будут делать это нехотя, с перепугу, а не
из чувства привязанности.
Да, дети будут послушные, серьезные — у воспитателя горе.
Но пусть это случается редко, как исключение.
А разве мы, взрослые, всегда готовы уступать капризам, при-
чудам и достопочтенным взглядам старцев?
Я думаю, многие дети вырастают в отвращении к добродетели
потому, что ее безустанно внушают, перекармливая хорошими сло-
вами. Пусть ребенок сам открывает необходимость, красоту и сла-
дость альтруизма.
144
Всякий раз, указывая детям на их обязанности по отношению
к семье, младшим братьям и сестрам, я боюсь, что делаю ошибку.
Ребята сами принесут домой выигранные в лото картинки и
конфеты, потому что им приятно видеть радость братишки,— а
может быть, это только самолюбие? Что и они дают — как взрос-
лые?
Ребенок берет в сберкассе накопленный им рубль и отдает сест-
ре на башмаки. Прекрасный поступок! Но зчает ли ребенок цену
деньгам? Может быть, это просто легкомыслие?
Не сам поступок, а побуждение характеризует нравственный
облик и потенциальные возможности ребенка.
66. Ребенок подавлен нашим авторитетом, обязанностью быть
нам благодарным, уважать нас. Ребенок все это чувствует, но по-
другому, по-своему.
Ребята уважают тебя за то, что у тебя есть часы, что ты полу-
чил письмо с иностранной маркой, что имеешь право носить при
себе спички, поздно ложиться спать, подписываешься красными
чернилами, что ящик у тебя запирается на ключ,— за то, что ты
обладаешь всеми привилегиями взрослых. Намного меньше ребя-
та уважают тебя за образование, в котором зсегда усмотрят недос-
татки: «А вы умеете говорить по-китайски? А считать до милли-
арда?»
Воспитатель рассказывает интересные сказки, а кухарка и сто-
рож знают еще интереснее. Воспитатель играет на скрипке, а то-
варищ, играя в лапту, подкидывает мяч выше.
Добродушным детям импонируют все взрослые; настроенные
же критически не склоняют головы ни перед нашим умом, ни перед
нашей нравственностью. Взрослые врут, жульничают, они неискрен-
ние, прибегают к некрасивым уловкам. Если ззрослые не курят по-
тихоньку, то только потому, что могут курить открыто, ведь они
делают что хотят.
Чем больше ты заботишься о поддержании авторитета, тем
больше его роняешь; чем ты осторожнее, тем скорее его потеряешь.
Если ты только не смешон до последней степени, не абсолютно
туп и не стараешься по-дурацки вкрасться в доверие у ребят, за-
игрывая и делая поблажки, они станут тебя на свой лад уважать.
На свой лад — это как? Я не знаю.
Ребята будут смеяться, что ты худой и высокий — толстый —
лысый, что у тебя на лбу бородавка, что, когда ты сердишься, у
тебя шевелится нос, а когда смеешься, голова уходит в плечи. И ста-
нут тебе подражать, и захотят быть худыми или толстыми и шеве-
лить носом, когда сердятся.
Позволь им в какую-нибудь исключительную минуту в редкой
задушевной беседе сказать тебе по-товарищески, что они о тебе
думают.
— Вы такой странный. Иногда я вас люблю, а иногда так просто
убил бы со злости.
— Когда вы что-нибудь говорите, кажется, что все это правда.
145
А подумаешь и видишь, что вы ведь это только так говорите, потому
что мы дети.
— Никогда нельзя узнать, что вы о нас на самом деле думаете.
— И выходит, что и посмеяться над вами нельзя, раз вы только
иногда смешной.
67. Никто не запротестовал, что я в повести «Слава» позволил
одному из героев украсть. Я долго колебался, но не мог поступить
иначе: этот паренек, с такой силой желаний и таким живым вооб-
ражением, должен был один раз украсть.
Ребенок крадет, если ему чего-нибудь так крепко хочется, что
он не в силах устоять.
Ребенок крадет, когда чего-нибудь очень много — значит, одно
можно взять. Крадет, когда не знает, кто хозяин. Крадет, если у
него самого украли. Крадет, раз ему нужно. Крадет, потому что
его подговорили.
Объектом кражи может быть камушек, орех, обертка от кара-
мельки, гвоздик, спичечная коробка, осколок красного стекла.
Бывает, что все дети воруют, что детские кражи допускаются.
Эти маленькие, не имеющие цены предметы составляют не то лич-
ную, не то общую собственность.
— Нате вам лоскутки, играйте.
А перессорятся — что тогда?
— Перестаньте ссориться: вон у тебя сколько, дай и ему.
Ребенок подает тебе найденное им сломанное перышко:
— Возьми и выброси.
Ребенок нашел разорванную картинку, шнурок, бусинку. Если
можно выбросить, значит, можно и взять себе?
И мало-помалу перышко, иголка, кусочек резинки, карандаш,
наперсток, наконец, каждый валяющийся на окне, столе или на
полу предмет становится как бы общей собственностью. И если
в семье из-за этого каждый день сотня ссор, в интернате их будут
тысячи.
Есть два способа: один — недостойный — не позволять детям
держать у себя разный «хлам» и другой — правильный — у каждой
вещи есть свой хозяин и все, что найдено, должно быть возвращено
по принадлежности. Каждую пропавшую вещь надо немедленно
разыскать.
Таким образом, ребенок получает ясное указание; остается
только один, первый вид кражи; и поддаются подчас искушению
украсть не самые плохие дети.
68. Обман — это только разновидность кражи, кража замаски-
рованная.
Выпрашивание подарков, явно нелепые пари, азартные игры
и игры в «зелень» и в «косматое», наконец, выменивание «ценных»
предметов (перочинный нож, пенал, коробка из-под шоколада)
на предметы, ничею не гтояшие. Наконец, долги без указаний
срока.
146
Чаще всего воспитатель, заботясь о своем удобстве, запрещает
меняться, делать подарки, играть из корыстных соображений. Этот
запрет отрезает раз и навсегда пострадавшему путь к жалобе, и так
уже преданной анафеме.
Сотни наиболее жизненных, любопытных, своеобразных дел
не доходят до воспитателя, а одно, очень уж броское и потому разо-
блаченное, позволяет ему блеснуть ораторским талантом, пропо-
ведью, полной жизненной неправды. Следует запрет еще более
решительный — и опять тишь да гладь до следующего скандала.
Запрет имеет силу ненадолго — жизнь сметает его.
Сколько же этих отвратительных, деморализующих, обидных
дел по поводу невыполненных обязательств, выманенных подар-
ков, сознательно жульнических сделок!
Ребенок, потеряв чужой мяч или перочинный ножик, может
стать рабом.
69. Воспитатель, который приходит со сладкой иллюзией, что
он вступает в этакий маленький мирок чистых, нежных, открытых
сердечек, чьи симпатии и доверие легко снискать, скоро разочару-
ется. И вместо того чтобы винить тех, кто ввел его в заблуждение,
и себя самого, что поверил, он будет дуться на детей, подорвавших
его веру в них. А разве они виноваты, что тебе показали заманчивые
стороны работы и скрыли шипы?
Среди детей столько же плохих людей, сколько и среди взрос-
лых; только у детей нет то ли надобности, то ли возможности себя
проявить.
Все, что творится в грязном мире взрослых, существует и в мире
детей. Ты найдешь здесь представителей всех типов людей и об-
разцы всех их недостойных поступков. Дети подражают жизни,
речам и стремлениям воспитавшей их среды, ибо имеют в зародыше
все страсти взрослых.
И если я завтра встречаю группу детей, я уже сегодня обязан
знать, кто они. Там будут ласковые, пассивные, добродушные, до-
верчивые ребята — вплоть до самых злостных, явно враждебных
и полных двуличной инициативы или притворно уступчивых, кон-
спиративно злостных малолетних преступников и интриганов.
Я предвижу необходимость борьбы за режим и безопасность
и бездушных и честных. Я призову к сотрудничеству положитель-
ные элементы ребячьей толпы, противопоставлю их злым силам.
И только после того, как ясно представлю себе границы педагогиче-
ских влияний на данном участке, разверну планомерную воспита-
тельную работу.
Я могу внедрить традиции правды, порядка, трудолюбия, чест-
ности, искренности, но я не в силах изменить природу ребенка.
Береза так и останется березой, дуб дубом, лопух лопухом. Я могу
пробудить то, что дремлет в душе ребенка, но не могу ничего соз-
дать заново. И буду смешон, если стану сердиться из-за этого на
себя или на него.
147
70. Я заметил у честных воспитателей нелюбовь к неискренним
детям. Я хотел бы обратить внимание воспитателей на то, что раб-
ство, в каком мы держим детей, воспитывает в них ложь, умение
злоупотреблять нашим расположением, лицемерное угодничество,
комедию привязанности из расчета. Поражены этим недугом в раз-
ной степени все.
Загляни в души твоих «неискренних». Бедные дети! Иногда это
самолюбивые, но без реальных к тому данных (а может, просто
непонятые?); иногда это слабые физически и некрасивые, всеми
гонимые; иногда это приучаемые на стороне к ханжеству, калечи-
мые и порченные как тобой самим, который их не любит, так и теми,
кто, не замечая фальши их привязанности, благодарности и образ-
цовости, наделяет их особыми правами.
Если такой холодный, злой ребенок подошел к тебе и прилас-
кался, ты, хотя и знаешь, что он это сделал из расчета, не вправе
его оттолкнуть. Может быть, он просто не умеет по-другому, а
может, другие, которые тебя обманывают привлекательнее и лов-
чее, еще более лживы, ибо вошли в роль?
Среди тех, кто вертится около тебя больше, чем тебе бы хоте-
лось, может, есть слабые и нелюбимые, желающие, чтобы ты окру-
жил их заботой, защитил от обид?
Может, кто-нибудь им шепнул: будь поприветливее, дай буке-
тик, поцелуй — и попроси. Может быть, ребенок следует указанию
машинально, вопреки своей* сухой, но искренней натуре, а значит,
по приказу, неловко и неумело?
Меня удивило, когда один из мальчиков, сдержанный, старче-
ски сухой, замкнутый в себе мизантроп, стал вдруг со мной душев-
ным — первым смеялся над моими шутками, шел впереди, прокла-
дывая дорогу, предупреждал желания. Делал он это неловко, явно
желая привлечь внимание к своим поступкам. Так продолжалось
довольно долго, мне было неприятно, но я скрывал. Когда, наконец,
он попросил принять в Дом Сирот его младшего брата, я почувст-
вовал, как на глаза мои навертываются слезы: бедняга, каких ему
стоило усилий быть так долго тем, чем он по существу не был!
71. Ребята, не любимые другими ребятами, и ребята-любимцы,
коноводы. Важная тема, разработка ее дала бы ключ к загадочным
жизненным успехам не за счет душевных качеств или силы, а чего-
то неуловимого и нам неизвестного.
У красивых, здоровых, веселых, инициативных, смелых, талант-
ливых ребят всегда есть товарищи, союзники, поклонники; у черес-
чур честолюбивых бывают и враги. Отсюда враждебные лагери.
В детском коллективе случаются и мимолетные любимцы, дети
возвышают их, чтобы потом порадоваться их падению.
Не удивительно, если ребенка, который умеет организовать игры,
знает сказки, любит и умеет играть, охотно принимают товарищи:
он оделяет своей веселостью и задором, как другой яблоками и гру-
шами. И в конце концов, что и любить детям, как не изобилие слас-
тей или богаства духа, дающего им радость?
148
Дети не любят размазней и надоед, но кто они, эти размазни
и недоеды, как не слабые телом и бедные духом? Вот и идут они
к воспитателю: ведь ничего не давая ребятам сами, они ничего и
не получают взамен.
Так оно и должно быть, что больше всего на тебя посягают,
теснее всего тебя обступают не наиболее стоящие дети. Не требуй
для них всей полноты прав, они и сами немногого требуют.
Но и не отталкивай их.
72. Ребенок старается, а я добавлю, и имеет право использовать
все свои плюсы, все положительное, что в нем есть, чтобы обра-
тить на себя внимание: приятную внешность, ловкость, память,
хорошо подвешенный язык, звучный голос, происхождение. Если,
не переубедив, мы станем ему мешать, мы вызовем у него неприязнь,
и он усмотрит в нашем поступке придирку, а может, и зависть.
— Это наш певец, это наш гимнаст.
Может быть, это неправильно? Может быть, это портит? А может
быть, только придает ребенку храбрости прямо сказать то, что ду-
мает: да, он гордится, что лучше всех поет, что он самый ловкий.
Разве не бестактнее грубо сказать:
«Думаешь, раз хорошо поешь, раз у тебя отец войт *, так уж
тебе все можно?»
Или:
«Думаешь, обманул своей улыбкой?»
Или:
«Ты целуешь, потому что тебе что-то надо!»
Да, это так, но ты и сам так поступаешь.
Разве не подменяешь ты памятью отсутствие собственных мыс-
лей или способностью логически мыслить отсутствие памяти? Не
стараешься добиться послушания с помощью улыбки, так как не
умеешь или не любишь прибегать к угрозам? Не хочешь исправить,
целуя?
Разве сам ты не скрываешь своих пороков и недостатков?
Почему ты лишаешь ребенка права, которым пользуешься сам,
хотя и располагаешь колоссальными преимуществами возраста
и власти?
У огромного большинства детей еще нет ума. У них смекалка.
Локк называет смекалку обезьяной разума *. Чем более благопри-
ятные условия созревания создашь ты своим воспитанникам, тем
скорее твои забавные обезьянки превратятся в людей.
73. Дети опаздывающие — вот мерило терпения воспитателя.
Звонок. Непосвященные не знают, сколько нужно усилий со
стороны воспитателя и сколько упорства и доброго желания со
стороны детей, чтобы эта сотня по данному сигналу явилась в пол-
ном составе.
Еще только одна строка не переписанного до конца стиха, один
номер в лото, одно слово неоконченного разговора, не до конца
главы, а только до точки дочитанная сказка.
149
Уходя из класса, ты ждешь, чтобы закрыть дверь. Крича и тол-
каясь, летят сломя голову все, кроме одного или двух, и ты обязан
ждать, пока они в последнюю минуту чего-нибудь не наденут или
не вынут.
Выдаешь башмаки, пальто — то же самое.
И ты стоишь и ждешь у открытого шкафа — у лампы, чтобы
ее погасить,— у ванны, чтобы спустить воду,— у стола, чтобы соб-
рать посуду, ждешь этого одного или двух, чтобы начать или закон-
чить какую-нибудь работу. А у них вечно то затеряется шапка перед
самым уходом, то сломается перо в начале диктанта.
«Скорее! Ну, пошевеливайся!.. И долго это будет продолжать-
ся?.. Когда же ты, наконец, соизволишь?..»
Не сердись, такими они и должны быть.
74. Запрещение на первый взгляд не обременительное. Но бо-
решься безрезультатно: ребята не слушаются. Не сердись.
Мы запретили по вечерам разговаривать в спальне.
— Целый день в вашем распоряжении, могли* наболтаться.
А теперь спать.
Видно, что-то не позволяет подчиниться этому, казалось бы,
справедливому требованию, раз ребята разговаривают вполголоса,
шепотом. Стоит шум. Прикрикнешь — тишина, но ненадолго. Се-
годня, завтра, вчера — то же самое. Значит, осталось только взять-
ся за палку — применить насилие — или дознаться, в чем дело.
— О чем ты вчера разговаривал в спальне?
— Я ему рассказывал, как мы жили дома, когда еще папка
живой был.
— Я у него спросил, почему поляки не любят евреев?
— Я говорил, пусть исправится, тогда вы на него не будете
злиться.
— Я говорил, что, когда я вырасту большой, я поеду к эскимо-
сам и научу их читать и строить дома.
Грубым окриком: «Тихо там» — я прервал бы эти четыре раз-
говора.
Вместо проступка перед тобой раскрылись сокровенные думы
и заботы твоих детей. В шуме и ярмарочной суете нет места тихим
признаниям, печальным воспоминаниям, дружеским советам, во-
просам по секрету. Тебе надоедает шум с утра и до ночи и хочется
перед сном хотя бы минуту покоя — того же хотят и дети...
По утрам ты запрещаешь им разговаривать до определенного
часа? А что делать тому, кто проснулся раньше, кто каждый день
просыпается раньше?
И в этой бесцельной борьбе за утреннюю тишину в спальне одер-
жали победу дети, а я сделал открытие, если и не решающее, то уж,
во всяком случае, первостепенного значения.
75. Другой пример.
Мне часто случалось задавать детям вопросы:
«Что поделываешь, что у тебя слышно, почему ты такой неве-
селый, как поживают твои домашние?»
150
И часто слышать в ответ:
«Да ничего, все в порядке, я не невеселый».
Я был доволен: на то, чтобы показать ребенку, что я им интере-
суюсь и к нему расположен, я тратил ничтожные доли минуты.
Проходя мимо, я часто гладил кого-нибудь по головке.
Через некоторое время я обратил внимание на то, что дети не
любят ни эти ласки, ни вопросы. Одни отвечали нехотя, как бы с
некоторым смущением; другие с холодной сдержанностью, а то и
с иронической улыбкой. Раз ко мне обратился по довольно важному
делу мальчик, всего минуту назад давший стандартный ответ на
вопрос. От поглаживания по головке дети, в другое время нежные
и чувствительные, явно уклонялись.
Признаюсь, это меня раздражало, я сердился и наконец понял.
В этих привычных, небрежно брошенных вопросах ребенок не видит
ни искреннего интереса, ни возможности обратиться с просьбой.
Он прав: подавая целую коробку конфет, ты рассчитываешь, что
гость возьмет одну и не самую большую. Ты потчуешь ребенка долей
минуты, он дает тебе требуемый ответ: «Все в порядке», но, испол-
нив долг вежливости, остается в обиде на тебя за притворный ин-
терес к его особе, не желая, чтобы к нему обращались, чтобы только
отделаться, мимоходом.
— Ну как, вам лучше? — спрашивает врач на обходе в больни-
це.
По тону голоса и движениям больной видит, что врач торопится,
и нехотя отвечает:
— Спасибо, лучше.
76. Дети не привыкли к фальши светских условностей и, добав-
лю, к обычной лжи нашей разговорной речи.
«Просто руки опускаются.— За обедом должно быть тихо, как
в церкви.— На нем все так и горит.— Что ни возьмет в руки, все
ломает.— Сто раз тебе говорил, больше уже я повторять не стану».
Для ребенка все это ложь.
И как ему только не стыдно говорить, что у него руки опускают-
ся, раз он ими все время двигает? А в церкви вовсе не тихо. Штаны
не сгорели, а порвались, когда он лез через забор, и их можно за-
штопать. Он очень много вещей берет в руки и не ломает, а если
одна и сломалась, так это с каждым может случиться. Сто раз не
говорили, а самое большее пять, и еще не раз повторят.
— Ты что, оглох?
Нет, не оглох. Этот вопрос — тоже ложь.
— На глаза мне не показывайся!
И это запрещение — ложь, ведь велят же ему обедать вместе
со всеми?
Сколько раз ребенок готов взбунтоваться, предпочитая полу-
чить несколько колотушек, «только бы это противное пиление
кончилось!».
Быть может, убежденный в том, что воспитателей надо уважать,
ребенок страдает, видя, как это уважение рассыпается в прах?
151
Ведь насколько ребенку легче подчиняться, когда он действитель-
но убежден в их моральном превосходстве.
77. Мы ввели в Доме Сирот реформу: за завтраком, обедом и
ужином ребята получают хлеба сверх нормы, сколько хотят. Нельзя
только разбрасывать и оставлять недоеденным. Бери столько, сколь-
ко можешь съесть. Ребята не сразу приобретают соответствующий
навык, ведь для многих свежий хлеб — лакомство.
Вечер, ужин окончен, малышей послали спать.
В этот момент одна из старших девочек, откусив небольшой
кусочек хлеба, демонстративно швыряет остаток порции на стол,
за которым я сижу, и идет дальше, шаркая ногами. Я был так изум-
лен, что не нашелся ничего сказать, кроме: «Гадкая, наглая дев-
чонка». В ответ презрительное пожатие плечами — слезы — оби-
женная, она направляется в спальню.
Я удивился, когда застал ее вскоре в постели и уже спящей.
Несколько дней спустя я понял причину этого, казалось бы,
явно нелепого поступка, когда та же самая девочка заявила, что
хочет ложиться спать раньше, вместе с маленькими.
Самолюбивая, она не сразу могла решиться на такое униже-
ние — ложиться спать вместе с малышами. И вот полусознатель-
но, или подсознательно спровоцировала меня на вспышку гнева,
чтобы иметь повод обидеться, расплакаться и раньше, чем положе-
но, лечь спать...
Несколько слов о ее шаркающей походке.
Ходила она не поднимая ног, а везя их по полу. Некоторым де-
тям это нравилось, и они стали ей подражать. Эта старческая по-
ходка у ребенка казалась мне неестественной, смешной, безобраз-
ной и, добавлю, какой-то неуважительной. Несколько позже я заме-
тил, что такая походка не только естественна, но и свойственна де-
тям в период интенсивного развития. Это походка усталых.
Когда я занимался частной практикой, я не раз спрашивал:
— А вы не заметили, что у вашего ребенка изменилась походка?
— Да, да, идет, надуется, точно принцесса какая. Ну просто
беда, а иной раз и злость разбирает. Волочит ноги, словно столет-
ня старуха или бог весть как наработалась.
78. Разве уже этот один пример не доказывает, как тесно связан
духовный мир с его физиологической основой?
Как ошибаются те, кто считает, что, бросив больницу ради ин-
терната, я предал медицину! После восьми лет работы в больнице
я достаточно ясно понял, что все, что не настолько случайно, как
проглоченный гвоздь или сбившая ребенка машина, можно познать
лишь в результате многолетнего клинического наблюдения, и при-
том ежедневного, в мирные периоды благополучия, а не изредка,
во время болезни-катастрофы.
Берлинская больница и немецкая медицинская литература на-
учили меня думать о том, что мы уже знаем, и постепенно и систе-
матически идти вперед. Париж научил меня думать о том, чего мы
152
не знаем, но желаем, должны и будем знать. Берлин — это буднич-
ный день, полный мелких забот и усилий. Париж — это праздник
завтра с его ослепительным предчувствием, могучей надеждой,
неожиданным триумфом. Силу желания, боль неведения, наслаж-
дения поисков дал мне Париж; технику упрощений, изобретатель-
ность в мелочах, гармонию деталей я вынес из Берлина.
Великий синтез ребенка — вот о чем грезил я, когда, раскрас-
невшись от волнения, читал в парижской библиотеке удивительные
творения французских классиков-клиницистов.
79. Медицине я обязан техникой исследования и дисциплиной
научного мышления.
Как врач я констатирую симптомы: я вижу на коже сыпь, слышу
кашель, чувствую повышение температуры, устанавливаю при
помощи обоняния запах ацетона изо рта ребенка. Одни я замечаю
сразу, те, что скрыты, ищу.
Как у воспитателя у меня тоже есть свои симптомы: улыбка,
смех, румянец, плач, зевок, крик, вздох. Как бывает кашель сухой,
с мокротой и удушливый, так бывает и плач в три ручья, в голос и
почти без слез.
Симптомы я устанавливаю беззлобно. У ребенка жар, ребенок
капризничает. Я стараюсь снизить температуру, устраняя по мере
возможности причину, ослабляю напряжение каприза, насколько
это удается, без ущерба для детской психики.
Когда я не знаю, почему мое вмешательство как врача не прино-
сит желательного результата, я не сержусь, а ищу. Когда я заме-
чаю, что мое распоряжение не достигает цели и приказ не испол-
няется многими или одним, я не сержусь, а исследую.
Иногда на первый взгляд мелкий, ничего не значащий симптом
говорит о великом законе, а изолированное явление глубоко связа-
но с важной проблемой. Как для врача и воспитателя для меня
нет мелочей: я внимательно наблюдаю то, что кажется случайным
и малоценным. Легкая травма иногда разрушает хорошо устроен-
ные послушные, но хрупкие функции организма. Микроскоп откры-
вает в капле воды заразу, опустошающую города.
Медицина показала мне чудеса терапии и чудеса человеческих
усилий подсмотреть тайны природы. Работая врачом, я много раз
видел, как человек умирает и с какой безжалостной силой, разры-
вая материнское чрево, пробивается в мир к жизни созревший плод,
чтобы стать человеком.
Благодаря медицине я научился кропотливо связывать распы-
ленные факты и противоречивые симптомы в логичную картину
диагноза. И обогащенный сознанием мощи законов природы и ге-
ния научной мысли человека, останавливаюсь перед неизвестным:
ребенок.
80. Сердитый взгляд воспитателя, похвала, выговор, шутка, со-
вет, поцелуй, сказка в качестве награды, словесное поощрение —
вот лечебные процедуры, которые надо назначать в малых и боль-
153
ших дозах, чаще или реже, в зависимости от данного случая и осо-
бенностей организма.
Существуют аномалии, искривления характера, которые надо
терпеливо лечить у ортофренолога. Существует врожденная или
благоприобретенная душевная анемия. Существует врожденная
слабая сопротивляемость моральной заразе. Все это можно распоз-
навать и лечить. Слишком поспешный и потому ошибочный диагноз
и несоответствующее или чрезмерно энергичное лечение приводят
к ухудшению.
Голод и пресыщение в сфере духовной жизни так же материаль-
ны, как и в жизни физической. Ребенок, изголодавшийся по советам
и указаниям, поглотит их, переварит и усвоит, а перекормленный
моралью — испытает тошноту.
Ребячья злость одна из самых важных и любопытных областей.
Рассказываешь ему сказку — не слушает. Ты не понимаешь
почему, но вместо того, чтобы удивиться, как естествоиспытатель,
выходишь из себя, сердишься.
— Не хочешь слушать, ладно... Потом и попросишь — не рас-
скажу.
— Ну и не надо,— отвечает ребенок.
А и не скажет, так подумает: по жесту, по выражению лица
видишь, что он не нуждается в твоей сказке.
Целуя и обнимая маленького сорванца, я просил его испра-
виться. Мальчуган расплакался и сказал с отчаянием:
— Ну разве я виноват, господин воспитатель, что вы как раз
не любите озорных, а только растяп? Вон велите-ка ему стать озор-
ным, он тоже вас не послушает.
Его Слезы не означали раскаяния. Он не протестовал против
моих ласк и приторных речей, считая их заслуженным суровым
наказанием за свои многочисленные прегрешения. Он только думал
о своем будущем безнадежно: «Этот симпатичный, но глупый вос-
питатель не может понять, что я не могу быть другим. Зачем он
так строго наказывает меня поцелуями, я ненавижу, когда целуют,
дал бы уж лучше подзатыльник или велел бы все лето ходить в
рваных штанах».
81. Суммируя результаты, которые дало клиническое наблюде-
ние в больнице, я спрашиваю: а что же нам дал интернат? Ничего.
Я спрашиваю у интерната: сколько часов сна необходимо ребен-
ку? В учебниках гигиены приводится какая-то переписываемая из
книжки в книжку неизвестно кем составленная таблица. Таблица
гласит, что чем ребенок старше, тем меньше нуждается в сне —
ложь. В общем, дети требуют меньше сна, чем мы привыкли думать
и, добавлю, чем мы бы хотели. Количество часов сна колеблется
в зависимости от стадии развития, в какой находится ребенок: час-
то тринадцатилетние ложатся спать вместе с маленькими, а десяти-
летние в это время бодры и не слушаются книжных предписаний.
Тот же самый ребенок сегодня не может дождаться звонка,
чтобы вскочить с постели, независимо от погоды и температуры
154
в спальне, а через год вдруг становится вялым, просыпается с уси-
лием, потягивается, медлит и от холода в спальне приходит в от-
чаяние.
Аппетит у ребенка: не ест, не хочет, отдает другим, увиливает,
обманывает, только бы не есть.
Проходит год: не ест, а просто пожирает — крадет из буфета
булки.
А любимые и ненавистные блюда?
На вопрос, какие у него два самых сильных огорчения, маль-
чик отвечает: «Первое, что у меня умерла мама, а второе, что меня
заставляют есть горошницу».
А бывают дети, которые съедают и по три порции горохового
супа.
Но разве можно говорить об индивидуальных особенностях,
не зная общих законов?
А эта детская манера горбиться, когда ребята через некоторое
время выпрямляются и опять сутулятся? Бледные набирают румян-
ца и снова бледнеют. Уравновешенные становятся вдруг каприз-
ными, упрямыми, непослушными, чтобы через некоторое время
опять прийти в равновесие — «исправиться».
Сколько мышьякового распутства и ортопедического надува-
тельства исчезло бы в медицине, знай мы весны и осени развития
ребенка! Да и где детей исследовать, как не в интернатах? Задача
больницы — изучать болезни, резкие изменения, яркие симптомы;
вся же ювелирная отделка гигиены, микронаблюдение малейших
отклонений должны вестись в интернате.
82. Мы не знаем детей, хуже того — знаем по предрассудкам.
Просто стыд берет, когда на какие-то два-три произведения, дейст-
вительно писавшихся у колыбели, ссылаются все до омерзения.
Просто стыд берет, когда первый попавшийся добросовестный ра-
ботник становится авторитетом чуть ли не во всех вопросах. Мель-
чайшей детали в медицине посвящена более обширная литература,
чем в педагогике целым разделам науки. Врач в интернате почет-
ный гость, а не хозяин. Не удивительно, что кто-то съязвил, что
реформа интерната — это реформа стен, а не душ. Здесь все еще
царит не изучение, а нравоучение.
Читая старые клинические работы, мы видим кропотливость
исследований, которая вызывает у нас порой смех и всегда удив-
ление: например, подсчитывалось количество сыпинок на коже при
сыпных заболеваниях; врач дни и ночи не отходил от больного.
Медицина теперь вправе несколько забросить клинику — возло-
жить надежды на лабораторию.
А педагогика, перескочив через клинику-интернат, сразу взя-
лась за лабораторные работы.
Я провел в интернате каких-нибудь три года (за это время мож-
но успеть приглядеться) и не удивляюсь, что собрал целую сокро-
вищницу наблюдений, планов и предположений; в этом эльдорадо
еще никто не был, о его существовании не знают.
155
83. Мы детей не знаем.
«Ребенок дошкольного возраста», «школьный возраст» — это
полицейское деление там, где существует школьная рекрутчина.
Период прорезывания молочных зубов, постоянных зубов, период
полового созревания. Нечего удивляться, что при современном
состоянии наблюдений за ребенком мы заметили только зубы и во-
лосы под мышками.
Мы не умеем объяснить даже те противоречия в детском орга-
низме, которые бросаются в глаза: с одной стороны, жизнеспособ-
ность клеток, с другой — уязвимость. С одной стороны, возбуди-
мость, выносливость, сила; с другой — хрупкость, неуравнове-
шенность, утомляемость. И ни врач, ни воспитатель не знают, яв-
ляется ли ребенок существом «неутомимым» или хронически ус-
талым.
Сердце ребенка? Знаю. У ребенка два сердца: централь-
ное, переутомленное, и периферийное, в эластичных сосудах.
Поэтому пульс так легко исчезает, но зато и легко восстанавли-
вается.
Но почему у одних детей под влиянием сильного возбуждения
пульс замедленный, с перебоями, а у других учащенный и без пере-
боев? Почему одни бледнеют, а другие краснеют? Кто прослушивал
сердце у ребят, перескочивших сто раз через веревочку? Не в том
ли причина кажущейся живучести, неутомимости ребенка, что у
него нет опыта расходования энергии до предела? Почему пульс
у девочек под влиянием сильного возбуждения более частый, чем
у мальчиков; и что это значит, когда у мальчика пульс реагирует
«по-девчачьи», а у девочки — «по-мальчишески»?
Все это вопросы не интернатского врача, а интернатского врача-
воспитателя.
84. Воспитатель говорит: «М о й метод, мой взгляд». И он
вправе так говорить, даже если имеет слабую теоретическую под-
готовку и всего несколько лет работал.
Но пусть он докажет, что этот метод или взгляд подсказаны
ему опытом работы в таких-то условиях, в такой-то области, на
таком-то материале. Пусть обоснует свою позицию — приведет
примеры, подкрепит аргументами.
Даю ему право даже на то, что является самым трудным и рис-
кованным: право предрекать, предсказывать, что выйдет из данного
ребенка.
Но пусть его никогда не покидает сознание, что он может оши-
баться. Пусть ни один из его взглядов не станет ни непререкаемым
убеждением, ни убеждением навсегда. Пусть сегодняшний день всег-
да будет только переходом от суммы вчерашних наблюдений к зав-
трашней, еще большей.
Каждый вопрос и каждый факт должны рассматриваться неза-
висимо от общих воззрений. Факты противоречат друг другу, и
только по количеству их там и здесь можно делать предположе-
ния об общих законах.
156
Только при соблюдении всех этих условий работа воспитателя
не будет ни монотонной, ни безнадежной. Каждый день принесет
что-либо новое, неожиданное, необыкновенное, обогатит еще одним
данным.
Необычная или редкая жалоба, ложь, спор, просьба, проступок,
проявление непослушания, жульничества или геройства станут
для него тогда столь же ценны, как для коллекционера или уче-
ного редкая монета, окаменелость, растение, положение звезд в
небе.
85. И только тогда он полюбит каждого ребенка разумной лю-
бовью, заинтересуется его духовной сущностью, потребностями и
судьбой. Чем ближе он станет ребенку, тем больше заметит в нем
черт, достойных внимания. И в исследовании найдет и награду
и стимул к дальнейшему исследованию, к дальнейшим уси-
лиям.
Пример:
Злая, некрасивая, приставучая девчонка. Принимает участие в
игре только для того, чтобы ее расстроить. Задирает, чтобы пожа-
ловаться, когда обидят. Проявишь внимание — наглеет. Слабое
умственное развитие, стремлений нет, чувствительность отсутст-
вует, никакого самолюбия, бедное воображение.
Я люблю ее как естествоиспытатель, который приглядывается
к какому-нибудь жалконькому злому существу — и поди ж ты,
уродился этакий уродец, этакая Золушка природы!
Я строго предупредил:
— Чтобы ты мне не смел вставать с постели!
И вернулся к прерванным вечерним перевязкам.
Когда через минуту в спальне раздалось тревожное: «Господин
воспитатель!» — я уже знал, что это значит.
Ясно, не послушался и встал, чтобы свести счеты с приятелем.
Я молча дал ему несколько шлепков по руке и, накинув ему на
плечи одеяло, повел к себе в комнату.
Раньше, полгода тому назад, он упирался бы, вырывался, хва-
тался за спинки кроватей и дверные косяки. Сегодня у него уже
есть опыт нескольких неудачных попыток, и он идет. Удивительно
точно размерен шаг: чуть быстрее значило бы, что сдается, чуть
помедленнее — было бы уже сопротивлением. Я слегка подталкиваю
его ладонью, лишь настолько, чтобы знал, что он идет недоброволь-
но. Он идет, а на его лице тень, словно душу его окутала черная
туча и вот-вот прольется ливнем.
...Стоит, опершись о стенку, опустив голову, не дрогнет.
Я кончаю мелкие процедуры: мажу йодом поцарапанный палец,
вазелином — потрескавшиеся губы, капля глицерина на руки,
ложка микстуры от кашля...
— Можешь идти.
Я иду следом,— а ну, как ударит по дороге? Нет, покосился
только, замедлив шаг, может быть, дожидаясь,— пусть только тро-
нет, пусть скажет: «Ага, в углу стоял!»
157
Дошел до своей кровати, лег, накрылся с головой одеялом, мо-
жет быть, нарочно притих, чтобы я шел к себе.
Я хожу между рядами кроватей.
Малый был уже на пути к исправлению, а сегодня опять плохой
день. Хлопнул дверью со зла, а дверь стеклянная. Стекло треснуло.
А сказал, что это ветер, сквозняк,— я поверил.
Когда прыгали через веревочку, не хотел соблюдать очередь,
а не дали, обиделся, не прыгал и всем мешал. Ребята наябедничали.
Ужина не съел: не понравилась булка, а дежурный не захотел об-
менять.
Трудно объяснить ребятам, что ему следует больше прощать,
чем им.
Шум засыпающей спальни стихает. Особенная минута, удиви-
тельно тогда легко и хорошо думается.
Моя научная работа.
Кривые веса, графическое изображение развития, данные из-
менения роста, прогноз соматической и психической эволюции.
Столько надежд — какой же результат? А если никакого?
А разве мало с меня испытывать чувство радостной благодар-
ности, что дети растут и крепнут? Разве уже одно это не доста-
точная награда за труд? Разве не вправе я бескорыстно чтить при-
роду: пусть зеленеют всходы?
Вот журчащий ручей, вот нива, сад, шумящий листвой. И зада-
вать вопросы зернам колышащихся колосьев, спрашивать капли об
их назначении?
К чему обкрадывать природу, пусть хранит свои тайны.
Вот спят дети. И пожалуй, у каждого есть хоть один грех: напри-
мер, оборвал и не пришил пуговицу. Как все это мелко в перспек-
тиве грозного завтра, когда ошибка порой мстит за себя целой
разбитой жизнью.
Такие спокойные и тихие...
Куда мне вести вас? К великим идеям, высоким подвигам?
Или привить лишь необходимые навыки, без которых изгоняют из
общества? Но научив сохранять свое достоинство? Имею ли я пра-
во за эти жалкие крохи еды и заботы в течение нескольких лет
требовать, приказывать и желать? Может быть, для любого из
вас свой путь, пусть на вид самый плохой, будет единственно
верным?
Тишину сонных дыханий и моих тревожных мыслей нарушает
рыдание.
Я знаю этот плач, это он плачет. Сколько детей, столько ви-
дов плача: от тихого и сосредоточенного, капризного и неискрен-
него до крикливого и бесстыдно обнаженного.
Неприятно, когда дети плачут, но только его рыдание — сдав-
ленное, безнадежное, зловещее — пугает.
Сказать «нервный ребенок» — этого мало. Как часто, не зная
существа дела, мы удовлетворяемся мудреным названием. Нервный,
158
потому что говорит во сне, нервный, потому что чувствительный,—
живой — вялый — быстро утомляющийся — не по летам разви-
тый — progenere, как говорят французы.
Редко, но бывают дети, которые старше своих десяти лет. Эти
дети несут напластования многих поколений, в их мозговых изви-
линах скопилась кровавая мука многих страдальческих столетий.
При малейшем раздражении имеющиеся в потенции боль, скорбь,
гнев, бунт прорываются наружу, оставляя впечатление несоот-
ветствия бурной реакции незначительному раздражению.
Не ребенок плачет, то плачут столетия; причитают горе да
печаль не потому, что он постоял в углу, а потому, что их угне-
тали, гнали, притесняли, отлучали. Я поэтизирую? Нет, просто спра-
шиваю, не найдя ответа.
Чувства должны быть очень напряжены, если любой пустяк мо-
жет вывести из равновесия. И должны быть негативными, раз с тру-
дом вызовешь улыбку, ясный взгляд и никогда — громкое прояв-
ление детской радости.
Я подошел к нему и произнес решительным, но ласковым ше-
потом:
— Не плачь, ребят перебудишь.
Он притих. Я вернулся к себе. Он не заснул.
. Это одинокое рыдание, подавляемое по приказу, было слишком
мучительно и сиротливо.
Я встал на колени у его кровати и, не обращаясь ни к какому
учебнику за словами и интонациями, заговорил монотонно, впол-
голоса.
— Ты знаешь, я тебя люблю. Но я не могу тебе все позволить.
Это ты разбил окно, а не ветер. Ребятам мешал играть. Не съел
ужина. Хотел драться в спальне. Я не сержусь. Ты уже исправился:
ты шел сам, не вырывался. Ты уже стал послушнее.
Он опять громко плачет. Успокаивание вызывает иногда прямо
противоположное действие, возбуждает. Но взрыв, выигрывая в
силе, теряет в продолжительности. Мальчик заплакал в голос, чтобы
через минуту затихнуть.
— Может, ты голодный? Дать тебе булку?
Последние спазмы в горле. Он уже только всхлипывает, тихо
жалуясь исстрадавшейся, обиженной, наболевшей душой.
— Поцеловать тебя на сон грядущий?
Отрицательное движение головы.
— Ну, спи, спи, сынок.
Я легонько дотронулся до его головы.
— Спи.
Он уснул.
Боже, как уберечь эту впечатлительную душу, чтобы ее не за-
лила грязь жизни?
159
Летние колонии
...Скажи лучше, с какими надеждами
ты сюда шел, какие питал иллюзии,
какие повстречал трудности, как стра-
дал, столкнувшись с действительностью,
какие делал ошибки, как, исправляя
их, был вынужден отступать от общепри-
нятых взглядов, на какие шел компро-
миссы...
1. Я многим обязан летним колониям*. Здесь я впервые
столкнулся с детским коллективом и на практике изучил азбуку
самостоятельной педагогической работы.
Полный иллюзий, лишенный опыта, юный и сентиментальный,
я думал, что, многого желая, я многого и достигну.
Я верил, что добиться любви и доверия ребячьего мирка легко;
в деревне ребятам следует дать полную свободу, мой долг — быть
со всеми ровным, каждый малолетний грешник, отнесись к нему
хорошо, сразу раскается.
Я стремился сделать детям чердаков и подвалов их четырех-
недельное пребывание в колонии «сплошной полосой веселья и
радости», без единой слезы.
Бедные мои милые друзья, вы, кто, как и я тогда, не может
дождаться, когда наконец настанет эта минута! Мне жаль вас, если,
расхоложенные с самого начала, поколебленные в самых основах,
приписывая вину себе, вы не сумеете быстро восстановить душев-
ное равновесие.
Чужой опыт искушает вас, говоря:
«Видишь? Не стоит! Поступай, как я: заботься о собственном
удобстве, не то полетишь ко всем чертям на радость завистни-
кам, не принеся пользы детям, которым хочешь служить. Не стоит!»
Ты зависишь от людей опытных. Они, что ни говори, справ-
ляются со своим делом, а ты, сознайся искренне, стоишь, опустив
руки, в недоумении.
Бедняги, как мне вас жаль!
2. Такая легкая и благодарная задача! У тебя тридцать детей
(из ста пятидесяти) и никакой программы. Делай как знаешь. Игры,
купание в речке, экскурсии, сказки — полная свобода инициативы.
Экономка позаботится о еде, товарищи-воспитатели в случае чего
помогут, прислуга присмотрит за порядком, деревня одарит вас
прекрасными местами, солнышко — ласковыми улыбками.
Ожидая с нетерпением дня отъезда, я обдумывал отдельные
второстепенные детали, не предчувствуя ближайших серьезных
задач. Раздобыл граммофон и волшебный фонарь, достал фейер-
верки, купил про запас шашки и домино — может быть, их не ока-
жется среди игрушек?
Я знал, что детей придется переодеть в колонистское платье,
разместить кого в спальне, кого у себя, и уж конечно изучить фами-
160
лии и лица моих тридцати ребят, а может быть, и всех ста пятиде-
сяти. Но я об этом совершенно не думал — сделается, мол, само
собой! Думая о детях, я не задавался вопросом, кто они.
Я поддался обаянию стоявшей передо мной задачи, наивно по-
верив в ее легкость.
3. Как запомнить тридцать фамилий, подчас трудных и схожих,
и тридцать лиц? Ни в одном из учебников об этом не упоминается,
а без этого нет авторитета воспитателя и нельзя приступить ни к
какому систематическому воспитанию.
Здесь возникают вопросы: какие дети и какие фамилии прежде
всего запоминаются? Каковы индивидуальные особенности зритель-
ной памяти воспитателя? И как все это сказывается на судьбах детей
и вообще на работе воспитателя в учреждениях со значительным
количеством ребят?
Опыт показывает, что одни дети запоминаются сами, других
надо запоминать. Здесь нельзя полагаться на время, потому что,
прежде чем наконец ты всех изучишь, ты наделаешь много ошибок,
зачастую ставя себя в неловкое положение.
Скорее всего запоминаются калеки и ребята с особой приметой,
необычные — очень маленькие или очень высокие, самые старшие,
горбатые, рыжие, на редкость красивые или безобразные. Порой
фамилия привлекает внимание воспитателя еще до того, как он уви-
дел самого ребенка. Часто успех папирос или лекарства зависит
от удачного названия или упаковки — к сожалению, то же бывает и
с людьми.
Из целого моря впечатлений мы выхватываем легче всего за-
поминающиеся; при оценке человеческих качеств — то, что проще
всего заметить и правильно оценить.
4. Для ребенка, обладающего некоторыми положительными ка-
чествами или умеющего в них принарядиться, важно, конечно, чтобы
его знали. Ведь мы общаемся главным образом с детьми, которых
мы знаем,— даем им поручения, то есть возможность сблизиться с
нами, найти общий язык, отличиться. И они чувствуют себя уверен-
нее, ближе к нам — они уже привилегированные.
Ребенку приятнее обратиться с просьбой или вопросом к вос-
питателю, который его знает, да и воспитатель охотнее выслушает
ребенка, о котором он слышал, кого помнит, знает в лицо. То, чего
заурядному ребенку приходится добиваться, ребенку с запоминаю-
щейся внешностью или фамилией дается само собой.
Остающиеся в тени ребята, чувствуя несправедливость или,
наоборот, поверив в простоте души в свою никудышность, сторо-
нятся тебя еще больше. Теперь, желая ближе познакомиться, ты
должен суметь подойти к ним. Иначе ты их лишаешь своей помощи
и совета, предоставляя в конфликтах с толпой ребят собственным
силам и переживаниям.
В каждой конторе, на каждой фабрике, в каждой казарме есть
свои обездоленные судьбой потому лишь, что начальник незнаком
6 Януш Корчак
161
с ними, не знает о них, не помнит. Так подчас пропадают зря ценные
силы.
И дети, быстро приобретя опыт, ждут при первой встрече с тобой:
маленький Мицкевич или Собеский *— шутливого вопроса, краси-
венький — приветливой улыбки, а дурнушка-рыжик или Баран на-
перед знают, что от нового окружения жди новой беды. И если ты
на красивенького, самоуверенного лишь подольше и повниматель-
нее взглянул, а злополучную фамилию прочел быстрее и тише, ты
уже оправдал надежды первого и подтвердил опасения второго.
5. На основании внутренних достоинств и недостатков скорее
всего познаешь вспыльчивых или надоедливых и плохо воспи-
танных или воспитанных лучше, чем обычно. Сами о себе дают знать,
сея тревогу, проделки озорников и плаксивые визги зануд; дети из
бедных семей доставляют хлопоты своим одичанием; дети из более
обеспеченных семей и подхалимы привлекают внимание хорошими
манерами. Будут там, наконец, и ребята проворные и себе на уме,
которые силком навяжут тебе помощь, совет, справку.
И все эти дети: красивенькие, с громкой фамилией или из со-
стоятельных семей — настойчиво требуют, чтобы я признал их и
выдвинул на первый план из серой толпы, которая должна остаться
в тени, и удивляются, если я не делаю этого сразу, и возмущаются,
если я этого вообще не хочу делать, и используют все способы борь-
бы, какие в ходу у взрослых.
Молоденький князь в школе для богатых, сынишка войта в на-
родной школе, если сами не додумаются и не потребуют, так их кто-
нибудь подучит — требуй, а не получил, чего хотел, мсти: «Скажи,
что учитель бьет, не молился, нехорошо отзывается о начальстве,
плохо учит, совсем с нами не занимается». Или испачкают тебе ме-
лом стул, загадят уборную, устроят беспорядок во время инспекг
торского обхода, взбунтуют бесцветных и равнодушных и втянут в
некрасивую историю самых невинных, как раз тех, кого ты желаешь
оградить от обид.
Радостно ожидая дня отъезда в колонию, я по своей наивности
не подозревал, сколько нужно такта и осмотрительности, чтобы
овладеть грозной оравой ребят.
6. Я не испытывал никаких опасений и тогда, когда увидел, что
некоторых я должен был по нескольку раз уговаривать не высовы-
ваться из окон вагона и не выскакивать на площадку. Уже один
мальчик собирался было встать в дверях и последить, а другой
записывать фамилии непослушных. Я отверг оба проекта, резко
заметив:
— За собой следи, и тебе не стыдно записывать товарищей?
— Они мне не товарищи,— презрительно буркнул мальчишка.
Я по-детски возмутился.
Были и такие, которые умирали от жажды; этим я терпеливо и
безрезультатно объяснял, что сразу по приезде на место они напьют-
ся молока.
162
Я слишком уж заботливо утешал мальчика, ревевшего потому,
что его разлучили с матерью; чересчур старательно следил, как бы
кто не выпал из окна, и, желая сдружиться с группой, тратил дра-
гоценное время на пустые разговоры, вроде: «А ты уже был в дерев-
не? А тебе жалко, что с тобой не едет младший братишка?»
Я принял от ребят деньги и открытки, стараясь поскорее по-
кончить с этим низменным занятием: шутливо пробирая, когда кто-
нибудь давал уже смятые и запачканные открытки, и с досадой успо-
каивая тех, кто, видя, как я бесцеремонно обращаюсь с их собствен-
ностью, предупреждал, что его открытки чистые, а сдаваемая на
хранение монета новая и блестящая. Что делать с зубными щетками,
которые они тоже хотели было мне отдать, я не знал: «Пускай пока
побудут у вас».
7. Покинув с чувством облегчения поезд, я гордо констатировал,
что все обошлось благополучно и все ребята налицо. Оставалась
еще часть пути на лошадях.
Будь у меня крупица опыта, я мог бы предвидеть, что ребята,
не предупреди их, бросятся как попало к телегам; юркие и пред-
приимчивые захватят самые удобные места, а неуклюжие перете-
ряют мешки с одеждой и с этими своими несчастными зубными
щетками; ребят придется пересаживать и поднимется крик и су-
матоха.
Порядок целиком зависит от умения предвидеть. Предвидя, я
могу все предотвратить.
Отправляясь на более или менее длительную прогулку, я обязан
предупредить ребят, чтобы они сходили в уборную, не то шепнут мне
по секрету, что им хочется в уборную, в трамвае или на улице...
На прогулке мы подходим к колодцу с оградой. Я останавливаю
ребят:
— Встаньте парами. Будете подходить к колодцу по четыре
человека.
Не предупреди я, никакие усилия не помогли бы сохранить поря-
док. И выйдет ли драка, потопчут ли ребята газон или развалят огра-
ду — виноваты не дети, а неопытность воспитателя.
Все это мелочи; такой опыт при желании приобретается
быстро, но отсутствие его сказывается моментально, определяя
порой все дальнейшие взаимоотношения ребят и воспитателя.
Путь в колонию был для меня сущей мукой. Когда первый маль-
чик соскочил с телеги — надоело ехать,— мне следовало велеть ему
сесть обратно, а я не сделал этого. И вот дети, проделав остаток пути
частью на телегах, частью пешком, отчаянно голося, толкаясь и
теряя мешки и молитвенники, возбужденные и ошеломленные,
вваливаются на веранду.
8. Ни в одном учебнике педагогики не сказано, что там, где
тридцать ребят переодеваются в казенную одежду, обязательно
найдутся несколько таких, кому все рубашки будут длинны или
узки в плечах или в вороте.
6*
163
Груды белья и верхней одежды, вертлявая разошедшаяся ре-
бятня и отсутствие опыта у воспитателя... Переодев нескольких,
и я и дети убеждаемся, что одни добрые желания не заменяют
сноровки.
С нескрываемой радостью я принял помощь экономки, которая
безо всяких усилий и спешки быстро управилась не только с детьми,
но и с бельем (его я успел-таки перепутать). Нескольких недоволь-
ных слишком длинными рукавами, отсутствием пуговиц или тем,
что широки штаны, она успокоила, обещав завтра же все уладить.
Секрет ее триумфа, а моего поражения состоял в том, что я
хотел, чтобы все было к лицу, хорошо сидело и вдобавок было краси-
во, а она знала, что это невозможно; я занялся несколькими (осталь-
ные ждали в нетерпении), а она сразу раздала половину рубашек,
малышам — самые маленькие, средним и самым большим — боль-
шие, предоставив собственной их инициативе более точную подборку
по фигуре. То же со штанами и блузами. В результате ловкие и хо-
зяйственные ребята оказались одетыми в свой размер, а нерастороп-
ные и непрактичные — словно маленькие ярмарочные клоуны. Но —
а это главное — когда позвонили к ужину, все ребята были переоде-
ты, а их собственное платье упаковано в мешки, снабжено номер-
ками и сдано в кладовую.
9. Как рассадить детей за столом?
Я не учел и эту проблему. В последнюю минуту я наспех решил,
исходя из главного принципа «свобода»: пускай сидят как хотят.
Я не подумал, что, в сущности, только четыре угловых места особые,
а все остальные одинаковые, и, значит, из-за этих четырех мест
будут ссоры, и тем крупнее, чем больше найдется на эти места лю-
бителей.
Я не учел, что споры из-за этих четырех мест будут повторяться
за каждой едой, что те, кто занял их первыми, станут упорствовать,
ссылаясь на право первенства, а остальные — на право равенства.
Я не учел, что при постоянной смене мест и симпатий ребята
будут менять и соседей, а значит, опять ссоры при раздаче молока и
супа, обладающих свойством проливаться и пропадать для еды.
Я не учел и того, что при постоянной смене мест мне будет
труднее изучить ребят.
Я даже был так глуп, что предоставил детям самим выбрать себе
кровати: где кто хочет. Ей-ей, если бы мне самому дали выбрать, я
не знал бы, на чем остановиться. Распоряжение это было так явно
нелепо, что я быстро его отменил, однако не настолько быстро, что-
бы и тут не обошлось без крика и суматохи. Я уложил детей по
списку и почувствовал огромное облегчение, когда наконец настала
относительная тишина.
Я неясно представлял причины своего поражения, но был слиш-
ком ошеломлен, чтобы искать их источники.
10. Экономка в третий раз звала меня ужинать; остальные над-
зиратели давно покинули свои спальни. Я считал, что в первый вечер
164
не следует оставлять ребят одних: ребята могут перетрусить, пла-
кать, но опытная экономка утверждала, что они устали и уснут. И
как ей было не поверить? Действительно, большинство уже спало.
Я ушел, но ненадолго: пришлось вернуться и сделать перевязку
мальчику с рассеченным пряжкой лбом; второму воителю подбили
глаз: цвет синяка менялся в течение ряда дней с красного на желтый,
с желтого на черный и с черного на грязно-серый.
— Неплохо для начала сезона,— сказала экономка.
Я нашел ее замечание резким и обидным, и тем более неспра-
ведливым, что она сама уговорила меня уйти из спальни.
Следовало учесть, что если одни дети и уснут, то другие, возбуж-
денные переменой обстановки, не смогут уснуть и, только тронь,
перессорятся и передерутся. Я готовился не мирить несогласных,
а утешать тоскующих и печальных, но — о диво! — тот, кто хныкал
дорогой, теперь крепко спал.
Я не заметил главного: такой серьезный поступок, как драка,
является грозным предзнаменованием, показывая, что мой автори-
тет пошатнулся уже в первый день моей незадачливой деятельности.
Добавлю, что все лицо у одного из участников драки было в
оспинках; вероятно, это сыграло некоторую роль в ссоре, столь
фатально закончившейся для моих радужных надежд. «Ни еди-
ной слезы» стояло в программе; а слезы были уже по дороге в ко-
лонию, и теперь — кровь.
11. Ночью я спал плохо. Кто-то из ребят, не привыкший спать
один на узкой кровати, съехал с набитого свежей соломой матраца
и с шумом свалился на пол. Кто-то то ли застонал, то ли забормотал
во сне; то опять мне представилось, что мальчик с подбитым глазом
может потерять зрение. Нервы были натянуты, как струны.
Я проработал десять лет репетитором и не был ни юнцом, ни
новичком на педагогической ниве, прочел массу книг о детской
психике. Несмотря на это, я был бессилен постичь тайну коллек-
тивной души ребячьего общества. Что оно выдвигает какие-то
новые требования, которые застали меня врасплох, не подлежало
сомнению. Самолюбие мое страдало, овладевала усталость —
как, уже?
Может быть, я и тешил еще себя надеждой, что после первого,
как-никак исключительного, дня наступят те долгожданные, из-
лучающие улыбку, но что делать, чтобы обеспечить себе спокойное
завтра, я не знал.
12. Основная моя ошибка была та, что я отмахнулся с досадой
от помощи прошлогоднего дежурного: на первых порах он был бы
незаменим. И пусть стоял бы в дверях вагона и следил, и пусть
даже записывал бы, если так у них всегда было. И пусть сказал бы,
как сделать, чтобы ребята не прятали от меня деньги, и как ребята
обычно сидят за столом, и как спят, и куда ходят купаться.
Анализ всех этих ошибок был бы бесконечно поучителен. К со-
жалению, если я и делал записи, то опуская неудачи, раны были
165
слишком свежи и чувствительны. Теперь, четырнадцать лет спустя,
я уже не помню подробностей. Знаю лишь, что ребята жаловались,
что они голодные и болят ноги от хождения босиком; что на вилках
песчинки и холодно без пелерин; знаю, опытный надзиратель воз-
мущался, глядя на беспорядок и разболтанность у меня в группе,
а экономка давала указания касательно благополучия моей особы,
которой я, слишком усердствуя, наносил урон. Знаю, сторож жало-
вался, что ребята загадили лес и разрушали веранду — вытаски-
вали кирпичи из столбов; что моя группа, когда умывается, расхо-
дует больше всех воды, а ведь ее приходится накачивать в бак.
Наконец, на пятый или шестой вечер настало и это, самое
худшее.
13. Ребята лежали в постели в полутемной спальне, как вдруг
начался кошачий концерт.
Кто-то резко свистнул, кто-то запел, еще один залаял, зарычал,
опять кто-то свистнул, и все это с некоторыми паузами, в разных
углах зала.
Я понял.
А ведь у меня были сторонники среди ребят. Я беседовал с ре-
бятами, объяснял им, обращался к ним с просьбами, встречая и
понимание и хорошее отношение. Но я не умел ни выявить, ни тем
более организовать положительные элементы моей группы. И вот
самолюбивые и неискренние ребята, чьи надежды я обманул, а по-
мощь с презрением отверг, быстро стакнулись между собой, восполь-
зовавшись моей неопытностью, и, увидя мою слабость, бросили
вызов.
Я медленно ходил между кроватями; ребята, как примерные,
лежали с закрытыми глазами, кое-кто даже натянул на голову одея-
ло — и глумились напропалую, бросали вызов, бунтовали.
У нас в гимназии был учитель, вся вина которого заключалась
в том, что, слишком снисходительный, он не мог справиться
с классом. С ужасом вспоминаю оргии злобных выходок, которыми
мы его преследовали.
Так умеют мстить ненавистной власти лишь рабы, почуяв свою
силу. И в каждой школе-деспоте всегда есть среди персонала по-
добная жертва, которая молча страдает, одинаково страшась на-
чальства и детей.
За эти несколько минут, которые длились целую вечность, я
пережил многое.
14. Так вот ответ на мое доброе отношение, энтузиазм, труд?
Острая боль пронзила мое сердце. Хрустальный дворец мечты рух-
нул, разбившись вдребезги.
Гнев и уязвленное самолюбие: я стану посмешищем в глазах
тех, кого превосхожу чувствами, кого хотел переубедить, увлечь
примером, быть может, заставить себя ценить.
Я встал посреди зала и спокойно глуховатым голосом заявил:
«Поймаю, отколочу». Сердце готово было выскочить, губы прыгали.
166
Меня прервал свист. Я схватил свистуна и выдрал за уши, а когда он
было запротестовал, пригрозил вышвырнуть на веранду, где бегала
спущенная на ночь с цепи собака.
Знаете, кого я ударил? Того, который свистнул всего один раз,
в первый раз. Зачем он это сделал, он не умел объяснить.
Какой превосходный урок дали мне дети!
В белых перчатках, с бутоньеркой в петлице я шел к голодным,
холодным и обездоленным за приятными впечатлениями и слад-
кими воспоминаниями. Я хотел откупиться от своих обязанностей
несколькими улыбками и дешевыми фейерверками; я даже не потру-
дился выучить фамилии, раздать белье, позаботиться о чистоте в
уборной. Я ждал от ребят симпатии, закрывая глаза на пороки, взра-
щенные в закутках столичной жизни.
Я думал о развлечениях, не о работе; бунт ребят показал мне
отрицательные стороны радостных каникул.
И что же? Вместо того чтобы подвести итог своим ошибкам, я,
обозлясь, науськал на парнишку собак.
Мои коллеги пришли сюда поневоле, ради заработка; я — ради
идеи; может быть, дети почуяли фальшь и покарали.
15. Под вечер следующего дня один мальчик предупредил меня,
что волнения повторятся и, вздумай я бить, ребята не дадутся —
припасли палки.
Надлежало действовать быстро и энергично. Я поставил на окно
яркую лампу и сразу, как вошел, забрал палки и отнес к себе: завтра,
мол, возвращу.
Поняли ли они, что их предали, оробели ли из-за яркого света,
зачеркнуло ли их планы отсутствие оружия для самообороны —
достаточно, что я победил.
Заговор, бунт, измена, репрессии — так ответила жизнь на мои
мечтания.
— Завтра я с вами поговорю,— гласило грозное обещание
вместо сентиментального «спокойной ночи, детки», которым я пот-
чевал их первые вечера.
Как победитель я проявил такт.
И опять жизнь научила меня, что истоки нашего благополучия
порой лежат там, где, как полагали мы, постигла нас катастрофа,
что бурный кризис — часто начало выздоровления.
Я не только не потерял расположения ребят, наоборот, наше
взаимное доверие возросло. Для них это был мелкий эпизод, для
меня — переломное событие.
Я понял, что дети — сила, которую можно привлечь к совмест-
ной работе или оттолкнуть, сила, с которой приходится считаться.
Эту истину, по странному стечению обстоятельств, я постиг благо-
даря палке.
Проводя на другой день в лесу беседу, я впервые говорил с ре-
бятами, а не ребятам, и говорил не о том, какими я хочу, чтобы они
были, а о том, какими они сами хотят и какими могут быть. Может
быть, именно тогда я впервые понял, что у детей можно многому
167
научиться, ito n де.л 1ребуют, са^ят условия и дел а.-о- ;говорки,
и имеют на то право.
16. Форменная одежда тяготит детей не потому, что она одина-
кового покроя и цвета, а потому, что часть детей из-за несоответст-
вующей одежды испытывает физические страдания. Сапожник не
учтет особенностей ноги ребенка, если зоркий воспитатель не за-
метит их, не поймет и не укажет. Дайте нюне удобную обувь, и он,
может быть, станет подвижным и веселым. По уставу колонии
дети летом должны ходить босиком — это большая радость для
тех, кто и в городе ходил босым, и пытка для некоторых с исклю-
чительно нежной кожей. Малокровным и малоподвижным ребятам
нужна более теплая одежда.
Как отличить каприз от действительной потребности в интер-
нате, если это нелегко сделать даже в семье? Как установить границу
между тем, к чему ребенок легко привыкает, что составляет мимо-
летное неудобство, и тем, что является особенностью его организма,
индивидуальным отличием единицы в толпе?
В интернате существует единая для всех норма сна. И тут доза
сна рассчитана на среднюю детскую потребность, хотя отклонения
значительны. У тебя всегда будут вечно сонные дети и такие, с ко-
торыми ты вынужден тщетно бороться за утреннюю тишину в спаль-
не. Ведь это сущая мука для ребенка лежать в постели и не спать,
как и вставать, когда он еще сонный.
Наконец, единая для всех норма питания, которая не учитывает
возраст и совершенно обходит стороной различие аппетитов детей
приблизительно одного возраста.
Вот откуда у нас в интернате несчастные дети, неудобно или
недостаточно тепло одетые, вечно клюющие носом или, наоборот,
нарушающие дисциплину в отношении сна, полуголодные и го-
лодные.
Все это вопросы первостепенной важности, решающие в деле
воспитания.
17. Нет более печального зрелища, чем голодные ребятишки,
рвущиеся за добавкой или ссорящиеся из-за куска хлеба; нет фак-
тора более деморализующего, чем торговля пищей.
На этой почве возникают острейшие разногласия между добро-
совестным воспитателем и добросовестной экономкой. Воспита-
тель быстро поймет, что голодающего ребенка не перевоспитаешь,
голод — дурной советчик.
Родители могут сказать: «Хлеба нет» — и не потеряют из-за
этого любви и уважения; воспитатель имеет право сказать так
лишь в виде исключения, повторяю, лишь в виде исключения и
лишь тогда, когда он сам голодает. Разницу между обыч-
ным средним детским рационом и большим
аппетитом следует восполнять хлебом — кто
сколько хочет и может съесть.
Знаю, ребята станут носить хлеб в карманах, прятать под по-
168
душку, оставлять на подоконниках и топить в уборных. Так буд^т
с неделю, при неумных воспитателях — с месяц, но не дольше.
Можно наказать ребенка, который так поступает, но нельзя уг-
рожать:
— Мы вам перестанем выдавать хлеб.
Более предусмотрительные тогда, опасаясь обещанных репрес-
сий, станут делать запасы.
Знаю, ребята будут обжираться хлебом, а нормальная еда
пойдет на помойку. Наверное, там, где неопрятно приготовленная
невкусная пища столкнется с не вконец изголодавшимися ребятами,
она будет вынуждена отступить перед не слишком заманчивым, но
и не противным вчерашним хлебом.
Знаю, объестся тот или другой дуралей — заботы, волнения;
но, верьте мне, он это сделает раз, другой — не больше; не имеют
опыта лишь те, за кем слишком следят.
18. Несогласия будут даже там, где между экономкой и надзи-
рателями царит полная гармония. Если дети сыты, часть приго-
товленной еды иногда остается. Жаркий день, спешка из-за эк-
скурсии, чуть подгорело молоко — а уж экономка с попреками:
— Половина каши не съедена, а вот хлеб, который нашли под
верандой...
Пусть воспитатель выпьет для примера полный стакан подго-
релого молока; пусть предупредит ребят, что, если они не съедят
суп, прогулки не будет; и пусть дает хлеба вволю, но небольшими
кусками; пусть посчитается с печалями экономки, но выдача хлеба
должна остаться, нельзя капитулировать, ни на один день нельзя.
Воспитатель склонен относиться несерьезно к заботам экономки;
экономка склонна видеть эту несерьезность и там, где ее нет. Но при
обоюдном добром желании несогласия будут лишь такие, какие и
должны быть между людьми, которые работают в одной области, но
на разных участках. Надо быть тактичным, а воспитателю, который,
вспылив, может забыться и сказать: «Занимайтесь лучше своими
горшками и не суйтесь к детям»,— я напомню, что экономка имеет
полное право ответить:
— А вы вашим ребятам получше зады подтирайте, а то прачка
никак белье не отстирает.
В самом деле, если экономка обязана следить за чистотой на
кухне, то воспитатель и за чистотой белья. Добрая воля подскажет
им правила тактичного поведения, вразумит, что оба они служат
одному и тому же доброму делу.
Если только она налицо, эта добрая воля.
19. Дети уже сыты. Ты считаешь, что преодолел сопротивле-
ние — нет, оно лишь притаилось. Возможно, суп сегодня нарочно
пересолен, а рис разварился в кисель. Возможно, порции мяса на-
рочно большие и, кроме того, картошки вволю, а на десерт прокис-
шие вишни: «пусть, мол, у него ребята расхвораются, увидит, чем
это пахнет». Весь рис в помойном ведре, после соленого супа ребята
169
набухаются воды, и крыжовник или кислое молоко довершат ос-
тальное.
Помни, юный воспитатель, если ребенок бывает изощренно жес-
ток, он это делает бессознательно, по подсказке. Коварство же
взрослого, которому ты помехой, безгранично.
Обездоленные и забытые мстят здесь за пережитые обиды. Об-
манутые в честолюбивых стремлениях тешат себя здесь бесконт-
рольной властью, требуя почета, милостиво принимая услуги, деспо-
тично повелевая. Серые и неспособные, смиренные и лицемерные
найдут здесь хлеб ценою молчания и самой грязной работы. Если
ты мешаешь им, не надейся, что они уступят без долгой, упорной
и яростной борьбы; слишком быстрая и легкая победа таит в себе
зачатки поражения: враг ждет, когда ты устанешь, а тем временем
старается усыпить твою бдительность или собрать против тебя
улики.
Если поздно вечером к тебе в комнату вошла молоденькая гор-
ничная с поручением от экономки, это может быть простой слу-
чайностью, а могло и иметь особую цель. Чем ты моложе и не-
опытнее, тем осмотрительнее ты должен поступать, осторожнее
говорить и быть начеку, когда что-нибудь уж очень легко тебе
дается.
20. Хочешь ли ты плыть по течению, подчиняясь власть иму-
щим, опираясь на ловкачей и проныр, помыкая маленькими людьми,
подавляя непокорных и непослушных; хочешь ли ты во все вникать,
удовлетворять каждое справедливое требование, не допускать зло-
употреблений и выслушивать жалобы — у тебя должны быть враги,
будь ты министр или скромный воспитатель. Если ты слишком рья-
но, неосмотрительно и уверенно вступишь в бой, ты обожжешься
разок-другой и, быть может, потеряешь охоту продолжать экспе-
риментировать ценою душевного спокойствия, а подчас и ценою
средств к существованию и всей своей будущности. Чем легкомыс-
леннее взлет, тем опаснее падение...
А впрочем, не верь мне, я лгу, я старый брюзга. Действуй,
как тебе велит сердце, стремительно, напористо, без компромиссов
и колебаний... Выживут тебя — придут новые, встанут на твое место,
поведут дальше. С нечестным — никаких сделок, разгильдяя —
прочь с дороги, подлеца — в морду. У тебя нет опыта — тем лучше.
Если опыт указывает дорогу, которой ты можешь ползти всю жизнь,
так ты его не захочешь: лучше час, да парить в небе... А победят
тебя... что ж, не будешь достопочтенным для седых и лысых, зато
для юных останешься героем.
Не останавливайся на половине дороги.
Брось кукситься — сам хотел...
Не говори, что тебя не предупредили, ввели в заблуждение,
обманули...
21. Речь моя о позавчерашнем шуме была приблизительно та-
кова: «Я побил мальчика — я поступил плохо. Я пригрозил выбро-
170
сить его на веранду, где его покусает собака,— это очень гадко. Но
кто виноват в том, что я совершил два гадких поступка? Виноваты
ребята, которые нарочно шумели, чтобы я разозлился. Возможно,
я наказал невиновного. Но кто виноват? Виноваты ребята, которые
нашалили и попрятались, пользуясь темнотой. А вчера почему было
тихо? Потому что горела лампа. Значит, это вы виноваты, что я по-
ступил несправедливо. Мне очень стыдно, но пускай и вам будет
стыдно. Я сознался, а теперь вы сознайтесь. Дети бывают хорошие
и плохие. Каждый плохой ребенок может исправиться, коли захочет,
я ему в этом охотно помогу. Но и вы помогите мне остаться хоро-
шим, чтобы я с вами не испортился. Мне очень досадно, что у одного
из вас подбит глаз, а у другого забинтована голова, что пан X вами
недоволен и что на вас жалуется сторож».
Потом каждый говорил: хороший он и послушный, или так себе,
или и сам не знает, какой он; потом говорили: очень им хочется ис-
правиться, или только немножко, или вовсе не хочется. Все это мною
записывалось. Я узнал, кто правые, кто левые и кто центр в группе...
Бывают же сборники политических и судебных речей и пропо-
ведей. А почему нет печатных речей воспитателей к ребятам? Всем
кажется, что это легко — говорить с детишками. Некоторые об-
ращения к детям я писал по неделе и больше.
22. Мы все вместе решали, что делать, чтобы ребята не загажи-
вали лес, не шумели за столом, не бросали куда попало хлеб и
шли по сигналу купаться или к столу.
Я продолжал делать все те ошибки, от которых желаю вас
уберечь, но уже заручился у части ребят моей группы обещанием
мне помогать.
Глупости сами мстили за себя тщетностью усилий и бесполез-
ной тратой энергии. Ребята пожимали плечами, порой старались
переубедить меня; часто я уступал.
Помню разговор об отметках по поведению. Я не хотел ставить
оценок: все заслуживают пятерку, каждый старается быть хорошим,
а если не может, наказывать не за что.
— Не напишу я, что у меня пятерка, он подумает, что я плохо
себя веду.
— Вон у других воспитателей — у сорванца и то хоть тройка,
да есть, а я послушный — и у меня ничего.
— Если я сделал что-нибудь плохое и вы поставили мне отметку,
я знаю, что с этим уже покончено.
— Без оценок и слушаться не хочется, а почему, сам не знаю.
— А я не так. Когда вы ставите отметки, а я сделал что-нибудь
плохое, я думаю: и пусть ставит мне тройку. А не поставите —
неприятно.
Обдумайте каждый из доводов, и вы увидите, какие важные тут
затронуты вопросы и как ясно обозначились индивидуальные осо-
бенности ребят.
Я уступил: каждый сам называет заслуженную им отметку; не-
которые с огорчением: «Не знаю».
171
23. Я довольно долго придерживался ложного взгляда, что
номер унижает ребенка. Я упорно не хотел ставить ребят в пары,
сажать по порядку номеров за стол. А дети номерам рады: ему девять
лет и у него девятый номер, у него двадцатый номер, а тетка его
живет как раз в доме № 20. И разве унижает театрального зрителя,
что у него номер на билете?
Воспитатель обязан знать ребят, уметь назвать в задушевной
беседе уменьшительным именем, каким зовет мама. Надо знать и
семью воспитанника — спросить о больной сестренке, о дяде, остав-
шемся без работы.
Если кровати закрепляются по порядку номеров, пятерым из
тридцати шести захочется переменить место: одному захочется
спать рядом с братишкой, другому — потому что сосед разговари-
вает во сне, третий хочет быть поближе к комнате воспитателя, а
четвертому страшно.
Ребята ходят купаться парами по порядку номеров; если кто-
либо хочет переменить место, чтобы пойти вместе с приятелем,
номер не должен служить препятствием, пусть ребенок сменит пару
или место.
Уже в первые дни пребывания в колонии номер может стать как
бы фамилией, сквозь которую проглядывает личность ребенка, пока
не проклюнется наконец полностью его нравственный и умствен-
ный облик. Тогда неизбежный номер не приносит вреда.
24. Я нес свои чувства детям, а те не хотели их, плохо перено-
сили, пугались. Я наивно считал, что за четыре недели можно ис-
целить любое страдание, залечить всякую рану. Я терял время
попусту.
Я окружал заботой наименее стоящих ребят, вместо того чтобы
оставить их в покое.
С умилением вспоминаю, как, идя навстречу моим просьбам,
ребята принимали в игру таких, которые мешали играть, и усту-
пали задирам, еще больше наглевшим от поблажек.
Даю чудесный мяч не умеющему толком играть глупышу, и
он носит его в кармане, ведь у всех равные права на мяч: я давал
его «справедливо», по очереди.
Я добивался от честных ребят, не желавших брать на себя не-
выполнимые обязательства, «добровольного» обещания испра-
виться.
И радовался, что дело идет на лад, не считаясь ни с бессон-
ными ночами, ни с шедшими на убыль силами. К ребятам, их спо-
рам, делам и играм я относился свысока — все это были для меня
тогда «мелочи».
25. Работа в летних колониях тяжелая, но зато благодарная.
Ты сразу получаешь большое число ребят; в любом же другом ин-
тернате они добавляются по одному или небольшими группами
к уже имеющимся, прошедшим известную обработку. Присмотр за
детьми на большой территории тоже нелегкое дело. Особенно тя-
172
жела первая, организационная неделя, да и последняя требует от
воспитателя усиленной бдительности: ребята, все мысли которых
обращены к городу, снова во власти городских привычек.
Добросовестный и неопытный воспитатель может тут почти
безболезненно испытать свои силы; на живой работе он быстро озна-
комится с проблемами воспитания в интернате, и, не отвечая за
дальнейшее, может объективнее оценить свои пороки и недостатки.
Осознав ошибки, он имеет возможность в следующем сезоне, с но-
вой партией ребят, без свидетелей прошлых ошибок начать все
заново, на новых основаниях.
Ему не надо экономить силы и рассчитывать энергию и ду-
шевный подъем на большой срок. Устал — лето кончится, отдохнет.
Приобретенный опыт в первый месяц даст ему радостное созна-
ние наличия прогресса в следующем, он быстро заметит разницу,
а это поощрит его к дальнейшим усилиям.
Кажется лишь, что работа первого сезона потеряна невозвратно:
во втором сезоне будут приятели, знакомые или родственники ре-
бят, бывших в первом сезоне. Поговори с ними, и ты увидишь, что
они уже знают тебя и твои требования: еще до того, как тебя увидеть,
они уже чувствуют к тебе симпатию и готовы признать твой авто-
ритет.
26. Второй сезон начался под более счастливой звездой. Полу-
чив накануне отъезда список, я принялся заучивать подряд все
фамилии. Некоторые внушали доверие, иные — опасения. Я не
шучу, сами подумайте, как это звучит: маляр Пылища, крестья-
нин Улита, сапожник Недоля.
Вооружившись тетрадью и карандашом, я записывал все, что
поразило меня в ребенке при первом знакомстве. Оценками пер-
вого впечатления были плюсы, минусы или знаки вопроса против
фамилии. Короткое «симпатичный, сорванец, ротозей, неряха,
дерзит» — первой характеристикой, которая могла подтвердиться
или не подтвердиться, но давала общее представление о ребенке.
Так библиотекарь разбирает партию книг, с любопытством об-
шаривая взглядом заглавие, формат, обложку. Приятное занятие:
ого, будет что почитать!
Я отметил особо рекомендованных ребят, ребят, которых про-
вожало много народу, у кого было много подарков в дорогу, и
опоздавших. Уже есть в тетрадке первые вопросы, просьбы, советы,
тем и любопытные, что они первые. Если один роняет регистра-
ционный листок, а сосед поспешно поднимает его и подает, улы-
баясь; если один быстро и громко отвечает, когда его вызывают по
списку: «Здесь», а за другого отвечает мать; один отталкивает того,
кто занял его место, а другой жалуется; один вежливо кланяется,
а другой угрюмо озирается по сторонам — все это имеет для воспи-
тателя громадное значение и, подмеченное и запечатленное в памяти
или в записной книжке, служит ценным познавательным материа-
лом.
173
27. Забирая у ребят почтовые открытки, я кладу их в пронуме-
рованные и сложенные вдвое листки бумаги, потому что одни
открытки разлинованы, другие засалены или помяты.
Совершенно справедливо обижались ребята в первом сезоне,
что им дают, когда они пишут домой, не их открытки.
Деньги я завертывал в пронумерованные бумажки и завязывал
в носовй платок, тоже приготовленный накануне. Это — вклад,
чужая собственность, тем более неприкосновенный, что сделан по
принуждению. Отдавая свои десять грошей, ребенок вверяет тебе
все состояние: ты обязан относиться к нему серьезно.
В дверях вагона стоял дежурный, у каждого окна — тоже. У ме-
ня было время перекинуться несколькими словами с каждым ре-
бенком, и записная книжка опять пополнилась новыми деталями.
Я отмечал, кто клянчил попить, ябедничал, подрался у окошка.
В третий раз продефилировала передо мной вся группа, когда
я ставил химическим карандашом номера на мешках. И тут, когда
я называл фамилию, одни подходили быстро, а других приходилось
выкликать по нескольку раз. Были и такие, которые, вместо того
чтобы глядеть в окно, с любопытством следили, обступив меня, за
тем, что я делал. И опять кто-то плакал: я послал одного мальчика
его утешить, у него это лучше выйдет, а впрочем, пускай даже
поплачет.
28. Я предупредил, что на станции нас будут ждать повозки,
и чтобы ребята сходили в уборную сейчас, в вагоне; что нельзя
помногу забираться на повозку и нельзя по дороге слезать и что,
если у кого окажется не его размера одежда, завтра же ему ее обме-
няют. Два прошлогодних колониста помогут раздать молоко, трое
других — одежду.
Я старался завязать деловую дружбу, а не пустой флирт.
Я отметил, у кого грязные уши, длинные ногти, грязная ру-
башка: если мать перед отъездом не привела ребенка в порядок,
значит, она не только бедна, но и небрежна; иногда такой ребенок
живет самостоятельно, без надзора, а то и вовсе нет матери. Когда
я переодену их и умою, эта деталь будет утрачена.
Я соглашался на любое предложение помочь мне, в чем-либо
меня выручить. Я знал, что моя задача — организация и контроль,
что самому мне всего не одолеть и что я сдам экзамен на хоро-
шего воспитателя, если у меня будет время на наиболее важные
дела и на заботу о детях, исключительных по своему здоровью, тем-
пераменту, запущенности, никудышности или большой духовной
ценности.
И когда переодетые ребята сели по порядку номеров за стол,
я стал изучать лица.
Я уже сейчас знал свою группу лучше, чем в прошлом сезоне
после нескольких дней работы.
29. Одного я узнаю по веснушкам, другого по бровям, третьего
по родимому пятнышку на носу, четвертого по форме черепа.
174
Всегда остается несколько таких, в ком ты усматриваешь несу-
ществующее сходство и долгое время путаешь. Этих трудностей
школьный учитель не знает, ученики у него закреплены неподвиж-
но на партах; зато хорошо знают их школьный надзиратель, инспек-
тор, директор. И легко шалить такому неприметному, коли ответ за
себя и за других держат два-три козла отпущения.
«Ага, попался, тебе не впервой, ты всегда».
А настоящий виновник посмеивается втихомолку.
Я потому так настаиваю на быстром ознакомлении со всеми ре-
бятами, что всякие вредные предубеждения (как в пользу ребенка,
так и против него) вытекают именно из этого незнания детей.
Я не очень, кажется, удалюсь от истины, если скажу, что у ми-
ловидного со славной рожицей ребенка есть все данные считаться
хорошим, а у некрасивого или с каким-нибудь физическим недо-
статком — плохим. Отсюда одинаково несправедливое предубеж-
дение некоторых воспитателей против красивых детей. Еще раз
повторяю: воспитатель, который не знает хотя бы одного из своих
воспитанников, безусловно и в любом случае окажется плохим
воспитателем.
30. Вечером, когда все уже были в постели, я провел беседу о
ребятах предыдущего сезона.
«Я расскажу о ребятах, которые спали на пятой, одиннадца-
той, двадцатой и тридцать второй кроватях. Один из них оказался
очень славным малым, другой был всегда и всем недоволен, третий
очень растолстел, а с четвертым как-то ночью случилась беда: он
сделал под себя, и ребята сначала нехорошо смеялись над ним, а
потом убедились, что это слабый и больной мальчик, и взяли над
ним шефство. И где-то они теперь и о чем думают?»
В этих четырех взятых из жизни рассказиках были и мораль,
и распорядок дня, и более сложные проблемы колонистского житья-
бытья.
Я предупредил ребят, что делать, если они ночью испугаются
или слишком рано завтра проснутся.
И все заснули — кроме двоих.
У одного дома остался больной дедушка, и мальчик все о нем
думал; а другому мать говорила на сон грядущий «спокойной ночи».
Этого последнего, одного из тридцати восьми, надо было в тот вечер,
чтобы он мог заснуть, поцеловать. И я подумал, что как раз его,
одного из самых впечатлительных, я мог в прошлом сезоне при
общей сумятице и возбуждении отругать или выдрать по ошибке
за уши.
Уже в первый вечер у меня осталось время на записи: в одной
тетрадке — о первом дне в колонии, в другой — о каждом ребенке.
И о доброй половине ребят я хоть что-то, хоть самую малость, а
уже записал.
31. Назавтра чуть свет я уже был в спальне и опять, прежде
чем ребята разбегутся и смешаются, учился узнавать свою группу.
175
В течение всего дня я спрашивал то одного, то другого, как
его зовут.
— А меня, господин воспитатель? А меня как зовут?
Похожих друг на друга или тех, кто казался мне похожим,
я ставил рядом и изучал, а ребята указывали мне приметы, по ко-
торым можно их различить.
С каждым часом прибывали все новые детали, посвящавшие
меня в личную жизнь или в ту или иную область духовной жизни
ребенка.
Быстро, словно по волшебству, под влиянием деревни и ласко-
вой руки воспитателя смятые души сперва с удивлением и страхом,
а потом все доверчивее и радостнее начинают тянуться к тому, что
красиво и гармонично.
Но существует предел возможностей воспитателя, и его не перей-
дешь никаким чудом. Проснется душа чуткая и богатая, уставшая
от неблагоприятных условий; убогую же и вялую еле станет на бо-
лезненную гримасу. Тебе жаль? У тебя всего лишь четыре корот-
кие недели...
Врожденная самобытная честность жадно прильнет к новым
формам светлой жизни, двуличие с досадой отвернется.
Бывают злаки, которые оживают от одного дождя, и совсем
увядшие и больные, бывают и сорняки, с трудом воспринимающие
культуру.
32. Внимательно присматриваясь к тому, как организуется
ребячье общество, я понял трудности первого сезона.
Положительные ребята еще только осматриваются на новом
месте, робко и сдержанно знакомясь и сближаясь, а отрицательные
силы уже успели сорганизоваться, задать тон и добиться послу-
шания.
Ребенок, который понимает необходимость режима, ограниче-
ний и приспосабливания, помогает работе воспитателя пассивно,
не мешая ему, подчиняясь имеющей в виду общее благо программе.
Тот же, который хочет использовать, злоупотребив, добрую во-
лю, щепетильность, некоторую неуверенность, доброжелательность
или слабость воспитателя, действует сразу активно и наступа-
тельно.
Диву даешься, как может двенадцатилетний мальчишка, раз-
лученный с семьей, в новых для него условиях, под присмотром
воспитателей, среди незнакомых ребят не чувствовать ни стеснения,
ни замешательства и уже в первый день требовать, оказывать соп-
ротивление, составлять заговоры, выискивать друзей, перетягивать
на свою сторону пассивных и безынициативных — объявить себя
диктатором и бросить демагогический лозунг.
Нельзя терять ни минуты, ты обязан тотчас выявить его и всту-
пить в переговоры. Ты заранее ему враг, как каждая власть, ко-
торая требует и запрещает; убеди его, что ты не такая власть, какую
он до сих пор встречал.
176
33. Пример:
В вагоне я делаю мальчику замечание, что выходить на перрон
нельзя. Выходит, зову — молчит. На мой выговор отвечает с презре-
нием: «А что тут такого? Я пить хотел». Я спрашиваю фамилию.
— Господин воспитатель тебя записал.
— Подумаешь, важность...
Уже на него поглядывают с любопытством, уже у него сторон-
ники — он уже импонирует. Чтобы узнать его, подчас довольно од-
ного «ладно, ладно» или пожатия плечами. Если так в первый день,
подумай, что будет завтра или через неделю?
Этим же вечером я поговорил с ним. Разговор был серьезный,
деловой, равного с равным: мы выработали условия его пребывания
в колонии.
В городе он продает газеты на улице, играет в карты, пьет водку,
знаком с полицейским участком.
— Хочешь здесь остаться?
— Так себе.
— Не нравится?
— Еще не знаю.
— А зачем приехал?
— Женщина тут одна меня уговорила...
Сказал ее имя, фамилию и на всякий случай дал неверный
адрес.
— Слушай, парень, я хочу, чтобы ты мог тут пробыть весь ме-
сяц. Об одном прошу: надоест, скажи мне, я дам тебе на билет, и
ты вернешься в Варшаву; только не убегай и не подстраивай так,
чтобы я отсылал тебя якобы против твоей воли. Я позволю тебе
делать все, что хочешь, но порядка не нарушать и к детям не лезть.
Спокойной ночи.
И подал ему руку.
Не пытайся обращаться с ним, как с ребенком, он тебе прыснет
в лицо или изобразит раскаяние, а сам отвернется и бросит что-
нибудь язвительное, метко схваченное, чтобы поднять тебя на смех.
Все, только не притворная сентиментальность; почувствовав к тебе
презрение, он использует ее, чтобы тебя осмеять.
34. Был и второй такой.
В задушевной беседе с глазу на глаз, когда не глядела на него
глупая, покорная и трусливая ребятня, которую он презирал, он
открылся мне, расчувствовался и обещал исправиться.
На такие беседы нельзя ссылаться и не надо требовать выпол-
нения обещаний.
Когда несколько дней спустя он хватил по лбу плошкой под-
толкнувшего его во время еды мальчика и я бестактно, в резкой
форме, напомнил о данном мне обещании, он ответил ненавидящим
взглядом. Через несколько дней он выкрал одежду, переоделся в
лесу и пошел на вокзал.
Я хотел бы обратить внимание молодых работников, которые
не знают детей из беднейших слоев, на одно обстоятельство:
177
среди этих детей есть и вполне воспитанные и совсем запущенные
дети. Эти две категории детей не только взаимно избегают друг
друга, не любят, не ценят. Но дети, воспитываемые в
семьях, боятся детей уличных. Невдумчивый социолог
не видит колоссальной разницы между нравственным и безнравст-
венным ребенком: оба, дескать, бедные, живут в предместьях, в бед-
ных районах, принадлежат к одной среде. А ведь поэтому первый
и боится второго, поэтому он ему и опасен. И никто не вправе
заставлять их дружить.
В последнюю неделю сезона часто слышишь, как силком навя-
занные незадачливые друзья грозят:
— Погоди, вернешься в Варшаву, уж я тебе отплачу.
35. Я был свидетелем отчаянных усилий определенной группы
лиц открыть детские клубы в Варшаве. Я читал и книжечку с от-
четом о предпринимаемых в том же направлении попытках в Моск-
ве *. Одна и та же ошибка вызывала одни и те же трудности. Когда
школьники потребовали исключения хулиганов, заведующая школой
сказала с упреком:
«Мой сынишка играет с ними, а вы не желаете; нехорошо!»
Ее сынишка мог играть: его не изобьют, когда он вечером будет
возвращаться с работы домой, и ему никто не крикнет: «Эй, ты,
что это за краля с тобой?», когда пойдет в воскресенье с двоюрод-
ной сестрой в костел; к нему не пристанут: «Одолжи гривенник
на папиросы».
Если ее сынишка пойдет с мамой и тетей на прогулку и к нему
подбежит маленький оборвыш, а тетя в ужасе спросит: «Откуда
у твоего Антося такие знакомства?», мама тоном превосходства
ответит: «Это его товарищ по клубу» — и посмеется над богобояз-
ненной отсталостью старой тетки.
Но мать-работница совершенно справедливо испугается и ста-
нет остерегаться такой дружбы.
Если взрослый рабочий вправе не желать дружить с пьяницей
или вором даже не потому, что это опасно, а просто потому, что ма-
рает доброе имя, сын рабочего вправе, более того, обязан избегать
дурной компании.
А если хулиган лишь прикидывается хорошим, чтобы благо-
даря случайной встрече проникнуть в среду таких ровесников, к
каким он иначе не попал бы? Чтобы извлечь выгоду из знаком-
ства?
Допускать товарищеские отношения между детьми, совершенно
разными по своим нравственным качествам и жизненному опыту,
кого лишь бедность объединяет в одну среду,— это значит вовлекать
какую-то часть из них в дурную компанию, легкомысленно испы-
тывать их моральную стойкость.
36. Я настаивал:
— Играйте вместе.
Подзадоривал:
178
— Вас тридцать, а он один. Значит, вы все не можете исправить
одного, а он один испортит вас всех?
— А что мы должны делать, чтобы его исправить? Он не хочет
с нами играть, а соглашается, так всю игру расстраивает.
Правы были дети, не я.
Лишь значительно позже я понял, что, если воспитатель хочет
держать вместе с обычными детьми детей безнравственных, на нем
лежит вся ответственность и обязанность за всем следить. Детям
этот труд не под силу.
Даже самое, казалось бы, прекрасное теоретическое положе-
ние должно быть подтверждено. Даже самая очевидная истина, если
она трудно применима на практике, должна быть добросовестно
критически пересмотрена. Мы значительно опытнее детей, мы мно-
гое знаем, чего дети не знают, но что они думают и что чувствуют,
они знают лучше нас.
Если ребенку чего-либо хочется, а почему — он не говорит, он
или скрывает истинную причину, или не вполне ее сознает. Искусст-
во воспитателя в том и заключается, чтобы узнать, порой догадаться,
часто доискаться этих полуосознанных мотивов.
— Тут что-то кроется,— чем чаще воспитатель так думает, тем
он быстрее будет совершенствоваться и тем вернее избежит ошибок,
вытекающих из ложных теоретических положений.
37. Я навязывал детям общество разболтанных, физически не-
полноценных или несимпатичных ребят.
Это было бессмысленно.
Ребята играют в горелки. Слабосильный ребенок не умеет ни
убегать, ни ловить. А нечестный нарочно будет так убегать, чтобы
его быстрее поймали, он сам хочет гореть. Если ты заставишь ребят
играть с ними, ребята будут их избегать, не станут ловить.
Да и вообще кто из взрослых сядет играть в карты с шулером
или таким, который не умеет играть?!
Вы даете мячик, но с условием, что и тот будет играть. Надо ли
удивляться, что ребята неохотно идут на это? И можно ли их винить
за то, что чувствуют к нему неприязнь? И не побьют ли, если из-за
него проиграют, и кто тогда будет виноват?
Забота о детях этого типа требует большого такта. Надо следить
не только за тем, чтобы их не обижали, но чтобы и они никому не
мешали.
«Вечно его дожидайся. Вечно он игру расстроит. Опять из-за
него воспитатель на нас сердился: что-то запретил, отобрал, чем-
нибудь пригрозил».
В первом сезоне я вел целые бои из-за какого-нибудь растяпы,
во втором с умилением наблюдал, как величайший забияка взял
добровольно под защиту самого тихонького мальчика.
38. Не пренебрегай!
Мальчишки играли в камушки. Игра эта была известна детям
бедняков еще в древнем Риме. Играющий кидает на стол или на
179
пол пять камушков. Потом он подбрасывает один из камушков и,
прежде чем его подхватить, должен быстро схватить со стола один
из четырех остальных. Есть несколько степеней трудности. Для
этой игры нужна ловкость и пять небольших камушков.
Жалобы, что кто-либо забрал один или все камушки, повторя-
лись беспрестанно. Я в то время был противником жалоб.
— Мало тебе тут камней? Найди другие.
Три ошибки сразу.
Во-первых, у каждого есть право на собственность, хотя бы это
был самый пустяковый, не имеющий никакой цены предмет. А что
убыток легко возместить, ничего не значит. Пусть тот, кто забрал
мои камушки, ищет себе другие.
Тот, кто взял их, поступил явно безнравственно, по меньшей
мере, несправедливо: присвоил чужую собственность.
Я сам попробовал играть в камушки и убедился, что не все ка-
мушки одинаково удобны. Слишком круглые, когда их бросаешь на
стол, чересчур разлетаются, а слишком угловатые ложатся чересчур
кучно.
Для игрока пять подобранных по форме и цвету камушков все
равно, что пять коней одной масти и роста, пять жемчужин в колье,
пять натасканных охотничьих собак.
Всегда найдутся свидетели, которые видели, помнят, подтвердят,
чьи это камушки. Справедливость была на стороне ребят.
39. «Он оскорбил мою мать». После длительного колебания: «Он
назвал меня сукиным сыном». Как воспитатель я обязан знать, что
не один отец награждает подобным эпитетом насолившего ему фаб-
ричного мастера или домовладельца, когда тот не хочет ему чинить
печку.
— Вы ведь знаете, какой он злюка. Раньше он со всеми дрался,
а теперь только ругается — исправился. Правда, сукиным сыном зо-
вут, когда уж очень кого хотят обидеть; зовут еще и негодяем, и
мерзавцем. Чаще всего зовут со зла, подчас вовсе того не ду-
мая. Не думает же кто-нибудь всерьез, что мальчишка мерзавец,
раз не дал поиграть мячика или нечаянно подтолкнул за игрой
в чижа? Просто бывают люди вспыльчивые и бывают спокой-
ные...
Я видел, ребята удивились, что я так громко и четко произ-
ношу это зачумленное слово. А делал я это потому, что все, что гово-
рится шепотом, бродит, загнивает и дразнит воображение, и нет ни-
чего вреднее в воспитании, чем ложная скромность. Если есть сло-
ва, о которых ты боишься говорить, что ж тогда делать с поступ-
ками? Воспитатель не может бояться слов, мыслей и поступков
ребят.
Тот, кто хочет быть воспитателем детей бедняков, пусть помнит,
что медицина различает praxis pauperum и praxis aurea , пусть пом-
1 Praxis pauperum (лат.) — врачебная практика среди бедняков. Praxis aurea
(лат.) — практика, приносящая золото.
180
нит, что бывают развратники, говорящие изысканным языком, и
герои добродетели — сквернословы. Ты должен знать среду, из
которой вышли твои воспитанники.
40. Было бы слишком рискованно утверждать, что бедные дети
морально устойчивее богатых. К нам поступают тревожные сигна-
лы относительно тех и других. Мне кажется, верно лишь одно:
наблюдения велись в этих человечьих клетках, в городских квар-
тирах, где отсутствие свободного пространства, запрещение
кричать и бегать, лень и скука заставляют детей обращаться к
сильным, но не беспокоящим окружающих впечатлениям и эмо-
циям.
На основании наблюдений над детьми в летних колониях я ка-
тегорически утверждаю, что нормальный ребенок всегда предпочтет
играть в мяч, бегать наперегонки, купаться, лазать по деревьям, чем
забиваться тайком в угол для неведомых мечтаний.
Можно спокойно позволить мальчикам и девочкам разбрестись
по лесу и не слишком присматривать за ними: они так увлекутся
земляникой и грибами, что скорее надо ждать драки из-за трофея
в виде гриба или ограбления сильнейшими, чем проявлений нежно-
сти.
Укромный закоулок городского двора в бедном районе и прост-
ранство между шкафами в богатой буржуазной квартире скрывают
тайны, каким нет места на лужайке и в поле.
Только не держите детей ради своего удобства в постелях по
одиннадцати часов в сутки — дети, особенно летом, не спят больше
8—9 часов.
41. Я с удивлением убедился в колонии, что дети не обижаются
на приказы и запреты, цель которых — поддержание мира и по-
рядка, и охотно подчиняются им. А если кто нарушит, то чисто-
сердечно сознается и выразит сожаление или, самое большее,
скажет:
— Сам знаю, что плохо, да что поделаешь, коли по-другому
не могу.
Есть дети, которые ведут отчаянную борьбу с врожденными
наклонностями как раз во имя этой общей гармонии. Не следует
усложнять им чрезмерными требованиями эту борьбу, а то они к ней
потеряют охоту или станут дичиться.
Воспитатель обязан давать себе отчет в том, какие запреты
и приказы категорические и какие допускают известные отступле-
ния.
Категорически запрещается купаться одному в речке, в опреде-
ленных случаях — лазать на деревья.
Категорически запрещается опаздывать к обеду, в известных
случаях — опаздывать, когда становятся в пары: опоздал — дого-
нит, хоть за версту, ведь подвижный ребенок не захочет стоять и
ждать, пока все соберутся.
181
5 июля на 30 детей 12 драк; общее собрание: не драться; назавтра
лишь 3 драки, и опять 8, 10, 6 драк. Второе общее собрание (в лесу) на-
счет необходимости жить дружно. И опять 7, 5, 3 драки. Третье общее
собрание под лозунгом «Один день без потасовок». Как результат кол-
лективного усилия назавтра лишь одна драка.
Детям исключительным с общего согласия исключительные за-
коны — вот труднейшая и вместе с тем благороднейшая задача для
воспитателя.
Если на сто пятьдесят ребят один плавает так, что ему ничто не
грозит (живет у самой Вислы, по полдня в воде, без труда пере-
плывает реку), то ему можно с согласия ребят разрешить купать-
ся даже одному. Ты должен иметь известную смелость и взять на
себя ответственность за его жизнь.
42. Детям свойствен социальный инстинкт. Дети могут отнес-
тись к известному начинанию настороженно потому, что не дове-
ряют взрослым или не поняли, но быстро одобрят его, если сами
примут участие.
Что сделать, чтобы ребята не разбрасывали хлеб по лесу, не
опаздывали к обеду, не дрались и не ругались? Если даже подоб-
182
ные обсуждения и не помогут искоренить зло, они наверняка
повысят моральный уровень многих ребят, укрепят чувство соли-
дарной ответственности и общественного долга.
Записывай, сколько ребят опаздывало и сколько регистриро-
валось драк в день до обсуждения. Регистрируй после обсужде-
ния, вывеси график, и ты убедишься, что драки стали реже. Драки
опять участились — второе обсуждение.
Задача даже самой хорошей речи — вызвать энтузиазм, спо-
собствовать начинанию, не останавливаться на достигнутом.
Одни слову приписывают слишком большое значение, слишком
многого ждут от него, другие недооценивают, обманувшись. И те
и другие заблуждаются. Одними словами ничего не сделаешь,
но и без слов работа станет. Слово — всегда союзник, не заме-
ститель.
Ты можешь ждать от слова только такого действия.
43. Общее собрание из-за непорядка в уборной.
«Когда пожар или наводнение, лучшие бегут на помощь, рискуя
жизнью. Когда надо сделать что-нибудь трудное или неприятное,
всегда впереди лучшие из лучших. Вот и нам надо выполнить труд-
ную, неприятную работу, и мы обращаемся к нашим лучшим... Так
кто из вас берется добровольно дежурить в уборной по полдня
каждый?»
Понятно, записываются многие. Но это лишь начало. На пер-
вые два дня ты выбираешь энергичных, легко вдохновляющихся,
но неустойчивых: труднее всего придется в первые несколько дней,
а раз дело новое, ребята выполнят его с большим запалом. Объяс-
ни им, почему они первые.
Предложение спорщика не принимаешь, боишься склок, ребята
не любят его и станут делать назло.
Отстраняешь и слишком вспыльчивого:
— Еще подерешься, не берись-ка ты лучше за это дело.
Серьезных назначаешь на следующие дни: знаешь, что не ос-
тынут.
Тихонького откладываешь еще на позже:
— Тогда уже будет легче, а завтра ты не справишься.
Предупреждаешь дежурного, что найдется такой, который назо-
вет его «говночистом» или «сторожем в уборной»:
— Не обижайтесь на дуралея.
Предупреждаешь, что должен делать дежурный, когда малень-
кий недотепа загадит уборную нечаянно, и что — когда это будет
сделано нарочно, назло, и как быть, если не удастся засечь ви-
новного.
Ты должен снабдить дежурного метлой и тряпкой. Должен
сам заходить туда в часы наибольшей посещаемости (утром или
после обеда) и подежурить с четверть часика, а в сомнительном слу-
чае самому взять тряпку в руки и вытереть.
Ты напрасно сердишься, воспитатель: «Сколько раз говоришь
им!» Это не помогает и не поможет. Так зачем говорить? Одни и
183
сами пойм>т, что дан--г с добровольно обещание обязывает, а недоб-
росовестному я скажу: «А зачем обещал?» Это важный козырь.
У ребенка нет цинизма взрослых, которые ответят тебе:
— Обещанного три года ждут.
44. Воспитателю не обойтись без помощи ребят, конечно, при ус-
ловии неусыпного надзора и частой смены юных коллег (не то за-
важничают, ведь власть портит!). Надо мягко и осторожно объяс-
нить, что дежурство не дает никаких особых прав, что это должность
почетная.
Дежурных по обслуживанию за столом я сменял ежедневно из-
за существовавшего обычая накладывать им большие порции. Этим
я усложнял работу экономки, но считал, что иначе нельзя.
В летних колониях у меня были дежурные по постелям (по од-
ному на каждый ряд), по подаванию тазов для мытья, по укладыва-
нию на место игрушек, дежурный, следивший, чтобы ребята акку-
ратно вешали полотенца на спинках кроватей.
Дежурные, задачей которых было подбирать битые стекла, что-
бы ребята, бегая, не порезали себе ноги.
При исполнении этих несложных обязанностей детей проще уз-
нать, чем на уроках в школе: там усложняют картину способности,
подготовка, случай. Здесь ребенок виден сразу: азартный он,
непостоянный, самолюбивый, забияка, добросовестный или нече-
стный.
45. Если присматриваться в первые дни, как дети знакомятся
друг с другом, легко убеждаешься, что положительным элемен-
там группы нужна помощь, поддержка и прежде всего неусып-
ная и осторожная защита от тех немногих, кому твоя система
неугодна.
Если власти обязаны охранять общество от насилия и злоупот-
реблений со стороны вредных элементов, то воспитатель обязан ох-
ранять ребят от кулака, угроз и оскорблений, а ребячью собствен-
ность (будь то камушек или палочка) от присвоения, а также охра-
нять ребячью организацию (неважно, играют ли ребята в мяч или
строят домики из песка).
Раз выполнив эту большую работу, потом достаточно лишь не до-
пускать отклонений и искривлений.
Все сэкономленное с помощью ребят время мы можем по-
святить воспитанию тех, кем мы желали бы особо заняться,
потому что мы хотим или должны это делать, так как это ребята
стоящие, опасные для коллектива или просто выходящие из
нормы.
А ведь бывают не только исключительные дети, но и исключи-
тельные обстоятельства, которые берут у нас много времени. Вдруг
ребенок заболел; стемнело, а четверо еще не вернулись из лесу; по-
жаловались, что ребята кидались камнями или шишками в нищего
или воровали.
184
Чем больше ребят, тем больше и иск.иочитело-ю. . ребят и об-
стоятельств.
Гнев тут не поможет: так должно быть. Весь смысл хорошей
организации в том и заключается, чтобы, несмотря на это, все шло
своим чередом, мелкие дела делались сами собой и ты мог всегда
сказать: «Хозяйничайте сами, я занят».
46. Уверенность в себе и разумное предвидение светлы и снис-
ходительны, неопытность капризна и неуравновешенна.
На тридцать — сорок ребят у тебя всегда будет один ненормаль-
ный или аморальный, один очень запущенный, один злой, антиоб-
щественный, со всем несогласный и всеми нелюбимый, один вспыль-
чивый, с необыкновенно яркой индивидуальностью и один болез-
ненный или слабосильный.
Так должно быть!
Ты организуешь экскурсию: один заболеет, другой надуется,
еще один не хочет идти, раз все хотят идти:
— Подумаешь, экскурсия!..
Один будет искать шапку, другой от возбуждения подерется,
третьему в последнюю минуту понадобится в уборную, четвертый
куда-то делся.
Дорогой у кого-то заболят голова или ноги, кто-то порежется,
кто-то разобидится, кому-то захочется пить.
Рассказываешь сказку. Один обязательно прервет тебя:
— Скажите, пожалуйста, а это какой червяк?
Другой:
— Он мне в ухо тычет соломинкой.
Третий:
— Ой, овцы идут!
Юная обида в тебе грозится:
«Если кто-нибудь еще раз прервет...»
А опытная снисходительность с улыбкой пережидает, когда
пройдет стадо.
47. Небольшое, но ценное замечание. Если ты трудолюбив, доб-
росовестен и более одарен как воспитатель, не суди товарищей стро-
го. Не давай им почувствовать свое превосходство. Если ты же-
лаешь детям добра, ты должен избегать всяких столкновений с кол-
легами.
Я был самым усердным воспитателем в колонии, да это и не мог-
ло быть иначе. Я стосковался по работе с детьми, другим воспита-
телям она приелась. Меня привлекала простота деревенской жизни,
они не видели очарования ни в набитых соломой матрацах, ни в про-
стокваше.
Как-то раз, когда с одним мальчиком случилась беда и из-за это-
го вышел спор с прачкой, я сам выстирал у колодца загаженную
рубашку и простыню. Я видел (я на это и рассчитывал) смущение
прачки, замешательство эчономки, недоумение товарищей по работе.
Но сделай это кто другой, он, возможно, услыхал бы презрительное:
185
— И прекрасно. Пускай знает, чем это пахнет. Его мальчишка.
Надо избегать рассчитанных на эффект красивых жестов. Если
во внешне очень положительных поступках скрыта фальшь, они
раздражают больше, чем слова.
И уж никогда не следует считать своей особой заслугой, если ты
в первые дни или недели работы на новом месте усердствуешь или
вводишь мелкие улучшения. Будь это иначе, это свидетельствовало
бы о тебе как нельзя хуже: новый работник и должен больше всех
усердствовать и видеть недостатки, которые усталому и ко всему
привыкшему глазу не заметны.
48. Я уже говорил об этом во вступлении, повторял и еще раз
повторю: воспитателю приходится быть и санитаром, он не может ни
пренебрегать этой обязанностью, ни отказываться от нее; ребенка
с ночным недержанием мочи — ребенка, которого рвет,— с нарывом
в ухе — ребенка, который обмарался,— с сыпью на теле или на голо-
ве — воспитатель должен посадить на горшок, умыть и сделать пере-
вязку. И он должен это делать без тени отвращения.
Пусть воспитатель делает, что хочет, пусть практикуется в боль-
нице, в приюте для раковых больных, в детских яслях, но он обязан
закалиться.
Воспитатель детей бедняков должен приучить себя и к физиче-
ской нечистоте. Педикулез * — постоянное заболевание убогой дет-
воры всего мира, и воспитатель должен время от времени найти вошь
и у себя на одежде. Об этой болезни ему не положено говорить с
возмущением или отвращением — родители, братья и сестры ребен-
ка относятся к этому явлению спокойно и объективно; также спо-
койно и объективно следует и заботиться о чистоте ребят.
Воспитатель, которого от грязных ребячьих ног тошнит, кото-
рый не выносит неприятных запахов и теряет на целый день душев-
ный покой, если — о ужас! — найдет вошь на своем пальто,— пусть
идет как можно скорее работать в лавку, контору, куда хочет, только
пускай больше не остается в народной школе и интернате, потому
что нет ничего унизительнее, чем зарабатывать на хлеб с отвраще-
нием.
— Я хороший воспитатель, а грязь ненавижу,— говоришь ты,
пожимая плечами.
Лжешь: он у тебя во рту, в легких, в крови — воздух, который
испортили дети.
Меня, к счастью, от этого смертного греха воспитателей избави-
ла раз и навсегда моя врачебная практика. «Фи» для меня не суще-
ствует. Быть может, именно потому мои воспитанники любят чисто-
ту.
49. Гениальный французский энтомолог Фабр гордится, что он
произвел свои эпохальные наблюдения над насекомыми, не умерт-
вив ни одного. Фабр наблюдал их полеты, обычаи, радости и заботы.
Внимательно присматривался к насекомым, как они резвились в
солнечных лучах, сражались и гибли в сраженье, искали еду, строили
186
убежища, делали запасы. Он не возмущался, а мудрым взглядом
прослеживал могущественные законы природы в их еле заметных
проявлениях. Фабр был учителем в народной школе. Он наблюдал
невооруженным глазом.
Воспитатель, будь Фабром детского мира!
Дом Сирот
1. Техника организации жизни интерната в ее мельчайших
и вместе с тем решающих деталях зависит от здания, в котором
интернат размещен, и территории, где это здание построено.
Сколько жестоких попреков обрушивается на головы детей и
персонала из-за ошибок строителя, сколько ненужных затруднений,
хлопот, огорчений приносит малейший недосмотр в плане строитель-
ства! А если возможна переделка, как трудно определить это и
убедить в ее необходимости! А ведь бывают ошибки, которые не
исправишь.
Дом Сирот был сооружен под знаком недоверия к детям и к пер-
соналу: «Все видеть, знать, все предотвратить». Громадный рекреа-
ционный зал — это открытая площадь, рынок. Человеку бдительно-
му достаточно одного взгляда, чтобы охватить все. То же с больши-
ми казарменного типа спальнями. У такого здания есть значитель-
ные преимущества, оно позволяет быстро изучить ребенка; харак-
терное для летних колоний и сборных пунктов, откуда ребята
переходят в другие, построенные иначе интернаты, оно утомляет
тем, что в нем нет «спокойного угла». Шум, гам, беготня, толкотня —
ребята жалуются, и жалуются справедливо.
Если можно было бы в будущем надстроить этаж, я высказался
бы за гостиничную систему: коридор, а по обеим сторонам неболь-
шие комнаты...
Кроме изолятора для больных необходимо выделить помещение
для детей, которые временно недомогают. Ушиб ребенок ногу, голо-
ва болит, не спал ночью, перевозбужден ли — пускай у него будет
укромный уголок, где он может некоторое время побыть один или
с товарищем. Такой ребенок, слоняющийся между разыгравшейся
ребятней и всем мешающий, обиженный и одинокий, вызывает
сочувствие, а иногда и гнев у окружающих...
Уборная для ночного пользования и писсуар должны находиться
в непосредственной близости от большой спальни, если даже не в
самой спальне. Отделять их тамбурами, коридорчиками нет смысла.
Чем дальше упрятана уборная, тем она грязнее.
Укромная квартира директора в стороне от ребят лишает его
возможности участвовать в педагогическом процессе. Директор бу-
дет осуществлять контроль над канцелярией и бухгалтерией, пере-
писываться с властями, представляя интересы своего учреждения,
но так и останется чужаком-гостем, а не хозяином интерната. Ведь
интернат — это «мельчайшие и вместе с тем решающие детали», об
этом не следует забывать. Архитектор должен поместить руководи-
187
теля учреждения так, чтобы он вынужден был стать воспитателем,
чтобы он видел и слышал ребенка не только тогда, когда ребенок по
вызову входит к нему в кабинет.
2. Я где-то читал, что филантропия *, не излечивая общество ни
от одного из социальных недугов и не удовлетворяя ни одну из его
потребностей, выполняет две важные задачи:
Выявляет язвы, которые государство еще не заметило или недо-
оценило. Филантропия изучает, начинает действовать и, видя свое
бессилие, требует помощи, наконец, навязывает эту обязанность
обществу или государству, которые могут оказать содействие во
всей полноте.
Другая задача — это новаторство, поиски новых путей в том, что
выполняется государством схематично, косно и по дешевке.
Кроме государственной повсюду существует и частная опека над
сиротами. Эта опека лучше: внушительнее здания, обильнее еда, не
столь стесненный бюджет, гибче педагогическая система. Однако
тиранию бюрократизма здесь могут заменять бесчисленные и опас-
ные капризы влиятельного благотворителя.
Если мы примем во внимание, что иногда вся инициатива и все
усилия руководства сводятся к угождению вкусам неопытных попе-
чителей, не знакомых ни с трудностями, ни с тайнами массового
воспитания детей, мы поймем, почему более ценные личности еле
снисходят до работы в благотворительных воспитательных учреж-
дениях, а разные подонки и сухари так и льнут.
Знай богатые покровители, какой яд для учреждений неподхо-
дящий сотрудник, они, может быть, зареклись бы раз и навсегда
навязывать и даже просто рекомендовать лиц, «правда, неподходя-
щих, но заслуживающих поддержки». Система протекций — зло-
деяние, преступление.
Здесь следует сказать и о протежируемых детях.
— Этого ребенка нужно принять. Исключительное положение.
И вот ребенка приняли — во вред другим, без пользы для него
самого. Всякое даже не принуждение, а легкий нажим на воспитате-
ля, чтобы он взял ребенка вопреки своему убеждению, недопустим.
Воспитатель должен иметь право сказать: «Это вредный ребе-
нок». И мы обязаны ему верить. Воспитатель должен иметь много
разных прав, ведь интернатская работа нелегка. В вопросах воспита-
ния голос воспитателя — решающий.
Воспитатель должен иметь в своем распоряжении некоторую
ежемесячно поступающую сумму: бывает, вещи, которые могут
кому-либо показаться ненужными, крупные расходы, которые, ка-
залось бы, можно отложить на потом, для воспитателя необходи-
мы и безотлагательны.
Важный момент:
Если в интернате несколько попечителей, обязательно
нужно завести книжку, в которую попечители
вписывали бы свои замечания, требования и
вопросы. Замечаний и требований станет меньше, попечители
188
будут осмотрительнее, не будет противоречивых распоряжений.
Несколько слов о почетных сотрудниках. Они приносят значи-
тельную пользу, беря на себя ту заботу, на которую у поглощен-
ного ежедневной будничной работой персонала не остается ни вре-
мени, ни сил. Один приходит и рассказывает сказку, другой забирает
детей на прогулку, еще кто-нибудь дает дополнительные
уроки. Только нужно, чтобы эти люди не обременяли собой персо-
нал, как можно точнее соблюдали режим, справлялись со всем сами,
ни о чем не спрашивая и ничего не требуя.
3. Год строительства Дома Сирот был знаменательным годом.
Никогда я не понимал так хорошо красоты труда и реального дей-
ствия. Сегодняшний квадратик на плане, то есть на бумаге, преоб-
ражался завтра в зал, комнату, коридор. Я, привыкший к спорам
о взглядах, принципах, убеждениях, теперь присутствовал на строй-
ке! Каждое принятое с ходу решение подхватывалось рабочим и воп-
лощалось навечно. Каждую идею нужно было оценить и рассчи-
тать с точки зрения затрат, возможностей, целесообразности. И мне
кажется, что воспитатель — недоучка, если он не знает, что из дере-
ва, железа, картона, соломы, проволоки можно изготовить десятки
предметов, которые облегчают, упрощают работу, экономят драго-
ценное время и мысль. Полочка, табличка, вбитый в соответствую-
щем месте гвоздь разрешают многие острые проблемы...
Дом должен, быть готов в июле, но и в октябре он не был закон-
чен. И вот в один пасмурный, дождливый полдень в дом, битком
набитый рабочими, въехали шумные, прозябшие, возбужденные,
дерзкие, вооруженные палками и дубинками ребята из деревенско-
го детдома. Ребятам дали поужинать и уложили спать. Бывший
приют помещался во взятом в аренду и не приспособленном для этой
цели здании. Случайная мебель, изношенная донельзя одежда,
неумелые заботы глупой экономки и шустрой кухарки...
Я рассчитывал: вместе с новым помещением, новыми условиями
и разумной заботой о детях дети примут и новый режим. А они, и это
прежде, чем я отдал себе отчет в создавшемся положении, объяви-
ли войну! Я полагал, опыт работы в колониях застрахует меня от
неприятных неожиданностей. Я ошибся. Во второй раз я столкнул-
ся с детьми, как с опасной толпой, перед которой я был бессилен,
во второй раз в муках опыта начали выковываться непреложные ис-
тины.
По отношению к новым требованиям ребята заняли позицию аб-
солютного сопротивления, ее не могли сломить никакие слова, при-
нуждение же вызывало враждебность. Новый дом, о котором мы
весь год мечтали, становился ненавистным. И только значительно
позже я понял привязанность ребят к их старой жизни... Ее беспо-
рядок, цыганская нищета быта и ничтожность средств давали широ-
кий простор инициативе, взлету отдельных мощных, но кратких
усилий, вдохновенности буйных дурачеств, удальству, потребно-
сти в самозабвении и беспечности. Порядок появлялся вдруг и не-
надолго благодаря авторитету нескольких ребят. Здесь же должен
189
был быть, в силу обезличенной необходимости, постоянный порядок.
Вот почему растерялись и подвели меня те дети, на помощь которых
я больше всего рассчитывал. И мне кажется, воспитатель, вынужден-
ный работать в домах, где жизнь бедна и не налажена, не должен
очень уж вздыхать по идеальному порядку и комфорту — в них
скрываются большие трудности, большая опасность.
4. В чем проявлялось сопротивление детей? В мелочах, понять
которые может только воспитатель. И незначительны они, и неуло-
вимы, а докучают, так как их много. Ты говоришь ребятам, что отхо-
дить с хлебом от стола нельзя; один тебя спрашивает: «Почему?»,
некоторые прячут хлеб, еще один демонстративно встает: «А я не ус-
пел съесть». Нельзя ничего прятать под подушку или матрац: «Да
ведь из ящика у меня возьмут». Находишь под подушкой книжку —
он, дескать, думал, «книжку можно». Запираешь умывалку: «Ско-
рее». В ответ: «Я сейчас».— «А почему полотенце не на месте?» —
«Вы ведь торопите». Один обиделся, трое ему подражают. За обедом
пронесся слух, что в супе червяк — и вот заговор готов: не будут есть
суп. Ты видишь двух-трех явных главарей сопротивления и упор-
ства, угадываешь десяток тайных. Видишь, как тебе коварно портят
то, что ты считал уже прочно вошедшим в быт, и встречаешь не-
предвиденные трудности в любом начинании. Наконец, перестаешь
разбирать, где случайность, непонимание и где заведомо злая воля.
Пропадает ключ. Через минуту он находится, и ты слышишь ирони-
ческое замечание.
— Вы, верно, думали, что это я спрятал?
Да, думал...
На вопрос: «Кто это сделал?» — получаешь постоянно в ответ:
«Не знаем». «Кто пролил, разбил, сломал?» Объясняешь ребятам,
что в том, что случилось, нет ничего страшного, просишь признаться.
Молчат — не из страха, а как заговорщики...
Бывало, говоришь, а голос у тебя дрожит и на глазах беспо-
мощные слезы.
Эти тяжелые минуты должен пережить каждый молодой
воспитатель, каждый новый воспитатель. Пусть он не опуска-
ет руки, пусть не говорит прежде времени: «Не умею, нельзя рабо-
тать». Слова его только с виду не оказывают действия, коллектив-
ная совесть пробуждается медленно: день ото дня будет расти число
сторонников доброй воли воспитателя и его разумной системы —
крепнуть лагерь приверженцев «нового курса».
ВОСПОМИНАНИЕ
Один из наших отъявленных сорванцов разбил во время
уборки довольно дорогой фаянсовый писсуар. Я не сердился. Не-
сколько дней спустя этот же мальчуган разбил бутыль с пятью лит-
рами рыбьего жира. И на этот раз я его только слегка пожурил.
Помогло: союзник...
Как легко работается, если воспитатель чувствует, что овладел
190
оравой, и какой это ад, когда воспитатель мечется, бессильный,
а ребята знают это, чувствуют и мстительно травят. Как велика угро-
за обратиться к системе грубейшего насилия в угоду собственной
безопасности.
5. Полсотни ребят, переведенных из бывшего приюта в Дом Си-
рот, были для нас как-никак величиной известной; их роднили с нами
общие переживания и надежды, а с панной Стефанией, воспитатель-
ницей Дома Сирот, и взаимное большое чувство. Эти ребята, хотя и
сопротивлялись попыткам организовать их, были способны к орга-
низации. Вскоре были приняты пятьдесят новеньких — новые труд-
ности. В нашем детдоме устроили школу для приходящих, что позво-
лило мне установить, какая пропасть лежит между аристократом-
учителем и замарашкой-воспитателем.
Организационный год окончился для нас полной победой. На
сто детей одна экономка, одна воспитательница, сторож и кухарка.
Мы перестали зависеть от тирании случайных воспитателей и при-
ютского техперсонала. Хозяевами, сотрудниками и руководителя-
ми дома стали дети. Все, что следует ниже, дело рук самих ребят.
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
На стене на видном месте, не высоко и не низко, висит дос-
ка, на которую прикрепляются кнопками приказы, сообще-
ния и объявления.
Без доски объявлений жизнь — сплошная мука. Говоришь четко
и ясно:
— Такие-то дети, скажем А, Б, В, Г, пойдут, возьмут, сделают
то-то, то-то и то-то.
Немедленно к тебе подбегают Д, Е, Ж.
— А я тоже? А я? А он?
Ты повторяешь, не помогает.
Ты говоришь им:
—: Подите достаньте...
Опять вопросы, шум, неразбериха.
— А когда? А куда? Зачем?
Расспросы, просьбы, толкотня выматывают тебя и выводят из
терпения. Но иначе и быть не могло. Ведь не все слы-
шали, не все поняли, не все ребята вполне уверены, что они это точно
знают, наконец, и сам воспитатель в такой суматохе мог что-нибудь
проглядеть.
В хаосе текущих дел воспитателю приходится давать непроду-
манные, неразработанные, а значит, часто порочные распоряжения,
ведь всегда в последнюю минуту что-нибудь выплывет. Доска объ-
явлений сразу же заставляет (а потом и приучает) воспитателя
заблаговременно обдумать план каждого мероприятия.
Воспитатели не умеют общаться с детьми при помощи письма.
Большая ошибка!
Я повесил бы доску объявлений даже там, где большинство де-
191
тей не умеют читать. Детк, не зная букв, научатся
хотя бы узнавать свое имя, ощутят свою зависимость от тех детей,
которые читают, почувствуют потребность читать.
Объявление
«Завтра в десять часов утра будет выдаваться новая одежда. Так как не вся
одежда готова, не получат новую одежду А, Б, В, Г... Старую одежду будут при-
нимать Е и Ж...»
Объявления
«Кто нашел или хотя бы видел ключик на черной тесемке?»
«Кто разбил окно в умывалке, признавайся!»
Сообщения
«Вчера в спальне мальчиков было грязно».
«Ребята рвут книжки и бросают ручки где попало».
«Говорят не «маморальная вода», а «минеральная вода».
«Через месяц будет пасха. Вносите предложения, как лучше провести празд-
ники».
«Кто хочет переменить место в спальне (за столом), пусть придет завтра в
классную комнату в 11 часов утра».
Сообщения, предостережения и пожелания вывешивают
теперь не только воспитатели, но и дети. И чего там только нет! Дос-
ка точно живая. И ты диву даешься, как это ты без нее обходился?!
— Скажите, пожалуйста, а я тоже?..
— Посмотри на доску объявлений.
— Да я не умею читать.
— Попроси того, кто умеет...
Доска объявлений дает широкий простор для инициативы и вос-
питателей, и детей. Календарь, температура, важные газетные сооб-
щения, картинка, шарада, кривая драк, список поломок и поврежде-
ний, список сбережений, вес, рост. Коли есть время и охота, ребе-
нок останавливается перед ней, словно перед витриной магазина,
и глазеет. А можно вывешивать и сведения о столицах. Какие есть
столицы, сколько в каждой жителей, какие цены на продукты пита-
ния. Всего сразу и не придумать...
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Воспитатель, который уже признал пользу письменного об-
щения с детьми, быстро убедится в необходимости почтового ящика.
Доска объявлений вооружает воспитателя привычным, а значит,
не требующим особого труда ответом «прочти». Почтовый ящик
дает ему возможность отложить любое решение, ответив «напиши».
Ведь часто легче написать, чем сказать. Нет воспитателя, кото-
рый не получал бы писем с вопросами, просьбами, жалобами, из-
винениями и признаниями. Так всегда велось, почтовый ящик только
закрепляет разумный обычай.
Ты вынимаешь вечером пригоршню исписанных неумелой рукой
192
листочков и потому, что вокруг тебя тишина и покой, читаешь вни-
мательнее, раздумывая над тем, чему не придал бы значения по не-
достатку времени днем.
«Я могу завтра пойти в город? Мамин брат приехал».
«Ко мне ребята пристают».
«Вы несправедливый: всем карандаши чините, а мне не хотели».
«Я больше не хочу спать около двери, потому что мне ночью ка-
жется, что кто-то входит».
«Я на вас сержусь».
«А учительница мне в школе сказала, что я уже лучше себя веду».
«Я хотел бы с вами поговорить об одном очень важном деле».
Иногда найдешь стишок без подписи: вспомнилось — взял и
написал, а потом не знал, что с ним делать, и бросил в почтовый
ящик.
Вытащишь и анонимку с нецензурной руганью или угрозами.
Письма бывают обычные, изо дня в день одни и те же, и крайне
редкие, необыкновенные. О том, что повторяется изо дня в день, ты
успеешь еще подумать не сегодня, так завтра. Над содержанием
необыкновенного письма думаешь дольше.
Почтовый ящик приучает детей:
1) Ждать ответа. Не сразу, не по первому требованию.
2) Отличать мелкие, мимолетные огорчения, заботы, желания,
сомнения от серьезных огорчений, забот, желаний, сомнений. Чтобы
написать, надо принять какое-то решение. Да и так дети часто хотят
взять обратно уже опущенные в ящик письма.
3) Думать, мотивировать.
4) Хотеть и уметь.
— Напиши и опусти в почтовый ящик.
— Да я не умею писать.
— Попроси кого-нибудь, кто умеет.
В начале работы я сразу же совершил ошибку, от которой хочу
предостеречь других: я отсылал (не без иронии) к почтовому ящику
хронических надоед.
Раскусив каверзу, они совершенно справедливо обижались и на
меня, и на ящик.
— Теперь с вами совсем нельзя говорить.
Подобный упрек я слышал и от воспитателей: не слишком ли это
официально, письменно общаться с детьми?
Я лично утверждаю, что почтовый ящик не затрудняет, а, наобо-
рот, облегчает словесное общение с детьми. Я выбираю детей, с ко-
торыми необходимо поговорить по-товарищески, по душам или со
всей серьезностью, и могу выбрать подходящий для себя и для ре-
бенка момент. Почтовый ящик экономит время, благодаря ему день
у меня становится длиннее.
Бесспорно, бывают дети, которые не любят писать, но, пожалуй,
это исключительно те, кто рассчитывает на свое обаяние — улыбку,
поцелуй, кокетство — на особое расположение, удачный момент.
Эти дети желают заставлять, а не просить. Тот, кто уверен в своей
правоте и полагается лишь на нее, подает заявление и спокойно ждет
решения.
. 193
7 Януш Корчак
ПОЛКА
Полка может служить дополнением к доске объявлений.
В Доме Сирот полки нет, но потребность в ней ощущается. Итак, на
такой полке стоят: словарь, сборник пословиц, энциклопедия, план и
описание города Варшавы, календарь, хрестоматии, руководства
по играм: теннису, футболу и т. д. Несколько комплектов шашек для
общего пользования. Библиотека ребятам необходима; выдача
настольных игр в определенные дни и часы и надзор дежурного га-
рантируют их сохранность; а в сущности, должна же быть какая-то
опытная станция для изучения свободно проявляемых социальных
инстинктов ребенка? Ничего не поделаешь, ребята будут рвать, ло-
мать и терять.
На полке есть место и для детских тетрадок. Один записывает
полюбившиеся ему песенки, другой шутки и прибаутки, третий
загадки, четвертый сны. Тетрадь учета драк и ссор, опозданий, по-
терь, поломок и повреждений. Издаваемые самими ребятами вы-
пуски типа листовок и ежемесячники: естественнонаучные, турист-
ские, литературные и общественные.
Сюда дежурные складывают рапорты и дневники. Сюда же мож-
но класть и дневник воспитателя. Не каждый дневник обязательно
держать под замком. Мне кажется, дневник, в котором воспитатель
делится пережитыми им разочарованиями, трудностями, ошибка-
ми и впечатлениями, как приятными и радостными, так и тяжелыми,
может иметь большое воспитательное значение.
Здесь место и книжке учета: кто, когда и зачем идет в город и ког-
да возвращается — и нотариальной книжке. Дети охотно обмени-
вают, продают и перепродают свою мелкую собственность. Мы не
должны смотреть на это как-то недоброжелательно и тем более за-
прещать. Если перочинный нож или ремень является собственно-
стью ребенка, почему ему нельзя обменять их на пенал, магнит
или увеличительное стекло? Если мы боимся нечистых сделок, спо-
ров, ссор, давайте введем нотариальные книжки, которые предотвра-
тят злоупотребление. Если дети легкомысленны и неопытны, дадим
им возможность приобрести опыт!
(Так как я придаю дневнику воспитателя большое значение, при-
веду несколько отрывков из своего дневника:
— Сегодня я несправедливо рассердился на одного из ребят. Несправедливо!
Но я не мог поступить иначе. Ну, что делать, если моя обязанность — стоять на
страже равноправия? Что сказали бы ребята, разреши я одному делать то, за что на-
казываю других?..
— Вечером у меня в комнате собрались ребята старшего возраста. Мы го-
ворили о будущем. Почему им так хочется стать взрослыми? Дети наивны, они ду-
мают, что быть взрослым — это значит делать все, что хочешь. Они не видят оков
на нашей зрелой воле.
— Снова кража. Я знаю, где сто детей, обязательно один из них вор (один ли?).
А однако, я не могу с этим смириться. Я в обиде на всех, словно все в этом замешаны.
— А вот и исправился! Я было боялся поверить раньше времени, но вот уже не-
сколько недель внимательно приглядываюсь. Может, нашел себе хорошего товарища?
Ох, если бы так и осталось!
— Опять я узнал об одной некрасивой истории. Делаю вид, что ничего не
знаю. Так это неприятно — то и знай ворчать, бранить, злиться, дознаваться.
194
— Странный мальчик. Все мы его уважаем. Он мог бы иметь большое влияние
на товарищей, а сторонится всех наших начинаний. На удивление чуждый всем и
замкнутый ребенок. И это в нем не эгоизм и не враждебное отношение. Он просто
не может по-другому, а жаль...
— Уж такой нынче приятный денек! Все ребята здоровые, веселые, деятель-
ные. Все шло как-то хорошо, быстро и складно. Таких бы денечков побольше!
ШКАФ НАХОДОК
Воспитатель косо поглядывает на содержимое детских кар-
манов и ящиков. И чего там только нет: картинки, открытки, шнур-
ки, гвозди, камни, тряпочки, бусы, коробки, пузырьки, цветные стек-
лышки, марки, птичьи перья, шишки, каштаны, ленточки, засушен-
ные листья и цветы, вырезанные из бумаги фигурки, трамвайные
билеты, обломки чего-то, что уже было, завязи чего-то, что еще толь-
ко чем-то станет. У каждой мелочи имеется своя, часто очень пута-
ная история, свое особое происхождение, свое особое значение,
иногда очень большое для ребячьей души.
Тут есть и воспоминания о прошлом, и порыв к будущему. Ма-
ленькая раковинка — это мечты о морском путешествии; винтик и
несколько проволочек — аэроплан, гордое стремление к полетам;
глаз давно разбитой куклы — память о любимом существе, которого
уже нет и не будет. Найдешь и фотографию матери, и завернутые
в розовую промокашку два гроша — подарок покойного дедушки.
Прибывают новые предметы, часть старых теряет прежнее зна-
чение. Ребенок меняет, дарит, а потом жалеет и отбирает.
Я боюсь, что невежда-воспитатель, не понимая, а значит, ни с чем
не считаясь, в гневе на то, что заедают выдвижные ящики и рвутся
карманы, обозленный из-за вечных споров и беспокойства, что у ре-
бят то все пропадает, то опять находится — понакидано, понабро-
сано, понашвыряно, в приступе плохого настроения возьмет да и
соберет все эти сокровища в кучу и выбросит весь мусор в печку. Он
совершает неслыханное злоупотребление, варварское злодеяние.
Как ты смеешь, дубина, распоряжаться чужой собственностью? Как
ты смеешь потом требовать от детей, чтобы они что-нибудь уважали
и кого-нибудь любили? Ты сжигаешь не бумажки, а любовь к тради-
циям, мечты о красивой жизни.
Задача воспитателя — добиваться, чтобы у каждого ребенка бы-
ло что-то, что являлось бы не безымянной собственностью учреж-
дения, а его личной собственностью, и чтобы он мог эту свою соб-
ственность хранить в безопасном месте. Когда ребенок кладет что-
нибудь в свой ящик, он должен быть уверен, что у него это никто не
тронет; ведь две бусинки — это для него драгоценные сережки,
обертка от шоколада — акции рантье, дневник — сданный в архив
секретный документ. Мало того, твой долг помочь ребенку найти
потерянные им предметы.
Так значит, стеклянный шкаф для находок. Ведь у каждого, даже
самого мелкого, предмета есть свой хозяин. Закатилось ли что-ни-
будь под стол, забыто ли на окне или наполовину засыпано песком
во дворе — все это должно попасть в шкаф.
7*
195
Чем меньше в данном интернате «ничьих» предметов, чем боль-
ше собственных мелочей, тем сильнее тебя допечет обязанность
постоянно получать и выдавать находки и выслушивать жалобы на
то, что «у меня пропало». А как ты поступаешь с тем, что тебе от-
дают как находку? Кладешь в карман: пример бесчестного отноше-
ния.
В Доме Сирот есть почтовый ящик находок. Дежурный из ящика
перекладывает их в стеклянный шкаф и в определенные часы воз-
вращает владельцам.
В период острой борьбы за порядок я передавал в «шкаф нахо-
док» каждую валявшуюся без призора шапку, не повешенный на
место фартук, забытую на столе книжку.
ЛАРЕК
Законные, справедливые требования ребят: тетрадка, каран-
даш, перо, шнурок для ботинок, иголка, наперсток, пуговица, мы-
ло — и так с утра до вечера. Сущее наказание! Вечно у них что-
нибудь кончается, ломается, обрывается, вечно им что-то нужно —
ни минуты покоя!
Значит, ларек — маленькая комнатка или, пожалуй, скорее да-
же шкаф, в конце концов, может быть, даже просто ящик. Но ты
выдаешь раз в день, в определенное время. Кто опоздал или забыл,
должен ждать до следующего дня. О чем тут спорить?!
Выдавая, ты записываешь, кто, что и когда получил. Если ты об-
винишь ребенка в том, что он ломает перья, у тебя будет возмож-
ность подтвердить это фактами, цифрами, сравнить с другими. Неко-
торые предметы выдаются в ларьке бесплатно, другие продаются
по низкой цене.
ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОВЫХ ЩЕТОК
Следовало бы озаглавить: дежурства. Я предпочел написать
«вешалка для половых щеток», чтобы подчеркнуть, что дежурство
ничего не даст, если мы одновременно не добьемся от ребят уваже-
ния к половой щетке, тряпке, помойному ведру, совку для мусора.
Рабочие инструменты уже завоевали некоторое уважение. И хо-
тя книга по-прежнему продолжает занимать привилегированное
положение, молоток, рубанок, клещи вышли уже из своего убежи-
ща в темном углу или из ящика под кроватью, а швейная машина
даже допущена на господскую половину.
В Доме Сирот мы извлекли щетку и тряпку из чулана под лест-
ницей и поместили их не только на видном, но и на почетном мес-
те — рядом с парадным входом в спальню. И странное дело, на
свету все это «простонародье» облагородилось, приобрело одухотво-
ренность и стало ласкать взоры своей эстетической внешностью.
На две спальни у нас шесть половых щеток. Будь их меньше,
сколько споров, ссор и драк прошло бы перед нашими глазами! Если
мы придерживаемся взгляда, что хорошо вытертый стол равноце-
196
нен старательно переписанной странице, если мы заботимся о том,
чтобы труд воспитывал и формировал ребенка, а не просто хотим за-
менить детским трудом труд домашней прислуги, мы должны этот
вопрос изучить, и не кое-как, а основательно, распределив работу
между всеми,— и проверять, и наблюдать, и менять дежурных,
и посвятить этому много времени и мыслей.
Сто ребят — это сто работников, поддерживающих порядок и ве-
дущих хозяйство, сто разных уровней, сто разных степеней силы,
знаний, темпераментов или характеров, безразличия или желания
быть полезным.
Упорядочение дежурств — это не начало, а окончание организа-
ционной работы, не какая-нибудь одна беседа, а несколько месяцев
напряженной работы рук и зоркой творческой мысли.
Прежде всего надо знать работу и знать детей. Я видел в интер-
натах такую невероятную небрежность при распределении обязан-
ностей, что дежурства деморализовывали, выматывали ребят, учили
их ненавидеть всякую помощь интернату.
Бывают дежурства легкие, не требующие ни физической силы, ни
умения, ни особых душевных качеств, легко контролируемые, вы-
полняемые пассивно, без применения орудий труда, например: рас-
ставить стулья, подобрать бумажки.
Кто вытирает пыль, у того уже есть тряпочка, за которую он от-
вечает.
В классах, где четверо дежурных, требуется координация дей-
ствий.
Дежурства бывают утренние и вечерние, ежедневные и ежене-
дельные (раздача белья, купание, стрижка волос), разовые (вы-
колачивание матрасов), летние (уборные во дворе) и зимние (убор-
ка снега).
Каждый месяц составляется и вывешивается новый список де-
журных. Этому предшествует подача ребятами заявлений.
Например:
«Я хочу быть дежурным по спальне». «Я хочу убирать класс и за-
ведовать банными простынями». «Я хочу дежурить по умывалке,
а если это нельзя, то в раздевалке». «А я хочу в уборной и еще
хочу быть подавальщицей за восьмым столом».
На каждое дежурство есть свои кандидаты, которые подают
заявки на вакантные должности, договариваются между собой, до-
биваются согласия, ведут многочисленные переговоры.
Плохому дежурному приходится изрядно набегаться, наволно-
ваться и наобещать, чтобы закрепить за собой место.
«Я с тобой не хочу, ты дерешься, опаздываешь — ты лени-
вый».
К сожалению, мы не учитываем и десятой доли этой большой
воспитательной работы. У каждой должности есть свои плохие и
хорошие стороны, и каждая работа требует умения ладить с людьми.
На новом дежурстве ребенок сталкивается с неожиданными радос-
тями и трудностями. То, что он делает что-то новое, заставляет его
стараться, а чуть работа приелась, появляется необходимость на-
197
прячь энергию, чтобы завоевать облюбованное место или удержать-
ся на старом.
Здесь достигается полное равноправие возрастов и полов: млад-
ший, но старательный быстро продвигается по работе, мальчик слу-
шается девочку.
Там, где на одном участке несколько дежурных, один из них
старший. На каждом этаже есть свой ответственный дежурный.
В этом делении нет ничего искусственного. Заведовать работой дру-
гого — тяжелая обязанность, ответственность — неприятная вещь.
Люди, не посвященные во все детали нашей работы, предъявляли
нам обвинения по поводу этой градации. Каждый должен сам себя
контролировать; однако не все и не всегда в жизни получается так,
как оно должно быть. Некоторый процент небрежных, недобросо-
вестных и легкомысленных встречается и среди ребят; впрочем, надо
ведь не только контролировать, кто-то должен и учить, и помогать.
И тут воспитатель, если он желает иметь время на более длительные
беседы с отдельными детьми, обязан прибегнуть к письменной фор-
ме общения с основной массой ребят. Поэтажные и старшие дежур-
ные по важнейшим видам хозяйства отчитываются каждый вечер
в своем дежурстве, подавая дневники.
Хотя в Доме Сирот только часть дежурств платные, я лично
придерживаюсь мнения, что оплачиваться должны все дежурства.
Мы желаем воспитать хороших граждан, но у нас нет необходимо-
сти воспитывать идеалистов. Дом Сирот заботится о детях, у кото-
рых нет родителей, не из милости и, заменяя в материальном отно-
шении умерших родителей, не имеет права не предъявлять к детям
требований. Почему мы не должны, и как можно раньше, научить
ребенка понимать, что такое деньги и плата за труд, чтобы ребе-
нок знал цену независимости, которую дает заработок; чтобы
ребенок знал плохие и хорошие стороны владения собственностью?
Ни один воспитатель не вырастит из сотни детей сотню идеальных
людей; а объявись несколько самородков, горе им, если они не будут
уметь считать. Ибо деньги дают все, кроме счастья; нет, дают даже
и счастье, и разум, и здоровье, и нравственность. Но ты покажи ре-
бенку, что деньги приносят и несчастье, и болезни, и лишают рассуд-
ка. Пусть ребенок на заработанные им деньги объестся мороженым,
и пусть у него заболит живот; пусть он из-за гривенника поссорится с
товарищем; пусть проиграет, потеряет, пусть у него их украдут; пусть
и пожалеет, что купил; пусть польстится на доходное дежурство и
убедится, что не стоило; пусть оплатит причиненный им ущерб.
ОПЕКУНСКАЯ КОМИССИЯ
Вместо объяснений привожу дневник одного из наших сор-
виголов, адресованный к девочке-опекунше *, вместе с ее замеча-
ниями.
16 апреля
«Я хотел бы быть столяром. Когда я поеду путешествовать, я смогу тогда сде-
лать себе сундук и в этот сундук положу разные свои вещи и одежду и уеду, и куп-
198
лю саблю и ружье. Если нападут дикие звери, я буду защищаться. Я очень люблю Ге-
лю, но на девочке из Дома Сирот я не женюсь».
Замечание опекунши: «Геля тоже тебя любит, но не очень, потому что ты ху-
лиган. А почему ты не хочешь жениться на девочке из нашего детдома?»
«Я не хочу брать жену из нашего детдома потому, что мне будет стыдно. Когда
я поеду путешествовать, чтобы открыть часть света, я научусь хорошо плавать даже
в океане. Я поеду в Америку, буду много работать, заработаю денег, куплю себе
автомобиль и поеду на этом моем автомобиле через всю Америку. А сначала я поеду
к дикарям и проживу там три недели. Спокойной ночи».
Замечание опекунши: «Спокойной ночи. А ты будешь мне писать?»
«Я и Р. разговаривали о том, как мы жили дома. Я сказал, что у меня отец был
портным, а у Р. отец сапожник. А теперь мы словно в тюрьме, потому что мы не дома.
И если у кого нет ни отца, ни матери, то жизнь у него пропащая. Я рассказал
ему, как отец посылал меня за пуговицами, а Р. отец посылал за гвоздями, и т. д.
Я забыл».
Замечание опекунши: «Пиши разборчивее».
«Вот как будет. Когда я вернусь из путешествия, я женюсь. Посоветуй, на ком
мне жениться: на Доре, на Геле или на Мане. Я не знаю, кого взять в жены. Спокой-
ной ночи».
Замечание опекунши: «Дора сказала, что ты еще сопляк. Маня не соглашается,
а Геля смеется».
«Ведь я не просил тебя их спрашивать, я только написал, кого я люблю. Теперь
я ужасно расстроился, мне стыдно, я ведь только тебе одной написал, кого я люблю.
И что теперь будет? Ведь мне стыдно к ним подойти. Пожалуйста, скажи мне,
за какой стол мне сесть, чтобы хорошо себя вести, и напиши мне какую-нибудь
длинную-предлинную сказку. И пожалуйста, никому не показывай, а то я теперь
боюсь писать. И мне очень хочется знать, как выглядит австралиец, какие они
там».
Замечание опекунши: «Раз ни Доре, ни Мане, ни Геле не стыдно, так и тебе нече-
го стыдиться. В маленькой тетрадке сказки не пишут. Если ребята тебя примут, са-
дись за третий стол. Австралийца я постараюсь тебе показать. А твой дневник я
больше не стану показывать».
«Хоть бы мне уже исполнилось двенадцать лет! То-то было бы счастье! Когда
я стану уезжать, я со всеми попрощаюсь. Я не знаю, что писать».
Замечание опекунши: «Ты сказал, что тебе столько всего хочется написать и
что ты не знаешь, хватит ли тебе бумаги, а теперь не знаешь, что писать?»
«Пожалуйста, посоветуй мне что-нибудь, у меня страшное горе и нечистая
совесть. Вот это какое горе: не знаю почему, но на уроках у меня из головы не идет
один мой недостаток — и боюсь я его,— как бы я не украл. Я не хочу никого огор-
чать и стараюсь исправиться. И чтобы об этом моем недостатке не думать, я думаю
о путешествиях. Спокойной ночи».
Замечание опекунши: «Ты очень хорошо сделал, что написал мне об этом.
Я с тобой поговорю и что-нибудь посоветую. Но когда я говорю, чур, не оби-
жаться».
«Я уже исправился. Я дружу с Г., и он меня уже исправил. И я очень стараюсь.
А почему мне можно ходить в город только раз в две недели? Ведь я такой же,
как и все, чем они меня лучше? А они ходят каждую неделю, а я раз в две недели.
Я хочу быть таким, как все. Бабушка просила меня приходить каждую неделю,
а мне стыдно сказать, что меня не пускают».
Замечание опекунши: «Ты сам знаешь, почему тебе нельзя ходить в город, как
все. Я попрошу, но сомневаюсь, удастся ли».
«У меня и так были неприятности, потому что когда меня выгнали из школы, то
должны были выгнать и из Дома Сирот, если меня не примут обратно в школу.
А теперь я уже опять хожу в школу. Я уже знаю 35 народов. И у меня есть книжка
о путешествиях. Правильная книжка. Мне очень хочется какую-нибудь коробку.
Пожалуйста, ответь».
Замечание опекунши: «Я дам тебе коробку, у себя поищу или где-нибудь доста-
ну. А ты можешь мне написать, зачем тебе эта коробка?»
«Мне эта коробка очень нужна, у меня много вещей: письма, книжки, очень много
нужных вещей... Теперь я уже ни с кем не дружу, мне не с кем. А когда эта тетрадка
кончится, мне дадут новую? Я некрасиво написал, на двух линейках. Я буду писать
199
обо всем, буду записывать всякие огорчения, что я сделал плохого и о чем думаю. Мне
надо написать очень много разных любопытных вещей».
Мальчику было девять лет, опекунше — двенадцать.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Мыслей у детей не меньше, и они не беднее и не хуже, чем
у взрослых, только они другие. В нашем мышлении образы линялые,
ветхие, чувства тусклые и словно покрытые пылью. А дети думают
сердцем, не умом. Поэтому нам так трудно найти с детьми общий
язык, поэтому нет более сложного искусства, чем умение с ними
говорить. Долгое время мне казалось, что с детьми нужно говорить
просто, понятно, занимательно, образно, убедительно. Теперь я ду-
маю по-другому: мы должны говорить коротко и с чувством, не по-
дыскивая слова и выражения, говорить искренне. Я предпочел бы
теперь сказать ребятам: «Мое требование к вам несправедливо, ос-
корбительно, невыполнимо, но я обязан это от вас требовать», чем
обосновать такое требование и ждать, чтобы ребята признали за
мной правоту.
Собрать детей, разжалобить или, наоборот, отругать их и добить-
ся нужного тебе постановления — это не собрание.
Собрать детей, произнести речь, разжечь их и выбрать несколь-
ких, чтобы они взяли на себя обязательства и ответственность,— это
не собрание.
Собрать.детей, сказать, что я не могу справиться, и пускай они
сами что-нибудь придумают, чтобы было лучше,— это не собрание.
Галдеж, бестолочь — голосуют, лишь бы отделаться,— это паро-
дия на собрание.
Частые речи и частые собрания с целью поставить или разрешить
какие-либо животрепещущие вопросы опошляют этот способ вызо-
ва коллективной реакции.
Собрание должно иметь деловой характер, замечания ребят вы-
слушиваться внимательно и честно — никакой фальши или нажи-
ма,— решение откладывать до того момента, когда воспитатель вы-
работает план действий. Если воспитатель может что-либо не знать,
не уметь или не мочь, то и ребята имеют право не знать, не уметь или
не мочь.
И никаких невыполнимых обещаний! Обещают глупые и бездум-
ные, а умные и честные сердятся или вышучивают.
Чтобы найти общий язык с детьми, надо поработать. Само собой
это не приходит! Ребенок должен знать, что он может взять слово,
что это стоит делать, что это не вызовет гнева или неприязни, что его
поймут. Мало того, он должен быть уверен, что товарищи его не вы-
смеют и не заподозрят в желании подмазаться к воспитателю. Соб-
рание требует чистой и достойной моральной атмосферы. Нет более
бессмысленной комедии, чем нарочито подстроенные выборы и го-
лосования с заранее известным результатом.
200
Кроме того, ребята должны научиться вести собрание. Ведь со-
вещаться всем скопом нелегко.
И еще одно условие. Принуждать к участию в обсуждениях и го-
лосованиях не надо. Есть дети, которые не хотят участвовать в об-
суждениях. Надо ли их заставлять?
— Болтают и болтают, а толку чуть.
— К чему собираться, и так ведь по-своему сделаете.
— Что это за собрание, когда никто ничего сказать не может,
сразу же все смеются или сердятся.
Пренебрегать этой критикой или объяснять вообще дурным от-
ношением не следует. И правильно, что ребята, способные критико-
вать, жалуются...
Если я теперь отношусь к собраниям со всей строгостью, то
в начале своей работы в Доме Сирот я переоценивал их значение,
злоупотребляя словом.
Как бы то ни было, собрания пробуждают коллективную совесть,
укрепляют чувство общей ответственности, словом, оставляют след.
Однако будьте осторожны. В ребячьей толпе нет и не может быть аб-
солютного товарищества и солидарности. С одним у меня общего
только крыша над головой и звонок на подъем, с другим — школа,
с третьим — одни и те же склонности, с четвертым у меня —
дружба, с пятым — любовь. Дети имеют право жить группами и от-
дельно, своим умом и трудом.
ГАЗЕТА
Воспитательное учреждение без газеты кажется мне беспо-
рядочным и безнадежным топтанием на месте и брюзжанием вос-
питателей, повторением одного и того же без определенной цели
и без контроля над детьми, чем-то временным и случайным, без тра-
диции, без воспоминаний, без перспектив.
Газета — это прочное звено, она связывает неделю с неделей и
сплачивает детей, воспитателей и техперсонал в единое целое.
Газету читают вслух всем детям.
В газете находит свое выражение каждое изменение, улучшение
или реформа, каждый недочет, каждое пожелание.
Можно писать о них в двух строках в хронике, в статье и в пере-
довой. Можно только отметить:
«А подрался с Б». Или: «Все чаще и чаще происходят драки. Вот
опять имела место драка между А и Б. Мы не знаем, из-за чего они
подрались, но разве обязательно каждый спор должен кончаться
дракой?» Или: «Долой кулачную расправу!» Или: «С этим надо раз
и навсегда покончить». Под сенсационным заголовком излагается
вопрос о драках.
Для воспитателя, который обязан понять ребенка и себя, газе-
та — прекрасный регулятор его слов и поступков. Газета — это жи-
вая хроника его работы, усилий, ошибок, трудностей, с которыми он
боролся. Газета — это подтверждение его способностей, свидетель-
201
ство о его деятельности, защита перед возможными упреками. Га-
зета — это научный документ, которому нет цены.
Может быть, вскоре в учительских семинариях будут введены
лекции по педагогической журналистике.
ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД
Если я посвящаю суду непропорционально много места, то
это делается в убеждении, что детский товарищеский суд может
положить начало детскому равноправию, привести к конституции,
заставить взрослых провозгласить декларацию прав ребенка. У ре-
бенка есть право на серьезное отношение к его делам и на справед-
ливое их рассмотрение. До сих пор все зависело от доброй воли и
хорошего или плохого настроения воспитателя. Ребенок не имел
права протестовать. Деспотизму надо положить конец!
КОДЕКС ТОВАРИЩЕСКОГО СУДА
Если кто-нибудь совершил проступок, лучше всего его про-
стить. Если он совершил проступок потому, что не знал, теперь он
уже знает. Если он совершил проступок нечаянно, он станет осмот-
рительнее. Если он совершил проступок потому, что ему трудно при-
выкнуть поступать по-другому, он постарается привыкнуть. Если он
совершил проступок потому, что его уговорили ребята, он больше
уже не станет их слушать.
Если кто-нибудь совершил проступок, лучше всего его простить
в надежде, что он исправится.
Но суд обязан защищать тихих ребят, чтобы их не обижали силь-
ные, суд обязан защищать добросовестных и трудолюбивых, чтобы
им не мешали разболтанные и лентяи, суд обязан заботиться, чтобы
был порядок, потому что от беспорядка больше всего страдают доб-
рые, тихие и добросовестные люди.
Суд — это еще не сама справедливость, но он обязан стремить-
ся к справедливости; суд — это еще не сама истина, но он жаждет
истины.
Судьи могут ошибаться. Судьи могут наказывать за поступки, ко-
торые и им самим случается совершать, и называть плохим то, что
и им самим доводится делать.
Но позор тому судье, который сознательно вынесет несправедли-
вый приговор.
КАК ПОДАВАТЬ В СУД?
На видном месте висит доска. На этой доске каждый может
записать свое дело: свою фамилию и фамилию того, на кого он по-
дает в суд. Можно подать в суд на себя самого, на любого ребенка,
на любого воспитателя, на любого взрослого.
Каждый вечер секретарь вписывает дела в книгу, а на следующий
день собирает показания. Показания могут даваться устно или пись-
менно.
202
СУДЬИ
Суд собирается раз в неделю. Судьи выбираются жеребьев-
кой из тех ребят, на которых за всю неделю ни разу не подавали в
суд. На каждые пятьдесят дел выбирается по пяти судей.
Может получиться так, что имеется, например, сто двадцать дел.
Значит, надо пятнадцать судей. А такого количества ребят, у кото-
рых не было бы на неделе ни одного дела, нет. Тогда тянут жребий
все, а на группы разбиваются так, чтобы никому не приходилось вес-
ти своего дела.
Решения принимаются согласно кодексу, причем секретарь име-
ет право с согласия судей передавать некоторые дела на рассмотре-
ние судебного совета или на расширенное судебное заседание, чтобы
их разбирали при всех или все всё слышали и точно знали. Секрета-
рем суда является воспитатель. Приговоры заносятся в книгу и за-
читываются перед всеми. Недовольные приговором могут подавать
свои дела на повторное рассмотрение, однако не раньше, чем по
истечении месяца.
СУДЕБНЫЙ СОВЕТ
Судебный совет должен состоять из воспитателя и двух су-
дей, избираемых на три месяца тайным голосованием.
Кроме вынесения приговоров судебный совет занимается разра-
боткой обязательных для всех законов.
Поскольку у судей из совета тоже могут быть свои судебные, дела,
в судебный совет выбираются пять судей, судят же каждое дело
только трое.
СЕКРЕТАРЬ
Секретарь не судит, а только собирает показания и зачиты-
вает их на заседаниях суда. Секретарь ведет судебную доску, книгу
показаний и приговоров, стенную доску поломок и повреждений, за-
ведует фондом материальных потерь, ведет кривую приговоров и ре-
дактирует газету.
ЗАБОТА СУДА О ПОРЯДКЕ
Если кто-нибудь опаздывает, шумит, мешает, не кладет ве-
щи на место, не соблюдает очередь, сорит, разводит грязь в доме,
входит туда, куда вход запрещен, пристает, ссорится и дерется, он
нарушает порядок. И надо подумать, как с ним быть.
Суд может или простить, или сказать, что обвиняемый посту-
пает плохо, или просить совет позволить нарушителю уклониться
от соблюдения режима. Совет может дать ему время подумать о
своем поведении.
Совет может позволить кому-нибудь одному делать то, что ни-
кому не разрешается. Пускай этот один будет исключением.
203
ЗАБОТА О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Кто не хочет учиться или работать и делает все небрежно,
тот причиняет себе вред и никому не приносит пользы.
Если суд не помогает, надо обратиться в совет — может быть,
этот мальчик болен, может быть, ему надо дать время привыкнуть,
а может быть, совсем освободить от работы?
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Разные ребята живут у нас вместе. Этот маленький, а тот
большой; один сильный, а другой слабый; этот умный, а тот не такой
умный; один веселый, другой печальный; один здоровый, а у другого
что-нибудь болит. Суд смотрит за тем, чтобы большой не обижал
маленького, маленький не мешал старшему. Чтобы умный не экс-
плуатировал и не высмеивал тех, кто поглупее. Чтобы забияка не лез
сам, но чтобы и его не задевали. Чтобы веселый не подстраивал глу-
пых шуток над невеселыми.
Суд должен следить, чтобы каждый имел то, что ему нужно, тог-
да не будет несчастных и озлобленных.
Суд может простить, а может и сказать, что кто-нибудь посту-
пил неправильно, плохо, очень плохо.
ЗАБОТА О СОБСТВЕННОСТИ
Сад, двор, дом, стены, двери, окна, лестницы, печи, стекла,
столы, лавки, шкафы, стулья, постели — если обо всем этом не забо-
титься, все будет поломано, попорчено, станет грязным и некраси-
вым. То же самое и с пальто, костюмами, шапками, носовыми плат-
ками, тарелками, кружками, ложками — если их потеряют, порвут,
сломают, разобьют, жалко ведь, да? То же и с книжками, ручками,
игрушками — портить их не надо, их надо беречь.
Иногда убыток невелик, а иногда и велик; иногда огорчение ма-
ленькое, а иногда и большое.
Тот, кто принес убыток, подает на себя в суд, который решает,
должен ли подававший покрыть убыток сам, или это будет сделано
из судебного фонда.
Все вышесказанное относится и к личной собственности.
ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
Болезнь, увечье и смерть — все это большие несчастья.
Стекло можно вставить, мячик купить; ну а что сделаешь, если кому-
нибудь глаз выбили?
Если даже несчастья и не случилось, все равно надо помнить, что
следует быть осторожным.
Судебный совет решает, сколько висеть на судебной доске объяв-
лению о несчастном случае или о болезни по своей вине.
204
НЕИЗВЕСТНО КТО...
Кто это сделал, неизвестно. Никто не хочет признаться. Ес-
ли очень стараться, узнать всегда можно. Но так неприятно искать,
следить, подозревать. Если что-нибудь случилось и неизвестно, кто
это сделал, то подают в суд на неизвестного. На неизвестного заво-
дят дело, судьи судят и вывешивают приговор на судебной доске. Ес-
ли этот поступок позорит все учреждение, совет постановляет при-
шить на знамени учреждения черный траурный лоскут.
ВСЕ ТАК ДЕЛАЮТ
Если что-нибудь часто повторяется, а всех ведь под суд не
отдашь, следует хорошенько подумать, как быть.
— Все опаздывают. Никто не вешает шапку.
Неправда, не все опаздывают, а многие. И один делает это два
раза в неделю, а другой раз в месяц. Но что налицо беспорядок —
да, верно.
Совет решил вывесить график поведения и, если это понадобит-
ся, предпримет и еще что-нибудь, чтобы не было непорядка.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
Кто-нибудь один не может привыкнуть, кто-нибудь один на-
рушает режим. Перепробовали всё — не помогает. Как быть?
— Если мы позволим одному то, что всем запрещается, или осво-
бодим от того, что обязаны делать все, выйдет что-нибудь плохое или
не выйдет?
Судебный совет может сделать для кого-нибудь исключение до
тех пор, пока тот сам не заявит, что больше не хочет. Совет постано-
вляет, помещать этих «исключительных» на судебную доску объяв-
лений или не помещать.
Ст. 1—99
Существует девяносто девять статей оправдывающих или таких,
где говорится: суд дела не разбирал. После такого суда все остается
так, словно суда и вовсе не было, или — и это единственное следст-
вие проступка — нарушителя обязуют стараться больше так не де-
лать.
Ст. 100
Суд не говорит, что он виновен, не объявляет ему порицания, не
сердится на него. Но, рассматривая статью сотую как самое малень-
кое наказание, суд включает это наказание в кривую судебных при-
говоров.
Ст. 200
Статья двухсотая гласит: «Он поступил неправильно».
Ничего не поделаешь. С каждым может случиться. Мы просим
его больше так не делать.
205
Ст. 300
В статье трехсотой говорится: «Он поступил плохо».
Суд осуждает.
Если при статьях сотой и двухсотой суд просит, чтобы этого
больше не было, при трехсотой суд требует, чтобы это больше не
повторялось.
Ст. 400
Статья четырехсотая — большая провинность.
В статье четырехсотой говорится: «Ты поступил очень плохо»
или: «Ты поступаешь очень плохо».
Статья четырехсотая — это последняя попытка, последнее жела-
ние избавить виновного от стыда, последнее предостережение.
Ст. 500
В статье пятисотой говорится: «Кто совершил такой поступок,
кому до такой степени нет дела до наших просьб и требований, тот
или не уважает себя, или не думает о нас. Поэтому и мы его больше
не можем щадить.
Приговор с именем и фамилией опубликовывается в газете на
первой странице».
Ст. 600
Суд вывешивает сроком на неделю приговор на судебной доске
объявлений и опубликовывает его в газете.
Если кто-нибудь получил шестисотую статью за то, что поступает
так постоянно, можно вывесить кривую его поведения и на более
долгий срок, но тогда вместо полных имени и фамилии ставятся
инициалы.
Ст. 700
Кроме того, что несет за собой статья шестисотая, по статье се-
мисотой о содержании приговора оповещают семью.
Может быть, виновного придется исключить. Значит, надо пре-
дупредить семью. Если сразу скажешь: «Забирайте его домой» —
родные могут обидеться, что, мол, не предупредили, скрыли.
Ст. 800
Статья восьмисотая как бы говорит: «Суд не помогает. Может
быть, наказания, какие раньше применялись в воспитательных уч-
реждениях, и помогли бы, но у нас таких наказаний нет.
Даем виновному неделю на размышление. За эту неделю ни он не
может подавать на кого-нибудь в суд, ни на него никто не будет по-
давать в суд. Посмотрим, исправится ли он и надолго ли».
Приговор опубликовывается в газете, вывешивается на доске
объявлений, оповещается семья.
206
Ст. 900
Статья девятисотая гласит:
«Мы потеряли надежду, что он может исправиться сам, без по-
сторонней помощи».
Приговор этот как бы говорит:
«Мы ему не верим».
Или:
«Мы его боимся».
И наконец:
«Мы не хотим иметь с ним никакого дела».
Другими словами, по статье девятисотой виновный исключается
из интерната. Однако он может и остаться, если кто-нибудь возьмет
на поруки. И, уже исключенный, может вернуться, если найдет себе
опекуна.
Опекун отвечает перед судом за все его провинности.
Опекуном может быть воспитатель или кто-нибудь из ребят.
Ст. 1000
Тысячная статья гласит:
«Исключаем».
Каждому исключенному предоставляется право по истечении
трех месяцев ходатайствовать об обратном принятии в интернат.
КРИВАЯ ПРИГОВОРОВ
Как в больнице у каждого больного есть своя кривая темпе-
ратуры, так и на судебной доске объявлений висит график мораль-
ного здоровья интерната, и по нему можно узнать, как идут дела —
плохо или хорошо.
Если на заседании суда вынесено четыре приговора по статье со-
той (100X4=400), шесть приговоров по статье двухсотой (200Х
X 6= 1200) и один по статье четырехсотой, то всего будет: 400+
+ 1200+400=2000, и мы отмечаем в графике, что за эту неделю об-
винительные приговоры дали цифру две тысячи.
<...>
ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Педагогика
для детей и для взрослых
Вступление
Я боялся, что на меня станут сердиться.
Скажут: «Голову ребятишкам морочит».
Или: «Подрастут, будет еще у них время обо всем этом
подумать».
Или: «И так не очень-то слушаются, ну а теперь пойдут крити-
ковать взрослых...»
«...Покажется им, что все знают, и заважничают».
Давно, очень давно я хотел написать такую книжку, да все откла-
дывал.
Ведь это — первый опыт.
Опыт может и не удаться.
А если даже и удастся, промахи неизбежны. У того, кто делает
что-либо новое, должны быть ошибки.
Я буду начеку. Постараюсь, чтобы книжка вышла занимательная,
хотя это и не описание путешествия, и не историческая повесть, и не
рассказ о природе.
Я долго думал и все не знал, как назвать книжку.
Пока один мальчик не сказал:
— Много у нас, у ребят, огорчений оттого, что мы не знаем, как
правильно жить. Иногда взрослые объяснят спокойно, а больше сер-
дятся. А ведь неприятно, когда сердятся. Понять трудно, спросить
нельзя. И в голову лезут разные поперечные мысли.
Так и сказал: «поперечные мысли».
Я взял лист бумаги и написал:
«Правила жизни».
Вижу: правду мальчик сказал — хорошо получилось.
И я составил план.
Я напишу о доме, о родителях, о братьях и сестрах, о домашних
развлечениях и огорчениях.
Потом — об улице.
Потом — о школе.
Потом я напишу о ребятах, которые думают про то, что они ви-
дят дома, на улице и в школе.
Каждый из вас ведь не только играет, но и смотрит, и слушает,
что говорят другие, и сам размышляет.
Это не повесть и не школьный учебник, а научная книга.
Одни предпочитают авантюрные романы, сказки, необыкновен-
ные приключения, печальные или смешные. А другие говорят, что
самые занятные книжки — это как раз научные.
По школьному учебнику учатся, повесть — та читается легко, а
научная книга заставляет человека самого много думать. Немножко
208
прочтет, а потом вспоминает разные вещи, а иной раз и удивляется,
и размышляет, так ли это на самом деле.
Ведь бывает, что один говорит одно, а другой другое.
У ребят свои дела, свои огорчения, свои слезы и улыбки, свои
взгляды — молодые, молодая поэзия.
Часто ребята прячутся от взрослых, стыдятся, не доверяют, боят-
ся, что станут высмеивать.
Ребята любят слушать разговоры взрослых — и очень хотят
знать.
Хотят знать правила жизни.
Самые близкие нам люди
Первое слово младенца — «мама».
Не помню, сказал ли мне кто, в книге ли я прочел, что
самое древнее слово, которое придумали первобытные люди, было
именно «мама», а потому слово «мама» похоже во многих язы-
ках.
По-гречески — мётер, по-латыни — mater, по-французски —
mere, по-немецки — Mutter.
Моя мама — та теге — meine Mutter — теа mater — миа
мётер.
Уже младенец знает свою мать. Еще ни говорить, ни ходить не
умеет, а уже тянет ручонки к матери. Узнает ее и на улице, когда она
подходит, еще издали улыбается. Даже ночью узнает по голосу, по
дыханию. Даже слепые от рождения и ослепшие дети, касаясь рукой
лица матери, узнают ее и говорят:
«Мама — мумуся — мамочка».
Один мальчик сказал так:
— Я и раньше думал, только теперь мысли у меня трудные. А
когда я был маленький, мысли были легкие.
Какие же это «легкие мысли» о матери?
Мама добрая, веселая или сердитая, или печальная, здоровая
или больная.
Мама позволяет, дает, запрещает, хочет или не хочет.
Позже видишь и других матерей, не только свою.
И узнаешь, что есть матери молодые, веселые, улыбающиеся,
есть озабоченные, усталые, заработавшиеся, есть очень образован-
ные и не очень, богатые и бедные, в шляпе или в платке.
Неприятно, если мама вышла и долго не возвращается. Бывает,
мама каждый день ходит на работу или надолго уедет. Тяжко ду-
мать, что есть на свете сироты.
А еще позже услышишь или прочтешь в газете, что какая-то мать
подбросила ребенка. Он даже не помнит мать, и нет у него фотогра-
фии и ничего на память. И так поступила как раз мама, та, которая
должна быть самой близкой, еще ближе, чем отец!..
— Папочка — папа.
И опять:
209
«Легкие» мысли про то, что отец работает, получает деньги и да-
ет маме. Но не всегда так: случается, что отец болен или не может
найти работу. Иногда отец работает дома, иногда где-нибудь в горо-
де, или часто ездит в другой город, или уехал далеко-далеко и только
шлет письма.
«Легкие» мысли бывают тогда, когда родители здоровы, дома
все есть, все живут дружно и нет огорчений.
Я, пишущий эту книгу, знаком с очень многими семьями, и в
каждом доме хоть немножко, да по-другому. И мои взрослые мыс-
ли очень трудные и длинные. Ты, любезный читатель, можешь сосчи-
тать, сколько у тебя знакомых домов и товарищей. Я уже не могу:
много, очень много.
Я знаю мальчика, живущего у бабушки, и девочку, которую взяла
к себе тетка. А очень многие дети живут у совсем чужих людей: в
лечебницах, интернатах, приютах, пансионах.
Родители живут в деревне, где нет школы, поэтому отправляют
ребенка в город. Или родители в городе, а доктор велел устроить ре-
бенка на курорт.
В школе знакомишься с ребятами, говоришь с ними и узнаешь
каждый раз что-то новое. Читаешь книги и начинаешь понимать,
что людям живется по-разному: одним хорошо, другим плохо.
Каждый хочет, чтобы дома у него все были спокойные, веселые
и не было огорчений. Но надо примириться с тем, что не всегда и не
не все хорошо. Один день радостный, другой печальный, одно удаст-
ся, другое нет. То солнце светит, то дождик идет.
— Ничего не поделаешь, такая уж жизнь,— сказал один
мальчик.
Что лучше, быть у родителей одному или иметь брата? или сест-
ру? Лучше быть младшим или старшим?
Ребенок был в семье один, а потом родился братишка. Радовать-
ся этому?
Может быть маленький брат, большой брат и почти взрослый.
Может быть один старший, другой младший. Маленький брат, боль-
шая сестра. Большой брат, маленькая сестра.
Что лучше?
Я не могу ответить, не знаю, и никто этого не знает.
— А ты как хотела бы?
— Я хотела бы, чтобы было так, как есть,— сказала одна девоч-
ка.
Бывают люди всегда веселые, всегда довольные. Им все нравится.
У них и в мыслях нет, чтобы что-то было по-другому. А другие часто
и легко сердятся.
Если можно что-нибудь изменить, стоит об этом поразмыслить;
если же все должно остаться так, как есть, не надо дуться как мышь
на крупу. И уж всегда можно жить дружно и с маленькими, и с боль-
шими, и с братом, и с сестрой — и это действительно зависит от нас
самих.
Я знаю одного мальчика, у него был больной брат. Удивительная
была болезнь. Даже родителям казалось, что он просто непослуш-
210
ный, невоспитанный, своевольный. Ходил, ел, спал, как все, только
ни минуты не мог усидеть на месте и все трогал, хватал, портил. Ес-
ли он что-нибудь хотел, а ему не давали, он бросался на пол, колотил
по полу ногами, плевался, кусался и кричал так громко, что раз даже
полицейский пришел: думал, мальчишку избивают, а над детьми из-
деваться воспрещается.
Лишь тогда родители вызвали докторов.
— Балованный, капризный — это верно. Но он болен: нервный,
не понимает.
— Что делать?
— Надо отдать в специальное заведение, для дома он слишком
труден. Вы с ним не сладите. Надо знать, как с таким обращаться.
Станете уступать, будет хуже. Этого недостаточно — только не раз-
дражать.
Родителям жалко было отдавать больного мальчика.
Я сказал:
— Вы должны думать о здоровом. Общество больного брата для
него вредно.
И тогда этот маленький мальчик закричал:
— Я не хочу, чтобы его из-за меня увозили. Пусть остается, я
отдам ему все игрушки. Там — я знаю,— там его будут бить.
Я написал об этом совсем не потому, что все обязаны так посту-
пать. Можно требовать доброты, но не самопожертвования.
Братья и сестры могут жить дружно, но не надо удивляться,
что время от времени возникают ссоры.
Из-за чего? Из-за мяча, из-за места за столом, из-за чернил; кому
первому мыться, кто должен поднять бумажку. Один хочет петь,
а другой — чтобы было тихо. Один хочет играть, а другой читать.
Бывают ссоры, когда сразу видно, кто прав, а кто не прав, и такие,
когда это не очень-то ясно. Тогда один должен уступить — добро-
вольно или по приказу. Иной раз ребята и подерутся, и поплачут.
А хуже всего — это когда маленький мешает старшему делать
уроки. Толкает, надоедает, лезет на стол, трогает чернильницу. Стар-
шему хочется поскорее кончить, ведь не каждый может долго сидеть
и все время думать. Он пишет, малыш подталкивает, а в школе попа-
дает, что писал нестарательно.
Не всегда у взрослых есть время и терпение точно дознаться, как
было дело. И они говорят:
— Уступи малышу!
Или:
— Уступи девочке.
Или:
— Старшему следует уступить.
Я убедился, что самое худшее как дома, так и в школе — это вы-
нужденные уступки. Они действуют лишь на короткое время. По-
том будет еще хуже. Несправедливость раздражает. Остается чув-
ство досады. Остается обида. Я убедился, что лучше совсем не вме-
шиваться, чем судить, не разобравшись в причине распри. Взрос-
лым иногда кажется, что ссора вышла из-за сущего пустяка. Из-за
211
чепухи... Нет. Братья и сестры часто добровольно уступают и про-
щают. Нередко взрослые жалуются, что:
— Целый день они ссорятся.
— Вечно они ссорятся.
— Не перестают ссориться.
— Ни минуты без ссоры.
Преувеличение.
Если подсчитать, то у недружных братьев и сестер выпадет
две — три — четыре ссоры на день. Допустим, каждая ссора длится
пятнадцать минут,— значит, все вместе час. Час это много, но не
целый же день. И может быть, лучше один час войны, чем постоян-
ная злость и тихая, все возрастающая неприязнь.
Я убедился, что пренебрежительное отношение старших бра-
тьев и сестер к младшим обижает и сердит.
И наоборот, сердит и раздражает, когда младшие требуют для
себя прав, какими пользуются старшие.
— Я тоже хочу,— говорит малыш.
— Раз так, ни тот, ни другой!
И из ложного принципа равенства или для примера старшему
что-нибудь не дают или не позволяют.
И если после возникнет ссора, дело тут не в пустяках, а во взаим-
ной неприязни.
Бывают дни хуже и лучше. Уже было гораздо лучше, совсем хо-
рошо, и вдруг опять начинают.
Почему?
Прежде чем что-нибудь предпринять, надо изучить, узнать, рас-
спросить, потому что как можно, не зная, советовать и поучать?
Я убедился, что не следует спешить на помощь. Лучше подождать,
пока ребята успокоятся.
Я убедился, что добра больше, в десять раз больше, чем зла, и
поэтому можно спокойно переждать, когда злость пройдет. Не толь-
ко человек, каждое живое существо предпочитает мир войне, и, зна-
чит, не следует обвинять детей в пристрастии к ссорам.
Если в семье есть бабушка и дедушка, может быть, это для ребят
лучше. Если мама сегодня сердитая, может быть, бабушка утешит;
мама откажется, может быть, бабушка поможет. У бабушки больше
времени,— значит, выслушает внимательнее. Любопытно рассказы-
вают старые люди. И вообще как это удивительно: бабушка помнит
маму маленькой девочкой, а папу юношей. А еще раньше бабушка
сама была ребенком.
Помнит старые времена. Другие тогда были улицы и дома, другие
лампы и часы, даже люди были другие. Не было многих изобретений,
и книг, и игрушек, развлечений.
И из людей — одни уже умерли, других еще не было на свете...
И приходят в голову «трудные» мысли, уже не только о том, что
сейчас есть, а и о том, что было и что будет.
Удивительно...
212
Дом — квартира
Люди живут в больших городах, маленьких городишках и в
деревнях.
Родным домом может быть хата, усадьба, комнатка в деревян-
ном доме, комната или несколько комнат в высоком каменном зда-
нии и дворец.
Дом может быть собственностью родителей или сниматься у до-
мовладельца, которому ежемесячно платят за квартиру. Кто не мо-
жет платить, должен съехать.
Маленькие дети ничего этого не знают, их «легкие» мысли
такие:
«Здесь мои мама и папа, здесь моя кроватка и игрушки, здесь
я сплю и ем, и спешу сюда, когда холодно и идет дождик».
Как птица в свое гнездо.
И только позже ребенок знакомится с другими квартирами —
смотрит и немножко смущается, немножко боится. Видит других
мам, другие столы, кровати и шкафы. Удивляется, думает, сравни-
вает и наконец твердо знает.
Уже большой мальчик из небольшого городка сказал:
— Я думал, в Варшаве высокие горы, и море, и корабли, и кру-
гом одни памятники, как на кладбище. Сам не знаю, что я думал.
Часто правда переплетается со сном и сказкой.
Одна большая девочка сказала:
— Я не могу себе представить, как это люди живут зимой в де-
ревне. Кругом снег, холодно, а они сидят там!
Только когда человек хорошо познакомится со своим жилищем,
он начинает интересоваться тем, что далеко и по-другому. Как бы
путешествует мысленно по неведомым странам.
Ребенку изрядно приходится потрудиться, чтобы узнать свой
дом. Кто постарше, тот даже уже и не помнит, как он разглядывал
комнату, пол, потолок и стены, сколько видел непонятных вещей,
сколько его подстерегало неожиданных сюрпризов и тайн. Удиви-
тельная лампа, неодинаковая днем, вечером и ночью.
Часы, которые тикают и бьют. Что в них, почему и зачем. Мама
взглянет на часы и знает, что скоро придет папа. Словно часы зна-
ют, что делается вне дома, знают, когда будет темно, и бьют, чтобы
люди ели, ложились спать, вставали, ни на минуту не перестают
шептаться на стенке.
Удивительное зеркало. Совсем не такое, как картина. В нем мож-
но увидеть разные вещи. Если перед зеркалом встанет мама, будет
две мамы.
— А это я!
Ребенок поднимает руку, высовывает язык, держит кошку, при-
поднимает фартучек — в зеркале то же самое.
Висят картины и фотографии — и что-то говорят и объясняют,
а малыш любит их или не любит, радуется или боится.
Опрокинул стул — испугался, больно; упал, ушибся о стол, о
шкаф. Свалился откуда-нибудь. Ударили дверью. Обжегся о плиту.
213
И плита тут что-то делает, все тут что-нибудь да значит. Иногда
хорошо и весело, а иногда бранят. За что?
Говорят, что испортил, сломал, запачкал. Приключается с малы-
шом и беда: написал на пол, сам не знает, как это вышло. Опять
огорчение.
Но бывают и победы: впервые сам влез на подоконник, впервые
дотянулся до дверной ручки, впервые дорвался до щетки и метет
или вытирает тряпкой пыль.
Ребенок постарше, который ходит в школу, уже все это забыл.
А жаль: помни он, как ему самому было трудно, не судил бы малыша
строго.
Покажу на примере, что и старшим детям не все понятно: почему,
например, взрослые не позволяют прыгать на диване? Говорят «пор-
тится», а ведь это вовсе не так; а уж как приятно прыгать, как вы-
соко подбрасывают пружины.
Дети не знают, что есть дорогие вещи, которые покупаются на
долгие годы. Диван от прыганья сразу не испортится, но через год-
другой порвутся веревки, которыми связаны пружины, и придется
платить обойщику за починку, а то и за новую обивку.
Малышу родители иногда позволяют попрыгать, не хочется за-
прещать, и малыш легкий, не так уж испортит. А на большого очень
сердятся, денег нет на ремонт.
Родители сердятся, если царапать ножиком стол, щелкать вы-
ключателем, зажигать спички, играть в комнате в мячик. И, надо
признать, они правы.
Помню, я разбил, играя в мяч, дорогую вазу. Долго удавалось мне
ничего не бить,— может быть, целый год. Я обещал бросать мячик
только о пол, и мама позволила. И вот, то ли я слишком сильно уда-
рил, то ли забыл об обещании. Ваза дрогнула, закачалась и упала.
Когда ребята приходят ко мне в комнату, я всегда ставлю лампу
и будильник в безопасное место. Не хочу, чтобы у ребят были не-
приятности, а у меня убыток. И всем советую так делать: лучше
вовремя отодвинуть чернила, чем сердиться, что пролили.
Взрослые не очень любят, когда у ребят гости, и хотят знать,
спокойные ли твои товарищи и хорошо ли воспитаны. И сердятся,
если что-нибудь приключится: наприглашал, мол, озорников. А ведь
неприятно отказывать, когда товарищ просит:
— Я приду к тебе?
Тихому мальчику даже чай пролить неприятно; а уж всегда так
бывает, что, когда слишком стараешься, что-нибудь да не выйдет.
Поэтому тихие не любят ходить по знакомым, предпочитают поску-
чать. А все потому, что не знают, как навещать товарищей и как
принимать, чтобы и гостя не обидеть, и самому не иметь неприятно-
стей. А жаль...
Плохо, что как раз у хороших ребят всегда столько опасений,
а бесстыжим на все плевать, и именно у чужого они делают все то,
что им запрещают дома.
Один мальчик пригласил к себе товарищей. Конечно, мама поз-
волила. Но пришел один непрошеный. Даже в школе он всегда иг-
214
рал как-то дико, и его звали «бешеный». А что было делать?
Гость!
Хорошо поиграли. Только тот разошелся и разбил большое зер-
кало, и мама велела всем убираться вон.
— Ты зачем его звал?
— А вот именно и не звал.
— Надо было так ему и сказать.
Мальчик не знал правила, которое учит, что не с каждым можно
быть деликатным.
А я знаю случай, когда гость взял у мамы со столика золотые
часы.
Где большая квартира, там легче. Тогда дети и взрослые меньше
мешают друг другу. А чем больше народу и теснее, тем больше го-
рестей, запретов и убытков. Кто виноват? Никто.
Я читал в книжке, что, когда у тебя неприятность и ты знаешь из-
за чего она, тебе уже не так больно. А маленькие не знают.
Там, где есть детская, реже скажут:
— Не бегай, не шуми.
Хотя и не всегда так бывает, ведь богатые менее терпеливы, боль-
ше думают о своем покое и удобстве.
Очень трудно сказать, где лучше.
Один мальчик, у которого семья ютилась в одной комнатушке,
побывал в гостях у богатого товарища и сказал так:
— Хорошо там. У него своя комната. Всякие ковры, картины.
Игрушек столько... Только я не хотел бы там жить. У нас лучше —
веселее.
Иногда человеку кажется, что он хочет, чтобы все было по-
другому, не так, как есть. Как бы завидует: тому, мол, лучше. Но на
самом деле редко кому хочется быть другим, иметь другую маму
и жить в другом месте. Не хочется, чтобы все было совсем по-дру-
гому. Хочется только немножко изменить, подправить. А впрочем,
люди бывают разные: один более привязчивый, другой менее.
В тесной квартире могут царить любовь и согласие и быть весе-
ло, а в большой — жить недружно, одни строгости да скука. Одинок
ребенок может быть и тут и там.
Трудно даже сказать, лучше жить в большом городе или в ма-
леньком. В маленьком дети боятся пожара, в большом — машин и
воров. В большом больше развлечений, книжек, кинотеатров, зато в
маленьком дальние экскурсии, хороши весна и осень, больше цве-
тов, птиц.
Как приятно ухаживать за растениями, сколько радости, когда
сажаешь в горшки семена и они всходят, строгаешь подпорки, пе-
ресаживаешь, поливаешь, выставляешь под дождик, окури-
ваешь!
А канарейка в клетке, а рыбки в аквариуме или хотя бы в бан-
ке? А в маленьком городке и голуби, и кролики, и собаки, и цып-
лята...
— Я хочу, чтобы было так, как есть,— сказал один маль-
чик.
215
Иногда родители живут в деревне. Там, где жили еще и дедушка,
и прадедушка.
Взрослые говорят, что маленькие любят переезжать. И я раньше
так думал. Но нет.
Иногда переезжать весело. Каждый рад, когда на лето едет в де-
ревню. И каникулы — и лето — и не навсегда.
Хорошо переехать в более веселый дом, где есть балкон, и боль-
ше окон, и ближе парк. И родители довольны, говорят, что будет
удобно. Но даже и тогда жалко дом, который ты знаешь, и соседей.
Пусто делается, когда выносят вещи...
А бывают и совсем невеселые переезды, когда кто-нибудь умер
или у родителей стали плохи дела.
Часто переезд вызывает тревожное чувство: как-то будет в чужом
городе, в дальнем краю? Неужели никогда я не увижу того, что
было?
Не всегда маленькие быстро забывают и привыкают. Иногда у
взрослых, занятых на новом месте новыми делами, нет времени ду-
мать о прошлом. А ребенок тоскует.
Взрослые дома
Дома, кроме мамы и папы, бывают еще горничная, кухарка,
иногда няня или бонна, гувернантка или гувернер.
Нелегко сразу понять, как со всем эти народом ладить. Столько
надо людей узнать, чтобы не попасть в беду!
Надо прямо сказать, иногда родители многое позволяют, дела-
ют мало замечаний, а иногда действительно слишком уж часто слы-
шишь:
«Не смей, нельзя, не тронь, перестань, не так, потом».
Или:
«Поди, возьми, играй, ешь, спи».
Одному легко слушаться, другому трудно. Спокойному ребенку
легче, а беспокойный сердится.
Говорит: «Мучают, надоедают, покоя не дают, над душой стоят,
лезут».
А взрослые про такого: «Непослушный, плохой, баловник».
Вот тогда-то и приходят (как сказал один мальчик) «попереч-
ные мысли».
То есть хочется делать наперекор. А взрослые знай свое:
«Упрямый, строптивый, пакостник, озорник».
Но маме, а еще больше папе приходится уступать. Обычно, хотя
и не всегда, более строг бывает отец. Так ли, эдак ли, только каждый
знает, что у мамы и у папы есть право приказывать и запрещать.
На маму и папу трудно долго обижаться. Нельзя сказать, чтобы
их не любили.
Вот ребенок и старается, а если надо, и повинится и попросит
прощения. Даже тогда попросит, когда не считает их вполне пра-
выми.
216
Иногда бабушка слишком снисходительна, и можно не слушать-
ся. Но потом бабушку делается жалко. Да и опасно: выйдет из себя
и нажалуется маме или папе.
А свяжись со взрослым братом или сестрой — наверняка поко-
лотят...
А тут еще горничная с жалобой. Правда это, что всегда всех на-
до слушаться и каждый имеет право всегда и во все вмешиваться?
Я знал прислугу, которая говорила:
— Люблю работать, где есть дети,— веселее.
Но чаще прислуга говорит:
— Ни за какие сокровища не пойду туда, где дети.
И, надо признаться, здесь у прислуги действительно больше
работы, потому что, кто все делает, убирает, натирает залитый и
исцарапанный пол?
Кухарка торопится приготовить вовремя обед или идет стирка,
а тут ребятишки вертятся на кухне — ну и кухарка, конечно, вы-
гоняет...
Если ребенок беспокойный и дома ему тесно и нечего делать,
частенько затевается война с прислугой или бонной. Начинается
обычно с пустяков: ребенок ли скажет что-нибудь в сердцах, при-
слуга ли обзовет нехорошим словом — и пошло-поехало...
Родители жалуются:
— Грубит прислуге, делает все назло бонне. Никто у нас жить не
хочет.
Родители выходят из себя и сердятся то на мальчика, то на при-
слугу. Ведь родители не всегда знают точно, как это было. А тогда
еще больше зло берет.
Как-то девочка вернулась домой разобиженная:
— Подруга позвала к себе в гости. Я позвонила, поздоровалась
и спросила, дома ли она? А прислуга захлопнула дверь перед носом
и еще что-то крикнула за дверью.
Конечно, бывает и по-другому. Не только мир, но и дружба, и
сказки, и прогулки, и подарки, и угощения. И все это весело, от ду-
ши. Я знаю случай, когда дети научили прислугу читать и пишут за
нее письма ее родителям в деревню и жениху в армию.
Раз даже, когда один отец очень уж разнервничался и собирался
побить сына, няня заступилась:
— Что вам от него надо? Не дам бить.
Предпочла, чтобы лучше сердились на нее. По-разному ведь на
свете бывает.
Но в своих «Правилах жизни» я должен больше писать о плохом,
чтобы каждый подумал, как это исправить.
Поэтому я только вкратце упомяну, что чаще всего согласие ца-
рит в тех домах, где есть гувернантка или бонна. Ну столкновения-
то, конечно, иногда должны быть. Надо помнить, что мамой легче
быть, чем воспитательницей.
Если мама позволит и что-либо стрясется, на маму не станут сер-
диться. Когда у мамы неприятность, дети знают, отчего она груст-
ная, а про воспитательницу думают, что злится.
217
Когда мама велит, дети скорее слушаются. Значит, неудовольст-
вий как раз столько, сколько и должно быть у людей, которые всег-
да вместе. Но они любят друг друга и долго зла не помнят.
Но бывает, дети плохие, докучают. Я знаю случай, когда мальчик
лгал, что бонна его бьет, а это была неправда. Или делал назло и гро-
зил пожаловаться маме.
Я знаю и такие случаи, когда дети страдали, но стыдились или
боялись признаться в этом родителям.
Я читал в газете, что за границей был один очень богатый граф.
У него умерла жена, и он с горя много путешествовал, а дома оста-
вались под присмотром гувернера два мальчика. Гувернер бил их и
пугал, а зимой обливал водой и запирал раздетых на ночь в чулан.
И только когда один умер от этих мучений, другой написал поти-
хоньку отцу. Был суд, гувернера посадили в тюрьму, да было уже
поздно.
Правило жизни гласит: «Никогда ничего не скрывать от родите-
лей». Иногда ребенку кажется, что он беспомощен и беззащитен,
но если бы родители все знали, помогли бы.
Иногда ребенку кажется, что и он виноват. Ничего:-родители
простят и помогут. А нет родителей, можно пожаловаться тетке, дя-
де, бабушке, даже полиции, если уж совсем никого нет.
Неприятно это слушать тому, кому хорошо, кого окружают лю-
бящие люди. Что ж? Пускай знает, не будет тогда кукситься по
пустякам...
Разные люди бывают на свете: и взрослые, и подростки, и малы-
ши. Разные люди бывают: и тети, и дяди. И взрослые гости.
Чужие тети бывают приятные и неприятные. Вообще взрослые
точно так же, как и твои ровесники, делятся на тех, кого ты любишь
и не любишь.
Один только поздоровается, а потом все с мамой разговаривает;
иногда даже обидно, что не обращает внимания. А другой отпустит
неудачную шутку или задаст вопрос, на который не всегда хочется
отвечать.
«А ты это любишь, а ты это умеешь делать, а ты это хочешь?»
Или с подарком придет. Взрослым кажется, что дети лаком-
ки и жадные. Нет. Если кого не любишь, и подарок от него
не мил.
Хуже, когда гости вмешиваются, делают замечания. И уж хуже
всего, когда ласкают и целуют. Или руку тебе так крепко стиснет,
что больно, или обслюнявит, целуя, или посадит на колени. По ка-
кому праву?
Всегда неспокойно на сердце, когда подходишь ко взрослым гос-
тям, никогда не известно, что тебя ждет.
Общее правило жизни гласит, что со взрослыми надо быть веж-
ливым, а с гостями и любезным. Но и взрослые должны быть веж-
ливыми и не делать неприятностей.
Раз знакомый отца подхватил мальчика и, взмахивая им, сказал:
— Вот брошу тебя в воду!
Шли тогда по мосту.
218
Все это вышло так внезапно, что мальчик закричал и расплакал-
ся. Взрослые стали смеяться и стыдить:
— Такой большой и такой глупый. Трусишка!
А этот господин, вместо того чтобы извиниться и больше не напо-
минать, потом еще всякий раз приставал:
— Привет, моряк! Здорово, герой!
Противный!
Бывают и такие гости, которым доставляет удовольствие раз-
дразнить человека. Иные стараются подладиться. А в общем детям
часто непонятно: над чем они смеются?
Раз в гостиной собралось многочисленное общество. Мальчику
велели угостить конфетами. Конечно, приятно угощать, да только
чем-нибудь своим и одного, того, кого любишь. Но ничего не поде-
лаешь: велели. А мальчик поскользнулся и чуть не упал. Перепугал-
ся: ведь мог просыпать конфеты. А все стали смеяться над ним и
подшучивать.
Есть гости, с которыми надо быть исключительно любезным.
Какой-нибудь приятель отца, кто-нибудь, кто приехал издалека или
надолго уезжает. Тут еще больше приходится стараться, это хуже
даже, чем экзамен. Детей заставляют декламировать, петь при гос-
тях. Ох, как это подчас неприятно!
Иногда незнакомый гость приводит с собой ребенка, и вам го-
ворят:
— Идите играйте.
А не всегда можно играть по приказу.
Взрослые знают, как и с кем разговаривать, с кем надо быть сдер-
жанным, а с кем можно чувствовать себя свободно. Знают, как за-
вести разговор, хотя и не очень хотелось бы. (А ведь начало всего
труднее.)
И взрослые не конфузятся так, как дети. За ними не следят и не
сердятся, когда они скажут что-нибудь, или сделают не так, как надо.
И могут выбирать, с кем хотят познакомиться.
Похоже на то, что с младшим каждый вправе заговаривать, даже
если его мало знает или не знает вовсе.
И я раньше так думал, а научил меня уму-разуму один малень-
кий мальчик; я ему очень благодарен.
Я тогда был военным врачом. Наш отряд стоял в небольшом
городке. Этот мальчик играл у себя перед домом. Я шел мимо и
сказал:
— Здравствуй!
— Почему ты не отвечаешь? — сердито спросила у него мать.
— Да я его совсем не знаю,— ответил мальчик.
С тех пор я стал осторожнее.
Любезный читатель! Я знаю, у тебя есть неприятности, взрос-
лые с тобой не считаются, обижают тебя. Знаю, ты не доверяешь
взрослым и, хотя и боишься сказать это вслух, чувствуешь, что и
между ними есть дерзкие, невежливые, невоспитанные люди. Но ты
должен признать, что есть и умные, приятные, незазнающиеся.
И что за невежливость одних другие не в ответе.
219
Я прошу тебя, если ты живешь дома мирно, объясни и убеди то-
варищей, что и они должны хорошо относиться к няне или бонне и
быть с ними вежливыми. Я знаю много девушек, которые нуждаются
в заработке. И знаю, они охотнее поступят в контору, лавку или бу-
дут шить — одна, например, продает папиросы в киоске,— чем пой-
дут к детям. Дети, мол, плохие. А я знаю, что это не так. А еще боль-
ше меня огорчает то, что так говорят хорошие няни и хорошие вос-
питательницы.
— Не справляюсь,— говорят.
И выходит, будто с маленькими могут справиться лишь плохие,
грубые и злые люди.
Много тяжелых, трудных взрослых мыслей приходит мне в
голову.
Двор — парк
Сразу же, во вступлении, я написал, что эта книга — опыт и
будут ошибки. Одну ошибку я уже вижу. Слишком мало, слишком
бегло в этой книжке обо всем говорится. Но ничего не поделаешь.
Я хочу в ней собрать все важные вопросы и все трудные мысли.
Потом уже я могу писать пространные книжки, каждую о чем-
нибудь другом. Отдельно о родителях, отдельно о братьях и о сест-
рах, о гостях — эти будут полегче. Одни книжки для больших детей,
другие для малышей, одни для деревенских ребят, другие для город-
ских. Даже для богатых ребят и для бедных, для мальчиков и для
девочек я напишу отдельные книжки. Ведь одного больше зани-
мает одно, другого — другое. Чтобы было как у взрослых, у кото-
рых есть своя научная литература.
Об одном лишь дворе можно написать длинную-предлинную ис-
торию.
По-разному тут бывает утром и вечером, в будни и в праздники,
зимой и летом.
Вот выдался первый весенний денек. Ребята со всего дома сбе-
жались во двор, весело щебеча, как вернувшиеся из дальних стран
ласточки, и с любопытством поглядывают — что изменилось?
Бледненькие после зимы, когда было мало солнца. Еще робкие.
Прибыл кто-то новый, кого-то не хватает, а один из прошлогод-
них друзей ходит уже на работу. Не один прошлогодний малыш про-
бует быть ребенком среднего возраста, а ребенок среднего воз-
раста смотрит и прикидывает, не попробовать ли быть большим.
И все вытянулись.
Не одинаковы дворы в деревнях, в городках и в городах; когда
окружают их со всех сторон высокие каменные стены или когда дома
и заборы деревянные; на богатых улицах и в бедных предместьях.
А в богатых домах даже играть во дворе не разрешается. И родите-
ли не позволяют, боятся пыли и дурного общества.
Это правда, во дворе не очень-то чисто, да и ребята не одинаковы.
Разные есть ребята: тихие и дружные и в самом деле злющие. Пре-
220
следуют девочек и малышей, дразнятся, бросают камнями, гоняют
кошек, дерутся, даже кидают в окна полуподвалов мусор. Тихие
дети уступают и часто лучше будут сидеть дома, чем вот с такими
встречаться.
Иногда достаточно одного, если он главарь ватаги. Сторожу, вла-
дельцам окрестных лавочек, жителям дома покоя от него нет: ни-
когда не известно, что взбредет ему в голову.
Одна бабушка отдала такого вот буяна в исправительный дом;
потом говорили, что весь дом вздохнул с облегчением.
— Ну теперь можно спокойно играть.
— Ну теперь нам никто не мешает.
Часто из таких ребят вырастают пьяницы и дебоширы, не один
такой умирал молодым. Знаю, один утопился, другой попал под
трамвай и ходит теперь на костылях (пришлось отрезать ногу чуть
не по колено).
С тех пор как все должны ходить в школу, во дворе стало лучше,
зато в школе с такими прямо беда.
Важная персона во дворе — сторож или, как еще говорят,
дворник. Дворник может быть молодой или старый, добрый или
злой. А злиться ему есть на что: ведь это он обязан следить за поряд-
ком, чтобы ребята дом не разнесли.
Это кажется на первый взгляд странным — дом большой и креп-
кий,— что тут можно сломать? А можно.
Ребята колотят железкой по стене и обивают штукатурку или
пачкают и рисуют. К стенам подвешены железные трубы, по кото-
рым стекает вода с крыши. Ребята садятся на трубы верхом или
прыгают на них — и железо сминается. Е^ли есть кран, открывают
его, льется вода, а ведь хозяин платит за воду в городскую управу.
В маленьких домах нет уборных, все ходят на двор. Малыш торо-
пится или боится вечером — и вот присел у дверей и сделал на пол.
Иногда ребятам требуются камни для игры или хочется выкопать
яму, и они выламывают булыжник из мостовой.
Хозяин сердится, дом только что красили, а опять надо красить,
и полиция присылает повестку, что непорядок, и карает штрафом
или арестом.
Только дворник успел подмести лестницу и во дворе, а опять бу-
мажки, палки, солома. И наконец, этот крик.
Иногда домовладелец (или администратор и управляющий) жи-
вет где-нибудь в другом месте, иногда здесь же. Или кто-нибудь
болен и просит, чтобы было тихо.
Дворник гонит метлой или ремнем ребят со двора, ругает и про-
клинает, а мальчишки дают стрекача и хохочут. Ну как не злиться!
На школьном дворе ребята галдят только по три минуты в пере-
мену, а здесь целый день; в школе нет очень уж маленьких или боль-
ших, а здесь всякие.
Поэтому неудивительно, что сторож всех без разбора честит ху-
лиганами и колотит первого, кто подвернулся под руку, не успел
убежать.
Одного мама сама поощряет:
221
— Иди побегай, иди поиграй, дома душно.
А другому позволяет нехотя и лишь иногда.
— Да смотри, сейчас же возвращайся. Башмаки не сбивай. С ху-
лиганами не водись.
И потом спрашивает, что он делал,— как бы, мол, не испортился.
Теперь садов и парков становится все больше и больше. Раньше
всего этого не было и у входа в сад стоял полицейский и не пускал
бедно одетых детей. Раньше сады были для зажиточных и для бога-
тых детей, и даже не очень-то цдя детей. Детских площадок тогда
не было, а играть в мяч на дорожках не разрешалось. Когда мячик
попадал на газон, приходилось смотреть, не видит ли сторож, и
мчаться что есть духу. Неприятно ведь, когда грозят палкой.
Теперь в садах есть и колонка, уборная, и веранда, где можно
спрятаться от дождя. Есть и тенистые деревья, и пруд с лебедями, и
ровные, политые водой, чтобы не было пыли, дорожки.
Все это люди не сразу придумали и теперь еще что-нибудь да
прибавится, например музыка.
За границей есть уже в садах удобные скамеечки для малышей и
специальные площадки для заблудившихся.
Ребенок постарше знает сад, а цдя маленького сад, что дремучий
лес. Приходится все время смотреть и звать:
«Не уходи, не отходи, играй поближе».
Ребенок раздражается, мать сердится. Наконец и в самом деле
заблудился. Страшно ему, плачет, не знает, куда идти, и никто не
знает, куда его отвести. И ребенок ищет, и мама беспокоится, ищет,
и даже долго ищет. А нашелся — иногда радость, а иногда гнев —
крик, шлепок, слезы.
А ведь достаточно одной маленькой огороженной площадки.
И все знают, куда потерявшегося отвести и куда за ним прийти.
Развлечения в саду приятнее, деликатнее. Даже удивляешься,
что уже пора домой, так быстро время прошло, и надо прощаться:
— До завтра.
Удивительно: то час тянется долго-долго, словно и конца ему нет,
то сразу промелькнет.
Только на часах все часы одинаково длятся. И лишь когда у тебя
появляются свои часы, ты постепенно и не без труда научаешься
узнавать время, которое утекает.
Кому позволяют ходить одним, у тех часто бывают дома
неприятности, что не вернулся вовремя. Объяснения считают от-
говорками — и зря. Просто было хорошо, и время пролетело неза-
метно.
Нельзя же каждые пять минут подходить к кому-нибудь и спра-
шивать, который час.
Один ответит, а другой буркнет под нос, даже не взглянув на ча-
сы. Немного поиграешь, если все ходить и выискивать, у кого бы
спросить, сколько времени. Может, поэтому ребята так сильно хо-
тят иметь часы.
Ведь хотелось бы и хорошенько наиграться, и дома не иметь не-
приятностей.
222
Ничего не поделаешь, пусть школа так и будет школой и пусть ос-
танутся все тяжелые школьные обязанности, не надо требовать
слишком многого; но, по крайней мере, хотя бы то могло измениться,
чтобы во время веселой игры, когда обо всем забываешь, не свалива-
лись как снег на голову гнев, крик, угрозы и наказания.
Сразу столько горьких слов и одиночество.
Страх, как бы чего не вышло, нарушает спокойствие радости: не
опоздать бы, не порвать платье, не налететь, когда бежишь и ловишь
мячик, на кого-нибудь из взрослых, не ударить по неосторожности
товарища, не сделать чего-нибудь такого. Чего? Взрослые знают,
чего избегать, а маленькому всегда грозит неожиданная не-
приятность.
Я хотел бы собрать в одном месте все предписания и правила,
чтобы сделать игру безопасной, но можно ли все предвидеть?
Нельзя ходить по газону, но что делать, если единственное спа-
сение от погони — перемахнуть через газон?
Нельзя ломать кустарник, но разве от сорванной ветки, если она
очень понадобилась, может быть вред? Увы, да. Садовник подрезает
ветви тогда, когда соки в дереве еще не двинулись, а сорвать веточ-
ку или даже листик летом — значит больно поранить друга-расте-
ние.
А уж самое большое зло — резать кору. Кора — это не только
кожа, но и одежда, кора защищает от жары и стужи, болезней и па-
разитов, сок из дерева вытекает, словно кровь. Изувеченное дерево
будет расти, словно больной ребенок.
Вопрос о шуме не решен. Необходим ли крик? Не знаю. Знаю од-
но — не все орут, когда играют.
Как-то в летней колонии мы с ребятами купались. Кричал один,
зовя кого-то с середины реки. Он не понимал, что тот, кого он звал,
слышал свое имя, но не откликался, не желал идти. Этот однообраз-
ный крик среди спокойного, дружного гомона был действительно
неприятен. Чтобы не рассердиться, я принялся считать: мальчишка
прокричал пронзительно и назойливо одно имя тридцать шесть раз.
— Противные крикуны,— сказала сидевшая неподалеку дама
своей приятельнице.
— Кричит только один,— сказал я,— девятнадцать купаются
спокойно.
— Оставьте свои замечания при себе,— обиделась дама.
Взрослые не привыкли, чтобы в их разговор вмешивались посто-
ронние, не любят.
Улица
Не все любят улицу, и не все одинаково по ней ходят.
Я знаю мальчика, которого мама вынуждена просто гнать
на улицу.
— Ну выйди ненадолго.
— Зачем?
223
— Прогуляешься немножко.
— Куда?
— Купишь мне то-то и то-то.
— Да я не знаю где, да я, может быть, куплю плохо.
Мальчик и умен, и весел, и совсем здоров, а предпочитает си-
деть дома.
— Не люблю слоняться попусту,— говорит.
Бывают такие, которые, конечно, и пойдут, да только с мамой или
с кем-нибудь из взрослых. Или с приятелем, который скажет, куда
идти.
— Не люблю один ходить.
А бывают и такие, которые неохотно ходят со взрослыми, им да-
же товарищ не нужен.
— Приятнее всего одному.
Можно остановиться там, где хочется, и смотреть, сколько по-
нравится.
Разные бывают люди на свете: один любит как раз то, что друго-
му неприятно; каждый хочет, каждого интересует что-нибудь свое.
Один любит главные улицы с большим движением, где много
людей и машин, а другого шум и толкотня раздражают. Один любит
знакомые улицы, а другой выбирает те, где еще никогда не был. Лю-
бит ходить на реку, едет за город.
— Я воображаю, что я путешественник, посещаю незнакомые
города и дальние страны,— говорит мальчик.
Один присматривается ко всему, а другой ходит задумавшись и
даже не замечает, что вокруг. Такому все равно, идет ли он мимо
высоких домов с красивыми витринами или старых деревянных ла-
чуг.
— Когда хожу по городу, у меня больше всяких мыслей.
Да, так: не увидишь, не подумаешь.
Увидел нищего — и думаешь о бедных; увидел похороны —
думаешь о тех, кто умер; увидел калеку, слепого, пьяницу — и ду-
маешь о том, зачем это только люди пьют водку и курят папиросы;
увидел офицера — задумываешься о войне; тут скандал или драка,
там полицейский ведет вора...
Другому хотелось бы обсудить все с приятелем, а этот предпочи-
тает сам себе задавать вопросы и сам отвечает.
— Люблю глазеть на витрины.
Остановится перед книжным магазином, кондитерской, кино-
театром, цветочным киоском, перед магазином канцелярских при-
надлежностей, фарфоровых изделий, перед часовщиком и сапожни-
ком.
А иные знают, где продаются спорттовары или велосипеды, фо-
тоаппараты, почтовые марки, радиопринадлежности. И толпятся
только тут.
У одного в кармане нет ни гроша, а ему хоть бы что, а другой луч-
ше будет дома сидеть, чем пойдет на улицу без денег.
Один говорит:
— А зачем мне деньги? У меня все есть. Ничего мне не надо.
224
А другой:
— Что за удовольствие смотреть, если нельзя купить?
Один любит и умеет покупать, другому стыдно, не хочется. Один
покупает всегда в одном и том же магазине и даже не думает, что
где-то может быть дешевле и лучше, а другой покупает каждый раз
в новом месте, чтобы сравнивать.
— Давай зайдем, спросим, сколько стоит.
— Иди один, я подожду у магазина.
Один покупает лишь тогда, когда нужно, и лишь то, что нужно, а
другому хочется иметь все новое, что в первый раз видит.
— Зачем тебе это?
— Увидим, может, пригодится.
Взрослые говорят, что дети тратят деньги на сласти. Да, конечно,
только не все дети и не всегда. Один любит фрукты и не любит кон-
феты; другой вообще никогда ничего не покупает из еды, зато хо-
чет, чтобы у него были хорошие краски, или циркули, или картинки,
солдатики, книжки, или долго копит деньги на одну, зато дорогую
вещь. Или тратит все деньги на кино.
Неправда, что ребята любят ходить на картины, на которые дети
не допускаются. Я знаю мальчика, который ходил в кино раз в не-
делю, но ежедневно просматривал кадры рекламы, чтобы не по-
пасть по ошибке на фильм про любовь.
Улица требует знания многих правил жизни. Ребята, которые
проводят ежедневно по многу часов на улице, знают их. Только про-
шу не думать, что это уличные мальчишки.
Обычно валят в одну кучу: «газетчики, уличные мальчишки».
И думают, что газетчики — это испорченные мальчишки, кото-
рые курят папиросы и говорят нехорошие слова.
Нет. Уличным может быть мальчик, за которым дома очень даже
следят и неохотно пускают одного. Но стоит ему вырваться на улицу,
он словно ума решается. Ему кажется, что в толпе можно делать все,
что хочешь, в голову лезут разные злобные шалости. Толкает, зади-
рает и всячески хулиганит и все выискивает, какую бы еще штуку
отмочить и удрать. Подберет себе такого же товарища или товари-
щей и вместе с ними рыщет и шкодит. Горе девочке, дворнику, тор-
говке, еврею, малышу! Такой словно нарочно хочет, чтобы все виде-
ли, что он хулиган. И тупо и зло смеется, когда обругает кого-нибудь
или напугает.
Я знаю тихих и разумных газетчиков, которые и должны, да не
любят проводить ежедневно по многу часов на улице.
«Ах, счастливчик!» — думает о них уличный мальчишка, за кото-
рым присматривают родители.
Нет, тяжел, неприятен и опасен труд маленького газетчика. Че-
рез несколько дней от беготни и крика начинаешь уставать. Болят
от беганья ноги, надорвано криком горло. Беспокоишься, как бы
продать газеты, и боишься потерять деньги, и как бы их не украли и
не подсунули фальшивую монету, и как бы не ошибиться, давая сда-
чу, и не попасть под машину или трамвай. Газетчики перебегают
улицу быстро и ловко, но настороженно, напрягая внимание.
8 Януш Корча к
225
В школе невнимательный получит лишь плохую отметку, а тут
минутное невнимание — и увечье на всю жизнь.
Юные газетчики и продавцы конфет это понимают и знают пра-
вила, которые для их счастливых ровесников остаются тайной.
Знают, как избежать несчастного случая и встречи с нечестными
людьми: ведь плутов и авантюристов в большом городе всегда
хватает. Говорят даже, что есть люди, которые крадут, похищают
детей.
Один мальчик рассказал о таком своем приключении:
Стоит он у кино и смотрит кадры. К нему подходит большой,
уже почти совсем взрослый парень и спрашивает:
— Пошли в подъезд, хочешь, я тебя бесплатно проведу?
Ладно, пошли они в подъезд.
— Снимай сапоги, мы пройдем черным ходом.
Снял дурачок сапоги.
— Давай, подержу.
Привел в какие-то сенцы.
— Погоди, я схожу погляжу, открыли ли кинозал.
Ушел и, ясное дело, не вернулся.
— Пришлось мне идти домой босиком. Я к дяде побежал, боял-
ся, мама поколотит.
Еще один рассказ (уже другого мальчика):
— Какой-то хорошо одетый господин спросил меня, не хочу ли
я заработать злотый, дал письмо и велел отнести на пятый этаж.
Иду я с письмом, стучу, дверь открыл какой-то верзила, похожий на
бандита, взглянул на конверт и как даст мне по морде — и толкнул
меня, я чуть с лестницы не скатился. Я даже не знаю, что в этом
конверте было. А того, кто дал мне письмо, я больше не видел.
Эти два случая еще не так плохо кончились, а могло быть и
хуже.
Поэтому родители правильно предупреждают ребят, чтобы они
ни с кем из посторонних на улице в разговор не вступали и не ходили
по чужим квартирам.
Иногда спросит у тебя кто-нибудь улицу или про трамвай, или
старушка попросит перевести на другую сторону. Приятно оказать
услугу, но долгих разговоров лучше не заводить. Можно вполне веж-
ливо ответить, как это сделала одна девочка:
— Простите, пожалуйста, но мама не разрешает мне разговари-
вать на улице.
Иногда пьяницу или сумасшедшего сразу узнаешь, а иногда они
выглядят как нормальные люди. Лучше быть осторожнее.
Осторожно нужно и садиться, и выходить из трамвая, и перехо-
дить улицу. Собственно, все так и делают. Некоторые родители че-
ресчур уж боятся. Очень редко случается, чтобы школьник или
школьница попадали под транспорт. Разве только весной, когда пос-
ле долгой зимы ребята наконец дорвутся до улицы, или после летних
каникул, если были в деревне и уже отвыкли от города.
Я разговаривал с шоферами и вагоновожатыми. Они говорят, что
хуже всего, когда пешеход не знает, идти ли вперед или податься
226
назад, или когда один тянет в одну сторону, а другой в другую; тогда
неясно, как объезжать, а ведь не всегда можно остановить машину
сразу.
В газетах бранят шоферов, что шоферы неосторожны. Но как не-
осторожны и легкомысленны сами прохожие, и именно взрослые! Не
лучше ли подождать с минуту, чем рисковать жизнью?
Больше всего шоферы жалуются на велосипедистов. И действи-
тельно, некоторые очень уж неосторожны. А самое худшее — это
озорство.
Я знаю такой случай.
Мальчик поспорил с товарищем, что успеет пробежать перед
трамваем. Что за бессмысленное пари! И не успел. Сам потом не
знал: то ли споткнулся, то ли трамваем задело, только портфель с
книжками уже попал под решетку. Вожатый затормозил в послед-
нюю минуту, и полицейский отвел мальчугана белым-белехонького
домой.
Живая, веселая, любопытная бывает улица, а подчас и очень пе-
чальная и печальные будит мысли.
Дома родители стараются, чтобы все вели себя хорошо, пода-
вали хороший пример, никого не обижали, а на улице ты видишь раз-
ных людей, разные дела, слышишь разные слова.
Портит ли это ребенка?
Мне кажется, нет. Тот, у кого сильная воля и кто знает, каким он
хочет быть, выработает для себя свои собственные правила жизни
и не будет, видя что-нибудь неумное и злое, ни подражать этому,
ни брать с этого пример.
Человек не только помнит, но и забывает, не только ошибается,
но и исправляет свои ошибки, не только теряет, но и находит. Можно
научиться запоминать то, что хорошо и полезно.
Я знаю многих, кого улица совсем не испортила, а закалила, вы-
работала сильную волю и помогла стать честными и рассудитель-
ными людьми.
Школа
Много книжек печатают про школу, да только для взрослых
и совсем не пишут про школу для учеников. Просто удивительно!
А ведь ученик столько в ней проводит часов, так много о ней думает,
столько видит в ней радостей и горестей!
Я часто говорю с учениками младших классов про школу; одни
любят и хвалят, другие жалуются, но знать по-настоящему школу,
ее историю никто не знает: все думают, что все всегда было так и
так и останется.
Я знаю: маленький ребенок думает, что мама всегда была мамой,
а бабушка бабушкой и что всегда была именно такая квартира и так
же тикали на стенке часы. Ему кажется, что и город, и улица, и ма-
газины были всегда такие же, как теперь.
227
И ученику кажется, что парты, доска, губка, мел везде такие же,
как у него в школе, так же выглядят учителя и так же выглядят
книжки, тетрадки, ручки, чернила.
Конечно, родители вспоминают, что в их времена было по-друго-
му, но столько слышишь всякой всячины, что не всегда знаешь, прав-
да это или сказка.
Один мальчик после экскурсии в королевский замок сказал:
— Вот теперь я верю, что короли были на самом деле.
Пожалуй, в каждом большом городе должен быть музей истории
школы, и в этом музее должны быть такие классы, какие были сто
и пятьдесят лет назад, старые парты, древние карты и старинные
книги, одежда учеников, игрушки и даже розга, которой тогда еще
секли ребят.
Во время японской войны я был в Китае, видел китайские школы
и купил у одного учителя линейку, которой бьют учеников. На од-
ной стороне линейки было написано красной краской: «Тот, кто
учится, станет умным, полезным человеком»; надпись на другой сто-
роне была черная *. Эту линейку я потом показывал, и все разгля-
дывали ее с большим интересом.
Мне кажется, знай ученик, какие школы были раньше и какие
они в других местах еще и теперь, он меньше жаловался бы и боль-
ше любил свою школу, легче мирился бы с тем, что в школе подчас
бывают неприятности, устаешь и скучаешь.
Если поговоришь с учеником по душам, всегда услышишь жалобу
на трудный предмет, на приставалу соседа, на строгого учителя,
на то, что много задают и что много разных забот, а развлечений
мало.
А спросишь, не хочет ли он лучше сидеть дома, скажет:
— Хочу ходить в школу.
Школьник рад, что учитель не пришел, что раньше отпустили
домой, любит праздники, но он хочет оставаться учеником.
Случалось, мне надо было убедить мальчика, что дома учиться
лучше.
— Сам видишь, ты слабенький, тебе трудно рано вставать. Ты
сможешь дольше лежать в постели. Ты простуживаешься, каш-
ляешь, а в школу надо ходить и в дождь, и в стужу. В школе ты дол-
жен пять часов сидеть спокойно, а дома можно и поиграть подоль-
ше, и пойти в сад. Если у тебя болит голова, можно не сделать уроков
и на тебя не рассердятся. Учение дается тебе с трудом... Товарищи
задирают, дразнят...
Мальчик слушает-слушает и говорит:
— Это ничего, я хочу в школу.
Почему? Почему школа приятна и нужна?
Дома думают обо всех и занимаются разными делами; комнаты
и обстановка дома для всех; школа думает только об ученике; каж-
дый зал, каждая парта, каждый уголок именно для ученика. Все свое
время в школе учитель отдает ученику. Здесь не слышишь неприят-
ного: «У меня нет времени. Не знаю. Оставь меня в покое. Не морочь
мне голову. Мал еще».
228
Во-вторых, школа упорядочивает день; знаешь, что будет впере-
ди, куда идти и что делать. У тебя есть план, каждый час на что-
нибудь предназначен. Тебе не скучно, даже приходится торопиться.
Правда, иногда не хочется вылезать из теплой постели или выхо-
дить в дождик на улицу. Но часы призывают спешить, и тебе некогда
размышлять, что приятно, а что неприятно, что ты чувствуешь и чего
хочешь.
Один одевается быстро и вообще любит все делать быстро; другой
наденет чулок и отдыхает, зашнурует башмак и задумается. Один
готов слоняться полдня неодетый, другой сразу вскакивает с по-
стели:
— Ну а дальше что делать?
Хватает книжки и вылетает на улицу, часто даже не узнав, какая
погода. Дождик? Шагает быстрее: в школе тепло, сухо! Приятно
вытереть ноги, сбросить мокрое пальто и шапку... И сразу друзья.
Еще на улице повстречался товарищ. И улица какая-то своя, взрос-
лых на ней не больше, чем школьников, да и те словно знакомые.
Как и с кем познакомишься без школы? Разве только зайдет дво-
юродная сестра или сосед, да и то не часто, и, может быть, не твоего
возраста, и, может быть, даже не очень симпатичные. Вот в школе
можно выбрать настоящего товарища!
Одни долго выбирают, а другие меньше знают класс и сходятся
с теми, с кем сидят на одной парте или живут поблизости и чаще
встречаются. Одни часто меняют товарищей, другие дружат очень
подолгу. Одни любят, чтобы был кто-нибудь один, другие со всеми
живут хорошо, ни любят как-нибудь особенно, ни не любят. А девоч-
ки даже влюбляются в старшеклассниц.
Когда идешь в школу, никогда не знаешь, что расскажут тебе
интересного товарищи и кто именно. Каждый со вчерашнего дня
что-нибудь видел или слышал. А разговор, может быть, оттого еще
такой интересный, что вот-вот прервет его звонок. Всякому хочется
успеть рассказать до учителя, и мысли текут как-то быстрее и легче.
Иногда и не успеешь,— значит, доскажешь на перемене. А пока,
на уроке, можно подумать о том, о чем говорилось.
Входит учитель. Как будто и знаешь, какой первый урок, но всег-
да бывают неожиданности, никогда точно не известно, что именно
будет сегодня. Иногда и не очень интересный предмет, а как раз
сегодня было приятно слушать.
Вызовет ли учитель к доске, и в каком он будет настроении —
в хорошем или в плохом,— похвалит или побранит, рассердится
на всех или на одного и на кого именно? Кто будет отвечать, и знает
он или не знает? Приятно слушать, когда отвечает хороший ученик,
а иногда даже интереснее, когда вызывают лентяя или озорника:
может, скажет что-нибудь смешное. Сразу в классе шум: всем дела-
ется весело.
Раз слушаешь более внимательно, раз менее. Но никто не ме-
шает думать, и в голове у тебя возникает воспоминание, рождается
вопрос, появляется какая-нибудь идея. Иногда приятно даже прос-
то посидеть спокойно, ни о чем не думая.
229
И звонок — и так каждый час. Раз занятия кончаются раньше,
раз позже. Сегодня был трудный день, зато назавтра задано мень-
ше, или будет другой предмет, или учитель, которого любишь.
Важно, что ты знаешь, что будет завтра, но не совсем: может
выйти и немножко не так.
Еще один рабочий день кончился, близится день отдыха.
Раздумываешь, что тебе делать, куда пойти в праздник, чтобы
не было скучно. Считаешь, сколько недель осталось до двухнедель-
ных зимних каникул, до пасхи, до двухмесячных летних каникул,—
в чем надо подтянуться.
Всегда что-нибудь повторяется, а что-нибудь — новое; одно ухо-
дит, другое наступает. Одно ждешь со страхом, другое с радостью.
Неприятную неожиданность уравновешивает другая — приятная.
Надежды и победы, разочарования и поражения.
Школа — дом. Дом — школа. То бежишь, торопишься домой
к обеду, то идешь дальней дорогой, провожая товарища, или ви-
дишь что-нибудь интересное и заходишь купить.
А вот и конец года:
— Еще только месяц остался, три недели.
Напишут ли внизу табеля красными чернилами «переводится»
или, может,— на второй год?
Предпоследняя контрольная работа, последний ответ — пере-
экзаменовка! Есть еще время подтянуться. У каждого есть предмет,
в котором он уверен, и такой, которого он боится.
А развлечения? Экскурсия, кино, театр, выставка; а библиотека,
спектакль, клуб?
Я заметил, что на школу жалуются те, кому дома хорошо, у
кого дома много разных развлечений, или те, от кого родители тре-
буют, чтобы они хорошо учились, хотя они неспособные и учение
дается им с трудом.
Не всегда виноват отец в том, что он мало зарабатывает, не
всегда виноват ученик, что у него нет хороших отметок. Часто
взрослые говорят:
«Если бы ты хотел».
Да бедняга и хочет, да не может одолеть.
«Способный, но ленивый».
Может быть, к одному и способен, а к другому нет. Один хоро-
шо пишет сочинения, а не может решать задачи. Один робеет и
всегда хуже отвечает, другой не умеет быстро думать, у третьего
плохая память. У одного легко пропадает охота, у другого сильная
воля.
Если слышишь, что школа трудная, скучная, суровая, неспра-
ведливая, то это значит, что ничто не может быть совершенным.
Бывает и так и эдак, и то и это. Радость, веселье, добро; но и скорбь,
и гнев, и бунт.
Приятно получить часы или велосипед, но хватишь горя, когда
их испортишь. Приятно иметь хорошего товарища, но будут и ссо-
ры, и тоска возьмет, когда заболеет.
Может быть, и школьные хлопоты интересны, а неуспехи и
230
трудности будят мысль? Дуралей тот, кто хочет, чтобы все всегда
было легко.
Один неспособный мальчик придумал себе такую игру.
— Когда я решаю задачу, цифры — это солдаты. А я полково-
дец. Ответ — крепость, которую я должен взять. Если мне приш-
лось туго, я вновь собираю разбитую армию, составляю новый план
битвы и веду в атаку.
Стихи, которые я должен выучить наизусть, это аэропланы.
Каждое выученное слово — сто метров вверх. Если я выучу сти-
хотворение без ошибки, я беру высоту в три километра. Так при-
ятно ни разу не сбиться.
Когда я пишу, я шофер. Переписанные буквы и слова — про-
деланный путь. Если удается написать всю строчку красиво — это
лес, а плохо написал — пески или болото. Когда я кончу писать
и чернила высохнут, веду по бумаге палочкой и ворчу, как мотор.
Разное выдумываю, чтобы не было скучно.
Каждый ищет свой способ облегчить работу. Иногда поможет
товарищ, часто что-нибудь поначалу кажется трудным и неинте-
ресным, а потом вдруг поймешь — и пошло хорошо.
Развлечения
«Легкие» мысли были такие: «Работа нужна, учение нужно,
а развлечения — это как бы награда, придача».
И точно так же: «Хлеб, суп, молоко — это пища, а конфеты и
фрукты только вкусные и, значит, ненужные».
Раньше люди думали именно так.
И только позже поняли, что все это по-другому. Теперь уже
есть много книжек об играх и развлечениях, и в газетах пишут о
спорте и состязаниях как о важных делах. Уроки гимнастики в сов-
ременной школе — это уроки подвижных игр и забав. Люди ува-
жают и труд, и отдых, и учебу, и забавы. Впрочем, сказать, что —
работа, а что — развлечение, не так просто.
Один читает книжку и думает, что работает, а для другого чте-
ние — лучший отдых. Приятно ведь копать землю, резать картон,
пилить фанеру, рисовать, лепить, вырезать, играть на гармонике
и на скрипке — так что же это, развлечение или работа?
Пешеходные экскурсии, плавание, гребля, велосипед, коньки,
бег, прыжки. Болят руки, ноги, спина, человек устал, но доволен.
Правда ведь: каждый работает по-своему и по-своему отдыхает.
Один любит одиночество, другой — общество, один — тишину,
другой — шум. Игры девочек и мальчиков, младших и старших
несколько отличаются. Одному скучно от того, от чего другому
весело; одного раздражает и даже сердит то, что другой как раз
любит. Люди бывают и спокойные, и подвижные, все любят что-
нибудь свое и по-своему, и потому не мешайте друг другу!
Я заметил, что больше всего ребята сердятся, если им мешать
играть. Раньше я считал, что это пустяки. И очень сердился, когда
231
кто-либо мешал другому делать уроки: хватал тетрадь, ручку,
поддразнивал, что не отдаст. Если то же самое проделывалось во
время игры с мячом, я считал, что это шутка и не стоит сердиться.
Если ребята играли в догонялки и кто-нибудь останавливал дого-
нявшего или убегавшего — тоже, мол, несерьезное дело. Играли
в прятки и выдали место укрытия — тоже, мол, невинная шутка.
Даже на обман во время игры, казалось мне, не стоит сердиться.
Например, не попал, а говорит, что попал, или была не его очередь,
и он сделал то, что ему не полагалось.
— Ерунда, стоит ли злиться!
Наконец однажды в колонии я понял. Дело было так.
На веранде было мало народу: двое мальчиков играли в шашки,
еще один строил домик из кубиков, один читал, один играл в мяч.
Остальные бегали в лесу и перед домом. Вдруг входит на веранду
этакий всеми нелюбимый надоеда. Сперва он разозлил игравших в
шашки — стал вмешиваться и давать советы. Потом стал хватать
кубики и дразнить того, кто делал домик. Затем полез к тому, кто
читал:
— Покажи, что читаешь, покажи, есть ли картинки.
Наконец принялся мешать игравшему в мяч.
Иногда девочки танцуют, а какой-нибудь мальчишка начинает
толкаться, дурачиться, паясничать. Или вся группа поет хором, а
один нарочно фальшивит и визжит. Или кто-нибудь рассказывает
сказку, а такой вот не хочет слушать.
— Уйди,— говорят ему.
— А что, и посидеть с вами нельзя?
Назло перебивает, мутит всех и выводит из себя.
Я составил следующие правила игры:
1. Нельзя, нельзя и еще раз нельзя мешать в игре, ничуть не
меньше, чем в учебе.
2. Нельзя брать без разрешения чужой мяч, коробочку, палоч-
ку, камушек, так же как нельзя брать без разрешения чужую
ручку, тетрадь, книжку.
3. Если тебе одному не хочется, если тебе одному не нравится,
отойди и не играй, а не говори: «Раз вы со мной не хотите или не
хотите играть так, как я хочу, я буду вам мешать».
Раньше меня удивляло, почему ребята так быстро узнают но-
вого товарища, так сразу знают, кто будет хорошим товарищем,
а кто нет. Потом я понял: легче всего узнать во время игры. Ребя-
та сразу говорят:
«Задавала, командир, ломака, недотрога, подлиза, псих, злюка,
ябеда, плакса».
Неправда, что дети легко ссорятся. (Взрослые больше злятся,
если им мешать.) Сколько раз случалось мне слышать, как ребята
говорили: «Ну ладно, скажи, как ты хочешь?»
Или: «Мы хотим так, а если кому не нравится, может не играть».
Я видел, как охотно ребята принимают в игру и маленьких, и
слабых, и неловких, лишь бы они не ссорились и не требовали,
чтобы им дали делать то, чего не умеют.
232
Неправда, что в играх ребята готовы слушаться только взрос-
лых. Наоборот, в массовых играх ребята сами хотят, чтобы на-
шелся кто-нибудь из них самих умный, справедливый и всеми лю-
бимый, кто указывал бы, как должна проходить игра и кому что
надо делать; кто уступал бы, если ребята хотели играть по-другому
или хотя бы один заупрямился; умел бы мирить спорящих и сле-
дил бы за тем, чтобы ребята не слишком расходились, не разбили
чего, не рвали и не было драк и слез.
— Хороший товарищ, с ним приятно играть,— говорят ребята.
Я заметил одно любопытное явление, но долго не мог его объяс-
нить.
Когда в игре приходится бегать, долго все идет хорошо. Вдруг
ребята ссорятся, и, что меня удивляло, ведь из-за пустяка! И что
как легко ссорятся, так легко тотчас и мирятся. Сперва все сразу
бросают игру, обе партии сходятся и поднимают спор. И также
вдруг кто-нибудь один скажет:
— Ну, баста. Кончай. Все равно. Начали.
И все дружно возвращаются к прерванной игре. Иногда лишь
немножко что-нибудь изменят или один выйдет из игры и его место
займет другой.
Наконец я догадался.
Когда игра удалась на славу, жалко прерывать, а все очень
устали. Но сознаться, что ты устал и хочешь отдохнуть, никому не
хочется. Поэтому не нравится, мол, в игре то-то и то-то. Это даже
не ссора, а просто разговаривают. Если поблизости есть скамейка,
некоторые сядут и ждут, пока те не кончат.
Взрослые отдыхают не так, как ребята. Уставший взрослый
отдыхает час, полчаса; ребенок же, весь в поту, валится, запыхав-
шись, на лавку, а через три минуты уже вскакивает.
Мать говорит:
— Посиди немножко, отдохни. Смотри, как ты выглядишь, как
у тебя бьется сердце.
Да нет: он уже отдохнул.
Однажды я долго сидел в поле и слушал, как пели жаворонки.
И я подумал, что сердце жаворонка должно походить на сердце
здорового, веселого мальчишки: любит доводить себя до изнеможе-
ния и быстро отдыхает.
Человек любит усилие, любит, чтобы удавалось, хочет знать,
сумеет ли и на что он способен, хочет, несмотря на трудности,
закончить, победить, доказать себе и другим, что он сильный и
ловкий.
Да и устаешь от сидения. Если в человеке накопится сила и он не
может ее израсходовать, он сидит как отравленный, изголодавшись,
соскучившись по движению.
Именно потому так хаотичны и неприятны школьные перемены,
особенно если нет просторного рекреационного зала. Ребята боль-
ше толкаются и пихаются, чем играют; несколько человек безобраз-
ничают, остальные забились в угол: все равно из игры ничего не
выйдет.
233
Это печально: тихие ребята не учатся отстаивать свои права, а
хулиганье командует и наглеет.
Много было у меня архитруднейших мыслей на тему: что делать,
чтобы дерзкий кулак заменить справедливостью. Я пробовал по-
разному.
Двадцать мальчишек. Я хочу дать им мяч. Кто, проталкиваясь
вперед, первым крикнет:
— Мне!
Кто поймает и что будет делать?
Теперь все чаще вместо настырного эгоистического «мне» слы-
шишь благородное «нам» и вместо своеволия встречаешь предпи-
сания и законы игры. Бывают и судьи, к сожалению, не всегда спра-
ведливые.
Часто эгоизм отдельных личностей сменяется одинаково не-
приятным и низменным эгоизмом партии, группы, лагеря. Надо
уметь проигрывать с достоинством и честно оценивать положи-
тельные качества противника.
Помню, ребята играли в «двойной бой». С одной стороны оста-
валось трое, с другой — только один. И тут случилась необыкно-
венная вещь: он сразу выбил всю тройку. Мячик сам как-то к нему
отскакивал, а те опешили и совсем не защищались.
Раздались рукоплескания. Кричали «браво» и поздравляли и
победители и побежденные, и свои и противники, радовались все.
На глаза мои навернулись слезы умиления, и я не стыжусь этих слез.
Да, так и должно быть! Не ревность, не недовольство и жалобы,
не хвастовство и унижение противника, а рыцарское сознание своего
и его достоинства, гордая вера, несмотря на неуспех, в свои силы,
убеждение, что равный тягается с равным, уважение к человеку.
Многое стало лучше. Помню злые проклятые времена бандит-
ских драк и бросания камнями. Много драк перевидал я на своем
веку. Под влиянием спортивных игр даже драки облагородились.
Когда я вижу, что дерутся двое мальчишек одинаковой силы,
я не прерываю, а смотрю вместе со всеми.
Лучше обождать, ведь если сразу вмешаться, ожесточение воз-
растает.
Драка редко возникает случайно, часто взрыву предшествует
долгая взаимная обида. Конечно, водятся еще такие ребята, кото-
рые охотно пихнули бы или ударили младшего или более слабого,
но это я строго запрещаю, да и товарищи не допустят. Я знаю, даже
буяну и злюке драка не по вкусу, если он знает, что получит на
орехи.
Так вот, раньше дрались так, чтобы причинить как можно боль-
ше боли, а теперь, только чтобы обезвредить противника. Это уже
похоже на спортивные состязания.
Кончая эту коротенькую главку, я дам вам важное правило:
«Не надо стыдиться играть. Детских игр нет».
Зря взрослые говорят, а зазнайки за ними повторяют:
«Такой большой, а играет, как маленький. Такая большая, а
играет еще в куклы».
234
Важно и не то, во что играть, а как и что при этом думать и чувст-
вовать. Можно умно играть в куклы и глупо и по-детски играть в
шахматы. Можно интересно и с большой фантазией играть в по-
жар или в поезд, в охоту или в индейцев и бессмысленно читать
книжки.
Я знал мальчика, который не только читал, но и сам писал хо-
рошие стихи и рассказы, а любимой игрушкой у него были солда-
тики: у него были целые полки разного рода войск разных стран,
и он расставлял их на столе, окне, на полу, стульях и рисовал карты
и планы.
Не зазорно играть с девочками и с младшими.
Я заметил, что ребята не всегда охотно говорят о своих играх и
стесняются, если взрослый их слышит: боятся, как бы не высмеял,
потому что не умеют защищать свои юные мечты.
Я не говорю: «Играйте в то-то и то-то. Играйте с теми, а не с
этими».
Для игры нужен хороший товарищ и вдохновение, а значит,
свобода.
Богатый — бедный
Есть люди, которые думают, что дети не должны ничего
знать о деньгах и что деньги им не нужны: «Подрастут, сами уз-
нают» и «Живут у родителей на всем готовом, а на свои деньги поку-
пают ненужные вещи и только портятся».
Обычно деньги дают время от времени, как награду, когда отец
или мать в хорошем настроении. Очень редко родители назначают
определенный еженедельный оклад и говорят:
«Покупай что хочешь».
И только один отец давал каждую неделю по пятидесяти гро-
шей. Он сказал:
— Даже если ты не будешь слушаться или принесешь из школы
плохую отметку, все равно будешь получать по пятидесяти гро-
шей на разные свои расходы. Я хочу, чтобы ты научился тратить
деньги.
Ну да: надо уметь не только зарабатывать, но и тратить.
Я знавал таких: заведись что, сразу должен потратить на какую-
нибудь ерунду. Даже еще в долг возьмут и не подумают отдать.
А иной раз старший — легкомысленный, а осмотрительный как раз
младший.
Я целых десять лет заведую ссудной кассой и, если окажется, что
ребята хотят читать научные книжки, напишу книжку про то, кто
и как берет в долг, как отдает и на что тратит — или же экономит,
копит, чтобы купить себе что-либо, что дорого стоит, например:
коньки, часы, велосипед или на подарок папе или маме.
Я знал мальчика, который полгода собирал деньги на футболь-
ный мяч и бутсы, а потом отдал свои двенадцать злотых матери,
которая заболела.
235
Много горя приходится хлебнуть бедным в школе, ведь даже бес-
платные школы дорого стоят.
Хорошо ученику, которому родители в начале учебного года
покупают все необходимое: книжки и тетрадки, и спортивные баш-
маки, и портфель и охотно платят взносы.
Неприятно просить, когда у родителей нет денег.
Один вырывает из тетрадки страницы, а грязную тетрадку выб-
расывает, и никто даже и не знает; ему и дела нет, что потерял ка-
рандаш. А другой пишет маленькими буковками, чтобы на дольше
хватило.
У одних ребят есть своя комната, или по крайней мере столик
с ящиком, запирающимся на ключ, или полка. Эти могут спокойно
делать уроки. А другие окоченевшей рукой при темной лампе на
колченогом столе пишут плохим пером и бледными чернилами на
скверной дешевой бумаге.
Не каждый завтракает перед тем, как идти в школу. Может быть,
он даже и не чувствует голода, привык, только какой-то усталый,
сонный и голова болит.
Иногда у одного все есть, а учится он неохотно, а другой и хочет
учиться, да родители говорят, что хватит, пора на жизнь зарабаты-
вать.
Я долго считал, что каждому ученику хочется повзрослеть, и
лишь недавно убедился, что это не так. А если ребята хотят быть
большими, так затем, чтобы зарабатывать и помогать родителям,
«чтобы мама не мучилась».
Говорят: бедняк, бедный, убогий, малосостоятельный, состоя-
тельный, богач, магнат.
Разные бывают степени избытка и недостатка. А можно еще и
иначе делить людей: на тех, у кого есть столько, сколько надо, и тех,
кто тратит больше, чем зарабатывает.
Отец мало зарабатывает — по десяти злотых в день,— семья
живет спокойно, а можно расходовать по пятидесяти злотых на
одних детей, и дети несчастны. Бедные родители могут быть весе-
лыми и говорить о приятных вещах, а состоятельные — нервными,
раздражительными, сердитыми, озабоченными.
Точно так, когда один довольствуется пятью грошами на кон-
фетку и редко ходит в кино, а другому и злотого мало, и он все ду-
мает, где бы еще добыть?
Может быть, потому взрослые не всегда охотно объясняют, что
считают это слишком трудным — дети, мол, не поймут.
Ошибаются взрослые! Ребенок хочет знать и имеет право знать,
ведь горе родителей тяжелее своего собственного. Впрочем, в бед-
ных семьях дети знают, отчего раз бывает целый обед, а другой —
только хлеб да чуть подслащенный чай; знают, сколько стоят под-
метки и новая шапка. Знают, что лучше, когда у отца пусть меньше
заработок, да верный.
Потому что больше всего печалей там, где раз удается получить
даже и много, а потом уже долго ничего и ничего. Безработица —
это большое несчастье.
236
Неприятно, если ты знаешь урок, а учитель не вызывает, но го-
раздо хуже, когда ты умеешь и хочешь работать, а сидишь без ра-
боты, хотя тот, кто поплоше, устроился.
Даю теперь важное правило жизни:
«Милый мой, хороший мальчик, не пей водку, не пей эту отраву
проклятую».
Говорят, водку выдумал сатана. Пожалуй, это так.
На водку не только уходят деньги, часто последние; водка ли-
шает сил, здоровья, рассудка, убивает волю и чувство чести, отрав-
ляет детей, вышвыривает тебя с работы, растлевает душу.
Когда живешь долго, видишь много страшных несчастий, отво-
рачиваешься, чтобы не глядеть, сердце щемит — так и бежал бы без
оглядки и ни о чем не думал.
Я видел три войны. Видел покалеченных, которым руку, ногу
оторвало, живот разворотило, так что кишки наружу; ранения лица,
головы; раненых солдат, взрослых, детей.
Но говорю вам: самое худшее, что можно увидеть, это когда
пьяница бьет беззащитного ребенка или когда ребенок ведет пья-
ного отца и просит:
— Папочка, папочка, пошли домой.
Водка тихо ползет, как змея: начинается с рюмочки, а потом
больше и больше. А иной паренек и не с водки начинает, а с папи-
рос.
И я курю папиросы. Жалею, что привык. Да ничего не поде-
лаешь. И не перед людьми мне стыдно, курят почти все, а перед со-
бой, что не могу отучиться. Но я не теряю надежды.
Ребенку стыдно за пьяного отца, словно бедняжка виноват в чем,
стыдно, что ходит голодный, что дома нищета. Я не знаю, почему
это так, не могу понять. Иногда — назло — посмеется над своими
дырявыми башмаками и поношенным платьем, а в глубине души —
тоска и обида.
Даю вам еще одно правило жизни. Есть ребята, которые любят
держать пари. Чуть что, тотчас:
— Спорим?
Много горя и жульничества из-за пари. Проиграет, а отдать
нечем.
Я заметил, что если мальчишка часто держит пари, то потом он
играет в карты. А пристрастился к картам, так уже не смотрит, есть
у него деньги или нет, свои проигрывает или чужие.
Вот из-за водки-то да из-за карт и попадают больше всего люди
в тюрьмы!
Многие отцы не могут работать из-за болезней. Поэтому люди
все время думают о том, как защитить себя от болезней.
Уже есть прививка от оспы, разные лекарства и больничная
касса.
Я давно живу на белом свете и многого навидался. Я видел бед-
ных, которым повезло, и они стали богатыми, а чаще — обедневших
людей, когда-то состоятельных. И именно из-за болезней.
«Пока отец был здоров, нам жилось хорошо...»
237
«Когда отец захворал и больше не мог работать...»
Так начинаются невеселые рассказы ребят.
Разница между богатым и бедным в том и состоит, что благо-
получие бедняка непрочно. Запасов у него нет никаких, и одна бо-
лезнь, одна неудача сразу валят с ног всю семью.
Знаю, на больничную кассу жалуются, знаю, что больничная
касса не совсем хорошая. Но и такая нужна и приносит пользу.
Больничная касса — это самая умная и важная вещь, какую
выдумали люди, важнее аэропланов.
Здоровые люди платят взносы, чтобы иметь, когда захворают,
медицинскую помощь, врача, лекарства.
Здоровье — это главное жизненное благо; больной богач — тот
же бедняк; подумай же, какое это сокровище — здоровье для бед-
няка! А без больничной кассы бедный человек болел, но не имел
права болеть. И пропадал ни за грош. Небольшое заболевание без
врачебной помощи сразу превращалось в смертельную болезнь.
Ребятам кажется, что легко сделать, чтобы не было на свете бед-
ных, несправедливости, обид.
«А почему не выпускают больше бумажных денег, что такое на-
логи, чем занимается министр финансов и как одна страна дает в
долг другой?» Я хотел бы все это объяснить, да сам толком не знаю.
Да и невелико утешение знать, коли ничего нельзя поделать: это
не от нас зависит.
Но от нас зависит, чтобы мы друг друга в школе любили, знали
и взаимно помогали. А бедные и богатые не знают друг друга и не
очень-то любят.
Есть ребята, которых мало трогает, сколько у кого денег и как
он одет, а ведь иные бедные не любят богатых сверстников и, на-
оборот, богатые не любят бедных.
Бедным кажется, что все богатые зазнаются, что у них злое серд-
це и все они барчуки и модные барышни — корчат из себя дели-
катных и думают об удовольствиях. А богатым опять-таки кажется,
что бедные завистливы, неискренни и плохо воспитаны.
Я знаю, почему это так происходит.
Потому что порядочный бедный чаще знакомится с богатым
распоряжалой и задавалой, а порядочный богатый — с бедным
подлизой и шалопаем. Богатый задавала ищет бедных, чтобы хвас-
тать, а бедный пройдоха — богатых, чтобы что-нибудь выманить.
А порядочные бедные и порядочные богатые сторонятся друг друга.
Порядочный бедный думает: «Зачем мне с ним разговаривать?
Еще подумает, что я хочу, чтобы он меня угощал. И будет ему ка-
заться, что милость мне делает».
Порядочный бедный боится несправедливых подозрений, злых
товарищей, стыдится, что не так хорошо одет.
А порядочный богатый думает: «Может быть, он сердится на
меня за то, что у меня все есть? Может быть, сердится, что я хотел
оказать ему услугу?»
Я часто слышу, как про ребят говорят:
«Все они такие».
238
Например:
«Все мальчишки — хулиганье и грязнули».
Или:
«Все девчонки — плаксы и ябеды».
Неправда, каждого надо узнавать особо и особо оценивать, и
узнавать не поверхностно, а основательно. Важно не только то, что
человек говорит, но и что он думает и чувствует и почему он такой,
а не иной.
Только ленивый человек, который не любит думать, говорит:
«Все они такие».
Когда я был маленьким, я был богат, а потом стал бедным и знаю
и то и это. И я знаю, что можно быть порядочным и добрым и так
и эдак и что можно быть и богатым, да очень несчастным.
Надо многое перевидать и многое самому передумать, да и тогда
человек часто ошибается и всего не знает.
Мысли — чувства
Удивителен этот мир! Удивительные деревья, как удиви-
тельно они живут! Удивительные маленькие червячки — живут так
недолго! Удивительные рыбы — живут в воде, а человек задыхается
в ней и умирает. Удивительно все, что прыгает и порхает: кузнечики,
птицы, бабочки. И звери удивительные — кошка, собака, лев, слон.
И на редкость удивителен сам человек.
Каждый человек как бы заключает в себе весь мир.
Если я смотрю на дерево, получается как бы два дерева: одно на
самом деле, а другое у меня в глазах, в голове, в мыслях. Я ухожу
и забываю о нем, а потом опять увидел — узнал, вспомнил. Значит,
дерево как бы пряталось где-то в моих мыслях.
Все существует как бы два раза: раз само по себе, а другой раз
у меня в глазах, в голове, в мыслях.
И всегда мне что-нибудь нравится, а что-нибудь не нравится.
Или стою я на берегу реки и знаю, что это такая-то река. Но
в этой реке все время другая вода, вода в ней ни минуты не бывает
одна и та же, все капли одной и той же реки постоянно меняются,
постоянно другие.
То же самое, когда я иду по улице, мимо домов и людей. Каждый
дом другой, и каждый человек другой, и все это в течение одной ми-
нуты. Из минут складываются часы, из часов — дни и ночи, из
дней — недели. Зима, лето — и опять долгие вечера, затем опять
весна, почки, зеленые листья. Солнце, ночная тьма, месяц, звезды —
тучи, дождь, белый снег.
Все постоянно другое и по-другому.
То же самое и со мной.
Словно бы и все тот же, но ведь я расту, делаюсь старше. Я смот-
рю на часы: стрелка движется, прошла минута.
Словно бы и все тот же, но то я весел, то грустен и все время
вижу что-то другое и о чем-то другом думаю. И даже не знаю, что
239
будет дальше: буду ли я играть, или товарищ рассердит меня и я по-
дерусь.
Или думаю, что сделаю так, а выйдет как раз наоборот. Раз мне
кажется так, а раз — эдак. Вот и получается, что я сам себя не знаю.
Если спросить: «Ты хороший мальчик?»
Он ответит: «Сам не знаю... Кажется, хороший».
Или: «Стараюсь».
Как будто странно, что человек не знает, какой он на самом деле,
даже себя хорошо не знает.
Мудрец сказал по-гречески: «Гноти сеаутон».
Это значит: «Познай самого себя».
Значит, даже взрослым трудно познать самих себя, даже муд-
рецам. Ведь детям кажется, что взрослые знают все и могут отве-
тить на любой вопрос. А мы не знаем, мы на самом деле не знаем.
Если я разговариваю и играю с кем-нибудь и знаю, как его зовут,
я уже говорю:
— Я его знаю.
Так ли это? Часто мне кажется, что он такой, а потом вижу, что
он другой, что я ошибся.
Даже сам я: весело мне — я один, грустно или сержусь — дру-
гой.
Когда мне весело, мне все кажутся хорошими, милыми; я охотно
уступаю, легко прощаю; я даже не чувствую, что меня толкнули
или что я ушибся. И мне кажется, что и всем должно быть весело.
А когда человек сердит, все ему не так; он и сам потом удив-
ляется, что такие дурные мысли лезли в голову. Даже выглядишь
ты, когда злишься, по-другому. Лицо перекошено, бледное или крас-
ное, и глаза совсем другие.
Когда я смотрю, как двое мальчишек дерутся, я думаю:
«Что за вихрь, что за буря мыслей и чувств?»
А когда расходятся, запыхавшись, я прикладываю ухо к груди:
бедное сердце колотится так часто и сильно, что останавливается
в изнеможении, а потом еще и еще и никак не успокоится.
Один вспыльчивый, легко впадает в гнев, другой редко злится;
один умеет хоть немного, да владеть собой и сдерживается, другой
сразу приходит в неистовство, словно убить хочет. Про таких гово-
рят: «Раб своих страстей».
Правильно говорят: тот, кто не умеет сам себе приказать —
«Перестань!», у кого нет сильной воли — тот раб: всякий доведет
его до белого каления. Мудрец сказал, что приказывать другим лег-
ко, а вот научись-ка быть господином своих собственных мыслей и
чувств...
Бывает, злость сразу проходит, сменяясь чувством раскаяния.
Я заметил, что, если очень сердиться на кого-нибудь и кричать, тот
стоит злой, взбунтовавшийся: опустит голову, насупит брови, мол-
чит. Тогда я перестаю сердиться и ласково говорю:
— Вот видишь, и самому тяжело, и всем с тобой тяжело. Боль-
ше так не поступай.
После этого он начинает, хотя и стыдно ему, плакать и каяться.
240
Мне кажется, взрослые не должны сердиться на детей, потому
что это не исправляет, а портит. Часто взрослым кажется, что ре-
бенок назло им упрямится — не желает что-либо сделать, сказать.
Нет, ему стыдно.
А если кому-нибудь стыдно, он не может говорить, язык отни-
мается, трудно пошевельнуть. В голове пустота, мысли словно уле-
тучились. И ты говоришь и делаешь не то, что хочешь. Стараешься
быть смелее, а выходит еще хуже.
Сразу можно понять, что человек притворяется: говорит слиш-
ком смело и громко, движения чересчур развязные. Или губы
прыгают, теребит платье и не может отвечать. Как парализо-
ванный.
Удивительно это чувство страха. Все кажется опасным. Словно
кто на мысли набросил черную шаль и душит. Даже дышать трудно.
Конечно, страх страху — рознь. По-одному боишься днем, в
школе, по-другому — ночью, по-третьему — если тебя кто-нибудь
напугает внезапно, по-четвертому — если всегда кого-нибудь боять-
ся. Бывает, знаешь, чего боишься, а то и не знаешь.
Взрослые думают: «Озорной, ничего он не боится, ничего он не
стыдится».
Вовсе это не так.
Врачи, те хоть скажут:
— Нервный, боится.
Да и то не всегда.
А уж хуже всего высмеивать.
Я много раз беседовал с такими, которые боятся по ночам: они
очень несчастны. А родители думают, что все это пустяки.
Стукнет что-нибудь ночью, или сон приснится, а часто даже не
знаешь, во сне это или наяву.
Смеяться над детскими страхами или нарочно пугать — жестоко.
Я часто думал о том, что значит «быть добрым»? Мне кажется,
добрый человек — это такой человек, который обладает воображе-
нием и понимает, каково другому, умеет почувствовать, что другой
чувствует. Если кто-нибудь мучает лягушку или муху, такой сразу
скажет:
— А если тебе так сделать?
Или, например, бабушка: то старушка как старушка, а то ка-
жется такой бедной, слабой, что хочется помочь, проявить внима-
ние, развеселить.
Я уже давно заметил, что, если я на какого-нибудь мальчишку
очень рассержусь, его сразу обступают ребята и принимаются уте-
шать, объяснять.
Признаюсь со стыдом, это меня даже злило. Что такое?! Ру-
гаю,— значит, заслужил. А если вокруг него толпа, выглядит так,
словно виноват я, а не он.
Теперь я отношусь к этому иначе: и хорошо, так и должно быть,
каждый, попав в беду, должен найти у людей поддержку. Не нра-
вится мне это школьное наказание, чтобы с кем-нибудь не разго-
варивать.
241
Надо уметь сочувствовать добрым, злым, людям, зверям, даже
сломанному деревцу и камушку.
Я знаю мальчика (теперь он уже большой), который собирал на
дороге камушки и относил в лес: там их уже никто не потопчет.
Чувства бывают сильные и острые или мягкие и нежные, быва-
ют яркие, бывают спокойные.
Что такое любовь? Любишь ли всегда или за что-нибудь, и всег-
да ли ты любишь тех, кого ты должен любить, и так, как должен?
Одинаково или то больше, то меньше? И что такое благодарность
и уважение? Какая разница между: любить и очень нравиться? Как
узнать, кого больше любишь?
Я заметил, что ребята не любят говорить о своих чувствах.
Может быть, им просто трудно? Даже маленькие не любят.
А взрослые часто задают детям вопрос:
— Любишь? А кого ты больше любишь?
Я спросил у одного мальчика, как он узнал, что любит эту де-
вочку больше, чем других? Он ответил:
— Раньше я говорил с ней, как со всеми, а тут вдруг я ее стал
стыдиться.
Порой даже и не знаешь, что кого-нибудь любишь, но, когда ее
или его нет, тобой овладевает чувство беспокойства и какой-то пу-
стоты, сиротливости и одиночества. И хочется, чтобы она или он
вернулись. Это называется тоской.
Тосковать можно по родителям, по товарищу, по дому. А самая
сильная тоска — это тоска по родине.
Столько разных чувств, что всех не сочтешь. Можно попробо-
вать выписывать их из словаря в тетрадку. Потому что тут, в этой
книжке, я могу вкратце упомянуть лишь о некоторых наиболее важ-
ных чувствах (о которых ребята говорили со мной по душам, а не
потому, что их подучили). И об обычных чувствах, повседневных.
Упомяну еще о трех чувствах: разочаровании, обиде и оскорб-
лении.
«Я разочаровался. Думал, будет хорошо. И ошибся. Вышло не
так, как хотелось».
Люди говорят:
— Мучительное разочарование, горькое разочарование.
Да, подчас чувствуешь как бы боль, а подчас только неприятный
горький, терпкий привкус.
Часто к чувству разочарования примешивается и другое — оби-
да. Мы обижаемся, что нас ввели в заблуждение, обманули наше
доверие. Если товарищ выдаст тайну, наговорит на тебя, обманет,
тебе неприятно, ты обижен.
Упомяну, наконец, и об оскорблении. Если хотят меня унизить,
или осмеют, или оскорбят кого-нибудь, кого я люблю и уважаю,
мне грустно, больно, я сержусь.
— От удара не так больно, как от слова,— сказал один маль-
чик.
— Чем смеяться, лучше бы уж побили,— сказал другой.
Когда взрослые хотят унизить и оскорбить детей, дети чаще
242
всего делают вид, что им все равно. А не делают, значит, уже утра-
тили стыд. Чувства ведь, если не уметь обращаться с ними, ослабе-
вают, как говорят, притупляются.
Разные бывают люди. Один часто бывает веселым и редко груст-
ным, а другой как раз наоборот. Один любит почти всех, ни к кому
не питает неприязни; а другой словно сердит на всех, трудно на него
угодить. Некоторые легко привыкают к новым людям, а другие, не-
доверчивые, долго приглядываются, прежде чем скажут:
— Люблю.
Один долго помнит, другой быстро забывает.
Разные бывают люди.
Раньше я думал, как и все: ребята легко сердятся и легко про-
щают.
Час назад подрались и опять вместе играют. Только что играли
и уже поссорились. Конечно, кто-нибудь скажет в сердцах: «Ни-
когда больше не буду с ним разговаривать. Никогда уже больше
не буду с ним играть».
Или наоборот: «Мы всегда будем дружить».
Но так говорится только в исключительные минуты, да и у взрос-
лых то же самое. Иногда нарастает исподволь неприязнь, а иногда
дружба длится годами.
Здоровье
Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье:
если за ними не смотреть, они повыпадали бы все из окон, поутонули
бы, попали бы под машины, повыбили бы себе глаза, поломали бы
ноги и позаболевали бы воспалением мозга и воспалением легких —
и уж сам не знаю, какими еще болезнями.
Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть
здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо
делать. Объясни им, и они будут беречься. Нельзя только чересчур
запугивать и слишком много запрещать. Если запугивать, они пере-
станут верить, а если очень уж стеснять, потеряют терпение и назло
станут делать тайком как раз то, что запрещено.
Люди бывают благоразумные и легкомысленные — как дети,
так и взрослые. Ничего с этим не поделаешь. Дети любят больше
бегать и все пробовать. И опять ничего уж не поделаешь. Нужна
книга, которая объяснила бы все это ребятам спокойно и без запу-
гивания.
Итак, надо знать, что у одного здоровые зубы и он не знает, что
такое зубная боль и зубные врачи, а другой не одну ночь проплакал
напролет: болели зубы. У одного болит голова или живот, а другой
посмеивается: «Животик у него болит, головка; у меня вон никогда
ничего не болит».
Один порежется, и ничего. Я знал одного очень подвижного
мальчика, который проходил лето босым. По возвращении из де-
ревни у него было на обеих ногах семнадцать порезов, ссадин и
синяков.
243
— Ну и что? Ерунда, заживет.
А у другого малюсенькая ранка болела неделями.
Значит, один должен беречь себя, а другой может больше себе
позволить.
Я лучше знаю как раз этих слабых, но никогда не говорю: «У те-
бя будет воспаление легких». А лишь: «Схватишь насморк». Не го-
ворю: «Сломаешь руку». А лишь: «У тебя заболят руки», когда уж
чересчур рьяно борются. Небольшая мышечная боль для здорового
человека даже приятна, например: после катка, после гребли, после
дальней экскурсии.
Не следует слишком часто говорить, что будет потом. Надо пом-
нить, что может много раз сойти безнаказанно, и предсказание не
исполнится.
Однажды потный мальчик ел очень быстро мороженое. Я ска-
зал:
— Увидишь, горло заболит.
На другой день осматриваю горло: красное, но не больно. Я дал
мальчику зеркало, чтобы убедился.
Другой после крутых яиц наелся слив, а потом стал пить сырую
воду. Я сказал:
— У тебя заболит живот.
Спрашиваю его вечером.
— Немножко только поболел, но это ничего.
Я долго предупреждал одного мальчика, чтобы он, играя, так
не расходился, он все не слушался. И наконец, в школе во время
борьбы действительно сломал себе руку. А ведь не все переломы
одинаковы. Иногда наложат гипс, потом через несколько недель
снимут, и все опять так, как было. А вот этому мальчику, о котором
я говорю, кость пробила кожу, он пролежал три месяца в больнице
и теперь совсем не может сгибать руку. Хуже всего, если кость сло-
мается в суставе.
Иногда ты тотчас расплачиваешься за неосторожность и добы-
ваешь опыт сразу. Но бывает и по-другому...
Летом ребята жалуются, что чешутся уши или пухнут и горят
пальцы.
— Правильно, ведь ты их зимой отморозил.
Не всегда болезнь проявляется сразу. Заразился сегодня, а бо-
лезнь разовьется по-настоящему только через неделю. Это назы-
вается: инкубационный период.
И не всегда болезнь, иногда просто легкое недомогание. Нехо-
рошо преувеличивать.
Говорят: «Солнечный удар... Не бегай без шапки... Воспаление
мозга...»
Нет: кружится и болит голова, тошнит и вообще как-то нехо-
рошо.
«Плохо себя чувствует. Нездоров. Сам не свой. Недомогает».
Ребенок сам не знает, что с ним, но он подавлен, раздражен, не-
доволен. А сколько бывает из-за этого ссор, драк, неприятностей
дома и в школе?!
244
«Живот да головка — лентяйская уловка». Не совсем верная
пословица. Не следует недооценивать легких недомоганий.
«Неженка. Ничего с тобой не сделается. Не умрешь».
Один преувеличивает, другой недооценивает.
Верно, от насморка не умирают, но он неприятный.
Несчастные дети, у которых часто бывает насморк! И дышать
трудно, и нос больно, и вообще ни к чему душа не лежит. Да еще
пристают.
«Сопливый. Сопли распустил. Утри нос».
Иногда и вытирание не помогает, а вытирать очень больно, не
у всех ведь натура одинаковая.
Чтобы быть веселым, нужно хорошее самочувствие; здоровые
сердце, нос, голова; здоровая радость свободна от боли и забот.
И старику неприятно бояться и беречься, а каково это малень-
кому.
Я долго не мог понять, почему некоторых ребят товарищи не
любят — и что эти ребята действительно неприятные.
Стоял прелестный весенний день. Все выбежали во двор и весело
играли. Один мальчуган продолжал сидеть у меня в комнате, тихий,
грустный и бледный. Сначала читал — надоело, потом лег на диван,
потом принялся глядеть в окно. Мне стало жаль его. И я говорю:
— Иди поиграй немножко.
А он:
— Ой, не хочется.
Посидел, посидел, а потом говорит:
— Пойти, что ли.
Ладно. Смотрю в окно — что будет дальше?
Мальчик сошел во двор, постоял немножко и присоединился к
играющим. Бегает и бегает, но я ясно вижу, что ему трудно, он за-
пыхался и уже устал. Потом как-то сразу поссорился, и поднялась
свалка.
Я думал, он вернется ко мне, но нет: верно, стыдился.
Когда у кого-либо болит голова, ему труднее сдерживаться. Да-
же если играет, он в себе не уверен: а может быть, опять эта дикая
боль?
Я знал одного мальчика, который часто ходил злой, недоволь-
ный. У него часто болел живот. Наконец мальчуган расхворался по-
настоящему: поднялась температура, он слег. Его положили в боль-
ницу и сделали операцию. Эта болезнь называется воспалением
червеобразного отростка слепой кишки, или, иначе, аппендици-
том. Врач в больнице сказал, что он уже давно был болен. Маль-
чик вышел из больницы здоровым. И теперь он стал веселым,
как все.
Часто кто-нибудь ходит несколько дней грустный, злой и уже
только потом заболевает. Если за это время он наделает со зла глу-
постей и возникнут неприятности, про него говорят, что заболел от
огорчения.
Я заметил, что слабых часто преследуют. Говорят: «Размазня,
растяпа, увалень, мямля, пижон, маменькин сынок».
245
В своих суждениях о человеке надо быть снисходительным и
осторожным. Не следует думать, что все должны быть одинаково
здоровыми и сильными. А смеются даже не со зла, а по легкомыс-
лию.
Дают прозвища: «Горбун, Хромоножка, Слепой, Заика».
Один привыкает и лишь держится от ребят подальше, все боль-
ше читает и, грустный, затаив обиду, живет в одиночестве, а другой,
выведенный из себя несправедливостью, действительно становится
неприятным и злым.
Ребята преследуют и высмеивают толстых. Говорят: «Обжора,
жирный, жирняк».
Неверно. Ведь это тоже болезнь.
— Болезнь? Что толстый-то?
Худых опять злючки зовут: «Чахоточный. Скелетик».
В медицинских книжках пишут, что и очень худые и очень
полные люди — нездоровые, а такой ничего не знает, да еще
спорит.
— Такой большой парень и делает под себя! Грязнуля! Вонючка!
Опять преследования.
— У него слабый мочевой пузырь, слабые нервы.
— Какой там пузырь и нервы...
— Молчать, осел! — закричал я.
И я поступил плохо, оскорблять нельзя, но не всегда хватает
терпения.
Раз я торопился, сказал что-то, а мальчик не понял. Я обозлился
и спрашиваю:
— Не слышишь, что тебе говорят? Глухой?
И тут вдруг вспоминаю, что он действительно плохо слышит,
после скарлатины у него болели уши.
Мне было очень неприятно: я дал себе слово никогда больше
так не поступать.
Один известный писатель написал книжку, в которой высмеивает
веснушчатого мальчика *. Очевидно, писатель просто не подумал.
Ничего не поделаешь: и опытному писателю случается ошибиться.
Я сам долго делал такую ошибку.
Если был какой-нибудь слабый, или не очень умный, или некра-
сивый, или несимпатичный ребенок, я всегда просил:
— Будьте с ним подобрее, отнеситесь поласковее, уступайте
ему.
И вот попался мне глупый и нахальный мальчишка. У него были
больные глаза, больные уши и больной нос. Дома его били. Мне
и захотелось показать, что уж тут-то о нем позаботятся.
Славные ребятишки делали так, как я просил: позволяли ему
брать мячик, втираться без очереди и вообще все. И этот глупец
решил, что теперь он самая важная персона, и принялся командо-
вать и скандалить.
Наконец, смотрю я, л он подмял под себя и колотит спокойного,
умного и доброго мальчика. Тут уж я схватил нахала, оторвал от
жертвы и втолкнул к себе в комнату.
246
— Хватит доброты! Привык к палке, а здесь не бьют, так и ты
не бей! Не умеешь играть, так пошел вон, живо! Не твой черед, так
не хватай мяч, ясно?
И настал покой. Потом над этим мальчишкой взял шефство хо-
роший мальчуган, но уже по собственному желанию.
Нелепо ведь, чтобы один, хотя бы и в невинной форме, отравлял
жизнь всем. Нельзя требовать от группы слишком многого. Здоров
ребенок или болен, умен или глуп — каждый должен приспосабли-
ваться к общим законам, не может он быть каким-то исключением.
Но и такому не следует докучать.
Знаю, есть дети, страдающие от отсутствия заботы, но есть и
такие, кому чрезмерная забота приносит вред, утомляет и сердит.
Мне жалко детей, которым нечего есть и которые недосыпают, но
жалко и тех, кого насильно заставляют есть и лежать в постели.
Я знаю девочку, которую даже рвало за обедом, а отец бил ее за
то, что не хотела есть. От любви бил. Но ведь это ужасно и совер-
шенно бессмысленно!
А в некоторых колониях детям — летом — велят вылеживать
в постели по пятнадцати часов *. Хотя это и делается по указанию
врачей, я заявляю, что это глупо. И говорю так не потому, что не
уважаю здоровье, а, наоборот, именно потому, что знаю ему цену.
Способности
Люди стараются изобрести приборы, которые показывают,
здоров человек или нет. Термометр для измерения температуры,
силомер, весы, ростомер; есть рентгеновский аппарат, с помощью
которого можно видеть кости человека, и легкие, и сердце, не разре-
зая. Исследуются кровь и моча. Есть специальные зеркала для уха
и горла. Очень много инструментов и приборов, и все новые и новые
лекарства.
И, несмотря на это, доктор не всегда может помочь больному,
не все знает.
Еще труднее определить способности человека. И здесь есть
разные способы испытания памяти, внимания, умственного разви-
тия и способностей к труду и учению.
Один услышит раз и уже понимает, раз прочтет стишок и уже
повторит без ошибки. Один легко заучивает, но быстро забывает,
другой помнит долго.
Один предпочитает отвечать устно, другой письменно. Одному
легко начать говорить, другому трудно. У одного охота и терпение
пропадают скоро, а другой любит, чтобы было трудно, легкое ему
наскучивает.
Наконец, один отвечает смело, подскажи ему словечко, и он уже
знает, что дальше, и так вывернется, что выйдет хорошо. А другой,
робкий и неуверенный, даже если и знает и умеет, все равно отве-
чает, словно наугад, запинаясь.
Одному учитель говорит:
247
— Не спеши.
Другому повторяет:
— Ну дальше. Ну скорее.
И бывает, что у одного отметки лучше, чем он заслуживает, и
он переходит из класса в класс как бы играючи, а другой из кожи
лезет, старается, но переползает в следующий класс с трудом, в веч-
ном страхе, через силу.
Был у меня ученик. Дома все хорошо. Когда мы одни — поду-
мает и решит задачку. Переспросит, если не понял, и умно и весело
ответит. А в школе плохо и плохо.
«Мешают... Не дают подумать... Я и сам не знаю: ну не могу!»
Мне это было очень неприятно, родители его за плохие отметки
били, а он действительно не был виноват. Мне очень хотелось, чтобы
его перевели без переэкзаменовки, чтобы хотя бы каникулы у него
были спокойные.
Я пошел в школу посоветоваться, что делать.
Учитель сказал:
— Да, верю, что он знает. Но что будешь делать? Я должен ста-
вить отметки за ответы, а не за то, что у него в голове. Сам понимаю,
что это нехорошо, да ведь класс слушает и знает, как он ответил.
Иногда учитель говорит: «Ставлю тебе для поощрения выше
отметку». Или: «Снижаю оценку. Для другого это было бы хорошо,
но ты, если бы постарался, мог лучше ответить».
А ведь неприятно, когда беспечному все легко, а добросовестный
и старательный обижен. Каждый ведь встречал умных, но невезучих
учеников и не очень даже умных, но вот именно способных для
школьного учения.
Люди думают об этом и пробуют учить разными способами,
потому что школе стыдно, если хороший ученик окажется потом
недобросовестным и нечестным работником или, наоборот, плохой
ученик — великим человеком. Раньше в школе часто бывало так,
вот мы и хотим, чтобы по крайней мере сейчас было иначе.
Не так важно, чтобы человек много знал, а чтобы хорошо знал,
не чтобы знал наизусть, а чтобы понимал, не чтобы ему до всего
понемножку было дело, а чтобы его что-нибудь особенно сильно
интересовало, как говорят:
— Чтобы любил предмет.
Ведь историк — не инженер, поэт — не математик, врач — не
астроном.
Но каждый человек обязан знать, что творится на свете и что
делают другие люди. Это может показаться сначала трудным и
скучным, и только потом, когда хорошенько во всем разберешься,
видишь, как это интересно. Да и вообще, чего стоит человек, кото-
рый делает только то, что с самого начала легко и приятно?
Очень обижают в школе учеников застенчивых и гордых. Ведь
такой лучше совсем не ответит, чем ответит плохо. Боится насме-
шек! Иной раз довольно одного язвительного замечания или улыб-
ки, и он уже замолчал, смешался, оробел, потерял желание отве-
чать.
248
— Я не знаю.
Не знать, ошибиться, забыть не зазорно, и самый умный человек
может не понять вопроса или сказать глупость. А тут сразу смех,
суровая критика, издевка. Поэтому каждый старается только пов-
торить то, что сказано в книжке, и стыдится собственных мыслей.
Оттого, может быть, и бывают такие книжные ответы, и так важна
хорошая память.
Очень обижают в школе и тех ребят, у которых столько соб-
ственных вопросов и недоумений,— и гудят они у них в голове,
словно пчелы в улье, мешая слушать и понимать, что происходит
вокруг. ИнЪгда напишет такой ученик хорошее сочинение и слы-
шит недоверчивый вопрос:
— Это ты сам писал, тебе никто не помогал?
Когда наконец он мог показать, что он не дурак и не с неба сва-
лился, опять его оскорбляют. Поэтому он старается не писать слиш-
ком хорошо, а то опять заподозрят. Я знаю такой случай: нарочно
хуже пишет.
— Теперь поверят, что не списал.
В школе пишут на определенную тему, а это не каждый сумеет.
Начнет, а тут в голову пришла другая важная мысль, и он забыл
даже, какая была задана тема. И получает плохую отметку.
У меня хранится сочинение ученика четвертого класса. Очень
трудная тема: «Обязанности гражданина». Сам он был харцером
и написал о харцерстве искренне, так, как чувствовал и верил. А учи-
тель:
— Слишком по-детски. Не на тему.
— А я не знаю, что надо было написать,— сказал он робко, со
слезами на глазах...
Я знаю случай, когда ученица совсем не готовила урока по ис-
тории. Было задано о Столетней войне. И несла чепуху, немножко
из кино, немножко по подсказкам. Говорила смело, уверенно, вдох-
новенно. И получила пятерку. Весь класс смеялся и поздравлял.
Часто кто-нибудь нарочно делает вид, что мало занимается, а
знает. Ведь выглядит так, что только способные люди стоящие, а
неспособный — Золушка Золушкой.
А между тем способный не закаляется в борьбе с трудностями,
зазнается от легких побед и губит свои способности. Заважничает
и думает, что ему все сразу дается, и недооценивает усидчивость
и медленное, шаг за шагом, упорное стремление к цели. Он признает
только свой тип способностей и презирает другие.
Я заметил, иногда класс любит своих первых учеников, чаще
же не любит, и вовсе не из зависти.
Разве красивое пение, рисунок, вышивка, рамка не стоят пра-
вильного решения задачки?
И чего стоят способности, если человек не хочет и не старается?
Я видел способных, но ленивых и недобросовестных людей.
Что из того, что медсестра знает, как обращаться с больными, или
воспитательница сдала экзамены на пятерки и помнит, что пишут
о детях ученые, если первая не любит больных, а вторая — детей?
249
Характер человека и его призвание важны, но, быть может, доб-
рота и честность даже важнее.
Когда думаешь об этом, возникает много трудных мыслей. Но
ведь я пишу о правилах жизни. А правила эти такие:
«Не завидовать».
«Не досадовать на себя».
«Не падать духом, упорно стремиться к цели».
«Быть дисциплинированным, всегда выполнять свои обязан-
ности».
Если здоровье, материальные условия, отсутствие школьных
способностей или, наконец, семейные обстоятельства не позволяют
сделать много, можно и меньше, только хорошо и с ясной душой.
Я знаю жалких, несчастных профессоров и спокойных, очень
полезных и всеми любимых учителей скромной средней школы.
Знание — это не только книга, даже не только голова, но и рука.
Уважай руку с ее орудием труда и уважай знание, которое дают
тебе жизнь и собственная мысль. Задача книги облегчить, ускорить
познание жизни, а не заменить его.
Теперь уж такая мода — всех сажать за книжку, а я помню вре-
мена, когда мстительный захватчик запрещал читать и книги были
редкостью.
Помню, в небольшой комнате детского сада стояли два старых
шкафа. В этих шкафах совсем не было книг — все они были на
руках у читателей: толстые и тонкие, с картинками и без картинок,
немножко новых и много старых, потрепанных, грязных, без начала
и без конца; веселые книги и грустные, легкие и трудные — науч-
ные книги, повести и стихи.
Таких бесплатных читален было несколько. Мы выдавали книги
по субботам (вечером) и по воскресеньям (после обеда).
Но уже задолго до открытия читальни в сенях, на лестнице и на
улице толпились ребята. Больше всего было мальчиков; девочки не
решались, разве что самые храбрые.
Так и стояли ребята и в летний зной, и в зимнюю стужу. Но не
унывали и совсем не скучали: подбирали для себя друг у друга
книжки.
— Помни, моя очередь. Смотри, другому не отдай.
— Нет, постой, на прошлой неделе ее уже один мальчик просил.
— Ну тогда, если он не придет.
Подбирали книги для себя, родителей, братьев, сестер. Я всегда
удивлялся, что при такой толчее не было ни драк, ни ссор. Часто
только слышалось:
— Погоди, пожалеешь!
А что за счастье, когда наконец кто-нибудь находил и получал
то, чего ждал многие месяцы! Как пробирался сквозь толпу и бежал
домой, прижимая книгу к груди!
Взрослые считают одни книги полезными, другие — вредными,
те — умными, эти — глупыми. Я позволяю читать всякие книжки,
не хочу, чтобы читали украдкой. И я заметил, что одни книги про-
буждают желание читать, а другие, наоборот, отбивают охоту к чте-
250
нию и что вовсе не книга портит ребенка: хороший ребенок и ищет
хорошую книжку, как и друзей.
И пусть ищет, и пусть ошибается и заблуждается, пока не на-
падет на общество доступных ему хороших книжек, потому что
трудная книжка только выводит из терпения и злит.
Воспитатель обязан уметь терпеливо ждать, когда разовьются
способности, а с ними — любовь к хорошей книге.
Симпатичный — несимпатичный
Кто красив, тому легче быть симпатичным.
Да, здоровому, красивому, веселому, способному легко быть
и симпатичным. И сам он дружески улыбается людям, и люди ему
отвечают улыбкой.
А слабого, некрасивого, угрюмого, неспособного частенько дой-
мут, допекут. С недоверием сближается он с людьми, с неприязнью
думает о более счастливых товарищах.
Но очень редко кто-нибудь нравится всем одинаково. Один гово-
рит «красив», другой: «так себе».
— Хорошенький.
— А по мне так некрасивый. Как кукла!
Тому нравятся черные глаза, этому — голубые, один любит тем-
ные волосы, другой — светлые. У одного красивые глаза и некраси-
вый нос, у другого красивый рот и некрасивые зубы.
Иногда говорят про кого-нибудь, что он не то чтобы очень кра-
сив, но обладает обаянием. Не знаю, что это значит.
Милая улыбка. Прелесть взгляда. Ловок, грациозен. Не высок
и не низок, не толст и не тонок. Обаяние внешности.
Иногда кто-нибудь нравится потому, что он такой, как все,
иногда именно потому, что не похож на других.
Одно ли то же: красив и симпатичен?
О, нет!
Бывает так, что смотришь издали — кажется симпатичным, а
стоит с минуту поговорить, и уже перестал нравиться. Иногда с кем-
нибудь часто встречаешься, а нет желания сблизиться, даже не-
сколько раз разговаривал, и все ничего. И только потом видишь,
что он очень и очень симпатичный. С одним ты сразу хороший зна-
комый, а с другим сначала тяжело как-то и неприятно.
Надо знать очень много маленьких и больших, тихих и веселых
девочек и мальчиков — бледных и румяных, красивых и некраси-
вых, хорошо и бедно одетых,— чтобы понимать, будет ли тебе кто-
нибудь симпатичен сразу или лишь со временем, на короткий срок
или навсегда.
Надо много раз ошибиться, чтобы не очень верить тому, что го-
ворят другие, и самому знать, что тебе нравится и кто тебе сим-
патичен.
Раньше мне казалось, что веселый любит веселого, маленький —
маленького, слабый — слабого, что, мол, сам порядочный и ищет
порядочных друзей. Да, и так бывает, только не всегда. Раньше я
251
даже советовал, кому с кем дружить; теперь я не люблю вмеши-
ваться, не знаю.
Подружились два мальчика — я старался угадать:
«Наверное, поссорятся... через месяц? или через полгода?»
Теперь мне чаще удается отгадать, но не всегда. Так все это уди-
вительно, так трудно понять, столько тут тайн.
Я только спрашиваю:
— Любишь его?
Отвечает:
— Мне он нравится.
И даже знает, какие у товарища недостатки.
— Вообще-то он не очень симпатичный, но я его люблю: он ко
мне хорошо относится.
Иногда несносный для всех, добр и деликатен с товарищем.
Иногда доставляет много хлопот взрослым, а со своими приветлив
и весел.
Иногда довольно чем-нибудь одним походить друг на дружку,
и ребята уже вместе. На короткий срок, а то и на долгий. Не каждый
любит менять друзей.
Я перевидал на своем веку много странных дружб.
Например, спрашиваю:
— За что ты его любишь?
— А его никто не любит, ему одному тяжело.
Спрашиваю:
— О чем вы с ним разговариваете?
— По-разному бывает. Иногда я советую ему, как исправиться.
Взрослые зря боятся, что плохой испортит хорошего, или (тоже
неправильно) требуют, чтобы хороший исправлял плохого. Мне
кажется, здесь нельзя ни запрещать, ни заставлять. Нельзя даже
часто спрашивать — назойливые вопросы отпугивают, вызывают
недоверие, неприязнь.
По мне лучше знать мало, да правду.
Один умеет делать то, что может пригодиться другому; ребята
вместе строят или покупают, одалживают, меняют, держат пари,
дарят и получают подарки. У одного есть как раз то, что сейчас нуж-
но другому; у этого больше, у того меньше. Непонятно даже, дружба
это, шефство или торговая сделка? Часто ребята и не любят друг
друга, да должны быть вместе, потому что одному что-либо сделать
трудно.
— Хороший он?
— Так себе, не очень.
— А все время вдвоем?
— Ну и что из того?
Когда я говорю с мальчуганом, он спокойный, отвечает серьезно,
а другой такой же мальчуган знает его и веселого, и сердитого, и
печального, и когда он закапризничает, надуется и обидится, и
когда дает и берет. Удивительно ли, что они лучше знают друг друга?
Каждый сам постепенно учится быть осторожным. Чужие пра-
вила жизни меньше всего помогают.
252
Раньше меня сердило, когда один из друзей только давал, а дру-
гой только брал. Вместе покупают мороженое, фотографируются,
ходят в кино, а платить, угощать — один. Теперь я уже не вмеши-
ваюсь; бывают такие, кому это доставляет удовольствие, кто хочет
«купить» хорошее отношение.
Я даю одно только правило жизни:
«Не будь трусом, имей мужество прямо заявить, что не хочешь.
Не стесняйся и проси помощи, если сам не справляешься».
Потому что ложный товарищ пригрозит:
— Я знаю про тебя то-то и то-то. Знаю все твои секреты. Пос-
соришься со мной — расскажу.
Или просто начнет мстить — лезть и бить.
Славная мордочка, умильные глазки, вежливые словечки могут
обмануть не только маленького мальчика. Я удивлялся раньше,
когда ребята не любили кого-нибудь, кто мне казался симпатичным:
даже подозревал зависть. Теперь у меня зорче глаз и я признаю,
что правы товарищи: им лучше знать.
Как-то в летней колонии был большой мальчик, серьезный и
спокойный, которого, как мне казалось, все очень любили. Одно
меня поражало: сам он делал то, что другим запрещал. Выгляде-
ло это так, словно он следит за порядком, а самому ему соблю-
дать режим не надо. Несколько раз он солгал; пойманный на вра-
нье, изворачивался и посмеивался, наконец не выдержал и на-
грубил.
И тотчас целая группа ребят, словно по тайной команде, пере-
стала слушаться и стала делать назло.
Лишь тогда я понял, что он как бы главарь шайки, что ребята
его не любят, но слушаются, потому что он запугивает, а тайком и
бьет. Я был изумлен. Как это столько ребят могут бояться одного
нечестного грубияна? Но он был не один: у него было несколько
подручных, которые доносили, когда кто-нибудь бунтовал,— и он
мстил.
Именно тогда я впервые понял, а потом еще и еще в этом убе-
ждался, как необходимо самоуправление, когда каждый имеет право
мужественно сказать, кого он на самом деле любит.
Теперь уже, кажется, я знаю, кого почти все ребята больше всего
любят. Не самого красивого, не самого веселого, не самого спо-
койного, а того, кто справедлив, отзывчив и тактичен.
Нелегко объяснить, что такое такт. Пожалуй, тактичный чело-
век это такой, который умеет подойти к людям. Сердцем или умом,
но он понимает, кому что надо, и охотно предлагает свою помощь.
Осторожный, он не настаивает на своем, имея дело со вздорным;
не хвастает и не насмехается, не задевает веселой шуткой печаль-
ного; не лезет, когда не просят, с советами и не болтает лишнего,
не злится сам и каждого старается оправдать и защитить. Не ну-
жен — нет его, может принести пользу — тут как тут.
Не навязывается с заступничеством, но и не отказывается за-
ступиться. Непрошенный, не защищает, но и не побоится, видя не-
справедливость и обиду, выступить в защиту. Не побоится ни това-
253
рища, ни воспитателя, и потому подчас у него бывают и неприят-
ности, и недоброжелатели.
Вот уже десять лет как я провожу плебисциты, то есть голосо-
вания. Голосования бывают тайные. Каждый бросает в урну листок.
На листке ставится плюс (то есть люблю), минус (не люблю) или
нуль (безразличен). Потом подсчитываются голоса. Я делал и по-
другому: каждый диктовал пять фамилий ребят, которых он больше
всего любит, и пять таких, которых не любит. И еще иначе: каждый
выставляет всем ребятам оценки; пятерка — значит очень люблю,
четверка — люблю, тройка — безразличен, двойка — не люблю,
кол — очень не люблю.
Благодаря этим голосованиям я понял многое.
Очень важна для меня уверенность, что ребята не знают зависти.
Если он симпатичный — радуются, что он отличник. Готовы лю-
бить за то, что хорошо поет, танцует, рисует, играет в мяч, высоко
прыгнул, победил. Благодарны, что они вместе. Больше позволяют
ему и больше прощают. Но при одном условии: чтобы не зазна-
вался, считался с группой и не был подлизой или задавалой. И не
слишком командовал.
Любят и больших, и маленьких, но не любят, когда малыш рас-
пускает нюни и ябедничает, а подросток корчит из себя взрослого.
Малыша тогда дразнят, а подростка высмеивают.
У кого больше всего минусов, кого не любят ребята, даже брез-
гают ими?
Надоед, пролаз, ко всякой бочке затычек. Простят эгоиста,
злюку, даже задиру: у них будут и доброжелатели, и недоброжела-
тели. Но тех ненавидят и зовут по-разному:
«Смола, самолюбия нет, подлипала».
Если сказать такому: «Перестань, уйди», он начнет приста-
вать, цепляться. Пристал — и ну надоедать. Говоришь с кем-ни-
будь — он сразу хочет знать о чем. Не знает толком или вообще
не разбирается и не понимает, а туда же, объясняет и поучает. Пи-
шешь что-либо — тотчас просит: «Покажи». Делаешь что-либо —
он уже тут как тут: «Дай, я быстрее... я лучше...»
Многие не знают, как трудно шутить. Неудачная шутка при-
чиняет боль, доставляет неприятность, вызывает слезы вместо сме-
ха. Шутка не ко времени мешает. Докучать и высмеивать — уже
не шутка. Шутка тогда хороша, когда все смеются и никому не не-
приятно. Про горе-шутников говорят:
— Шут.
И тоже не любят.
Какие отсюда следуют правила жизни, каждый сам догадается.
Одно лишь скажу:
Каждый человек должен ценить дружеское отношение и ста-
раться его заслужить. Нельзя говорить: «Очень мне надо!»
Каждый должен дорожить товарищем. Но не надо и заискивать,
стараться подольститься. И не следует огорчаться, если кроме
доброжелателей найдется недоброжелатель: не все всегда обязаны
тебя лишь любить.
254
Достоинства — недостатки
— Скажи мне искренне: ты хороший, добрый мальчик?
Ответы:
— Не знаю.
— То хороший, то так себе.
— Кажется, хороший.
— Иногда и не устоишь.
— Пожалуй, не очень.
— Мне часто всякие сумасбродства лезут в голову.
— Сам я не делаю ничего плохого, разве что ребята подговорят.
Ясно, я спрашиваю не первого встречного и тогда только, когда
уверен, что скажет правду.
У каждого человека есть и достоинства, и недостатки, и у каж-
дого они разные. У одного больше достоинств, у другого больше
недостатков. Недостатки бывают более и менее досадные, явные
или скрытые. Иногда недостаток особенно неприятен для окру-
жающих, иногда для самого себя. С одними недостатками легко
справиться, с другими трудно. А иногда неизвестно даже, недостаток
это или достоинство.
Поэтому-то и нелегко знать правила, как надо вести себя и как
исправляться, поэтому на вопрос: «А ты хороший?» — трудно
сразу ответить.
Подвижность, живость — достоинства на уроке гимнастики и
недостаток во время урока арифметики, недостаток в тесной город-
ской квартире и достоинство в деревне.
Бережливость — достоинство, скупость — недостаток, а ведь
скупость — это только слишком большая бережливость.
Скромность — достоинство, но чрезмерная застенчивость может
походить на упрямство и скрытность, тут даже взрослые часто
ошибаются. Иногда доброта просто легкомыслие и вместо пользы
приносит вред. Надо уметь и умно отказать, когда просят. А сколько
неприятностей у тех, кто одалживает кому-нибудь нужные ему
самому вещи или даже не свои.
— Зачем ты ему дал?
— А он попросил.
— А разве ты не знал, что он забывает, теряет, не отдает?
— Знал.
— Так зачем же ты дал ему чужую книжку?
— А он попросил. Я думал, он вернет.
Эгоист называет доброту глупостью и зло твердит, что не стоит
быть добрым. Нет, стоит, и следует и помочь, и услужить, только
надо наперед думать.
Плохо, когда мало думают, но нехорошо и когда слишком долго
думают, колеблются, не знают, как поступить. Доверчивость может
быть и достоинством, и недостатком.
Любопытство и пронырливость — недостатки, но нехорошо,
когда кому-нибудь ни до чего нет дела и ничто не интересно.
— Да ну, не стоит, а мне-то что?!
255
Один переоценивает себя, другой недооценивает. Бывает хищное
самолюбие и достойная гордость.
Я долго мог бы перечислять и всего не сказал бы.
Вот почему в этой путанице трудно разобраться. И должен до-
бавить, иногда мешают понять сами взрослые.
Один говорит:
— Я хочу, чтобы мальчик был такой, как я.
Во-первых, маленький не может быть таким, как взрослый. Во-
вторых, и у меня, взрослого, есть свои недостатки, и я вот, например,
совсем не хочу, чтобы у ребят были такие же недостатки, как
у меня.
Другой говорит:
— Дети должны слушаться; мальчуган должен быть таким, ка-
ким я хочу и велю.
Во-первых, уверен ли я, взрослый, что я всегда прав, а во-вторых,
может ли мальчуган, хотя и хотел бы, быть таким, каким мне нра-
вится? Всегда таким?
Раньше меня больше всего огорчало и сердило, когда что-нибудь
плохое делал не хулиган, а как раз хороший мальчик. И я говорил
с упреком:
— А я тебе доверял. Не ожидал! Понять не могу... Сам не знаю,
что с тобой делать.
Теперь я уже понимаю, что все не ангелы, и знаю, что надо ска-
зать лишь:
— Старайся больше так не поступать.
Не надо ждать и требовать слишком многого, потому что это
отбивает охоту и у хороших, и у плохих.
Один говорит, полный горечи:
— Мне уже никогда ничего нельзя.
А другой:
— Не стоит стараться, все равно все пропало.
Каждый должен верить, что он может исправиться, что у него
есть не только недостатки, но и достоинства.
Я убедился — у ребенка потому лишь столько столкновений
с окружающими и страданий, что он думает: «Я плохой». Ребенок
не знает четко своих недостатков и, значит, не знает, в чем ему надо
исправляться.
Говорит:
— Никогда уже больше не буду так делать.
И думает, что это ему удастся сразу, совсем и раз и навсегда.
А ведь это не всегда так бывает. И он ожесточается.
— Ничего не поделаешь, я такой и таким и останусь.
Или еще хуже:
— Если я стараюсь и это не помогает, я назло буду еще хуже.
Пускай что хотят, то и делают.
Иногда он замечает, что он не такой уж плохой, и спрашивает
себя:
— И чего в самом деле они от меня хотят? Почему всё только
сердятся?
256
Часто спокойным ребятам легко прикинуться хорошими, и это
возбуждает гнев и зависть:
«Размазня... Кукла... Маменькин сынок... Неженка... Тихоня...
Рева...»
И чувствительный ребенок страдает, а его товарищи-исподтиш-
ники орудуют безнаказанно. Постоянное же приставание портит
и тех и других.
Однажды — это было очень давно — привела ко мне мать сынка.
— Сил моих нет! Неуч, бродяга, уличный мальчишка. Раньше
хоть порка помогала, а теперь и это не помогает.
Мальчика отправили за границу. Теперь он судья.
Другой, с которым не могли сладить родители, преподает гим-
настику. Третий моряк.
И сами они натерпелись, и родители с ними исстрадались.
Теперь все хорошо.
Надо уметь найти общий язык, уметь мириться. И надо уметь
прощать. А часто достаточно лишь переждать.
Даже у самых хороших бывают черные дни и недели. Одно не
удалось, а потом все из рук валится: и в школе, и дома, и человек
сам не знает отчего.
Я заметил, что мальчишки больше всего бесчинствуют в сен-
тябре и в мае. В сентябре они еще помнят о каникулах, о свободе,
а приходится сидеть в комнате. А весной, когда наступают первые
теплые дни, ребятам уже невтерпеж, и они словно хмелеют. Даже
в газетах тогда читаешь, что такой-то и такой-то убежал из дому.
Действительно, временами трудно, но я говорю себе:
— Что ж, бывает.
Иногда кто-нибудь очень следит за собой; обещал исправить-
ся — и удалось! Ничего не сделал плохого, никто на него не сер-
дился. А ведь первые дни самые трудные. И он уже думает, что так
и останется, что он, как все. Он уже устал от этого старания. Ведь
когда пытаешься исправиться, стараешься не играть, больше си-
дишь над книжкой, избегаешь всего, только чтобы что-нибудь не
вышло. И вдруг катастрофа: опять! Вот тогда-то и наступает эта
самая плохая неделя.
Я знал мальчика, который дрался иногда по два и по три раза
в день. Никак не мог справиться с этим недостатком. Я посоветовал:
— Дерись раз в день.
Согласился. У него была сильная воля.
Мы поспорили на две конфеты в неделю:
— Если за неделю у тебя будет не больше семи драк, я даю тебе
две конфеты, проиграешь — ты мне.
Так прошло четыре месяца.
Сначала мы спорили только насчет драк дома, а потом и дома
и в школе. Сначала о семи драках, потом о шести, о пяти, о четырех,
трех, двух и одной драке в неделю. Наконец о нуле — ни об одной.
Потом начали спорить о ссорах.
Помню его последнюю победу.
Он стоял на лестнице. Другой мальчишка мчался по лестнице
9 Януш Корчак
257
вниз, пихнул его, этот того. Но тот вспетушился и дал сдачи. А мой
покраснел, насупил брови, закусил губы, сжал кулаки... Это длилось
какое-то мгновение. И вдруг ринулся вниз прямо во двор. Там он
долго стоял и ждал, когда успокоится.
Когда пришел срок нашему пари, он сказал улыбаясь:
— Чуть не проиграл, на волосок был от драки!
Мальчик этот теперь уже взрослый и говорит, что благодаря
пари он отучился драться.
Таких записанных у меня в тетрадках пари, пожалуй, уже тысяч
с пятьдесят. Я заключаю каждую неделю таких пари с разными
мальчишками и девчушками по пятидесяти и более. Дело тут не
в конфетках, а в победе.
Спорят о том, что будут вставать сразу как проснутся, умываться
как следует, не опаздывать к столу, читать по пятнадцати минут
в день; что не будут выскакивать с ответами в школе, стоять в углу,
забывать, терять, лезть, приставать, надоедать, давать прозвища,
болтать; что будут переписывать старательно по пяти строчек в день
и чистить зубы. Что будут или не будут что-либо делать.
От вранья трудно отвыкнуть. Тот, кто часто врет, начинает с
четырнадцати раз в неделю (по два раза в день).
Да, но кто проверяет, что без обмана? Никто, ведь чтобы вы-
играть, можно оговорить любое число.
— На прошлой неделе ты оставлял за собой право соврать че-
тырнадцать раз, а на этой семь. Не мало ли?
— Хватит.
— А трудно тебе не врать?
— Сначала было очень трудно.
А вот мои проверенные на опыте правила:
1. «Если трудно, исправляйся не сразу, а постепенно».
2. «Выбирай для начала лишь один, самый легкий недостаток
и прежде всего кончай с ним».
3. «Не падай духом, если долго нет улучшения или даже есть
ухудшение».
4. «Не ставь слишком легких условий, но такие, чтобы ты мог
выиграть».
5. «Не слишком радуйся, если сразу отучишься; избавляться от
приобретенных недостатков легко, а от врожденных трудно».
Делая то, что ты не любишь, и не делая того, к чему ты привык,
ты закаляешь волю. А это самое главное. Стать хозяином своих рук,
ног, языка, мыслей...
Есть люди, которые относятся к себе слишком строго, и это не-
хорошо; есть и такие, которые слишком легко и слишком многое
себе прощают,— это тоже плохо. А бывают люди, которые не знают
своих достоинств и недостатков. Эти люди должны стремиться
узнать их.
— Гноти сеаутон,— сказал греческий мудрец: познай самого
себя!
258
Мальчики — девочки
— Мальчики — люди, и девочки — люди. Значит, между
ними нет разницы.
Так говорят одни.
— Неправда. Девочки спокойнее, послушнее, порядочнее, при-
лежнее, деликатнее.
Так говорят другие.
— А я предпочитаю мальчиков. Мальчики веселые, не наскучат,
они не обижаются, искреннее, больше их все занимает, легче убе-
дить.
— У девочек сердце мягче.
— Вовсе нет, мальчик охотнее поможет, услужит.
— Неправда.
И они спорят и никак не могут согласиться.
Иные говорят так:
— Между мальчиками и девочками не должно быть никакой
разницы. Если бы они вместе учились, вместе ходили в школу, они
были бы совсем одинаковые.
И, в конце концов, так и неясно, кто прав.
Нет, ясно.
Правы и те, кто говорит, что отличаются, и те, кто говорит, что
похожи.
Даже между деревом и человеком есть сходство: дерево возни-
кает из семени, питается, растет, ощущает жажду, дышит, радуется
солнцу, старится и умирает, даже спит и отдыхает, его можно даже
обидеть, довести до болезни и увечья.
А птица не любит ли, как человек? Не печалится, не сердится,
не тоскует? Хуже чем человек поет?
А собака — верный товарищ?
Похожи и взрослые на ребят...
И не отличаются ли друг от друга? Найдешь ли хотя бы двух
совершенно похожих мальчиков? Разве все девочки одинаковы?
Ну а будь в школах совместное обучение?
А оно и было и есть. Ведь различия могут быть и большими, и
малыми.
Одно дело говорить, как хочется, чтобы было и как должно быть,
а другое дело, как оно есть.
Так кто же лучше, мальчики или девочки?
У каждого человека есть достоинства и недостатки, кто этого
не знает? Недостатки и достоинства есть и у девочек и у мальчиков.
Нужно понимать друг друга, уважать, прощать и любить.
Очень долго и мне казалось, что потому у них разный характер,
что раньше у мужчин и женщин были неодинаковые права, что
юноша ходил на войну и охоту, а девушки ухаживали за больными,
пряли и готовили пищу. Поэтому мальчики ловчее, и сильнее, и лю-
бят другие игры. Так уж привыкли.
Может быть, теперь это и реже бывает, но, когда я был малень-
кий, взрослые часто говорили:
259
— Ничего, что мальчишка проказничает. Мальчишка и должен
быть озорным. А девочке не пристало.
Будто мальчик должен быть смелым, девочка робкой, мальчик
подвижным, девочка спокойной, мальчик легкомысленным, девочка
благоразумной.
Девочки завидовали мальчикам, и между ними не было согласия.
Но его и теперь нет. Почему?
Смотрю я и думаю, и вот что мне кажется.
Мальчиков сердит, что девочки быстрее растут и раньше созре-
вают.
Приятно расти. А тут вдруг мальчик замечает, что девочка его
обгоняет. Одного с ним возраста или даже моложе, а выглядит
старше.
— И что она воображает? Ишь ты: барышню из себя корчит.
(Это значит: делает вид, что взрослая.)
Мальчик или горюет про себя, или всячески пристает и докучает.
— Мамзель-стрекозель,— говорит сердито и с презрением.
Иногда девочка и сама огорчена, не хочет расти; я знаю случаи,
когда девочки мало едят, чтобы не полнеть и не расти.
Или, выведенная из себя, ответит:
— Сопляк.
И война готова.
Если мальчик ловчее и сильнее, он силится доказать, что он
больше значит, а если слабее, начинает делать наперекор, назло.
Поссорился с одной девочкой, а в обиде на всех.
Хуже всего, если люди делают друг другу назло, нарочно, чтобы
рассердить.
Так уж повелось на белом свете, что одному легче, другому труд-
нее, один здоровый и сильный, другой слабый, одному больше дано,
другому меньше,— так пусть хоть по крайней мере не будет того,
чтобы один радовался, что сумел принести горе другому, один пла-
кал, а другой над этим смеялся.
Однажды мальчик приставил девочке к голове пробочный пис-
толет и пугал, что выстрелит. Девочка плачет, а он смеется.
— Экая глупая: боится.
Хватает мячик и убегает. Знает, что не прав, а еще дразнится:
— А что ты мне сделаешь?
Может быть, я слишком строг, но я думаю, что низко, подло,
мерзко:
Издеваться над беззащитными.
Досаждать слабому.
Шутить, доводя до слез.
Эта никому не нужная злобность так сердит, так возмущает,
такое вызывает отвращение к человеку и жизни!
Часто взрослые думают, что это просто глупость, шутка, невин-
ная проказа. О, нет, проклятое стремление досадить — это, может
быть, самый большой недостаток у мальчиков в отношении девочек.
Знаете что? Я встречал добрых, мягких, веселых, справедливых
учительниц, которые потом становились злыми, суровыми, нерв-
260
ными и недоброжелательными оттого лишь, что дети делали им
назло. В том и состояла забава: вывести из себя.
Девочки меньше дерутся: и не пристало, и платье мешает, и
волосы; нет сноровки, не знают приемов борьбы. Девочки щиплют-
ся или царапаются — руками или словами. Высмеивания, секре-
ты, сплетни, ссоры...
Мальчишек это очень раздражает. Выходит, мальчишки дей-
ствуют искренне и явно, а девчонки исподтишка.
И здесь взрослые допускают большую ошибку. Думают, что удар
рукой больнее, чем обида, колкое слово.
Ошибался и я: я долго думал, что начал тот, кто первый ударил.
Вовсе нет, виноват тот, кто задирал.
«Ангелочки, воображалы, недотроги, нюни, плаксы, ябеды».
Правда, девочки часто стараются показать, что они лучше, чем
есть. Но и мальчики неискренние, мальчики ста-
раются показать, что они хуже, чем есть.
Не могу понять, почему это так, но мальчику кажется, что ему
не пристало, стыдно быть спокойным, благоразумным, благовоспи-
танным. Мальчишка лучше порвет с товарищами, чем признается,
что он не хулиган.
Да, несправедливо осуждают мальчиков. Но они сами виноваты.
Мальчику так же, как и девочке, хочется быть красивым, только
он в этом не признается. Я знаю, как мальчишки неохотно стри-
гутся; но говорят, что у них мерзнет голова и шапка будет велика.
Хочется им хорошо одеваться, хочется быть милыми и деликат-
ными, да не пристало признаться.
Мальчишке труднее быть чистеньким, он любит подвижные
игры. У мальчиков больше синяков и шишек, порезанных пальцев,
ссадин на коленках; мальчики больше дерут башмаки, чаще бьют
стекла. Да потому, что они больше мастерят и более дотошные.
Но они не грязнули.
Просто мальчики любят все побыстрее, менее терпеливы, и по-
тому тетради у них не в таком порядке. Но стараются мальчики
не меньше.
Как и девочки, они сострадают, жалеют, им неприятно видеть
чужое горе, только они не хотят показать этого, боятся насмешек.
Знай они, что бояться приставаний и прозвищ — это тоже трусить!
И наконец, мальчики стыдливы не менее девочек. Только маль-
чики говорят нехорошие слова громче. А делают что-нибудь непри-
личное из озорства или чтобы «себя показать».
Как и девочки, мальчики брезгают «свиньями». Если девчонки
«ангелочки», то мальчишки «задавалы» и, значит, тоже «вообра-
жалы».
Мальчики задирают иначе, более шумно, только и всего.
Взрослые должны знать, что мальчики больше всего сердятся
и сильнее всего мстят, когда затронута их стыдливость.
— Не хочу, чтобы она смотрела,— говорил мальчик.— Если ей
можно, так и мне.
Теперь мода другая. Ребятам говорят, что не надо стыдиться
261
ходить в купальниках и спортивных костюмах. Это лучше, чем когда
считали, что девочка должна быть стыдливой, а мальчишка бес-
стыжим. Спорт и харцерство принесли большую пользу.
Я пишу об этом потому, что неправда вредна, а здесь было много
лжи. Не зная, как со всем этим быть, мальчишки злятся и живут
с девочками на ножах.
— Не выношу девчонок,— говорит мальчик.
— Не выношу мальчишек,— говорит девочка.
Неправда.
Один раз приятнее играть и говорить с мальчиками, другой раз —
с девочками. Есть игры, в которых девочки мешают, а есть и общие.
Может же девочка бегать лучше, чем мальчик, почему тогда маль-
чику нельзя играть в куклы?
— Ой, он с девчонками играет!
— Ой, она с мальчишками играет!
А начни мальчик с девочкой чаще разговаривать, сразу:
— Жених и невеста, парочка.
А я знаю целых четыре случая, когда мальчик с девочкой любили
друг друга еще когда ходили в школу, а выросли — стали мужем
и женой.
И знаю случай, когда мальчик играл в куклы. Девочки шили
платьица и одеяльца, а он делал для кукол кроватки и шкафики.
И никто не смеялся, не над чем тут смеяться.
Мое правило жизни такое:
«Быть искренним. Не обращать внимания на разные подковыр-
ки. Если я что люблю, говорю: «люблю», и баста».
И второе правило:
«Меня не касается, маленький кто-либо или большой и что го-
ворят про него другие: красив, некрасив, умен, глуп; меня не каса-
ется даже, хорошо ли учится, хуже меня или лучше; девочка это
или мальчик. Для меня человек хорош, если хорошо относится к
людям, если не желает и не делает зла, если он добрый».
Иногда учителя говорят:
— Он хорошо учится, много читает, развитый.
А кому от этого польза? Если он эгоист, сухарь и вдобавок зада-
вала? Совсем как богатый скряга — вызывает только злость и за-
висть.
Не знаю, что больше объединяет людей — сходство или именно
различие? Одного я люблю за то, что он похож на меня, а другого
за то, что не похож. Раз веселый дружит с веселым, раз — со спо-
койным и грустным. А иногда один из друзей как бы опекает дру-
гого. Могут полюбить друг друга старший с младшим, богатый с
бедным, мальчик с девочкой.
Я заметил, что только глупые люди хотят, чтобы все были оди-
наковые. Кто умен, тот рад, что на свете есть день и ночь, лето и
зима, молодые и старые, что есть и бабочки и птицы, и разного цвета
цветы и глаза и что есть и девочки и мальчики. А кто не любит ду-
мать, того разнообразие, которое заставляет работать мысль,
раздражает.
262
Прошлое — будущее
С грустью я заканчиваю эту небольшую книжку. С неспо-
койной душой кончаю этот свой опыт.
Я писал эту книжку очень быстро, боялся, что если хотя бы на
один день прервусь, то остыну и не закончу, а начало порву и вы-
брошу.
А мне кажется, что эта книжка очень нужная. Может быть, не
всем, а тем, кто любит вдумываться.
Когда собираешься писать книгу, всегда кажется, что она нуж-
ная и будет легко писаться и читаться.
Нужно ведь, чтобы старший рассказал о том, что он знает, и об-
легчил младшему понимание жизни и ее правил.
А мне это легко сделать, я уже много лет работаю с ребятами —
вижу, что они делают, беседую с ними, выслушиваю их вопросы,
жалобы, знаю, что им мешает, докучает, понимаю их трудности.
И такую книгу будет приятно читать, потому что наряду с ошиб-
ками и проступками, ссорами и обидами я вижу столько прекрасных
дел и добрых намерений, столько взаимных услуг, уступок, помощи,
заботы и доброжелательности.
Я с радостью сажусь писать. Но стоит взять в руки перо, как
сразу все выходит не так, как хочется. Тяжело, трудно. И только
когда глава окончена, вспоминаешь, что то-то и то-то упущено, что
об одном написано слишком кратко и непонятно, а о другом, менее
важном, слишком много и растянуто.
Начинаешь исправлять и переписывать, но это не помогает.
Совсем так, словно задумывал один, а писал другой.
Одно в мыслях и в мечтах, другое на бумаге, буквами и словами.
И уже даже не хочется писать.
К чему? Мало ли и без того интересных, хороших, нужных книг?
Да и так ли это, как я думаю? Быть может, желая облегчить
понимание, я затрудняю и путаю?
Легко ошибиться старому человеку, когда он пишет детям о де-
тях! А ошибешься, вместо того чтобы завоевать доверие, можно
вконец его потерять.
А чем сидеть и писать, приятнее взять книжку и сесть под дерево
почитать или пойти прогуляться.
К чему писать: быть может, так и должно быть, что ребята —
отдельно и взрослые — отдельно? Каждый сам по себе. Те свое,
эти свое.
Надо признать, что мы не встречаем в ребятах ни искренности,
ни доверия. Ребята неохотно говорят нам о том, что думают и чув-
ствуют на самом деле. Неохотно делятся трудностями и со-
мнениями, мечтами и планами на будущее, опытом своего про-
шлого.
Один не хочет говорить, потому что не знает наверняка: то ему
кажется так, то эдак. И ему стыдно. Он не знает, что и взрослые
немногое знают наверняка, и у них мысли разные, и они колеблются
и заблуждаются.
263
Другой не хочет говорить, боится, что его высмеют, станут шу-
тить над тем, что для него серьезно и важно.
А третий и хотел бы сказать, да не знает, как начать.
Это-то и трудно, говорить о том, что больше всего зани-
мает.
— Как удивительно!
— Что удивительно?
Все. Все, что ты помнишь и о чем забываешь. И как человек за-
сыпает, и что ему снится, и как просыпается, и что было и не вер-
нется, и что будет. И воспоминания, и память, и мечты, и намерения,
и решения.
Ошибаются взрослые.
Им кажется, что у детей только будущее, а прошлого нет.
Им кажется, что дети не хотят думать о будущем и об этом бу-
дущем с ними надо часто говорить.
— Когда я был маленький,— говорит ребенок.
— А теперь ты большой? — и взрослые смеются.
Это же неприятно!
Мне кажется, старик охотнее рассказывает о своем детстве, чем
самолюбивый ребенок. Словно это что-то постыдное.
Быть может, это потому так, что взрослые чаще напоминают
ребенку о том, что у него в прошлом было неудачей, ошибкой, за-
блуждением. И с гордостью говорят:
— Теперь ты уже старше.
Часто взрослые удивляются:
— Как он помнит! И откуда он это помнит?
Удивляются, что помнит людей, события и разговоры, о которых
сами они, взрослые, забыли.
А меня это совсем не удивляет.
Лучше всего помнишь то, что видишь, слышишь или делаешь
в первый раз. В первый раз живешь в городе или в деревне, едешь
по железной дороге — плывешь на лодке — твоя первая фотогра-
фия— первый раз в горах или на море — в цирке, в театре — первый
день в школе — первый твой товарищ.
Но если в первый раз ты что-нибудь делал давно, а потом делал
это еще много раз, все смешается, перепутается, но кое-что от каж-
дого раза останется — и вот воспоминание готово.
Что значит: помнить и забывать? Почему иногда важное забы-
ваешь, а какую-нибудь мелочь помнишь, часто забываешь, что было
недавно, а помнишь, что было давно? Одно воспоминание ясное,
а другое смазанное, как бы в тумане. Почему что-нибудь вспомни-
лось именно сейчас?
Никто не помнит, когда он впервые увидел собаку. Да, но он ее
уже знает. Он видел больших собак, маленьких собак, белых и чер-
ных, легавых и борзых, пуделей и мопсов, старых собак и слепых
щенят, собак, которые стояли или гонялись друг за дружкой, и тех,
с которыми он играл. Поймавшая муху собака — веселая и злая —
собака, которая полизала, залаяла, хотела укусить, укусила. Го-
лодная собака — больная — озябшая — с перебитой лапой. Встре-
264
ча собаки с кошкой — собака на цепи — собака, попавшая под
машину.
«Теперь я уже представляю, теперь я уже понимаю, теперь я
уже знаю, уже не боюсь, это уже для меня не тайна».
Воспоминания — это наш опыт. Они учат человека, что делать,
чего избегать. И каждый присматривается, приглядывается, потом
встречает что-нибудь новое, другое. Помнишь, забываешь, опять
вспоминаешь.
Сколько я в детстве падал, сколько пережил горьких неожидан-
ностей, стыда и страха, прежде чем узнал, что режет, обжигает,
что такое ножик, стекло, молоток, листовое железо.
Сведения, почерпнутые от родителей и товарищей, в школе и
из книжек, то, что я видел, слышал, прочел,— все это, вместе взятое,
составляет прошлое, веселые и печальные воспоминания; все это
диктует мне правила жизни на теперь, на сегодня.
И только потом уже будущее.
Некоторые ребята пишут дневники: ежедневно отмечают, что
случилось. Многие остывают, ведь писать трудно, а каждый день
приносит столько нового. Другие делают иначе: записывают в тет-
радку названия городов и улиц, которые они узнают, заглавия про-
читанных книг, имена знакомых и друзей. Это как бы счет прош-
лого, итог приобретенного опыта.
Правильно ли поступают взрослые, постоянно пугая тем, что
будет?
«Будет тяжело, будет плохо... Ты должен привыкать... должен
научиться... через десять — двенадцать лет...»
Может быть, дети не очень даже этому верят. Ведь странно по-
думать, что ты будешь таким, как отец. Дети представляют себе
это как-то иначе.
Ах, мечтания юности!
Приятно в уютной комнате или в постели думать о том, что
когда-то будет. Мечтать о путешествиях и приключениях, что ты
знаменитый полководец, или что раздаешь деньги бедным, или что
ты ученый, поэт, певец или скромный, но всеми уважаемый и люби-
мый учитель.
Воображаешь, что не все удавалось сразу, а что были и препят-
ствия, и трудности, даже борьба и опасности. Но в мечтах препят-
ствия только приятны, благодаря им сказка, которую рассказываешь
себе, длиннее, а победить можно каждую минуту, и все кончится
хорошо.
Как-то я спросил в классе, кем кто хочет быть. Один мальчик
сказал:
— Волшебником.
Все засмеялись. Мальчик смутился и прибавил:
— Я буду, наверное, судья, как мой папа, но ведь вы спраши-
вали, кем я хочу быть?
Именно такой вот смех, а затем и прозвища приучают к неиск-
ренности и скрытности. Ведь каждая мечта словно волшебная
сказка.
265
А мечты полезны и важны. Человек не сразу знает, к чему себя
готовить. По-разному прикидывает, из десяти разных выдумок
составляя одну программу жизни.
Какова разница между мечтой и программой?
Мечта — это отдых, удовольствие, она не налагает никаких обя-
зательств. Люди говорят:
«Витает в облаках, строит воздушные замки, желает достать
звезду с неба».
Да, да! Летит на самолете фантазии, думает ради забавы о том,
чего нет, подняв взор к звездам. Томится, жаждет. Именно так.
И дорастает до программы, которая серьезна, строга, сурова, кото-
рая требует и обязывает.
Программа — это как бы клятва, присяга у знамени жизни.
Человек решил, приступил и идет к цели медленно, но верно.
— По географии у меня пятерка, я учу иностранные языки, рас-
сматриваю карты, атласы, знакомлюсь с городом и его окрестно-
стями, читаю приключенческую литературу и про разных людей
и про зверей. Я буду путешественником.
— Я охотно разговариваю и играю с маленькими. Терпеливо
отвечаю им на вопросы, объясняю, растолковываю, помогаю и вы-
слушиваю их жалобы. Я люблю свою маленькую сестричку (или
брата). Расскажу сестренке сказку, покажу картинки, дам почи-
тать свою книжку — ласково и спокойно. Я буду учителем.
— Я стараюсь познать свои недостатки и достоинства. Человек
строптивый не может быть ни полководцем, ни пилотом, ни воспи-
тателем. Я хочу быть справедливым, точным, благоразумным, от-
важным, дисциплинированным, правдивым.
— Я хочу иметь сильную волю.
Кто умеет только мечтать и ждет, что все само придет и само
собой сделается, тот, может быть, и будет кукситься, когда увидит
на деле, что все это не так и более трудно.
— А я люблю то, что трудно. Хочу добиваться и выходить побе-
дителем. Я знаю себя. Я умею смолчать и приказать. Я мужест-
вен и терпелив. Мягок с другими, суров к себе. И я веселый — не
капризничаю и не жалуюсь.
— Мне столько лет, сколько есть. Я не стыжусь ни своего воз-
раста, ни своих мыслей, ни своих чувств. Я заставлю уважать себя
и ту цель, которую себе поставил.
Три дополнения к этой книжке
Дополнение первое
Я думал об этой книжке много лет: сочинял в голове. Это
было очень трудно.
Бывают менее важные правила жизни и очень важные. Самых
важных правил жизни я решил в конце концов совсем не затраги-
вать.
266
И теперь я не знаю, хорошо написана эта книга или плохо.
Здесь могут быть разные ошибки, но нет ни одного слова лжи.
Потому что я уважаю и пожилых, и молодых, и маленьких. Я хо-
чу быть искренним. Правда всегда выйдет наружу.
Дополнение второе
Поэт — это такой человек, который сильно радуется и
сильно горюет, легко сердится и крепко любит, который глубоко
чувствует, волнуется и сочувствует. И дети такие.
А философ — это такой человек, который глубоко вдумывается
и обязательно желает знать, как все есть на самом деле. И опять
дети такие.
Детям трудно самим сказать, что они чувствуют и о чем думают,
ведь приходится говорить словами. А еще труднее написать. Но
дети — поэты и философы.
Дополнение третье
Это рассказ пятилетнего Виктора. Я его уже два раза печа-
тал, да только в книгах для взрослых. Рассказ этот трудно понять
потому, что Виктор спешил и, когда он говорил о том, как солдат
убивал собаку Фокса, у него даже слезы выступили на глазах.
Рассказ Виктора был такой:
«Яблоки — я вижу яблоки — маленькие такие — а деревья
такие большие — можно лечь и качаться — и был такой песик —
и как одно яблоко упадет! — а он лежит и спит — мама пошла —
а я хочу сам — и там стул — а песик — какой-то другой песик —
и так его укусил — зубы у него острые-преострые — значит, спит
он, а он его укусил — песика надо побить за то, что он его укусил —
а там хозяйка — а у него такие зубы — я забыл, как его звали —
Фоксом его звали — и он укусил — кр-р-ровь! — он грыз кость —
Фокс, пшол, пшол вон — а он вытаращил глаза и укусил — я бросил
ему яблоко — сорвал с дерева и далеко бросил — жесткое такое,
а сладкое, как не знай что — а он только понюхал — а потом при-
шел солдат — бух в песика — бух, такой славный — славный —
славный».
А это рассказ девятилетней Стефы:
«Когда мы пришли домой, то там, за забором, где решетка, ле-
жала птичка. Потом Рома хотела ее взять, а я это увидела и сама
захотела взять, и взяла с той решетки. А когда мы взяли, все девочки
собрались и смотрели. Потом мы принесли ее сюда. Перышки у нее
были такие серенькие и беленькие, клювик в крови и глазки откры-
ты. Мы сделали на дворе такую ямку, завернули птичку в газету и
засыпали землей. Может, ее какой мальчишка нарочно убил? Клю-
вик перебитый был, и головка качалась. Рутковская чуть не запла-
кала. Она, как что увидит, так сразу гладит рукой, и уже совсем было
заплакала, да не заплакала, только слезы на глазах выступили».
Такова поэзия юных.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА
Теория и практика
Благодаря теории — я знаю, а благодаря практике — я чув-
ствую. Теория обогащает интеллект, практика расцвечивает чувство,
тренирует волю. «Я знаю» не значит: «действую сообразно тому,
что я знаю». Чужие взгляды незнакомых людей должны преломить-
ся в моем живом «я». Из теоретических посылок я исхожу не без
разбора. Отклоняю — забываю — обхожу — увиливаю — пренеб-
регаю. В результате я, сознательно или бессознательно, получаю
собственную теорию, которая управляет поступками. И это много,
если что-нибудь, частица теории, во мне приживется, сохранит право
на существование; в какой-то мере повлияла, отчасти воздейство-
вала. Отрекаюсь по многу раз от теории, а от себя редко.
Практика — это мое прошлое, моя жизнь, сумма субъективных
переживаний, память былых неудач, разочарований, поражений,
побед и триумфов, отрицательных и положительных эмоций. Прак-
тика недоверчиво проверяет и обличает, стараясь уличить теорию
во лжи, найти ошибку. Быть может, у него, быть может, там, быть
может, в его условиях так выходило, а у меня в моей работе... всегда
по-другому. Рутина или поиск?
К рутине приводит равнодушная воля, которая всячески стара-
ется облегчить, упростить работу, выполнить ее механически, про-
топтать из экономии времени и энергии самую удобную для себя
тропку. Рутина позволяет эмоционально не включаться в работу,
устраняет сомнения, уравновешивает — ты выполняешь функции,
исправно служишь. Для рутинера жизнь начинается тогда, когда
кончаются часы службы. Мне уже легко, нет надобности ломать
голову, искать самому и даже где-либо смотреть, я знаю точно и
определенно. Я справляюсь. Я знаю свое. Новое, чего я не чаял и не
ждал, мешает и сердит. Хочу, чтобы было именно так, как я уже
знаю. Право теории — подкреплять мой взгляд, а не опровергать,
подрывать, путать. Как-то раз я, еле превозмогая себя, из наметки
теории соорудил развернутый взгляд, план, программу. Составил
кое-как, была забота! Ты говоришь: «плохо»? Дело сделано, не стану
я опять начинать. Идеал рутины — незыблемость, собственный ав-
торитет, подкрепленный авторитетом подобранных ad hoc ' тезисов.
Я, мол, и прочие (ряд цитат, фамилий, званий).
А поиск?
Начинаю с того, что знают другие, строю так, как могу сам. Хо-
чу — основательно и честно — не по наказу извне, не из страха
перед чужим контролем, а по своей доброй и вольной воле, под не-
устанным надзором совести. Не ради удобства, а ради духовного
обогащения себя. Не доверяя в равной мере чужому и своему мне-
нию. Не зная, я ищу и ставлю вопросы. В труде я закаляюсь и созре-
1 Ad hoc (лат.) — для этого.
268
ваю. Труд — самое ценное в моей глубоко личной жизни. Не то, что
легко, а что наиболее всесторонне действенно. Углубляя, я услож-
няю. Понимаю, что познавать — значит страдать. Много познал —
много перестрадал. Неудачу я оцениваю не суммой обманутых на-
дежд, а добытой документацией. Каждая неудача — новый по-
своему стимул работы мысли. Каждая на сегодня истина — лишь
этап. Не могу предвидеть, каким будет последний; хорошо, если я
осознаю первый этап работы. Что же он гласит, каков он, этот пер-
вый этап воспитательной работы?
Самое главное, я полагаю — трезво оценивая факты, воспита-
тель должен уметь:
Любого в любом случае целиком простить.
, Все понимать — это все прощать.
У Воспитатель, вынужденный брюзжать, ворчать, кричать, отчи-
тывать, угрожать, карать,— должен в душе, для самого себя, снис-
ходительно отнестись к любому проступку, упущению и вине. Ре-
бенок провинился, потому что не знал; не подумал; не устоял перед
соблазном, подговариванием; пробовал; не мог по-другому.
Даже там, где действует злостная злая воля, ответственность
несут те, кто эту злую волю пробудил. Мягкий, снисходительный
воспитатель должен иной раз терпеливо переждать массовый штурм
гневной мести толпы за грубый деспотизм предшественника. Про-
вокационное: «назло» — это пробный камень, проверка, экзамен.
Переждать — перетерпеть — значит победить.
Не воспитатель тот, кто возмущается, кто дуется, кто обижается
на ребенка за то, что он есть то, что он есть, каким он родился или
каким его воспитала жизнь.
Не злость, а печаль.
Печаль, что ребенок идет, плутая, навстречу превратной судьбе.
В ярме или в оковах. Бедный, он только еще отправляется в путь.
Каждый вычитанный в газете приговор — тюрьма или смертная
казнь — для воспитателя мучительное memento .
Печаль, а не гнев, сочувствие, а не мстительность.
Но как же тебе не совестно взаправду сердиться? Смотри,
какой он маленький, тощенький, слабенький и беспомощный. Не
какой он будет, а какой он есть сегодня. На заре веселых возгласов
и лазоревых улыбок. Ребенок знает, угадывает важность своей недо-
развитости. Пускай забудется, пускай отдохнет! Каким сильным
моральным двигателем в его грязной взрослой жизни будет воспо-
минание подчас лишь об одном этом человеке, кто к нему хорошо
относился и в ком он не обманулся. Познал его, знал и, несмотря
на это, продолжал любить. Он — воспитатель.
Надо верить, что ребенок не может быть грязным, а лишь запач-
канным. Преступный ребенок остается ребенком. Об этом нельзя
забывать ни на минуту. Он еще не смирился, он еще сам не знает
«почему?» и удивляется, а иногда с ужасом замечает, что он иной,
хуже, не такой, как все. «Почему?» Ребенок перестает бороться
Memento (лат.) — помни.
269
с собой, когда он смирится или — а это хуже — решит, что люди —
общество — не стоят его тяжелой борьбы с собой. Когда скажет:
«Я такой, как и все, а может, даже и лучше».
Какой правдивый и достойный труд укротителя диких зверей!
Неистовству диких инстинктов человек противопоставляет последо-
вательно непреклонную волю. Господствует силой духа. Воспита-
тель обязан, затаив дыхание, следить за новыми путями дрессиров-
ки — лаской, а не хлыстом и револьвером. А ведь это только тигр
или лев!
Диву даешься, как грубиян-воспитатель умеет разъярить даже
смирных детей.
Я не требую от детей исправления, а отрабатываю их поступки.
Жизнь — это арена: бывают более удачные или менее удачные мо-
менты. Оценивается не человек, а действия.
В мышлении и чувствовании воспитателя, который не прошел
школы больницы или клиники, имеются большие пробелы. Моя
задача, как врача, приносить облегчение, если я не могу помочь, при-
остановить ход болезни, если я не могу излечить, ослаблять симп-
томы: все — или некоторые, а если нельзя иначе — немногие. Это
во-первых. Но это еще не конец. Я не спрашиваю у больного, как
он употребит, во вред или на пользу, то здоровье, которое я ему обес-
печиваю. Тут я хочу быть односторонним, если угодно — тупым.
Врач не смешон, когда он лечит приговоренного к смертной казни.
Он выполняет свой долг. За все остальное он не в ответе.
Воспитатель не обязан брать на себя ответственность за далекое
будущее, но он целиком отвечает за сегодняшний день. Я знаю, фра-
за эта вызовет возражение. Обычно считают как раз наоборот, по
моему убеждению, ошибочно, если искренне. Но искренне ли? А мо-
жет, и лживо? Удобнее отсрочивать ответственность, перенести ее
на туманное завтра, чем уже сегодня — отчитываться в каждом
часе. Косвенно воспитатель отвечает и за будущее перед обществом,
но непосредственно, в первую очередь он отвечает за настоящее
перед воспитанником.
Соблазнительно пренебрегать сегодняшним днем детей во имя
возвышенной программы завтрашнего дня. Но «улучшать нравы» —
это параллельно и взращивать добро. Взращивать добро, которое
есть, которое вопреки недостаткам, порокам и врожденным дурным
инстинктам в детях есть! Доверчивость, вера в людей — не то ли
это добро, которое можно сохранить и развить в противовес злу,
которое порой нельзя устранить, а можно лишь, да и то с трудом,
приостановить в развитии?
Насколько жизнь бывает мягче и снисходительнее, чем многие
воспитатели! Какой же это стыд!
И вот, когда человек после многих лет труда, напряжения мысли
и тяжелого опыта доходит наконец до этих истин, он с удивлением
видит, что, собственно, ничего нового тут нет, все это уже давно
было сказано теорией, а им давно прочтено, да и слышал он, знал,
а теперь, сверх того, благодаря практике, он это и прочувствовал.
Кто видит только различие между теорией и практикой, тот не
270
дорос эмоционально до уровня современной теории. Тот должен
больше учиться у жизни, а не по книжкам с их шрифтами. Тому
недостает не готовых рецептов, а душевной, тяжелым трудом добы-
той способности чувствовать истину — сродняться с правдой тео-
рии.
Воспитание воспитателя ребенком *
Наивно мнение молодого воспитателя, что, надзирая, конт-
ролируя, поучая, прививая, искореняя, формируя детей, сам он,
зрелый, сформированный, неизменный не поддается воспитываю-
щему влиянию среды, окружения и детей. Тому, кто, присматривая
за вверенными ему детьми, не в силах подойти к себе критически,
угрожает большая опасность, на которую я желаю обратить вни-
мание, тем более что профессиональная гигиена души недостаточно
широко известна. Воспитатель, работая над пониманием человека —
ребенка и над пониманием общества — группы детей, дорастает
до постижения важных и ценных истин; пренебрегая неусыпным
трудом над собой, опускается. Ребенок обогащает меня опытом,
влияет на мои взгляды, на мир моих чувств; от ребенка я получаю
приказания — и я требую от себя, обвиняю себя, оказываю себе
снисхождение или снимаю с себя вину. Ребенок и поучает, и воспи-
тывает. Ребенок для воспитателя — книга природы; читая ее, он
созревает. Нельзя относиться с пренебрежением к ребенку. Он знает
о себе больше, чем я о нем. Он общается с собой все те часы, когда
он бодрствует. Я его лишь отгадываю. Поэтому я ошибаюсь: я оце-
ниваю его рыночную стоимость и дефекты. Ленивый, недисципли-
нированный, капризный, врет, ворует — но этого мало. Каков его
взгляд на себя, отношение к другим детям и к воспитателю; какой
он приобрел опыт, на какие способен усилия и компромиссы? Сколь-
ко даст на-гора упорства? Нельзя относиться к детям свысока. Сре-
ди десятков детей всегда найдутся на редкость разумные, наблю-
дательные, способные к критике, настороженные, с односторонним
опытом, ироничные, склонные к каверзам и мстительные. Группа,
обсуждая, дискутируя, делясь и обмениваясь наблюдениями, будет
знать воспитателя насквозь. И захочет сделать безвольным инстру-
ментом в своих руках. Использует все его недостатки и его нере-
шительность, слабости и изъяны. Не даст себя ни завлечь, ни обма-
нуть. Подвергнет его суровому следствию, экзамену добросовест-
ному и оценит справедливо. И либо доверится, либо отложит реше-
ние, либо замкнется, законспирируется, затаится, либо объявит
открытую войну. Горе ему! Он увидит уже только «упрямство», «дур-
ное влияние» отдельных детей, покушения на свой «авторитет»,
поступки назло, в отместку. Не услышит никаких замечаний о своих
распоряжениях и о себе, никакого «вы ошибаетесь — вы не правы».
А это голос совести для доброй воли воспитателя. Бывает, что ты
сразу попадаешь в атмосферу враждебного недоверия, если твой
предшественник — тиран или размазня — ожесточил, разъя-
рил детей. Здесь повредит и сухой приказ, и наивное нравоучение.
271
Надо вооружиться терпением и переждать. Завоевать действиями.
Дети вознаграждают воспитателя, но они и отчитывают, и нака-
зывают; мирятся, забывают или сознательно прощают — и мстят.
Станут травить, высмеют, нарушат покой, взбунтуют вспыльчивого
или подставят глупенького (потому так часто страдает невинный).
Упорно добиваются: будь образцом. Согласно с главным постулатом
педагогики: покажи пример. Не слова, а дела. Перед воспитателем
встает дилемма: и он или вступает в тяжелую, трудную борьбу, ко-
торой и конца не видно, со своим несовершенством, или — это удоб-
нее — предает теорию анафеме. Итак: книги врут, авторитеты —
мошенники. Жизнь — не письменный стол ученого. Диплом дал
мне права. Я уже теперь сам, своими силами. Потому что: может
быть, это и хорошо, но не у нас. Может быть, в других условиях.
Может быть, другие дети. Мои же — это банда, шайка, сброд (ско-
ты!). Нужно с ними круто. Следовательно — запреты и ограниче-
ния. Полная изоляция собственной жизни от их жизни и пережи-
ваний. Только б был порядок. Порядок должен быть — железный
регламент! Уже не воспитатель, не поборник вопроса о ребенке,
защитник юных, маленьких и слабых, пастырь неопытных, а над-
смотрщик, пристрастный прокурор, ключник, палач. Уже не воспи-
татель, а интендант — управляющий зданием, канализацией, инвен-
тарем, канцелярией, учетчик штанов и башмаков. Я не недооцени-
ваю администрации, это было бы непростительной ошибкой. Уп-
равлять педантично, четко, чтобы не промотать. Res sacra '. И дети
должны понимать и чувствовать, что ты это для них в поте лица
своего добываешь и экономишь. Ты только тогда вправе наказать
как администратор, когда как воспитатель потворствуешь. Если
воспитатель "потеряет контакт с детьми, признавая только фавори-
тов, заушников и доверенных слуг, потому что ему так удобнее,
разве он возьмет на себя труд заведовать добросовестно — стоит
ли?! Разве он не заключит скорее союз с теми, кто захочет нажи-
ваться на бесправных, бессловесных, брошенных на произвол судь-
бы? Разве не станет он со временем — только сохраняя видимость
добросовестного служащего — нечестным хозяином и человеком
падшим? Только б полегче, подешевле, с наибольшей для себя вы-
годол. Амбарная книжка и плетка. И фраза: я закаливаю детей и
приучаю к дисциплине. Воспитываю будущих членов общества.
Путь к самовоспитанию и самоопределению ты найдешь сам и
в себе, молодой воспитатель. Путем длинного ряда осенений ты под-
нимешься на высшую ступень понимания языка шепота, улыбки,
взгляда, жеста — слез раскаяния или слез бессилия преступного
ребенка.
Воришка
Деление интернатов на опекунские и исправительные, удоб-
ное с административной точки зрения, может ввести в заблуждение
некритически мыслящего воспитателя. Оно как бы исключает или
1 Res sacra (лат.) — святое дело.
272
отодвигает на задний план задачу исправления в учреждениях пер-
вого типа; а в учреждениях второго типа категорическим прика-
зом исправления заглушает проблему опеки. Были «дисципли-
нарные» интернаты, а теперь лучше — будут «воспитательные».
Воспитывать — растить — хранить под крылышком доброже-
лательности и опыта, в тепле и в покое, заслонять от опасности,
укрыть, переждать, пока не подрастут, возмужают, наберутся сил
для самостоятельного взлета?.. Крылья — взлет. Опасные мета-
форы! Легка задача для ястреба или курицы, когда те согревают
птенцов своим теплом; мне, человеку и воспитателю чужих, разных
детей, досталась в удел более сложная задача, не другая — род-
ственная. Я желаю взлетов для моей ребятни, грежу о горных тро-
пах; тоска по их совершенству — грустная молитва моих самых
сокровенных минут, но, отправляясь от действительности, я пони-
маю, что они станут плестись, копошиться, хлопотать, выискивать,
болтаться без дела или обирать — искать пропитание и крохи ра-
достей. Среди этих несмышленышей — птенцов — и будущие яст-
ребы, и куры, а я к ним одинаково расположен. Растет маленький
хищник — не моя вина, не я советовал. Неважно, попал он в испра-
вительное или в опекунское заведение.
Я предчувствую справедливый протест. Нужно самому пройти
трудный путь наблюдений и одинокого размышления, кропотливо
вглядеться во многие области знаний, честно осознать несовершен-
ство человеческой природы и писаных законов, добросовестно оце-
нить слабые силы и средства, которыми располагает воспитатель,
чтобы посмотреть без неприязни или страха на это последнее звено
в цепи опыта. Не моя вина — не мой совет — не на мои силы. Я дол-
жен его только растить, беречь, заслонять, ограждать от неспра-
ведливости, укрыть, пока не подрастет. Когда вырастут, пусть суды,
полиция, аресты и тюрьмы делают что хотят. Трудно. Я отвечаю
за сегодняшний день моего воспитанника, мне не дано право
влиять — вторгаться в его будущую судьбу.
А этот сегодняшний день должен быть ясным, полным радост-
ных усилий, ребячьим, без забот, без обязанностей сзыше лет и сил.
Я обязан обеспечить ему возможность израсходовать энергию, я
обязан независимо от громыхания обиженного писаного закона
и его грозных параграфов — дать ребенку Есг солнце, весь воздух,
всю доброжелательность, какая ему положена независимо от заслуг
или вин, достоинств или пороков. Вырывать, истреблять или выха-
живать? Сорняки или свободно растут, или их без лицемерия ска-
шивают и сажают полезный картофель. Как воспитателя меня ка-
саются законы природы, бога, а не чиновника, человека. Как пре-
красна, бескорыстна и искрения больница. Врачует раны героя и
арестанта — доктору нет дела, идет исцеленный трудиться правед-
но, обижать людей или на виселицу. Величайшее усилие помочь
в борьбе за восстановление нарушенной функции органа. Если я
не умею, я не имею претензий к хронически больному пациенту,
который покидает больницу, чтобы быть в тяжесть семье и общест-
ву. Это не мое дело.
273
Как же лжив и нечестен интернат, который за ложку еды, крышу
над головой, плохонькую одежду и пустяковую опеку — вопреки
здравому смыслу напишет на своем знамени: «Исправляю!» В лю-
бом случае морально страждущего — вылечиваю. На языке газет:
«Обществу полезного честного работника». Нет! Я не буду тягаться
с гробами неизвестной наследственности, ее инстинктами и аппе-
титами, не берусь вылечить от шрамов и травм самого раннего дет-
ства. Я не знахарь и не заклинатель, я только врач-гигиенист. Со-
здаю условия для выздоровления. Много света и тепла, свободы
и веселья. Верю, что ребенок сам по себе захочет стремиться к исп-
равлению. Будет бороться с собой, будет испытывать разочарования
и поражения. Пусть возобновляет попытки. Ищет свои способы.
Познает радость отдельных малых побед. Я его поддерживаю —
здоровой атмосферой моего интерната.
Где исправление приходится вымогать, добиваться, насилуя,
там нет места для воспитателя. Это умеет тюремный надзиратель.
Лучше, быстрее, прямолинейно и основательно. Исправятся — бу-
дут слушаться, не посмеют, пропадет у них охота. Смирно, к добро-
детели — вперед, марш! Идут — бегут. Под угрозой суровых нака-
заний — мигом исправились. Все и сразу. Как воспитатель я вижу
среди своих правонарушителей столько честных, случайно сюда
направленных. Да будет много подобных им на свободе! Я вижу —
конечно — и воров — сколько же людей хуже их утопает в достатке
и пользуется уважением! Я вижу — соблазненных дурным приме-
ром, с легким насморком проступка — и с абсолютной предраспо-
ложенностью, неизлечимых.
Я уважаю их усилия, сочувствую им, хотя, клянусь правдой и
богом, стоит ли современная жизнь их отчаянных иногда борений
с собой, их крестного пути к исправлению, их безнадежных, но
упорно возобновляемых попыток?
Видя во мне образец совершенства, стремясь походить на меня,
воспитателя, завоевать слово похвалы, поощрения, желая воз-
наградить меня за мои труды и оказанные им услуги — они наивно
и с благодарностью настраиваются в мой тон справедливости, чест-
ности, долга. Бедолаги вы мои милые! Хочется, пожалуй, предо-
стеречь: слишком не напрягайтесь. Если даже не говоришь этого,
они чувствуют сами.
* * *
Образцовые исправительные учреждения дают немного больше
половины излечений. А остальные? Что ж, идут в жизнь вооружен-
ные воспоминаниями ясного детства, с ладанкой — изображением
людей, которые им сочувствовали, не проклинали, не осуждали —
благословили на крутой, извилистый, бурный и трудный жизненный
путь. Полиции станет легче. Не отупели от наказаний, от них они
уже давно успели оправиться, не окаменели в ненависти к человеку,
не вынашивают мысли о мести.
Воришка, с которым легко договориться.
274
Открытое окно
Дети имеют в мою комнату свободный доступ. Заранее до-
говорено: можно играть или говорить вполголоса, либо полная ти-
шина. Для приема гостей у меня стульчик, креслице и маленький
столик. Три окна вплотную друг к другу; среднее открыто; подо-
конники низко — тридцать см от пола. Ряд лет ежедневно я ставлю
стульчик, креслице и столик подальше от открытого окна, а бывает,
что и задвигаю их куда-нибудь в угол. И каждый вечер неизменно
они стоят у открытого окна. Иногда я вижу, как их придвигают сра-
зу, решительным движением, иногда приподнимают тихо, осто-
рожно, почти украдкой. Чаще всего я не знаю, как это получилось.
Я клал в разных местах иллюстрированные журналы, преграждал
доступ к окну цветочными горшками. И меня радовало, как дети
хитроумно обходят искушения и устраняют препятствия; открытое
окно побеждает — даже когда ветер, даже когда дождь, когда хо-
лодно. Тропизм заставляет водоросли скучиваться там и сям, велит
группироваться так, а не иначе — вверх и вниз, вплоть до кристал-
лизации, химического сродства,— велит картофельной ботве ползти
по стенке погреба к зарешеченному окошку,— и тот же закон при-
роды, вопреки людским запретам, направляет узника к окну, чтобы
увидеть пространство.
Ребенку требуется движение, воздух, свет — я согласен, но и
что-то еще. Пространство, чувство свободы — открытое окно.
У нас два двора: задний, окруженный стенами, и передний, ме-
нее удобный, который ценится выше. Тут теплее и светлее — согла-
сен. Но не только это: ворота прямо на улицу. Чуть с ума не сходят,
когда с улицы попадают в поле, тоска по реке. Ну а если море, чужие
континенты, весь мир? Смешным показалось бы мне требование
представить доказательства того, что многие гибнут в тюрьмах
только потому, что у нас нет пароходов.
Заключение — это не просто изоляция средных и преступных,
а тяжелое наказание, независимо от той или иной пищи
и режима. (...)
Мы субъективно оцениваем и осуждаем средневековые пытки.
Нелегко было тогда поймать преступника. Скрыться и убежать
в леса или чужие страны, воспользоваться пожаром, суматохой, на-
бегом, подкупить тюремную стражу — для сильных, отважных,
предприимчивых — пустяковое дело. Надо было заточить, прико-
вать цепями, четвертовать, сжигать на кострах, сажать на кол, сечь
публично на площади. Иначе нельзя было, но ведь и это не помо-
гало. А может быть, только на первый взгляд? Мы не знаем, сколько
хищников погибало в лесах, горах, реках, сколько создавало новые
отдаленные поселения. Разве Америка не была до недавнего вре-
мени убежищем для авантюристов и преступников всего старого
света? Сегодня наиболее распространенное и одновременно наи-
более тяжелое наказание — тюрьма.
Не знаю, какая система заключения в тюрьме: тесный карцер,
одиночка, лишение прогулок, свиданий. На день, на неделю, на
275
месяц. Качество и количество. Применяются ли, и в какой степени,
эти наказания в исправительных учреждениях? Берется ли за обра-
зец тюрьма, или выработана собственная, более мягкая система?
Ведь воспитатель должен стремиться достичь наиболее благо-
приятных результатов при минимальном нарушении прав чело-
века.
В заключении, но открытое окно выходит на спортивную пло-
щадку. В заключении, но только на время еды. Окно закрыто, заре-
шечено, окно под потолком. Камера на первом этаже. Тюремный
двор тесный или просторный. Газон, но только один.
В руководимой мной летней колонии свобода движения имела
такие градации: 1. Право выходить из колонии без опеки. 2. Право
выходить под опекой специально назначенного воспитанника.
3. Право выходить на полянку за пределами колонии. 4. Право сво-
бодного передвижения в пределах всей колонии (пять моргов зем-
ли). 5. Право играть на участке данного надсмотрщика («арест»).
6. Изоляция на газоне под каштаном («клетка»). Если мы примем,
что только незначительная часть детей с плохими наклонностями,
и то случайно, попала в исправительные учреждения, а большин-
ство, более опасные, болтаются на свободе, не целесообразнее ли
дать им наиболее широкие льготы: отпуски, коллективные близкие
и дальние прогулки, в горы, к морю, к озеру, в лес? Мы лучше узнаем
детей именно тут, а не в заключении. Система наказаний и поощре-
ний может быть построена единственно на дозировании свободы.
Не кое-что, а логическая система, кодекс законов. Без ограничений
открыты ворота, ограничения касаются только дней и часов, ра-
диуса свободного движения (поездка по железной дороге, прогулка
в соседний городок, в лес). И только как самая высокая степень
наказания: запереть в комнате на короткое время. Известно, что
организм в широких границах приспосабливается к условиям. Ве-
роятно, бывают случаи, что заключенный привыкает к неволе, может
ее даже полюбить. А если заключение как наказание перестанет
действовать, что тогда?
Есть ли в исправительных учреждениях, даже находящихся
в деревнях, летние колонии и лагеря? Меняются ли отдельные уч-
реждения на какое-то время воспитанниками для смены впечат-
лений, знакомства с новыми условиями? Разве у детей из так назы-
ваемых исправительных учреждений меньше прав увидеть Краков,
Познань, Вильно, море, озера Сувальщизны? Увидеть угольные
шахты, соляные копи, побывать в музеях, в кино, в театре? Если это
даже взбудоражит, вызовет желание сбежать, не выльется ли это
в усилия исправиться — в святой порыв? Отдельных детей — поме-
щать в скаутские военизированные лагеря — показывать им нор-
мальную интересную жизнь и развеять губительное убеждение, что
они раз навсегда заклеймены, прокляты, прокаженные. Я хотел бы:
1. Знать, как это на самом деле. 2. Провести дискуссию с воспи-
тателями наших интернатов для детей нравственно отягощенных.
Мое мнение: окно открыть, заставить цветочными горшками,
по углам разложить приманки и внимательно следить, не будут ли
276
дети, несмотря на препятствия и вопреки заманчивым соблазнам,
именно в том направлении обращать тоскующие взгляды. Добавлю:
если доставляет радость выпустить птицу из клетки, как же эта
постоянная работа мысли: кого выпустить из тюрьмы — украсит
воистину серый труд воспитателя.
Каста авторитетов
Есть в воспитательном деле узкая каста авторитетов. Книга:
толстый том, лучше — два тома; ученое звание автора: директор,
доктор, профессор. Немногочисленные избранники. Кроме того,
огромная масса рядовых служащих — плебеи практической ра-
боты. Верхи и низы; между ними — пропасть. Здесь — цели, на-
правления, лозунги, обобщения, там — кропотливый труд в вечной
спешке. Гражданское, нравственное, религиозное воспитание; за-
дачи и долг воспитателя; а рядом — живые люди, выбиваясь из сил,
выполняют на свой страх и риск бесконечную, ответственную и
сложную работу, которая не делается по шаблону. Труд, усилия,
старания, хлопоты! И прежде всего бдительность. «Хорошо про-
жить день труднее, чем написать книгу». Целое состоит из деталей.
Через выбитое стекло, порванное полотенце, больной зуб, отморо-
женный палец и ячмень на глазу; запрятанный ключ и стащенную
книжку; хлеб, картофель и 50 г жиров; через тысячи слез, жалоб,
обид и драк, чащу зла, вин и ошибок надо пробиться и сохранить
ясность духа, чтобы успокаивать и смягчать, мирить и прощать, не
разучиться улыбаться жизни и человеку.
Есть в юной человеческой жизни помощь и сочувствие, сожа-
ление и тоска; есть и пугливая трепетная радость — наперекор
сиротству, заброшенности, пренебрежению, попранию и унижению.
Надо заметить — и не дать ей угаснуть — хотя бы искру, если нель-
зя раздуть пламя.
Что делать, спрашиваю я, чтобы аристократическую теорию
сбратать с демократической воспитательной практикой, и как сде-
лать первый шаг к сближению? Вы сегодня исключительно в кругу
печатного слова — в библиотеке и в кабинете, мы — среди детей.
В этом наше преимущество. Согласен, мы духовно опустились,
обеднели, а может, и огрубели (ох, бывают редкие, исключительные
минуты высоких чувств, светлого вдохновения, священного тре-
пета — редкие и исключительные) — но нам лучше знать, не как
вообще и везде, а как сегодня в нашей столовой, спальне, во дворе
и в уборной. Как и что, если Юзек Франеку или Юзек да заодно
с Франеком против правил внутреннего распорядка. Полное, братец
мой, фиаско! Вижу, как ты смываешься с кипой бумаг под мышкой,
и злой смех меня разбирает...
К делу: не скрывать. Сноп лучей. Гласность...
...А что делаем мы?!
Пишите анонимно, приводите доводы, что по вашему убеждению
вам нельзя по-другому. Ну да: подросток бросился с железным
277
ломом на мастера, хотел стрелять из краденого револьвера, украл
штуку полотна и продал, пытался поджечь, неволил к дурному ма-
лыша, за неделю двоим поломал кости — одному ключицу, другому
руку, насосом надул через прямую кишку кошку, так что кошку
разорвало. Как тут быть?!
Признайте, что вы не могли по-другому в ваших условиях или
по вашему убеждению. Пусть авторитеты снизойдут до решения
практических задач! Надлежит заставлять писать, платить налог
со своего опыта! Да будет нарушен покой кабинета ученых! Да
взглянут они правде воспитательной работы — ее трудностям и
ужасам — в глаза!
Писать — просто, не по-ученому, а стилем конюха, не сглажи-
вать и не смягчать. На это нет времени. Наши истины не могут быть
этаким миндальным пирожным, сдобной булочкой, да и пишем мы
не для изысканной публики, которая может обидеться, оскорбиться.
Наш долг всматриваться во все закутки души, не брезговать гной-
ными ранами, не отворачиваться стыдливо!
Наша работа еще молода. У нас еще нет гехаймратов ', наши
ученые еще терпят нужду, еще самоотверженны и честны. Давайте,
покуда не поздно, сопротивляться, чтобы у нас, наподобие Запада,
не сложилась привилегированная, оторванная от практических
задач каста авторитетов — с ее наукой для науки!
Чувство
Неудивительно, что мускулы утратили свое значение. Они
уже только как отдых и развлечение, задача их — сохранять в ясной
свежести ум, не позволить ему переутомиться. Но труд, достаток и
удобства дает железо, погоняемое и управляемое мозгом.
Неудивительно, что мы так уважаем интеллект. Столько всего
позволил нам он выяснить, покорить, запрячь в работу; мы обязаны
ему многими эффектными победами. Впрочем, он действует откры-
то, перестал уже быть тайной и, переведенный на язык цифр, под-
дается измерению и почти взвешиванию.
Интеллект удобен. К счастью, случайно объявился когда-то
кто-то исключительный — и уже всему человечеству во все времена,
без особых заслуг и достоинств, сразу, даром — выгода, прибыль,
барыш. Значит, искать, шарить, вынюхивать, ждать с тоской Эди-
сонов, Пастеров, Менделей. Они за нас: богатый дядюшка и свора
нахлебников.
Чувство иначе. Оно ищет, как достичь, добыть и напитать людей.
Две тысячи лет, как Христовы законы почти безнадежно... Всяк
тут сызнова и лишь для себя одного. Впрочем, чувство слишком
летуче, чтобы знать. Машины и тесты говорят, способен ли, может
ли; остается трагичное — а захочет ли? Мог бы: и полезный, и цен-
1 (Der) Geheimrat (нем.) — тайный советник.
278
ный, уважаемый и счастливый, почему ж вредитель, почему именно
уголовщина?
Пытаются через интеллект к чувствам. И всеобщее обучение,
и хорошо проветриваемые школьные здания. Уже меньше кулак
и штык, что ж, когда браунинг и отравляющие газы.
Познать человека, значит, прежде всего изучать ребенка на ты-
сячу способов. Другие могут — а чем я хуже? И я это делаю — не-
научно, доморощенно, смотрю невооруженным взглядом.
И видится мне, что не интеллект. Не вижу разницы. Дети и я —
тот же процесс мышления — все то же самое, я только дольше живу.
Но в области чувств ребенок иной. Следовательно, не рассуж-
дать, а вместе с ним чувствовать: по-детски радоваться и грустить,
любить и сердиться, обижаться и стыдиться, опасаться и доверять.
Как мне это сделать и, если получится, как научить других?
Педология — может быть, я скажу глупость — обязана гово-
рить очень много о физическом развитии ребенка, столько же о чув-
ствах и только потом уже — интеллект.
Замечания о разных типах детей
В форме фельетона я бегло рассматриваю тему. Начинаю
с детей, которые крадут. Этих больше всего. Изучив их под углом
возможности исправления, я убедился, что их можно отнести ко
многим категориям, не имеющим между собой ничего общего.
Случайная кража. Взял потому, что «все берут». Посягнул на
яблоко с лотка или из чуждого сада, на пригоршню конфет или
сушеных слив, коробку, сумку, банку. Попробовал украсть злотый,
вырвал кошелек. Сделал это впервые, делал не раз или много раз.
К счастью, у нас таких детей относительно редко судят. Эти дела
решаются на месте: виновному нагонят страха или сразу с ним рас-
правятся.
У меня в памяти сохранился следующий случай. Это было в
Берлине. Десятилетний мальчик приносит в букинистический ма-
газин книжку. Передает листок — позволение отца продать книжку.
Невыработанный почерк вызывает сомнение у хозяина книжной
лавки, ребенка задерживают. Отца вызывают в полицию. Отец,
защищая сына, пробует подтвердить, что разрешение написано им.
Тогда ему пригрозили, что, если специалист установит подделку,
отвечать перед судом будет он, отец. Застигнутый врасплох, меняет
показания: сам он не писал, он поручил это ребенку. И так, и эдак
плохо. Ему говорят, что он ответит перед судом за то, что он скло-
нил доверенного его опеке малолетнего к подлогу. В конце концов
отца великодушно прощают, а мальчика осуждают на несколько
месяцев исправительного учреждения. Дай бог, чтобы Польша как
можно позднее достигла подобной законности, если такая вообще
нужна.
Мальчик подвижный, живой, инициативный, с богатым вообра-
жением ищет приключений, впрочем, ему очень хочется ее иметь,
279
нужна ему эта вещь. Отмечу, что извечные походы деревенских
детей в чужие огороды намного раньше указывали на присутствие
в сырых фруктах и овощах витаминов, чем это удалось проследить
науке.
Как относиться к этим детям? Это как ветрянка. Нет, будем
более суровы: как зуд у детей недостаточно старательно воспитан-
ных, запущенных, легко поддающихся инфекции соблазна. Доста-
точно дважды помазать дегтярной мазью — и здоров. Такого даже
и лечить не надо. Если исправительное учреждение этот процент
детей считает исправленными, оно очень ошибается: их не надо ни
исправлять, ни лечить. Достаточно искупать.
Хронический соблазн, вызываемый врагом — голодом. Я не буду
на этом останавливаться.
Ему на что-то нужны деньги. Он имеет право: у других деньги
есть, другие едят. Достаточно легкого ослабления воли. Краткое
пребывание в чистой и спокойной атмосфере, и подобные конфлик-
ты с законом исчезнут, быстро и раз и навсегда.
Разве игры в воров, в разбойников, так повсюду хорошо при-
нятые — такие извечные, добавлю,— не доказывают, каково под-
линное отношение детей к краже независимо от нравственной и со-
циальной сущности этой проблемы? Дети поддаются внушению,
подражательству, живому воображению, потребности в приключе-
ниях, иногда — тщеславию. Бывают мальчики, которые воруют,
чтобы угощать.
Интересное, живое, веселое, смешное приключение. Здоровые,
любимые озорники! Сохранена вся доброжелательность к людям и
детская наивность. Достаточно сказать, что он плохо поступает.
Каким образом распространилась игра в футбол на окраинах
города? Стоят себе трое или четверо. Идет «мамин сынок», подбра-
сывает красивый новый футбольный мяч. Это раздражает. Ведь
такой пижон даже играть не умеет. Более смелый вырывает у него
мяч, кидает его другому, тот третьему, а четвертый наутек.
Еще ряд ступенек, и мы перейдем к ребенку, который вроде со-
роки хватает всегда и все, что ему удается раздобыть. Он не может
удержаться. Если там мы имеем дело с волей или натянутой как
струна, или ослабленной, здесь — нервная неуравновешенность,
которую следует лечить.
Приведу случай большой давности. Это было несколько десятков
лет тому назад, во Франции. Два мальчика-пастушка, желая добыть
средства на путешествие, робинзонаду, вырезали целую фермер-
скую семью. Опускаю детали. Этому случаю «Matin» или «Journal»
посвятил две колонки. Были там интервью с родителями, товари-
щами, учителями мальчиков, а также факсимиле написанного из
тюрьмы письма.
«Любимая мамочка! Я знаю, что сделал плохо. Мне неудобно,
что я доставил тебе неприятность. Будь уверена, что, если меня
освободят, ничего подобного уже не повторится. Еще раз прошу,
не сердись».
Возраст мальчика — десять лет.
280
Несколько слов о глупых и недоразвитых детях, которые в конеч-
ном итоге оказываются во власти действительно преступного ро-
весника или подростка. Кто с ними захочет играть? Кто захочет
с дурачком разговаривать? Что он может дать товарищам, ровес-
никам? Заинтересоваться ими и сблизиться может лишь тот, у кого
есть личный интерес: выгодно — получить бессловесного помощ-
ника и слепого исполнителя приказов. Мнение, что паршивая овца
легко может заразить все стадо, продиктовано, наверное, подоб-
ными случаями. Здоровый интеллект обладает просто неслыханной
сопротивляемостью заразе, чутким, исправно действующим аппа-
ратом. Только этим можно объяснить, что не все дети улицы и дво-
ров идут по пути преступления. Подчеркиваю это со всей решитель-
ностью. Только недоразвитый ребенок, которому импонирует нор-
мальный интеллект, подчиняется пассивно. Этим объясняется, что
в исправительных учреждениях имеется значительный процент
недоразвитых детей. Для них еще недавно совсем не было школ.
Милые невинные воришки. Насколько более социально вреден
тип жулика-комбинатора, который обманывает в игре, наживается,
меняясь, держа пари, втягивая в долги, мутит моральную атмо-
сферу; вызывает многочисленные конфликты. Типы паразитов,
ростовщиков; дети, о которых можно сказать, что всегда бывают
на шаг от преступления. Это они в значительной степени отравляют
атмосферу школ — незамечаемые обществом взрослых, рыщут
среди соучеников.
К счастью, лишь незначительное число веселых озорников, на-
рушающих общественное спокойствие, лишается свободы. Увы, их
должно быть больше с возрастанием бдительности полиции.
В легких случаях этот мимолетный насморк проходит сам. Все
тут помогает, а некритически мыслящие люди обольщаются, что
поворотным пунктом в исправлении было доброе слово, одна иск-
ренняя беседа или даже розги. Да, такие счастливые случаи сулят
столь быстрое выздоровление, что и розги не всегда повредят. Ме-
дики шутят: больной выздоровел вопреки лечению.
Отметь: ребенок, фыркая и топая ногами, не подражает, а хо-
чет быть лошадью, хочет вчувствоваться в ее положение, а лая —
он пес, и ведь за это его собачник не поймает; мы не обвиняем маль-
чишку, который называет себя генералом, в правительственном
перевороте — так же бессмысленно наказывать ребенка, что он
мимоходом поиграл в вора.
Вспыльчивый ребенок. Пожалуй, один из самых трудных вопро-
сов, требует глубочайших размышлений. Такой в гневе может убить.
Это серьезный изъян характера и темперамента. В будущем это
может представлять опасность, когда подействует на него водка,
когда он столкнется с несправедливостью и злом, и еще большую,
когда неправильно проведенное лечение добавит горечь, если не
злобу. Трудно с такими детьми, а тем более с молодежью.
Здесь не место и не время на объяснения, откуда я это знаю (чи-
татели должны мне поверить на слово). В моей коллекции два-
дцать тысяч решений исправиться. Категорически заявляю, что
281
ребенок с недостатком чувствует всю его тяжесть, стремится изба-
виться от него, но ему трудно исправиться,— безрезультатно, без
руководителя, он многократно приступает к борьбе с собой, и лишь
ряд поражений заставляет его признаться в банкротстве в отно-
шении себя.
Странно: ведь никто не будет оспаривать, что горбатый хотел
бы избавиться от своего горба, а человек без руки или ноги хотел бы,
чтобы у него выросла отсутствующая конечность. Тут следует не
уговаривать исправиться, а, наоборот, сдерживать порыв, разъяс-
нять, что только терпеливость, постоянные малые усилия, стро-
жайшая ортофрения могут дать положительные результаты.
Нелегко завоевать доброе отношение и доверие этих недовер-
чивых детей, разобиженных, что их не лечат, не помогают им.
Я только напомню здесь, что ребенок считает взрослых людей полу-
богами, которые все знают и умеют, но, видно, не хотят ему помочь.
Я не могу здесь дольше останавливаться на немногочисленной
и любопытной группе детей-похабников; этого похабства здесь
столько, сколько в анализах определяется как «след белка». Те, кто
утверждает другое, переносят свое восприятие на абсолютно непо-
нятный им мир детских восприятий.
Среди детей мы встречаем рядом с агрессивной амбицией много
защитной гордости. Опыт минувших переживаний, иногда врожден-
ное свойство — физическая слабость делают их мизантропами. На-
дутые, ворчливые и недоброжелательные — трагичная жатва
порока!
Приведу одно воспоминание. Будучи в Париже, я отправился
на праздник плавания. Он был устроен в честь окончания учебного
года. Прекрасный бассейн, амфитеатр, заполненный десятками ты-
сяч школьников вместе с учителями. Много солнца и радости.
Появляется министр просвещения. Оркестр играет Марсельезу, дети
встают, снимают шапки. Один двенадцатилетний сидит. Товарищ
осторожным и мягким движением пытается его поднять, снять
с него шапку. Гневный взгляд, резкое движение. Сидит в шапке.
Демонстрация против правительства, против Франции. Три взгляда
устремились на строптивого мальчика. Его заметили полицейский,
учитель и я. Потом наши взгляды встретились, и мы, все трое, улыб-
нулись. Я испытал зависть, что богатая, вне опасности нынче Фран-
ция может позволить себе роскошь снисходительной улыбки. Сок-
ращение сокращений. Обобщаю: бывают невинные коросточки,
язвочки, нарывы и туберкулез, который подрывает, точит, заражает.
Я ясно вижу и понимаю попытки сделать так, чтобы некоторая ка-
тегория детей вовсе не рождалась. Я вижу потребность в больни-
цах, в изоляции на длительное время. Не преувеличиваю трудностей,
но и не преуменьшаю. Грознейшая проблема — это надругаться,
возбудить ненависть, ярость, растить голодных волков, затравлен-
ных хищников.
К сожалению, эти беспомощные страдания могут покрыть
сплошь, как вши, а кормятся этим страданием — садизм и воров-
ство, невежество и хамство. Есть три пути: один — это притон,
282
клоака, где несчастные дети переносят адские пытки и муки, вто-
рой — это врачевание, третий (именно это я видел в Лихтенбер-
ге) — механизированная дисциплина, где нет места собственной
мысли, никакому собственному решению. Предостерегаю перед
третьим путем, так как, напуганные примером первого пути, мы
можем скатиться именно к третьему. Образец — больница не обви-
няет, не осуждает, а изучает и лечит.
Эпидемии проступков
Много времени и энергии посвятили и продолжают посвя-
щать врачи установлению сущности и источников заразы, путей,
какими она распространяется, и условий, способствующих ее разви-
тию, сопротивляемости (врожденной и приобретенной) и сред-
ствам, чтобы заразу потушить. Тиф, скарлатина, дифтерит — мы
о них более или менее знаем и защищаемся с большим или меньшим
успехом. Была ли изучена и как проблема заразы в педагогике?
Я сразу напомню о ценной, но, увы, не нашедшей отклика работе
Яна Владислава Давида «О моральной заразе» *. Важный вопрос!
Каждый воспитатель знает периоды, когда какой-нибудь вид
проступков либо вдруг появляется, тогда как раньше его не было,
либо возрастает до тревожных размеров — единичные случаи. Вне-
запный взрыв опозданий, прогулов, дерзостей, папирос, воровства.
Один воспитатель старается первую «искорку» потушить в заро-
дыше, потому что сегодня один, завтра уже десяток. Другой недо-
оценивает это явление, пока не начнет досаждать, и тогда он одним
ударом отсекает голову «гидре».
Следует пожелать, чтобы кто-нибудь взял на себя труд описать
весь этот процесс: кто первый и когда, как и почему, откуда прита-
щил заразу, кем были его и ее жертвы, как разрослась эпидемия,
кто оказался особенно податлив, кто не податлив, кульминация
заразы, медленное или внезапное угасание. Быть может, тогда уда-
лось бы установить ее закономерности, а следовательно, и пути
противодействия.
Взаимопонимание опытного и наивных, незнающих. Ненавяз-
чивая профилактика — вместо вырывания зла с корнем, когда оно
уже разрослось. Ибо каждый непродуманный метод действия, ма-
шинальные безотлагательные вмешательства обязательно будут
грубы и несправедливы — добавлю, несправедливы по отношению
к самым невинным. Сверх того, неправильно возлагают тяжесть
ответственности на весь коллектив. Мир рушится, когда подведет
тот, наилучший, тот, казалось бы, заслуживающий доверия; тем
больше гнев и тяжелее обвинение.
Почему в течение многих недель ни одного разбитого стекла,
а сегодня аж два; почему сейчас почти ежедневно кто-то проливает
чернила? Почему массовое отлынивание от обязанностей? Конспи-
рация, сговор, бунт?
Вдруг возрастает число драк. Почему? Может, будоражащие
283
события, о которых я не знаю, может, выступление боксеров в цир-
ке (да!), может, новая игра с еще неустановленными правилами —
причина брожения? Итак, опрос (анамнез).
И оказывается, что кто-то один, первый — из ровесников или
старших — притащил из другой школы, со двора, от кого-то извне —
дяди, солдата в отпуске — шутку, называемую «сифоном». Назва-
ние пошло от того, что нажимают на нос, как на рычажок у сифона.
Это всегда больно, да и раздражает, и обидно как неуважение и
вызов. Или кулаком по голове, или тычок в ухо — просто так, сзади,
мимоходом, младшему, более слабому. Щелчки, подножки или —
плевок в лицо, слюной сквозь зубы, чтобы выразить презрение. Или
испытанный прием в борьбе — выламывать пальцы, душить за горло.
Кто? Почти все поднимают руку. Кто первый и откуда? Иссле-
дование, а не карательная экспедиция. И окажется, что тот или эти
«привыкли» — и хотели бы отучиться, да уже не могут. Кто, сколько
раз, кому? Иногда с трудом стараются вспомнить — самих себя
наперегонки обвиняют даже те, кто только раз и давно, и даже
только хотел, но не умел (потому что «охотничий азарт», совершен-
ствование в меткости, ловкость играют роль в привыкании). Как
общее явление выступают: нетерпеливое желание уничтожить за-
разу, воля к преодолению недомогания; дети ощущают эпидемию
как докучливый налет, тяжесть, от которой хотелось бы избавиться.
Помню эпидемию «игры на зубах» — выстукивания мелодии ног-
тями. Сперва казалось, что мода эта безвредна, а кончилась тиком.
«Всюду все играют на зубах; мы выглядим как сумасшедшие».
Беседа покончила с эпидемией.
(Я употребил слово: мода; ее странности иногда навязаны и
планомерно распространяются, как эпидемии; некоторые появля-
ются спонтанно. Сопротивляемость экстравагантностям моды мо-
жет прервать или ослабить процесс ее воздействия. Незадолго до
войны Вена бурно протестовала против первых брюк на женщинах;
а яркая краска на губах, короткие платья, длинные ресницы?..)
Как времена года предрасполагают к тем или иным недомоганиям,
так и тут появляются ежегодные веяния; так, весенняя игра в «зеле-
ное», за ней — игры в «спаленное», в «косматое», в «спящего» и т. п.
А вместе с ними злоупотребления, хитрости, жульничество,— сле-
довательно, ссоры и драки. Захваченный врасплох, он может про-
играть ранец с книжками, пальто — а потом переговоры и велико-
душное требование 50 грошей в качестве выкупа — бранные слова
и шантаж. Игра в пуговки. Итог — одежда без пуговиц в школьной
раздевалке. Коллекционирование марок, фото, игра в перышки —
как бациллоносительство, сперва невинных бактерий, которые могут
стать опасными. Через кражу пуговиц к кражам вообще. Кто взялся
бы за эту тему (а стоит), должен был бы рассмотреть проблему
одержимости и массового безумия. Он столкнется с вопросом о
неологизмах. «Недотепа», «растяпа», «лопух». Насмешка над беспо-
мощностью — не всегда размазней и трусов — знаменательна для
нашего времени. А жаргонные словечки, пропагандируемые попу-
лярным фельетонистом?.. Одна статья скандинавского сельского
284
врача, короткая и скромная, решила проблему передачи так назы-
ваемого детского паралича именно потому, что он проследил всю
эпидемию, с момента ее возникновения, работая на изолирован-
ном небольшом участке *. Каждый учитель в своей школе может
делать то же самое.
И наконец, два наблюдения. Обстановка в школе или в интер-
нате либо способствует эпидемии, либо предохраняет от нее. Яв-
ность, как свет, убивает микробы; в духоте утаивания рождаются
миазмы заразы. Холод снижает сопротивляемость заразе. Наиме-
нее устойчивы бездумные, либо вялые и скучающие, либо раздра-
жительные и без настоящих интересов; не имея где и не зная как
израсходовать свою энергию, капризные и легкомысленные, они
внимательно прислушиваются, подхватывают нашептывания, сле-
дуют примеру — легко поддаваясь, они распространяют заразу
в пределах своего влияния; еще хуже, если они пользуются автори-
тетом (потому что старше, сильнее, наглые).
Примечание: запрет игр и забав, потому что что-то может слу-
читься — мешает выработать активную сопротивляемость, создает
затхлую атмосферу пассивности и неподвижности. Должно быть
разнообразно и много, и живо, потому что воспитатель знает и во-
время сумеет предупредить.
Честолюбивый воспитатель
«Человек на своем месте». В связи с вопросом о дежурствах,
труде детей в интернате я многократно возвращался к вопросу о
том, как можно было бы в общественной жизни достичь порядка,
избежать ошибок, недоразумений, обвинений, ссор, проступков,
падений, борьбы и слез, если бы было известно, где чье место: чтобы
работник, здесь небрежный, неумелый, вызывающий раздражение,
стал полезным — ба, самоотверженным — на другом поприще. До-
волен, когда носит кирпич, волочит доски, копает глубокую яму,
рубит топором. Говорят тогда, что он это любит, чувствует себя
в своей стихии, «как рыба в воде». Велишь ему шить, чистить кар-
тошку, писать, учить наизусть стихи — из спокойного и заслужи-
вающего признания он делается непослушным, упрямым, сварли-
вым, каверзным и лживым. (Было бы желательно в учительских
семинариях иметь кинопленки: рыба в воде и без воды, мальчик
волочит доски на площадке, он же в классе за задачей по арифме-
тике.)
Я не питаю пренебрежения к экспериментам и трудам по ха-
рактерологии, однако они мне кажутся слишком ex cathedra, заум-
ными, а может, и не это, а оторванными от будничных наблюдений
над мелкими деталями повседневной жизни. Не психотехника от-
талкивает, а высокомерная и заносчивая самоуверенность. К обоб-
щениям — только через систематизацию многочисленных наблю-
дений, и сопоставление, и глубокое продумывание запутанных слу-
чаев. (Пациент X. У., столько-то лет, сегодня так, год спустя так,
285
утром иначе; когда сидит, дышит, кашляет и т. д.) Эксперимент —
и его проверка.
Смена дежурства, смена орудия труда, действие квалифициро-
ванного совета, предупреждение, смена партнера и того, кто за ра-
ботой наблюдает,— вот поле для легальных, допустимых в воспи-
тании проб. Часто мы замечаем, что первая страница новой тетради
отличается более старательным почерком. Хорошее перо? Если я
дам щетку (метлу) как следует, я справедливо жду, что ребенок
хорошо подметет; хорошие товарищи без разговоров выполнят дан-
ное им поручение; а резкий приказ вызывает протест и волнения.
«С ним так весело работать; хорошо посоветовал». Может быть и
так: скрывает, что простая работа ему по вкусу, или утомился и пал
духом до того, как приобрел необходимый опыт дозировать и эко-
номить усилия. Следовательно, прежде чем поручить детям вымыть
или натереть пол, нужно неоднократно сделать это самому и смот-
реть, как это делают дети, и внимательно выслушать, что они ска-
жут. Нужно уметь выжать тряпку; нужно знать тайны матраца и
соломы, прежде чем велеть ребенку гладко постелить постель, как
того требует днем эстетика казармы, а ночью — удобство: чтобы
солома не колола и он не превратил ее сразу в труху, не свалился
сонный с кровати после многих безрезультатных попыток найти
удобное положение (не помешали бы фильмы: собака, которая ук-
ладывается спать, и ребенок, который «так поспал, как постлал»).
Можно добиться и того, что будут желать дежурить в уборной в
колонии без удобств; но нужно дать совок для песка и лопатку, что-
бы загребать нечистоты, и собственным примером показать, что
нет грязной работы, а любую — неряшливость сведет на нет или
загубит.
Я вызову снисходительную улыбку или гримасу отвращения,
когда скажу, что одинаково достойным был бы двухтомник и о прач-
ках и стирке, и о психоанализе, и что больше интеллигентности
и инициативы требуют кухня и бульон, чем бактериологическая
лаборатория и микроскоп. И я охотнее бы доверил своего мла-
денца честной няньке, чем Шарлотте Бюлер *. Об этом-то я и
говорю.
Я много лет присматривался к целому ряду молодых адептов
искусства воспитания. Разные были. Об одном я думаю с грустью:
«Не справится, бедняга, а жалко». О другом, со вздохом: «К сожа-
лению, справится и много лет будет свирепствовать среди детей как
хроническая эпидемия гриппа, с насморком, с ломотой в костях
и в душах». Согласно заголовку, я упомяну о воспитателе даже обя-
зательном, но честолюбивом.
Оттенки; виды; особи. Тема для толстого тома. Один все ставит
под сомнение, скрупулезен, обвиняет попеременно себя (реже),
детей (часто), условия труда (всегда). Другой знает, умеет, мо-
жет — купается в своих достижениях и подвигах, неважно, что на
руинах растоптанных сердец и умов, желания трудиться, любви
к книге, жизни. Подчинить или сломать, искоренить — выжать,
вынудить, вбить собственное или навязанное понимание порядка,
286
чистоты, хорошего поведения, обязанности делать успехи, ба —
даже физического роста. «Должен съесть, потому что полезно, по-
тому что ремнем и плеткой, нельзя пить воду, это нездорово. Ты
должен спать, играй, мерзавец, потому что нам говорили на курсах
и так писали авторитеты». Хочет показать себя, покажет больше
и лучше, чем требуют власти, ибо он знает на своем опыте, помнит,
как с ним самим было. Подчинить каждого ребенка своему разу-
мению и догмам, натаскивать (ziehen, erziehen ') соответственно
своим намерениям и расчетам. Все в классе должны уже считать
до десяти, на полу ни одной бумажки, в тетради ни одной кляксы.
Кто не по нем, тот смертельный враг; а он жаждет побед, оваций,
триумфа.
Я внимательно искал среди детей будущих воспитателей. И я
приглядывался с тревогой, как в классе заставляют заниматься об-
щественной работой честолюбцев с психикой тюремных надзира-
телей, энергичных мизантропов, предусмотрительных и деятельных
карьеристов (у детей «подлец», «ханжа», «лиса») и, наконец, нелю-
димов — анахоретов — интеллектуалистов. «Если бы ты хотел, то
бы умел и мог». Прямо наоборот: «Если бы я умел и мог, то бы
хотел».
Ребенок, который много читает и понимает, внимательно слу-
шает и задает вопросы, но не расскажет ровеснику, не поможет, не
объяснит,— сначала только богатый скряга (плохой товарищ,
хитрый и завистливый). Недоброжелательность к нему перейдет
в ненависть, если позволят ему верховодить; он потребует от класса
привилегий, если его поставить в пример.
Что собой представляет здоровое, благородное честолюбие и
соперничество и что — извращенное, ложное, выродившееся? На-
показ, для спекуляции? Во сколько лошадиных сил этот мотор и
цель усилий?
И опять: два тома — и каждый второй номер педагогического
журнала с наблюдениями, статистикой, страстной полемикой, ка-
зуистикой случаев. Анатомия, физиология и химия честолюбия:
политика, общественного деятеля, воспитателя.
Мальчик А в пять лет, в семь лет, в десять лет, среда, здоровье,
сила, красота, грация. Есть — нет. Честолюбивая цель: хочет на-
колдовать себе хорошее отношение или повиновение и первен-
ство, или выторговать, или выманить, или добыть (как), или вы-
нудить.
Мальчик Б в пять лет, в семь лет, в десять лет. Среда, здоровье
и т. д. Нет тщеславия, в тени чужой воли, в стороне. Обладает цен-
ными свойствами или не обладает, требует или дает, как себя ведет,
когда дает, берет, как — когда встречает отказ, сопротивление, пре-
пятствие?
Так, как в медицине: пациент А, больной Б. Так же и столько
же. Жалобы, объективное исследование. Потом распознавание.
И только потом предписание врача: диета и лечение, рекомендация,
Ziehen, erziehen (нем.) — тащить, воспитывать.
287
как ему жить, работать,— и это тоже только в форме совета, про-
бы — на проверку.
Через комплексы, травмы, полусознание (есть и такое), под-
сознание, через ощущение своей неполноценности и преувеличен-
ное чувство собственной ценности (положение отца, хорошая
память, способности к рисованию, пению, спорту, танцевальный
номер, авторские выступления или красивое платье), кроме попу-
лярных и общеизвестных — внимательный наблюдатель разглядит
наметанным глазом детей тихих, скромных и непризнанных; серых,
ибо они только добрые, ничего больше, им (говоря вкратце) слеза
товарища доставляет боль, а радует — его радость.
Мы слишком хорошо знаем, что дети ссорятся, мешают, назло
пристают, дерутся, ну и — портят, оказывают дурное влияние. Ты
хороший мальчик, не играй ты с ним, он тебя испортит.
Удивленный взгляд, мягкая улыбка: «А может, я его исправлю?»
И исправил. «Не водись с ним, он хулиганит, дерется, забияка».—
«Для меня он хороший».
Бывает: беспомощный, серенький, наивный, кажется, глупень-
кий — а он подвижный, внимательный, изобретательный и наблю-
дательный: вмиг как из-под земли вырастет, если кто-нибудь из
ровесников что-то потерял и не может найти, терпеливо станет раз-
вязывать ему шнурок, осторожно и тактично, но отважно подойдет
к взбунтовавшемуся буяну и шепотом спросит: «Почему пла-
чешь?» — и без обиды отойдет, услышав: «Какое твое дело?», либо
успокоит.
Но и он, редко, но бывает — теряет терпение. Взрыв справед-
ливого возмущения. Я наблюдал такую драку: бросился на более
сильного и победил, потому что врасплох, изумил разбойника: «По-
лез такой сопляк, такой недотепа». Сила задетого самолюбия в
борьбе с наглостью насилия, несправедливости. Какой досадной
ошибкой было бы грубо прервать эту достойную битву, просто пре-
небречь ею или пожурить: «И ты тоже? Не знал, что ты только при-
кидываешься тихоней» или: «Размазня, а берешься драться».
Интуиция — не сострадание, а способность, свойство вместе
чувствовать кривду и недолю — опять тема для двухтомной работы.
И может быть, результаты исследования показали бы, что эти де-
ти — кандидаты в воспитатели, а не в общественники — и именно
они — без ложного самолюбия.
Примечание на полях: разные типы — нищий, ветрогон, мошен-
ник, должник без покрытия, вор и бандит. Один: «Дай», другой: «Не
будь свиньей, не отказывай товарищу», третий: «Дашь, так я тебе
тоже что-то дам, что-то скажу», четвертый возьмет взаймы, пятый
украдет, а последний: «Погоди, тресну по морде». И совсем раз-
ные — малолетние вождь, политик, деятель в области просвещения,
педагог.
Я выдумал такое развлечение, тренировку мысли: я искал воспи-
тателей среди ремесленников (сапожников, каменщиков, лоточни-
ков, сторожей, кондукторов трамваев) — серых людей. Официант-
ка, а улыбка, походка, жесты, взгляд — поступки — не обученные,
288
а удивительно меткие, воспитывающие. Давным-давно я знал
сиделку из проституток: много лет она работала в детской боль-
нице; а эта работа как в интернате для слепых и умственно отсталых
детей.
А вот впечатление — ибо я не осмелился бы на основе одиноч-
ных, непостоянных наблюдений утверждать категорически: к вос-
питательной работе тянутся честолюбивые, испытание временем
выдерживают бесцветные, невыразительные, косятся с недове-
рием — добрые; у первого возникает чувство горького разочаро-
вания, второй легко поддается деморализации, становится ленивым,
третий — чувствует, что надо иначе, но не знает как, впрочем, кто
спрашивает его мнение? Должен делать что ему полагается; одобри
его, он многое мог бы сказать, посетовать и объяснить.
Если кто захочет посвятить всю свою жизнь и написать такую
предварительную работу в двух томах, пусть он учтет мнения школь-
ных сторожей, уборщиц детских домов — золушек опеки над ре-
бенком, а не только — штабных офицеров.
Преступное наказание
Чем больше у ребенка свободы, тем меньше необходимость
в наказаниях.
Чем больше поощрений, тем меньше наказаний.
Чем выше интеллектуальный и культурный уровень персонала,
тем меньше, тем справедливее, тем разумнее, а значит, мягче нака-
зание.
Понятно, в интернате должен быть порядок, должны существо-
вать правила, регулирующие общежитие коллектива, должна су-
ществовать обязанность сотрудничать и подчиняться существую-
щим предписаниям и запретам.
Понятно, некоторый процент детей охотно признает сущест-
вующие правила; другие подчиняются, чувствуя их справедливость,
хотя с некоторыми из них не согласны; третьи пытаются усыпить
бдительность, ускользнуть, улизнуть или добиться льготы; еще одни
вступают в борьбу на свой страх и риск и для своей выгоды. Но
должны встречаться и такие, которые или примером, или влиянием,
интригой и нажимом стремятся повести за собой детей. Бывают
дети пассивно и активно недисциплинированные; стихийно, но ра-
зумно и бессмысленно недисциплинированные; наконец — так
называемые трудные дети и дети с нравственным изъяном. Каждый
воспитатель знает и отличает детей плохо воспитанных, которые
быстро исцеляются, от детей, отягощенных в том или ином направ-
лении, где можно ожидать улучшение, а не излечение.
Чем здоровее социальные условия среды, откуда поступают дети,
тем больше можно ожидать детей положительных и меньше —
отрицательных.
Меньше всего наказаний там, где в здоровом физически и нрав-
ственно обществе у ребенка имеются благоприятные условия су-
10 Яиуш Корчак
289
ществования и развития — широкое поле для выхода энергии, про-
явления инициативы и для творчества, где ребенку обеспечено право
на движение, еду, тепло, труд, лечение, игры и взрыв радости. Где
персонал, довольный условиями труда, хочет и умеет организовать,
советовать, помогать и совместно с детьми руководить. Где лише-
ние ребенка одного из многих развлечений и сверхпрограммных
привилегий не изводит ребенка и не раздражает, а настораживает
и усиливает желание исправиться.
Картина эта не фантазия. Так было в детском доме под Лондо-
ном * — я сам видел, а о многих подобных слышал.
Я видел детей во время игры в мяч. Обширная площадка, высо-
кая трава, много деревьев, внушительное здание, питательная пища,
персонал молодой, здоровый, веселый.
Так будет и должно быть и у нас. Так обязательно будет, ибо
мы станем домогаться, требовать, бороться. Польша — это не поля,
шахты, леса и пушки, а прежде всего ее дети. Богатства — тело
Польши — тогда приобретут подлинную ценность, когда ими будет
управлять — честно и разумно — дух — человек — ребенок. Это
не пустая фраза, а математически точная, непреложная истина.
Погибал тот, кто не понимал. Катакомбы истории — доказатель-
ство.
Что, однако, надлежит делать в современных условиях? Прежде
чем мы добьемся (вскоре) больших участков, воздвигнем на них
современные здания и снабдим их не только самым необходимым
оборудованием, но и всем тем, что служит развитию тела, силы и
красоты духа? Да, гимнастические снаряды, но и картины на стенах,
и инструмент для ручного труда, и музыкальный инструмент, преж-
де чем пища выйдет из голодной нормы, а куцые бюджеты дозреют
и удовлетворят потребность в театре, прогулке, концерте, лодке,
катке.
Ах, этого еще нет и в богатых странах. Мы этого не имели. Хо-
тим ли мы уподобиться подмастерью, который потому бьет ученика,
что его самого били? Разве тот факт, что королевские дети учились
при свечах, удержит нас от проведения электричества во всеобщих
школах?
Надо говорить о том, что должно быть, наперекор постыдной
действительности.
Плохо сейчас — несказанно плохо. Душно, тесно, холодно, впро-
голодь в интернатах для сирот. Значит, без наказаний нельзя, хотя
они, правду говоря, и не оправдывают себя, но создают иллюзию,
что все же руки не опустились.
Воспитатель знает, что разбитое стекло — это вина двора, а
не ребенка; но он не может разрешить бить стекла, даже если
бы и хотел. Он должен найти выход. Какой? Известно — нака-
зать.
Вызывают удивление те немногие воспитатели, которые в самых
невероятных условиях применяют мягчайшие наказания и дости-
гают поставленной цели: парализуют детей, во вред им, наперекор
природе. Наказания столь мягкие, что создается наивная иллюзия,
290
что их вообще нет. «Учительница сердится, она грустная и только
взглянула, вздохнула». И помогло.
Я вижу единственную аналогию: в нищей комнатке несчастная
вдова воспитывает своих примерных детей, которые, не желая огор-
чать маму, сознательно приносят ей в жертву всю радость жизни,
бледнеют, хиреют, гаснут в страхе перед ее осуждающим взглядом.
«Ты меня огорчил» — но ведь это наказание — суровое наказание!
Другие — брюзжат, ворчат, отчитывают, толкнут в раздраже-
нии. «Ну просто беда с этими ребятами». Неустанная война, а ведь
любят друг друга, взаимно прощают. То плохо, а это еще хуже. Сис-
тема «грызни» с ребятами.
Так бывает в небольших интернатах, но при одном условии:
устраняются все дети с нравственным изъяном и большинство са-
мых буйных, менее дисциплинированных.
Дети живут под угрозой исключения, или мягче: устранения
тех, кто не хочет слушаться. Это наказание — угроза — большое
наказание. Изгнание из интерната, где доброта и задушевность,—
это кара смертью. Если в наиредчайших случаях интернат исклю-
чает ребенка, то один этот пример действует устрашающе. Няня
говорит: «Вон сведу в лес, волки тебя съедят». Интернат: «Не будешь
слушаться, отдам тебя семье, переведу в интернат, где бьют и морят
голодом».
Я говорю об этом, желая развеять иллюзии, что можно без нака-
заний руководить интернатом, ба — любым объединением людей.
Иначе в больших интернатах, имеющих свои традиции, систе-
му, характер учреждения, где воспитатель только чиновник, зави-
сящий от циркуляра, приказа сверху. Утверждать, что внушение
здесь заменило наказание,— уже не иллюзия, а сознательная ложь.
— Ты разбил стекло — так уж получилось. Будь внимательней.
Но и второе стекло падает жертвой. И снова ему спокойно объ-
яснит. И это помогает.
Не верю.
Следовательно: в крайнем случае ребенка лишат развлечения
или сладкого десерта. А какие это у них развлечения, как часто,
много ли их, и что на третье получают дети? И что делается, если
и это не помогает?
Я утверждаю со всей решительностью, что в интернатах про-
должают существовать телесные наказания и то, другое, одинаково
грубое, жестокое, преступное, уголовное, о котором я хочу сказать.
Это второе наказание тем опаснее, что оно глубже запрятано в тай-
никах воспитательных методов.
Телесные наказания неудобны для персонала, уже слишком
много о них говорили, писали, врачи осудили и скомпрометировали.
Когда воспитатель (?) бьет, он должен скрывать то, что относитель-
но трудно скрыть. Здесь нужно орудие наказания: какая-нибудь
розга, плетка, ремень, линейка, дети их знают и могут показать. Би-
тый ребенок кричит, вырывается, он ударит, пнет, укусит... Утруж-
дать себя приходится. Остаются следы: полосы, синяки, шишки —
много времени пройдет, пока они не исчезнут. Если ребенок заболе-
ю*
291
ет, какой-нибудь чувствительный врач в больнице поднимет шум.
Прицепится печать. Протокол, следователь, прокурор. Это малоправ-
доподобно, но возможно. Впрочем, телесные наказания малоэффек-
тивны. Дети быстро привыкают. Уже пять ударов — небольшое,
слишком мягкое наказание, приходится увеличить число и повысить
качество ударов. Усиливается опасность скандала.
И надзор в поисках чего-то более удобного и эффективного
находит наказание, которое может с успехом заменить остальные.
— Не давать жрать, будут слушаться.
Вот как это выглядит — лишать ребенка сладкого.
Оставляя ребенка без завтрака или обеда, можно ничего не
давать или только полпорции. Можно лишить обеда или завтрака
на день, на неделю, на месяц. Утверждаю, что морить голодом детей
в интернатах — очень распространенное преступление и требует
коренного пересмотра. О нем надо говорить столько же, сколько
о телесных наказаниях, и даже больше.
На избитом ребенке — следы пытки; ребенок может быть ис-
тощен от болезни или хилый от рождения, необязательно от голода.
Поймать преступника с поличным трудно: признается в конце кон-
цов, что лишил «десерта», что исключительно недисциплинирован-
ного или капризного действительно раз, другой оставил без еды.
Случается, даже самая нежная мать скажет в гневе: «Ну и не ешь,
ничего другого не дам». Привлечь к ответственности невероятно
трудно, а доказать — просто невозможно. Даже при самом неве-
роятном стечении обстоятельств тюрьма не угрожает.
Не приходится налетать на ребенка. Можно, сохранить спокой-
ствие, достоинство и даже кротость. Не приходится кричать. Приго-
вор шепотом более весом.
— Неделю не будешь получать ужина.
Это не вспышка гнева, когда наказание через час кончилось. День
за днем все та же автоматически возобновляющаяся, все более му-
чительная пытка. Долгие часы унижения, зависимости, терзаний,
бессилия. Атака на тело и на дух ребенка. Голодом можно ко всему
принудить и все предотвратить.
Кто владеет подобным сокровищем, должен его старательно бе-
речь. Тайна, имеющая такие неслыханные плюсы, не может быть по-
пулярной. Поэтому с ужасом говорят о наказании детей голодом, а
так мало пишут о нем, и ничего не сделано, чтобы его предотвратить.
Предлагаю конкретный проект.
В каждом интернате должны быть весы. Детей надо взвешивать
не каждый квартал или месяц, а еженедельно. Взвешивать должен
обязательно врач или, во всяком случае, кто-то извне. Это оградит
детей от уродливых, грешных, преступных наказаний, приведет к
контролю кухню, которая под наблюдением весов должна будет хо-
зяйничать честно.
Это дело, которым должны заняться: Общество евгеники, Обще-
ство педиатрии и все гигиенические общества и общества опеки ре-
бенка. Нельзя ждать сложа руки, воспитательная чахотка может
стать повсеместной болезнью.
292
Расположение и неприязнь
Что связывает детей, что отталкивает, и отсюда, какие пере-
живания — положительные и отрицательные — удел детей; какие
качества располагают к себе; какие свойства и недостатки вызывают
неприязнь? Что перевешивает? Человек человеку волк или брат?
Эгоизм или альтруизм? Можно ли проникнуть в таинственный мир
чувств и прояснить его числом?
Практический вопрос: как растолковать, убедить, воздействовать
на детей, которые нарушают атмосферу мирного общежития, кого
удалять и изолировать для общего блага?
Одинаковы ли критерии оценок — кто мил, кто неприятен, чье
влияние желательно, чье вредит — среди детей-ровесников и взрос-
лого руководства?
Вот уже ряд лет дети двух детских домов голосуют на листоч-
ках (+, —, 0), кого любят, не любят, кто им безразличен. Имеет-
ся статистика, некоторые выводы — ими можно бы заполнить из-
рядный том. Сегодня этот вопрос в психологии еще не актуален; по-
ка исследуется только интеллект, легче поддающийся оценке и ме-
нее важный в общежитии.
В интернате для дошкольников я провожу плебисцит всего три
года. Тридцать детей. Способ записывания ответов я менял не-
сколько раз. Здесь уже не только: любит или не любит, но и почему.
Дети по очереди (кто хочет) заходят в комнату; я спрашиваю по
списку:
— Любишь или не любишь Рысека, Доротку? Юзека? Геню?
Богдана? Марысю?
— Любишь Рысека или нет? Почему?
Когда полный недоверия и опасений я приступал к этому опыту,
меня поразило то, что ответы были быстрые и решительные, что,
в общем, скуки, раздражения не было. Лишь единичные дети спра-
шивают: «Уже? — уже конец или еще много (долго) ?» Зря я старал-
ся опросить всех детей в один день: устал сам и отрывал (уговорами)
детей от игры; опрос невольно проводился в спешке. У меня не было
наготове вопроса: «Может, позже (завтра) закончишь?» Только
очень рассеянные и самые маленькие заводят разговор на другую
тему, о том, что видят.
«Это тушевальный карандаш? Почему часы... а в очки... почему
жилы на руках?.. Почему вы написали кружочек?»
Для меня (для взрослых) заполнять анкету трудно, для них лег-
ко; мы колеблемся и не знаем, они знают и не делают ошибок; воз-
раст не играет у детей ведущей роли; имеет значение уравновешен-
ность, рассудительность, серьезность. Я проводил проверку через
неделю, иногда через час. Мотив: «Я запутался, кто хочет еще разок
подиктовать?» Небольшую разницу в ответах они объясняли так:
«Я ошибся... Забыл... Он мне теперь...»
За что любят?
«Дал... одолжил... помогает... красивый... вежливый... смешной...
хорошо рисует... танцует... вместе играем».
293
Вместе играют, потому что любят друг друга, любят друг друга,
потому что вместе играют.
Не любят:
«Он меня побил... бьет меня... бьет детей... из-за него я упал и
ушибся... Задается... дурачится... Щиплется, царапается, плюется...
взял... берет... Мешает. Глаза на мокром месте... Не слушается вос-
питательницы (редко)».
Дети высказывают мнение — искренне, свое. Где царит автори-
тет и нажим воспитателя — ответы будут неправильные, лживые,
неполноценные; желателен был бы контроль, чтобы опрос проводи-
ли два человека (через не слишком большой промежуток времени).
Организация нашего детского сада дает детям неограниченную
свободу высказаться; закрепилась традиция искренности, неограни-
ченное право на расположение и неприязнь. Только в подобных ус-
ловиях может представлять ценность сравнительный материал.
Потрясающую идентичность (!) результатов я получил в двух
детских садах, очень разных.
Дети из детских садов (по сравнению со старшими детьми) не
знают равнодушия, поражает ничтожное количество нулей. Они чув-
ствуют, а не знают; охотно занимают неизвестную им эмоциональ-
ную позицию.
«Его — откуда я знаю... Не знаю, что дать... Немножко люблю,
немножко не люблю... Пускай уж будет, что люблю... Ему я ничего
не даю».
Ставлю нуль или плюс со знаком вопроса.
Реже всего случается:
— Я всех люблю.
Но и тут после ряда плюсов внезапная длинная пауза — и ми-
нус. Существуют мимолетные положения звезд, содействующие
приязни (закон инерции чувств). На всех уровнях эмоциональ-
ной жизни случаются моменты суровых и мягких оценок. Важная
и трудная область изучения!
Плюсы преобладают; мизантропов меньше, чем филантропов.
Неприязнь бывает реакцией раздражения в тесноте и давке и в не-
приятных принудительных ситуациях (еда, соседство по шезлонгу,
хождение парами). Раздражение против чужаков—новичков, не
приладившихся еще к коллективу. Прощение или примирение назре-
вает медленно; быстрее бросаются в глаза крикливые недостатки,
достоинства раскрываются постепенно.
Любимцы — это уравновешенные, солидные и доброжелатель-
ные; дети ценят инициативу интеллекта, но им претит высокомерие
и тщеславие. Не любят наглых, скандальных, обидчивых, склочных.
Многочисленны ошибки моих чересчур поспешных удивлений,
многочисленны недоразумения, и сначала часты неожиданности —
высокомерное пожатие плечами — подсознательная позиция: «Ма-
ленькие не знают, а я знаю».
А, однако, они правы, даже в самых запутанных случаях всегда
правда на их стороне, не на моей. Потому что «знать чью-либо
жизнь — это не значит жить этой жизнью».
294
— Я уже его (ее) теперь немножко люблю, потому что не так
сильно фасонит.
— Поставить кружочек (нуль)?
Затаив дыхание, жду приговора.
— Ставьте крестик (плюс)!
Я поступал неправильно, недооценивая ответы редкие, исключи-
тельных детей; быть может, именно мир чувства дает право на обоб-
щения? Быть может, различия не в качестве, а в интенсивности и в
осознании?
Говорю девочке, всеми нелюбимой за жалобы, нытье, капризы,
недружной и обидчивой:
— А знаешь: уже у тебя больше крестиков.
Порывисто прижалась — взгляд вдаль или вглубь — две тихие
слезы. Незабываемая картина.
Упрек, с которым я чаще всего встречался:
— Не слишком ли это неприятно детям нелюбимым?
Они познают себя и жизнь.
— Ты любишь Целинку?
— Но ведь это я Целинка.
— Ну да: ты себя любишь?
Всполошилась, смутилась — кокетливо улыбнулась — задумчи-
во, полупротестуя, или решительно:
— Люблю... Не люблю.
— Почему?
«Потому что я добрый (недобрый)... Послушный... Потому что
бездельник...»
Если б можно было иллюстрировать кинопленкой, отснять жес-
ты, взгляды, улыбки... Если б граммофонная пластинка передавала
оттенок тона, акцента, паузы...
«Ну... Люблю... Очень люблю... О-о-о-чень люблю... Люблю-ю-ю...
Обожаю!»
Число — это сила; оно мертво и равнодушно, но, вовлеченное
в изучение воздушного мира чувств, может принести радостный
ответ:
«Человек хочет любить, ему неприятны антипатия и гнев. Чтобы
посеять несогласие и ненависть, нужно действовать методически,
оказывать сильный нажим. Наперекор неблагоприятным условиям
легко всходит на целине заслуженное чувство приязни или плени-
тельное прощение».
Дважды два — четыре
(Как воспитывать детей)
1. «В мое время». Неудивительно, что мы охотно вспоми-
наем былые годы. Человек был молод, крепче и веселее. Меньше по-
нимал, а значит, меньше предвидел — меньше забот и опасений.
Неудивительно, что, глядя на детей, мы вспоминаем, как было рань-
ше, когда мы сами были маленькие. Что было по-другому — каждый
295
это легко заметит. И встает вопрос: хуже или лучше? Если спокой-
но взвесить, каждый признает, что годы неволи были тяжелыми,
плохими, не хватало тех или иных развлечений, и детская радость,
которая всегда ищет выхода, теперь найдет его легче. И школа забо-
тится о развлечениях, и интересных книжек больше, и красивые
картинки, и что-нибудь сладенькое, и наказания не такие суровые,
чаще поощрения. Неудивительно, что тот и другой вздохнет печаль-
но — ведь у него отняли улыбки и веселые возгласы детских лет, ко-
торых не вернуть. И может показаться, что все родители всегда
будут радоваться, что они дождались, их детям лучше.
Бывает, однако, что тот или другой как бы в обиде на малышей.
Когда он рассердится — а сердится он не обязательно на ребенка,
часто на тяжелую жизнь и нехватки,— сердится, что у него болит,
ведь раньше меньше заботились о здоровье,— когда он сравнивает
не спокойно, а в сердцах,— ему приходит в голову, что, может, и
впрямь слишком уж много детям.
«В мое время было по-другому». Слыханное ли дело: раньше ре-
бятенок столько не стоил. Ишь, на одно учение сколько! Не букварь,
а разные книжки, не одна, а несколько тетрадок, да еще линейки,
угольники, мелки и деньги на кино и прогулки.
Башмаки раньше — когда снег или праздник, одет кое-как, а
нынче — на заказ, из нового, уже не только тепло, но и красиво. Это
подумать только!
В заботах, с трудом поднимается человек к лучшей жизни. И ре-
бенок больше трудится, у него больше обязанностей. Человек не тот
же, а более просвещенный, жизнь не та же, а более полная и инте-
ресная. Не помогут ни вздох с ленцой, ни брань и сетование, ни оби-
да и жалобы. Простоты не меньше, а меньше вульгарности; и ува-
жения к старшим не меньше — меньше принуждения; даже не нрав-
ственность ослабла, а искреннее стал человек и более чуток на зло.
Сколько раньше было несправедливостей, о которых никто не слы-
хал,— слова не смели сказать против!
На смену безропотной покорности плохих давних лет пришло
сознание права и справедливости, тоска по лучшему завтра — и доб-
рая надежда.
2. «Дери башмаки, дери!» Одежда как статья в бюджете бедной
семьи весьма ощутимый предмет заботы родителей. Школа требует,
чтобы дети были не только чисто, но и красиво одеты.
— Учительницы хотят из ребят барчуков сделать — фартучки,
воротнички, трико для гимнастики и тапочки. Им кажется, да и
ребятам, что деньги на улице валяются. А мальчишка хоть бы берег.
На уроках физкультуры учат детей ложиться на пол. Как потом
сказать, чтобы не пачкал одежду? Раньше негодник за драные баш-
маки получал взбучку, а ведь теперь смотреть приходят и деньги за
смотрение платят, как здоровые мужики, вместо того чтобы рабо-
тать, мяч пинают и башмаки дерут.
Отец чувствует, что подвижный ребенок имеет право бегать и иг-
рать. И неудивительно, что он должен чаще и больше рвать одежду
и обувь. Где установить границу между правом ребенка и кошельком
296
отца? Ведь только и радости в жизни, что это беганье, и приходит от-
цу на память радостный риск былых лет — карабканье на забор или
дерево, лазанье по закуткам, где можно увидеть что-нибудь любо-
пытное — и много пыли и коварных гвоздей.
Ребенок дерет не только кожу на башмаках, но и свою. Сколько
шишек, синяков, царапин, порезов! Ничего, заживет — будет осто-
рожнее. Не правильнее ли поставить заплату на покалеченные шта-
ны или заштопать растерзанные чулки, чем брюзгливо и безнадежно
бороться с природой ребенка?
Подвижный ребенок — в будущем энергичный человек. Порезал
палец — мастерил что-то из жести; коленку расшиб — на бегу не
всегда удается сманеврировать. А мир жесток и коварен. Возникнет
препятствие, где его не ждешь. Упал, ушибся не потому, что хотел,
падение — неприятная неожиданность.
Неудивительно, что одежда и обувь, как говорят, на мальчишке
горит.
3. «Дай ему ремнем, не жалей рук». Любопытно было бы подсчи-
тать, за что чаще всего бьют ребенка. За поступки, которые могут
грозно сказаться в будущем, запятнают, исковеркают его душу?
Нет — дают тычки, бьют и порют чаще всего в плохом настроении
или когда ребенок нанес материальный ущерб.
Сравни свою большую твердую руку с маленькой ручонкой ре-
бенка, свою огрубевшую кожу с его гладкой и тонкой. Присмотрись
к нему, маленькому и безнадежно от тебя зависимому. Ни сил нет за-
щитить себя, ни права. Я не могу найти ничего, с чем можно было бы
это сравнить в жизни взрослого человека. Уже не самый сильный,
а любой удар напоминает избиение в тюрьме осужденного. Правда,
мы уже не выбиваем зубы и не ломаем кости, хотя угроза «пересчи-
таю тебе кости» напоминает не слишком отдаленные старые добрые
времена.
Следует помнить, что этот несильный удар тоже жестокое нака-
зание: мы бьем беззащитного.
Бьем, чтобы ребенок боялся. Ребенок всегда боится — во-пер-
вых, что отец снимет ремень, во-вторых, что на него накричит,
в-третьих, чтобы не огорчить. Никогда не будет послушным ребенок,
от которого мы требуем слишком многого и который, уязвленный,
в отчаянии или бунтуясь, безнадежно признает, что не может ис-
правиться.
У человека зрелого есть опыт неудачных попыток, и он смирился
с судьбой. Ребенок хочет быть хорошим. Если он не умеет — научи,
если не знает — объясни, если не может — помоги! Если он, ста-
раясь изо всех сил, терпит поражение — следует снисходить к не-
му, так, как мы снисходим к себе, мирясь с нашими пороками и не-
достатками. Если я не сумею воспитать ребенка ласковым словом,
взглядом, улыбкой, подведет и твердая рука, и ремень, хотя бы я и не
«жалел».
4. «Погоди, вот я скажу отцу». В общем, мать мягче отца, редко
сильно ударит, зато часто прибегает к угрозе. Угроза — наказание,
а иной раз обещание наказания даже чувствительнее. Согрешил, ис-
297
купил вину — можно дальше проказничать. Когда мать пригрозит,
испорчен весь день. Что-то будет? Сдержит ли мать слово и скажет
отцу; в каком будет отец настроении, простит ли, накричит ли, пообе-
щает ли «кости пересчитать» или в самом деле возьмется за ремень.
Обдумывание спасения иногда не что иное, как сложный план обо-
роны от врага. Ребенок должен тщательно продумать, как и когда
войти в квартиру, какой принять вид, какое сделать лицо, как себя
вести, что сказать. Родной дом — как лагерь врага, в который он
должен осторожно и незаметно проскользнуть, чтобы усыпить бди-
тельность, добиться хитростью того, чего нельзя достичь силой. Если
мы так воспитываем ребенка в течение многих лет, неудивительно,
что, почуяв наконец желанную независимость, он сразу меняет и
тон, и отношение. Наступит день, когда ребенок почувствует себя до-
статочно сильным, чтобы подчеркнуть, что, мол, конец. Хватит, пока
был маленьким, он должен был все сносить и терпеть, а теперь он
уже не боится.
Ребенок не захочет огорчить родителей, с возрастом он лучше
поймет, почему бывало так, а не иначе. Родители старые, устали —
тем большую они будут вызывать нежность, сочувствие. Мать, неис-
кренне-мягкая, которая угрожала и карала сильной рукой отца, бу-
дет для подростка только более слабой — а не лучше.
Много говорят об уважении к старшим. Один только возраст не
дает прав, уважение надо заработать, добиться, приложить усилия.
Наказание-угроза эффективно, когда его применяют в исключитель-
ных случаях с тем, чтобы потом простить.
Мать, которая знает больше, потому что она постоянно находит-
ся с ребенком, не желая доставлять отцу огорчений, вправе не все
ему говорить. Отец после работы должен отдохнуть, весело побол-
тать и единственное — часто единственное — тепло своей жизни —
ребенка — к сердцу прижать. Мать не скажет: ей неловко, если она
вынуждена будет обратиться к отцу, чтобы он даже не палкой, а
мужским умом помог — присоветовал. Мать чувствует, что ребен-
ку грозит опасность, что он поступает плохо и не хочет исправиться;
мать боится брать на себя ответственность за его действия, а то отец,
когда уже будет поздно, попрекнет: «Почему ты меня не предупреди-
ла? Я бы не допустил». И мать имеет право только так грозить,
так прощать и признаваться в детских провинностях, и только такой
смысл имеет фраза-угроза: «Я пожалуюсь отцу».
5. «Отдам тебя нищему». Это тоже наказание-угроза. Ребенок
верит, что мать его прогонит на все четыре стороны и его кто-то за-
берет, необязательно нищий, а злая и грозная враждебная сила. Сле-
дует помнить, что дом для ребенка — это спасительный островок
среди моря неведомых загадок и опасностей, сил и тайн. Ребенок
рождается в ужасающе мучительный момент — новорожденного
вдруг окружает холод воздуха, хлещет по коже, проникает в рот,
легкие, ранит при первом вздохе, боль раздирает череп, а твердые ру-
ки завертывают в холодное жесткое полотно. Страх у ребенка рас-
тет с тысячами болей неопытного пищеварения, неожиданностями
внезапных ударов и со всем тем, что возникает перед ним, твердо,
298
равнодушно и неожиданно. Перед его глазами проходит ряд картин,
и каждая вызывает сильнейшее волнение. Ребенок показывает паль-
чиком собаку, тянет мать за руку. «О, собачка» — весь дрожит, тре-
пещет — сердце колотится в груди — радость — желание погла-
дить — детское счастье. Собака заворчала. Ребенок испуган. Тот,
кто казался другом, оказывается, опасный. «Отдам тебя нищему».
Это значит: откажусь от тебя, не буду тебя защищать, пойдешь к
тем, кого ты боишься, потому что они тебя обижают.
Добро и зло для ребенка — это то, чем была молния или улыбка
солнца для первобытного человека — таинственной карающей дес-
ницей или благословением. Ребенок боится, потому что видит вокруг
непонятные вещи, а во сне мрачные деформированные предметы —
сон и явь еще не обособились. «Отдам тебя нищему, еврею; волк
тебя съест» — эти угрозы вредны и легкомысленны, поскольку, дей-
ствуя безотлагательно и временно, причиняют вред и потом. Ребенок
перестанет бояться, но сохранит обиду за пережитые тяжелые ми-
нуты, полон неверия к словам родителей, которые лгали, злоупот-
ребляя его доверием и неведением. Не грози, грозилка, меня аистом
не обманешь — малышам глупости рассказывайте! Я уже нищего и
волка не боюсь.
Близка к этой угроза: «Отдам тебя сапожнику». Действует она
меньше. Побочное зло вредной фразы в том, что принижается про-
фессия, честно работающий ремесленник не в счет. Этого не следует
делать. Почему не столяру или не слесарю, а только сапожнику?
Неучем, пьяницей и бездельником могут быть и врач, чиновник, и да-
же воспитатель.
6. «Наказание господне». Наряду с побоями существуют подза-
тыльники, наряду со словесными наказаниями, криками и ру-
ганью — бурчание, ворчание, брюзжание. Мать ворчит или жалуется
соседям не потому, что верит в воспитательную ценность слова, а
чтобы отвести душу. «Наказание господне с этими ребятами. Жизнь
отравляют, в гроб вгоняют». Если бы эти невинные жалобы были
как горох об стенку — с ними можно было бы смириться, но, я счи-
таю, они далеко не безразличны. Это капитуляция, отказ от требо-
ваний к детям, складывание оружия. В лучшем случае ребенок не
слышит, обходит их презрительным молчанием, чаще же всего они
его раздражают и вызывают у него неприязнь. Ребенок предпочитает
их крику, угрозам, жалобам отцу или удару, но думает: «Уже на-
чинается. Вечно одно и то же. И когда это кончится?» Бывает, брюз-
жание имеет форму нравоучения. Мораль выражена в словах: «Что
из тебя выйдет? Кем вырастешь?» — и обычно сопровождается
предсказанием: шалопаем, бездельником, мошенником. Мать, пред-
сказывая поражение, отбивает у ребенка охоту стараться исправить-
ся. Если мать утверждает, что его будущее именно таково и другим
не может быть, что ему на роду написано гнить в тюрьме, будет пра-
вильно, если он воспользуется минутой свободы. Следует помнить,
что ребенок неохотно отрекается от сегодня во имя завтра — ведь
и взрослый не всегда и не все делает, чтобы обеспечить себе спокой-
ную, благополучную старость. Взрослый знает, что папиросы или
299
водка причиняют большой вред, а курит и пьет. Будь что будет —
двум смертям не бывать, а может, я не доживу — вот аргументы, ко-
торые ребенок противопоставляет дурным предсказаниям.
Случается, мать не надоест и наскучит, а растрогает, вызовет
чувство раскаяния. Ребенок легкомысленно обещает исправиться,
беря на себя обязательства, которые ему не под силу. Как гаранти-
ровать, что он что-либо не порвет и не сломает, не выбьет стекло,
не получит в школе плохую отметку; и как он будет выглядеть пе-
ред матерью и в своих глазах — обещал и не сдержал? Мать мягко
напомнит об обещании, чаще — брюзгливо попрекнет. Мы обязаны
отдавать себе отчет в трудностях, которые есть у детей, в их бес-
помощности перед своим «я». Отец старается больше заработать —
и не может. Ребенок старается лучше себя вести и учиться — и не
вышло. Мы должны облегчать ребенку познавать его пороки и недо-
статки, должны закалять его слабую волю, чтобы он постепенно,
побеждая и терпя поражения, шел к исправлению; ласково ему по-
могать и сочувствовать в трудную минуту, объяснять причины неус-
пехов, ободрять, а не подгонять и вымогать злым словом и недовер-
чивым взглядом. Надо говорить ребенку, что он хороший, что он
хочет и может.
7. «Дам. Папа купит». Бывает, мать делает что-то неохотно, что-
бы только откупиться, ради так называемого святого покоя. Делай
что хочешь, у меня уже нет сил; здесь уже не мать, а ребенок вымо-
гает: прощение, позволение, подарок. Так поступаем мы, упав духом:
все у нас валится из рук, когда серьезные заботы перерастают мел-
кие повседневные огорчения. Вечная нищета, необходимость под-
держивать порядок, вязать концы с концами столько потребляют
энергии, что уже ее нет на то, чтобы заниматься ребенком. Пусть
делает что хочет — только бы иметь покой, хотя бы на короткое
время. Конфеткой или монетой покупается минутное послушание,
исправление; мать дает или обещает: «Будь послушным, тогда полу-
чишь». Обещая, мы открываем себе путь к отступлению. Когда ре-
бенок потребует плату, нетрудно найти предлог не сдержать обеща-
ние. «Папа купит, если будешь послушный». Понятие послушания
растяжимо. Правда, ребенок встал, но умываться не хотел либо дол-
го одевался; послушался, но только раз. И вот ребенок «в наказание»
не получает, папа не дал. Здесь могут быть два варианта, первый —
ребенку жаль затраченных им впустую сил, он ничего не получил
взамен; в другой раз он уже будет осторожнее: не стоит стараться,
все равно не получит. Или хуже: не стоит стараться — обманы-
вают. Мать придерется к пустяку и не даст, обещает, заранее зная,
что не сдержит слово.
Этот способ, как бывает со всем те\ , что легко, сразу может дать
кратковременные результаты, но на более долгий срок подведет.
Вместо того чтобы винить себя, родители обвиняют ребенка. Вина
ребенка кажется тем большей, что мать ведь пробовала и добром,
проявила желание договориться; тем легче ей перейти от ласковых
слов и соблазнительного обещания к резкому, грубому принуждению
упрямца.
300
Упрямство ребенка бывает проявлением сильной воли или про-
тестом против принуждения. Упрямый ребенок — результат нера-
зумного поведения матери. Не будем думать, что ребенок забывает.
Ребенок хорошо помнит и знает, что мать, легкомысленно обещая,
заманивает, чтобы потом по-своему закрыть счет. Зачем говорить
о шоколадке или о злотом на кино? Только раздразнишь,— пускай
уж мать лучше сразу берет розгу. Насколько правильнее, когда мать
не обещает, а награждает ребенка задним числом.
Самый большой враг воспитания — спешка. Если мне надо что-
то сказать — лучше скажу позже; есть время подумать, выбрать под-
ходящий момент, а прежде всего — успокоиться самому.
И поучение, и угроза, и награда действуют как лекарство. Сле-
дует прибегать то к одному, то к другому рецепту, но всегда помнить,
насколько гигиена и благоприятные условия важнее аптечного
пузырька. Увы, безмятежная жизнь не всегда зависит от воспитате-
лей и родителей. Надо следить, чтобы дети не стали козлом от-
пущения наших настроений. Ребенок принимает участие в жизни
семьи независимо от того, относятся к нему наши слова и поступки
или нет. Неудачи отца, болезнь матери всегда волнуют ребенка, хотя
не у каждого это проявляется одинаково.
8. «Перестань хныкать». Я не согласен, но я понимаю гнев ма-
тери, когда упрямый ребенок, несмотря на угрозы и удары, не про-
ронит ни единой слезинки. Это похоже на закоренелость и вызы-
вает опасения. Но надо помнить, что самолюбивые дети сдерживают
усилием воли слезы, чтобы разразиться рыданиями, когда будут од-
ни. Униженный ребенок не хочет проявить свою слабость перед
обидчиком, он лучше забьется в угол или уткнется ночью в подуш-
ку и выплачет скорбь и боль. Надо вооружиться терпением и спокой-
но отметить тот факт, что ребенок пренебрегает нашим гневом.
Чего я, однако, совсем не могу понять, это чувство обиды, кото-
рое вызывают у воспитателя слезы ребенка. Мать ударила — ребе-
нок плачет, это ее сердит. Она ударяет во второй раз, чтобы ребенок
перестал плакать. Тут кроется глубокое недоразумение. Мы назы-
ваем плачем ребенка два совершенно разные явления: первое —
это когда у ребенка текут слезы, несмотря на все усилия овладеть
собой,— он плачет навзрыд, рыдает; и второе — когда в ответ на
приказ или запрет ребенок устраивает нам скандал — орет во всю
глотку, бросается на пол, поднимает на ноги соседей, устраивает
всеобщее сборище. Наверное, именно это вызывает недоверие ко
всем детским слезам.
У ребенка свои тихие печали, заботы и разочарования, свой оди-
нокий мир. Ребенок меньше знает, меньше испытал, а значит, он
сильнее чувствует. Сильнее чувствует, ибо впечатлителен, незакален,
еще неопытен в страданиях. Мы храним в памяти куда тяжелее ми-
нуты, чем те, которые теперь переживаем, и знаем — время лечит.
Ребенок стоит перед бедствием как громом пораженный. Мир холо-
ден, жесток, беспощаден, мстителен, полон печальных неожиданно-
стей, непонятен. Одна из первых существенных трагедий детской
жизни — ребенок мочится. Какая требуется внимательность, что-
301
бы помнить, что неясный сигнал, который дает своеобразное ощу-
щение в нижней части живота,— предвестник мокрых штанишек и
лужи на полу; и вот, кричат и бьют. Происходит что-то, чего ребе-
нок не понимает, и чем больше страх, тем труднее ему понять. Ре-
бенок оценивает свершившийся факт: чувствует тепло в бедрах, по-
том холод, потом видит, что под ним мокро, а потом крик, боль. По-
чему все это? Начинает плакать, и опять не знает почему. Не знает,
за что на него сердятся или бьют; страдает, боится и беспомощно
не понимает.
9. «Дай ему попробовать». В нескольких популярных фразах я
хочу предложить ряд воспитательных проблем,— разумеется, рас-
смотреть их можно только бегло. Под заголовком «Дай попробо-
вать» я вскользь упоминаю о широкой области — диете ребенка.
Вот картинка из амбулаторной практики. Младенец в состоянии
истощения (понос, рвота); мать утверждает, что кормит ребенка
грудью. Клиническая картина: как ребенок на харчах на фабрике
ангелочков *. Я говорю сердито: «Если вы пришли, чтобы полу-
чить свидетельство о смерти,— предупреждаю: не дам». Начинаю не
обследование, а следствие. Оказывается, когда были гости, «мой»
дал ребенку кусочек селедки и немножко пива. Я язвительно спра-
шиваю: «Может, и огурчик?» Замешательство. «Как сказать... это
такой сумасшедший: может, и кусочек сливы».
В приступе хорошего настроения, за выпивкой детям дают «отве-
дать». Ясно, никому дела нет, что в комнате клубы дыма от папирос,
ребенок перегрет — открывают окно. Веселятся редко, и надо не те-
ряться. Хватит забот, возни с ребенком — раз живешь. Самый мень-
шенький, оглушенный шумом голосов и музыкой, громко выражает
свое беспокойство — и эту редкую минуту забавы родителей, жела-
ния радоваться, нарушает назойливым писком. И ему суют, чтобы
купить минуту покоя, не думая о том, что наказание скоро придет,
болезнь ребенка повлечет за собой хлопоты, траты, ряд бессонных
ночей.
Разумное питание ребенка — это часто мечта, раз заработок
ничтожен, а потребности велики. Я где-то читал, что не дурная го-
лова гонит бедняка к знахарю. Народ твердо знает, что в существую-
щих условиях знание врача подводит. Врач говорит, что ничего нель-
зя сделать, или ставит невыполнимые требования. Знахарь утешит
и подаст надежду. Нужны не лекарства, а чары.
<->
Есть школа!
Недостатки и изъяны сегодняшней школы так многочислен-
ны и значительны, необходимость их быстрейшего устранения так
очевидна, опасность плохой школьной системы так велика, что, го-
воря о них, мы упускаем из виду факт неслыханной важности, тот
решающий факт, что школа все-таки — есть. Мы уже не отнимем
302
у ребенка школу, не лишим его права на книгу, не вычеркнем
неоспоримого требования, чтобы каждый умел читать и писать. Ре-
бенок получил сонмы чиновников, которые оправдывают свой хлеб
и существование, служа исключительно этому малолетнему, расту-
щему, непроизводительному населению — детям. То, что некоторый
процент учительства пренебрегает своими обязанностями — что
подделывается под благотворное влияние семьи на ребенка, стре-
мясь удержать прежний характер службы в рамках некоей доброй
воли, снисходительной доброжелательности к детям; что усколь-
зает от признания факта: как врач лечит, судья судит, счетовод ве-
дет книги — так и учитель учит, ибо это его обязанность, а не гос-
подская милость; что некоторый процент так или иначе злоупотреб-
ляет своей властью,— не меняет существа дела. Бывают врачи,
недобросовестные по отношению к пациентам в больнице; чиновни-
ки, пренебрегающие «чернью»; бывают и учителя, которые не цере-
монятся с юнцами. Но этому скоро придет конец. Ребенок должен
солидно, тактично и досконально обслуживаться своими чиновни-
ками.
Старый дедуля рассказал своему внуку о былых временах, глу-
пый Кайтусь * выстругал палку или дудочку, садовник показал что-
то интересное на земле и на дереве,— когда они были в хорошем
настроении. Сегодня школьная программа охватывает историю, руч-
ной труд, естествознание. Можно теперь произвольно расширять,
сужать, изменять программы в лучшую сторону, можно и в худ-
шую — но школа есть и какая-то система.
Посредством школы дети втянуты в общую циркуляцию. Часы
поднимают их с постели, выводят на улицу, сосредоточивают в по-
мещениях, отданных в их полное распоряжение,— и не кое-каких, а
просторных, эстетических, отвечающих требованиям гигиены. Здесь
они должны получить ответы на свои вопросы. Здесь обу-
чают их и заботятся об их здоровье и развитии. Здесь их познают,
квалифицируют, сортируют, классифицируют и продумывают место
будущей работы для каждого.
Школа во всеуслышание взывает о реформе, но школа уже опре-
деленно есть, и это самое важное.
Программа — это важно. Эти четыре — шесть школьных часов
можно лучше использовать. Лизнуть понемножку того и другого,
скопить в памяти колонки иностранных слов, правил, формул, фа-
милий и дат, сдать экзамен — и забыть — это не общее образование,
это знание малопригодно, неприменимо в жизни. Самообразование
и односторонняя одаренность — как что-то, что мы едва начинаем
признавать, но чему мы еще не содействуем. Чтение, искусство и
спорт — как дополнение, а не фундамент школы. Мизерные резуль-
таты. Нет серьезных склонностей, ярких интересов. Но не преуве-
личиваем ли мы влияния школы? Можно преподавать астрономию,
как и этику и математику, формировать чувство красоты, а латынь
сделать философией. Но для всех ли? Может быть, современное
сознание — заурядно? Люди еле доросли до газет. Печатная сплет-
ня — не одна — и каждый раз свежая. Какие существенные ка-
303
чества несут в жизнь учащиеся наших исключительных, образцо-
вых школ? Это мы можем проверить только сейчас, когда много
школ и когда все дети в эти худшие или лучшие школы ходят.
Гражданское воспитание (вне зависимости от учебной про-
граммы), а значит, товарищеский суд, кооператив, кружки взаимо-
помощи, самоуправление — делаются первые попытки, это только
еще зреет. Зачатки эти рассматриваются как подготовка к «буду-
щей» жизни — забывается факт, что дети испытывают потребно-
сти своего, детского общества. У них есть свои хищники — наглые,
агрессивные каверзники, бестактные, вульгарные, нечестные, назой-
ливые, бандитские типы, разрушители их игр и занятий, и дети
ничего не могут поделать. У учителя нет времени войти в эти «ме-
лочи»; перегруженный программным балластом, малооплачиваемый,
весь в хлопотах, он не доосознает необходимости относиться
к своему юному обществу с той же серьезностью, как врач — к дет-
ской больнице.
Во второй раз обращаюсь за сравнением к медицине. Кто возь-
мет на себя труд исследовать зачатки педиатрии, тот убедится, что
сто лет назад отношение медицины к детским заболеваниям было
столь же невзыскательно.
Еще одно: школа не только учит в принудительном порядке де-
тей, но и в принудительном порядке воспитывает родителей. Школа
учит беднейшее население, что нельзя легкомысленно только пло-
дить детей, надо заботиться о них. А зажиточных заставляет чест-
но оценивать достоинства их детей. Избалованный, воспитанный
на катехизисе эгоизма и больших аппетитов, входит этот «мой сын»
или «моя дочь» в жизнь и становится одним из многих. Ты родил-
ся — согласен, но что ты стоишь? Что ты трудом завоюешь и что ты
дашь? Сыночек обижен, папа, мама... а не справляется.
Лишь на фоне этих колоссальных заслуг можно школу критико-
вать и — только осторожно! — реформировать. Учреждение, кото-
рое охватывает всех граждан, не может вприпрыжку бежать в неиз-
вестное. Каждый шаг надо осмотрительно соразмерять; речь идет об
исключительно важном деле.
Когда
я снова стану
маленьким
КОГДА Я СНОВА СТАНУ МАЛЕНЬКИМ
Взрослому читателю
Вы говорите:
— Дети нас утомляют.
Вы правы.
Вы поясняете:
— Надо опускаться до их понятий.
Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься.
Ошибаетесь.
Не от этого мы устаем. А оттого, что надо подниматься до
их чувств.
Подниматься, становиться на цыпочки, тянуться.
Чтобы не обидеть.
Юному читателю
В этой повести нет приключений. Повесть эта — психологи-
ческая.
Она психологическая не потому, что про псов. Да и пес-то
в ней только один — Пятнашка.
«Психе» — по-гречески значит «душа», а здесь рассказы-
вается о том, что происходит в душе человека: о чем он ду-
мает, что чувствует.
306
Это было так.
Лежу я однажды в постели и не сплю. Вспоминаю, как в
детстве я часто думал о том, что буду делать, когда вырасту.
Разные у меня были планы.
Вот вырасту большой — построю домик. И сад у меня будет. По-
сажу в саду деревья разные: груши, яблони, сливы. И цветы. Одни
отцветут — распустятся другие.
Накуплю книжек, с картинками и без картинок, лишь бы интерес-
ные были.
Красок куплю, цветных карандашей, стану рисовать и раскра-
шивать. Что увижу, то и нарисую.
Стану за садом ухаживать, беседку построю. Поставлю в ней
стол, кресло. Будет она увита диким виноградом. Вернется отец
с работы, пусть в тени посидит. Наденет на нос очки, почитает га-
зету.
А мама кур разведет. И голубятню построим,— высоко на стол-
бе, чтобы кот или другой какой воришка не забрался.
И кролики у нас будут.
Будет у меня сорока, я ее говорить научу.
Будет у меня пони и три собаки.
Иногда мне хотелось трех собак, иногда — четырех. Я даже
знал, как их назову. Нет, все-таки лучше трех — каждому по одной.
Моя — Бекас, а мама с папой сами имя дадут, какое понравится.
Маме — маленькую комнатную собачку. А захочет кошку — ну,
тогда и кошку. Привыкнут, из одной миски станут есть. Собачке
красную ленточку, а кошке — голубую.
Как-то раз я даже спросил:
— Мама, красную ленточку кому лучше — собаке или кошке?
А мама сказала:
— Опять штаны порвал.
Я спросил у папы:
— У каждого старичка, когда он сидит, обязательно должна
быть скамеечка под ногами?
Папа сказал:
— У каждого ученика должны быть хорошие отметки, и он не
должен стоять в углу.
307
Ну, я и перестал спрашивать. Уж потом все сам придумывал.
Может быть, собаки будут охотничьи. Пойду на охоту, принесу
дичи, маме отдам. А когда-нибудь даже кабана подстрелю, но не
один — с товарищами. Мои товарищи тогда тоже будут уже боль-
шие.
Пойдем с ними купаться. Лодку сделаем. Захотят мама с па-
пой — на лодке их покатаю.
Будет у меня много-много голубей. Стану письма писать и посы-
лать с голубями. Это будут почтовые голуби.
Вот и с коровами так: то, думаю, хватит одной, то — нет, пусть
лучше две.
А раз есть корова — значит, и молоко, и масло, и сыр. А куры
яичек нанесут.
Потом и ульи заведем. Пчелы, мед.
Мама намаринует слив для гостей на всю зиму, повидла наварит.
И лес будет рядом. Уйду в лес на весь день. Захвачу с собой еды
и пойду собирать голубику, землянику, бруснику. А осенью — за
грибами. Насушим грибов — будут у нас и грибы.
Нарублю дров, мно-о-ого, на всю зиму. Чтоб тепло было.
Колодец надо выкопать глубокий, до родниковой воды.
Но ведь придется еще и покупать разные вещи: сапоги, одежду.
Отец будет старенький, не сможет много зарабатывать. Мне при-
дется.
Запрягу лошадь и повезу на рынок овощи, фрукты — все, что
самим не нужно. А что нужно — привезу. Стану торговаться и куп-
лю подешевле.
Или уложу яблоки в корзины и поплыву на корабле в дальние
страны. В "жарких странах инжир, финики, апельсины, и они там
всем надоели. Вот у меня и купят яблоки. А я у них — их фрукты.
Привезу попугая, обезьяну и канарейку.
Я уж теперь и сам не знаю, верил ли я во все это или нет. Но
приятно было все так выдумывать.
Иногда я даже знал, какая у меня будет лошадь — гнедая или
вороная. Увижу какую-нибудь лошадь и думаю: «Вот такая и у меня
будет, когда вырасту». Потом увижу другую и думаю: «Нет, лучше
вот такая». А то думаю: «Ладно, пусть будут две — и та и эта».
Или возьму да опять придумаю все совсем по-другому.
Буду учителем. Соберу всех людей и скажу:
— Надо построить хорошую школу, чтобы не было так тесно,
чтобы дети не толкались и не наступали друг другу на ноги.
Приходят дети в школу, а я спрашиваю:
— Угадайте, что мы сегодня будем делать?
Один скажет:
— Пойдем на экскурсию.
А другой:
— Диапозитивы будем смотреть.
Кто одно говорит, кто — другое.
А я отвечаю:
— Нет, все это тоже будет, но есть у нас дело и поважнее.
308
И только когда все успокоятся, скажу:
— Я вам новую школу построю.
А потом я выдумываю разные препятствия. Будто бы школа уже
почти готова, а тут вдруг стена обвалилась или пожар. Надо все сна-
чала начинать, но мы назло строим еще лучше.
У меня всегда все было с препятствиями. Если плыву на кораб-
ле — то буря. Если я полководец — то сперва проигрываю все сра-
жения, и только под конец победа.
Потому что скучно, когда все с самого начала удается.
Ну вот, при школе есть каток, в классах разные картины, карты,
приборы, гимнастические снаряды, чучела зверей.
Наступают праздники, а мальчишки и девчонки столпились перед
школой и кричат:
— Впустите нас! Не надо нам праздников, хотим в школу ходить!
Сторож их уговаривает, но это не помогает. А я сижу у себя в
кабинете и ничего не знаю, потому что пишу разные бумаги... Входит
сторож. Постучался и входит.
Он стучится, а я говорю:
— Войдите.
Ну, сторож и говорит:
— Господин учитель, ребятишки бунт подняли, праздников не
хотят.
А я отвечаю:
— Не беда, сейчас я их успокою.
Выхожу, посмеиваюсь — не сержусь. Объясняю:
— Праздники так праздники. Учителя должны отдохнуть. Пото-
му что, когда они устают, они сердятся и кричат на детей.
Поговорили мы так и решили: ребята могут приходить играть во
дворе, но за порядком пусть сами следят.
По-разному я думал, что буду делать, когда вырасту.
То думаю: будут у меня только папа с мамой, а в другой раз —
пусть и жена будет. Чтобы самим хозяйничать.
Жалко мне с родителями расставаться,— вот и живем мы все
вместе, только через сени. По одну сторону сеней — родители, по
другую — мы с женой. Или пусть лучше будут два домика по сосед-
ству. Потому что старые люди любят покой. Чтобы дети не мешали,
когда они прилягут после обеда. А то дети всюду носятся, топочут,
стучат, кричат.
Только вот не знаю, как мне быть с детьми, кого хотеть: одних
мальчишек или еще и девочку. И как лучше: чтобы мальчик старше
всех был или девочка.
Жена, пожалуй, пусть будет такая, как моя мама, а дети — и сам
не знаю какие. То ли хочу, чтобы они баловались, то ли, чтобы тихие
были. И не знаю, что им позволять, чего не позволять. Ну, там чу-
жого не трогать, не курить, не говорить нехороших слов; потом,
чтоб не дрались и не очень ссорились.
А что я стану делать, если они подерутся, не захотят слушаться
или что-нибудь натворят?
Какие они должны быть — постарше или малыши?
309
По-разному думаю.
То хочу быть,, когда вырасту, как Михал, то как дядя Костек, то
как папа.
То хочу стать большим навсегда, то только так, попробовать. По-
тому что, может быть, поначалу это и приятно, а вдруг потом снова
захочется стать маленьким?
Так я думал, думал, пока в самом деле не вырос. У меня уже
есть часы, усы, письменный стол с выдвижными ящиками — все,
как у взрослых. И я в самом деле учитель. И мне нехорошо...
Нехорошо мне.
Дети на уроках не слушаются, и я должен все время сердиться.
Столько всяких огорчений. Отца с матерью уже нет.
Ну ладно.
Начну теперь думать наоборот.
Что бы я сделал, если бы снова стал маленьким? Не совсем ма-
леньким, а таким, чтобы в школу ходить, опять играть с ребятами.
Проснуться бы утром и подумать: «Что такое? Уж не снится ли мне
все это?»
Смотрю на свои руки — и удивляюсь. Смотрю на одежду — и
удивляюсь. Вскакиваю с постели, бегу к зеркалу. Что случилось?
А тут мама спрашивает:
— Встал? Быстро одевайся, а то в школу опоздаешь.
Я хотел бы, если бы снова стал маленьким, помнить, знать и
уметь все, что умею и знаю теперь. Только чтобы никто не догады-
вался, что я уже был большим. А я как ни в чем не бывало — притво-
ряюсь, будто я такой же мальчик, как все: есть у меня папа и мама,
и я хожу в школу. Так было бы всего интересней. А я бы все подме-
чал, и было бы так смешно, что никто ни о чем не догадывается.
Ну так вот, лежу я как-то в постели, не сплю и думаю:
«Знал бы, ни за что бы не хотел стать взрослым. Ребенку во сто
раз лучше. Взрослые — несчастные. Неправда, будто они делают,
что хотят. Нам еще меньше разрешено, чем детям. У нас больше
обязанностей, больше огорчений. Реже веселые мысли. Мы уже не
плачем — это правда, но, пожалуй, лишь потому, что плакать не
стоит. Мы только тяжело вздыхаем».
И я вздохнул.
Вздохнул тяжело, глубоко: ничего не поделаешь. Никто ничего не
изменит. Никогда уж больше я не буду маленьким.
Но не успел я вздохнуть, как стало темно. Совсем темно. Ниче-
го не вижу. Только дым какой-то. Даже в носу защипало.
Скрипнула дверь. Я вздрогнул. Показался какой-то крошечный
огонек. Как звездочка.
— Кто это?
А звездочка движется в темноте — все ближе и ближе. Вот уже
около кровати, вот уже на подушке. Гляжу — а это фонарик. На по-
душке стоит маленький человечек... На голове у него высокий крас-
ный колпак. Седая борода. Гном. Только совсем маленький — с па-
лец.
— Я пришел.
310
Гном улыбается, ждет.
И я улыбнулся. Потому что подумал, что мне это снится. Ведь и
взрослому, бывает, приснится детский сон,— даже удивляешься,
откуда он взялся.
А гном говорит:
— Ты меня звал, вот я и пришел. Чего ты хочешь? Только ско-
рей!
Не говорит, а как-то чирикает, тихо-тихо. А я все слышу и пони-
маю.
— Ты меня сам вызывал,— говорит,— а теперь не веришь.
И помахивает фонариком: вправо, влево, вправо, влево.
— Ты не веришь,— говорит.— Раньше все люди знали, что бы-
вают чудеса. А теперь в колдунов, гномов и ведьм верят одни дети.
Помахивает фонариком и головой покачивает. А я даже шевель-
нуться боюсь.
— Ну, назови какое-нибудь желание. Попробуй. Чего тебе
стоит?
Я пошевелил губами, чтобы спросить, а он уже догадался, знает.
— Ты меня вызвал Вздохом Тоски. Многие думают, что за-
клятье — это обязательно слова. Да нет же, нет!
И головой качает — нет, мол... Переступает с ноги на ногу.
Смешно так. И фонариком — то вправо, то влево. А я чувствую, что
уже засыпаю. И широко раскрываю глаза, чтобы не заснуть. Потому
что заснуть мне жалко.
— Вот видишь,— говорит гном,— видишь, какой ты упрямый!
Скорей, не то я уйду. Мне долго нельзя оставаться. Потом пожа-
леешь...
А мне и хочется назвать желание, да не могу. Видно, так уж за-
ведено на свете, что говорить легко, только когда тебе чего-нибудь
не особенно хочется, а вот когда чего-нибудь очень хочешь, то труд-
но.
Вижу, что гном огорчился. Жалко мне его. Но сказать ничего не
могу.
— Ну, прощай,— говорит.— А жаль...
И вот он уже уходит. Только тут я быстро прошептал:
— Хочу опять стать маленьким.
Он вернулся, завертелся волчком — и прямо мне в глаза фона-
риком. И чирикнул что-то, но я не расслышал. Не знаю, как гном
ушел. Только когда я утром проснулся, я все помнил.
С любопытством оглядываю комнату.
Нет, это мне вовсе не снилось.
Все правда.
Первый день
Я никому не говорю, что был взрослым, делаю вид, что
всегда был мальчиком, и жду, что из этого выйдет. Все мне как-то
странно, смешно. Смотрю и жду.
311
Жду, когда мама отрежет мне хлеба, будто я сам не могу. Мама
спрашивает, сделал ли я уроки. Говорю, что да, сделал, а как ка са-
мом деле — не знаю.
Все как в сказке о Спящей царевне, и даже хуже. Потому что
царевна проспала сто лет, но и все спали вместе с ней, а потом
вместе с ней проснулись: и повара, и мухи, и вся прислуга, и даже
огонь в камине. Проснулись такими же, как были. А я проснулся
совсем другим.
Я взглянул на часы и сразу отвернулся, чтобы себя не выдать.
А вдруг тот мальчик не умел узнавать время?
Интересно, что будет в школе, каких я там встречу товарищей?
Заметят они что-нибудь или будут думать, что я уже давно хожу
в школу? Странно, что я знаю, в какую мне школу идти, на какой она
улице. Знаю даже, что наш класс на втором этаже, а я сижу за чет-
вертой партой, около окна. А рядом со мной Гаевский.
Иду, размахиваю руками, марширую. Легким шагом, выспавший-
ся. Совсем не так, как когда был учителем. Смотрю по сторонам.
Ударил рукой по жестяной вывеске. Сам не знаю, зачем я это сделал.
Холодно, даже пар изо рта идет. Нарочно дышу так, чтобы было по-
больше пара. Мне приходит в голову, что я могу засвистеть как
паровоз. И начать пускать пар, и бежать, а не идти. Но я как-то
стыжусь. Ну, а, собственно, чего? Для того ведь я и хотел снова
стать маленьким, чтобы мне было весело.
Но сразу как-то нельзя. Сначала надо ко всему присмотреться.
Идут ученики и ученицы, идут взрослые. Я смотрю, кто из них
веселее. И эти идут спокойно, и те спокойно. Понятно: ведь на улице
нельзя шалить. Да и не расшевелились еще. Я — другое дело: ведь
я всего один день, как стал ребенком, мне весело.
И как-то странно. Словно я стыжусь чего-то...
Ничего. В первый день так и должно быть. Потом привыкну.
Иду я и вдруг вижу большущий воз. А лошадь никак его с места
не сдвинет. Видно, плохо подкована — ноги скользят. Стоят маль-
чишки, смотрят. Остановился и я.
«Сдвинет или не сдвинет?»
Растираю уши, топаю, а то ноги мерзнут,— скорей бы уж воз
тронулся, тогда бы все кончилось... А уходить, так ничего и не уви-
дев, жалко. Лошадь, может быть, упадет, как тогда справится воз-
чик? Если бы я был большой, то прошел бы равнодушно мимо; навер-
но, и вовсе бы не заметил. А раз я мальчик, мне все интересно.
Смотрю, как взрослые то и дело отстраняют нас с дороги, потому
что мы им мешаем. И куда они так торопятся?
Ну хорошо. Воз, наконец, тронулся. И вот я прихожу в школу.
Вешаю пальто в своем классе. А там шум. Кто-то говорит, что Висла
стала.
— Сегодня ночью.
Другой говорит, что это неправда. Ссорятся. Вернее, не ссорятся,
а спорят.
— Видали! Первый мороз, а у него Висла стала! Ну, сало-то,
может, и плывет...
312
— А вот в том-то и дело, что не плывет.
— Ладно, хватит чепуху молоть!
Тут и другие ребята вмешались. Взрослый, наверное, сказал бы,
что они ссорятся. И правда, один говорит: «Ты дурак!», а другой ему:
«Сам балда!» От Вислы перешли к снегу. Выпадет сегодня снег или
нет? Раз дым из трубы идет вверх — значит, снега не будет. И по во-
робьям можно узнать, будет ли снег. Кто-то говорит, что видел баро-
метр.
И снова:
— Дурак!
— Зато ты умный!
— Врешь!
— А может, это ты врешь?
Участие в споре принимают не все. Иные стоят, сами ничего не
говорят, а только слушают.
Я тоже слушаю и вспоминаю, что ведь и взрослые в кондитерской
часто ссорятся: не из-за снега, а из-за политики. Совершенно так же.
И так же говорят:
— Бьюсь об заклад, что президент не примет отставки!
А здесь:
— Бьюсь об заклад, что снега не будет!
Взрослые не говорят «дурак», «врешь» — спорят повежливее,
но тоже шум поднимают.
Стою я, слушаю, а тут влетает Ковальский.
— Эй ты, примеры решил? Дай списать. У нас вчера гости были.
А учительница, может, проверять будет.
Я как ни в чем не бывало раскрываю сумку и смотрю, что делает-
ся в тетрадке. Словно она не моя, а другого мальчика, который за
меня вчера приготовил уроки.
В это время звонок. А Ковальский не ждет, когда я ему разрешу,
хватает тетрадку и мчится к своей парте. И вдруг мне приходит в го-
лову, что, если он все перепишет точь-в-точь как у меня, учительница
может это заметить и подумает, что это я у него сдул. Еще в угол ме-
ня поставит.
Смешно мне показалось, что я буду в углу стоять.
А Висьневский спрашивает:
— Чего смеешься?
— Так, вспомнилась одна вещь,— говорю я и продолжаю
смеяться.
А он:
— Сумасшедший. Смеется, а чему, сам не знает.
Я говорю:
— Ничего я не сумасшедший. Может, и знаю, да только тебе
говорить не хочу.
А он:
— Скажите, какие секреты!
И отошел обиженный.
Странно, что я знаю, как их всех зовут: ведь я вижу их первый раз
и они меня тоже. Совсем как во сне.
313
Тут входит учительница, а Ковальский тетрадки не отдал. Я зову
шепотом: «Ковальский, Ковальский!», а он не слышит или делает
вид, что не слышит. Учительница говорит:
— Ты что вертишься? Сиди спокойно.
А я думаю: «Ну, вот и заработал в школе первое замечание».
А сижу я неспокойно, потому что тетрадки-то у меня нет. Я спря-
тался за ученика, который сидит впереди, и жду, что будет.
Боюсь. Неприятно бояться. Если бы я был взрослый, я бы не
боялся. Никто бы примеров у меня не списывал. А раз я ученик и то-
варищ меня попросил, не мог же я ему отказать. Он бы сразу ска-
зал, что я эгоист, только о себе и думаю. Сказал бы, что я хитрый —
хочу, чтобы учительница только меня одного хвалила.
Пожалуй, я буду учиться лучше всех, потому что я ведь уже один
раз кончал школу. Правда, позабыл кое-что, но одно дело вспоми-
нать, а другое — учить заново.
Учительница объясняет грамматическое правило, а я его давно
знаю. Учительница велит нам писать, а я — раз и написал. Написал
и сижу. Учительница заметила, что я ничего не делаю, спрашивает:
— А ты почему не пишешь?
Я говорю:
— Я уже написал.
— Покажи-ка, что ты там написал,— говорит учительница,
и видно, что она раздражена.
Я иду к учительнице и показываю ей тетрадь.
— Да, хорошо, но одну ошибку ты все-таки сделал.
— Где? — спрашиваю я, словно удивляясь.
Я нарочно сделал ошибку, чтобы учительница не догадалась, что
я уже один раз кончал школу.
Учительница говорит:
— Поищи сам, где ошибка. Если бы ты так не спешил, мог бы
совсем хорошо написать.
Я возвращаюсь на свое место и делаю вид, что ищу ошибку.
Притворяюсь, что очень занят.
Придется мне выполнять задания помедленней, но только вна-
чале. Потом, когда я уже буду лучшим учеником в классе, учителя
привыкнут к тому, что я способный.
Однако я начинаю скучать. Учительница спрашивает:
— Нашел ошибку?
Я говорю:
— Нашел.
— Ну-ка покажи.
Учительница говорит: «Да, верно».
И тут звонок.
Звонок — значит, перемена. Передышка. Дежурный выгоняет
всех из класса и открывает окна.
А мне что делать? Странно мне показалось, что я буду носиться
по двору с мальчишками. Но я пробую, не отстаю от других!
Здорово, весело. Ну и здорово!
Как давно я не бегал!
Когда я был молодым, то пускался даже, бывало, вдогонку за
трамваем или поездом. Иногда я дурачился с детьми у знакомых. Де-
лал вид, что хочу их поймать, да не могу — убегают. Это, когда я
был молодым. Потом уж я не спешил. Ушел у меня из-под носа
трамвай — подожду другого. А когда я в шутку догонял ребенка,
то сделаю несколько шагов и топаю ногами на одном месте. А он-то
бежит изо всех сил и только издали оглянется. Или бегает вокруг
меня, описывая большие круги, а я кружусь на одном месте и делаю
вид, что сейчас брошусь в погоню. Он думает, что если бы я захотел,
то сразу бы его поймал, потому что я взрослый. А я не могу. Силы-
то у меня есть, да сердце сразу стучать начинает. И по лестнице я
уже взбирался медленно, и если высоко было, то отдыхал по дороге.
А теперь мчусь так, что ветер в ушах свистит. Я вспотел, но это
ничего. Хорошо, весело. Я даже подпрыгнул от радости и крикнул:
— Как здорово быть маленьким!
Но тут же испугался и оглянулся — не слышал ли кто? Ведь
могут подумать, что раз я так радуюсь — значит, не всегда был ма-
леньким.
Мчусь так, что только в глазах мелькает. Устал. Но стоит остано-
виться на минуту, перевести дух — и уже отдохнул, и снова дальше!
Хорошо, что лечу как стрела, не то что раньше — шлеп-шлеп,
плетусь еле-еле.
О, добрый гном, как я тебе благодарен!
Ведь для детей бег — как верховая езда, галопом, «с вихрями
споря». Ничего не помнишь, ни о чем не думаешь, ничего не ви-
дишь — только жизнь ощущаешь, полноту жизни. Чувствуешь,
что в тебе и вокруг тебя воздух.
Догоняешь ли, убегаешь ли — все равно! Быстрее!
Я упал. Разбил коленку. Больно. Звонок.
Жаль. Еще бы немножко. Еще бы минутку.
— Кто скорее, я или ты?
Нога уже не болит. Ветер снова хлещет в глаза, в лицо, в грудь.
Снова мчусь стремглав, чтобы быть первым. Чудом не натыкаюсь
на ребят, преодолеваю преграды. Порог школы, хватаюсь рукой за
перила — и вверх по лестнице. Не оглядываюсь, чувствую, что оста-
вил его далеко позади. Победа!
И со всего размаха в узком коридоре — бац на директора!
Директор, чуть не упал.
Я видел директора, но остановиться уже не мог. Совсем как ма-
шинист, шофер или вагоновожатый.
В эту минуту я понял, что детей обвиняют несправедливо: они
не виноваты,— это случай, несчастье, но не вина. Может быть, я и
в самом деле утратил сноровку? Боже, столько лет, столько лет!
Я мог бы смешаться с толпой ребят, потому что все бежали. Но
ведь я только первый день ученик.
И я, как дурак, остановился. Даже не сказал: «Простите»... А ди-
ректор схватил меня за ворот и как встряхнет! Даже голова у меня
заболталась... И такой злой...
— Как тебя зовут, шалопай?
315
Я замер. Сердце так колотится, что слова выговорить не могу.
Он знает, что я не нарочно,— значит, должен простить. Но, с другой
стороны, так, с размаху, налететь на директора... Он ведь мог упасть,
расшибиться. Я хочу что-нибудь сказать, но язык прилипает
к гортани. А директор опять встряхнул меня и кричит:
— Будешь ты отвечать или нет? Я спрашиваю, как твоя фамилия?
А вокруг уже толпа. Все смотрят. И мне стыдно, что собралось
столько народу. Тут как раз учительница проходила, погнала всех
в класс. Я один остался. Опустил голову, точно преступник.
— Иди в учительскую!
Я говорю тихо:
— Господин директор, позвольте объяснить.
А директор:
— Ну, что там еще объяснять! Почему сразу не отвечал, когда
я фамилию спрашивал?
Я говорю:
— Стыдно было: все стоят, смотрят.
— А носиться как угорелому тебе не стыдно? Придешь завтра
с матерью.
Я заплакал. Слезы сами катятся, как горох. Даже в носу мокро.
Директор посмотрел, и, видно, ему меня жалко стало.
— Вот видишь,— говорит,— как плохо баловаться, потом пла-
кать приходится.
Если бы я сейчас извинился, он бы простил. Но мне стыдно про-
сить извинения. Мне хочется сказать: «Накажите меня, пожалуйста,
как-нибудь по-другому, зачем маму огорчать». Хочется, да сказать
не могу, слезы мешают.
— Ладно, иди в класс, урок начался.
Я поклонился, иду. В классе опять все смотрят. И учительница
смотрит. А Марыльский меня сзади подталкивает:
— Ну, что?
Я не отвечаю, а он снова:
— Что он тебе сказал?
Я разозлился. Ну что он пристает, какое ему дело?
Учительница говорит:
— Марыльский, прошу не разговаривать.
Наверное, учительнице тоже хотелось, чтобы он оставил меня
в покое. Видно, поняла, что у меня горе,— за весь урок ни разу не
вызвала.
А я сижу и думаю. Мне обо многом надо подумать. Сижу, не
слушаю, не знаю даже, про что говорят. А это как раз арифметика.
Ребята подходят к доске, пишут, стирают. Учительница взяла
мел и что-то говорит, объясняет. Я хуже глухого. Потому что я и не
слышу и не вижу. И даже вида не делаю, что понимаю.
Учительница, наверное, сразу догадалась, что я не слушаю. Дол-
жно быть, добрая, другая назло бы вызвала. Теперь я понимаю, по-
чему у детей, когда им что-нибудь одно не удастся, и другое не ла-
дится. Сразу веру в себя теряешь. А должно бы быть так: один
накричит, а другой похвалит, ободрит, утешит. Да и надо ли
316
кричать? Сам не знаю... Может быть, надо, а может быть, и нет.
А я как делал, когда был учителем? Разное бывало. Ну хорошо,
я налетел на директора, и он схватил меня за шиворот. А что еще он
мог сделать? Разозлился, потом успокоился. Только вот простил ли?
Сказал: «Иди в класс».
И не знаю, приходить ли мне завтра с мамой или нет.
И вот я думаю:
«Всего лишь несколько часов я ребенок, а как много уже пережил.
Два раза мне пришлось испытать страх: один раз, когда у меня
Ковальский тетрадку взял, другой раз — с директором. А ведь с ди-
ректором это еще не все, и я не знаю, как мне быть».
Ну и натерпелся же я стыда, когда меня, как вора, за шиворот
держали. Взрослого ведь никто не хватает и не трясет, когда он не-
чаянно кого-нибудь толкнет. Правда, взрослые осторожнее ходят,
но все-таки иногда это с ними случается.
Но ведь детям не запрещается бегать?
Странно, что мне никогда это не приходило в голову, когда я был
большим.
Всего лишь несколько часов я ребенок, и уже первые слезы. Да
и теперь, хоть глаза у меня сухие, на сердце обида.
И это еще не все. Ведь я и упасть успел. Спускаю чулок, смотрю:
кожа на коленке содрана — не в кровь, но больно. Вернее, не больно,
а саднит. Сперва я этого и не почувствовал, а теперь, когда сижу
вот так и на душе у меня горько...
Всего только два часа, как я ученик, а учительница уже сделала
мне замечание, чтобы я не вертелся и сидел спокойно.
А что было бы, если бы она знала, что я дал списать примеры?
Что было бы, если бы она сказала мне: «Повтори»?
Я не слушаю. Ничего не слушаю. А в классе надо не только спо-
койно сидеть, но и знать, что делается вокруг.
Значит, я и обманщик, и невнимательный, и бегаю точно уго-
релый, а все только потому, что я — снова ребенок. А если так, то,
может быть, лучше было оставаться взрослым?
И мне стало жалко ту лошадь, которая не могла сдвинуть воз,
потому что была плохо подкована, а воз тяжелый, и у нее копыта
по льду скользили.
Я еще немного подумал о лошади, потом снова вернулся к своим
мыслям.
А было ли мне лучше, когда я был большим? Может быть, ди-
ректор еще и простит. По коридору я теперь буду осторожно ходить.
Может быть, и в самом деле ночью выпадет снег? А я так тоскую по
снегу, словно он мне брат родной.
Глянул я в окно — солнца не видно, такая метель. Не помню,
побились ли они в конце концов об заклад насчет снега. И я по-
думал, что в Америке взрослые тоже любят по всякому случаю
биться об заклад.
Может быть, дети и в самом деле не так уж сильно отличаются
от взрослых?
А за окном туча еще больше стала, черная. И мне пришло в го-
317
лову: «Ребенок словно весна. То солнце выглянет — и тогда ясно и
очень весело и красиво. То вдруг гроза — блеснет молния и ударит
гром. А взрослые словно всегда в тумане. Тоскливый туман их
окружает. Ни больших радостей, ни больших печалей. Все как-то
серо и серьезно. Ведь я помню. Наша радость и тоска налетают как
ураган, а их — еле плетутся».
Это сравнение мне понравилось. Да, если бы даже я и мог сно-
ва измениться, я предпочел бы еще побыть ребенком.
И так мне стало хорошо и спокойно, как бывает, когда выйдешь
вечером в поле, а ветерок ласково треплет тебя по лицу — словно
кто рукой прикоснулся. А на небе звезды. И все спит. И запах поля
и леса.
Быстро пролетел для меня этот час. Если я опять буду учите-
лем, то никогда не стану вызывать ученика, с которым случилась
беда. Пусть подумает, успокоится, отдохнет.
Я даже вздрогнул, когда раздался звонок.
И тут сразу начали приставать:
— Ты почему плакал? Что тебе директор сказал?
Взрослые не велят драться. Они думают, что мы деремся ради
удовольствия. Конечно, есть и озорники — мальчишки посильнее,
которые задирают слабых. Мы их избегаем, обходим. Но они от
этого только еще больше наглеют. И, когда чаша терпения перепол-
нится, приходится, наконец, дать им урок. К счастью, таких немного.
Они — наше проклятье. И смешно, что из-за них взрослые об-
виняют нас всех. Взрослые не знают, что такое задира, а ведь за-
дира и самого тихого может привести в ярость.
Ну, случилась беда. Каждый сам может догадаться, что мне
сказал директор, раз я его чуть не опрокинул. Зачем спрашивать:
«Что? Как?»
И хоть бы один. А то от одного отвязался, другой подходит —
и опять все сначала. Видит ведь, что не хочу говорить. Я и не зна-
ком-то с ним, почти не разговариваю,— и этот туда же:
— Это ты налетел на директора? Он, наверное, велел тебе
с матерью прийти?
Нет, не дадут человеку побыть грустным. Будут лезть, пока
из грустного не сделаешься злым.
Первому я отвечаю спокойно. Второму говорю:
— Отстань.
Третьему:
— Отвяжись!
Четвертого я отталкиваю.
Теперь подходит Висьневский. Утром он говорил, что я сумас-
шедший, а теперь хочет, чтобы я ему все рассказал.
— Ну что? Почему ты ревел? Здорово он тебя отругал? Надо
было сказать, что тебя толкнули.
— Сам ври, коли хочешь,— говорю я.
И сразу же пожалел об этом.
— Подумаешь, какой правдивый! Глядите, ребята, какой святой
нашелся!..
318
Я хочу уйти, а он не пускает.
— Погоди, куда спешишь?
Идет рядом и нет-нет, да кулаком в бок.
Я взял да оттолкнул его. А он еще пуще разошелся:
— Не толкайся, школа не твоя. Думает, раз его учительница
похвалила, что одну ошибку сделал, так он уж и воображать может.
В первую минуту я даже не понял, что он там мелет. Потом
только сообразил.
Я уже подхожу к двери, а он удерживает:
— Погоди, куда так торопишься?
Не отпускает.
— Деточка,— говорит.— Наплакалась детусенька. Расплака-
лась девчушечка.
И грязной лапой меня по лицу.
Я замахнулся. Он сильный, этот Висьневский. Но я до того ра-
зозлился, что мне все равно — будь что будет. Дойди дело до драки,
он бы здорово получил.
А что сказал бы директор, если бы случайно проходил мимо? Ко-
нечно, что виноват я. Один раз уже попался, а теперь снова. Он ме-
ня запомнил. Случись что, сразу вся вина на меня. Потому что я
озорник. «Я тебя знаю. Это уже не в первый раз».
Когда я был учителем, я ведь тоже так говорил.
Но тут входит учительница: проверить, все ли вышли из клас-
са.
— Выходите, ребята! Идите побегайте.
А он, бессовестный, еще жалуется:
— Госпожа учительница, я хотел выйти, а он меня не пускает.
Мне стало до того противно, хоть плюнь.
— Ну, идите, идите!
Он прищурил один глаз, скривил рот, широко расставил ноги
и так, кривляясь, вышел из класса. Я за ним.
Во двор я не пошел. Жду, когда кончится перемена.
Подходит Манек. Посмотрел на меня и говорит тихонько:
— Хочешь, пойдем поиграем?
Я говорю:
— Нет.
Он еще постоял, посмотрел, не захочу ли я с ним заговорить.
Этот — другое дело. Я ему говорю: так, мол, и так.
— Не знаю, простил или нет.
Манек подумал.
— А ты узнай. Это он со злости сказал. Зайди в учительскую,
спроси,— наверное, забыл уже.
А потом был урок рисования.
Учительница сказала, чтобы каждый рисовал что хочет: какой-
нибудь листок, или зимний пейзаж, или еще что-нибудь.
Я беру карандаш. Что бы такое нарисовать?
А я рисовать никогда не учился. Когда был большим, тоже не
очень-то умел. Вообще в мое время нехорошие были школы. Стро-
гие, скучные. Ничего там не позволяли. Такое все было чужое, так
319
было холодно и душно, что когда мне потом снилась школа, я всегда
просыпался в холодном поту. И всегда был счастлив, что это сон, а не
правда.
— Ты еще не начинал? — спрашивает учительница.
— Думаю, с чего начать.
А у учительницы светлые волосы и добрая улыбка. Она посмот-
рела мне в глаза и говорит:
— Ну, думай, может быть, и придумаешь что-нибудь хорошее.
И, сам не знаю почему, я сказал:
— Я нарисую школу — как раньше было.
— А ты откуда знаешь, как было раньше?
— Папа рассказывал.
Пришлось мне солгать.
— Хорошо,— говорит учительница,— это будет очень инте-
ресно.
Я думаю:
«Выйдет или не выйдет? Ладно, ведь и другие мальчишки не
такие уж великие художники».
Рисую я неважно, ну да ничего. Самое худшее — посмеются. Ну
и пусть смеются...
Есть такие картины, которые из трех картин состоят: одна по-
средине, а две по бокам. Все они разные, но составляют одно це-
лое. Такая картина называется триптих.
Я разделил страницу на три части. Посредине нарисовал переме-
ну. Мальчишки гоняются друг за другом, а один что-то натворил,—
учитель дерет его за ухо, он вырывается и плачет.
А учитель его крепко за ухо держит и лупит что есть силы по
спине, вроде как бы шпицрутеном. Мальчишка приподнял ногу
и словно повис в воздухе. А другие вокруг стоят, головы опустили,
ничего не говорят — боятся.
Это посредине.
На картине справа я нарисовал урок,— как учитель бьет ученика
линейкой по рукам. Смеется один только подлиза с первой парты, а
другим жалко.
На картине слева — секут настоящими розгами. Мальчик лежит
на скамье, сторож держит его за ноги. А учитель каллиграфии с
бородкой поднял вверх руку, в руке — розга.
Такая мрачная картина, точно все это в тюрьме. Я нарочно сде-
лал темный фон.
Сверху я надписал: «Триптиху старая школа».
Когда мне было восемь лет, я ходил в эту школу. Это была моя
первая начальная школа, называлась она «Приготовительная».
Помню, одного мальчика высекли. Сек его учитель каллиграфии.
Не знаю только, учителя ли звали Кох, а ученика Новицкий или уче-
ника Кох, а учителя Новицкий.
Я был тогда совсем маленький и ходил в ту школу недолго. Но
я вижу все это так ясно, словно это было вчера.
И вот я рисую. Карандаш так и бегает по бумаге. Мне даже
странно.
320
Головы у учеников получаются маленькие, но я стараюсь, чтобы
все они были разные и каждое лицо имело свое выражение. И что-
бы все ученики были в разных позах: один облокотился, другой
привстал. Себя я тоже нарисовал, но не в первом ряду.
Рисую, а уши у меня так и горят; жарко, и словно кого-то до-
гоняю.
Это я рисовал с вдохновением.
Я ведь был уже один раз взрослым и знаю, что называется вдох-
новением. У Мицкевича, когда он писал «Импровизацию», было
вдохновение.
Вдохновение — это когда трудная работа становится вдруг лег-
кой. И тогда очень приятно рисовать, писать, вырезать, что-нибудь
мастерить. Все тогда удается, а ты даже и сам не знаешь, как ты
это делаешь. Словно все само собой делается, словно кто-то за тебя
работает, а ты только смотришь. А когда кончишь, удивляешься —
точно это не твоя работа. И устал и доволен, что так хорошо полу-
чилось.
Когда придет вдохновение, то не замечаешь даже, что проис-
ходит вокруг.
По-моему, дети часто работают с вдохновением, только им ме-
шают.
Например, рассказываешь что-нибудь, или читаешь, или пишешь.
Или сразу понял задачу. Даже может выйти какая-нибудь ошибка,
но все равно это не ошибка, или очень маленькая. А тут вдруг
прервут, заставят исправить, повторить, что-нибудь еще прибавят,
объяснят. И сразу все пропало. Ты злишься, тебе уже и продолжать-
то не хочется, и ничего не выходит.
Когда у человека вдохновение, никто не имеет права вмешивать-
ся. Потому что тогда он должен быть один, ничего не видеть, не
слышать.
Так было и со мной. Учительница стоит у моей парты и смотрит,
как я рисую, а я и не замечаю. Знай себе рисую. Тут черточку
добавлю, там точечку, и выходит все лучше и лучше.
Учительница, наверное, долго так стояла, только я этого не знал.
А я погляжу издали на рисунок и снова что-нибудь подправлю,
но все осторожнее. Потому что, если слишком много поправлять,
можно все испортить. Я устал. И вдруг почувствовал, что на меня
смотрят. Поднял голову, а учительница улыбнулась и погладила ме-
ня по щеке.
Я не люблю, когда меня кто-нибудь гладит или ко мне при-
касается. Но рука у учительницы прохладная и мягкая. И я тоже
улыбнулся.
Учительница спрашивает:
— Откуда ты знаешь, что это триптих?
— Знаю, я на картине видел, на открытке, в костеле.
Я сбиваюсь и краснею все больше. А учительница спрашивает:
— Можно?
Я подаю ей тетрадку и говорю:
— Пожалуйста.
1 1 Януш Корчак
321
Учительница смотрит мои старые рисунки и этот, последний.
А Висьневский соскочил со своей парты и тоже нос сует, говорит:
— Триптих.
Я испугался, что учительница начнет мой рисунок хвалить и
всем показывать. Неужели она не понимает, что среди стольких ре-
бят всегда найдется один завидущий или какой-нибудь шут горо-
ховый, который будет потом приставать да высмеивать? И учитель-
ница, видно, поняла это, потому что велела Висьневскому сесть на
место, а мне сказала только:
— Ну, теперь отдохни.
Закрыла тетрадку и осторожно положила передо мной на парту.
Осторожно, аккуратно.
Я сразу же подумал, что если бы я опять стал учителем, то не
бросал бы тетрадки на парту, когда неверно написано, не перечер-
кивал бы жирной чертой, так что чернила брызнут. Я клал бы их
так же осторожно, аккуратно, как эта учительница.
Отдыхал я недолго: урок кончился. Мне надо идти в учитель-
скую. Но в дверях учительской стоит директор, и я остановился.
И учительница рядом стоит. И сторож подходит...
Я уже два раза начинал: «Пожалуйста, господин директор...»,
но знаю, что директор не слышит, потому что я говорю тихо. Ужасно
неприятно, когда тебе надо что-нибудь сказать, а начать стыдно.
Они разговаривают о каких-то там своих делах, а я даже ничего
не слышу. Вдруг директор обращается ко мне:
— Иди в шестой класс и посмотри, там ли глобус. Только быст-
ро, бегом.
И тут только он взглянул на меня и, видно, припомнил, потому
что сказал:
— Да смотри не налети на кого-нибудь по дороге!
Прибежал я в шестой класс, а ребята мне кричат:
— Эй, выметайся, чего прилез?
— Глобус у вас?
— Ишь, чего захотел!
И выталкивают. Я спешу, а они еще толкаются. Я вырвался и
говорю:
— Директор спрашивает.
А один не расслышал и орет:
— Ты еще здесь? Убирайся, щенок, пока цел!
Я не знаю, что делать. Опять кричу:
— Директор!..
— Что — директор?..
— Спрашивает, глобус у вас?
— Ничего у нас нет, понятно?
Стукнул меня по голове и захлопнул дверь перед носом.
Я возвращаюсь к учительской, а что говорить, не знаю.
— Они сказали, что нет.
К счастью, один ученик как раз несет глобус. И сердится, что
опять поломают. Объясниться с директором нет никакой возможно-
сти, а откладывать не хочется. И я в отчаянии потянул за рукав учи-
322
тельницу. Не потянул, а слегка только дотронулся и говорю ти-
хонько:
— Госпожа учительница...
А учительница сразу услыхала. Отошла со мной в сторону, на-
гнулась:
— Ты что?
И тут я сказал совсем тихо:
— Попросите, пожалуйста, директора, чтобы он маму не вызы-
вал.
Так тихо сказал, словно на ухо. Неудобно быть маленьким. Все
время надо задирать голову... Все происходит где-то наверху, над
тобой. И чувствуешь себя каким-то затерянным, слабым, ничтож-
ным. Может быть, поэтому мы любим стоять около взрослых, когда
они сидят,— так мы видим их глаза.
— Почему директор вызывает твою маму?
Мне стыдно сказать. Неприятно рассказывать такую глупость.
Я опустил голову, а учительница нагнулась еще ниже.
— Ведь если я не знаю, я и просить не могу. Ты очень набедо-
курил?
Я говорю:
— Нет.
Но я и сам не знаю, так ли это.
— Ну, расскажи.
Может быть, мы потому неохотно рассказываем о чем-либо
взрослым, что они всегда куда-то торопятся. Всегда кажется, что
все это их не касается, что они просто так скажут что-нибудь, лишь
бы отделаться, отвязаться поскорее. Да и правда, у них свои дела,
а у нас — свои. Вот мы и стараемся всегда рассказать покороче,
чтобы не забивать им голову. Будто наше дело не такое уж важное,
пусть только скажут: да или нет.
— Я бежал по коридору. И налетел на директора.
— И ушиб его?
— Нет, только рукой уперся ему в пузо.
— В живот,— поправила учительница.
И улыбнулась.
А через минуту все уже было улажено. Я подумал: «Спасибо»,—
и пошел в класс. Даже не поклонился. Это, наверное, было невежли-
во. Да ладно, неважно. Только бы уж опять сесть за парту, только бы
поскорее все это кончилось.
А на последнем уроке учитель читал об эскимосах. Зима у них
длится полгода, а дома они строят из снега. Такие домики назы-
ваются «иглоо». Можно и огонь внутри разжигать, но должно быть
всегда холодно, а то дом растает.
Когда я был взрослым, я уже знал все это об эскимосах и, может
быть, даже больше. Но мне как-то было не до них. Я даже ни разу
не подумал о том, есть ли они на самом деле. Теперь другое дело.
Теперь мне их жалко.
Хотя глаза у меня открыты и гляжу я на учителя, я вижу бес-
крайние ледяные поля — только лед да снег. Ни одного кустика, ни
п*
323
одного деревца. Ни сосны, ни травинки. Ничего. Только лед да снег.
Потом у них наступает ночь. Ветер, тьма, иногда только северное
сияние. И я чувствую этот холод и эту тоску. Бедные эскимосы, хо-
лодная у них жизнь! У нас самый бедный, и тот хоть на солнышке
может погреться...
Когда учитель читал, так тихо было. Только один раз сзади кто-
то зашептал. Учитель даже и не взглянул на него, но мы сразу огля-
нулись. Если бы и нашелся дурак, которого бы это не занимало, он
не осмелился бы помешать. Пусть бы только попробовал!
Притихшие ребята так и впились глазами в учителя, даже морг-
нуть боятся. Наверное, тоже видят перед собой бескрайние ледя-
ные поля.
Жалко, что география была не перед уроком рисования. Я бы
тогда лучше нарисовал. Я нарисовал бы глаза ребят. Правда, когда
того ученика наказывали розгами, ребята смотрели по-другому. Сей-
час в их глазах мечтательное выражение, а тогда был ужас.
Я вынимаю тетрадку для рисования, разглядываю свой триптих
и перестаю слушать.
И вдруг в классе поднялся шум. Что такое? Все кричат, спорят.
Я не сразу догадался, о чем читал учитель, когда я не слушал. Он,
видно, читал про то, как охотятся на моржей и тюленей.
Все задают вопросы. Один хочет знать одно, другой — другое.
Даже с мест повскакали. Учитель говорит, чтобы все сели, что он из-
за крика ничего не слышит и, пока все не успокоятся, отвечать не
будет. А ребята не могут успокоиться, потому что каждому хочет-
ся знать все подробно.
— А хлеб эскимосы едят? А почему они не поедут туда, где
теплее? А нельзя им выстроить кирпичные дома? А кто сильнее,
морж или лев? А может эскимос замерзнуть до смерти, если заблу-
дится? А волки там есть? А читать они умеют? А нет ли среди них
людоедов? Любят ли они белых? Есть ли у них король? Откуда они
берут гвозди для санок?
Один рассказывает, как его дедушка однажды зимой заблудился
в поле. Другой — про волков. Каждый кричит, чтобы остальные си-
дели тихо, потому что он сам хочет сказать или спросить что-нибудь
важное.
Если человеку до чего-нибудь нет дела, он может и подождать.
А до эскимосов ребятам очень даже есть дело. Ведь они сами минуту
назад как бы жили на краю земли, на самом полюсе, и теперь хотят
знать, как живут их близкие, знакомые, родственники, которые там
остались и которым плохо. Жаждут им помочь.
Когда прежде ссылали в Сибирь политических заключенных и
кто-нибудь оттуда возвращался, то матери, сестры и невесты тоже
расспрашивали, какая там жизнь, что они там делают, вернутся ли
и когда. Потому что из письма не много можно узнать.
Из книжки не все узнаешь. Учитель должен еще раз сам рас-
сказать все, что ему известно о моржах, о снеге, об оленях, о север-
ном сиянии. А кое-что и повторить. Потому что ребята от волнения
не все слышали.
324
Для учителя это четвертый урок, четвертый час работы в
школе, а для класса — вести из далекого края от дорогих людей.
И учитель устал, и мы — только по-разному. И вот нарастает раздра-
жение. С него довольно, а мы хотим еще!
Учитель почти рассердился. Грозится, что в наказание никогда
больше ничего не станет читать.
Никогда!
На минуту стало тише, хотя никто не поверил. Если бы он ска-
зал «всю неделю», а то — никогда. А какой-то дурак начинает паяс-
ничать:
— Э, нет, господин учитель не такой злой! Они дураки, что орут,
но ребята хорошие!
Как будто и заступается, но сразу видно, что хочет учителя из
себя вывести, чтобы скандал вышел. И учитель раскричался. Всегда
один такой найдется. Или ему ни до чего дела нет, и он даже не лю-
бит, когда урок интересный, потому что тогда в классе должно быть
тихо,— ведь все слушают. Или просто назло будет мешать, потому
что ему как раз в это время что-то не понравилось.
Учитель уже смотрит, кого бы выгнать из класса, уже взглянул
на часы, потому что хочет, чтобы поскорее все это кончилось.
И всем становится неприятно. Даже сам учитель жалеет, что все так
получилось, потому что знает, что слушали его хорошо. И он сдер-
живается, выдавливает из себя улыбку и говорит:
— Ну, ты там, оратор, повтори, о чем я читал.
Начинается обычный урок: учитель спрашивает, а класс ни беэни
ме. И учитель думает, что мы ничего не знаем, просто глупые ребя-
тишки.
Когда я был большим, чем ближе меня что-нибудь касалось, тем
легче мне было об этом говорить. А у детей, как видно, иначе. Если
тебя что-нибудь очень волнует, то отвечать трудно, хотя бы ты даже
и знал. Дети как будто стыдятся, что скажут не так, как чувствуют.
Урок кончился скучно, и только на переменке мы по-настоящему
разговорились об эскимосах. Один запомнил одно, другой — дру-
гое. И ребята ссорятся:
— Так учитель читал.
— Неправда!
— Ты, может, проворонил, когда читали?
— Сам ты проворонил!
Призывают свидетелей.
— Правда, учитель читал, что окна делают изо льда?
— Правда, ведь тюлень — рыба?
— Ну ладно, спросим учителя!
Наверное, каждый, как и я, задумался в каком-нибудь месте и по-
том уже не мог догнать. Поэтому каждый помнит что-нибудь свое.
И только весь класс вместе знает все.
Теперь ребята будут играть в эскимосов где-нибудь на лестни-
це или во дворе и расскажут о них тем, кто не был на уроке, и еще
от себя добавят, чтобы было веселее.
Домой я возвращался с Манеком.
325
Улица мне теперь кажется необычайно интересной. Все инте-
ресно: и трамваи, и собака, и проходящий мимо солдат, и магазины,
и вывески на магазинах. Все новое, незнакомое, словно только что
окрашенное. Не то что незнакомое, потому что я ведь знаю, что это
трамвай, но мне еще хочется знать, четный у него номер или нечет-
ный.
— Давай отгадывать, какой будет первый трамвай — четный или
нечетный, и меньше или больше сотни?
Солдат — значит, надо посмотреть, какие у него нашивки: пе-
хотинец он или артиллерист.
Мастер возится с телефоном, рабочие чинят канализацию. Ну
как не остановиться — может, случится что-нибудь интересное.
Обо всем приходят в голову новые мысли.
Мы встретили много собак. А одна облизала нос языком.
— Собакам не нужно носовых платков, они нос языком обли-
зывают.
Я стараюсь дотянуться языком до носа.
Манек советует:
— Ты нос пальцем прижми.
Я говорю:
— Пальцем — это не фокус.
А он:
— А ты попробуй.
Мимо проходит женщина и говорит:
— Вот глупые, языки повысовывали.
Нам становится стыдно: мы ведь совсем забыли, что мимо люди
идут и смотрят.
Если бы эта женщина знала, о чем мы разговариваем, она бы
не удивилась, потому что ведь это была проверка, обязательно ли
людям нужны носовые платки, насколько длиннее язык у собаки и
каково человеку без носа. Мы хотели все это испробовать, а тому,
кто не слышал нашего разговора, кажется, что мы дураки.
Однажды, когда я был еще взрослым, я спешил на поезд. А тут
ветер поднялся и пыль прямо в лицо. Не знаю, чемодан ли держать
или шляпу, или лицо заслонять. Я злюсь, спешу, боюсь опоздать,
потому что еще билет купить нужно, а перед кассой может быть
давка.
А тут ребята задом наперед бегут — трое их было. Хохочут, ра-
ды, что ветер их подталкивает. Тоже, видно, что-то проверяли.
А один мне прямо под ноги. Я хотел посторониться, а он за чемодан
зацепился. Я на него прикрикнул — с ума, мол, он, что ли, сошел,
людям мешает. Но ведь и я ему помешал. Кто их там знает, во
что они играли, что выдумали! Может быть, он был воздушным ша-
ром или кораблем, а мой чемодан — подводной скалой. Для меня
ветер — неприятность, для него — радость!
Когда я был маленьким в первый раз, я любил ходить по улице
с закрытыми глазами. Скажу себе: «Пройду десять шагов с закры-
тыми глазами». А если улица пустая, закрою глаза на двадцать шагов
и ни за что раньше не раскрою. Сначала иду быстро, большими ша-
326
гами, а потом медленнее, осторожнее. Не всегда это удавалось. Один
раз я свалился в канаву. Тогда еще в канавах вода текла; это теперь
канализация — каналы и трубы в земле. Так вот, я попал в канаву и
вывихнул ногу,— целую неделю болела. Дома я ничего не сказал, за-
чем говорить, если все равно не поймут?! Скажут, что по улице надо
ходить с открытыми глазами. Каждый это и так знает, но один-то
раз можно попробовать.
В другой раз я треснулся лбом о фонарь и набил себе шишку;
хорошо еще, что в шапке был. Если хоть один шаг пойдет вкривь,
то меняется все направление и тогда уж обязательно или на фонарь
налетишь, или на прохожего. Когда на кого-нибудь налетишь, то
один только отодвинется и ничего не скажет или пошутит весело,
а другой как зверь набросится:
— Ослеп, что ли, не видишь?
И так свирепо посмотрит, словно готов тебя съесть.
Однажды — я тогда был уже большим мальчиком, лет пятна-
дцать мне было,— иду, а две девчушки догоняют одна другую, боком
как-то бегут и прямо на меня. Посторониться было уже поздно,
я наклонился, расставил руки,— они так боком ко мне и влетели.
Глядят испуганно. У одной глаза голубые, у другой — черные,
смеющиеся. Я минутку попридержал их, чтобы не потерять равно-
весие. Одна крикнула: «Ой!», а другая сказала: «Простите». Я го-
ворю: «Пожалуйста». И девчушки выпорхнули. Отбежали, огляну-
лись и смеются. А одна налетела на какую-то даму. И та ее так толк-
нула, что девочка пошатнулась. Грубо так.
Ведь нужны же на свете дети — такие, как они есть.
Я говорю:
— Манек, давай побежим наперегонки с трамваем, а?
Мы стоим как раз около остановки.
— Ладно. Кто скорей — трамвай или мы. До угла.
— До угла.
Сначала это легко, потому что трамвай идет медленно. Но вот мы
уже мчимся по мостовой, рядом с тротуаром, где извозчики ездят.
Помешала пролетка. Мы проиграли.
Он говорит:
— А я первый!
— Это не фокус, у тебя пальто расстегнуто.
— А тебе кто не велел? Ты тоже мог пальто расстегнуть. -
Забыл! Столько лет не бегал наперегонки с трамваем, утратил
навыки.
— Ну ладно,— говорю,— давай еще раз, я тоже расстегнусь.
Но он больше не хочет. Говорит, башмаки рвутся. А мне бы толь-
ко бежать да бежать. Я рад, что не устаю. Ведь запыхался, и сердце
как стучало, а остановился на минутку — и уже отдохнул. От дет-
ской усталости не устают.
Говорим о несчастных случаях.
Я сказал:
— В мое время машин не было.
Он взглянул с удивлением.
327
— Как это — не было?
— Ну, не было,— говорю я со злостью: досадно, что у меня так
вырвалось.
Остановились у столба с объявлениями.
В кино идет «Муки любви».
— Ты хотел бы посмотреть?
Манек поморщился:
— Не знаю. Про любовь все картины скучные. Или целуются,
или по комнате ходят. Иногда только кто-нибудь выстрелит.
Я больше про сыщиков люблю.
— А ты хотел бы быть сыщиком?
— Еще бы. Гнаться по крышам, через заборы, с браунингом.
Мы читаем цирковую афишу.
— Больше всего я люблю цирк.
Стоим так, болтаем, потом идем дальше.
— А завтра пять уроков.
— Естествознание.
— Хоть бы учительница еще что-нибудь рассказала про тюле-
ней и про белых медведей.
— А ты хотел бы быть белым медведем?
— Еще как!
— Да ведь медведи неуклюжие.
— Ничего не неуклюжие, это только так кажется. Но лучше
всего быть орлом. Взлетел бы на самую высокую скалу, выше об-
лаков, и сидел бы там, одинокий и гордый.
Иметь крылья куда приятнее, чем летать на самолете. Извест-
ное дело, мотор может сломаться, ангары нужны, бензин, и не вез-
де можно приземлиться. Надо его чистить, потом разбег брать.
А крылья, если не летаешь, свернул, и баста.
Если бы у людей были крылья, нужна была бы другая
одежда. На рубашке сзади делали бы отверстия, и крылья держали
бы под пиджаком. А может быть, сверху...
Идут двое мальчишек и разговаривают. Те самые, которые ми-
нуту назад высовывали языки, чтобы облизать нос, те самые, кото-
рые только что бегали наперегонки с трамваем. А теперь они рас-
суждают о крыльях для человечества.
Взрослые думают, что дети умеют только озорничать и болтать
глупости. А на самом деле дети предвосхищают отдаленное будущее,
обсуждают его, спорят о нем. Взрослые скажут, что у людей никог-
да не будет крыльев, а я был взрослым и утверждаю, что у людей мо-
гут быть крылья.
И вот мы беседуем о том, как приятно было бы летать в школу и
из школы. Полечу, а когда устану, пройдусь пешком. То крылья
отдыхают, то ноги.
Можно было бы и из окна высовываться, и на крыше посидеть,
и в лес полететь на экскурсию. Над городом мы летим парами, а за
городом — все в разные стороны. В лесу можно идти куда хочешь,
а сбился с пути — взлетел вверх и посмотрел, где место сбора. Не
заблудишься.
328
— Правда, Манек, хорошо бы было?
— Ясно, хорошо.
И глаза у людей натренировались бы. И мы говорим о том, что
ведь прилетают же птицы в свои деревни, на свои старые гнезда. Ни
атласов, ни компасов у них нет, а ведь находят дорогу, несмотря на
моря, горы и реки.
Умные птицы, умнее человека. А ведь человек надо всем царст-
вует, все его слушается.
Мы задумались, а тут вдруг проходит мимо какой-то хулиган,
большой такой парень, и срывает у меня с головы шапку. В руках
у него палка, он ею за козырек и подцепил.
Я подскочил к нему:
— Чего лезешь?
— А что я тебе сделал? — отвечает он изумленно.
— Шапку сорвал.
— Какую еще шапку?
Врет в глаза и нагло смеется.
— Может, ты не срывал?
— Конечно, нет! Смотри, вон у него твоя шапка.
А Манек поднял шапку и ждет, что дальше будет.
— Шапка у него, а сорвал ты!
— Катись ты, сопляк! Больно надо мне твою шапку срывать!
Что, у меня другого дела нет?
— Видно, нет! Хулиган! Спокойно пройти не дает.
— Эй, ты, потише с «хулиганом». А то смотри, получишь!
И ткнул меня своей палкой прямо в подбородок. А я — хвать
эту палку и сломал.
Он ко мне. Я стою.
— Отдавай мне тросточку или плати.
А сам пригнулся.
Он выше меня, поэтому я чуть подпрыгнул и — раз ему кулаком
по лбу. Но шапка у него не свалилась.
И давай бог ноги. Манек за мной.
Ну и неслись же мы!
«Вот тебе,— думаю,— в другой раз не приставай, потому что и
маленький может дать сдачи. Нахал!»
Сначала он погнался было за мной, да увидел, что не на такого
напал, и отстал.
Мы остановились, смеемся.
Минуту назад я был так зол, что у меня в глазах потемнело.
А теперь снова весело. Я счищаю рукавом грязь с фуражки.
А Манек говорит:
— Зачем ты его задирал?
— Кто задирал-то, я или он?
— Да, но ведь он больше тебя.
— Больше, так, значит, пускай над людьми издевается?
— А если он завтра тебя узнает и отколотит?
— Не узнает. Почему это он меня узнает?
Но Манек прав. Теперь я должен остерегаться.
329
Ну слыханное ли это дело, чтобы среди бела дня на людной
улице шапки с головы срывали? Если бы у взрослого, так тут бы
такое поднялось — толпа, полицейский. Среди детей тоже есть ху-
лиганы, но нас от них никто не защищает, нам никто не помогает,—
мы сами должны справляться.
Мы стоим на углу, а расставаться жалко. Ведь мы говорили о чем-
то очень важном, только этот тип нам помешал. Хорошая была до-
рога: игра, разговор, приключение.
Теперь я иду один, медленно, и стараюсь все время ступать на
середину каменной плиты. Будто в классы играю. Это было бы легко,
если бы не надо было уступать дорогу прохожим, а вот сделать шаг в
сторону и не наступить на черту не всегда удается.
Счет до десяти: если ошибусь в одиннадцатый, то проиграл. Один
раз не вышло, два раза, три, четыре... Мне еще можно шесть раз,
пять... Я боюсь, но такой страх в игре приятен.
Всего восемь раз встал на черту и вхожу в ворота. Только еще
кошку пугнул возле магазина. Кошка в ворота — я за ней. Она пры-
гнула в сторону и смотрит, смешно подняв лапку.
— Вызывали тебя? — спрашивает мама.
— Нет.
Я поцеловал ей руку с чувством. Мама на меня посмотрела и по
голове погладила.
Я рад, что директор простил меня, но еще больше рад тому, что
теперь у меня снова есть мама.
Детям кажется, что взрослому мама не нужна, что только ребе-
нок может быть сиротой. Чем старше люди, тем реже бывают у них
родители. Но и у взрослого много таких минут, когда ему тоскливо
без матери, без отца, когда ему кажется, что только родители могли
бы его выслушать, посоветовать, помочь, а если надо, то и простить
и пожалеть. Значит, и взрослый может чувствовать себя сиротой.
Ну вот. Пообедал, а теперь что делать? Пойду-ка я во двор. Там
Фелек, Михал, Вацек.
— Давайте играть в охоту.
Михал выстругал револьвер, покрасил чернилами в черный цвет,
понабил гвоздиков. И где он таких гвоздиков раздобыл, с золо-
тыми шляпками, ну, не с золотыми, с блестящими, медными? Михал
назвал его «Победный револьвер». Он получил его на поле бит-
вы в награду за доблесть. Сам генерал дал за подвиг. После боя весь
полк выстроился в шеренгу. Играет оркестр, знамена, гремит
«ура» — парад, а потом генерал говорит:
«Этот револьвер был захвачен моим прадедом у турков и перехо-
дил от отца к сыну. Двести лет пробыл он в нашем роду. А теперь,
раз ты мне спас жизнь, пускай он служит тебе верой и правдой».
Так рассказывает Михал.
Один раз сказал, что дело было под Веной, другой раз — под Це-
цорой, третий — под Грюнвальдом. Но это неважно. Теперь, когда
я снова стал ребенком, мне кажется, что важно не то, что человек
знает, а то, что он чувствует.
Когда я был учителем, я думал по-другому.
ззо
Ну вот, значит, Михал будет охотником, Фелек — зайцем, мы
с Вацеком — гончие. »
Мы это не сразу решили. Сначала думали играть в разбойников,
а я предлагал в экспедицию к эскимосам.
Редко бывает, чтобы все сразу на одном сошлись. Иногда кому-
нибудь вообще не очень хочется играть, и надо ему уступать, а то
он совсем раздумает. В эскимосов ребята не хотят, потому что
снега нет, а в разбойников Михал не согласен.
— Когда мы в тот раз играли, вы мне рукав оторвали.
Не оторвали, а просто он был плохо пришит. Вот нитки и лоп-
нули. Потому что Михал был опасным разбойником, и мы его во-
локли из погреба на казнь. Михал вырывался и мог убежать, где
уж тут было о рукаве думать!
Игра в зайца куда спокойнее, и когда она удается, то тоже
может быть очень интересной.
Самое важное — с кем играть. Есть такие отчаянные, что уж
заранее знаешь: все кончится каким-нибудь несчастьем. Такой ни
с чем не посчитается, ему только бы выиграть. Все время надо быть
начеку. Приходится его принимать, а то он нарочно мешать будет,
но заранее ставишь ему условия. А еще неприятно играть со вздор-
ными; они, чуть что, сразу ссорятся или обижаются. Ребята-то мень-
ше обижаются, а вот девчонки... В самом интересном месте при-
цепятся вдруг к какому-нибудь пустяку:
— Ну, тогда я не играю.
И сколько им ни тверди, что они не правы,— они все свое. Если
можно, уступаешь, чтобы не бросать игру, но ведь это страшно злит.
Взрослые ничего не понимают. Скажут:
— Примите его. Почему вы с ним не играете?
Или:
— Хватит, наигрались.
И сердятся, что мы не слушаемся.
А как тут играть с каким-нибудь растяпой, который сразу же
упадет, заплачет и побежит жаловаться? Или с дураком, который
ничего не понимает и в самом важном месте все испортит?
И как это прервать вдруг игру, когда не знаешь, чем она кон-
чится?
Наладить игру нелегко, и, если она удалась, жалко ее портить.
Мы играем в охоту.
Заяц повертелся во дворе, но гончие заходят с обеих сторон.
Заяц — в подъезд... Я за ним. Стою и принюхиваюсь: куда он побе-
жал? Вверх по лестнице или вниз? Мне кажется, что в подвале что-
то шуршит. Я подкрадываюсь, а там темно.
Заяц почти всегда мчится в подвал: в темноте легче спрятаться
и ускользнуть. И если заяц не любит препятствий, ему тоже в под-
вале лучше. Потому что на лестнице того и гляди на кого-нибудь
налетишь.
В прошлом году Олек со всего разбега толкнул на лестнице
Юзекову мать с корзиной угля. Я был тогда взрослым и помню даже,
как я возмущался, что мальчишки слишком много себе позволяют
331
и что сторож не гонит их метлой со двора. Пораспустили ребят,
жильцам никакого покоя от них нет. Счастье еще, что женщина ни-
чего себе не повредила, только ногу ушибла, а ведь могло быть и
хуже.
А если ребенок ударится, говорят:
«Так тебе и надо, в другой раз не будешь на голове ходить».
И хорошо еще, если только высмеют, хотя и это обидно: тебе
больно, ты испугался, а они шутят. А бывает, что и накричат. Знают
ведь, что не нарочно, потому что кому же охота калечиться, а выхо-
дит, будто я это им назло делаю.
Теперь, когда я стал ребенком, я уже понимаю, что если я —
гончая, а в подвале спрятался заяц — нет-нет да и мелькнет в тем-
ноте,— то не могу же я спускаться со ступеньки на ступеньку!
Скорее — раз, раз — через три ступеньки, рискуя поскользнуться,
занозить руку о перила, полететь вниз головой!
Да, я иду на риск, вернее, вовсе не рассуждаю: я должен его пой-
мать. И настоящая гончая тоже на всем бегу налетает иногда на
дерево. А ведь у собаки четыре ноги, а у меня только две.
Я — собака, я лаю, скулю, если потерял след. Когда я был взрос-
лым, я говорил басом и не мог уже ни лаять, ни кричать петухом,
ни кудахтать, как курица. Теперь ко мне снова вернулся звонкий
детский голос — я лаю, как прежде.
Я стою притаившись и жду. А потом — раз в подвал! Вацек за
мной. А тут вдруг у нас над головой проносится заяц — с пригорка
во двор.
Я тявкнул от разочарования — и за ним.
Мы уговаривались на улицу не выбегать, но во дворе тесно.
Заяц обежал его несколько раз, а тут и гончие настигают, и охот-
ник сбоку заходит. Заяц — в ворота.
— Нельзя!
Вот и поговори тут с зайцем, когда он свою шкуру спасает, что
можно, чего нельзя!
Перед игрой всегда уговариваются, что можно, чего нельзя, но
в минуту опасности не до правил.
Если мы устали, или игра не клеится, или кто-нибудь уж совсем
ничего знать не хочет — игра прерывается, и начинается ссора.
Не ссора, а так только, перебранка, чтобы отдохнуть немножко
или что-нибудь изменить в игре. Одного исключим, другого примем,
собака становится зайцем, или совсем другую игру придумаем.
Потому-то и приятнее играть одним, без взрослых. Взрослому
заранее известно, как все должно быть, он сам решает, кому что де-
лать, подгоняет всех, словно ему времени жалко. А ведь он нас как
следует не знает.
Для отдыха иногда и поспорить хорошо.
Ребята соберутся в кучку, совещаются. Когда спокойно, а ког-
да и поссорятся.
Если кто ударился или штаны порвал, всю вину сваливают на
нарушившего уговор.
— Все из-за тебя!
332
Тот хоть и защищается, но чувствует свою вину. Неприятно со-
знаваться, и мы его не принуждаем, разве только если уж слишком
много себе позволяет.
— Ну, хватит.
— Так что же, играем мы или не играем?
— Ну ладно, ладно, начали.
— Да хватит вам ссориться!
— Кто не хочет, может уйти!..
Так вот, заяц в ворота — и на улицу. Мы — за ним. Он на другую
сторону, и мы тоже. Нам легче, потому что стоит одному из нас
замедлить бег, как другой зайдет сбоку и пугнет зайца. Мы прямой
дорогой, а ему зигзагами улепетывать. Но мы хорошо выбрали:
заяц на два года старше, он быстрее бегает. В конце концов мы его
поймаем, но вся штука в том, чтобы он продержался как можно дольше.
И вот мы схватили его на третьем этаже. Измучился, еле дышит.
Живьем поймали, он уже даже и сопротивляться не стал, сам под-
дался.
Уселись на ступеньках, разговариваем. Мы тоже устали: ведь все
вверх по лестнице... Но мы твердо решили, что ему все равно не
уйти,— наш будет!
Мог бы еще, пожалуй, забиться в квартиру — в нору. Но он не
из этого подъезда.
А он говорит:
— Кабы я захотел, вы бы меня не поймали.
Мы говорим, что вот ведь, не убежал же, не смог.
А он:
— Захотел бы, так убежал!
— Ну, и мы бы могли тебя скорее поймать, только силы берег-
ли. И тебя жалели.
— Вот так жалели! Ни минуты передохнуть не давали. Даже
настоящая гончая так не гонит.
— А что же ты на улицу убежал, когда уговор был?
— А куда мне было бежать?
— Ну, мог бы поддаться.
— Ишь, какой умный! Надо было стрелять. Если бы ты меня ра-
нил, я бы уж не ушел. Револьвер держит, а не стреляет!
Это правда: Михал должен был стрелять, а он тоже гнал. Забыл,
что он охотник, а не собака. Это была ошибка. Если бы Михал вы-
стрелил, Фелек упал бы, раз уж он очень устал, и сдался бы с честью.
Михал взволнован.
— Под Цецорой от самого короля револьвер получил, а зайца
подстрелить не может. Герой!
Михаилу досадно:
— Будешь смеяться, так я тебе больше ничего рассказывать не
стану.
Вацек испугался, что они поссорятся, и говорит:
— А помнишь, как мы в тигров играли? Помнишь, он из цирка
убежал, а я был укротителем?
Мы говорим о дрессированных животных, кто каких видел.
333
О львах, которые скачут через огненные обручи, о слоне, который
умеет ездить на велосипеде. Об обезьянах и собаках.
О собаках интересно говорить, потому что их каждый сам видел,
а про других животных все больше слышали или читали.
У Фелекова дяди есть собака, которая служит, носит поноску,
умирает и никого к себе не подпустит. А тут приезжал на побывку
один солдат, так у него была дрессированная собака, и он проделы-
вал с ней во дворе разные штуки. Солдат показывал ребятам винтов-
ку со штыком и рассказывал о пулеметах и бомбах.
— Начнись война, я бы сразу пошел добровольцем!
— Сперва спроси, возьмут ли. Мал еще!
Вздох.
Мы говорим о собаках-водолазах, о том, что у них, наверное,
плавательные перепонки, как у уток, и что они спасают утопающих.
И об утопленниках. Уже стемнело, и разговаривать об утопленниках
страшно.
— Нам учитель в школе про эскимосов читал.
Мы говорим об эскимосах и о школе.
Вот было бы хорошо, если бы настоящие путешественники,
изобретатели и военные рассказывали в школах о том, что они де-
лают и что видели!
— Нам один раз учительница рассказывала, как она ездила в
Татры. Какая была буря, молния! Когда человек сам что-нибудь ви-
дел, он об этом совсем по-другому говорит, не то что по книжке. Ку-
да интереснее!
— Ну да, путешественники много чего рассказывают, да только
взрослым. Станут они с ребятами разговаривать!..
Мы притихли. А сторож свет зажигает на лестнице. Увидел
нас и гонит.
— Вы что тут в потемках делаете? Идите-ка домой!
И так подозрительно нас оглядывает, будто мы тут что-то пло-
хое делали. Наверное, думает, что мы курили, потому что рядом
спичка валяется,— то на спичку посмотрит, то на нас.
Может быть, нам это только показалось, но обидно, когда тебе
не верят. И еще у них есть привычка при случае припоминать все
зараз. Пока тебя не видят, так ничего, а как заметили, сразу:
«Застегни пуговицу. Почему у тебя башмаки грязные? А уроки
ты сделал? Покажи уши, остриги ногти!»
И мы начинаем избегать взрослых, прятаться от них, даже ес-
ли ни в чем не виноваты. А чуть только взрослые на нас взглянут —
мы уже ждем замечания. Потому-то мы и не любим подлиз. Он,
может, даже и не подлиза, но если чересчур много вертится около
взрослых, не боится их взгляда,— значит, он с ними заодно.
Когда я был учителем, я поступал, как все взрослые. Мне каза-
лось, это хорошо, что я все вижу, на каждую мелочь обращаю вни-
мание. А теперь я думаю: нет, неправильно это. Ребенок должен чув-
ствовать себя свободным. А если уж хочешь сделать ему замечание,
так говори не то, что случайно пришло в голову, а то, что действи-
тельно хочешь сказать.
334
Ну хорошо, мы сидим на лестнице в потемках. А как же еще нам
сидеть, если свет не зажжен? Сидим, разговариваем. А скажи, что
мы разговариваем, непременно ответят:
— О чем вы там можете разговаривать? Наверное, о каких-
нибудь глупостях.
Конечно, не об умном. Просто так. А взрослые, что ли, всегда
только об умном разговаривают? Почему же такое презрение?
Взрослым кажется, что они нас хорошо знают. Ну что в ребенке
может быть интересного? Мало жил, мало видел, мало понимает.
Потому что всякий забывает, каким он был в детстве, и думает, что
только теперь поумнел.
— Пошли домой! А ну, пошевеливайся!
Мы расходимся неохотно, медленно. Чтобы он не подумал, что
мы его боимся. Ведь если бы мы и в самом деле захотели делать
что-нибудь запретное, то он бы за нами не уследил. Не здесь —
так в другом месте, не теперь — так потом.
Дома ужин еще не готов, и я стал играть с Иренкой.
Ведь у меня есть маленькая сестренка. Да, и мать, и отец, и ма-
ленькая Иренка.
Мы играем так: я закрываю глаза, затыкаю уши и отворачи-
ваюсь к стенке. Она прячет куклу, а я ищу. А когда найду, то как буд-
то бы не хочу отдавать — держу ее высоко над головой. А Иренка
тянет меня за руку и хнычет:
— Отдай куклу, отдай, отдай!
Иренка должна сказать: «Отдай куклу!» — пятнадцать—два-
дцать раз: это выкуп. Если сразу нашел, то меньше, если долго искал,
то больше.
Однажды она спрятала куклу под подушку: я сразу нашел.
И Иренка прокричала десять раз:
— Отдай куклу!
В другой раз спрятала в карман пальто. Третий раз — в шкаф.
Четвертый — под кровать. А когда спрятала в кастрюльку, я искал
долго-долго и ей пришлось тридцать раз прокричать:
— Отдай куклу!
И все начинается сначала. И это не просто глупая детская игра.
Раскрыть тайну, найти укрытое, показать, что невозможно спря-
тать так, чтобы нельзя было найти. Чем труднее добиться победы,
тем она прекрасней. Что для взрослых поиски правды, открытия,
изобретения, то для нас кукла в кастрюльке или под подушкой. Роль
природы здесь играет Иренка, которая прячет куклу, а роль челове-
чества, с великим трудом открывающего тайны,— я, маленький
мальчик. Тогда я догнал зайца благодаря быстроте бега и ловкости,
теперь нахожу куклу благодаря догадливости, вниманию, упорству.
Меня уже утомил этот длинный день, за который я так много
пережил.
Я поужинал, и мне хочется как можно скорее лечь в постель.
— Что это ты притих? — спрашивает мать.— Набедокурил в
школе?
— Нет,— говорю я,— у меня голова болит.
335
— Может быть, тебе лимона дать?
Я вымыл только лицо и руки, быстро разделся, и вот я лежу
с закрытыми глазами.
Кончился первый день. Вот уже день, как я снова маленький.
Сколько пережито за один этот день! Я ведь не все записал — только
то, что мне случайно подсказала память, только то, что длилось
дольше по времени. Если впечатления хлынут весенним ливнем,
разве можно запомнить и описать все дождевые капли? Разве можно
подсчитать волны разбушевавшейся в половодье реки?
Я был и эскимосом и собакой, преследовал и убегал от преследо-
вателей, был победителем и невинной жертвой случая, артистом и
философом,— жизнь моя звучала, как оркестр. И я понимаю, поче-
му ребенок может быть зрелым музыкантом. И когда мы присмот-
римся внимательнее к его рисункам, прислушаемся к его речи, ког-
да он наконец поверит в себя и заговорит,— мы постигнем его ог-
ромную своеобразную ценность, мы обнаружим в нем поэта, худож-
ника, мастера чувства. Это будет. Но мы еще не доросли до этого.
Я совершил сегодня путешествие в страну вечных снегов, обра-
щенный в пса, оскаливал клыки...
Но разве это все? Со мной произошло еще много, много дру-
гого...
Когда я играл с Иренкой, кукла была не куклой. Не в кармане
пальто она лежала, не под подушкой, а в лесной чаще, в подземелье,
в болотных топях, на дне моря...
Я не говорил об этом Иренке, потому что Иренка маленькая,
все равно бы не поняла. Это была уже моя собственная игра.
Я забыл добавить, что тогда как раз вошла мама. Мама го-
ворит: '
— Отдай ей куклу! Зачем ты ее дразнишь?
— Мы так играем,— отвечаю я.
— Ты, может быть, и играешь, а она злится: на лестнице слыш-
но, как она кричит.
Я забыл рассказать, что в углу подвала мне померещилось
что-то белое, вроде человека без головы, в саване. И когда я бежал
из подвала, то одно мгновение я не зайца гнал, а убегал от приви-
дения. Это длилось всего секунду, но у меня колотилось сердце, а
в глазах мелькнули три черные молнии.
И еще я не рассказал, как мне на уроке хотелось пить. А учитель
выйти не позволил.
— Скоро будет звонок, тогда напьешься!
Учитель прав. Но я ребенок, я теперь по-другому меряю время.
У меня теперь другие часы, другой календарь. День мой — веч-
ность, которая делится на короткие секунды и долгие столетия.
Нет, не десять минут мне хотелось пить!
Я забыл рассказать, что товарищ разрешил мне на перемене
поиграть на новой губной гармонике — только попробовать, хоро-
шая ли. Потому что он ее расхваливал, говорил, что она самая луч-
шая, нержавеющая, прочная. Играл я, наверное, не больше ми-
нуты — один разок,— вытер о куртку, отдал. И все.
336
Вот в том-то и дело, что не все. Потому что если он эту гармонику
потеряет, обменяет, продаст или поломает, а у меня через полгода
будет своя, и он попросит, то я это буду помнить и тоже позволю
ему поиграть. А если бы я ему не дал, он имел бы право сказать:
— Вот ты какой! А я тебе позволял!
Такие услуги не забываешь, если ты честный человек!
Я не упомянул и о том, что пальто у меня длинное, на рост. Оно
мне мешало, когда я бегал наперегонки с трамваем. До тех пор пока
я не вырасту, оно будет мешать мне всегда, всякий раз, как надену.
Опять не мелочь, и продолжалось это трудно сказать сколько. Пол-
года, год, вечность?
Еще я не записал, что вдруг я заметил на окне живую муху.
Я обрадовался, стащил потихоньку кусок сахару и бросил ей не-
сколько крупинок. Я кормил саму весну. И пусть бы только Иренка
или кто другой осмелился ее обидеть!
Я нашел пробку от бутылки. Пригодится. Она у меня тут, рядом
с кроватью, в кармане брюк.
Я видел солдата на улице. Я сделал несколько шагов по-воен-
ному и отдал честь. Он мне дружески улыбнулся.
Я умывался холодной водой. Такое ощущение, словно выкупал-
ся; холодная вода — мимолетная радость.
Когда я был взрослым, у меня был старый поблекший коврик.
Однажды я увидел на витрине магазина точно такой же новый: тот
же узор, та же расцветка. И я побрел дальше как-то медленнее,
ссутулившись.
Когда я был взрослым, в комнате после долгой зимы вымыли
окна. Очень грязные окна. Когда я вернулся домой, я долго стоял
у окна и глядел сквозь прозрачное стекло.
Когда я был взрослым, я однажды повстречался со своим дя-
дюшкой, которого давно не видел и совсем позабыл. Идет седень-
кий, на палку опирается. Он меня спрашивает, что слышно.
Я отвечаю:
— Старею, дядюшка.
А он:
— Как, уже? А что же мне тогда говорить? Ты еще молокосос.
Я обрадовался, что дядюшка жив и что назвал меня по имени.
И вдруг до моего лба дотронулась теплая рука. Я вздрогнул.
Открываю глаза. Встречаюсь с беспокойным взглядом мамы.
— Ты спишь?
— Нет.
— Тебе не холодно, может, прикрыть?
Мамина рука коснулась лица, груди.
Я сажусь на кровати.
— Не бойся. Голова у меня совсем не болит.
— Но ведь ты говорил?
— Да так, показалось, наверное.
Я обнимаю ее за шею, заглядываю в глаза. И быстро прячу голо-
ву под одеяло. И слышу еще:
— Спи, сынок.
337
Я снова ребенок, и мама говорит мне «сынок». Снова мне говорят
«ты». Снова прозрачные стекла, снова к ковру вернулись прежние,
утраченные краски.
У меня снова молодые руки, молодые ноги, молодые кости, мо-
лодая кровь, молодое дыхание, молодые слезы и радость — моло-
дая, детская.
Я заснул. Словно после дальнего похода.
Второй день
Ночью выпал снег.
Белым-бело.
Сколько лет я не видел снега. После долгих, долгих лет я
снова радуюсь снегу, тому, что все вокруг бело.
И взрослые любят хорошую погоду, но они думают, рассуж-
дают, а мы — словно пьем ее! И взрослые любят ясное утро, а нас
оно пьянит!
Когда я был взрослым, то, увидев снег, я уже думал о том, что бу-
дет слякоть, чувствовал на ногах мокрую обувь, «а хватит ли на зиму
угля?» Ну, и радость — она тоже была, но словно присыпанная
пеплом, загрязненная, серая. Теперь я чувствую одну только про-
зрачную, белую, ослепительную радость. Почему? Да просто —
снег!
Я иду медленно, осторожно. Мне жалко топтать эту радость. Все
кругом искрится, сверкает, сияет, переливается, играет, живет! И во
мне тысяча искорок. Словно кто рассыпал по земле и в душе моей ал-
мазный порошок. Посеял — и вырастут алмазные деревья. Родится
сверкающая сказка.
На руку падает белая звездочка. Хорошая, маленькая, родная.
Жалко, что она исчезает, словно ее вспугнули. Жалко! Или дуну —
и радуюсь, что ее нет, потому что уже села другая. Открываю рот и
ловлю их губами. Чувствую хрустальный холодок снега, чистую хо-
лодную белизну.
А когда начнет таять, будут ледяные сосульки. Их можно сби-
вать рукой. Можно подставить рот и ловить падающие капли. Ши-
роким взмахом руки сгребаешь сосульки из-под карниза,— они па-
дают и разбиваются с холодным прозрачным звоном.
Настоящая зима и настоящая весна!
Это не снег, а волшебное царство радужных мыльных пузырей.
Ну, и снежки... Снежки, снежные шарики — озорство, неожи-
данность... Мячиков — сколько душе угодно! Не покупаешь, не бе-
решь поиграть, не просишь. Они твои. Бросаешь — снежок мягко
ударяет и рассыпается. Ничего, сейчас будет новый. В спину, в ру-
кав, в шапку!.. Ты — в него, он — в тебя. Смех... И стучит сердце...
Падаешь, отряхиваешься... За шиворот! Бр-р-р, холодно... Хо-
рошо!
Катишь ком. Он облипает снегом, растет. Выбираешь места по-
лучше, толкаешь. Ком все больше, больше. Уже не ладонью, а обеи-
338
ми руками, уже чувствуешь: тяжелеет. Поскользнулся — значит,
медленней, осторожней. Чей больше? А теперь что, лепить снежную
бабу или вскочить на него с разбегу?
Дворники сгребают снег с тротуаров. Скорее на мостовую, где
нетронутый снег,— и бредешь по колено в белом пуху...
Боже, как нужны доски и гвозди! Самая необходимая, единст-
венно важная вещь на свете, кроме нее, ничего не существует —
это собственные салазки, обитые железом. Что бы такое разбить,
разобрать, разыскать, выпросить — как бы добыть доски? И конь-
ки — если нельзя два, то хотя бы один! Сиротой себя чувствует че-
ловек без конька и салазок!..
Вот они, наши белые заботы, белые желания.
Жаль мне вас, взрослые,— вы так бедны радостью снега, кото-
рого вчера еще не было!
Ветер смел с карнизов, со ставен, с водосточных труб обломки
звездочек и швырнул белой пудрой в улицу. Белый холодный туман.
Вверх, вниз, в зажмуренные глаза, в занавеску белых ресниц.
Улица. Не лес, не поле, а белая улица. Удалой, молодой возглас
радости. На крышах домов будут стоять маленькие человечки,
сбрасывать лопатами снег на огороженные тротуары. А ты зави-
дуешь, что высоко, что могут упасть, а не падают, что работа лег-
кая, и приятная, и красивая — швырять снег с высоты, что прохо-
жие сторонятся и смотрят вверх.
Будь я королем, я приказал бы в первый день зимы вместо ты-
сячи школьных звонков дать с крепости двенадцать пушечных зал-
пов, возвещающих, что занятий не будет.
В подвалах и на чердаках каждой школы есть ящики, сломанные
парты, доски.
Праздник первого санного пути.
Останавливаются трамваи, ездить на колесах запрещено. Наши
санки, наши колокольчики вступают во владение городом: всеми
улицами, площадьми, скверами, садами. Белый праздник школьни-
ков — День Первого Снега.
Вот как я шел в школу.
А теперь школа. Школа, и больше ничего. Я знаю, что это не ее
вина, но все равно обидно. Ну разве не обидно? Пять часов сидеть
за партой: читать, решать задачи...
— Госпожа учительница, снег...
— Снег, госпожа учительница!..
Учительница останавливает, сперва мягко, потом все строже. Она
раздражена, но отрицать не может, она знает, что мы правы. Ведь
и в самом деле снег!
— Госпожа учительница!..
— Тише!..
Потом пойдет:
— Кто только рот откроет...
— Кто только скажет одно слово...
— Я вам в последний раз говорю...
Начнутся угрозы.
339
Значит, опять мы виноваты? Значит, виноват не снег, а, как
всегда,— мы...
Мы спали ночью и даже не знали — можем принести записку от
родителей,— он выпал сам, с неба. А если об этом нельзя говорить,
если надо притворяться, что мы ничего не видали, ничего не заме-
чаем, если это нехорошо, некрасиво, что мы знаем и даже радуем-
ся,— ну, тогда ничего не поделаешь. Пусть так.
В углу пока стоит только один.
Вместе со всеми примолк и я. Несколько беспокойных взгля-
дов в окно и последний, полный надежды взгляд — на учительницу:
может быть... И уже тишина. И уже только урок.
Нет двенадцати залпов белого веселья для детей.
Кто-то отвечает у доски. Про что-то неинтересное.
Я открываю пенал и считаю, сколько у меня перьев.
Раз, два, три... школьное, солнышко, лодочка, рондо, лягушка,
два, три школьных...
Раз, два, три, четыре, пять... Одно без кончика: кончик отломился:
наверное, писать не будет.
Я вынимаю его, пробую: пишет, но жирно.
Одиннадцать перьев, одиннадцать...
А теперь что?
Говорят про что-то скучное: не то про мальчика, не то про
крестьянина...
Я зеваю.
— На уроке зевать нельзя!
Сосед подтолкнул, чтобы я встал. Встаю. Догадываюсь, что я
зевнул и что учительница это сказала мне.
— Сиди прямо, не облокачивайся!
Я сижу прямо, не облокачиваюсь. Украдкой зеваю.
— Смотри на доску.
Я смотрю на доску и вижу, что за окном снова порошит снег,
но мне уже все равно.
Сижу тихо-тихо.
— Повтори.
— Что?
— Иди в угол. Ты невнимателен.
Я тащусь по направлению к углу.
— Скорее!
Болят ноги. Не болят, а подкашиваются. Удивительно, ведь
сил хватило бы на бег, санки, коньки. А теперь — не злая воля, не
упрямство, не лень, не озорное школьное «назло», а искреннее, чест-
ное, добросовестное, страдальческое: «Не могу». Словно кто-то взял
да и скосил меня, как траву.
Строгое наказание — стоять в углу. Я уставал сегодня от сиде-
ния за партой. Облокотился, не мог сидеть прямо. Теперь я должен
стоять.
Я утешаю себя:
«В углу лучше. Если начнут хулиганить, мне не отвечать со
всеми».
340
А начать могут.
Потому что под тишиной одурения тлеет скрытая обида, кото-
рая ждет только сигнала.
Наконец-то звонок!
Теперь вы понимаете, почему школа, правда несколько сму-
щаясь, требует, чтобы ученики выходили из класса парами, держась
за руки.
Мы срываемся и всем скопом, тучей, вихрем — в двери!
Двери в школах должны быть широкими на случай пожара и
таких вот снежных дней...
Мы толкаемся, спешим, чтобы не потерять ни единой, ни единой
минутки. Мы должны спасаться, а перед нами длинный путь и столь-
ко препятствий. Узкие двери, тесный коридор, лестница, вестибюль.
А все мы должны быть во дворе первыми. Значит, локтями, колен-
ками, грудью, головой прокладываем дорогу. От холодного снега
горят руки...
Что-то мелькнуло перед глазами... Началось!..
Первый кое-как слепленный снежок — бац! — в первого попав-
шегося ученика. Он не рассердится. Начинается такая расчудесная,
распрекрасная игра! И никто нам не помешает. Не осмелится по-
мешать, не рискнет. Это наши десять минут. И на страже их мы —
лавина, ураган, стихия.
Бой — на расстоянии и врукопашную. Бой с одним и со всеми.
Бой, в котором нет врагов и никому не хочешь причинить вреда, но
из которого обязательно надо выйти победителем. Не идут в счет ни
нанесенные, ни полученные раны, не замечаешь ударов сзади. Толь-
ко бы выдержать атаку...
Кто-то уже грохнулся, кто-то уже что-то разглядывает: «рана»
на штанах или на куртке, а на глазах слезы.
Мы не видим ран, не сочувствуем слезам. Прервать игру может
только что-нибудь страшное — пожалуй, разбитое окно или на-
стоящая кровь. Хотя, кто знает, остановит ли это бой; может стать-
ся, тоже всего лишь на ближайшем участке.
Ни плана, ни военачальника. Только случайные,. мимолетные
союзы...
Вот мы втроем жарим в одного. Приперли к стенке. Он защи-
щается, но кольцо становится все теснее. Он уже выбрал весь снег
из-под ног, уже бросает в панике не снежки, потому что не успевает
их лепить, а мягкий, безвредный снег; уже не может нагнуться, по-
тому что мы подошли вплотную.
— Сдаешься?
— Нет!
Он прав.
Потому что один из троих вдруг бросил со всего размаха снежок
в союзника. Измена, переполох. Собственно, не измена, а сигнал
рассеяться и пуститься бегом на более интересные участки боя.
Он прав, что не сдался, потому что в последний момент ему при-
ходят на помощь. Мы получаем целый град снежков в незащищен-
ные спины. А он уже ускользнул, воспользовавшись всеобщим за-
341
мешательством, ослабевший, белый с головы до ног, но непобеж-
денный.
Или один из тройки накормит его последним, плохо слепленным
в спешке снежком — пригоршней сыпучего снега, а это запрещено...
Или вот так, вдруг разбежимся в разные стороны, не зная, про-
тив кого сражались и вместе с кем.
Все смешалось. Мелькают знакомые, полузнакомые и совершен-
но чужие лица...
Мы боремся не с человеком, а со временем. Надо использовать
каждую долю секунды, выжать ее до последней капли наслаждения
движением.
Вот мы оба лежим в снегу. Я наверху. И уже умышленно ослаб-
ляю хватку, чтобы дать и ему возможность реванша. На мгновение.
Он понял. Мы вскакиваем и бежим вместе, держась за руки.
Одно только желание: исчерпать все возможные ситуации боя.
Поглотить, впитать как можно больше впечатлений. Напрячь каж-
дый мускул, каждый нерв. Вдохнуть воздух каждым уголком легких.
Тысячекратно перебросить через сердце упругую волну крови.
Ничто не будет забыто. И в усталости следующего школьного
часа мы снова, мгновение за мгновением, переживаем эти прекрас-
ные десять минут, вобравшие столько потрясений.
Дети растут, неправда ли? Растет и крепнет их тело, растет и
крепнет их дух. Я хотел бы неопровержимо, научно доказать, что
больше всего растут дети в такие вот перемены.
Ага, звонок. Ничего. Еще лучше. Звонок придает игре темп. Так
при звуках оркестра тверже становится шаг солдат. Если до звонка
мы, может быть, чуточку щадили силы, то теперь-то уж нет. До
конца, до дна, дотла — весь остаток сил, словно в «белой мазурке»,
бросить на последнюю минуту борьбы.
Решительная, опасная, бессознательная минута. Сейчас, когда
уже нет расчета и преднамеренности, именно сейчас и разбивается
чаще всего окно, исчезает бесследно слишком сильно брошенный
мяч, кто-нибудь ломает ногу. Сейчас может внезапно возникнуть
короткая ожесточенная драка. И дерешься не потому, что не любишь
своего противника, не потому, что у тебя с ним давние счеты, а по-
тому, что звонок уже призывает в класс. Он не нарочно толкнул тебя
или ударил. До звонка ты простил бы, даже не обратил бы внимания;
теперь же, после звонка, ты обиделся, не прощаешь. Сам потом удив-
ляешься, и стыдишься, и жалеешь. И тебе сочувствуют товарищи,
и им неприятно, что не предотвратили вовремя драки.
Жалко, расстроилась такая прекрасная игра!..
Прекрасная?..
Как же убога человеческая речь! Ну, как тут скажешь? Мы бега-
ли. Было весело.
И все.
Будь я сторожем, я звонил бы в такие снежные перемены долго-
долго. Потому что мы ведь не понимаем звонка и включаем его от-
голоски в игру, но это только до тех пор, пока он звонит. И, лишь
когда он замолк, в первой после него тишине игра уже незаконна,
342
тревожна, безрассудна. Уже расстраиваются ряды, более дисципли-
нированные выходят, появляется нерешительность в движениях, во
взглядах, теряется убежденность, вера. Ты колеблешься: знаешь, что
надо уступить, но ведь это поражение, дезертирство, измена!
Тишина, но с минуты на минуту в ней щелкнет бич второго звон-
ка. И будет поздно.
Мы бежим в вестибюль. Там нас, наверное, предусмотритель-
но задержит тот, кто отвечает за чистоту коридоров.
— Ноги вытирайте!
Вот тут-то кто-нибудь и швырнет последний, твердый, хорошо
слепленный, крепко сбитый снежок в ораву ребят у двери. Рука дрог-
нула, и снежок попадает не в нас, а в окно.
Когда я снова стану взрослым, я этот вопрос задам громогласно,
со всей ясностью, поставлю на повестку дня.
Стекло как будто бы изобрели еще финикийцы. И за столько
столетий нельзя было придумать ничего более прочного? О чем же
думают химики и физики в своих лабораториях? Неужели и в самом
деле нельзя придумать ничего другого?
Пусть стекла не бьются. Это они виноваты, а не мы.
Почему же мы все должны вдруг застыть, оцепенеть от страха,
ждать несчастья? Почему я, ни в чем не повинный, должен скры-
ваться, убегать оттуда, где совершено преступление? Отчего вдруг
все случайно присутствовавшие стали преступниками?
Почему после этой пятиминутной — ну, десятиминутной — пе-
ремены меня встречает свирепый взгляд и грозный вопрос:
— Кто?
— Не я.
И, хотя я говорю правду, я чувствую себя так, словно лгу. Следо-
вало бы ответить:
— Случайно не я.
Я знаю, что против меня есть улики. Меня уличает заснеженная
одежда. Я играл в снежки, как и другие, как все. Ведь это можно?
А впрочем, почем я знаю? Может, и нельзя. Я тороплюсь в класс,
я хочу успеть и наверняка успею. А впрочем, почем я знаю? Может,
я и в самом деле виноват, что не побежал в класс с первым звуком
звонка? Но разве это было возможно — сразу, в ту же минуту?
— Не я.
Я бросил несколько дозволенных, невинных снежков. Несколь-
ко? Не знаю сколько. Считать ли только хорошо слепленные снежки
правильной геометрической формы или и эти полуснежки, четверть-
снежки, которые я бросал впопыхах?
А ведь нашелся один — тьфу, врун несчастный! — говорит:
— Я только два снежка бросил, там, далеко...
Жулик, пройдоха, лгун.
Таких перемен, как сегодняшняя, в жизни человека немного.
Иногда в течение всей зимы ни одной не случится. Потому что долж-
но быть тепло, иначе снег будет сыпучий и снежка не слепишь. И
чересчур мерзнут руки. Снег должен быть влажный и глубокий. Но
плохо и если слишком тепло, потому что тогда все очень быстро
343
растает. Снег должен выпасть ночью или утром, чтобы его не успели
убрать. Он должен быть первым, нетронутым, чтобы в нем не было ни
кусочков льда, ни комьев земли. Мы, знатоки и почитатели снега,
все это глубоко чувствуем.
Мы знаем: вы, взрослые, часто бываете нами недовольны. Слу-
чается, что вы правы.
Что ж, это правда, мы любим прыгать на диване. Вы говорите,
что диван портится — пружины ломаются. Не сразу, понемногу.
Диван, если на нем не прыгать, продержится десятки лет. Мы вам
верим, хотя, живя на свете всего лет десять, мы не могли еще в этом
убедиться.
Вы не позволяете давить дверьми орехи. Двери портятся. Это
еще более странно. Двери — ведь это дом. А дома — высокие, проч-
ные, стоят сотни лет. Ну что ж, пусть будет так!..
Даже покататься на дверях нельзя, потому что, хотя петли и
железные, они могут сломаться. Странно! Мы живем на свете с не-
давних пор и только еще осматриваемся. И вы, и весь мир — все
такое удивительное. Но в злой воле мы вас не обвиняем. Железо
ломается? Согласны.
Одежда рвется? Да, к сожалению.
Стекла бьются? При всяком удобном случае. Они бьются сами,
не мы их бьем. Мир тверд и неподатлив. Хлопнешься оземь или уда-
ришься о стену, о подоконник, о шкаф, о стол, об острый угол —
больно, иногда даже очень больно.
И вот небо для нас, для детей, устлало землю белым ковром,
как птица выстилает для птенцов пухом свое гнездо. Зеленой травы
зимой нет, и не скоро она будет. А если и будет, то огороженная, и
топтать ее нельзя. А со снегом можно делать что хочешь.
Есть снежки невинные, есть злостные, есть благородные и есть
коварные дум-дум, запрещенные гуманным законом войны. Есть
картечь, есть бомбы, есть гранаты. А для вас это все — снежки, ко-
торыми выбивают стекла. Но что ж поделаешь, война!..
— Случайно не я.
— А кто?
Пожимаешь плечами:
— Не знаю.
В самом деле, не знаю. Если даже и знаю, то все равно не знаю.
Может, мне только показалось, что это он. Потом-то я, наверное,
узнал бы: порасспросил бы спокойно ребят, взвесил. Но сейчас у ме-
ня нет полной уверенности, что это именно он, наверняка он, и никто
другой.
Ведь я бежал после звонка, опаздывал. Усталый, радостный,
оробевший. Мне могло показаться.
Их там двое стояло. Наверное, кто-нибудь из них. А тут мельк-
нуло еще чье-то лицо. Возможно, что как раз тот, третий. А может
быть, какой-нибудь шальной снежок? Надо установить, нужно вре-
мя, а учитель хочет узнать все сразу.
И вообще, пусть другие скажут: может, они ближе стояли, боль-
ше видели.
344
И мы мрачно молчим. Долго, невыносимо долго.
Закон божий прошел спокойно.
Рассказывали об Иосифе, которого фараон бросил в темницу.
Иосиф умел толковать сны. Потом-то ему хорошо было, но сколько
он перенес! Братья оклеветали его, продали, долгие годы он сидел
в мрачном подземелье. Я недолго стоял в углу и то сколько выстра-
дал! А ведь я стоял в классе, где есть окна, и понимал, что это только
до звонка. Почему мы не знаем, как выглядела египетская темница
и как долго томился в ней Иосиф? Жалко мне Иосифа. Вчера я хо-
тел знать все об эскимосах, сегодня — об Иосифе. Вопросов у меня
очень много; отчего взрослые не любят наших вопросов? Ведь того,
что было так давно и так далеко, могут не знать и взрослые. Почему
они никогда не признаются в том, что не знают чего-нибудь? Они
ведь могли бы прочесть потом в книжке или спросить того, кто знает
больше. Или догадаться. Им легче...
Раньше в школе не было даже таблиц и картин. В мое время
даже кино не было. Как же бедны были детские годы без кино! Нам
рассказывали о морях, о горах, о диких племенах, о давних войнах.
И мы мечтали все это увидеть. Теперь, когда человек выходит из
темного зала кинотеатра, он может, по крайней мере, сказать: «Я там
был, я сам видел».
Меня выводит из задумчивости шум в классе. Мы опять отдохну-
ли и жаждем двенадцати пушечных залпов.
Болит спина, только теперь заболела. Крепкий был, должно быть,
снежок. Такая боль приятна. Как шрам, который отец показывает
сыну. Боль, о которой говорят с гордостью: «Это ничего. Пустяки».
Я оборачиваюсь, чтобы взглянуть на Янека, которому я залепил
снежком прямо в лоб, даже шапка у него свалилась. Он улыбается
и блеском глаз отвечает:
«Помню. Но погоди, сейчас опять начнется. Уж я тебе не спущу».
Не знаю, чаще ли мы улыбаемся, чем взрослые. Только их улыбки
мало что говорят, а вот наши мы хорошо понимаем,— иногда улыб-
кой больше скажешь, чем словом.
Когда я снова стану учителем, я попробую найти с учениками
общий язык. Чтобы не было как бы двух враждебных лагерей: с од-
ной стороны класс, а с другой — учитель и несколько подлиз. По-
пробую, нельзя ли сделать так, чтоб была взаимная откровенность.
Например, в такой вот день первого снега я во время урока хлоп-
ну вдруг в ладоши и скажу:
— А ну-ка, запомните, о чем вы думаете в эту минуту. Кто не
хочет, может не говорить. Только по желанию.
В первый раз это не удастся. Но я буду часто так делать,— как
только замечу, что класс не слушает.
Стану спрашивать всех по очереди:
— Ты о чем думал? А ты о чем?
Если кто-нибудь скажет, что он думал об уроке, я спрошу:
— А не выдумываешь?
Если кто-нибудь улыбнется и я увижу, что ем> не хочется гово-
рить почему, предложу:
— Не хочешь при всех, тогда скажи на ухо, или я запишу на
переменке.
— Зачем это вам?
Я отвечу:
— Хочу написать книжку о школе. Многие пишут книги о школе.
И все чаще вводится что-нибудь новое, чтобы лучше было и ребя-
там и учителям. Не увеличить ли зимой перемены? Не устают ли
ученики скорее в хорошую погоду? Вы вот окончите школу и уйдете,
а мы всю жизнь ходим в школу.
И они удивятся, потому что им и в голову не приходило, что
учитель тоже ходит в школу и проводит здесь, в классе, много часов.
Мы будем говорить о том, кто бы что хотел изменить. Я скажу, что
у учителей чаще всего нервы плохие и болит горло. И объясню
почему.
А потом, когда уже каждый искренне скажет, о чем он думает на
уроке, я пошучу:
— А теперь всем, кто был невнимателен, я поставлю кол.
— Какой хитрый!
А я скажу:
— Нехорошо говорить, что учитель хитрый.
А они:
— Почему?
Я объясню. И опять:
— Ну, что же, значит, поставить кол тем, кто думал об уроке?
Правильно?
Одни закричат:
— Да, да!
А другие:
— За что? Мы были внимательны!
— Нет, невнимательны.
— Почему?
— Да потому, что сегодня выпал первый снег, а вы на него и вни-
мания не обращаете. Значит, вы невнимательны.
— Ну, снег это не урок!
— Так, может быть, сегодня колов не ставить?
— Сегодня не ставить и никогда не ставить!
— Без колов не обойдешься...
— Проклятый колище!
— Влепить кол — тоже радости мало. Учитель и сам любит пя-
терки ставить.
— Так пусть и ставит всегда одни пятерки!
— А можно так?
— Ну, нет!
Так мы и будем подтрунивать друг над другом до самого звонка.
И подумать только, как это странно! Я хотел стать ребенком, а
теперь думаю о том, что я буду делать, когда вырасту. Видно, и де-
тям, и взрослым не так уж хорошо. У тех свои заботы и печали, у
этих — свои.
А не могло ли быть так, чтобы человек становился то большим,
то снова маленьким? Как зима и лето, день и ночь, сон и бодрство-
вание. И если бы так было все время, то никто бы даже и не удив-
лялся. Только дети и взрослые лучше понимали бы друг друга.
На перемене шла уже более спокойная игра. Мы сговорились,
кто с кем. И снег был уже утоптан: труднее снежки лепить. Неко-
торые, правда, пробовали. Но больше играли в лошадки. Один маль-
чик сзади — кучер, а два впереди — лошади. И вереницей, упряжка
за упряжкой, будто бы это пожарная команда, артиллерия или сан-
ный поезд на масленицу. Каждый по-своему думает, но все бегаем
наперегонки: у кого лучше лошади или машина.
Кто сам не играет, ничего не понимает. Важно не только то, что
бегаешь, а еще и то, что делается в самом человеке. Играть в кар-
ты — это значит бросать бумажки, в шахматы — деревяшки пере-
двигать. Танец — это топтание по кругу. А про остальное знает
только тот, кто сам играет или танцует.
Нельзя смотреть на игру свысока, мешать играющим, нельзя
резко прерывать игру, навязывать неприятного товарища.
Если я кучер, то хочу, чтобы мои лошади были одинакового
роста, не слишком большие и не слишком маленькие, веселые, но
послушные, умные, рассудительные. Если я лошадь, я не хочу, чтобы
мой кучер был дураком или грубияном. Я сам устанавливаю скорость
бега и не хочу, чтобы он меня дергал, бил, толкал. Когда я лошадь, я
чувствую себя совсем по-другому, чем когда я кучер. А вы что
знаете? Что я фыркаю и переступаю с ноги на ногу. Или что я кричу:
«Сто-о-ой — ннно-оо!»
Когда я пожарник, я пристально смотрю вдаль: нет ли где дыма,
и спешу, но совсем по-другому, чем когда несусь с пушкой на по-
зицию. Перед пожарниками все расступаются, а артиллерию враг
берет на прицел. Я недоверчиво оглядываюсь по сторонам, чтобы не
попасть в засаду. А не просто ношусь как дурак.
И еще важно набегаться про запас, ведь опять целый час сидеть
за партой.
Наконец уроки кончились. Домой.
Иду я, а Манек меня догоняет.
— Я тебя в школе искал,— говорит.
Идем рядом. А он спрашивает:
— Может быть, ты со мной не хочешь ходить?
Другой и не спросил бы.
Я говорю:
— Конечно, хочу.
Он посмотрел на меня внимательно: может быть, я это только
так говорю? Мы улыбнулись.
— Давай наперегонки с трамваем?
— Да ну, каждый день наперегонки... Я уже на переменке на-
бегался.
Мы остановились перед витриной.
— Гляди, какие красивые циркули! Видишь, вот это надо встав-
лять, когда хочешь начертить большой круг. А это для туши. Как ты
думаешь, сколько стоит такой циркуль? Ты хотел бы такой? Гляди,
347
золотые чернила! Гляди, какая маленькая чернильница, дорожная.
Мне надо купить кисточку, только не здесь. Франковский купил на
углу, и она у него уже месяц, а у моей сразу все волосы вылезли.
Такое мошенничество. Ты бы что выбрал с витрины, если бы тебе
позволили? Если бы только одну вещь позволили? Я бы — циркуль
и вот этого негритенка.
— Это две вещи!..
— Ну, тогда один циркуль...
В соседнем магазине мы выбираем по большой плитке шоколада
на тот случай, если бы нам позволили.
Потом он выбрал для мамы вазу с цветами, а я куклу для Иренки.
На витрине ювелира рядом с драгоценными брошками и коль-
цами лежат часы. Мы не жадные. Запасаемся часами. Долго со-
ветуемся, какие лучше, ручные или карманные с цепочкой.
Потому что мы, дети, отличаемся от вас, взрослых. Мы всегда го-
товы обменять вещь более дорогую на ту, которую нам хотелось бы
иметь. Если бы вы вникли во все детали наших торговых операций,
вы узнали бы, что и жульничество у нас выглядит совершенно иначе.
Когда я был ребенком в первый раз, мне подарили однажды
коньки. Тогда коньки были еще редкостным подарком, ценным. Ну,
а я обменял их на круглый пенал из вишневого дерева, с мопсиком.
Мопсик был без глаза, но очень славный. Пенал нужен каждый день,
а коньки только иногда, и зима как раз была теплая, и льда не было.
Когда об этом узнали дома, мне здорово досталось. Пришлось от-
дать пенал. Мне было очень стыдно. Ведь раз коньки мои — значит,
я имею право делать с ними, что хочу. Кому какое дело, если мне
больше нравится пенал из пахучего дерева со слепым мопсиком?
И вовсе никто меня не обманывал, я знал, что коньки дороже, но
мне хотелось такой пенал. А разве путешественник в пустыне не
отдаст мешок с жемчугом за кувшин воды?
Мы долго советовались, что выбрать на витрине столяра. Нам
нравился столик с выдвижным ящиком, который запирается на клю-
чик, только вот позволят ли его дома поставить? Может быть, выб-
рать что-нибудь для родителей? Но как приятно, когда у тебя есть
хотя бы маленький собственный стол!
Мы заговорили о доме. Дома у Манека плохо, отец пьет.
— Мы перед каждой получкой боимся,— говорит Манек,— при-
несет отец домой деньги или опять голодать целую неделю? А как
проспится, самому стыдно, и голова болит.
— А ты не можешь ему сказать, чтобы он пить перестал?
— Да что я ему скажу? Хватит и того, что мама плачет да ру-
гается. Он пообещает, а потом опять за старое. Как ребенок!
— А ты попробуй с ним по-хорошему поговорить.
— Да если мне стыдно. Мы один раз в деревне были у папкиного
товарища. Там пили. А отец сказал, что не хочет. Потому что он
тогда маме поклялся, что капли в рот не возьмет. Так вот, когда на-
чали отца уговаривать выпить хоть одну рюмочку, я его за рукав
потянул, потому что я знал: раз одну, так и пойдет пить. Отец встал
и говорит: «Ну-ка, пошли на реку!»
348
И мы шли с ним, шли. И жаворонки поют. И хлеба нам словно
кланяются. И солнце. И так хорошо... Отец меня за руку держит.
Потом сели мы у реки, а он все меня за руку держит. А рука у него
как вздрогнет, словно он крапивой обжегся. И я сказал: «Видишь,
папка, лучше не пить». А он на меня посмотрел, и мне так стыдно
стало и так его жалко. Потому что он на меня так жалобно посмот-
рел. Знаешь, иногда собака так смотрит, когда чего-нибудь просит
или боится, чтоб не побили. Я знаю, что одно дело человек, а дру-
гое — собака. Мне это так только в голову пришло. В другой-то раз
я бы уж ни за что на свете так отцу не сказал. И, знаешь, отец
словно догадался, все смотрит и смотрит на воду, смотрит и говорит:
«Собачья жизнь, сынок!» И вздохнул. Я хочу поцеловать ему руку,
вроде как прощенья попросить, а отец за мою руку крепко держится
и не дает. Не знаю, обиделся ли или, может, подумал, что он не стоит
того, чтоб его целовали. К тем-то он уж не вернулся, только сказал,
чтобы я его палку принес,— голова, мол, у него разболелась. Боял-
ся, что будут смеяться. А в поезде купил мне баранок. Я ни одной
не съел, все братишке привез. Я даже хотел съесть одну, чтобы папка
не думал, что я отказываюсь. Да не смог: горло у меня как-то сда-
вило. Он потом долго не пил, наверное, целый месяц, мама уж ду-
мала, что все хорошо... Только послушай, не говори никому в школе.
Я это тебе одному говорю. Не скажешь? Даже если поссоримся?
— С чего это нам ссориться?
— Ну, не знаешь?.. Не поделим что-нибудь и поссоримся...
И мы еще немного поговорили о том, какие бывают на свете
люди: один пьет, другой работать не хочет, третий ворует, этот лю-
бит одно, тот — другое. Или не любит чего-нибудь.
Например, есть такие, которые не любят ногти стричь. Потому
что если короткие ногти, то им это не нравится. И носят длиннющие
когти!.. Или грызут. А еще на пальцах делаются заусеницы, и тогда
больно. И на ногтях бывают белые пятнышки, отчего это?
Говорят, это счастье расцветает. А другие говорят, что кто-
нибудь завидует. Всегда один скажет так, другой — иначе, и неиз-
вестно, кому верить. Ужасно много лжи на свете...
И мы так разговаривали очень долго, и я опоздал к обеду. Потому
что я его провожал, а он меня, и мы ходили туда и обратно.
Хорошо было так ходить и разговаривать — кругом снег...
Ну, я и опоздал.
А мама начала кричать, почему я опоздал к обеду?
Вечно я где-то болтаюсь, а с нее довольно стряпни и грязной по-
суды, и башмаки я деру, а был бы девчонкой, так давно бы ей помо-
гал, вот она пойдет в школу и пожалуется, что я расту хулиганом,
и это Ирена должна быть старшей, а я младшим, и мама из-за
меня умрет.
Я стою и ничего не понимаю.
Если я опоздал, то могу съесть обед холодным или вовсе не
есть; могу сам тарелку вымыть.
Мама поставила еду, а я не хочу. Мама еще пуще:
— Ешь!!! Еще капризничать будет, гримасы строить!
349
Я не хочу ее еще больше раздражать и ем. Но каждый кусок
становится у меня поперек горла. И не могу проглотить. Хоть бы еда
в тарелке скорее кончилась.
И только вечером я узнал, что маме моль изъела платье. Скоро
именины, а платье молью изъедено. Значит, и за то, что сделает моль,
должны отвечать дети?
Лучше уж и вовсе не знать, отчего взрослые сердятся, когда дают
нагоняй. Чувствуешь, что с ними что-то приключилось, но ищешь
вину и в себе, пока не найдешь.
Я сижу в углу и делаю уроки. Но боюсь, что придет кто-нибудь
из мальчишек и опять начнется:
«Иди дери башмаки, вон тебя уж твои друзья-приятели кличут!»
А ведь я только для того и хотел стать маленьким, чтобы
опять играть с ребятами.
И я угадал: кто-то постучался, но тихо-тихо и только один раз.
А мама услышала:
— Не смей выходить! Уроки готовь!
Да, я готовлю уроки. И даже нет охоты выходить...
И мне кажется, что я сижу в поле, и мне холодно, и я один-оди-
нешенек, и босой, и голодный, и волки воют, и озяб я, и страшно, и
весь я уже оцепенел.
Какие люди странные. То им весело, то вдруг — грустно.
Не знаю наверняка, но мне кажется, что взрослые чаще бывают
сердитыми, чем грустными. А может быть, они потихоньку, про себя,
и грустят, а на детей злятся. Редко случается, чтобы об учителе
сказали: «Учитель сегодня грустный». И, к сожалению, часто: «Учи-
тель сегодня сердитый»...
Почему взрослые не уважают детских слез? Им кажется, что
мы плачем из-за любого пустяка. Нет. Маленькие дети кричат, по-
тому что это их единственная защита: поднимет крик — кто-нибудь
да обратит внимание и придет на помощь. Или уж с отчаянья кри-
чат. А мы плачем редко и не о том, что самое важное. Если уж очень
больно, то покажется одна слезинка, и все. Ведь и со взрослыми так
бывает, что в несчастье вдруг застынут, высохнут слезы...
И уж реже всего заплачешь, когда взрослые сердятся, а неправы.
Опустишь голову и молчишь. Иной раз спросят, а ты не отвечаешь.
Даже и хочешь ответить, но только пошевелишь губами, а сказать
не можешь. Пожмешь плечами или что-нибудь буркнешь под нос.
Потому что в голове у тебя пусто, только в груди немое отчаяние
и гнев.
Часто даже не слышишь, что кричат, ни единого слова не раз-
берешь. Даже не знаешь, в чем дело. Только в ушах звон.
А еще рванут, толкнут, ударят. Ударят раз или рванут за руку,
и им кажется, что это не битье, не больно. Потому что битьем у них
называется истязание детей. Когда ремнем порют, они держат
ребенка и лупцуют, словно злодеи какие, а он вырывается и орет:
«Я больше не буду, я больше не буду!»
За такое битье — может быть, теперь его и меньше, но все-таки
еще есть — когда-нибудь в тюрьму сажать будут. Что чувствует
350
тот, кто бьет, и что чувствует жертва, я не знаю. Но мы смотрим на
это с омерзением, возмущением, ужасом.
Может быть, вы думаете, что здесь нет ничего такого, потому
что мы и сами между собой деремся. Но у нас меньше руки и силы
меньше. И, даже невесть как обозлясь, мы бьем не с таким ожесто-
чением. Вы наших драк не знаете. Мы всегда сперва попробуем, кто
сильнее, и соразмеряем силу с возрастом и умением драться. Он
меня, я его. А когда удастся обхватить так, что пошевельнуться не
может, сразу перестаем. Вот когда нам кто-нибудь помешает, мы
можем слишком сильно ударить. Или когда вырываешься, ударишь
по носу, а из носа всегда кровь течет.
Мы знаем, что значит больно.
Сижу я так и размышляю о том, что я знал раньше и что знаю те-
перь. И во мне все нарастает обида, что мы — такие маленькие и сла-
бые. А больше всего мне жалко Манека, потому что у него отец пьет.
Буду с ним дружить, ведь и ему плохо, и мне. Пускай между нами
будет братство. Ведь это из-за него я сейчас страдаю, потому что я
из-за него опоздал на обед.
А тут подходит Ирена. Встала неподалеку и смотрит. И я на нее
искоса поглядываю, потому что не знаю, чего она хочет. А она стоит
и ничего не говорит. Потом сделала шаг ко мне и опять ничего не
говорит, только стоит. Я жду, а она что-то из руки в руку перекла-
дывает. Я знаю, что сейчас будет что-то хорошее. Внутри меня стало
тихо-тихо. И вот Иренка подает мне это. Хочет подарить мне гране-
ное стеклышко, такое, что, когда в него смотришь, все становится
разноцветным. Я вчера просил, так даже поглядеть не дала, а сейчас
говорит:
— На. Насовсем!
Сказала ли она «на», я не знаю, потому что не расслышал. Я
услышал только: «Насовсем!»
Тихонько так сказала, мило, стыдливо.
Я не хотел брать, потому что еще даст, а потом поссорится или
просто пожалеет и отнимет. Еще пожалуется, что сам взял. С ма-
ленькими детьми трудно столковаться,— взрослые мешают. Так вот,
я не хотел брать, потому что боюсь, что выйдет неприятность. Но
взял; гляжу, а вместо одного окна много окон, и все разноцветные.
Я говорю:
— Я тебе отдам.
А она:
— Не надо!..
И положила свою маленькую ручку на мою большую руку. Я
смотрю на ее руку через стеклышко, и мы улыбнулись друг дружке.
А тут мама спрашивает, кончил ли я уроки. Тогда она даст мне
на трамвай, чтобы я поехал к тетке и отвез ей платье, которое изъела
моль. А я, обиженный, думаю:
«Хорошо, по крайней мере, хоть из дому ненадолго уйду».
— Только не потеряй,— говорит мама.
А я подумал:
«Девчонка, может быть, и потеряла бы, а я-то уж не потеряю».
351
Взял я платье, которое мама завернула в платок, и иду.
Трамвая мне пришлось ждать долго, и я злюсь, потому что хотел
мигом обернуться: вот, мол, как быстро все исполнил. А там, видно,
случилось что-то такое на линии, отчего трамваи остановились, по-
тому что, когда трамвай подошел, он был уже полный. Но все равно
в него все лезут. И я лезу. Я уже даже за поручни держался, а тут
какой-то тип как толкнет меня — я еле на ногах устоял. Я так обоз-
лился, что даже обругал его про себя. А он влез на подножку и го-
ворит:
— Куда везешь? Слетишь!
«Ишь какой добрый нашелся,— думаю.— Сам слетишь, пьяный
болван!»
Он вовсе и не пьяный был, это я только так, со злости. Ведь он
меня не спьяну столкнул, а потому что он сильнее меня.
Я дождался другого трамвая, и тот битком набит. Я заплатил и
еду. А сам все думаю о том, как он меня грубо столкнул. Такой гру-
биян, хам, а еще взрослый,— детям пример подает!
А тут опять один какой-то толкается. Отстранил меня, словно
я вещь, а не человек; я чуть платье не выронил. И что я такого ему
сказал? Каждый бы так сказал, как я:
— Осторожнее...
А он как напустится на меня:
— Я тебе дам — осторожнее!
Я только повторил:
— Осторожнее...
А он меня за ворот схватил.
Я говорю:
— Пустите!
А он:
— А ты не ругайся!..
Я говорю:
— А я и не ругаюсь.
А тут какой-то старик вмешивается. Ничего не видел, ничего
не знает, а туда же:
— Такое теперь воспитание! Мальчишка старшему места не
уступит!
Я сказал:
— Он и не просил меня уступить.
А тот, который толкался, опять за свое:
— Я тебе поговорю, щенок!
— Я не щенок, а человек, и вы не имеете права толкаться.
— Еще учить меня будешь, имею я право или не имею!
— Потому что не имеете!
Сердце у меня колотится, и в горле перехватило. Пусть хоть до
скандала дойдет. Не поддамся! А тут уже все оборачиваться стали.
Удивляются, что маленький, а так огрызается.
— А вот если я тебе сейчас по уху дам, тогда что?
— Позову полицейского и велю вас арестовать за то, что вы дра-
ку в трамвае затеваете.
352
Тут все как начнут смеяться. К он тоже. Никто уже и не сердит-
ся, только хохочут, словно я что-то смешное сказал. Даже с места
привстают, чтобы на меня посмотреть.
Я чувствую, что не выдержу, и говорю:
— Пропустите меня, я выхожу!
А он не пускает.
— Ты только что сел,— говорит.— Прокатись маленько.
А тут еще тетка одна толстая такая сидит, развалилась и го-
ворит:
— Ну и разбойник!
Я уже и не слышу, как каждый изощряется.
— Пустите, я хочу сойти!
А он все не пускает.
Тогда я как закричу изо всех сил:
— Господин кондуктор!
Тут один какой-то вступился:
— Да ладно, пустите его.
Я сошел, а все на меня смотрят, как на диковинку какую. На-
верное, потом еще полчаса потешались.
Иду я с этим платьем под мышкой, и взрослые мысли мешаются
у меня с детской обидой и болью.
Я проехал только четыре остановки, до тетки еще далеко, но
лучше бегом бежать, чем с ними лаяться.
А дома мама опять:
— Ты что так долго сидел?
Я ничего не ответил. Потому что мне вдруг показалось, что во
всем виновата мама. Если бы я не вышел из дома раздраженный,
то, может быть, не устроил бы в трамвае скандала. Столько раз
уступаешь, ну, уступил бы еще раз. А пословица, словно в насмешку,
говорит, что «умный уступит, дурак никогда». Ищи теперь умного.
Жалко мне, что день так славно начался и так никудышне кон-
чился.
Я уже лежу, а заснуть не могу и думаю дальше.
Уж так, видно, и должно быть. Дома — не очень хорошо, а не
дома — еще хуже. Значит, это им так смешно? Значит, раз я ма-
ленький, то мне нельзя позвать полицейского, а вот спихивать меня
с трамвая, брать за шиворот и грозить — можно.
В конце концов, дети люди или не люди? И я уже даже не знаю,
радоваться ли, что я ребенок, радоваться ли, что снег опять белый,
или грустить, что я такой слабый?..
Пятнашка
Я проснулся грустный.
Когда тебе грустно, это не так уж плохо. Грусть — такое
мягкое, приятное чувство. В голову приходят разные добрые мысли.
И всех становится жалко: и маму, потому что моль ей платье испор-
тила, и папу, потому что он так много работает, и бабушку — ведь
12 Януш Корчак
353
она старенькая и скоро умрет, и собаку, потому что ей холодно, и
цветок, у которого поникли листья,— наверное, болеет. Хочется
каждому помочь и самому стать лучше.
Ведь мы и грустные сказки любим. Значит, грусть нужна.
И тогда хочется побыть одному или поговорить с кем-нибудь
по душам.
И боишься, как бы твою грусть не спугнули.
Я подошел к окну, а на стеклах за ночь появились красивые
цветы. Нет, не цветы, а листья. Словно пальмовые ветки. Странные
листья, странный мир. Отчего так сделалось, откуда это взялось?
— Почему ты не одеваешься? — спрашивает отец.
Я ничего не ответил, а только подошел к отцу и говорю:
— Доброе утро.
И поцеловал ему руку, а он на меня так внимательно посмотрел.
Теперь я быстро одеваюсь. Поел. Иду в школу.
Я выхожу за ворота и смотрю, не идет ли Манек. Нет, не идет.
Все лужи замерзли. Ребята раскатывают ледяные дорожки.
Сначала маленький кусочек получается, потом все больше и боль-
ше,— вот и кататься можно.
Я было остановился. Да нет. Иду дальше.
И вместо Манека встречаю Висьневского.
— Эй, Триптих, как живешь?
Я сперва даже не понял, что ему надо. Только потом уж сообра-
зил: ведь это он мне прозвище дает, потому что я тогда триптих на-
рисовал.
Я говорю:
— Отстань.
А он вытянулся по стойке смирно, отдал честь и говорит:
— Есть отстать!
Вижу, задирает, перехожу на другую сторону. Все же он мне раз
наподдал. Тогда я взял да и свернул за угол.
«Время есть,— думаю,— обойду кругом. Ничего, не опоздаю».
Опять свернул на другую улицу. Словно меня кто туда позвал,
словно подтолкнуло что-то. Бывает, сделаешь что-нибудь, а поче-
му — сам не знаешь. И потом иногда хорошо, а иногда и плохо вы-
ходит. Когда выйдет плохо, говорят: «Нечистый попутал!» Даже сам
удивляешься: «И зачем я так сделал?»
И вот, я сам не знаю как, делаю все больший и больший круг,
совсем по другой дороге. Иду я, и вдруг на снегу песик.
Такой маленький, испуганный. Стоит на трех лапках, а четвер-
тую поджимает. И дрожит, весь трясется. А улица пустая. Только
изредка кто-нибудь пройдет.
Я стою, смотрю на него и думаю: «Наверное, его выгнали, и он
не знает, куда идти». Белый, только одно ухо черное и кончик хвоста
черный. И лапка висит, и смотрит на меня жалобно, словно просит,
чтобы я ему помог. Даже хвостик поднял, вильнул — печально так,
два раза, туда и сюда, будто в нем пробудилась надежда. И заковы-
лял ко мне. Видно, больно ему. И опять остановился, ждет. Черное
ухо поднял кверху, а белое — опущено. И совсем, ну совсем словно
354
просит помочь, только еще боится. Облизнулся — наверное, голод-
ный — и смотрит умоляюще.
Я сделал на пробу несколько шагов, а он — за мной. Так на трех
лапках и ковыляет, а как обернусь — останавливается. Мне
пришло было в голову топнуть ногой и закричать: «Пшел домой!»,
чтобы посмотреть, куда он пойдет. Но мне его жалко, и я не крикнул,
а только сказал:
— Иди домой, замерзнешь...
А он прямо ко мне.
Что тут делать? Не оставлять же его — замерзнет.
А он подошел, совсем близко, припал брюхом к земле и дрожит.
И тут я понял, да, окончательно понял, что мой Пятнашка без-дом-
ный. Может быть, уже целую ночь бродит. Может, это уже его
последний час настал. А тут я, как нарочно, иду в школу совсем дру-
гой дорогой и могу его спасти в этот последний час.
Взял я его на руки, а он меня лизнул. Дрожит, холодный весь,
только язычок чуть теплый. Расстегиваю пальто, сунул его под
пальто, только мордочку на виду оставил, только нос, чтобы дышал.
А он перебирает лапками, пока, наконец, обо что-то там не зацепил-
ся. Хочу его поддержать, да боюсь, как бы лапу не повредить. Обхва-
тил его осторожно рукой, а у него сердце так бьется, словно выско-
чить хочет.
Если бы я знал, что мама позволит, то еще успел бы домой сбе-
гать. Ну кому бы это помешало, если бы он остался у меня жить?
Я бы сам его кормил, от своего обеда оставлял бы! Но возвращаться
домой боюсь, а в школу меня с ним не пустят. А он уже устроился
под пальто поудобнее, не шевелится и даже глазки зажмурил. По-
том слышу, он уже немножко повыше, к рукаву подлез, даже све-
жим воздухом дышать не хочет, засунул мордочку в рукав и туда
дует. И уже теплее стал. Наверное, сейчас уснет. Потому что если
он всю ночь пробыл на морозе и не спал, то теперь уж наверное
уснет. Что мне тогда с ним делать? Гляжу по сторонам, вижу:
рядом лавка.
«Будь что будет. Войду. Может, он из этой лавки?»
Знаю, что это не так, но все равно попробую, что же еще делать?
Вхожу и спрашиваю:
— Это не ваш песик?
А лавочница говорит:
— Нет.
Но я не ухожу. Если бы у меня были деньги, я бы ему купил
молока.
А лавочница говорит:
— Покажи-ка его.
Я обрадовался, вытаскиваю песика, а он уже спит.
— Вот он,— говорю.
А она словно передумала:
— Нет, не мой.
— Может, вы знаете, чей? Он ведь, наверное, откуда-нибудь
отсюда...
12*
355
— Не знаю.
Тогда я говорю:
— Замерз он.
Держу его на руках, а он даже не пошевельнется,— так крепко
спит. Можно подумать, что умер, только слышу, дышит — спит.
Я стесняюсь попросить лавочницу, чтобы она его хоть на время
взяла. Потом бы я его забрал. И тут мне приходит в голову, что если
не она, так, может быть, школьный сторож подержит его у себя во
время уроков. Потому что на втором этаже сторож злой, а на треть-
ем — добрый: разговаривает, шутит с нами и карандаши чинит.
А лавочница говорит:
— Ты разве на этой улице живешь?
Она, мол, меня не знает и покупать я не покупаю, так чего же
я тут стою?
— Ну, иди, иди,— говорит,— тебя мать в школу послала, а ты с
собакой забавляешься! И дверь хорошенько закрой.
Она, видно, подумала, что раз я такой озабоченный, то уж, ко-
нечно, забуду закрыть дверь и напущу холода. Потому что каждый
только о том и думает, чтобы ему самому тепло было.
А ведь собака тоже живое существо.
Я совсем уже было собрался уходить, но решил еще раз попро-
бовать:
— Вы только посмотрите, какой беленький, совсем не пар-
шивый.
И прикрываю песика рукой, потому что лапка-то хромая. А мо-
жет быть, отморожена?
А она говорит:
— Да отвяжись ты от меня со своим псом!
Вот тебе и на, словно я к ней привязываюсь. Разве я виноват,
что собака на морозе мерзнет?
Ну, ничего не поделаешь. Если и сторож не согласится, то пусть
сам его и выбрасывает.
Ребята сразу разорутся на всю школу: «Собаку принес! Собаку
принес!»
Еще кто-нибудь из учителей услышит. А надо, чтобы никто не
узнал. А я уже столько времени зря потерял. Запихиваю песика не
под пальто, а прямо под куртку, не подумал даже, что ему там душно
будет, и бегом в школу. Сторож, наверное, согласится. Займу у кого-
нибудь денег и дам на молоко для моего Пятнашки.
Я его Пятнашкой назвал.
Бегу, а он уже совсем отогрелся. Это я его согрел, через ру-
башку. Теперь он проснулся и начинает возиться, вертится, даже
носик выставил и залаял — не залаял, а тявкнул,— знак такой по-
дал, что ему хорошо: благодарю, мол. Сначала от него ко мне холод
шел, а теперь уж он меня греет. Словно ребенка держу. Я нагнулся и
поцеловал его, а он зажмурился.
Пришел я в школу и сразу к сторожу:
— Спрячьте его, пожалуйста! Он был такой холодный!
— Кто холодный?
356
— Да он.
Сторож увидал, что я держу собаку, и нахмурился.
— Откуда ты ее взял?
— На улице подобрал.
— А к чему было чужую собаку брать?
— Бездомная она. И лапка сломана.
— Куда ж я ее теперь спрячу? Не надо было уносить, может,
у нее хозяин есть?
— Никого у нее нет,— говорю я.— Я всех спрашивал; если бы
кто был, то в мороз бы из дома не выгнали.
— Может, паршивый какой...
— Ну, что вы! Посмотрите, какой он чистенький!
Я сделал вид, что обиделся, а сам рад, потому что если возьмет
посмотреть, то уже оставит.
Но тут я услышал, что кто-то идет, и сунул щенка под куртку.
А сторож тому говорит:
— Отойди. Смотри, у тебя все башмаки в снегу.
И отогнал.
Но все еще не берет. Говорит:
— Вас тут вон сколько, что, если каждый начнет мне собак с
улицы таскать?
— Ну пожалуйста, только на несколько часов. Я его потом сразу
домой заберу...
— Как же, так тебе и позволят!
Я говорю:
— Пойду-ка я на ту улицу, может, кто его признает.
Сторож почесал в затылке, а я думаю: «Кажется, дело на лад
идет».
Он еще поворчал немного.
— Мало тут у меня с вами хлопот,— говорит,— еще с собаками
возись.
Но взял. Человечный. Тот, со второго этажа, ни за что бы не взял,
да еще и обругал бы.
Взял. А мальчишки уже на нас поглядывать начали. Мой Пят-
нашка словно понял, молчит, не шевелится, только смотрит на меня.
А тут звонок звенит. И Пятнашку я пристроить успел, и на урок не
опоздал.
Начался урок.
Я сижу на уроке, но мне очень грустно. Потому что, хотя Пят-
нашке и тепло, но, наверное, он голодный.
Сижу и думаю, где бы денег достать Пятнашке на молоко.
Сижу и думаю, что вот я всю ночь спал в теплой постели и не
знал, что псинка на морозе ночует, а хотя бы и знал, все равно ничего
не мог бы сделать. Ведь не встал бы я и не пошел бы ночью по ули-
цам искать Пятнашку.
Я сижу на уроке, но мне грустно, так грустно, что этой грусти на
весь класс бы хватило. Никогда уж я больше не буду носиться по
двору с мальчишками. Вот вчера мы играли в охоту, в лошадки. Ка-
кие детские игры! Никому от них никакой пользы. Если бы мне гтс-
зволили взять моего песика домой, я хоть о нем бы заботился. Вы-
купал бы его, вычесал, стал бы песик беленький как снег. Захотел
бы — научил бы его разным штукам. Терпеливо учил бы, не бил.
Даже не кричал бы на него. Потому что часто от слова бывает так
же больно, как от удара.
Если любишь учителя, то от всякого замечания больно. Он толь-
ко скажет: «Не вертись!», или: «Не разговаривай!», «Ты невнимате-
лен!», а тебе уже неприятно. Уже думаешь, сказал ли он это просто
так и сразу забудет или и вправду рассердился.
Мой Пятнашка будет меня любить, а когда у него что-нибудь не
выйдет, я скажу ему, что это у него получилось плохо, и тут же его
поглажу, а он завиляет хвостиком и станет еще больше стараться.
Я не буду его дразнить, даже в шутку, чтобы он не озлобился.
Странно, отчего это многим нравится дразнить собаку, чтобы она
лаяла. Вот и я вчера кошку напугал. Вспомнил я об этом и стало
стыдно. И зачем это я? У нее, поди, чуть сердце от страха не выско-
чило. А кошки и на самом деле неискренние, или это только так счи-
тается?
Тут учительница говорит:
— Читай дальше ты.
То есть я.
А я даже не знаю, что читать, потому что и книжку не раскрыл.
Стою как дурак. Глаза вытаращил. И жалко мне и Пятнашку,
и себя самого.
А Висьневский объявляет:
— Триптих ворон считал.
У меня даже слезы на глаза навернулись. Я опустил голову,
чтобы кто-нибудь не увидел.
Учительница не рассердилась, только сказала:
— Книжку даже не раскрыл. Вот поставлю тебя за дверь...
Она сказала «поставлю за дверь», а не «выгоню».
И не выгнала.
— Встань и стой,— говорит.
Даже не в углу, а на своем месте, за партой.
Видно, учительница догадалась, что со мной что-то стряслось.
Если бы я был учительницей, а ученик сидел бы с закрытой книж-
кой, то я спросил бы, что с ним, нет ли у него какой-нибудь не-
приятности.
А что, если бы учительница и вправду спросила, почему я сегодня
такой невнимательный? Что бы я ответил? Не могу же я выдать
сторожа!
Но'учительница сказала только:
— Встань и стой.
А потом еще говорит:
— Может быть, тебе лучше выйти из класса?
Я стою весь красный и ничего не отвечаю. А они сразу крик
подняли.
Один кричит:
— Ему лучше выйти!..
358
А другие:
— Нет, ему тут лучше, госпожа учительница!
Что ни случись, из всего сделают забаву: рады, что урок прервал-
ся. И не подумают о том, как человеку неприятно: ведь учительница,
того и гляди, опять рассердится.
Наконец-то звонок. Урок кончился. Я бегу к сторожу.
Но тут меня останавливает сторож с нашего этажа, тот самый,
злой.
— Куда? Не знаешь разве, что нельзя?
Я струсил, но все о своем думаю:
«У кого бы попросить десять грошей на молоко».
Может, у Бончкевича? У него всегда есть деньги. Нет, он не даст,
он меня мало знает. И, когда у него один раз кто-то попросил в
долг, он сказал:
— Вот еще, в долг тебе давать, голодранец несчастный!
«У кого же взять денег? У этого? А может, вон у того?» Я смотрю
по сторонам. И вдруг вспоминаю, что ведь Франковский должен
мне пять грошей. Разыскал его, а он играет с мальчишками и от меня
убегает.
— Послушай, верни мне пять грошей.
— Отстань,— говорит он,— мешаешь!
— Да они мне нужны.
— Потом, сейчас не могу!
— Да мне сейчас нужно!
— Говорю тебе, потом! Нет у меня.
Я вижу, что он начинает злиться, ну и денег у него нет, значит,
ничего тут не поделаешь. У Манека тоже нет.
Делать нечего, иду к Бончкевичу. У его отца магазин, он богатый.
Бончкевич спрашивает:
— На что тебе?
Я говорю:
— Нужно.
— А когда отдашь?
— Когда будут.
Что же я могу сказать? Другой пообещает: «Завтра», а сам и в
ус не дует. Еще выругает, если напомнят. Скажет: «Отвяжись!»
— Ну что, дашь мне в долг?
— А если у меня нет?
— Есть, только дать не хочешь.
Если бы я сказал, на что мне нужны деньги, он, наверное, дал
бы. А может, сказать?
А он говорит:
— Я уже столько пораздавал, и никто не возвращает. Иди к
Франеку: он уже целый месяц мне двадцать пять грошей должен.
А Франек никому не отдает. Я поморщился, но делать нечего.
Ищу Франека, а его нет нигде. Как тут найдешь, в такой су-
толоке?
А Бончкевич даже добрый, не любит отказывать. Только лю-
бопытный, все ему надо знать. Сам уже теперь со мной заговаривает:
359
— Что, дал?
— Да я не знаю, где он.
Бончкевич подумал немножко и опять спрашивает:
— Скажи, на что тебе?
— Тогда дашь?
— Дам!
— А есть у тебя?
— Есть, только я хочу купить картон, рамку сделать.
Я ему все рассказал. Крадемся мы на третий этаж, а тут звонок.
Надо идти в класс.
Я очень беспокоюсь. Пятнашка голодный, может, начнет ску-
лить, визжать, а сторож возьмет да и выкинет его.
Я его Пятнашкой назвал. А теперь думаю, что, может, это не-
хорошо. Похоже на прозвище. Собака, правда, не понимает. Чело-
веку это было бы обидно. Может, назвать Снежком, ведь я его на
снегу нашел? Или Белыш, Белышка. Или как-нибудь от слова
«зима».
Я уже о нем так думаю, словно знаю, что мне его позволят взять.
Женщина в лавке и сторож говорили, что у него, наверное, есть
хозяин. Может быть, расспросить ребят около тех ворот? Но там
даже и ворот-то никаких близко не было. И вдруг кто-нибудь скажет,
что щенок его, а это будет неправда: поиграет с ним и опять на мороз
выбросит. Да хотя бы и правда, все равно хозяин о нем не заботится,
раз выгнал. А может быть, он сам убежал? Ведь я не знаю, какой у
него характер. А молодые щенки озорные. Может быть, нашкодил,
испугался наказания и сбежал.
Ну просто не знаю, что делать! Такой озабоченный сижу, словно
у меня маленький ребенок. А Снежок, наверное, думает, что я о нем
забыл. Собака и правда похожа на ребенка. Ребенок плачет — со-
бака скулит. И лает, когда сердится или когда чему-нибудь рада.
И играет она, как ребенок. И смотрит в глаза, и благодарит — лижет
и рычит, словно говорит, предостерегая: «Перестань».
Но тут я вспомнил, что сейчас урок и надо быть внимательным,—
и так я уже стоял за партой.
Эх, Белыш, Белыш! Мал ты и слаб, поэтому тебя ни во что не
ставят, с тобой не считаются, тебя не ценят. Ты не собака-водолаз,
которая спасает утопающих, не сенбернар, который откапывает за-
мерзших путешественников из-под снега. Не годишься ты и в
упряжку эскимоса, ты даже не умный пудель, как пес моего дяди.
Обязательно пойду со своим песиком к дяде, пускай подружится с
пуделем. Собаки тоже любят общество.
Вот я думаю: «Пойду-ка я с ним к дяде». Но ведь все это только
мечты. Потому что, наверное, мне не позволят его оставить.
Взрослый скажет ребенку: «Нельзя!» — и тут же забудет. И даже
не знает, какую он причинил ему боль.
Когда я хотел стать ребенком, я думал только об играх и о том,
что детям всегда весело — ведь у них нет никаких забот. А теперь у
меня больше забот с одним щенком на трех лапах, чем у иного взрос-
лого с целой семьей.
360
Наконец я дождался звонка.
И вот мы даем сторожу десять грошей на молоко. А он говорит:
— На что мне ваши гроши! Поглядите лучше, что он тут наделал.
И отпирает темную каморку, где скулит Пятнашка.
— Ничего,— говорю я.— Можно эту тряпочку, я вытру?
И я вытер и даже не побрезговал.
А Белыш меня узнал, обрадовался. Чуть было в коридор не вы-
скочил. Прыгает вокруг меня. Совсем забыл обо всех опасностях и
бедах. А ведь он мог бы теперь лежать мертвый на холодном снегу.
— Ну, выметайтесь! — говорит сторож, но тут же поправился:
— Идите, у меня времени нет.
Взрослому никто не скажет: «Выметайтесь», а ребенку часто так
говорят. Взрослый хлопочет — ребенок вертится, взрослый шу-
тит — ребенок паясничает, взрослый подвижен — ребенок сорвиго-
лова, взрослый печален — ребенок куксится, взрослый рассеян —
ребенок ворона, растяпа. Взрослый делает что-нибудь медленно, а
ребенок копается. Как будто и в шутку все это говорится, но все рав-
но обидно. «Пузырь», «карапуз», «малявка», «разбойник» — так на-
зывают нас взрослые, даже когда они не сердятся, когда хотят быть
добрыми. Ничего не поделаешь, да мы и привыкли. И все же такое
пренебрежение обидно.
Бедный Белыш — а может быть, лучше Снежок? — снова дол-
жен сидеть два часа взаперти, во тьме кромешной.
— А может, спрятать его за пазуху, и он будет сидеть на уроке
спокойно?
— Дурак,— сказал сторож и запер дверь на ключ.
А Манек встречает меня в коридоре и говорит:
— Что у тебя там за секреты?
Я вижу, что он обижен, и все ему рассказал.
— Так ты... так ты ему первому сказал?
— Но ведь я ему должен был сказать, а то он не дал бы денег
на молоко.
— Да уж знаю... знаю...
Жалко мне Манека, потому что и мне ведь было.бы неприятно,
если бы он другому рассказал что-нибудь раньше, чем мне. И на
большой перемене я его спрашиваю:
— Хочешь пойдем посмотрим?
А тут на третьем этаже мальчишки курили, и идет следствие,
кто курил, кто ходил на третий этаж — не «ходил», а «лазил».
Наш сторож говорит:
— Все время гоню их, а они все как-то прокрадываются.
И смотрит на нас. Я спрятался за Томчака. А то бы сразу узнали,
потому что я покраснел. Меня даже в жар бросило. А взрослые
думают, что, если ребенок заикается и краснеет, значит, он врет
или в чем-нибудь виноват. Но ведь мы часто краснеем просто оттого,
что нас подозревают, со стыда или от страха, или потому, что сердце
сильно бьется... И еще у некоторых взрослых есть обыкновение за-
ставлять смотреть в глаза. И иной мальчишка, хоть и виноват, но
смотрит прямо в глаза и врет как по писаному.
361
Кончилась вся эта история тем, что, кто курил папиросы на
третьем этаже, не выяснили, а мы нашего песика так и не повидали.
После занятий сторож говорит:
— Ну, забирайте своего пса, и в другой раз мне сюда собак не
водить, некогда мне! А не то отправлю вас в учительскую вместе
с собакой.
Мы вышли: я, Манек и Бончкевич. И Пятнашка — пусть его
остается Пятнашкой!
И как же он обрадовался, когда его выпустили на свободу. Как
все живое тянется к свободе! И человек, и голубь, и собака.
Советуемся втроем, что делать дальше. Бончкевич согласился
взять его до завтра, а я тем временем дома разрешение выпрошу.
Но, когда Бончкевич взял у меня Пятнашку, я на него вроде как
бы обиделся.
Ведь Пятнашка мой. Ведь это я грел его под пальто. Он меня пер-
вого лизнул. Я его нашел и принес в школу и все время о нем думал.
А Бончкевич только дал десять грошей, и все.
Ну, разве это справедливо, что одним родители все позволяют, а
другим нет? Каждый больше всего своих родителей и свой дом лю-
бит. Но ведь обидно, когда знаешь, что другому отец позволяет то,
что запрещают тебе.
Почему Бончкевич берет себе Пятнашку, и все тут, а я должен
еще разрешения спрашивать, и, наверное, ничего из этого не выйдет.
Когда знаешь, что у родителей нет денег, их еще больше любишь,
потому что становится их жалко. Кто станет сердиться на отца за
то, что у него нет работы, или за то, что он мало зарабатывает?
Другое дело, если он тратит деньги на ненужные вещи, а на ребенка
скупится, думает только о себе, а ребенку жалеет. Вот отец Мане-
ка,— почему он тратит деньги на водку да еще скандалы устраивает?
Мне жаль Манека и жаль отдавать белого Пятнашку. Столько
пришлось из-за него вытерпеть, а теперь он достается другому.
— Можешь мне эти десять грошей не отдавать,— говорит
Бончкевич.
Я рассердился:
— Обойдусь без твоих одолжений! Я еще, может, завтра тебе
отдам.
— Раз ты так злишься, не отдавай!
— Поди сюда, собачонка, попрощаемся,— говорю я.
А Пятнашка вырывается, не понимает, что мы расстаемся. По-
том уперся мне лапками в грудь, и хвостиком весело виляет, и
смотрит прямо в глаза.
У меня даже слезы на глаза навернулись.
А он лизнул меня в губы — прощения просит.
И я прижал его к себе в последний раз.
Наконец Манек потянул меня за карман:
— Ладно уж, иди!
Мы пошли. Я даже не оглянулся.
Манек всю дорогу говорил о голубях, кроликах, сороках, ежах.
Мне почти что и слова вставить не дал. И дорога домой прошла не-
362
заметно. На часах время как будто всегда движется одинаково, но в
человеке словно есть какие-то другие часы, и время на них то летит
незаметно, то тянется так, что, кажется, и конца этому не будет.
Иной раз не успеешь прийти в школу, как уже звонок, и пора домой.
А иной раз ждешь-ждешь, пока вся эта канитель кончится, и выхо-
дишь из школы, как из тюрьмы, даже радоваться нет сил.
Прощаюсь я с Манеком и, словно меня кто за язык дернул,
спрашиваю:
— Что, твой старик опять вчера нахлестался?
Манек покраснел и говорит:
— Ты думаешь, мой отец каждый день пьет?
И отошел, так что я уже ничего больше не успел сказать. Ну,
зачем это я? Вот так скажешь что-нибудь, не подумав, а потом
уже не поправить.
«Слово — не воробей, вылетит, не поймаешь».
Очень мудрая пословица. Я ее от отца узнал, только тогда она
мне не понравилась. Потому что я сказал правду, а все как закри-
чат на меня, будто это невесть какая ложь. Никто, мол, тебя не спра-
шивал, и нечего было говорить. Но ведь утаить правду — это все
равно, что солгать!
Много в жизни всякой фальши. Когда я был взрослым, я к этому
привык, и меня уже это не волновало. Фальшь, так фальшь — ни-
чего не поделаешь, а жить надо. Теперь я думаю иначе; мне снова
больно, если человек не говорит человеку того, что думает на самом
деле, а притворяется.
Потому что ложь еще может быть так — ни плохая, ни хорошая.
А вот лицемерный человек — это уж, пожалуй, хуже всего. Думает
одно, а говорит другое, в глаза так, а за глаза эдак. Уж по мне лучше
хвастун, врун, чем лицемер. Лицемера труднее всего распознать.
Вруну скажешь: «Врешь!» или: «Не хвастай!» И дело с концом.
А лицемер кажется таким хорошим и милым, его трудно вы-
вести на чистую воду.
Ну, чего я добился? Причинил Манеку неприятность. Обидел его.
Вхожу в ворота, а на ступеньке сидит та самая кошка, которую
я вчера напугал. Мне стало ее жалко, и я хотел ее погладить, а она
наутек. Помнит. А что, если бог меня за эту кошку накажет и Пят-
нашку не позволят взять домой?
— Ну, что у тебя сегодня было в школе? — спрашивает мама.
Ласково так спросила. Может быть, чувствует, что несправед-
ливо вчера на меня накричала?
Я говорю:
— Да ничего такого.
Мама спрашивает:
— А в углу не стоял?
И тут только я вспомнил, что стоял за партой.
И говорю:
— За партой стоял.
— А говоришь, ничего не было!
— Я просто забыл.
363
Беру нож и начинаю вместе с мамой чистить картошку. Мама
спрашивает:
— За что?
Я говорю:
— Я не слушал.
— Почему же ты не слушал?
— Да так, задумался.
— О чем же?
Я чищу картошку, словно очень занят, и не отвечаю.
— Это нехорошо, что ты забыл. Хорошему мальчику стыдно
стоять за партой, и он постарался бы больше так не делать. Ведь
учительница тебя наказывает для науки, чтобы ты свою вину лучше
понял. А раз ты забыл — значит, и наказание тебе впрок не пойдет.
Надо помнить, за что тебя наказывают.
Я смотрю на маму и думаю:
«Бедная, добрая мама, ничего-то она не понимает».
А потом еще подумал:
«Бедная и старая».
Потому что, когда мама нагнулась, я заметил у нее седые волосы
и морщинки. Может быть, она еще и не старая, да жизнь у нее
тяжелая.
«Хорошо,— думаю я,— что у меня опять есть мать. Хлопот с
родителями не оберешься, но все же без них ребенку хуже. Плохо
без родителей, очень грустно и плохо».
— А может, ты еще чего-нибудь натворил?
Я говорю:
— Нет, ничего.
— А ты не врешь?
— Зачем мне врать? Если бы я не хотел, так и про это не рас-
сказал бы.
Мама говорит:
— Это верно.
И мы молчим. Но так, будто продолжаем разговаривать. Потому
что у меня на уме мой Пятнашка, а мама знает, что я чего-то не до-
говариваю, что-то скрываю.
Мы, дети, любим беседовать со взрослыми. Они больше нас
знают. Вот если бы они только были с нами поласковей. Нельзя же
все время ворчать, сердиться, ругаться, кричать.
Если бы мама спросила не сегодня, а когда-нибудь в другой раз:
«А ты не врешь?» — я бы, наверное, разозлился, хотя, может быть,
и ответил бы точно так же, теми же словами.
Взрослые не хотят понять, что ребенок на ласку отвечает лаской,
а гнев в нем сразу рождает отпор.
«Да, я такой и другим уже не буду!»
А ведь каждому, даже самому плохому из нас, хочется стать
лучше. Мы упорствуем, боремся с собой, принимаем решения, ста-
раемся изо всех сил, а если нам что не удастся,— вы сразу: «Опять
ты за старое!» Человеку уже казалось, что все хорошо, что он горы
свернул, а тут снова все начинай с самого начала. Такое зло берет,
так больно, что всякая охота пропадает стараться стать лучше. Вот
почему у нас бывают такие неудачные дни и плохие недели. Как
не повезло в чем-нибудь одном, так сразу и в другом, и в третьем —
все из рук валится.
А хуже всего, что ведь не повезло, а вы подозреваете злой умы-
сел. Иногда прослушаешь что-нибудь или ослышишься, не поймешь
или поймешь неверно. А вы думаете, что это нарочно.
Иногда хочется что-нибудь хорошее сделать, какой-нибудь сюр-
приз, а выходит плохо, потому что нет еще опыта, и вот напортил,
принес убыток...
Трудно жить тому, кто принимает все близко к сердцу.
Я начал убирать в комнате. Горшки с цветами с окна поснимал
и пыль вытер. А потом стал везде пыль стирать. Мама удивляется.
Так мы с мамой как бы попросили друг у друга прощения за вче-
рашнее. Потому что, кто знает, может быть, я и сам немного вино-
ват?.. Не надо было к обеду опаздывать.
— Иди побегай,— говорит мама.— Что дома сидеть?
— Давай я схожу в очаг за Иренкой.
— Ну сходи.
Я пошел, а почему — и сам не знаю. Наверное, из-за Пятнашки.
Потому что понял, что о маленьких детях тоже надо заботиться.
Плохой я брат. Вот собаку мне жалко, а родную сестру я иногда
просто не терплю.
Конечно, такой маленький ребенок всегда мешает, ему скучно,
вот он и пристает.
Сделал я себе ветряную мельницу. Полдня промучился.
— Дай.
Начинает вырывать.
— Уйди, а то получишь!
— Дай, дай!
А мама что?
— Отдай, сделаешь себе другую.
Может быть, сделаю, а может, и нет. И потом, пусть она попро-
сит, а не вырывает из рук.
— Маааамаааа!
Я едва сдерживаюсь, так я зол. А ей даже хочется, чтобы я ее
ударил, потому что тогда уж она наверняка побежит жаловаться.
И вот скандал:
— Ну и брат! Такой большой парень!
Когда выгодно — я маленький, когда невыгодно — большой.
И уже я не только за себя отвечаю, но и за нее.
«Ты ее научил!», «Ты ей показал!», «От тебя слышала!», «Твой
пример!», «Надень пальто, а то и она захочет без пальто!», «Пива и
колбасы не получишь, а то и она захочет!», «Иди спать, она одна не
пойдет!»
И так тебе опротивеет эта девчонка, что уж не хочешь иметь с
ней никакого дела. Но нет: ты должен с нею играть.
Есть игры, где малыши могут пригодиться. Им тоже найдется
дело. Но пусть слушаются и не портят игры: ведь они не могут всего
того, что можем мы.
365
Ей говоришь: «Сядь сюда, будешь делать то-то и то-то», а она не
хочет. Хочет бегать. А ведь мне отвечать, если она упадет и набьет
себе шишку или платье порвет.
Иду я по улице и думаю. Вдруг вижу, мой Пятнашка бежит. Я
даже остановился. Нет, это мне показалось. Даже и не очень по-
хож... Теперь я опять думаю о Пятнашке...
«Может, не забирать его? Может, ему там лучше? А вдруг мама
позволит, а потом рассердится? Ведь если бы мама с папой хотели,
то и без меня завели бы собаку. Подожду, пожалуй, несколько дней.
Что скажет Бончкевич, как там Пятнашка себя ведет? Ведь напач-
кал же он тогда у сторожа. Правда, он там взаперти сидел».
Я теперь и сам не знаю, хочу ли я взять Пятнашку, чтобы мне
веселей было, или уж пусть остается, если ему там хорошо,— надо
ведь обеспечить Пятнашке будущее. Я спас ему жизнь и место ему
нашел. А мне, может быть, заняться теперь Иреной?
Прихожу в очаг, а там малыши хоровод водят. Держатся за руки,
ходят по кругу и поют.
Воспитательница говорит:
— Чего стоишь, поиграй с нами!
И протянула руку. Я и встал в круг.
В другое время я, наверное, постеснялся бы и не захотел играть с
маленькими, но сейчас меня никто не видит. Я стал играть. Сперва
только шутил, чтобы больше смеху было. То присяду на корточки —
я, мол, тоже маленький, то захромаю — нога болит. Я хотел по-
смотреть, рассердится воспитательница или нет. Если рассердится,
я могу и уйти. Но воспитательница тоже смеялась. И я стал играть
по-настоящему.
Малыши довольны, каждый хочет стоять рядом со мной и дер-
жать меня за руку. Ну, не каждый, некоторые стеснялись, потому
что еще меня не знали. А Ирена сразу заважничала: вот какой у нее
большой брат. И уже начинает командовать:
— Ты встань там, ты здесь.
Думает, что, в случае чего, я за нее заступлюсь.
Я велел ей вести себя поскромнее, не то уйду.
Ну вот. Воспитательница хотела написать какое-то письмо и
оставила меня с малышами. А они слушаются, потому что воспи-
тательница в соседней комнате.
Только один все время мешал. Я потом им стал рассказывать
сказку про кота в сапогах, а этот чертенок нарочно мешает. Это так
злит, что и сказать невозможно.
Идем мы с Иренкой домой, а тут у меня в боковом кармане что-то
звякнуло. И я нашел два гроша. Если бы там нашлось побольше,
я оставил бы для Бончкевича, а столько и оставлять не стоит, и я
отдал их Иренке. Она тоже, когда у нее есть что-нибудь, со мной
делится.
Иногда я возьму, а иногда нет. Потому что, если возьмешь что-
нибудь у маленького, сразу говорят: выманил.
Иду я, и мне так приятно вести за руку малышку. Поглядываю,
куда ступить, выбираю дорогу. Чувствую себя старшим и сильным.
366
А ручка такая маленькая, гладкая, словно атласная. Пальчики ма-
люсенькие. И даже странно, что вот ведь любишь этого ребенка,
а иногда его ненавидишь.
Одну конфетку она сама съела, а другую мне дала. Мне не хоте-
лось, но я съел, а она смотрит на меня и смеется,— рада, что уго-
стила.
Иногда приятно и самому что-нибудь дать, а не все только брать
да брать у старших. Обидно, когда хочешь сделать подарок взрос-
лому, а он не берет или даст тебе взамен что-нибудь более ценное.
Сразу плата. И чувствуешь себя неловко, словно ты какой-нибудь
нищий.
Если бы можно было так устроить мир, чтобы все всегда дела-
ли друг другу что-нибудь хорошее! Когда мне было грустно, Ирена
дала мне стеклышко, теперь я купил ей конфетки, а она мне одну
дала.
Мы пришли. Входим. А у нас сидит тетя. Тетя говорит:
— Ну, вот и пришли твои телята.
Почему телята, а не люди? Что мы такого сделали, что нас тетка
телятами зовет? Телята только у коров бывают. Зачем так грубо?
Я сижу, отвернувшись к стене, и пишу.
И как раз в это время слышу рожок: едет пожарная команда...
— Можно?
Я умоляюще смотрю на маму и жду приговора. Не знаю, что бы
я сделал, если бы мама не позволила. Как часто взрослые скажут,
не подумав: «Нет!» — и сейчас же забудут, и не знают, какой нанесли
удар.
Почему «нет»? Ну почему? Потому что боятся, как бы чего не
вышло, потому что не хотят беспокоиться, потому что им это не нуж-
но, «совсем ни к чему». Ведь такие пустяки, ничего серьезного,—
могли бы и разрешить, да не хотят. «Нет!»
А мы знаем, что могло бы быть и «да», что это случайный запрет,
что они согласились бы, если бы дали себе хоть чуточку труда по-
думать, посмотреть нам в глаза, понять, как нам этого хочется.
Я спрашиваю:
— Можно?
И жду. Взрослые никогда и ничего так не ждут. Разве что заклю-
ченный — выпустят ли его на свободу?
Я жду, и мне кажется, что, если бы мама не позволила, я бы не
простил ей этой обиды. Взрослые считают, что мы просим обо всем,
что в голову взбредет. И тут же забываем. Конечно, и так бывает,
но бывает и совсем иначе. Иногда мы не решаемся о чем-нибудь
попросить: знаем, что все равно из этого ничего не выйдет. А как
больно, когда отказывают, да еще с насмешкой, со злостью. Лучше
уж затаить боль и ни о чем не просить или долго и терпеливо до-
жидаться, не придут ли взрослые в хорошее расположение духа,
не будут ли так довольны нами, что не смогут отказать. Но часто и
тут нас ждет неудача. Тогда мы сердимся и на них и на себя:
«Эх, зачем я поторопился, может, в другое время позволили бы!»
367
Мне кажется, что у взрослых какие-то другие глаза. Вот когда
меня товарищ о чем-нибудь просит, мне стоит на него только взгля-
нуть, и я уже знаю, что делать: согласиться сразу или поставить
условие, расспросить поточнее, отложить на потом. Если я даже и не
могу выполнить его просьбу, то все равно никогда не осмелюсь так
вот, сразу, ему отказать без всяких объяснений.
А взрослые и не догадываются, почему мы иногда упрямимся,
делаем что-нибудь назло.
А бывают взрослые, которые нас сперва будто и не замечают.
Скажут только:
«Здравствуй, орел!»
Или:
«Вот какой уже большой молодой человек!»
Ведь надо же что-нибудь сказать. И видно, что он иначе не умеет
и как будто стесняется. Если он погладит тебя по голове, то осто-
рожно, словно боится, как бы чего не сломать. Это сильные, добрые,
деликатные люди. Мы любим слушать, когда они разговаривают с
другими взрослыми, рассказывают о каких-нибудь приключениях, о
войне. Таких людей мы любим.
Мама позволила мне пойти на пожар. Надо торопиться, а то
пожарные проедут, и тогда мне пожара не найти.
— Только сейчас же возвращайся!
Кто знает, что это значит: «Сейчас же возвращайся!»
Никогда не угадаешь, что тебя ожидает.
Вдруг мама еще что-нибудь добавит или Иренка привяжется.
А потому я хвать шапку — и был таков. Скачу через четыре сту-
пеньки. Когда спускаешься таким манером, надо крепко держаться
за перила. Бывает, что и занозу всадишь. Но ничего не поделаешь,
приходится рисковать.
Один мальчишка сказал мне, где горит. Недалеко. Керосиновая
лавка. Говорят, что в подвале бензин. Если вспыхнет, весь дом взле-
тит на воздух. Полицейские разгоняют народ. Сверкают каски по-
жарных.
Как красив пожар... И как благородна борьба с огнем...
Я то тут постою, то там, смотрю на пожар, а сам все думаю, что
пора домой,— еще только одну минутку постою... Но не остаться до
конца невозможно, хоть и знаю, что накажут.
Говорят, сейчас приедет скорая помощь: женщина одна обгорела.
Огня уже не видно, только дым...
Пожалуй, я не буду дожидаться скорой помощи. И так не про-
тиснуться...
А тут опять поднимается вверх столб огня. Пожарник подает на
второй этаж новый шланг.
«Вот как пустит воду, так и пойду...»
А может быть, дом теперь рухнет?..
Уже даже хочется, чтобы поскорее все кончилось.
Полиция нас отогнала. И опять плохо видно. И я хочу уходить.
А тут говорят, что у пожарников что-то испортилось и приедет
новая команда.
368
Я вижу Фелека, и Бронека, и Гаевского... Поскорее бы погасили.
Но никто не отходит, а раз они стоят, одному уходить как-то до-
садно.
Прибегаю домой, а мама говорит:
— Нечего сказать — сейчас же!
Я жду, может, спросит, где горело. Но мама вышла из ком-
наты.
Снова сажусь за уроки.
Подходит Ирена:
— Где ты был?
Я говорю: «Уйди», потому что только что прочел задачу и не
очень-то понимаю, как ее решать. А Ирена стоит.
Тогда я говорю:
— Я был там, где горело. Ну, уходи!
— Что горело?
Ведь все равно не поймет. Но я терпеливый. Я говорю:
— Горела керосиновая лавка.
— Почему?
— Потому что у тебя нос сопливый. Пойди утрись!
Она застыдилась и отошла. Мне ее жалко. Зачем я так грубо ска-
зал? Уже второй раз сегодня: утром Манеку, а теперь ей.
Я говорю:
— Поди сюда, расскажу.
А она уже ушла. Наверное, обиделась. И я снова читаю задачу,
потому что завтра первый урок арифметика.
А Ирена снова здесь:
— Я уже нос вытерла.
Я ничего не отвечаю.
Она стоит и говорит тихо-тихо, будто сама себе:
— У меня теперь чистый нос. И штанишек не видно.
Покорно так, боится, что я рассержусь.
Ну что? Пожалуй, придется ей рассказать? И я рассказываю.
Она, конечно, ничего не понимает. Про все спрашивает: «Почему?»
Почему вода, почему шланги, почему пожарники, какой бензин,
живой ли, большой ли?
Маленькая, не понимает. Я ведь тоже ничего не знал.
— Погоди, я тебе сейчас нарисую.
Нарисовал пожарного в каске, шланг,— все ей объяснил.
Если бы не мы, эти малыши ничего бы не знали. Они все узнают
от нас. Мы — от старших, а они — от нас.
Я не знаю, что еще сказать, и говорю:
— Повтори!
— В лавке загорелась вода. Приехала полиция и разгоняла. И
был огонь, и был пожар.
Она думает, что огонь и пожар это разные вещи.
— Пожар сделался от огня.
И опять у нее под носом мокро, но я уже ничего не говорю.
Пускай. Все равно задачи не сделаю. Стал учить вслух стихи, а Ире-
на слушала.
369
Вернулась мама, и я пошел во двор на каток: там большую такую
площадку ребята ногами раскатали. Я уже умею кружиться и ездить
задом наперед. Хочу научиться приседать на одной ноге. Четыре
раза упал. Ушибся немного.
Когда я ложился спать, мне было грустно...
Еще тоскливее, чем когда был взрослым.
Тоска и одиночество, и жажда приключений...
Лучше бы родиться в жарких странах, где есть львы, людоеды и
финики...
Почему люди всегда живут так скученно? Столько на свете пусто-
го места, а в городе тесно!..
Эх, пожить бы среди эскимосов, или с неграми, или с индейцами...
Как красив, должно быть, пожар в степи...
Или хотя бы сад у каждого был перед домом! Посадили бы цветы
на клумбах, поливали бы...
И опять я думаю о Пятнашке.
Что я скажу Бончкевичу?
Потому что мне уже даже и расхотелось щенка брать. Возня с
ним. Еще разозлюсь на него и побью. И станет жалко. И дворник
его отовсюду будет гонять, и ребята во дворе. Слишком большая
ответственность заботиться о живом существе.
Если Бончкевич хочет, пусть оставляет его у себя.
Любовь
У нас были гости. Мама надела платье, которое изъела моль.
Но было незаметно, потому что тетя хорошо переделала. Были име-
нины, и все танцевали. Началось все вечером, а когда кончилось,
я не знаю, потому что я спал у Кароля.
И была Марыня из Вильно. И я с ней танцевал. Это дядя Петр
велел мне танцевать. А я совсем не хотел. А дядя Петр сказал:
— Так вот какой ты кавалер! Барышня к тебе из Вильно приеха-
ла, а ты с ней танцевать не хочешь?
Я смутился и убежал на лестницу. Как можно так говорить? Раз-
ве она ко мне приехала? Может быть, ей это неприятно. Но дядя
поймал меня и поднял к потолку, а я вырываюсь и ногами в воздухе
болтаю. Дядя даже запыхался, а все не отпускает. Я страшно разоз-
лился, потому что сконфузился еще больше. А он поставил меня на
пол и говорит:
— Танцуй!
И отец говорит:
— Ну, не будь размазней, танцуй, она ведь гостья!
Из Вильно.
Я стою и не знаю, что делать, потому что мне хочется убежать.
И боюсь, что дядя опять меня сцапает и начнет тормошить. Поэтому
я только незаметно поправляю куртку, смотрю, не отстегнулась ли
пуговица, не порвалось ли где-нибудь.
А Марыня посмотрела на меня и говорит:
370
— Ты не стесняйся, я тоже не очень-то умею.
И первая подходит. И берет меня за руку. А у нее голубая лен-
та — большущий такой бант сбоку завязан.
— Ну, пойдем попробуем.
Я взглянул со злостью на дядю, а он смеется. И все расступи-
лись, только мы вдвоем стоим. И отец. Я знаю, что если не послу-
шаюсь, то отец рассердится, а может, и спать погонит. Ничего мне
не оставалось делать.
Я стал с ней кружиться. В голове у меня шумит, потому что
поздно и я пил пиво. Я ей говорю:
— Ну, хватит.
А они кричат:
— Еще!
Мне жарко, а они спектакль себе устроили. А она не перестает,
и я уже танцую по-настоящему, под музыку, в такт.
Не знаю, долго ли это продолжалось. Наконец Марыня говорит:
— Ну, хватит, я вижу, что тебе не хочется.
Я говорю:
— Почему не хочется, просто у меня голова закружилась.
А она:
— Я могу танцевать всю ночь.
Потом взрослые танцевать начали, а мы стоим около двери —
Марыня и я.
Она говорит:
— Варшава очень красивая.
Я отвечаю:
— Вильно тоже.
Марыня спрашивает:
— А ты был в Вильно?
— Нет, нам только в школе учительница рассказывала.
Она, Марыня, приехала в Варшаву просто так и потом опять
уедет в Вильно. Может, с неделю побудет.
— Надолго приехали?
— Кто?
— Ну, вы... с этой тетей... с твоей мамой?
— Нет, всего на недельку.
Ездят туда по железной дороге, ночью. Я еще никогда ночью
не ездил по железной дороге.
— Я бы хотела,— говорит она,— всегда жить в Варшаве.
— А я — в Вильно.
Я это только так сказал, что, мол, Вильно тоже красивый город.
А Марыня стала перечислять улицы в Вильно, а я перечислял
улицы в Варшаве. Потом разные памятники и достопримечатель-
ности.
Она говорит:
— Приезжай когда-нибудь, я тебе все покажу.
Я так глупо сказал:
— Ладно!
Как будто это от меня зависит.
371
Подошел Кароль, и мы заговорили о школе. Какие там учитель-
ницы — какие здесь, какие там книжки — какие здесь.
Было очень хорошо. Но дядя Петр уже приметил, что мы не тан-
цуем, поэтому я поскорее отошел, чтобы он опять не привязался.
Потом Марыне велели петь. Она ничуть даже не смутилась.
Когда она поет, она поднимает глаза кверху, словно смотрит на
небо, и улыбается.
Потом мы опять разговаривали. Стефан говорит, что у них во
дворе у троих есть санки. Одни санки такие большие, что можно
вдвоем кататься.
Стефан говорит Марыне:
— Приходи, покатаю.
И хороший каток у них есть. Все у них, да у них. Не люблю я,
когда кто-нибудь слишком много болтает.
Так и окончился мой бал.
И эта дама, эта тетя, ушла и увела с собой Марыню. А мама го-
ворит:
— Может, ты спать пойдешь?
Я совсем не упрямился, только спрашиваю:
— Куда?
А мама говорит:
— К Гурским.
Родителям Кароля.
— Завтра ведь в школу.
Я вижу, что если попрошу, чтобы разрешили еще немножко,
то мама мне позволит; но что мне тут делать? Спать хочется и
скучно.
Ирена тоже ушла сразу после ужина. А я спал с Каролем.
Кароль спрашивает:
— Почему у них в Вильно так тя-я-я-нут?
— Не знаю.
— Я хотел спросить у этой, у Марыни, но, может, ей было бы
обидно.
— Конечно.
— А волосы у нее, как у цыганки.
— И вовсе нет, у цыганок волосы жесткие, а у нее — мягкие.
— Откуда ты знаешь?
— Видно ведь.
— А дядя Петр говорил, что настоящие цыганские.
— Дядя Петр все лучше всех знает,— говорю я со злостью.
Кароль зевнул и затих, а потом опять за свое:
— У нас ни одной такой нет.
А я молчу.
— Мировая девчонка.
А я все молчу.
— Хорошо поет.
Я жду, чтобы он повернулся на другой бок, потому что раз я
гость, то мне неудобно показывать, что я не хочу с ним разго-
варивать.
372
И я спрашиваю:
— Ты приготовил уроки на завтра?
— Да что там уроки...
Он зевнул и наконец говорит:
— Ну, надо спать. А почему ты сразу согласился уйти? Может
быть, там будет что-нибудь интересное?
— Чего там интересного... Перепьются, и всё...
— А ты пил водку? Я две рюмки.
Завтра он в школе будет рассказывать, какой он герой: две рюмки
выпил и голова не кружилась.
Он повернулся на другой бок, накрылся и спрашивает:
— Тебе не холодно? Я не слишком на себя одеяло перетянул?
— Нет, хорошо.
Когда человек сонный, его всякий пустяк раздражает. Вот я на
Кароля сержусь, а он меня спрашивает, не холодно ли мне. И к чему
я сказал, что они перепьются?
Если бы не дядя Петр, я, может, Марыне ни одного слова бы не
сказал. Как мы всегда из-за всего конфузимся... Всегда страшно,
как бы не сделать или не сказать какую-нибудь глупость. Постоян-
ная неуверенность: хорошо ли так будет, не станут ли смеяться...
Я уж и сам не знаю, что для нас хуже: когда смеются или когда
ругаются. И дома и в школе — всюду одно и то же. Задашь какой-
нибудь вопрос, ошибешься — сразу смех и издевательства.
Эта боязнь стать посмешищем так стесняет и сковывает, что
совершенно теряешь уверенность в себе, а потому то и дело по-
падаешь впросак. Как на льду: кто больше боится, тот чаще падает.
«Ну, завтра надо сделать санки»,— подумал я и заснул.
И не успел заснуть, как меня уже будят, говорят, надо вставать.
На самом-то деле я проспал несколько часов, но так мне показалось.
За завтраком я тру глаза, есть мне не хочется, а отец говорит
просто так, чтобы испытать меня:
— Может, тебе не ходить сегодня в школу?
Потом побоялся, как бы я не обрадовался, и говорит:
— Развлечения развлечениями, а школа школой.
Я внимательно проверяю сумку, чтобы чего-нибудь не забыть,
ручку или еще что. Потому что, когда человек сонный, он должен
глядеть в оба. Но нет, все на месте. Я иду.
Иду. А про себя думаю, что еду в Вильно. Еду целую ночь. За
окном сыплются искры — огненные зигзаги.
И по дороге в школу, и на уроке я думал об этой поездке. А на
втором уроке мне захотелось спать, и я совсем забыл, что я в классе,
и начал тихонько напевать себе под нос.
А учительница спрашивает:
— Кто поет?
Я даже и тут как следует не очнулся, оглядываюсь только: кто
это поет. А Боровский говорит, что это я. Учительница спрашивает:
— Ты пел?
— Нет.
Потому что я и в самом деле этого не заметил. И снова совсем
373
забылся и во второй раз начал петь, даже, кажется, еще громче.
Учительница рассердилась.
А Боровский говорит:
— Может, и теперь скажешь, что не ты?
Я отвечаю:
— Я.
Я теперь только понял, что ведь это действительно я пел, и тогда
и теперь.
Учительница поглядела удивленно и говорит:
— Я не знала, что ты умеешь делать назло и лгать.
Разве учительница не видит, что у меня удивленное лицо и что
я огорчен? Я ведь люблю учительницу, и она ко мне всегда была
добра. Зачем же я стану делать ей назло? Я опустил голову, покрас-
нел и молчу. Если начну оправдываться, все равно не поверит. Те-
перь я знаю, что можно вдруг закричать или засвистеть словно во
сне. А они сразу:
«Назло», «экий необузданный мальчишка!»
Есть слова, которые в школе не следует произносить. Часто бы-
вает, что невзлюбишь человека за какое-нибудь одно неприятное
слово, которое он часто повторяет.
А учительница велела мне сначала идти в угол, а потом сразу
к доске. Велела решать задачу, совсем легкую. Я ответ сразу узнал.
Сосчитал в уме и говорю:
— Пятнадцать.
Учительница делает вид, что не слышит.
— Повтори задачу.
Я говорю:
— Будет-пятнадцать. Разве не верно?
А учительница:
— Когда решишь, тогда узнаешь. Решай для всего класса!
Я начинаю повторять. И напутал. Ребята засмеялись.
— Иди на место! Двойка.
А Висьневский спрашивает:
— На какое место ему идти, за парту или в угол?
Я иду, а Висьневский нарочно выставил локоть,— ну я не удер-
жался, да и толкнул его. А он как заорет:
— Чего толкаешься?
Свинья. Боялся, что учительница не заметит. А учительница
в нерешительности: со мной ли покончить или его наказывать. И весь
класс взбудоражился. То тихо сидят, а как кто-нибудь один нач-
нет — сразу шутки, смешки, поддразнивание, разговоры. Тут уж
трудно успокоить. А за все отвечает тот, кто начал первый.
«Пусть их делают что хотят».
Я положил голову на руки и притворяюсь, что плачу. Это самое
лучшее. Тогда тебя оставят в покое. Но я не плачу, я очень несча-
стен.
Вдруг я подумал:
«Если бы Марыня была учительницей, она бы была не такая».
Ведь когда ученик себя плохо ведет, его можно как-нибудь по-
374
другому наказать, а не ставить двойку по своему предмету. У того,
кто после меня потел у доски и мусолил ту же задачу, тоже в конце
концов получилось пятнадцать.
Марыня бы так не сделала. Но она еще маленькая, и потом она,
Марыня, уезжает. Всю ночь по железной дороге — так далеко,
в Вильно. И я ее уже больше не увижу. Может быть, никогда не
увижу. Никогда не услышу, как поет Марыня. А Марыня так ласково
улыбается, и у нее голубой бант. И мягкие-премягкие волосы, а во-
все не как у цыганки.
Учительница, как видно, очень разозлилась, потому что подошла
ко мне на перемене и говорит:
— Если тебя еще раз какая муха укусит, я директору скажу.
Больше уж я за тебя заступаться не стану.
И отошла. Не дала оправдаться. А если бы дала, что я мог бы
сказать?
Что я влюблен в Марыню?
Лучше умереть, чем это сказать.
«Муха укусила»! Не муха укусила, а учительница попрекает тем,
прежним. Нельзя попрекать одолжениями. Это больше всего оби-
жает. Думают, что мы легко забываем, не умеем быть благодарными.
Нет, мы хорошо помним. И год, и больше. И каждую бестакт-
ность и каждый добрый поступок. И мы многое прощаем, если видим
доброту и искренность. Я учительнице тоже прощу, когда успо-
коюсь.
Подходит Манек, начинает шутить. Видит, что я грустный, и
хочет меня утешить.
— Ну что, будешь теперь арифметики бояться? Вот влепят тебе
пять колов, так и двойка удерет со страху. Только держи! Ты ведь
математик лучше нет — на палочку надет...
Я тихо сказал:
— Отстань!..
И выхожу во двор. Но не играю. Всякая беготня кажется мне
глупой.
Как было бы хорошо, если бы все девочки были похожи на нее.
А может быть, мы и в самом деле поедем в Вильно? Может быть,
папа там получит работу. Все может статься.
Я взял в библиотеке книжку. Исторические повести. Буду читать.
Я возвращаюсь домой один. Манек не мог меня сегодня ждать.
Иду и льдышку ногой подбрасываю. Надо стараться ударить так,
чтобы она прямо вперед летела, а она летит то вправо, то влево. А я
зигзагами за ней бегу. Стараюсь не останавливаться, все время бе-
гом. Хуже всего, когда она отскочит от прохожего и совсем уж в
сторону свернет или когда назад приходится возвращаться. Я решил,
что возвращаться назад разрешается до десяти раз.
Но я встретил отца, и он рассердился, что я рву башмаки: ведь
от этого носок сбивается.
Я вхожу во двор, смотрю: ребята катаются на салазках. Ну, и
я с ними стал. Не то что уж очень мне было весело. Когда у тебя
огорчение, играть можно, но то и дело о нем вспоминаешь. Словно
кто подходит и спрашивает: «Забыл? Не помнишь?»
Это не-укоры совести, а какая-то неотвязная мысль. Укоры со-
вести совсем другие — грозные.
Я два раза прокатил ребят на санках, и они меня один раз.
И хватит.
Посидел у окна, а потом стал картинки в книжке рассматривать.
Не нравятся они мне. Первая картинка — всадник на коне. Битва.
Вокруг рвутся снаряды. А он сидит с поднятой саблей, как кукла.
Держится прямо, словно палку проглотил.
Почему это для детей все делают хуже? Хороший художник
для взрослых, а самый никудышный — для детей. Книжки пишет
для детей всяк, кому не лень,— и стихи, и песни. Кого не хотят слу-
шать взрослые, тот идет к ребятишкам.
А мы-то как раз больше всех любим сказки, хорошие картинки
и песни.
Ребята крикнули мне со двора, что будут сейчас делать новые
санки и чтоб я дал им свои две доски, веревку и кусок листового
железа.
Правда, они поворчали, что железа мало, а веревка короткая.
Зато прочная.
Одна доска пошла на сиденье, а другая — на полозья. Если бы
железа было побольше, можно было бы целиком полозья обить:
тогда возить легче. Но хорошо, что хоть спереди-то обить железа
хватило. Я им и гвоздей дал, один длинный, прямой; я его на улице
нашел.
Только потом обязательно передерутся. Начнут друг друга
катать, а кто-нибудь давай вертеться да еще свалится нарочно. Го-
воришь ему, что санки сломает, а ему хоть бы что. Дал несколько
досок — значит, имеет право.
А другой сам возить не хочет и сидит, словно барин. Мы часто
ссоримся, это правда, но вы только подумайте, какой у нас во всем
произвол.
У взрослых есть суды. А у нас никаких судов, одни только жа-
лобы. А взрослые наших жалоб не любят. Рассудят, лишь бы с рук
сбыть: или тот прав, кого они больше любят, или младший, или оба
виноваты, потому что нехорошо ссориться.
Когда-нибудь, может быть, люди будут жить в мире и согласии,
но пока еще этого нет.
А бывает так, что кто-нибудь обидится из-за пустяка, и тут же:
«Раз так, отдавайте мои доски и гвозди!»
Знает, что не отдадим. Что ж, разбить санки и вся рабо-
та насмарку? Ищи себе другого товарища и начинай все сна-
чала?
«Дети любят мастерить».
Верно, любят, но уж если что сделаешь, то хочешь, чтобы это
не портили.
А то один что-нибудь нарисует, а другой, ни с того ни с сего, возь-
мет да и порвет или запачкает. И так жалко! Или присмотришь па-
лочку, шнурок, сделаешь кнут — не хочется ведь, чтобы его ломали.
Вот и с санками так же.
376
Правда, иногда даже хорошо, что сломают, потому что во второй
раз еще лучше получается. Но тогда надо заранее знать, что есть
из-за чего начинать сначала: например, инструменты лучше или
больше материала.
Потому что, ну как тут сделаешь санки без молотка? Приходится
камнем прибивать. И хоть бы камень-то был удобный. Правда, есть
один такой камень, да он в мостовой. Мы даже хотели его выкопать,
а потом обратно вставить. А если бы дворник заметил? Ну и задал
бы нам! Неделю потом во двор не показывайся.
Ну вот, забиваю я гвоздь этим круглым неудобным камнем и
ударил себя по пальцу. Даже такая черная штучка на пальце вско-
чила. И еще проволокой кожу содрал между пальцами, теперь, как
станешь палец сгибать, больно. Там в одном месте пришлось стя-
нуть проволокой, потому что нужен был длинный гвоздь, а мы вбили
три маленьких, и доска раскололась. Пришлось стягивать.
И так все время что-нибудь портится, и все время надо поправ-
лять.
Приходит Юзек.
— Эх вы, санки сделали, да не едут!
— Сделай лучше!
— Захотел бы, так сделал!
— А ты захоти!
— Да на что они мне!
— Ладно, пошел отсюда. Не нравится — не смотри!
— А что, уж и посмотреть нельзя?
— Нельзя!
Один чинит, а двое отпихивают.
Наконец Франек говорит:
— Пустите его, лучше помогите держать, я один не могу.
— А что он тут стоит, ехидничает?
— Пускай его ехидничает. У него санок нет, вот ему и завидно.
— Есть чему завидовать, развалина какая-то!
Иногда ссора переходит в драку, а иногда и неожиданно по-
может.
Так и теперь:
— Без молотка все равно ничего не сделаете!
— А раз ты такой умный, давай молоток!
— Стану я давать, чтобы сломали!
— А есть у тебя?
— Конечно, есть!
Хвалится или в самом деле?
Но Юзек сбегал и принес:
— Твой?
— А то чей же?
— Может, у отца взял?
— Да ведь я взял, а не ты!
Но если он взял без спроса и выйдет скандал, то влетит всем.
А у него и гвозди есть.
— Если позволите покататься, тогда дам. И еще достану.
377
Не надо было брать, потому что он хулиган. Но жалко времени,
каждому хочется успеть хоть немножко покататься. И мы согласи-
лись. Только и молоток не поможет, если доска гнилая.
А Юзек тяжелый и так едет, словно нарочно сани сломать хочет.
Вся работа зря пропала.
Опять ссорятся. Я иду домой.
Грустно, грустно, грустно...
Иренка видит, что я огорчен, и даже не просит меня поиграть
с ней. Придвинула скамеечку, села рядом и оперлась рукой о мою
коленку...
А я ничего ей не говорю, только думаю: «Если бы Марыня была
моей сестрой!»
И знаю, что это нехорошая мысль, потому что я словно хочу,
чтобы Иренки не было, а у меня была бы другая сестра.
Я закрыл глаза и положил ей руку на голову. А она сразу голову
мне на колени и тут же заснула. А я сижу и думаю о том, что хорошо
бы и Иренка была жива и Марыня была счастлива.
Да, это так: я в нее влюблен, в Марыню.
Чего только не происходит в человеке, чего только в нем нет, и
какое все разное! Если поглядишь вокруг, то видишь дома, людей,
лошадей, автомобили. Тысячи, миллионы разных существительных:
одушевленных и неодушевленных. И в мыслях человека те же самые
существительные. Я закрываю глаза и вижу дома, людей, лошадей,
автомобили. И у каждого существительного множество разных при-
лагательных.
И в чувствах то же разнообразие. Я по-одному люблю Пятнашку,
по-другому — родителей, Манека, эту Марыню из Вильно.
Я говорю: люблю, очень люблю, влюблен.
И только.
А чувствую по-разному.
Очень странно.
Если бы я уже не был когда-то взрослым, может быть, я этого
бы даже и не знал. А теперь я знаю, что дети влюбляются, только
не знают, как это назвать. А может быть, они стесняются в этом
признаться? Не то что сказать не хотят, а им и мысленно стыдно
в этом признаться.
Боятся даже сказать: «Эта девочка милая. Я ее люблю».
Потому что взрослые высмеивают любовь.
Скажут: «Кавалер и барышня».
Разве нельзя кого-нибудь любить — просто разговаривать, гля-
деть, играть вместе в какую-нибудь игру, подать на прощание руку,—
и чтобы никто тебя не выпытывал. Чтобы никто даже не замечал.
Что поделаешь, раз это невозможно...
И я спрошу, словно нехотя: «Марыня, это красивое имя?»
Или скажу, что у нее красивая голубая лента в волосах. Или еще
спрошу, почему у нее, когда она смеется, делаются ямочки?
Но только я что-нибудь спрошу или скажу, как сейчас же начнут
допытываться: «А она тебе нравится? А ты бы на ней женился?»
Начнутся дурацкие шутки, уж я знаю...
378
Есть такие ребята, которые просто обезьянничают,— хотят под-
лизаться к взрослым, и сами говорят: «Моя невеста».
Взрослые не любят, когда мы паясничаем, а выходит, что сами
нас заставляют.
Они не знают, как неприятно корчить из себя шута. Некоторые
дети от этого и в самом деле портятся, но большинство только испы-
тывает обиду и неприязнь к взрослым за их любопытство.
Я сижу тихонько и размышляю. И точно так же, как я, тысячи
детей в разных комнатах размышляют в сумерки о чудесах и печа-
лях жизни, о том, что происходит вокруг них и в них самих.
Об этих наших размышлениях взрослые не знают. Только спро-
сят: «Что ты там делаешь? Почему не играешь? Почему так тихо?»
Какая странная вещь — сон!.. Иренка спит и ни о чем не знает.
Вздохнула, видно, ей что-нибудь снится. Наверное, и у нее в детском
очаге есть дети, которых она любит, и, может быть, она тоже не хо-
чет об этом никому говорить.
Я сравниваю Иренку с собой, вспоминаю то время, когда я был
большим, и вижу, что все мы похожи друг на друга. Во взрослом
человеке много детского, в детях много взрослого. Только мы не
нашли еще общего языка.
Ну вот.
Я видел Марыню во второй раз.
Еще один-единственный раз была у нас Марыня. Даже не раз-
делась. Они сказали, что им надо идти, что пришли только прос-
титься.
В тот, в первый раз познакомились, а теперь сразу прощаться...
Я стою у своего цветочного горшка. Я посадил горошины, и в гор-
шке выросло уже целых четыре листка, тут два и тут два. Так при-
ятно, когда что-нибудь посадишь и потом вырастает. Поливаешь.
И от воды — из земли, из зернышка вылезает росток. Зеленый,
малюсенький. Не было ничего, а теперь есть.
Я стою, а в руках у меня открытка: ангел с крыльями, а на краю
пропасти — двое детей. Нагнулись над пропастью и рвут цветы.
Ангел следит, чтобы они не упали в эту бездонную пропасть.
Пришла Марыня с этой тетей, со своей мамой. Я ее тоже во вто-
рой раз в жизни вижу — какая-то дальняя родственница.
И я думаю:
«Если Марыня заговорит со мной, я дам ей на память открытку.
А если нет, то нет».
Я ее купил для Марыни, потому что знал, что она придет, только
боялся, что буду в это время в школе.
Я каждый день сразу бежал из школы домой. Манек спрашивает:
— Куда ты так торопишься?
Мама удивляется:
— Разве занятия теперь раньше кончаются?
А я молчу. Что я им скажу?
У Марыни белая пуховая шапочка и такой же воротничок. И во-
лосы вьются.
Ее мама говорит с моей мамой о каких-то там знакомых в
А она молчит.
Потому что я быстро поцеловал этой виленской тетке руку, и
скорей к цветочному горшку.
А она стоит и держится за свою маму.
Я вынул из книжки открытку. Ту, с ангелом.
А она, Марыня, сразу ко мне пошла, быстро, почти побежала.
А я раз — снова открытку в книжку и, наверное, покраснел, потому
что еще больше смутился.
Она остановилась, заслонилась муфточкой этой пушистой, и
я улыбнулся. А она тоже. И я отвернулся, словно смотрю на цве-
точный горшок.
А Иренка подбежала и показывает ей куклу.
Иренка говорит:
— Смотри, какие у нее башмачки.
Тогда я опять к ним повернулся.
Марыня взяла куклу и спрашивает:
— А у нее глаза закрываются?
Я говорю:
— Нет. У маленьких кукол не закрываются.
Марыня совсем уже близко подошла и говорит, что и у малень-
ких могут закрываться, только у совсем уж маленьких никогда не
закрываются.
И потом говорит:
— Я уже уезжаю.
Я испугался, что она прямо сейчас уедет, и быстро вынул отк-
рытку с ангелом: побоялся, что не успею отдать.
Показываю и спрашиваю:
— Красивая?
Она тихо ответила:
— Красивая.
Я говорю еще тише:
— Может быть, хочешь?
Я не хотел, чтобы Иренка увидела. Потому что маленькие любят
во все вмешиваться. А вдруг еще что-нибудь громко скажет.
Но мама с тетей разговаривали и ничего не услыхали. Марыня
говорит:
— Напиши что-нибудь на память.
Она это таким голосом сказала и смотрит, соглашусь ли. Все
хорошо вышло. Я тут же быстро написал: «На память о Варшаве».
И приложил промокашку.
А Марыня говорит:
— Ой, размажешь!
Я отвечаю:
— Смотри, совсем не размазалась!
Но «Н» немножко размазалось.
Она говорит:
— Ну, это ничего!
И добавила:
— Ты очень красиво пишешь!
И еще:
— Напиши, кому и от кого.
— Зачем?
Марыня подумала, склонила головку набок и говорит:
— Да, правда...
Но я написал: «Марыне из Вильно».
И завернул в серебряную бумагу от шоколода. Потому что у меня
уже все было припасено.
Но вижу, что чересчур уж блестит. Тогда я вырвал страницу из
тетрадки и обернул еще раз.
А она:
— Ой, страницу вырвал!
Я говорю:
— Ничего!
А моя мама говорит:
— Снимите пальто!
А ее мама:
— Нет, мы должны сейчас же идти!..
Марыня положила эту открытку, этот сверток, в муфточку и
спрашивает:
— Ты какую букву больше всего любишь писать?
Я говорю:
— Заглавное «Р».
— А я заглавное «В». Дай бумаги, я тебе напишу. Но каранда-
шом. Посмотрим, кто красивее пишет.
И она написала. И я тоже. Только я не старался, хотел, чтобы
у нее вышло красивее.
Она говорит:
— Ну, чья красивее?
Смеется, а зубки у нее беленькие, ровные-ровные.
И говорит:
— На открытке ты красивее написал!
Я покраснел и говорю:
— Когда удастся, а когда и нет...
Мы писали «Варшава, Вильно» — разные слова, а потом числа.
Она говорит:
— Я страшно не люблю писать восьмерку: всегда выйдет какая-
то перекрученная.
А я отвечаю:
— Ну да. Восьмерка редко хорошо получается. И тебе ведь,
Марыня, в пальто трудно писать.
Тогда она посмотрела на свою маму и говорит:
— Пожалуй, раздеться, или как?..
Но им уже надо идти.
Марыня хотела эту страничку порвать, но я не дал.
— Зачем тебе?
— Пусть останется.
— Зачем?
Я тихо сказал:
— На память!..
•Зо!
— Ну, какая это память. Разве это годится на память! Я тебе
из Вильно пришлю красивую открытку.
Но оставила.
И я показал ей горшок с горохом. Сказал, чтобы она его взяла.
Но как она с этим горшком поедет?
Марыня погладила пальцем каждый листик.
А ее мама говорит:
— Ну, пошли.
И поднимается со стула. Марыня быстро встала подле своей
мамы.
И мы уже больше не разговаривали, я остался около горшка.
Они еще долго так говорили, стоя. А может быть, недолго, только
теперь уж я хотел, чтобы они скорее ушли.
Я боюсь прощаться. И слышу:
— Ну, ребятишки, прощайтесь!..
Я еще больше отвернулся.
— Ну что, так и не попрощаетесь? Может быть, вы уже поссо-
рились? Не поцелуетесь на прощание?
Марыня говорит:
— Я с мальчиками не целуюсь.
— Вот ты какая,— говорит моя мама.— А не споешь нам на
прощание?
— Могу.
А ее мама говорит:
— Ну уж когда в следующий раз приедем. А то горло пере-
греешь.
Марыня поцеловалась с мамой и с Иренкой, а мне только руку
подала. И' так гордо. Даже не улыбнулась. В перчатке.
И они вышли. А мама:
— Ты бирюк. Вот Марыня — молодец. А ты у меня совсем не-
отесанный.
Я благодарен Иренке.
Я ее поцеловал — привлек к себе и поцеловал в голову.
— Ты была хорошей девочкой, Иренка,— сказал я.
И начинаю готовить уроки.
И так мне хорошо, спокойно. Так хорошо все получилось с этой
открыткой. Красивая открытка. Сперва я хотел купить с цветами,
потом с видом: лес, около леса домик и лошадь стоит. Еще были
две красивые, но на одной надпись: «С днем рождения». А с ангелом,
пожалуй, самая красивая. И горы, и пропасть, и цветы, и этот ангел
их охраняет.
Когда у меня будут деньги, я куплю такую же. Марыня, наверное,
не пришлет, забудет, когда вернется в свой Вильно.
Я переписываю на завтра стихи. А рядом лежит Иренкина кукла.
С этой куклы все и началось. И горшок с четырьмя листочками.
Потом, когда горох будет расти, новые листья появятся выше, а эти
четыре окажутся внизу. И, наверное, они первыми опадут. Подо-
ждать, пока они пожелтеют и опадут сами, или сорвать их еще зеле-
ными и засушить на память? Пока еще я не знаю.
382
Я переписываю на завтра стихи. Пишу очень старательно. В этом
отрывке было одно заглавное «В». Я постарался написать его как
можно красивее. Уж и не знаю, приятнее ли мне писать заглавное
«Р» или заглавное «В».
И я посматриваю на ту страничку, на которой мы писали буквы.
Да, ничего не поделаешь: я люблю ее и больше ее не увижу.
Только страничка с буквами осталась и четыре гороховых листочка...
А может быть, она и в самом деле напишет? Или встречу на ули-
це какую-нибудь похожую девочку. Так ведь и с Пятнашкой было.
Девчонки противные. Гордячки, вечно ссорятся, кривляются. И
любят притворяться, будто бы они взрослые, а ребята — хулиганье.
Девчонки сторонятся нас, а захотят подойти, так словно милость
тебе оказывают.
Ну да, какие-то они более нежные. И платьица у них, и бантики,
и бусы — понавешают разных украшений. А выглядит красиво.
А если Ъ мальчишка — было бы смешно. А ведь есть и мальчишки
с длинными волосами. Точно куклы. Неужели не стыдно?
Ну да, но почему мы должны им уступать? Девчонку нельзя ни
ударить, ни толкнуть. Сразу скажут: «Она девочка!»
А когда мальчики и девочки учатся в школе вместе и мальчик
пожалуется учительнице на девочку, та отвечает:
— Ты мальчик, а с девочкой сладить не можешь?
Хорошо, а другой раз слажу. И снова скандал. И непонятно, как
же все-таки надо поступать.
Если бы взрослые не напоминали все время, что вот это мальчик,
а вот это девочка, мы, наверное, и забыли бы. Но разве они дадут
забыть. Сами говорят, будто нет разницы, а на деле получается на-
оборот.
Мне неприятно так думать, но ничего не поделаешь. Ведь не могу
я врать. Марыня тут не виновата. Может быть, и в самом деле это
только в Варшаве так?
А она написала. Правда написала. Сдержала слово. Прислала
открытку с видом Острой Брамы. И адрес, и марка — все есть. Не
постыдилась написать мальчику.
Смелая.
И петь не стыдится, и первая сказала, что будет танцевать.
У меня эта открытка лежит теперь вместе с той страничкой и
листочками. Только один листок сломался.
А недавно у нас была экскурсия. Не по железной дороге, а через
мост в парк. Так хорошо было.
Мы хотели идти посреди улицы по четыре человека в ряд, а не
протискиваться парами: тогда не так будут толкать. Но учительница
не позволила. И правильно. Потому что ряды сразу расстроятся и
выйдет неразбериха. Тот пинается, эти еле волочатся, одни вправо
идут, другие влево. Но и парами идут не в ногу и не на равном рас-
стоянии.
Интересно было. Когда мы переходили через улицу, останови-
лись два извозчика и одна машина. Как-то приятно, что и мы что-то
значим,— останавливаются.
383
Я иду в паре с Манексм. Главнее, выбрать себе хорошую пару
и знать, кто идет перед тобой, а кто за тобой.
Всего красивее было на мосту, потому что вода в Висле замерзла.
— А есть такие, которые купаются в проруби.
— А ты бы побоялся?
— Чего?
— Ну, холодно!..
— Ну и что ж, что холодно?
Ведь приятно попробовать и доказать, что не боишься.
— Из воды может сделаться лед или пар.
— Странно, правда?
— А разве не странно, что муха может по стене ходить, а рыба
в воде дышит?
— Или лягушка. Получается из головастика. Чудно!
И мы разговариваем с Манеком о том, что будто бы у нас есть
лодка и мы возьмем хлеба, сыра, яблок и поедем в Гданьск. По ка-
ким притокам Вислы будем плыть, мимо каких низменностей и пло-
скогорий и исторических мест.
Мы играем, а выходит как бы урок, экзамен.
Школа добрая, она позволяет человеку долго и много думать о
разных вещах. Одно узнаёшь из географии, другое — из естество-
знания, третье — из истории. И сам не ожидаешь, как все это может
пригодиться, когда думаешь...
— В Гданьск или в Краков?
— Нет, против течения трудно.
— А если на моторке?
Хорошо бы при каждой школе был свой корабль! Корабль стоял
бы у пристани, а мы бы его сторожили. По очереди: каждые сутки
другая четверка. А как только лед на Висле тронется, сейчас же под-
нимем паруса — ив путь.
Неделю — один класс, неделю — другой. И делать все по сме-
нам: то ты в каюте, то с парусами, то за рулем.
Мы и сами не решили, будет ли это парусник, пароход, моторка,
яхта или даже плот.
А снег так славно сверкает на солнце.
В парке белым-бело.
Мы бежим наперегонки. Некоторые даже хотят снять пальто...
Но учительница не позволяет. А ведь когда бегаешь — тепло. И у
себя во дворе мы играем без пальто.
Мы не очень настаиваем, не хотим, чтобы учительница кричала.
Хуже нет, когда всем хорошо, а кто-нибудь сердится.
Учительница накричит на одного, а неприятно всем. Но один
всегда найдется.
Сегодня это Малицкий. Учительница велела ему идти с Рудским.
А он не хотел: они друг друга не любят. И тот всю дорогу его толкал.
Учительница рассердилась, говорит, что мы идем, точно банда,
и она больше с нами ходить не хочет,— люди оглядываются, стыд-
но... А Малицкий назло лезет под пролетки, и учительница боится,
что его задавят. Но ведь ходит же он каждый день в школу один,
384
и никто за ним не следит. Значит, пусть бы и шел, как хочет. Да нет,
знаю, что нельзя, потому что, если позволишь одному, сейчас же все
разбредутся.
И в парке, когда надо было домой уходить, насилу собрались.
Раз уж такой путь проделали, хотелось побыть подольше. Всем там
было хорошо, никому не хотелось возвращаться. Некоторые по-
слушались и строятся. Но увидят — пары нет, стоять скучно —
и уходят пару искать. Послушные видят, что другие играют, а у них
ноги мерзнут стоять и ждать. И они теряют терпение.
— Пошли!
Жалеют, что послушались. Другие бегают, а они должны стоять
и смотреть, как учительница сердится.
Постоят, постоят, да и разбредутся. А те видят, что еще мало
народу собралось, и не торопятся. Каждому хочется быть послед-
ним, чтобы не ждать.
А я бы не стал сердиться. Если бы учительница отправилась
сразу, хотя бы с тремя парами, другие стали бы их догонять, и так
бы понемногу все собрались. Может быть, кто-нибудь и сказал бы:
— Ну и пусть их идут! Сам домой дорогу найду...
Но, наверное, все-таки побоялся бы остаться, потому что на-
кажут, и тоже догнал бы. А если и нет, так он один и виноват. Нельзя
ведь сразу на всех обижаться.
Если бы взрослые нас спросили, мы бы им много хорошего по-
советовали. Ведь мы знаем свои недостатки, и времени у нас больше,
чтобы приглядеться друг к другу: мы больше бываем вместе. Один,
конечно, всего не сообразит. Но все вместе разберемся.
Мы молчим только потому, что не знаем, что можно говорить,
а чего нельзя.
На обратном пути я сказал Манеку про Марыню из Вильно.
— Знаешь, Манек, я получил открытку из Вильно. Цветы. Не-
забудки. Очень красивая открытка.— И добавил: — От одной
девочки.
Я сказал, как ее зовут и в каком она классе.
— Только помни, это тайна!..
Я сказал, что танцевал с ней на именинах, и что она хорошо поет,
и что у нее темные волосы.
— Видишь, Манек, а ты тогда сердился, что я Бончкевичу пер-
вому рассказал про Пятнашку. Я ведь должен был ему рассказать,
потому что он не хотел мне давать в долг денег. И тогда я еще не
знал тебя так хорошо...
Мы взялись за руки и идем так. А Манек говорит, что и ему нра-
вится одна девочка.
— Потому что она всегда грустная.
— А моя Марыня, наверное, веселая.
На мосту мы уже ни о чем не говорили. И только потом я спро-
сил:
— Ты не сердишься, что я тогда сказал про твоего отца?
Я думал, что Манек не расслышал, потому что как раз проехала
грузовая машина. Военный грузовик, тяжелый. Цепи так и бренчат.
1 3 Януш Корчак
385
И трое солдат в кузове, а шофер в гражданском — не знаю почему.
А один солдат держал собаку. Собака встала передними лапами
на край кузова, и голова у нее подпрыгивает. Выражение такое ис-
пуганное.
Но Манек услышал:
— Я не сержусь, только ты так больше не говори... Какой бы
уж ни был отец... Ну, каждый ведь сам знает, какой у него отец.
А когда кто другой скажет — неприятно.
— Я тебе не хотел сделать больно,— говорю я.— У меня только
так вырвалось.
— Я знаю,— говорит Манек.
Ну, и теперь мы с Манеком друзья. Я и открытку принесу в школу
и покажу ему.
Я попросил у него прощения и рассказал ему свой секрет, чтобы
он не подумал, что я только о нем хочу все знать. И приглашу его
к себе домой.
Как смешно взрослые требуют, чтобы мы просили прощения!..
Только что-нибудь сделаешь,— сразу: «Иди попроси прощения!»
Не бойтесь, если я знаю, что не прав, я попрошу прощения, толь-
ко когда-нибудь потом... Я уж выберу такую минуту, когда можно
будет, потому что иначе получится только вранье и фальшь.
А Марыня смешно написала:
«Дорогой кузен!
Я уже в Вильно и не хожу в школу. Я ехала целую ночь, и просту-
дилась, и у меня был жар. Целую тебя 100 000 000 раз. Любящая
тебя Мария».
Мне стыдно показать Манеку эту открытку.
Учительница велела описать прогулку в парк. В рассказе должны
быть четыре части: дорога в парк, в парке, возвращение и заклю-
чение.
Учительница меня похвалила, сказала, что я хорошо написал.
Я написал:
«Была хорошая погода, и учительница повела наш класс на про-
гулку. Мы шли по разным улицам. По обеим сторонам улицы вы-
сятся большие дома, а посреди — уличное движение. По рельсам
едут трамваи, а не по рельсам — такси, пролетки, повозки и т. п.
Снуют прохожие, а на углах стоят полицейские.
В парке мы играли в разные игры. Парк покрыт снегом. Деревья
голые, потому что на них нет листьев. Их вершины уходят высоко
в небо. В парке нет памятников старины, зато летом растут трава
и покрытый сочными листьями кустарник.
А на обратном пути мы опять шли по железному мосту. Мы
смотрели на лед. И всю дорогу шли парами.
Экскурсия в парк нам очень понравилась, потому что все время
светило солнце и мы играли в парке в разные игры».
Писать сочинения противно, потому что никогда не пишешь
правду, а всегда только то, что велели в школе.
Оказывается, Марыня простудилась и была больна. Может быть,
она была тяжело больна, а я ничего не знал. Она могла даже уме-
386
реть, потому что дети тоже умирают. Я радуюсь, что получил отк-
рытку, а на самом деле беспокоюсь.
И зачем она сюда приезжала?
Я раньше знал, что в Вильно у меня есть тетка, кажется, слы-
шал, что у нее есть какие-то там дети, может быть, даже говорили,
что девочка, Марыня. И вдруг я ее увидел.
Зачем?
Какое, собственно, она имеет ко мне отношение?
Дальняя родственница, какая-то троюродная сестра.
Если бы не дядя, я бы даже с ней не заговорил, а если бы она
пришла проститься, когда я был в школе, я бы ее уже больше не
увидел.
Может быть, порвать открытку и покончить с этим?
Зачем терзаться? Зачем думать? Зачем беспокоиться, здорова
ли она, не случилось ли с ней чего плохого?
Все равно я ей ничего не отвечу, потому что нет денег на отк-
рытку.
А вот нет, дали.
— На, озорник,— сказал отец и дал мне злотый.— Купи себе,
чего тебе нужно, или сбегай в кино.
А мама сказала:
— Не давай мальчишке денег, избалуешь.
И я взял, как-то глупо, неуклюже.
Так неожиданно это получилось. Потому что отец считал деньги,
насчитал не то тридцать один, не то сорок один. В общем, один зло-
тый был как бы лишний. А я рядом стоял. Ну, он и дал мне.
А когда я взял, мне стало жалко отца. Ведь не очень-то много
у него этих злотых, да и дети сколько стоят. Вместо того чтобы себе
что-нибудь купить, покупает нам то пальто, то башмаки. А еще еда,
школа. И за все это ему одни только заботы и огорчения, если я
плохо себя веду.
Когда я хотел стать ребенком, я совершенно забыл, что не буду
сам на себя зарабатывать и стану обузой.
Но ведь нет, дети ке дармоеды...
Их работа — школа. Правда, у нас каникулы длинные, но и учи-
тель в это время отдыхает. Наша работа не легче, чем у учителя.
Ведь для нас все трудное и все новое.
А говорят, что дети ничего не делают, даром хлеб едят.
Когда я хотел стать ребенком, я совершенно забыл, как трудно
''*"*ть своих денег.
MC rim«,. „ -, u **
pi - **еня плохая линейка. Кто-то сделал на ней зазуо-
рины. Я оставил'ее на парГГ, ПРИХ0ЖУ после^ перемены - нет ли-
нейки. Ищу, ищу и, наконец, нахожу н« ™.vr°" паРТе' Наи™"т0 на"
шел, да край в зазубринах. С такой линейкой уже "? начертишь —
карандаш задевает. Бывают линейки с железным краем. /* наши*
как назло, из мягкого дерева. Забудешь, ударишь о парту — и сразу
остается зазубрина.
Сколько у нас разных вещей пропадает, а мы ничего не говорим.
Если побалуешься, учительница скажет:
387
— А ты следи!
Но ведь во время перемены нельзя оставаться в классе, да и во-
обще разве можно все время следить?
Теперь у меня есть злотый.
Видно, судьба.
Я куплю открытку для Марыни. Отдам Бончкевичу десять гро-
шей и возьму Пятнашку. Куплю линейку, чтобы была про запас. Мо-
жет быть, шнурки для ботинок купить? Чтобы, когда порвутся, мама
не ругала. Может, Манеку что-нибудь надо?..
Хорошо бы в кино сходить, но как? Пойти одному и скрыть от
Манека? А сказать, что был, Манеку будет обидно.
Злотый — это как будто много. А как начнешь подсчитывать,
видишь, что и злотого не хватает.
Мы отправились с Манеком искать красивую открытку. Ангел
у нее есть, незабудки она сама мне прислала. На одной был нари-
сован мальчик с девочкой, но эту я взять постеснялся, потому что
получается как бы она и я.
Было бы куда легче выбрать, если б можно было войти в магазин.
А входить неприятно. Смотрят, как бы ты чего не стянул, не по-
мял, не запачкал. Торопят. Не любят, чтобы ребята все рассматри-
вали. Говорят:
— Ну, скорее!
Видно, что хотят, чтобы ты ушел.
Потому что у детей только гроши, на детях много не зарабо-
таешь.
Взрослый тоже не сразу покупает. Взрослому позволят просмот-
реть все альбомы. Потому что если он сегодня купит открытку, то
завтра, может быть, придет опять и купит еще что-нибудь. А с нас
что толку? Гроши да гроши.
Я сразу отдал долг Бончкевичу.
Пока у меня не было денег, я даже не смел спросить его о Пят-
нашке.
— Вот тебе десять грошей, которые ты мне тогда одолжил на
молоко.
— Я ведь сказал, что прощаю тебе долг.
— Не хочу. Что поделывает Пятнашка?
— Как — что поделывает?
Он что-то не отвечает. Может, родители не позволили ему дер-
жать собаку? А может, сам выгнал?
— А он у тебя?
— А где ж ему быть, раз ты его бросил?
— Я его не бросил, я тебе отдал!
— Л ССЛ" бы Я не взяп*>
Тогда, м^жет быть, кто другой взял бы.
думаешь, родители так сразу и позволят взять собаку?
Я злюсь, что он так важничает. Говорю:
— А почему бы и не позволить?
— Твои ведь не позволили?
— Да я у них и не спрашивал!
388
Я завидую, что все ему так легко. Ведь я веду одинокую жизнь,
а собака — друг человека.
Я знаю, зависть нехорошее чувство. Но как не завидовать, если
мальчишке так повезло, а он даже ценить этого не умеет?
И мне любопытно — узнал бы меня Пятнашка? Поэтому я про-
глатываю обиду и говорю:
— А можно мне на него посмотреть?
— Ладно уж, приходи, покажу...
— А дашь мне его домой? На один день?
— Ишь, сразу всего захотел. Мой, так мой. Да он уж и не пойдет
за тобой!
— А ты почем знаешь? Может, и пойдет!
— Он уж ко мне привык.
— Ну и держи его!
— Ну и буду держать!
Я отхожу. Что с ним разговаривать? Все равно не поймет.
Теперь у меня только один Манек остался.
С ним мы все время вместе.
Утром встречаемся и вместе идем в школу.
На перемене вместе.
И вместе возвращаемся домой.
Один он у меня остался.
А может, грешно так думать?
У меня ведь есть отец, мама, Иренка.
Я забыл еще, что мы тогда, когда она прощаться приходила,
сдували со стола колесико. Лежало там колесико — то ли от часов,
то ли еще от чего-то.
И Марыня сказала:
— Кто сильней дунет?
Ну, и она дула в одну сторону, а я — в другую.
Иренке мы тоже позволили дунуть два раза на колесико.
Серые деньки
Уже у второго ученика шапка пропала.
Поднялся целый скандал.
Хуже всего обстоит дело во втором классе. Там пропадают
книжки и тетрадки.
Решили устроить обыск.
Учителя говорят, что это позор для всей школы. Каждый пере-
числяет, что у него пропало, а учительница записывает.
У меня ничего не взяли. Был у меня, правда, кусочек резинки,
с четвертушку. На неделю бы еще хватило. Она пропала. Может,
в школе, может, на улице, а может, и дома куда завалилась.
А некоторые, как начали диктовать, так получалось, будто во
всей школе одни воры. Называли все: кто что потерял или подарил
и забыл. Учительница еле поспевала писать.
Наверное, кое-кто и врал. Потому что Панцевич спросил меня:
384
— Почему ты не сказал, что у тебя что-нибудь пропало? Может,
школа оплатит.
А ведь это хуже воровства — требовать, чтобы тебе отдали то,
чего никто у тебя не брал.
Ну, есть, конечно, ученики, у которых много чего пропадает.
Бросит где попало, а потом не знает, где искать. Или даст кому-
нибудь и забудет.
Нам чаще, чем взрослым, приходится брать в долг друг у друга.
В школе велят что-нибудь принести, а дома не дают. Как тут быть?
А хуже всего, когда тебе не верят. Взрослому, если он человек
честный, все доверяют, а ребенок всегда под подозрением.
— Мне надо денег на картон.
— Опять на картон? Ведь ты недавно покупал!
Как это обидно! Что, я этот картон ем, что ли?
Мы теряем деньги, забываем, куда положили,— это правда. Но
у взрослых есть большие карманы и столы с выдвижными ящиками.
Ходят взрослые медленно, не играют, не бегают. И все-таки они
тоже теряют вещи и забывают, где что лежит. Когда ты все пом-
нишь, ничего не теряешь, этого никто не замечает. Но чуть что про-
пало, сразу скандал.
В театрах есть гардеробщики, и одежда выдается по номеркам.
Как тут чему-нибудь пропасть?
А в школе каждый сам вешает пальто и шапку и сам их берет.
Да еще второпях. Триста учеников повесят пальто аккуратно, а
пять-шесть побросают кое-как. Но об аккуратных никогда не го-
ворят. Детей только ругают.
Я хотел снова стать ребенком, чтобы избавиться от мелких се-
реньких забот и печалей взрослых, а теперь у меня другие, ребячьи,
заботы, от которых я страдаю не меньше.
Когда я был взрослым, я только остерегался воров.
А теперь мне больно.
Почему один берет у другого? Как так можно?
Нас терзает печаль, что не может быть все хорошо.
«Ничего не поделаешь!» — говорил я, когда был большим.
А теперь я не хочу, не хочу, чтобы так было!..
Шапка так и не нашлась. Ученики должны собрать деньги.
Значит, придется сказать дома. А дома нападут на школу:
— Одни воры у вас там!
— И чего только учителя смотрят?
А ведь это несправедливо. Чем школа виновата? Разве учителя
могут за всем уследить?
Сколько огорчений и хлопот из-за одного такого мальчишки!
После уроков я никак не мог найти пальто, и Манек меня дожи-
дался.
Ищем, а сторож говорит:
— Вы чего тут высматриваете?
— Не высматриваем, а пальто мое куда-то перевесили.
— Чего не терял, того не найдешь,— говорит сторож.
— Ведь не мог же я без пальто в школу прийти!
390
— А кто вас там знает.
Наконец я нашел пальто.
— Ну, нашел? Вот видишь: где повесил, там и висит.
— Вы не видели, так и не говорите.
— Не груби, а то подзатыльник получишь.
И когда только взрослые перестанут угрожать детям побоями!
Некоторое время мы с Манеком идем молча.
— В крови есть какие-то шарики,— говорит Манек,— в которые
входит воздух. Странно устроен человек! Ни одной машины нет на
него похожей. Если часы не заведешь, они остановятся. А человек
без завода действует бывает и сто лет. Вот в газете писали, что од-
ному старику сто сорок лет.
И мы говорим о том, каких кто знает стариков. А потом о вете-
ранах. И о том, что они помнят восстание.
— А ты бы хотел быть ветераном?
— Нет,— быстро ответил Манек.— Я хотел бы, чтобы мне было
лет пятнадцать — двадцать.
— Тогда, может быть, твоих родителей уже не было бы в живых.
Он подумал-подумал и ответил печально:
— Пускай уж тогда все остается, как есть.
Мы попрощались, подали друг другу руки и посмотрели в глаза.
А девчонки всегда целуются, даже если и не очень любят друг друга.
Мы, ребята, правдивее. А может быть, у них только привычка такая?
Что было потом?
Да ничего особенного. Разные уроки.
А на уроке физкультуры учитель показал нам новую игру.
Все разбиваются на две партии. Проводят черту — границу.
Одни — с той стороны, другие — с этой. И перетягивают друг друга,
как бы в плен берут. Сначала игра не ладилась, потому что ребята
нарочно поддавались, когда хотели перейти на другую сторону. Или
же перетянут кого-нибудь, а он вырвется и спорит. Но постепенно
игра наладилась, и стало весело.
Мы просили, чтобы нам позволили играть до конца урока, до
звонка, но учитель сказал: «Нет!»
Трудно понять, почему.
Я думаю, надо так: выбрать несколько игр, которые всем нра-
вятся, и играть в них. Сколько лет ребята играют в салки, в чижа,
в классы, в лапту, а теперь еще и в футбол! Почему же это должно
вдруг надоесть? А тут на каждом уроке что-нибудь новое. Так ни
в одну игру играть не научишься. Только условия узнаешь. А чтобы
всеми приемами овладеть, не одна неделя нужна.
Взрослым кажется, что дети любят только новое: новые игры,
новые сказки.
Есть, конечно, ребята, которые обязательно скорчат гримасу и
скажут с презрением:
— Это мы уже знаем, это мы слыхали!
Но на самом деле хорошую сказку, интересный рассказ мы мо-
жем много раз слушать. Ходят же взрослые много раз на один и тот
же спектакль, а ведь взрослым скорее все надоедает. Детям хочется
391
хорошо знать то, что им понравилось, но учитель в школе всегда
спешит, ему всегда некогда.
Славно мы поиграли на уроке физкультуры.
А на урок математики пришел инспектор.
Нам говорят, чтобы мы всегда старались, даже когда никто на
нас не смотрит. А взрослые не всегда так поступают.
При инспекторе все ведут себя иначе. Даже директор. Школа
сразу становится праздничной. И чего они боятся, непонятно. Ведь
инспектор самый обыкновенный человек, он даже добрый.
Инспектор дал нам задачу. В задаче спрашивается, сколько куп-
лено баранов. А Дроздовский со страху ослышался и говорит: «ба-
ранок».
Мы думали, инспектор рассердится, и учительница будет потом
ходить сердитая. А он только рассмеялся:
— О баранках думаешь? Видно, большой любитель.
Тут и все рассмеялись. И отвечали хорошо.
Даже учительница сказала, что хорошо.
Наступил день именин учительницы. Был сильный мороз, а мы
уговорились украсить класс хвоей. Но у нас не было хвои. И мы ре-
шили написать учительнице поздравление на красивой бумаге, но
перессорились, и тоже ничего не вышло. Потому что это надо было
сделать сообща: один напишет, а все подпишутся. Сначала хотели
собрать по пять грошей, а потом стали спорить, кто купит бумагу
и что написать. Кончилось тем, что нарисовали несколько картинок
и положили учительнице на стол. А на доске написали:
«Поздравляем госпожу учительницу!»
Хотели едце добавить:
«Желаем счастья и здоровья!»
Некоторые предлагали написать:
«Желаем красивого мужа».
И еще разные глупости выдумывали. Но мы им не позволили
это писать.
Мы очень торопились, чтобы успеть за перемену.
Учительница посмотрела и ничего не сказала, только улыбну-
лась. Но, видно, она ждала, что мы ее поздравим; урока не было,
вместо урока читали вслух. Учительница принесла книжку «Наш
малыш». Хорошая книжка, грустная.
Только зачем она все время прерывает чтение и объясняет. Ведь,
если слушаешь, все и так понятно. А не поймешь, догадаться можно.
Если читают что-нибудь неинтересное, то пускай объясняют:
время быстрее проходит. А когда интересно, боишься, что дочитать
не успеют. И, если чего-нибудь не понимаешь, это не мешает, даже
таинственно получается.
Учительница кончила читать и уже перед самым звонком по-
благодарила за поздравление.
Я знаю почему. Боялась, что если в начале урока поблагодарит,
то поднимется шум и нельзя будет читать. Учителя боятся всякого
праздника в классе, всякой радости, всякого взрыва веселья.
392
Еще мы играли во дворе в разные игры. Вот и все развлечения.
А огорчений много. Потому что и за других обидно.
Учитель разорвал Хессу новую тетрадь: «Не старался, торопился,
когда писал». А у Хесса мать больна и работы по дому много. Хесс
хотел совсем не готовить урок, но побоялся, что учитель рассер-
дится. А вышло еще хуже. Учитель сказал:
— Ученик, который не стыдится подавать учителю такую маз-
ню...
И порвал тетрадь.
Хесса я не очень любил. Сидит он далеко от меня, мы почти и
не разговариваем. Он какой-то шальной, ни в чем удержу не знает —
ни в озорстве, ни в игре. И, видно, очень бедный.
Но меня удивило, что он плачет. Прежде я никогда не видел,
чтобы он плакал. А теперь у него слезы текли. И весь урок он сидел
насупившись.
Писал в новой тетрадке и не старался? Самый большой лентяй
и грязнуля и тот поначалу всегда старается...
Но ведь у него мать больна. А он и раньше не так уж красиво пи-
сал. Другой и хотел бы писать красиво, да не может. И еще в деше-
вых тетрадках плохая бумага или, бывает, перо старое, бледные чер-
нила, промокашка мажет.
У меня как раз была новая тетрадка, я и дал ему. Он обрадовался.
У отца он не мог бы денег попросить, у них теперь такая нужда...
И еще одно огорчение.
Новый школьный врач нашла у Крука на рубашке вошь. И давай
честить и его и всех. Почему мальчишки не моются, и когти у них
длинные, и башмаков они не чистят.
Сказала бы, что нашла вошь у одного, зачем весь класс обвинять?
И зачем доводить человека до слез? Ну, случилось. И еще неизвест-
но — может, от кого переползла. Ведь не с одними же чистыми мы
встречаемся. И сидим вместе, и пальто на пальто висит. И дома
жилец есть, может, и грязный. А маленькие братья и сестры все вре-
мя во дворе.
И сразу же разные колкости и насмешки. Даже наших матерей
помянула. Этого-то уж она никак не имела права делать...
А подлизы, чтобы понравиться, разные шуточки отпускают.
И все смеются. Чистить башмаки? Хорошо. Но для этого надо иметь
ваксу и щетку. А что делать, если щетка вся стерлась и осталась
одна деревяшка?
И за небольшую баночку ваксы надо отдать двадцать грошей.
Раза два можно слюнями почистить, только потом башмаки выгля-
дят еще хуже; тут уж и вакса не поможет.
И еще огорчение: у Манека жмут башмаки. Манек стер ногу и
стал еще сильнее хромать. У меня забота с пальто на рост, а у него
и того хуже.
Дома сказать про башмаки боится, начнут кричать, потому что,
когда покупали, хотели взять на номер больше, а он говорил, что
и эти ему велики.
— Не понимаю, что случилось. Разве только человек растет не
393
всегда одинаково. Та пара, когда износилась, была даже еще велика.
Тогда у меня нога совсем не росла, а теперь за полгода такие лапы
выросли, что и сам удивляюсь. Все мне мало! Гимнастику совсем
делать не могу, боюсь, как бы все у меня не лопнуло, потому что
и так все по швам трещит. Учитель сердится, что я не нагибаюсь,
рук как следует не вытягиваю и плохо марширую, а не посмотрит,
как я одет.
— Что же ты будешь делать? — спрашиваю.
— Почем я знаю... Когда уж совсем ходить не смогу, может,
дома сами заметят. И тогда будь что будет — ну, отругают, изобьют.
Я ведь не виноват, что расту. Когда-нибудь перестану.
Потом мы говорили о том, что если щенку давать водку, он будто
бы перестает расти. Может, оттого и пони бывают, что им раньше
водку давали. В прошлом году объявления про цирк возил такой
хорошенький пони.
— Ты его видел?
— А как же!
— На Новом Свете?
— Нет, на Маршал ко вской.
Самое большое мое горе — это то, что в школе мне трудно. Я за-
бываю все, что знал, когда был взрослым. Я уже не могу теперь
больше не слушать на уроках, должен все время быть внимательным
и старательно готовить домашние задания.
Мне трудно отвечать. Я не уверен в себе. Каждый раз боюсь,
что не сумею ответить, не получится.
Когда учительница или учитель смотрят на учеников, собираясь
кого-нибудь вызвать, сердце начинает биться как-то по-другому.
Не то что страшно, но как-то не по себе. Словно следствие: хоть и не
виноват, да кто знает, чем кончится.
И всегда зависишь не от одного себя, а от всего класса. Одно
дело отвечать, когда класс знает и понимает, другое — когда не
знает и учительница раздражена.
Если кто-нибудь скажет глупость, после него уже трудно хорошо
ответить. Поэтому есть дни, когда все, даже самые плохие ученики,
знают уроки, и дни, когда весь класс словно поглупел.
Ну, ничего не поделаешь: не знаю, не понимаю, не могу. Разве
менее способным детям и вовсе нет места на белом свете?
Учительница вызвала меня к доске. В голове вертится только
одна фраза: «Опять двойка».
Другой умеет откашляться, принять уверенный вид или сде-
латься покорным, вызвать жалость или умеет воспользоваться под-
сказкой, притворяется, будто отвечает, а сам только и ждет, чтобы
учительница подсказала.
Может быть, в последнюю минуту случится что-нибудь такое,
что принесет мне избавление?
Ребята показывают на пальцах, что скоро звонок. Но меня это
ничуть не радует. Потому что учительница, наверное, задержит меня
после урока,— и это еще хуже. А если даже она мне и ничего не
поставит, то все равно запомнит.
394
— Плохо!
Я и сам знаю, что плохо, и жду, начнет ли она ругаться или вы-
смеивать.
Но случилось самое худшее.
— Что с тобой сделалось? — говорит учительница.— Ты совсем
распустился. Не слушаешь на уроках, пишешь небрежно. И вот ре-
зультат. Мы вчера делали подобную задачу. Если бы ты был внима-
тельнее...
Все погибло!
Учительница больше меня не любит. И сердится за то, что ошиб-
лась во мне. Видно, лучше быть сереньким, незаметным, средним
учеником. Это безопаснее, проще, легче. Потому что меньше к тебе
предъявляют требований, не надо так напрягаться.
Я опустил голову и поглядываю исподтишка на учительницу,
потому что не знаю, жалеет она меня или совсем уже больше не
любит.
Учитель никогда не скажет, любит он ученика или не любит,
но это чувствуется: у него становится совсем другой голос и другой
взгляд.
И ты очень страдаешь, и ничего не можешь поделать. А иногда
ты готов взбунтоваться.
Ну, чем я виноват?
Тем, что Бараньский придумал себе глупую забаву и брызнул
мне в глаза апельсинной коркой? Так защипало, что сил нет. Но я
ничего не сказал, только глаза тру.
А учительница спрашивает:
— Что ты еще там придумал? Вместо того чтобы слушать...
Ведь не станешь же на это отвечать! Разве так не бывает?
Тебя кто-нибудь ущипнет, а ты вскрикнешь и подскочишь. И ты
уже виноват.
Учителя не знают, как мы боимся таких, про которых говорят:
«В тихом омуте черти водятся».
Такой делает что хочет, и ему ничего не будет. Просто несчастье
сидеть с таким за одной партой. Не лучше и если он сидит сзади.
Нет тебе тогда ни минуты покоя.
А в другой раз была тут капелька моей вины.
Сижу я на уроке и вижу, что у Шчавиньского сзади на куртке
пять белых пальцев. Кто-то на перемене вымазал пальцы мелом
и приложил. Тот и не знает, что у него на спине рука отпечатана.
Ну, я и попробовал примерить, правая это рука или левая. Я хо-
тел издали, но нечаянно дотронулся. А он обернулся. Учитель ему
замечание делает, что он вертится.
А Висьневский кричит:
— Ого, глядите, какая у него на спине пятерня!
Учитель начал меня ругать.
Я показываю руку, что, мол, чистая.
А учитель говорит:
— Ну-ка постойте оба за партой!
Мы стояли недолго. И не в том дело. Досадно, что все наши дела
395
решаются наспех, кое-как, что для взрослых наша жизнь, заботы
и неудачи — только дополнение к их настоящим заботам.
Словно существуют две разных жизни: их — серьезная и достой-
ная уважения, и наша — пустячная.
Дети — это будущие люди. Значит, они только еще будут, зна-
чит, их как бы еще нет. А ведь мы существуем, мы живем, чувствуем,
страдаем. Наши детские годы — это годы настоящей жизни.
Почему и чего нам велят дожидаться?
Я размышлял о своей серенькой взрослой жизни, о ярких годах
детства. Я вернулся в него, дав обмануть себя воспоминаниям. И вот
я вступил в обыденность детских дней и недель. Я ничего не вы-
играл, только утратил закалку — умение смиряться.
Грустно мне. Плохо.
Я кончаю эту странную повесть.
Одни события быстро сменяются другими.
Я приношу в школу открытку Марыни, чтобы показать Манеку.
А Висьневский вырывает ее у меня из рук.
— Отдай!!
Висьневский убегает.
— Отдай, слышишь?
Висьневский прыгает с парты на парту.
— Отдай! Сию же минуту!
Висьневский машет в воздухе открыткой и орет во все горло:
— Триптих! Письмо от невесты!
Я вырываю. Комкаю. Рву в клочки.
И не заметил, что один обрывок упал на пол.
А Висьневский кричит:
— Ребята, глядите! Она его сто миллионов раз целует.
Я подбегаю — и по морде.
Директор хватает меня за руку.
Да, испортился мальчишка. И рисовал хорошо, и писал без
ошибок. А теперь невнимательный. Неусидчивый. Плохо готовит
уроки.
И посылает за матерью.
— Погоди... Пусть только отец с работы вернется! Уж не будет
тебе деньги на кино совать!
Я осажден со всех сторон.
Манек пробует меня утешить. Я понимаю это, но не могу сдер-
жаться. Грубо отталкиваю его, бросаю бессмысленное обвинение:
— Все из-за тебя!
Манек смотрит на меня с удивлением.
За что? Почему?
А все из-за открытки.
Ненавижу Марыню.
— Дура! Девчонка! Всю бы ночь танцевала! Глаза к небу зака-
тывает!
Жалко, что далеко. Назло бы ей сделал. Побил бы. Бросил бы
бант в канаву.
396
Я вырываю горох из цветочного горшка... и в окно. У Ирены на
глазах слезы. Она чувствует, что случилось что-то страшное.
Никого и ничего у меня нет.
Пятнашка, где ты?
Нет.
К чему мне этот пес? Пускай достается Бончкевичу за проценты.
Купил за десять грошей. Пускай ему руки лижет.
Я уничтожил все, что мне было дорого. Порвал со всем миром.
Остался один.
Мать?
Она ведь сказала, что отрекается от меня. Что у нее есть только
Ирена. А меня нет.
Недостойный, преступный, проклятый, враждующий с жизнью.
Все меня покинули. Повсюду измена.
Неусидчивый. Плохо готовит уроки.
И учительница, и Пятнашка, и мать.
* * *
Я побежал наверх, на чердак, и сел на ступеньку перед дверью.
Во мне пустота, и вокруг пустота.
Ни о чем не думаю.
И из глубины души я вздохнул.
Сквозь щелочку чердачной двери проникает свет. Вылезает че-
ловечек, покачивая фонариком.
— Ага!
Гладит седую бороду. Ничего не говорит.
БеЗ"аДСЖ"ЫМ шепСТОм, сквозь слезы:
— Хочу стать большим!.. Хочу стать взрослым!..
Перед глазами мелькнул фонарик гнома.
* * *
Я сижу за письменным столом.
Кипа тетрадей, которые надо проверить.
Перед кроватью линялый коврик.
Грязные стекла.
Ошибка.
Слово «окно» написано через «а». Зачеркнута буква «а», а над
ней — «о». И опять зачеркнуто «о», а сверху снова написано «а».
Я беру синий карандаш и пишу на промокашке «акно» — «ак-
но»...
Жалко. Но возвращаться не хочется...
ЛЕТО В МИХАЛУВКЕ
Очень коротенькое вступление
На Свентокшиской улице в Варшаве стоит низкий старый
дом, при доме большой двор. Во дворе собираются дети, которых
отправляют на лето в деревню, а в старом доме помещается контора
«Общества летних колоний».
Детей отправляют под надзором воспитателей в колонии, и о
каждой такой колонии можно было бы написать целую книжку.
Я расскажу вам, как жили в колонии в Ми халу в ке еврейские
мальчики. Я был у них воспитателем. Выдумывать я не стану, а рас-
скажу только то, что видел и слышал.
Рассказ будет интересный.
Глава первая
На вокзале.— Воспитатели ставят мальчиков
в пары и отводят в вагоны
Поезд уходит только через час, а десятки колонистов уже
вертятся на вокзале, размахивают своими холщовыми мешками
и с нетерпением ждут, когда их начнут ставить в пары и поведут
в вагоны.
Тот, кто опоздает, в колонию не поедет, а потому и родители
и дети начеку.
Вчера на Сбснтокшиской уже становились в пары, поэтому каж-
дый знает, какой воспитатель вызовет ёГО ПС ТСТрЛДКС.
И ребята внимательно присматриваются: какой он, этот воспи-
татель, добрый или злой, можно ли будет лазить на деревья, бро-
сать в белок шишками и по вечерам шуметь в спальне? Так, разу-
меется, думают только те, кто уже побывал в колонии.
Пока еще трудно сказать, почему одни мальчики умытые и оп-
рятные, а другие — чумазые и одеты неряшливо, почему одни го-
ворят громко и глядят весело и смело, а другие — испуганно жмутся
к матери или норовят отойти в сторонку. Еще неизвестно, почему
одних провожают мать и отец, братья и сестры и суют им пряники
на дорогу, а других никто не провожает, и никто им ничего на дорогу
не дает.
Через два-три дня, когда познакомимся, будем знать все. А пока
давайте становиться в пары.
— Первая пара: Гуркевич и Краузе!
Никто не откликается.
— Нет их,— отвечают из толпы.
И уже кто-то просит, чтобы вместо того, кто не явился, взяли
его ребенка: ведь он такой слабый! Не всех детей отправляют за
город.' бедных и слабых гораздо больше, чем мест в колонии. Солнца
и леса хватило uöt Ma всех, да вот денег на молоко и хлеб у Общества
не хватает.
398
— Вторая пара: Соболь и Рехтлебен.
— Здесь! — кричит Соболь, энергично проталкиваясь вперед.
Раскрасневшийся мальчуган останавливается перед воспитате-
лем, улыбаясь и вопросительно заглядывая ему в глаза.
— Молодец, Соболь! А ну-ка, скажи: ты озорник?
— Озорник,— отвечает Соболь со смехом и, обращаясь к прово-
жающей его сестре, командует: — Все в порядке, можешь идти
домой.
Восьмилетний мальчик, который в первый раз едет один в коло-
нию и вот так сумел пробиться сквозь толпу взрослых, а сейчас стоит
передо мной вымытый, улыбающийся, готовый в путь, обязательно
должен быть молодцом и милым озорником. Так и оказалось. Он
быстрее всех научился стелить постель и играть в домино, никогда
не мерз, ни на кого не жаловался, просыпался с улыбкой и засыпал
улыбаясь.
— Фишбин и Миллер-старший, третья пара.
— Здесь,— быстро, словно испугавшись, отвечает отец Фиш-
бина.
Оба, и отец и сын, стоят совсем близко,— видно, беспокоились,
как бы не пропустить свою очередь.
■ — Маленький Миллер и Эйно. Эльвинг и Плоцкий.
Гуркевич решил не спать всю ночь, чтобы не опоздать, а утром
мать едва его добудилась и привела на вокзал полусонного. Он,
единственный из всей группы, заснул в поезде.
Восьмая, девятая, десятая пара.
Толкотня, прощание, напутствия, просьбы.
— Не отходите, сейчас поедем.
Звонок.
Пара за парой, группа за группой мы проходим через вокзал
на перрон и садимся в вагоны. Тот, кто порасторопнее, занимает
место у окна и еще улыбнется родителям на прощание.
Второй звонок, третий.
Старшие запевают песню колонистов: про лес, про то, как неза-
метно летят веселые минуты. Поезд трогается.
— Шапки держать!
Когда едут в колонию, всегда кто-нибудь да потеряет по дороге
шапку. Так уж повелось...
Глава вторая
Ребята отдают деньги и открытки на хранение.—
В деревне все переодеваются в белые костюмы
Не высовываться! Не толкаться! Не сорить!
Первые дни ребята часто будут слышать неприятное сло-
во: «Нет!», пока не узнают, что и почему нельзя. Потом запретов
становится все меньше, а свободы все больше. Даже если бы воспи-
татель и захотел, он не смог бы так мешать ребятам, как мешают
им мать, отец, бабушка, тетя или гувернантка в богатой семье,—
399
ему просто не хватило бы времени на все замечания, советы и уве-
щевания. Поэтому детям в колонии веселее, чем их богатым сверст-
никам на роскошных курортах, где каждому малышу не дают весе-
литься столько взрослых.
Вот по соседним рельсам с грохотом пронесся поезд. Все испу-
гались, отскочили от окон, а потом так и покатились со смеху.
Кто-то уронил на пол бутерброд — снова радость!
— Ой, какая маленькая лошадка! — кричат ребята, и все бро-
саются к окнам, чтобы взглянуть на диковинку.
А это обыкновенная большая лошадь, только она стоит вдалеке,
на лугу, и поэтому кажется маленькой. Ребята понимают свою
ошибку, когда видят далеко-далеко в поле маленьких человечков и
маленькие домики.
Остановка. Ребята поют и машут платками.
Звенит смех, волшебный смех, который излечивает вернее самых
дорогих лекарств и воспитывает лучше самого умного педагога.
— Сдавайте почтовые открытки и деньги! Первый по списку
Гуркевич. Сколько у тебя открыток?
Гуркевич отдает на хранение десять грошей и четыре открытки.
На этих открытках он будет раз в неделю писать родителям, что
он здоров и хорошо проводит время.
У братьев Круков вместе двадцать грошей. Каждый получил на
дорогу по четыре гроша от родителей и по шесть от дедушки.
— Скажите, пожалуйста, господин воспитатель, ведь правда
картошка растет в земле?
— Конечно. А что?
— Да вот он показал мне в окно какие-то листья и говорит, что
это картошка. А ведь картошка растет в земле — значит, ее не видно.
— Скоро сами увидите, как растет картошка,— теперь некогда.
Фридман, сколько у тебя открыток?
— Только две. Папа с мамой сказали, что довольно и двух. А де-
нег совсем нет.
Фридман солгал: он утаил монетку в четыре гроша, которую ему
дал на прощание старший брат.
Отец Фридмана много путешествовал: был в Париже, в Лондоне,
даже собирался в Америку. Но нигде он не нашел счастья и снова
вернулся на родину, где много-много булок должен испечь для дру-
гих, чтобы заработать на буханку хлеба для своих ребят.
И трудно сказать, в каком из больших городов маленький сын
пекаря научился не доверять людям и никому не отдавать на хране-
ние медных монеток в четыре гроша. Только несколько дней спустя
он принес воспитателю свое скромное достояние, а потом время от
времени спрашивал: «Ведь мои четыре гроша у вас, правда?»
— Далеко еще? — спрашивают дети. Они торопятся в лес, на
реку, в поле — ведь те, кто побывал уже в колонии в прошлом году,
рассказывают чудеса.
Говорят, в колонии есть большая веранда; что бы это такое могло
быть — веранда? На всех, на сто пятьдесят ребят, там только че-
тыре комнаты,— какие же это должны быть громадные залы!
400
Мы проезжаем по мосту. Этот мост совсем не похож на тот, что
соединяет Прагу с Варшавой '. Этот мост красивее, гораздо кра-
сивее.
— Ребята, выходим! Мешок, шапку никто не забыл?
— Никто! — отвечают ребята хором.
На вокзале нас уже ждут двенадцать телег, устланных соломой
и сеном.
— Осторожнее на телегах, смотрите, чтобы у кого-нибудь нога
в колесо не попала!
— Я послежу, господин воспитатель.
— Ладно. Поехали!
Солнышко весело встречает бледных ребятишек. Спасибо тебе,
доброе солнышко, и зеленый лес, и веселая лужайка! Спасибо вам,
крестьянские дети, за то, что выбегаете из своих хат и приветствуете
улыбкой наши устланные сеном телеги!
— Далеко еще, господин воспитатель?
— Ой, вон наш лес чернеется. Уже и поляну видно!
А вот и мельница, и дома, и, наконец, колония!..
— Ура! Да здравствует колония Михалувка!
Значит, вот она какая, веранда?
Ребята выпивают по кружке молока и — за работу.
Моются с дороги, одевают белые колонистские костюмы. Больше
всего их смешат забавные полотняные шапки, похожие на повар-
ские колпаки. Теперь все выглядят одинаково. Малыши гордятся
своими штанами с помочами.
— Господин воспитатель, а когда нам дадут носовые платки?
— Платки — завтра, а теперь сложите свою одежу в мешки,
мешки за спину — и марш на склад! Раз, два, левой! Там спрячут
ваши мешки на четыре недели.
Глава третья
Левек Рехтлебен тоскует.— Левек Рехтлебен плачет
Все так странно и ново, все так не похоже ни на Гусью, ни
на Крахмальную, ни на Драконову улицу...
Одноэтажный дом в лесу, ни двора, ни сточной канавы. Какие-то
странные деревья с колючками. Кровати стоят не у стены, а рядами,
не в маленькой комнатушке, а в большом зале, вроде того, где свадь-
бы играют. На обед дали какой-то зеленый суп, а потом молоко.
Полотняные шапки и штаны с помочами. Вечером моют ноги в длин-
ном железном корыте. В постели надо спать одному, подушка на-
бита соломой. И окна открыты,— ведь вор может забраться! А мама
с папой далеко.
И Левек Рехтлебен в первый же вечер расплакался.
Правда, плакал он недолго, потому что как не уснуть после дня,
полного таких необыкновенных событий!
1 Прага — предместье Варшавы, расположенное на другом берегу Вислы.
401
Но и на другой день, когда после завтрака осталось немного сво-
бодного времени, Левек снова стал плакать.
Домой!
Почему Левек хочет домой? Может быть, Левек голоден?
Нет, не голоден.
Может быть, ему холодно?
Нет, не холодно.
Может быть, боится один спать?
Нет.
Может быть, дома у него больше игрушек?
Нет, дома совсем нет игрушек.
Левек знает, что тут хорошо, ему об этом и двоюродный брат,
и мальчишки со двора говорили, но дома — мама.
Ну ладно: Левек поедет домой, только завтра, потому что сегодня
суббота, а в субботу уезжать нельзя. Но и в воскресенье Левек не
смог уехать: брички не было. Но завтра, завтра-то он уж наверняка
уедет.
В понедельник Левек не плачет, но все еще хочет домой.
— Ладно, поедешь после обеда, только, если ты вернешься до-
мой, мама будет огорчена.
— Почему мама будет огорчена?
— Потому что она должна будет оплатить дорогу.
А отец как раз сейчас не работает,— мастер уехал,— мама боль-
на, потому что родилась маленькая сестричка, и доктор дорого
стоил.
Левек тяжело вздохнул и согласился играть в домино.
А вечером он снова принимается потихоньку плакать, но вдруг
вспоминает; что на вокзале на нем была новая шапка, которую отец
взял с собой домой. Отец, наверное, потерял новую шапку, а шапка
стоила полтинник. И Левек диктует письмо к отцу: домой ему не
хочется, он не плачет и по дому не скучает, потому что ему хочется
быть здоровым и чтобы у папы не было неприятностей. А что с шап-
кой?
Отец написал в ответ, что шапка цела и что он принесет ее на
вокзал.
Левек много раз брал у воспитателя письмо отца и снова отдавал
его на хранение, он совсем перестал собираться домой, и колония
ему нравилась все больше и больше.
Но один раз у Левека случилось горе: он потерял носовой платок.
И как не потерять, когда карманы у него всегда набиты камнями
и шишками! Платок скоро нашелся.
А в другой раз Левек ходил весь день как в воду опущенный, но
уже по своей вине: вечером в спальне он свистел и щелкал пальцами.
Когда на другой день за завтраком спросили, кто вчера свистел в
спальне, Левек сразу сам признался.
— И щелкал пальцами,— добавил он и показал, как щелкал.
Левек загорел, прибавил в весе целых три фунта и когда уезжал
домой, то пообещал, что на будущий год снова приедет и тогда уж
ни разу не заплачет...
402
Глава четвертая
Крепость.— Яичница.— Гроза.—
Пожарная команда
Где сто пятьдесят мальчишек, там война. Где война, там
должна быть крепость.
От прежней крепости за лесом почти ничего не осталось, потому
что она была низкая и маленькая. Теперь будут заново построены
четыре боковых форта, высокий вал для госпиталя, площадка для
военнопленных и окопы. А два главных вала, которые защищают
вход в крепость, должны быть не меньше четырех локтей в вышину.
У нас двенадцать лопат. Землекопы сбрасывают куртки, засучи-
вают рукава и принимаются за работу. Каждые десять минут рабо-
чие сменяются.
Силачу Корцажу и старшему Пресману поручен первый форт;
Херцман с Фриденсоном и Плоцкий с Капланом, в две лопаты, тру-
дятся над вторым; Грозовский, Маргулес, Рашер и Шидловский
насыпают крепостной вал.
Ребята поменьше и послабее строят боковые форты. Безногий
Вайнраух на костылях несет вахту в левой части крепости, следит,
чтобы Беда не подрался с товарищами,— всякое бывает за работой.
Повозки нам сделал Юзеф: распилил на куски доски, просверлил
дырки и продел в них веревки; неказисты повозки, зато прочные.
А экономка, добрая госпожа Папеш, дала несколько старых ведер
под песок.
Бес шишки — боеприпасы — пока идут в общую яму, после их
поделят поровну между воюющими сторонами.
Из деревни пришли маленький Ясек с Зосей и Маня с беленьким
СтаХОм. Они помогают собирать шишки.
Туда, где пабота не ладится, спешат на подмогу новые партии
рабочих.
Горн. Десять минут прС!"-™- Вторая смена берется за лопаты.
Для утрамбовки земли хорош.1? большие камни. Направление,
длину и ширину рвов указывают бечевки, затянутые между колыш-
ками, вбитыми в землю, а чтобы выровнять вал, J^VT ДЛИННУЮ Д°с_
ку, горизонтально кладут ее на землю и водят ею вверх и ь«*^из' Д°ска
срезает песок, точно острый нож. Остается утоптать вал босыми
ногами.
Сегодня только начало работ, а продлятся они недели две.
Раз, два... Все дружнее поднимаются и опускаются лопаты. Стой!
Отдых.
Прибывает последний транспорт камней, ссыпают в яму пос-
ледние пригоршни шишек. Ребята снова надевают куртки, усажи-
ваются подле крепости и слушают интересный рассказ о маленьком
итальянце из хорошо знакомой всем книжки Де Амичиса '.
Скоро четыре. Рабочие становятся парами и с инструментами
1 Автор имеет в виду книгу известного итальянского писателя Де Амичиса
(1846—1908) «Сердце».
403
на плечах под звуки веселого марша возвращаются домой, чтобы
подкрепиться. Дежурные выносят на веранду тазы с водой и поло-
тенца. Полдник нравится всем.
Да и как не понравиться! Ведь сегодня яичница с картошкой!
Одни сгребают яичницу в сторону и едят сначала картошку — она
не такая вкусная, а яичницу оставляют на закуску. Другие, менее
дальновидные, едят сначала яичницу, а потом уж картошку. И, на-
конец, третьи не без основания утверждают, что самое лучшее есть
все вместе, потому что тогда у картошки такой вкус, как у яичницы.
Каждый способ имеет своих сторонников и противников, и за сто-
лом не смолкают оживленные споры. Иногда за решением спора
обращаются к сторожу: он человек взрослый, опытный и, наверное,
лучше знает, как есть яичницу с картошкой. Кое-где спор переходит
в ссору, а если уж говорить начистоту, кое-кто пытается убедить
соседа с помощью кулаков. Вот какие удивительные в колонии
нравы...
А вечером разразилась гроза.
Вслед за молнией ударил гром, и лес отвечает сердитым шепо-
том. Оконные стекла беспокойно дрожат; ветер бьет по стеклу круп-
ными дождевыми каплями.
Казалось бы, ребятам должно быть страшно — гроза в лесу. Но
они спокойно засыпают: они знают, что в колонии не случится ни-
чего плохого. Может быть, кто и вздрогнет при раскате грома, но
вот уже все спят, утомленные работой и сцорами о том, как есть
яичницу с картошкой.
А на другой день снова светит солнце. После ливня валы стали
ниже, но зато прочнее. Малыши тоже получили лопаты и копают
под надзором старших. Корцаж присматривает за маленьким Вай-
цем, Фромом и Фишбином. Фриденсон копает с Наймайстром, ко-
торый всегда кашляет. На помощь прибывают Ротб^рг и Кулиг.
Из Костельных Заремб пришла мать с блё^ым мальчиком, ко-
торый учится на раввина. Она хочет посг-етоваться насчет здоровья
сына: ей говорили, что в колонии Слабые дети становятся сильными.
Она удивлена, что мальчи^и так тяжело работают, а такие веселые.
А колонисты ^-селы потому, что спят на соломе и пьют молоко,
и потому что так Чудесно пахнет лесом и светит солнце...
Когда через неделю земляные работы заметно продвинулись,
пришло время подумать о строительстве железной дороги. Юзеф
дал ребятам негодную метелку и старые грабли.
Железнодорожная насыпь, аккуратно выложенная камнями и
палочками, тянется до самого шоссе. Стрелочник — Сикора, потому
что у него больное сердце и он не может бегать; паровоз — Гудек
Гевисгольд, потому что он свистит как настоящий паровоз.
На стройке скопилось много леса,— как бы не случился пожар.
Пришлось организовать пожарную команду.
Каски сделали из носовых платков.
Каждая дружина получает флажок и горн. Есть и лестница, и
тачка, и веревки, а вот резинового шланга нет, и его заменили длин-
ным корневищем.
404
Господин Мечислав сложил в поле большущую печку с высокой
каменной трубой. Ребята натаскали хвороста и устроили пробный
пожар.
В разных местах располагаются пять пожарных дружин. Каж-
дая дружина — под деревом, на дереве — сторожевая вышка.
Из трубы уже валит дым, трещат сухие ветки. Мчатся дружины,
выстраиваются пожарники с топорами, подкатывает первое ведро
воды, запряженное четырьмя ретивыми мальчишками.
А полиция с криком разгоняет зевак:
— Куда лезете? Назад!.. Тебе чего надо?
Совсем как на настоящем пожаре!..
Глава пятая
Колонистский суд.— Гражданские и
уголовные дела.— Судебные приговоры
«Господин воспитатель, он толкается... бросается песком...
взял мою ложку... не дает играть... дерется... мешает!»
Где сто пятьдесят мальчишек, там каждый день тридцать ссор
и пять драк; где ссоры и драки, там нужен суд. Суд должен быть
справедливым, пользоваться авторитетом и доверием. Такой суд
у нас в Михалувке.
Судей трое,— ребята выбирают их голосованием. Голосование
проводится каждую неделю. Вот на таблице результаты выборов.
Получили голосов:
Фамилия кандидата
Пресман
Плоцкий
Фриденсон
Каплан
Маргулес
Грозовский
1-я неделя
4
—
10
10
10
6
2-я неделя
13
6
13
5
—
11
3-я неделя
25
16
21
10
—
—
4-я неделя
17
17
15
1
и
—
Как мы видим, только на третью неделю ребята остались доволь-
ны своими судьями: они переизбрали их и на четвертую неделю.
Заседания суда происходят в лесу или на веранде, судьи сидят
за столом на стульях, обвиняемые и свидетели — на длинной скамье.
Публика стоит за скамьей. Судебные исполнители следят за поряд-
ком. Воспитатель, который является и прокурором (обвинителем)
и адвокатом (защитником), записывает все в толстую тетрадь в чер-
ной обложке. После слушания дела судьи идут совещаться; об объ-
явлении приговора оповещает звонок.
405
* ♦ *
Фишбин бросил камнем в Ольшину и попал ему в ногу. Правда,
он ушиб его не сильно. Но Ольшина заплакал.
— Ты бросил камнем в Ольшину?
— Нет.
— Но ведь все видели, что Ольшина держался за ногу и плакал?
— Не бросал я, и Ольшина не плакал.
Начинается допрос свидетелей. Суд предупреждает, что ложь
сурово карается. Установили время и место преступления, число
и фамилии свидетелей.
— Ты бросил камень?
— Нет.
Повторный допрос свидетелей подтверждает, что Фишбин безо
всякого повода бросал в Ольшину шишками и камешками.
— Ты бросал в Ольшину шишками?
— Да, шишками бросал..
— Почему?
— Потому что у меня было много шишек и я не знал, что с ними
делать.
— А почему ты не бросил их на землю?
— Мне жалко было.
В публике смех.
— Ты уверен, что среди шишек не было камней?
— Не знаю.
Суд, принимая во внимание юный возраст Фишбина, приговорил
его к десяти минутам «карцера».
Иногда в суд обращаются обе стороны, как это видно из сле-
дующего дела.
Распря возникла во время утренней уборки.
— Это было так: я стелил постель, а он меня толкнул. Тогда
и я его толкнул, а он бросил на пол мою подушку. Я поднял свою
подушку, а он меня ударил.
— Неправда! Я стелил постель, а он пнул мою подушку. Я его
толкнул, а он первый меня ударил.
— Ах ты, врун!
— Это ты врун!
— На суде ссориться нельзя. Ты бросил на пол его подушку?
— Потому что он первый...
— Прошу ответить: да или нет?
— Да, но он первый!
— Свидетели есть?
— Все видели!
— Все видеть не могли.
Суд просит назвать двух свидетелей.
— Кто стоял близко и видел?
— Не знаю.
— Ты его толкнул?
406
— Когда я стоял и стелил постель...
— Знаем. Прошу ответить коротко: да или нет?
— Нет.
— Ах ты, врун!
— Прошу тише! В суде ссориться нельзя.
Кровати спорящих сторон стоят рядом. Кто кого первый толк-
нул, нарочно или не нарочно, ввиду отсутствия свидетелей устано-
вить невозможно. Поэтому не лучше ли помириться, чем ждать при-
говора: ведь осудят, наверное, обе стороны, раз обе стороны со-
знаются, что дрались.
Ну конечно, при таких обстоятельствах лучше помириться.
А вот дело с кровопролитием. Здесь о полюбовном соглашении,
разумеется, не может быть и речи.
Заключение врача гласит:
«У обвиняемого Фляшенберга распухла правая щека, на лице
имеется семь царапин: одна около носа, одна около уха, три на
щеке и две на подбородке. Кроме того, две царапины на левой руке.
У обвиняемого Заксенберга синяк на лбу величиной с монету
в четыре гроша, расцарапан нос и на левой щеке царапина длиной
в два сантиметра».
Начала боя никто не видел, но ход его известен со слов много-
численных свидетелей.
Обе стороны очень хотят помириться, но, поскольку сохрани-
лись кровавые следы потасовки, воякам приходится отсидеть по
пятнадцать минут под арестом.
По некоторым вопросам с обвинением выступает сам проку-
рор — воспитатель.
На скамье подсудимых Плывак и Шидловский.
Плывак и Шидловский ушли в поле, далеко за границы колонии,
не слыхали звонка и опоздали на завтрак.
— Разве они не знали, что уходить дальше рощи запрещено?
Ведь они могли заблудиться, утонуть в реке, их могли забодать ко-
ровы, покусать собаки! Разве они не знали, что на завтрак нельзя
опаздывать, потому что после завтрака мы идем купаться? И зачем
они так далеко ушли, когда и тут достаточно места для игры?
Плывак и Шидловский пошли в поле за цветами.
— Господа судьи! Обвиняемые без сомнения провинились. На
завтрак, обед, полдник, ужин нельзя опаздывать, не могут ведь сто
ребят ждать одного или двоих. Не можем мы каждого искать и та-
щить к столу. Для этого есть звонок, и к звонку надо прислуши-
ваться. Значит, следует их наказать, но... Плывак и Шидловский
пошли в поле за цветами. В городе не разрешается рвать цветы, а
здесь можно. Они так обрадовались, что забыли о еде. Плывак в ко-
лонии первый раз. Шидловский был в Цехоцинке, но там мало цве-
тов. Так, может быть, для первого раза простим?
И судьи после короткого совещания выносят оправдательный
приговор.
407
♦ ♦ *
Всего приятнее шуметь вечером, когда лежишь в постели.
Может быть, это даже и не так уж приятно, потому что хочется
спать и глаза сами слипаются, но почему не попробовать, раз
нельзя?
«Если я громко свистну, крикну, замяукаю или пропою петухом,
воспитатель рассердится и всем станет смешно. Спальня большая,
в спальне темно, кроватей тридцать восемь,— воспитатель не узнает,
кто свистнул. А я завтра буду хвастать — вот какой я храбрый и
хитрый! Шумел больше всех, а он меня не поймал!»
Так думают ребята до тех пор, пока сами не убедятся, что вос-
питатель никогда не сердится и вовсе не хочет выслеживать тех,
кто шумел, а дурачиться по вечерам запрещает только потому, что
дети должны спать девять часов и вставать в шесть утра веселыми
и бодрыми.
Вчера вечером в спальне был шум. Сегодня каждый предстал
перед судом, чтобы ответить на вопрос, не кричал ли он, не мяукал
ли, не хлопал ли в ладоши.
Все говорят «нет», все отпираются. Только двоих воспитатель
вчера поймал с поличным, и эти двое, Вайц и Прагер, попали на
скамью подсудимых.
— Как их наказать, господа судьи? Наказание должно быть
строгим. Они не только сами не спят, но и другим спать мешают.
Вина их велика. Как же мы их накажем, господа судьи? Но, прежде
чем ответить на этот вопрос, мы должны задать себе другой, еще
более важный: разве вчера вечером в спальне шумели только эти
двое, Вайц и Прагер? Нет, их было гораздо больше.
Прокурор разложил на столе план спальни и медленно заго-
ворил:
— Шумели около окна, где стоят кровати Каплана, Беды, Плоц-
кого и Шидловского. Шумели в среднем ряду, где спят Вайнраух,
Грозовский, Стрык, Фром и Завозник. Шумели около второго окна
в первом ряду, где, как это видно из плана, спят Фляшенберг, Фиш-
бин, Роткель и Плывак. Смеялись и хлопали в ладоши там, где стоят
кровати Альтмана, Лева, Вольберга и Адамовского, и, наконец, кто-
то свистел в том углу, где спят Наймайстер, Заксенберг и Пресман.
Мы спрашивали всех, но никто не сознался.
Прокурор замолчал.
Многие в публике опустили глаза.
Покраснел даже один из судей, когда услыхал свое имя.
— Почему вчера удалось заметить только Вайца и Прагера?
Потому что они не сумели спрятаться. Почему только они двое не
сумели спрятаться, когда все остальные сумели? Потому что они не
озорники, а может быть, они просто не знали, что шуметь в спальне
по вечерам строго запрещено. Разве мы вправе наказывать этих ре-
бят, когда другие, более виновные,— потому что они оказались хит-
рее и солгали перед судом,— останутся без наказания? Виноваты
408
все, вся спальня, все тридцать восемь человек, потому что виноваты
и те, кто слышал, что сосед шумит, и не остановил его. Поэтому я
предлагаю, господа судьи, Вайца и Прагера оправдать и наказать
всю группу: Грозовский не будет вам сегодня вечером играть на
скрипке.
Долго суд совещался, и приговор гласил:
«Вайцера и Прагера оправдать. Грозовский пусть сегодня играет,
потому что шум в спальне больше не повторится».
И ребята сдержали слово.
Глава шестая
Утро.— Хорошие и плохие краны.—
Мы стелем постели.— Горбушки
Бывает, что какое-нибудь необычайное происшествие будит
всю спальню сразу. Например, неосторожный воробей влетел в окно
или полевая мышь забрела по ошибке в дверь. Ну кто станет спать,
когда происходят такие события? Все как один вскакивают с кро-
вати, лезут на окна, и начинается охота. Однако подобные проис-
шествия случаются редко.
Обычно без четверти шесть слабый шорох возвещает о пробуж-
дении спальни, и, если немного погодя воспитатель бросит в спальню
взгляд из окна своей комнаты, он и без часов знает, что пора вста-
вать.
В углу собралось выборное начальство и оживленно обсуждает
вывешенный распорядок дня: кто сегодня дежурит, кому после завт-
рака идти на перевязку, потому что во время игры в лапту он ссадил
себе коленку; обсуждаются предстоящие купание и кросс, прогулка
в ольховую рощу и письма домой.
Кто-то разглядывает цветы на окне, не подросли ли за ночь. Один
мальчик, сидя на кровати, чиркает кремнем о кремень и удивля-
ется, что нет искры, а сосед объясняет ему, в чем тут дело. Двое ре-
бят гоняются друг за другом между кроватями, стараясь при этом
не очень шуметь.
И вдруг кто-нибудь крикнет: «Воспитатель смотрит!» — и все
ныряют в постели.
По утрам тоже нельзя шуметь в спальне, но не так уж нельзя,
потому что все равно скоро вставать.
Многие еще под одеялом спустили рубашку до пояса, чтобы по
первому сигналу вскочить и занять кран в умывальной.
Из десяти кранов самые лучшие — средние; из двух последних
вода льется тонкой струйкой, а из двух первых бьет слишком сильно
и брызгает. А вода холодная, колодезная.
— Первый ряд, вставать!
Никто не замешкался. Бегут, громко шлепая босыми ногами.
Кто-нибудь поскользнется на каменном полу умывальной — все
засмеются, и он смеется.
409
— Господин воспитатель, он у меня мыло взял!
— Хочешь подать на него в суд?
— Нет.
Торопятся, потому что второй ряд с нетерпением ждет своей
очереди и до завтрака столько еще надо успеть!
— Второй ряд, вставать!
Торопятся, потому что Юзеф не любит, когда зря расходуют
воду, а с ним надо жить в мире: он дает ребятам метлу и грабли.
— Третий ряд, вставать! Мыть лицо, шею, уши, нос, глаза. Того,
кто плохо умоется, я отправлю мыться во второй раз.
Третий ряд бежит к кранам, второй вытирается и одевается,
первый стелет постели.
Нелегкое это дело — стелить постель! Надо встряхнуть прос-
тыни, разровнять солому в матрасе, аккуратно постелить одеяло и
положить подушку, легонько прислонив ее к спинке кровати, потом
повесить на спинку полотенце. Каждый старается сделать все это
как можно лучше, чтобы потом с гордостью спросить:
— Господин воспитатель, хорошо?
Младшим помогает дежурный; только маленький Адамский
отказывается от помощи, и в награду за добросовестную работу он
назначен старшим по полотенцам.
В спальне, когда стелют постели, как и во время умывания,
всегда кто-нибудь кому-нибудь да помешает — и получает по шее.
— Господин воспитатель, он дерется!
— Хочешь подать на него в суд?
— Нет.
— Тогда бегом на веранду!
Утром у всех хорошее настроение, и потому все охотно прощают
своих врагов.
Спальня пустеет, все бегут на веранду.
Ребята молятся быстро, быстро переворачивают страницы мо-
литвенника — «сидера».
Звонок.
— Сегодня моя очередь, господин воспитатель,— мне горбушку!
В хлебе самое вкусное — горбушки, поэтому ребята получают
их по очереди.
Ох, как жалко, что у ковриги только две горбушки!
Ребята сидят за столами, дежурные разносят молоко.
Глава седьмая
Купание.— Цыплята.— Аист.— Камыш.—
Глупый человек.— Мечты об удочке.— Лапта
В речку смело окунуться,
Чтобы чистыми вернуться,
Левой, правой.
Всей оравой
Дружно мы идем...
Левой, правой,
Всей оравой
Дружно мы идем...
Вот так поют ребята, шагая парами по полянке, мимо дома, по
усадебному двору, через сад и луг, мимо мельницы — на речку.
Раз-два! Мыла не жалея,
Мы намылим руки, шею!
Солнце греет,
Ветер веет,
В речку мы нырнем!
Солнце греет,
Ветер веет,
В речку мы нырнем!
Большое, ясное, доброе деревенское солнышко смотрит с ласко-
вой улыбкой на детей, слушает их пение и не спрашивает, кто они,
откуда пришли; гладит, разрумянивая золотыми лучами их бледные
лица.
Стыдно холода бояться,
Надо смело закаляться!
Ловки, прытки,
Точно рыбки,
Вместе поплывем!
Ловки, прытки,
Точно рыбки,
Вместе поплывем! '
Купание — это тысяча взрывов смеха, тысяча радостных возгла-
сов, сотня занимательных сценок и, по крайней мере, десяток проис-
шествий.
— Господин воспитатель, что это?
Вот так диво — курица с цыплятами! Тот, кто еще не бывал в де-
ревне, видит цыплят впервые.
Поймать бы одного такого пушистенького и подержать хоть
минутку! Да воспитатель не разрешит... Такой несносный, скучный
человек этот воспитатель!..
Ну, тогда хотя бы рассмотреть как следует вблизи. И пары раз-
бегаются.
— Господин воспитатель, он не идет в паре!
— Ты хочешь подать на него в суд?
— Нет.
Идем дальше.
— Господин воспитатель, а это что?
Другое чудо — на крыше дома гнездо аиста на колесе от телеги,
и сам хозяин гнезда — аист.
Такой большой птицы ребята еще не видывали, больше индюка.
— Словно воздушный шар! — восклицает кто-то...
А теперь — как страшно! — надо разойтись на узкой тропинке
со стадом коров. Мы встречаемся с ними каждый день.
Коровы останавливаются и глядят с любопытством на белые
Песни ребят даны в переводе Г. Можаровой.
411
блузы и белые полотняные шапки ребят. Некоторые поворачивают
морды и поглядывают искоса, словно думают про себя: «Однако
эти маленькие человечки очень забавные существа. Как им, бедня-
гам, должно быть, неудобно ходить на двух ногах».
По дороге на речку ребята в первый раз видят плуг и борону. Они
видят, как доят коров. И наконец — диво-дивное, чудо-чудное! —
жеребенка.
Маленькая лошадка бежит рядом с бричкой, а в бричке господин
в чиновничьей фуражке и возница. Несколько мальчиков не удер-
жались и побежали за бричкой, потому что жеребенок в тысячу раз
красивее коровы и аиста.
— А ты кнутом их, кнутом! — говорит вознице господин в фу-
ражке.
Мальчики остановились в удивлении, притихли, приуныли,
словно припомнили что-то.
— Маленькая лошадка, которой вы так обрадовались, дочка
большой лошади,— объяснил воспитатель,— а господин, который
велел вас ударить кнутом, неумный человек.
Господин в чиновничьей фуражке покраснел и ничего не сказал.
Мы идем дальше.
По правой стороне дороги тянется канава, и в ней полно неза-
будок. Однажды Флекштрумпф, собирая цветы, попал по пояс в
грязь и вернулся домой весь перепачканный, мокрый и злой.
Около речки растет камыш, из которого получаются отличные
пищалки. В Варшаве камыш надо покупать на рынке, а тут знай
себе растет, и никто его не сторожит.
На пригорке около речки пары разделяются, и все становятся
в одну шеренгу, чтобы, когда выкупаешься, легче было найти
одежду.
— Рыбы, рыбы!
Маленькие, тоненькие, как спички, а живут; шмыгают у самого
берега, и никак их не поймаешь: ни рукой, ни шапкой, ни сачком из
носового платка.
— Вот они, вот!.. И тут и тут!
Почему воспитатель не влезет в воду и не поймает хоть одну:
ведь на него бы никто не рассердился, ему все можно. А он стоит
и смотрит.
Ах, кабы удочку! У Янека из деревни есть крючок, он готов его
продать за два гроша. А у Фрома есть волосы из конского хвоста —
на леску. Удилища — на каждом кусту. Но что толку, если воспита-
тель не хочет дать два гроша!
Огорченные ребята принимаются мастерить лодки из коры и
спускать их на воду. Самые лучшие лодки делает Вольберг: он выст-
ругивает их осколком стекла как перочинным ножом.
Купаются сначала самые озорные. Они подолгу сидят в воде,
брызгаются, барахтаются, меряются силами, дают друг другу под-
ножку, кувыркаются, ныряют и могут пробыть под водой почти так
же долго, как Янек и другие деревенские мальчишки.
Тот, кто не выйдет из реки по сигналу, получает полотенцем
412
по спине. Поэтому ребята бегут во всю прыть, но некоторые нарочно
падают, чтобы снова, «на минутку», войти в воду — смыть песок.
После озорников купаются спокойные ребята, и, наконец, Вайн-
раух, маленький Адамский и те, кто кашляет по ночам.
После купания все переходят по мостику без перил на другой
берег. Кто-нибудь нарочно раскачивает доску, и тогда переходить
очень страшно.
На другой стороне реки бесконечный луг. Направо он тянется
до самого болота, где растут невиданные цветы, налево — до леса —
до темной полоски вдали.
Здесь можно было бы устроить не одну, а тысячу площадок для
лапты, пробегать не час, а тысячу часов.
Маленький круглый мячик, правда, ты любишь детей? А они-то
тебя как любят!
Глава восьмая
Обед.— Самая красивая вилка.— Листья,
которые кусаются.— Сад на вате
На всем белом свете, когда люди садятся обедать, ложки
и вилки уже лежат на столе; в Михалувке иначе, и на это имеются
свои причины. В Михалувке есть новые ложки и старые; ложки по-
хуже — железные, потемневшие, и получше — массивные, оловян-
ные. Но главное — это вилки. Есть вилки красивые, новые, с желез-
ными черенками, а есть старые, у которых зубцы уже немного по-
гнулись или один стал короче, обломался. А самая красивая вилка
в колонии, а может быть, и на всем свете — это вилка с четырьмя
ровными зубцами и белым роговым черенком.
И нет ничего странного в том, что Беда взял себе вилку Рашера,
и тогда Рашер обменял свою, похуже, на вилку соседа с железным
черенком. Потерпевший требует свою собственность обратно,—
спор, ссора, жалобы; того и гляди начнется всеобщее переселение
ложек и вилок, а потом будет пролит суп, и, чего доброго, возникнет
драка. Ведь на веранде за каждым из четырех столов тридцать во-
семь мальчпшСХ, а У каждого мальчишки две руки, которыми он
готов защищать свое имущество.
Вот почему приборы раздаются только тогда, когда все уже си-
дят на своих местах.
— Сегодня красивые вилки получаем мы.
Вилки раздаются справедливо, по оче^д||^ так же? как ГОрбушки.
Если вы думаете, что обед - колонии это тихий, скучный, веж-
ливый варшавский об^ вы ошибаетесь.
—„ Г°СП(2аЙн воспитатель, правда ведь фунт пера такой же тя-
же-?Лй"и, как фунт олова?
— Правда.
— Ну, видишь?
Здесь обсуждаются важнейшие события дня, здесь мирятся те,
кто был в ссоре, и порывают дружбу недавние друзья.
413
«Правда, в сосне, на которую вчера мячик залетел, беличье дуп-
ло?.. А в орловском лесу есть волки?.. А можно отправиться туда
за грибами?.. А бывают рыбы, которые могут проглотить чело-
века?»
Такие беседы ведутся обычно за обедом. Но есть и особые обе-
ды — я назвал бы их военными, шашечными, экскурсионными,—
когда обсуждается только один вопрос, когда всю колонию волнует
одна тема.
Сегодняшний обед можно назвать «садовым».
Во-первых, Пергерихт, собирая букет, обжегся крапивой.
Чего только не бывает на белом свете! Все знают, что кипят-
ком можно обвариться, что собака кусается, а лошадь лягается,
но чтобы листья кусали босые ноги, это уж что-то совсем неви-
данное.
И Пергерихт скорее удивлен, чем огорчен.
Кроме того, мальчики узнали, что можно посадить сад на
вате, на самой обыкновенной вате, которую кладут в ухо, когда
оно болит. Нужно только разложить вату ровным слоем на тарел-
ке, смочить водой и насыпать цветочные семена, горох или фа-
соль.
Ребята ни за что бы не поверили, но как тут не поверишь, когда
своими глазами видел?
Но, может быть, так бывает только в колонии, в этой стране
чудес?
— А в Варшаве тоже будет расти?
— А как же? На любой улице, в любой квартире.
Ребята радуются: так приятно иметь свой сад, хотя бы совсем
маленький, хотя бы в тарелке, но зато без ворот, у которых стоит
сторож и не впускает бедно одетых детей.
Я назвал бы сегодняшний обед «садовым» еще и потому, что на
столах в первый раз появились букеты цветов. Они занимают много
места, а ведь есть их нельзя, значит, они вовсе не нужны. Ребята
должны решить, хотят ли они, чтобы за обедом на столе стояли цве-
ты, и, если хотят, надо выбрать старшего по цветам, чтобы он вы-
носил букеты на веранду, как выносят тазы для умывания и как ма-
ленький Адамский выносит полотенца.
Суп и мясо съедены.
— Пожалуйста, господин воспитатель, МНС еще морковника!
— Стой, брат, я ^то ВЧера не ел кашу с молоком?
— Я тспГ?ь всегДа буду есть.
— Посмотрим.
Сладкий морковник — любим'С? лакомство и могучее оружие
в борьбе с капризами за столом.
— Недаром один великий ученый написал ь ?воей толстой
книжке: «Не следует давать морковник тому, кто не ест £2ШИ с
молоком».
— Неправда, никто этого не писал.
— А ты откуда знаешь, что неправда? Ты что, все толстые книж-
ки на свете прочел?
414
— Нет, не прочел.
— Ну, вот видишь!
После обеда Бромберг спрашивает:
— Скажите, пожалуйста, а еще что-нибудь будет?
— А как же, мороженое и сигары.
И все смеются над Бромбергом.
Глава девятая
Хромой Вайнраух.— Шашечный турнир.—
Тамрес — победитель.— Прощай, колония!
Вайнраух доволен, что ходит на костылях. Его ранили на
улице и потом в больнице отняли ногу. Он охотно рассказывает о
врачах в белых халатах и о сестрах в больших белых чепцах. Хоро-
шо ему было в больнице, хорошо ему и теперь, в колонии. Добрая
экономка всегда чего-нибудь да подложит на тарелку, и уже не
одна проделка сошла Вайнрауху безнаказанно.
— Господин воспитатель, Вайнраух дерется!
— А что он меня дразнит «хромоножка» и «хулиган с Крах-
мальной»?..
И Вайнраух смеется, потому что знает, что дело выиграно.
А трахнуть кого-нибудь по затылку, да так, чтобы у того искры из
глаз посыпались,— это его любимая шуточка, доказательство неж-
ной дружбы.
В больнице Вайнраух научился играть в шашки, а потом дома
сделал себе шашки из картона и пробок. Картон у него всегда есть,
потому что он клеит коробки для магазинов, а пробки он нашел во
дворе и раздобыл у товарищей.
Когда надо было разбить ребят на группы для шашечного тур-
нира, сделать это поручили Вайнрауху.
Турнир длился только два дня, но готовились к нему долго. Каж-
дый день с обеда до полдника играли в шашки.
Одни ребята еще только учились играть, другие — тренирова-
лись. Труднее всего научиться обращаться с «дамкой», понять ее
роль и права на шашечной доске.
— Можно есть «дамку»? Можно брать «дамку» за «фук»? Мо-
жет «дамка» перескакивать через две шашки? А последняя шашка
обязательно должна стать «дамкой»?
Вайнраух учил, объяснял и играл с каждым на пробу, а потом
записывал его в группу — плохо, посредственно, удовлетворительно,
хорошо или отлично играющих; иными словами, ставил кол, двойку,
тройку, четверку или пятерку.
Как видите, это была большая и трудная работа, и у Вайнрауха,
который старался выполнить ее на совесть, уже не оставалось вре-
мени на то, чтобы ругаться и драться.
Когда все ребята были разбиты на группы, начался турнир. Колы
играли с колами, двойки с двойками. Силы были равными. Из трех
415
решающих партий между Завозником и Фихтенгольцем первая дли-
лась очень долго и была признана ничьей, и только две следующие
выиграл Завозник.
В группе играющих посредственно победителем вышел Дессен.
Борьба Лиса с Крышталом три раза кончалась вничью. Плоцкий
с Кулигом сыграли четыре партии.
Но самой интересной была, конечно, борьба мастеров, таких,
как Альтман, Тамрес, Вайнраух. Много замечательных комбинаций
разыгрывалось на шашечной доске, долго и сосредоточенно обду-
мывался каждый ход. Наконец бесспорным победителем шашечного
турнира — без возражений со стороны побежденных — был при-
знан не Вайнраух, а Тамрес, потому что он победил всех играющих
на «отлично».
Может быть, в будущем году победит Вайнраух? Но нет, на бу-
дущий год ему исполнится тринадцать лет, и он уже будет слишком
большим: ведь колонии только для детей. Поэтому, когда Вайнраух
уезжал из колонии, он, высунувшись из повозки, долго махал шап-
кой и кричал:
— Прощай, колония, адье, Михалувка!
Я часто встречаю хромого Вайнрауха в Варшаве. Он кланяется
мне и весело улыбается; наверное, ему при этом вспоминается ша-
шечный турнир, аист и сладкий морковник.
Глава десятая
Письма от родителей.— Плакал ли Осек
из-за помочей? — Последние открытки
Утром пекарь привозит хлеб и письма с почты. Письма раз-
даются только после завтрака. Потому что тот, кто получил письмо,
от радости уже не хочет пить молоко, а тот, кто не получил письма,
тоже не пьет молока — от огорчения. А ведь открытка стоит шесть
грошей, то есть почти столько же, сколько фунт хлеба. Поэтому
вести из дома приходят не так уж часто.
Рубину мать пишет:
«Дорогой сыночек, мы очень рады, что ты купаешься и не тоску-
ешь по дому. Будь вежливым и послушным, играй и отдыхай хо-
рошенько и возвращайся здоровым и хорошим к любящей тебя
маме».
Таких писем, написанных по-польски и без забавных ошибок,
не очень много. Но разве не то же самое хотел сказать отец Боруха,
когда писал ему:
«Дорогой сын Борух! Уведомляю тебе, что мы, слава богу, здо-
ровы, чего и тебе того же желаем. Поклон от отца с матерью. Будь
послушный и, что тебе скажут, чтобы точно выполнил. Обнимаем
тебе издали».
А в четверг после обеда ребята пишут в Варшаву, разумеется,
только те, кто умеет писать.
416
— Господин воспитатель, напишите мне, пожалуйста, письмо.
— Что ж тебе написать?
— Не знаю.
— Напишу, что ты озорник и дерешься.
— Не надо... Напишите, не плакал ли Осек, что я у него взял
помочи.
— А ты взял у Осека помочи?
— Мама велела, потому что мои штаны рваные, а у него с помо-
чами.
— Так, может быть, лучше спросить, не плакал ли Осек, что
ты у него штаны взял?
— Ладно, спросите...
Херш написал по-еврейски:
«Моим дорогим родителям. Во-первых, пишу, что я здоров, и
мне хотелось бы знать, что слышно дома, и я вешу 54 фунта, и ем
5 раз в день, и все вам потом расскажу, и мы строим крепость
и копаем землю, и мне очень хотелось бы знать, что слышно
дома».
Есть в письмах ребят и полные забот вопросы:
«Нашел ли отец место, есть ли у Хаима работа и зарабатывает
ли он хоть что-нибудь?»
Когда мальчик уезжал в колонию, отец был без работы.
Некоторые ребята не доверяют воспитателю и предпочитают,
чтобы за них писал товарищ. Товарищ напишет, что ему скажут,
а воспитатель еще, чего доброго, пожалуется родителям, что он вче-
ра зашел на середину реки, где глубоко, или полез за белкой и нос
себе расцарапал. С начальством лучше поосторожнее.
И товарищ, расспросив о родственниках, строчит:
«Во-первых, я здоров и кланяюсь дедушке, и кланяюсь брату,
и кланяюсь сестре, и кланяюсь братишке Мотке, и кланяюсь всей
семье. Будьте здоровы, и я ем пять раз в день, и кланяюсь Абрамку,
и кланяюсь тете, и кланяюсь одному дяде и другому».
Товарищ читает письмо вслух; оказывается, что все в порядке.
— Я уже написал, господин воспитатель.
И рад: первый раз в жизни посылает письмо.
На четвертой неделе воспитатель пишет на открытках:
«Прошу встретить сына на вокзале в четверг 20 июля в 12 часов
дня».
И в конце добавляет:
«Ваш сын веселый и ласковый мальчик. Мы его очень полюбили»..
Родителям будет приятно узнать, что их сын снискал симпатии
чужих людей.
— Господин воспитатель, что вы обо мне написали?
— Что ты не хотел есть кашу и плохо стелил постель, пусть отец
тебя отшлепает.
— Не бойся, господин воспитатель шутит,— поучает более
опытный товарищ.
14 Януш Корчак
417
Глава одиннадцатая
Хаим и Мордка.— Кукушка, белка и история
про бабочку.— Мордку называют Маце ком
Почему Хаим, который не может пройти мимо, чтобы кого-
нибудь не задеть, так дружит с Мордкой Чарнецким и никогда его
не обижает?
— Хаим твой друг?
— Да,— кивает Чарнецкий.
— И он никогда тебя не бьет?
— Нет,— живо возражает Мордка.
У Мордки Чарнецкого большие черные глаза, всегда немного
грустные и удивленные.
Как-то раз, когда ребята играли на полянке, в ольховой роще
закуковала кукушка.
«Ку-ку»,— кричит из чащи кукушка.
— Ку-ку,— повторяет Чарнецкий и прислушивается: ждет,
когда птица ответит.
Долго так разговаривали — кукушка и мальчик. Но вот птицу
спугнули, и удивляется Мордка, что ему никто не отвечает, и не ве-
рится ему, что он говорил с кукушкой.
Когда ребята увидят белку, они ведут себя по-разному: одни
норовят подкрасться и схватить, потому что, как гласит молва, три
года назад одному мальчику удалось поймать живую белку,— он
принес ее на кухню; другие смеются от радости, глядя, как малень-
кая рыжая зверушка проворно прыгает с ветки на ветку: человек,
наверное, упал бы и расшиб голову. Чарнецкий не смеется, он только
широко раскрывает глаза и удивляется, что белка умеет то, чего
и человек не может...
Ребята играют в чижа. Чарнецкий стоит в стороне и удивляется,
что можно так ловко, так высоко палочку палочкой подбрасывать.
Но сам играть в чижа не пробует... Так^-же смотрит он и на закат:
словно его важные мысли занимают. И тогда только очнется Морд-
ка, когда снова увидит что-нибудь очень красивое...
Бабочка перелетает с цветка на цветок. Чарнецкий идет за ней
следом, нет, не ловит, удивляется только, что снежные эти хлопья
улетают от него, словно живые. А может быть, они и вправду живые?
— Бабочки всегда белые? — спрашивает Мордка у Хаима и рас-
сказывает ему такую историю.
Один мальчик в школе разорвал лист бумаги на мелкие кусочки
и выбросил в окно. Когда бумажки падали, все высунулись из окна:
одни кричали, что это снег, а другие, что бабочки порхают.
Пришла сторожиха и пожаловалась, что мальчишки во дворе
насорили; учитель узнал, кто бросал в окно бумажки, и побил маль-
чика чубуком своей трубки.
Мальчик плакал, а Чарнецкий узнал тогда, что есть на свете ба-
бочки. А здесь, в колонии, он видит их собственными глазами.
Ребята смеются над Мордкой: он не умеет прыгать через веревку,
418
в горелки бегает хуже всех, мячик никогда не поймает. И прозвали
Мордку «Мацеком».
Воспитатель объяснил ребятам, что люди бывают хорошие и
плохие, умные и глупые; «Мацек» же — польское крестьянское имя,
значит, имя людей бедных и совсем не смешное. Дразнить кого-
нибудь Мацеком — это все равно, что смеяться над еврейским име-
нем «Мордка». Но только те, кто постарше и поумнее, поняли, что
сказал воспитатель.
А вот, когда Хаим заявил: «Кто тронет Чарнецкого, в морду
дам»,— всем стало ясно, что приятелей лучше не задирать...
Почему Хаим, один из отчаяннейших сорванцов, взял под свою
защиту самого тихого мальчика в колонии?
Глава двенадцатая
Газета * Михалувка*.— Почему ребята плохо говорят по-польски?
Эльвинг сразу догадался, что газета «Михалувка» не при-
ходит из Варшавы, а воспитатели сами ее пишут и нарочно вклады-
вают в конверт. Будто бы ее из Варшавы прислали. Но и он слушает,
когда читают газету: нельзя не признать, что известия в ней самые
свежие и всегда интересные.
Разные бывают новости в газете:
«Ребята играли в лапту и выбили стекло. Госпожа экономка
очень сердится».
«Гринбаум Борух подрался со своим братом Мордкой».
«Младший Мамелок влез на окно и заглядывал в кухню».
«Хевельке и Шекелевский не хотят есть кашу».
«Ейман ударил по носу Бутермана. Бутерман простил Еймана».
«Новая собака сорвалась с цепи и убежала. Но Франек ее пой-
мал».
«Вайнберг провертел дыру в шапке. Он так и будет ходить в ды-
рявой шапке, потому что новую не получит».
«Штабхольц пил сырую воду, от этого у него заболит живот, и,
может быть, ему даже придется проглотить целую ложку касторки».
Одна статья в газете «Михалувка» была о башмаках,— как не-
удобно ходить в деревне в башмаках и как приятно и полезно ходить
босиком; в другой говорилось о том, как проводят время в колонии
Молодец и Мямля. А одна статья была посвящена летним колониям.
«Общество летних колоний» уже двадцать пять лет посылает
детей в деревню.
Сначала в деревню посылали очень мало детей, потом стали
больше, а теперь каждый год отправляют три тысячи; половина из
них, тысяча пятьсот, мальчики, половина — девочки.
На то, чтобы посылать детей в деревню, Общество тратит сорок
тысяч рублей в год. Одежду, простыни, мыло, мясо, молоко — все
надо покупать. Тот, кто теряет носовые платки и мячики, рвет одеж-
ду, бьет стекла и ломает вилки, поступает плохо, потому что у коло-
нии останется меньше денег на молоко и хлеб, и на будущий год
14*
419
сюда уже не сможет поехать столько детей, а те, кто останется в го-
роде, будут очень огорчены.
У Общества много таких колоний, как Михалувка. Дети ездят
и в Цехоцинек, и в Зофьювку, и в Вильгельмувку. На колонию Ми-
халувку отпускается много денег, целых пять тысяч рублей в год. За
лето сюда приезжают две смены мальчиков и две смены девочек.
Кто дает эти деньги? Дают разные люди. Один умирает, и деньги
ему не нужны; другой хочет откупить грехи у господа бога; третий
хочет, чтобы все говорили, что он добрый; а четвертый на самом деле
добрый: он хочет, чтобы дети жили весело и были здоровы.
Кто собирает эти деньги? Собирает их председатель «Общества
летних колоний» и еще другие мужчины и женщины.
Почему они собирают деньги?
Потому что люди верят им и выбрали их точно так же, как вы
здесь, в Михалувке, выбрали в судьи Пресмана, Плоцкого и Фриден-
сона.
О летних колониях можно было бы написать в газете и получше,
но еврейские дети плохо понимают по-польски, и надо писать для
них простыми словами.
Некоторые ребята совсем не говорят по-польски, но, несмотря
на это, великолепно выходят из положения. Они говорят:
— Господин воспитатель, о-о!
Это значит: мне длинны штаны, у меня оторвалась пуговица,
меня укусил комар, какой красивый цветок, у меня нет ножа или
вилки.
Завтрак, полдник, ужин — все называется «обед». И, когда раз-
дается звонок, ребята весело кричат:
— Обедать!
Откуда им знать, что еда в разное время дня называется по-
разному, если дома всякий раз, когда они голодны, они получают
кусок хлеба с чуть подслащенным чаем?
Другое дело те, кто живет на одной улице с польскими ребятами.
Гринбаум из Старого Мяста хорошо говорит по-польски, у брать-
ев Фурткевичей даже имена польские, их зовут Генек и Гуцек. А Мо-
сек Топчо вместе с Франеками и Янеками голубей гоняет и научился
от них свистеть в два пальца и кричать петухом, потому что живет
он на Пшиокоповой улице...
Но есть в Варшаве улицы, где если и услышишь польское слово,
то только грязное ругательство,— дворник раскричался, что ему
«еврейское отродье» весь двор замусорило. «А, чтоб вы сдохли, чтоб
вас всех холера взяла!»
Здесь, в деревне, польская речь улыбается детям зеленью де-
ревьев и золотом хлебов, здесь польская речь сливается с пением
птиц, мерцает жемчугом звезд, дышит дуновением речного ветерка.
Польские слова, словно полевые цветы, рассыпаны по лугам. Они
взлетают ввысь, светлые и ясные, как предзакатное солнце.
В колонии никого не учат говорить по-польски — на это нет вре-
мени; ребят не поправляют, когда они делают ошибки. Их учат поль-
ская природа, польское небо...
420
Здесь не режет слуха и еврейский жаргон, потому что здесь это
не крикливый и вульгарный язык ссор и прозвищ, а просто незна-
комый язык резвящейся детворы.
И в еврейском языке есть свои нежные и трогательные слова,
которыми мать убаюкивает больного ребенка.
А короткое, незаметное польское слово «смутно» и по-еврейски
тоже значит «грустно».
И, когда польскому или еврейскому ребенку плохо жить на свете,
они думают об этом одинаково, одним и тем же словом «смутно».
Глава тринадцатая
Война.— Бой за первый форт.— Взятие второго форта.— Солдат, ковы-
рявший в носу, и перемирие
Мы направляемся в крепость.
Раздаются громкие звуки трубы. Им отвечают горны отря-
дов. Лязг саперных лопат. Беготня, перекличка. Реют знамена.
Звучит команда: «По отрядам стройся!»
Первые семь пар — «наступление». Эти четырнадцать героев
будут биться со всеми остальными. Отряд немногочисленный, но
отважный; троекратно проведенные маневры доказали, что он умеет
воевать и его не испугает превосходящая численность противника.
Звучит команда: «Оборона первого форта, вперед!»
Во главе генерал Корцаж со знаменем форта в руках, за ним
четыре полка, каждый полк со своим командиром,— впереди «обо-
роняющие» двух флангов, за ними два центральных полка, которые
будут защищать знамя.
Если укрепленное на холмике знамя попадет в руки неприятеля,
отряды должны добровольно отступить и саперы сровняют первый
форт с землей. Бои тогда будут идти за второй форт.
Генерал Герш Корцаж доказал, что умеет биться в первых ря-
дах, ни на минуту не забывая о знамени. В случае опасности он при-
зовет подвластные ему полки на защиту стяга. Генерал Корцаж
отличается мужеством, хладнокровием и присутствием духа.
— Третий, четвертый, пятый полк, вперед, шагом марш!
Эти полки, как видно из плана, прикрывают первый форт с тыла
и с флангов. Они должны быть готовы по первому сигналу броситься
на защиту форта.
«Наступление» насчитывает в своих рядах немало смелых и ис-
кушенных бойцов, но и «обороняющие» готовы сражаться за свою
честь до последней капли крови. Столкновение этих сил обещает
быть грозным.
А сейчас, хотя впереди близкий бой, мужественные полки весело
шагают по лесу в такт марша.
Сзади едут госпитальные повозки, те самые, что служили для
перевозки песка и камней при постройке крепости. Теперь на них
везут аптечку и ведра с водой для обмывания раненых. Немного-
421
численным отрядом фельдшеров и санитаров командует хромой
Вайнраух, врачи — Сосновский и горбатый Крыштал, а флаг Крас-
ного Креста, обеспечивающий госпиталю неприкосновенность, несет
Сикора.
Суматоха среди защитников крепости уже улеглась. Отряды
спокойно и быстро занимают свои позиции. Знамя первого форта
чуть колышется на ветру.
Парламентер вручает генералу Корцажу бумагу с кратким уве-
домлением: «Начинаем атаку».
На длинные письма нет времени. Ответ звучит так: «Ждем».
Наступающие разделились на небольшие отряды — тройки. Две
тройки ринутся на фланги первого форта, чтобы распылить силы
обороны и отвлечь их внимание от холма со знаменем, а в это время
три остальные, самые сильные, тройки бросятся в центр окопа, что-
бы одним мощным натиском сбить защитников крепости с ног и,
ошеломив их, сразу же, в первой атаке, вырвать победу.
Минутное замешательство, случайная оплошность — и перевес
окажется на стороне атакующих. Захват первого форта — это еще
не взятие крепости, но уже шаг к победе.
Троекратный сигнал трубы — и из лагеря выступает первая
тройка. Бойцы галопом пробегают расстояние, отделяющее их от
форта, и останавливаются перед рвом, точно им внезапно изменило
мужество. Разумеется, это только военная хитрость — необходимо
усыпить бдительность противника.
Десятки вытянутых рук, готовых было столкнуть смельчаков
в ров, опускаются. Но некоторые легкомысленные защитники цент-
ра покидают свои позиции и спешат на помощь товарищам, а ведь
они, центр, обороняющий знамя, ни на минуту не должны распылять
свои силы.
Первая тройка неторопливой рысцой возвращается к своему
окопу, и вдогонку ей несутся хохот и насмешки.
Снова звуки трубы: теперь уже две тройки идут в ложную атаку
на оба фланга — и возвращаются с тем же результатом.
— Боятся,— решает торжествующая «оборона».
Эта уверенность в себе, этот мимолетный триумф чуть было не
послужили причиной катастрофы: когда началась настоящая атака
и две боковые тройки стали карабкаться на вал, центр оказался поч- ,
ти оголенным.
Но тут на валу появился Герш Корцаж. Он один выдерживает
яростный натиск врага, пока опомнившиеся отряды не подоспевают
на помощь.
Враги уже на валу. То один, то другой мелькнет у флага. Стоит
отразить атаку с одной стороны, как флаг пытаются захватить с
другой. Тот, кого столкнули в ров, снова лезет наверх. Кто упал,
поднимается, чтобы опять принять участие в битве. Их сбрасывают,
но они с неутомимым упорством взбираются на форт.
Законы войны запрещают бить побежденных; можно только
сбрасывать вниз наступающих или стаскивать с вала защитников
крепости. Задача санитаров — помогать упавшим подняться.
422
Раненых нет. Раненым считается тот, кто заплакал, но никто не
плачет.
Труба играет отступление. Утомленные тройки возвращаются
в лагерь. Первая атака отбита. Но это еще не перемирие. За первой
атакой последуют вторая и третья. Это только начало, первая проба
сил, большие маневры, позволившие оценить боеспособность обеих
армий.
Наступающие проводят короткое совещание.
Снова трубит труба, снова сражение. Кажется, еще немного —
и флаг будет захвачен, но один короткий возглас: «К знамени!» —
собирает рассеявшихся солдат и создает вокруг флага непреодоли-
мую живую стену.
Наступающие, встреченные превосходящими силами противни-
ка, не могут рассчитывать на взятие форта. Только неожиданный на-
тиск мог принести им победу, а раз атака не удалась, не следует
попусту тратить силы: надо вымотать неприятеля в непрерывных
мелких стычках и ждать, пока постепенно не обсыпется и не станет
ниже высокий вал форта.
Но атакующие теряют терпение, и вот, ловким маневром рас-
сеяв «оборону», они захватывают неприятельский стяг.
— Покиньте первый форт! — гласит воззвание.— Ваше знамя
у нас в руках!
Преждевременный триумф!..
Устанавливается полевой телефон, и из лихорадочного разгово-
ра главнокомандующих выясняется, что наступающие пали жертвой
обмана: взято знамя четвертого форта. Форт будет снесен с незна-
чительным ущербом для защитников крепости. Это известие вы-
звало волнение в лагере наступающих.
К тому же накопилось и много других неотложных дел: обмен
пленными, вопрос о знаменосце, дело солдат Кулига и Мильтмана,
обвиненных в издевательствах над пленными. Решено заключить
перемирие на один день.
С триумфом возвращается домой «оборона», с верой в будущее
шествует «наступление», чтобы, воспользовавшись временным
миром, подкрепить свои силы ужином и сном.
На следующий день было очень жарко, поэтому армии только
к вечеру заняли свои позиции.
И тут оказалось, что взятие четвертого форта все же имело не-
которое значение. А может быть, наступающие за время перемирия
разработали более четкий план действий. Нетрудно догадаться,
что единственной темой разговоров в тот день была война. Воз-
можно также, что Корцажу труднее было сговориться со своей мно-
гочисленной армией, а может быть, вчерашний успех ослабил бди-
тельность «обороны». Так или иначе, но за первой, пробной атакой
последовала вторая, столь неожиданная и решительная, что не
только знамя оказалось в руках наступающих, но и часть защитни-
ков крепости была вытеснена с позиций.
Пал гордый и неприступный первый форт, разрушенный в боях
еще до того, как по условиям войны он был отдан саперам.
423
Солдат Рашер прямо на поле битвы получает звание полковника;
грудь Шайкиндера и Прагера уже украшают ордена; генерал Зам-
чиковский лишен звания за непорядки в дивизии; солдаты Грубман,
Ирблюм и Шрайбаум уволены в отпуск по болезни; Маргулес, Корн,
Тамрес и Плоцкий познали всю горечь плена.
Разгоряченные боем, обогащенные новым опытом, обе армии
готовятся к дальнейшей борьбе.
На оборону второго форта прибывает генерал Пресман (млад-
ший). Плечом к плечу с ним будет сражаться Корцаж, герой минув-
ших боев, которому изменила удача. Резерв составит немногочис-
ленный, но сильный отряд — Ротштайн, Апте, Хехткопф и Красно-
брод. На шестой и седьмой форты прибывают два новых полка, их
возглавляют Карась и Альтман.
Враждующие стороны ведут длительные переговоры и решают
создать третейский суд для решения спорных вопросов. Суд схо-
дится после предварительного обмена охранными грамотами на
середине дороги.
И вот краткая речь перед боем на втором форте:
— Солдаты! Перед вами изорванный кусок серого полотна на
надломленном древке. Это честь и жизнь второго форта! Это старое
знамя порвано в боях, оно вылиняло на полях сражений, и потому
оно нам еще дороже.
Снова обмен депешами через парламентеров. Снова играет горн.
Ободренные успехом, наступающие переменили тактику: корот-
кие, но сокрушительные атаки следуют одна за другой.
Каждая отброшенная тройка немедленно сходится и снова ата-
кует наиболее уязвимую точку форта. Однако защитники учли пе-
чальный опыт поражения. У фланга словно замерли три полка, не
принимающие участия в общей борьбе,— резерв и надежная защита
развевающегося стяга.
Растет число героев, растет и число взятых в плен. Весь пятый
полк вместе с командиром попадает в засаду. Герш Рашер, ранее
произведенный из рядовых в полковники, получает звание генерала.
Отличились Харцман, Гутнер, Корчак, Гебайдер и Шпиргляс. Пол-
ковник Хоренкриг за непорядки в отрядах понижен в звании. Солдат
Гершфинкель, который во время боя преспокойно сидел на одном
из боковых валов и ковырял в носу, предан военно-полевому суду.
Ковыряние в носу — занятие, имеющее многочисленных при-
верженцев и в мирное время вполне невинное,— превращается на
поле боя в преступление, достойное суровой кары, и вызывает воз-
мущение не только у командования, но и у товарищей по оружию.
В конце второго дня боев сапер Фляшенберг нечаянно уничто-
жил полевой,телефон, и снова было заключено перемирие до сле-
дующего дня.
Враги пЪдают друг другу руки. Под звуки триумфального марша
отличившимся вручают награды — ордена, вырезанные из красной,
голубой и желтой бумаги.
На третий день обе стороны готовы пожертвовать обедом, только
бы прийти, наконец, к какому-нибудь результату: заставить насту-
424
пающих отойти и раз и навсегда отказаться от притязаний на кре-
пость, или же, убедив обороняющих в бесцельности дальнейшего
сопротивления, вынудить их сдать крепость на почетных условиях.
Однако ни одна из сторон не расположена к уступкам. Второй
форт пал только на четвертый день, и то по вине роковой случай-
ности.
Одной из троек удалось ворваться на холм, где укреплено знамя,
и отломить кусок древка с гвоздем и обрывком полотнища, шири-
ной не более пяти сантиметров.
Возник вопрос: следует ли считать флаг взятым?
Объявлено перемирие, собрался третейский суд. Затаив дыхание
обе стороны ждут результатов. Совещание длится долго, потому
что вопрос нелегкий.
— Что же нам — брать ваш флаг по кускам? Разве этот обры-
вок не доказывает, что флаг был в наших руках? — спрашивают
командиры «наступления».
— А разве он не доказывает,— возражает «оборона»,— что
вы не смогли взять флаг?
Суд заседает на площадке между лагерем и крепостью, и до
ушей бойцов долетают только отдельные слова возбужденных ора-
торов.
Наконец вернулся генерал Пресман, бледный и удрученный, и
отдал приказ сдать знамя второго форта врагу, а войску отступить
к крепости.
Раздались скорбные звуки траурного марша. У командиров слезы
на глазах. Правосудие восторжествовало.
Только мольбы жены и малолетних детей спасли полковника
Пергериха, который стоял у знамени, от угрожавшего ему наказа-
ния. И только благодаря мужеству, проявленному в дальнейших
боях за крепость, ему удалось вернуть утраченное звание и уважение
товарищей.
Командование крепостью принял генерал Лис.
После нескольких неудачных атак наступающие признали кре-
пость неприступной.
Договор гласил:
«Мы заключаем мир на один год. Во владении наступающих ос-
таются два главных и пять боковых фортов. Во владении обороняю-
щих остается крепость».
Следуют подписи и большая сургучная печать.
Глава четырнадцатая
Князь К рук и его маленький брат.—
Корзинки из камыша.— Почему Бер-Лейб Крук — князь.
— Почему вы зовете старшего Крука князем?
— Потому что он такой недотрога, словно князь какой.
Ему что-нибудь скажешь, а он уже и обиделся, и играть не хочет.
425
— А маленький К рук тоже князь?
— Как же! Разбойник он, а не князь!
Старший Крук заботится о брате, дает ему поиграть свой фла-
жок и всегда его защищает. А младший — буян и задира. Старший
держит пелерину брата, когда тот играет с мальчишками, по утрам
заглядывает ему в уши — чисто ли вымыты, а по вечерам стелет ему
постель и заботливо прикрывает его одеялом.
— Что ты так балуешь этого сорванца? — спрашивают стар-
шего Крука.— Драться с мальчишками умеет, а постель застелить
не может.
— Пусть играет,— говорит Крук,— он еще маленький, ему толь-
ко восемь.
— И ты маленький.
— Нет, мне уже двенадцать. Я работаю с отцом на сапожной
фабрике. Я уже большой.
Когда ребята плели корзинки из камыша, Крук-старший тоже
захотел сделать для брата корзиночку. Сидят мальчишки на
ступеньках веранды и мастерят корзинки. Вдруг кто-то и ска-
жи, что Крук взял у него две тростинки. Длинные тростинки очень
ценятся у ребят. Слово за слово, и парнишка обозвал Крука
вором.
Крук так огорчился, что даже ножик для срезания камыша его
не развеселил. Он бросил плести корзинку и за ужином ничего не
хотел есть.
— Ешь, Кручек, нехорошо быть таким злюкой. Ведь он сознал-
ся, что это твои тростинки, и попросил прощения.
— Я на него не сержусь.
Кручек .стал есть, уже ложку поднес ко рту:
— Нет, не могу!.. Когда у меня горе, я никогда не ем.
— А у тебя часто бывает горе?
— Здесь нет, а дома часто...
«Дорогие родители! — писал старший Крук домой.— Во-первых,
сообщаю Вам, что нам здесь очень хорошо. Если бы это услышать
и от Вас! Мы не скучаем по дому и каждый день ходим в лес. Во-
вторых, время мы проводим интересно, и Хаим послушный. Будьте
здоровые и бодрые. Кланяемся Вам — я, Бер-Лейб, и Хаим».
Кто-то в шутку прозвал Крука князем. Хоть это и шутка, она не
так далека от правды.
Есть два царства: одно — царство развлечений, роскошных гос-
тиных и красивых нарядов. Здесь князья те, кто испокон веков были
самыми богатыми, те, кто беззаботнее всех смеются и меньше всех
трудятся. Есть и другое царство — огромное царство забот, голода
и непосильного труда. Здесь с раннего детства знают, почем фунт
хлеба, заботятся о младших братьях и сестрах, трудятся наравне
со взрослыми. Чарнецкий и Крук — князья в царстве невеселых
мыслей и черного хлеба; они князья по отцам и прадедам; они по-
лучили свой почетный титул еще в давние времена.
426
Глава пятнадцатая
Обязанности воспитателей.—
Генерал становится лошадью.—
Как овцы научили уму-разуму человека
В колонии четыре воспитателя, и каждый по-своему мешает
ребятам веселиться.
Господин Герман знает много песенок и всегда боится, чтобы
кто-нибудь из ребят не заболел корью или не сломал себе ногу. В его
группе нельзя носить с собой палок и лазить на деревья; ему не нра-
вится игра в войну, и, когда ветрено, он не хочет вести ребят ку-
паться.
У второго воспитателя, господина Станислава, вечно что-нибудь
болит: сначала болело горло, потом десны, потом икота напала. Он
принимает железо в пилюлях, и у него есть труба, на которой он
прекрасно играет зорю. Это он сделал беговую дорожку и пришил
крылья ангелу в живых картинах.
Господин Мечислав показывает смешные картинки в волшебном
фонаре и всякие фокусы; а еще он достает с крыши веранды мяч,
когда ребята его туда забросят.
Четвертый воспитатель — неуклюжий, в лапту играть не умеет,
но он пишет книжки, и ему кажется, что он очень умный. А по прав-
де сказать, как мы вскоре увидим, уму-разуму его научили овцы.
Должен был быть еще и пятый воспитатель, но он, к счастью,
женился, и жена не пустила его в колонию.
Этих четверых мы называем то надзирателями, то воспитате-
лями, то учителями,— да им и вправду приходится быть всем по-
немногу.
По утрам ребятам надо намыливать под краном головы, и тогда
воспитатель — банщик. Когда выдают чистое белье и одежду, вос-
питатель — портной: он примеряет и подгоняет все по мерке. Каж-
дое утро дежурный пришивает оторвавшиеся вчера пуговицы. Од-
нако случается, что после обеда оторвется такая пуговица, без кото-
рой недолго потерять весьма важную часть туалета,— и тогда вос-
питатель сам берется за иглу и думает при этом, что иногда прият-
нее пришить пуговицу, чем прочитать книжку, потому что честно
пришитая пуговица всегда принесет пользу.
За обедом воспитатель исполняет роль кельнера, а если у кого-
нибудь шатается зуб, он вырвет его без помощи щипцов,— и тогда
он зубной врач.
— У кого еще зуб шатается?
— У меня, господин воспитатель, у меня!
И лезут даже такие, у которых зуб вовсе и не шатается, потому
что никому не хочется быть хуже других.
А как часто воспитателю приходится решать всякие запутанные
споры!
— Скажите, пожалуйста, разве грешно хлеб покупать для во-
робьев? Мой дедушка всегда бросает воробьям крошки, а когда у
427
него нет крошек, он крошит хлеб. А Шерачек говорит, что это греш-
но. Ага, вот видишь, совсем и не грешно!
Впрочем, если принять во внимание, что генералу Корцажу
пришлось быть лошадью во время триумфального марша, ангелом
в живых картинах и судебным исполнителем на суде, а красавица
королева одновременно является старшим по уборке постелей, то
не приходится удивляться, что воспитатель выполняет сразу столько
обязанностей. А сколько у него хлопот и забот!
«Скажите ребятам, чтобы не вытаскивали камни из-под веран-
ды!» — «Не разрешайте ребятам сдирать кору с деревьев!» — жа-
луется Юзеф. Юзеф сторожит колонию, и у него есть большой ре-
вольвер, но на колонию еще никто не нападал, и поэтому неизвестно,
стреляет револьвер или нет.
— Вы только посмотрите, на что похожа эта блуза!
И в самом деле, блуза Бромберга выглядит ужасно: ни одной
пуговицы, только петли, и каждая петля величиной с большую таба-
керку.
— Боже мой, третье окно разбили! Что скажет господин секре-
тарь Общества, когда об этом узнают в Варшаве?
И воспитатель покорно и сокрушенно склоняет голову перед
разгневанной экономкой.
Но лесную колонию словно кто заколдовал: несмотря на заботы,
всем радостно и весело. Если и рассердится кто-нибудь, то нена-
долго, как будто в шутку,— нахмурит брови и тут же не выдержит,
усмехнется.
Потому что здесь делается прекрасное дело, создается чудесная
наука. Воспитатели учат детей, дети — воспитателей, а тех и других
учат солнце и золотые от хлебов поля.
А одного из воспитателей, как я уже говорил, уму-разуму на-
учили овцы. Дело было так.
— Идемте, дети, я вам расскажу интересную историю,— сказал
как-то ребятам этот воспитатель.
И ребята целой толпой, человек сто, подбежали послушать его
рассказ.
— Сядем здесь,— предлагает один.
— Нет, пойдем подальше в лес,— говорит воспитатель, гордясь
тем, что столько ребят идут за ним, чтобы его послушать.
И так дошли они до самой опушки и расселись тут большим
полукругом.
— Не толкайтесь, я буду говорить громко, всем слышно будет,—
говорит воспитатель, а сам доволен, что ребята толкаются и ссо-
рятся, стараясь сесть как можно ближе, чтобы ничего не пропус-
тить.
— Ну, тише, начинаю. Однажды...
Вдруг Бромберг, тот самый, у которого на блузе только петли,
а пуговиц ни одной, повернулся, привстал на одно колено и, глядя
вдаль, объявил тоном человека, который не может ошибиться:
— Вон овцы идут.
В самом деле, по дороге гнали стадо овец.
428
Овцы шли в облаке пыли, беспорядочно толкаясь, смешные,
пугливые. И ребята, все как один, сорвались с места, забыв про ин-
тересную историю, и помчались смотреть на овец.
Воспитатель остался один. В эту минуту ему, правда, было не
по себе, но зато с тех пор он меньше верит в свой талант рассказчика
и потому стал скромнее, а значит, и умнее. Овцы научили его уму-
разуму.
Глава шестнадцатая
^Разбойничье гнездо».— Свидетельница
из деревни.— Прощание
Хотя бы один раз за лето должно случиться какое-нибудь
ужасное происшествие. Два года назад по колонии проезжал в брич-
ке адвокат из Люблина, а ребята стали бросать в него шишками.
Адвокат хотел потом написать в газету, что колонисты нападают на
людей, но в конце концов простил мальчишек. В прошлом году три
мальчика пошли купаться, сели в лодку, а лодку снесло течением.
Хорошо, что мельник вовремя подоспел на помощь. А в этом году
по колонии прошел слух, что наши ребята забросали камнями про-
ходившего мимо дурачка-еврея и разбили ему голову так, что у
бедняги кровь ручьем хлынула. Какая-то деревенская женщина
сжалилась над ним, промыла ему рану и напоила молоком на дорогу.
В этом скверном деле заподозрены пятеро.
Так как же это было?..
По дороге через колонистский лес шел еврей с мешком за пле-
чами и парой дырявых сапог в руках. Шел и сам с собой разговари-
вал. Ребята увидали и ну смеяться, а он им язык показал. Тогда
кто-то бросил ему в сапог шишку, а сапог был дырявый, и шишка
выпала. А другой мальчишка спрашивает, что он в мешке несет.
— В этом мешке десять раз по десяти тысяч рублей,— говорит
еврей.
Мальчишка стал просить, чтобы он дал ему рубль, раз он такой
богатый.
Ну, а потом что?
Вот и все, еврей пошел своей дорогой, а они остались играть в
лесу.
Прибежала, запыхавшись, баба из деревни рассказать, как было
дело.
Какие там два ведра крови, кто такую небылицу наплел? Она
этого дурачка знает: он всегда тут вертится, в их краях. Ну да, дала
ему молока. А потом велела идти в колонию — там, может, и мяса
дадут,— да он не захотел, говорит, мальчишки эти сущие разбой-
ники. Уж что правда, то правда: «Разбойники,— говорит,— камнями
в меня бросались». И то сказать, видно, что бросались,— шея-то
у него оцарапана. Известно, парнишки. У нее двое, так сладу с ними
нет, а тут такая орава! Молодые они еще, глупые. Уж пусть их гос-
429
пода очень-то строго не наказывают: вырастут, сами поумнеют.
Так, значит, правда, что ребята бросали в дурачка камнями и
оцарапали ему шею?
— Как же это могло случиться? Идет по дороге слабый, боль-
ной человек. Он один, а вас сто пятьдесят. Он больной, а вы здоро-
вые. Он голодный, вы сытые. Он печален, а вы веселитесь. И в этого
одинокого, голодного человека вы бросаете камнями. Что же, коло-
ния — это разбойничье гнездо? Нет, этого не могло быть! Но ведь
вы не хотите сказать правду!
И тут случилось вот что: один из мальчиков расплакался, другой
заявил, что все расскажет, даже если его за это отправят обратно
в Варшаву; и в эту минуту раздался звонок, созывающий всех на
полдник.
В первый раз за все время мы шли на веранду без песен, с опу-
щенными головами и молча сели за стол. Первый раз горбушки раз-
дали не по справедливости, а как пришлось. Ребята переглянулись,
но никто не напомнил воспитателю, что горбушки раздали не по
справедливости.
Сразу после полдника ребята пришли с повинной:
— Мы скажем правду.
Они бросали шишками, но не в дурачка, а в мешок, который он
нес за плечами. Бросали в мешок, как в мишень: кто попадет? Они
поступили плохо, не подумав, и готовы понести наказание.
— Ну хорошо: вас здесь четверо. Идите все четверо в зал и сами
подумайте, как вас наказать.
Но тут объявился и пятый:
— Я тоже хочу пойти в зал, господин воспитатель.
— Почему? — удивился воспитатель.
— Потому что я тоже бросал.
— Почему же ты раньше не сознался?
— Я думал, нас отправят в Варшаву.
— И другие, наверное, так думали, а ведь сознались. Нет, теперь
уже поздно.
Четыре мальчика вынесли сами себе такой приговор:
— Мы отсидим три часа в карцере и до конца смены не получим
ни мячиков, ни шашек, ни домино.
Приговор очень суровый. Согласится ли группа с таким нака-
занием?
Мы знаем, как часто дети кидают камнями в собак, кошек, лоша-
дей; мы знаем, что они смеются над пьяными и сумасшедшими и
дразнят их. Ребята поступили плохо, но они не понимали, что де-
лают. Теперь-то они все поняли, и ничего подобного никогда не
повторится.
Группа большинством в двадцать шесть голосов против пяти
освободила провинившихся от наказания.
За ужином ребята сидели притихшие, но самым грустным из
всех был тот пятый, который покинул товарищей в беде и тогда толь-
ко сознался в своем поступке, когда убедился, что наказание будет
не слишком тяжелым.
430
Глава семнадцатая
Улитка.— Лягушка.— Адаме кий убил слепня.—
Радушный хозяин.— Поход в Орловский лес
Улитка, улитка, высуни рога,
Дам тебе хлеба, кусок пирога.
Вокруг Фурткевича, который держит улитку, столпилось
человек двадцать.
Они стоят совсем тихо, даже дышать боятся. Фурткевич сказал,
что улитка обязательно высунет рога, только должно быть очень
тихо, а то ничего не выйдет.
И улитка действительно высунула рога. Это было замечательно.
А потом ребята разбежались, потому что каждому хочется самому
найти улитку и говорить ей:
Улитка, улитка, высуни рога,
Дам тебе хлеба, кусок пирога.
Кто-то нашел раковину, но она оказалась пустой.
— В ней, наверное, лягушка живет.
— Вот дурак, это у тебя в носу лягушата живут!
Радужные стрекозы поднимаются над водой.
— Ой, какие большие комары!..
А тут кто-то крикнул, что ребята лягушку поймали. На спине
у лягушки черные точечки, ну просто красавица! Все хотят погля-
деть на черные точечки. Рашер дал подержать лягушку Брифману,
Брифман — Беде, а Беда, кажется, не прочь ее присвоить. Как ля-
гушка запрыгала, когда ее выпустили на волю!
Маленький Адамский шапкой убил наповал слепня. Дело было
так: слепень налетел на маленького Адамского, видно, хотел его
съесть. Адамский пустился бежать — слепень за ним. Адамский
сорвал с головы шапку и — хлоп по слепню. Слепень замертво упал
на траву. Все поздравляют Адамского с победой и с любопытством
разглядывают убитого зверя.
Ребята сбегают с горки к речке или скатываются по травянис-
тому склону и снова взбираются наверх.
Фуксбаум нашел ягоду голубики и дал товарищу посмотреть.
Товарищ голубику съел, а взамен дал Фуксбауму гриб. Гриб приш-
лось выбросить, потому что он ядовитый.
А рядом в лесу растет чудесный папоротник с большими рез-
ными листьями.
Мы садимся и ждем завтрака.
— Там, где небо опирается на лес, конец света,— говорит один.
— Неправда, земля круглая, и в Америке люди ходят вверх
ногами.
— Дурак! У меня дядя в Америке, и вовсе он не ходит вверх но-
гами.
Бромберг пробует ходить на голове, по-американски, его при-
меру следуют и другие. Всем хочется убедиться, может ли это быть,
чтобы в Америке люди ходили вверх ногами.
431
Мы узнаём, что можно писать: бук и Буг, первое — дерево, а
второе — река; узнаём, что в лавке за два гроша продается домино,
только его еще нужно вырезать и наклеить на кусочки картона; уз-
наём, что у Маргулеса есть серебряные часы, которые мама держит
в комоде.
— Да, как же, небось и рядом с серебром не лежали!
Отец Маргулеса снимал в аренду фруктовый сад, у него было
много груш, вишен, слив — и серебряные часы. Однажды, когда
отец сторожил ночью сад, он простудился и вскоре умер, а мама
спрятала часы, чтобы отдать сыну, когда тот вырастет. И ребята
верят, что у Маргулеса есть серебряные часы.
Воспитатель, господин Герман, предлагает спеть хором, чтобы
ребята отдохнули перед завтраком.
Завтрак в лесу. Мальчики спорят, в какой группе дежурный
быстрее раздаст хлеб.
— У нас уже двадцатый получил, а у них только четырнадца-
тый,— говорят они с гордостью.
Экономка приготовила ребятам сюрприз — вдруг появилась в
лесу с ведром воды. А пить так хочется — жарко. На каждого
приходится по полкружки. Несмотря на жару, в лапту играют все. Не
растерять бы только мячи на лугу. А через три дня вылазка в Орлов-
ский лес за ягодами на весь день.
Выступаем мы в поход, все в поход, все в поход!
Эй, ребята, марш вперед, марш вперед, марш вперед!
Землянику собирайте, собирайте, собирайте,
Да проворней! Не зевайте, не зевайте, гей!
Кто там хнычет по дороге, по дороге, по дороге:
«У меня устади ноги, ноги, ноги, ноги, ноги!..»
Он растяпа — сразу видно, сразу видно, сразу видно,
Пусть растяпе будет стыдно, будет стыдно! Пусть!
До Орловского леса идти три версты с лишним. Первый привал
в березовой роще, второй — на лужайке у железнодорожной насы-
пи, третий — подле засеянного клевером поля.
Мы сидим у дороги, и пыль летит прямо на наш завтрак.
— Идите, ребята, на поле, тут вон какая пылища,— говорит
крестьянин.
— Да ведь там клевер посеян, потопчут?
— Чего там босые потопчут? Айда, ребята! Мое поле, я поз-
воляю.
Польский крестьянин! Посмотри получше на этих ребят. В го-
роде их не пустят ни в один сад, сторож метлой прогонит их со дво-
ра, прохожий столкнет с тротуара, кучер огреет кнутом на мостовой.
Ведь это «Мосейки». И ты не гонишь их из-под придорожной вербы,
где они сели отдохнуть, а зовешь к себе на поле?
Крестьянин весело и ласково улыбается детям, а ребятишки ос-
торожно ступают по клеверу, чтобы не причинить убытка радушно-
му хозяину.
Он расспрашивает ребят, что они делают дома, в Варшаве, и объ-
ясняет, где в здешнем лесу больше всего «ягодов».
432
А «ягодов» в Орловском лесу видимо-невидимо; земляника круп-
ная, красная,— ребята думали, что это малина.
Через час привезут обед. Милые дети! Сколько еще хотелось бы
вам рассказать о том, чего вы не знаете и чего не знают многие люди,
хотя они давно уже выросли!
Глава восемнадцатая
Некрасивый Аншель.— Кто первый придумал
вставлять листья в букеты.— Больной Сикора
Аншель очень бледный и очень некрасивый мальчик — по-
жалуй, самый некрасивый во всей колонии. Товарищи его не любят,
никто не хочет ходить с ним в паре, никто с ним не дружит.
Аншель из-за всего ссорится, на всякий пустяк жалуется; а когда
получит домино, раскладывает его один на столе или завернет в но-
совой платок и носит в кармане — сам не играет и другим не дает.
Аншель много ест — наверное, родители ему сказали, что если
он будет много есть, то станет здоровым и сильным. А некрасивому
мальчику очень хочется быть здоровым. Поэтому он и побоялся есть
за обедом крыжовник, но и товарищам свою порцию не отдал.
Когда идет дождь, так приятно подвернуть штаны и шлепать по
лужам; воспитатель хоть и сердится, но ведь в воду он не полезет —
на нем сапоги. А Аншель во время дождя кутается в свою пелерину
или просится в спальню.
Бывает, что он облокотится на стол на веранде и заснет, а по
утрам он молится дольше всех и говорит, что играть по субботам в
мяч грешно. А ведь игра в мяч — это не работа.
Как-то раз Аншель нарвал букет цветов. Букет получился некра-
сивый: хилые желтые цветы собраны кое-как — ну просто пук сор-
ной травы.
Грозовский тоже любит желтые цветы, но совсем другие; Адам-
ский-старший вставляет в свои букеты красивые зеленые листья.
Это Прагер первый придумал так делать. У Прагера глаза голубые-
голубые, он любит рвать незабудки и аир, и он всегда смеется, даже
когда его кто-нибудь обидит. Только один раз заплакал, когда ему
сказали, что отца, наверное, сошлют в такое место, где всегда холод-
но и снег.
И Тырман, и Фром, и маленький Гуркевич умеют подбирать буке-
ты, а Аншель нарвал одних сорняков — ну не сорняков, конечно, но
уж очень некрасивых цветов и листьев.
Но, если они ему нравятся, кому какое дело? А ребята выхватили
у него букет и раскидали. И Аншель плакал.
Когда взрослому человеку грустно, он знает, что горе пройдет
и снова будет весело. Когда плачет ребенок, ему кажется, что он уже
теперь всегда будет плакать и никогда не утешится.
Аншелю взамен погибшего букета хотели дать ветку белой сире-
ни, но он не взял; может быть, считал, что не достоин такого душис-
15 Януш Корчах
433
того цветка, а может быть, побоялся, что сирень принесет ему новые
огорчения.
Ребята не знают, что Аншель не родился вздорным и злым; спер-
ва он был только некрасивый и слабый, и никто не хотел с ним иг-
рать, а теперь он уже и сам никого не любит и скорее выбросит кры-
жовник, чем даст его другому.
Позже, когда Аншель привык к колонии и научился улыбаться,
он уже не казался таким некрасивым, но друга у него по-прежнему
не было. Иногда только Сикора играл с ним в домино.
Сикора тоже больной, но ребята его любят и охотно с ним иг-
рают. Они понимают, что Сикора болен, а про Аншеля думают, что
он просто всегда бледный и очень злой.
Сикора болен уже давно. Говорят, он жил в сырой комнате, и у
него стали болеть ноги. Его поили горьким лекарством и клали ему
на сердце лед, а когда, наконец, боли и температура прошли, здо-
ровье так и не вернулось.
И вот боли возобновились. Сикора дышит часто-часто и кашляет.
— Больно,— тихо говорит он и пробует улыбнуться, потому что
ему не верится, что в колонии можно болеть.
Сикору уложили в постель и дали ему очень горькое лекарство.
Он сразу заснул. А вечером, когда ребята шли в спальню, им ска-
зали, чтобы они вели себя тише и не будили больного.
— Значит, Грозовский не будет сегодня играть на скрипке? —
огорченно спрашивают ребята.
— Нет, играть сегодня нельзя. Сикора болен.
И ребята тихонько входят в спальню, без шума моют ноги, даже
ни разу из-за полотенец не поссорились, и сразу бегут каждый к
своей постели: осторожно, на цыпочках, хотя все босые. И слышится
только: «Тише, Сикора спит».
И так было не один, а целых три вечера подряд, потому что толь-
ко на четвертый день Сикору вынесли вместе с кроватью на веран-
ду. А еще через десять дней он уже принимал участие в войне; разу-
меется, не как солдат, а как знаменосец полевого госпиталя.
Глава девятнадцатая
Вечерние концерты.— Старушка сосна.—
Скрипач Грозовский и певцы
Вечером, когда ребята уже лежат в постелях, Грозовский
берет скрипку, становится посреди спальни и играет им на сон гря-
дущий. Нот он не захватил, но он знает много мелодий на память.
Шумят ели на вершинах,
Шум несется вдаль...
Поют струны скрипки, и в спальне тишина: ребята слушают за-
таив дыхание. Только сосны за открытыми окнами переговаривают-
ся друг с другом, да иногда долетит из усадьбы звук колокола, созы-
вая людей с поля на ужин.
434
Многим мелодиям научились у Грозовского сосны, и теперь они
подпевают ему, тихо, еле слышно, чтобы не мешать скрипке,—
своими тоненькими зелеными иголками.
Слева от дома растет кривая, горбатая старушка сосна. Сколько
огорчений доставляют ей эти мальчишки! То влезут на нее и раска-
чиваются на ветвях, потому что это уже не сосна, а корабль; то пре-
вратят ее в поезд, то в лошадь, то в пожарную каланчу, то в крепость.
Но сосна на них не сердится, она терпеливо ждет вечера, когда опять
заиграет скрипка и убаюкает ее своей песней.
У большинства ребят уже смыкаются веки, но вон у того глаза
широко открыты, а этот оперся на подушку и так, полулежа, смот-
рит на играющего товарища. Каждый думает о своем, но, когда Гро-
зовский хочет спрятать скрипку, все просят сыграть что-нибудь еще
или повторить.
В Варшаве Гешель Грозовский поздно ложится спать, не пьет
молока и может делать все, что хочет, потому что он живет с сестрой,
а сестра редко бывает дома — она ухаживает за больными и иног-
да даже ночевать не приходит. И в колонии Гешель хотел вести себя
так же: поздно ложиться спать и не пить молока. Поэтому вначале
ему здесь было немного не по себе. Но его все полюбили, и скоро он
привык к новой жизни. Когда строили крепость, ребята давали ему
копать дольше других. Маргулес подарил ему палку, которую нашел
в березовой роще, и даже судьи, когда Гешель провинился, вынесли
несправедливый приговор.
Все хотят ходить с ним в паре, но Гешель не может ни с кем идти
рядом, он всегда отстает: ищет желтые цветы с длинными стеблями.
Как-то одна девочка подарила ему несколько веточек жасмина,
а в другой раз крестьянин позволил нарвать букет гречихи и еще дал
красный мак из своего огорода. Гречиху Гешель поставил в вазочку
для цветов, а мак носил с собой, пока не опали лепестки.
Есть у нас и трое певцов. Поют они тоже по вечерам, перед сном.
Песня стелется, словно ласточка, над самой землей, словно
пробует, сильны ли крылья, и вдруг смело взвивается под облака и
еще долго-долго звенит в небе. А потом, усталая, возвращается на
землю, к людям, и засыпает, стихая.
— Красивая песня,— говорят сосны,— только почему мы не по-
нимаем слов?
— Потому что это древнееврейская песня, ее сложили сотни лет
назад.
Когда Фриденсон, Розенцвейг и Пресман поют втроем, можно
подумать, что это поет один человек,— так сливаются их голоса.
А ведь мальчики совсем не похожи друг на друга.
Пресман серьезный и тихий. Он мало говорит, но охотно слу-
шает. Он хочет знать, как устроен термометр, который висит на
веранде и показывает, тепло ли сегодня и можно ли идти купаться.
Пресман — судья. Он охотно прощает и всегда знает, кого надо
простить. Прощать надо тех, кто еще мал и глуп, и тех, кто оди-
нок и заброшен, но злых прощать нельзя.
Хиль Розенцвейг совсем другой. Он всегда какой-то кислый, веч-
435
ко чем-нибудь недоволен: то мошка в глаз попала, то комар его так
больно укусил, что сил нет терпеть, то ему пить хочется, то жестко
спать, то вода слишком холодная, то накидку ему обменили. И кто
бы подумал, что этот нудный мальчишка, этот недотепа так поет!
А у третьего нашего певца самый красивый голос, самые бедные
родители и самое отважное сердце. Милый певец, ты несешь в жизнь
свою горячую песню и чистую душу! И, если ты будешь извозчиком,
как твой брат, ты не станешь морить голодом лошадь, не станешь
стегать ее кнутом, заставляя работать через силу, хотя это будет и не
твоя, а хозяйская лошадь...
Слава о наших вечерних концертах разнеслась далеко по све-
ту. Знают о них и в бараках, и в усадьбе, и в деревне. Поэтому под ок-
нами всегда толпа слушателей. Здесь и Юзеф, и старый арендатор
Абрам, и батраки, и девушки из деревни, и наша старушка сосна.
— На сегодня довольно. Покойной ночи!..
— Покойной ночи!..
Глава двадцатая
Как маленький Адаме кий хотел, чтобы его уважали,
и что из этого вышло.—
Несправедливый приговор и история о подбородках,
мыле и бритве
Когда Гешель Грозовский провинился, суд вынес несправед-
ливый приговор.
А было это так.
Маленький Адамский, как известно, старший по полотенцам; он
следит, чтобы на каждой кровати полотенце висело точно посредине
спинки, и перед обедом выносит на веранду три полотенца вытирать
руки. Маленький Адамский заслужил, чтобы его уважали, ведь он
«старший», а ребята его уважать не хотят: то один, то другой нароч-
но возьмет да и повесит криво свое полотенце, чтобы посердить ма-
лыша и задать ему лишнюю работу, или не смоет как следует песок
с рук и грязными руками хватается за полотенце.
— Никто меня не слушается! — жалуется маленький Адамский.
Однажды, чтобы завоевать уважение ребят, он рассказал им
очень интересную историю: будто бы он был с отцом у фельдшера и
видел, как там намыливали господам подбородки и потом брили их
бритвой.
Старшие не поверили.
— Это ты все сам придумал,— говорили они,— и вовсе ты не
был у фельдшера.
— Ей-богу, был.
— Ну, может, у фельдшера и был, но не видел, как там намыли-
вали мылом подбородки.
— Нет, видел.
— Но уж бритвой-то их не брили!
436
Маленький Адамский уверял, что все, что он говорит, истинная
правда, но ребята ни за что не хотели верить, смеялись над ним и
продолжали не слушаться, да еще дразнили его всей этой историей
с фельдшером, мылом и бритвой.
И вот однажды после обеда маленький Адамский увидел, как
Гешель Грозовский подошел к колодцу и напился воды. А пить во-
ду из колодца запрещено.
— Вот погоди, я воспитателю скажу, что ты воду пил!
Маленький Адамский думал, что Гешель испугается, станет его
просить, чтобы он никому не говорил, и после этого всегда будет его
уважать. А если его будет уважать Грозовский, то уж, конечно, и все
ребята станут слушаться.
Но Грозовский не только не стал его ни о чем просить, но еще
принялся лупить полотняной шапкой, а старшего Адамского, ко-
торый прибежал к брату на помощь, опрокинул на землю и ушиб
ему больной палец. У старшего Адамского палец завязан тряпоч-
кой, он давно у него болит и никогда уж, наверное, не заживет.
Обо всем этом узнал прокурор и отдал Грозовского под суд, а
суд вынес несправедливое решение: освободил виновного от нака-
зания.
— Как вы могли вынести такое пристрастное решение? — до-
пытывался удивленный прокурор.
— Потому что он наш товарищ,— ответили судьи.
— Вы могли не согласиться его судить, и тогда для этого выбра-
ли бы других судей.
Наконец сам Грозовский потребовал, чтобы его дело пересмот-
рели и чтобы судили его те же самые судьи.
— Господа судьи,— начал прокурор свою длинную речь,— перед
вами трудная задача. По вашему решению должен быть наказан че-
ловек, который пользуется вашим расположением. Но, может быть,
вы и второй раз захотите его оправдать? Помните, что несправедли-
вый приговор подрывает доверие к суду. Подумайте, что скажут те,
кому придется потом предстать перед нечестными судьями. Они
скажут: «Мы им не верим. Выходит, если у человека есть скрипка
и он хорошо играет, то ему можно делать то, чего нельзя другим?»
Напоминаю вам, что Грозовский два дня назад отнял у одного из
ребят мячик, вчера насыпал за шиворот Шатковскому песку, а се-
годня обидел братьев Адамских. Не они, я его обвиняю и обвиняю
по требованию самого Грозовского. Грозовскому неприятно, что
вы пожертвовали для него своим добрым именем, неприятно, что его
теперь все могут заподозрить в том, что он испугался наказания
и сам попросил вас вынести оправдательный приговор. Вы сделали
ошибку, и ваша задача исправить эту ошибку. Еще раз повторяю: за-
служенное наказание будет обвиняемому приятнее, чем несправед-
ливое оправдание.
На этот раз приговор гласил: десять минут «карцера».
В доказательство того, что он не сердится, Грозовский обещал
вечером дольше обычного играть на скрипке, а так как он сам осоз-
нал свою вину, отсидел присужденные ему десять минут заключения
437
и не обиделся, то это был самый лучший его концерт в колонии.
Маленький Адамский примирился, наконец, с мыслью, что он
слишком мал для того, чтобы его слушались старшие, и с той поры
играет только с малышами, которым история о намыленных подбо-
родках очень понравилась.
Маленький Адамский понял, что лучше пользоваться уважением
среди равных, чем забираться слишком высоко и терпеть насмешки.
Глава двадцать первая
Лучший в мире праздник и могущественная
пряничная сила.— Турчанка рассказывает
сказки.— Живые картины
Ах, какой это будет праздник!
Такого праздника еще не было на свете! Он состоится через
неделю — через шесть дней, теперь уж только через пять — через
четыре — через три — уже послезавтра — завтра!
Беговая дорожка аккуратно посыпана песком. По обе стороны
дорожки голубые, красные и белые флаги.
На веранде занавес из одеял, сделанный так искусно, что, если
потянуть за шнурок, он раздвигается сам, как в настоящем театре.
Только бы дождь не пошел, только бы занавес не украли, только
бы за ночь не исчез лес вместе с беговой дорожкой, только бы не
случилось ничего, что может помешать празднику!
Но ничего не случилось. После первого завтрака — купание,
после второго начался кросс.
Один воспитатель подает сигнал старта, другой стоит у финиша
и отмечает, кто пришел первым.
Каждая четверка, прежде чем стартовать, потирает ладони, а не-
которые даже плюют на руки, чтобы бежать быстрее.
После кросса — бег с завязанными глазами, самый смешной.
Каждому хочется прийти первым и страшно, что налетишь на де-
рево.
Потом бег с препятствиями. И наконец — перетягивание ве-
ревки. Десять мальчиков тянут вправо, десять — влево. Тянут так
сильно, что, когда побежденные не могут больше удержать веревку
и внезапно отпускают ее, победители летят со всего размаха на
землю.
— Смотри, как я тянул! — И ребята показывают друг другу
красные ладони со следами веревки.
Четыре победителя в беге бегут еще раз: тот, кто прибежит пер-
вым, будет королем, второй — королевой, третий и четвертый —
пажами.
Жаль, что нельзя подсмотреть, как переодевается королевская
чета: экономка завесила окно платком. Но уже известно, что даже у
пажей будут короны, а король получит саблю и трубу господина
Станислава и сможет трубить сколько захочет.
438
Перед верандой стоит трон необычайной красоты, разукрашен-
ный одеялами и флагами.
— Ура!
Король ведет под руку королеву; на королеве красная в белую
крапинку юбка и белая блузка, которую пожертвовала прачка. Пажи
несут шлейф королевы. Золотые короны сверкают на солнце. Триум-
фальный марш открывает конница; вот тут-то генералу Корцажу, ге-
роическому защитнику крепости, и пришлось быть лошадью.
Воистину неисповедимы пути твои, господи!
За конницей выступает пехота. Все салютуют королю; господин
Герман выбивает барабанную дробь на ведре, оркестр играет во-
всю — гремят крышки от кастрюль. Король в знак благодарности за
оказанные ему почести трубит что есть сил, а потом приглашает всех
на веранду — людей и лошадей. Туда же переносится трон, и госпо-
дин Мечислав имеет честь выступить со своим представлением перед
королевской четой и гостями.
Занавес поднимается.
В волшебном ящичке показываются и исчезают две карты;
перерезанная ножом веревка срастается от прикосновения волшеб-
ной палочки; из волшебной рюмки исчезает красный шарик и ока-
зывается за воротом у пажа. Но интереснее всего последний фокус.
Королева собственноручно кладет в деревянный ящик два мед-
ных гроша, и господин Мечислав произносит заклинание:
— Фокус, покус, черная сила, сменяй медь на серебро!
Но черная сила слишком слаба.
— Черная сила, возьми на помощь белую силу и сменяй медь на
серебро!
Но черная и белая силы слишком слабы.
И зеленая, и красная, и синяя силы недостаточно могуществен-
ны, чтобы сделать такое чудо.
Наконец кому-то приходит в голову мысль вызвать пряничную
силу.
— Фокус, покус, возьми на помощь пряничную силу...
Два гроша исчезли, королева удивленно качает головой, а король
от восторга засунул палец в нос.
Но тут Вольберг, который умеет вырезать лодки из коры и потому
считает себя умнее всех, вдруг закричал:
— Я знаю, у господина Мечислава сорок грошей в рукаве спря-
таны.
Господин Мечислав засучил рукава и по требованию короля по-
казал фокус еще раз.
Как в настоящем театре, опустился занавес. Трон пришлось ра-
зобрать и опять превратить в суповые котлы. Они нужны к обеду.
А после обеда состоялся концерт.
Сначала был прочитан специальный выпуск газеты «Михалувка»,
потом Гешель играл на скрипке, потом пели, потом турчанка рас-
сказывала сказки: одну страшную, а другую такую смешную, что сам
король соизволил смеяться; и, наконец, Ойзер Плоцкий декламиро-
вал свои собственные стихи. Если в концерте и недоставало рояля,
439
то только потому, что в колонии рояля нет, а если бы и был, все равно
никто не умеет на нем играть. Но концерт и так получился блестя-
щий. А лучше всего были сказки турчанки.
Турчанка — это Арон Наймайстер. На голове у него полумесяц и
в ушах полумесяцы, сидит он на ковре по-турецки, а рядом на столи-
ке горит свеча и отражается в зеркале,— можно подумать, что горят
две свечи.
После концерта ребята побежали в лес: отдохнуть и обсудить то,
что уже видели и слышали, и то, что еще предстоит после ужина.
Потому что после ужина будут «живые картины». Что такое «живые
картины», никто не знает — значит, это что-нибудь очень инте-
ресное.
Уже совсем стемнело. Все сидят на скамьях, как в театре. На
первых скамейках — малыши, дальше — старшие; все, кто не по-
местился,— на столах.
Занавес поднимается, но еще ничего нельзя разглядеть. Но вот
сцену освещает красный бенгальский огонь.
Картина первая. Сидит босая девочка и продает спички. А над
ней — Мороз с длинной седой бородой, с мешком за плечами. Мороз
вынимает из мешка горсть снега и сыплет на девочку. Девочка засы-
пает, а Мороз покрывает ее всю белым, пушистым снегом. Бедная
девочка уже никогда больше не будет продавать спички.
Вторая картина. На сцене, в полной темноте сидят люди разных
ремесел: сапожник, кузнец, швея, садовник, столяр, торговка. Но вот
на возвышении появляется День, весь в белом, с алыми крыльями
и факелом в руках,— пора за работу! Столяр пилит, кузнец бьет мо-
лотком, швея шьет, садовник подрезает сухие ветви, а ребята поют:
Бьет кузнец по наковальне
Во весь дух.
Как он бороду не спалит?
Бух, бух, бух.
Глава двадцать вторая
Отметки по поведению.— Собака прощает
Гринбаума, а Бромберг получает пятерку
Раз в неделю воспитатель ставит отметки по поведению.
В колонии это очень трудно. В школе учитель всегда знает, кто ба-
луется, подсказывает или прогуливает уроки. А в колонии мальчик
может набедокурить, а воспитатель об этом и не узнает. Поэтому
лучше всего, когда каждый сам говорит, какую отметку заслужил,
потому что ему-то уж хорошо известно все, что он успел натворить.
— Фурткевич, сколько тебе поставить по поведению?
— Четверку, господин воспитатель.
— Почему четверку, а не пятерку? — допытывается воспи-
татель.
— Потому что я пил воду из колодца и опоздал на обед.
— Ну, господин воспитатель, четверку за такую ерунду? — кри-
чат все, кто тоже пил воду из колодца и опаздывал к обеду.
440
— Пятерку, господин воспитатель, пятерку!
А Тырман улыбается своей доброй улыбкой и, когда все зати-
хают, добавляет серьезно:
— Он исправится, он теперь будет послушным!
Фурткевич был на этой неделе дежурным портным и пришил
много пуговиц. Правда, он пил воду из колодца, но все же он заслу-
живает пятерку...
— Фридман Рубин, а тебе сколько поставить?
Стало так тихо, как в среду за ужином, когда ели яичницу.
Бедный Рубин, всю неделю он так хорошо себя вел, ни разу ни
с кем не подрался, а это не так легко, и вдруг как раз сегодня
кто-то крикнул ему: «Цыган». Рубин хотел дать обидчику по шее, но
попал по носу, а ведь всем известно, что из носу сразу течет кровь.
Бедный Рубин, как ему не повезло!
— Может быть, тебе ничего не ставить, и если будешь
следующую неделю себя хорошо вести, то сразу две пятерки по-
лучишь?
— Не хочу! — говорит Рубин. Он считает, что лучше тут же чет-
верку, чем когда-нибудь пятерку.
— А зачем он кричал «цыган»? — вставляет Фурткевич, который
по себе знает, как трудно не дать по шее за «цыгана»,— Фурткевич
рыжий и по этому поводу имел уже не одно столкновение
с ребятами.
В конце концов и Фридман получает пятерку, а Тырман опять
заверяет:
— Господин воспитатель, он больше драться не будет, он ис-
правится!
Не сразу решилась и судьба Эделъбаума, потому что он надоеда,
во все вмешивается и любит распускать всякие страшные слухи:
— Господин воспитатель, ребята Фрому ногу оторвали!
— Неси сюда ногу, как-нибудь приклеим,— говорит опечален-
ный воспитатель.
А потом оказывается, что никто Фрому ноги не отрывал, просто
он упал и плачет.
В другой раз Эдельбаум прибежал и сказал, что цыганка украла
двух мальчиков, а на самом деле эта женщина была совсем не цы-
ганка, а полька и ребята были деревенские, а вовсе не колонисты.
Они шли все втроем по лугу, никто никого и не думал красть.
К счастью, Эдельбаум всегда подбирает битые стекла на дорожке
и перед верандой, и только благодаря ему ребята не калечат босые
ноги, а то не видать бы ему пятерки по поведению!
У каждого свои заслуги.
Флегер хорошо придумывает игры, Клейман сидит за обедом
между двумя сорванцами, и поэтому за столом нет драк. Эйно, когда
было холодно, отдал некрасивому Аншелю свою накидку. Правда, за
каждым числится и что-нибудь плохое, но ведь на свете нет людей
без недостатков! И число пятерок по поведению все растет.
Как было бы хорошо, если бы вся группа могла получить пятер-
ки! Но едва ли это возможно.
441
Гольдштерн сказал Эльвингу:
— Чтоб ты ослеп!
Пятерка Гольдштерна висела уже на волоске, хорошо, что Эль-
винг простил его, и тем более охотно, что сам был виноват — под-
сказывал противнику Гольдштерна, когда тот играл в шашки.
Зисбренеру нужно исправить отметку за прошлую неделю. Он
получил четверку, потому что подставил одному мальчику ножку,
мальчик упал и разбил колено. Но теперь все уже знают, что Зис-
бренер очень славный и тихий, что в Варшаве он вместе с матерью
делает цветы для магазина, а по. вечерам читает младшим братьям и
сестренке книжки из бесплатной библиотеки, и не какие-нибудь
сказки, а правдивые истории о Христофоре Колумбе, который от-
крыл Америку, и Гутенберге, который изобрел печатную машину.
Такой мальчик не мог подставить ножку.
И в самом деле выясняется, что тот, кто разбил коленку, упал
сам, потому что бежал и хотел разминуться с Зисбренером.
— Почему же ты нам ничего не сказал? — удивляются ребята.—
Ты мог бы получить пятерку, как и другие.
— Вы еще меня тогда не знали и могли подумать, что я лгу,—
так пусть уж лучше четверка.
Вы видите теперь, как трудно в колонии справедливо поставить
отметки.
Остались только двое: Бромберг и брат Боруха Гринбаума, Морд-
ка. Если и эти двое получат по пятерке, то у всей группы будет
«отлично».
Снова наступает глубокая тишина.
— Гринбаум Мордка. Пусть брат за него скажет. Сколько ему
поставить?
— Господин воспитатель,— говорит брат Мордки,— пожалуй-
ста, мне очень хотелось бы, чтобы у него была пятерка. У меня
сердце разрывается, когда я вижу, какой он хулиган.
Как поступить с Мордкой? Все его простили, даже воспитатель
простил; но он бросал камнями в собаку... Как узнать, прощает ли
его собака?
Собака сидит в конуре на цепи. Если Мордка не побоится, подой-
дет к ней и даст ей мяса, а собака это мясо возьмет — значит, она
не сердится.
Идем. Видно, сегодня счастливый день — все нам удается!
Собака в прекрасном настроении. Уже издали она виляет хвос-
том. Мясо съела, дважды облизнулась и, по глазам видно, настолько
искренне простила нанесенную ей Мордкой обиду, что охотно съела
бы не одну, а целых три таких порции.
Итак, Мордка получил право на пятерку. Остается один Бром-
берг.
— Скажи, Бромберг, что ты сделал плохого?
— Цеплялся за телегу и садился верхом на лошадь.
— Еще что?
— Ходил по крыше веранды.
— Еще?
442
— Когда я нашел у себя в супе круглую перчинку, я ее облизал
и бросил Рашеру в тарелку.
— Еще?
— Отнял накидку у Беды и налил на стол молока, чтобы и стол
напился.
— Что еще?
Бромберг думает:
— Отвернул в умывальной кран и обозвал Вайнштейна «сар-
делькой».
— Еще?
— Царапал по столу вилкой и не хотел хорошо стелить постель.
И стегнул Шарачка помочами. И потерял носовой платок.
— Еще что?
— Не хотел есть хлеб, а только горбушку. И столкнул Фишбина
в яму для картофеля.
— А дрался сколько раз?
— Не помню.
— О сосне еще ничего не сказал.
— Да, сосну сломал.
Ребята печально слушают, а Бромбергу все нипочем, только улы-
бается.
— Тырман, как тебе кажется: сколько же ему поставить?
— Он будет послушным,— говорит Тырман.
— Так сколько же ему поставить?
— Не знаю,— говорит Тырман, хотя видно, что и ему и всей
группе очень хочется поставить Бромбергу пятерку. Только никто не
смеет об этом сказать.
— Плохо дело, плохо... Чарнецкий, скажи ты, сколько Бромбер-
гу поставишь по поведению?
Чарнецкий — друг Хаима Бромберга, поэтому все взгляды обра-
щаются к нему.
— Ну скажи — сколько?
— Пятерку,— говорит Чарнецкий, и две слезинки катятся у него
по щекам.
— Пятерку, господин воспитатель, пятерку! — кричат ребята.
И Тырман добавляет:
— Он исправится, он будет послушным!..
И в самом деле, Бромберг исправился. До самого вечера он ходил
серьезный, не шалил, но видно было, что ему не по себе. Он ходил
в своей пятерке по поведению, как в башмаках, которые жмут, так
что воспитатель даже испугался, как бы Бромберг не заболел от
чрезмерного послушания.
А на другой день он подрался с Бедой и после обеда решительно
заявил:
— Господин воспитатель, я больше не хочу иметь пятерку!
— Почему?
— Потому что она мне надоела.
Когда мы приехали в Варшаву, мать Бромберга на вокзале допы-
тывалась:
443
— Как вел себя мой Хаим?
— Хорошо,— ответил воспитатель,— только он слишком тихий.
Мать взглянула на воспитателя в изумлении, но, видя, что он
смеется, и сама рассмеялась.
— А я уж подумала, не заколдовал ли его там кто.
И она была благодарна воспитателям, что они не сердятся на ее
шалопая.
Глава двадцать третья
Поэт Ойзер.— Стихи о сапожнике,
о кузнеце и о возвращении домой
Ойзер Плоцкий декламировал на концерте свои собственные
стихи.
Мальчикам казалось странным, что можно писать стихи не из
книжки, а из головы.
Собственно, Ойзер пишет не из головы, а то, что он видит и слы-
шит.
Например, стихотворение о сапожнике.
У бедного сапожника долго не было работы, а значит, он ничего
не зарабатывал. Ходил, искал работу — не мог найти. Наконец са-
пожник получил заказ,— как он обрадовался! Но, чтобы выполнить
заказ, нужна кожа, кожа денег стоит, а где их возьмешь? Пошел са-
пожник к знакомым, просит денег одолжить. Одни не хотят, другие
не могут, потому что сами бедные. Стал сапожник у заказчика зада-
ток просить, а заказчик не дал. И не смог сапожник выполнить заказ,
бедный, бедный сапожник.
Ойзер знает этого сапожника: он в их доме живет. Ойзер помнит,
как он ходил без дела, как получил работу, как хлопотал о деньгах,
да так их и не достал. Ойзер все помнит, вот и написал об этом
стихи...
Другое стихотворение о кузнеце, который днем и ночью бьет мо-
лотом по железу, а молот поет ему песню о людском счастье.
Как-то раз, когда мы шли на водяную мельницу, мы по дороге
завернули в кузницу.
Кузнец бил молотом по раскаленному железу, и ребята впервые
увидели, как делаются подковы. В кузницу ходили все, но один толь-
ко Ойзер написал потом стихотворение. Он один услыхал в грохоте
железа мелодию — песню о людском счастье, потому что только он
один был поэтом.
А еще Ойзер написал стихотворение о лесе. В лесу человек стано-
вится здоровым и сильным; но не все могут жить в лесу, поэтому они
такие бледные и грустные.
О ком думал поэт, когда писал эти стихи?
Наверное, об отце.
Отец Ойзера делает скакалки, поводья, пояса и украшения для
платьев. Когда он был здоров и много зарабатывал, его дочь, стар-
шая сестра Ойзера, ходила в школу. Но теперь он все время каш-
ляет, а поехать в лес, где бы он выздоровел, не может.
444
Отец и мать часто вспоминают добрые старые времена, когда
дочка ходила в школу. В школе была хорошая учительница, очень
хорошая, и дети ее любили. Теперь отец болен, школу закрыли, учи-
тельница уехала далеко, в Америку, и там ее тоже, наверное, любят
дети.
А как хотелось бы Ойзеру учиться!
Ойзеру не нравятся шумные игры, зато он любит слушать инте-
ресные сказки и рассказы. Он знает, что воспитатель его любит, но
никогда ничего у него не попросит: ни флажок, ни мячик, ни краси-
вую вилку, ни горбушку. Отец Ойзера, он сам, его старшая сестра,
мама — все они гордые и не любят, не хотят ни о чем просить.
Когда маленькая сестричка Ойзера лежала в больнице, им всем
очень хотелось навещать ее каждый день. Нельзя, к больным детям
приходят только три раза в неделю.
Если нельзя чаще, ничего не поделаешь. Видно, так должно быть,
наверное, так лучше.
Как-то Ойзер принес сестре в больницу кисточку винограда. Он
принес виноград, а не леденцы, потому что леденцы ей нельзя было
есть.
Стоит Ойзер у кровати сестренки и молчит.
— Скажи ей что-нибудь, поздоровайся с сестрой.
А у Ойзера слезы ручьем...
Приближался день возвращения в Варшаву, и ребята радовались,
что снова увидят родителей, братьев и сестер и обо всем им рас-
скажут: что делали в колонии, как купались, играли, защищали
крепость. Ойзер написал свое последнее стихотворение: «Дети ра-
дуются, что возвращаются домой и сменят зеленый лес на сырые
стены. Цветы улыбаются солнцу, но уже близка зима, а зимой
цветы увядают».
Охотнее всего Ойзер пишет о лете, о том, как светит солнце, цве-
тут цветы. Зиму он не любит, потому что зима всегда печальна.
Глава двадцать четвертая
Сюрприз.— Последний закат и последняя сказка
Ребята просят, чтобы взрослые не ходили на опушку леса,
потому что там готовится сюрприз. Они непрерывно что-то носят, ук-
ладывают, прилаживают и, когда все будет готово, позовут сами.
Возни с сюрпризом, должно быть, много, потому что готов он будет
только к вечеру. Юзефу пришлось дать им целых две метлы; за это
они позволят ему первому посмотреть на сюрприз, только пусть он
ничего не говорит воспитателям.
Это последний день в колонии, и теперь уже только и разговоров,
что о Варшаве.
Топчо оставил дома голубей — не улетели ли? У Шидловского
мама была больна — выздоровела ли? Топчо хвалится, что умеет
дым от папиросы пускать через нос и еще подбрасывать кусок хле-
445
ба и ловить его ртом. Плывак умеет класть ногу на голову и далеко
плевать сквозь зубы. Фридман свистит в два пальца и выворачи-
вает веки — очень страшно!
Все сегодня последнее: и купание, и обед. На тарелках остается
много каши, даже не все молоко выпито; где уж тут есть кашу, ког-
да завтра — домой!
Кукушка кукует на прощание с пяти часов утра.
«Ку-ку, прощайте, дети, ку-ку, я не умею красиво петь, но про-
щаюсь с вами, как могу,— коротко и сердечно».
Ребята уже переоделись в свою одежду, и трудно поверить, что
Тырман, Фриденсон, Чарнецкий ходят в длиннополых пиджаках.
На маленьком Соболе нарядный костюмчик, и в углах воротника по
две золотых звездочки: так его нарядила в дорогу сестра-портниха.
Ребята чистят башмаки, чтобы не стыдно было показаться на
вокзале. Милые, добрые дети, вас тут было так много, и, хотя вы
беспрестанно проказничали, никто из вас ни разу не сделал ничего
по-настоящему плохого! Как вы трогательны в этой дружной сума-
тохе, которую затеяли, чтобы устроить нам на прощание сюрприз!
— Господин воспитатель, все!
— Господин воспитатель, готово!
Справа, на опушке леса, где мы каждый день прощались с захо-
дящим солнцем, ребята построили нечто вроде большого гнезда из
веток, камней и песка, выложили гнездо сосновой хвоей, устла-
ли мхом и убрали цветами.
— Аистово гнездо.
— Не гнездо, а ложа,— говорит один мальчик, который бывал
в театре, потому что его отец-токарь как-то получил там работу.
Последний закат.
Солнце уже утратило свои лучи, узкое облачко перерезало сол-
нечный диск на две половины.
— Последний закат,— говорят ребята.
Завтра в это время они уже будут в Варшаве, а там не бывает
заката. В сумерки на улицах появляется человек с длинной палкой
и зажигает безобразные желтые фонари. Человек переходит с одной
стороны улицы на другую, всегда бедно одетый, в черном, и лица его
в темноте нельзя разглядеть. Это он превращает в городе день
в ночь.
А в Михалувке ясное солнце в пурпурных одеждах гасит день
и зажигает ночь. Солнце садится все ниже и ниже, прячется за зем-
лю и постепенно исчезает: все меньше и меньше кусочек диска.
— Все,— говорят одни.
— Нет еще,— возражают другие.
И вот уже светятся только маленькие искорки...
В этот последний вечер родилась последняя колонистская
сказка о последнем закате — странная сказка без конца...
— А может быть, не возвращаться в Варшаву? Может быть,
стать парами, взять флажки и с песней отправиться в путь?
— Куда?
446
— К Солнцу.
Долго придется идти, но разве это плохо? Спать будем в поле, а
на жизнь зарабатывать, как сумеем. В одной деревне Гешель сыграет
на скрипке — и нам дадут молока, в другой Ойзер расскажет стихот-
ворение или Арон интересную сказку — и нам дадут хлеба. Где-
нибудь споем хором или поможем в поле.
Для хромого Вайнрауха мы сделаем тележку из досок и, когда он
устанет, повезем его в тележке.
— Мы будем идти долго-долго, будем идти, идти, идти...
— А потом что?
Но тут раздался звонок, сзывающий всех на последний ужин,
и сказка осталась без конца...
А утром мы уже были на пути в Варшаву.
СЛАВА
Глава первая
Труднее всего начать рассказывать, потому что надо ведь
сразу сказать о многом. А если сразу скажешь слишком много, все
может перепутаться.
В этой повести будет пятеро детей, их родители, старенькая ба-
бушка, дядя, кошка, тетя...
Собственно, говорить стоит только о старших. Ну что может быть
занимательного в маленькой Абу, которая всегда спит, плачет или
лопочет: «Абу, абу, абу»?
Вицусь и Блошка старше Абу, но они вскоре захворают и умрут,
и, значит, о них тоже придется сказать немного. Бабушка сразу
уедет, а кошка останется на старой квартире.
И о старой квартире не стоит рассказывать, потому что с нее ведь
съезжают.
Владек пока еще ходит в школу, у него есть пояс с пряжкой, блу-
за с боковым карманом и пенал с ключиком. И Маня тоже ходит
в школу, но у них в школе легко: если плохо себя ведешь, поставят
в угол, и все.
Владек, собственно, разговаривает с одной Маней, да и то не-
охотно. Потому что Маня — девчонка, она даже пожара ни-
когда не видала, а когда она что-нибудь рассказывает, то невозмож-
но понять, было ли это на самом деле, или это только так, вы-
думка.
— Врешь! — говорит Владек.
— Ей-ей; правда!
Владек, разговаривая с Маней, все время вставляет: «Много ты
понимаешь!», «Ну, что ты понимаешь!», «Дура!»
О тете, которой всегда жарко и которая не переносит шума, то-
же не стоит говорить, потому что она не хотела дать взаймы сто руб-
лей; а папа очень легковерный, он всем одалживает.
Даже дядя, не теткин муж, а другой, который прозвал Блош-
ку «Блошкой» и подарил Владеку домино и пенал с ключиком, тоже
не станет бывать на новой квартире.
И вообще все изменится.
Можно было бы упомянуть о том, что однажды Абу выпала из
колыбели, что Блошка нашла за бочонком мышь, которая еще шеве-
лилась, что Владек поссорился с Вицусем из-за пахучего пузырь-
ка из-под одеколона,— ведь он не знал, что Вицусь заболеет и
умрет.
И еще следовало был рассказать, что папе перестало везти, по-
тому что Змей открыл напротив нашего дома кофейню с мраморны-
ми столиками для гостей и на окнах нарисовал кий и бильярдные
шары.
— Этот Змей нас проглотит,— сказала мама отцу, когда уви-
дела мраморные столики и красивую большую вывеску, на кото-
рой были изображены булочки и стаканы с молоком.
448
И действительно, все стали ходить в кофейню напротив, и уже
никто не хотел пить чай, кофе и молоко у отца, за столиками, по-
крытыми клеенкой.
— Видно, придется где-нибудь в другом месте кусок хлеба ис-
кать,— говорила мама, а папа вздыхал.
Владек знал, что они должны съехать с этой квартиры, но не мог
понять почему: ведь папа первый открыл кофейню, почему же он
должен уступать?
Здесь следует еще добавить, что как раз перед самым отъездом
разрыли всю улицу и проложили длинные железные трубы.
Очень было удобно играть в крепость.
Глава вторая
Переезжать очень интересно, потому что, когда взрослые
упаковывают вещи, разрешается делать все, что захочешь, и еще ви-
дишь много предметов, которые всегда были спрятаны, а бечевку и
коробки, которые мама выбрасывает, можно брать себе. Переез-
жать приятно даже тогда, когда на улице выкопаны канавы, в кото-
рых так хорошо играть, даже тогда, когда у родителей на глазах сле-
зы, а бабушка и кошка такие грустные.
Кошка очень грустная. Она позевывает, умывается, мяукает,
все время ходит за бабушкой и старательно избегает Вицуся. Ви-
цусь хочет объяснить ей, что происходит, но кошка не слушает. Ви-
цусь берет кошку на колени, а она, словно вспомнив о каком-то
важном деле, соскакивает и бежит прочь.
Отец, Владек и Маня поедут на возу с вещами, а бабушка, мама
и малыши — трамваем. Владек держит два абажура, Маня — клетку
с канарейкой.
Ехали долго-долго по каким-то незнакомым улицам, потом взби-
рались по лестнице, и на каждом этаже их разглядывало много
разных людей.
— Теперь у нас будет чисто,— думает Владек.
Потому что мама всегда говорила, что у них грязно, как в хле-
ву, и что на первом этаже не может быть чисто: дети натаскивают
с улицы грязь.
Обеда в этот день не было. Спали на полу, потому что кровати
еще надо было собирать и у одной сломалась ножка.
Назавтра все встали рано. Вицусь не хотел одеваться, и мама да-
ла ему три звонких шлепка. Вицусь очень удивился и сразу пере-
стал плакать. Он понял, что на новой квартире все как-то по-дру-
гому.
— Пейте чай и выметайтесь-ка во двор,— сказала мама. Раньше
она еще добавляла: «И не играйте с плохими детьми!»
— Всем идти? — спросил Владек.
— Всем,— ответила мама.
Владек вел Вицуся вниз по лестнице так же осторожно, как вче-
ра нес абажуры. Вицусь был очень доволен, что надо так долго спу-
449
скаться; а Маня вела Блошку и несла три коробочки — побоялась,
что мама их выбросит.
Во дворе они все прижались к стене, а ребята с нового двора при-
нялись с любопытством их разглядывать. Ребята ничего не говорили,
а только подходили все ближе и ближе и смотрели. Это было очень
неприятно, потому что они ведь никого здесь не знали.
Но потом одна девочка постарше сказала:
— Чего уставились? Людей не видали, что ли? Отойдите!
Ребята послушались и отошли, а девочка осталась.
— Это вы вчера въехали, да? — спросила она.
— Мы,— ответила Маня.
Вообще-то это Владек должен был ответить, раз он старший,
но он в это время думал о том, что бы такое сделать, чтобы чужая
девочка поняла, что он не просто так — мальчишка с улицы. Сказать
сразу, что он ходит в школу, он не мог, потому что не хотел хвас-
тать, поклониться тоже не мог, потому что оставил наверху шапку.
Поэтому он сказал:
— Спасибо.
— За что спасибо? — удивилась девочка.
— За то, что ты их прогнала.
Владек понимал, что он выскочил со своим «спасибо» совсем не-
кстати: мама велела благодарить за подарки, а ведь девочка ничего
им не подарила.
Потом они разговорились, и новая знакомая рассказала ему
удивительную историю о своем отце. Она говорила шепотом, чтобы
даже Маня не слыхала, и запретила Владеку рассказывать об этом
другим.
Владек вернулся домой гордый тем, что ему доверили великую
тайну, о которой никто не должен знать.
Глава третья
Маня, Блошка и Вицусь сразу завели себе знакомых и в хо-
рошую погоду целый день играли во дворе,— мама теперь никогда
им этого не запрещала. Маня не брала с собой во двор никаких игру-
шек, потому что всегда кто-нибудь из ребят просил ее подарить иг-
рушку. Если шел дождь, то играли на лестничной площадке или у со-
седей, внизу. И тогда Маня брала с собой подарок дяди — куклу или
сервизик, который сохранился еще с хороших времен.
И они были довольны новой жизнью, разве что карамелек им не
хватало.
Владек оставался один. Он очень скучал и обижался на Маню,
Вицуся и Блошку за то, что им до него и дела нет. Он смотрел из ок-
на, как они бегают по двору с ребятами; домой они приходили только
поесть и никогда ничего не рассказывали. А Владек был слишком
горд, чтобы расспрашивать.
Как-то раз Владек открыл ранец, полистал тетрадки и книжки,
но ему ничего не было задано — ведь он не ходил теперь в школу.
450
Он опять сел у окна с Абу на руках и стал глядеть вниз, во двор. Все
казалось с высоты таким маленьким. Раньше он даже с Маней играл
только из милости, а теперь ему осталась одна Абу, которая и гово-
рить еще не умеет.
Когда мама посылает его в лавку, он нарочно идет по двору очень
медленно — вдруг кто-нибудь с ним заговорит.
Там, где они раньше жили, он знал всех, и его все знали: и токарь,
и парикмахер, и господин Марцин, и Франек. Эх, вернуться бы туда
хоть на минутку, посмотреть, что там происходит,— кто живет в их
прежней квартире, что делается в школе, копают ли уже во дворе
ямы и канавы?..
Плохо теперь Владеку.
Отец уходит рано утром и возвращается только к вечеру, и каж-
дый раз мама спрашивает:
— Ну что?
— Ничего,— отвечает отец.
Бабушка сидит грустная, даже не ворчит, потому что все теперь
делает мама. Зато мама чаще сердится. Вицусь и Блошка вместо ка-
рамелек получают шлепки.
Мама говорит:
— Не думайте, что и теперь будет, как раньше.
Так было до самой субботы.
А в субботу пришли дядя и тетя, но без Азора, только с одним
Янеком. Владек не любит Янека, потому что он хвастун. Владек
охотно остался бы в комнате: послушать, о чем будут говорить взрос-
лые, но мама велела идти во двор.
— Только играйте одни,— сказала тетя, и Владек покраснел.
Янек говорил мало, ни разу не вспомнил о своем ружье, и вооб-
ще Владеку показалось, что он много знает, только тетя ему го-
ворить запретила. Они сели на подоконник на лестничной площад-
ке и стали смотреть, как смешно малыши во дворе играют в го-
сти.
Когда их позвали наверх, Владек думал, что будет кофе с булоч-
ками, но на столе не оказалось ни скатерти, ни чашек.
— Ты не голоден, Янек? — спросила мама и опустила глаза.
— Нет, нет, он не голоден! — поспешно сказала тетя.— Правда,
Янек, ты не голоден?
И они стали прощаться, но не так, как обычно, и Владек сразу
догадался, что бабушка завтра уезжает.
Раньше бабушка часто сердилась на Владека, жаловалась на
него отцу, и Владек любил ее лишь настолько, насколько это уж со-
вершенно необходимо. А теперь, когда он взглянул на ее морщинис-
тое лицо и увидел, какая она старая и одинокая, он вдруг почувст-
вовал, что сейчас заплачет. Но он не заплакал, а только подумал:
«Наверное, я не плачу потому, что уже большой».
И впервые в жизни совсем не обрадовался тому, что он уже боль-
шой. Кто знает, что его теперь ждет?
451
Глава че тертая
На другой день Владек проснулся рано, хотя было воскре-
сенье. Впрочем, воскресенье теперь ничем не отличалось от бу-
дней.
Взрослые уже встали. Бабушка была одета так, словно собралась
уходить, а отец увязывал какой-то узел.
Владек сел в кровати, но мама сказала сердито:
— Спи, спи, еще рано!
Он положил голову на подушку и притворился, что спит. Отец
кончил увязывать вещи, и все сели пить кофе, очень темное, без мо-
лока. Пили молча. Отец — быстро, большими глотками, а бабушка
подносила ложечку ко рту и подолгу дула на нее. Потом мама завер-
нула в газету хлеб, к которому так никто и не притронулся, а ба-
бушка сказала шепотом:
— Зачем? Не надо.
— Пригодится в дороге,— ответила мама.
Бабушка опустилась на колени подле кровати, где спали
дети. Владек закрыл глаза, но слышал, как отец помог ей под-
няться.
Потом отец взял узелок и вышел вместе с мамой и бабушкой в
прихожую; мама скоро вернулась, села на стул и долго о чем-то
думала.
Когда Владек проснулся во второй раз, Вицусь уже не спал.
Он протирал глаза, морщился, смотрел по сторонам и наконец
сказал:
— Бабушка пошла к кошке.
Только теперь Владек вспомнил, что кошка осталась на старой
квартире, и подумал, что Вицусь еще очень глупый.
Мама разрешила Мане и Блошке пойти в костел с соседкой
из нижней квартиры. С этой соседкой они были уже знакомы —
мама несколько раз с ней разговаривала и одолжила ей лохань для
стирки.
Вицусь отправился во даор играть с малышами, а Владек уселся
с Абу на окне.
Сегодня воскресенье, все дети в башмаках, никто не дерется и не
валяется на земле. Вот через двор прошел долговязый, оборванный
мальчишка и с ним другой, тот, что всегда помогает дворнику подме-
тать; потом появился мальчик, который всем ребятам давал полизать
красную карамельку. Пришла девочка, которая никогда ни с кем не
играет, а только смотрит, как играют другие, и все ей позволяют
стоять и смотреть. А ведь это не каждому разрешается; подойдешь,
а тебе скажут:
— Чего не видал? Чего тебе надо?
И Владеку так однажды сказали. А когда он отошел, кто-то еще
крикнул вдогонку:
— Подумаешь, франт какой!
Наверное, им показалось смешно, что он в будний день ходит в
ботинках.
452
Вот потому-то Владек еще никого и не знает, хотя живет уже
здесь целую неделю. Ребята его обидели, и он дал себе слово, что ни
к кому первый не подойдет, а они о нем и думать забыли.
— Помоги мне, Владек, картошку чистить,— сказала мама та-
ким тоном, каким обычно говорят с ней дети, когда о чем-нибудь ее
просят и боятся, что она откажет.
Владек посадил Абу в кроватку, взял нож и принялся чистить
картошку. Делает он это неумело, картошка все время выскальзы-
вает у него из рук, а одна так совсем выскочила и закатилась под
шкаф.
Около полудня вернулась из костела Маня и с таинственным ви-
дом села рядом с Владеком.
— Знаешь что,— начала она осторожно, потому что не была уве-
рена, что Владек захочет ее слушать.— Отец этой Наталки, что с то-
бой разговаривала, политзаключенный и сидит под землей, в крепос-
ти. Когда его арестовывали, целое войско за ним прислали. Одели
ему на руки и на ноги кандалы, глаза завязали, в рот платок засуну-
ли, чтобы не кричал. А офицер сидел верхом на лошади и только и
ждал, как бы в кого выстрелить.
Откуда Маня знает о том, что под большим секретом рассказала
ему тогда Наталка?
Только Маня совсем по-другому рассказывает, с разными при-
бавлениями, и понять у нее ничего нельзя.
Отец Наталки политзаключенный, это правда; арестовали его,
потому что у него нашли какие-то бумаги, но ни в какие кандалы его
не заковывали.
Маня всегда как-то странно все рассказывает, словно сказку. За-
чем врать, если можно рассказать так, как было. Владек этого
страшно не любит.
Глава пятая
Наконец-то Владек нашел себе товарища.
Сидел он на лестнице с Абу, вдруг слышит: кто-то идет и
насвистывает.
«Хулиган какой-нибудь»,— подумал Владек, потому что мама го-
ворит, что свистят одни хулиганы.
Поднимавшийся по лестнице мальчуган нес пачку книг. Дойдя
до площадки, он остановился, отдуваясь, положил книжки на окно,
примостился рядом, огляделся и радостно улыбнулся. Видно было,
что ему хочется заговорить с Владеком; он взглянул на него раз, дру-
гой и, наконец, сказал:
— Ты умеешь читать?
— Конечно,— ответил Владек.
— За этой книгой я целый месяц охотился!
Владек когда-то играл в охоту со своим двоюродным братом Яне-
ком, у которого есть ружье; но они охотились на зайцев и уток,
а что значит «охотиться за книжкой», он не знал.
453
— Это историческая повесть из эпохи Наполеона. Видишь, все
страницы целы и даже не потрепаны. Я все книжки про Наполеона
по два раза перечел. А «Потоп» Сенкевича — три раза. Знаешь
«Потоп»?
— Знаю,— сказал Владек, который учил про потоп в школе, как
Ной построил ковчег и голубь принес ветку в знак того, что уже
сухо.
— А эта книжка,— продолжал мальчик,— научная, о звездах.
Я ее уже читал, но взял еще раз, потому что библиотекарша не хо-
чет давать одни повести. И вообще повесть проглотишь за один день,
а ведь книжки выдают только раз в неделю. А тебя как зовут?
Владек с любопытством разглядывал мальчика, который глотает
книжки. Что это значит «проглотить книжку» и где за ними охо-
тятся?
— Ты ведь еще не был в библиотеке, правда? Жалко, что я не
знал, а то бы взял для тебя бланк. Хотя можешь написать и на
обыкновенном листке бумаги, только надо, чтобы управляющий
печать поставил. Я тебя провожу. Ты после обеда к кому-нибудь в
гости идешь?
— Нет,— ответил смущенный Владек.
Он все меньше понимал, о чем говорит новый знакомый, и боял-
ся себя выдать, чтобы тот не подумал, что он глупый и что с ним не
стоит водиться.
Они уговорились встретиться в пять часов, хотя Владек еще не
умел узнавать время.
Памятным был этот день в жизни Владека. Чего только не рас-
сказал ему мальчик! Удивительно, в школу не ходит, а все знает...
Знает, в какой шляпе ходил Наполеон и как складывал руки
на груди. Знает, что генерала можно отличить от обыкновенного
офицера по красной подкладке и что есть огромные деревья бао-
бабы,— в их стволе можно жить, как в настоящем доме, и что в воз-
духе есть газ — кислород, без которого задыхаются мыши и не зво-
нит звонок, и что, кто не чистит зубы, у того во рту червячки, и что те-
леграф — это электрическая искра.
— Хочешь убедиться? — спрашивает он.
— Хочу,— отвечает Владек, потому что он хоть и верит, а все-
таки, кто его знает, правда это или нет.
Они перелезают через забор и прикладывают ухо к столбу.
— Видишь проволоку?
— Вижу,— говорит Владек.
— Слышишь, как внутри гудит?
— Слышу,— говорит Владек.
— Это потому, что в столбе электричество.
Глава шестая
Много вечеров подряд Владек, усевшись с Олеком на низ-
кой крыше погреба в углу двора, слушал бесконечные рассказы то-
454
варища, а взамен сообщал ему все, что знал о школе и школьной пре-
мудрости.
Пока Олек рассказывал и они читали разные книжки, все шло хо-
рошо. Но, как только они брались за какой-нибудь школьный учеб-
ник — грамматику или задачник, Владек с огорчением убеждался,
как мало он знает.
— Имя существительное отвечает на вопросы: кто? что? Если
одушевленное — кто? Если неодушевленное — что?
— Значит, «Наполеон» тоже имя существительное?
— Конечно, потому что его можно видеть.
— И вовсе его нельзя видеть, он умер.
— Ну да, но на картинке...
— А на картинке ведь он не живой — значит, отвечает на вопрос:
что?
Владек пожимает плечами.
— А слава тоже имя существительное?
— Славу можно видеть или нельзя?
— И почему слава отвечает на вопрос: что? — ведь слава живет?
Слава не только живет, она бессмертна.
Олек хочет быть прославленным полководцем и, наверное, им
будет.
Он знает один способ: вечером, когда взойдут звезды, надо дол-
го смотреть на небо и ждать, когда упадет звезда, потому что
бывают падающие звезды. А когда звезда падает, надо быстро
сказать:
— Хочу прославиться!
И желание исполнится.
Можно сказать: «Хочу разбогатеть!» Но Олек не думает о
деньгах.
— Богатый живет, живет, а потом умрет, и все. А прославленный
человек — совсем другое дело.
В воскресенье ребята ходили в библиотеку и прождали там
два часа. Теперь Владек понял, что значит «охотиться за книж-
ками».
В школе никто из ребят, ну, может быть, за исключением двух-
трех, не говорил о книгах. О том, что написано в книгах, рассказы-
вали только тогда, когда учитель вызывал к доске.
Здесь было все по-другому.
«Хорошая книжка?.. Ты что читал?.. О чем там говорится?.. Сказ-
ки, повести, стихи, биографии, легкие книжки, трудные книжки, в
одном, в двух томах?..»
Ребята брали книги не только для себя, но и для братьев, сестер,
родителей.
Олек знал тут всех, и его все знали. Он давал советы, убеждал,
отговаривал.
«Думаешь, библиотекарша даст тебе сразу три повести? А другим
что?.. Эту не бери, у нее конец потерян... Эта очень смешная... Это
фантастическое путешествие... Возьми вот эту для отца...»
Без Олека Владек совсем не знал бы, что делать.
455
Олек протянул библиотекарше листок с печатью управляю-
щего:
— Пожалуйста, госпожа библиотекарша. Вот новый мальчик.
Владек только шаркнул ногой, да и то неловко, потому что его со
всех сторон толкали: здесь было очень тесно.
Библиотекарша взяла листок и записала нового читателя:
— А десять грошей у тебя есть?
— Нет.
— Тогда принесешь через неделю.
— Ладно.
Владек огорчился.
— А что, если мама не захочет дать десять грошей? — спросил
он на обратном пути.
— Не беда. Эта библиотекарша ничего не скажет. Вот к другой,
если у тебя нет денег, и не подступись, а эта добрая, так для вида го-
ворит, чтобы принес. А впрочем, коли ты человек честный, я тебе
одолжу.
Олек работает на складе канцелярских товаров и получает шесть
злотых в месяц.
— Не бойся, я и тебе работу найду. Вот устроюсь в книжный ма-
газин, уступлю тебе свое место.
В этот вечер все читали: и отец, и мама, и Владек, а Маня пока-
зывала Вицусю и Блошке картинки и к каждой картинке придумы-
вала рассказик.
— Только смотрите: книги не рвать,— поучал Владек.
Вечер прошел быстрее, чем обычно.
Глава седьмая
Отец днем спит, а вечером уходит и возвращается только
к утру. Он нашел работу в пекарне, где надрывает здоровье и зараба-
тывает так мало, что Владек теперь часто ходит голодный.
Владек никому на свете не признался бы в этом: ни маме, нико-
му, потому что это стыдно — быть голодным. Но, когда он видит, что
мало хлеба, он отрезает себе совсем тонкий ломтик. А когда мама
наливает ему суп, он говорит: «Хватит», хотя суп так вкусно пахнет.
И часто — ой, как это стыдно! — Владеку вспоминаются бутербро-
ды с повидлом, которые он ел на старой квартире. Мама никого те-
перь не уговаривает есть, даже Вицуся. А Владек делает вид, что ни-
чего не замечает.
Неожиданно для Владека тоже нашлось дело.
В их доме лавочка. Хозяева лавочки — муж с женой. Она такая
толстая, а у него деревянная нога.
Детей у них нет. Оба они не умеют ни читать, ни писать.
Однажды они попросили Владека прочитать им о преступлении,
которое было совершено на их улице, похвалили его за то, что он так
бегло читает, и дали ему шесть монпасье. Владек дал по две штуки
Блошке и Вицусю, потому что Блошка и Вицусь маленькие; одну —
456
Мане и одну — глухонемой девочке, которая ни с кем не играет, а
только стоит и смотрит, как играют другие, и никто ее не прогоняет.
Владек еще несколько раз читал в лавке газету и несколько раз
помогал подсчитывать выручку. Потом хозяин лавки и его толстая
жена пришли к ним в воскресенье с визитом и сказали, что будут
платить Владеку за подведение счетов пять злотых в месяц и что хо-
тят взять себе насовсем маленькую Абу, потому что своих детей у
них нет, а Абу уже не сосет грудь, и они могли бы ее удочерить.
Владеку всегда каза<тось, что он не любит Абу. Абу капризная,
плакса, ничего не понимает и все хочет взять в руки, а как возьмет —
так сразу испортит. А мама велит уступать ей, потому что она ма-
ленькая и глупенькая. Но раз она глупая, так пусть не надоедает
и всюду не лезет. И Владек, бывало, часто злился на Абу, когда ему
приходилось ее забавлять.
Однако, когда он услышал, что Абу собираются забрать навсегда,
что он уже не будет ее братом, а господин без ноги станет ее папой,
это показалось ему так страшно, Абу стала ему так дорога, что он
бы ни за что на свете на это не согласился.
— Мама, я буду работать. Олек мне найдет работу... Нет, нет,
не отдавайте Абу. Она такая маленькая! Ей будет грустно без Блош-
ки и Вицуся! Я отдам ей свою картошку.
Владек совсем забыл, что он уже большой, заплакал и выбежал
из комнаты. Во дворе он забрался на крышу погреба и все плакал
и плакал и никак не мог успокоиться.
За что их бог так наказывает? Кофейни у них нет, в школу хо-
дить нельзя, кошку бросили, бабушка уехала, папа надрывает себе
здоровье...
И Владек все рассказал Олеку.
— Не реви ты, нюня,— утешал его приятель,— все великие люди
были несчастными.
И он подарил Владеку цепочку от часов, на которой висел ма-
ленький глобус.
Глава восьмая
— Завтра я в сарай не иду,— сказал Олек.
«Сараем» он называет склад, на котором работает, а хозяина
своего зовет «стариком». Даже если хозяин молодой, его все равно
зовут «стариком»,— так уж повелось.
Олек идет завтра в детский очаг записывать младшего брата.
— И у тебя ведь есть малыши. Возьми их метрики, сразу всех
троих и запишем. Да ты, наверное, опять не понимаешь?
Олек уже привык, что Владеку надо все объяснять.
Детский очаг — это школа для совсем маленьких детей; восьми-
летних уже не принимают, потому что там даже буквам не учат. Дети
рисуют, поют, плетут корзиночки и каждый день получают молоко,
а два раза в год — подарки: фартучки или башмачки и пирожные.
— А впрочем, сам увидишь.
457
Какой этот Олек смелый! Прошел из передней прямо в комнату
и показал Владеку, где он сидел, когда был маленьким и сам сюда
ходил. Потом показал, какие картинки еще тогда висели на стенах,
а какие после повесили. Потом отворил дверь в другую комнату, где
столы и скамейки были повыше.
— Видишь? Это швейная мастерская. Здесь старшие девочки
учатся шить и вышивать.
В это время в комнату вошла маленькая, худенькая женщина;
она сразу узнала Олека и совсем не рассердилась.
— А, Олек, как поживаешь? Что скажешь новенького?
— Я пришел по важному делу. Надеюсь, вы нам не_откажете.
А это мой товарищ Владек, у него тоже двое детей!
Худенькая женщина подала Владеку руку, а он не знал, что с ней
делать.
— Вот метрика моего брата, а эти две — детей моего товарища.
Худенькая женщина просмотрела метрики и покачала головой,
потому что Вицусь был маловат для детского очага.
— Я за них отвечаю,— лез из кожи вон Олек.— Вся тройка
как на подбор, первый сорт... Вы уж не придирайтесь, товар отлич-
ный и по оптовой цене.
— Не паясничай, Олек,— сказала женщина.— Зачем ты
строишь из себя дурачка? Ведь ты умный мальчик.
Олек покраснел и замолчал, а заведующая простилась с ними, по-
тому что пришли две женщины записывать ребят в очаг.
Владек очень любил своего товарища, но иногда ему было за него
стыдно. Однажды в библиотеке Олеку даже пригрозили, что, если он
не успокоится, ему не выдадут книжек.
И тогда так же вот сказали: «Не паясничай!»
Вообще Олек иногда умный и славный малый, а иногда ведет
себя так, словно хочет, чтобы над ним потешались.
— Заведующая на тебя рассердилась,— начал Владек, чтобы
прервать неприятное молчание.
— Ничего, помиримся. В воскресенье я поеду к тетке, нарву
цветов и к букету приложу записку, а в записке напишу золотыми
чернилами: «Прошу прощения».
Олек стал рассказывать о том времени, когда сам ходил в детский
очаг.
— Заведующая очень добрая. А тут есть другой очаг, так я и со-
баку туда не пустил бы. Ни за что ни про что за уши дерут и линей-
кой по пальцам щелкают. Воспитательница там такая злющая, вред-
ная.
Владеку показалось, что Олек и в другой очаг тоже, должно быть,
ходил, только недолго.
Глава девятая
Хотя мама и предсказывала, что будет все хуже и хуже,
дела их как будто начали поправляться. Пан Витольд из предместья
458
Прага отдал отцу тридцать рублей, которые был ему должен, прода-
ли старый комод,— и опять на столе стали появляться масло и говя-
дина. А маленькая Абу получила первые в жизни башмачки.
Абу была спасена. Никто ее уже не отнимет, никто не унесет из
дому.
— Наша Абу! — говорят ребята с гордостью и, идя во двор, бе-
рут ее с собой.
Раньше ни Владек, ни Маня не хотели гулять с Абу; они считали,
что им не пристало нянчиться с младенцем: ведь они в школу ходят.
Но раньше Абу была только мамина, а теперь она общая.
Владек купил для нее настоящую швейцарскую шоколадку, от
которой ее три раза рвало; Маня подарила ей свою куклу, ту, что по-
меньше, хотя было ясно, что Абу ее тут же разобьет; а Блошка с Ви-
цусем плели и вышивали в очаге для Абу разные сюрпризы. (Заве-
дующая все же приняла Вицуся в очаг, хотя он и слишком мал.)
День Владека проходит теперь так.
Утром Владек идет в лавочку за щепками на растопку, за хлебом
и за керосином. Потом помогает убрать комнату,— вовсе у них не
чисто, хотя они и живут высоко. Потом Владек занимается с Маней,
чтобы она не забывала того, чему ее научили в школе, и помогает
маме.
Жалко, что он тогда не отдал и Манину метрику. Она бы тоже хо-
дила в очаг и училась бы там шить. А теперь уже поздно.
Каждый день в четыре часа Владек отправляется в редакцию
газеты. Там на стене здания вывешивают в это время свежие газеты
с объявлениями о работе. Надо спешить, чтобы занять хорошее мес-
то и первым записать адреса лавок, где требуется посыльный.
Владек плохо знает Варшаву. Ему приходится то и дело спраши-
вать прохожих, как пройти на такую-то улицу, а когда, наконец, он
добирается до места, всегда оказывается, что он уже опоздал или что
он слишком мал и не умеет делать того, что требуется.
— Ну что? — спрашивала мама.
— Ничего,— отвечал Владек точно так же, как говорил отец,
когда искал место.
Должно быть, очень много ребят искало работу, потому что Вла-
деку часто приходилось слышать, что место уже занято. Мальчишки,
девчонки и взрослые всегда толпились у стены, читая объявления.
Эти мальчишки, девчонки и взрослые приходили сюда каждый
день — всегда одни и те же,— значит, и они не могли найти работу.
Случалось, что шел дождь, но люди терпеливо стояли под дождем
и ждали. Иногда газета запаздывала или приходило столько народу,
что не протолкаешься, а издали прочесть нельзя — очень мелкие
буквы.
Как-то раз, когда Владек искал мастерскую токаря, в одном дво-
ре на него набросилась собака. Правда, не укусила, но штаны порва-
ла. Владек мог потребовать от хозяина собаки новые штаны. Но для
этого нужен свидетель, а там только один дворник в воротах стоял,
да и тот еще его же и обругал:
— Ишь ты, работы ищет. Знаем мы вас, шантрапу!
459
Глава десятая
Было уже почти совсем темно. Владек торопился дочитать
главу, пока еще видны буквы. Он как раз читал о том, как красноко-
жие хотели сжечь на костре путешественника, на помощь которому
торопились товарищи. И вдруг кто-то потянул его за рукав.
— Кто это? Чего тебе? — испугался Владек.
Это была Блошка.
Веселая попрыгунья Блошка казалась теперь притихшей и груст-
ной.
— Владечек!
— Что?
— Ты не будешь на меня сердиться?
В глазах у Блошки были слезы, большие, круглые слезы.
— Что ты там наделала, Блошка?
— А ты не будешь сердиться и никому не скажешь?
— Не скажу.
— Я нехорошая. Вицусь маленький и глупый, он не виноват, что
я покупала конфеты.
Вицусь, услыхав свое имя, вылез из-за шкафа и медленно подо-
шел к Владеку.
— Один раз я купила на грош, потом на два гроша. А потом еще
я поспорила на два гроша и проспорила.
— А деньги у тебя откуда? — удивился Владек.
— А у меня их не было.
Владек понял: Блошка наделала долгов и теперь ее рвут на части
кредиторы, как пана Витольда. Блошка поступила легкомысленно,
жила не по средствам и теперь расплачивается.
— Сколько ты должна? — спросил Владек.
— Раньше надо отдать пять грошей: три в очаге и два во дворе.
Сегодня Блошка даже в очаг не пошла, котому что девочка, ко-
торой она должна деньги, сказала, что больше ждать не может и все
скажет заведующей, а заведующая выгонит Блошку из очага. Это уж
обязательно.
— Владек, Владечек, дорогой, только не говори маме. Я больше
никогда не буду.
И Блошка мало-помалу все рассказала.
Началось с того, что она купила у Юзи за грош одно монпасье,
в долг,— ведь в лавке за грош дают четыре монпасье. Потом у нее не
было гроша, чтобы отдать Юзе, поэтому она поспорила с Юзей на
грош и проиграла. Это уже два гроша. Тогда Юзя велела ей за эти
два гроша принести Манин сервиз, но Блошка не захотела. А потом
Вицусь сказал, что расскажет все маме, и ей пришлось купить ему
карамельку, чтобы он ничего не говорил. Деньги она взяла в долг
у другой девочки в очаге, а карамельку сама даже не попробовала.
Владек ведь помнит ее стеклышко? Ну то, зеленое, через него, если
смотреть, все-все зеленое? Так вот, и стеклышко, и печатку с анге-
лочками, и маленького фарфорового котенка без ноги — все она от-
дала. Ничего у нее больше нет!..
460
Владек совершенно забыл о путешественнике, которого собира-
лись сжечь на костре.
Если бы, вместо того чтобы думать об индейцах и тиграх, он по-
лучше присматривал за Блошкой, то давно бы заметил, что она все
время грустная, не смеется, не прыгает, как раньше, и в очаг ходит
неохотно, и все о чем-то секретничает с Вицусем. Мама ведь просила
Владека, чтобы он присматривал за Блошкой и Вицусем, а он что?
И в ус не дует...
Владек обещал Блошке заплатить за нее одиннадцать грошей,
а себе дал слово больше думать о младшей сестре и брате.
И вот Блошка снова звонко смеется и скачет, а Владек гордится
тем, что это его заслуга.
Глава одиннадцатая
Теперь наконец все узнали, где по целым дням пропадала
мама. Оказывается, она ходила из одной кондитерской в другую,
из одной пекарни в другую и искала для отца работы получше. По
дороге она спрашивала во всех лавках, не нужен ли мальчик на по-
сылки или девочка, то есть Маня.
Владек хорошо знал, как неприятно повсюду выслушивать,
что ты не нужен, и теперь уже не удивлялся, что мама все время та-
кая сердитая. В одном месте вежливо скажут, что работы нет, в дру-
гом крикнут, чтобы не приставали, в третьем велят убираться вон.
Даже собаки бросаются на тех, кто ищет работу, уж это-то Владек
знает.
И только сегодня мама рассказала все сразу.
У отца будет дневная работа, и платить ему будут больше, пото-
му что его там знают еще с тех пор, когда он был молодым и у него
не было ни жены, ни детей. Маня будет ходить в цветочную мас-
терскую, а Владек — в нефтелавку. Только он должен быть очень ос-
торожен, чтобы не устроить пожара.
— Теперь не подохнем зимой с голоду,— весело сказала мама,
но отец был мрачен и все вздыхал.
— Не о том я мечтал,— сказал отец.
— Послушай, Антоний,— убеждала его мама,— не будь ребен-
ком. Знаешь, сколько у нас осталось от Витольдовых денег? Всего
двенадцать злотых. Ведь зима на носу. Может, весной опять какие-
нибудь деньжонки появятся, тогда придумаем что-нибудь получше.
— Знаю! Но гнать ребят на работу... Они и так не учатся. Кем
они вырастут?
Впервые мама говорила с отцом о делах при Владеке и Мане;
раньше их всегда высылали из комнаты.
Мама взяла карандаш и бумагу и стала подсчитывать, сколько
стоит квартира, уголь, еда. Потом сосчитала, что надо купить из
одежды. Где уж тут думать о школе и книжках! Даже если бы школа
была бесплатной, и то ничего бы не вышло. Владек с Маней зараба-
тывают восемь злотых, без этих денег не обойтись.
461
— Я тебя не попрекаю,— сказала мама отцу,— но есть тут и
твоя вина.
Тогда отец сорвался со стула, не говоря ни слова, надел шапку
и вышел.
Владек много думал в этот вечер.
Уже давно Владек подозревал, что он «безнадзорный»: не ходит
в школу, выбегает без шапки во двор, нянчит маленькую Абу... Но
все-таки он не совсем «безнадзорный»: не курит папирос, не гово-
рит нехороших слов, не прицепляется к саням, телегам и трамваям;
и если видит ученика с ранцем, то, хотя и очень завидует, все же ведь
не кричит ему вслед:
Первоклассник-колбаса
Купил лошадь без хвоста!
И Олек не «безнадзорный». Олек хочет быть великим полковод-
цем, но не может, потому что должен сам зарабатывать себе на
жизнь.
Вот во дворе многие ребята «безнадзорные», и не потому, что у
них нет ранцев, пеналов и ремешков с блестящими пряжками, а по-
тому, что ни у кого из взрослых нет времени ими заняться и объяс-
нить им, что хорошо, что плохо.
И Владеку пришла в голову прекрасная мысль, только надо еще
сначала посоветоваться с Олеком.
Глава двенадцатая
Три недели длилось совещание: ведь Владек теперь целый
день был занят в нефтелавке и ребята могли собираться на крыше
погреба только по вечерам. Сначала Олек с Владеком совещались
вдвоем, потом позвали Маню и Наталку. Приходила и глухонемая
Михалинка; сядет и смотрит на них,— пусть сидит, ведь она не
мешает.
Наконец устав общества был готов. Обществу дали название
«Эсэлче» и так называли его, пока Владек не заметил, что «рыцарь»
в книжке пишется через «р», а не через «л». После этого «Союз Ры-
царей Чести» пришлось переименовать в «Эсэрче», а то было бы не
понятно, почему «рыцарь» сокращенно называется «эл».
«Эсэрче» — «Союз Рыцарей Чести».
Девиз «Эсэрче»: «Слава».
У «Эсэрче» есть свой главнокомандующий. Главнокомандующим
может быть и девочка, если согласятся члены Союза.
Тому, кто состоит в «Эсэрче», не разрешается лгать, мучить жи-
вотных, курить и смеяться над маленькими, он обязан защищать ма-
лышей и помогать им.
Если во дворе есть больной ребенок, калека или глухонемой, а у
«Эрче», то есть у «рыцаря чести», в кармане лежит карамелька, он
должен отдать карамельку больному, малышу или калеке. Игрушки
тоже надо отдавать маленьким, если позволят родители.
462
«Эрче» обязан брать из библиотеки книги и не рвать их. Он
должен каждую неделю прочитывать по одной серьезной книжке.
«Эрче» не разрешается воровать, даже в шутку, выманивать
у более глупых ребят подарки, говорить нехорошие слова и паяс-
ничать.
Если у «Эрче» грязная голова, он должен сам ее вымыть. Он дол-
жен каждый день чистить свою одежду. Если он не умеет шить, то
пришивать ему пуговицы будут девочки.
Зимой «Эрче» будут ежедневно собираться, каждый раз в другой
квартире, и читать вслух тем, кто не умеет читать.
Главнокомандующий назначает ежедневно начальника двора и
начальника по лестницам, чтобы они следили за порядком.
Обязанности начальника двора:
7. Чтобы не дрались;
2. Чтобы никого не дразнили;
3. Чтобы не врали;
4. Чтобы не сорили;
5. Чтобы не ругались.
Начальником может быть как мальчик, так и девочка.
Если начальник двора не может справиться один, он кричит ку-
кушкой, и по этому сигналу все «Эрче» должны прийти ему на по-
мощь.
У начальника двора есть булава, которую ему вручает главноко-
мандующий.
Начальник по лестницам выполняет те же обязанности, что и
начальник двора. Кроме того, он должен собирать косточки, осколки
стекла и вообще все, из-за чего можно поскользнуться и упасть.
Все «Эрче» помогают дворнику и следят за чистотой.
Денег решено было пока не собирать — сначала нужно посмот-
реть, как пойдет дело.
Если родители бьют своего ребенка, два посла от «Эсэрче» идут к
ним и просят, чтобы они больше этого не делали.
Каждый новый рыцарь приносит такую присягу;
«Я... (имя и фамилия) вступаю в «Эсэрче», то есть в «Союз Рыца-
рей Чести». Принимаю девиз: «Слава», которая является именем су-
ществительным бессмертным. Я знаю, чего мне нельзя делать, и если
я что-нибудь такое сделаю, то сознаюсь, скажу правду, и пусть ме-
ня осудят и приговорят к наказанию, которое я заслужил».
Устав «Союза Рыцарей Чести» пришлось переписать пять раз:
один экземпляр взял Владек, один Олек, по одному — Наталка и
Маня, а пятый положили в бутылку и закопали поздно вечером око-
ло телеграфного столба — это был краеугольный камень общества.
Глава тринадцатая
Наступила зима, занесла снегом двор и погреб и прогнала
ребят в комнаты. Утихли шумные игры, опустели подъезды и лест-
ницы.
463
Вицусь не ходит в очаг, потому что у него нет пальто. Владек
отморозил уши, они распухли и горят. По утрам в комнате так хо-
лодно, что, когда дышишь, идет пар. Отец и маленькая Абу сильно
кашляют. А уголь все дорожает. О Блошкиных именинах вспомни-
ли только к вечеру; о рождестве и елке никто в доме и не говорит,
хотя в нефтелавку уже поступили два ящика свечей, красных и
синих.
Из деревни пришло письмо: бабушка больна, не может ли отец
приехать?
В этот день отец пошел к дяде.
Вернулся он поздно вечером и очень много и громко говорил.
Он говорил, что раньше люди и вовсе не знали угля, а жили, что
ему нет дела до детей, что каждый должен о себе думать, что лучше
уж уйти в лес и с волками жить, потому что волков приручают, и
что люди хуже волков,— сытый волк всегда дает наесться голод-
ному. Потом отец говорил, что когда он был мальчишкой, то ел
только черствый черный хлеб с водой, а вот ведь вырос и дослу-
жился в армии до чина, что водка вовсе не такая плохая штука,
что у человека от нее в голове светлеет, как от электрической лам-
почки.
Владек спрятал голову под одеяло, он понял, что отец говорит,
как старший брат Бронека, когда тот пьян.
Мама пробовала успокоить отца:
— Тише, Антоний, детей разбудишь.
Но отец отвечал, что желает говорить громко, потому что он у
себя дома, а кому не нравится, может проваливать.
Мама хотела дать отцу чаю, но отец бросил стакан на пол.
Дети проснулись и заплакали, а отец стал ругаться; он кричал,
что он им больше не отец, что мама ему не нужна и что он уедет
в Америку.
— Владека я заберу с собой. Там из него человек выйдет, а тут
пропадет, сопьется, с сумой пойдет.
Потом он положил голову на стол и ничего больше не говорил,
а только весь дрожал, словно ему холодно. А мама гладила его по
голове и шептала:
— Успокойся, Антось, пожалей свое здоровье, оно еще тебе при-
годится. Не так уж все плохо, только бы зиму как-нибудь перебить-
ся... Ведь не мы одни мучаемся,— говорила мама,— всюду то же
самое. У тех, что рядом живут, за квартиру еще не плачено,— хо-
зяин грозится их на улицу выкинуть; швея внизу уже вторую неделю
без работы, а у извозчика такая нищета, что вчера пришлось дать ему
в долг два злотых.
— И дала? — спросил отец.
— А что было делать?
Отец очень обрадовался:
— Видишь, меня ругала, а сама то же делаешь. Разве можно
отказать человеку в беде? *
И отец стал говорить, что у мамы доброе сердце, он целовал ей
руки и благодарил ее за то, что она дала извозчику два злотых.
464
А Владек подумал, как хорошо было бы, если бы отец захотел
вступить в «Союз Рыцарей Чести». Тогда он стал бы главнокоман-
дующим, как самый старший, и в Союзе прекратились бы вечные
раздоры — ведь взрослого все обязаны слушаться.
А еще надо было бы изменить устав и добавить, что «Эрче» нельзя
пить водку и сплетничать.
Потому что из-за сплетни Наталка взяла и вышла из Союза:
кто-то насплетничал, что ее отец сидит в тюрьме вовсе не за по-
литику.
А Наталка была очень полезным «Эрче», ее даже мальчишки слу-
шались.
Глава четырнадцатая
Шесть раз в неделю собирались «Рыцари Чести» на коллек-
тивное чтение, каждый вечер у кого-нибудь другого: в понедель-
ник — у господина Юзефа, слесаря фабрики жестяных изделий; во
вторник — у Олека, в среду — у Владека, в четверг — в лавке, где
Владек вел счета, в пятницу — у кондуктора, в субботу — у матери
Михалинки. В лавке их даже чаем поили и давали каждому «ры-
царю» по булочке с творогом. После чтения иногда играли в шашки.
А больше ничего не могли придумать.
Только один раз в феврале устроили театральное представле-
ние с вещевой лотереей. Билеты на спектакль стоили десять грошей
для взрослых и четыре гроша для детей. А билеты вещевой лоте-
реи — два гроша.
Главные выигрыши были: цепочка с глобусом от часов, куколь-
ный сервиз, перочинный ножик с двумя лезвиями, душистое мыло,
плетеные бумажные рамочки для фотографий, пирожное с кремом и
золотая рыбка в банке. Часть вещей собрали среди ребят, другие
дали взрослые; золотую рыбку купили за двадцать грошей, потому
что один выигрыш обязательно должен быть живой. В настоящих
вещевых лотереях всегда один выигрыш — пони или корова, или
еще какое-нибудь животное.
Сначала хотели поставить спектакль. Олек с Маней написали
драму из жизни Наполеона и еще одну, тоже историческую, по «По-
топу». Владек уже знает теперь, что «Потоп» — это повесть Сенке-
вича, и еще он знает, что Маня так странно все рассказывает, по-
тому что у нее литературный талант. Так говорит Олек.
Но в спектакле одно плохо: стоит кому-нибудь повздорить, и
все встало. Уж как будто все согласились, что Олек будет Наполео-
ном, и опять недовольны: Наполеон говорит больше всех, а другие
только стоят и молчат.
— Я покорю весь мир! — восклицает Наполеон.— Я покорю
Европу, Азию, Африку, Америку и Австралию! Смотрите, мои верные
други, маленький шарик на моей цепочке — это целый мир, то есть
глобус. А надо вам сказать, что Земля имеет форму шара. Все наро-
ды будут мне послушны, и я стану прославленным полководцем.
16 Януш Корчак
465
Какой этот Юзек глупый: говорит, что Наполеон не может гово-
рить на сцене по-польски! Видно, никогда не был в театре. Вот Олек,
тот пять раз был!..
Драму так и не поставили — был концерт.
Играл граммофон, Олек декламировал, брат Бронека подражал
голосам разных зверей и птиц, Стефек с Юзей танцевали краковяк
под аккомпанемент губной гармоники, потом было пение и смешной
монолог.
Все прекрасно провели время, смеялись, что пирожное с кремом
выиграл старый дядя Петр, который недавно женился, а рыбку выиг-
рала лавочница, а у нее нет детей.
Наталка помирилась с ребятами, пришла на представление и
пела сверх программы. А больше всех радовалась глухонемая Ми-
халинка, потому что на сборы с вечера решено было купить ей паль-
то, а то она всю зиму не может выйти из дому.
Легкомысленная Блошка и маленький Вицусь очень смеялись,
когда брат Бронека изображал старого и молодого петуха, рассер-
женного индюка, собаку, которая говорит с кошкой, курицу, снес-
шую яичко, и щенка, которого бьют за то, что он сделал лужу.
Долго, очень долго помнил Владек это представление.
Когда Вицусь и Блошка умерли, когда Олек навсегда уехал в
Лодзь, Владек вспоминал их не иначе, как на представлении с веще-
вой лотереей.
Глава пятнадцатая
Владек нашел урок: учить Казя и Зосю буквам и счету.
— Только справишься ли, молодой человек? У тебя ведь
у самого еще молоко на губах не обсохло,— сказал отец его буду-
щих учеников.
— Справлюсь,— ответил Владек.
— А вы, разбойники, чтобы учителя слушались, смотрите у меня!
Когда здороваетесь, кланяйтесь вежливо и говорите ему «господин»,
понимаете? Ученье — свет, а неученье — тьма. Учитель ваш благо-
детель, после отца с матерью третья персона! Пожалуется на кого,
так вздую, что на всю жизнь запомните! Головы-то поднимите, в
глаза смотрите, бездельники. Эк, башки поопускали! А ты, молодой
человек, как что — сразу подзатыльник либо по уху, не давай
спуску!
Владек был рад, когда эта речь кончилась, потому что ребята
ведь еще ничего плохого не сделали, так за что же на них сердиться?
На уроке все шло хорошо.
Владек показал ребятам первые четыре буквы, объяснил, что
Б — брюшко и палочка, а у В брюшко внизу и брюшко вверху. Толь-
ко голос у него немного дрожал от волнения. Потом он велел им
считать до десяти, на пальцах и на доске. Потом прочитал малень-
кий рассказик про пастуха-врунишку и про волков, потом написал в
их тетрадках черточки и крестики на завтра.
466
— Ну, довольно на первый раз,— сказал отец Казя и Зоей.—
Поклонитесь господину учителю. Да, молодой человек, в жизни ни-
чего не дается даром!..
И Владек, голодный и усталый, потому что он прибежал на урок
прямо из нефтелавки, должен был выслушать длиннейшую речь об
учении, уважении к старшим и детских шалостях.
А на другой день урок прошел так плохо, что хуже и быть не мо-
жет.
Казик, кланяясь учителю, как бы нечаянно перекувырнулся.
Зося выпятила живот и начала бегать по комнате и кричать, что
она Б и В. Потом он залез под стол, а она под кровать.
Владек растерялся. Сначала он пробовал их уговорить, обещал,
что расскажет сказку, купит карамельку — ничего не помогало.
Тогда, рассердившись, он хотел даже ударить Казя, но мальчик от-
скочил и грозно крикнул:
— Попробуй только тронь!
Владек, чуть не плача, направился к двери.
— А как же урок? — закричали ребята.
— Вы злые и глупые... Не буду я вас учить.
— А у тебя молоко на губах не обсохло,— сказал Казик.
Но Зося, испугавшись, одернула брата:
— Не ругайся и не говори ему «ты». Слышал, отец велел его
«господином» называть.
Владек остался, потому что дети обещали сидеть смирно. Сидели
они и правда смирно, но отвечали нарочно плохо и то и дело прини-
мались хохотать.
Владек ушел с урока усталый и огорченный, и ему вспомнилось,
как еще на старой квартире он пошел к Змею и попросил, чтобы
тот открыл свою кофейню с мраморными столиками где-нибудь в
другом месте.
— Мой папа сюда первый приехал,— сказал он,— зачем же вы
открыли кофейню напротив папы?
Змей сначала ничего не понял, а когда разобрался, в чем дело,—
выгнал Владека, да еще обругал его сопляком, который суется не
в свое дело.
Владек шел по улице и думал, что больнее всего, когда хочешь
сделать что-нибудь хорошее, а тебя не понимают, больнее всего не-
справедливость.
Почему эти дети так его обидели? Ведь он им ничего плохого не
сделал.
За что его оскорбил Змей? Разве Владек не был прав, когда хо-
тел заступиться за отца?
Почему люди хуже волков? Сытый волк всегда дает наесться
голодному.
Глава шестнадцатая
Однажды Владек вернулся домой совсем разбитый. За ужи-
ном он ничего не ел, только чаю выпил и сразу лег в постель. Его
16«
467
знобило. Попробовал заснуть, но ему было как-то не по себе: то ли
горло болело, то ли мутило от выпитого чая. Он промучился так, пока
часы не пробили двенадцать, а потом не выдержал.
— Мама! — закричал он.
Мама не отвечала. Владек полежал еще немного, пытаясь
уснуть,— нет, ему все хуже...
— Ма-а-а-ма!
— Что?
— Я не могу заснуть.
— Перекрестись,— проговорила мама сонным голосом.
Но Владеку становилось все хуже и хуже. Он начал стонать.
Мама зажгла лампу, подошла к его постели и уже не отходила
от него до утра. А утром расхворался и Вицусь.
Владек знает, что пора вставать и идти в нефтелавку, слышит,
как Вицусь кричит в жару, слышит, как мама разговаривает с отцом,
но ему все равно. «Мерзкая эта нефтелавка: там так грязно, так во-
няет керосином... Олеку лучше на бумажном складе...»
Пришел какой-то господин, осмотрел Владека и Вицуся; мама
стала плакать, а господин рассердился на маму.
Потом вернулся с работы отец, Вицуся и Владека одели, завер-
нули в одеяла и снесли вниз по лестнице. На улице их уже ждал
извозчик.
— Куда мы едем? — спросил Владек.
— В больницу.
— Зачем?
— Не разговаривай, холодно.
И мама натянула ему на голову одеяло.
Владек все помнит.
Сначала они едут на извозчике, он с Вицусем — на большом ко-
жаном сиденье, а мама с отцом — на маленькой скамеечке. Потом
ждут перед домом с решетками. Потом человек в белом халате за-
совывает ему глубоко в горло какую-то железную штуку. Владек ви-
дит, что это не ложка, а что-то совсем другое. Вот он сидит в ванне,—
его моет женщина в белом халате.
Теперь он уже в постели, он слышит, как мечется и сердито кри-
чит Вицусь.
— Тише ты, паршивец,— кричит какой-то мальчишка.
Потому что в большой белой комнате стоит очень много крова-
тей, одна подле другой, и в каждой кто-то лежит.
«Если вздумают бить Вицуся, я его в обиду не дам»,— думает
Владек.
Но Вицуся никто не бил.
Каждый раз, когда Владек просыпался, он приподнимал голову и
смотрел, что делает Вицусь. То он видел около его кровати господина
в халате, то сестру милосердия в белом чепце с большими отворо-
тами, похожими на крылья.
«Вицусь умрет»,— неожиданно подумал Владек.
Наступило утро, и снова вечер. Владек чувствовал себя уже луч-
ше, только сильно болело горло и хотелось пить. Он сел и посмотрел
468
на брата. Ему стало жалко, что он тогда не хотел отдать Вицусю пу-
зырек из-под одеколона.
— Вицусь, ну что ты кричишь, чего ты хочешь?
— Не говори с ним, он без сознания,— сказала женщина в белом
халате.
Странно, что все здесь ходят в белых халатах.
Владек заснул и спал очень долго. Он проснулся только тогда,
когда его окликнул мальчик с соседней кровати.
— Эй, посмотри, твоего брата нет!
Владек испугался.
Но в это время вошел фельдшер, который утром и вечером раз-
дает всем градусники.
— Скажите, пожалуйста, где Вицусь? — спросил Владек.
— Его взяли домой.
— А меня когда возьмут?
— Ты уже большой, ты не скучаешь по дому.
Владек вздохнул: ему тоже хочется домой. Горло уже почти
совсем не болит.
Глава семнадцатая
Владек уже выздоровел, только кожа на руках и ногах еще
шелушится. Он сдирает полоски кожи, чтобы поскорей вернуться до-
мой. К обеду ему уже дают булочки, правда, не больше двух.
В воскресенье его навестил отец; мать не могла прийти, потому
что Блошка больна. В следующее воскресенье Владек вернется до-
мой. Так говорит доктор. Хорошо ли Владеку в больнице?
— Хорошо, только очень надоело. Вчера вон тому мальчишке,
который лежит у окна, вскрывали чирий на шее, и совсем не больно,
потому что ему такие капли для сна давали. А этот, который лежит
у стены, тоже с их двора, сын рассыльного; его дома бьют, так он со-
всем не хочет возвращаться; здесь ему каждый день мясо дают, и он
спит на постели... А Вицусь, правда, дома? А почему его взяли ночью,
а не днем, как всех? Сегодня вот тоже двоих детей выписали, потому
что они уже выздоровели. А Вицусь теперь не кричит, он уже в
сознании?
Владек еле дождался следующего воскресенья. Быстро взбежал
по лестнице и распахнул дверь. Вот Маня, Абу, а в постели кто-то
лежит. Это Блошка лежит в постели, но вся голова у нее обвязана, и
она какая-то совсем другая.
Блошка хочет поздороваться с братом, но только чуть-чуть по-
ворачивает голову и снова со стоном закрывает глаза.
— Владек!
— Что, Блошка?
— Вицусь уже поправляется? Когда он вернется?
Владек взглянул на маму и все понял, и на душе у него стало
так, как тогда, когда Абу хотели отдать лавочнице.
Три дня Блошка ничего не говорила, не пила, не ела, только тихо
стонала, даже во сне. На четвертый день, когда Владек пришел из
469
нефтелавки обедать, а мама, измученная бессонными ночами, усну-
ла, Блошка тихонько позвала Владека:
— Владек, ты знаешь Еленку?
— Сестру Кароля?
— Да... Я ей должна два гроша... Когда я умру, ты отдай... И не
сердись на меня.
Блошка говорила очень тихо, потому что на губах у нее были
черные струпья, и губы очень болели, и к ним надо было все время
прикладывать кусочки ваты, смоченной в холодной воде.
— Владек, попроси маму, чтобы мне больше не делали перевя-
зок, потому что это так больно... так больно...
Блошке сделали только еще одну перевязку, а другая уже не
понадобилась...
Владек не хотел дожидаться очередной получки. Он взял у Оле-
ка шесть грошей и отыскал Еленку.
— Блошка брала у тебя в долг два гроша, правда?
— Да,— сказала Еленка, будто застыдившись.
— Вот тебе шесть грошей.
Еленка не хотела брать больше, чем ей полагалось.
— Тогда отдай остальные дедушке. Скажи ему, чтобы прочел
молитву за упокой души Вицуся и Блошки.
Глава восемнадцатая
— Ты ведь тоже хочешь прославиться, правда?
— Хочу,— не колеблясь, отвечает Владек.
— Тоже хочешь стать полководцем?
— Пожалуй, нет,— говорит Владек.
— В серьезных делах никаких «пожалуй» не бывает! —
возмущается Олек.
Владек скажет Олеку, кем он хочет быть, если Олек не будет над
ним смеяться. Владек хотел бы стать знаменитым доктором. С тех
пор как Блошка и Вицусь умерли, он часто об этом думает, хотя и
знает, что это невозможно. Почему невозможно? Разве Владек не
читал биографий знаменитых самоучек и великих мучеников науки?
Все возможно, только надо по-настоящему хотеть и уметь взяться за
дело. Чтобы стать доктором, надо только окончить школу. Полко-
водцем стать гораздо труднее: полководцу нужна еще армия.
— Как же я окончу школу, раз я в нее не хожу? — прошептал
Владек.
— Будешь ходить, вот увидишь. И я буду, потому что полководец
должен много знать.
Олек отыскал в Варшаве воскресную школу. В эту школу ходят
только раз в неделю, в воскресенье, а всю неделю можно работать.
Вступительного взноса нет, но записать в школу может только хо-
зяин большого магазина,— такая уж существует формальность.
— Я все делаю по-военному,— говорит Олек.— Школа — это
крепость, которую надо взять штурмом. Я уже разведал местность и
выявил препятствия. Завтра — первая атака.
470
На другой день во время обеденного перерыва они встретились
у магазина, с владельцем которого решено было переговорить.
— Ты здесь? Хорошо. Теперь выше голову, грудь вперед, пере-
крестись, и пошли.
Владек один ни за что бы на свете не вошел!
— У нас не терпящее отлагательства дело к пану принципалу,—
громко сказал Олек, войдя в магазин.
— Не терпящее отлагательства? — удивился приказчик и вышел
в соседнюю комнату.
Через минуту их ввели в кабинет, где сидели два господина —
молодой и старый, седой.
— Вам чего, мальчики? — спросил молодой.
— Мы хотим, чтобы вы записали нас в воскресную школу.
— А вы откуда?
— Я работаю на бумажном складе, а мой товарищ в нефтелав-
ке,— говорит Олек.
— Так почему же вы пришли ко мне?
— Потому что вы состоите в «Купеческом обществе».
— Ну да, но я могу записывать только тех, кто у меня работает.
— Мы думали, что вы нам не откажете, потому что это ведь
только формальность,— смело отвечает Олек.
Седой господин надел очки и медленно, с расстановкой спросил:
— А что это значит — формальность?
— Формальность,— говорит Олек,— это такая глупость, кото-
рую надо сделать, чтобы мы могли ходить в школу и чтобы я мог
стать полководцем, а мой товарищ доктором.
Владек готов был сквозь землю со стыда провалиться. Как же
это можно, так вот, сразу, все и выложить чужому человеку?
— Хорошо, я вас запишу,— сказал седой господин.— Зайдите
ко мне завтра.
Олек вынул записную книжку, и господин продиктовал ему свою
фамилию и адрес. Выходя, Олек сказал, может быть, немножко
слишком громко:
— Мое почтение!
А когда они были уже на улице, Олек, вздохнув с облегчением,
объявил:
— Первая атака удалась, завтра вторая!
— Только уж я с тобой не пойду,— говорит Владек.
— Обойдется и без тебя. Завтра я один управлюсь. Скажу
старику, что ты больно робкий.
Глава девятнадцатая
Олек, Владек и Маня все свободное от работы и занятий
время проводят вместе. В будни у них времени мало; даже вечером
они учат грамматику и решают задачи. И, только когда почти совсем
стемнеет, соберутся ненадолго вместе, но тут уже сразу надо идти
спать.
471
Зато в воскресенье они ходят гулять и смотреть на витрины мага-
зинов. Один раз были на берегу Вислы, другой — в зоологическом
музее, там, где чучела всех зверей. И еще они были на кладбище, на
могиле Вицуся и Блошки. Но родители очень сердились, потому что
они поздно вернулись домой — никак не могли найти могилу.
Иногда к ним присоединяется Наталка, или сын управляющего,
или Михалинка, которая теперь уже понимает, когда с ней говорят
жестами.
Михалинку они любят, и Наталку тоже, но немножко меньше,
потому что она думает, что раз ее отец политзаключенный, то все
должны ее слушаться.
А сын управляющего очень противный, вечно он хвастает, совсем
как двоюродный брат Владека, Янек: отец ему купит часы, велоси-
пед, карету; у него есть дядя — приходский священник, и еще
один — очень богатый, в гостях у этого дяди он ездил на пони. Чаще
всего он говорит о своих будущих часах, а Владек всякий раз вспо-
минает при этом об отце, который уже не заводит больше своих
часов по вечерам и не носит кольца на пальце, потому что и часы и
кольцо заложены в ломбард.
Однажды сын управляющего пригласил Олека, Владека и Маню
к себе. Им велели хорошенько вытереть ноги, чтобы не запачкать
пол, и не дотрагиваться до стен, потому что на стенах новые обои.
С сыном управляющего приходится дружить, потому что он решает
им трудные задачи. Только сначала заставляет себя упрашивать,
словно бог весть какое одолжение делает: то у него времени нет,
то «подождите, потом», то «не хочется».
— Только бы выиграть генеральную битву! — говорит Олек.
Генеральной битвой он называет экзамены.
Экзамены должны были быть осенью, а в июле Олек с родите-
лями уехал навсегда в Лодзь.
В последний раз Владек, Олек и Маня собрались на крыше погре-
ба. Долго смотрели они на небо, ожидая, когда упадет звезда, чтобы
всем вместе сказать:
—7 Хотим прославиться!
Потому что Маня, которая так интересно умеет рассказывать
и больше всего любит читать стихи, тоже хочет прославиться: она
хочет быть поэтессой, как Конопницкая '.
А потом Олек вышел с Владеком на улицу — он хотел сказать
ему что-то очень важное. Никогда еще Олек не был таким серьезным.
— Владек, ты помнишь ту цепочку с глобусом?
— Помню.
— Знаешь, я эту цепочку украл у хозяина. Когда я сегодня с
ним прощался, я ему все рассказал. Я сказал, что мне страшно хо-
телось иметь глобус, и что я его подарил и потом уже не мог ото-
брать, и что он был разыгран в лотерее для Михалинки. Я просил,
чтобы хозяин вычел у меня из жалования, но он не захотел и пожал
1 Мария Конопницкая (1842—1910) —выдающаяся польская поэ-
тесса.
472
мне руку — такой порядочный. Хотел даже дать кошелек на память,
да я не взял. И я уже не мог тебя рекомендовать... Ты на меня не сер-
дишься? Не презираешь меня, Владек?
Олек должен сказать еще что-то, самое важное.
Он будет писать Владеку и Мане письма.
— Только не говори ничего Мане, я ей сам скажу. Видишь ли,
я ее люблю и буду ей верен. Это ничего, что мы уезжаем в Лодзь.
Когда я вырасту и стану зарабатывать, я приеду и женюсь на Мане.
Ты позволишь?
Владеку кажется странным, что Олек хочет жениться на Мане и
что он ее любит. Ну, если он этого так уж хочет и родители позволят,
ладно, пусть женится.
Олек сказал, что он будет ему благодарен до гробовой доски.
Глава двадцатая
Опять наступила зима.
Мама раньше говорила, что, может, за лето они придумают
что-нибудь получше. Думали-думали, искали-искали...
Отец подал прошение, чтобы ему предоставили место трамвай-
ного кондуктора. Ходил в банк, где нужен был курьер. Думал даже
поехать в деревню экономом, но только зря потратил три рубля,
которые внес в контору по найму. Без протекции никакой работы
не сыщешь, за каждой буханкой хлеба сто рук тянется, а в честные
руки хлеб реже всего попадает. Чем больше ты в своей жизни рабо-
тал, тем неохотнее тебя берут: зачем держать старика, когда моло-
дой расторопнее и платить ему можно меньше.
Опять наступила зима.
Отец все еще работает в пекарне, Владек в нефтелавке. Только
Маня, вместо того чтобы делать цветы, ходит теперь к корсетнице.
Пожалуй, эта специальность лучше.
Зима тяжелая, и Владек уже знает, что так будет всегда и что у
всех то же самое. Опять вздорожал уголь, опять холодно и голод-
но,— видно, иначе и быть не может.
Олек сдержал слово: написал три письма. В первом письме он
спрашивает, сдал ли Владек экзамен и ходит ли уже опять в школу.
Нет, экзамена Владек не сдал, проиграл битву. Ничего не поде-
лаешь...
На письменный экзамен он не принес ни бумаги, ни ручки, не
знал, что надо принести,— откуда ему было знать?
Стали диктовать, а он сидит и смотрит.
— Ты почему не пишешь? Вот дурень! Ты что же думал, носом
на столе будешь диктант писать? — рассердился учитель.
Он дал Владеку перо и бумагу и велел писать быстро, не терять
времени — ведь все ждут. Владек торопился и написал плохо: вкось
и вкривь, с ошибками.
Срезался, как говорят ученики.
Во втором письме Олек писал, что скучает, что библиотека у них
473
там и то какая-то уродская и что он хотел бы вернуться. Но пока он
еще только разведывает местность,— так велит военное искусство.
«Сказал ли ты уже Мане? Согласна ли она?»
Значит, Олек хочет, чтобы Маня все узнала? Маня уже давно рас-
спрашивает, о чем это они так долго говорили тогда на улице. Вла-
дек тайны не выдал, но теперь другое дело.
— Олек хочет на тебе жениться, не сейчас, а когда вырастет и
будет зарабатывать.
Маня заставила Владека повторить все подробно и сказала, что
она должна подумать, так сразу она решить не может. Целое воскре-
сенье Маня думала и не говорила с Владеком, а к вечеру написала
стихи о том, что хочет стать женой Олека. Странная она девчонка,
как она эти стихи сочиняет?
Пожалуй, Маня и правда будет когда-нибудь Конопницкой, ведь
она такая маленькая, а уже так складно придумывает — все в риф-
му. Может быть, и Олек будет полководцем, потому что в чужом го-
роде он нашел библиотеку и работу и уже присматривает себе школу.
Зарабатывает он шесть рублей,— так писал Олек в третьем письме.
Один только Владек никогда не прославится. А ведь не хочется
всю жизнь только и делать, что развешивать мыло, разливать керо-
син да следить, чтобы не было пожара...
Заключение
Трудно начать рассказ, а еще труднее кончить... Сколько
всего случилось за год! А если таких годов пройдет десять... пят-
надцать? Как изменятся наши «Рыцари Чести»!
Что сталось с ними, когда они выросли, прославились ли они?
Остался ли Олек верен Мане или забыл маленькую поэтессу?
Олек женился на Мане и работает на фабрике Кунца. Когда на
фабрике была забастовка, его выбрали депутатом от рабочих. За это
он был выслан на три года, а когда вернулся, товарищи выбрали его
своим профсоюзным организатором. Его мечта сбылась: он и в
самом деле стал полководцем. И хотя у его армии нет ни штыков, ни
пушек, она многочисленна, сильна и отважна.
Маня работает на ковровой фабрике, и ее дневники печатаются
в газете. Маня всегда умела интересно рассказывать и прекрасно
описала все пережитое. Ведь ерунду какую-нибудь не станут печа-
тать в газете...
А Владек, который должен был стать знаменитым доктором?
«Я не стал доктором,— писал Владек в письме к Олеку и Мане.—
Я санитар, но зато знаменитый».
Длинная это история, каким образом прославился Владек.
Он нанялся на работу в больницу. Скромно делал свое дело и
всегда был исполнительным, незаметным и трудолюбивым. О нем
даже никто и не знал — так, санитар, как и все другие.
Но как-то раз Владек поссорился с сестрой милосердия, потому
что она, если невзлюбит больного, начинает его хуже кормить,—
474
ведь и сестры милосердия бывают разные. А в другой раз он отру-
гал фельдшера за то, что тот не исполняет своих обязанностей —
не ставит больным градусники. Владека собрались было выгнать, все
о нем заговорили.
А потом случилось вот что. Больному не сделали перевязки, по-
тому что лечивший его доктор уехал, а другой был занят. Ночью у
больного поднялся жар, а фельдшер говорит, что его это не касается.
Тогда Владек вымыл руки, сам сменил повязку и написал рапорт:
пусть его накажут за самоуправство. Поднялась шумиха, целую не-
делю все так и кипело. Владека стали даже побаиваться.
И наконец произошел случай, окончательно прославивший
Владека.
Пришел с ревизией важный сановник, весь в орденах, и они с
главным врачом хотели войти в операционный зал, когда там шла
операция, а Владек их не пустил, сказал, что это запрещено.
— Пусти,— говорит главный врач,— я тебе приказываю.
— Не положено мешать, не пущу, мой врач запретил,— отве-
чает Владек.
Они пошептались о чем-то между собой.
— Молодец, знаешь службу,— сказал сановник. И ушли.
И вот приехал из Кракова один великий хирург знакомиться с
больницей.
— Можно войти в операционную? — с улыбкой спрашивает у
Владека главный врач.
А гость из Кракова говорит:
— Значит, это и есть ваш знаменитый санитар Владислав? —
и пожал Владеку руку.
«Как видите, мои дорогие, и я теперь «знаменитый»,— пишет
Владек Олеку и Мане.
В том же письме Владек сообщает, что у отца с глазами уже луч-
ше, что мама с Абу приедут к ним на праздники и что он просит Оле-
ка порекомендовать ему адвоката, который написал бы устав Союза
медицинских работников.
«Помните наш устав «Рыцарей Чести»? Удивительно, как все
сбывается в жизни!»
* * *
Дети! Дерзайте, мечтайте о славных делах! Что-нибудь да
сбудется!
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Каждый значительный человек оставляет нам свои идеи и
свой образ. Идея Януша Корчака была, по сути, одна, и такого она
свойства, что, например, в последовательном курсе истории педаго-
гики точное место Янушу Корчаку найдешь не сразу: о нем можно с
одинаковым правом рассказывать до Руссо и после Песталоцци,
между Ушинским и Макаренко, сразу после Марии Монтессори и
вместе с Сухомлинским. С него можно начинать курс, а можно и
заканчивать им, ибо идея Януша Корчака известна человечеству с
тех пор, как оно стало человечеством: воспитатель должен любить
детей. Старо, как мир... Но и сегодня мысль Януша Корчака нуж-
дается в защите как мысль новая, даже дерзко-новая.
Образ Януша Корчака, старого человека с добрыми, проница-
тельными глазами, сливается с его идеей. Он прожил красивую
жизнь: был известным врачом, лечил раненых в русско-японской
войне начала века и в 29 лет сделал окончательный выбор — отка-
зался от семьи, от личной жизни, чтобы всего себя посвятить чужим
детям и детству. В большом доме, отданном детям, он поместился в
маленькой комнатке под крышей. Здесь он писал ночами сказки
для детей и книги о воспитании для взрослых, а дни он тоже отдавал
детям. Преданность отца — детям, преданность ученого — науке и
преданность писателя — литературе были для него одно и то же:
счастье, которое знают только педагоги. От выбора, однажды сде-
ланного, Януш Корчак ни разу не отступил. Когда 200 его воспи-
танников фашисты отправили в лагерь смерти, в Треблинку, ста-
рому доктору предложили остаться, но он пошел со своими детьми.
Всех ждет смерть; но нас заставляет безмерно страдать смерть
близких, чья-то преждевременная или мучительная смерть. Созна-
тельный же выбор мученической смерти обычно становится легендой
и принимается как подвиг. Перебираю в памяти десятки учителей,
которых встречал в жизни,— никто из них не оставил бы детей, не-
возможно это. Есть подвиги, для которых надо иметь героический
характер; им обладают не все. Для подвига Корчака надо быть
просто человеком. Но это трудно.
Идея Януша Корчака естественна, и гибель его естественна —
она была венцом его идеи. Доведенные до самого предела, идея
Корчака и его образ сливаются в нашем сознании так полно, словно
476
жизнь Корчака была задумана и написана гениальным худож-
ником.
Януш Корчак не спас своих детей и не мог их спасти, но он не
оставил их перед лицом смерти, точно так же как не оставлял он их
перед лицом жизни.
Это, по сути, и есть любовь к детям, да и вообще любовь. Лю-
бить — значит не оставлять живое существо перед лицом жизни.
Мало кто из педагогов говорил о детях так строго. «Среди де-
тей,— писал Корчак,— столько же плохих людей, сколько и среди
взрослых... Все, что творится в грязном мире взрослых, существует
и в мире детей». «Воспитатель, который приходит со сладкой иллю-
зией, что он вступает в этакий маленький мирок чистых, нежных,
открытых сердечек, чьи симпатии и доверие легко сыскать, скоро
разочаруется».
Драматичный час в сложной истории нашей любви к детям...
Терпение кончается, умиление сменяется негодованием. И чем боль-
ше мы хвастались ребенком вначале, тем больше теперь стыдимся
его. С глаз долой! И из сердца вон. Горчайшее из чувств — разоча-
рование в детях. Приходит час, и мы начинаем видеть одни только
недостатки их и прегрешения. Мы с унылой завистью смотрим на
чужих благополучных детей и отворачиваемся душой от своих —
как раз в ту минуту, когда им больше всего нужны наша любовь и
нравственная помощь. У самых порядочных людей, бывает, вы-
растают дурные дети лишь потому, что отец в какой-то момент разо-
чаровался в сыне, то есть оставил его одного перед лицом жизни,
душой оставил. Поскольку разочарование в любви острее, чем просто
нелюбовь, то появляется мстительное желание «сломать», «пода-
вить», «заставить», «потребовать». Женщине можно с нежностью
сказать: «Я вас любил...» Ребенку так не скажешь. Януш Корчак —
певец любви, у которой нет прошедшего времени,— верной и вечной
любви к детям. Он их не идеализирует, но для него ребенок — ко-
роль, и не десятый, не пятнадцатый, а всегда первый: «Король Ма-
тиуш Первый».
Да, дети бывают настолько неблагодарны порой, что вырастают
совсем не такими, как нам хотелось бы. «Ни один воспитатель не
вырастит из сотни детей сотню идеальных людей»,— пишет Януш
Корчак. И есть лишь одна возможность избежать разрушительного
для обеих сторон разочарования: признать право детей на детство,
признать абсолютную, а не относительную ценность детства. Пере-
стать судить о ребенке только с точки зрения будущего, внушая тем
самым, что сейчас он — никто: «Я ничто... Чем-то могут быть только
взрослые. А вот я уже ничто чуть постарше...» Нельзя мерить детей
на взрослый аршин! В основе такого взгляда не умиление детством,
а понимание его. Ребенок, в отличие от взрослого, может «солгать,
выманить, вынудить, украсть», пишет Януш Корчак, хотя ему вовсе
не нравятся дети, которые лгут, выманивают, вынуждают, крадут.
Но он знает, что проступок ребенка не то, что преступление взросло-
477
го, что проступок ребенка по-своему ценен, потому что «в конфлик-
тах с совестью и вырабатывается моральная стойкость». К ужасу
педагогов, Януш Корчак напишет: «Мой принцип: пусть дитя гре-
шит». Но он писал и так: «В обстановке дезорганизованности и рас-
хлябанности могут нормально развиваться только немногие, исклю-
чительные дети, из десятков же не будет толка».
Любящий может требовать, а нелюбящий и по головке не дол-
жет гладить. Всякое общение с ребенком без любви — это общение
без внимания, пустое общение. Оно пагубно для детей.
Одно из детских учреждений Януша Корчака называлось «Наш
Дом» — с большой буквы. В Нашем Доме детское самоуправление,
демократичные суды, конституция. Н. К. Крупская писала об опыте
Януша Корчака в предисловии к его книге, изданной у нас еще в
20-е годы.
Образ Януша Корчака сложился в нашем сознании так, что мы
представляем себе доброго, и прежде всего доброго, человека. Но
он писал: «Если жизнь требует клыков, разве вправе мы вооружать
детей одним румянцем стыда да тихими вздохами? Твоя обязан-
ность — воспитать людей, а не овечек, работников, а не проповедни-
ков: в здоровом теле здоровый дух. А здоровый дух не сентимента-
лен и не любит быть жертвой». Корчак смотрит на жизнь трезво,
он меньше всего идеалист или сторонник безграничного терпения:
«Я писал эту книгу в полевом госпитале под грохот пушек, во время
войны; одной терпимости было мало».
«Кто ты,— спрашивал Корчак ребенка,— кто ты Нашему Дому и
всему этому миру — товарищ? Жилец? Безразличный жилец? Обре-
менительный пришелец?»
И вот такой — воинственный, готовый к спору, вспыльчивый
(«Я вспыльчив. Олимпийское спокойствие и философское равнове-
сие духа не мой удел»), насмешливый, гордый, презирающий гру-
бую силу, но и бессильную слабость презирающий,— он сначала уни-
жался, шел на все, чтобы достать хлеба для своих детей, а потом без
колебаний, сам, по доброй воле, выбирая между детьми и жизнью, от
жизни отказался.
Педагогика Януша Корчака соединяет в себе бестрепетный
реализм мужчины и мечтательную поэтичность ребенка. Но в пер-
вую очередь Януш Корчак учит нас мужеству — мужеству воспи-
тывать, мужеству любить детей такими, какие они есть, чтобы от
нашей любви они становились лучше, чем есть. И пока читаешь Кор-
чака, привычное понятие «любовь к детям» наполняется новым,
сложным смыслом.
Да, именно так надо смотреть на педагогику: науку об искусстве
любви к детям. Исследуют развитие педагогической мысли. Пре-
красно! Необходимо! Но развитие педагогического чувства — его
кто изучает? А между тем практический воспитатель — это на три
478
четверти чувство. Поэтому и воспитателя в институте куда труднее
учить, чем инженера или даже врача, и мы, вздыхая, говорим: «Ни-
чего не поделаешь, педагогом надо родиться...» Родиться-то, разу-
меется, надо, но пора и признать, что воспитание чувств воспитате-
ля — первое, а не двадцать первое дело.
Януш Корчак обращается именно к чувству воспитателя; он сам
перенес все болезни, какими болеет педагог, сам познал бездны
педагогического отчаяния. Он понимает воспитателя так же, как по-
нимает ребенка: «Наивно предписание педагогических самоучек
воспитывать детей последовательно — чтобы отец не критиковал
поступков матери, взрослые не говорили при детях о делах...» «В ко-
нечном счете во всех мелких и важных делах воспитатель вынуж-
ден поступать так, как знает и умеет, а главное — как может». С по-
дозрением смотрит Корчак на человека, который будто бы настолько
терпелив, что отвечает на все вопросы детей. «Коли не врет, он, воз-
можно, настолько чужд детям, что они действительно редко и лишь
в виде исключения обращаются к нему с вопросами». Дети надоедли-
вы, а воспитатель нетерпелив — что же! Нельзя представлять себе
педагога «в белых перчатках, с бутоньеркой в петлице...».
Дети говорили Янушу Корчаку:
— Вы такой странный! Иногда я вас люблю, а иногда так просто
убил бы со злости!
Да, он может и разозлиться, и разозлить, а в молодости мог и
отшлепать — а потом стать на колени перед кроватью плачущего
ребенка. «Бывало, говоришь, а голос у тебя дрожит и на глазах бес-
помощные слезы. Эти тяжелые минуты должен пережить каждый
молодой воспитатель...»
Пережить! Не прочитать о таких минутах, а пережить их самому!
Пережить, перечувствовать, перестрадать — и вынести из этого гор-
нила ту истинную любовь к детям, которую ничто не поколеблет.
Иначе педагог пропал. Если он не любит детей, каждый урок для
него, каждая встреча с ребенком — мука. «...Нет ничего унизитель-
нее,— пишет Януш Корчак,— чем зарабатывать на хлеб с отвра-
щением».
«Жизнь Януша Корчака, его подвиг изумительной нравственной
силы и чистоты явились для меня вдохновением. Я понял: чтобы
стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им свое сердце».
Это, конечно, Василий Александрович Сухомлинский.
Многих вдохновляет подвиг Януша Корчака. Сегодня в народной
Польше 68 школ носят его имя и 20 детских домов: имя Корчака
словно возродилось из пепла, как волшебная птица. Столетний юби-
лей педагога по решению ЮНЕСКО отмечали во всем мире.
Когда выписываешь строчки из Корчака, на память постоянно
приходят параллельные места из Макаренко и Сухомлинского. Ан-
тон Семенович Макаренко говорил о детях: «Я очень люблю этот
отдел человечества...» Он не мог пройти мимо ребенка, чтобы не до-
тронуться до него, не погладить мимоходом. Корчак воспитывал
479
сирот, Макаренко — бездомных, Сухомлинский — детей, измучен-
ных войной и безотцовщиной. Каждый из них заменял детям отца,
поэтому такое поразительное совпадение чувств. При всех разли-
чиях в условиях жизни и во взглядах на жизнь они создавали одно
учение — оно составляет ядро педагогики XX века. Любая полка пе-
дагогической литературы сегодня покажется бедной, если на ней нет
трех книг: «Как любить детей», «Педагогической поэмы» и «Сердце
отдаю детям».
Любовь к детям многогранна. Крупская любила детей заботливо,
Гайдар — весело, Макаренко — требовательно, Сухомлинский —
нежно, Корчак — грустно. Когда дети вырастали и уходили из На-
шего Дома, Януш Корчак говорил им: «Мы даем вам одно — тоску
по лучшей жизни, которой пока нет, но которая будет». Святая
тоска! С нее испокон веков начинались гуманисты, революционеры,
поэты, ученые и просто честные люди.
* * *
Нет, пожалуй, это напутствие, это благословение выросшим
детям следует привести целиком. Здесь замечательные мысли. Быть
может, не всем они придутся по душе, но в нескольких абзацах —
вся педагогическая философия Корчака и ответ на главный вопрос
воспитателя: чему учить? Что дать ребенку? Какие ценности-дра-
гоценности?
Януш Корчак отвечает: дайте ему одно — стремление к лучшей
жизни; заразите его своей тоской — общечеловеческой тоской! —
по лучшей жизни. Тоска, стремление — это разные переводы одного
и того же слова. Заметим, что речь идет не о личной жизни, а об-
щей — о жизни народа, о жизни человечества, о жизни вообще.
Человек, который стремится к лучшей жизни народа,— это человек.
Вот как дерзко говорил Януш Корчак:
«Мы не даем вам Бога, ибо каждый из вас должен сам найти
его в своей душе.
Не даем Родины, ибо ее вы должны обрести трудом своего сердца
и ума.
Не даем любви к человеку, ибо нет любви без прощения, а про-
щение есть тяжкий труд, и каждый должен взять его на себя.
Мы даем вам одно, даем стремление к лучшей жизни, которой
нет, но которая когда-то будет, к жизни по правде и справедливости.
И может быть, это стремление приведет вас к Богу, Родине и
Любви».
В этих словах признание: лучшей жизни нет, она далеко. И уве-
ренность: она будет. И точнейшее определение: это жизнь по правде
и справедливости. Корчак не состоял в социалистических партиях,
но он написал в юности: «Капиталистический строй должен рух-
нуть, только неизвестно как». Или вот что он еще писал в тридцать
лет: «Пока мы не обеспечим всех людей хлебом и кровом, не предо-
ставим им возможность духовного совершенствования, дотоле, не
обольщайтесь, мы не имеем права называться человеческим общест-
вом». Игорь Неверли, секретарь и биограф Корчака, сказал очень
480
точно: «Для него будущее — не столько другой, лучший строй,
сколько другой, более совершенный человек».
И вот слова Корчака, которые можно было бы написать на боль-
шом листе бумаги и вывесить в каждой учительской: «Реформиро-
вать мир — это значит реформировать воспитание».
...Еще и еще раз перебираю страницы жизни великого и стран-
ного (как все великие) человека, о котором известно так много и
так мало. Мы не знаем в точности год его рождения — то ли 1878-й,
то ли 1879-й, и никто не знает в точности день его смерти. В послед-
ний раз его видели у Гданьского вокзала в Варшаве 5 августа 1942 го-
да — но когда он, и девять его сотрудников, и все его дети-воспитан-
ники погибли? Неизвестно. Эти неясности, сами по себе малозначи-
тельные, волнуют — жизнь Корчака теряет строгие очертания, оку-
тывается дымкой, словно он не родился, а всегда был, и не умер,
а всегда он есть, этот синеглазый светловолосый человек с рыжева-
той бородкой. Старый доктор,— так он называл себя в радиопере-
дачах.
Он очень долго был ребенком — до 14 лет играл в кубики, но
однажды, в 14 лет понял: «Я существую не для того, чтобы меня
любили и мною восхищались, а чтобы самому действовать и любить.
Не долг окружающих мне помогать, а я сам обязан заботиться о
мире и человеке».
Я существую для того, чтобы действовать и любить... Так писали
и Гете, и Пушкин, и, видимо, многие великие и невеликие люди.
С открытием окружающего мира, о котором надо заботиться, в кото-
ром надо действовать, который надо любить, с этим открытием рож-
дается личность.
И тут же появляются вопросы: действовать — но как? Любить —
но кого?
Прадед Корчака был стекольщик, дед — врач, отец — адвокат.
Сам он с детства мечтал быть писателем, но отец умер, когда маль-
чику (тогда его звали еще Генриком Гольдсмитом; Януш Корчак —
псевдоним, случайно взятый для первой книги из названия чужого
романа) было всего 11 лет, и в дом пришла нужда. Мальчик стал
подрабатывать репетиторством, мысли о писательстве оставил:
«Итак, я буду не писателем, а врачом. Литература — это слова, а
медицина — дело».
И вот учение позади, он врач в детской больнице, он мобилизо-
ван, как уже говорилось, на русско-японскую войну, едет через всю
Россию, «за Уральские горы, за Байкальское море». Потом он прак-
тикуется в клиниках Берлина (год), Парижа (полгода), Лондона
(месяц), ходит в школы для умственно отсталых детей, в тюрьмы
для малолетних преступников. Он учится действовать — лечить
людей и учится любить их. Вернувшись в Варшаву, он стал знамени-
тым врачом. «Пан доктор, вас просит к телефону графиня Тарнов-
ская. Прокурор судебной палаты. Супруга ректора Тигайло. Адвокат
Маковский»,— писал он, посмеиваясь, позже.
Но кого он любил?
В детстве он был влюбчив, постоянно влюблялся, иногда в двух
481
или трех девочек сразу; он был, наверно, студентом-шалопаем и
однажды записал в дневнике: «Девки жадные и до ночей охочие».
Но никогда не женился и не рассказывал о своей любви — это почти
невозможно для пишущего человека.
Но и Макаренко о своей любви не писал (кстати, Корчак очень
уважал Макаренко и говорил о главной его книге, что это не «педаго-
гическая литература, а настоящая педагогика»).
Корчак не писал о любви, не женился, и не было у него детей.
Выскажу предположение, что, может быть, причиной этой тра-
гедии была бесконечная честность доктора. Быть может, от нас
скрыт и еще один его подвиг спасения — спасения нерожденного
ребенка.
Дело в том, что отец Корчака был тяжело болен, несколько раз
его помещали в психиатрическую клинику. Врач Корчак хорошо
знал, что такое наследственность, он с юности боялся сумасшествия,
был на грани самоубийства, писал драму «Самоубийца»,— герой
ее, боясь безумия, возненавидел жизнь. И перед самой смертью
Корчак писал в дневнике: «Итак, я — сын помешанного, то есть
с дурной наследственностью. Прошло уже несколько десятков лет,
а до сих пор эта мысль не дает мне покоя». А дальше и вовсе пора-
зительная запись: «Я слишком люблю свое безумие, чтобы меня не
ужасала мысль о том, что кто-то попытается меня лечить вопреки
моей воле».
Может быть, он боялся не только за себя, но и за своих нерож-
денных — и потому-то и не рожденных — детей? Сына? А как ему
хотелось сына, видно из его слов: «Сыном стала для меня идея слу-
жения детям и их делу».
Корчак был педагог-реалист. Оттого, что он был врач, оттого,
что он видел несчастье в своем собственном доме, оттого, что он
сам испытал эту муку ожидания наследственной болезни, по всем
этим причинам он был сторонником евгеники — не фашистской
евгеники, науки о выведении чистой расы, а милосердной науки о
предупреждении страшного несчастья — рождения неизлечимо
больных людей, калек и уродов. Перепишу из книги Марека Явор-
ского «Януш Корчак» (она издана в Варшаве в 1984 г. Многие за-
писи польского педагога приводятся здесь по этому содержатель-
ному исследованию) — перепишу следующие, непривычные для нас
строчки, чтобы и читатель мог над ними подумать, чтобы не склады-
вался в нашем сознании облик этакого благостного педагога, вроде
доктора Айболита, который по доброте сердца призывал любить
детей, ничего не понимая в жизни. Нет, все было не так. Корчак
писал:
«Я утверждаю: без евгеники мы все погрязнем в болоте, погряз-
нем окончательно и бесповоротно... Рожает каждый, кто хочет и
сколько хочет... За лишение человека жизни грозит суровое нака-
зание, невзирая на то, кто убил, кого и почему. А за то, что плодят
уродцев и безумцев, не наказывают... Вопрос надо ставить так: кто
имеет право рожать? Кто без разрешения родит (не убьет), того
в тюрьму. Вот тебе экзамен и задание: сдать экзамен на право иметь
482
ребенка, получить аттестат зрелости на воспитание потомка... Па-
тент, фабричная марка, официальное удостоверение, что зубная
паста безвредна, что ею не отравишься. А ребенок — оборотень?
Чтобы открыть ларек с газированной водой, нужны разрешение,
справки, квалификация, основной капитал, контроль. Экзамен на
парикмахера, сапожника, трубочиста, пряничника, сановника. Пят-
надцать лет рабского учения в школе, чтобы под строгим контролем,
в соответствии с предписаниями работать по своей профессии, не-
правильно называемой свободной; а тут — как ни в чем не бывало,
первый попавшийся, последний из последних становится отцом,
делает шаг в бессмертие — строит будущее».
Рожать с разрешения? По аттестату? Если вас покоробит эта
мысль, читатель, вспомните, что Корчак, вероятнее всего, первым
последовал своему призыву, сам испытал это страдание.
Но вслушаемся, как сказано: родить ребенка, стать отцом —
это шаг в бессмертие...
Нет, не думайте — Януш Корчак, старый доктор, был совершен-
но здоровым человеком, мне не встречалось ни одного свидетельства
о том, что он хоть чем-нибудь походил на больного. Наоборот, это
был потрясающе здоровый душой человек. Старая женщина-педагог
(к глубокому сожалению, не могу привести ее имя) рассказывала
мне в Софии, что в молодости она проходила практику в детском
саду, которым руководил Корчак, и часто бывала в его приюте. Од-
нажды, вспоминает она, Корчак нарушил правило и съехал со вто-
рого этажа по перилам лестницы. Кто-то из ребят увидел это и подал
на него в суд — в детском суде разбирались все дела о нарушениях
правил. Но старому доктору удалось оправдаться: он доказал, что
очень спешил, потому что кто-то сильно ударился внизу и нужна
была его экстренная помощь. В другой раз детский суд был не на
его стороне. В холодный осенний вечер, когда у детей упало настрое-
ние, доктор, чтобы повеселить их, подхватил одну девочку и поса-
дил ее на шкаф. А девочка обиделась и подала в суд. Суд вынес самое
строгое решение, какое только было в его распоряжении: простить
пана доктора. Детский суд в доме Корчака выносил одно из двух
решений: оправдать или простить. Других приговоров не было. Ведь
в детском доме были сироты, и Корчак делал все, чтобы дать им без-
мятежное детство. «Те, у кого не было безмятежного, настоящего
детства, страдают от этого всю жизнь»,— считал он.
Эта мысль иным покажется опасной. Многие считают, что дет-
ство должно быть трудным, что ребенка надо готовить к тяжелой
взрослой жизни, лишь тогда он будет благодарен старшим: «Вы-
растешь — скажешь родителям «спасибо». Американская писатель-
ница, автор многих книг по воспитанию Мария Уинн пишет, что
в середине этого века произошла перемена в отношении к детям и
к детству. Прежде считалось, что родители должны охранять дет-
ство; теперь преобладает другая точка зрения: родители должны
готовить детей к трудному будущему. Во всем мире целые поколения
вырастают, не зная безмятежного детства; быть ребенком теперь
очень трудно — и это сказывается на нравственном облике людей.
483
Те, у кого не было безмятежного детства, страдают всю жизнь.
Страх распустить детей, усиление надзора за ними, призывы быть
с детьми как можно строже приводят к обратным результатам —
дети выходят из-под контроля взрослых, связь между поколениями
прерывается, диалог между старшими и младшими становится не-
возможным. Подростки становятся неуправляемыми, теряют нрав-
ственные ориентиры. Все это надо рассматривать не как результат
послаблений, а как результат долголетнего применения карательной
педагогики, построенной по нехитрому принципу: «потребуй, а если
не выполнит, то накажи». В центре внимания не духовная сторона
воспитания, а механическая, педагогика сосредоточена на проблеме
наказаний и безнаказанности, надзора и безнадзорности, и обо всем
судит крайне примитивно. Что бы ни случилось с ребенком, с под-
ростком, с группой ребят или даже с целым молодым поколением,
объяснение всегда одно и только одно: «Вот к чему приводит безна-
казанность! Надо усилить надзор».
Для Януша Корчака отец-надзиратель — это прежде всего лен-
тяй, духовное ничтожество. Родители становятся надзирателями
не потому, что они «желают счастья ребенку, как они сами думают
о себе», а просто от недостатка культуры и бедности духа: «Если
хочешь быть надзирателем, можешь ничего не делать... Для внеш-
него порядка, внешних хороших манер, дрессировки напоказ нужны
лишь твердая рука и многочисленные запреты... Чем скуднее ду-
ховный уровень, чем бесцветнее нравственный облик, тем больше
забота о собственном покое и удобствах, тем больше запретов и
приказаний, продиктованных мнимой заботой о ребенке».
Переменить взгляд на воспитание, поверить в то, что только без-
мятежное, доброе детство соединяет ребенка со взрослыми, ведет
к сотрудничеству поколений, рождает в ребенке желание любить
и действовать, заботиться о людях, о стране,— поверить в это всей
душой многим людям трудно. Но книги Корчака помогают нам со-
вершить трудный переход к новому взгляду на воспитание.
Януша Корчака печатали у нас еще в 1908 г. (повесть «Дитя
света» в пяти номерах петербургского журнала «Образование»),
и в 1911-м печатали, и 1922-м («Как любить детей», с предисловием
Н. К. Крупской, о котором говорилось выше), а в 1924-м был напе-
чатан первый перевод «Короля Матиуша».
Потом Корчак долгие годы у нас не печатался, поколения детей
вырастали без его книг, а родители не знали о его педагогике. Она
не сопрягалась с педагогическими идеями тех лет. Лишь в начале
шестидесятых Корчак снова пришел в наши дома, он был ошелом-
ляющим педагогическим открытием и стал едва ли не самым по-
пулярным педагогом в стране, особенно после появления в «Новом
мире» блестящей статьи Александра Шарова, по сути, открывшей
смысл и значение педагогики Корчака (статью можно прочитать
теперь в «Повести воспоминания» А. Шарова. Москва, 1972). Но
статья вызвала волну гонений на идеи Корчака. Упреки были стан-
дартные: абстрактный гуманизм. Все доброе в шестидесятые —
семидесятые годы называли абстрактным гуманизмом. Я хорошо
484
помню эти издательские мучения: «Корчак? Ну вы же зндете, как
к нему относятся... Нельзя ли другое имя?» Но уже в конце семи-
десятых стараниями мужественных редакторов Корчака все-таки
стали издавать, и теперь мало-помалу книги его становятся доступ-
ными,— Корчак продолжает воевать за свои идеи, за дело детей.
Старый доктор выступал по Варшавскому радио до последнего
дня, его голос, как пишут, заглушили артиллерийские разрывы.
Снаряды рвались на улицах Варшавы, а он, майор запаса Войска
Польского, звал по радио к сопротивлению, поднимал дух.
И до самой последней своей минуты он писал:
«Тяжелое это дело — родиться и научиться жить. Мне осталась
куда легче задача — умереть. После смерти опять может быть тя-
жело, но об этом не думаю. Последний год, последний месяц или час.
Хотелось бы умереть, сохраняя присутствие духа и в полном
сознании. Не знаю, что я сказал бы детям на прощание. Хотелось
бы только одно: они сами вольны выбирать свой путь.
Десять часов. Выстрелы: два, залп, два, один, залп. Быть может,
это именно мое окно плохо затемнено.
Но я не перестаю писать. Наоборот, мысль... работает быстрее».
Каким счастьем для него был бы снаряд в окно! Но ему была
уготована жуткая смерть в газовой камере. И что же он сказал детям
на прощание, им, лишенным права жить и выбирать свой путь?
Не будем думать об этом. Обратимся к живому Корчаку, к жи-
вым его книгам, к главной его мысли. Вот она: «Главная мысль: ре-
бенок равный нам — ценный — человек».
Так просто. Но признание этого равенства переворачивает душу
взрослого человека и делает счастливыми детей.
Симон Соловейчик
ПРИМЕЧАНИЯ
Право ребенка на уважение
Впервые опубликовано в Варшаве в 1929 г. Печатается по изданию: Януш
Корчак. Избранные педагогические произведения. М., Педагогика, 1979.
Работа занимает особое место в творчестве Я. Корчака. Это его манифест
и педагогическая программа. «Каково мое теперешнее отношение к ребенку и дет-
скому обществу — объясняет брошюра «Право ребенка на уважение»,— писал Кор-
чак в предисловии ко II т. второго издания книги «Как любить ребенка» (1929).
С. 12. Ars longa (лат.) — искусство вечно. Выражение взято из латинской
пословицы ars longa, vita brevis (искусство вечно, жизнь коротка).
С. 15. Речь идет о Декларации прав ребенка, принятой Лигой Наций в Женеве
в 1924 г.
С. 21. Очевидно, имеется в виду С. Маркевич (1839—1911) —врач и общест-
венный деятель, инициатор организации летних колоний для детей Варшавы.
С. 21. Речь идет об английском генерале Баден-Поуэлле (1857—1941) —соз-
дателе системы бойскаутизма.
Как любить ребенка
Цикл «Как любить ребенка» состоит из четырех самостоятельных произ-
ведений: «Ребенок в семье», «Интернат», «Летние колонии», «Дом Сирот». Я. Корчак
писал эту книгу на фронте в 1914—1918 гг.
Первая часть впервые была опубликована в Варшаве в 1919 г. Полный цикл вышел
в 1920 г. под заглавием «Как любить детей». Последующие издания (с 1929 г.) озаг-
лавлены «Как любить ребенка».
Вторая часть цикла («Интернат») была издана в СССР в 1922 г. с предисловием
Н. К. Крупской.
В настоящем сборнике цикл «Как любить ребенка» публикуется с небольшими
сокращениями. Печатается по изданию: Януш Корчак. Избранные педагогические
произведения. М., Педагогика, 1979.
С. 26. Цитата из новеллы польского писателя Стефана Жеромского (1864—
1925) «Забвение».
С. 28. Здесь и далее в работе «Ребенок в семье» петитом выделен текст, включен-
ный Я. Корчаком во второе издание цикла «Как любить ребенка» (1929) спустя 15 лет
после написания книги. «Вместо того чтобы исправлять и дополнять — правильнее
будет обозначить (петитом) то, что изменилось вокруг меня и во мне»,— писал он.
486
С. 36. Каменьский, Станислав (1860—1913) — польский врач-педиатр, спе-
циалист в области детской физиологии и гигиены.
С. 36. Брудзиньский, Юзеф Поликарп (1874—1917) —польский врач-педиатр
и нейролог.
С. 46. Цитата из повести французской писательницы Сидони Габриэль Колетт
(1873—1954) «Клодина в Париже».
С. 50. Цитата из рассказа польского писателя С. Виткевича (1851 —1915) «Енд-
рек Чайка».
С. 61. Цитата из повести французского писателя Октава Мирбо (1848 или
1850—1917) «Аббат Жюль».
С. 61. Бжозовский, Станислав (1878—1911) —польский писатель, автор книг,
оказавших влияние на развитие польской общественной мысли.
С. 62. Шарко, Жан Мартен (1825—1893) —французский врач-невропатолог.
С. 81. Речь идет, очевидно, о следующем высказывании Л. Н. Толстого: «Всякий
замечал, кто немного знает крестьянских детей, что они не привыкли и терпеть не
могут всяких ласк — нежных слов, поцелуев, троганий рукой и т. п.». {Толстой Л. Н.
Пед. соч. М., 1948. С. 127.)
С. 99. Фрейд, Зигмунд (1856—1939) — австрийский врач и психолог, создатель
теории психоанализа.
С. 104. Еллента, Цезарь (1861 —1935) — польский литературный критик и
писатель.
С. 109. Работа Ж. Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762) начинается
словами: «Все выходит хорошим из рук творца вещей, все вырождается в руках че-
ловека».
С. 113. Речь идет о приюте, основанном французским филантропом Жозефом
Габриэлем Прево (1793—1875) в 1853 г. С 1880 по 1894 г. руководителем приюта
был Поль Робен (1837—1912) — деятель французского рабочего движения, педагог.
(См.: Кайданова О. В. Сиротский дом Прево и его создатель Поль Робен. М., 1912;
Шилъникова М. Е. Из опыта работы Поля Робе на в интернате Прево.— Советская
педагогика. 1956. № 12.)
С. 122. Гваякол — лекарство, которое применялось в медицинской практике
для лечения туберкулеза легких.
С. 149. Войт — до 1950 г. глава административного управления гмины, низшей
сельской административно-территориальной единицы в Польше.
С. 149. Речь идет, очевидно, о следующем высказывании английского философа
Джона Локка: «...хитрость, это обезьянье подобие мудрости, как нельзя более далека
от последней и так же уродлива, как уродлива сама обезьяна...» (Локк Джон. Пед.
соч. М., 1939. С. 169.)
С. 160. Я. Корчак говорит здесь об опыте своей работы в детских летних коло-
ниях. В 1882 г. по инициативе видного общественного деятеля Польши С. Маркевича
было создано Общество летних колоний. Цель общества — заботиться о здоровье
слабых детей из бедных семей Варшавы. В 1901 —1902 гг. обществом были построены
две колонии: в Вильгельмувке и в Михалувке. Я. Корчак работал в этих колониях
воспитателем. О своих впечатлениях он написал в книгах «Лето в Михалувке» (1910)
и «Юзьки, Яськи и Франки» (1911).
С. 162. Собеский, Ян III (1629 —1696) —польский король.
С. 178. Речь, по-видимому, идет о книге С. Т., Шацкого «Дети — работники
будущего» (1908), в которой описывается опыт работы первых детских клубов, орга-
низованных для детей и подростков одной из рабочих окраин Москвы.
487
С. 186. Педикулез— вшивость.
С. 188. Отношение Я. Корчака к филантропии ясно выражено в его фельетоне
«Благотворители» (1903). В нем Я. Корчак говорит о ханжестве богатых и сытых
собственников, высмеивает списки пожертвований, публикуемые ими в газетах для
саморекламы, сравнивает суммы расходов на бальные платья, вино и карты с копей-
кой, отсчитанной для сирот.
С. 198. Каждый вновь поступавший в Дом Сирот получал своего опекуна из
числа воспитанников. Опека, как правило, длилась три месяца. По желанию обеих
сторон срок опеки мог быть продлен или сокращен. Желающие стать опекунами пред-
лагали свои кандидатуры на общем собрании воспитанников. Опекун в специальной
тетради записывал все важнейшие случаи из жизни новичка и в конце опекунского
срока давал всестороннюю характеристику подопечному, отмечая все его положи-
тельные и отрицательные качества.
Правила жизни
Педагогика для детей и для взрослых
Впервые опубликовано в Варшаве в 1930 г. Печатается по изданию: Януш
Корчак. Избранные педагогические произведения. М.: Педагогика, 1879.
С. 228. Надпись на обратной стороне линейки, о которой вспоминает Корчак,
гласила: «Кто не хочет учиться, заслуживает наказания».
С. 246. Очевидно, имеется в виду герой книги французского писателя Ж. Ренара
(1864—1910) «Рыжик».
С. 247. По вопросу о норме детского сна Я. Корчак высказывался неоднократно.
Этой теме он посвятил специальную статью «Сон» (1920), а также одну из своих бесед
по радио, озаглавленную «Рано спать».
Педагогическая публицистика
В творчестве Януша Корчака большое место занимает публицистика.
В различных журналах (общественных, медицинских, педагогических и др.) появля-
лись статьи Я. Корчака, рассматривающие проблемы развития ребенка, его здоровья,
воспитания, положения в семье, в обществе. В них отражался большой опыт врача,
писателя, воспитателя, лектора, эксперта Варшавского окружного суда по делам не-
совершеннолетних правонарушителей. Особенно тесно Я. Корчак сотрудничал с жур-
налом «Школа специальна» (1924—1939). В нем он печатал свои статьи начиная
с 1925 и до последнего года существования журнала.
В настоящее издание включено 13 статей Я. Корчака, опубликованных раз-
личными польскими педагогическими журналами в разное время. Статьи «Теория
и практика» (1925), «Воспитание воспитателя ребенком» (1926), «Воришка» (1926),
«Открытое окно» (1926), «Каста авторитетов» (1926—1927), «Чувство» (1927—
1928), «Замечания о разных типах детей» (1928—1929), «Эпидемии проступков»
(1936—1937), «Честолюбивый воспитатель» (1938—1939) были опубликованы в жур-
нале «Школа специальна»; статья «Преступное наказание» (1923) — в журнале
«Опека над дзецкем» («Опека над ребенком»); «Расположение и неприязнь» (1933) —
в журнале «Выховане пшедшкольне» («Дошкольное воспитание»); «Дважды два —
четыре» (1927) — в журнале «Праца школьна» («Школьный труд»); «Есть школа!»
488
(1921) —в журнале «Рочник педагогичны» (Педагогический ежегодник»). Печата-
ется по изданию Януш Корчак. Избранные педагогические произведения. М., Педа-
гогика, J 979.
С. 271. Это доклад, сделанный Я. Корчаком 21 декабря 1925 г. на пленарном
заседании 1-го польского съезда учителей специальных школ.
С. 283. В предисловии к книге «О моральной заразе» польский психолог и пе-
дагог Я. В. Давид (1859—1914) писал: «В частности, я остановлюсь на явлении пов-
торения преступных поступков путем подражания».
С. 285. Речь идет о шведском враче-педиатре Оскаре Медине (1847—1927),
который первым описал эпидемию полиомиелита.
С. 286. Бюлер,, Шарлотта (1893—1974), австрийский психолог.
С. 290. Месяц, по-видимому в 1911 г., Я. Корчак провел в Лондоне. Там он посе-
тил образцовый детский приют для 60 детей и школу в Форест Хилл под Лондоном.
С. 302. О «фабрике ангелочков» писала Н. К. Крупская в 1899 г. в брошюре
«Женщина-работница»: «...женщина часто бывает вынуждена отдавать своих детей
или в воспитательный дом, или на выращивание какой-нибудь женщине, специально
этим занимающейся. В газетах не раз сообщалось, что в том или другом большом
промышленном городе обнаружена «фабрика ангелов». Какая-нибудь женщина про-
мышляет тем, что берет на воспитание за известную плату грудных детей и голодом,
опиумом и тому подобными средствами старается как можно скорее отправить их
на тот свет, понаделать из них «ангелов». (Крупская Н. К. Педагогические сочинения.
В 6 т. М., 1978. Т. 1. С. 12.)
С. 303. Кайтусь — герой фантастической повести Я. Корчака для детей и моло-
дежи «Кайтусь-волшебник» (1934).
Когда я снова стану маленьким
Повести «Когда я снова стану маленьким», «Лето в Михалувке» и «Слава»
печатаются по изданию: Януш Корчак «Когда я снова стану маленьким». М., Дет.
лит., 1964.
СОДЕРЖАНИЕ
КАК ЛЮБИТЬ РЕБЕНКА
ПРАВО РЕБЕНКА НА УВАЖЕНИЕ
Пренебрежение — недоверие . . 4
Неприязнь 9
Право на уважение .... 14
Право ребенка быть тем, что он есть 17
КАК ЛЮБИТЬ РЕБЕНКА
Ребенок в семье . 23
Интернат ... 109
Летние колонии . 160
Дом Сирот ... 187
ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Педагогика для детей и для взрослых
Вступление 208
Самые близкие нам люди . 209
Дом — квартира .... 213
Взрослые дома 216
Двор — парк 220
Улица 223
Школа 227
Развлечения 231
Богатый — бедный .... 235
Мысли — чувства .... 239
Здоровье 243
Способности 247
Симпатичный — несимпатичный 251
Достоинства — недостатки . . 255
Мальчики — девочки . . 259
Прошлое — будущее . . . 263
Три дополнения к этой книжке . 266
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА
Теория и практика 268
Воспитание воспитателя ребенком . 271
Воришка 272
Открытое окно 275
Каста авторитетов 277
490
Чувство 278
Замечания о разных типах детей 279
Эпидемии проступков . . . 283
Честолюбивый воспитатель . . 285
Преступное наказание . . . 289
Расположение и неприязнь . . 293
Дважды два — четыре . . 295
Есть школа! 302
КОГДА Я СНОВА СТАНУ МАЛЕНЬКИМ
КОГДА Я СНОВА СТАНУ МАЛЕНЬКИМ
Взрослому читателю . 306
Юному читателю . . —
Первый день ... 311
Второй день ... 338
Пятнашка .... 353
Любовь 370
Серые деньки ... 389
ЛЕТО В МИХАЛУВКЕ
Очень коротенькое вступление . 398
Глава первая
На вокзале.— Воспитатели ставят мальчиков в пары и отводят в
вагоны —
Глава вторая
Ребята отдают деньги и открытки на хранение.— В деревне все
переодеваются в белые костюмы 399
Глава третья
Левек Рехтлебен тоскует.— Левек Рехтлебен плачет . 401
Глава четвертая
Крепость.— Яичница.— Гроза.— Пожарная команда . 403
Глава пятая
Колонистский суд.— Гражданские и уголовные дела.— Судебные
приговоры 405
Глава шестая
Утро.— Хорошие и плохие краны.— Мы стелем постели.— Гор-
бушки 40.9
Глава седьмая
Купание.— Цыплята.— Аист.— Камыш.— Глупый человек.— Меч-
ты об удочке.— Лапта 410
Глава восьмая
Обед.— Самая красивая вилка.— Листья, которые кусаются.— Сад
на вате 413
Глава девятая
Хромой Вайнраух.— Шашечный турнир.— Тамрес — победитель.—
Прощай, колония! ... 415
491
Глава десятая
Письма от родителей.— Плакал ли Осек из-за помочей? — Послед-
ние открытки 416
Глава одиннадцатая
Хаим и Мордка.— Кукушка, белка и история про бабочку.— Морд-
ку называют Мацеком . 418
Глава двенадцатая
Газета «Михалувка».— Почему ребята плохо говорят по-польски? . 419
Глава тринадцатая
Война.— Бой за первый форт.— Взятие второго форта.— Солдат,
ковырявший в носу, и перемирие 421
Глава четырнадцатая
Князь К рук и его маленький брат.— Корзинки из камыша.— По-
чему Бер-Лейб Крук — князь 425
Глава пятнадцатая
Обязанности воспитателей.— Генерал становится лошадью.— Как
овцы научили уму-разуму человека 427
Глава шестнадцатая
«Разбойничье гнездо».— Свидетельница из деревни.— Прощание . 429
Глава семнадцатая
Улитка.— Лягушка.— Адамский убил слепня.— Радушный хо-
зяин.— Поход в Орловский лес 431
Глава восемнадцатая
Некрасивый Аншель.— Кто первый придумал вставлять листья в бу-
кеты.— Больной Сикора . . 433
Глава девятнадцатая
Вечерние концерты.— Старушка сосна.— Скрипач Грозовский и
певцы 434
Глава двадцатая
Как маленький Адамский хотел, чтобы его уважали, и что из этого
вышло.— Несправедливый приговор и история о подбородках, мыле
и бритве 436
Глава двадцать первая
Лучший в мире праздник и могущественная пряничная сила.—
Турчанка рассказывает сказки.— Живые картины . . 438
Глава двадцать вторая
Отметки по поведению.— Собака прощает Гринбаума, а Бромберг
получает пятерку . .... 440
Глава двадцать третья
Поэт Ойзер.— Стихи о сапожнике, о кузнеце и о возвращении домой 444
Глава двадцать четвертая
Сюрприз.— Последний закат и последняя сказка . 445
492
СЛАВА
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая .
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая .
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Заключение
С. Соловейчик. ПОСЛЕСЛОВИЕ
Примечания .
448
449
450
452
453
454
456
457
458
460
461
462
463
465
466
467
468
470
471
473
474
476
486
Януш
Корчак
КАК ЛЮБИТЬ
РЕБЕНКА
Заведующий редакцией
В. Е. Вучетич
Редактор
Г. Е. Щербакова
Младшие редакторы
Н.М.Жилина, М. В. Л е го с т а е ва
Художник
В. И. Харламов
Художественный редактор
П. В. Меркулов
Технический редактор
Т. А. Новикова
ИБ № 8781
Сдано в набор 21.11.89. Подписано в печать 16.04.90. Формат 60X90'/i6. Бумага книжно-
журнальная офсетная. Гарнитура «Тайме». Печать офсетная. Усл. печ. л. 31. Уел кр.-
отт. в тканевом переплете 31,5; в бумажном переплете 32. Уч.-изд. л. 36,96. Тираж
300 000(100 001 — 200 000) экз. Заказ № 3865. Цена 2 р. 30 к.
Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Типография издательства «Горьковская правда». 603006,
г. Горький, ГСП-123, ул. Фигнер, 32. ^
В Политиздате,
начиная с 1990 года,
под рубрикой «Книга о воспитании»
выходят следующие издания:
«ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ ГОВОРЯ»
Сборник
Составитель Александр Лаврин
Главная идея сборника — показать процесс нравст-
венного формирования личности на примере воспитания,
развития и становления людей из разных слоев русского
общества XVIII — начала XX в. В него войдут фрагменты
из исповедей, дневников, записок таких представителей
отечественной культуры, как С. Дашкова, Н. Муравьев,
П. Вяземский, А. Герцен, П. Кропоткин, Ф. Достоевский,
Г. Чичерин и др.
Рассчитана на массового читателя.
Николай Рерих
О ВЕЧНОМ
Сборник
Составитель Дмитрий Попов
В сборнике представлены произведения великого рус-
ского мыслителя, художника и общественного деятеля
Николая Константиновича Рериха, в которых рассматри-
ваются вопросы педагогики, воспитания и самовоспи-
тания человека.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интере-
сующихся вопросами духовного, эстетического и мо-
рально-нравственного воспитания подрастающего поко-
ления.
Жан Жак Руссо
«РОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ»
Сборник
Составитель Евгения Обичкина
Это книга о воспитании, включающая фрагменты из
произведений Жан Жака Руссо. Именно ему принадле-
жит счастливая мысль создать систему всестороннего
развития личности, отдать воспитание человека в руки
любящих близких, а потом — терпимых наставников,
повернуть взрослеющего ребенка лицом к природе —
к свежему воздуху, лесам и полям с их обитателями,
позже ввести его в мир вещей, машин, книг, а затем —
в «свет», помочь утвердиться в любви к себе подобным,
стать гражданином общества.
Книга рассчитана на массового читателя.
Бенджамин Спок
«РАЗГОВОР С МАТЕРЬЮ»
Сборник
Прогрессивный американский ученый, детский врач
и педагог Бенджамин Спок широко известен в СССР.
«Разговор с матерью» включает в себя две очень популяр-
ные в нашей стране книги автора — «Ребенок и уход за
ним» и «Разговор с матерью».
Доктор Спок помогает родителям решить множество
проблем, возникающих в процессе воспитания детей,
объясняя и иллюстрируя различные темы примерами.
Книга рассчитана на массового читателя.