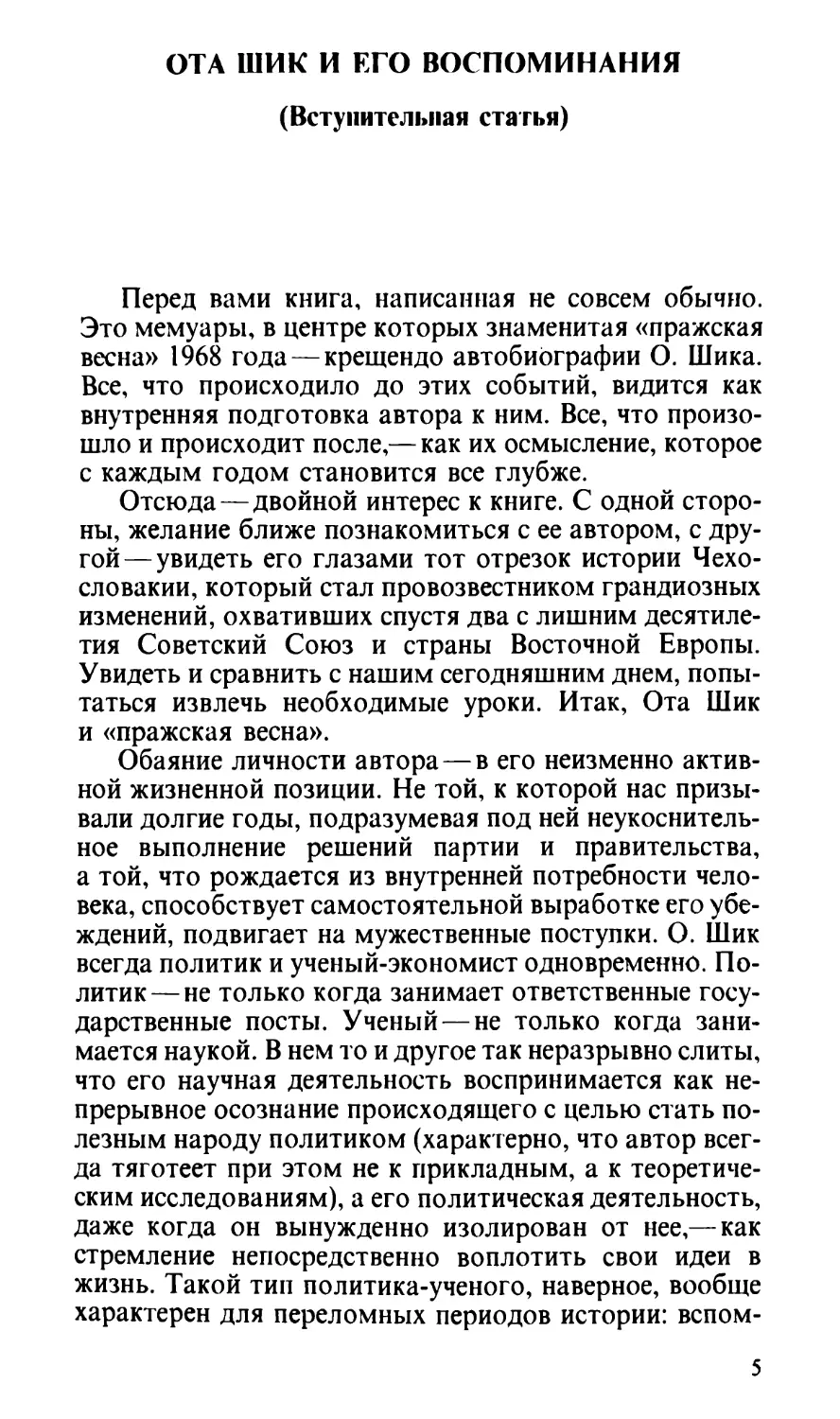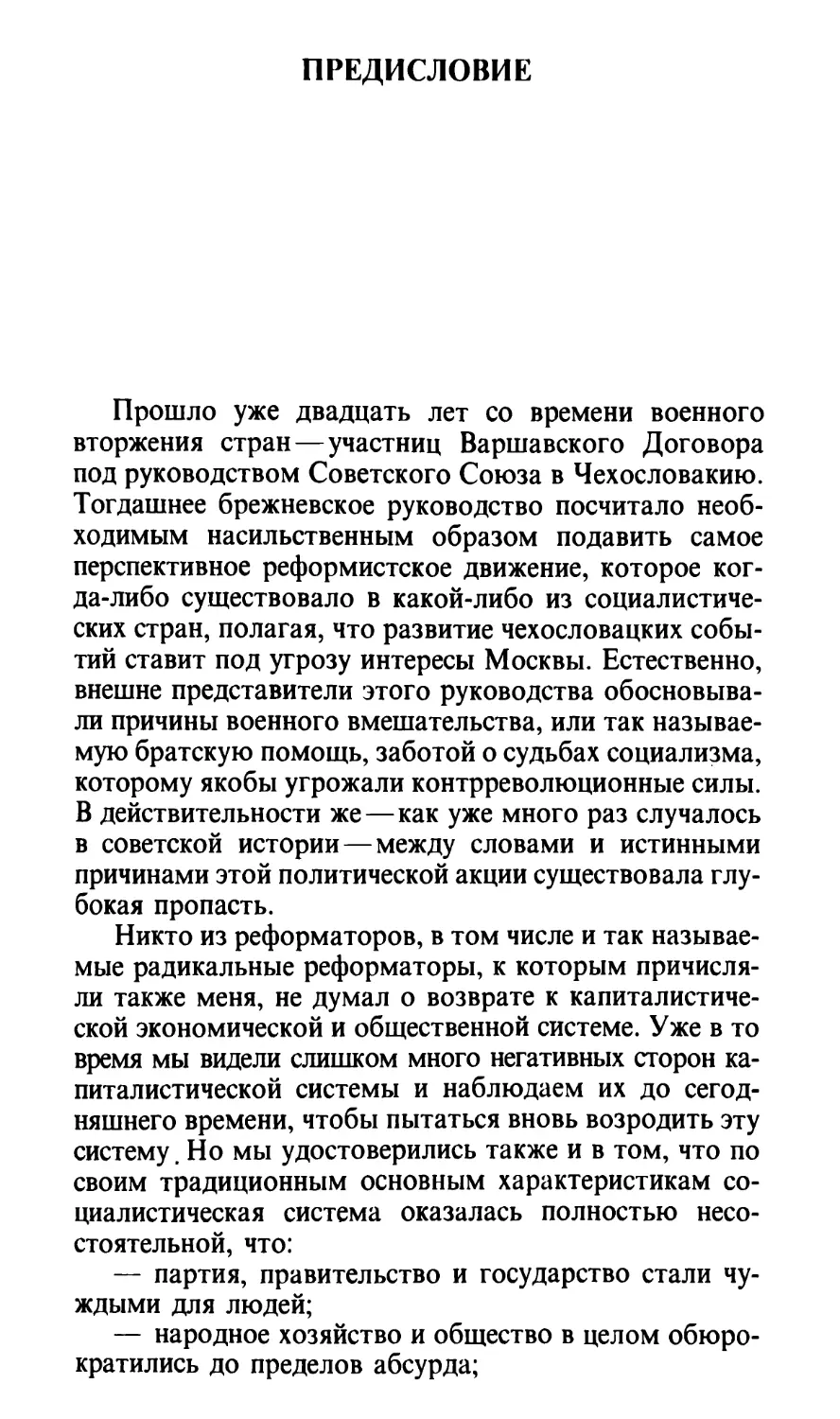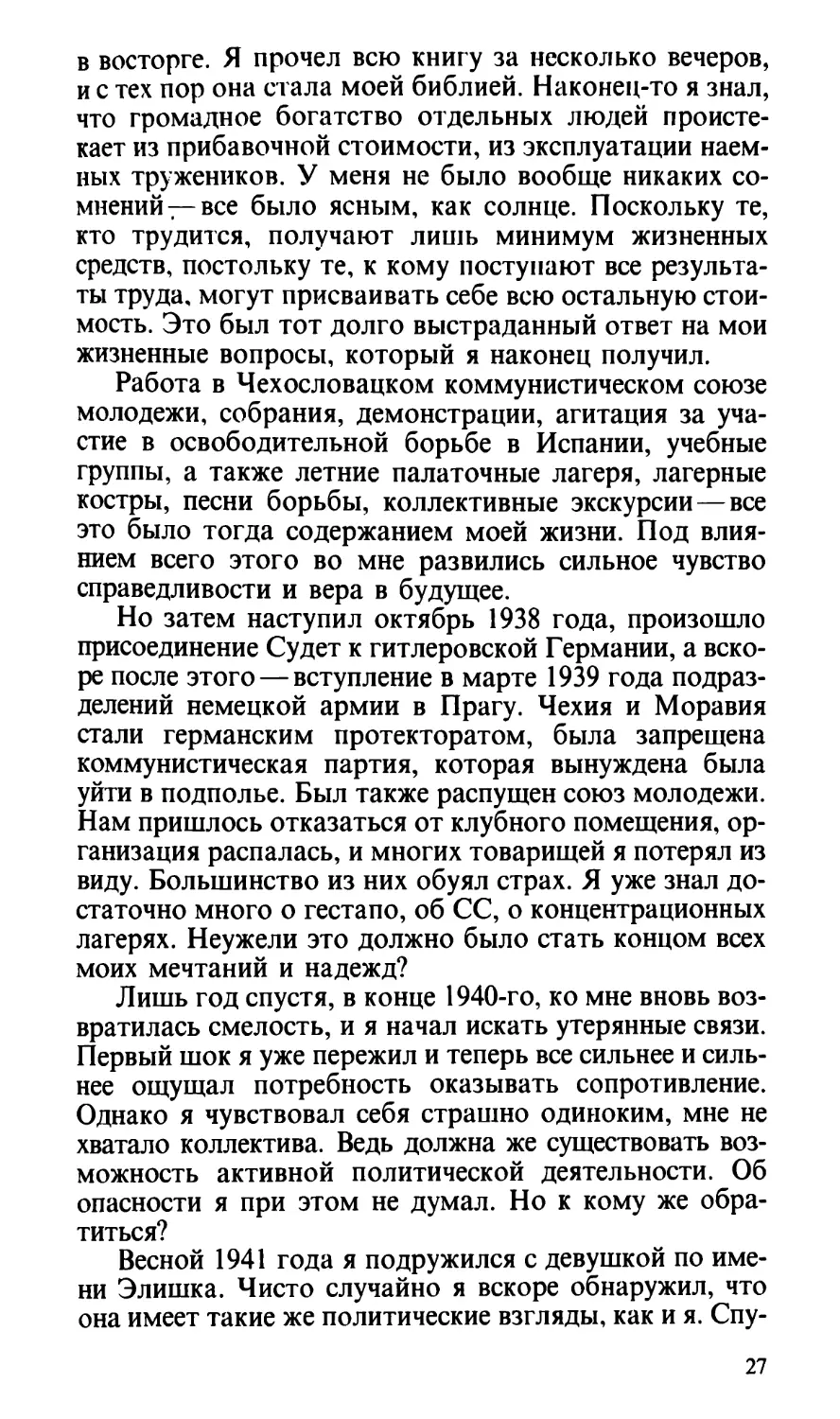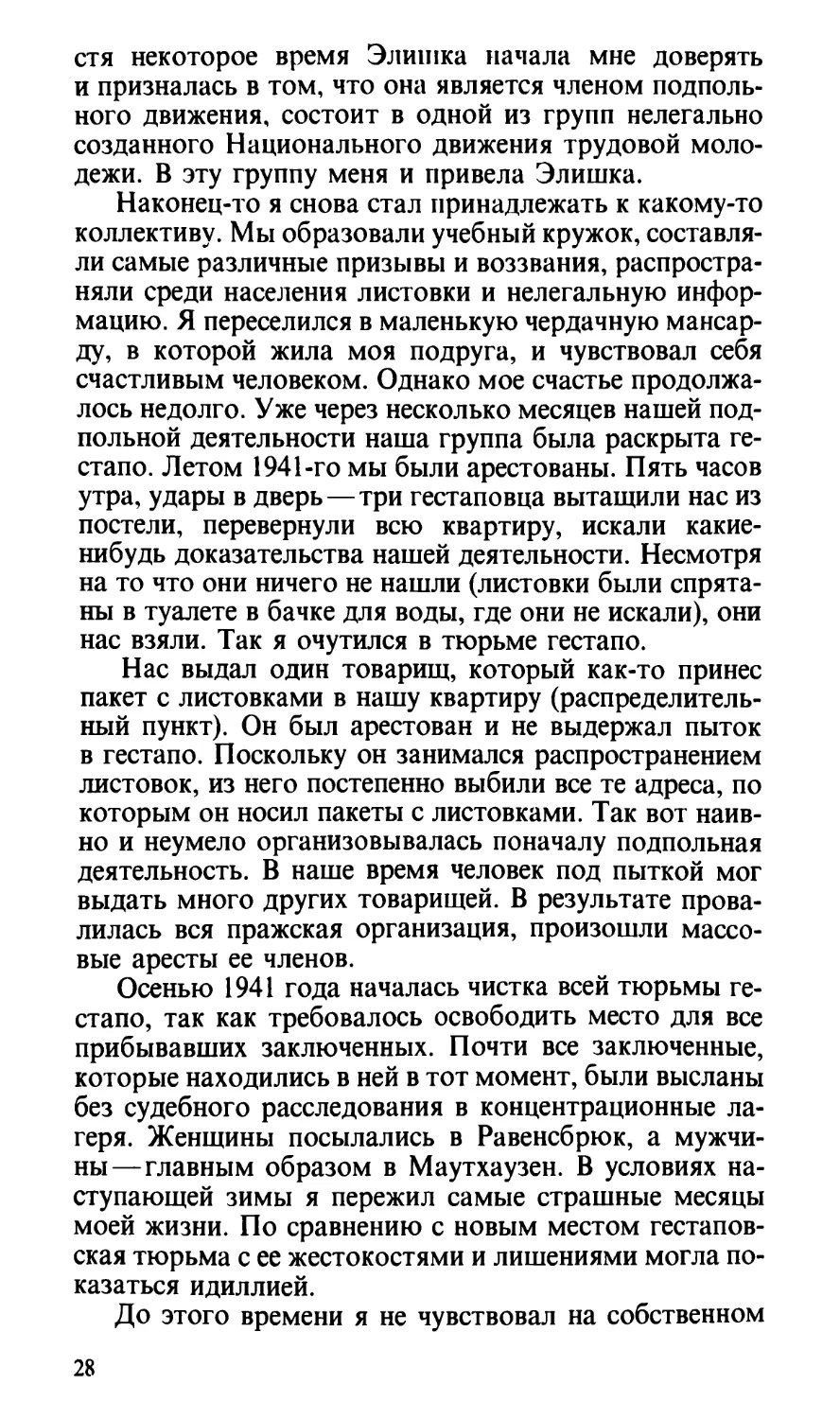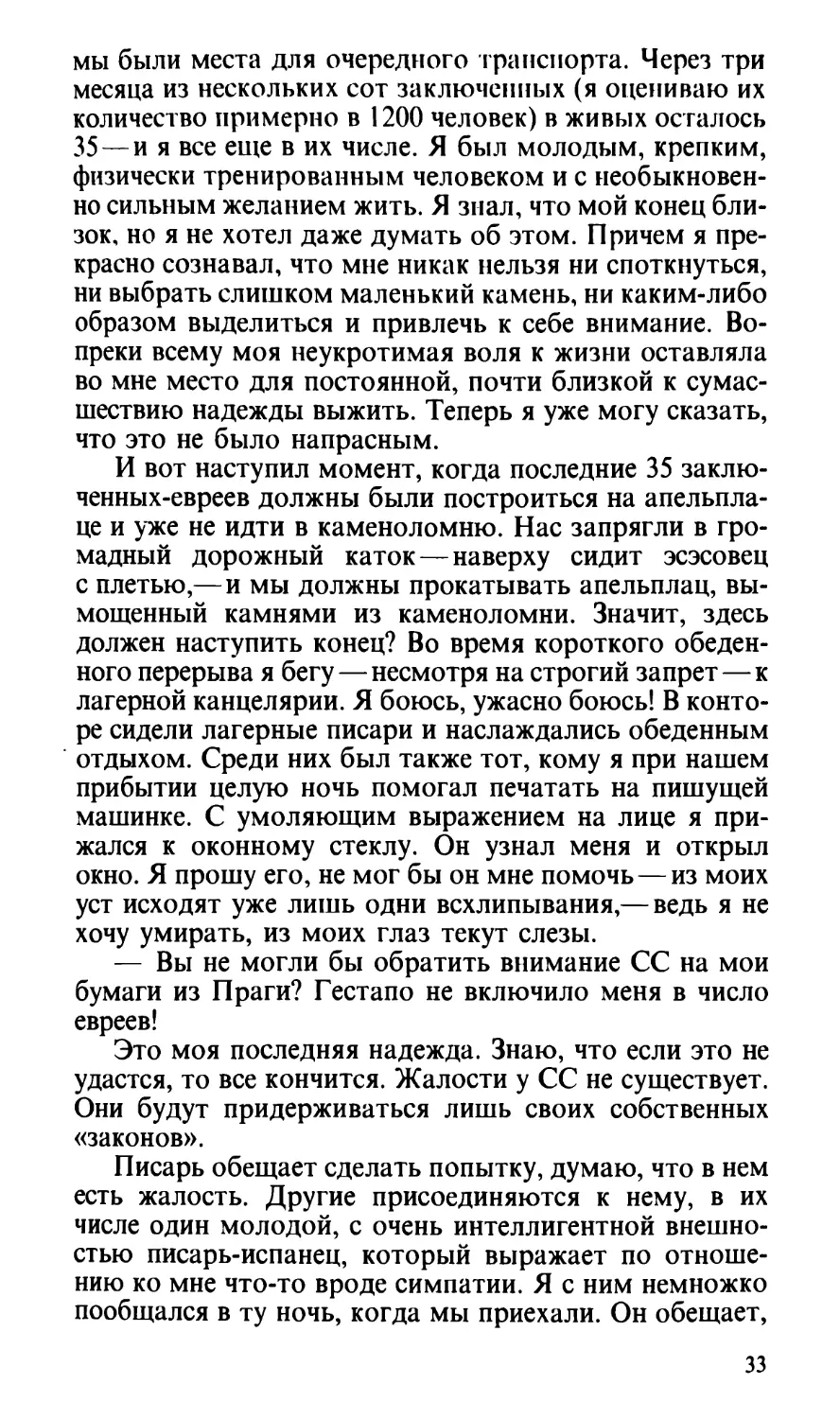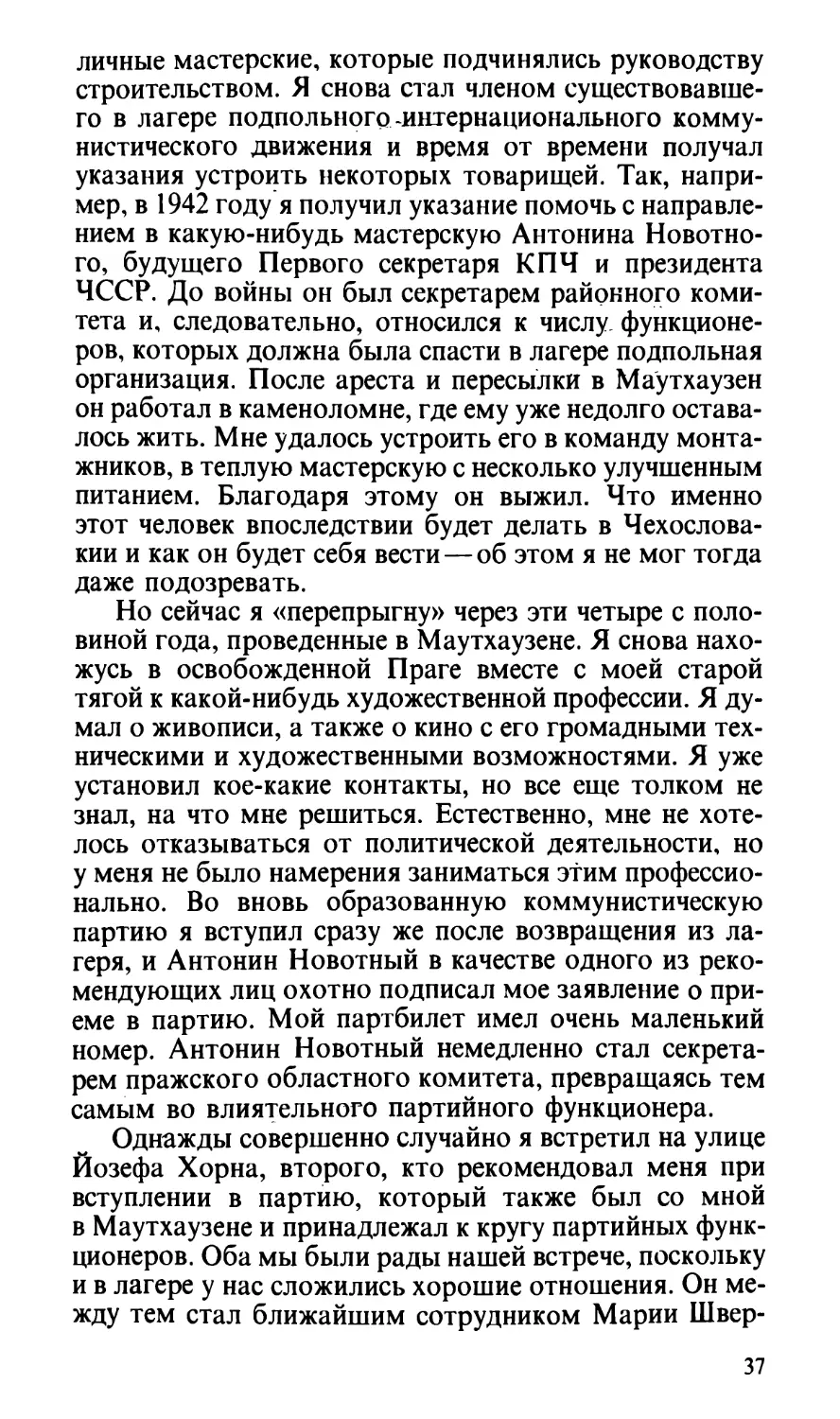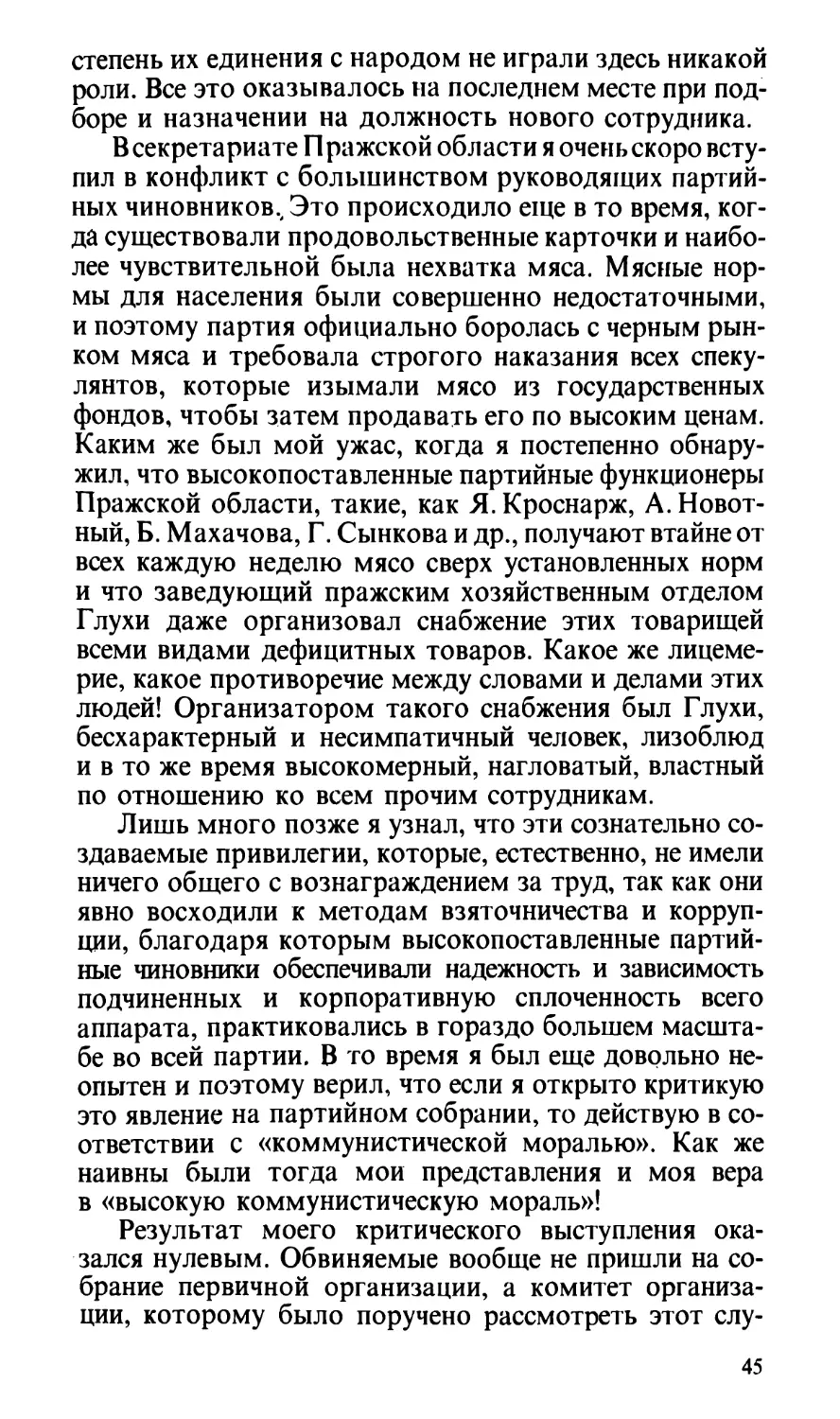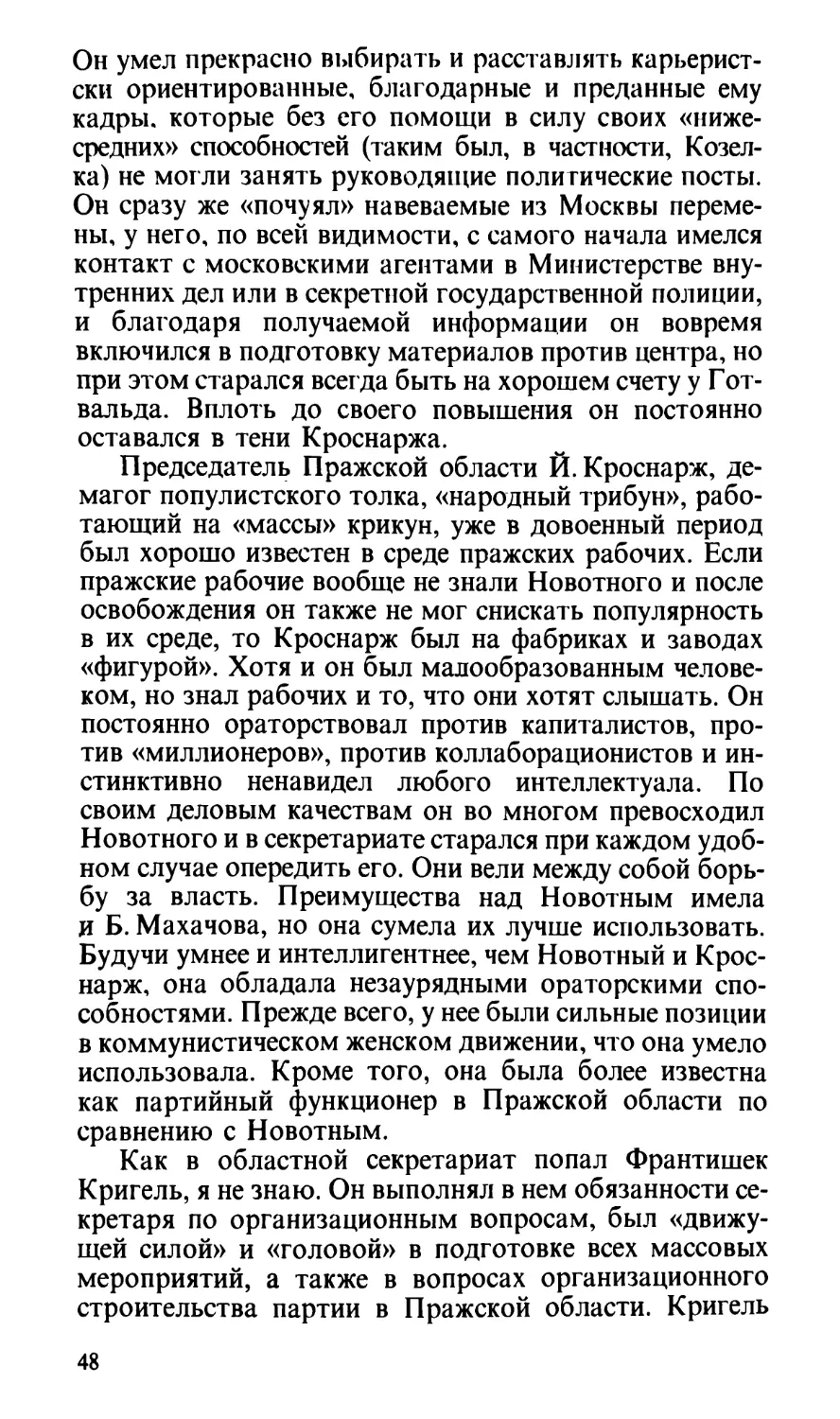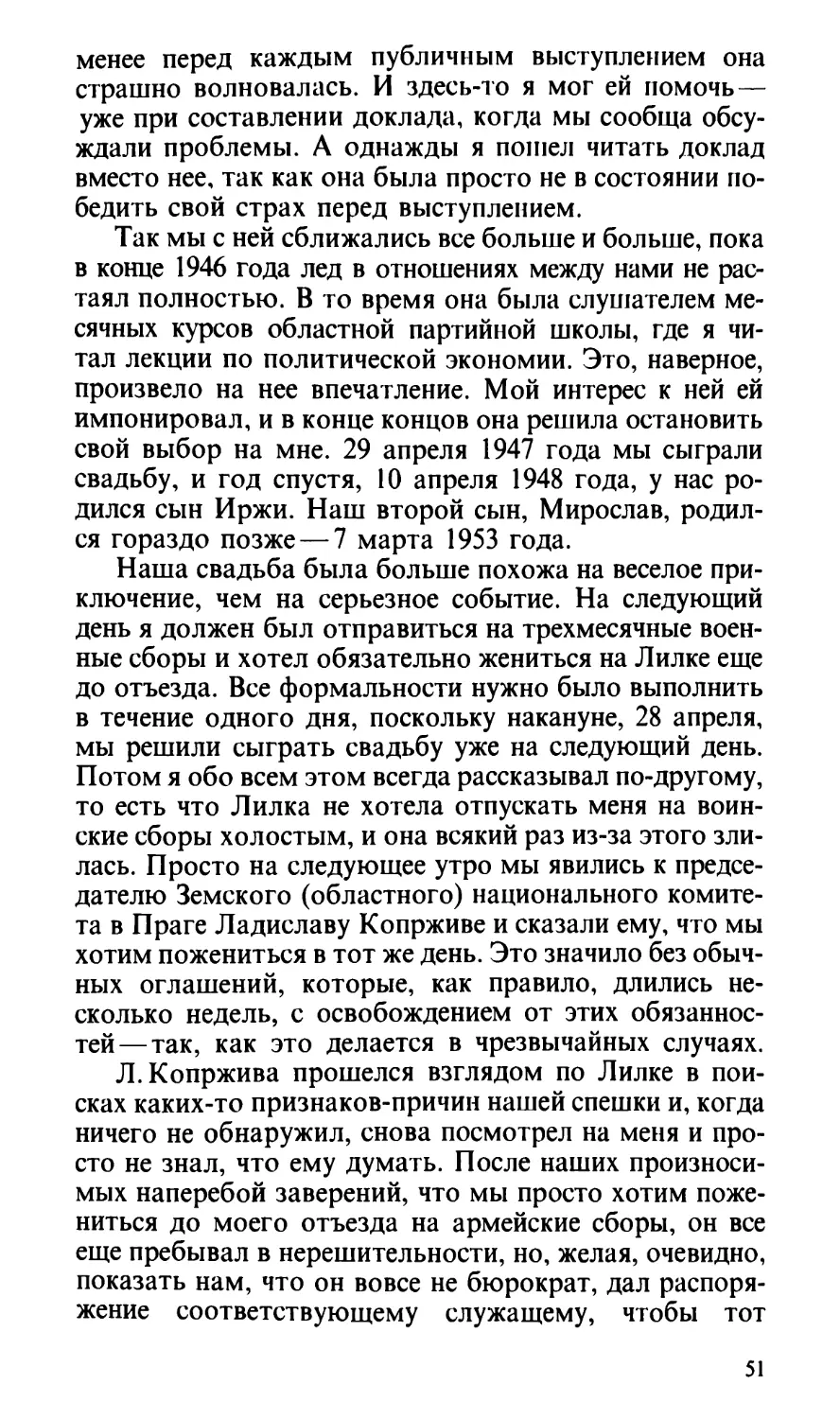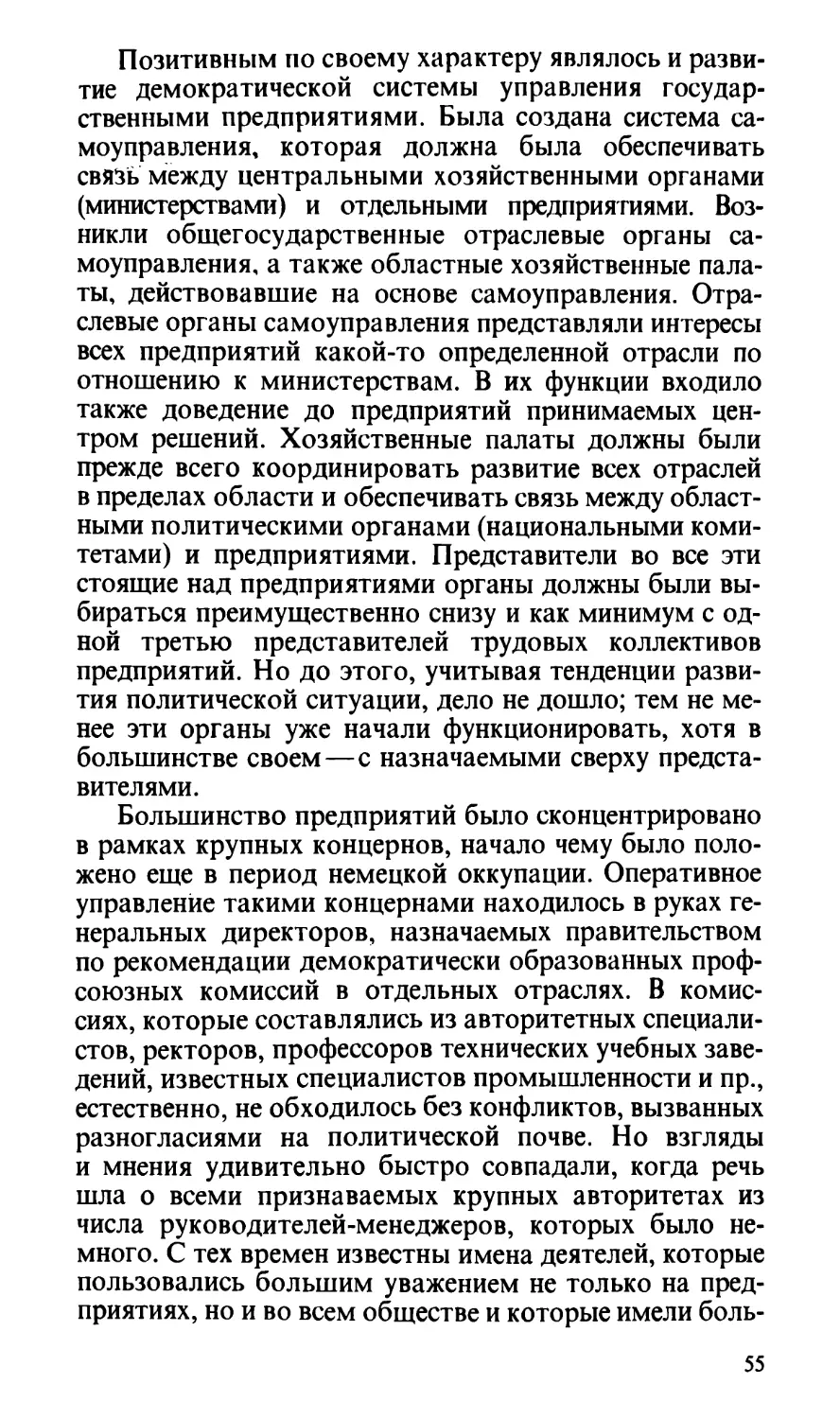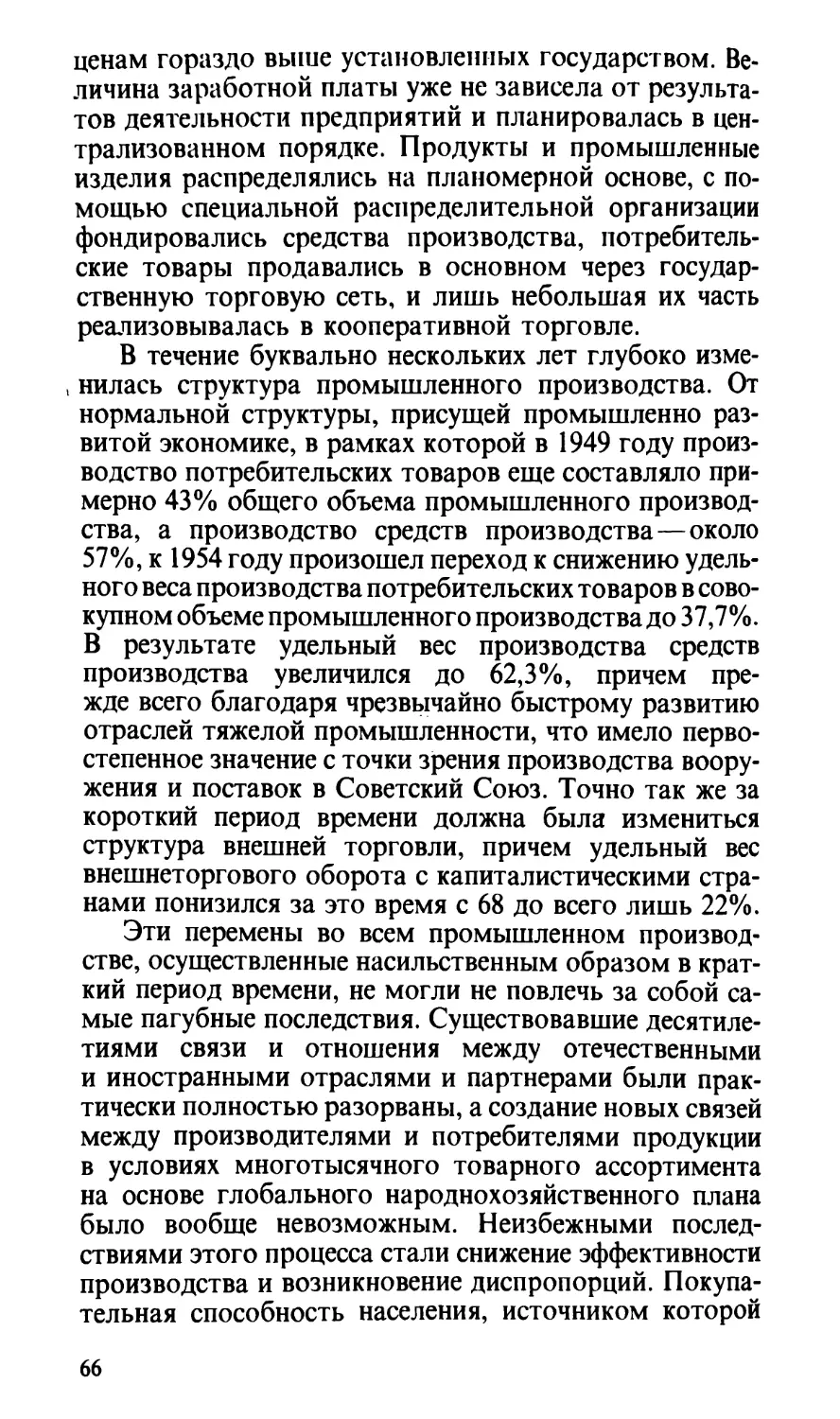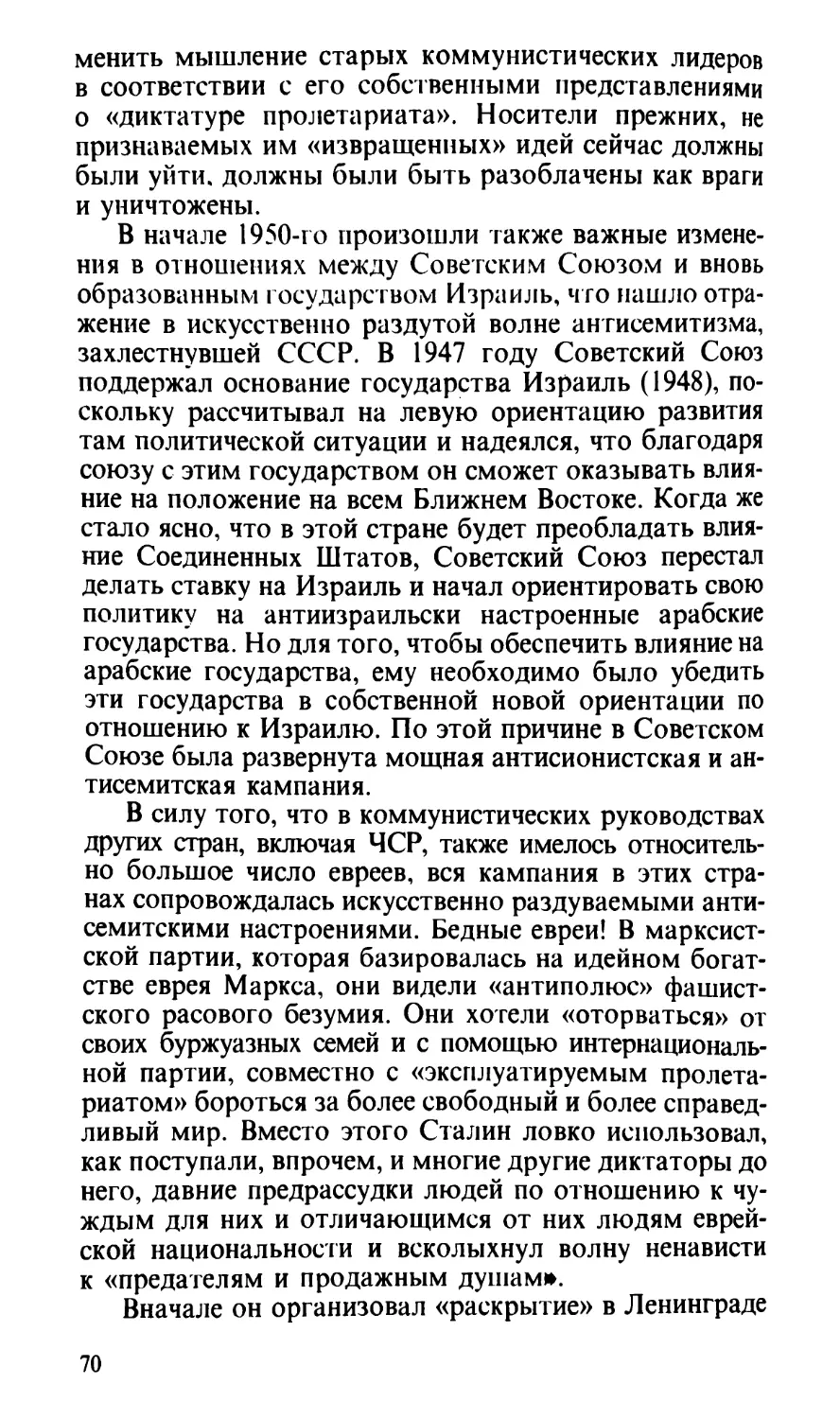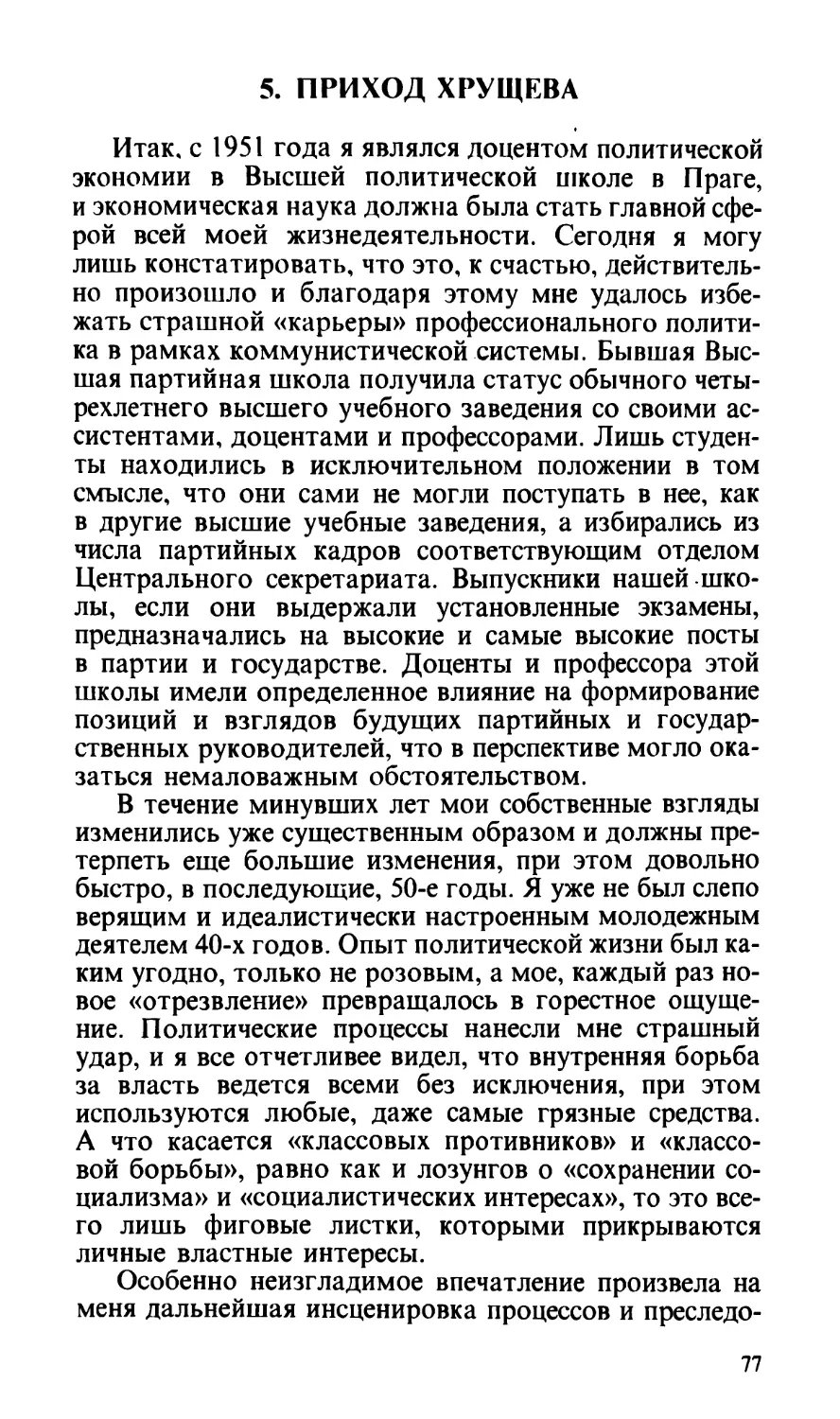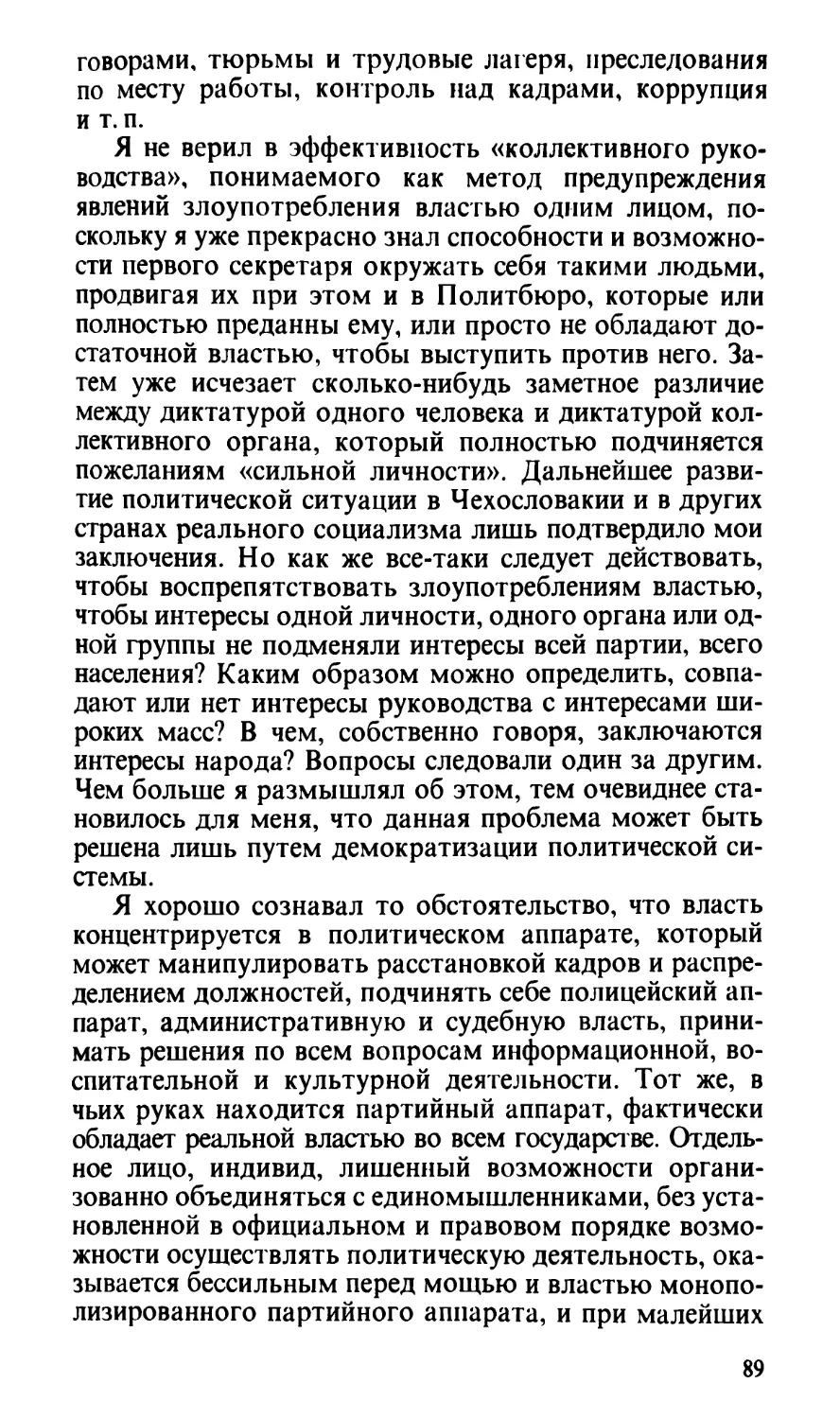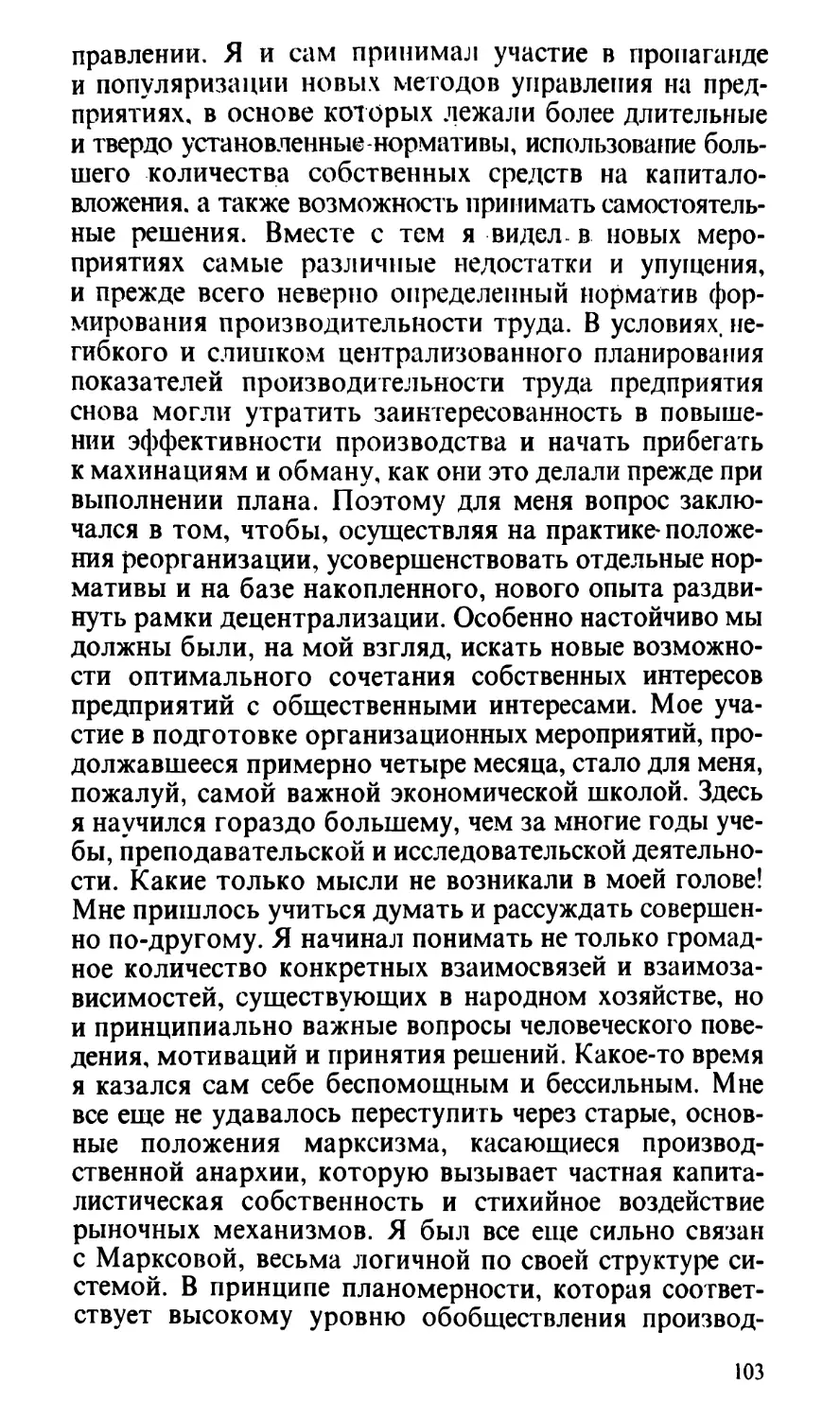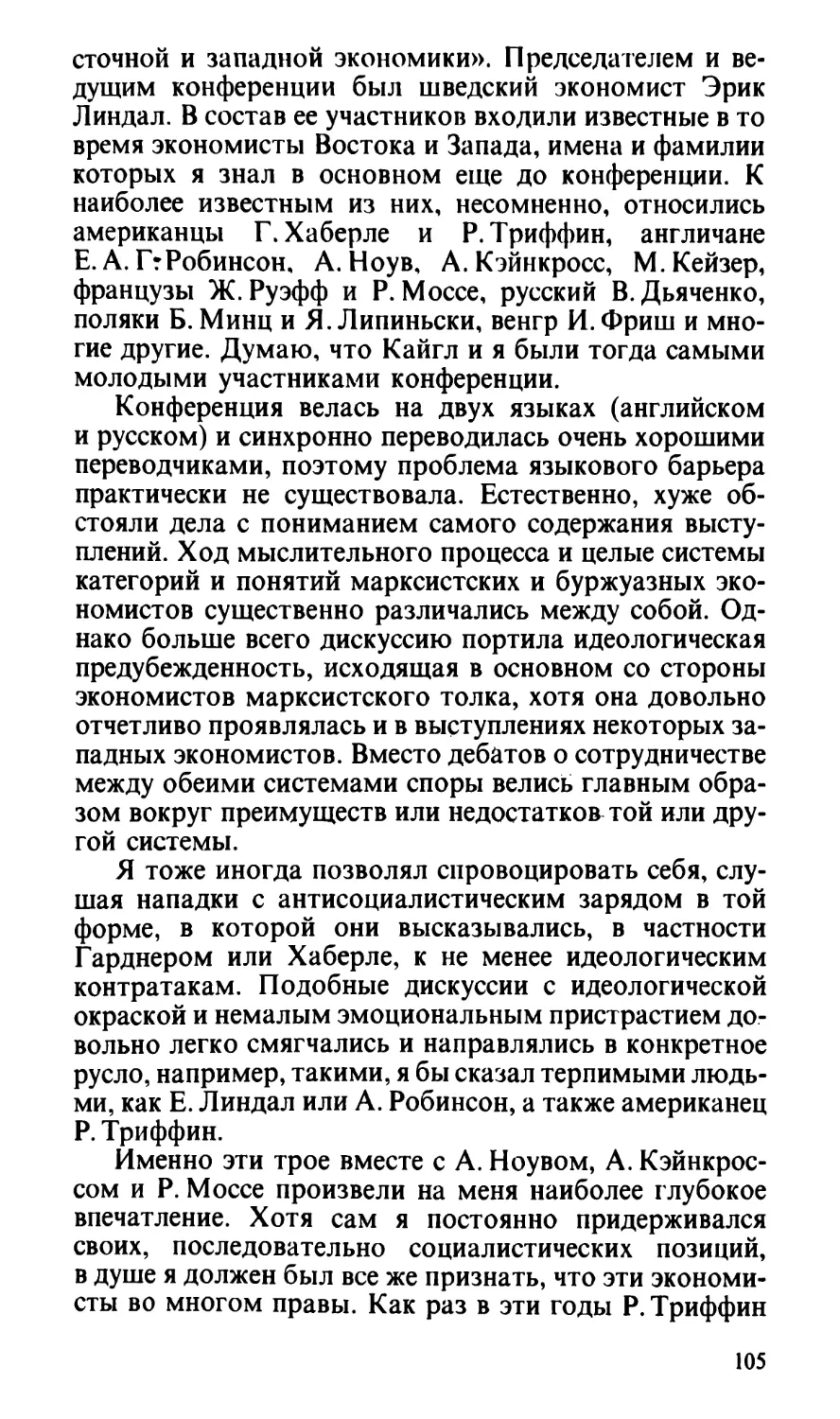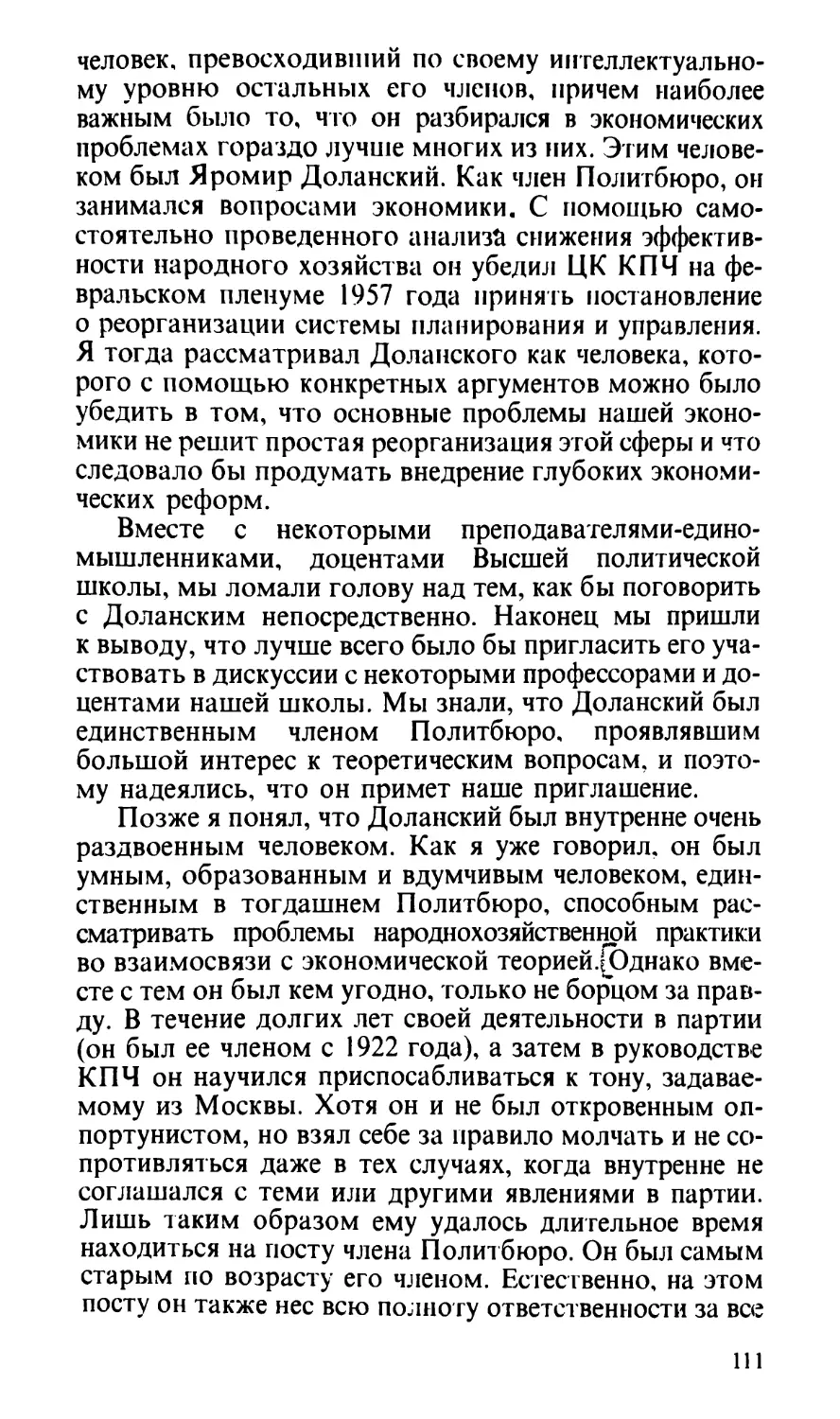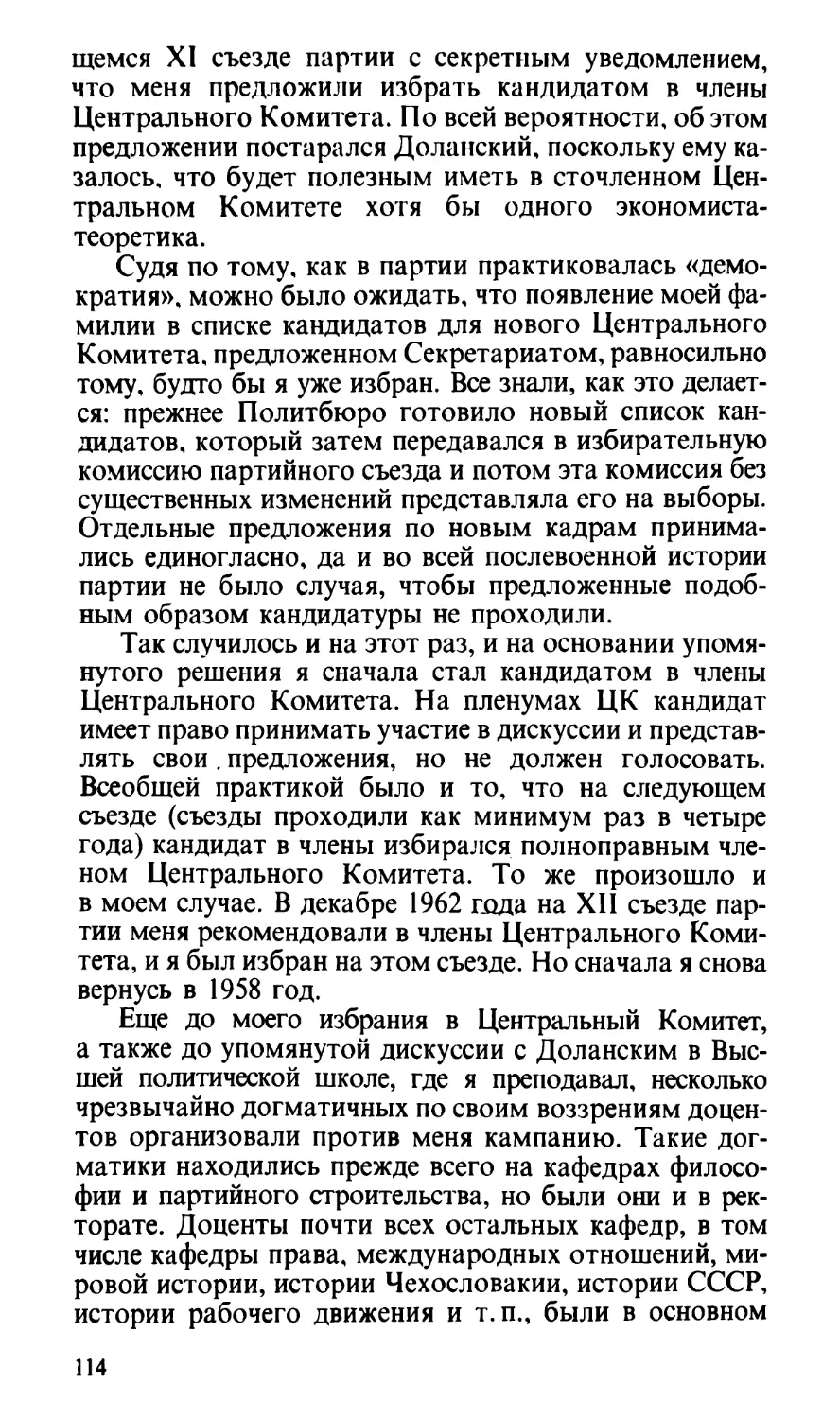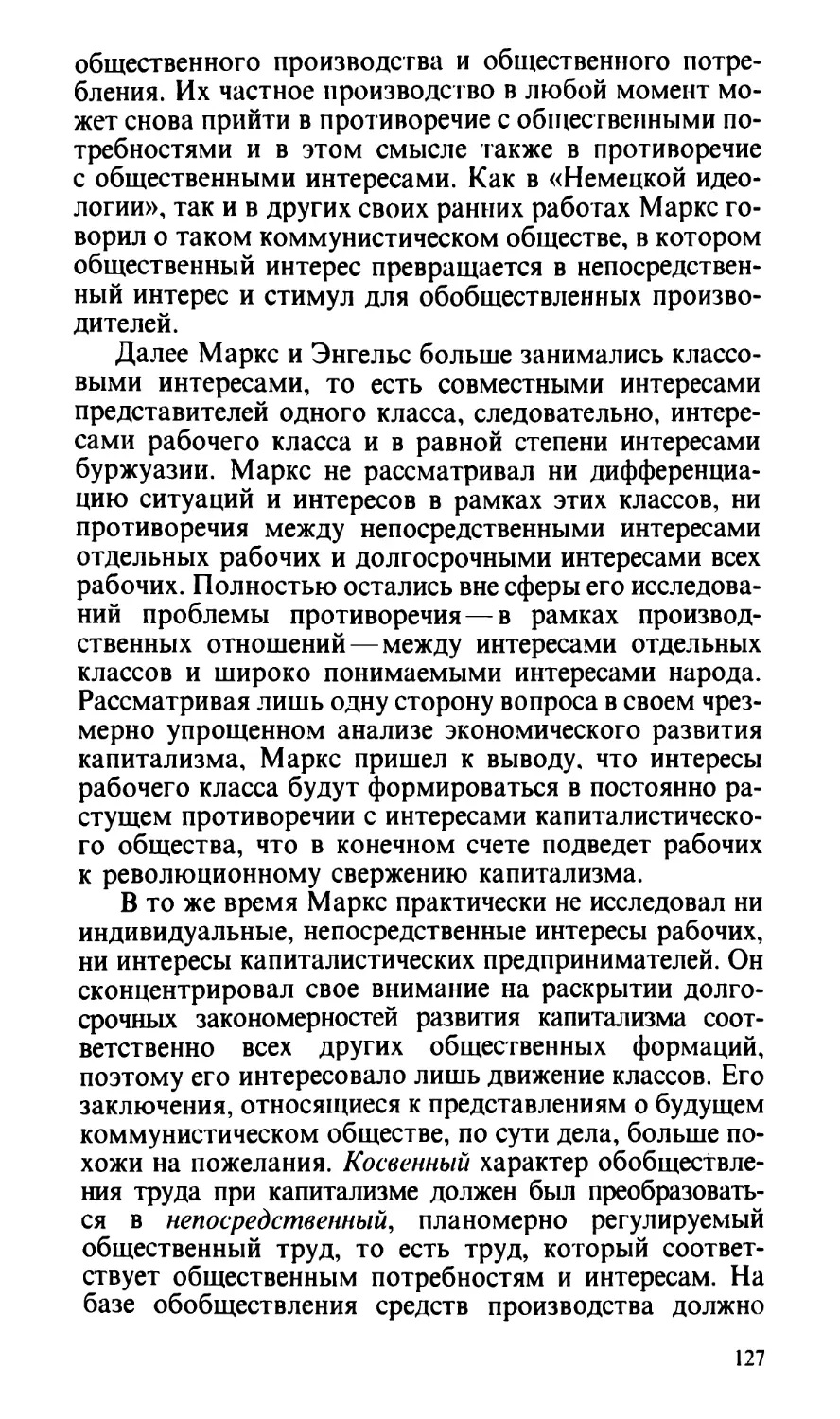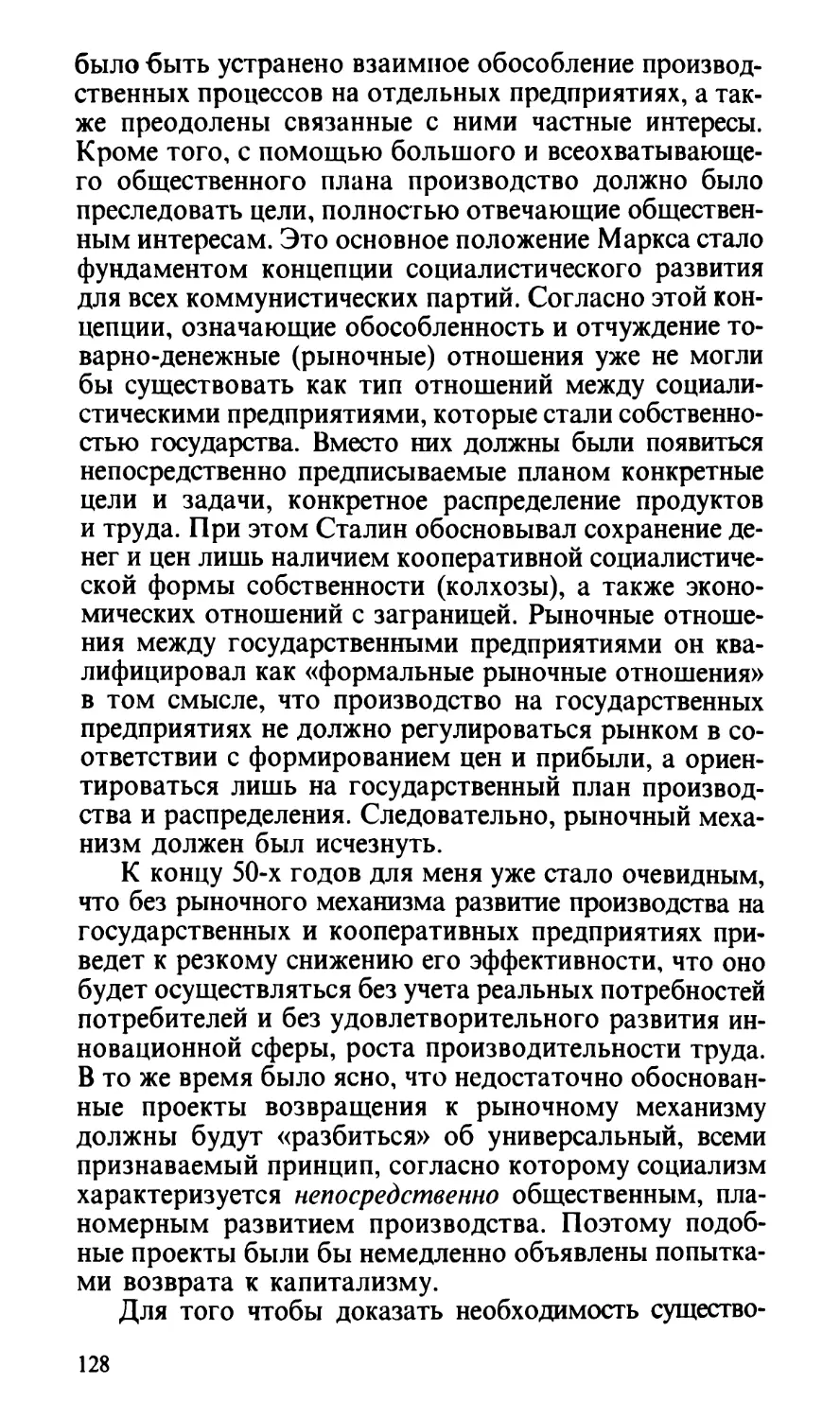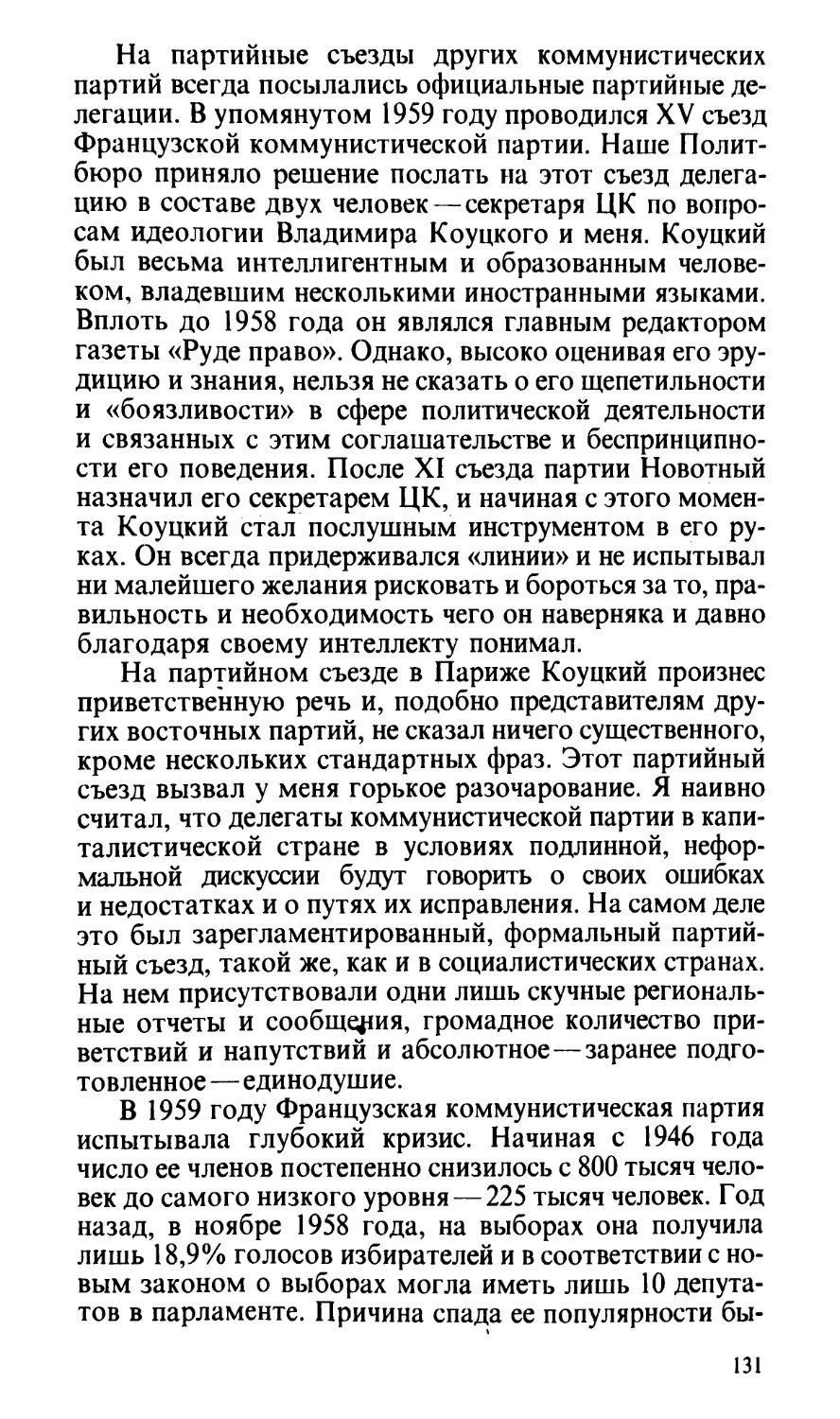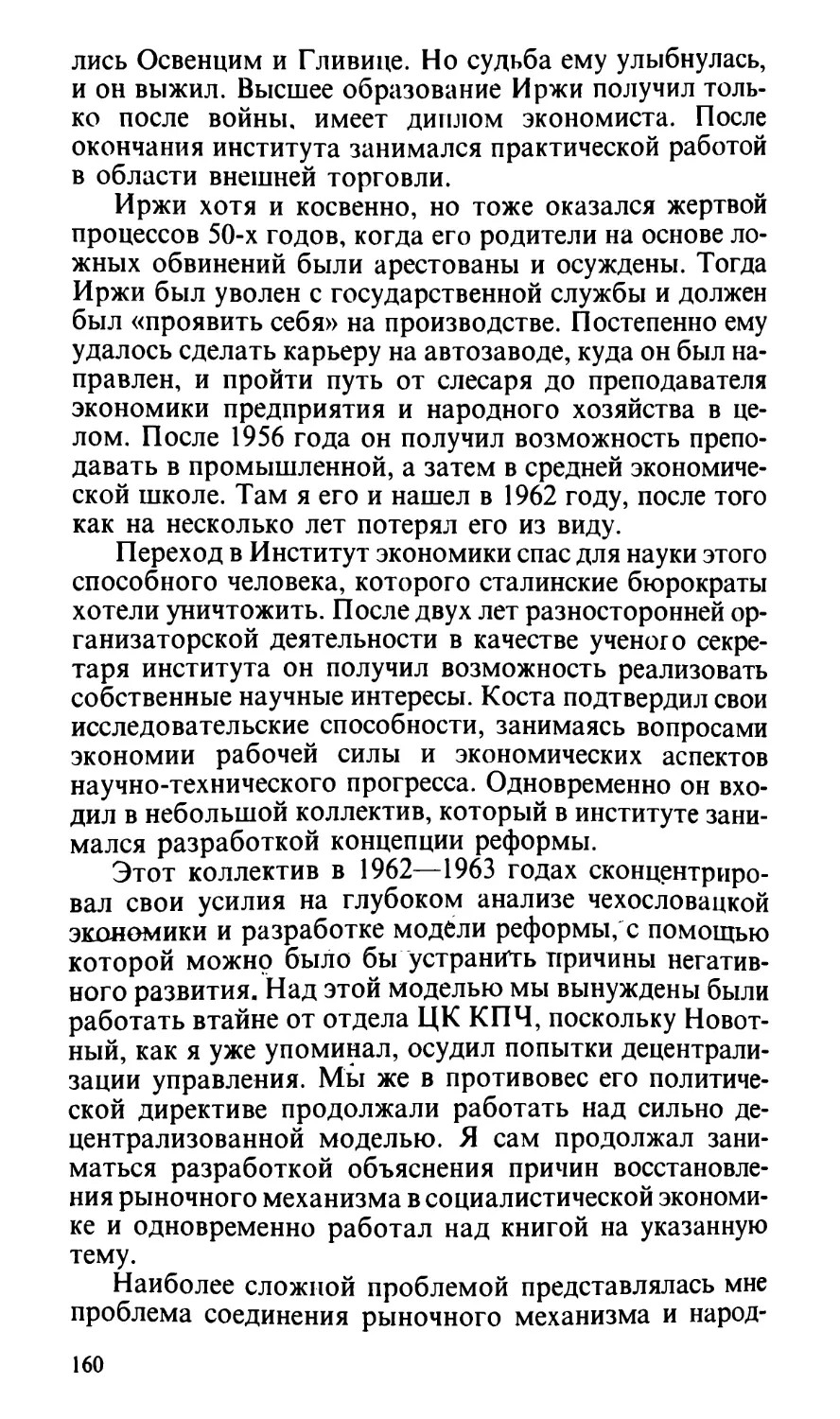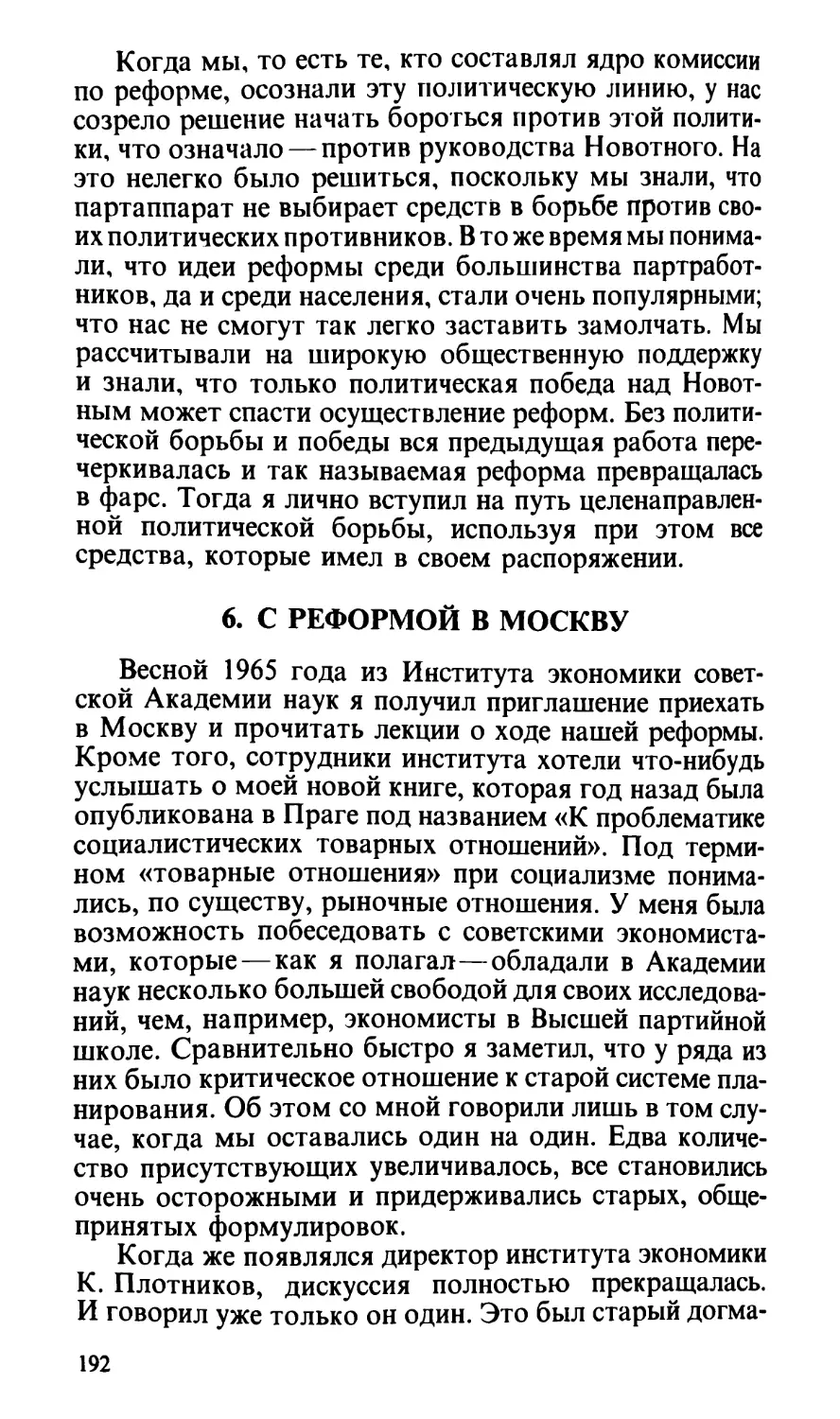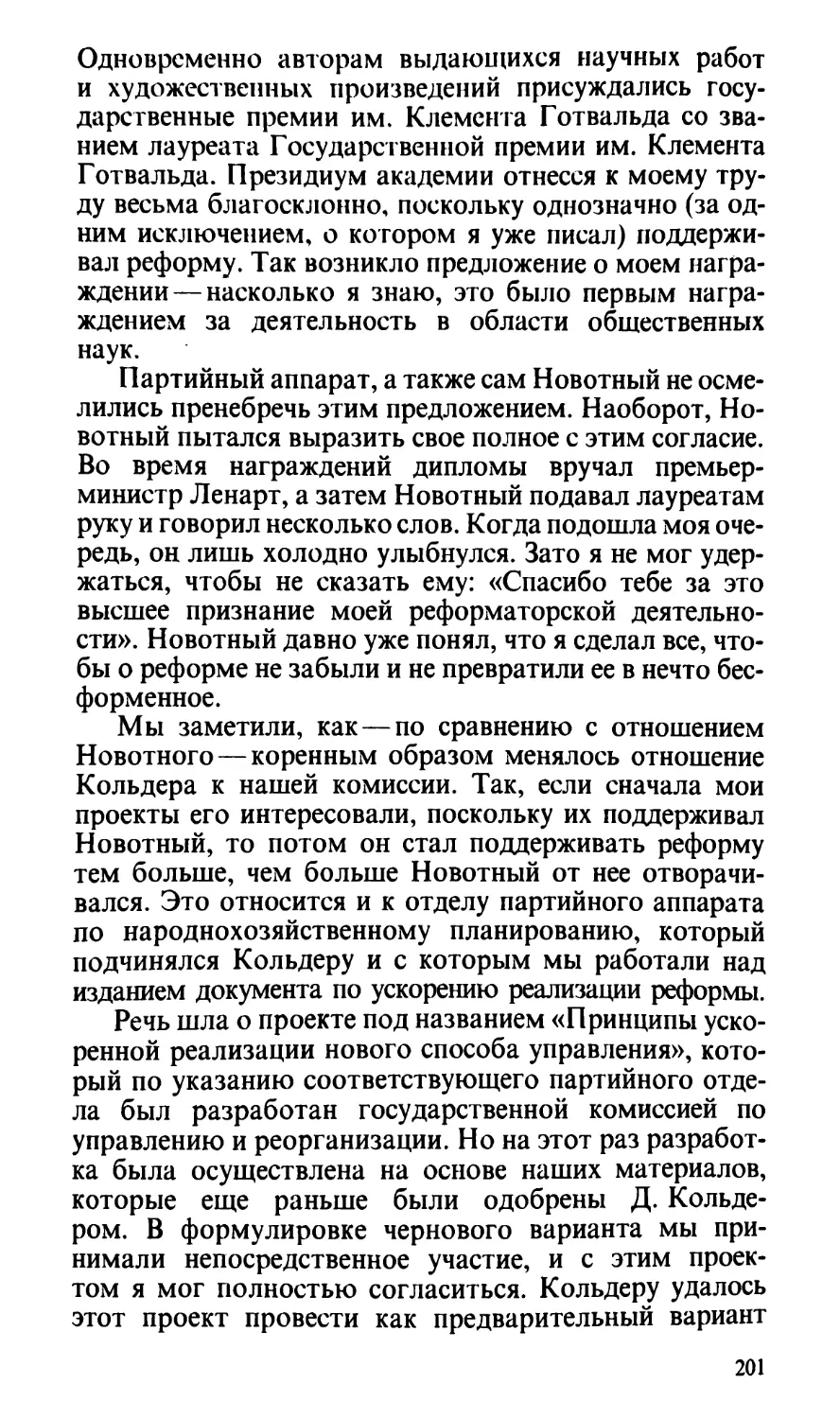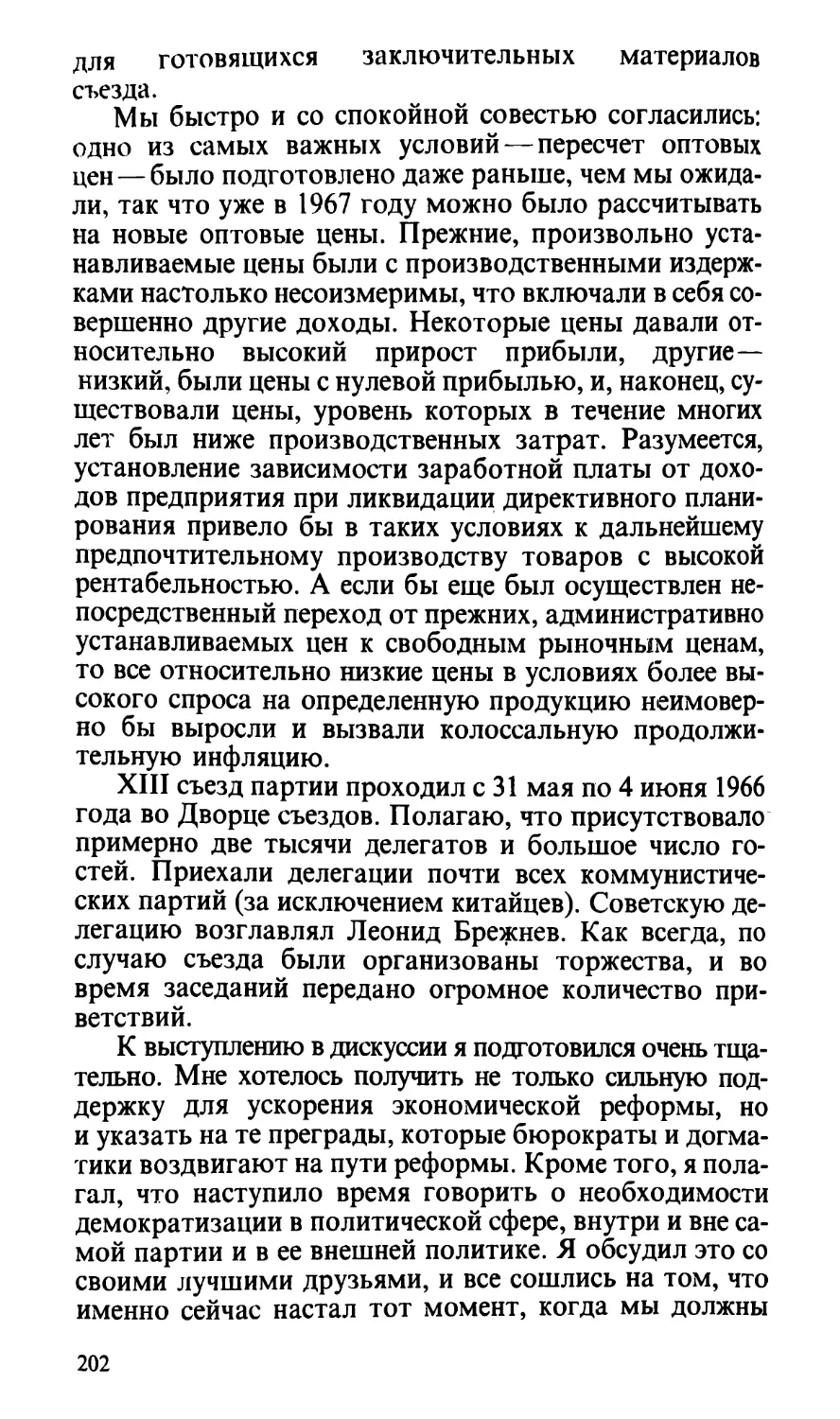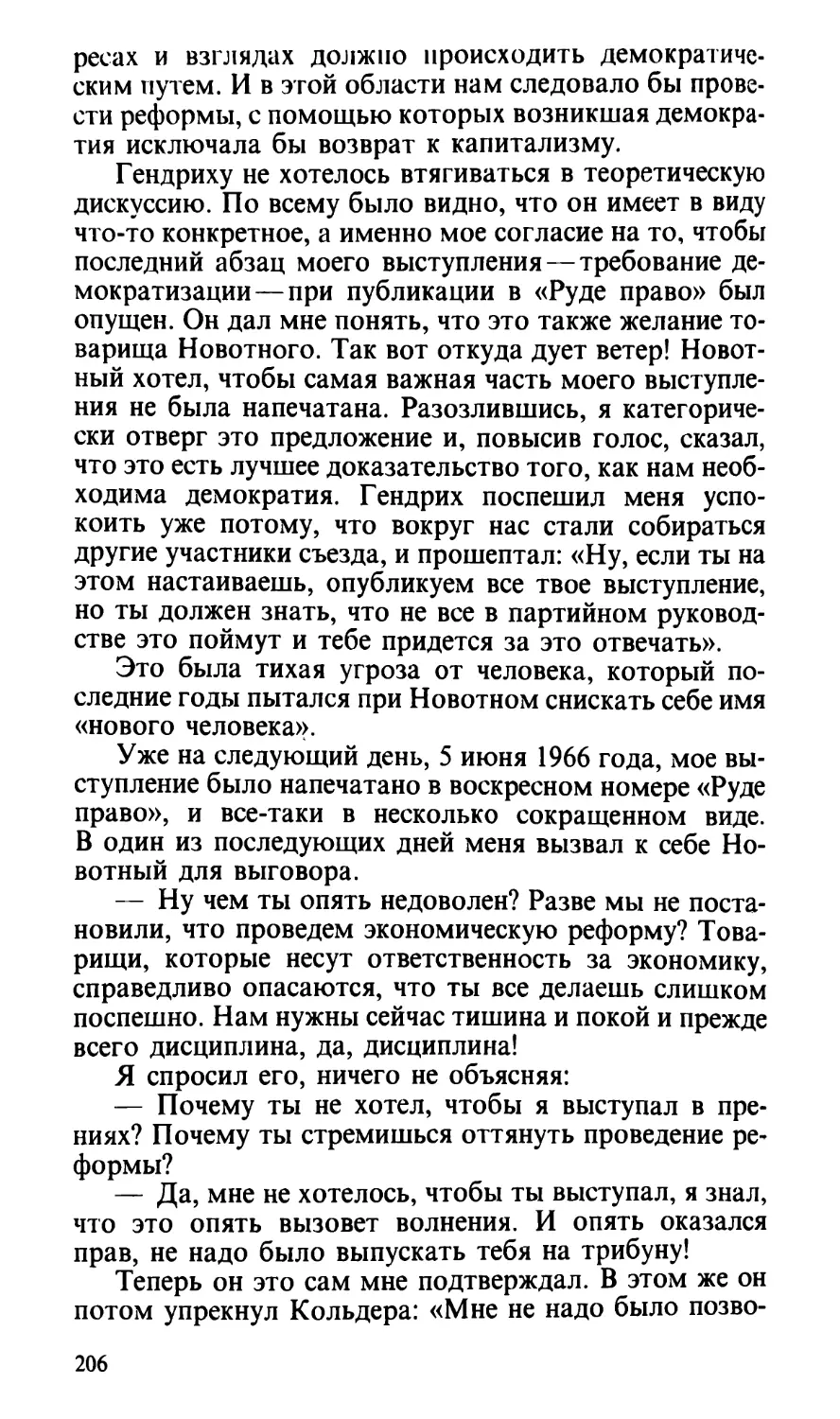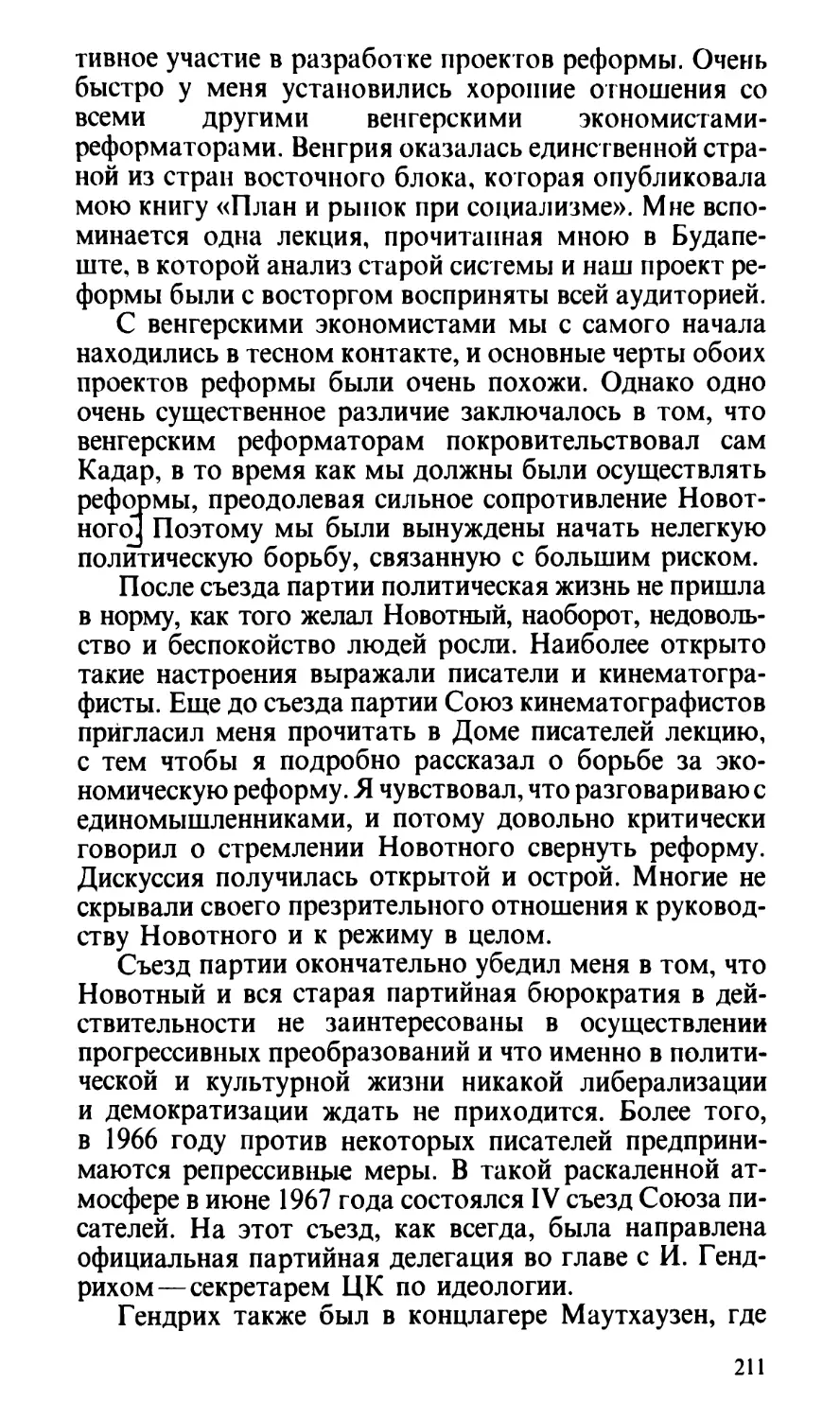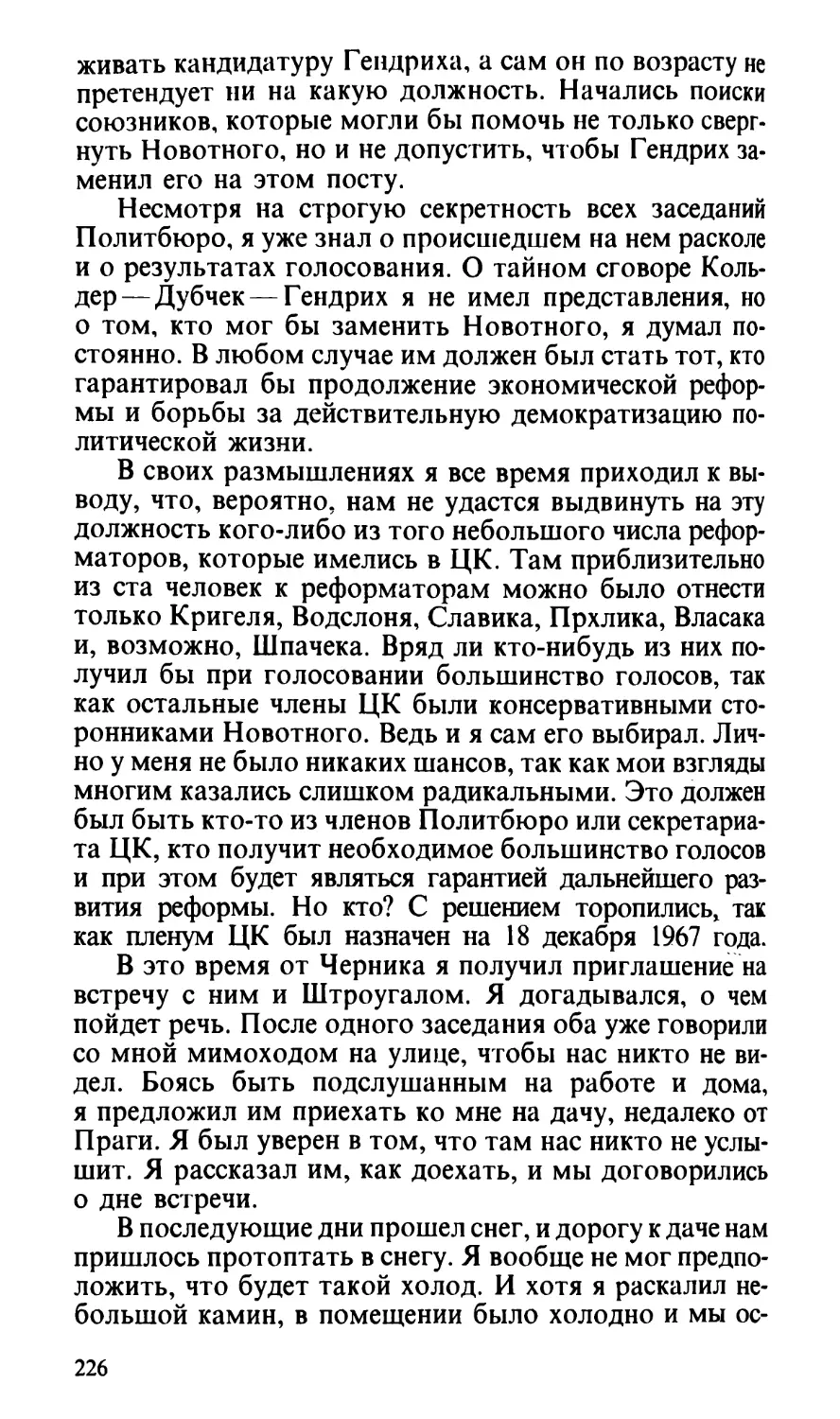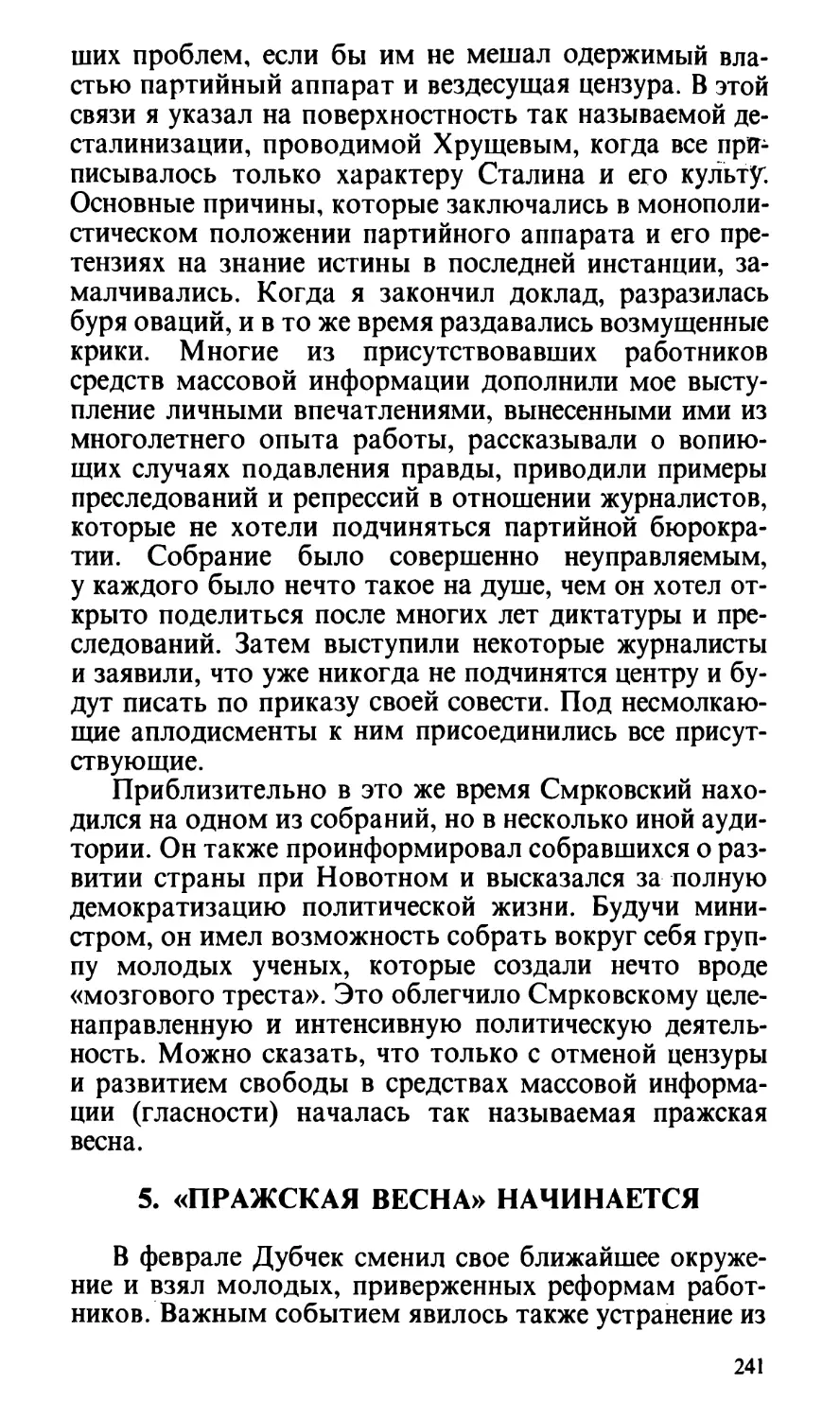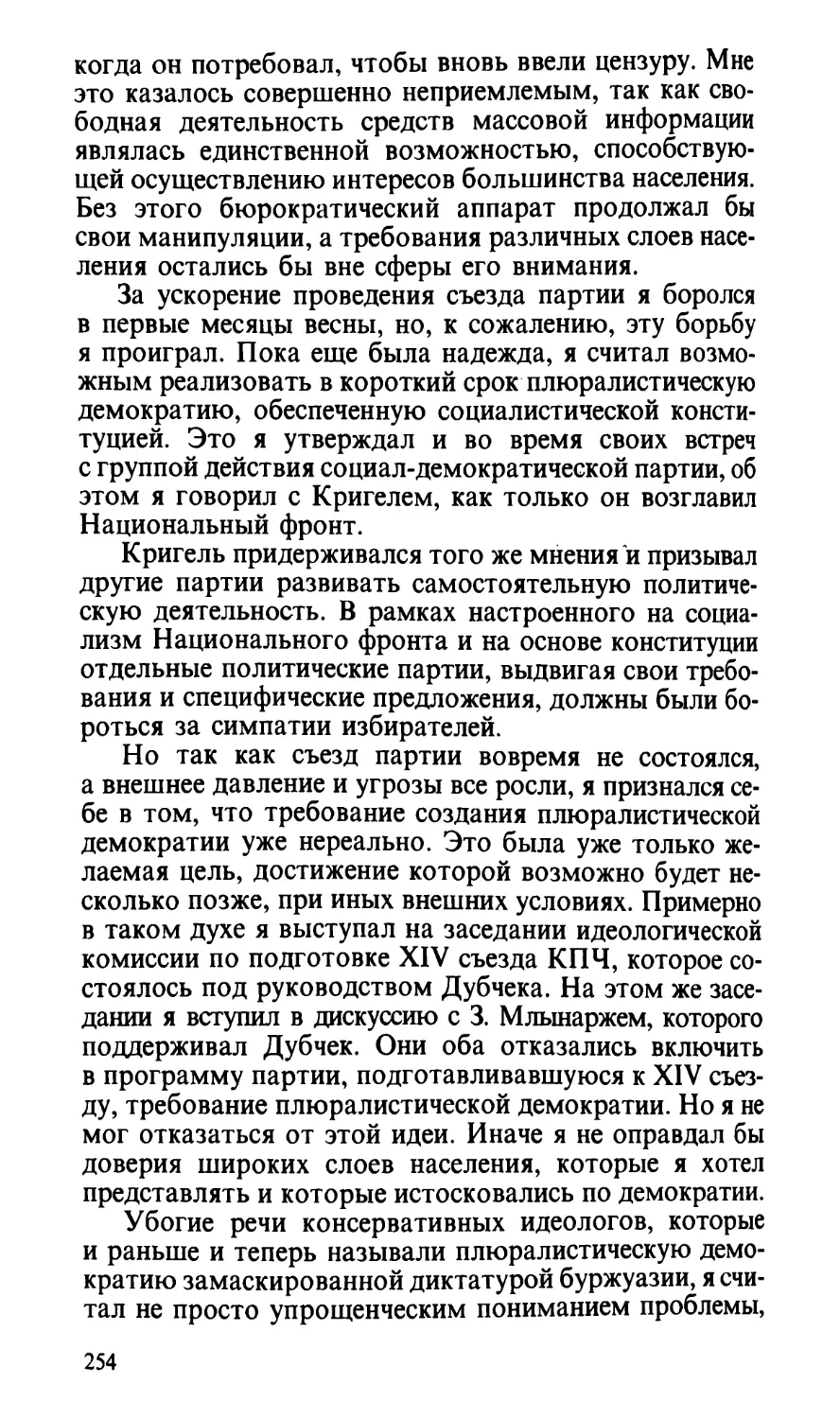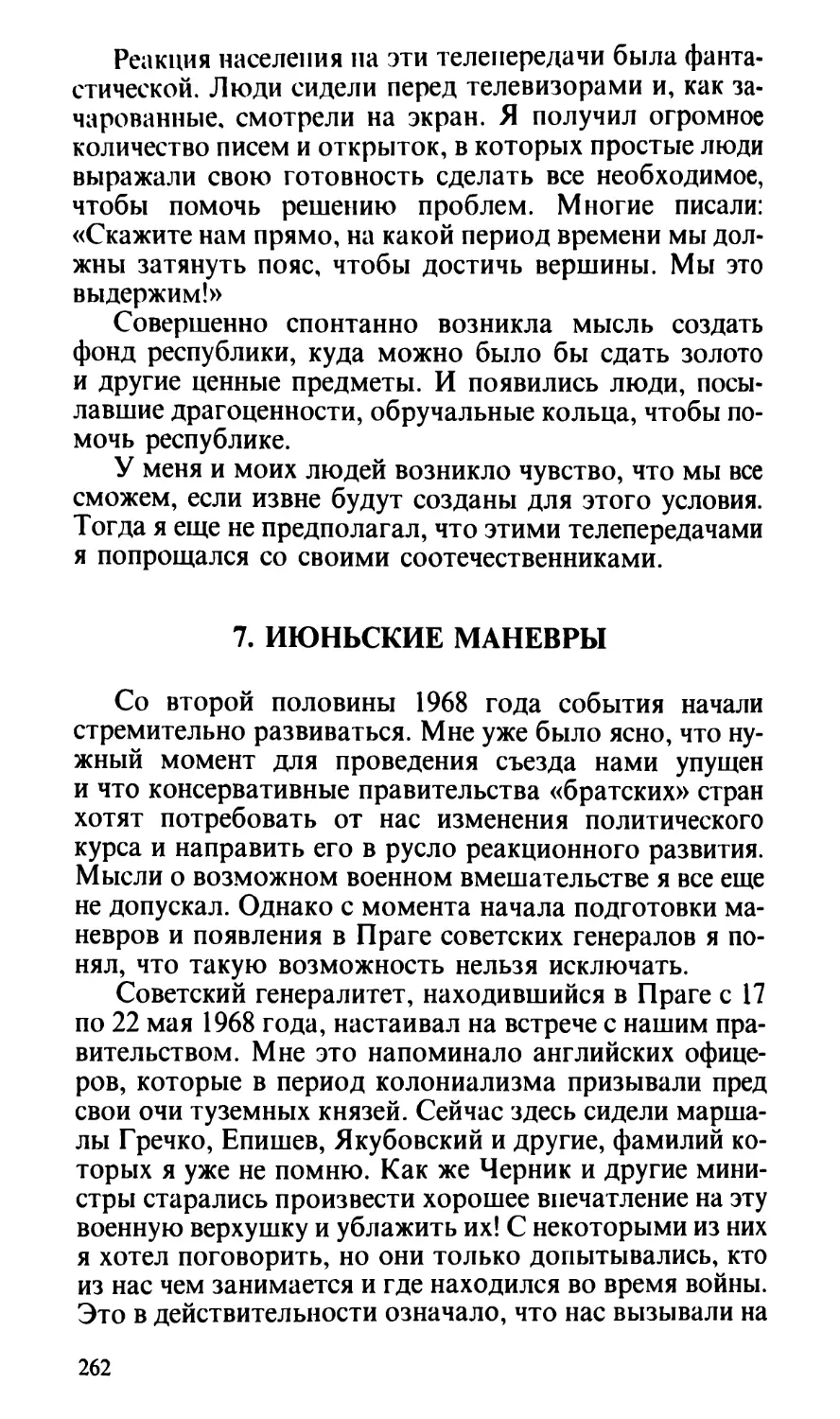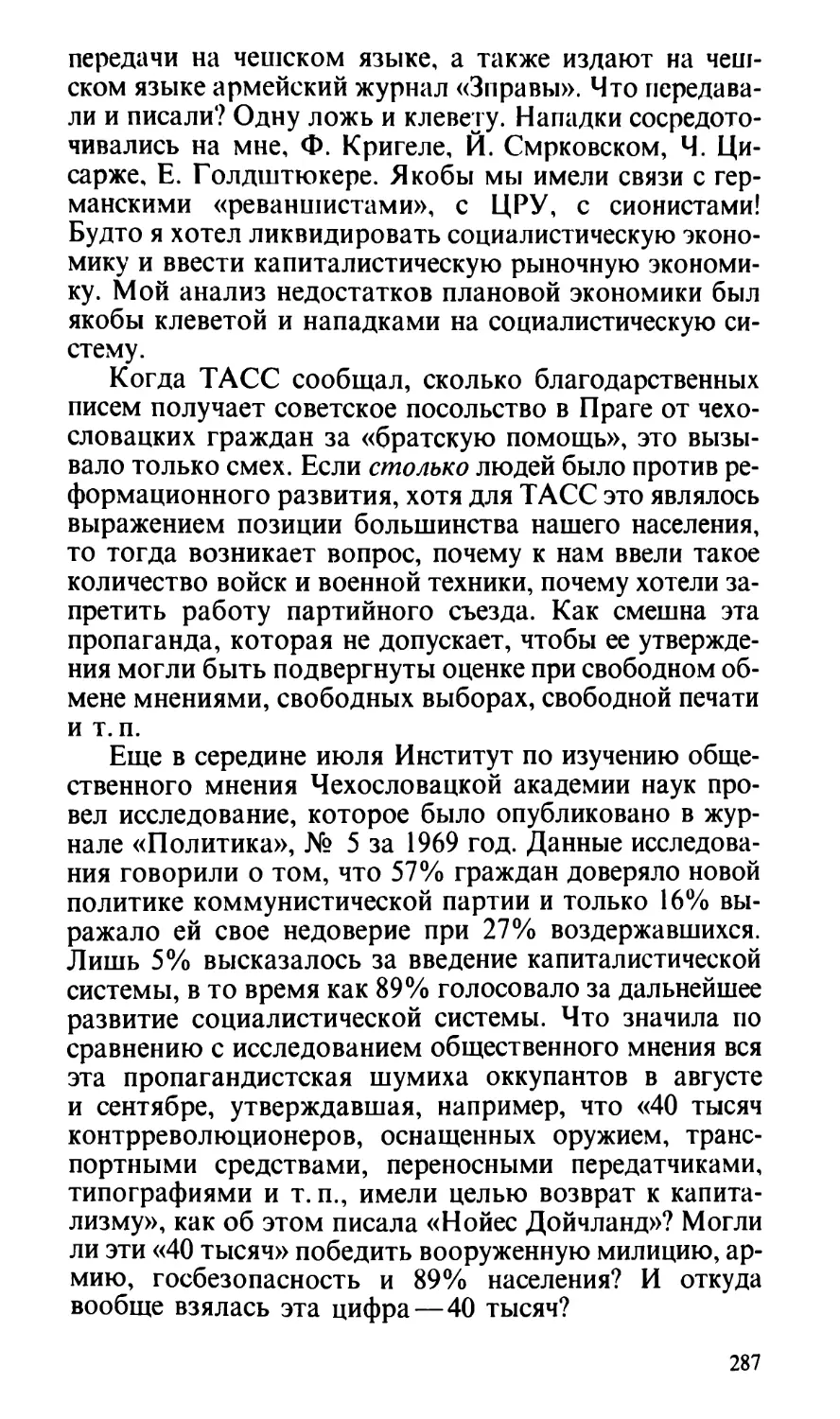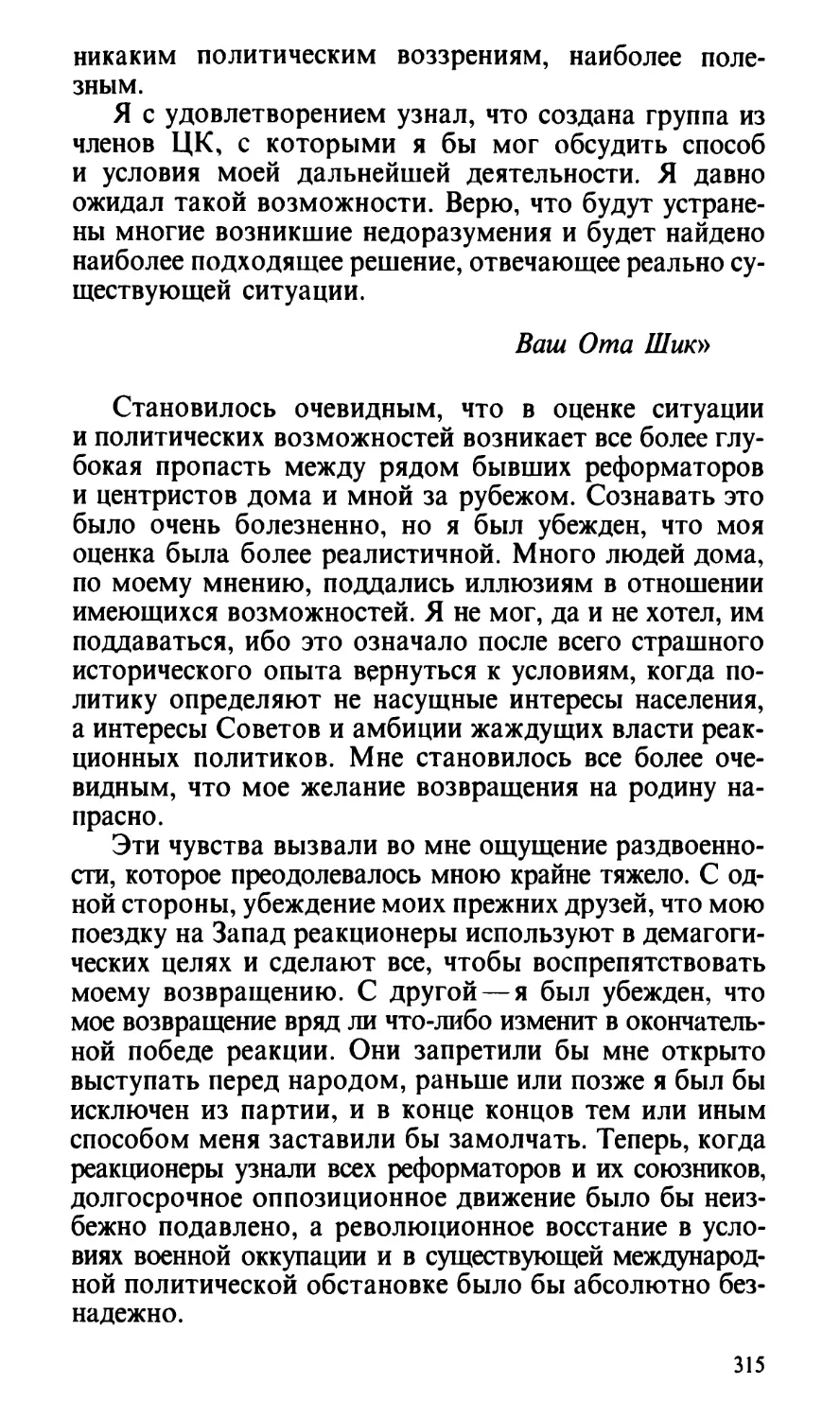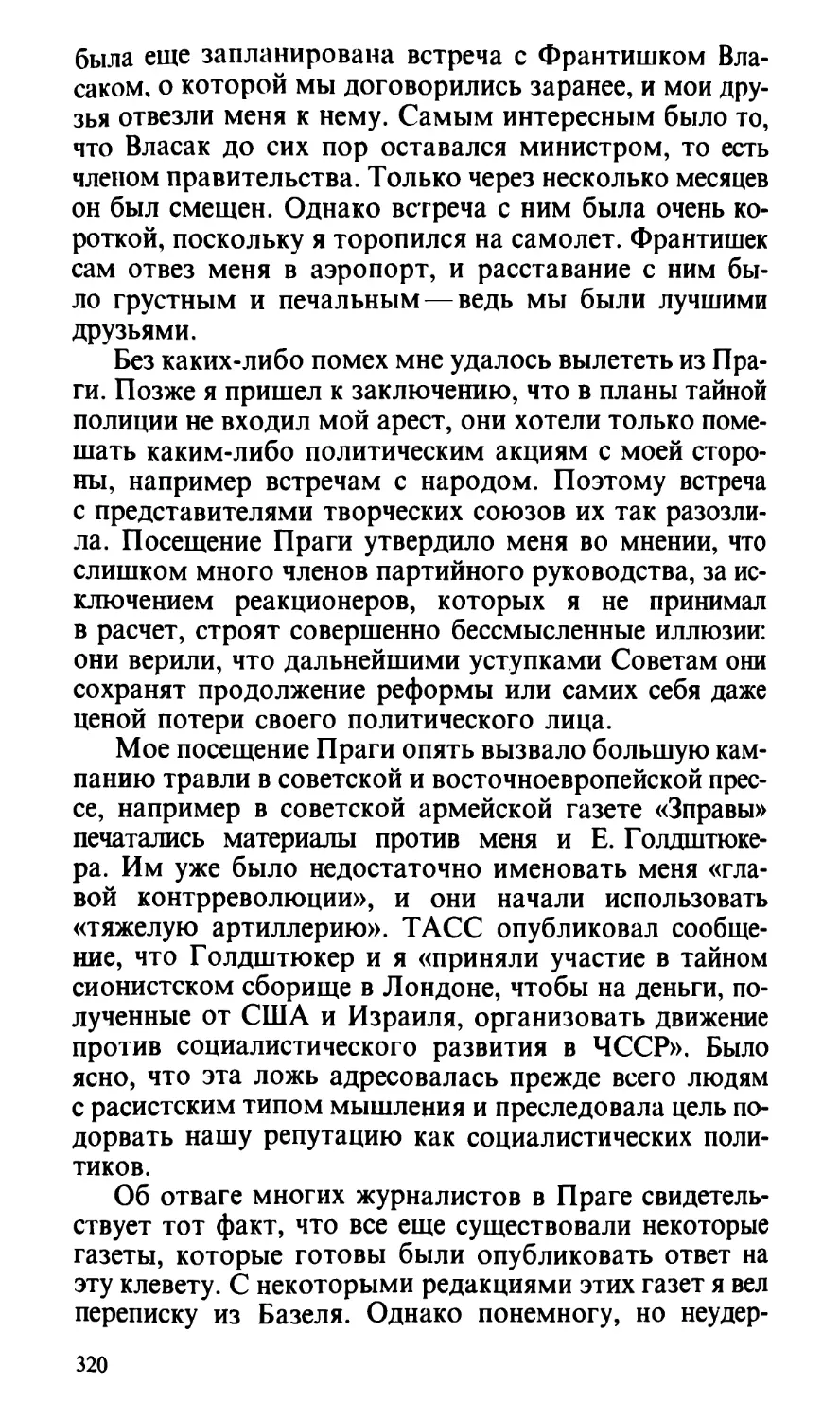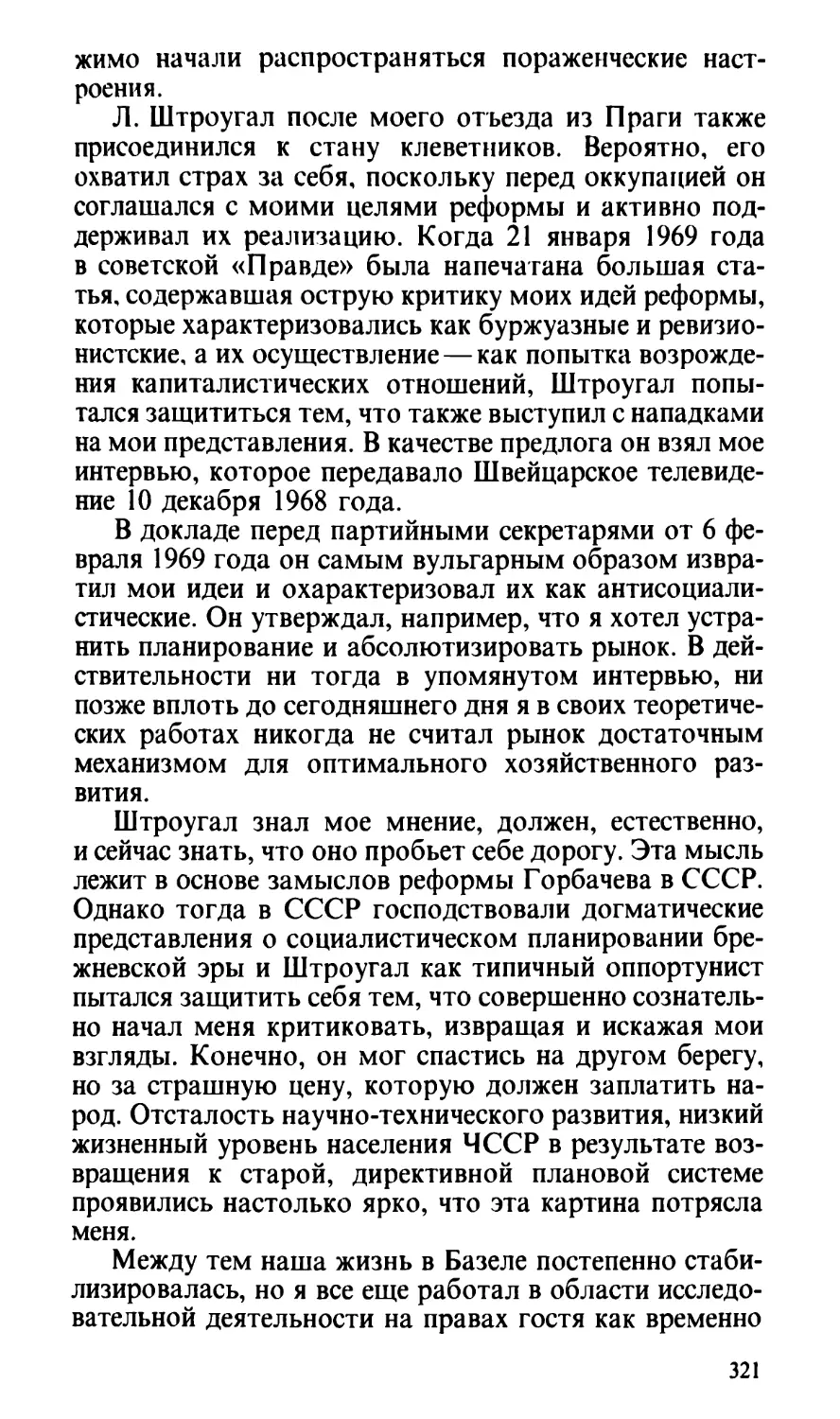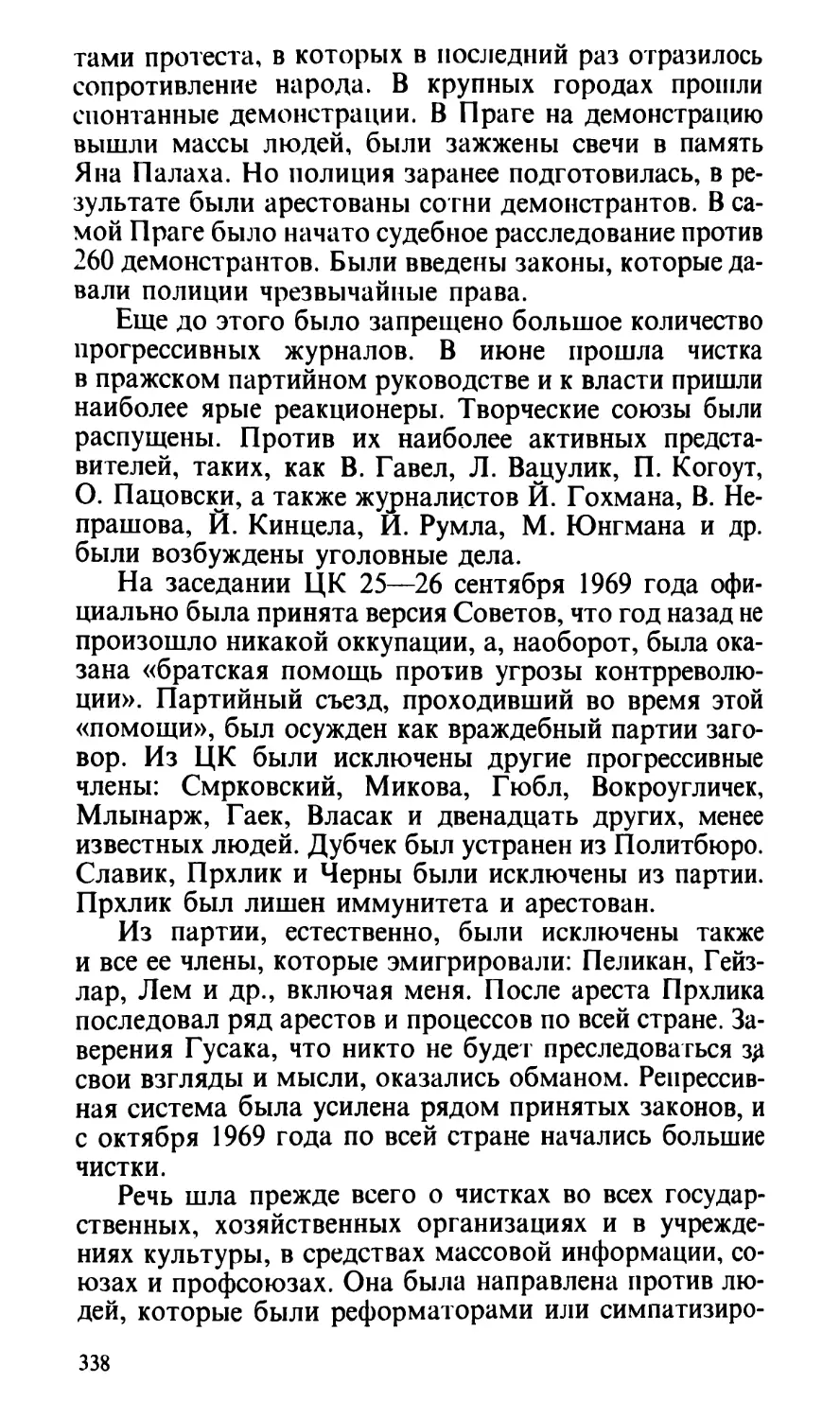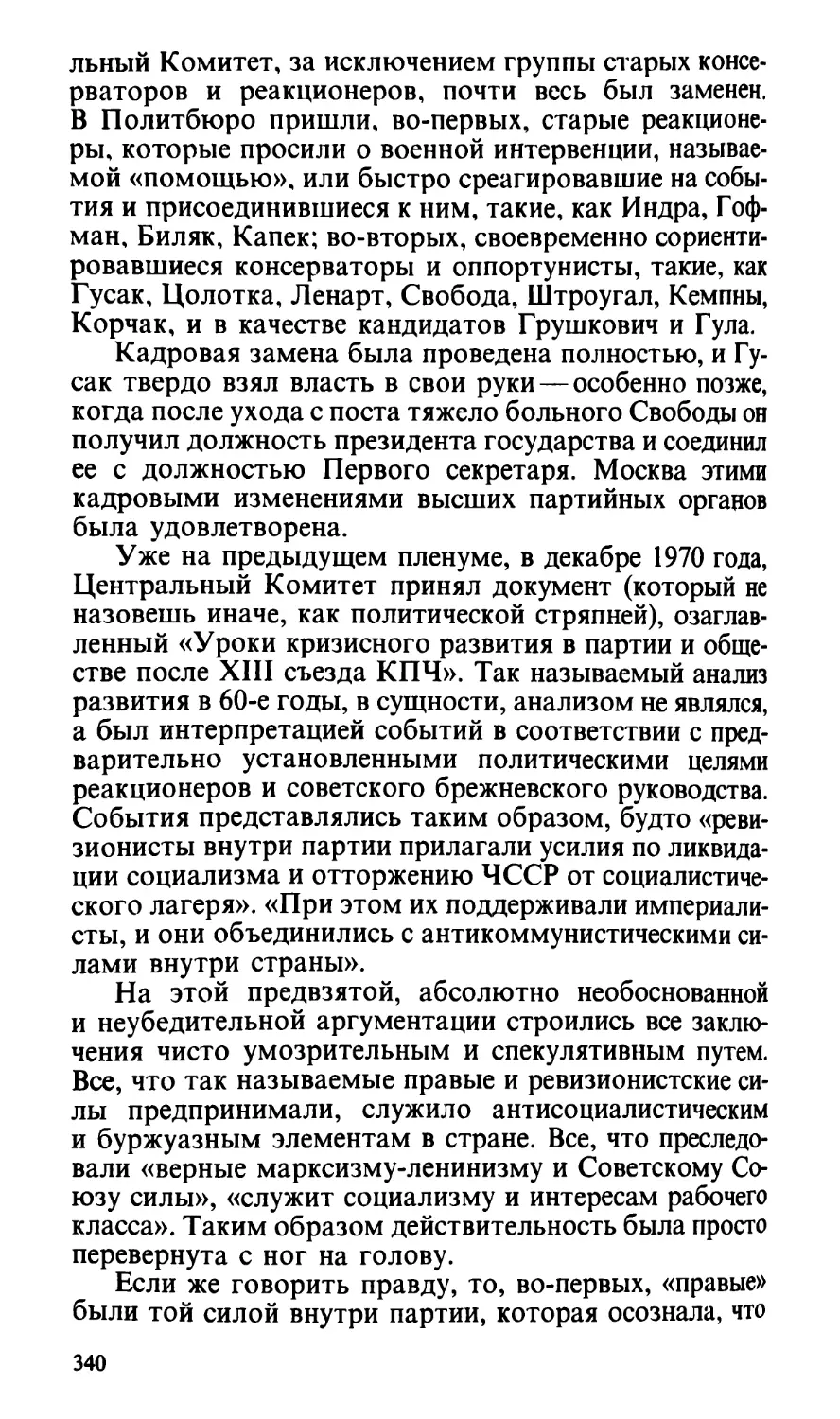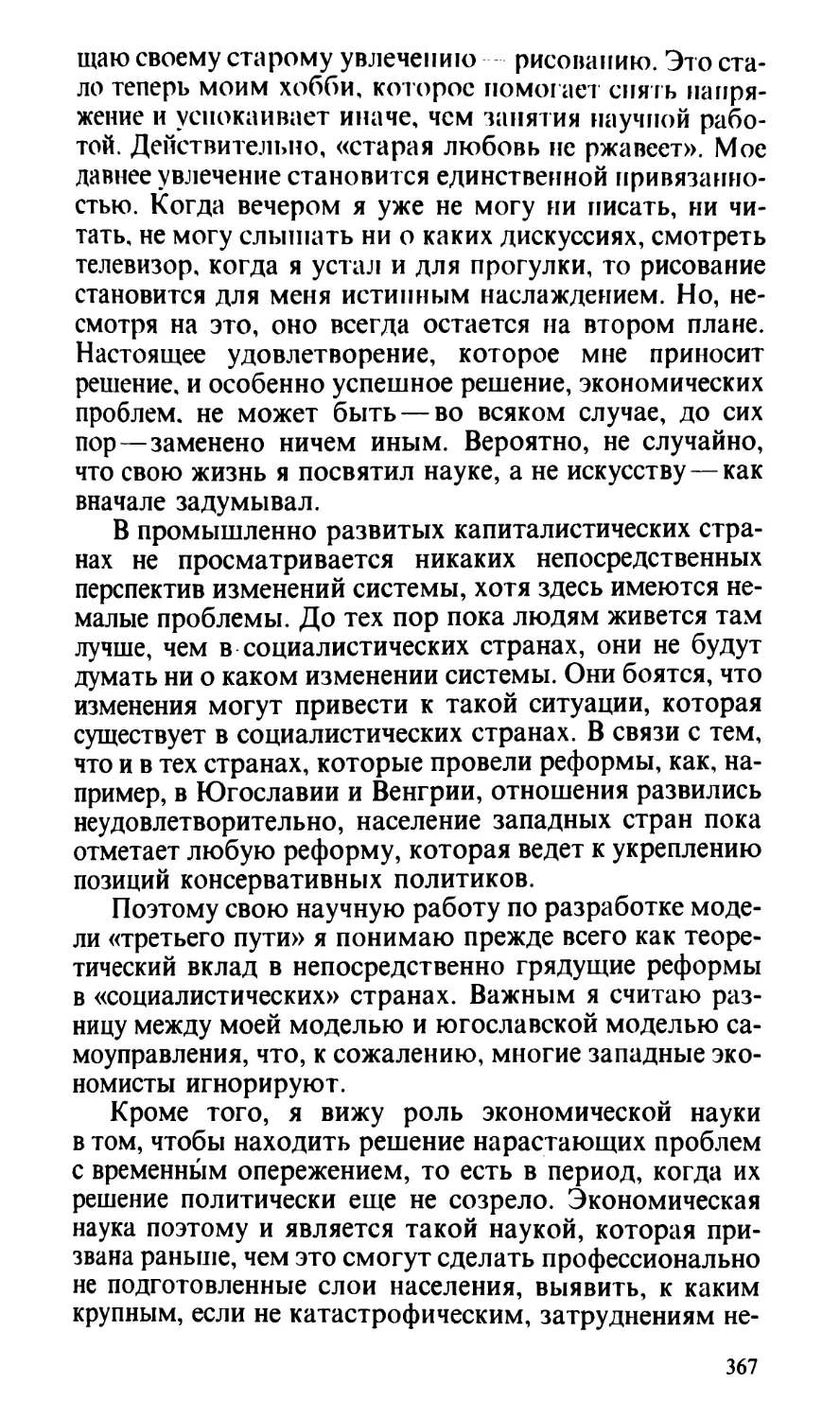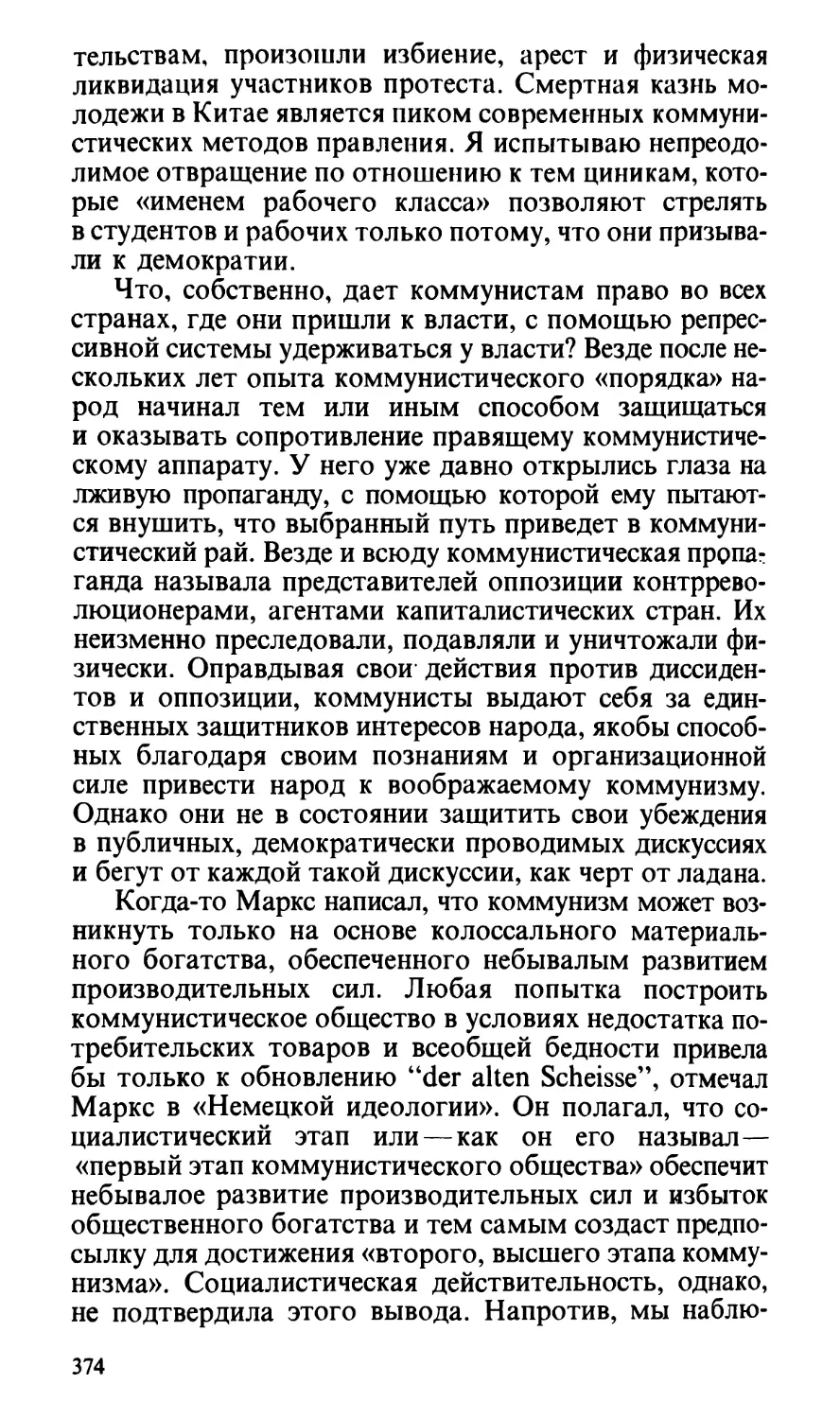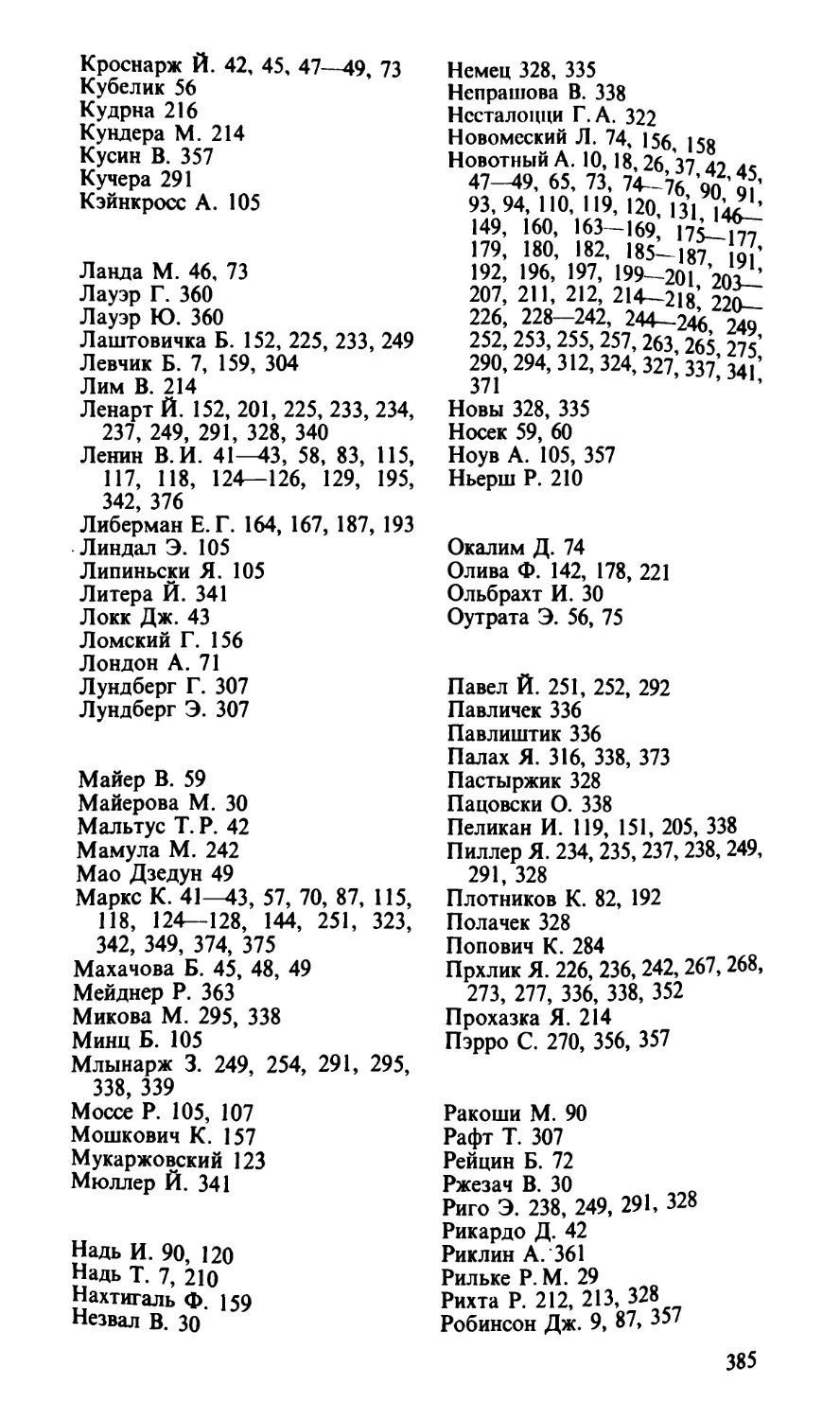Автор: Шик О.
Теги: политика и современное политическое положение в целом политика история
Год: 1991
Текст
Oma Шик
DECEHHEE ВОЗРОЖДЕНИЕ-
ИЛЛЮЗИИ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Ota Šik
JARMI PRODUZENIILUSE A SKUTEČNOST
• POLIGON • ZÜRICH 1989
Ота Шик
ВЕСЕННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ иллюзии и ЛЕйсгвигельность
ПЕРЕВОД С ЧЕШСКОГО
Вступительная статья и общая редакция доктора экономических наук Р.Н. ЕВСТИГНЕЕВА
ФБ РГПУ им. А.И, Герцена l■llllll■llll 1000000032
МОСКВА« ПРОГРЕСС» 1991
ББК 66.2(Чс) Ш 57
Переводчики: Р.Л. ВОЛОДАРСКАЯ, С. И. ЗАВЯЛОВ, В. А. ИГНАТОВИЧ, К). К). СМИРНОВА
Редактор: О. М. ФРОЛОВА
Ш57 Шик О.
Весеннее возрождение—иллюзии и действительность: Пер. с чеш./Вступ. ст. и общ. ред. Р.Н. Евстигнеева.—М.: Прогресс, 1991.—392с.
Книга написана известным чехословацким экономистом, одним из идеологов «пражской весны» и одним из авторов экономической реформы, начатой в 1965 г. Через призму собственного опыта, восприятия собственной судьбы О. Шик повествует о политической борьбе за реформу, об успехах и ошибках ее сторонников, о причинах неудач и поражений. ‘
Хотя сам автор подчеркивает, что все написанное им в этой книге можно считать субъективным взглядом на события, она дает богатый материал к размышлению о путях современного развития, помогает лучше понять проблемы, связанные с изменением политических и экономических структур, характерные сегодня для многих стран Восточной Европы, а также извлечь необходимые уроки.
ш 4700000000—267 006(01)—91
КБ—35—14—90
ББК 66.2(Че) + 64.4(Че)
Фирма «Прогресс-Универс»
Директор В. И. Бомкин
© Polygon Verlag, Zürich, 1989
© Перевод на русский язык, предисловие — издательство «Прогресс»
ISBN 5—4)1—003522—7
ОТА ШИК И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ (Вступительная статья)
Перед вами книга, написанная не совсем обычно. Это мемуары, в центре которых знаменитая «пражская весна» 1968 года — крещендо автобиографии О. Шика. Все, что происходило до этих событий, видится как внутренняя подготовка автора к ним. Все, что произошло и происходит после,— как их осмысление, которое с каждым годом становится все глубже.
Отсюда—двойной интерес к книге. С одной стороны, желание ближе познакомиться с ее автором, с другой— увидеть его глазами тот отрезок истории Чехословакии, который стал провозвестником грандиозных изменений, охвативших спустя два с лишним десятилетия Советский Союз и страны Восточной Европы. Увидеть и сравнить с нашим сегодняшним днем, попытаться извлечь необходимые уроки. Итак, Ота Шик и «пражская весна».
Обаяние личности автора — в его неизменно активной жизненной позиции. Не той, к которой нас призывали долгие годы, подразумевая под ней неукоснительное выполнение решений партии и правительства, а той, что рождается из внутренней потребности человека, способствует самостоятельной выработке его убеждений, подвигает на мужественные поступки. О. Шик всегда политик и ученый-экономист одновременно. Политик— не только когда занимает ответственные государственные посты. Ученый — не только когда занимается наукой. В нем то и другое так неразрывно слиты, что его научная деятельность воспринимается как непрерывное осознание происходящего с целью стать полезным народу политиком (характерно, что автор всегда тяготеет при этом не к прикладным, а к теоретическим исследованиям), а его политическая деятельность, даже когда он вынужденно изолирован от нее,— как стремление непосредственно воплотить свои идеи в жизнь. Такой тип политика-ученого, наверное, вообще характерен для переломных периодов истории: вспом5
ним нэп, посмотрим на нынешним состав высших законодательных и исполнительных органов у нас в стране, в ряде восточноевропейских стран.
Так кто же такой Otci Шик? Об этом вся книга. Поэтому обозначу здесь кратко только основные вехи его биографии. Родился в 1919 году. С 1941 по 1945 год находился в концлагере Маутхаузен, куда был заточен за подпольную антифашистскую деятельность и откуда чудом спасся. После войны занимался преподавательской и научной деятельностью, которую тесно сочетал с политической. Быстро продвигался вперед по обоим направлениям. В науке: член-корреспондент, затем действительный член Чехословацкой академии наук, директор Института экономики ЧСАН (с 1964 г.), председатель Чехословацкого экономического общества, один из руководителей Международной ассоциации экономистов. В политике: член ЦК КПЧ (с 1962 г.), руководитель Правительственной комиссии по экономической реформе, незадолго до «черного августа» стал заместителем главы правительства. После вторжения союзных войск — в эмиграции в Швейцарии, где все последние годы являлся профессором университета в Санкт-Галлене. «Нежная революция» в Чехословакии сняла с него клеймо «правого ревизиониста» и «вдохновителя контрреволюционных сил». Президент ЧСФР В. Гавел привлек его в свою команду в качестве экономического советника.
Не могу здесь не поделиться личными впечатлениями об авторе, с которым познакомился еще в конце 1958 года в Москве. О. Шик приехал к нам для установления научных контактов с Академией наук. Помню, как он обрадовался тогда свежим ветрам, подувшим в советской экономической науке (то было время жарких открытых дискуссий о товарно-денежных отношениях и законе стоимости при социализме), как писал мне, вернувшись из Праги: «...по многим разговорам у вас я вижу, что ваши ученые решительно настроены против формальных и поверхностных тенденций в области экономической теории и стремятся к глубокому научному анализу» (22.01.1959). Увы, эта полоса у нас быстро прошла, и в экономической науке вновь воцарился почти полный штиль. А в Чехословакии, наоборот, постепенно стали набирать силу реформистские тенденции. Мне довелось не раз бывать там в те 6
годы и непосредственно наблюдать, как готовилась экономическая реформа, тесно общаться с ее авторами. Заражал оптимизмом тот счастливый азарт, с которым окружавшие О. Шика молодые экономисты К. Коуба, Ч. Кожушник, Б. Коменда, О. Турек, М. Сокол, И. Карлик, И. Коста, Б. Левчик и др. готовили проекты реформы, смело выдвигали новые идеи, горячо обсуждали их. Особенно запомнился международный симпозиум о плане и рынке, проходивший в декабре 1966 года в Гразанах близ Праги. Там с участием таких ярких экономистов, как Вл. Брус (Польша), И. Фриш и Т. Надь (Венгрия) и др., отрабатывались основные принципы новой экономической модели.
В 1964 году у нас в стране вышел фундаментальный труд О. Шика «Экономика—интересы—политика», в переводе которого я тоже принимал участие. Вслед за ним должен был появиться и другой—«К проблематике социалистических товарных отношений»,— который был нами тоже переведен, но, несмотря на все старания тогдашнего редактора издательства «Экономика» С. Первушина, так и остался неопубликованным: на дворе стоял 1968 год...
Лежащая перед вами книга нарушает наконец более чем четвертьвековую позорную паузу в издании работ видного чехословацкого экономиста в нашей стране. Но она, естественно, не может заменить серьезных научных исследований О. Шика, появившихся в те годы; эта работа интересна прежде всего как свидетельство очевидца и одного из ведущих участников «пражской весны», хотя в ней и затронут по необходимости ряд научных вопросов. Возвращение имени О. Шика советскому читателю началось только в 1990 году, когда в журнале «Вопросы экономики», № 1, появились две его небольшие статьи с моим кратким вступлением, в журнале «ЭКО», № 7,—еще одна статья и запись беседы с А. Гранбергом, в «Литературной газете» от 26 сентября — интервью. Широкоизвестная в мире и облитая в свое время грязью в нашей стране книга «Третий путь: марксистско-ленинская теория и современное индустриальное общество», которая была издана еще в 1979 году, как и вышедшая в том же году монография «Гуманистическая хозяйственная демократия», остаются пока недоступными нашей научной общественности. То же относится и к другим рабо7
там, включая «Экономические системы: сравнение— теория—критика» (1987) и самый последний труд, презентация которого состоялась в конце 1990 года в Бонне: «Социально справедливая рыночная экономика — путь для Восточной Европы». Считаю, что на прилавках наших книжных магазинов должны появиться и названные выше монографии, по крайней мере некоторые из них. Ведь все они поднимают те же самые животрепещущие вопросы, по которым не смолкают дискуссии в нашем обществе.
Чехословацкое «весеннее пробуждение», экономические аспекты которого разрабатывались О. Шиком и его единомышленниками, однозначно рассматривалось тогда всем обществом как «обновление социализма», строительство «социализма с человеческим лицом». Никому еще не приходило в голову коренным образом изменять отношения собственности. Ставилась только задача увязать как-то рынок («социалистический рынок») с макропланированием на основе государственной и коллективной собственности на средства производства. И эти-то, такие осторожные по нынешним временам предложения были расценены как антисоциалистические! Впрочем, ни консервативным силам внутри страны, ни лидерам «братских стран» во главе с Брежневым нельзя отказать в проницательности: в этих предложениях они справедливо разглядели зародыш дальнейших, более радикальных перемен, которые разорвут наконец идеологические путы «социалистического выбора» и составят нешуточную угрозу их существованию как политиков.
Сейчас общественное сознание в странах Восточной Европы и у нас в стране, похоже, начинает преодолевать упрощенные представления о симбиозе плана и рынка, о возможности формирования рыночной экономики при отсутствии частной собственности и т.д. Но насколько устойчивы эти тенденции? Насколько глубоко обоснованы они теоретически и так ли уж безусловно подтверждаются практикой (сошлемся хотя бы на такую форму коллективного присвоения имущества, как ESOP, получившую в последнее время достаточно широкое распространение в США и ряде западноевропейских стран)? Если мы всерьез собираемся переходить от командной к рыночной экономике, то просто не имеем права недооценивать, а тем более от8
метать с порога все предшествующие научные разработки и практический опыт. Все это нужно нам сегодня, а не должно быть отдано на откуп только историкам экономической мысли, которые когда-нибудь расскажут, в каких муках происходило возвращение из тоталитарной системы в нормальное, цивилизованное общество.
В этом отношении особенно интересна, на мой взгляд, эволюция О. Шика как теоретика «третьего пути», в котором он попытался соединить достоинства капитализма и «реального социализма», исключив одновременно недостатки обеих систем, прежде всего безработицу. С присущим ему пылом он стремился доказать свою правоту в многочасовых спорах с самыми разными оппонентами, начиная с молодых левых троцкистов и кончая такими патриархами политологии и экономической науки, как Людвиг Эрхард, Раймон Арон, Джон К. Гэлбрейт, Джоан Робинсон и др. В спорах он находил и отрабатывал новые аргументы в защиту своей позиции: отказался от югославской модели самоуправления; ввел понятие так называемого нейтрализованного капитала на предприятиях, принадлежащих их коллективам; ратовал за введение косвенной (нормативной) системы управления. Позже О. Шик пришел к выводу о большей целесообразности для крупных предприятий акционерной формы (правда, со многими оговорками). И наконец, он вынужден был признать, что «никакого третьего пути не существует. Это такой же нонсенс, тупиковый вариант, как и социалистический»1. Кто-то остроумно заметил: «Третий путь ведет только в “третий мир”...»
Может быть, на первый взгляд это покажется странным, но мне представляется, что заслуги экономиста О. Шика не менее высоки в политике, чем в экономике. Он хорошо понял, а поняв, стал еще задолго до «пражской весны» энергично требовать демократизации всей политической жизни как необходимой предпосылки успешной экономической реформы. «Такая реформа,— писал он в одной из своих статей,—может быть проведена политическим руководством только при наличии глубокого и продолжительного доверия народа, что не1 «Литературная газета», 26 сентября 1990 г.
9
возможно без демократизации политической системы и полной свободы информации».
В своей книге О. Шик показывает, что объективно Чехословакия в первые послевоенные годы была готова к тому, чтобы продолжать развиваться в русле мировой цивилизации. То, что в правительственной программе К. Готвальда было названо «специфическим чехословацким путем к социализму», было не чем иным, как программой развития без революции и диктатуры пролетариата. Удивительно, как быстро разные политические партии находили в то время общий язык в экономических вопросах! Но как же недолго длился этот период эйфории, когда традиционные для Чехословакии демократические нормы человеческого общения так благотворно влияли на развитие страны. Развернувшаяся под давлением Москвы «обостренная классовая борьба» завершилась «победоносным Февралем». Под тем же давлением страна отказалась от «плана Маршалла», тесно связала свое хозяйство с нашей неэффективной экономикой, приняла нашу командную модель управления...
С болью читаешь страницы, рисующие насильственное превращение высокоразвитой, цивилизованной европейской страны в полный слепок с советской системы. Формирование характерного партийногосударственного аппарата, аналогов которому не сыщешь во всем мире, с его тайными аппаратными играми. Политические процессы, круто замешенные на антисемитизме (тут чехословацкие ученики перещеголяли даже своих учителей: вспомним хотя бы чудовищный процесс против Рудольфа Сланского). Подготовленная втайне денежная реформа 1953 года, изъявшая значительные суммы у возмущенного населения, но, разумеется, не устранившая причин инфляции. Бесчисленные реорганизации, пожиравшие уйму труда и денег и не давшие никакого эффекта.
Все это не могло не повергнуть страну в кризисное состояние. Пытаясь выбраться из него, Новотный затевает кадровую чехарду, боясь в то же время хоть как-то потревожить саму систему (первые попытки децентрализации закончились так знакомыми нам обвинениями предприятий в «групповом эгоизме»). Но фронтальное наступление всего общества на старую систему остановить уже было невозможно. Мне еще не приходилось ю
читать такого полного изложения предыстории чехословацких событий 1968 года и их самих, какое мы находим в этой книге. Эти свидетельства, пропущенные через сердце одного из активнейших участников событий, не лишены поэтому некоторых чрезмерно субъективных оценок отдельных лиц (включая себя самого) и фактов, но, думается, такие оценки могут сделать только еще богаче, многоцветнее тот архивноинформационный фонд, который скрупулезно накапливает чехословацкая правительственная комиссия по анализу событий 1967—1970 годов.
При изучении этого периода бросается в глаза такой уникальный для последних четырех десятилетий чехословацкой истории момент, как массовая поддержка населением в дни «пражской весны» компартии, которая благодаря действиям ее реформистского крыла сумела стать весьма популярной в народе. И это несмотря на то, что еще в 1967 году КПЧ возглавила травлю прогрессивных писателей (после их IV съезда), разогнала студенческую демонстрацию, выступила с резкими нападками на словацких «националистов». Народ продолжал верить в партию и воспринимал ее как ядро всей политической системы, считая, что все дело только в «плохих» или «хороших» ее руководителях. Сначала неприкрытое давление СССР и его «союзников», а затем и прямое вторжение, как и последовавшая за ним «нормализация», положили конец этой легенде: коммунистическая партия полностью дискредитировала себя. Как тут удержаться от аналогии с усилением авторитета партии в начале нашей перестройки, а затем его безостановочным падением из-за упорного «идеологического» сопротивления той же перестройке!
Меня во время чтения почти на каждой странице поражали и разные другие поучительные совпадения. Например, нараставшее перед угрозой Москвы расслоение в руководстве КПЧ и правительстве — разве не похоже оно на поляризацию нашего общества перед лицом углубляющегося социально-экономического кризиса? Или гибельность политики затягивания прогрессивных изменений. Вот как описывает О. Шик положение в стране накануне интервенции: «Политика постоянных уступок и жертвование отдельными, неугодными сталинистам людьми мешали проведению реформ. Более решительное и быстрое создание новой, 11
демократической системы руководства, при которой объединился бы весь народ, дало бы шанс поступательному развитию реформ в нашей стране, прежде чем извне стали думать о военном вмешательстве». Не приведет ли и нас к краху затягивание с формированием левоцентристского блока? Или вот еще пример: встречаемые бурными аплодисментами «простых рабочих» исключения из партии О. Шика и его товарищей. Даже страшно становится, когда подумаешь, как же коротка у людей память. На смену высокопрофессиональным специалистам почти всюду пришли некомпетентные работники. Началось движение вспять по всем направлениям: в последующие за «нормализацией» двадцать лет обстановка в стране стала даже хуже, чем до «пражской весны».
Ясно, что все описанные события имели отношение не только к Чехословакии. Не могу не согласиться с известным нашим историком А. Чубарьяном, который сказал в одном из своих интервью: «Как не учитывать негативного влияния ввода войск в Чехословакию на внутреннее развитие СССР, да и всего социалистического мира! Были законсервированы сталинскобрежневские методы, выдвинута доктрина «ограниченного суверенитета». Из-за той акции ослабли геополитические позиции нашей страны, весьма негативная реакция была в мировом общественном мнении... Критически беспощадный анализ тех ошибок нужен сегодня не просто для «чистой истории», а для того, чтобы расчистить дорогу в будущее»1.
О. Шик закончил писать свои воспоминания в 1988 году, то есть до «бархатной революции» 1989 года (поэтому вся критика политики чехословацкого руководства относится, естественно, к временам Гусака и Якеша). Новая страница чехословацкой истории в отличие от конца 60-х годов была открыта только в результате движения «снизу» (а начало «пражской весне» было положено, как уже отмечалось, одновременно и по инициативе «сверху»). Это наложило свой отпечаток на нее: происходящие сейчас преобразования являются действительно радикальными, в корне меняющими облик всего общества; в этом смысле они идут в том же русле, что и в других восточноевропей1 «Правда», 20 августа 1990 г.
12
ских странах, несмотря на известную специфику каждой страны.
Нынешнее развитие в ЧСФР проходит далеко не просто: политические изменения не всегда удается удерживать в рамках законности, движение к рыночной экономике сопровождается, что вполне естественно, острыми спорами. В борьбе двух линий конструирования рынка — монетаристской и «демократически-социалистической» — О. Шик, как и его прежние соратники по «пражской весне», больше придерживается второй. Вообще автор этой книги, несмотря на то что ему уже перевалило за семьдесят, полон энергии и новых замыслов. В этом нам с Г. Лисичкиным довелось убедиться лично в конце 1989 года, когда мы приняли участие в организованной О. Шиком в Санкт-Галлене международной конференции, посвященной социально-экономическому содержанию социализма в современном мире. Сам он выступил на этой конференции с докладом «Социализм: теория и практика».
Надеюсь, что книга О. Шика, уже переведенная на ряд языков, будет с интересом встречена и нашим читателем.
Р. Н. Евстигнеев
Вечером 12 марта Бухарин встал, чтобы в последний раз взять слово. Лишь благодаря силе своей личности и присущему ему интеллекту он снова сумел привлечь к себе внимание. Теперь здесь, в зале, они сидели ряд за рядом — разодетые, самодовольные, враждебные, пристально смотрящие на него—они, дети коммунизма; уже никакие не революционеры в прежнем смысле этого слова, а просто работники установленного порядка, подозревающие в каждом присутствие опасных мыслей. Видя его стоящим вот так, хрупким и вызывающим, невозможно было избавиться от ощущения, что здесь стоит и смотрит прямо в лицо собственной гибели последний из сохранившихся людей того уходящего типа, тех мужей, которые вызвали революцию, кто всю свою жизнь боролся за идеалы, израсходовал на это все свои силы и сейчас не изменяет своему делу, которое их сокрушает.
Фицрой Маклин.
О мужах, борьбе и державах
Правда никогда не празднует триумфа, просто умирают ее противники.
Макс Планк
или?
Мы получим столько правды, сколько сами сумеем ее добиться!
Бертольд Брехт. Жизнь Галилея
ПРЕДИСЛОВИЕ
Прошло уже двадцать лет со времени военного вторжения стран—участниц Варшавского Договора под руководством Советского Союза в Чехословакию. Тогдашнее брежневское руководство посчитало необходимым насильственным образом подавить самое перспективное реформистское движение, которое когда-либо существовало в какой-либо из социалистических стран, полагая, что развитие чехословацких событий ставит под угрозу интересы Москвы. Естественно, внешне представители этого руководства обосновывали причины военного вмешательства, или так называемую братскую помощь, заботой о судьбах социализма, которому якобы угрожали контрреволюционные силы. В действительности же—как уже много раз случалось в советской истории—между словами и истинными причинами этой политической акции существовала глубокая пропасть.
Никто из реформаторов, в том числе и так называемые радикальные реформаторы, к которым причисляли также меня, не думал о возврате к капиталистической экономической и общественной системе. Уже в то время мы видели слишком много негативных сторон капиталистической системы и наблюдаем их до сегодняшнего времени, чтобы пытаться вновь возродить эту систему, Но мы удостоверились также и в том, что по своим традиционным основным характеристикам социалистическая система оказалась полностью несостоятельной, что:
— партия, правительство и государство стали чуждыми для людей;
— народное хозяйство и общество в целом обюрократились до пределов абсурда;
— эффективность экономического развития страны постоянно снижалась и все в большей степени отставала от промышленно развитых стран Запада;
— первостепенные потребности людей не удовлетворялись в должной мере;
— на высокие посты попадали в большинстве своем недалекие и некомпетентные, но зато умеющие приспособиться к ситуации люди, которых подбирал партийный аппарат;
— нивелированная и подвергаемая жесткой цензуре информационная система утаивала от людей правду и блокировала появление какой-либо принципиальной критики и альтернативных идей;
— прогрессивные, творчески мыслящие работники принуждались к молчанию, в том числе и полицейскими методами; культура была лишена возможностей свободного развития;
— все обещания руководства Новотного, обращенные в будущее, не имели ни малейшего воздействия на чехословацкий народ, поскольку на деле они оказывались пустыми фразами.
Мы, экономисты, уже давно поняли, что социалистическая экономическая система неспособна создавать стимулы для прогрессивного с технико-технологической и экономической точек зрения развития производства, что времена чисто экстенсивного роста давно прошли и что наша экономика все сильнее отстает от показателей формирования западных тенденций в области роста производительности и эффективности.
Представляет интерес сравнение нашего тогдашнего обоснования коренной реформы экономической системы с современным обоснованием М.С. Горбачевым необходимости экономической реформы в СССР. Они похожи друг на друга, иногда совпадают почти дословно. Уже начиная с 1963 года в ЧССР провозглашались те же самые цели экономической реформы, которые ныне формулируются и распространяются в СССР. Естественно, сегодня еще рано предвосхищать то, как будет в дальнейшем развиваться советская реформа.
Существует тип людей — в большинстве своем это молодые целеустремленные люди, —на которых огромное эмоциональное воздействие оказывает рево18
люционное и коммунистическое «видение» будущего, они настолько им восхищены, что отбрасывают какуюлибо реалистическую критику своих представлений. Для них важно не научное, общественное по своему характеру познание, а их собственные устремления и надежды. Они видят реальную действительность лишь под углом зрения будущего прекрасного и незыблемого мира, и их веру в это будущее не может поколебать никакая критика. Я знал молодых людей, которые были готовы пожертвовать своей жизнью ради этих призрачных видений так же, как это когда-то делали первые христианские мученики.
Однако иногда взаимопереплетение веры и интересов проявляется и в такой форме, что оно уже не содержит в себе ничего прекрасного и возвышенного. Так случается тогда, когда догматические представления нацелены на сохранение институтов и систем, обеспечивающих власть, привилегированное положение и соответствующие функции. Из людей, стремящихся к достижению или сохранению за собой такого положения, выходят фанатичные защитники данной веры. Именно они, фанатичные защитники марксизма-ленинизма в странах реального социализма, постоянно преследуют и подавляют любую критику этой идеологии. При этом они исходят не столько из духовных ценностей, сколько из весьма прозаических властных и материальных интересов.
Естественно, я отдаю себе отчет в том, что сторонники коммунистической идеологии станут опровергать все содержание этой книги и аналогично первым годам моей эмиграции будут навешивать на меня скверные ярлыки и ругать меня последними словами. Я не могу воспрепятствовать этому, и, вообще говоря, это снова и снова подтверждает, сколько фанатизма и ненависти вызывает критика, которая вскрывает основные пороки реально существующей социалистической системы и марксистско-ленинской веры и подвергает сомнению правомерность властных претензий коммунистических лидеров. Никаким другим способом не могу воспротивиться этому, кроме как написать правду и рассказать обо всем том, что я пережил и в создании чего я посвоему участвовал.
Всю свою жизнь я боролся за истину, боролся против той силы, которая хотела подавить ее. Я всегда пы19
тался приблизиться к объективной истине и понять сущность реальной действительности, причем изменялись не только сама реальность, но и мое знание реальности. И постоянно, снова и снова я должен был пересматривать многое из того, что ранее считал истиной, когда я узнавал, что ошибался. Конечно, это удел каждого, кто ведет поиск истины, и это единственный путь непрерывного приближения к объективной истине.
Я знаю, что люди никогда не придут к абсолютной истине, но то, что сегодня является осознанной ими социальной истиной, доступно эмпирическому исследованию или же в отдельных случаях уже нашло свое практическое подтверждение. Несомненно, это гораздо ближе стоит к искомой истине, чем те догмы, которые вплоть до недавнего времени провозглашали власть имущие в ЧССР, заинтересованные всегда лишь в одной идеологической вере *. С ее помощью они полагали, что могут сохранить власть, и поэтому никогда не занимались поиском объективной истины. Тем не менее я убежден, что истина в конце концов победит эту силу, хотя я, возможно, до этого не доживу. То, какие интересы для меня самого в определенное время были стимулами, в силу каких причин они изменялись и как развивались мои убеждения,—об этом читатель узнает из последующего изложения. Я вижу в этом также важный вклад в объективное, историческое освещение действительных причин возникновения и развития чехословацкого реформистского движения в 60-е годы. Я убежден, что эволюция моих собственных взглядов в этом отношении во многом напоминает развитие взглядов многих чехословацких коммунистов. И хотя, разумеется, я пишу о самом себе, я думаю, что выражаю способ мышления и мотивы действий многих партийных интеллектуалов моего поколения.
Я не ставил перед собой задачу описать всесторонне и комплексно с исторической точки зрения возникновение и конец «пражской весны». Я не историк, и, кроме того, на эту тему уже написано довольно много науч* Читатель, должен помнить, что книга вышла в 1988 году, то есть до ухода Г. Гусака и всего прежнего руководства партии и государства с политической арены.— Прим. ред.
20
ных работ. Однако почти во всех этих книгах практически ничего не сказано о моем личном участии в событиях этого периода, и это попросту потому, что я до сих пор умалчивал об этом. Эти события необходимо хорошо знать, чтобы воссоздать объективную картину тенденций развития чехословацкого общества в 60-е годы.
Поэтому я решил написать книгу воспоминаний о своем личном участии в событиях, о своем политическом и научном росте. Следовательно, эти воспоминания не являются обычными мемуарами, так как я сознательно опустил все те стороны моей жизни, которые касаются личных аспектов жизни—за исключением некоторых кратких сведений. В то же время все события и действия, которые помогают лучше понять мое собственное развитие как политика и ученого, а также мое воздействие на экономические, общественные и духовные перемены, я попытался изложить довольно подробно.. Таким образом, эти воспоминания представляют собой своеобразный субъективный «отчет» о моей деятельности,— отчет, который может помочь лучше узнать и объективно оценить этот важный и значимый период в истории Чехословакии.
Конечно, в своем рассказе я стараюсь воспроизводить все события как можно достовернее, то есть так, как они происходили на самом деле. Мне не приходится полагаться лишь на свою память, поскольку в моем распоряжении имеется большое количество важных материалов и документов, которые мне удалось сохранить для эмиграции. Прежде всего, это мои дневники, которые я веду уже с 1950 года, куда я записывал все свои ежедневные обязанности. Далее, также начиная с 1950 года я собирал газетные вырезки, касающиеся значительных политических событий. Сохранились у меня и вся личная переписка, заметки о наиболее важных беседах, документы, секретные материалы и т. п. И наконец, у меня находятся все мои опубликованные статьи, выступления на заседаниях ЦК КПЧ, выступления на заседаниях важных государственных и партийных комиссий, а также неопубликованные материалы и постановления этих заседаний.
Все это позволило мне расположить события, в том числе и события более чем сорокалетней давности, в более строгой хронологической последовательности.
21
Мне бы хотелось особо выделить большую помощь моей жены Лилки, оказанную мне в процессе необходимого. но весьма утомительного и трудного накопления, сортировки, подбора и подготовки этого громадного архивного материала, и выразить ей нежную признательность. Без ее помощи я не справился бы с этой работой.
Ота Шик
ГОДЫ СОЗРЕВАНИЯ
«Но это же ерунда, именно теперь партии нужны такие люди, как ты,— ведь мы хотим построить социализм... Приходи завтра ко мне в секретариат... и затем ты будешь у нас работать».
И снова как-то вдруг моя дальнейшая судьба решилась. Хотя я и не знаю точно, что мне придется делать в аппарате, но это будет видно потом. Из концентрационного лагеря я вернулся еще более убежденным коммунистом. Что-то подобное фашизму никогда не должно больше повториться в моем народе, не должны больше существовать ни кризис, ни массовая безработица. Все свое сердце я без остатка отдал борьбе за социалистические идеалы... Раз партия нуждается во мне, я хочу служить ей, отдавая все мои силы. В то время социализм и партия были для меня символом общественной справедливости — противоположностью всему печальному, что мне пришлось пережить.
1. ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
В мае 1945 года я вернулся из концентрационного лагеря Маутхаузен в Прагу. Я начинал снова жить вскоре после того, как, мне казалось, все уже кончилось. Последние месяцы перед освобождением американской армией были необыкновенно тяжелыми. Каждый день мы ждали, что СС заставит нас идти «маршем смерти», как это было во многих других лагерях. Но получилось так, что Австрия (а вместе с ней и Маутхаузен) оказалась сжатой с двух сторон фронтами. До страшного «марша смерти» не дошло, эсэсовцы убежали из лагеря, предварительно передав его под охрану полицейской части венских пожарников, а вскоре после этого американцы освободили нас. С этого момента началась моя «вторая» жизнь. И вот я снова в Праге, могу свободно передвигаться. В первые дни я буквально часами бродил по улицам старой Праги и на Градчанах. Я не мог насмотреться, налюбоваться видом всей этой красоты. Какой прекрасный город наша Прага, и, наверное, еще краше пражские девушки. Мне было двадцать шесть лет, и я пять лет прожил без любви. Что я должен сейчас делать? Как мне строить мою новую жизнь? Злого я не знал. Учиться? Я всегда хотел быть художником, но перед войной для учебы не было денег. В течение двух лет я посещал курсы в Школе художественных промыслов по рекомендации моего учителя черчения из реального училища. Я думал, что у меня есть талант. Однако из этого ничего не вышло. Я должен был как можно скорее научиться зарабатывать деньги, так как в доме была бедность и нищета и даже думать не приходилось о том, чтобы продолжать учебу.
В то время моя семья жила в Теплице-Шанове в Судетах. Хотя я родился в Пльзене (11 сентября 1919 года), но сразу же после моего рождения родители переселились в Теплице-Шанов, где я и рос. Моим родным 24
языком является чешский. Но поскольку я посещал немецкие школы — общеобразовательную и реальное училище,—я одинаково хорошо владел немецким языком, что мне очень пригодилось в будущем.
Первые годы жизни в Теплицах остаются в моей памяти светлыми и радостными, и я думаю, что у моих родителей в то время не было каких-либо больших трудностей с обеспечением семьи средствами к существованию. Но уже в 1931 году мой отец потерял работу, и с тех пор ему не удалось найти постоянное место. Будучи безработным, он потерял уверенность в себе, а вместе с ней и свой веселый характер. Случайная работа и постоянно возобновляющееся ощущение безнадежности полностью выбили его из колеи. В 1933 году мы перебрались в Прагу, где отец надеялся найти работу, но и здесь у него ничего не выходило. Мне кажется, что именно эти трудности и заботы разбили его брак. Родители развелись, и начиная с этого дня вся тяжесть ответственности за семью легла на мою мать, которая должна была в одиночку заботиться о четырех детях. Немецкое реальное училище в Праге я мог далее посещать только благодаря различному вспомоществованию. Мы все время были обречены на унизительную социальную помощь, поэтому мне пришлось отказаться от всякой надежды получить высшее образование.
Несмотря на то что отец нас оставил и очень часто не оказывал моей матери никакой помощи, поскольку он сам был без средств к существованию, я не перестал его любить. И перед разводом он приходил домой лишь время от времени. Но для нас, детей, это был праздник, так как отец любил шутить и умел очень интересно рассказывать. Он любил музыку и каждую минуту насвистывал какую-нибудь мелодию из оперы или оперетты. Некоторые из этих мелодий я помню и сегодня. Лишь со временем, по мере нарастания трудностей между родителями стали возникать ссоры. Я начал бояться каждой встречи родителей, хотя они случались все реже и реже. Когда отец оставил нас навсегда, мне пришлось искать какую-нибудь возможность, чтобы как можно скорее начать зарабатывать.
Сначала я попытался получить специальность электромонтера в фирме «Эриксон». В качестве ученика я, конечно же, ничего не зарабатывал, а поскольку деньги были нужны, начал посещать бесплатные вечерние кур25
сы машинописи и стенографии. Это позволило сравнительно быстро найти работу в качестве конторского служащего сначала в фирме «Матадор» и позже в фирме «Кореска». Благодаря заработку я мог даже немного помочь своей семье. Вся та бедность и нищета, которые пришлось перенести дома, постоянное унижение, которое нужно было «глотать» из-за моего бедственного социального положения, почти автоматически привели меня сначала в социал-демократическое, а затем в коммунистическое молодежное движение. Идея социально более справедливого общества, которое предоставит одинаковые возможности для развития людей, в том числе и из бедных социальных слоев, идея, которая приведет к ликвидации любых различий между бедными и богатыми и обеспечит всем людям право на труд,— какое же это было возвышенное представление! Эти идеи полностью овладели мной и явились как бы духовной и моральной компенсацией домашних материальных невзгод и лишений.
Руководителем немецкого коммунистического студенческого движения «Фрайе югенд» был Роберт Винер, с которым я особенно часто вступал в споры и который объяснил мне суть самых разных марксистских идей. Впоследствии, после немецкой оккупации Чехословакии, я полностью потерял его из виду. Он эмигрировал. После войны Винер работал токарем по металлу на транспортном предприятии «Высочаны». Дважды его исключали из партии. Второй раз он был исключен за то, что имел смелость прямо в глаза покритиковать Новотного во время одного из его редких посещений завода. Бобби, как мы любовно называли Роберта Винера, остался старым, непоколебимым и честным коммунистом, и поэтому он не мог сделать никакой политической карьеры. После вторжения русских в 1968 году он эмигрировал во второй раз.
Участвуя в работе одной из молодежных групп, я посвящал все свободное время повседневной борьбе коммунистической партии за политические цели. Все остальное становилось для меня второстепенным. Уже в эти годы (1936—1939) я начал изучать марксизм— сначала по брошюрам и лекциям марксистских пропагандистов. В 1937 году мне в руки попал учебник, где рассматривались основные идеи Марксова «Капитала», причем написан он был доступным языком. Я был 26
в восторге. Я прочел всю книгу за несколько вечеров, и с тех пор она стала моей библией. Наконец-то я знал, что громадное богатство отдельных людей проистекает из прибавочной стоимости, из эксплуатации наемных тружеников. У меня не было вообще никаких сомнений—все было ясным, как солнце. Поскольку те, кто трудится, получают лить минимум жизненных средств, постольку те, к кому поступают все результаты труда, могут присваивать себе всю остальную стоимость. Это был тот долго выстраданный ответ на мои жизненные вопросы, который я наконец получил.
Работа в Чехословацком коммунистическом союзе молодежи, собрания, демонстрации, агитация за участие в освободительной борьбе в Испании, учебные группы, а также летние палаточные лагеря, лагерные костры, песни борьбы, коллективные экскурсии — все это было тогда содержанием моей жизни. Под влиянием всего этого во мне развились сильное чувство справедливости и вера в будущее.
Но затем наступил октябрь 1938 года, произошло присоединение Судет к гитлеровской Германии, а вскоре после этого — вступление в марте 1939 года подразделений немецкой армии в Прагу. Чехия и Моравия стали германским протекторатом, была запрещена коммунистическая партия, которая вынуждена была уйти в подполье. Был также распущен союз молодежи. Нам пришлось отказаться от клубного помещения, организация распалась, и многих товарищей я потерял из виду. Большинство из них обуял страх. Я уже знал достаточно много о гестапо, об СС, о концентрационных лагерях. Неужели это должно было стать концом всех моих мечтаний и надежд?
Лишь год спустя, в конце 1940-го, ко мне вновь возвратилась смелость, и я начал искать утерянные связи. Первый шок я уже пережил и теперь все сильнее и сильнее ощущал потребность оказывать сопротивление. Однако я чувствовал себя страшно одиноким, мне не хватало коллектива. Ведь должна же существовать возможность активной политической деятельности. Об опасности я при этом не думал. Но к кому же обратиться?
Весной 1941 года я подружился с девушкой по имени Элишка. Чисто случайно я вскоре обнаружил, что она имеет такие же политические взгляды, как и я. Спу27
стя некоторое время Элишка начала мне доверять и призналась в том, что она является членом подпольного движения, состоит в одной из групп нелегально созданного Национального движения трудовой молодежи. В эту группу меня и привела Элишка.
Наконец-то я снова стал принадлежать к какому-то коллективу. Мы образовали учебный кружок, составляли самые различные призывы и воззвания, распространяли среди населения листовки и нелегальную информацию. Я переселился в маленькую чердачную мансарду, в которой жила моя подруга, и чувствовал себя счастливым человеком. Однако мое счастье продолжалось недолго. Уже через несколько месяцев нашей подпольной деятельности наша группа была раскрыта гестапо. Летом 1941-го мы были арестованы. Пять часов утра, удары в дверь—три гестаповца вытащили нас из постели, перевернули всю квартиру, искали какиенибудь доказательства нашей деятельности. Несмотря на то что они ничего не нашли (листовки были спрятаны в туалете в бачке для воды, где они не искали), они нас взяли. Так я очутился в тюрьме гестапо.
Нас выдал один товарищ, который как-то принес пакет с листовками в нашу квартиру (распределительный пункт). Он был арестован и не выдержал пыток в гестапо. Поскольку он занимался распространением листовок, из него постепенно выбили все те адреса, по которым он носил пакеты с листовками. Так вот наивно и неумело организовывалась поначалу подпольная деятельность. В наше время человек под пыткой мог выдать много других товарищей. В результате провалилась вся пражская организация, произошли массовые аресты ее членов.
Осенью 1941 года началась чистка всей тюрьмы гестапо, так как требовалось освободить место для все прибывавших заключенных. Почти все заключенные, которые находились в ней в тот момент, были высланы без судебного расследования в концентрационные лагеря. Женщины посылались в Равенсбрюк, а мужчины—главным образом в Маутхаузен. В условиях наступающей зимы я пережил самые страшные месяцы моей жизни. По сравнению с новым местом гестаповская тюрьма с ее жестокостями и лишениями могла показаться идиллией.
До этого времени я не чувствовал на собственном 28
«теле» такое явление, как преследование евреев. Согласно сумасшедшим «нюрнбергским законам», я не считался евреем. Моя мать была чешкой родом из пльзенской рабочей семьи. Отец был евреем, но тоже с какой-то «арийской примесью»—уже его мать была ребенком от смешанного брака. Моя мать не воспитывала меня в религиозном духе, что не означает, однако, что это было воспитание без моральных принципов. Отец постоянно находился вне дома и имел на мое воспитание небольшое влияние. Кроме одного важного исключения—он заставил меня посещать немецкие школы, что я оценил позже. Лишь в начале 30-х годов, когда в Судетской области возникло сильное националсоциалистическое движение Хенлейна с его подстрекательским антисемитизмом и преследованием по расовым признакам, я осознал, что такое расизм. Прежде всего от этого пострадал мой отец, и я думаю, что это увилось главной причиной того, почему в Теплицах он потерял работу в немецкой фирме. Уже впоследствии, после переселения в Прагу, во мне возникло столь сильное чувство протеста против преследования евреев, что появилась потребность как-то выразить его. Я принял решение вступить в организацию еврейского молодежного движения, хотя и не считал себя евреем.
Эта моя активность продолжалась недолго, так как я не мог принять национализм, который господствовал в этом движении. Я не был знаком с еврейской религией, не знал еврейских привычек и традиций. У меня никогда не было намерения выучить иврит и переселиться в Палестину. Короче говоря, в этой среде я чувствовал себя все более и более чужим, социальные проблемы чешского народа волновали меня гораздо сильнее. Поэтому спустя некоторое время я ушел из этого движения и вступил в движение коммунистической молодежи. Это было коммунистическое студенческое общество, куда входила учащаяся молодежь из средних и высших учебных заведений Праги,— «Фрайе югенд». Здесь я познакомился с самой прогрессивной и известной во всем мире литературой, а также с культурой Праги. Труды Р.М. Рильке, Ф. Кафки, Ф. Верфеля, М. Брода и других авторов оказали на меня очень сильное влияние. Наши связи с чешским коммунистическим студенческим движением «Млада култура» были очень тесными, благодаря чему я познакомился с буду29
щими чешскими интеллектуалами. Дружеские отношения со многими из них я сохранял на протяжении целых десятилетий.
Отличавшиеся социальной направленностью произведения чешских поэтов и писателей, таких, как Я. Гашек, Я. Гора, Й. Волкер, Ф. Галас, В. Незвал, Й. Зейферт, И. Ольбрахт, Вл. Ванчура, М. Майерова, В. Ржезач и др., глубоко проникли в мою душу. Мы ходили чуть ли не на каждый спектакль Освобожденного театра с участием Й. Восковца и Й. Вериха и наслаждались великолепной джазовой музыкой Й. Ежека, посещали мы также спектакли в театре Е. Ф. Буриана.
В начале 6-го класса я оставил среднюю школу и пошел работать. В это время я вступил в Чехословацкий коммунистический союз молодежи и начал участвовать во всех формах и видах социальной борьбы, а также в борьбе за сохранение нашей свободы против грозящей фашистской опасности. В течение всего этого времени во мне развивался сильный социалистический способ мышления и восприятия действительности и, естественно, осознанный антифашизм. Как уже говорилось, я продолжал участвовать в антифашистской борьбе и после немецкой оккупации Чехии как член чешского подпольного движения. Я не боялся того, что меня будут преследовать как еврея, так как в соответствии с официальными германскими законами я не считался евреем и не носил желтую шестиконечную звезду, нашиваемую обычно на одежду. После моего ареста этот «предписанный законом» факт соблюдало и гестапо и со мной обращались как с членом чешского движения сопротивления, что в будущем сыграло важную роль.
Приказ очистить тюрьму гестапо в Праге на Панкраце и перевезти нас в концентрационный лагерь выполнялся с такой скоростью, что гестаповцы не успели взять с собой наши документы и личные дела. Лишь в дополнительном порядке гестапо послало эти документы политическому отделу лагеря (о чем я узнал намного позже). После нашего прибытия в лагерь весь чешский транспорт был сконцентрирован в карантинном блоке. В нем лагерные писари устанавливали наши анкетные данные. Это продолжалось всю ночь, и, когда некоторые писари стали валиться с ног от усталости, я взял на себя всю работу одного из них, поскольку пе30
чатание на пишущей машинке было моей профессией, и таким образом писарь мог поспать несколько часов. Утром мы были построены на перекличку, и я услышал от хамоватого начальника блока роковой вопрос: «Кто еврей или имеет предков еврейской национальности?» От этого вопроса у меня все похолодело внутри. Если я об этом не доложу сам, они установят мое происхождение из документов и убьют меня. Но это, может быть, не столь и важно — ведь и в гестапо меня не относили к евреям. И поэтому я поднял руку и что-то сбивчиво говорил о «нюрнбергских законах». На что я сразу же получил свой первый удар дубинкой от начальника блока вместе с приказом «выйти из строя». Рядом со мной вышли еще несколько человек.
Затем все пошло очень быстро. Нас увели в другой, еврейский, блок. Он был набит до отказа многими сотнями евреев из предыдущих транспортов — представителями самых разных народов. Ни одно построение, ни одна перекличка, попросту ничто не обходилось без битья заключенных старшими по блоку и писарями блоков. Не было почти никакой еды, лишь так называемый брюквенный суп без брюквы... А каким был труд! При непрекращающихся рёве и побоях со стороны капо надо было таскать камни из каменоломни: с камнем весом 20—30 килограммов на плечах преодолеть 186 каменных ступенек, ведущих наверх, в лагерь, там сбросить его и трусцой бежать обратно. Десять—двенадцать раз подряд. К тому же еще на каждом круге эсэсовцами устраивалась потеха с «парашютистами».
Как только мы взбирались по ступенькам на самый верх, звучала команда «остановиться!» над каменоломней, прямо на самом краю. Эсэсовцы выбирали двухтрех заключенных, подгоняли их на край и заставляли прыгать в каменоломню на глубину примерно 80—100 метров. Кто сам не хотел прыгать, того толкали, кто на краю в отчаянии цеплялся руками, тому долго топтали сапогами пальцы, пока несчастный сам не отпускал руки. На каждом круге, каждый день указательный палец эсэсовца обходил меня пока стороной. Когда он укажет на меня? Когда придет моя очередь? Однако вначале они выбирали пожилых заключенных, а мы, молодые, должны были вечером тащить мертвых из каменоломни в лагерь, чтобы при перекличке номера совпадали.
31
Каждый день насчитывалось от десяти до двадцати «парашютистов», убившихся, застреленных.
Событие, которое относится к моим самым страшным воспоминаниям и которое я никогда не смогу забыть, произошло однажды в каменоломне. В этот день что-то «висело в воздухе», что означало, что какое-то обстоятельство особенно обозлило эсэсовцев, и они свою злость старались излить на заключенных. Они подгоняли капо, и те в свою очередь неистово били мусульман (наполовину отощавшие от голода и оборванные до крайности фигуры, которые едва передвигали ноги). Именно в этот день я собирал в каменоломне камни, которые затем относил к отдаленной куче и складывал их перед каменотесами, обрабатывавшими эти камни. У меня все еще сохранялось немного сил, и я бегал как мог быстрее. Такое «усердие» было необходимостью, оно помогало избегать ударов и побоев.
И вдруг между блоками скальной породы я увидел, как обер-шарфюрер (его имя я забыл), присматривавший за нами, повалил на землю крупного, одутловатого — вероятно, набрякшего водой—заключенного-еврея. Он бил его тяжелой деревянной палкой, но так, чтобы не убить сразу, примерно так, как играет кошка с еще живой мышью. Он снова и снова попадал то между ляжками, по половым органам, то по заду. Заключенный кричал от боли и катался по земле, чтобы уйти от ударов. Но обер-шарфюрер бил его все неистовее, и было очевидно, что от истязаний заключенного он получает какое-то садистское, сексуальное наслаждение.
Все это время я должен был пробегать мимо этой сцены, поскольку капо приставил меня именно здесь к куче выломанных из массива камней. Меня всего трясло от страха и ужаса, и я пытался как можно скорее— в моих деревянных сабо—миновать это место. Наконец, примерно через полчаса, я заметил, что обершарфюрер становится все более и более возбужденным. Его удары сыпались еще более бешено, все лицо покраснело, и он начал дрожать... Затем тяжелым ударом по голове он убил заключенного и ушел. Эго была ужасная картина, в моих глазах стояли слезы, но этого ни в коем случае не должен был заметить капо. Я должен был работать дальше.
Наш блок заметно «поредел». Эсэсовцам необходи-
32
мы были места для очередного транспорта. Через три месяца из нескольких сот заключенных (я оцениваю их количество примерно в 1200 человек) в живых осталось 35 — ия все еще в их числе. Я был молодым, крепким, физически тренированным человеком и с необыкновенно сильным желанием жить. Я знал, что мой конец близок, но я не хотел даже думать об этом. Причем я прекрасно сознавал, что мне никак нельзя ни споткнуться, ни выбрать слишком маленький камень, ни каким-либо образом выделиться и привлечь к себе внимание. Вопреки всему моя неукротимая воля к жизни оставляла во мне место для постоянной, почти близкой к сумасшествию надежды выжить. Теперь я уже могу сказать, что это не было напрасным.
И вот наступил момент, когда последние 35 заключенных-евреев должны были построиться на апельплаце и уже не идти в каменоломню. Нас запрягли в громадный дорожный каток — наверху сидит эсэсовец с плетью,—и мы должны прокатывать апельплац, вымощенный камнями из каменоломни. Значит, здесь должен наступить конец? Во время короткого обеденного перерыва я бегу—несмотря на строгий запрет—к лагерной канцелярии. Я боюсь, ужасно боюсь! В конторе сидели лагерные писари и наслаждались обеденным отдыхом. Среди них был также тот, кому я при нашем прибытии целую ночь помогал печатать на пишущей машинке. С умоляющим выражением на лице я прижался к оконному стеклу. Он узнал меня и открыл окно. Я прошу его, не мог бы он мне помочь — из моих уст исходят уже лишь одни всхлипывания,— ведь я не хочу умирать, из моих глаз текут слезы.
— Вы не могли бы обратить внимание СС на мои бумаги из Праги? Гестапо не включило меня в число евреев!
Это моя последняя надежда. Знаю, что если это не удастся, то все кончится. Жалости у СС не существует. Они будут придерживаться лишь своих собственных «законов».
Писарь обещает сделать попытку, думаю, что в нем есть жалость. Другие присоединяются к нему, в их числе один молодой, с очень интеллигентной внешностью писарь-испанец, который выражает по отношению ко мне что-то вроде симпатии. Я с ним немножко пообщался в ту ночь, когда мы приехали. Он обещает, 33
что обязательно попытается что-нибудь сделать. Они знали, что это очень срочное дело.
Впоследствии мне довелось узнать, что писарьнемец, которому я помогал при приемке транспорта, был раньше эсэсовцем, из-за какого-то тяжкого проступка переведенным в концентрационный лагерь. В нем он пользовался определенными привилегиями и имел доступ в политический отдел. И это, по всей вероятности, стало решающим фактором. На следующее утро на перекличке меня вызвали — я должен явиться в лагерную канцелярию. А оттуда один эсэсовец действительно провожает меня в политический отдел. Я дрожу всем своим телом. Случится ли все же чудо? Да, случилось.
Между тем из Праги пришли наши личные дела. По предупреждению уже упомянутого лагерного писаря эсэсовцы из политического отдела дали себя уговорить посмотреть мое дело. Они установили, что я прав, и из присущей немцам любви к порядку эту ошибку тут же исправили. Один из чиновников подошел ко мне, отпорол с моей одежды еврейскую звезду и дал мне красный треугольник с буквой «Т», предназначенный для политических заключенных чешской национальности, который я должен был нашить на одежду. Этот треугольник имел номер 3127,— номер, который я не забуду до самой смерти. Тем самым для них все дело закончилось, и я пошел обратно в лагерную канцелярию. В ней писари встретили меня смехом и поговоркой, которая затем распространилась в лагере, что я «сошел у могильщика с лопаты».
После этого меня поселили в другом блоке и направили на строительные работы. Некоторые заключенные с особым положением—капо из внелагерных команд, которые имели вдоволь супа и хлеба,—кормили меня несколько недель: я был похож на скелет. Через два дня после моего «воскрешения» оставшиеся 34 заключенных-еврея уже были мертвы! То есть спасение действительно пришло в самый последний момент.
Примерно в начале 1942 года в лагерь поступил второй крупный транспорт. По преимуществу это были молодые заключенные из Чехословакии, вероятно, члены вновь созданного и снова раскрытого подпольного движения. Здесь эсэсовцы также вычленили евреев, которые вместе с евреями других национальностей обра34
зовали колонну переносчиков камней, к радости и веселью их надзирателей. Однажды я издалека увидел среди них (от еврейских колонн прочие заключенные изолировались строжайшим образом) Эрнста Алтера и Голди Энгельмана, моих добрых друзей, которых я очень любил.
Эрнст был вечным острословом, очень толстым, добродушным юношей. Его подруга обладала таким же чувством юмора, как и он,— замечательная пара, вокруг которой никогда не прекращались смех и шутки. Голди, настоящего имени которого я не знаю до сегодняшнего дня, был величавым по внешности, но незаносчивым, крайне чувствительным парнем, всегда готовым прийти на помощь. Он был очень начитанным, и поэтому девушки восхищались им. Как раз с Голди меня несколько лет связывала прочная дружба.
Теперь я видел их обоих, хоть и совсем недолго, в колонне переносчиков камней, которую, как обычно, гнали рысцой с помощью ударов и пинков из лагеря в каменоломню как эсэсовцы, так и капо. Я никак не мог обратить на себя внимание и не мог приблизиться к ним после работы, так как еврейский блок был отгорожен от других бараков колючей проволокой и строго охранялся. Обоих я видел еще два или три раза, однажды совсем близко, когда они пробегали мимо нас. Они держались вместе, но их взгляд выражал полную отрешенность, как если бы они не ощущали окружающего мира. В какой-то момент Голди посмотрел на меня невыразимо печальными глазами, но мне кажется, что он меня вообще не узнал. Его голова отекла, была вся в синяках и кровоподтеках—очевидно, следствие ужасных побоев,— передвигался он тяжело, другие заключенные почти подталкивали его вперед. Также у Эрнста на спортивной куртке была кровь. Оба они выглядели страшно изнуренными и — как прежде я — были почти раздетыми. Ничего из нижнего белья, лишь полосатая роба заключенного, ноги без носков в неуклюжих и тяжелых деревянных башмаках. Видно было, что им холодно — их ноги и руки занемели до синевы. Я понимал, что они не выдержат долго.
Эта колонна переносчиков камня была меньше, чем та, в которой работал я, и ее быстро ликвидировали. Через несколько дней осталась лишь небольшая кучка заключенных — Эрнста и Голди между ними уже не бы35
ло. Они умерли, и весь ужас для них закончился. Я постоянно думал о них, о том времени, когда мы были вместе, о последнем летнем лагере, о наших тогдашних мечтах о будущем. Почему же эти талантливые, порядочные и подающие надежды люди должны были умереть в столь молодом возрасте и таким ужасным способом?
В то время я еще ничего не знал о массовых лагерях смерти в Польше. В Маутхаузене небольшая газовая камера была устроена лишь в конце войны. Заключенных, которые предназначались для массовой ликвидации,— не только евреев, но и поляков, русских и др.— доводили до голодного истощения или расстреливали, забивали до смерти или бросали в каменоломню. Эсэсовцы и капо проявляли чудовищную изобретательность в уничтожении людей. В последующем евреи в Маутхаузен уже почти не поступали, исключением оказались венгерские евреи, прибывшие в лагерь незадолго перед окончанием войны,— вероятно, они шли прямой дорогой в специальные лагеря смерти в Польше.
Большинство из примерно 122 тысяч погибших в лагере Маутхаузен — как было установлено позже — были советские граждане, поляки, венгры, югославы, французы и др. Почти у всех народов Европы, а также Америки (34 погибших американца) в этом лагере были свои жертвы. В нем погибло около четырех с половиной тысяч чехов. То, что я избежал участи быть перемолотым этой смертоносной машиной, действительно похоже на чудо.
Вскоре после этого я был направлен в строительную контору, попасть туда мне помог один мой друг из молодежного движения, который там уже работал. Для СС-бауфюрера нужен был человек, отлично владеющий пишущей машинкой и немецкой стенографией. Никого другого на это место не было, поэтому я очень быстро его получил. Меня перевели в находящийся на особом положении блок номер два, и благодаря этому на будущие годы я оказался в относительной безопасности. У бауляйтера, к которому я каждый день приходил на диктовку, я мог иногда так или иначе замолвить слово в пользу заключенных. Это было очень важным обстоятельством, поскольку я мог сохранить жизнь многим людям, устраивая для них направление в раз36
личные мастерские, которые подчинялись руководству строительством. Я снова стал членом существовавшего в лагере подпольного интернационального коммунистического движения и время от времени получал указания устроить некоторых товарищей. Так, например, в 1942 году я получил указание помочь с направлением в какую-нибудь мастерскую Антонина Новотного, будущего Первого секретаря КПЧ и президента ЧССР. До войны он был секретарем районного комитета и, следовательно, относился к числу функционеров, которых должна была спасти в лагере подпольная организация. После ареста и пересылки в Маутхаузен он работал в каменоломне, где ему уже недолго оставалось жить. Мне удалось устроить его в команду монтажников, в теплую мастерскую с несколько улучшенным питанием. Благодаря этому он выжил. Что именно этот человек впоследствии будет делать в Чехословакии и как он будет себя вести — об этом я не мог тогда даже подозревать.
Но сейчас я «перепрыгну» через эти четыре с половиной года, проведенные в Маутхаузене. Я снова нахожусь в освобожденной Праге вместе с моей старой тягой к какой-нибудь художественной профессии. Я думал о живописи, а также о кино с его громадными техническими и художественными возможностями. Я уже установил кое-какие контакты, но все еще толком не знал, на что мне решиться. Естественно, мне не хотелось отказываться от политической деятельности, но у меня не было намерения заниматься этим профессионально. Во вновь образованную коммунистическую партию я вступил сразу же после возвращения из лагеря, и Антонин Новотный в качестве одного из рекомендующих лиц охотно подписал мое заявление о приеме в партию. Мой партбилет имел очень маленький номер. Антонин Новотный немедленно стал секретарем пражского областного комитета, превращаясь тем самым во влиятельного партийного функционера.
Однажды совершенно случайно я встретил на улице Йозефа Хорна, второго, кто рекомендовал меня при вступлении в партию, который также был со мной в Маутхаузене и принадлежал к кругу партийных функционеров. Оба мы были рады нашей встрече, поскольку и в лагере у нас сложились хорошие отношения. Он между тем стал ближайшим сотрудником Марии Швер37
мовой, выполнявшей тогда функции секретаря по организационным вопросам в Центральном секретариате партии. Уже после нескольких первых фраз, как только он услышал, каковы у меня планы на будущее, он воскликнул: «Но это же ерунда, именно теперь партии нужны такие люди, как ты,— ведь мы хотим построить социализм, и мы нуждаемся в каждом профессионально подготовленном коммунисте в партийном аппарате. Приходи завтра ко мне в секретариат, я представлю тебя товарищу Швермовой, и затем ты будешь у нас работать».
И снова как-то вдруг моя дальнейшая судьба решилась. Хотя я и не знаю точно, что мне придется делать в аппарате, но это будет видно потом. Из концентрационного лагеря я вернулся еще более убежденным коммунистом. Что-то подобное фашизму больше никогда не должно повториться в моем народе, не должны больше существовать ни кризис, ни массовая безработица. Все свое сердце я без остатка отдал борьбе за социалистические идеалы, что оказалось сильнее, чем мое желание заниматься живописью. Раз партия нуждается во мне, я хочу служить ей, отдавая все мои силы. В то время социализм и партия были для меня символом общественной справедливости — противоположностью всему печальному, что мне пришлось пережить.
На следующее утро после краткой кадровой проверки товарищем Швермовой я становлюсь сотрудником ее отдела. Куда приведет меня этот шаг?
2. КОРРУПЦИЯ В ПАРТИЙНОМ АППАРАТЕ
Идет 1957 год, прошло семь лет с момента моего зачисления в штаты партийного аппарата. Только что меня назначили профессором политической экономии в Высшей политической школе (которую называют также Высшей партийной школой). Что же произошло за эти семь лет? Каким образом я вопреки всей своей тяге к искусству вошел в экономическую науку? Как круто один случай может изменить всю жизнь человека! Если бы тогда, виюне 1945 года, меня на улице случайно не встретил Йозеф Хорн, моя жизнь, вероятно, сложилась бы совершенно иначе. Или, может быть, 38
и так, рано или поздно, я бы стал работать в науке? Этого не знает никто.
Как бы там ни было, все произошло так, как произошло, и мною овладели совершенно другие проблемы. Мое стремление заняться живописью или кино мне пришлось полностью подавить. Сколько всего разного я изучил в течение этих семи лет! Я завершил высшее образование, получить которое раньше мне не удалось, при этом избрал такое направление, о котором прежде не имел ни малейшего представления. Теперь снова пробудился мой интерес, который еще до оккупации во мне вызвал необыкновенно занимательно написанный учебник по экономике Ульриха (Каменицкого). Однако еще более сильным импульсом заняться научной деятельностью была бессодержательная работа в бюрократическом аппарате, в рамках которого я «функционировал» и из которого сейчас пытался уйти. Каким разочарованием для меня оказалась «политическая работа», которой я так гордился вначале! Имея опыт деятельности в молодежном движении, я привык размышлять о наших целях, понимать взаимосвязи между долгосрочными, краткосрочными и повседневными целями, знать, почему и что делается, что это даст. Ничего подобного в партийном аппарате не существовало. Здесь я встретился с чиновниками, каждому из которых был поручен определенный, небольшой участок работы. В аппарате сидели сотни таких чиновников, занимавшихся подготовкой рапортов, сообщений, разработкой конкретных данных. Никто из них точно не ориентировался, является ли полученная снизу информация характерной и для всей политической обстановки, какова ее связь с другими событиями, отражает она реальную обстановку в розовом или черном цвете, устарела она или сохраняет свою актуальность. Никого из них это не интересовало, поскольку никто из них не знал, что, собственно, произойдет с их информацией, где она закончит свое движение, будет ли ее кто-то использовать или она исчезнет вместе с бесчисленным количеством других материалов — непрочитанной — в какой-нибудь папке беспрерывно спешащего то туда, то сюда начальника. Когда я втягивал какого-нибудь товарища-чиновника в дискуссию о том, «будет ли при социализме также существовать прибавочная стоимость» или «кто будет принимать решения об использова39
нии прибавочной стоимости» и т.п., я наталкивался на непонимающие взгляды или мне просто отвечали, что они в этом не разбираются или что у них для подобного разговора нет времени.
Это была моя встреча с бюрократическим аппаратом. Здесь правая рука не ведала, что творит левая, а заведующие отделами были не в состоянии прочитать все то, что накапливалось. Они не знали, что является важным, существенным, а что, наоборот, второстепенным и какую информацию следовало бы обобщить. В большинстве своем они старались подготавливать такие материалы, которые соответствовали представлениям и желаниям своего начальства, отдельных секретарей (в разное время их было в аппарате 5—6 человек, и над ними стоял первый секретарь). То же самое делали их подчиненные, затем опять-таки областные секретари в своих сообщениях и отчетах в Центральный секретариат, районные секретари для областного секретариата и т. п. Каждый старался приспособиться к вышестоящему начальству.
Через несколько месяцев вся эта работа мне более чем опротивела. Впрочем, в отделе М. Швермовой я не занимался ничем другим, кроме как чтением, сортировкой, регистрацией и пересылкой почты, которая поступала из областей, районов, организаций и от многих частных лиц. Вместе с бумагами я без конца бегал по всем канцеляриям секретариата, и подчас мне казалось, что я работаю почтальоном. Такая работа, естественно, не могла меня удовлетворить, я представлял свою работу совершенно иначе. Это пригодилось мне лишь в том плане, что я довольно близко познакомился с манерой работы партийной бюрократии, изучил личные качества функционеров, их менталитет, способность к приспособлению, их гибкие реакции на то, «откуда ветер подует», но вместе с тем и их заносчивость и высокомерие по отношению к «внешней среде», к простым членам партии или, что еще хуже, по отношению к беспартийным.
Мне представилась возможность уйти из этого отдела, причем отнюдь не против воли М. Швермовой. На тех редких заседаниях отдела, в которых мне приходилось принимать участие, я втягивал ее в дискуссию по теоретическим вопросам, таким, например, как: стремимся ли мы реализовать диктатуру пролетариата 40
согласно Ленину или нет, достигнем ли мы этого с помощью революции или без нее и т. п. Каждый раз у нее проявлялась нетерпеливость и раздражительность, когда «младшенький в отделе» осмеливался возражать ей.
В сущности, мне нравилась политическая линия «специфического чехословацкого пути к социализму», которую партия тогда пыталась обосновать с помощью ленинской работы «Две тактики социалдемократов в демократической революции». Но было комично наблюдать, как всякая аргументация непременно должна была подкрепляться каким-нибудь «классиком»: Марксом, Энгельсом, Лениным или Сталиным. Тот, кто нашел правильную цитату, заранее выигрывал дискуссию. Но при этом было привлекательным хотя бы то, что мы хотели прийти к социализму без революции и диктатуры пролетариата. Впоследствии то же самое провозглашал Р. Сланский, который в то время был Первым секретарем партии. В середине 1946 года «специфический чехословацкий путь к социа-^ лизму» стал официальным содержанием правительственной программы руководства Готвальда.
В первые месяцы после освобождения страны от фашизма существовало правительство Национального фронта, в котором на паритетных началах были представлены все партии и во главе которого стоял 3. Фирлингер, член социал-демократической партии. 25 мая 1946 года были проведены парламентские выборы, по результатам которых в Чехии коммунистическая партия получила 40% голосов, социал-демократы—15,5, чешские социалисты — 23,6 и Народная партия — 20,3% голосов. В Словакии коммунистическая партия набрала 30%, Демократическая партия — 62, Партия труда и Партия свободы вместе получили 6,8% голосов. Председатель Коммунистической партии Чехословакии Клемент Готвальд стал Председателем Совета Министров, а доктор Эдвард Бенеш был снова избран президентом республики.
В это время я как раз работал в секретариате Пражской области в качестве референта по вопросам занятых в частном секторе. Мою просьбу о переводе из аппарата, которую я обосновал желанием заниматься политической работой поближе к первичным организациям, М.Швермова с удовольствием удовлетворила. Первым секретарем пражского секретариата был 41
А. Новотный, а Председателем Центрального Комитета партии — И.Кроснарж. На упомянутый участок я был назначен и потому, что еще до ареста работал в частном секторе и хорошо знал эту среду. В круг моих обязанностей входила работа с партийными организациями в торговых предприятиях, банках, страховых обществах и т.п., то есть я должен был оказывать влияние на формирование политических взглядов, определенной политической атмосферы на этом участке, анализировать их, давать им оценку, находить пути решения проблем, выдвигать аргументы, лозунги и т.п., с тем чтобы расширить влияние партии в данной среде. Сначала эта работа меня удовлетворяла, прежде всего потому, что я располагал большой самостоятельностью действий, имел бюро с помощниками и машинисткой и мог делать более или менее то, что я сам считал правильным. Но уже вскоре я почувствовал, что при передаче центральных политических установок я все чаще повторяю фразы, с которыми не был полностью согласен и которые представлялись мне лишенными содержания, смысла. Я снова начал испытывать неудовлетворенность, поскольку чувствовал, что ничего нового я не даю и не приобретаю, что ничему хорошему не научусь и что, возможно, в конце концов сам стану партийным бюрократом. В таком состоянии я пребывал до выборов 1946 года, но затем нужно было безотлагательно что-то менять в своей жизни. Я взялся за учебу, вел преподавательскую работу на партийных курсах и в крупных организациях, читал лекции по экономическим проблемам, а в начале 1947 года поступил на заочное отделение в Высшую школу политических и социальных наук. Учиться при моей работе было нетрудно, поскольку никто не мог проконтролировать, готовлю я лекцию для какой-нибудь организации или же просто изучаю что-то из обязательных учебных дисциплин. В области экономических наук, к которым испытывал наибольший интерес, я прогрессировал очень быстро благодаря изучению первоисточников.
Начиналась учеба с «Капитала» Маркса, затем пришла очередь его предшественников: Смита, Рикардо, Мальтуса, Сисмонди, его последователей — Гильфердинга, Каутского, Ленина и др. С огромным интересом я изучал произведения великих немецких философов: Канта, Гегеля, Фейербаха,— читал ранние фи42
лософские труды Маркса и Энгельса. Затем я вновь обратился к трудам английских и французских просветителей, таких, как Локк, Хьюм, Вольтер, Руссо, Гельвеций, Дидро, Гольбах и др. С 1947 до 1953 года я проштудировал тысячи страниц текстов. Логику Гегеля, а также диалектику в ранних работах Маркса и Энгельса я начал правильно понимать лишь с помощью конспектов этих работ у Ленина, которые были опубликованы в его книге «Философские тетради». Я вспоминаю, как передо мной раскрылся совершенно новый мир. Целыми неделями, оперируя конкретными примерами, я пытался понять внутреннюю противоречивость материальных объектов и мышления. В свое философствование я втянул и Лилку, но иногда, когда нужно было непосредственно решать проблемы нашей жизни, это, наверное, немножко действовало ей на нервы.
Теория завладела мной и уже никогда меня больше не отпускала. Идеи, о которых я прежде не подозревал, научили меня смотреть на современную действительность совершенно другими глазами. Слепая вера в «одну-единственную истину партии» все сильнее переходила в рациональный скепсис.
Постоянное подчеркивание Марксом, что все находится в непрерывном движении и поэтому основные категории должны всегда сопоставляться с реальной действительностью, а теория должна постоянно приспосабливаться к этой действительности, глубоко проникло в мое сознание. Оно стало моей внутренней защитой в борьбе против идеологического догматизма партийного воспитания и пропаганды. Слепая вера во все большей степени сменялась научным поиском причин реально существующих общественных пороков и возможностей их устранения. Естественно, это происходило не вдруг и не сразу, это был длинный и тяжкий путь.
Интересно то, что я не в первую очередь начал преодолевать марксистские экономические догмы, наоборот, многие из них я дольше всего считал вполне реальными. Мощная логика экономической теории Маркса, исходная посылка которой —трудовая стоимость, выступающая в качестве базы цен,— представлялась мне правильной, вместе с недостаточным знанием современной буржуазной экономической теории приводили к тому, что в течение длительного времени я некритиче43
ски воспринимал марксистскую экономическую теорию.
Напротив, ранее всего у меня появились сомнения в правильности марксистско-ленинской теории именно в области политики и государства. Крайне упрощенная теория возникновения единства интересов людей после ликвидации капиталистических классовых противоречий, презрительное отношение к «буржуазной демократии» и постоянное подчеркивание необходимости и достаточности лишь одной партии, то есть «ведущей роли коммунистической партии в социалистическом обществе», вызывали у меня наиболее серьезные сомнения. В этой связи я считал, что проблема бюрократии в таком контексте не решается, она либо недооценивается, либо подавляется силовыми методами.
Конечно, мои сомнения были такого свойства, что о них я ни с кем не мог говорить. Я сознавал, что речь идет о «неприкосновенной», запрещенной проблеме, публичные высказывания о которой не допускались не только в сталинские времена, но и позже, при Хрущеве, и совершенно исключались в годы брежневского руководства. Из политических процессов 50-х годов, из опыта моей первой поездки в Советский Союз, к которой я еще вернусь, для меня становилось все более ясным, что политическая система с абсолютной властью бюрократической верхушки, а также гегемония Москвы — это та область, которая не подлежит критике.
В первые годы я, естественно, еще не мог теоретически обоснованно охарактеризовать все негативное, что содержала в себе система. Кроме самой бюрократической деятельности партийного аппарата, как она выступала на поверхности, мне бросалось в глаза прежде всего то, какими привилегиями обладают функционеры и высокопоставленные сотрудники аппарата, как публично они выступают в качестве поучающих моралистов, а в жизни совершают поступки, которые противоречат их расхожим проповедям. И то, как они сплоченно действуют, чтобы защитить свои привилегии. Очень скоро я заметил, что вышестоящие функционеры подбирают для себя такие кадры, которые полностью преданны им и беспрекословно выполняют все их поручения. Ни умственные возможности помощников для занятия какого-то поста, ни их характер или хотя бы 44
степень их единения с народом не играли здесь никакой роли. Все это оказывалось на последнем месте при подборе и назначении на должность нового сотрудника.
В секретариате Пражской области я очень скоро вступил в конфликт с большинством руководящих партийных чиновников., Это происходило еще в то время, когда существовали продовольственные карточки и наиболее чувствительной была нехватка мяса. Мясные нормы для населения были совершенно недостаточными, и поэтому партия официально боролась с черным рынком мяса и требовала строгого наказания всех спекулянтов, которые изымали мясо из государственных фондов, чтобы затем продавать его по высоким ценам. Каким же был мой ужас, когда я постепенно обнаружил, что высокопоставленные партийные функционеры Пражской области, такие, как Я. Кроснарж, А. Новотный, Б. Махачова, Г. Сынкова и др., получают втайне от всех каждую неделю мясо сверх установленных норм и что заведующий пражским хозяйственным отделом Глухи даже организовал снабжение этих товарищей всеми видами дефицитных товаров. Какое же лицемерие, какое противоречие между словами и делами этих людей! Организатором такого снабжения был Глухи, бесхарактерный и несимпатичный человек, лизоблюд и в то же время высокомерный, нагловатый, властный по отношению ко всем прочим сотрудникам.
Лишь много позже я узнал, что эти сознательно создаваемые привилегии, которые, естественно, не имели ничего общего с вознаграждением за труд, так как они явно восходили к методам взяточничества и коррупции, благодаря которым высокопоставленные партийные чиновники обеспечивали надежность и зависимость подчиненных и корпоративную сплоченность всего аппарата, практиковались в гораздо большем масштабе во всей партии. В то время я был еще довольно неопытен и поэтому верил, что если я открыто критикую это явление на партийном собрании, то действую в соответствии с «коммунистической моралью». Как же наивны были тогда мои представления и моя вера в «высокую коммунистическую мораль»!
Результат моего критического выступления оказался нулевым. Обвиняемые вообще не пришли на собрание первичной организации, а комитет организации, которому было поручено рассмотреть этот слу45
чай, не смог или не захотел - ничего установить. Функционеры все отрицали, и дело замяли. Я хотел еще выступить и на пленуме областного партийного комитета, но друзья отговорили меня от этого. Спустя некоторое время я был переведен из областного секретариата. Это не должно было выглядеть как наказание, поэтому меня перевели, так сказать, на другую, более важную для партии работу. Всю работу по переводу обеспечил тогдашний начальник отдела кадров пражского секретариата Б. Козелка. Он был также одним из тех, кто с того времени не спускал с меня глаз и всегда находил возможность — вплоть до моего исключения из партии — выразить по отношению ко мне свою ненависть.
Лишь много позже я узнал, что причиной злобы Козелки было не столько мое выступление на собрании первичной организации, сколько то обстоятельство, что перед этим у меня состоялся разговор с заведующим центральным отделом кадров М. Ландой о некоторых махинациях Пражского секретариата. По ходу разговора обсуждался также вопрос занятия самых различных ответственных должностей в пражской ратуше, в национализированных предприятиях в Праге и т. д., на которые назначались люди, преподносившие областным партийным функционерам ценные подарки, устраивавшие для них попойки и т. д. Так, например, было установлено, что в одном фешенебельном пражском ресторане не были оплачены громадные счета за кутежи отдельных пражских функционеров, что, разумеется, высокопоставленные члены городского магистрата от коммунистической партии снова замяли.
Так, на одном из семинаров для руководящих сотрудников партийного аппарата, в котором также участвовали Ланда, Козелка и я, произошло столкновение между Козелкой и Ландой. Разговор пошел о различных махинациях, имевших место в пражской партийной организации, и мы ставили в упрек Козелке то, что он как заведующий отделом кадров не принимает никаких мер по отношению к замешанным в эти дела функционерам, более того, пытается скорее все прикрыть и замять. Тем самым я нажил себе в его лице непримиримого врага. Естественно, я и не подозревал, что в то время готовился гораздо больший и непредсказуемый по своим политическим последствиям удар против 46
Центрального секретариата партии, возглавлявшегося тогда Первым секретарем Рудольфом Сланским,- удар, который направлялся из Москвы. В подготовке этой акции — о чем я узнал лишь впоследствии — немалая роль отводилась Пражскому секретариату во главе с Новотныу. И именно потому, что в это время велась тайная политическая борьба пражской клики против руководства Центрального секретариата, Козелка был крайне взбешен моей критикой в адрес Пражского секретариата. Все это было, естественно, лишь побочным проявлением гигантских интриг, проводимых Сталиным против руководящей верхушки Центрального секретариата КПЧ. Однако представляется, что важная роль во всем этом деле отводилась Пражскому секретариату, поскольку впоследствии — после устранения Сланского — Новотный совершенно неожиданно получил должность Первого секретаря партии.
Новотный был малозаметным человеком, который— по крайней мере еще в период пребывания в областном секретариате—благодаря своему спокойствию вызывал к себе почти что симпатию. Но это были, скорее, неуверенность в себе и стремление избежать каких бы то ни было конфликтов, что внешне производило впечатление спокойствия. Внутренне он был, повидимому, полон самых различных комплексов. Он также не отличался особой смелостью. В этом я удостоверился еще в концентрационном лагере. Убедившись, что после того, как он попал на монтажный участок, ему уже ничто непосредственно не угрожало, он отошел от участия в подпольном коммунистическом движении. В областном секретариате он чувствовал, что его уровень ниже, чем у председателя партии Кроснаржа или у других членов областного комитета, таких, как Б. Махачова, Ф. Кригель, Ф. Водслонь, Й. Розшлапил и др.
Новотный был явно плохим оратором, совершенно необразованным, слабо разбирающимся в марксизме. На каком-нибудь собрании просто так, без «бумажки» он не осмеливался произнести самостоятельно ни одного предложения. Его доклады писались его помощниками, и, несмотря на это, при их чтении он допускал ошибки. Единственной и самой сильной его стороной было умение вести «теневую», «фоновую» политику. 47
Он умел прекрасно выбирать и расставлять карьеристски ориентированные, благодарные и преданные ему кадры, которые без его помощи в силу своих «нижесредних» способностей (таким был, в частности, Козелка) не могли занять руководящие политические посты. Он сразу же «почуял» навеваемые из Москвы перемены, у него, по всей видимости, с самого начала имелся контакт с московскими агентами в Министерстве внутренних дел или в секретной государственной полиции, и благодаря получаемой информации он вовремя включился в подготовку материалов против центра, но при этом старался всегда быть на хорошем счету у Готвальда. Вплоть до своего повышения он постоянно оставался в тени Кроснаржа.
Председатель Пражской области Й. Кроснарж, демагог популистского толка, «народный трибун», работающий на «массы» крикун, уже в довоенный период был хорошо известен в среде пражских рабочих. Если пражские рабочие вообще не знали Новотного и после освобождения он также не мог снискать популярность в их среде, то Кроснарж был на фабриках и заводах «фигурой». Хотя и он был малообразованным человеком, но знал рабочих и то, что они хотят слышать. Он постоянно ораторствовал против капиталистов, против «миллионеров», против коллаборационистов и инстинктивно ненавидел любого интеллектуала. По своим деловым качествам он во многом превосходил Новотного и в секретариате старался при каждом удобном случае опередить его. Они вели между собой борьбу за власть. Преимущества над Новотным имела и Б. Махачова, но она сумела их лучше использовать. Будучи умнее и интеллигентнее, чем Новотный и Кроснарж, она обладала незаурядными ораторскими способностями. Прежде всего, у нее были сильные позиции в коммунистическом женском движении, что она умело использовала. Кроме того, она была более известна как партийный функционер в Пражской области по сравнению с Новотным.
Как в областной секретариат попал Франтишек Кригель, я не знаю. Он выполнял в нем обязанности секретаря по организационным вопросам, был «движущей силой» и «головой» в подготовке всех массовых мероприятий, а также в вопросах организационного строительства партии в Пражской области. Кригель 48
прожил беспокойную партийную жизнь. Он был участником сражений в Испании, работал в Китае при Мао с 1940 по 1945 год в качестве военного врача. Он был самым образованным и наиболее подготовленным марксистом среди партийных функционеров в пражской организации. Кригель был известен как вдумчивый и ловкий политик, поэтому сотрудники секретариата всегда стремились заручиться его поддержкой в случаях, когда у них имелись какие-нибудь политические проблемы. С Новотным у него были хорошие отношения. Я думаю, что это был единственный человек, с которым Новотный всегда советовался. Для того чтобы понять, какой характер приняли дальнейшие события, здесь необходимо упомянуть о том, что Кригель по национальности был евреем.
Франтишек Водслонь был честным и весьма человечным функционером областного аппарата. До оккупации он работал как коммунистический профсоюзный и кооперативный деятель, с 1940 по 1945 год находился в заключении в концентрационном лагере. Сразу же после возвращения из лагеря он стал членом президиума Пражского областного комитета, а в 1949 году— членом Центрального Комитета партии. Он не был бюрократом, отличался обостренным чувством справедливости и с пониманием относился к нуждам своих ближних. Он помогал каждому, кто обращался к нему со своими проблемами. Благодаря своей проницательности он очень быстро сориентировался в положении вещей в Пражской области и постепенно стал превращаться в реформатора. От других пражских функционеров он отличался страстью к чтению и учебе. В 60-х годах он принадлежал к числу сторонников реформы, так что я всегда мог советоваться с ним по различным вопросам.
Как только Новотный оказался на самом верху, он отдалил от себя всех пражских партийных функционеров. Он ловко рассадил их в самые разные министерские кресла, как, например, Кроснаржа и Махачову. Водслонь и Кригель стали заместителями министров. Но в собственно властный орган, в Политбюро, Новотный не взял никого из своих бывших сотрудников. Он не хотел иметь в нем никого из тех, кто стоял над ним прежде. Постепенно он подобрал себе совершенно новых людей, возвышением которых он управлял сам 49
и на которых, как он полагал, сможет всегда опереться. Несмотря на эти расчеты, некоторые из этих людей, например Барак, Кольдер и др., ставили ему палки в колеса.
Но здесь мы уже несколько забежали вперед, поэтому давайте вернемся назад, к некоторым важным событиям первых лет. Я выделяю лишь те события, которые важны, на мой взгляд, для понимания возникшего впоследствии чехословацкого реформистского движения и моего участия в нем, а также для понимания тех перемен, которые произошли во мне самом.
3. ПОСЛЕВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ — ДО ФЕВРАЛЯ 1948 ГОДА
Моя прежняя подруга Элишка, которая была арестована вместе со мной, возвратилась из концентрационного лагеря живой и здоровой, и мы вместе прожили еще несколько недель. Но со временем мы обнаружили, что не подходим друг к другу, что мы стали чужими. В нас самих и в нашей жизни многое изменилось, и поэтому по взаимному согласию мы разошлись. Затем у меня были разные, небольшие и поверхностные знакомства, ничего серьезного и ни в коем случае то, Что мне было по-настоящему нужно.
Уже долгое время, еще в Центральном секретариате, мне нравилась девушка по имени Лилка, которая работала в профсоюзном отделе. Она была в секретариате с самого начала, сотрудничала уже с последним подпольным партийным руководством, была умна и к тому же очень хорошенькой. Лилка интересовалась политической работой, и меня в ней привлекала также ее тяга к знаниям. Сначала мне казалось, что у меня нет никаких шансов понравиться ей, но тем не менее я постоянно думал о ней и делал все возможное, чтобы завоевать ее симпатии. Без Лилки я уже просто не мог жить. Однако мое упорство должно было привести к успеху. Иногда я замечал, что я ей небезразличен и вызываю у нее интерес.
В качестве референта Лилка посещала и первичные организации. Хотя у нее имелся опыт работы с массами—с молодых лет она получила политическое воспитание и была по натуре активным человеком,— тем не 50
менее перед каждым публичным выступлением она страшно волновалась. И здесь-то я мог ей помочь — уже при составлении доклада, когда мы сообща обсуждали проблемы. А однажды я пошел читать доклад вместо нее, так как она была просто не в состоянии победить свой страх перед выступлением.
Так мы с ней сближались все больше и больше, пока в конце 1946 года лед в отношениях между нами не растаял полностью. В то время она была слушателем месячных курсов областной партийной школы, где я читал лекции по политической экономии. Это, наверное, произвело на нее впечатление. Мой интерес к ней ей импонировал, и в конце концов она решила остановить свой выбор на мне. 29 апреля 1947 года мы сыграли свадьбу, и год спустя, 10 апреля 1948 года, у нас родился сын Иржи. Наш второй сын, Мирослав, родился гораздо позже — 7 марта 1953 года.
Наша свадьба была больше похожа на веселое приключение, чем на серьезное событие. На следующий день я должен был отправиться на трехмесячные военные сборы и хотел обязательно жениться на Лилке еще до отъезда. Все формальности нужно было выполнить в течение одного дня, поскольку накануне, 28 апреля, мы решили сыграть свадьбу уже на следующий день. Потом я обо всем этом всегда рассказывал по-другому, то есть что Лилка не хотела отпускать меня на воинские сборы холостым, и она всякий раз из-за этого злилась. Просто на следующее утро мы явились к председателю Земского (областного) национального комитета в Праге Ладиславу Копрживе и сказали ему, что мы хотим пожениться в тот же день. Это значило без обычных оглашений, которые, как правило, длились несколько недель, с освобождением от этих обязанностей— так, как это делается в чрезвычайных случаях.
Л.Копржива прошелся взглядом по Лилке в поисках каких-то признаков-причин нашей спешки и, когда ничего не обнаружил, снова посмотрел на меня и просто не знал, что ему думать. После наших произносимых наперебой заверений, что мы просто хотим пожениться до моего отъезда на армейские сборы, он все еще пребывал в нерешительности, но, желая, очевидно, показать нам, что он вовсе не бюрократ, дал распоряжение соответствующему служащему, чтобы тот 51
исполнил все необходимые формальности и наша свадьба могла состояться в тот же день.
А потом все пошло уже очень быстро. Из одного канцелярского помещения в другое мы оба со всеми документами следуем за служащим. Никто не может вообразить, через сколько рук должно пройти все это количество документов, прежде чем наступит конец всей церемонии. На ее завершающей стадии перед нами появился нужный чиновник — до этого мы должны были срочно, по телефону, добыть еще двух свидетелей—и зачитал нам обычный в таких случаях текст. Моментами мы не могли удержаться от смеха над нашим несколько комичным положением, а он, не зная, серьезно ли вообще все это с нашей стороны, снова и снова с любопытством посматривал на Лилку, но все наконец закончилось обменом обручальными кольцами (которые мы накануне купили) и продолжительным поцелуем.
Такой была наша свадьба, после которой последовала супружеская жизнь с многими радостями, заботами и очень частыми, приходящими извне опасностями. К настоящему времени наш брак длится уже более сорока лет, и во всех ситуациях Лилка оставалась моим верным соратником. Не всегда ей давалось это легко.
Будучи молодым референтом Пражского областного секретариата, я получал недостаточное жалованье, чтобы обеспечить семью. Лилка также должна была работать. Но и при других обстоятельствах она не осталась бы дома. О первом сыне какое-то время заботилась моя мать, а позже нам с Лилкой приходилось во всем помогать друг другу. Это не обходилось без проблем и трудностей, так как я хотел во что бы то ни стало завершить свою учебу. У меня не было намерения остаться на всю жизнь политическим бюрократом. А это требовало большой напряженной работы ежедневно вплоть до глубокой ночи.
Политическая обстановка в стране становилась все более острой, и многого в ней я не понимал, к тому же усиливались и мои внутренние сомнения, вызванные последними событиями. В самом начале это былоцвыселение судетских немцев, которое я считал несправедливой мерой] Когда в концентрационном лагере мы дискутировали о будущем, никому даже в голову не приходило, что можно взять и выселить целый народ. Кроме того, у всех нас имелись немецкие друзья из комму52
нистов и социал-демократов; у меня, естественно, были друзья среди немцев уже до этого в Теплицах. Мы всегда думали лишь о наказании нацистских преступников, но мы и подумать не могли, что возможно осуществление акций, вызванных местью по отношению к целому народу. О своих сомнениях я не мог говорить открыто, так как это был решенный вопрос и любое выступление против закончилось бы немедленным исключением из партии. Кроме того, по этому вопросу существовало единство мнений во всех партиях, и, как я узнал только сейчас, инициаторами выселения судетских немцев были вообще не коммунисты. Инициатива исходила от президента Бенеша, благодаря чему ему удалось привлечь внимание Сталина и сделать его сторонником этой идеи. Естественно, что с этого момента для коммунистического руководства она стала недискутируемым вопросом.
Усиленно занимаясь учебой, именно в это время я начал все больше интересоваться вопросами экономического развития общества. В первые годы после освобождения это развитие имело определенные особенности, которые представлялись мне весьма важными и потому надолго остались в моей памяти. Впоследствии эти особенности — как один из многих факторов— побудили меня к разработке моих реформистских идей.
Сразу же после освобождения Чехословакии первое правительство приступило к экспроприации и национализации крупных предприятий. Такие меры предусматривались уже в Кошицкой правительственной программе (программа, в которой пришли к соглашению все будущие политические партии — еще до освобождения республики — в Кошицах, расположенных в самой восточной части Словакии). Необходимость национализации обосновывалась тем, что в ходе войны эти крупные предприятия частично перешли в собственность немцев или принадлежали чехам, которые сотрудничали с немецкими оккупантами и, следовательно, были коллаборационистами. Таким образом, в руки государства перешли энергетическая, металлургическая и машиностроительная отрасли промышленности, шахты, банки и страховые общества, а также химические, электротехнические и оптические предприятия с числом занятых более 500 человек, предприятия коже53
венно-обувной промышленности с числом занятых свыше 400 человек и, наконец, деревоперерабатывающие предприятия и предприятия строительных материалов с числом занятых более 150 человек. Наряду с государственным сектором вплоть до 1945 года существовал еще и сектор частнокапиталистических предприятий и, наконец, сектор частных малых предприятий (ремесло, мелкие услуги, сельское хозяйство). Самым интересным в это время было то, что наряду с демократической системой управления в государственном секторе осуществлялись и специфические способы начавшего развиваться народнохозяйственного планирования. Все это функционировало — жаль, что так мало времени,— в сущности, лишь до февраля 1948 года и затем — но уже отнюдь не демократическим образом— формально вплоть до 1949 года. Несмотря на это, в течение этих немногих лет появилась возможность практического сосуществования плана и рынка, так же как и демократического планирования и управления. Не все можно было оценивать позитивно, однако глобальные результаты этой совершенно новой системы производили все же весьма сильное впечатление.
С помощью вновь создаваемых органов центрального планирования, а также Экономического совета при Председателе Совета Министров правительство разработало двухлетний план, в котором определялись глобальные цели народнохозяйственного развития. В сущности, речь шла об индикативных целях, устанавливаемых для предприятий, которые правительство старалось реализовать с помощью хозяйственно-политических инструментов, то есть с помощью фискальной, валютной, кредитной, ценовой и доходной политики. В разработке целей плана посильную помощь оказывали все партии. Это осуществлялось посредством участия представителей этих партий в Центральной комиссии планирования, а также посредством участия представителей в отдельных отраслевых комиссиях этого ведомства, где разрабатывались в общих чертах глобальные задачи и где они же конкретизировались для непосредственной реализации. Вызывало удивление относительно быстрое достижение согласия среди партий по вопросу направлений плана, что достигалось значительно легче, чем согласие по вопросам, затрагивавшим политические цели правительства.
54
Позитивным по своему характеру являлось и развитие демократической системы управления государственными предприятиями. Была создана система самоуправления, которая должна была обеспечивать связь между центральными хозяйственными органами (министерствами) и отдельными предприятиями. Возникли общегосударственные отраслевые органы самоуправления, а также областные хозяйственные палаты, действовавшие на основе самоуправления. Отраслевые органы самоуправления представляли интересы всех предприятий какой-то определенной отрасли по отношению к министерствам. В их функции входило также доведение до предприятий принимаемых центром решений. Хозяйственные палаты должны были прежде всего координировать развитие всех отраслей в пределах области и обеспечивать связь между областными политическими органами (национальными комитетами) и предприятиями. Представители во все эти стоящие над предприятиями органы должны были выбираться преимущественно снизу и как минимум с одной третью представителей трудовых коллективов предприятий. Но до этого, учитывая тенденции развития политической ситуации, дело не дошло; тем не менее эти органы уже начали функционировать, хотя в большинстве своем—с назначаемыми сверху представителями.
Большинство предприятий было сконцентрировано в рамках крупных концернов, начало чему было положено еще в период немецкой оккупации. Оперативное управление такими концернами находилось в руках генеральных директоров, назначаемых правительством по рекомендации демократически образованных профсоюзных комиссий в отдельных отраслях. В комиссиях, которые составлялись из авторитетных специалистов, ректоров, профессоров технических учебных заведений, известных специалистов промышленности и пр., естественно, не обходилось без конфликтов, вызванных разногласиями на политической почве. Но взгляды и мнения удивительно быстро совпадали, когда речь шла о всеми признаваемых крупных авторитетах из числа руководителей-менеджеров, которых было немного. С тех времен известны имена деятелей, которые пользовались большим уважением не только на предприятиях, но и во всем обществе и которые имели боль55
шие заслуги в быстром подъеме национализированной промышленности. Кроме Оутраты, повсеместно признаваемого специалиста и генерального секретаря Экономического совета, я назову лишь некоторых генеральных директоров, таких, как Ф.Фабингер, Фукатка, Кубелик, Й. Ичински. (Почти все они в 50-е годы были осуждены как враги народа.)
Директора являлись членами президиума совета, треть из них избиралась трудовым коллективом. Один представитель дирекции избирался из числа работников. Директор в принципе имел право последнего решения— при несогласии с решением президиума он мог обратиться в вышестоящие органы. В этой организации уже довольно сильно проявлялась система единоначалия, перенесенная коммунистами из советской системы, тогда как самоуправляемая организация работников осталась, на мой взгляд, как бы «ни при чем». Сильными органами трудового коллектива необходимо признать фабрично-заводские советы, политическая значимость которых благодаря образованию объединенных профсоюзов необыкновенно выросла. Они имели право выражать свое мнение о решениях, принимаемых вышестоящим руководством, оценивать их с точки зрения интересов работников, а также участвовать в разработке и принятии решений, касающихся таких вопросов, как заработная плата, оклады и увольнения сотрудников.
Для меня все мои наблюдения, связанные с организацией тогдашней хозяйственной структуры, представляли громадную важность. Позже, при разработке проектов реформы, я в душе возвращался ко многим из них. ¿Тогда в целом это было успешное развитие, проявившееся в том, что за короткий период, в течение трех с половиной лет, до конца 1948 года, был даже превышен общий предвоенный уровень промышленного производства. Правда, не был достигнут предвоенный уровень в области сельскохозяйственного производства; здесь, вероятно, решающую роль сыграла сильная засуха 1947 года. Нехватка сельскохозяйственных продуктов вызвала необходимость ввести нормированное распределение продовольствия]
Успешное развитие промышленного производства я считал тогда следствием демократизации народного хозяйства и развивающегося народнохозяйственного 56
планирования. Лишь позже я понял, что без сохранявшейся в те годы заинтересованности в развитии рыночных отношений, без давления конкуренции, так же как без хорошо подготовленных руководителей концернов и предприятий эти результаты были бы немыслимы. Хотя конкуренция на внутреннем рынке была минимальной из-за высокой концентрации производства и предприятий монополистического типа (которые, собственно говоря, восходили к немецкой хозяйственной организации), однако существенная часть производства должна была поступать на внешний (западный) рынок, с тем чтобы можно было расширить импорт важнейших средств производства. На внешнем рынке продукция отечественного производства с самого начала попадала под давление конкуренции, что вынуждало руководство концернов и предприятий во всем, что касалось качества продукции и эффективности производства, стараться хотя бы не отставать от европейского уровня или же находить новые рынки сбыта.
Упрощенное понимание проблемы привело меня к тому, что я не только недооценивал роль рыночного механизма, но и рассматривал его в качестве одного из присущих капитализму пороков, как причину так называемой анархии в капиталистической экономике, причем у меня сложилась твердая убежденность в том, что и впредь социалистическое производство будет успешно функционировать. Лишь много позже я понял, как человек может не видеть того, чего он видеть не хочет, будь то по политическим или идеологическим причинам. Он попросту не хочет признавать определенные реалии. Мне еще предстояло пройти длинный путь к познанию и пониманию того, чем же, в сущности, являются догмы и что обусловливает их появление. Впоследствии наиболее ярые догматики станут упрекать меня в том, что в первое десятилетие послевоенной Чехословацкой Республики я писал марксистские статьи и в таком же духе преподавал, после чего стал ревизионистом и предателем. Бедные воображением и обделенные умом люди до сегодняшнего дня не поняли, что пересмотр теории на базе новых познаний, а также постоянное сопоставление теории- с реальной действительностью относятся к основным требованиям, предъявляемым к научному мышлению. Маркс видел в этом основной критерий научности любой тео57
рии, да и Ленин совершенно открыто трактовал свою теорию империализма как результат пересмотра прежней, марксистской революционной теории (о возможности социалистической революции лишь в самых развитых капиталистических странах). Но право пересматривать мог иметь лишь Ленин, у всех остальных это становилось предательством по отношению к священной вере. Насколько же сильно вера всегда зависит от «абсолютных истин», от «сверхчеловеков», и как много людей не желают отказаться от этих «истин»! Так я продвигался вперед медленно, шажок за шажком.
В политической области первоначальное единство все ощутимее сдавало свои позиции в беспощадной борьбе коммунистов за достижение абсолютного большинства. Когда Сталин еще в 1946 году благословил «специфический чехословацкий путь к социализму», это был лишь тактический маневр, который ни в коей мере не должен был сдерживать коммунистов в их стремлении достигнуть такой власти, которая гарантировала бы последовательное социалистическое преобразование Чехословакии. С началом «холодной войны» в мировой политике, в период 1946—1947 годов, цель Москвы заключалась в том, чтобы создать недвусмысленные, «ясные» отношения в тех странах, которые, по Ялтинскому соглашению, принадлежали к сфере ее влияния.
Поэтому под давлением Москвы в 1947 году в Чехословакии развернулась «усилившаяся классовая борьба», венцом которой явились февральские события 1948 года. Весной 1948 года должны были состояться новые выборы, готовясь к которым партийное руководство Готвальда еще весной 1947-го выдвинуло лозунг: достигнуть на выборах абсолютного большинства. Коммунистические лидеры сознавали, что одной лишь идеологической и политической агитацией они никогда не добьются этой цели, поэтому необходимо было вести борьбу другими средствами. При этом они руководствовались принципом, характерным для сталинской коммунистической политики: цель оправдывает средства.
В области идеологии на сознание широких слоев населения должно было оказываться столь мощное воздействие, чтобы в переходе к социалистической плани58
руемой экономике они видели всемогущее средство устранения всех существующих недостатков; при этом все прочие партии представлялись в качестве противников социалистического пути развития. Это давление было рассчитано на то, чтобы усилить общепопулярные, но в действительности бесполезные требования (типа «налогообложения миллионеров»), спровоцировать политические угрозы и запугивание (с Советской Армией за плечами), вызвать непрерывное выявление и аресты коллаборационистов, «врагов народа», «шпионов», устранить некоммунистов со всех руководящих постов в окружении коммунистических министров и тому подобные методы силового воздействия. Государственная полиция, находившаяся в подчинении коммунистического министра внутренних дел Носека, беспрестанно «раскрывала заговоры шпионов»; при этом в большинстве случаев речь шла о провокациях, которые должны были компрометировать и ослаблять другие партии. Против политических деятелей других партий организовывались подстрекательские и массовые демонстрации (например, против министра юстиции Павла Дртины, известного политика Народной партии Павла Тигрида, против социал-демократического политика Вацлава Майера и др.). Используя подобные методы и приемы, коммунистическая партия вносила тем самым в народные массы чувство страха и хаоса.
Против этой клеветнической, демагогической и запугивающей коммунистической кампании другие партии не могли организовывать эффективное сопротивление. Они вынуждены были заниматься опровержением непрерывно растущего количества лжи, постепенно переходя на пассивные оборонительные позиции. Для того чтобы оказывать сопротивление, им следовало пользоваться такими же методами, как и коммунисты, но для этого им не хватало соответствующих идеологических и моральных «предпосылок», а также репрессивного аппарата (государственной полиции, армии и т. п.). Не приходится и говорить о том, какую поддержку политике коммунистов оказывали советская внешняя политика и армия.
В этой ситуации летом 1947 года не без влияния Москвы чехословацкое правительство отказалось участвовать в «плане Маршалла». Он квалифицировался 59
/как антисоветское обязательство Чехословацкой Республики, и его принятие рассматривалось Советским Союзом как враждебный по отношению к нему акт. Отказавшись принять участие в реализации—совместно с другими странами—«плана Маршалла», Чехословакия тем самым утратила важные технические и экономические связи с Западом. Вначале коммунистическое партийное руководство Чехословацкой Республики выражало желание участвовать в подготовке «плана Маршалла», но после вмешательства Сталина отказалось .от этого шага. В этом, по существу, коренится начало относительно сильной зависимости чехословацкой экономики от советской.
В сентябре 1947 года было основано так называемое Информационное бюро коммунистических и рабочих партий (Коминформ). В результате образовался «институт», посредством которого Сталин получил возможность все в большей степени подчинять себе политику других коммунистических партий, и прежде всего политику тех партий, которые находились под непосредственным советским влиянием. На первом заседании этой организации чехословацкие коммунисты вновь подверглись критике за проведение нерешительной внешней и внутренней политики и медленное продвижение в деле строительства основ социализма.
Коммунистические провокации усиливались. 13 февраля 1948 года чреватый своими последствиями, постоянно нарастающий конфликт между коммунистическими и некоммунистическими партиями достиг своего высшего напряжения в возникшем внутри правительства споре. Коммунистический министр внутренних дел Носек отозвал с занимаемых постов восемь районных полицейских начальников-некоммунистов. Их должны были заменить коммунисты. Большинство некоммунистических министров требовало, чтобы эти люди были вновь восстановлены в должности. Коммунисты под руководством Готвальда отказались выполнить это требование—и как следствие в правительственном кабинете возник кризис. Десять некоммунистических министров и два государственных секретаря — за исключением социал-демократических министров — подали в отставку; это означало, что из 26 членов правительства 14 человек остались на своих постах, следовательно, из правительства ушло меньшинство.
60'
Таким образом, руководство коммунистической партии сумело использовать этот правительственный кризис для достижения своих целей с помощью внепарламентских массовых акций, в то время как некоммунистическая оппозиция возлагала надежды, во-первых, на отставку большинства членов правительства и, вовторых, на парламентское решение вопроса, на переговоры с руководствами партий, президентом Бенешем и парламентом. Однако в этой ситуации более действенным оказалось внепарламентское давление, попытка парламентского решения не удалась. Внепарламентские акции нашли свое отражение в проведении массовых демонстраций, создании комитетов действия на предприятиях и в учреждениях, проведении съезда фабрично-заводских советов в Праге, в работе которого участвовало восемь тысяч делегатов, в образовании и вооружении рабочей милиции и т. п. Все это были те акции, которые сумели провести коммунисты и которые они полностью контролировали с помощью сильной партийной организации, использовав их для оказания сильнейшего давления на президента Бенеша. Их воздействию, в сущности, не смогли противостоять другие партии.
Когда Готвальд заявил Бенешу о возможном вводе частей Советской Армии, которые стояли у границ Чехословакии и которые Сталин предложил в распоряжение коммунистов, а также пригрозил проведением организованной всеобщей забастовки трудящихся, президент подчинился требованиям коммунистов. Он принял отставку министров и подписал проект Готвальда по образованию нового правительству.
В новом правительстве коммунисты получили абсолютное большинство. Из 25 членов правительства 13 были коммунистами. Трое из министров были беспартийными, а все другие в правительственном меньшинстве являлись членами некоммунистических партий. Некоммунистические министры не избирались руководством своих партий, их кандидатуры были подобраны и предложены, по сути, аппаратом компартии. В своих партиях они принадлежали к так называемым левым, будучи в действительности марионетками, послушно исполняющими волю коммунистического руководства.
7 июня 1948 года ушел в отставку президент Бенеш.
61
Президентом республики стал Готвальд, а А. Запотоцкий (бывший до сих пор председателем Революционного профсоюзного движения и членом коммунистического Политбюро) занял пост Председателя Совета Министров.
4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Так начался в Чехословакии процесс «усиления классовой борьбы», вылившийся в февральские события 1948 года. Коммунистическая партия, захватив всю власть в государстве, ликвидировала демократию. Воцарилась «диктатура пролетариата», введения которой уже задолго до этого требовали многие радикальные и сектантски настроенные коммунисты, которым не нравился «специфический демократический путь». Самые настоятельные требования о насильственном введении «диктатуры пролетариата» поступали в первую очередь из Словакии, где коммунистическая партия занимала относительно слабые позиции по сравнению со словацкой Демократической партией.
Накануне февральских событий государственная полиция все чаще и чаще сообщала о случаях раскрытия «шпионажа» и разоблачения «тайных коллаборационистов», а после Февраля волна доносов и арестов поднялась на небывалую высоту. В государственном аппарате была проведена гигантская «чистка», в процессе которой в последующие несколько лет на места уволенных служащих пришли несколько сот тысяч рабочих-коммунистов. Впоследствии эти бывшие рабочие обюрократились до неузнаваемости.
Рабочая милиция, находившаяся полностью под контролем коммунистической партии, получила официальное название «вооруженной десницы рабочего класса», в действительности же это была «десница» коммунистической партии. Формальное сохранение статуса других политических партий превратилось в некий демократический фарс, поскольку новые вожди этих партий фактически являлись ставленниками коммунистического партаппарата. Ни один думающий человек не обманывался на этот счет, тем не менее такое вызывающее ироническую улыбку лицемерие сохраняется вплоть до сегодняшнего времени.
Вскоре после февральского путча меня снова пере62
вели Пражского областного секретариата в Центральный секретариат, я именно в отдел культуры и пропаганды, где я работал в подотделе партийной учебы, который возглавлял Бруно Кёлер, немецкий коммунист родом из Судетской области. Б. Кёлер все еще плохо говорил по-чешски, и многие мысли, которые он хотел видеть в учебных текстах, он сообщал мне на немецком языке, а я уже переводил их на чешский.
В первичных партийных организациях началось введение марксистско-ленинской подготовки, так называемого Года партийной учебы, что вызвало необходимость написать популярные брошюры. Кёлер собрал вокруг себя молодых интеллектуалов-коммунистов, которые могли написать доступный и понятный для начинающих учебный материал. Здесь я познакомился со многими товарищами, моими ровесниками, с такими, например, как Любош Сохор и др., с кем я мог глубоко обсуждать интересующие нас проблемы, что стало для меня крупным источником интеллектуального вдохновения.
Однако такие дискуссии можно было вести лишь вдвоем, без присутствия третьего лица. Это ведь было такое время, когда общая атмосфера все сильнее и сильнее отравлялась слежкой, доносами и взаимной подозрительностью. Сталинская теория «обострения классовой борьбы на этапе диктатуры пролетариата» на практике проявлялась во внутрипартийной политике «бдительности и осторожности» и приводила к абсурдному наблюдению друг за другом. Постоянно проходили заседания, на которых царила атмосфера взаимной критики и уничижения, вынужденной самокритики, что напоминало, скорее, самобичевание. От нас требовали, чтобы мы «обнажались» друг перед другом, постоянно выискивали у себя все новые и новые ошибки и с покаянным видом публично признавались в их совершении. Например, было достаточно забыть запереть дверь, уходя из канцелярии, чтобы из-за этого вам устроили собрание, в повестку дня которого входило самообвинение в недостатке бдительности. Эта искусственно созданная атмосфера, которая превращала партийных сотрудников в бессильный и на все готовый инструмент всевластных секретарей, совершенно отбила у меня охоту к политической работе. Все глубже я осознавал, как мой первоначальный восторг превра63
щается в бунт и скептическое отношение к полицейским методам партии. Это уже не имело ничего общего с возвышенностью и силой убеждения социалистических идей. Надзиратель и шпик были более важными, чем воспитатель-социалист. Лицемерная самокритика расхваливалась как проявление «нового сознания». Зачем, собственно говоря, я писал брошюрки «о героической борьбе рабочих при капитализме», когда множащиеся изо дня в день сообщения о саботажах и шпионаже хоть и запугали население, но внутренне все сильнее отчуждали его основные слои от коммунистов?
В эти годы я все больше занимался теорией. В ней все прекрасно сходилось. Экономическая модель подтвердит—когда она будет реализована—преимущества социалистического хозяйства, а затем и политическая система станет более либеральной. Так вот, на время с помощью «идеальной» теории я подавлял в себе политические сомнения, груз которых я ощущал все сильнее. Но, конечно, и в социалистической экономической теории оказались большие пробелы.
По теории социализма нам попало в руки лишь несколько советских статей, в которых «пережевывались» Марксовы предсказания, взятые из «Критики Готской программы». О важных теоретических дискуссиях и работах, существовавших в Советском Союзе в 20-х и в начале 30-х годов, мы не имели ни малейшего понятия, я познакомился с ними лишь в процессе нашего развития на реформистской основе. После этого для меня стало ясно, почему Сталин постарался уничтожить всю литературу этого периода, а заодно ее авторов.
В канцелярии, где я должен был писать брошюрки для партийной учебы, в действительности я усердно занимался изучением экономических и философских трудов. Еще до того, как я закончил свою собственную учебу, мне уже приходилось регулярно преподавать политическую экономию в различных высших учебных заведениях, например в Высшей школе специальных наук и в Высшей технической школе в Праге. Преподавателей марксистской политэкономии было мало, поэтому в вузах преподавали все, кто мог это делать. Мне приходилось читать все больше лекций по этому предмету и в рамках партийной учебы.
В начале 1951 года были организованы специальные
¿4
трехмесячные курсы для областных секретарей и других высокопоставленных партийных функционеров. Одним из слушателей курсов был также А. Новотный. Насколько мне известно, это были единственные партийные курсы, которые он закончил. На этих курсах я должен был читать лекции по отдельным проблемам экономической теории. Мне казалось, что для столь высокопоставленных чиновников я должен выбрать относительно сложную тематику. Поэтому я остановился на теории цен и вопросах ее возможного использования в условиях социализма. Однако я очень быстро заметил, что переоценил своих слушателей и что лишь некоторые из них вообще понимали материал лекции. У Новотного на всем протяжении лекции были «стеклянные глаза», и в последовавшей затем дискуссии он не произнес ни слова. Вместе с тем я заметил, что на всех участников, которые были в состоянии дискутировать по теоретическим проблемам, он смотрел с уважением, в том числе и на меня.
Начиная с конца 1949 года чехословацкое народное хозяйство все в большей степени подвергалось реорганизации в соответствии с советской хозяйственной моделью. Сразу же после февральских событий 1948 года стали претворяться в жизнь дальнейшие меры по национализации промышленности, но уже с откровенно «социалистической» аргументацией. Если в течение 1949 года еще удалось спастись мелкому ремесленному производству, то в 1950 году началась экспроприация и мелких ремесленников — вопреки всем заверениям в обратном. В 1951 году социалистическому сектору принадлежало уже 99% всех производственных мощностей. Также ускоренными темпами подталкивалась вперед коллективизация сельского хозяйства.
Была перенята советская дирижистская система планирования, и(с 1949 по 1953 год в стране осуществ-1 лялся первый пятилетний плащ Еще более последовательно создавались основы для монополизации промышленного производства; была введена государственная монополия в области внешней торговли. Полностью ликвидировался рыночный механизм, государство устанавливало твердые цены. Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию были низкими, но допускалось, чтобы крестьяне, кроме того, продавали свою продукцию на свободном рынке—конечно, по 65
ценам гораздо выше установленных государством. Величина заработной платы уже не зависела от результатов деятельности предприятий и планировалась в централизованном порядке. Продукты и промышленные изделия распределялись на планомерной основе, с помощью специальной распределительной организации фондировались средства производства, потребительские товары продавались в основном через государственную торговую сеть, и лишь небольшая их часть реализовывалась в кооперативной торговле.
В течение буквально нескольких лет глубоко изме, нилась структура промышленного производства. От нормальной структуры, присущей промышленно развитой экономике, в рамках которой в 1949 году производство потребительских товаров еще составляло примерно 43% общего объема промышленного производства, а производство средств производства — около 57%, к 1954 году произошел переход к снижению удельного веса производства потребительских товаров в совокупном объеме промышленного производства до 37,7%. В результате удельный вес производства средств производства увеличился до 62,3%, причем прежде всего благодаря чрезвычайно быстрому развитию отраслей тяжелой промышленности, что имело первостепенное значение с точки зрения производства вооружения и поставок в Советский Союз. Точно так же за короткий период времени должна была измениться структура внешней торговли, причем удельный вес внешнеторгового оборота с капиталистическими странами понизился за это время с 68 до всего лишь 22%.
Эти перемены во всем промышленном производстве, осуществленные насильственным образом в краткий период времени, не могли не повлечь за собой самые пагубные последствия. Существовавшие десятилетиями связи и отношения между отечественными и иностранными отраслями и партнерами были практически полностью разорваны, а создание новых связей между производителями и потребителями продукции в условиях многотысячного товарного ассортимента на основе глобального народнохозяйственного плана было вообще невозможным. Неизбежными последствиями этого процесса стали снижение эффективности производства и возникновение диспропорций. Покупательная способность населения, источником которой 66
являлся рост заработной платы, повысилась в запланированной пропорции к общему увеличению объема производства, однако потребительские товары, в которых нуждалось население, не соответствовали его потребностям ни по общему объему их производства, ни по их структуре. В результате образовалось громадное превышение неудовлетворенной покупательной способности. Инфляционный рост количества денег нельзя было компенсировать за счет стихийного повышения цен, поскольку цены устанавливались в административном порядке. Появилась необходимость проведения второй денежной реформы, с помощью которой нужно было выкачать образовавшееся чрезмерное количество денежной массы.
То, о чем я здесь вкратце рассказываю, тогда, в начале 50-х годов, отнюдь не представлялось для меня столь ясным. По теории я выучил и так и преподносил своим слушателям, что благодаря планированию можно обеспечить быстрый и сбалансированный рост производства. Реальную практику я не знал, а необходимые данные и материалы держались в тайне и были недоступными. Экономисты в системе высшего политического образования и в других высших учебных заведениях отсылались за ответом к издаваемым в политико-пропагандистском духе материалам, где имелись данные только об успехах. Но даже если бы они могли 'глубже ознакомиться с реальными цифрами, они все равно не имели возможности открыто критиковать происходящее. В начале 50-х годов я и сам еще не видел противоречия между, экономической теорией и экономической действительностью.
Наоборот, в 1952 году в ЧСР появилась последняя работа Сталина «Экономические проблемы социализма», в которой определялось отношение к теоретическим проблемам, до сих пор не выясненным в социалистической экономической науке и практике. Коротко и понятно формулируемые теоретические рассуждения в этой книге меня сначала воодушевили. Из Советского Союза также приехали два профессора политической экономии, имена которых я уже забыл. Они читали лекции по этим проблемам, причем главным образом на семинарах, устраиваемых для всех чехословацких экономистов. Слушатели этих семинаров, в сущности, соглашались с новой теорией. Конечно, уже тогда у меня 67
имелись определенные неясности и сомнения относительно трактовки Сталиным товарно-денежных (рыночных) отношений при социализме, которые я еще хотел «пропустить через голову». В данных политических условиях я не мог позволить себе возражать Сталину. Лишь позже, когда я накопил больше опыта и знаний, я написал работу с критикой сталинской теории.
В начале 50-х годов развитие политической ситуации выглядело весьма плачевно. В период с 1949 по 1954 год поднялась волна полицейского террора с преследованиями, арестами и приговорами, который^стал просто невыносимым. Раскрытие якобы враждебных действий по отношению к государству повлекло за собой аресты и осуждение по приговорам десятков тысяч людей. (Некоторые коммунистические историки, такие, как, например, Зденек Гейзлар, приводят цифру от 100 до 150 тысяч арестованных.) На всех предприятиях, во всех учреждениях царила атмосфера неуверенности, страха, недоверия, подозрительности, распространялась взаимная слежка. Такие жестокости я уже однажды пережил! От террора страдали все слои населения, но он был направлен прежде всего против людей с иными политическими воззрениями. Было вынесено 233 приговора о применении высшей меры наказания, из которых в 178 случаях была произведена смертная казнь. В порядке вещей было большое количество приговоров с многолетним и пожизненным заключением в тюрьмах, а также депортация в принудительные трудовые лагеря и т. п. Такой террор вроде бы должен был укрепить диктатуру пролетариата, но фактически он был «продуктом» государственной тайной полиции, «произведенным» на основе целенаправленных партийных директив.
Тогда я еще не подозревал о действительных причинах этого террора. В течение какого-то времени я еще верил, что социалистическое развитие сталкивается с большим сопротивлением и что тем самым подтверждается правильность теории об «обострении классовой борьбы при переходе к социализму». Как же я мог тогда думать, что реальная ситуация прямо противоположна? Я не знал, что после конфликта с Югославией Сталин был вне себя от злобы, когда в 1947 году югославы под руководством Тито отказались быть послушными исполнителями воли Москвы. Естественно, 68
Сталин хотел подавить любое стремление к подобной самостоятельности, чтобы подобное не повторилось в других государствах, которые со времени окончания войны рассматривались им как советская «вотчина». Поэтому ему нужно было устранить коммунистическое руководство в тех странах, в которых оно осмелилось хотя бы размышлять по-другому, а тем более излагать такие понятия, как «специфический путь развития», «самостоятельная народная демократия», «балканская федерация» и т.п., то есть попросту не пожелало подчинять свои решения сталинскому диктату, полностью заменив их лояльным по отношению к Москве руководством.
Но прежде, чем поднять кулак для нанесения решающего удара по партийному руководству, необходимо было показать, сколь опасен классовый враг и что лишь под защитой сильного и наученного опытом Советского Союза малые страны могут уберечься от империалистического влияния и подрывных действий империалистов, а также продемонстрировать, насколько верными были предостережения о неизбежном обострении классовой борьбы. С помощью бериевского КГБ и его огромной сети тайных агентов во всех странах народной демократии, а внутри этих стран—с помощью тех сил, которые одобряли радикальные пути и методы и рвались на уже занятые кем-то другим посты, «враги» были найдены и разоблачены. Таким образом, сначала в дело пошли теория «обострения классовой борьбы» и политические пожелания Сталина, а затем уже правильность теории доказывалась путем инсценирования провокаций и организации колоссальных полицейских интриг и акций.
После разоблачения врагов посыпались удары на «собственных организаторов», на «предательские, продавшиеся империалистам, антисоветские и антисоциалистические враждебные элементы, которые пробрались в руководящую верхушку коммунистического руководства». Это была исходная посылка Сталина, которую он насаждал в собственной стране в борьбе против тех, кого он считал недостаточно надежным и лояльным по отношению к своей персоне, или тех, кто, как он считал, представлял угрозу для него лично.
Та же самая «ыосылка» действовала теперь в его новом «владении». Ему уже казалось недостаточным из69
менить мышление старых коммунистических лидеров в соответствии с его собственными представлениями о «диктатуре пролетариата». Носители прежних, не признаваемых им «извращенных» идей сейчас должны были уйти, должны были быть разоблачены как враги и уничтожены.
В начале 1950-го произошли также важные изменения в отношениях между Советским Союзом и вновь образованным государством Израиль, что нашло отражение в искусственно раздутой волне антисемитизма, захлестнувшей СССР. В 1947 году Советский Союз поддержал основание государства Израиль (1948), поскольку рассчитывал на левую ориентацию развития там политической ситуации и надеялся, что благодаря союзу с этим государством он сможет оказывать влияние на положение на всем Ближнем Востоке. Когда же стало ясно, что в этой стране будет преобладать влияние Соединенных Штатов, Советский Союз перестал делать ставку на Израиль и начал ориентировать свою политику на антиизраильски настроенные арабские государства. Но для того, чтобы обеспечить влияние на арабские государства, ему необходимо было убедить эти государства в собственной новой ориентации по отношению к Израилю. По этой причине в Советском Союзе была развернута мощная антисионистская и антисемитская кампания.
В силу того, что в коммунистических руководствах других стран, включая ЧСР, также имелось относительно большое число евреев, вся кампания в этих странах сопровождалась искусственно раздуваемыми антисемитскими настроениями. Бедные евреи! В марксистской партии, которая базировалась на идейном богатстве еврея Маркса, они видели «антиполюс» фашистского расового безумия. Они хотели «оторваться» от своих буржуазных семей и с помощью интернациональной партии, совместно с «эксплуатируемым пролетариатом» бороться за более свободный и более справедливый мир. Вместо этого Сталин ловко использовал, как поступали, впрочем, и многие другие диктаторы до него, давние предрассудки людей по отношению к чуждым для них и отличающимся от них людям еврейской национальности и всколыхнул волну ненависти к «предателям и продажным душам*.
Вначале он организовал «раскрытие» в Ленинграде 70
«заговора» инженеров еврейской национальности, затем через короткий промежуток времени «заговор» врачей-евреев в Москве. Посредством кампании против «космополитизма» можно было преследовать евреев^ не называя, о Ком идет речь. И одновременно с этой кампанией, развязанной в СССР, начались аресты разоблаченных «враждебных космополитов» в странах народной демократии. «Западные шпионажные центры» и «сионистские бюро» назывались «работодателями» таких коммунистов, как, например, Р. Сланский, который уже с 20-х годов входил в состав руководства Готвальда и всю войну был членом московского партийного руководства; М. Швермова (не еврейка), вдова члена руководства Й. Швермы, погибшего в ходе Словацкого народного восстания, которая также смолоду принадлежала к наиболее активным членам партии; Людвик Фрейка, профессиональный партийный работник с 1927 года и один из самых талантливых экономистов-марксистов в ЧСР; Отто Шлинг, который с 1936 по 1938 год сражался в составе Интернациональных бригад в Испании и был убежденным коммунистом; Артур Лондон, выпускник московской ленинской школы Коминтерна, сражавшийся в Испании, один из основателей подпольной коммунистической организации в Маутхаузене, смелость которого меня тогда столь восхищала; Йозеф Франк, который также перед оккупацией был партийным работником, а в годы войны интернирован в концентрационный лагерь Бухенвальд; и многие другие.
Всех их я знал еще до ареста, со многими из них вел дискуссии на самые разные темы. Будучи знаком с их взглядами, я не мог поверить, что они могли быть предателями. С некоторыми из них я был в Маутхаузене и имел полное представление о том, что им довелось вытерпеть и выстрадать. О чем же в таком случае идет речь? И зачем вся эта организованная травля евреев? Ведь это было самым страшным в фашистах! Как же случилось, что партия не только это допустила, но и сама, вне всякого сомнения, вызвала эту травлю? Каким образом принудили Сланского начать свое самообвинение словами: «Я, Рудольф Сланский, еврейского происхождения...»? Куда же я снова попал? Ведь это противоречит всей марксистской теории и духу социалистического движения!
71
Это были те вопросы, на которые мне никто не мог дать ответ. Как случилось, что эти люди выступили с самооговорами? Их пытали или они находились под воздействием каких-то наркотических веществ? Может быть, им пообещали свободу или небольшие наказания, если в соответствии со сценарием они сами себя оговорят? Если это так, то почему их почти всех казнили? Процессы проходили начиная с 1950 года несколькими волнами, некоторые из них происходили даже в 1954 году. Были казнены: Р. Сланский, Б. Рейцин, А. Симоне, О. Шлинг, К. Шваб, О. Заводский. Все они были повешены. Другие были осуждены на пожизненное заключение в тюрьме строгого режима, в том числе Й. Смрковский, М. Швермова, Г. Гусак и многие другие^ Заводский, бывший член Интернациональных бригад в Испании, с женой которого я долгое время сотрудничал и маленьким ребенком которых я восторгался, был казнен в 1954 году, когда уже умер Сталин и был расстрелян его кровожадный палач Берия. Образ его плачущей жены до сих пор стоит у меня перед глазами. Ей даже позволили написать просьбу о помиловании, хотя ее муж был уже мертв—его казнили за два дня до этого «разрешения».
Я вспоминаю, как однажды вечером мы с Лилкой шли в гости к моему другу Петру, который был вместе со мной в заключении в Маутхаузене. Прямо перед домом, на противоположной стороне улицы, где жил Петр, я внезапно задержал Лилку, так как увидел перед освещенным домом полицейский автомобиль. Около автомобиля стояло несколько мужчин, которые показались мне агентами тайной полиции. Лилка не заметила ничего подозрительного, но у меня был большой опыт, вынесенный со времени нацистской оккупации. Спрятавшись в подъезде дома на противоположной стороне, мы немного подождали и затем действительно увидели, как моего друга вывели из дома, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
Этот арест особенно потряс меня, так как я был знаком с Петром с молодых лет, знал, что ему пришлось вынести в Маутхаузене и как он там едва избежал смерти. Как же он мог быть предателем или тем более шпионом? Мысленно я перебрал все возможные варианты. Может быть, он связался с кем-нибудь в конце войны? Но ведь это вздор. Почему его арестовали? Та72
кое непосредственное личное впечатление действует сильнее, чем поток газетных сообщений. Мои сомнения еще более усиливались. Намного позднее именно от Петра я узнал, каким ужасным пыткам и шантажу подвергались арестованные. «Коммунистические» полицейские и следователи вели себя совершенно так же, как раньше гестаповцы.
А затем неожиданно в 1951 году на место Сланского пришел Новотный. Человек без твердых позиций и принципов, который буквально пролез наверх. Какую роль он играл в этой смене руководителей? Кто его отблагодарил таким образом? Определенно здесь сыграли свою роль различные интриги и доносы. Нечто подобное я ощутил и на своей собственной шкуре.
В 1951 году, то есть в год самого страшного террора, Козелка, все еще являвшийся тогда заведующим пражским отделом кадров, написал обвинительное письмо против меня и направил его на имя Б. Кёлера, который к тому времени стал заведующим отделом кадров в Центральном секретариате. В письме излагалось, будто я вместе с Ландой (одним из арестованных) принадлежал к конспиративному центру и мы намеревались восстановить его, Козелку, против Новотного, Кроснаржа и других старых пражских партийных товарищей, будто я являюсь сторонником антисоциалистических взглядов и пр. Он прекрасно понимал, что в данной атмосфере такое обвинение, высказанное к тому же заведующим отделом кадров, могло означать смерть.
К счастью, Кёлер не воспринял это письмо всерьез. Кёлер сам мог играть крайне неблаговидную роль в нагнетании волны страха и террора, но он знал мое отношение к коррупции в Пражской области и тем не менее взял меня к себе в отдел партийной учебы. Если бы я оказался предателем, то тень пала бы и на него, а этого он не мог допустить. Но и Новотный не мог допустить такого обвинения по отношению к моей особе, поскольку именно он давал мне рекомендацию и подписывал мое заявление о приеме в партию. Поэтому Кёлер просто не дал дальнейший ход письму Козелки, взял у меня письменное объяснение этого случая, приложил его к моему личному делу, и на этом этот вопрос был закрыт.
Однако из Центрального секретариата меня должны были все же убрать. После согласования с Новот73
ным было решено перевести меня в Высшую партийную школу в качестве доцента и заведующего кафедрой политической экономии. Сначала во всей школе вместе со мной были лишь два доцента политической экономии. Мои лекции на упомянутых курсах произвели на Новотного сильное впечатление, а он, как уже отмечалось, относился с уважением ко всем, кто обладал теоретическими знаниями. Вероятно, это обстоятельство оказало решающее влияние на принятие решения о моем переводе.
5 марта 1953 года умер Сталин. Это произошло через несколько месяцев после того, как в ЧСР были совершены смертные казни. Готвальд вылетел на его похороны. После казней он больше не показывался публично. Говорят, он пил гораздо больше, чем прежде. Пытался ли он утопить в пьянстве свою собственную совесть? И была ли у него вообще совесть? Или он уже не мог выносить сам себя? Почти всех, с кем он работал бок о бок с молодых лет и о ком он, естественно, знал, что они не предатели, он не только поставил под удар, но и непосредственно руководил их арестами, процедурой вынесения приговоров и определением меры наказаний. Довольно трудно поверить, что он сам верил в эти обвинения. А сейчас, вскоре после этого, умер человек, который был во всем виноват и которому он слепо подчинялся всю свою жизнь. О чем же он думал? Означало ли это теперь и его собственный конец? Как бы там ни было, он умер через десять дней после этого события, 14 марта 1953 года.
Пленумом Центрального Комитета партии 21 марта 1953 года уже руководил Новотный. Начиная с этого момента он несет полную ответственность за все преследования и приговоры. В декабре того же года Центральный Комитет развязал кампанию против так называемого буржуазного национализма, прежде всего в Словакии, а поэтому уже в апреле 1954 года начался новый процесс, направленный против «словацких буржуазных националистов» — Густава Гусака, Лацо Новомеского, Ивана Хорвата, Ладислава Голдоша, Даниэля Окалима. Гусак был приговорен к пожизненному заключению, остальные получили длительные тюремные сроки. В 1954 году проходили также процессы над М. Швермовой и ее так называемой «группой», а также над «группой экономистов», к которой относились та74
кие экономисты, как Йозеф Голдман, Павел Эйслер, Эдвард Оутрата, первые директора крупных предприятий. такие, как Й. Ичипски, Ф. Фабипгер, Й. Голы и др. Мария Швермова и Йозеф Гольдман были приговорены к пожизненному заключению, другие осуждены на многолетние сроки тюремного заключения.
Это было просто потрясающим: после того как Новотный и другие члены чехословацкого Политбюро уже узнали о страшной деятельности Берия и о непосредственном участии его подручных в организации процессов в странах «народной демократии»; после того как в этих странах началась реабилитация большей части несправедливо осужденных людей,— после всего этого Политбюро в ЧСР уже в период руководства Новотного одобрило решение о казни Заводского и об осуждении большого числа абсолютно невинных людей на длительные сроки заключения.
В этом состояла самая большая вина Новотного и других членов Политбюро, в которое с 1951 по 1954 год еще входили Карел Бацилек, Алексей Чепичка, Яромир Доланский, Клемент Готвальд (вплоть до кончины в 1953 году), Вацлав Копецки, Вилем Широкий, Антонин Запотоцкий, осознание которой прояснило, почему в ЧСР так долго отсрочивалась и так сильно запаздывала реабилитация всех невинно осужденных. Даже тогда, когда во всех других коммунистических странах уже давно осуществлялись реабилитация и возмещение ущерба, в Чехословакии тюрьмы были заполнены невинно осужденными людьми. Лишь под прямым! нажимом Хрущева они без всякой огласки были освобождены из тюрем, но без официальной реабилитации. Слишком много несущих за это ответственность людей все еще сидело в руководстве. А после смерти большинства из них остался именно Новотный — несший наибольшую ответственность за все преступления — на самых высоких партийных и государственных постах. Занимая высокие посты, он как можно дольше оттягивал разоблачение своей вины.
Под давлением пострадавших и их семей, а также на базе новых и уже неопровержимых данных о политических процессах в Советском Союзе[в январе 1955 года в ЧСР была создана первая комиссия^Она должна была расследовать судебные дела, проходившие после 1948 года. Разумеется, уже при определении состава ко75
миссии и ее задач Политбюро преследовало свои цели. В состав комиссии входили в основном люди, которые принимали активное участие в подготовке процессов, а руководство ее деятельностью было поручено тогдашнему министру внутренних дел Рудольфу Бараку, то есть человеку, который сам нес еще большую ответственность за все содеянное. Деятельность комиссии была направлена не на реабилитацию осужденных, а лишь на проверку процедурных аспектов судопроизводства и на корректировку сроков наказания. Все это походило, скорее, на фарс.
Было ясно, что речь шла лишь о том, чтобы снять ответственность с основных виновников приговоров и казней невинных людей. Вина осужденных должна была, в сущности, подтвердиться, и только в отдельных случаях — прежде всего по менее важным с политической точки зрения делам — предполагалось установить наличие каких-то погрешностей в ходе расследования и исправить слишком явно допущенные ошибки в приговорах.. Внешне все представлялось таким образом, будто несправедливые приговоры действительно подвергались пересмотру, но, по сути, речь шла лишь о том, чтобы и далее скрывать совершенные преступления. Новотный и члены Политбюро хорошо сознавали возможные последствия признания больших политических процессов как недействительных и полной реабилитации их жертв. Поэтому они и старались отдалить раскрытие всей правды на как можно более длительное время.
Каждый отчет комиссии Барака о конкретном деле перед завершением его разбирательства представлялся Политбюро, там он обсуждался, и во многих случаях вина жертв подтверждалась—нередко лично самим Новотным. Так это произошло, в частности, в случае с М. Швермовой, когда Новотный подчеркнул ее вину и посчитал приговор к десяти годам тюремного заключения вполне умеренным. Р. Барак был послушным исполнителем всех этих незаконных акций, поскольку, будучи министром внутренних дел, он также нес ответственность за применение полицейских методов, посредством которых выбивались показания и признания на процессах, проходивших после 1953 года. Однако позже он сам попал «под колеса», когда встал поперек пути Новотному.
76
5. ПРИХОД ХРУЩЕВА
Итак, с 1951 года я являлся доцентом политической экономии в Высшей политической школе в Праге, и экономическая наука должна была стать главной сферой всей моей жизнедеятельности. Сегодня я могу лишь констатировать, что это, к счастью, действительно произошло и благодаря этому мне удалось избежать страшной «карьеры» профессионального политика в рамках коммунистической системы. Бывшая Высшая партийная школа получила статус обычного четырехлетнего высшего учебного заведения со своими ассистентами, доцентами и профессорами. Лишь студенты находились в исключительном положении в том смысле, что они сами не могли поступать в нее, как в другие высшие учебные заведения, а избирались из числа партийных кадров соответствующим отделом Центрального секретариата. Выпускники нашей школы, если они выдержали установленные экзамены, предназначались на высокие и самые высокие посты в партии и государстве. Доценты и профессора этой школы имели определенное влияние на формирование позиций и взглядов будущих партийных и государственных руководителей, что в перспективе могло оказаться немаловажным обстоятельством.
В течение минувших лет мои собственные взгляды изменились уже существенным образом и должны претерпеть еще большие изменения, при этом довольно быстро, в последующие, 50-е годы. Я уже не был слепо верящим и идеалистически настроенным молодежным деятелем 40-х годов. Опыт политической жизни был каким угодно, только не розовым, а мое, каждый раз новое «отрезвление» превращалось в горестное ощущение. Политические процессы нанесли мне страшный удар, и я все отчетливее видел, что внутренняя борьба за власть ведется всеми без исключения, при этом используются любые, даже самые грязные средства. А что касается «классовых противников» и «классовой борьбы», равно как и лозунгов о «сохранении социализма» и «социалистических интересах», то это всего лишь фиговые листки, которыми прикрываются личные властные интересы.
Особенно неизгладимое впечатление произвела на меня дальнейшая инсценировка процессов и преследо77
ваний, имевших место в Чехословакии еще в 1954 году, когда я уже услышал о Берия и о причинах его расстрела в Советском Союзе. «Антииллюзии» относительно Сталина и советской системы еще более усилились во время моего первого приезда в Москву в 1954 году в составе делегации нашей Высшей партийной школы, приехавшей по приглашению советской Высшей партийной школы. Я ехал в Советский Союз с большими надеждами и любопытством, поскольку наконец-то мог увидеть с близкого расстояния общественный строй, известный мне до сих пор только из теории. Наша делегация состояла из пяти человек, и мы должны были пробыть в СССР 14 дней.
Сегодня это может звучать неправдоподобно, но мои ожидания, сформировавшиеся под влиянием партийной пропаганды, оказались бесконечно преувеличенными. Советский Союз был для нас первой социалистической страной и, будучи таковым, представлял собой «великий прообраз во всех отношениях»: в нем отсутствуют какие-либо большие социальные различия, люди чувствуют себя свободными, в отношениях друг с другом они вежливы и услужливы, новая архитектура восхитительна по своей красоте, искусство творческое и богатое в идейном отношении... Ничто из этих представлений не соответствовало действительности, и пробуждение от мечтаний и иллюзий снова стало для меня потрясением. Громадная нехватка всего, длинные очереди хмурых людей, которые мы видели на каждом шагу, неуслужливые продавцы, в основном плохо одетые люди — все это мы объясняли как все еще не преодоленные, тяжелые последствия войны. Однако существование очевидных больших социальных различий, привилегий для партийных чиновников, офицеров и других категорий, их надменное отношение к «обычным» людям лишило нас всяких иллюзий.
Нас встретили великолепно в том смысле, что мы получили все то, чего не могли иметь нормальные люди и что также было недоступным в Чехословакии. Нас разместили в громадной частной квартире одного из домов, находившихся в распоряжении Центрального Комитета. Готовил для нас и обеспечивал всеми услугами специально подготовленный персонал. Для нас выделили также большую машину с водителем и одного товарища из партшколы, который нас повсюду со78
провождал и все организовывал. В столовой нам предлагались различные напитки и свежие фрукты, которых в городе мы не видели. В первый же вечер был организован типично русский прием с большим количеством водки и тостов, продолжавшийся до полного опьянения. Похоже, это доставляло советским товарищам удовольствие.
Было ясно, что весь этот комфорт должен был обмануть нас и помешать нам ближе познакомиться с советской действительностью. Мы не должны были видеть ничего отрицательного, и поэтому каждый наш шаг был заранее расписан. Я не могу сказать ничего плохого об официальной программе—у нас остались прекрасные впечатления от посещения Большого театра, Третьяковской галереи, от экскурсий на речных прогулочных судах. Нас информировали о планах учебной подготовки, о ходе учебного процесса, о работе библиотеки и т. п., что, впрочем, не было для нас чем-то особенно новым. Единственное, чего нам нельзя было делать,— это общаться с самими людьми. Мы не должны были знать, как они живут и что они думают в действительности.
Несмотря на все запреты, мы все же встретились с людьми, и именно эти встречи показали нам всю пропасть между иллюзиями и действительностью. Естественно, нас не могли запереть на ключ, поэтому после официального завершения дел, после ужина и обязательной выпивки, когда наш постоянный сопровождающий и возможные другие посетители покидали нас, мы уходили побродить по ночной Москве. На улицах было пустынно и малолюдно; иногда мы заходили очень далеко, вплоть до пригородных районов, где уже можно было увидеть, как на самом деле живут люди. На наших прогулках мы вступали с ними в разговоры и однажды вечером познакомились с художником по имени Юрий. Уже после второй встречи он начал доверять нам и пригласил нас к себе в свою маленькую, расположенную на чердаке комнатку, где собрались его друзья. И вот в этой комнатке, после нескольких рюмок водки, у всех нас развязались языки.
Именно из их рассказов я начал узнавать правду о жизни в Советской стране и по-настоящему знакомиться с советским социализмом. То, что всюду господствовали нужда и бедность, что большая часть людей до 79
сих пор жила в разваливающихся деревянных домах, без ванн, туалетов, нередко без водопровода и электричества,— все это мы считали последствиями минувшей войны. Вместе с тем нас приводили в ужас рассказы о существующих громадных социальных различиях, о привилегиях и абсолютной власти партийной бюрократии, о преследованиях и репрессиях, которым подвергались инакомыслящие, художники и другие люди искусства, которые не хотели ограничивать свое творчество рамками «социалистического реализма». Они рассказывали нам, что люди боятся критиковать, говорили о слежке и доносительстве на каждом шагу, о массовых ссылках в Сибирь и о многом другом. Здесь я впервые узнал, что всех советских солдат и жителей страны, которые оказались в плену и пережили немецкие концентрационные и трудовые лагеря, Сталин немедленно снова посылал в трудовые лагеря. Значит, по этой причине я уже никогда ничего больше не слышал о своем русском друге Федоре, с которым мы близко подружились в Маутхаузене (где погибли тысячи русских военнопленных) и которому я помогал выжить.
Картины Юрия мне очень понравились. Он писал в ярко выраженной экспрессионистской манере, фигурально преувеличенной вплоть до карикатурысегодня я назвал бы его художником в стиле Макса Бекмана. Для меня было очевидным, что такие картины в то время в Советском Союзе не могли получить официального признания и также не могли выставляться. Хотя они были более выразительными и живыми, чем вечные изображения Ленина, празднований «Великой» революции, народно-освободительной войны и т.п., которые висели во всех отделах современного искусства и во всех присутственных местах, Юрий и его друзья не были приняты в состав официального Союза художников и не получали поэтому никакой помощи и поддержки, находясь в незавидном положении социальных отщепенцев.
Потрясал наше сознание и тот факт, что мы ни с кем не могли поделиться нашими впечатлениями от этой встречи, в том числе и с нашим сопровождающим. Нельзя было даже упоминать о ней, так как мы не хотели причинять неприятностей Юрию. Советские граждане вообще не могли вступать в разговоры с иностранцами, и мы заметили, что они всегда замолкали или отве80
чали односложными фразами, как только мы пытались по какому-нибудь поводу завязать разговор, даже если это была наша повариха. При этом мы уже тогда сравнительно неплохо владели русским языком. Каким же должно быть общество, если оно настолько запугивало своих граждан?
Все то в наших разговорах с Юрием и его друзьями, что я здесь вкратце перечислил, мы слышали от них со всеми подробностями, с упоминанием фамилий и конкретных примеров. Таким образом, все, что я уже знал из чехословацкого опыта, было лишь точным отражением советского общества. Совершенно естественно возникала потребность в более широком обобщении и поиске основных причин этих ужасающих деформаций общества, в котором я когда-то видел социалистический идеал. Когда мы возвратились домой, нам нельзя было рассказывать о каких бы то ни было теневых сторонах жизни в СССР, так как это было бы немедленно воспринято как враждебное отношение к великому Советскому Союзу. Я не мог поговорить откровенно даже с собственным сыном, опасаясь, как бы он чего не выболтал на улице. Печальными впечатлениями от поездки я поделился лишь со своей женой.
В последующие годы я еще несколько раз бывал в Москве и Ленинграде, и почти всегда мои впечатления и переживания оказывались такими же. Еще в 60-е годы чуть ли не перед всеми магазинами по-прежнему стояли длинные очереди. Временами у меня создавалось впечатление, что в стране недоставало даже хлеба. Постоянно ощущался дефицит мяса и колбасных изделий, овощей и фруктов, причем и то, что имелось на прилавках, было наихудшего сорта и качества. Готовая одежда даже по сравнению с Чехословакией, которая все больше отставала от моды, была абсолютно устаревшей и некрасивой. Полностью отсутствовали в продаже шубы, и даже простые меховые шапки не залеживались на полках. Резкие и нетерпеливые продавцы вели себя надменно, и, наоборот, покупатели производили впечатление несмелых и униженных людей.
Однако наиболее отвратительными были начальники хозяйственных отделов, полные хозяева в области финансов и различного рода привилегий. Как заведующий хозяйственным отделом в Пражском областном 81
секретариате Глухи или занимающий такой же пост в Центральном секретариате КПЧ Фалтинек, так и здесь они были весьма властными и высокомерными типами. Эти люди в лучшем случае были способны произнести несколько наивных по смыслу и простых по конструкции предложений, но тем более важными они казались самим себе и вели себя так, будто бы работа всего секретариата полностью зависела только от них. Почти всегда на их лицах, как в зеркале, отражалась бюрократическая тупость.
И в компетенцию именно этих людей зачастую входили контакты с зарубежными делегациями. Мы увидели, что наши русские сопровождающие неохотно вступают в переговоры с ними, но никогда им не прекословят, более того, заискивающий тон в разговоре с ними появлялся даже у профессоров. И наоборот, по отношению к тем ректорам или директорам, которые «крепко» сидели на своих местах, поведение этих людей было очень вежливым и смиренным, например к директору Института экономики Академии наук в Москве Плотникову.
Впоследствии на Западе, когда заходил разговор о бюрократизме в условиях реального социализма, о методах лжи, коррупции, привилегиях и пр., мне приходилось слышать, что все это также существует при капитализме. Молодые люди с левой ориентацией добавляли, кроме того, что все это является «пережитком капитализма в сознании людей» и поэтому необходим длительный период для перевоспитания, для того чтобы люди изменились. Все это и по сей день остается аргументацией, используемой большинством пропагандистов в социалистических странах. Исходя из такого толкования и объяснения, я и сам долгое время пытался освободиться от страшных, мучивших меня сомнений. Я все еще не мог объяснить себе, почему бюрократизм в условиях социализма представляет собой гораздо более серьезную и опасную силу, чем при капитализме.
Если кого-то раздражают те или другие интриги и бесхарактерность власть имущих и бюрократов, которые имеют место в рамках их собственных властных правомочий, то он, вероятно, может утешать себя тем, что все негативные явления и их последствия однажды будут преодолены с помощью воспитания. Очевидно, 82
таким же образом в последние годы своей жизни утешал себя и Ленин — о чем свидетельствуют его последние статьи,— видя, как повсюду буйным цветом распускаются побеги бюрократизма. Всю эту антибюрократическую критику и идеи из последних ленинских работ я в те годы жадно глотал, как спасительный воздух. Однако удовлетворительного объяснения проблемы я в них так и не нашел.
Грязные дела и преступления партийной бюрократии еще в большей степени обострили эту проблему, если рассматривать ее с ленинских времен. Эти преступления не могли и не могут быть искоренены никаким воспитанием, поскольку сейчас же возникает вопрос: «А кто должен перевоспитывать людей?» Это именно тот вопрос, который когда-то ставили перед собой французские философы Гельвеций и Гольбах, пришедшие к выводу, что любое изменение в воспитании должно предваряться реформой государственной системы.
В условиях данной политической системы, то есть в условиях реального социализма, поведение функционеров вообще не могло измениться. Тот, кто сегодня читает протоколы политических процессов, отчеты о деятельности реабилитационной комиссии, а также более поздние хрущевские разоблачения, как и все последующие биографии Сталина и связанные с ним исследования, каждый раз снова обнаруживает, что условия и обстановку создавали негодяи и любой «святой» должен был проиграть.
Кто же и каким образом мог изменить государственную систему в условиях, когда малейшие критические поползновения немедленно пресекались и квалифицировались как проявление «буржуазной враждебности»? Этот вопрос все сильнее занимал и волновал меня начиная с 50-х годов. Вскоре, однако, возникли и многие другие вопросы, которые в основном касались экономической области, моей собственной научной и преподавательской деятельности. Лишь позже я узнал, что сделала в экономике бюрократическая система и какие последствия это имело не только для отдельных индивидов, но и для общества в целом — естественно, за исключением привилегированных правителей.
Уже в период выполнения первого чехословацкого 83
пятилетнего плана 1949—1953 годов в экономической системе, скопированной у Советов, наблюдалось резкое снижение эффективности хозяйствования и сложились такие диспропорции, что это привело все народное хозяйство страны к громадным трудностям. Первым и весьма чувствительным для населения следствием понимаемого таким образом развития стала денежная реформа 1953 года. Она была уже второй денежной реформой после войны.
Сразу же после освобождения страны необходимо было изъять те деньги, которые появились в годы немецкой оккупации. Спустя непродолжительное время последовала вторая денежная реформа, которая ликвидировала большую часть сбережений простых людей: рабочих, крестьян, служащих и т. п. Объяснить эту меру было уже гораздо сложнее. И все же эта реформа была необходимой, поскольку к 1953 году в экономике страны обнаружился значительный избыток неудовлетворенной покупательной способности населения, что, во-первых, все ощутимее сказывалось на снижении мотиваций работников к труду и, во-вторых, создавало необходимость в повышении цен — вопреки установленному в административном порядке их уровню. Часть денег населения не отоваривалась никакими потребительскими благами. Отчасти на черном рынке, а также на так называемом свободном рынке (рынке без продовольственных карточек) люди вынуждены были платить за определенные виды товаров и услуг все больше и больше хотя и по установленным государством, но непрерывно растущим ценам. В то же время у людей скапливались вынужденные денежные сбережения, на которые нельзя было ничего купить. Время от времени—из-за слухов и сообщений о готовящемся повышении цен—происходили ажиотажно-панические «взрывы» покупательной активности населения.
При второй денежной реформе в расчете на одного человека выплачивалось лишь 300 крон, которые обменивались в соотношении пять старых крон за одну новую. Деньги, которые находились на личных счетах граждан, до суммы 5000 крон обменивались в соотношении 5:1. Все другие, более высокие суммы (кроме твердо установленных исключений) обменивались в пропорции 50:1. Поскольку в соотношении 5:1 пересчитывались также цены и хозяйственные счета, это, 84
естественно, означало для мелких потребителей большие потери. Если отвлечься от доходов спекулянтов и торговцев на черном рынке, сбережения этих потребителей в основном были созданы трудом в послевоенное время.
Партийное руководство справедливо полагало, что объявление тайно готовящейся денежной реформы вызовет сильное сопротивление и несогласие населения. Поэтому во все области и районы были посланы пропагандисты из Праги, которых за день до проведения денежной реформы отдел пропаганды вооружил соответствующей аргументацией, для того чтобы как-то проинформировать и успокоить население. В их составе, естественно, преобладали экономисты. Меня делегировали в Словакию, в областной город Банска-Бистрица, в котором ожидалось сопротивление прежде всего со стороны несочувствовавшего коммунистам сельского населения, которое в этих местах преобладало. Нам приходилось выступать на многочисленных собраниях в трудных с политической точки зрения районах.
Что я должен был рассказывать людям? Официальные аргументы были направлены против капиталистов, спекулянтов, темных дельцов, которые якобы несли вину за то, что в последние годы в обращение снова поступило слишком большое количество денег. Как экономист я уже знал, что это чепуха. Естественно, спекулянты посредством своих связей и под самыми разными предлогами могли изымать значительные денежные суммы со счетов, оговоренных различными условиями. Также с этих счетов снимались деньги на социальные нужды. Однако избыток денежных средств порядка 10—15 миллиардов крон—такой суммой экономисты неофициально оценивали размер превышения покупательной способности,— конечно же, не мог образоваться за счет этого фактора.
Было ясно, что эта проблема появилась в результате опережающего роста заработной платы по сравнению с ростом производительности труда при одновременном росте объема государственных дотаций убыточным предприятиям—вопреки целям дирижистской политики. Другая причина заключалась в замедлении темпов роста производства потребительских товаров при одновременном ускорении темпов развития отраслей тяжелой промышленности. 85
И наконец, серьезные диспропорции сформировались в самом производстве потребительских товаров, в результате чего создалось положение, когда в недостаточном количестве производились товары, пользующиеся наибольшим спросом. Отсюда в области товарного снабжения населения образовались крупные бреши. В этом заключались основные причины, почему покупательная способность населения росла быстрее, чем предложение товаров. Следовательно, громадный избыток покупательной способности представлял собой результат функционирования внедренной системы планирования, которая вопреки всем теоретическим представлениям была неспособна обеспечить пропорциональность и сбалансированность экономического развития.
Незадолго перед этим для учебных целей я написал брошюрку «Закон планомерного, пропорционального развития при социализме» и в процессе ее написания ясно осознал тот факт, что вместо «пропорционального» мы пришли к диспропорциональному развитию. И снова я стал искать виноватых среди плановиков и директоров предприятий. Имманентные системе причины неизбежно возникавших диспропорций и потерь в эффективности производства я обнаружил лишь спустя несколько лет. Одновременно с этим я начал сомневаться также в правильности экономической теории социализма.
Разумеется, с людьми, проживающими в БанскаБистрице, я не мог поделиться своими сомнениями. Уже через несколько минут я бы остановился. Однако мне представлялось слишком наивным приписывать вину лишь капиталистам. Поэтому я «выдал» им довольно много «теории», говорил о «взаимосвязи между производительностью труда и количеством денег» и т. д. Слушатели все это не очень хорошо понимали, но не осмеливались как-то уж очень активно противоречить докладчику, поэтому я не встретил здесь значительного сопротивления аудитории. В областях с развитой крупной промышленностью, прежде всего в рабочей среде — Пльзене, Кладно, Моравска-Остраве и других районах — протест против намеченных мероприятий был гораздо сильнее. В некоторых из них происходили акции протеста, которые были впервые подавлены с помощью полиции и милицейских формиро86
ваний по распоряжению партийного руководства. Самое худшее во всем этом заключалось в том, что не были ликвидированы первопричины инфляционных процессов, поэтому в последующие годы упомянутые недостатки, как и превышение покупательной способности населения над эффективным предложением, быстро появились снова. Очень скоро партии пришлось вновь искать пути и средства преодоления нарастающих потерь в эффективности общественного производства.
Эти тенденции стали для меня импульсом к переоценке моих взглядов, перемене экономического мышления. Я постепенно отошел от пропагандистского пережевывания марксистско-ленинских, а также сталинских догм, более критической стала и моя трактовка взаимосвязи практики с теорией. Пока у меня все еще мало было опыта и знаний из области практики планирования — этой проблематикой я овладел и расширил ее рамки лишь впоследствии, в 1957 году. Зато я стал больше заниматься изучением теорий тех буржуазных экономистов, которых я до этого времени практически не знал. Это были, в частности, произведения Е. Бём-Баверка, Дж. М. Кейнса, Дж. Робинсон, Дж. А. Шумпетера, Я. Тинбергена, Г. Хаберле, чешского довоенного экономиста К. Энглиша и других авторов. Наряду с прочим это относилось к подготовке моей диссертации на соискание ученой степени. Одновременно я принимал участие в переводе трех томов «Капитала» Маркса на чешский язык. Благодаря тому, что мне приходилось задумываться над каждым предложением этого весьма сложного научного труда, я стал, наверное, одним из лучших знатоков «Капитала».
Затем наступил 1956 год, а с ним пришли и важные события. В феврале этого года в Советском Союзе состоялся XX съезд партии. Кроме официального доклада, на закрытом заседании Хрущев доложил съезду факты сталинских злодеяний и подверг резкой критике так называемый культ личности Сталина. Этот «секретный доклад» был разослан в виде закрытого письма всем руководствам коммунистических партий. Прежде чем это письмо могло быть обсуждено в Праге, его содержание уже было опубликовано на Западе. Также мы, доценты Высшей политической школы, быстро узнали о докладе Хрущева. Данные о сгалинских престу87
плениях, миллионных жертвах, террористических методах, убийствах, совершенных по указаниям Сталина, об инсценировке всех политических процессов потрясли наше воображение.
Сегодня уже практически нет смысла что-либо из этого повторять, поскольку все уже давно и хорошо известно. Тот же, кто между тем ознакомился еще с различными, опубликованными с тех пор книгами, такими, например, как «Биография Сталина», написанная А. А. Антоновым-Овсеенко, и многими другими изданиями, знает, что в действительности все обстояло еще хуже, чем это было представлено в докладе Хрущева. И хотя во мне уже ранее нарастали сомнения и усиливалось подозрение, факты и цифры, приведенные Хрущевым, были настолько ошеломляющими, что я просто не знал, во что верить и как жить дальше. То, что наши, чехословацкие, процессы были полностью инсценированы, что показания обвиняемых также выбивались с помощью пыток и шантажа со стороны тайной государственной полиции,— обо всем этом мне уже было известно от моих друзей, которые были ранее осуждены и затем, в новой обстановке, без лишнего шума освобождены из заключения. Но то, что Сталин был первопричиной всего, что это относилось к целой кампании по ликвидации неугодных ему людей,—это в то время не укладывалось в моем сознании.
6. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАЛИНСКОЙ СИСТЕМЫ
С хрущевской трактовкой преступлений Сталина я не был полностью согласен, поскольку Хрущев объяснял их лишь личными качествами вождя, прегрешениями против принципов коллективного руководства и его /культом личности. Подобные объяснения не могли удовлетворить меня. В чем были гарантии того, что другие первые секретари в будущем снова не достигнут такой же власти и в борьбе за сохранение своих позиций у кормила политического руководства не прибегнут к аналогичным средствам и методам? Причем имеются в виду не обязательно убийства или расстрелы—для того чтобы настоять на своем, даже вопреки интересам партии и народа, вождю хватило бы других средств подавления, таких, как манипулирование при88
говорами, тюрьмы и трудовые лагеря, преследования по месту работы, контроль над кадрами, коррупция и т. п.
Я не верил в эффективность «коллективного руководства», понимаемого как метод предупреждения явлений злоупотребления властью одним лицом, поскольку я уже прекрасно знал способности и возможности первого секретаря окружать себя такими людьми, продвигая их при этом и в Политбюро, которые или полностью преданны ему, или просто не обладают достаточной властью, чтобы выступить против него. Затем уже исчезает сколько-нибудь заметное различие между диктатурой одного человека и диктатурой коллективного органа, который полностью подчиняется пожеланиям «сильной личности». Дальнейшее развитие политической ситуации в Чехословакии и в других странах реального социализма лишь подтвердило мои заключения. Но как же все-таки следует действовать, чтобы воспрепятствовать злоупотреблениям властью, чтобы интересы одной личности, одного органа или одной группы не подменяли интересы всей партии, всего населения? Каким образом можно определить, совпадают или нет интересы руководства с интересами широких масс? В чем, собственно говоря, заключаются интересы народа? Вопросы следовали один за другим. Чем больше я размышлял об этом, тем очевиднее становилось для меня, что данная проблема может быть решена лишь путем демократизации политической системы.
Я хорошо сознавал то обстоятельство, что власть концентрируется в политическом аппарате, который может манипулировать расстановкой кадров и распределением должностей, подчинять себе полицейский аппарат, административную и судебную власть, принимать решения по всем вопросам информационной, воспитательной и культурной деятельности. Тот же, в чьих руках находится партийный аппарат, фактически обладает реальной властью во всем государстве. Отдельное лицо, индивид, лишенный возможности организованно объединяться с единомышленниками, без установленной в официальном и правовом порядке возможности осуществлять политическую деятельность, оказывается бессильным перед мощью и властью монополизированного партийного аппарата, и при малейших 89
оппозиционных настроениях и действиях против руководства он будет уничтожен.
7 Чрезвычайно важную роль в эволюции моих демократических воззрений сыграли венгерские события. С чувством симпатии я следил за всей поступающей информацией, касающейся политических позиций Имре Надя и его борьбы с проводимой венгерским руководством политикой. Когда осенью 1955 года Надя исключили из партии, я воспринимал это как тяжелое поражение политического курса, стремящегося обеспечить поддержку среди широких слоев населения для осуществления социалистического пути развития.
После XX съезда КПСС и хрущевских разоблачений сталинских преступлений в Венгрии создалось гораздо более мощное движение за демократизацию и либерализацию политической системы, чем то, которое наблюдалось в Чехословакии. В частности, я считал чрезвычайно важной деятельность «Клуба Пётефи» в Будапеште и всеми силами пытался получить доступ к информации о проходящих там дискуссиях. При содействии этого клуба в Венгрии образовалась относительно широкая интеллектуальная база как для развития совершенно новых, недогматичных социалистических идей, так и для борьбы против политики Ракоши. К сожалению, в Чехословакии подобная организационная основа отсутствовала, а все протесты против политики Новотного ограничились выступлениями в нескольких партийных организациях.
Я наблюдал за развитием венгерских событий с растущим интересом. Когда же — вследствие бездарной политики руководства Герё—из нарастающего недовольства населения, а также из резко возросшей активности оппозиционного движения в Венгрии вспыхнуло народное восстание, у меня сразу же возникли опасения, что это движение будет насильственно подавлено Советской Армией. Кроме того, большое беспокойство у меня вызывали сообщения о вдруг возникших в рамках демократической оппозиции антикоммунистических и профашистских силах и тенденциях. Действительный ход событий, к сожалению, подтвердил мои опасения. Насильственное подавление венгерского нацио-\ нального восстания Советской Армией оказало большое влияние на дальнейшее развитие моих идей и воззрений. Во-первых, укрепилась моя убежденность в не90
обходимости демократизации социалистической системы. Во-вторых, усилилось мое убеждение в том, что этой цели нельзя добиться путем революционных выступлений против партий, так как подобные действия в любом случае снова будут «раздавлены» советскими танками.
Примерно в таком виде сложились мои политические взгляды к концу 1956 года. Но у меня пока еще не было ни малейшего представления о том, как можно изменить эту систему, что должно стать ее противоположностью. Я вообще не представлял себе, каким образом можно было бы «превозмочь» носителей гигантской силы прежней системы. Реакция многих интеллектуалов. а также некоторых моих друзей была однозначной и смелой: потребовать немедленного созыва внеочередного, чрезвычайного съезда партии. Мне это казалось безнадежной затеей. Это требование было выдвинуто лишь в нескольких партийных организациях, причем оно не получило огласки и поддержки в большинстве рабочих организаций. Партийная бюрократия ни в коем случае не допустила бы созыва съезда, который мог быть направлен против нее самой. При этом нужно учитывать, что в то время не было ни одной альтернативной концепции того, что и как следует изменить, призывы к созыву внеочередного партийного съезда представлялись мне чем-то вроде отчаянной, спонтанной реакции на хрущевские разоблачения,— реакции, за которой последовали бы действия, недостаточно подготовленные, продуманные, организованные, а поэтому не имевшие надежды на успех. После съезда, которым полностью манипулировал бы партийный аппарат, все осталось бы по-старому. Глубинная, коренная перемена, затрагивающая всю систему, должна была готовиться, на мой взгляд, совершенно иначе. Такими были тогда мои соображения и замечания.
После венгерских событий я пришел к заключению, что ни в коем случае не следует начинать с требования политической демократизации. Прежде всего необходимо попытаться проникнуть в высщие'партийные органы представителям прогрессивного и либерального направления в партии, с тем чтобы устрапить_из них Новотного и прочих сталинистов. Этот процесс мог быть ускорен реформой экономической системы, основные «очертания» которой оставались для меня пока 91
еще недостаточно ясными. Югославская модель развития меня не вдохновляла, поскольку я видел в ней слишком много недостатков, характер которых я не мог удовлетворительно объяснить.
Прежде всего я еще не мог ни в политическом, ни в экономическом плане окончательно разобраться с проблематикой интересов. Как обеспечить, чтобы решающую роль могли играть долгосрочные, общественные интересы, как изменить положение, когда в экономической «игре» сильнее проявляются частные и краткосрочные интересы? В этом заключалась суть вопроса как с точки зрения политической демократизации, так и с точки зрения восстановления рыночного механизма в экономике. Как воспрепятствовать тому, чтобы партикулярные силы и интересы не приводили к восстановлению капиталистических отношений в политике и в экономике, что, несомненно, противоречило бы долгосрочным, перспективным интересам подавляющего большинства населения? Следовательно, вопрос сводился к тому, что необходимо развивать процессы демократизации и либерализации, но без реакционного движения назад, к капитализму. Но как это сделать? Лично для меня это превратилось в основную проблему, решение которой я не смог найти во всей до сих пор существовавшей марксистско-ленинской теории.
Но и в буржуазной политологической или экономической теории я не смог найти такие работы, которые помогли бы мне ответить на волновавший меня вопрос. Просто поражало, насколько мало внимания в обеих теоретических системах уделялось проблематике интересов. Больше всего соображений на эту тему я прочел в работах ранних французских философов— материалистов, а также в экономической классике, прежде всего в произведениях А. Смита. Однако этого было недостаточно, и, самое главное, я не находил здесь ответа на мои вопросы. Теории психологов и исследователей человеческого поведения в той степени, в которой они затрагивали проблематику интересов, вообще отклонялись от нужного мне направления. В сущности, они были слишком индивидуалистическими и «атомистическими», а теоретические изыскания психологов ограничивались клиническими проблемами.
Отправляясь от громадных пороков сталинской си92
стемы, от пробелов и очевидных ошибок сталинской экономической теории, а также учитывая потребности экономической реформы, я постепенно пришел к осознанию необходимости нового теоретического подхода к решению этих проблем. Поскольку, по моему мнению, сталинское понятие «социалистической государственной собственности», а также «системы руководящей роли коммунистической партии» приводило к громадным экономическим и политическим деформациям в жизни страны, то, следовательно, эта теория ошибочна и должна быть опровергнута с теоретических позиций. Именно такую теоретическую цель я поставил перед собой в 1957 году, работая над докторской диссертацией.
До 1957 года я уже написал несколько теоретических статей, небольших монографий и брошюрок, учебных материалов для средних и высших учебных заведений, работал над переводом «Капитала» и так долго преподавал в самых различных высших учебных заведениях, что в 1957 году Министерство народного образования по представлению ректора нашего вуза назначило меня на должность профессора политической экономии. Это произошло уже в то время, когда • я пришел к убеждению, что марксистско-ленинская тео-' рия в различных областях должна быть изменена или пересмотрена, поскольку это одно из основных условий решения обостряющихся, громадных проблем социалистической практики. При этом я прекрасносознавал то обстоятельство, что в начинающейся борьбе мне придется вступить в противоборство не только с догматическими марксистскими теоретиками, но и со всей правящей сталинистской бюрократической кликой, сконцентрированной вокруг Новотного.
7. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
(¡956—1960 годы в Чехословакии были периодом реализации второго пятилетнего плана} Экономические проблемы, создаваемые функционированием системы директивного планирования, очень быстро множились и усугублялись. Хотя темпы роста производства и национального дохода оставались сравнительно вы93
сокими, продолжалось снижение совокупной эффективности народного хозяйства, непрерывно углублялись диспропорции в области материального производства. Слишком быстро возрастала потребность этой сферы в трудовых ресурсах, поскольку все медленнее увеличивался объем производимой продукции в расчете на одного занятого (производительность труда). Однако ресурсы свободной рабочей силы имели очевидную тенденцию к сокращению, поскольку естественный прирост населения не обеспечивал их необходимого пополнения, к тому же довольно высоким к тому времени стал и уровень занятости среди женщин.
Еще хуже обстояли дела в области капитального строительства: эффективность капиталовложений снижалась из года в год не только по относительным, но и по абсолютным показателям. Это означало, что для получения каждой кроны прироста национального дохода необходимо было вкладывать все больше средств в инвестиционную сферу. Если в 1950 году для прироста национального дохода на одну крону нужно было затратить на капиталовложения 1,33 кроны, то в 1958 году—уже 2,01, а в 1960 году—2,41 кроны. В этом показателе проявлялись: нерациональное с экономической точки зрения использование, в известном смысле разбазаривание средств производства, слишком медленное внедрение новых технологий, устаревание среднего технического уровня предприятия и, наконец, нерациональное развитие производственной структуры (за счет большого удельного веса тяжелой промышленности), которая становилась все более капиталоемкой.
Тяжелое положение складывалось в сельском хозяйстве, где режим Новотного ускоренными темпами осу* ществил полную коллективизацию сельскохозяйственного производства. Объем производства в этой отрасли, по существу, стагнировал. Поэтому для того, чтобы обеспечить хоть какой-нибудь, пусть даже минимальный рост потребления продовольственных продуктов, приходилось импортировать все возрастающее количество сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Не лучшим образом обстояли дела в области внешней торговли, поскольку экспортируемые чехословацкие изделия и продукты по своему качеству, соответствию современным требованиям и по структуре все больше утрачивали свою конкурентоспособность на за94
падных рынках. Поэтому для компенсации потерь от снижения экспортных цен и обеспечения необходимого объема импортируемых товаров приходилось из года в год увеличивать объемы экспорта отечественной продукции. Естественно, в результате это приводило к сокращению товарных поставок на внутренний рынок и потребления этих товаров.
На внутреннем рынке возникали все большие зоны товарного дефицита. Быстро увеличивалось количество видов потребительских товаров, на которые не удовлетворялся спрос населения, снова удлинялись очереди перед магазинами. Качество товаров снизилось, предлагаемый на рынке товарный ассортимент не соответствовал структуре спроса, особенно сложное положение складывалось на рынке услуг. Все сильнее отставало от потребностей народного хозяйства развитие транспортной и информационной систем. Нужно было ждать несколько месяцев, чтобы сделать мелкий ремонт в домашнем хозяйстве, усложняли жизнь населению и нехватки всех видов запчастей. Крайне тяжело на настроениях людей сказывалась нехватка жилья, создающая невыносимую ситуацию, в особенности для молодых семей. В результате наблюдался рост недовольства среди всех слоев населения.
В начале 1957 года партийное руководство приняло решение осуществить реорганизацию системы планирования и управления народным хозяйством. С одной стороны, был сделан вывод, что причины неудовлетворительных результатов экономического развития следует искать в сфере планирования и управления, с другой—стимулом- для принятия мер партийным руководством в этом направлении стали действия Хрущева, который в Советском Союзе приступил к реорганизации системы центрального управления народным хозяйством. В чрезмерно централизованном управлении экономикой и в большом количестве гигантских министерств Хрущев видел главную причину бюрократизации народнохозяйственной сферы и верил, что он может решить эту проблему с помощью глубокой децентрализации органов управления. Весной 1957 года он провел роспуск почти всех центральных отраслевых министерств, сделав лишь некоторые исключения. Вместо них были созданы областные и региональные совнархозы. Сначала эти структурные перемены в обла95
сти народнохозяйственного управления показались мне правильными и лишь впоследствии у меня появились принципиальные сомнения относительно рациональности этих мероприятий.
Как бы там ни было, широкомасштабная реформа системы народнохозяйственного управления в СССР дала стимул чехословацкому партийному руководству, которое всегда, с большим или меньшим отставанием во времени, приспосабливалось к обязательному на данный момент курсу Москвы. На пленуме ЦК КПЧ в феврале 1957 года было принято решение о подготовке мер по реорганизации этой сферы.
Была создана комиссия из так называемых экономических экспертов, которая должна была в ускоренном порядке разработать предложения по упомянутой реорганизации. Работой комиссии руководил заместитель министра планирования Курт Розсыпал, в ее состав входили представители самых разных министерств. Меня также делегировали в эту бюрократическую комиссию, поскольку Политбюро желало иметь в ее составе хотя бы одного экономиста-теоретика, а также потому, что в нескольких моих статьях содержались конструктивные замечания, касающиеся методов и способов осуществления народнохозяйственного управления.
Необходимо все же отметить, что мои представления в период 1956—1957 годов относительно направлений и методов совершенствования планирования и управления народным хозяйством все еще находились в плену некоторых упрощенных идеологических положений и что освобождался я от этих шаблонов довольно медленно. Хотя я был за децентрализацию сферы управления и за предоставление большей самостоятельности предприятиям, но вместе с тем мне представлялось очевидным, что осуществление этих мер должно сопровождаться появлением и развитием реальных рыночных отношений (в тогдашней марксистской терминологии: «товарно-денежными отношениями»). Разделяя такие взгляды, я все сильнее ощущал, что вступаю в противоречие со сталинистской экономической теорией и с ее догматическими сторонниками.
Я все еще не мог освободиться от влияния основного марксистского представления о едином народнохо-
96
зяйственном плане как предпосылке преодоления капиталистической производственной анархии. Дело в том, что на базе довольно большого количества поступающей информации уже в то время можно было заметить большие и постоянно усугубляющиеся недостатки югославской системы, в рамках которой было полностью ликвидировано централизованное директивное планирование. Углубление противоречий между формированием покупательной способности населения и развитием производства, между потреблением и накоплением (капиталовложениями), формированием инвестиционной сферы и занятости, между развитием тяжелой и легкой промышленности и пр.— все это однозначно указывает на наличие тех явлений и недостатков, которые характерны для развивающихся стран, избравших капиталистический путь развития. Ситуация в стране характеризовалась галопирующей инфляцией, растущим уровнем безработицы и громадной внешней задолженностью. Страх, который я испытывал перед подобным характером экономического развития, каждый раз вновь возвращал меня к прежним представлениям о недопустимости отмены центрального директивного планирования, но в то же время я все больше укреплялся в мысли, что необходимо искать другие варианты организации системы планирования и управления, содействуя при этом развитию рыночных отношений между предприятиями и объединениями.
С тех пор эта проблема занимает меня постоянно, и поискам путей ее решения я посвящаю до настоящего времени, по сути, большую часть своих работ. Мне представляется, что теперь я вижу возможность установления такого соотношения между планом и рынком, какого в те годы я видеть не мог. Для этого потребовалось овладеть почти всей макро- и микроэкономической, хозяйственно-политической и системной теориями, а также познакомиться с опытом решения проблем в обеих системах. Лишь постепенно расширялся круг моих теоретических представлений и накапливался мой собственный опыт экономической практики, поэтому не сразу, а лишь со временем мне удавалось находить более правильные пути соединения плана и рынка.
В период 1957—1958 годов моя аргументация все еще была направлена на совершенствование системы 97
планирования и на защиту его преимуществ по сравнению с рыночной экономической системой. Когда я сегодня читаю свои тогдашние статьи, то вижу, что в них все еще отражается точка зрения многих современных «рационализаторов планирования», которые вроде бы искренне хотят устранить недостатки системы планирования, но вместе с тем всеми силами сопротивляются восстановлению рыночного механизма. В то время я еще не знал решения, с помощью которого можно использовать рыночный механизм и одновременно предотвращать циклические кризисы, безработицу, возникновение крупной капиталистической собственности и социально-классовых противоречий. К более углубленному пониманию этих проблем я подошел лишь в начале 60-х годов. Несмотря на то что в своем внутреннем неприятии монополистической, бюрократической и недемократической политической системы я зашел очень далеко, на моих экономических воззрениях еще сильно сказывалось упрощенное восприятие капиталистической системы и буржуазных экономических теорий. С таким теоретическим багажом я пришел в комиссию по реорганизации сферы народнохозяйственного управления, работа в которой впоследствии стала важным поворотным пунктом в моем дальнейшем развитии.
В комиссии мне впервые пришлось столкнуться с реальной народнохозяйственной практикой. Мы получили в свое распоряжение статистический и фактический материал, который шел под грифом «строго секретно» и который был неизвестен даже членам партии. Сравнительно быстро я установил, что реальная экономическая ситуация в стране является еще более тяжелой, чем об этом можно было судить по официальным данным. Кроме того, я начал видеть громадную разницу, существующую между экономической теорией и реальной практикой. Остатки моих иллюзий быстро улетучились. Насколько же бессмысленными были все фразы об «экономических закономерностях социализма», которые я провозглашал с трибуны на своих лекциях в школе! «Производство» не развивалось «пропорционально», «производительность труда неуклонно» не повышалась, «трудящиеся» не вознаграждались «в соответствии с результатами своего труда», «цены» не соответствовали «трудовой стоимости продуктов», «разли98
чия доходов на предприятиях» не отражали «различий в хозяйственных результатах» и т.п. Этот перечень я бы мог продолжить — все, чему мы учили, было лишь благими пожеланиями.
И когда я слушал дискуссии в комиссиях, то невольно спрашивал себя, на что они, собственно говоря, были направлены? В них отсутствовали как концепция, так и основные критерии. Столько дней и часов велись одни лишь разговоры, при этом большая часть времени посвящалась обсуждению вопросов организации производства. Больше всего присутствующих интересовало: как будут преобразовываться министерства, какое место займут объединения и предприятия, какие министерства будут разделены и какие соединены? Должны ли объединения предприятий еще более укрупниться или, наоборот, разукрупниться? В этих дискуссиях все охотно принимали участие, и было видно, как каждый из участников защищает свои ведомственные интересы.
Розсыпал преследовал лишь те цели и задачи, которые поставило перед комиссией политическое руководство: большая децентрализация производственных решений, усиление на предприятиях мотиваций к повышению эффективности производства, передача в их распоряжение несколько большего количества средств, в частности на капиталовложения, при одновременном сохранении «социалистической планомерности». Поэтому на заседаниях комиссии он постоянно лавировал между политической директивой и убогостью экономической концепции и практики — почти как по чешской поговорке: «Чтобы и волк наелся, и коза осталась цела». Поэтому некоторые экономические показатели плана вычеркивались или модифицировались, предприятиям предоставили чуть больше средств на капиталовложения, и были внесены некоторые изменения в экономическую мотивацию предприятий. Однако дирижистский характер централизованного планирования, по замыслу тех, кто руководил работой комиссии, отнюдь не был ослаблен, оно продолжало сохранять свою силу.
Предложения по изменению мотиваций и стимулов производственной деятельности предприятий были недостаточно глубоко продуманными, а именно они представлялись мне чрезвычайно важными. Я приведу 99
лишь один пример: много времени было затрачено на разработку так называемых долгосрочных нормативов роста средней заработной платы. Вполне, казалось бы, хорошая идея. Предприятиям устанавливалось обязательное соотношение между ростом производительности труда и ростом средней заработной платы (норматив). При достижении определенного уровня (в процентах) роста производительности труда предприятия получали возможность в соответствии с нормативом увеличить (на определенную величину) фонд заработной платы. Это соотношение закреплялось на долгосрочную перспективу. Благодаря этому нововведению на предприятиях должна была создаться подлинная заинтересованность в повышении производительности труда на много лет вперед. Им также выделялось намного больше средств для реализации собственных капиталовложений, которые они могли использовать по своему усмотрению, с тем чтобы повысить производительность труда и соответственно заработную плату своим работникам. Предложение по этому нормативу в представленном комиссией проекте было разработано «с размахом» и во всех подробностях и преподнесено в качестве изумительного изобретения. Если сравнивать его с той мотивационной системой, которая действовала на предприятиях прежде, то это действительно был прогресс. Ранее заинтересованность предприятий заключалась в обеспечении условий роста ежегодных объемов валовой продукции, и, когда вал увеличивался, работникам предприятия выплачивалась премия. Это приводило к известным махинациям, когда предпочтение отдавалось относительно дорогим, в большинстве своем также сырье- и материалоемким, изделиям, благодаря чему можно было легко увеличить объем валовой продукции (так называемая идеология вала). Теперь же заинтересованность трудового коллектива и руководства предприятия должна была быть направлена на рост производительности труда, при этом не только в масштабах одного года, но и в долгосрочной перспективе. Все это казалось вполне разумным и приемлемым всем членам комиссии.
У меня, однако, имелись принципиальные возражения, которые я пытался довести до сведения участников. Но я был бессилен перед большинством, которое не желало вникнуть в суть проблемы. Мои сомнения 100
относились к методам измерения производительности труда. Кто ее должен измерять и кто должен контролировать ее рост? Я аргументировал свою позицию тем, что измерение производительности труда может осуществляться лишь путем деления стоимости годовой валовой или чистой продукции на количество занятых работников. Других методов определения этого показателя не знал никто.
Уже тогда я пришел к пониманию того обстоятельства, что в условиях планируемой экономики предприятию не угрожает никакая рыночная конкуренция. Для такой экономики характерно постоянное превышение платежеспособного спроса над любым предложением. Ни население, ни предприятия как потребители не могут приобрести за свои деньги все то, что им нужно,—следовательно, совокупный спрос в этих условиях не удовлетворяется. Такое явление экономисты определяют как рынок продавцов (в отличие от рынка производителей). В этих условиях предприятияпроизводители могут избавиться от любой продукции, которую они предлагают на рынке. Производственные предприятия и торговые организации, выступающие в качестве покупателей, берут и такой товар, в котором они в данный момент не нуждаются (предпочтительнее создавать запасы, чем ничего не купить и лишиться своих денег). Дело в том, что в конце года избыточные деньги у предприятий изымало государство в форме отчислений от прибыли.
Но это означает, что предприятия никогда не сталкиваются с трудностями сбыта своей продукции, и поэтому они определяют свою производственную структуру не в соответствии с рыночным спросом, а на основе наиболее удобных и выгодных для них расчетов роста производительности труда. Они предпочитают производство товаров по выгодным расчетным ценам, не обращая внимания на действительную потребность в этих товарах. Но поскольку они повышают формально рассчитанную производительность труда, то в соответствии с нормативом они могут также повышать заработную плату. Следовательно, и этот норматив стимулировал предприятия скорее прибегать к манипуляции структурой производимой продукции и снижению качества, чем к действительному повышению производительности труда. Реальное повышение производитель101
ности представляет для предприятий слишком сложную задачу, поскольку для этого они должны иметь доступ к новой, более современной технике, а как раз ее-то они не могут купить. Эту основную проблему централизованно планируемой экономической системы я тогда не мог объяснить так квалифицированно, как делаю это сегодня, но интуитивно я понимал, что именно такие, не до конца продуманные изменения способны существенно ухудшить результаты деятельности предприятий. Уже в то время я пришел к мысли: до тех пор, пока позиции покупателей не усилятся в том смысле, что продавцы начнут ощущать потери в доходах при производстве товаров без учета потребностей рынка и снижения затрат,—до тех пор производство не будет отвечать общественным потребностям, не будет рациональным с экономической точки зрения, в достаточной мере качественным и инновационным. Однако такие сложные народнохозяйственные взаимосвязи невозможно раскрывать и объяснять на заседаниях бюрократических комиссий. На них нельзя читать лекции, а изложенные в концентрированной форме возражения и сомнения вряд ли будут поняты их участниками, скорее всего, они будут отвергнуты как нереальное «теоретизирование». Все члены комиссии устали от большого количества заседаний, и каждый из них думал о том, как бы поскорее закончить работу над проектом реорганизации и освободиться от всего этого. Впоследствии мне часто придется проходить через подобную процедуру на других заседаниях политических комитетов.
В результате партия приняла с шумной пропагандистской помпой проект реорганизации, изданный отдельной книгой объемом в 230 страниц. Его опубликование породило гигантскую волну организационного усердия: проводилось преобразование министерств, вновь создавались и модифицировались объединения предприятий, реорганизовывались системы всех методов и инструментов планирования, управления и контроля; на одних предприятиях люди лишились работы, на других вновь создавались рабочие места — все это обошлось государству в громадное количество труда, денег и времени!
Сам я в то время чувствовал себя внутренне раздвоенным. С одной стороны, в реорганизации я видел существенный шаг вперед, развитие в правильном на102
правлении. Я и сам принимал участие в пропаганде и популяризации новых методов управления на предприятиях, в основе которых лежали более длительные и твердо установленные-нормативы, использование большего количества собственных средств на капиталовложения. а также возможность принимать самостоятельные решения. Вместе с тем я видел в новых мероприятиях самые различные недостатки и упущения, и прежде всего неверно определенный норматив формирования производительности труда. В условиях, негибкого и слишком централизованного планирования показателей производительности труда предприятия снова могли утратить заинтересованность в повышении эффективности производства и начать прибегать к махинациям и обману, как они это делали прежде при выполнении плана. Поэтому для меня вопрос заключался в том, чтобы, осуществляя на практике- положения реорганизации, усовершенствовать отдельные нормативы и на базе накопленного, нового опыта раздвинуть рамки децентрализации. Особенно настойчиво мы должны были, на мой взгляд, искать новые возможности оптимального сочетания собственных интересов предприятий с общественными интересами. Мое участие в подготовке организационных мероприятий, продолжавшееся примерно четыре месяца, стало для меня, пожалуй, самой важной экономической школой. Здесь я научился гораздо большему, чем за многие годы учебы, преподавательской и исследовательской деятельности. Какие только мысли не возникали в моей голове! Мне пришлось учиться думать и рассуждать совершенно по-другому. Я начинал понимать не только громадное количество конкретных взаимосвязей и взаимозависимостей, существующих в народном хозяйстве, но и принципиально важные вопросы человеческого поведения, мотиваций и принятия решений. Какое-то время я казался сам себе беспомощным и бессильным. Мне все еще не удавалось переступить через старые, основные положения марксизма, касающиеся производственной анархии, которую вызывает частная капиталистическая собственность и стихийное воздействие рыночных механизмов. Я был все еще сильно связан с Марксовой, весьма логичной по своей структуре системой. В принципе планомерности, которая соответствует высокому уровню обобществления производив
ства, я еще видел путь выхода из несбалансированного и кризисогенного, капиталистического способа производства. Одновременно я все более отчетливо понимал, что никакой планирующий центр неспособен обеспечить равномерное и пропорциональное развитие общественного производства. Более глубокий взгляд на хозяйственную практику убедительно показал мне, что прежние методы планирования не могут обеспечить какого-либо улучшения. Новой возможности решения этих проблем я тогда еще не видел.
Как раз в то время, когда я находился во власти всех этих сомнений и противоречий, мне представилась возможность принять участие в международной экономической конференции, на которой должны были присутствовать многие известные экономисты Востока и Запада. От Международной экономической ассоциации пришло приглашение на международную конференцию, в которой должны были принять участие также два чехословацких экономиста. Конференция проходила с 23 марта по 2 апреля 1958 года в Турции в городе Бурса. В то время в Чехословакии не было ни одной ассоциации экономистов, и поэтому приглашение переслали из Чехословацкой академии наук в отдел образования ЦК КПЧ. Там было принято решение послать на конференцию тогдашнего директора Института экономики Чехословацкой академии наук Владимира Кайгла и меня, заведующего кафедрой экономики Высшей политической школы.
8. ДОРОГА В ТУРЦИЮ
Впервые после войны я должен был поехать в несоциалистическое зарубежье. Хотя экономически слаборазвитая страна, какой была Турция, привлекала меня меньше, чем промышленно развитые страны Запада, тем не менее Турция представлялась мне страной со столькими загадками и прелестями, что я готовился в дорогу с большим энтузиазмом. Устроители конференции обещали участникам из социалистических стран оплатить полную стоимость проезда и пребывания, прекрасно зная, что от национального банка каждый из нас вряд ли получил бы западную валюту.
Тема конференции называлась «Сотрудничество во104
сточной и западной экономики». Председателем и ведущим конференции был шведский экономист Эрик Линдал. В состав ее участников входили известные в то время экономисты Востока и Запада, имена и фамилии которых я знал в основном еще до конференции. К наиболее известным из них, несомненно, относились американцы Г. Хаберле и Р. Триффин, англичане Е. А. Г?Робинсон, А. Ноув, А.Кэйнкросс, М. Кейзер, французы Ж. Руэфф и Р. Моссе, русский В. Дьяченко, поляки Б. Минц и Я. Липиньски, венгр И. Фриш и многие другие. Думаю, что Кайгл и я были тогда самыми молодыми участниками конференции.
Конференция велась на двух языках (английском и русском) и синхронно переводилась очень хорошими переводчиками, поэтому проблема языкового барьера практически не существовала. Естественно, хуже обстояли дела с пониманием самого содержания выступлений. Ход мыслительного процесса и целые системы категорий и понятий марксистских и буржуазных экономистов существенно различались между собой. Однако больше всего дискуссию портила идеологическая предубежденность, исходящая в основном со стороны экономистов марксистского толка, хотя она довольно отчетливо проявлялась и в выступлениях некоторых западных экономистов. Вместо дебатов о сотрудничестве между обеими системами споры велись главным образом вокруг преимуществ или недостатков той или другой системы.
Я тоже иногда позволял спровоцировать себя, слушая нападки с антисоциалистическим зарядом в той форме, в которой они высказывались, в частности Гарднером или Хаберле, к не менее идеологическим контратакам. Подобные дискуссии с идеологической окраской и немалым эмоциональным пристрастием довольно легко смягчались и направлялись в конкретное русло, например, такими, я бы сказал терпимыми людьми, как Е. Линдал или А. Робинсон, а также американец Р. Триффин.
Именно эти трое вместе с А. Ноувом, А. Кэйнкроссом и Р. Моссе произвели на меня наиболее глубокое впечатление. Хотя сам я постоянно придерживался своих, последовательно социалистических позиций, в душе я должен был все же признать, что эти экономисты во многом правы. Как раз в эти годы Р. Триффин 105
проповедовал теоретическую концепцию конвергенции, указывая на растущую централизацию сферы управления экономикой на Западе и на децентрализационные тенденции на Востоке. Мне представлялось, что мы действительно находимся накануне подобного этапа развития. Вместе с гем я все еще пребывал в плену марксистской «государственной» теории, согласно которой государственное вмешательство в экономику при капитализме служит лишь интересам буржуазии или крупных монополий и направлено против интересов трудящихся.
Сегодня, мысленно возвращаясь в прошлое, я вижу, как трудно было избавиться от известных, глубоко укоренившихся в сознании идейно-теоретических шаблонов. Несмотря на то что я последовательно отстаивал идею значительной децентрализации руководства и управления при социализме, у меня все же сохранялось убеждение в том, что усовершенствование центрального планирования в социалистической экономике могло бы обеспечить более быстрый рост производства и потребления на благо трудящихся, чем это можно сделать в условиях монополистического капитализма. Противоречие, существующее между дирижистским, исходящим из одного политического и бюрократического центра планированием производства и низовой инициативой предприятий, преследующих свои собственные экономические интересы, я правильно понял лишь спустя несколько лет. Впоследствии я часто возвращался в мыслях ко многим позициям и точкам зрения, которые в Бурсе отстаивали различные западные экономисты.
Забавными были мои споры с Г. Хаберле. Они разворачивались в основном вне стен конференционного зала. Как и мне, Хаберле очень нравились турецкие бани. Мы почти каждый день встречались в круглом гостиничном бассейне, наполняемом водой из горячего источника. Обычно, кроме нас, в нем никого не было. Мы плавали вдвоем по кругу и горячо при этом дискутировали, как и пристало идеологическим противникам. Мне приходилось выслушивать упреки Хаберле в том, что чешские коммунисты экспроприировали австрийских граждан, и многое другое. Я в свою очередь возлагал на него ответственность за крупномасштабную безработицу в довоенной Чехословакии и т. п. Это 106
было довольно веселое плавание, и разогревало оно нас больше, чем горячая вода.
Очень агрессивным партнером был американец Гарднер. Его утверждение, что «социалистическое производство представляет собой производство ради производства, то есть является самоцелью, тогда как в США оно служит средством удовлетворения потребностей населения», вывело меня из себя. Впоследствии я все же должен был признать, что он был не так уж далек от истины. Именно Гарднер способствовал установлению более непринужденной атмосферы на заседаниях.
Советский экономист Дьяченко оказался ученым с большим чувством юмора, проработавшим много лет в различных идеологических учреждениях. Хотя он и считался сторонником подчинения ценообразования при социализме задачам плана, но я все же думаю, что и он давно понял несостоятельность и бессмысленность установления ценовых пропорций в административном порядке. Во всяком случае, он не пытался превозносить достоинства административно устанавливаемых цен перед западными экономистами. Также он склонялся к идее децентрализации сферы принятия решений в социалистической экономике, не ставя, естественно, под сомнение принцип планомерности.
Определение демократического регулирования производства посредством потребителей и с помощью рыночного механизма (которое, однако, не всегда осуществляется плавно и без помех, отсюда возникающие погрешности должны корректироваться государством), которое представил Моссе, я в то время яростно опровергал. Я все еще верил, что рыночный механизм является первопричиной циклического неравновесия и кризисов. Лишь много позже я научился лучше дифференцировать явления и уже не искал причины макроэкономических кризисов в функционировании рыночного механизма. Конечно, ни Моссе, ни прочие западные экономисты не проводили различия между микро- и макроэкономическим неравновесием. К такому пониманию я подошел не сразу, а лишь постепенно, становясь в конечном счете решительным сторонником рыночного механизма при социализме. Конечно, незаменимость этого механизма с точки зрения эластичного преодоления явлений макроэкономического неравнове107
сия сама по себе не означает, что становятся излишними другие инструменты и пути противодействия упомянутым явлениям.
Сегодня я уже смеюсь сам над собой, вспоминая, что в то время я отстаивал точку зрения, по которой потребление населения при социализме растет быстрее, чем в капиталистических экономиках. Это положение я усвоил в процессе своей учебы, и поначалу оно казалось мне вполне логичным, поскольку в условиях социализма ликвидировались большие различия в потреблении между рабочим классом в социалистической стране и буржуазией на Западе. Конкретные сравнительные расчеты мы в то время еще не проводили, будучи слишком занятыми исследованием фундаментальных теоретических проблем социализма, не говоря уже о том, что подобные сравнительные анализы, если бы они говорили не в пользу социализма, квалифицировались бы как «враждебное отношение» и поэтому преследовались бы и подавлялись. Более благоприятные условия для этого появились лишь в 60-е годы. Только тогда мы подошли к пониманию того факта, что гораздо более быстрый рост производительности труда в большинстве промышленно развитых стран Запада обеспечивает также намного более быстрый рост личного и общественного потребления по сравнению с социалистическими странами.
Почему же тогда, на той конференции, и позже в своих статьях, посвященных этой проблематике, я так настойчиво оперировал идеологической аргументацией, хотя уже в то время у меня сложилось весьма критическое отношение не только к политической системе социализма, но и к его экономической системе? Сегодня я могу сказать, что такая позиция объяснялась тем фактом, что в те годы я еще не мог представить себе какое-либо принципиальное изменение социализма, которое не означало бы обыкновенный поворот назад, к капитализму. Капитализм был и, на мой взгляд, до сих пор остается системой, которой присущи принципиальные недостатки и пороки и возрождения которых в своей стране я не желал бы. Третью же систему я себе просто не мог представить. В силу этого у меня еще сохранялась вера в эффективность постепенного усовершенствования социалистической системы. Некоторые западные экономисты, которые вообще не хотели ниче108
го слышать о слабых сторонах капитализма и лишь порочили социализм—по сути, находясь в ничуть не меньшей степени под влиянием идеологии, чем мы,—спровоцировали меня к идеологической полемике,— полемике гораздо более сильной, чем это соответствовало тогда моим взглядам и убеждениям.
Несмотря на это, конференция в целом и продолжавшаяся целую неделю дискуссия со многими видными учеными оказали на меня сильное воздействие. С того времени быстро усиливалось мое скептическое отношение к марксистско-ленинским догмам. Моя до тех пор непреклонная убежденность в том, что лишь марксистская экономическая наука имеет глубокую научную основу, тогда как буржуазная экономическая наука охватывает лишь поверхность явлений, была сильно поколеблена. Уже работа в упомянутой реорганизационной комиссии радикальным образом подействовала на мои взгляды, а эта международная конференция экономистов дала толчок к совершенно новому пониманию и восприятию экономической проблематики.
Весьма эмоционально я воспринял экономическую отсталость Турции. Ужасающая нищета, масса скитающихся и ищущих любую работу мужчин, побирающиеся дети — все это возбуждало и укрепляло мое социалистическое восприятие окружающего мира. Такой мой настрой еще более усилился в результате одного события, которое произошло незадолго до моего отъезда. Перед отелем возле меня неожиданно появился молодой турок, который незаметно передал мне какую-то бумажку и сразу же исчез. Когда я развернул листок, то увидел что-то вроде коммунистической листовки протеста на английском языке. В ней говорилось, сколько коммунистов в Турции находится под арестом, что они подвергались пыткам и т. п., а также содержался призыв к организации всемирной акции, направленной против этих репрессий. Я уже не припоминаю подробностей, но помню, что это произвело на меня сильное впечатление. С тех пор когда меня арестовало гестапо, я особенно остро реагировал на каждое сообщение о фактах политического преследования и применения пыток.
Все, что я пережил и наблюдал в Турции, только укрепило мою марксистскую убежденность в том, что лишь государственные инвестиции и субсидии могут 109
способствовать относительно быстрому преодолению явлений массовой безработицы. Вместе с тем я не мог полностью отвергать аргументы западных экономистов в том плане, что и в неразвитой стране должна поддерживаться частная инициатива и что просто нельзя перепрыгивать через отдельные этапы развития. Этого я не мог отрицать, но считал необходимым ускорение этапа индустриализации с помощью целенаправленных государственных субсидий наряду со стимулированием частнопредпринимательской деятельности. Отношение западных экономистов к проблемам развивающихся стран представлялось мне пассивным, если не равнодушным.
После возвращения из Турции я написал довольно упрощенную по своему содержанию статью. Хотя я хотел показать некоторые понятые мной различия во взглядах на решение отдельных проблем, существующие в западной экономической науке, я все же слишком решительно и односторонне восхвалял преимущества социализма, что в свою очередь было проявлением еще не до конца преодоленного идеологического догматизма. Эту статью редакция партийного журнала «Нова мисл» напечатала без особых проблем. Другую статью, которую я написал годом позже и в которой отмежевывался от некоторых сталинских догм, этот журнал уже не опубликовал. Но об этом позже.
9. КАНДИДАТ
В ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
Опыт работы в комиссии убедительно показал мне, что от бюрократического аппарата невозможно ожидать осуществления последовательных изменений в народнохозяйственной системе, поскольку в своей работе он полностью ориентируется на соответствующие директивы партийного руководства. Но как могли поступить другие указания от руководства во главе с Новотным, если именно в нем находился центр сталинистской реакции? Разумеется, и Новотный, и все Политбюро не были против того, чтобы экономика функционировала лучше и народные массы были довольными. Но они не могли полностью выйти из тени своей власти.
Тем не менее в составе руководства находился один НО
человек, превосходившим по своему интеллектуальному уровню остальных его членов, причем наиболее важным было то, что он разбирался в экономических проблемах гораздо лучше многих из них. Этим человеком был Яромир Доланский. Как член Политбюро, он занимался вопросами экономики. С помощью самостоятельно проведенного анализа снижения эффективности народного хозяйства он убедил ЦК КПЧ на февральском пленуме 1957 года принять постановление о реорганизации системы планирования и управления. Я тогда рассматривал Доланского как человека, которого с помощью конкретных аргументов можно было убедить в том, что основные проблемы нашей экономики не решит простая реорганизация этой сферы и что следовало бы продумать внедрение глубоких экономических реформ.
Вместе с некоторыми преподавателями-единомышленниками, доцентами Высшей политической школы, мы ломали голову над тем, как бы поговорить с Доланским непосредственно. Наконец мы пришли к выводу, что лучше всего было бы пригласить его участвовать в дискуссии с некоторыми профессорами и доцентами нашей школы. Мы знали, что Доланский был единственным членом Политбюро, проявлявшим большой интерес к теоретическим вопросам, и поэтому надеялись, что он примет наше приглашение.
Позже я понял, что Доланский был внутренне очень раздвоенным человеком. Как я уже говорил, он был умным, образованным и вдумчивым человеком, единственным в тогдашнем Политбюро, способным рассматривать проблемы народнохозяйственной практики во взаимосвязи с экономической теорией.НЭднако вм*есте с тем он был кем угодно, только не борцом за правду. В течение долгих лет своей деятельности в партии (он был ее членом с 1922 года), а затем в руководстве КПЧ он научился приспосабливаться к тону, задаваемому из Москвы. Хотя он и не был откровенным оппортунистом, но взял себе за правило молчать и не сопротивляться даже в тех случаях, когда внутренне не соглашался с теми или другими явлениями в партии. Лишь таким образом ему удалось длительное время находиться на посту члена Полил бюро. Он был самым старым по возрасту его членом. Естественно, на этом посту он также нес всю полноту ответственности за все 111
те преступные решения, которые принимались Политбюро. Тем не менее он занимался в Политбюро вопросами экономической политики и был, по существу, единственным, с кем можно было говорить о глубинных причинах нежелательных явлений в народном хозяйстве.
Доланский охотно'принял приглашение участвовать в дискуссии. Он, по-видимому, сам уже знал, что принятая ЦК концепция реорганизации системы планирования и управления не даст тех результатов, которые от нее ожидались. Я решил в ходе дискуссии изложить Доланскому по возможности ясно и убедительно все свои сомнения и соображения, которые не давали мне покоя и которые мне не удалось реализовать, работая в реорганизационной комиссии. В таком окружении я также мог рассчитывать на большую поддержку участников дискуссии, поэтому говорил об экономических проблемах совершенно откровенно. Свои взгляды на политическую систему я по понятным причинам должен был оставить при себе.
Диалог между Доланским и мной происходил примерно таким образом:
— Товарищ Доланский, и управляющие органы и трудовые коллективы государственных предприятий всегда будут вести себя так, чтобы получать максимальные доходы и не нести никаких убытков.
— Да, это мне ясно,— ответил Доланский,— но это у них получится лишь тогда, когда они будут выполнять или перевыполнять план повышения производительности труда.
— Но, товарищ Доланский, все крупные предприятия— ведь наши государственные предприятия представляют собой, по сути, гигантские концерны — нередко производят тысячи видов товаров, которые нельзя каждый в отдельности подробно планировать и контролировать их производство из одного центра. Но поскольку на продукты и изделия устанавливаются различные цены, для предприятия становится легче повышать общий уровень производительности труда, если они будут в первую очередь производить те товары, на которые установлены более выгодные цены, и в меньшей степени товары с менее выгодными ценами.
— Хорошо, но что бы они делали с теми изделиями, которых они произвели слишком много?
112
— Для производителей не существует понятия «слишком много», поскольку все предприятия, и производственные и торговые, как победители имеют слишком много денег, за которые они не могут купить именно тот товар, который им нужен. Поэтому они берут и те товары, в которых они в данный момент не нуждаются, увеличивая тем самым свои складские запасы. Поэтому столь громадными темпами увеличиваются запасы на наших предприятиях.
— Да, это логично, но каким образом мы можем воспрепятствовать этому?
— Товарищ Доланский, здесь мы подходим к основному понятию социалистической хозяйственной системы. Мне представляется, что наши государственные предприятия будут действовать иначе лишь в том случае, если, во-первых, они будут вынуждены покрывать свои затраты только из собственных доходов; вовторых, им придется эластично изменять цены, исходя из соотношения спроса и предложения, и, в-третьих, будет существовать конкуренция в рамках отраслей и производств. Я, конечно, понимаю, что речь идет о глубоких и масштабных изменениях, которые мы еще должны подробно проанализировать и обсудить. Нам не следует придерживаться прежних представлений, но необходимо искать новые, действительно эффективные решения. Во всяком случае, товарищи, работающие в теоретической области, должны иметь больше возможностей для того, чтобы излагать свои соображения и свободно высказываться по вопросам политической и хозяйственной практики.
На мой взгляд, вся эта дискуссия произвела на Доланского большое впечатление, и казалось, что всю нашу критику, высказанные точки зрения и пожелания он воспримет всерьез. Он еще не настолько глубоко продумал все экономические взаимосвязи, и я был убежден, что наша многочасовая дискуссия поставила перед ним такие вопросы, над которыми стоило поразмышлять. Это было в первый, но и в последний раз, когда член партийного руководства снизошел до участия в теоретической дискуссии. Спустя несколько месяцев мне пришлось убедиться, что у этой дискуссии были другие важные последствия.
В начале июня 1958 года из Секретариата ЦК я получил приглашение принять участие в приближаю113
щемся XI съезде партии с секретным уведомлением, что меня предложили избрать кандидатом в члены Центрального Комитета. По всей вероятности, об этом предложении постарался Доланский, поскольку ему казалось, что будет полезным иметь в сточленном Центральном Комитете хотя бы одного экономистатеоретика.
Судя по тому, как в партии практиковалась «демократия», можно было ожидать, что появление моей фамилии в списке кандидатов для нового Центрального Комитета, предложенном Секретариатом, равносильно тому, будто бы я уже избран. Все знали, как это делается: прежнее Политбюро готовило новый список кандидатов, который затем передавался в избирательную комиссию партийного съезда и потом эта комиссия без существенных изменений представляла его на выборы. Отдельные предложения по новым кадрам принимались единогласно, да и во всей послевоенной истории партии не было случая, чтобы предложенные подобным образом кандидатуры не проходили.
Так случилось и на этот раз, и на основании упомянутого решения я сначала стал кандидатом в члены Центрального Комитета. На пленумах ЦК кандидат имеет право принимать участие в дискуссии и представлять свои . предложения, но не должен голосовать. Всеобщей практикой было и то, что на следующем съезде (съезды проходили как минимум раз в четыре года) кандидат в члены избирался полноправным членом Центрального Комитета. То же произошло и в моем случае. В декабре 1962 года на XII съезде партии меня рекомендовали в члены Центрального Комитета, и я был избран на этом съезде. Но сначала я снова вернусь в 1958 год.
Еще до моего избрания в Центральный Комитет, а также до упомянутой дискуссии с Доланским в Высшей политической школе, где я преподавал, несколько чрезвычайно догматичных по своим воззрениям доцентов организовали против меня кампанию. Такие догматики находились прежде всего на кафедрах философии и партийного строительства, но были они и в ректорате. Доценты почти всех остальных кафедр, в том числе кафедры права, международных отношений, мировой истории, истории Чехословакии, истории СССР, истории рабочего движения и т.п., были в основном 114
прогрессивными, критически мыслящими людьми. Разумеется, кафедры философии и партийного строительства отличались своими особенно ограниченными и преданными партии доцентами. Реальные проблемы народного хозяйства страны и политики их мало интересовали. Все их «знания» основывались на постоянном повторении теоретических положений Маркса, Энгельса, Ленина, а также партийных решений и постановлений. Именно оттуда, должно быть, в отдел пропаганды Центрального секретариата партии поступила весьма характерная для нашего учебного заведения информация о моей «ревизионистской» лекционной деятельности.
На этом основании отдел ЦК организовал в школе конференцию, на которой должны были рассматриваться мои отдельные идеи и — как это представляли себе ее организаторы — она должна была осудить их как отклонение от принятой линии партии. Эти идеи излагались в моей сравнительно обширной статье, которая имела следующую историю. В ноябре 1957 года я опубликовал статью в популярном теоретическом журнале «Творба», в которой я писал о целях реорганизации системы планирования и управления. Лишь при таком условии статья вообще могла быть опубликована. Однако в действительности самыми важными в ней были те абзацы, в которых я говорил о том, что государственные предприятия должны быть материально заинтересованы в поставках своих товаров и нести ответственность за результаты своей деятельности, то есть непосредственно ощущать последствия от убытков. Таким образом, я затронул в ней одну из догм сталинского происхождения, которую я поставил под сомнение, хотя, естественно, я не мог открыто и непосредственно сказать это. Иначе никто не опубликовал бы эту статью.
Но уже и то немногое, о чем я сказал в статье, вызвало бурную реакцию со стороны некоторых теоретиков-догмшиков. Сталин однажды провозгласил, что в рамках государственного, социалистического производства товарно-денежные отношения уже не существуют и, хотя в отношениях между государственными предприятиями ры ночи ые отношени я выступают в форме товарно-денежных отношений, воздействие рынка не должно определять развитие производства, 115
что это и далее должен делать план. В этом и заключается новое качество социалистического развития производства. Эта теория Сталина еще более утвердила догмы социалистической экономической теории. Тот, кто ныне требовал, чтобы государственные предприятия и в целом и в частностях ориентировали свое производство на рыночный спрос и соотносили его с действительными результатами сбыта своей продукции, был бы немедленно назван этими догматиками уклонистом.
В качестве ответа на изложенные мной взгляды проректор Мирослав Кадлец написал теоретический трактат, в котором он защищал догматический марксистский постулат. Он утверждал, что «рыночные отношения (действительные товарно-денежные отношения) могут существовать лишь в среде независимых собственников средств производства». Поскольку же «государственные предприятия не являются собственниками средств производства, то соответственно между ними не могут существовать какие-либо рыночные отношения». Об этой основной догме велся — и ведется по сей день — спор между консервативными экономистами и экономистами, ориентированными на реформу. Я не остался в долгу и в ответ на эти догматические постулаты проректора написал довольно объемистую и обстоятельную статью. В ней я уже полностью отошел от сталинистского понятия собственности и объяснил, почему слепая приверженность этой догме должна неизбежно приводить к непомерным потерям в социалистическом производстве.
Эти два противоположные по своему характеру трактата были затем использованы догматиками в качестве основы для развертывания дискуссии, в ходе которой, как они надеялись, руководство соответствующего отдела Центрального секретариата осудит мои еретические воззрения. Однако дискуссия прошла совершенно иначе, чем они себе это представляли.
Я не позволил вовлечь себя в слишком абстрактную и схоластическую дискуссию, но постоянно приводил как аргументы опыт и наблюдения, вынесенные из работы комиссии. Кроме того, я не остался в одиночестве, большая часть участников этого заседания отнеслась с пониманием к моим взглядам и поддержала их. Заведующий соответствующим отделом ЦК очень бы116
стро понял, что он не сможет разоблачить меня как еретика, и удовлетворился ничего не говорящим легким упреком, что я «слишком вольно толкую марксистскую теорию». Этим и закончился запланированный «трибунал». Однако догматики не отказались от своей цели и впоследствии нашли другие пути, чтобы показать «вредность» моих взглядов.
В эти важные дни и недели мне удалось наконец ясно сформулировать то, что постепенно вызревало во мне со времени моего участия в работе реорганизационной комиссии. В новой статье я прежде всего показал. что социалистическая собственность — так, как она реализовалась в соответствии с представлениями Ленина и Сталина, то есть как собственность, в условиях которой деятельность всех предприятий регулируется из государственного центра с помощью дирижистского плана,— основывается на совершенно упрощенных представлениях. Во-первых, в этих представлениях вообще не принималось во внимание то обстоятельство, что планирующий центр не в состоянии конкретно определить столь гигантский объем и структуру производства, включающего в себя сотни тысяч видов изделий и услуг, и приказать развивать это производство с максимально возможной эффективностью. Вовторых, в этих представлениях полностью игнорировалось и то обстоятельство, что у предприятий может отсутствовать заинтересованность в развитии высокоэффективного, нацеленного на инновации и ориентирующегося на реальные потребности производства. Упускался из виду тот факт, что на практике их заинтересованность, то есть система их интересов, как правило, направлена против такого эффективного развития производственной сферы. Для того чтобы исправить существующее положение, необходимо было бы глубоко реформировать государственную собственность.
То, что я лишь подразумевал, но о чем не сказал в этой статье, сводилось к следующему: реформу необходимо проводить таким способом, чтобы вопреки антагонистическим властным интересам всей центральной бюрократии, и прежде всего партийного аппарата, большинство коммунистов и населения было убеждено в необходимости такой реформы. Конечно, это означало, что продвижение вперед должно быть осторожным и постепенным. Я должен был подготовиться к мысли, 117
что изменение способа мышления людей- это чрезвычайно сложный процесс. Было ли это бессмысленной затеей? Отнюдь. Я был убежден в своей правоте. Мне удалось освободиться от догм, в плену которых я находился более двух десятилетий, и я знал, что перемены, которые я имел в виду, принесут в перспективе большинству населения немалые выгоды и пользу, устранят бессмысленные потери и дефициты.
Было ли это изменой социалистическим идеям? Отнюдь. Основной социалистической идеей является такое изменение экономических отношений, которое приведет не только к более справедливому распределению товаров в обществе, но и к более быстрому, чем прежде, росту производительности труда в производственной сфере. Разве не высказали эту принципиально важную мысль Маркс и Ленин, разве не предполагали они более быстрое и более эффективное развитие производительных сил при социализме и разве не подчеркивал Ленин значение более быстрого роста производительности труда как условия победы социализма? Именно в этом заключалась главная цель, а не в «государственной собственности» в трактовке Сталина, понимаемой как самоцель. Речь шла об улучшении жизни народных масс, а не о властных интересах привилегированного меньшинства. Изменниками этой основной социалистической идеи были те, кто заставил замолчать весь народ, кто не пропускал ни одной свободной идеи, а в борьбе за захват и удержание власти не гнушался прибегать к самым отвратительным интригам и злодеяниям.
Снова и снова я ставил перед собой то одни, то другие вопросы. Может быть, мне следует отказаться от этой деятельности? Выйти из партии? Может быть, снова вернуться к моей мечте об искусстве? Может быть, по какому-нибудь официальному случаю мне следует высказать все то, что я уже давно действительно думаю, «выкричать» всю свою критику — заставить исключить себя из партии и удалиться от «света»? Особенно сильно это чувство охватывало меня, когда я видел, как мои сыновья, прежде всего мой старший сын, уже научились двуличию, которое они видели в школе. Становилось все более невыносимым принадлежать к такой партии, для которой власть была важнее, чем правда.
118
Однако вскоре я отказался от этой мысли, зная, что этим я вообще ничего не добьюсь, что все останется как прежде и меня все равно не оставят в покое. В отместку будут мстить моим детям, поскольку из этой компании нельзя уйти просто так. И тем более тому, кто столько знал и испытал, находясь при этом в самом центре властной системы, как, например, я. Единственное, что я мог сделать,— это попытаться что-то изменить. Но для этого нужно было не уходить, а, наоборот, достигнуть большей власти и большего влияния, конечно не идя при этом на компромиссы, которых бы не выдержала моя совесть: при этом мне придется многое вынести и проглотить немало обид и далее притворяться и двуличествовать, но меня должна поддерживать мысль, что шаг за шагом я двигаю дело вперед, что благодаря своей деятельности способствую такому развитию ситуации, которое приведет к принципиальной реформе системы. Только так я смогу выдержать и свою внутреннюю раздвоенность.
О моих сомнениях знала лишь моя жена, которая и тогда и позже всегда помогала мне—особенно при неизбежных неблагоприятных поворотах в моей судьбе— все выдержать и не отступать от своей цели.
В начале 1958 года началась новая кампания партии против «югославских ревизионистов», пик которой пришелся на 1961 год. Целая группа моих близких друзей была обвинена в связях с «югославскими изменниками», исключена из партии, а некоторых из них уволили с работы,1 Одним из пострадавших был Иржи Пеликан, который превратился в решительного реформатора и который — как и я—эмигрировал на Запад.
Руководство Новотного очень опасалось любого интеллектуального движения, направленного против партийного диктата. В высших учебных заведениях, в среде писателей, философов, в наиболее влиятельных газетах Союза писателей, таких, как «Литерарни новины» и «Културни живот», в Чехословацкой академии наук и даже в Военно-политической академии — повсюду партийный аппарат «чуял» ревизионизм и охотно организовал бы новую «охоту на ведьм». Однако ход Кремлевских курантов в то время был другим.
Хрущев, напротив, был заинтересован в том, чтобы те контакты с Югославией, которые он снова устано119
вил после смерти Сталина, не были опять нарушены. Поэтому он настойчиво высказывался за включение Югославии в «семью социалистических государств». После казни Имре Надя в Венгрии Югославия отмежевалась от Москвы и их взаимоотношения сильно охладились. Это обстоятельство было немедленно использовано Новотным, и в Чехословакии развернулась новая подстрекательская кампания «против Югославии и ее чехословацких агентов». Однако Хрущев не хотел заходить так далеко и пытался как-то уладить наметившийся разлад в отношениях с Югославией. Поэтому и Новотный вынужден был пойти на попятную, и «охота» на ревизионистов после нескольких отдельных акций сама собой прекратилась.
В Высшей политической школе я установил, что некоторые профессора разделяют те же взгляды и воззрения, что и я. С двумя из них я подружился и сблизился настолько, что мог свободно говорить о волновавших меня проблемах и обсуждать свои новые идеи. Мы одинаково считали, что нет смысла предпринимать отдельные неосторожные действия и что мы должны попытаться сделать что-то совсем другое: пробудить у студентов и прежде всего у наших выпускников стремление к более глубокому и более критическому осмыслению действительности и с помощью новых книг, статей, лекций и дискуссий расшатывать и разоблачать догматический способ мышления.
Чем больше прогрессивно мыслящих людей будет занимать важные посты, тем скорее удастся создать условия для реализации глубокой реформы системы. Вместе с тем мы сами должны были попытаться написать несколько крупных работ, которые помогли бы людям уяснить суть более гуманной и более эффективной новой системы. Каждый из нас также считал, что было бы безнадежным делом начинать с реформы политической системы, что наибольшую перспективу, а также наиболее широкую поддержку на предприятиях получила бы экономическая реформа. Из нее бы затем постепенно развилась и демократизация политической системы.
Такой подход стал долгосрочной стратегией нашей маленькой группы. Лучше всего эту стратегию можно было бы охарактеризовать как «длительный марш через учреждения»—лозунг, который появился гораздо 120
позже, в студенческом движении 1968 года в Федеративной Республике Германии, и который мы тогда, конечно, не употребляли. Я выбираю его сегодня лишь потому, что он наиболее адекватно выражает наши тогдашние намерения. За эту цель мы боролись последовательно и с большим упорством, поскольку наша небольшая группа состояла из целеустремленных людей. Никто, даже самые упрямые сталинисты, не может сегодня обвинять нас в измене социализму. Никто из нас не требовал возврата к капиталистической системе, поскольку мы сами еще застали и испытали на себе ее недостатки, кроме того, критически «разделались» с ней в теоретической области. Тогда, в 1957—1958 годах, для нас представляло сравнительно простую задачу указать на принципиальные недостатки социалистической системы и теории социализма, но о том, как должна была выглядеть новая реформированная система,— об этом у нас еще не было ясного представления.
Уже упоминавшуюся статью я пытался опубликовать в партийном теоретическом органе «Нова мисл». Однако у редакции не хватило смелости напечатать ее, поэтому она пролежала несколько лет в ящике стола. И лишь много позже, в 1965 году, я смог использовать эту статью в приложении к своей книге «К проблематике социалистических товарных отношений».
Прежде всего — и независимо от догматических нападок на меня, которые, по сути, проявлялись лишь в спорах в Высшей политической школе,—у меня появилась возможность в качестве кандидата в члены Центрального Комитета постепенно и очень осторожно популяризировать свои взгляды и предложения на пленумах ЦК. У моей прежней, чисто теоретической деятельности появилась новая, непосредственная связь с политикой партии. Я сознавал, что на меня легла гораздо большая ответственность за ход реализации этой политики, хотя вместе с тем понимал и то, что Центральный Комитет является весьма формальным органом, деятельность которого полностью подчиняегся Центральному секретариату и регулируется им.
В то же самое время я пытался найти возможность хоть немного освободить себя от утомительной и времяемкой педагогической деятельности, с тем чтобы больше времени уделить научной работе. Тогда и то и другое представлялось мне крайне необходимым. Во121
первых, становилась все более очевидной важность опровержения самых различных прежде всего сталинских— догм, поскольку у большинства функционеров, которые прошли через систему партийной учебы, они создавали абсолютно застывшие, неэластичные идеологические штампы. Во-вторых, нужно было начинать работать над новой экономической моделью, которая должна была дать конкретные представления о наших реформистских замыслах. Было ясно, что без продуманной концепции все наши «прореформенные» старания могут завершиться таким же поражением, как и первые попытки реорганизации системы планирования и управления. Возможность заняться такой целенаправленной теоретической деятельностью представилась мне очень скоро.
10. В «ШТОЛЛЬВЕРКЕ»
В 1959 году в Центральном секретариате партии возобладало мнение, что необходимо иметь большее число кандидатов наук (на уровне доктора в западных государствах) среди тех, кто выдвигается на высокие руководящие посты. Эти люди должны были получать не только общие знания выпускников Высшей партийной школы, но и на основе дополнительных исследований писать диссертации на избранные темы, приобретать более глубокие знания в какой-то специальной области. Секретариат также посчитал, что подготовка кандидатов наук не должна проходить в Высшей политической школе, поскольку ее доценты и без того перегружены педагогической работой.
Таким образом постепенно созрела идея основать специальный институт, занимающийся подготовкой кандидатов общественных наук. В нем наиболее способные выпускники Высшей партийной школы, а возможно, выпускники обществоведческих и экономических факультетов других высших учебных заведений могли продолжить свою учебу и с помощью высококвалифицированных профессоров приступить к работе над диссертацией. Эта идея нашла поддержку в самом факте существования подобного института при ЦК КПСС. А поскольку Советский Союз был во всем для нас «образцом», то и замысел основать в Чехословакии 122
подобный институт быстро получил необходимую политическую поддержку. Уже на начальной стадии я оказывал большое содействие этому проекту, так как видел в его осуществлении благоприятную возможность для своей дальнейшей реформистской деятельности. Меня назначили проректором этого института.
Он получил наименование Института общественных наук при ЦК КПЧ. Его ректором стал Ладислав Штолл, который с 1948 по 1952 год уже был ректором Высшей политической и социальной школы, впоследствии ректором Высшей школы политических и социальных наук. С 1952 по 1956 год он попеременно занимал пост министра образования и пост министра культуры. Он относился к самой старой гвардии марксистских профессоров.
Штолл был очень известным профессором, его специальностью являлось литературоведение. Он прочел довольно большое количество публичных лекций, написал множество полемических и очень идеологизированных статей, причем он боролся прежде всего с так называемыми структуралистами в литературоведении и особенно яростно выступал против одного из сторонников этого направления, профессора Мукаржовского. Штолл был скорее партийным идеологом, чем литературоведом, и вдобавок пропагандистом крайне догматического толка. Я не знаю, написал ли он вообще хотя бы одну значительную научную работу. Будучи преданным партии идеологом и членом Центрального Комитета, он, с точки зрения соответствующего отдела Центрального секретариата, представлял собой надежного руководителя будущего института. Неофициально, в основном в студенческой среде, этот институт стали называть «Штолльверк».
В силу того что научная специальность Штолла находилась вне основной сферы интересов партии (поскольку требовались прежде всего кандидаты экономических, юридических и политических наук), он, к счастью, не оказывал особенно большого влияния на вопросы, связанные с подбором профессоров и соискателей ученой степени кандидата наук. Мое влияние было существенно большим, и я воспользовался им для того, чтобы подобрать наиболее способных и недогматических по способу мышления людей. Сегодня я могу сказать, что в «Штолльверке» вскоре стали работать те профес123
сора, которые относились к будущим реформаторам. Почти всех выпускников института, за отдельными исключениями, впоследствии также можно было причислять к числу реформаторов. В их диссертационных работах появились новые аспекты, аналитические разработки и конкретные идеи, соответствующие направлению и духу реформы.
Штолл практически не занимался институтом и не вникал в его работу, да и по большинству диссертаций он не смог бы сказать ничего существенного. Среди профессоров и будущих кандидатов наук сложился сильный, дружный коллектив. У нас были самые благоприятные условия работы, чем мы широко пользовались.
Но, как это бывает во всяком коллективе, и среди нас находились «черные овцы»: кто-то из нас постоянно доносил в отдел пропаганды Центрального секретариата. Слишком поздно я догадался, что доносчиком был один из наших слушателей, Рудольф Рогличек. Но о нем я скажу позже.
Проведенные в институте годы я использовал прежде всего для того, чтобы написать свою диссертацию на тему «Экономика—интересы — политика». Прежде всего я попытался опровергнуть одну из сталинских догм, согласно которой социалистическая государственная собственность лежит в основе социалистических экономических отношений. На базе сталинской трактовки этой категории и создалась форма управляемых из центра, бюрократических и монополистических государственных предприятий, «забетонированная» в теоретическом плане такой трактовкой. Всякое другое понимание социалистической производственной организации в соответствии с этой сталинской догмой (выводимой к тому же из положений Ленина и Маркса) объявлялось ревизионистским и антисоциалистическим отступлением и, разумеется, осуждалось. Я очень хорошо видел, что любая попытка дать предприятиям самостоятельность, делегировать им самоуправление, заставить их нести ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности была обречена, ибо ориентированные на рынок предприятия неизбежно должны были «разбиться» об эту догму или, точнее говоря, о носителей этой догмы.
Исследуя эту проблематику, я установил, что у са124
мого Маркса никогда не было представления об управляемых государством и бюрократизированных предприятиях как о форме социалистического обобществления. Когда он говорил о конкретных формах обобществленного производства, то всегда имел в виду рабочие ассоциации, кооперативные объединения, кооперативные фабрики и т. п. Лишь у Энгельса можно найти мысль об огосударствлении средств производства на первой фазе коммунизма, которую он вывел из отношений капиталистической собственности. И именно за эту идею ухватился Ленин и пытался реализовать ее в Советском Союзе.
У Маркса невозможно также найти какую-либо формулировку, говорящую о том, что определенная форма собственности образует основу экономических (производственных) отношений. Он всегда считал собственность временным результатом присвоения, то есть результатом процессов распределения и обмена, которые соответствуют определенной ступени развития производительных сил.
Выделение и акцентирование внимания на Марксовой трактовке собственности и ее противопоставление сталинской имели решающее значение, поскольку тем самым подвергалась сомнению правильность догмы о «государственной собственности». Если бы можно было доказать необходимость постоянного изучения самых рациональных способов распределения и обмена товаров, отвечающих современному состоянию производительных сил, а также доказать, что исключительно эти экономические процессы определяют конкретную форму присвоения, или собственности, то перед подлинно экономическими исследованиями открылись бы широкие возможности. Благодаря этому можно было бы отказаться от схоластических дискуссий о том, может в рамках сектора государственной собственности существовать товарное (рыночное) производство или нет. В этом направлении проходила моя работа над диссертацией. Я поставил перед собой задачу опровергнуть сталинскую трактовку категории собственности, а также найти те формы распределения товаров или их обмена, которые в большей степени соответствовали бы данному уровню развития производительных сил (технико-технологическим и организационным аспектам производства). Именно здесь необходимо бы125
ло серьезно поработать над проблемой трудовой мотивации, к которой Ленин лишь прикоснулся и которая не получила развития в его работах. Это в свою очередь означало, что нужно анализировать экономические интересы трудящихся, попытаться понять сущность взаимоотношений индивидуальных интересов, интересов производственных коллективов и общественных интересов, существующие между ними противоречия и их роль в развитии социалистического производства. Мне представлялось очевидным, что игнорирование интересов в процессе принятия управленческих решений и в хозяйственной деятельности является одним из принципиальнейших недостатков марксистско-ленинской теории.
Марксистская теория трактовала проблему интересов крайне упрощенно. В той степени, в какой Маркс вообще затрагивал сферу человеческих интересов (прежде всего в своей работе «Немецкая идеология»), они представлялись ему лишь как отражение экономической системы, основывающейся на частной собственности, то есть в таком виде, в каком процесс разделения труда превратил людей в частных, взаимно отчужденных товаропроизводителей, сделал из них субъектов, преследующих лишь свои непосредственные индивидуальные интересы. Естественно, и в этом обществе Маркс видит некое подобие общего для всех интереса, причем не только в виде теоретического представления. Он пишет, что общий интерес «существует в действительности в качестве взаимной зависимости индивидов, между которыми разделен труд» 1.
Здесь Маркс имеет в виду лишь экономические интересы как наиболее ярко выраженные интересы товаропроизводителей. Их совместный экономический интерес он выводил из существующих между ними взаимосвязей и взаимозависимостей, которыми, однако, они не могут сознательно управлять и подчинять своим целям. Этим Маркс ограничил свой анализ индивидуальных и общих отношений, рассматривая их разве что в превращенной форме, в рамках которой он отвергал возможность как для отдельных частных, так и для крупных капиталистических товаропроизводителей заранее предвидеть направления и тенденции развития 1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, с. 31.
126
общественного производства и общественного потребления. Их частное производство в любой момент может снова прийти в противоречие с общественными потребностями и в этом смысле также в противоречие с общественными интересами. Как в «Немецкой идеологии», так и в других своих ранних работах Маркс говорил о таком коммунистическом обществе, в котором общественный интерес превращается в непосредственный интерес и стимул для обобществленных производителей.
Далее Маркс и Энгельс больше занимались классовыми интересами, то есть совместными интересами представителей одного класса, следовательно, интересами рабочего класса и в равной степени интересами буржуазии. Маркс не рассматривал ни дифференциацию ситуаций и интересов в рамках этих классов, ни противоречия между непосредственными интересами отдельных рабочих и долгосрочными интересами всех рабочих. Полностью остались вне сферы его исследований проблемы противоречия — в рамках производственных отношений — между интересами отдельных классов и широко понимаемыми интересами народа. Рассматривая лишь одну сторону вопроса в своем чрезмерно упрощенном анализе экономического развития капитализма, Маркс пришел к выводу, что интересы рабочего класса будут формироваться в постоянно растущем противоречии с интересами капиталистического общества, что в конечном счете подведет рабочих к революционному свержению капитализма.
В то же время Маркс практически не исследовал ни индивидуальные, непосредственные интересы рабочих, ни интересы капиталистических предпринимателей. Он сконцентрировал свое внимание на раскрытии долгосрочных закономерностей развития капитализма соответственно всех других общественных формаций, поэтому его интересовало лишь движение классов. Его заключения, относящиеся к представлениям о будущем коммунистическом обществе, по сути дела, больше похожи на пожелания. Косвенный характер обобществления труда при капитализме должен был преобразоваться в непосредственный, планомерно регулируемый общественный труд, то есть труд, который соответствует общественным потребностям и интересам. На базе обобществления средств производства должно 127
было быть устранено взаимное обособление производственных процессов на отдельных предприятиях, а также преодолены связанные с ними частные интересы. Кроме того, с помощью большого и всеохватывающего общественного плана производство должно было преследовать цели, полностью отвечающие общественным интересам. Это основное положение Маркса стало фундаментом концепции социалистического развития для всех коммунистических партий. Согласно этой концепции, означающие обособленность и отчуждение товарно-денежные (рыночные) отношения уже не могли бы существовать как тип отношений между социалистическими предприятиями, которые стали собственностью государства. Вместо них должны были появиться непосредственно предписываемые планом конкретные цели и задачи, конкретное распределение продуктов и труда. При этом Сталин обосновывал сохранение денег и цен лишь наличием кооперативной социалистической формы собственности (колхозы), а также экономических отношений с заграницей. Рыночные отношения между государственными предприятиями он квалифицировал как «формальные рыночные отношения» в том смысле, что производство на государственных предприятиях не должно регулироваться рынком в соответствии с формированием цен и прибыли, а ориентироваться лишь на государственный план производства и распределения. Следовательно, рыночный механизм должен был исчезнуть.
К концу 50-х годов для меня уже стало очевидным, что без рыночного механизма развитие производства на государственных и кооперативных предприятиях приведет к резкому снижению его эффективности, что оно будет осуществляться без учета реальных потребностей потребителей и без удовлетворительного развития инновационной сферы, роста производительности труда. В то же время было ясно, что недостаточно обоснованные проекты возвращения к рыночному механизму должны будут «разбиться» об универсальный, всеми признаваемый принцип, согласно которому социализм характеризуется непосредственно общественным, планомерным развитием производства. Поэтому подобные проекты были бы немедленно объявлены попытками возврата к капитализму.
Для того чтобы доказать необходимость существо-
128
вания реальных рыночных отношений при социализме, мне требовалось найти взаимосвязь между экономическими интересами отдельных производственных коллективов и их отношением к реальным общественным интересам. Поскольку каждый отдельный человек имеет прежде всего экономические интересы, постольку он должен стимулироваться и вознаграждаться материально— это, по сути, понял еще Ленин, так что с этим положением должны согласиться и догматики. Но то, что из этого обстоятельства вытекает необходимость существования реальных рыночных отношений, в том числе и на государственных предприятиях,— этого они уже не могли и не хотели понять.
Их аргументация постоянно сводилась к тому, что производство на предприятиях осуществляется на планомерной основе и поэтому оно может лучше учитывать общественные потребности, чем это происходит на частнособственнических предприятиях, деятельность которых регулируется рыночным механизмом. Однако при этом они сознательно игнорировали тот факт, что в условиях существования примерно двух миллионов разновидностей продуктов и изделий центральные планирующие органы просто не в состоянии конкретно планировать всю микроструктуру производства, что эффективное использование производственных факторов не входит в перечень их задач и целей, что они попросту не знали, каким образом нужно постоянно обновлять и повышать технический и технологический уровень производства, качество изделий и т.п. Следовательно, догматики старались не замечать того очевидного факта, что предприятия должны сами принимать решения по громадному кругу вопросов и что никакой центральный орган не в состоянии правильно оценить, действительно ли их решения соответствуют общественным потребностям. Они полностью игнорировали также тот факт, что производственные коллективы и их руководства преследуют свои непосредственные интересы, которые в условиях отсутствия подлинных рыночных отношений приводят к принятию таких производственных решений, которые во все большей степени расходятся с интересами общества.
Как только во многих дискуссиях, в которых мне приходилось принимать участие, я подходил к этой проблеме и пытался доказать, что предприятия будут 129
стремиться к оптимальному развитию производства при условии собственной заинтересованности в получении прибылей и что этого можно достигнуть лишь с помощью использования рыночного механизма, я всегда наталкивался на стену непонимания. Менд обвиняли в том, что я якобы переоцениваю экономические интересы и недооцениваю значение развития социалистического сознания и социалистической Морали. Я видел, что партийные идеологи вообще не имеют представления о том, что же, собственно говоря, представляют собой эти «интересы», какую роль играют они в человеческом поведении и решениях, каково взаимоотношение между интересами и моралью, каким образом моральный фактор может действовать в экономике и т.п. Поэтому я решил сначала исследовать эти общественные явления в общей форме и затем в какой-нибудь более поздней работе рассмотреть их социалистическую специфику. Поставив перед собой эту цель, я и написал свою докторскую диссертацию.
11. СЪЕЗД ФРАНЦУЗСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Уже в 1959 году стало отчетливо видно, что реорганизация системы планирования и управления не внесла существенных изменений в хозяйственный механизм. Несколько расширенные права предприятий и предоставление им больших инвестиционных средств, а также введение так называемых премий на прибыль принесли в 1958 году и отчасти также в 1959-м свои результаты в виде подъема хозяйственной инициативы предприятий. Однако это продолжалось недолго, поскольку реальная инициатива предприятий во все большей степени сдерживалась возрастающими и планируемыми из центра показателями экономического развития, которые «поставляли» комиссия планирования и отраслевые министерства. Конец надеждам на проявление собственной инициативы предприятиями означало принятие нового пятилетнего плана, реализация которого началась в 1960 году. Но прежде, чем перейти к рассмотрению этих тенденций, мне хотелось бы упомянуть об одном важном событии и о связанных с ним последствиях, имевших место в 1959 году.
130
На партийные съезды других коммунистических партий всегда посылались официальные партийные делегации. В упомянутом 1959 году проводился XV съезд Французской коммунистической партии. Наше Политбюро приняло решение послать на этот съезд делегацию в составе двух человек—секретаря ЦК по вопросам идеологии Владимира Коуцкого и меня. Коуцкий был весьма интеллигентным и образованным человеком, владевшим несколькими иностранными языками. Вплоть до 1958 года он являлся главным редактором газеты «Руде право». Однако, высоко оценивая его эрудицию и знания, нельзя не сказать о его щепетильности и «боязливости» в сфере политической деятельности и связанных с этим соглашательстве и беспринципности его поведения. После XI съезда партии Новотный назначил его секретарем ЦК, и начиная с этого момента Коуцкий стал послушным инструментом в его руках. Он всегда придерживался «линии» и не испытывал ни малейшего желания рисковать и бороться за то, правильность и необходимость чего он наверняка и давно благодаря своему интеллекту понимал.
На партийном съезде в Париже Коуцкий произнес приветственную речь и, подобно представителям других восточных партий, не сказал ничего существенного, кроме нескольких стандартных фраз. Этот партийный съезд вызвал у меня горькое разочарование. Я наивно считал, что делегаты коммунистической партии в капиталистической стране в условиях подлинной, неформальной дискуссии будут говорить о своих ошибках и недостатках и о путях их исправления. На самом деле это был зарегламентированный, формальный партийный съезд, такой же, как и в социалистических странах. На нем присутствовали одни лишь скучные региональные отчеты и сообщения, громадное количество приветствий и напутствий и абсолютное—заранее подготовленное —единодушие.
В 1959 году Французская коммунистическая партия испытывала глубокий кризис. Начиная с 1946 года число ее членов постепенно снизилось с 800 тысяч человек до самого низкого уровня — 225 тысяч человек. Год назад, в ноябре 1958 года, на выборах она получила лишь 18,9% голосов избирателей и в соответствии с новым законом о выборах могла иметь лишь 10 депутатов в парламенте. Причина спада ее популярности бы131
ла, несомненно, связана с разоблачениями Хрущевым сталинских преступлений и, возможно, также с насильственным подавлением советскими войсками венгерского национального восстания.
Народ Франции, который после войны испытывал глубокие симпатии к Советскому Союзу и переносил их на Французскую коммунистическую партию, все больше «поворачивался спиной» к Советскому Союзу. Сначала это происходило под влиянием антидемократической, великодержавной политики Сталина по отношению к Польше, Чехословакии, Румынии и к другим странам, у которых когда-то были тесные связи с Францией. Еще более усилилось такое отношение к СССР после упомянутого выступления Хрущева и вмешательства в венгерские события. Поэтому Французская коммунистическая партия, которая была полностью преданна Москве и выражала солидарность со всеми политическими событиями, происходящими в Советском Союзе, во все большей степени утрачивала доверие французского народа.
На XV съезде этой партии не было ни одного выступления, в котором прозвучала бы критика в адрес Советского Союза или же его недемократической системы, а также по поводу поверхностной хрущевской критики сталинизма, не затрагивавшей сущностные, системные причины появления диктатуры Сталина. Раздавались лишь одни панегирики, славящие Советский Союз и КПСС, что, естественно, должно было у всех хотя бы немножко разбирающихся в политике французов создавать впечатление, что Французская компартия является несамостоятельным «довеском» КПСС и что после прихода к власти она, возможно, станет реализовывать такую же недемократическую систему во Франции. Естественно, подобное представление об ФКП также целенаправленно и сознательно создавалось всеми средствами массовой информации антикоммунистического толка. Свои недемократические взгляды и позиции ФКП еще более усиливала, пытаясь, в частности, приостановить процесс десталинизации, к которому стремился Никита Хрущев. В 1961 году это зашло так далеко, что даже сам Морис Торез лично много сделал для того, чтобы Хрущеву не удалось провести подготовленную к XXI съезду КПСС реабилитацию Бухарина. Торез придерживался той точки зрения, что 132
реабилитация Н. Бухарина может нанести ущерб коммунистическому движению. Французские коммунисты полагали, что, утаивая недостатки социалистической системы и марксистской теории и прибегая к чисто тактическим политическим маневрам, они сумеют снова завоевать симпатии народа к компартии.
Из-за некритичного отношения к собственным основным целям программа ФКП, принятая на XV съезде, не могла завоевать доверия населения, несмотря на то что включала пункты об объединении всех демократических и республиканских сил Франции, а также на заверения, что развитие социализма будет осуществляться мирным демократическим путем. Я понял, что подлинными причинами падения популярности Французской коммунистической партии и привлекательности ее программы были неясности в трактовке содержания «социализм» и отсутствие каких бы то ни было отличий от существующего «социализма», который скорее пугал, чем привлекал, рабочих. Поэтому ощутимо снизился мой интерес к однообразной и регулируемой руководством дискуссии съезда.
Чтобы не сидеть и не слушать часами скучные речи, я прогуливался в кулуарах и пытался вступать в разговор с делегатами, которых там было немало. Мне удалось услышать более интересные вещи, чем то, что произносилось с трибуны съезда. Однако Коуцкому это явно не нравилось. Его досада и возмущение достигли своей высшей точки на одном собрании сотрудников всех чехословацких учреждений в Париже — посольства, консульства, торгового представительства и т.п. Первичные партийные организации этих учреждений попросили Коуцкого выступить с докладом и ответить на интересующие вопросы, и он пообещал им это сделать. В своем выступлении он говорил о решениях XI съезда партии, но, кажется, не сказал присутствующим ничего нового. В последовавшей затем дискуссии было задано много вопросов, касающихся состояния дел в нашем народном хозяйстве, с довольно критическим подтекстом и тоном. Речь шла прежде всего о наших недостатках в снабжении населения товарами и услугами по сравнению с насыщенным рынком товаров и услуг во Франции.
Эти вопросы были понятными и закономерными. В течение нескольких дней, проведенных в Париже, мы 133
не могли прийти в себя от удивления. Я готовился увидеть всякое, хотя после войны, исключая конференцию в Турции, мне не пришлось побывать ни в одной капиталистической стране. Однако предложение товаров и услуг в Париже прямо-таки шокировало каждого из нас. В Чехословакии мы все еще жили почти в послевоенных условиях, не могли в достаточном количестве обеспечить наше население продуктами питания, такими, например, как мясо, фрукты, овощи, а по совершенно обычным для условий французского рынка видам промышленных потребительских товаров мы могли предложить нашему населению лишь... обещания.
После конкретно поставленного одним из участников дискуссии вопроса, почему на государственном предприятии по стирке белья и чистке одежды в Праге операция чистки одежды длится восемь недель и почему нужно ждать два месяца, пока слесарь-сантехник отремонтирует вам неисправный водопроводный кран, Коуцкий разнервничался. Он не ожидал такой реакции на свой доклад, который, как ему казалось, выполнен «на высоком политическом уровне», и не был готов к дискуссии на уровне будничных, «низких» вопросов. Он раздраженным тоном пригласил меня — поскольку я все-таки был экономистом—ответить на эти вопросы.
Я вообще не намеревался представляться защитником нашей политики и нашего планирования. Все то, что было высказано в этой дискуссии, было правильным, вполне понятной была также косвенная критика системы. Кроме того, здесь, в демократической среде, я чувствовал себя намного свободнее, чем дома, выступая в низовых парторганизациях. Однако, несмотря на более свободную обстановку, выступавшие, естественно, уклонялись от прямой критики, задавали лишь те вопросы, за которые их вроде бы не в чем было заподозрить.
Отвечая на вопросы, я позволил себе высказать некоторые собственные взгляды на причины этих недостатков, при этом я выразил твердую убежденность в том, что неизбежно дальнейшее совершенствование системы планирования. Естественно, для того чтобы смягчить эту констатацию, я должен был говорить также о подготавливаемой партией реорганизации этой сферы, о том, что это лишь первый шаг партии, что за 134
ним наверняка последуют другие шаги. Когда я перечислял некоторые причины недостатков системы — отсутствие заинтересованности, ответственности предприятий за результаты своей хозяйственной деятельности, слишком централизованное управление и пр.,— то заметил, что слушатели активно выражают свое согласие. Зато Коуцкий все больше хмурился и мрачнел.
После этого собрания он не сказал мне ни слова. Хотя мы общались с ним как обычно, покупая подарки для наших семей, но позже, когда мы сидели в самолете, он уже не пытался скрывать свое недовольство моим поведением. Отвернувшись от меня, он смотрел в окно, и в течение всего полета мы не обмолвились с ним и словом. Что он написал обо мне в своем отчете о поездке, я не знаю. Во всяком случае, это было в первый и последний раз, когда меня включили в состав делегации на какой-нибудь съезд зарубежной партии.
В этом же году я был с семьей на отдыхе в одной румынской партийной гостинице на черноморском побережье. Там я впервые узнал, что в отношениях между партиями социалистических государств существует нечто вроде обмена поездками на отдых для самых высоких функционеров, в том числе и членов Центрального Комитета. Отель, где я отдыхал, вместе с участком пляжа был отделен от всего остального «мира», отдыхающие в нем обеспечивались всем наилучшим, недоступным для всех прочих людей. Со временем я понял, что все эти привилегии входят в систему средств, с помощью которых партия пыталась коррумпировать своих функционеров.
Интересно было также узнать, что в подобные места отдыха приглашались и функционеры из западных коммунистических партий — французской, итальянской, голландской и др. Разумеется, провести такой вот бесплатный месячный отдых в условиях комфорта и роскоши в своих собственных странах они не имели возможности. Гораздо позже я понял, что благодаря этому многие функционеры оказывались в определенной зависимости, проявлявшейся в их недостаточно критических позициях к партиям в социалистических странах.
БОРЬБА ЗА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ РЕФОРМУ
Все мы прекрасно понимали, что речь идет о создании условий, которые позволили бы вновь функционировать рыночному механизму. Мы четко знали и необходимые предпосылки для этого: производственную программу должны определять сами предприятия, что означало ликвидацию жесткого директивного планирования производства со стороны Госплана или отраслевых министерств, одновременно предприятия должны формировать свой хозяйственный план на основе спроса потребителей в условиях рынка и быть заинтересованными в максимально эффективном использовании как производственных факторов, так и инноваций.
1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕДНОСТЬ
Наступил 1963 год, который стал ключевым для развития реформы в ЧССР. [Стране была необходима радикальная хозяйственная реформа. В это время реформистская деятельность постепенно становилась все более практической, стала носить не только теоретический, но и непосредственно хозяйственно-политический характер. Руководство КПЧ создало комиссию по хозяйственной реформе и назначило меня ее руководителем^ Какие события предшествующих трех лет предопределили подобное решение? Почему именно я стал во главе данной комиссии?
Вначале надо рассказать, как был распущен Институт общественных наук, хотя до сегодняшнего дня я точно не знаю, по чьей же непосредственной инициативе он был ликвидирован. Предполагаю лишь, что инициатором был Коуцкий, который испугался «ревизионистской» тенденции в теоретической работе института. Он отвечал за идеологическую работу, а в начале 60-х годов для чехословацкого партийного руководства «правая», «ревизионистская», «титовская» опасность все еще была «самой большой опасностью».
Коуцкий после того, как узнал о моих взглядах, стал уделять институту повышенное внимание. Очевидно, расширению негативной «информации» об институте способствовала и моя критика догматических подходов в отдельных диссертациях. Именно по этой деятельности Коуцкий и его идеологический отдел судили о нашей работе в целом. Коуцкий, несомненно, знал, что Штолл имеет весьма отдаленное представление о деятельности института и решающее влияние на «воспитание кадров» оказываю я.
Однако идеологический отдел не мог доказать наличие какого-либо антисоциалистического или «вражеского» течения. Проблемы, которые мы разрабатывали, теоретически были слишком сложны, чтобы партийные функционеры могли их аргументированно кри138
тиковать. Присущая же Коуцкому осторожность вынудила его искать какой-нибудь выход, чтобы позже не пришлось нести ответственности за процветание «ревизионизма» на вверенном ему участке. И он нашел в конце концов выход, который положил конец его проблемам.
Это произошло в то время, когда я получил возможность целый семестр заниматься научной работой. В 1961 году для завершения докторской диссертации я был освобожден от педагогической работы и административной деятельности. К концу семестра диссертация была завершена; на заседание ученого совета, рассматривавшего мою работу, были приглашены иностранные ученые.
В это время, в мое отсутствие, идеологический отдел, ЦК КПЧ вместе со Штоллом принял решение закрыть институт. Мне об этом ничего не было известно, хотя я был проректором, не знали об упомянутом решении и другие доценты. Все было проведено втайне, и нам сообщили об этом как о свершившемся факте. Официальной причиной были названы весьма крупные затраты на содержание института и малое число подготовленных кандидатов наук. Однако финансовые затраты были известны с начала деятельности института, а число аспирантов устанавливалось непосредственно идеологическим отделом ЦК КПЧ.
Мне было абсолютно ясно, исходя из непродолжительного срока существования института, что причина его ликвидации была совершенно иной, которую, однако, не решались назвать прямо. Речь шла прежде всего о том, чтобы устранить меня и других критически мыслящих профессоров от преподавательской работы, с тем чтобы мы не оказывали влияние на подготовку руководящих кадров. Коуцкий и люди из его отдела чувствовали, что из института веет свежий ветер, но, поскольку доказать ничего не могли, решили просто закрыть институт, чтобы избавиться от инородного тела.
Это устраивало и Штолла, который как ректор нес полную ответственность, но не имел в институте широкой поддержки и не мог оказать никакого воздействия на взгляды большинства доцентов. Кроме того, идеологический отдел ЦК КПЧ «подсластил пилюлю». Штолл был назначен вице-президентом Чехословацкой 139
академии наук и одновременно директором Института чехословацкой литературы ЧСАН. Это было крупное повышение как в кадровом, так и в материальном отношении. Поэтому он отдал наш институт без боя.
И для меня отдел ЦК приготовил нечто похожее. Я протестовал против закрытия института весьма энергично, но ничего уже не мог изменить, поскольку все было решено заранее. Меня тоже направили в академию наук, на спокойную работу — подальше от подготовки кадров, подальше от политической практики—в институт, занимавшийся фундаментальными исследованиями. Здесь я мог, по мнению Коуцкого, развивать свои теории без прямого влияния на партию и никак не мог мешать ему лично.
Для этого я должен был быть повышен в должности. Меня назначили директором Института экономики ЧСАН Конкретно это обсуждал со мной референт идеологического отдела, отвечавший за институты экономического профиля,— Кветослав Роубал. В это время в секретариате ЦК КПЧ произошли изменения. Секретарем ЦК КПЧ стал Вацлав Славик, который и наследовал от Коуцкого идеологический отдел.
Роубал представлял собой тип маленького злого человека, который выглядел весьма важно, потому что постоянно имел дело с учеными и осуществлял политическое руководство ими.
Одновременно он понимал, что не дотягивается до их научного уровня, и поэтому страдал комплексом неполноценности и испытывал к ним жгучую зависть. Был непредсказуем, и я никогда не знал, о чем он в действительности думает.
Об этом референте я должен сказать несколько слов. Он был тот, кто много позже после насильственной ликвидации «пражской весны» и моей эмиграции должен был дать политическую оценку мне и моей реформаторской деятельности и при этом как можно сильнее очернить меня в глазах людей. Я еще расскажу, каким грязным способом он это проделал. Сейчас лишь отмечу, что уже тогда его характер нагонял на меня страх, так как такого нечестного, двуличного, готового на предательство человека редко можно встретить. Злость — следствие его комплекса — проступала во всех чертах его лица. Время от времени на его неподвижной физиономии мелькала злая усмешка, которая 140
для его собеседника была сигналом вести себя осмотрительнее и быть настороже. О большинстве академиков, о которых мы с ним беседовали, говорил свысока и безапелляционно. Иметь такого человека врагом было крайне неприятно и к тому же небезопасно.
На мои возражения, что Институт экономики уже имеет директора — В. Кайгла,— он ответил, что тот будет отозван и переведен на другое место, потому что не может обеспечить эффективную работу института. Научные результаты в институте минимальны, не содержат рекомендаций по решению неотложных экономических проблем страны. И научные сотрудники института вообще не имеют желания разрабатывать проблемы, непосредственно связанные с практикой. Поэтому необходимо провести кадровые замены во всем институте, перестроить его и переориентировать на новые научные направления. Если я согласен принять институт, то должен провести анализ его деятельности и предложить новую рабочую программу.
Я понял, что из ситуации, в которой ничего не могу изменить, я должен попробовать извлечь максимум полезного: направить новую область моей деятельности на то, чтобы она в наибольшей степени служила теоретической подготовке реформы. Не имея возможности непосредственно влиять на подготовку кадров, я хотел целиком сосредоточиться на подготовке модели реформы. Мне важно было добиться такой степени независимости, при которой я мог бы самостоятельно выбирать сотрудников и определять научные программы при минимальном вмешательстве в мою работу идеологического отдела ЦК КПЧ.
Судя по манере беседы со мной, я понял, что Роубал относится ко мне с определенным уважением, так как я был кандидатом в члены ЦК КПЧ. Кроме того, он не пытался много говорить со мной о конкретных научноэкономических проблемах, из чего я сделал вывод, что буду иметь значительную свободу действий в своей работе.
В конце 1961 года я вступил в должность директора Института экономики и уже 2 января 1962 года сделал доклад о новых перспективах и задачах института. В Институте экономики была небольшая группа ученых, работавшая над актуальными проблемами развития экономики и разделявшая мои взгляды.
141
На этих людей я мог с самого начала опереться, так как они были весьма заинтересованы в прогрессивных изменениях. Кроме того, в институте были и ученые, способные изменить стиль работы и участвовать в новых научных разработках. Расстаться мы должны были только с несколькими сотрудниками, которые придерживались догматических или чисто пропагандистских позиций и от которых нельзя было ожидать никаких научных результатов. Постепенно мне удалось расширить институт, улучшить условия труда и сконцентрировать усилия руководящего ядра на разработке модели реформы. Это ядро превратилось в необычно крепкий, дружный коллектив прогрессивно мыслящих людей, имеющих общие интересы. Сегодня могу без преувеличения сказать, что эта группа состояла из наиболее способных экономистов ЧССР. Период совместной работы с этими образованными, смело мыслящими аналитиками и творческими личностями, лишенными догматизма и ограниченности, относится к самому прекрасному и продуктивному периоду моей жизни.
В связи с закрытием Института общественных наук и переходом на работу в Институт экономики произошла задержка с организацией заседания ученого совета, на котором я должен был защищать свою докторскую диссертацию. Только в октябре 1962 года, после определенной стабилизации в работе института, совет был созван. Он состоял из известных профессоров политической экономии ЧССР, а также одного польского и одного немецкого экономистов. Членом совета был также старейший чехословацкий экономист-марксист Феликс Олива, которого считали Нестором политической экономии. В годы учебы я подробно консультировался с ним и позже совместно с ним же переводил «Капитал». В дальнейшем наши пути разошлись, так как Олива постепенно превращался в прототип догматического марксиста. Его замечания как члена ученого совета по поводу моей критики сталинского понимания собственности и его экономических представлений были, по существу, стремлением защитить сталинскую теорию. Однако он оказался в совете в полном одиночестве, и мне удалось успешно защитить свою диссертацию. При тайном голосовании она получила все голоса «за» (в том числе и голос Оливы). В 1963 году академия наук присудила мне степень доктора экономических 142
наук. Незадолго до этого в качестве директора Института экономики и председателя Отделения экономики я был избран членом-корреспондентом Чехословацкой академии наук. Теперь я мог принимать участие в заседании членов академии и познакомиться с передовыми учеными ЧССР во всех областях науки. За несколькими исключениями, это были открытые, политически независимые и критически мыслящие люди, которые при режиме Новотного не пользовались доверием и подвергались критике. Многие из них, в том числе и беспартийные, имели смелость в различных ситуациях свободно высказывать свои взгляды, как, например, академик Отто Вихтерле. Здесь, в академии, я мог найти среди ученых, работавших в самых разных научных областях, ценную поддержку моим реформистским устремлениям. Президиум Чехословацкой академии наук— за исключением лишь академика Ярослава Кожешника, который тесно сотрудничал с властями и партийным аппаратом,— всеми силами поддерживал реформистские разработки нашего института, и в первую очередь президент академии, всемирно известный биохимик Франтишек Шорм.
Пока шла подготовка к защите докторской диссертации, экономическая и политическая ситуация в Чехословакии развивалась таким образом, что все мои пессимистические прогнозы, к сожалению, исполнились^ После двух относительно успешных лет—1958 и 1959 годов,— в течение которых была проведена некоторая децентрализация принятых решений, капиталовложений и, главное, была установлена заинтересованность предприятий в получении большей прибыли, что дало определенный импульс росту производства, в 1960 году началось выполнение третьего директивного плана. Госплан, не анализируя причин высоких темпов развития в предыдущие годы, исходил из постоянно высокой динамики развития, а следовательно, из субъективного и в целом ошибочного прогноза. На основе подобных оценок партийное руководство одобрило директивы социально-экономического развития страны, и в результате был составлен перегруженный и нереальный пятилетний план.
И без того сверхнапряженные цели нашего партийного руководства были подхлестнуты советской семилеткой 1959—1965 годов. Хрущев стремился заплани143
ровать крайне напряженные задания. Так, промышленное производство в СССР должно было увеличиться на 80%, национальный доход—на 65, реальные доходы населения— на 40%. Чтобы выполнить поставленные задачи, необходимо было вложить в народное хозяйство в течение семи лет 197 миллиардов рублей, то есть больше, чем за все время существования СССР. Уже в 1962 году эти напряженные показатели развития выразились в известном лозунге: на основе «громадных успехов экономического развития» в СССР (при этом предполагалось, что в США уровень производительности труда будет оставаться неизменным) перегнать США в 1970 году не только по производству валового продукта, но и по его производству на душу населения. Одновременно должна была быть создана и материально-техническая база коммунизма.
Насаждаемые извне коммунистические цели, наши кратковременные успехи в конце 50-х годов—все это привело к тому, что чехословацкое руководство перешло к провозглашению нереально определенных целей. Так, Новотный, исходя из установленных темпов роста, начал говорить о том, что наше поколение «будет жить при коммунизме», следовательно, в тот период, когда, по Марксу, каждый человек сможет получать товары широкого потребления не за деньги, а в соответствии со своими потребностями.
Согласно нашему пятилетнему плану, национальный доход за 1961—1965 годы должен был увеличиться на 42%, что предполагало его средний ежегодный прирост в 8%. Указанный рост должен был обеспечиваться увеличением промышленного производства за пятилетку на 56%, сельского хозяйства — на 23%. Для достижения поставленных целей необходимо было, чтобы капиталовложения возросли на 59%, или примерно на 12 миллиардов крон. Следовательно, капиталовложения должны были возрасти быстрее, чем национальный доход, а их доля—соответственно увеличиться за счет доли потребления.
Весь пятилетний план стал запланированным фиаско. Уже в первом (1961-м) году не были выполнены плановые задания ни по росту производства, ни по капиталовложениям. Реальное развитие отставало от плана. В 1962 году не наблюдался прирост национального дохода, а в 1963 году он уменьшился против пре144
дыдущего года на 2,2%. Фиаско наиболее наглядно проявляется при сравнении плановых и реально достигнутых цифр пятилетнего плана 1961-1965 годов. Прирост промышленной продукции вместо запланированных 56% составил лишь 19,7%, прирост сельскохозяйственного производства — 0,7 против 23% по плану, капиталовложения увеличились на 6 миллиардов крон вместо 12 миллиардов, то есть наполовину. Национальный доход за 5 лет увеличился всего на 10,2% при плане 42%.
Еще негативнее можно оценить возникшие крупные диспропорции в народном хозяйстве, которые стали вырисовываться уже в первой-пятилетке, а потом все возрастали. Рост производительности труда значительно сократился по сравнению с предыдущими годами, заработная плата росла быстрее национального дохода Еще заметнее, чем в 50-е годы, стало опережение покупательной способности населения по сравнению с предложением товаров широкого потребления, то есть по сравнению с рынком продавцов. Катастрофически упала эффективность капиталовложений. Если в 1961 году на 1 крону прироста национального дохода требовалось 3,14 кроны прироста капиталовложений, то в 1963 году — уже 18,22 кроны. Ключевая проблема, результаты которой я предвидел и указывал Доланскому в период реорганизации в 1957 году, проявилась в полную силу. Третий пятилетний план, усиливающий директивные методы планирования производства и роста производительности труда, которые не были устранены в процессе реорганизации в конце 50-х годов, лишил предприятия какой-либо возможности'заботиться об эффективности производства. Все было нацелено прежде всего на мотивацию сотрудников и выполнение плана, при этом использовалось все, что тому способствовало. Поэтому предприятия не были заинтересованы в осуществлении инноваций, поскольку не только использование, но даже попытка внедрения вели к снижению производства и невыполнению плана, к тому же требовали дополнительных затрат. Более того, все, кто имел возможность, стремились снизить затраты за счет ухудшения качества и избавиться от выпуска продукции, производство которой ухудшало показатели производительности труда.
В связи с тем что подобным образом поступали все 145
предприятия, в том числе и предприятия, выпускающие машины и оборудование, никто уже не мог получить современные основные фонды, которые были необходимы для реального повышения производительности труда. Кроме того, все предприятия постоянно испытывали давление, связанное с необходимостью повышать производительность труда (иначе они -не смогли бы увеличить заработную плату рабочим), что вело к вынужденному ухудшению качества продукции, манипулированию структурой производства и т. п. в угоду выполнению заданий по росту производительности труда. И чем последовательнее проводилась подобная политика, тем больше возрастали диспропорции и дефицит сырья, материалов, полуфабрикатов, оборудования. Начатые стройки не могли быть завершены, плановые капитальные вложения не реализовались, и, чем больше не вводилось в строй мощностей, тем медленнее увеличивался рост производства. Образовался замкнутый круг, из которого не было выхода и который вел ко все меньшему росту реальных доходов населения. В 1962—1963 годах заработная плата понизилась абсолютно. Крупные просчеты в материально-техническом снабжении негативно сказались на обеспечении населения промышленными товарами.
Было просто непонятно, почему руководство во главе с Новотным не могло правильно оценить сложившуюся ситуацию. Еще сейчас, по прошествии многих лет, меня охватывает злость, когда я вспоминаю такую ограниченность. Сам Новотный, находившийся под сильным воздействием политической обстановки, искал причины развала совсем в другой области. Однажды ему пришло в голову, что реорганизация, направленная на децентрализацию, была ошибочной и в ней заключалась основная причина экономических трудностей. Предприятия, считал он, «использовали предоставленную им самостоятельность в собственных корыстных интересах», «восторжествовал локальный патриотизм», «упала плановая дисциплина» и т. п. Основываясь на подобных домыслах и суждениях, без проведения какого-либо анализа реальной деятельности предприятий, в 1961 году Политбюро приняло решение о свертывании реорганизации, так как, по его мнению, необходимы жесткая централизация и планирование. Так вновь началась кадровая чехарда, реорганиза146
ция и изменение методики планирования, показателей плана и т. п. Расплачиваться за это пришлось ухудшением экономического положения.
Подобные кадровые изменения проходили и в партийном аппарате, так как Новотный обвинял в недостатках плана и снабжения населения товарами соответствующего секретаря. Имея весьма наивное представление об экономике, он был уверен, что усиление партийной дисциплины, контроль и жесткие санкции решат экономические проблемы. С Олдржихом Черником, одним из секретарей, отвечавшим за планирование, он поспорил по вопросам экономики. После чего, в 1960 году, «пересадил» его из секретариата в Министерство топлива, что означало для Черника крах карьеры. Этого Черник ему никогда не мог простить. В то время министром планирования был Отакар Шимунек, являвшийся одновременно членом Политбюро. О нем, своем старом приятеле, Новотный был высокого мнения и полностью ему доверял, больше, например, чем Чернику. Шимунек, который уже тогда был в преклонном возрасте, несет полную ответственность за провал третьей пятилетки, так же как и за всю дезорганизацию экономики.
После отстранения Черника Бруно Кёлер должен был в качестве секретаря взять на себя ответственность за планирование. Партийный контроль до сих пор весьма прост: за каждое министерство отвечает определенный секретарь, а так как министерств больше, чем секретарей, то каждый из последних имеет под своим контролем несколько министерств. И несмотря на то, что Шимунек был не только министром планирования, но и членом Политбюро, ответственность за плановую деятельность должна была быть возложена на одного из членов секретариата. Именно поэтому на Б. Кёлера после Черника были возложены функции по координации планирования в секретариате, хотя он ничего не понимал в экономике.
Но и Кёлер недолго пробыл на этой должности. В 1963 году он был политически уничтожен, о чем я еще расскажу. За год до этого Новотный отобрал у него сферу планирования и передал ее человеку, которого ввел в секретариат, а именно Драгомиру Кольдеру. Кольдер оказался единственным человеком из секретариата, который отвечал за планирование и промы147
тленность в 1968 году. В связи с тем, что он имел значительное влияние на весь дальнейший ход экономического и политического развития, о нем необходимо рассказать подробнее.
2. ФАРС ВМЕСТО РЕАБИЛИТАЦИИ
Кольдер был довольно молодым партийным функционером (на шесть лет моложе меня), пришедшим из промышленной агломерации Моравска-Острава. В 1940—1945 годах, то есть в годы немецкой оккупации, он работал шахтером. В партию вступил в 1945 году. Уже в 1948-м был членом областного комитета КПЧ в Моравска-Остраве, а в 1951-м стал секретарем остравского городского руководства. В 1954 году перешел на работу в центральный партийный аппарат, от которого был направлен на учебу в Высшую партийную школу, где я с ним познакомился как со слушателем. Был «середнячком», который испытывал трудности с абстрактной теорией, но свою прирожденную интеллигентность проявлял в текущих предметах. Во время политических дискуссий последнее слово всегда оставалось за ним, и он умел довольно быстро ориентироваться в политической ситуации. Был подвержен лести и верил в свою большую политическую карьеру.
После окончания Высшей партийной школы в 1958 году Кольдер стал первым секретарем в области Моравска-Острава и одновременно кандидатом в члены ЦК КПЧ. После XII съезда КПЧ в 1962 году стал членом Центрального Комитета и одновременно членом Политбюро. Незадолго до этого был отозван из Остравы, и Новотный назначил его секретарем. ЦК. Так же быстро, как проходила его карьера, возрастали его амбиции. Он был уверен, что скоро станет претендентом на наивысший пост. Как представитель политически наиболее надежных «рабочих кадров», Кольдер был уверен, что предназначен для работы на руководящих постах. Определенным преимуществом Кольдера было и то, что он не имел ничего общего с преступлениями бывшего Политбюро.
Это также являлось одной из причин, почему Новотный так быстро повысил Кольдера. И от этого повышения он, естественно, ожидал благодарности и пре148
данности. Новотный окружил себя молодыми кадрами и хотел с их помощью как можно скорее избавиться от старых членов Поли) бюро, запятнавших себя политическими процессами 50-х годов. Он надеялся, что тем самым «отмоется» сам и, как змея, сменит кожу. С этой целью он привлек к работе в партийном аппарате также Вацлава Славика, Честмира Цисаржа, позже Любомира Штроугала, Штефана Садовского и др. От всех он ожидал непосредственной поддержки своего ведущего положения и усиления своих позиций. Но именно здесь он допустил наибольшую ошибку.
Первым, кого Новотный протащил наверх и кто выступил против него, был Рудольф Барак. Новотный включил Барака в Политбюро в 1954 году, через год после того, как тот стал министром внутренних дел. Естественно, он по уши увяз в болоте 50-х годов. Будучи незначительным функционером районного масштаба в Брненской области, Барак был одним из первых, кто потребовал после ареста первого секретаря Брненского крайкома Отто Шлинга наказания его защитников в руководстве партии, таких, как Швермова, Доланский, Сова и др. Учитывая именно эту активность, Новотный назначил его министром внутренних дел. Уже отсюда Барак руководил «организацией доказательств» и подготовкой процессов против ведущих партийных деятелей, причем в тесном сотрудничестве с Новотным. И было абсурдным, когда Новотный доверил Бараку так называемый пересмотр процессов в Чехословакии. В качестве руководителя комиссии, составленной самим Новотным из наиболее «верных сподвижников», Барак должен был подтвердить справедливость обвинений против Сланского и его «соучастников» и таким образом реабилитировать Новотного, а в определенной степени и самого себя. Новотный выразил Бараку свою благодарность тем, что незадолго до этого назначил его заместителем Председателя правительства.
Барак в конце 50-х годов стал одним из самых влиятельных людей в партии. В это время начало проявляться все более растущее давление на Новотного со стороны бывших заключенных, родственников и друзей осужденных, широких слоев внутри партии и вне ее, и прежде всего со стороны беспартийных интеллектуалов, писателей, ученых, журналистов. Их требование 149
о реальной реабилитации всех жертв процессов усиливалось день ото дня. Бараку было известно и о мнении Москвы: Хрущев просил Новотного, чтобы тот окончательно «рассчитался» со сталинскими преступниками 50-х годов. Одновременно Барак понял, что все усиливающаяся критика в адрес Новотного, основанная на возрастающих экономических трудностях, исходит не только со стороны интеллигенции, но звучит все сильнее и со стороны рабочих.
Барак прекрасно понимал, что возвращение к проблемам, связанным с процессами, как, впрочем, и к его собственной деятельности в так называемых процессах реабилитации, ставит его под огонь общественного мнения и он будет политически уничтожен. Он узнал также, что Новотный хочет поставить ему в вину непоследовательность в проведении процессов по реабилитации жертв репрессий и сделать из него «громоотвод» для нарастающей критики. Поэтому Барак решился на подготовку упреждающих мер, образовав группу единомышленников, и пытался добиться смещения Новотного Кроме того, он хотел взвалить на Новотного всю вину за организованные политические процессы и за торможение реабилитации. Барак надеялся, что Хрущев его в этом поддержит, и поэтому информировал его о готовящейся акции. Однако Хрущев хорошо знал, что Барак, весьма скомпрометировавший себя своей прошлой деятельностью, не может стать человеком, который способен очистить партию. Поэтому он умышленно информировал Новотного о планах Барака. Таким образом Новотный узнал о «предательстве» ранее, чем Барак мог что-либо предпринять против него,
Новотный довольно быстро подготовил «контрудар». Он понимал, что устранение Барака не должно иметь ничего общего с процессами, так как это было небезопасно для него самого. Поэтому против Барака необходимо было выдвинуть что-то другое, нечто такое, что восстановило бы против него остальных членов Политбюро, и тем самым добиться исключения Барака из членов Политбюро и из партии. Новотный отдал приказ провести ночью обыск в канцелярии Барака в Министерстве внутренних дел и вскрыть сейф. При этом было найдено большое количество западной валюты и иные «доказательства». Речь шла о «доказательствах», которые якобы подтверждали вину Барака 150
и свидетельствовали об участии членов Политбюро в подготовке политических процессов. «Этими шантажирующими доказательствами он хотел расчистить путь к получению должности главы государства», сказал позже Иржи Гендрих. На официальную публикацию этих «доказательств» у Новотного не было ни малейшего желания.
В ЧССР никто не имеет права иметь валюту. Каждый вернувшийся из-за границы должен сдать валюту в Госбанк и получить за нее чехословацкие кроны. Нарушителям этого закона грозит суровое наказание. Поэтому Барак вначале был освобожден от всех занимаемых должностей, а затем без особого шума и огласки осужден и приговорен к 15 годам лишения свободы за «растрату государственных денег, использование служебного положения, нарушение валютного закона, за расширение недоверия к партийному руководству и правительству», то есть в целом за «преступную деятельность».
Осуждение и устранение Барака умело использовал в своих целях Новотный, обвинив его перед партией в непоследовательности и предвзятости при пересмотре процессов, в сознательном торможении реабилитации жертв репрессий. При этом Новотный был уверен,' что у него развязаны руки для реабилитации невинно осужденных — требование, которое слышалось со всех сторон .Была создана новая комиссия, председателем которой был назначен новый секретарь ЦК КПЧ Д, Кольдер. Новотный был уверен, что сможет полностью держать Кольдера в своих руках и направлять процесс реабилитации в нужное ему русло. Кольдер не был осведомлен обо всех сложностях и тонкостях политических процессов, и Новотный сделал так, что Кольдер перед каждым важным решением должен был с ним советоваться. Политбюро обязало Кольдера после каждого заседания комиссии информировать Новотного и кратко докладывать выводы комиссии на Политбюро.
О работе комиссии, возглавляемой Кольдером, и результатах ее деятельности я не хотел бы больше упоминать, так как это подробно и с большим знанием дела описано в книге Иржи Пеликана «Запрещенная информация». Естественно, комиссия Кольдера, находившаяся под влиянием Политбюро, не смогла провести 151
реабилитацию последовательно. В качестве примера хотел бы привести только один абзац из книги Пеликана.
«Первую реальную, с рассмотрением большого числа дел репрессированных реабилитацию Центральный Комитет провел на основе информации так называемой комиссии Кольдера, которая работала в 1962— 1963 годах. Однако и эта комиссия не смогла сделать объективное заключение и не предложила призвать к последовательной политической ответственности, так как была ограничена в своей работе режимом личной власти и уровнем своей компетентности. Деятельность комиссии направлялась не только самим А. Новотным, но и при двукратном обсуждении в Президиуме ЦК КПЧ и самим Президиумом»1.
В Политбюро в то время входили: К. Бацилек, Р. Барак (до января 1962 года), В. Давид, Я. Доланский, 3. Фирлингер, И. Гендрих, В. Широкий, Я. Глина, Л. Янкоьцова, Б. Кёлер, Д. Кольдер и Р. Стрехай. Новотному удалось избавиться не только от трех явных соперников, но и от тех членов Политбюро, которые слишком много знали о нем на основе информации комиссии Кольдера. Из Политбюро были исключены— после Барака — К. Бацилек, Б. Кёлер, В. Широкий, позже 3. Фирлингер и Л. Янковцова. Новотный стал искать новых, верных ему людей.
Из тактических соображений на XIII съезде партии в 1966 году он вновь ввел в Политбюро О. Черника предварительно назначив его председателем плановой комиссии вместо Шимунека. Тем самым Новотный хотел из обиженного Черника сделать верного союзника, но здесь его расчеты не оправдались. Следующими новыми людьми стали Й. Ленарт —член Политбюро с XII съезда партии в 1962 году, а также А. Дубчек, который после XII съезда стал кандидатом, а с апреля 1963 года — членом Политбюро. С марта 1964 года в Политбюро вошел Б. Лаштовичка, который во время войны в Испании командовал чехословацким подразделением в Интербригадах. Все участники войны в Испании со времен процессов занимали сравнительно невысокие должности. Повышением Лаштовички Новотный хотел завоевать симпатии бывших участников боев в Испании.
1 J. Pelikán. Potlačená sprawa. Viděn, 1970, s. 253—254.
152
Действуя таким способом, Новотный сумел со значительно обновленной командой сохранить за собой ведущие посты вплоть до 1968 года. Благодаря проведению соответствующей кадровой политики, ее умелому использованию он удержался непривычно долго во главе партии и государства. И это несмотря на то, что он должен был считаться с некоторыми «новыми» работниками, которые впоследствии способствовали его падению в 1968 году.
Как и многие старые коммунисты, которые не имели высшего образования и «пробились вверх своей работой», то есть благодаря своей организаторскопартийной деятельности, Новотный имел_сильное противодействие со стороны интеллектуалов. И хотя хорошо понимал, что без них не обойдется, он не хотел иметь с ними ничего общего и тем более терпеть их в Политбюро. Ни один человек в Политбюро, сформированном Новотным в 60-е годы, не являлся интеллектуалом, и никто из них не разбирался в экономике, за исключением Доланского. Шимунек, который долгое время был министром планирования, не имел никакого представления о народном хозяйстве и был полностью зависим от сотрудников своего ведомства. За все время участия в заседаниях ЦК я только два или три раза слышал, как он выступал в дискуссиях. И в этих случаях он только зачитывал то, что написал ему аппарат. Единственный специалист в области экономики, Я. Доланский, в 60-е годы вел себя весьма сдержанно, и было видно, как он с неохотой поддерживал руководство Новотного.
Новотный мог ощущать свое превосходство перед остальными членами Политбюро, которые, как и он, «пробились» наверх только потому, что были старше и опытнее в аппаратных играх. Свой комплекс в отношении интеллектуалов он подавлял тем, что при необходимых встречах просто не давал им слова. В основном говорил он сам, и в большинстве случаев об отдельных людях и событиях, избегая при этом каких-либо обобщений или анализа причин тех или иных явлений (например, о том, как сильно стремился Коуцкий стать членом Политбюро и делал все, чтобы этого достичь). Но он был типичным интеллектуалом, и все его усилия не имели у Новотного никакого успеха.
Естественно, что Коуцкий был необходим Новотно153
му, и тот использовал его так же, как и многих других интеллектуалов, но ни в коем случае не хотел вводить его в Политбюро, где сразу же обнаружилось бы интеллектуальное превосходство Коуцкого над Новотным. Коуцкий получил несколько раз крупные премии— 50 тысяч крон — за составление докладов и т.п. Также и другим членам Политбюро и секретарям ЦК Новотный тайно выплачивал крупные премии: сегодня— одному, завтра — другому. И таким образом проводил кадровую политику, достигая не только зависимости от себя лично, но и насаждая соперничество среди своих подчиненных из числа привилегированных.
Деньги для своих целей Новотный получал из крупного представительского фонда, который принадлежал ему как президенту и о расходах которого он никому не обязан был давать отчет. Деньги передавал в конвертах. Эту аферу вскрыл Дубчек во время «пражской весны» и проинформировал о ней Центральный Комитет, после чего о ней узнала широкая общественность. Когда о тайных премиях стало известно, разразился страшный скандал. Но это не было проявлением высоких моральных качеств, так как большинство членов ЦК были скорее огорчены тем, что не принадлежали к числу привилегированных.
И хотя Новотный старался удержать членов Политбюро в своей зависимости, действуя подобным образом, со временем это удавалось ему все меньше и меньше. Основная причина заключалась во все возрастающих экономических трудностях.,71 уже упоминал об абсолютном снижении национального дохода и реальной заработной платы в 1962—1963 годах и о крупных ^трудностях в снабжении внутреннего рынка. Подобное ^развитие стало насмешкой над постоянными заверениями Новотного типа: «в третьей пятилетке все улучшится», «еще наше поколение будет жить при коммунизме» и г. п. Новотный очень быстро утратил остатки I авторитета и стал главным персонажем анекдотов снаI чала в среде интеллектуалов, а затем в среде рабочих и, конечно, молодежи.
Молодые люди очень быстро поняли, что Новотный не способен выступать перед людьми без предварительно подготовленных материалов. Его неожиданные выступления, которых по разным причинам он не 154
мог избежать, были полны глупых фраз, незаконченных мыслей, отличались перескакиванием мысли с одного предмета на другой, отсутствием элементарной логики и т.п.
Однажды, во время празднования 1 Мая, после организованного скандирования лозунгов и размахивания флагами молодежь собралась перед трибуной, где находились члены Политбюро, в ожидании выступления Новотного. Она не могла дождаться, когда он начнет говорить и выставит себя на посмешище. И хотя Новотный ненавидел неподготовленные выступления, он не понял причины подобной просьбы, напротив, был уверен, что он настолько популярен. После долгого скандирования «Новотный, Новотный» он вышел вперед и начал свое «выступление». В нем оказались и такие неожиданные высказывания, как, например, «товарищи, мясо будет, вот увидите». После этого «выступления» зрители пришли в дикий восторг—народ получил развлечение.
Естественно, остальные члены Политбюро быстро поняли, как катастрофически падает авторитет Новотного, и многие из них стали подумывать о его замене. Некоторые усматривали в этом и свой шанс; особенно последовательно против Новотного начал выступать Кольдер, хотя и весьма скрытно, поскольку Новотный был еще силен. Кольдер отвечал за планирование и развитие промышленности и хорошо понимал, что Новотный может возложить на него вину за нарастающие трудности в народном хозяйстве. И хотя в должности секретаря ЦК по промышленности Кольдер был только с 1962 года, он первым почувствовал негативные последствия проводимой Новотным рецентрализации, другими словами, развала третьей пятилетки.
Между ним и Новотным стали возникать постоянные споры, и в узких партийных кругах начали поговаривать, что Кольдер является главным соперником Новотного. Позиция Кольдера подкреплялась тем, что он располагал информацией комиссии по реабилитации, председателем которой он был в свое время. Несмотря на поучения Новотного, Кольдер в итоговый документ комиссии включил ряд сообщений (уточнений), которые Новотного не устраивали.
В общем, Новотному еще раз удалось избежать полной реабилитации несправедливо осужденных 155
в процессах 50-х годов. Прежде всего он не хотел, чтобы осужденные, если они остались живы, вновь вернулись на свои руководящие партийные должности. Он хорошо понимал, что возвращение в Центральный Комитет таких людей, как М. Швермова, Й. Смрковский, Г. Л омский, Л. Новомеский, Г. Гусак, Р. Дуб, привело бы не только к созданию против него сильной оппозиции, но рано или поздно обнаружилась бы его истинная роль при подготовке политических процессов и определении меры наказания осужденным. Поскольку в 1963 году еще многие члены Политбюро несли ответственность за политические процессы 50-х годов и необычную жестокость наказания, Новотному удалось с их согласия навязать устраивающее его решение о деятельности комиссии по реабилизации и оценке ее работы Политбюро. Решения судов были отменены, осужденные восстановлены в гражданских правах, но вместе с тем многие из обвинений тех лет были признаны правомерными, и, главное, остались в силе партийные наказания, что было важно для Новотного, в том числе и наказание в виде исключения из Центрального Комитета и снятия с высоких партийных и государственных постов. Таким образом Новотный получил возможность не допустить Г. Гусака и М. Швермову к занятию руководящих партийных должностей.
Много позже я узнал, что, например, Г. Гусак, который был осужден во время процессов к пожизненному заключению за «буржуазный национализм и враждебную деятельность в отношении государства», в мае 1963 года написал Новотному длинное письмо, в котором поблагодарил его за реабилитацию и восстановление в партии, но выразил протест против сохранения партийного наказания, против «исключения из Центрального Комитета». Однако Политбюро все же осталось на той точке зрения, что «буржуазнонационалистические» взгляды Гусака нашли «подтверждение» и поэтому его возвращение в Центральный Комитет является нежелательным. В действительности /же Новотный боялся роста политического влияния Гусака и хотел любым способом не допустить, чтобы он снова стал членом Центрального Комитета. Из этих соображений письма, в которых Гусак выражал протест, были положены под сукно и находились там все время, пока Новотный оставался во главе партии.
156
Сейчас, работая над книгой, я не могу не сказать о том, как теперь реагирует Гусак на протесты всех тех, кто незаконно на основе обвинения в «ревизионизме и антисоциалистической деятельности» в 1969 году был исключен из партии и уволен с работы. Гусак теперь ведет себя так же, как в свое время вел себя Новотный. Он также допустил, чтобы невинные люди были осуждены и понесли моральный урон. Он несет за это ответственность и боится реабилитации осужденных. Так же как и Новотный, он пытается сохранить, оставить наказание без изменений, чтобы как можно дольше остаться У власти,— и это при полном согласии и одобрении членов Политбюро. Ничто не изменилось и с приходом Милоша Якеша, заменившего Г. Гусака.
Не было случайным, что Гусак в своем письме Новотному считал виновными в своем аресте и осуждении таких людей, как, например, В. Широкий, С. Баштованский, Я. Браник, К. Мошкович и др., но ни одним словом не обвинил систему, которая способна терпеть подобные махинации монархов. Ведь и сам он как коммунистический функционер прилагал немалые усилия в послевоенное время в Словакии для получения абсолютной власти и остался таковым и после устранения Новотного. Одна властолюбивая элита всегда побеждала другую властолюбивую элиту, и трагедия Гусака состояла лишь в том, что он долгие годы относился к клике, потерпевшей поражение. Необходимость сформировать демократические, правовые отношения, которые не позволили бы возникнуть диктатуре с преследованием и уничтожением инакомыслящих,— такая мысль не приходила ему в голову даже во время долгого пребывания в тюрьме.
Однако Гусак в 1963 году не отказался выступать против обвинения в «буржуазном национализме» и получил в Словакии сильную политическую поддержку, прежде всего среди бывших партизан и участников Словацкого национального восстания против немцев в 1944 году. Поддерживая Гусака, они выражали тем самым несогласие с Новотным по поводу его постоянных высказываний о «словацком буржуазном национализме» и выражали это по любому поводу. Постепенно эта проблема стала общесловацкой политической особенностью. Политбюро вынуждено было пойти на уступки и в июне 1963 года приняло решение о созда157
нии специальной комиссии по изучению справедливости обвинений.
В работе этой комиссии (получившей название «барнабитской») принимал участие целый ряд известных историков, например среди них был Карел Каплан, который после эмиграции в ФРГ приобрел всемирную известность. В ходе расследования комиссия пришла к выводу, что обвинения, выдвинутые против Гусака, Новомеского и др., в «буржуазном национализме» не имеют под собой доказательств, так как были искусственно сконструированы и основывались на ложных утверждениях. После этого Центральный Комитет в декабре 1963 года должен был оценить решения Центрального Комитета за 1950—1951 годы как ошибочные. В. Широкий, несший наибольшую ответственность за их принятие, был отозван с поста Председателя Совета Министров. Но, несмотря на это, Новотному удалось держать Гусака на расстоянии от работы Центрального Комитета на основе в целом смешного утверждения, что его время еще не подоспело. Гусак остался вне партийной работы. Став сотрудником Института истории Словацкой академии наук, он нелегально поддерживал растущее сопротивление словацкого народа руководству Новотного.
Однако самым опасным противником Новотного, у которого были наибольшие шансы добиться смещения Новотного, все же оставался Кольдер. В 1963 году отношения между ними обострились, и Новотный стал искать возможность наибольшего подчинения Кольдера своему влиянию или в крайнем случае освобождения его от занимаемой должности. Когда в 1963 году усилилось беспокойство среди рабочих, которое было связано с падением реальной заработной платы (состоялось даже несколько забастовок), оба стали обвинять друг друга. Неопределенность в руководстве становилась все заметнее, и можно было рассчитывать, что наступил наиболее благоприятный момент для проведения коренной экономической реформы.
3. РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИССИИ ПО РЕФОРМЕ
Между тем мне удалось в Институте экономики Чехословацкой академии наук собрать сильный творческий коллектив, состоявший не только из способных 158
экономистов, но и людей высоконравственных, преданных идеям реформы, хорошо понимающих необходимость ее проведения. Жаль, что и сегодня, через 20 лет после оккупации, я не могу охарактеризовать своих коллег, как они того заслуживают, так как не хочу, чтобы у них появились новые трудности.
Некоторых все же могу назвать, поскольку они и так известны как мои коллеги по Институту экономики, а позже как члены комиссии по реформе. Речь идет об известных экономистах К. Коубе, Ч. Кожушнике, Б. Коменде, Б. Левчике, Ф. Нахтигале, О. Туреке, И. Косте и некоторых других, которые занимали в институте ведущее положение. Кроме двух, Б. Левчика и Б. Комеды, все были (так же как и многие другие) после сведения счетов с реформаторами изгнаны в 1969 году из Института экономики и должны были заниматься менее квалифицированным трудом. Их чрезвычайно высокие экономико-аналитические способности оказались никому не нужными, а их научная карьера из-за мелкой мстительности была в течение одного дня уничтожена.
Б. Левчик и И. Коста после советской оккупации, как и я, эмигрировали на Запад. Здесь они доказали свои исключительные экономические, научные и педагогические способности. Б. Левчик долгие годы возглавлял Венский институт международных экономических сравнений, и под его руководством институт достиг крупных успехов. Иржи Коста, которого я считаю своим самым старым другом, стал в ФРГ профессором в Университете И. В. Гёте, расположенном во Франкфурте-на-Майне, и имеет репутацию крупного ученого.
В 1962 году я пригласил Иржи Косту на работу в Институт экономики в качестве ученого секретаря. Он должен был мне помогать, подбирая кадры и проводя хозяйственную работу, в создании института, но, главное, обеспечить его защиту от бюрократов из партийного аппарата. Иржи был моим другом еще со времен нашей совместной работы в студенческом коммунистическом союзе «Фрайе югенд».
Как еврей, он во времена немецкой оккупации претерпел все трудности и лишения, был интернирован в различные концлагеря, последними из которых оказа159
лись Освенцим и Гливице. Но судьба ему улыбнулась, и он выжил. Высшее образование Иржи получил только после войны, имеет диплом экономиста. После окончания института занимался практической работой в области внешней торговли.
Иржи хотя и косвенно, но тоже оказался жертвой процессов 50-х годов, когда его родители на основе ложных обвинений были арестованы и осуждены. Тогда Иржи был уволен с государственной службы и должен был «проявить себя» на производстве. Постепенно ему удалось сделать карьеру на автозаводе, куда он был направлен, и пройти путь от слесаря до преподавателя экономики предприятия и народного хозяйства в целом. После 1956 года он получил возможность преподавать в промышленной, а затем в средней экономической школе. Там я его и нашел в 1962 году, после того как на несколько лет потерял его из виду.
Переход в Институт экономики спас для науки этого способного человека, которого сталинские бюрократы хотели уничтожить. После двух лет разносторонней организаторской деятельности в качестве ученого секретаря института он получил возможность реализовать собственные научные интересы. Коста подтвердил свои исследовательские способности, занимаясь вопросами экономии рабочей силы и экономических аспектов научно-технического прогресса. Одновременно он входил в небольшой коллектив, который в институте занимался разработкой концепции реформы.
Этот коллектив в 1962—1963 годах сконцентрировал свои усилия на глубоком анализе чехословацкой экономики и разработке модели реформы, с помощью которой можно было бы устранись причины негативного развития. Над этой моделью мы вынуждены были работать втайне от отдела ЦК КПЧ, поскольку Новотный, как я уже упоминал, осудил попытки децентрализации управления. Мъ1 же в противовес его политической директиве продолжали работать над сильно децентрализованной моделью. Я сам продолжал заниматься разработкой объяснения причин восстановления рыночного механизма в социалистической экономике и одновременно работал над книгой на указанную тему.
Наиболее сложной проблемой представлялась мне проблема соединения рыночного механизма и народ-
160
нехозяйственного планирования. Дело было не только в том, что, исходя из каких то идеологических соображений, хотелось поддержать планирование,— в 1962 году это было для меня пройденным этапом. Если бы я был уверен, что планирование излишне и рыночный механизм сам способен обеспечить оптимальное развитие нашего народного хозяйства, то я обязательно, по крайней мере в материалах института для внутреннего пользования, развил бы это положение теоретически. Но в этом я не был уверен и—хочу это подчеркнуть — до сих пор не убежден.
Я уже упоминал о том, что рыночный механизм вынуждает предприятия добиваться высокой эффективности производства в условиях рынка. Но сам рыночный механизм не способен противостоять возникновению несбалансированности и не может определить, какой темп роста производства необходимо обеспечить, чтобы соотношения между инвестициями и личным потреблением, удовлетворением общественных потребностей, полной занятостью и продолжительностью рабочей недели в наибольшей мере отвечали интересам большинства населения. Это наиболее важные доводы в пользу того, что рыночный механизм должен подчиняться народнохозяйственному планированию, которое в свою очередь должно определять главные цели развития. Но все же вопрос: каким образом должен быть составлен план, чтобы он в действительности отвечал интересам людей, и каким способом реализован, чтобы при этом не ограничивался й не сдерживался рыночный механизм?—в то время и мне и моим коллегам не был так ясен, как сегодня.
Мои взгляды уже тогда были довольно радикальными, и я был убежден, что нам необходимы свободные рыночные цены и соревновательность предприятий. Что же касается планирования, то я все еще считал, что крупные капиталовложения, и прежде всего капиталовложения в расширенное воспроизводство, которые оказывают решающее влияние на формирование структуры, должны планироваться из центра. Таким образом, план устанавливал бы основные пропорции производственной структуры, в то время как предприятия определяли бы микроструктуру производства на основе рыночного развития. И только много позже, со161
бственно, уже после моей эмиграции, я стал понимать, что подобное планирование капиталовложений противоречило бы рыночному поведению предприятий и поэтому планирование необходимо направлять в другое русло.
Вторую ошибку своего тогдашнего представления о модели реформы я вижу сегодня в том способе, каким работники предприятий, ориентированных на рынок, могли быть заинтересованы в повышении доходов своего предприятия. В то время я считал, что они должны получать часть валового дохода предприятий (то есть доходов предприятия после вычитания стоимости материальных затрат, амортизации и налогов). Предприятие же должно само решать, какую заработную плату—иначе какую часть валового дохода— необходимо выплатить работникам. По сути, это была система оплаты труда, схожая с югославской. Сегодня я убежден, что это было ошибкой и более справедливым являлось бы разделение прибыли и фонда заработной платы на основе установленной на народнохозяйственном уровне динамики заработной платы, так же как определение доли выплачивамой работникам прибыли следовало бы проводить на базе единых формул расчета. Но я также убежден, что в условиях политической демократии, которую мы пытались ввести, ошибки могли быть выявлены и устранены быстрее, чем в Югославии. Уже в то время нам в институте было ясно, что реорганизация системы планирования и управления в 1958 году была свернута в связи с тем, что и в дальнейшем допускалось директивное планирование производства со стороны плановой комиссии и отраслевых министерств. Тем самым для предприятий исключалась возможность самостоятельного определения объема производства с учетом требований рынка. И совсем ничего не изменилось в системе ценообразования, поэтому истинная величина спроса была деформирована административными ценами.
С помощью тогдашней реорганизации был сделан лишь маленький шажок вперед в том отношении, что были несколько децентрализованы капиталовложения и повышен интерес предприятий к получению прибыли. Но это были такие незначительные изменения, и притом такие половинчатые, что с усилением плановых на162
чал в 1960 году они были полностью задушены. Абсолютно бессмысленной была в то время реакция Новотного, сводившаяся к усилению централизованных мероприятий.
В подобном духе я написал большую статью для «Руде право». В ней я попытался показать на конкретных примерах, что нельзя винить предприятия в возникших крупных экономических трудностях, что главным виновником этих трудностей является антинаучное планирование. Хотя я не упоминал имени Новотного и не цитировал его высказывания, но косвенно полемизировал с его утверждением, будто предприятия и проводимая децентрализация несут полную ответственность за хозяйственные трудности. В статье я показал, в чем основная причина невыполнения заданий по быстрому росту производительности труда и почему везде ощущался дефицит сырья, полуфабрикатов и новой техники.
Критикуя подобным образом план, я пошел еще дальше и показал, почему существующие методы централизованного планирования вообще не способны обеспечить интенсивное развитие производства и почему любая собственная инициатива предприятия, направленная на эффективное развитие, терпит крах. Критика способа планирования и его методов была весьма откровенной и острой. Моей целью при этом было получить сильную поддержку предприятий. За исключением уже упомянутых ошибок, критические замечания и предложения по реформе, прозвучавшие в то время, были настолько верными, что и сегодня я их считаю актуальными. И для сегодняшней Чехословакии они имеют такое же значение, как и тогда.
Естественно, я понимал, что публикация подобной статьи встретит большие трудности. В душе я все же надеялся, что Кольдер поддержит статью, поскольку он сам критиковал усиление Новотным централизма и призывал к проведению более широкой и глубокой децентрализации. Я знал, что главный редактор «Руде право» Олдржих Швестка уведомил Кольдера о статье, так как тот отвечал за планирование и должен был дать согласие на публикацию такой резкой критики.
Однако Кольдер меня подвел. Он не захотел лично нести ответственность за публикацию этой статьи, так как опасался, что критика обратится прежде всего про163
тив него самого как секретаря ЦК КПЧ, ответственного за планирование. Поэтому он запретил Швестке публиковать статью, и она пролежала несколько месяцев у него в столе. Мои выпады против директивности не получили поддержки у Кольдера.
Между тем экономическая ситуация в стране еще больше накалялась и в политическом отношении становилась для Новотного все более опасной. Волнения среди рабочих усиливались, и Новотный обратился к поискам спасительного средства. Стало ясно, что осенью возникли предпосылки к тому, чтобы попытаться добиться у Новотного согласия на проведение новой, глубокой и широкомасштабной реформы.
Осуществлению этого намерения способствовала также дискуссия об экономической реформе в Советском Союзе, вызванная статьей Е. Г. Либермана, опубликованной в сентябре 1962 года в «Правде». Предложения Либермана существенно отставали от нашей тогдашней экономической мысли, так как советские экономисты не имели нашего опыта половинчатой реформы конца 50-х годов. Тем не менее статья Либермана вызвала в то время в Советском Союзе сенсацию, и прежде всего потому, что была опубликована в «Правде». Уже тот факт, что развернулась экономическая дискуссия, свидетельствовал о том, что Хрущев склонен к проведению радикальной реформы, хотя все, что он до этого претворял в практику, заканчивалось провалом.
Утверждение Либермана о том, что все, что приносит пользу народному хозяйству, должно приносить пользу и предприятиям, неизбежно означало увеличение прибыли самих предприятий. Это дословно соответствовало сути моей неопубликованной статьи, в которой я выдвигал на первое место материальные интересы предприятий, а не морально-политическую мотивировку их деятельности. Я доказывал, что необходимо создать условия, которые будут способствовать росту доходов предприятий, если их производство развивается эффективно и отвечает потребностям, последовательно учитывающим общественные интересы.
Новотный, конечно, не был способен уловить подобные различия между экономическими понятиями. Для него главным было то, что в Москве на страницах «Правды» развернулась дискуссия об экономической 164
реформе, которая была нацелена на передачу больших прав предприятиям в вопросах конкретного производства и повышение их заинтересованности в увеличении прибыли. То, что это находилось в противоречии с его идеей усиления централизма, он, конечно, забыл или, возможно, вследствие экономических трудностей попытался затушевать.
После безуспешных попыток получить у Кольдера согласие на публикацию моей статьи я решил попытаться заручиться поддержкой самого Новотного. На мою телефонную просьбу о встрече и беседе по экономическим проблемам он сразу согласился и охотно дал мне «аудиенцию» на следующий день. Это позволило мне понять, в какой политической игре я нахожусь и какое решение должен искать.
На следующий день я вновь смог увидеть — после многих лет—Новотного в его богато обставленном рабочем кабинете в Пражском Граде. Начало разговора было несколько натянутым, так как я не хотел называть его «товарищ президент», после того как в концлагере и потом несколько лет в Пражском секретариате говорил ему Тонда. Он не пошел мне навстречу, что свидетельствовало, на мой взгляд, о его предубежденности против экономистов. Но как только мы заговорили о существующих экономических проблемах, волнениях среди населения, напряженность сразу исчезла. Насколько я помню, беседа проходила так:
— Тонда, мы не можем допустить, чтобы экономика продолжала развиваться таким же образом. Сама она не станет лучше, а трудности увеличатся. Народ все более недоволен, так как должен, несмотря ни на что, стоять в очередях, а некоторые товары вообще исчезли.
— Ты прав,— отвечал Новотный,— но предприятия сами виноваты, это они не выполнили план, а люди не хотят об этом знать. Не забывай, что идеологическая работа партии среди рабочих неудовлетворительна. Первичные партийные организации на предприятиях неактивны, а профсоюзы вообще ничего не предпринимают для выполнения плана.
Ни на минуту ему не пришло в голову, что план, изначально был нереальным и что существующим способом планирование не может обеспечить научнотехнический прогресс и повышение экономической активности. Все его устремления были направлены на 165
«мобилизацию рабочих для выполнения плана». И как я мог при таком примитивном мышлении что-то доказывать и в чем-то его убеждать? Во всяком случае, я должен был вести себя весьма осмотрительно.
— Да, ты прав, некоторые предприятия имеют резервы и могут увеличить производство товаров. Но у многих из них —и я думаю, у большинства— устаревшее оборудование, на котором они не могут уже больше повышать производительность труда даже в том случае, если работники полностью себя мобилизуют.
— А почему они оставили старое оборудование? Ведь мы направили громадные капиталовложения в производство и они могли бы значительно обновить свои основные фонды? Кто несет за это ответственность? Безусловно, руководство предприятий.
Он ничего не понимал. Невероятно, что такой человек находился во главе партии и государства.
— Тонда, с помощью капиталовложений мы построили новые предприятия или расширили старые. И таким образом у действующих предприятий для реконструкции не осталось средств. Центр отбирал на протяжении многих лет не только всю прибыль, но и всю амортизацию со старых заводов, где занято большинство рабочих. Тем самым эти предприятия лишились возможности текущего обновления машин и оборудования. А мы при этом требуем от них ежегодных высоких темпов роста производительности труда. В этих условиях вряд ли рабочие могут достичь многого.
Здесь я понял, что зашел слишком далеко,— Новотный разнервничался и стал ерзать на стуле.
— Ну, так,— выдавил он,— в 1958 году предприятиям было предоставлено много больше прав, <все было децентрализовано, но вместо того, чтобы работать лучше, они стали работать хуже!
— Но в течение всего двух лет—1959—1960 годов— невозможно было полностью обновить их материально-техническую базу. И после этого в третьей пятилетке мы обязали их достичь такого большого роста производительности труда, которого они просто не могли добиться. План оказался нереальным, и я увидел, что мы должны как можно скорее изменить способ 166
планирования, если не хотим, чтобы произошла полная дискредитация плана.
В тот момент я понял, что он знает о тяжелой экономической ситуации, в которой мы находимся. У него бегали глаза, он понимал, что все это касается его репутации.
— Возможно. Мы должны лучше планировать. Но знаешь ли ты, что мы должны конкретно? Ведь ты прекрасно осведомлен, как плохо закончилась крупная реорганизация планирования. Ты тоже был в комиссии.
Ну вот, наконец он пришел в то состояние, которого я добивался. Он искал какой-нибудь выход.
— Я думаю, что у нас есть определенные возможности. Я занимаюсь этой проблемой со времени участия в комиссии и знаю, какими были предыдущие ошибки. На мой взгляд, мы должны открыто написать о наших просчетах при реорганизации производства и тем самым начать дискуссию наших специалистов— теоретиков и практиков. Так же как это происходит в Советском Союзе.
И это была правда. Именно в этом для Новотного был какой-то выход. Из-за возникшей в ходе реорганизации «децентрализации», которую он критиковал, он не мог изменить свою точку зрения. А открытая дискуссия—да еще по советскому примеру,—которая показала бы, что партийное руководство серьезно размышляет об улучшении планирования и управления, могла бы значительно укрепить его позиции.
~ — Хорошо, я с этим согласен. Почему же ты не напишешь нечто такое? Ты ведь экономист и член ЦК и мог бы так же, как профессор Либерман в Советском Союзе, начать подобную дискуссию.
— Тонда, я уже написал подобную статью три месяца назад.
— И что произошло? Почему ты ее не опубликовал?
— Я хотел опубликовать, послал статью Швестке в «Руде право», но Драгош Кольдер запретил ее печатать.
Как только я назвал имя Кольдера, то увидел, что Новотный разозлился всерьез. Он едва владел собой.
— Как он мог это запретить? Он же отвечает за планирование и должен проявлять интерес к поиску путей улучшения ситуации. Он проявляет интерес ко всем 167
вещам, кроме тех, за которые должен отвечать. Он сам должен был давно найти выход из создавшегося положения. Хватит!
Полный злобы, Новотный схватил телефон и по внутренней линии позвонил Швестке. Когда тот ответил, Новотный сказал ему властным тоном:
— Товарищ Швестка, у тебя находится несколько месяцев статья Оты Шика, почему ты ее не публикуешь? Ты же знаешь, что мы должны со всей серьезностью учитывать любое предложение, которое позволяет нам преодолевать трудности.
На это Швестка должен был ответить, что он готов был опубликовать статью, но ему запретил Кольдер.
— Что значит Кольдер? Ты отвечаешь за «Руде право» и должен сам разбираться, какая статья нам поможет, а какая нет! Является ли статья Шика основой для открытой дискуссии о наших проблемах или нет?
Швестка вынужден был сказать правду.
— Да.
— Вот так, а подобная дискуссия нам сейчас необходима, и «Руде право» должна ее начать. Необходимо как можно быстрее опубликовать статью Шика, а потом и реакцию читателей на нее! Ты за это отвечаешь!
Вот так все и началось. Сам Новотный статью не читал. Но уже через день она была полностью опубликована в «Руде право», в газете центрального органа партии, и поэтому была воспринята как официальная партийная директива.
Реакция на статью со стороны предприятий и населения была фантастической. Стало ясно, что предприятия давно ждали подобной откровенной оценки. Ведь в конце концов было честно признано — и это в официальной партийной газете,—что не предприятия, а субъективное планирование из центра несет полную ответственность за крупные экономические просчеты. К ошибкам в развитии привела не плохая децентрализация, а, наоборот, недостаточная децентрализация.
Сотни писем, поддерживающих статью, поступили в редакцию и в руководство партии. Делегации партийных организаций предприятий на основе конкретных примеров говорили Новотному о верности главной мысли статьи. Поддержка «снизу» была еще сильнее, чем мы ожидали.
С учетом этой ситуации уже нетрудно было добить168
ся от Новотного следующего шага. После моего телефонного звонка он сразу позвал меня к себе и стал говорить о том, что я должен подготовить необходимые изменения. Я в свою очередь сообщил Новотному, что в институте разработаны основные положения и теоретическое обоснование далеко идущей реформы. Сейчас было бы необходимо, чтобы квалифицированная комиссия, состоящая из специалистов-теоретиков и практиков. имеющая достаточные права, разработала конкретные предложения по проведению реформы.
Новотный с этим сразу согласился. Он увидел в этом средство, которое укрепило бы его положение. Одновременно он предложил мне возглавить данную комиссию. Он переговорил также с Кольдером и обязал его обеспечить политическую организацию комиссии. После этого Кольдер позвонил мне и представил дело так, будто предложение возглавить комиссию исходило от него. О моей беседе с президентом он ничего не знал.
Еще в разговоре с Новотным я поставил ряд условий, необходимых для организации успешной работы, с которыми он согласился. Не встретил я никаких трудностей и со стороны Кольдера. Моя первая просьба заключалась в том, чтобы я сам отобрал большинство членов комиссии. Второе требование — обеспечить допуск ко всем необходимым материалам и фактам, даже если они носят совершенно секретный характер. Третье—предоставить возможность встречаться и беседовать с работниками, руководителями и партийными организациями любого предприятия, чтобы знать и использовать их знания и опыт. Вот так начала свою работу осенью 1963 года партийно-государственная комиссия под моим руководством.
Кольдер все же придумал, не доверяя мне, два ограничения, связанных с работой комиссии. Во-первых, комиссия по реформе формально должна быть подчинена Государственной комиссии по организации и управлению, о деятельности которой я расскажу позже. Для меня это не имело значения, поскольку программу работы я определял сам. В каком виде комиссия будет включена в государственную структуру — мне было безразлично. Во-вторых, комиссия по реформе должна иметь двух руководителей — помимо меня, тогдашнего министра технического развития Франтишека Власака.,
169
Именно это ограничение я расценивал как злоумышленное. Я не мог себе хорошо представить, как два человека, имеющих различные взгляды и представления о работе, могут одновременно руководить комиссией. Кроме того, в то время я еще не знал близко Власака. С неохотой я согласился с этим условием. К счастью, дальнейшие события показали, что это не стало тормозом в нашей работе.
Ф. Власак оказался симпатичным и честным человеком. Очень быстро мы подружились и стали добрыми друзьями. По специальности он был химик, и должность министра технического развития хорошо отвечала его знаниям. Довольно быстро он понял, что научнотехнический прогресс у нас, в условиях старой системы планирования, больших успехов не достигнет и что министерство технического развития может рассчитывать на осуществление лишь некоторых отдельных проектов. Он понял, что технический прогресс в широком смысле этого слова мы можем осуществить только при условии коренного изменения отношения предприятий к инновациям и техническому прогрессу. Он часто обсуждал эти вопросы с Кольдером. И когда состоялось решение о создании комиссии по реформе, то Кольдер выразил пожелание, чтобы Власак занимал в ней руководящую должность. Таким образом, было решено, что комиссию будут возглавлять Власак и Шик совместно.
Власак был настолько интеллигентным и честным человеком, что скоро признал, что содержание нашей работы ему в значительной мере чуждо. Как я уже говорил, он был химиком и имел опыт работы в старой организационной структуре, а сложная экономическая проблематика, которой мы должны были заниматься, в целом была ему неизвестна. Непосредственное руководство дискуссией, которая требовала постоянного внимания, формулировка выводов из нее и т. п.— всего этого Власак не мог осуществлять. Без колебаний он передал мне руководство комиссией и помогал, как только мог. Его не интересовали вопросы престижа, и он был удовлетворен, когда наша работа шла полным ходом. Естественно, он также быстро понял, что цели реформы могли бы создать условия, которые, для него с точки зрения развития техники были бы решающими.
Как я уже говорил, мы сделались с Франтишеком 170
добрыми друзьями, сблизились и наши семьи. Мы вместе отдыхали во время отпуска и хорошо понимали друг друга. Все то, чем Кольдер хотел ограничить мою деятельность и в какой-то степени установить контроль за моей работой, мне нисколько не помешало, а, напротив, даже обогатило мою личную жизнь.
4. ПРОГРАММА РЕФОРМЫ ПРИНЯТА
Благодаря двум обстоятельствам работа комиссии быстро набирала темп. Во-первых, мы имели в Институте экономики предварительные теоретические разработки в области реформы, которые позволяли четко видеть конечную цель. Во-вторых, к работе комиссии по реформе удалось привлечь наиболее способных людей из числа теоретиков и практиков, которые были едины в оценке коренных причин социалистических экономических недугов. Поэтому мы не тратили много времени на дискуссии по основным направлениям реформы, а могли сразу заняться конкретной проработкой ее отдельных положений.
Все мы прекрасно понимали, что речь идет о создании условий, которые позволили бы вновь функционировать рыночному механизму. Мы четко знали и необходимые предпосылки для этого: производственную программу должны определять сами предприятия, что означало ликвидацию жесткого директивного планирования производства со стороны Госплана или отраслевых министерств; одновременно предприятия должны формировать свой хозяйственный план на основе спроса потребителей в условиях рынка и быть заинтересованными в максимально эффективном использовании как производственных факторов, так и инноваций. Для этого было необходимо, чтобы доходы предприятий зависели от результатов их деятельности на рынке, а личные доходы работников — от результатов работы предприятия. Для того чтобы объем производства реально отвечал требованиям потребителей, необходимо было вновь ввести рыночные цены и все предприятия поставить в условия взаимной состязательности— конкуренции. Предпосылкой для этого должна была явиться ликвидация монопольного положения отдельных предприятий,— положения, созданного админи171
стративными органами в сфере как производства, так и внутренней и внешней торговли. Наконец, должна быть введена эффективная кредитная система, что требовало отделения Торгового банка от Госбанка и обеспечения его самостоятельности.
Основополагающие цели обновления рынка были известны. Основная работа нашего коллектива была направлена на определение нового способа народнохозяйственного планирования, которое мы все считали необходимым, поскольку не хотели, чтобы введение рыночного механизма сопровождалось возникновением негативных процессов, присущих капиталистической хозяйственной системе. Прежде всего мы опасались массовой безработицы, которая характерна для капиталистической системы, с присущим ей циклическим кризисным развитием. Мы знали, что в рыночном механизме обязательным является незначительное и кратковременное так называемое структурное превышение предложения рабочей силы. Технический прогресс, ведущий к экономии труда в отдельных производствах, в условиях давления рынка мог привести к тому, что в этих производствах часть рабочей силы станет избыточной. Но мы к этому стремились, поскольку, развивая технический прогресс, хотели сэкономить рабочую силу, с тем чтобы использовать ее в наиболее эффективных производствах и прежде всего в сфере обслуживания, которая из-за нехватки рабочей силы значительно отставала. Возможность для такой переориентации мы видели в переквалификации высвобожденных работников и их материальной поддержке в период смены профессии.
Однако глубокие экономические кризисы и массовую безработицу, характерную для капиталистической хозяйственной системы, невозможно объяснить лишь следствием технического прогресса и структурной перестройки. Мы были уверены в том, что эти недостатки— так называемое микроэкономическое неравновесие, как его называют экономисты,— не могут быть результатом развития рыночного механизма, так как всегда вызывались постоянным относительным отставанием роста заработной платы. Это было традиционное марксистское объяснение кризиса, которое мы считали единственно верным. Сегодня я понимаю, что это справедливо лишь при определенных условиях эконо172
мического роста и что чрезвычайное повышение заработной платы в конкретных обстоятельствах может также привести к кризису.
Исходя из подобного понимания кризиса, мы стремились ввести в практику такое народнохозяйственное— «рамочное»—планирование, которое такие важные процессы, как общий рост производства, личное и общественное потребление, капиталовложения, занятость, величина эмиссии денег, внешнеторговый оборот, позволяло бы удерживать в равновесии. Подобные планы должны были бы реализовываться не путем централизованного планирования производства, а лишь с помощью хозяйственно-политических инструментов, а также государственных заказов. Такие планы мы называли ориентировочными планами. Реализации планируемого развития должна была содействовать государственная политика доходов и расходов (фискальная), а также денежная, кредитная, ценовая и внешнеторговая политика. В то время мы считали, что крупные инвестиции, влияющие на формирование отраслевой структуры, должны обеспечиваться госзаказом государства. Сегодня я уже не придерживаюсь этой точки зрения, ибо убежден, что предприятия лишь тогда могут отвечать за свою рыночную продукцию, когда имеют право самостоятельно принимать решения о капиталовложениях.
Сегодня я понимаю, что и тогда мы допустили целый ряд ошибок. Главная из них заключалась в том, что мы хотели включить в разрабатываемую модель реформ принцип, согласно которому предприятия должны сами принимать решения о том, какую часть своих доходов они направят в фонд заработной платы, а какую— на капиталовложения. Этот принцип мы позаимствовали из югославской системы, в которой не существовало разницы между заработной платой и прибылью. В Югославии подобный принцип получения доходов рассматривается как принцип, адекватный системе самоуправления. Сегодня с указанным способом распределения дохода я уже не согласен.
Значительная часть работы комиссии была посвящена разработке методов ведения хозяйства в переходный период от старой к новой экономической системе. Изменения в ходе отдельных процессов нельзя было осуществить за один день, необходимо было постепен173
но подготовить условия для их осуществления. Например, нельзя сразу изменить административную систему цен на рыночную систему, как в свое время поступили югославы, сделав большинство цен свободными, находящимися под полным воздействием рынка. Во всех социалистических странах существует значительное превышение платежеспособного спроса населения над объемом предоставляемых товаров и услуг (то есть избыток денег), которое возникло на фоне длительного дефицита предложения товаров при одновременном, поддерживаемом в административном порядке постоянстве цен. Этот излишек денег при быстром переводе цен на свободные привел бы к крупномасштабной инфляции.
Чтобы избежать подобного развития, мы предложили провести вначале одноразовый пересмотр оптовых цен. Подобный пересчет был бы первым мировым опытом, когда государство пыталось осуществить крупномасштабный пересмотр оптовых цен в довольно короткое время, не имея возможности опереться на чей-либо опыт. И можно сказать, несмотря на некоторые нежелательные явления, мы предполагали провести пересчет успешно.
Все цены необходимо было разделить на три группы: 1) группа установленных государством твердых цен; 2) группа лимитированных цен (в рамках определенных государством границ); 3) группа свободных рыночных цен. По мере изменения структуры производства в сторону усиления роли потребителя и развертывания конкуренции во всех отраслях должна была увеличиваться группа цен, свободно устанавливаемых рынком, при одновременном сокращении группы твердых государственных цен.
Подобные подходы были разработаны для всех этапов реформы, чтобы избежать шокирующего воздействия цен и крупной народнохозяйственной несбалансированности. Это была весьма хорошо продуманная комплексная реформа. Ее цель — в течение пяти или максимум семи лет достичь такого изменения структуры и эффективности производства, чтобы обеспечить конвертируемость кроны и долговременное выравнивание платежного баланса,— представлялась нам весьма реалистичной. Позже Гусак будет утверждать, что проект реформы вообще не содержал никакой конкрет174
ной хозяйственной и политической реформы. Он делал это в целях политической дискредитации реформаторов. В действительности содержание реформы никогда не подвергалось критике, и в период ее осуществления вплоть до насильственного подавления «пражской весны» никто не находил неясностей или программных ошибок.
Хозяйственно-политическую конкретизацию реформы мы проводили все то краткое время, что я работал в правительстве. Критика реформы Гусаком, после того как он получил власть, была направлена на ликвидацию экономической реформы и узаконение обновления старого директивного планирования.
По вопросу о сущности реформы с самого начала велась бескомпромиссная борьба, так как руководимое Новотным Политбюро, препятствуя реальному введению рыночного механизма в практику, пыталось сохранить директивное планирование. Консервативные силы, не имея собственной концепции экономического развития общества, прикрывались фразами о «социалистическом принципе планирования», а также о «руководящей роли партии». Они попытались устранить из концепции реформы все формулировки, которые, по их мнению, эти «принципы» ослабляли или ограничивали. Поэтому предложенный уже в середине 1964 года проект реформы Политбюро постоянно возвращало в комиссию на доработку с требованиями убрать или заменить ту или иную формулировку.
В связи с этим комиссия по реформе вынуждена была четыре раза перерабатывать проект реформы. Все время недовольство Политбюро вызывала последняя глава, в которой были определены социальнополитические условия осуществления реформы на предприятиях. Речь шла об ограничении прямого вмешательства партии (через секретарей парткомов) в руководство предприятиями, так как это вело к снижению ответственности и тормозило любую попытку повысить производительность труда. Это были чисто волюнтаристские административные методы, которые не соответствовали логике развития рыночного механизма и высокоэффективному производству, удовлетворяющему народнохозяйственные потребности.
О том, чтобы освободить руководство предприятий от зависимости и власти партии в подборе кадров, 175
в проекте, разработанном в 1964 году, не могло быть и речи. Члены комиссии по реформе постоянно обсуждали идею советов самоуправления предприятий, которые бы сами избирали и контролировали менеджеров. Но о таком предложении нельзя было даже упомянуть, так как сразу же последовало бы обвинение в «югославском ревизионизме» и комиссия по реформе была бы распущена. Поэтому в этих условиях мы попытались усилить роль профсоюзов и дать им возможность в значительно большей степени принимать участие в хозяйственной жизни предприятий. Прежде всего они должны были участвовать в проведении необходимых технических и структурных изменений, заботясь о своевременной переквалификации сотрудников, обеспечении их «запасной» работой, социальных гарантиях и т.п. Одновременно таким способом должна была быть ограничена постоянная опека партии.
Но даже такие предложения в Политбюро не прошли. Каждый раз мы снова и снова пытались дать новые формулировки, в которых стремились отразить необходимые изменения и одновременно выполнить требования Политбюро. В конце концов четвертый вариант проекта реформы был принят. В нем мы вынуждены были привести различные формулировки, касающиеся «приоритета социалистического планирования», «руководящей роли партии в экономике» и т.п., но в то же время смогли включить и ядро наших наиболее важных предложений по будущему функционированию рыночного механизма на предприятиях.
Члены Политбюро в экономических проблемах совершенно не разбирались, поэтому по конкретным формулировкам они даже не осмеливались делать замечания. В этом вопросе они полностью полагались на замечания аппарата, который был в их распоряжении. Однако и аппарат этот отчасти находился под влиянием наших экономических аргументов, главным образом потому, что предприятия полностью разделяли идеи реформы. О нашей критике старых методов планирования и управления, которая различными способами распространялась среди народа, ходили не только слухи; со стороны рабочих ей была оказана большая поддержка, против которой у аппарата не было убедительных контраргументов.
Новотный был настолько ограниченно образование
ным в области экономики, что никогда не понимал того, что я пытался объяснить ему в отношении некоторых принципов хозяйственной реформы. Я хотел показать как раз ему необходимость перестройки государственной бюджетной политики, предлагая создать избыток государственных доходов, который вызовет приостановку роста спроса на товары по сравнению с ростом предложения. Это мероприятие должно было стимулировать развитие рынка продавцов еще до начала реформы. А тогдашний министр финансов Р. Дворжак был бессловесным чиновником, который без санкции высшего политического руководства вообще ничего самостоятельно не предпринимал.
Когда я хотел чего-то добиться от Новотного, то всегда заранее готовился говорить как можно более короткими и примитивными фразами, поскольку знал, что уже через несколько минут нашей беседы на экономические темы он перестанет меня понимать. Поэтому на этот раз я старался говорить как можно убедительнее об идее превышения доходов госбюджета над расходами. Когда я закончил, Новотный помолчал, потом вдруг сказал:
— Ты знаешь, что у нас весьма инициативный министр финансов? Был у меня только что до тебя и высказал замечательную идею. В наших лесах водится много первоклассных зверей, и мы могли бы их число еще увеличить. Если мы будем ежегодно экспортировать на Запад три тысячи живых оленей, мы получим столько, что сможем решить многие проблемы с импортом западной техники!
Можно было просто сойти с ума! Я пытался объяснить ему необходимость перестройки нашей финансовой политики — уж даже не знаю, как долго я к этому готовился, чтобы это до него дошло,— и единственное, что он мне на это ответил: «Надо увеличить экспорт живых оленей»! Впредь я отказался объяснять Новотному что-либо по поводу реформы.
С 1964 года я интенсивно пользовался разрешением, которое позволяло мне ездить с докладами по предприятиям и собирать предложения; почти каждую неделю я выступал на каком-нибудь собрании. Моя критика национального планирования и амбициозного бюрократизма воспринималась с большим пониманием. Люди были готовы идти на реформы, так как это 177
обещало наконец решение их каждодневных проблем и реальное, но до сих пор лишь обещаемое улучшение жизненного уровня. И мои статьи, которые часто издавались в этот период, люди читали, обсуждали и в большинстве своем положительно оценивали.
Естественно, что приходилось вести полемику со старыми догматиками и экономистами-консерваторами. Они сгруппировались на кафедре народного хозяйства в Высшей экономической школе. Здесь под руководством уже упомянутого экономиста Ф. Оливы выросло много молодых ученых, которые, однако, не избежали приверженности сталинским экономическим догматам.
Для этих экономистов особенно характерным было то, что они никогда не анализировали конкретное развитие экономики и вели лишь схоластические споры.
Их абсолютно оторванные от реальной действительности, абстрактные модели с упрощенными исходными данными служили основой для построения так называемых концепций. Последние использовались главным образом для критики «ревизионистских», «немарксистских» подходов. Идеи экономистовконсерваторов не находили у людей ни понимания, ни поддержки; они затерялись неуслышанными в развернувшемся народном движении.
С 1963 года началось брожение среди интеллигенции, которая все более открыто и смело выступала с критикой бюрократизации общества и его политического руководства.
Примером таких выступлений явилась конференция, посвященная творчеству Кафки. Состоялась она в 1963 году в Либице, где проходило заседание Чехословацкой академии наук. Помимо известных чехословацких писателей и литературоведов, в ней приняли участие такие известные ученые, как Роже Гароди, Эрнст Фишер и др. Одним из инициаторов этой конференции был Эдуард Голдштюкер, известный германист и знаток творчества Кафки.
В своих произведениях Кафка описывает, как люди особым, неподражаемым образом разоблачают низменные самоцели бюрократического аппарата и бессмысленность его существования. Это позволило Кафке подспудно поставить к позорному столбу бюрократизацию «социалистического» общества и ее отчуждение
ность по отношению к людям. Интеллектуалы и все широкие слои населения сразу же поняли, что именно «социалистическая» бюрократия была в центре дискуссии о творчестве Кафки. Партийные идеологи, естественно, тоже это поняли; самыми первыми среди них восстали идеологи из ГДР. Они подняли большой шум по поводу конференции, обвинив ее в ревизионистской направленности. Но это не смогло остановить быстро распространявшуюся критику недостатков нашей системы.
Все больше писателей, журналистов, киноработников, ученых после длительного молчания переходили к прямой и завуалированной критике. Самые разные группы создавались в научных институтах, вузах, редакциях некоторых журналов, главным образом в печатном органе чешских писателей «Литерарни новины», в словацком журнале «Културни живот», журнале «Тварж», а также в кинематографе и т.п. В печати стали появляться острокритические заметки, комментарии, статьи, сатирические произведения—все это говорило о том, что социально-политическое мышление в обществе пришло в движение. Перестройка в сознании людей назревала!
Партийная бюрократия, естественно, не сдалась и против всюду появляющихся «еретиков» пыталась действовать своими испытанными репрессивными методами. Дисциплинарные взыскания по партийной линии, судебное преследование, обыски, общественное преследование «врагов», административные запреты и другие действия должны были, по их мысли, запугать людей и заглушить критику. Однако эти действия партийной бюрократии были приостановлены по двум причинам. Одной из них явилась политическая обстановка в Советском Союзе. Во времена Хрущева складывалось критическое отношение к централизованному управлению и оказывалась поддержка реформаторским идеям. Без позитивного отношения Хрущева к идее реформ Новотный никогда бы не допустил, чтобы подготовка реформ в ЧССР зашла так далеко. Вероятно, Хрущев был готов не только одобрить реформу в ЧССР как эксперимент, но и решительным образом поддержать ее.
Хрущев постоянно искал новые пути к тому, чтобы обуздать процесс бюрократизации аппарата и управле179
ния экономикой. Но, откровенно говоря, обладая великодержавным мышлением, он был не в состоянии вскрыть реальный механизм внутренних причин появления и процветания бюрократизма. Большинство его реформ лишь усложняло систему управления и, более того, способствовало ее бюрократизации... Поэтому он всегда был готов поддержать мероприятия, которые, как он верил, помогут приостановить этот процесс. Под этим влиянием Новотному было сложнее высказываться против критиков бюрократизации, что ослабляло действия цензоров и полиции.
Другой причиной явилось ухудшение экономической ситуации, что отразилось главным образом на положении рабочих. Пока что Новотный мог только обещать рабочим, что готовящаяся реформа реально улучшит их положение. Еще прежде, до того как проект реформы был разработан и принят, партийный аппарат развернул пропагандистскую кампанию в поддержку экономической реформы. Тем самым он признавал, что предшествующее развитие экономики было неудовлетворительным, а решающие недостатки в народном хозяйстве обусловливались несовершенством системы управления. Этот факт сыграл решающую роль в том, что критика партийного руководства развернулась во всех слоях общества.
Создалась благоприятная политическая ситуация как раз для того, чтобы прорвать фронт самых разных табу социалистической экономической идеологии и открыто высказать новые идеи, за которые еще несколько лет назад последовало бы по меньшей мере исключение из партии. Для реального осуществления действительно кардинальных перемен в народном хозяйстве нам необходимо было преодолеть стереотипы в мышлении, согласно которым рынок не должен определять развитие производства при социализме, а цены не должны формироваться на рынке. Пока эти догмы остаются незыблемыми, руки у нас будут связаны и проект реформы опять остановится на полпути.
После публикации ряда статей в специализированных журналах, таких, как «Политицка экономие» и др., я решил «расчистить» путь для реформы от идеологических догм и стереотипов, выступив на заседании Центрального Комитета 19 декабря 1963 года. Несколько раньше мне было доверено руководство комис180
сией по реформе; тем самым у меня оставалось достаточно времени для подготовки дискуссионного выступления. В нем я впервые говорил о том, что товарноденежные (рыночные) отношения не только не носят формального характера при социализме, но и являются необходимым инструментом для согласования интересов, что невозможно осуществить с помощью плана. Это был вызов догматикам в экономической теории, которые хотели помешать введению в нашу экономику реальных рыночных отношений. Я говорил о противоречиях между общественными, групповыми и индивидуальными интересами, между производителями, поставщиками и потребителями,— о противоречиях, которые не в состоянии устранить народнохозяйственный план. Для этого необходимо развитие гибких рыночных отношений, рыночных цен и системы стимулирования на предприятиях. Разумеется, все это я должен был увязать с социалистической планомерностью, однако и последнюю я охарактеризовал как средство для создания стабильной структуры народного хозяйства.
О том, что время для этого уже пришло и что во всей этой политической ситуации догматики из Центрального Комитета чувствовали себя неуверенно, говорил хотя бы тот факт, что такие «еретические» выступления не только допустили, но и полностью опубликовали в «Руде право» 22 декабря 1963 года.
До сих пор вижу перед собой изумленные лица партийных идеологов на заседании ЦК, которые, застыв в своем удивлении, не могли мне даже возразить.¿Не могли они помешать и тому, чтобы мое выступление было опубликовано, поскольку сами некогда приняли решение о том, что дискуссионные статьи членов ЦК не подлежат цензуре. Конечно же, имелись в виду выступления в духе партийной политики. Мой весьма смелый доклад был сигналом для дальнейшей работы комиссии по реформе и одновременно комментарием к основным положениям реформы. Причем все предложения, связанные с перестройкой характера рыночных категорий и влиянием рынка на производство, были в комплексной программе реформы сохранены. В октябре 1964 года Политбюро одобрило и опубликовало исходную концепцию реформы. В партии и обществе открылась широкая дискуссия. Обсуждение реформы в первичных партийных организациях дало положите181
льный отклик и почти единодушное одобрение проекта— таким по крайней мере было заключение, сделанное в районных советах.
Все говорило о том, что основные положения нашего проекта реформы без существенных изменений будут представлены Центральному Комитету партии, заседание которого планировалось на январь 1965 года. После принятия проекта эти положения должны были найти отражение в конкретной правительственной программе наряду с рекомендациями для государственных учреждений, которым отводилась своя роль в реализации конкретных мероприятий. Предполагалось, что наша комиссия по реформе будет в дальнейшем контролировать процесс реализации реформы, с тем чтобы обеспечить верную интерпретацию сформулированных задач. Уже в том же, 1965 году намечалась подготовка первых шагов, например пересчет цен, перестройка организационной структуры производства и др. Но неожиданно в Советском Союзе произошло событие, которое благоприятную для наших начинаний атмосферу изменило кардинальным образом. Мощная поддержка Новотного в лице Хрущева была устранена 14 октября 1964 года. В скором времени это должно было непосредственно отразиться на дальнейшем развитии нашей реформы.
5. ХРУЩЕВ В ПРАГЕ И ЕГО ПАДЕНИЕ
Для аппарата Новотного развитие политической и экономической ситуации в Советском Союзе всегда было решающим. После каких-либо перемен в СССР партийное руководство в Чехословакии тоже меняло свою линию, приспосабливая ее к советской политике.
Как я уже говорил, Хрущев проявлял склонность к экономическим преобразованиям. Он стремился к проведению определенных реформ, которые, как он верил, будут способствовать более эффективному управлению производством. Однако при этом проявлялись не только его собственные ошибки, но и упрощенное понимание партийным руководством проблем управления, что приобретало характер непреодолимой догмы марксистско-ленинской идеологии.
При этом мало вероятно, чтобы Хрущеву могла 182
прийти в голову идея возрождения рыночных отношений. Недостатки в экономическом управлении он видел прежде всего в том, что органы управления были недостаточно знакомы с возникающей проблемой. По мысли Хрущева, происходило это потому, что органы управления были слишком удалены от объектов управления. Решения принимались по всему Советскому Союзу, без учета особенностей отдельных областей и предприятий, то есть схематично и с большим временньш опозданием.
Именно в этом Хрущев видел суть бюрократических методов управления. Проблема объективной ограниченности данных, которые поступали в центр плановой системы, а также проблема противоречий интересов между теми, кто спускал, и теми, кто получал задания, его вообще не интересовала. Его приверженность идее об отдаленности органов управления от объектов управления привела к тому, что он стал ярым противником центральных министерств народного хозяйства, ибо отраслевое министерство, которому подчиняются предприятия соответствующей отрасли, расположенные на территории всего Советского Союза, управляет бюрократически. Поэтому необходимо ликвидировать центральные отраслевые министерства и заменить их на областные советы народного хозяйства, которые бы были ближе к предприятиям, лучше знали их проблемы, обусловленные специфическими экономическими и социальными условиями каждого региона.
Так была проведена децентрализация управления и учреждены совнархозы. Однако «социалистическая плановая система» в результате проведенных преобразований не изменилась, а производственные задания предприятия по-прежнему получали из центра. Предприятия, как и раньше, не интересовало развитие спроса; они как монополисты даже при высоком спросе имели преимущество над потребителем. В этом плане районные совнархозы ничего изменить не могли, так как потребители большинства промышленных товаров находились в других районах.
Еще в 1957 году, когда совнархозы в СССР были созданы, я не мог понять, каким образом эта новая система управления будет функционировать без введения реальных рыночных отношений. Поэтому я был рад, что 183
в 1958 году у нас эта идея не получила развития. И хотя преобразования в Союзе были одним из вариантов нашей реорганизации, мы использовали лишь основные идеи децентрализации. Создание же областных советов было единогласно отклонено по причине того, что территория Чехословакии слишком мала и по площади равнозначна одной советской области.
Очень скоро развитие советской экономики показало, что создание совнархозов не принесло никаких улучшений в управлении производством, что бюрократический аппарат вопреки ожиданиям еще больше увеличился и что мотивация советских предприятий осталась без перемен. Совнархозы создали свои отраслевые отделения, Госплан в свою очередь заменил ликвидированные министерства отраслевыми отделами. Система планирования стала еще более громоздкой, и о пропорциональном развитии производства не могло быть и речи.
Но Хрущев был не в состоянии понять всей сложности такой системы планирования и противоречивости ведомственных интересов. Он высказывал все более бессмысленные идеи по реорганизации управления. Во время своего визита в Чехословакию с 27 августа по 5 сентября 1964 года по случаю празднования двадцатой годовщины Словацкого национального восстания он говорил о своих намерениях. На одном приеме, куда были приглашены и члены ЦК КПЧ, мне довелось непосредственно услышать его новые идеи и даже принять участие в дискуссии.
Хрущев стоял в центре небольшой группы членов ЦК КПЧ и рассказывал о введенных им новых органах управления в сельском хозяйстве. Говорил он без умолку, очень самоуверенно и почти никому не давал сказать слова. Лишь иногда кому-нибудь из присутствующих удавалось задать вопрос. А в общем все кивали головой в знак согласия. Я обратил внимание, что Хрущев не касался в разговоре экономических проблем, подчеркивая лишь проблему профессионализма в органах управления. Когда он закончил свой рассказ о сельском хозяйстве, я позволил себе задать один вопрос из области планирования.
— Не стоит ли, товарищ Хрущев, изменить также и систему планирования? Ведь централизованный план не в состоянии регулировать производство огромного 184
количества товаров. По правде говоря, теперь, когда отраслевые министерства лишены плановых функций, система планирования стала еще более сложной.
Я увидел, как при упоминании об отраслевых министерствах Хрущев помрачнел, а потому быстро добавил:
— В целом это было правильно, что этот огромный министерский бюрократический аппарат был устранен...
Лицо Хрущева снова просияло.
— ...но сейчас вновь растет число отраслевых отделов Госплана!
Хрущев не дал мне договорить:
- Да, это так, бюрократы из министерств теперь лезут в Госплан. Но нам надо настаивать на более сильной децентрализации планирования.
Было ясно, что Хрущев воспринимал планирование только как распределение заданий сверху вниз, не задумываясь о взаимосвязи между расходами и доходами.
Обеспечение горизонтальной координации—на основе разделения труда — в масштабах народного хозяйства, представляющего собой гигантскую систему сообщающихся сосудов, он воспринимал как планомерный процесс. Реализация же этих связей через рынок оказывалась для него совершенно незнакомой областью.
Продолжать дискуссию не имело смысла. Гендрих, который тоже находился в группе вокруг Хрущева и смысл моего вопроса понял намного лучше Хрущева, проявлял нетерпение и раздражительность. Своим отвлеченным высказыванием он переключил внимание Хрущева с этой щекотливой проблемы. Было даже лучше, что дискуссия не развернулась, поскольку готовящаяся у нас реформа соответствовала представлениям Хрущева, а проблема «плана и рынка» его не интересовала. Он был большим сторонником наших замыслов, и это для Новотного было главным. Во время длительной поездки Хрущева по нашей стране и его выступлений Новотный всегда находился рядом с ним и каждый раз подчеркивал аналогичность наших и советских преобразований, хотя это было не так. Впрочем, это было не так важно. Важно было то, что у Новотного оказался надежный тыл.
185
Почти сразу же по возвращении из ЧССР в начале сентября Хрущев отбыл в Крым на непродолжительный отдых. В Москве в этот период готовилось его отстранение от должности Первого секретаря. Среди инициаторов этого заговора были Суслов, Шелепин, Брежнев и.др. За спиной Хрущева и без его ведома 12 октября 1964 года собралось Политбюро и постановило освободить Хрущева от занимаемой должности. На мой взгляд, его наиболее серьезной ошибкой, которая лишила его поддержки большинства членов ЦК, явилась уже упомянутая реорганизация системы управления народным хозяйством. Для нашей страны это имело роковые последствия. Известие о падении Хрущева Новотного поразило, ведь еще незадолго до этого в своей политике он опирался на Хрущева, ездил с ним по всей стране и превозносил его мудрость и заслуги прямотаки до небес. А теперь этот авторитет был неожиданно повержен со своих высот. И сразу же развернулась критика его идей по реорганизации и децентрализации. Управление по производственному признаку было ликвидировано, вновь введены единое территориальное управление и единое партийное руководство экономикой. Совнархозы упразднялись, а отраслевые министерства вновь возрождались.
В состоянии шока Новотный совершил поступок, который исправить уже никогда потом не мог. Он написал длинное письмо Брежневу, в котором хотя и не осмелился критиковать событие, но высказал сожаление о том, что руководство «братских стран» не было об этом заранее проинформировано. Можно представить, насколько тяжело было тогда руководству КПЧ сообщить общественности нечто прямо противоположное тому, что недавно говорилось. Брежнев с неудовольствием отреагировал на письмо и воспринял его как проявление нелояльного отношения — так об этом по крайней мере говорили между собой сведущие члены ЦК КПЧ. Брежнев оценил Новотного как неблагонадежного партнера.
Некоторые приверженцы «жесткой линии» в ЦК КПЧ, еще более сталинской направленности, чем сам Новотный, внезапно стали критиковать Новотного «слева». Прежде всего это Вацлав Давид, тогдашний министр иностранных дел, у которого, вероятно, был 186
свой источник информации о событиях в Советском Союзе. Позднее к нему присоединились и другие сталинисты.
От этих неожиданных перемен и последовавшей критики Новотный все больше терял уверенность в себе. Его политические решения были непоследовательны и противоречивы, он судорожно искал в Советском Союзе новую руководящую «звезду». Там завершался процесс ликвидации «децентрализации» и одновременно распространялись сведения о так называемой реформе Косыгина.
Реформа делала упор на социалистическую планомерность, построенную на научной основе. Этот «ленинский» принцип означал не что иное, как более тщательный контроль за соответствием между расходами и доходами в ценовом выражении. Собственно, новым было лишь то, о чем Либерман высказывался в экономической дискуссии начала 60-х годов.
С одной стороны, с помощью широкой системы компьютеров планирование должно было достигнуть более высокого научного уровня. С другой—заинтересованность в повышении эффективности должна была обеспечиваться на предприятиях с помощью фондов стимулирования за счет процентных отчислений от прибыли, из которых — помимо всего прочего— сотрудникам должны были выплачиваться дополнительные премии. Получался какой-то винегрет. Предприятия по-прежнему получали обязательные производственные задания посредством планов, которые не могли обеспечить сбалансированность микроструктуры и оптимальную эффективность производства даже с помощью прогрессивных компьютерных систем. Заинтересованность в повышении прибыли попрежнему обеспечивалась в отсутствие рыночного механизма, рыночных цен и рыночной конкуренции. Производство и дальше развивалось по-старому.
Но никто из членов нашего Политбюро этого не понимал. Их единственным желанием было вовремя приспособиться к линии Советского Союза и не допустить каких-либо отступлений от этой линии. Но поскольку теперь было сложно что-либо отменить, то реформа должна была проводиться в советской трактовке. О рыночном механизме уже нельзя было говорить, а плановая система с ее новыми «научными методами 187
и компьютерами» должна была превозноситься. Предполагалось полнее использовать «закон стоимости», цены, мотивацию в получении прибыли и пр Программу реформ было решено поставить на голосование в январе 1965 года на заседании ЦК, но, чтобы эта якобы реформистская мешанина превратилась в конкретную программу, ответственность за ее формулировки должна была взять на себя комиссия по реформе. При этом нужно было сохранить видимость, что речь идет лишь о конкретизации нашего прежнего проекта.
В системе государственного управления со времени еще первой реорганизации 1958 года работала специальная Государственная комиссия по организации и управлению. В ее задачу входили контроль за организационной структурой экономических субъектов, а также анализ и разработка предложений по организационной перестройке. Эта комиссия не принимала в расчет никакие экономические закономерности, наоборот, учитывались чисто формальные организационные условия и взаимосвязи. С самого начала нашей работы над проектом реформы этой комиссией также разрабатывались конкретные предложения по изменению организации производственной сферы и центральных органов управления.
Вначале все шло нормально, и наши действия находились в полном согласии с действиями комиссии. Понятно, что предложения этой комиссии были для партийных бюрократов более приемлемы, поскольку, не затрагивая сложных экономических отношений (которые не лежали на поверхности и были труднодоступны для понимания), касались лишь формальной организации на предприятиях.
После падения Хрущева партийная бюрократия почувствовала себя неуверенно и, что касается дальнейшего развития реформы, стала уклоняться от принятия наших слишком радикально сформулированных предложений. Она действовала старыми бюрократическими методами, рассматривая лишь организационную структуру предприятий, не учитывая их принципиальных различий в вопросах мотивации и поведения в условиях рынка. Этим методам в большей степени отвечали предложения комиссии по организации и управлению.
По инициативе партийного аппарата Политбюро 188
приняло решение о том, что проект реформ будет заново сформулирован комиссией по организации и управлению, и в январе 1965 года на заседании Центрального Комитета этот проект был представлен для окончательного рассмотрения. Хотя основные положения реформы, обнародованные в октябре 1964 года для широкого обсуждения, были разработаны в комиссии по реформе, Центральный Комитет в январе принимает окончательный проект, подготовленный комиссией по организации и управлению; он назывался «Основные направления совершенствования планового управления народным хозяйством». С этого момента началось открытое уклонение Политбюро от основных идей нашей комиссии по реформе, иными словами, началось отстранение нашей комиссии от реализации преобразований. Но пока об этом никто не должен был знать, поскольку наша комиссия и я лично пользовались поддержкой и доверием у населения. При этом нельзя сказать, чтобы принятый проект по «совершенствованию» сильно отличался от разработанного нами, от которого мы теперь должны были отмежеваться. Поверхностному наблюдателю показалось бы, что наши реформистские идеи также нашли свое отражение в проекте, поэтому наше возможное отступление и отказ от опубликованного проекта реформы остались бы непонятыми. В действительности же в новом проекте ряд абзацев был опущен, добавлены другие формулировки, что сохраняло для вышестоящих органов управления право на осуществление прежней, директивной опеки над предприятиями. При этом утверждалось, что у председателя комиссии по организации и управлению были разногласия с нашей комиссией. Наоборот, нас с ним связывали, скорее, общие взгляды. Именно соответствующий отдел партийного аппарата заставил его принять свои собственные предложения и формулировки.
Не случайно, что во всех главах нового проекта постоянно говорилось о планировании; его описывали основательно и со всех сторон. При этом, хотя и говорилось о независимом (мы его называем ориентировочным) плане, который предприятия должны разрабатывать самостоятельно, одновременно утверждалось, что плановое учреждение будет определять перечень директивных показателей «плана промышленного производ189
ства». Следовательно, на плановые организации возлагалось также право определять, в каком масштабе будет в дальнейшем существовать директивное планирование.
В нашем проекте вопросу о развитии реальной рыночной соревновательности придавалось большое значение, но из окончательного проекта он полностью исчез. Организация производственной сферы должна была быть упорядочена таким образом, чтобы внутри отрасли возникали — в результате соревновательности— по меньшей мере два, а по возможности и более самостоятельных предприятий; чтобы потребители определенных видов продукции (оптовая торговля либо другие производственные предприятия) всегда имели возможность выбора между предложениями многочисленных поставщиков. В отраслях, где невозможна соревновательность между предприятиями, поскольку внутренний рынок для них ограничен, производители могли бы напрямую экспортировать свою продукцию, причем целенаправленный импорт аналогичного вида товаров при посредничестве внешнеторговой организации создавал бы им условия для конкуренции.
Недооценка соревновательности проявлялась также в нечетко сформулированных в новом проекте перспективах развития цен. Подразделение системы цен на упомянутые выше три группы (установленные государством, лимитированные и свободные) не было сформулировано как переходное явление, от которого постепенно предполагалось перейти при реальном развитии конкуренции к преимущественно свободным ценам как постоянно действующему механизму. И планирование цен рассматривалось в проекте в том же ключе; не было сказано о том, что не предсказуемое движение спроса и предложения требует как раз очень гибких или же потенциально гибких ценовых колебаний со стороны поставщиков, что в свою очередь должно повлечь за собой гибкие сдвиги в их производственной структуре.
Эти и другие пропуски, а также нечеткие формулировки комиссия по реформе уже не смогла исправить. После того как этот проект был представлен на рассмотрение в Политбюро и Центральный Комитет — кроме комиссии по реформе, Политбюро сразу после засе190
дания Центрального Комитета постановило передать полномочия по реализации преобразований Министерству планирования.
Таким образом, комиссия по реформе была отстранена от участия в осуществлении преобразований; эти функции были переданы органу, который был больше всего заинтересован в сохранении прежних, директивных методов планирования.
Политбюро подготовило еще один проект, который комиссия по реформе считала бессмысленным, а именно проведение эксперимента в 1965 году почти на 400 предприятиях. Было очевидно, что тем самым Политбюро хотело выиграть время, чтобы изучить положение дел в Советском Союзе. Бессмысленность эксперимента на предприятиях, которые должны были поновому развернуть предпринимательскую деятельность, по существу, в старых экономических условиях (при старых ценах, монопольном предложении, рынке продавцов, зависимости от вышестоящих органов, министерств и т.п.), напоминало анекдотичную ситуацию, когда участвующие в эксперименте таксисты должны были ездить по левой стороне, а остальные—как прежде, по правой. Было ясно, что такие «эксперименты», скорее, дискредитируют реформу и облегчат незаметный отход от ее принципов.
Поведение Политбюро знаменовало собой тот факт, что в наступающей эре Брежнева очень скоро старые, догматические взгляды и силы вновь займут свои прежние высоты. Это мы осознали и поняли также, что так называемая реформа Косыгина никакой реформой в действительности не является; за ней скрываются новые фразы, которые должны поддержать старую плановую систему. Это понял и Новотный, который сверх того гораздо в большей степени опасался уничтожающей критики слева, чем так называемой критики справа. Ему довольно трудно было отказаться от реформы официально, поскольку он сам ее провозгласил, опираясь на широкую поддержку общественности. Поэтому Новотный стремился как можно скорее и незаметнее ее похоронить. Отсюда и передача функций по реализации реформы Министерству планирования, и эти бессмысленные эксперименты, и намерения отдела пропаганды партийного аппарата покончить с пропагандой реформы.
191
Когда мы, то есть те, кто составлял ядро комиссии по реформе, осознали эту политическую линию, у нас созрело решение начать бороться против этой политики, что означало — против руководства Новотного. На это нелегко было решиться, поскольку мы знали, что партаппарат не выбирает средств в борьбе против своих политических противников. В то же время мы понимали, что идеи реформы среди большинства партработников, да и среди населения, стали очень популярными; что нас не смогут так легко заставить замолчать. Мы рассчитывали на широкую общественную поддержку и знали, что только политическая победа над Новотным может спасти осуществление реформ. Без политической борьбы и победы вся предыдущая работа перечеркивалась и так называемая реформа превращалась в фарс. Тогда я лично вступил на путь целенаправленной политической борьбы, используя при этом все средства, которые имел в своем распоряжении.
6. С РЕФОРМОЙ В МОСКВУ
Весной 1965 года из Института экономики советской Академии наук я получил приглашение приехать в Москву и прочитать лекции о ходе нашей реформы. Кроме того, сотрудники института хотели что-нибудь услышать о моей новой книге, которая год назад была опубликована в Праге под названием «К проблематике социалистических товарных отношений». Под термином «товарные отношения» при социализме понимались, по существу, рыночные отношения. У меня была возможность побеседовать с советскими экономистами, которые — как я полагал—обладали в Академии наук несколько большей свободой для своих исследований, чем, например, экономисты в Высшей партийной школе. Сравнительно быстро я заметил, что у ряда из них было критическое отношение к старой системе планирования. Об этом со мной говорили лишь в том случае, когда мы оставались один на один. Едва количество присутствующих увеличивалось, все становились очень осторожными и придерживались старых, общепринятых формулировок.
Когда же появлялся директор института экономики К. Плотников, дискуссия полностью прекращалась. И говорил уже только он один. Это был старый догма-
192
тик, который уже в 30-х годах принадлежал к числу сталинских экономистов. Любую реформаторскую идею он считал ревизионистским уклоном от чистой марксистско-ленинской теории. Рядом с этим человеком я вынужден был быть осторожным в своих высказываниях.
Тем не менее атмосфера в 1965 году была уже в целом иной, чем еще несколько лет назад. В начале 60-х годов в СССР происходила экономическая дискуссия, за которой можно’было следить по публикациям во многих журналах. Открыто писалось о недостатках системы планирования и о способах их устранения. Еще в 1964 году ЧССР посетил Либерман. Тот самый экономист, который своей знаменитой статьей открыл дискуссию по экономическим проблемам в СССР. Мы с ним могли открыто говорить о наших реформистских замыслах, и он понял, что разработанная нами концепция продумана более комплексно, чем отдельные предложения советских экономистов. Поэтому экономисты советского академического института в 1965 году уже не выступали так открыто, хотя официально еще говорилось о реформе Косыгина. При этом во время дискуссий никто не хотел касаться фундаментальных основ директивной системы планирования, а уж о рынке вообще нельзя было говорить. Линия партии изменилась, и науке снова указали место.
Вторую лекцию я должен был прочитать перед аудиторией, которую составляли в основном сотрудники крупного института Госплана, а также работники планового учреждения. Руководство института, которое находилось в определенной зависимости от планового учреждения, также хотело узнать побольше о наших реформистских устремлениях. В большом зале собралось несколько сот слушателей.
Я знал, что здесь надо быть особенно осторожным. Поэтому я решил начать с описания того, к каким потерям привела наша прежняя плановая система и к каким действиям, идущим вразрез с народнохозяйственными интересами, она вынуждала предприятия. Например, чтобы выполнить задания по производительности труда, они отдавали предпочтение производству той продукции, которая имела высокую материалоемкость. Затронув этот вопрос, я обратил внимание, что слушатели с задних рядов смеются, и когда я продолжил, то от193
туда же раздались возгласы: «Вот это у нас тоже так». В первых рядах сидели пожилые, почтенные люди, которые, вероятно, представляли руководящий состав. Их лица, хотя и не отражали отрицательного отношения, были строгими и сдержанными. Зато в последних рядах сидела молодая, смеющаяся и поддакивающая публика, простые, неизвестные мне люди. Потом уже никто в ходе официальной дискуссии критически не высказывался.
Когда же речь зашла о том, как провалилась попытка исчислять производительность труда с помощью показателя чистой продукции (валовая продукция минус материальные издержки и амортизация), поскольку предприятия отдавали предпочтение производству продукции, цена на которую давала наибольшую прибыль, лица всех слушателей посерьезнели. Ведь это был тот самый способ измерения производительности труда, который использовали в СССР. Когда же я сделал вывод, что никакой способ исчисления производительности труда не может стимулировать рыночную конкуренцию и заинтересованность предприятий в получении прибыли, в зале наступила полная тишина. Я снова почувствовал, что большинство присутствующих со мной соглашалось—это было видно по их задумчивым лицам и одобрительным кивкам, однако открыто выразить свою точку зрения никто не осмеливался. После лекции мне передали приглашение председателя Госплана Николая Байбакова посетить его учреждение во второй половине дня. Я чувствовал себя неспокойно в ожидании, что же он хочет услышать от меня и как себя поведет. Он принял меня очень дружески, хотя я знал, что о моей лекции он уже информирован. Наконец он задал важный вопрос:
— Каким образом вы собираетесь наладить производство в рамках ваших обязательств в СЭВ?
В этом можно было усмотреть искренний интерес советской стороны.
Я ему объяснил, что все производственные задания, которые стояли перед нашими предприятиями по линии государственных договоров, будут входить в категорию обязательных государственных заказов. При этом если цены в рамках договора будут отличаться от цен, которые предприятия обычно получают за указанную продукцию, то государство будет выплачивать це194
новую разницу из своего кармана, чтобы предприятие не осталось в накладе. Такой ответ, как мне показалось, Байбакова удовлетворил.
Тогда я позволил себе шаг, который его, вероятно, удивил:
— Товарищ Байбаков, пока в СЭВ соглашения будут заключаться административными методами и взаимные поставки не будут осуществляться по реальным рыночным ценам, которые позволили бы любой стране четко рассчитывать свои прибыль и затраты, то сотрудничество будет способствовать не повышению эффективности, а, наоборот, ее снижению. Каждая социалистическая страна должна иметь право рассчитать, насколько отличается цена, по которой она получит определенную продукцию от другой социалистической страны или заплатит ей за определенный товар, от цен капиталистического рынка.
Моя точка зрения его очень удивила, поэтому он сразу же возразил:
— Это предполагает, что существующая в каждой социалистической стране валюта должна быть сравнима с капиталистической валютой. Но это несовместимо с социалистической плановой системой.
Было ясно, что использование конвертируемых валют нереально до тех пор, пока прежняя, директивная плановая система не обеспечит в социалистических странах производство, способное конкурировать на западных рынках и поддерживать равновесие платежного баланса. Но я не мог углубляться так далеко в поисках аргументов, поскольку тем самым я вторгся бы в область советской экономической политики. Поэтому я выдвинул аргумент, который поставил Байбакова в затруднительное положение:
— Но, товарищ Байбаков, было бы достаточно, если бы советский рубль в качестве основной социалистической валюты стал конвертируемым, а валюты других социалистических стран были бы с ним связаны реальным пересчетным курсом. Ведь и рубль мог бы иметь золотое содержание и быть конвертируемым, как некогда «золотой червонец», введенный по личному указанию Ленина.
У Байбакова на минуту перехватило дыхание. Против ленинского «золотого червонца» возразить ему было нечего. Вероятно, он действительно хотел обдумать 195
эту мысль, поэтому закончил дискуссию тем, что пообещал принять это во внимание. Я был убежден, что никакие пусть даже огромные природные запасы золота не смогут предотвратить отток золота из СССР, пока советская экономика не будет работать с более высокой отдачей, пока не будет в полной мере удовлетворять народнохозяйственные потребности и конкурировать на внешних рынках. Пассивный платежный баланс всегда будет покрываться золотом. Качественно новое развитие производства не могло быть достигнуто путем «косыгинской реформы», и, как можно сейчас констатировать, это не удалось сделать до сегодняшнего дня.
В любом случае поездка в СССР показала, что при новом политическом руководстве ничто принципиально не изменится и от этой страны нельзя ждать никакой поддержки нашим преобразованиям. Тем с большими усилиями мы должны были бороться за относительно самостоятельное и более решительное политическое руководство, иначе все будет потеряно на долгие годы, а наша экономика будет влачить жалкое существование, разбившись о низкую эффективность.
Хотя у меня не было никаких полномочий, а процесс реализации преобразований не подчинялся комиссии по реформе, меня тем не менее обнадеживал тот факт, что Политбюро не отважилось распустить нашу комиссию. Наоборот, оно поручило ей и дальше работать над проектом по совершенствованию и ускорению развития реформы, поскольку благодаря своим целям и деятельности эта комиссия снискала популярность. Поэтому Новотный, с одной стороны, пытался с помощью аппарата нашу реформу похоронить, а с другой — под усиливающимся давлением общественности был вынужден официально поддерживать деятельность комиссии.
Благодаря логике наших идей нам удалось заручиться поддержкой широких слоев населения (в том числе простых членов партии), и в этом заключалась наша сила. Кроме того, нам все большую поддержку оказывали работники средств массовой информации, и прежде всего печати — работники многих областных газет, а также всевозможных общегосударственных журналов. Они добровольно отдавали в наше распоряжение страницы своих изданий, чтобы мы могли распростра196
нять и разъяснять наши идеи. Одновременно росло число приглашений от районных партийных функционеров и предприятий со всей страны, чтобы я выступил с лекциями. Одно из первых интервью, в котором я мог сообщить общественности Запада о наших замыслах, было опубликовано графиней Марион фон Дейнхофф/ в газете «Ди цайт». Весьма неожиданно ей удалось Проникнуть ко мне в институт, поскольку она вовремя поняла, что отсюда начинается большое движение. Целую страницу газеты она посвятила репортажу из Праги о наших революционных идеях и проводимой работе. Я был этому очень рад, так как поддержка мировой общественности нам была крайне необходима; ее не могло игнорировать даже руководство Новотного. С этого момента число наших публикаций за рубежом росло то чуть лучше, то чуть хуже. Если коротко, я давал интервью журналам «Файнэншл тайме», «Мессаджеро», а также «Ринашита» (Италия), «Экономист» (Англия) и др. Для нас это были, уже в 1964 году, самые важные встречи с общественностью на страницах всемирно известных журналов.
В 1965 году я познакомил с нашими идеями общественность ГДР во время международной конференции в Лейпциге «Экономические отношения между двумя социальными системами». Значительное внимание моему выступлению уделила «Нойес Дойчланд», хотя целый ряд ведущих экономистов ГДР отреагировал на мою теорию крайне отрицательно и высказался с догматических позиций. Я понял, что догматизм в ГДР имеет более глубокие корни, чем в Советском Союзе, а теоретики из ГДР хотят быть большими католиками, чем папа римский.
Важным событием в нашей борьбе за ускоренное проведение в жизнь реформы в 1965 году стали мои дискуссионные выступления на двух заседаниях Центрального Комитета партии. На январском заседании, на котором был принят окончательный проект реформы, я смог в своем относительно продолжительном выступлении показать противоречия между старой системой планирования и новым отношением плана и рынка; тем самым я более четко выделил наши цели по сравнению с указанными в официальном проекте. В то же время я предостерегал от бюрократических попыток ставить рыночные отношения на одну доску со старым поня197
тием хозрасчета (в смысле хозяйственных расчетов). Мое выступление было целиком опубликовано 5 февраля 1965 года в «Руде право».
На втором заседании ЦК в августе 1965-го я был вынужден подвергнуть резкой критике отраслевые министерства за недоброжелательное отношение к реформе. Под прикрытием фраз о новых экономических методах управления они и дальше использовали старые, административные, директивные методьь Все настойчивее на предприятиях поднимался вопрос о том, что же, собственно, с реформой изменилось, когда деятельность и «экспериментальных» предприятий попрежнему регламентируется сверху. Было ясно, что в центральных органах никому даже в голову не приходило, чтобы изменить свое собственное отношение к работе.
В центральном аппарате страны и в правительстве распространилось чувство определенного самодовольства, так как показатели производства в 1965 году стали опять расти. Тем самым это подкрепило их представление о том, что все у нас не так плохо и что менять прежнюю систему планирования и управления нет необходимости. Поэтому в своем выступлении в ЦК я был вынужден привести множество фактов, которые доказывали, что в стране Вместо роста производительности наблюдается определенное снижение эффективности. Это выступление было полностью напечатано в «Руде право» и сыграло важную роль в нашем стремлении информировать население, научить его различать реальные цели реформы и старые бюрократические методы управления.
Однако дело было не в количестве моих статей и выступлений, главное заключалось в том, что они обогащали мои знания и опыт и я мог более доходчиво разъяснять новые пути и методы как внутри, так и вне партии. Это уже не были премудрости чуждой реальности идеологии, непонятную фразеологию которой нормальный человек не воспринимал и не хотел слышать. Мы создали теорию, которая соответствовала опыту людей, объясняла им причины тех негативных явлений, с которыми они сталкивались в своей повседневной жизни, и при этом намечала пути устранения этих явлений. Поэтому люди к нам прислушивались и все больше с нами соглашались. Только благодаря 198
этому наша комиссия становилась реальной силой, которая все больше вынуждала Новотного занять оборону.
7. СИГНАЛ НА XIII СЪЕЗДЕ ПАРТИИ
1966 год обещал быть самым напряженным и наиболее богатым событиями в нашей борьбе за более последовательную и быструю реализацию наших реформистских целей. В этом году проходил XIII съезд партии, и все свои силы я сосредоточил на ускорении и углублении реформы наперекор всем попыткам похоронить ее. Оказалось, что масштабный пересчет оптовых цен может быть проведен быстрее, чем предполагалось ранее. Противники реформы уговаривали Политбюро, чтобы в 1966 году были введены в действие лишь некоторые принципы реформы и чтобы только через три года после изменения оптовых цен можно было приступать к реализации комплексной реформы. Тем самым осуществление реформы фактически отодвигалось на неопределенный срок. В СССР между тем ни о каких реформах уже не говорили, поэтому наше Политбюро посчитало, что и у нас подобным образом произойдет «укрощение» мысли. Сроки изменения оптовых цен должны были растянуться, а затем и приостановиться. Это означало прекращение движения и в остальных направлениях, которые должны были привести к реальному функционированию рыночного механизма (единое налогообложение, зависимость заработной платы от доходов, целенаправленный переход к рыночным ценам и т.д.). Директивное управление предприятиями становилось опять неизбежным. Этот сценарий мы должны были сорвать любой ценой. Мне удалось опубликовать в «Руде право» принципиальную статью, которая шла в номерах с продолжением за 18, 22, 23 февраля. Довольно большое число редакторов «Руде право» были за реформу и сумели себя поставить по отношению к главному редактору (консерватору Швестке) так, что мои статьи всегда печатались.
Статья была задумана таким образом, будто она отражала официальную линию партийного руководства. Фактически же я в ней полемизировал со всеми точками зрения, которые Новотный в тот период лично защищал. Не называя его конкретно, я писал о «некото199
рых товарищах», которые причину наших экономических трудностей видят не в неверных методах управления, а в снижении партийной дисциплины в связи с критикой культа личности Сталина. Вместо реформы они вновь требовали введения твердой рукой железной дисциплины, чтобы снова поднять авторитет партии. Выступив против этих положений и изложив значение последовательных шагов реформы, я де-факто опроверг высказывания Новотного. Он был вынужден открыто поддержать реформу.
Всякий раз это тотчас находило соответствующий отклик в иностранных газетах. Так, например, в «Нойес цюрихер цайтунг» уже 25 февраля 1966 года было опубликовано сообщение о моей статье с некоторыми наиболее важными положениями. Журнал «Виртшафтсдинст» в Федеративной Республике Германии в марте напечатал мое интервью. А в начале апреля издательство «Молден» в Вене с большой рекламой выпустило мою книгу «План и рынок при социализме». Это был значительно переработанный и дополненный вариант книги «К проблематике социалистических товарных отношений». Несколько позднее этот текст был опубликован и на чешском языке. Новотный и все Политбюро точно не знали, как им реагировать на нашу активность. Наша деятельность была спланирована таким образом, чтобы в целом наши выступления соответствовали постановлениям по реформе партийного руководства, что формально было тоже верно! Конечно, наши выступления и публикации были направлены против попыток Новотного .предать реформу забвению. Однако, хорошо сознавая настроения людей, которые нас поддерживали, Политбюро не_ осмелилось применить по отношению к нам административные меры. Наоборот, (Новотный был вынужден на собраниях общественности выступать в качестве сторонника реформь]] Учитывая растущую поддержку, которую лично мне на моих выступлениях оказывали, а также предложение президента Чехословацкой академии наук, ,партийный аппарат не мог воспрепятствовать тому, чтобы (в конце апреля я получил высшую научную-Награду] Каждый год отмечались выдающиеся трудовые успехи, присуждались ордена различных степеней с соответствующими почетными званиями Героя Социалистического Труда — орден Республики, орден Труда.
200
Одновременно авторам выдающихся научных работ и художественных произведений присуждались государственные премии им. Клемента Готвальда со званием лауреата Государственной премии им. Клемента Готвальда. Президиум академии отнесся к моему труду весьма благосклонно, поскольку однозначно (за одним исключением, о котором я уже писал) поддерживал реформу. Так возникло предложение о моем награждении— насколько я знаю, это было первым награждением за деятельность в области общественных наук.
Партийный аппарат, а также сам Новотный не осмелились пренебречь этим предложением. Наоборот, Новотный пытался выразить свое полное с этим согласие. Во время награждений дипломы вручал премьерминистр Ленарт, а затем Новотный подавал лауреатам руку и говорил несколько слов. Когда подошла моя очередь, он лишь холодно улыбнулся. Зато я не мог удержаться, чтобы не сказать ему: «Спасибо тебе за это высшее признание моей реформаторской деятельности». Новотный давно уже понял, что я сделал все, чтобы о реформе не забыли и не превратили ее в нечто бесформенное.
Мы заметили, как—по сравнению с отношением Новотного — коренным образом менялось отношение Кольдера к нашей комиссии. Так, если сначала мои проекты его интересовали, поскольку их поддерживал Новотный, то потом он стал поддерживать реформу тем больше, чем больше Новотный от нее отворачивался. Это относится и к отделу партийного аппарата по народнохозяйственному планированию, который подчинялся Кольдеру и с которым мы работали над изданием документа по ускорению реализации реформы.
Речь шла о проекте под названием «Принципы ускоренной реализации нового способа управления», который по указанию соответствующего партийного отдела был разработан государственной комиссией по управлению и реорганизации. Но на этот раз разработка была осуществлена на основе наших материалов, которые еще раньше были одобрены Д. Кольдером. В формулировке чернового варианта мы принимали непосредственное участие, и с этим проектом я мог полностью согласиться. Кольдеру удалось этот проект провести как предварительный вариант 201
для готовящихся заключительных материалов съезда.
Мы быстро и со спокойной совестью согласились: одно из самых важных условий — пересчет оптовых цен — было подготовлено даже раньше, чем мы ожидали, так что уже в 1967 году можно было рассчитывать на новые оптовые цены. Прежние, произвольно устанавливаемые цены были с производственными издержками настолько несоизмеримы, что включали в себя совершенно другие доходы. Некоторые цены давали относительно высокий прирост прибыли, другие— низкий, были цены с нулевой прибылью, и, наконец, существовали цены, уровень которых в течение многих лет был ниже производственных затрат. Разумеется, установление зависимости заработной платы от доходов предприятия при ликвидации директивного планирования привело бы в таких условиях к дальнейшему предпочтительному производству товаров с высокой рентабельностью. А если бы еще был осуществлен непосредственный переход от прежних, административно устанавливаемых цен к свободным рыночным ценам, то все относительно низкие цены в условиях более высокого спроса на определенную продукцию неимоверно бы выросли и вызвали колоссальную продолжительную инфляцию.
XIII съезд партии проходил с 31 мая по 4 июня 1966 года во Дворце съездов. Полагаю, что присутствовало примерно две тысячи делегатов и большое число гостей. Приехали делегации почти всех коммунистических партий (за исключением китайцев). Советскую делегацию возглавлял Леонид Брежнев. Как всегда, по случаю съезда были организованы торжества, и во время заседаний передано огромное количество приветствий.
К выступлению в дискуссии я подготовился очень тщательно. Мне хотелось получить не только сильную поддержку для ускорения экономической реформы, но и указать на те преграды, которые бюрократы и догматики воздвигают на пути реформы. Кроме того, я полагал, что наступило время говорить о необходимости демократизации в политической сфере, внутри и вне самой партии и в ее внешней политике. Я обсудил это со своими лучшими друзьями, и все сошлись на том, что именно сейчас настал тот момент, когда мы должны 202
решиться на этот поступок. Конечно, мы знали, что нам придется сделать необходимый реверанс в сторону партии, социализма и коммунизма, с тем чтобы призыв к демократии не был воспринят как антисоциалистический.
Сразу же, в первый день, собственно, уже в первые часы партийного съезда, я подал заявку для участия в дискуссии, так как по опыту знал, что дискуссия из-за недостатка времени может закончиться преждевременно и тот, кто подал заявку позднее, слова не получит. Я видел, что мое заявление на столе председателя было первым. Распорядок партийного съезда предполагал каждый день после докладов проведение многочасовой дискуссии. Если бы все протекало по регламенту, то в порядке очереди я должен был выступать сразу же после основного доклада Новотного. Тем самым после его выступления общего характера внимание делегатов переключилось бы на неотложные проблемы реформы.
Однако уже скоро я заметил, что дискуссия идет не своим обычным ходом, а искусно управляется. Ни в первый, ни во второй день мне не дали слова для выступления в прениях. Я понял, что мою заявку постоянно откладывают. Вечером я потребовал от Кольдера объяснений, что происходит; естественно, я что-то недоброе предчувствовал. Кольдер выворачивался, говорил намеками, из чего я понял, что Новотный вообще не хочет давать мне слова. Он хорошо знал о моих намерениях повернуть дискуссию в радикальное русло, в то время как сам он в основном политическом докладе не сказал о реформе ни слова. Что-то должно было произойти!
На партийном съезде присутствовало много сторонников реформы, и они один за другим подходили ко мне с вопросом, почему я не выступаю в прениях. Я объяснил, что Новотный не хочет давать мне слова, несмотря на то что я подал заявку первым. Это понеслось, как лавина Большинство делегатов ожидало, что здесь они узнают побольше о реформе, смогут рассказать об этом на предприятиях; там, среди рабочих, росла неудовлетворенность, так как никаких изменений и улучшений не наблюдалось. Делегаты понимали, что ничего не смогут узнать и что руководителю комиссии по реформе вообще не дают слова для обсуждения. Раздражение нарастало с каждым днем, буквально е каж=- 203
дым часом; в президиуме партийного съезда скапливались записки с вопросами, почему не выступает Шик, и с требованиями предоставить ему слово.
В предпоследний день вечером, после заседания, как обычно, Политбюро собралось с областными секретарями на совет о дальнейшем ходе съезда. Пришлось выслушать много вопросов и протестов по поводу моего неучастия в дискуссии. Новотный же ничего не хотел об этом и слышать и по-прежнему пытался препятствовать моему выступлению. Но большинство секретарей из областей не знали, как все это объяснить делегатам, поскольку о том, что Новотный не хочет давать слова Шику, уже открыто говорилось. Давление на Новотного усиливалось; вероятно, Кольдер принял решение, когда сказал, что нельзя принять постановление о дальнейшем развитии экономической реформы, не заслушав при этом руководителя комиссии, которая эту реформу разрабатывала.
Тогда они решили, что я должен выступить в последний день сразу же, с утра, в качестве последнего выступающего. Последний день (собственно, уже полдня) был посвящен принятию постановления и выборам. Потом Новотный все-таки настоял на том, чтобы мое слово не было последним, и сказал, что после меня выступит Черник, который, будучи министром планирования, несет ответственность за реализацию реформы. Новотный хотел, чтобы Черник мое слишком радикальное выступление направил в нужное русло.
На следующее утро меня первым пригласили на трибуну. В зале зашумели, и я знал, что большинство делегатов с напряжением ждет моего доклада. Все уже поняли, что за кулисами шла борьба за реформу.
В своей речи я резко критиковал тех, кто стремился затормозить реформу, а в конце внес предложение о политической демократизации нашего общества. Во время моего выступления наступила напряженная тишина, которая все чаще нарушалась аплодисментами. Когда я закончил свою речь призывом к демократизации, раздались бурные овации, которые имели явно демонстративный характер. Я уже сидел на своем месте, а делегаты все еще аплодировали. Все это надо было видеть. Внизу рукоплескал весь зал, а наверху сидел президиум, в середине — Новотный и Брежнев с каменными, застывшими лицами. Когда я сходил с трибуны, 204
то заметил, что некоторые из президиума с краю тоже стали хлопать, но потом быстро взяли равнение на середину и тоже «окаменели». Ничего подобного на партийном съезде еще никогда не происходило. Это явилось выражением всеобщего протеста в адрес партийного руководства, и прежде всего Новотного. Было видно, что и Брежнева это шокировало — ничего подобного он еще не переживал.
Пока выступал, я, естественно, не видел, кто находится за моей спиной и как сидевшие в президиуме реагировали на мое выступление. Намного позднее, уже в изгнании, в Швейцарии, в одном фильме об И. Пеликане, который сняло Швейцарское телевидение, я вдруг увидел кадры с того партийного съезда и как раз ту самую часть, где я стою на трибуне. Я не знал, что уже тогда, во время партийного съезда, фотографировали и снимали фильм, а теперь за своей спиной я видел лица Новотного и Брежнева (ему, естественно, все синхронно переводили), которые мрачно смотрели перед собой и своими взглядами старались как бы загипнотизировать зал.
Сразу же по окончании партийного съезда меня разыскал очень раздраженный Гендрих и дал мне понять, что некоторыми частями выступления он был недоволен. Особенно возмутил его призыв к демократизации политической жизни. Он посчитал его излишним, так как, по его словам, это выглядело так, будто бы у нас до сих пор не было никакой демократии. При этом утверждал, что наша демократия выше буржуазной, поскольку мы ликвидировали класс капиталистов и его господство над рабочими. Призывая к демократии, говорил он, надо было обязательно привести этот аргумент, иначе это выглядит так, будто я нахожусь по одну сторону с буржуазной критикой «недемократичности» социалистического строя. Я ответил, что сейчас мы не можем более подробно обсуждать проблему «демократизации при социализме» и что нет необходимости в том, чтобы он поучал меня в вопросе ликвидации классовых отношений. В любом случае и при социализме существуют большие противоречия интересов и различные взгляды на перспективы развития социалистического строя, которые внутри существующих общественных структур не могли в достаточной степени проявиться. Преодоление имеющихся различий в инте205
ресах и взглядах должно происходить демократическим путем. И в этой области нам следовало бы провести реформы, с помощью которых возникшая демократия исключала бы возврат к капитализму.
Гендриху не хотелось втягиваться в теоретическую дискуссию. По всему было видно, что он имеет в виду что-то конкретное, а именно мое согласие на то, чтобы последний абзац моего выступления — требование демократизации— при публикации в «Руде право» был опущен. Он дал мне понять, что это также желание товарища Новотного. Так вот откуда дует ветер! Новотный хотел, чтобы самая важная часть моего выступления не была напечатана. Разозлившись, я категорически отверг это предложение и, повысив голос, сказал, что это есть лучшее доказательство того, как нам необходима демократия. Гендрих поспешил меня успокоить уже потому, что вокруг нас стали собираться другие участники съезда, и прошептал: «Ну, если ты на этом настаиваешь, опубликуем все твое выступление, но ты должен знать, что не все в партийном руководстве это поймут и тебе придется за это отвечать».
Это была тихая угроза от человека, который последние годы пытался при Новотном снискать себе имя «нового человека».
Уже на следующий день, 5 июня 1966 года, мое выступление было напечатано в воскресном номере «Руде право», и все-таки в несколько сокращенном виде. В один из последующих дней меня вызвал к себе Новотный для выговора.
— Ну чем ты опять недоволен? Разве мы не постановили, что проведем экономическую реформу? Товарищи, которые несут ответственность за экономику, справедливо опасаются, что ты все делаешь слишком поспешно. Нам нужны сейчас тишина и покой и прежде всего дисциплина, да, дисциплина!
Я спросил его, ничего не объясняя:
— Почему ты не хотел, чтобы я выступал в прениях? Почему ты стремишься оттянуть проведение реформы?
— Да, мне не хотелось, чтобы ты выступал, я знал, что это опять вызовет волнения. И опять оказался прав, не надо было выпускать тебя на трибуну!
Теперь он это сам мне подтверждал. В этом же он потом упрекнул Кольдера: «Мне не надо было позво206
лять тебе предоставлять слово Шику. Ему нельзя было выступать! Ты несешь за это ответственность!»
Мы с Новотным наговорили друг другу еще много резких слов. Но одновременно я чувствовал, насколько он политически в себе неуверен. Вероятно, и он заметил недовольство Брежнева, поставив мне это в вину. Он видел, как реагировали на мои слова делегаты, и знал, что в Политбюро против него возникает тихая, но крепнущая оппозиция. Было предостаточно тех, кто готовился при первом же случае выступить против него, а позже занять его же место. Как это делается в Советском Союзе, им уже показали.
ОБЩЕСТВО НА ПЕРЕЛОМЕ
Съезд партии мог быть назначен на начало июня или даже на май, то есть тогда, когда о военном вмешательстве «братских стран» еще никто и не помышлял. Точно так же можно утверждать, что быстрейшее устранение с руководящих политических постов консервативных и реакционных сил положило бы конец постоянным провокациям и не привело бы к «призыву о помощи». Военное вторжение не могло бы так легко осуществиться, если бы уже прошел единый съезд партии и было избрано новое руководство, имеющее ясные демократические и социалистические цели... За ускорение проведения съезда партии я боролся в первые месяцы весны, но, к сожалению, эту борьбу я проиграл.
1. ПИСАТЕЛИ БУНТУЮТ
Съезд партии принял решение ускорить реализацию реформы, и с 1 января 1967 года управление народным хозяйством должно было осуществляться по-новому. Однако сопротивление огромного бюрократического аппарата, который имел мощную поддержку Новотного, было еще далеко не сломлено. Прежде всего ничего не изменилось, да и не могло измениться, в кадровой политике.
Это означало, что партийный аппарат не только сохранил на тех же постах прежних, неспособных руководителей предприятий, но и новые руководители трестов и комбинатов выбирались в первую очередь по критерию лояльного отношения к партийному аппарату и затем уже в зависимости от способностей. После съезда партии для нас это означало необходимость усилить прежде всего борьбу за демократизацию в экономике и политике и в обеих сферах выдвинуть на руководящие должности наиболее способных людей.
Еще до съезда партии я ненадолго ездил в Будапешт, для того чтобы обсудить вопросы, связанные с ускорением реформы. С 1964 года я посетил Венгрию несколько раз. В 1964 году там также была создана комиссия по экономической реформе, и экономисты дискутировали по тем же проблемам и решениям, которые обсуждались и в нашей стране. В отличие от нас работой над проектами непосредственно руководил занимавший в то время пост секретаря ЦК по экономическим проблемам Реже Ньерш. Первый секретарь Янош Кадар не только положительно относился к глубокой экономической реформе, но и был ее инициатором. Благодаря этому я имел возможность обмениваться мнениями непосредственно с Ньершем.
Однако наиболее тесные контакты я имел с Томашем Надем, одним из сотрудников Института экономики Венгерской академии наук, который принимал ак210
тивное участие в разработке проектов реформы. Очень быстро у меня установились хорошие отношения со всеми другими венгерскими экономистамиреформаторами. Венгрия оказалась единственной страной из стран восточного блока, которая опубликовала мою книгу «План и рынок при социализме». Мне вспоминается одна лекция, прочитанная мною в Будапеште, в которой анализ старой системы и наш проект реформы были с восторгом восприняты всей аудиторией.
С венгерскими экономистами мы с самого начала находились в тесном контакте, и основные черты обоих проектов реформы были очень похожи. Однако одно очень существенное различие заключалось в том, что венгерским реформаторам покровительствовал сам Кадар, в то время как мы должны были осуществлять реформы, преодолевая сильное сопротивление Новотного] Поэтому мы были вынуждены начать нелегкую политическую борьбу, связанную с большим риском.
После съезда партии политическая жизнь не пришла в норму, как того желал Новотный, наоборот, недовольство и беспокойство людей росли. Наиболее открыто такие настроения выражали писатели и кинематографисты. Еще до съезда партии Союз кинематографистов пригласил меня прочитать в Доме писателей лекцию, с тем чтобы я подробно рассказал о борьбе за экономическую реформу. Я чувствовал, что разговариваю с единомышленниками, и потому довольно критически говорил о стремлении Новотного свернуть реформу. Дискуссия получилась открытой и острой. Многие не скрывали своего презрительного отношения к руководству Новотного и к режиму в целом.
Съезд партии окончательно убедил меня в том, что Новотный и вся старая партийная бюрократия в действительности не заинтересованы в осуществлении прогрессивных преобразований и что именно в политической и культурной жизни никакой либерализации и демократизации ждать не приходится. Более того, в 1966 году против некоторых писателей предпринимаются репрессивные меры. В такой раскаленной атмосфере в июне 1967 года состоялся IV съезд Союза писателей. На этот съезд, как всегда, была направлена официальная партийная делегация во главе с И. Гендрихом—секретарем ЦК по идеологии.
Гендрих также был в концлагере Маутхаузен, где 211
я с ним и познакомился. Там он не входил в подпольное руководство партии и держался в стороне, хотя до войны был партийным секретарем в Кладно. Сразу же после войны он начал работать в отделе агитации и пропаганды секретариата ЦК в качестве заведующего сектором агитации. Несколько позднее, в 1951 году, после устранения Сланского, Гендрих был назначен одним из секретарей ЦК. Так как еще при Сланском он занимал высокие посты в секретариате и ему инкриминировалась недостаточная бдительность в отношении «предателей», а в остальном он был «чист», то в 1952 году он был переведен на более низкую должность в секретариате областного комитета партии в ЧескеБудеёвице. Но уже в 1954 году Новотный отозвал его с этого поста и снова назначил секретарем ЦК. Гендрих, который с 1958 года являлся членом Политбюро, был отъявленным догматиком. Он умел изысканно говорить, но дальше марксистско-ленинского мышления не поднимался.
Когда он увидел, что Новотный лишился благосклонности Москвы, то посчитал, что сможет занять его место. Как я позднее узнал, в различных беседах он намекал, что Новотный не выступает решительно против тех членов партии, которые подрывают ее авторитет. Одновременно он создавал впечатление, что склонен развивать марксистско-ленинскую теорию дальше, но не может отклоняться от ее основных принципов. Был «за прогресс», но «в рамках закона». Я часто про себя думал: «Только бы не стал этот демагог Первым секретарем, иначе нам, реформаторам, конец». Если Новотный был прагматиком, ничего не понимающим в идеологии, то Гендрих был полуобразованным проповедником принципов, привыкшим все и всех раскладывать по полочкам.
Наши реформистские идеи на его полочках не укладывались, поэтому с самого начала он относился к ним и лично ко мне недоверчиво. К счастью, он вообще ничего не понимал в экономике, поэтому не осмеливался о ней говорить. Зато он поддерживал философские взгляды Радована Рихты. Книга Рихты «Цивилизация на распутье», в которой описываются радужные перспективы коммунистического общества на основе мощного научно-технического прогресса, явно очаровала Гендриха. Такое идеальное представление о будущем 212
было именно тем, что, но его мнению, в настоящее время необходимо народу. «Человек всесторонне разовьется, и существующие сейчас материальные заботы безвозвратно исчезнут».
Поддерживая и разделяя идеи Рихты, Гендрих согласился с тем, чтобы исследовательская группа, которая была создана во главе с Рихтой, работала над поставленной партией задачей. Эта группа занималась проблемами научно-технической революции и общественными условиями ее осуществления. Наша группа по реформе с уважением относилась к исследованиям будущего, хотя они и не могли способствовать решению современных практических задач. С помощью нескольких сотрудников (прежде всего И. Косты) мы наладили совместную работу с группой Рихты. В период, который предшествовал «пражской весне», и в ходе ее Рихта был заинтересован в сотрудничестве с нами. Вместе с тем я относился к Рихте настороженно, так как Гендрих все время пытался представить его идеи главенствующими над нашими «мелкими материальными целями». Наша реформа, по Гендриху, является необходимой уступкой «вчерашнему дню», в то время как идеи Рихты были направлены на «окрыленное будущее». Одно надо было терпеть, другое как великую цель возвеличивать.
Поддержка Гендриха воодушевляла Рихту, и он чувствовал себя великим философом и футурологом. О том, что экономическая реформа является основным условием любого развития производительных сил и без нее нельзя достичь никакой современной научнотехнической революции,— об этом Рихта не сказал ни слова. Он не желал также видеть, что Гендрих, увлеченный «перспективами» развития, стремится подавить экономическую реформу. В своих статьях Рихта выдвигал на первый план техническое развитие, но никогда не говорил, что его можно достичь только с помощью рыночного воздействия на производство. Он никогда ничего не делал, что отклонялось бы от линии партии, и поэтому то, что после военной оккупации Чехословакии он сразу же оказался в лагере «нормализаторов», не было случайным.
Итак, Гендрих пришел как руководитель делегации на IV съезд писателей и здесь был вынужден выслушать критику политики партии и партийного руководства. 213
Он был вне себя от злости. И это несмотря на то, что он был готов к такому повороту событий, поскольку соответствующий отдел ЦК имел проект резолюции, которая привела его в такое состояние и содержание которой он резко критиковал. Поэтому во время своего выступления он громил «идеологическую диверсию», «антисоциалистических культурных революционеров» и т. д. Все, что после его выступления говорили многие известные писатели в адрес партийного руководства, воспринималось им как происки врагов партии.
Критические выступления М. Кундеры, А. Климента, Я. Климы, П. Когоута и др. в первый день съезда так взбесили Гендриха, что после выступления П. Когоута он покинул зал. На второй день после совещания в Политбюро Гендрих опять появился на съезде.
Критика была еще острее, чем в предыдущий день. Прежде всего Я. Прохазка, В. Гавел, Л. Вацулик и др. направили свою критику в адрес монопольной, тоталитарной диктатуры одной партии и призвали к свободе, демократии, гуманизму. Произошла острая словесная перепалка между Гендрихом и Вацуликом. Гендрих снова взял слово и набросился на некоторых писателей, которые там присутствовали; клеймил анархию, которая якобы господствует на съезде, а также распространяемые отдельными писателями реакционные взгляды, «осужденные историей». Любую критику партии, правительства и социализма он категорически отвергал, не давая сколько-нибудь аргументированного ответа ни на один из поставленных вопросов. На свою «твердую» позицию он, вероятно, получил благословение Новотного.
Политбюро приняло решение наказать писателей. Самые ярые критики—Л. Вацулик, В. Лим и Я. Клима— были исключены из партии. Я. Прохазка был выведен из ЦК партии (он являлся кандидатом в члены ЦК). П. Когоут получил выговор с предупреждением. Такое же наказание понес и М. Кундера. «Литерарни новины» получили нового главного редактора, преданного партии, а также государственный надзор. Союзу писателей был навязан новый президиум, в котором нашли «применение» многие консервативные писатели. Союз писателей оказался под строгим контролем, а Чешский литературный фонд был переведен в Министерство культуры.
214
Акции против писателей были осуществлены по решению Политбюро под давлением Новотного и Гендриха, однако некоторые члены Политбюро, такие, как Доланский, Черник и Кольдер, высказались против этого. Новотный громыхал на оДном из собраний: «Мы дали Шику возможность писать, что он хочет. Ему была дана возможность выступить на съезде партии с подстрекательской речью о демократии. Естественно, что если такое говорят на съезде партии, то писатели также начинают кричать: демократия, демократия».
Он не мог забыть моего выступления на съезде. За всем, что произошло потом, он почувствовал какой-то заговор. Не он, оказывается, виноват в том, что вынуждены призывать к демократии, а те, кто к ней призывает. Предпринятые действия против известных и уважаемых народом писателей вызвали возмущение и усилили оппозицию. Положение Новотного как политического лидера месяц от месяца становилось все более неустойчивым, кроме того, он постоянно допускал ошибки. Близилось время, когда он будет свергнут.
Следующую серьезную ошибку Новотный совершил, когда отдал личный приказ разогнать студенческую демонстрацию, состоявшуюся 31 октября 1967 года в Праге. Волнения среди студентов начались еще раньше. Съезд писателей придал неудовлетворенности студентов мощный импульс. Студенты потребовали создания организаций, где можно было бы открыто говорить о своих политических взглядах и выдвигать свои требования. Постановление официальной молодежной организации Чехословацкого коммунистического союза молодежи о создании клубов было использовано в сентябре 1967 года одной прогрессивной группой студентов, создавшей Клуб друзей искусства. Этот клуб стал местом встреч с оппозиционными писателями; тем самым студенты получили возможность знакомиться с критическими взглядами писателей и способствовать их распространению.
На это партийное руководство отреагировало исключением наиболее критически выступавших студентов из партии. Некоторые из них, например Л. Голечек, были исключены из университета и сразу призваны на военную службу. Но этим запугать студентов не удалось. Их критика, касавшаяся неудовлетворительных 215
условий проживания в общежитиях, становилась все резче.
Вечером 21 октября все началось с мирной демонстрации студентов из общежитий технических вузов на Страгове, где опять был выключен свет. С зажженными свечами они шли колоннами протеста к центру города, чтобы обратить внимание властей на свои трудности. Во время шествия колонна увеличилась до двух тысяч человек. Министр внутренних дел Кудрна мобилизовал против студентов полицию, которая набросилась на студентов с дубинками и слезоточивым газом. Студенты начали разбегаться, но полицейские преследовали их до университетских общежитий и избивали всех, кто попадался на пути.
Разгон демонстрации вызвал глубокое возмущение не только среди студентов, но и среди пражских рабочих, среди других жителей города. В начале ноября состоялись многочисленные студенческие собрания в знак солидарности со студентами, проживающими в общежитиях технических вузов. Партийному руководству передавались резолюции и требования студентов, которые настаивали на их выполнении не позднее 30 ноября. Волнения среди студентов распространились и на другие города. Студентов возмутила статья нового главного редактора газеты «Културни творба» Франтишека Колара, в которой он утверждал, что студенты распространяют западную антикоммунистическую пропаганду, в частности радиостанции «Свободная Европа», и находятся под влиянием «Литерарних новин». Все больше студентов, проявляя политическую активность, присоединялось к оппозиции. Трудности у Новотного увеличивались.
Основной ошибкой Новотного явилось нетерпимое отношение ко все более усиливавшейся оппозиции словаков. Он не переставал называть группу, концентрировавшуюся вокруг Гусака, носителями антисоциалистического, словацкого национализма. Я уже упомянул, что он не допустил, чтобы Гусак занял какую-нибудь руководящую должность. Ненависть Гусака к Новотному невероятно возросла. В Словакии Гусак поддерживал сопротивление пражскому централизму, и персонально Новотному.
Гусаку было нетрудно за спиной Новотного подпитывать и возбуждать неудовлетворенность словаков, 216
которые знали, что Словацкое национальное восстание против немецкого вермахта в конце войны не только не было оценено по достоинству, но и представлялось в искаженном свете партийным руководством. Многие словаки обоснованно указывали па то, что государственные политические органы не гарантируют равноправия обоих народов и что число политиков-чехов, настроенных против словаков, таких, как Новотный, будет все увеличиваться. Этот факт вызвал требование, которое тут же сформулировал Гусак, чтобы республика была преобразована в федерацию двух равноправных народов.
Ядро нашей группы по разработке реформы рассматривало Словацкое национальное движение как политическое выражение протеста против неправильной национальной политики партии, и мы положительно относились к требованию о федерализации государства. Наше одобрение вызвали статьи словацкого историка Милоша Гослеровского, в которых он со знанием дела обосновывал необходимость федеративного решения словацкой национальной проблемы. В лице Гусака мы видели отважного борца за проведение политической реформы, соратника в борьбе за свержение Новотного. Исходя из этой оценки, я согласился на его просьбу, переданную мне через одного общего знакомого, нелегально встретиться с ним, для того чтобы скоординировать наши действия в общей борьбе. В квартире этого знакомого — Эрнста Бартоша (позднее он также эмигрировал в Швейцарию) — мы договорились с Гусаком о наших дальнейших шагах.
Я уже тогда видел, что Гусака не интересуют наши реформистские экономические цели или он их просто не понимал. Он был переполнен своей огромной ненавистью к Новотному и в борьбе против него готов был объединиться с каждым, кто мог помочь ему свергнуть Новотного. Мы договорились с ним, что будем и дальше информировать друг друга о всех важных событиях и взаимно поддерживать действия друг друга. Я объяснял себе его вражду к Новотному вполне понятной реакцией на долгие годы, проведенные им в тюремном заключении, к чему Новотный приложил руку.
Оппозиционные голоса в Словакии быстро множились и оказали определенное воздействие на Первого секретаря Коммунистической партии Словакии Алек217
сандра Дубчека, которого Новотный послал как надежного кадрового работника в Словакию.
А. Дубчек был партийным деятелем еще с молодости. После Словацкого национального восстания, в котором он участвовал в двадцатилетием возрасте, он стал секретарем горкома в Тренчине, ас 1951 года работал в секретариате ЦК Компартии Словакии. Затем он быстро пошел в гору и уже в 1953 году был назначен секретарем областного комитета партии сначала в Банска-Бистрице, а с 1958 года в Братиславе. С 1955 по 1958 год он учился в Москве. Тотчас же по возвращении. так же как и я, на XI съезде КПЧ он был избран в Центральный Комитет.
Лично я познакомился с Дубчеком в 1955 году, когда проводил отпуск со своей семьей в охотничьем домике, принадлежавшем ЦК Компартии Словакии. Это было еще до его отъезда на учебу в Москву. Хотя мы жили в одном доме много дней, мы едва перекинулись несколькими общими фразами. Вел он себя тогда как высокомерный партийный чинуша. Будучи первым секретарем областного комитета партии в БанскаБистрице, он считал, что ему не совсем прилично делить дом с каким-то доцентом. Его жена не обмолвилась с нами ни словом. Наше пребывание там было этим несколько испорчено. Эту поездку нам устроил другой деятель из Банска-Бистрицы, с которым я познакомился за два года до этого, работая в группе по денежной реформе.
В последующие годы поведение Дубчека существенно изменилось, он превратился в скромного и демократичного общественного деятеля. Я всегда чувствовал, что при контакте с людьми он осторожен, неуверен и нерешителен. Хотя в определенных моментах он проявлял упрямство, но ни в одном случае он не был бестактен. Именно он выгодно отличался от некоторых партийных руководителей высокого ранга, которые при осуществлении своих интересов вели себя категорично и грубо. Я назвал бы его, скорее, слишком мягким политиком, который еще не дорос до той большой роли, которую ему предстояло сыграть. К тому же он еще не научился общаться с «волками» и «гиенами».
В 1960 году Новотный пригласил его в Прагу, в секретариат ЦК, где до 1963 года он работал одним из секретарей. В 1962 году Дубчек стал кандидатом, а позд218
нее и полноправным членом Политбюро. В апреле 1963 года Новотный послал его в Братиславу Первым секретарем ЦК Словакии. На этом посту он должен был заменить Карола Бацилека. Вероятно, Новотный видел в Дубчике удобный инструмент для осуществления своего господства в Словакии. Однако в этом он ошибся.
Если не раньше, то, несомненно, не позднее ХП1 съезда КПЧ Дубчек понял, что Новотный очень быстро теряет авторитет внутри партии (вне партии он его никогда не имел) и что большинство словацких товарищей были бы рады, если бы он лишился своей должности. Худик, словацкий функционер, которого Новотный поставил на должность Председателя Словацкого национального совета и взял в Политбюро, последовательно поддерживал Новотного, однако в Словакии его не любили. Испытывая давление словацкого движения против пражского централизма, Дубчек все дальше отходил от Новотного.
Летом 1967 года Новотный попытался несколько укрепить свое положение в Словакии и предпринял поездку по некоторым городам Словакии. Он делал попытки, причем очень неловкие, отделить словацкий народ от «националистических подстрекателей». В своих публичных выступлениях, в частности в Мартине, призыв к федерализации он называл выражением буржуазного национализма, который может натравить оба народа друг против друга. Однако здесь же ему был выражен горячий протест. Его вояж еще больше усилил напряжение в Словакии, и политическое положение Новотного резко пошатнулось. Не только Дубчек, но и все больше членов ЦК Компартии Словакии начали настраиваться против Новотного. Они составили примерно одну треть сточленного ЦК. Оппозиционные силы против Новотного росли, и близился момент его падения.
2. ПОПЫТКА СОХРАНИТЬ НОВОТНОГО У ВЛАСТИ
С 1967 года, с официального старта новой экономической системы, я считал необходимым опубликовать важные статьи и интервью, в которых хотел прежде 219
всего проинформировать общественность о попытках бюрократии сохранить старые методы управления. У меня скопилась масса критических писем от рабочих и служащих, из которых было ясно, что большая часть населения поняла невозможность последовательной реализации новой системы без политической борьбы и победы наД старыми догматиками от власти. Люди узнали, что эту политическую борьбу вела наша комиссия по реформе и что нам нужна их помощь и поддержка. В связи с этим многие простые люди обращались непосредственно ко мне, а журналисты предоставляли мне широкие возможности для непосредственного разговора с населением.
Уже с весны во всех своих статьях по экономическим вопросам я обращал внимание на существующие политические препятствия. Я указывал на то, что большая часть руководящих работников все еще убеждена в том, что политические цели выше экономических и должны реализовываться в производстве директивными методами. Я объяснял людям, что, например, повышение жизненного уровня, облегчение труда, сокращение рабочего времени, улучшение социального обеспечения и т. д. невозможны без быстрого роста производительности труда и повышения эффективности. А последнее в свою очередь немыслимо без последовательного внедрения новой системы.
Я не забывал подчеркивать, что если кто и пытается дискредитировать новую систему и уничтожить ее, так это руководящие кадры, которые привыкли к старым методам управления и не способны освоить новые. При этом не последнюю роль играет страх потерять свое руководящее положение. Часто я формулировал это так, чтобы каждый мог понять, что «рыба гниет с головы».
Естественно, это понял и Новотный и при каждом удобном случае косвенно отвечал мне. Так, в своем докладе на пленуме ЦК 23 марта 1967 года, кроме всего прочего, он сказал: «Я думаю, что в адрес наших экономистов и журналистов надо открыто сказать, что они не могут выступать как беспристрастные критики, так как их деятельность будет оцениваться в зависимости от того, как они включились в процесс, происходящий в стране, и как они своей работой способствуют этому процессу».
220
Он считал, что критики старых и негодных методов управления должны держать язык за зубами и призывать людей к выполнению политических целей старыми методами. Новотный представлял дело так, будто принятое съездом постановление об изменении методов управления не является политической целью и каждый, кто будет указывать на препятствия при проведении этих изменений, совершает проступок против партии.
Прежде всего он хотел сохранить те кадры, которые служили партии, то есть тех, кто популяризирует высказывания Новотного, говорит о социализме, подчиняется секретариату партии, а любого выступающего с критикой заставляет молчать и голосует так, как того требует партийный аппарат. Насколько эффективно при этом осуществляется управление народным хозяйством, не имело никакого значения. Таким образом Новотный боролся с реформой, причем борьба эта принимала все более агрессивный характер.
После опубликования нескольких моих статей, посвященных рассмотрению новых проблем управления, я еще интенсивнее стал заниматься основными теоретическими вопросами. В наших высших учебных заведениях до сих пор господствовала старая, марксистсколенинская догма. Молодое поколение, которое готовилось в вузах к своей будущей самостоятельной работе, все еще должно было зубрить научные положения и экзаменоваться по этим «теоретическим знаниям». Старые профессора и доценты вообще не принимали во внимание новое развитие, а некоторые, такие, как Ф. Олива, с идеологических позиций боролись против реформы. Тем самым они не только препятствовали изменениям в обучении студентов, но и поддерживали идеологических сторонников Новотного. Для того чтобы противодействовать этому, наш Институт экономики не должен был сосредоточиваться только на разработке конкретных мероприятий реформы, необходимо было вести разработки и в области фундаментальных исследований. Нам важно было проводить широкие теоретические дискуссии, с тем чтобы преодолеть старый, догматический образ мышления.
Я думаю, что нам удавалось все больше студентов приобщать к новому экономическому мышлению и вырабатывать у них критическое восприятие догматиче221
ских идеи, которые провозглашались на лекциях и занятиях. Мои лекции в Высшей экономической школе в качестве приглашенного профессора способствовали формированию революционных настроений среди студентов и вызывали у них неприятие старых методов обучения.
В 1967 году началась бурная политическая борьба, которая для меня в некоторые моменты была небезопасна. По разным признакам я уже давно догадывался о том, что о моих лекциях и выступлениях кто-то докладывает Новотному, особенно о моих критических и политических выпадах против него. Новотный всегда был хорошо информирован об этом. Друзья, которые работали в центральном партийном аппарате, предупредили меня об этом. Здесь следует отметить, что число сторонников реформы среди работников партийного аппарата выросло и в последние летние месяцы мы считали, что нас поддерживают от одной пятой до одной четверти всех работников партийного аппарата. Поэтому я относительно много знал о том, что делается вокруг Новотного и что с ним происходит.
Как-то в начале сентября я читал лекцию перед большой аудиторией в Братиславе. Вспоминаю, как вечером со всех сторон шли люди к месту, где она должна была состояться,— большой, переполненный зал.
Атмосфера в зале была напряженной, и я чувствовал, как здесь, в столице Словакии, ждут моего выступления с критикой экономической и политической системы. Лекция все время прерывалась вопросами, возгласами одобрения. После этой лекции Новотный получил не только обычную информацию от государственной полиции, но и жалобу от нашего бывшего сотрудника из Института общественных наук Р. Рогличека (в 80-е годы занимавшего пост заместителя Председателя Совета Министров), с которым мы уже тогда имели столкновения. Об этом я также был поставлен в известность.
Новотный страшно разозлился, возможно, это явилось именно той последней каплей, которая переполнила чашу его терпения. На заседании Политбюро он кипел от злости и, вероятно, на основании цитат, надерганных из моего выступления, требовал моего наказания. Часть членов Политбюро согласилась с ним, в то время как другие, и прежде всего Доланский и Черник, 222
отговаривали его от этого. Ясно, что все находились под сильным политическим давлением, однако уже четко стали проявляться черты раскола в Политбюро. После долгой дискуссии сошлись наконец на том, что следует запретить мне публичные выступления. Об этом мне сообщили письменно. Однако за несколько дней до этого я обещал прочитать лекцию в Праге по просьбе Общества по распространению политических и научных знаний, где секретарем работал мой приятель Роберт Горак. О лекции было объявлено заранее, и я не собирался от нее отказываться в последний момент. После совещания со своими друзьями я решил проигнорировать этот запрет. Я знал, что мое выступление будет рассматриваться как публичный вызов Новотному. Однако я также знал, что в уставе такое наказание не предусмотрено и, если об этом запрете станет известно, Новотного поднимут на смех.
Тот факт, что даже после того, как лекция состоялась, Новотный не посмел что-либо предпринять против меня, доказал мне, насколько он политически слаб.
3. ПОЛИТБЮРО НЕ ЕДИНО
30 и 31 октября 1967 года проходил пленум ЦК, посвященный очень важной проблеме — положению и задачам партии на современном этапе социалистического развития. Эта проблема уже обсуждалась Политбюро, но розданный проект резолюции, в котором Новотный заранее убрал все критические формулировки, не соответствовал взглядам многих членов Политбюро, а также некоторых членов ЦК. Это вызвало острую дискуссию, в ходе которой выдвигались требования радикального изменения партийной работы. Среди тех, кто резко критиковал предложенный документ, прежде всего были А. Дубчек, Ф. Кригель, Ф. Водслонь и др. А. Дубчек выступил уже против самого метода, которым резолюция подготавливалась. Он говорил, что не может постоянно говорить о существовании классов, об авангардной роли партии, так как это только тормозит переход партийной работы на новые условия. Он подчеркивал усиление консерватизма в высших партийных органах, который препятствует осуществлению необходимых нововведений. В стране борьба идет между 223
прогрессивными и консервативными силами, поэтому партийная деятельность должна быть построена таким образом, чтобы новые идеи не могли подавляться сверху.
Было совершенно ясно, что он критиковал Новотного, не называя его прямо. Новотный быстро отреагировал на это, заявив, что словацкое партийное руководство подчинено ограниченным национальным интересам. Остальные члены словацкого ЦК восприняли это утверждение как оскорбление и выступили против него. Кроме них, к критике, высказанной Дубчеком, присоединились секретари обеих крупных моравских областей— Йозеф Шпачек из Брно и Олдржих Воленит из Моравска-Остравы. Бывший секретарь ЦК Вацлав Славик говорил о необходимости демократизации внутри партии. Ф. Кригель на конкретных фактах показал, что партия теряет авторитет, оказывается не в состоянии привлечь молодежь, а также о том, насколько закостенели формы ее работы. Ф. Водслонь наиболее открыто критиковал недемократические методы работы, используя которые партия не сможет в будущем удержать свое руководящее положение в обществе.
Пленум ЦК закончился, а резолюция так и не была принята. Политбюро было поручено подготовить новые документы и после этого созвать пленум. Надо было видеть, в каком гневе члены Политбюро покидали заседание. Все это в конце концов должно было привести к формированию решительной оппозиции Новотному.
Последующие заседания Политбюро превратились в эмоциональные перебранки и взаимные обвинения. Члены Политбюро особенно возмутились, узнав об интригах, инсценированных Новотным. Новотный готовил отстранение Дубчека и на его место в качестве Первого секретаря ЦК Компартии Словакии хотел назначить Худика. Черник и Кольдер узнали также, что Новотный собирается вывести их из состава руководства, так как не считал их надежными проводниками своей политики. Вообще Новотный готовил большие изменения в правительстве, и некоторые «ненадежные» должны были освободить свои кресла для тех, кого Новотный хотел привлечь на свою сторону. Таким образом, образовалось два противоположных фронта.
Противники Новотного упрекали его в диктатор-
224
ских, авторитарных, неколлективистских методах руководства и рекомендовали ему отказаться от должности Первого секретаря партии и остаться только президентом республики. Обосновывали это тем, что две такие сложные должности слишком ответственны и совмещение наносит вред партийной работе. По этому проекту в Политбюро прошло голосование. К несчастью, Политбюро состояло из 10 членов, и результаты голосования были 5:5. Против Новотного, то есть за разделение должностей, голосовали О. Черник, Я. Доланский, А. Дубчек, И. Гендрих, Д. Кольдер. Против, то есть за совмещение должностей, голосовали М. Худик, Б. Лаштовичка, Й. Ленарт, О. Шимунек и, само собой разумеется, сам Новотный. Пришлось отложить решение до пленума ЦК.
Предложению сместить Новотного с поста Первого секретаря предшествовала тайная договоренность между Кольдером, Дубчеком и Гендрихом. Кольдер с Дубчеком знали, что при голосовании против Новотного необходимо привлечь Гендриха на свою сторону, иначе противники Новотного останутся в меньшинстве. Гендрих давно ждал момента, чтобы занять пост Первого секретаря. Он считал, что имеет на это—по сравнению с остальными — больше прав. Кроме того, он знал, что Москва уже не поддерживает Новотного, иначе было бы опасно давать ему отпор. Дубчек с Кольдером пообещали ему в случае благоприятного голосования предложить его кандидатуру на пост Первого секретаря. Это сыграло свою роль, и Гендрих проголосовал против Новотного.
Однако два члена Политбюро боялись Гендриха еще больше, чем Новотного. Это были Черник и Доланский, которые знали его догматизм, а также то, что его ненавидит почти вся интеллигенция страны. Кроме того, Черник не мог забыть Гендриху его преданность Новотному и выступление за исключение Черника из секретариата. С Гендрихом во главе партии не могло быть и речи ни о какой реформе. Черник, будучи прагматиком, понял необходимость проведения в нашей стране глубокой экономической реформы. Такого же мнения придерживался и Штроугал, который хотя и не был членом Политбюро, но являлся одним из секретарей ЦК. Кроме того, он был дружен с Черником. Оба знали, что Доланский в любом случае не будет поддер225
живать кандидатуру Гендриха, а сам он по возрасту не претендует ни на какую должность. Начались поиски союзников, которые могли бы помочь не только свергнуть Новотного, но и не допустить, чтобы Гендрих заменил его на этом посту.
Несмотря на строгую секретность всех заседаний Политбюро, я уже знал о происшедшем на нем расколе и о результатах голосования. О тайном сговоре Кольдер— Дубчек — Гендрих я не имел представления, но о том, кто мог бы заменить Новотного, я думал постоянно. В любом случае им должен был стать тот, кто гарантировал бы продолжение экономической реформы и борьбы за действительную демократизацию политической жизни.
В своих размышлениях я все время приходил к выводу, что, вероятно, нам не удастся выдвинуть на эту должность кого-либо из того небольшого числа реформаторов, которые имелись в ЦК. Там приблизительно из ста человек к реформаторам можно было отнести только Кригеля, Водслоня, Славика, Прхлика, Власака и, возможно, Шпачека. Вряд ли кто-нибудь из них получил бы при голосовании большинство голосов, так как остальные члены ЦК были консервативными сторонниками Новотного. Ведь и я сам его выбирал. Лично у меня не было никаких шансов, так как мои взгляды многим казались слишком радикальными. Это должен был быть кто-то из членов Политбюро или секретариата ЦК, кто получит необходимое большинство голосов и при этом будет являться гарантией дальнейшего развития реформы. Но кто? С решением торопились, так как пленум ЦК был назначен на 18 декабря 1967 года.
В это время от Черника я получил приглашение на встречу с ним и Штроугалом. Я догадывался, о чем пойдет речь. После одного заседания оба уже говорили со мной мимоходом на улице, чтобы нас никто не видел. Боясь быть подслушанным на работе и дома, я предложил им приехать ко мне на дачу, недалеко от Праги. Я был уверен в том, что там нас никто не услышит. Я рассказал им, как доехать, и мы договорились о дне встречи.
В последующие дни прошел снег, и дорогу к даче нам пришлось протоптать в снегу. Я вообще не мог предположить, что будет такой холод. И хотя я раскалил небольшой камин, в помещении было холодно и мы ос226
новательно продрогли, зато могли быть полностью уверены в том, что далеко вокруг нет ни единой живой души.
Черник подробно рассказал, что произошло в Политбюро. Когда я узнал о договоренности между Кольдером, Дубчеком и Гендрихом, я пришел в ужас, ибо это означало, что мы попадаем из огня да в полымя. Этого не должно было произойти. Я быстро сообразил, что Черник только и ждет, чтобы его выдвинули на пост Первого секретаря. После недолгих размышлений я пришел к выводу, что это наилучший выход из положения. Однако мне хотелось убедиться в его готовности последовательно продолжать реформу как в экономической, так и в политической сфере. Отвечая на мои вопросы, Черник четко высказался за последовательное осуществление реформы.
Теперь мне стало ясно, что оба мыслят серьезно. Тот факт, что они выбрали меня в союзники, свидетельствовал об их согласии с моими идеями и проектами. Об этом можно было судить также по публичным выступлениям Черника в последнее время. Кроме того, я надеялся, что нетрудно будет получить в пользу Черника большинство голосов в ЦК. Я предложил обоим, во-первых, привлечь к нам еще некоторых членов ЦК, а во-вторых, подготовить фундаментальное выступление на пленуме ЦК и выступить в дискуссии одними из первых. Этим можно оказать влияние на собравшихся. Черник обещал в случае своего избрания провести изменения в Политбюро, которые гарантировали бы продолжение реформ.
После этого тайного совещания я начал работать над нашим договором. Прежде всего я должен был поговорить с Дубчеком и Кольдером. Мне несложно было встретиться с каждым из них, однако беседовать на работе или дома было нельзя, так как Новотный установил в это время за всеми своими сотрудниками слежку и подслушивание.
Так, как-то ночью я встретился на Девине, возвышавшемся над Братиславой, с Дубчеком. Была холодная зима, и нам пришлось несколько часов ходить взадвперед на морозе, зато никто нас не видел. Вначале Дубчек много говорил сам. По его мнению, преимущественно консервативный ЦК, скорее всего, выберет Гендриха, и тем самым смена руководителя пройдет 227
сравнительно легко. Кроме того, он уже обещал Гендриху, что выдвинет его. Я должен был привести множество аргументов, чтобы переубедить Дубчека не делать этого. Моим основным аргументом являлось неприятие Гендриха широким кругом экономистов по той причине, что он являлся тормозом реформы, й потому вероятность сильного сопротивления ему была довольно высокой. Работники культуры также будут настроены против, и, кроме того, все прогрессивные силы подобное изменение в высшем эшелоне будут считать насмешкой. Через несколько часов Дубчек пообещал выступить за Черника.
Незадолго до этого в аналогичных условиях состоялась встреча с Кольдером. Мы встретились на Стромовке, опять ночью и опять в сильный мороз. Стромовка была совершенно безлюдна, нам не встретилась даже полицейская машина. Мне кажется, что мы проговорили на этом холоде еще дольше, так как переубедить Кольдера оказалось намного труднее, чем Дубчека. Кроме того, мы не особенно симпатизировали друг другу, несмотря на то что в борьбе против Новотного были едины. Черника Кольдер также не считал своим другом, но признал, что для осуществления экономической реформы он больше подходит, нежели Гендрих.
Кольдер был убежденным сторонником экономической реформы, но о демократизации политической системы не хотел ничего слышать Его очень трудно было привлечь на свою сторону. Я знал, что он считает себя наиболее подходящим человеком на эту должность и хотел бы от меня получить такое предложение. Этого я сделать не мог, так как считал Черника лучшей кандидатурой на данный пост, чем кандидатура Кольдера. Кольдер был грубоватым, не очень образованным человеком, и его избрание вместо Новотного вряд ли явилось бы гарантией прогрессивного развития страны. После нескольких часов напряженных переговоров был достигнут успех, Кольдер наконец обещал мне голосовать за Черника. Мы оба уже совершенно закоченели.
Таким образом оба препятствия в лице Дубчека и Кольдера были устранены. Теперь надо было поговорить с другими членами ЦК и постараться привлечь их на свою сторону. Я должен был побеседовать прежде всего с теми, о ком знал, что они не преданны Новотно228
му, хотя и это было рискованно. Что, если кто-нибудь из них сменил курс и передаст наш разговор Новотному? Надо было считаться и с тем обстоятельством, что после того, как мне запретили публичные выступления, за мной была установлена слежка и осуществлялось подслушивание моих разговоров. Поэтому я решил поехать с женой в Карловы Вары на лечение. Я сам этого хотел, на этом настаивали врачи, и, главное, это было самое подходящее время, для того чтобы дней на десять исчезнуть из Праги. Оттуда я мог спокойно звонить, уезжать и не бояться, что за мной следят.
Незадолго до нашего отъезда у нас появился неожиданный гость. Это был Й. Смрковский, с которым мы были давно знакомы, особенно дружна с ним была Лилка. Во время нацистской оккупации она работала в ушедшей в подполье партии, и Смрковский был ее последним руководителем (после других подпольщиков, которые были арестованы). Многие годы его разыскивало гестапо, но безуспешно, хотя скрывался он в Праге. Лилка была тогда связной между ним и другими членами подпольного ЦК партии, она передавала информацию в Чешский национальный совет. Лилка хорошо знала Йозефа (его подпольная кличка была Тонда, и она всегда его так называла).
Во время процессов 50-х годов Смрковский был осужден и приговорен к пожизненному заключению. В 1963 году оц единственный из осужденных был не только реабилитирован, но и в 1966 году снова выдвинут Новотным в члены ЦК. Во время его визита к нам он занимал пост министра лесного и водного хозяйства. Он, несомненно, был сторонником реформы, и в моем списке его фамилия находилась среди тех, кого я учитывал в наших планах.
Мы оба понимали, что привело к нам Смрковского. Он, естественно, слышал о событиях в Политбюро и о намерении свергнуть Новотного. Однако, к нашему удивлению, Смрковский предполагал, что победителем выйдет Новотный. Поэтому он избрал иную тактику, к которой хотел привлечь и меня. Вероятно, он уже говорил с Новотным, и тот обещал включить его в состав нового Политбюро. Смрковский пытался объяснить нам, что избрал такой путь, чтобы затем провести демократические реформы. Позже он хотел достичь выс229
ших постов, а сейчас стремился заручиться моей поддержкой.
Ни Лилке, ни мне не было до конца ясно, что, собственно, входит в его намерения, и мы оба не могли избавиться от недоброго предчувствия. Смрковский не хотел от меня ничего другого, как выяснить мои цели, чтобы лучше ориентироваться. Однако я стал остерегаться высказываться открыто, так как не знал его отношения к Новотному. Поэтому я ничего не сказал ему о наших планах и говорил только об общих политических проблемах. Он тут же стал более сдержанным и ушел от нас с недовольным выражением лица. Позже я пришел к выводу: Смрковский ожидал от меня, что я предложу его кандидатуру на пост Первого секретаря и буду с ним сотрудничать. Но его тактика была так неуклюжа, что вызвала мое недоверие.
Мысль поехать в Карловы Вары была очень удачной, так как за мной там никто не следил. Случайно в это же время там находился Павел Когоут, и я имел возможность познакомиться с ним поближе. Я был на колесах и всегда мог на день-два исчезнуть с курорта, чтобы встретиться в различных местах с некоторыми членами ЦК. Моя жена прикрывала мое отсутствие различными отговорками, и никто не догадывался о моих поездках. Таким образом, до пленума я сумел встретиться примерно с 25—30 членами ЦК, которые были согласны с нашим замыслом и изменения в руководстве считали «самой неотложной» мерой. Вместе с членами ЦК из Словакии, которые почти все были настроены против Новотного, мы имели уже гарантированное большинство.
К сожалению, большой ошибкой оказалось посещение тогдашнего министра железнодорожного транспорта Алоиса Индры. Хотя он и не был человеком Новотного и я ему ничего не говорил о наших планах, но, как я узнал позднее, он являлся советским агентом и имел личную связь с Москвой. Я думаю, что уже тогда он имел честолюбивое желание попасть на должность Первого секретаря и, вероятно, сам что-то предпринимал, имея поддержку советской стороны. Последующие события это подтвердили.
Видно было, как Индра удивился моему приходу, его поведение выражало явную растерянность. Он не пытался отговорить меня от выступления против Но230
вотного, с этим он был полностью согласен. Однако к возможности избрания на этот пост Черника он отнесся крайне осторожно. Он предлагал не торопиться с решением этого вопроса и действовать по обстоятельствам. Для меня важно было получить его согласие на смещение Новотного, а его отрицательное отношение к Чернику я объяснял какой-то неизвестной мне личной враждой.
Много позже я узнал, что Индра обо всем немедленно докладывал в Москву. Определенно Брежнев получал информацию намного раньше, чем некоторые здесь, в Праге. Я уверен, что он приехал в Прагу непосредственно перед пленумом ЦК не только по приглашению Новотного, как это всюду утверждается. Возможно, на основании указанной информации Брежнев сам связался с Новотным и спросил его, что происходит в Праге. Не исключено, что он сам заявил о своем желании приехать в Прагу с кратким визитом или получил формальное приглашение от Новотного.
Естественно, что это только догадки, поскольку нет ни письменных, ни каких-либо других доказательств. Так это было или нет, однако для нас важно, что Индра имел личную связь с Москвой, иначе он не был бы позднее назначен Москвой председателем нового рабоче-крестьянского правительства.
Во всяком случае, Брежнев неожиданно прилетел в Прагу, чтобы изучить ситуацию. Он говорил лично со многими членами Политбюро и быстро выяснил соотношение сил за и против Новотного, а также то, что члены ЦК высказываются в основном за отзыв Новотного с поста Первого секретаря. Возможно, ему было неясно, кто должен прийти на его место. Гендрих продолжал ждать своего назначения, так как ни Дубчек, ни Кольдер о нашей договоренности ему ничего не сообщили. Говорилось ли что-нибудь о назначении Черника— неизвестно. Для Брежнева важно было обсудить вопрос о смещении Новотного, которого он считал человеком Хрущева и которому с самого начала не доверял. Он согласился на его смещение и предоставил ЦК выбрать кандидатуру из членов Политбюро-или ЦК. Как его убеждали члены Политбюро, в политике партии ничего не изменится. Успокоившись, он простился со словами: «Это ваше дело, товарищи»,— оставив тем самым Новотного на произвол судьбы.
231
Вечером, накануне пленума, у нас дома зазвонил телефон. Трубку взяла жена, так как меня не было дома. Звонил из Пражского Града «по красной линии» сам Новотный.
От удивления у моей жены перехватило дух.
— Товарищ Шикова, Ота дома?
— Нет, он на каком-то собрании.
—Скажи ему, как только вернется, пусть позвонит мне, это очень важно.
— А если он придет поздно?
— Передай ему, что завтра утром на пленуме ЦК я выдвину его на должность министра цен. Пусть подготовится к пленуму в этом духе.
Я хорошо мог представить себе удивление Лилки, когда вернулся домой и она рассказала мне о состоявшемся разговоре. Мое удивление было не меньшим. Мне ничего не оставалось, как рассмеяться. Значит, и я принадлежу к тем, кого Новотный в последний момент хотел купить. Или он о чем-то прослышал, или считал меня настолько важной персоной, что таким образом хотел перетянуть на свою сторону. Он и ему подобные плохо оценили мои настоящие цели. Такие люди, как Новотный, не могли понять, что для кого-то речь идет о принципах, а не о теплых местах. Естественно, что утром я не позвонил ему и поехал с подготовленным мною дискуссионным выступлением на пленум ЦК в Пражский Град.
4. ОТСТАВКА НОВОТНОГО— ИЗБРАНИЕ ДУБЧЕКА
18 декабря 1967 года в 9 часов утра начался судьбоносный пленум ЦК. Из-за какого-то ремонта пленум состоялся не в великолепном Испанском зале, как обычно, а в манеже Пражского Града. Уже в вестибюле можно было почувствовать напряжение. Многие члены ЦК, которых я посетил во время своего пребывания в Карловых Варах, вопросительно смотрели на меня, не изменилось ли что. Уже тогда я решил, что вступлю в дискуссию одним из первых, чтобы привлечь на свою сторону тек, кто еще не принял решения. Я прекрасно сознавал, что в ЦК достаточно оппортунистов, которые примкнут к тем силам, которые завладеют властью. Мое выступление должно было быть настолько 232
открытым и критическим, чтобы эти люди сказали: «Ну, если Шик позволяет себе такую критику Новотного, то определенно у Новотного нет никаких шансов остаться на своем посту. В этом случае надо держаться от него подальше». Я подготовил свое выступление с таким расчетом, чтобы привлечь и этих людей на свою сторону.
Сразу же после короткого выступления Ленарта, в котором он ничего конкретного не сказал, выступил Новотный, желавший привлечь пленум на свою сторону. Он сделал довольно неуклюжую попытку извиниться перед словацкими товарищами за свои октябрьские сентенции и тут же перешел к своим обычным высказываниям о том, что в настоящее время лицом к лицу с капиталистическим идеологическим противником необходимы жесткая партийная дисциплина и контроль. Отметив, что принято постановление о реформе, он в то же время заявил, что ничего не надо делать поспешно. Важно, считал он, провести изменения в правительстве, о которых он позднее доложит ЦК.
Было ясно, что Новотный пытается воздействовать на сознание оппортунистов и показать, что пока еще судьбу кадров решает он. Одних он пытался купить, других—запугать. Необходимо было опередить его. В своем выступлении я быстро заострил некоторые формулировки и, как только вошел в зал, записался на участие в дискуссии. Мне удалось стать вторым. В начале дискуссии председательствовал Лаштовичка, который в этой напряженной атмосфере не отважился прерывать выступавших.
Мое выступление было достаточно длинным. Я перечислил наиболее серьезные недостатки в партийной работе и проанализировал причины того, почему они так долго не устраняются. Главное заключалось не в том, что о них не знали, а в том, что старые функционеры препятствовали всему новому и в своих интересах пытались это старое законсервировать. Чем больше раздавалось критики, тем упорнее они называли это нападками на социализм. Таким образом товарищи прятались за партию. Характерно было то, что они идентифицировали себя с партией (я имел в виду Новотного, и все это поняли). Все это мешает демократизации партии и государства. Культ личности Сталина 233
мы осудили, но старые мел оды, которые способствовали укреплению личной власти, мы сохранили.
Далее я подробно остановился на этих недемократических методах. В конце я выдвинул три конкретных предложения, в которых потребовал:
1. Отозвать А. Новотного с поста Первого секретаря ЦК КПЧ.
2. Создать избирательную комиссию, которая предложит на этот пост две кандидатуры и проведет тайное голосование.
3. Поручить Политбюро разработку проекта основных демократических мероприятий.
Сразу же после моего выступления, как я и предполагал, начались бурные дебаты, которые отвлекли внимание участников пленума от планов Новотного и сосредоточились на моих предложениях. Наиболее резко отверг мое выступление Й.Ленарт, бывший тогда Председателем Совета Министров, что меня несколько удивило, так как я считал его ранее более либеральным. Но тот факт, что в Политбюро он защищал Новотного, красноречиво говорил о том, что свою собственную судьбу он в значительной мере связывал с судьбой Новотного. Он называл мои предложения антиленинскими и высказывался против отставки Новотного. Худик с Шимунеком также защищали Новотного, что меня совершенно не удивило.
К моим предложениям полностью присоединились Водслонь и Славик, которые относились к реформаторам. Интересно, что мое предложение об отставке Новотного поддержали Биляк, Пиллер и Индра. Тогда я еще, естественно, не знал, какую роль играет Индра. Дискуссия «за» и «против» тянулась и не приходила ни к какому выводу. Однако уже было видно, что большинство участников пленума настроено против Новотного. Несколько озадачило меня и то, что Смрковский вообще не выступал. Вероятно, только на пленуме он сумел правильно сориентироваться. Я всегда подозревал, что для декабрьского пленума у него заготовлено другое выступление. Как я уже говорил, он хотел пойти по пути использования власти Новотного. Услышав наши выступления в дискуссии, он присоединился к нам и уже на январском пленуме выступил как наш сторонник. С этого момента он начал играть важную роль в рядах реформаторов. Новотный еще раз взял 234
слово на пленуме и коротко заявил, что подчиняется решению ЦК.
Сразу же после этого состоялось голосование. Большинство голосовало за отставку Новотного с поста Первого секретаря ЦК. При этом безоговорочно было принято, что он остается президентом республики и членом Политбюро. Вопреки моим ожиданиям проблема решилась намного легче, однако трудная фаза была еще впереди.
В последующие дни дискуссия разгорелась по вопросу о преемнике Новотного. Сначала состоялась общая дискуссия о том, какими свойствами должен обладать новый Первый секретарь, но любая попытка внести конкретное предложение моментально наталкивалась на сопротивление и не имела успеха. В кулуарах тем временем делалось больше, чем в зале. Со многими я обсуждал нашу идею относительно избрания Черника и быстро понял, что ничего из этого не получится. Я не ожидал такого неприятия Черника. Очевидно, консерваторы боялись, что он будет мстить им за то, что был отозван с должности секретаря ЦК. Более прогрессивные люди считали его недостаточно принципиальным и слишком прагматичным. Мне стало ясно, что с выдвижением кандидатуры Черника ничего не получится. Черник злился на меня, поскольку считал, что я сделал слишком мало для нашего соглашения. Я пытался ему объяснить, что не следует выступать с предложением, о котором заранее известно, что оно не пройдет. Однако он не хотел этому верить.
В конце концов, как я и предлагал, была назначена избирательная комиссия во главе с Я. Пиллером. В то время как комиссия собралась и в ходе своей работы не могла прийти к единому мнению, пленум продолжался. Уже наступило 21 декабря, а на «горизонте» пленума не появился еще ни один приемлемый кандидат. Было видно, что у Новотного опять появилась надежда, и он начал вести закулисную игру. Стремясь выиграть время, он потребовал прервать пленум. Очень ловко ему удалось предоставить слово одной своей последовательной и боевитой стороннице— Славке Кленьговой-Бессеровой, которая, выйдя на трибуну, стала выступать как представительница женщин.
— Мы здесь дискутируем очень долго и не можем 235
прийти ни к какому решению. Я предлагаю прервать пленум, с тем чтобы все спокойно обдумать. Кроме того, через несколько дней начинается рождество, а мы еще и женщины, имеем свои семьи и должны печь рождественские пироги. Поэтому сейчас мы должны разойтись и снова собраться после Нового года. Мы отдохнем и, несомненно, придем к договоренности на благо нашей партии.
Приблизительно так она говорила о перерыве в работе пленума; у меня же мороз пошел по коже. Все опять ставилось под угрозу, Смрковский и многие другие не ждали от Новотного ничего хорошего. Но большинство уже устало и не предвидело никакой опасности. Состоялось голосование по предложению прервать заседание и снова собраться 3 января 1968 года. Большинство с этим предложением согласилось.
В конце заседания я умолял генерала Я. Прхлика, руководителя Главного политического управления чехословацкой армии, быть в боевой готовности, чтобы предотвратить неожиданный поворот событий. Он был нашим человеком и поддерживал тесную связь с реформистскими силами в армии, которые сконцентрировались в Военно-политической академии и аппарате Генерального штаба. Он успокоил меня, что уже думал об этом и не допустит никаких акций. В том же духе с Прхликом говорил Кригель, который по своему богатому опыту знал, о чем говорит.
Пленум закончился в условиях, когда новый Первый секретарь избран не был и Новотный де-факто продолжал осуществлять руководство. Кроме того, он был президентом республики и соответственно главнокомандующим войск. Наши опасения определенно не были безосновательны. Как я узнал сразу же после Нового года от Прхлика, Новотный пригласил к себе преданную ему армейскую верхушку. Имена генералов Яна Шейны и Владимира Янко, учитывая позднейшие события (весной Янко покончил жизнь самоубийством, а Шейна бежал на Запад), мне запомнились, остальные стерлись в памяти. Несомненно, Новотный хотел с их помощью арестовать «контрреволюционеров». Насколько далеко зашла подготовка к путчу, мне не удалось выяснить. Он не состоялся благодаря тому, что в высших военных органах сидели преданные реформе люди, которых Прхлик заранее предупредил. Люди Новотно236
го не могли мобилизовать необходимые силы и, очевидно, так себя дискредитировали, что весной уже дрожали от страха и делали для себя соответствующие выводы.
Особенностью Чехословакии явилось то, что армия в основной своей массе доброжелательно относилась к идеям реформы и поддерживала прогрессивные силы в стране. Никому не удалось бы заставить армию идти против своего народа и против реформаторов (как это произошло, например, в Польше). Несомненно, что здесь большую роль сыграла Военно-политическая академия и ее прогрессивные доценты.
Итак, 3 января 1968 года члены ЦК собрались, чтобы продолжить работу пленума. И опять начались споры, особенно жаркие дебаты проходили при обсуждении состава избирательной комиссии. Пиллер зондировал все направления и изучал шансы всех кандидатов. Кандидатуры Смрковского и Шика яростно отвергались сторонниками Новотного. Такие кандидатуры, как Й.Ленарт и М.Вацулик, были неприемлемы для противников Новотного. Интересно, что кандидатура Черника не возникала вообще, хотя, по моему мнению, в сложившейся ситуации он бы прошел. Я попытался предложить его кандидатуру Пиллеру, но тот решительно отверг ее. Между тем в зале шла дискуссия. Почти каждый член ЦК хотел принять в ней участие. Прежде всего усилилась критика в адрес Новотного, что я приписал бы оппортунизму большинства старых членов ЦК.
Неожиданно в избирательной комиссии всплыло имя Дубчека. Кто его предложил, возможно, сам Пиллер или кто-то иной, я не знаю. Казалось, что наконец найден кандидат, который является хорошим компромиссом и устраивает обе стороны. По моему мнению, это говорило прежде всего о том, как невыразительно он всегда воздействовал на свое окружение. До своего октябрьского выступления Дубчек вообще ни в чем и никак особенно не участвовал. Да и это выступление не было слишком радикальным. Дубчек всегда выглядел нерешительным и легко поддающимся влиянию человеком и отнюдь не производил впечатления человека, рвущегося к власти. В то время как в поведении таких людей, как Гендрих, Кольдер, Черник, Пиллер, Смрковский и др., всегда превалировало стремление 237
к высокой карьере, у Дубчека это в ярко выраженной форме не проявлялось. Он был сдержан, мягок, то есть обладал как раз теми чертами, из-за которых его не принимали в расчет как возможного кандидата.
Но он устраивал всех, и можно было уже почувствовать некоторое облегчение. Каждая сторона ждала для себя от этого неких выгод и надеялась позднее перетянуть Дубчека на свою сторону. Я знал, что Дубчек никакой не реформатор и почти ничего не понимает в экономике, но мне казалось, что на него можно влиять. В любом случае очень важно, что у него были чистые руки и он не был догматиком. Однако оставался вопрос, как он, при его стремлении к компромиссам, сумеет поставить себя в отношении к консерваторам.
Так вместо двух кандидатов, как я предлагал пленуму, был предложен только один. Даже в этом случае мы еще не были способны поступать демократически. Кандидатура Александра Дубчека была единодушно принята. 4 января 1968 года Дубчек приступил к руководству. Справится ли он? Встанет ли над событиями или будет захлестнут ими? Честно говоря, очень опасался последнего, но раз так, мы должны попытаться привлечь его к последовательному проведению реформы.
Кроме выборов, на пленуме рассматривался вопрос о расширении Политбюро. В его состав-1 вошли новые члены — Йозеф Шпачек и Юлиус Борувка, которых можно было отнести к противникам Новотного, а также Ян Пиллер и Эмил Риго, о которых пока еще нельзя было твердо сказать, какую позицию они займут. Й. Шпачек работал секретарем Южно-Моравской области и являлся серьезным помощником в прогрессивном движении. Также очень полезен был Ю. Борувка, прекрасный специалист в области сельского хозяйства. Имея богатый опыт работы и обладая широкой известностью в стране, он, несомненно, будет проводить в своей сфере реформы. Пиллера я считал излишним тактиком и недостаточно надежным человеком; для проведения реформы он отнюдь не был очень полезен. Риго был слабо подготовлен к наступающим временам и такой высокой должности. В любом случае в Политбюро вообще не было никого из реформаторов, за исключением Шпачека, так как даже Дубчека мы не могли причислять к реформаторам.
238
Предложение, которое выдвинул Дубчек и которое было принято ЦК после выборов, меня настолько удивило, что я даже не смог выступить против. Оно касалось прекращения прений. Предлагалось только сообщить, что товарищ Новотный занимает две государственные должности и поэтому он отказывается от поста Первого секретаря ЦК КПЧ. Это было первое компромиссное предложение Дубчека, явно недемократичное. Но в тот момент трудно было сразу выступить против нового человека. Поэтому я уходил с горьким чувством. Хорошо же все начиналось!
Когда я вернулся домой с заседания, я почувствовал сильную боль в икре правой ноги. Я уже знал, что это означает. В последнее время у меня развился тромбоз, причину которого врачи не выяснили. Я думал, что это явилось результатом напряжения и внутренних судорог. Всегда после большого нервного напряжения, когда мне удавалось расслабиться, через несколько дней у меня возникали тромбы. Независимо от причины врачи отправляли меня в больницу и предписывали постельный режим. Госпитализация должна была затянуться, так как добавилась легочная эмболия. Я был прикован к постели и полностью оторван от жизни. Можно было «умереть от злости».
Уже через три недели я не выдержал. Кроме членов моей семьи, меня часто навещал Франтишек Власак. Его сообщения были удручающие. Ничего не делалось, население не информировалось и не проявляло никакого интереса. Для людей это была простая смена кресел «наверху», в партии, чему они не придавали никакого значения и игнорировали официальные сообщения. Это было невозможно. Все оставить по-старому? Вся борьба была напрасной? Пришли еще более горькие известия, что якобы Новотный уносит целые ящики материалов из секретариата партии, а Дубчек этому не препятствует. Значит, некоторые важные документы, которые не являются собственностью Новотного, безвозвратно исчезнут? Этого нельзя допустить!
Я должен вернуться из больницы и снова включиться в политическую жизнь. По моему настоянию врачи в конце концов меня отпустили, предупредив, чтобы я избегал волнений. Но как это возможно? Как я мог избежать волнений, если речь идет о самом важном в моей жизни? Очень скоро я разобрался в обстановке. 239
Вероятно, Дубчек не воспринимал всерьез интриги консерваторов и догматиков и явно их недооценивал. Все люди Новотного продолжали работать в секретариате. Даже его личные сотрудники, которые представляли собой нечто вроде узкого секретариата, по-прежнему оставались на своих местах. По доброте душевной Дубчек их принял. Ему и в голову не пришло, что каждое его слово, каждый визит, любое начинание моментально будут переданы Новотному.
Мы, реформаторы, самым решительным образом настаивали на том, чтобы Дубчек как можно скорее сменил людей в своем ближайшем окружении и обязательно проинформировал общественность! Важно было вырвать людей из той политической апатии, в которую Новотный их сознательно загнал. Надо немедленно было привести в действие средства массовой информации. Без политически активного населения вся окаменелая бюрократия будет продолжать управлять, а догматики будут и дальше дезинформировать людей и делать из них дураков. Дубчек должен раскачаться, или он упустит тот важный момент, который был создан с устранением Новотного. И вообще, кто знает, думает ли Дубчек о глубокой экономической реформе?
После совещания с друзьями я решил действовать. Мои знакомые журналисты настаивали на том, чтобы я их информировал. Я обещал им это. В конце февраля 1968 года Союз журналистов созвал совещание в Славянском доме. Когда я пришел туда, зал был уже переполнен. Думаю, что там присутствовало не меньше двух тысяч работников средств массовой информации. По большей части это были люди, которые не хотели подчиняться фальшивому и лживому агентству, находящемуся под контролем партии, а стремились честно и всесторонне информировать общественность.
Мой доклад продолжался почти два часа. Я хорошо его продумал, но говорил почти без подготовки, поскольку записаны у меня были только тезисы. Это была попытка провести глубокий анализ системы, ее основных экономических и политических недостатков и вытекающих из этого последствий для всех нас. Я показал, как сильно мы отстали от стран, с которыми перед войной Чехословакия могла конкурировать. Прежде всего я стремился подчеркнуть, что многие экономисты и социологи уже давно могли предложить решение на240
ших проблем, если бы им не мешал одержимый властью партийный аппарат и вездесущая цензура. В этой связи я указал на поверхностность так называемой десталинизации, проводимой Хрущевым, когда все приписывалось только характеру Сталина и его культу: Основные причины, которые заключались в монополистическом положении партийного аппарата и его претензиях на знание истины в последней инстанции, замалчивались. Когда я закончил доклад, разразилась буря оваций, и в то же время раздавались возмущенные крики. Многие из присутствовавших работников средств массовой информации дополнили мое выступление личными впечатлениями, вынесенными ими из многолетнего опыта работы, рассказывали о вопиющих случаях подавления правды, приводили примеры преследований и репрессий в отношении журналистов, которые не хотели подчиняться партийной бюрократии. Собрание было совершенно неуправляемым, у каждого было нечто такое на душе, чем он хотел открыто поделиться после многих лет диктатуры и преследований. Затем выступили некоторые журналисты и заявили, что уже никогда не подчинятся центру и будут писать по приказу своей совести. Под несмолкающие аплодисменты к ним присоединились все присутствующие.
Приблизительно в это же время Смрковский находился на одном из собраний, но в несколько иной аудитории. Он также проинформировал собравшихся о развитии страны при Новотном и высказался за полную демократизацию политической жизни. Будучи министром, он имел возможность собрать вокруг себя группу молодых ученых, которые создали нечто вроде «мозгового треста». Это облегчило Смрковскому целенаправленную и интенсивную политическую деятельность. Можно сказать, что только с отменой цензуры и развитием свободы в средствах массовой информации (гласности) началась так называемая пражская весна.
5. «ПРАЖСКАЯ ВЕСНА» НАЧИНАЕТСЯ
В феврале Дубчек сменил свое ближайшее окружение и взял молодых, приверженных реформам работников. Важным событием явилось также устранение из 241
секретариата Мирослава Мамулы, который руководил 8-м отделом, ведающим армией и государственной безопасностью. Мамулу боялись и ненавидели не только вне и внутри партийного аппарата, но и большинство сотрудников этого отдела, ибо он не только рьяно выполнял все приказы Новотного, но и был замешан во многих репрессиях, активно раскрывая и изолируя так называемых врагов народа. При этом большую роль играла его собственная одержимость властью, которую он проявлял особенно по отношению к любому интеллектуалу. Его место занял В. Прхлик.
В конце февраля средства массовой информации начали все более открыто и интенсивно информировать население не только о прошлых, но и о текущих событиях. Люди быстро оттаяли, хотя со стороны рабочих еще можно было наблюдать недоверие. Слишком много уже слышали обещаний и пережили переворотов в партии, от которых в их жизни ничего не менялось. Кроме того, Новотный опять начал кампанию, обращенную к рабочим, что несколько смутило и насторожило их.
Прежде всего он запугал их демагогической картиной последствий введения рыночного механизма, за что боролись реформаторы. На общих собраниях, состоявшихся на нескольких крупных предприятиях, он говорил о том, что принесет с собой рынок, как будут расти цены, как опять возникнет безработица и начнется кризис, как усилится давление на рост производительности труда и т. д. А учитывая то, что многие рабочие еще помнили об этих явлениях в недалеком прошлом, пропагандистская кампания Новотного не оставалась без ответа.
Новотного поддерживала группа оголтелых сталинистов. Это была так называемая группа Йодаса. Она выступала против якобы скрытого обновления капитализма, причем выступала против всех интеллектуалов и особенно против журналистов. Она запугивала рабочих тем, что они лишатся своих социалистических завоеваний и снова будут порабощены капиталистами.
На это необходимо было ответить, и мы начали широкую агитационную кампанию. Сотрудники нашего института выступали всюду. Я носился с одного собрания на другое, написал в это время множество популяр242
ных статей. Эта наша кампания осложнялась для нас тем, что мы не могли и не хотели допустить ложь и демагогию. Необходимо было, с одной стороны, правдиво сказать, что потребуется кардинально повысить производительность труда, улучшить качество продукции и что при этом неизбежны увольнения работников некоторых предприятий, а также в определенной мере переподготовка рабочих или их перемещение на другие предприятия, с другой — объяснить, что реально может дать населению рыночное хозяйство и чем его влияние будет отличаться от капиталистического.
Эта агитационная кампания показала, насколько назрела ускоренная смена кадров в центральных партийных органах и партийном аппарате. Ни высшие партийные деятели, ни старые работники отдела пропаганды не способны были давать вразумительные ответы на возникающие вопросы в связи с вводом рыночных отношений. Поэтому это была именно та пропагандистская работа, которая имела огромное значение как для рабочих, так и для широких слоев населения. В этом плане Дубчек потерял много времени. Только в начале марта секретарь ЦК по идеологии И. Гендрих был заменен Й. Шпачеком, а Ч. Цисарж назначен заведующим отделом культуры. И только 5 апреля 1968 года ЦК принял и обнародовал Программу действий КПЧ, которая указала партии и всему народу новый путь развития.
Программа действий открыла дорогу последовательной экономической реформе и всесторонней демократизации общества. В программе было отражено значение рыночного механизма для социалистического хозяйства и самоуправления предприятий. В ней подчеркивалось, какие условия должны быть созданы, чтобы на предприятиях и в общественной жизни интересы отдельных слоев населения и отдельных социальных групп были взаимоувязаны. Для решения спорных вопросов и возможности выбора населению должны представляться различные альтернативы. Люди должны получать широкую и объективную информацию. В свете нынешней горбачевской перестройки, осуществляемой в СССР, снова видна принципиальная верность основных направлений реформы, отраженных тогда в Программе действий. Если бы не были бездарно потеряны январь и февраль, то все это — разработка Про243
граммы действий, смена руководящих кадров, привлечение широких слоев населения к реформе на основе дискуссии с ними — могло произойти гораздо раныпе. Потеря времени, причем существенная, наглядно показала, как не сразу Дубчек ориентируется и чаще всего слишком поздно реагирует там, где следует действовать решительно.
В этот период Политбюро не управляло развитием, так как действовало под давлением извне. Отсутствие активного руководящего органа вело к неопределенности и всяческим опасностям, а это в свою очередь способствовало образованию все новых групп давления. Тот факт, что в Политбюро было слишком много людей, желавших затормозить или вообще не допустить прогрессивного развития, вызывал нетерпение и опасение работников средств массовой информации. Он провоцировал их на обличение реакционеров в партийных комитетах и на выдвижение все более радикальных требований.
Дубчек стремился действовать сложившимися партийными методами и прежде всего хотел дать возможность съезду провести смену выборных партийных органов. В марте и апреле проходили окружные и областные партийные конференции как подготовительная ступень к партийному съезду. Дата его проведения еще не была установлена, и именно из-за этого разгорелась сильнейшая политическая борьба. Общественность не хотела так долго ждать устранения из политической жизни всех тех, кто нес личную ответственность за многочисленные, чреватые серьезными последствиями ошибки и притеснения в прошлом. Работники средств массовой информации, располагавшие информацией об этой политике, сообщали их общественности и вынуждали Политбюро к действиям.
Среди тех, кого в первую очередь критиковали средства массовой информации, был, само собой разумеется, сам Новотный, который в большей степени был повинен в причиненных народу страданиях в прошлые годы. Многим здравомыслящим людям было невыносимо сознавать, что во главе государства, на посту президента, находился человек, который несет прямую личную ответственность за политические убийства и осуждение невиновных, который затягивал реабилитацию и пытался противодействовать любой демокра244
тизации общества. Только кампания, развернутая средствами массовой информации против Новотного, вынудила Политбюро к действиям и привела в конце концов к отставке Новотного.
Весной моя деятельность сосредоточилась на проведении такой политики, которая играла бы решающую роль в осуществлении экономической реформы. Я выступал на многих окружных конференциях как докладчик ЦК. На всех конференциях происходили столкновения с консерваторами, которые все больше консолидировались и переходили в контрнаступление. Но почти на всех окружных и областных конференциях они оказывались в абсолютном меньшинстве. Только в редких случаях им удавалось избрать кого-нибудь из своих делегатом на съезд партии. По внутренним сведениям идеологического отдела было ясно, что подавляющее большинство делегатов съезда—это сторонники Программы действий и последовательного проведения реформ (приблизительно 80—90%).
Вопрос демократизации в политике и экономике явился основной причиной все большей дифференциации между консерваторами и прогрессивными членами партии. А так как этот процесс предусматривался Программой действий, отношение к ней было также различным. Еще до принятия программы общественность и участники бурных конференций требовали, чтобы дискредитировавшие себя члены Политбюро и правительства были заменены прогрессивно мыслящими политиками.
В противовес развитию внутри страны, которое все более очевидно вело к усилению позиций прогрессивных сил, возрастало давление из-за рубежа, со стороны социалистических стран, на демократизацию и ее носителей в ЧССР. Партийное руководство соседних социалистических стран начало называть процессы, происходящие у нас, опасными и угрожающими социализму. Уже первый визит Брежнева в Прагу, а также визиты других руководителей социалистических стран после смены нашего высшего руководства 22 февраля 1968 года были связаны с критикой нашего развития. То, что средства массовой информации развернули свободный обмен мнениями, так напугало этих руководителей, что без всяких доказательств они объявили об угрозе социализму. Давление на наше руководство со 245
стороны Советского Союза возрастало день ото дня и придавало силы консерваторам. На совещании руководителей партий, состоявшемся в Дрездене 23 марта 1968 года, критика вылилась в прямое требование к Дубчеку изменить политику в ЧССР. Это было явное вмешательство во внутреннее политическое развитие нашей страны, продиктованное страхом распространения «заразы», хотя и облеченное в форму «добрых намерений», «братских советов». И именно это внешнее давление излишне радикализировало развитие в ЧССР.
Обоснованная боязнь нашего народа перед реакционным развитием, к которому хотели нас принудить «братские страны», вела к спонтанному возникновению новых политических обществ. В конце марта образовалась группа действия по созданию социал-демократической партии, затем подготовительный комитет «Клуба 231» и, наконец, Клуб активных беспартийных. Зарубежные критики появились, таким образом, раньше, чем возникли эти общества. В создании клубов отразились опасения наших граждан, что слабое, еще не освободившееся от влияния Новотного и других реакционеров партийное руководство будет неспособно осуществить настоящую демократизацию.
Но даже это спонтанное политическое развитие не угрожало социализму в ЧССР, так как ни одно из созданных обществ не ставило своей целью устранение социалистической общественной системы. Эти общества стремились препятствовать возврату к старой, тоталитарной диктатуре коммунистической партии. Неосталинистское руководство Брежнева в СССР, Ульбрихта в ГДР, Гомулки в Польше не могло представить себе социализм как демократическую политическую систему со свободным обменом мнениями, поэтому любое развитие в этом направлении оно объявляло антисоциалистическим. Кроме того, руководство нашей партии было нерешительным и по всем направлениям этого спонтанного развития все время отставало, вместо того чтобы действительно играть руководящую роль, принимая быстрые и своевременные решения по жгучим проблемам. Постоянное колебание Дубчека между внутренним и внешним давлением антиреформистских сил, с одной стороны, и внутренних реформистских сил — с другой, при котором ни одна из сторон не могла прийти к истине, вело к росту взаимного 246
давления и требований. Ни Дубчек, ни Черник среди членов Политбюро не относились к реформаторам, а, скорее, были центристами.
Если бы речь действительно шла о судьбе социализма, за которую «братские страны» якобы боялись, то достаточно было отразить в конституции некоторые основополагающие принципы, например вопрос о собственности на средства производства. Одновременно с этим следовало бы установить, что конституция может быть изменена только на основе прямого всеобщего голосования при получении определенного минимального процента голосов избирателей (70—80%). Ведь было ясно, что еще весной противники социализма не имели у нас вообще никакого шанса на успех и не могли привлечь большинство населения на свою сторону, призывая к возврату к капиталистической системе. Однако для консервативных и неосталинистских сил у нас и за рубежом речь шла не о социалистической системе, а о недопущении процесса демократизации в ЧССР, в котором они видели опасность распространения «заразы» и непосредственную угрозу своему господствующему положению. К сожалению, наше партийное руководство не могло обеспечить развитие такого правового демократического социализма, так как демократические силы сначала в нем не были представлены, а сам Дубчек не имел ясного представления о реформе.
Только в апреле наконец состоялся пленум ЦК, на котором должны были быть проведены кадровые изменения в Политбюро и правительстве. Эти изменения произошли слишком поздно и не привели к удовлетворительным решениям. Если бы Дубчек был более последователен и однозначно опирался на прогрессивные силы в партии, то демократам эти изменения дали бы возможность действовать более свободно и решительно. Не правы те, кто позднее утверждал, что в этом случае Советский Союз напал бы на нас раньше. Это возражение я не могу принять и сегодня. Наоборот, слишком затянувшееся и нерешительное объявление программы, непоследовательность при проведении изменений в руководящих органах, отсрочка съезда партии и т.д. вели к безвыходной ситуации. Своевременное решение назревших проблем, а также решительные действия по пресечению внешнего вмешательства во 247
внутренние дели страны обеспечили бы самостоятельное развитие Чехословакии.
Съезд партии мог быть назначен на начало июня и даже на май, то есть тогда, когда о военном вмешательстве «братских стран» еще никто и не помышлял. Точно так же можно утверждать, что быстрейшее устранение с руководящих политических постов консервативных и реакционных сил положило бы конец постоянным провокациям и не привело бы к «призыву о помощи». Военное вторжение не могло бы так легко осуществиться, если бы уже прошел единый съезд партии и было избрано новое руководство, имеющее ясные демократические и социалистические цели. Съезд партии никто не мог бы назвать контрреволюцией. В этом смысле я при любой возможности требовал ускорения развития.
Во всех своих выступлениях на окружных конференциях я призывал ускорить проведение мероприятий по демократизации и предупреждал об опасности, которую представляет собой разлагающая и засасывающая тактика консерваторов. В своем дискуссионном докладе на уже упоминавшемся пленуме ЦК я прежде всего призывал действовать более решительно и обращал внимание на «нагнетание страха» сталинистамиреакционерами. Из-за этого я стал мишенью для нападок, но Дубчека так и не убедил в необходимости решительных действий. Советское руководство не желало и слышать о проведении съезда партии в 1968 году, обосновывая это тем, что «сначала надо нормализовать ситуацию, а потом, возможно в 1969 году, можно созвать съезд партии». Испытывая подобное давление, Дубчек отдалял съезд как мог, и те, кто призывал к созыву съезда, его очень раздражали. На пленуме ЦК 29 марта — 5 апреля 1968 года произошли следующие изменения: прежде всего, генерал Людвик Свобода был назван единственным кандидатом для выборов на пост президента, хотя во время дискуссии был предложен целый ряд кандидатур (например, Смрковский, Цисарж, Шик и др). Если были предложены хотя бы две кандидатуры, это явилось бы пусть крошечным, но шажком вперед, в направлении демократии, без угрозы социализму. Но Свобода как герой второй мировой войны, к тому же безосновательно исключенный из политической жизни в 50-е годы, был неплохой кандида248
турой в президенты. С таким выводом Дубчек ознакомил меня во время нашего ночного разговора в Братиславе, и я посчитал это хорошим предложением.
Далее, было принято решение, что из Политбюро выйдут: Новотный, Гендрих, Шимунек, Лаштовичка и по причине «равновесия» также Борувка. Политбюро было пополнено двумя словаками, Барбиреком и Биляком, опять же «для равновесия». Дополнительно были избраны также Кригель, Смрковский и Швестка. Первые два являлись сторонниками реформ, Швестка же, наоборот, был консерватором. Смрковский должен был занять пост председателя Национального фронта. Кандидатами в члены Политбюро стали Калек, Ленарт и М. Вацулик, то есть все бывшие сторонники Новотного. Учитывая то, что под огнем критики Кольдер, а позднее и Биляк превратились в консерваторов, в Политбюро консерваторы преобладали. Таким образом, трое явных реформатора (Кригель, Смрковский, Шпачек) противостояли пяти консерваторам с правом голоса (Биляку, Кольдеру, Пиллеру, Риго, Швестке) при трех центристах (Чернике, Дубчеке, Барбиреке), а также трех консерваторах без права голоса (Капеке, Ленарте, М. Вацулике).
Более благоприятная ситуация сложилась в секретариате, хотя и здесь не все было однозначно. В секретариат вошли: Дубчек, Кольдер, Цисарж, Индра, Ленарт, Млынарж, Славик, Садовский, Воленик. По моему мнению, это были, соответственно, три консерватора, три реформиста и три центриста. Каждое отдельное решение зависело от того, куда склонятся центристы.
Это были те кадровые изменения в высшем политическом органе, которые должны были успокоить партию. Но они не отвечали даже тем скромным требованиям, которые исходили от окружных партийных конференций. Было ясно, что они должны были лишь успокоить Советы, чего, естественно, не произошло, особенно в связи с избранием Кригеля и Смрковского.
Жертвой советского давления потом стал и я, хотя предложение избрать меня в Политбюро было выдвинуто на многих окружных конференциях. На пленуме ЦК меня также выдвинули в Политбюро. Но здесь Индра, выполняя пожелание Советов, выступил против моего избрания, мотивировав это бессодержательным обоснованием и заявив, что меня скорее надо избрать 249
в правительство, чтобы я там двигал вперед экономическую реформу. Ни один из центристов, ни Дубчек, ни Черник, мою кандидатуру не поддержал. Консервативному крылу в Политбюро стало легче оттого, что радикал Шик в него не вошел.
Здесь наиболее наглядно проявилось постоянное колебание Дубчека, не имевшего ясной концепции, между консерваторами и реформаторами. Под воздействием средств массовой информации и общественного мнения он склонялся, скорее, к реформаторам и пытался привлечь в партийный аппарат и в свое окружение людей, настроенных на проведение реформ. В то же время под давлением консерваторов и все усиливающихся требований в отношении кадров со стороны Брежнева (который черпал свою информацию от оппозиционно настроенного к реформам посла СССР Червоненко, а также других источников, например КГБ ЧССР) Дубчек назначил на руководящие посты консерваторов и всячески их оберегал, препятствуя политической карьере лиц, которые казались неприемлемыми для консерваторов или Брежнева.
Негативное отношение Брежнева лично ко мне возникло после моего выступления на XIII съезде КПЧ, в котором я настоятельно требовал ускорить процессы демократизации. Дальнейшая информация из его собственных источников дополнила «опасный» образ моей личности. Как я узнал только потом, с самого начала я относился к людям, избранию которых надо было любым способом препятствовать. Индра получил задание сделать это в своем выступлении, что соответствовало и намерениям Дубчека. Для Дубчека и Черника мое выдвижение в правительство явилось обходным маневром. Черника устраивало мое участие в правительстве, но руководство Экономическим советом он мне не доверил (его возглавил Штроугал). Не доверил он мне и никакой конкретной отрасли. Моя задача состояла в разработке проекта внедрения и дальнейшего развития экономической реформы. Это все были уступки консерваторам, которые боялись моих действий в области политической реформы. Из-за этого маневра мне вообще не хотелось работать в правительстве.
Черник, назначенный по инициативе Дубчека главой правительства, сформировал новое правительство. Сторонники политической и экономической реформ со250
ставили в нем только одну треть из 29 членов. Я никак не мог решиться принять предложение Черника войти в правительство в качестве его заместителя. Я чувствовал внутреннюю раздвоенность: с одной стороны, я должен был нести общую ответственность за действия правительства, в котором очень трудно будет проводить демократические преобразования; с другой—можно было бы более последовательно двигать вперед экономическую реформу. Второй довод показался мне более важным, так что после определенных сомнений и колебаний я решил принять это предложение. Я дал себе слово, что буду последовательно бороться за подлинную демократизацию.
Нападки со стороны средств массовой информации «братских стран» в адрес нашего развития продолжались. Особенно опережала всех в этом процессе ГДР под руководством «великого идеолога» Курта Хагера. Кто дал право таким идеологам выдавать свое понимание учения Маркса за единственно правильное и решать, что является социалистическим, а что нет? После отказа от многих «вечных истин» в прошлом можно было бы уже чему-нибудь научиться. Но так как со многими из них я был знаком, я прекрасно сознавал, что речь идет не столько о правде и истине, сколько о том, что они хотят иметь ту правду, которая отвечает интересам сохранения их у власти.
Давление Москвы на Дубчека становилось все сильнее. Уже начали раздаваться протесты против конкретных людей и их деятельности. Например, назначение министром внутренних дел бывшего бойца в Испании, осужденного на длительный срок в 50-е годы, а затем реабилитированного, Йозефа Павела, вызвало особое раздражение Москвы.
Павел должен был очистить секретную службу государственной безопасности от всех людей, которые в 50-е годы привели в движение репрессивную машину, организовали аресты и процессы. Служба государственной безопасности все еще была наводнена советскими агентами. По прямому вмешательству Москвы деятельность Павела должна была быть приторможена. В связи с этим в качестве государственного секретаря и руководителя службы государственной безопасности туда был направлен Вильям Шалгович. Во время одного разговора Павел сказал мне, что Шалгович является 251
агентом советской тайной полиции (КГБ). С самого начала Шалгович стремился свести на нет деятельность Павела, а в области государственной безопасности вообще ее запретить. Позднее он стал членом оперативной группы, которая совместно с группой КГБ готовила военное вторжение.
Итак, давление со стороны Москвы и критика своих собственных интеллектуалов способствовали тому, что многие противники Новотного перешли в лагерь консерваторов. Такие люди, как Кольдер, Биляк, Швестка и др., за свою предыдущую деятельность попали под огонь критики, причем критике они подвергались часто в городах, откуда были родом, например как Кольдер в Остраве. Из страха перед процессами демократизации эти люди выступали против носителей радикальных идей. Однако полностью с консерваторами и реакционерами, окружавшими Новотного и хотевшими повернуть колесо истории вспять, в условия старой тоталитарной диктатуры, и которых поэтому можно назвать неосталинистами, они не слились. Кольдер и ему подобные выступали за определенные небольшие изменения в партийной работе, но не за действительную демократизацию политической системы. В отличие от неосталинистских реакционеров их можно назвать консерваторами.
Консерваторы прежде всего хотели сохранить свое положение в данной системе. Реакционеры стремились к тому, чтобы все оставалось, как при Новотном, чтобы вновь взять власть в свои руки. Прогрессивные силы из собственного опыта и из развития общественной теории и ее критики знали, что многие марксистсколенинские постулаты упрощены или искажены и ведут к чуждому для народа и враждебному ему развитию государства. Кроме того, им уже было ясно, что социалистическое планирование хозяйства, развившееся при Сталине, имеет в своей основе ложные концепции и по сравнению с рыночным развитием хозяйства ведет к огромным потерям эффективности и существенному отставанию жизненного уровня.
Для прогрессивных сил долгосрочные интересы людей по-прежнему оставались решающими, поэтому они не были удовлетворены складывающимся положением дел и продолжали борьбу за последовательную и всестороннюю реформу системы. То, что большинство из 252
них знало недостатки капиталистической системы, делало невозможным возврат к капиталистической системе. Их реформы были направлены на создание демократического единства плана и рынка в общественной системе. Именно в этом направлении они боролись за мировоззрение населения и даже под воздействием возросшей советской угрозы не могли отказаться от своей цели, так как не хотели потерять доверие народа.
6. МОСКВА ПРОТИВ СОЗЫВА СЪЕЗДА ПАРТИИ
Под влиянием возросшей опасности в лагере прогрессивных сил также произошла дифференциация. При этом прагматически настроенная часть значительно сблизилась с центристами, например Смрковский и др. Они видели возможность советского вмешательства и стремились его предотвратить, препятствуя любым действиям и начинаниям, которые могли бы спровоцировать Советы. Они пытались ограничить слишком радикальную критику в средствах массовой информации, призывали к самокритике. Дубчек все время успокаивал Советы обещаниями, что пойдет навстречу их требованиям, однако выполнить их не мог. Короче говоря, это была политика «сдержанности», при которой такие требования, как «демократический плюрализм», не высказывались, делались «уступки консерваторам и не велась борьба с реакционерами» и т. д.
Я глубоко уверен, что все это убаюкивание, с его обещаниями и уступками, не могло полностью успокоить тогдашнее брежневское руководство. Брежнев требовал от нас проведения реакционной политики, введения упраздненной цензуры, устранения с центральных политических постов всех прогрессивно мыслящих деятелей и возвращения сторонников Новотного на прежние места, ликвидации возникших обществ и введения партийного контроля над всеми партиями Национального фронта, то есть возврата старой, новотновской системы без самого Новотного (возможно, с Гендрихом или Индрой во главе). Однако «сдержанность», «умеренность» и «игра в прятки» не могли отвратить опасность интервенции.
В правительстве я серьезно схватился с Гусаком, 253
когда он потребовал, чтобы вновь ввели цензуру. Мне это казалось совершенно неприемлемым, так как свободная деятельность средств массовой информации являлась единственной возможностью, способствующей осуществлению интересов большинства населения. Без этого бюрократический аппарат продолжал бы свои манипуляции, а требования различных слоев населения остались бы вне сферы его внимания.
За ускорение проведения съезда партии я боролся в первые месяцы весны, но, к сожалению, эту борьбу я проиграл. Пока еще была надежда, я считал возможным реализовать в короткий срок плюралистическую демократию, обеспеченную социалистической конституцией. Это я утверждал и во время своих встреч с группой действия социал-демократической партии, об этом я говорил с Кригелем, как только он возглавил Национальный фронт.
Кригель придерживался того же мнения и призывал другие партии развивать самостоятельную политическую деятельность. В рамках настроенного на социализм Национального фронта и на основе конституции отдельные политические партии, выдвигая свои требования и специфические предложения, должны были бороться за симпатии избирателей.
Но так как съезд партии вовремя не состоялся, а внешнее давление и угрозы все росли, я признался себе в том, что требование создания плюралистической демократии уже нереально. Это была уже только желаемая цель, достижение которой возможно будет несколько позже, при иных внешних условиях. Примерно в таком духе я выступал на заседании идеологической комиссии по подготовке XIV съезда КПЧ, которое состоялось под руководством Дубчека. На этом же заседании я вступил в дискуссию с 3. Млынаржем, которого поддерживал Дубчек. Они оба отказались включить в программу партии, подготавливавшуюся к XIV съезду, требование плюралистической демократии. Но я не мог отказаться от этой идеи. Иначе я не оправдал бы доверия широких слоев населения, которые я хотел представлять и которые истосковались по демократии.
Убогие речи консервативных идеологов, которые и раньше и теперь называли плюралистическую демократию замаскированной диктатурой буржуазии, я считал не просто упрощенческим пониманием проблемы, 254
а сознательным отходом от основной идеи политической реформы. Особенно ярко это проявилось в том выводе, который они делали, будто социалистическому обществу не нужна будет плюралистическая демократия, так как ни буржуазии, ни антагонистических классов уже не будет. Я очень хорошо почувствовал, какой властью обладал монополистический партийный аппарат и как бессильны против него члены ЦК, если они не могли даже создавать группы и строить собственный вспомогательный аппарат. Никакая прямая демократия не может гарантировать сопоставление взглядов и сближение различных групповых интересов без существования плюралистических группировок.
Потом, когда я понял, что мои демократические представления невозможно осуществить, я сосредоточился на быстрой реализации идеи самоуправления на предприятиях, чтобы хотя бы здесь были созданы органы, посредством которых трудящиеся могли осуществлять свои интересы. Тут же стали раздаваться голоса, которые называли мои представления об этом «технократическими». Мне до сих пор неясно, почему это так оценивалось и кто это распространял.
На деле с самого начала работы над реформой я уделял большое внимание вопросу кадровой независимости предприятий от вышестоящей бюрократии. Такая независимость могла бы быть обеспечена только выборностью и подотчетностью руководителей органам самоуправления предприятий. Однако, пока у Новотного была политическая власть, о самоуправлении предприятий не могло быть и речи. Даже более скромные требования Политбюро исключило из проекта реформы.
Первое упоминание о необходимости демократического самоуправления предприятий могло быть приведено в Программе действий, принятой 5 апреля 1968 года. Но даже при правительстве Черника невозможно было сразу осуществить самоуправление предприятий, так как большинство членов ЦК, включая самого Черника, настаивали на так называемой концепции одной трети. В соответствии с этой концепцией одну треть должны были составлять органы самоуправления, избранные работниками предприятия, еще одну треть— назначенные специалисты, не работающие на предприятии (ученые и т.д.), и, наконец, еще одну треть— 255
представители государственного аппарата (работники министерств и т.д.).
Я не был согласен с этой концепцией и, поскольку свои идеи я не мог провести через правительство, попытался привлечь внимание общественности к идее настоящих советов трудящихся (так я их называл).
Вот основные положения, которые я выдвигал. Совет трудящихся должен избираться только коллективом работников предприятия. Профсоюзная организация предоставляет для выборов список кандидатов; выборы проводятся на альтернативной основе. В совет трудящихся могут быть избраны специалисты, не работающие на данном предприятии, но только с согласия коллектива работников этого предприятия. Советы трудящихся отчитываются о своей деятельности перед коллективом предприятия и контролируются им. Руководители предприятий избираются советами трудящихся, назначаются и контролируются ими. С этой идеей я выступил перед общественностью 20 мая 1968 года на расширенном заседании экономического общества. Мои предложения на следующий же день были опубликованы в профсоюзной газете «Праце». Они получили широкий резонанс и, главное, были приняты и поняты предприятиями. Еще до того, как 6 мая я смог свой проект провести в правительстве (под давлением общественности мое требование было принято), некоторые крупные предприятия уже выбрали органы самоуправления.
Однако уже тогда я понимал, что в условиях однопартийной системы имеется опасность манипулирования советами трудящихся со стороны партийной бюрократии, как это происходило в Югославии. Только при наличии нескольких партий, представители которых в честном соревновании добиваются признания работников, можно обеспечить такое положение, когда интересы трудящихся будут действительно учитываться через членов советов трудящихся. Если советы трудящихся будут создаваться партийным аппаратом и навязываться коллективу (без реальных выборов), то они будут служить этому аппарату. Именно тогда, когда в революционные дни «пражской весны» партийная бюрократия была совершенно парализована, трудящиеся смогли избрать советы, которым они доверяли, даже при отсутствии многопартийности.
256
Моя деятельность в правительстве была так непродолжительна, что не могло быть и речи о реализации всех основных принципов экономической реформы. Усиливающаяся политическая борьба и действия иностранных противников нашего развития не давали правительству спокойно работать, создавали напряженную атмосферу. Поэтому члены правительства поддерживали то или иное политическое направление в зависимости от того, с каким из них чувствовали необходимость быть связанными в данный момент. Больше всего удивлял Гусак. Он как человек, имеющий большой отрицательный опыт и с которым при наших нелегальных встречах я думал поддерживать идейный контакт, в правительстве очень быстро проявил себя политиком, жаждущим власти. Он ни на йоту не превратился в демократа.
Единственная цель, которой он действительно добивался, была федерализация республик, и эта цель была достигнута. Ни о какой демократизации он не хотел и слышать. Иногда даже казалось, что он ее боится. Очевидно, сразу же после войны, когда он еще имел власть в Словакии, он сам использовал недемократические методы. Там он был заместителем председателя Словацкого национального совета и уполномоченным внутренних дел, позднее возглавлял группу уполномоченных. Затем был членом Президиума ЦК Компартии Словакии и с 1949 года — членом ЦК КПЧ. Даже трудные годы заключения при Новотном его ничему не научили.
Однажды после одного большого собрания в зале пражского Дома культуры, где собралось несколько тысяч человек, в основном молодых людей, я случайно встретился с ним взглядом и увидел его глаза, полные страха. На этом грандиозном собрании, которое носило действительно революционный характер, выступали все известные деятели «пражской весны», вопросы слушателей были острыми и критическими. В зале царил восторг по поводу нового, демократического и гуманного начала развития общества, что само по себе оказывало вдохновляющее воздействие на присутствующих. В конце, когда все уже выходили из зала, я случайно увидел, как Гусак взял за руку Марию Швермову и сказал: «Мария, ты не боишься, что наш социализм находится под угрозой?» И Швермова, которая в 50-е 257
годы вытерпела столько горя, посмотрев на него с удивлением, ответила: «Страх? Перед чем? Перед этими молодыми людьми, о будущем которых идет речь? Нет, страха у меня вообще нет, а есть радость, настоящая радость!»
Зато у Гусака был страх. Огромный, панический страх, который гнал его на другую сторону. С того момента, как мы оба стали заместителями Председателя правительства, Гусак ни разу не говорил со мной и на мое предложение встретиться никак не реагировал. Он отошел ото всех реформаторов и, вероятно, искал новые контакты. Я уверен, что он уже тогда ни о чем ином не думал, как о том, чтобы занять место Дубчека. Он ждал такой перемены и готовил ее.
Больше всего меня раздражало то, что он совершенно игнорирует проблемы экономической реформы. Он даже не пытался понять ее основные принципы. Когда Черник не мог участвовать в заседании правительства, заседание вел кто-нибудь из его заместителей. Однажды, когда заседание вел Гусак, между двумя министрами возник спор по поводу выделения капиталовложений. Я уже точно не знаю, о какой отрасли шла речь, но, кажется, это были министр связи и министр строительства. Гусак хотел принять решение без каких-либо подготовительных документов. Так как он не мог оценить доводы министров, то попросил меня, чтобы спор решил я. Он сказал: «Скажи что-нибудь об этом, ведь ты же специалист!»
Меня это страшно разозлило, ибо это был старый субъективистский способ, которым правительство раньше решало вопросы о миллионных суммах. Мне было смешно наблюдать этот спор, так как представленное обоснование никто не мог оценить, а у меня не было ни малейшего желания участвовать в принятии такого бессмысленного решения. Уж если кто и должен был решать, так это был Штроугал, которому Черник поручил возглавлять Экономический совет, а я был только членом этого совета и отвечал за внедрение экономической реформы. Когда Гусак так прямо предложил мне высказаться по этому поводу, поскольку сам был не способен прекратить эти бессмысленные дебаты и передать решение вопроса в Экономический совет, я осознал, что он совершенно не разбирается в этих вопросах и не понимает, о чем вообще идет речь в эконо258
мической реформе. В моем отделе мы занимались разработкой принципиально нового метода планирования, который я мог передать правительству несколько позднее — 22 июля 1968 года. Помимо прочего, субъективистское распределение государством капиталовложений вообще предусмотрено было ликвидировать, а вопросы инвестирования должны были решать сами предприятия или объединения. Государство должно рассматривать вопросы только о тех инвестициях, которые предназначены для развития государственных учреждений и в основном для непроизводственного сектора. Свары между отдельными министрами из-за государственных денег вообще должны исчезнуть из повестки дня правительства.
Что же мне оставалось делать, как не указать министрам на временность принимаемых решений и объявить конец дискуссии? Естественно, я не мог выступить здесь с развернутой лекцией о задачах реформы. Оказалось, что присутствовавшие министры, которые входили в старое правительство, вообще не понимают, почему правительство как высший орган государственной власти не может принимать решение о распределении государственных денег. Пройдет еще много времени, прежде чем старая субъективистская привычка принимать подобные решения будет преодолена. Гусак злорадно усмехался, хотя сам ничего не понимал. Он думал, что я боюсь принимать решение, и говорил потом, что Шик хорош для теории, а что касается практики, то принимать решения он не может.
В конце июня и в июле я опять сосредоточился на экономических проблемах. Требовалось провести последние корректировки основных принципов нового планирования. Особое внимание я уделял двум материалам, разработанным моим отделом в Президиуме правительства, которые должны были быть представлены правительству. Во-первых, это анализ экономического развития за 1968 год и, во-вторых, концепция экономической политики и развития системы управления на последующие годы. Учитывая последовавшие затем события, обе работы не могли быть завершены под моим руководством.
Уже на втором этапе подготовительной работы над основной концепцией мы в нашем отделе, деятельность которого совпала с деятельностью комиссии по рефор259
ме, пришли к выводу, что необходимо указать на некоторые не слишком популярные процессы, которые будут проходить в ближайшее время. Наша цель — достичь равновесия в экономике и стабилизировать рост народного хозяйства на основе использования экономических инструментов и отказа от административно-командных методов— предполагала повышение цен при одновременном сдерживании роста заработной платы. Если мы хотели снизить избыточную покупательную способность и тем самым устранить постепенно и целенаправленно рынок продавцов, мы не могли рассчитывать только на рост производительности труда. При постоянно существующем рынке продавцов, то есть превышении спроса над предложением, производители и далее использовали бы ситуацию в свою пользу и вместо необходимых товаров производили бы много ненужного, но для них легко производимого товара.
Для того чтобы учитывались фактические потребности потребителей, повышалось качество продукции и быстрее осуществлялись инновации, необходимо было попытаться путем определенного повышения цен и одновременного сокращения роста заработной платы постепенно устранить избыточный спрос. Мне было ясно, что это повлечет за собой замедление темпов роста жизненного уровня населения при не таком быстром росте производительности труда, как мы предполагали, и что это снижение жизненного уровня будет временным. Но как только будет ликвидировано это превышение предложения и у производителей возникнут трудности при сбыте своего товара, они будут вынуждены следить за развитием спроса и при интенсивной конкуренции повышать свою инновационную деятельность.
Такое неизбежное и не очень привлекательное для населения хозяйственное развитие мы могли допустить только при условии, что будет достигнуто понимание и доверие со стороны народа к проводимым мероприятиям. О всех последствиях осуществления экономической политики я решил информировать широкие слои населения и при первой же возможности, которая представится мне, выступить на телевидении. Я предполагал объяснить наше тяжелое экономическое положение как итог старой, директивной системы планирования. Для 260
иллюстрации этого мне, естественно, понадобились большой цифровой материал (доступный для всеобщего понимания) и примеры. Я поручил подготовить все это двум своим сотрудникам, а сам засел за разработку общей концепции выступления.
В конце июня с одним из сотрудников телевидения мы обсудили организационную сторону передачи. Было ясно, что такое количество сложных проблем невозможно рассмотреть сразу в одной передаче, так как это тяжело для восприятия и не исключало того, что зрители, перегруженные информацией, перестали бы следить за материалом и выключили бы телевизоры. Мы договорились разделить передачу на несколько вечеров. В начале июля я выступлю как бы с циклом лекций, небольших, но насыщенных наглядными материалами. Каждая из шести передач будет иметь свое название.
1. Как строим?
2. Как производим?
3. Как торгуем?
4. Как живем?
5. Как руководим нашей хозяйственной деятельностью?
6. Каковы наши шансы?
По каждой проблеме мы провели сравнительный анализ с развитыми капиталистическими странами и доступными нам методами показали нашу огромную отсталость. Так, например, был проведен расчет, сколько часов должен работать наш средний рабочий, чтобы купить тот или иной товар (телевизор, пару дамских колготок, определенное количество мяса и т.д.) по сравнению со средним рабочим на Западе.
Все эти сопоставления и объяснение причин нашего отставания действовали на людей электризующе. Еще никто и никогда не говорил с ними так открыто, и еще никогда не было так, чтобы одновременно столько людей сразу осознали наше бедственное экономическое положение. Показав возможный выход из создавшегося положения, я высказал надежду, что только с помощью народа, опираясь на его поддержку, можно в течение нескольких лет вернуть Чехословакию в число промышленно развитых стран. Поэтому все эти выкладки воздействовали на людей не пессимистически, а, скорее, оптимистически.
261
Реакция населения на эти телепередачи была фантастической. Люди сидели перед телевизорами и, как зачарованные, смотрели на экран. Я получил огромное количество писем и открыток, в которых простые люди выражали свою готовность сделать все необходимое, чтобы помочь решению проблем. Многие писали: «Скажите нам прямо, на какой период времени мы должны затянуть пояс, чтобы достичь вершины. Мы это выдержим!»
Совершенно спонтанно возникла мысль создать фонд республики, куда можно было бы сдать золото и другие ценные предметы. И появились люди, посылавшие драгоценности, обручальные кольца, чтобы помочь республике.
У меня и моих людей возникло чувство, что мы все сможем, если извне будут созданы для этого условия. Тогда я еще не предполагал, что этими телепередачами я попрощался со своими соотечественниками.
7. ИЮНЬСКИЕ МАНЕВРЫ
Со второй половины 1968 года события начали стремительно развиваться. Мне уже было ясно, что нужный момент для проведения съезда нами упущен и что консервативные правительства «братских» стран хотят потребовать от нас изменения политического курса и направить его в русло реакционного развития. Мысли о возможном военном вмешательстве я все еще не допускал. Однако с момента начала подготовки маневров и появления в Праге советских генералов я понял, что такую возможность нельзя исключать.
Советский генералитет, находившийся в Праге с 17 по 22 мая 1968 года, настаивал на встрече с нашим правительством. Мне это напоминало английских офицеров, которые в период колониализма призывали пред свои очи туземных князей. Сейчас здесь сидели маршалы Гречко, Епишев, Якубовский и другие, фамилий которых я уже не помню. Как же Черник и другие министры старались произвести хорошее впечатление на эту военную верхушку и ублажить их! С некоторыми из них я хотел поговорить, но они только допытывались, кто из нас чем занимается и где находился во время войны. Это в действительности означало, что нас вызывали на 262
ковер и выговаривали нам. Неужели мы и вправду только колония? Через полчаса мне все это надоело, и, хотя это было недипломатично, я попросту взял и ушел. Если у них имеются какие-то военные замыслы, то ничего не изменится от того, буду я принимать участие в этих беседах или нет.
Впервые после 1948 года наш народ был с нами, коммунистами, и доверял нам. Празднование 1 Мая в этот раз было просто фантастическим. Это не были организованные и контролируемые майские демонстрации, как во времена Новотного. Это был действительно энтузиазм всего народа. Чтобы убедиться в этом, достаточно было посмотреть на людей, которые смеялись, выкрикивали наши имена, обнимали нас. Тротуары были заполнены праздничной толпой, а колоннам не было конца. Все руководство партии, Политбюро и правительство шли во главе майской демонстрации, и люди проталкивались, чтобы увидеть каждого и пожать кому-нибудь руку. Я не мог сдержать слезы радости. С этими людьми мы все сможем!
А этот самоуверенный, высокомерный и ограниченный генералитет, для которого ничего не значили желания нашего народа и который преследовал только свои великодержавные цели?! 3 мая 1968 года. Дубчека, Черника и Биляка вызвали в Москву, где они вынуждены были выслушать критику и угрозы. Холодный душ после теплых майских праздников! 8 мая состоялось тайное совещание руководителей коммунистических партий восточного блока (за исключением Румынии), однако без партийного руководства Чехословакии. О чем они там договорились? Хотели предпринять против нас какие-то санкции? Я все еще хотел верить, что, скорее всего, это будут какие-то экономические санкции, как это было с Югославией, но никак не военные.
Затем в Чехословакию прилетел Косыгин, чтобы собственными глазами увидеть, что у нас здесь происходит. Между тем я уже знал, что в направлении нашей границы движутся значительные военные соединения. Договоренность была только о штабных учениях, что же значили эти крупные военные соединения? Сначала Косыгин поехал в Карловы Вары. Почему советское посольство отправило его сначала туда? Лечение в течение нескольких дней, с 17 по 25 мая, не могло быть основной причиной.
263
По возвращении из Карловых Вар Косыгин встретился в Праге с нашим Политбюро. Как ни странно, но пригласили и меня. Хочет услышать что-нибудь об экономической реформе? Вовсе нет! Меня он вообще ни о чем не спрашивал. Его разговор с нами вылился в монолог, где Дубчек с Черником едва могли вставить пару слов. Прозвучала длинная проповедь, «как мы недооцениваем империалистов, сами не знаем, что, собственно, происходит в нашей стране». Я насторожился! Сейчас это произойдет! Точно! Это произошло. У нас масса немцев! Смешно! Для этого Косыгин ездил в Карловы Вары! На прогулке он слышал только немецкую речь. Западные немцы ведут себя в нашей стране, как у себя дома.
Их там действительно было очень много. Но они приезжали туда, во-первых, для того чтобы встретиться со своими восточногерманскими родственниками, а во-вторых, из-за ностальгии по своей старой родине. Ну, а большинство, конечно, с лечебными целями. Возможно ли, чтобы государственный деятель такого масштаба на этом основании пришел к выводу о том, что готовится контрреволюция?
Но к сожалению, так оно и было. Рассуждения о готовящейся контрреволюции ширились. Они поддерживались советским посольством. Ультрадогматик Червоненко— посол СССР, прототип дипломатаинтригана— вместе с советником посольства Удальцовым помогали нашим консерваторам организоваться. Их тайные встречи участились. Они передавали Червоненко всю информацию о заседаниях Политбюро. То, что вечером говорилось на Политбюро, утром уже было известно советскому посольству. Червоненко точно знал, какое впечатление произвели в Карловых Варах немецкие туристы на Косыгина. Определенно, что он передал ему еще массу ужасных слухов. Позже, когда Косыгин беседовал с нашим Политбюро, у него уже было готовое мнение, и никакие объяснения Дубчека не могли убедить его в обратном.
Биляк, который всегда подчеркивал, что он заодно с Дубчеком, начал свою собственную игру. Критика и угрозы из Москвы нагнали на него страх, и он тотчас же повернулся на 180 градусов. При этом он сделал ставку на члена Политбюро и первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Шелеста. Он встретился 264
с ним 25 мая где-то на восточной границе Словакии в связи с днями «чехословацко-советской дружбы», как выявилось позднее. Чтобы обеспечить себе дальнейшую карьеру, Биляк хотел не только дистанцироваться от Дубчека, но и найти себе союзников в советском Политбюро и тем самым опередить Гусака, которого считал самым главным своим конкурентом. Однако он поставил не на ту карту, и Гусак его потом обошел.
30 мая 1968 года первые военные подразделения достигли границы ЧССР. Было ясно, что предполагаются крупные военные учения. Дубчек обратил внимание на то, что, имея в Политбюро консерваторов, он не может сделать ни одного шага, который не стал бы тут же известен Советам. Тогда он решил созвать съезд партии раньше. На пленуме ЦК, состоявшемся 29 мая — 1 июня 1968 года, было принято решение созвать съезд 9 сентября. К сожалению, к этому выводу он пришел слишком поздно и только ускорил действия противоположной стороны.
С 4 по 15 июня в Москве находилась делегация чехословацкого Национального собрания во главе с его председателем И. Смрковским. Смрковский пытался дать свои объяснения советскому Политбюро, с тем чтобы изменить сложившееся мнение, но ему это не удалось. Вместо этого они попытались заполучить от него обещания не поддерживать Дубчека, о чем он рассказал позднее. Во всяком случае, Смрковский был очень осторожен, и каждое новое разоблачение или акции интеллектуалов в средствах массовой информации его нервировали. Больше всего его разозлил манифест «2000 слов», и в первый момент он даже хотел решительно выступить против него. Позже, однако, он несколько успокоился.
Лично я считал, что этот манифест, с содержанием которого я был согласен, не ко времени. Прогрессивные силы были намного сильнее, и, несмотря на все интриги, реакционерам не удавалось изменить ход событий собственными силами. Поэтому в данный момент манифест оказался бы полезнее скорее для консерваторов и реакционеров, чем для реформаторов.
Против совершенно правильной критики развития Чехословакии при господстве коммунистов возразить было нечего. Большую часть из указанного при различной аргументации против людей Новотного реформа265
торы уже высказывали. Блестяще составленный писателем Л. Вацуликом, манифест, содержавший мастерские обобщения, звучал как обвинение, и это должно было злить консерваторов. Больше всего их взбесил призыв к населению, в котором говорилось: «Мы требуем отставки людей, которые злоупотребляли своей властью, нанесли общественной собственности урон, вели себя нечестно и жестоко. Надо найти способ вынудить их уйти. Например, путем общественной критики, резолюций, демонстраций, сбора средств на подарки для них при их уходе на пенсию, забастовок, бойкотов и т. д.».
Реакционеры видели в манифесте призыв к контрреволюции, а они уже давно ждали чего-то недоброго. Под влиянием консерваторов Политбюро резко осудило и отвергло манифест. На основании этого реакционный секретарь Индра смог послать телетайп всем руководителям областей, где отозвался о манифесте как о призыве к контрреволюции. Руководители областей должны были арестовывать всех, кто пытался собирать подписи под этим воззванием.
Смрковский, на которого оказывали давление депутаты-реакционеры, такие, например, как генерал Самуэль Кодай, потребовавший к борьбе с контрреволюционерами подключить государственную прокуратуру, не знал, как ему поступить. Он пришел на заседание правительства и попросил, чтобы правительство высказало свое мнение. Консерваторы тут же потребовали жестко наказать автора и тех, кто подписал манифест. Это требование я решительно отверг и предложил кратко и определенно сформулировать согласие правительства с критикой, содержащейся в манифесте, и сообщить, что правительство будет выполнять программу, которая отражает цели, указанные в манифесте.
После короткой дискуссии большинство членов правительства согласилось с моим предложением. Единогласно принятое мнение правительства существенно отличалось от позиции, занятой Политбюро. Это облегчило положение Смрковского: теперь ему уже было нетрудно добиться единодушного согласия Национального собрания с мнением правительства.
Через несколько дней Смрковский выразил и свою собственную позицию, которая была опубликована 266
в некоторых центральных газетах под названием «1000 слов». В этой хорошо написанной статье Смрковский не только исправил свою несколько опрометчивую непосредственную реакцию, но и лично отмежевался от реакционных сил в Политбюро. Определенно это способствовало некоторому умиротворению. Во всяком случае, уже никто не мог всерьез утверждать, что манифест является призывом к контрреволюции.
Однако население продолжало нервничать, и в основном не из-за того, что состоялись военные маневры с участием 30 тысяч военных и тяжелой военной техникой, а из-за того, что после окончания маневров 30 июня 1968 года советские войска оставались на территории Чехословакии. В газетах раздавались обеспокоенные голоса и выдвигались требования немедленного вывода войск. Первоначально установленный срок завершения войсковых учений все время изменялся. Сначала он был передвинут на 5 июля. К 8 июля нашу территорию покинули венгерские и немецкие части, а советские все еще оставались здесь. Опасения и беспокойство нарастали.
10 июля Прхлик решил выступить по телевидению, где открыто сказал, что СССР не хочет выводить свои войска. Только после этого выступления перед общественностью начался медленный, постоянно затягивающийся вывод советских войск. 3 августа последние советские части покинули ЧССР. Нашему руководству все еще было неясно, было ли это проявлением тактики запугивания или за этим скрывалась подготовка к чему-то более серьезному.
Сотрудники требовали от меня, чтобы я попытался это выяснить, так как население взволновано и работа по осуществлению экономической реформы в таких условиях становилась невозможной. Я попытался чтонибудь узнать у Черника, но он ответил мне общими «успокаивающими» словами. Сразу же после этого я говорил с Прхликом, чтобы узнать, как обстоят дела в действительности. Очевидно, на Прхлика уже давили со всех сторон, и он мне сказал, что наши генералы бессильны перед советским военным руководством в Варшавском Договоре. Он предполагал, что затягивание маневров должно было вызвать нервозность и оказать давление на наше политическое руководство. Он сказал мне также, что это надо опубликовать.
267
Затем в течение нескольких дней проходила известная пресс-конференция с генералом Прхликом. На ней он впервые сообщил точные данные о советских войсках, участвовавших в маневрах, а также критиковал односторонность Варшавского Договора, в руководстве которого были преимущественно советские офицеры. Он также говорил о необходимости пересмотра организационной структуры Варшавского Договора.
Это было очень смелое выступление, вызванное поведением советского руководства во время маневров. Однако Прхлик ни слова не сказал о том, в чем его, собственно, потом обвиняли реакционеры, что якобы он разгласил военную тайну и хотел разрушить Варшавский Договор. Совершенно однозначной была реакция советского Министерства обороны, которое в статье, опубликованной в газете «Красная звезда» 23 июля 1968 года, утверждало, что Прхлик хочет оторвать Чехословакию от Варшавского Договора. Они требовали отставки Прхлика.
Наше Политбюро постановило 27 июля освободить Прхлика от должности секретаря ЦК партии и вернуть его в армию. В дальнейшем Дубчек хотел сам заниматься вопросами обороны и государственной безопасности. Меня все это очень раздражало, и я искал возможность все это высказать непосредственно Дубчеку. Во время одного своего посещения секретариата ЦК я зашел в приемную Дубчека. Рядом находилось небольшое помещение, где в это время проходило заседание или Политбюро, или секретариата. Как раз оттуда вышел Дубчек, направлявшийся в свою канцелярию. Я пошел за ним, чтобы узнать его мнение о моем выступлении по телевидению. Неожиданно у меня сорвался вопрос: «Саша, что ты будешь делать, если Советы действительно предпримут военное нападение? Население этого очень боится!»
Мой вопрос страшно разозлил Дубчека, он стукнул кулаком по столу и обрушился на меня: «Да это же просто провокация! Как ты можешь в подобное верить и распространять эти слухи!»
Я расстроился и ничего больше не сказал. Кроме того, он заявил, что должен опять идти на заседание. Во всяком случае, я видел, что Дубчек такую возможность вообще не учитывает. Его ответ меня отнюдь не успокоил. Позднее я часто вспоминал эту непоколебимую 268
веру Дубчека в невозможность советской военной интервенции.
В марте 1968 года из Ланкастера (Англия) я получил сообщение, что тамошний университет хочет присвоить мне титул почетного доктора за мои экономические, политические и научные труды. Они интересовались, приму ли я его и смогу ли приехать в июле 1968 года в Ланкастер для участия в торжественной церемонии. Хотя меня, по правде говоря, это все очень удивило, я, естественно, согласился принять этот титул и приехать в июне, еще не имея понятия о том, что в это время буду занимать высокий пост в правительстве.
Таким образом, уже в качестве заместителя Председателя правительства Чехословакии 10 июля я летел в Англию. Это не прошло мимо внимания международной общественности. Черник был не в восторге от моей поездки и просил меня не устраивать каких бы то ни было общественных пресс-конференций и воздерживаться от любой политической активности. На все вопросы журналистов при моем прилете в Лондон я заявлял: «Без комментариев». Это было не слишком удобно, но я не хотел усложнять и без того напряженные отношения в Праге. Как информировал меня в Лондоне наш посол Ружек, Советский Союз уже объявил, что мою поездку следует рассматривать как отражение моих политических связей. Ружек был ультрареакционером и во время моего пребывания в Лондоне вел себя подчеркнуто недружелюбно. Он следил за каждым моим шагом. Если он сам не мог, то кто-нибудь из его людей постоянно находился поблизости от меня. Я хорошо могу себе представить, как выглядели его донесения на родину.
Одного, явно политического мероприятия я, естественно, не мог избежать, а именно ужина, который в мою честь давало британское правительство. В то время у власти находилось лейбористское правительство Гарольда Вильсона. Так как сам он на ужине не присутствовал, во главе стола сидел министр иностранных дел Майкл Стюарт. Здесь находились почти все члены правительства, и приветствия были очень сердечными. Одного из членов правительства, министра Ричарда Гроссмана, я знал со времени его посещения Праги. Его тогда очень интересовали принципы нашей реформы. Теперь мы имели возможность продолжить 269
наш разговор. Я начал с небольшой преамбулы, в которой упомянул, как начиналась реформа и каковы были замыслы по демократизации нашего общества. Британские хозяева с пониманием отнеслись к моему пожеланию не устраивать политических дискуссий.
Присуждение докторского титула — это торжественная церемония, возглавляемая принцессой Александрой Кентской. В тот период она являлась канцлером университета. Кроме меня, почетный титул доктора получали также и другие ученые, но по другим отраслям науки. Средневековые мантии и береты, а также великолепие зала в Ланкастерском замке создавали торжественное настроение. Впрочем, для меня в этом не было ничего необыкновенного, так как у нас вручение дипломов и другие торжественные акты проводятся также в старинном зале Каролинума и также в мантиях. Несколько лет назад наша Высшая экономическая школа присвоила известному английскому экономисту-марксисту М. Доббу почетное звание доктора, и церемония проходила очень торжественно. Как видно, и при социализме такие церемонии ценятся.
После торжественного ужина, во время которого я беседовал с принцессой Александрой, мы с Лилкой были в гостях у сэра Сесила Пэрро и его жены леди Элен. Сэр Сесил несколько лет был послом Великобритании в Праге, затем стал профессором славистики в Ланкастерском университете. Супруги Пэрро жили в доме, который раньше принадлежал приходскому священнику, окруженном типично английскими зарослями вереска, что выглядело очень романтично. Сэр Сесил великолепно знал нашу историю, и беседа с ним была чрезвычайно интересной. Его чешский язык был намного лучше моего английского. Леди Элен была очень мила, а хороший английский чай дополнял приятную атмосферу.
Моя поездка в Англию дала прекрасный повод для некоторых наших и советских журналистов, которые не преминули заявить о заговоре «плохих империалистов» и «ревизиониста» Шика. Однако никакого заговора не было, и наш посол, сталинист Ружек, не мог сообщить ничего тревожного. Постепенно слухи улеглись, особенно под влиянием более серьезных событий этого года.
270
8. ЗАГОВОР ПРЕДАТЕЛЕЙ
Вернувшись 16 июля из Англии, я узнал о встрече представителей партий пяти стран Варшавского Договора. СССР, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии, состоявшейся 14—15 июля 1968 года без участия представителей нашей партии. Договорившись о встрече, они проигнорировали-предложение нашего партийного руководства более тщательно ознакомиться с положением в нашей стране во время двусторонних встреч.
Было совершенно ясно, что руководство названных стран вообще не интересовало сообщение нашего партийного руководства о положении дел. Они уже заранее были непоколебимо уверены в том, что социализму в Чехословакии угрожают «империалисты и реваншисты», а также свои собственные «антисоциалистические и ревизионистские силы». Они хотели внушить это чехословацкому руководству и одновременно указать ему, что оно должно делать. Наши предложения не были приняты во внимание, и потому встреча состоялась без нашего участия.
В письме, направленном после встречи нашему партийному руководству (Варшавское письмо), все наши попытки по созданию в стране подлинной социалистической демократии квалифицировались как контрреволюционная деятельность, которая якобы призвана ликвидировать социализм. Однако в подтверждение этого тезиса не приводилось ни одного аргумента. Критика неспособных, диктаторских, обюрократившихся и коррумпированных политиков характеризовалась в письме как «клеветническая кампания» и как «дискредитация честных и преданных партии коммунистов». Выдвигалось требование прекратить деятельность всех организаций, выступающих против социализма, и снова ввести партийную цензуру во всех средствах массовой информации.
Совершенно ясно, что эти «социалистические» политики, которые боятся прямой оценки народа, любую демократизацию общества будут считать угрозой социализму. Они идентифицируют социализм со своим господством, которое выдают за выбор рабочего класса. Если бы их господство, при котором они лично за271
нимают руководящие посты, было заменено свободно выбранной системой, то они, скорее всего, выпали бы из нее. И это считалось бы «утратой правительства рабочего класса». По их мнению, только руководство, выдвинутое абсолютно монополизированным партийным аппаратом, является «представителем рабочего класса». Так «упрощенно» считали и считают до сих пор политики, воспитанные в духе сталинизма, который был отвергнут ими — если бы отвергнут! — только формально.
Такой образ мышления скрывался за Варшавским письмом, в котором все пять партий считали, что социализм в Чехословакии находится под угрозой. Так как на самом деле не социализм, а они находились под угрозой и они чувствовали это, их, естественно, не удовлетворил наш ответ, принятый на пленуме ЦК 19 июля 1968 года. В качестве аргументов мы указывали на то, что широкие народные массы поддерживают партию и она может гарантировать сохранение социализма. Но они имели достаточно информации о том, что из-за открытой критики целый ряд руководящих кадров на предстоящем съезде избран не будет.
Очень скоро они поняли, что и в их странах люди жаждут свободы печати и открытого обмена мнениями. Во время варшавской встречи Ульбрихт заявил, что он уже не сможет гарантировать социализм в ГДР, ¡если не будет остановлено «антисоциалистическое» ^развитие в Чехословакии. О том же говорили Гомулка рз Польши и Шелест с Украины. Эти трое были самыми большими подстрекателями. Они думали только об угрозе своим высоким постам и, конечно же, относились к «ястребам», призванным всеми средствами воспрепятствовать демократическому развитию. Сейчас можно с уверенностью утверждать, что их позиция в своих Политбюро способствовала замедленному, провокационному выводу войск после маневров, проводившихся на территории нашей страны.
Уже в июле сталинистское руководство этих пяти стран готовило военное вторжение, хотя окончательного решения советское Политбюро еще не приняло. Когда оно было принято, мне до сих пор еще неясно. Произошло ли это до встречи в Чиерне-над-Тисой и искали только последнюю зацепку или после этой встречи? 272
В любом случае в дни этой встречи у меня уже были серьезные опасения, что вторжение произойдет.
Вскоре после варшавской встречи и нападок на Прхлика, который вынужден был оставить свой пост, состоялась пресловутая встреча советского и нашего партийного руководства в Чиерне-над-Тисой с 29 июля по 1 августа 1968 года. Чиерна — это небольшой городок на границе между Словакией и Советским Союзом. Недоверие нашего Политбюро в эти напряженные дни проявилось и в том, что оно не захотело в полном составе выезжать в Советский Союз (что впоследствии оказалось совершенно правильным решением). Такое отношение недоверия было взаимным: советское Политбюро также отказалось ехать в далекий чешский город. В качестве компромисса обе стороны договорились встретиться на границе двух государств. Встреча состоялась в зале заседаний Дома железнодорожников в Чиерне. Для ночного отдыха обе группы использовали специально подготовленные спальные вагоны, причем советские вагоны стояли на советской территории.
О неуважении к правительствам в этих странах свидетельствует тот факт, что все важные вопросы решаются в Политбюро. Особенно ярко это проявилось, когда чехословацкое правительство сидело в Праге, полное опасений и совершенно изолированное от переговоров. Говорят, что с Чиерной существовала только одна линия телефонной связи и ее постоянно занимал Центральный Комитет партии. Мы, то есть Президиум правительства и несколько министров, находились в здании Президиума и стремились получить из секретариата партии или из другого источника хоть какую-нибудь информацию. Кое-что нам удалось узнать, но в основном речь шла об общих вещах. Однако и эту информацию мы получали с большим опозданием. Было даже смешно, насколько мы были дезинформированы, что даже не могли ответить на многие вопросы журналистов.
В эти дни значительно возросло нервное напряжение населения. На работников средств массовой информации сыпался град вопросов. Люди боялись. Журналисты в растерянности обращались ко мне. Они хотели знать мою позицию, поскольку, как они утверждали, своими телевизионными выступлениями я завоевал доверие широких слоев населения. Но что я мог сказать
273
людям, когда я сам уже боялся советской военной интервенции? Я постоянно должен был думать о необходимости что-то предпринять в том случае, если наше Политбюро насильно задержат на границе, а войска пяти соседних стран нас оккупируют. Я понимал всю мангу беспомощность в ситуации, которой, к сожалению, не предвидело или не хотело предвидеть руководство Дубчека и которую в оставшееся время не удалось изменить.
Позднее, когда я находился уже в эмиграции, мне высказывали претензии, прежде всего молодые люди из Чехословакии, почему мы не оказали военного сопротивления. Если абстрагироваться от того факта, что с самого начала у нас не было больших шансов, учитывая военное превосходство пяти стран, то как такая оборона должна была подготавливаться? Мы должны были бы вместо того, чтобы сосредоточить наши военные силы на всем протяжении границы с капиталистическими странами, распределить их по всей длине границы с нашими социалистическими соседними государствами и провести материальную и идеологическую подготовку, которая требуется для успешной обороны. Кроме того, поскольку войска уже были сосредоточены на наших границах, предпринимать что-либо подобное было абсолютно бессмысленно.
Военному шантажу «братских стран» могли препятствовать у нас только своевременные политические изменения. Но ни о чем подобном Дубчек не желал и слышать, а против него не мог выступить ни один реформатор. Мы выдвинули его и способствовали тому, что для нашего народа и всей мировой общественности он превратился в символ «пражской весны». Если бы ктонибудь выступил против него или предпринял какиенибудь действия против его воли, то тут же получил бы отставку. В те дни, когда проходила встреча в Чиерненад-Тисой, я был крайне разочарован той политикой, которую проводил Дубчек. Вместо того чтобы быстро и энергично избавиться от догматиков и реакционеров и создать условия для формирования единого, демократическим путем избранного, реформистского руководства партии еще в мае 1968 года, он отодвинул все мероприятия так далеко, что для проведения контрмер времени уже не было.
К числу последовательно проводимых реформ от274
носилось и предоставление свободы средствам массовой информации, и общественное осуждение бюрократических методов управления, а также коррумпированных и чуждых народу властителей эры Новотного. Это служило залогом завоевания доверия у народа. Сегодня можно видеть, что именно по этой причине Горбачеву понадобилась «гласность». Но именно свободное общественное осуждение эры Новотного больше всего возмущало и провоцировало на обратные действия сталинских реакционеров как в стране, так и за ее пределами. Политика постоянных уступок и жертвование отдельными, неугодными сталинистам людьми мешали проведению реформ. Более решительное и быстрое создание новой, демократической системы руководства, при которой объединился бы весь народ, дало бы шанс поступательному развитию реформ в нашей стране, прежде чем извне стали бы думать о военном вмешательстве.
Такого хода событий боялись не только Брежнев, Ульбрихт, Гомулка и др., но также и заправилы в Чехословакии: Биляк, Гусак, Якеш, Индра и др. И если сейчас эти люди предъявляют Дубчеку обвинения и упрекают его в нерешительности, то не потому, что он дал возможность противникам реформ свободно действовать на протяжении всего времени, а потому, что своевременно не подавил реформаторов. Это они сделали сами, причем очень решительно. Подавление любой «гласности», введение цензуры, устранение с политической арены всех демократических и реформистских сил, последовательная ликвидация экономической реформы, самоуправления на предприятиях и т. д.— всего этого требовали от Дубчека брежневы и биляки. Их критическое отношение к Дубчеку исходило с совершенно иных позиций, чем мое и большинства тогдашних реформаторов.
В дни встречи в Чиерне-над-Тисой реформаторы имели в руках уже очень мало козырей и были практически отданы на растерзание противникам реформы. Мы могли только надеяться на то, что «ястребы» в соседних Политбюро останутся в меньшинстве, а победят «голуби». Мы знали, что в советском Политбюро проходит дискуссия и имеются различные точки зрения на решение чехословацкой проблемы. Однако конкретной расстановки сил мы не знали. Так что нам ничего 275
не оставалось, кроме надежды. Наши реакционеры в отличие от нас имели намного больше средств и возможностей, которые они могли использовать для достижения своих целей.
Реакционеры готовили все новые провокации, чтобы усилить видимость опасности контрреволюции. Так, например, недалеко от Карловых Вар был обнаружен склад оружия, который якобы мог принадлежать контрреволюционерам или немецким реваншистам. После расследования выяснилось, что найденное оружие было из советского арсенала. Но эти провокации отравляли атмосферу и вновь провоцировали наших журналистов и интеллектуалов на необдуманные действия. Когда работники телевидения попросили меня выступить по телевидению, я не мог сказать людям ничего иного, как посоветовать им не поддаваться на провокации реакционеров и сохранять достоинство, благодаря которому наш народ не раз за свою историю оказывался на высоте и не пасовал перед иностранными угрозами. Я знал, как это мало. Но в ситуации, когда я сам не был уверен в том, что не произойдет военного вмешательства, я не мог говорить иначе.
В те дни, когда я больше всего ожидал этого, никаких военных действий не последовало. Встреча в Чиерне закончилась, однако конкретных требований и обещаний опубликовано не было. Появившаяся резолюция содержала только известные общие положения. В выступлениях участников с чехословацкой стороны, например Дубчека, усиленно подчеркивались принятые принципы «равноправия, суверенитета, национальной независимости и территориальной неприкосновенности», в то время как в коммюнике, опубликованном ТАСС, подчеркивалось значение «нерушимой верности марксизму-ленинизму, воспитания народных масс в духе идей социализма и пролетарского интернационализма, беспощадной борьбы с буржуазной идеологией и всеми антисоциалистическими силами». Здесь наглядно видна противоположность в оценке ситуации. В Чиерне было принято решение созвать в Братиславе 3 августа 1968 года «многостороннюю дружескую встречу» всех шести «братских партий». Несмотря на то что к встрече в Чиерне я относился скептически, я позволил ввести себя в заблуждение по поводу встречи в Братиславе. Объятия и дружеские поцелуи перед теле276
визионными камерами всего мира, а также заключительное коммюнике встречи в Братиславе, в котором декларировались «национальная независимость и территориальная неприкосновенность», привели нас к выводу, что в Политбюро этих стран собрались только «голуби». Смрковский возвратился из Братиславы радостный и сообщил мне, что «мы одолели вершину, наша взяла! Теперь нам следует сосредоточить свои силы на подготовке к съезду партии». Таково было мнение всех наших членов Политбюро, и я невольно заразился этим оптимизмом. Мне показалось невозможным, чтобы на глазах всего мира можно было играть в такую подлую игру, единственная цель которой состояла в том, чтобы усыпить нашу бдительность.
Много позднее я узнал, что подготовка к вторжению на территорию Чехословакии в эти дни шла полным ходом. Вплоть до 10 августа продолжались маневры на территории России, Украины, Белоруссии и Литвы. С 10 августа на территории ГДР и Польши проходили военные учения частей СССР, ГДР и Польши под командованием советского генерала. Наконец, 15 августа начались маневры Советской и Венгерской армий на территории Венгрии. А некоторые дивизии Чехословацкой армии были переброшены для учений в Западную Чехию, то есть на нашу границу с западными странами. Все это должно было отвлечь внимание наших военных от передвижения войск «братских стран». Как же был прав Прхлик, когда он критиковал действительное положение дел, когда наше военное руководство ничего не может говорить об акциях Варшавского Договора, а о целях вообще не имеет никакой информации.
Эту информацию я и большинство других политиков-реформаторов получили очень поздно. В первых числах августа была создана атмосфера всеобщего доверия, которая охватила как партийное руководство, так и правительство. Единственный человек в аппарате Дубчека, который был настроен скептически и действительно разбирался в вопросах военной обороны,— Прхлик — был отстранен Дубчеком и не заменен другим специалистом. Наше военное руководство во главе с министром обороны Мартином Дзуром также находилось под воздействием этой атмосферы доверия и со277
средоточило все свое внимание на отдельных военных маневрах и внутренних проблемах армии.
Таким образом, реформаторы успокоились и с оптимизмом начали готовиться к XIV съезду партии. Визиты в Прагу Тито с 9 по 11 августа и Чаушеску с 15 по 17 августа усилили этот оптимизм. Ничего не изменило даже посещение Ульбрихтом 12 августа Карловых Вар. Оно было воспринято просто как ложка дегтя в бочке меда, так как его позиция была достаточно хорошо известна.
В этой разрядившейся атмосфере у многих политиков стала проявляться усталость, которая накопилась в течение прошедших напряженных месяцев. Поэтому некоторые из них решили до съезда взять несколько дней отдыха. В последние месяцы я также сильно переутомился и чувствовал особенно сильный стресс после июньских событий. Из-за ухудшения кровообращения и эмболии, которую я перенес в начале года, врач настаивал на том, чтобы я взял хотя бы неделю отпуска. Так как на этом настаивала и моя семья и я был уверен в том, что до съезда партии не произойдет ничего неожиданного, я решил взять отпуск на неделю, с 14 по 21 августа.
Только позже мне пришло в голову, почему тогда посол Червоненко так настойчиво предлагал мне провести отпуск в Крыму. После тревожных дней явного давления брежневского руководства на наше руководство и выступления против нашего демократического развития я посчитал необходимым отказаться от предложения Червоненко провести отпуск в Советском Союзе. То, что Червоненко односторонне и фальшиво информирует Советы, было очевидно, но мне было неясно, какие цели он преследует, приглашая именно меня. Позднее мне, естественно, все стало понятно. Я поблагодарил его и сказал, что уже договорился о краткой поездке в Югославию, что он воспринял с явным неудовольствием.
Но это было действительно так. Меня пригласил посол Югославии Т. Яковлевский провести короткий отпуск в Истрии на Адриатике. Я принял это приглашение. Посредником у нас был советник посольства Р. Дисдаревич, с которым я дружил. Эту возможность мне хотелось использовать для того, чтобы более подробно ознакомиться с системой самоуправления 278
в Югославии. С нами поехали также мой друг Франтишек Власак с женой. Наши семьи уехали раныпе, а мы, каждый в отдельности, поехали туда на своих автомашинах. В конце своего пребывания там мы собирались также съездить на Бриони, чтобы нанести краткий визит президенту Иосину Броз Тито.
Стоит упомянуть еще об одном событии, которое произошло перед моим отъездом и значение которого я понял намного позже. Неожиданно мне позвонил начальник Центрального управления связи Карел Гофман и настоятельно попросил меня зайти к нему. На мой вопрос, почему он не придет ко мне в канцелярию, он очень таинственно себя повел и сказал, что у меня он не может говорить открыто, а речь идет об очень важном деле. До отъезда у меня уже не было времени для этого визита, и я не счел его таким уж важным. Единственное, что меня обеспокоило, так это то, что Гофман не захотел прийти ко мне. Я это приписал тому, что у меня, возможно, установлено подслушивающее устройство, о чем он как руководитель ведомства связи, вероятно, знал. Я пообещал себе, что после возвращения я это обязательно проверю.
Только потом я понял, что Гофман хотел пригласить меня в новое правительство, которое в те дни готовили реакционеры. Он был — как выяснилось позднее— очень активным членом группы политиков, которые участвовали с нашей стороны в подготовке военного вторжения, а также возложили на себя обязанности по формированию нового партийного руководства и правительства. При этом они активно сотрудничали с советским послом Червоненко.
Если бы тогда я принял приглашение, то вынужден был бы реагировать на предложение Гофмана, естественно, не так, как он того ждал. Это была не единственная попытка привлечь меня к работе по дальнейшему развитию реформы, но в иных политических условиях. С этим можно также связать приглашение Червоненко в Крым. Последовавшие события подтвердили это предложение.
Можно себе представить, что эти люди не были против дальнейшего развития реформы, но без самоуправления предприятий и при удушении процессов демократизации, и прежде всего свободы печати. Слабые духом, они не могли и не могут представить себе, что 279
настоящая экономическая реформа без демократизации политической системы невозможна. Они не поняли, что для меня экономическая реформа являлась первым этапом, который должен был положить начало и облегчить проведение политической реформы. И точно так же они не могли понять, что только правительство, которое пользуется доверием людей, может проводить непопулярные мероприятия в хозяйстве и что только то правительство, которое стремится создать демократические условия, завоюет доверие народа. То, что именно демократическое общество само по себе является наивысшей ценностью, было, очевидно, недоступно пониманию этих политиков. Только потому, что возобладало мышление категориями с позиции силы, мы обязаны военному вторжению 21 августа 1968 года, которое я непосредственно не пережил, но был потрясен им, находясь в Югославии.
ОККУПАЦИЯ И ЭМИГРАЦИЯ
Сегодня, через двадцать лет, с необходимостью такого развития в «социалистических» странах я согласен еще более, чем тогда. Без изменения в этом направлении «социалистическая» система не может прожить. Если реформы Горбачева не смогут успешно реализоваться, то восточный блок ожидает реакционный переворот, который, безусловно, закончится мировой катастрофой.
По моему мнению, гигантский технический прогресс и связанная с ним массовая безработица в западной системе также ведут к демократизации экономики. Однако до тех пор, пока жизненный уровень и свобода людей в условиях зрелого капитализма будут существенно выше, чем в реальном социализме, ключевую проблему массовой безработицы люди будут подавлять в своем сознании и не будут задумываться о реформах системы.
1. ОТПУСК БЕЗ ВОЗВРАЩЕНИЯ
14 августа я ехал на машине в Югославию. Визит Тито в Прагу и восторженный прием, который ему оказали жители Праги, были у меня еще в памяти. И теперь, с приятными ощущениями, я ехал на его родину. Перед отъездом на какое-то время Л. Штроугал испортил мне настроение своим замечанием: «Так до свидания, Ота, в Рузине». Он имел в виду тюрьму, а не аэропорт. Возможно, это была неудачная шутка; или он получил какую-то информацию из секретных источников? Я ответил: «Брось, еще накаркаешь!» Через минуту я об этом забыл и только теперь осознал, что он действительно располагал какой-то секретной информацией.
В одном небольшом городке в Истрии нам нашли домик, который мы сняли. Моя жена и оба сына уже жили там около недели. Я с радостью ожидал, что вместе с семьей и друзьями несколько дней буду только купаться и загорать. Я мечтал, что ни о чем не буду думать и отрешусь от всех забот. К сожалению, моим благим пожеланиям не суждено было сбыться — я ни на минуту не мрг избавиться от мыслей о доме и возможных опасностях.
Мы встретили там много новых друзей и вместе с ними и добрым южным вином проводили прекрасные вечера. 20 августа вечером мы должны были собраться, поскольку на следующий день рано утром нам предстояло ехать на Бриони, куда нас пригласил президент И. Б. Тито, а оттуда назад домой, на родину. Утром делались последние приготовления, мы бегали, что-то искали; вдруг снизу послышались возбужденные голоса, сбегался народ. Франтишек махал нам руками и что-то кричал. Мы не понимали его как следует и думали, что он торопит нас с отъездом. Когда он подошел поближе, мы услышали, что он кричит, но в первый момент мы буквально ничего не могли понять. Он 282
получил сообщение от председателя Скупщины из Новиграда. «Пять государств Варшавского Договора заняли Чехословакию. На улицах Праги танки. Ночью они перешли границу».
Франтишек повторил сообщения Чехословацкого радио, которые он услышал по своему транзисторному приемнику. Так все-таки случилось! Нас обманули — в Братиславе перед нами разыграли комедию! Как они могли это сделать! Меня обуял страшный гнев — я даже не мог ясно мыслить. Женщины начали плакать. По радио звучало: «Танки на Вацлавской площади занимают здание. Работники радио просили о помощи». Радио просило население помочь! Я чувствовал, что у меня разламывается голова. Перед глазами мелькало, как в кино. Это мы уже однажды пережили? Но теперь не 1945 год. Это наши «братья» — какая ирония!
Постепенно мысли стали приходить в норму. Что нам теперь делать? После короткого совещания с югославскими друзьями мы все же решили ехать на Бриони. Вероятно, там будет не только И. Б. Тито, но и другие члены югославского партийного руководства—я хотел с ними поговорить.
По пути на Бриони я начал постепенно понимать все значение этой интервенции. Так Штроугал все же что-то знал. Кто из наших руководителей подготавливал это вторжение? Что теперь будет делать Дубчек? В то время я еще не знал, что большинство членов нашего Политбюро было арестовано и увезено. Теперь, на Бриони, мы узнали все подробности. Всюду были включены приемники, и люди сидели вокруг них. Югославское радио было полностью направлено на Прагу. Армии пяти государств — членов Варшавского Договора пришли по просьбе чехословацких коммунистов на помощь против непосредственной опасности контрреволюции. Ни одного имени не было произнесено. Вот так!
Через минуту пришли И. Б. Тито, Е. Кардель и другие деятели югославской партии. У Тито и мысли не было вести длительные разговоры. Он распорядился немедленно собрать Политбюро. Мы с ним обменялись лишь несколькими фразами. Я знал, как он взволнован и что в эту минуту он думал о возможной опасности для Югославии. Тито отдал присутствующим членам правительства распоряжения, чтобы нас сопро283
водили до правительственной виллы в Белграде, а нам сказал: «Вы наши гости и можете оставаться столько, сколько сочтете нужным. Мы во всем пойдем вам навстречу. А теперь прошу меня извинить. Мне необходимо идти на совещание». С этим он с нами расстался.
До Белграда мы летели спецсамолетом, наши автомобили были доставлены туда позднее. В аэропорту нас уже ожидал наш посол в Белграде Лацо Шимович, а также другой член нашего правительства, Штефан Гаспарик — председатель Центрального комитета народного контроля. Это был необыкновенно честный и симпатичный человек. Он также находился в Югославии на отдыхе.
Нас разместили на большой правительственной вилле. Позднее подошел еще наш министр иностранных дел Иржи Гаек с семьей, который также проводил свой отпуск в Югославии. Итак, в Белграде оказалось четыре члена правительства. Сразу после нашего приезда состоялась беседа с некоторыми членами руководства югославской партии. И. Гаек, Ф. Власак и я при участии нашего посла Л. Шимовича беседовали с Е. Карделем, К. Поповичем и В. Влаговичем. Югославские товарищи снова обещали нам всяческую помощь во время нашего пребывания в Югославии.
Постепенно к нам присоединились чехословацкие журналисты, ученые и другие граждане ЧССР, кто в это время находился в Югославии. Л. Шимович предоставил в наше распоряжение помещения посольства и одну машинистку. Мы образовали комиссию по прессе, поскольку необычайно возросло количество телефонных звонков из-за рубежа. К нам поступали настоятельные просьбы организовать пресс-конференцию, дать интервью и т.д. Один передатчик Югославского радио в Нови-Саде передавал информацию только из ЧССР, а также чешские передачи для многих тысяч отдыхающих из ЧССР, которые постепенно почти все сосредоточились в Белграде и не знали, могут ли они вернуться домой. Им мы должны были помогать советом и делом и, кроме того, тесно сотрудничать с друзьями из Югославского радио в Нови-Саде.
Мы не могли поступить иначе, как призвать весь мир протестовать против оккупации и проявлениями своей симпатии оказать поддержку нашему народу. Наше партийное руководство, включая и Председателя пра284
вительства Черника, было доставлено в Москву, а оставшиеся члены правительства не имели свободы действий. Советский посол-сталинист Червоненко правил у нас, как какой-то губернатор, а его правая рука, советник-посланник Удальцов, еще до военного вторжения направлял действия наших реакционеров. Как я узнал позже, он помогал прежде всего при сборе подписей под письмом, адресованным советскому руководству. В этом письме содержалась просьба об оказании «помощи против угрожающей контрреволюции».
В Белграде мы организовали большую прессконференцию, в которой приняли участие журналисты и работники телевидения со всего мира. После вступительного слова, в котором я изложил нашу позицию по поводу предпринятой акции, мне пришлось почти три часа отвечать на бесконечный ряд вопросов. Кроме этой конференции, мы давали большое количество интервью, выступали по телевидению и т.п., поскольку это было единственное, что в такой ситуации мы могли предпринять. Помню, как во время одного многолюдного собрания чехословацких граждан перед зданием нашего посольства я ничего не мог сказать с балкона, что бы их успокоило. Я впервые почувствовал, насколько беспомощен человек в такой ситуации и как бесполезны слова, которые ни о чем не говорят, а только выстраиваются в предложения. Что я мог сказать плачущим в толпе женщинам, когда сам с трудом сдерживал слезы.
После совместного заседания мы решили, что И. Гаек вылетит в Нью-Йорк в ООН и там внесет официальный протест против военного захвата нашей страны. Затем, как мы договорились по телефону с другими членами правительства в Праге, я получил возможность как заместитель Председателя правительства объявить по телеграфу о прилете И. Гаека в Нью-Йорк и предоставить ему полномочия как нашему представителю в ООН и в Совете Безопасности.
Позиция правительств почти всех стран, включая и такие социалистические страны, как Югославия; Румыния, Албания и Китай, была практически однозначна. Все осудили это насильственное вмешательство в права суверенного государства, отклонили советские «попытки обоснования» и потребовали немедленного вывода иностранных военных подразделений и освобо285
ждения арестованных чехословацких политиков. По предложению многих государств 21 августа 1968 года собрался Совет Безопасности ООН для обсуждения чехословацкого вопроса. Десятью голосами «за», двумя — «против» при трех воздержавшихся была принята резолюция, которая осудила интервенцию и потребовала от оккупантов немедленного вывода войск с нашей территории. Днем позже И. Гаек прибыл в НьюЙорк и заявил там в Совете Безопасности наш энергичный протест против вторжения. Однако резолюция изза советского вето не вступила в силу,
По радио мы следили за сообщениями с заседания XIV съезда партии, которое проходило 22 августа 1968 года в помещении чешско-моравского концерна заводов—«ЧКД-Соколово» на Высочанах. В работе съезда приняли участие почти все надлежащим образом избранные делегаты, за исключением большинства словацких делегатов. Словацкие делегаты, кроме немногих, в условиях оккупации не могли попасть в Прагу. Вероятно, и Гусак в Словакии способствовал тому, чтобы они не смогли участвовать в работе съезда. Оккупанты пытались найти место, где проходил съезд, и своим вмешательством не допустить, чтобы официальный партийный съезд подтвердил реформаторскую партийную линию, а также сорвать выборы нового Центрального Комитета. Однако им не удалось подавить партийный съезд, поскольку его охраняли сами рабочие.
Сообщения со съезда были утешительными и придали нам немного оптимизма. Чешские передатчики, установленные ночью в скрытых местах, несмотря на условия военного захвата, продолжали свободные передачи и постоянно информировали нас о ненасильственном, но массовом отпоре нашего народа: как дискутируют люди с русскими солдатами, усаживаются перед танками, как не подают оккупантам ни воды, ни хлеба, как клеймят позором наших реакционных коллаборационистов, высмеивают пропаганду оккупантов, как везде звучат чешские шутки и анекдоты и т.д. и т.д. — все это вселяло надежду. Все-таки невозможно, чтобы абсолютное большинство населения оккупанты просто игнорировали!
Одновременно мы также узнали, что русские установили передатчик под названием «Влтава» и ведут 286
передачи на чешском языке, а также издают на чешском языке армейский журнал «Зправы». Что передавали и писали? Одну ложь и клевету. Нападки сосредоточивались на мне, Ф. Кригеле, Й. Смрковском, Ч. Цисарже, Е. Голдштюкере. Якобы мы имели связи с германскими «реваншистами», с ЦРУ, с сионистами! Будто я хотел ликвидировать социалистическую экономику и ввести капиталистическую рыночную экономику. Мой анализ недостатков плановой экономики был якобы клеветой и нападками на социалистическую систему.
Когда ТАСС сообщал, сколько благодарственных писем получает советское посольство в Праге от чехословацких граждан за «братскую помощь», это вызывало только смех. Если столько людей было против реформационного развития, хотя для ТАСС это являлось выражением позиции большинства нашего населения, то тогда возникает вопрос, почему к нам ввели такое количество войск и военной техники, почему хотели запретить работу партийного съезда. Как смешна эта пропаганда, которая не допускает, чтобы ее утверждения могли быть подвергнуты оценке при свободном обмене мнениями, свободных выборах, свободной печати и т. п.
Еще в середине июля Институт по изучению общественного мнения Чехословацкой академии наук провел исследование, которое было опубликовано в журнале «Политика», № 5 за 1969 год. Данные исследования говорили о том, что 57% граждан доверяло новой политике коммунистической партии и только 16% выражало ей свое недоверие при 27% воздержавшихся. Лишь 5% высказалось за введение капиталистической системы, в то время как 89% голосовало за дальнейшее развитие социалистической системы. Что значила по сравнению с исследованием общественного мнения вся эта пропагандистская шумиха оккупантов в августе и сентябре, утверждавшая, например, что «40 тысяч контрреволюционеров, оснащенных оружием, транспортными средствами, переносными передатчиками, типографиями и т. п., имели целью возврат к капитализму», как об этом писала «Нойес Дойчланд»? Могли ли эти «40 тысяч» победить вооруженную милицию, армию, госбезопасность и 89% населения? И откуда вообще взялась эта цифра—40 тысяч?
287
23 августа с Ф. Власаком я съездил в Бухарест, где мы приняли участие в праздновании национального праздника Румынии. Румыния была одним из государств Варшавского Договора, которое не участвовало как в травле против нас, так и во вторжении. Н. Чаушеску демонстративно пригласил нас, и мы желали услышать его мнение о нашей ситуации. Внутренней политикой, которую проводил Н. Чаушеску, я не был воодушевлен, считал ее даже сталинистской. Но его позиция к развитию в ЧССР однозначно была позитивной, и за это своим визитом мы хотели его поблагодарить.
Способ, каким правит Чаушеску в своей стране, я осуждал. С его именем была связана достаточно безжалостная политика индустриализации, результатом которой явились неимоверные страдания народа. Категорическое осуществление сталинского принципа преимущественного развития тяжелой промышленности, что должно было на очень длительный период (несколько поколений) отодвинуть удовлетворение основных жизненных потребностей населения, Чаушеску железной рукой проводил в Румынии.
Инвестиции в тяжелую промышленность в десять раз превышали инвестиции в легкую. Сооружение гигантских комбинатов по производству чугуна и стали, шахт и плотин, огромных нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических предприятий, а также прекрасных административных зданий в столице поглотило колоссальное количество денег. Причем все это — при низком жизненном уровне населения — было построено за такой короткий промежуток времени только с помощью репрессивной политики диктатуры. Всетаки это было нечто иное, чем симпатии к внутренней и экономической политике Чаушеску, что заставило меня поехать в Румынию. Как уже отмечалось, он был единственным из руководителей в странах восточного блока, который не только не принял участия в интервенции в ЧССР, но и решительно ее осудил. Исходя из этого, необходимо было подавить личную антипатию и выразить Чаушеску нашу благодарность за его позицию.
Н. Чаушеску принял нас в своей роскошной резиденции, и мы, в нашей одежде, чувствовали себя там не в своей тарелке. Мы все еще были одеты, как на отдыхе, в одежде, в которой приехали в отпуск. Легкие пиджаки
288
мы еще достали, но на покупку солидных костюмов у нас не было ни денег, ни времени.
Беседа с Чаушеску не выходила за рамки вежливого дипломатического разговора. Он снова выразил свое категорическое несогласие с тем, чтобы какие-либо страны вмешивались во внутренние дела любой социалистической страны. Было ясно, что тем самым он намекает на недопустимость вмешательства в его политику. Помочь нам он, естественно, не мог, да мы этого и не ожидали. Более того, в эти дни поступали сообщения о том, что советские и болгарские войска сосредоточены на румынской границе и что они готовы к вторжению.
Ранним утром мы вернулись в Белград. Стоит упомянуть, что никто из нас, чехословацких граждан, не имел югославских денег, а поскольку чехословацкие деньги мы вообще не могли вывозить, наши средства улетучились очень быстро. На правительственной вилле мы получали богатые блюда и напитки, но не могли ничего купить из того, что нам было необходимо.
Югославских товарищей мы не могли просить еще и о деньгах, поскольку для них мы были и так обузой. Поэтому мы встретили как дар неба чехословацкую делегацию, которая абсолютно официально задержалась в Канаде и возвращалась домой через Белград, чтобы встретиться с нами. Они хотели узнать от нас несколько подробнее о последних событиях, поскольку находились за рубежом, когда русские вторглись в ЧССР. Прежде чем вылететь из Белграда в Прагу, руководитель делегации пришел ко мне и сказал, что у них осталось более 350 американских долларов и они могут их нам оставить. Я полагал, что дома поймут, что это была лишь капля в море, но и эта капля нам пригодилась. Тогда я не мог предположить, что эту смехотворную сумму, которую мы за несколько дней истратили и которую у меня дома могли вычесть из зарплаты или великодушно отнести на правительственные расходы за рубежом, реакционеры использовали против меня в политических целях.
Между тем на родине произошли события, которые должны были положить конец нашей деятельности в Белграде. Чрезвычайный XIV съезд партии — который позднее был назван нелегальным—закончился. Съезд избрал новый Центральный Коми289
тет и новое Политбюро, и в обоих комитетах, как ожидалось, уже не было ни одного известного реакционера из так называемых противников реформы. Я был очень рад моему избранию в новое Политбюро, несмотря на мое отсутствие. В оба органа вошло много новых членов партии, которые ранее не занимали высоких постов, но были активными борцами за реформу и являлись противниками режима Новотного.
С самого начала я был настроен скептически относительно дальнейшей реализации проектов реформы. Мне казалось немыслимым, чтобы Советы, осуществив это гигантское вторжение, от которого сильно пострадал их международный престиж, признали партийный съезд и оставили все как есть, да еще в более радикальной форме. Действительно, уже 24 августа советская газета «Правда» назвала чрезвычайный партийный съезд нелегальным и контрреволюционным, более того — заговором. Позднее я понял, что наблюдение событий извне дает возможность более реалистично оценить происходящие события, чем это могут сделать те, кто находится в стране. Так, мои друзья были дома, в своей среде, они ощущали небывалую поддержку народа и впали в то, что я назвал бы восторженным сопротивлением. Они были убеждены, что реформаторы смогут, если будут твердо держаться друг друга и не дадут себя расколоть, все осуществить.
После ареста и депортации нашего Политбюро в Москву политическое руководство де-факто перешло к уже обновленному руководству партии на местах, причем чрезвычайно эффективное сопротивление оказало именно руководство пражской городской организации. В основном это были абсолютно последовательные сторонники реформы, среди них много прогрессивных писателей, журналистов, ученых, а также моих коллег-экономистов. Они все взяли на себя роль авангарда в борьбе против оккупантов, за освобождение Политбюро, Дубчека и за дальнейшее проведение реформ. К нам в Белград поступили фотографии с изображениями всех известных деятелей реформы, которые тогда ъ ЧССР издавались большим тиражом, где была надпись, с которой народ обращался к своим политикам: «Будьте с нами — мы с вами!» Тогда мне это казалось ярким выражением доверия народа и его решимости 290
продолжать сопротивление, и до сих пор я храню эту реликвию.
24 августа мы получили сообщение, что днем ранее на переговоры в Москву вылетела партийная делегация— по просьбе советского руководства. Мы узнали также, что на всей территории ЧССР прошла часовая забастовка в поддержку нашего руководства. Но состав делегации, когда я с ним ознакомился, меня удручил. Под руководством Л. Свободы летели еще Гусак, Дзур, Кучера, Биляк, Индра и Пиллер. Среди них не было ни одного сторонника реформы, поскольку Гусака я не мог отнести к реформаторам, а уж Свободу тем более. Скорее всего, выбор пал на Л. Свободу потому, что это был старый, заслуженный герой и представительная фигура. Он всегда немного напоминал мне Гинденбурга в Германии после первой мировой войны. Остальные были или определенными противниками реформ, или даже инициаторами интервенции, как, например, Индра и Биляк. Позже вслед за ними вылетели другие члены Политбюро и Центрального Комитета: Барбирек, Риго, Швестка, Ленарт, Якеш и Млынарж. Млынарж был единственным, кого можно было считать сторонником реформ.
Еще до отлета Свободы в Москву я имел возможность разговаривать с ним по телефону. Я информировал его о нашей деятельности в Белграде и попросил, чтобы он для всех отдыхающих в Югославии, кто хочет вернуться домой, добился от советских военных властей безопасного возвращения. Я его также спросил, может ли моя жена вылететь в Прагу, чтобы привезти нам что-то из личных вещей, более теплую одежду, белье и т. п. Иными словами, может ли она без помех не только приехать, но и вернуться обратно с багажом. Позже я получил ответ от одного из сотрудников Л. Свободы:
«Твоя жена сможет свободно приехать и уехать, если ты сложишь с себя правительственные функции. Советские друзья характеризуют твою деятельность в Белграде как контрреволюционную и требуют твоей отставки. Я бы очень тебе советовал выполнить это условие».
Я понял, что Л. Свобода знал самые разноообразные условия, выдвигаемые Советами, а несколькими днями позже из других источников узнал, что для Сове291
тов абсолютно неприемлемыми фигурами являются: О. Шик, И. Гаек, Ф. Кригель, Й. Павел, Ч. Цисарж и Э. Голдштюкер. Отставка этих людей была затем официально заявлена в так называемом коммюнике из Москвы. Сразу после телефонного разговора со Свободой у меня еще не было желания официально подавать в отставку.
Л. Свобода быстро нашел базу для переговоров с новыми заправилами. Еще в марте этого года он обращался ко мне в институт, с тем чтобы заручиться моей поддержкой при выдвижении своей кандидатуры на президентский пост. Но теперь он не счел нужным лично говорить со мной по телефону. Он вообще не думал перечить воле Советов. Несколько опережая события, считаю нужным упомянуть здесь о легенде, которую распространял Л. Свобода вместе со своим зятем, о своем якобы отважном выступлении в Москве. От разных участников московских совещаний я узнал, что распространяемое в ЧССР и в мире сообщение, согласно которому президент Свобода, «угрожая, что застрелится», добился освобождения Дубчека и его товарищей, не имеет под собой оснований и не подтверждается никакими фактами. На переговорах в Москве решающим фактором оказалась не позиция Л. Свободы, а невиданный отпор населения вторжению, а также крушение надежд оккупантов создать новое рабочекрестьянское правительство под руководством Индры.
Свобода, наоборот, оказывал давление на членов Политбюро, и особенно на Кригеля, чтобы они подписали постыдную, разработанную русскими декларацию. Когда Кригель категорически отказался подписывать ее, Свобода позволил себе кричать на него и даже угрожать ему.
Он говорил остальным, когда те медлили подписывать:
— Хватит болтать и подписывайте в конце концов, чтобы мы могли вернуться и снова начать работать.
Он вообще не понимал, какую «работу» в будущем допустят Советы и что это означает конец нашим надеждам на осуществление реформы и демократизации. Он также без смущения готов был подписать устранение прогрессивных политиков, лишь бы самому быть уверенным, что и в дальнейшем он останется президентом республики. Было ошибкой избрать президентом 292
аполитичного и престарелого человека только за то, что он был известным генералом во время второй мировой войны.
Результат «переговоров» общеизвестен, так что говорить об этом подробнее нет смысла, так же как о вымогательских условиях подписанного «договора», которые часто публиковались. Все, даже Ф. Кригель, в конце концов подписали этот документ и благодаря этому 27 августа смогли вернуться в Прагу. Кригеля все это время держали отдельно от остальных в тюрьме и только к решающим дискуссиям, после которых все должны были подписать декларацию, а также по требованию остальных членов делегации его водили «к столу». Здесь на него набрасывался не только Л. Свобода, но также и П. Шелест, первый секретарь ЦК Компартии Украины. Когда Ф. Кригель спросил, почему его постоянно изолируют, грубо себя с ним ведут, Шелест показал на его нос и закричал: «Потому!» Имел в виду «еврейский нос». Ф. Кригель был единственным евреем в Политбюро, и, когда я с ним последний раз при своем возвращении говорил на заседании ЦК в апреле 1969-го, он мне сказал, между прочим: «Ты не можешь себе представить, как по отношению ко мне проявлялась антисемитская ненависть. А еще хотят казаться марксистами!»
Я часто думаю о том, что Ф. Кригель как убежденный коммунист сделал для движения: три года начиная с 1936-го сражался в Интернациональных бригадах во время гражданской войны в Испании, затем в качестве военного врача находился в китайской Красной армии, после войны работал в пражском партийном аппарате, затем снова три года в качестве советника по здравоохранению кубинского правительства, с 1966 года—член ЦК КПЧ и во времена «пражской весны»—представитель реформаторов в Политбюро. И это все для «великих советских коммунистов» было ничем только потому, что еврей Кригель позволил себе сопротивляться им и как председатель Национального фронта придавал смелости остальным партиям для проведения самостоятельной политики в рамках демократии. Тем самым он был для них отработанным материалом, и они с удовольствием ликвидировали бы его физически.
Одним из навязанных пунктов декларации не при293
знавалась законность XIV съезда партии, который для Советов был абсолютно неприемлем. После возвращения партийной делегации и руководства из Москвы XIV съезд, прежде всего под давлением Гусака, был объявлен нелегальным, хотя в его работе приняли участие легально избранные делегаты из областей. Однако Гусак аргументировал свое заявление тем, что в работе съезда не принимали участия словацкие делегаты и поэтому партийный съезд должен быть объявлен недействительным. Вкупе с навязанным советским соглашением он этого достиг.
Однако Гусак не учел того обстоятельства, что часть избранного на этом съезде партии Центрального Комитета была кооптирована в «легальный» Центральный Комитет. Тем самым число приверженцев реформы в ЦК значительно возросло, хотя консерваторы и реакционеры, которые находились в ЦК еще со времен Новотного, имели подавляющее большинство. В значительно расширенный состав Политбюро, которое стало называться Президиумом, было кооптировано много новых членов Президиума, выбранного на съезде, теперь сторонники Дубчека в этом важном органе имели абсолютное большинство. Расширенный Президиум создал оперативный Исполнительный комитет, ядро которого, так называемую пятерку, составляли Дубчек, Черник, Смрковский, Свобода и Гусак. 29 августа Гусак был избран Первым секретарем Компартии Словакии.
Все эти кадровые изменения выглядели очень позитивно, и в этом реформаторы видели залог того, что политика реформ будет продолжаться. Мои друзья просили меня вернуться в Прагу. Однако я знал, что Советами я как «глава контрреволюции» списан и что, кроме меня, и остальные решительные реформаторы также будут отозваны со своих должностей. Так, уже был отстранен Кригель из Президиума Национального фронта. Цисарж был выведен из Секретариата ЦК.
Уже 3 октября 1968 года, во время визита в Москву, Дубчек, Черник и Гусак вынуждены были выслушать грубую критику Брежнева по поводу расширения состава ЦК и Президиума партии, которое характеризовалось им как не согласованное с советским руководством решение, вызывающее массу проблем. Он требовал, чтобы было выведено значительно больше «нетер294
пимых» лиц из руководящих партийных органов, причем поименно назвал их и подверг острой критике Дубчека, Смрковского, Шпачека и Млынаржа. Млынарж понял, что он уже не сможет проводить политику реформ и что для Советов стал врагом. Поэтому в ноябре он заявил об уходе со всех должностей в партии. Тактика «кнута и пряника» Советов оправдала себя!
2. ИЗ БЕЛГРАДА В БАЗЕЛЬ
Когда партийная делегация и политики 27 августа были возвращены назад в Прагу, наша деятельность в Белграде стала излишней. Мы решили ее завершить, но перед этим я хотел получить из Праги подтверждение, что члены нашего «малого правительства» и вообще все, кто нам здесь помогал, могут беспрепятственно вернуться домой. Политики, возвратившиеся из Москвы, опять заняли свои должности (даже Кригель), и я с удовольствием поговорил бы о своем возвращении с Дубчеком. Но он заболел, и я не мог связаться с ним по телефону, как, впрочем, и с другими ведущими политиками, такими, как, например, Черник. Единственный, кто отозвался на мои звонки, был сотрудник секретариата Черника. Через него я передал Чернику свою просьбу: «Обеспечьте все необходимое, чтобы мы могли как можно скорее вернуться домой». Он мне обещал, что все передаст.
Прошло несколько дней, прежде чем пришел ответ от Черника через наше посольство: «Я принял это к сведению— ждите от меня последующих указаний». Мы ждали, но никаких указаний не следовало. Мы не знали, как это понимать. Они не хотели, чтобы мы вернулись? Через несколько дней напрасного ожидания мы снова предприняли попытку связаться по телефону с кем-нибудь из высокопоставленных политиков. Но они постоянно находились на совещаниях. Наконец вечером нам удалось связаться с Национальным собранием, но лично Смрковского к телефону нам позвать не удалось. Отозвалась заместитель Председателя Мария Микова. Она была удивлена, что мы до сих пор не получили никакого ответа, и пообещала, что все устроит. И действительно, на следующий день пришло официальное сообщение, которое для меня лично было очень 295
грустным. Из секретариата Президиума нам сообщили, что все из Белграда могут вернуться домой, только Шик должен оставаться в Белграде. Сразу после этого через посольство я получил шифровку, в которой говорилось, что я должен просить президента республики о своей отставке. Затем я получу место в посольстве в Белграде в качестве специального советника по экономике. Только после этого моя жена сможет выехать в Прагу, чтобы забрать необходимые вещи.
Это был сильный удар, но он не явился для меня неожиданностью. Я был убежден, что нашими протестами против оккупации во всем мире привлек к себе внимание Советов и вызвал ненависть как с их стороны, так и со стороны всех реакционеров. Кроме того, я находился в «ревизионистской» Югославии и во всех телевизионных выступлениях и пресс-конференциях говорил по-немецки и поэтому в одночасье стал «контрреволюционером № 1». Так меня назвала радиостанция «Влтава». 2 сентября 1968 года я по телеграфу подал в отставку через наше посольство. Через несколько дней я получил следующее подтверждение от президента нашей республики:
«Уважаемый товарищ,
по вашей личной просьбе освобождаю Вас от должности заместителя Председателя правительства и благодарю Вас за Вашу работу.
Людвик Свобода,
Президент Чехословацкой Социалистической Республики»
Так это было. Реакционеры победили. Но моей отставки им было недостаточно. Они и потом боялись моей популярности в народе и хотели, чтобы я оставался «вне дома», но под ногтем. Я в свою очередь также не собирался плясать под их дудку и являться с повинной. Ни от чего того, за что я боролся все эти годы, я не хотел отступаться. После вторжения я в глубине души предчувствовал, что все это так и закончится и что дома у меня не будет шансов ни в политике, ни в науке. Все, что потом последовало, я уже заранее предвидел.
Так одна только наша семья осталась в Белграде. 296
День разлуки был невыносим. Плакали не только женщины, но и мужчины. Мы обнимались снова и снова с Франтишком и другими, и я опасался, что долго, возможно и никогда, с ними не увижусь. Последнее пожатие руки, долгое махание рукой, и колонна наших автомобилей скрылась из виду: большая правительственная вилла, которая еще несколько дней назад шумела, как улей, стала пустой, такой пустой...
Сразу после отъезда друзей и Лилка могла лететь в Прагу, чтобы собрать там необходимые личные вещи, одежду, документы и т.п. и выслать их в Белград. Мы боялись отпускать ее в Прагу одну, поскольку не могли представить, какая ситуация ее ждет дома. Наши югославские друзья также отговаривали нас от этого путешествия. Но мы очень нуждались в наших вещах. Когда мы затем узнали, что Власак, а также остальные друзья, кроме Кригеля, остались пока на своих местах, Лилка решила лететь. Она вылетела первым чехословацким самолетом, который после перерыва в авиасообщении снова летел в Прагу.
В Праге ее встречала Бушка Власакова. В аэропорту всюду стояли посты русских солдат, они контролировали связь и расположились лагерем около аэропорта. Бушка хотела, чтобы Лилка остановилась у них, но та настаивала на том, что жить будет в своей квартире. Она, безусловно, учитывала, что наш телефон находится на прослушивании и что за ней, по всей вероятности, будут следить. Поэтому она использовала телефон только для официальных разговоров с моим секретариатом в Президиуме правительства, со своим издательством (Лилка была редактором государственного издательства «Свобода») и т. п. В основном она занималась упаковкой наших вещей и устройством всех бытовых вопросов на случай нашего длительного отсутствия.
Лилка навестила нашего доброго друга в городском секретариате партии. Она считала, что должна действовать конспиративно, но тот удивил ее тем, что довольно громко и открыто говорил с ней о различных политических проблемах. Когда Лилка со страхом оглядывалась, указывая рукой на возможное подслушивающее устройство, он беззаботно смеялся и реагировал на это сочным замечанием: «А, на них можно...»
Так вначале беззаботны были все действительные 297
реформаторы внутри партии в областных секретариатах, видя, как беспомощны оккупанты перед колоссальным сопротивлением нашего народа. Сторонники реформ в среднем звене управления еще долго были убеждены в том, что народ за них, что они могут всегда, когда это будет необходимо, объявить всеобщую забастовку и что мы сможем твердо идти по намеченному нами пути. Они видели для этого только одну предпосылку, а именно что высшее руководство должно остаться единым и не отделяться от Советов. Но именно в этом заключался вопрос вопросов, что и показали последующие события.
Так, Лилку, кроме Смрковского, из высших функционеров никто не принял, хотя она добивалась этого по телефону. Она не смогла позвать к телефону ни Черника, ни Штроугала, ни кого-либо другого. Это произошло не из-за недостатка времени у партийных и государственных деятелей, а потому, что Шик был списан и они не хотели себя компрометировать. Лилка с нашим дипломатическим паспортом не могла даже вернуться назад в Белград.
Когда она описывала мне ситуацию в Праге, это только подтверждало все мои предположения. Народ, безусловно, был готов к сопротивлению, так же как и тесно связанные с ним реформаторские силы в партии, которые по большей части не были представлены в высших сферах руководства. В отношении высших функционеров я не питал никаких иллюзий. Почти все члены Политбюро, правительства, центрального секретариата и т. п., как я понял, за исключением нескольких недостаточно убежденных и боевитых реформаторов, каким был, например, Кригель, проявляли больший интерес к удержанию своих властных позиций, чем к реформам.
Раньше или позже, но русские свою линию осуществили, хотя на какое-то время вынуждены были оставить Дубчека в его прежней должности. Народ был страшно озлоблен против русских и коллаборационистов. Индра боялся вернуться из Москвы и там «заболел». Но у советских оккупантов было время, причем много времени. Я уже тогда понял, что единство «прогрессивных» долго не продержится. Очень быстро возникнет или страх, или обещание повышения, если будет смещен Дубчек. А как только Советы достигнут от298
странения от должности Дубчека, «новый» без какихлибо условий должен будет играть по их нотам. Вне всяких сомнений, пройдет большая чистка в партийном и государственном аппарате.
Как я предвидел, все так и произошло. Однако в то время наши люди не желали ничего слышать об этом. С отчаянием они придерживались убеждения, что «русские не будут знать, что с нами делать, если мы будем держаться друг друга,— а пока подождем». Как сильно я желал, чтобы это действительно было так, и какую тяжелую борьбу вел между разумом и чувством! Когда я сказал своей жене, что мы должны будем эмигрировать, она расплакалась. Мои сыновья запротестовали и заявили: «Мы поедем домой». Но в то время это было невозможно; последующие сообщения с родины подтверждали, что я уже не мог бы работать даже в Институте экономики и все мои выступления, устные и печатные, будут запрещены. Меня хотели полностью лишить слова—некоторые друзья мне об этом намекали,— а позднее как контрреволюционера поставить перед судом.
Пока я не знал, как мне следует действовать. Югославские друзья были очень великодушны. Председатель Совета Министров Мика Шпиляк совершенно определенно сказал мне, что мы можем быть их гостями до тех пор, пока не определится мое будущее положение. Нам дали и немного денег, поскольку в середине сентября в Белграде стало уже относительно прохладно, а у нас не было даже пальто. Лилка не рассчитывала на такое длительное пребывание. После покупки зимней одежды мы опять остались без денег.
Все это действовало на нас угнетающе. Мы не могли сделать вне дома даже шага без нашей охраны. Естественно, эта мера воспринималась нами положительно, и я осознавал, что при постоянной травле по отношению ко мне она нелишняя. Но нас просто удручала бесперспективность и неопределенность нашего положения. Что ожидало нас в ближайшем будущем и что я мог предложить своей семье и сколько еще времени югославы будут предоставлять мне охрану—все эти вопросы вихрем проносились в моей голове и требовали ответа. Я должен был на что-то решиться, и скорее всего на эмиграцию.
Официального назначения на должность специального
го советника по экономике в Белграде я до сих пор не получил. Оно пришло только 1 октября 1968 года, и я подписал соответствующие бумаги. Моя деятельность была мне совершенно неясна, и мои собственные представления о работе в этой должности также удручали. Я мог себе представить все, что угодно, но только не работу в качестве чиновника, пусть даже независимого от посла или министерства. Наш посол Л. Шимович в Югославии был симпатичным человеком, и мы подружились с его семьей, но кто знает, сколько он еще проработает на своем месте, после того как он приютил у себя «контрреволюционера»? Как долго оставят меня в новой должности, когда было ясно, что в чехословацком правительстве произойдут неизбежные перемены?
Ответ на все эти вопросы был отрицательным. Предложенная мне работа не обещала никаких перспектив и была лишь потерей времени. Дома, на родине, у меня вообще не было никаких шансов, поскольку раньше или позже будут «чистить» и научные институты. Кроме того, злоба реакционеров лично против меня моментально перешла бы на Институт экономики и тем самым угрожала бы каждому, кто беззаветно боролся за последовательное осуществление реформ. Если я туда не вернусь, то, может быть, остальным повезет и они отделаются только синяками. А в другой научно-исследовательский институт или вуз меня вообще не приняли бы—большинство преподавателей Высшей экономической школы были моими противниками. Там для меня не существовало никаких возможностей. В результате всех моих раздумий и взвешиваний я снова приходил к одному-единственному решению— эмиграции.
К такому решению я, естественно, пришел не через несколько минут или часов раздумий, как это могло бы показаться из моего изложения. Эта болезненная оценка ситуации давалась мне с трудом и заняла у меня несколько недель. Вдобавок мне приходилось считаться с противоположными аргументами моей жены, которая не хотела и слышать об эмиграции. Мои сыновья, которые не имели ни малейшего опыта в делах с партийной бюрократией и потому не могли себе представить, к каким результатам ведут резкие политические изменения, считали мои предположения чрезмерными 300
и необоснованными. Эти споры длились неделями, и еще в начале октября мы находились в Белграде в качестве гостей правительства.
Понемногу я стал ощущать себя паразитом. Так или иначе, но надо было принимать решение. В Югославии я не смог бы работать по той простой причине, что не знал языка, который в значительной степени отличается от чешского. По той же причине я не получил бы ни одного предложения от югославского вуза или исследовательского института. Оставался только выбор между возвращением домой без перспективы или эмиграция с шансом продолжать работу по специальности. Принятие мною решения об эмиграции было ускорено несколькими событиями.
В Белград приходило множество писем со всего мира от моих иностранных друзей, а также и от совершенно незнакомых мне людей из различных университетов, исследовательских институтов, издательств. Все нуждались в моих лекциях, статьях или иных публикациях, а в некоторых письмах меня спрашивали, принял бы я профессуру в качестве гостя или полную профессуру. Во всех письмах мне выражалась симпатия и понимание моей ситуации. Я не был одинок, и во мне крепла уверенность, что я найду работу, отвечающую моим желаниям. Безусловно, я очень серьезно задумался о стране, куда я мог бы выехать. Больше всего меня привлекала страна, где говорят по-немецки, поскольку этим языком я владею в совершенстве, в то время как мой английский был на уровне скромных школьных знаний. Кроме того, я хотел находиться вблизи ЧССР, поскольку во мне еще теплилась — правда, очень призрачная— надежда, что все еще уладится.
В конце августа в Белград прилетели два моих самых близких сотрудника из Института экономики, К. Коуба и Ч. Кожушник, поговорить со мной о дальнейшей деятельности института и о моих намерениях.
Во время этих нескольких месяцев как член правительства я еще не был лишен должности директора Института экономики, поскольку команда института была необходима для дальнейшего развития экономической реформы. Как я уже упоминал, в переходный период деятельность института проходила в тесной связи с деятельностью нескольких моих сотрудников из Президиума правительства. Руководство Чехословацкой 301
академии наук само было заинтересовано в том, чтобы я как заместитель Председателя правительства продолжал руководить Институтом экономики на начальном этапе введения экономической реформы. После того как я был лишен должности в правительстве, президиум академии ни в коем случае не хотел уволить меня и отозвать от руководства институтом.
Президиум Чехословацкой академии наук под руководством академика Ф. Шорма вообще до последней минуты вел себя очень смело. Он открыто протестовал против захвата нашей страны, и даже угрозы не могли его сдержать. За исключением уже упоминавшегося академика Кожешника, который позже заменил в руководстве Шорму, весь президиум академии остался последовательным защитником реформистского развития и сторонником демократизации. Выражением этой позиции явилось избрание меня академиком в апреле 1968 года. Эта позиция нисколько не изменилась даже после оккупации, несмотря на то что Шорм был также вынужден отказаться от должности президента и академии был навязан президентом консерватор Кожешник.
Поскольку де-юре я все еще был директором Института экономики, мои сотрудники хотели знать лично от меня, вернусь ли я и возглавлю ли институт. Я сам этого еще не знал. Мои чувства к родине тянули меня к ним, но разум говорил мне, что это невозможно. Еще в начале сентября, когда преобладали чувства, я просил их, чтобы они организовали мне что-то вроде длительного отпуска, чтобы для меня была открыта возможность вернуться, если бы ситуация вопреки всем ожиданиям начала развиваться в благоприятном для меня направлении. В этот промежуток времени они должны были бы сами выбрать того, кто заменил бы меня в руководстве.
Так вначале я считал, что нашел выход. Я должен добиться, чтобы мне предоставили долгосрочный отпуск от ЧСАН (что было позднее подтверждено) и за это время попытаться найти работу в немецкоязычной стране, где бы я получил хотя бы немного независимости и удовлетворение в работе. Если бы мне это удалось, я мог бы решение об эмиграции еще оттянуть и подождать, как будет конкретно развиваться политическая ситуация дома. Эту альтернативу моя семья 302
приняла с радостью, она все еще не теряла надежды однажды вернуться домой.
В начале октября мне надоело бессмысленное ожидание, и я решил, что поеду наудачу в Швейцарию и там попытаюсь сам найти какое-нибудь временное решение. Должность советника при посольстве в Белграде— обязанности которого я, собственно, и не выполнял— не могла удержать меня от осуществления моего замысла, поэтому я взял до сих пор не использованный отпуск. Позже я получил сообщение от Черника, что правительство возражает против моей поездки в Швейцарию и требует, чтобы я вернулся в Югославию в посольство и работал там в качестве советника по экономике. Этого я сделать не мог, да и не желал их слушаться. Я написал Чернику и Дубчеку длинное письмо, в котором объяснил им причины своего отъезда в Швейцарию и обосновал его намерением и в дальнейшем заниматься экономической наукой, что в посольстве в Белграде было невозможно.
Еще находясь в Белграде, я получил адрес одного швейцарского бизнесмена, который был согласен на переходный период обеспечить нам пребывание в Швейцарии, которое должно было сохраняться в тайне. Поскольку он еще и сегодня должен часто ездить в ЧССР по делам, я не могу назвать его имени. На мой телефонный звонок из Белграда он обещал, что договорится с полицией для иностранцев, чтобы место моего пребывания в Швейцарии сохранялось в тайне. Тогда я еще определенно боялся агентов нашей государственной полиции, а также КГБ, поскольку травля против меня становилась все агрессивнее. Кроме того, я еще хотел избежать внимания журналистов со всего мира, которые в Югославии постоянно мной интересовались, что в ближайшем будущем мне вовсе не было нужно.
Швейцарию я выбрал по многим причинам. Вопервых, я полагал, что там будет безопаснее, чем, например, в Вене, где КГБ имеет сильную агентуру, оттуда уже удалось чехословацкой тайной службе похитить людей. В ФРГ тоже восточная тайная полиция была широко представлена. Кроме того, эмигрировать в ФРГ было бессмысленно, поскольку местные объединения эмигрантов постоянно обвинялись реакционной чехословацкой пропагандой в реваншизме и связях с чехословацкими контрреволюционерами. Обо мне зоз
сразу бы сложилось «плохое мнение», будто я искал убежище у своих благодетелей. Друзья настоятельно просили меня, чтобы своими поступками я не давал повода для подобных, хотя и абсурдных, утверждений.
Швейцария для меня была интересна еще и тем, что я намеревался исследовать там связь между прямой и косвенной демократией. Привлекало меня также и мирное языковое сосуществование абсолютно различных народов, что было для меня уникальным явлением. Кроме того, я хотел исследовать причины резкого экономического подъема этой страны до мирового уровня. Существовало много доводов в пользу того, чтобы я обосновался именно в Швейцарии. Еще перед отъездом из осторожности я справился у швейцарского посла в Белграде о необходимости просить убежища, если что-нибудь произойдет в дороге. Я сразу получил ответ, что в пути меня ничто не задержит и что в Швейцарии меня ждут.
На нашей маленькой машине, набитой вещами, которые мы постепенно получили из ЧССР, мы отправились в путь через Италию в Цюрих, где нас ожидал наш швейцарский неизвестный знакомый. О красотах природы, мимо которых мы проезжали, тогда мы и не думали. Поздно вечером мы прибыли по указанному адресу, получили швейцарский номер на машину, чтобы не выделяться с нашим чехословацким. Никаких бюрократических препон нам не пришлось преодолевать. С разрешения полиции некоторое время я жил под фамилией д-р Петер, главным образом в Амдене, а также в Базеле. Владелец дома в Амдене, у которого мы остановились, считал нас туристами и не имел вообще понятия, кто у него живет. Вся почта на мое имя сосредоточивалась в одном месте и затем пересылалась мне.
Мой друг Б. Левчик, старый сотрудник по институту, который тогда работал в Экономической комиссии ООН в Женеве, вышел с предложением, которое меня приятно удивило. За несколько дней до этого он разговаривал с профессором Эдгаром Саленом, известным в мире экономистом, с которым я познакомился на одной из конференций. Он был профессором Базельского университета и был согласен помочь мне и другим чехословацким экономистам.
Звонка по телефону было достаточно: Сален сразу пригласил меня к себе в Базель в университет. Место 304
профессора было занято, но в его институте я сразу мог начать работать в области исследований. О необходимом финансовом обеспечении он уже позаботился. Я был в восторге, поскольку тогда ни о чем другом, как немедленно приступить к работе, я не мечтал. Мне столько хотелось сказать, причем без всякой оглядки на догмы марксистско-ленинской религии. Наконец-то я смогу писать все, чего в ЧССР никогда не смел опубликовать.
Одновременно я получил много приглашений от разных университетов со всего мира, но я хотел остаться в Швейцарии, поэтому предложение профессора
Э. Салена мне было особенно дорого. Позже я выехал в Базель, чтобы обсудить подробности работы. Условия работы полностью отвечали моим желаниям. Мои требования были скромны, и я был удовлетворен несколько большей оплатой работы ассистента, поскольку был убежден, что сумею что-нибудь заработать лекциями.
3. ИНТРИГИ ИЗ ПРАГИ
Первые дни в Базеле были тяжелыми, но отнюдь не безнадежными. Я сознавал, что уже в третий раз начинаю новую жизнь. Во второй раз это было после моего возвращения из концлагеря. Теперь я снова должен был начать все сначала.
В нашей полупустой квартире появились первые визитеры, для приема которых мы располагали несколькими стульями, взятыми напрокат, но теперь мы уже могли предложить им блюда и напитки, поскольку кухня опять функционировала нормально. Первым пришел мой старый друг Мирек Зеймер с семьей, который также решился на эмиграцию. В Праге он был директором кооператива «Друтева», который он экономически поднял, а для населения Праги кооператив стал незаменим в оказании различных услуг. Кооператив «Друтева» был одним из первых среди предприятий, которые работали по новым условиям реформы. Мирека я знал с детства. Он всегда советовался со мной. После советского вторжения у него также пропало желание продолжать — как и следовало ожидать— работать в рамках старой, административной систе305
мы. Ему не хотелось вмешиваться во все это. Ну, а то, что он был действительно способным и предприимчивым человеком, он подтвердил позднее, когда стал на Западе самостоятельным и, безусловно, состоятельным бизнесменом.
Вторыми пришли наши друзья Лунд Сталлерт и Бритта из Голландии. Друзья познаются в беде. Как только они узнали, что мы остались за рубежом, они представили себе, что начало этой жизни будет для нас нелегким. Они сразу взяли инициативу в свои руки и провели сбор средств среди всех голландцев, с которыми мы познакомились во время нашей первой поездки в их страну и которые были восторженными поклонниками «пражской весны». Однажды вечером совершенно неожиданно они объявились в Базеле, чтобы придать нам отваги. Мы действительно были удивлены и очень обрадовались.
И наконец, третьим, также неожиданно, у нас объявился Павел Когоут, который прибыл из ЧССР. Координационный комитет творческих союзов командировал его в Швейцарию, чтобы он нашел меня и взял интервью, в котором я должен был осветить свою деятельность в Югославии и причины моего пребывания за рубежом. Примерно три часа он записывал на магнитофон мой рассказ, который затем в Праге слушали работники культуры. Павел Когоут подробно рассказал мне обо всем, что происходит на родине. Мы пришли к выводу, что еще не настало время моего вероятного возвращения, но я обязательно через некоторое время приеду в Прагу.
В канцелярию, которая была в моем распоряжении и адрес которой стал быстро общеизвестен, пришло большое количество приглашений прочесть лекции, а также предложения из различных университетов и исследовательских институтов со всего мира.
Каждое отдельное предложение я тщательно изучал. Они давали мне ощущение внутренней принадлежности к экономистам всего мира и их действительной солидарности с прогрессивными экономистами в ЧССР. Тем не менее я решил, что останусь в Швейцарии.
Уже в ноябре 1968 года я предпринял поездки в Норвегию и Данию. Из Бергена пришло приглашение от Лейфа Гольбах-Гансена, председателя правления Ис306
следовательского института Хр. Михельсен, а также от профессора Торольфс! Рафта из норвежской Школы управления экономикой и бизнесом. Мне предлагались недельная поездка и выступления с лекциями в обоих институтах. Письма были написаны с такой сердечностью и выражением чувства солидарности с нашим народом, что эти предложения я не мог отвергнуть. Итак, я решил лететь. Торольф Рафто оказался знатоком послевоенного развития Чехословакии, и я встретил там и ряд чехословацких студентов.
Из Бергена я поехал в университет в Орхусе, в Дании, где мое выступление с лекцией организовал студенческий союз. Затем я отправился в университет в Стокгольме. Везде я находил слушателей среди доцентов и студентов, которые были возмущены вторжением в нашу страну и были готовы хоть что-то сделать для дальнейшего демократического развития в ЧССР. При этом ни один из студентов не думал, что капиталистическая система является нашей целью. Наоборот, их позиция по отношению к капитализму была в основном критической, и поэтому они были заинтересованы в том, чтобы нам удалась демократизация нашей социалистической системы. Пребывание в этих университетах явилось для меня большим стимулом. В Стокгольме я навестил своего друга Эрика Лундберга и его жену Гертруду. Жаль, что эти милые друзья жили так далеко от нас. Встречи и беседы с Эриком всегда были интересны для меня.
Когда я вернулся в хорошем настроении назад, в Базель, я нашел свою семью, главным образом Лилку, очень взволнованной. Мой старший сын Иржи решил вернуться в Прагу. Лилка не могла понять, почему он хочет нас оставить, она была очень привязана к нему. Все объяснялось просто: у Иржи в Праге была подруга Эва (его будущая жена), к которой его так сильно тянуло. Кроме того, он уже окончил первый курс всемирно известного киноинститута ФАМУ, который хотел обязательно закончить. Он мечтал стать сценаристом и драматургом. Я не мог ему в этом мешать, поскольку он был уже совершеннолетним. Мои предостережения о том, что сталинисты будут мстить ему за меня и не дадут возможности выехать, он всерьез не воспринимал. На все мои доводы он отвечал: «Отец, ты 307
все видишь только в черном цвете! То, что вы пережили в 50-е годы, не произойдет».
Ничего не оставалось делать, он был убежден, что я преувеличиваю и что мы снова вернемся домой. Как тяжело свой собственный опыт передавать молодому поколению! И будущее это подтвердило. Позднее Иржи претерпел все то, о чем не хотел даже слышать, хотя первое время в институте у него сложились нормальные отношения. Еще перед рождеством он уехал, и Лилка была в отчаянии.
У жены началась депрессия, поскольку она должна была отказаться от своей любимой работы редактора издательства, а также и от своего любимого первенца. В Базеле она не могла работать по своей специальности, так как недостаточно хорошо владела немецким. Общение с людьми для нее было очень тяжелое, поскольку базельский диалект она вообще не понимала.
Еще тяжелее сложилась ситуация для моего младшего сына Мирослава. Ему было 15 лет, когда мы приехали в Базель. В Праге он окончил девятилетку, был среди лучших учеников и должен был поступать в школу с математическим уклоном. В Базеле его готовы были принять в четвертый класс математическоприродоведческой гимназии, таким образом, он был на год старше своих товарищей по классу. Он считал это некоторой деградацией, хотя надо было радоваться, поскольку он не знал ни слова по-немецки. Для чешских учеников организовали курсы немецкого языка, но он упрямо сидел целый год в классе и из него нельзя было вытянуть ни одного вразумительного слова. Он тяжело переживал разлуку с домом и постоянно хотел убежать назад, в Прагу. Но уже в следующем классе Мирослав вдруг начал говорить по-немецки и даже диалект не явился для него препятствием. Позже он с успехом закончил учебное заведение в Цюрихе и стал архитектором. И до сегодняшнего дня живет и работает в Цюрихе.
Моя работа над книгой, которую я позднее назвал «Третий путь», первый год продвигалась медленно. Я принял слишком много приглашений читать лекции и часто ездил по Европе. В какой-то степени это был сознательный «побег» в новую среду, помогающую забыть об очень сильной отчужденности, которую я ощущал в Базеле.
308
Надо сказать, что базельские власти в моей чрезвычайной ситуации с большим пониманием шли мне навстречу. Я все еще не хотел подавать заявление о предоставлении мне убежища, поскольку постоянно получал сообщения, что реформа продолжается и, безусловно, я смогу вернуться домой. Базельское кантональное правительство было так великодушно, что позволило мне временно поселиться в Базеле и работать без просьбы об убежище. Тем самым откладывалось мое решение, и будущее оставалось неясным.
Мои самые близкие друзья и коллеги, с которыми я проработал много лет в Праге, не понимали, почему я не возвращаюсь, ведь Дубчек и Черник все еще занимают высшие должности и все говорят о продолжении реформы. В начале 1969 года среди реформаторов все еще царило непонятное победное настроение, а некоторые из них мое пребывание за рубежом были склонны считать даже ошибкой. Особенно один из них, историк и в то время ректор Высшей политической школы, Милан Гюбл, начал сомневаться в правильности моего решения остаться за рубежом и громогласно призывал меня к возвращению. Я понимал, что со стороны моя оценка ситуации и перспектив развития была более реалистичной, чем оценка моих друзей, находившихся дома, которые, скорее всего, поддались своим желаниям.
На заседание ЦК КПЧ 12 декабря 1968 года я получил не приглашение, а только сообщение, что оно будет проводиться. Друзья настаивали, чтобы я приехал, поскольку речь шла о важном заседании. Я попросил наше Министерство иностранных дел подтвердить, будет ли у меня возможность вернуться из ЧССР назад в Швейцарию (то есть смогу ли я получить выездную визу). Как только я заявил о задуманной поездке в Прагу, я получил через наше посольство в Берне во вторник, 10 декабря 1968 года, в 23.30 следующее сообщение: «Против тебя возбуждено дело, и тебе следует подождать решения Центральной контрольноревизионной комиссии или Президиума партии». Председателем этой комиссии тогда был М. Я кеш, который ранее много лет проработал в Министерстве внутренних дел (в последние годы в качестве заместителя министра внутренних дел), а его мы относили к консерваторам. Он всегда был партийным бюрократом и мыслил только такими категориями, как «повиновение», 309
«дисциплина», «контроль», «враги партии» и т. п. Как должен был страдать народ при «социализме» и как это негативное развитие могло бы принципиально измениться, его, по всей вероятности, никогда не интересовало. Он не разбирался в экономике и в период развития реформы никогда не имел собственной точки зрения в отношении той или иной экономической проблемы. Как мог именно он при руководстве Гусака стать секретарем партии по вопросам экономики, для меня было совершенно непонятно.
Только после вторжения армий «братских стран» я узнал, что Якеш очень тесно сотрудничал с Индрой. Они и еще несколько человек относились к той группе, которая попросила Советы о помощи. Вероятно, тогда существовала не одна фракция, которая просила о «помощи» и подготавливала вторжение; существовала также группа вокруг Гофмана и Хнеупека. Но мы никогда не узнаем, действовали ли эти группы координированно или каждая из них преследовала свои собственные властолюбивые цели и при этом прилагала усилия по насильственному удушению «пражской весны».
В любом случае Якеш относился к «призывающим о помощи», которые буквально предали Дубчека. Якеш, будучи приятелем Дубчека по совместной учебе в московской Высшей партшколе, был назначен им на пост председателя Центральной контрольноревизионной комиссии, и согласно занимаемой должности он принимал участие в заседаниях Политбюро (хотя и без права решающего голоса). Члены Политбюро на своем заседании в ночь с 20 на 21 августа после получения сообщения о нападении Советской Армии, которое первым получил Черник и передал в Политбюро, моментально почувствовали, что некоторые из присутствующих, как, например, Биляк, Якеш, Кольдер и др., вообще не были удивлены, и на их лицах проступала радость. Это сообщил мне Франтишек Кригель при моем более позднем приезде в Прагу.
Это был именно М. Якеш, кто позднее, в 1970 году, в качестве председателя Центральной контрольноревизионной комиссии устроил «охоту на ведьм» против всех симпатизировавших реформе и последовательно выступавших за ее развитие, кто организовал так называемую чистку партии и кто несет полную ответ310
ственность за политическую смерть всех реформаторов. Сегодня я убедился, что это был именно он, кто стоял за всеми теми обвинениями, которые пытались инкриминировать мне как главе «контрреволюции», и именно он повинен в том, что я был списан со счета первым. Все это внушает мысль, что Якеш стоял также за кулисами распоряжений из посольства в Берне.
Я так и не узнал, кто был автором телеграфного сообщения из посольства в Берне. Мне сообщили только, что это был заместитель министра иностранных дел. На следующий день, в среду, я пытался дозвониться до кого-нибудь из секретариата ЦК. Наконец мне удалось связаться с секретарем Шпачеком. Сообщение, которое я получил, его очень удивило, и он хотел поговорить об этом с Дубчеком. Однако никакого ответа я не получил и в результате прозевал последний самолет на Прагу.
На следующий день я сопоставил сообщение из посольства с информацией из советской «Литературной газеты», согласно которой контрольно-ревизионная комиссия в ЧССР будет проверять тех коммунистов, которые эмигрировали. Якеш заявил: «Если ктонибудь выступит за рубежом против политики КПЧ и тем самым отстранится от партии, будет исключен из ее рядов».
Было ясно, о чем идет речь: я по западному телевидению, а также в своих многочисленных лекциях выступал против этой политики, которую навязали оккупанты и которая была очевидным отступлением от нашей Программы действий от 5 апреля 1968 года. Я не хотел упускать такую возможность, поскольку не знал, удастся ли мне еще раз выехать из ЧССР. Кроме того, мне следовало ожидать какой-либо провокации от госбезопасности, если бы я проигнорировал официальное распоряжение Министерства иностранных дел. Свою позицию по отношению к этим интригам я изложил на небольшой пресс-конференции в Базеле, состоявшейся 12 декабря. «Я не могу признать правомочность какого бы то ни было дисциплинарного расследования по указке русских. Я не знаю за собой никакой вины, поскольку все свои силы отдавал на благо нашего народа. Я всегда действовал, в том числе и во время моего пребывания за границей, согласно предписаниям нашего руководства. Однако сегодня я вижу, что наш народ обманут, поскольку руководство страны уже заранее догозп
ворилось обо всем с Советами. Русские поставили условия, на которые, к сожалению, руководство ЧССР согласилось. Одним из условий было устранение меня из политической жизни. Наше руководство было вынуждено заставить меня просить отставку в правительстве, а теперь настаивает на том, чтобы я был исключен из состава ЦК. К сожалению, наше руководство уже не действует без предварительного согласования с русскими любого вопроса. Руководитель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Якеш, один из первых коллаборационистов, заявил, что он должен расследовать деятельность всех граждан ЧССР, которые остались за рубежом, и дать оценку их деятельности. Дисциплинарному расследованию под председательством человека, бывшего заместителя министра внутренних дел при Новотном, я не подчинюсь. Я не могу признать насильственную и незаконную оккупацию ЧССР. Я не могу признать, что руководство таких развитых народов, какими являются чехи и словаки, должно перед каждым принятием решения ехать за согласием в Москву. Я считаю это унизительным—как будто мы колония!»
Тогда меня удивило открытое письмо М. Гюбла, которое было опубликовано в Праге 16 декабря 1968 года. В нем Гюбл утверждал, что ситуацию в ЧССР мы (то есть те, кто находится за рубежом) неправильно оцениваем, что мое утверждение в «Баслер нахрихтен» необоснованно и базируется на ошибочной информации. Центральный Комитет партии действует полностью в духе январского пленума (когда был смещен Новотный), а я должен как можно быстрее вернуться, чтобы принять участие в заседании.
Еще ранее, прежде чем в Базеле я мог ответить на это письмо, мой сын Иржи в Праге написал ответ, который также был опубликован в «Праце».
«Товарищ Гюбл,
хотя я на это и не уполномочен, хотел бы Вам предоставить, по моему мнению, не совсем пустячное дополнение к информации, на основе которой Вы уже драматически выступили в «Праце». Вскользь Вы упоминаете, что необходимо определить источник той самой «ошибочной» информации, в которой профессору Шику предлагалось не ехать в Прагу, а подождать резуль312
татов предпринятого против него партийного расследования. Итак, если Вы принимаете это обстоятельство всерьез, следует обратиться в Министерство иностранных дел, поскольку оттуда шла та самая информация через посольство в Швейцарии профессору Шику как моментальная реакция на готовящийся отъезд, о котором он заявил через Министерство иностранных дел в Прагу. Может быть, вы тогда лучше поймете дилемму человека, которого друзья убеждают в том, что находится, по-видимому, в резком противоречии с официальной точкой зрения. Что касается Вашего туманного замечания о требовании необоснованных гарантий, то дело обстояло следующим образом: профессор Шик ранее попросил годовой отпуск без сохранения содержания для пребывания в Базеле, затем он попросил выездную визу и официальное приглашение на пленум ЦК. Здесь нет ничего исключительного, наоборот, все обоснованно и выполнимо.
В заключение я хотел бы подчеркнуть, что если Вы укоряете профессора Шика в поверхностной оценке и незнании фактов, то Вам самому не следовало бы допускать ничего подобного. Это обстоятельство настолько неоднозначно, что необходимо установить истину и понять мотивы действий, и только потом делать публичные заявления.
Иржи Шик»
Мой ответ из Базеля, который, естественно, запоздал, был опубликован в газете «Праце». В нем я описал все случившееся, включая сообщение из посольства о нежелательности моей поездки в Прагу, а также ответил на некоторые вопросы Гюбла.
«Уважаемый товарищ Гюбл!
В своем открытом письме Вы пишете, что определенная группа людей заинтересована в том, чтобы послеянварские политики эмигрировали. Жаль, что Вы не можете назвать их поименно. Тем самым создается впечатление, что официальные представители якобы не согласны с моим пребыванием за рубежом, а я подчинился мнению других людей, с которыми не согласны даже Вы.
До сих пор я сам не знаю, кто руководит и все это время руководил моими действиями за рубежом. Я постоянно наталкиваюсь на препятствия, которые извра313
щают каждый мой шаг. Меня попросили, чтобы я подал заявление от местного университета об освобождении меня от преподавательской деятельности в системе Чехословацкой академии наук, однако до сих пор (а это было в начале ноября) моя просьба не была удовлетворена по неизвестным мне причинам. Если бы это произошло, то разговоры о моей эмиграции оказались бы беспредметными.
Вы упоминаете также о том, что единственный, в отношении кого может быть начато дисциплинарное партийное расследование,—это я сам. При этом Вы, безусловно, знаете заявление нашего председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии в Москве о расследовании деятельности всех членов партии, кто остался за границей. Не знаю, кто будет оценивать мою деятельность и с какой точки зрения. Если мои откровенные слова, опирающиеся на официально полученное сообщение и на заявление председателя ЦКРК, облетевшее мировую печать, вызывают возможность дисциплинарного расследования, то я не знаю, что я навлек бы на себя, если бы открыто выразил свое мнение на пленуме ЦК в том виде, в каком я его подготовил.
Вы, товарищ Гюбл, сомневаетесь, что сейчас, в этот период, может существовать какое-либо давление извне, которое привело бы к дисциплинарному партийному расследованию. Видимо, Вы приходите к этому заключению на основе информации, которая имеется у Вас и о которой я ничего не знаю. В таком случае оказывается определенное давление из дома, под влиянием которого поступило официальное сообщение через наше посольство.
Я полагаю, что изменились не только отношения, но и все условия, существовавшие до августа. Однако я хорошо знаю, какие условия должны существовать, для того чтобы мы могли реализовать то, что задумали.
Я не хочу становиться эмигрантом и был бы очень рад, если бы мое пребывание здесь, в Швейцарии (возможно, после обсуждения с компетентными лицами оно и будет признано наиболее подходящим), было легализовано из Чехословакии. При возникших политических условиях я считал бы продолжение своей принципиальной теоретической работы, не подчиненной 314
никаким политическим воззрениям, наиболее полезным.
Я с удовлетворением узнал, что создана группа из членов ЦК, с которыми я бы мог обсудить способ и условия моей дальнейшей деятельности. Я давно ожидал такой возможности. Верю, что будут устранены многие возникшие недоразумения и будет найдено наиболее подходящее решение, отвечающее реально существующей ситуации.
Ваш Ота Шик»
Становилось очевидным, что в оценке ситуации и политических возможностей возникает все более глубокая пропасть между рядом бывших реформаторов и центристов дома и мной за рубежом. Сознавать это было очень болезненно, но я был убежден, что моя оценка была более реалистичной. Много людей дома, по моему мнению, поддались иллюзиям в отношении имеющихся возможностей. Я не мог, да и не хотел, им поддаваться, ибо это означало после всего страшного исторического опыта вернуться к условиям, когда политику определяют не насущные интересы населения, а интересы Советов и амбиции жаждущих власти реакционных политиков. Мне становилось все более очевидным, что мое желание возвращения на родину напрасно.
Эти чувства вызвали во мне ощущение раздвоенности, которое преодолевалось мною крайне тяжело. С одной стороны, убеждение моих прежних друзей, что мою поездку на Запад реакционеры используют в демагогических целях и сделают все, чтобы воспрепятствовать моему возвращению. С другой — я был убежден, что мое возвращение вряд ли что-либо изменит в окончательной победе реакции. Они запретили бы мне открыто выступать перед народом, раньше или позже я был бы исключен из партии, и в конце концов тем или иным способом меня заставили бы замолчать. Теперь, когда реакционеры узнали всех реформаторов и их союзников, долгосрочное оппозиционное движение было бы неизбежно подавлено, а революционное восстание в условиях военной оккупации и в существующей международной политической обстановке было бы абсолютно безнадежно.
315
Разумный анализ нашей ситуации было тяжело опровергнуть, но ошибочное понимание моими друзьями моего пребывания за рубежом переживалось мною очень болезненно. Я хотел посетить Прагу, чтобы все обговорить с друзьями. Но при этом должна была оставаться возможность возвращения в Базель. Кроме того, я не хотел длительное пребывание за рубежом превращать в эмиграцию, а использовать его прежде всего для того, чтобы мои друзья на собственном опыте убедились в том, что для возрождающегося реформистского движения я буду более полезен за рубежом, чем дома.
4. МУЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ ПРАГИ
На родине народ все еще защищал наиболее важные цели реформы, несмотря на попытки всех реакционных политиков повернуть колесо развития вспять. 9 января 1969 года в Пльзене состоялась общегосударственная конференция представителей рабочих советов на предприятиях. Это была попытка организации взаимной самоподдержки и сохранения самоуправления. Профсоюзы также выступили против обновления старой системы. Чешский съезд профсоюзов, проходивший с 21 по 23 января 1969 года в Праге, принял постановление, в котором выражалась твердая решимость продолжать осуществление реформ.
14 января произошел трагический протест. Студент Ян Палах актом самосожжения хотел призвать народ к массовому сопротивлению. В оставленном им письме содержалось требование ликвидировать заново введенную цензуру. В случае отказа властей удовлетворить это требование он призывал трудящихся к всеобщей забастовке. Его смерть потрясла народ и вызвала большие демонстрации в Праге и других городах.
В такой ситуации я решил ехать в Прагу. Пражские друзья предупредили меня, что реакционеры пытаются представить мою поездку в Швейцарию как доказательство моей связи с западными империалистами и реваншистами. Они распространяли сообщения, будто я, опасаясь разоблачения «своей контрреволюционной деятельности», искал убежища на Западе. Естественно, они умолчали, что высокопоставленные политики про316
сили меня не возвращаться в Прагу, а также о том, что считают мое присутствие в ЧССР препятствием для «процесса нормализации». И сейчас я хотел своим присутствием в день похорон Палаха и больших демонстраций в Праге доказать свою связь с народом и с силами сопротивления. При этом я должен был учитывать риск возможных провокаций со стороны государственной полиции.
С друзьями в Праге я обговорил свой приезд через курьера, не давая публичных объяснений, чтобы ограничить возможные интриги против моего возвращения. Официальным поводом для моего визита явилось заседание Чешского национального совета, куда я был избран депутатом еще до оккупации. На заседании 23 января 1969 года как депутат я должен был принять присягу. И только в Праге я узнал, что в это же время Е. Голдштюкер вернулся из Лондона, чтобы также принять депутатскую присягу. Присягу у нас принимал Ч. Цисарж, занимавший в то время пост председателя Чешского национального совета;
В Праге меня ожидало несколько друзей, среди которых находился и Павел Когоут. По их совету я не остался на ночь в своей квартире. На следующее утро я поехал в больницу, где после операции аппендицита лежал мой сын Иржи. Он чувствовал себя хорошо и очень обрадовался моему приходу. Днем я поехал на заседание Чешского национального совета, где меня «обнаружили» журналисты, а с ними, естественно, и госбезопасность, которая преследовала меня буквально на каждом шагу. По улице шли толпы народа, и на Вацлавской площади произошла антисоветская демонстрация. Агенты не выпускали меня из виду, но все же мне и моему другу в толчее удалось ускользнуть.
В декабре 1968 года была создана партийная комиссия, которая должна была установить цели моего пребывания за рубежом и связанные с этим обстоятельства. Руководителем этой комиссии был назначен Ф. Шорм, и я чувствовал, что комиссия пытается оценить мой случай достаточно объективно. Во время моего пребывания в Праге меня вызвали 22 января 1969 года еще и на заседание комиссии, чтобы я дал некоторые пояснения и высказал свою точку зрения на происходящие события. Но уже в самом ачале я не согласился с членами комиссии в понимании политической 317
ситуации в ЧССР, сложившейся после военной интервенции, а также по вопросам дальнейшего развития страны.
Комиссия и все партийное руководство расценивали мою бескомпромиссную позицию по отношению к политике московского диктата и наших реакционеров как враждебную деятельность, направленную против партии. Они не хотели видеть, что Советы проводят тактику «кнута и пряника» и что постепенное устранение сторонников реформы приведет в конечном итоге к неограниченному господству реакции и ликвидации всех предпринятых шагов по реализации реформы. Я был убежден, что не удержатся даже некоторые центристы, в безопасности окажутся только те, кто безоговорочно принимает советские требования и разделяет их понимание контрреволюции в ЧССР. Моя оценка ситуации не нашла поддержки у членов комиссии. В своих выступлениях они осудили мой отъезд из Югославии в Швейцарию вопреки воле правительства и признали его ошибкой. Но будущее все равно подтвердит, что я был прав.
Вторую ночь из соображений безопасности я провел у другого своего друга. Рано утром я пошел в Институт экономики, где все были рады встрече. Мои научные сотрудники, секретарь, ассистенты и все, кто находился в это время в институте, хотели со мной поговорить. Вопросы так и сыпались на меня, и я с удовлетворением отмечал, что, несмотря на травлю и оговоры, большинство сотрудников было за меня. Правда, некоторые избегали встречи со мной, но это были те, о которых мы, собственно, и раньше знали, что они являются осведомителями партаппарата.
Что меня поразило, так это сообщение одного из моих лучших друзей о том, что во время моего отсутствия сотрудники госбезопасности подвергли обыску мой стол. Все мои бумаги были просмотрены, и многие из них сфотографированы. Мой друг узнал это от одного «сотрудника» института, который долго у нас не продержался: из него «вылупился» агент госбезопасности. Мы знали его Зайчонок. Этот Зайчонок весной пытался прекратить сотрудничество в полицией и хотел заручиться доверием моего друга тем, что разглашал ему различную секретную информацию. И после оккупации мой друг поддерживал с ним связь. Естественно, 318
друг никогда не доверял ему полностью и поэтому не знал, правдива ли «информация» Зайчонка на этот раз, но тем не менее внимательно выслушал его.
На Зайчонка мы всегда обращали внимание, подозревая, что, вероятнее всего, он играл на обе стороны. Доверительное сообщение Зайчонка об осмотре моего письменного стола выглядело правдиво. Позднее я обнаружил, что различная информация, которую реакционеры демагогически использовали в прессе против меня, могла быть почерпнута ими из моих документов. Только ее соответствующим образом извратили. Среди моих бумаг были копии личных писем, записи бесед, а также материалы, связанные с кадровыми вопросами и т. п., которые ни один политик не доверит обычной почте. В руках «пропагандистов госбезопасности» многое, намеренно извращенное или вырванное из контекста, могло быть использовано в качестве лжи о моей «контрреволюционной» деятельности.
Что меня совсем не удивило, так это предостережение моего друга, что в моем кабинете и во многих других установлены «жучки»—подслушивающие устройства. Поэтому мы не осмелились говорить открыто и болтали о пустяках. Эта атмосфера омрачила мое посещение института. Хотя я с удовольствием поговорил бы с близкими друзьями на различные темы, я вынужден был как можно быстрее покинуть «зараженный» институт. Зайчонок или другой агент, вероятно, информировал госбезопасность о моем посещении, поскольку, когда я простился и хотел пойти куда-нибудь пообедать, агенты снова были у дверей. С этой минуты мне не удалось от них избавиться. Таким образом, свобода моего передвижения была ограничена.
Во второй половине дня я встретился с представителями творческих союзов и в последний раз поговорил там с В. Гавелом, Л. Вацуликом, Л. Гелгом и многими другими известными писателями и артистами. Здесь мне пришлось много рассказывать и объяснять. Наш разговор мог бы длиться очень долго, но становился все более жарким, а снаружи тем временем прибывали агенты. Затем ко мне неожиданно подошел один из друзей и сказал, что, видимо, будет лучше, если я покину страну, поскольку ими получена информация о том, что госбезопасность готовит какую-то провокацию и за мою безопасность они не могут ручаться. У меня 319
была еще запланирована встреча с Франтишком Власаком, о которой мы договорились заранее, и мои друзья отвезли меня к нему. Самым интересным было то, что Власак до сих пор оставался министром, то есть членом правительства. Только через несколько месяцев он был смещен. Однако встреча с ним была очень короткой, поскольку я торопился на самолет. Франтишек сам отвез меня в аэропорт, и расставание с ним было грустным и печальным — ведь мы были лучшими друзьями.
Без каких-либо помех мне удалось вылететь из Праги. Позже я пришел к заключению, что в планы тайной полиции не входил мой арест, они хотели только помешать каким-либо политическим акциям с моей стороны, например встречам с народом. Поэтому встреча с представителями творческих союзов их так разозлила. Посещение Праги утвердило меня во мнении, что слишком много членов партийного руководства, за исключением реакционеров, которых я не принимал в расчет, строят совершенно бессмысленные иллюзии: они верили, что дальнейшими уступками Советам они сохранят продолжение реформы или самих себя даже ценой потери своего политического лица.
Мое посещение Праги опять вызвало большую кампанию травли в советской и восточноевропейской прессе, например в советской армейской газете «Зправы» печатались материалы против меня и Е. Голдштюкера. Им уже было недостаточно именовать меня «главой контрреволюции», и они начали использовать «тяжелую артиллерию». ТАСС опубликовал сообщение, что Голдштюкер и я «приняли участие в тайном сионистском сборище в Лондоне, чтобы на деньги, полученные от США и Израиля, организовать движение против социалистического развития в ЧССР». Было ясно, что эта ложь адресовалась прежде всего людям с расистским типом мышления и преследовала цель подорвать нашу репутацию как социалистических политиков.
Об отваге многих журналистов в Праге свидетельствует тот факт, что все еще существовали некоторые газеты, которые готовы были опубликовать ответ на эту клевету. С некоторыми редакциями этих газет я вел переписку из Базеля. Однако понемногу, но неудер-
320
жимо начали распространяться пораженческие настроения.
Л. Штроугал после моего отъезда из Праги также присоединился к стану клеветников. Вероятно, его охватил страх за себя, поскольку перед оккупацией он соглашался с моими целями реформы и активно поддерживал их реализацию. Когда 21 января 1969 года в советской «Правде» была напечатана большая статья, содержавшая острую критику моих идей реформы, которые характеризовались как буржуазные и ревизионистские, а их осуществление — как попытка возрождения капиталистических отношений, Штроугал попытался защититься тем, что также выступил с нападками на мои представления. В качестве предлога он взял мое интервью, которое передавало Швейцарское телевидение 10 декабря 1968 года.
В докладе перед партийными секретарями от 6 февраля 1969 года он самым вульгарным образом извратил мои идеи и охарактеризовал их как антисоциалистические. Он утверждал, например, что я хотел устранить планирование и абсолютизировать рынок. В действительности ни тогда в упомянутом интервью, ни позже вплоть до сегодняшнего дня я в своих теоретических работах никогда не считал рынок достаточным механизмом для оптимального хозяйственного развития.
Штроугал знал мое мнение, должен, естественно, и сейчас знать, что оно пробьет себе дорогу. Эта мысль лежит в основе замыслов реформы Горбачева в СССР. Однако тогда в СССР господствовали догматические представления о социалистическом планировании брежневской эры и Штроугал как типичный оппортунист пытался защитить себя тем, что совершенно сознательно начал меня критиковать, извращая и искажая мои взгляды. Конечно, он мог спастись на другом берегу, но за страшную цену, которую должен заплатить народ. Отсталость научно-технического развития, низкий жизненный уровень населения ЧССР в результате возвращения к старой, директивной плановой системе проявились настолько ярко, что эта картина потрясла меня.
Между тем наша жизнь в Базеле постепенно стабилизировалась, но я все еще работал в области исследовательной деятельности на правах гостя как временно 321
занятый. Понимание базельским кантональным правительством политической ситуации в ЧССР было поразительным. Я сосредоточенно работал над своей книгой, в которой хотел исследовать основные причины неэффективности социалистической экономической системы, кроющиеся уже в ее идеологических принципах.
10 марта в Цюрихе я принял участие в симпозиуме, организованном Институтом Готлиба Дуттвайлера, директором которого тогда был Ганс А. Несталоцци. Симпозиум был посвящен проблеме соотношения плана и рынка. Одним из его участников являлся также известный американский экономист Джон К. Гэлбрейт, с которым я встретился здесь впервые. В своем выступлении я указал, что рыночный механизм незаменим, а дирижистское планирование неизбежно ведет к бюрократизации производства на предприятиях. К моему удивлению, Гэлбрейт вступил в полемику с моим утверждением, заявив, что бюрократизация экономики в западных промышленно развитых странах отнюдь не меньше, чем на Востоке, и что принятие решений крупными компаниями уже не определяется рынком. После своего выступления он сразу же покинул симпозиум, так что я не смог что-либо ответить на это.
Безусловно, затем в своем ответе я не отрицал существования сильных бюрократических тенденций в крупных западных монопольных концернах и транснациональных корпорациях, поскольку имел и до сих пор имею критическое отношение к монопольному характеру развития, которое подрывает рынок. Одновременно я не мог допустить, чтобы на одну ступень ставилась западная и восточная экономическая бюрократизация, поскольку между ними имеется существенная разница. И при самой сильной концентрации производства на Западе тем не менее остается место — по крайней мере в международном масштабе—для развития соревнования почти в каждой отрасли, а потребители имеют, за небольшим исключением (например, электричество и т.п.), возможность выбора. Это также вынуждает производителя учитывать спрос и бороться за свою долю на рынке, постоянно осуществляя инновации и повышая производительность труда. Производители на Востоке являются абсолютными государственными монополистами, которые при существующем рынке 322
продавцов со своим отсталым и относительно дорогим производством всегда находят сбыт своей продукции, поэтому их не интересуют ни структура спроса, ни повышение эффективности, ни внедрение инноваций.
Этих аргументов, однако, Гэлбрейт уже не слышал. Мои слушатели приняли их громкими аплодисментами. К сожалению, Гэлбрейт так никогда и не узнал, какие овации он вызвал у самых реакционных и сталинистских писак в СССР и ЧССР. По радиостанции Советской Армии, вещавшей на чешском языке, демагог Богумил Рогачек описал мою встречу с Гэлбрейтом так, будто «Гэлбрейт выслушал тирады Шика с большой самоотверженностью» и якобы «он, Гэлбрейт, теоретик капитализма, лучше знает марксизм, чем Шик».
Дискуссия с Гэлбрейтом не касалась связанной с этим проблемы воздействия элементов соревнования на принятие управленческих решений. И до сегодняшнего дня догматические экономисты из ЧССР мое утверждение о неизбежности давления соревнования на принятие производственных решений пытаются опрокинуть тем, что я являюсь приверженцем мелкобуржуазных представлений, согласно которым в каждой отрасли должно произойти создание множества мелких предприятий. Реальное развитие в западных промышленных странах, однако, показывает, что производство ведет к огромной концентрации и монополизации и поэтому дальнейшее развитие производства — как это предвидел Маркс—должно привести к наивысшей социалистической государственной концентрации. Отсюда мои теории якобы находятся в прямом противоречии с реальным развитием, в то время как Гэлбрейт правильно воспроизводит развитие капитализма.
Безусловно, я вовсе не считаю, что каждое предприятие должно иметь конкуренцию внутри страны. Например, в малых странах с ограниченным внутренним рынком это вообще невозможно. Но каждое, в том числе и крупнейшее, предприятие должно находиться под давлением рынка, а это означает, что как непосредственный продавец оно должно бороться за место на зарубежном рынке. Если этого не происходит, то можно с уверенностью сказать, что предприятие обеспечивает свой сбыт без каких-либо потерь в своих доходах, успокаивается и теряет интерес к удовлетворе323
нию потребностей, отвечающих максимально эффективному инновационному развитию.
Теоретики, игнорирующие или недооценивающие зависимость экономических интересов от рынка при принятии производственных решений, а к ним относится и Гэлбрейт, способствуют бюрократизации принятия производственного решения. Бюрократическое принятие решения в производстве является решением не только без достаточного знания, но прежде всего решением, принимаемым без учета воздействия рынка на хозяйственную деятельность. Игнорирование этой связи между производственной отсталостью и отсутствием конкуренции еще и сегодня тормозит развитие реформ во многих социалистических странах.
Не обладающие широким кругозором, и мыслящие техническими категориями экономисты не способны осознать важность всестороннего учета экономических интересов при принятии производственных решений. Они сформировали представления формального принятия решения только в одном-единственном (с точки зрения технических знаний) направлении, то есть без учета остальных факторов — экономических, социальных и т. д. До сих пор они преподают в чехословацких вузах и работают в исследовательских институтах, поскольку эти взгляды не противоречат интересам бюрократии. И наоборот, те экономисты, которые подчеркивали необходимость всестороннего учета интересов при принятии производственных решений, а тем самым значение рынка и давления конкуренции, власть имущими бюрократами из вузов и исследовательских институтов были изгнаны. Только в таком контексте нужно рассматривать мою полемику с Гэлбрейтом.
Развитие в ЧССР к апрелю 1969 года настолько обострилось, что реакционеры с помощью некоторых неоконсерваторов, прежде всего Г. Гусака, смогли отважиться на решающую вылазку. Они создали явную фракцию, готовили провокации и все сильнее раздували пропагандистскую травлю с целью лишить Дубчека власти и выдвинуть на высший пост страны угодную им кандидатуру. Далее они хотели всех, кого считали реформаторами и кто разделял их взгляды, не только устранить из руководящих органов, но и исключить из партии. Они прилагали все усилия, чтобы восстановить старую систему Новотного, хотя и без него.
324
Одним из предлогов к большой провокации явилась победа чехословацкой команды над советской в чемпионате мира по хоккею в Стокгольме 21 марта 1969 года. Во всех крупных городах ЧССР среди населения возник такой энтузиазм, который вылился в открытую демонстрацию гражданами своей ненависти к советским оккупантам. Митинг в Праге на Вацлавской площади очень быстро вылился в антисоветскую демонстрацию. Когда неделей позже в ответной встрече чехословацкая команда опять победила, реакционерам было легко массовую эмоциональную демонстрацию целенаправленно подтолкнуть к насильственным действиям.
Так, на Вацлавской площади в Праге, где сосредоточились большие толпы народа, начали лететь камни с мостовой в витрины советского Аэрофлота. Кто туда привез эти камни, хотя в это время никакого ремонта мостовой на Вацлавской площади не проводилось, и почему там не было ни одного полицейского подразделения, каждый мог только догадываться. В любом случае люди излили свою злость в стихийный разгром помещения Аэрофлота—реакционерам провокация удалась. Моментально был поднят шум, что это «контрреволюционеры подбили Массы на насильственные действия».
Русские, безусловно, использовали это обстоятельство для резких нападок на Дубчека, Смрковского и других реформаторов в партии. Прежде всего было оказано военное давление: неожиданно в Прагу прилетели советский маршал А. Гречко и заместитель министра иностранных дел СССР А. Семенов. Чехословацкие генералы и офицеры их ожидали. Не поставив в известность чехословацкое правительство, советские части начали проводить маневры. Затем в руководстве армии организовалось движение, которое можно было считать подготовкой путча против руководства Дубчека. Гречко и Семенов имели беседу с Л. Свободой, А. Дубчеком и О. Черником, во время которой им был предъявлен ультиматум. Если они моментально не проведут политические изменения и мероприятия с целью прекращения волнений и антисоветских вылазок, Советская Армия вынуждена будет сама предпринять необходимые меры. Затем у Гречко и Семенова состоялся разговор с Гусаком и Штроугалом. После этих 325
переговоров Гусак и Штроугал стали высказывать соображения о необходимости замены Дубчека. Гусак к тому времени уже стал Первым секретарем Компартии Словакии. Когда от Советов он узнал, что его кандидатура предлагается на ноет Первого секретаря всей чехословацкой партии вместо Дубчека, его поддержка Дубчека закончилась. Уже в первую неделю апреля 1969 года он провел соответствующую работу в Президиуме словацкой партии, в результате Президиум потребовал отставки Дубчека. Поэтому для Гусака оказалось сравнительно легко воздействовать на Политбюро чехословацкой партии, с тем чтобы его члены согласились с отставкой Дубчека. При такой ситуации Дубчек сам сдался и заявил о своем уходе с поста. 13 апреля 1969 года Гречко мог возвратиться в Москву с сообщением, что Дубчек подал в отставку.
17 апреля проходило заседание Центрального Комитета, на котором должны были произойти важные изменения. Я решил, что поеду в Прагу во второй раз, чтобы принять участие в этом заседании. В Базеле из-за недостатка информации о развивающихся событиях я смог только узнать, что Дубчек должен уйти в отставку. Поэтому в Прагу я выехал за два дня до начала заседания, чтобы иметь полную информацию о состоянии дел. В этот раз я ехал на машине с обоими сыновьями. Старший сын Иржи приехал в Базель на несколько дней, чтобы навестить нас, что в то время было еще возможно. У него были каникулы, и теперь он возвращался со мной назад после их окончания. У младшего сына Мирослава как раз начались каникулы в Базеле, и он хотел съездить на несколько дней в Прагу, чтобы навестить друзей. Итак, мы втроем ехали из Базеля в Прагу через Вайдхауз, Розвадов и мой родной город Пльзень. В Пльзене меня охватило сентиментальное настроение, которое неожиданно было нарушено. Миновав Пльзень, мы заехали в закусочную. Там был занят только один стол, за которым сидели местные жители; один из них достаточно громко и по-хозяйски что-то говорил остальным. У меня на таких людей глаз наметан, безусловно, это был партийный функционер. Через минуту меня узнали, поскольку все стали смотреть в мою сторону, о чем-то шептались и снова смотрели на меня. Их голоса становились все громче, несколько раз было упомянуто мое имя. У меня было 326
ощущение, что по крайней мере один из них был районным реакционером. Избегая скандала, я положил деньги на стол, и мы быстро ушли.
Этому случаю суждено было сл ать прелюдией к последующим. С еще более ненавистными взглядами и репликами я встретился в зале, где заседал Центральный Комитет. На этот раз мы разместились в нашей квартире; машину я поставил в гараже у одного знакомого, чтобы с ней ничего не случилось. Сразу на следующий день я разыскал своих друзей и знакомых, чтобы получить более подробную информацию. Я узнал, что на место Дубчека должен быть избран Гусак и что его поддерживают и реформаторы. Я не хотел верить этому сообщению и поэтому зашел к одному приятелю прямо в Пражский секретариат, где—как я уже упоминал— были сосредоточены самые прогрессивные люди, некоторые из них являлись теперь членами Центрального Комитета.
Этот приятель, называть которого я не хочу, мне подтвердил, что действительно все прогрессивные члены ЦК будут голосовать за Гусака. Якобы М. Гюбл (активный член городского и Центрального комитетов) заключил с Гусаком соглашение, в соответствии с которым Гусак обещал, что после своего избрания он договорится с Советами о такой нормализации, которая позволит продолжить начатую реформу в экономике, что сторонники реформы смогут остаться в партийных органах и не произойдет возврата к предъянварскому состоянию, когда у власти был Новотный. Недоверие у меня тем не менее оставалось, поскольку я уже узнал «гибкость» Гусака. В то же время я не мог не считаться с мнением прогрессивных сил, поскольку дома я не жил и не мог знать, собирается или нет Гусак выполнять соглашение.
В полном замешательстве я покинул канцелярию своего друга в городском секретариате и направился к выходу. Но случайно, видно, судьба так распорядилась, в дверях я столкнулся с советским послом Червоненко, который в этот момент входил в здание. На секунду он окаменел, с ужасом посмотрел на меня, не произнося ни слова. На его лице было написано крайнее удивление моим присутствием в Праге, к тому же в партийном секретариате. Видимо, он был уверен, что я нахожусь в Базеле и на заседании ЦК не появлюсь. Я, 327
естественно, был также удивлен. Именно с Червоненко, который был самым ярым противником нашего реформистского движения и который явно был замешан в интригах против меня, я должен был здесь встретиться! Без приветствия, молча, я прошел мимо, как будто мы не были знакомы. Его удивленный взгляд быстро изменился в ненавидящий. Если бы взглядом можно было убить!..
На следующий день началось заседание ЦК в Пражском Граде. Я шел туда со смешанными чувствами. Из «Руде право» я узнал, что накануне Президиум снял со всех консерваторов и реакционеров обвинения в нагнетании и ухудшении обстановки в стране во время оккупации. Речь шла о Биляке, Кольдере, Индре, Пиллере, Барбирке, Риге, Швестке, Ленарте и Капеке. Они могли опять занимать руководящие посты.
Взгляды архиреакционеров в ЦК, таких, как Немец, Новы, Пастыржик, Дочкалова, Ауэрсперг, Рытирж и др., которыми они встретили меня, когда я появился на заседании, были полны ненависти. К счастью, там было много наших людей, которые меня не избегали. У меня вызвало только усмешку одно обстоятельство, когда Р. Рихта, который встретился мне во дворе, быстро перешел на другую сторону, чтобы избежать необходимости поздороваться со мной. А этого человека считали прогрессивным философом, и прежде всего он сам придерживался такого мнения.
Дубчек сам объявил о своей отставке и предложил выбрать Гусака своим преемником. Гусак почти единогласно был избран Первым секретарем. При открытом голосовании я минуту выждал, но, когда увидел, что все мои друзья по реформе подняли руку, мои сомнения исчезли и я также проголосовал за Гусака. Ведь было невозможно, чтобы без каких-либо серьезных оснований и гарантий избирали Гусака. Вероятно, я действительно за рубежом не мог достаточно объективно оценить события, и поэтому мне не хотелось голосовать против своих друзей. Позже я горько раскаивался в таком голосовании, но, видимо, не я один.
ЦК избрал новое руководство, состоявшее из небольшого числа членов, что соответствовало количественно старому составу Политбюро. Единогласно были избраны: Биляк, Цолотка, Черник, Дубчек, Эрбан, Гусак, Пиллер, Садовский, Свобода, Штроугал и Пола328
чек. Таким образом, в Политбюро не оказалось ни одного реформатора. Смрковский не был избран, а Черника и Дубчека мы относили к центристам. Совершенно очевидно начала вырисовываться ясная картина движения вспять. Принятая резолюция была направлена только против антисоциалистических нарушителей порядка.
Результатами заседания я был очень подавлен. Решил еще вечером уехать. Я никого не хотел ни видеть, ни слышать: бессилие воспрепятствовать тому, что нас еще ожидало, означало конец всем нашим надеждам, что крайне меня угнетало.
5. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
Мои друзья ожидали, что Гусак явится тем человеком, который сможет вести переговоры с Советами более энергично и целенаправленно, и что будут реализовываться некоторые из идей, которые с таким воодушевлением были восприняты нашим народом. Но русские, безусловно, лучше знали, кого избирали, и никому не известно, чем еще его держали в руках. Определенно, он должен был дать им гарантии, что развитие в ЧССР будет проходить в соответствии с их пожеланиями.
Даже* чешский партийный съезд (в отличие от словацкого партийного съезда) в данных условиях не мог состояться, поскольку Советы опасались, что делегаты-реформисты окажут решающее влияние. Поэтому чешское партийное бюро под руководством Штроугала было назначено сверху. А сам Штроугал должен был полностью подчиниться Советам, чтобы доказать, что он не имеет ничего общего с «контрреволюционером» Шиком, с которым сотрудничал при проведении экономической реформы.
Так готовился майский пленум ЦК, на котором должна была произойти первая чистка от самых рьяных «ревизионистов». И опять центристы надеялись сохранить себя этой чисткой. Тактика «кнута и пряника» Советов проводилась успешно.
Еще до заседания ЦК по некоторым событиям было ясно, что свертывается и экономическая реформа. 29 апреля 1969 года Чешский национальный совет отло-
329
жил обсуждение проекта закона о социалистическом предприятии на неопределенное время. А 28 мая в «Руде право» впервые были подвергнуты критике принципы экономической реформы, которые были охарактеризованы как несовместимые с социалистической экономической системой.
Закон о социалистическом предприятии, который теперь, в 1987 году, спустя почти двадцать лет, был принят в ЧССР, несущественно отличается от того, который мы подготовили в свое время. Теперь, значит, изменение положения предприятия оказалось совместимым с социалистической системой? Кто будет привлечен к ответственности за это двадцатилетнее опоздание, которое принесло чехословацкому народному хозяйству невосполнимые потери? И кто и когда наконец поймет, что изменение положения предприятия само по себе ни к чему не приведет, если одновременно не будет реализован переход к рыночным ценам, не осуществлены целенаправленные меры против монополизма и не будет поощряться конкуренция?
Как все это было печально! Разработки лучших умов экономистов, которые действительно повели бы к продуманным изменениям экономической системы, пропали даром. Безусловно, можно было прийти к существенно более эффективному развитию производства, к долгосрочному экономическому подъему, и одновременно мы смогли бы избежать макроэкономических нарушений и массовой безработицы. Были бы достигнуты необходимая конкурентоспособность на зарубежных рынках и значительное повышение жизненного уровня населения. Но эти возможные результаты интересами власти и бюрократическим способом мышления за короткий период времени были уничтожены. Ничего не осталось от всех гуманных и демократических проектов «пражской весны» в ЧССР, кроме единственной реформы Гусака, то есть федерализации республики. За это он получил сильную поддержку словаков и даже сумел вытеснить Дубчека. Ничто другое его не интересовало: экономику он вообще не знал, а о демократии, которая угрожала бы ему, не хотел даже слышать. Я знал, что всех своих прежних сотрудников, которые не будут устраивать Советы, он безжалостно принесет в жертву, то есть всех тех, кто стремился ре-
ззо
формировать систему и кто не хотел жить по указке Со ветов.
Мои размышления привели меня к выводу, что среди исключенных на майском заседании первым буду фигурировать я. Именно поэтому мне хотелось там присутствовать. Пусть мне скажут в глаза, почему они хотят снять меня с занимаемых должностей, а я в свою очередь не постесняюсь им сказать напоследок, что я думаю о начавшемся развитии. Со всех сторон меня предупреждали, чтобы я не ездил. Мои друзья, которые, как и я, эмигрировали, наши новые друзья из Базеля, мои жена и сын—все отговаривали от этой поездки. Никто не хотел, чтобы я снова оказался на чехословацкой земле, поскольку, по их мнению, это было бессмысленным шагом и, кроме того, в этот раз «после моего исключения» полиция действительно могла чтонибудь предпринять против меня. Когда позже я узнал, что наше посольство в Берне хотело воспрепятствовать моей поездке в Прагу (об этом мне в частной беседе сообщил наш посол), мне не оставалось ничего другого, как предположить, что это опять исходит из Праги. Мои предположения усилились еще и потому, что посольство потребовало, чтобы я сдал свой дипломатический паспорт в обмен на обычный. Именно в эти дни у меня хотели отобрать паспорт, чтобы не допустить моего возвращения в Прагу. Одни «высокопоставленные особы», видимо, боялись, что на заседании ЦК я мог бы что-нибудь «открыть», а другие не хотели, чтобы я разоблачил их обвинения в мой адрес на месте. Именно поэтому я непременно хотел присутствовать на заседании ЦК.
Лилка, которая очень боялась за меня, решила поехать вместе со мной, несмотря на все мои возражения. Мирек остался в Базеле один, а я с женой поехал на машине. Я выбрал дорогу так, чтобы большая часть пути приходилась на скоростное шоссе. Уже на шоссе мы заметили, что за нами неотступно следует большой грузовик. Когда у одной бензоколонки мы отдыхали и машина прошла мимо, мы решили, что наши страхи, связанные с мыслью о преследовании, напрасны, что все это нам показалось. Но позже машина опять последовала за нами. Может быть, это была и случайность. Когда мы свернули на обычное шоссе в направлении Марктредвица, грузовик свернул за нами. Тогда нас 331
обуял страх. Почему эта громадина ехала за нами, да еще со скоростью легковой машины?
В Марктредвице я нарочно заехал на узенькую улочку, чтобы избавиться от грузовика. Я стоял на краю дороги, не выключая мотора. Вдруг в зеркале заднего вида я увидел, как на большой скорости грузовик несется по узкой улочке прямо на меня. В последний момент мне удалось дать газ и выехать на тротуар— грузовик пролетел мимо нас. К счастью, он нас не задел, и на тротуаре никого не было. Потрясенные случившимся, мы вышли из машины, чтобы прийти в себя. Затем мы потихоньку добрались до стоянки и осмотрелись. Грузовика нигде не было видно. Это происшествие убедило нас в том, что мой приезд в Прагу хотели не допустить. Однако на границе мы не заметили ничего особенного, и нас уже никто не преследовал. Для большей уверенности после пересечения границы мы съехали с шоссе и поехали по местным дорогам. В Праге первым делом я поставил машину в безопасное место, и только потом мы отправились в квартиру к нашему сыну.
Перед заседанием, которое начиналось 29 мая, у меня был свободный день. Рано утром я в последний раз зашел в институт, где провел долгие годы, побеседовал со своими друзьями, руководителями отделов и другими сотрудниками. Я им заявил, что уже не смогу руководить институтом и что на мое возвращение вряд ли следует рассчитывать. Однако я попросил, чтобы официально меня до конца года оставили в прежней должности. Я уже знал, что буду исключен из ЦК, а позже и из партии. Они понимали, что я не соглашусь остаток жизни проработать где-нибудь на заводе или в деревне и отказаться от научной деятельности.
Беседа была открытой, в основном профессиональной, чтобы случайно оказавшийся здесь шпик не смог донести на остальных. Но я был убежден, что такого среди присутствующих на беседе не было, поскольку уж своих шпиков мы хорошо знали. Самым важным было наше соглашение о том, кто должен возглавить институт после меня. Они хотели знать мое мнение. Самыми способными я считал двух руководителей отделов — К. Коубу и Ч. Кожушника. Я высказал им свое мнение, но попросил, чтобы решение они приняли сами тайным голосованием. Однако все сложилось иначе: 332
все мои лучшие сотрудники, известные как убежденные реформаторы, были уволены из института и по большей части исключены из партии.
Моя жена, которая до сих пор еще не воспринимала всерьез эмиграцию, в Праге быстро ожила и попросила меня, чтобы во второй половине дня мы съездили на нашу дачу на Слапском озере. Мы отправились в путь. День был прекрасным, и Лилка начала как ни в чем не бывало полоть и убирать около дома. Как будто речь шла не о разлуке и мы через несколько недель вернемся опять. Как тяжело было прощаться! Но разум мне подсказывал, если мы останемся, будущее принесет нам еще больше страданий и слез. Слишком много тех, кто будет стремиться мстить и будет пытаться сделать мою жизнь адом. А я не смогу уже защититься и должен буду проглотить все обиды и унижения, не смогу заниматься своей любимой работой, и, кроме всего прочего, добавились бы финансовые заботы. Будут мстить детям; что с ними станет? Если Иржи не хочет этого признать, я должен избавить от этого хотя бы Мирека.
Итак, мы простились с нашей дачей, со Слапским озером и поехали назад в Прагу с внутренним волнением. На следующий день я пошел в Град, где в роскошном Испанском зале проходил пленум. Ледяной холод, который исходил от большинства присутствовавших, был по меньшей мере на один градус ниже, чем в прошлый раз. Значительно меньше стало тех, кто меня приветствовал и остался со мной стоять. Это, собственно, были те, кого ожидала та же участь: Ф. Водслонь, Ф. Кригель, В. Славик и некоторые другие. Я уже не помню, с кем рядом сидел — был ли это стареющий Шимунек или кто-то другой? Напряжение было велико. Поддержит ли меня кто-нибудь или уже все боятся?
Как и ожидалось, обсуждение кадровых вопросов было вынесено на второй день, и я был первый по списку. Но уже в первый день после доклада Гусака целый ряд консерваторов и реакционеров в начавшейся дискуссии задавали вопросы по данным, которые касались меня, полемизировали со мной или подвергали критике мои взгляды. Все члены ЦК получили документ с так называемым сообщением комиссии, которая расследовала причины и цели моего пребывания за рубежом. Это сообщение было уже иначе сформулирова333
но, чем первая обобщенная версия о моем пребывании за рубежом. Я сразу понял, что первая информация была еще относительно объективна и даже написана с определенным пониманием моей зарубежной деятельности.
Как я уже упоминал, возглавлял комиссию Ф. Шорм, который относился к военной интервенции так же, как и я, и тогда еще мог оказать значительное влияние на формулировку сообщения. Затем, очевидно, вмешался кто-то абсолютно «послушный» и написал сообщение так, что меня, по сути, обвиняли в нем во враждебной партии деятельности и требовали моего исключения из Центрального Комитета. К этому было приложено очень много всяких документов.
Действительно, с их стороны была проделана большая работа: они свалили в одну кучу все материалы, которые смогли найти. Было ясно, что все мои выступления, в которых я осуждал военную оккупацию, развенчивал миф об опасности контрреволюции в нашей стране, защищал наше право на собственную политику и развитие реформы и многое другое,—все это трактовалось как действия, направленные против выработанной в то время новой партийной линии и квалифицировалось как недисциплинированное поведение члена ЦК. При такой постановке вопроса я, естественно, уже ничего не мог изменить. Случилось то, чего я ожидал. Однако что меня действительно взбесило, так это демагогические нападки, ложь и грязные обвинения различных реакционеров в дискуссии накануне.
На второй день мне первому была предоставлена возможность высказать свое отношение к предложенному материалу, а также по «вопросам» предыдущего дня. Это должно было выглядеть демократично. При этом было ясно, что, выступая против абсолютного большинства консерваторов и реакционеров, я вообще не имел никаких шансов. Бесполезно было что-то им объяснять или в чем-то их переубеждать. Но речь, собственно, шла не о них, а о той, меньшей части кооптированных после оккупации членов ЦК. Но и из них некоторые начали колебаться. Как только вновь была введена цензура и средствам массовой информации был вбит кляп, прогрессивные деятели не могли свободно обращаться к народу и начала проводиться политика «дисциплины и порядка». В такой атмосфере 334
моя оппозиция по отношению к большинству членов ЦК уже рассматривалась как враждебная и разрушающая «нормализацию». Многие члены ЦК, которые еще несколько месяцев назад активно выступали против оккупации, теперь из осторожности молчали.
Во время выступления меня постоянно прерывали выкриками и бранью, как это делали, например, «мой старый друг» Козелка и Новы, Кошарж или Немец и др. Они вели себя истерично и были готовы сбросить меня с трибуны. Меня даже обвиняли в том, что в Югославии я воспользовался государственными деньгами. Вначале я не мог понять, о чем идет речь, и только потом догадался, что речь идет о тех 350 долларах, которые я получил в Белграде от члена делегации, возвращавшейся из Канады. Им вообще должно было быть стыдно даже говорить об этом, поскольку меня оставили почти на два месяца без средств к существованию за рубежом и я вынужден был жить на содержании у югославского правительства, а теперь Козелка кричал, куда я дел эти 350 долларов. (После возвращения в Базель я сразу же выслал эту сумму в чехословацкий Госбанк.) Такой демагогией меня пытались сбить с толку.
После моего выступления было проведено голосование, которое, естественно, закончилось моим исключением из членов ЦК. Политический произвол против меня, а тем самым и против реформы осуществился. Я был так взволнован, что и сегодня совершенно не могу вспомнить, кто голосовал «против» и кто «за». Во всяком случае, за мое исключение из ЦК голосовало подавляющее большинство, включая многих вновь избранных членов. Политика «кнута и пряника» продолжалась. Председательствовавший С. Садовский сообщил, что Центральный Комитет подавляющим большинством голосов решил исключить меня из своих рядов. И еще я видел, как Штроугал что-то шептал Гусаку и оба ехидно смеялись.
После этого я поднялся, взял свою папку и пошел с высоко поднятой головой — через центр зала прочь. При этом я думал, не ожидают ли меня за дверями агенты государственной безопасности. Но так далеко не зашло — Гусак был очень осторожен и обращал внимание на то, чтобы не сделать слишком много опрометчивых шагов. Теперь у него было достаточно времени. Аресты должны были начаться позднее. За дверями 335
меня поймал один из журналистов, который вышел за мной из зала. Он только хотел мне сказать, что очень меня уважает и за все меня благодарит. Вероятно, он говорил еще и от имени большинства «молчаливых».
Нервное напряжение и прежде всего бешенство, охватившее меня, по поводу смеха моих бывших «союзников против Новотного» было так сильно, что я задыхался. Мне было необходимо как-то «спустить пары». Так вышло, что на стадионе, недалеко от дома, играли команды «Спарта» и «Славия». Это было то, что надо! Я пошел туда, и мне досталось место за воротами, правда, я должен был стоять. Там я с фанатами кричал и ругался, мне было все равно, кто выиграет, главное заключалось в том, что я мог накричаться, дать себе разрядку. Совершенно случайно я встретил там двух старых знакомых, еще по институту.
«Ота, что ты здесь делаешь? Как ты сюда попал?» Вскоре мы кричали вместе.
Постепенно меня узнавало все большее число людей, и я уже слышал, как вокруг говорили: «Шик здесь. Шик стоит вон там». Меня окружили, и некоторые обращались ко мне с вопросами. Народ прибывал, но никакие демонстрации мне были не нужны. Матч приближался к концу, и я поспешил к выходу. Я исчез в толпе, и меня потеряли из виду. Я спешил домой, где меня уже ожидала жена. Она была очень огорчена, а я, наоборот, уже почти успокоился.
Вечером мы уселись у телевизора, чтобы узнать, что же произошло после моего исключения. Следующими за мной были Кригель, Водслонь, Славик, Шпачек, Павличек и Павлиштик. В отношении Прхлика и Гюбла было заведено партийное дело. Так пришел черед и Гюбла. Он больше других прогрессистов поддерживал избрание Гусака. Но Советы упрекали его в том, что своим открытым письмом он, собственно, требовал моего возвращения и тем самым организовал сопротивление. Он оказался под огнем Советов, и Гусак, не мешкая, помог ему пасть.
В тот вечер мы видели также репортаж, передаваемый с многолюдного собрания в Праге, где выступил с речью Гусак. Мы сразу догадались, что этособрание одних реакционеров, видимо, их специально собрали со всей Праги и окрестностей. Гусак все организовал, чтобы отпраздновать свою «победу» в ЦК. Он 336
говорил так демагогично, что я отказывался верить тому, что слышал. Это было подстрекательское выступление. Кригеля он подверг антисемитским намекам: «Кригловать-крагловать» — пошлая игра слов, которой он хотел упрекнуть Кригеля в том, что он якобы хотел ликвидировать заслуженных коммунистов. А сталинисты фанатически кричали и рукоплескали ему, как в припадке безумия. Это было страшно. Опять все повторялось, как в 50-е годы.
Итак, все решилось. Мы должны уехать сразу же утром. Мне не о чем было говорить с этим сталинским демагогом. Мы собрали все необходимое для моей работы. Надо было поскорее добраться до границы, пока она не занята «их надежными людьми» и не контролируется, как при Новотном. Границы пока еще были открыты, там еще работали таможенники, которые были огорчены оккупацией нашей страны так же, как и мы, и выражали нам свою симпатию. Но это могло быстро и измениться. И действительно—через несколько месяцев границы были, как и раньше, закрыты.
Но мы миновали границу без затруднений под поощрительными взглядами наших таможенников. Расставание с Иржи было печальным—он стоял около нашей машины и сказал: «Вы уезжаете надолго, да?» Да, у нас долго не было возможности увидеться. При помощи знакомого адвоката все наше имущество, мебель, накопления, дачу мы перевели на Иржи; это очень помогло ему закончить учебу. Прошло целых двенадцать лет; его не выселили из страны, но и не дали возможности хоть раз навестить нас. Все письма просматривались, поэтому мы не могли как следует узнать, что с ним и вокруг него происходит.
В ЧССР события развивались стремительно. Уже 31 мая 1969 года Черник осудил самоуправление на предприятиях как проявление ревизионистского раскола власти. А что он от этого выиграл? Что он выиграл от уничижительной самокритики и попытки все свалить на «вражескую деятельность Шика»? Он остался в седле только на несколько месяцев дольше, чем остальные. 28 января 1970 года он был исключен из Политбюро, а 10 декабря — из партии. Исключением из Политбюро закончилась его деятельность на посту Председателя правительства. Его место занял Штроугал.
День первой годовщины оккупации был отмечен ак337
тами протеста, в которых в последний раз отразилось сопротивление народа. В крупных городах прошли спонтанные демонстрации. В Праге на демонстрацию вышли массы людей, были зажжены свечи в память Яна Палаха. Но полиция заранее подготовилась, в результате были арестованы сотни демонстрантов. В самой Праге было начато судебное расследование против 260 демонстрантов. Были введены законы, которые давали полиции чрезвычайные права.
Еще до этого было запрещено большое количество прогрессивных журналов. В июне прошла чистка в пражском партийном руководстве и к власти пришли наиболее ярые реакционеры. Творческие союзы были распущены. Против их наиболее активных представителей, таких, как В. Гавел, Л. Вацулик, П. Когоут, О. Пацовски, а также журналистов Й. Гохмана, В. Непрашова, Й. Кинцела, И. Румла, М. Юнгмана и др. были возбуждены уголовные дела.
На заседании ЦК 25—26 сентября 1969 года официально была принята версия Советов, что год назад не произошло никакой оккупации, а, наоборот, была оказана «братская помощь против угрозы контрреволюции». Партийный съезд, проходивший во время этой «помощи», был осужден как враждебный партии заговор. Из ЦК были исключены другие прогрессивные члены: Смрковский, Микова, Гюбл, Вокроугличек, Млынарж, Гаек, Власак и двенадцать других, менее известных людей. Дубчек был устранен из Политбюро. Славик, Прхлик и Черны были исключены из партии. Прхлик был лишен иммунитета и арестован.
Из партии, естественно, были исключены также и все ее члены, которые эмигрировали: Пеликан, Гейзлар, Лем и др., включая меня. После ареста Прхлика последовал ряд арестов и процессов по всей стране. Заверения Гусака, что никто не будет преследоваться зд свои взгляды и мысли, оказались обманом. Репрессивная система была усилена рядом принятых законов, и с октября 1969 года по всей стране начались большие чистки.
Речь шла прежде всего о чистках во всех государственных, хозяйственных организациях и в учреждениях культуры, в средствах массовой информации, союзах и профсоюзах. Она была направлена против людей, которые были реформаторами или симпатизиро338
вали им, против тех, кто выступал против оккупации, не соглашался с «нормализацией» или просто считался «ненадежным». Исключенные не могли уже работать в идеологических учреждениях, большинству из них была уготована участь работников «физического труда». Речь шла по большей части о высококвалифицированных специалистах в различных отраслях экономики и культуры. Потери, вызванные этими чистками, не поддаются количественному выражению. Я наблюдал этот процесс со стороны с чувством грусти и стыда. Как могли эти средневековые инквизиторы и охотники за ведьмами называться социалистами?
А затем, в начале 1970 года, начались чистки в партии. Уже в 1969 году 150 тысяч членов добровольно вышли из партии. Это явилось их протестом против процесса «нормализации». Затем приступили к работе комиссии по чистке, назначаемые аппаратом партии в первичные организации, чтобы освободить их от «ненадежных элементов». Они проводили недостойные допросы, проверку анкетных данных. Результат — 300 тысяч исключенных. Вместе с теми, кто вышел из рядов партии по собственному почину, партия потеряла около 500 тысяч своих членов, наиболее честных и принципиальных. Это были люди, для которых социалистический идеал был более важен, чем их личная карьера и материальные выгоды. Около 120 тысяч граждан— по большей части высококвалифицированных специалистов —эмигрировали.
В начале 1970 года Дубчек был выведен из состава ЦК и направлен в Турцию послом. Возможно, хотели, чтобы он эмигрировал? В марте 1970 года из партии были исключены Смрковский, Водслонь, Шпачек, Гаек, Цисарж, Млынарж, Шимон и много других бывших членов ЦК. В июне пришел черед Дубчека, и он был тоже исключен.
Все больше реакционеров проникало в партийное руководство и в государственные руководящие органы. Каждое последующее заседание ЦК закрепляло это положение, в результате чего в мае 1970 года состоялся съезд партии, который был избавлен от реформистски мыслящих делегатов. Реакционный партийный аппарат весь механизм «выбора» опять держал в своей твердой руке, и, таким образом, официальный XIV съезд партии проходил полностью под его контролем. Центра339
льный Комитет, за исключением группы старых консерваторов и реакционеров, почти весь был заменен. В Политбюро пришли, во-первых, старые реакционеры, которые просили о военной интервенции, называемой «помощью», или быстро среагировавшие на события и присоединившиеся к ним, такие, как Индра, Гофман, Биляк, Капек; во-вторых, своевременно сориентировавшиеся консерваторы и оппортунисты, такие, как Гусак, Цолотка, Ленарт, Свобода, Штроугал, Кемпны, Корчак, и в качестве кандидатов Грушкович и Гула.
Кадровая замена была проведена полностью, и Гусак твердо взял власть в свои руки — особенно позже, когда после ухода с поста тяжело больного Свободы он получил должность президента государства и соединил ее с должностью Первого секретаря. Москва этими кадровыми изменениями высших партийных органов была удовлетворена.
Уже на предыдущем пленуме, в декабре 1970 года, Центральный Комитет принял документ (который не назовешь иначе, как политической стряпней), озаглавленный «Уроки кризисного развития в партии и обществе после XIII съезда КПЧ». Так называемый анализ развития в 60-е годы, в сущности, анализом не являлся, а был интерпретацией событий в соответствии с предварительно установленными политическими целями реакционеров и советского брежневского руководства. События представлялись таким образом, будто «ревизионисты внутри партии прилагали усилия по ликвидации социализма и отторжению ЧССР от социалистического лагеря». «При этом их поддерживали империалисты, и они объединились с антикоммунистическими силами внутри страны».
На этой предвзятой, абсолютно необоснованной и неубедительной аргументации строились все заключения чисто умозрительным и спекулятивным путем. Все, что так называемые правые и ревизионистские силы предпринимали, служило антисоциалистическим и буржуазным элементам в стране. Все, что преследовали «верные марксизму-ленинизму и Советскому Союзу силы», «служит социализму и интересам рабочего класса». Таким образом действительность была просто перевернута с ног на голову.
Если же говорить правду, то, во-первых, «правые» были той силой внутри партии, которая осознала, что 340
старую, сталинскую форму социализма нельзя удержать и что только радикальная реформа системы может защитить основные идеи социалистического общества; во-вторых, так называемых верных социализму коммунистов можно охарактеризовать как те силы, которые борются только за то, чтобы удержать свою власть и привилегии, сохранению которых угрожали реформаторы. Если исходить из этого, то в борьбе за власть мало что должно было измениться. Силы, которые при помощи военной интервенции победили, ничего не хотели изменять в имеющемся «социализме» и стремились все старые формы, существовавшие при Новотном (за исключением федерализации), восстановить. В «Уроках кризисного развития» речь шла не о правдивом анализе объективных недостатков старой системы, из которой выросло реформационное движение при неблагоприятных, к сожалению, условиях, а только о политической обоснованности насильственного военного переворота и возврата к старой политике, называемого нормализацией. Эти «Уроки» стали неприкасаемой темой и незыблемой идеологической базой современной системы власти в ЧССР. Они до сих пор находятся в принципиальном противоречии по отношению к любым попыткам реформационного развития, обусловленным ростом объективных недостатков системы.
Полная смена кадров, как и идеологически подкрепленная политика реставрации старой системы, вела, безусловно, к последнему сведению счетов с противниками нормализации в 1971—1972 годах. Вопреки заверениям Гусака произошли массовые аресты, судебные процессы, были вынесены приговоры всем тем, кто до последней минуты не отказывался от борьбы против реакции. При этом колеса репрессивной машины прошлись и по тем, кто способствовал избранию Гусака. К длительным срокам заключения до шести с половиной лет были приговорены: М. Гюбл, Й. Литера, Й. Шабата, А. Русек, Й. Стеглик, Й. Тесарж, А. Черны, Р. Баттек, К. Кинцл, Й. Бартошек, П.Ул, В. Шкутина, Й. Мюллер и многие другие. Так осуществилась месть тем людям, которые дольше других стояли на пути реакционных сил. «Пражскую весну» сменила долгая морозная зима.
341
6. РОЖДЕНИЕ «ТРЕТЬЕГО ПУТИ»
После возвращения в Базель я сосредоточился на работе над своей книгой. Я наметил себе, что прежде всего разработаю проблематику, исследованием которой в Чехословакии я по известным причинам не мог заниматься и не надеялся опубликовать по ней материалы. Речь шла об обнажении идеологических корней «социалистической катастрофы». С точки зрения здравого смысла невозможно объяснить негуманное и неэффективное социалистическое развитие только ошибками и промахами политического руководства. Ошибки должны были содержаться в марксистсколенинской теории. Именно их я хотел—прежде всего в области экономической теории — раскрыть.
В конце концов борьба между «защитниками социализма» и реформаторами сосредоточилась на вопросе, должна ли система, которая в своих основных чертах возникла как «социалистическая», быть сохранена такой только потому, что когда-то она «представляла собой единственно мыслимое противопоставление капитализму». Или, возможно, уже в анализе капитализма Марксом имелись ошибки, которые вели к ложным заключениям и с самого начала привили социализму имманентные заболевания. Первую точку зрения защищают догматики, вторая является моей гипотезой. Некоторые консерваторы были готовы признать ошибки Сталина, в то время как Ленина и Маркса считали непогрешимыми и не допускали их критики. Среди реформаторов существовали и существуют люди, которые критически воспринимают отдельные положения Ленина, особенно его понимание демократии, но коснуться Маркса—никогда, ни в коем случае. Они полагают, что с критикой Маркса будут похоронены идеи социализма вообще. Несмотря на существующую разницу, все эти точки зрения являются выражением догматического мышления.
Не должно существовать ни одной «неприкасаемой» теории, что, собственно, и является старым и именно Марксовым научным требованием. Я понимал также и то, что это должно распространяться и на западные теории, которые отрицают критическую оценку основных черт капитализма.
342
А раз должны быть преодолены социалистические догмы, то должны быть обнажены и вырваны их идеологические корни. При этом современная капиталистическая система также должна быть критически исследована, и, таким образом, должен быть дан ответ на вопрос, необходимо ли вообще изменение конкретной системы. То были исходные пункты моих теоретических рассуждений, которые вели меня к критическому анализу обеих существующих экономических систем, а также их теоретической апологетики.
В январе 1970 года после переговоров с представителями базельского кантонального правительства и полиции для иностранцев я попросил предоставить мне политическое убежище. Через некоторое время моя просьба была удовлетворена, и я получил разрешение на дальнейшее пребывание в Базеле. Сразу же после этого я узнал из газет (без официального уведомления), что лишен чехословацкого гражданства. Это была ответная реакция чешского министра внутренних дел на мою просьбу о предоставлении убежища в Швейцарии.
В Базеле я продолжал работать в качестве научного сотрудника Института прикладных экономических исследований. В середине года меня разыскал ректор университета в Санкт-Галлене профессор Франческо Кнешаурек. Он предложил мне профессуру в этом известном вузе. В 1968 и 1969 годах я читал лекции в СанктГаллене, которые получили широкую известность. Студенты также восторженно восприняли известие о моем приглашении.
Визит ректора меня приятно удивил, но одновременно и привел в некоторое замешательство. Моя книга была готова примерно на треть, и мне было ясно, что переход на работу в учебный вуз отдалит завершение книги на годы. Но мне также не хотелось отказываться от работы в швейцарском вузе. Поэтому я спросил о возможности работы на полставки. В то время все мои мысли были поглощены раздумьями ю событиях на родине, и я стремился как можно быстрее закончить работу над задуманной книгой.
К счастью, ректор вуза в Санкт-Галлене с пониманием отнесся к моей просьбе и дал свое согласие. Сразу после этого я был назначен экстраординарным профессором на кафедре народного хозяйства. В течение опре343
деленного времени я не мог оторваться от событий в ЧССР и лживой пропаганды против меня. Когда правители в Праге осознали, что моя популярность в народе больше, чем они могли себе представить, они обрушились на меня с неслыханными клеветническими нападками и бранью. Это был целенаправленный подрыв моей репутации. Я должен был стать «человеком второго сорта» — подобно Троцкому при Сталине,— чтобы каждый боялся даже произнести мое имя.
Наибольшую трудность эти «геббельсовские» пропагандисты испытывали в связи с тем, что еще совсем недавно меня удостоили высших орденов и званий за мою научную работу: наградили орденом Готвальда и избрали академиком. И теперь они хотели людям, которые этого не забыли, внушить, что я «неспособный теоретик, шарлатан, бессовестный предатель, антисоциалист, купленный империалистами и сионистами». Ни один из известных экономистов в ЧССР к этим обвинениям не присоединился, хотя они испытывали огромное давление. В результате все они были исключены из партии и изгнаны из института.
Роль по «комплексному удалению» меня из Института экономики взял на себя уже ранее упоминавшийся Роубал. Кто-то из института под давлением партаппарата должен был это сделать, а Роубал к тому же надеялся критикой Шика создать себе имя в науке. Так, этот человек, который всегда был только аппаратчиком, написал обо мне длинный памфлет, который был напечатан с двумя продолжениями в теоретическом журнале партии «Нова мисл».
Это была довольно рискованная попытка показать, как тот, кто вначале писал «правильные марксистсколенинские работы», вдруг стал «ревизионистом», начал развивать и обнародовал «антисоциалистические теории» и, наконец, превратился в «предателя».
Первые мои работы, которые еще выражали догматические убеждения и были написаны не с научнометодологической точки зрения и которые позднее я сам отверг, Роубал объявил «марксистски верными». Все то, что великий критик считал «правильным», сегодня вызывает у меня смех. Единственное, в чем он был прав, так это в том, что с опубликованием небольшой книжки «Закон планомерного, пропорционального развития», над которой я работал в начале 344
50-х годов, закончился мой догматический период. Сегодня я оценил бы ее как одну из худших моих книг.
Позже, когда я осознал все более увеличивающийся разрыв между практическим, диспропорциональным экономическим развитием и теологическими формулировками о «плановой пропорциональности», я полностью отверг абсолютно пропагандистское положение о «социалистических закономерностях». Я понял, что теория может быть полезна только в том случае, когда она исходит из анализа реального развития, из раскрытия причин повторяющегося поведения людей, которые оказывают «возмущающее» воздействие на общество. На основе такого анализа необходимо искать условия, при которых подобное поведение людей будет служить обществу. Рассуждая так, я подошел к разработке основных положений реформы.
Бесспорным является тот факт, что активная хозяйственная деятельность людей, то есть деятельность, которую ни один государственный орган не может им конкретно предписать, стимулируется различными побуждениями, сильнейшим из которых является прибыль. Это верно до сегодняшнего дня, в том числе и для деятельности социалистических предприятий. Экономическая наука должна объяснить, при каких условиях экономическая заинтересованность предприятий будет побуждать их осуществлять свою хозяйственную деятельность с наибольшей эффективностью.
Правильность моего понимания была подтверждена продолжающимся до сегодняшнего дня ошибочным развитием во всех социалистических странах, где такое понимание игнорируется, а предпринимаемые половинчатые меры не приносят ожидаемого результата.
Бездарный опус Роубала отравил теоретическую атмосферу в ЧССР и способствовал тому, что все идеи, которые не отвечали интересам новой системы власти, были подавлены. Когда мы после войны развивали нашу идеологическую деятельность, еще можно было учитывать нашу детскую революционную наивность и тот факт, что, кроме сталинской теории, мы ничего иного не знали и не имели никакого практического опыта. Несмотря на это, я относительно быстро начал стыдиться своей начальной пропагандистской деятельности и попытался научной работой и политической 345
борьбой это исправить. Но Роубал и ему подобные взялись за старые оценки врагов и идеологическое «сведение счетов» в период, когда весь народ уже хорошо был знаком с неспособной, управляемой дирижерской палочкой плановой экономикой и идеологическими заклинаниями.
1970 год был самым богатым на события. На одном симпозиуме в Цюрихе возникла дискуссия между мной и бывшим федеральным канцлером Германии Людвигом Эрхардом при обсуждении «пражского реформистского движения и его уроков для Запада». Дискуссия развернулась на основе моего доклада, в котором я объяснял наши представления о реформе, включавшей элементы новой социалистической рыночной экономики.
Как и следовало ожидать, Л. Эрхард был полностью согласен с моим критическим анализом дирижистски управляемой плановой системы и одновременно решительно отверг мое представление о соединении плана и рынка. Безусловно, он был одним из идеологов и архитекторов социальной рыночной экономики и противником какого-либо хозяйственного планирования. Он считал планирование несовместимым с рыночным механизмом. Уже тогда, во время дискуссии, его представление об абсолютной противоположности между планом и рынком основывалось на ошибочном понимании плана. Он воспринимал план только как спускаемые сверху директивные задания, то есть так, как он развился в «реальном социализме». Такое планирование, естественно, не может быть связано с рыночным механизмом.
На мое объяснение, что я понимаю план как определение долгосрочных народнохозяйственных задач, которые должны реализовываться при помощи экономико-политических, взаимно координированных инструментов, то есть посредством фискальной, социальной, денежной, кредитной и валютной политики, Эрхард тогда ничего определенного мне не ответил. Собственно, он попытался в своей статье ответить мне примерно через год. Весной 1971 года я издал две брошюры. Несмотря на то что Эрхард имел возможность ознакомиться с их содержанием, в своей критике он извратил мои взгляды. Впрочем, на собственном опыте я убедился, что большинство защитников социальной ры346
ночной экономики сильно ее идеологизируют, видимо, в Федеративной Республике на это есть политические основания.
Так. в дискуссиях против любых социалистических концепций, в том числе и концепции демократического социализма, они быстро отходят от предметной, объективной аргументации. Доводы приверженцев социализма сразу же воспринимаются как аргументы «политического противника», которые необходимо «разгромить». Собственно, методологически здесь нет отличия от идеологов марксизма, для которых «политические цели и программы партии» стоят над всеми научными, реформаторскими аргументами.
Свою критику Эрхард начинал с утверждения, будто моя модель отвечает «идеалам блаженного мира» и что моей целью является демократическое, социалистическое. гуманное и бесконфликтное общество. Ударение было сделано на «бесконфликтность», поскольку далее он выдвигал тезис о том, что в «демократическом обществе с различными интересами должны учитываться глубоко проникающие конфликты интересов».
Ни в критикуемых брошюрках, ни в какой другой работе я никогда не имел в виду «блаженный мир», как и не рассматривал развитие общества без учета различных интересов и возможных конфликтов. Наоборот, мои требования по демократизации «социалистического общества» исходят из положения, что разница интересов в этом обществе существует и что в старой, сталинской системе все интересы, которые идут вразрез с интересами партийной бюрократии и начинают проявлять свое общественное воздействие, просто административно подавляются, а их носители строго наказываются или ликвидируются. Именно поэтому я выдвигал и выдвигаю требование плюралистической демократии в этом обществе и создания правового государства. Должны существовать условия, при которых конфликты интересов могут проявляться и разрешаться согласно демократическим правилам. Введение рыночного механизма, на мой взгляд, обеспечит такое положение, при котором потребности и интересы отдельных людей на действительном рынке смогут (при помощи антимонопольных мероприятий) проявляться вопреки интересам сильных производителей.
Жаль, что Эрхард уже не жил в 80-е годы, он смог 347
бы убедиться, что мой прогноз в приведенной брошюре, то есть примерно 15 лет назад, по проведению реформы в соответствии с моей моделью сегодня становится реальностью. Тогда я не ориентировался ни на капиталистическую, ни на «социалистическую» страну, поскольку видел нарастающие неразрешимые противоречия в этой системе, которые рано или поздно приведут к реформам в направлении развития рыночного механизма и демократизации.
Разница между мной и Эрхардом, вообще всеми неолиберальными экономистами заключается в том, что я рассматриваю иные формы разрешения противоречий интересов в народном хозяйстве, чем неолибералы. Они считают определенные противоречия неразрешимыми. Эрхард еще пережил один из тяжелых кризисов и массовую безработицу 70-х годов (он умер 5 мая 1977 года), но уже не проанализировал их. В отличие от либеральных экономистов я придерживаюсь следующего мнения: поскольку в капиталистическом рыночном хозяйстве отсутствует определение долгосрочных социально-экономических задач и плановая координация всех необходимых экономико-политических инструментов, именно поэтому там всегда могут снова в определенные периоды возникнуть массовая безработица и другие негативные процессы. В моей книге «Экономические системы: сравнение—теория—критика» (Гейдельберг, 1987) я это попытался объяснить.
В июле 1970 года у меня состоялась еще одна дискуссия с известным французским философом и критиком марксизма Раймоном Ароном. Дискуссию организовал журнал «Экспансьон» и опубликовал ее в 32-м номере. Речь шла о следующих основных вопросах: насколько те элементы, которые хочет соединить демократический социализм, способны к такому соединению и ведут ли противоречия внутри каждой из систем к развитию в направлении демократического социализма. Всю продолжительную дискуссию я, естественно, не могу здесь привести, хотя она была опубликована в указанном выше номере журнала «Экспансьон». По моему мнению, в рассуждениях Арона доминировали сомнения о возможном соединении плана и рынка, а также плюралистической демократии и Марксова социализма. Это были те же ошибки, которые делал и Эрхард, хотя разговор с Ароном носил исключитель348
но философский характер. На мой взгляд, он не смог доказать, что эти процессы несовместимы. Однако открытым остался вопрос о том, действительно ли развитие в обеих системах приведет к демократической социалистической рыночной экономике.
Сегодня, через двадцать лет, с необходимостью такого развития в «социалистических» странах я согласен еще более, чем тогда. Без изменения в этом направлении «социалистическая» система не может прожить. Если реформы Горбачева не смогу>успешно реализоваться, то восточный блок ожидает реакционный переворот, который, безусловно, закончится мировой катастрофой.
По моему мнению, гигантский технический прогресс и связанная с ним массовая безработица в западной системе также ведут к демократизации экономики. Однако до тех пор, пока жизненный уровень и свобода людей в условиях зрелого капитализма будут существенно выше, чем в реальном социализме, ключевую проблему массовой безработицы люди будут подавлять в своем сознании и не будут задумываться о реформах системы. Если, однако, массовая безработица будет далее возрастать, то и в этой системе произойдут необходимые принципиальные изменения, которые можно будет характеризовать как реформы системы.
В 1972 году я закончил работу над книгой «Третий путь», в том же году она была опубликована. Еще и сегодня я исправил бы в ней некоторые положения. Уже в то время не многое из экономической теории Маркса я мог отстаивать, что вовсе не означает, что ни одно из его теоретических заключений я не считал верным. Название «Третий путь» я выбрал с единственной целью подчеркнуть свою критическую позицию по отношению к обоим принципиально различным путям развития. Однако в этой книге я сумел только обозначить свое представление о возможной третьей экономической системе, которая должна отличаться как от дирижистской плановой, так и от рыночной капиталистической системы. Уже при завершении этой книги у меня возникло намерение написать продолжение, в котором я смог бы представить собственную модель третьей экономической системы.
В начале нового года я получил неожиданное сообщение от базельского правительственного совета, ко349
торый уведомлял меня, что моя работа в Институте прикладных экономических исследований на новый срок не продлевается. К такой ситуации я был неподготовлен. Несколько лет подряд все предложения всемирно известных университетов и исследовательских институтов я с благодарностью отклонял. Предложение из Санкт-Галлена на место профессора по моему собственному желанию было изменено на полставки, поскольку я постоянно работал в Базеле. Было ясно, что теперь я уже не могу обратиться к институтам, предложения которых я отверг в свое время, и должен искать другие пути.
7. АНГЛИЙСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО
В июле 1973 года я переехал из Базеля в СанктГаллен. С сожалением должен был признать, что в Базеле у меня не было никакого будущего, я был очень огорчен неожиданным окончанием моей исследовательской работы в этом институте. К счастью, в СанктГаллене меня ожидало место профессора на полставки, и я надеялся, что со временем я заключу контракт на полную ставку. Еще раньше у меня была договоренность с Цюрихским университетом читать там лекции два часа еженедельно благодаря прежде всего усилиям профессора Е. Килгуса. Он считал мои идеи реформы социалистической экономической системы настолько интересными, что помог мне организовать чтение лекций в университете.
Для меня это означало сосредоточиться исключительно на преподавательской работе, что изначально было практически несовместимо с моей дальнейшей исследовательской деятельностью. Подготовка лекций занимала чрезвычайно много времени, поскольку я должен был разработать абсолютно новую тематику. В Цюрихском университете вначале наплыв студентов на мои лекции был так велик, что лекции приходилось проводить в актовом зале. В начале 70-х годов там существовали также левые экстремисты, прежде всего троцкисты, относительно широко представленные среди цюрихских студентов, и мои лекции иногда сопровождались горячими дискуссиями. Дискуссии мне были интересны и самому, к тому же они оживляли ход лек350
ций. Троцкистские аргументы против рыночных отношений в защиту социалистического, планового натурального хозяйства я мог без груда опровергнуть. Одновременно это позволяло объяснить, в чем заключаются корни ошибок социалистического развития.
Неожиданно меня посетил визитер из Англии. Профессор Г. Ионеску, известный политолог университета в Манчестере, разыскал меня, чтобы пригласить в этот университет для чтения лекций. Г. Ионеску написал книгу «Будущее коммунизма в Восточной Европе», в которой он в значительной степени использует опыт чехословацкого реформистского движения для своих теоретических обоснований. Меня очень привлекало прочитать в его семинаре некоторые лекции, провести дискуссии и одновременно познакомиться с английским университетом. Кроме того, это был удобный случай для совершенствования моих школьных знаний английского языка.
Мне удалось на зимний семестр 1973/74 года освободиться от работы в Санкт-Галлене и Цюрихе. Итак, я поехал в Манчестер и работал там в октябре, ноябре и декабре. Как и всех приглашенных профессоров, меня разместили в небольшом здании типа замка на краю города, в так называемом Брумкрафт-Холле. Этот дом был передан университету г-жой Симон как наследство с условием, что он будет использоваться для размещения приглашенных профессоров и исследовательских работников университета в Манчестере. Фонд, основанный г-жой Симон, обеспечивал финансирование этого здания. Здание, построенное в старом феодальном стиле, полностью заросшее плющом, находилось посреди типичного английского парка. Из его окон открывался вид на окаймленные большими старыми деревьями широкие поля со стадами овец. Я получил большую квартиру со спальней, кабинетом и небольшой кухней.
В связи с тем, что я страдал желудочными заболеваниями, а ужин для меня подавался слишком поздно (я вообще не привык вечером столько есть, а в полдень очень немного), я решил готовить сам. Когда я написал жене о своей новой кухарской специальности, она от души смеялась, судя по ее письмам. Остальных профессоров в Брумкрафт-Холле постоянно привлекал запах приготовляемой еды, который шел из моей квартиры, 351
что крайне не нравилось управляющему замка. Однако я не прекращал готовить себе еду, поскольку это помогало мне в моем тогдашнем душевном состоянии несколько рассеяться.
В первые недели у меня были значительные трудности с языком. Я злился на себя за то, что мог весьма примитивно излагать свои мысли. Однако это быстро прошло. Уже через месяц я мог довольно свободно говорить, что позволило мне принять предложение читать лекции и в других английских университетах. Почти каждую неделю я где-нибудь читал лекции. Самый живой интерес мои лекции вызвали в Оксфорде, где я говорил о проблемах «пражской весны».
Многие присутствующие профессора и доценты были согласны с моей оценкой целей, а также допущенных ошибок и промахов во время «пражской весны». Восхождение Дубчека и его роль в тех событиях занимали их больше всего. Среди слушателей присутствовало несколько чехословацких студентов. В ходе дискуссии они с горечью и упреком говорили мне о том, что самой большой ошибкой партийного руководства была его нерешительность в отношении вооруженной обороны Чехословакии. Подобное эмоционально окрашенное обвинение я уже достаточно часто слышал. Англичане при этом только скептически качали головами. Мой ответ на этот упрек, видимо, навсегда останется без изменения. Политбюро в той системе было наивысшей политической инстанцией, консерваторы и центристы имели в нем подавляющий перевес. Действительных реформаторов с апреля 1968 года в этом органе было, собственно, только двое. Ни Дубчек, ни остальные не принимали в расчет военную интервенцию и поэтому не думали о вооруженной обороне.
Кроме Дубчека, обладавшего колоссальной популярностью, никто не мог призвать народ к обороне. Об этом можно судить, исходя из участи Прхлика, хотя его действия были весьма осторожны.
После оккупации призыв к вооруженному народному восстанию, с какой бы стороны он ни исходил, был равнозначен призыву к абсолютно безнадежному кровавому самоубийству. Мы находились почти в полном военном окружении и не могли рассчитывать на помощь какой-либо западной державы. Поэтому такая борьба в тот период не имела никаких шансов на побе-
352
ду. Ни один реформатор, включая меня, не мог решиться на такой шаг.
Английские слушатели в дискуссии это признали и вели критику наших студентов. Тем не менее об этом было полезно поговорить, поскольку почти везде, где я говорил о чехословацких проблемах, критика такого рода повторялась, причем не только со стороны чехословацких граждан. Как легко осуждать, когда можно отмахнуться от реальности и не нести ответственности за реализацию решений!
В Оксфорде я встретил своего польского друга Влодзимежа Бруса, который преподавал в этом университете. Мы познакомились несколько лет назад в Варшаве и были тесно связаны многими совместными идеями и политическими надеждами на осуществление реформы.
В дни «пражской весны» мы хотели пригласить его в Прагу, чтобы предоставить ему возможность заниматься преподавательской и исследовательской деятельностью. Брус принадлежит к числу известных польских экономистов, которые изучали проблемы реформирования социалистической системы. Его мысли о реформе возникли раньше, чем наши в ЧССР, и по многим направлениям опередили наши представления. Однако наши идеи были более комплексными и выходили за рамки предложений Бруса.
После студенческих беспорядков в Польше, происходивших весной 1968 года, и после антисемитских выпадов, косвенно спровоцированных руководством Гомулки, Брус, как и многие еврейские профессора, был исключен из Варшавского университета. Как только мы (пражские экономисты-реформаторы) узнали об этом, мы решили выразить общественный протест против отвратительного и недостойного преследования ученых в Польше, пригласив Бруса в Прагу. Мы послали Брусу письмо с вопросом, принимает ли он наше предложение. Но к этому времени он уже эмигрировал, а через некоторое время и я последовал его примеру. Наша встреча в Оксфорде была встречей двух бывших марксистских экономистов, которым пришлось пройти сходный путь развития. Влодзимеж показался мне немного хмурым и даже каким-то отрешенным.
В Манчестере я долго не мог найти людей, близких мне по духу, и завязать более тесные контакты. А по353
скольку Лилка из-за сына и обустройства новой квартиры осталась в Санкт-Галлене, я чувствовал себя очень одиноко. Экономисты в университете были разделены, собственно, на две враждующие группы. На одной стороне были очень сильно математически ориентированные и в основном обучавшиеся в США экономисты, на другой—левые экстремисты, потроцкистски мыслящие ученые. Первые почти полностью— за единственным исключением — меня игнорировали. Мои идеи им были абсолютно чужды, и экономической наукой они считали свою неоклассическую модель.
Вторая группа меня приглашала на некоторые дискуссии, но даже она не стремилась отойти от своего образа мышления и отметала мои аргументы в защиту социалистической рыночной экономики как немарксистские. Причины всех недостатков социалистической экономической системы они видели прежде всего в «сталинской бюрократии». Они не попытались даже хоть как-то понять и объяснить сущность всеобщей бюрократизации, которая была связана прежде всего с директивным планированием. Наши дискуссии часто бывали довольно острыми и шумными. При подобных обстоятельствах дружеские отношения не возникали. Англичане умеют своего идеологического противника саркастически и высокомерно подавить.
С некоторыми политологами и историками, с которыми я чаще встречался, я пришел к большему пониманию. Кроме Г. Ионеску, у которого я нередко бывал дома, это были Майк Эванс и прежде всего его жена Энн, с которыми в конце своего пребывания я подружился. Энн сопровождала меня на некоторые лекции и прониклась идеей «третьего пути». Она училась в политехническом институте в Манчестере, интересовалась решением тяжелых социальных проблем в Англии и быстро поняла достаточно сложные и скрытые социально-экономические взаимосвязи. В последующие месяцы я встречался главным образом с Эвансами в их небольшом домике. Жаль, что я не познакомился с ними раньше, я не чувствовал бы себя так одиноко в первые месяцы.
Вероятно, в своих первоначальных сложностях по налаживанию контактов с людьми я был виноват сам. Мне не удалось быстро пережить обиду, нанесенную 354
мне в Базеле, поэтому я замкнулся в себе и был по отношению к другим критичным и все отрицающим. Мой общеизвестный оптимизм перешел в скепсис, который тяжело переносил английский сарказм. Постепенно благодаря нескольким интересным поездкам ко мне вернулся вкус к жизни.
Для меня были важны некоторые поездки, прежде всего на юг Англии, где меня ожидали лекции на английском предприятии «Скотт—Бадер», создание и организация которого полностью отвечали моей модели.
Я получил от фирмы «Скотт—Бадер» приглашение прочитать лекции и познакомиться с детищем Бадера. Предприятие размещалось в Волластон-Веллингбороу в Норсамптоншире.
«Скотт—Бадер» — это химическое предприятие с примерно 400 занятыми. Его основателем является Эрнст Бадер, который, руководствуясь христианской моралью, решил весь свой производительный капитал преобразовать в «несобственность», как это он сам назвал. На деле речь шла о неделимом, нейтральном капитале, судьбу которого может решать только весь коллектив предприятия.
Было бы очень интересно описать весь состав и организацию предприятия. В сущности, она была сходной с образцом организации общества работников, который я описал в своей книге «Гуманная экономическая демократия». При обобщении я был под сильным влиянием организации предприятия в фирме «Скотт— Бадер». На протяжении нескольких лет я вел обширную переписку как с шефом Эрнстом Бадером, так и с его сыном Годриком. Позднее, после смерти Эрнста Бадера, завязанные контакты постепенно угасли.
Теперь, во время моего посещения, в зале предприятия собралось много людей, которые выслушали мой доклад о гуманной экономической демократии с большим интересом и одобрением. Э. Бадер очень активно распространял свою идею «всеобщего благосостояния». Определенный процент прибыли фирмы, согласно действующему постановлению, использовался для распространения и популяризации этих идей.
Хотя предприятие действовало весьма успешно, намерения Э. Бадера вызывали, скорее, усмешки и не встречали большой поддержки. Вероятно, такое развитие осуществится на Западе в далеком будущем, хотя 355
и сегодня на основе подобных принципов работает целый ряд весьма современных предприятий, например американское «Сквей валлей». С середины 70-х годов и до сегодняшнего дня в США количество таких предприятий увеличилось с 1600 до 8100, а число работников, участвующих в распределении капитала,— с 250 тысяч до более чем 8 миллионов.
После поездки на юг Англии я из Манчестера выехал на север, вначале в университет в Ланкастере, где я когда-то получил степень почетного доктора. Это была моя первая поездка туда с того времени. В университете работали двое моих земляков.
Один из них, Ярослав Крейчи, специалист в области статистики и политэкономии, до объединения коммунистической и социал-демократической партий в Чехословакии был функционером социал-демократии. Будучи тогда не согласен с объединением и встав на путь протеста против ликвидации своей партии, он несколько лет провел за решеткой. Крейчи принимал участие в моей встрече с социал-демократами, которые были инициаторами возрождения социал-демократической партии во время «пражской весны». Некоторые аналитические и сравнительные исследования, написанные Крейчи уже в эмиграции в Ланкастере, меня очень заинтересовали. В своей книге «Третий путь» я использовал некоторые цитаты из его работ.
Второй землячкой была моя старая знакомая Дана Кнёуркова. Еще в Высшей политшколе она была моей студенткой, а затем занималась народнохозяйственной теорией. Я взял ее тогда на кафедру народного хозяйства и верил в ее обнадеживающие теоретические способности. Но когда я перешел в Экономический институт ЧСАН, я потерял ее из виду. Я считал Дану не только очень способной, но и очень интересной женщиной и втайне ее обожествлял. Я думаю, что это сэр С. Пэрро помог ей найти место в эмиграции в Ланкастерском университете. Однако она уже не смогла догнать западные экономические теории и поэтому преподавала в университете чешский язык.
Для доцентов экономического факультета и факультета общественных наук в университете я прочел лекции о «третьем пути», что вызывало острые споры. Выступления в дискуссии были «за» и «против», и это делало их чрезвычайно интересными. Небольшую группу 356
вечером на дружеской вечеринке больше всего развлекал сэр С. Пэрро, который был известным дипломатом и обожал Прагу. Дана казалась мне тогда немного уставшей и грустной. Только много позже я узнал, что это были первые признаки рака, от которого она через несколько лет умерла.
Из Ланкастера я поехал еще в Глазго, куда меня пригласил мой старый знакомый профессор Алек Ноув, маститый экономист, выходец из России. Его институт, изучавший проблемы восточной экономики при Университете в Глазго, стал всемирно известным благодаря прежде всего многим книгам Ноува. Развернулась оживленная дискуссия о чехословацких идеях реформы. Вечером его дом выглядел как муравейник. Одни приходили, другие уходили, по всем углам сидели дискутирующие, и повсюду была слышна русская речь. Я смог убедиться, что мои знания русского языка все еще хорошие, хотя я и говорил с большим трудом. Иностранным языком необходимо постоянно пользоваться, в противном случае он очень быстро забывается, но абсолютно — никогда.
В Глазго работал также Владимир Кусин, которого я хорошо знал по Праге. Как чешские эмигранты разбросаны по миру! Владимир уделил мне много времени: мы вместе осмотрели красоты Шотландии, посетили Эдинбург и постоянно беседовали. Владимир работал над интересной книгой об интеллектуальном фоне «пражской весны», которая впоследствии получила большое признание.
Позднее я еще дважды читал лекции о своей модели «третьего пути» в университете в Кэмбридже. Здесь работала известный экономист Джоан Робинсон, инициатор моего визита туда. Она считала, что мое представление о модели нельзя реализовать, поскольку, как ей казалось, я идеализирую людей. Я до сих пор предполагаю, что она не до конца поняла мои представления об интересах работников, чье поведение обусловлено участием в капитале предприятия. В одной дискуссии я попытался объяснить ей это, но, видимо, без успеха. Несмотря на это, беседа с ней была одной из самых интересных во время моего пребывания в Англии. А вот беседа с сэром Н. Кальдором совершенно не вдохновила меня. Он пригласил меня к себе домой, но интересного разговора не получилось: он ничего не читал 357
о моих теориях и даже не присутствовал на моей лекции, поэтому о профессиональных вещах мы вообще не говорили. По моему мнению, он был способным, но слишком нацеленным на самого себя экономистом, который не очень интересовался мнением других.
Все эти поездки и встречи вывели меня из моего первоначального грустного настроения. Тем самым пребывание в Англии стало временем, о котором я с удовольствием вспоминаю.
Но окончательно мой оптимизм возродился после получения письма от ректора университета в СанктГаллене. Еще до отъезда в Англию я получил приглашение от экономического факультета университета в Бохуме занять вакансию ординарного профессора по социальной экономике. В письме намекали, что у меня имеются большие шансы получить это место. Это предложение меня очень заинтересовало, и я написал заявление. Но лучше мне было бы остаться в СанктГаллене. Поэтому я написал еще из Манчестера в ректорат о возможности оставить меня на полную ставку. Я упомянул о предложении, полученном из Бохума, и о своем желании работать в Санкт-Галлене. Довольно быстро пришел ответ от ректора Г. Зигварта, в котором сообщалось, что сенат вынес решение о предоставлении мне места профессора на полную ставку с начала следующего семестра.
Это была лучшая новость накануне рождества 1973 года. Лилка решила приехать ко мне на несколько дней, и ее настроение улучшилось. На следующий день мы простились с семейством И. Ионеску и отправились в путь к Дувру. Перебравшись через Ла-Манш, мы приплыли в Кале и оттуда поехали на машине. Через два дня мы добрались до нашего нового дома в СанктГаллене.
8. ШВЕЙЦАРСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
В Санкт-Галлене я наконец обрел свою вторую родину. С зимнего семестра 1974/75 года я уже работал на полной ставке. В сентябре 1974 года по предложению сената и с согласия правительственного совета кантона Санкт-Галлен я был избран профессором по экономическим системам, главным образом по плановой эко358
номике. На основе договоренности между СанктГалленским и Цюрихским университетами, благодаря прежде всего усилиям моего коллеги, а позднее друга Адольфа Эхра мои обязанности были разделены между двумя университетами. Моя работа в Цюрихе окончательно получила долгосрочный характер. В Цюрихе я работал на треть ставки, а в Санкт-Галлене — на две трети. Поэтому каждую неделю я езжу в Цюрих на работу.
Первые годы я еще преподавал два часа в неделю в Цюрихе по предложению профессора Бруно Фритше, земляка, который проживал в Швейцарии еще с 1948 года. Это поддержало меня в финансовом отношении и дало возможность купить собственную квартиру в Санкт-Галлене, но одновременно добавило и нагрузку на мою преподавательскую деятельность. Через несколько лет мне пришлось отказаться от этой лекторской работы, поскольку она очень утомляла меня. В Швейцарии я часто встречался с людьми, которые не могли себе представить, сколько труда должен вложить доцент в подготовку каждого лекционного часа. Они учитывали только учебные часы. Однако для каждого профессора, который хочет остаться на уровне научного развития, совершенно ясно, что для подготовки одного часа лекций требуется 10—12 часов. Кроме того, он должен заниматься самостоятельной научной деятельностью и публиковать свои труды. Если, например, взять 250 учебных часов нагрузки в год, то для их подготовки потребуется 2500—3000 часов. Если необходимо разработать абсолютно новую лекцию, то надо приложить намного больше усилий, что означает дополнительную работу до глубокой ночи.
В 1974—1975 годах, как я уже упоминал, мне удалось опубликовать две книги. Одна из них, «Аргументы в пользу третьего пути», была отмечена премией. В начале июня 1974 года я получил телеграмму, в которой говорилось, что город Оснабрюк присвоил мне «немецкую премию за профессиональную книгу». Мне было очень приятно узнать об этом. Книга была написана популярно и имела относительно большой резонанс. Первое издание, 10 тысяч экземпляров, было очень быстро распродано.
В июне 1973 года я познакомился с группой людей, которые приехали в Ахберг близ Линдау, ФРГ, в Ме359
ждународный культурный центр. Там собрались люди разных направлений: из числа антропософического толка мыслителей, бывших студенческих групп, которые поддерживали идеи «пражской весны» 1968 года, из беспокойной молодежи социал-демократических кругов и т. п. Они интересовались главным образом социальным развитием вне рамок коммунизма и капитализма, то есть «третьим путем». Они здесь объединились и организовали социально-экономические, политические и философские лекции, семинары для разных слоев населения, а также создали различные художественные, художественно-ремесленные и воспитательные кружки и секции. Они поставили перед собой цель создать «Свободный институт по социальным исследованиям и науке о развитии». Среди инициаторов, с которыми я близко познакомился и подружился, были Вильфрид Хайд и супруги Ганс и Ютта Лауэр. Примерно в течение двух лет я очень часто ездил в Ахберг, читал там лекции, вел семинары и принимал участие в бесчисленных дискуссиях.
Атмосфера, которая царила в Ахберге, вначале меня полностью захватила: она давала сильное чувство родства с этими людьми. Все, чего мне не хватало до сих пор — человечности и чувства общности,— все это я нашел именно здесь. Я долго верил планируемому «Свободному институту», в котором смог бы работать. Но вскоре выяснилось, что речь шла скорее о планах, чем о реальных возможностях. Прежде всего отсутствовали условия для всесторонней и глубокой научной работы, которые, впрочем, не могли быть созданы и в обозримом будущем. Я был уже немолодым, чтобы на длительное время все оставить и сосредоточиться на создании этого института. Я должен был как можно быстрее найти место, которое обеспечило бы мне и Лилке последние годы жизни. Скоро обнаружилось, что моя деятельность профессора в Санкт-Галлене и преподавание в Ахберге ни по времени, ни по условиям работы несовместимы. Поэтому к концу 1974 года я решил уехать из Ахберга, хотя позднее мне очень не хватало приветливости тех, кто работал там, и человечной атмосферы, царившей в Ахберге.
То, что наш сын Иржи в ЧССР должен был из-за меня страдать, сильно беспокоило нас. Ему удалось закончить ФАМУ, стать сценаристом и драматургом, но 360
он не мог работать по специальности. Ему запретили работать в кинопроизводстве, в театре или где-либо еще, хотя сам он никогда не был политически активным. Но его считали «подозрительным» и «ненадежным». И это преследование родственников до не знаю какого колена осуществлялось в системе, носители которой когда-то критиковали и осуждали фашизм! Ирка хотел остаться на родине и добровольно возвратился. Несмотря на это, его наказали и не давали возможности заниматься творческой работой. Двенадцать лет мы не виделись — он не мог нас навестить. Его письма просматривались, и мы не могли узнать о том, что нас больше всего интересовало и беспокоило.
Все эти годы, что его преследовали в ЧССР, мы не были счастливы, поскольку постоянно думали о нем. Возможно, моим коллегам это казалось несколько утомительным, что каждый разговор с ними я заканчивал рассказом о Чехословакии и о своем сыне. Но это судьба всех эмигрантов, которые в пожилом возрасте вынуждены уехать из своей страны и, кроме того, оставить на родине своих близких. Молодые люди приживаются быстрее; это я мог наблюдать на примере своего младшего сына Мирослава.
Наконец в 1980 году Иржи смог выехать из ЧССР. Помощь ему в этом оказало правительство ФРГ, и поэтому он эмигрировал туда. После первых тяжелых лет он наконец осел в Западном Берлине, где работает в киноакадемии в качестве доцента по драматургии. У него было богатое авторское прошлое в ЧССР, где он, правда, был вынужден публиковаться под чужим именем. Сейчас он пишет наряду с прочим пьесы для театра и радио. В 1988 году одна из его радиопьес была отмечена премией.
В 1983 году мы с Лилкой стали швейцарскими гражданами в кантоне Санкт-Галлен. Нашими поручителями были два моих добрых друга: профессор Адольф Эхр и профессор Алоис Риклин. Адольф Эхр и его жена Мартита оказались сердечными людьми: они вошли в наше положение и всегда были рады нам помочь. Несмотря на имевшуюся разницу во взглядах и мировоззрении, мы очень сблизились.
Это было очень приятное чувство — снова к чему-то относиться и не чувствовать себя иностранцем. Но интеграция оказалась нелегкой. Меня огорчает, что нам 361
не удалось активно овладеть швейцарским диалектом “schwyzerdййtsch,’. Правда, в институте я обходился и без него, поскольку обучение шло на немецком языке. Используемый же в обиходе диалект мы понимали, но не могли говорить. Поэтому для пожилых людей очень сложно начинать новую жизнь в другой стране.
В Санкт-Галлене самым главным для меня было то, что своей научной работой и преподавательской деятельностью в институте я получил необходимое признание. Мне была дана возможность создать свою дисциплину «системное сравнение» так, как я это считал нужным. Я мог преподавать и писать все, что хотел,—свобода профессора здесь—это такое ощущение, которое человек может оценить, только вкусив «свободы» при социализме. Я разделил свои лекции на три части:
1) критический анализ марксистской экономической теории;
2) социалистическая экономическая система;
3) «третий путь» и иные реформные альтернативы.
О всех своих идеях и теориях я также рассказывал в книгах и публикациях. Почти все мои книги были переведены на многие языки мира. В ЧССР моя активная научная деятельность замалчивалась, более того, путем осуждения моих взглядов и очернения моей деятельности хотели убедить людей в том, что на Западе я потерпел фиаско. Даже бывшие друзья не имели понятия о моей научной работе.
В самой важной книге «Гуманная экономическая демократия» я рассказываю о предпосылках, содержании и целях экономической системы, которая сможет преодолеть недостатки, присущие обеим существующим сегодня экономическим системам.
Здесь я, в сущности, осветил три фундаментальных вопроса новой экономической системы: во-первых, рынок и его незаменимость, а также его специфические черты в новой системе; во-вторых, существование общности работников и нейтрализованного капитала; в-третьих, так называемое дистрибутивное планирование, которое не должно допускать серьезных нарушений равновесия на макроуровне.
Поддержка шведского Арбетсливцентра, предложенная мне для завершения моей работы над книгой,— инициатором такой поддержки был шведский эконо362
мист Рудольф Мейдпер пришла вовремя. В институте я получил свободный семестр без оплаты, а шведский институт возместил мне потерю заработной платы, с тем чтобы у меня была возможность закончить книгу. Шведы, прежде всего шведские профсоюзы и социал-демократическая партия, интересовались моделями реформы, с помощью которых они могли бы преодолеть определенные капиталистические противоречия и концентрацию власти при обеспечении преимуществ рыночной экономики. Р. Мейднер, который знал мои основные идеи, сделал все, чтобы я написал свою книгу как можно быстрее.
К сожалению, оказалось, что развитие в Швеции под влиянием профсоюзов шло иными путями, чем те, которые я описывал в своей книге. Я рассматривал такие изменения, в результате осуществления которых трудящиеся на основе прямого участия в капитале и прибылях были бы непосредственно заинтересованы в повышении эффективности и развитии инвестиций своих предприятий. Шведские профсоюзы и социалдемократическая партия интересовались такими мероприятиями, которые позволили бы им подорвать крупную мощь капитала частных капиталистов и с помощью которых профсоюзы посредством определенных отчислений от прибыли и перераспределения инвестиций получили бы возможность оказывать более сильное влияние на размещение капитала в интересах трудящихся.
Во время дискуссий, вызванных моей книгой, в Швеции я пытался объяснить свою точку зрения, что посредством перераспределения прибыли сверху заинтересованность трудящихся в максимальном росте заработной платы сохранится, поскольку развитие капитала и инвестиций для них и в дальнейшем будет процессом отчуждения. Шведы верили, что созданием новых инвестиционных фондов, которые будут образованы органами, находящимися под сильным влиянием профсоюзов, они сумеют вызвать еще большую заинтересованность трудящихся в осуществлении инвестиций и тем самым снизят требования к росту заработной платы. Мои возражения против таких утверждений сводились к следующему: заново организованные фонды и решения по инвестициям будут и в дальнейшем далеки от трудящихся и инвестиционная деятельность 363
не будет напрямую связана с материальным интересом. Поэтому и в дальнейшем заинтересованность трудящихся в заработной плате останется самым сильным и решающим интересом. Это, безусловно, снова войдет в противоречие с ростом прибыли и инвестиций.
Будущее покажет, пойдет ли реальное развитие по тому пути, который я на основе своего анализа существующих экономических проблем и умозрительного поиска какого-либо решения считал необходимым. К сожалению, экономисты не могут создать небольшое народное хозяйство, на котором они смогли бы проверить правильность своих теоретических построений. Только когда в какой-либо системе появятся настолько серьезные проблемы, что возникнет сильная неудовлетворенность большого числа людей и она превратится в политическую проблему, политики смогут принимать решения по осуществлению основных изменений, а это будет равнозначно проведению крупных экспериментов.
Чехословакия имела однажды возможность реализовать то, что большая группа наиболее способных экономистов в течение длительной подготовки сумела комплексно и глубоко разработать до мельчайших подробностей. Грубая власть этот уникальный случай уничтожила. История, однако, показала, что «социалистическая» система без таких изменений экономически не стронется с места.
То, как недостаточно продумано и как тормозится догматическими представлениями о социализме большинство попыток реформ, покажет только будущее развитие. Игнорирование значения рыночного механизма, рыночных цен, конкуренции, рыночных критериев размещения инвестиций, предпринимательской деятельности, устранения дотаций, возможности ликвидировать нерентабельные предприятия и т.д. — все это ведет к непоследовательному осуществлению реформы в ЧССР. Тем самым сильно ослабляется наша конкурентоспособность на зарубежных рынках. И до тех пор, пока социалистическое производство будет отставать от уровня мирового развития, социализм не преодолеет своих проблем и не сможет стать привлекательным для народа.
Возможность повлиять на развитие социалистических реформ своими знаниями и опытом представилась 364
мне в 1981 году. Я получил приглашение от Академии общественных наук Китая приехать на месячный срок. Мне предстояло выступить перед собранием экономистов и рассказать о развитии реформы в ЧССР в 60-е годы и о своих представлениях о «третьем пути». Это было удивительное для меня приглашение, которое позволило мне опять посетить социалистическую страну.
Встреча в Пекине с заместителем председателя Академии общественных наук Ю. Гуангуаном была великолепной. Во время нашего пребывания были выполнены все наши желания, но для меня оно оказалось очень напряженным: я ежедневно читал лекции, участвовал в дискуссиях и проводил консультации. Мне было приятно видеть, что настроение среди слушателей похоже на то, которое я уже наблюдал среди экономистов во время «пражской весны». Ведущие экономисты как из научных кругов, так и из важнейших экономикополитических институтов, и прежде всего из экономической комиссии по реформе, с интересом слушали мои лекции.
Кроме Пекина, я посетил в Китае и другие города. В Шанхае мои лекции также вызвали большой интерес. У меня сложилось впечатление, что переход к социалистической рыночной экономике, как я ее понимал, китайцы считали единственным выходом из крупных экономических проблем, которые вызвала старая централистская, административная система. Экономисты сами говорили о том, что советская плановая система завела в тупик.
Присутствовавшие экономисты, а также руководители различных экономических институтов и Академии общественных наук высказали пожелание, чтобы я приезжал в Китай почаще. Но я очень сомневался, что смогу оказать большую помощь китайской реформе, поскольку это потребовало бы от меня глубже заняться китайской проблематикой, изучить китайские материалы и искать нестандартные пути к ее решению. По временным соображениям я не мог этого осилить. И языковая проблема стояла очень остро. Свое представление о повсеместно действующих экономических взаимозависимостях и реформистских требованиях я выразил в лекции, которую китайские товарищи записали на магнитофон. Они также перевели и издали почти все мои книги.
365
В Китае я еще раз убедился в том, что наиболее важная проблема заключается не в экономической области (в том смысле, что реформаторы не знают, с чего начать осуществление реформы). На первый план выдвигается политическая проблема, решение которой осложняется тем, что большая часть старой системы власти является консервативной и боится последовательных реформ в направлении рыночной социалистической экономики. При этом консерваторы прятались, как и везде, за миф об угрозе социализму.
9. МЫСЛИ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В своей последней книге, «Экономические системы: сравнение—теория—критика», я попытался дать ответ на вопрос, чем социалистическая экономика—и при абсолютно последовательном внедрении рыночного механизма—должна отличаться от капиталистической экономики. Этот вопрос сегодня занимает всех реформистски мыслящих политиков в «социалистических» странах. Ни в коем случае желание сохранить социализм не должно было вести к меньшей демократии по сравнению с той, которая существует в капиталистических странах. В системе однопартийности в политике принимать решения о руководящих кадрах всегда будет ограниченный бюрократический аппарат, конкуренции которому нет. В таких условиях лучшие и способнейшие люди не могут занять руководящие должности, что необходимо для успешного экономического и общественного развития. Все реформаторы до сих пор увязали на мертвой точке не из-за неразрешимости экономических проблем, а из-за ограниченных политических интересов.
Всю свою деятельность на моей новой родине я посвящал теории, поскольку для политической деятельности в Швейцарии у меня не было необходимых предпосылок. Политик должен знать народ с детства, его эмоциональное движение, должен быть с ним исторически связан. Все это в Швейцарии для меня было неосуществимо. Но я был бесконечно рад, что теперь сосредоточенно, как когда-то раньше, мог отдаться науке. В этом состояла моя сила.
С 1980 года свое свободное время я все чаще посвя366
щаю своему старому увлечению рисованию. Это стало теперь моим хобби, которое помогает снять напряжение и успокаивает иначе, чем занятия научной работой. Действительно, «старая любовь не ржавеет». Мое давнее увлечение становится единственной привязанностью. Когда вечером я уже не могу ни писать, ни читать, не могу слышать ни о каких дискуссиях, смотреть телевизор, когда я устал и для прогулки, то рисование становится для меня истинным наслаждением. Но, несмотря на это, оно всегда остается на втором плане. Настоящее удовлетворение, которое мне приносит решение, и особенно успешное решение, экономических проблем, не может быть — во всяком случае, до сих пор—заменено ничем иным. Вероятно, не случайно, что свою жизнь я посвятил науке, а не искусству — как вначале задумывал.
В промышленно развитых капиталистических странах не просматривается никаких непосредственных перспектив изменений системы, хотя здесь имеются немалые проблемы. До тех пор пока людям живется там лучше, чем в социалистических странах, они не будут думать ни о каком изменении системы. Они боятся, что изменения могут привести к такой ситуации, которая существует в социалистических странах. В связи с тем, что и в тех странах, которые провели реформы, как, например, в Югославии и Венгрии, отношения развились неудовлетворительно, население западных стран пока отметает любую реформу, которая ведет к укреплению позиций консервативных политиков.
Поэтому свою научную работу по разработке модели «третьего пути» я понимаю прежде всего как теоретический вклад в непосредственно грядущие реформы в «социалистических» странах. Важным я считаю разницу между моей моделью и югославской моделью самоуправления, что, к сожалению, многие западные экономисты игнорируют.
Кроме того, я вижу роль экономической науки в том, чтобы находить решение нарастающих проблем с временным опережением, то есть в период, когда их решение политически еще не созрело. Экономическая наука поэтому и является такой наукой, которая призвана раньше, чем это смогут сделать профессионально не подготовленные слои населения, выявить, к каким крупным, если не катастрофическим, затруднениям не367
избежно ведут определенные усиливающиеся противоречия развития. Выявить раньте, чем к такому заключению придут политики. Однако, как только негативное экономическое развитие становится политическим вопросом, наука должна суметь дать разработанные предложения по преодолению этих трудностей. В этом смысле я не считаю свою научную работу оторванной от практики, хотя ее выводы с учетом западного политического развития пока не кажутся жизненными.
Теперь, когда на склоне лет я оглядываюсь на свою жизнь и спрашиваю себя: «Что, собственно, я сделал: открыл что-то новое, существует что-то специальное, чем бы я способствовал развитию экономической науки?»— могу со спокойной совестью ответить на этот вопрос. И самыми плодотворными были годы, проведенные в Санкт-Галлене.
В истории экономической мысли очень редко можно назвать какую-либо теорию абсолютно новой. Всегда существуют определенная взаимозависимость и связь с прошлым, которая в конкретной ситуации не всегда учитывается и потому их значение не выступает на первое место. Только когда такие проблемы обозначаются более явственно, просматриваются их политические последствия,— только тогда работы, которые предлагают решения этих проблем, воспринимаются как новые.
В народном хозяйстве, безусловно, необходимо различать теорию, которая пытается обосновать спонтанно развивающееся хозяйство, не стремясь что-либо в нем менять, и нормативную теорию, которая пытается на основе анализа раскрыть негативные процессы и предложить проекты по их преодолению. Исследование, которое не останавливается на диагнозе, а разрабатывает также и конкретные предложения, в области народного хозяйства в большинстве случаев может способствовать преодолению негативных экономических процессов только на основе политических изменений, возможно, государственных и правовых. К сожалению, результаты развития такой теории чаще всего используются, если вообще используются, политическими силами с большим опозданием, то есть тогда, когда негативные процессы уже становятся политическим фактом и требуют фундаментального решения.
То, что советские экономисты до сих пор не ссы368
лаются на мои теории, и тот факт, что многое из того, что сегодня они сами пишут, можно найти в моих статьях и книгах, опубликованных еще до «пражской весны», являются, безусловно, пережитком старого политического разделения на «дружеские» и «враждебные» мнения. Уже давно наступило время, для того чтобы советские ученые, опережая политиков, начали серьезно анализировать и оценивать все то, что писали и предлагали чехословацкие экономисты до «пражской весны», в ходе ее осуществления и после нее.
Сегодня в Чехословакии нельзя говорить о реформе в полном смысле слова, хотя перестройка Горбачева как раз и является такой реформой. К Чехословакии, скорее, применим термин «реконструкция», что не вызывает ностальгии по «пражской весне». Она не может достичь—под руководством М.Якеша—тех целей, которые от нее ожидаются. Больше всего руководство боится признаться перед собственным населением, что предпринимаемые в ходе осуществления реформы меры, с помощью которых в 1968 году намеревались устранить такие же недостатки, о которых идет речь и сегодня, в принципе были правильными. Поэтому они судорожно пытаются провести водораздел между «тогда» и «сегодня». Например, никто, при современных «перестроечных устремлениях», не смеет даже упомянуть о необходимости «рыночного механизма», поскольку в свое время он был заклеймен как «шиковская ревизия капитализма».
Этим объясняется и односторонний характер общего проекта перестройки, который не способен устранить те запреты, которые возведены директивной системой и которые являются тормозом на пути эффективного, технически прогрессивного и отвечающего современным потребностям производственного развития.
Только действительное рыночное давление, то есть внутренняя и внешняя рыночная конкуренция, будет принуждать предприятия производить продукцию в соответствии с развитием спроса, работать высокоэффективно и внедрять инновации. Одновременно должны быть устранены дотации для предприятий, с помощью которых всегда происходит перераспределение доходов от высокопроизводительных к нерентабельным предприятиям. До тех пор пока предприятия будут 369
знать, что государство не даст им обанкротиться и все их потери будут возмещены через дотации,—до тех пор они не будут заботиться о высокоэффективном производстве. И при социализме должна существовать возможность конкурса среди тех предприятий, которые после нескольких попыток по восстановлению рентабельности не выбрались из этой ситуации.
Имеющиеся проекты по перестройке экономического механизма являются половинчатыми, поскольку, стимулируя более высокую производительность и инвестиционную самостоятельность, а также материальный интерес производителей, они не усиливают в должной мере позиции потребителей в борьбе против монопольного предложения. Это означает, что производители и в дальнейшем будут иметь преимущества перед покупателями и могут игнорировать их потребности.
Введение выборов советов и директоров на предприятиях тоже принесет выгоду всему обществу только в настоящих рыночных условиях. Только в том случае, когда будет существовать действительно рыночное давление на предприятия, трудящиеся будут избирать директорами наиболее способных и энергичных людей. Но если предприятия не испытывают давления конкуренции, трудящиеся будут вести себя оппортунистически и выбирать на руководящие должности «мягких», популярных, но никак не требовательных людей. Коллективы предприятий должны осознать, что только лучшие менеджеры могут обеспечить получение высоких доходов, в то время как «популярные» в условиях сильной конкуренции на внутреннем и внешних рынках приведут лишь к потерям или даже к ликвидации предприятия.
Но Якешы, Фойтики и все сегодняшние «крупные идеологи» в ЧССР не могут признать правильность последовательного введения рынка при социализме. Они хотели бы, чтобы хозяйство было более эффективным, но, во-первых, они не разбираются в экономике и поэтому вообще не могут заметить непоследовательность предпринимаемых шагов, а во-вторых, они очень хорошо знают, что свое положение они построили на осуждении рыночной реформы и, признав ее сегодня, они лишились бы власти. Лучше смириться с непосле370
довательностью «экономической перестройки», чем признаться в роковой «фальшивой игре» в прошлом.
Однако у них не будет возможности долго продолжать свою фальшивую игру. Уже сегодня они вынуждены на актуальные вопросы мыслящих людей, имеющих хорошую память, реагировать ложью. В своих выступлениях они утверждают, что Горбачев перестройкой хочет улучшить социализм, в то время как Шик прилагал усилия по восстановлению капитализма, что не соответствует действительности. Определенное время путем лжи и продолжающимися репрессиями они еще продержатся. Грустно, что в ЧССР консерваторам и догматикам всегда удается удерживаться у власти дольше, чем в большинстве «социалистических» стран.
Когда-то Новотный затягивал реабилитацию политзаключенных дольше, чем политики других восточноевропейских стран. Когда в остальных странах уже давно были разоблачены инсценировки процессов, Новотный еще открыто защищал «правильность многих приговоров».
То же самое можно наблюдать при режиме Гусака и его новом продолжении — режиме Якеша. В то время как в Советском Союзе, Венгрии, Польше, Болгарии, Китае все более открыто признается необходимость реальных рыночных отношений при социализме, партийное руководство в ЧССР пытается оттянуть неизбежную реабилитацию старых реформистских предложений на неопределенный срок и настаивать на «Уроках кризисного развития».
27 июня 1987 года «Баслер цайтунг» опубликовала интервью с главным редактором «Руде право» в Праге Зденеком Горжени, в котором последний попытался всю вину за крах реформационного развития возложить на Дубчека. Удивительно, что Горжени, «типичный оппортунист», позволяет себе «кланяться нашим и вашим». Когда-то он также поддерживал идеи реформы. Но, увидев, что с реформаторами может «утонуть», он вовремя перешел к антиреформенным силам и помогал им в осуждении и подавлении всех реформистских идей.
Как может такой человек позволить себе называть Дубчека контрреволюционером и абсолютно игнорировать разработанную при Дубчеке Программу действий, в сущности тождественную сегодняшним совет371
ским документам? Единственное, что можно поставить Дубчеку в вину,— это то, что он не опирался на реформаторов и большинство населения, не выступал достаточно быстро и энергично против закостенелых сталинистов, дрожащих за свои позиции реакционеров.
Надо отдать должное Дубчеку и поставить ему в заслугу то, что он никогда не собирался отказываться от принципов Программы действий, с которыми однажды согласился, и, несмотря на сильнейшее советское давление, не думал о том, чтобы йолученную свободу посталински ограничивать. Даже после оккупации он не отрекся от этих принципов, а пошел на то, чтобы отказаться от своего поста, вместо того чтобы, как, например, Черник и многие другие, заниматься унизительной и недостойной самокритикой. Он был кем угодно, но только не оппортунистом.
Чехословацкий народ слишком умен, чтобы не разглядеть игру консерваторов. Но придет время, когда Гусаки, Биляки, Якеши, Фойтики и др. будут привлечены к ответственности за ликвидацию правильных реформистских идей и затягивание их последовательного осуществления в настоящее время, из-за чего каждый день приносит людям напрасные экономические и социальные потери, много горя. Люди знают, что все реформаторы хотели повышения эффективности, демократизации и человечности социалистической системы. Продолжающееся перечеркивание правды и государственные полицейские репрессии со стороны чехословацкого партийного руководства не могут это обстоятельство вычеркнуть из памяти народа. Не долго осталось ждать, когда идеи правды победят и принесут чехословацкому народу больше свободы и лучшую жизнь.
На этой ноте я хотел бы закончить описание своего жизненного пути, который на этом еще не кончается. До сих пор жизнь, которую я вел, была очень тревожной, богатой победами и поражениями. Где найдешь человека, который никогда не проигрывал? Важно только суметь любой проигрыш пережить и не потерять жизненного оптимизма. Иногда удары судьбы заставляют меня быть слишком жестким, а однажды я едва избежал смерти. Но моя воля к жизни от этого стала еще сильнее, чем раньше. Мое честолюбие заключалось в том, чтобы своими идеями и трудами хоть как372
то помочь уменьшить человеческие страдания. Я все еще не могу сказать, удалось ли мне это. Вероятно, люди смогут это оценить позже.
На этом заканчивается текст, который я написал в 1988 году. В таком варианте книга вышла на немецком языке, в то время как на чешском издание значительно задержалось. Теперь, в июне 1989 года, я ощущаю необходимость дописать текст книги, поскольку события по сравнению с прошлым годом значительно ускорились и, кроме многообещающего развития в Советском Союзе, произошел неожиданный переворот в Китае, сопровождаемый неслыханной жестокостью.
Еще раньше, в январе этого года, полиция вела себя грубо против демонстрантов в Праге. По случаю 20-й годовщины самосожжения Яна Палаха в Праге проходила многолюдная демонстрация, в которой принимала участие главным образом молодежь. Демонстрацию возглавила «Хартия 77» вместе с некоторыми другими оппозиционными группами.
Сначала представители оппозиционных групп хотели возложить цветы на Вацлавской площади на месте самосожжения Палаха. Полиция, которая уже была наготове, не ожидала такого большого скопления народа. Воспоминание о Яне Палахе превратилось в мощную демонстрацию против чехословацкого правительства и всего ненавистного режима. Бесстрашный Вацлав Гавел выступил перед собравшимися. Речь шла о мирной демонстрации, участники которой не думали о насильственных акциях.
У партийного руководства, неприятно удивленного многолюдностью демонстрации и полного страха перед оппозиционными акциями, не выдержали нервы, и оно приняло решение насильно разогнать демонстрацию. После разгона последовали аресты и суд над представителями «Хартии 77» во главе с писателем Вацлавом Гавелом.
Во всех «социалистических» странах, в которых народ, несмотря на все репрессии и полицейское давление, решительно и открыто выражал свой протест и заявлял о своей оппозиции коммунистическим прави373
тельствам, произошли избиение, арест и физическая ликвидация участников протеста. Смертная казнь молодежи в Китае является пиком современных коммунистических методов правления. Я испытываю непреодолимое отвращение по отношению к тем циникам, которые «именем рабочего класса» позволяют стрелять в студентов и рабочих только потому, что они призывали к демократии.
Что, собственно, дает коммунистам право во всех странах, где они пришли к власти, с помощью репрессивной системы удерживаться у власти? Везде после нескольких лет опыта коммунистического «порядка» народ начинал тем или иным способом защищаться и оказывать сопротивление правящему коммунистическому аппарату. У него уже давно открылись глаза на лживую пропаганду, с помощью которой ему пытаются внушить, что выбранный путь приведет в коммунистический рай. Везде и всюду коммунистическая пропаганда называла представителей оппозиции контрреволюционерами, агентами капиталистических стран. Их неизменно преследовали, подавляли и уничтожали физически. Оправдывая свои действия против диссидентов и оппозиции, коммунисты выдают себя за единственных защитников интересов народа, якобы способных благодаря своим познаниям и организационной силе привести народ к воображаемому коммунизму. Однако они не в состоянии защитить свои убеждения в публичных, демократически проводимых дискуссиях и бегут от каждой такой дискуссии, как черт от ладана.
Когда-то Маркс написал, что коммунизм может возникнуть только на основе колоссального материального богатства, обеспеченного небывалым развитием производительных сил. Любая попытка построить коммунистическое общество в условиях недостатка потребительских товаров и всеобщей бедности привела бы только к обновлению “der alten Scheisse”, отмечал Маркс в «Немецкой идеологии». Он полагал, что социалистический этап или — как он его называл— «первый этап коммунистического общества» обеспечит небывалое развитие производительных сил и избыток общественного богатства и тем самым создаст предпосылку для достижения «второго, высшего этапа коммунизма». Социалистическая действительность, однако, не подтвердила этого вывода. Напротив, мы наблю374
даем замедление темпов роста промышленного развития и огромные потери экономической эффективности по сравнению с развитыми странами. Во многих своих книгах, главным образом в “Wertschaftssysteme: Vergleiche—Theorie—Kritik”, я доказал, что в сравнимых капиталистических странах при одинаковых исходных условиях экономическая эффективность в три раза превышает уровень эффективности в социалистических странах. Вместо высокого развития производительных сил и всеобщего изобилия, как ожидал Маркс, повсюду распространились бедность и страшное отставание социалистического производства. На основе чего коммунисты хотят оправдать свою ведущую роль в экономике и во всем обществе, когда результаты этого руководства привели к полной противоположности того, что должно было быть достигнуто, согласно основам их учения? Смешно, что своей ведущей ролью в обществе они хотели доказать научность своего учения, хотя практические результаты реализованного учения в течение многих десятилетий приносят только дефицит и тяготы.
Основной ошибкой марксистской теории является абсолютное игнорирование побуждений людей к труду, и прежде всего в экономике. Такие явления, как непосредственные интересы людей, экономическая мотивация производственной й иной хозяйственной деятельности, а также значение предпринимательской инициативы людей, в марксистской экономии абсолютно забыты. Развитие общества изображалось как результат абстрактного воздействия производительных сил на производственные отношения. Общими «закономерностями исторического материализма» доказывалась необходимость возникновения коммунистического общества. Уже при таком абстрактном описании закономерного развития общества игнорировалось значение интересов и мотивации непосредственных производителей и тех, кто занимался торговлей. В истории развития общества именно они играли решающую роль при всех качественных изменениях производственных инструментов и производственной деятельности. Также в анализе капиталистического способа производства Марксом абсолютно не упоминается изобретательность и творческая роль капиталистических предпринимателей и их большое значение для качественного раз375
вития всего хозяйства. Предприниматели описываются только как эксплуататоры, и утверждается, что они могут быть легко заменены социалистическими производителями. Кроме того, недооценивается роль рыночного механизма, с помощью которого только и возможно определить, какая производственная деятельность приносит пользу обществу и как эта польза оценивается потребителем.
Социалистический опыт показал, что при отсутствии рыночного механизма никакое руководство предприятиями не может обеспечить такого создания потребительских стоимостей, какое обеспечивает капиталистическое предпринимательство в условиях рынка. Только постоянное осуществление инноваций, качественное развитие техники, повышение культуры производителей во всех отраслях производства, на каждом предприятии создают предпосылки для повышения производительности труда, то есть чтобы люди могли производить все больше продукции за более короткое время. Без рыночного механизма, инициативной предпринимательской деятельности и широкого интереса производителей к развитию техники и технологии производства нельзя создать изобилие и обеспечить благосостояние всего народа.
Сегодняшняя экономическая реформа в Советском Союзе развивается в правильном направлении, однако до сих пор не преодолены некоторые марксистские догмы, проявляющиеся в марксистско-ленинском обосновании этих изменений. Сторонники реформы Горбачева еще по большей части ссылаются на ленинскую новую экономическую политику (нэп) при обосновании своих действий. Однако ленинский нэп всегда рассматривался как политика в условиях преобладающего частного мелкотоварного производства в сельском хозяйстве, как политика, посредством которой прежде всего крестьянские массы в послереволюционной России должны быть заинтересованы в увеличении производства на рынок. Никогда Ленин не рассматривал свою новую экономическую политику как политику, проводимую в условиях социализма, или всеобщей социалистической собственности. Наоборот, он полагал, что с возникновением полновесной социалистической экономической системы исчезнет также необходимость в рыночном механизме. Попытка объяснить сегодняш376
нюю экономическую реформу ленинским нэпом научно не обоснована.
Нужно открыто признать, что марксистско-ленинская идеология не дала коммунистическим партиям никакого научно обоснованного ориентира, чтобы они могли претендовать на ведущую роль при строительстве социалистического общества. Все коммунисты-интеллектуалы, которые в социалистических странах поняли ошибочность марксистско-ленинского учения, начали критиковать основные положения этого учения и предлагать коренные реформы всей системы. Тем самым они вступили в принципиальное противоречие с правящей партийной бюрократией. Своими аргументами эта бюрократия нигде не могла воздействовать на реформаторов и всегда избегала идеологических дискуссий. Она не имела и не имеет подлинных научных знаний, кроме громких фраз о социализме, интересах рабочего класса, необходимости классового подхода и т. д. Она идейно беспомощна перед конкретным анализом социалистических недостатков. Там, где коммунистическая бюрократия могла решающие инструменты власти, то есть армию и полицию, впрячь в свои интересы, она попыталась насильно подавить идеи реформы, а их носителей—политически или физически ликвидировать. Только там, где реформаторам удалось в основном изменить властные отношения так, что догматики и сталинисты не смогли использовать против них вооруженную силу, возникли политические предпосылки для принципиального изменения системы или преодоления негативных процессов общественного развития, основанного на марксистско-ленинских догмах.
В этой книге я попытался показать, что чехословацкие реформаторы, которые были «родом» из коммунистической партии, создали основные предпосылки, для того чтобы вся система изменилась принципиальным образом. Здесь произошло не только признание ошибочности марксистской экономической теории, но и пересмотр марксистско-ленинских политических представлений. Чехословацкие реформаторы поняли, что в условиях однопартийной политической системы население лишено возможности действительно контролировать деятельность правящей партии и тем самым сохраняется фактический диктат монопольного пар377
тийного аппарата над народом. Понимание этого привело к тому, чтобы поставить целью создание опять свободных, плюралистичных, демократических условий. Речь шла не только о политических целях реформаторов. Многие из них, например Франтишек Кригель как председатель Национального фронта и я сам как член правительства, предпринимали уже первые шаги к тому, чтобы другие политические партии в Чехословакии, такие, как социал-демократы, чешские социалисты, члены Народной партии и т. п., опять начали жить и развивать активную деятельность в качестве самостоятельных политических партий. Мы поняли, что только действительный плюрализм политической жизни создаст предпосылки, для того чтобы общественное развитие уже никогда не могло быть возвращено к диктату коммунистической партийной бюрократии. Вероятно, именно такая демократизация чехословацкого общества вызвала прежде всего страх у всех наших соседей—сторонников неосталинистских режимов и привела к их военной интервенции.
Но и в других социалистических странах коммунистические реформаторы пришли к заключению, что без действительной плюралистической демократии не может происходить никакое общественное развитие, которое могло бы принести населению экономический и культурный расцвет, даже если это развитие будет иметь определение «социалистическое», «гуманное» или какое-либо еще. Удастся ли в Венгрии реформаторам создать такую плюралистическую демократию или нет, сейчас еще нельзя точно предвидеть. Решающим является то, что для такого развития созданы все важнейшие предпосылки. Кажется, и в Польше развитие демократизации может привести к той же цели. В Советском Союзе уже раздаются голоса некоторых реформаторов — экономистов, философов, историков, политологов и т.п.,— которые заявили о необходимости создания действительной плюралистической демократии и в Советском Союзе. Однако пока еще реформаторское руководство, Горбачев и близкие ему политики, объявляет плюралистическую демократию явлением, которое не подходит для Советского Союза. Нельзя в момент написания этого приложения определенно сказать, является ли это только мнением Горбачева или действительно еще рано открыто отстаивать тре378
бование о плюрализации, поскольку противники таких изменений — неосталинистские бюрократы — политически еще слишком сильны.
Однако точку зрения о том, что плюралистическая демократия не подходит для Советского Союза, я не могу разделить. Я убежден, что в любой стране однопартийная система не позволяет народу высказывать свою, отличную от официальной точку зрения на конкретное экономическое и общественное развитие и проводить ее в жизнь наравне с аппаратом коммунистической партии. Против мощного и единого партийного аппарата отдельные неорганизованные люди беспомощны, а различные свободные объединения не имеют пока таких информационных и организационных возможностей, как коммунистический аппарат. Отличающееся мнение о формах ли общественного развития или о кандидатурах, предложенных на ответственные политические и хозяйственные должности, нельзя провести в жизнь вопреки интересам монопольного аппарата. Это относится и к Советскому Союзу, и вряд ли здесь можно с уверенностью сказать, что никто не сможет повернуть развитие к старой сталинской системе,— и здесь должно произойти соревнование различных политических партий.
Хотя я отрекся от коммунистической идеологии и всеми мне доступными способами боролся и борюсь за освобождение народа от коммунистических режимов, это не означает, что для меня существовала единственная альтернатива этой системе, то есть капиталистическая экономическая и общественная система. Я попытался во многих своих книгах и здесь, в своих воспоминаниях, показать, что у меня все еще остается принципиальное неприятие такой общественной системы, в которой вновь и вновь возникает массовая безработица, а значительная часть населения фактически переходит в состояние второсортных и неравноправных людей общества. Так как я убежден, что без рыночного механизма общество не может идти к растущему благополучию — и тут я признаю основные преимущества капиталистической рыночной экономики,— я не считаю возникновение массовой безработицы неизбежным в обществе. Я пытался пояснить, как можно было бы с помощью преодоления отчуждения людей от капитала и экономических структур, совместной соб379
ственностью на капитал и совместным решением на предприятиях, а также с помощью макроэкономического планирования создать предпосылки развития с полной занятостью и действительной демократией и в экономике.
Я убежден, что по вопросам общественного развития могут существовать самые разные мнения, и поэтому мне никогда не приходило в голову собственное мнение навязывать людям недемократическим путем. Выступая в роли только экономиста-теоретика или же в роли политика, я всегда придерживался мнения, что демократическое решение народа по выбору той или иной формы политического и общественного развития является определяющим. Я не хочу пытаться реализовывать идеи иначе, чем с помощью их распространения среди народа, который только и может в подлинно демократических условиях большинством голосов решать, желает он такого развития или нет. До тех пор пока я вижу, что в обществе существуют значительные негативные процессы, бедность широких масс, массовая безработица, уничтожение природы, военная опасность и т. п., я буду считать своей обязанностью как ученого искать причины таких явлений, а также пути их преодоления. Я полагаю, что такая деятельность в условиях демократии не только возможна, но и необходима. Это является обязанностью ученых, которые могут оказать определенное воздействие на решение тех или иных общественных проблем, чтобы своими предложениями помочь обществу сделать жизнь людей более легкой, обеспеченной и желанной.
список ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ АВТОРА
Экономика — интересы — политика. Москва, 1964.
К problematice socialistichých zbožních vztahů. Praha, 1963.
Die tschechoslowakische Wirtschaft auf neuen Wegen. Phaha, 1965.
Plán a trh za socialismu. Praha, 1967.
Fakta o stavu českoslovenshého národního hospodářství. Praha, 1968.
Der Strukturwandel der Wirtschaftssysteme in den osteuropä sehen Ländern. Zürich, 1971.
Demokratische und sozialistische Plan- und Marktwirtschaft. Zürich, 1971.
Der Dritte Weg — die marxistisch-leninische Theorie und die moderne Industriegesellschaft. Hamburg, 1973.
Argumente für den Dritten Weg. Hamburg, 1973.
Für eine Wirtschaft ohne Dogma. München, 1974.
Das kommunistische Machtsystem. Hamburg, 1976.
Humane Wirtschaftsdemokratie. Hamburg, 1979.
For a Humane Economic Democracy. New York, 1985.
Ein Wirtschaftssystem der Zukunft (Ekonomické reformy a demokratizace). Berlin/Heidelberg/New York, 1985.
381
Wirtschaftssysteme: Vergleiche — Theorie- - Kritik. Berlin/Heidelberg/New York, 1987.
Wachstum und Krisen (в соавторстве c Renem Höltschim, Christianem Rockstrohem). Berlin/Heidelberg/New York/London/Paris/Tokyo, 1988.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Александра Кентская 270
Алтер Э. 35
Антонов-Овсеенко А. А. 88
Арон Р. 9, 348
Ауэрсперг 338
Бадер Г. 355
Бадер Э. 355
Байбаков Н.К. 194, 195
Барак Р. 50, 76, 149, 150—152
Барбирек 249, 291, 328
Бартош Э. 217
Бартошек Й. 341
Багтек Р. 341
Бацилек К. 75, 152, 219
Баштованский С. 157
Бекман М. 80
Бенеш Э. 41, 53, 61
Берия Л. П. 72, 75, 78
Бём-Баверк Е. 87
Биляк 234, 249, 252, 263—265, 275, 291, 310, 328, 340
Борувка Ю. 238, 249
Браник Я. 157
Брежнев Л. И. 8, 186, 191, 202, 204, 205, 207, 231, 245, 246, 250, 253, 275, 294
Брод М. 29
Брус Вл. 7, 353
Бухарин* Н. И. 132, 133
Ванчура Вл. 30
Вацулик Л. 214, 237, 249, 266, 319, 338
Верфель Ф. 29
Вильсон Г. 269
Винер Р. 26
Вихтерле О. 143
Влагович В. 284
Власак Ф. 169, 170, 226, 239, 279, 282—284, 288, 297, 320, 338
Водслонь Ф. 47, 49, 223, 226, 234, 333, 336, 339
Вокроугличек 338
Воленик О. 224, 249
Волкер Й. 30
Вольтер 43
Гавел В. 214, 319, 338, 373
Гаек И. 284—286, 292, 338, 339
Галас Ф. 30
Гарднер 105, 107
Гароди Р. 178
Гаспарик Ш. 284
Гашек Я. 30
Гегель 42, 43
Гейзлар 3. 68, 338
Гелг Л. 319
Гельвеций 43, 83
Гендрих И. 151, 152, 185, 205, 206, 211—215, 225—228, 231, 237, 243, 249, 253
Гере 90
Гильфердинг Р. 42
Глина Я. 152
Глухи 45, 82
Голдман Й. 75
Голдош Л. 74
Голдштюкер Э. 178, 287, 292, 317, 320
Голечек Л. 215
Голы М. 75
Гольбах-Гансен Л. 306
Гольбах П.А. 43, 83
Гомулка Вл. 246, 272, 275, 353
Гора Я. 30
Горак Р. 223
Горбачев М.С. 18, 275, 281, 321, 349, 369, 371, 376, 378
383
Горжени 3. 371
Гослеровский М. 217
Готвальд К. 10,41,48, 58,60—62, 71, 74, 75, 201
Гофман К. 279, 310, 340
Гохман Й. 338
Гречко А. А. 262, 325, 326
Гроссман Р. 269
Грушкович 340
Гуангуан Ю. 365
Гула 340
Гусак Г. 12, 20, 72, 74, 156—158, 174. 175, 216, 217, 253, 257— 259, 265, 275, 286, 291, 294, 310, 324—330,333,335,336,338,340, 341, 371
Гэлбрейт Дж. К. 9, 322, 323 Гюбл М. 309, 312—314, 327, 336, 338, 341
Давид В. 152, 186
Дворжак Р. 177
Дейнхофф Марион фон 197
Дзур М. 277, 291
Дидро 43
Дисдаревич Р. 278
Добб М. 270
Доланский Я. 75, 111—114, 145, 149, 152, 153, 215, 222, 225
Дочкалова 328
Дртина П. 59
Дуб Р. 156
Дубчек А. 152, 154, 218, 219,
223—228, 231, 237—241, 243,
244, 246—251, 253, 254, 258,
263—265, 268, 269, 274-277,
283, 290, 292, 295, 298, 299, 303, 309—311, 324—330, 338, 339, 352, 371, 372
Дьяченко В. 105, 107
Епишев А. А. 262
Заводский О. 72, 75 Зайчонок 318, 319 Запотоцкий А. 62, 75 Зеймер М. 305 Зейферт Й. 30 Зигварт Г. 358
Индра А. 230, 231, 234, 249, 250,
253, 266, 275, 291, 292, 298, 310
328, 340
Ионеску Г. 351, 354, 358
Ичински Й. 56, 75
Кадар Я. 210, 211
Кадлец М. 116
Кайгл Вл. 104, 105, 141
Кальдор Н. 357
Кант И. 42
Капек 249, 328, 340
Каплан К. 158
Кардель Е. 283, 284
Карлик И. 7
Каутский К. 42
Кафка Ф. 29, 178, 179
Кейзлер М. 105
Кейнс Дж. М. 87
Кемпны 340
Кёлер Б. 63, 73, 147, 152
Килгус Е. 350
Кинцл Й. 338
Кинцл К. 341
Кленьгова-Бессерова Р. 235 Клима Я. 214 Климент М. 214
Кнеушарек Ф. 343
Кнёуркова Д. 356, 357
Когоут П. 214, 230, 306, 338
Кодай С. 266
Кожешник Я. 143, 302
Кожушник Ч. 7, 159, 301, 332
Козелка Б. 46, 48, 73, 335
Колар Ф. 216
Кольдер Д. 50, 147, 148, 151, 152, 155, 158, 163—165, 167, 169— 171, 201, 203, 204, 206, 215, 224—228, 231, 237, 249, 252, 310, 328
Коменда Б. 7, 159
Копецки В. 75
Копржива Л. 51
Корчак 340
Коста И. 7, 159, 160, 213
Косыгин А. Н. 187, 191, 263, 264
Коуба К. 7, 159, 301, 332
Коуцкий В. 131, 133—135,
138—140, 153, 154
Кошарж 335
Крейчи Я. 356
Кригель Ф. 47—49, 223, 224, 226, 236, 249, 254, 287, 292—295, 297, 298, 310, 333, 336—338
384
Кроснарж Й. 42, 45, 47—49, 73
Кубелик 56
Кудрна 216
Кундера М. 214
Кусин В. 357
Кучера 291
Кэйнкросс А. 105
Ланда М. 46, 73
Лауэр Г. 360
Лауэр Ю. 360
Лаштовичка Б. 152, 225, 233, 249
Левчик Б. 7, 159, 304
Лим В. 214
Ленарт Й. 152, 201, 225, 233, 234, 237, 249, 291, 328, 340
Ленин В. И. 41—43, 58, 83, 115, 117, 118, 124—126, 129, 195, 342, 376
Либерман Е. Г. 164, 167, 187, 193
Линдал Э. 105
Липиньски Я. 105
Литера Й. 341
Локк Дж. 43
Ломский Г. 156
Лондон А. 71
Лундберг Г. 307
Лундберг Э. 307
Майер В. 59
Майерова М. 30
Мальтус Т. Р. 42
Мамула М. 242
Мао Дзедун 49
Маркс К. 41—43, 57, 70, 87, 115, 118, 124—128, 144, 251, 323, 342, 349, 374, 375
Махачова Б. 45, 48, 49
Мейднер Р. 363
Микова М. 295, 338
Минц Б. 105
Млынарж 3. 249, 254, 291, 295, 338, 339
Моссе Р. 105, 107
Мошкович К. 157
Мукаржовский 123
Мюллер Й. 341
Надь И. 90, 120
Надь Т. 7, 210
Нахтигаль ф. 159
Незвал В. 30
Немец 328, 335
Непрашова В. 338
Нссталоцци Г. А. 322
Новомеский Л. 74, 156, 15g Новотный А. 10,18,26 37 до л* 47-49, 65, 73, 7^-76, 90 91’ 93, 94, ПО, 119, 120, 131 14^-2 149, 160, 163—169 17S-Lh? 179, 180, 182, 185—187 91 192, 196, 197, 199—201 2оС 207, 211, 212, 214—218’ 220? 226, 228-242, 244-246 24? 252,253,255,257,263,265 275 290,294,312,324,327,337:341;
Новы 328, 335
Носек 59, 60
Ноув А. 105, 357
Ньерш Р. 210
Окалим Д. 74
Олива Ф. 142, 178, 221
Ольбрахт И. 30
Оутрата Э. 56, 75
Павел Й. 251, 252, 292
Павличек 336
Павлиштик 336
Палах Я. 316, 338, 373
Пастыржик 328
Пацовски О. 338
Пеликан И. 119, 151, 205, 338
Пиллер Я. 234, 235, 237, 238, 249, 291, 328
Плотников К. 82, 192
Подачек 328
Попович К. 284
Прхлик Я. 226,236,242,267,268, 273, 277, 336, 338, 352
Прохазка Я. 214
Пэрро С. 270, 356, 357
Ракоши М. 90
Рафт Т. 307
Рейцин Б. 72
Ржезач В. 30
Риго Э. 238, 249, 291, 328
Рикардо Д. 42
Риклин А. 361
Рильке Р. М. 29
Рихта Р. 212, 213, 328
Робинсон Дж. 9, 87, 357
385
Робинсон Е.А. Г. 105
Рогачек Б. 323
Рогличек Р. 124, 222
Розсыпал К. 96, 99
Розшлапил 47
Роубал К. 140, 141, 344—346
Ружек 269, 270
Румла Й. 338
Русек А. 341
Руссо Жан Жак 43
Руэфф Ж. 105
Рытирж 328
Садовский Ш. 149, 249, 328, 335 Сален Э. 304, 305
Свобода Л. 248, 291—294, 296, 325, 328, 340
Семенов А. 325
Сесил П. 270
Сесил Э. 270
Сисмонди 42
Симоне А. 72
Славик В. 140, 149, 224, 226, 234, 249, 333, 336, 338
Сланский Р. 10, 41, 46, 71, 72, 73, 149, 212, 219
Смит А. 42, 92
Смрковский Й. 72, 156, 229, 230, 234,236, 237, 241, 248, 249, 253, 265—267, 277, 287, 294, 295, 298, 325, 329, 338, 339
Сова 149
Сокол М. 7
Сохор Л. 63
Сталерт Б. 306
Сталерт Л. 306
Сталин И. В. 41, 47, 53, 58, 60, 64, 67—70, 72, 74, 78, 80, 83, 87, 88, 117, 128, 132, 233, 241, 252, 342
Стеглик Й. 341
Стрехай Р. 152
Стюарт М. 269
Суслов М.А. 186
Сынкова 45
Тесарж Й. 341
Тигрид П. 59
Тинберген Я. 87
Тито И. Б. 68, 278, 279, 282, 283
Торез М. 132
Триффин Р. 105
Турек О. 7, 159
Удальцов 264, 285
Ул П. 341
Ульбрихт В. 246, 272, 275, 278
Фабингер Ф. 56, 75
Фалтинек 82
Фейербах Л. 42
Фирлингер 3. 41, 152
Фишер Э. 178
Франк Й. 71
Фрейка Л. 71
Фритше Б. 359
Фриш И. 7, 105
Фукатка 56
Хаберле Г. 87, 105, 106
Хагерт К. 251
Хайд В. 360
Хнеупек 310
Хорват И. 74
Хорн И. 37, 38
Хрущев Н.С. 44, 75, 77, 87, 88, 95, 119, 120, 132, 143, 150, 164, 179, 182—186, 188, 231, 241
Худак М. 219, 224, 225, 234
Хьюм А. 43
Цисарж Ч. 149,243,248, 249,287, 292, 294, 317, 339
Цолотка 328, 340
Чаушеску Н. 278, 288, 289
Чепичка А. 75
Червоненко С. В. 250, 264, 278, 279, 285, 327, 328
Черник О. 147, 152, 204, 215, 222, 224—228, 231, 235, 237, 247, 249—251, 255, 258, 262—264, 267—269,285,294,295,298,303, 309, 310, 325, 328, 329, 337, 372
Черны А. 338, 341
Чубарьян А. 12
Шабата Й. 341
Шалгович В. 251, 252
Шваб К. 72
Шверма Й. 71
Швермова М. 37, 38, 40, 41, 71, 72, 74—76, 149, 156, 257
Швестка О. 163, 164, 167, 168, 199, 249, 252, 291, 328
386
Шейна Я. 236
Шелепин А.Н. 186
Шелест П. 264, 272, 293
Шик И. 51, 307, 308, 312, 313, 317, 326, 333, 337, 360, 361
Шик М. 51, 308, 326, 331, 333, 361
Шикова Л. 22, 43, 50- 52, 72, 229, 230, 232, 270, 297, 298,307,308, 331, 333, 354, 358, 361
Шимович Л. 284, 300
Шимон 339
Шимунек О. 147, 152, 153, 225, 234, 249, 333
Широкий В. 75, 152, 157, 158
Шкутина В. 341
Шлинг О. 71, 72, 149
Шорм Ф. 143, 302, 317, 334
Шпачек Й. 224, 226, 238, 243, 249, 295, 311, 336, 339
Шпиляк М. 299
Штолл Л. 123, 124, 138, 139
Штроугал Л. 149, 225, 226, 250, 258, 282, 283, 298, 321, 325, 326, 328, 329, 335, 337, 340
Шумпетер Дж. А. 87
Эванс М. 354
Эванс Э. 354
Эйслер П. 75
Энгельман Г. 35
Энгельс Ф. 41, 43, 115, 125, 127
Энглиш К. 87
Эрбан 328
Эрхард Л. 9, 346—348
Эхр А. 359, 361
Юнгман М. 338
Якеш М. 12, 157, 275, 291, 309- 312, 369, 371
Яковлевский Т. 278
Янко В. 236
Янковцова Л. 252
Якубовский И. И. 262
ОГЛАВЛЕНИЕ
Ота Шик и его воспоминания (вступительная статья) 5
Предисловие 17
I. ГОДЫ СОЗРЕВАНИЯ 23
1. Второе рождение 24
2. Коррупция в партийном аппарате 38
3. Послевоенная демократия—до февраля
1948 года 50
4. Политические процессы 62
5. Приход Хрущева 77
6. Продолжение сталинской системы .... 88
7. Возникновение экономических проблем 93
8. Дорога в Турцию 104
9. Кандидат в члены Центрального Комитета НО
Ю. В «Штолльверке» 122
389
11. Съезд Французской коммунистической партии 130
II. БОРЬБА
ЗА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ РЕФОРМУ 137
1. Экономическая бедность 138
2. Фарс вместо реабилитации 148
3. Руководитель комиссии по реформе ... 158
4. Программа реформы принята 171
5. Хрущев в Праге и его падение 182
6. С реформой в Москву 192
7. Сигнал на XIII съезде партии 199
III. ОБЩЕСТВО
НА ПЕРЕЛОМЕ 209
1. Писатели бунтуют 210
2. Попытка сохранить Новотного у власти 219
3. Политбюро не едино 223
4. Отставка Новотного — избрание Дубчека 232
5. «Пражская весна» начинается 241
6. Москва против созыва съезда партии . . 253
7. Июньские маневры 262
8. Заговор предателей 271
IV. ОККУПАЦИЯ
И ЭМИГРАЦИЯ 281
1. Отпуск без возвращения 282
2. Из Белграда в Базель 295
3. Интриги из Праги 305
4. Мучительные посещения Праги 316
5. Исключение из Центрального Комитета 329
6. Рождение «третьего пути» 342
390
7. Английское интермеццо 350
8. Швейцарское гражданство 358
9. Мысли в заключение 366
Список опубликованных работ автора 381
Именной указатель 383
Ота Шик
ВЕСЕННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕИЛЛЮЗИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Редактор О. М. ФРОЛОВА Художник О. А. ГРЕБЕНЮК Художественный редактор О. А. БАРВЕНКО Технический редактор Е. В. ЛЕВИНА Корректор И. В. ЛЕОНТЬЕВА
ИБ № 19113
Сдано в набор 3.01.91. Подписано в печать 27.08.91. Формат 84 х Юв’/зг- Бумага офсетная № 1. Гарнитура тайме. Печать офсетная. Условн. печ. л. 20,58. Усл. кр.-отт. 42,0. Уч.-изд. л. 20,49. Тираж 10000 экз. Заказ № 122. Цена 6 р. 60 к. Изд.
№ 47966.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по печати.
119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17
Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93