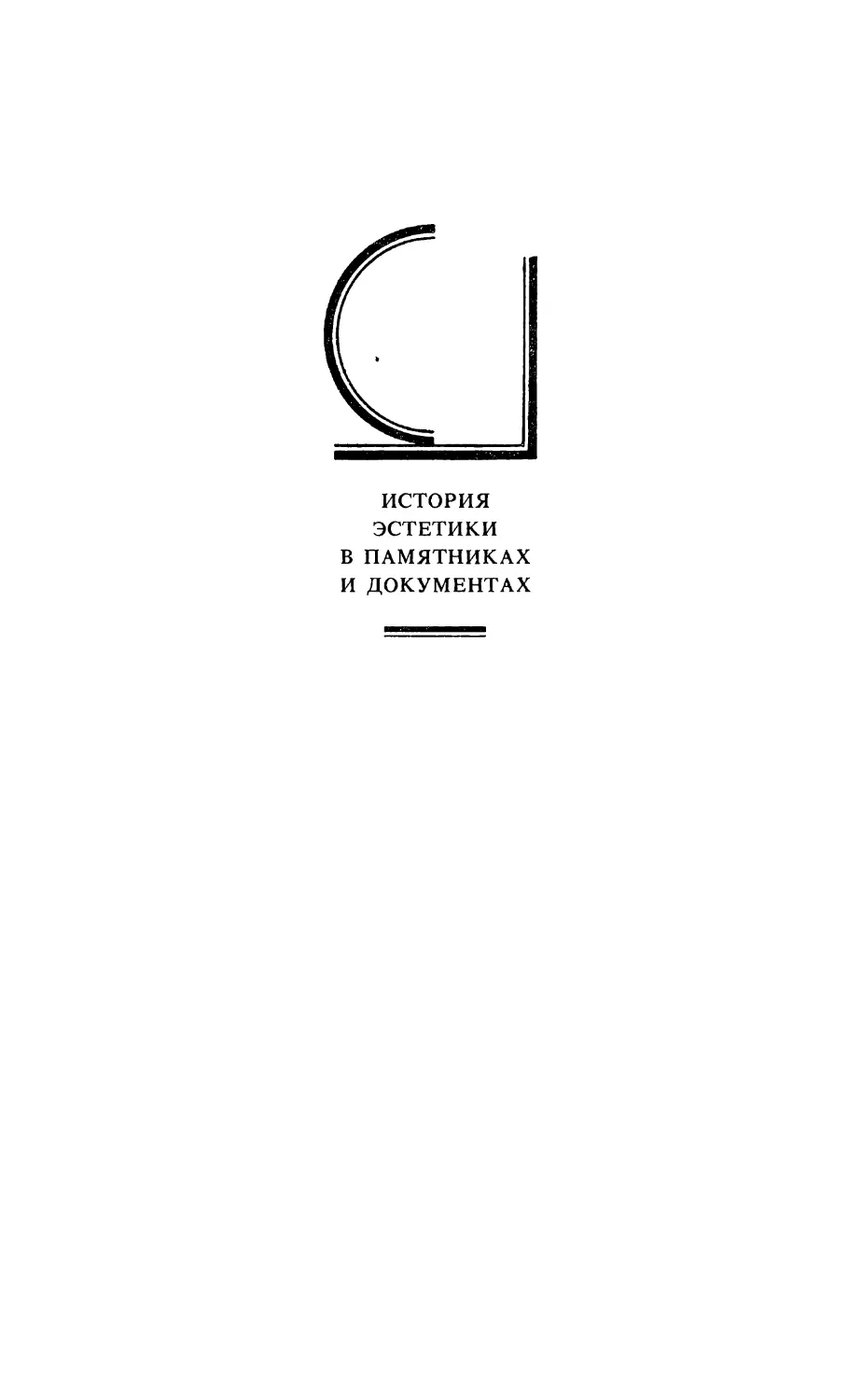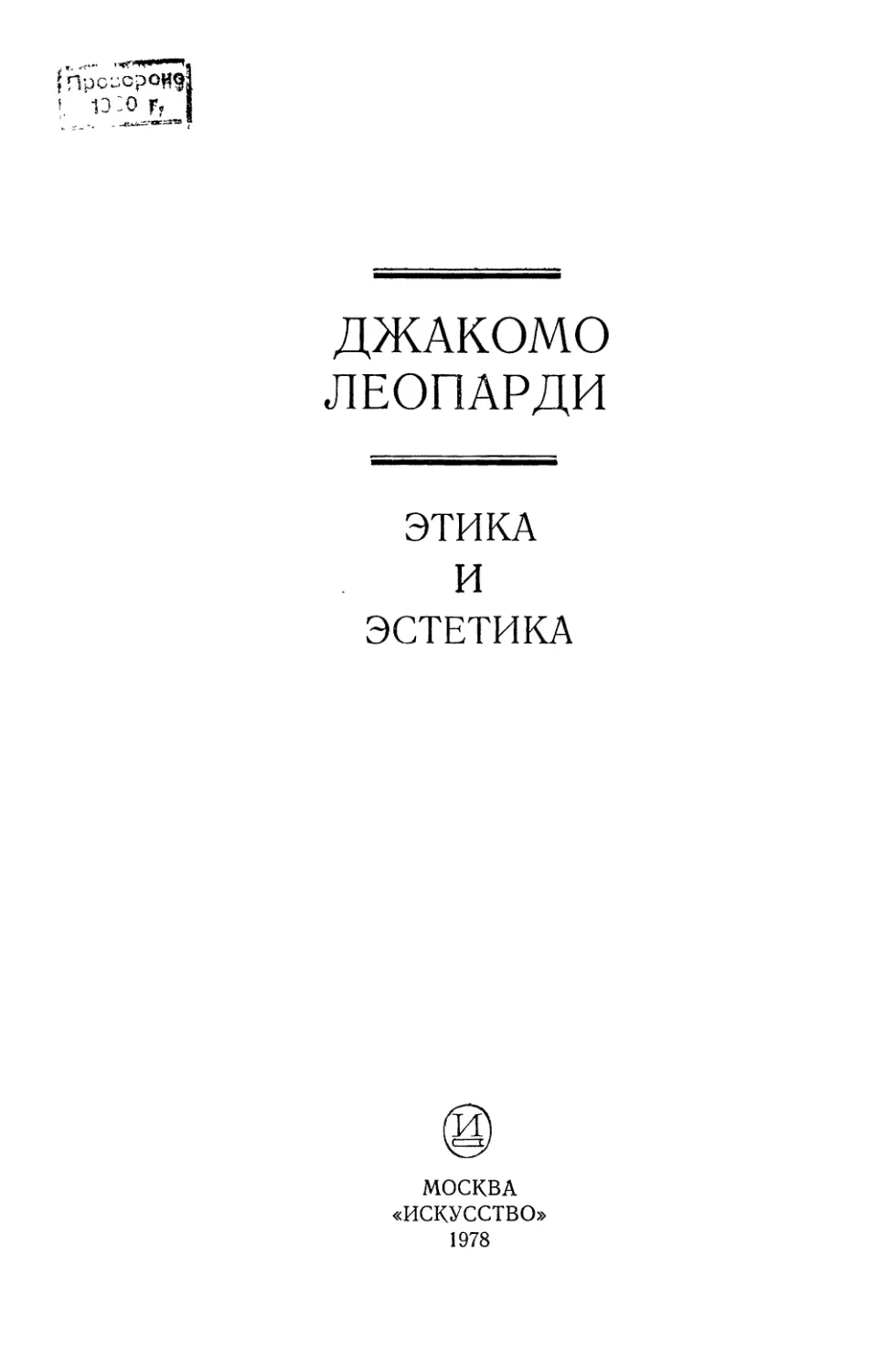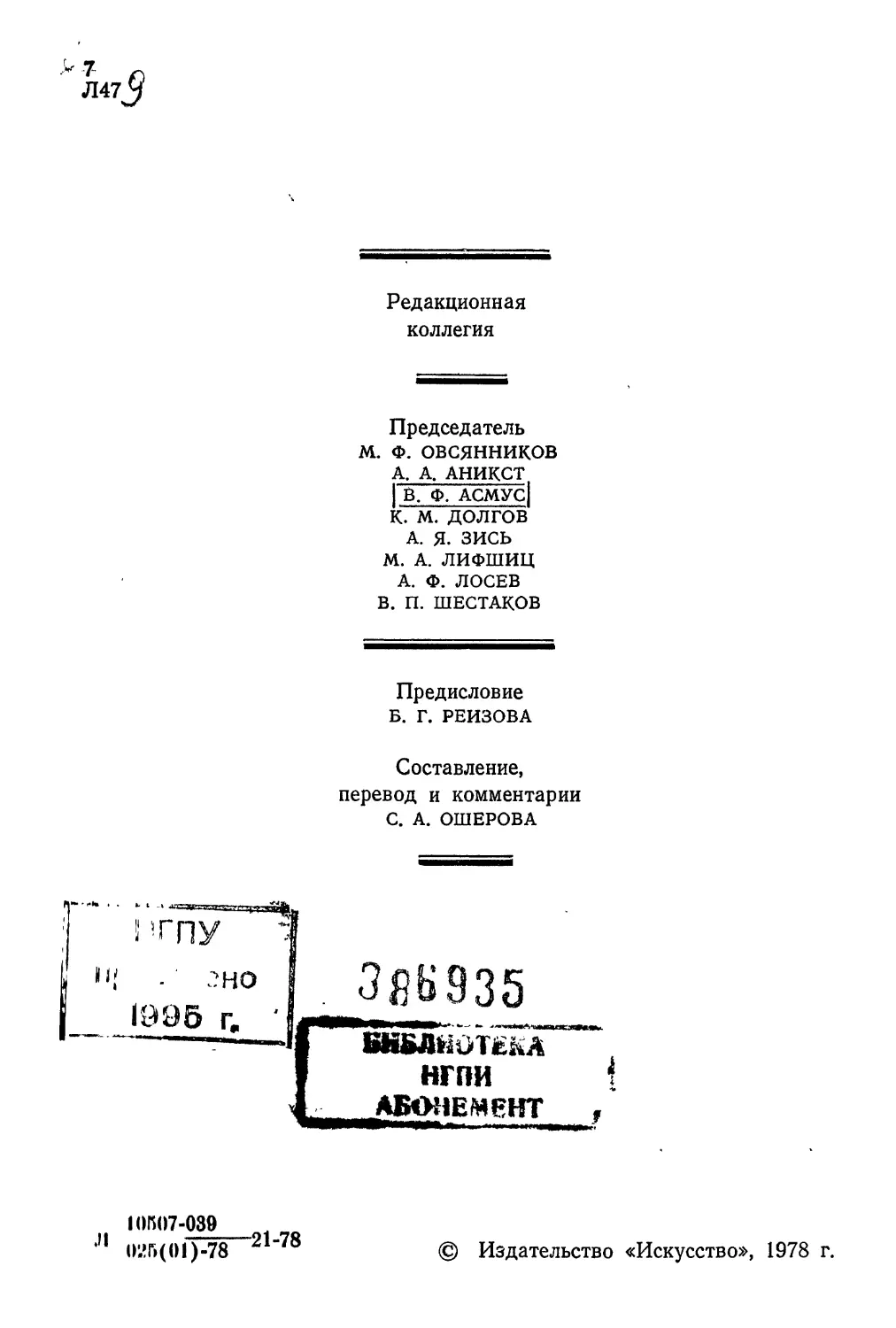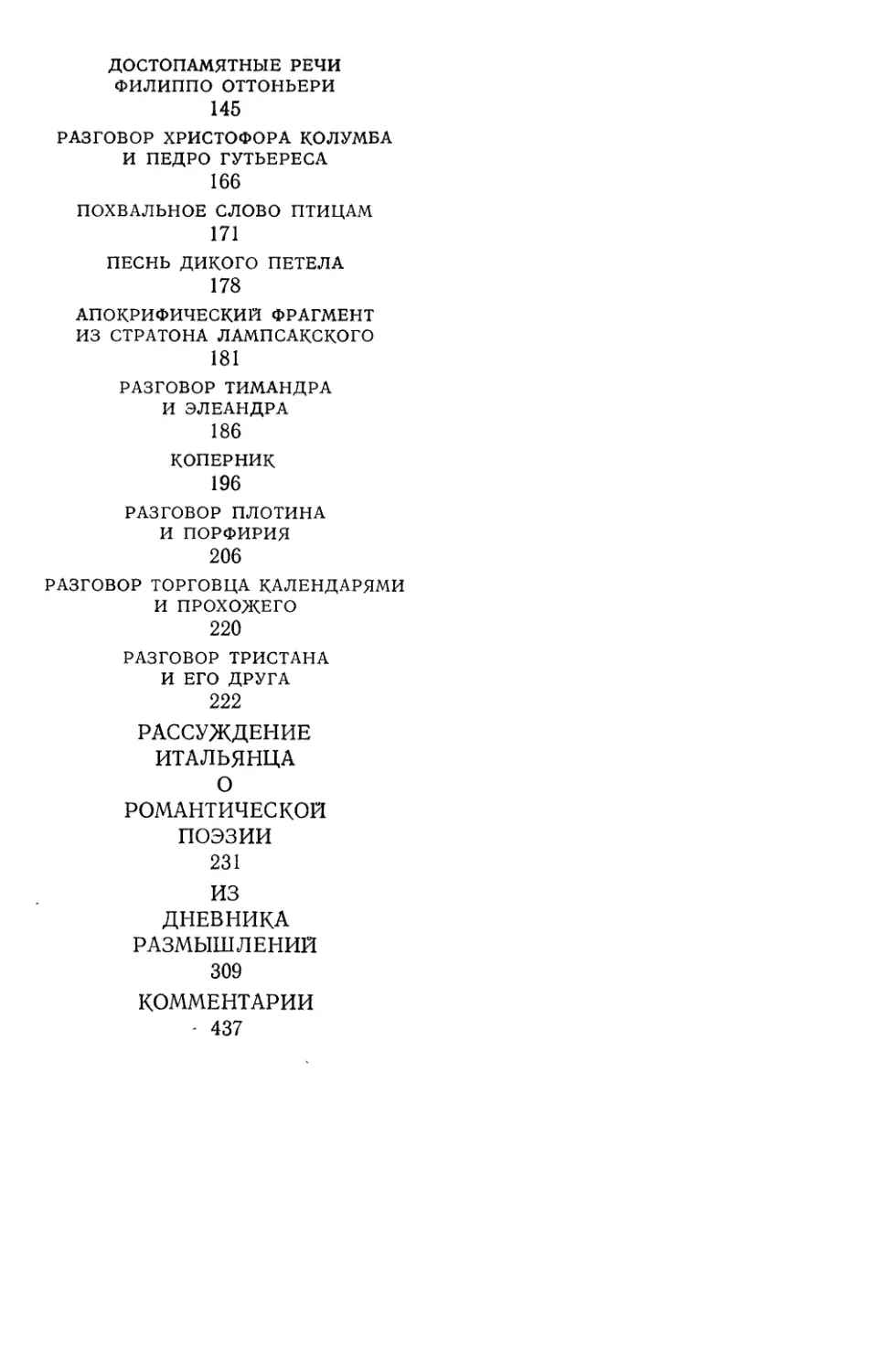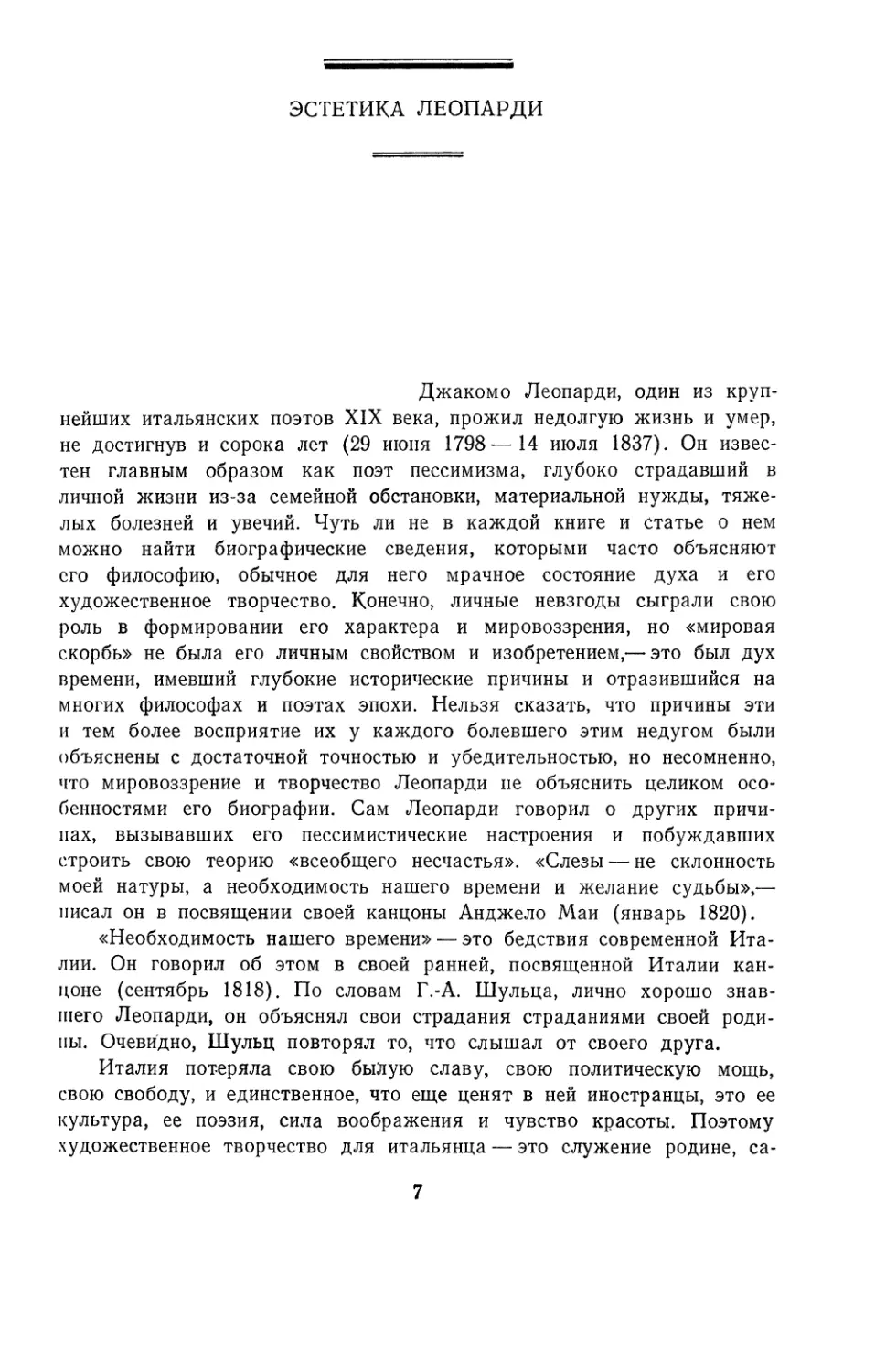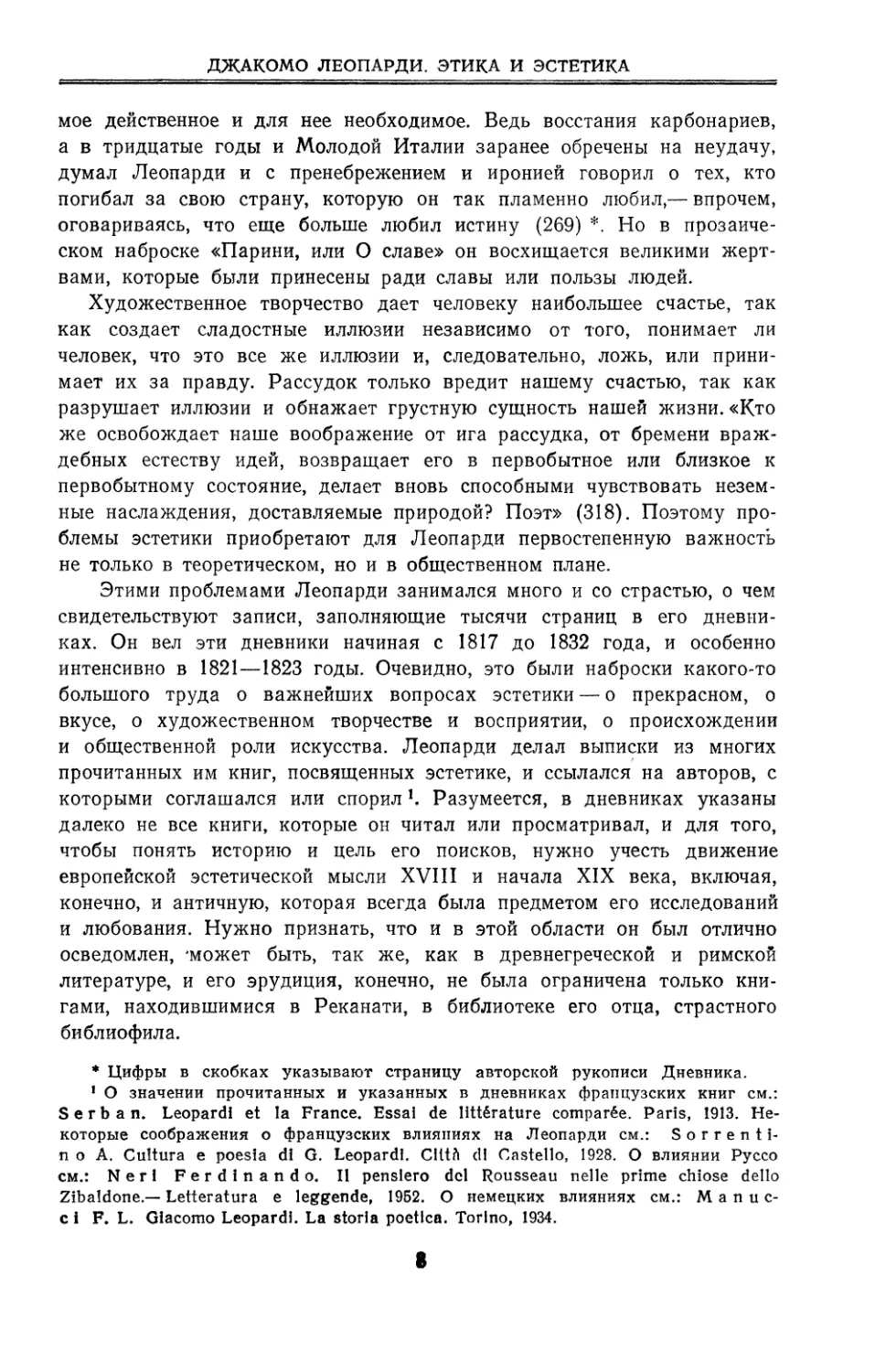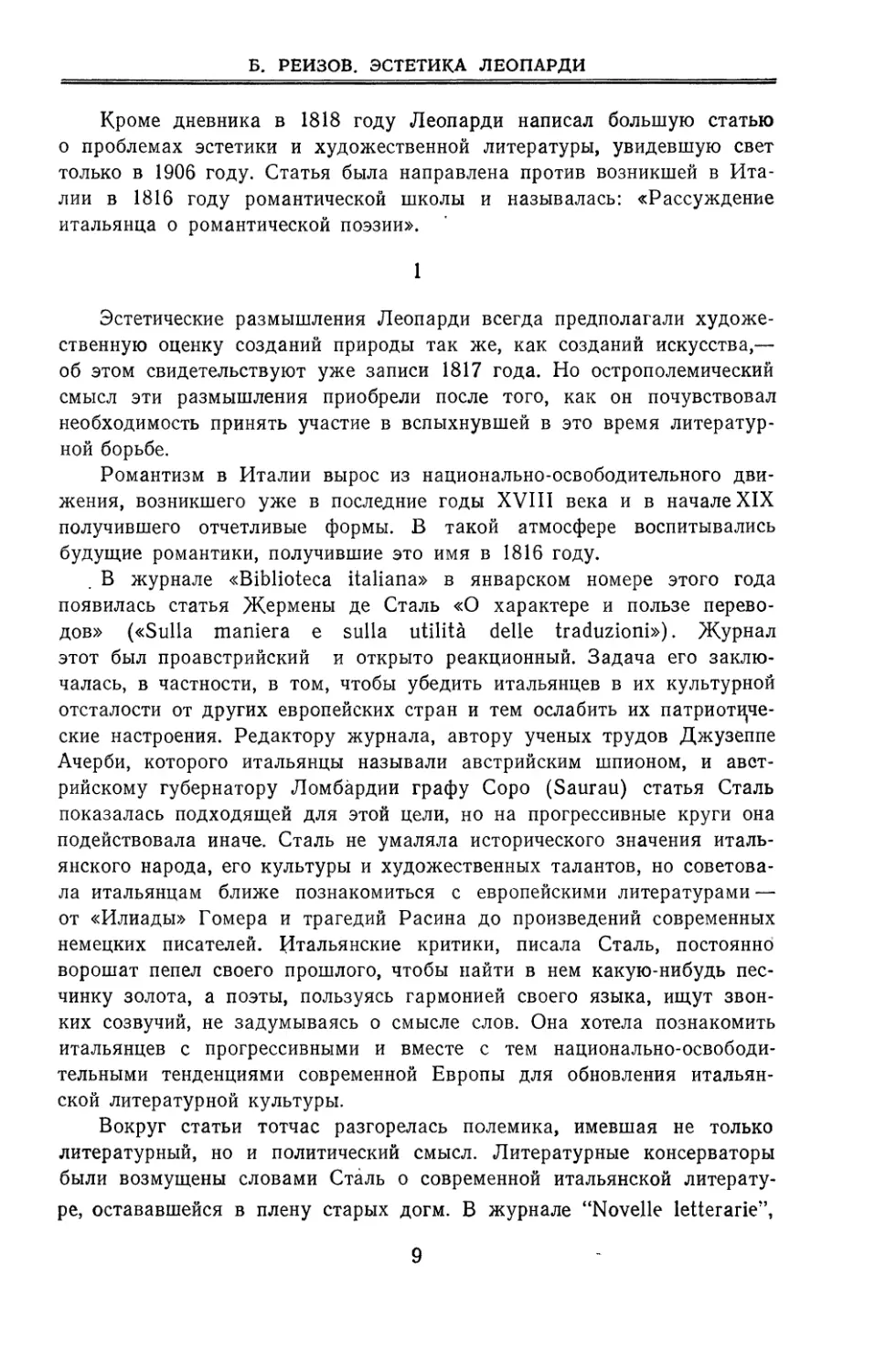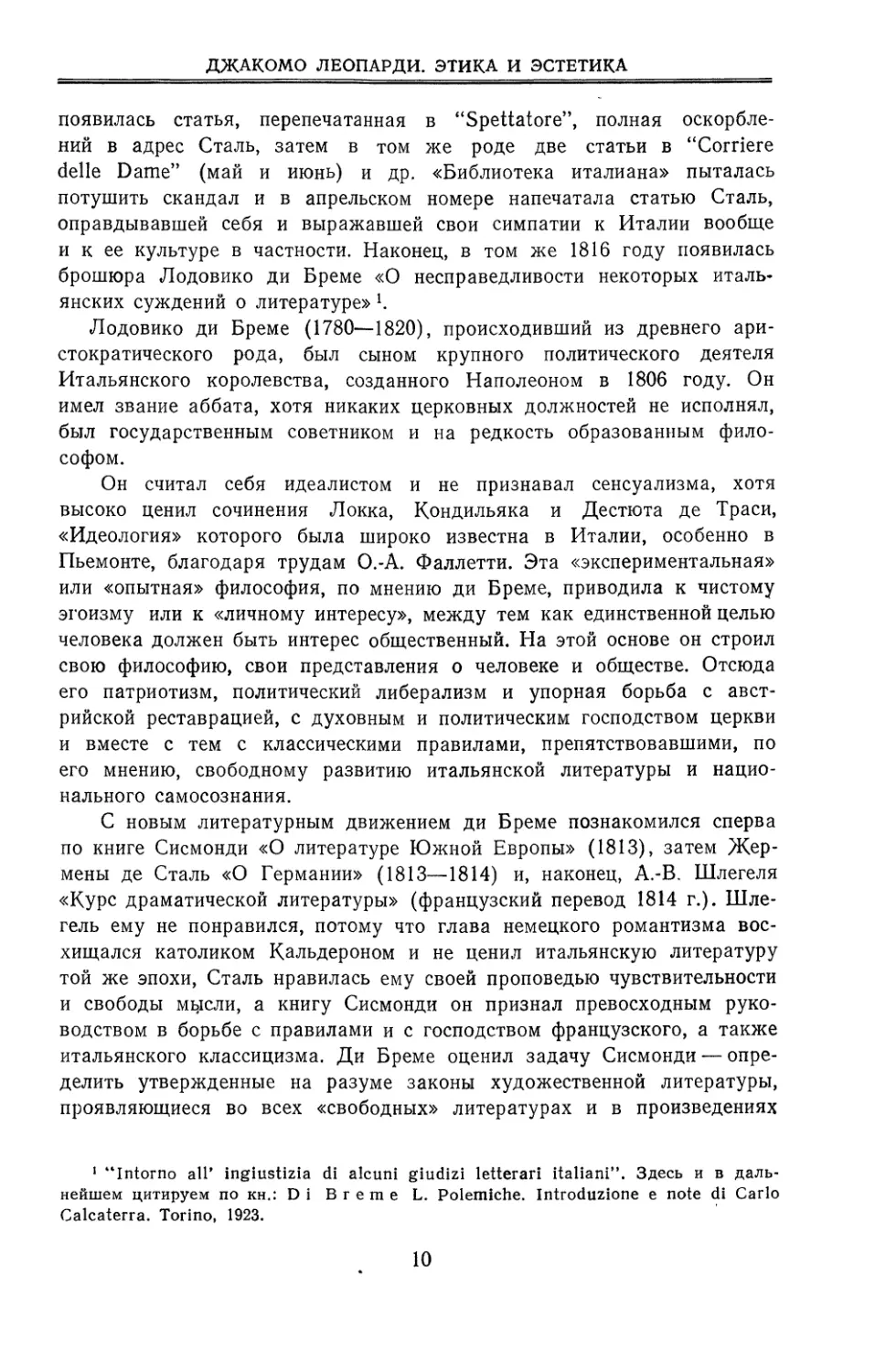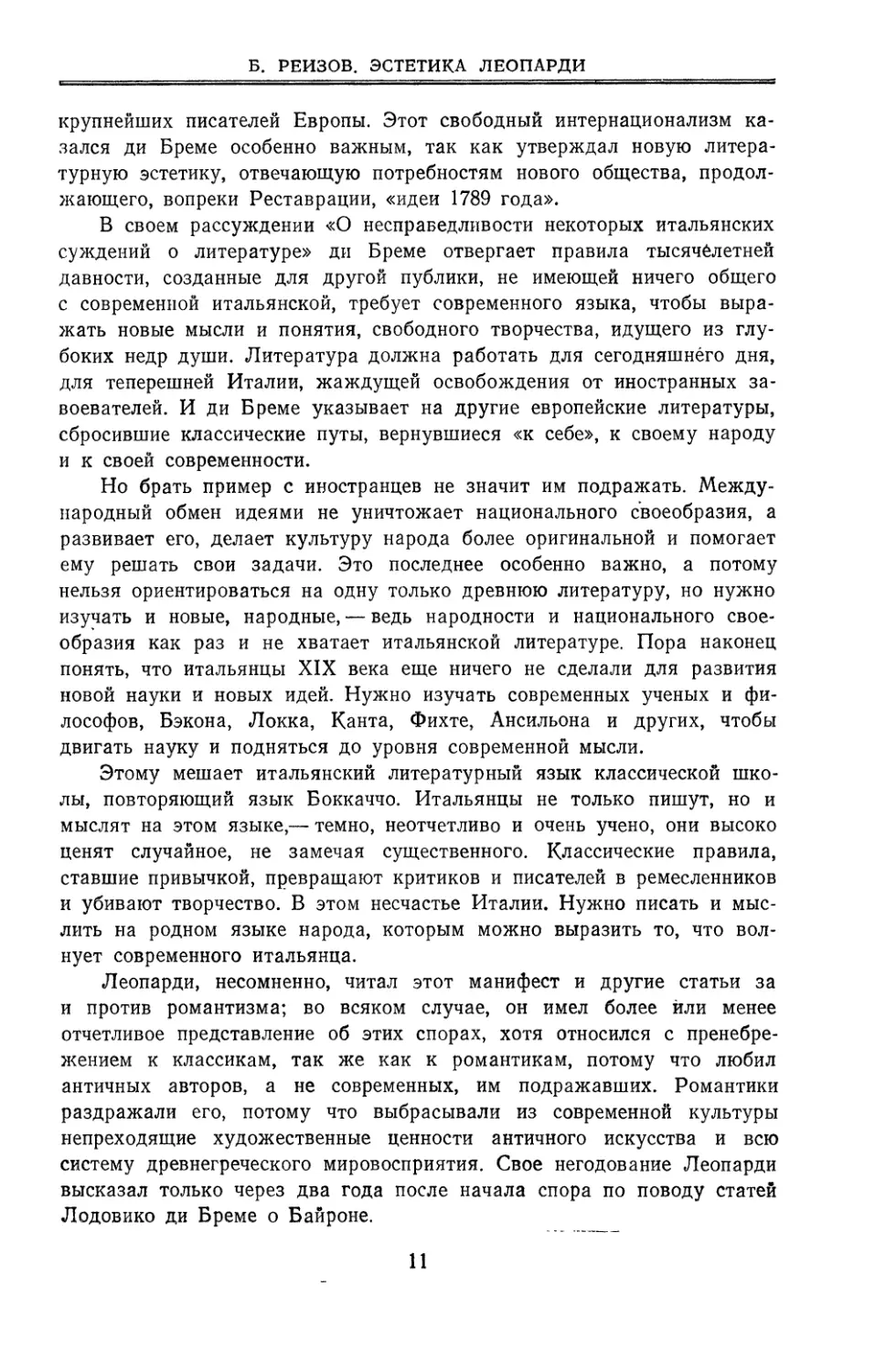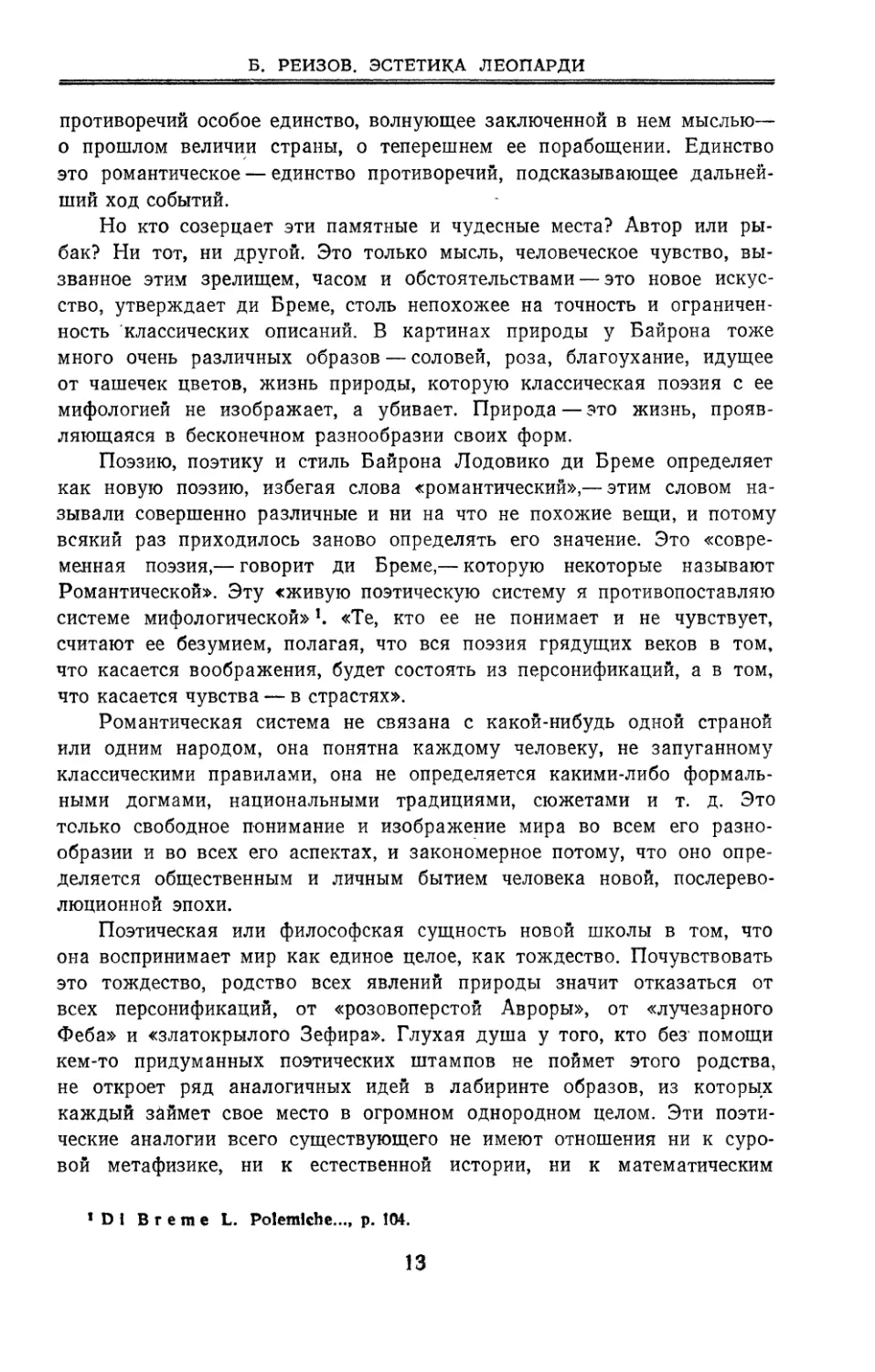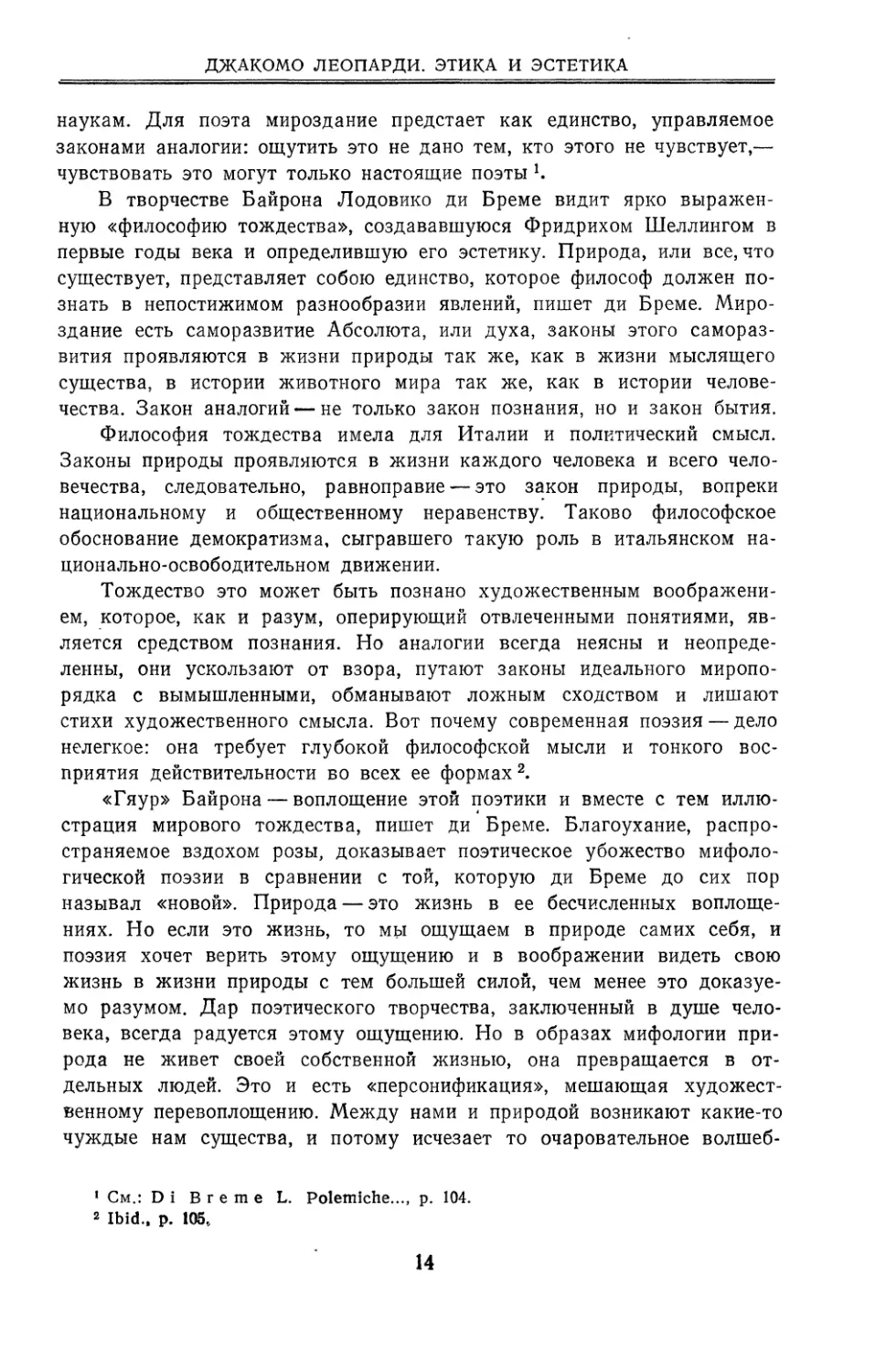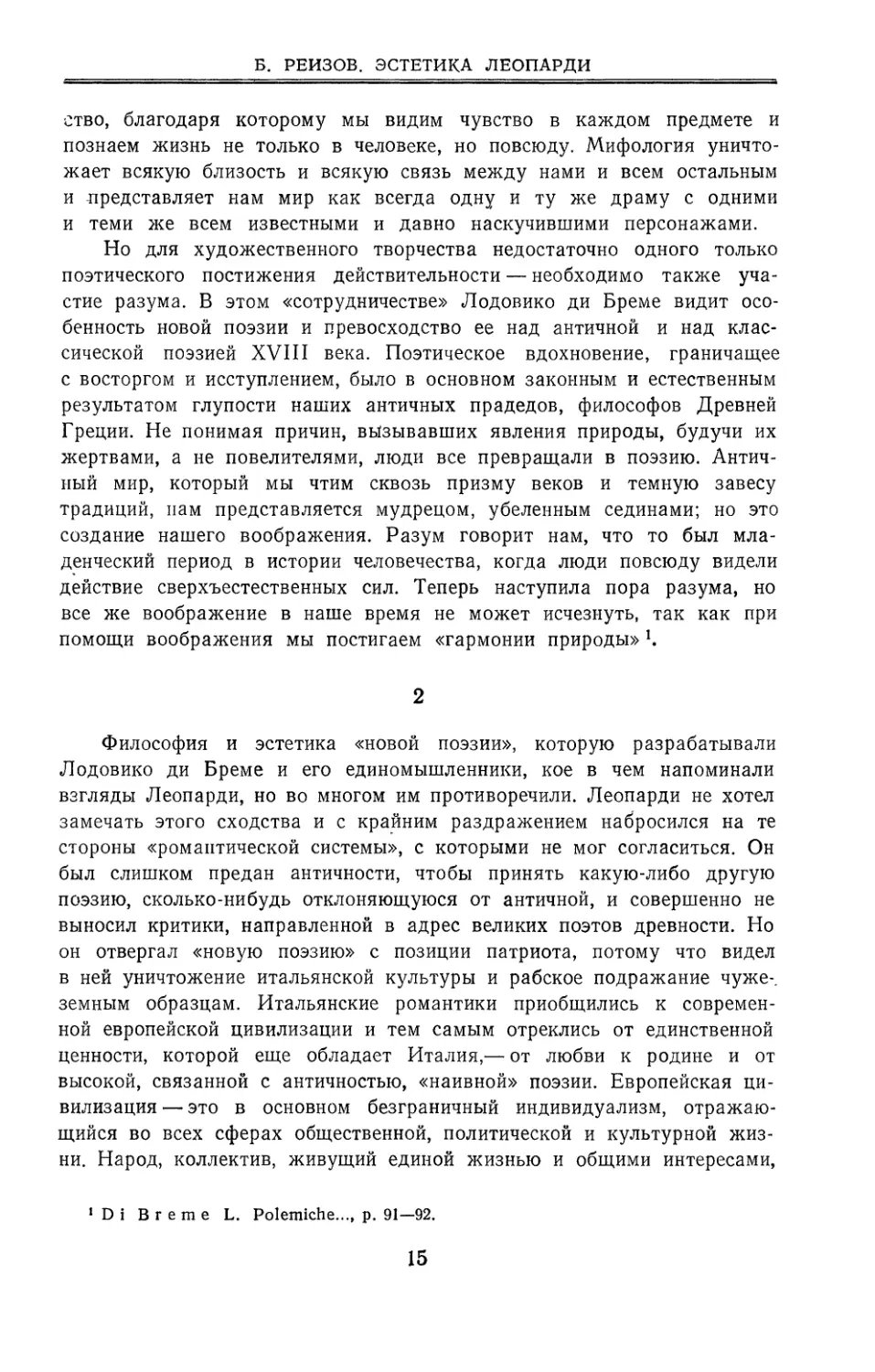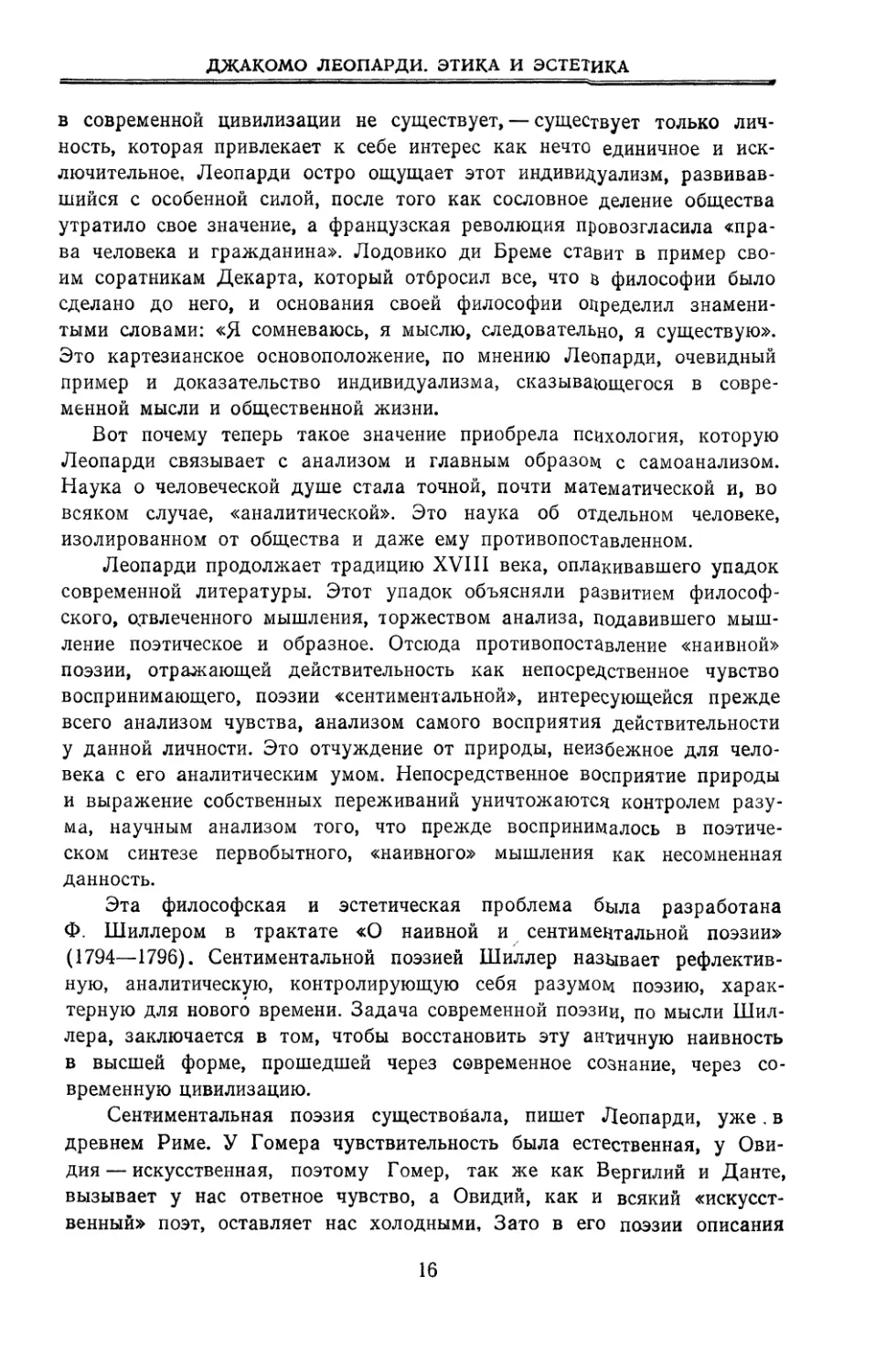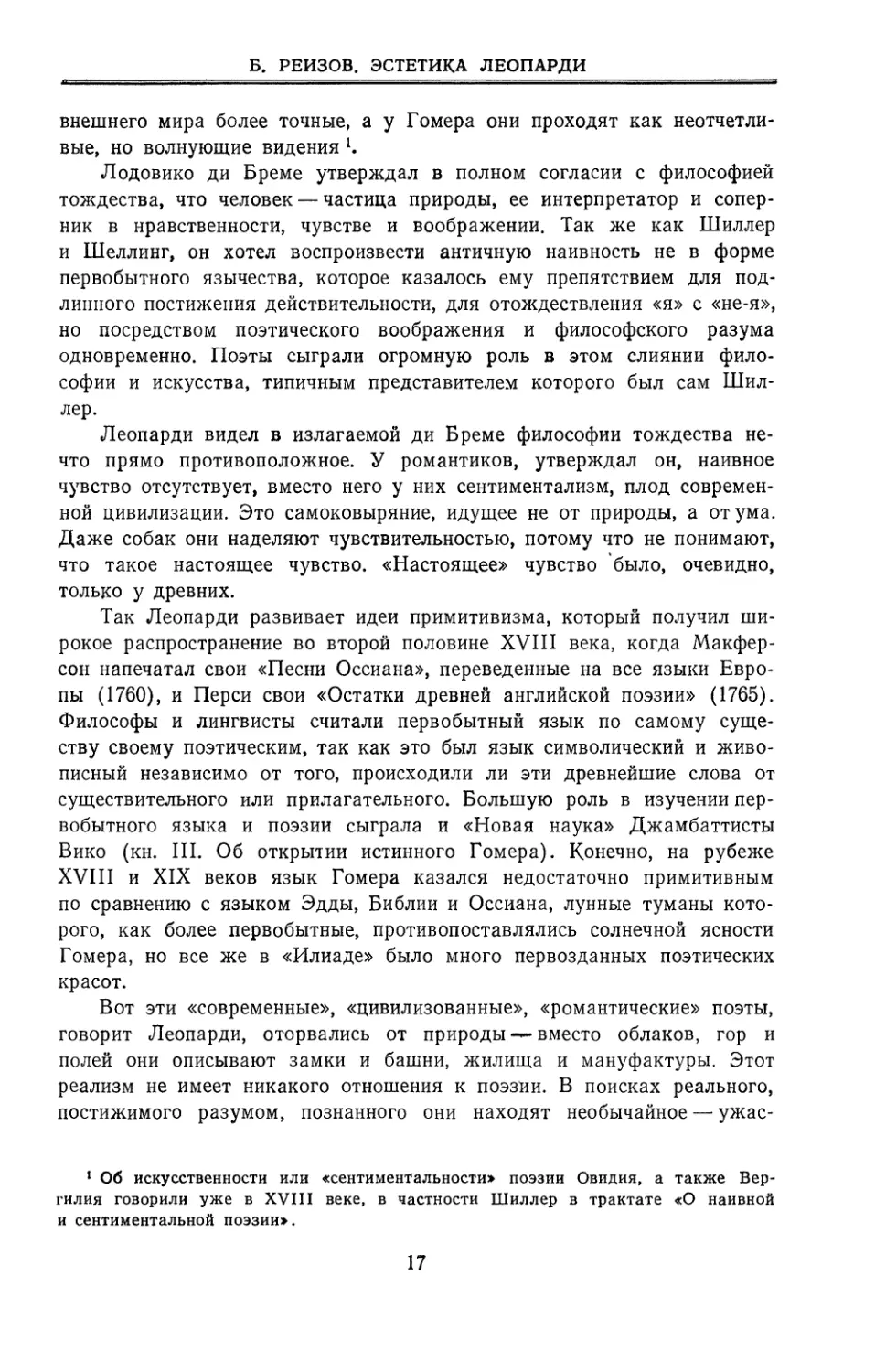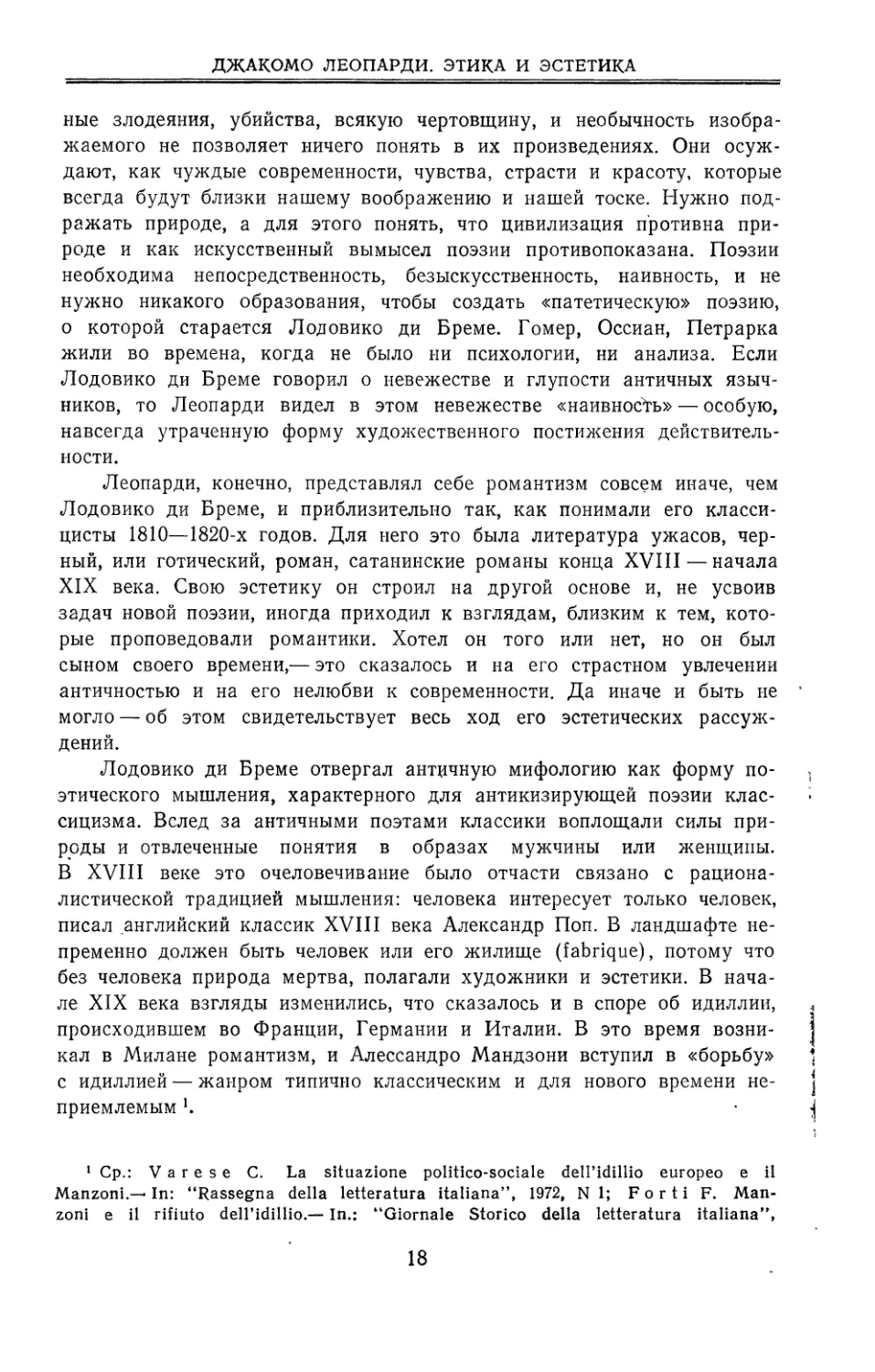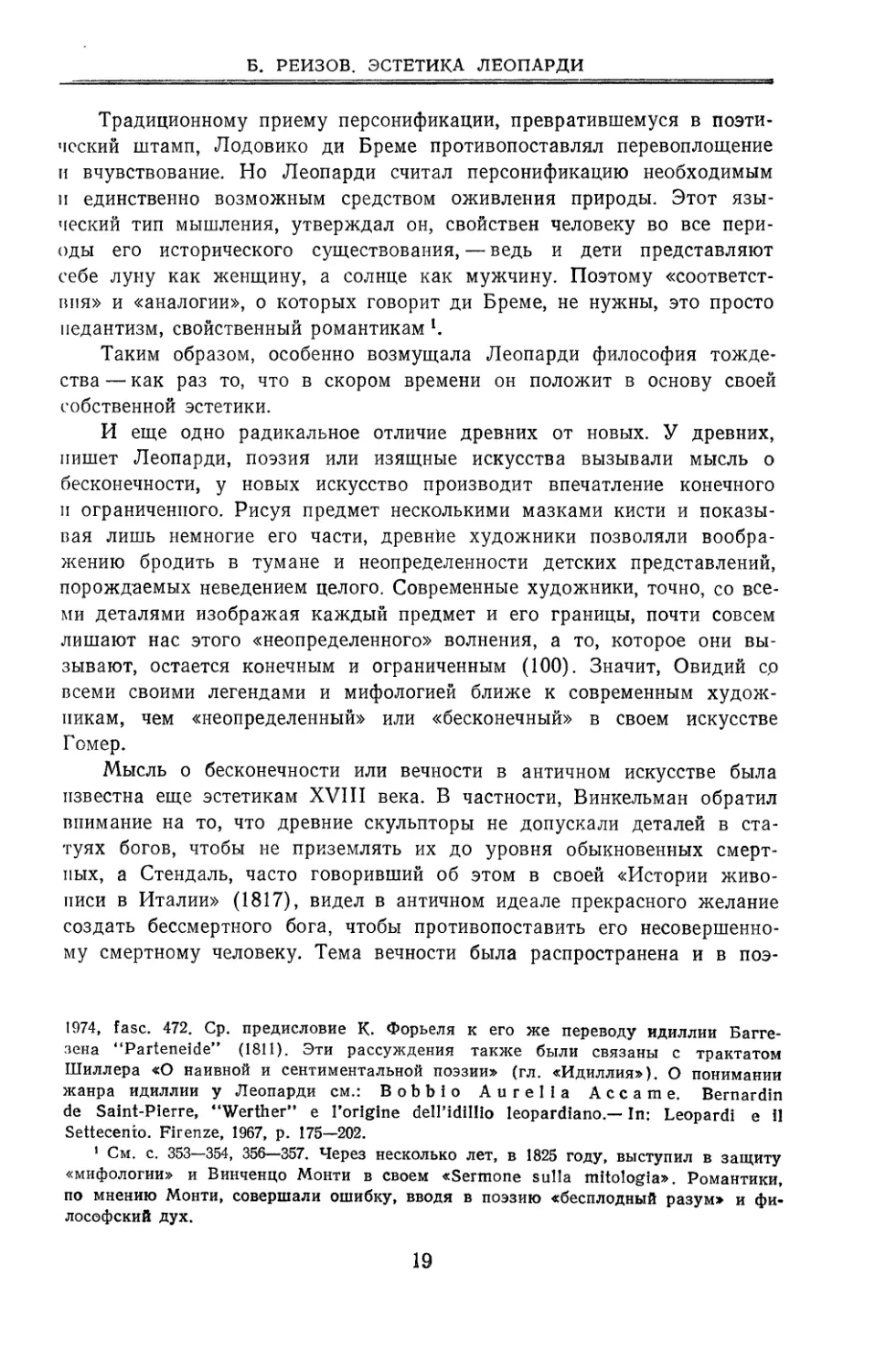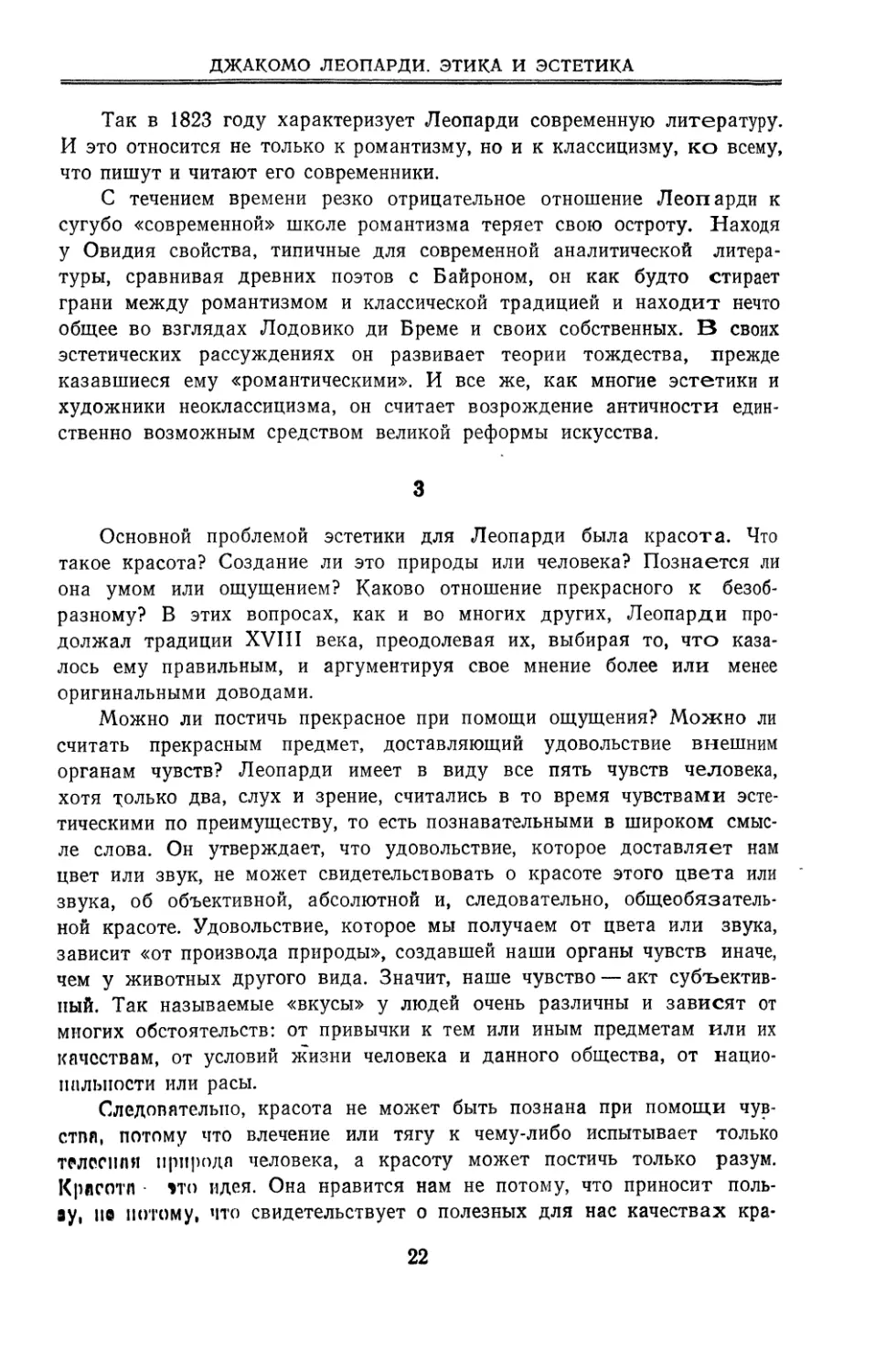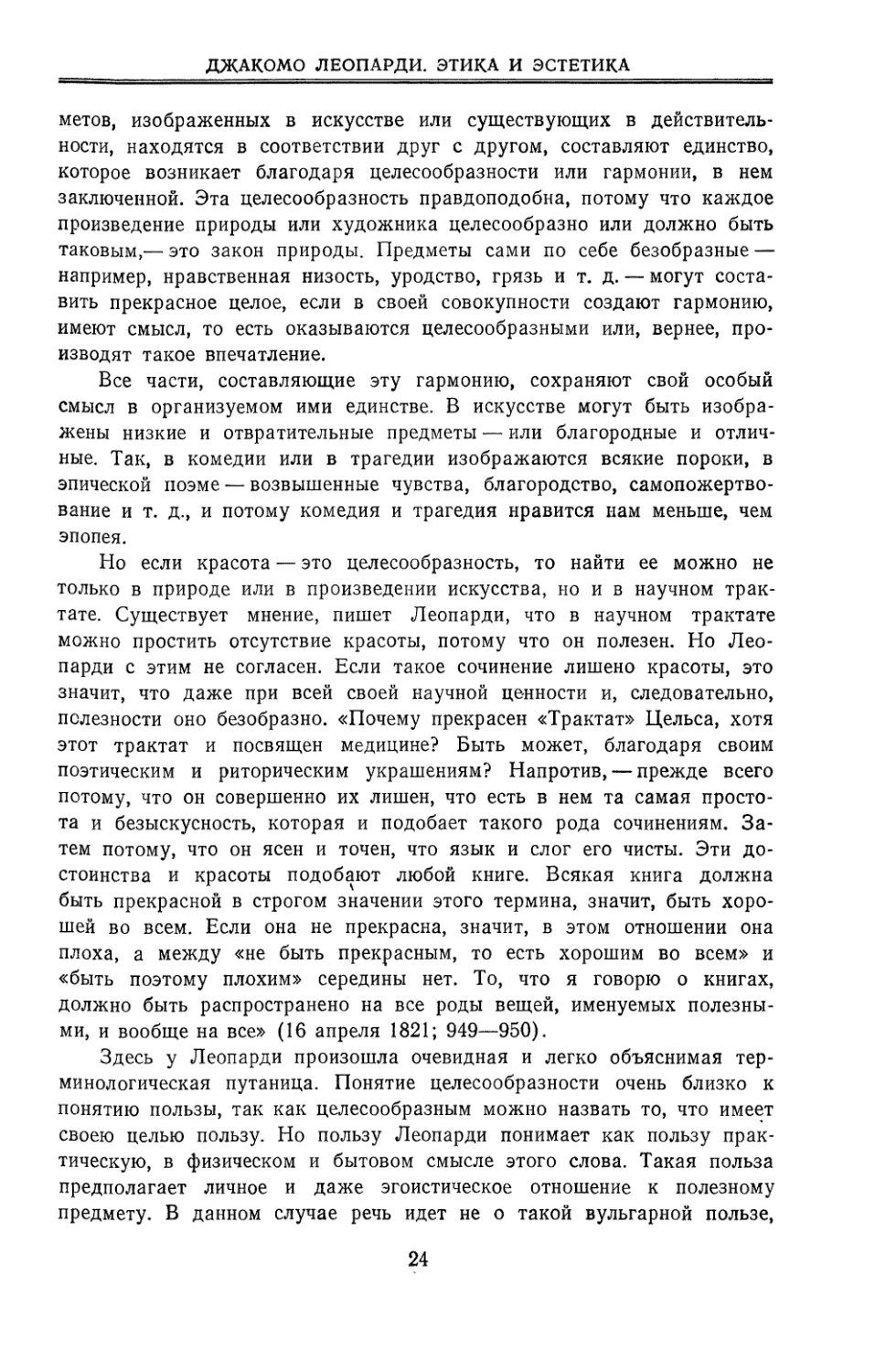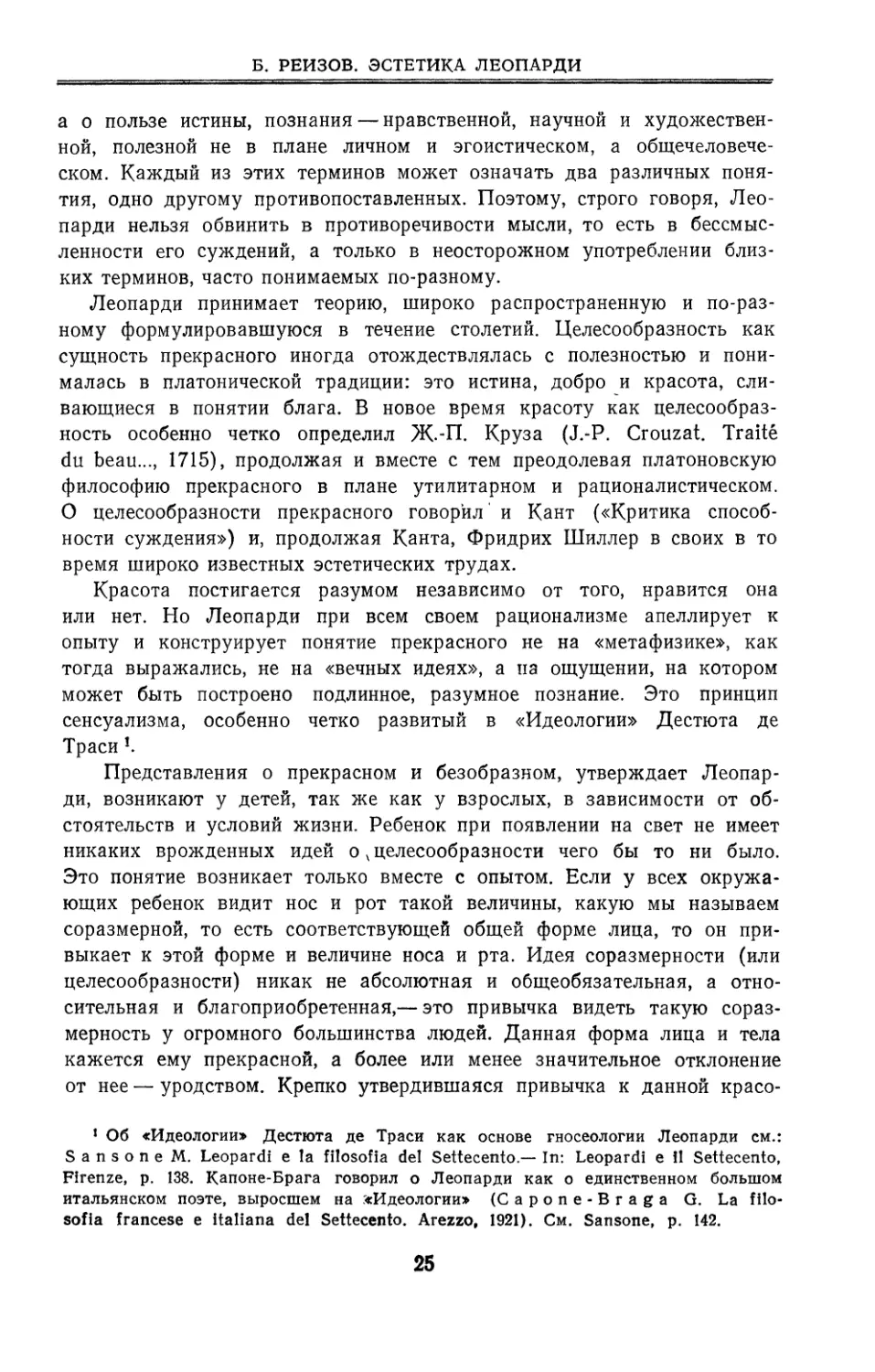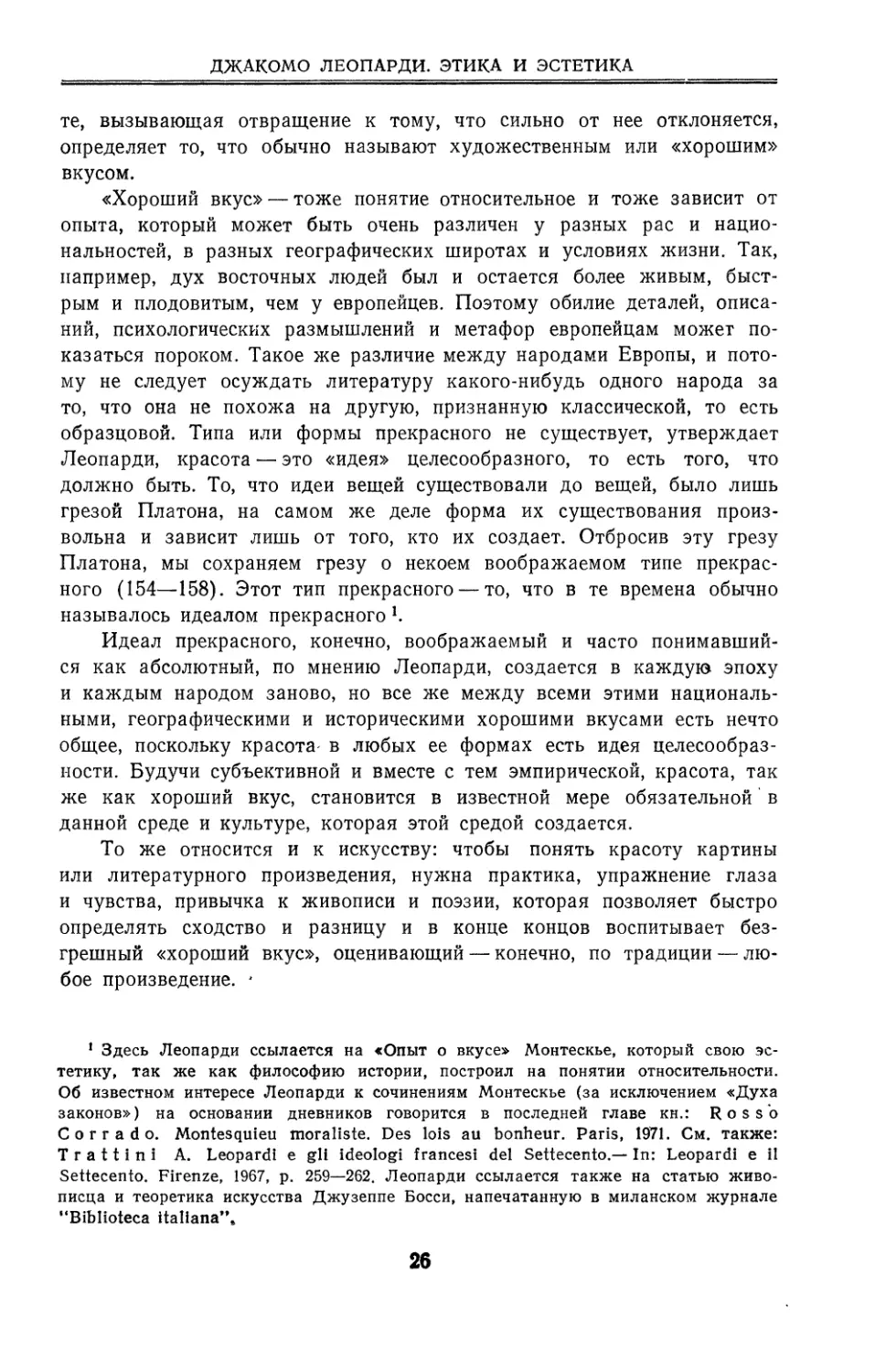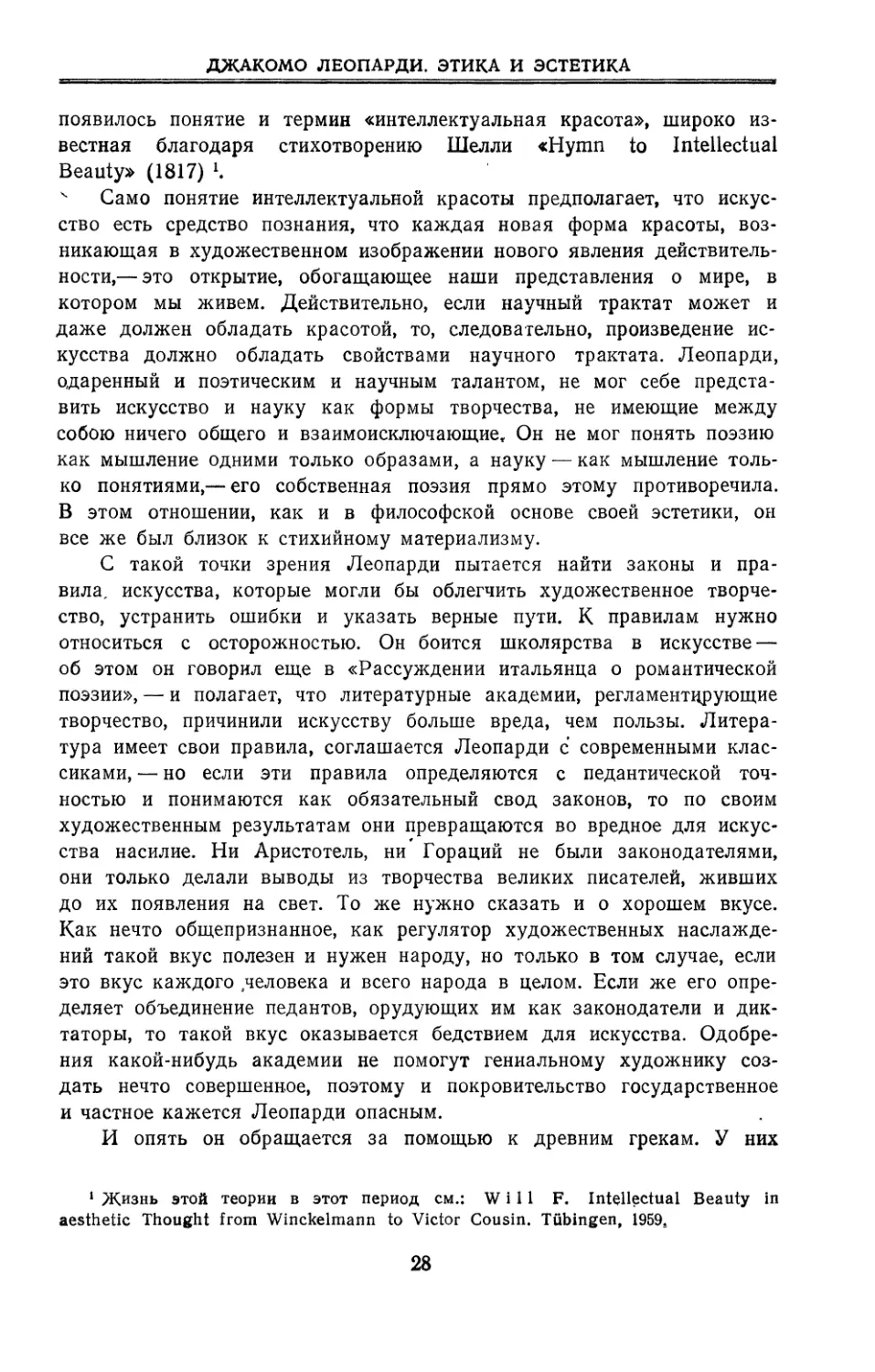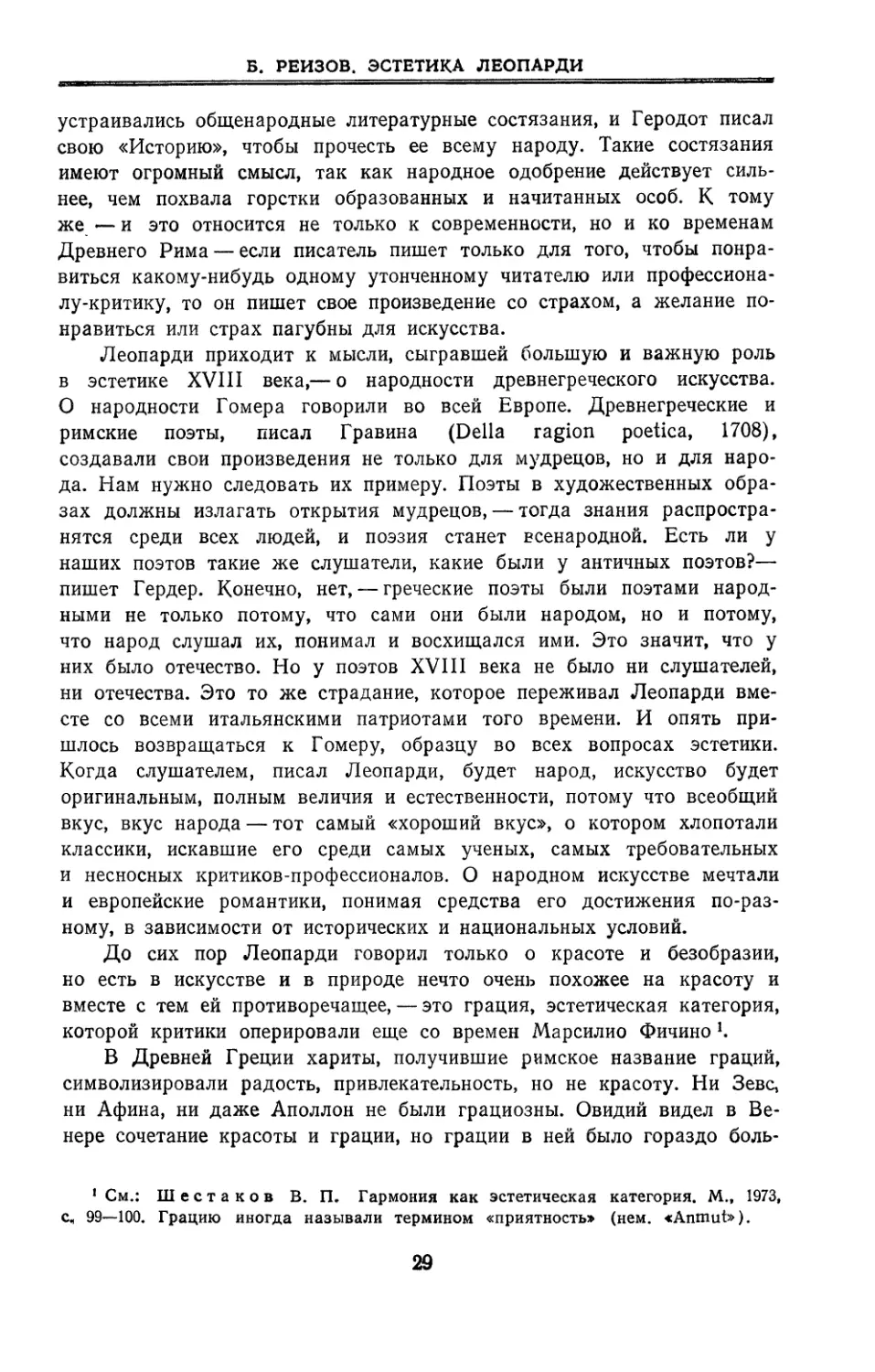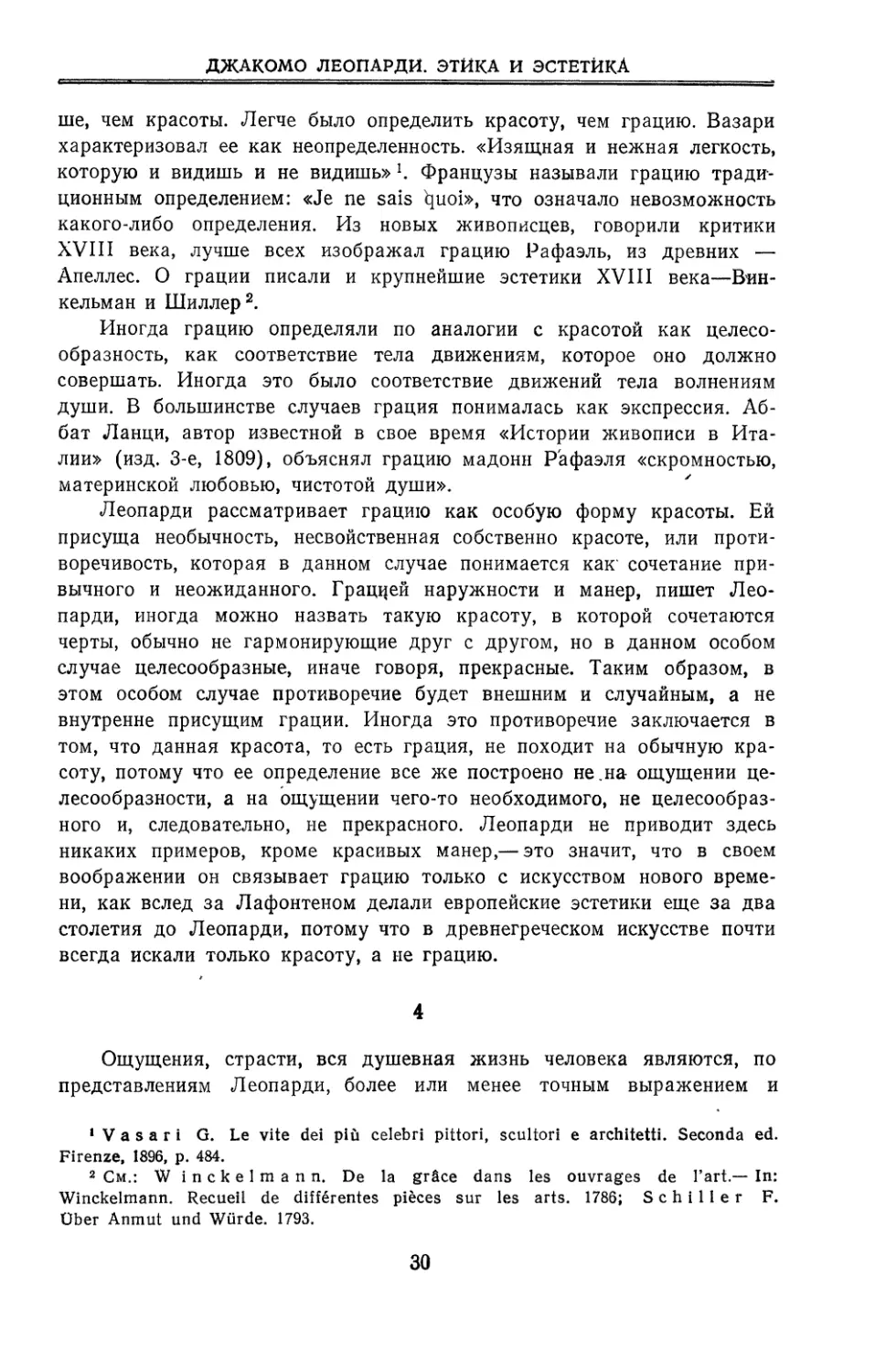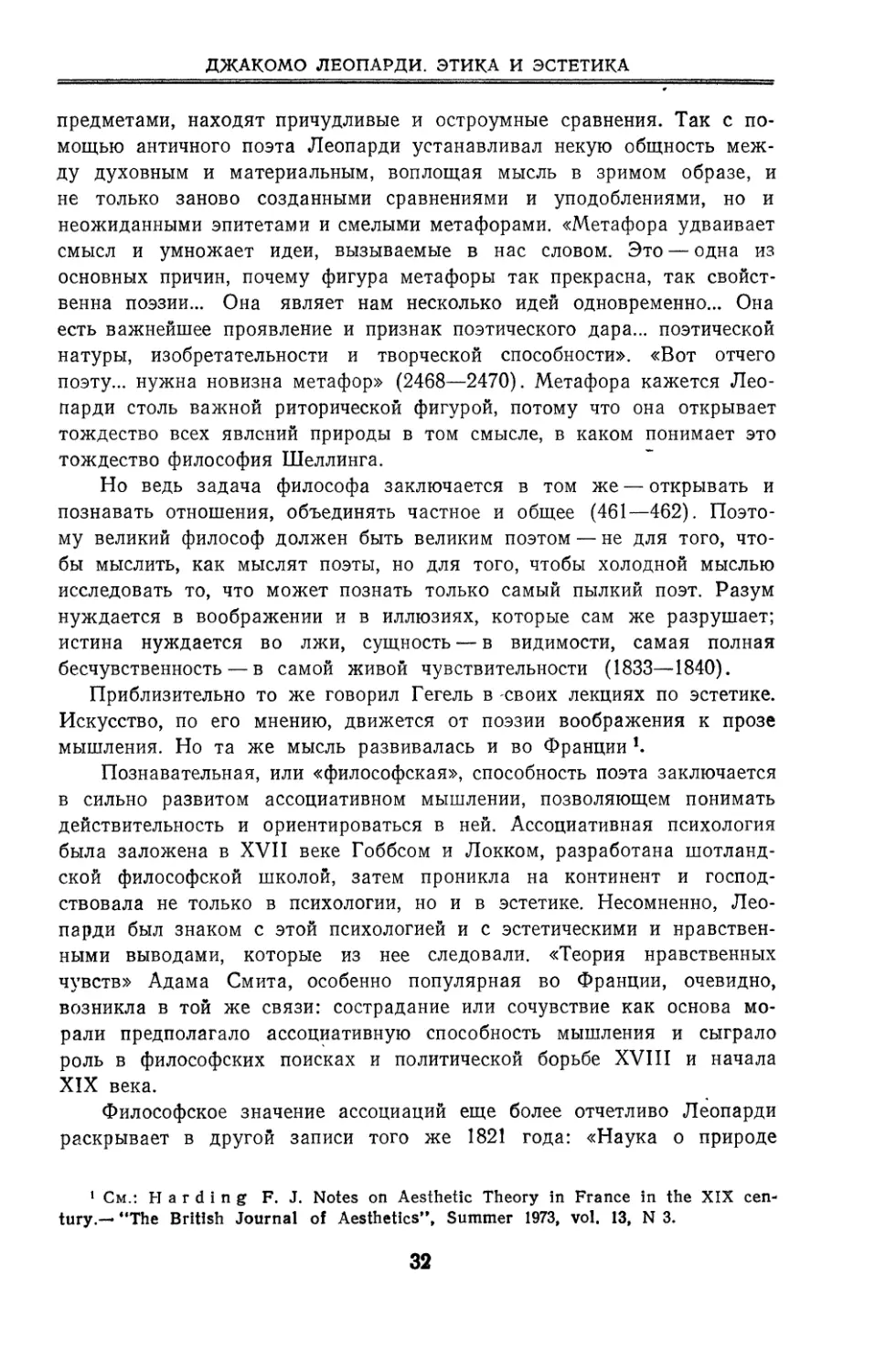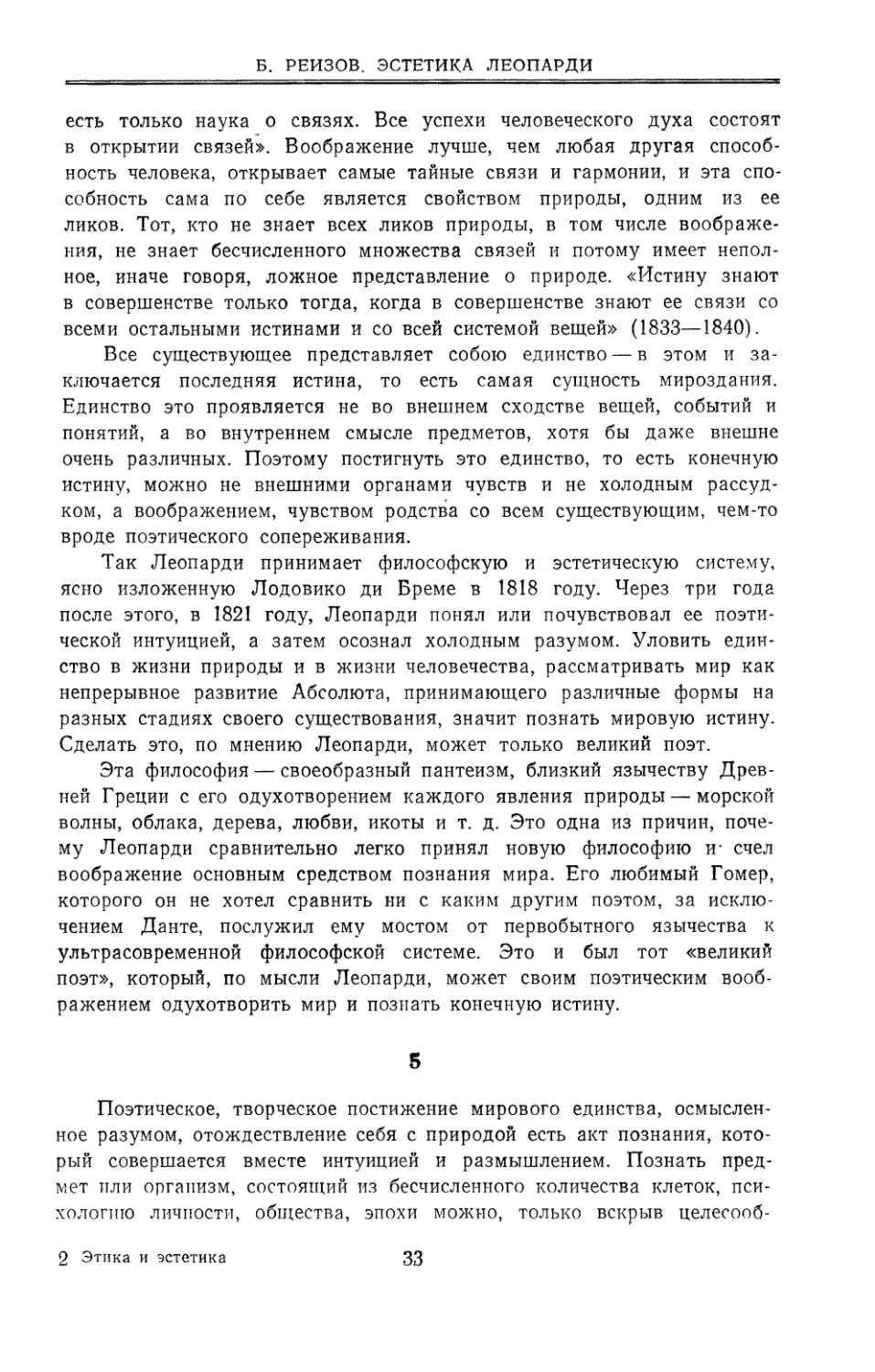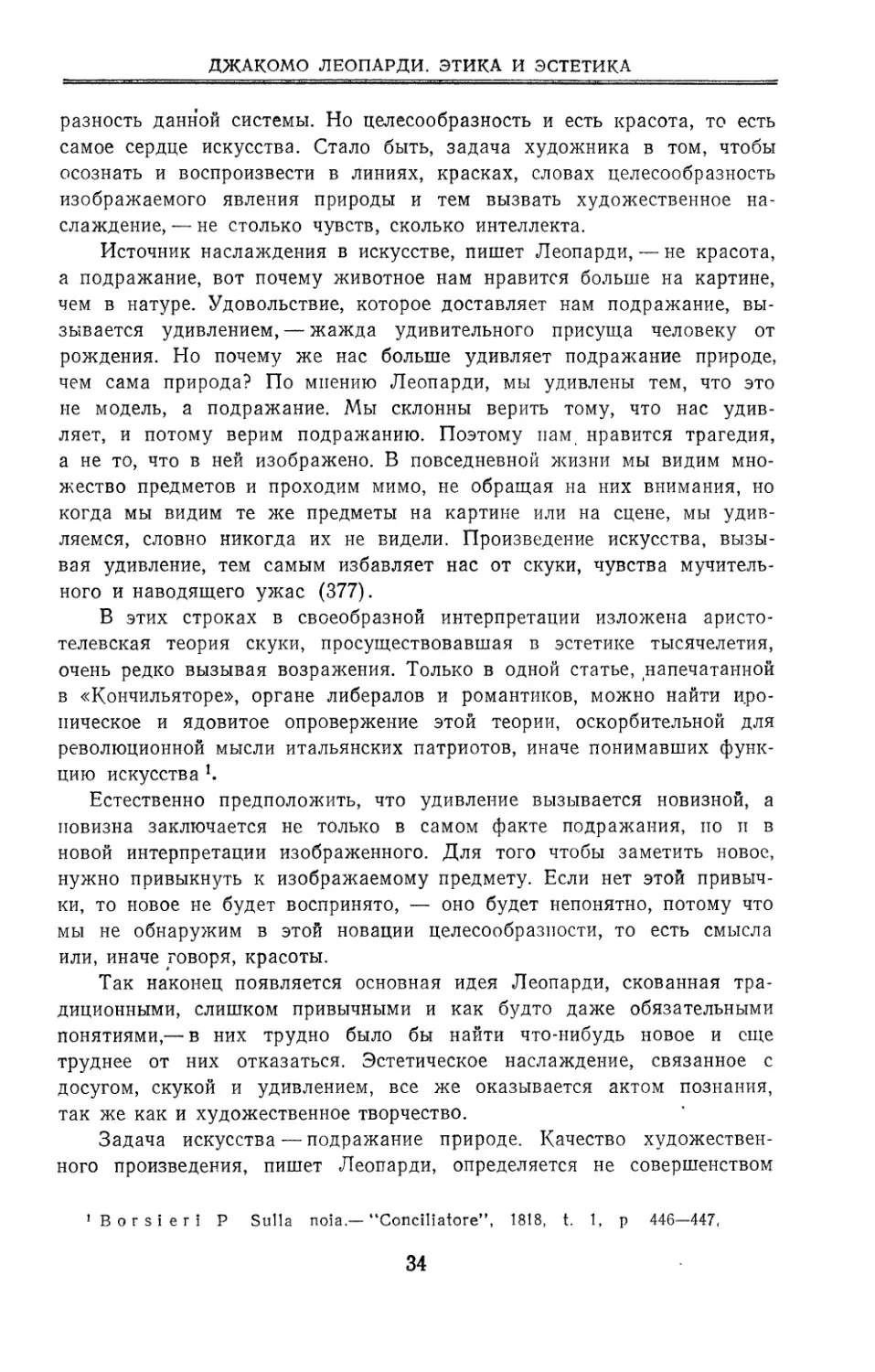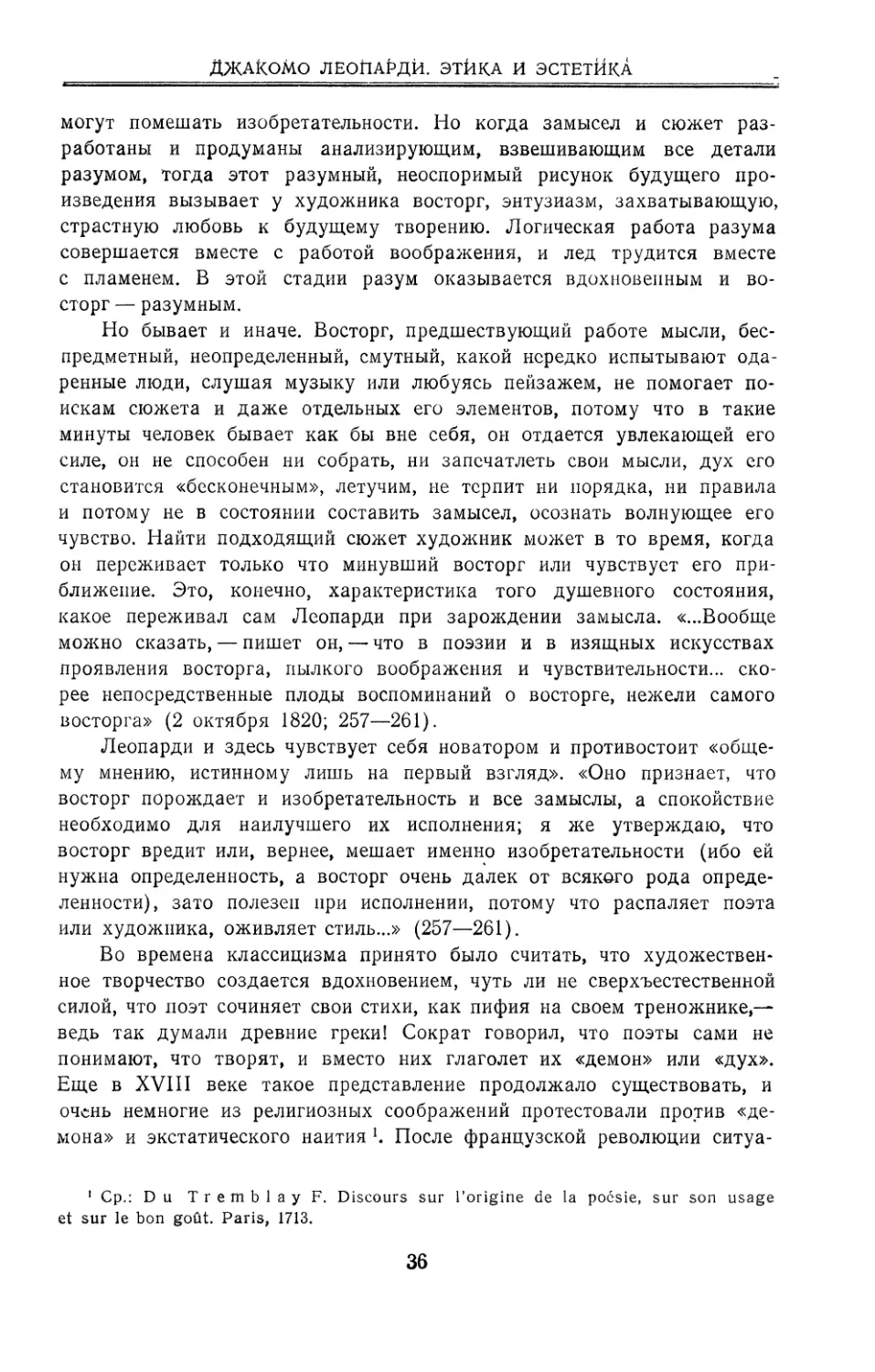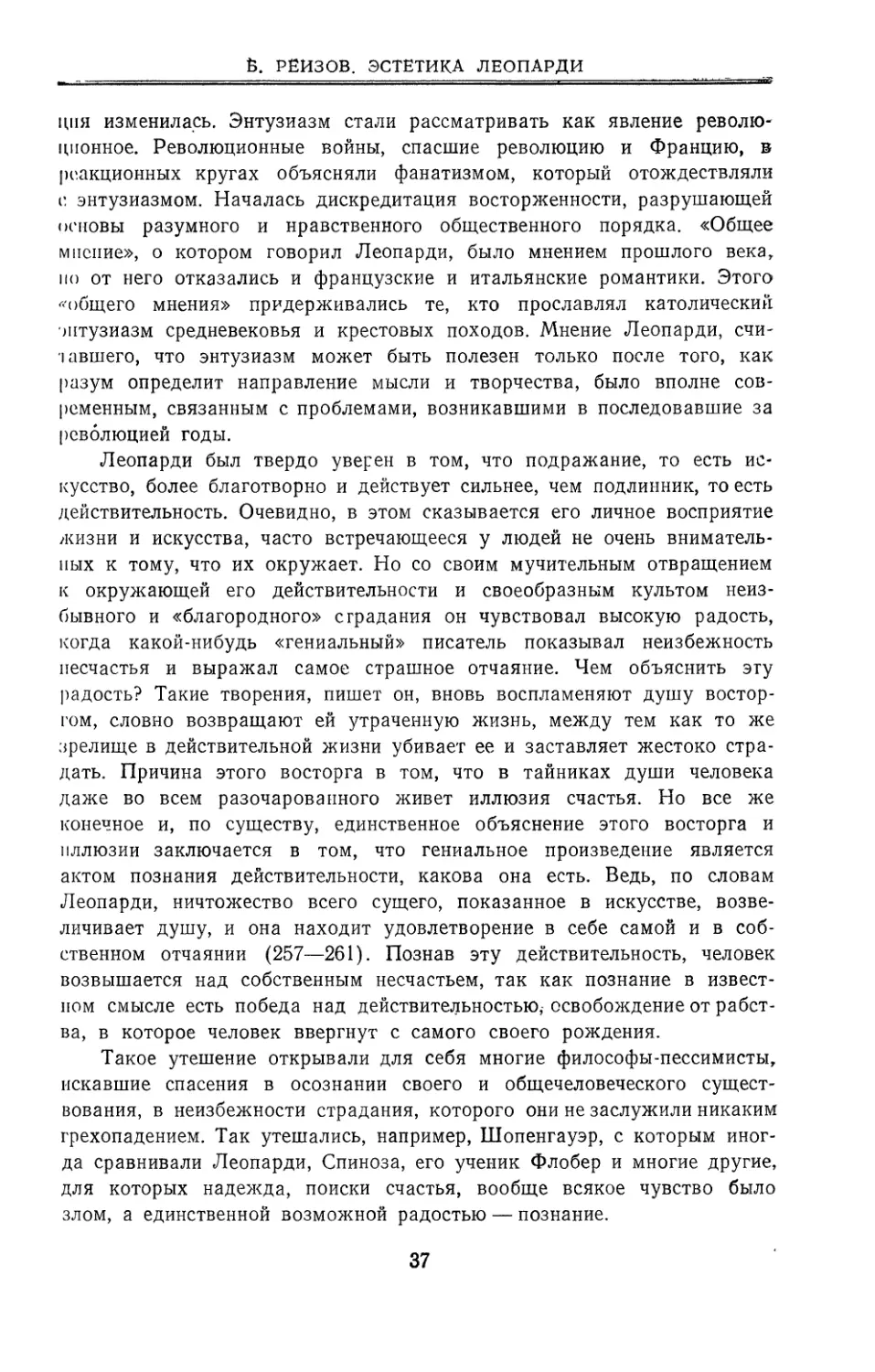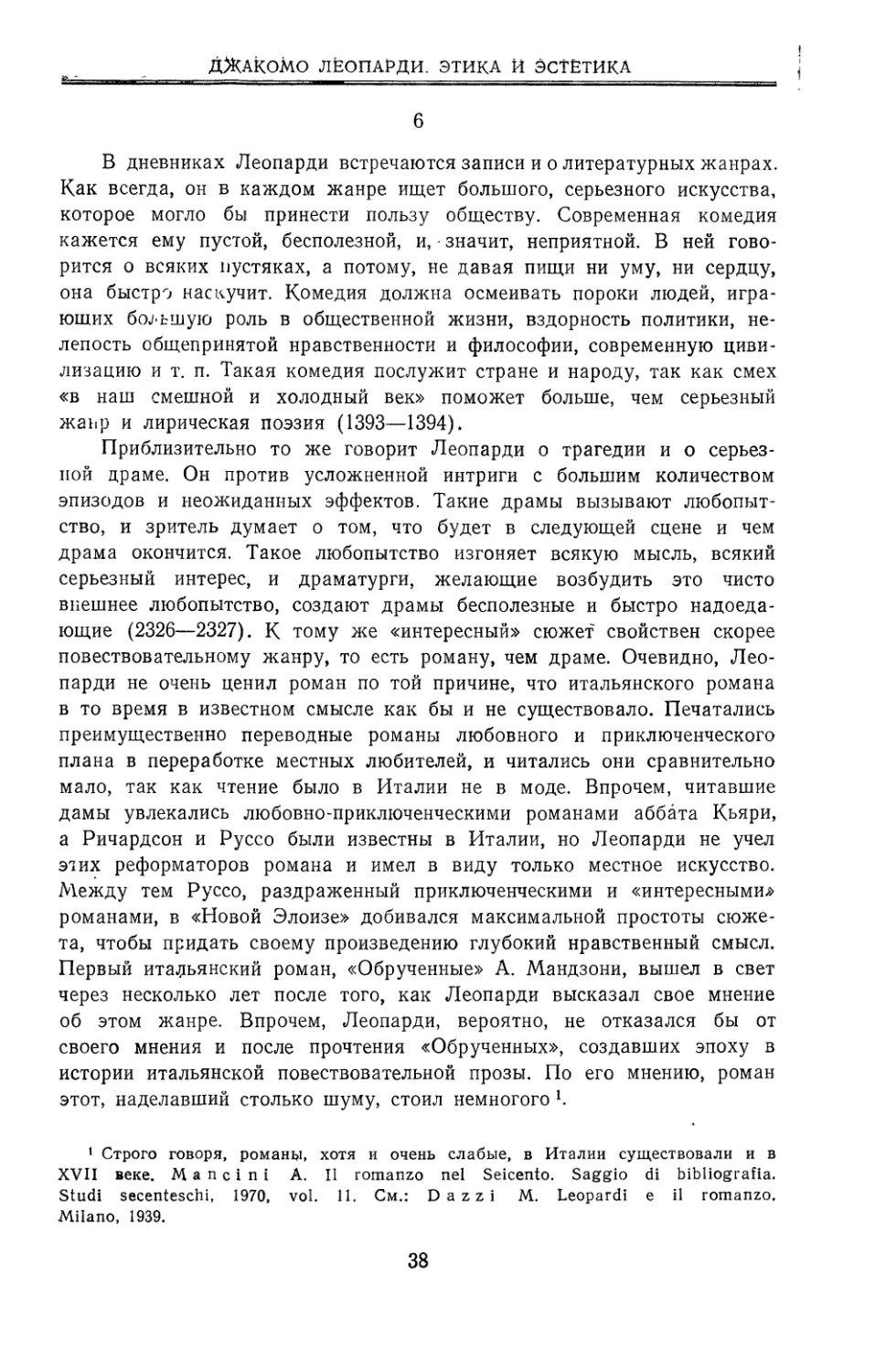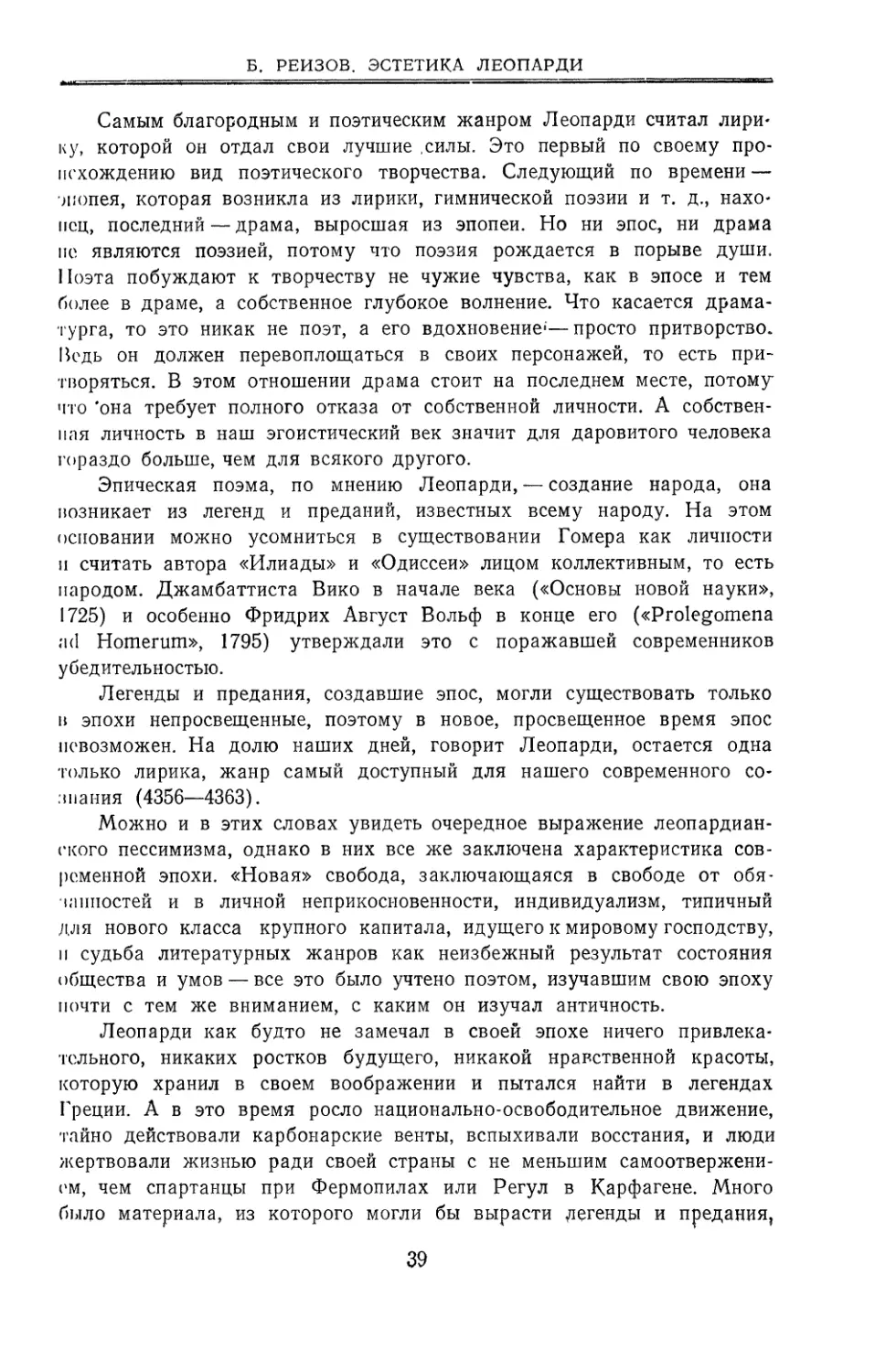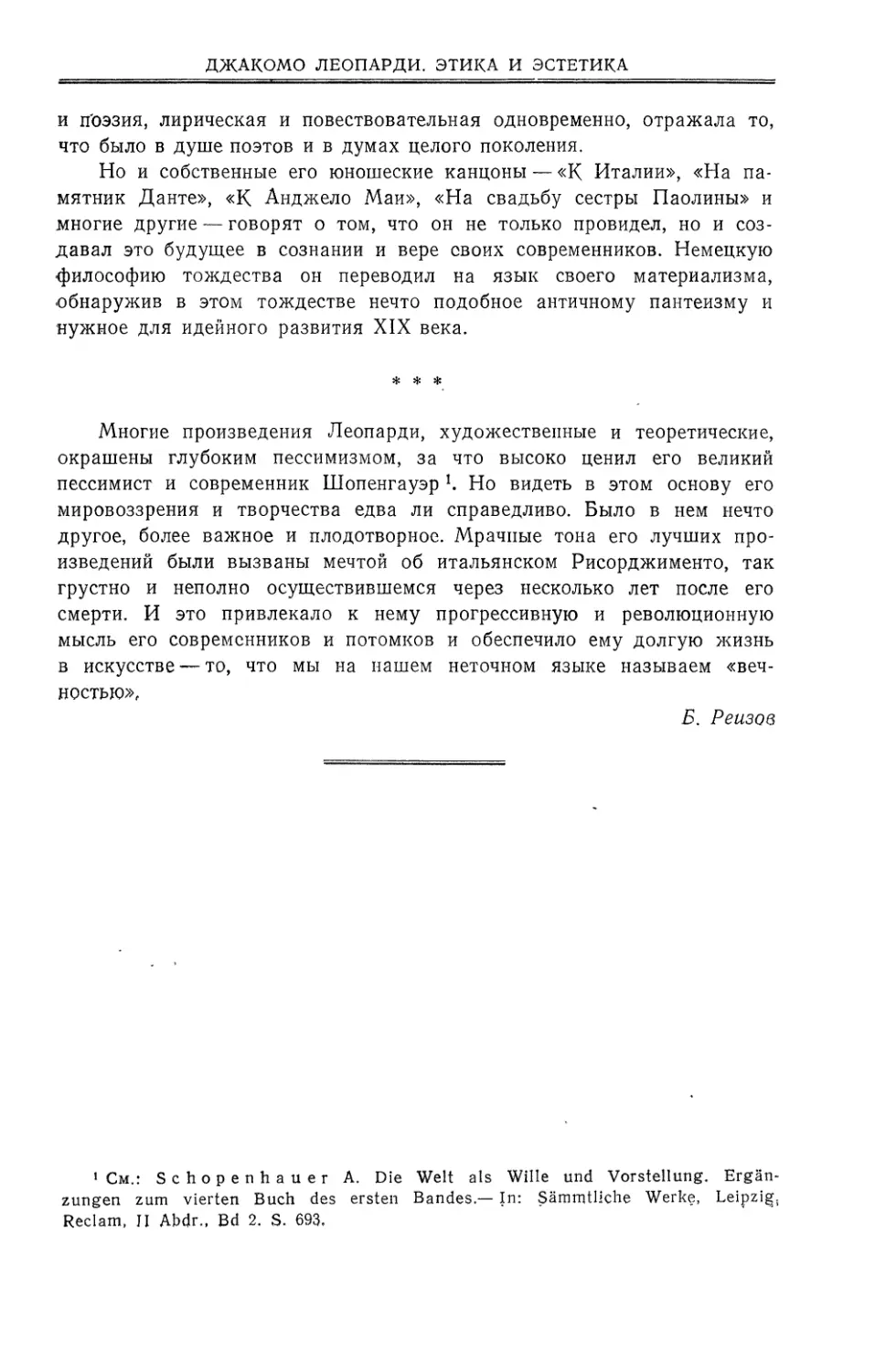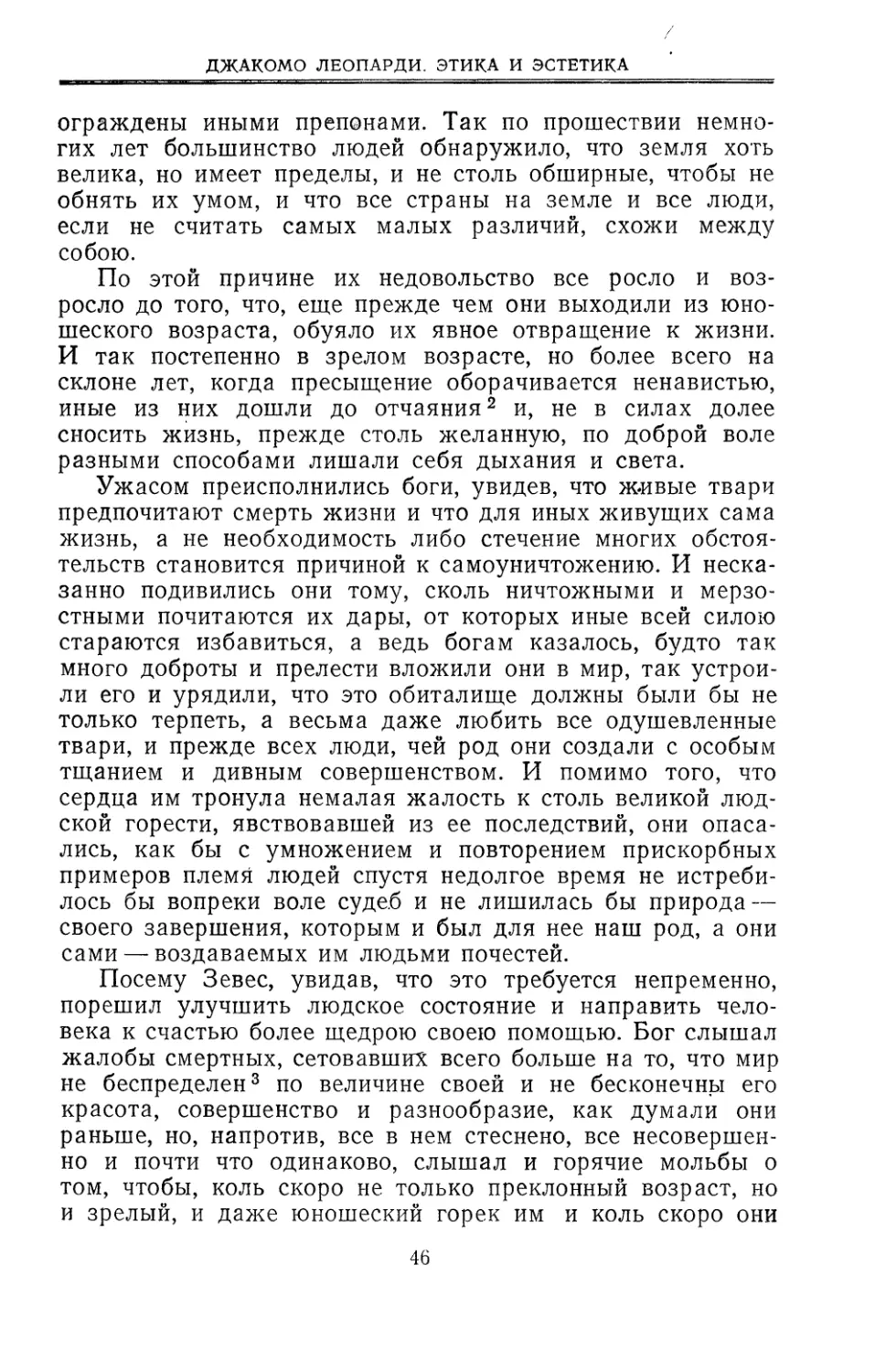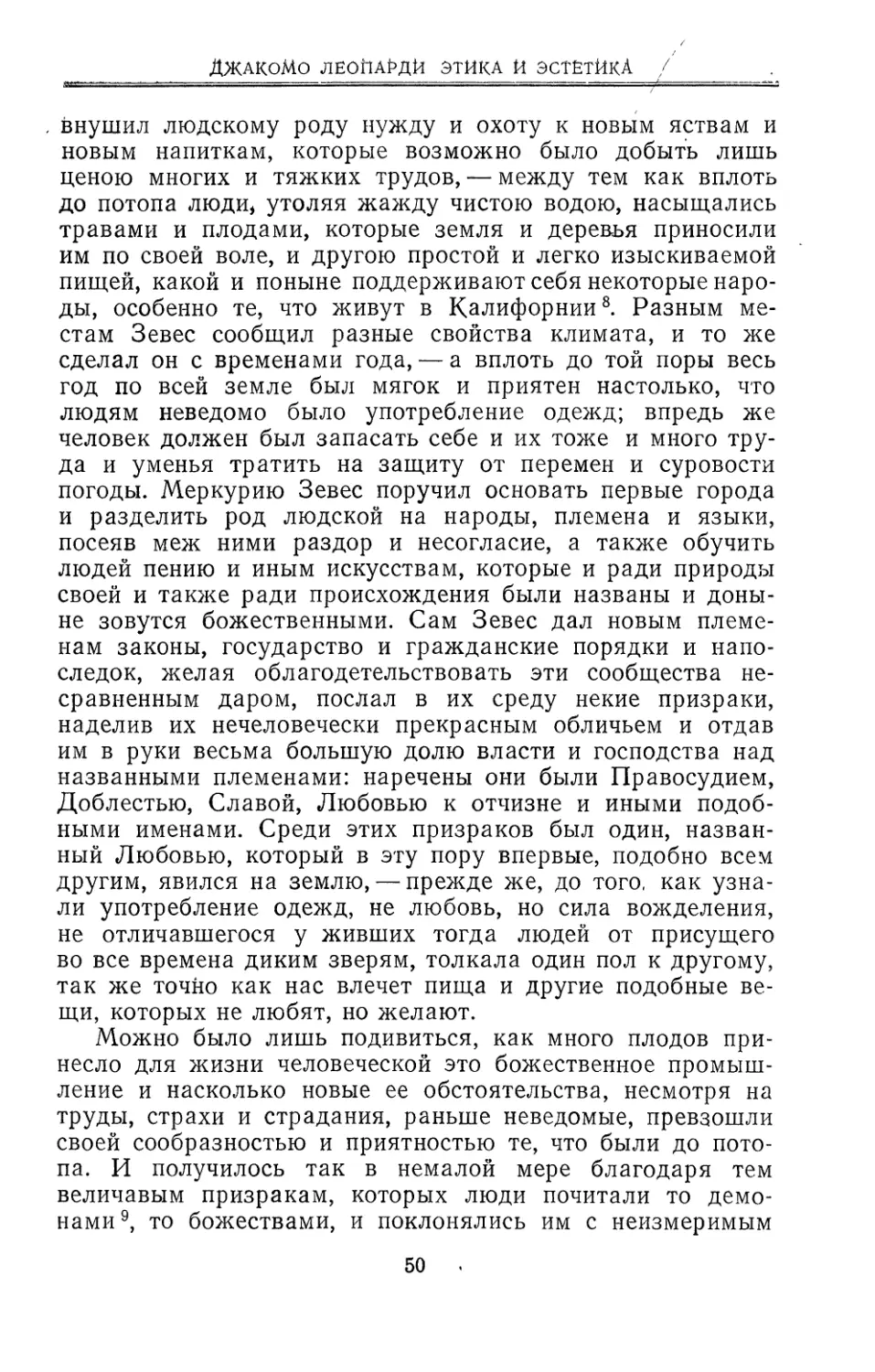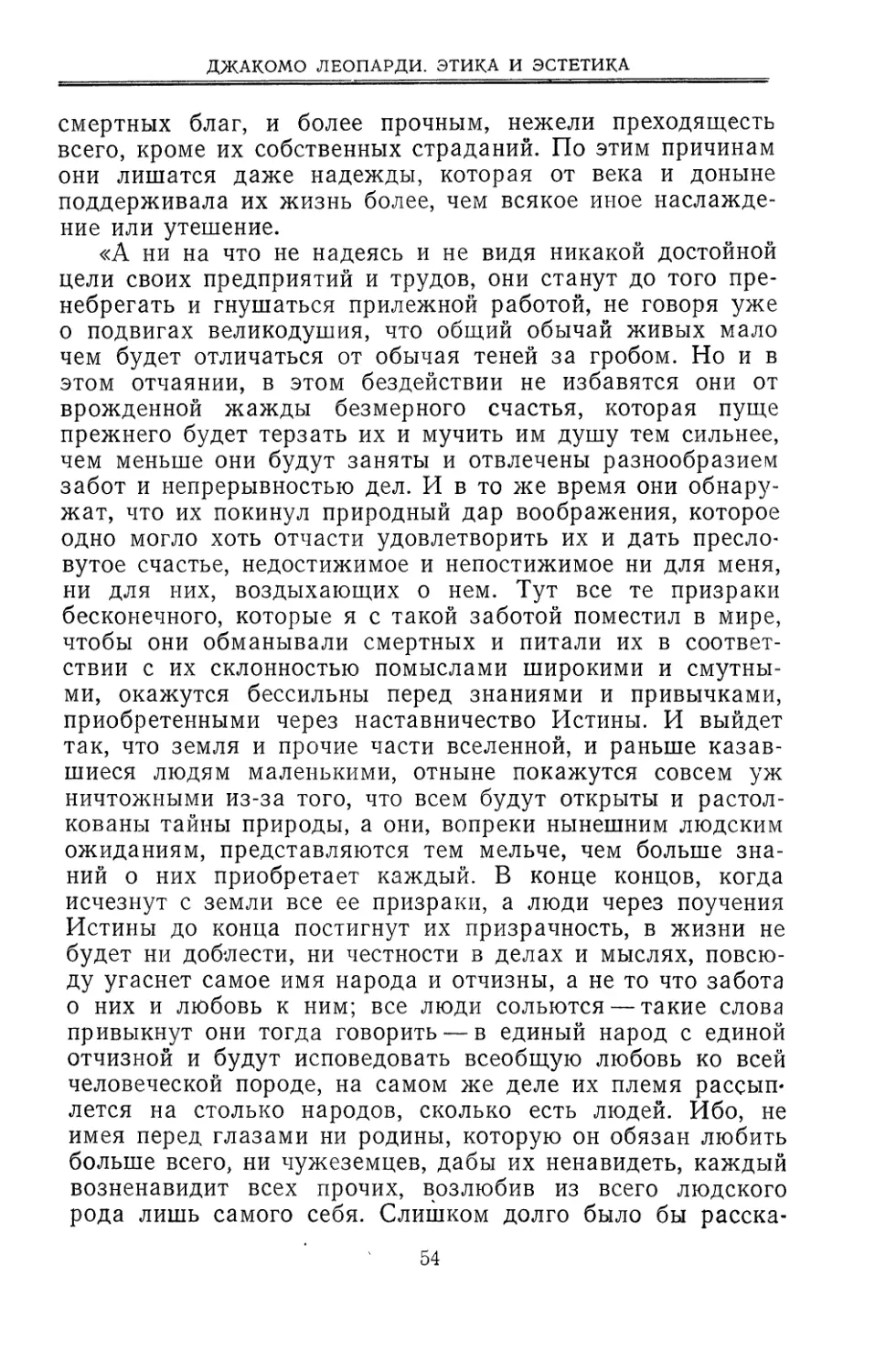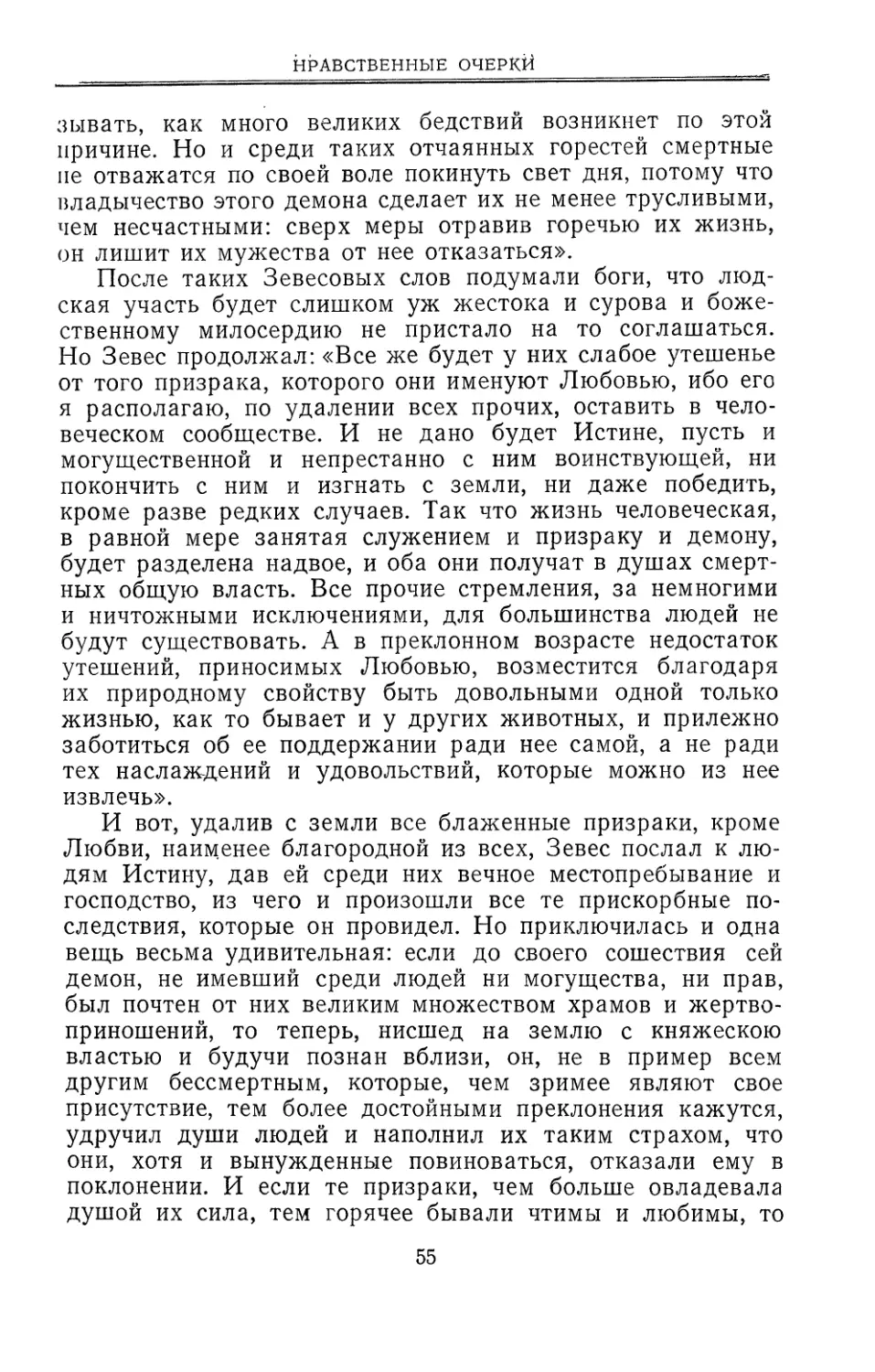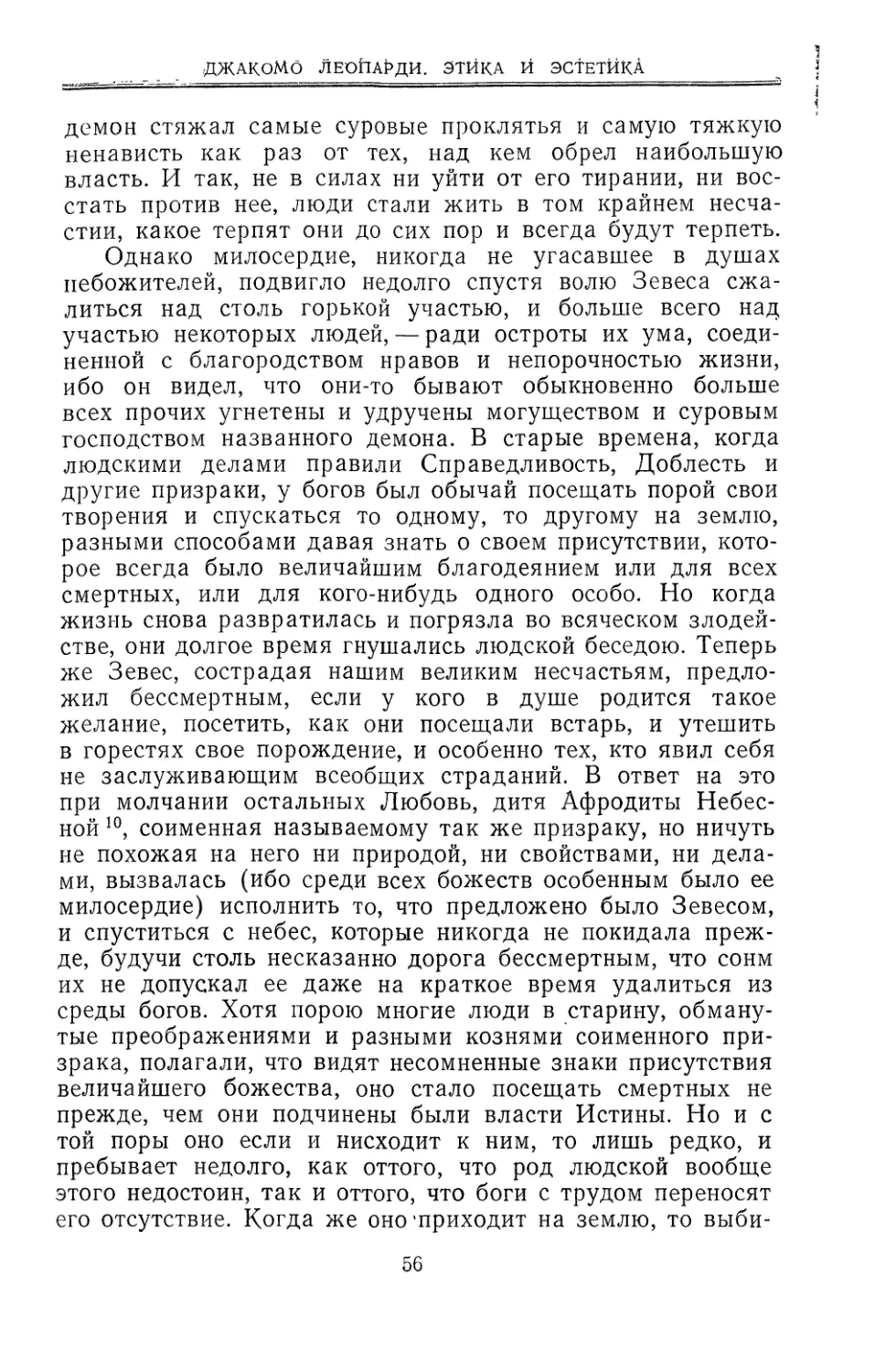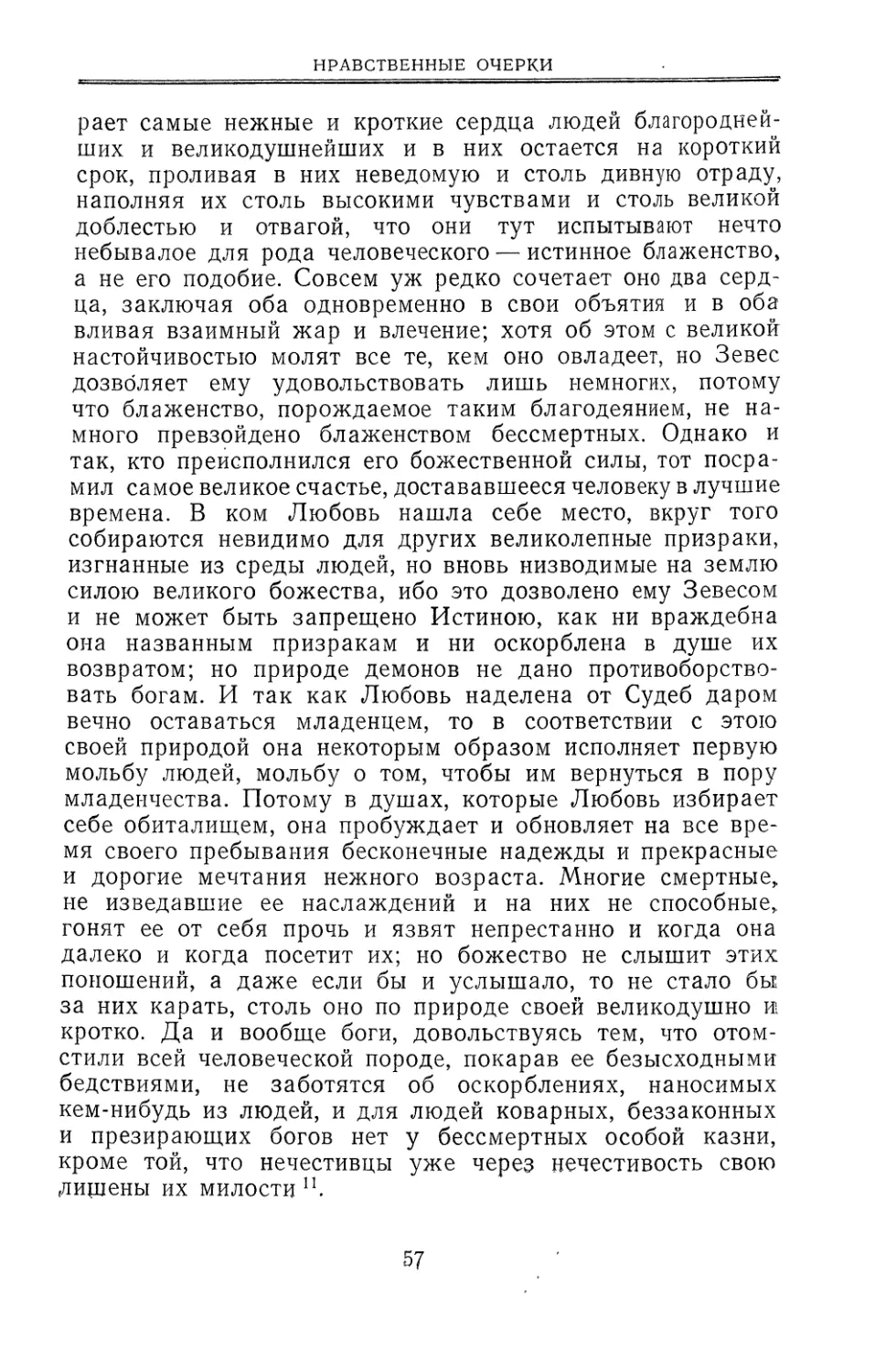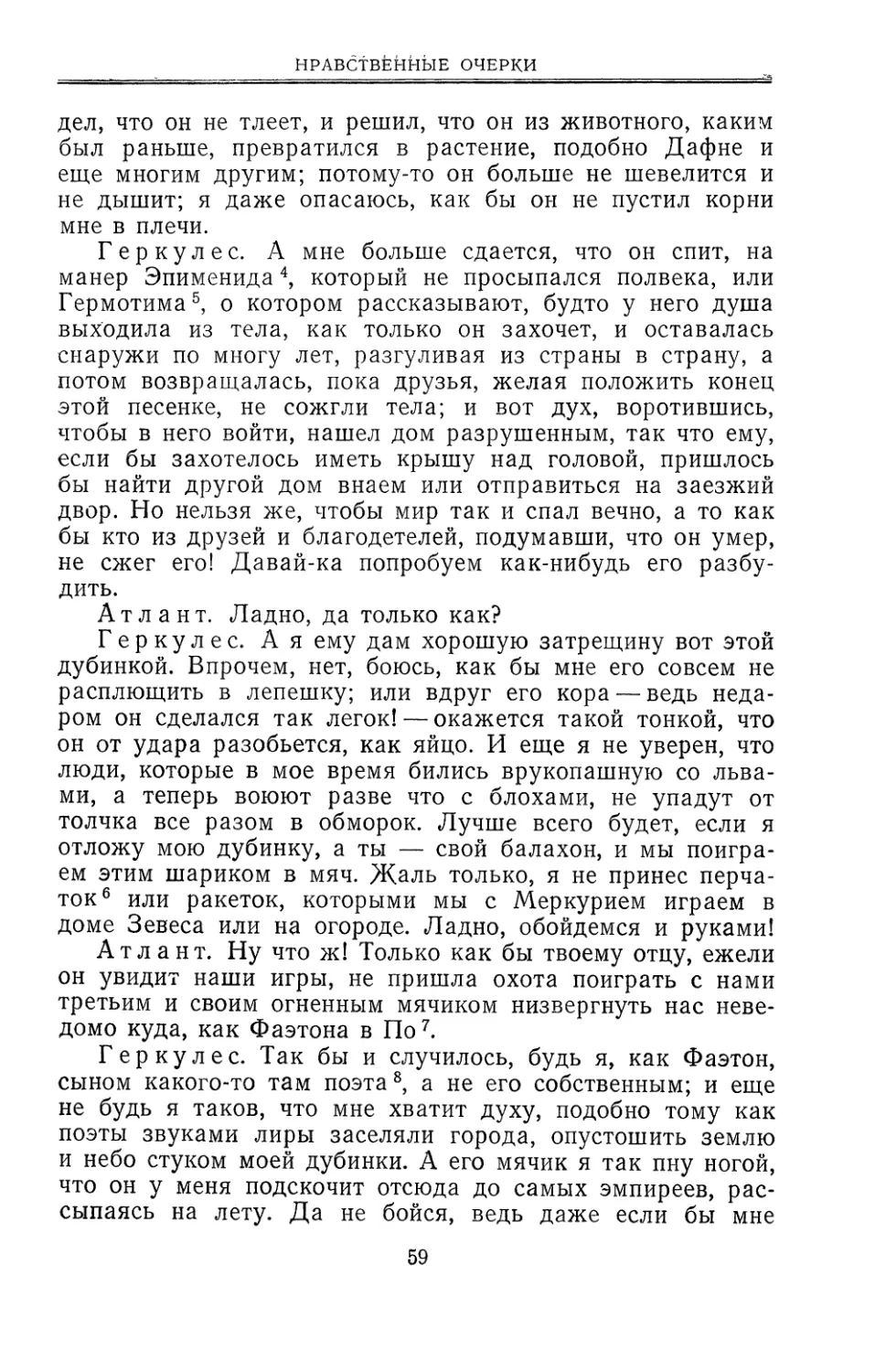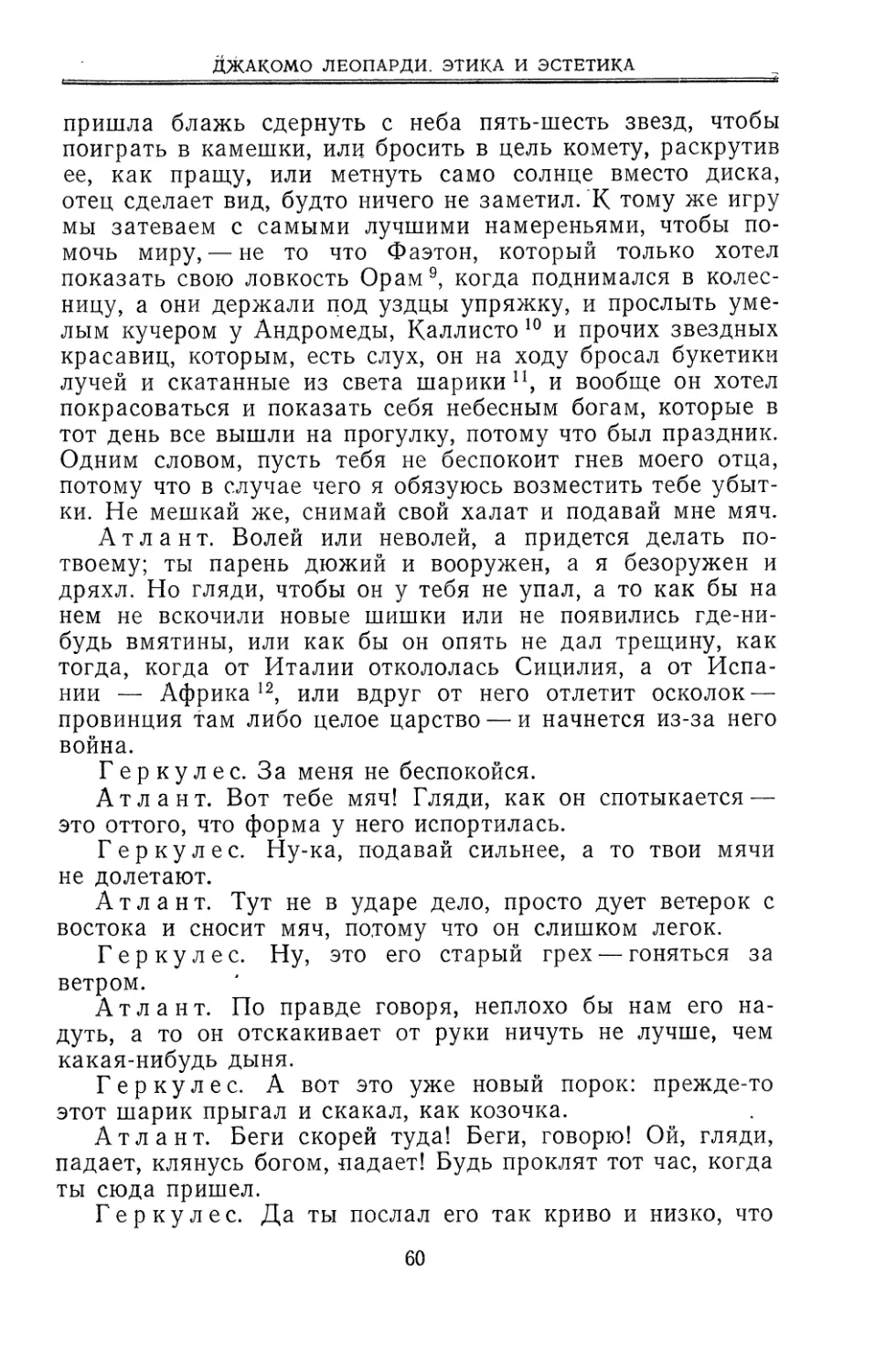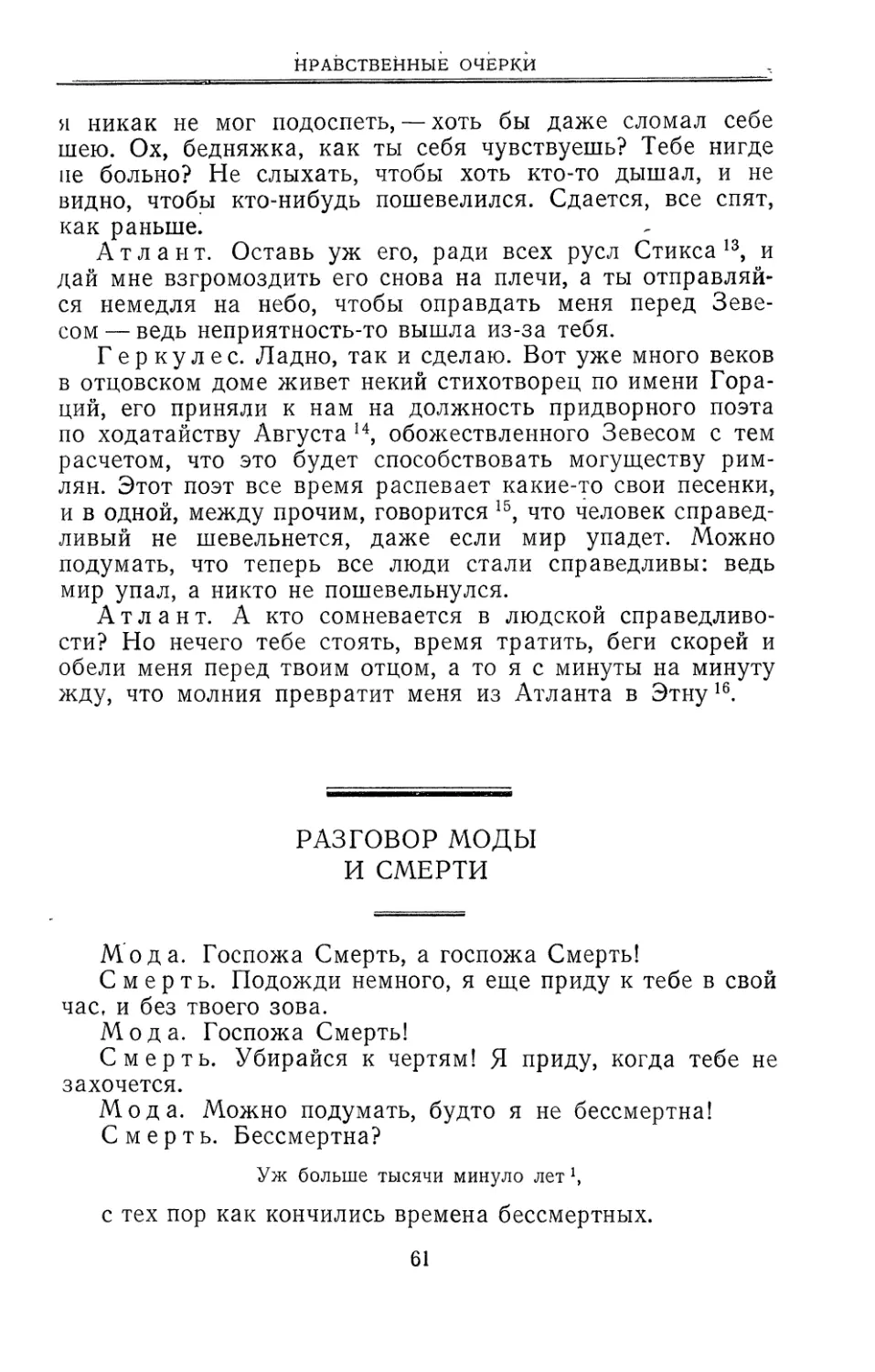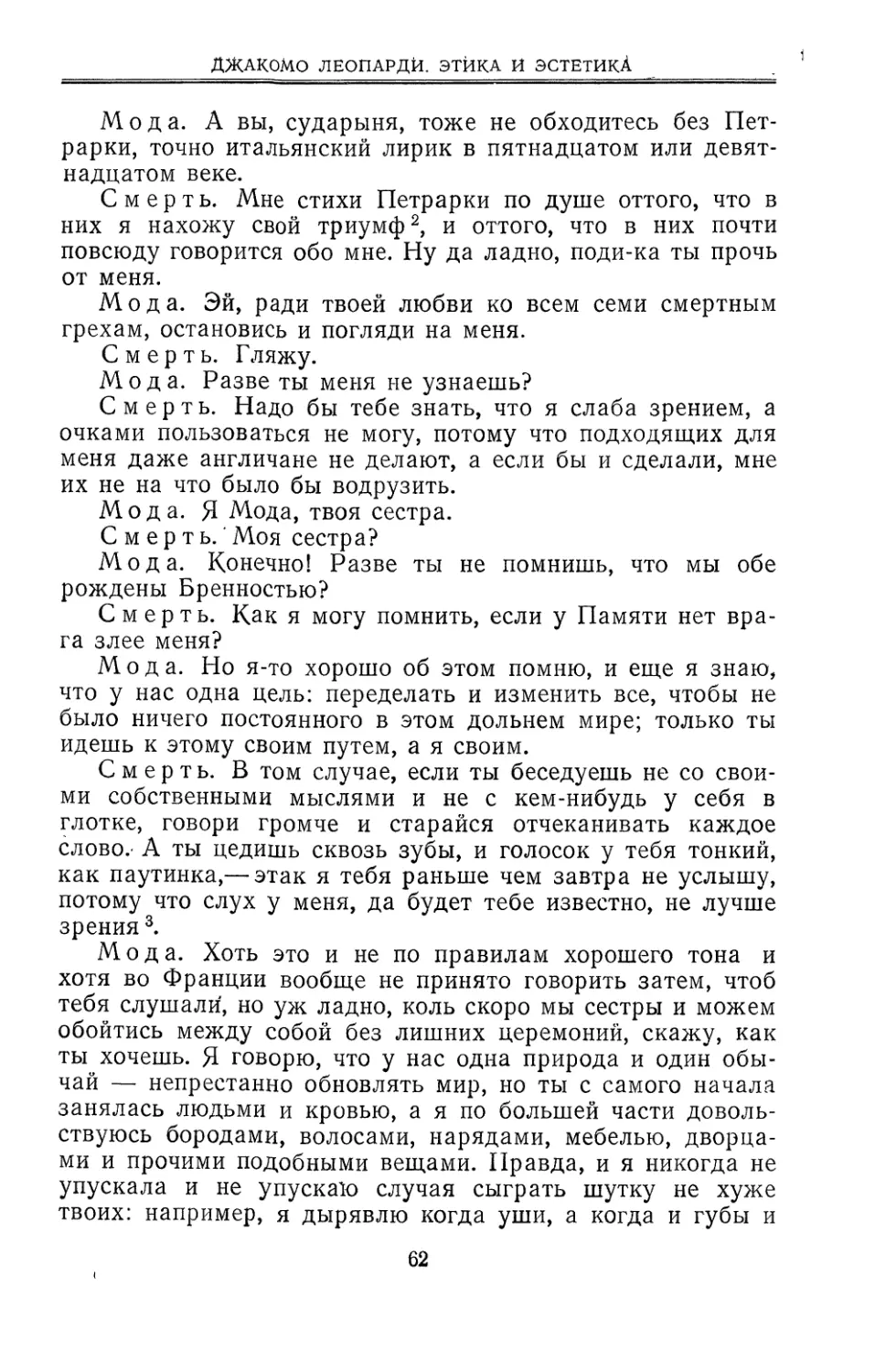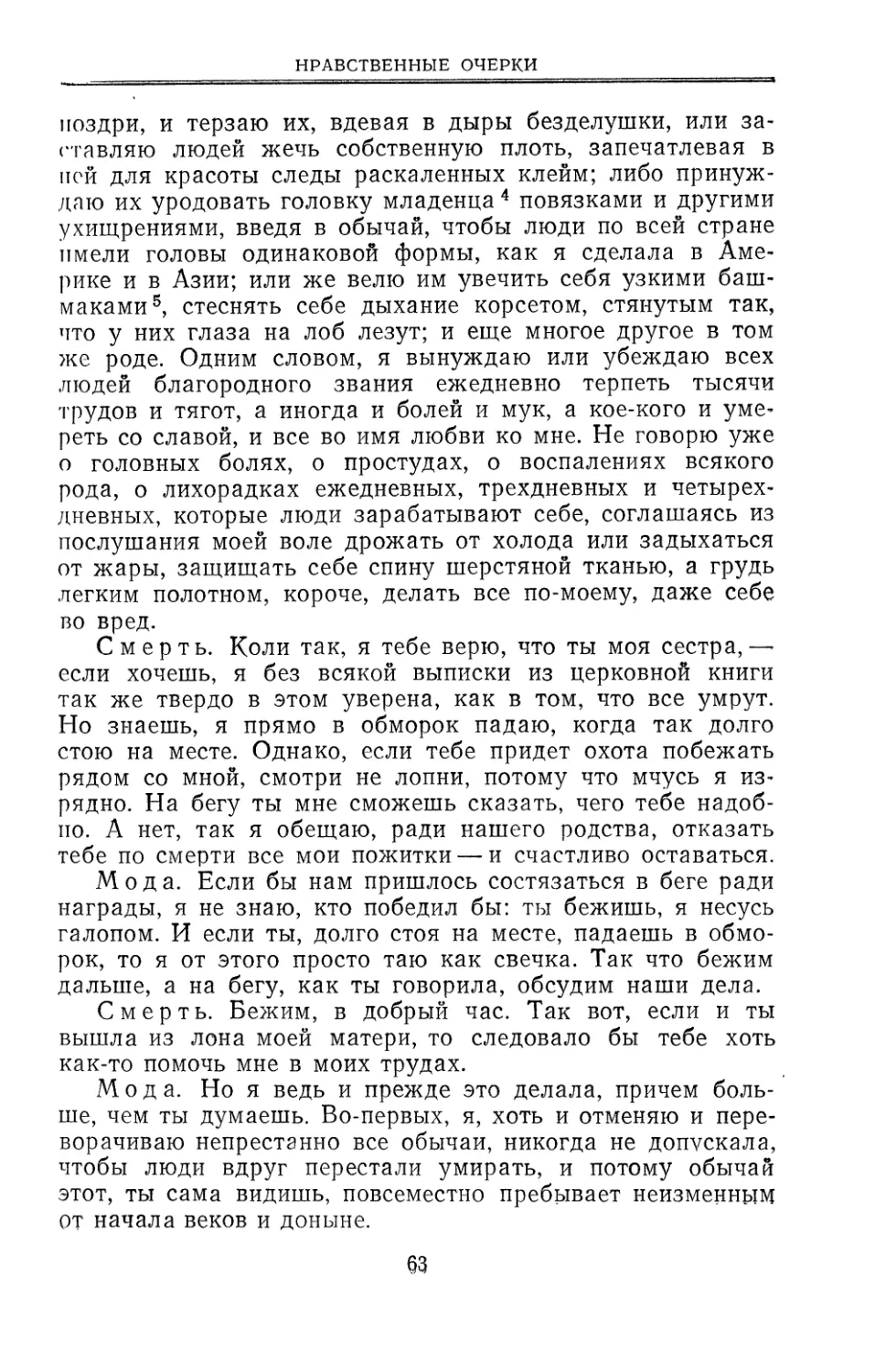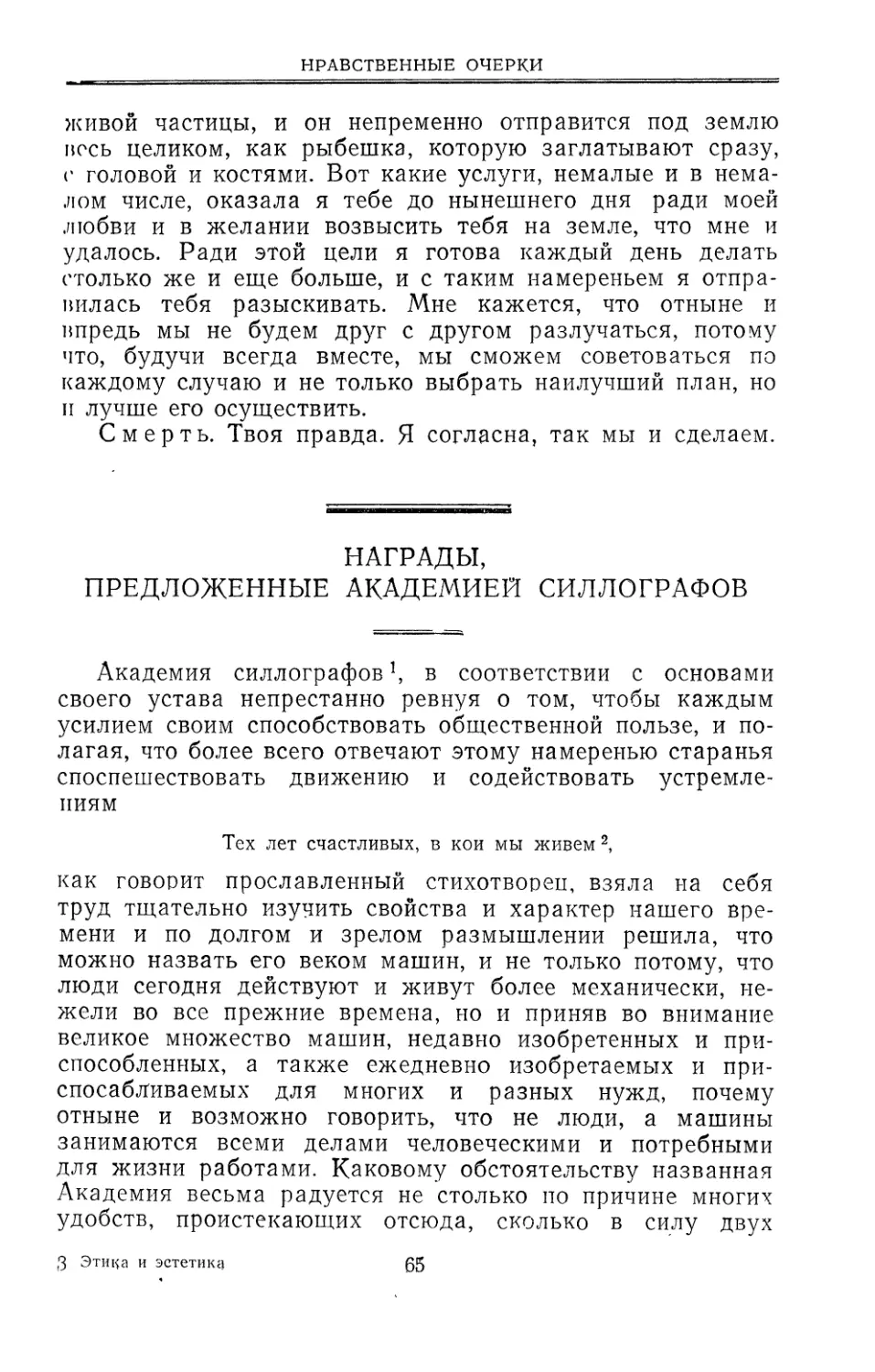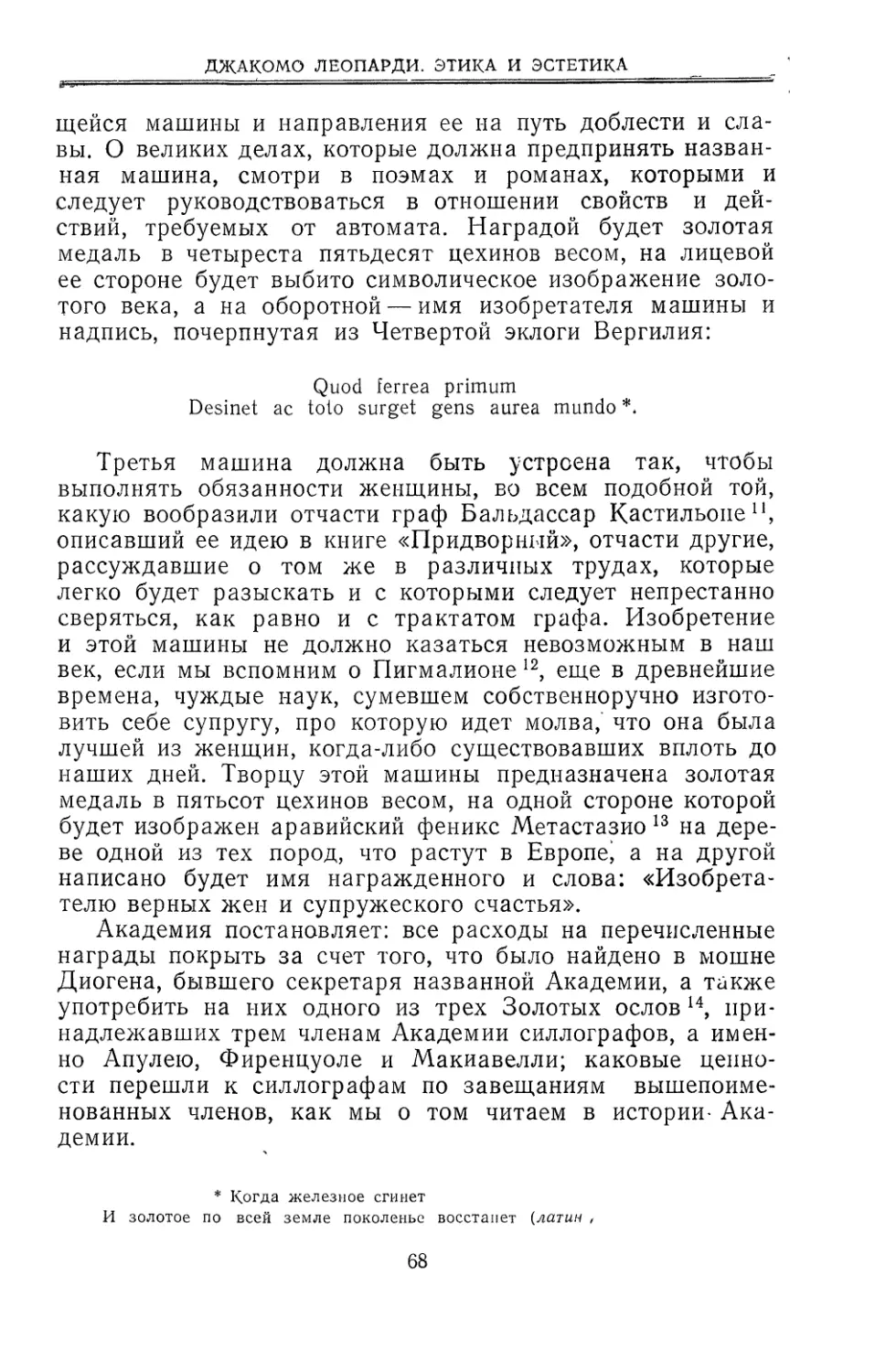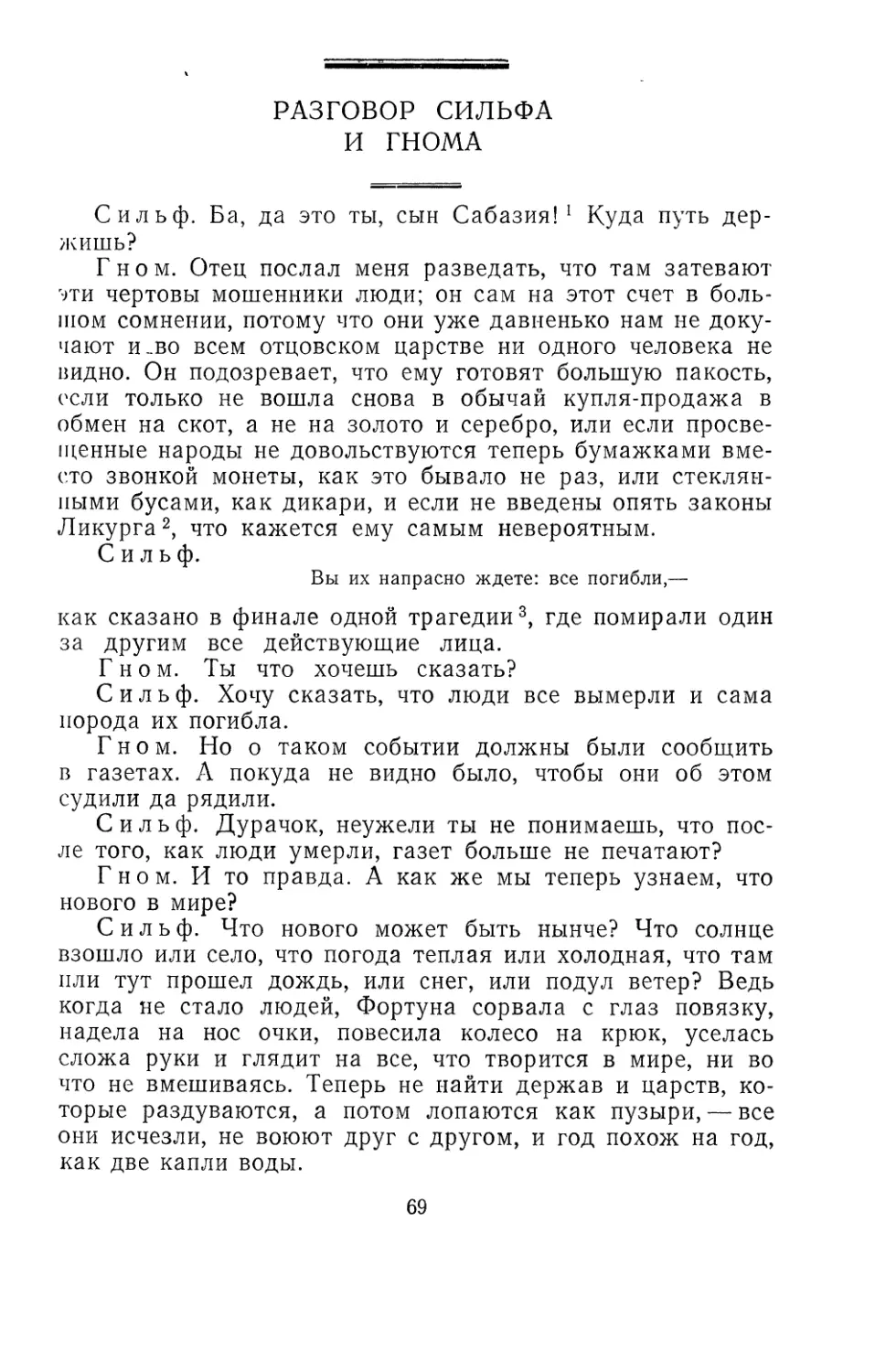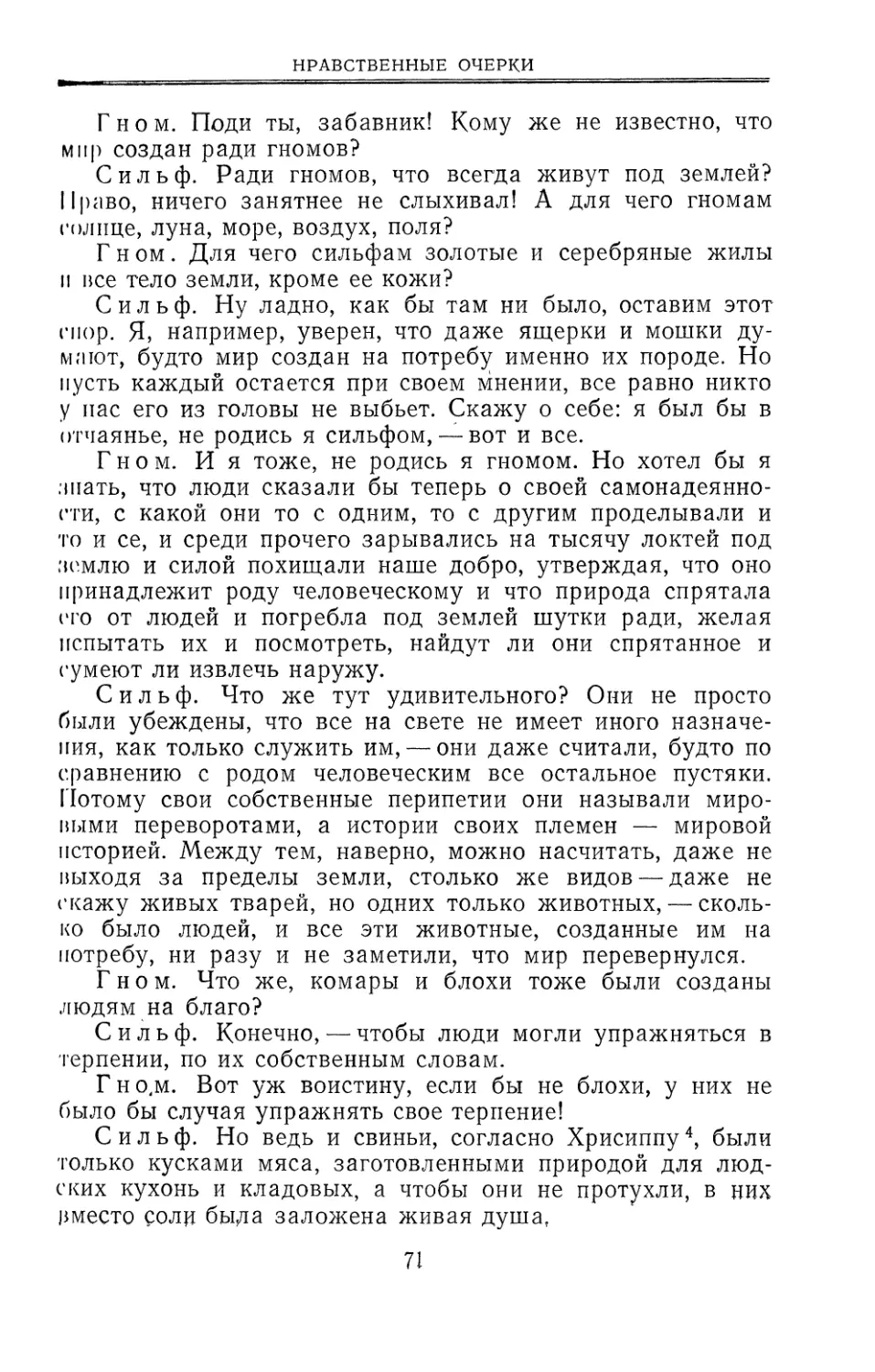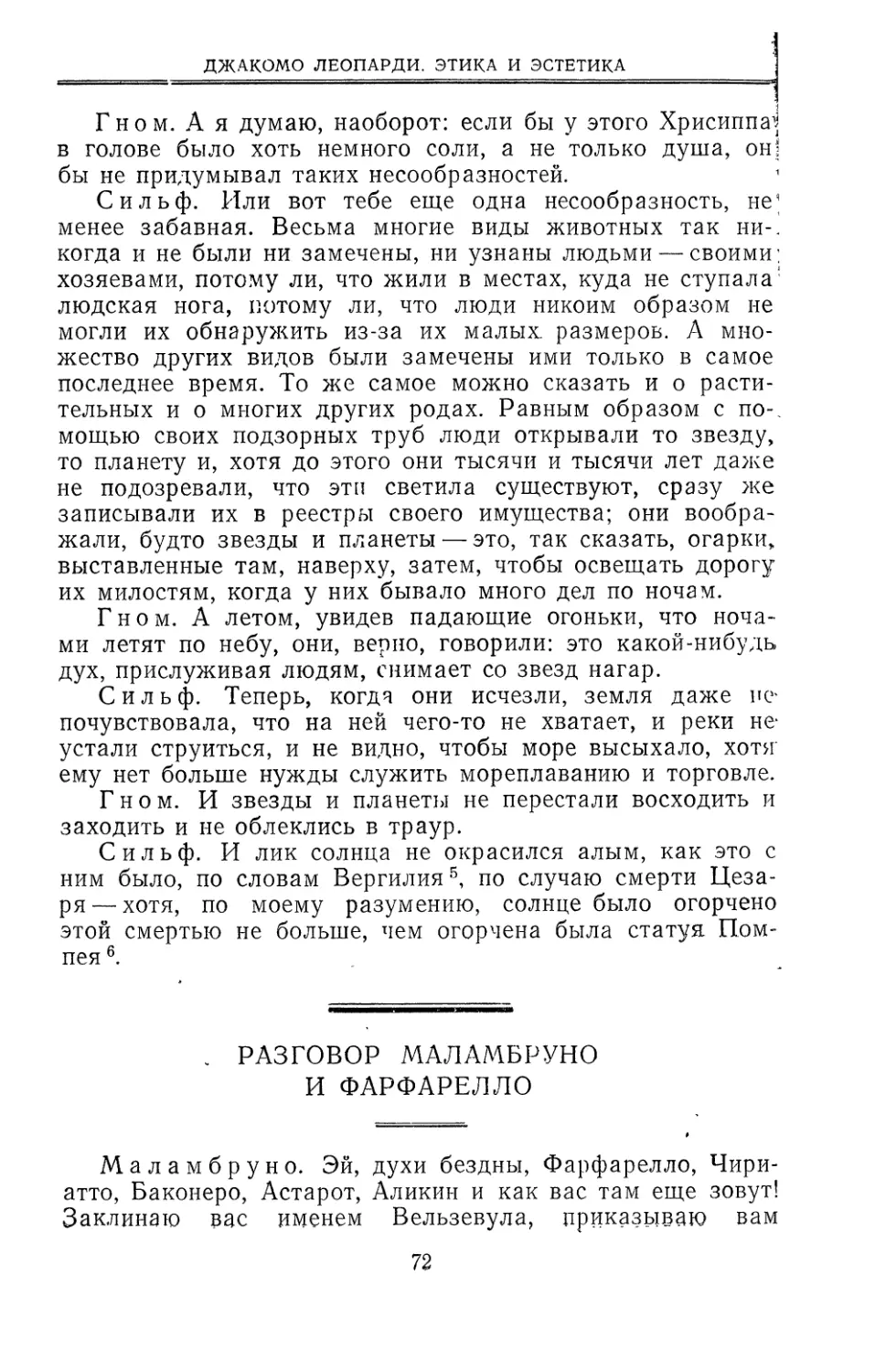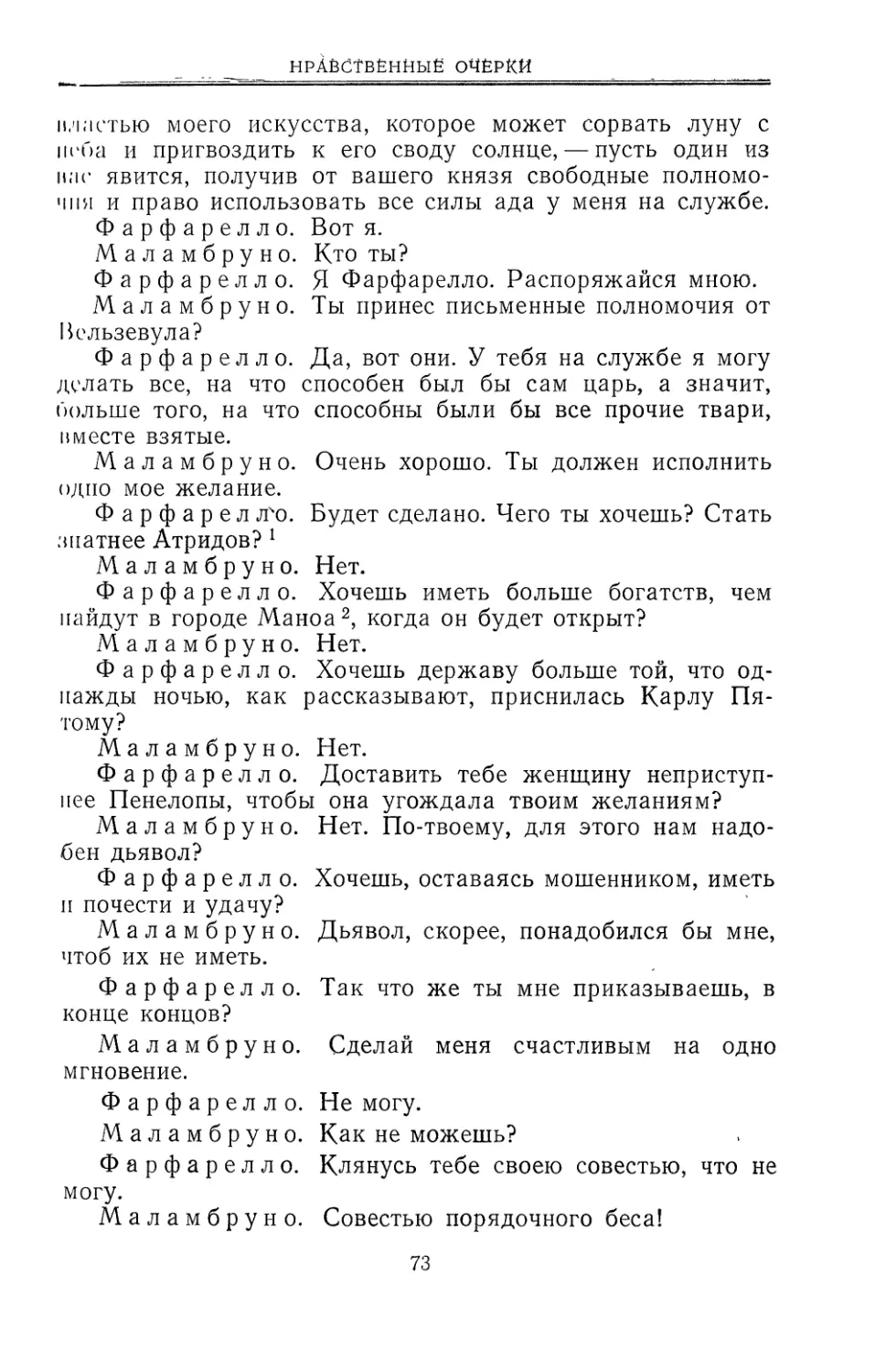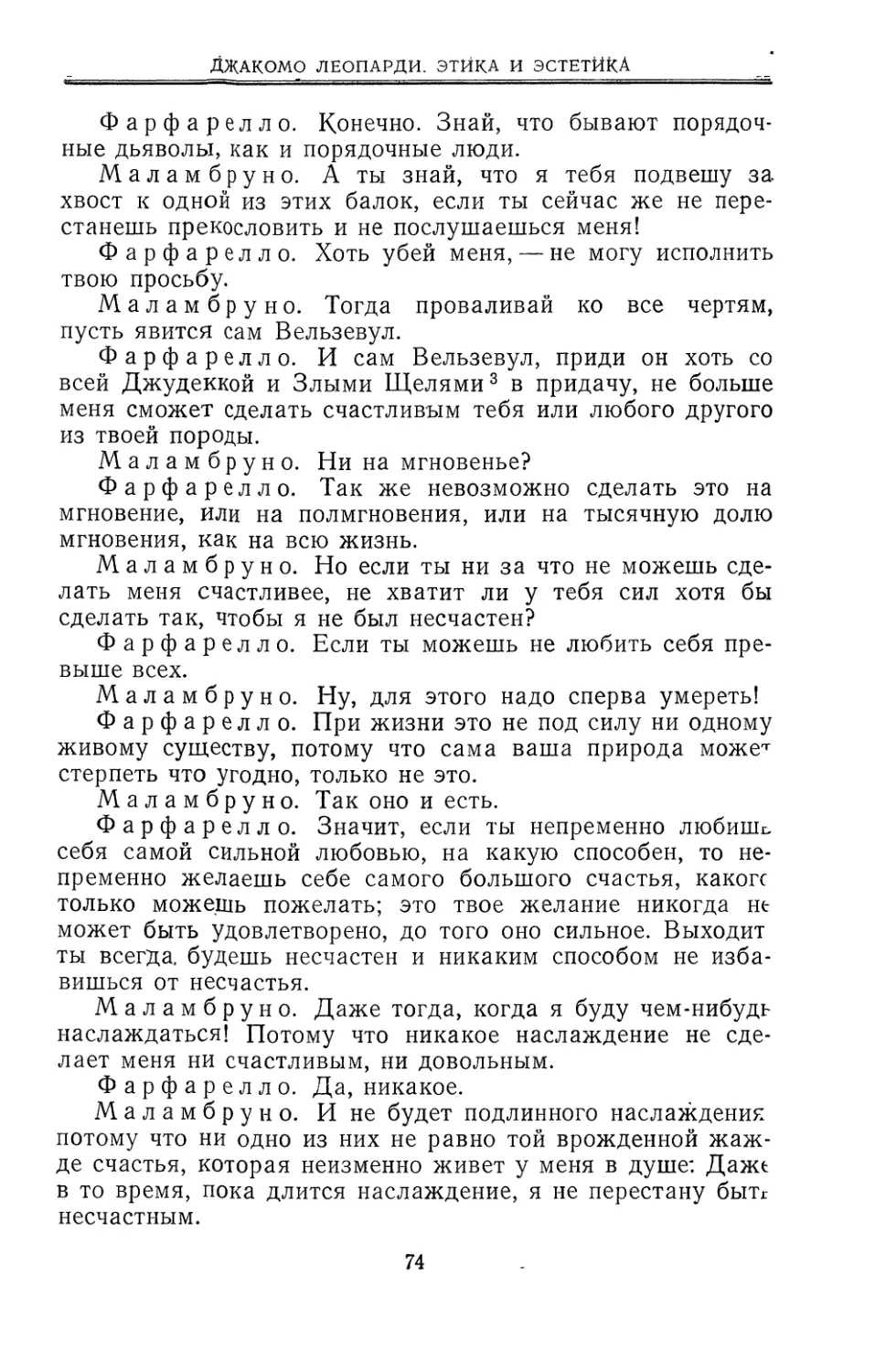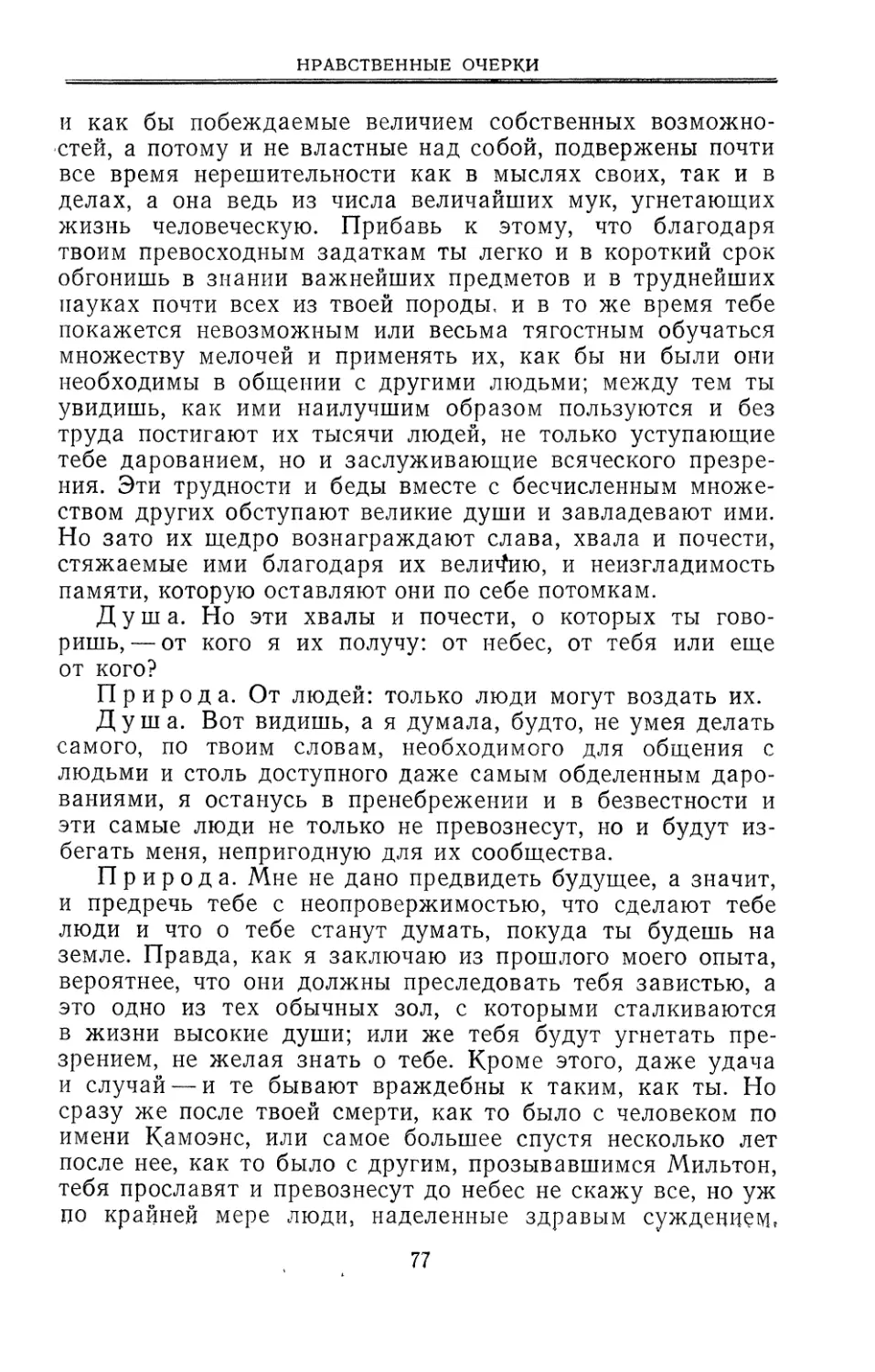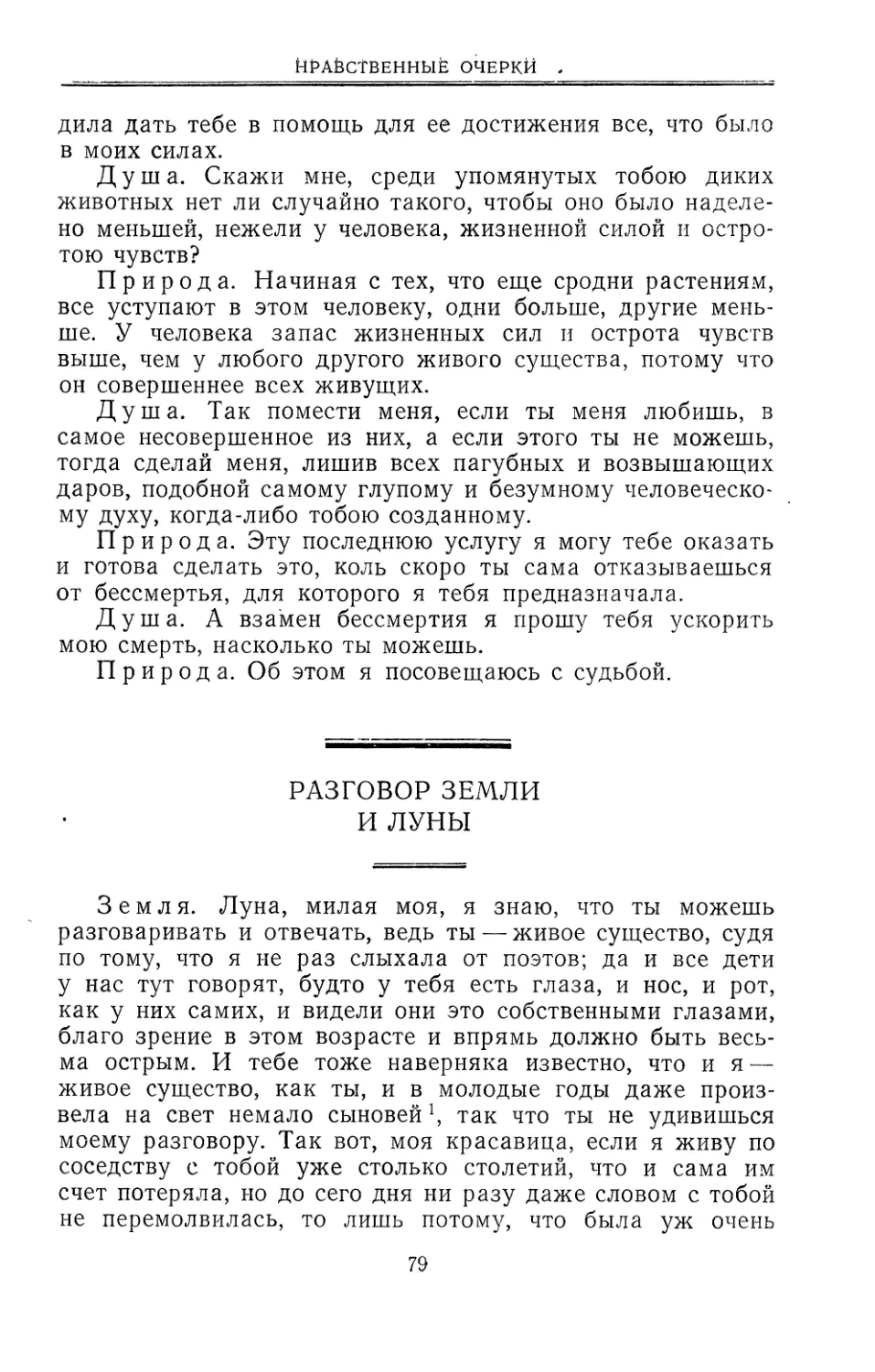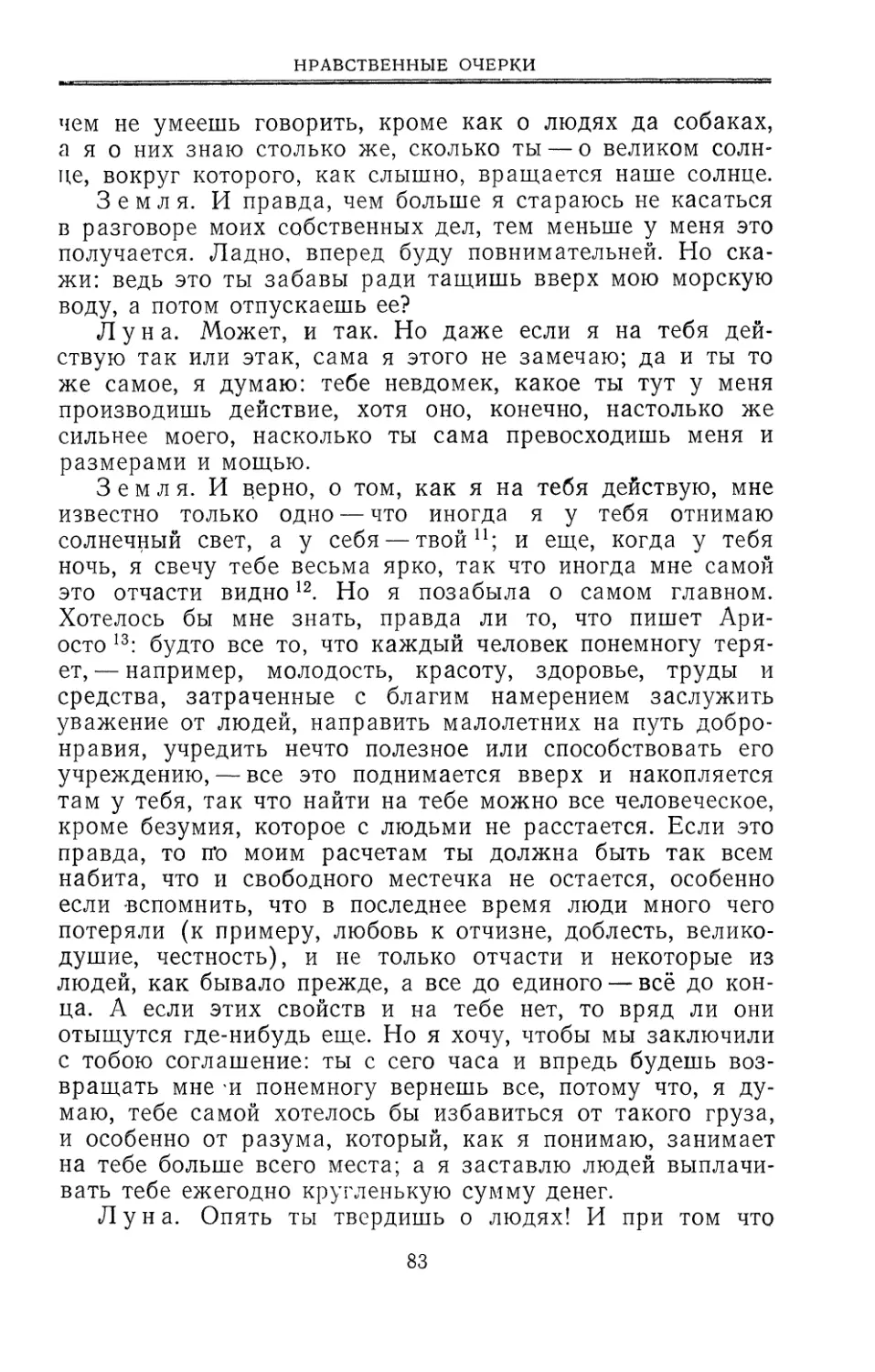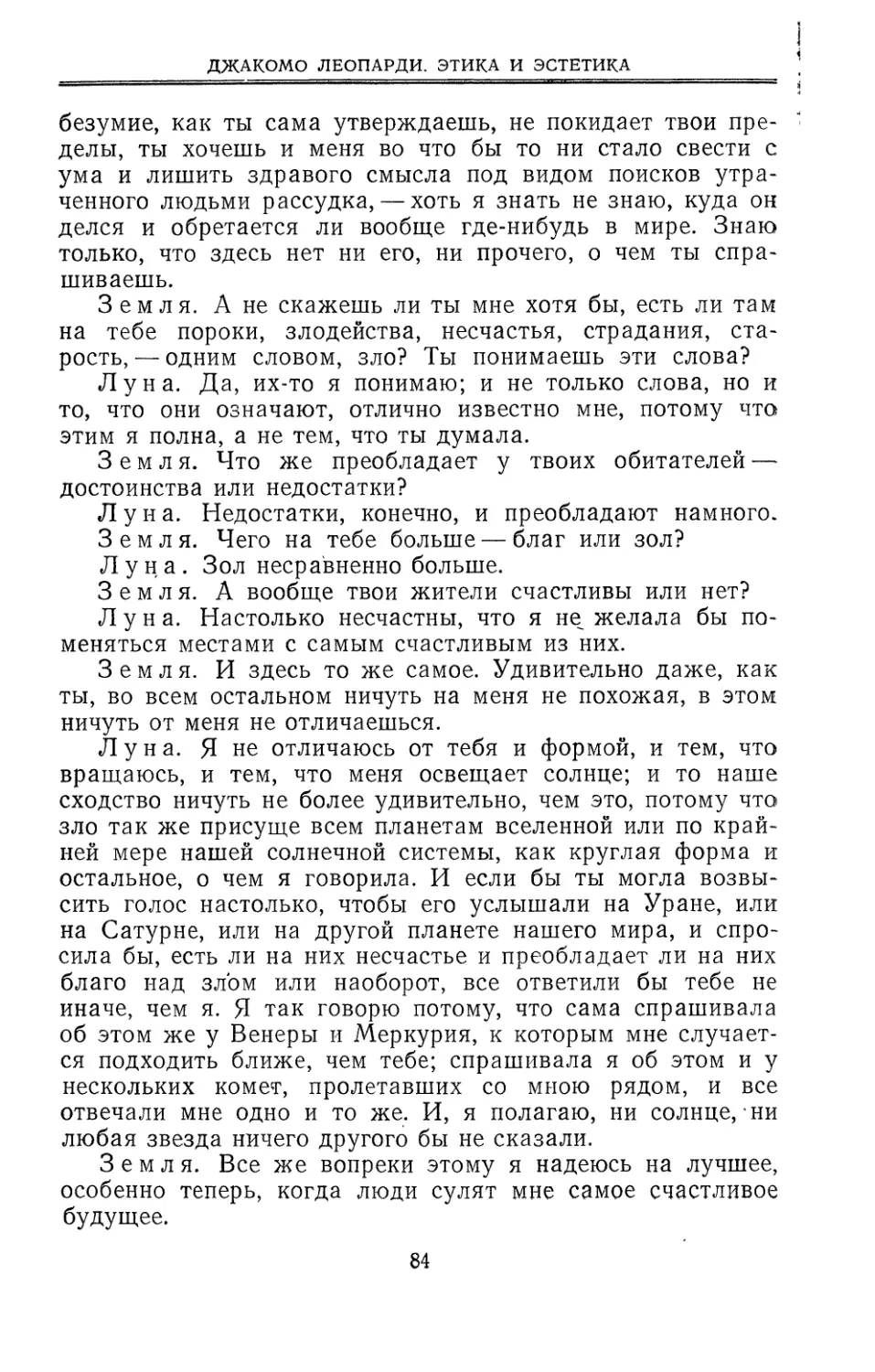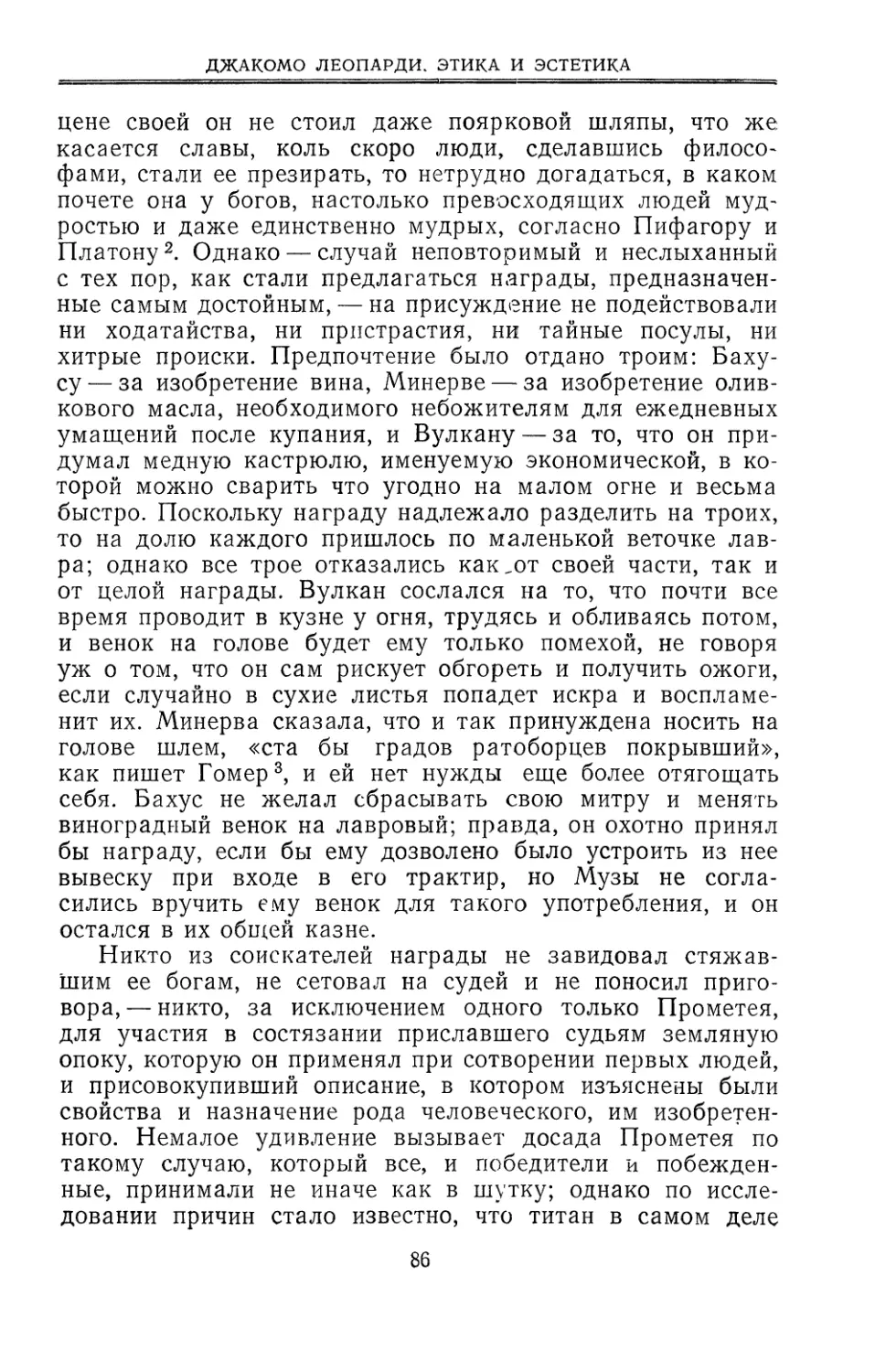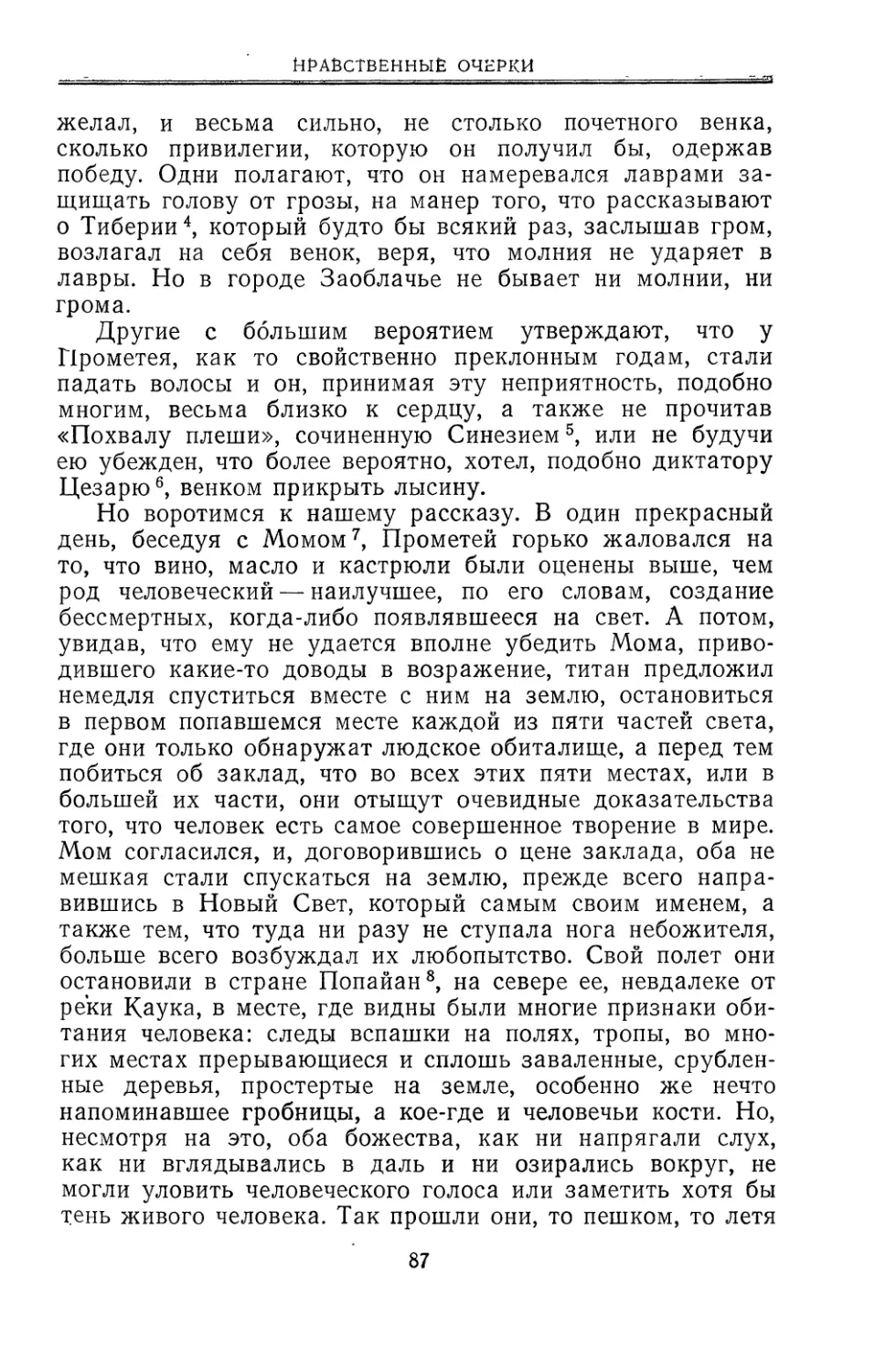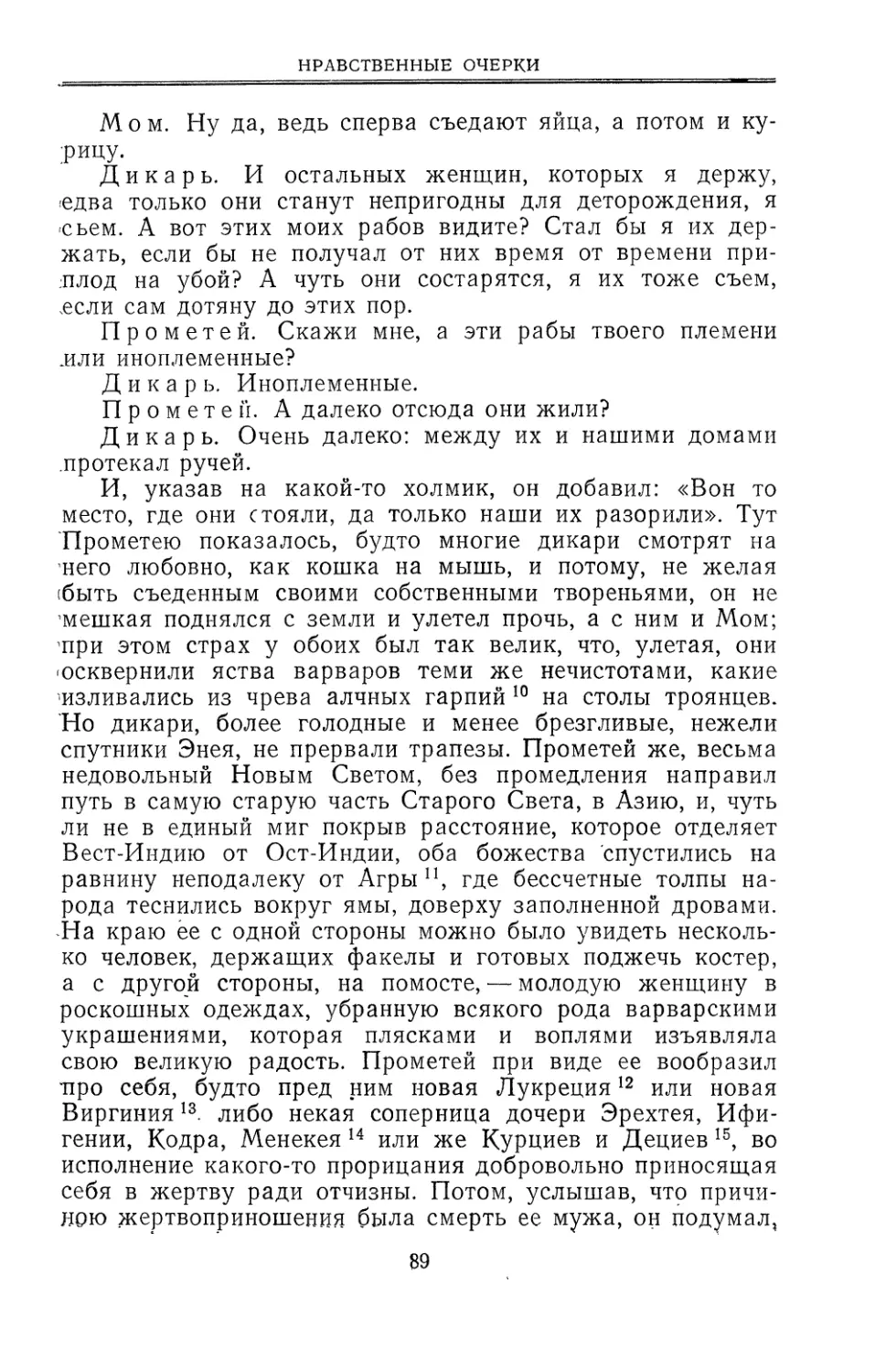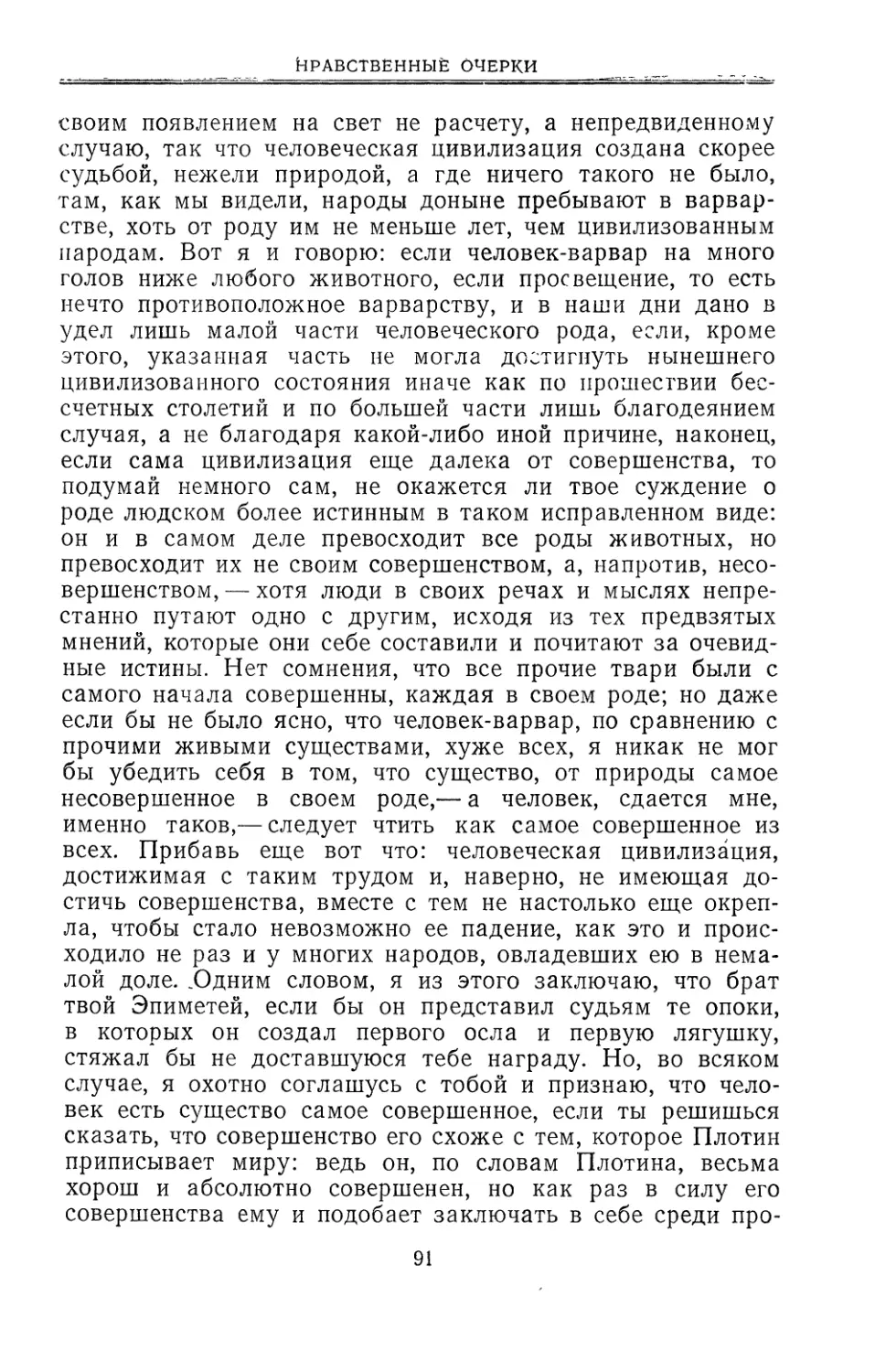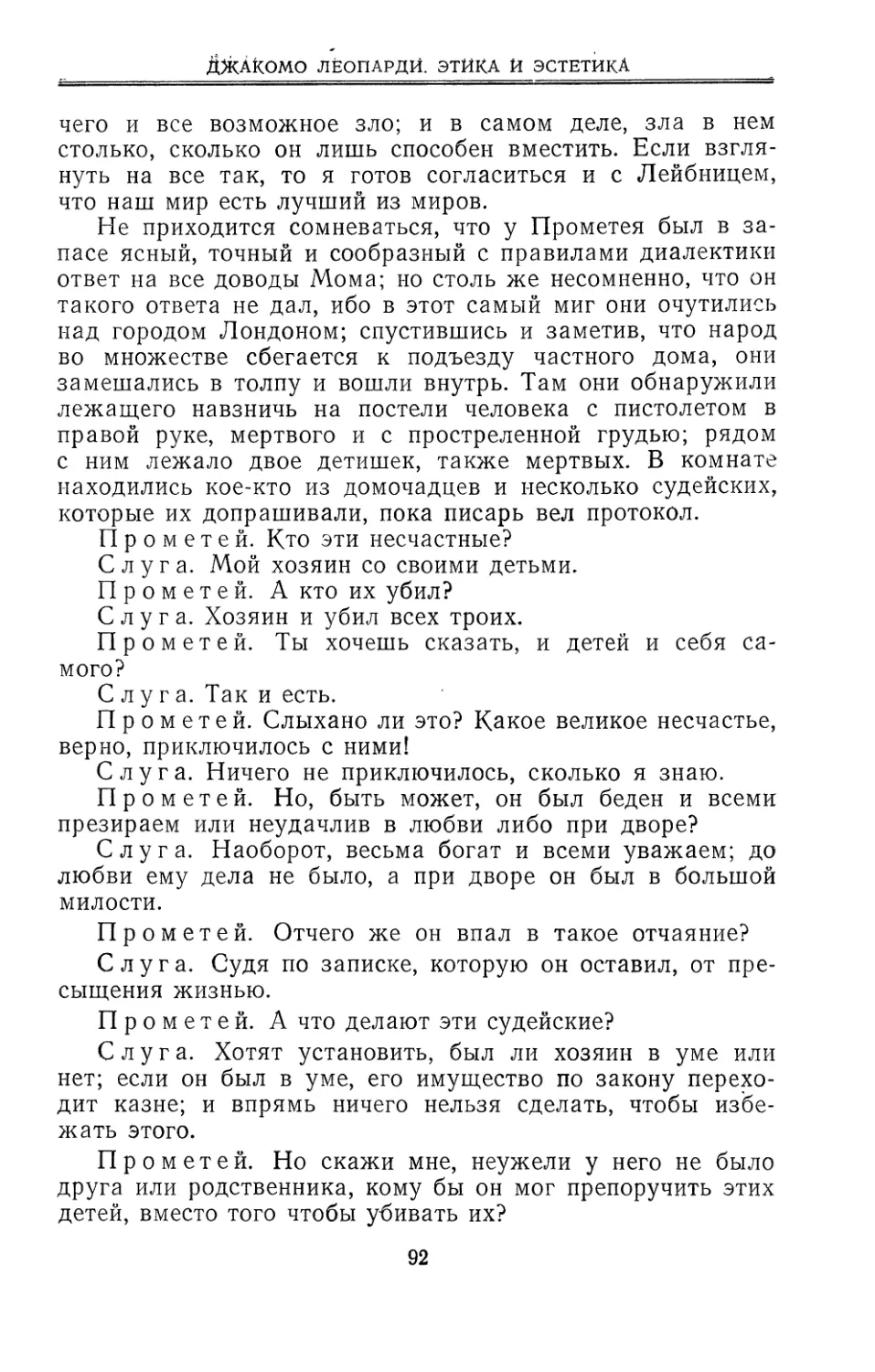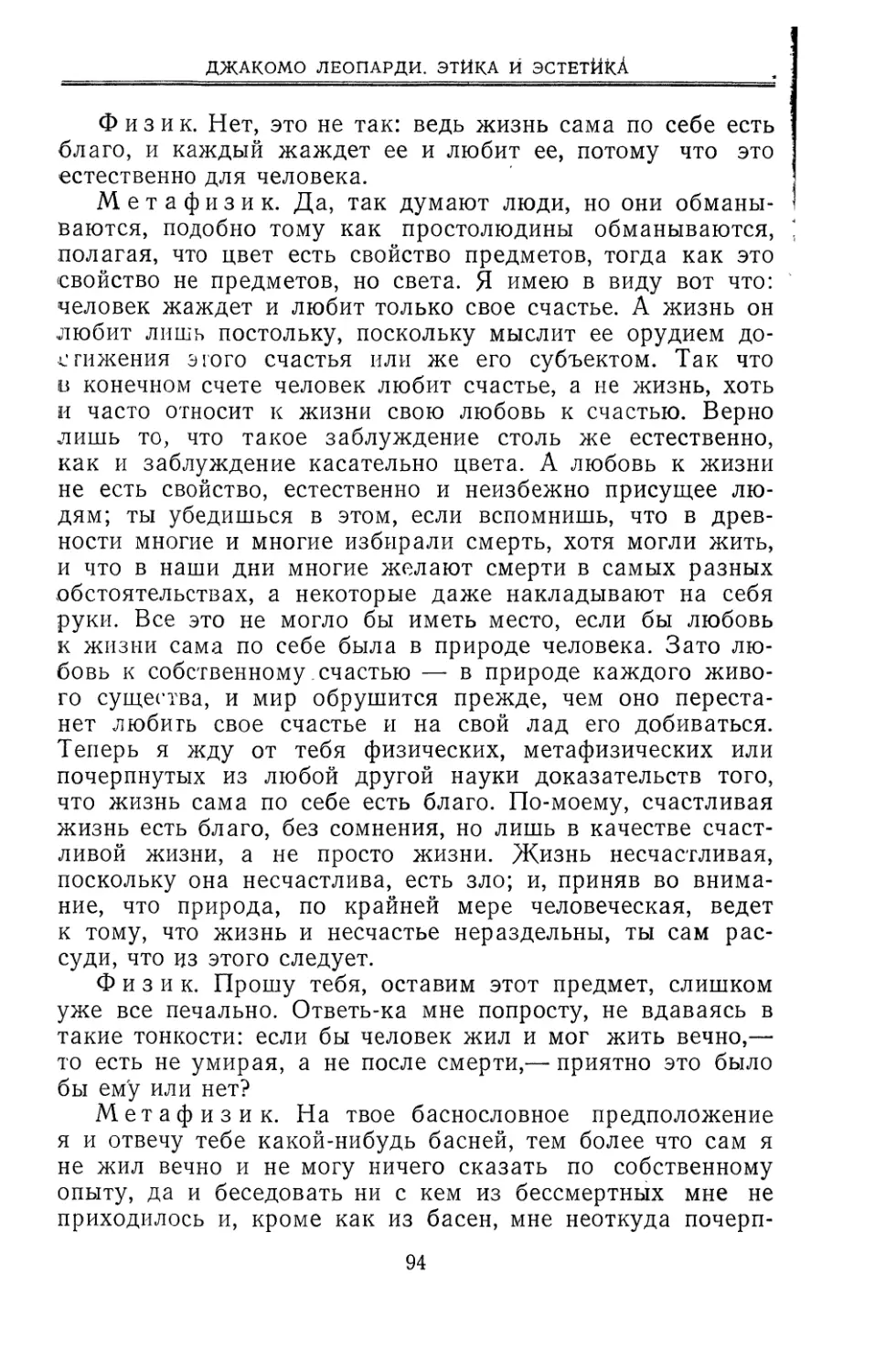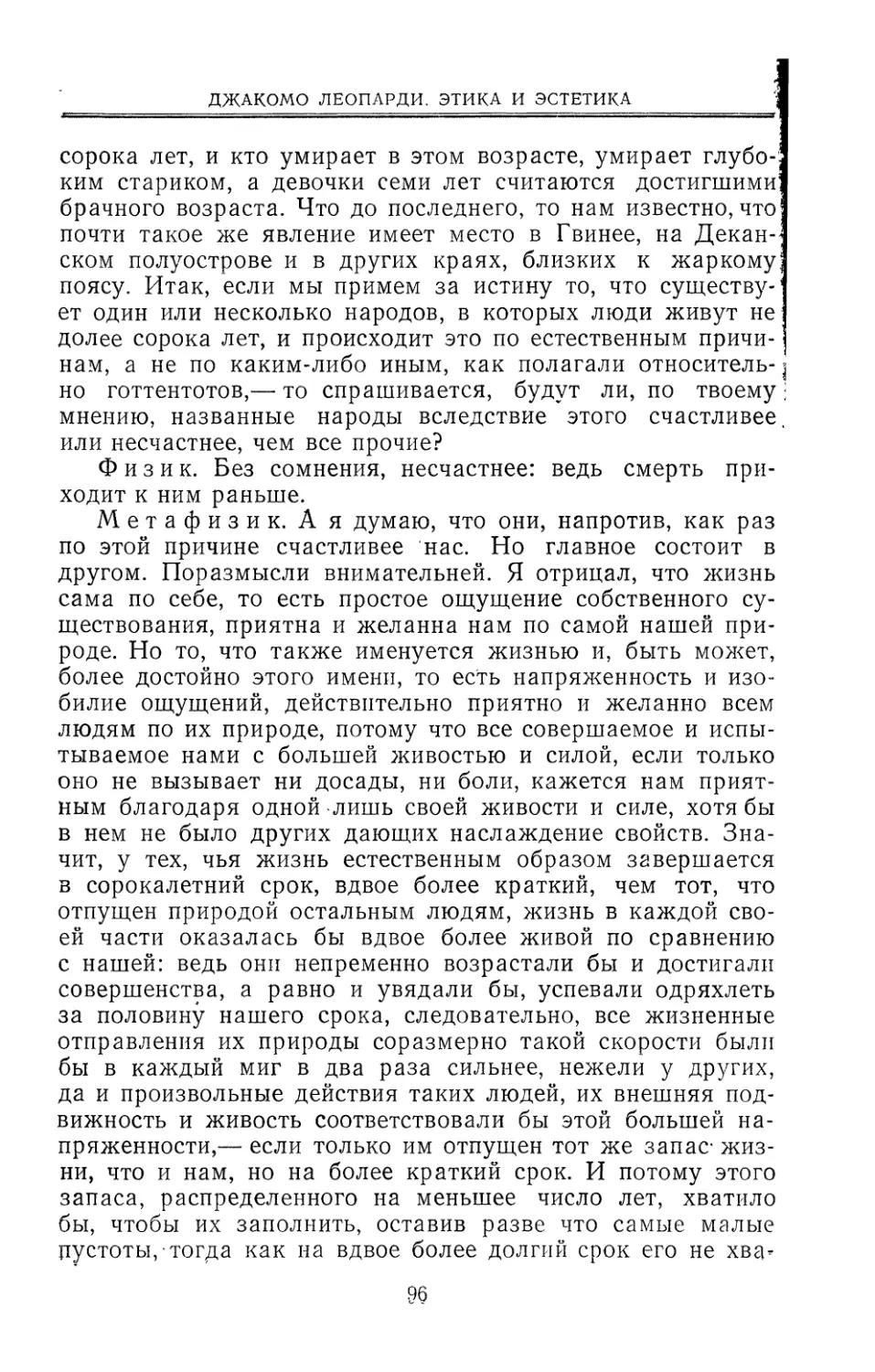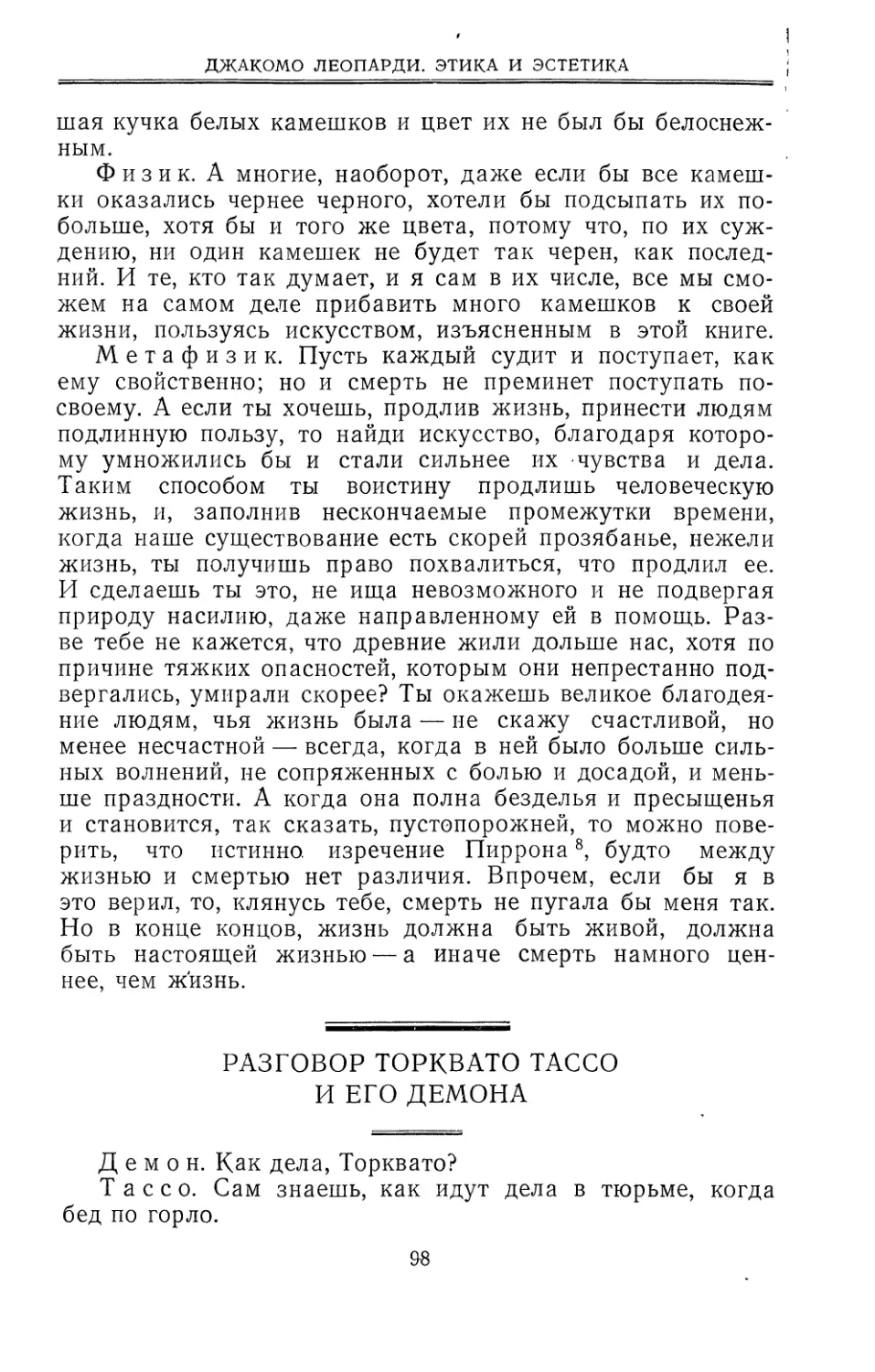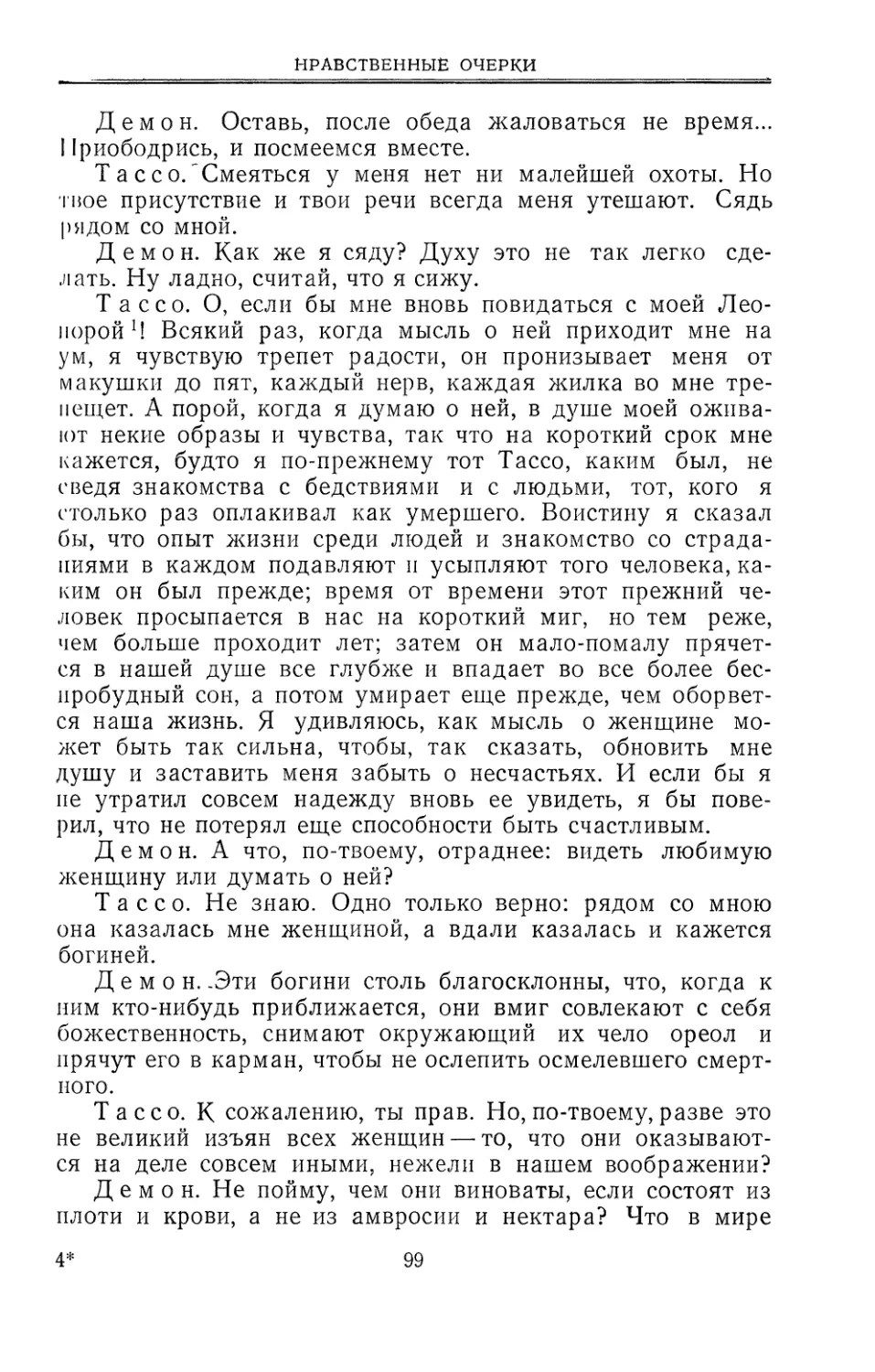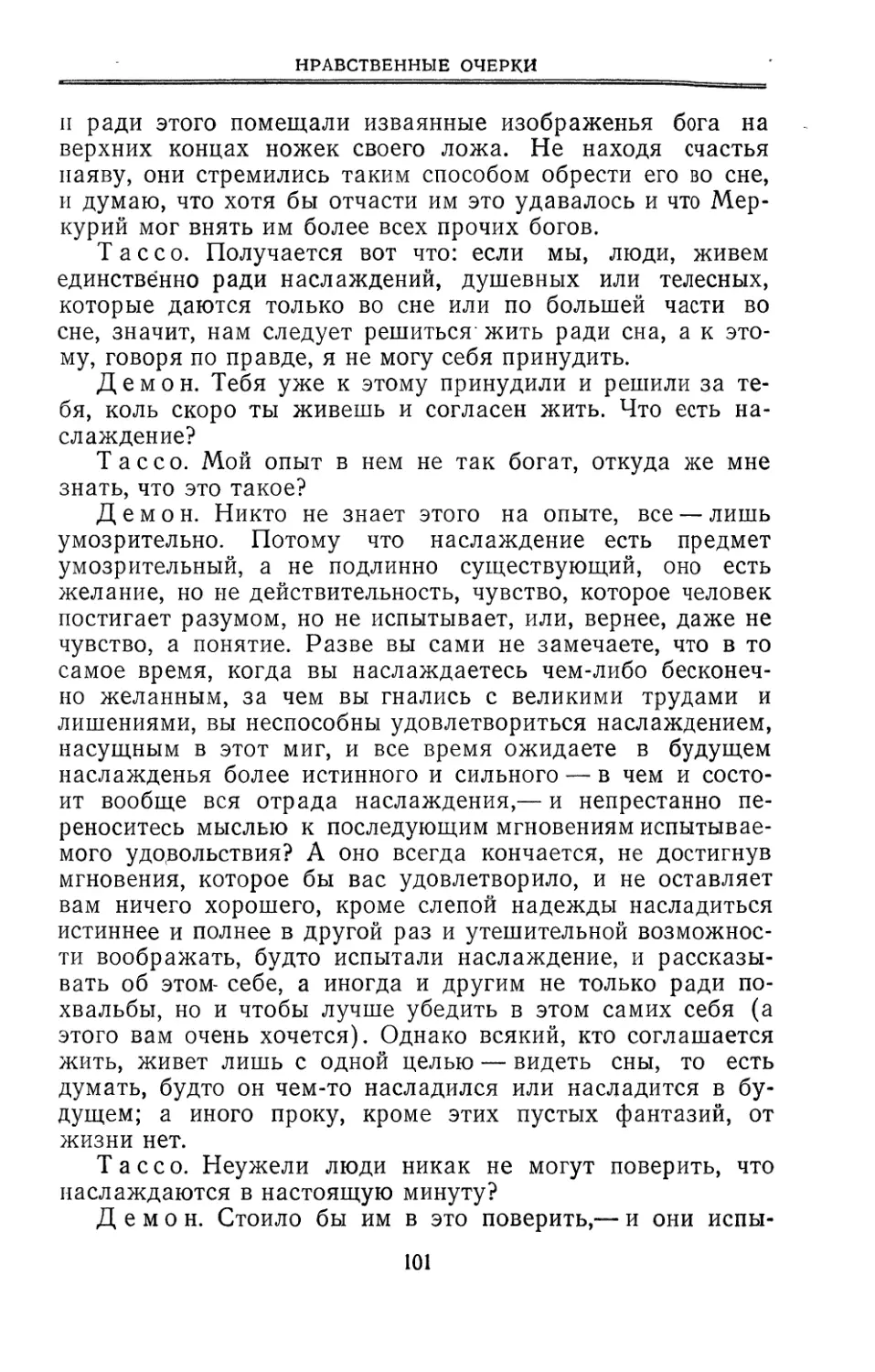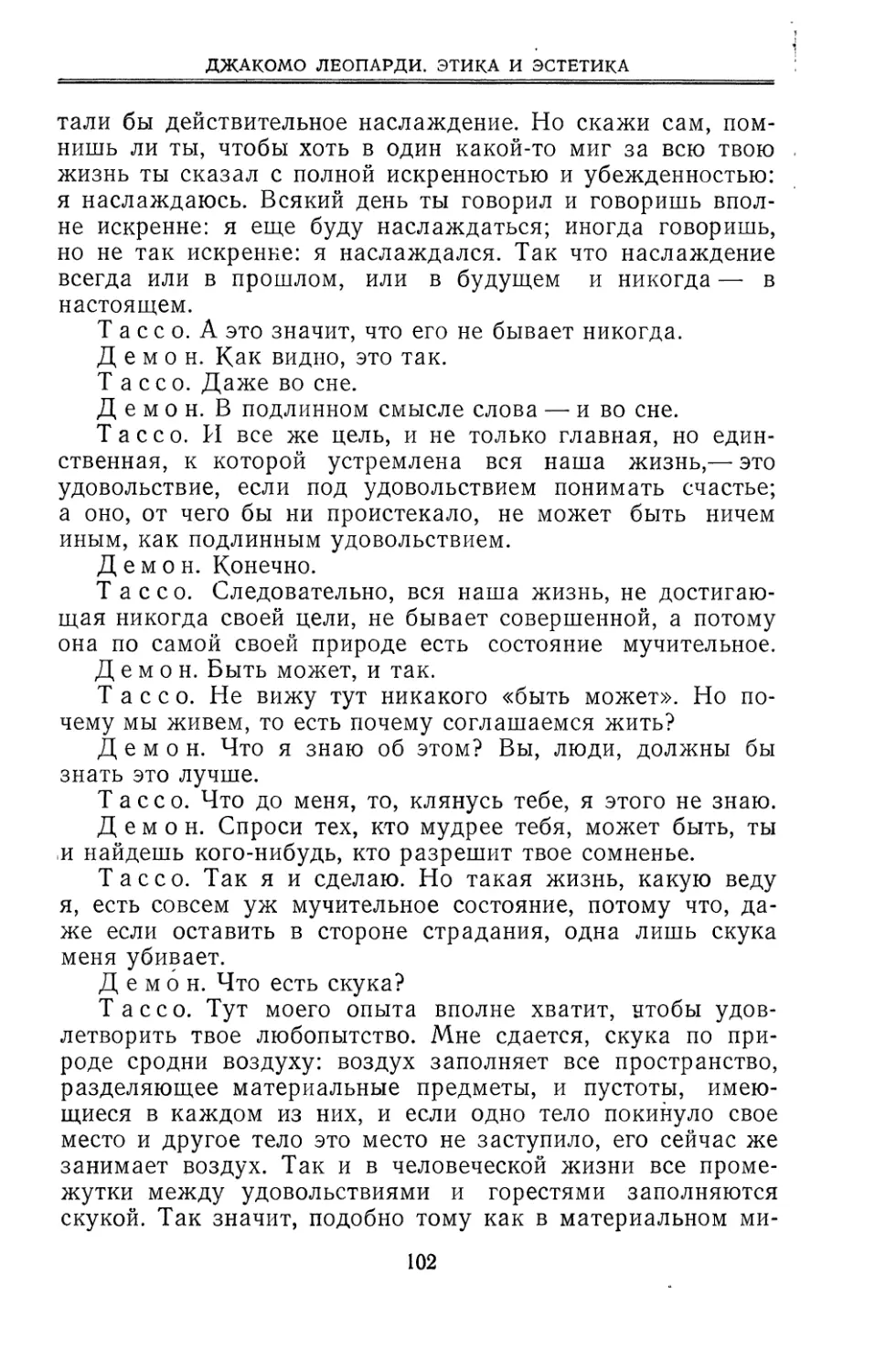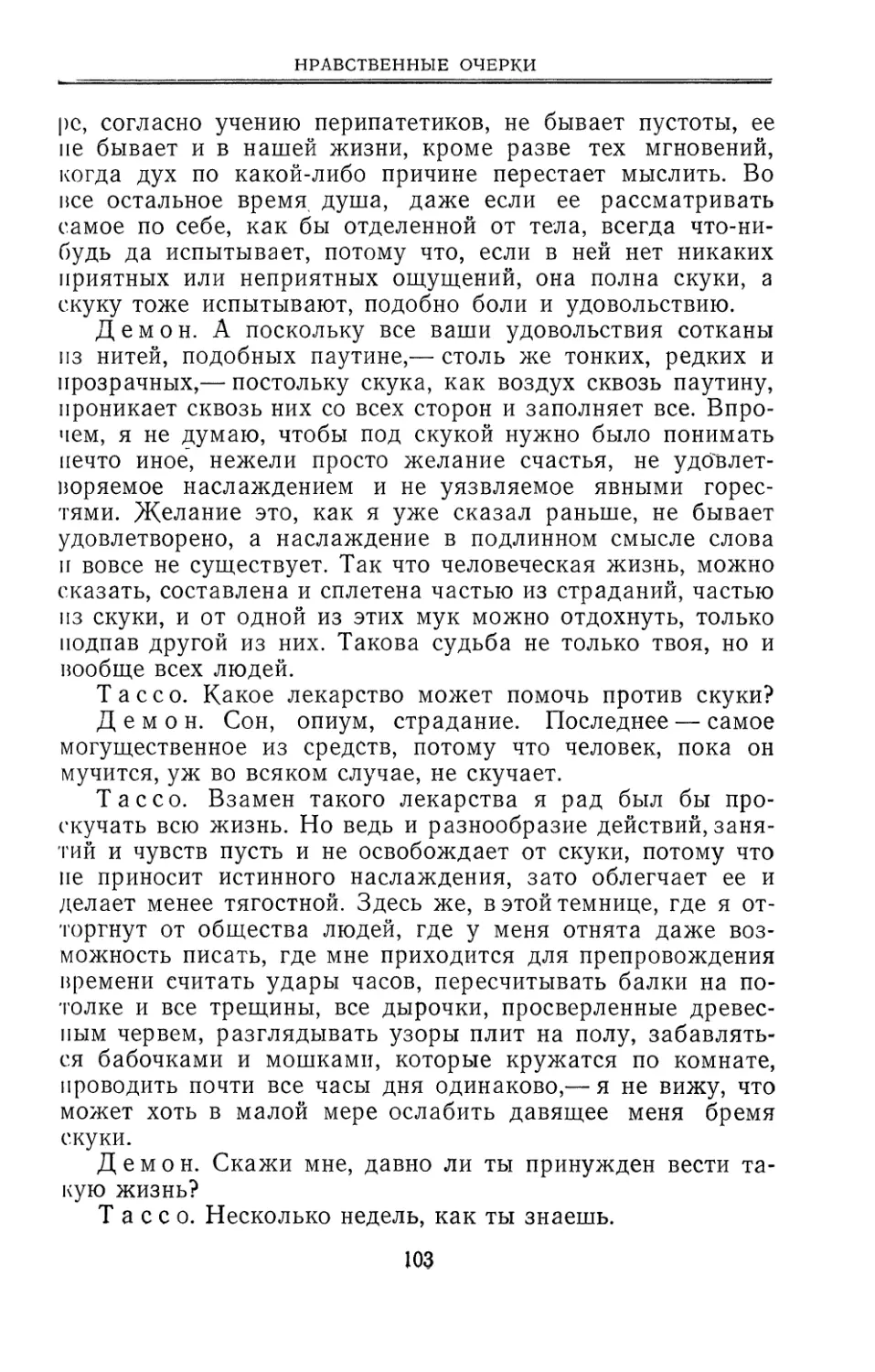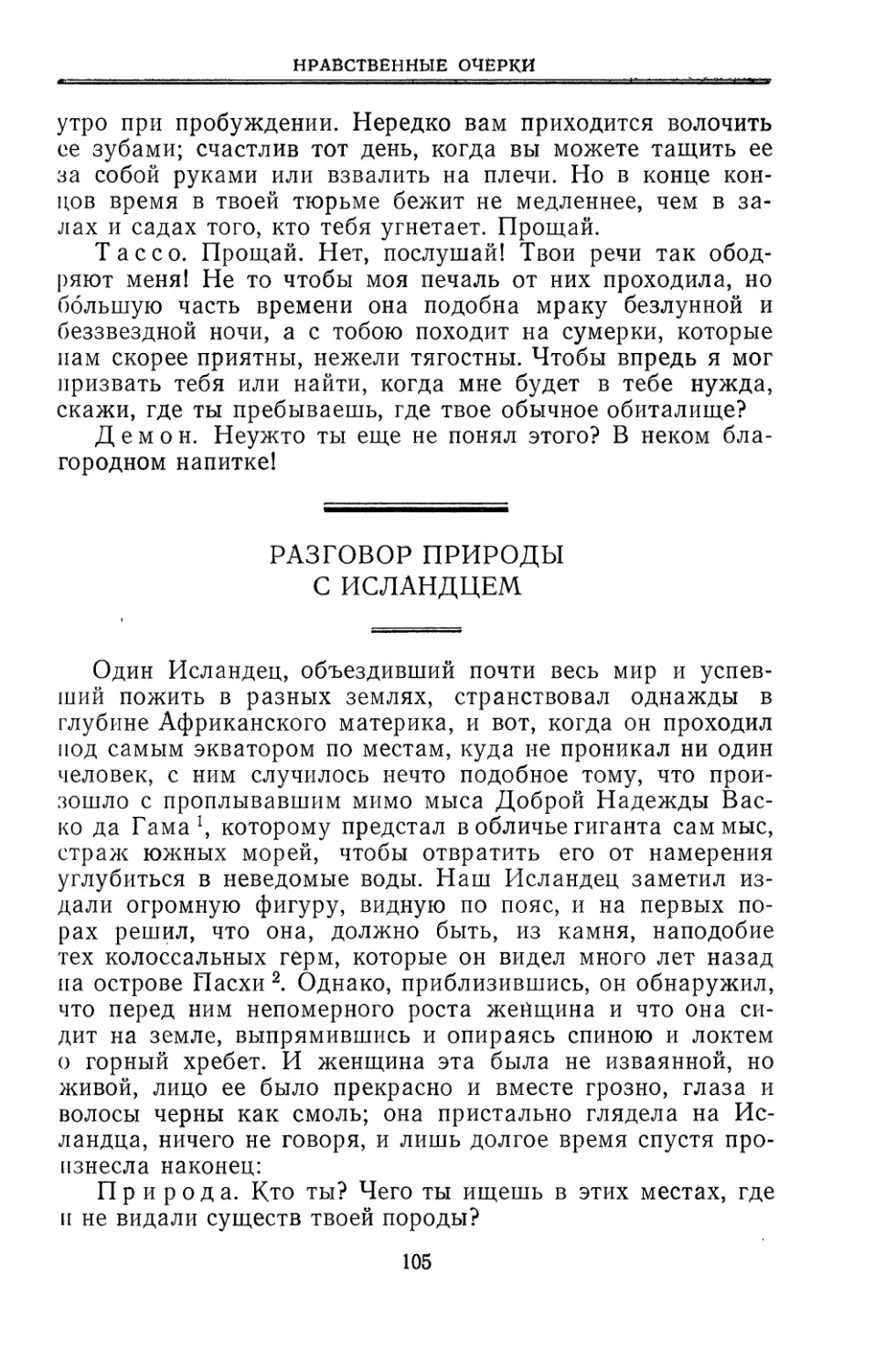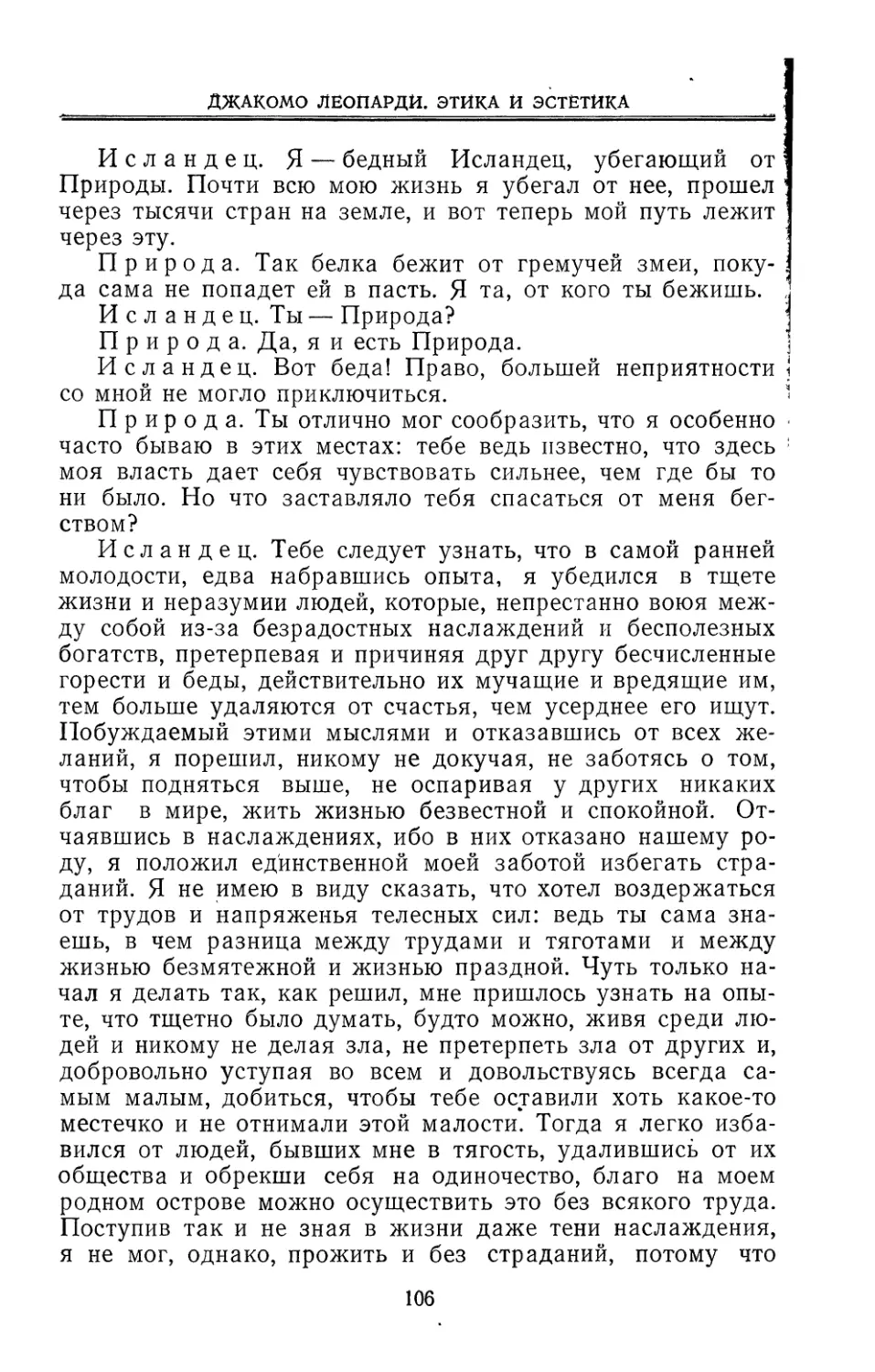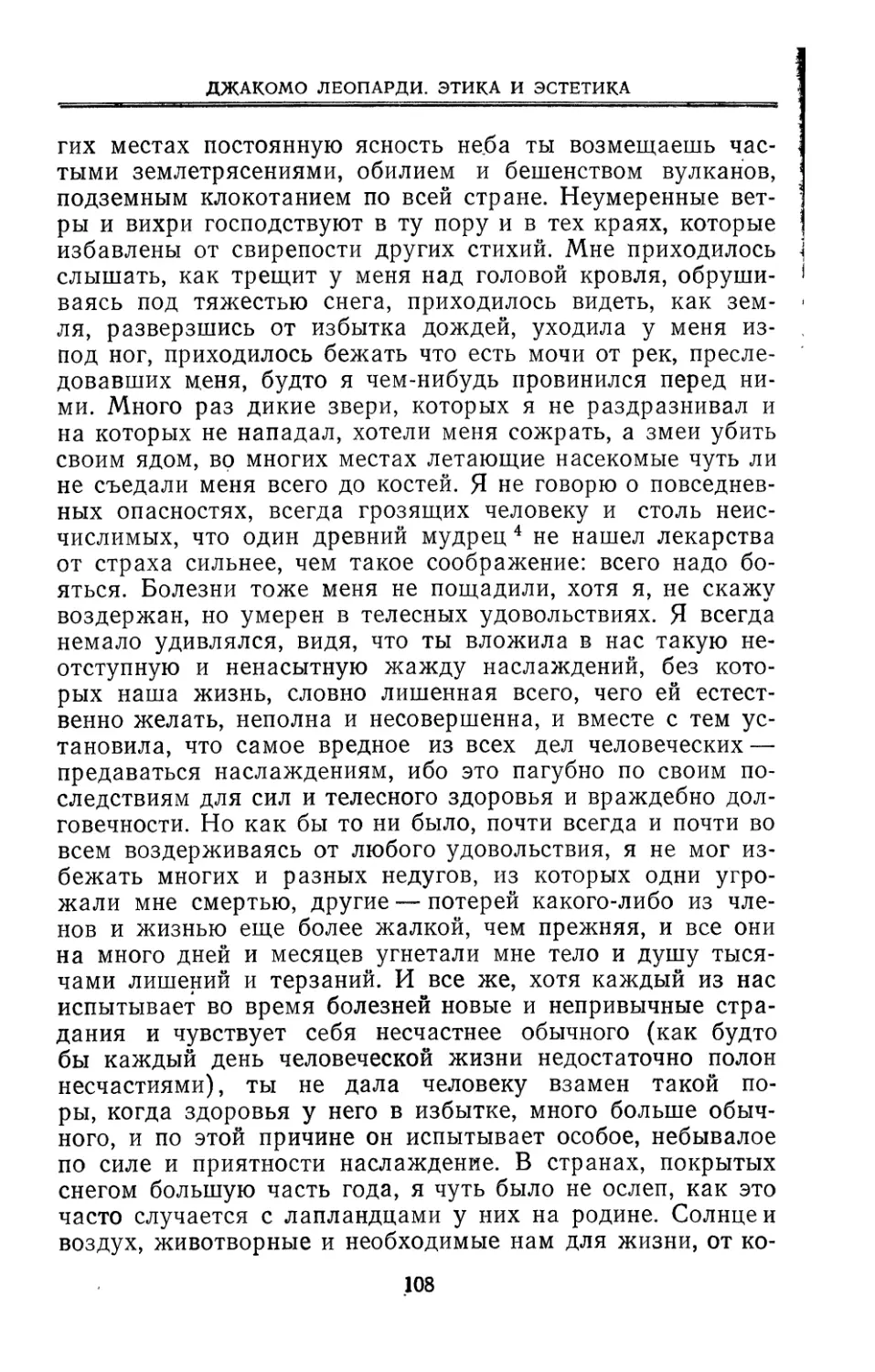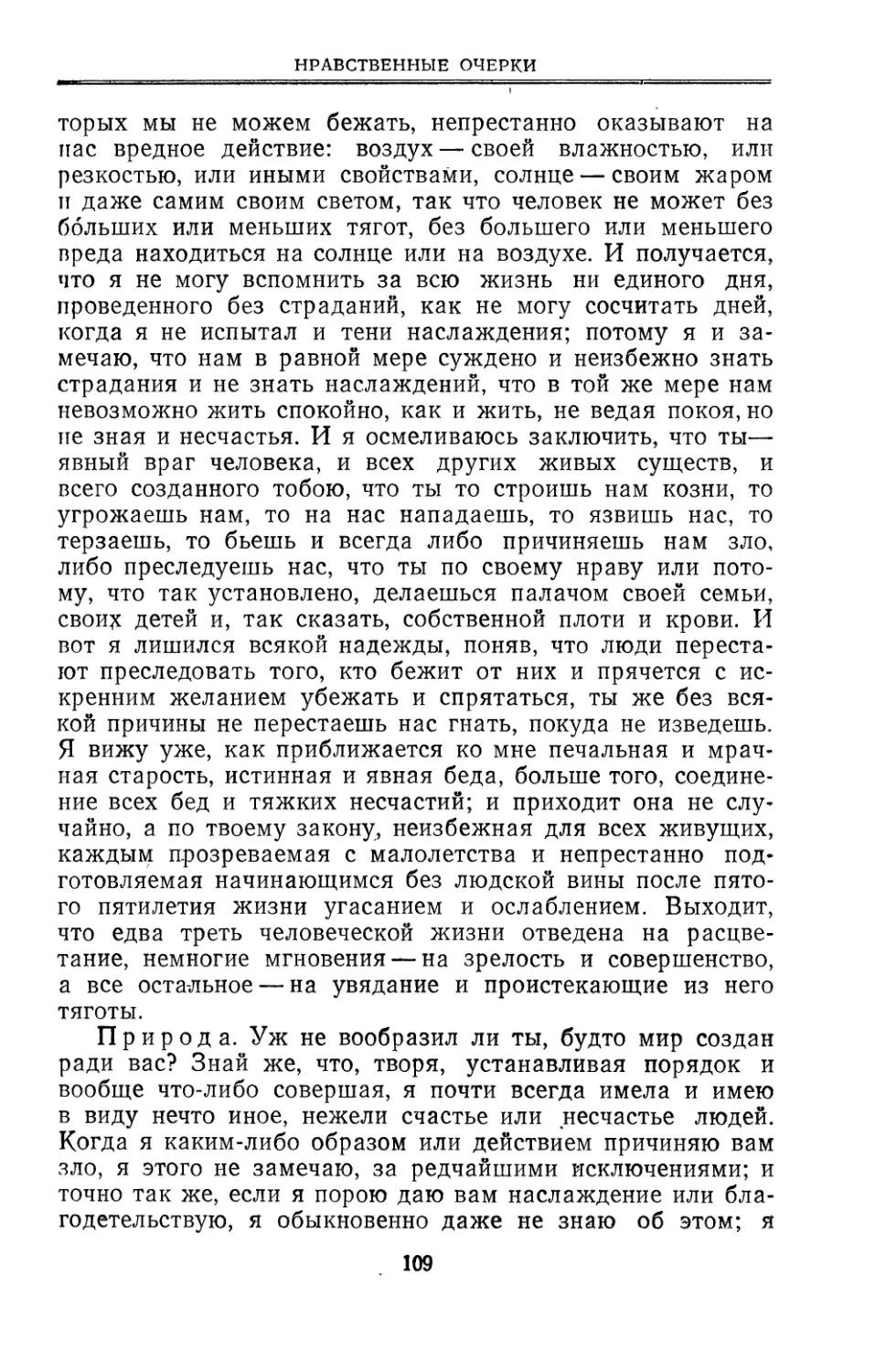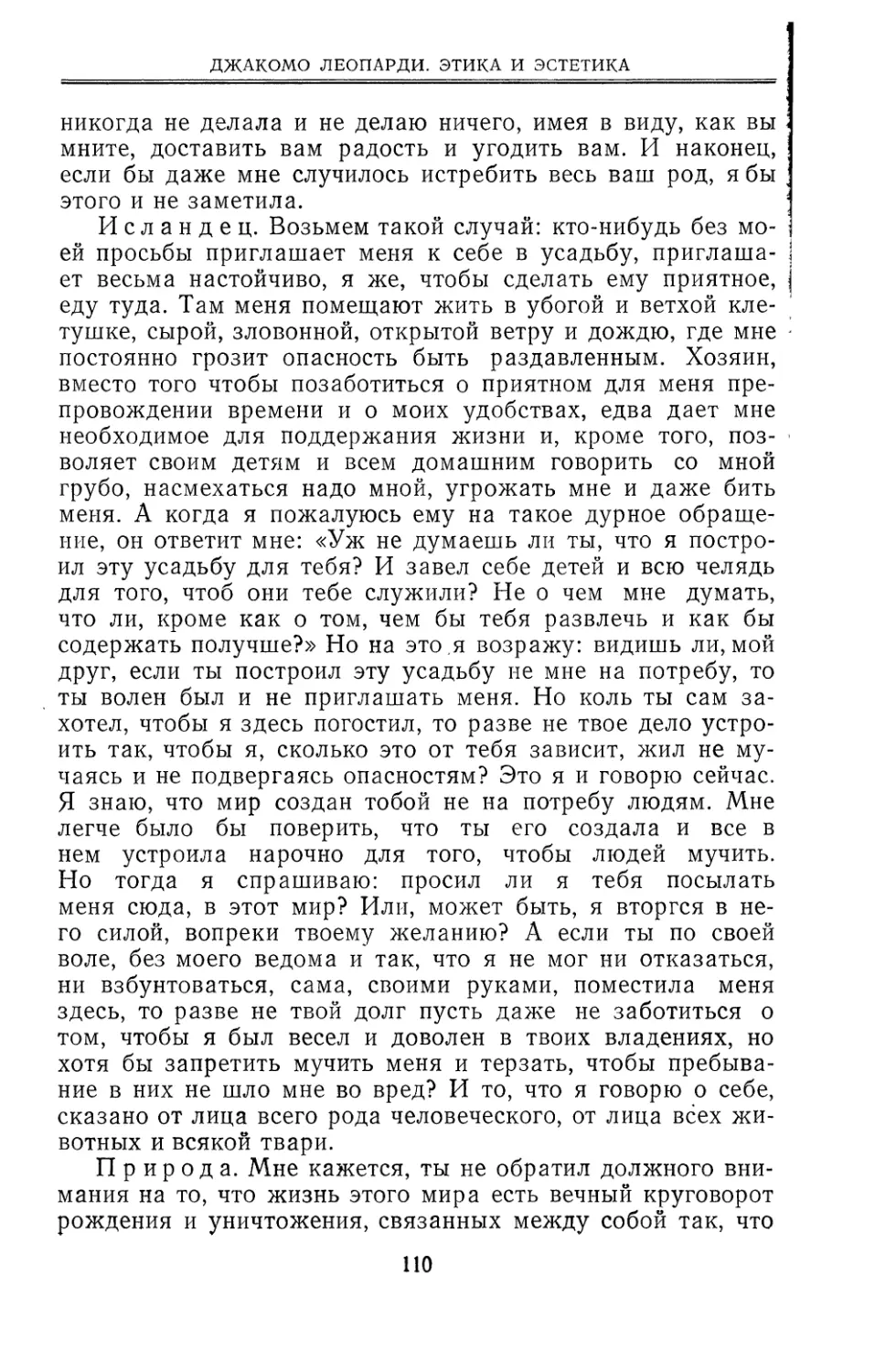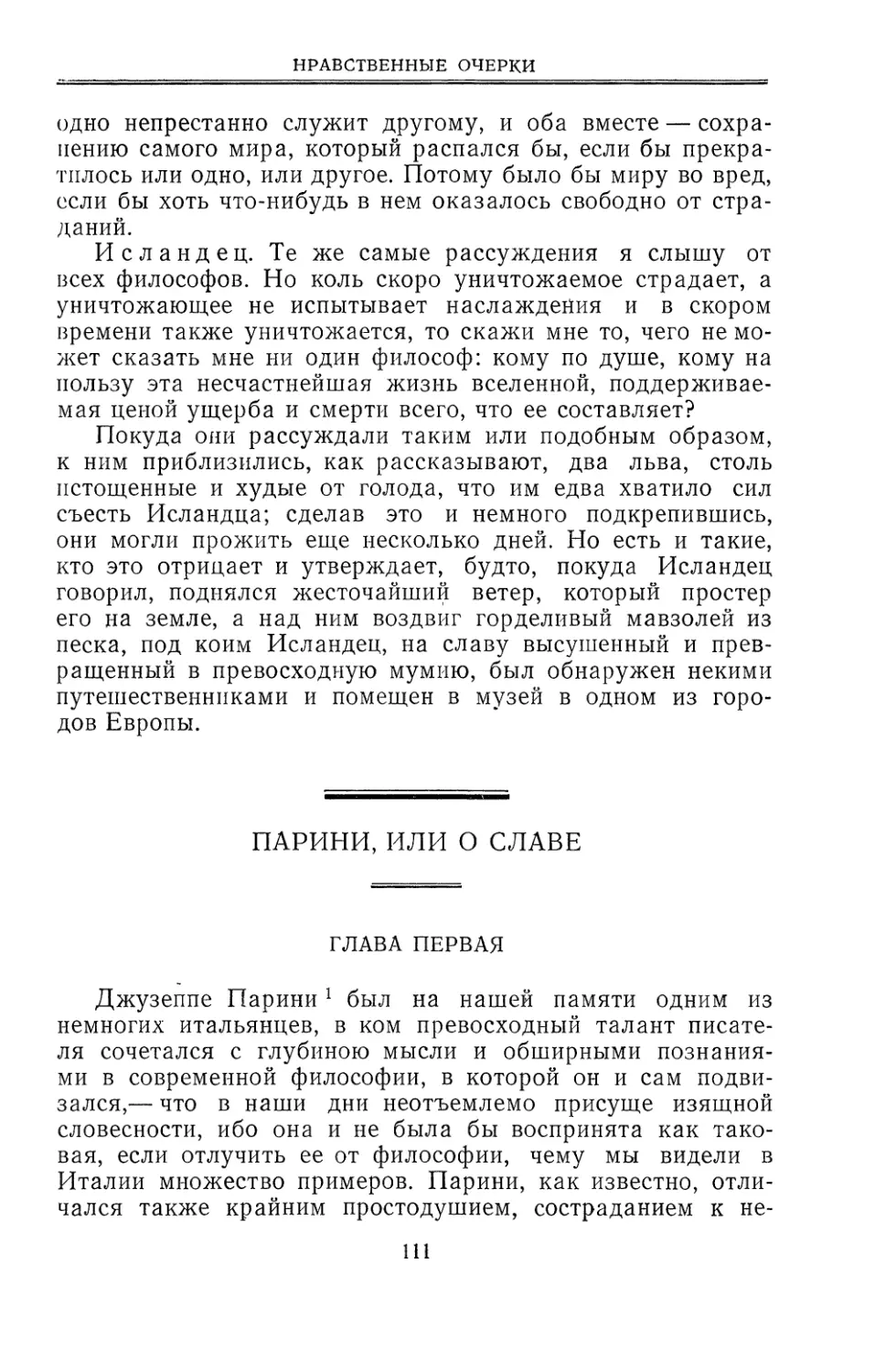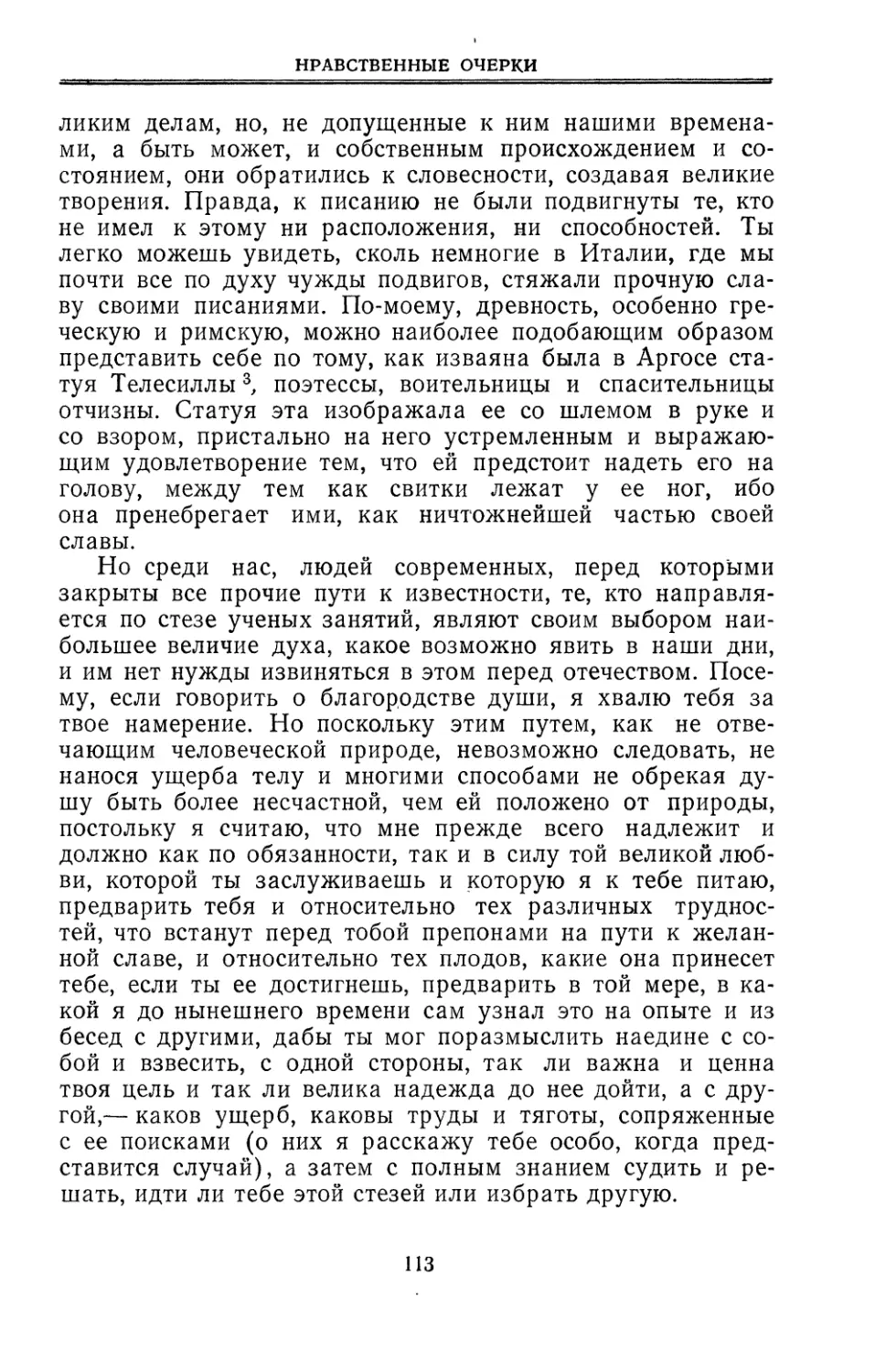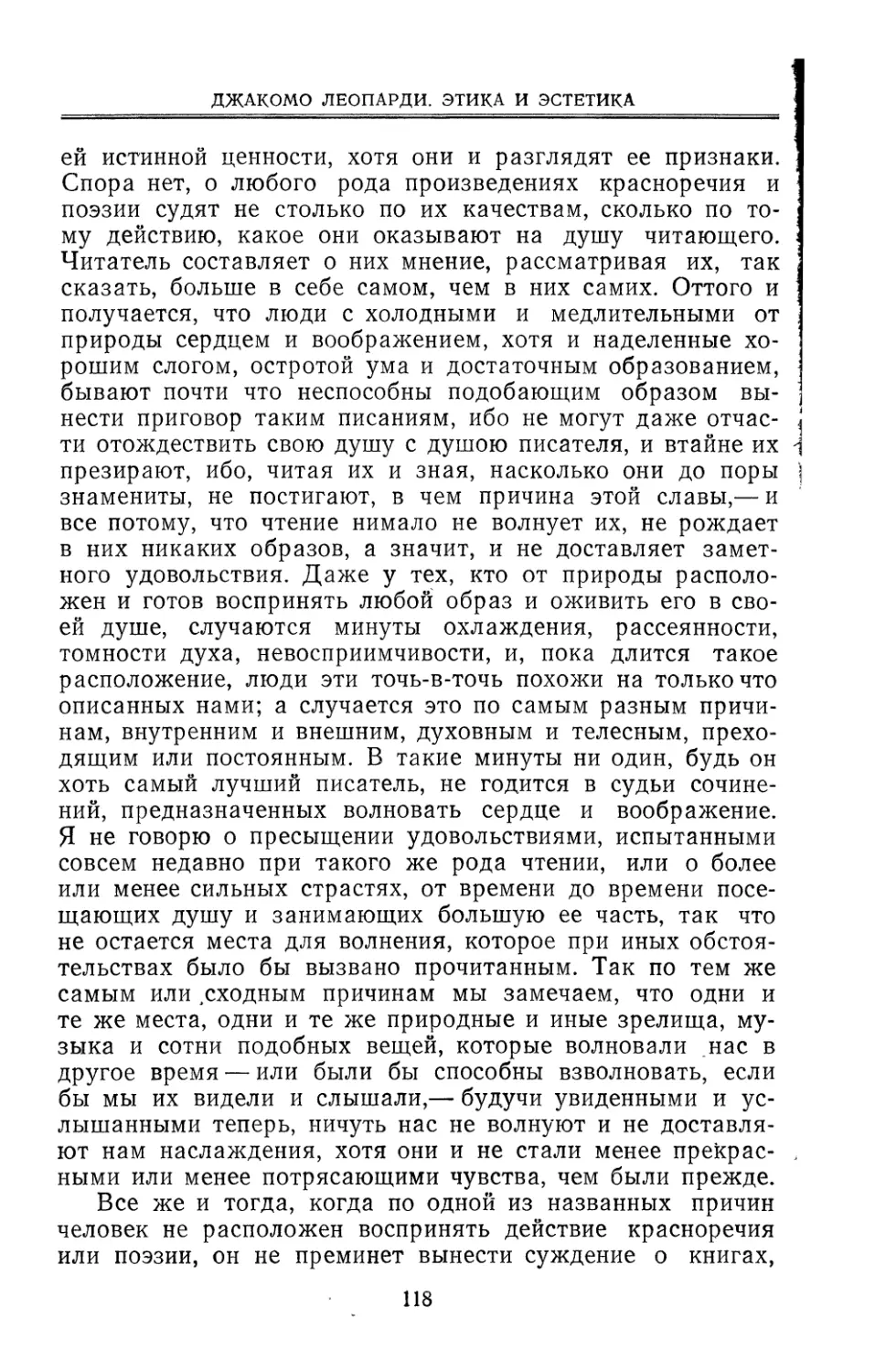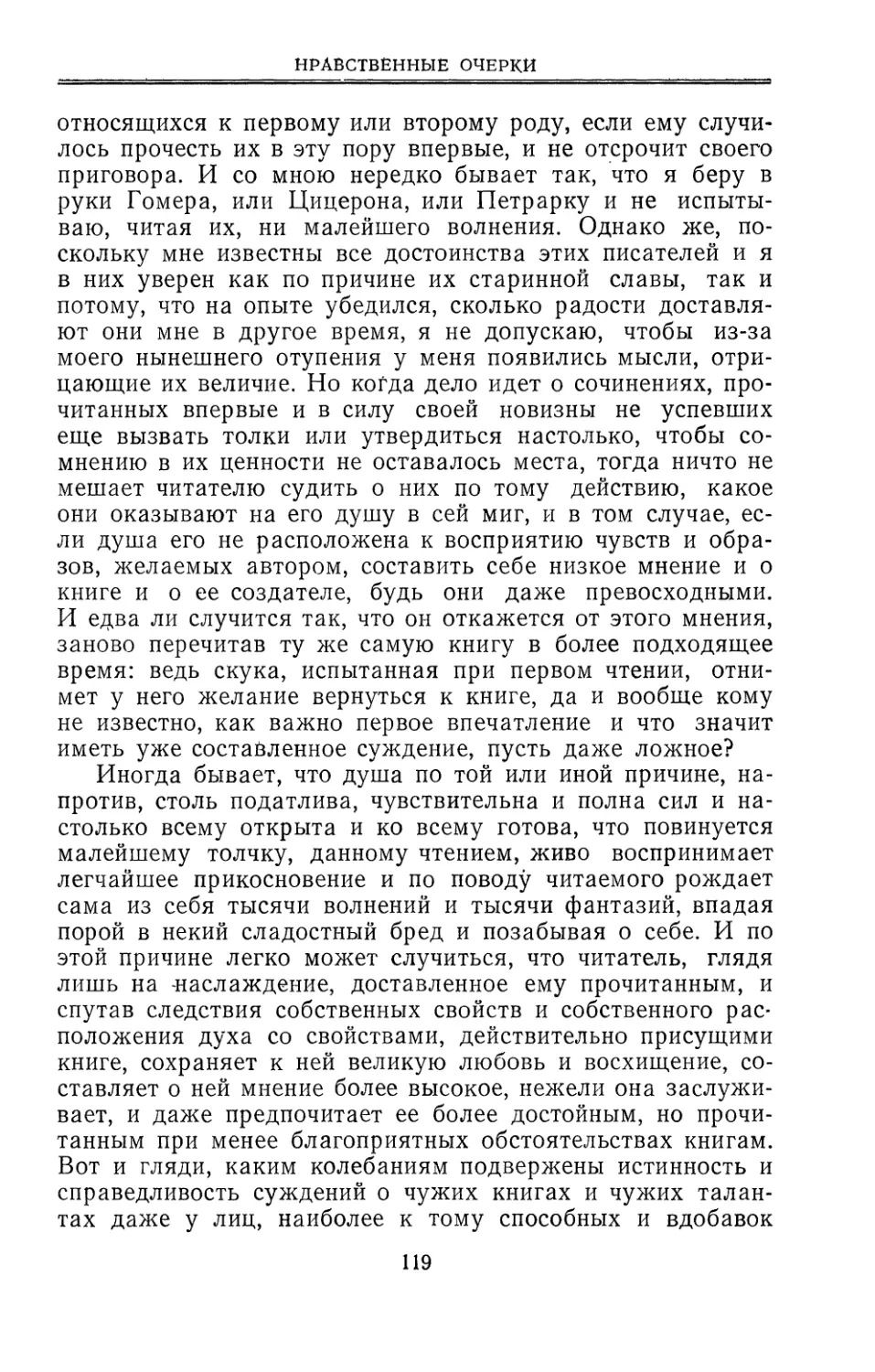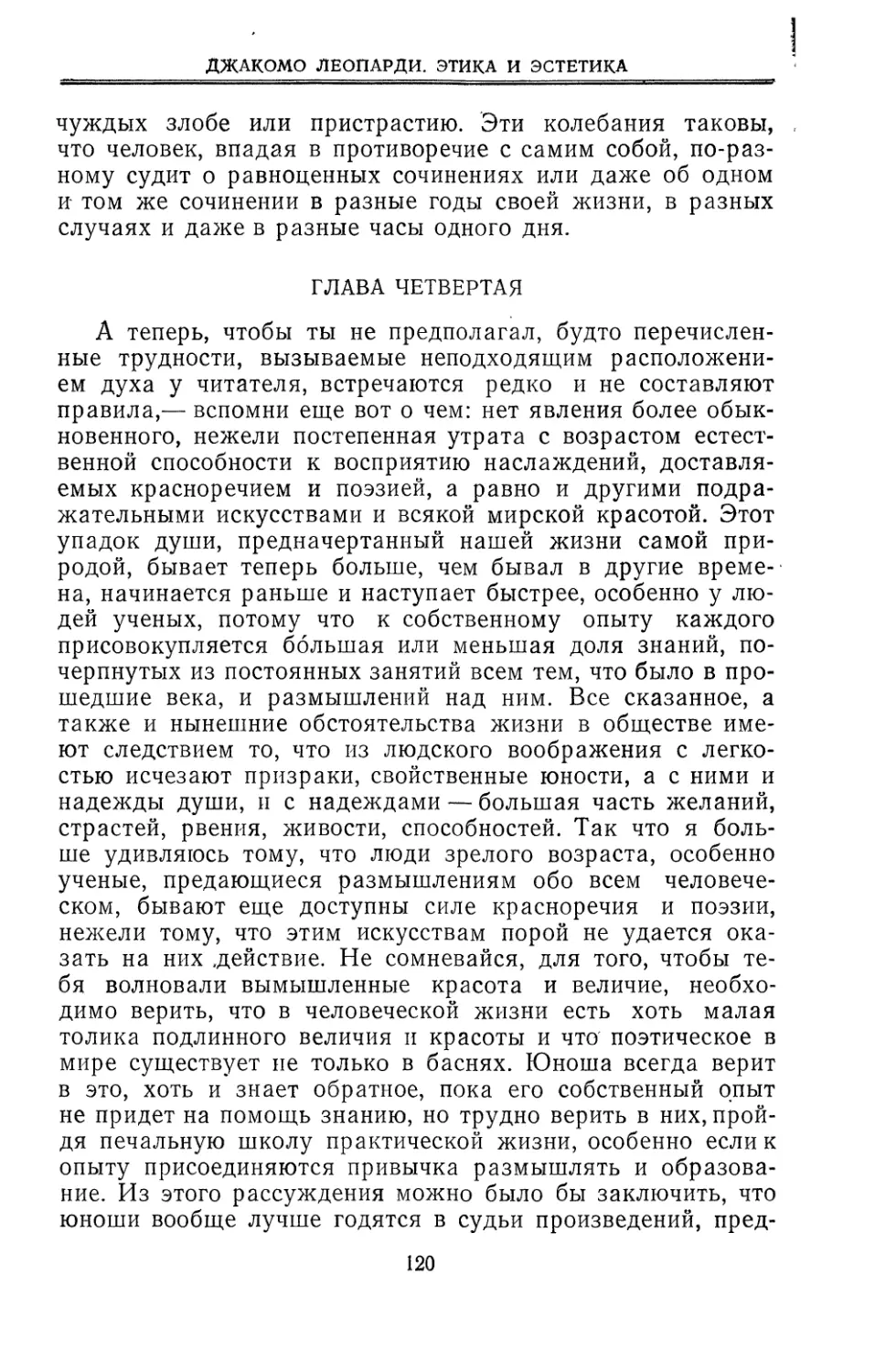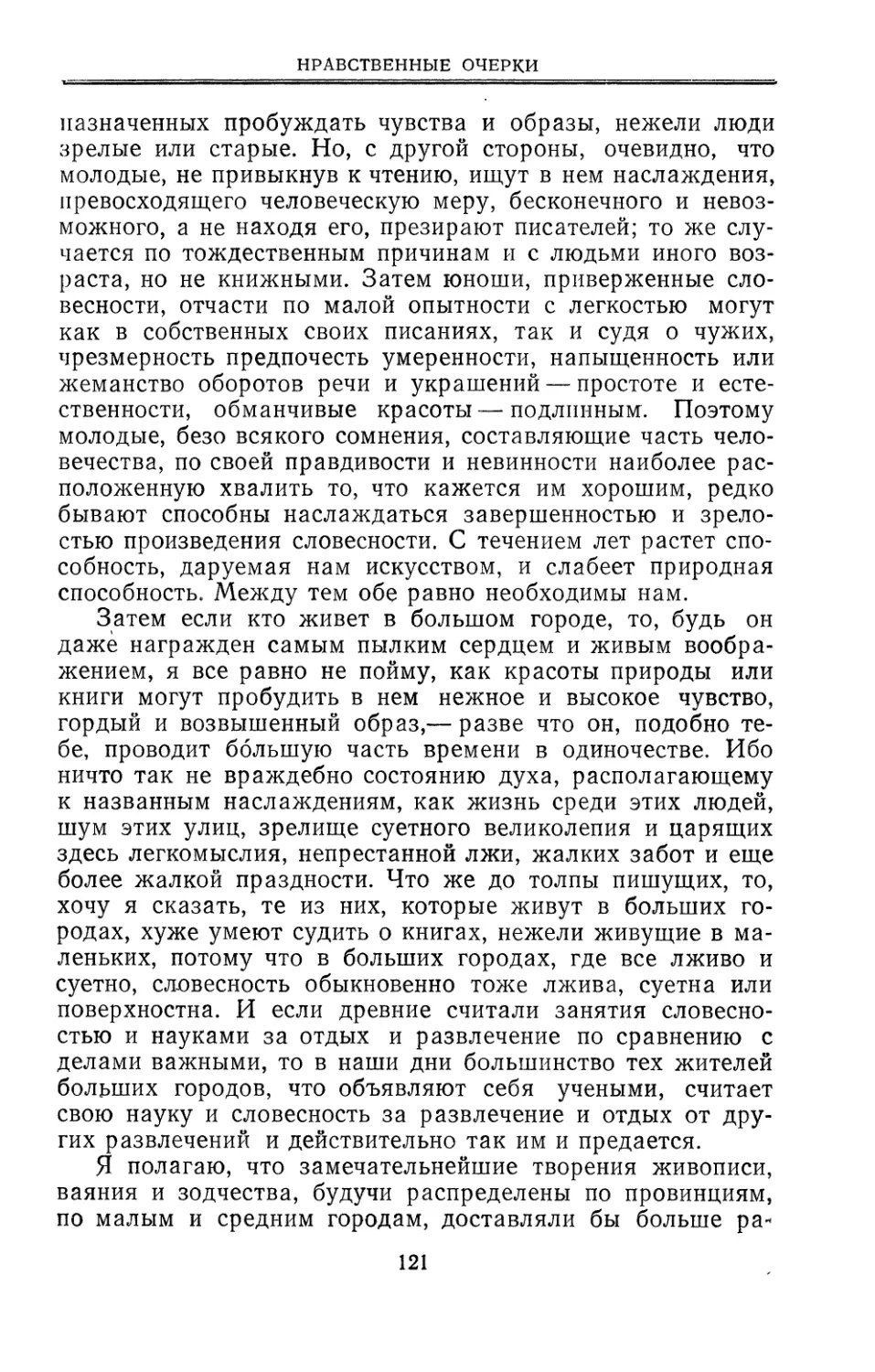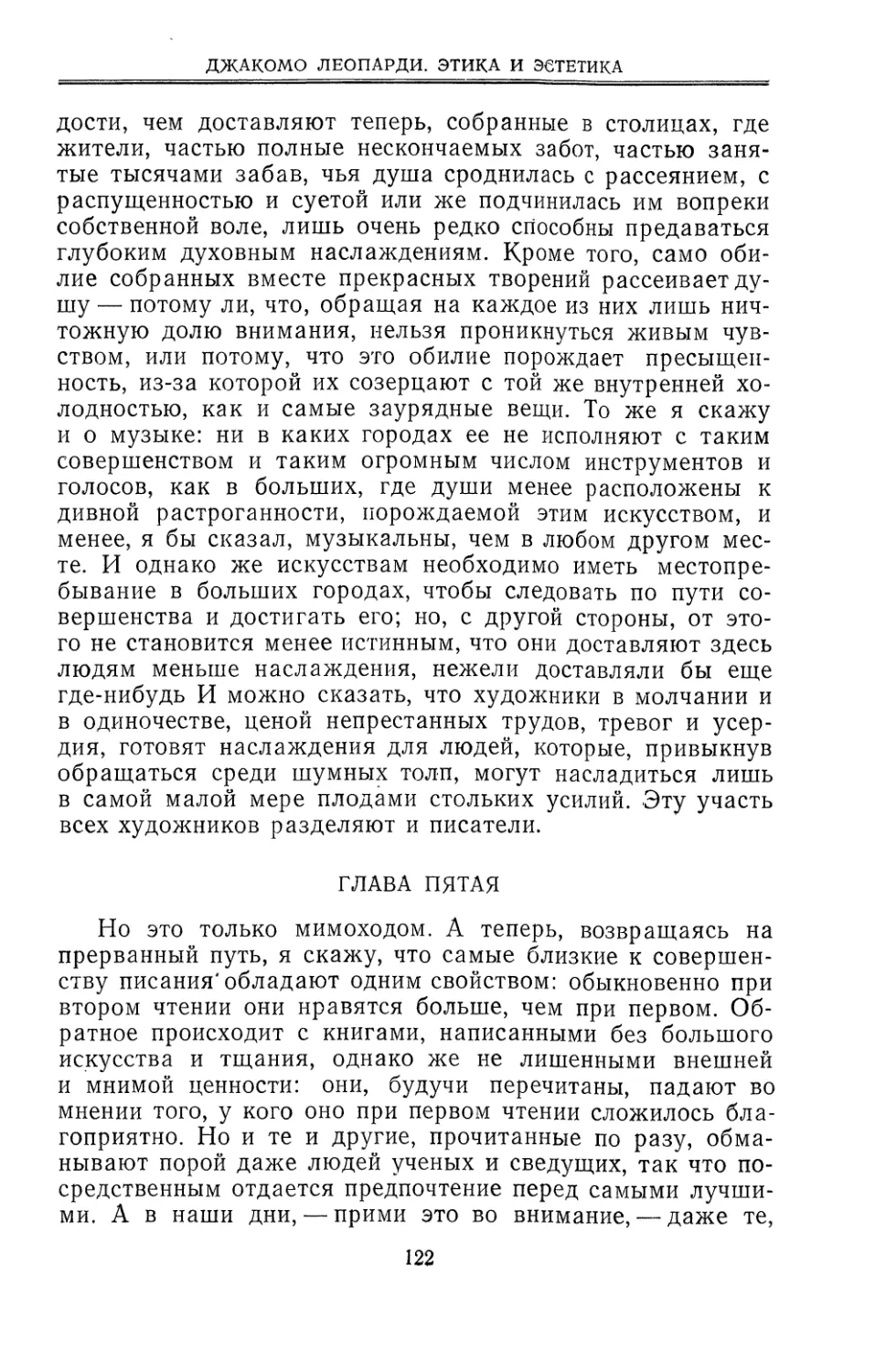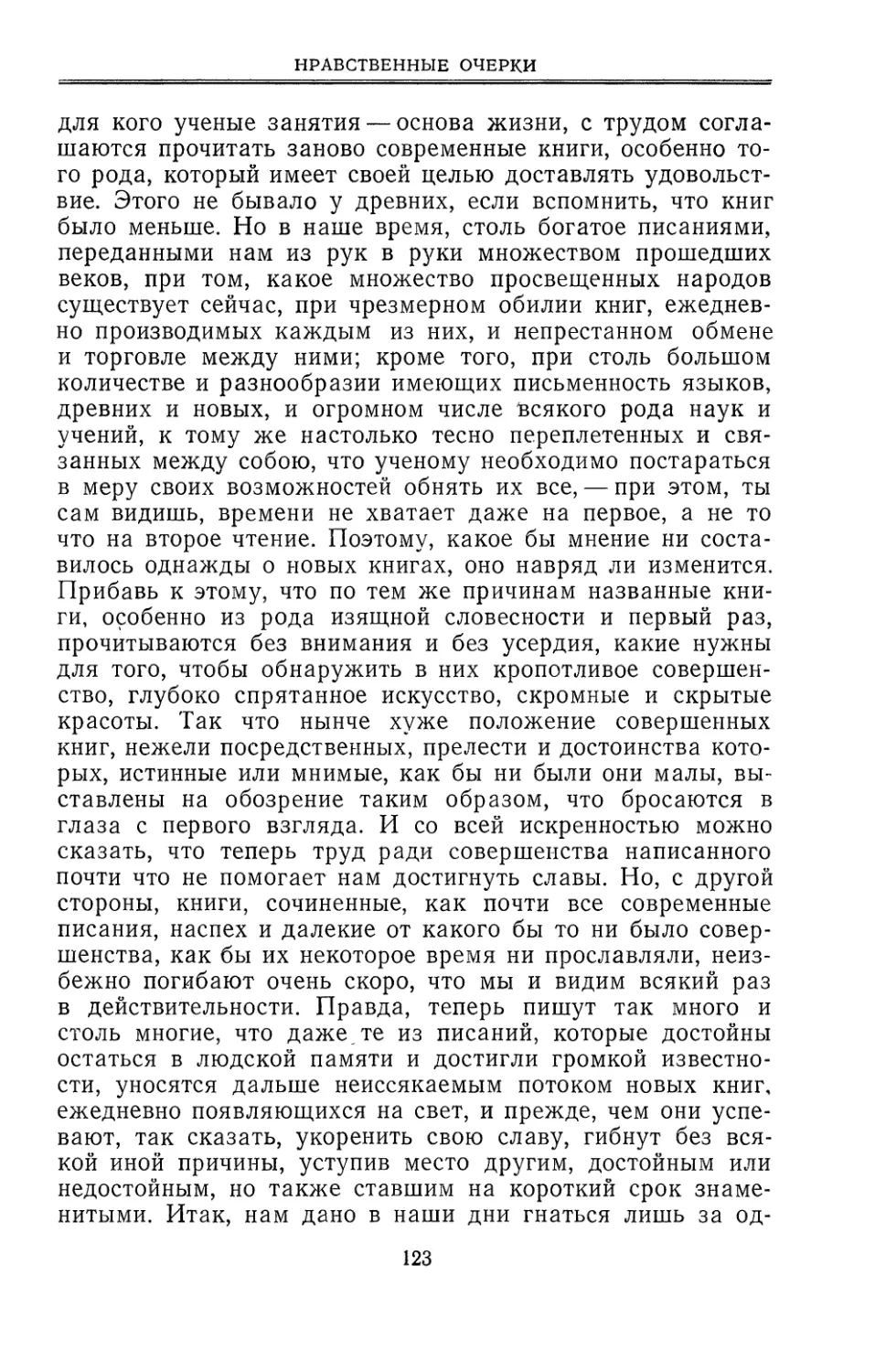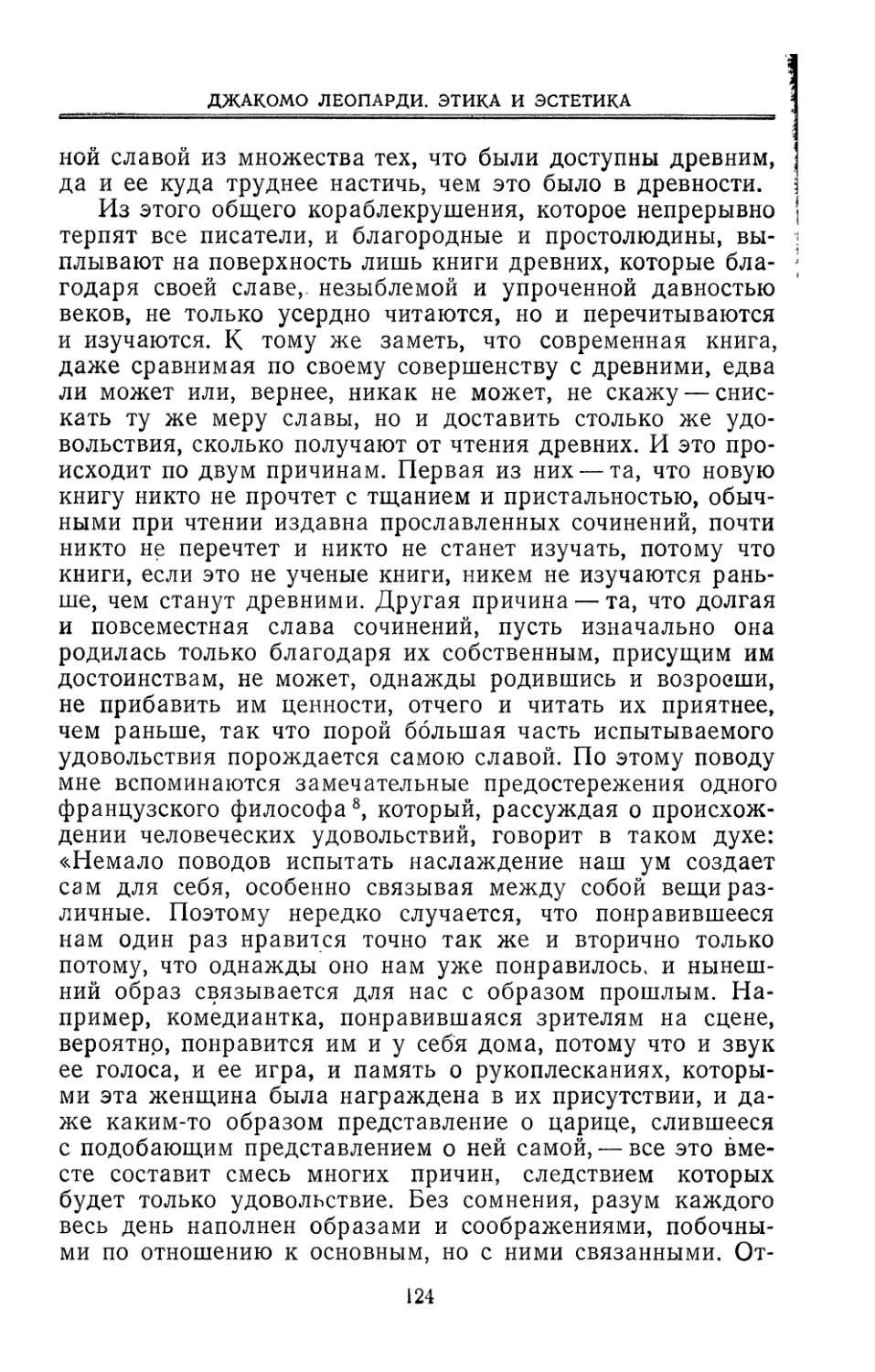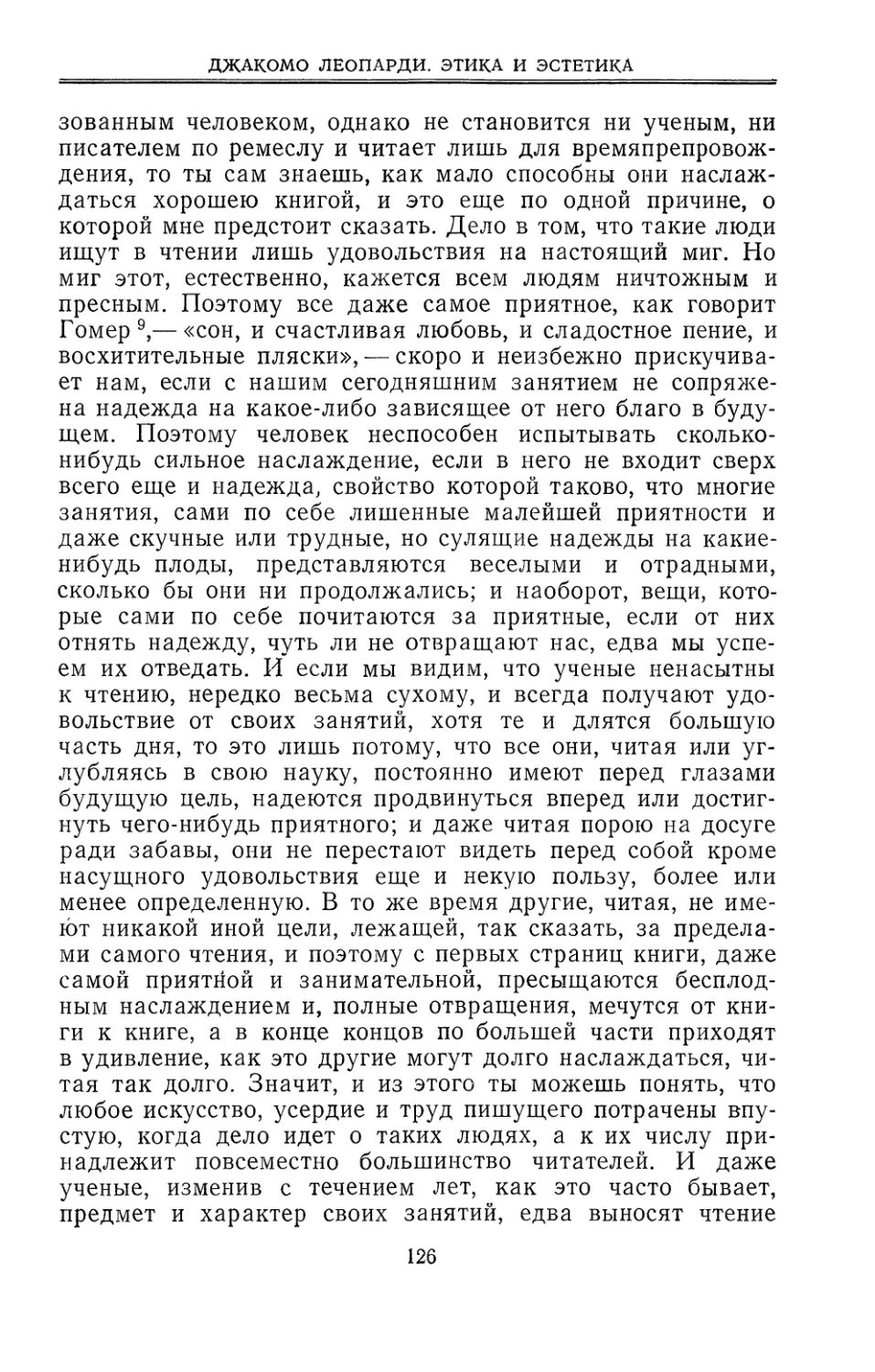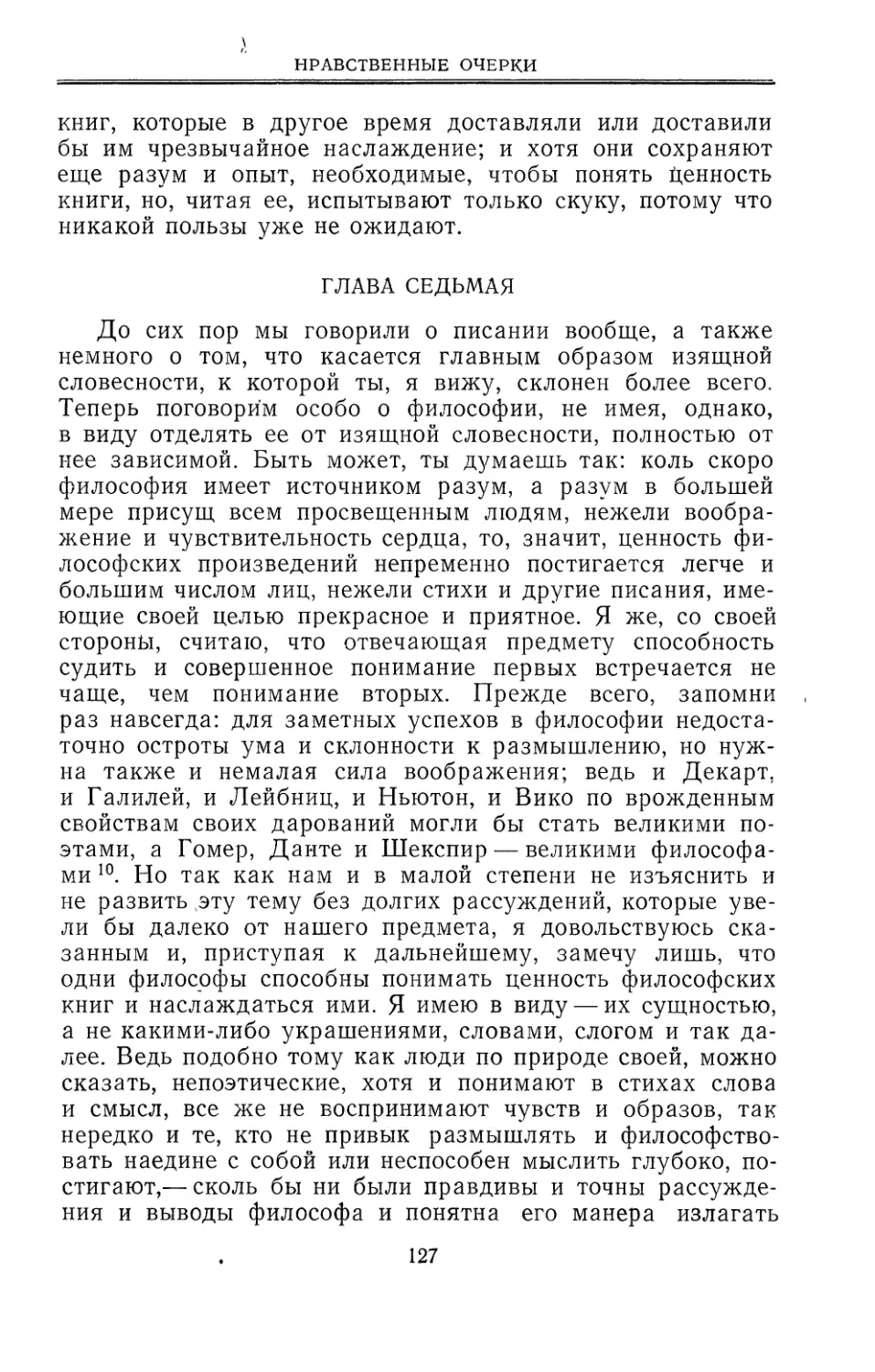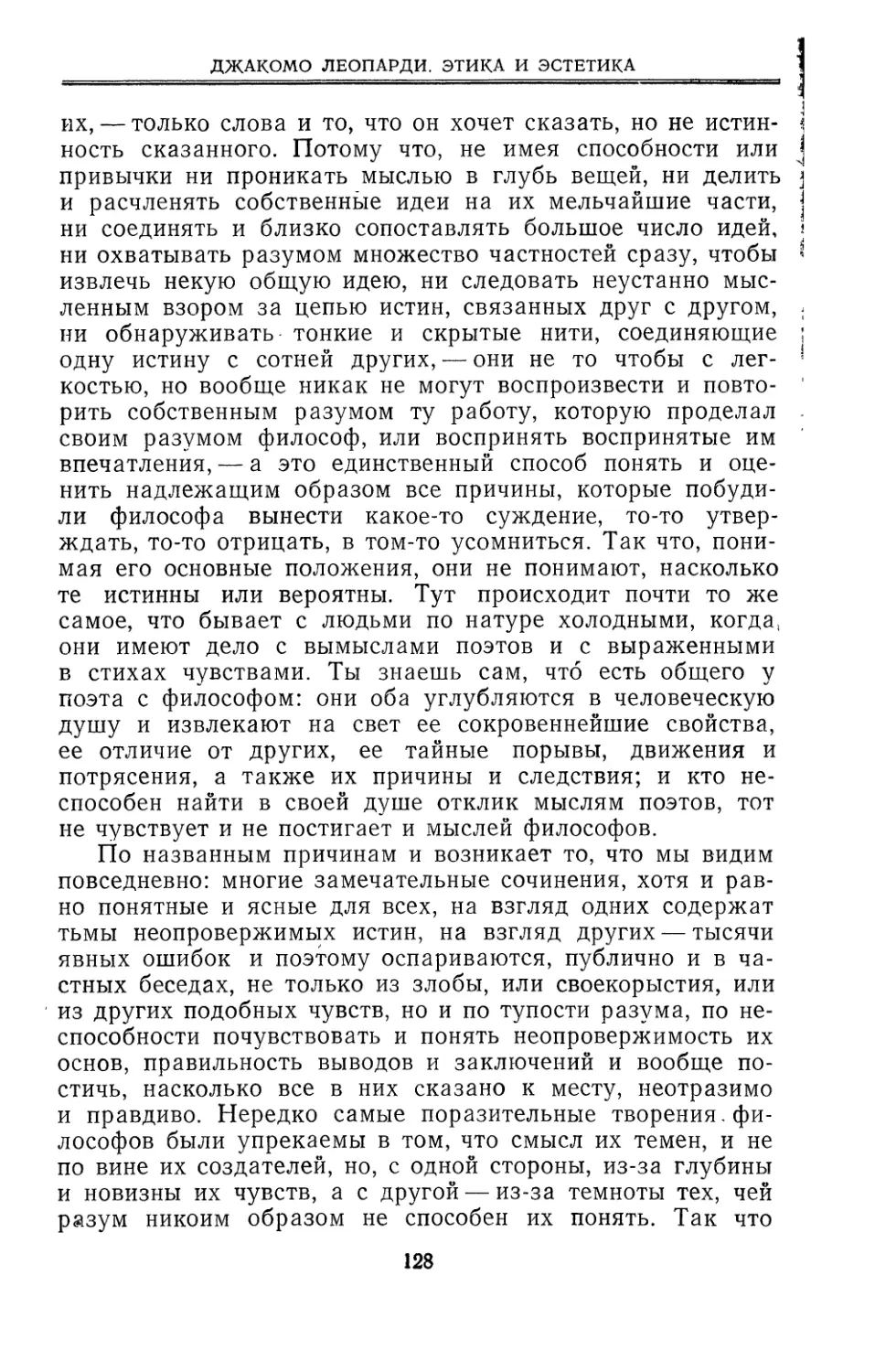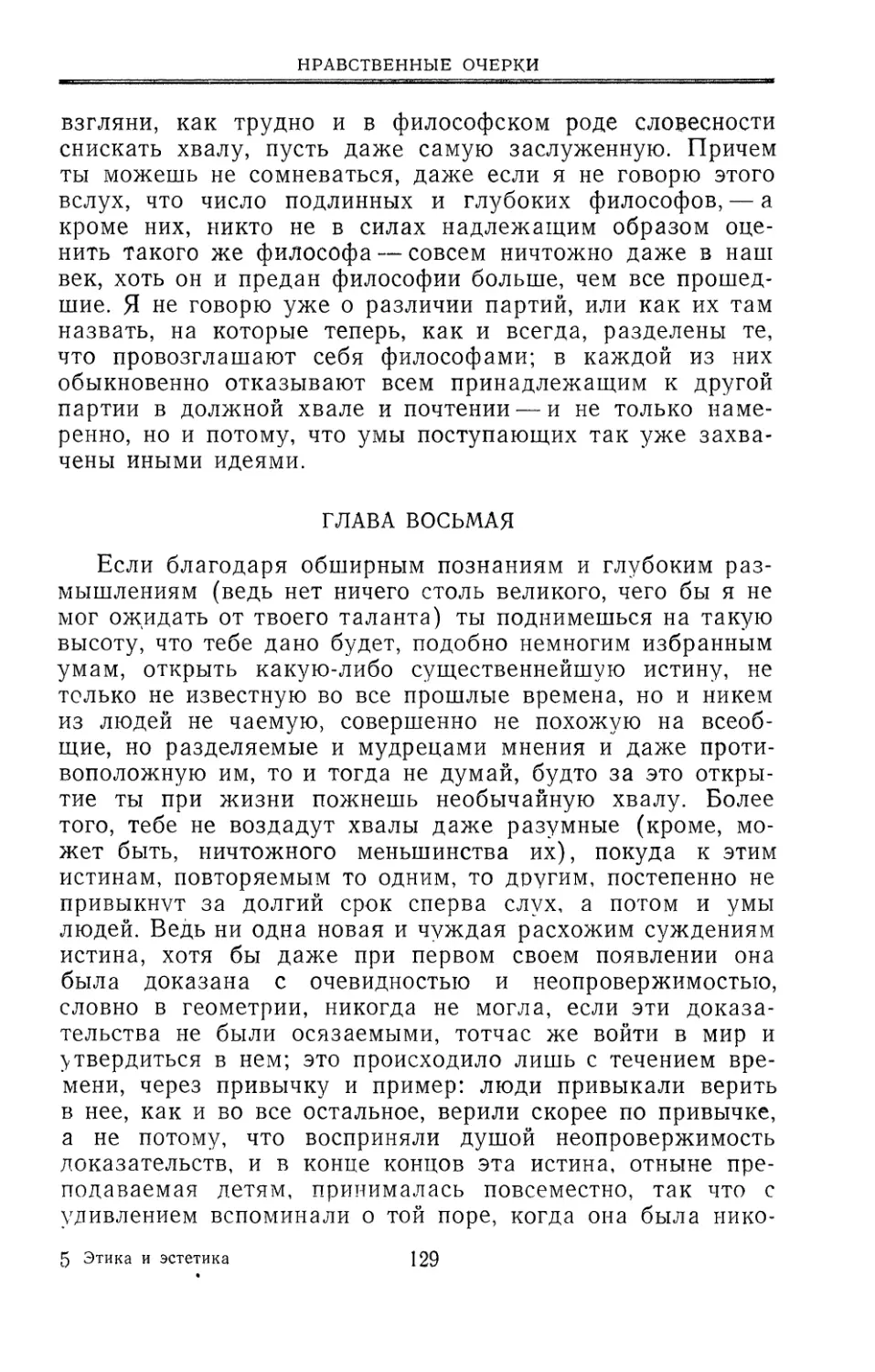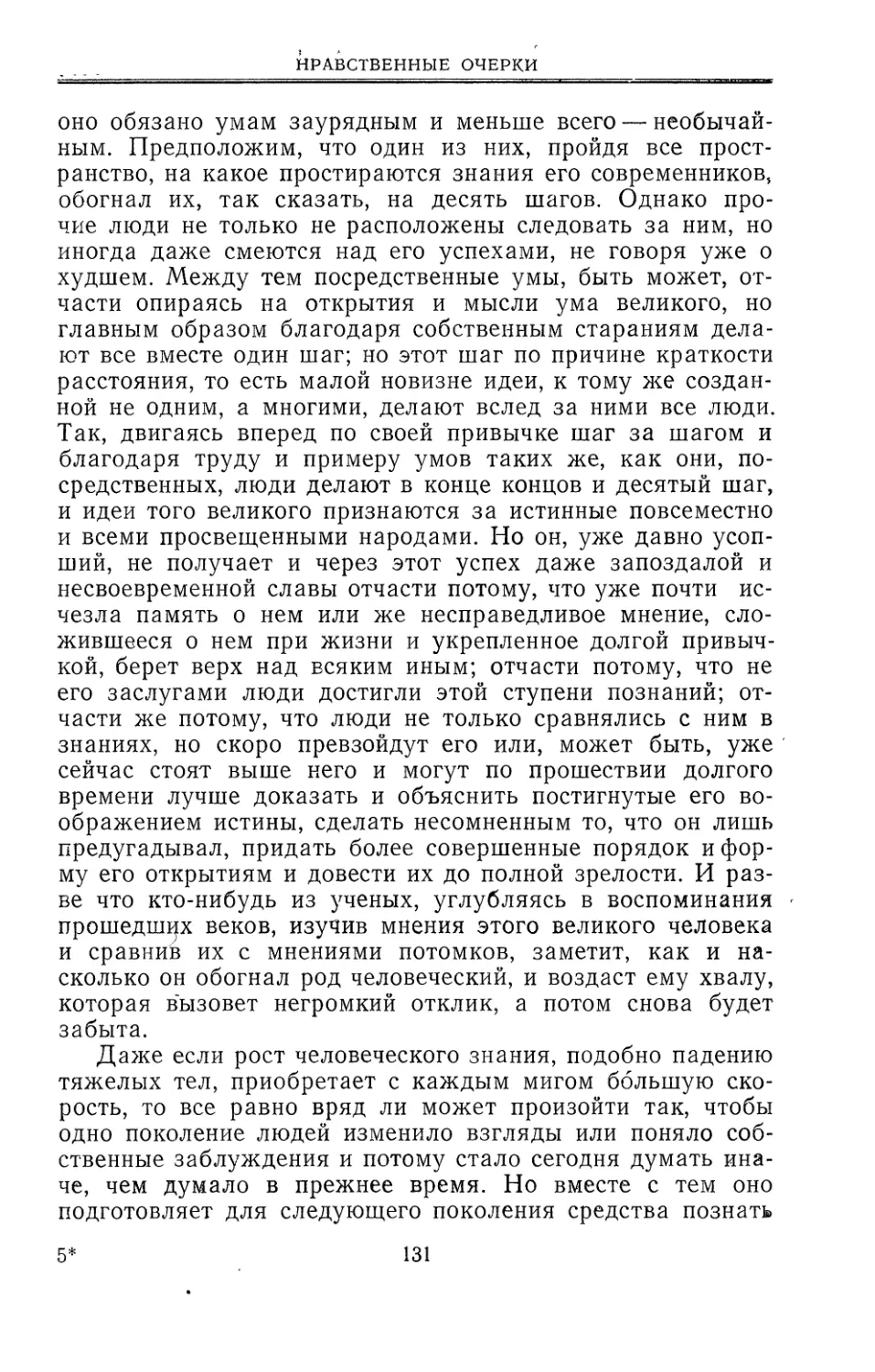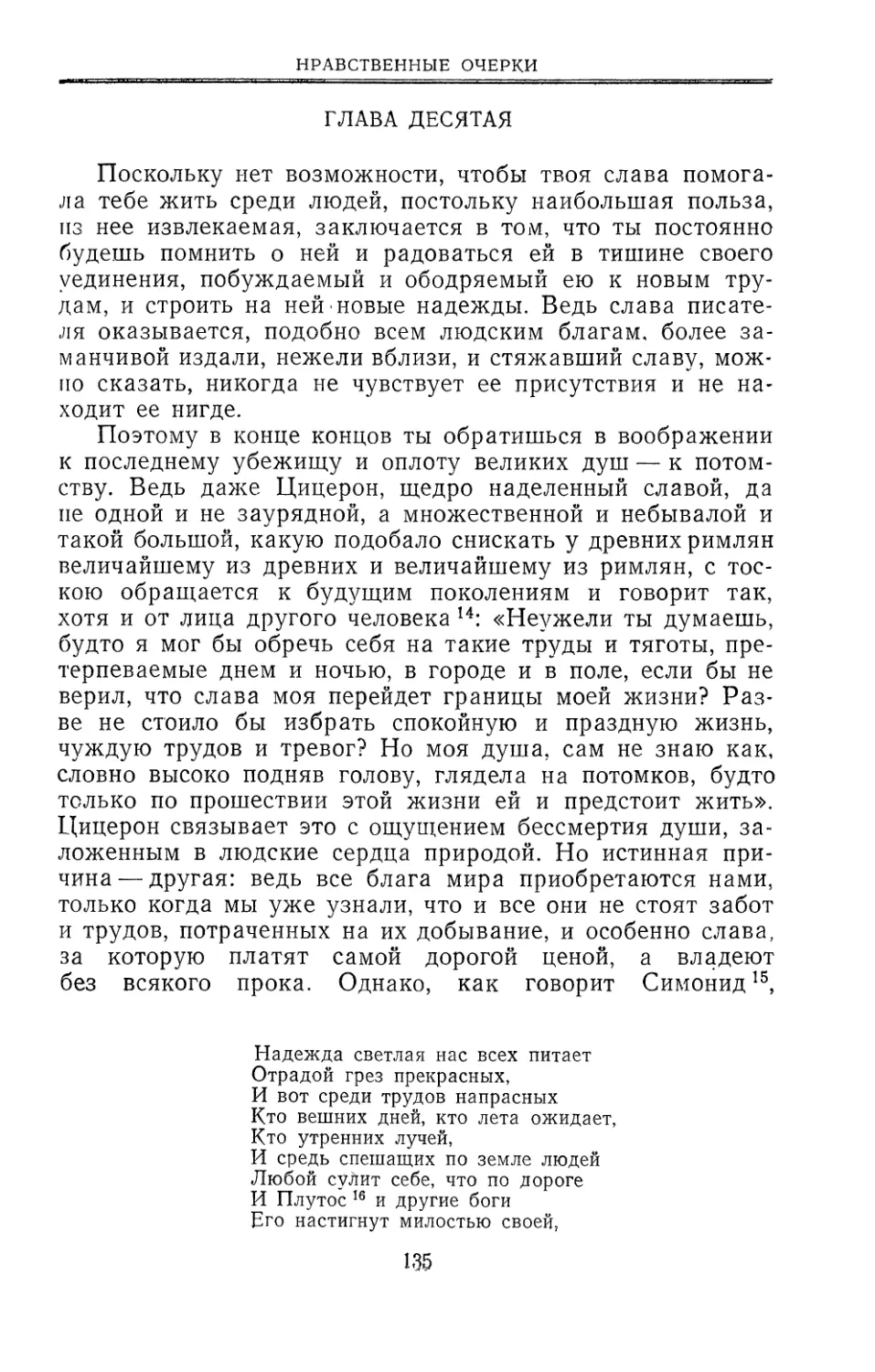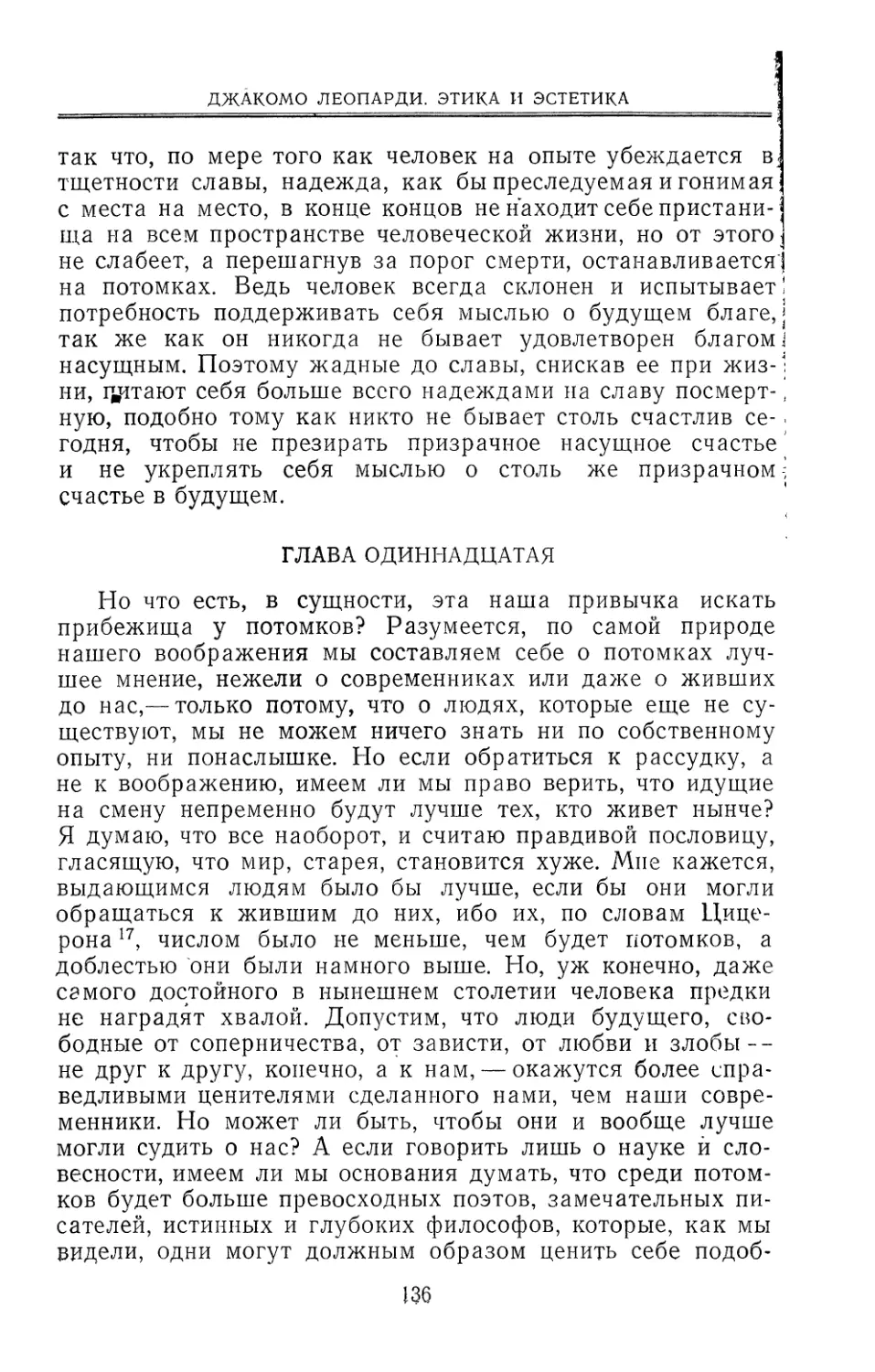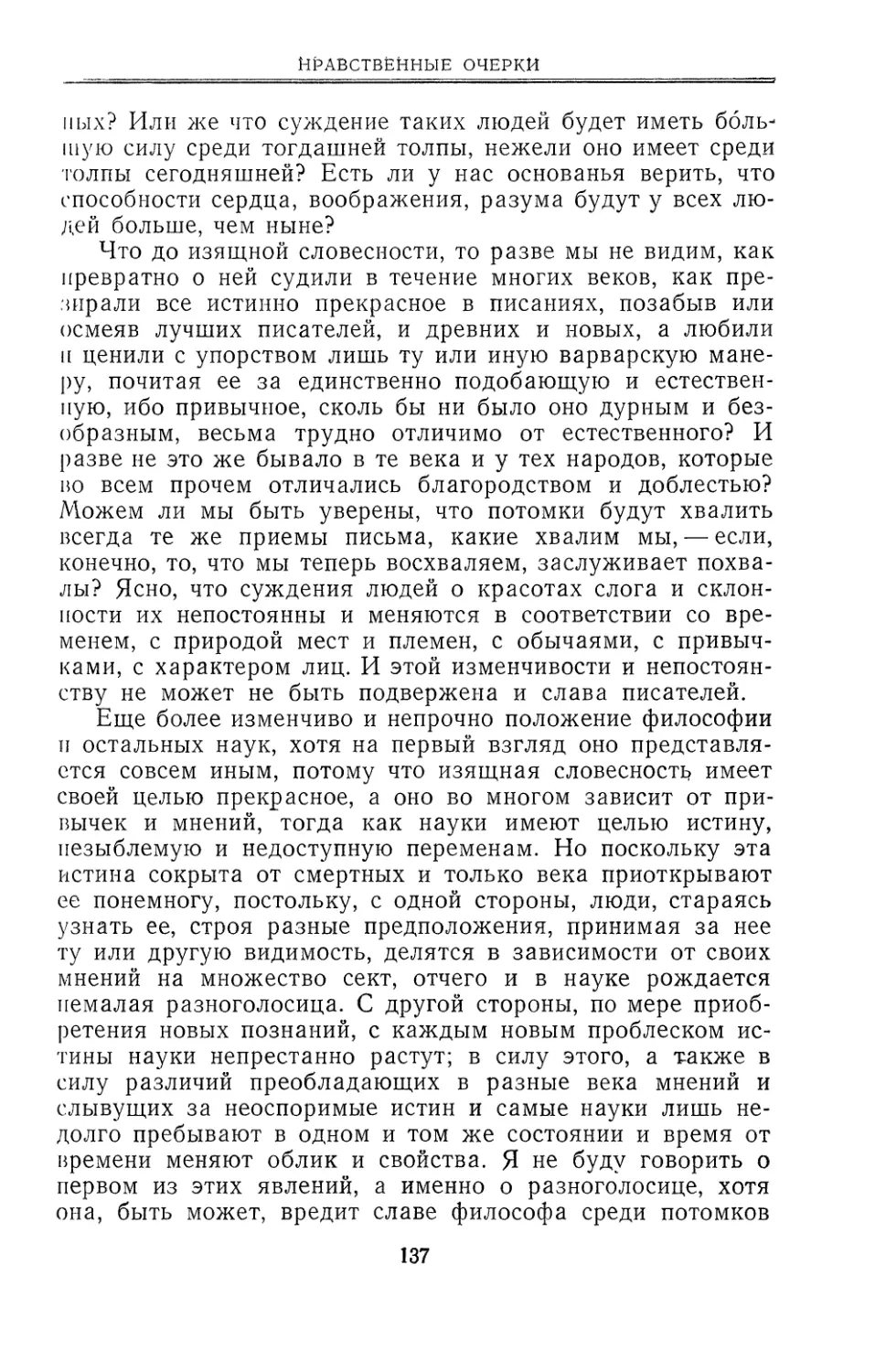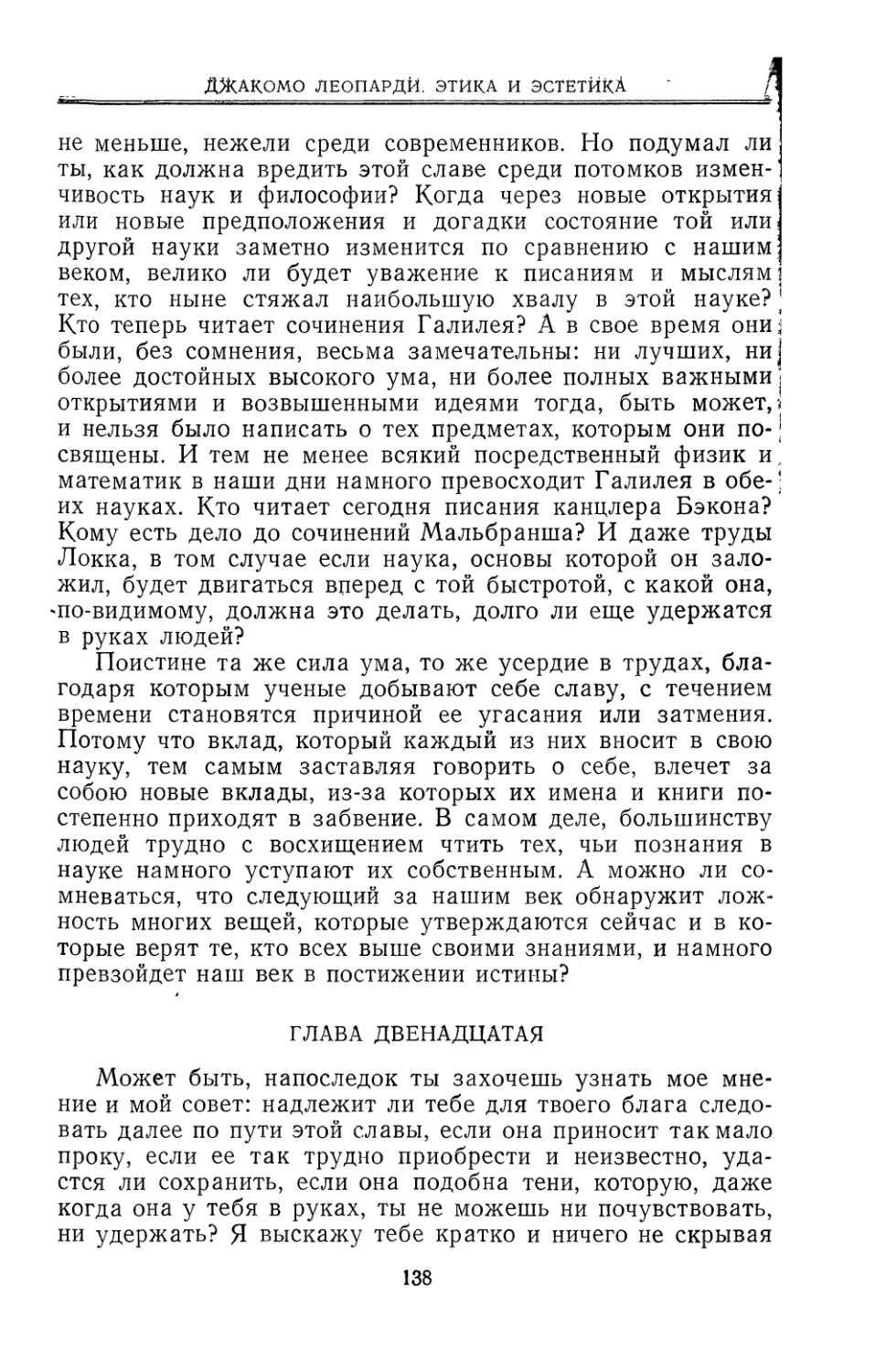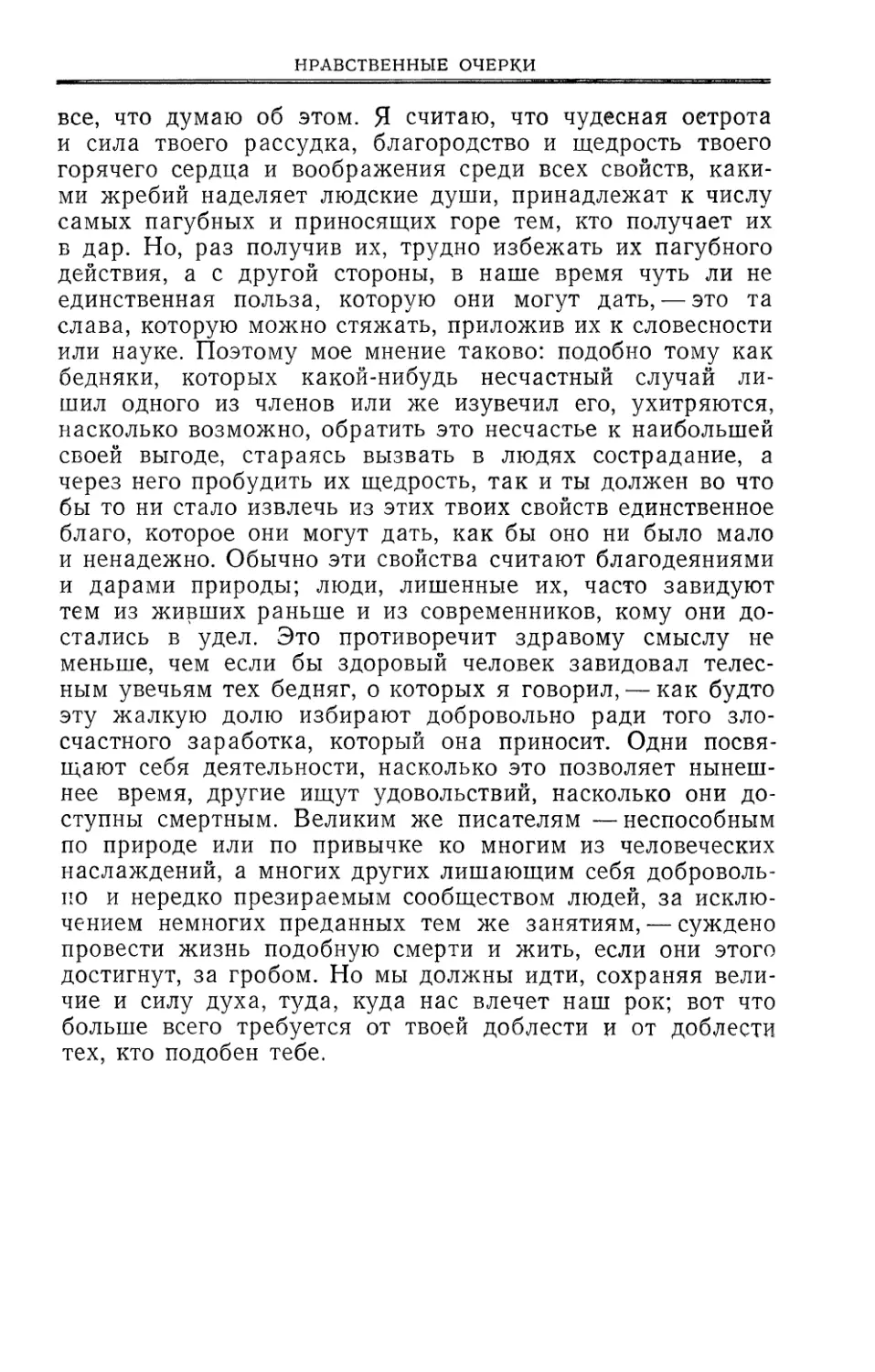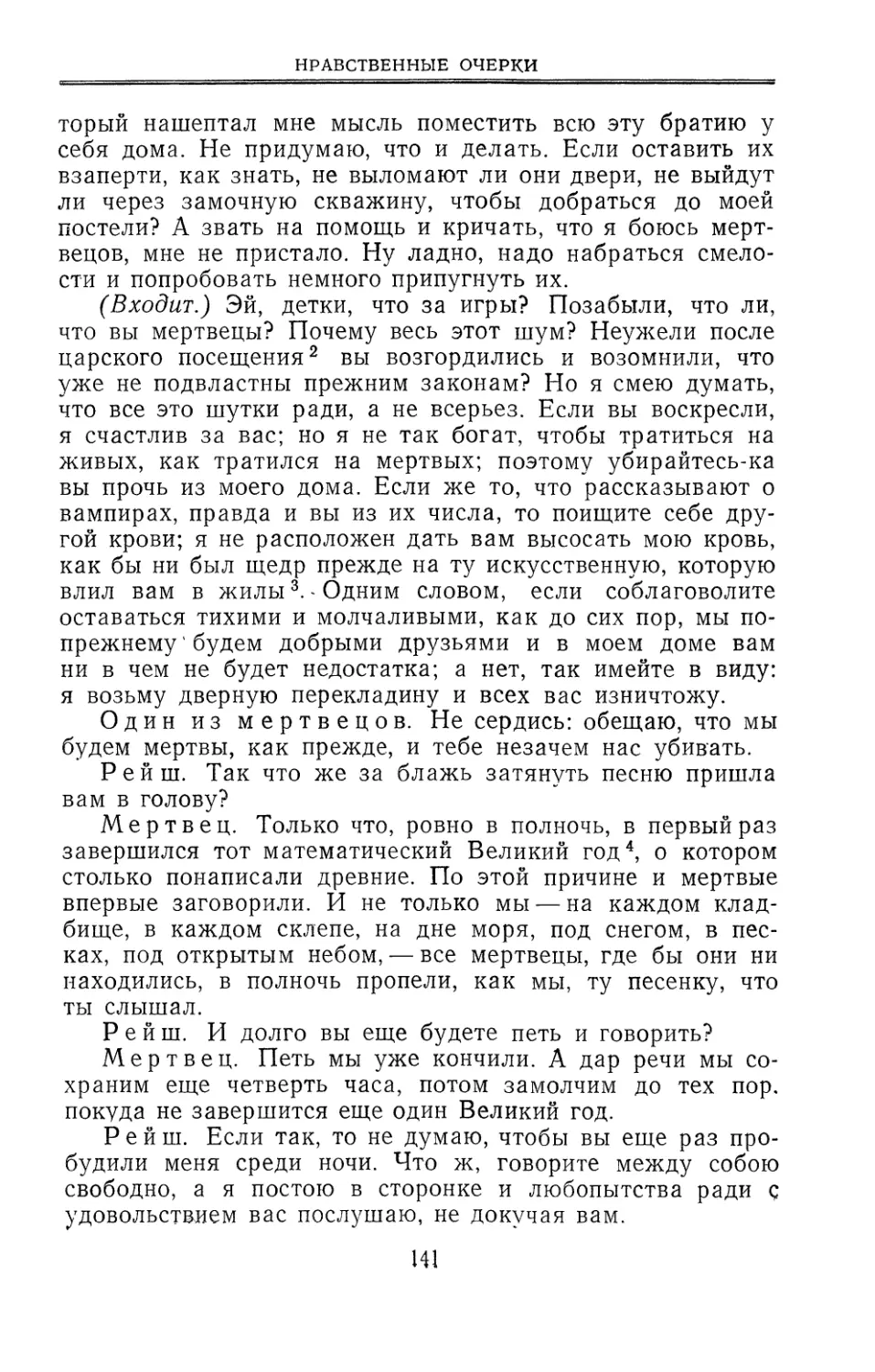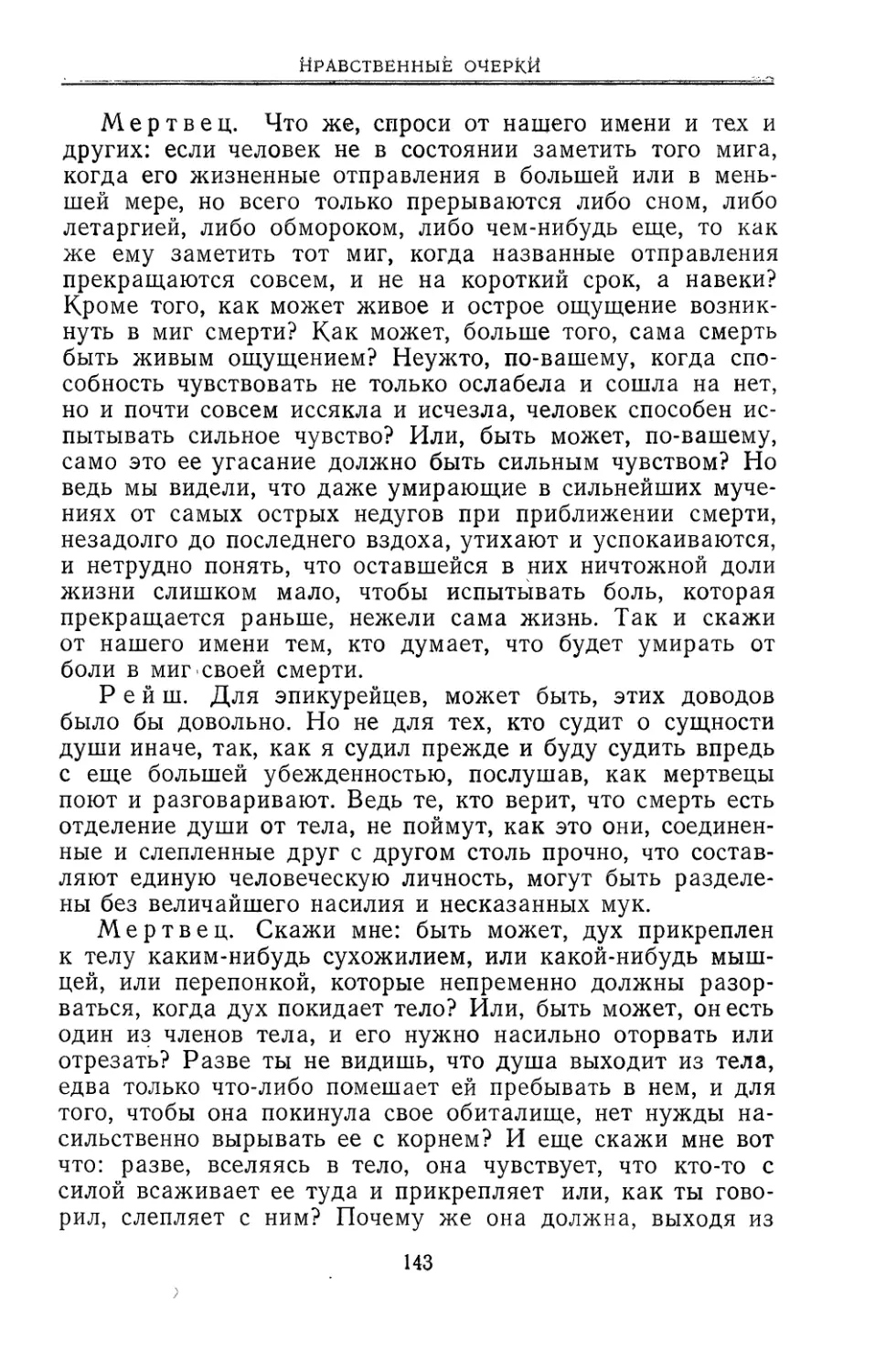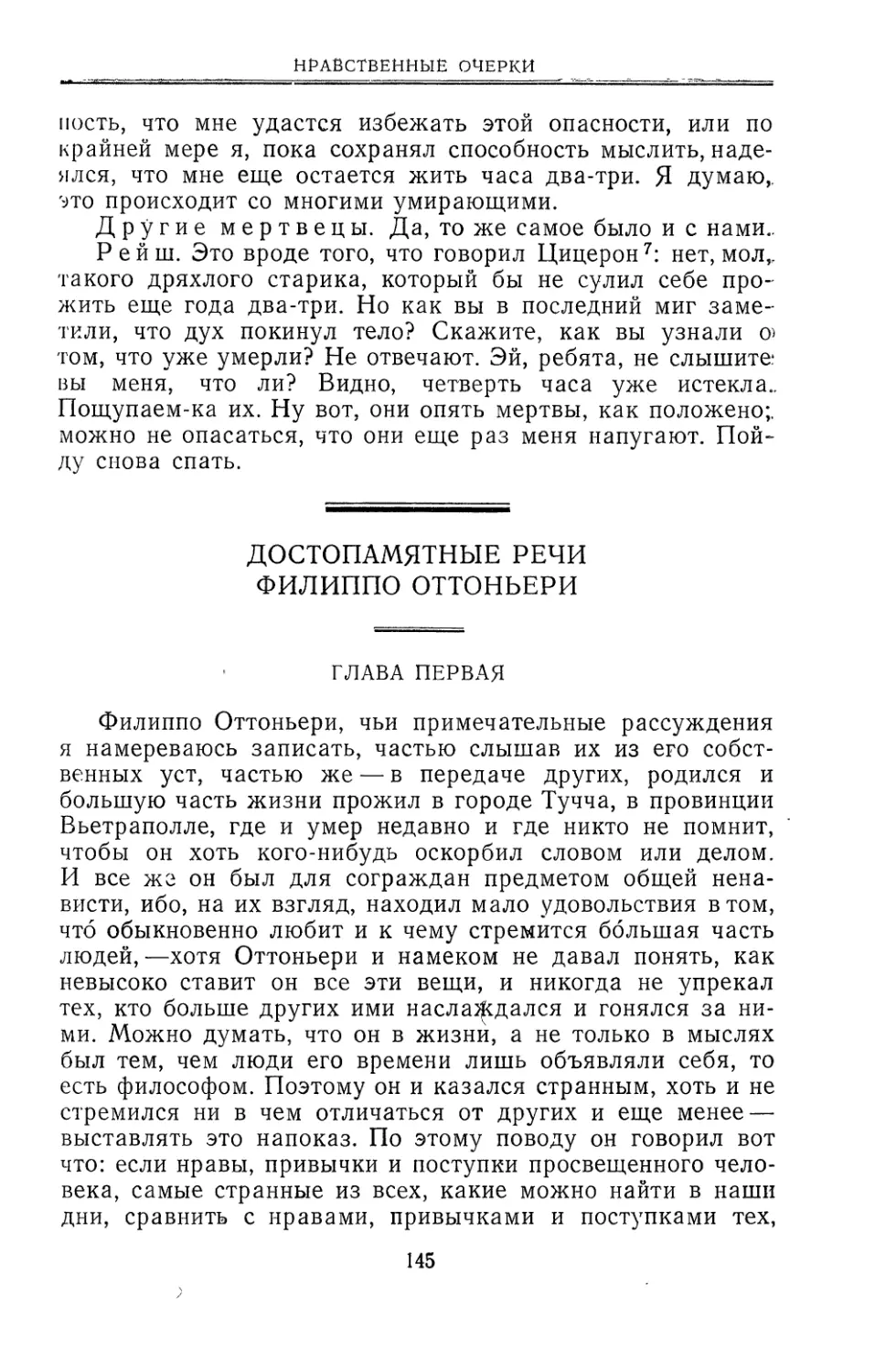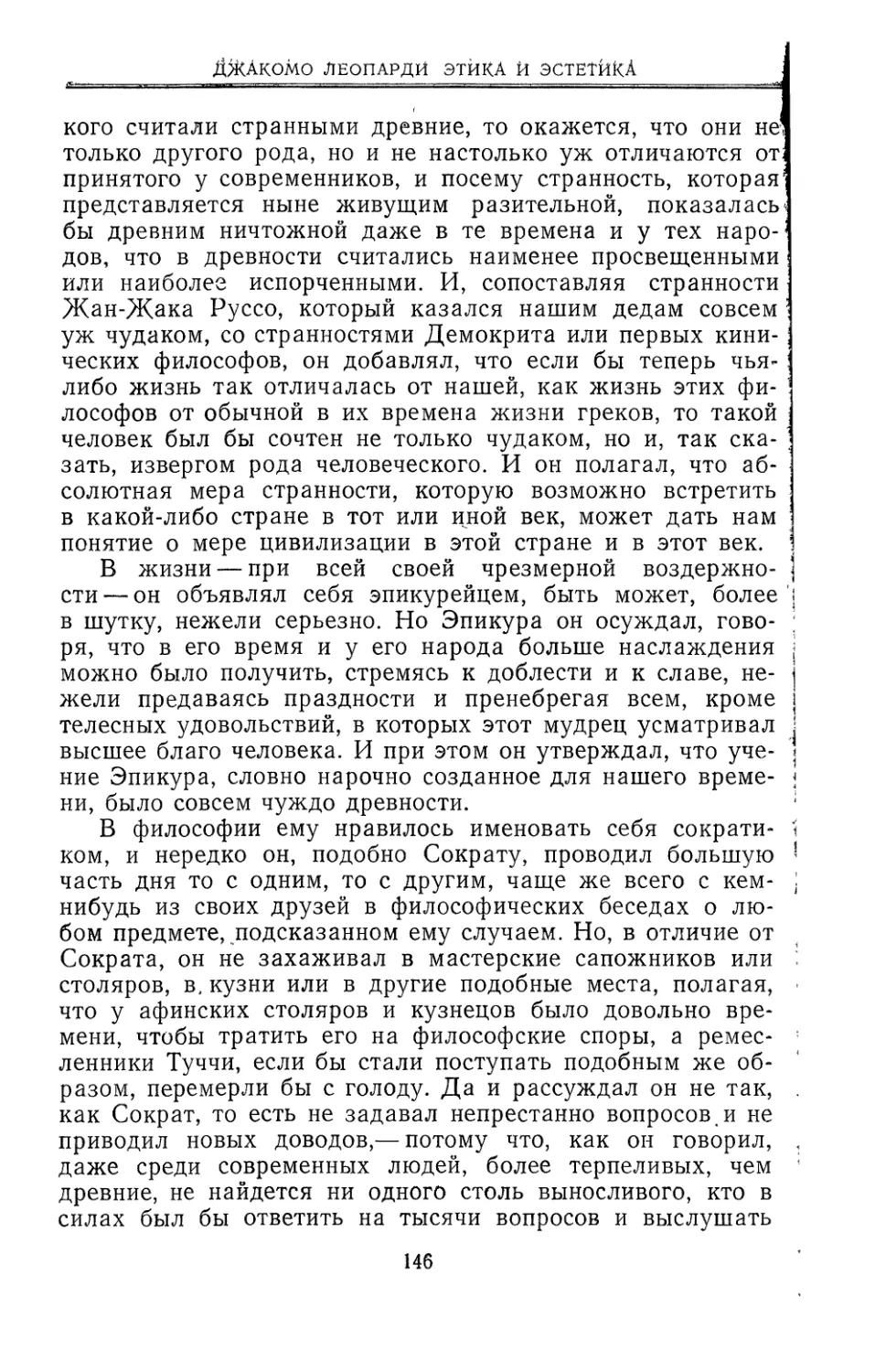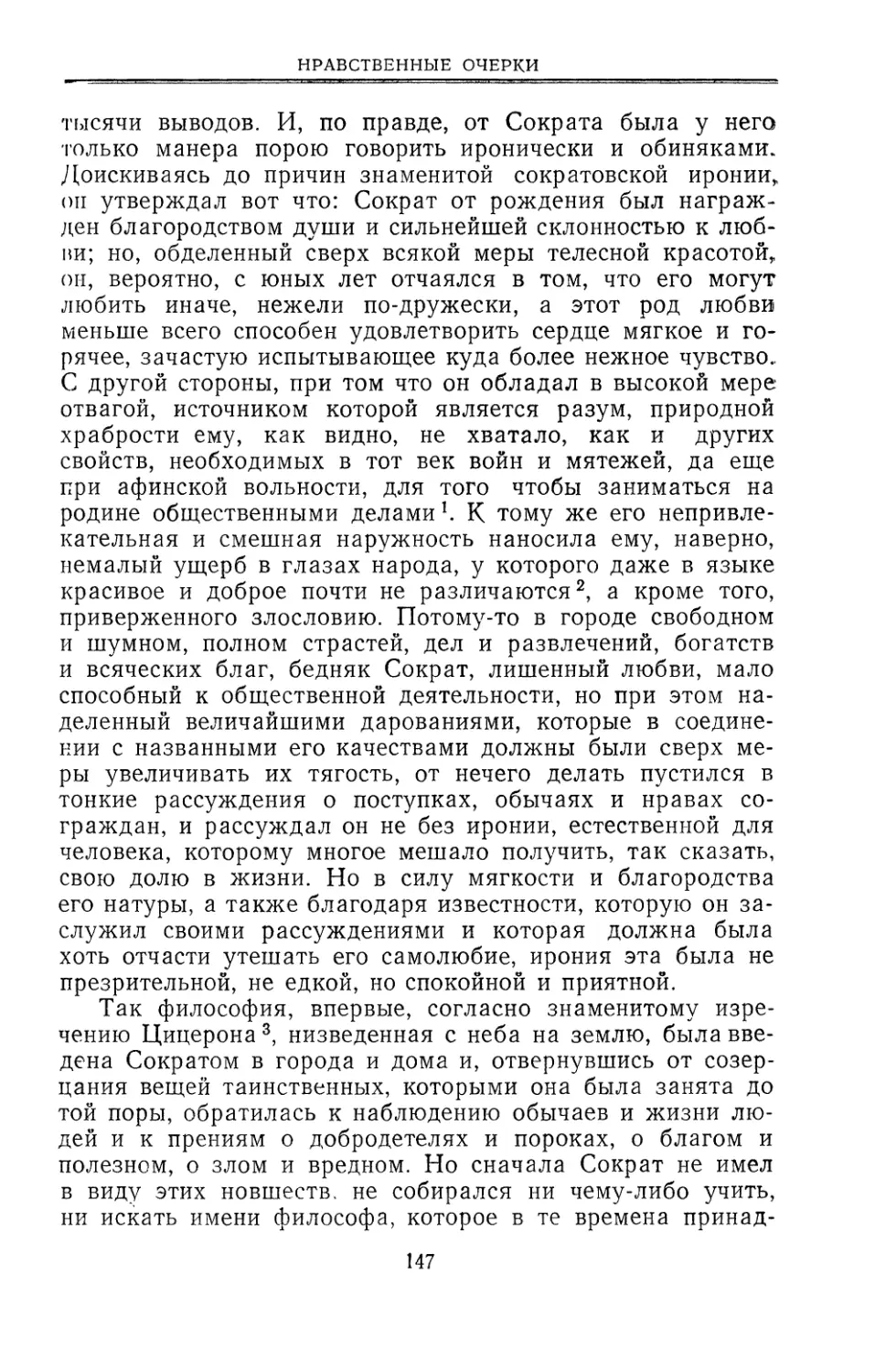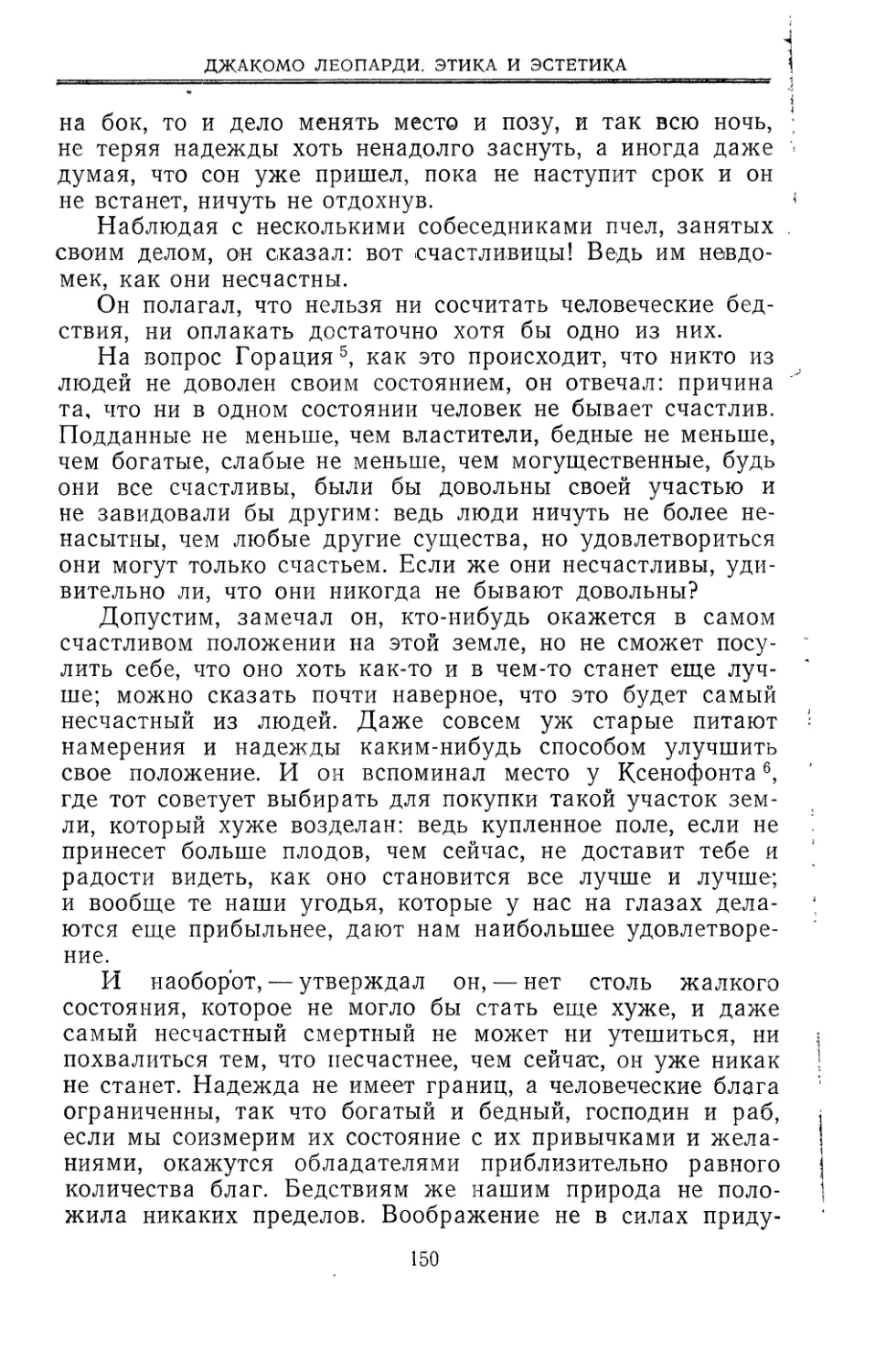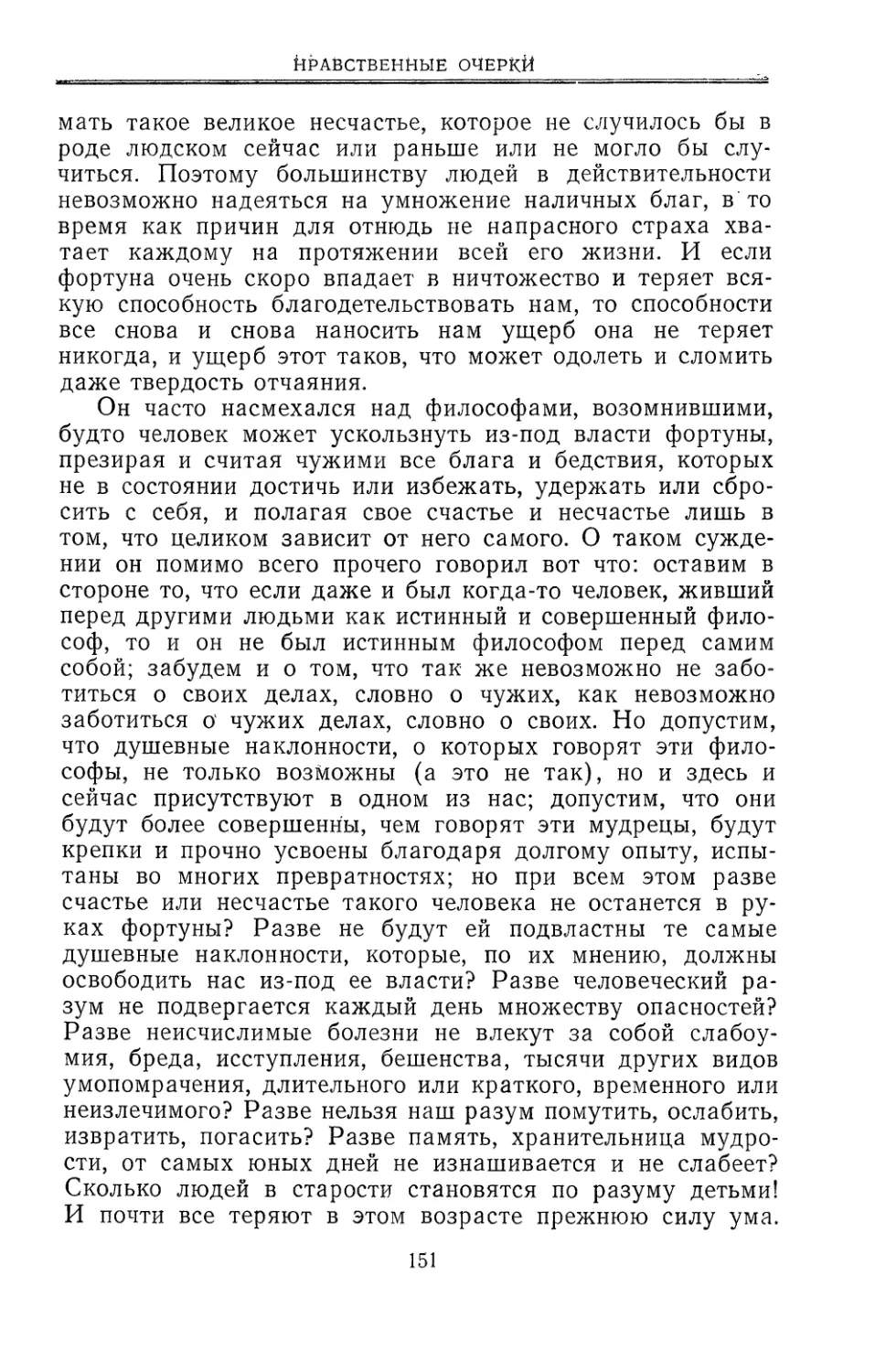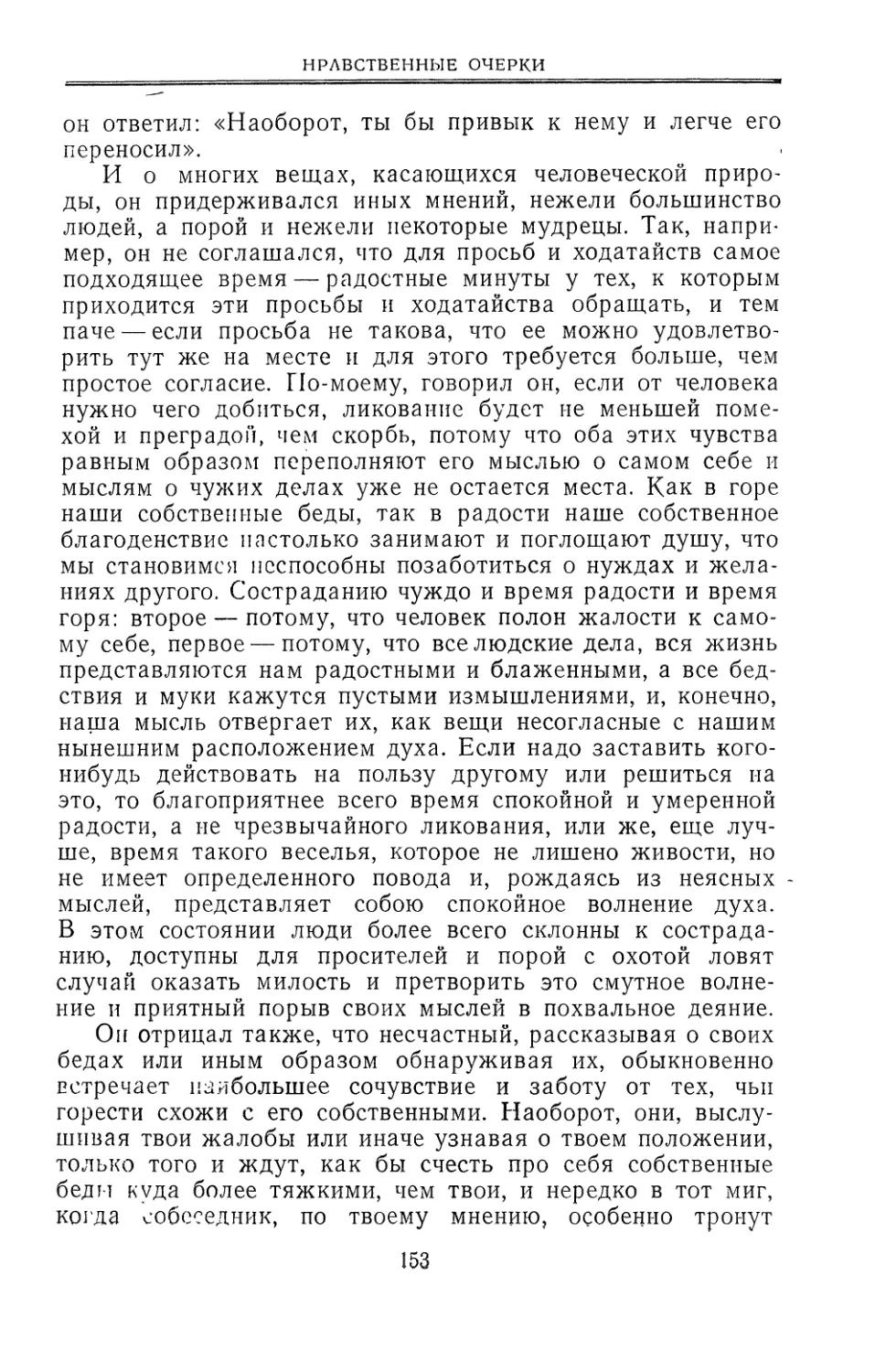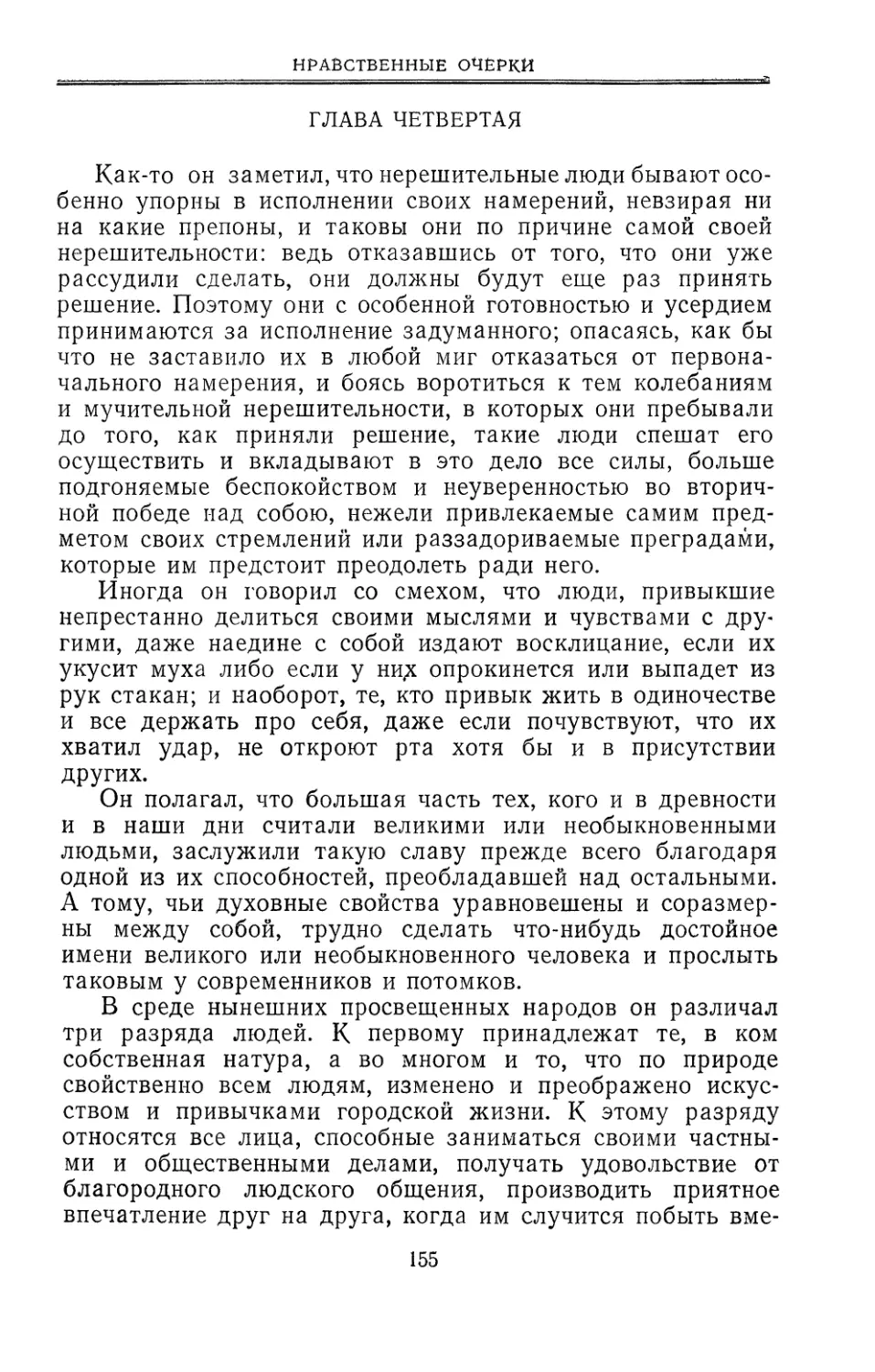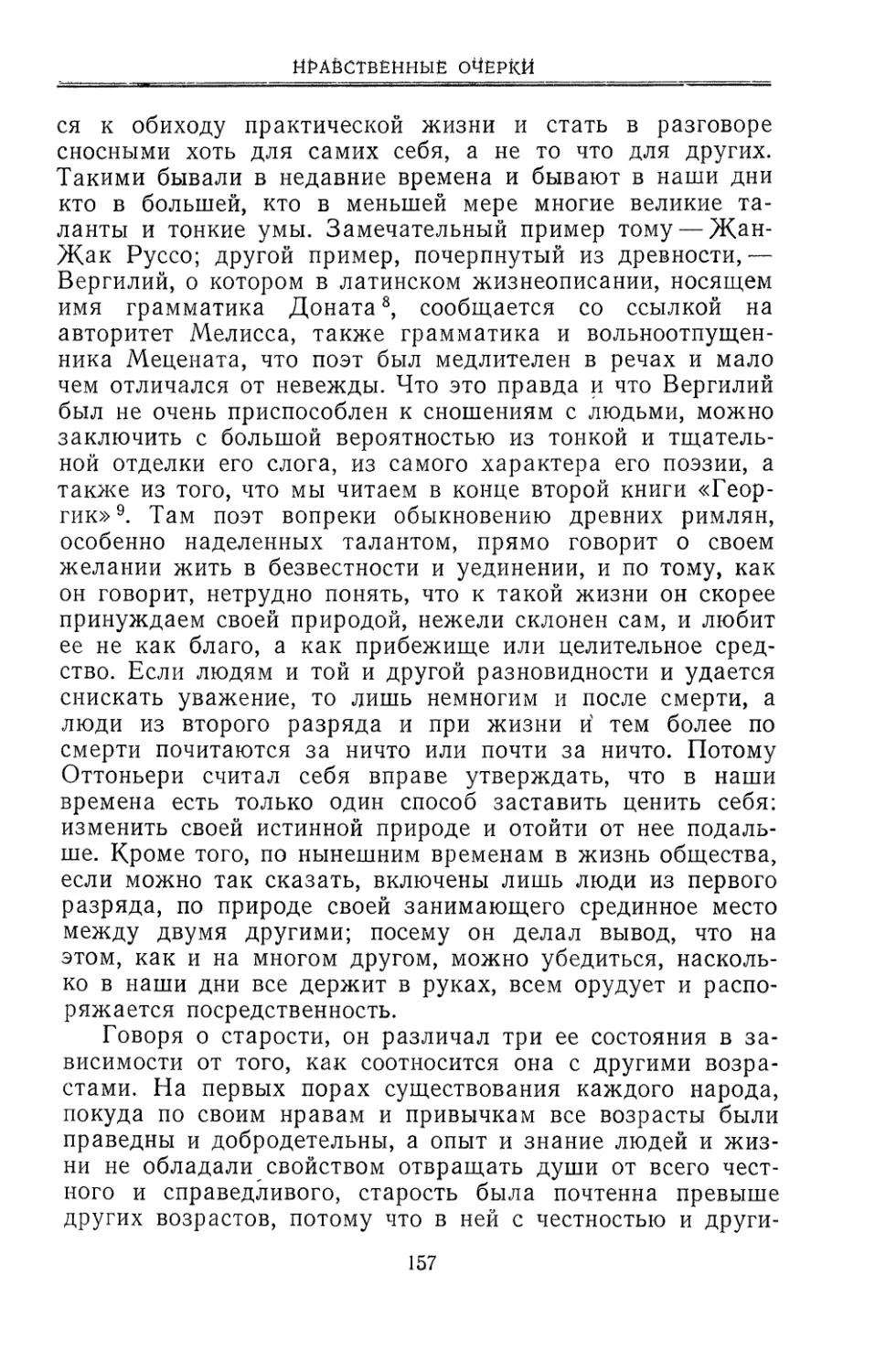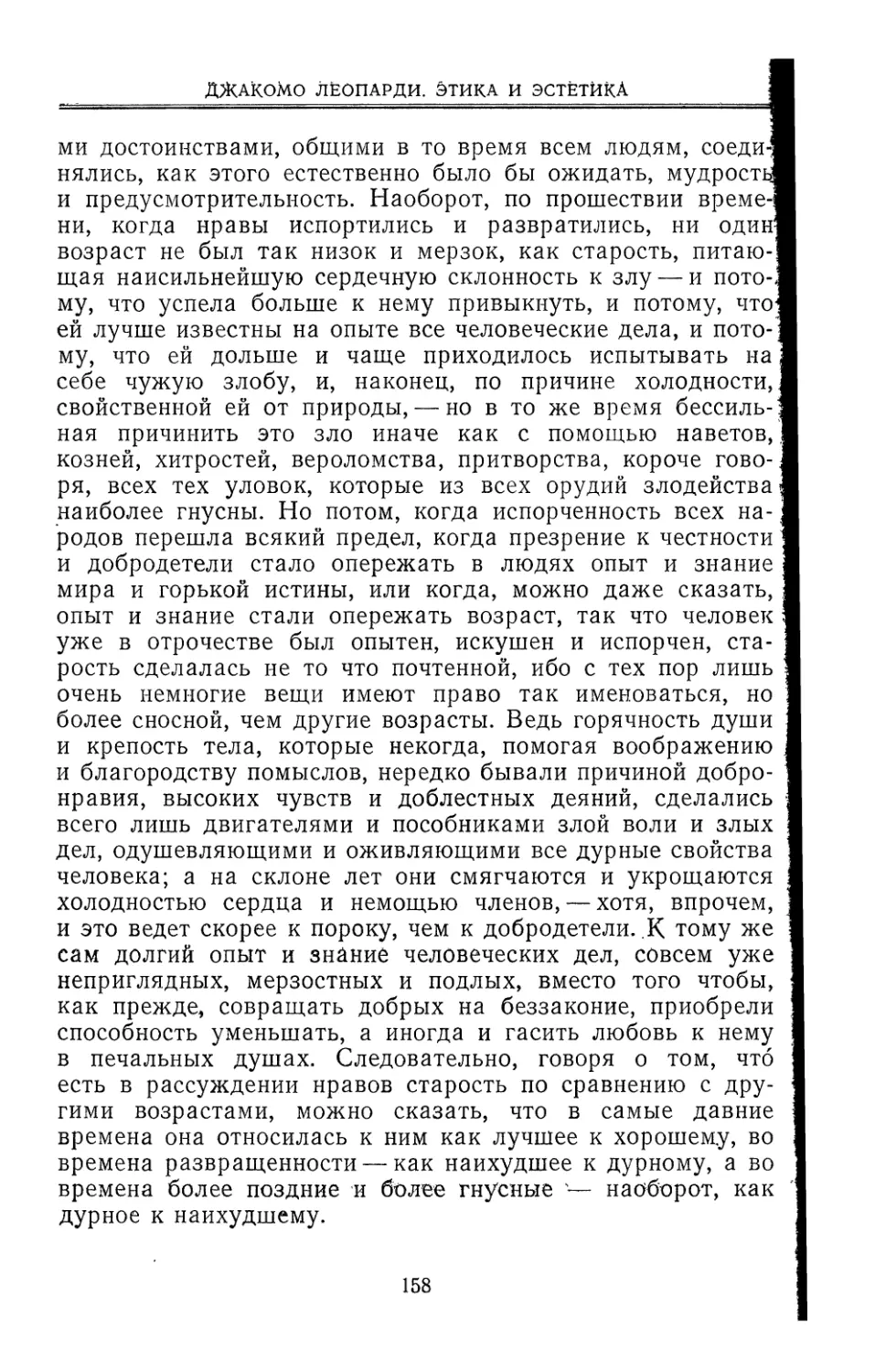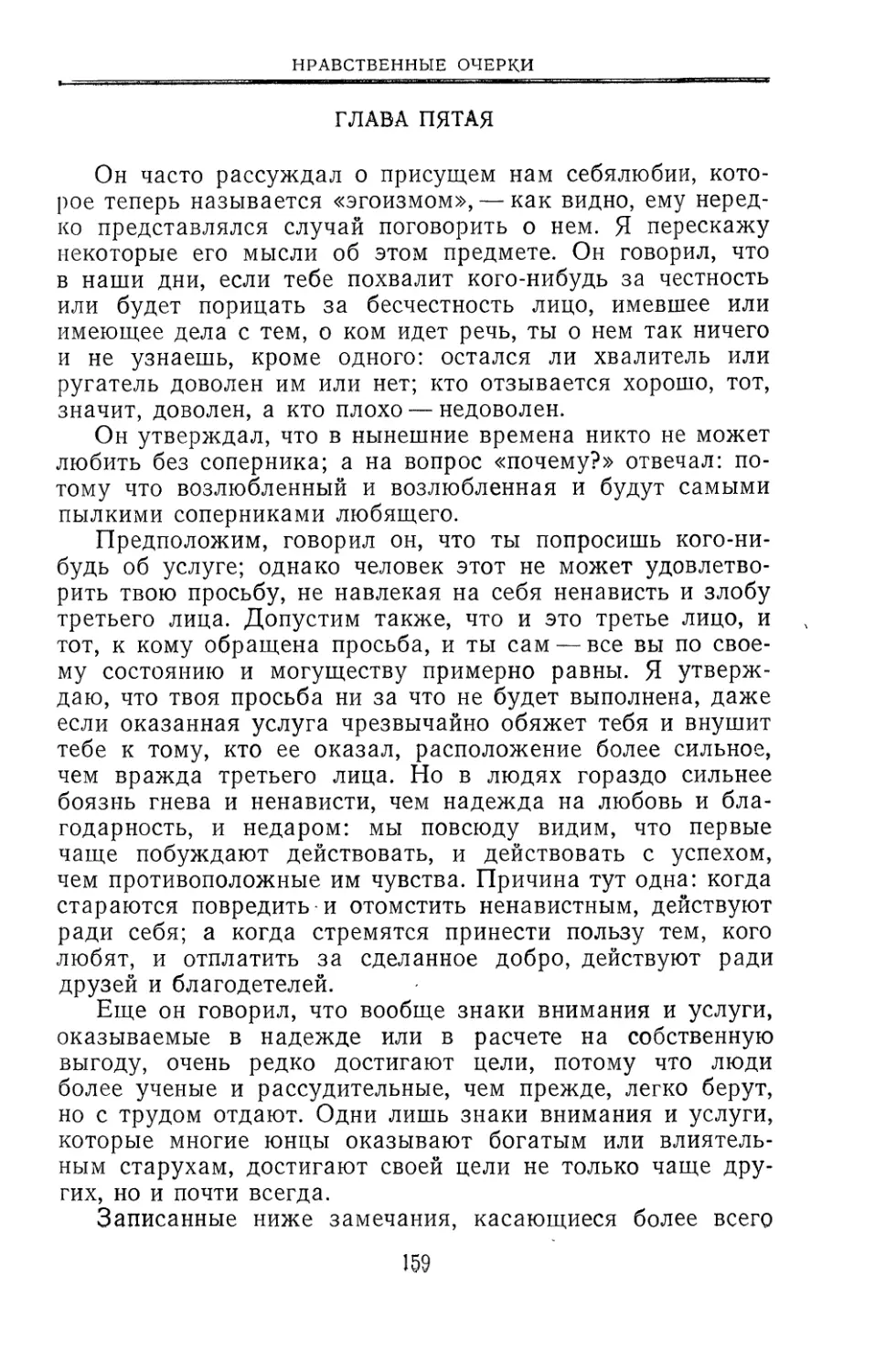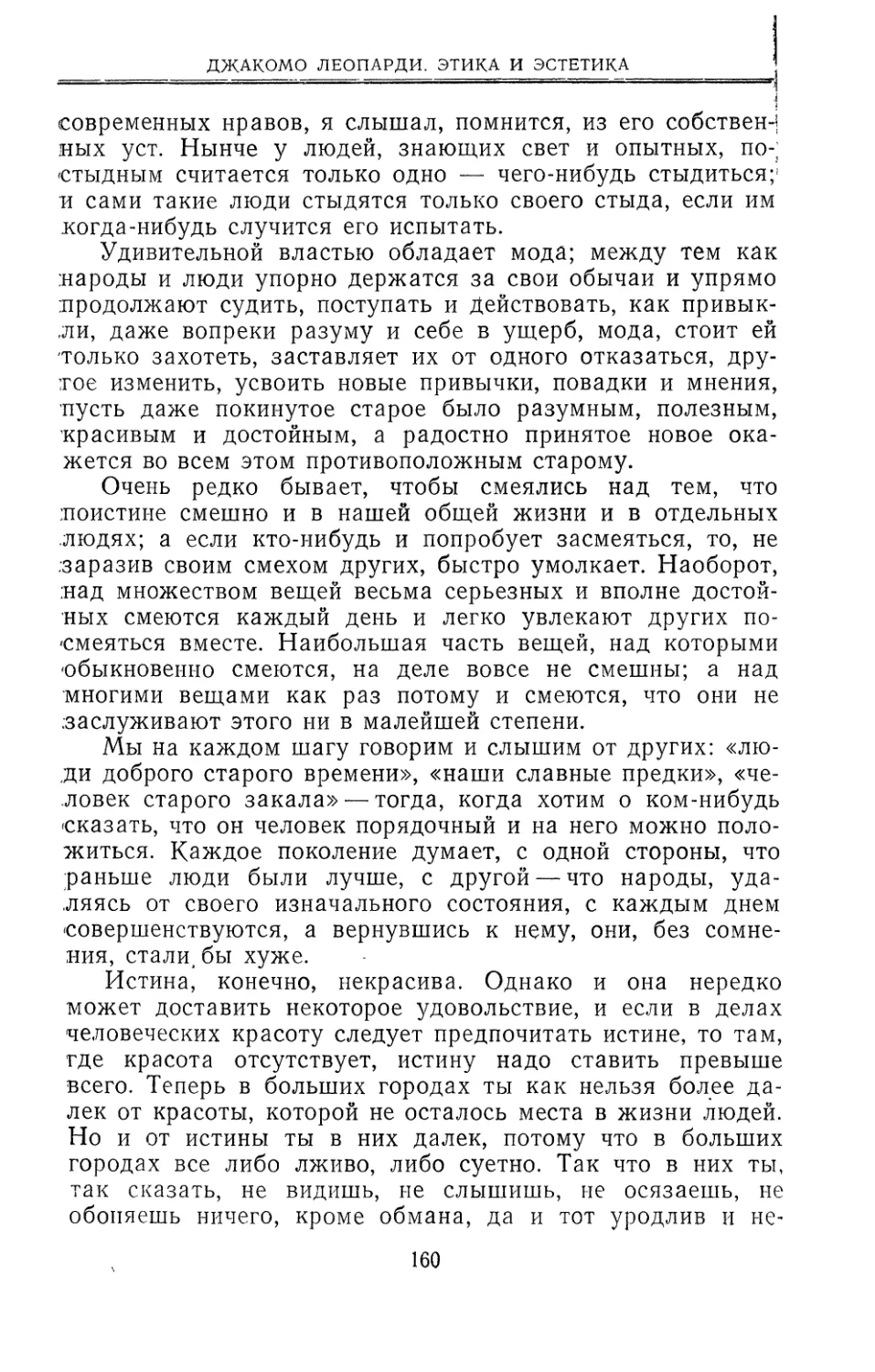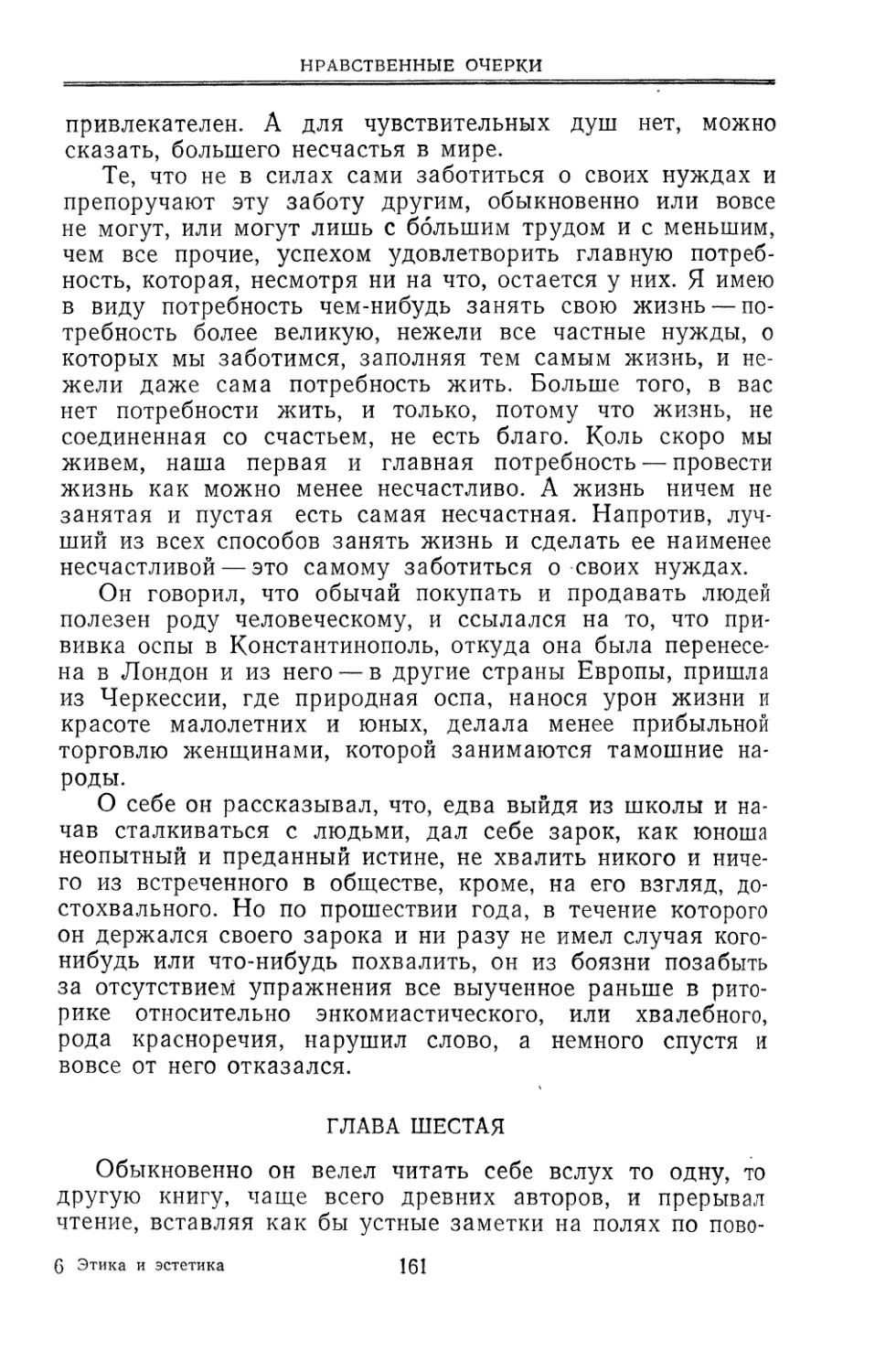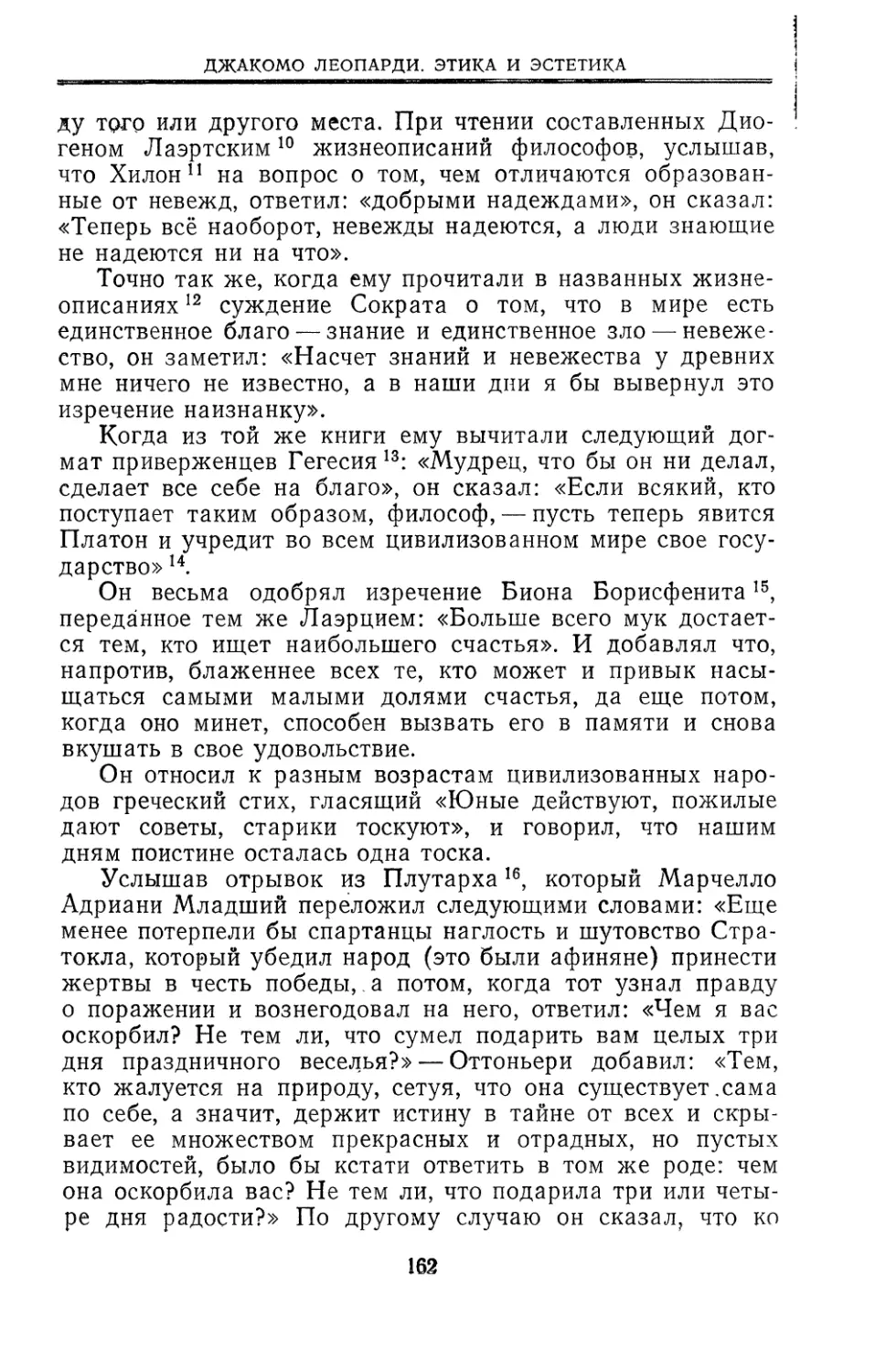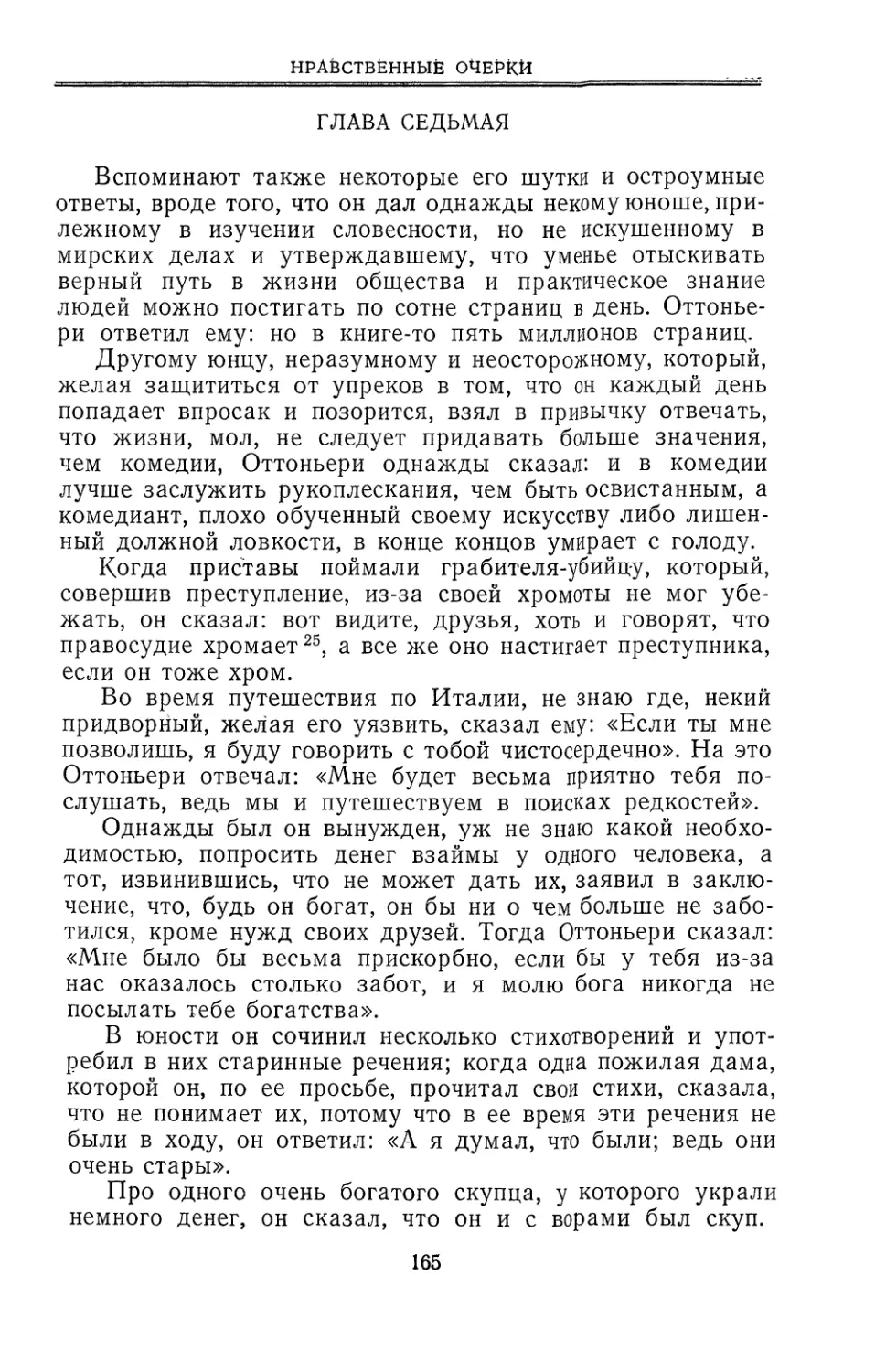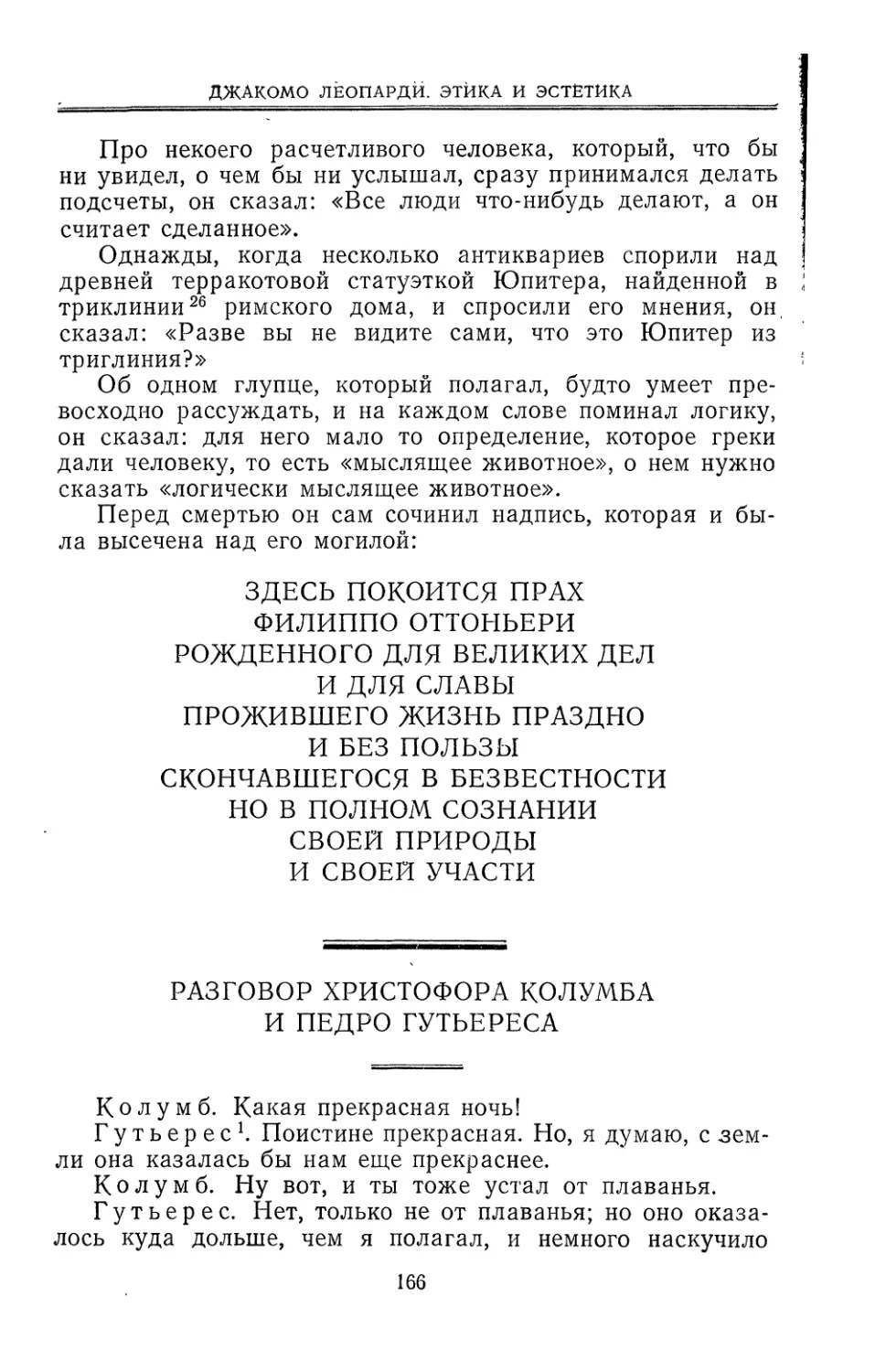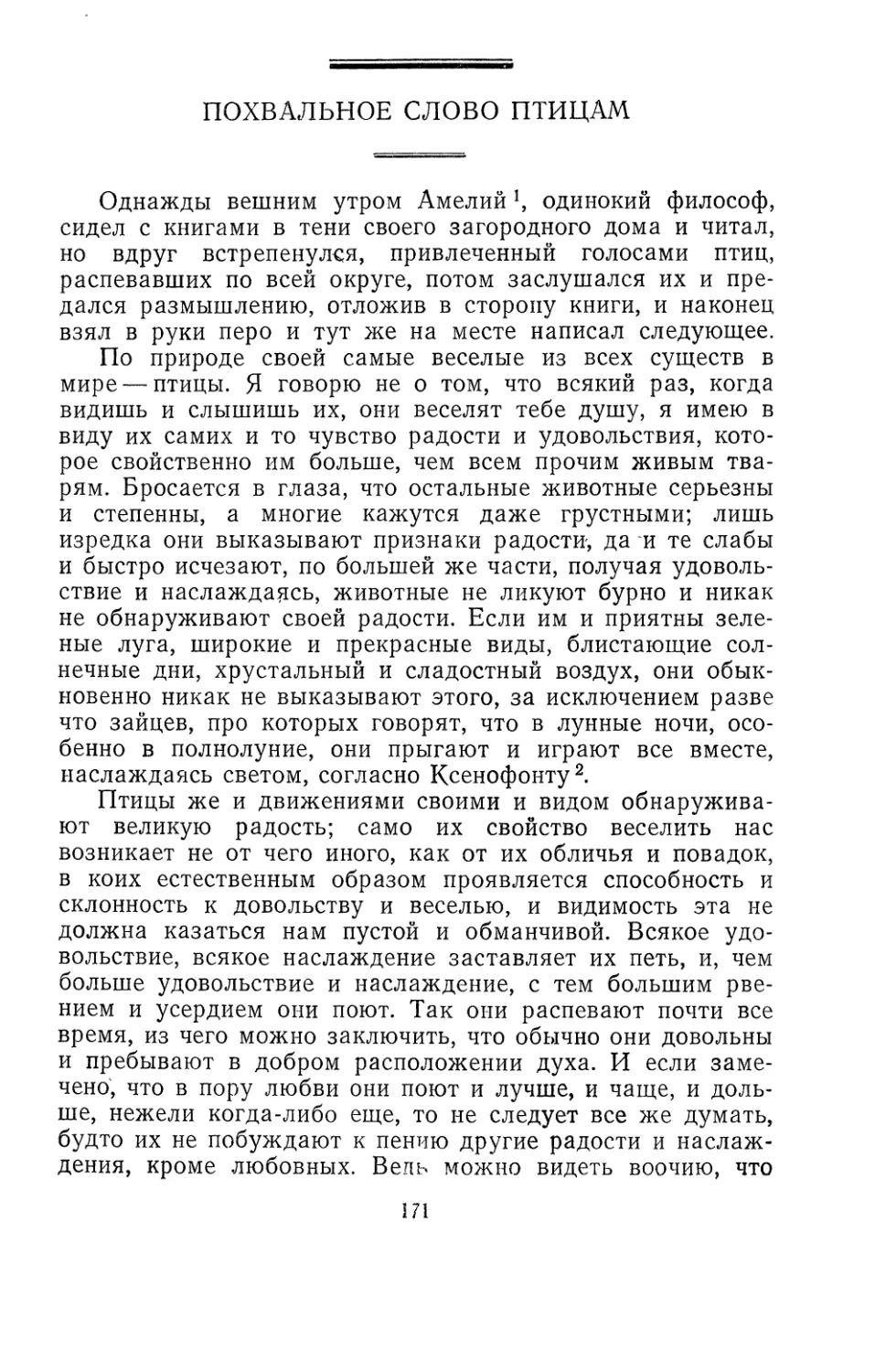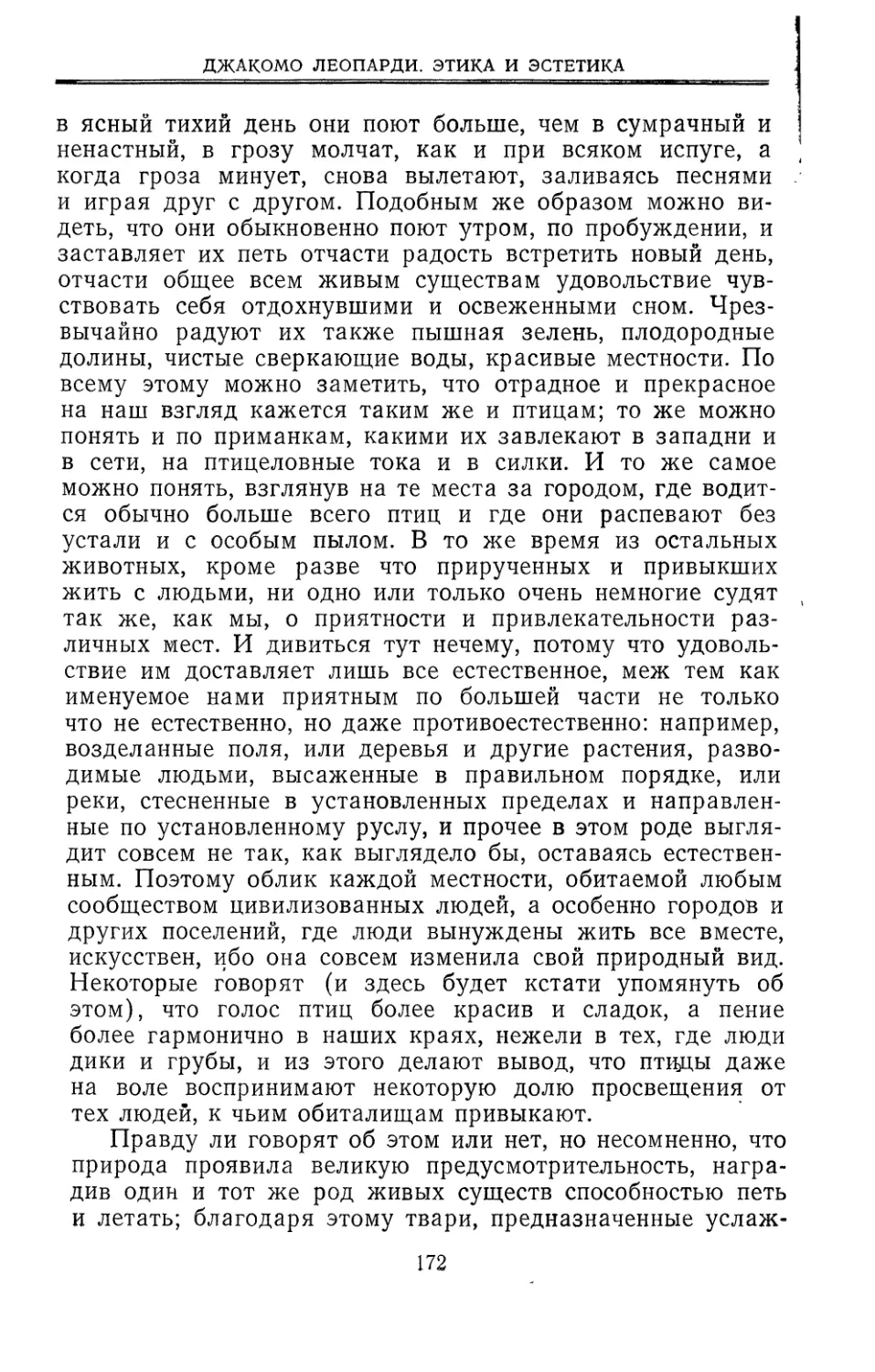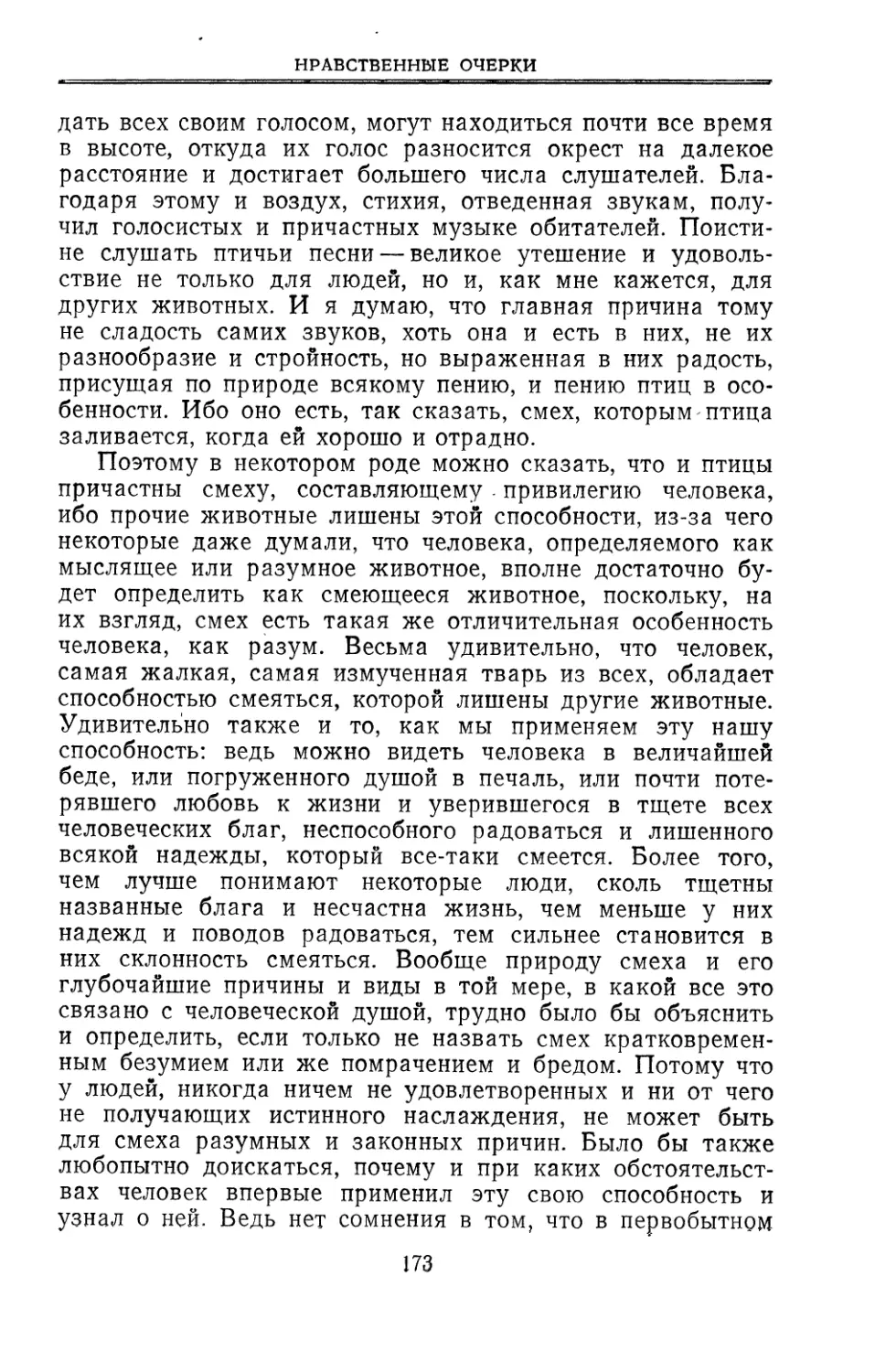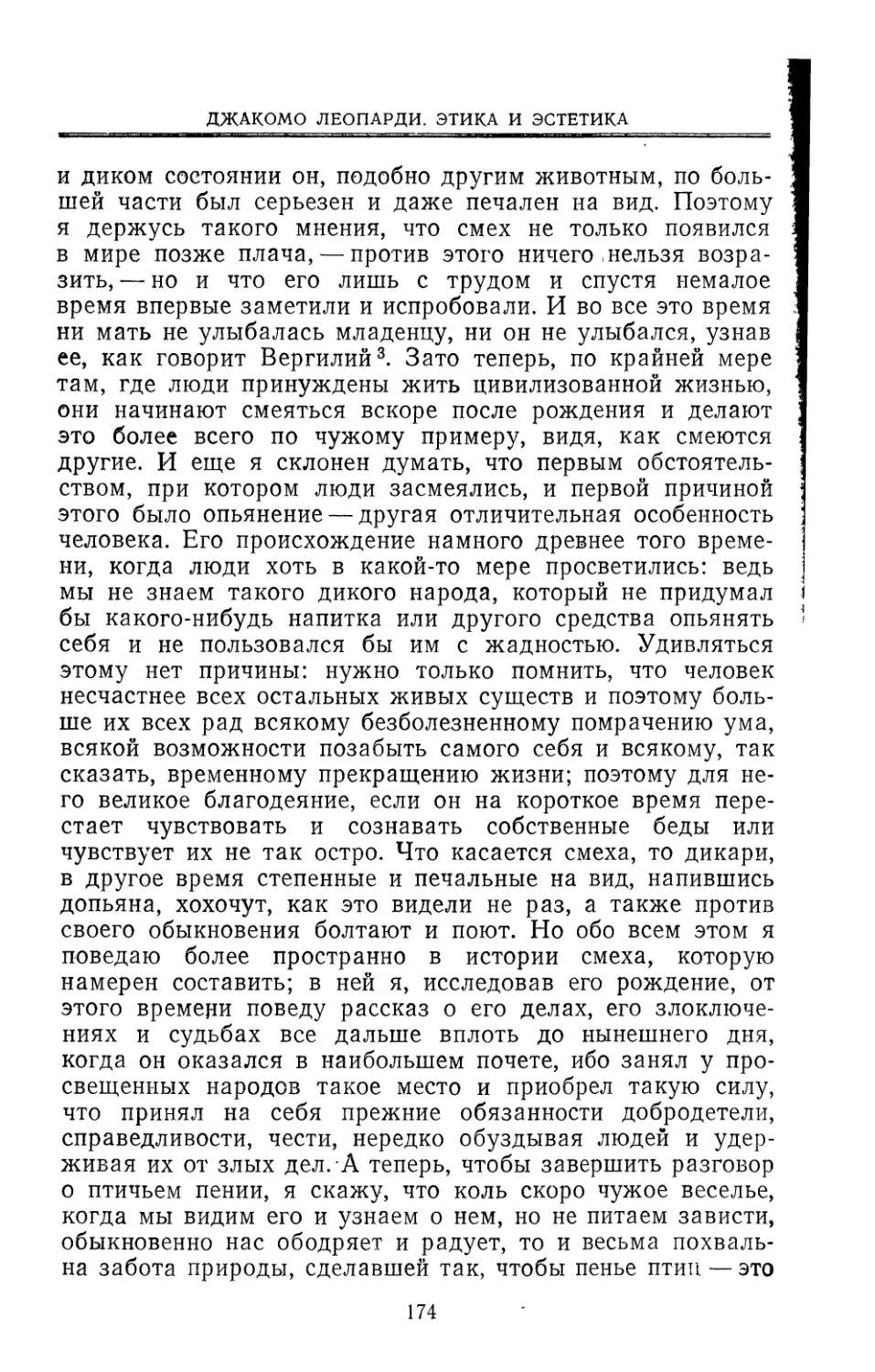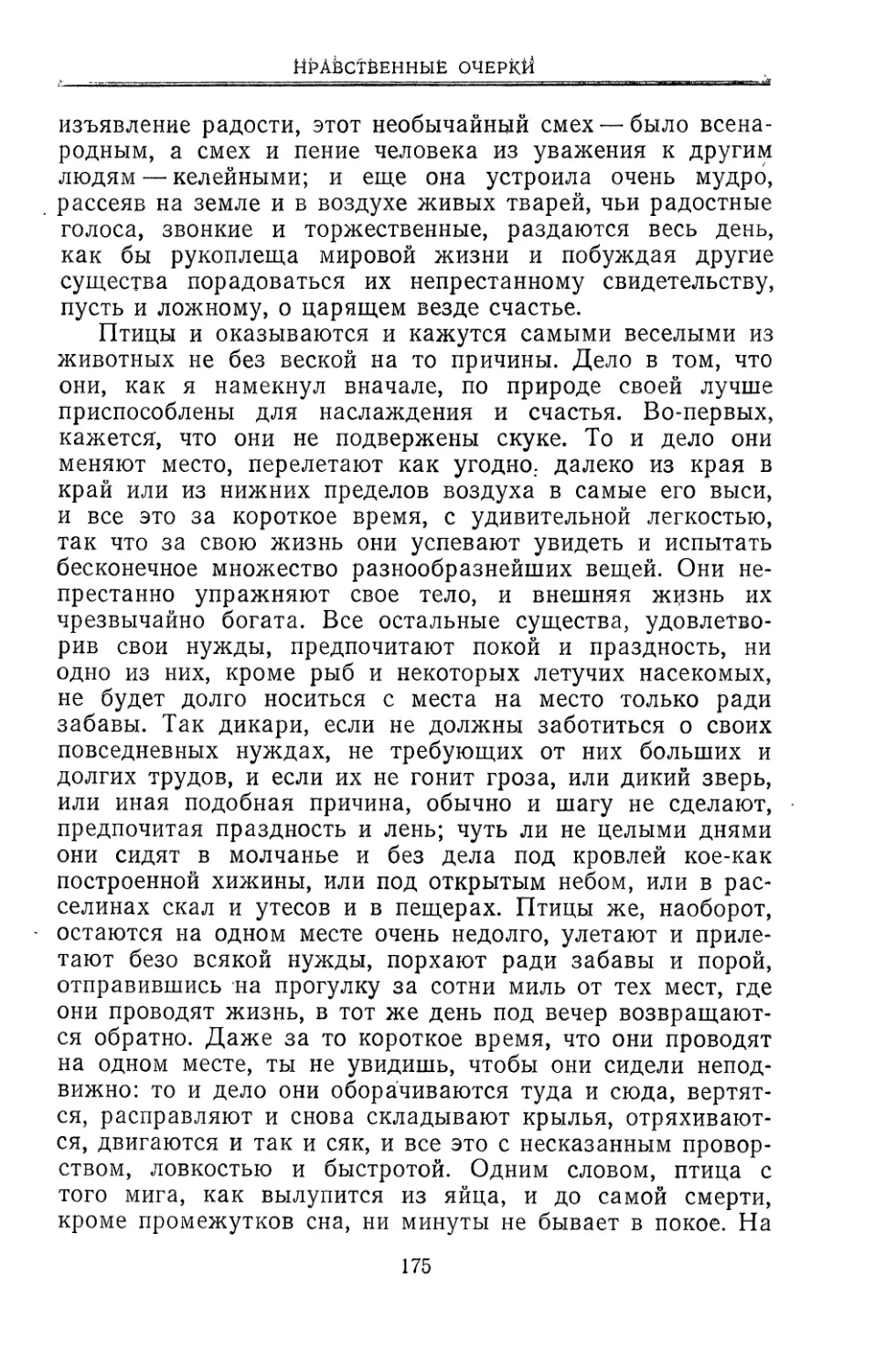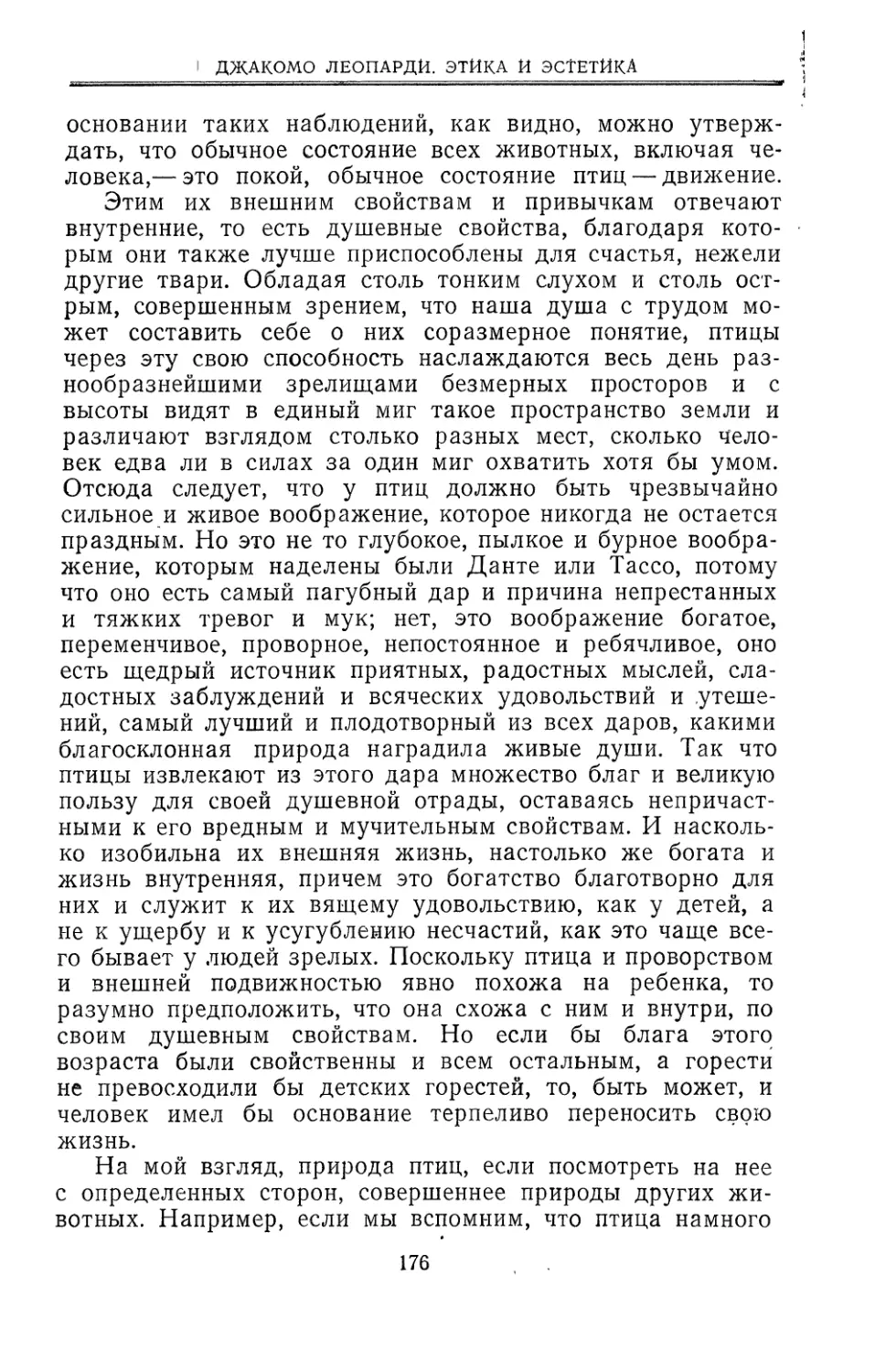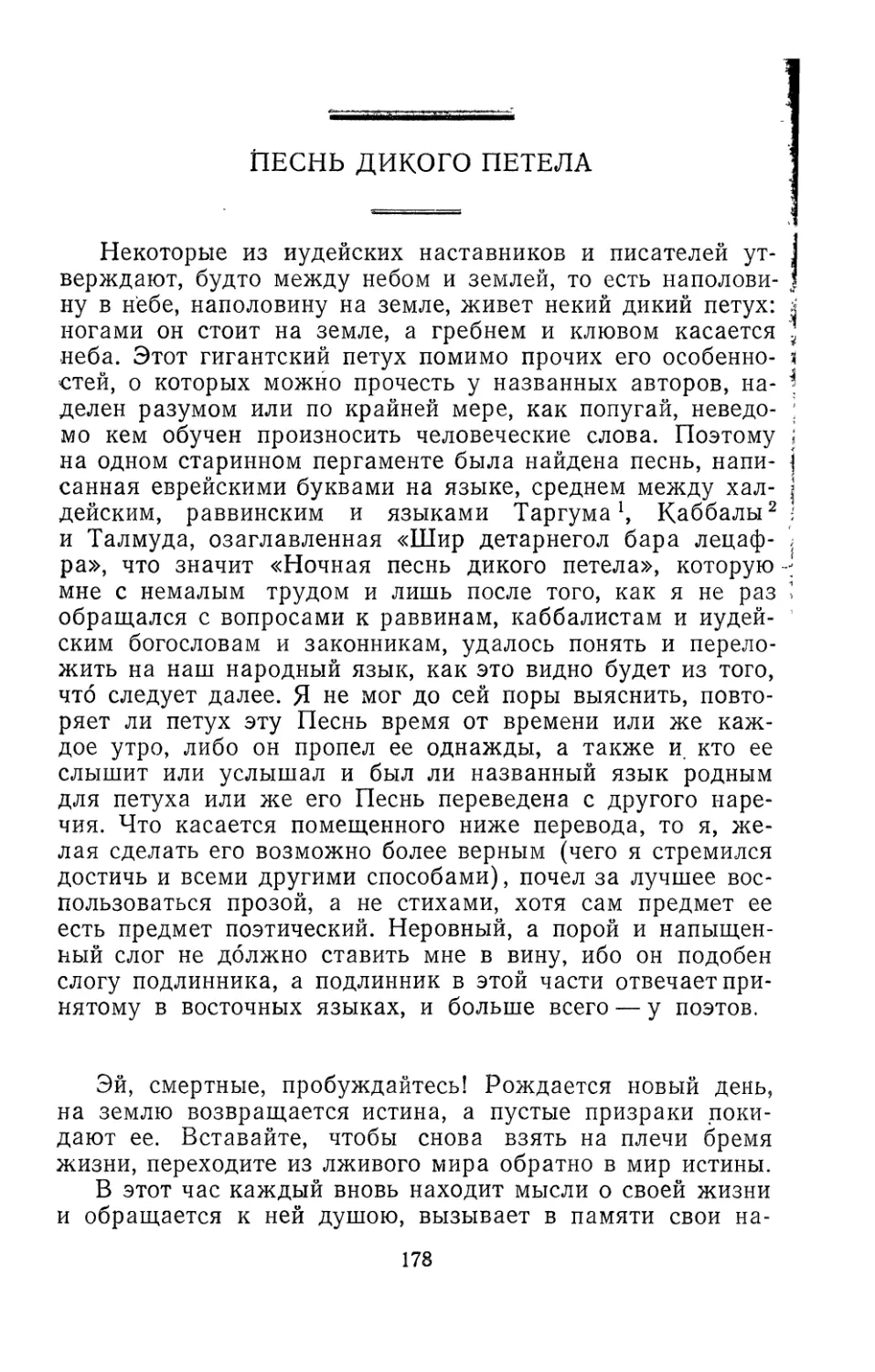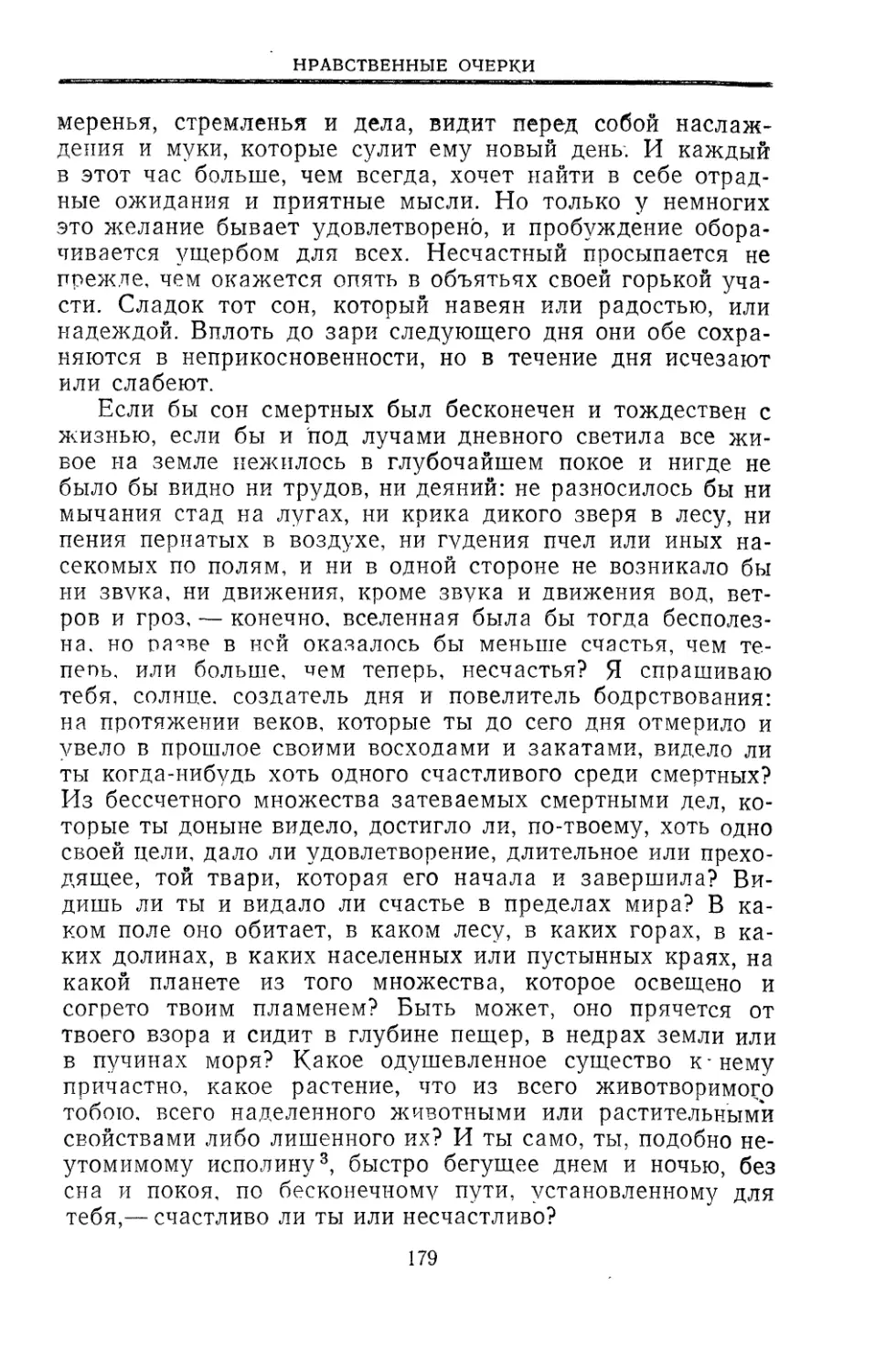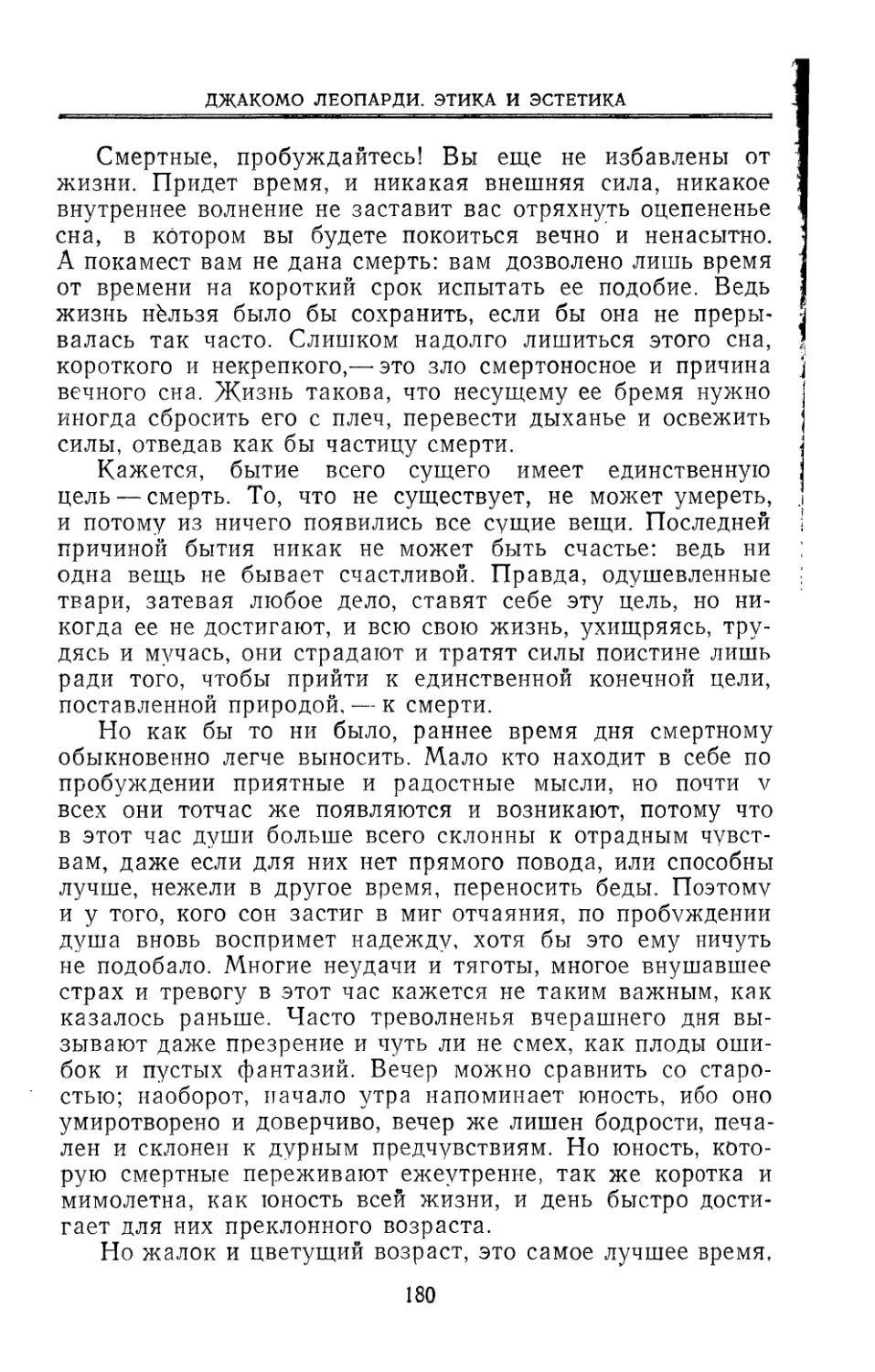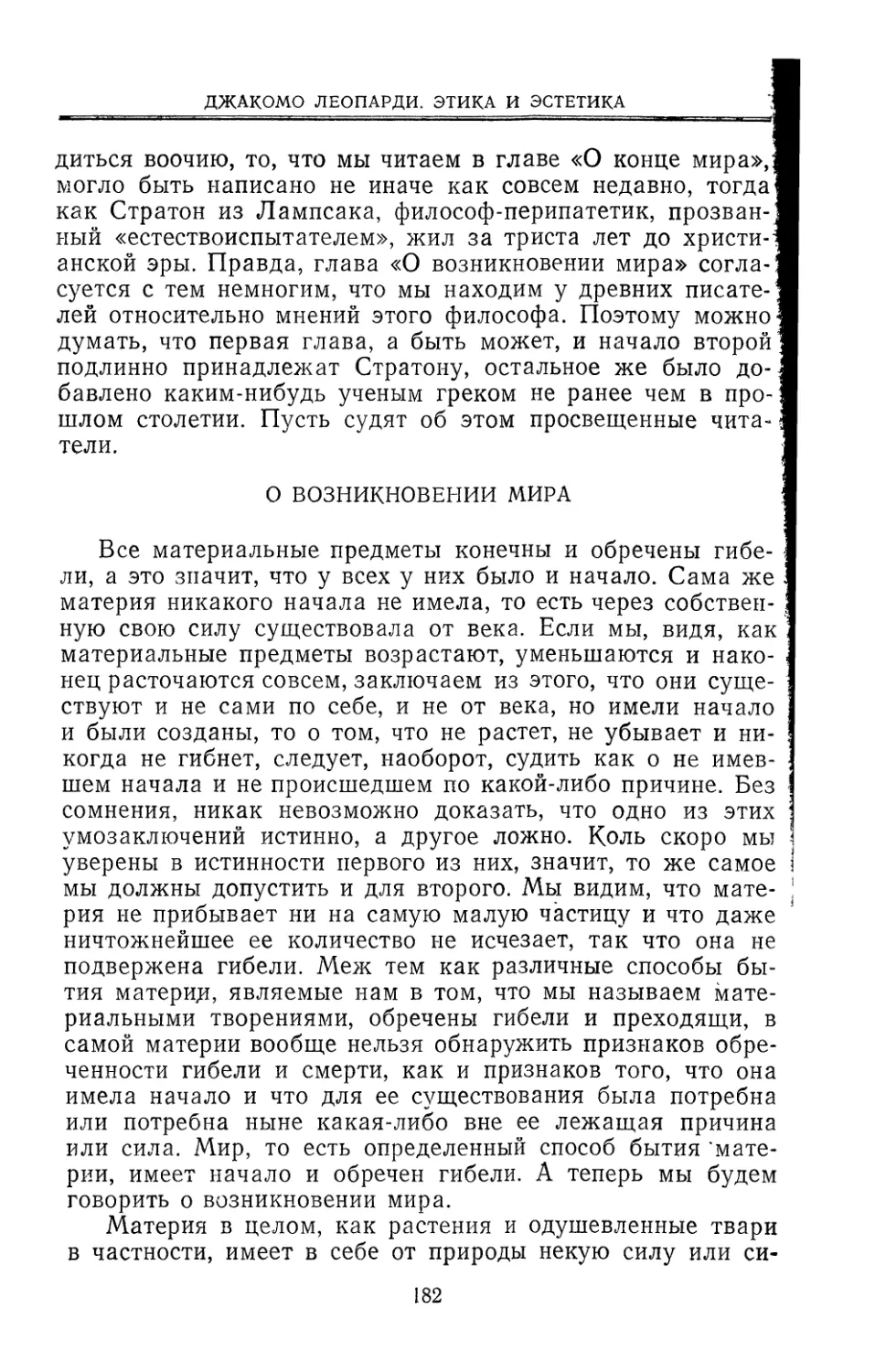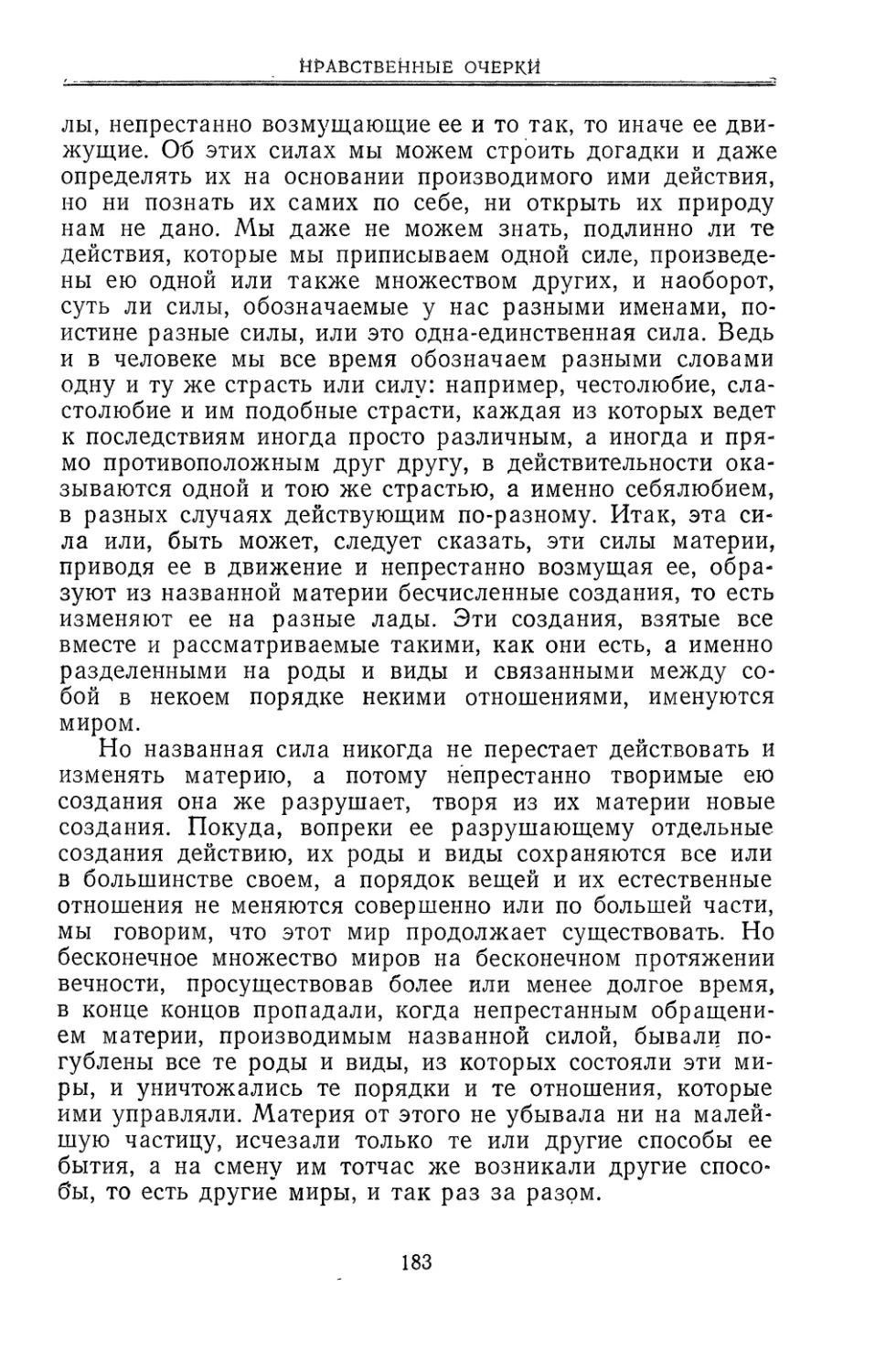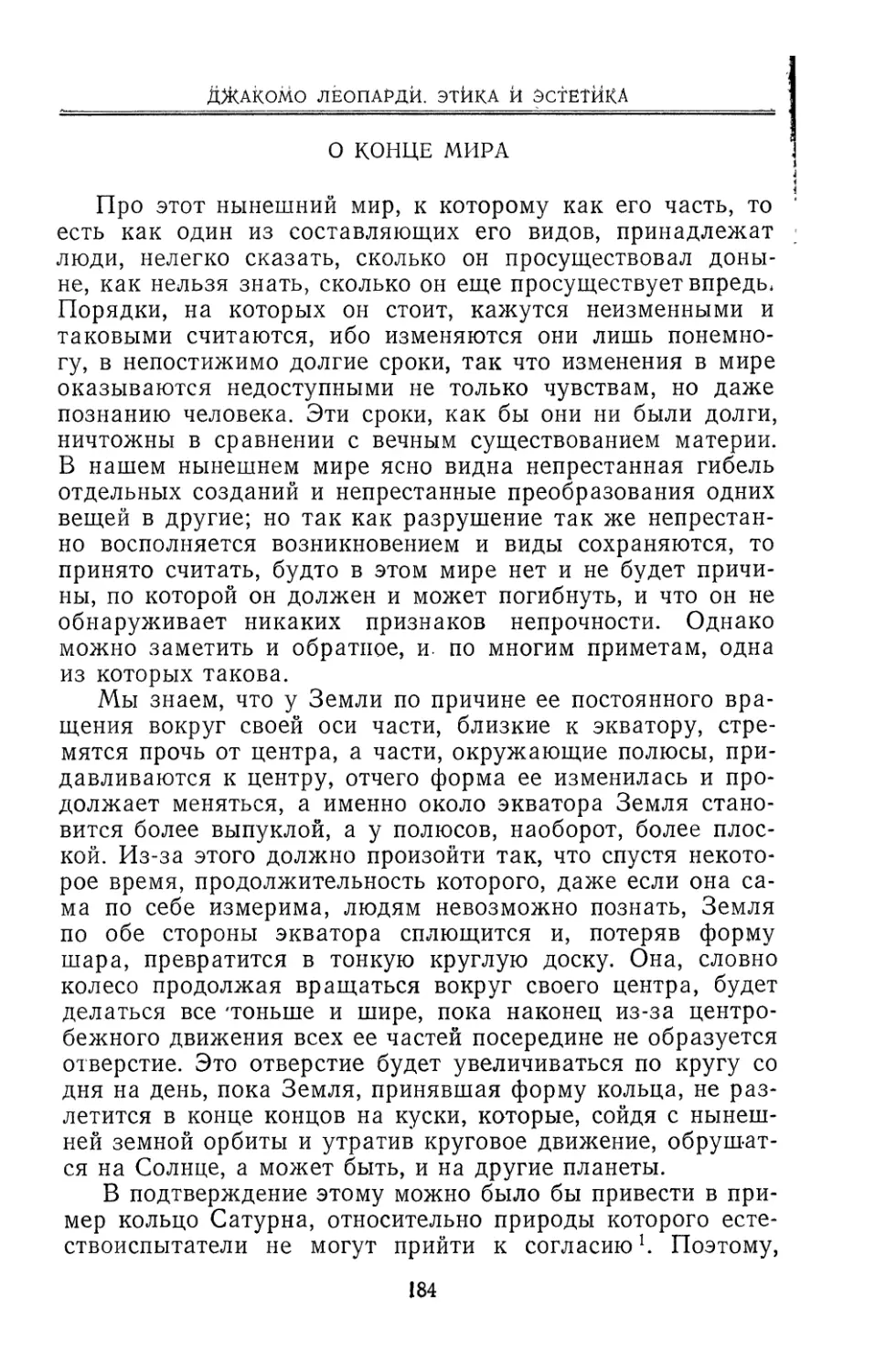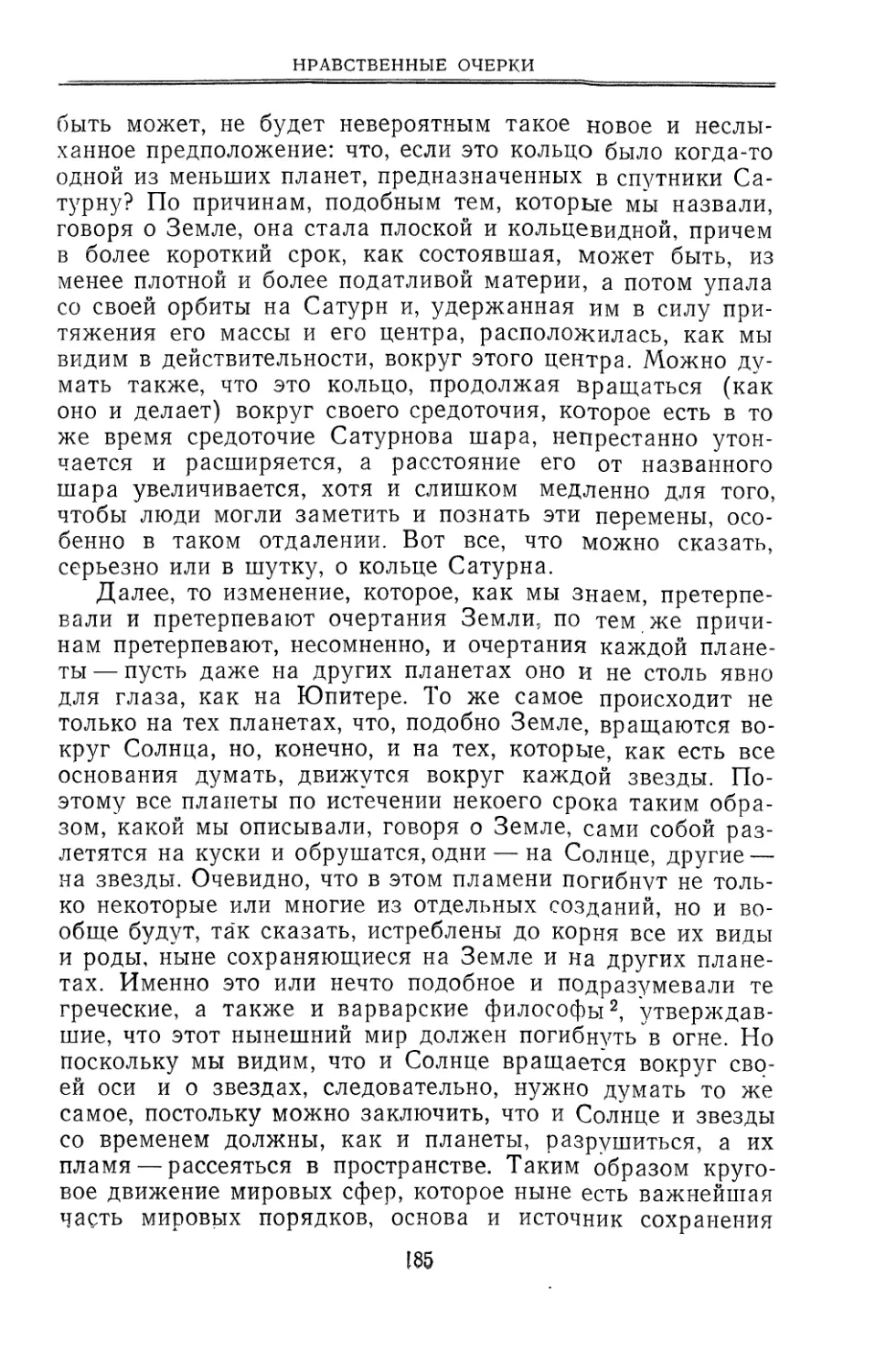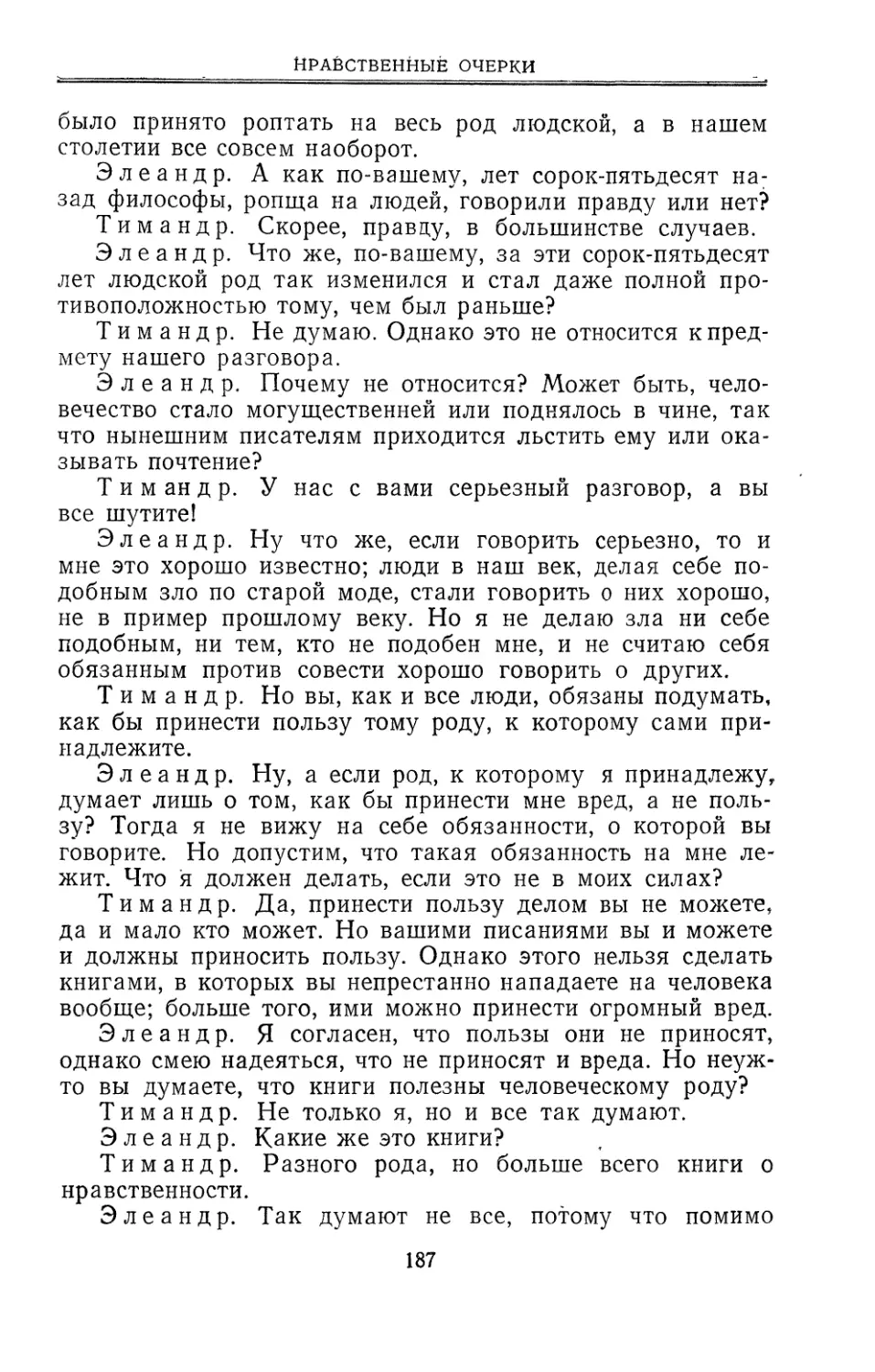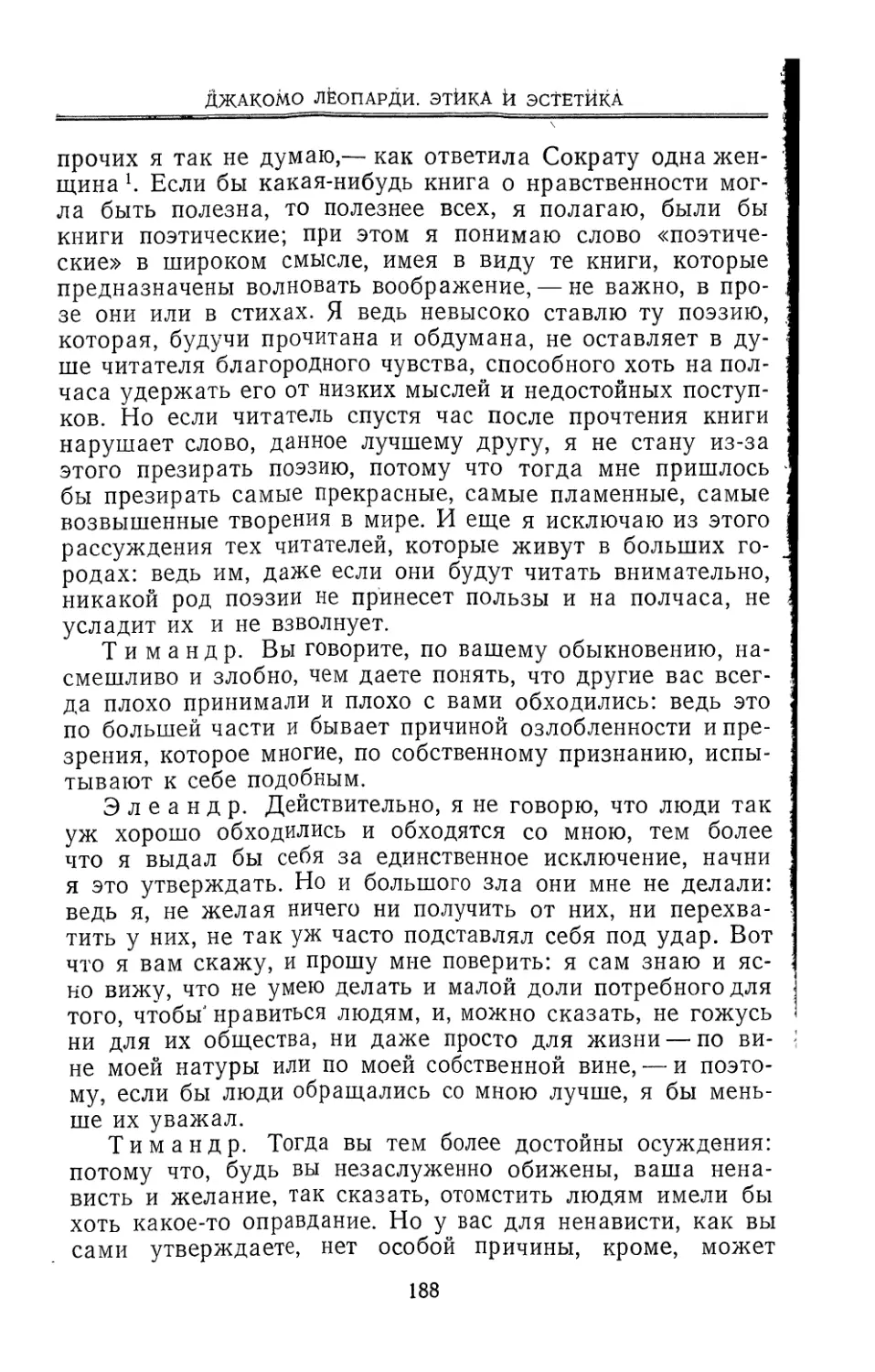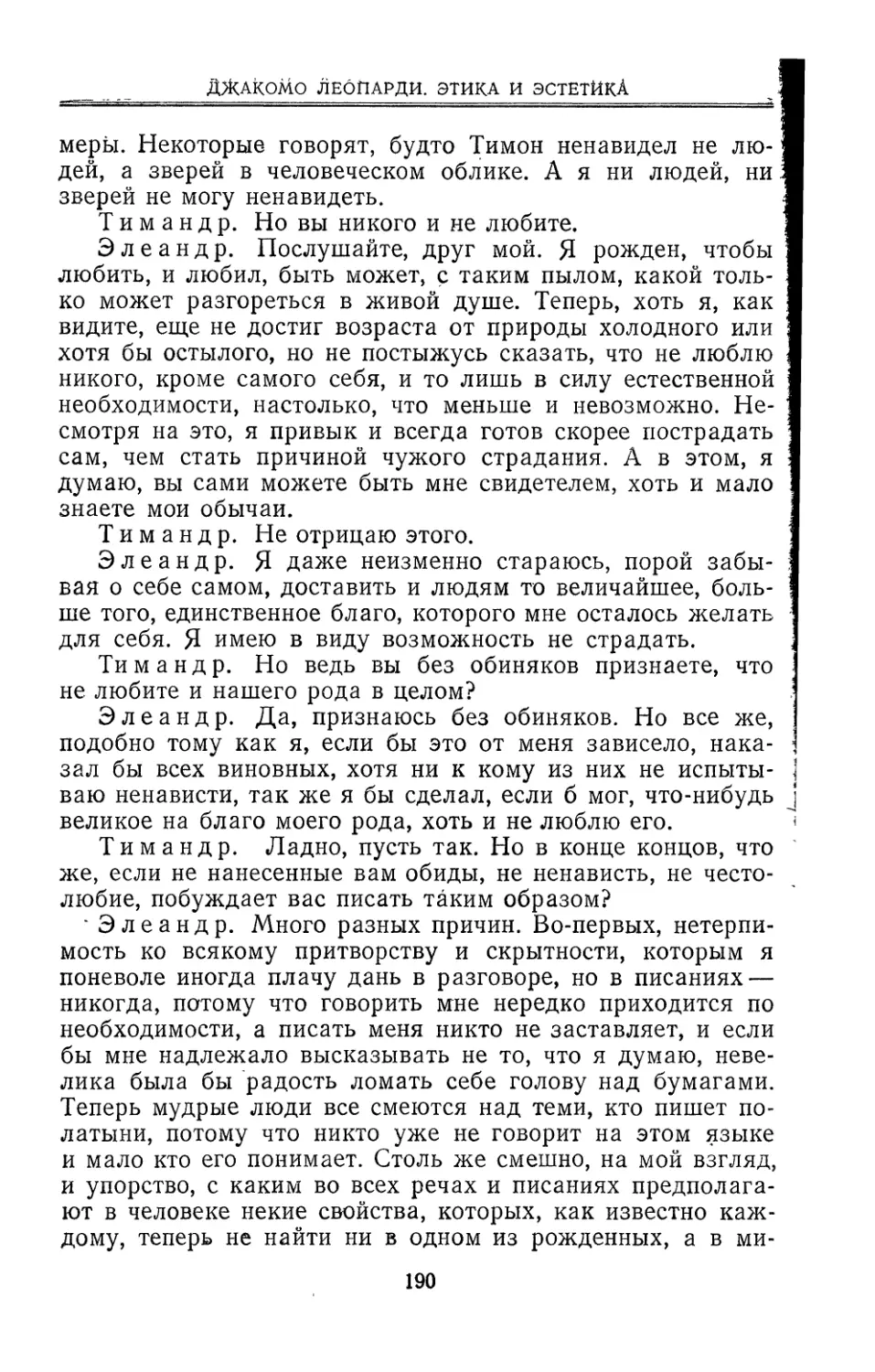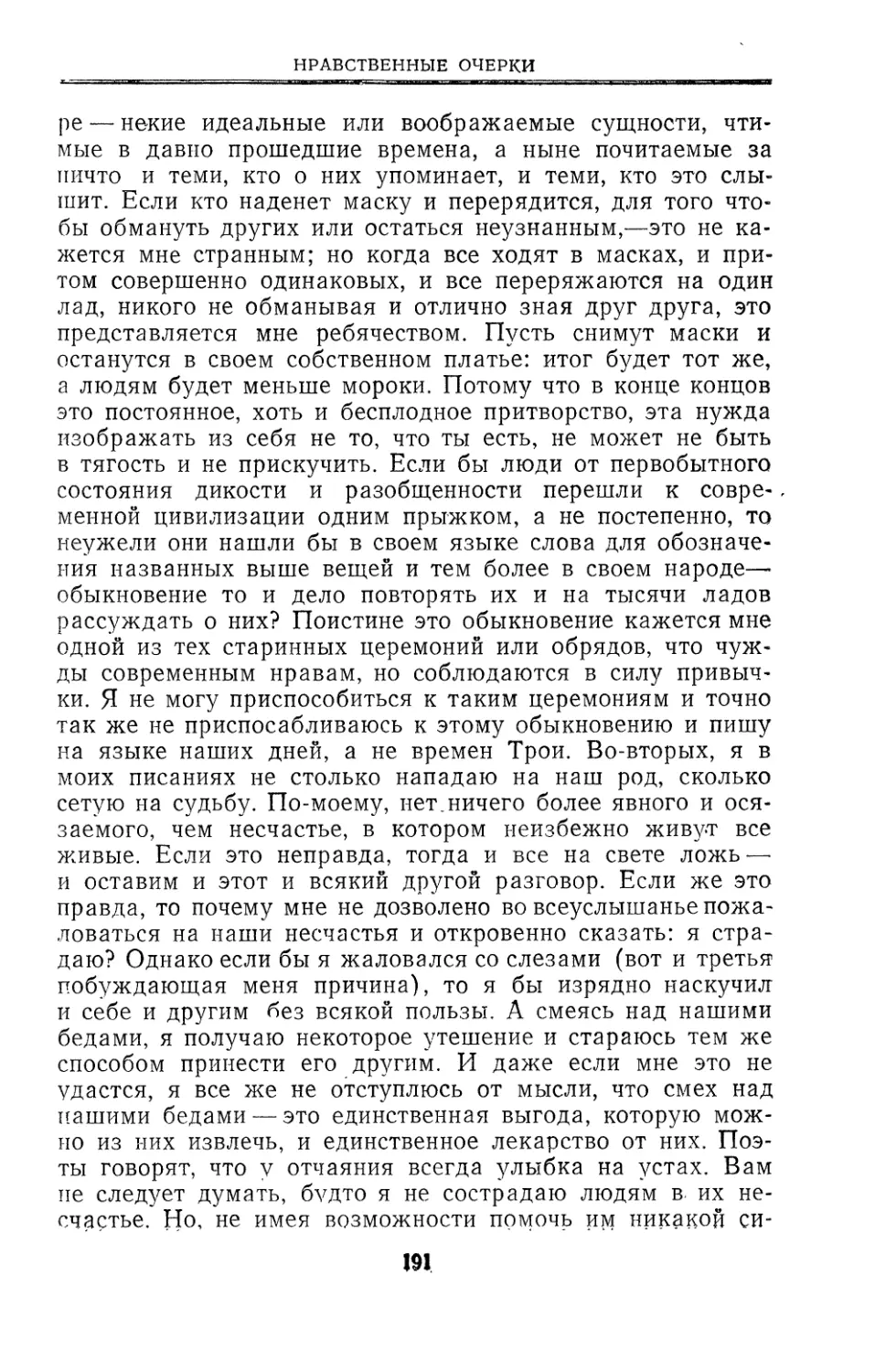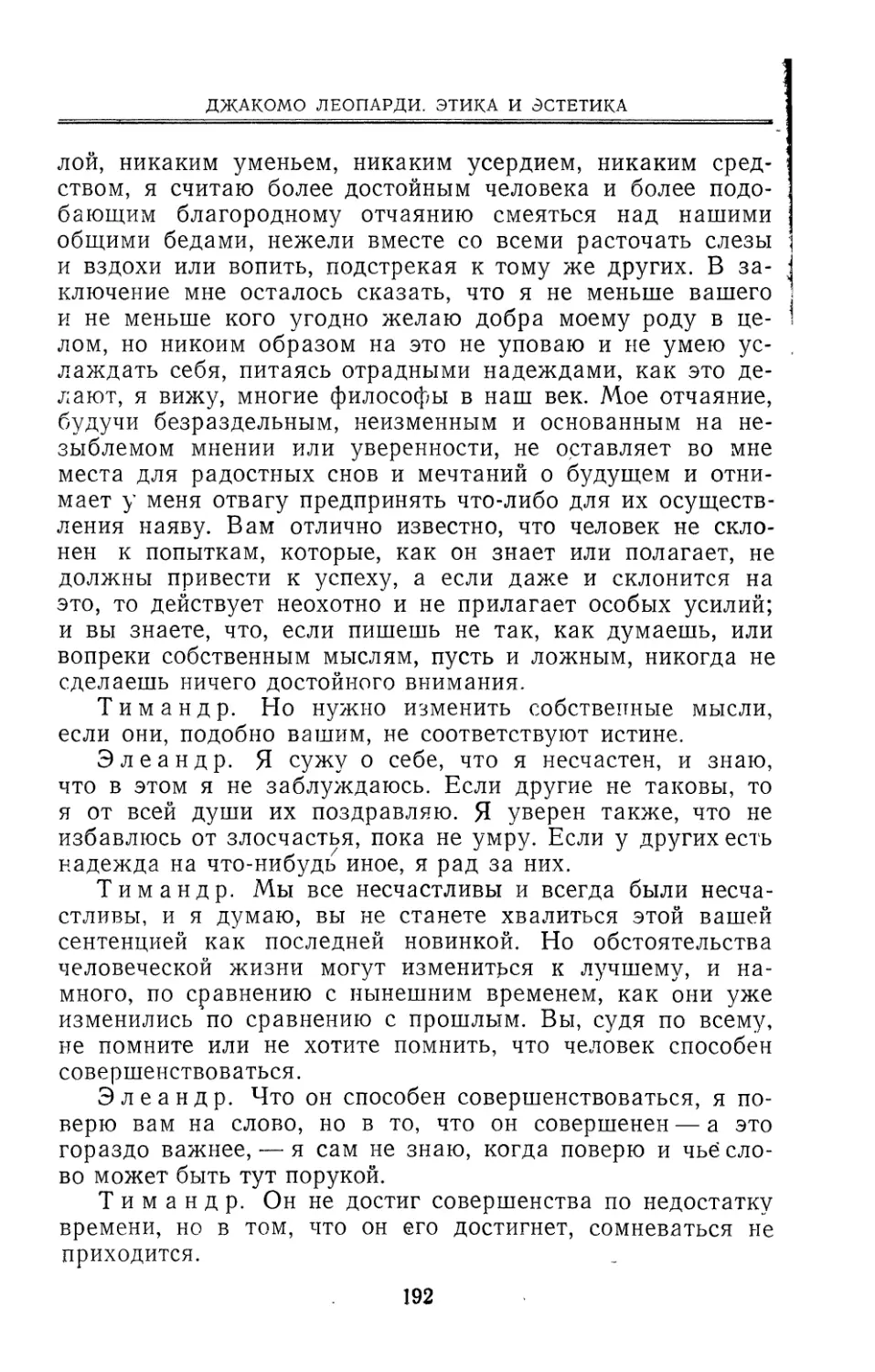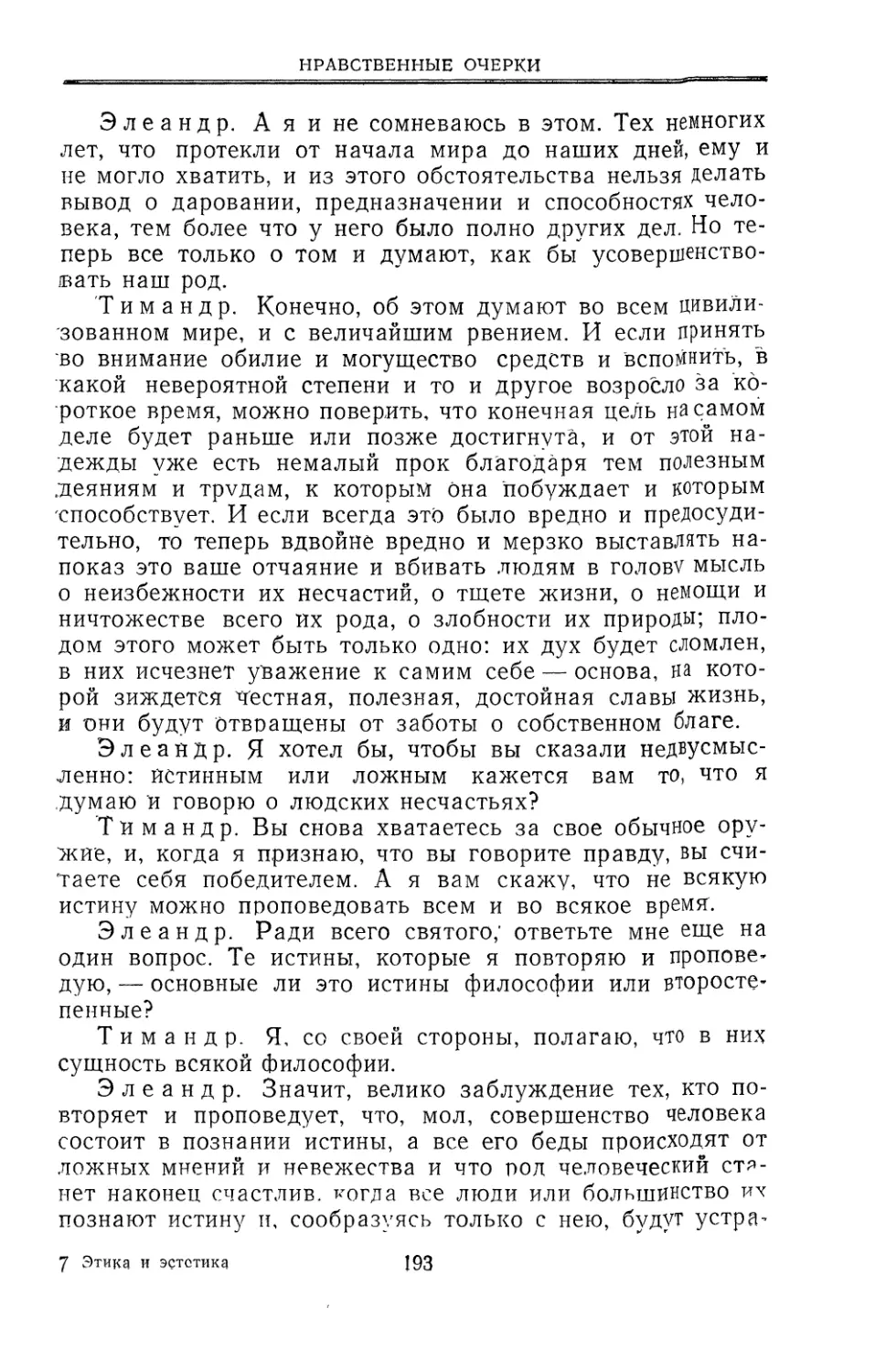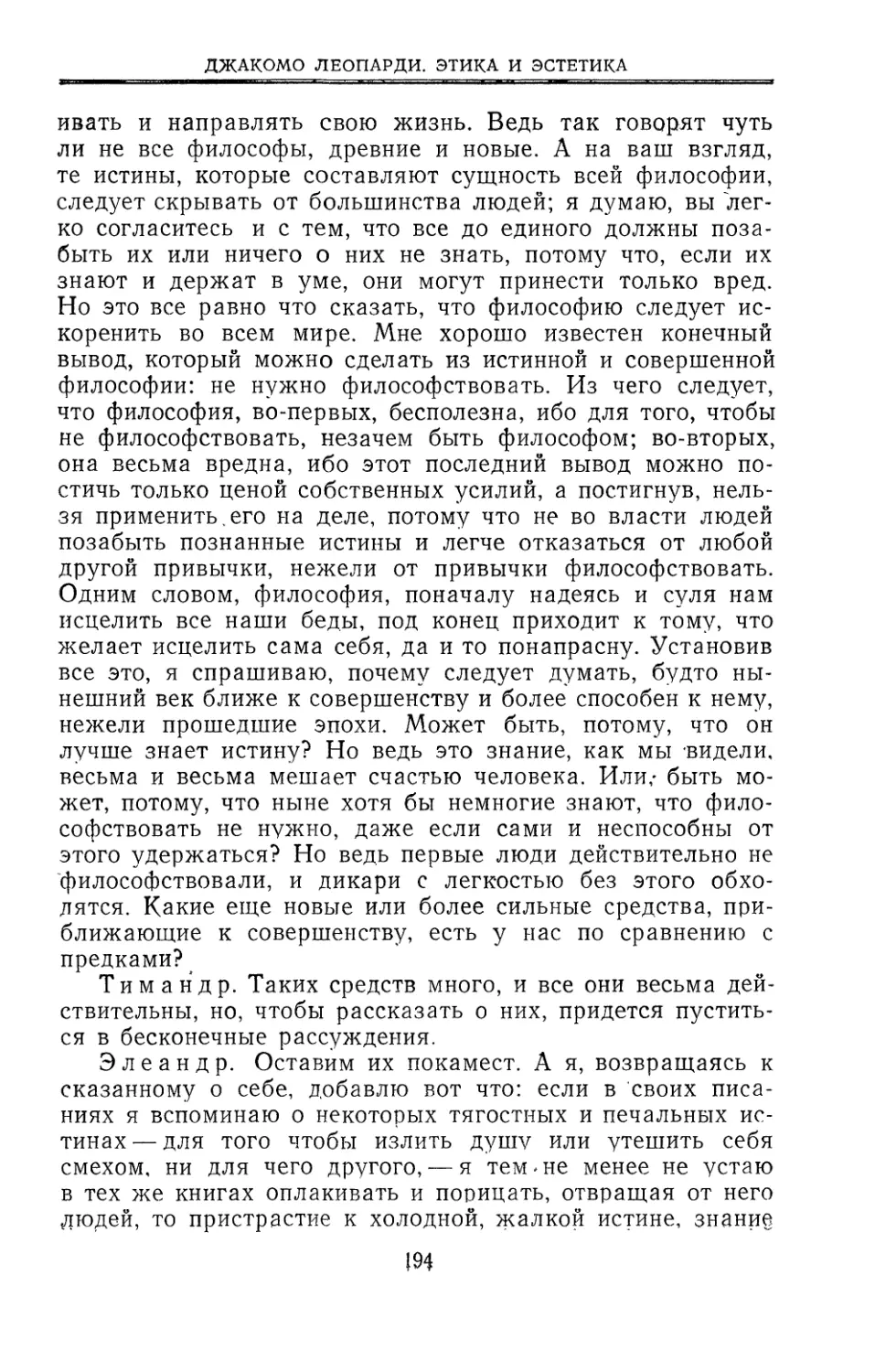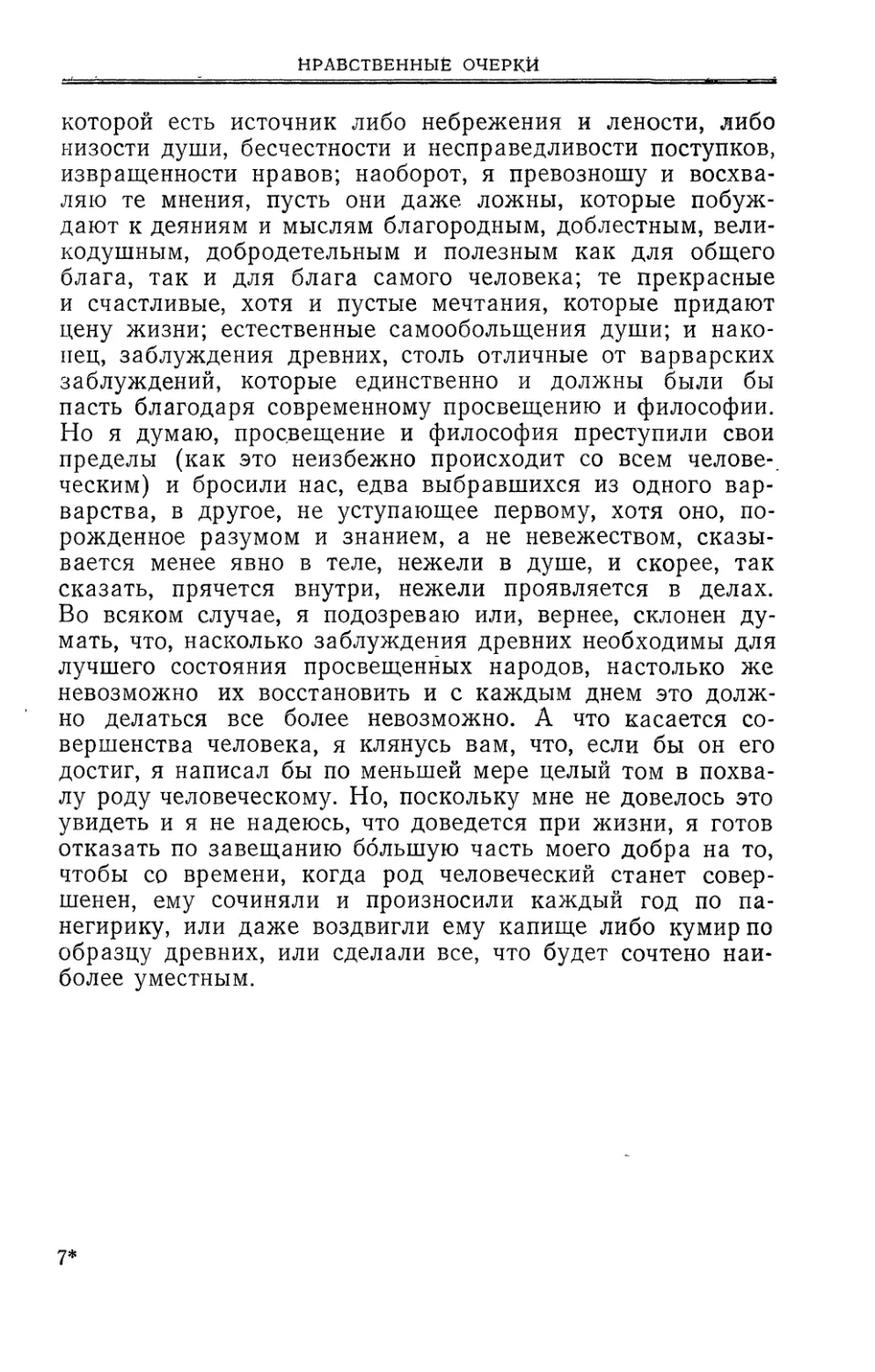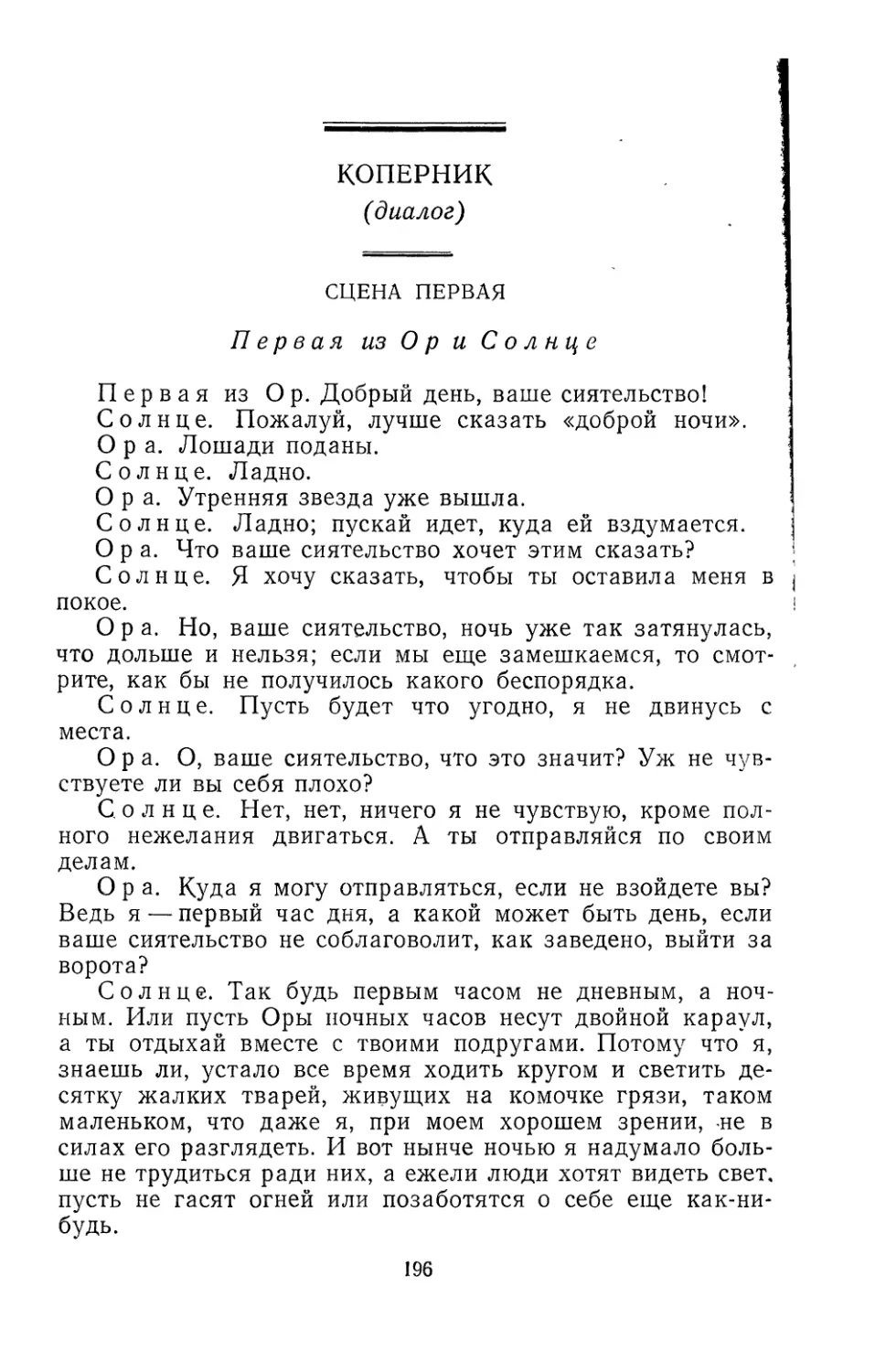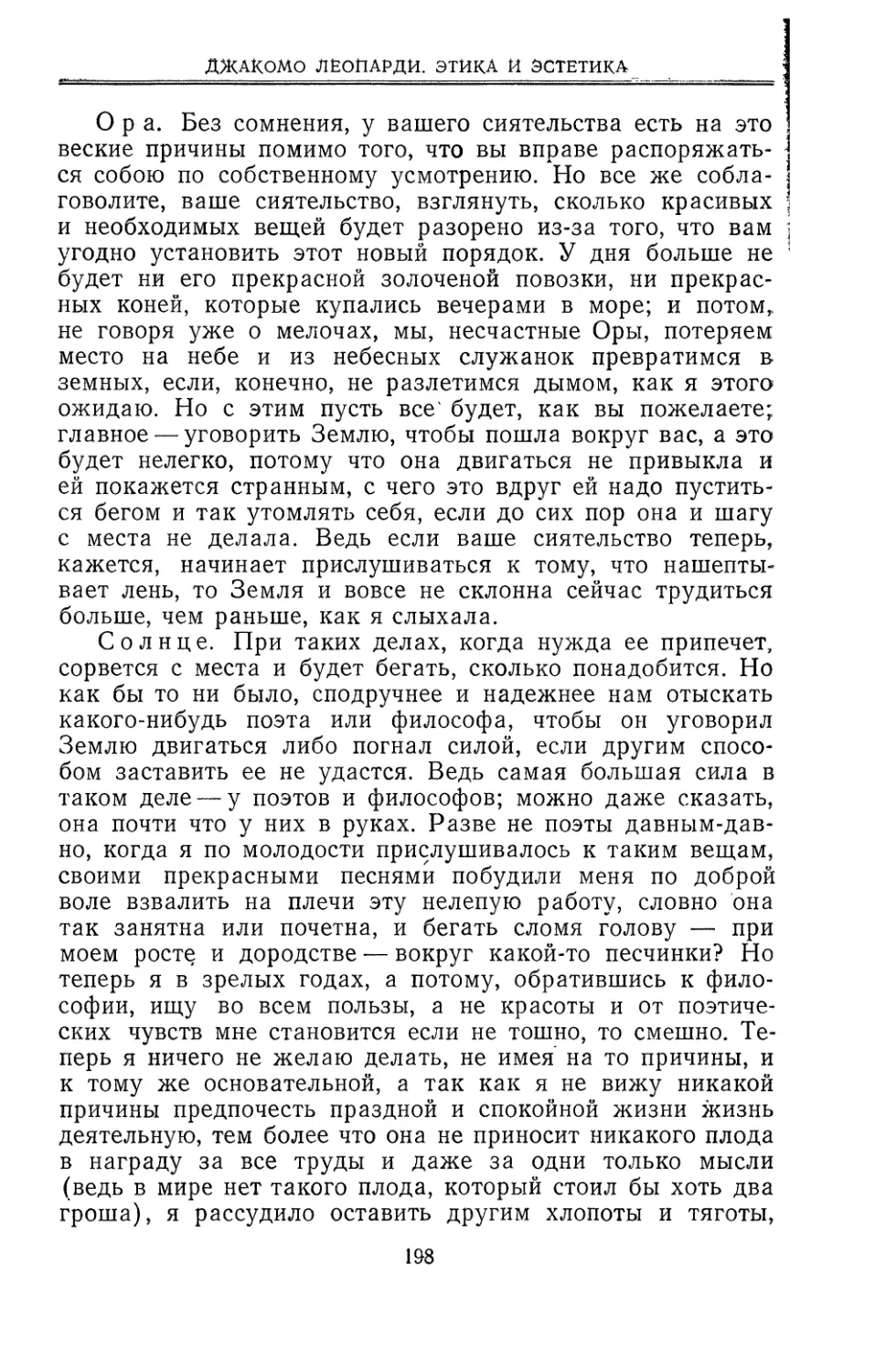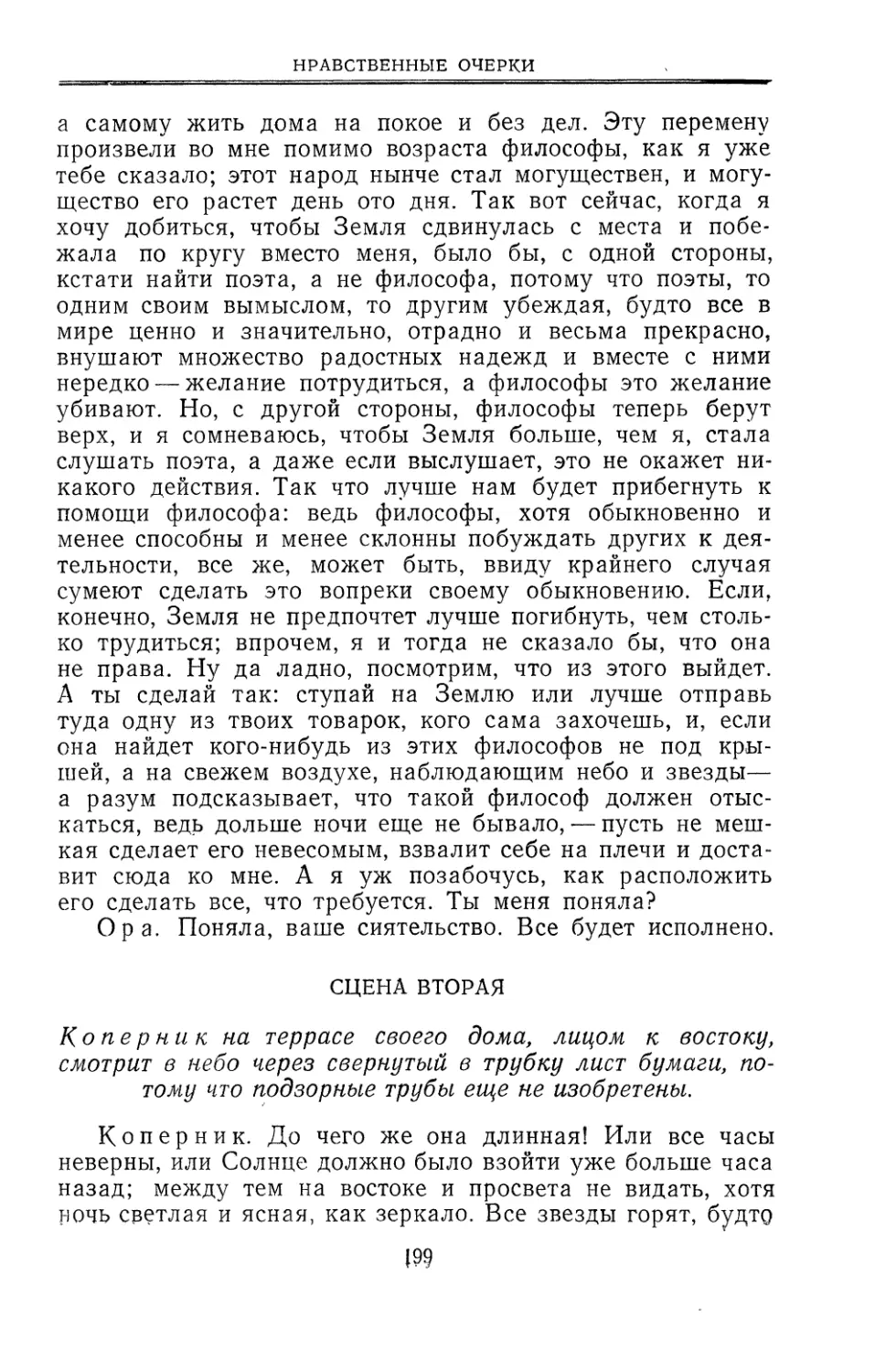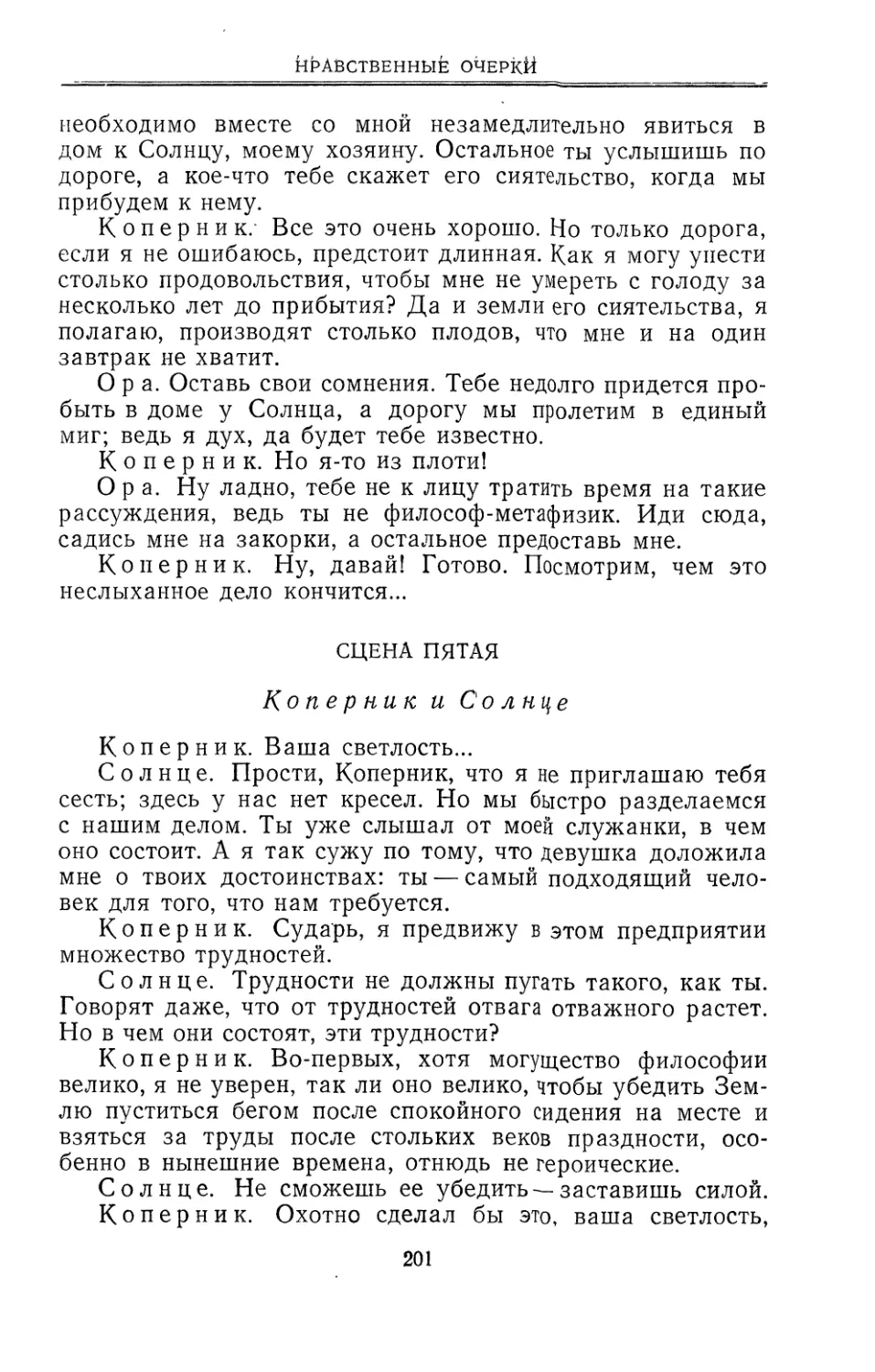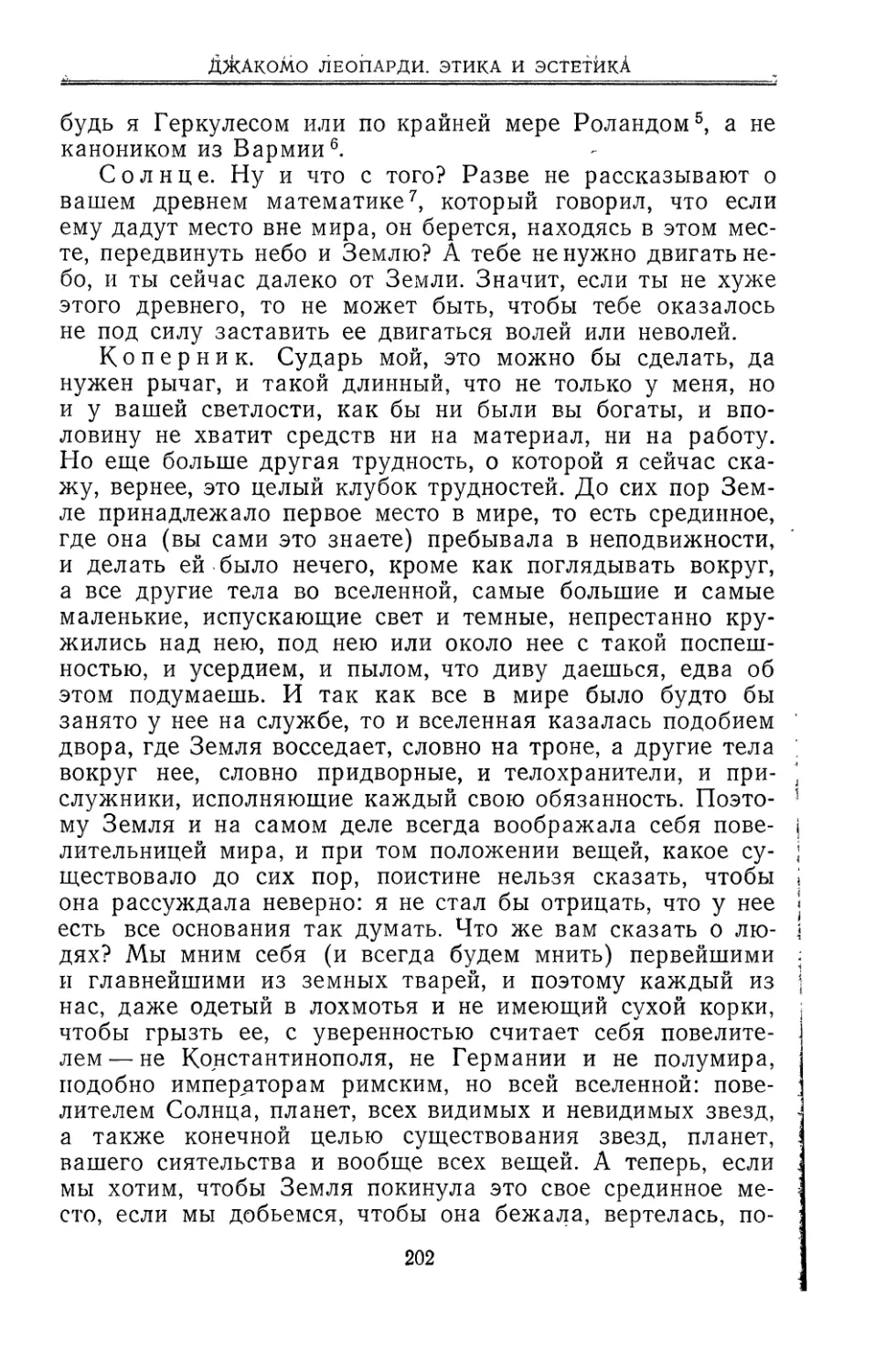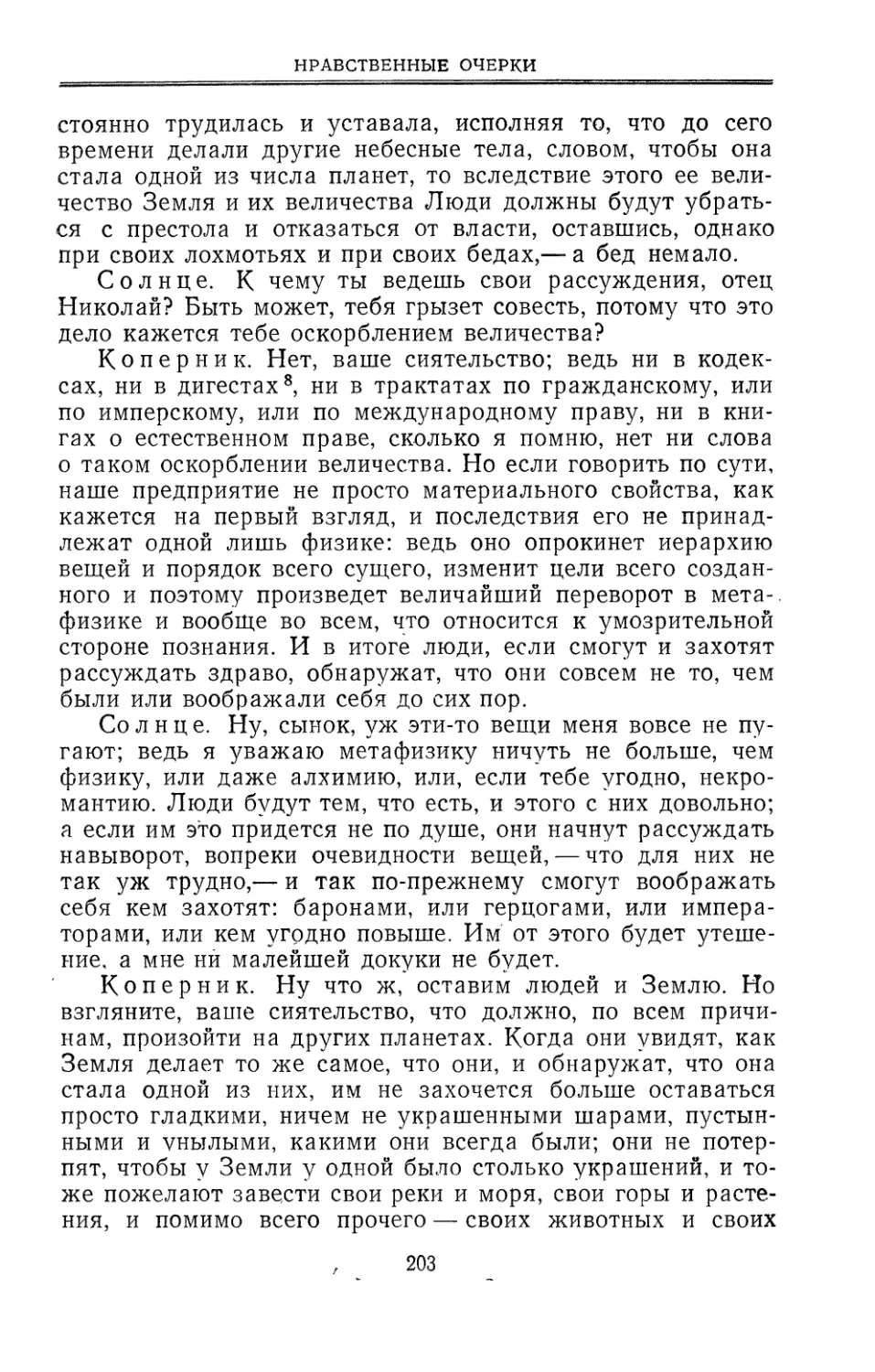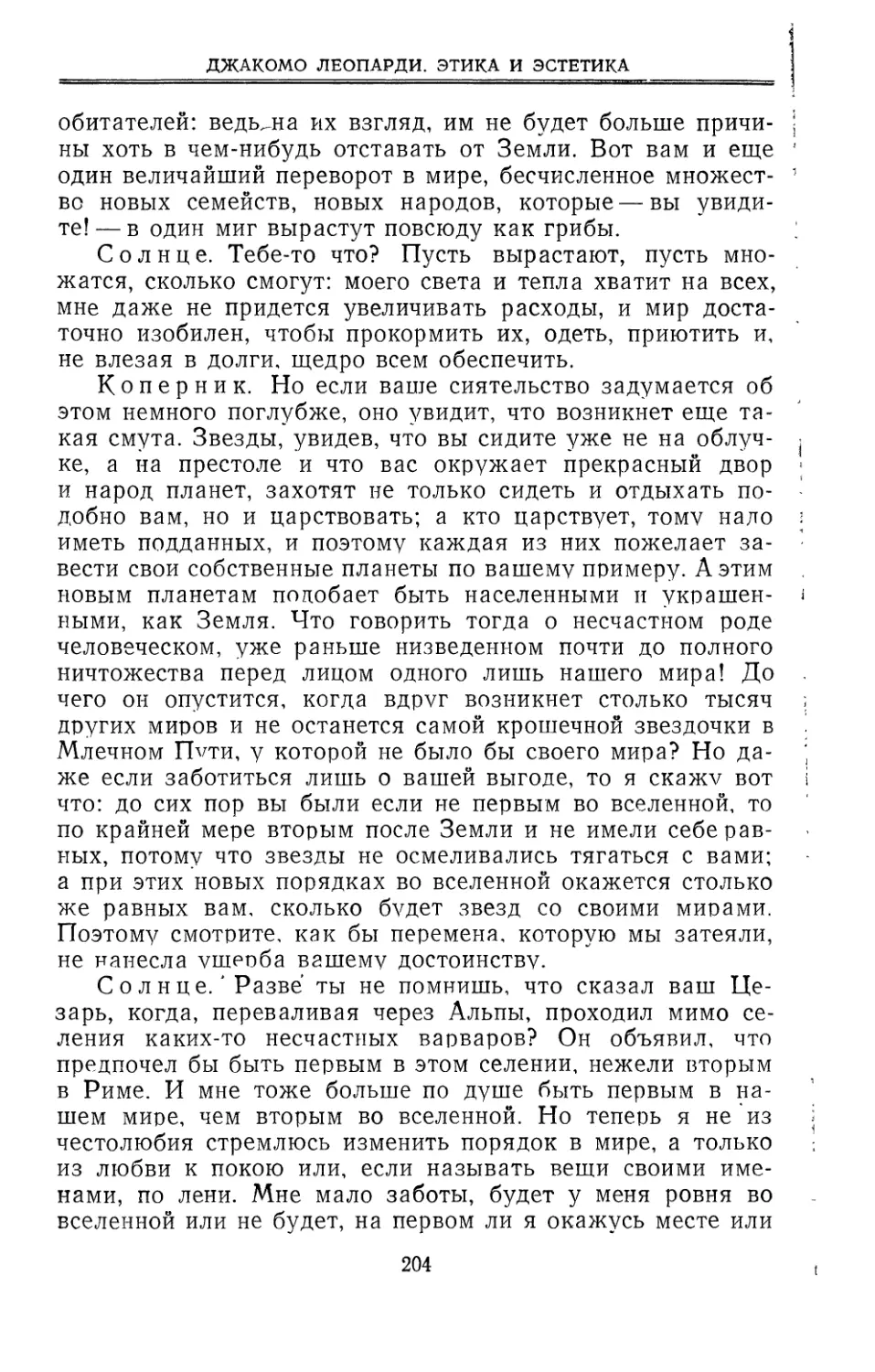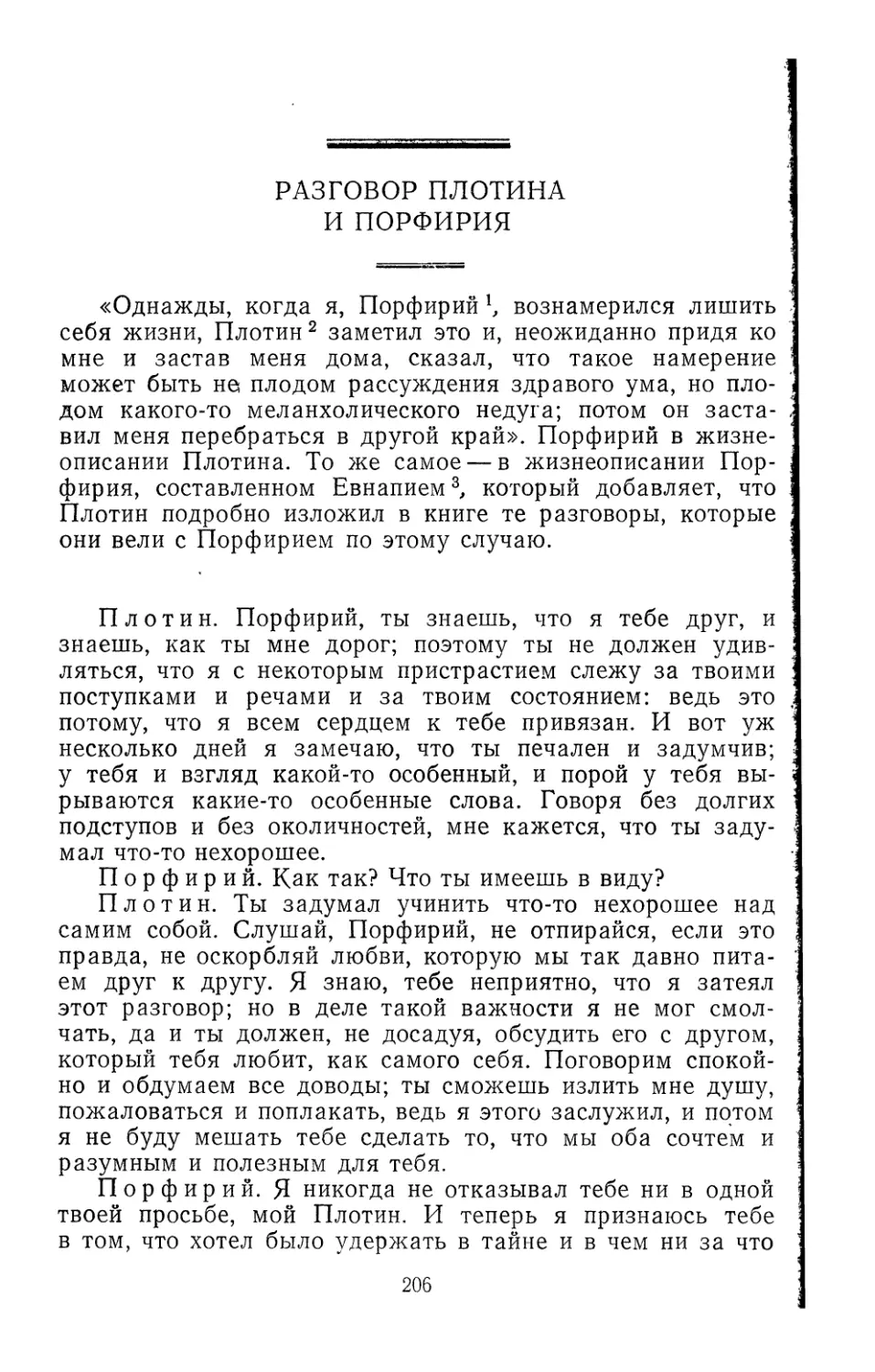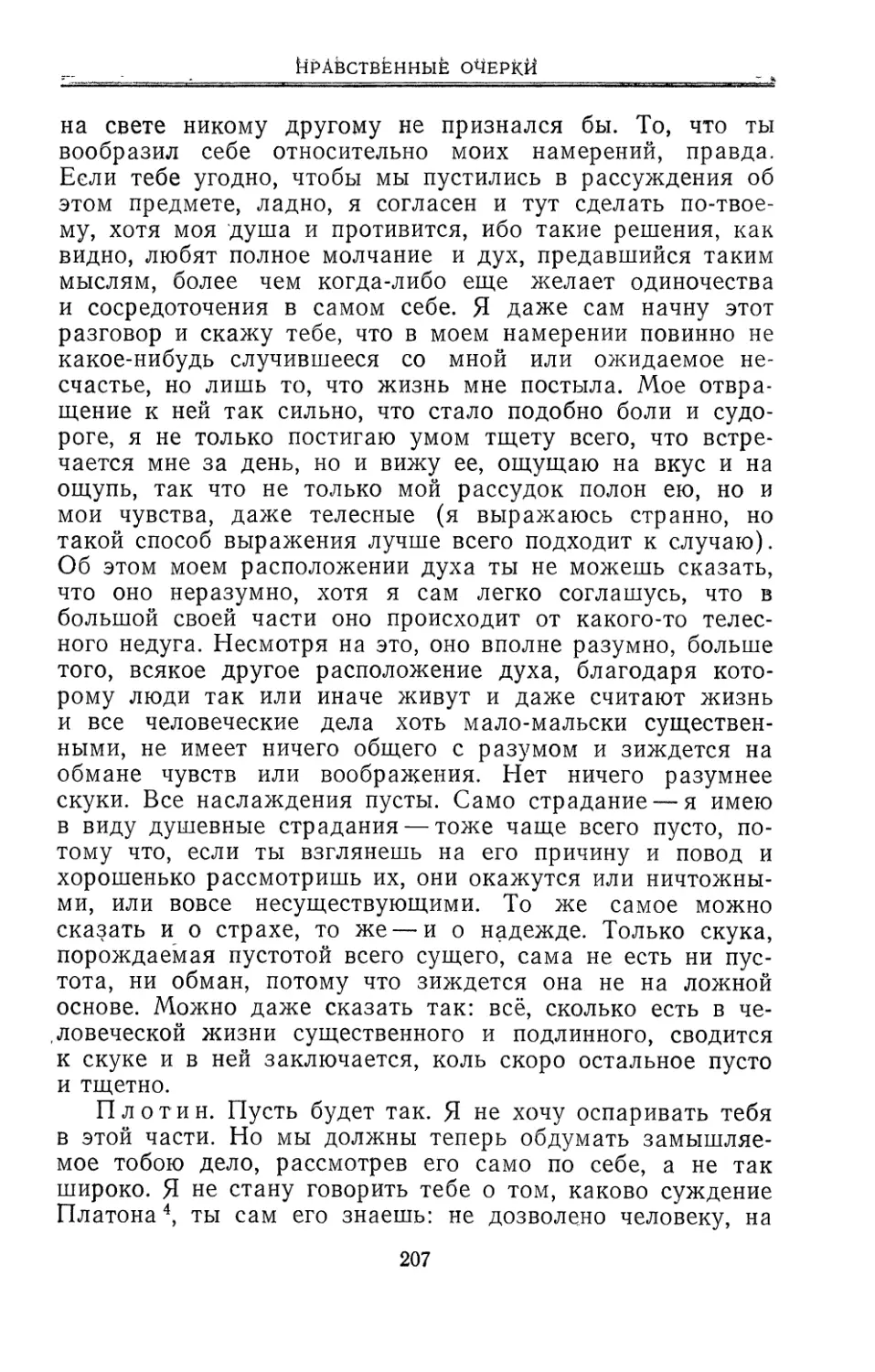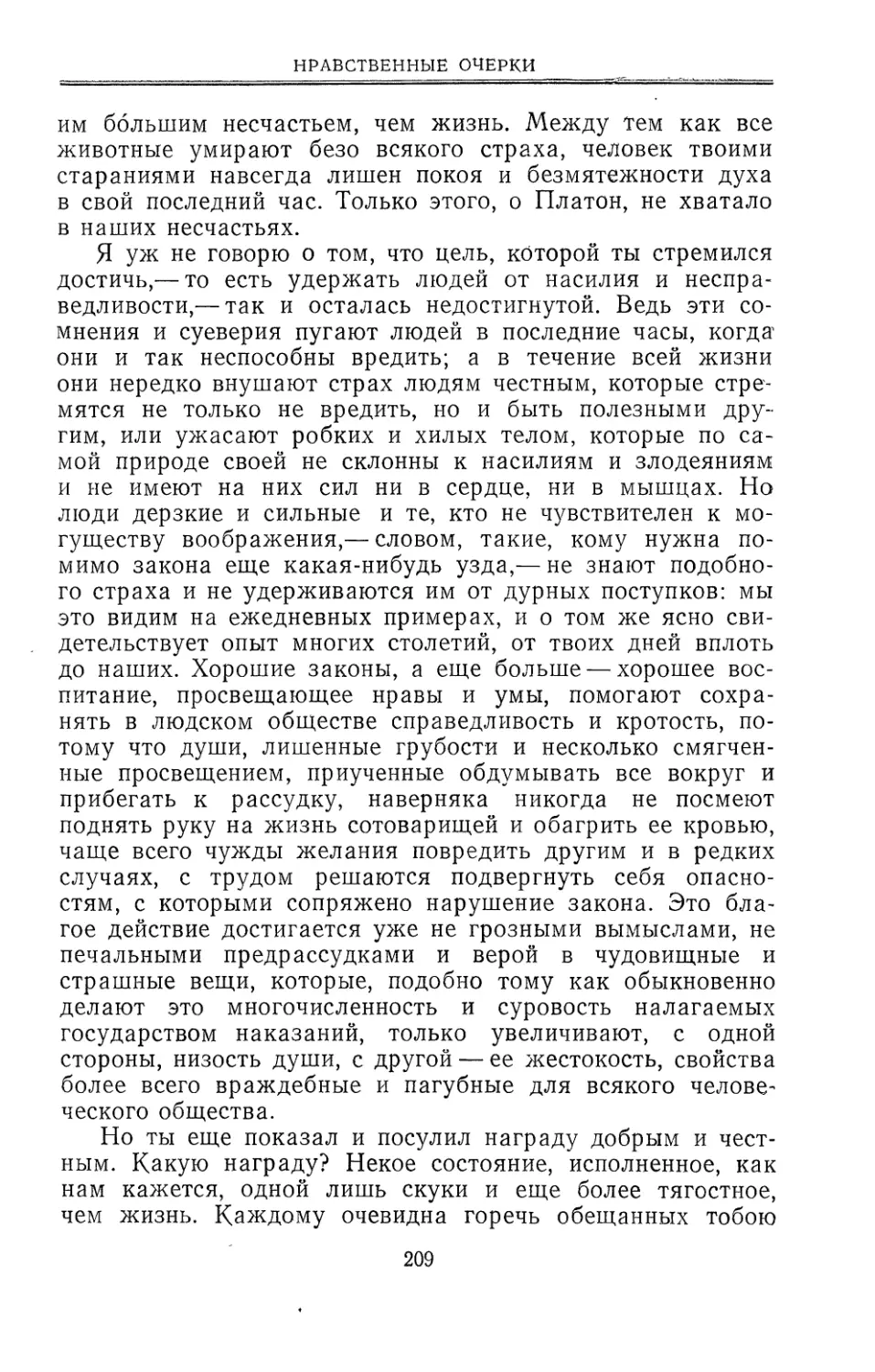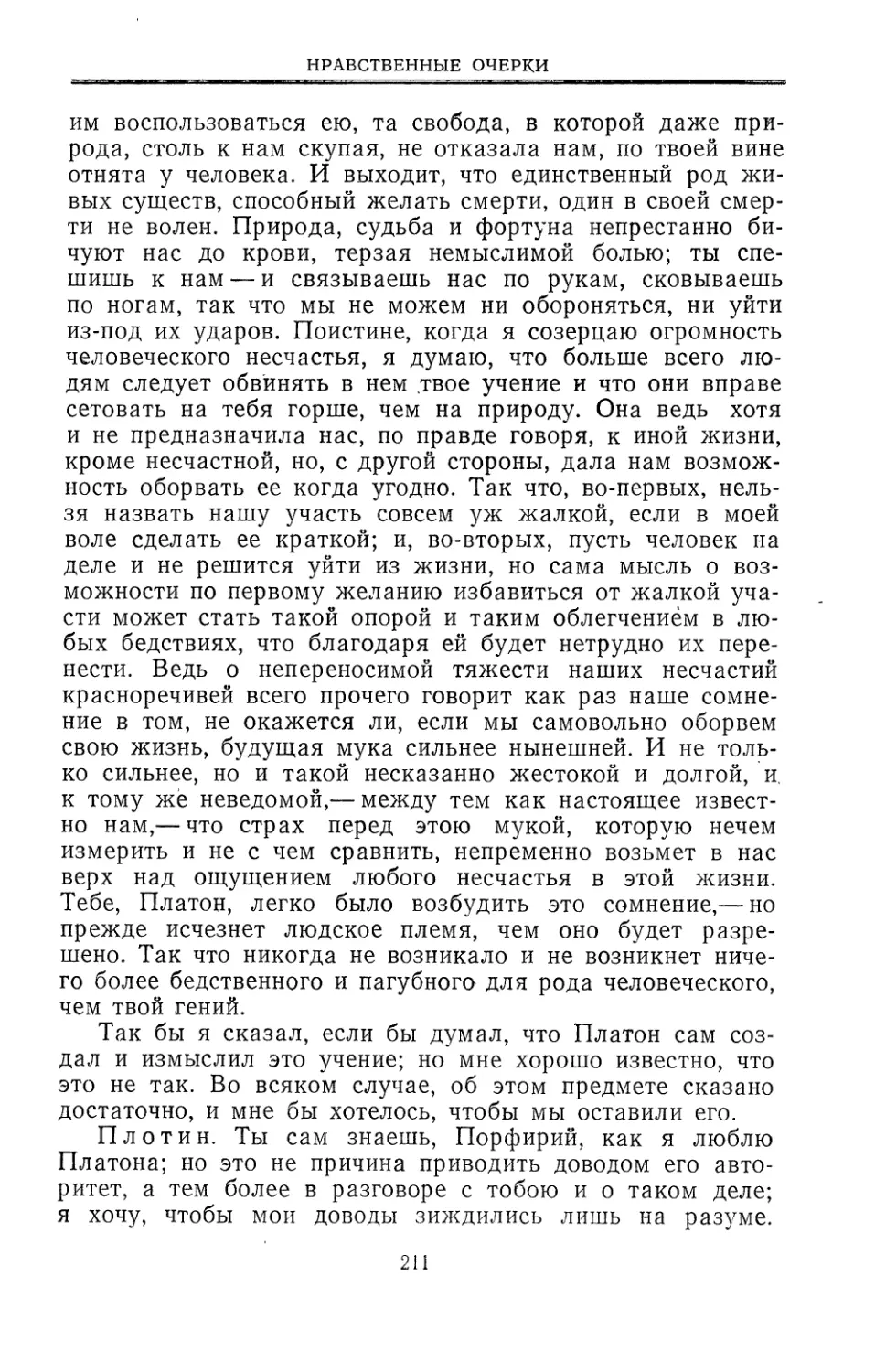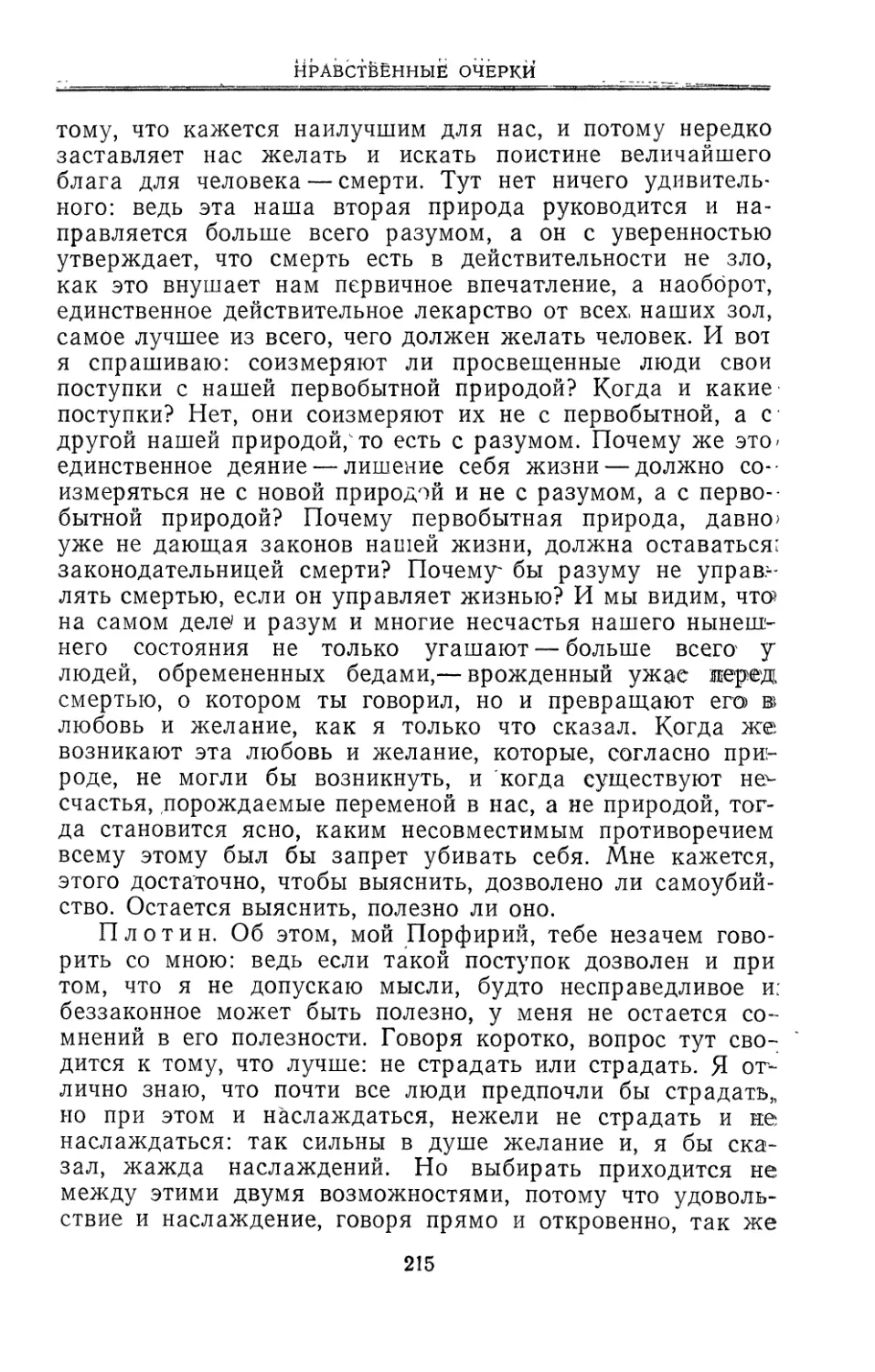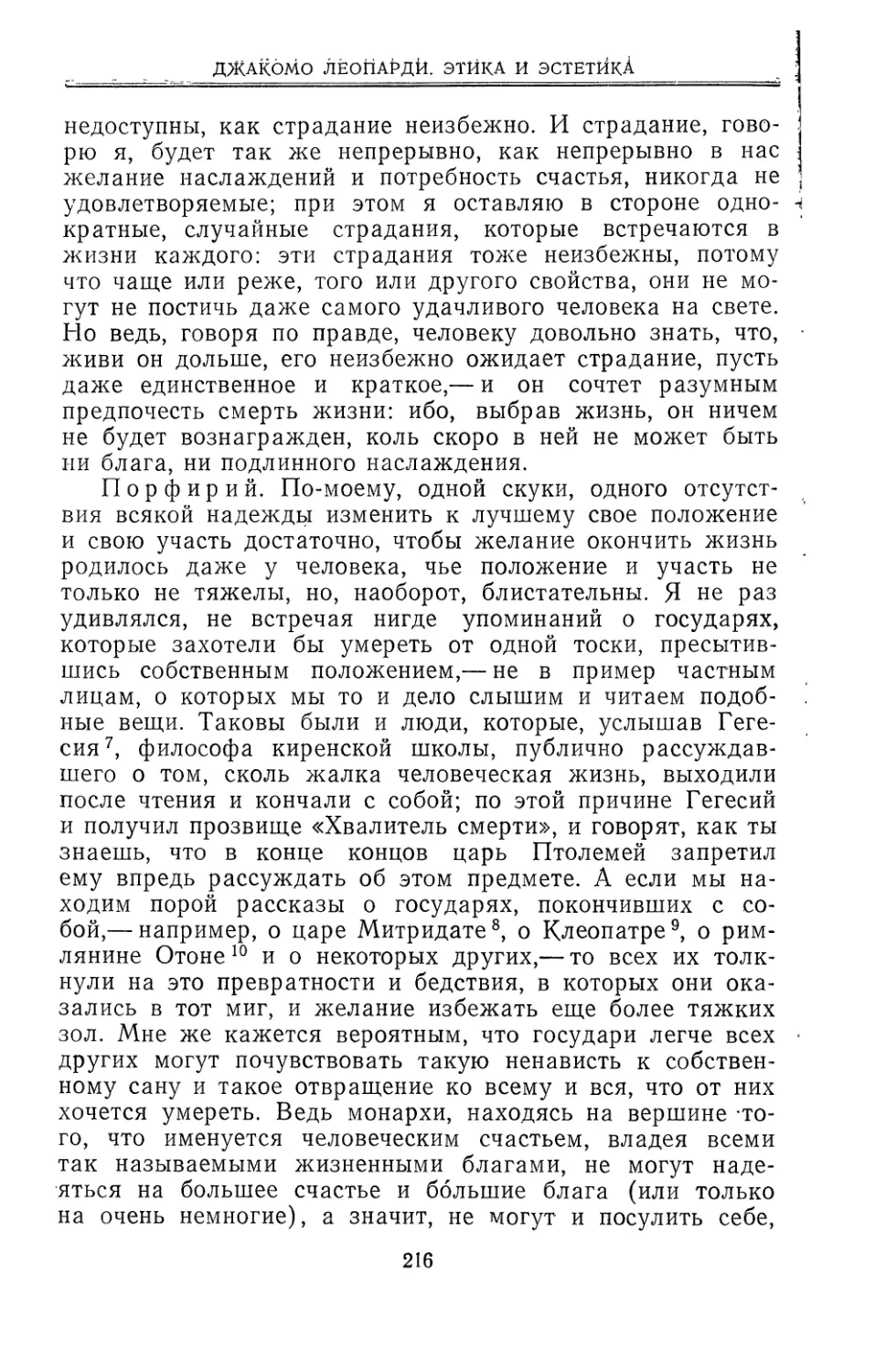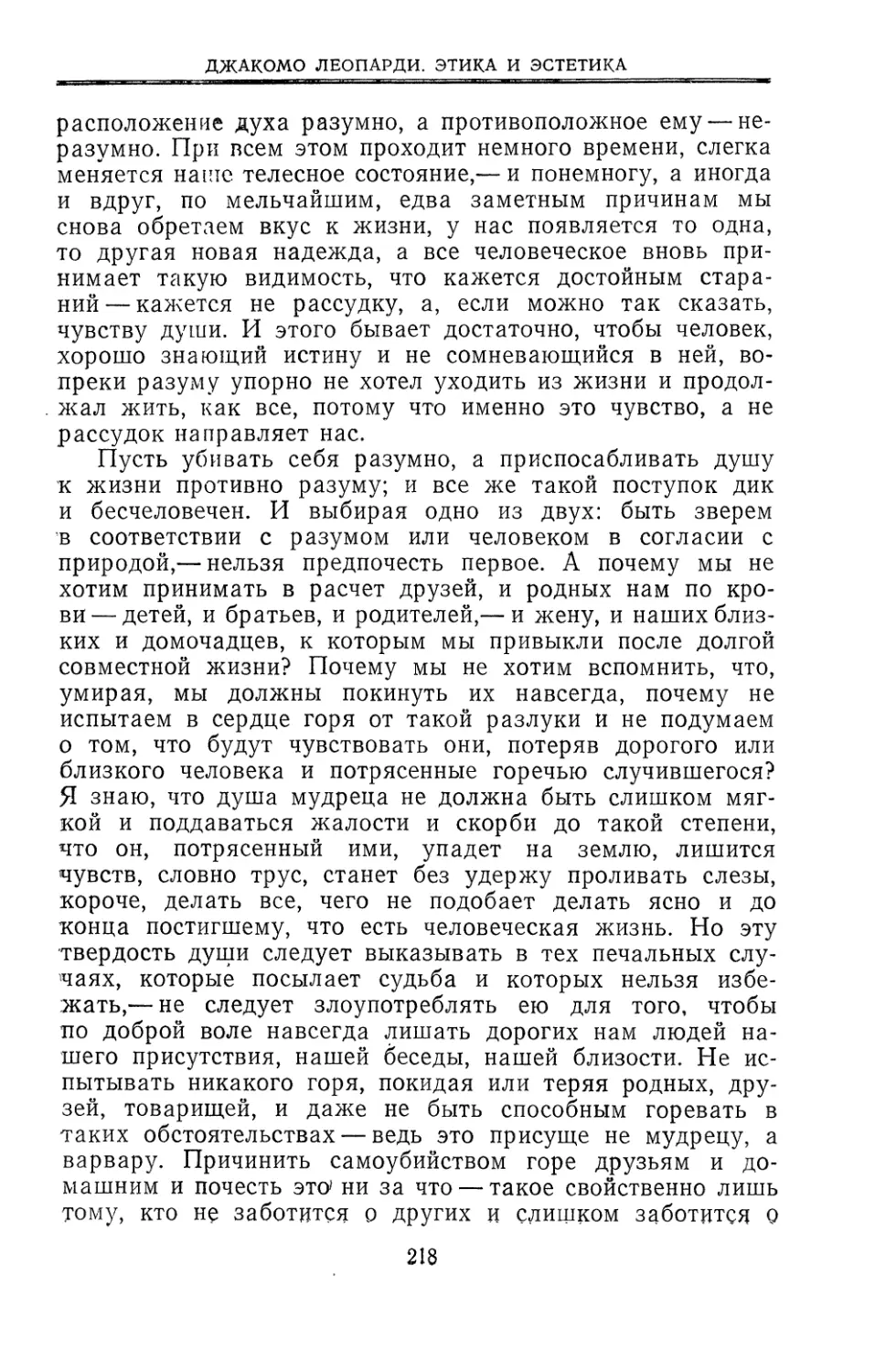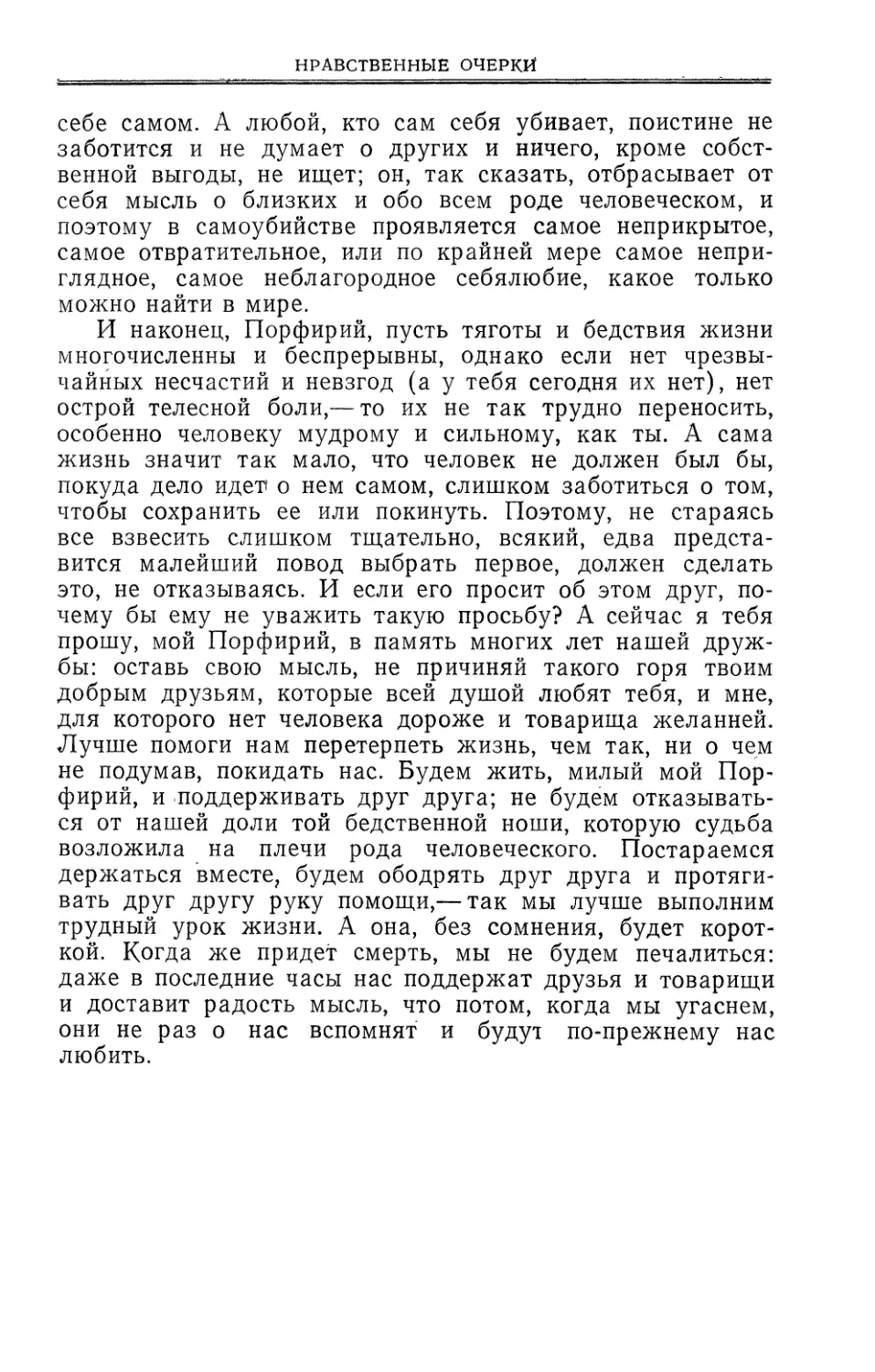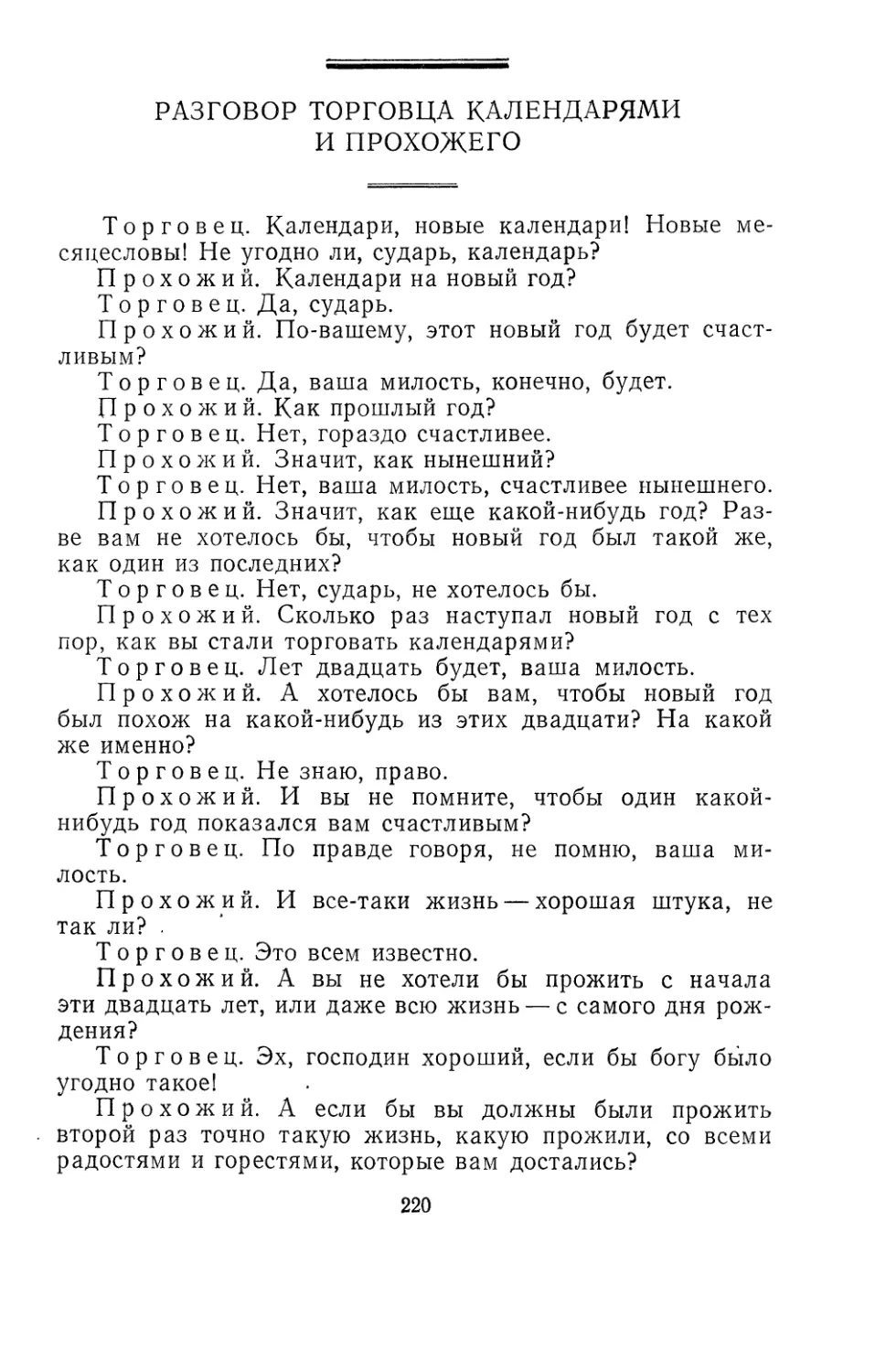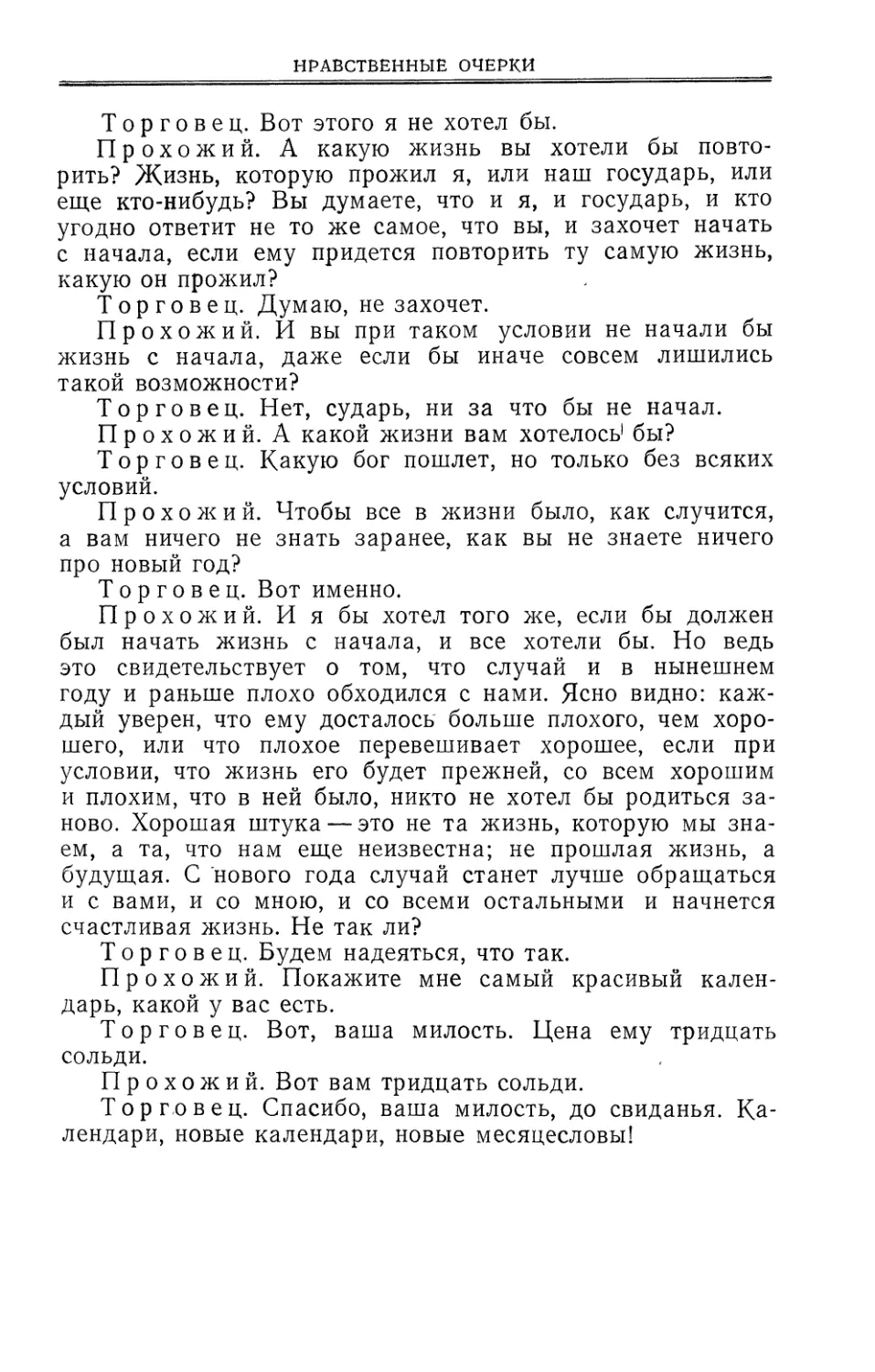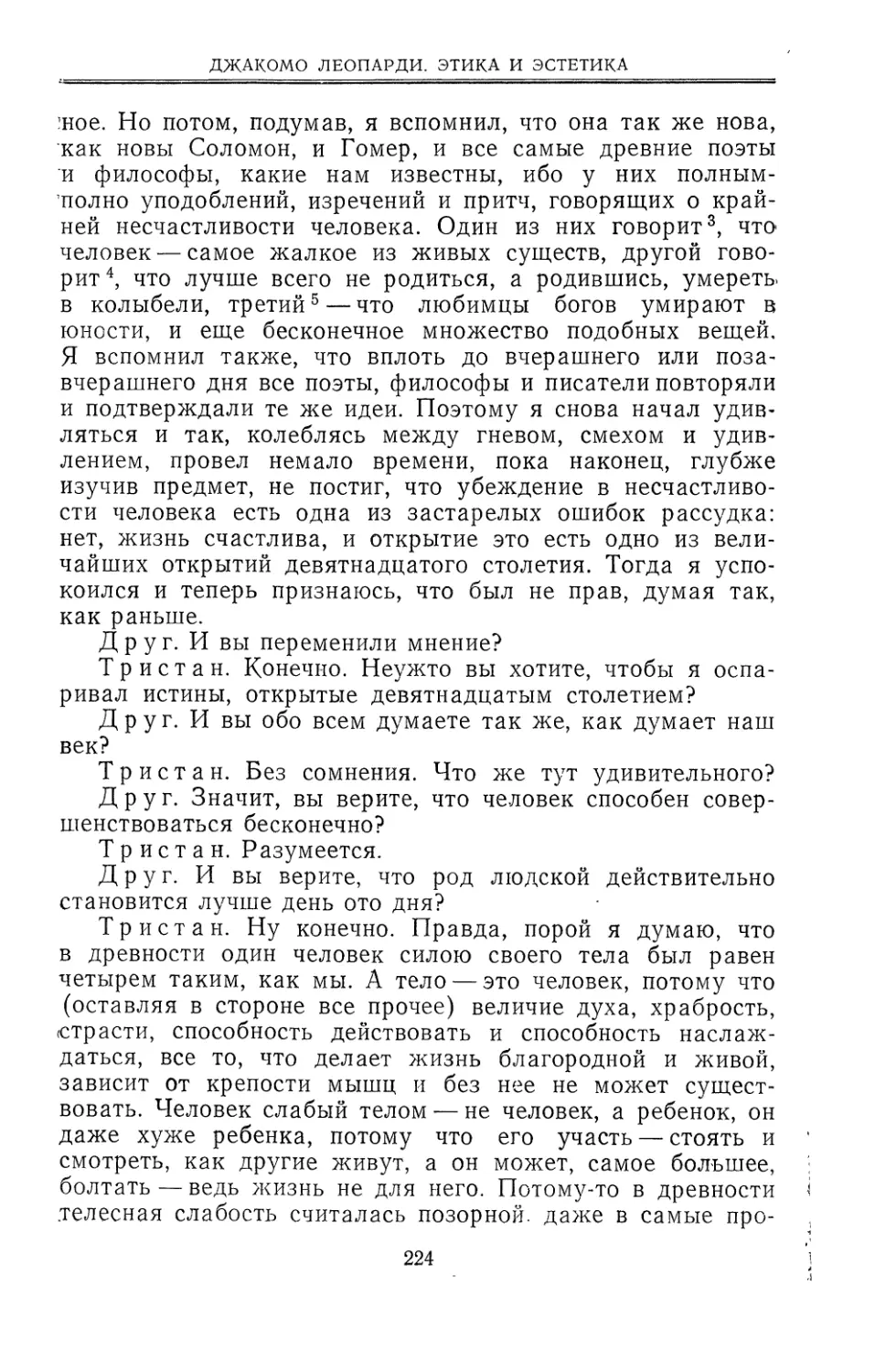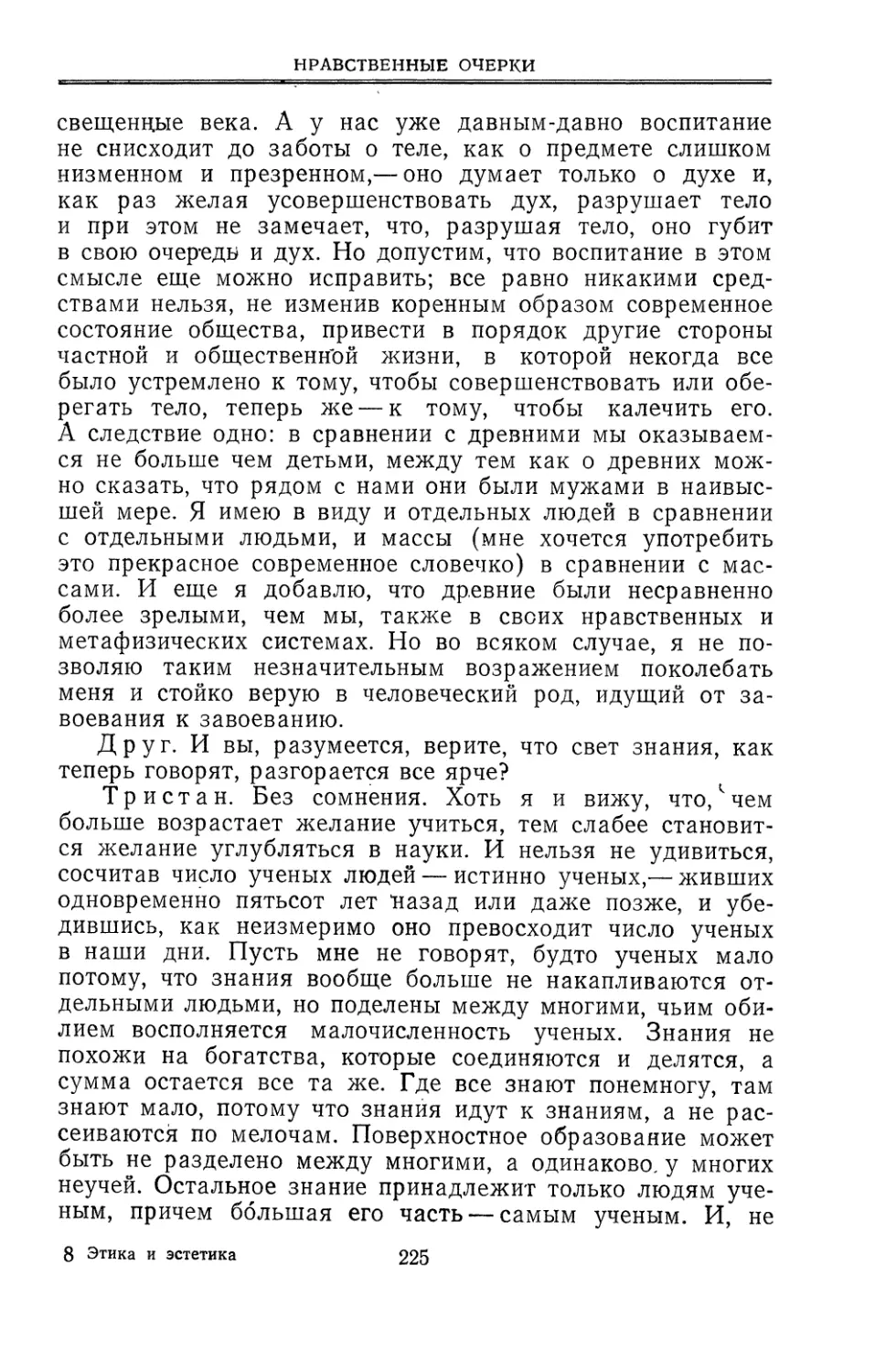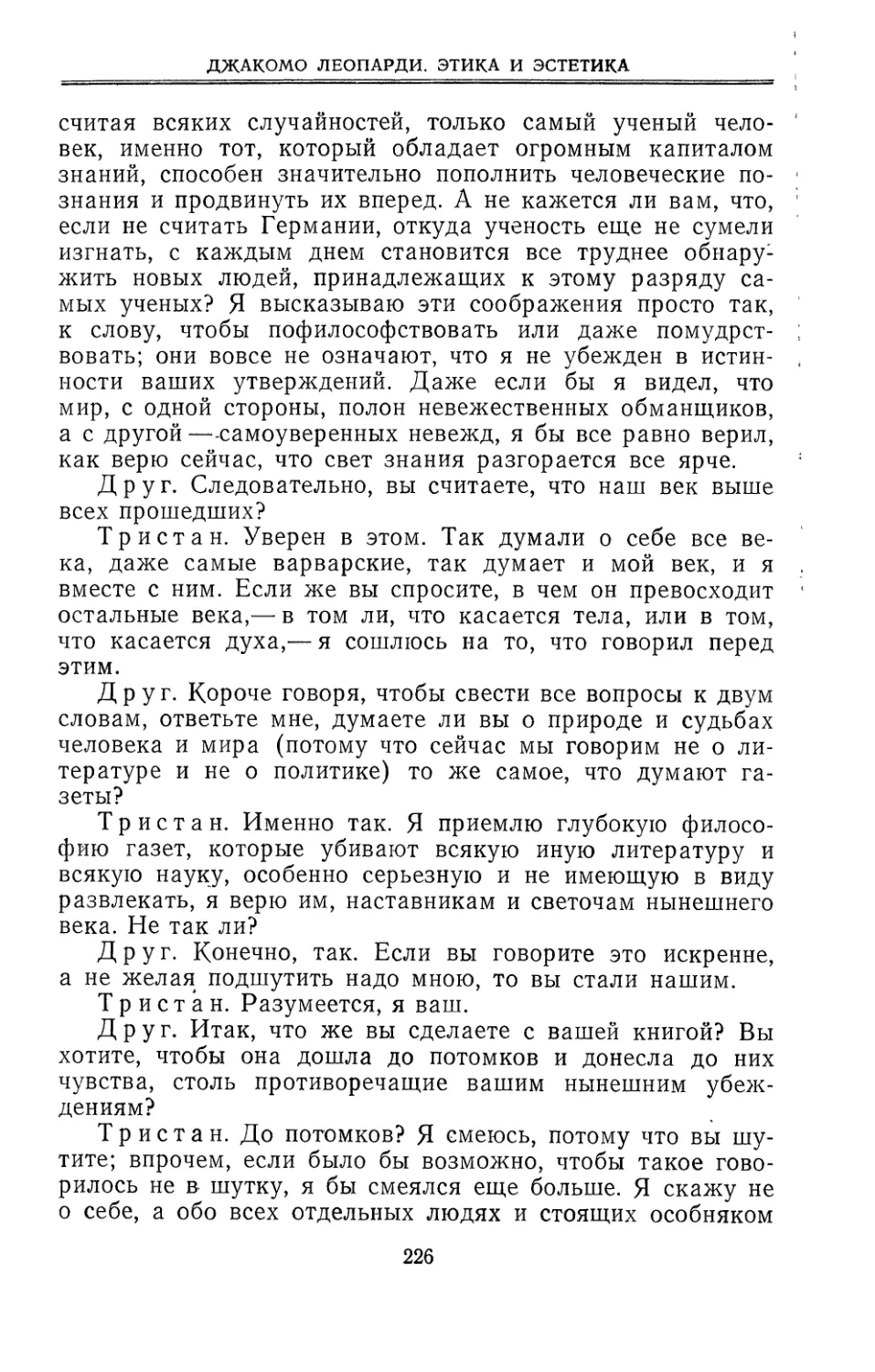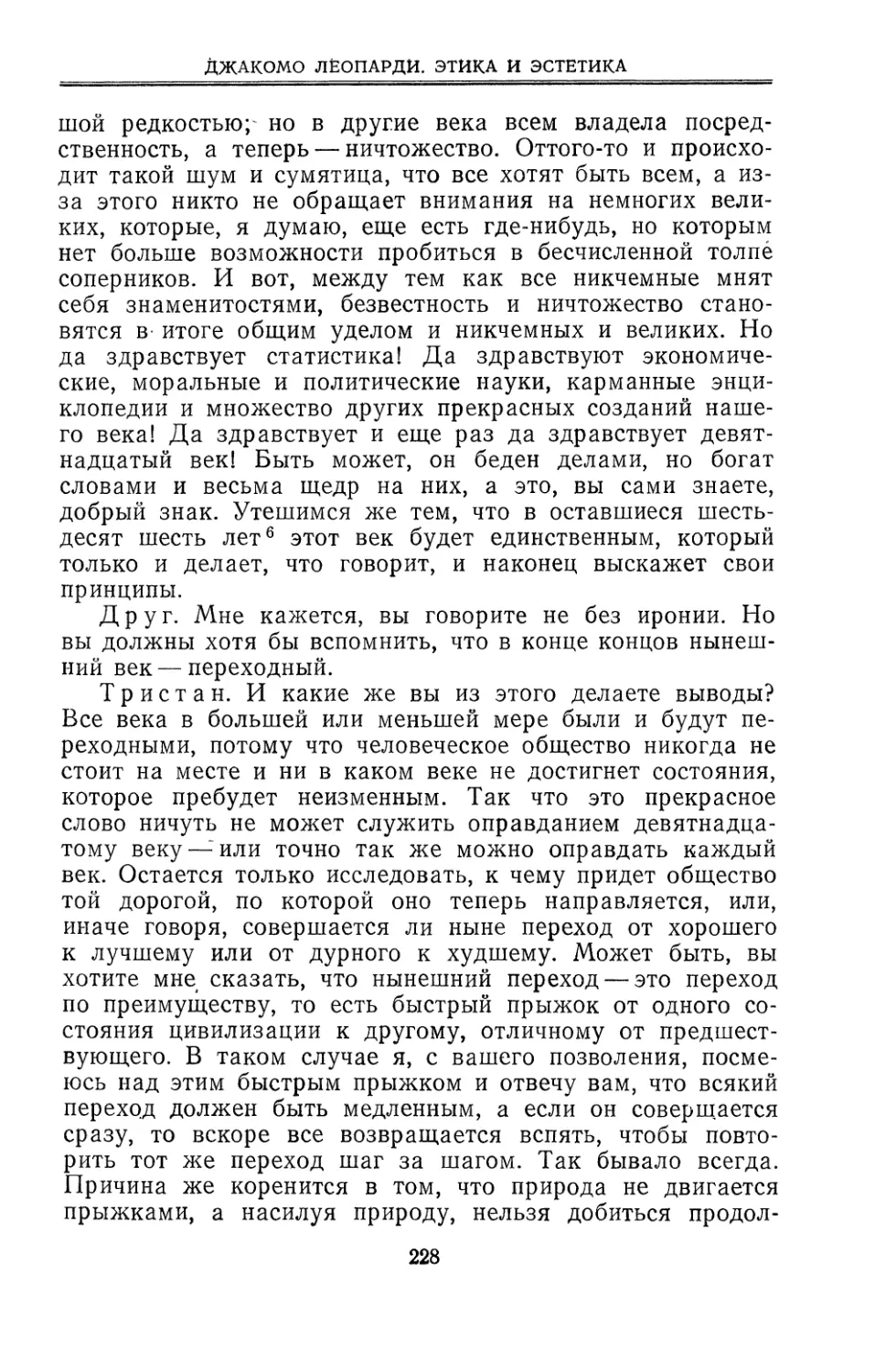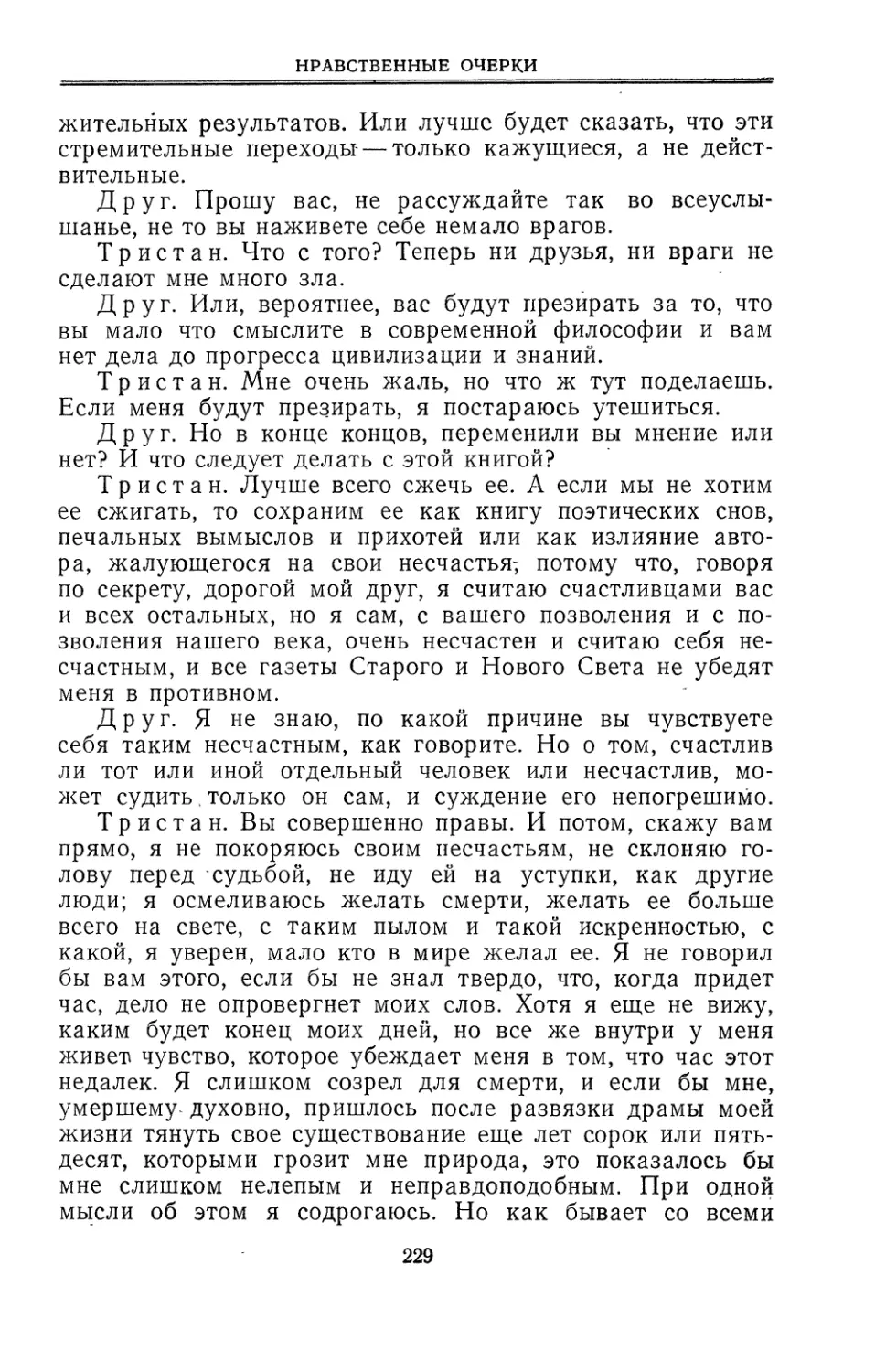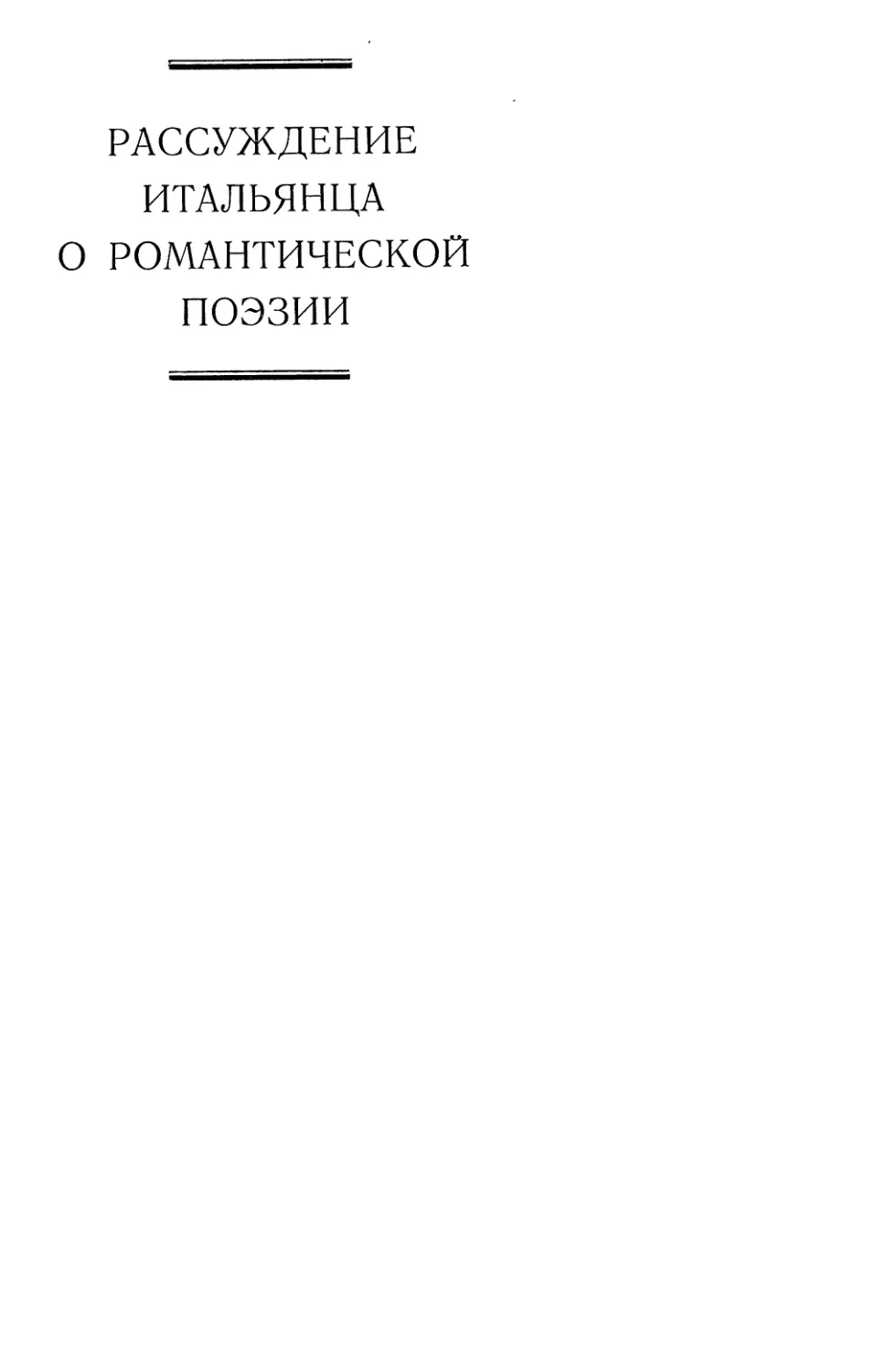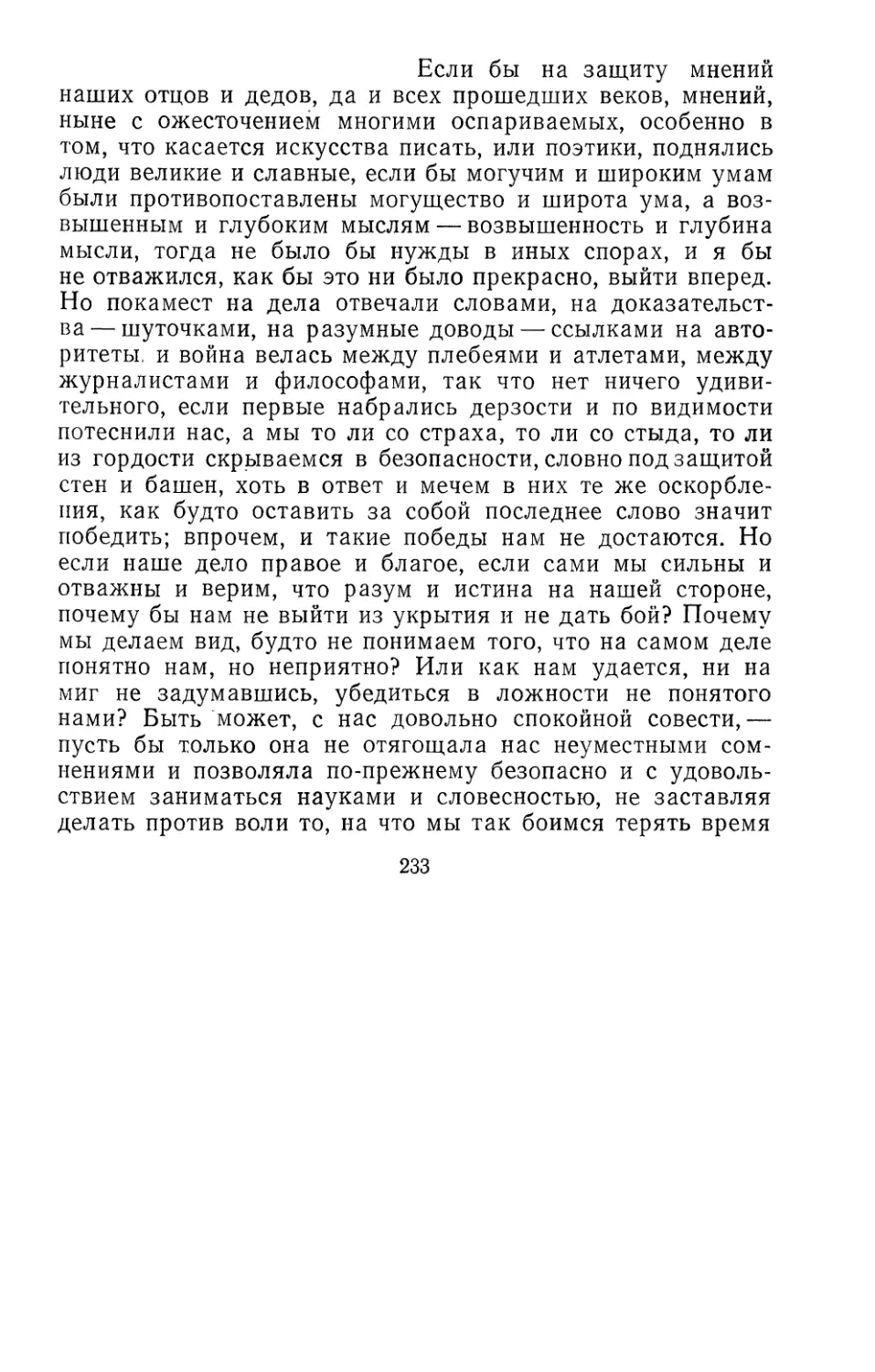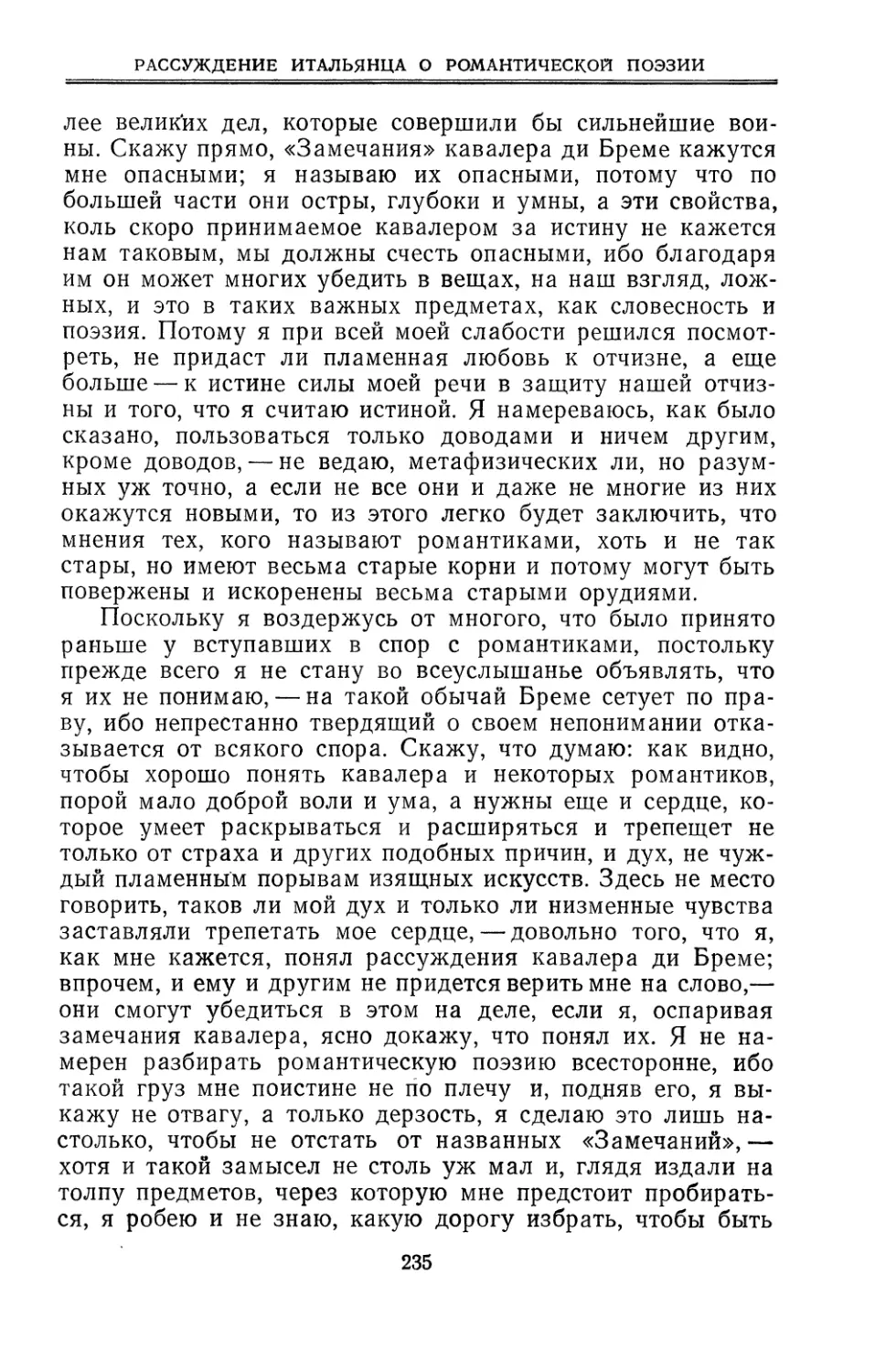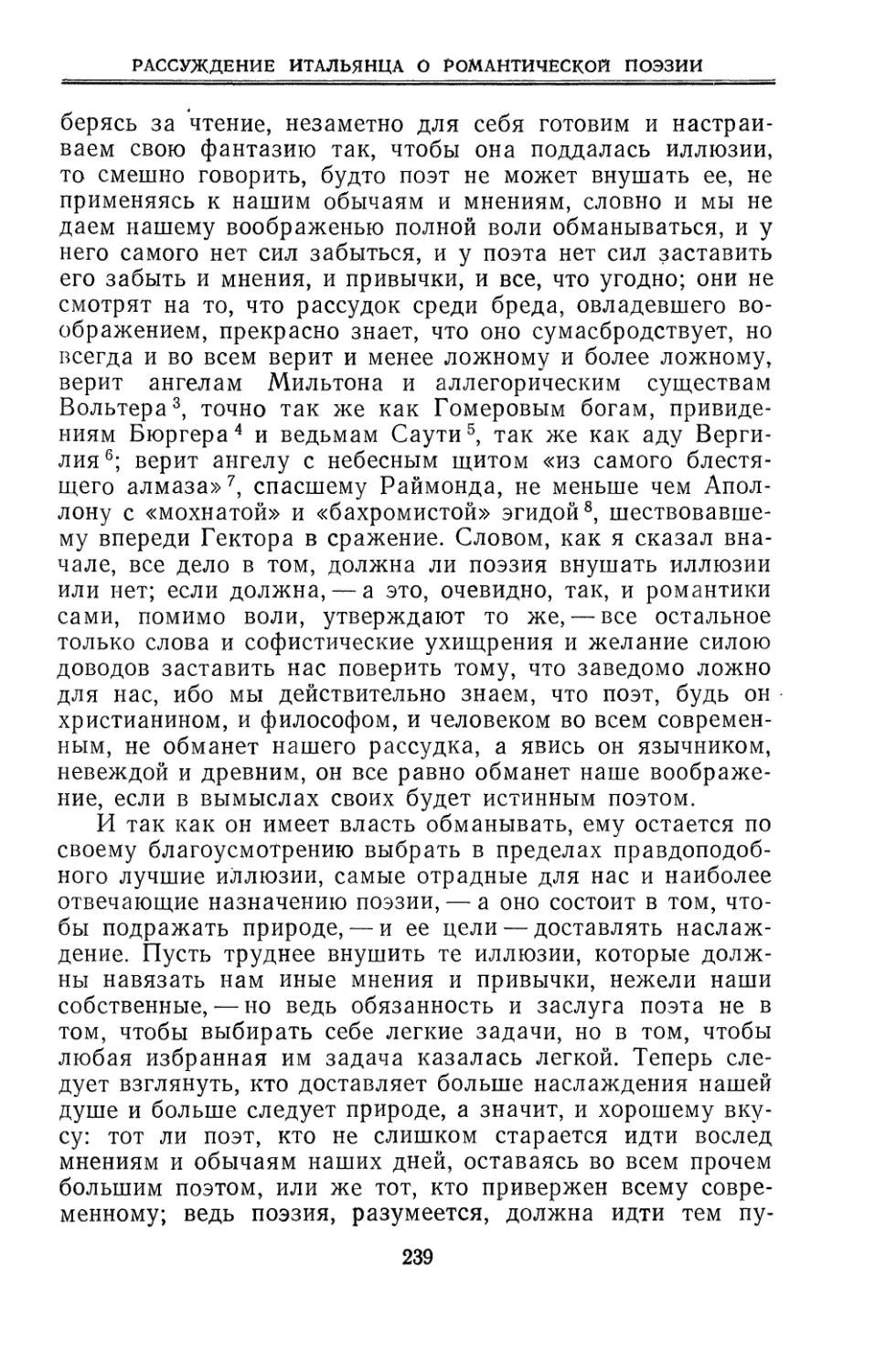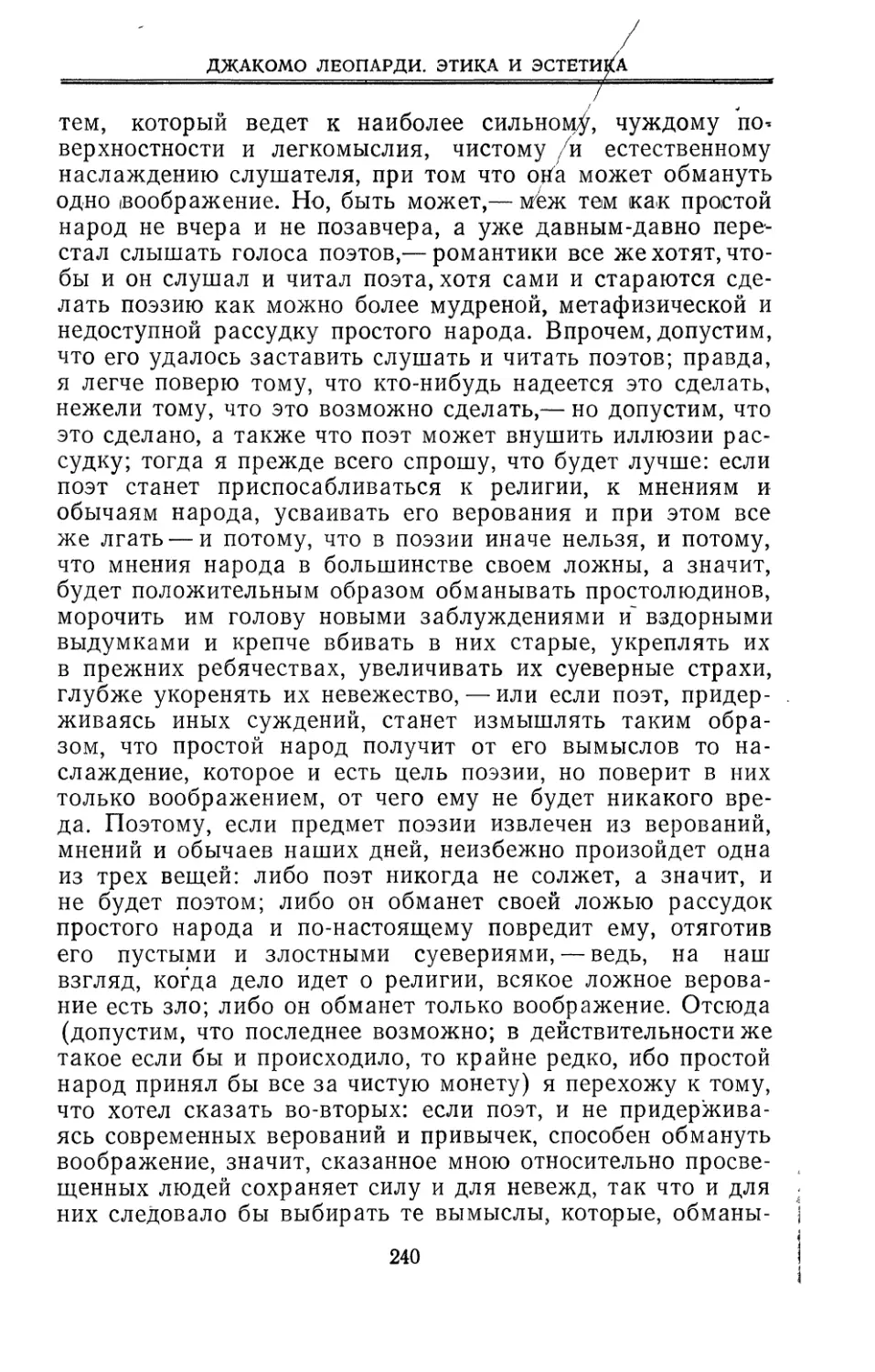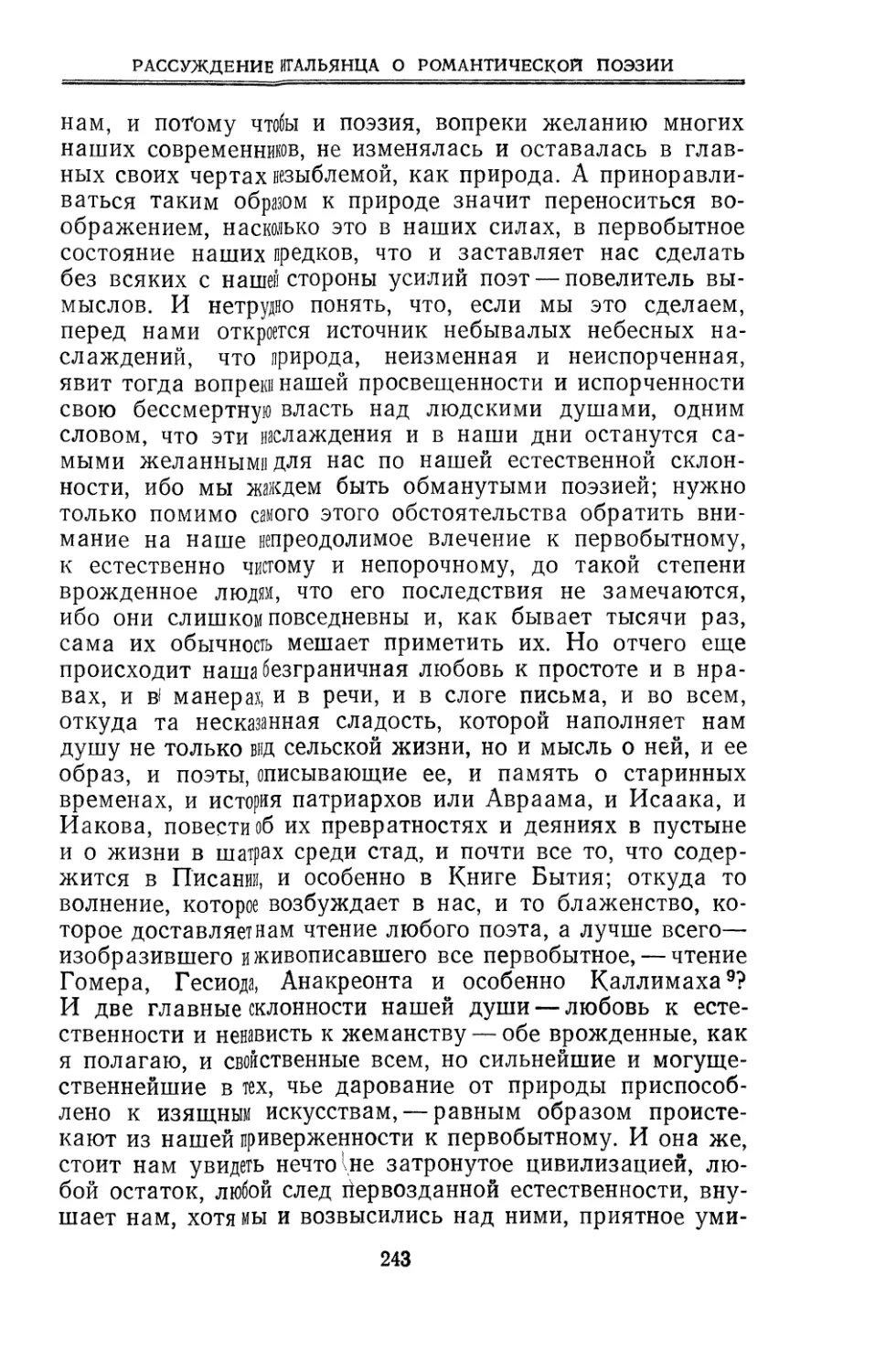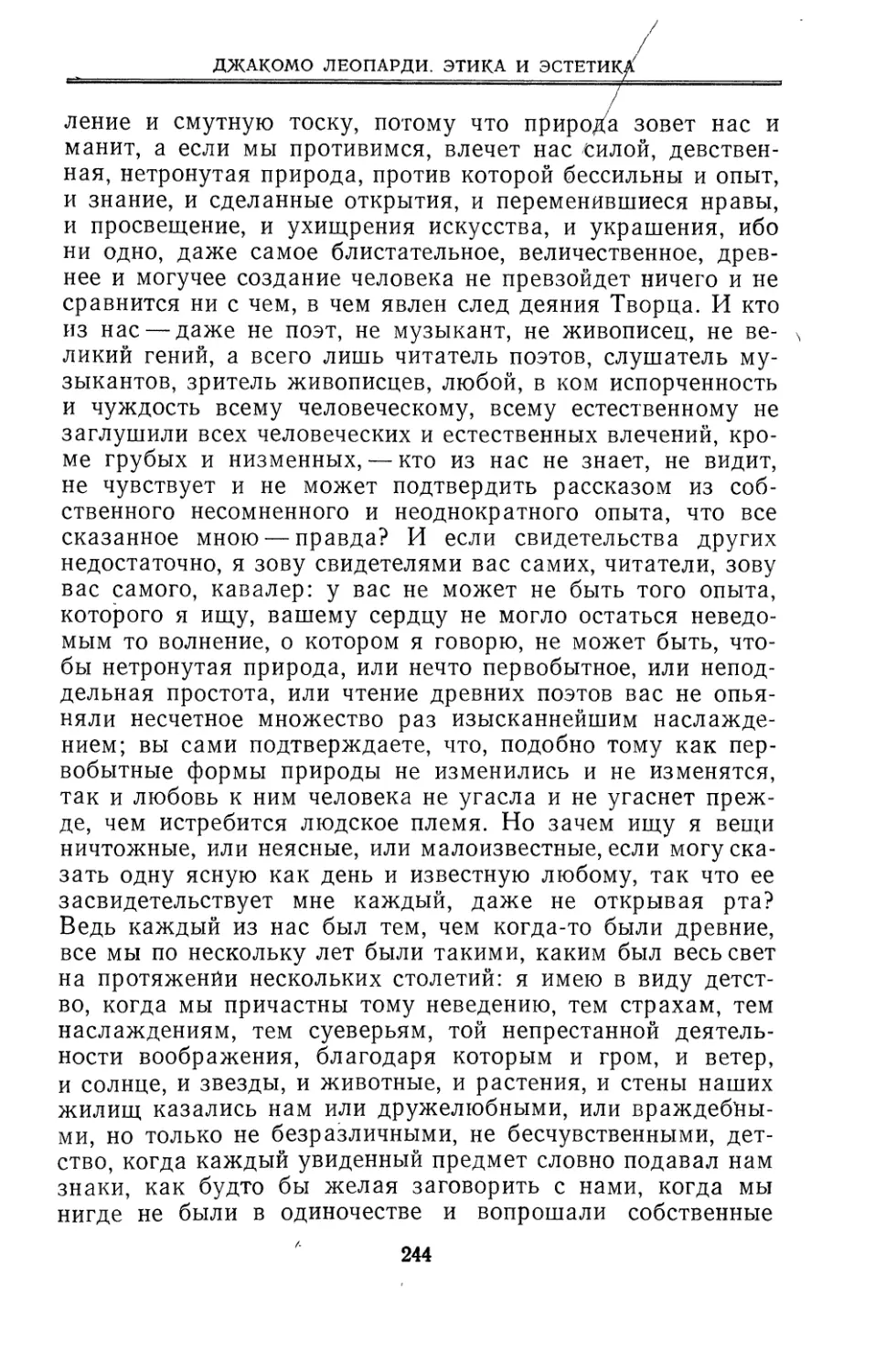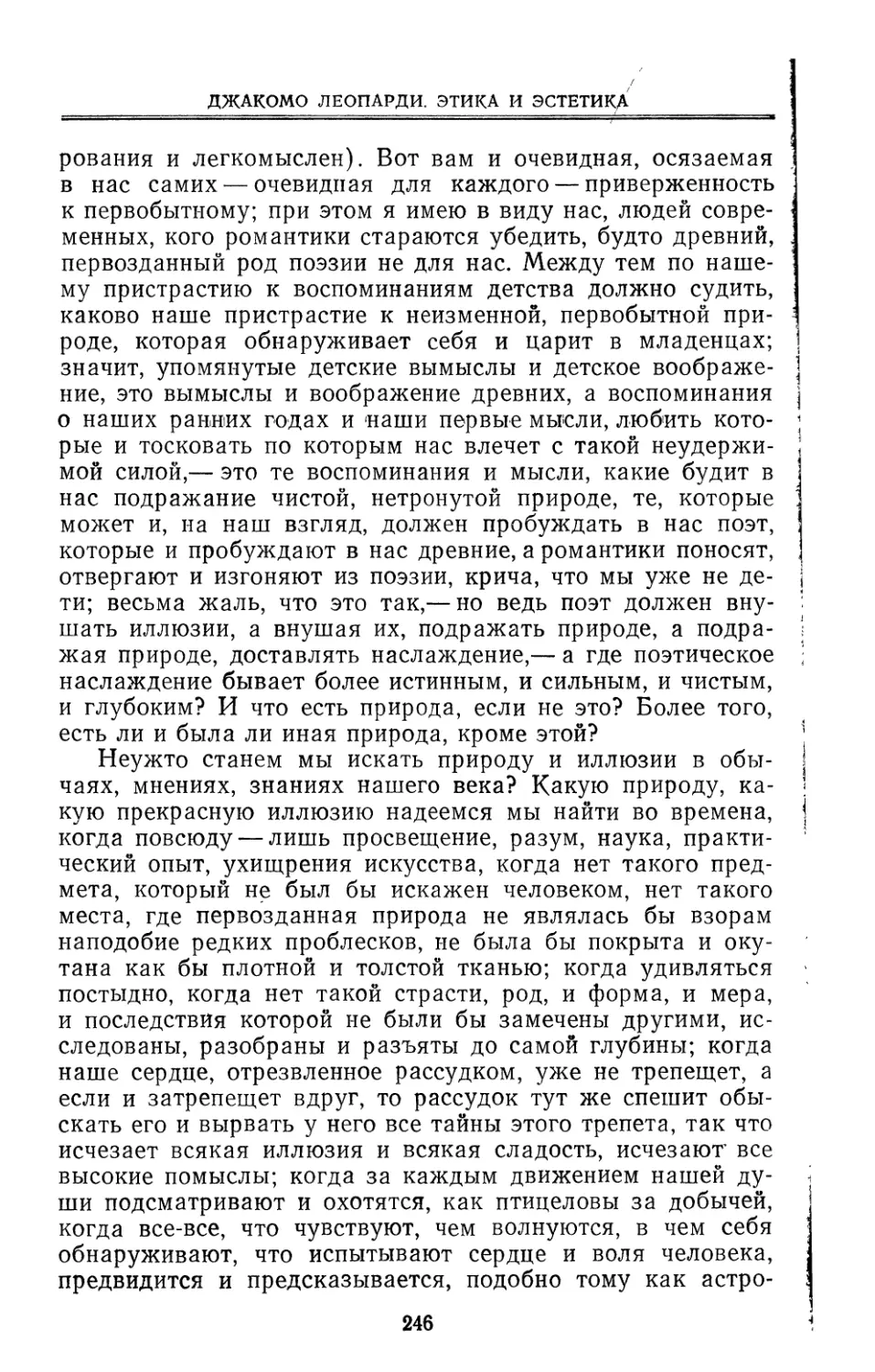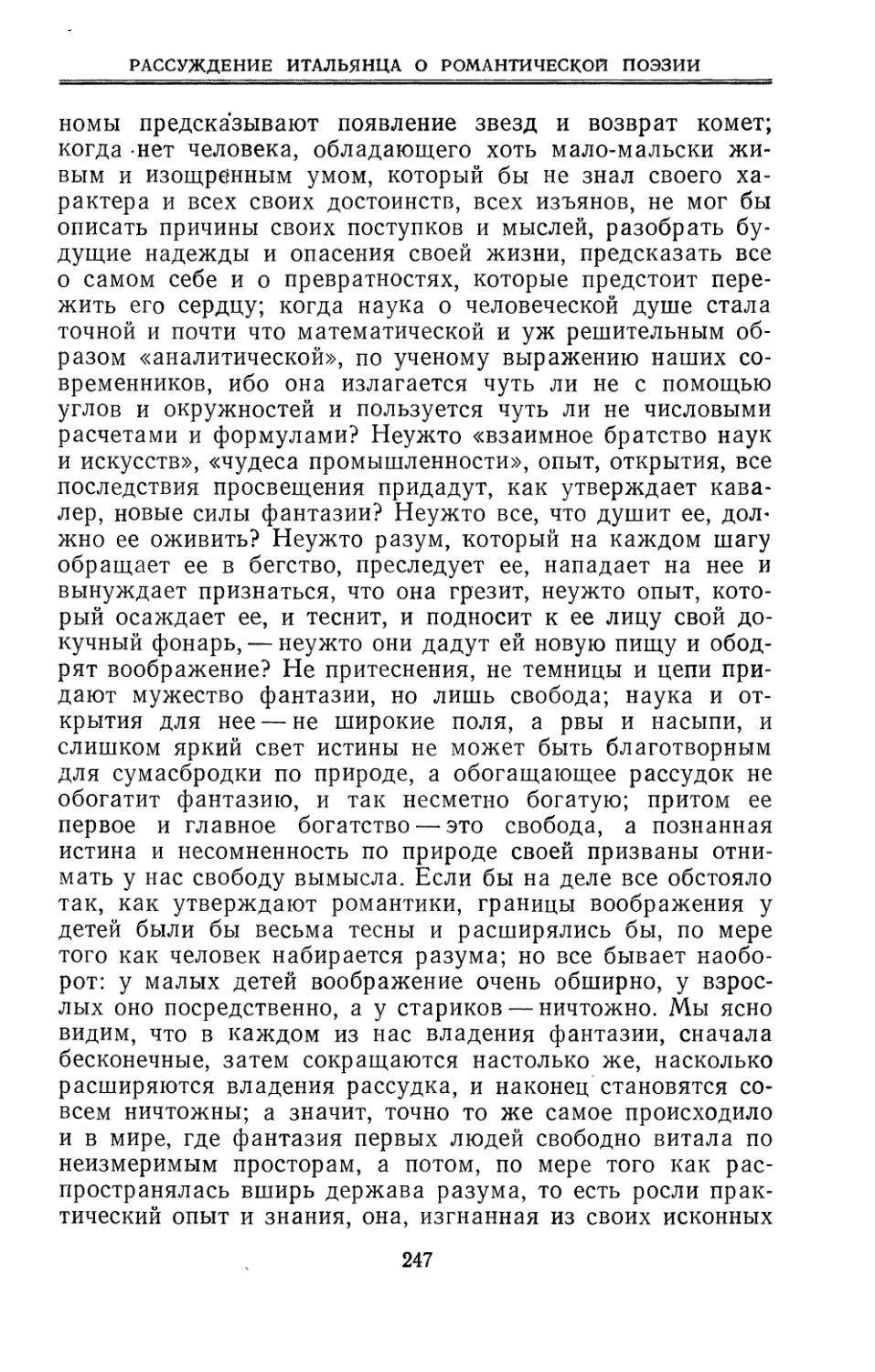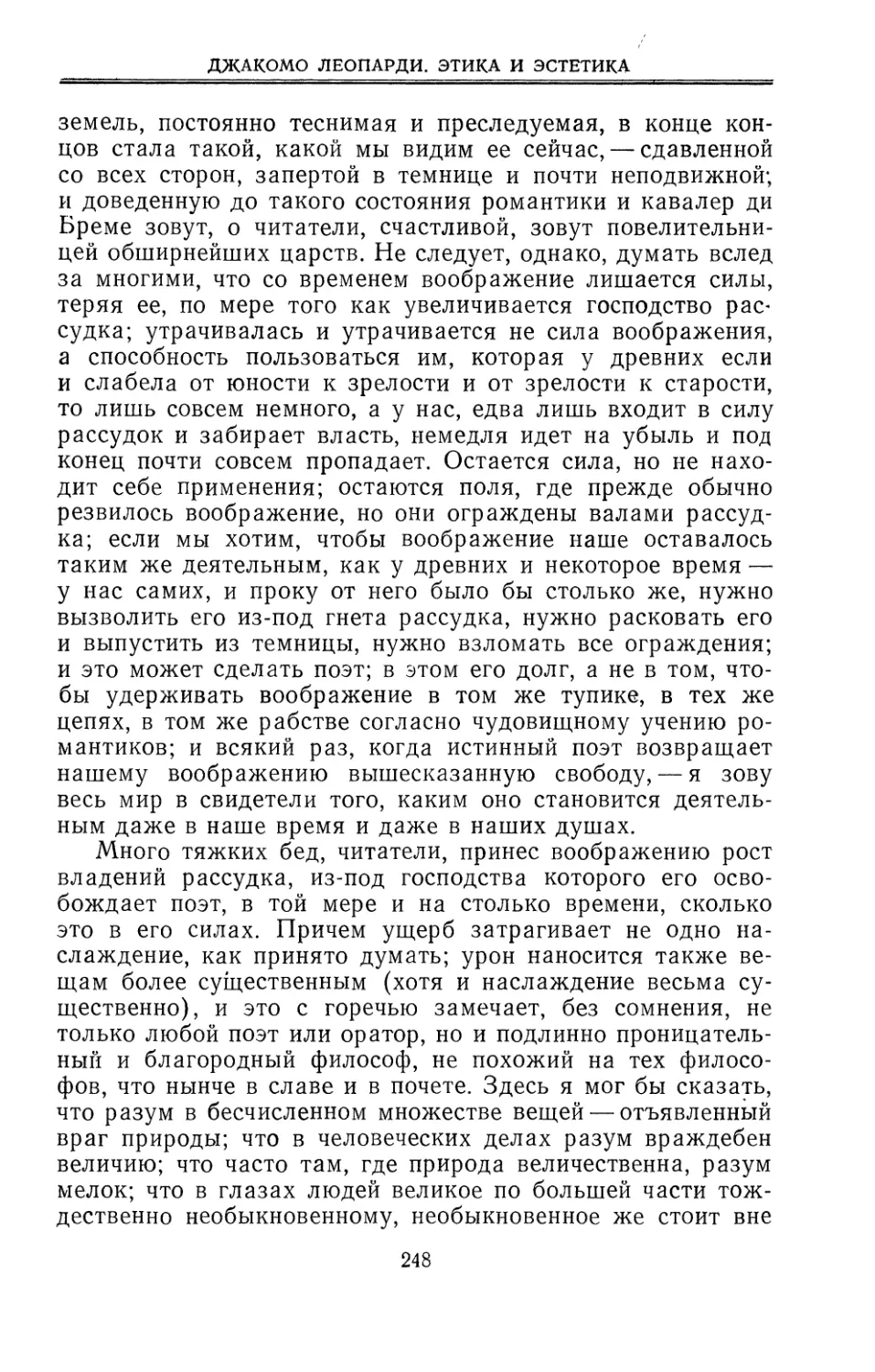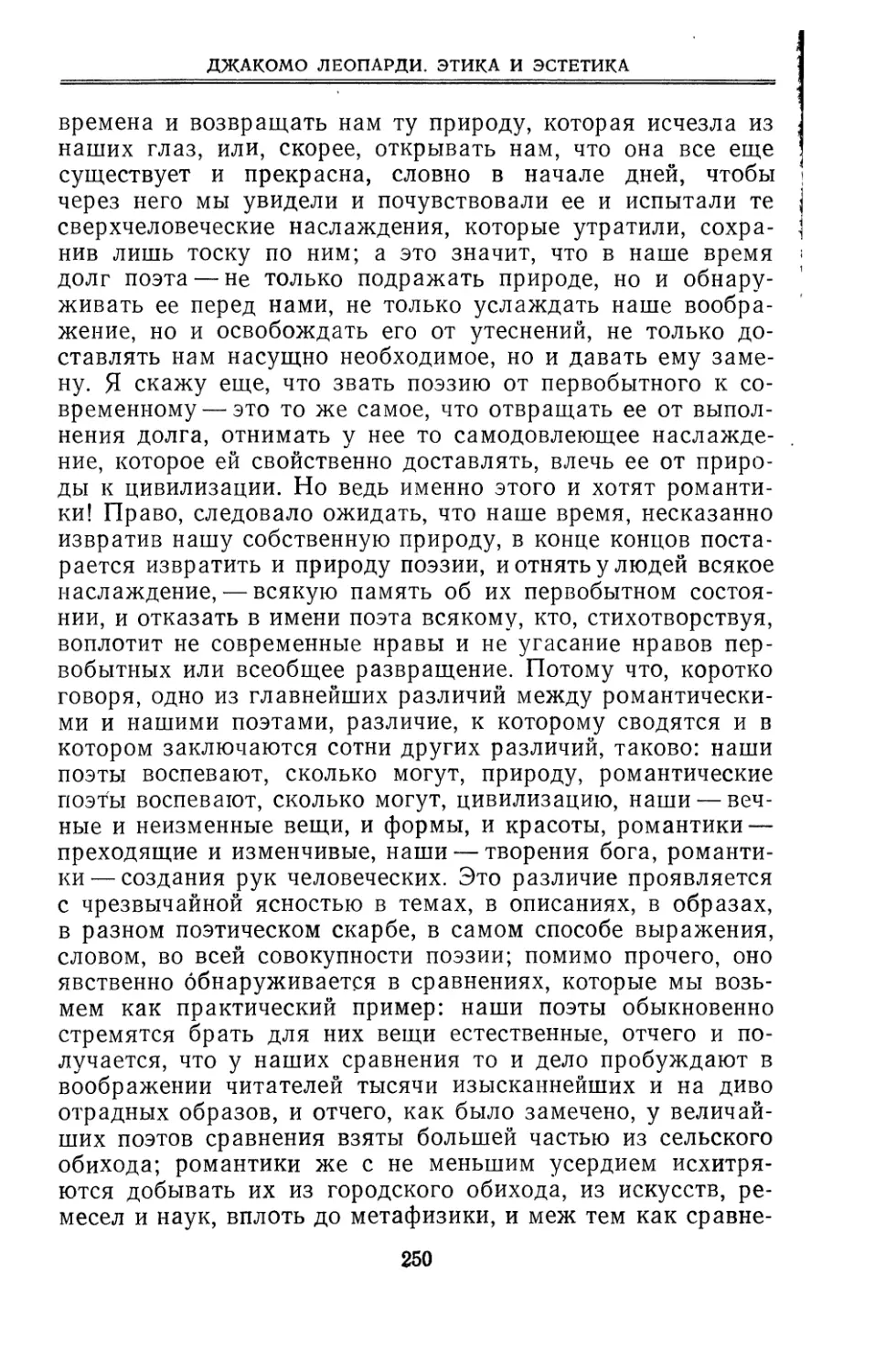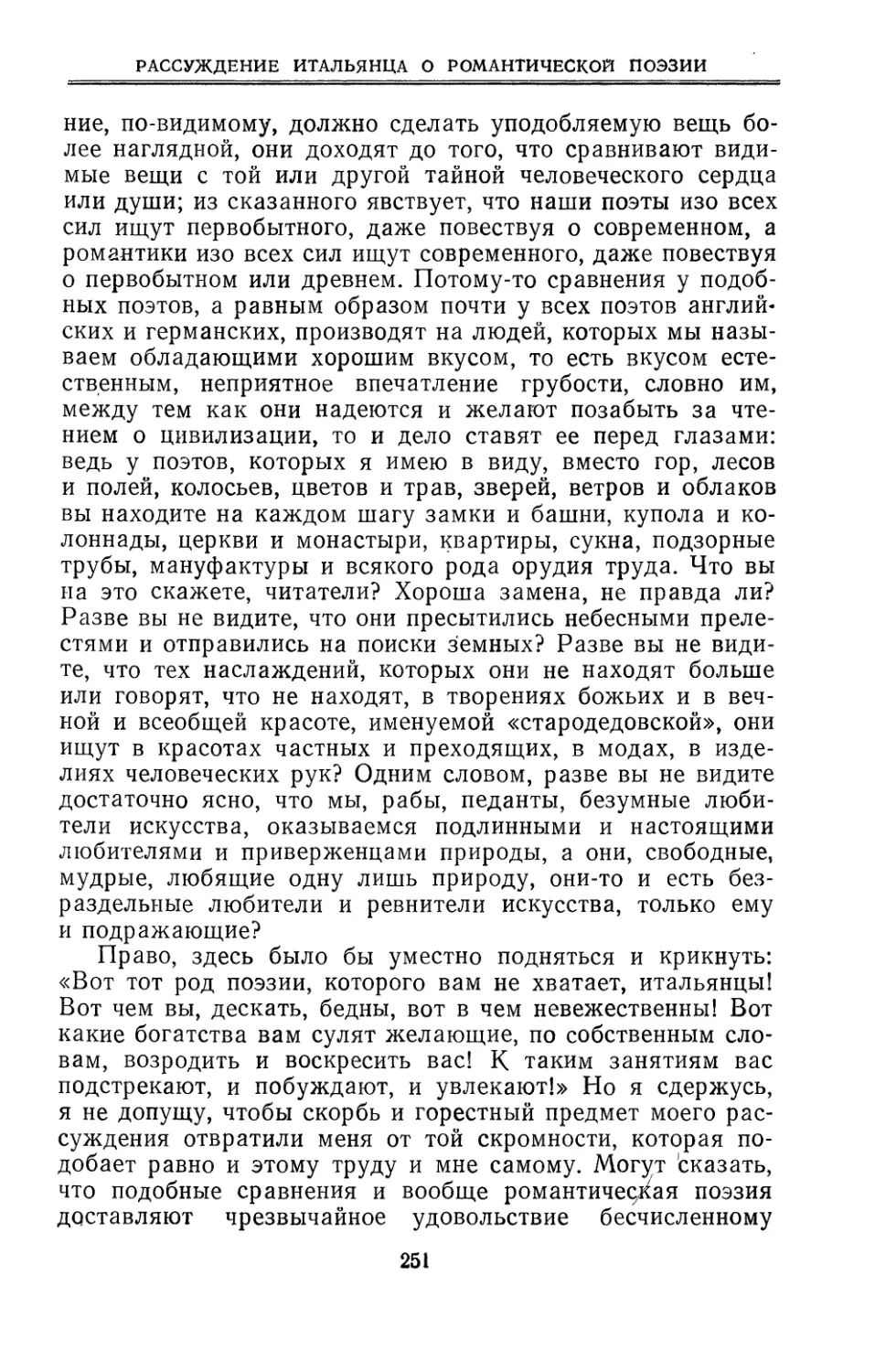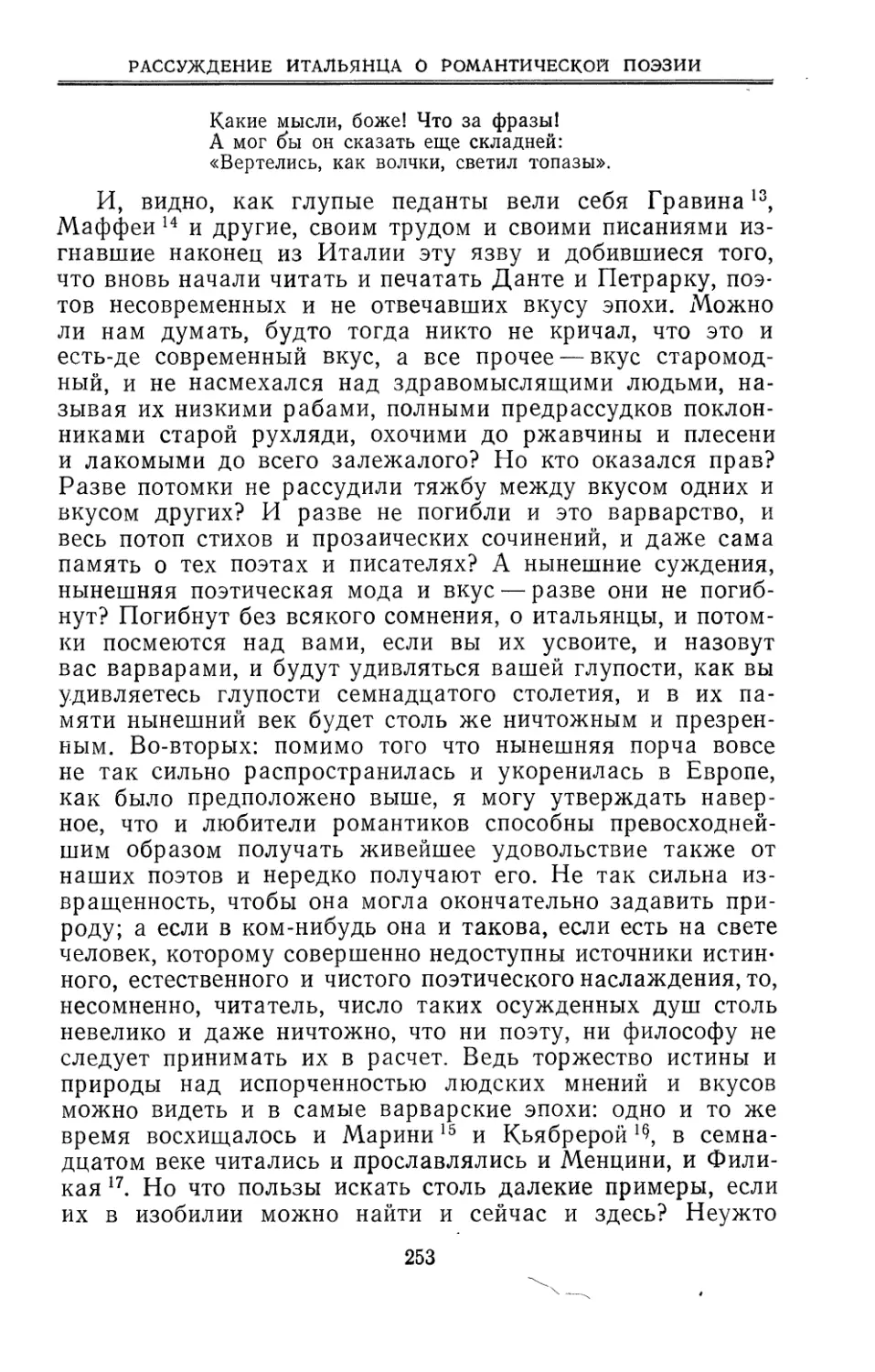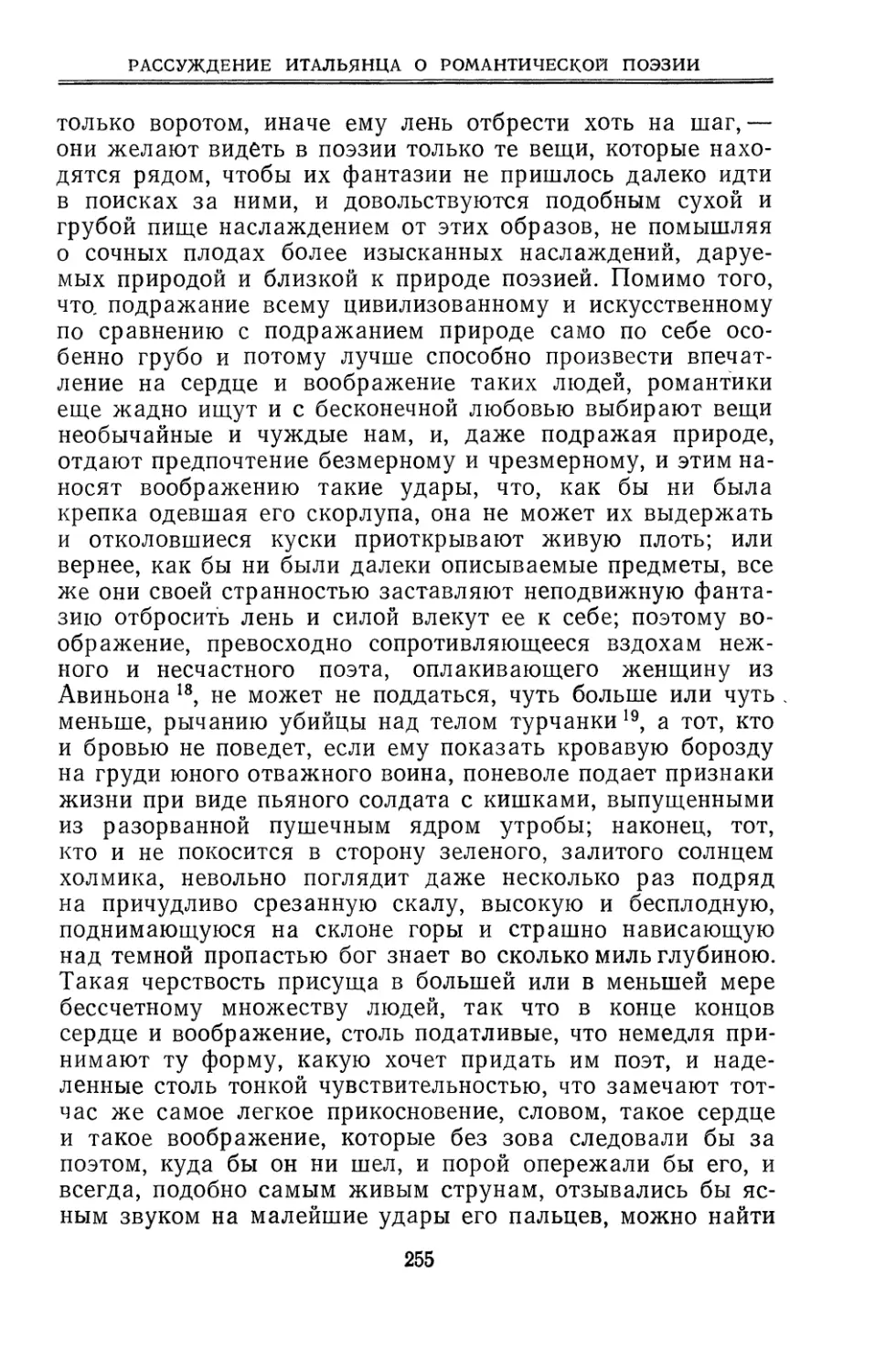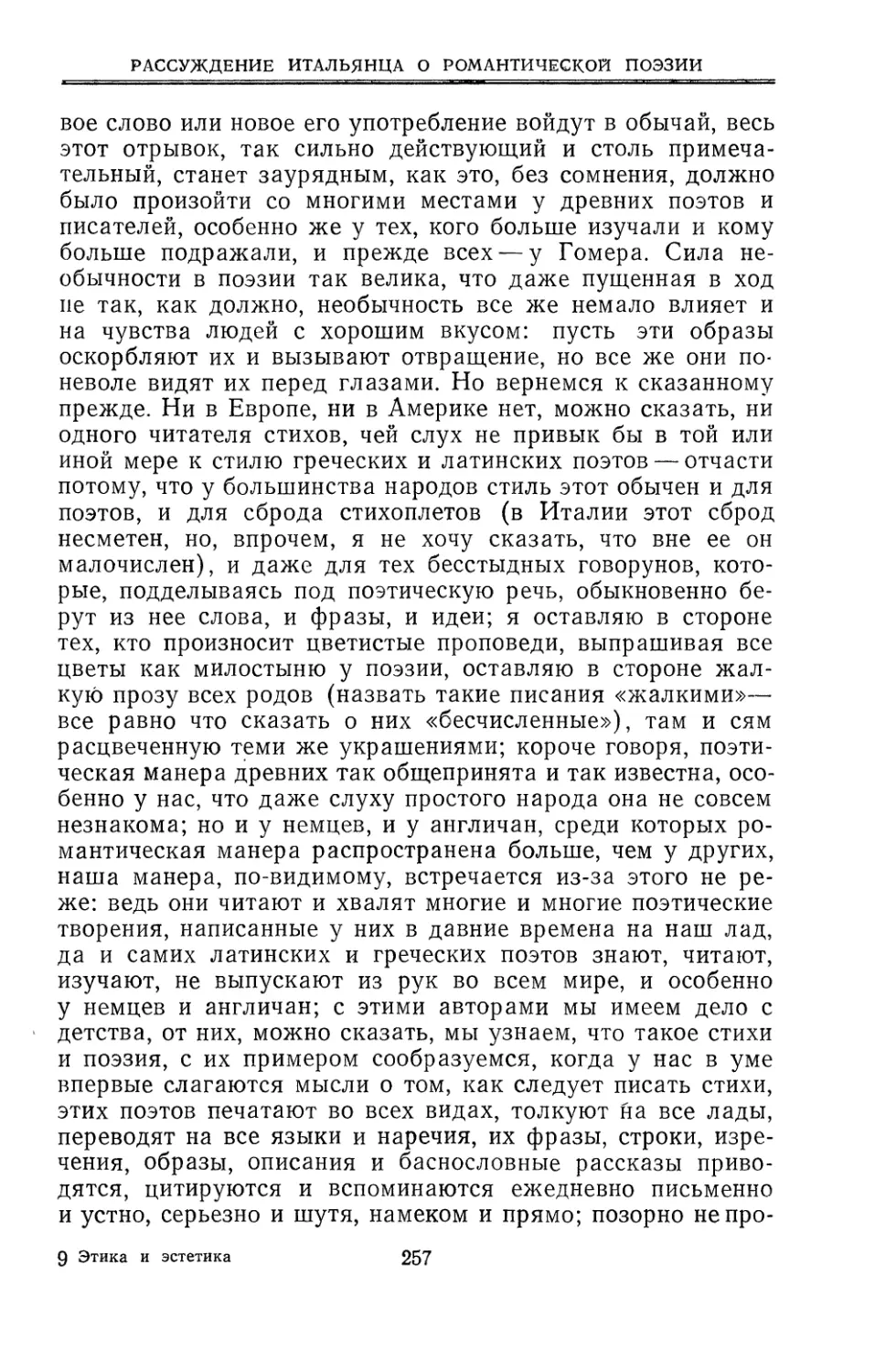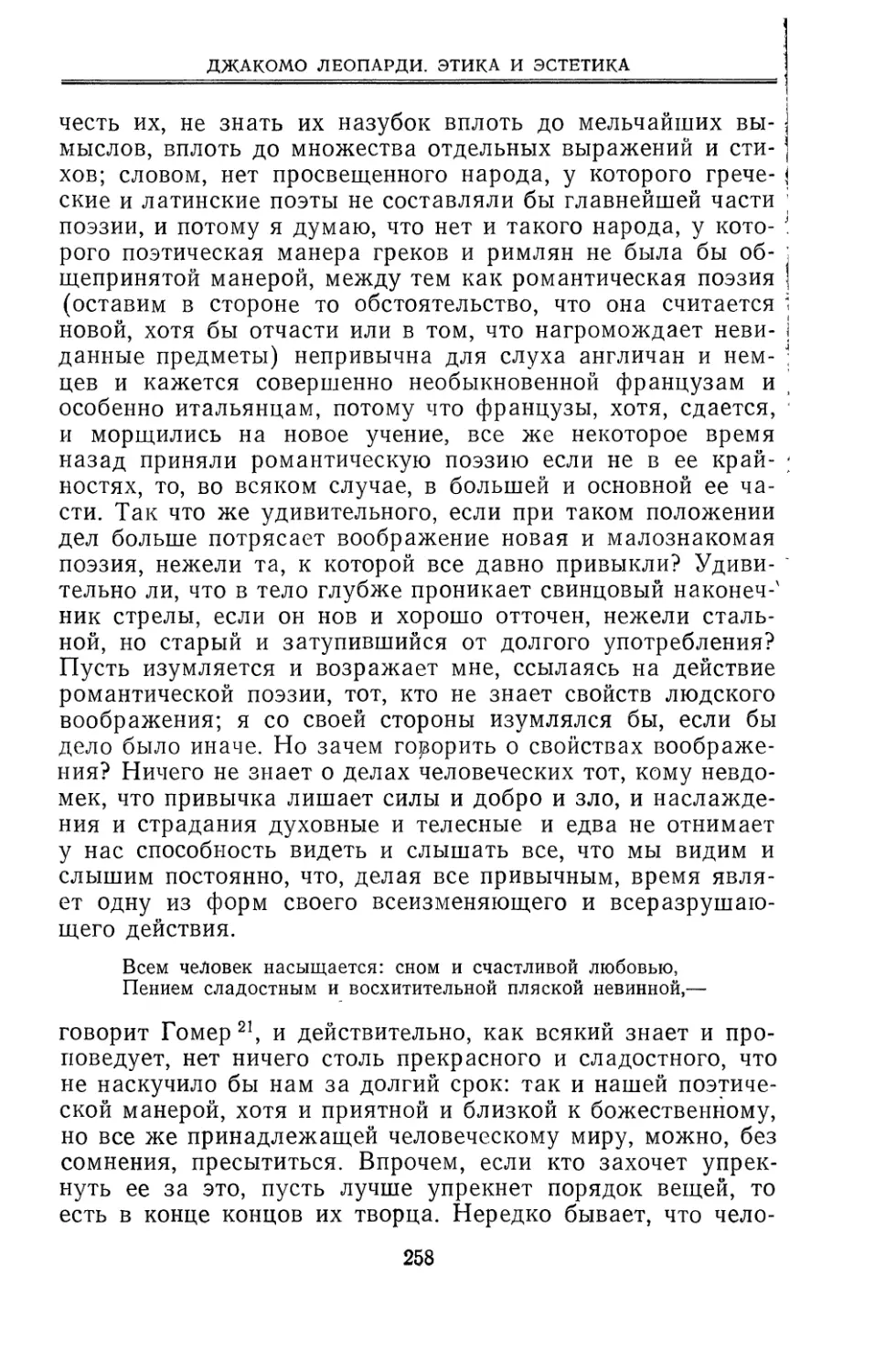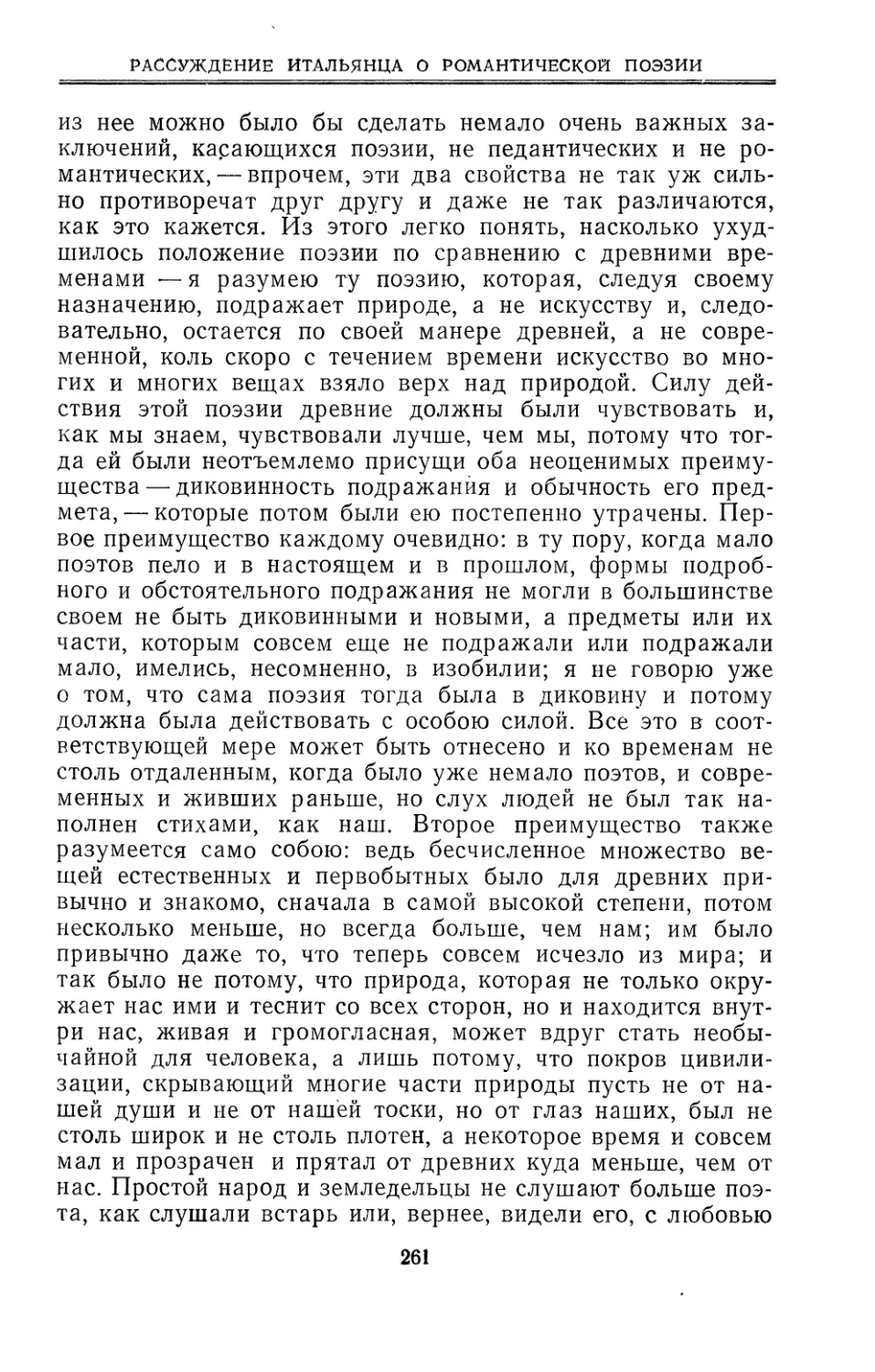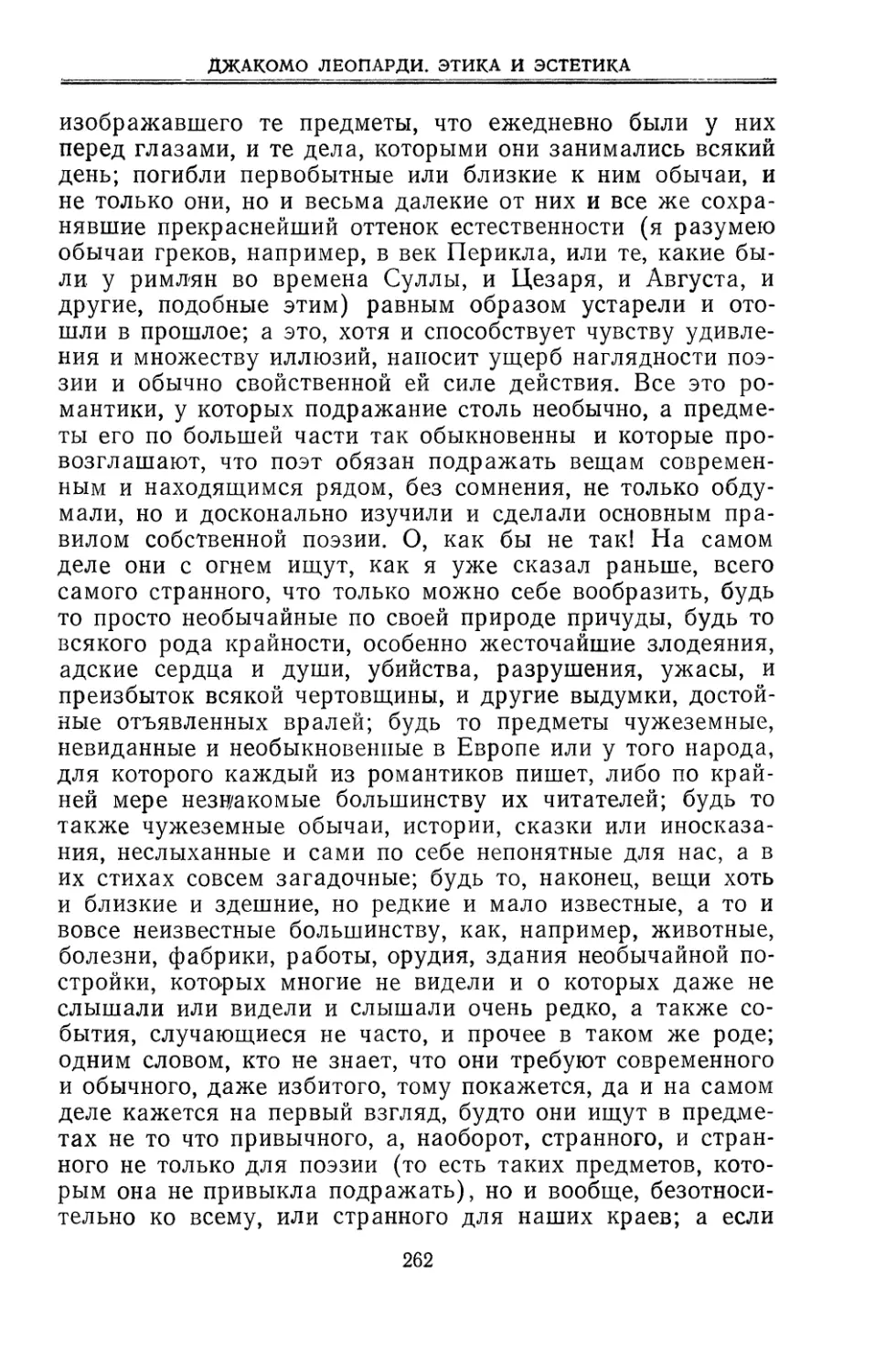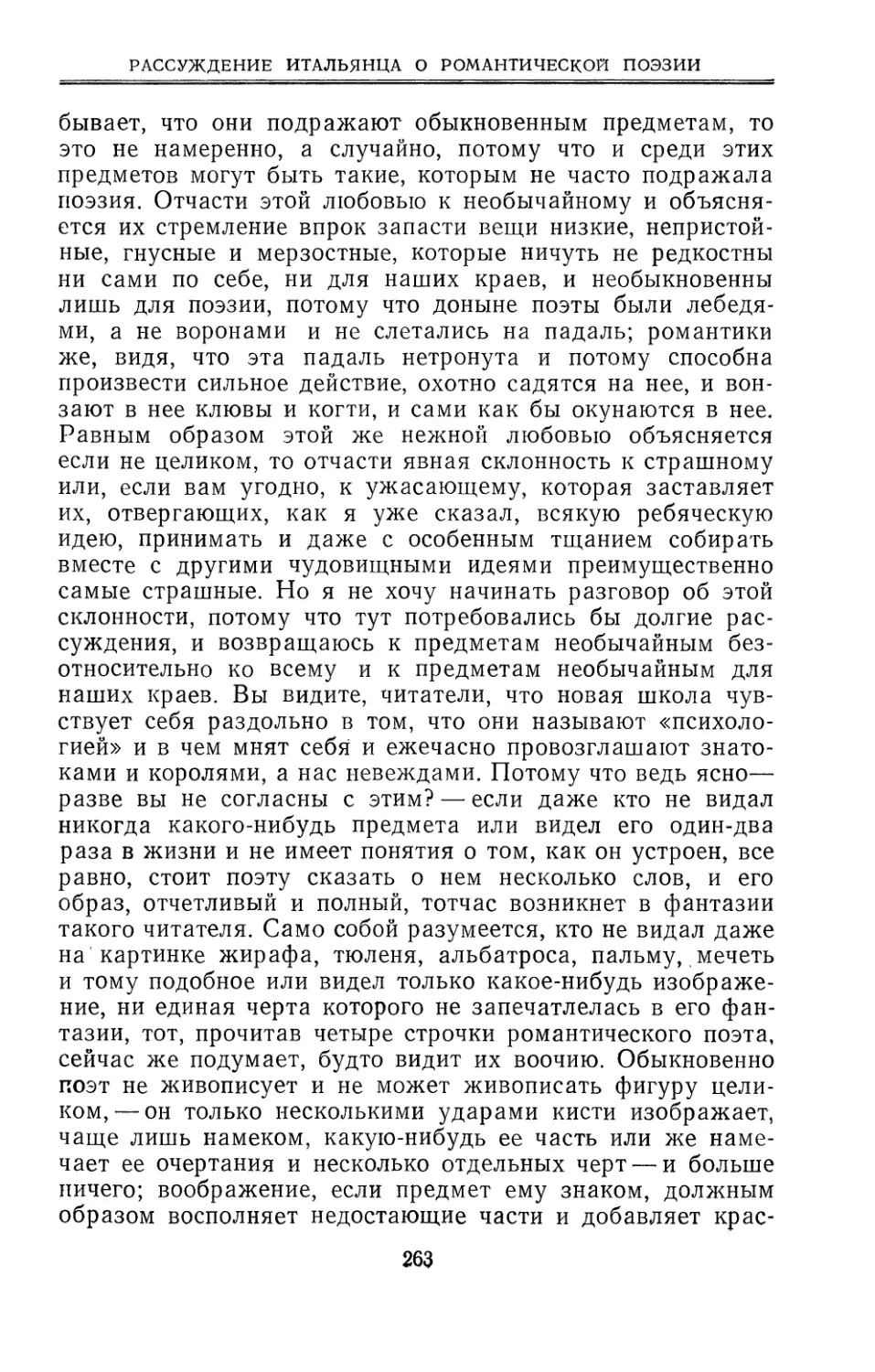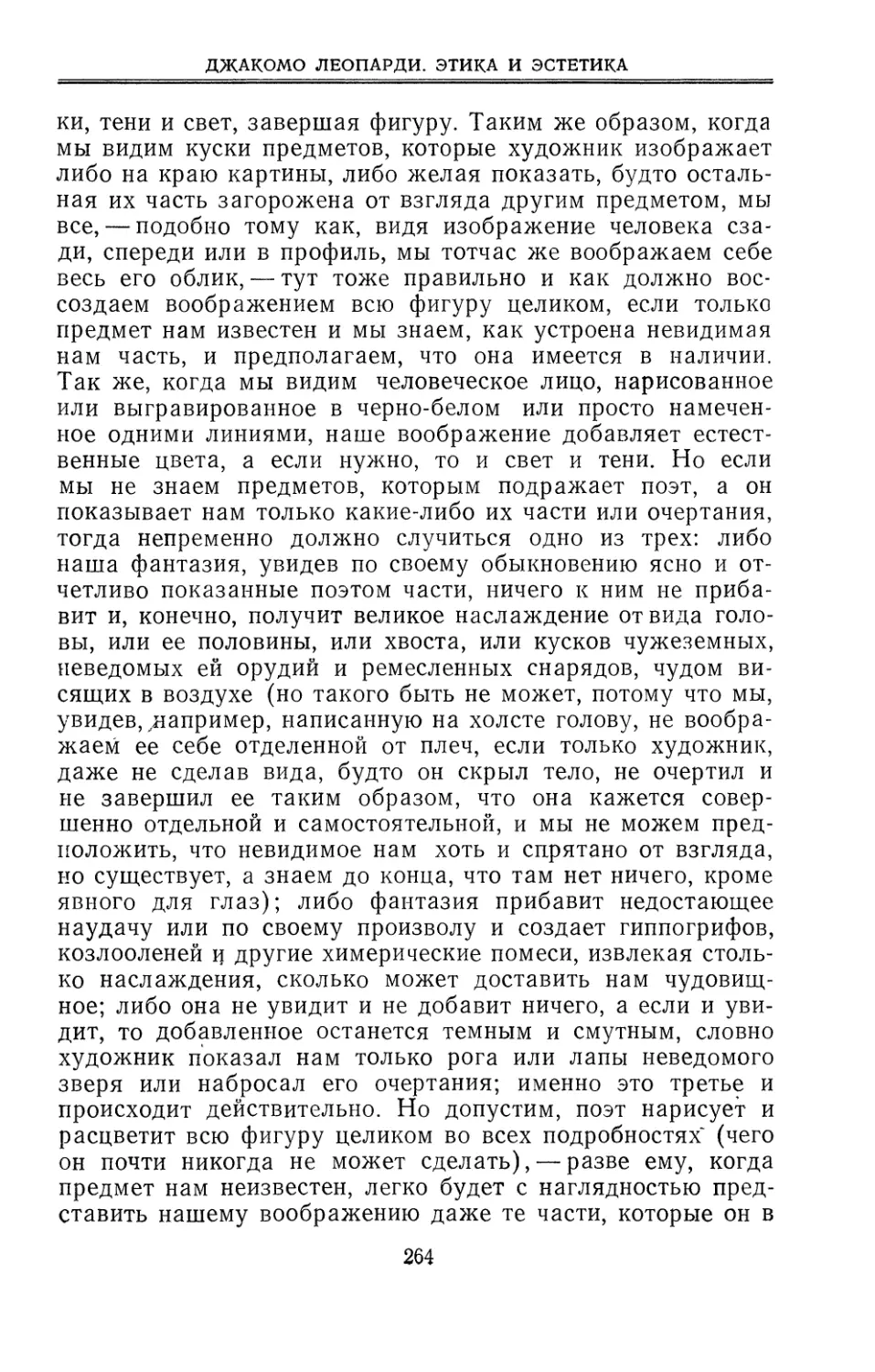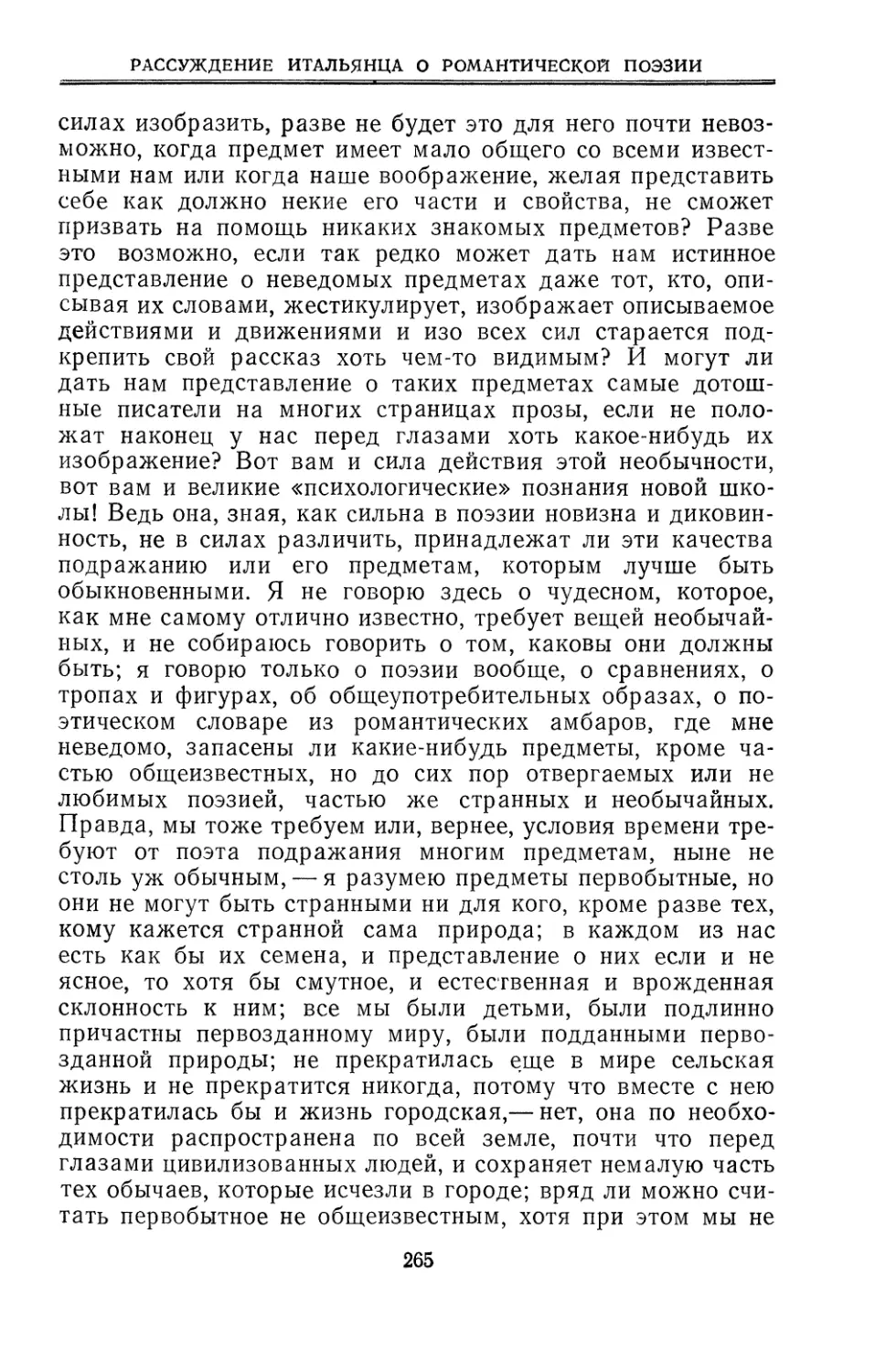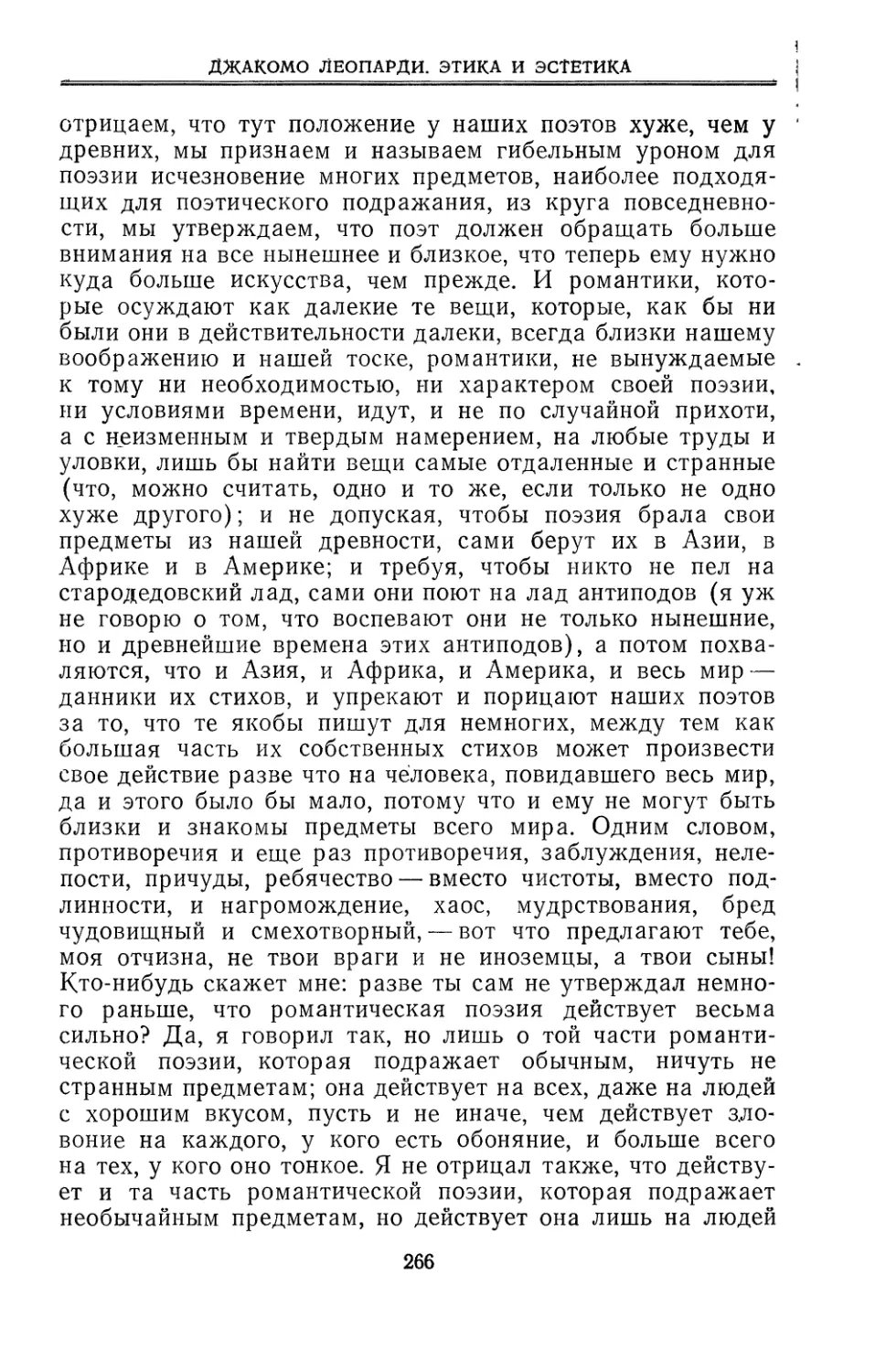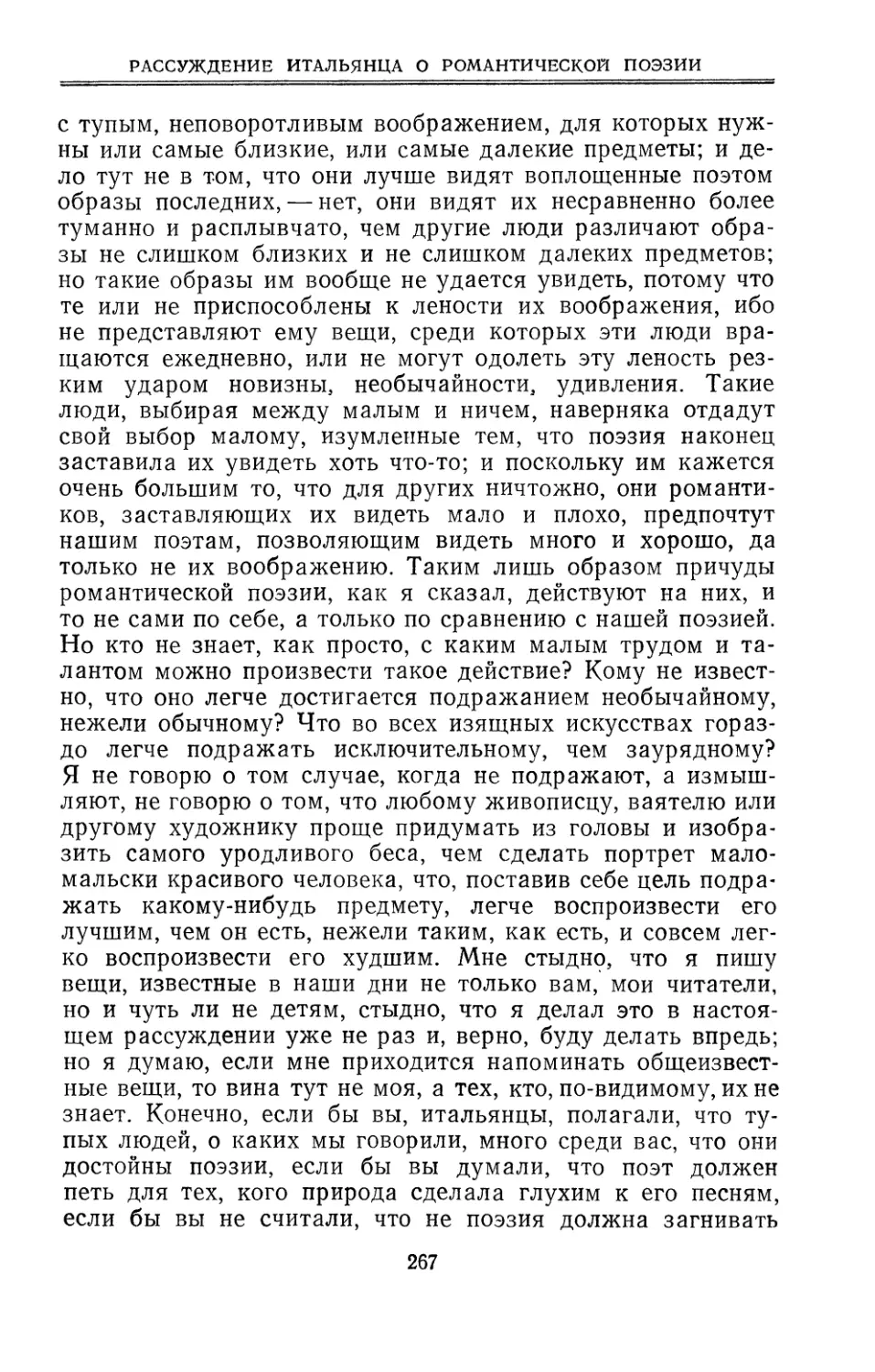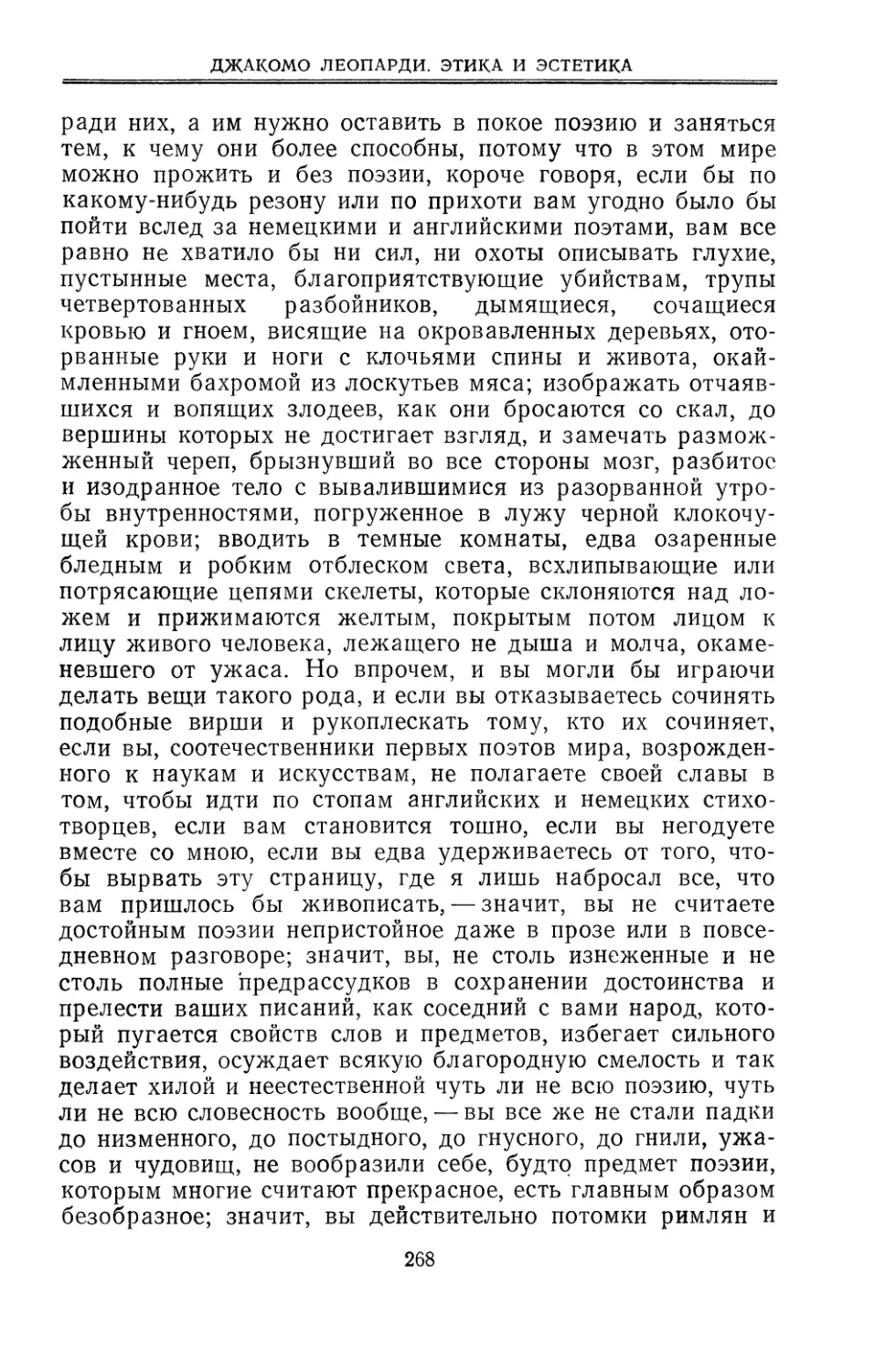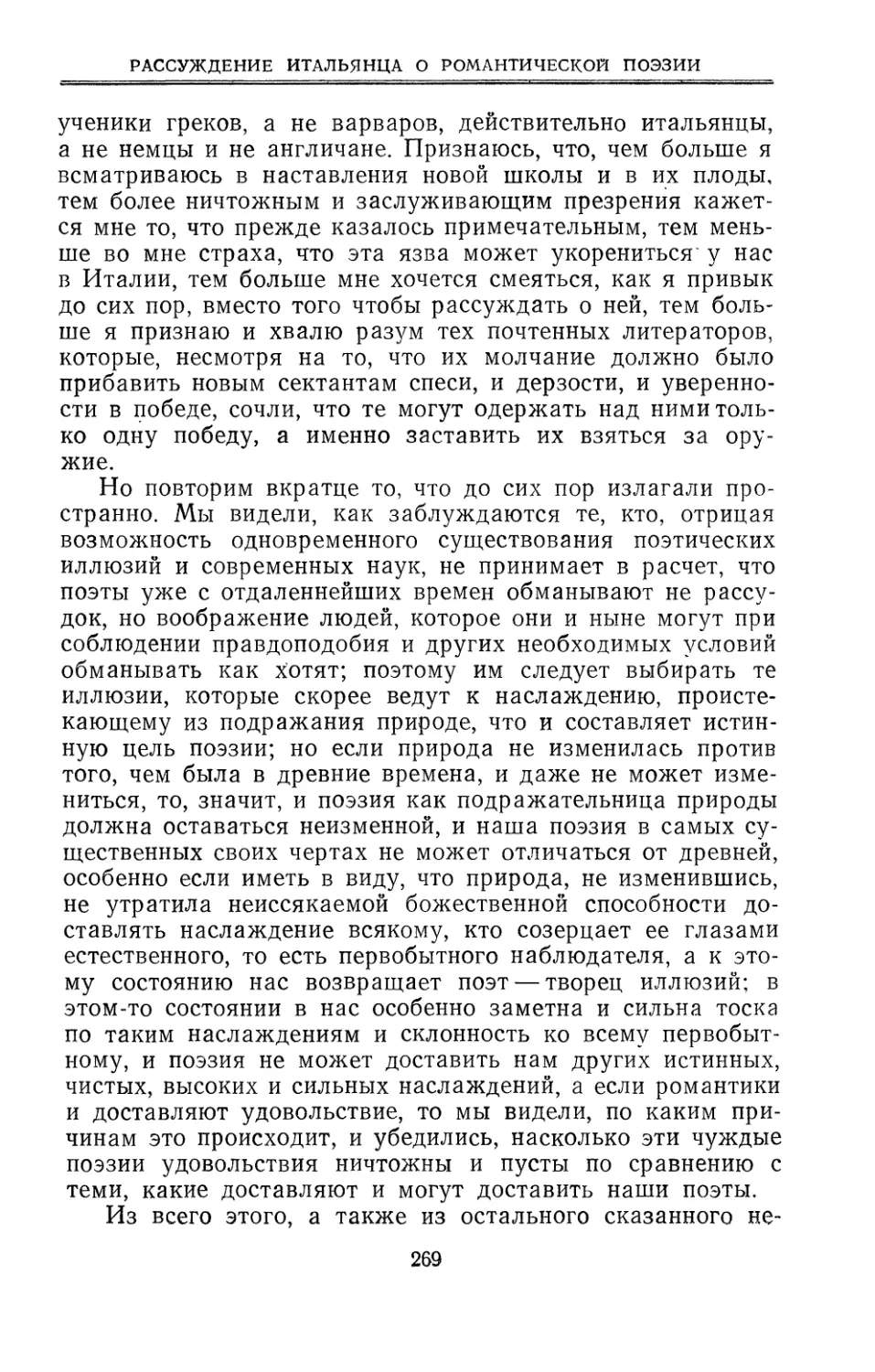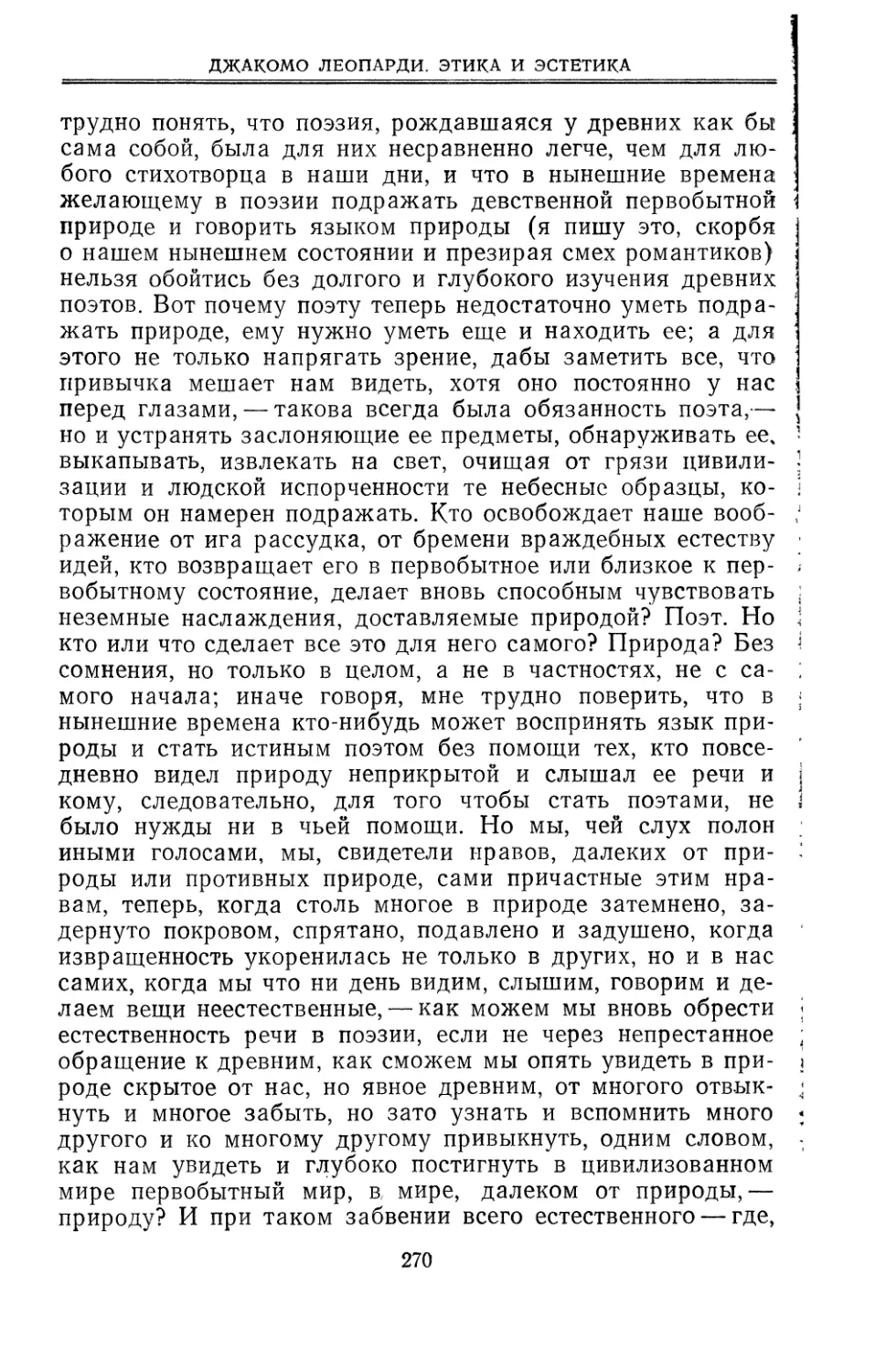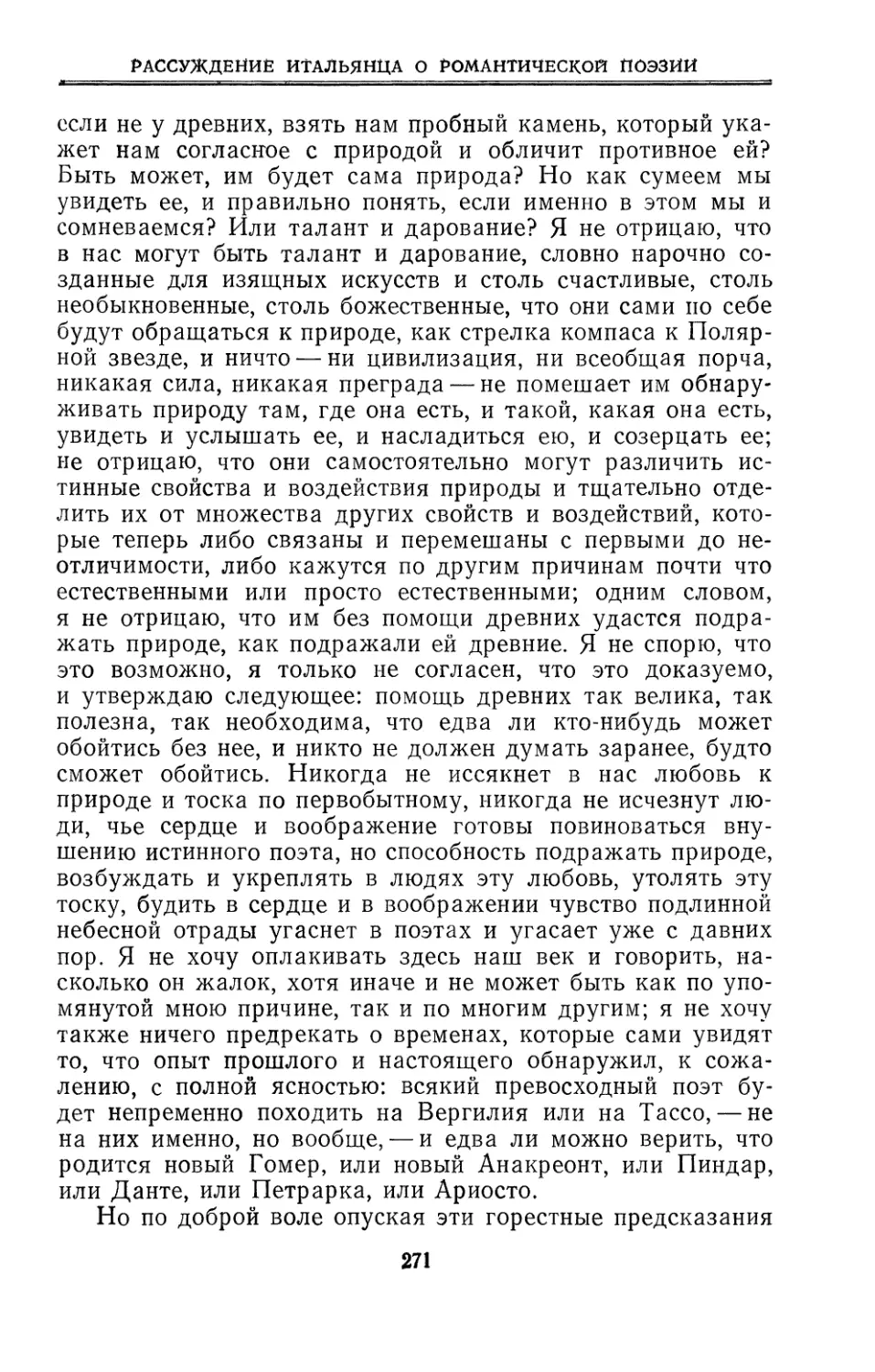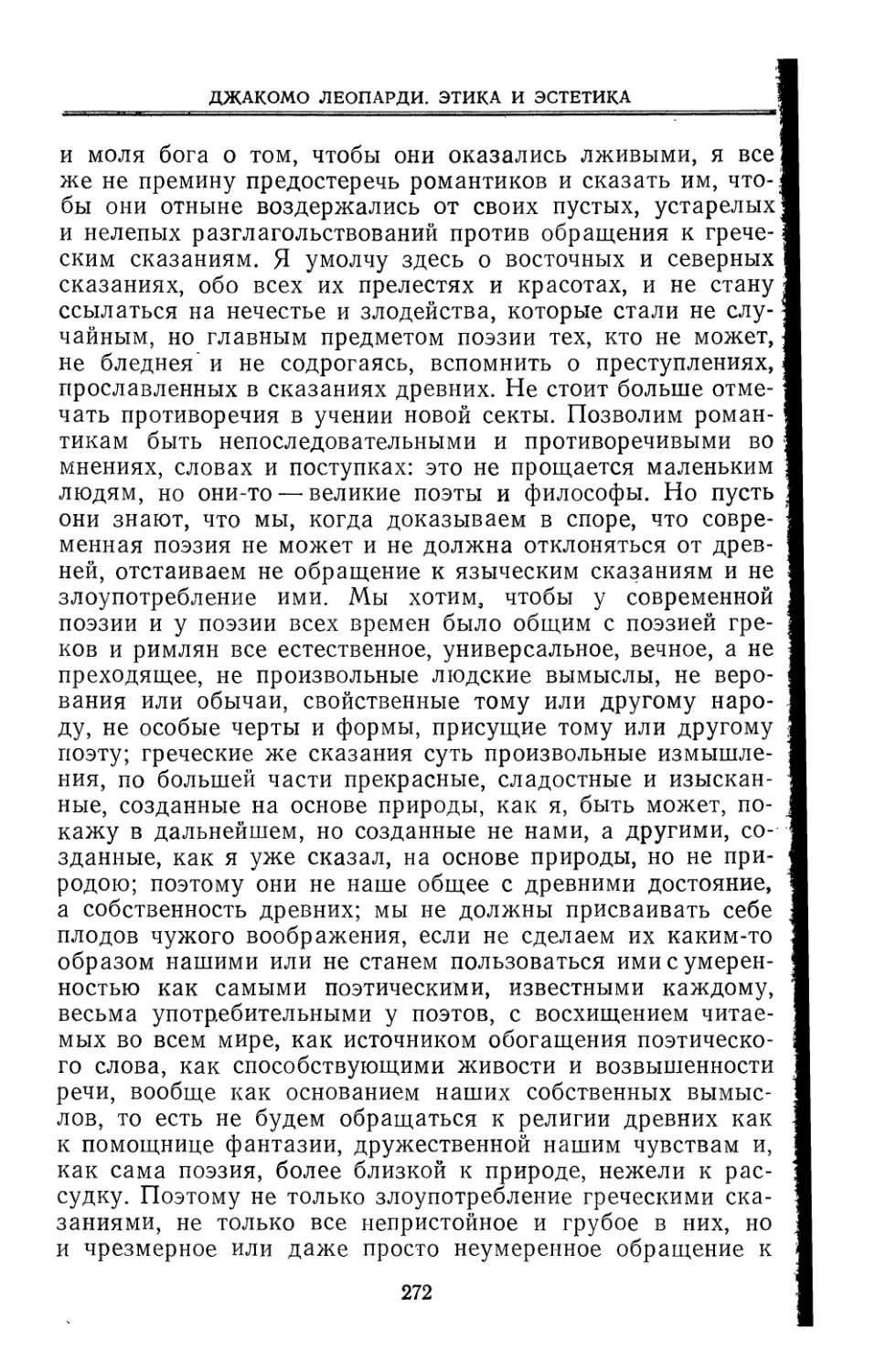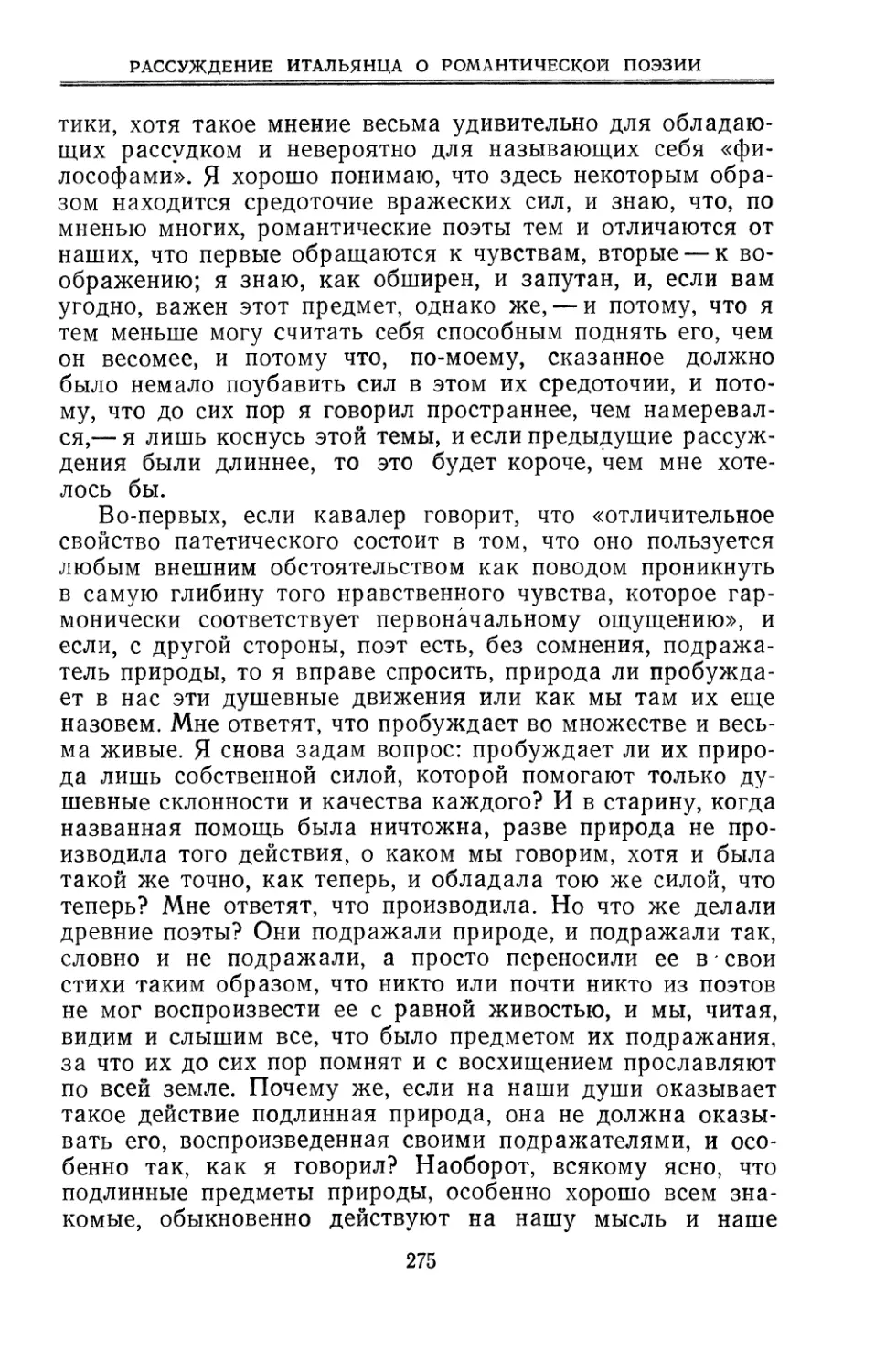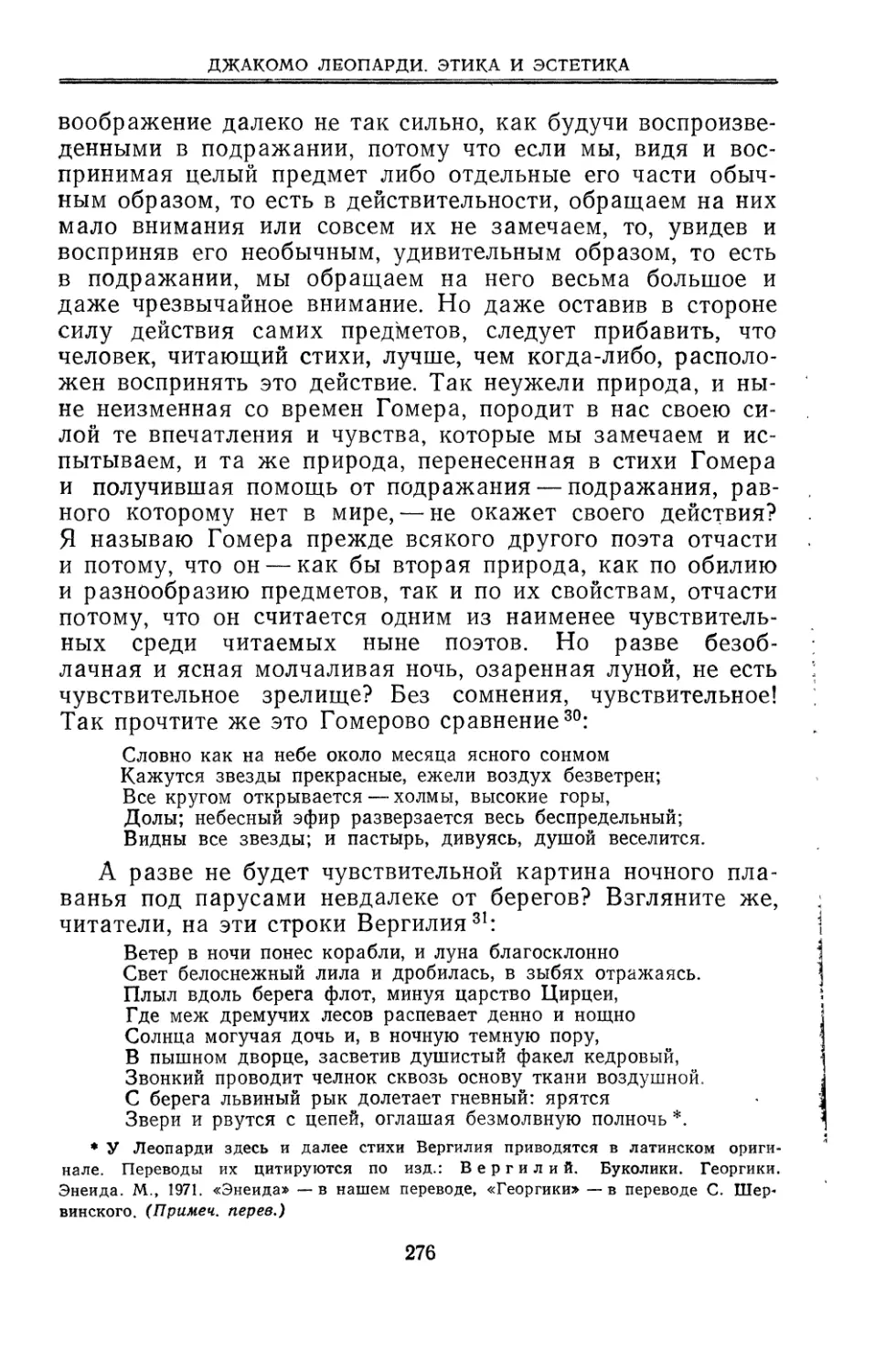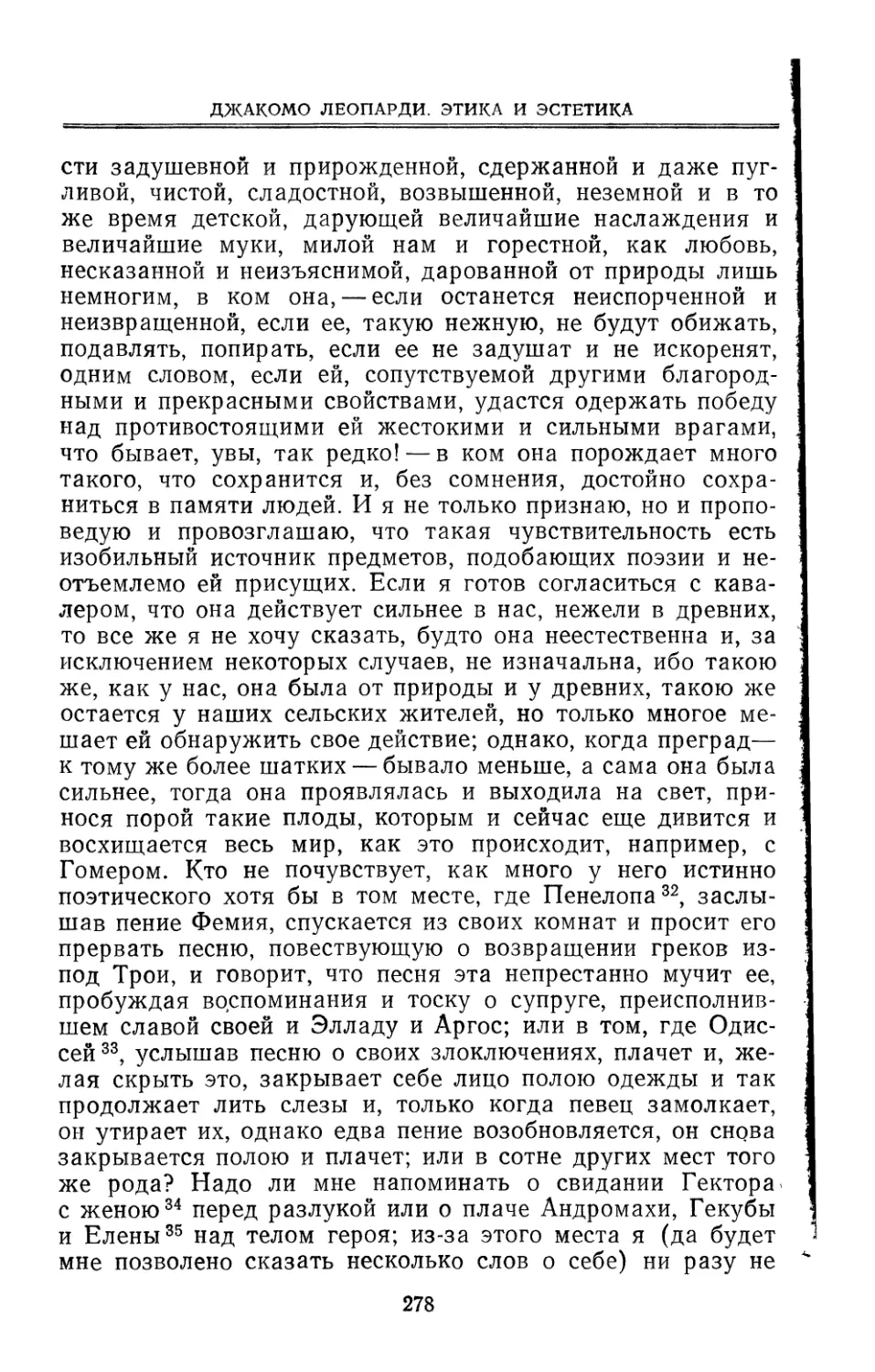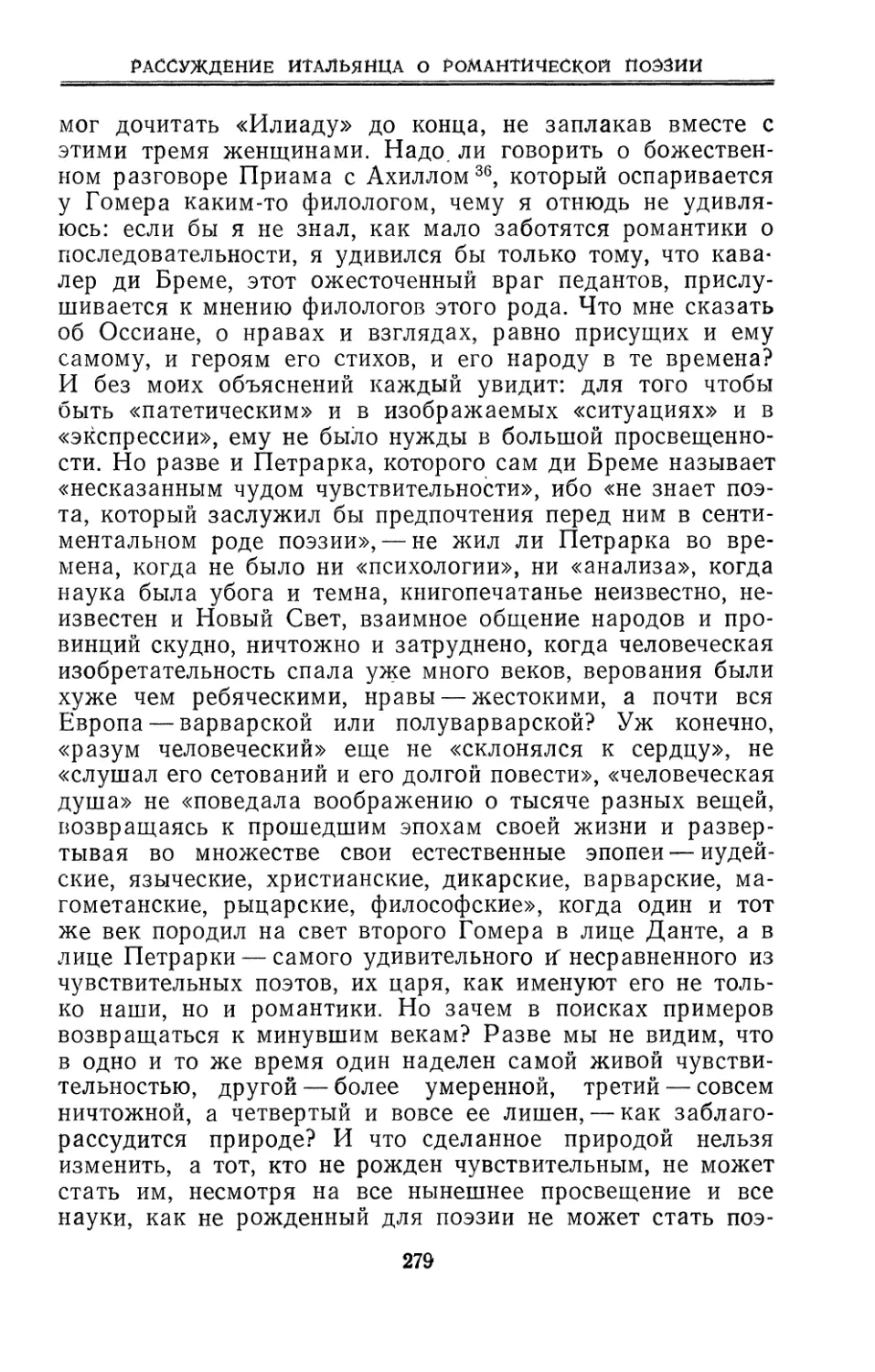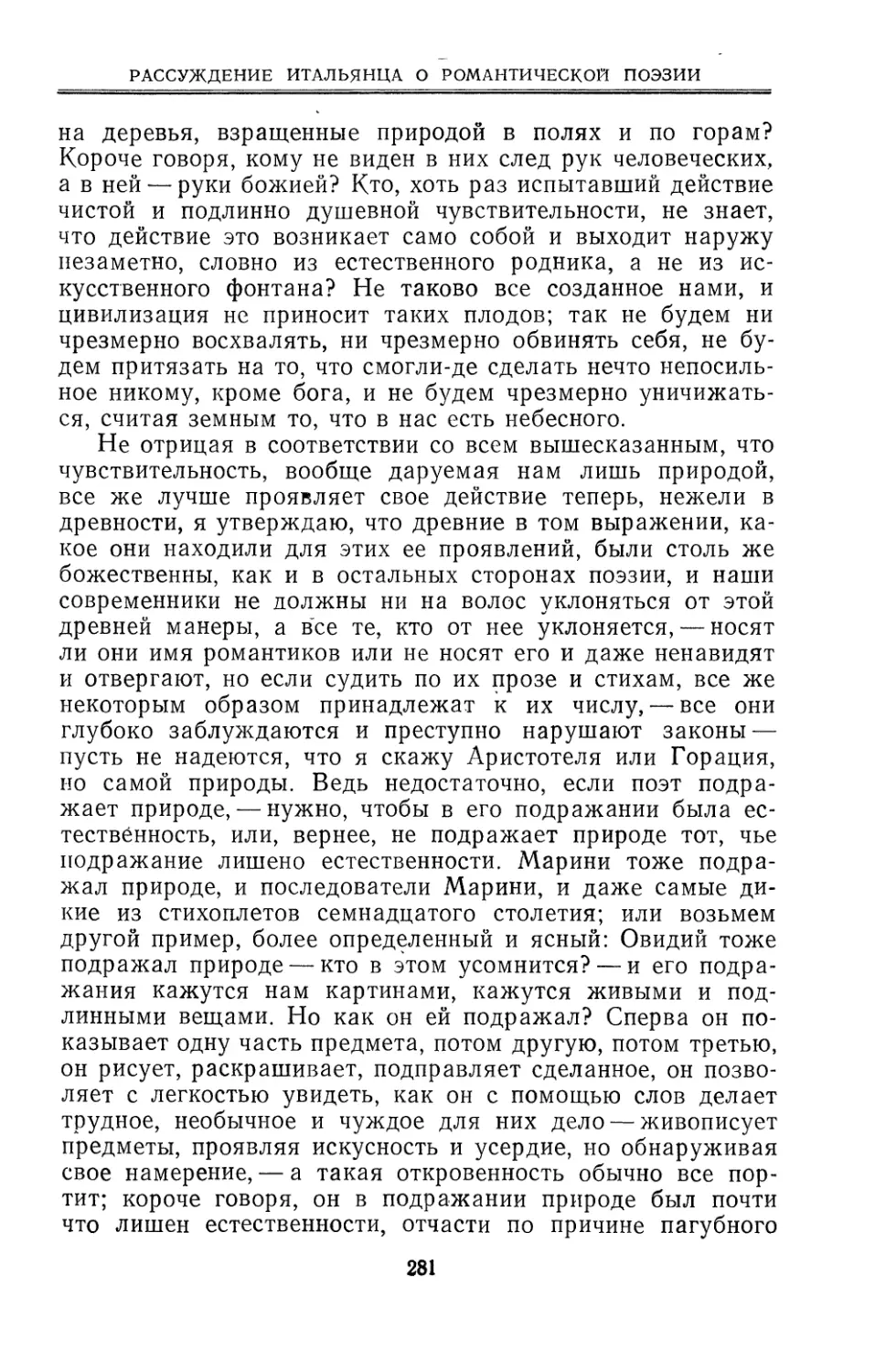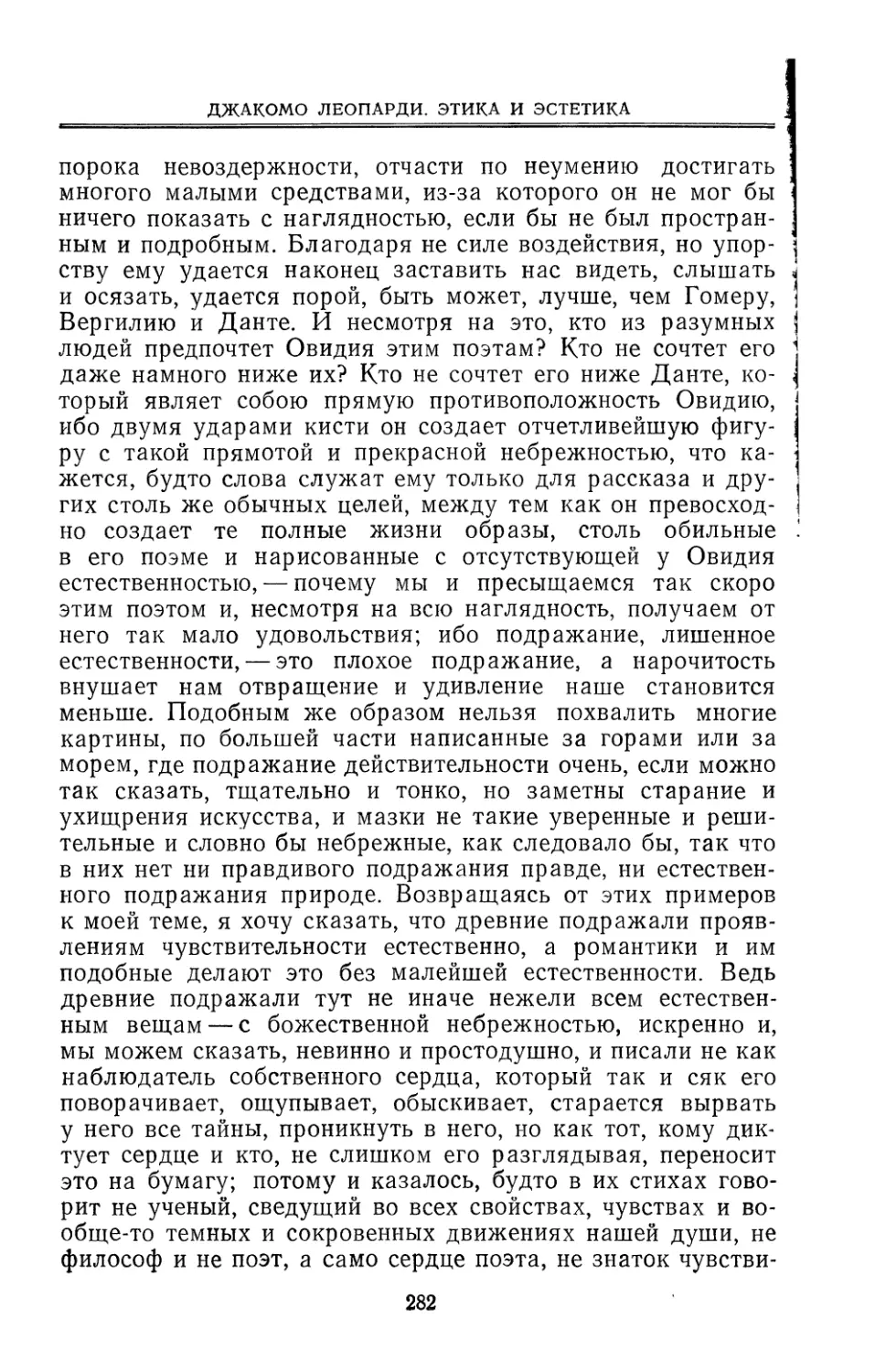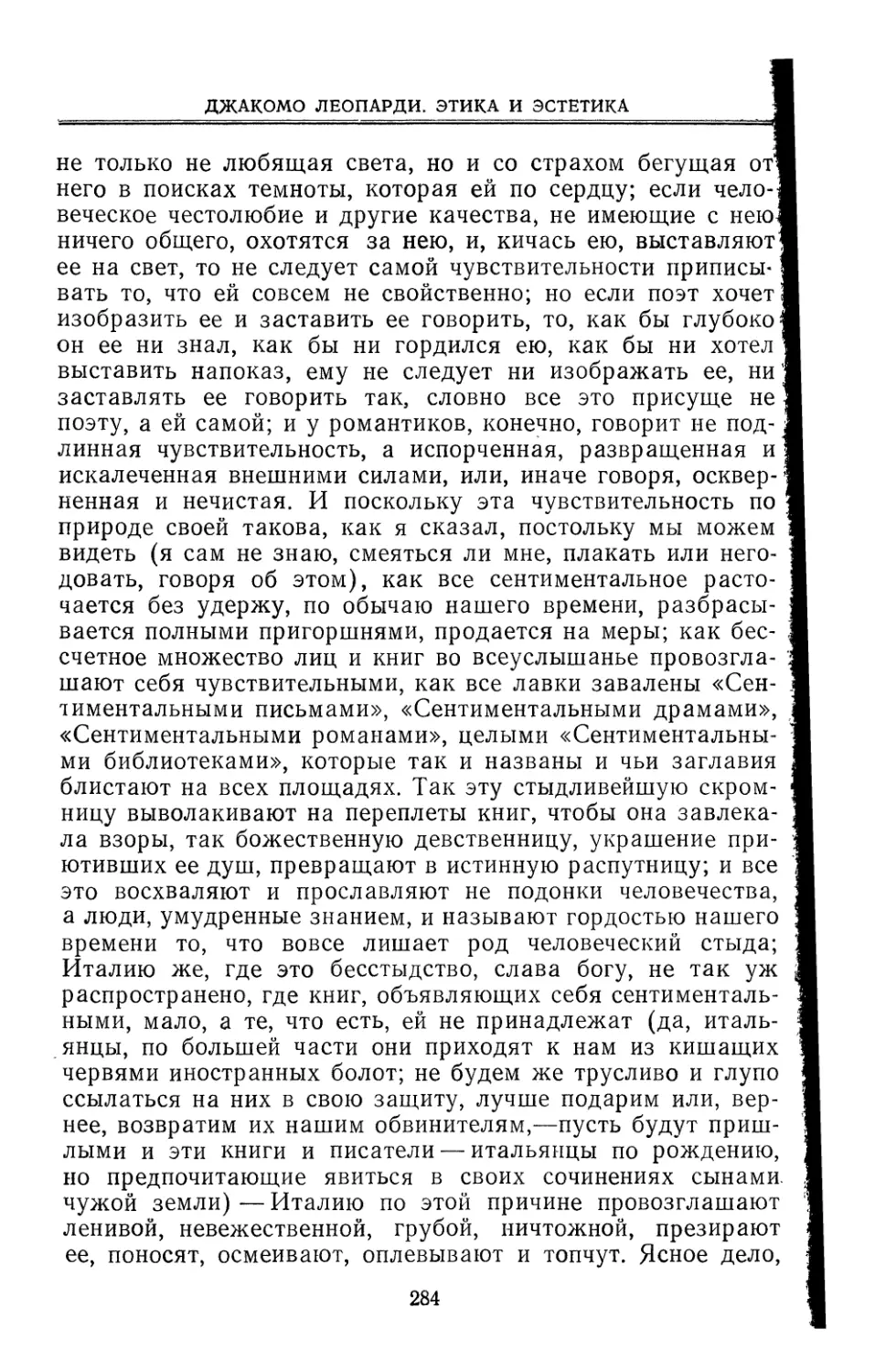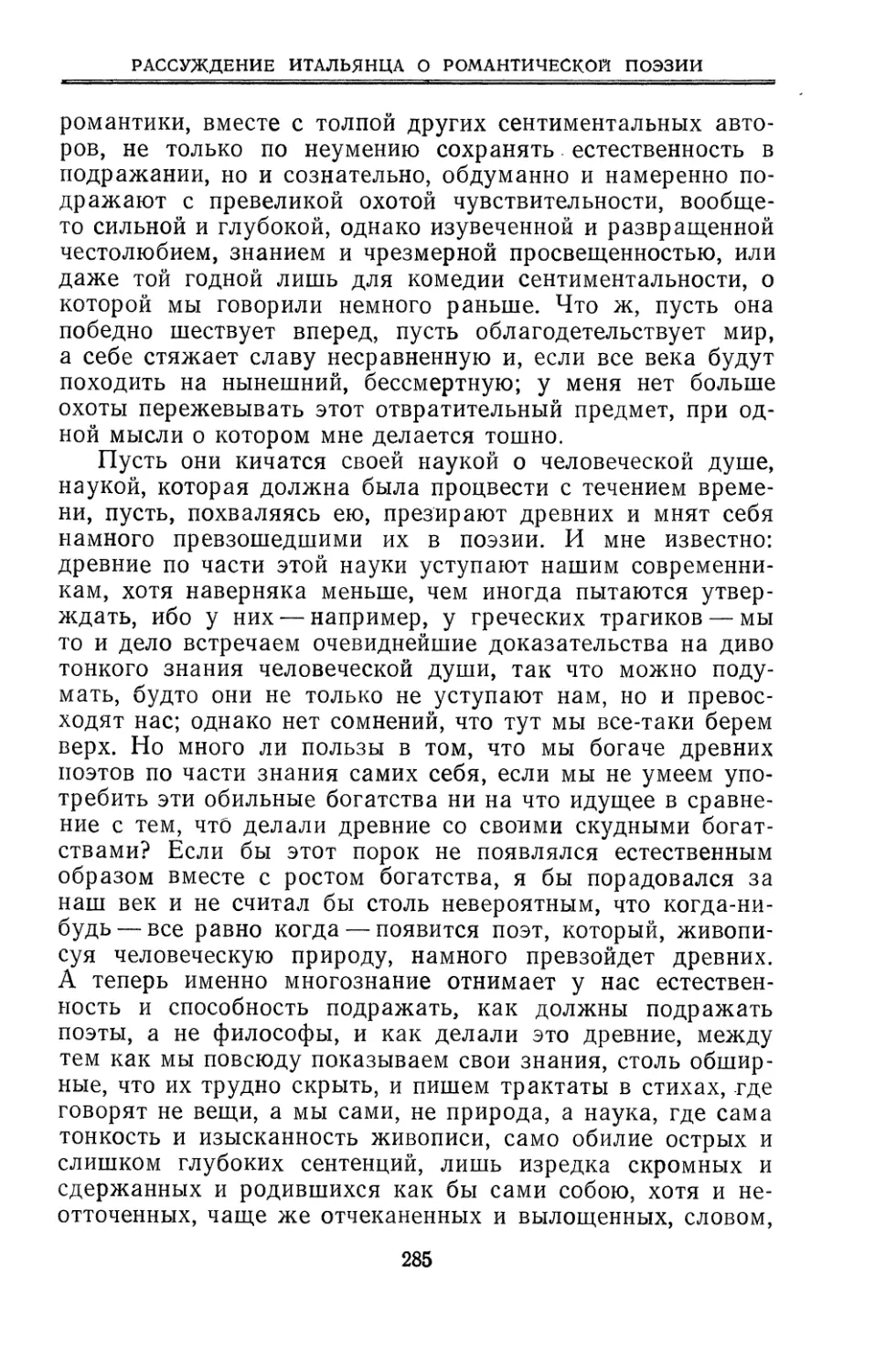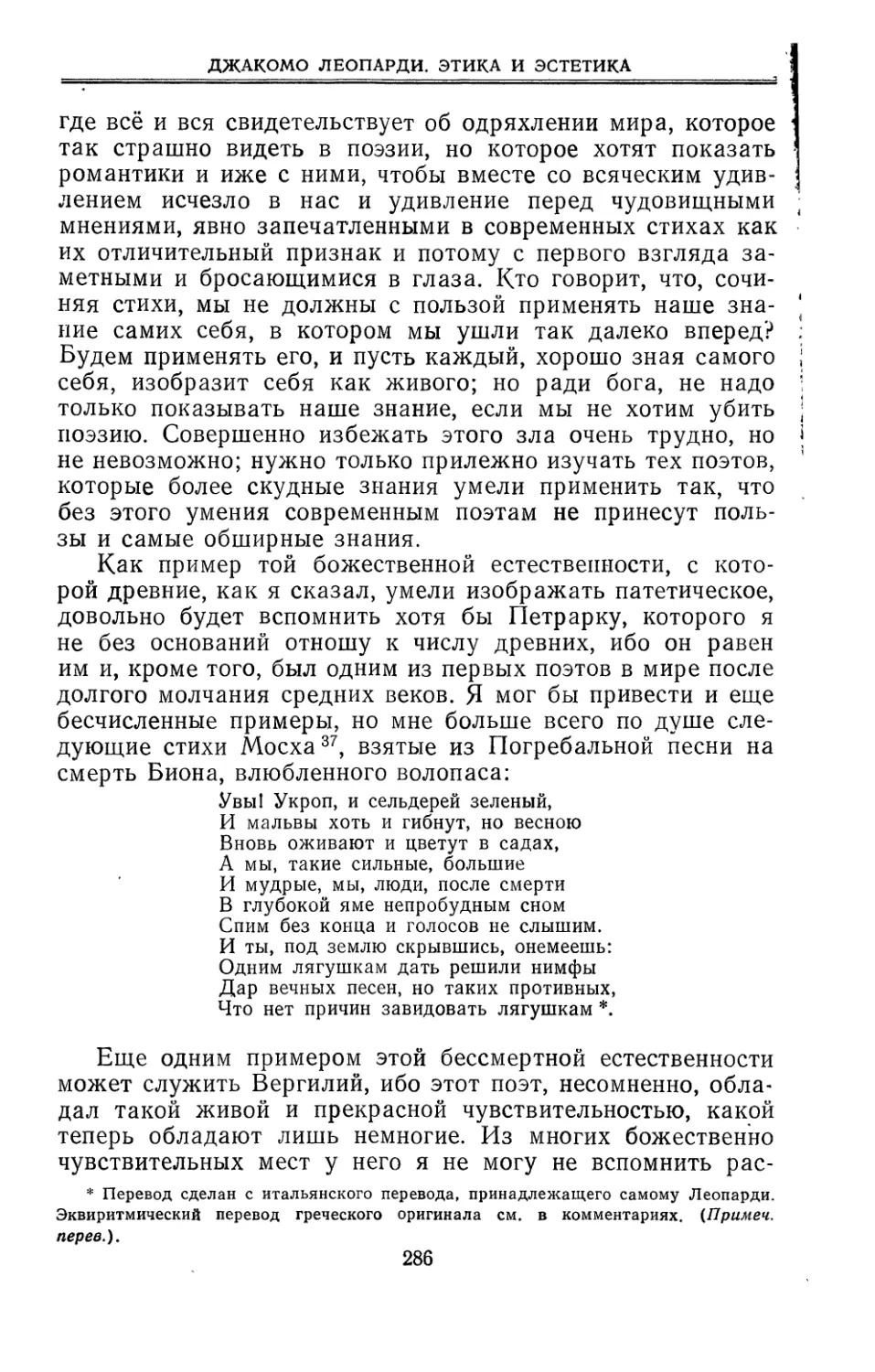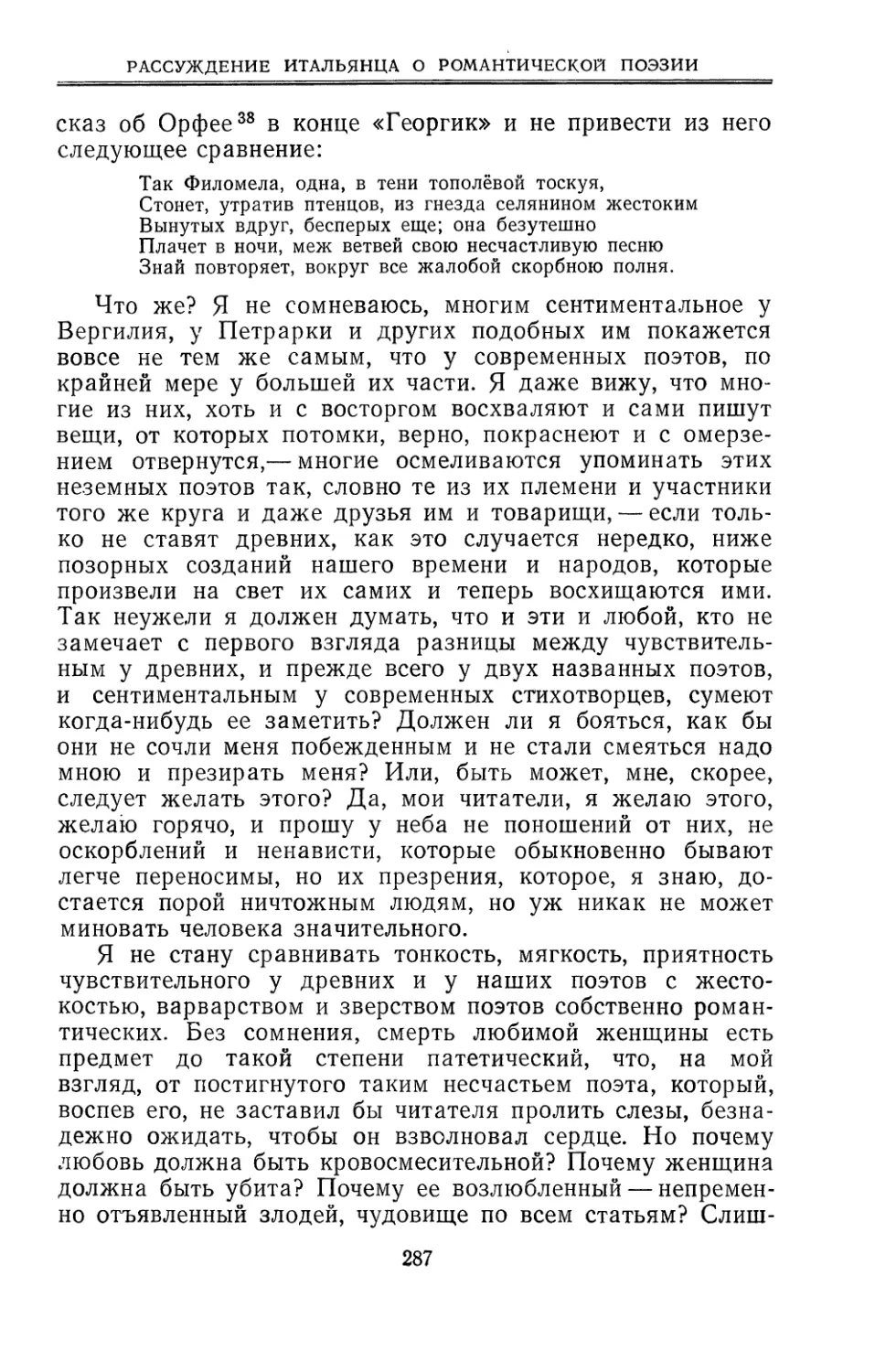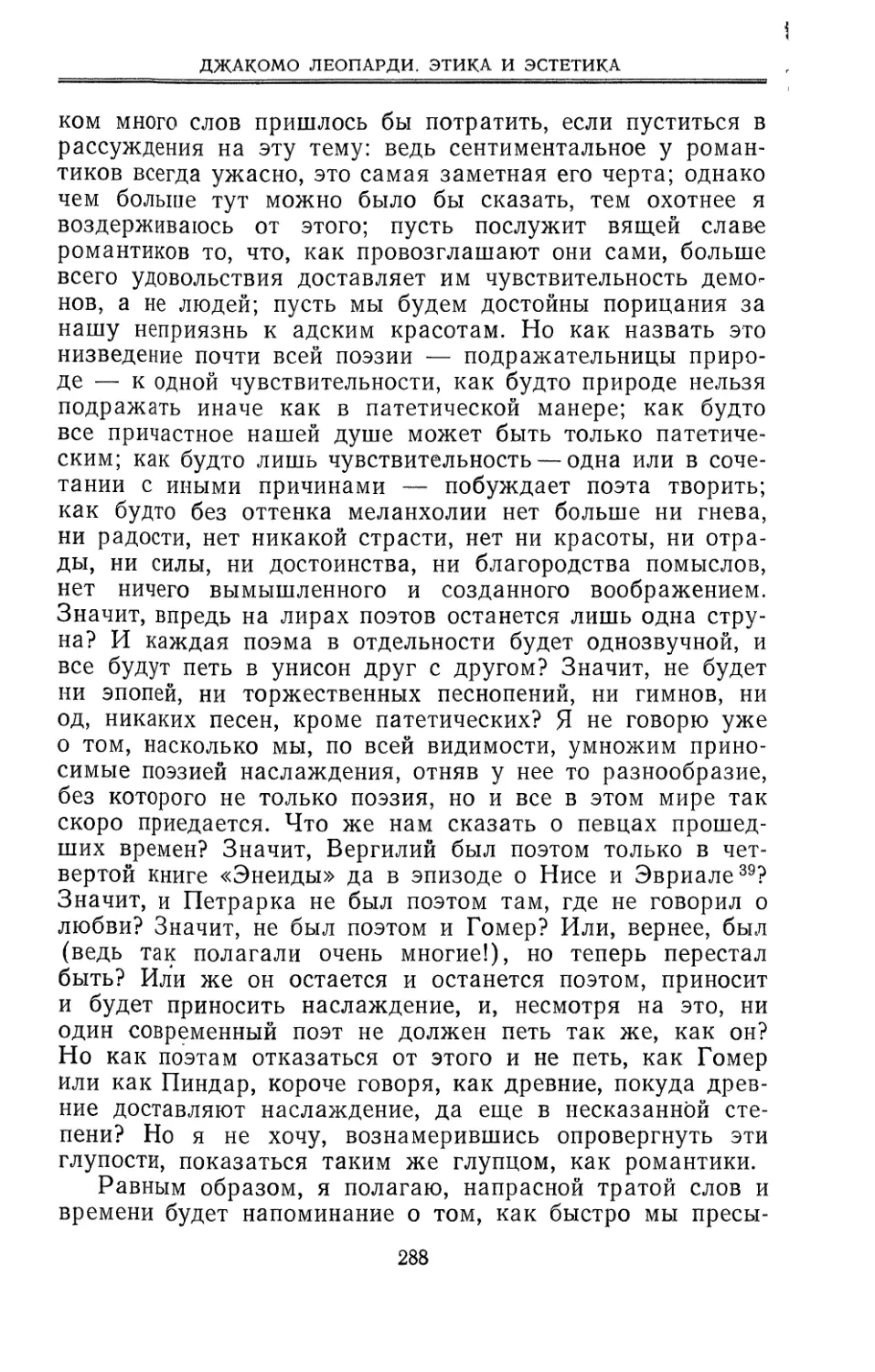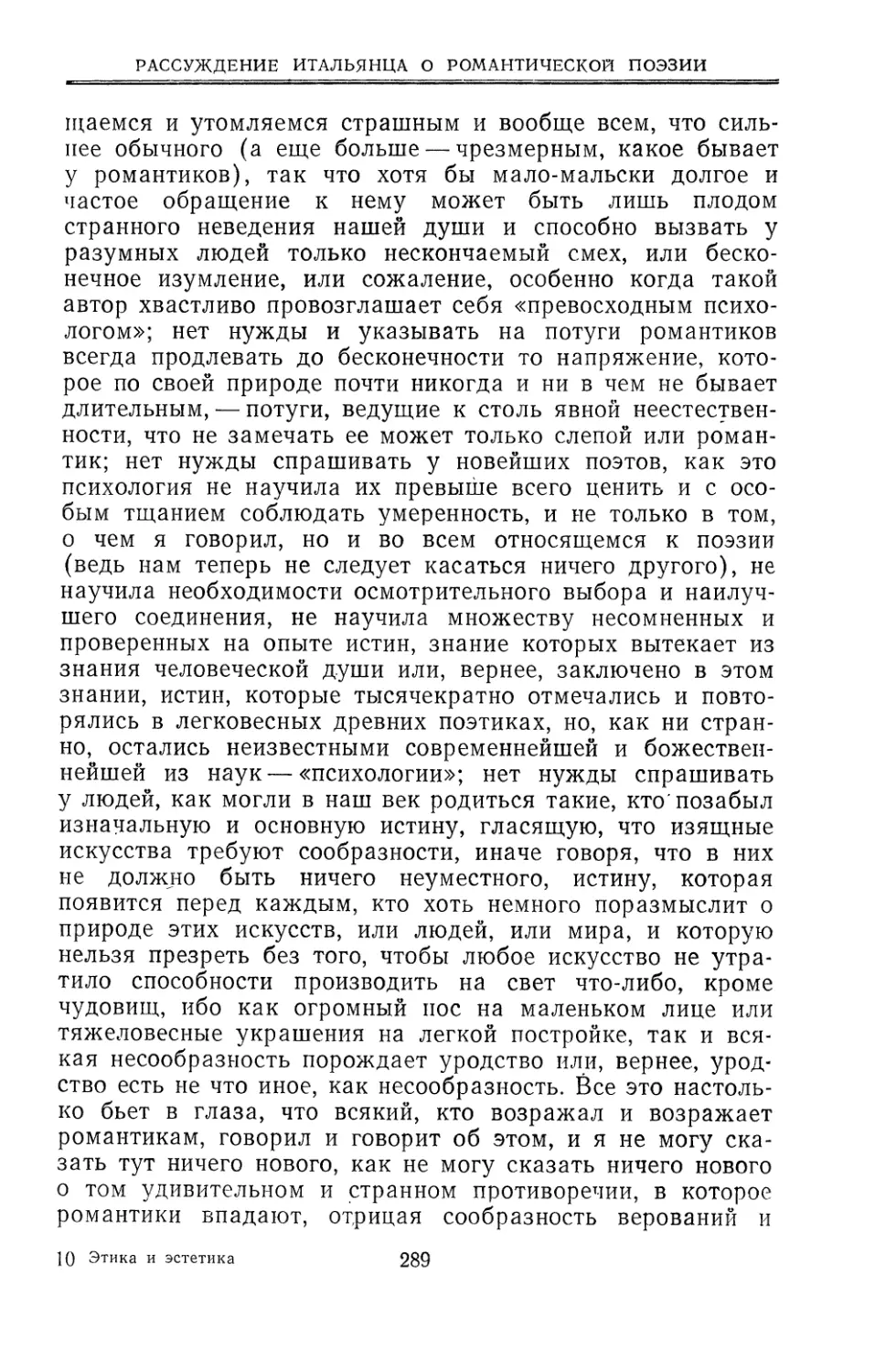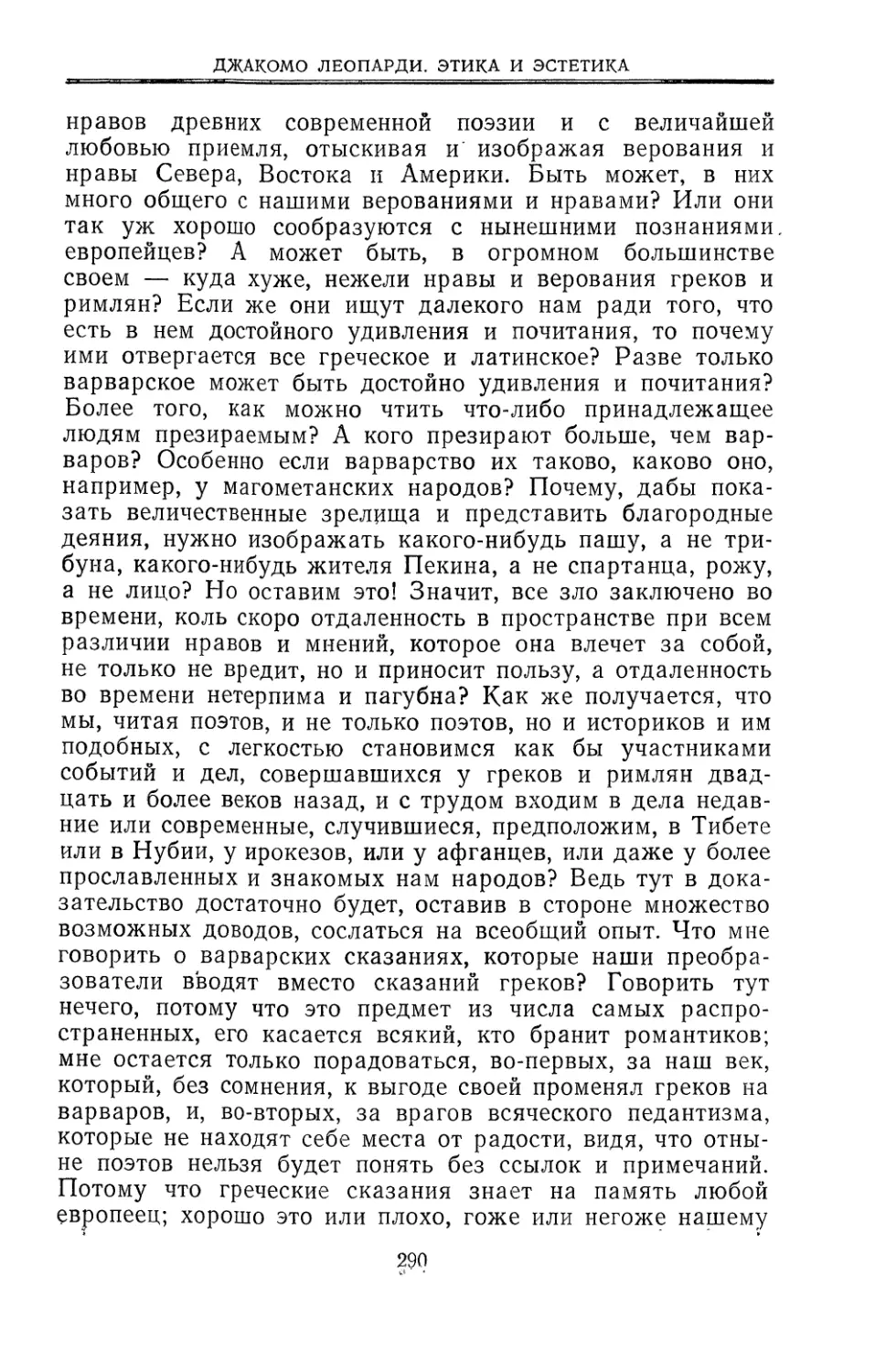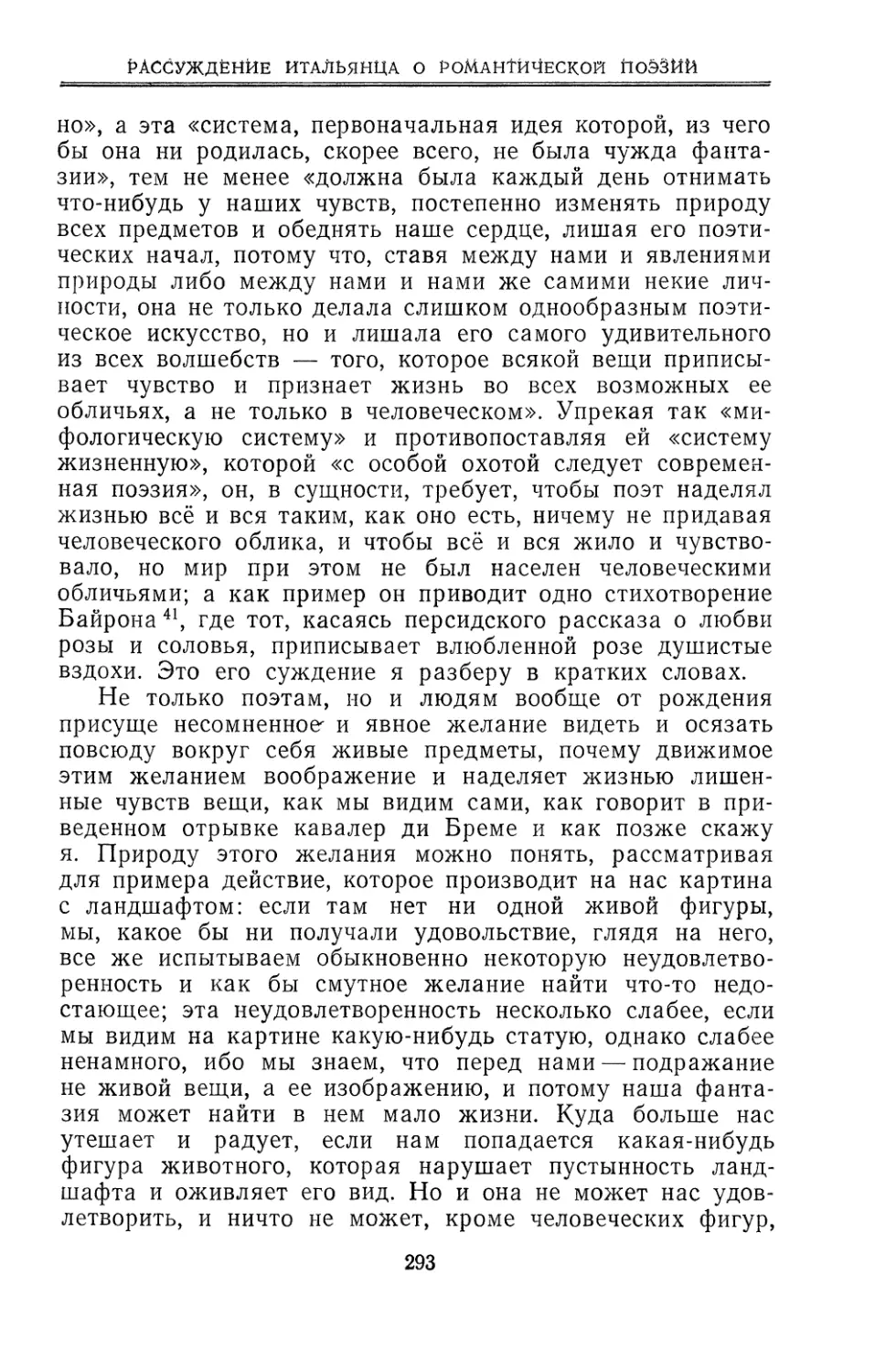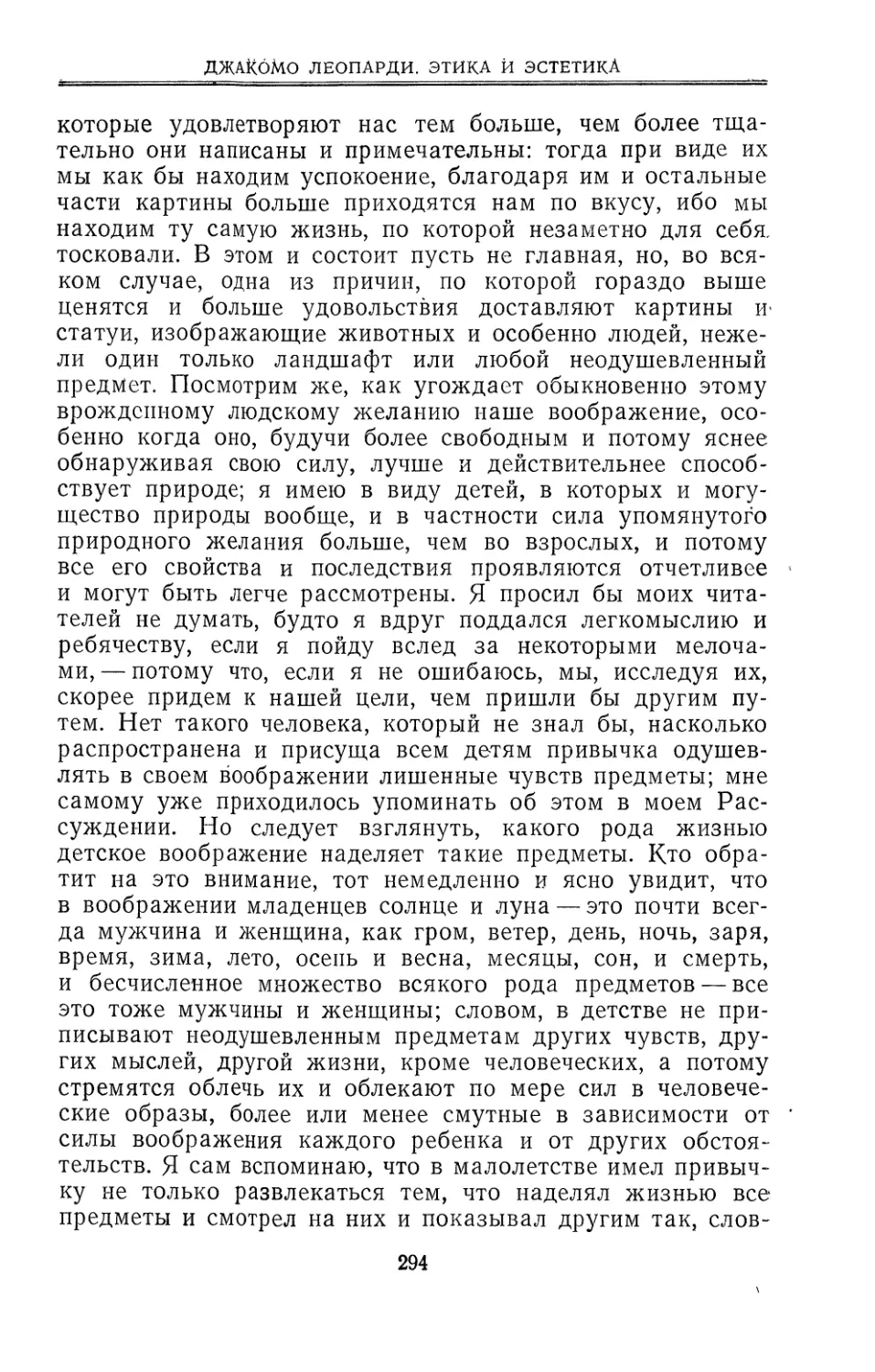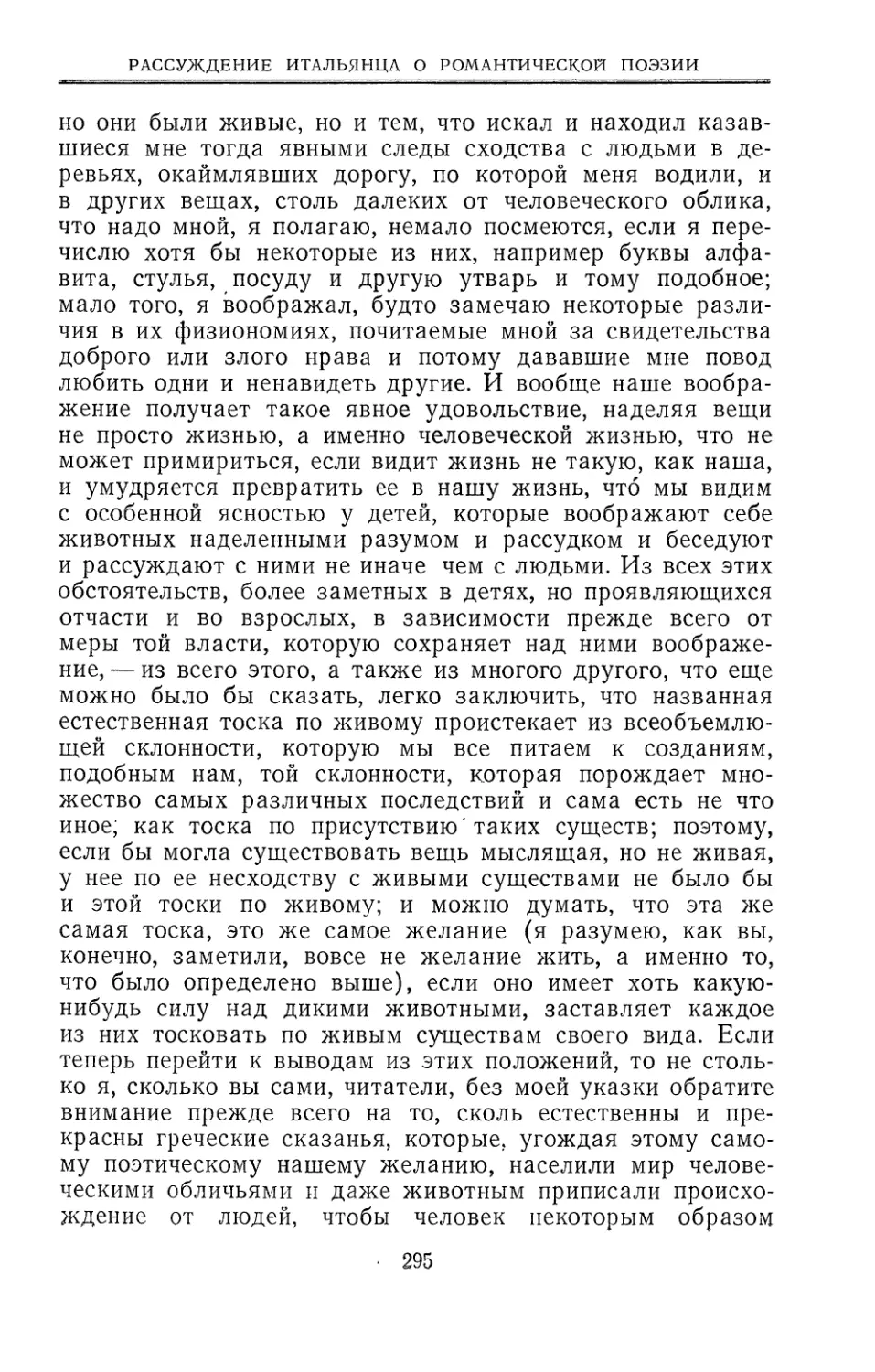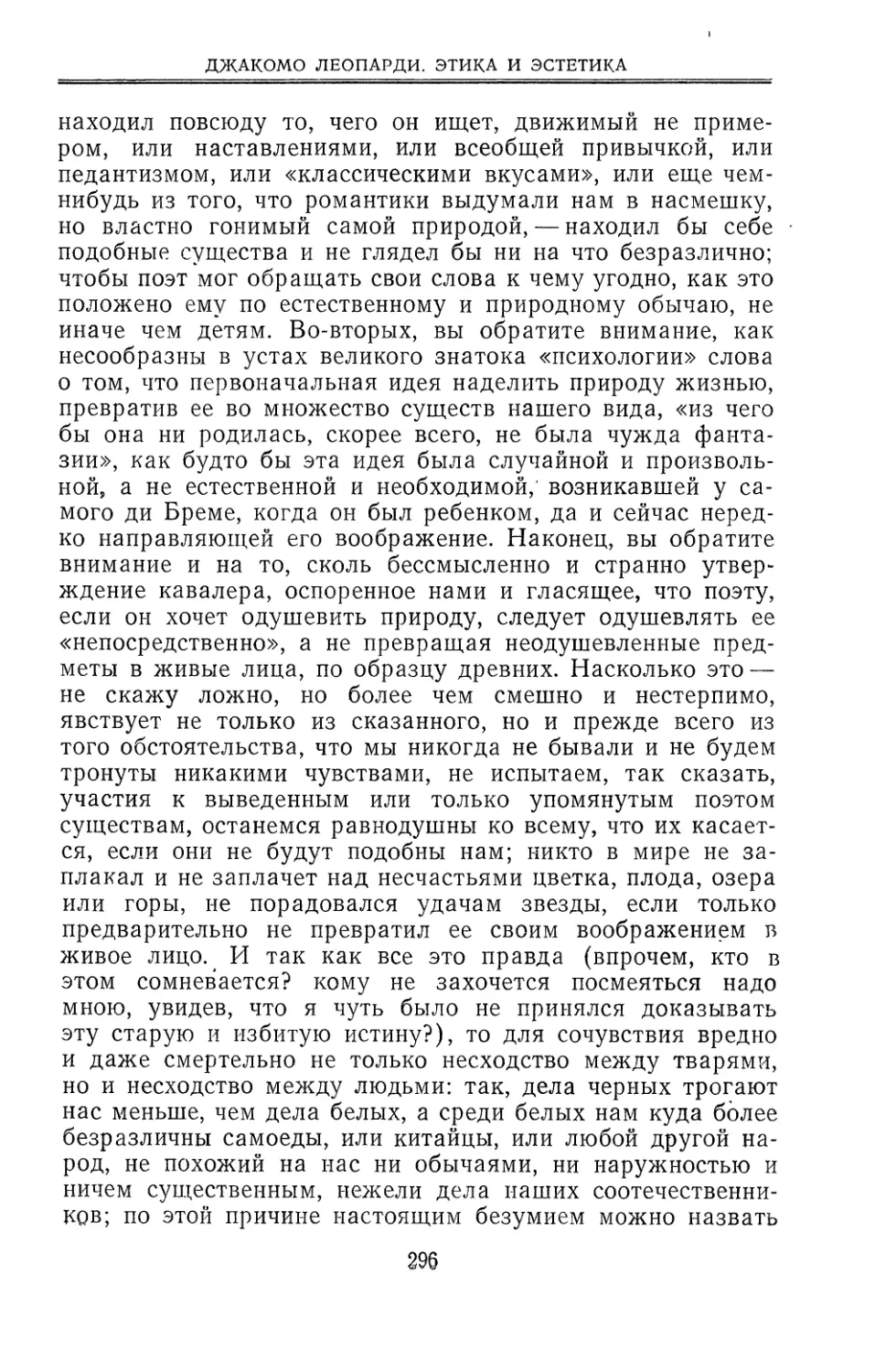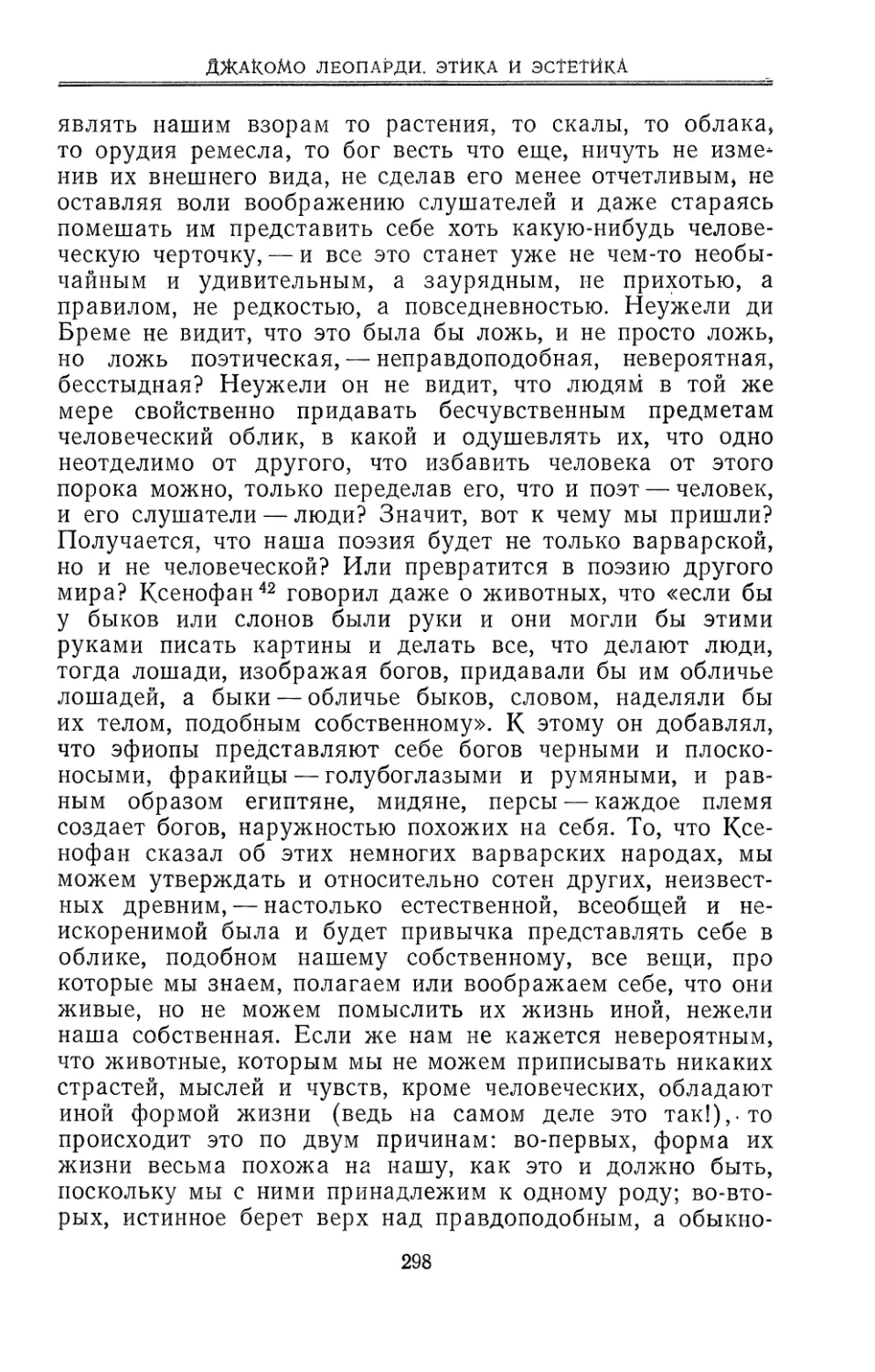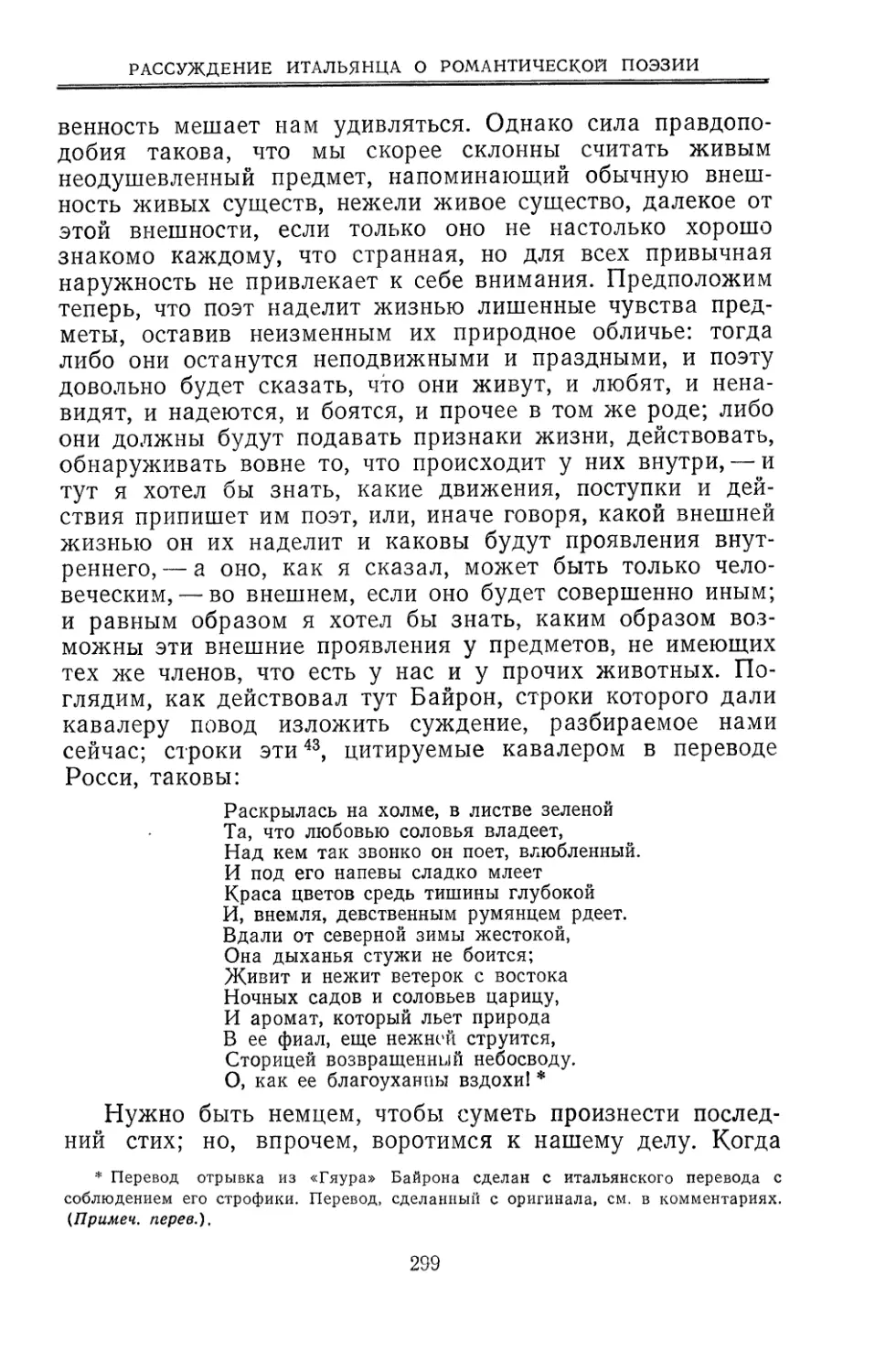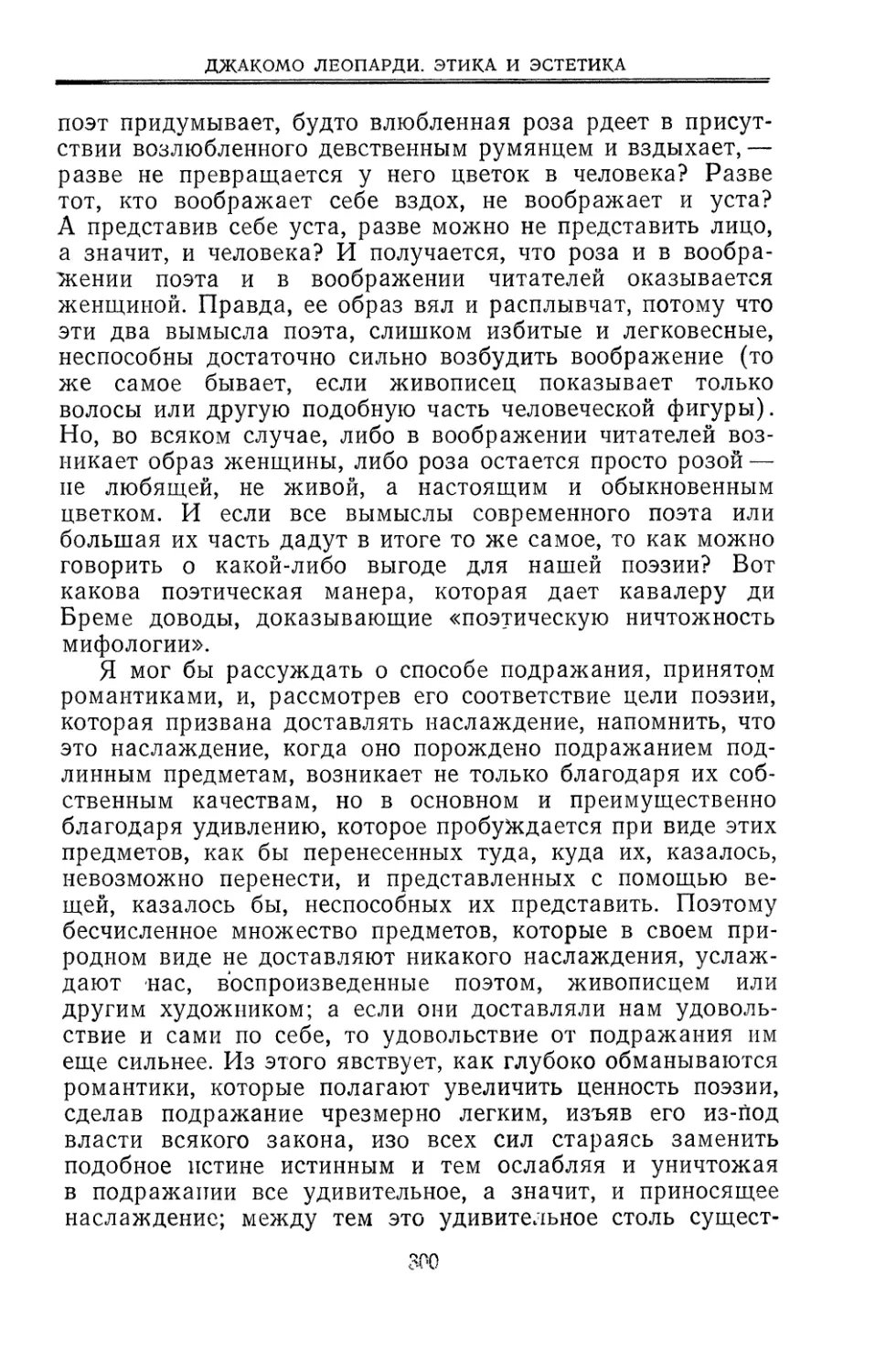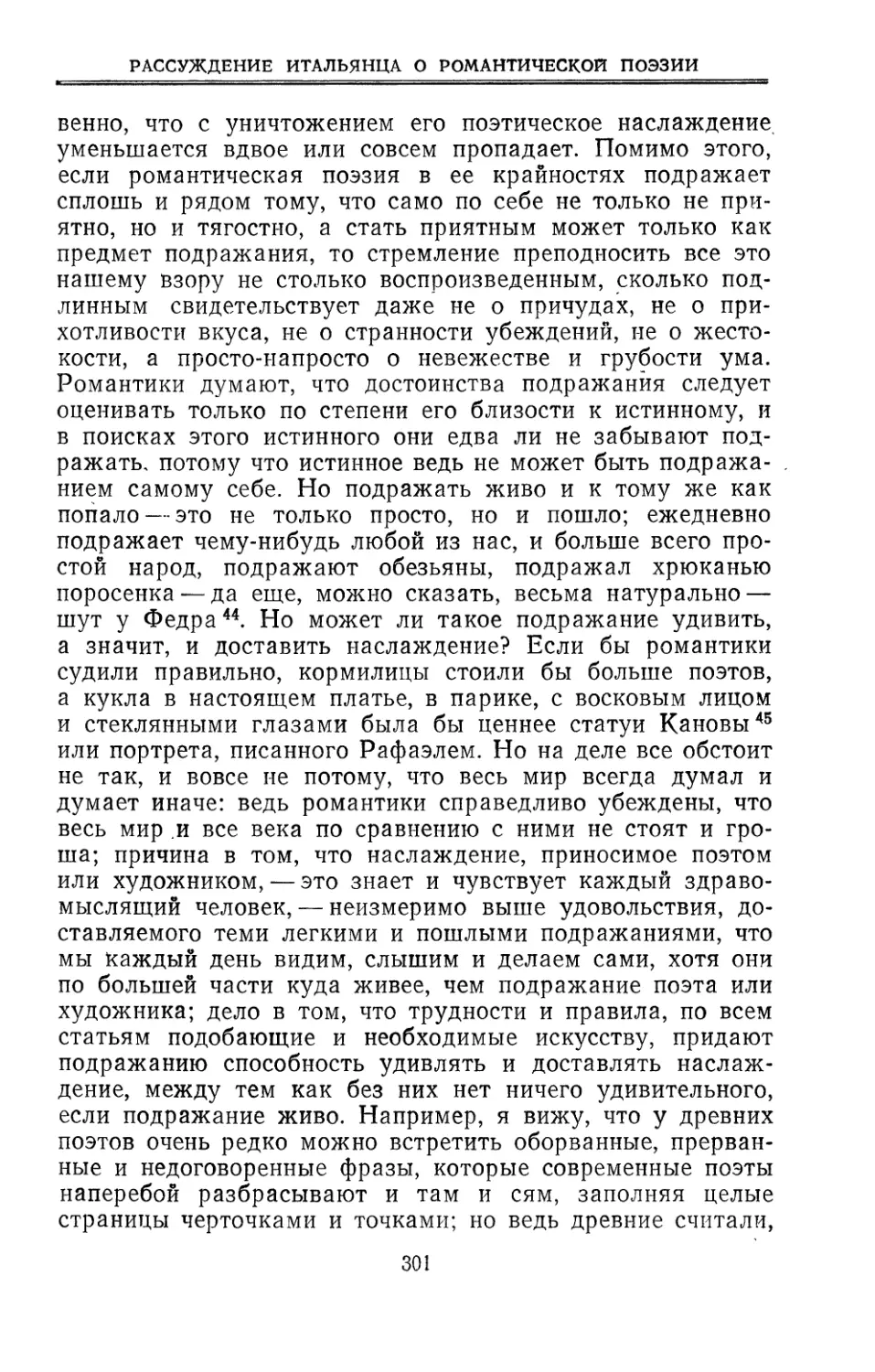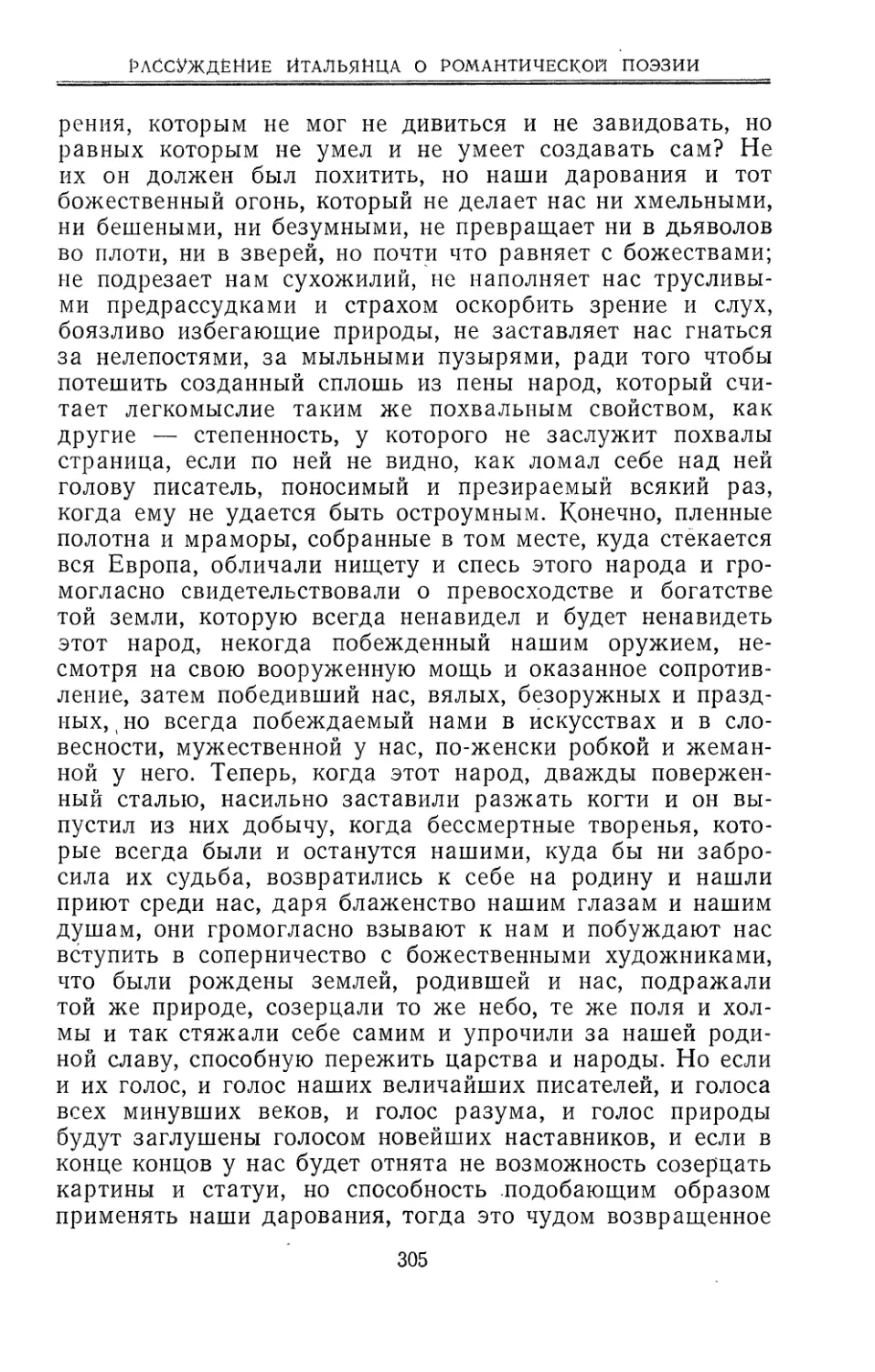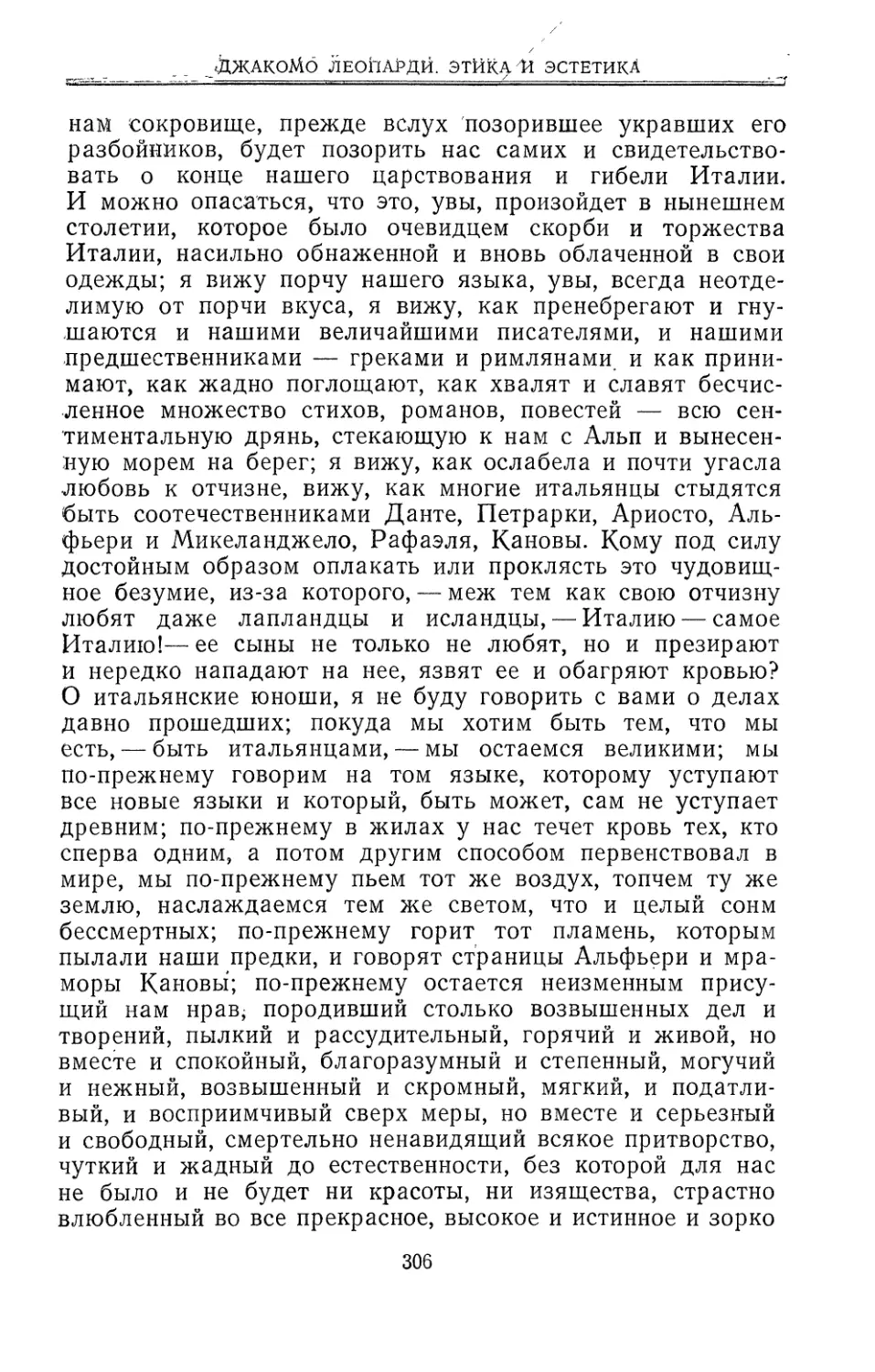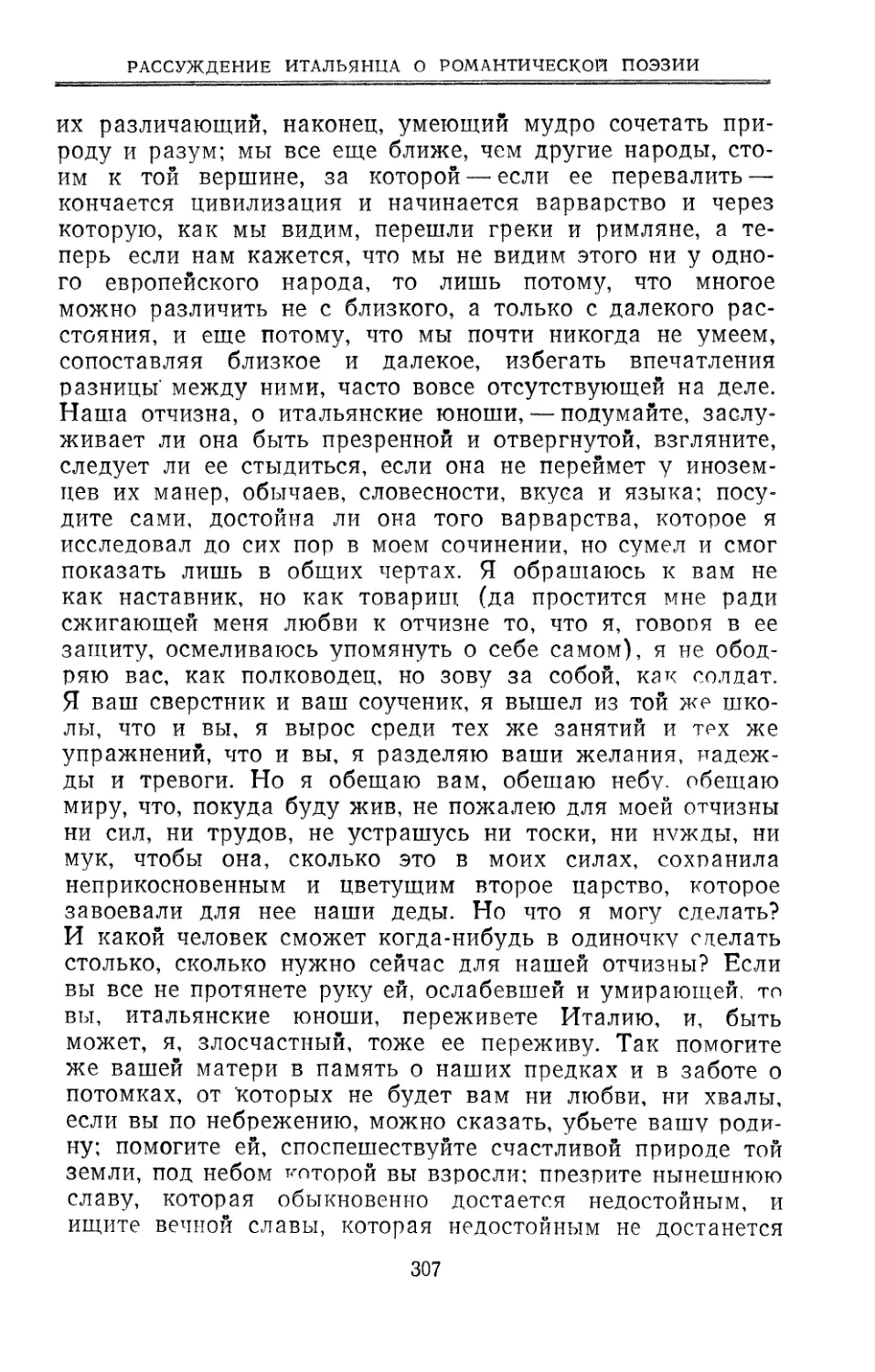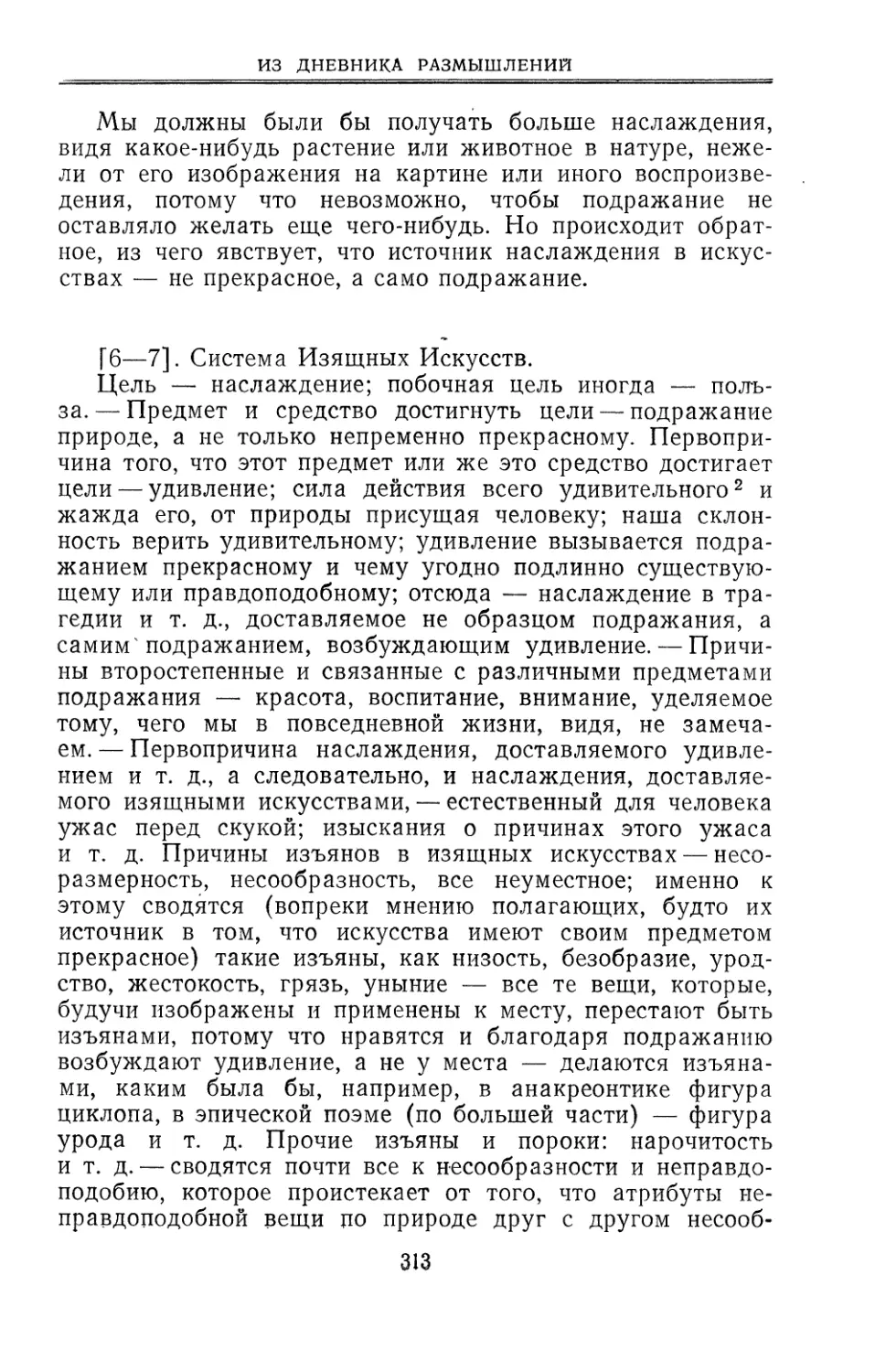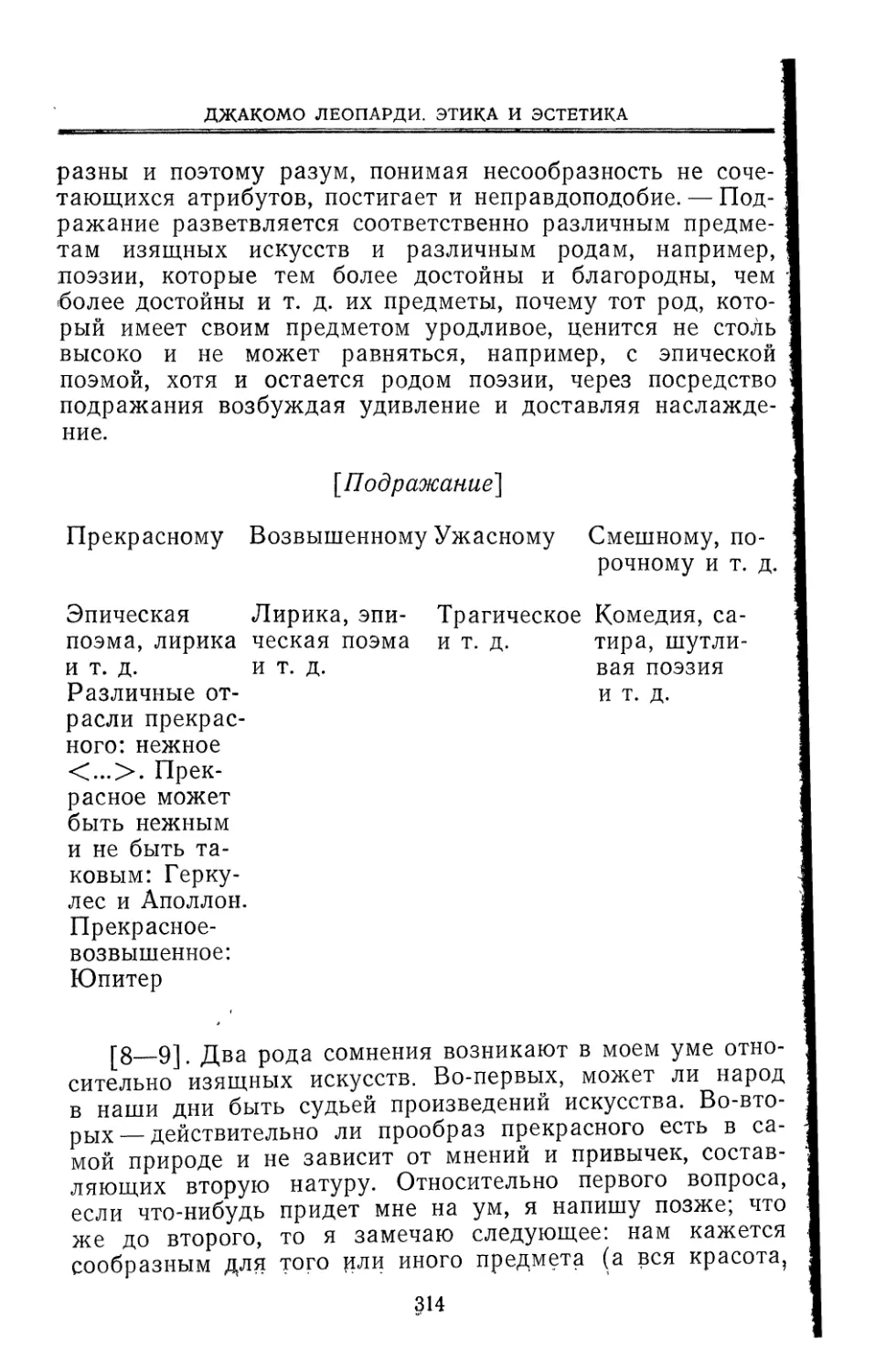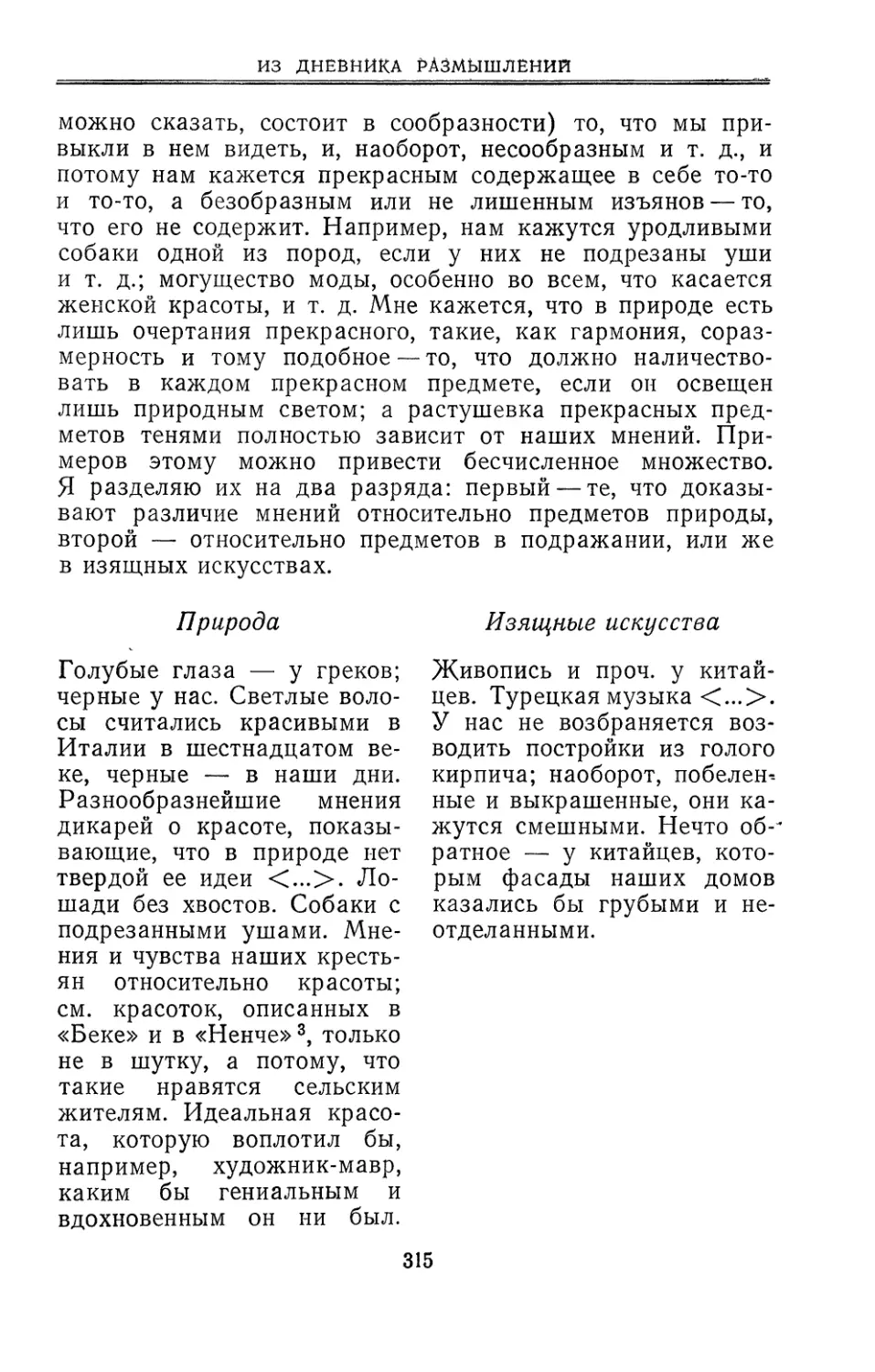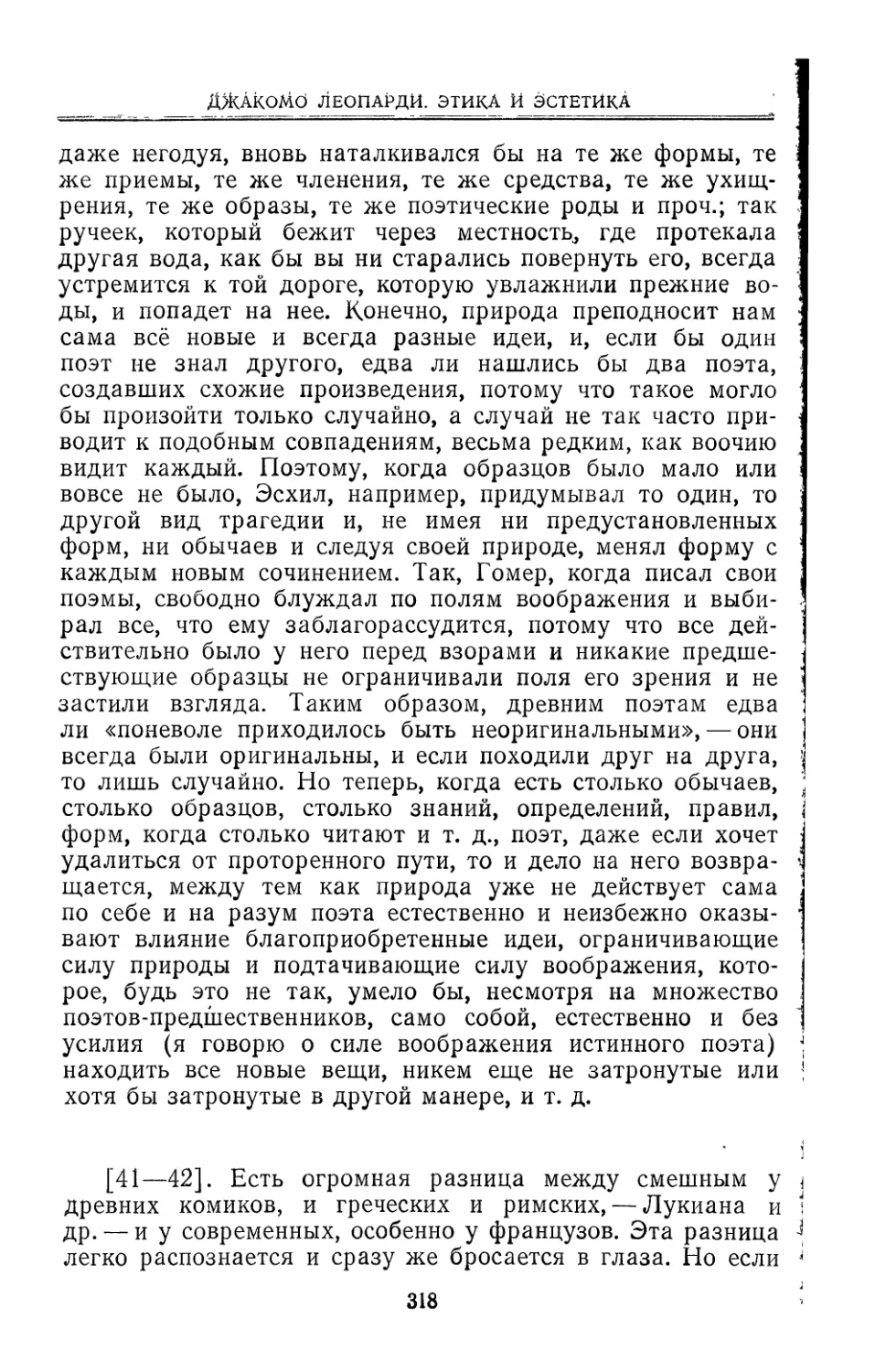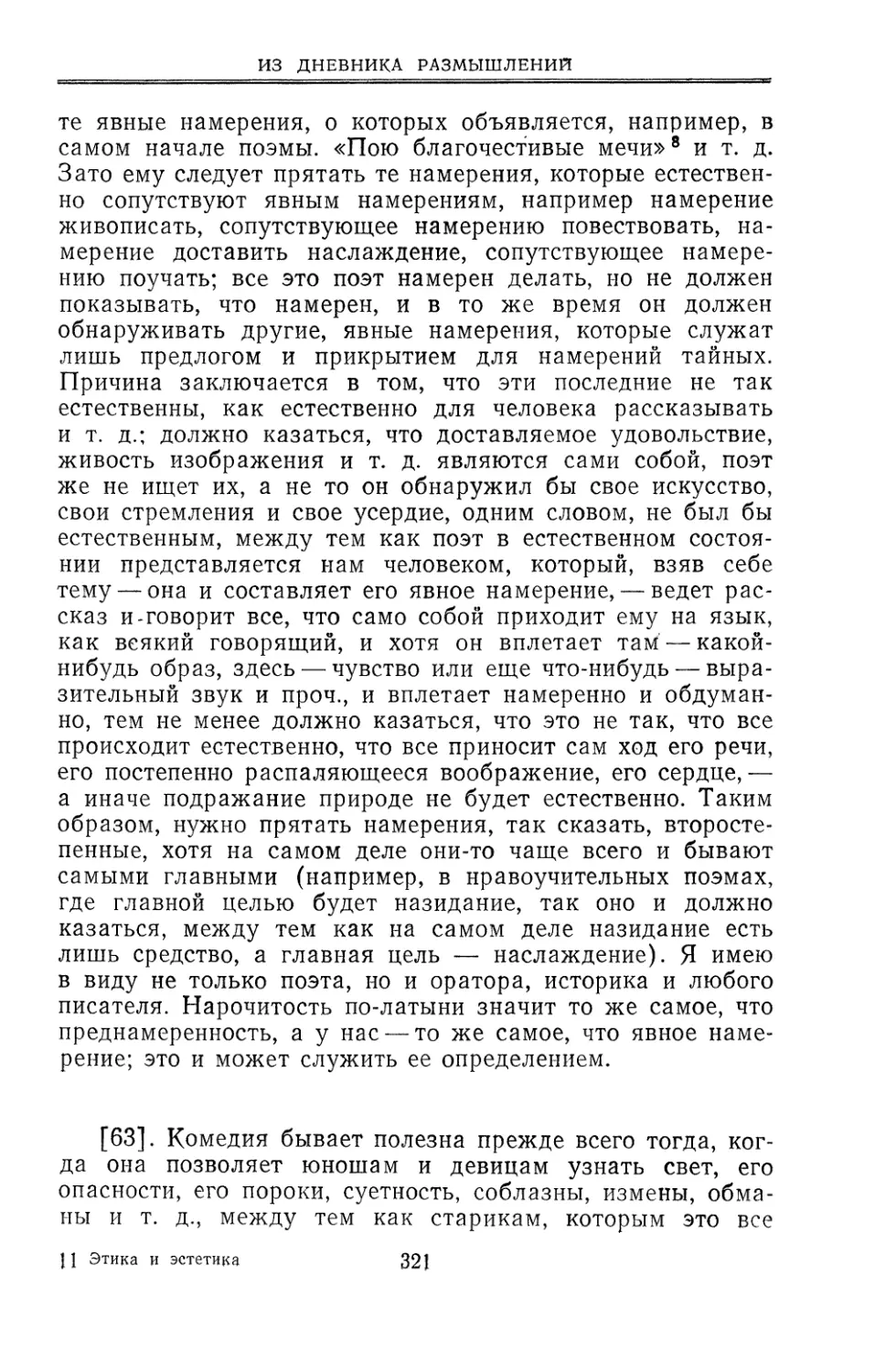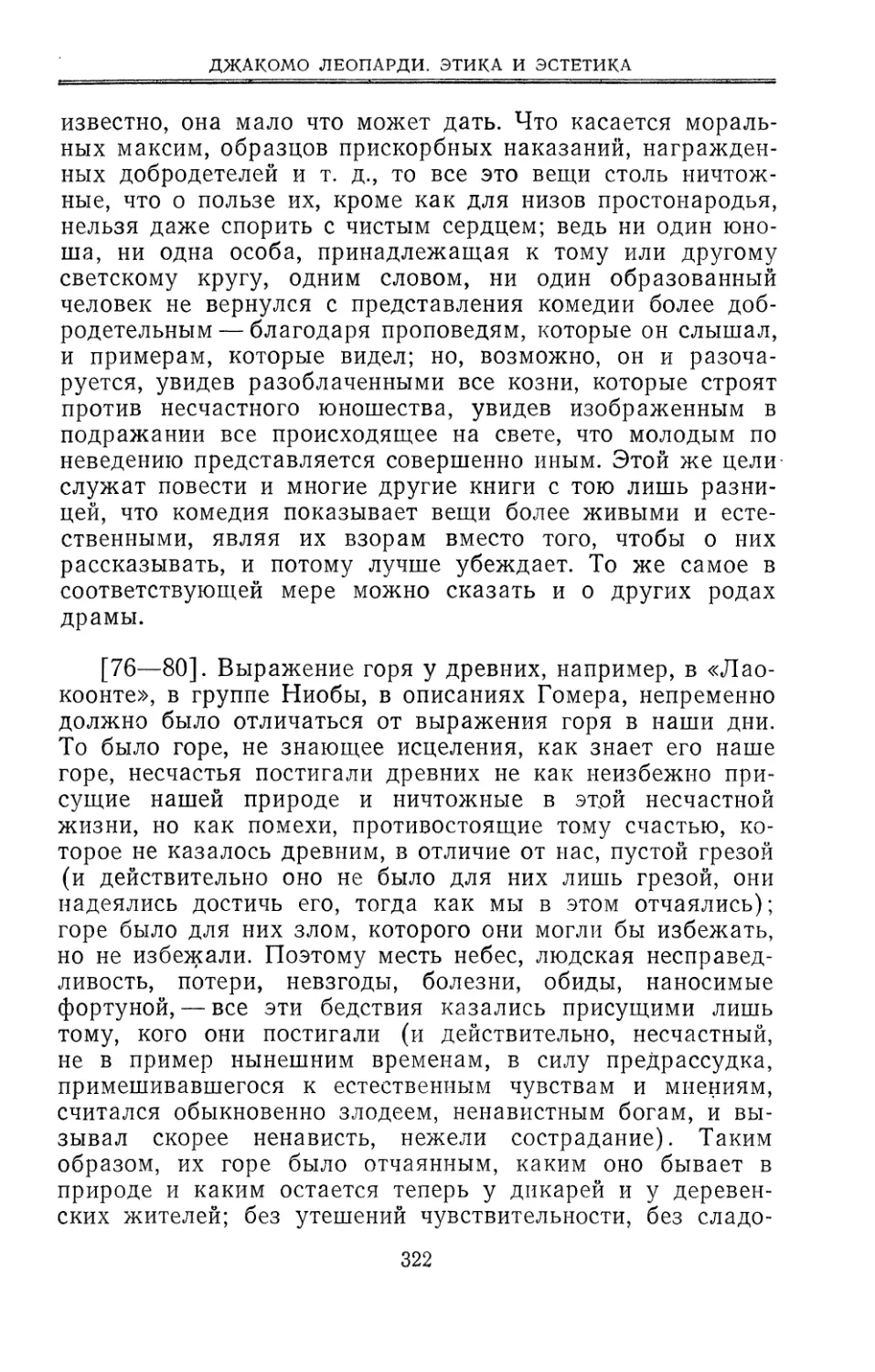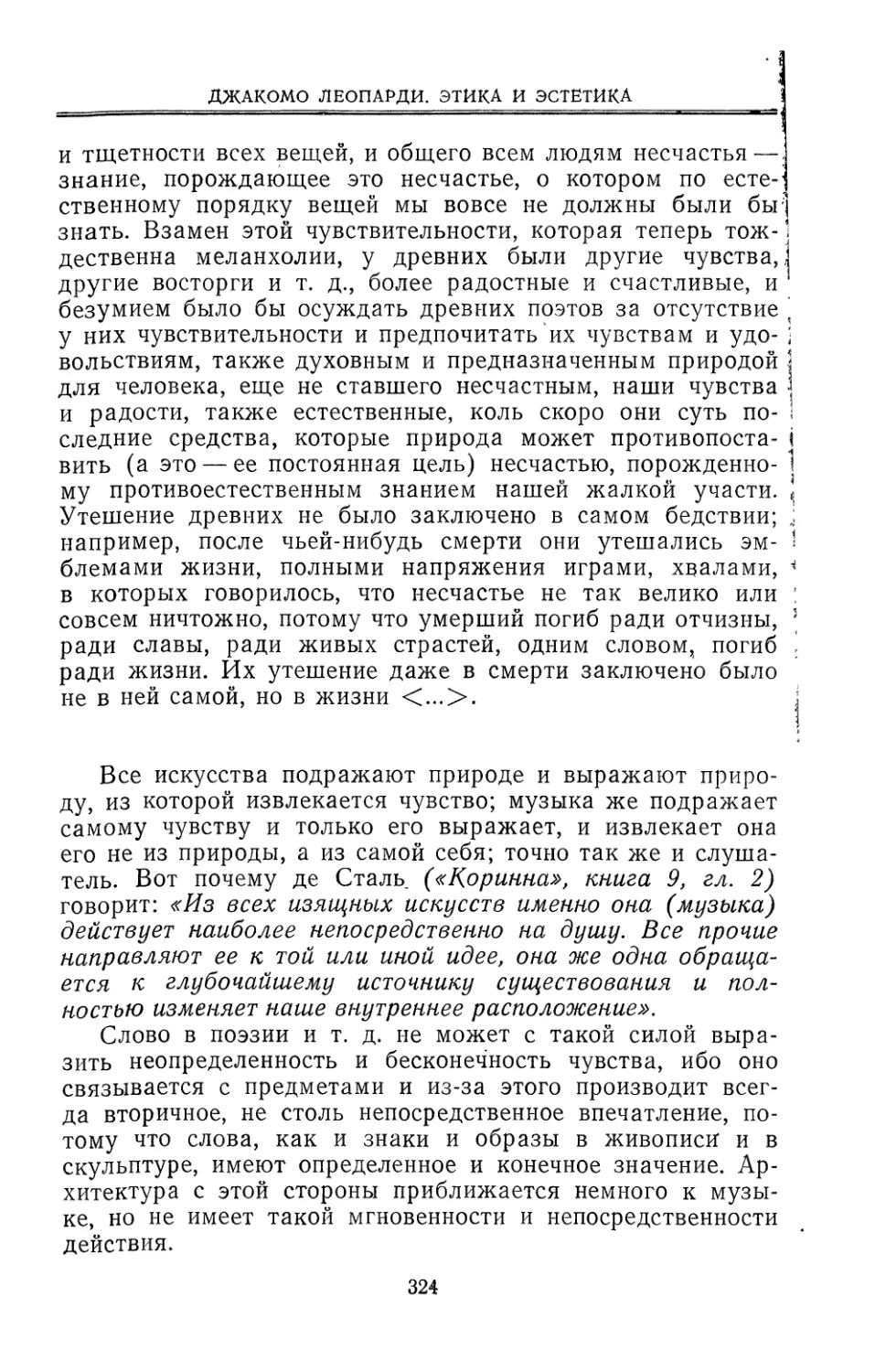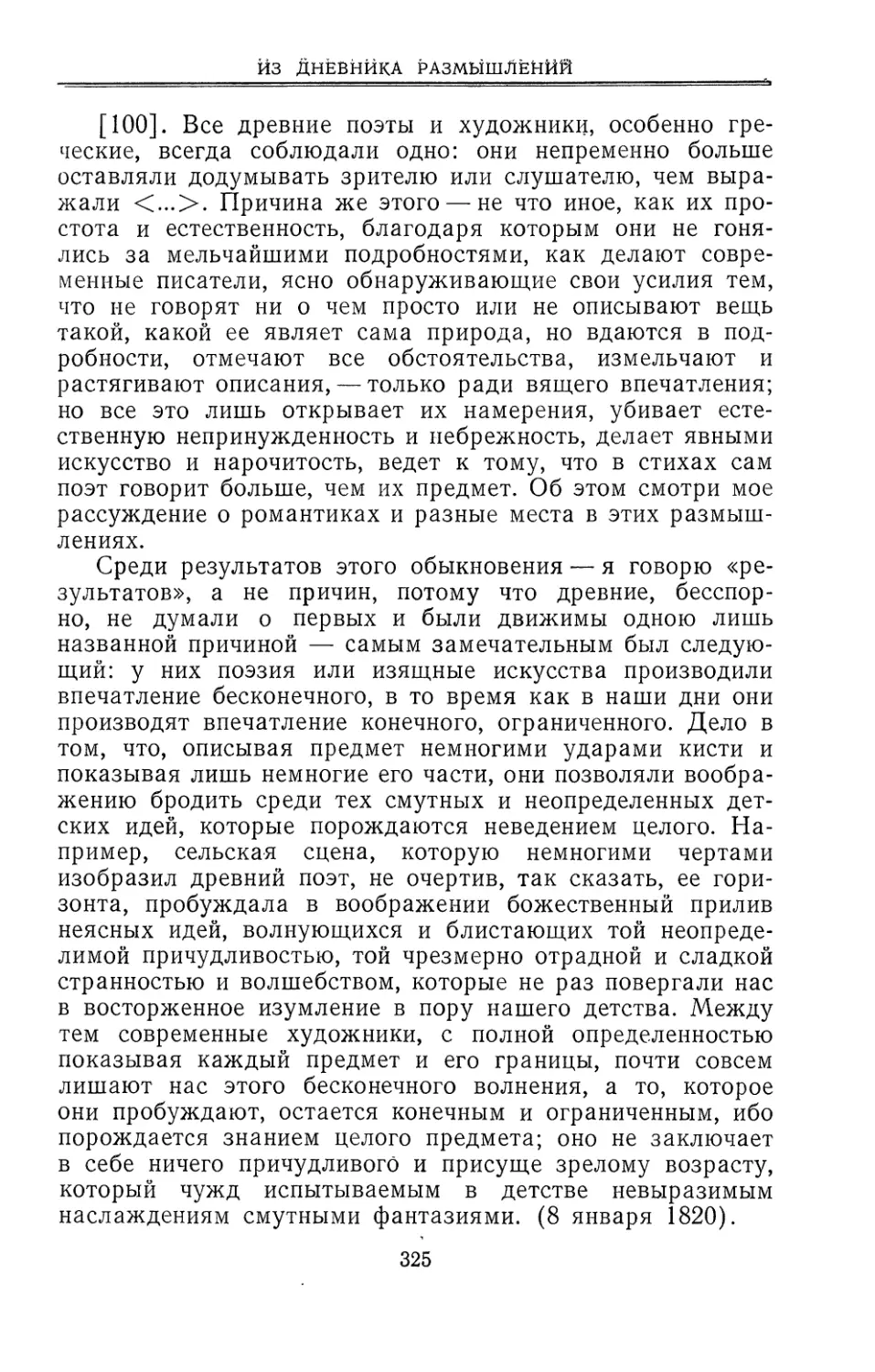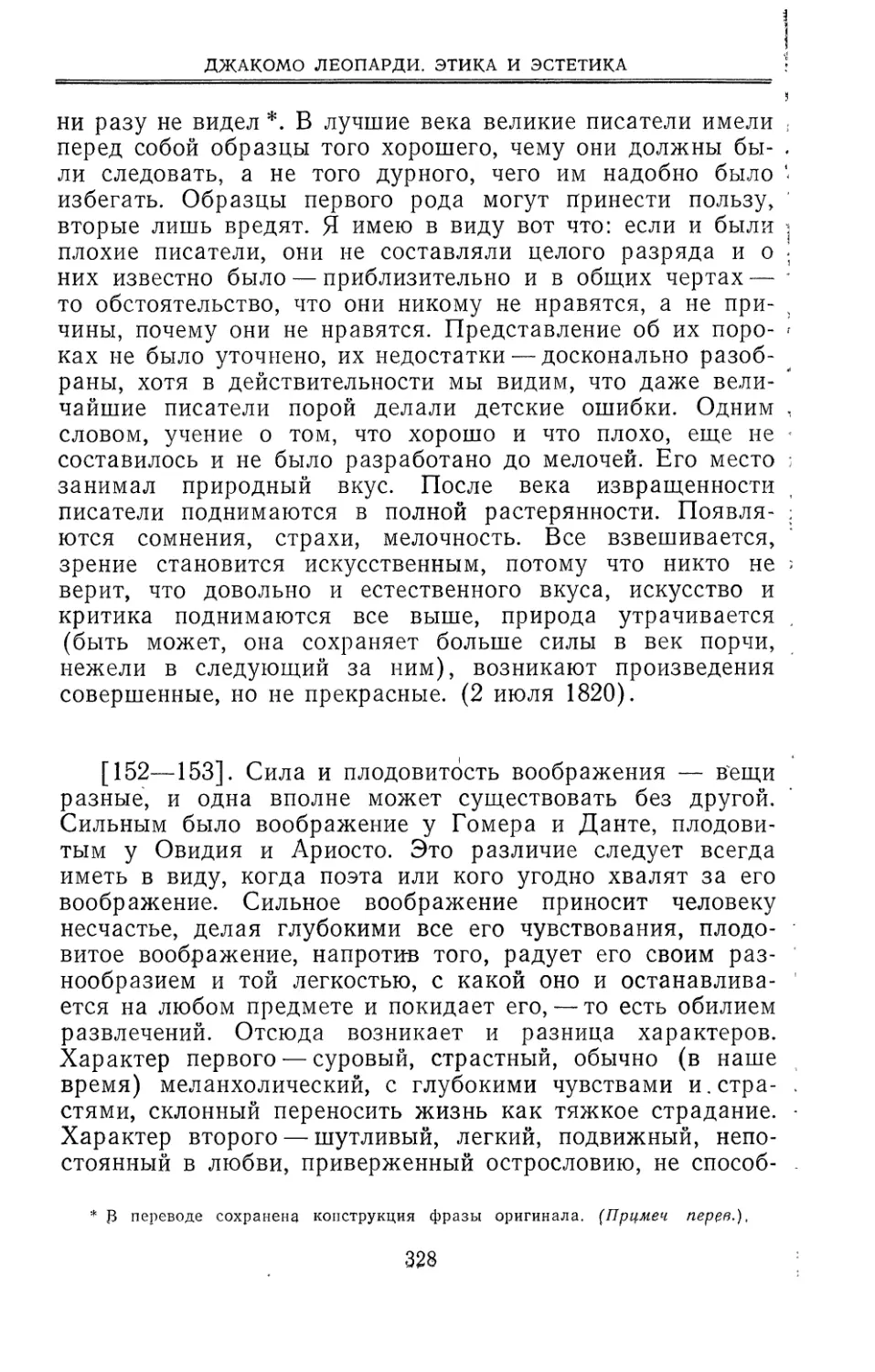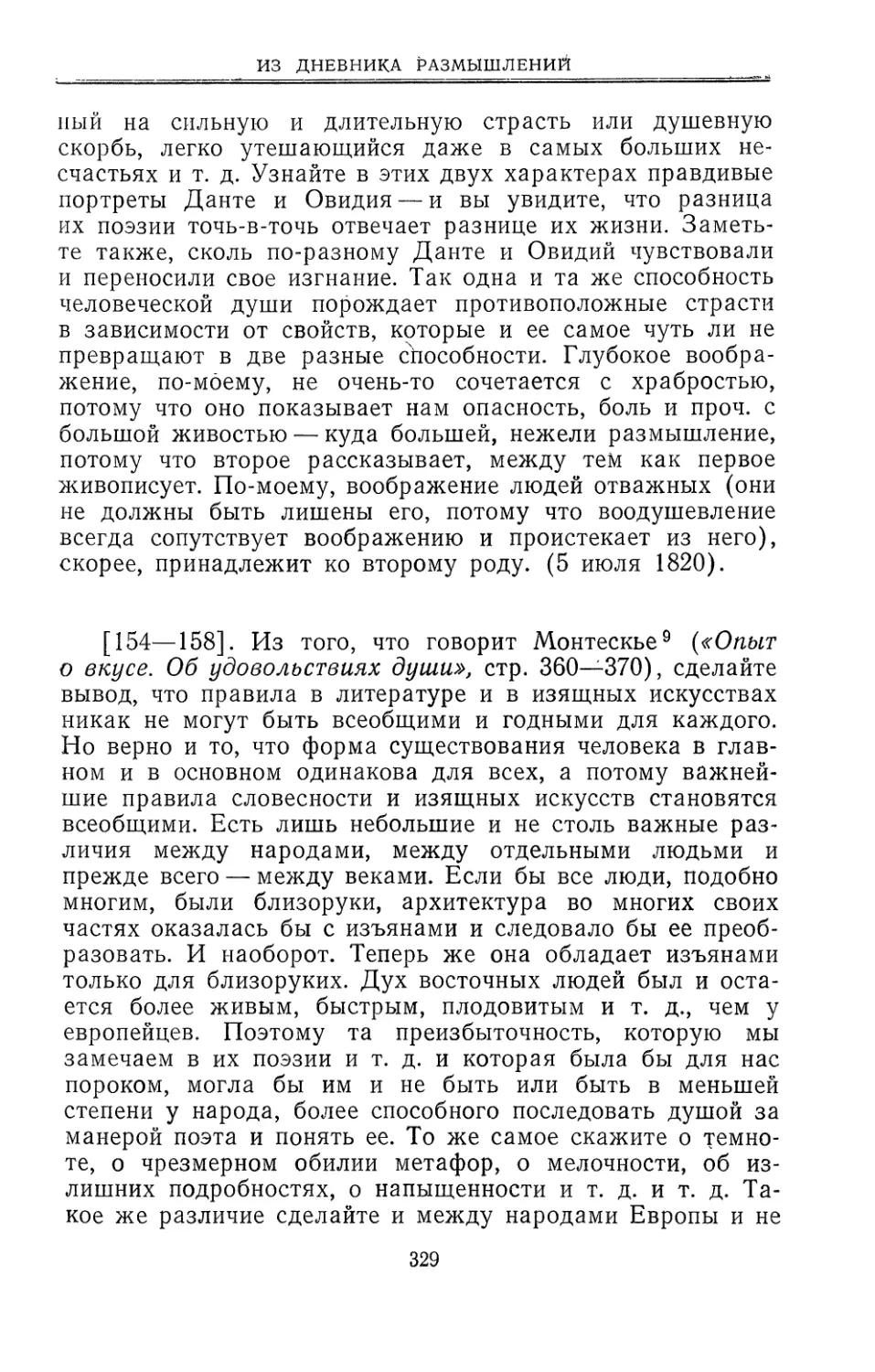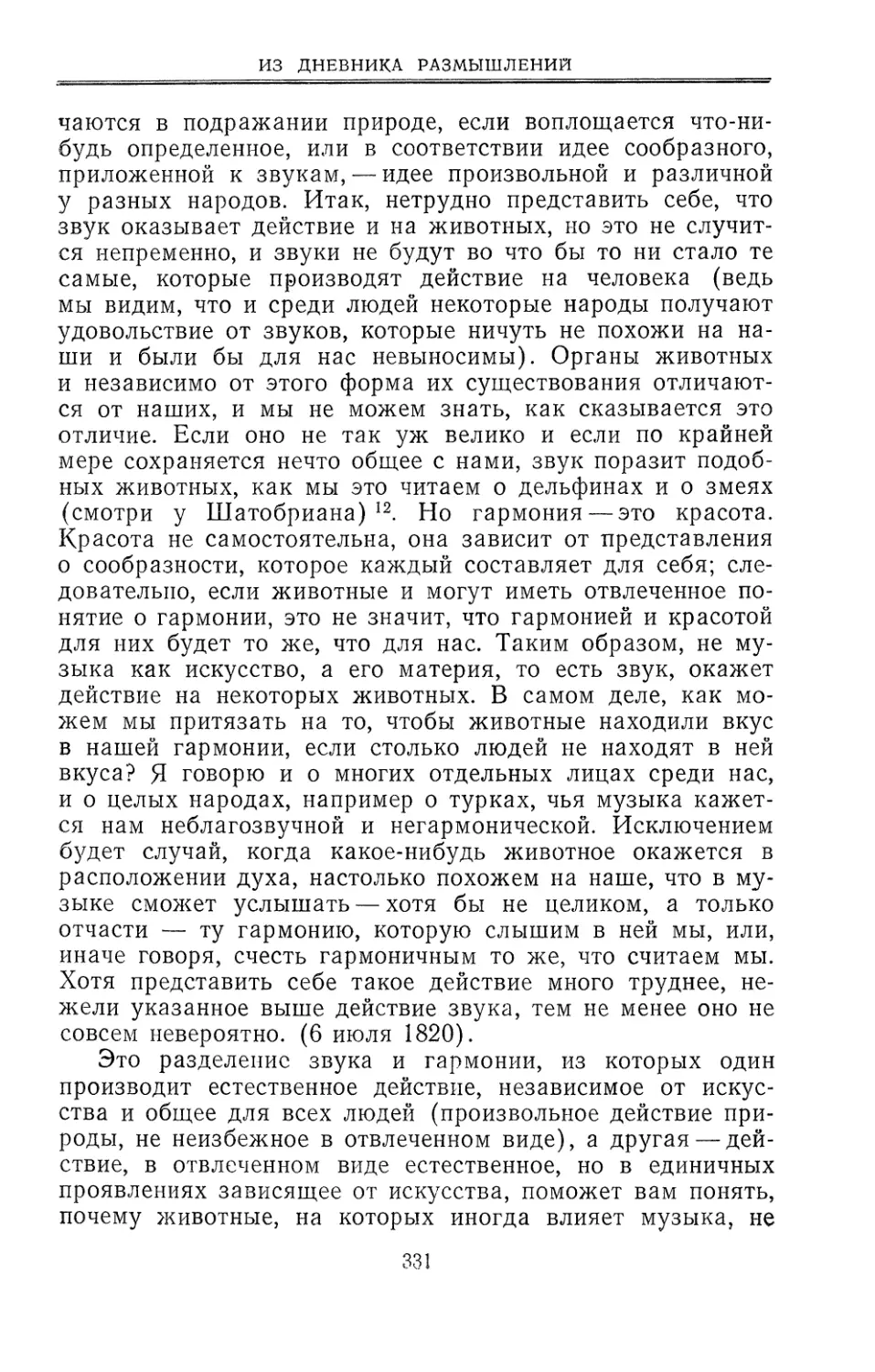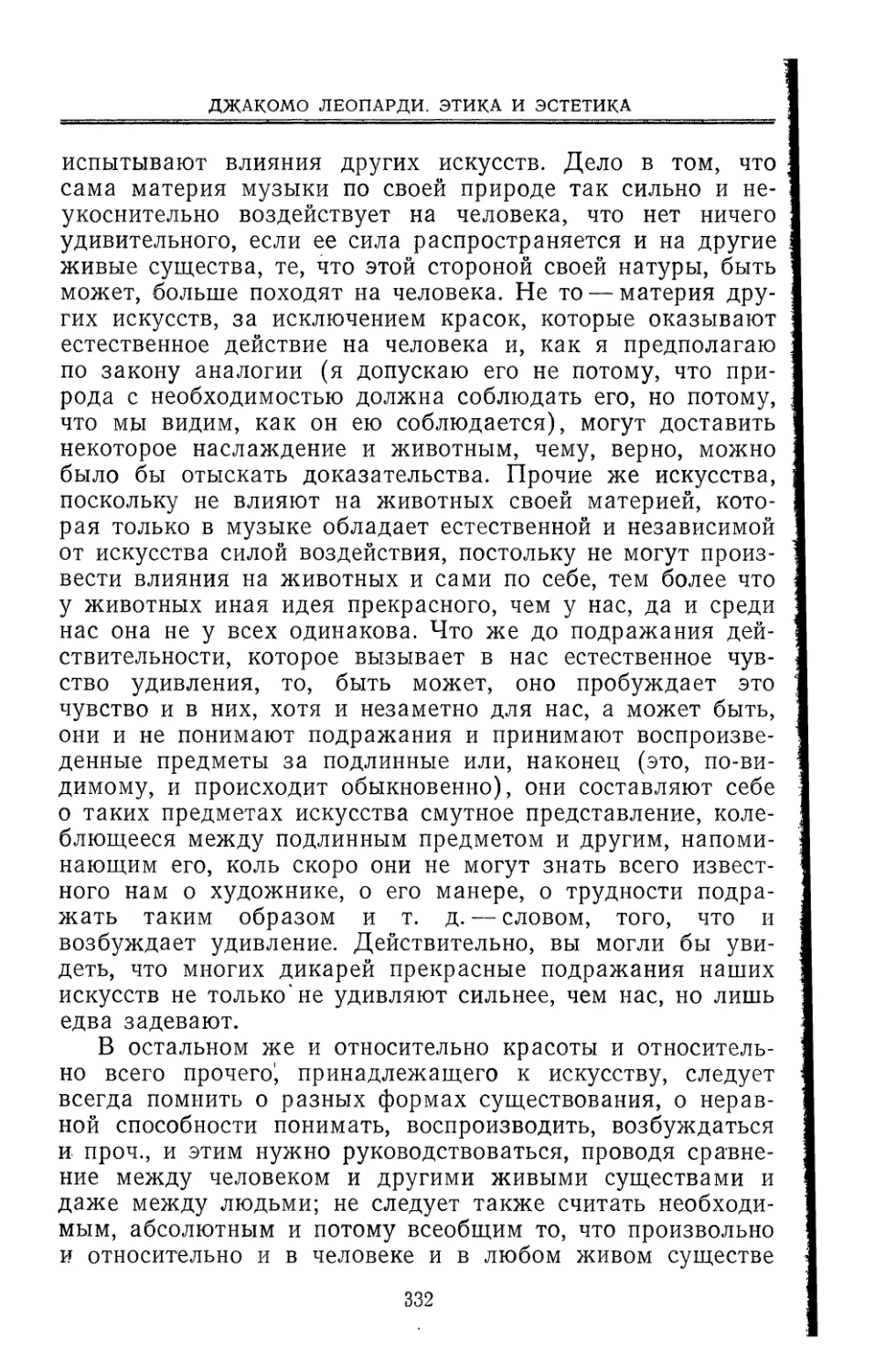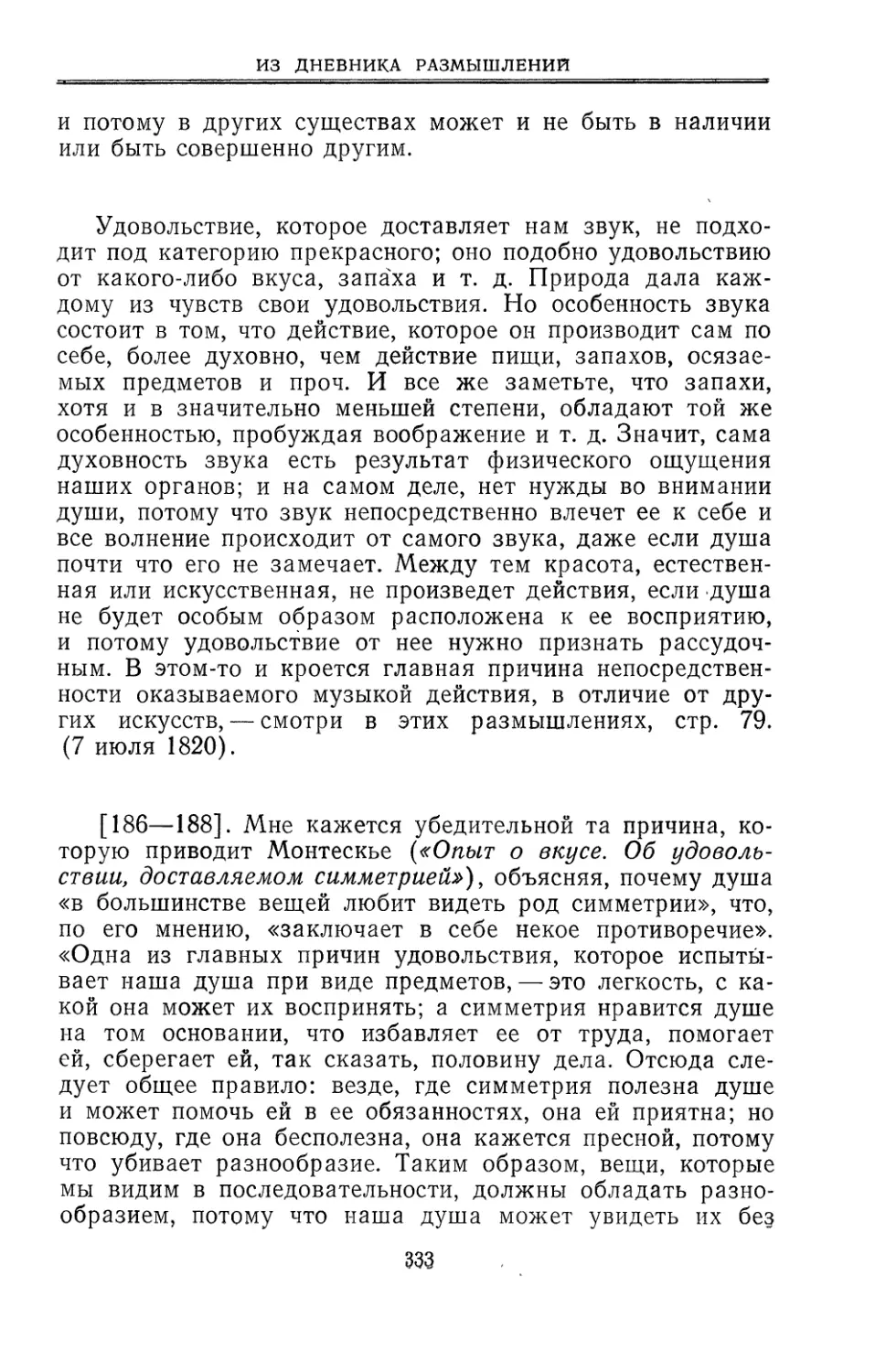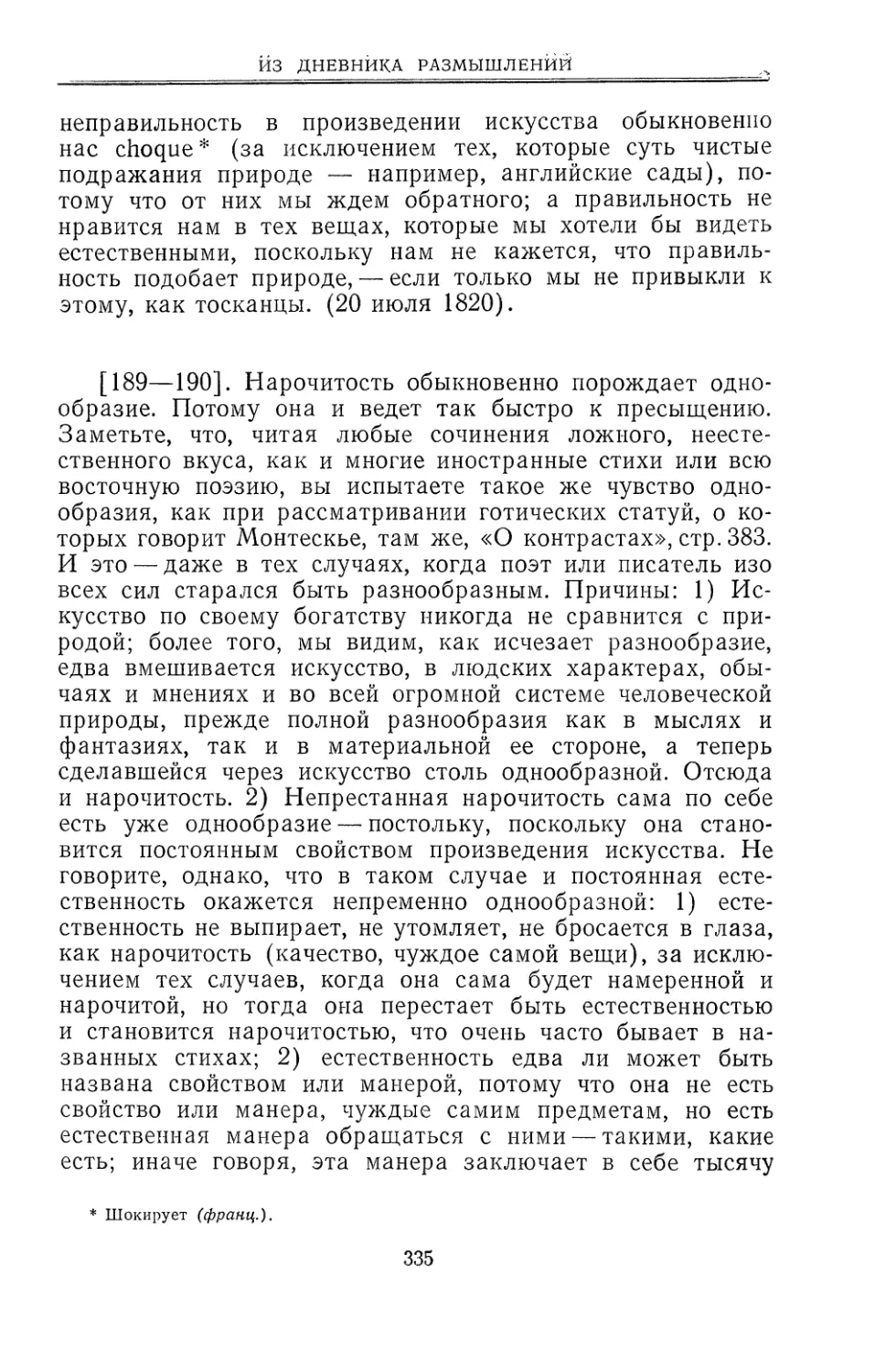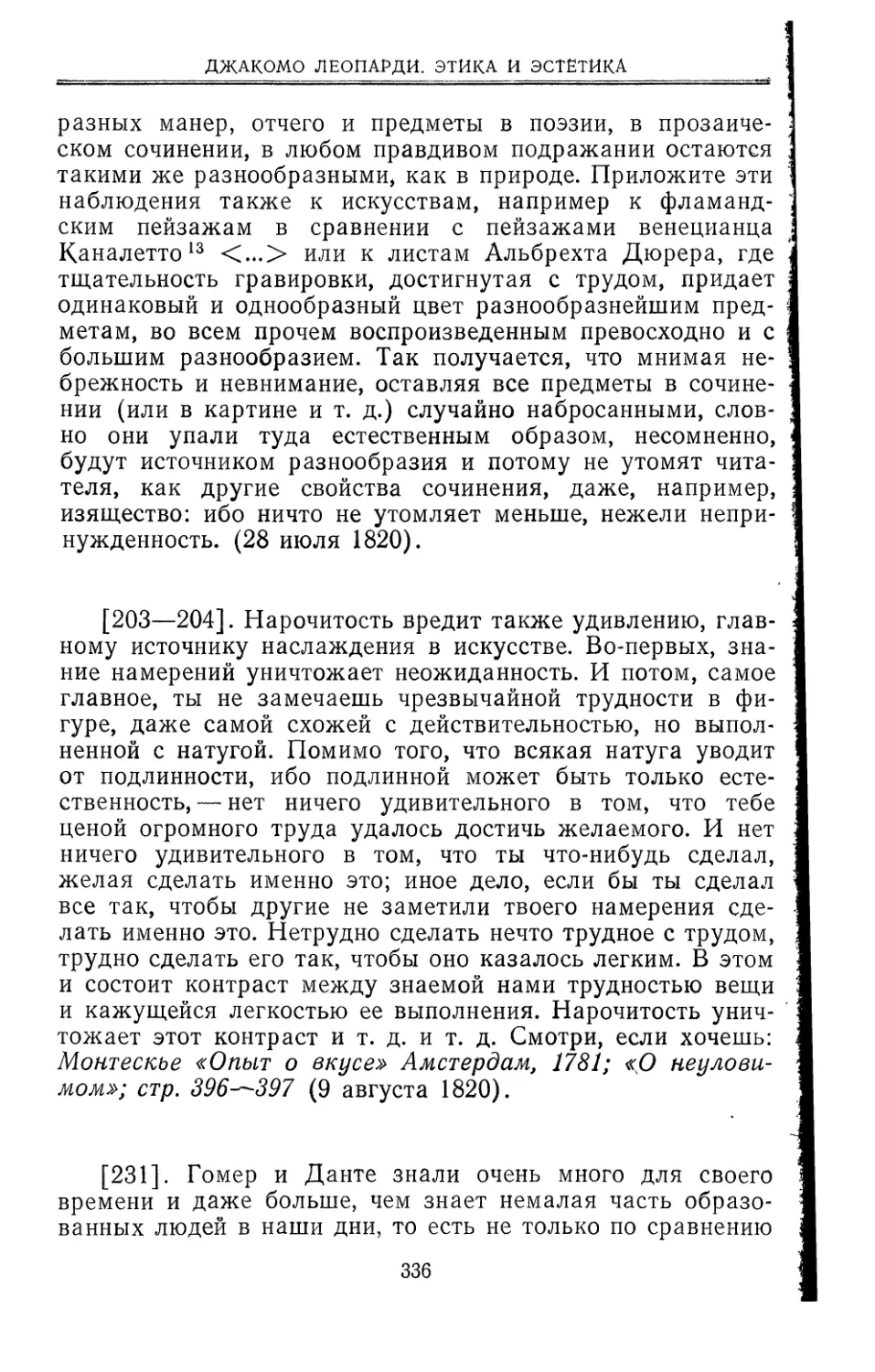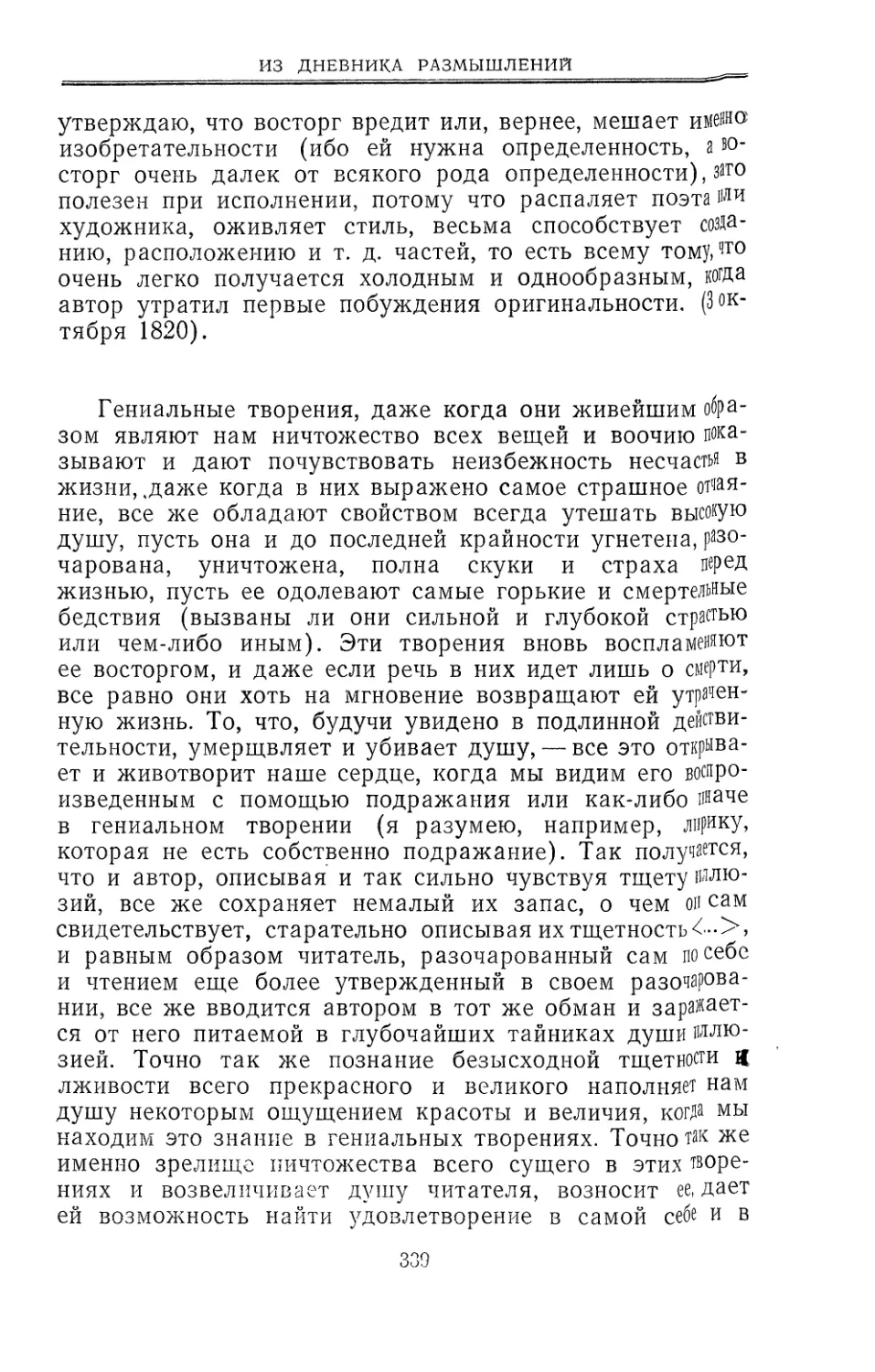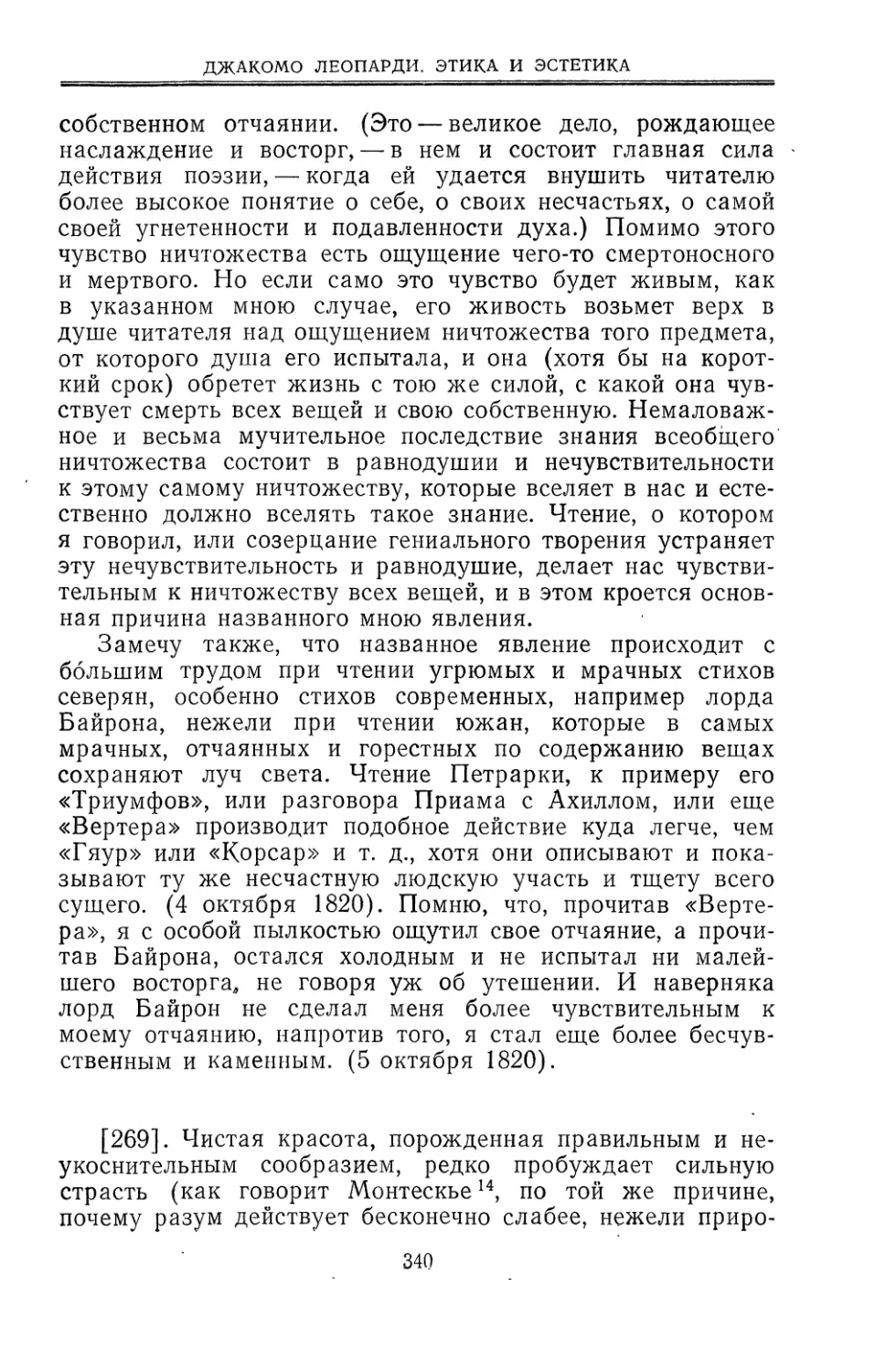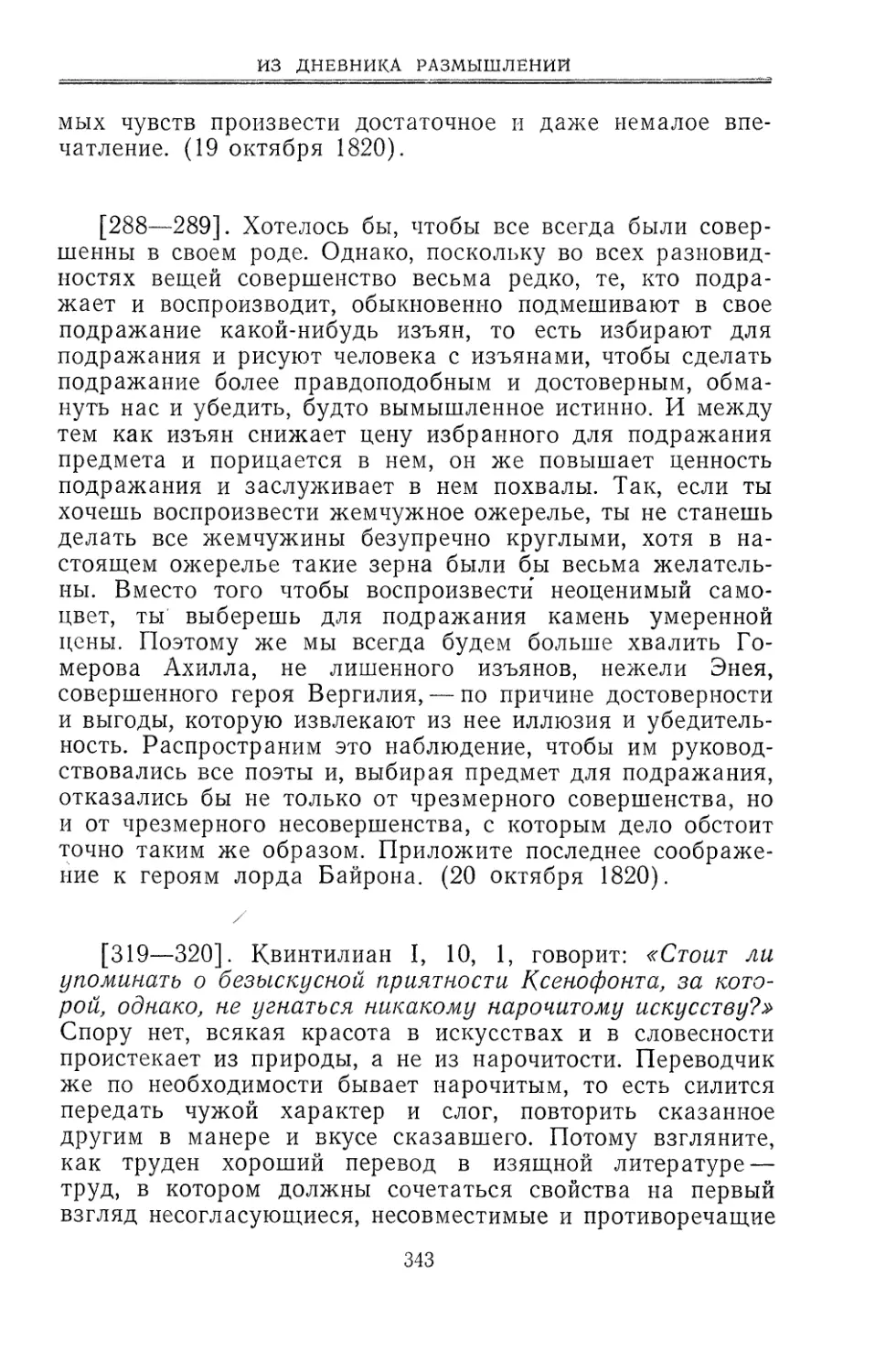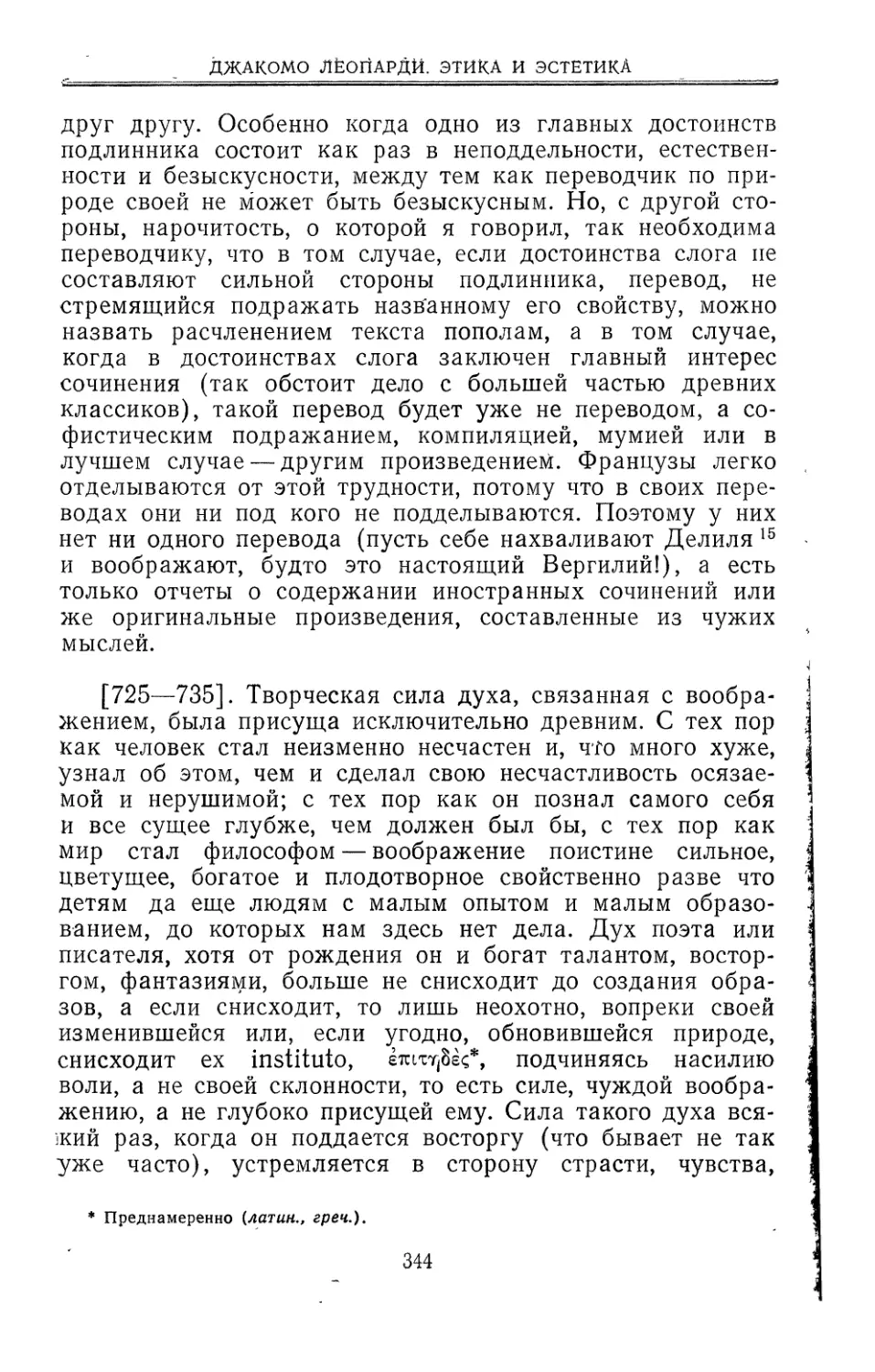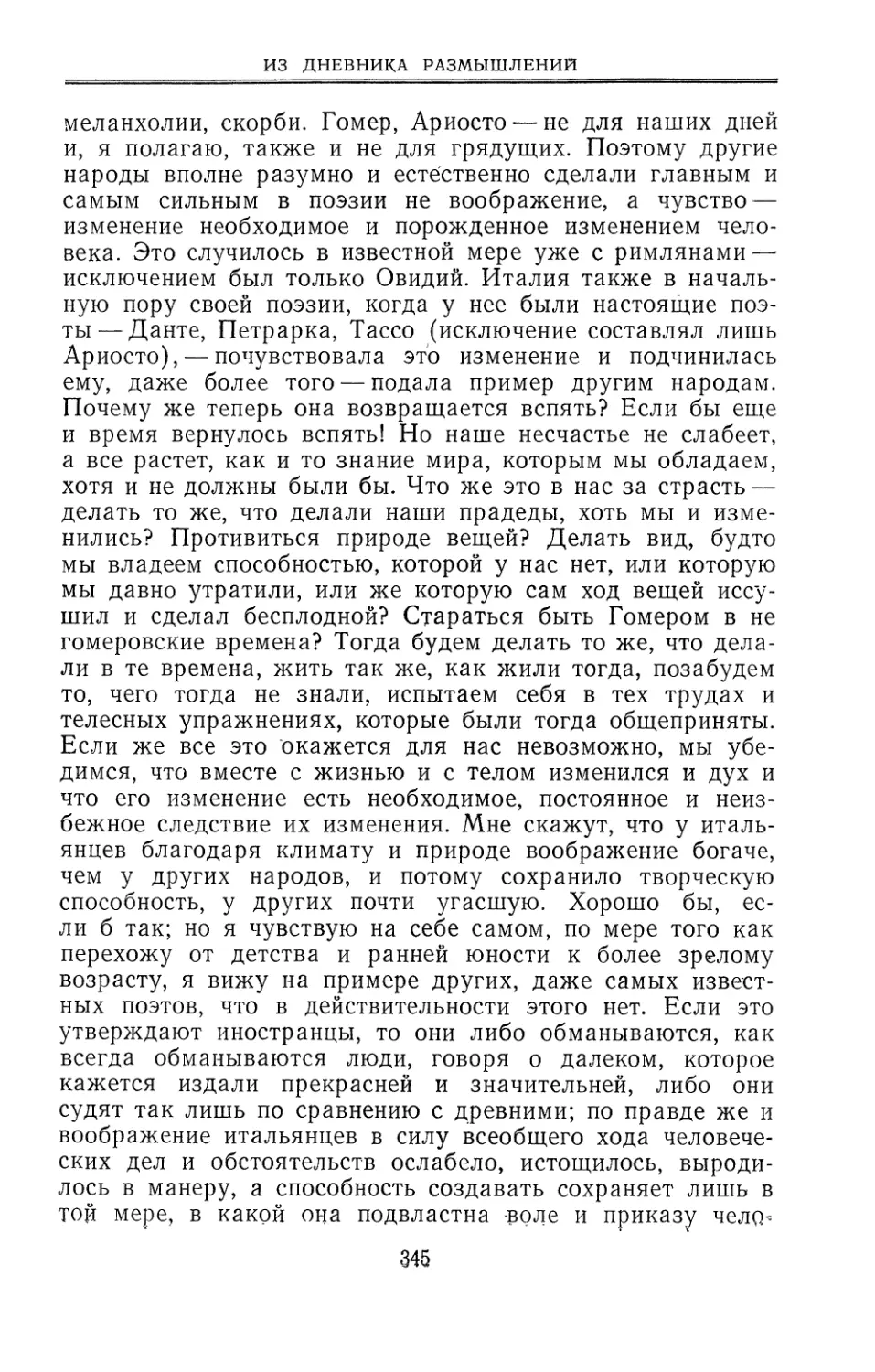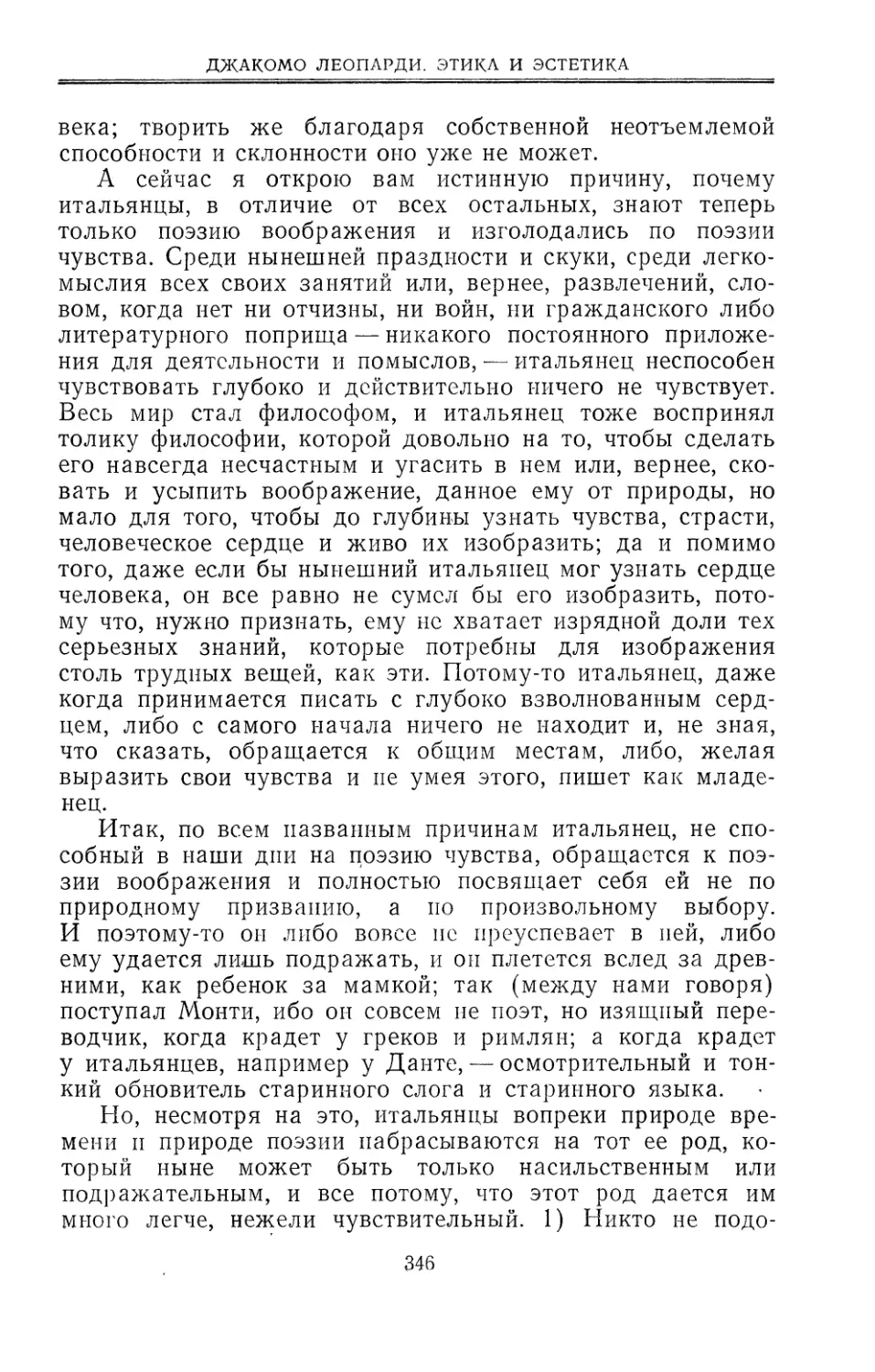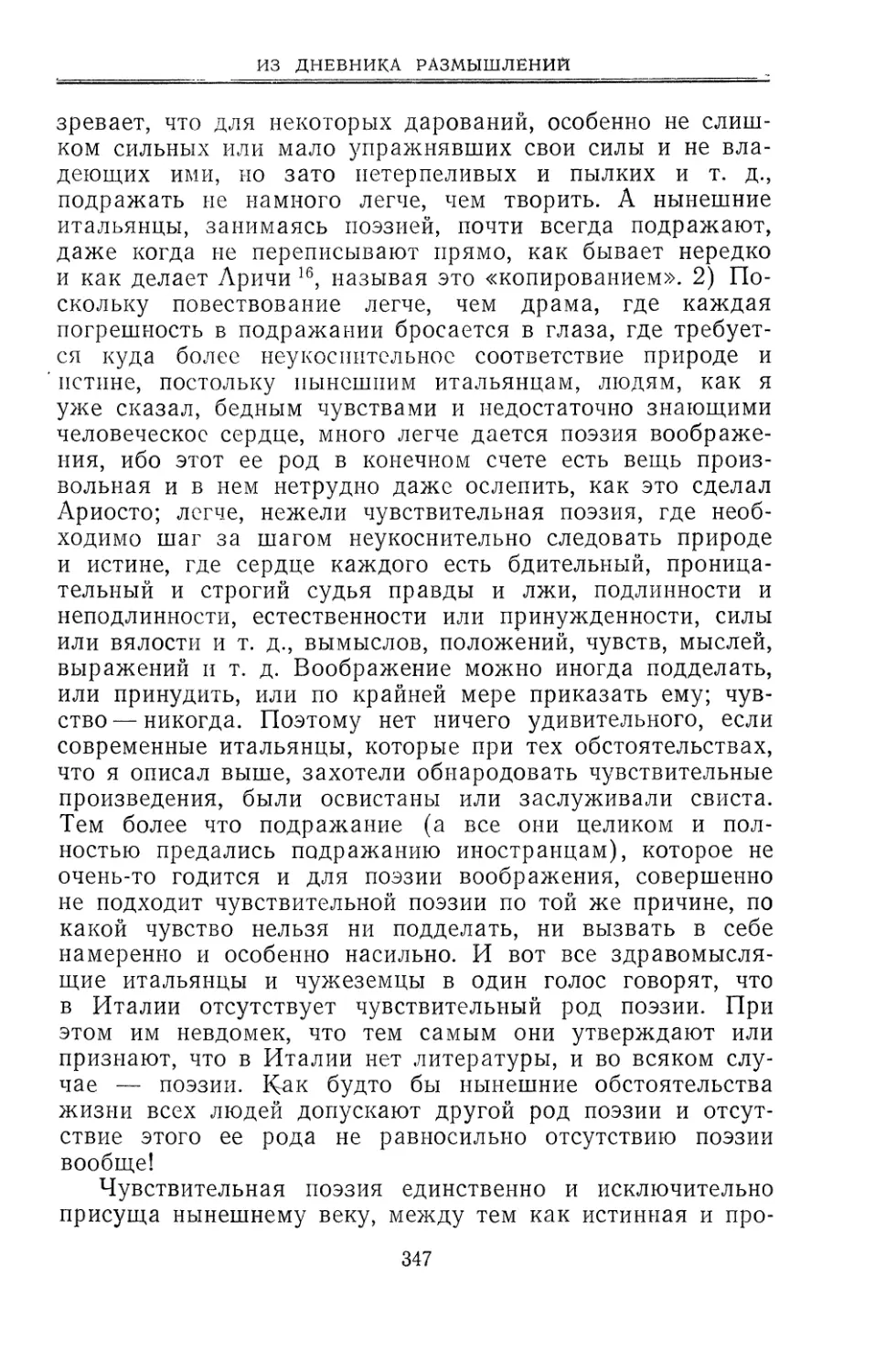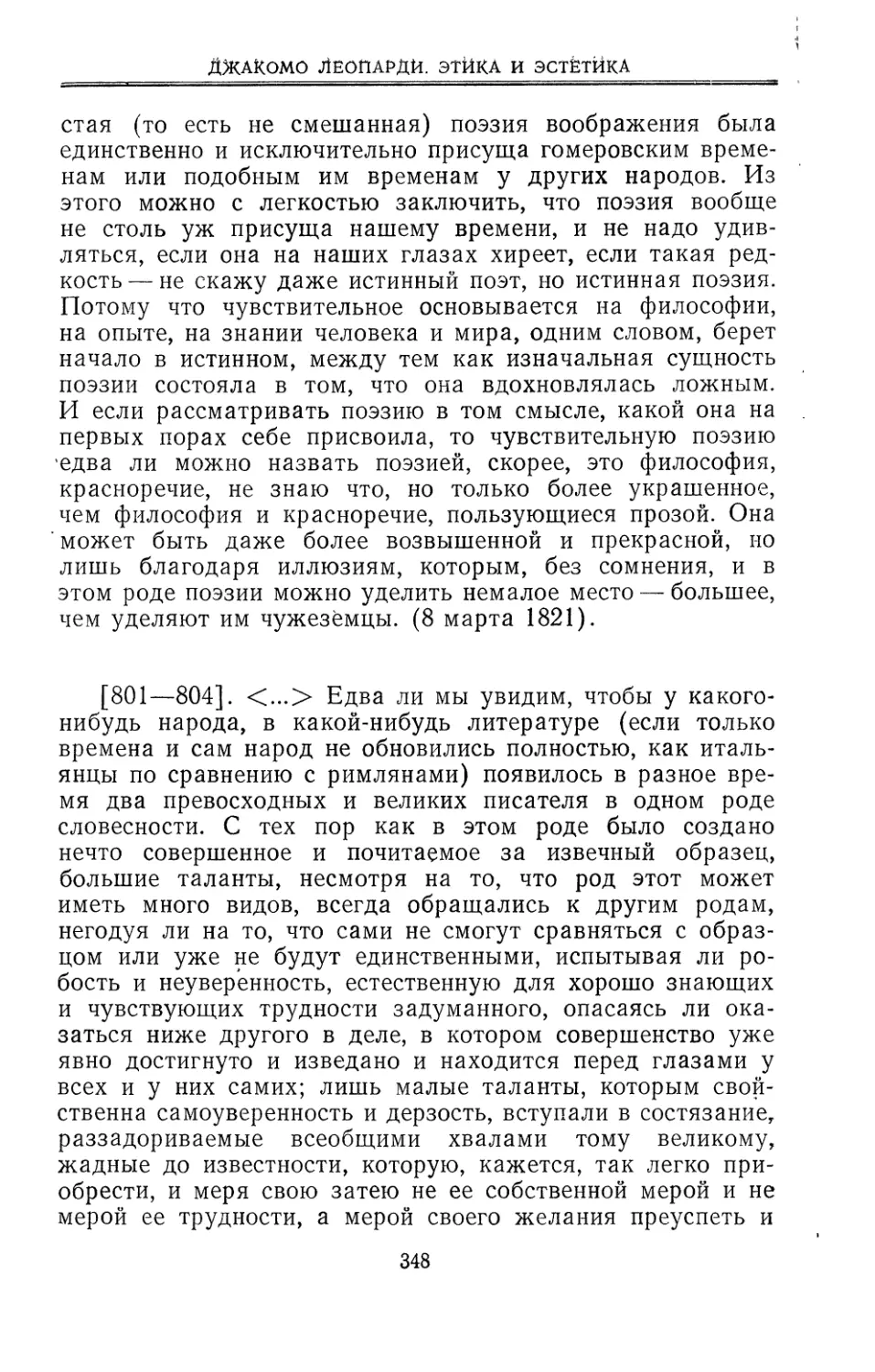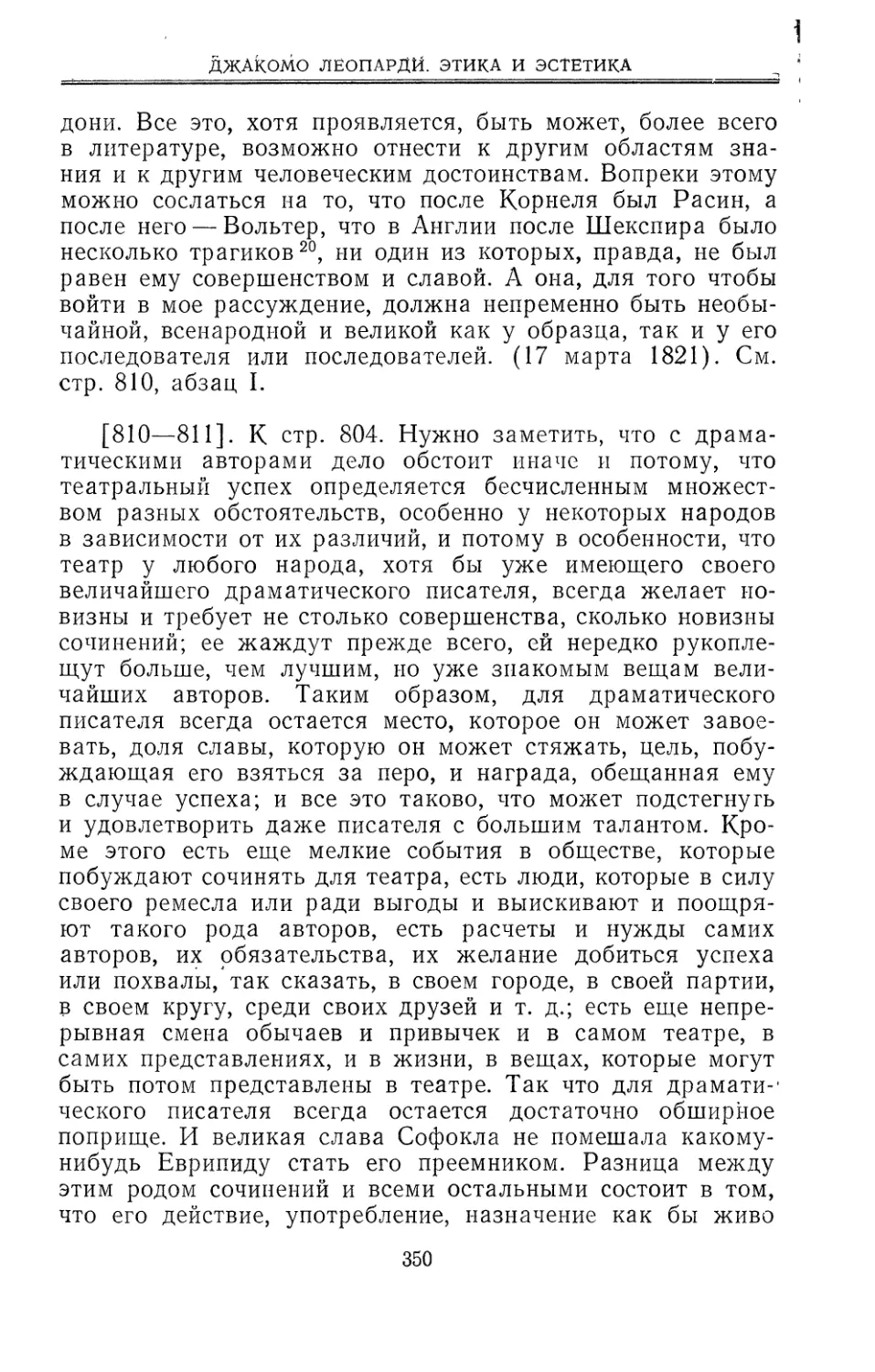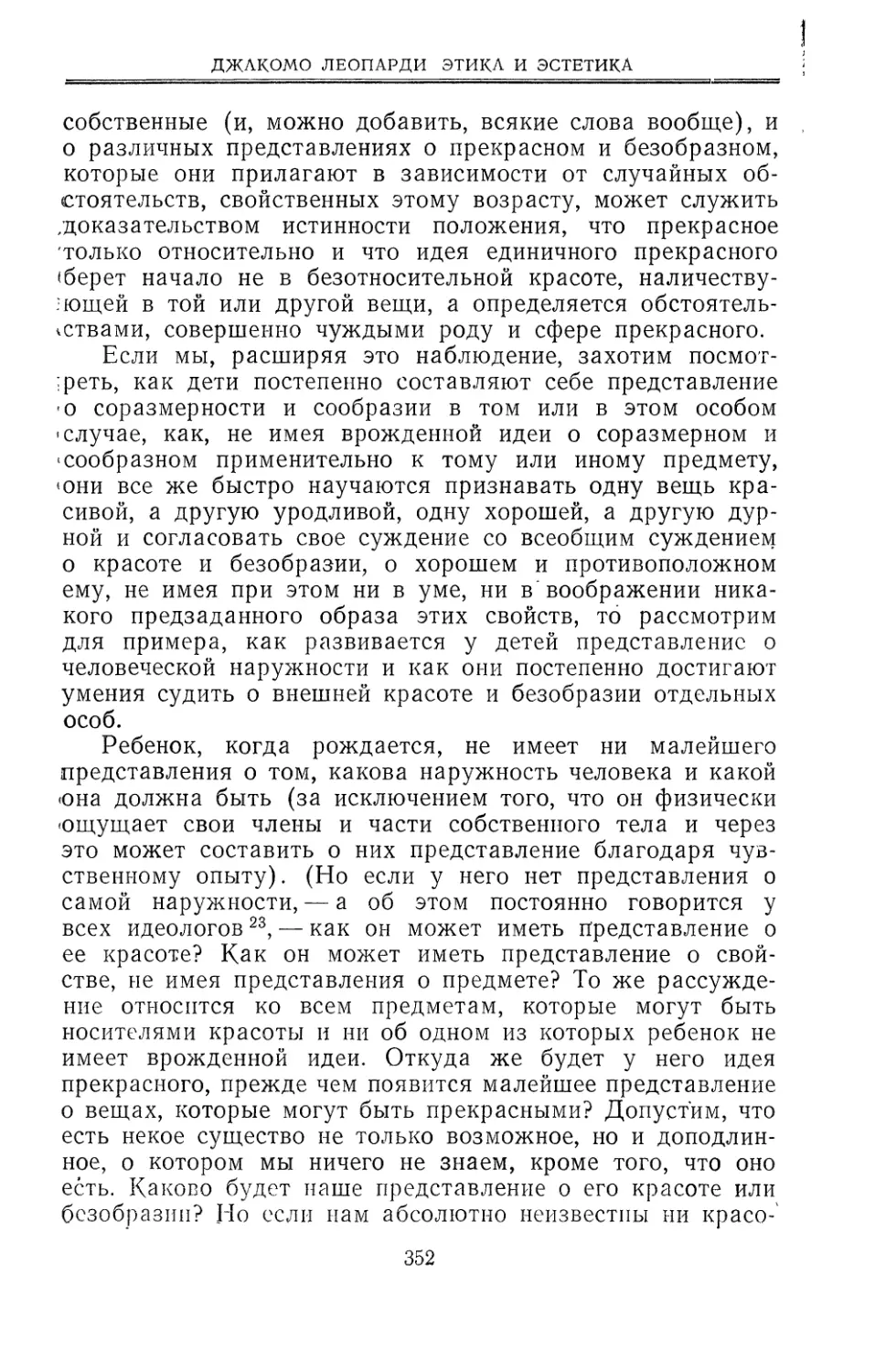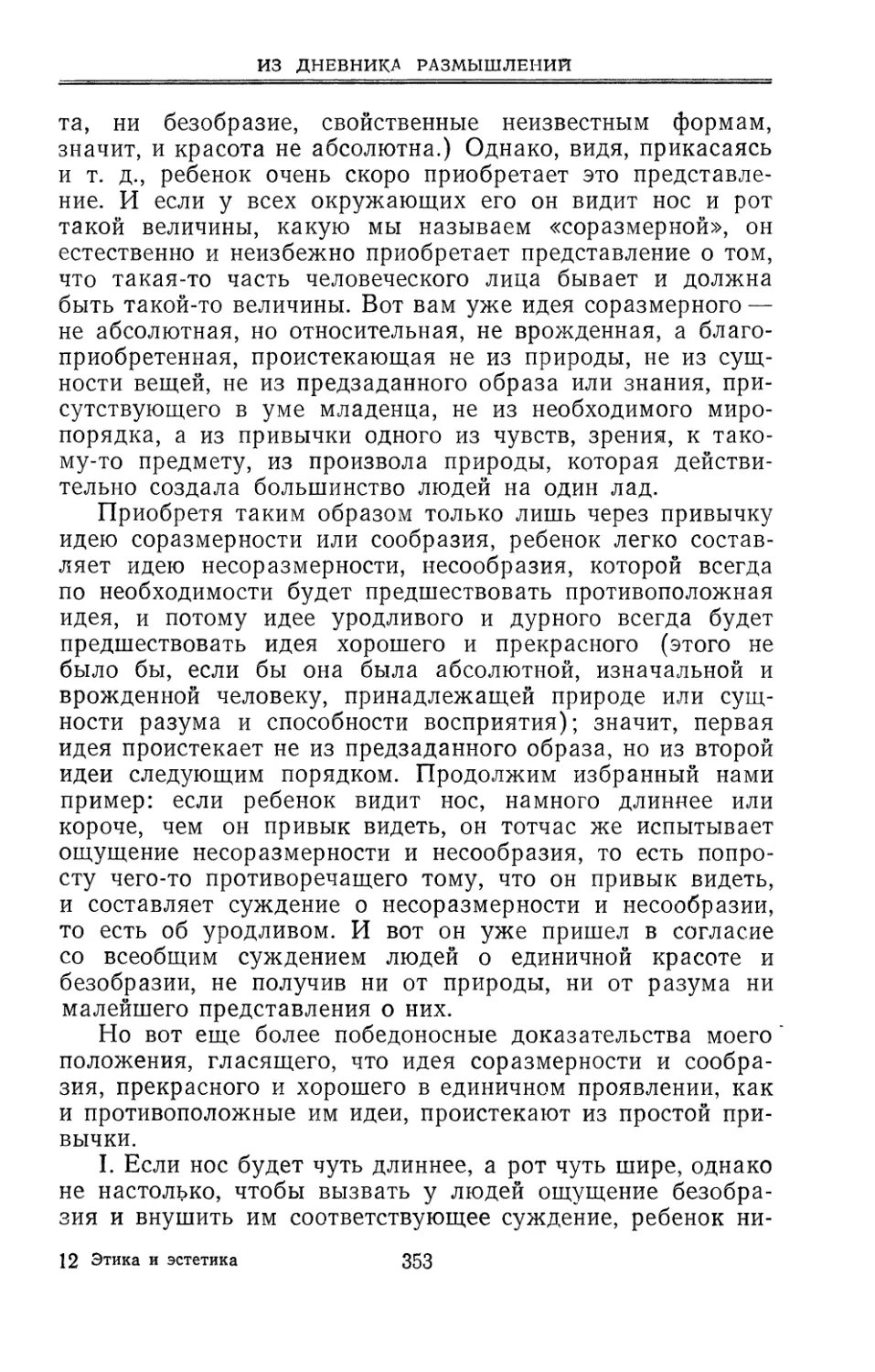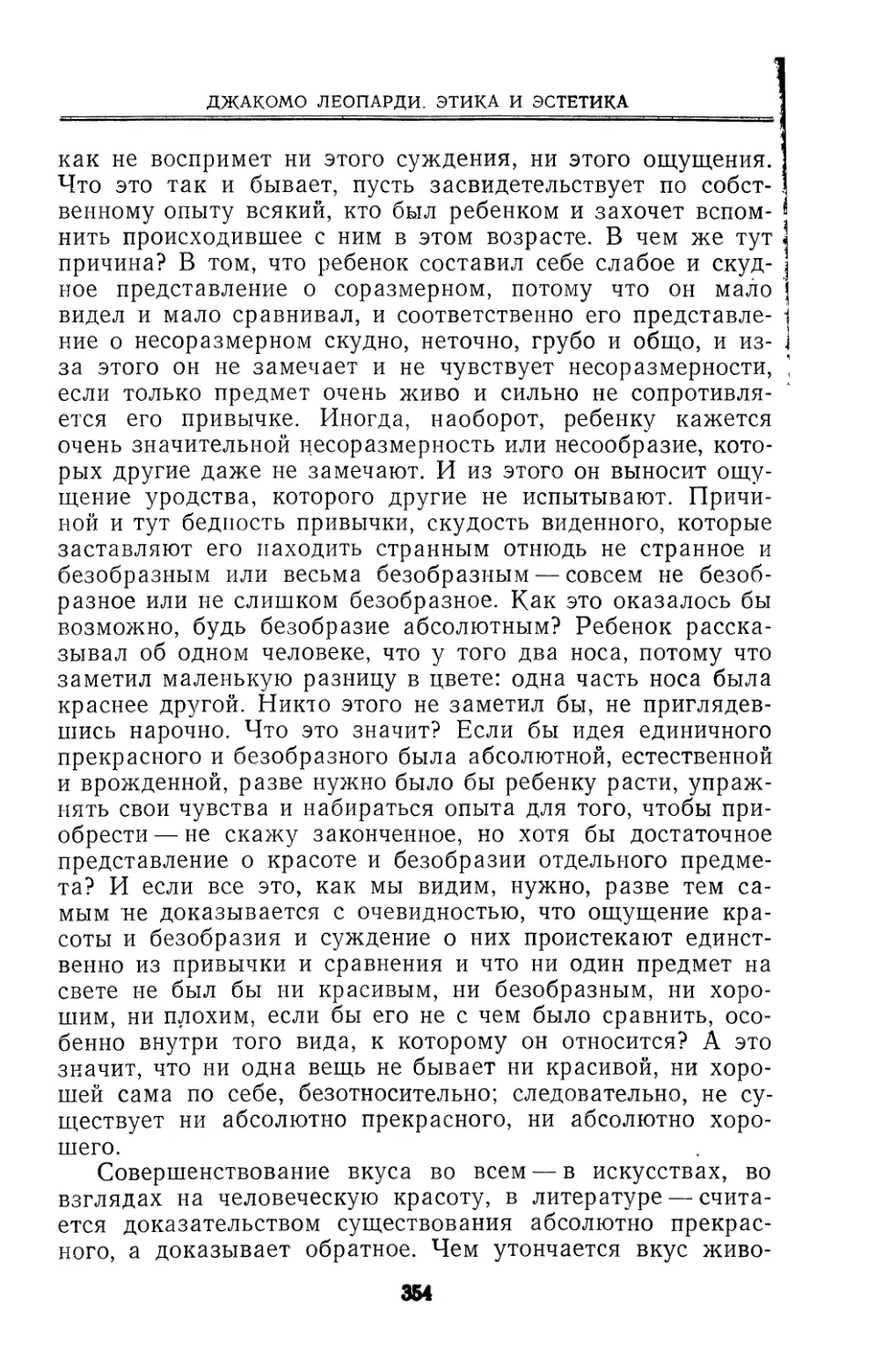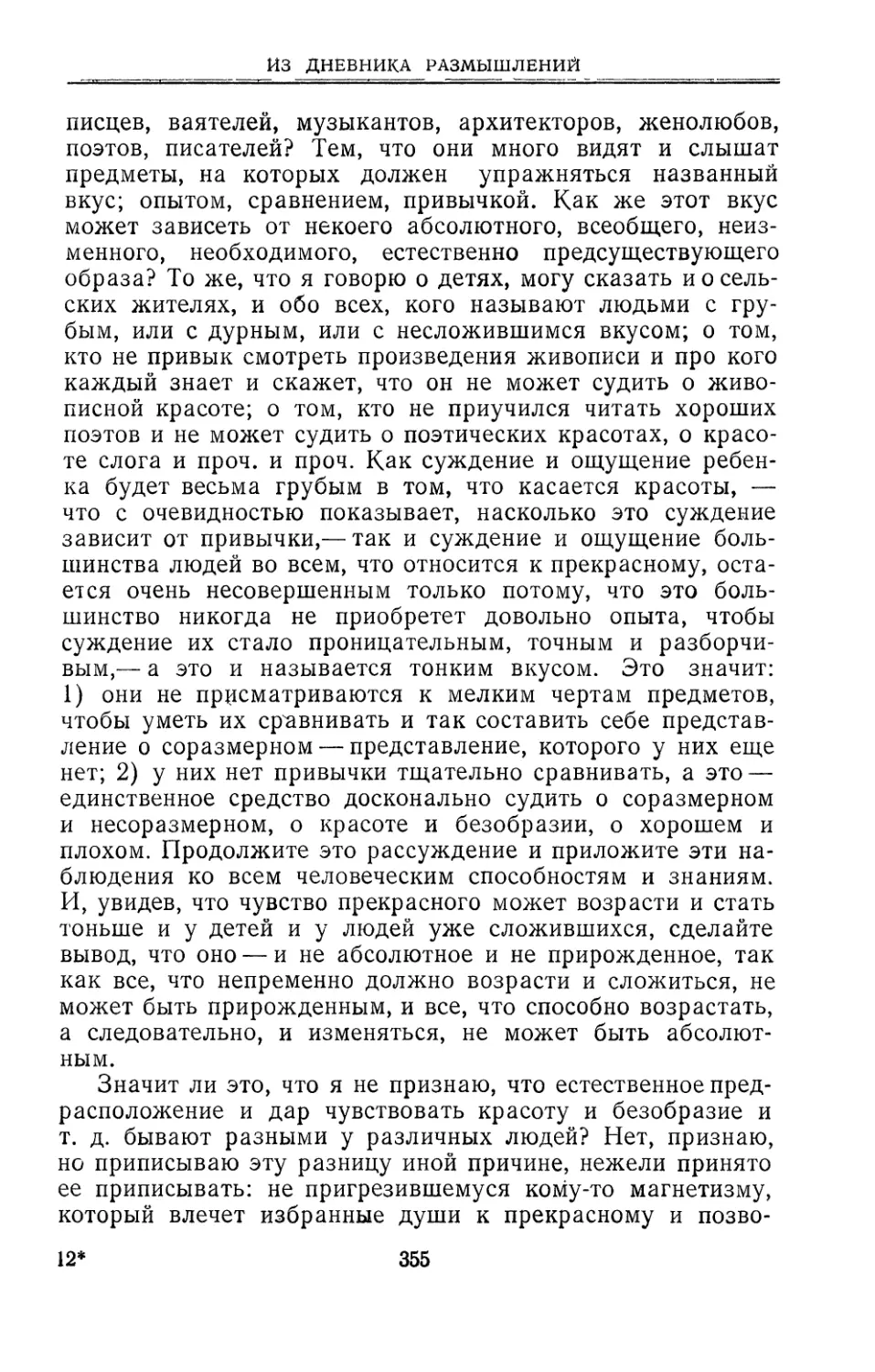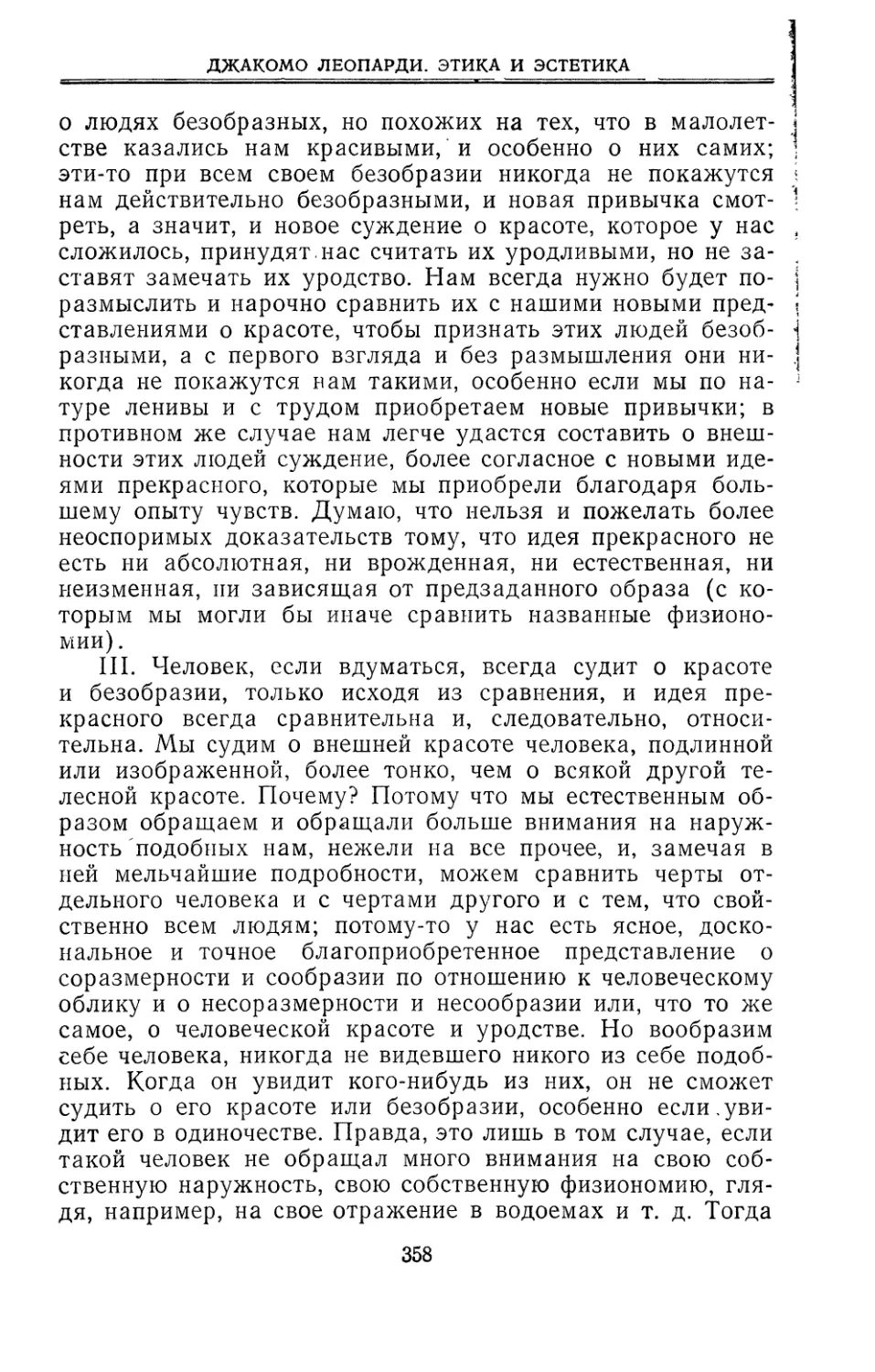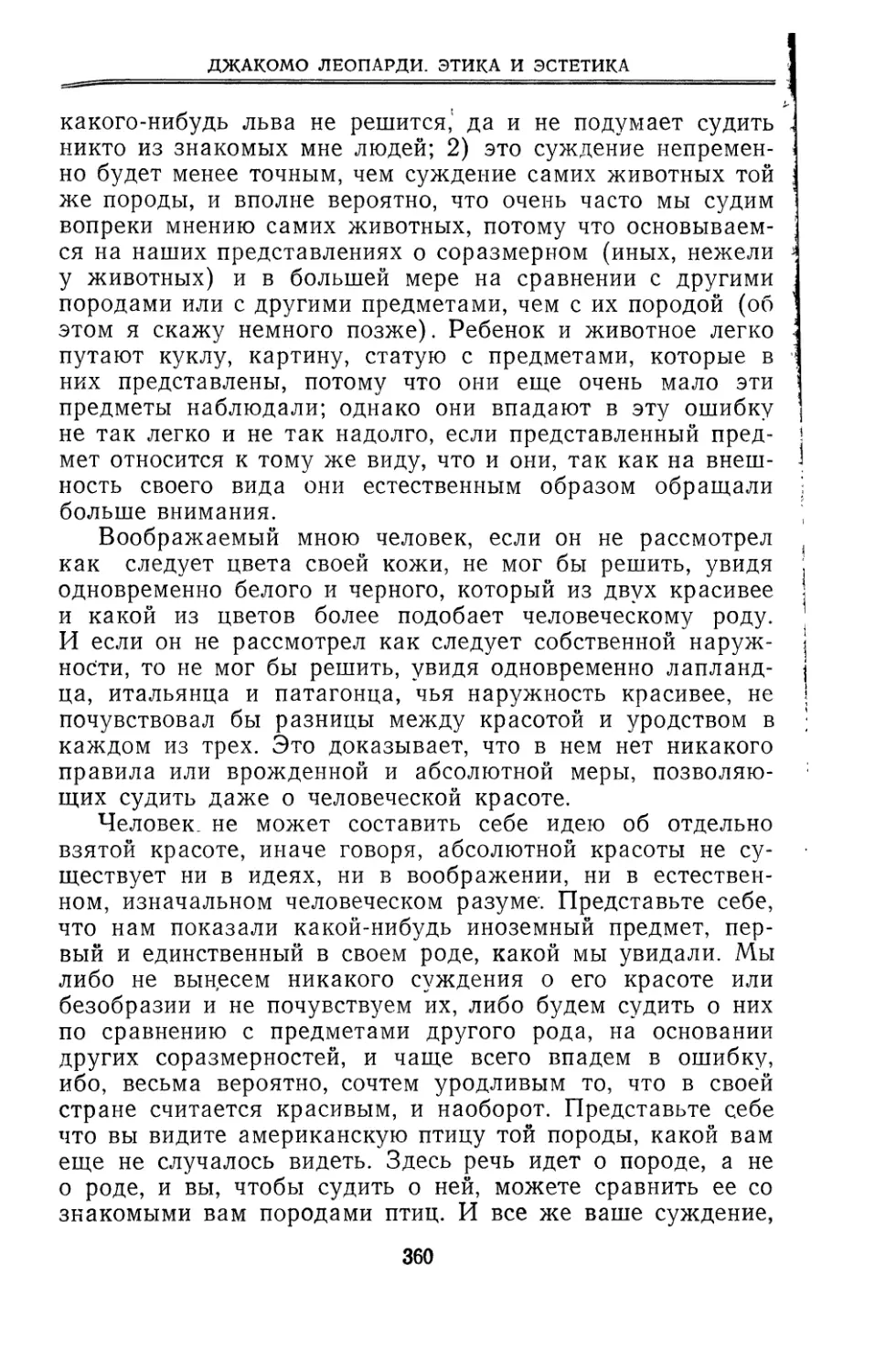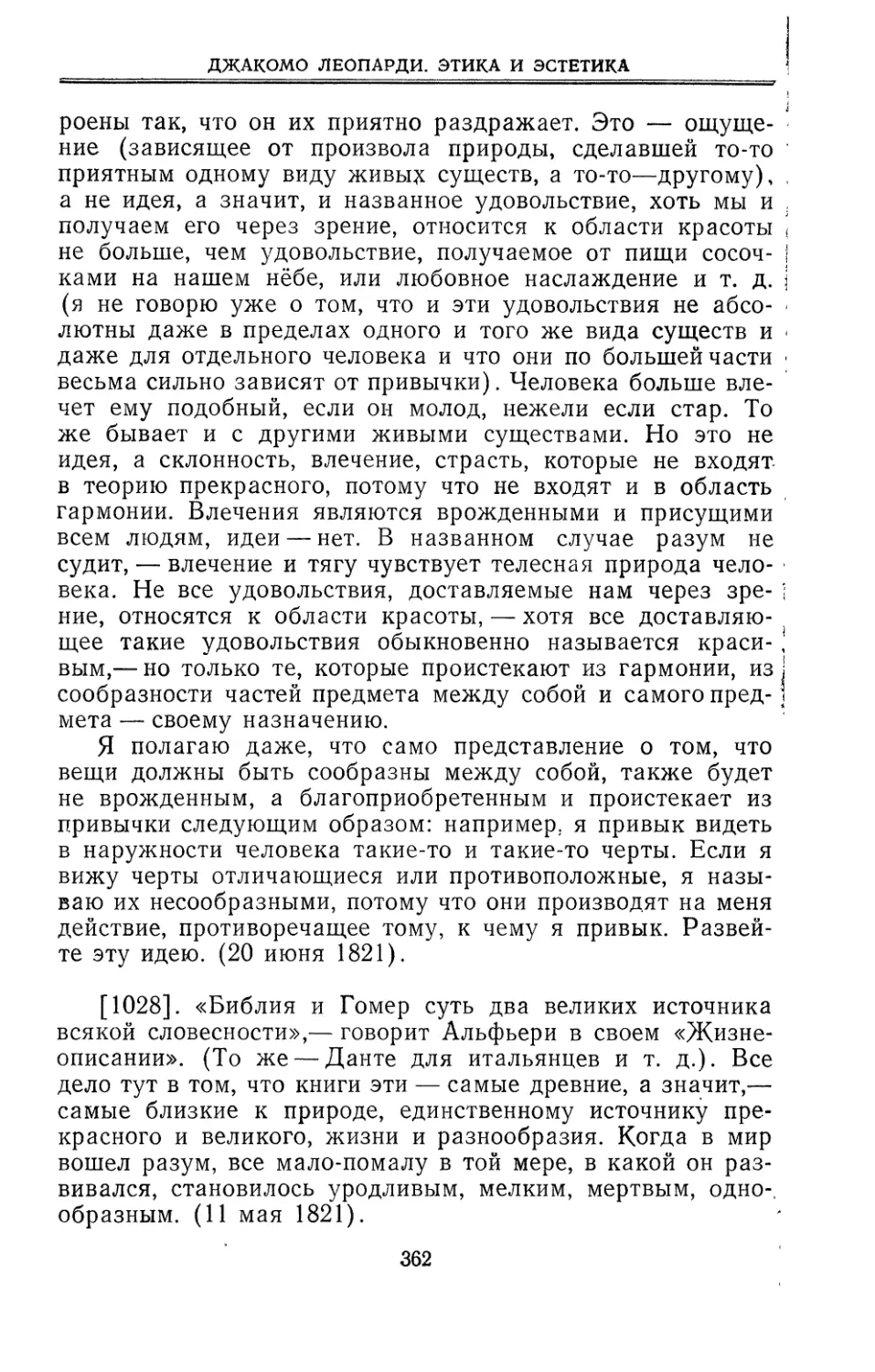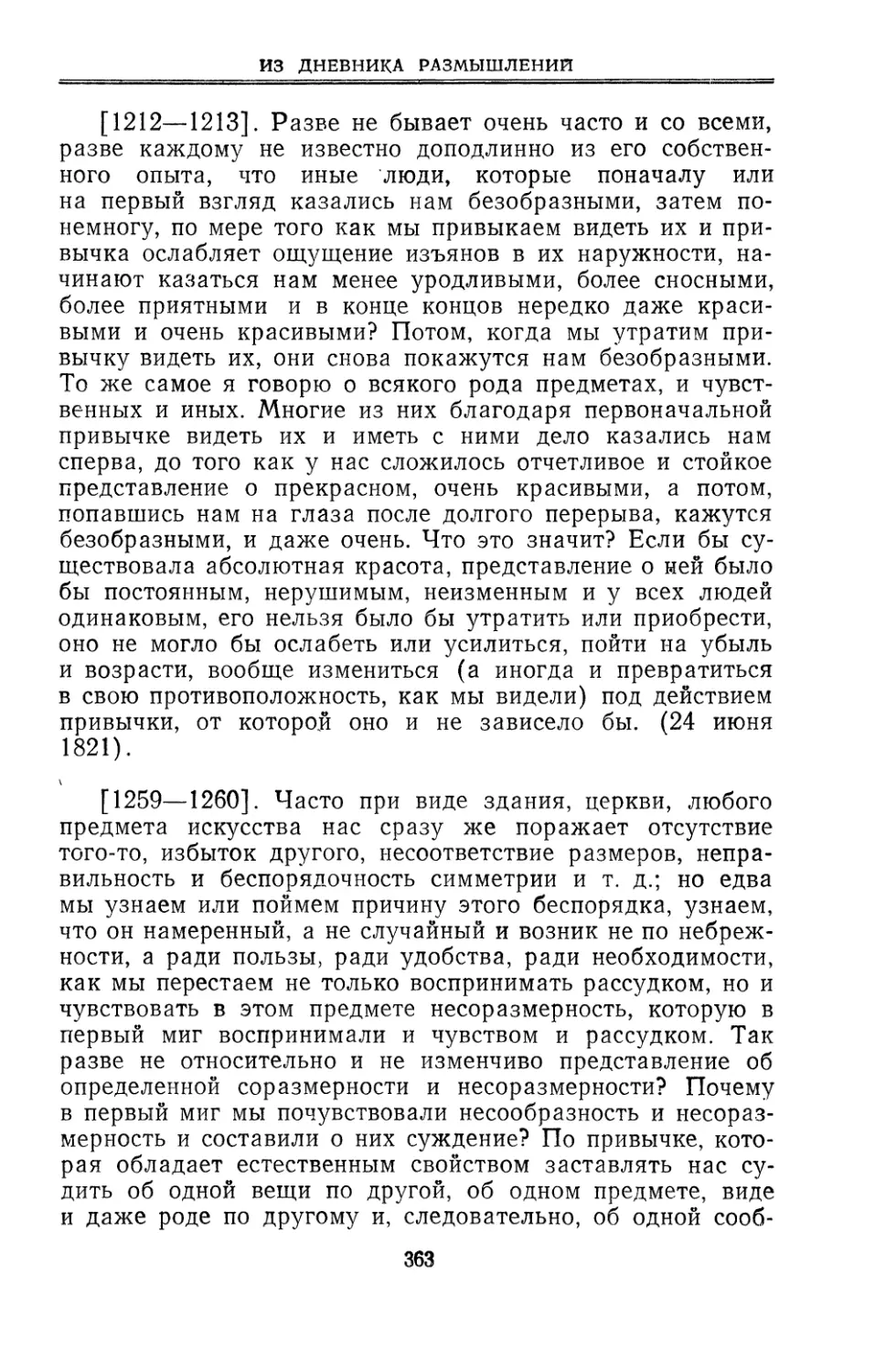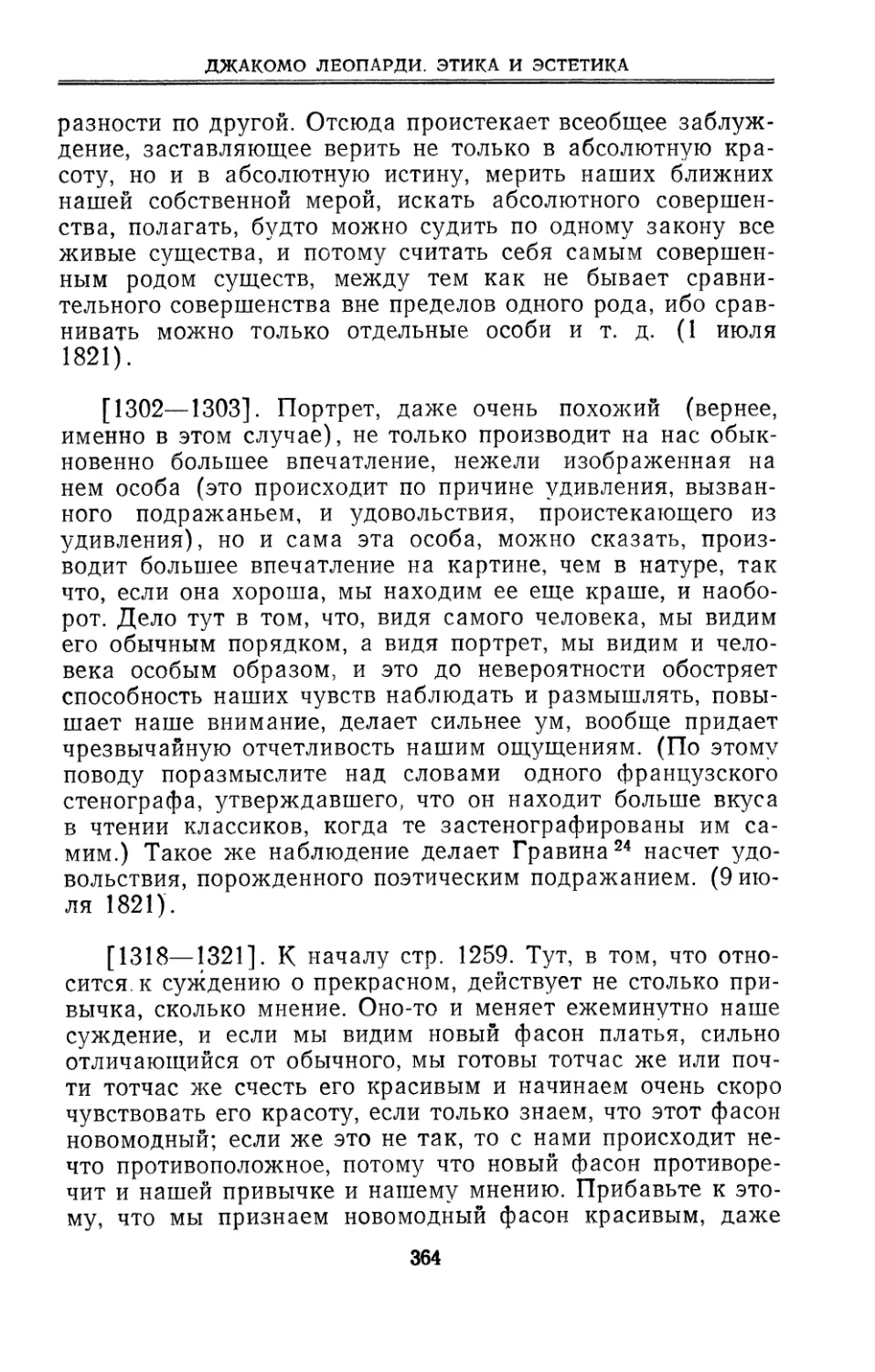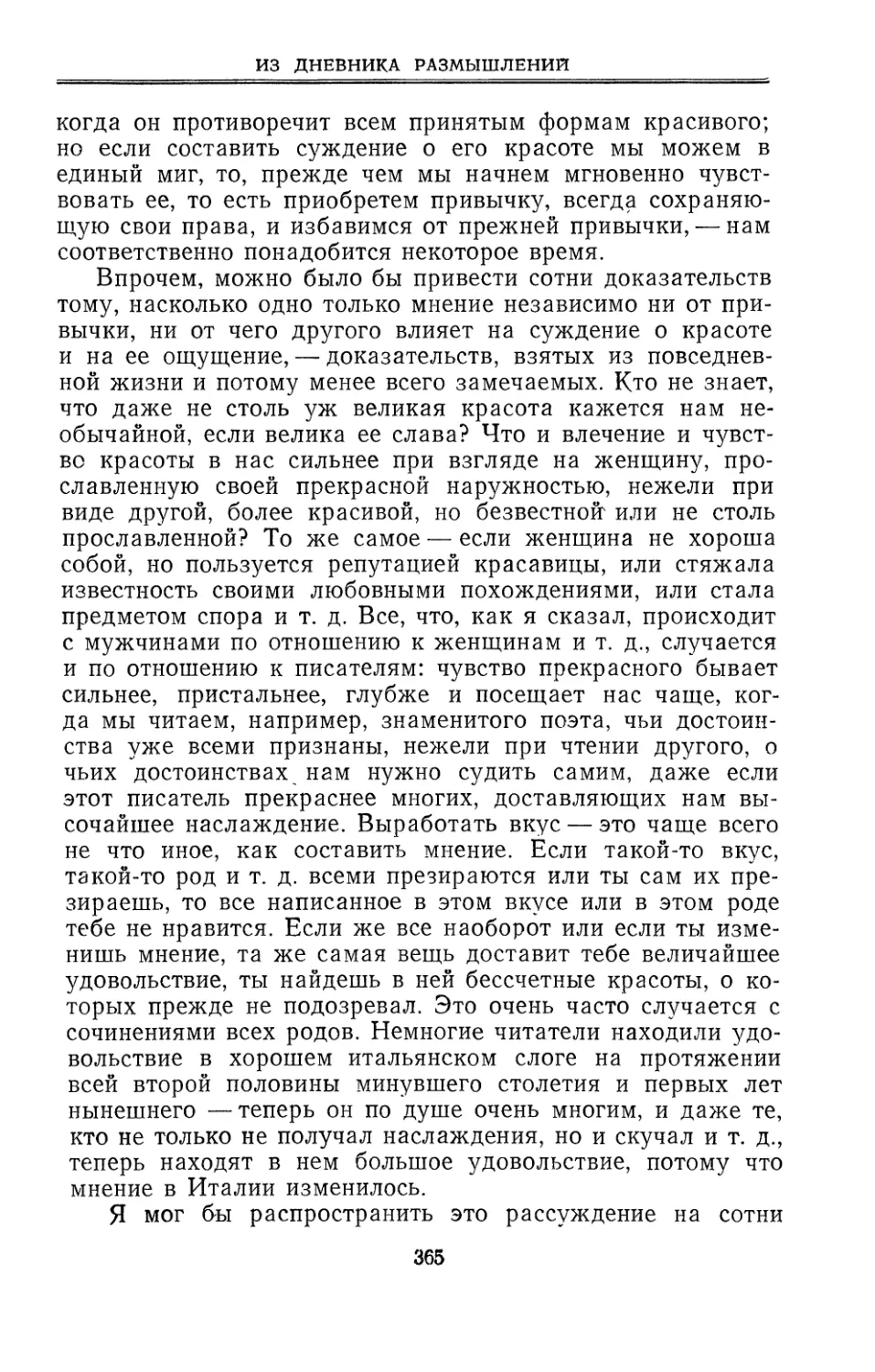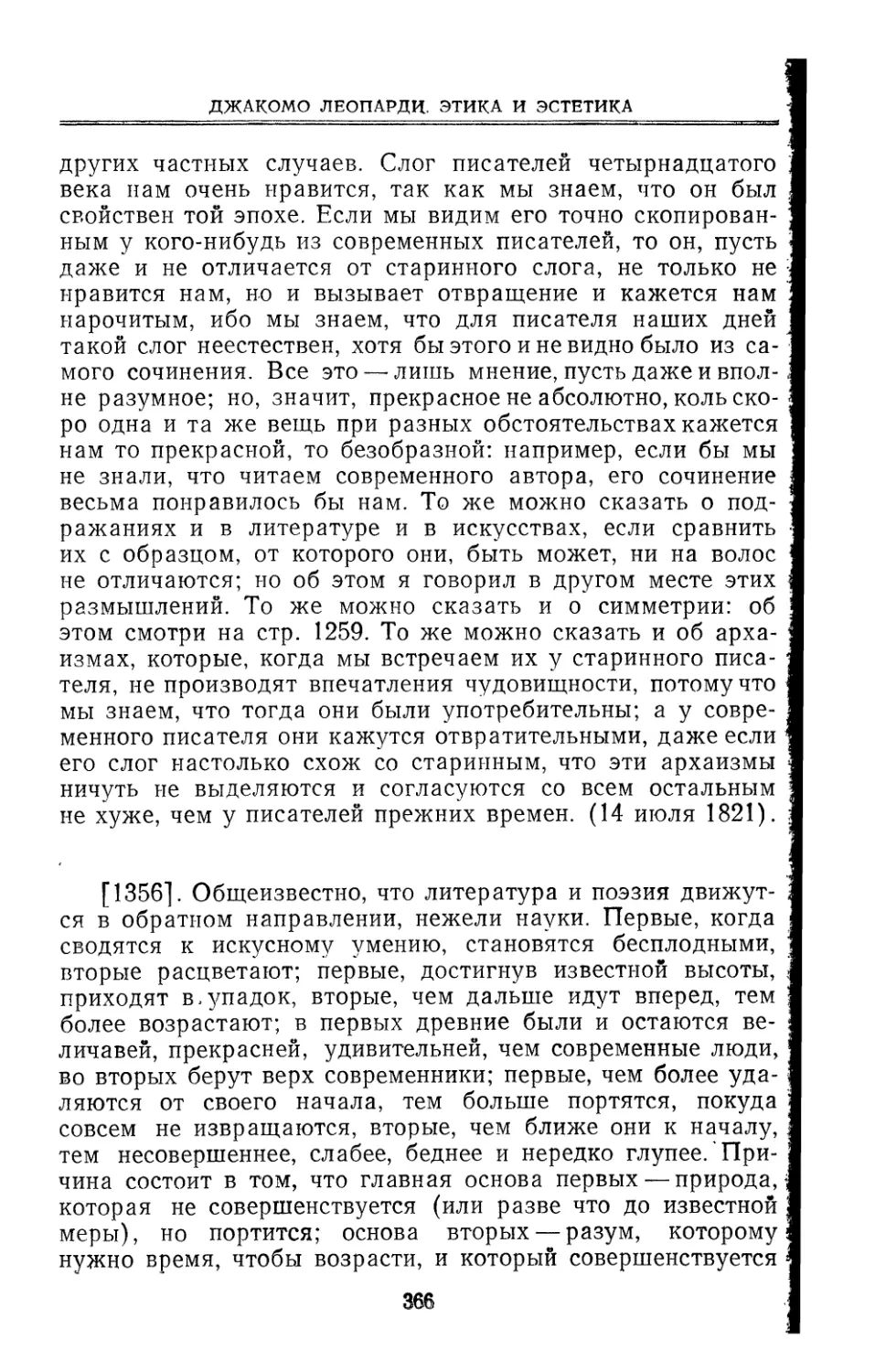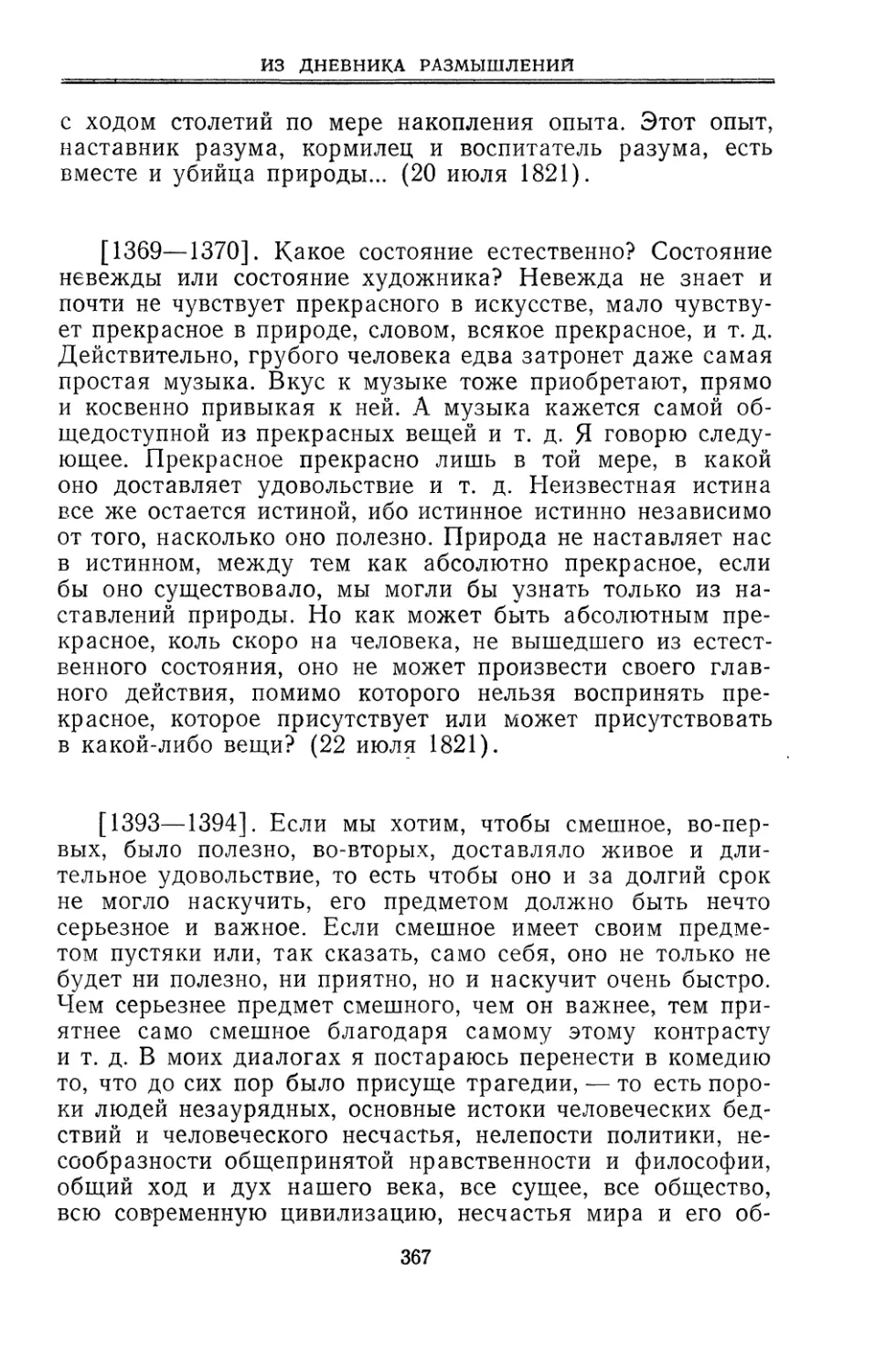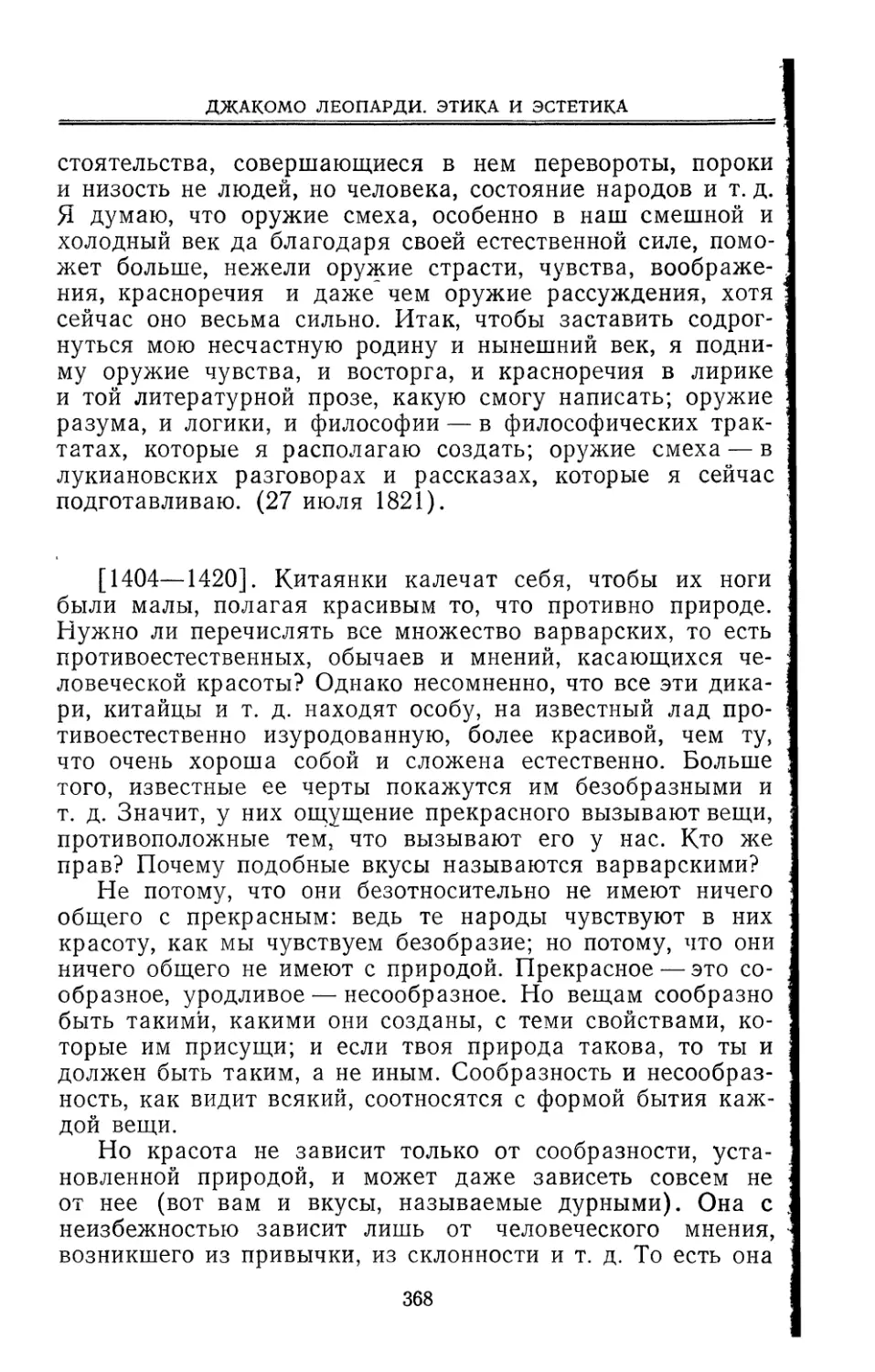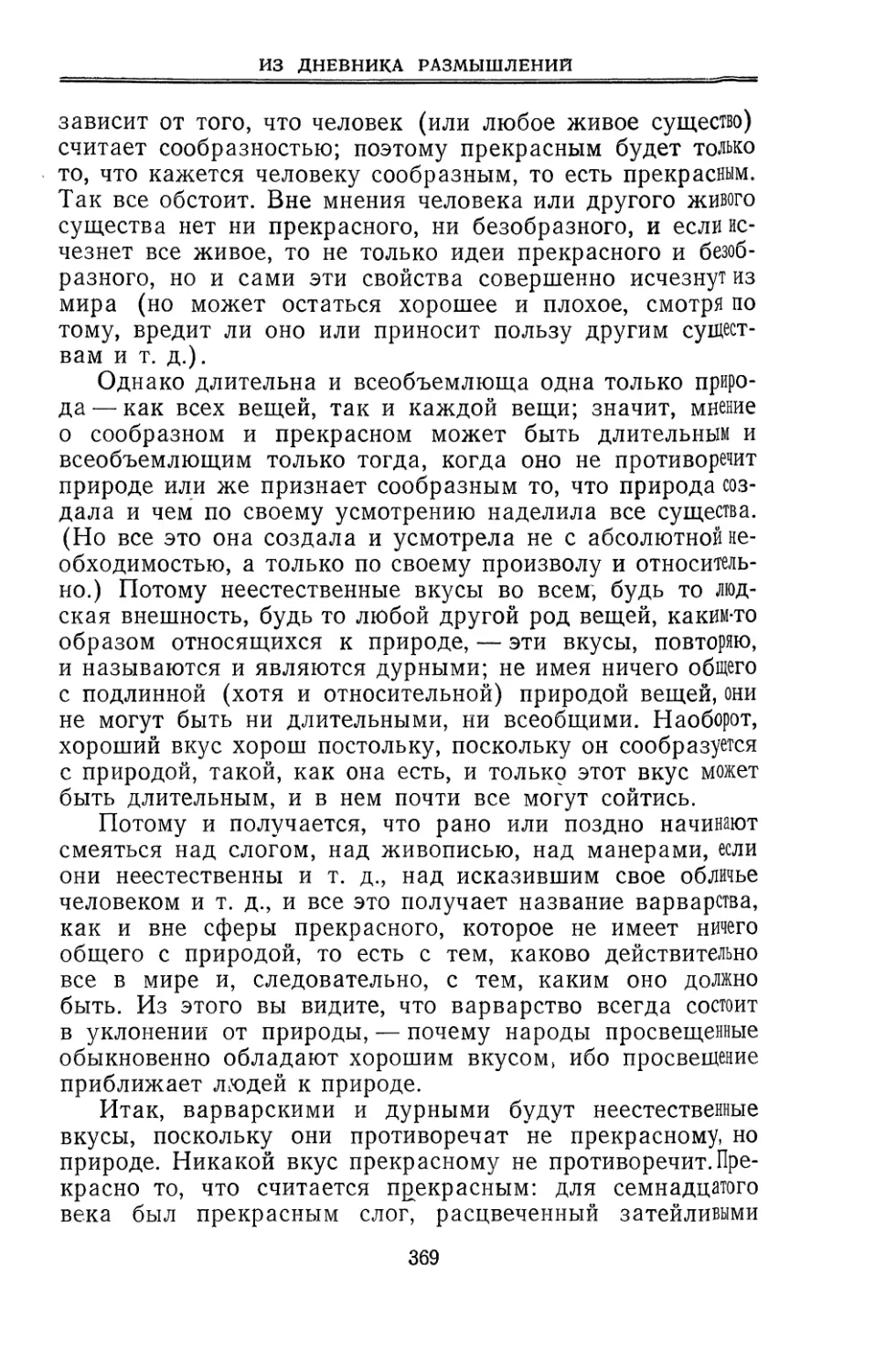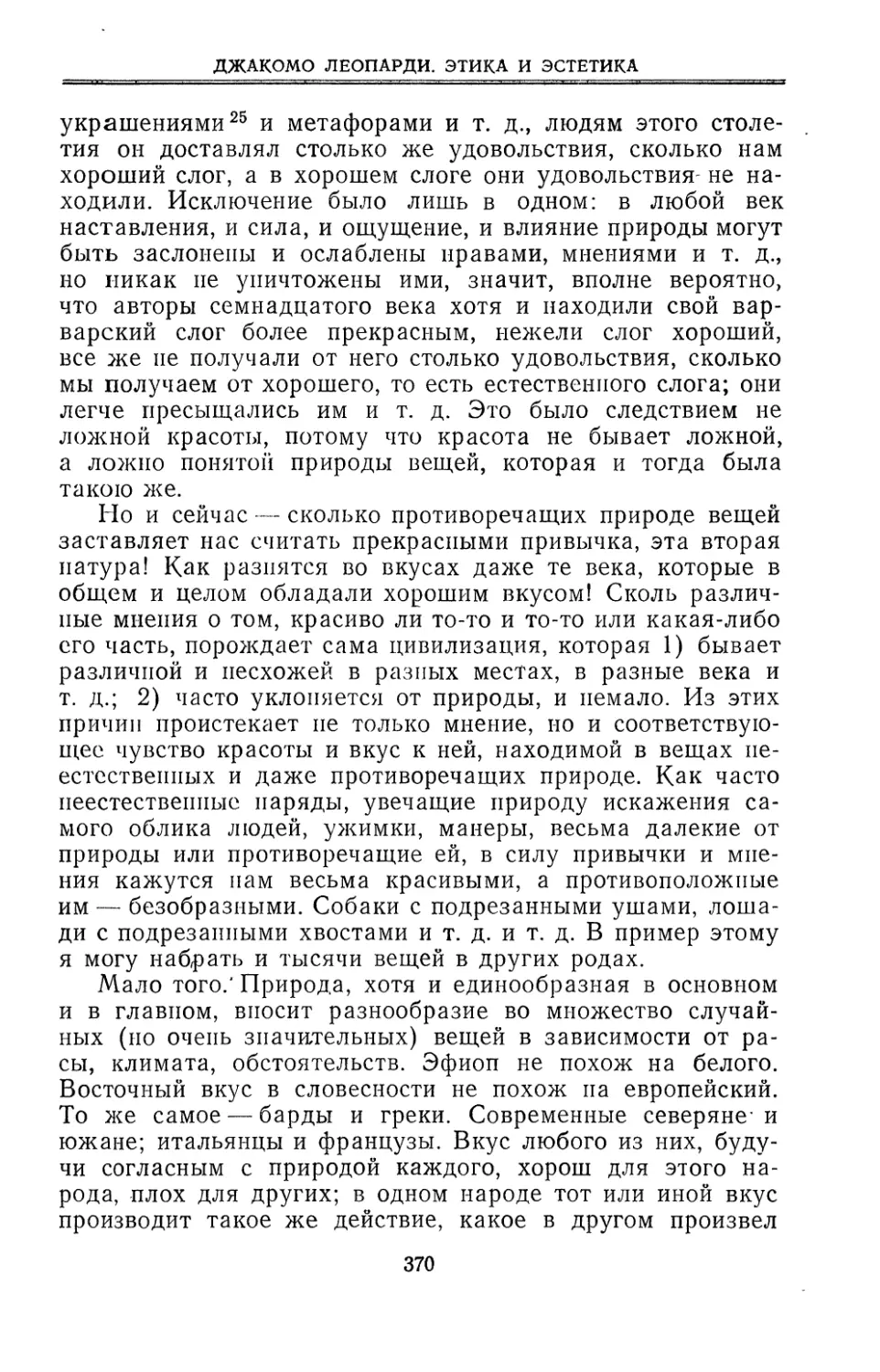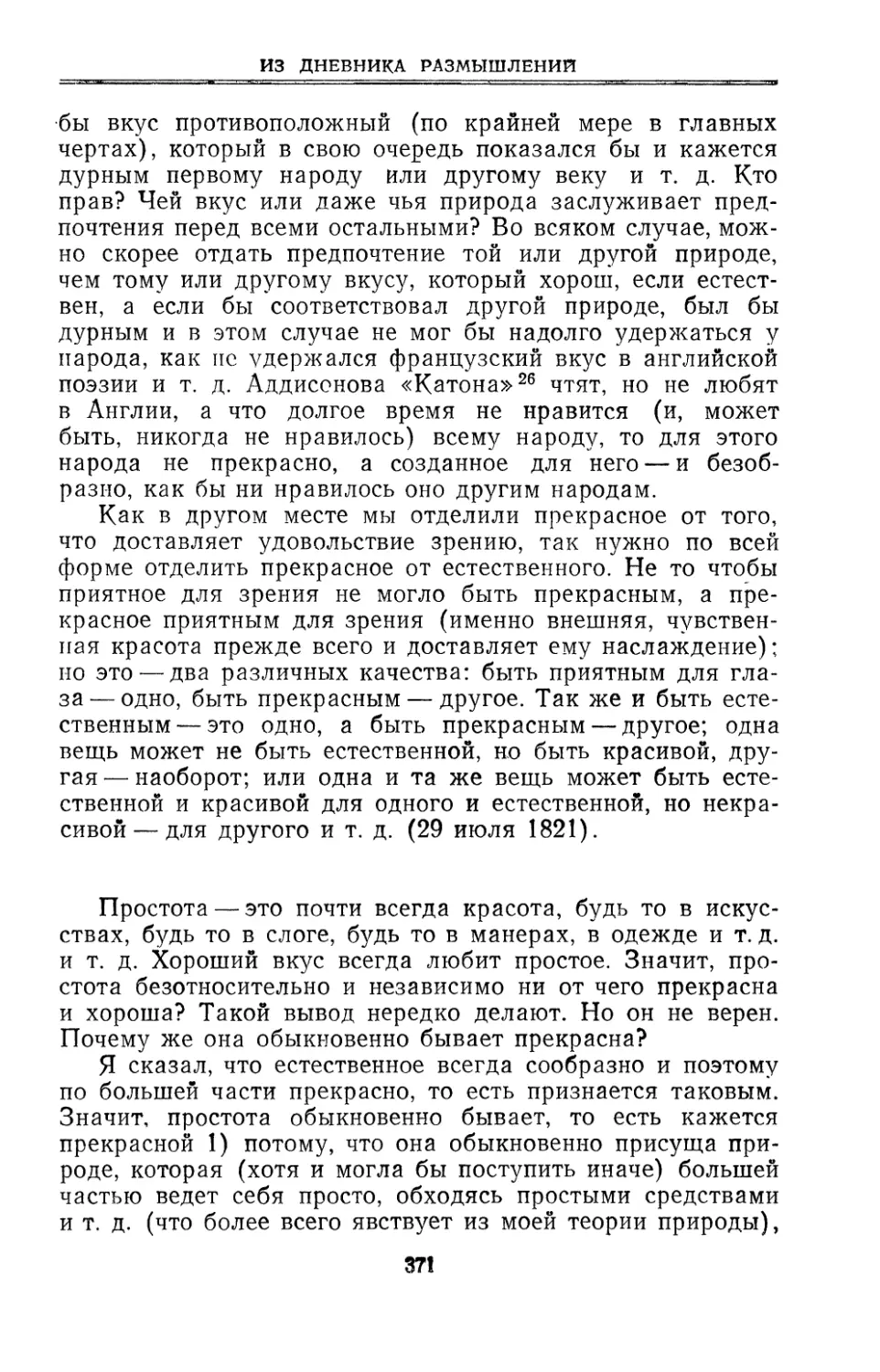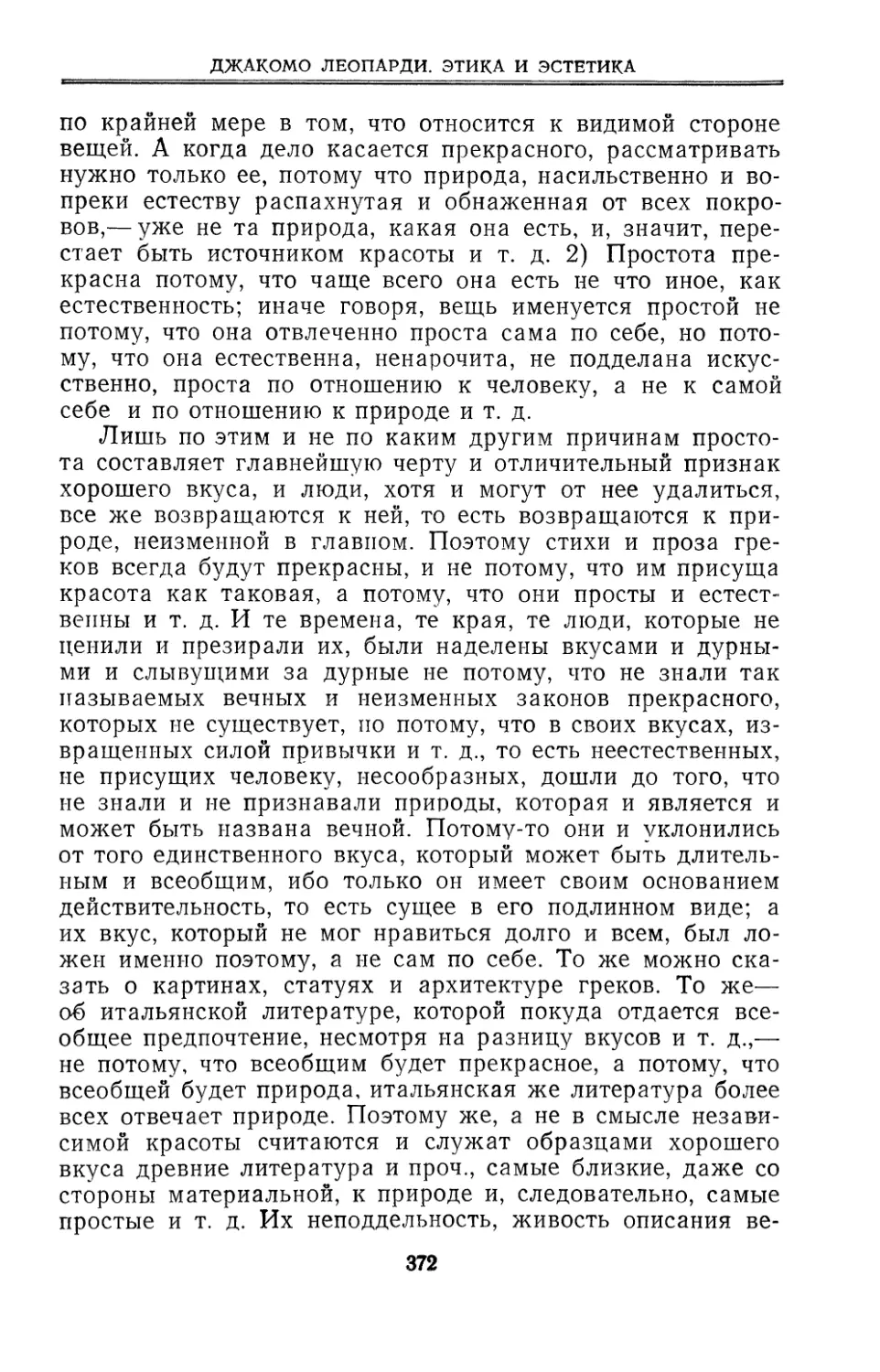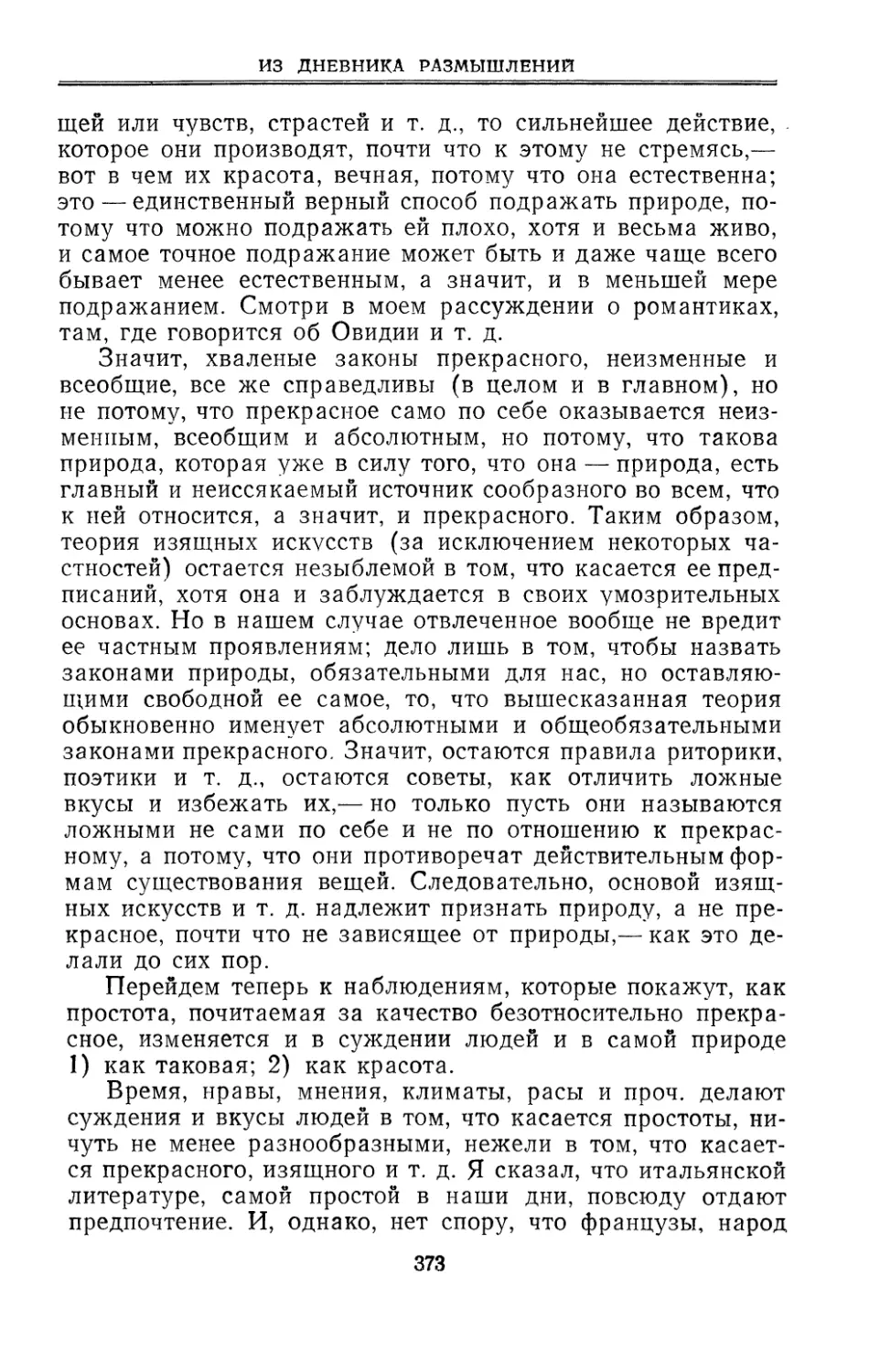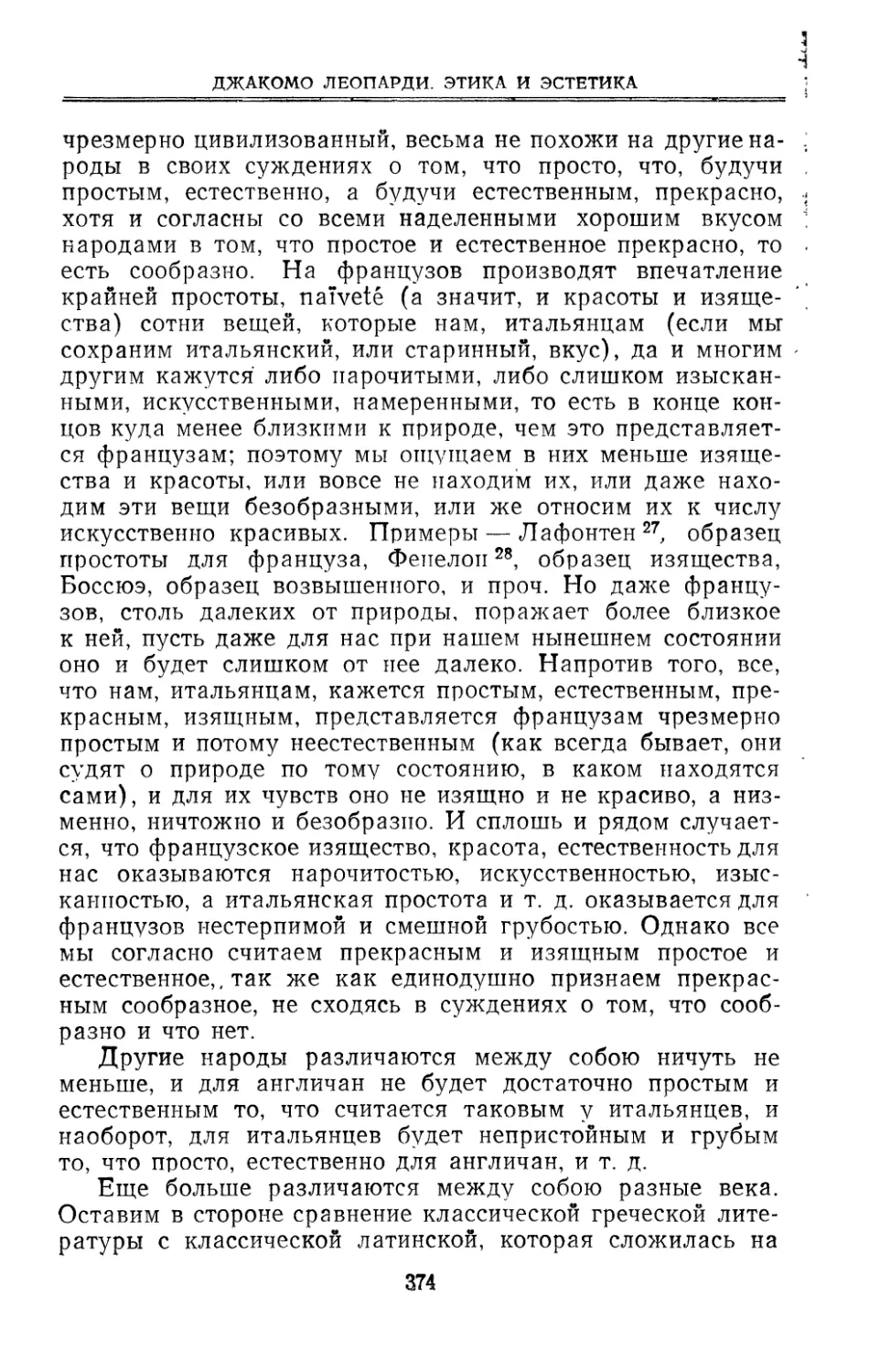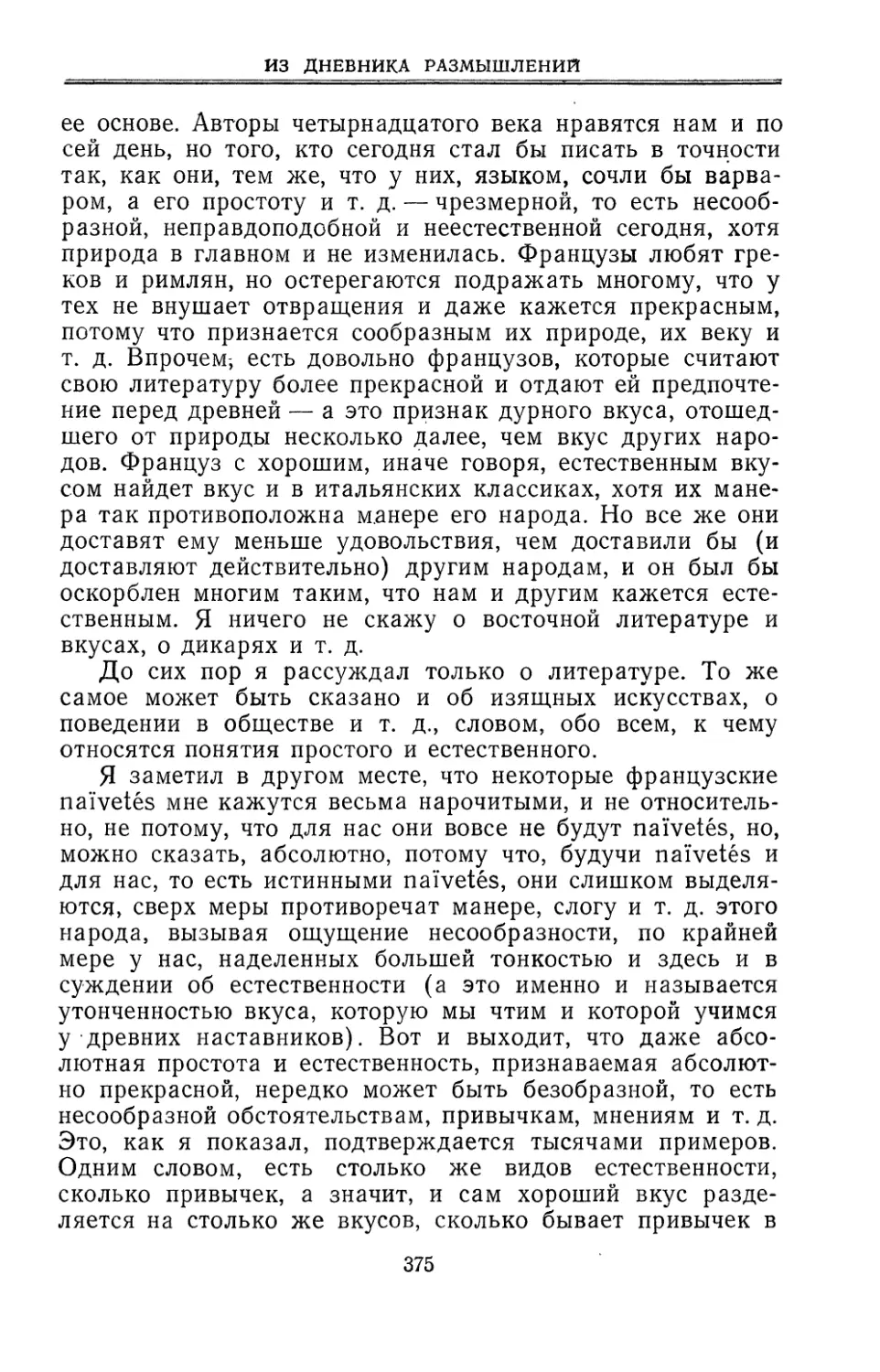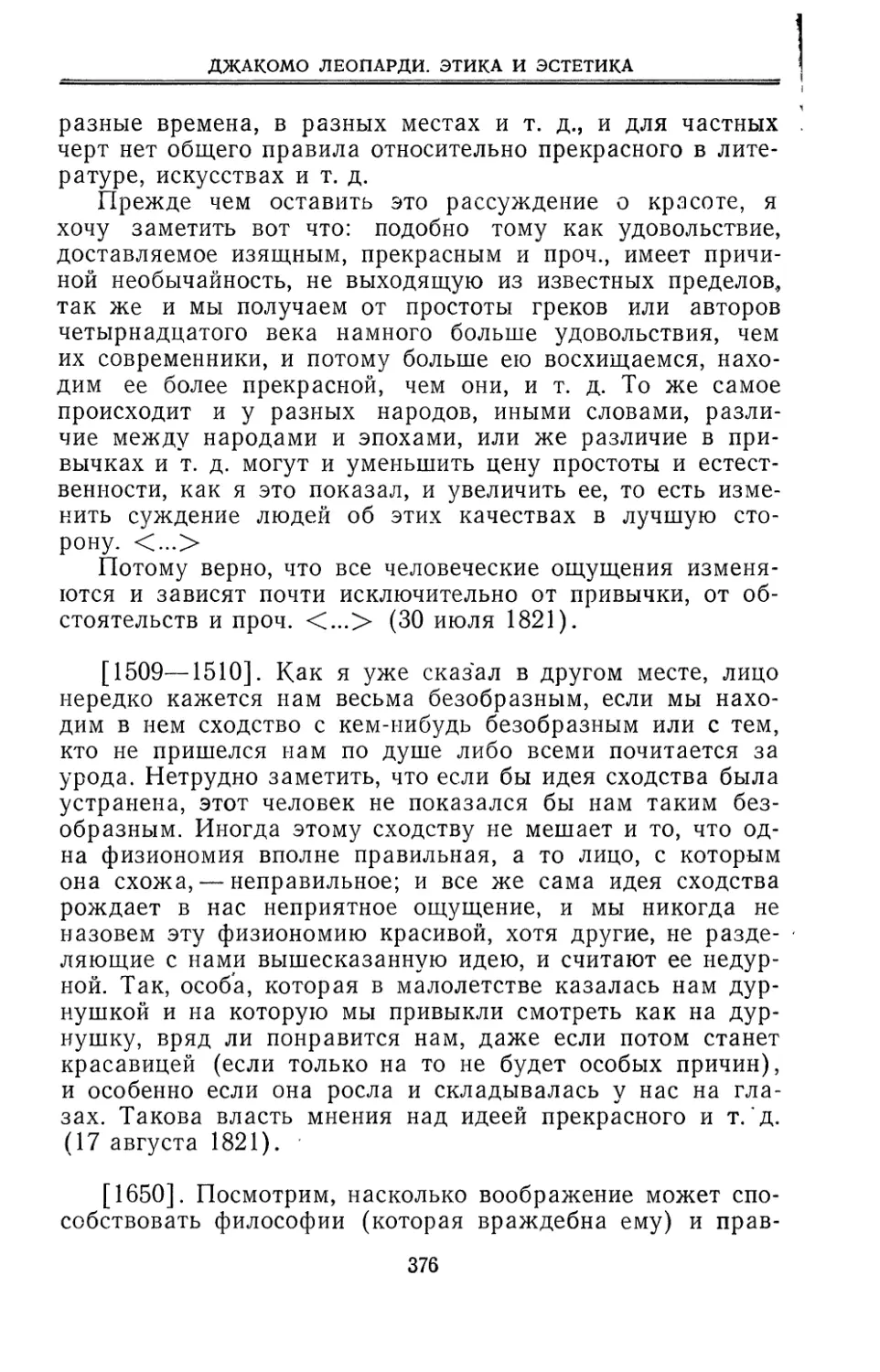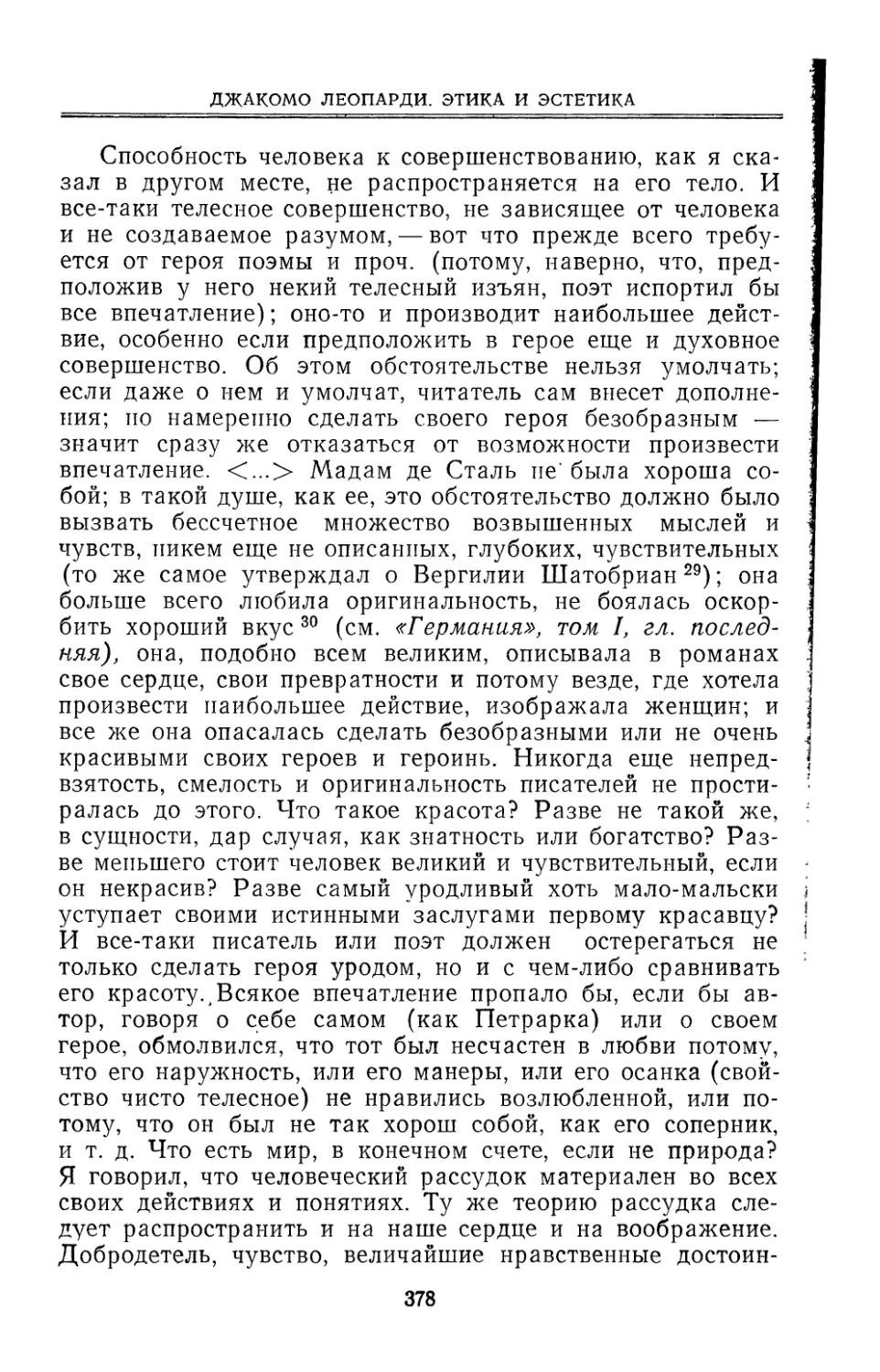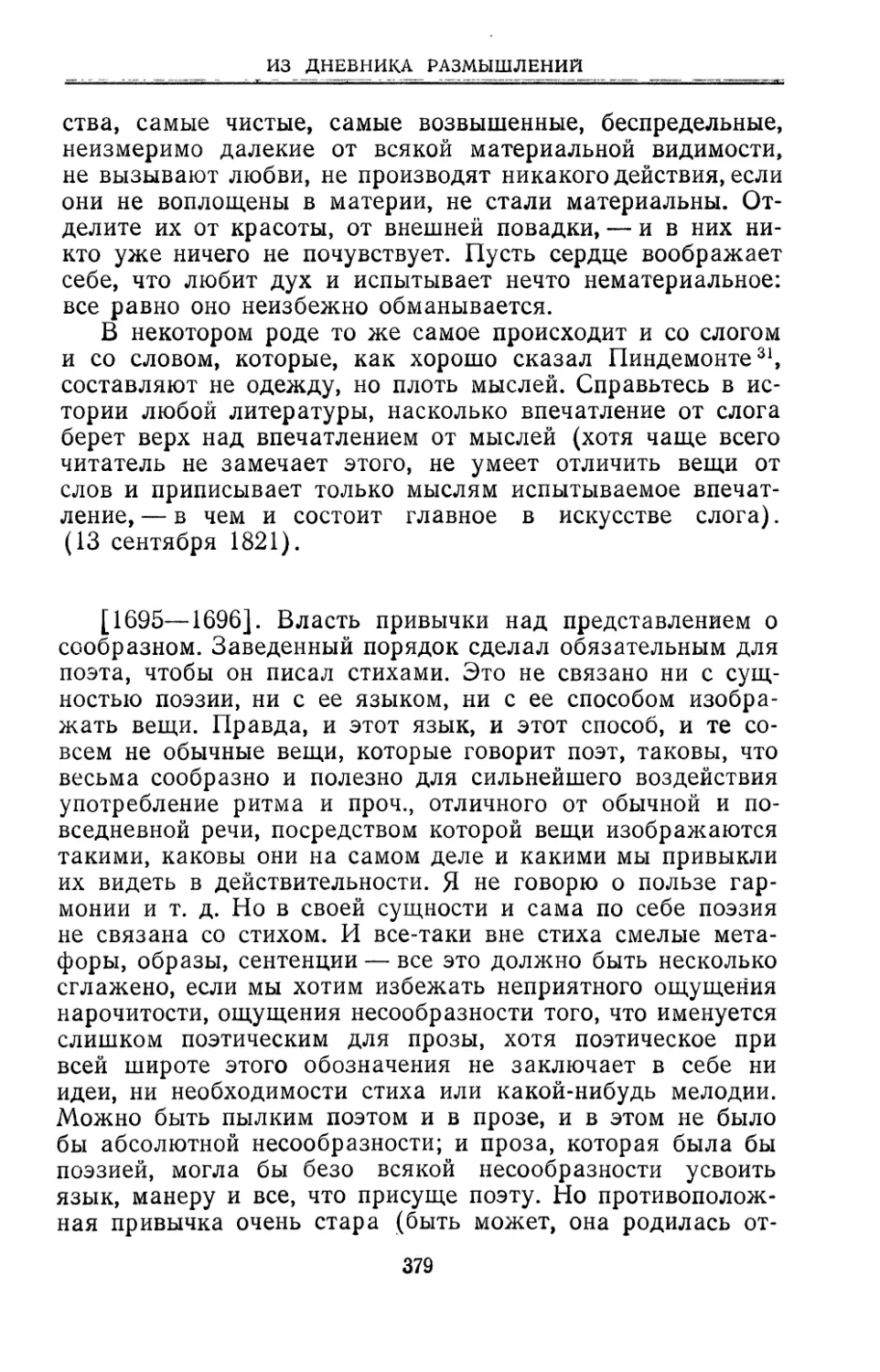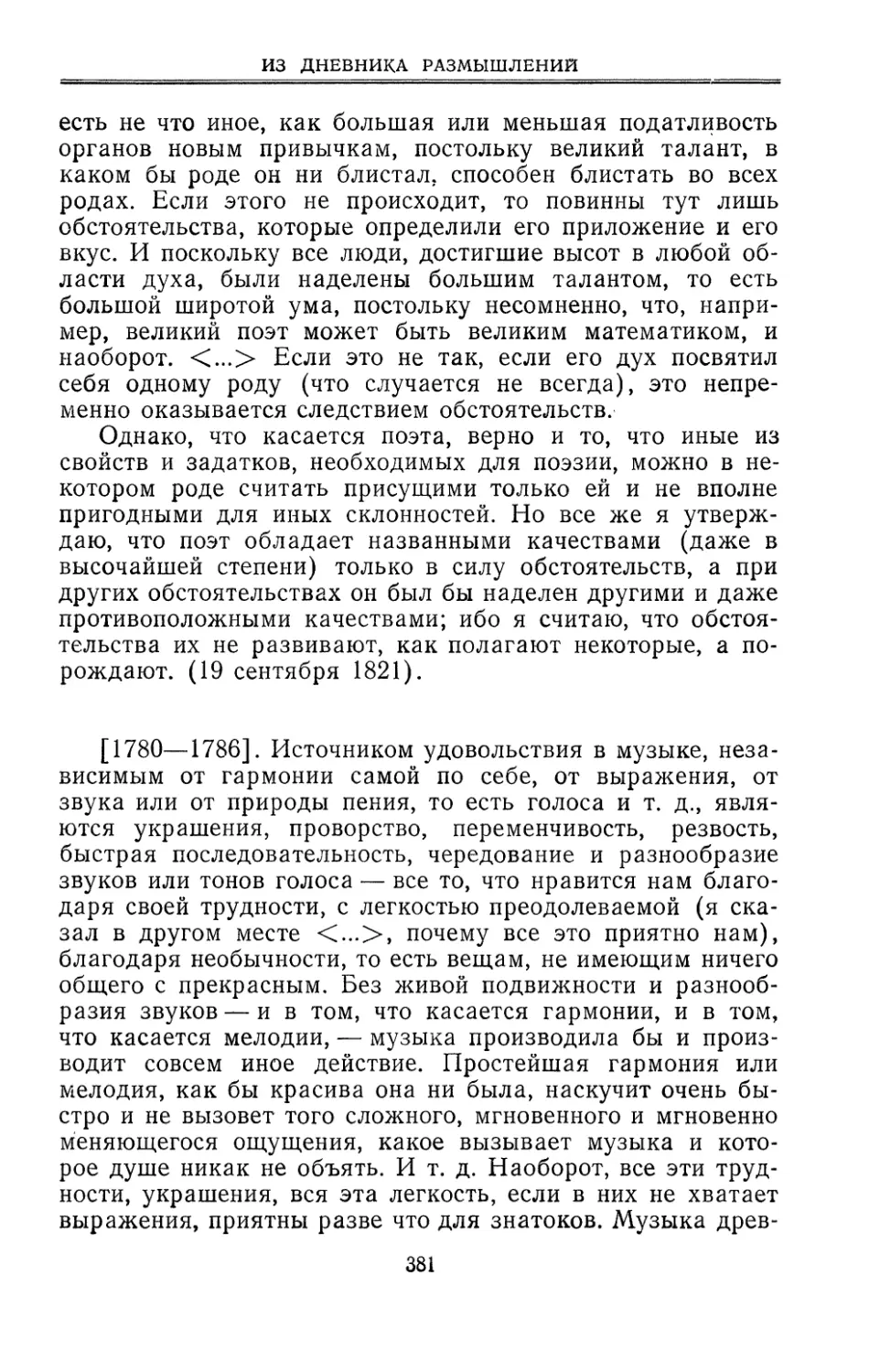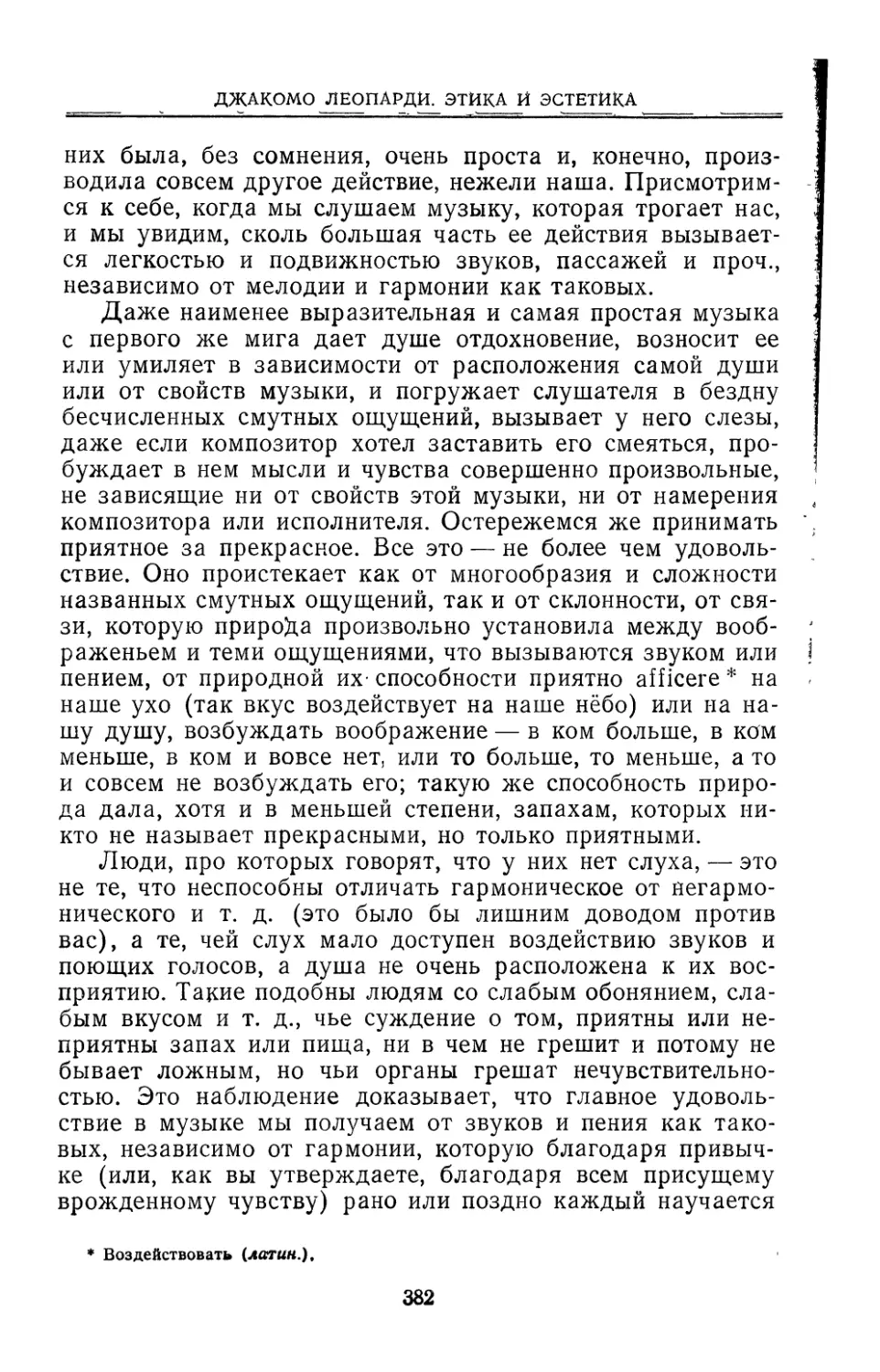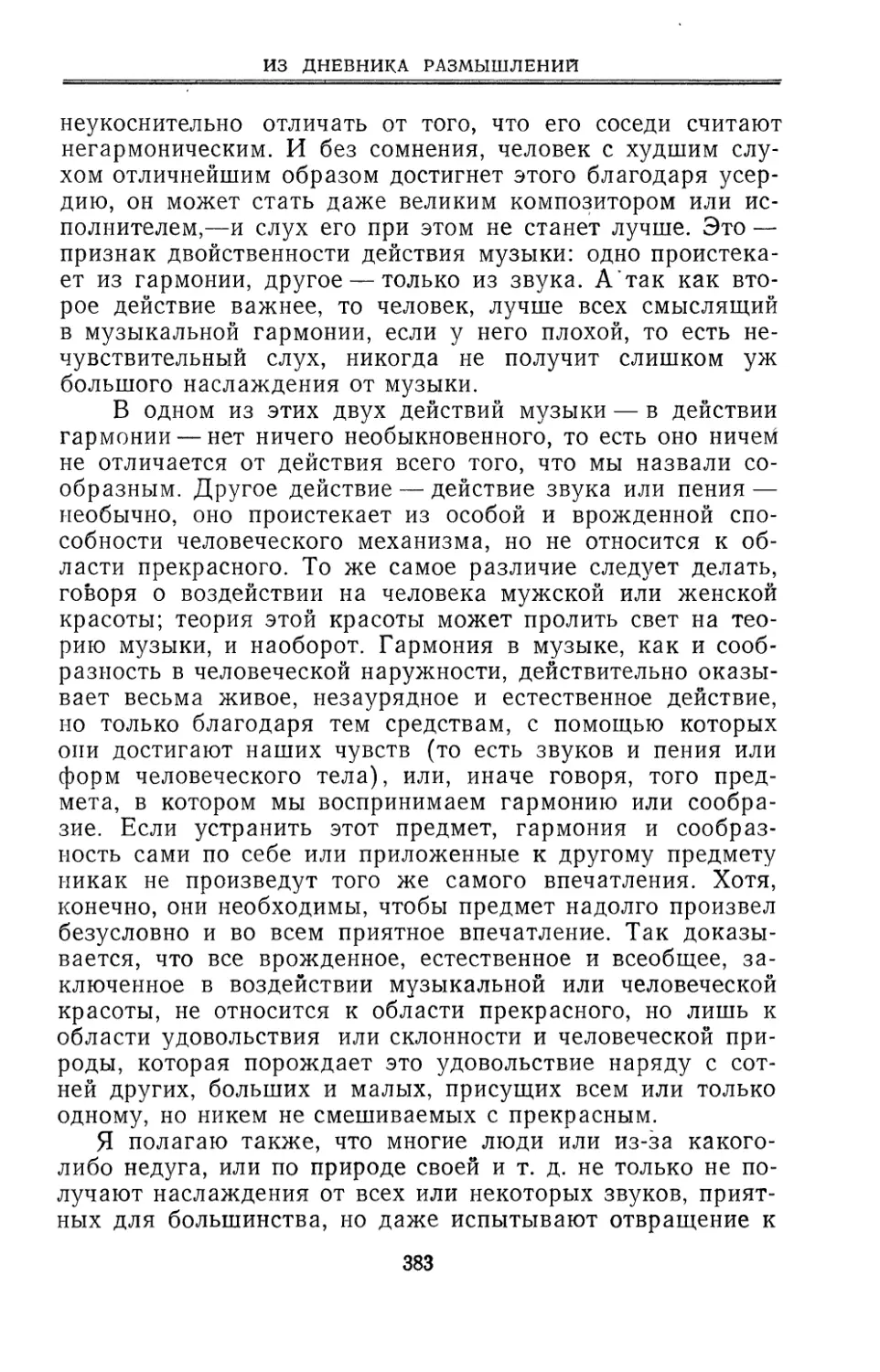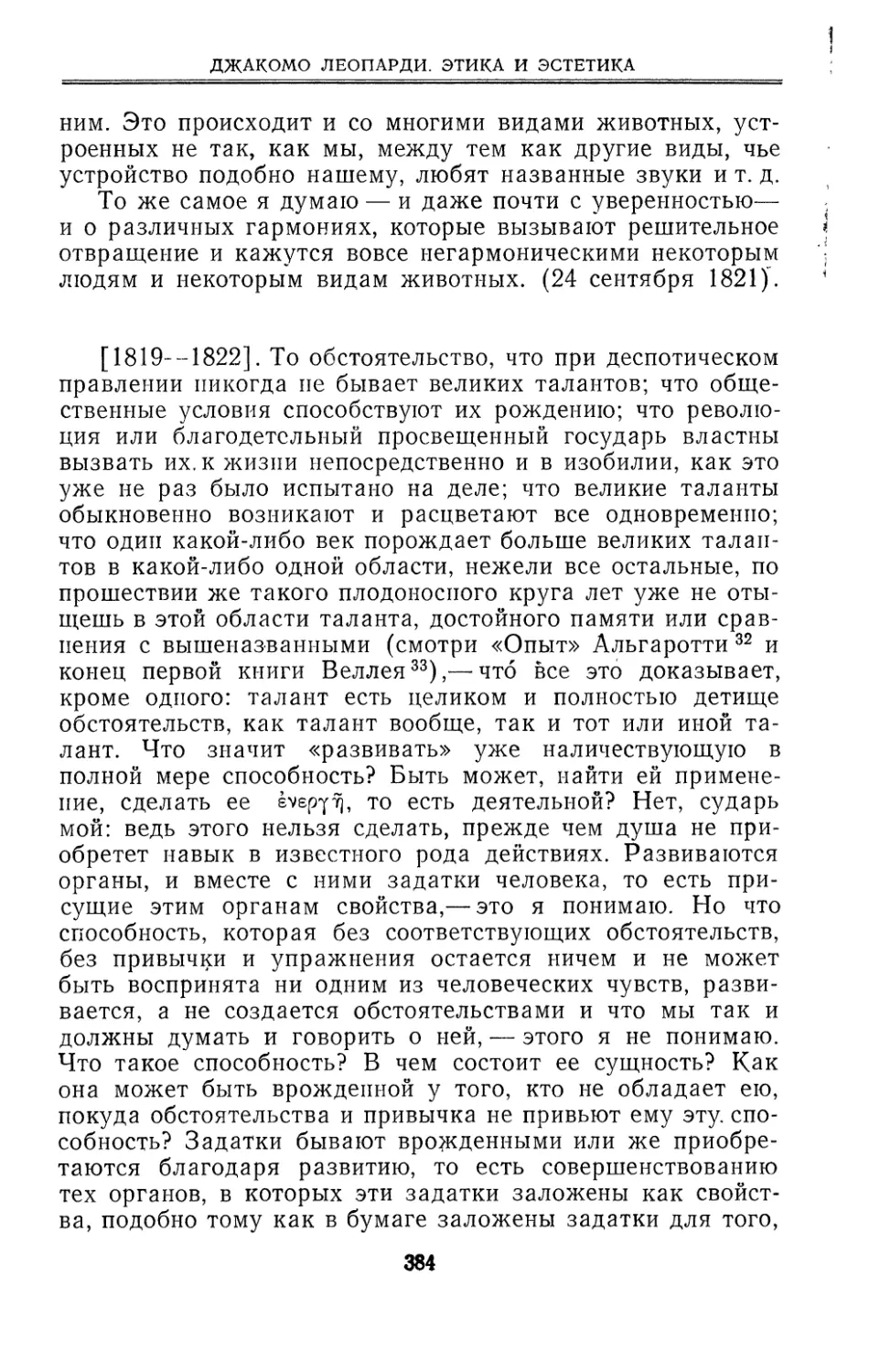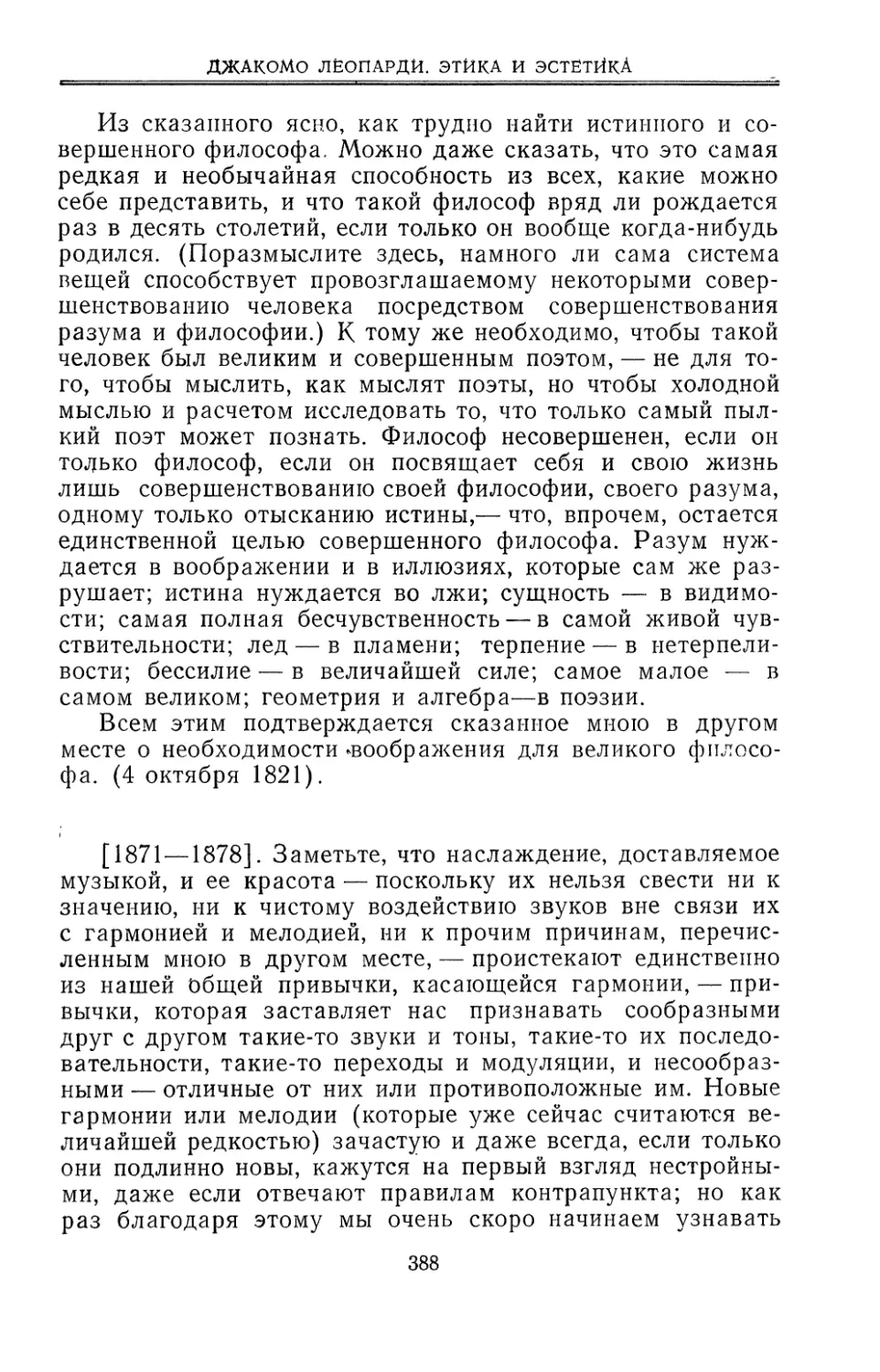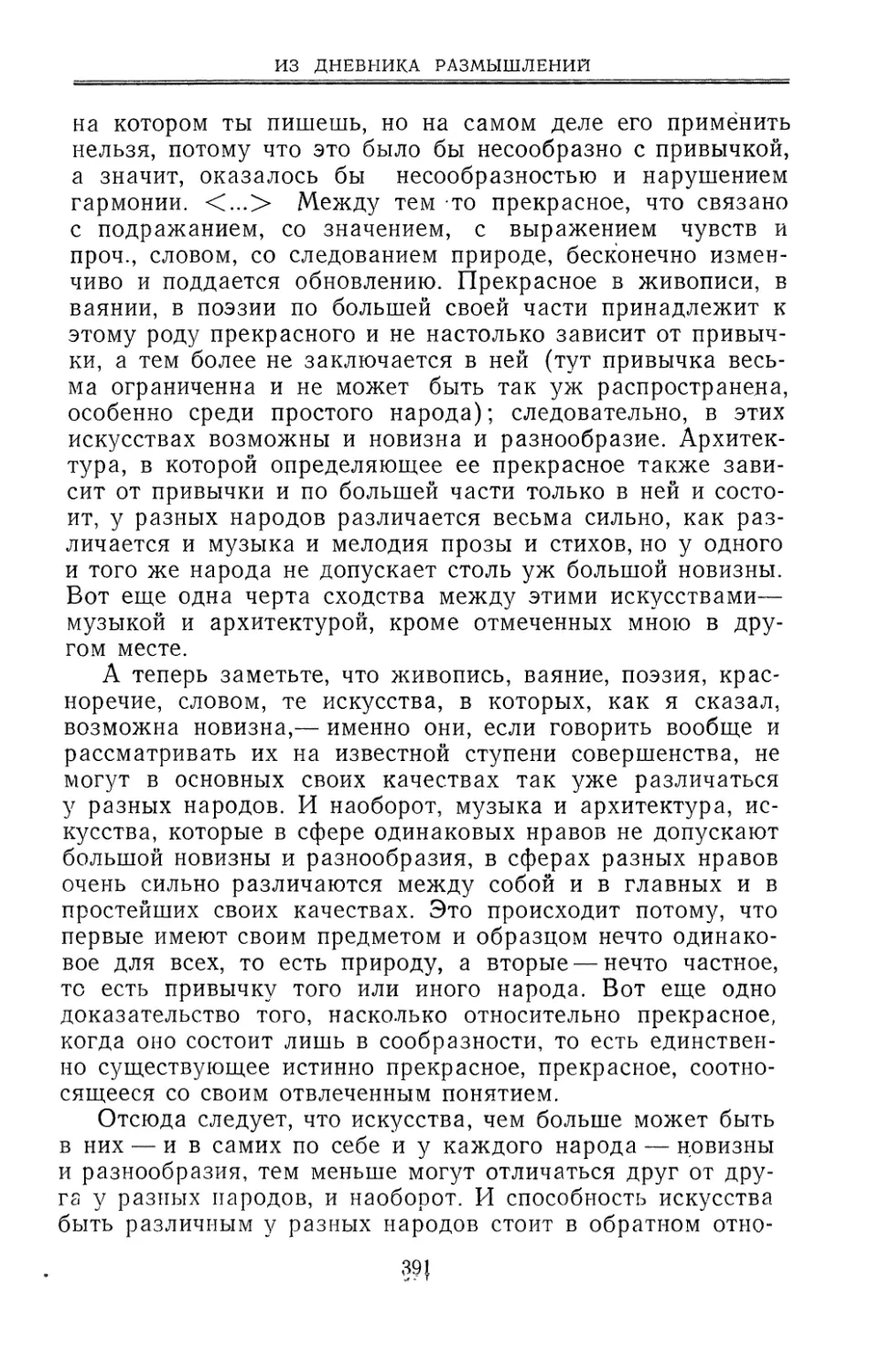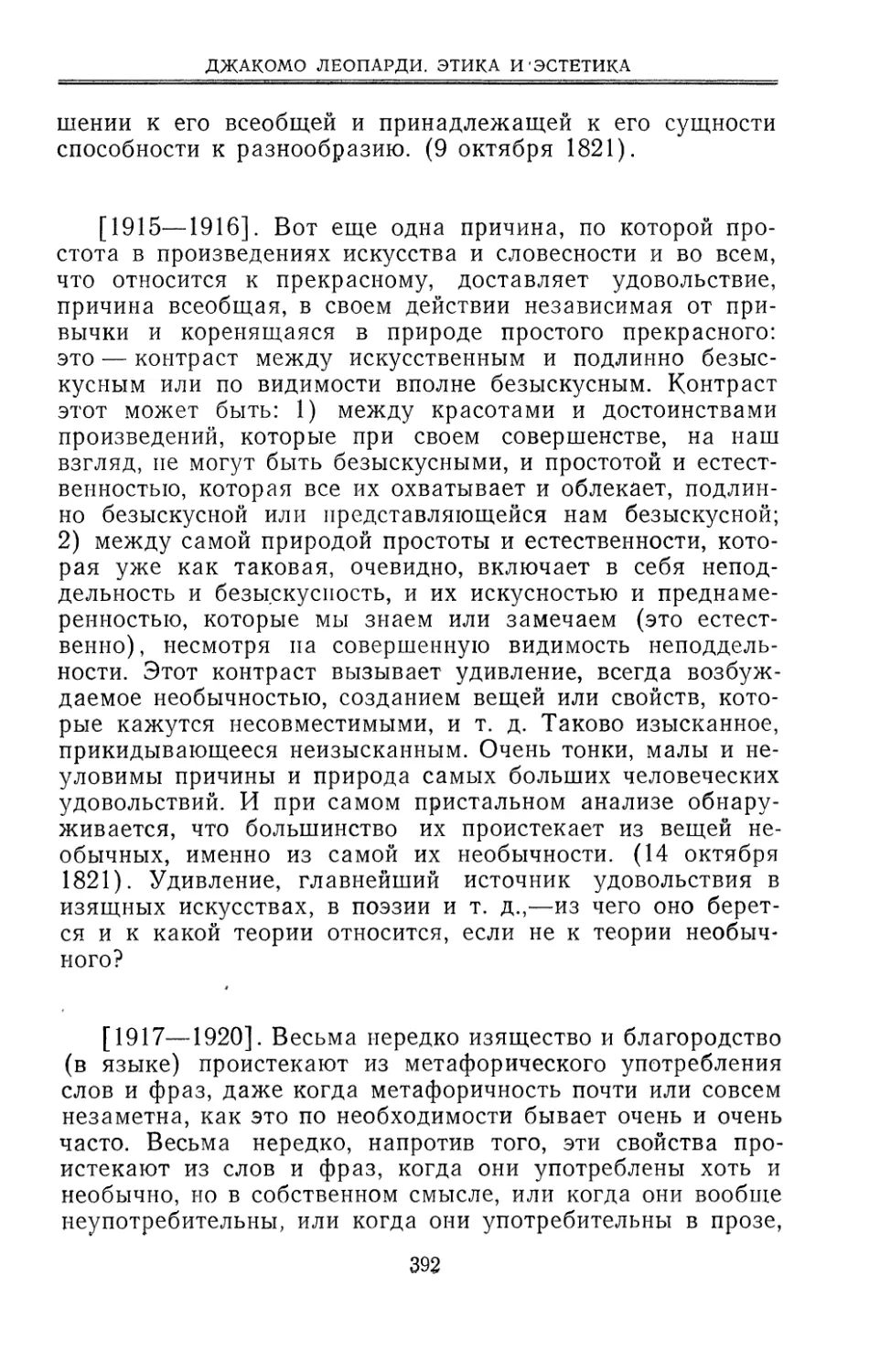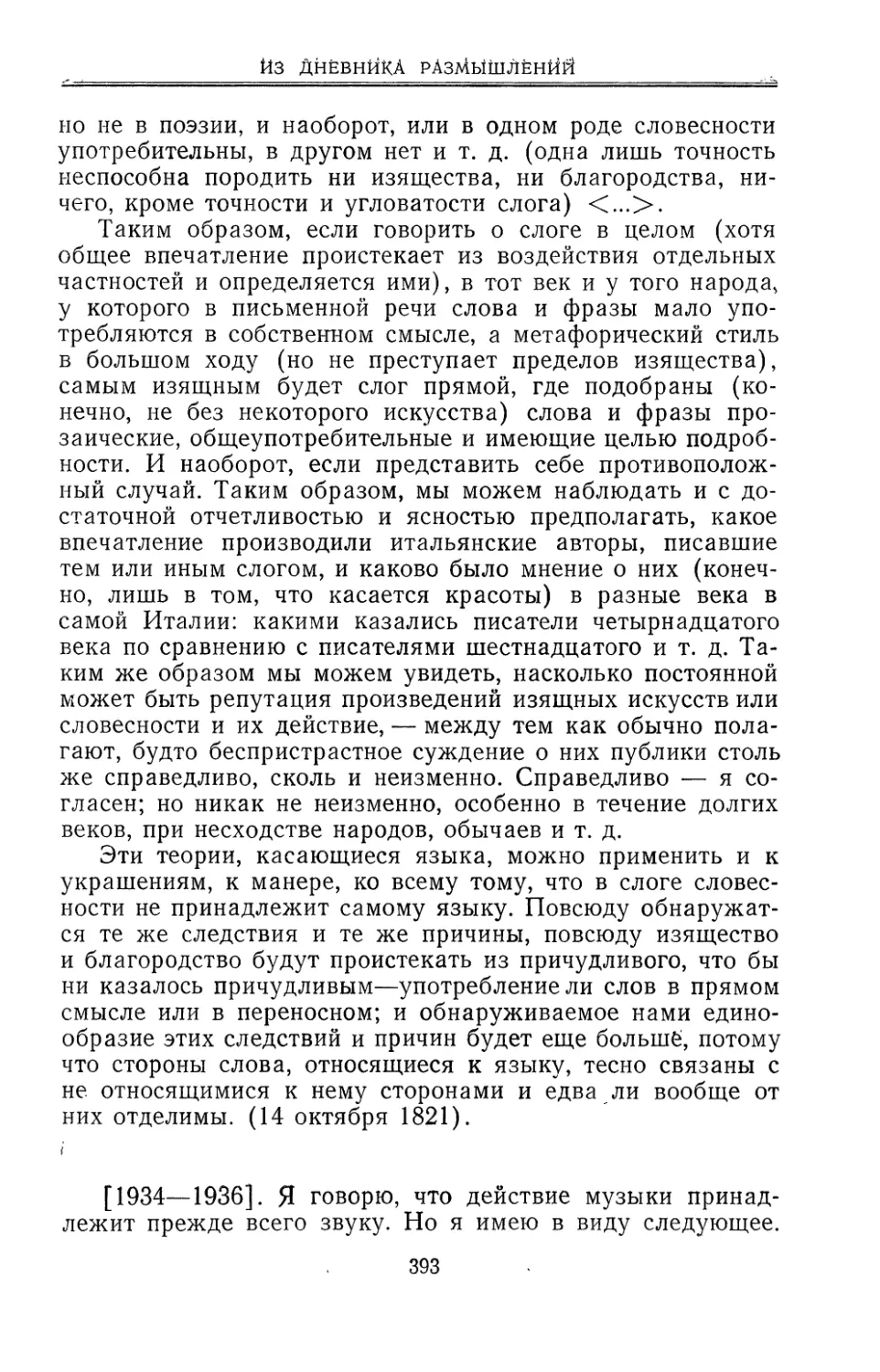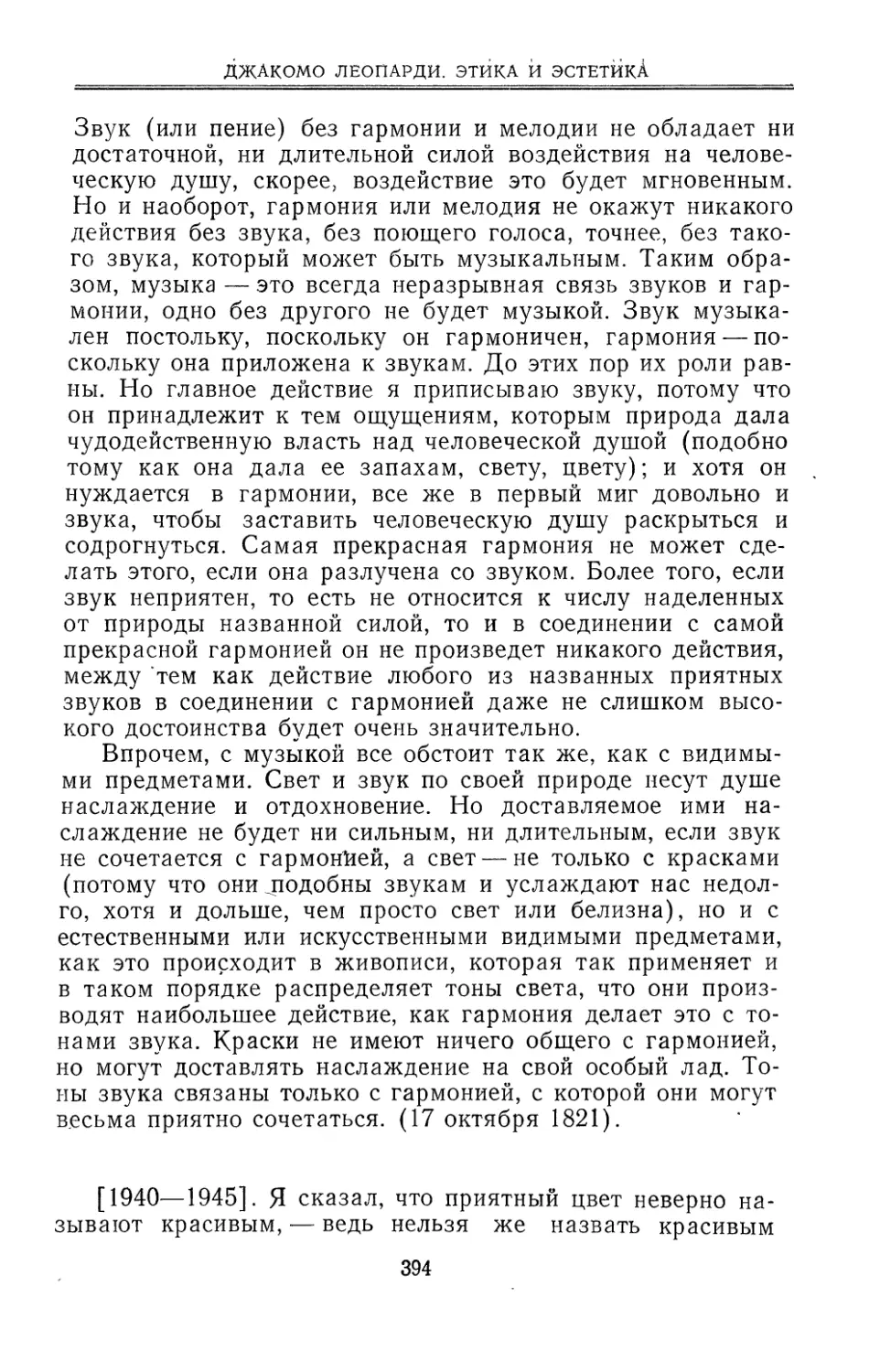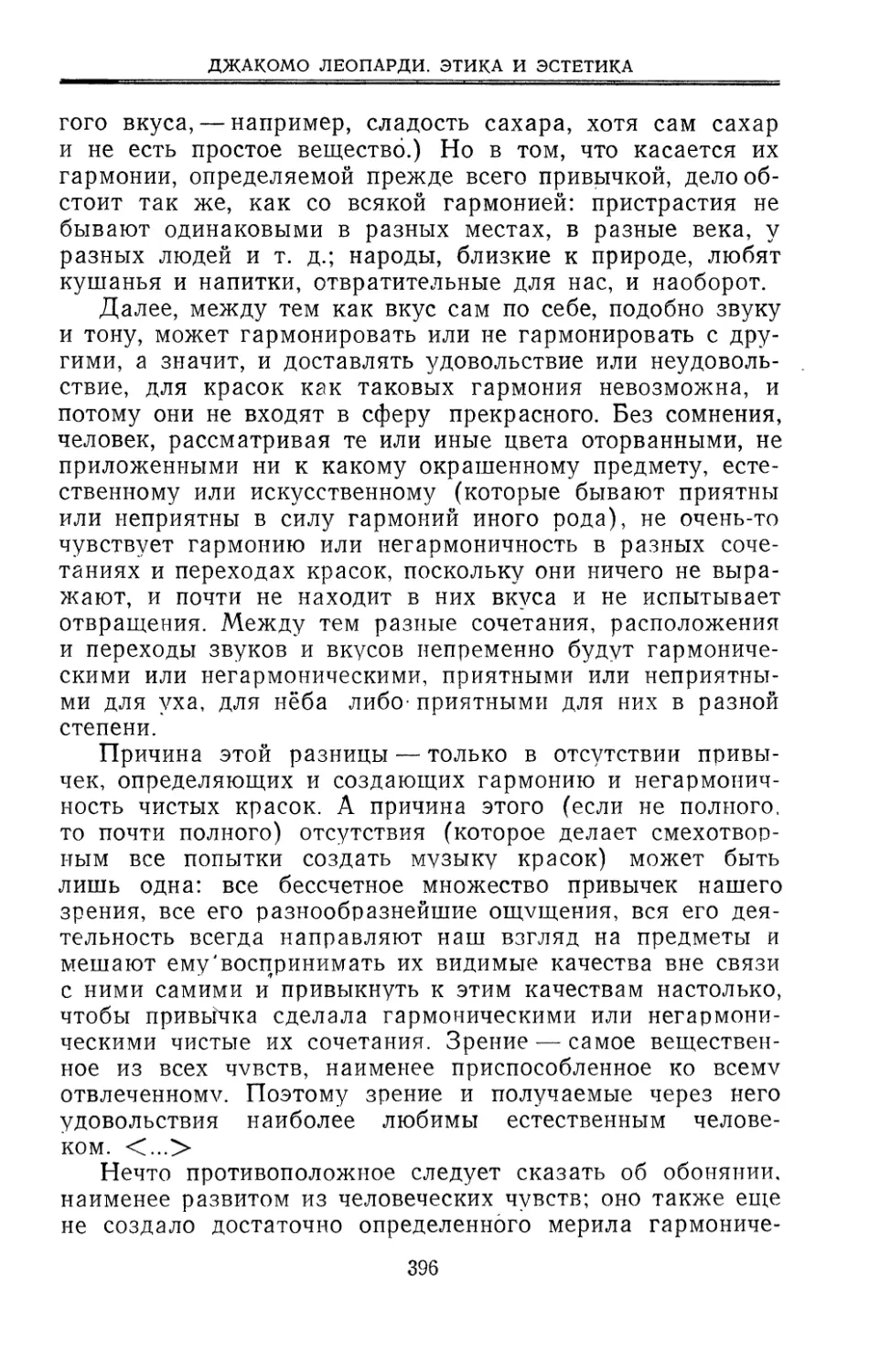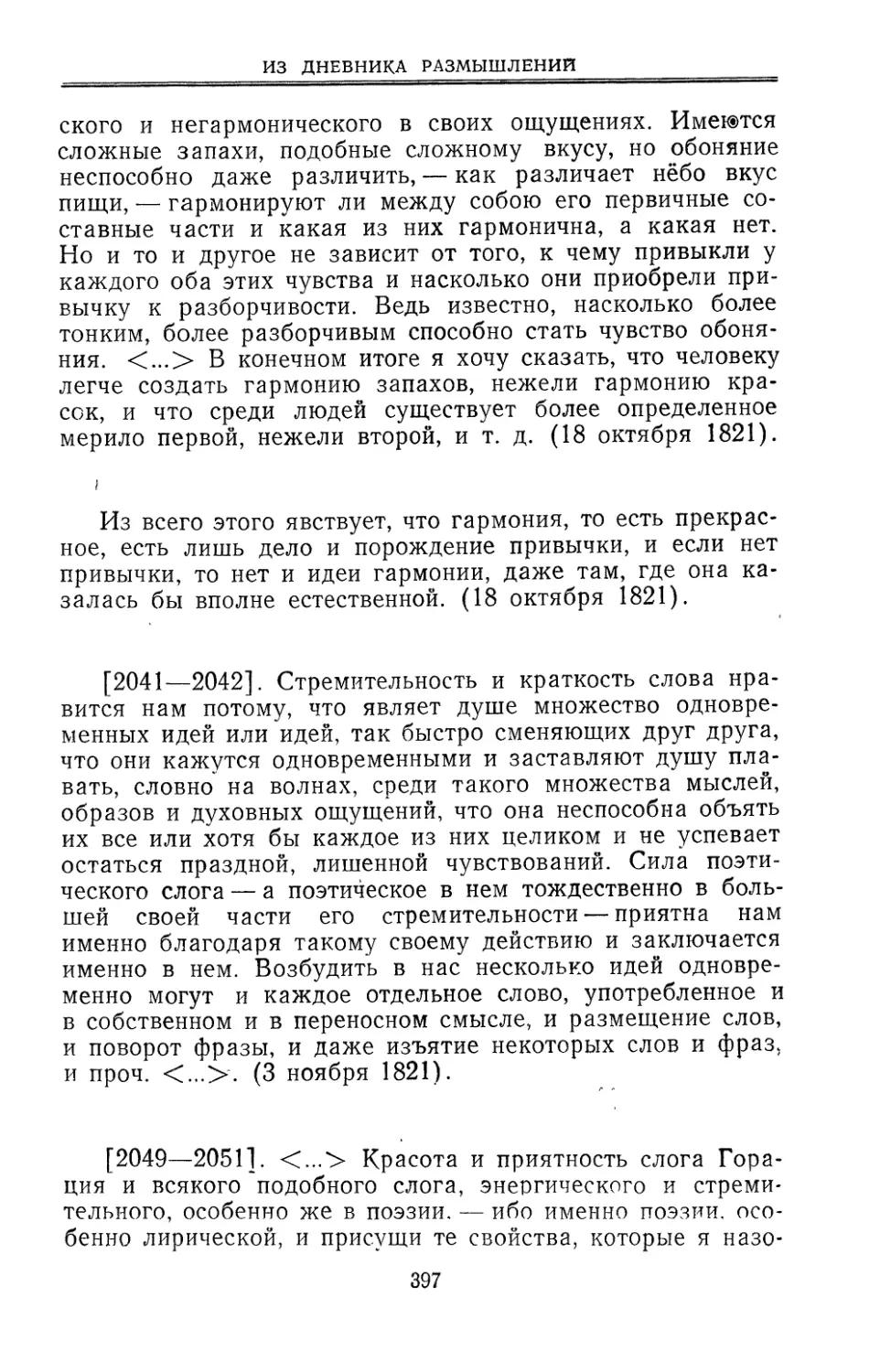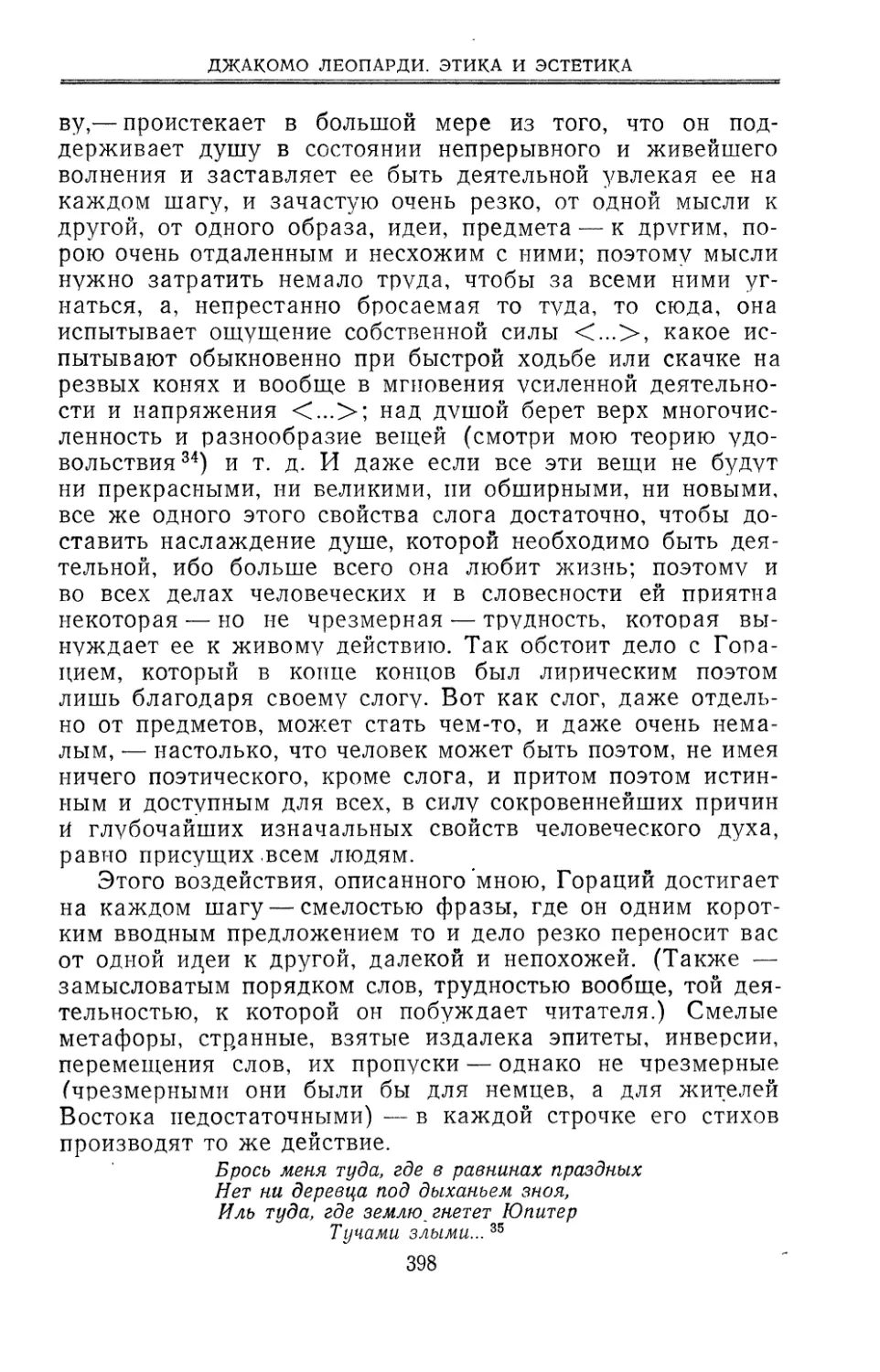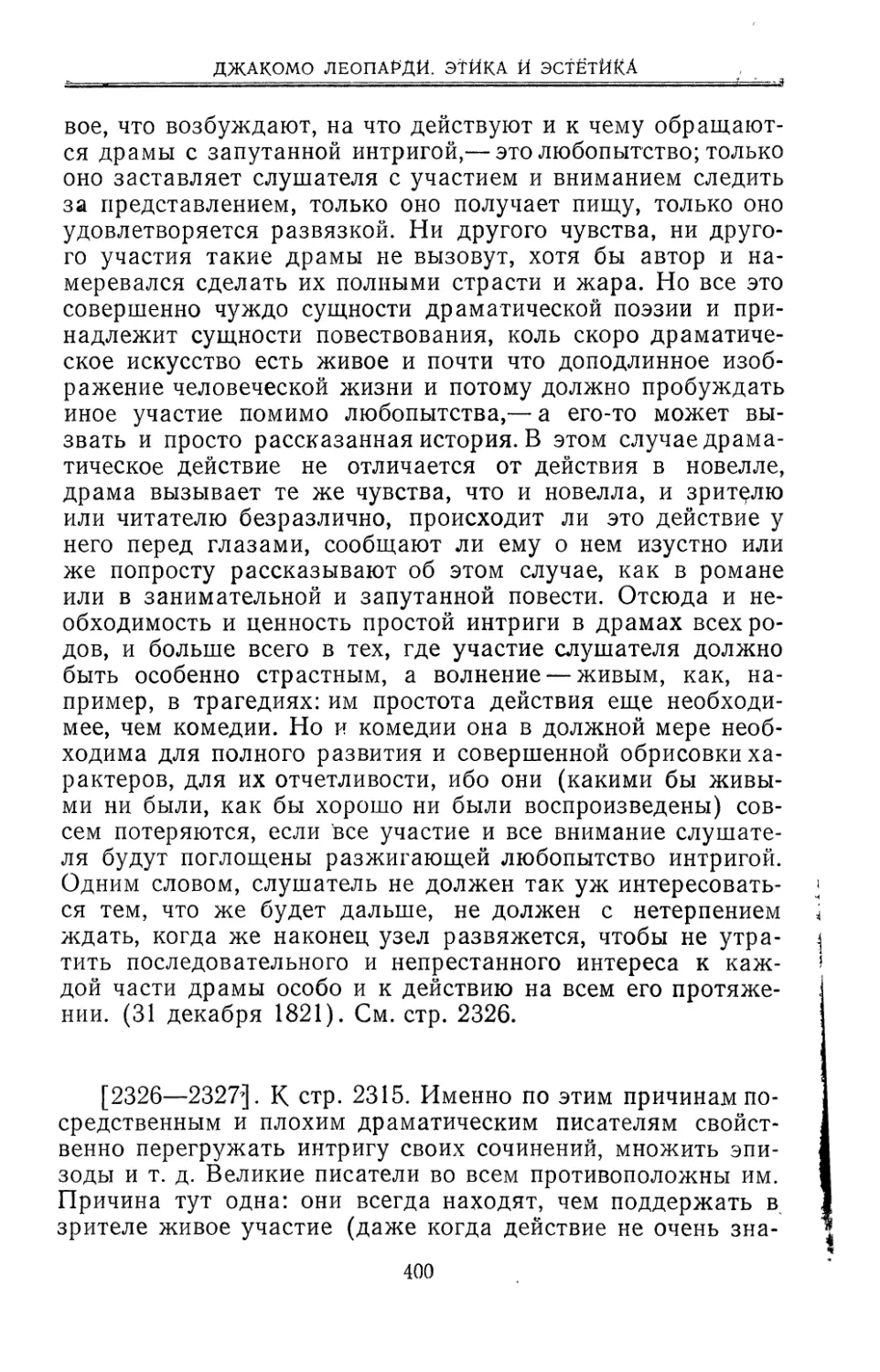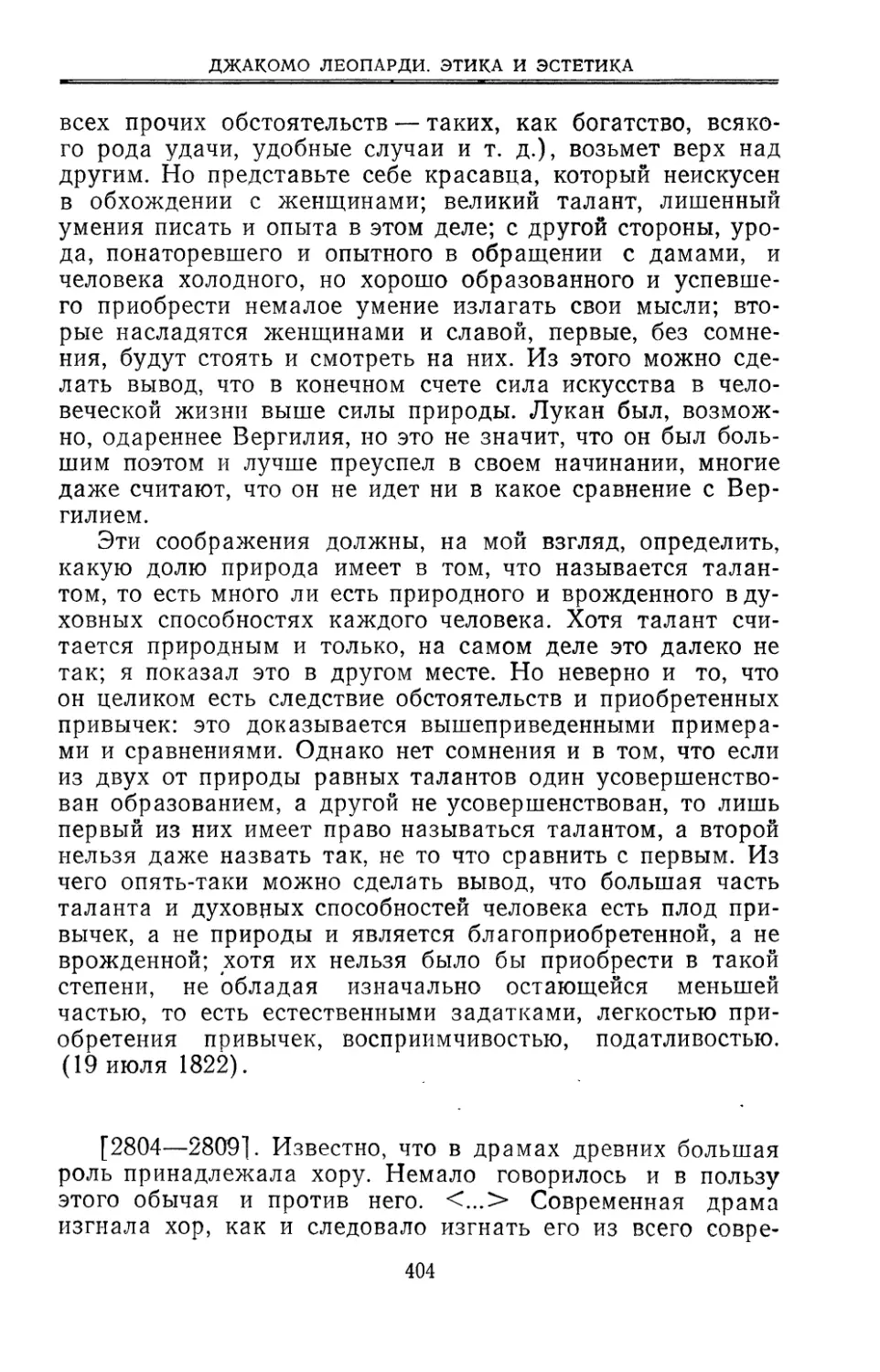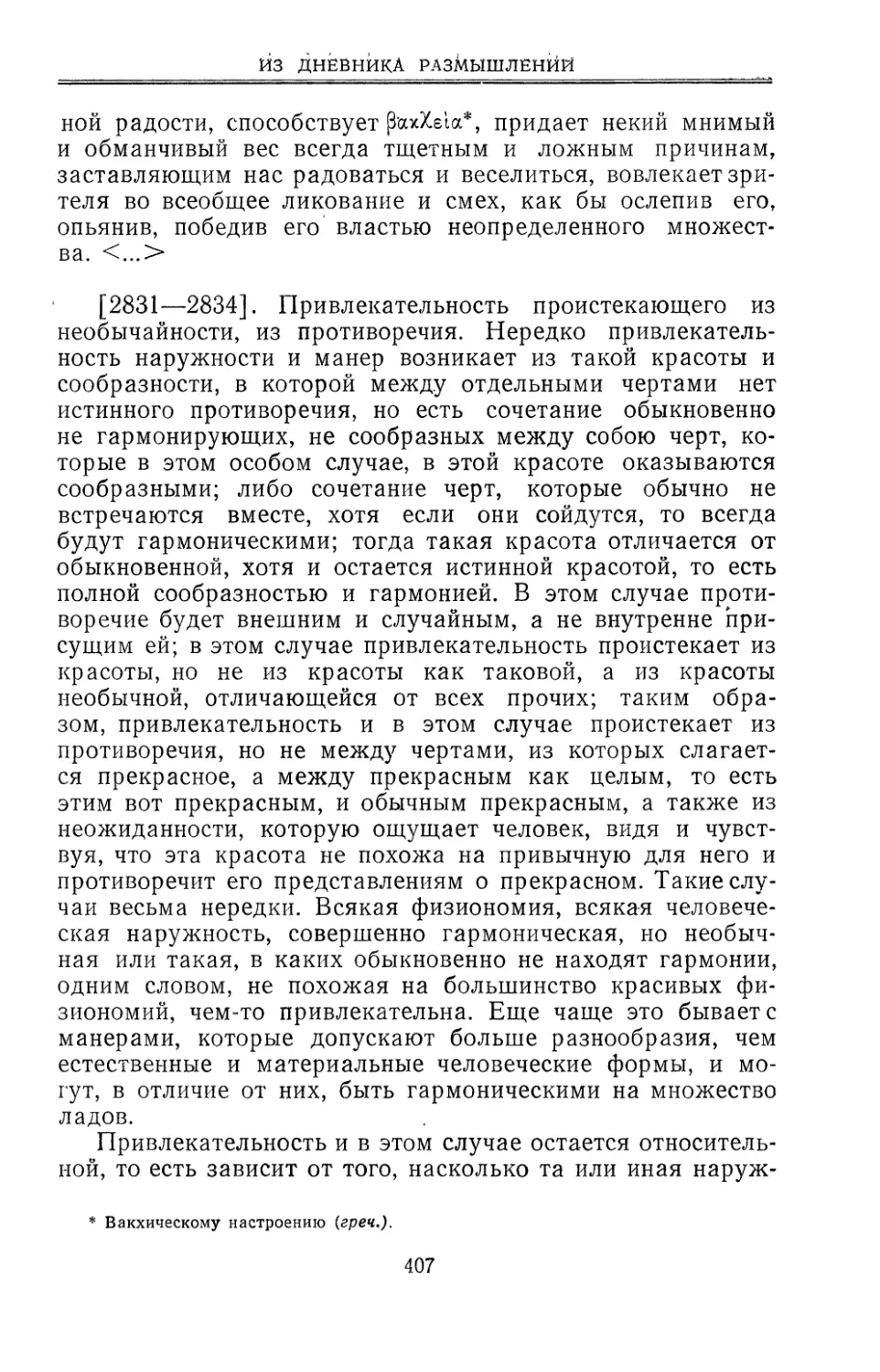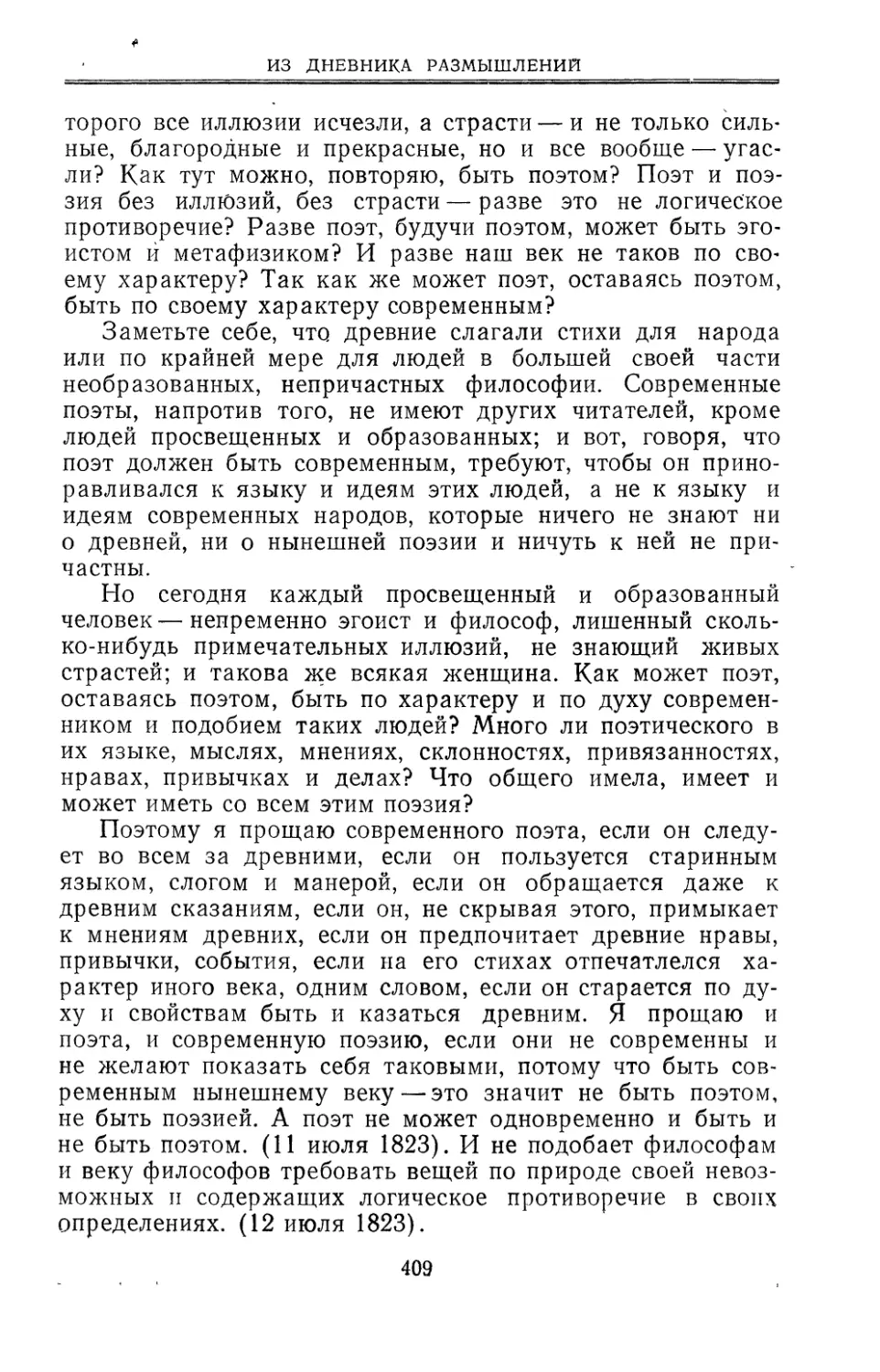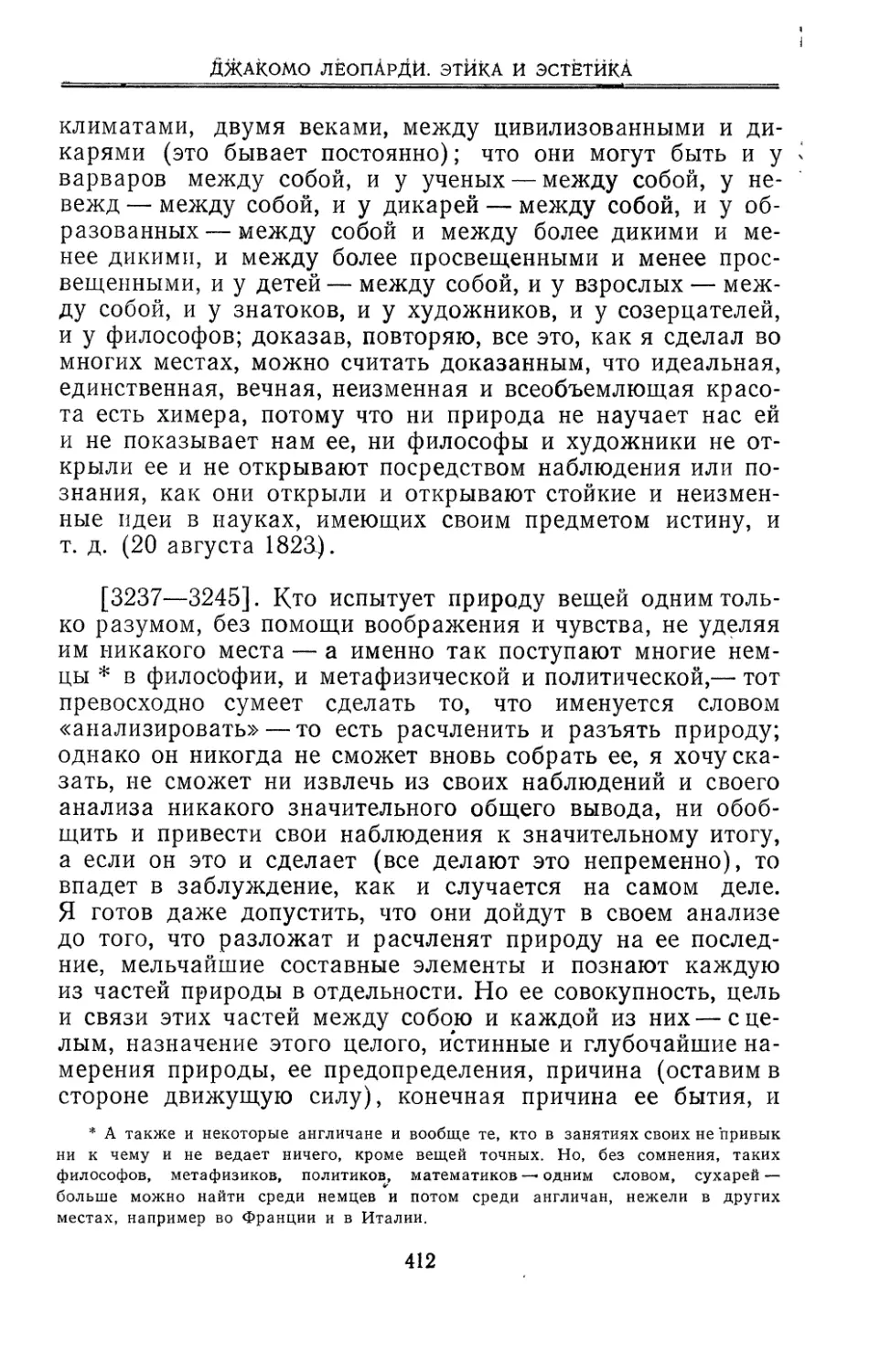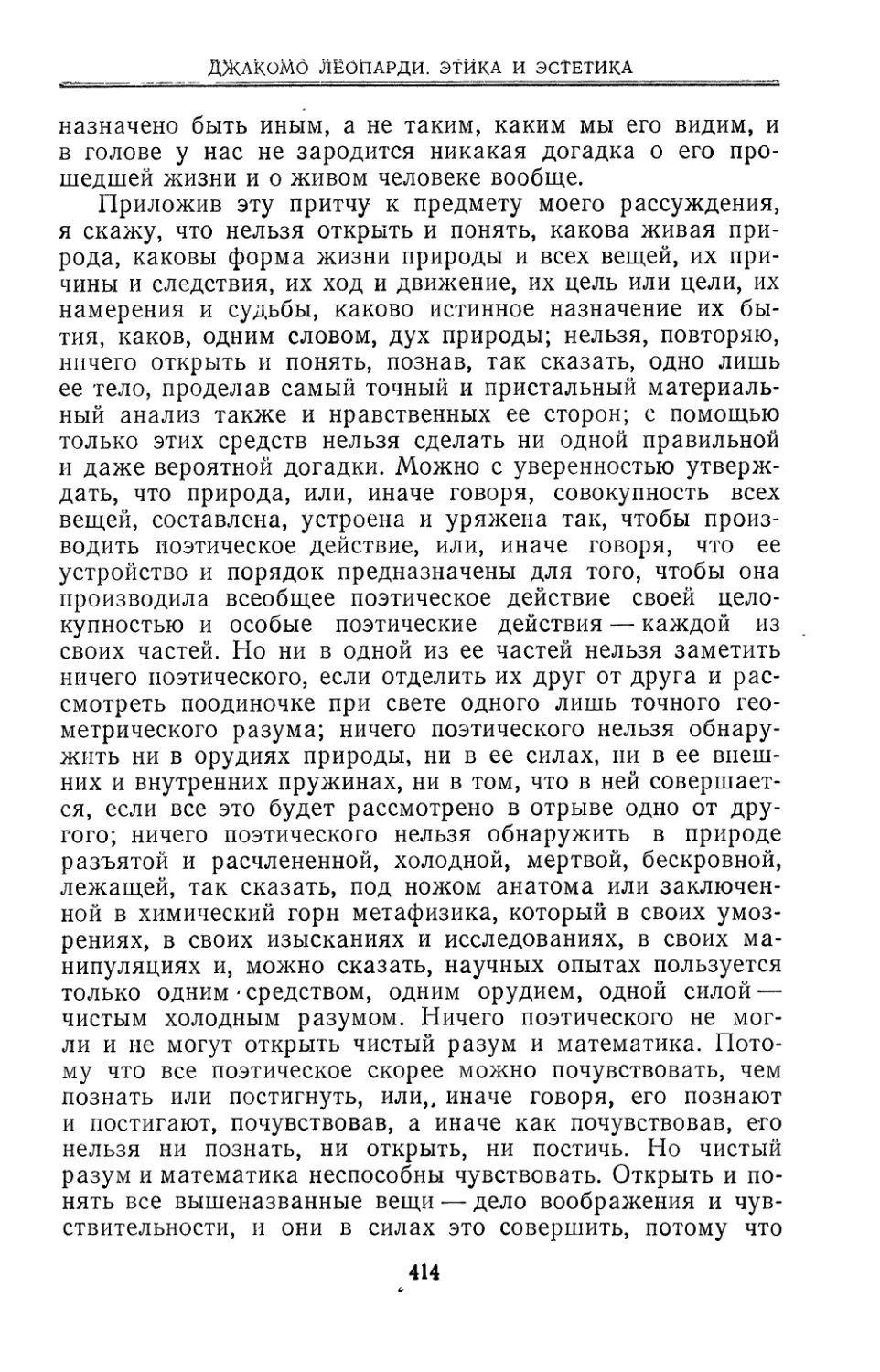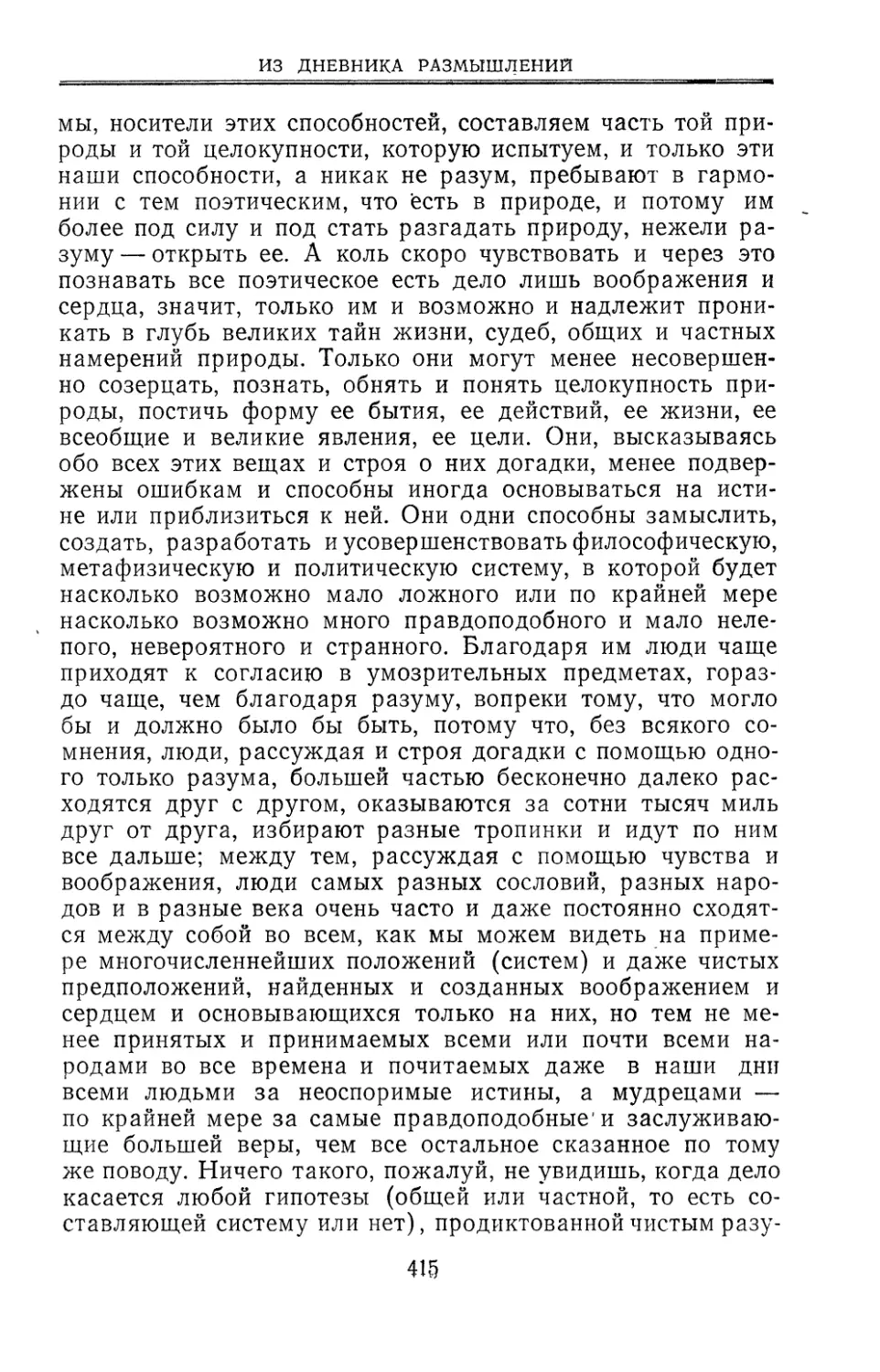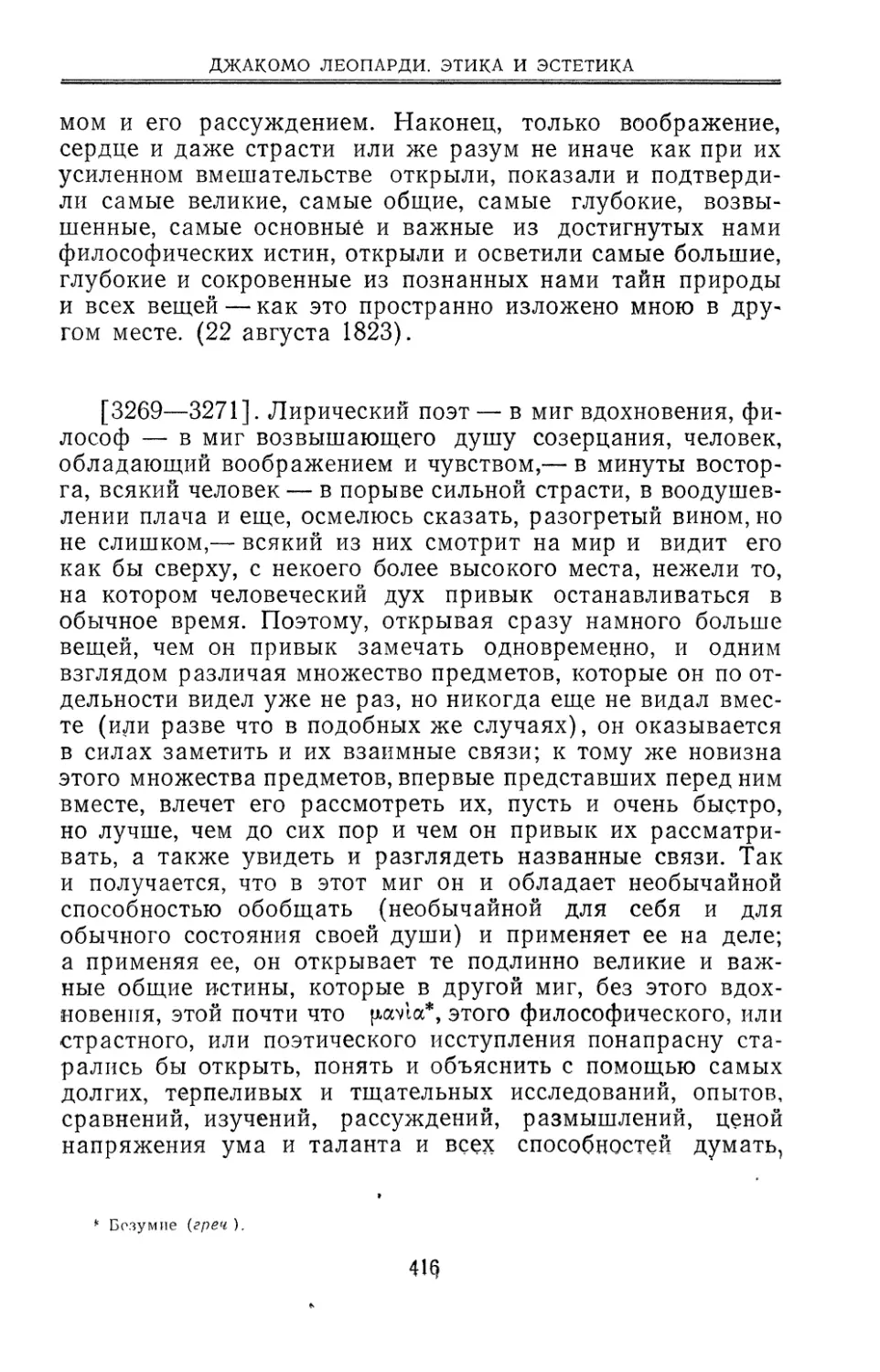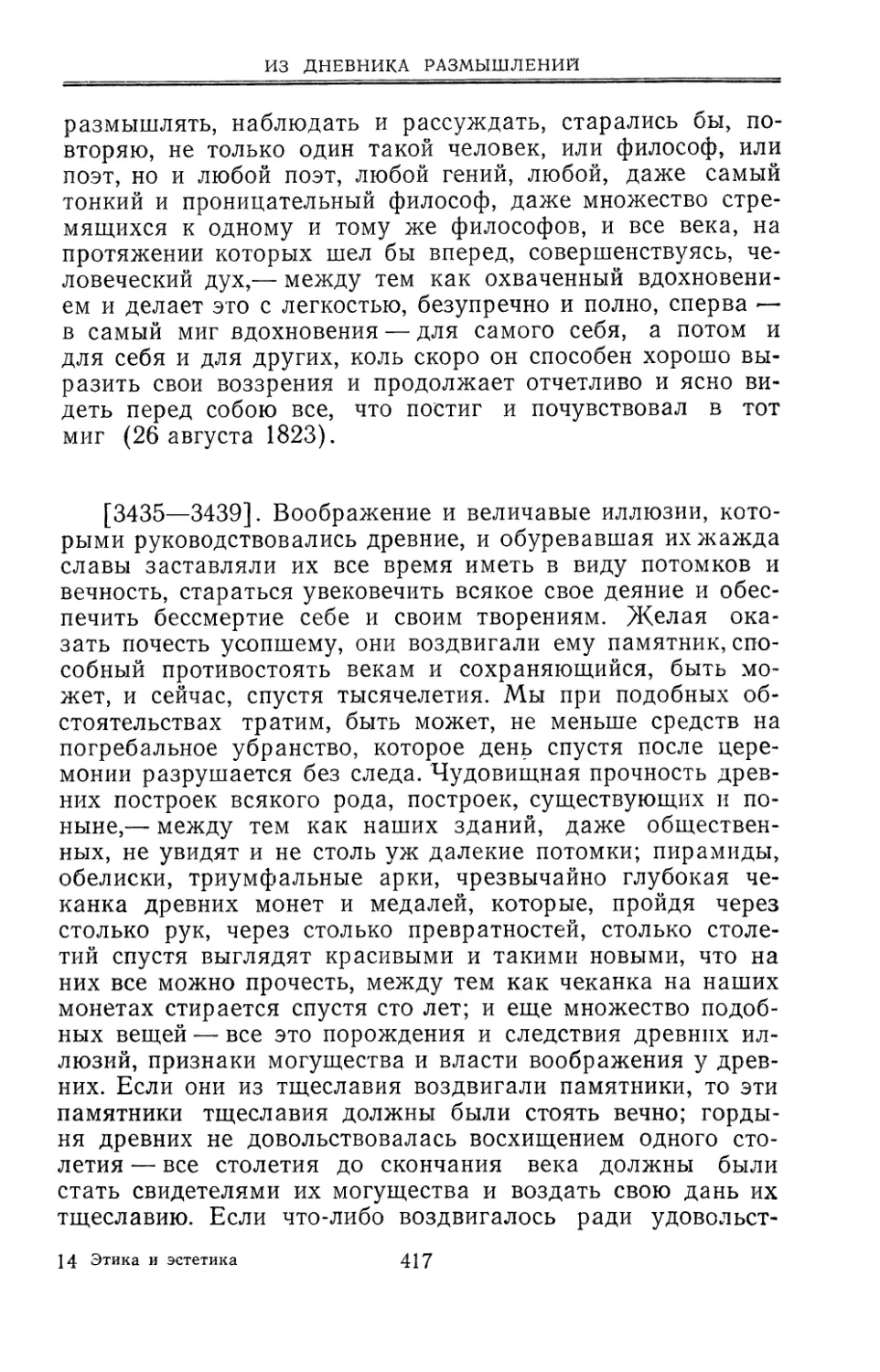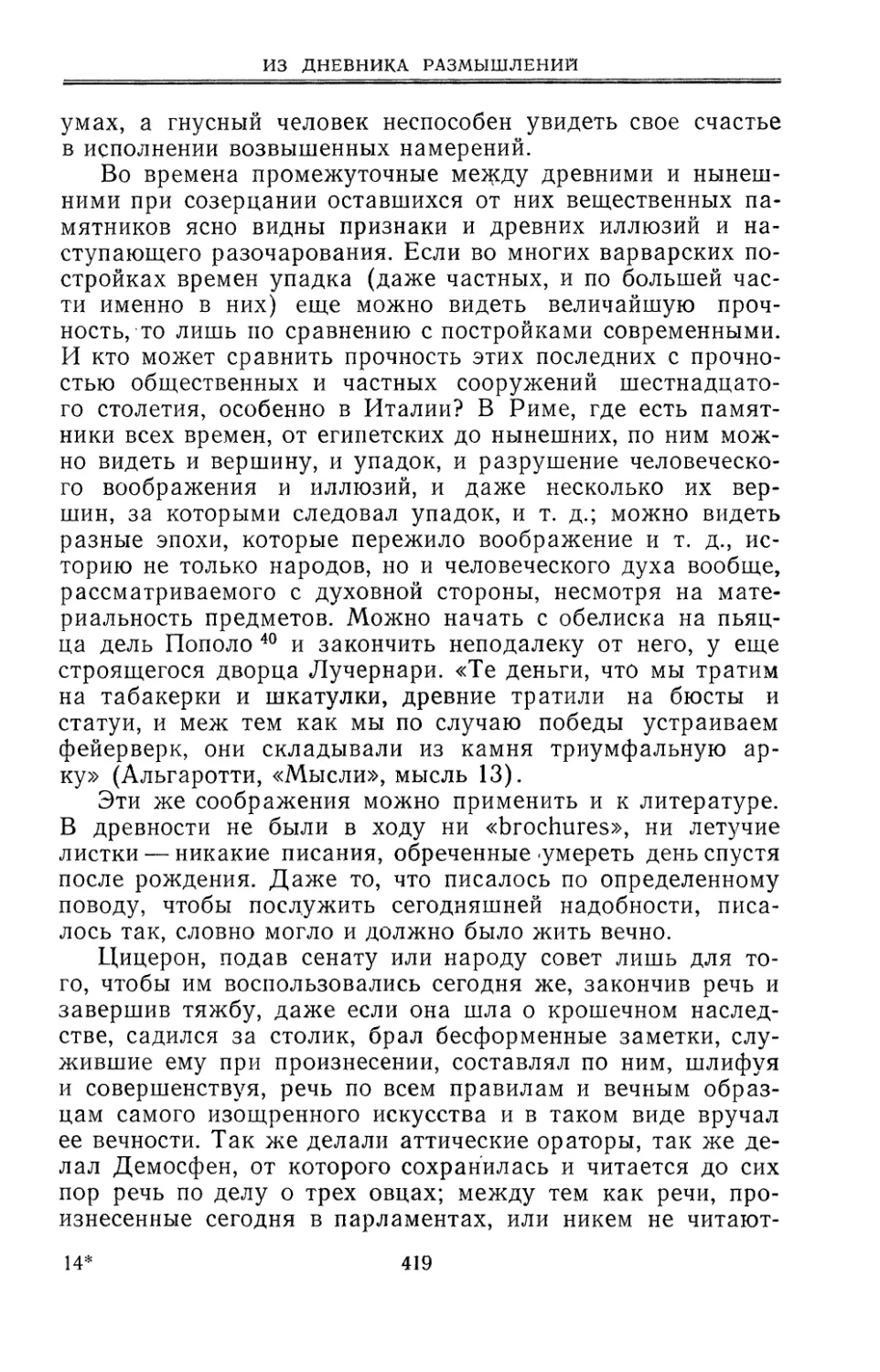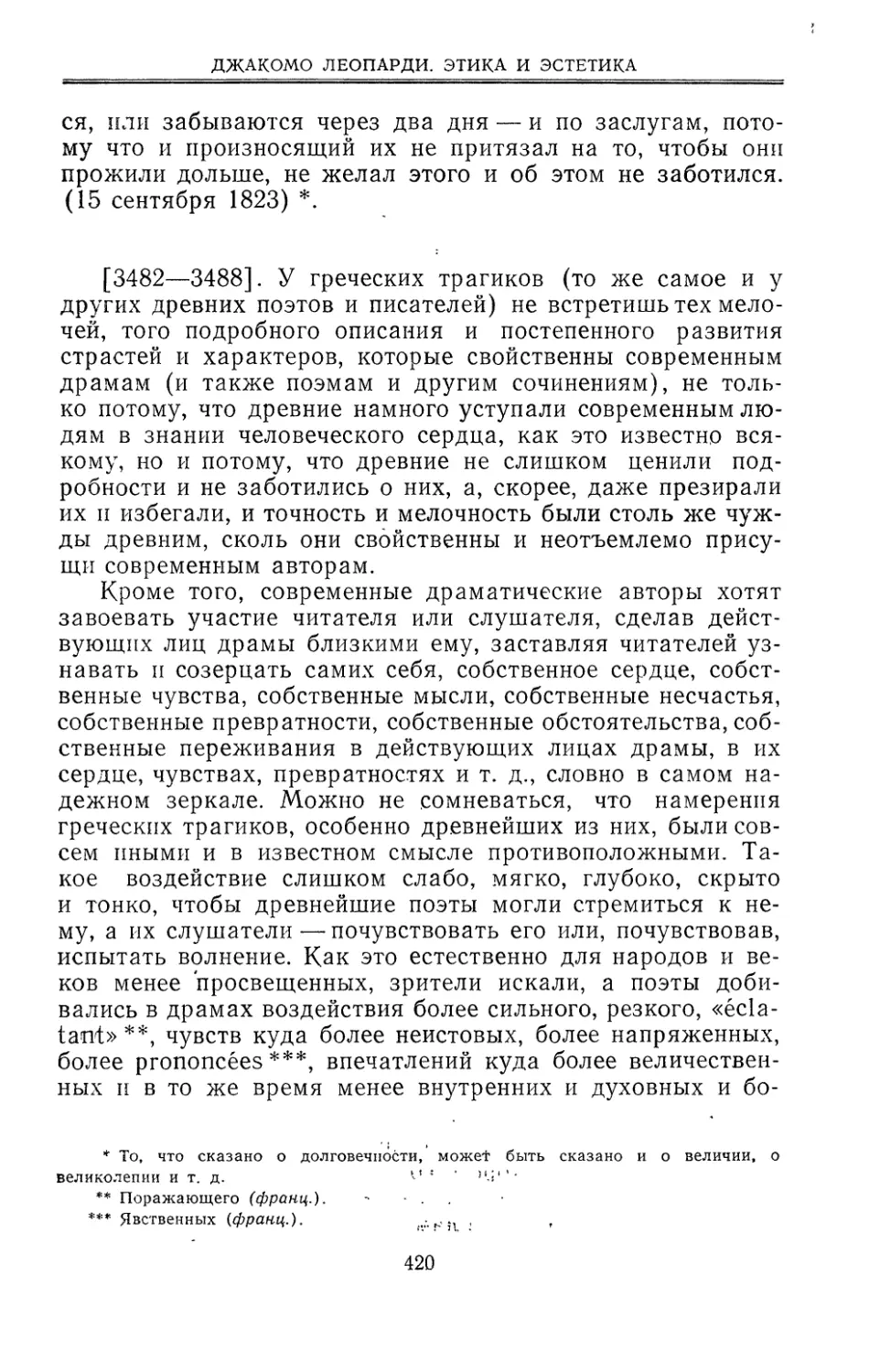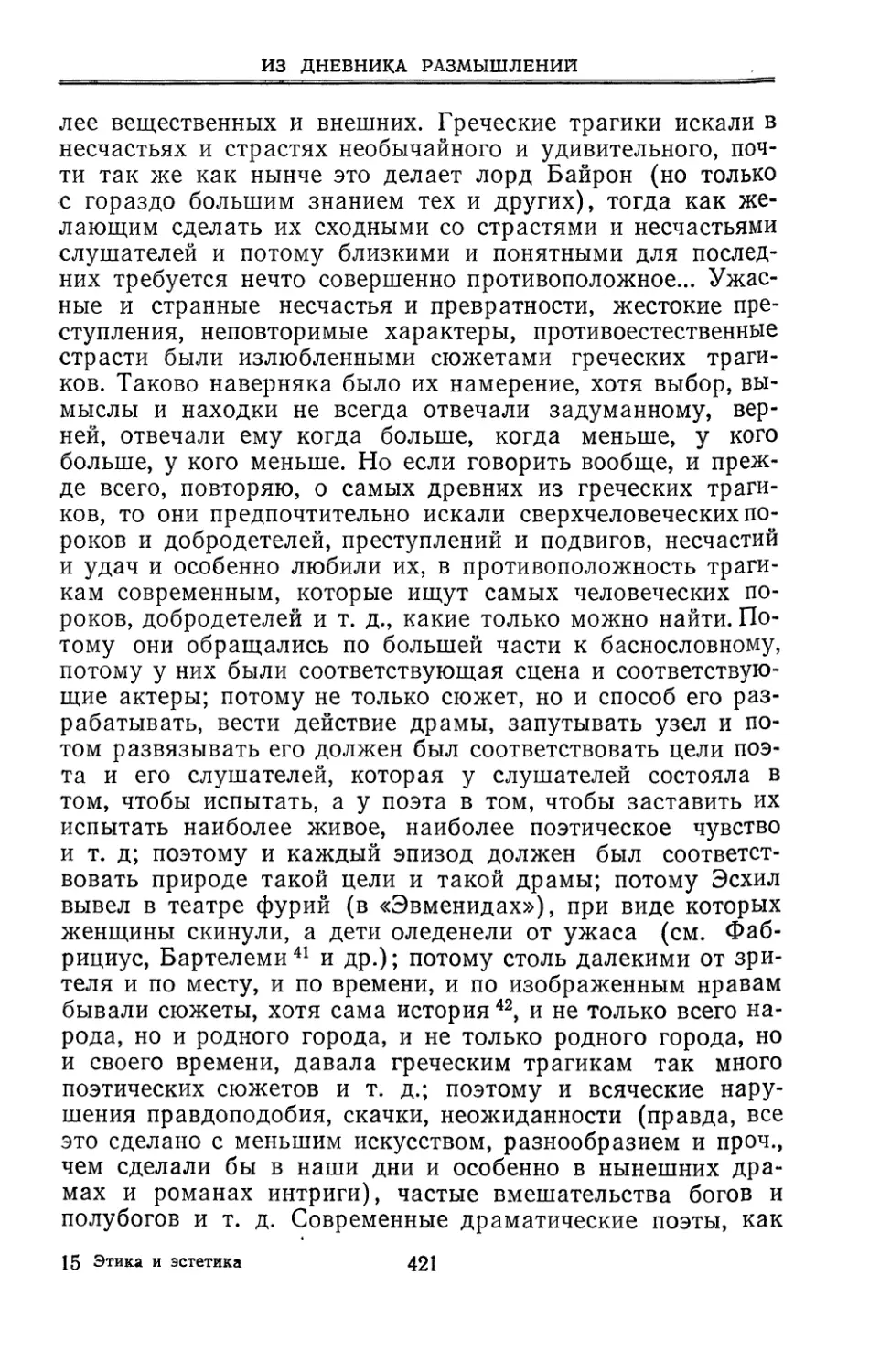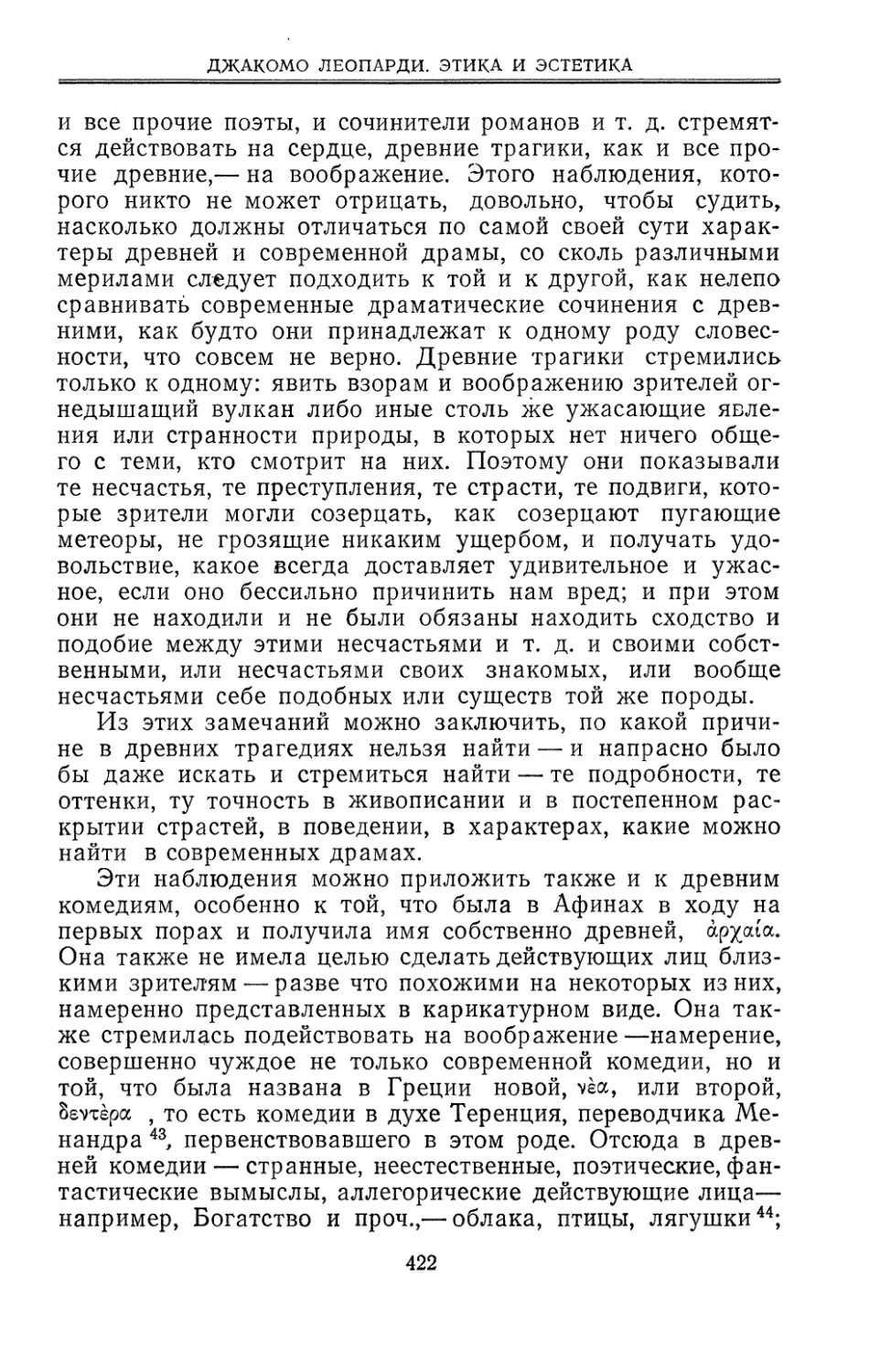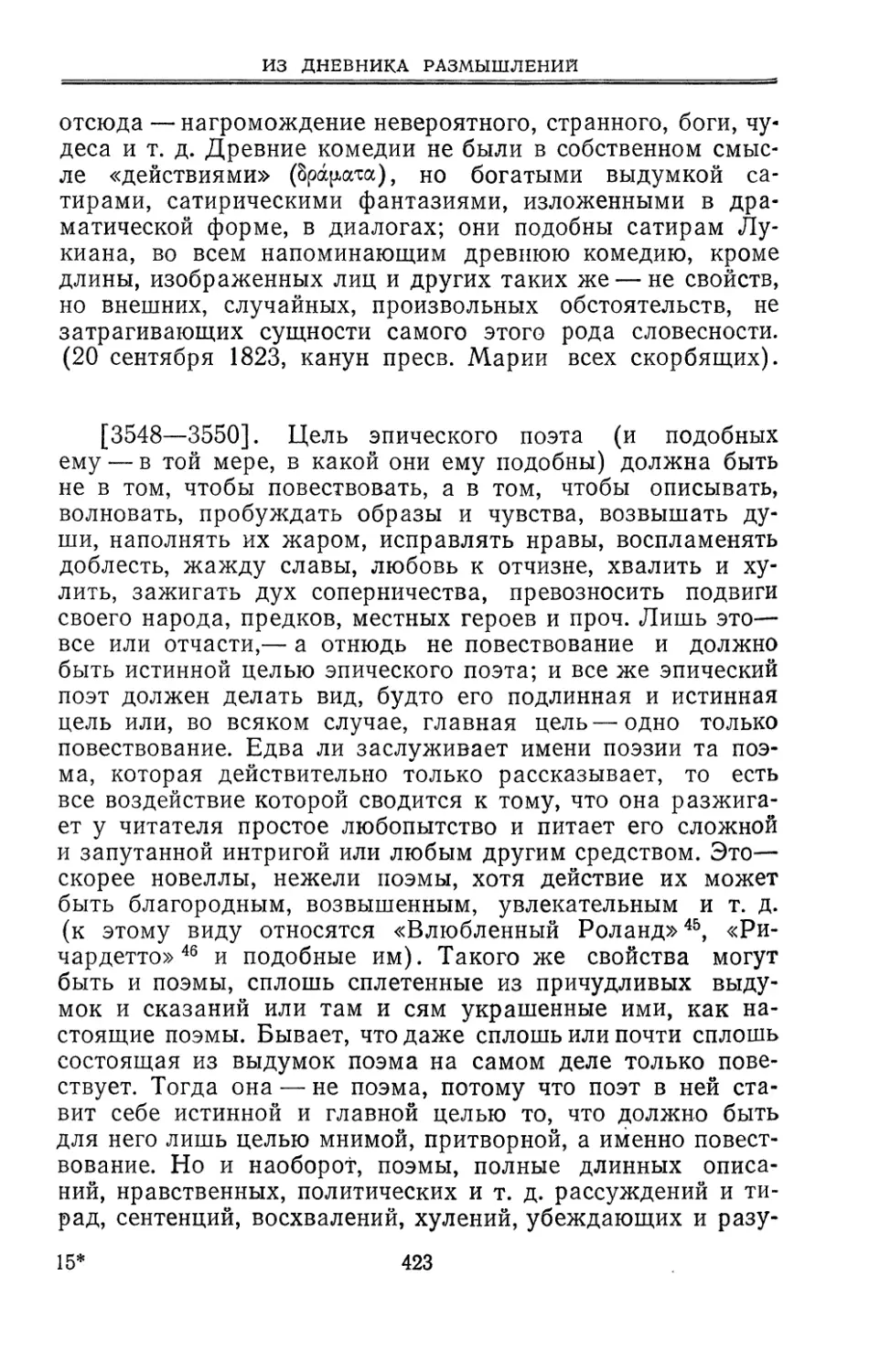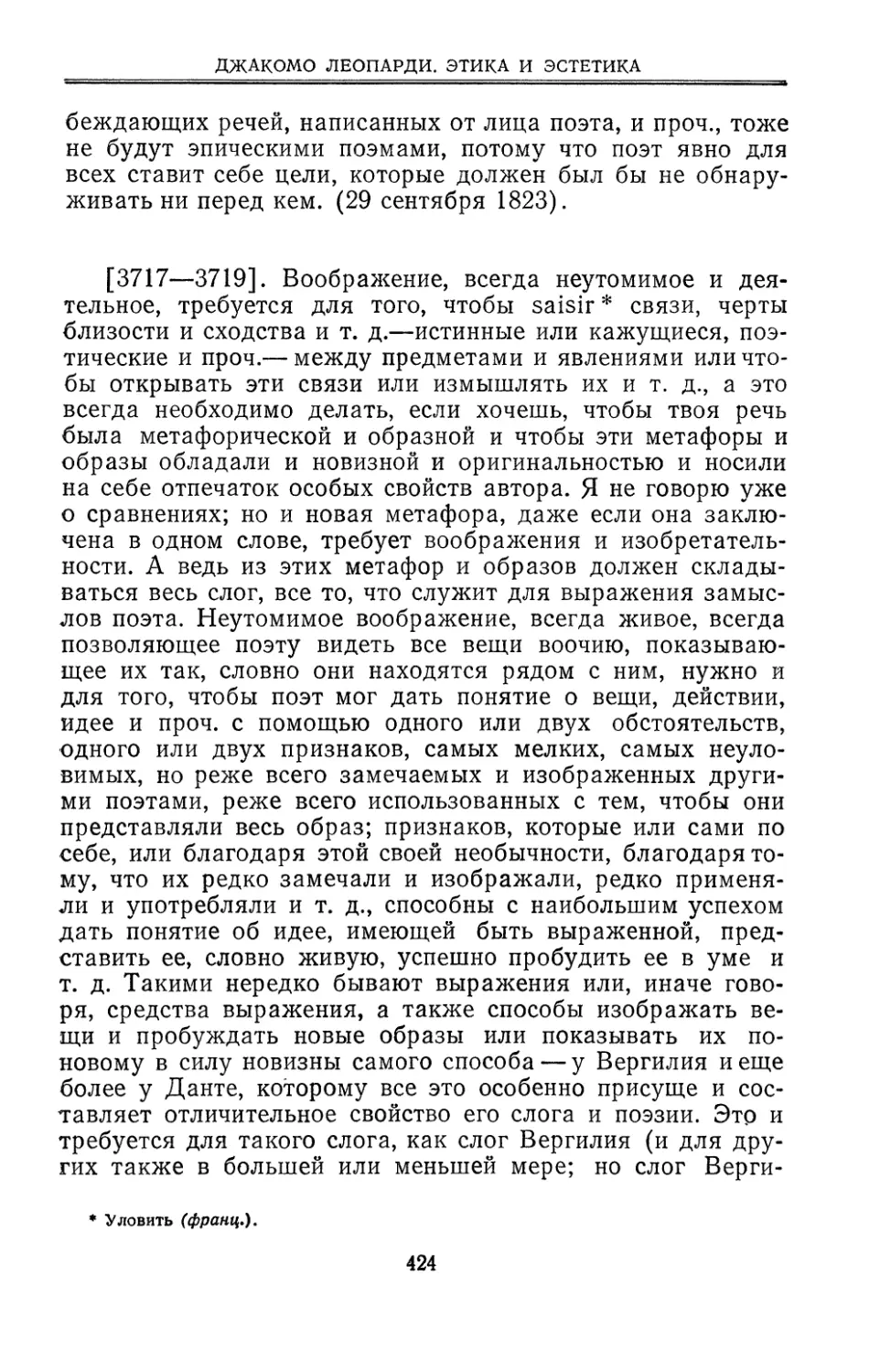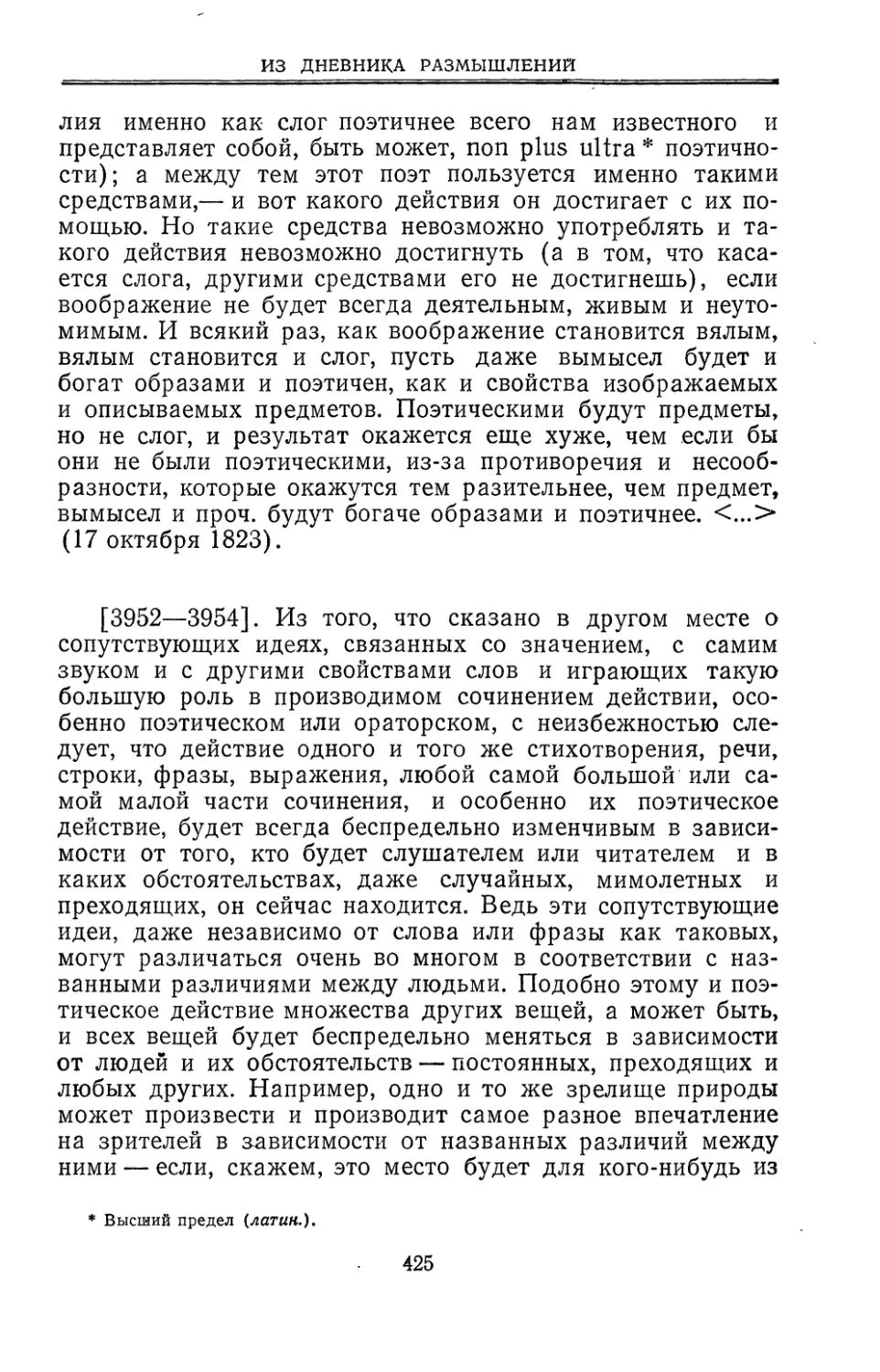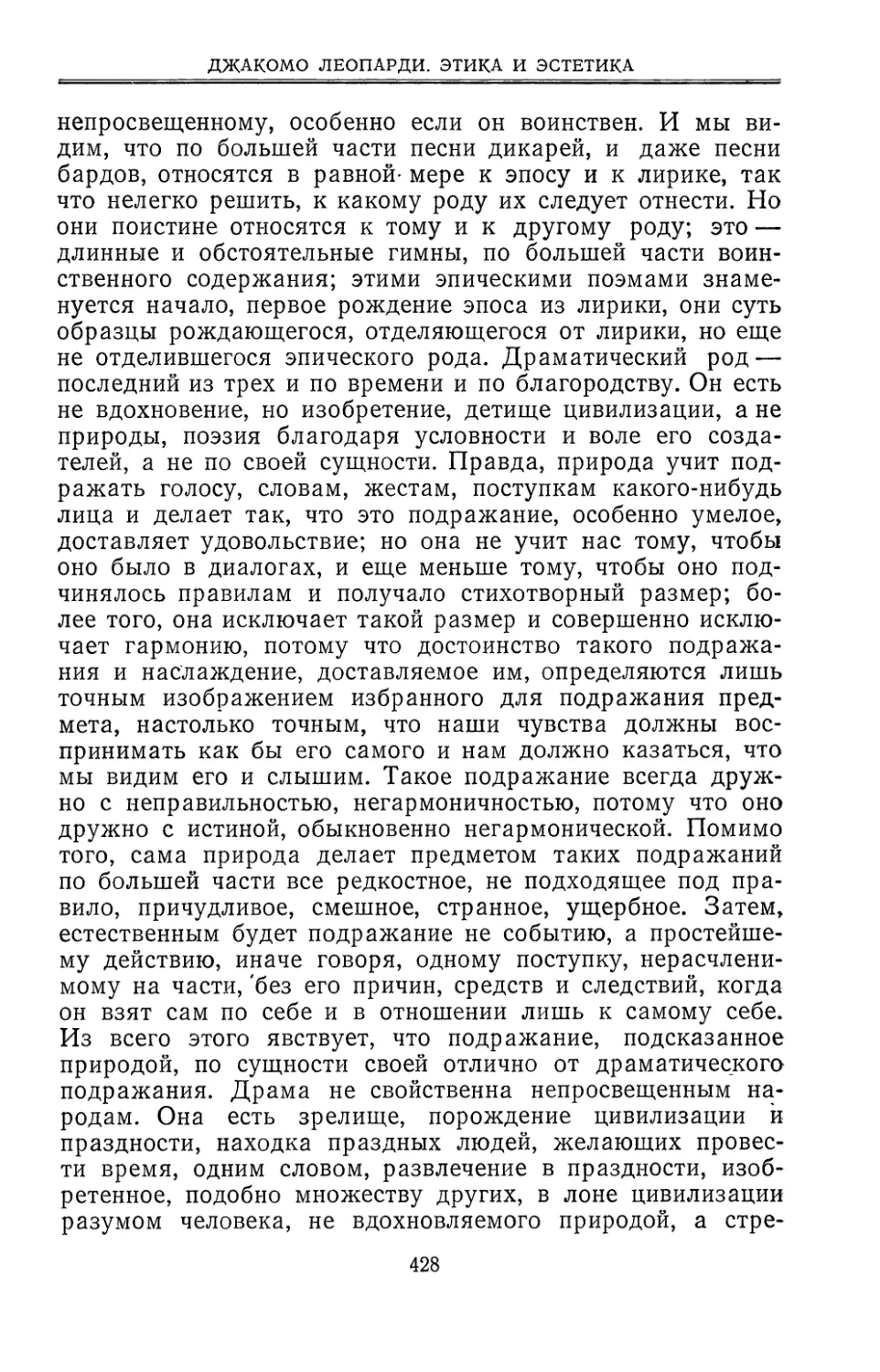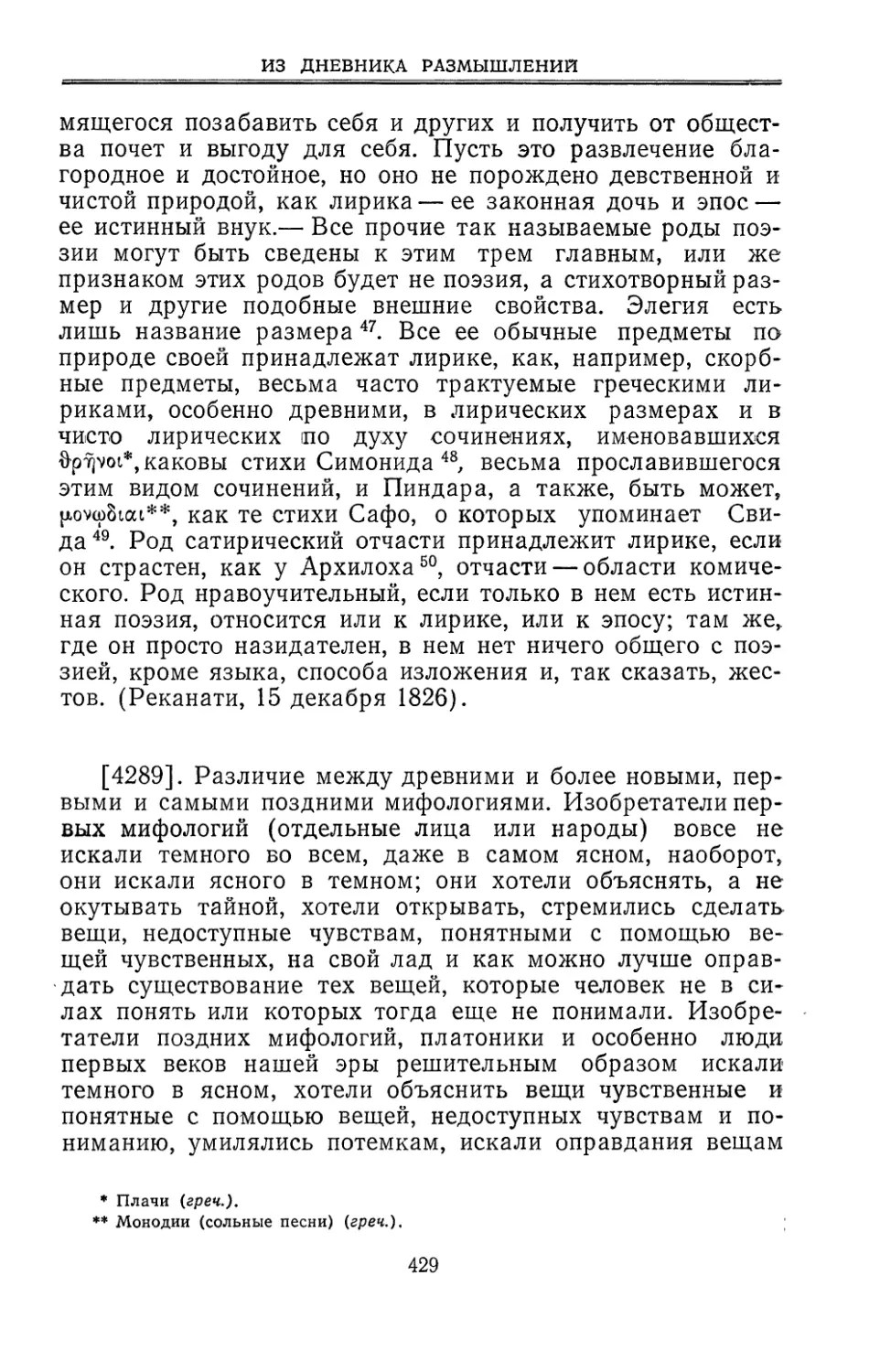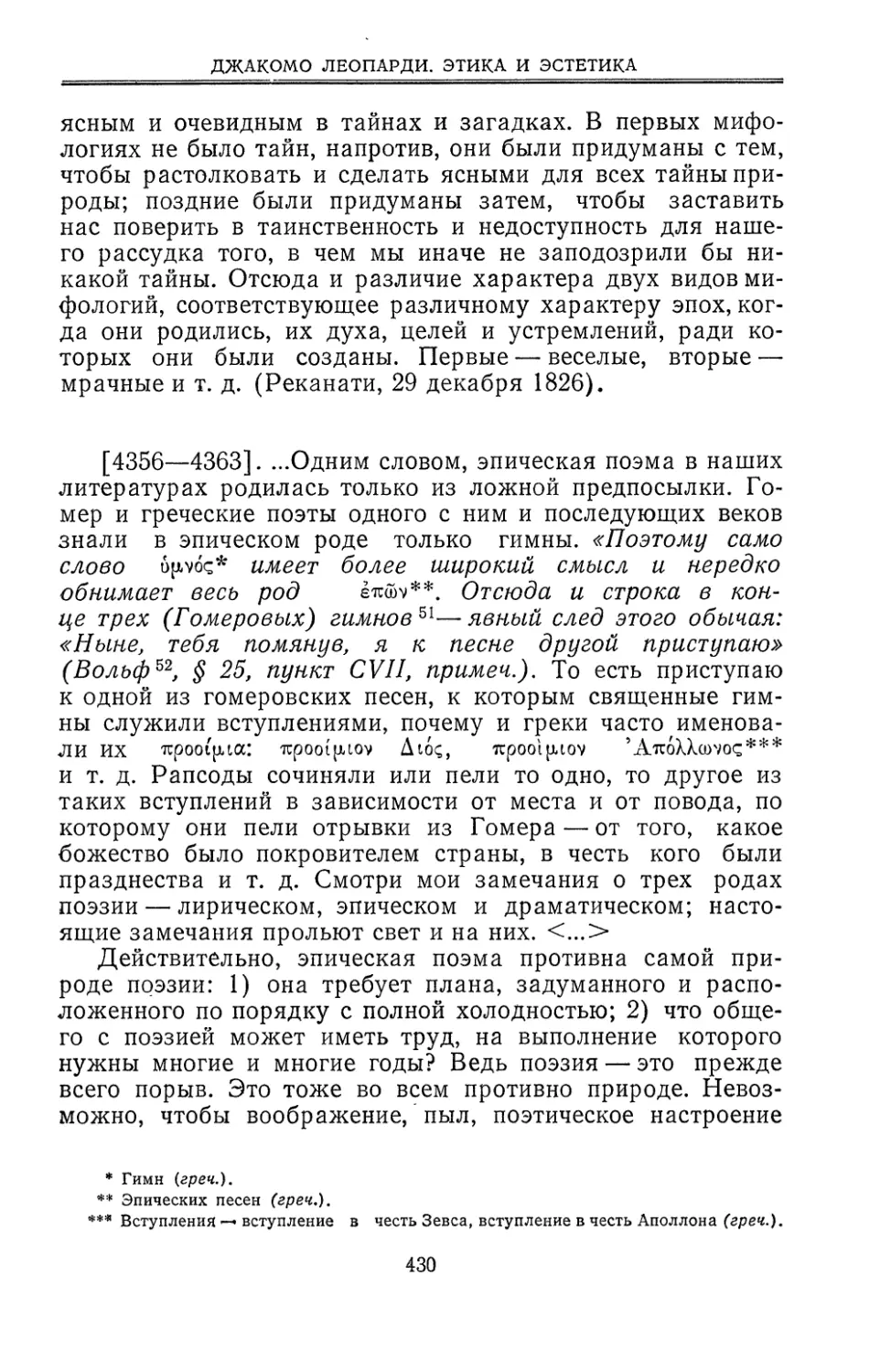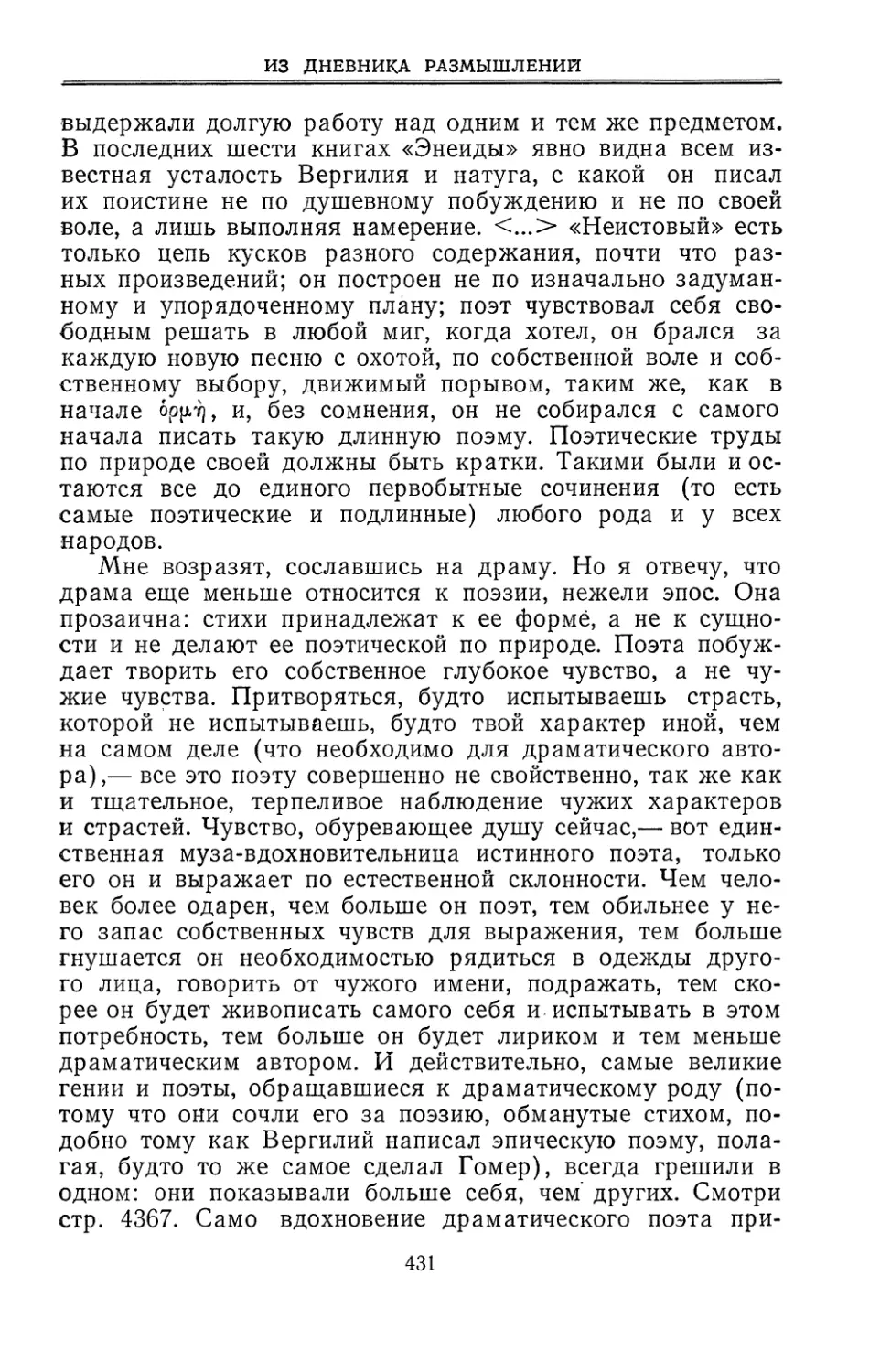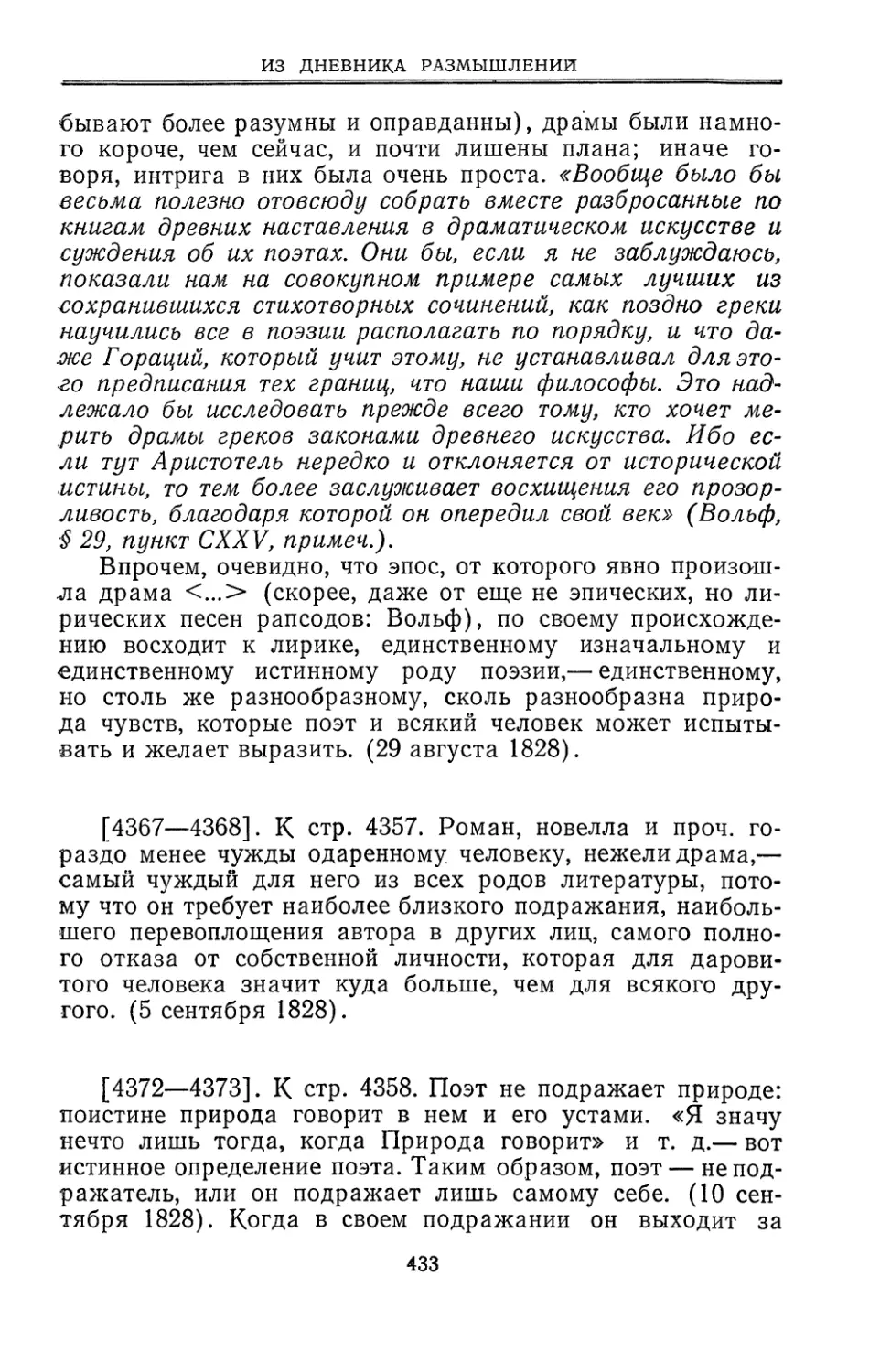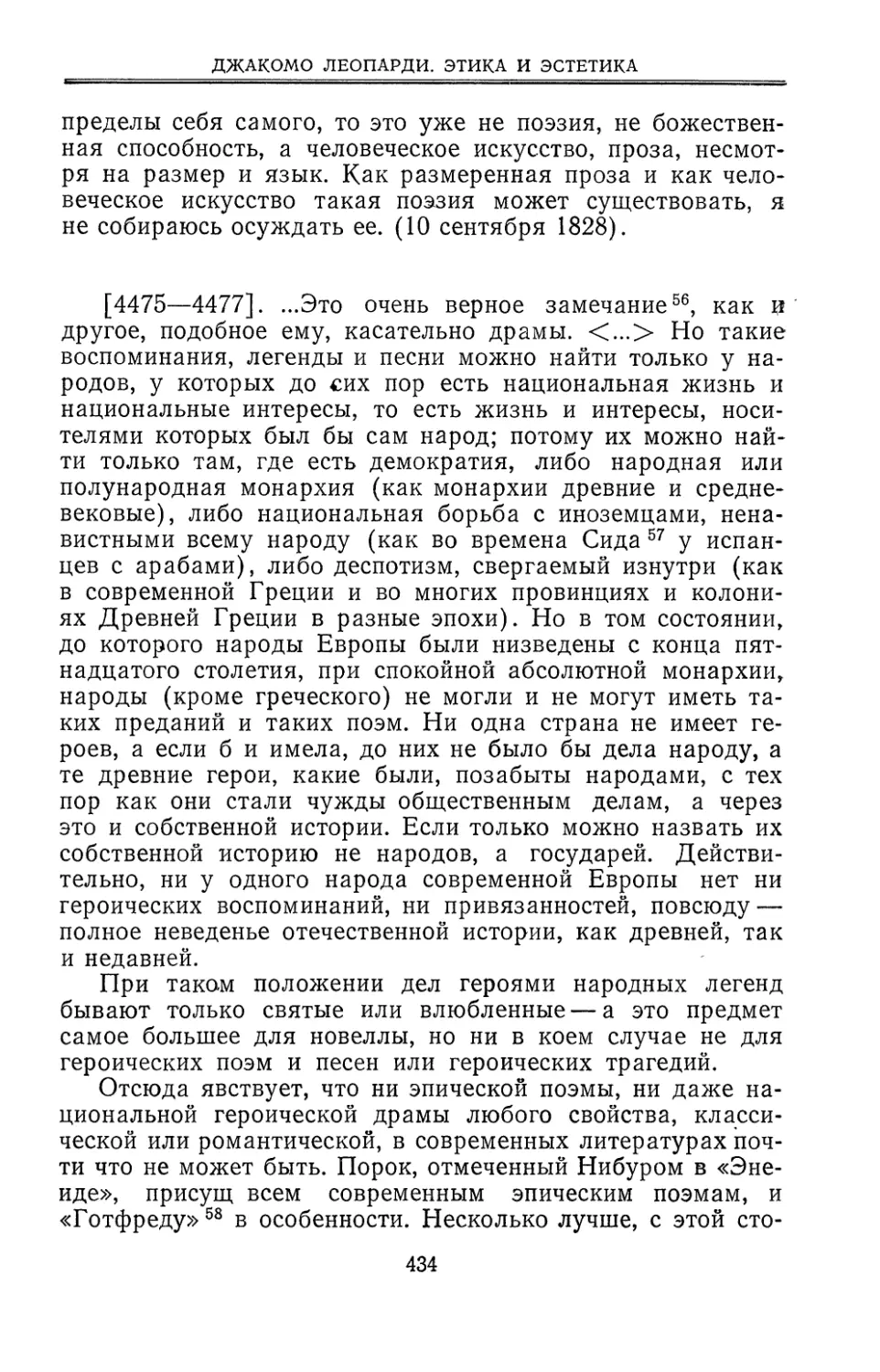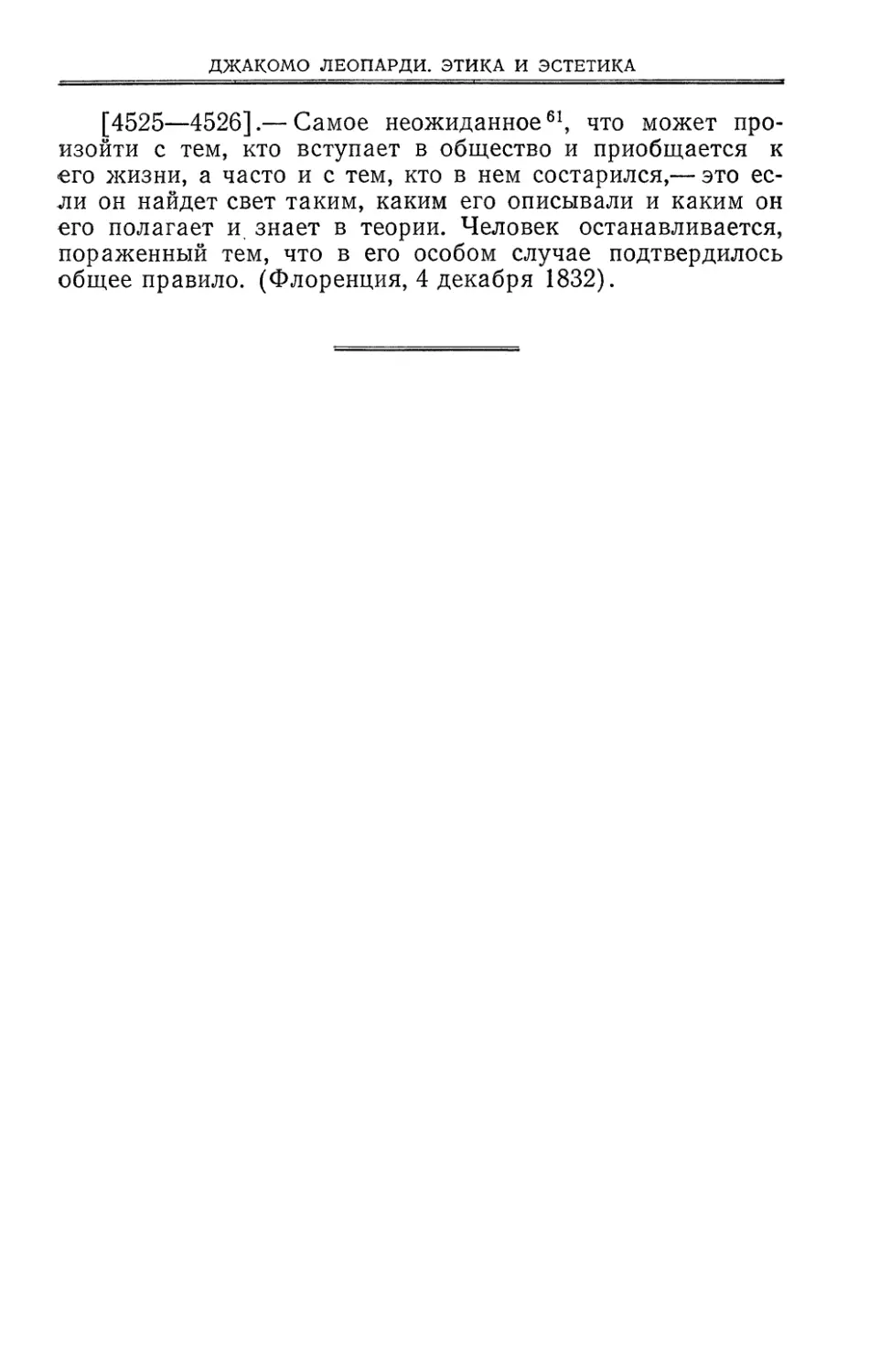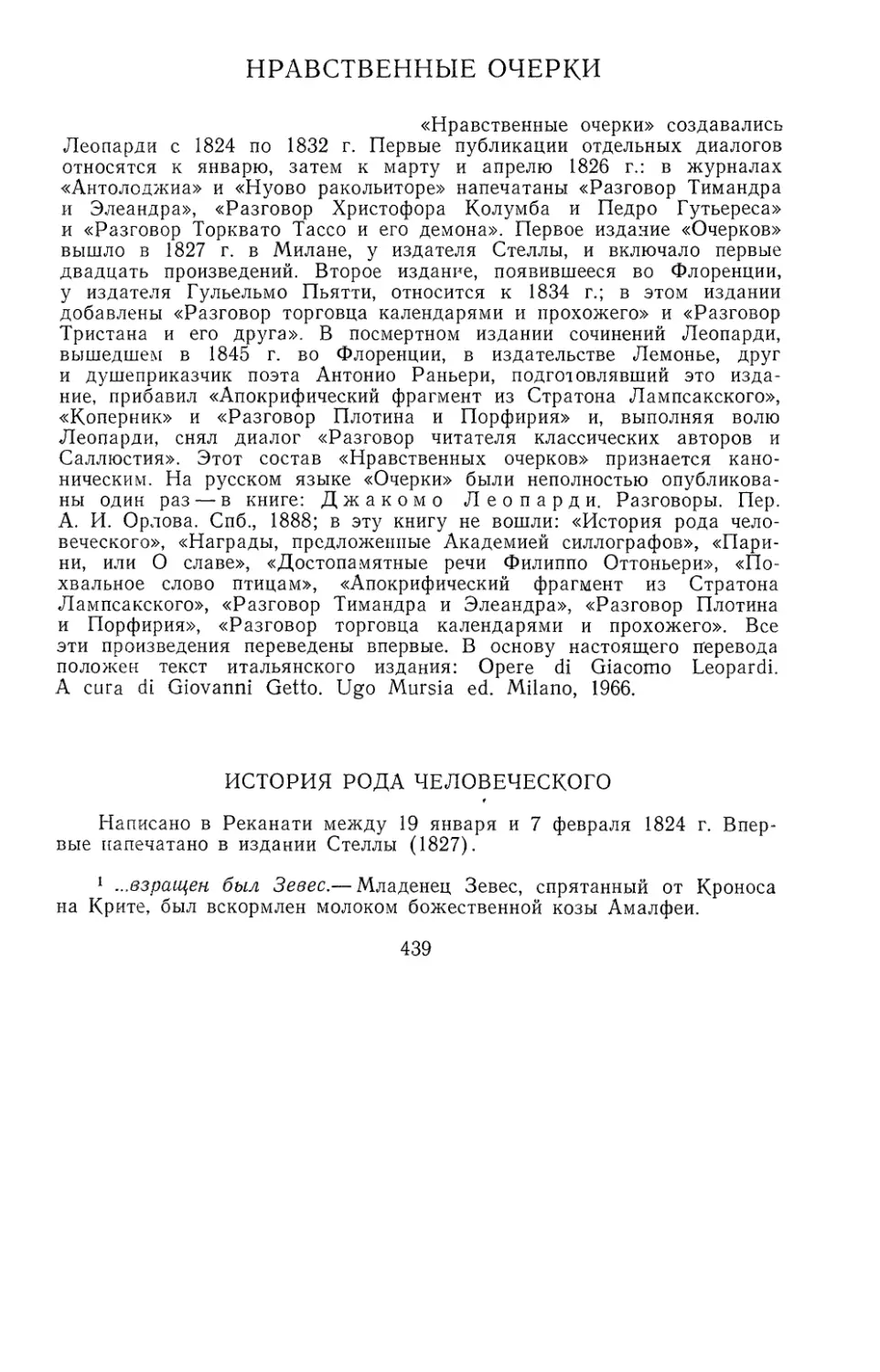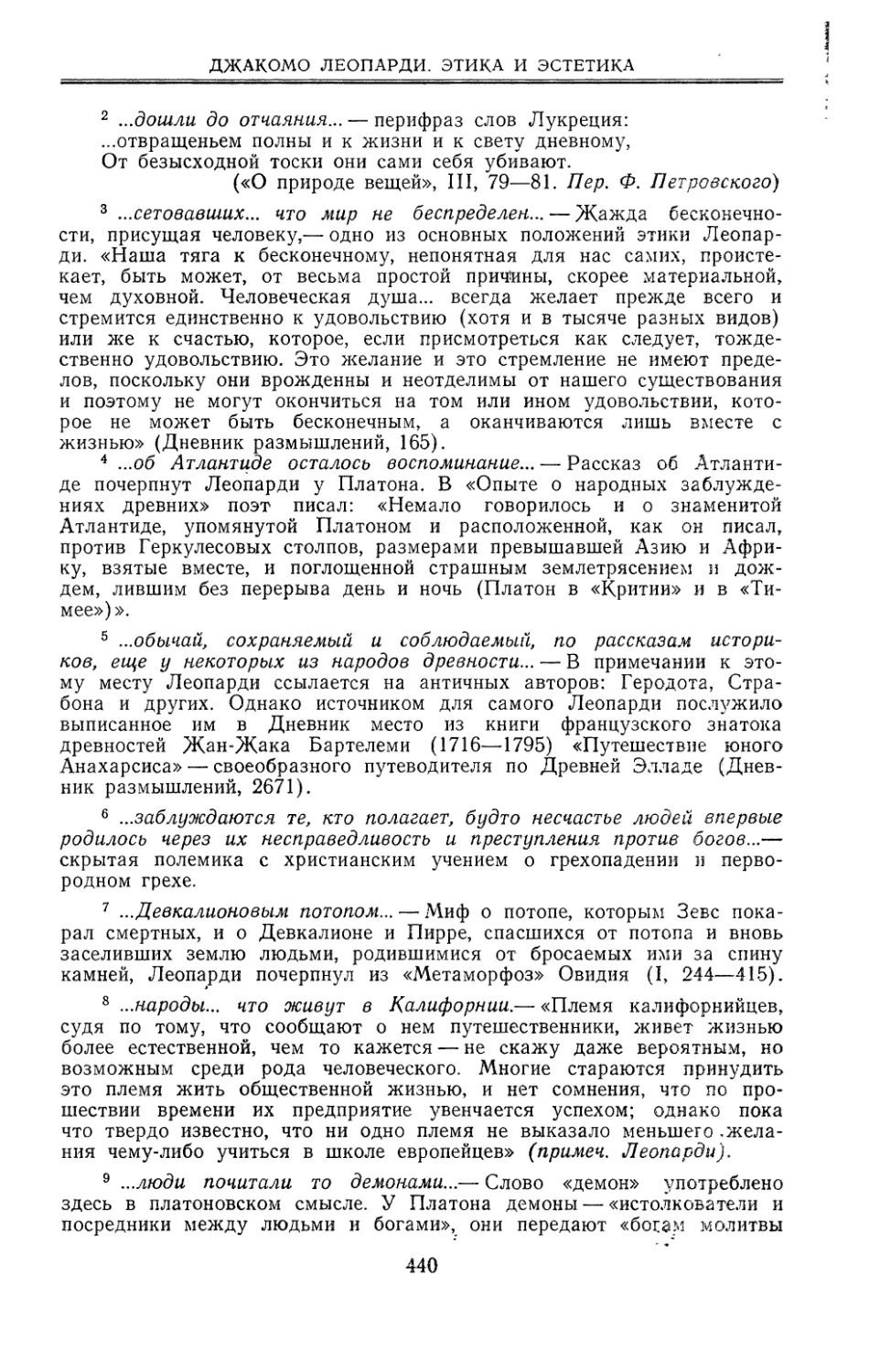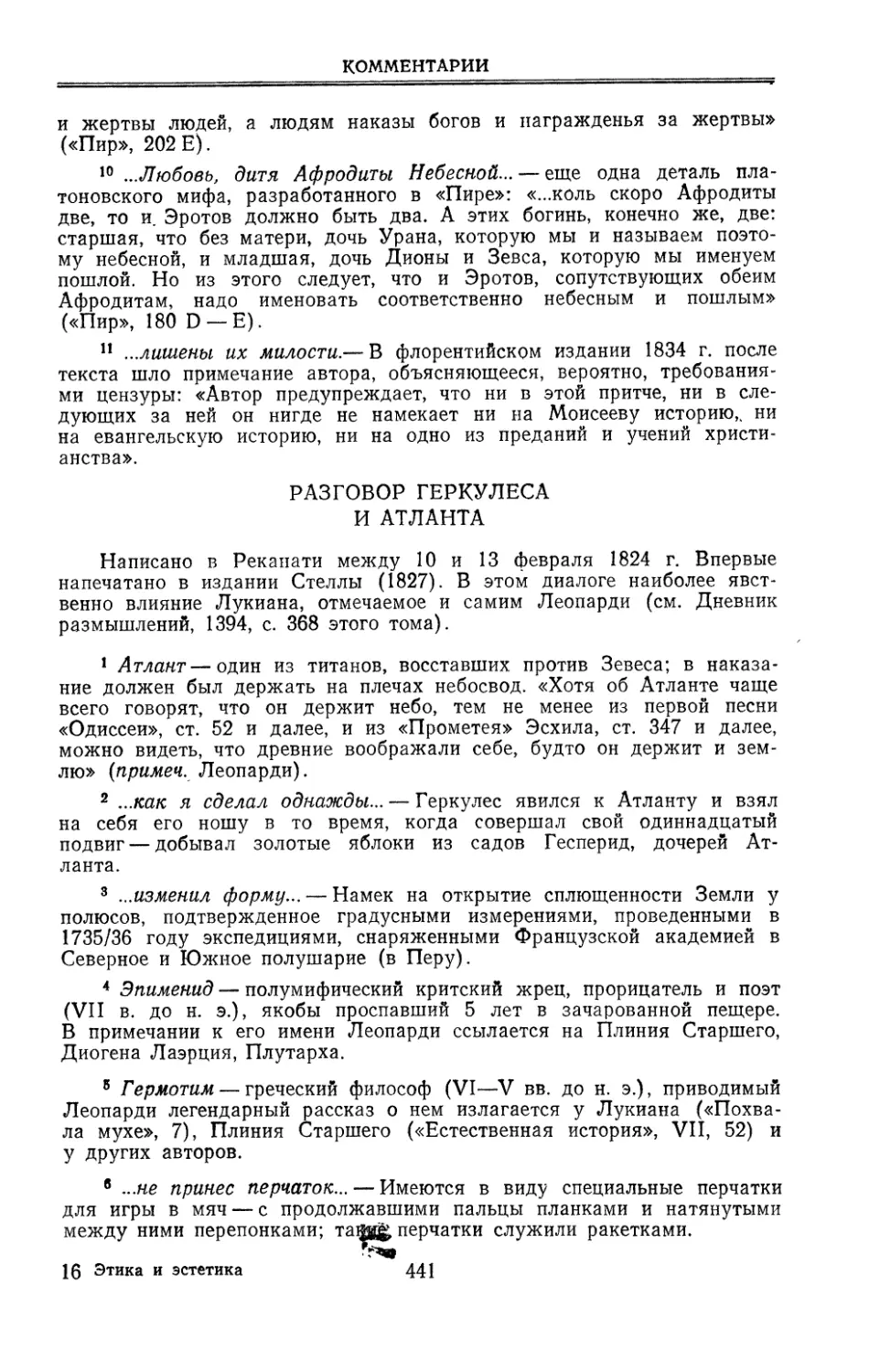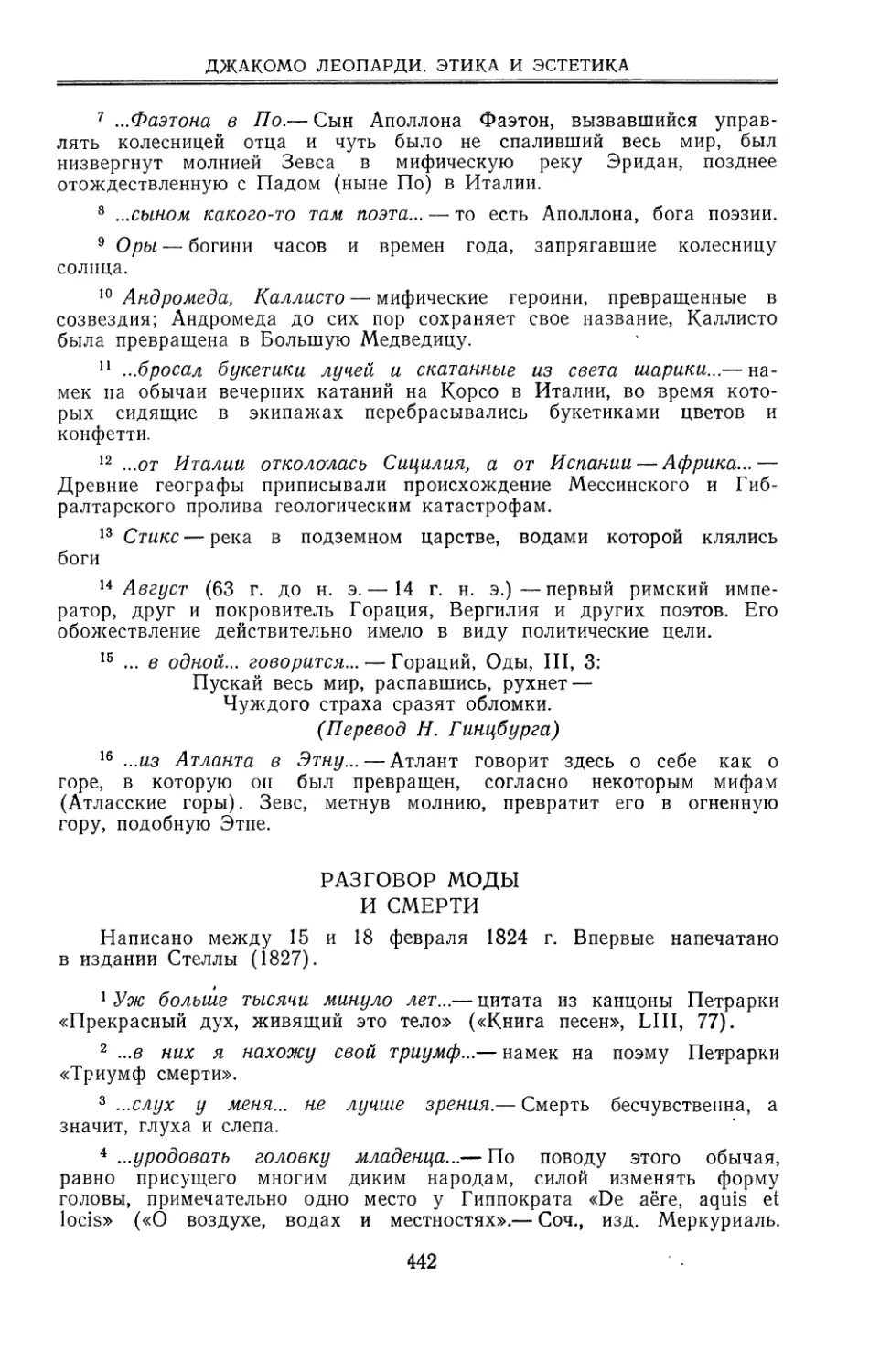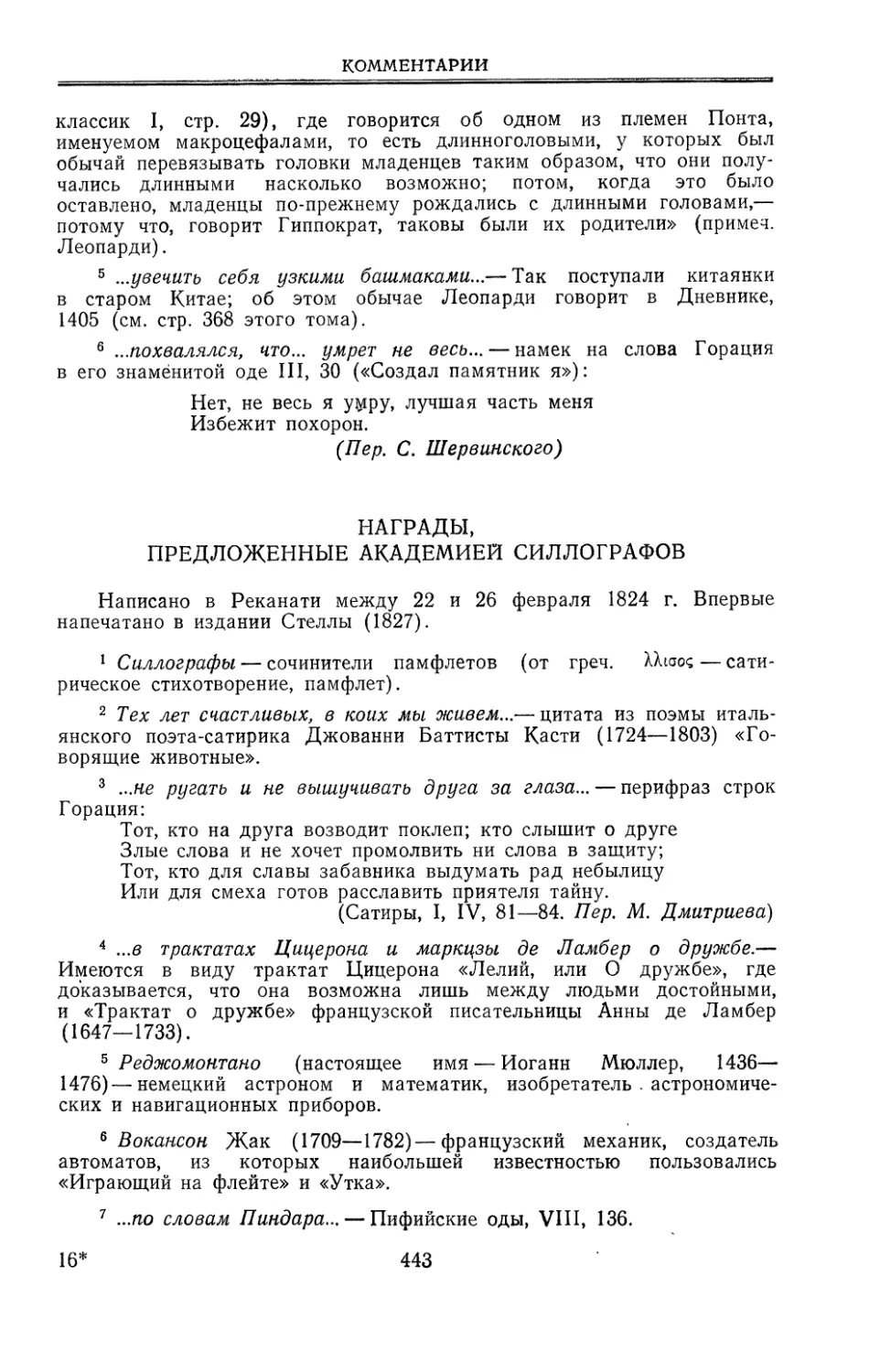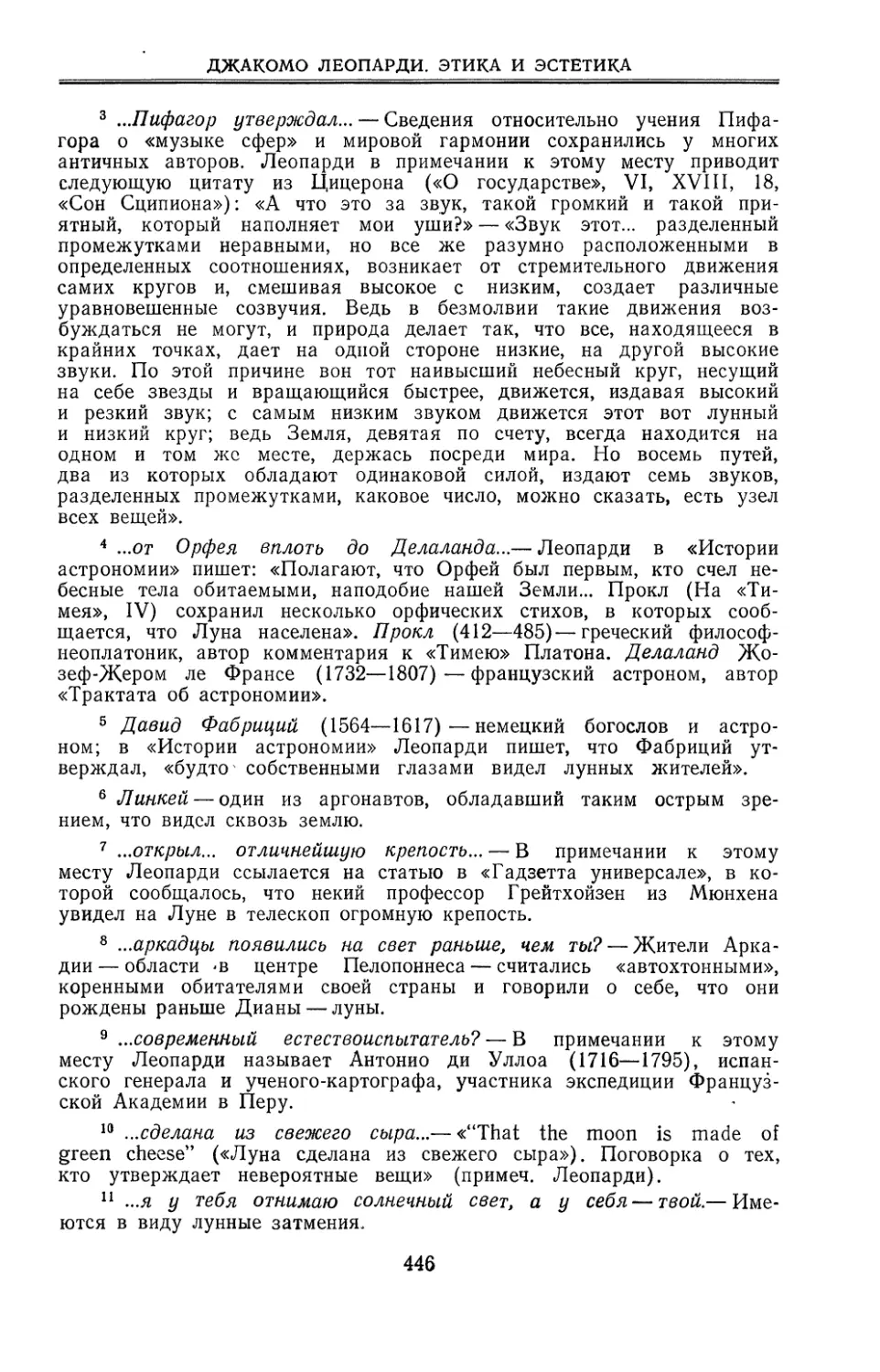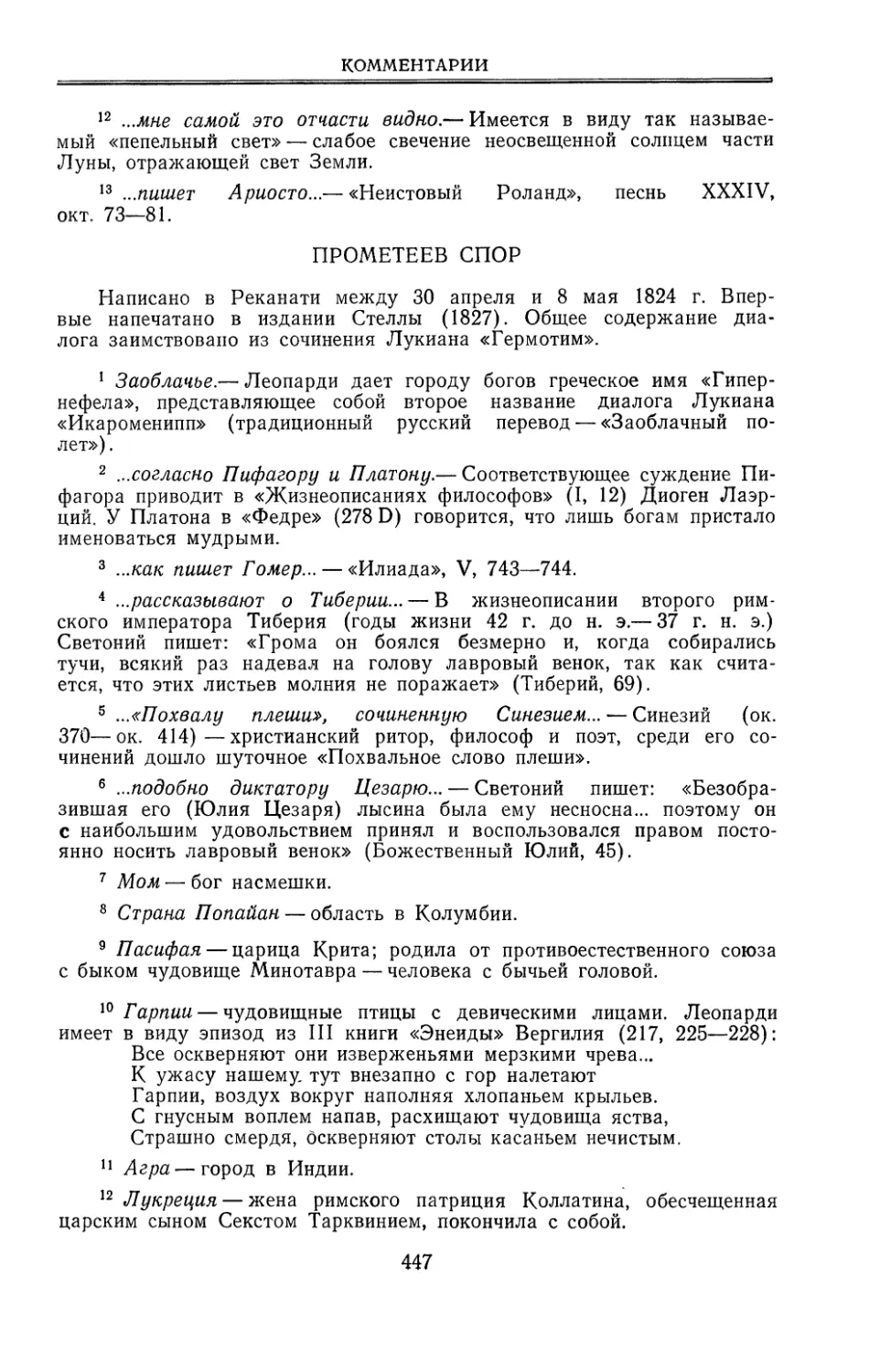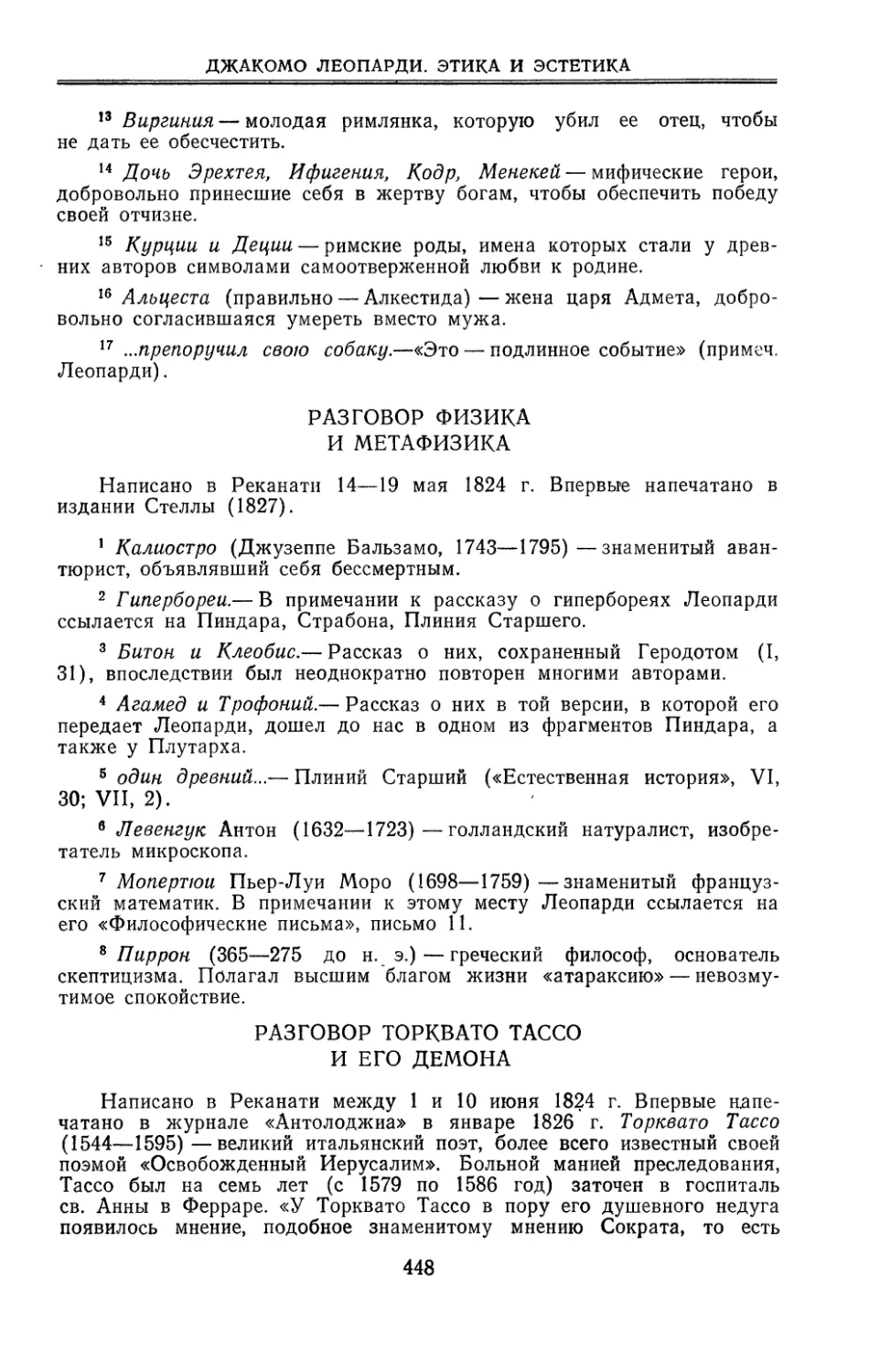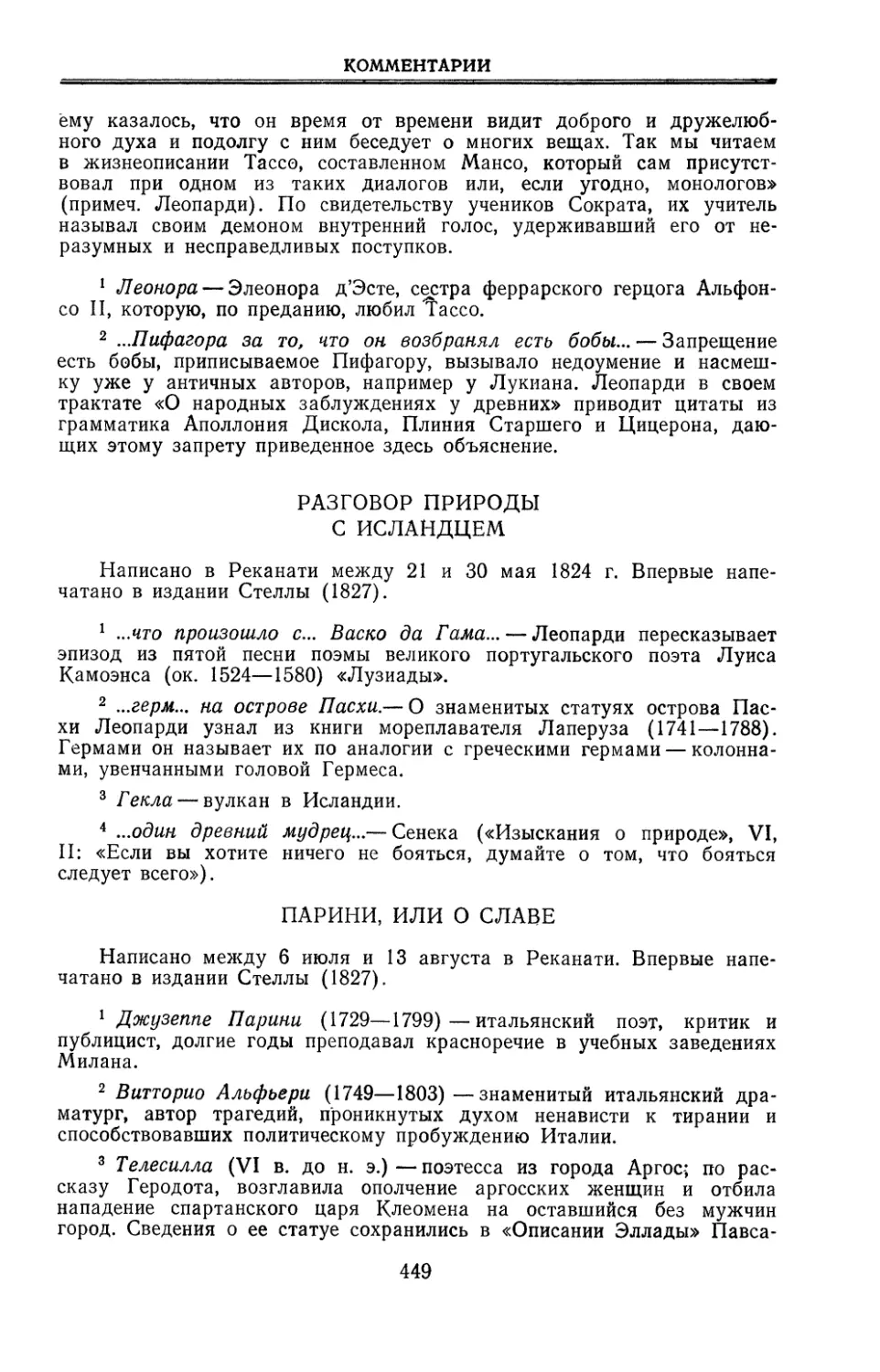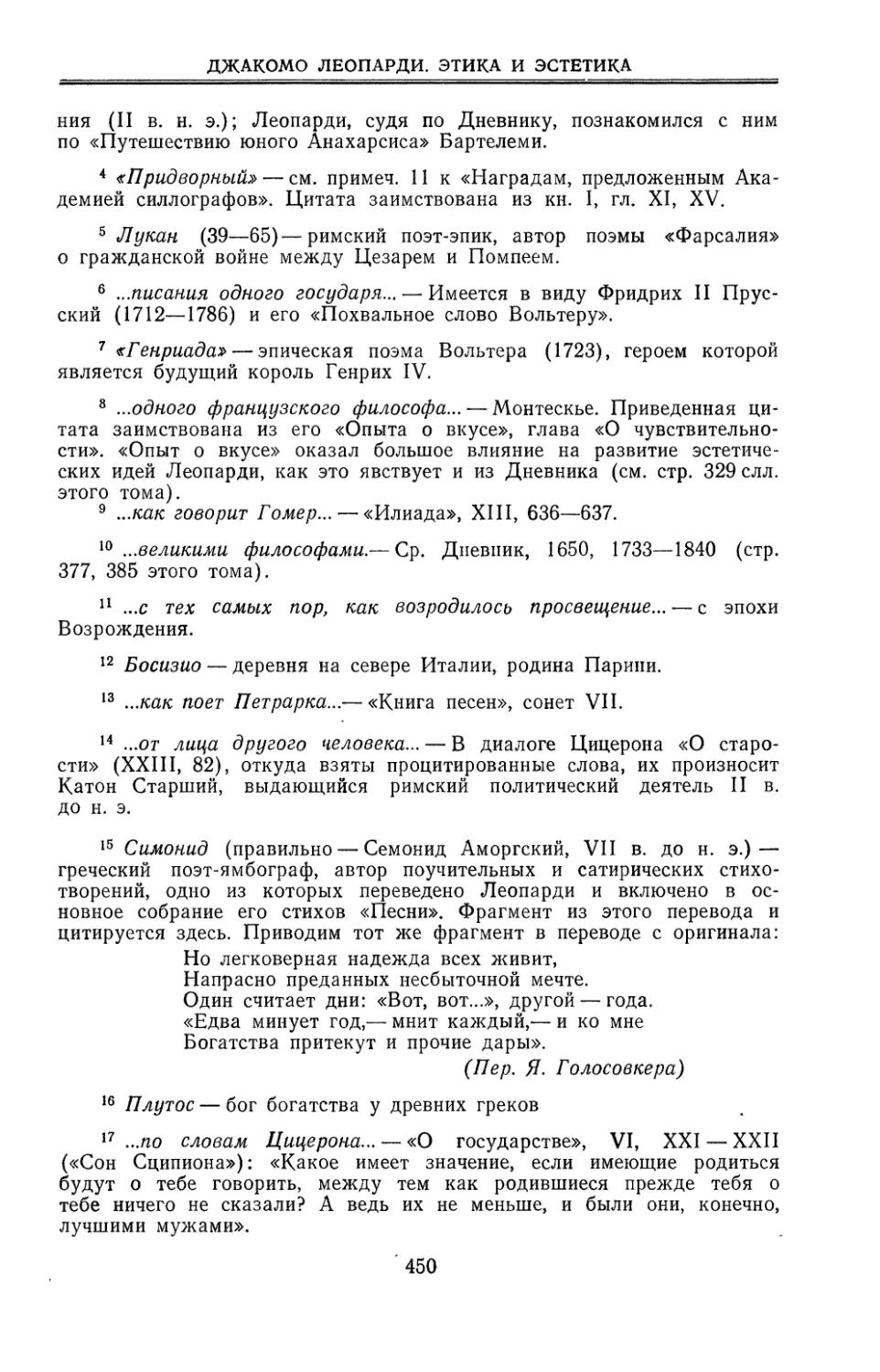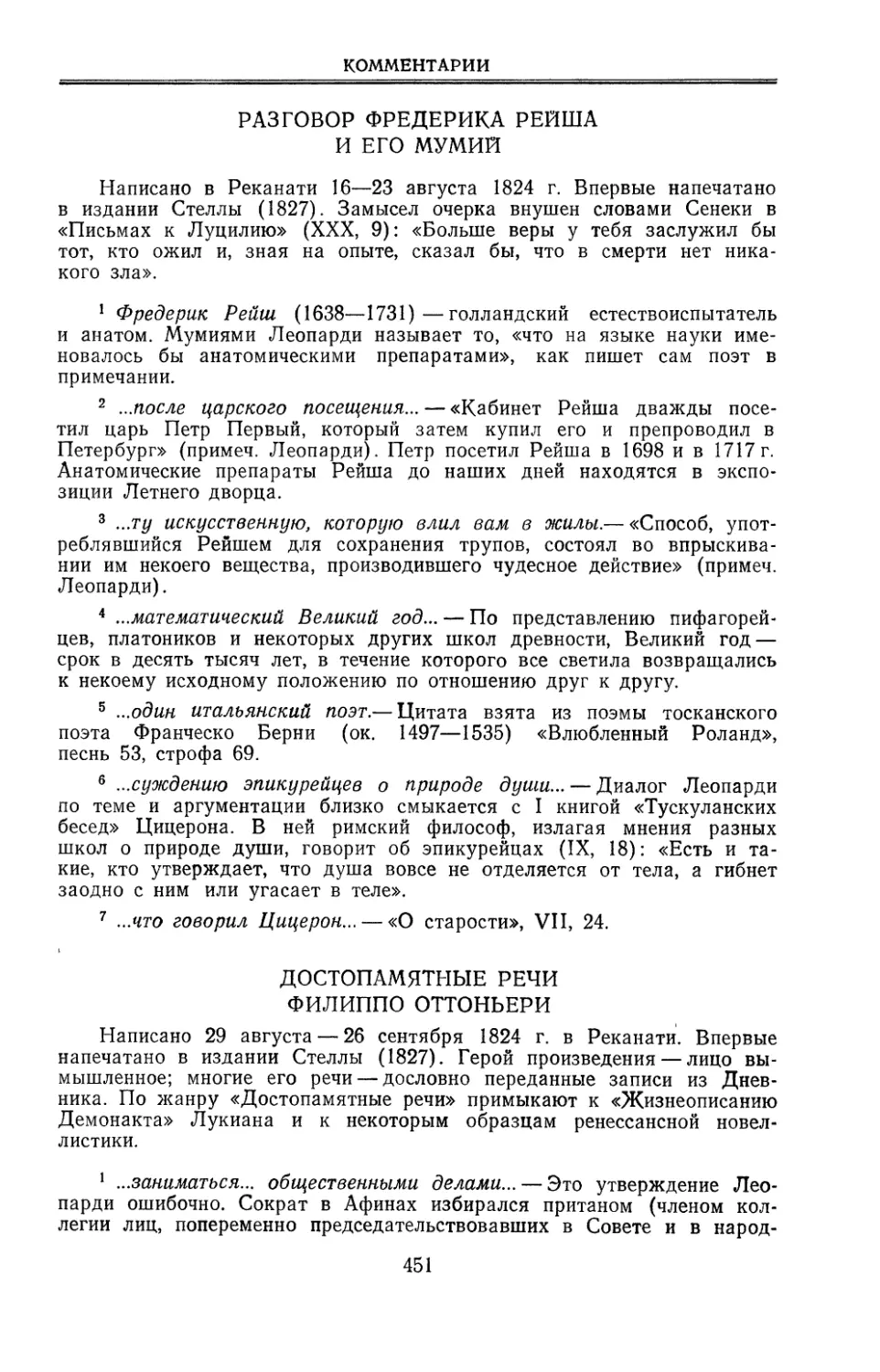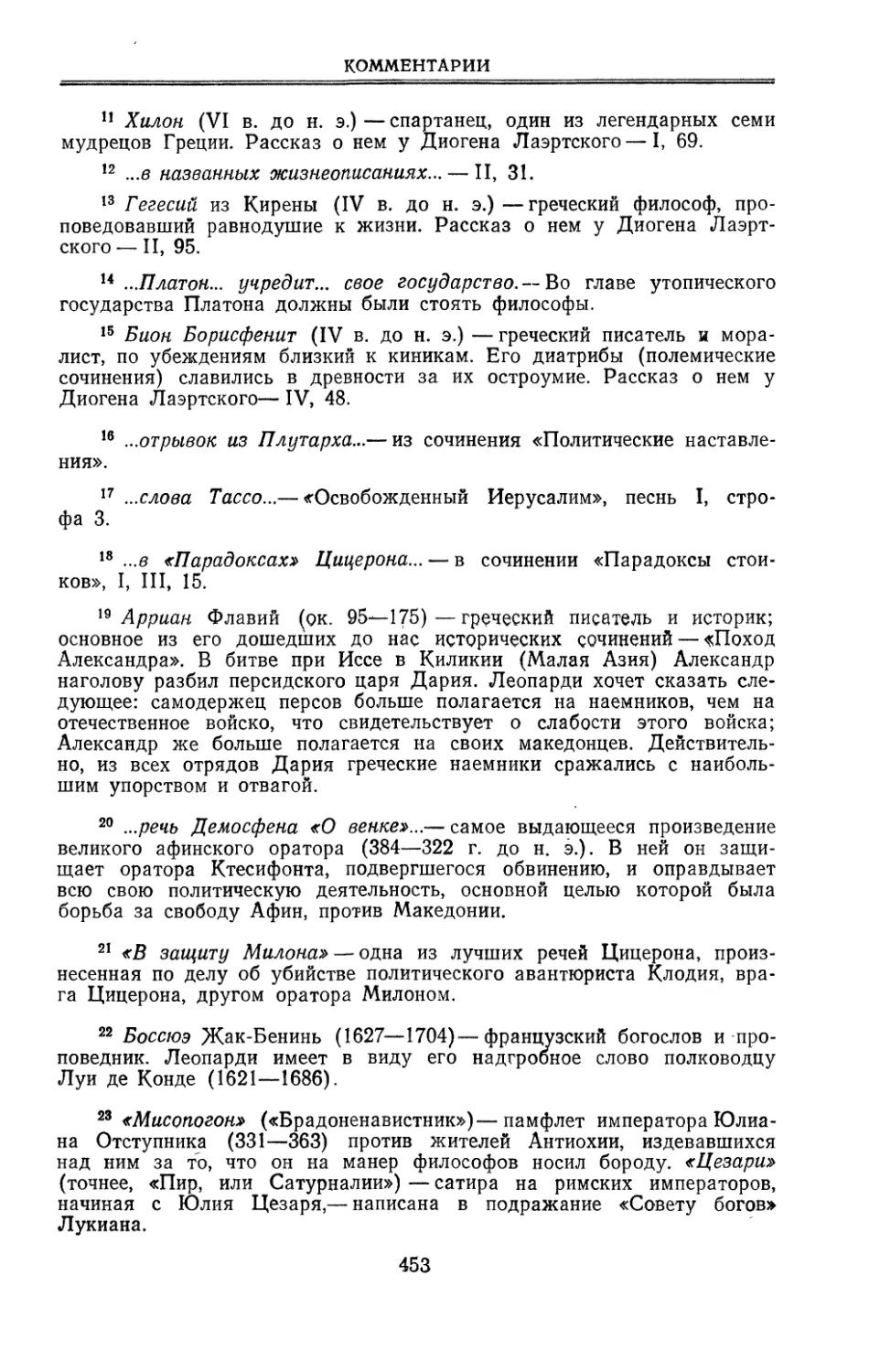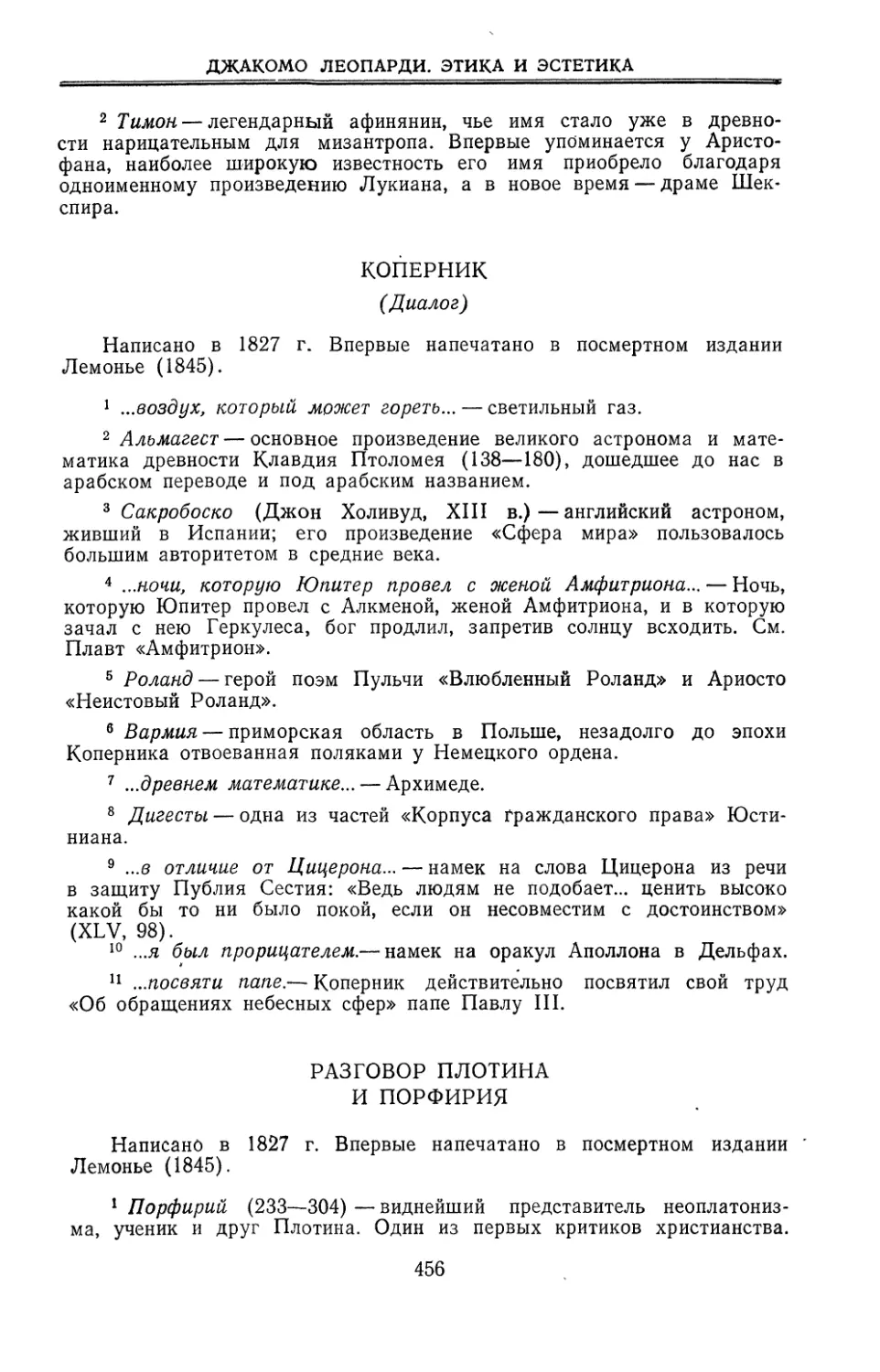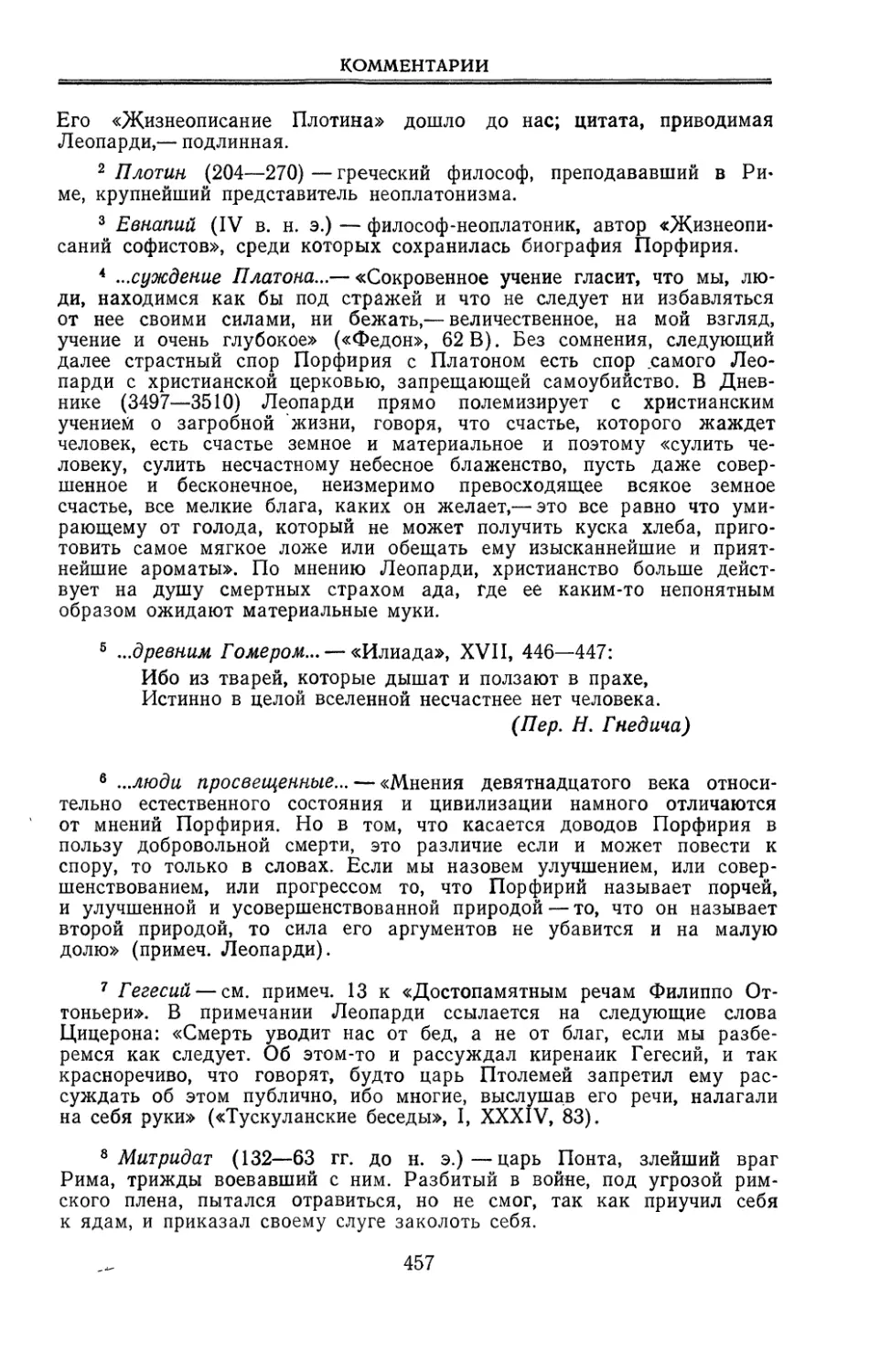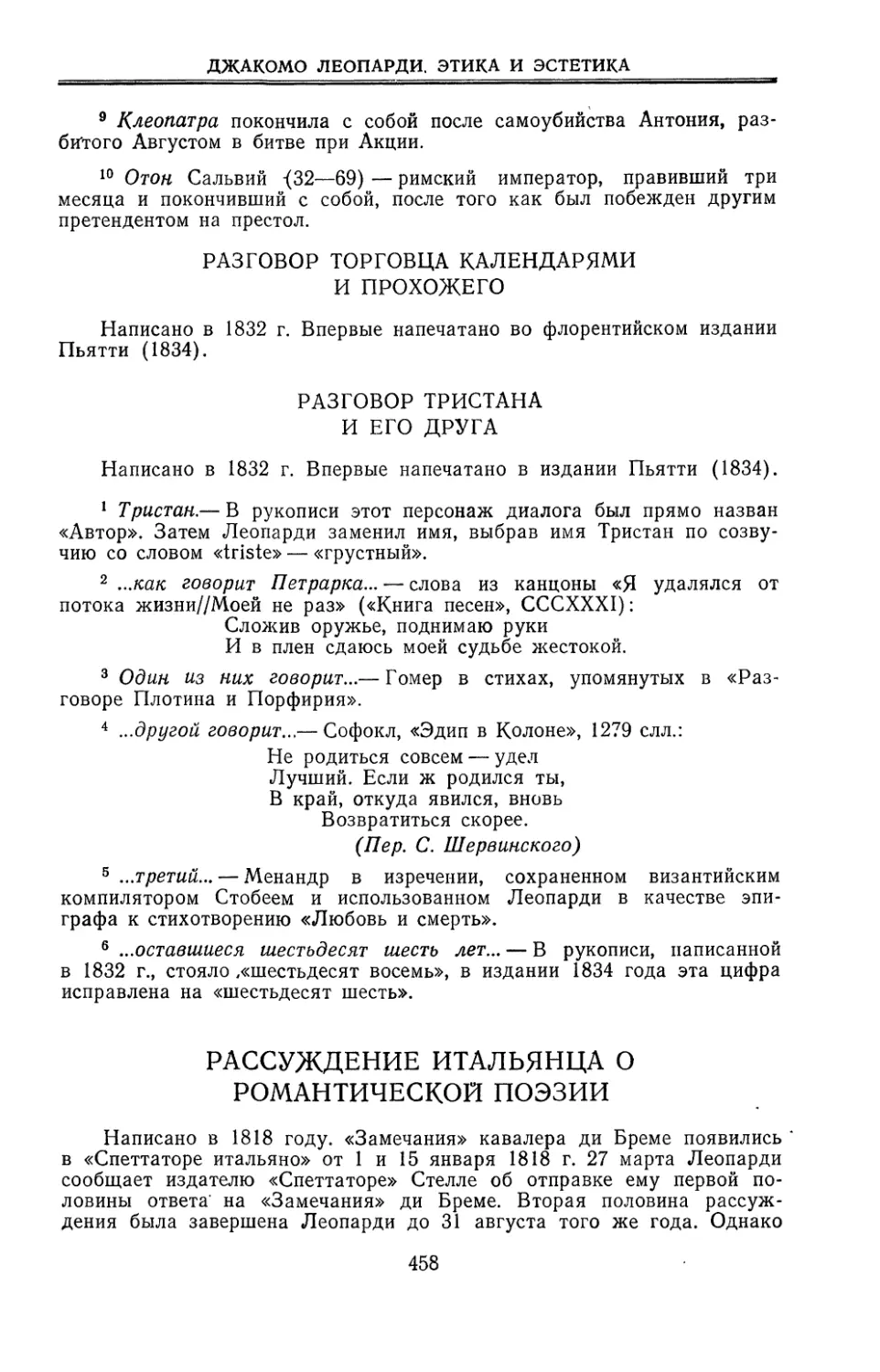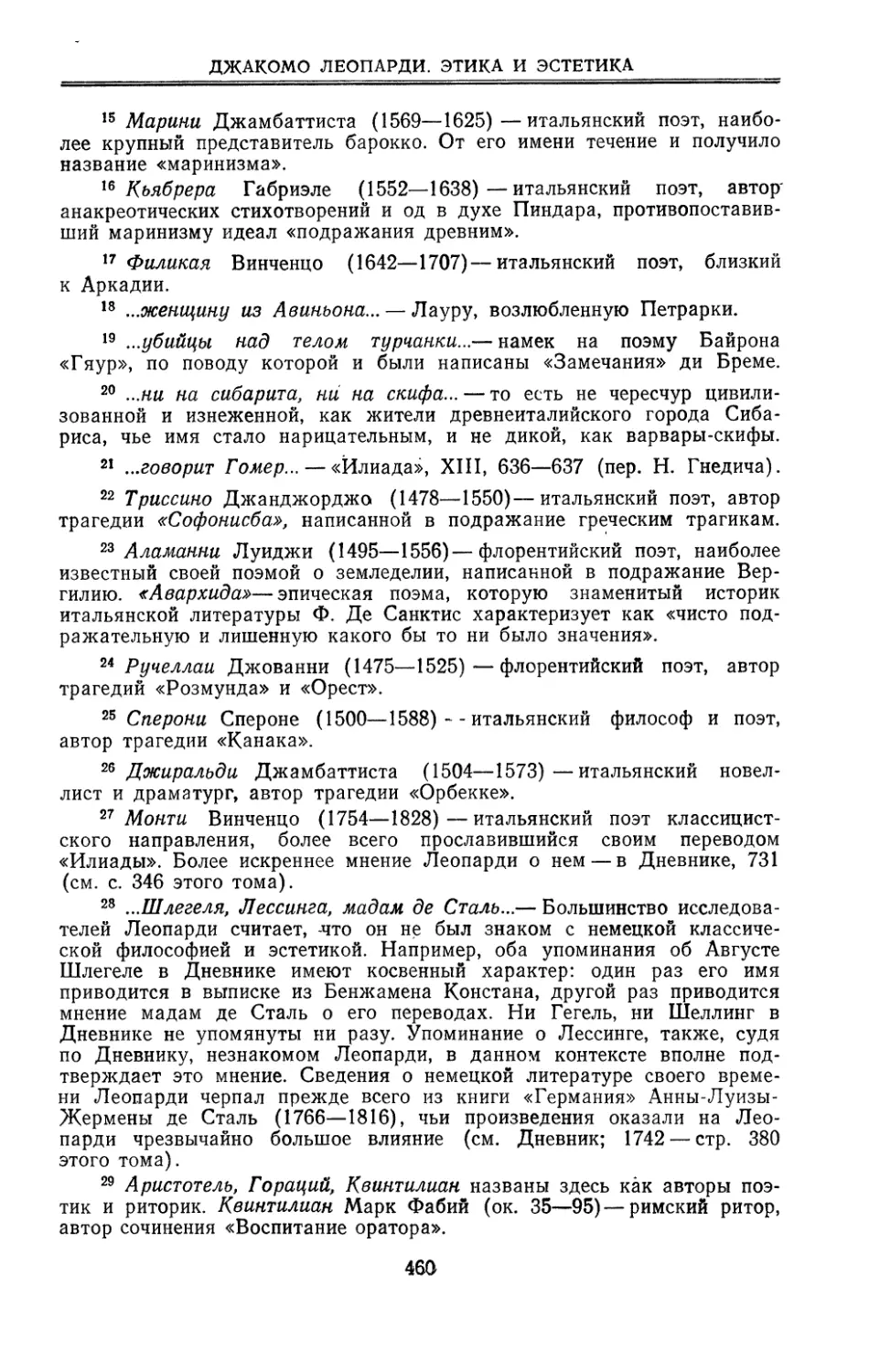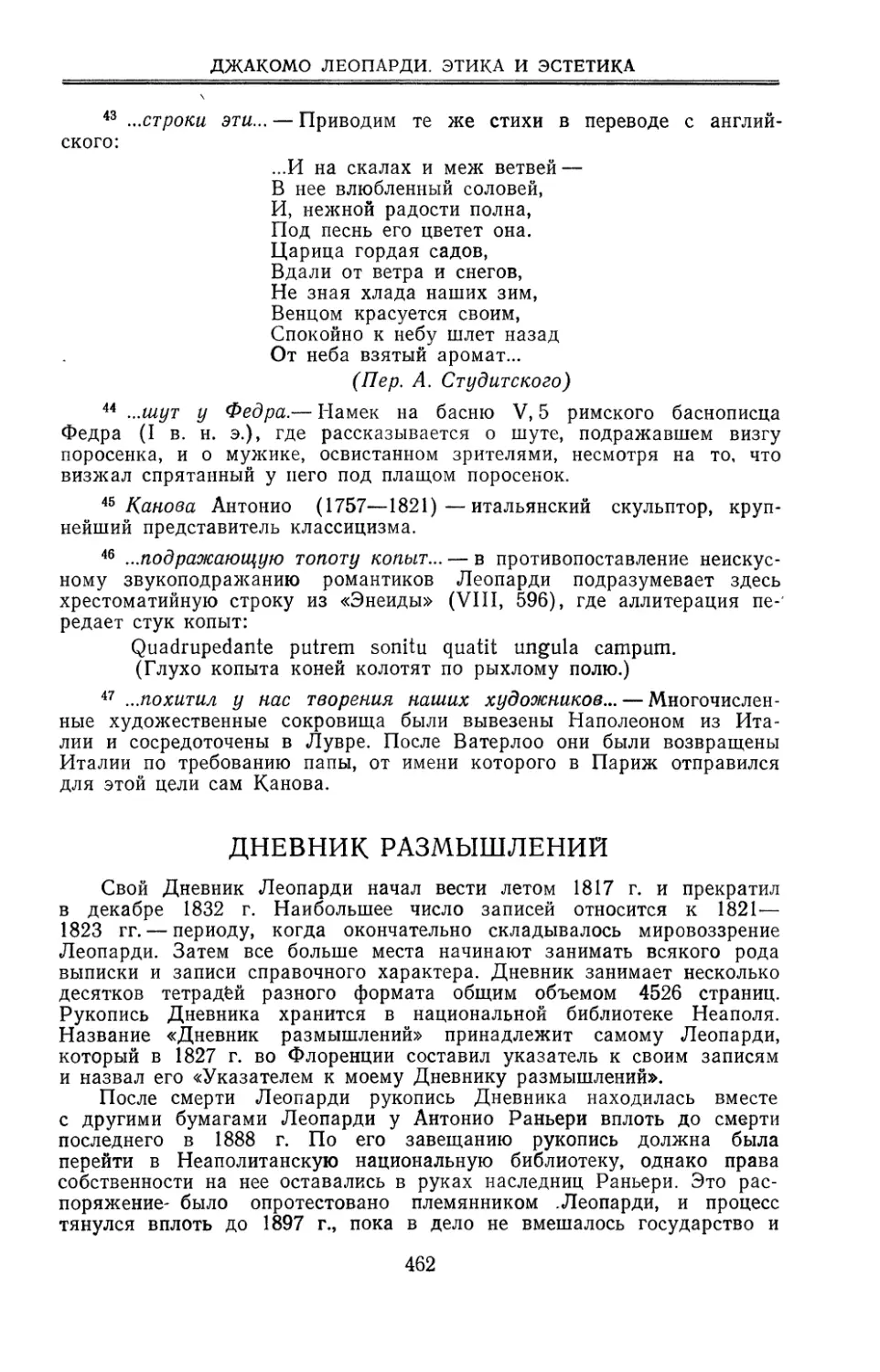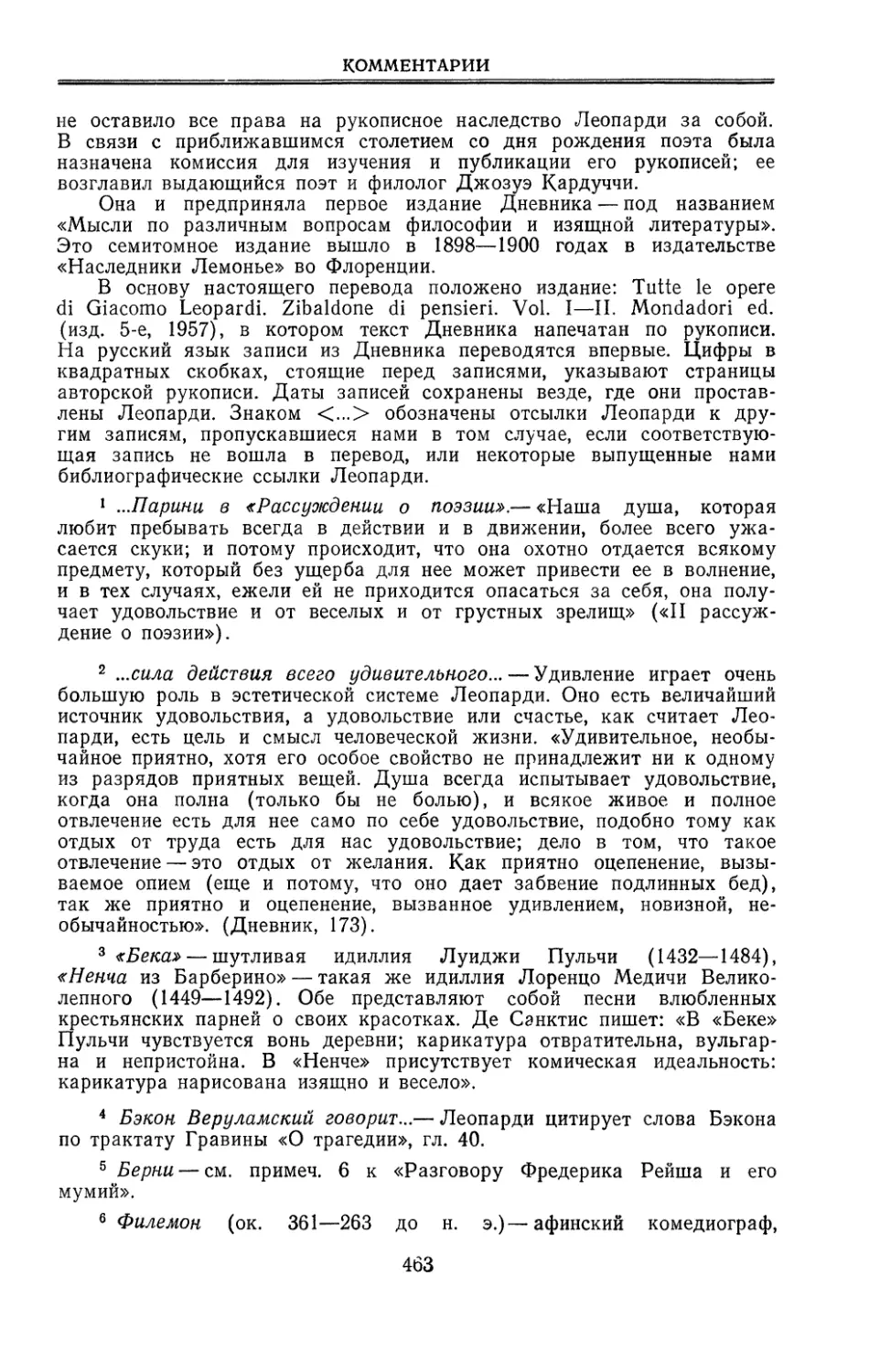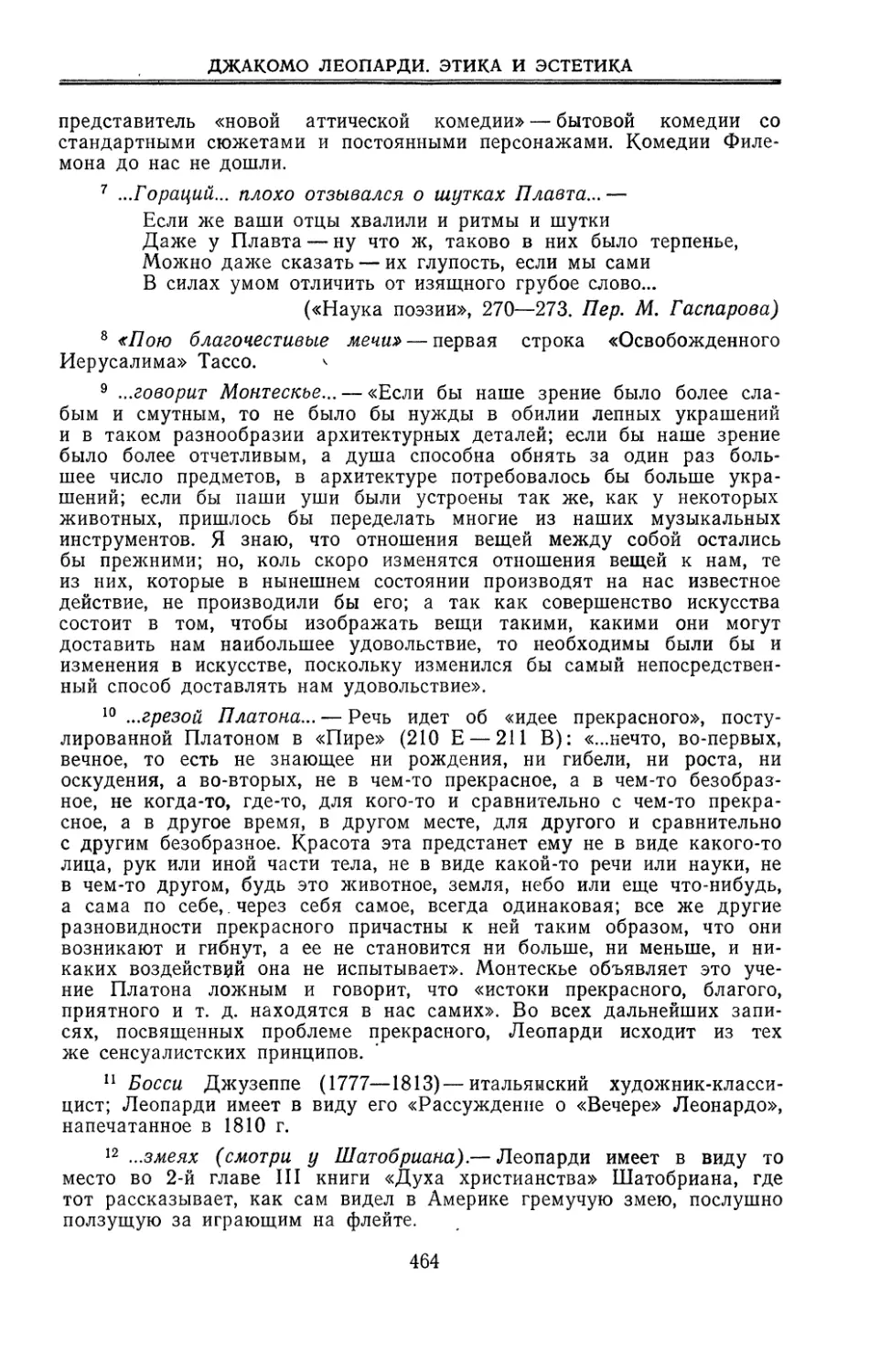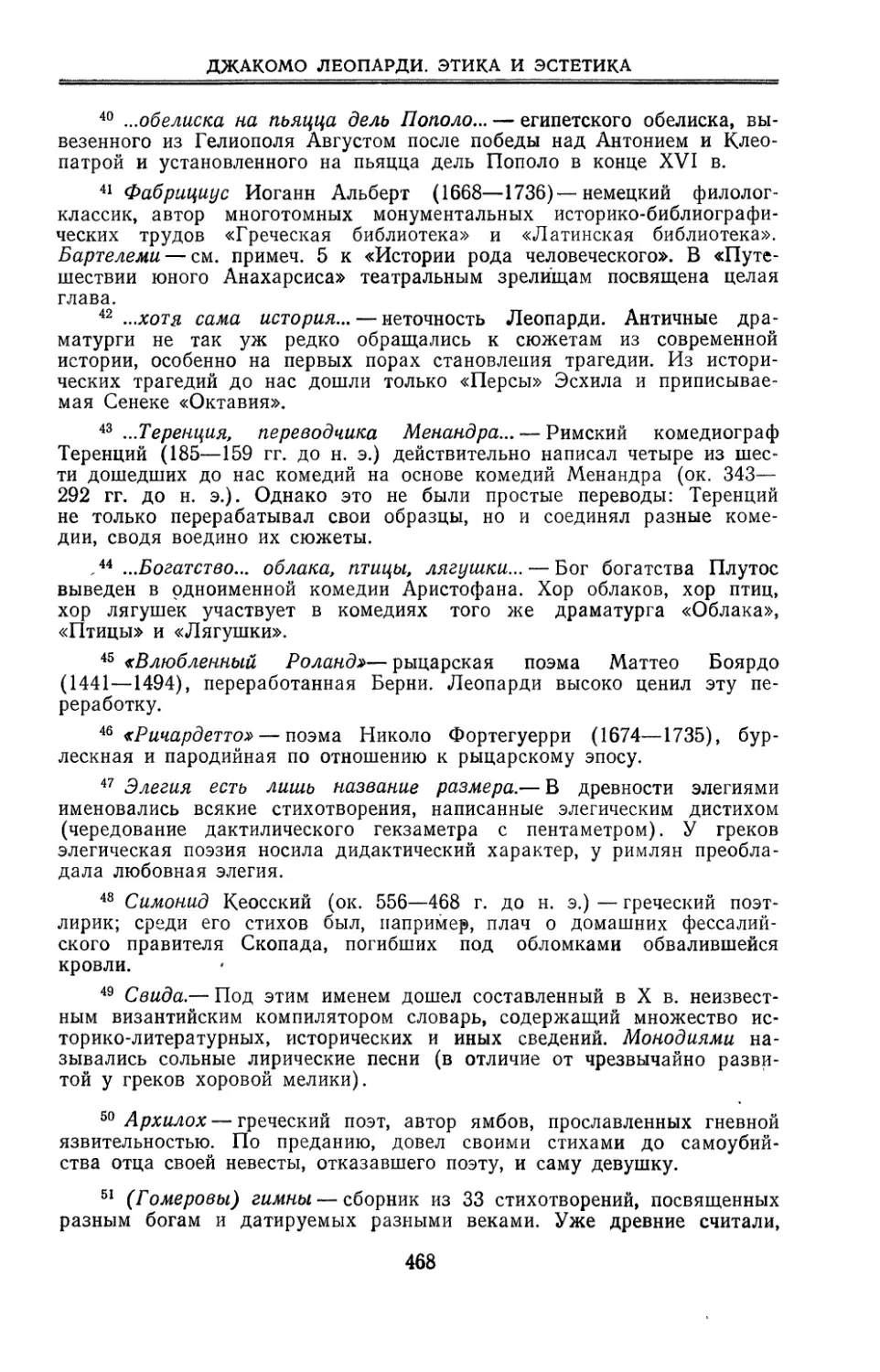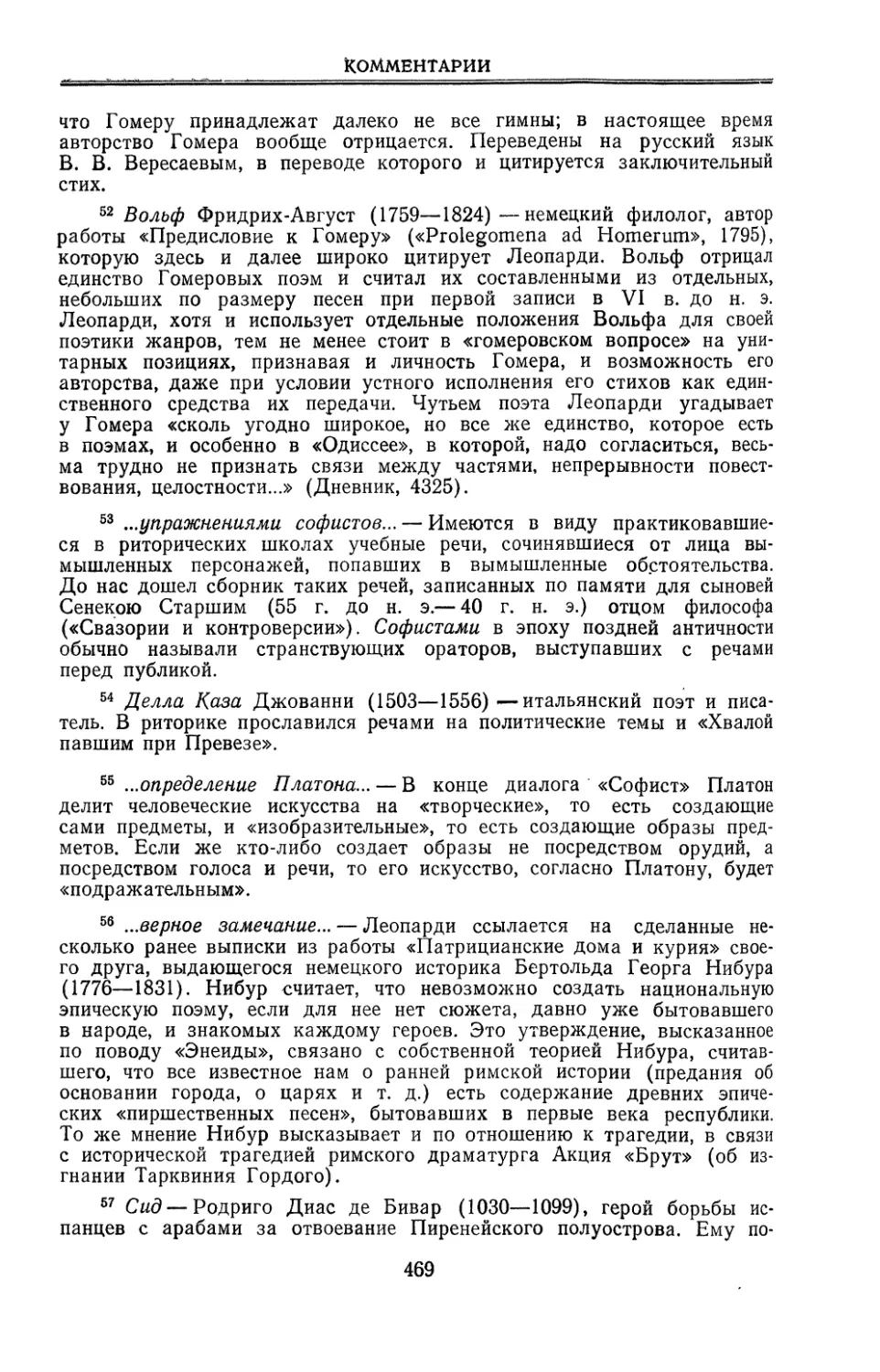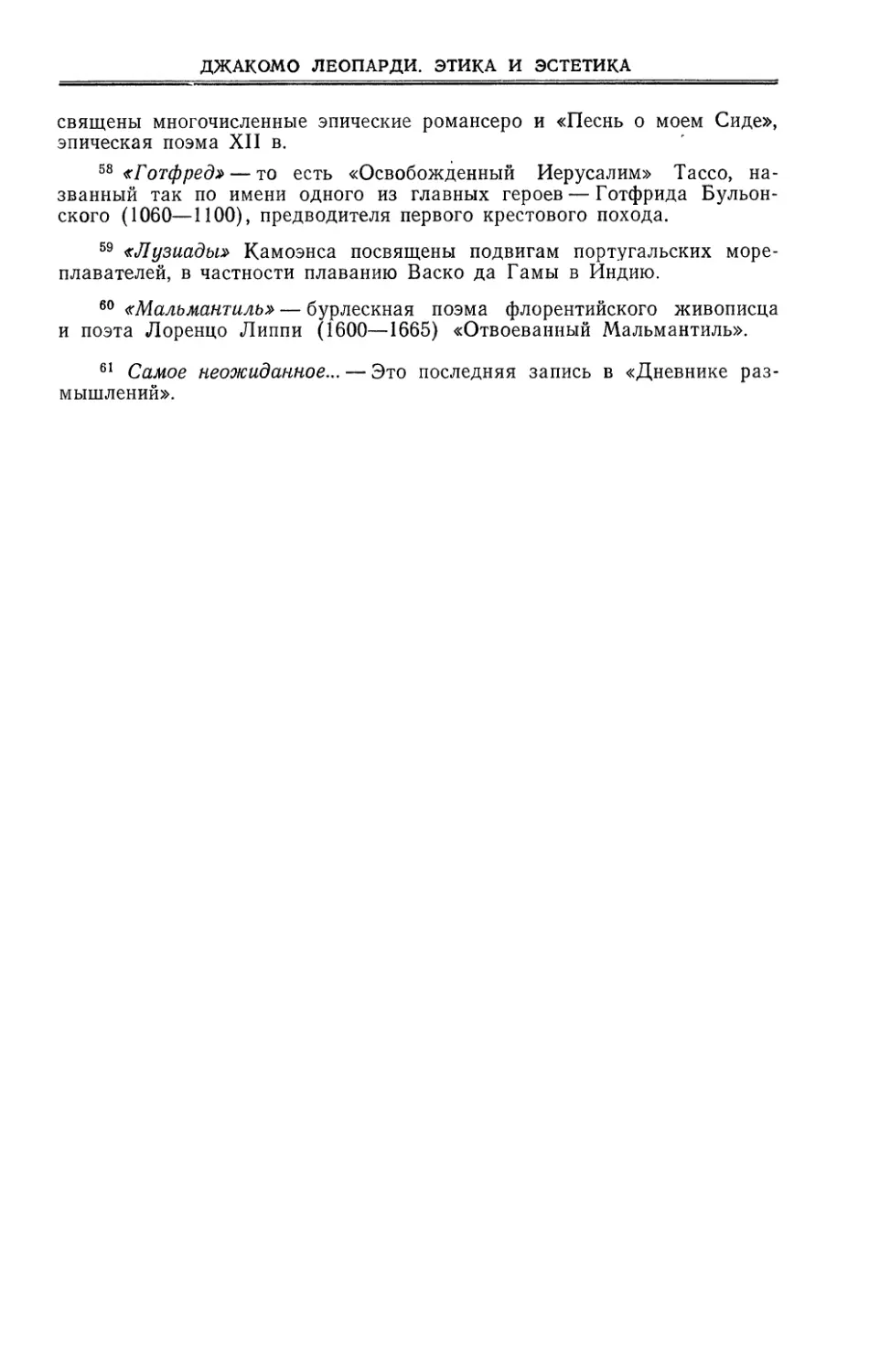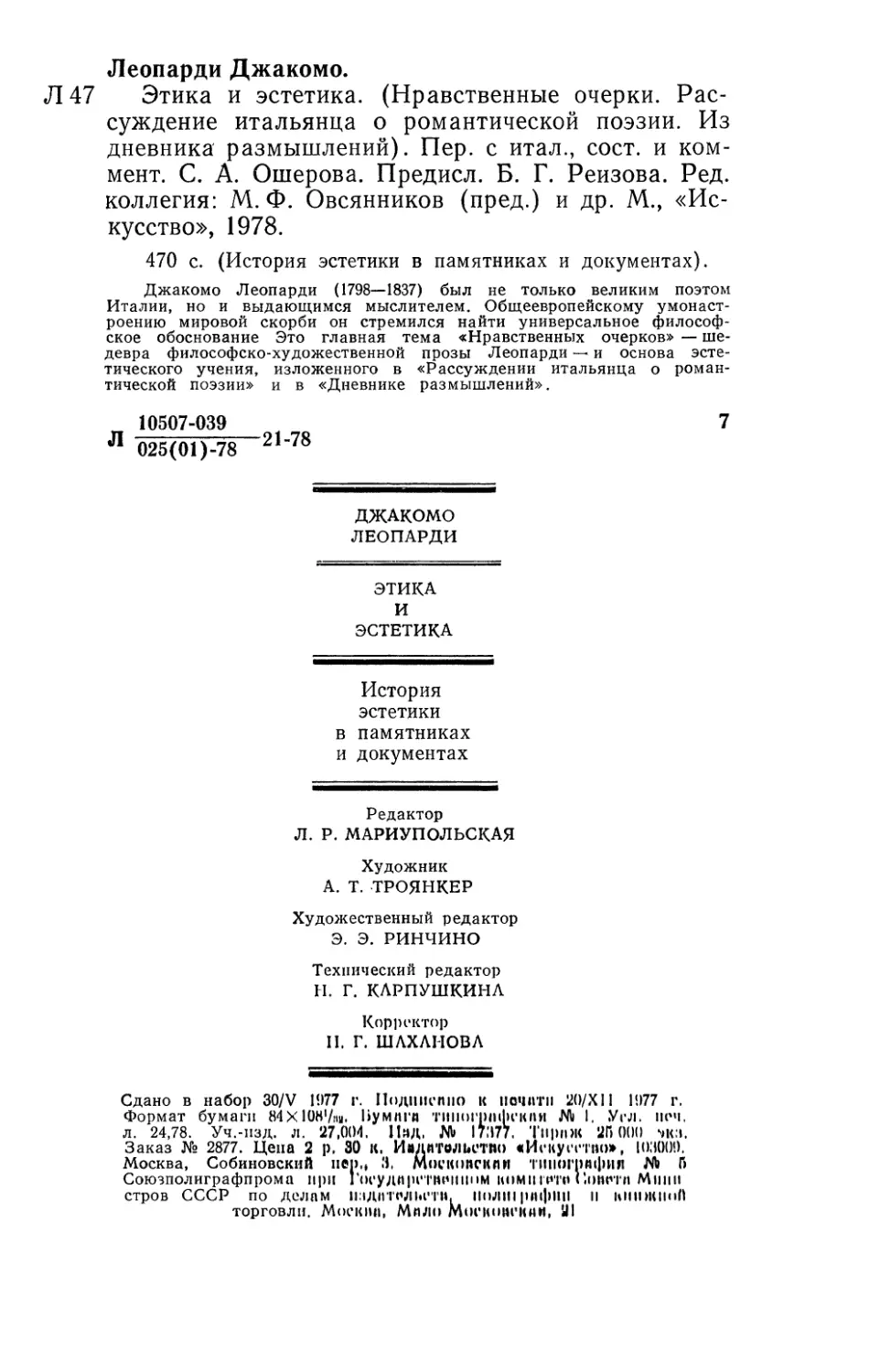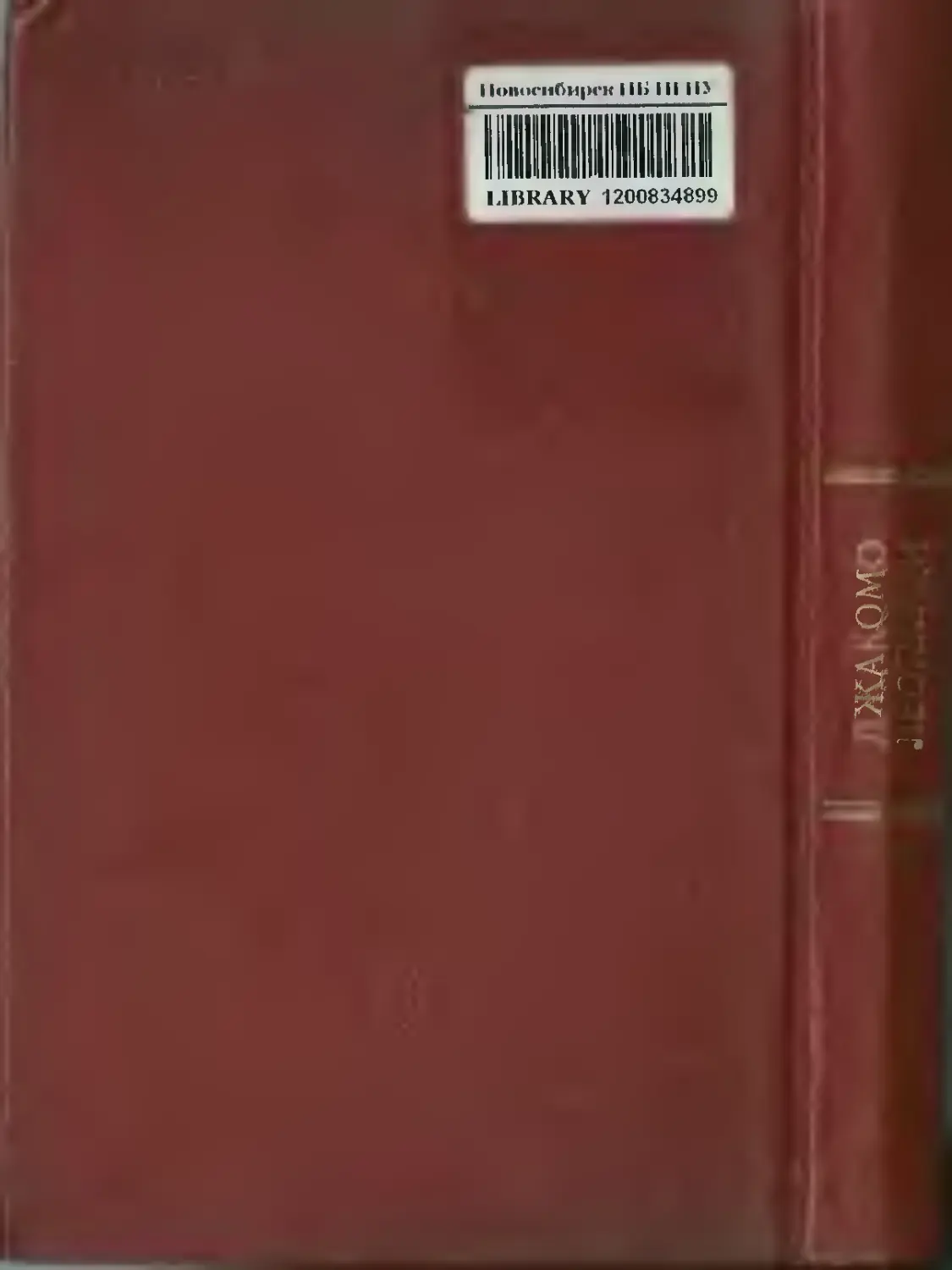Текст
ИСТОРИЯ
ЭСТЕТИКИ
В ПАМЯТНИКАХ
И ДОКУМЕНТАХ
ДЖАКОМО
ЛЕОПАРДИ
ЭТИКА
И
ЭСТЕТИКА
\ 1э:о r? I
ДЖАКОМО
ЛЕОПАРДИ
ЭТИКА
И
ЭСТЕТИКА
МОСКВА
«ИСКУССТВО»
1978
Л47^
»<{ - 2НО
1995 г.
Редакционная
коллегия
Председатель
М. Ф. ОВСЯННИКОВ
А. А. АНИКСТ
[ В. Ф. АСМУС]
К. М. ДОЛГОВ
А. Я. ЗИСЬ
М. А. ЛИФШИЦ
А. Ф. ЛОСЕВ
В. П. ШЕСТАКОВ
Предисловие
Б. Г. РЕИЗОВА
Составление,
перевод и комментарии
С. А. ОШЕРОВА
ЗДВ935
ШБШОТ£КА
нгпи !
АБОНЕМЕНТ
f
101Ш-039
'" 1>1!Г»(01)-78 8 © Издательство «Искусство», 1978 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Б. Реизов
Эстетика Леопарди
7
НРАВСТВЕННЫЕ
ОЧЕРКИ
43
ИСТОРИЯ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
45
РАЗГОВОР ГЕРКУЛЕСА
И АТЛАНТА
58
РАЗГОВОР МОДЫ
И СМЕРТИ
61
НАГРАДЫ,
1РЕДЛОЖЕННЫЕ АКАДЕМИЕЙ СИЛЛОГРАФОВ
65
РАЗГОВОР СИЛЬФА
И ГНОМА
,69
РАЗГОВОР МАЛАМБРУНО
И ФАРФАРЕЛЛО
72
РАЗГОВОР ПРИРОДЫ
И ДУШИ
75
РАЗГОВОР ЗЕМЛИ
И ЛУНЫ
79
ПРОМЕТЕЕВ СПОР
85
РАЗГОВОР ФИЗИКА
И МЕТАФИЗИКА
93
РАЗГОВОР ТОРКВАТО ТАССО
И ЕГО ДЕМОНА
98
РАЗГОВОР ПРИРОДЫ
С ИСЛАНДЦЕМ ' ?' -'
105
ПАРИНИ, ИЛИ О СЛАВЕ
111
РАЗГОВОР ФРЕДЕРИКА РЕЙША
И ЕГО МУМИЙ
140
5
ДОСТОПАМЯТНЫЕ РЕЧИ
ФИЛИППО ОТТОНЬЕРИ
145
РАЗГОВОР ХРИСТОФОРА КОЛУМБА
И ПЕДРО ГУТЬЕРЕСА
166
ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ПТИЦАМ
171
ПЕСНЬ ДИКОГО ПЕТЕЛА
178
АПОКРИФИЧЕСКИЙ ФРАГМЕНТ
ИЗ СТРАТОНА ЛАМПСАКСКОГО
181
РАЗГОВОР ТИМАНДРА
И ЭЛЕАНДРА
186
КОПЕРНИК
196
РАЗГОВОР ПЛОТИНА
И ПОРФИРИЯ
206
РАЗГОВОР ТОРГОВЦА КАЛЕНДАРЯМИ
И ПРОХОЖЕГО
220
РАЗГОВОР ТРИСТАНА
И ЕГО ДРУГА
222
РАССУЖДЕНИЕ
ИТАЛЬЯНЦА
О
романтической
поэзии
231
из
ДНЕВНИКА
РАЗМЫШЛЕНИЙ
309
КОММЕНТАРИИ
- 437
ЭСТЕТИКА ЛЕОПАРДИ
Джакомо Леопарди, один из
крупнейших итальянских поэтов XIX века, прожил недолгую жизнь и умер,
не достигнув и сорока лет (29 июня 1798—14 июля 1837). Он
известен главным образом как поэт пессимизма, глубоко страдавший в
личной жизни из-за семейной обстановки, материальной нужды,
тяжелых болезней и увечий. Чуть ли не в каждой книге и статье о нем
можно найти биографические сведения, которыми часто объясняют
его философию, обычное для него мрачное состояние духа и его
художественное творчество. Конечно, личные невзгоды сыграли свою
роль в формировании его характера и мировоззрения, но «мировая
скорбь» не была его личным свойством и изобретением,— это был дух
времени, имевший глубокие исторические причины и отразившийся на
многих философах и поэтах эпохи. Нельзя сказать, что причины эти
и тем более восприятие их у каждого болевшего этим недугом были
объяснены с достаточной точностью и убедительностью, но несомненно,
что мировоззрение и творчество Леопарди не объяснить целиком
особенностями его биографии. Сам Леопарди говорил о других
причинах, вызывавших его пессимистические настроения и побуждавших
строить свою теорию «всеобщего несчастья». «Слезы — не склонность
моей натуры, а необходимость нашего времени и желание судьбы»,—
писал он в посвящении своей канцоны Анджело Май (январь 1820).
«Необходимость нашего времени» — это бедствия современной
Италии. Он говорил об этом в своей ранней, посвященной Италии
канцоне (сентябрь 1818). По словам Г.-А. Шульца, лично хорошо
знавшего Леопарди, он объяснял свои страдания страданиями своей
родины. Очевидно, Шульц повторял то, что слышал от своего друга.
Италия потеряла свою былую славу, свою политическую мощь,
свою свободу, и единственное, что еще ценят в ней иностранцы, это ее
культура, ее поэзия, сила воображения и чувство красоты. Поэтому
художественное творчество для итальянца — это служение родине, са-
7
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
мое действенное и для нее необходимое. Ведь восстания карбонариев,
а в тридцатые годы и Молодой Италии заранее обречены на неудачу,
думал Леопарди и с пренебрежением и иронией говорил о тех, кто
погибал за свою страну, которую он так пламенно любил,— впрочем,
оговариваясь, что еще больше любил истину (269) *. Но в
прозаическом наброске «Парини, или О славе» он восхищается великими
жертвами, которые были принесены ради славы или пользы людей.
Художественное творчество дает человеку наибольшее счастье, так
как создает сладостные иллюзии независимо от того, понимает ли
человек, что это все же иллюзии и, следовательно, ложь, или
принимает их за правду. Рассудок только вредит нашему счастью, так как
разрушает иллюзии и обнажает грустную сущность нашей жизни. «Кто
же освобождает наше воображение от ига рассудка, от бремени
враждебных естеству идей, возвращает его в первобытное или близкое к
первобытному состояние, делает вновь способными чувствовать
неземные наслаждения, доставляемые природой? Поэт» (318). Поэтому
проблемы эстетики приобретают для Леопарди первостепенную важность
не только в теоретическом, но и в общественном плане.
Этими проблемами Леопарди занимался много и со страстью, о чем
свидетельствуют записи, заполняющие тысячи страниц в его
дневниках. Он вел эти дневники начиная с 1817 до 1832 года, и особенно
интенсивно в 1821—1823 годы. Очевидно, это были наброски какого-то
большого труда о важнейших вопросах эстетики — о прекрасном, о
вкусе, о художественном творчестве и восприятии, о происхождении
и общественной роли искусства. Леопарди делал выписки из многих
прочитанных им книг, посвященных эстетике, и ссылался на авторов, с
которыми соглашался или спорил!. Разумеется, в дневниках указаны
далеко не все книги, которые он читал или просматривал, и для того,
чтобы понять историю и цель его поисков, нужно учесть движение
европейской эстетической мысли XVIII и начала XIX века, включая,
конечно, и античную, которая всегда была предметом его исследований
и любования. Нужно признать, что и в этой области он был отлично
осведомлен, -может быть, так же, как в древнегреческой и римской
литературе, и его эрудиция, конечно, не была ограничена только
книгами, находившимися в Реканати, в библиотеке его отца, страстного
библиофила.
* Цифры в скобках указывают страницу авторской рукописи Дневника.
1 О значении прочитанных и указанных в дневниках французских книг см.:
Serb а п. Leopardi et la France. Essai de litterature comparee. Paris, 1913.
Некоторые соображения о французских влияниях на Леопарди см.: Sorrenti-
п о A. Cultura е poesia di G. Leopardi. Cittn di Castello, 1928. О влиянии Руссо
см.: Neri Ferdinand о. И penslero del Rousseau nelle prime chiose dello
Zibaldone.— Letteratura e leggende, 19Б2. О немецких влияниях см.: М a n u с-
с i F. L. Giacomo Leopardi. La storia poetlca. Torino, 1934.
8
Б. РЕИЗОВ. ЭСТЕТИКА ЛЕОПАРДИ
Кроме дневника в 1818 году Леопарди написал большую статью
о проблемах эстетики и художественной литературы, увидевшую свет
только в 1906 году. Статья была направлена против возникшей в
Италии в 1816 году романтической школы и называлась: «Рассуждение
итальянца о романтической поэзии».
1
Эстетические размышления Леопарди всегда предполагали
художественную оценку созданий природы так же, как созданий искусства,—
об этом свидетельствуют уже записи 1817 года. Но острополемический
смысл эти размышления приобрели после того, как он почувствовал
необходимость принять участие в вспыхнувшей в это время
литературной борьбе.
Романтизм в Италии вырос из национально-освободительного
движения, возникшего уже в последние годы XVIII века и в начале XIX
получившего отчетливые формы. В такой атмосфере воспитывались
будущие романтики, получившие это имя в 1816 году.
. В журнале «Biblioteca italiana» в январском номере этого года
появилась статья Жермены де Сталь «О характере и пользе
переводов» («Sulla maniera е sulla utilita delle traduzioni»). Журнал
этот был проавстрийский и открыто реакционный. Задача его
заключалась, в частности, в том, чтобы убедить итальянцев в их культурной
отсталости от других европейских стран и тем ослабить их
патриотические настроения. Редактору журнала, автору ученых трудов Джузеппе
Ачерби, которого итальянцы называли австрийским шпионом, и
австрийскому губернатору Ломбардии графу Соро (Saurau) статья Сталь
показалась подходящей для этой цели, но на прогрессивные круги она
подействовала иначе. Сталь не умаляла исторического значения
итальянского народа, его культуры и художественных талантов, но
советовала итальянцам ближе познакомиться с европейскими литературами —
от «Илиады» Гомера и трагедий Расина до произведений современных
немецких писателей. Итальянские критики, писала Сталь, постоянно
ворошат пепел своего прошлого, чтобы найти в нем какую-нибудь
песчинку золота, а поэты, пользуясь гармонией своего языка, ищут
звонких созвучий, не задумываясь о смысле слов. Она хотела познакомить
итальянцев с прогрессивными и вместе с тем
национально-освободительными тенденциями современной Европы для обновления
итальянской литературной культуры.
Вокруг статьи тотчас разгорелась полемика, имевшая не только
литературный, но и политический смысл. Литературные консерваторы
были возмущены словами Сталь о современной итальянской
литературе, остававшейся в плену старых догм. В журнале "Novelle letterarie",
9
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
появилась статья, перепечатанная в "Spettatore", полная
оскорблений в адрес Сталь, затем в том же роде две статьи в "Corriere
delle Dame" (май и июнь) и др. «Библиотека италиана» пыталась
потушить скандал и в апрельском номере напечатала статью Сталь,
оправдывавшей себя и выражавшей свои симпатии к Италии вообще
и к ее культуре в частности. Наконец, в том же 1816 году появилась
брошюра Лодовико ди Бреме «О несправедливости некоторых
итальянских суждений о литературе» *.
Лодовико ди Бреме (1780—1820), происходивший из древнего
аристократического рода, был сыном крупного политического деятеля
Итальянского королевства, созданного Наполеоном в 1806 году. Он
имел звание аббата, хотя никаких церковных должностей не исполнял,
был государственным советником и на редкость образованным
философом.
Он считал себя идеалистом и не признавал сенсуализма, хотя
высоко ценил сочинения Локка, Кондильяка и Дестюта де Траси,
«Идеология» которого была широко известна в Италии, особенно в
Пьемонте, благодаря трудам О.-А. Фаллетти. Эта «экспериментальная»
или «опытная» философия, по мнению ди Бреме, приводила к чистому
эгоизму или к «личному интересу», между тем как единственной целью
человека должен быть интерес общественный. На этой основе он строил
свою философию, свои представления о человеке и обществе. Отсюда
его патриотизм, политический либерализм и упорная борьба с
австрийской реставрацией, с духовным и политическим господством церкви
и вместе с тем с классическими правилами, препятствовавшими, по
его мнению, свободному развитию итальянской литературы и
национального самосознания.
С новым литературным движением ди Бреме познакомился сперва
по книге Сисмонди «О литературе Южной Европы» (1813), затем Жер-
мены де Сталь «О Германии» (1813—1814) и, наконец, А.-В. Шлегеля
«Курс драматической литературы» (французский перевод 1814 г.). Шле-
гель ему не понравился, потому что глава немецкого романтизма
восхищался католиком Кальдероном и не ценил итальянскую литературу
той же эпохи, Сталь нравилась ему своей проповедью чувствительности
и свободы мысли, а книгу Сисмонди он признал превосходным
руководством в борьбе с правилами и с господством французского, а также
итальянского классицизма. Ди Бреме оценил задачу Сисмонди —
определить утвержденные на разуме законы художественной литературы,
проявляющиеся во всех «свободных» литературах и в произведениях
1 "Intorno all' ingiustizia di alcuni giudizi letterari italiani". Здесь и в
дальнейшем цитируем по кн.: Di Breme L. Polemiche. Introduzione e note di Carlo
Calcaterra. Torino, 1923.
10
Б. РЕИЗОВ. ЭСТЕТИКА ЛЕОПАРДИ
крупнейших писателей Европы. Этот свободный интернационализм
казался ди Бреме особенно важным, так как утверждал новую
литературную эстетику, отвечающую потребностям нового общества,
продолжающего, вопреки Реставрации, «идеи 1789 года».
В своем рассуждении «О несправедливости некоторых итальянских
суждений о литературе» ди Бреме отвергает правила тысячелетней
давности, созданные для другой публики, не имеющей ничего общего
с современной итальянской, требует современного языка, чтобы
выражать новые мысли и понятия, свободного творчества, идущего из
глубоких недр души. Литература должна работать для сегодняшнего дня,
для теперешней Италии, жаждущей освобождения от иностранных
завоевателей. И ди Бреме указывает на другие европейские литературы,
сбросившие классические путы, вернувшиеся «к себе», к своему народу
и к своей современности.
Но брать пример с иностранцев не значит им подражать.
Международный обмен идеями не уничтожает национального своеобразия, а
развивает его, делает культуру народа более оригинальной и помогает
ему решать свои задачи. Это последнее особенно важно, а потому
нельзя ориентироваться на одну только древнюю литературу, но нужно
изучать и новые, народные, — ведь народности и национального
своеобразия как раз и не хватает итальянской литературе. Пора наконец
понять, что итальянцы XIX века еще ничего не сделали для развития
новой науки и новых идей. Нужно изучать современных ученых и
философов, Бэкона, Локка, Канта, Фихте, Ансильона и других, чтобы
двигать науку и подняться до уровня современной мысли.
Этому мешает итальянский литературный язык классической
школы, повторяющий язык Боккаччо. Итальянцы не только пишут, но и
мыслят на этом языке,— темно, неотчетливо и очень учено, они высоко
ценят случайное, не замечая существенного. Классические правила,
ставшие привычкой, превращают критиков и писателей в ремесленников
и убивают творчество. В этом несчастье Италии. Нужно писать и
мыслить на родном языке народа, которым можно выразить то, что
волнует современного итальянца.
Леопарди, несомненно, читал этот манифест и другие статьи за
и против романтизма; во всяком случае, он имел более или менее
отчетливое представление об этих спорах, хотя относился с
пренебрежением к классикам, так же как к романтикам, потому что любил
античных авторов, а не современных, им подражавших. Романтики
раздражали его, потому что выбрасывали из современной культуры
непреходящие художественные ценности античного искусства и всю
систему древнегреческого мировосприятия. Свое негодование Леопарди
высказал только через два года после начала спора по поводу статей
Лодовико ди Бреме о Байроне.
11
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Это была обширная рецензия на «Гяура», переведенного на
итальянский язык в 1818 году К
Переводчик Байрона Пеллегрино Росси хотел дать итальянскому
читателю образчик «романтического жанра» (так обычно называли в
то время романтическую поэзию), потому что уже и в Италии
началось «романтическое сражение». Поэма Байрона свидетельствует о том,
что в тайниках человеческого сердца заключаются могучие пласты
высокой поэзии. Росси полагал, что знакомство с поэзией Байрона, в
итальянском переводе слегка упорядоченной и смягченной, может
обновить итальянскую поэзию. Так же думал и Лодовико ди Бреме,
впервые в Италии изложивший новую эстетику романтизма.
В обширном вступлении, как и все итальянские романтики, Бреме
говорил о новой эпохе, открытой французской революцией, и о задачах
сегодняшнего дня. Он ставил в пример современным теоретикам
литературы Декарта, который отбросил все то, что говорили до него
философы, и построил свою систему на основании фактов, казавшихся ему
несомненными. К сожалению, пишет ди Бреме, наша поэзия еще не
имеет своего Декарта и никто еще не создал новой теории
литературы и не отбросил классическую. Бреме противопоставляет поэтике
Горация трактаты Цицерона ("De Divinatione" и "De Oratore").
Поэтика Горация, на которую ориентировалась старая
классическая школа, исключает вдохновение, «наивное» выражение чувства
и мысли. Он рекомендовал девять лет обдумывать и править свои
сочинения, прежде чем выпустить их в свет. Цицерон утверждал, что без
сердечного волнения и пыла речь оратора будет негодна. Конечно,
вдохновение имеет свои законы, вечные и неизменные, но оно доступно
только человеку с открытой душой, человеку общественному, и идет
оно от глубины души и волнений совести. Поэта нашего времени не
могут вдохновить античные сюжеты, его волнуют не Гораций, не
Вольтер и не Парни, а туманные картины Оссиана и наивные фразы де
Трессана, французского писателя XVIII века, воспроизводившего в
своих романах сюжеты и чувства средневековья.
В «Гяуре» Байрона — необыкновенное разнообразие чувств,
вызываемых пейзажами Греции. Природа Средиземноморского побережья,
чарующая своей южной прелестью, и тут же под скалой — могила Фе-
мистокла; в море мирный рыбак в своем челне и тут же мысль о
дорогой его сердцу кровле родного дома. Столь различные образы
и ассоциации как будто несовместимы в одной картине, и каждый
образ в отдельности не представляет интереса, но Байрон создал из этих
1 Статья была напечатана в «Спеттаторе италиано» (1818) и в том же году
перепечатана отдельной брошюрой: II Giaurro, Frammento di novella turca scritto
da Lord Byron e recato dall' inglese in versi italiani da Pellegrino Rossi. Ginevra,
1818.
12
Б. РЕИЗОВ. ЭСТЕТИКА ЛЕОПАРДИ
противоречий особое единство, волнующее заключенной в нем мыслью—
о прошлом величии страны, о теперешнем ее порабощении. Единство
это романтическое — единство противоречий, подсказывающее
дальнейший ход событий.
Но кто созерцает эти памятные и чудесные места? Автор или
рыбак? Ни тот, ни другой. Это только мысль, человеческое чувство,
вызванное этим зрелищем, часом и обстоятельствами — это новое
искусство, утверждает ди Бреме, столь непохожее на точность и
ограниченность классических описаний. В картинах природы у Байрона тоже
много очень различных образов — соловей, роза, благоухание, идущее
от чашечек цветов, жизнь природы, которую классическая поэзия с ее
мифологией не изображает, а убивает. Природа — это жизнь,
проявляющаяся в бесконечном разнообразии своих форм.
Поэзию, поэтику и стиль Байрона Лодовико ди Бреме определяет
как новую поэзию, избегая слова «романтический»,— этим словом
называли совершенно различные и ни на что не похожие вещи, и потому
всякий раз приходилось заново определять его значение. Это
«современная поэзия,— говорит ди Бреме,— которую некоторые называют
Романтической». Эту «живую поэтическую систему я противопоставляю
системе мифологической»!. «Те, кто ее не понимает и не чувствует,
считают ее безумием, полагая, что вся поэзия грядущих веков в том,
что касается воображения, будет состоять из персонификаций, а в том,
что касается чувства — в страстях».
Романтическая система не связана с какой-нибудь одной страной
или одним народом, она понятна каждому человеку, не запуганному
классическими правилами, она не определяется какими-либо
формальными догмами, национальными традициями, сюжетами и т. д. Это
только свободное понимание и изображение мира во всем его
разнообразии и во всех его аспектах, и закономерное потому, что оно
определяется общественным и личным бытием человека новой,
послереволюционной эпохи.
Поэтическая или философская сущность новой школы в том, что
она воспринимает мир как единое целое, как тождество. Почувствовать
это тождество, родство всех явлений природы значит отказаться от
всех персонификаций, от «розовоперстой Авроры», от «лучезарного
Феба» и «златокрылого Зефира». Глухая душа у того, кто без помощи
кем-то придуманных поэтических штампов не поймет этого родства,
не откроет ряд аналогичных идей в лабиринте образов, из которых
каждый займет свое место в огромном однородном целом. Эти
поэтические аналогии всего существующего не имеют отношения ни к
суровой метафизике, ни к естественной истории, ни к математическим
1 D i В г е m е L. Polemlche..., р. 104.
13
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
наукам. Для поэта мироздание предстает как единство, управляемое
законами аналогии: ощутить это не дано тем, кто этого не чувствует,—
чувствовать это могут только настоящие поэты 1.
В творчестве Байрона Лодовико ди Бреме видит ярко
выраженную «философию тождества», создававшуюся Фридрихом Шеллингом в
первые годы века и определившую его эстетику. Природа, или все, что
существует, представляет собою единство, которое философ должен
познать в непостижимом разнообразии явлений, пишет ди Бреме.
Мироздание есть саморазвитие Абсолюта, или духа, законы этого
саморазвития проявляются в жизни природы так же, как в жизни мыслящего
существа, в истории животного мира так же, как в истории
человечества. Закон аналогий — не только закон познания, но и закон бытия.
Философия тождества имела для Италии и политический смысл.
Законы природы проявляются в жизни каждого человека и всего
человечества, следовательно, равноправие — это закон природы, вопреки
национальному и общественному неравенству. Таково философское
обоснование демократизма, сыгравшего такую роль в итальянском
национально-освободительном движении.
Тождество это может быть познано художественным
воображением, которое, как и разум, оперирующий отвлеченными понятиями,
является средством познания. Но аналогии всегда неясны и
неопределенны, они ускользают от взора, путают законы идеального
миропорядка с вымышленными, обманывают ложным сходством и лишают
стихи художественного смысла. Вот почему современная поэзия — дело
нелегкое: она требует глубокой философской мысли и тонкого
восприятия действительности во всех ее формах 2.
«Гяур» Байрона — воплощение этой поэтики и вместе с тем
иллюстрация мирового тождества, пишет ди Бреме. Благоухание,
распространяемое вздохом розы, доказывает поэтическое убожество
мифологической поэзии в сравнении с той, которую ди Бреме до сих пор
называл «новой». Природа — это жизнь в ее бесчисленных
воплощениях. Но если это жизнь, то мы ощущаем в природе самих себя, и
поэзия хочет верить этому ощущению и в воображении видеть свою
жизнь в жизни природы с тем большей силой, чем менее это
доказуемо разумом. Дар поэтического творчества, заключенный в душе
человека, всегда радуется этому ощущению. Но в образах мифологии
природа не живет своей собственной жизнью, она превращается в
отдельных людей. Это и есть «персонификация», мешающая
художественному перевоплощению. Между нами и природой возникают какие-то
чуждые нам существа, и потому исчезает то очаровательное волшеб-
1 См.: D i Brerae L. Polemiche..., р. 104.
2 Ibid., р. 105,
14
Б. РЕИЗОВ. ЭСТЕТИКА ЛЕОПАРДИ
ство, благодаря которому мы видим чувство в каждом предмете и
познаем жизнь не только в человеке, но повсюду. Мифология
уничтожает всякую близость и всякую связь между нами и всем остальным
и представляет нам мир как всегда одну и ту же драму с одними
и теми же всем известными и давно наскучившими персонажами.
Но для художественного творчества недостаточно одного только
поэтического постижения действительности — необходимо также
участие разума. В этом «сотрудничестве» Лодовико ди Бреме видит
особенность новой поэзии и превосходство ее над античной и над
классической поэзией XVIII века. Поэтическое вдохновение, граничащее
с восторгом и исступлением, было в основном законным и естественным
результатом глупости наших античных прадедов, философов Древней
Греции. Не понимая причин, вызывавших явления природы, будучи их
жертвами, а не повелителями, люди все превращали в поэзию.
Античный мир, который мы чтим сквозь призму веков и темную завесу
традиций, нам представляется мудрецом, убеленным сединами; но это
создание нашего воображения. Разум говорит нам, что то был
младенческий период в истории человечества, когда люди повсюду видели
действие сверхъестественных сил. Теперь наступила пора разума, но
все же воображение в наше время не может исчезнуть, так как при
помощи воображения мы постигаем «гармонии природы» !.
2
Философия и эстетика «новой поэзии», которую разрабатывали
Лодовико ди Бреме и его единомышленники, кое в чем напоминали
взгляды Леопарди, но во многом им противоречили. Леопарди не хотел
замечать этого сходства и с крайним раздражением набросился на те
стороны «романтической системы», с которыми не мог согласиться. Он
был слишком предан античности, чтобы принять какую-либо другую
поэзию, сколько-нибудь отклоняющуюся от античной, и совершенно не
выносил критики, направленной в адрес великих поэтов древности. Но
он отвергал «новую поэзию» с позиции патриота, потому что видел
в ней уничтожение итальянской культуры и рабское подражание чуже-.
земным образцам. Итальянские романтики приобщились к
современной европейской цивилизации и тем самым отреклись от единственной
ценности, которой еще обладает Италия,— от любви к родине и от
высокой, связанной с античностью, «наивной» поэзии. Европейская
цивилизация — это в основном безграничный индивидуализм,
отражающийся во всех сферах общественной, политической и культурной
жизни. Народ, коллектив, живущий единой жизнью и общими интересами,
1 D i Brerae L. Polemiche..., p. 91—92.
15
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
в современной цивилизации не существует, — существует только
личность, которая привлекает к себе интерес как нечто единичное и
исключительное, Леопарди остро ощущает этот индивидуализм,
развивавшийся с особенной силой, после того как сословное деление общества
утратило свое значение, а французская революция провозгласила
«права человека и гражданина». Лодовико ди Бреме ставит в пример
своим соратникам Декарта, который отбросил все, что ь философии было
сделано до него, и основания своей философии определил
знаменитыми словами: «Я сомневаюсь, я мыслю, следовательно, я существую».
Это картезианское основоположение, по мнению Леопарди, очевидный
пример и доказательство индивидуализма, сказывающегося в
современной мысли и общественной жизни.
Вот почему теперь такое значение приобрела психология, которую
Леопарди связывает с анализом и главным образом с самоанализом.
Наука о человеческой душе стала точной, почти математической и, во
всяком случае, «аналитической». Это наука об отдельном человеке,
изолированном от общества и даже ему противопоставленном.
Леопарди продолжает традицию XVIII века, оплакивавшего упадок
современной литературы. Этот упадок объясняли развитием
философского, отвлеченного мышления, торжеством анализа, подавившего
мышление поэтическое и образное. Отсюда противопоставление «наивной»
поэзии, отражающей действительность как непосредственное чувство
воспринимающего, поэзии «сентиментальной», интересующейся прежде
всего анализом чувства, анализом самого восприятия действительности
у данной личности. Это отчуждение от природы, неизбежное для
человека с его аналитическим умом. Непосредственное восприятие природы
и выражение собственных переживаний уничтожаются контролем
разума, научным анализом того, что прежде воспринималось в
поэтическом синтезе первобытного, «наивного» мышления как несомненная
данность.
Эта философская и эстетическая проблема была разработана
Ф. Шиллером в трактате «О наивной и сентиментальной поэзии»
(1794—1796). Сентиментальной поэзией Шиллер называет
рефлективную, аналитическую, контролирующую себя разумом поэзию,
характерную для нового времени. Задача современной поэзии, по мысли
Шиллера, заключается в том, чтобы восстановить эту античную наивность
в высшей форме, прошедшей через современное сознание, через
современную цивилизацию.
Сентиментальная поэзия существовала, пишет Леопарди, уже. в
древнем Риме. У Гомера чувствительность была естественная, у
Овидия — искусственная, поэтому Гомер, так же как Вергилий и Данте,
вызывает у нас ответное чувство, а Овидий, как и всякий
«искусственный» поэт, оставляет нас холодными, Зато в его поэзии описания
16
Б. РЕИЗОВ. ЭСТЕТИКА ЛЕОПАРДИ
внешнего мира более точные, а у Гомера они проходят как
неотчетливые, но волнующие видения К
Лодовико ди Бреме утверждал в полном согласии с философией
тождества, что человек — частица природы, ее интерпретатор и
соперник в нравственности, чувстве и воображении. Так же как Шиллер
и Шеллинг, он хотел воспроизвести античную наивность не в форме
первобытного язычества, которое казалось ему препятствием для
подлинного постижения действительности, для отождествления «я» с «не-я»,
но посредством поэтического воображения и философского разума
одновременно. Поэты сыграли огромную роль в этом слиянии
философии и искусства, типичным представителем которого был сам
Шиллер.
Леопарди видел в излагаемой ди Бреме философии тождества
нечто прямо противоположное. У романтиков, утверждал он, наивное
чувство отсутствует, вместо него у них сентиментализм, плод
современной цивилизации. Это самоковыряние, идущее не от природы, а от ума.
Даже собак они наделяют чувствительностью, потому что не понимают,
что такое настоящее чувство. «Настоящее» чувство было, очевидно,
только у древних.
Так Леопарди развивает идеи примитивизма, который получил
широкое распространение во второй половине XVIII века, когда Макфер-
сон напечатал свои «Песни Оссиана», переведенные на все языки
Европы (1760), и Перси свои «Остатки древней английской поэзии» (1765).
Философы и лингвисты считали первобытный язык по самому
существу своему поэтическим, так как это был язык символический и
живописный независимо от того, происходили ли эти древнейшие слова от
существительного или прилагательного. Большую роль в изучении
первобытного языка и поэзии сыграла и «Новая наука» Джамбаттисты
Вико (кн. III. Об открытии истинного Гомера). Конечно, на рубеже
XVIII и XIX веков язык Гомера казался недостаточно примитивным
по сравнению с языком Эдды, Библии и Оссиана, лунные туманы
которого, как более первобытные, противопоставлялись солнечной ясности
Гомера, но все же в «Илиаде» было много первозданных поэтических
красот.
Вот эти «современные», «цивилизованные», «романтические» поэты,
говорит Леопарди, оторвались от природы — вместо облаков, гор и
полей они описывают замки и башни, жилища и мануфактуры. Этот
реализм не имеет никакого отношения к поэзии. В поисках реального,
постижимого разумом, познанного они находят необычайное — ужас-
1 Об искусственности или «сентиментальности» поэзии Овидия, а также
Вергилия говорили уже в XVIII веке, в частности Шиллер в трактате «О наивной
и сентиментальной поэзии».
17
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ыые злодеяния, убийства, всякую чертовщину, и необычность
изображаемого не позволяет ничего понять в их произведениях. Они
осуждают, как чуждые современности, чувства, страсти и красоту, которые
всегда будут близки нашему воображению и нашей тоске. Нужно
подражать природе, а для этого понять, что цивилизация противна
природе и как искусственный вымысел поэзии противопоказана. Поэзии
необходима непосредственность, безыскусственность, наивность, и не
нужно никакого образования, чтобы создать «патетическую» поэзию,
о которой старается Лодовико ди Бреме. Гомер, Оссиан, Петрарка
жили во времена, когда не было ни психологии, ни анализа. Если
Лодовико ди Бреме говорил о невежестве и глупости античных
язычников, то Леопарди видел в этом невежестве «наивность» — особую,
навсегда утраченную форму художественного постижения
действительности.
Леопарди, конечно, представлял себе романтизм совсем иначе, чем
Лодовико ди Бреме, и приблизительно так, как понимали его
классицисты 1810—1820-х годов. Для него это была литература ужасов,
черный, или готический, роман, сатанинские романы конца XVIII — начала
XIX века. Свою эстетику он строил на другой основе и, не усвоив
задач новой поэзии, иногда приходил к взглядам, близким к тем,
которые проповедовали романтики. Хотел он того или нет, но он был
сыном своего времени,— это сказалось и на его страстном увлечении
античностью и на его нелюбви к современности. Да иначе и быть не
могло — об этом свидетельствует весь ход его эстетических
рассуждений.
Лодовико ди Бреме отвергал античную мифологию как форму
поэтического мышления, характерного для антикизирующей поэзии
классицизма. Вслед за античными поэтами классики воплощали силы
природы и отвлеченные понятия в образах мужчины или женщины.
В XVIII веке это очеловечивание было отчасти связано с
рационалистической традицией мышления: человека интересует только человек,
писал английский классик XVIII века Александр Поп. В ландшафте
непременно должен быть человек или его жилище (fabrique), потому что
без человека природа мертва, полагали художники и эстетики. В
начале XIX века взгляды изменились, что сказалось и в споре об идиллии,
происходившем во Франции, Германии и Италии. В это время
возникал в Милане романтизм, и Алессандро Мандзони вступил в «борьбу»
с идиллией — жанром типично классическим и для нового времени
неприемлемым 1.
1 Ср.: V а г е s е С. La situazione politico-sociale deH'idillio europeo e il
Manzoni.— In: "Rassegna della letteratura italiana", 1972, N 1; F о r t i F. Man-
zoni e il rifiuto dell'idillio.— In.: "Giornale Storico della letteratura italiana",
18
Б. РЕИЗОВ. ЭСТЕТИКА ЛЕОПАРДИ
Традиционному приему персонификации, превратившемуся в
поэтический штамп, Лодовико ди Бреме противопоставлял перевоплощение
и вчувствование. Но Леопарди считал персонификацию необходимым
и единственно возможным средством оживления природы. Этот
языческий тип мышления, утверждал он, свойствен человеку во все
периоды его исторического существования, — ведь и дети представляют
себе луну как женщину, а солнце как мужчину. Поэтому
«соответствия» и «аналогии», о которых говорит ди Бреме, не нужны, это просто
педантизм, свойственный романтикам 1.
Таким образом, особенно возмущала Леопарди философия
тождества — как раз то, что в скором времени он положит в основу своей
собственной эстетики.
И еще одно радикальное отличие древних от новых. У древних,
пишет Леопарди, поэзия или изящные искусства вызывали мысль о
бесконечности, у новых искусство производит впечатление конечного
и ограниченного. Рисуя предмет несколькими мазками кисти и
показывая лишь немногие его части, древние художники позволяли
воображению бродить в тумане и неопределенности детских представлений,
порождаемых неведением целого. Современные художники, точно, со
всеми деталями изображая каждый предмет и его границы, почти совсем
лишают нас этого «неопределенного» волнения, а то, которое они
вызывают, остается конечным и ограниченным (100). Значит, Овидий ср
всеми своими легендами и мифологией ближе к современным
художникам, чем «неопределенный» или «бесконечный» в своем искусстве
Гомер.
Мысль о бесконечности или вечности в античном искусстве была
известна еще эстетикам XVIII века. В частности, Винкельман обратил
внимание на то, что древние скульпторы не допускали деталей в
статуях богов, чтобы не приземлять их до уровня обыкновенных
смертных, а Стендаль, часто говоривший об этом в своей «Истории
живописи в Италии» (1817), видел в античном идеале прекрасного желание
создать бессмертного бога, чтобы противопоставить его
несовершенному смертному человеку. Тема вечности была распространена и в поэ-
1974, fasc. 472. Ср. предисловие К. Форьеля к его же переводу идиллии Багге-
зена "Parteneide" (1811). Эти рассуждения также были связаны с трактатом
Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии» (гл. «Идиллия»). О понимании
жанра идиллии у Леопарди см.: Bobbio Aurelia Accame. Bernardin
de Saint-Pierre, "Werther" e l'origine dell'idillio leopardiano.—In: Leopardi e il
Settecento. Firenze, 1967, p. 175—202.
1 См. c. 353—354, 356—357. Через несколько лет, в 1825 году, выступил в защиту
«мифологии» и Винченцо Монти в своем «Sermone sulla mitologia». Романтики,
по мнению Монти, совершали ошибку, вводя в поэзию «бесплодный разум» и
философский дух.
19
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
зии XVIII века. Особенно известна замечательная ода Альбрехта Гал-
лера «О вечности», созданная в 1730-е годы *.
Очевидно, противопоставление античного восприятия мира
современному, индивидуалистическому, рациональному, ограниченному — то
же, что противопоставление наивного сентиментальному. Шиллер видел
в творчестве Гёте художественную «наивность», в своем творчестве—
«сентиментальность». Ди Бреме пытался определить творчество (или
стремления) романтиков как «наивное», постигающее мир в его
единстве и вечности приблизительно так, как хотел и осуществлял в своем
творчестве Гёте. Через сто лет после смерти ди Бреме это
художественное восприятие стали считать «классическим» (Гёте), а
романтическим сочли индивидуалистическое, отключающее личность от мирового
единства и вечности, рассматривающее мир как нечто непрерывно
меняющееся вместе с пространством и временем 2.
Чувство бесконечности Леопарди находит и в хорах античной
трагедии. Пытаясь реформировать новую трагедию, то есть приблизить
ее к античной, драматурги XVIII века хотели восстановить в
трагедиях с античными сюжетами хор, чтобы сделать трагедию более
народной, внести в нее лирический элемент и древнегреческий демократизм.
Маффеи, пытавшийся воспроизвести в своей трагедии «Меропа»
античные традиции, в предисловии к сборнику «Итальянский театр» (1723)
утверждал, что для современной трагедии хор необходим. Алессандро
Мандзони уже во времена романтизма ввел хор в свою трагедию
«Адельгиз» (1822).
Но античный демократизм Леопарди понимает иначе: «Я считаю,
что обычай этот немало способствует той смутности и
неопределенности, которым была обязана своим charme древняя поэзия... Все
индивидуальное всегда мелко, зачастую безобразно и нередко
заслуживает презрения. Красота и величие нуждаются в неопределенном,
а вывести его на сцену можно было только одним способом — выведя
туда множество людей. Все, что исходит от множества людей, внушает
почтение, хотя это множество и состояло из отдельных личностей,
заслуживающих только презрения. Публика, народ, древность, предки,
потомки — все эти слова прекрасны и величавы только потому, что
выражают неопределенную идею... На сцене появлялся весь народ, само
потомство... Оно изъяснялось лирическим стихом, полным поэзии. Звук
его голоса был иным, нежели у остальных людей: это была музыка,
гармония». Хор выражал общий смысл событий и переносил действие
1 Guthke К. S. Hallers unvolkommene Ode fiber die Ewigkeit.— "Deutsche
Vierteljahrsschrift fur Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte", 1974, H. 3,
Sept.
2Strich Fritz Deutsche Klassik und Romantik, oder Vollendung Unend-
lichkeit. Ein Vergleicfi. Munchen. Zweite verm. Aufl., 1924.
20
Б. РЕИЗОВ. ЭСТЕТИКА ЛЕОПАРДИ
драмы в мир отвлеченных и тем самым неопределенных и бесконечных
понятий (21 июня 1823; 2804—2809). Эта высокая философская
апология древнего хора была вместе с тем осуждением современного
индивидуализма.
Леопарди пытался выразить волнующее ощущение
неопределенности в идиллии «Бесконечность» (L'Infmito, 1819)
...Бескрайние пространства и молчанье
Неведомое, и покой глубокий
Я представляю в мыслях; оттого
Почти в испуге сердце. Иногда
Услышу ветерка в деревьях шелест,
Я с этим шумом сравниваю то
Молчанье бесконечное; и вечность,
И умершие года времена,
И нынешнее, звучное, живое
Приходят мне на ум. И среди этой
Безмерности все мысли исчезают,
И сладостно тонуть мне в этом море 1.
Поэт в наше время, писал Леопарди, не может быть современным.
Если древние поэты слагали свои стихи для народа, то современные
пишут для людей образованных, для элиты. Но современный
образованный человек — непременно эгоист и философ, лишенный иллюзий
и страстей, такой же, как и современная женщина. Что же общего
имела, имеет и может иметь со всем этим поэзия? XIX век эгоистичен,
потому что разочарован, он думает только о самом себе, о настоящем,
а не о будущем. Конечно же, он отвратителен, потому что это век
спокойного, усовершенствованного деспотизма. Идея вечности не
вмещается в столь узкие умы, а гнусный человек неспособен увидеть свое
счастье в исполнении возвышенных намерений. «Деньги, что мы
тратим на табакерки и шкатулки, древние тратили на бюсты и статуи,—
цитирует Леопарди Франческо Альгаротти, — и меж тем как мы по
случаю победы устраиваем фейерверк, они складывали из камня
триумфальную арку» (3435—3439). Современные драматурги хотят
изобразить на сцене персонаж, в котором зритель мог бы узнать самого
себя; древние изображали чувства более сильные и необычные, — это,
как ни странно, напоминает Леопарди героев Байрона,
«романтического» поэта (516—517), которого joh все же считает плохим поэтом.
1 Пер. А. Ахматовой. О вероятной близости этого стихотворения к Паскалю
см.: А г г i g h I P. Leopard! et Pascal. Note sur "L*Infinito*\— "Revue de
literature comparee", 1938.
21
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Так в 1823 году характеризует Леопарди современную литературу.
И это относится не только к романтизму, но и к классицизму, ко всему,
что пишут и читают его современники.
С течением времени резко отрицательное отношение Леопарди к
сугубо «современной» школе романтизма теряет свою остроту. Находя
у Овидия свойства, типичные для современной аналитической
литературы, сравнивая древних поэтов с Байроном, он как будто стирает
грани между романтизмом и классической традицией и находит нечто
общее во взглядах Лодовико ди Бреме и своих собственных. В своих
эстетических рассуждениях он развивает теории тождества, прежде
казавшиеся ему «романтическими». И все же, как многие эстетики и
художники неоклассицизма, он считает возрождение античности
единственно возможным средством великой реформы искусства.
3
Основной проблемой эстетики для Леопарди была красота. Что
такое красота? Создание ли это природы или человека? Познается ли
она умом или ощущением? Каково отношение прекрасного к
безобразному? В этих вопросах, как и во многих других, Леопарди
продолжал традиции XVIII века, преодолевая их, выбирая то, что
казалось ему правильным, и аргументируя свое мнение более или менее
оригинальными доводами.
Можно ли постичь прекрасное при помощи ощущения? Можно ли
считать прекрасным предмет, доставляющий удовольствие внешним
органам чувств? Леопарди имеет в виду все пять чувств человека,
хотя только два, слух и зрение, считались в то время чувствами
эстетическими по преимуществу, то есть познавательными в широком
смысле слова. Он утверждает, что удовольствие, которое доставляет нам
цвет или звук, не может свидетельствовать о красоте этого цвета или
звука, об объективной, абсолютной и, следовательно,
общеобязательной красоте. Удовольствие, которое мы получаем от цвета или звука,
зависит «от произвола природы», создавшей наши органы чувств иначе,
чем у животных другого вида. Значит, наше чувство — акт
субъективный. Так называемые «вкусы» у людей очень различны и зависят от
многих обстоятельств: от привычки к тем или иным предметам или их
качествам, от условий жизни человека и данного общества, от
национальности или расы.
Следовательно, красота не может быть познана при помощи чув-
стпп, потому что влечение или тягу к чему-либо испытывает только
трлепши природа человека, а красоту может постичь только разум.
Крясотп - что идея. Она нравится нам не потому, что приносит
пользу, не потому, что свидетельствует о полезных для нас качествах кра-
22
Б. РЕИЗОВ. ЭСТЕТИКА ЛЕОПАРДИ
сивого человека или предмета, и не потому, что доставляет нам
удовольствие— ведь настоящая красота может показаться нам даже
неприятной. Леопарди не принимает утилитаризма в эстетике и никогда
бы не согласился с определением красоты Томаса Гоббса: «Красота —
это обещание счастья» 1.
Очевидно, пользу Леопарди понимает не как удовольствие:
полезна может быть пища, которая не доставляет удовольствия, а
доставлять удовольствие может пища, вредная для здоровья.
В особом положении находится музыка. Она может доставить
большое удовольствие, вызывает радость, слезы, погружает слушателя в
бездну смутных ощущений, пробуждает в нем мысли и чувства, не
зависящие ни от свойств этой музыки, ни от намерений композитора
или исполнителя. Музыкальное удовольствие зависит от многообразия
и сложности этих смутных ощущений, и каждый слушатель может
воспринять и ощутить музыку по-своему. Поэтому, утверждает Леопарди,
никакое музыкальное произведение нельзя назвать красивым. Красотой
музыка не обладает, потому что музыка — только ощущение, а не идея.
Такое понимание музыки было широко распространено в эстетике
прошлого века, и Стендаль вслед за другими высказывал ту же точку
зрения в «Жизни Гайдна, Моцарта и Метастазио» (1814) и в
«Истории живописи в Италии» (1817).
Что же это за идея? Леопарди, только что отказавшийся от
утилитаристского понимания красоты, теперь вдруг к нему возвращается,
но в совсем другой форме и под другим названием. Речь идет уже не
о пользе в прямом, смысле слова, а о целесообразности: красота —
это целесообразность, или гармония.
На первый взгляд может показаться, что понятие целесообразности
более широко, чем понятие красоты. Коромысло, кастет или
инструмент хирурга по своей структуре могут быть целесообразны, то есть
сделаны так, чтобы удобно было носить воду, разбивать череп или
вырезать аппендикс, но восхищаться красотой этих предметов было бы
трудно, может быть, даже для тех, кто ежедневно ими пользуется.
Однако Леопарди думает иначе, потому что не считает красоту
понятием абсолютным: эта «идея» возникает в восприятии
созерцающего в том случае, если он в данном предмете находит
целесообразность. Создание природы или искусства, пейзаж, памятник архитектуры,
человек или животное могут быть прекрасными не потому, что
отдельные составляющие их части соответствуют нормам, которые принято
считать красивыми, а потому, что все части тела или вся сумма пред-
1 Это определение — в латинском издании «De homine». В английском издании
его нет. Оно заимствовано Стендалем и фигурирует в книгах «О любви» (1822)
и «Рим, Неаполь и Флоренция» (изд. 1826 г.).
23
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
метов, изображенных в искусстве или существующих в
действительности, находятся в соответствии друг с другом, составляют единство,
которое возникает благодаря целесообразности или гармонии, в нем
заключенной. Эта целесообразность правдоподобна, потому что каждое
произведение природы или художника целесообразно или должно быть
таковым,— это закон природы. Предметы сами по себе безобразные —
например, нравственная низость, уродство, грязь и т. д. — могут
составить прекрасное целое, если в своей совокупности создают гармонию,
имеют смысл, то есть оказываются целесообразными или, вернее,
производят такое впечатление.
Все части, составляющие эту гармонию, сохраняют свой особый
смысл в организуемом ими единстве. В искусстве могут быть
изображены низкие и отвратительные предметы — или благородные и
отличные. Так, в комедии или в трагедии изображаются всякие пороки, в
эпической поэме — возвышенные чувства, благородство,
самопожертвование и т. д., и потому комедия и трагедия нравится нам меньше, чем
эпопея.
Но если красота — это целесообразность, то найти ее можно не
только в природе или в произведении искусства, но и в научном
трактате. Существует мнение, пишет Леопарди, что в научном трактате
можно простить отсутствие красоты, потому что он полезен. Но
Леопарди с этим не согласен. Если такое сочинение лишено красоты, это
значит, что даже при всей своей научной ценности и, следовательно,
полезности оно безобразно. «Почему прекрасен «Трактат» Цельса, хотя
этот трактат и посвящен медицине? Быть может, благодаря своим
поэтическим и риторическим украшениям? Напротив, — прежде всего
потому, что он совершенно их лишен, что есть в нем та самая
простота и безыскусность, которая и подобает такого рода сочинениям.
Затем потому, что он ясен и точен, что язык и слог его чисты. Эти
достоинства и красоты подобают любой книге. Всякая книга должна
быть прекрасной в строгом значении этого термина, значит, быть
хорошей во всем. Если она не прекрасна, значит, в этом отношении она
плоха, а между «не быть прекрасным, то есть хорошим во всем» и
«быть поэтому плохим» середины нет. То, что я говорю о книгах,
должно быть распространено на все роды вещей, именуемых
полезными, и вообще на все» (16 апреля 1821; 949—950).
Здесь у Леопарди произошла очевидная и легко объяснимая
терминологическая путаница. Понятие целесообразности очень близко к
понятию пользы, так как целесообразным можно назвать то, что имеет
своею целью пользу. Но пользу Леопарди понимает как пользу
практическую, в физическом и бытовом смысле этого слова. Такая польза
предполагает личное и даже эгоистическое отношение к полезному
предмету. В данном случае речь идет не о такой вульгарной пользе,
24
Б. РЕИЗОВ. ЭСТЕТИКА ЛЕОПАРДИ
а о пользе истины, познания — нравственной, научной и
художественной, полезной не в плане личном и эгоистическом, а
общечеловеческом. Каждый из этих терминов может означать два различных
понятия, одно другому противопоставленных. Поэтому, строго говоря,
Леопарди нельзя обвинить в противоречивости мысли, то есть в
бессмысленности его суждений, а только в неосторожном употреблении
близких терминов, часто понимаемых по-разному.
Леопарди принимает теорию, широко распространенную и
по-разному формулировавшуюся в течение столетий. Целесообразность как
сущность прекрасного иногда отождествлялась с полезностью и
понималась в платонической традиции: это истина, добро и красота,
сливающиеся в понятии блага. В новое время красоту как
целесообразность особенно четко определил Ж.-П. Круза (J.-P. Crouzat. Traite
du beau..., 1715), продолжая и вместе с тем преодолевая платоновскую
философию прекрасного в плане утилитарном и рационалистическом.
О целесообразности прекрасного говорил' и Кант («Критика
способности суждения») и, продолжая Канта, Фридрих Шиллер в своих в то
время широко известных эстетических трудах.
Красота постигается разумом независимо от того, нравится она
или нет. Но Леопарди при всем своем рационализме апеллирует к
опыту и конструирует понятие прекрасного не на «метафизике», как
тогда выражались, не на «вечных идеях», а па ощущении, на котором
может быть построено подлинное, разумное познание. Это принцип
сенсуализма, особенно четко развитый в «Идеологии» Дестюта де
Траси !.
Представления о прекрасном и безобразном, утверждает
Леопарди, возникают у детей, так же как у взрослых, в зависимости от
обстоятельств и условий жизни. Ребенок при появлении на свет не имеет
никаких врожденных идей о х целесообразности чего бы то ни было.
Это понятие возникает только вместе с опытом. Если у всех
окружающих ребенок видит нос и рот такой величины, какую мы называем
соразмерной, то есть соответствующей общей форме лица, то он
привыкает к этой форме и величине носа и рта. Идея соразмерности (или
целесообразности) никак не абсолютная и общеобязательная, а
относительная и благоприобретенная,— это привычка видеть такую
соразмерность у огромного большинства людей. Данная форма лица и тела
кажется ему прекрасной, а более или менее значительное отклонение
от нее — уродством. Крепко утвердившаяся привычка к данной красо-
1 Об «Идеологии» Дестюта де Траси как основе гносеологии Леопарди см.:
Sansone М. Leopardi е la filosofia del Settecento.— In: Leopardi e il Settecento,
Firenze, p. 138. Капоне-Брага говорил о Леопарди как о единственном большом
итальянском поэте, выросшем на г«Идеологии» (Capone-Braga G. La
filosofia francese e italiana del Settecento. Arezzo, 1921). См. Sansone, p. 142.
25
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
те, вызывающая отвращение к тому, что сильно от нее отклоняется,
определяет то, что обычно называют художественным или «хорошим»
вкусом.
«Хороший вкус» — тоже понятие относительное и тоже зависит от
опыта, который может быть очень различен у разных рас и
национальностей, в разных географических широтах и условиях жизни. Так,
например, дух восточных людей был и остается более живым,
быстрым и плодовитым, чем у европейцев. Поэтому обилие деталей,
описаний, психологических размышлений и метафор европейцам может
показаться пороком. Такое же различие между народами Европы, и
потому не следует осуждать литературу какого-нибудь одного народа за
то, что она не похожа на другую, признанную классической, то есть
образцовой. Типа или формы прекрасного не существует, утверждает
Леопарди, красота — это «идея» целесообразного, то есть того, что
должно быть. То, что идеи вещей существовали до вещей, было лишь
грезой Платона, на самом же деле форма их существования
произвольна и зависит лишь от того, кто их создает. Отбросив эту грезу
Платона, мы сохраняем грезу о некоем воображаемом типе
прекрасного (154—158). Этот тип прекрасного — то, что в те времена обычно
называлось идеалом прекрасного 1.
Идеал прекрасного, конечно, воображаемый и часто
понимавшийся как абсолютный, по мнению Леопарди, создается в каждую эпоху
и каждым народом заново, но все же между всеми этими
национальными, географическими и историческими хорошими вкусами есть нечто
общее, поскольку красота- в любых ее формах есть идея
целесообразности. Будучи субъективной и вместе с тем эмпирической, красота, так
же как хороший вкус, становится в известной мере обязательной в
данной среде и культуре, которая этой средой создается.
То же относится и к искусству: чтобы понять красоту картины
или литературного произведения, нужна практика, упражнение глаза
и чувства, привычка к живописи и поэзии, которая позволяет быстро
определять сходство и разницу и в конце концов воспитывает
безгрешный «хороший вкус», оценивающий — конечно, по традиции —
любое произведение. *
1 Здесь Леопарди ссылается на «Опыт о вкусе» Монтескье, который свою
эстетику, так же как философию истории, построил на понятии относительности.
Об известном интересе Леопарди к сочинениям Монтескье (за исключением «Духа
законов») на основании дневников говорится в последней главе кн.: Rosso
С о г г a d о. Montesquieu moraliste. Des lois au bonheur. Paris, 1971. См. также:
T г a 11 i n i A. Leopardi e gli ideologi francesi del Settecento.— In: Leopardi e il
Settecento. Firenze, 1967, p. 259—262. Леопарди ссылается также на статью
живописца и теоретика искусства Джузеппе Босси, напечатанную в миланском журнале
•'Biblioteca italiana*\
26
Б. РЕИЗОВ. ЭСТЕТИКА ЛЕОПАРДИ
Итак, признавая неограниченную относительность красоты, Леопар-
ди все-таки говорит о хорошем вкусе, противопоставляя его плохому,
о знатоках, оценивающих красоту на достаточном основании, то есть
с точки зрения целесообразности и общей гармонии. Красота может
быть познана, как некая реальная данность, сохраняя вместе с тем свою
относительность, определенную и ограниченную суммой исторических
и социальных обстоятельств.
Но кроме такого «местного» вкуса существует вкус более общий,—
ведь есть же для всех обязательные законы природы, законы
человеческого существования и, следовательно, целесообразности, даже если
они проявляются в весьма различных формах. Мнение о
целесообразном и прекрасном может быть длительным и общим, если оно не
противоречит природе, то есть если признает целесообразным то, что
природа создала и чем по своему усмотрению наделила все существа,—
хотя все это она создала не с абсолютной необходимостью, а только
по своему произволу. Вкусы, не имеющие ничего общего с подлинной
(хотя и относительной) природой вещей, не могут быть ни
длительными, ни всеобщими. Это вкусы плохие. Хороший вкус хорош потому,
что он сообразуется с природой, такой, какова она есть, а потому все
существующие хорошие вкусы, детерминированные местными
условиями, как бы ни отличались они один от другого, имеют общую основу
в виде этих общеобязательных законов.
.Для того чтобы найти этот общий вкус, нужно определить
детерминанты каждого данного вкуса и в бесконечном разнообразии причин
и следствий найти общие всем им основы. Конечно, в этом постижении
общего вкуса играют свою роль и опыт и разум, потому что без того
и другого никакая красота не постижима.
Эти рассуждения напоминают философию «здравого смысла»,
возникавшую уже в эпоху Возрождения. Аналитический метод мышления,
определившийся в то время, как будто грозил разрушением
сложившемуся укладу жизни, общественному строю, а вместе с тем и всем
нравственным нормам. Это вызывало тревогу не только в
консервативных кругах, но и среди прогрессивных мыслителей, а ситуация
напоминала деятельность греческих софистов, с которыми вступили в
борьбу великие мыслители древности. Философия здравого смысла
получила свое выражение в книге Томаса Рида («Inquiry into the
human mind and the principles of Common Sense», 1764),
сильно повлиявшей на европейскую мысль на рубеже двух веков.
Поиски более или менее общего для всех, «разумного» художественного
вкуса, закона красоты, возникающего из общеобязательного закона
целесообразности, или пользы, очевидно, связаны с этой философией,
отразившейся в философии Леопарди.
В связи с общим направлением эстетической мысли в XVIII веке
27
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
появилось понятие и термин «интеллектуальная красота», широко
известная благодаря стихотворению Шелли «Hymn to Intellectual
Beauty» (1817) К
Само понятие интеллектуальной красоты предполагает, что
искусство есть средство познания, что каждая новая форма красоты,
возникающая в художественном изображении нового явления
действительности,— это открытие, обогащающее наши представления о мире, в
котором мы живем. Действительно, если научный трактат может и
даже должен обладать красотой, то, следовательно, произведение
искусства должно обладать свойствами научного трактата. Леопарди,
одаренный и поэтическим и научным талантом, не мог себе
представить искусство и науку как формы творчества, не имеющие между
собою ничего общего и взаимоисключающие. Он не мог понять поэзию
как мышление одними только образами, а науку — как мышление
только понятиями,— его собственная поэзия прямо этому противоречила.
В этом отношении, как и в философской основе своей эстетики, он
все же был близок к стихийному материализму.
С такой точки зрения Леопарди пытается найти законы и
правила, искусства, которые могли бы облегчить художественное
творчество, устранить ошибки и указать верные пути. К правилам нужно
относиться с осторожностью. Он боится школярства в искусстве —
об этом он говорил еще в «Рассуждении итальянца о романтической
поэзии», — и полагает, что литературные академии, регламентирующие
творчество, причинили искусству больше вреда, чем пользы.
Литература имеет свои правила, соглашается Леопарди с современными
классиками, — но если эти правила определяются с педантической
точностью и понимаются как обязательный свод законов, то по своим
художественным результатам они превращаются во вредное для
искусства насилие. Ни Аристотель, ни Гораций не были законодателями,
они только делали выводы из творчества великих писателей, живших
до их появления на свет. То же нужно сказать и о хорошем вкусе.
Как нечто общепризнанное, как регулятор художественных
наслаждений такой вкус полезен и нужен народу, но только в том случае, если
это вкус каждого ^человека и всего народа в целом. Если же его
определяет объединение педантов, орудующих им как законодатели и
диктаторы, то такой вкус оказывается бедствием для искусства.
Одобрения какой-нибудь академии не помогут гениальному художнику
создать нечто совершенное, поэтому и покровительство государственное
и частное кажется Леопарди опасным.
И опять он обращается за помощью к древним грекам. У них
1 Жизнь этой теории в этот период см.: Will F. Intellectual Beauty in
aesthetic Thought from Winckelmann to Victor Cousin. Tubingen, 1959s
28
Б. РЕИЗОВ. ЭСТЕТИКА ЛЕОПАРДИ
устраивались общенародные литературные состязания, и Геродот писал
свою «Историю», чтобы прочесть ее всему народу. Такие состязания
имеют огромный смысл, так как народное одобрение действует
сильнее, чем похвала горстки образованных и начитанных особ. К тому
же — и это относится не только к современности, но и ко временам
Древнего Рима — если писатель пишет только для того, чтобы
понравиться какому-нибудь одному утонченному читателю или
профессионалу-критику, то он пишет свое произведение со страхом, а желание
понравиться или страх пагубны для искусства.
Леопарди приходит к мысли, сыгравшей большую и важную роль
в эстетике XVIII века,— о народности древнегреческого искусства.
О народности Гомера говорили во всей Европе. Древнегреческие и
римские поэты, писал Гравина (Delia ragion poetica, 1708),
создавали свои произведения не только для мудрецов, но и для
народа. Нам нужно следовать их примеру. Поэты в художественных
образах должны излагать открытия мудрецов, — тогда знания
распространятся среди всех людей, и поэзия станет всенародной. Есть ли у
наших поэтов такие же слушатели, какие были у античных поэтов?—
пишет Гердер. Конечно, нет, — греческие поэты были поэтами
народными не только потому, что сами они были народом, но и потому,
что народ слушал их, понимал и восхищался ими. Это значит, что у
них было отечество. Но у поэтов XVIII века не было ни слушателей,
ни отечества. Это то же страдание, которое переживал Леопарди
вместе со всеми итальянскими патриотами того времени. И опять
пришлось возвращаться к Гомеру, образцу во всех вопросах эстетики.
Когда слушателем, писал Леопарди, будет народ, искусство будет
оригинальным, полным величия и естественности, потому что всеобщий
вкус, вкус народа — тот самый «хороший вкус», о котором хлопотали
классики, искавшие его среди самых ученых, самых требовательных
и несносных критиков-профессионалов. О народном искусстве мечтали
и европейские романтики, понимая средства его достижения
по-разному, в зависимости от исторических и национальных условий.
До сих пор Леопарди говорил только о красоте и безобразии,
но есть в искусстве и в природе нечто очень похожее на красоту и
вместе с тем ей противоречащее, — это грация, эстетическая категория,
которой критики оперировали еще со времен Марсилио Фичино К
В Древней Греции хариты, получившие римское название граций,
символизировали радость, привлекательность, но не красоту. Ни Зевс,
ни Афина, ни даже Аполлон не были грациозны. Овидий видел в
Венере сочетание красоты и грации, но грации в ней было гораздо боль-
1 См.: Шестаков В. П. Гармония как эстетическая категория. М., 1973,
с« 99—100. Грацию иногда называли термином «приятность» (нем. «Antnut»).
29
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ше, чем красоты. Легче было определить красоту, чем грацию. Вазари
характеризовал ее как неопределенность. «Изящная и нежная легкость,
которую и видишь и не видишь» 1. Французы называли грацию
традиционным определением: «Je ne sais ^uoi», что означало невозможность
какого-либо определения. Из новых живописцев, говорили критики
XVIII века, лучше всех изображал грацию Рафаэль, из древних —
Апеллес. О грации писали и крупнейшие эстетики XVIII века—Вин-
кельман и Шиллер2.
Иногда грацию определяли по аналогии с красотой как
целесообразность, как соответствие тела движениям, которое оно должно
совершать. Иногда это было соответствие движений тела волнениям
души. В большинстве случаев грация понималась как экспрессия.
Аббат Ланци, автор известной в свое время «Истории живописи в
Италии» (изд. 3-е, 1809), объяснял грацию мадонн Рафаэля «скромностью,
материнской любовью, чистотой души».
Леопарди рассматривает грацию как особую форму красоты. Ей
присуща необычность, несвойственная собственно красоте, или
противоречивость, которая в данном случае понимается как' сочетание
привычного и неожиданного. Граццей наружности и манер, пишет
Леопарди, иногда можно назвать такую красоту, в которой сочетаются
черты, обычно не гармонирующие друг с другом, но в данном особом
случае целесообразные, иначе говоря, прекрасные. Таким образом, в
этом особом случае противоречие будет внешним и случайным, а не
внутренне присущим грации. Иногда это противоречие заключается в
том, что данная красота, то есть грация, не походит на обычную
красоту, потому что ее определение все же построено не,на ощущении
целесообразности, а на ощущении чего-то необходимого, не
целесообразного и, следовательно, не прекрасного. Леопарди не приводит здесь
никаких примеров, кроме красивых манер,— это значит, что в своем
воображении он связывает грацию только с искусством нового
времени, как вслед за Лафонтеном делали европейские эстетики еще за два
столетия до Леопарди, потому что в древнегреческом искусстве почти
всегда искали только красоту, а не грацию.
4
Ощущения, страсти, вся душевная жизнь человека являются, по
представлениям Леопарди, более или менее точным выражением и
1 V a s а г i G. Le vite dei piu celebri pittori, scultori e architetti. Seconda ed.
Firenze, 1896, p. 484.
2 См.: W inckelmann. De la grace dans les ouvrages de 1'art.— In:
Winckelmann. Recueil de differentes pieces sur les arts. 1786; Schiller F.
Uber Anmut und Wurde. 1793.
30
Б. РЕИЗОВ. ЭСТЕТИКА ЛЕОПАРДИ
вместе с тем отражением законов природы и, следовательно, отдельных
се явлений, так как человек — тоже явление природы и ее создание.
Поэтому следует прежде всего осознать, изучить и осмыслить
ощущение, первый способ познания внешнего мира, чтобы на ощущении
строить идеи, теории и философские системы.
Трудно утверждать, у кого Леопарди заимствовал столь
распространенный в XVIII веке сенсуализм, но можно думать, что он читал
«Идеологию» Дестюта де Траси, создавшего «идеологическую» школу
в философии. Следы этих чтений можно найти и в дневниках
Леопарди.
Основа познания действительности — не только ощущение, но и
чувство, так как чувство вложено в нас природой на пользу человеку
и обществу, пишет Леопарди в 1821 году, излагая основное положение
утилитаризма. Изначальное чувство человека — себялюбие. Из него и
возникают нравственные понятия, самопожертвование, человеческие
подвиги — все то, что волнует воображение и мысль, конструирует
общественную жизнь и движет человечество к более совершенному
строю. Кто не обладает воображением и чувством, тот не способен к
воодушевлению, героическому порыву, к сильным и разнообразным
страстям, а кто не читал и не чувствовал поэзии, тот не может быть
настоящим философом.
Мыслитель, изучающий всеобъемлющую систему сущего, должен
особое внимание обратить на воображение, на свойственные человеку
иллюзии и страсти, на все поэтическое, что есть в природе. Эта часть
природы не только полезна, но и необходима для познания другой ее
части, а в философском исследовании одна часть не может быть
отключена от другой. Философский анализ, оперирующий холодным
разумом, должен проникнуть в глубокие, «поэтические» тайны сердца и
воображения. Тот, кто не знает поэтической стороны природы, ровно
ничего о ней не знает (473—474).
Это борьба с «метафизикой», которой — утверждает Леопарди —
грешили английские и немецкие философы начиная с XVII столетия,
и полное приятие философского натурализма XVIII века.
Итак, воображение не только важнейший предмет философского
исследования, но и особый метод познания. Почитатель древности и
Гомера, Леопарди обратил внимание на особенность античного эпоса,
давно вызывавшую интерес критиков и исследователей." Отличительная
черта истинного поэта — это способность уподоблений, пишет он в том
же 1821 году. Душа, охваченная энтузиазмом, открывает живейшие
подобия между явлениями природы. Облегчают этот процесс телесная
сила и физическое здоровье, отличавшее древних греков от их
почитателей нового времени. Физическая сила и здоровье возбуждают
духовные силы, которые открывают связь между самыми несхожими
31
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
предметами, находят причудливые и остроумные сравнения. Так с
помощью античного поэта Леопарди устанавливал некую общность
между духовным и материальным, воплощая мысль в зримом образе, и
не только заново созданными сравнениями и уподоблениями, но и
неожиданными эпитетами и смелыми метафорами. «Метафора удваивает
смысл и умножает идеи, вызываемые в нас словом. Это — одна из
основных причин, почему фигура метафоры так прекрасна, так
свойственна поэзии... Она являет нам несколько идей одновременно... Она
есть важнейшее проявление и признак поэтического дара... поэтической
натуры, изобретательности и творческой способности». «Вот отчего
поэту... нужна новизна метафор» (2468—2470). Метафора кажется
Леопарди столь важной риторической фигурой, потому что она открывает
тождество всех явлений природы в том смысле, в каком понимает это
тождество философия Шеллинга.
Но ведь задача философа заключается в том же — открывать и
познавать отношения, объединять частное и общее (461—462).
Поэтому великий философ должен быть великим поэтом — не для того,
чтобы мыслить, как мыслят поэты, но для того, чтобы холодной мыслью
исследовать то, что может познать только самый пылкий поэт. Разум
нуждается в воображении и в иллюзиях, которые сам же разрушает;
истина нуждается во лжи, сущность — в видимости, самая полная
бесчувственность — в самой живой чувствительности (1833—1840).
Приблизительно то же говорил Гегель в своих лекциях по эстетике.
Искусство, по его мнению, движется от поэзии воображения к прозе
мышления. Но та же мысль развивалась и во Франции !.
Познавательная, или «философская», способность поэта заключается
в сильно развитом ассоциативном мышлении, позволяющем понимать
действительность и ориентироваться в ней. Ассоциативная психология
была заложена в XVII веке Гоббсом и Локком, разработана
шотландской философской школой, затем проникла на континент и
господствовала не только в психологии, но и в эстетике. Несомненно,
Леопарди был знаком с этой психологией и с эстетическими и
нравственными выводами, которые из нее следовали. «Теория нравственных
чувств» Адама Смита, особенно популярная во Франции, очевидно,
возникла в той же связи: сострадание или сочувствие как основа
морали предполагало ассоциативную способность мышления и сыграло
роль в философских поисках и политической борьбе XVIII и начала
XIX века.
Философское значение ассоциаций еще более отчетливо Леопарди
раскрывает в другой записи того же 1821 года: «Наука о природе
1 См.: Harding F. J. Notes on Aesthetic Theory in France in the XIX
century.— "The British Journal of Aesthetics", Summer 1973, vol. 13, N 3.
32
Б. РЕИЗОВ. ЭСТЕТИКА ЛЕОПАРДИ
есть только наука о связях. Все успехи человеческого духа состоят
в открытии связей». Воображение лучше, чем любая другая
способность человека, открывает самые тайные связи и гармонии, и эта
способность сама по себе является свойством природы, одним из ее
ликов. Тот, кто не знает всех ликов природы, в том числе
воображения, не знает бесчисленного множества связей и потому имеет
неполное, иначе говоря, ложное представление о природе. «Истину знают
в совершенстве только тогда, когда в совершенстве знают ее связи со
всеми остальными истинами и со всей системой вещей» (1833—1840).
Все существующее представляет собою единство — в этом и
заключается последняя истина, то есть самая сущность мироздания.
Единство это проявляется не во внешнем сходстве вещей, событий и
понятий, а во внутреннем смысле предметов, хотя бы даже внешне
очень различных. Поэтому постигнуть это единство, то есть конечную
истину, можно не внешними органами чувств и не холодным
рассудком, а воображением, чувством родства со всем существующим, чем-то
вроде поэтического сопереживания.
Так Леопарди принимает философскую и эстетическую систему,
ясно изложенную Лодовико ди Бреме в 1818 году. Через три года
после этого, в 1821 году, Леопарди понял или почувствовал ее
поэтической интуицией, а затем осознал холодным разумом. Уловить
единство в жизни природы и в жизни человечества, рассматривать мир как
непрерывное развитие Абсолюта, принимающего различные формы на
разных стадиях своего существования, значит познать мировую истину.
Сделать это, по мнению Леопарди, может только великий поэт.
Эта философия — своеобразный пантеизм, близкий язычеству
Древней Греции с его одухотворением каждого явления природы — морской
волны, облака, дерева, любви, икоты и т. д. Это одна из причин,
почему Леопарди сравнительно легко принял новую философию и- счел
воображение основным средством познания мира. Его любимый Гомер,
которого он не хотел сравнить ни с каким другим поэтом, за
исключением Данте, послужил ему мостом от первобытного язычества к
ультрасовременной философской системе. Это и был тот «великий
поэт», который, по мысли Леопарди, может своим поэтическим
воображением одухотворить мир и познать конечную истину.
5
Поэтическое, творческое постижение мирового единства,
осмысленное разумом, отождествление себя с природой есть акт познания,
который совершается вместе интуицией и размышлением. Познать
предмет или организм, состоящий из бесчисленного количества клеток,
психологию личности, общества, эпохи можно, только вскрыв целесооб-
2 Этика и эстетика
33
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
разность данной системы. Но целесообразность и есть красота, то есть
самое сердце искусства. Стало быть, задача художника в том, чтобы
осознать и воспроизвести в линиях, красках, словах целесообразность
изображаемого явления природы и тем вызвать художественное
наслаждение, — не столько чувств, сколько интеллекта.
Источник наслаждения в искусстве, пишет Леопарди, — не красота,
а подражание, вот почему животное нам нравится больше на картине,
чем в натуре. Удовольствие, которое доставляет нам подражание,
вызывается удивлением, — жажда удивительного присуща человеку от
рождения. Но почему же нас больше удивляет подражание природе,
чем сама природа? По мнению Леопарди, мы удивлены тем, что это
не модель, а подражание. Мы склонны верить тому, что нас
удивляет, и потому верим подражанию. Поэтому нам нравится трагедия,
а не то, что в ней изображено. В повседневной жизни мы видим
множество предметов и проходим мимо, не обращая на них внимания, но
когда мы видим те же предметы на картине или на сцене, мы
удивляемся, словно никогда их не видели. Произведение искусства,
вызывая удивление, тем самым избавляет нас от скуки, чувства
мучительного и наводящего ужас (377).
В этих строках в своеобразной интерпретации изложена
аристотелевская теория скуки, просуществовавшая в эстетике тысячелетия,
очень редко вызывая возражения. Только в одной статье, напечатанной
в «Коичильяторе», органе либералов и романтиков, можно найти
ироническое и ядовитое опровержение этой теории, оскорбительной для
революционной мысли итальянских патриотов, иначе понимавших
функцию искусства !.
Естественно предположить, что удивление вызывается новизной, а
новизна заключается не только в самом факте подражания, но и в
новой интерпретации изображенного. Для того чтобы заметить новое,
нужно привыкнуть к изображаемому предмету. Если нет этой
привычки, то новое не будет воспринято, — оно будет непонятно, потому что
мы не обнаружим в этой новации целесообразности, то есть смысла
или, иначе говоря, красоты.
Так наконец появляется основная идея Леопарди, скованная
традиционными, слишком привычными и как будто даже обязательными
понятиями,— в них трудно было бы найти что-нибудь новое и еще
труднее от них отказаться. Эстетическое наслаждение, связанное с
досугом, скукой и удивлением, все же оказывается актом познания,
так же как и художественное творчество.
Задача искусства — подражание природе. Качество
художественного произведения, пишет Леопарди, определяется не совершенством
! Borsieri Р Sulla noia — "Conciliatore", 1818, t. 1, p 446—447,
34
Ё. РЕЙЗОВ. ЭСТЕТИКА ЛЁОПАРДЙ
изображенного в нем предмета, а совершенством его воспроизведения.
По подражание отнюдь не предполагает абсолютной точности. Это не
столько копирование природы, сколько ее истолкование. Самое понятие
идеальной красоты предполагало красоту более совершенную, чем
природная. Аристотель понимал подражание (mimesis) как
переосмысление действительности, допускающее идеализацию в слове, линии, звуке.
Леопарди мог бы сослаться на древних греков, если бы в этом была
надобность,— понятие идеальной красоты существовало в европейской
эстетике и искусстве уже с давних времен.
Самый принцип относительности прекрасного исключает
существование в природе прототипа красоты, — он отвергнут Леопарди вместе
с «идеями» Платона. Представление о целесообразности или гармонии
может быть очень различным. Кроме хорошего вкуса, более или менее
устойчивого в данных условиях, есть еще привычка, обусловленная
модой, начиная с подрубленных собачьих ушей и кончая женскими
туалетами. В природе, говорит Леопарди, существует лишь общий
контур, только очертания прекрасного,— гармония, соразмерность и
тому подобные свойства, которые должны быть в каждом данном
предмете, если он освещен лишь природным светом, а растушевка
прекрасных предметов, то есть колорит, светотень, а может быть, и
рисунок полностью зависят от нашего мнения (379). Значит, художник
должен не копировать натуру, а понимать ее и интерпретировать так,
как понимает ее данное общество, то есть сам художник, так же как
потребитель искусства. Это тоже, конечно, познание действительности,
но такое, какое свойственно эпохе, ее интересам и надобностям.
Следовательно, художник должен быть сыном своего века, народа и
культуры, и другим он быть не может. Это не мешает ему быть
новатором или бороться за новую истину, за новое понимание мира, потому
что эта новая истина также порождена эпохой и обществом, даже
если она существует только в сознании или мечте художника.
Как же осуществляется этот удивительно сложный процесс
подражания действительности, открытия в ней того, что всем известно,
и вместе с тем поражающего своей новизной? Какова роль разума
и воображения в постижении мирового единства, и как сотрудничают
в этом процессе силы как будто несовместимые и взаимно
уничтожающиеся?
Леопарди членит этот творческий синтез на составляющие его
части. Каждая творческая способность исполняет свою особую роль, и
результат бывает удовлетворителен, если каждая работает в свое
время и на своем месте.
В изящных искусствах, пишет Леопарди, следует отличать
энтузиазм, воображение, пыл от изобретательности. На первом этапе
творчества, когда рождаются тема и замысел, энтузиазм и воображение
2*
35
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
могут помешать изобретательности. Но когда замысел и сюжет
разработаны и продуманы анализирующим, взвешивающим все детали
разумом, тогда этот разумный, неоспоримый рисунок будущего
произведения вызывает у художника восторг, энтузиазм, захватывающую,
страстную любовь к будущему творению. Логическая работа разума
совершается вместе с работой воображения, и лед трудится вместе
с пламенем. В этой стадии разум оказывается вдохновенным и
восторг — разумным.
Но бывает и иначе. Восторг, предшествующий работе мысли,
беспредметный, неопределенный, смутный, какой нередко испытывают
одаренные люди, слушая музыку или любуясь пейзажем, не помогает
поискам сюжета и даже отдельных его элементов, потому что в такие
минуты человек бывает как бы вне себя, он отдается увлекающей его
силе, он не способен ни собрать, ни запечатлеть свои мысли, дух его
становится «бесконечным», летучим, не терпит ни порядка, ни правила
и потому не в состоянии составить замысел, осознать волнующее его
чувство. Найти подходящий сюжет художник может в то время, когда
он переживает только что минувший восторг или чувствует его
приближение. Это, конечно, характеристика того душевного состояния,
какое переживал сам Леопарди при зарождении замысла. «...Вообще
можно сказать, — пишет он, — что в поэзии и в изящных искусствах
проявления восторга, пылкого воображения и чувствительности...
скорее непосредственные плоды воспоминаний о восторге, нежели самого
восторга» (2 октября 1820; 257—261).
Леопарди и здесь чувствует себя новатором и противостоит
«общему мнению, истинному лишь на первый взгляд». «Оно признает, что
восторг порождает и изобретательность и все замыслы, а спокойствие
необходимо для наилучшего их исполнения; я же утверждаю, что
восторг вредит или, вернее, мешает именно изобретательности (ибо ей
нужна определенность, а восторг очень далек от всякого рода
определенности), зато полезен при исполнении, потому что распаляет поэта
или художника, оживляет стиль...» (257—261).
Во времена классицизма принято было считать, что
художественное творчество создается вдохновением, чуть ли не сверхъестественной
силой, что поэт сочиняет свои стихи, как пифия на своем треножнике,—
ведь так думали древние греки! Сократ говорил, что поэты сами не
понимают, что творят, и вместо них глаголет их «демон» или «дух».
Еще в XVIII веке такое представление продолжало существовать, и
очень немногие из религиозных соображений протестовали против
«демона» и экстатического наития К После французской революции ситуа-
1 Ср.: Du TremblayF. Discours sur l'origine de la poesie, sur son usage
et sur le bon gout. Paris, 1713.
36
Ё. РЕИЗОВ. ЭСТЕТИКА ЛЕОПАРДИ
ция изменилась. Энтузиазм стали рассматривать как явление
революционное. Революционные войны, спасшие революцию и Францию, в
реакционных кругах объясняли фанатизмом, который отождествляли
с энтузиазмом. Началась дискредитация восторженности, разрушающей
основы разумного и нравственного общественного порядка. «Общее
мнение», о котором говорил Леопарди, было мнением прошлого века,
по от него отказались и французские и итальянские романтики. Этого
«общего мнения» придерживались те, кто прославлял католический
энтузиазм средневековья и крестовых походов. Мнение Леопарди,
считавшего, что энтузиазм может быть полезен только после того, как
разум определит направление мысли и творчества, было вполне
современным, связанным с проблемами, возникавшими в последовавшие за
революцией годы.
Леопарди был твердо уверен в том, что подражание, то есть
искусство, более благотворно и действует сильнее, чем подлинник, то есть
действительность. Очевидно, в этом сказывается его личное восприятие
жизни и искусства, часто встречающееся у людей не очень
внимательных к тому, что их окружает. Но со своим мучительным отвращением
к окружающей его действительности и своеобразным культом
неизбывного и «благородного» страдания он чувствовал высокую радость,
когда какой-нибудь «гениальный» писатель показывал неизбежность
несчастья и выражал самое страшное отчаяние. Чем объяснить эту
радость? Такие творения, пишет он, вновь воспламеняют душу
восторгом, словно возвращают ей утраченную жизнь, между тем как то же
зрелище в действительной жизни убивает ее и заставляет жестоко
страдать. Причина этого восторга в том, что в тайниках души человека
даже во всем разочарованного живет иллюзия счастья. Но все же
конечное и, по существу, единственное объяснение этого восторга и
иллюзии заключается в том, что гениальное произведение является
актом познания действительности, какова она есть. Ведь, по словам
Леопарди, ничтожество всего сущего, показанное в искусстве,
возвеличивает душу, и она находит удовлетворение в себе самой и в
собственном отчаянии (257—261). Познав эту действительность, человек
возвышается над собственным несчастьем, так как познание в
известном смысле есть победа над действительностью, освобождение от
рабства, в которое человек ввергнут с самого своего рождения.
Такое утешение открывали для себя многие философы-пессимисты,
искавшие спасения в осознании своего и общечеловеческого
существования, в неизбежности страдания, которого они не заслужили никаким
грехопадением. Так утешались, например, Шопенгауэр, с которым
иногда сравнивали Леопарди, Спиноза, его ученик Флобер и многие другие,
для которых надежда, поиски счастья, вообще всякое чувство было
злом, а единственной возможной радостью — познание.
37
ДЖАкоМо ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
6
В дневниках Леопарди встречаются записи и о литературных жанрах.
Как всегда, он в каждом жанре ищет большого, серьезного искусства,
которое могло бы принести пользу обществу. Современная комедия
кажется ему пустой, бесполезной, и, • значит, неприятной. В ней
говорится о всяких пустяках, а потому, не давая пищи ни уму, ни сердцу,
она быстро наскучит. Комедия должна осмеивать пороки людей,
играющих большую роль в общественной жизни, вздорность политики,
нелепость общепринятой нравственности и философии, современную
цивилизацию и т. п. Такая комедия послужит стране и народу, так как смех
«в наш смешной и холодный век» поможет больше, чем серьезный
жанр и лирическая поэзия (1393—1394).
Приблизительно то же говорит Леопарди о трагедии и о
серьезной драме. Он против усложненной интриги с большим количеством
эпизодов и неожиданных эффектов. Такие драмы вызывают
любопытство, и зритель думает о том, что будет в следующей сцене и чем
драма окончится. Такое любопытство изгоняет всякую мысль, всякий
серьезный интерес, и драматурги, желающие возбудить это чисто
внешнее любопытство, создают драмы бесполезные и быстро
надоедающие (2326—2327). К тому же «интересный» сюжет свойствен скорее
повествовательному жанру, то есть роману, чем драме. Очевидно,
Леопарди не очень ценил роман по той причине, что итальянского романа
в то время в известном смысле как бы и не существовало. Печатались
преимущественно переводные романы любовного и приключенческого
плана в переработке местных любителей, и читались они сравнительно
мало, так как чтение было в Италии не в моде. Впрочем, читавшие
дамы увлекались любовно-приключенческими романами аббата Кьяри,
а Ричардсон и Руссо были известны в Италии, но Леопарди не учел
этих реформаторов романа и имел в виду только местное искусство.
Между тем Руссо, раздраженный приключенческими и «интересными»
романами, в «Новой Элоизе» добивался максимальной простоты
сюжета, чтобы придать своему произведению глубокий нравственный смысл.
Первый итальянский роман, «Обрученные» А. Мандзони, вышел в свет
через несколько лет после того, как Леопарди высказал свое мнение
об этом жанре. Впрочем, Леопарди, вероятно, не отказался бы от
своего мнения и после прочтения «Обрученных», создавших эпоху в
истории итальянской повествовательной прозы. По его мнению, роман
этот, наделавший столько шуму, стоил немногого 1.
1 Строго говоря, романы, хотя и очень слабые, в Италии существовали и в
XVII веке. Mancini А. II romanzo nel Seicento. Saggio di bibliografia.
Studi secenteschi, 1970, vol. 11. См.: Dazzi M. Leopardi e il romanzo.
Milano, 1939.
38
Б, РЕИЗОВ. ЭСТЕТИКА ЛЕОПАРДИ
Самым благородным и поэтическим жанром Леопарди считал
лирику, которой он отдал свои лучшие ,силы. Это первый по своему
происхождению вид поэтического творчества. Следующий по времени —
лншея, которая возникла из лирики, гимнической поэзии и т. д., нахо*
псц, последний— драма, выросшая из эпопеи. Но ни эпос, ни драма
не являются поэзией, потому что поэзия рождается в порыве души.
Поэта побуждают к творчеству не чужие чувства, как в эпосе и тем
более в драме, а собственное глубокое волнение. Что касается
драматурга, то это никак не поэт, а его вдохновение'—просто притворство.
Ведь он должен перевоплощаться в своих персонажей, то есть
притворяться. В этом отношении драма стоит на последнем месте, потому
что 'она требует полного отказа от собственной личности. А
собственная личность в наш эгоистический век значит для даровитого человека
гораздо больше, чем для всякого другого.
Эпическая поэма, по мнению Леопарди, — создание народа, она
возникает из легенд и преданий, известных всему народу. На этом
основании можно усомниться в существовании Гомера как личности
и считать автора «Илиады» и «Одиссеи» лицом коллективным, то есть
пародом. Джамбаттиста Вико в начале века («Основы новой науки»,
1725) и особенно Фридрих Август Вольф в конце его («Prolegomena
ad Homerum», 1795) утверждали это с поражавшей современников
убедительностью.
Легенды и предания, создавшие эпос, могли существовать только
в эпохи непросвещенные, поэтому в новое, просвещенное время эпос
невозможен. На долю наших дней, говорит Леопарди, остается одна
только лирика, жанр самый доступный для нашего современного
сознания (4356—4363).
Можно и в этих словах увидеть очередное выражение леопардиан-
ского пессимизма, однако в них все же заключена характеристика
современной эпохи. «Новая» свобода, заключающаяся в свободе от
обязанностей и в личной неприкосновенности, индивидуализм, типичный
для нового класса крупного капитала, идущего к мировому господству,
и судьба литературных жанров как неизбежный результат состояния
общества и умов — все это было учтено поэтом, изучавшим свою эпоху
почти с тем же вниманием, с каким он изучал античность.
Леопарди как будто не замечал в своей эпохе ничего
привлекательного, никаких ростков будущего, никакой нравственной красоты,
которую хранил в своем воображении и пытался найти в легендах
Греции. А в это время росло национально-освободительное движение,
тайно действовали карбонарские венты, вспыхивали восстания, и люди
жертвовали жизнью ради своей страны с не меньшим
самоотвержением, чем спартанцы при Фермопилах или Регул в Карфагене. Много
было материала, из которого могли бы вырасти легенды и предания,
39
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
и поэзия, лирическая и повествовательная одновременно, отражала то,
что было в душе поэтов и в думах целого поколения.
Но и собственные его юношеские канцоны — «К Италии», «На
памятник Данте», «К Анджело Май», «На свадьбу сестры Паолины» и
многие другие — говорят о том, что он не только провидел, но и
создавал это будущее в сознании и вере своих современников. Немецкую
философию тождества он переводил на язык своего материализма,
обнаружив в этом тождестве нечто подобное античному пантеизму и
нужное для идейного развития XIX века.
* * *
Многие произведения Леопарди, художественные и теоретические,
окрашены глубоким пессимизмом, за что высоко ценил его великий
пессимист и современник Шопенгауэр 1. Но видеть в этом основу его
мировоззрения и творчества едва ли справедливо. Было в нем нечто
другое, более важное и плодотворное. Мрачные тона его лучших
произведений были вызваны мечтой об итальянском Рисорджименто, так
грустно и неполно осуществившемся через несколько лет после его
смерти. И это привлекало к нему прогрессивную и революционную
мысль его современников и потомков и обеспечило ему долгую жизнь
в искусстве — то, что мы на нашем неточном языке называем
«вечностью»,
Б. Реизов
1 См.: Schopenhauer A. Die Welt als Wille und Vorstellung. Ergan-
zungen zum vierten Buch des ersten Bandes — In: Sammtliche Werke, Leipzig.
Reclam, II Abdr., Bd 2. S. 693,
НРАВСТВЕННЫЕ
ОЧЕРКИ
РАССУЖДЕНИЕ
ИТАЛЬЯНЦА
О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
ИЗ ДНЕВНИКА
РАЗМЫШЛЕНИЙ
НРАВСТВЕННЫЕ
ОЧЕРКИ
ИСТОРИЯ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
Рассказывают, будто все
люди, от начала дней населявшие землю, сотворены были
повсеместно в одно время, и все были младенцами, а
вскармливали их пчелы, козы и горлицы,— подобно как,
согласно басням поэтов, взращен был Зевес1. И земля
будто бы не была столь велика, как теперь, и почти что по
всем странам простирались равнины, и в небе не блистали
звезды, и море не было еще сотворено, и мир являл не
столько разнообразия и великолепия, сколько являет ныне.
Однако же люди, неустанно наслаждаясь его зрелищем и
созерцанием неба и земли, дивясь сверх меры тому и
другому, а также почитая их прекраснейшими и не только
обширными, но и бесконечными в их огромности, величии
и стройности, сверх того питая отраднейшие надежды и из
каждого чувствования своей жизни извлекая небывалые
радости, вырастали в превеликом довольстве и полагали
себя чуть ли не счастливыми. Так в приятности проведя
младенчество и первое отрочество и достигнув возраста
более возмужалого, стали они ощущать в себе некое
изменение. Ибо надежды, которые они до сего времени
отлагали со дня на день, так и не видя их исполнения,
показались людям заслуживающими малого доверия; а
довольствоваться насущными благами, не обещая себе ни
малейшего их прибавления, казалось им невыносимо,
особенно же потому, что вид природы и все мелочи
повседневной жизни в силу ли привычки либо по причине убывания
в их душе первоначальной живости давно не казались им
столь отрадными и приятными, как вначале. Они
странствовали по земле, посещая отдаленнейшие области, ибо
могли делать это без труда, поскольку поверхность ее была
ровной и разные страны не были ни разделены морями, ци
45
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ограждены иными препонами. Так по прошествии
немногих лет большинство людей обнаружило, что земля хоть
велика, но имеет пределы, и не столь обширные, чтобы не
обнять их умом, и что все страны на земле и все люди,
если не считать самых малых различий, схожи между
собою.
По этой причине их недовольство все росло и
возросло до того, что, еще прежде чем они выходили из
юношеского возраста, обуяло их явное отвращение к жизни.
И так постепенно в зрелом возрасте, но более всего на
склоне лет, когда пресыщение оборачивается ненавистью,
иные из них дошли до отчаяния2 и, не в силах долее
сносить жизнь, прежде столь желанную, по доброй воле
разными способами лишали себя дыхания и света.
Ужасом преисполнились боги, увидев, что ж-ивые твари
предпочитают смерть жизни и что для иных живущих сама
жизнь, а не необходимость либо стечение многих
обстоятельств становится причиной к самоуничтожению. И
несказанно подивились они тому, сколь ничтожными и
мерзостными почитаются их дары, от которых иные всей силою
стараются избавиться, а ведь богам казалось, будто так
много доброты и прелести вложили они в мир, так
устроили его и урядили, что это обиталище должны были бы не
только терпеть, а весьма даже любить все одушевленные
твари, и прежде всех люди, чей род они создали с особым
тщанием и дивным совершенством. И помимо того, что
сердца им тронула немалая жалость к столь великой
людской горести, явствовавшей из ее последствий, они
опасались, как бы с умножением и повторением прискорбных
примеров племя людей спустя недолгое время не
истребилось бы вопреки воле суде.б и не лишилась бы природа —
своего завершения, которым и был для нее наш род, а они
сами — воздаваемых им людьми почестей.
Посему Зевес, увидав, что это требуется непременно,
порешил улучшить людское состояние и направить
человека к счастью более щедрою своею помощью. Бог слышал
жалобы смертных, сетовавших всего больше на то, что мир
не беспределен3 по величине своей и не бесконечны его
красота, совершенство и разнообразие, как думали они
раньше, но, напротив, все в нем стеснено, все
несовершенно и почти что одинаково, слышал и горячие мольбы о
том, чтобы, коль скоро не только преклонный возраст, но
и зрелый, и даже юношеский горек им и коль скоро они
46
ЙРАВСТВЁННЫЁ ОЧЕРКИ
так тоскуют по отрадам своих первых лет, Зевес вернул
им младенчество и дозволил пребывать в нем всю жизнь.
Однако бог не властен был удовлетворить их желание как
противное всеобщим законам природы и не согласное ни
с тем долгом, который, по божественному замыслу и
установлению, следовало выполнить людям, ни с тою пользой,
которую надлежало им принести. Не мог он также
поделиться своей бесконечностью со смертными тварями или
сделать бесконечной материю и бесконечными —
совершенство и счастье мира и людей. Потому он счел за лучшее
раздвинуть пределы творения и украсить его вящим
разнообразием; и раз замыслив это, Зевес расширил землю
по всему кругу, разлил по ней море, дабы оно, оказавшись
между населенными местами, придало миру вид
разнообразия и воспрепятствовало людям с чрезмерной легкостью
познавать различные его области, прервав дороги, а также
явив взорам живое подобие безбрежности. В это время и
залили новые воды землю Атлантиды, и не только ее, но
вместе и другие бессчетные и весьма протяженные
области, хотя лишь об Атлантиде осталось воспоминание4,
пережившее века. Многие места Зевес вдавил, многие
поднял, воздвигнув горы и холмы, испещрил ночь
звездами, сделал тоньше и чище природу воздуха, а день яснее
и светлее, где усилил, а где умерил краски неба и полей,
придав им большее, нежели прежде, разнообразие, смешал
поколения людей, чтобы старость одних приходилась на то
же время, что юность и отрочество других. А еще, —
порешив умножить видимость той бесконечности, которой люди
жаждали больше всего (ибо подлинно угодить им он не
мог), и стремясь помочь и дать пищу их воображению,
через которое, как он разумел, и получали они столь великое
блаженство в дни младенчества,— создал он в числе
многих пущенных им в дело ухищрений (таких, к
примеру, как появление морей) и эхо, сокрыв его в долинах и
пещерах, и даровал лесам глубокий и глухой гул с
широким колыханием вершин. С подобной же целью сотворил
Зевес и племя снов и поручил им обманывать во
множестве обличий людскую мысль, являть человеку подобие той
полноты непостижного уму счастья, которое на деле бог
не видел способа дать, а также смутные и неясные
картины, образец которых в мире доподлинного он не мог
произвести, как бы ни хотел и как бы горячо ни воздыхали
о том люди.
47
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЗТИКА И ЭСТЕТИКА
Такими заботами и стараниями Зевеса человеческий
дух был вновь укреплен и ободрен и в каждом из людей
возрождены любовь к жизни и приверженность ей вместе.
с верой в красоту и беспредельность земного мира, с
изумлением пред ними и способностью ими наслаждаться.
И блаженное это состояние длилось дольше, чем первое,
более всего благодаря введенной Зевесом разнице во
времени рождений, — ибо души охладелые и утомленные
опытом были ободряемы видом пылких надежд, питаемых
юностью. Но по прошествии времени опять возник
недостаток в новизне, вновь родились и укрепились
отвращение к жизни и пренебрежение ею, и до такого уныния
дошли люди, что тогда, как полагают, и возник обычай,
сохраняемый и соблюдаемый, по рассказам историков5,
еще у некоторых из народов древности: когда кто-нибудь
рождался на свет, родичи и друзья собирались, чтобы
оплакать его, а когда умирал, день этот праздновался
пирами и беседами и все поздравляли друг друга с
покойником. Под конец все смертные обратились к нечестию,
потому ли, что возомнили, будто Зевес их не слышит,
потому ли, что несчастья по природе своей ожесточают и
развращают даже самые благородные души, убивая в них
любовь к честности и справедливости. Посему всячески
заблуждаются те, кто полагает, будто несчастье людей
впервые родилось через их несправедливость и
преступления против богов6; напротив того, злокозненность людей
возникла не иначе как по причине их невзгод.
А когда боги покарали Девкалионовым потопом7
дерзость смертных, отомстив им за все оскорбления, и лишь
двое из всего нашего рода, Девкалион и Пирра, спаслись
от всемирного крушения, то оба они, сидя на вершине
скалы, соглашались между собой, что для рода
человеческого нет ничего отраднее, как быть истреблёну до конца,
и в сильнейшей жажде смерти призывали на себя гибель,
ничуть не страшась общей участи и не оплакивая ее. Когда
же Зевес призвал их помочь земле в ее опустелости, они,
лишившись мужества и тяготясь жизнью, не в силах были
взять на себя дело продолжения рода; вот и пришлось им
по наущению богов брать камни со склона горы и, бросая
их себе за спину, возродить человеческую породу. Но из
всего происшедшего Зевес обнаружил, каковы по природе
своей люди и что им не довольно, как другим живым
существам, жить и быть свободными от всякой боли и
48
Нравственные очерки
телесных тягот; напротив того, всегда и во всяком
состоянии они страстно жаждут невозможного, а из-за этой
жажды им тем более невмочь сносить самих себя, чем
менее удручены они иными бедами. Потому бог рассудил,
что для сохранения этого несчастного рода потребны новые
хитрости, и прежде прочего прибегнул к двум. Одна
состояла в том, что он подмешал в их жизнь истинные беды,
другая — в том, что опутал их тысячей дел и трудов, имея
целью занять людей и отвлечь их как можно более от
собеседования с собственной душой или по крайности от
тоски по этому их неведомому и тщетному счастью.
Итак, прежде всего распространил он меж них
множество разных болезней и неисчислимое племя иных
бедствий, отчасти стремясь разнообразием обстоятельств и
уделов смертной жизни воспрепятствовать пресыщению и
возвысить цену благ через противопоставление их
бедствиям, отчасти дабы и недостаток наслаждений,
представлялся человеческому духу, привыкшему к худшему, более
переносимым, нежели то было прежде, отчасти же с
намереньем сломить и укротить людскую свирепость, приручить
людей и приучить их склонять шею, заставить их легче
мириться со своей участью и притупить в душах,— столь
же ослабевших от телесных немощей, сколь и от
собственных мук,— острый бодец необузданного желания. И
кроме того, он знал, что, угнетенные недугами и
превратностями, люди уже не с такой легкостью, как прежде, станут
налагать на себя руки, и так должно быть непременно,
ибо от постоянных несчастий они сделаются трусливыми
и сокрушенными сердцем. А несчастия по обычаю своему
даже крепче привязывают души к жизни, оставляя место
надеждам на лучшее; ибо незыблема вера всех несчастных
в то, что они станут счастливейшими, едва оправившись от
своих бед, а что так непременно должно случиться,
человек не перестает уповать, ибо такова его природа. Ради
этого и сотворил Зевес ураганы и грозы, вооружился
громом и молнией, вручил Нептуну трезубец, пустил по небу
кометы и устроил затмения; всем этим, а также иными
знаменьями и страшными явлениями он установил пугать
время от времени смертных, зная, что страх и близкие
опасности хоть на короткий миг примирят с жизнью не
только несчастных, но и тех, кому она особенно постыла
и кто больше всех склонен был бы уйти из нее.
А чтобы не осталось- места прежней праздности, он
49
ДЖАКОМО ЛЁОГ1А£>ДЙ этика й эстётйкА /
внушил людскому роду нужду и охоту к новым яствам и
новым напиткам, которые возможно было добыть лишь
ценою многих и тяжких трудов, — между тем как вплоть
до потопа люди, утоляя жажду чистою водою, насыщались
травами и плодами, которые земля и деревья приносили
им по своей воле, и другою простой и легко изыскиваемой
пищей, какой и поныне поддерживают себя некоторые
народы, особенно те, что живут в Калифорнии8. Разным
местам Зевес сообщил разные свойства климата, и то же
сделал он с временами года, — а вплоть до той поры весь
год по всей земле был мягок и приятен настолько, что
людям неведомо было употребление одежд; впредь же
человек должен был запасать себе и их тоже и много
труда и уменья тратить на защиту от перемен и суровости
погоды. Меркурию Зевес поручил основать первые города
и разделить род людской на народы, племена и языки,
посеяв меж ними раздор и несогласие, а также обучить
людей пению и иным искусствам, которые и ради природы
своей и также ради происхождения были названы и
доныне зовутся божественными. Сам Зевес дал новым
племенам законы, государство и гражданские порядки и
напоследок, желая облагодетельствовать эти сообщества
несравненным даром, послал в их среду некие призраки,
наделив их нечеловечески прекрасным обличьем и отдав
им в руки весьма большую долю власти и господства над
названными племенами: наречены они были Правосудием,
Доблестью, Славой, Любовью к отчизне и иными
подобными именами. Среди этих призраков был один,
названный Любовью, который в эту пору впервые, подобно всем
другим, явился на землю, — прежде же, до того, как
узнали употребление одежд, не любовь, но сила вожделения,
не отличавшегося у живших тогда людей от присущего
во все времена диким зверям, толкала один пол к другому,
так же точно как нас влечет пища и другие подобные
вещи, которых не любят, но желают.
Можно было лишь подивиться, как много плодов
принесло для жизни человеческой это божественное промыш-
ление и насколько новые ее обстоятельства, несмотря на
труды, страхи и страдания, раньше неведомые, превзошли
своей сообразностью и приятностью те, что были до
потопа. И получилось так в немалой мере благодаря тем
величавым призракам, которых люди почитали то
демонами9, то божествами, и поклонялись им с неизмеримым
50
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
жаром, и стремились за ними с огромными и небывалыми
трудами на протяжении долгих лет. На то с бесконечной
силой воспламеняли их своим пением поэты и
благородные художники, так что огромное множество смертных не
поколебались бы отдать в жертву одному или другому из
призраков свою кровь и жизнь. И это не только не было
неугодно Зевесу, но и пришлось ему по душе сверх всякой
меры, по многим причинам и еще потому, что он полагал,
что люди с тем меньшей легкостью будут по доброй воле
бросаться собственной жизнью, чем охотнее станут
отдавать ее ради дела прекрасного и славного. Эти добрые
порядки долгим сроком своего существования превзошли
все бывшие прежде них, потому что хотя много столетий
спустя- они и пришли в явный упадок, но и в нисхождении
своем и потом в стремительном крушении сохранили еще
столько силы, что вплоть до времени, ненамного
предшествующего настоящему, человеческая жизнь, бывшая
благодаря этим порядкам— особливо в некую пору —
почти что отрадною, их же благодеянием осталась
переносимой и не такой уж тяжкой.
Причиною и орудием порчи стали хитрые способы легко
и быстро удовлетворять свои потребности, во множестве
изобретенные людьми, несоразмерный рост неравенства
условий жизни и обязанностей, самим Зевесом
установленного между людьми при создании и устроении первых
государств, праздность и суетность, которые по названным
причинам вновь завладели после долгого изгнания жизнью
людей, а также и то, что в силу и самой сути вещей и
свойств людского мнения все меньше радости в этой жизни
приносило ее разнообразие, как всегда бывает после
долгой привычки; были тут повинны и другие обстоятельства,
более важные, но так как они уже многими описаны и
изъяснены, то и нет надобности перечислять их здесь. Одно
ясно: в людях вновь родилось то же отвращение к своему
уделу, какое мучило их до потопа, и укрепилась горькая
жажда неведомого и чуждого природе вселенной счастья.
Но полный переворот их судьбы и прекращение того
состояния, которое мы по обыкновению называем древним,
произошли главным образом по иной, нежели названные,
причине; вот в чем она состояла. Среди призраков, столь
высоко ценимых древними, был один, на нашем языке
именуемый Мудростью; повсеместно чтимый, подобно всем
своим сотоварищам, а для многих смертных ставший и
51
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
главным предметом стремлений, он наравне с остальными
призраками со своей стороны способствовал счастью
минувших веков. Мудрость много-много раз, чуть ли не
ежедневно, клятвенно обещала своим поклонникам явить
им Истину, которая есть-де величайший из демонов,
повелевающий самою Мудростию, но никогда на землю не
спускавшийся, а восседающий среди богов на небесах. Его-то
и обещала она собственной властью и милостью низвести
оттуда на землю и принудить некоторое время
постранствовать среди людей; а завязав с ним близкие сношения,
род человеческий непременно достигнет такой высоты, что
обширностью познаний, совершенством установлений и
обычаев и блаженною жизнью почти что сравнится с
родом бессмертных. Но как могла бесплотная тень, пустая
видимость исполнить свои обещания и тем более низвести
на землю Истину? И посему люди — заметив тщетность
этих обещаний, после того как долгое время верили им
и возлагали на них надежды, но вместе с тем
изголодавшись по новшествам, более всего по причине праздности,
в которой они жили, и подстрекаемые отчасти
честолюбивым желанием сравняться с богами, отчасти жаждой того
блаженства, которого ожидали достигнуть через
собеседование с Истиной, как то утверждал призрак,— стали
воссылать Зевесу настойчивые и дерзкие мольбы, в которых
просили хоть на короткое время отпустить на землю этого
благороднейшего демона, а также упрекали бога в том,
что он из зависти нарочно лишает своих тварей той
бесконечной пользы, какую они извлекли бы из присутствия
Истины; при этом они еще сетовали на людскую участь,
возобновив прежние докучные жалобы на малость и
бедность своего удела. А поскольку прекраснейшие призраки,
податели стольких благ в прошедшие века, ныне большею
частью смертных почти уже и не чтились — и не потому,
что те познали наконец их истинную природу, но потому,
что' из-за низости мысли и лености нравов никто теперь
за ними не стремился, — постольку люди, кощунственно
понося величайший дар, который предвечные ниспослали
и могли ниспослать смертным, стали кричать, что земля-де
была удостоена лишь меньших демонов, а демонам
величайшим, преклоняться перед которыми больше пристало
человеческому роду, стыдно и не дозволено показаться в
нашей области вселенной, самой низменной из всех.
Давно уже многие причины вновь отвратили от людей
52
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
волю Зевеса, и среди прочих — небывалые пороки и
злодейства, и числом и тяжестью своей намного оставившие
позади преступления, наказанные потопом. Совсем уже
омерзела ему человеческая природа, после того как он
много раз убеждался на опыте, сколь она беспокойна,
ненасытна и неумеренна; для того чтобы привести ее не то
что к счастью, а хотя бы к спокойствию, — теперь он видел
это ясно, — нет ни действительных средств, ни
благоприятного состояния, ни достаточного простора; и пусть бы
он даже счел за благо тысячекратно увеличить земные
пространства, и земные наслаждения, и весь вещественный
мир, все равно и то и другое спустя короткое время стало
бы людям, равно не способным на бесконечное и жадным
до него, казаться тесным и лишенным приятности и цены.
Но под конец эти глупые и надменные просьбы до того
распалили гнев бога, что он решил, отложив всякую
жалость, покарать вечною казнью человеческую породу,
осудив ее терпеть во все будущие времена нужду горшую,
нежели в прошедшие. Для этой казни Зевес рассудил не
только послать на некоторое время Истину в среду людей,
согласно их просьбам, но и дать ей меж ними вечное
местопребывание, чтобы она, изгнав те смутные призраки,
которые он поместил в дольнем мире ранее, стала навсегда
усмирительницей и владыкой рода человеческого.
Прочие боги удивились такому замыслу Зевеса:
Многим из них казалось, что послужит он к чрезмерному
возвышению человеческого состояния и нанесет ущерб их
собственному превосходству, однако Зевес отвратил их от
этой мысли, доказавши им, что не все демоны, даже
великие, по свойствам своим благодетельны и тем более не
такова^ природа Истины, чтобы она непременно оказала то
же действие на людей, что и на богов. Потому что если
бессмертным она показывала воочию их блаженство, то
людям она открыла бы и навсегда поместила бы у них
пред глазами их несчастную участь, представив ее, кроме
того, не .как дело одной лишь фортуны, но как нечто
неизбежное, непоправимое и неизбывное во всю их жизнь.
И коль скоро по природе своей человеческие бедствия суть
бедствия в той мере, в какой претерпевающий считает их
таковыми, и тяжки они настолько, насколько он мнит их
тяжкими, то можно судить, какой великий вред будет
людям от присутствия среди них этого демона. Ничто не
будет казаться им более истинным, нежели ложность всех
53
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
смертных благ, и более прочным, нежели преходящесть
всего, кроме их собственных страданий. По этим причинам
они лишатся даже надежды, которая от века и доныне
поддерживала их жизнь более, чем всякое иное
наслаждение или утешение.
«А ни на что не надеясь и не видя никакой достойной
цели своих предприятий и трудов, они станут до того
пренебрегать и гнушаться прилежной работой, не говоря уже
о подвигах великодушия, что общий обычай живых мало
чем будет отличаться от обычая теней за гробом. Но и в
этом отчаянии, в этом бездействии не избавятся они от
врожденной жажды безмерного счастья, которая пуще
прежнего будет терзать их и мучить им душу тем сильнее,
чем меньше они будут заняты и отвлечены разнообразием
забот и непрерывностью дел. И в то же время они
обнаружат, что их покинул природный дар воображения, которое
одно могло хоть отчасти удовлетворить их и дать
пресловутое счастье, недостижимое и непостижимое ни для меня,
ни для них, воздыхающих о нем. Тут все те призраки
бесконечного, которые я с такой заботой поместил в мире,
чтобы они обманывали смертных и питали их в
соответствии с их склонностью помыслами широкими и
смутными, окажутся бессильны перед знаниями и привычками,
приобретенными через наставничество Истины. И выйдет
так, что земля и прочие части вселенной, и раньше
казавшиеся людям маленькими, отныне покажутся совсем уж
ничтожными из-за того, что всем будут открыты и
растолкованы тайны природы, а они, вопреки нынешним людским
ожиданиям, представляются тем мельче, чем больше
знаний о них приобретает каждый. В конце концов, когда
исчезнут с земли все ее призраки, а люди через поучения
Истины до конца постигнут их призрачность, в жизни не
будет ни доблести, ни честности в делах и мыслях,
повсюду угаснет самое имя народа и отчизны, а не то что забота
о них и любовь к ним; все люди сольются — такие слова
привыкнут они тогда говорить — в единый народ с единой
отчизной и будут исповедовать всеобщую любовь ко всей
человеческой породе, на самом же деле их племя
рассыплется на столько народов, сколько есть людей. Ибо, не
имея перед глазами ни родины, которую он обязан любить
больше всего, ни чужеземцев, дабы их ненавидеть, каждый
возненавидит всех прочих, возлюбив из всего людского
рода лишь самого себя. Слишком долго было бы расска-
54
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
зывать, как много великих бедствий возникнет по этой
причине. Но и среди таких отчаянных горестей смертные
не отважатся по своей воле покинуть свет дня, потому что
владычество этого демона сделает их не менее трусливыми,
чем несчастными: сверх меры отравив горечью их жизнь,
он лишит их мужества от нее отказаться».
После таких Зевесовых слов подумали боги, что
людская участь будет слишком уж жестока и сурова и
божественному милосердию не пристало на то соглашаться.
Но Зевес продолжал: «Все же будет у них слабое утешенье
от того призрака, которого они именуют Любовью, ибо его
я располагаю, по удалении всех прочих, оставить в
человеческом сообществе. И не дано будет Истине, пусть и
могущественной и непрестанно с ним воинствующей, ни
покончить с ним и изгнать с земли, ни даже победить,
кроме разве редких случаев. Так что жизнь человеческая,
в равной мере занятая служением и призраку и демону,
будет разделена надвое, и оба они получат в душах
смертных общую власть. Все прочие стремления, за немногими
и ничтожными исключениями, для большинства людей не
будут существовать. А в преклонном возрасте недостаток
утешений, приносимых Любовью, возместится благодаря
их природному свойству быть довольными одной только
жизнью, как то бывает и у других животных, и прилежно
заботиться об ее поддержании ради нее самой, а не ради
тех наслаждений и удовольствий, которые можно из нее
извлечь».
И вот, удалив с земли все блаженные призраки, кроме
Любви, наименее благородной из всех, Зевес послал к
людям Истину, дав ей среди них вечное местопребывание и
господство, из чего и произошли все те прискорбные
последствия, которые он провидел. Но приключилась и одна
вещь весьма удивительная: если до своего сошествия сей
демон, не имевший среди людей ни могущества, ни прав,
был почтен от них великим множеством храмов и
жертвоприношений, то теперь, нисшед на землю с княжескою
властью и будучи познан вблизи, он, не в пример всем
другим бессмертным, которые, чем зримее являют свое
присутствие, тем более достойными преклонения кажутся,
удручил души людей и наполнил их таким страхом, что
они, хотя и вынужденные повиноваться, отказали ему в
поклонении. И если те призраки, чем больше овладевала
душой их сила, тем горячее бывали чтимы и любимы, то
55
ДЖАКОМО ЛЕО^А^ДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА *
__ — - _____ _ ,
1
демон стяжал самые суровые проклятья и самую тяжкую
ненависть как раз от тех, над кем обрел наибольшую
власть. И так, не в силах ни уйти от его тирании, ни
восстать против нее, люди стали жить в том крайнем
несчастии, какое терпят они до сих пор и всегда будут терпеть.
Однако милосердие, никогда не угасавшее в душах
небожителей, подвигло недолго спустя волю Зевеса
сжалиться над столь горькой участью, и больше всего над
участью некоторых людей, — ради остроты их ума,
соединенной с благородством нравов и непорочностью жизни,
ибо он видел, что они-то бывают обыкновенно больше
всех прочих угнетены и удручены могуществом и суровым
господством названного демона. В старые времена, когда
людскими делами правили Справедливость, Доблесть и
другие призраки, у богов был обычай посещать порой свои
творения и спускаться то одному, то другому на землю,
разными способами давая знать о своем присутствии,
которое всегда было величайшим благодеянием или для всех
смертных, или для кого-нибудь одного особо. Но когда
жизнь снова развратилась и погрязла во всяческом
злодействе, они долгое время гнушались людской беседою. Теперь
же Зевес, сострадая нашим великим несчастьям,
предложил бессмертным, если у кого в душе родится такое
желание, посетить, как они посещали встарь, и утешить
в горестях свое порождение, и особенно тех, кто явил себя
не заслуживающим всеобщих страданий. В ответ на это
при молчании остальных Любовь, дитя Афродиты
Небесной 10, соименная называемому так же призраку, но ничуть
не похожая на него ни природой, ни свойствами, ни
делами, вызвалась (ибо среди всех божеств особенным было ее
милосердие) исполнить то, что предложено было Зевесом,
и спуститься с небес, которые никогда не покидала
прежде, будучи столь несказанно дорога бессмертным, что сонм
их не допускал ее даже на краткое время удалиться из
среды богов. Хотя порою многие люди в старину,
обманутые преображениями и разными кознями соименного
призрака, полагали, что видят несомненные знаки присутствия
величайшего божества, оно стало посещать смертных не
прежде, чем они подчинены были власти Истины. Но и с
той поры оно если и нисходит к ним, то лишь редко, и
пребывает недолго, как оттого, что род людской вообще
этого недостоин, так и оттого, что боги с трудом переносят
его отсутствие. Когда же оно "приходит на землю, то выби-
56
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
рает самые нежные и кроткие сердца людей
благороднейших и великодушнейших и в них остается на короткий
срок, проливая в них неведомую и столь дивную отраду,
наполняя их столь высокими чувствами и столь великой
доблестью и отвагой, что они тут испытывают нечто
небывалое для рода человеческого — истинное блаженство»
а не его подобие. Совсем уж редко сочетает оно два
сердца, заключая оба одновременно в свои объятия и в оба
вливая взаимный жар и влечение; хотя об этом с великой
настойчивостью молят все те, кем оно овладеет, но Зевес
дозволяет ему удовольствовать лишь немногих, потому
что блаженство, порождаемое таким благодеянием, не
намного превзойдено блаженством бессмертных. Однако и
так, кто преисполнился его божественной силы, тот
посрамил самое великое счастье, достававшееся человеку в лучшие
времена. В ком Любовь нашла себе место, вкруг того
собираются невидимо для других великолепные призраки,
изгнанные из среды людей, но вновь низводимые на землю
силою великого божества, ибо это дозволено ему Зевесом
и не может быть запрещено Истиною, как ни враждебна
она названным призракам и ни оскорблена в душе их
возвратом; но природе демонов не дано
противоборствовать богам. И так как Любовь наделена от Судеб даром
вечно оставаться младенцем, то в соответствии с этою
своей природой она некоторым образом исполняет первую
мольбу людей, мольбу о том, чтобы им вернуться в пору
младенчества. Потому в душах, которые Любовь избирает
себе обиталищем, она пробуждает и обновляет на все
время своего пребывания бесконечные надежды и прекрасные
и дорогие мечтания нежного возраста. Многие смертные,,
не изведавшие ее наслаждений и на них не способные,,
гонят ее от себя прочь и язвят непрестанно и когда она
далеко и когда посетит их; но божество не слышит этих
поношений, а даже если бы и услышало, то не стало бы
за них карать, столь оно по природе своей великодушно ж
кротко. Да и вообще боги, довольствуясь тем, что
отомстили всей человеческой породе, покарав ее безысходными
бедствиями, не заботятся об оскорблениях, наносимых
кем-нибудь из людей, и для людей коварных, беззаконных
и презирающих богов нет у бессмертных особой казни,
кроме той, что нечестивцы уже через нечестивость свою
лишены их милости п.
57
РАЗГОВОР ГЕРКУЛЕСА
И АТЛАНТА
Геркулес. Отец Атлант!1 Зевес прислал меня
передать тебе привет и велел мне в том случае, если ты совсем
изнемог от этой тяжести, самому взвалить ее на плечи часа
на два или на три, как я сделал однажды2, уже не помню
сколько веков назад, и дать тебе перевести дыханье и
немного отдохнуть.
Атлант. Спасибо, милый мой Геркулесик, и премного
обязан его величеству Зевесу. Но мир стал таким легким,
что этот плащ, которым я прикрываюсь от снега, давит
мне на плечи больше; и если бы воля Зевеса не
принуждала меня стоять не сходя с места и держать на спине
этот шар, я бы взял его под мышку, или засунул в
карман, или привязал к волоску бороды — пусть себе
болтается, — а сам бы отправился по своим делам.
Геркулес. Как это могло случиться, чтобы он стал
таким легким? Я заметил, что он изменил форму3 и стал,
наподобие каравая хлеба, уже не таким круглым, как в те
времена, когда я изучал космографию перед тем, как
пуститься в дальнее плаванье с аргонавтами. Но все-таки
я не пойму, с чего бы ему весить меньше прежнего.
Атлант. С чего я сам не знаю. А вот в том, какой он
легкий, ты хоть сейчас можешь удостовериться, если
минутку подержишь его на ладони и попробуешь на вес.
Геркулес. Клянусь Геркулесом, ни за что бы не
поверил, если бы сам не попробовал! А это еще что за
новости? Вот открытие! В прошлый раз, как я тащил его на
себе, он у меня на спине бился, будто сердце у животного,
и еще как-то непрерывно гудел, точно осиное гнездо.
А сейчас он если и бьется, то не иначе как часовой
механизм со сломанной пружиной, а что до гудения^ то я ни
звука не слышу.
Атлант. На этот счет тоже ничего тебе не скажу,
знаю только, что мир давным-давно перестал шевелиться
или шуметь так, чтоб было слышно. Я уж совсем было
заподозрил, что он умер, и ждал со дня на день, что он
тут у меня провоняет; я даже обдумывал, где бы мне его
похоронить и какую эпитафию написать. А потом я увц-
58
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
дел, что он не тлеет, и решил, что он из животного, каким
был раньше, превратился в растение, подобно Дафне и
еще многим другим; потому-то он больше не шевелится и
не дышит; я даже опасаюсь, как бы он не пустил корни
мне в плечи.
Геркулес. А мне больше сдается, что он спит, на
манер Эпименида4, который не просыпался полвека, или
Гермотима5, о котором рассказывают, будто у него душа
выходила из тела, как только он захочет, и оставалась
снаружи по многу лет, разгуливая из страны в страну, а
потом возвращалась, пока друзья, желая положить конец
этой песенке, не сожгли тела; и вот дух, воротившись,
чтобы в него войти, нашел дом разрушенным, так что ему,
если бы захотелось иметь крышу над головой, пришлось
бы найти другой дом внаем или отправиться на заезжий
двор. Но нельзя же, чтобы мир так и спал вечно, а то как
бы кто из друзей и благодетелей, подумавши, что он умер,
не сжег его! Давай-ка попробуем как-нибудь его
разбудить.
Атлант. Ладно, да только как?
Геркулес. А я ему дам хорошую затрещину вот этой
дубинкой. Впрочем, нет, боюсь, как бы мне его совсем не
расплющить в лепешку; или вдруг его кора — ведь
недаром он сделался так легок! — окажется такой тонкой, что
он от удара разобьется, как яйцо. И еще я не уверен, что
люди, которые в мое время бились врукопашную со
львами, а теперь воюют разве что с блохами, не упадут от
толчка все разом в обморок. Лучше всего будет, если я
отложу мою дубинку, а ты — свой балахон, и мы
поиграем этим шариком в мяч. Жаль только, я не принес
перчаток6 или ракеток, которыми мы с Меркурием играем в
доме Зевеса или на огороде. Ладно, обойдемся и руками!
Атлант. Ну что ж! Только как бы твоему отцу, ежели
он увидит наши игры, не пришла охота поиграть с нами
третьим и своим огненным мячиком низвергнуть нас
неведомо куда, как Фаэтона в По7.
Геркулес. Так бы и случилось, будь я, как Фаэтон,
сыном какого-то там поэта 8, а не его собственным; и еще
не будь я таков, что мне хватит духу, подобно тому как
поэты звуками лиры заселяли города, опустошить землю
и небо стуком моей дубинки. А его мячик я так пну ногой,
что он у меня подскочит отсюда до самых эмпиреев,
рассыпаясь на лету. Да не бойся, ведь даже если бы мне
59
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
пришла блажь сдернуть с неба пять-шесть звезд, чтобы
поиграть в камешки, или бросить в цель комету, раскрутив
ее, как пращу, или метнуть само солнце вместо диска,
отец сделает вид, будто ничего не заметил. "К тому же игру
мы затеваем с самыми лучшими намереньями, чтобы
помочь миру, — не то что Фаэтон, который только хотел
показать свою ловкость Орам9, когда поднимался в
колесницу, а они держали под уздцы упряжку, и прослыть
умелым кучером у Андромеды, Каллисто 10 и прочих звездных
красавиц, которым, есть слух, он на ходу бросал букетики
лучей и скатанные из света шарики11, и вообще он хотел
покрасоваться и показать себя небесным богам, которые в
тот день все вышли на прогулку, потому что был праздник.
Одним словом, пусть тебя не беспокоит гнев моего отца,
потому что в случае чего я обязуюсь возместить тебе
убытки. Не мешкай же, снимай свой халат и подавай мне мяч.
Атлант. Волей или неволей, а придется делать по-
твоему; ты парень дюжий и вооружен, а я безоружен и
дряхл. Но гляди, чтобы он у тебя не упал, а то как бы на
нем не вскочили новые шишки или не появились
где-нибудь вмятины, или как бы он опять не дал трещину, как
тогда, когда от Италии откололась Сицилия, а от
Испании — Африка12, или вдруг от него отлетит осколок —
провинция там либо целое царство — и начнется из-за него
война.
Геркулес. За меня не беспокойся.
Атлант. Вот тебе мяч! Гляди, как он спотыкается —
это оттого, что форма у него испортилась.
Геркулес. Ну-ка, подавай сильнее, а то твои мячи
не долетают.
Атлант. Тут не в ударе дело, просто дует ветерок с
востока и сносит мяч, потому что он слишком легок.
Геркулес. Ну, это его старый грех — гоняться за
ветром.
Атлант. По правде говоря, неплохо бы нам его
надуть, а то он отскакивает от руки ничуть не лучше, чем
какая-нибудь дыня.
Геркулес. А вот это уже новый порок: прежде-то
этот шарик прыгал и скакал, как козочка.
Атлант. Беги скорей туда! Беги, говорю! Ой, гляди,
падает, клянусь богом, падает! Будь проклят тот час, когда
ты сюда пришел.
Геркулес. Да ты послал его так криво и низко, что
60
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
я никак не мог подоспеть, — хоть бы даже сломал себе
шею. Ох, бедняжка, как ты себя чувствуешь? Тебе нигде
не больно? Не слыхать, чтобы хоть кто-то дышал, и не
видно, чтобы кто-нибудь пошевелился. Сдается, все спят,
как раньше.
Атлант. Оставь уж его, ради всех русл Стикса13, и
дай мне взгромоздить его снова на плечи, а ты
отправляйся немедля на небо, чтобы оправдать меня перед Зеве-
сом — ведь неприятность-то вышла из-за тебя.
Геркулес. Ладно, так и сделаю. Вот уже много веков
в отцовском доме живет некий стихотворец по имени
Гораций, его приняли к нам на должность придворного поэта
по ходатайству Августа 14, обожествленного Зевесом с тем
расчетом, что это будет способствовать могуществу
римлян. Этот поэт все время распевает какие-то свои песенки,
и в одной, между прочим, говорится 15, что человек
справедливый не шевельнется, даже если мир упадет. Можно
подумать, что теперь все люди стали справедливы: ведь
мир упал, а никто не пошевельнулся.
Атлант. А кто сомневается в людской
справедливости? Но нечего тебе стоять, время тратить, беги скорей и
обели меня перед твоим отцом, а то я с минуты на минуту
жду, что молния превратит меня из Атланта в Этну16.
РАЗГОВОР МОДЫ
И СМЕРТИ
Мода. Госпожа Смерть, а госпожа Смерть!
Смерть. Подожди немного, я еще приду к тебе в свой
час, и без твоего зова.
Мода. Госпожа Смерть!
Смерть. Убирайся к чертям! Я приду, когда тебе не
захочется.
Мода. Можно подумать, будто я не бессмертна!
Смерть. Бессмертна?
Уж больше тысячи минуло лет х,
с тех пор как кончились времена бессмертных.
61
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДЙ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Мода. А вы, сударыня, тоже не обходитесь без
Петрарки, точно итальянский лирик в пятнадцатом или
девятнадцатом веке.
Смерть. Мне стихи Петрарки по душе оттого, что в
них я нахожу свой триумф2, и оттого, что в них почти
повсюду говорится обо мне. Ну да ладно, поди-ка ты прочь
от меня.
Мода. Эй, ради твоей любви ко всем семи смертным
грехам, остановись и погляди на меня.
Смерть. Гляжу.
Мода. Разве ты меня не узнаешь?
Смерть. Надо бы тебе знать, что я слаба зрением, а
очками пользоваться не могу, потому что подходящих для
меня даже англичане не делают, а если бы и сделали, мне
их не на что было бы водрузить.
Мода. Я Мода, твоя сестра.
Смерть.' Моя сестра?
Мода. Конечно! Разве ты не помнишь, что мы обе
рождены Бренностью?
Смерть. Как я могу помнить, если у Памяти нет
врага злее меня?
Мода. Но я-то хорошо об этом помню, и еще я знаю,
что у нас одна цель: переделать и изменить все, чтобы не
было ничего постоянного в этом дольнем мире; только ты
идешь к этому своим путем, а я своим.
Смерть. В том случае, если ты беседуешь не со
своими собственными мыслями и не с кем-нибудь у себя в
глотке, говори громче и старайся отчеканивать каждое
слово.- А ты цедишь сквозь зубы, и голосок у тебя тонкий,
как паутинка,— этак я тебя раньше чем завтра не услышу,
потому что слух у меня, да будет тебе известно, не лучше
зрения3.
Мода. Хоть это и не по правилам хорошего тона и
хотя во Франции вообще не принято говорить затем, чтоб
тебя слушали, но уж ладно, коль скоро мы сестры и можем
обойтись между собой без лишних церемоний, скажу, как
ты хочешь. Я говорю, что у нас одна природа и один
обычай — непрестанно обновлять мир, но ты с самого начала
занялась людьми и кровью, а я по большей части
довольствуюсь бородами, волосами, нарядами, мебелью,
дворцами и прочими подобными вещами. Правда, и я никогда не
упускала и не упускаю случая сыграть шутку не хуже
твоих: например, я дырявлю когда уши, а когда и губы и
62
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
ноздри, и терзаю их, вдевая в дыры безделушки, или
заставляю людей жечь собственную плоть, запечатлевая в
ней для красоты следы раскаленных клейм; либо
принуждаю их уродовать головку младенца 4 повязками и другими
ухищрениями, введя в обычай, чтобы люди по всей стране
имели головы одинаковой формы, как я сделала в
Америке и в Азии; или же велю им увечить себя узкими
башмаками5, стеснять себе дыхание корсетом, стянутым так,
что у них глаза на лоб лезут; и еще многое другое в том
же роде. Одним словом, я вынуждаю или убеждаю всех
людей благородного звания ежедневно терпеть тысячи
трудов и тягот, а иногда и болей и мук, а кое-кого и
умереть со славой, и все во имя любви ко мне. Не говорю уже
о головных болях, о простудах, о воспалениях всякого
рода, о лихорадках ежедневных, трехдневных и
четырехдневных, которые люди зарабатывают себе, соглашаясь из
послушания моей воле дрожать от холода или задыхаться
от жары, защищать себе спину шерстяной тканью, а грудь
легким полотном, короче, делать все по-моему, даже себе
во вред.
Смерть. Коли так, я тебе верю, что ты моя сестра,—-
если хочешь, я без всякой выписки из церковной книги
так же твердо в этом уверена, как в том, что все умрут.
Но знаешь, я прямо в обморок падаю, когда так долго
стою на месте. Однако, если тебе придет охота побежать
рядом со мной, смотри не лопни, потому что мчусь я
изрядно. На бегу ты мне сможешь сказать, чего тебе
надобно. А нет, так я обещаю, ради нашего родства, отказать
тебе по смерти все мои пожитки — и счастливо оставаться.
Мода. Если бы нам пришлось состязаться в беге ради
награды, я не знаю, кто победил бы: ты бежишь, я несусь
галопом. И если ты, долго стоя на месте, падаешь в
обморок, то я от этого просто таю как свечка. Так что бежим
дальше, а на бегу, как ты говорила, обсудим наши дела.
Смерть. Бежим, в добрый час. Так вот, если и ты
вышла из лона моей матери, то следовало бы тебе хоть
как-то помочь мне в моих трудах.
Мода. Но я ведь и прежде это делала, причем
больше, чем ты думаешь. Во-первых, я, хоть и отменяю и
переворачиваю непрестанно все обычаи, никогда не допускала,
чтобы люди вдруг перестали умирать, и потому обычай
этот, ты сама видишь, повсеместно пребывает неизменным
ОТ начала веков и доныне.
§3
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Смерть. Велико ли диво не делать того, что не в тво- J
их силах. i
Мода. Как не в моих силах? Вот ты и показала, что!
не знаешь, каково могущество моды. А
Смерть. Ладно, об этом мы успеем побеседовать, ]
когда появится обычай не умирать. А покуда я бы хотела, |
чтобы ты, как положено доброй сестрице, помогала мне 1
добиваться обратного легче и быстрее, чем до сих пор. ]
Мода. Я уже рассказала об иных из моих дел, кото- |
рые и тебе приносят прибыль. Но это пустяки в сравнении ]
с тем, что я хочу тебе сказать. Понемногу, а в последнее :
время особенно, я в угоду тебе заставила всех забросить ~
и забыть труды и упражнения, способствующие телесному .
здоровью, а на их место ввела и возвысила во всеобщем ;
мнении бесчисленное множество других, тысячами
способов разрушающих тело и укорачивающих жизнь. Помимо
этого я ввела в мире такие порядки и такие нравы, что
жизнь и тела и души скорее можно назвать мертвой, чем
живой; поэтому про нынешний век можно воистину
сказать, что это век смерти. И если в старину у тебя не было
других земельных угодий, кроме ям и пещер, где ты сеяла
в темноте кости и прах, — а посев этот не дает плодов, —
то теперь у тебя есть владенья на солнце; и люди, которые
ходят и бродят вокруг на двух ногах, предоставлены,
можно сказать, твоему благому усмотрению, хотя бы ты и не
скосила их, едва они родились. Более того, везде, где
прежде тебя ненавидели и поносили, нынче моими трудами
все дошло до такого предела, что всякий, в ком есть
разум, восхваляет тебя и прославляет, предпочитая жизни,
и так ты ему мила, что он все время тебя призывает и
обращает к тебе взоры как к величайшей своей надежде.
И наконец, еще вот что: я видела многих, кто похвалялся,
что желает стать бессмертным и умрет не весь6, ибо
большая его часть не попадет к тебе в руки; я, конечно, знала,
что все это пустая болтовня и если иногда он сам или кто
другой оставался в памяти людей, то жил он, так сказать,
в шутку и наслаждался своей славой не больше, чем
страдал от могильной сырости; но все же, понимая, что эта
история с бессмертием тебе неприятна, потому что Тиз-за
нее, кажется, страдает твоя честь и репутация, я отменила
обычай стремиться к бессмертию или награждать им, если
кто его заслужил. Так что теперь когда кто-нибудь
умирает, то уж от него? будь уверена, не останется ни единой
64
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
живой частицы, и он непременно отправится под землю
иось целиком, как рыбешка, которую заглатывают сразу,
с головой и костями. Вот какие услуги, немалые и в
немалом числе, оказала я тебе до нынешнего дня ради моей
любви и в желании возвысить тебя на земле, что мне и
удалось. Ради этой цели я готова каждый день делать
столько же и еще больше, и с таким намереньем я
отправилась тебя разыскивать. Мне кажется, что отныне и
впредь мы не будем друг с другом разлучаться, потому
что, будучи всегда вместе, мы сможем советоваться по
каждому случаю и не только выбрать наилучший план, но
и лучше его осуществить.
Смерть. Твоя правда. Я согласна, так мы и сделаем.
НАГРАДЫ,
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ АКАДЕМИЕЙ СИЛЛОГРАФОВ
Академия силлографов *, в соответствии с основами
своего устава непрестанно ревнуя о том, чтобы каждым
усилием своим способствовать общественной пользе, и
полагая, что более всего отвечают этому намеренью старанья
споспешествовать движению и содействовать
устремлениям
Тех лет счастливых, в кои мы живем 2,
как говорит прославленный стихотворец, взяла на себя
труд тщательно изучить свойства и характер нашего
времени и по долгом и зрелом размышлении решила, что
можно назвать его веком машин, и не только потому, что
люди сегодня действуют и живут более механически,
нежели во все прежние времена, но и приняв во внимание
великое множество машин, недавно изобретенных и
приспособленных, а также ежедневно изобретаемых и
приспосабливаемых для многих и разных нужд, почему
отныне и возможно говорить, что не люди, а машины
занимаются всеми делами человеческими и потребными
для жизни работами. Каковому обстоятельству названная
Академия весьма радуется не столько по причине многих
удобств, проистекающих отсюда, сколько в силу двух
3 Этика и эстетика 55
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
соображений, которые она почитает важнейшими, хотя и
не снискавшими еще общего внимания. Во-первых,
Академия уверена, что по истечении недолгого времени в круг
обязанностей, выполняемых машинами, войдут не только
дела материальные, но и духовные; по этой причине,
подобно тому как мы с помощью машин освободились и
защитили себя от вреда, наносимого молнией и градом или
иными подобными бедствиями и ужасами, так постепенно
имеют быть изобретенными по примеру существующих
некие завистеотводы (да простят нам новизну слов), некие
клеветоотводы, кознеотводы и противоковы либо некие
нити спасения или другие устройства, которые избавят
мир от себялюбия, от засилья посредственности, от
преуспеяния безрассудных, бесчестных и подлых, от всеобщего
пренебрежения и нужды, в которых живут разумные,
честные и благородные, и от прочих бедствий, отвратить
которые в последние несколько столетий оказалось менее
возможным, нежели отвратить молнию и град. Второе же,
и главное, соображение состоит в том, что коль скоро
большая часть философов отчаялась в возможности
излечить пороки рода человеческого, которые, как полагают,
числом и силой превосходят добродетели, и коль скоро
признано бесспорным, что легче наново его перечеканить
или чем-либо заменить, чем исправить, то Академия силло-
графов считает наиболее уместным, чтобы люди, насколько
возможно, устранились от всех потребных для жизни
занятий и постепенно уступили место, каковое на смену им
займут машины. И порешив всеми силами способствовать
скорейшему установлению этого нового порядка вещей,
Академия предлагает ныне три награды тем, кто
изобретет три нижеописанные машины.
Назначение первой — заменить собою друга и
выполнять все его обязанности, но при этом не ругать и не
вышучивать друга за глаза3, не оставлять друга без защиты,
услышав, как его бранят или осмеивают, не ценить
репутации колкого остроумца выше дружбы и не смешить
людей за счет оной, не разбалтывать с любою целью, а
паче ради того, чтобы иметь о чем поговорить и чем
покрасоваться, доверенных другом секретов, не использовать его
расположение и откровенность, чтобы легче обмануть его
и взять над ним верх, не завидовать его преимуществам,
заботиться о его достоянии, стараясь, чтобы он не терпел
убытков, или возмещая их, и не только на словах быть
6§
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
готовым откликнуться на его просьбу и помочь ему в
нужде. Что до остального, к чему следует стремиться при
построении этого автомата, — смотри в трактатах Цицеро-
па и маркизы де Ламбер о дружбе4. Академия считает,
что изобретение устроенной таким образом машины
следует признать не только возможным, но и не чересчур
трудным, если вспомнить, что помимо автоматов Реджо-
монтано5, Вокансона6 и других, а также лондонского
автомата, который рисовал портреты и фигуры и писал
под чью угодно диктовку, мы видели несколько машин,
самостоятельно игравших в шахматы. Теперь, по мнению
многих мудрецов, человеческая жизнь есть игра, а по
утверждению некоторых из них, она легковеснее игры, ибо
среди всех прочих форма шахматной игры больше
отвечает разуму, а все случаи в ней более упорядочены, чем в
жизни. Кроме того, если жизнь, по словам Пиндара7, столь
же бесплотна, как сон или тень, то вполне способен к ней
и неусыпно трудящийся автомат. Что же до преданий, то
не может быть подвергнута сомнению молва о' людях,
якобы способных вкладывать жизнь в созданные ими
машины, как это известно из многих примеров, в частности
из того, что мы читаем о статуе Мемнона, о построенной
Альбертом Великим8 голове, столь словоохотливой, что
святой Фома Аквинский возненавидел ее за это и
разрушил. И если неверский попугай9, хоть и был всего только
животным, умел отвечать и говорить кстати, то с больйим
основанием можно верить, что то же самое в состоянии
будет делать машина, изобретенная разумом человека и
построенная его руками; притом она не должна быть столь
болтлива, как попугай из Невера и подобные ему
пернатые, которых целый день и видно и слышно, или как
голова, сделанная Альбертом Великим, ибо машине не
подобает докучать другу, тревожить его и не давать ему
покоя. Изобретатель этой машины получит в награду
золотую медаль весом в четыреста цехинов, на одной ее
стороне изображены будут Пилад и Орест 10, на другой
отчеканено имя награжденного и надпись: «Тому, кто первым
подтвердил древние басни».
Что до второй машины, то это должен быть
искусственный человек, движимый паром и предназначенный для
совершения доблестных и благородных поступков.
Академия полагает, что пар, за отсутствием иных средств к
этому, окажется полезен для подогревания пыла самодвижу-.
3*
67
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА ^
Д'1-' ' ' ' ' ' "I.
щейся машины и направления ее на путь доблести и
славы. О великих делах, которые должна предпринять
названная машина, смотри в поэмах и романах, которыми и
следует руководствоваться в отношении свойств и
действий, требуемых от автомата. Наградой будет золотая
медаль в четыреста пятьдесят цехинов весом, на лицевой
ее стороне будет выбито символическое изображение
золотого века, а на оборотной — имя изобретателя машины и
надпись, почерпнутая из Четвертой эклоги Вергилия:
Quod ferrea primum
Desinet ас tolo surget gens aurea mundo **
Третья машина должна быть устроена так, чтобы
выполнять обязанности женщины, во всем подобной той,
какую вообразили отчасти граф Бальдассар Кастильоие и,
описавший ее идею в книге «Придворный», отчасти другие,
рассуждавшие о том же в различных трудах, которые
легко будет разыскать и с которыми следует непрестанно
сверяться, как равно и с трактатом графа. Изобретение
и этой машины не должно казаться невозможным в наш
век, если мы вспомним о Пигмалионе 12, еще в древнейшие
времена, чуждые наук, сумевшем собственноручно
изготовить себе супругу, про которую идет молва," что она была
лучшей из женщин, когда-либо существовавших вплоть до
наших дней. Творцу этой машины предназначена золотая
медаль в пятьсот цехинов весом, на одной стороне которой
будет изображен аравийский феникс Метастазио 13 на
дереве одной из тех пород, что растут в Европе^ а на другой
написано будет имя награжденного и слова:
«Изобретателю верных жен и супружеского счастья».
Академия постановляет: все расходы на перечисленные
награды покрыть за счет того, что было найдено в мошне
Диогена, бывшего секретаря названной Академии, а также
употребить на них одного из трех Золотых ослов н,
принадлежавших трем членам Академии силлографов, а
именно Апулею, Фиренцуоле и Макиавелли; каковые
ценности перешли к силлографам по завещаниям
вышепоименованных членов, как мы о том читаем в истории-
Академии.
* Когда железное сгинет
И золотое по всей земле поколенье восстанет (латин ,
68
РАЗГОВОР СИЛЬФА
И ГНОМА
Сильф. Ба, да это ты, сын Сабазия! 1 Куда путь
держишь?
Гном. Отец послал меня разведать, что там затевают
уги чертовы мошенники люди; он сам на этот счет в
большом сомнении, потому что они уже давненько нам не
докучают и-во всем отцовском царстве ни одного человека не
видно. Он подозревает, что ему готовят большую пакость,
если только не вошла снова в обычай купля-продажа в
обмен на скот, а не на золото и серебро, или если
просвещенные народы не довольствуются теперь бумажками
вместо звонкой монеты, как это бывало не раз, или
стеклянными бусами, как дикари, и если не введены опять законы
Ликурга2, что кажется ему самым невероятным.
Сильф.
Вы их напрасно ждете: все погибли,—
как сказано в финале одной трагедии3, где помирали один
за другим все действующие лица.
Гном. Ты что хочешь сказать?
Сильф. Хочу сказать, что люди все вымерли и сама
порода их погибла.
Гном. Но о таком событии должны были сообщить
в газетах. А покуда не видно было, чтобы они об этом
судили да рядили.
Сильф. Дурачок, неужели ты не понимаешь, что
после того, как люди умерли, газет больше не печатают?
Гном. И то правда. А как же мы теперь узнаем, что
нового в мире?
Сильф. Что нового может быть нынче? Что солнце
взошло или село, что погода теплая или холодная, что там
пли тут прошел дождь, или снег, или подул ветер? Ведь
когда не стало людей, Фортуна сорвала с глаз повязку,
надела на нос очки, повесила колесо на крюк, уселась
сложа руки и глядит на все, что творится в мире, ни во
что не вмешиваясь. Теперь не найти держав и царств,
которые раздуваются, а потом лопаются как пузыри, — все
они исчезли, не воюют друг с другом, и год похож на год,
как две капли воды.
69
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Гном. Теперь нельзя даже будет узнать, какой нынче
месяц и какое число, потому что и календарей больше не
станут печатать. о з
Сильф. Беда ли, если мы не будем знать, какой)
месяц,— ведь месяц на небе от этого не собьется с пути. I
Гном. И дни недели никак не будут называться.
Сильф. Как, неужели ты боишься, что день не
наступит, если ты не назовешь его по имени? Или, по-твоему, -
можно, когда они миновали, окликнуть их и воротить?
Гном. И потеряется счет годов.
Сильф. Ну что ж, будем выдавать себя за молодых,
даже когда срок пройдет. К тому же если мы не будем
исчислять, сколько лет жизни у нас позади, то меньше нам
будет мучений, а когда совсем состаримся, — не будем
ждать смерти со дня на день.
Гном. Но как эти козявки сумели сжить свой род со
свету?
Сильф. Частью — воюя друг с другом, частью —
плавая в море, частью — друг друга поедая; многие наложили
на себя руки, многие сгнили от праздности, иные сломали
себе голову над книгами, иные погибли от разгула и
тысячи разных бесчинств; словом, они испробовали все пути,
чтобы пойти против собственной природы и попасть в беду.
Гном. Нет, я никак не могу взять в толк твои слова;
как это вдруг живые существа одной породы погибли все
до единого?
Сильф. Уж тебе-то, знатоку геологии, следовало бы
помнить, что это не первый случай, что в древние времена
встречалось много разновидностей животных, от которых
теперь встретишь разве что окаменевшие скелеты. А эти
бедные твари наверняка не знали всех тех ухищрений,
которыми, как я тебе говорил, люди истребили самих себя.
Гном/ Пусть будет по-твоему. Но вот любо-дорого
было бы, если б двое или трое из этого сброда воскресли!
Хотел бы я знать, что они подумали бы, увидав, что и
после исчезновения рода человеческого все продолжается
и идет по-прежнему, хоть они и были уверены, что весь
мир создан и существует только ради них.
Сильф. И не хотели понять, что он создан и
существует ради сильфов.
Гном. Ну, если ты не шутишь, ты и вправду
легкомыслен, как сильф.
Сильф. Почему? Я ведь говорю не шутя.
70
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
Гном. Поди ты, забавник! Кому же не известно, что
мир создан ради гномов?
Сильф. Ради гномов, что всегда живут под землей?
Право, ничего занятнее не слыхивал! А для чего гномам
солнце, луна, море, воздух, поля?
Гном. Для чего сильфам золотые и серебряные жилы
II все тело земли, кроме ее кожи?
Сильф. Ну ладно, как бы там ни было, оставим этот
спор. Я, например, уверен, что даже ящерки и мошки
думают, будто мир создан на потребу именно их породе. Но
пусть каждый остается при своем мнении, все равно никто
у нас его из головы не выбьет. Скажу о себе: я был бы в
отчаянье, не родись я сильфом,— вот и все.
Гном. И я тоже, не родись я гномом. Но хотел бы я
;шать, что люди сказали бы теперь о своей
самонадеянности, с какой они то с одним, то с другим проделывали и
то и се, и среди прочего зарывались на тысячу локтей под
лшлю и силой похищали наше добро, утверждая, что оно
принадлежит роду человеческому и что природа спрятала
его от людей и погребла под землей шутки ради, желая
испытать их и посмотреть, найдут ли они спрятанное и
сумеют ли извлечь наружу.
Сильф. Что же тут удивительного? Они не просто
были убеждены, что все на свете не имеет иного
назначения, как только служить им, — они даже считали, будто по
сравнению с родом человеческим все остальное пустяки.
Потому свои собственные перипетии они называли
мировыми переворотами, а истории своих племен — мировой
историей. Между тем, наверно, можно насчитать, даже не
выходя за пределы земли, столько же видов — даже не
скажу живых тварей, но одних только животных, —
сколько было людей, и все эти животные, созданные им на
потребу, ни разу и не заметили, что мир перевернулся.
Гном. Что же, комары и блохи тоже были созданы
людям на благо?
Сильф. Конечно, — чтобы люди могли упражняться в
терпении, по их собственным словам.
Гно,м. Вот уж воистину, если бы не блохи, у них не
было бы случая упражнять свое терпение!
Сильф. Но ведь и свиньи, согласно Хрисиппу4, были
только кусками мяса, заготовленными природой для
людских кухонь и кладовых, а чтобы они не протухли, в них
вместо соля быда заложена живая душа,
71
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Гном. А я думаю, наоборот: если бы у этого Хрисиппа1]
в голове было хоть немного соли, а не только душа, он!
бы не придумывал таких несообразностей.
Сильф. Или вот тебе еще одна несообразность, не^
менее забавная. Весьма многие виды животных так ни-,
когда и не были ни замечены, ни узнаны людьми — своими:
хозяевами, потому ли, что жили в местах, куда не ступала'
людская нога, потому ли, что люди никоим образом не
могли их обнаружить из-за их малых, размеров. А
множество других видов были замечены ими только в самое
последнее время. То же самое можно сказать и о
растительных и о многих других родах. Равным образом с по-,
мощью своих подзорных труб люди открывали то звезду,
то планету и, хотя до этого они тысячи и тысячи лет даже
не подозревали, что эти светила существуют, сразу же
записывали их в реестры своего имущества; они
воображали, будто звезды и планеты — это, так сказать, огарки,
выставленные там, наверху, затем, чтобы освещать дорогу
их милостям, когда у них бывало много дел по ночам.
Гном. А летом, увидев падающие огоньки, что
ночами летят по небу, они, верно, говорили: это какой-нибудь
дух, прислуживая людям, снимает со звезд нагар.
Сильф. Теперь, когда они исчезли, земля даже не*
почувствовала, что на ней чего-то не хватает, и реки не
устали струиться, и не видно, чтобы море высыхало, хотя
ему нет больше нужды служить мореплаванию и торговле.
Гном. И звезды и планеты не перестали восходить и
заходить и не облеклись в траур.
Сильф. И лик солнца не окрасился алым, как это с
ним было, по словам Вергилия5, по случаю смерти
Цезаря— хотя, по моему разумению, солнце было огорчено
этой смертью не больше, чем огорчена была статуя
Помпея 6.
. РАЗГОВОР МАЛАМБРУНО
И ФАРФАРЕЛЛО
Маламбруно. Эй, духи бездны, Фарфарелло, Чири-
атто, Баконеро, Астарот, Аликин и как вас там еще зовут!
Заклинаю вас именем Вельзевула, приказываю вам
72
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
м.'шстью моего искусства, которое может сорвать луну с
ni'Oa и пригвоздить к его своду солнце, — пусть один из
иле явится, получив от вашего князя свободные
полномочии и право использовать все силы ада у меня на службе.
Фарфарелло. Вот я.
Кто ты?
Я Фарфарелло. Распоряжайся мною.
Ты принес письменные полномочия от
Маламбруно
Фарфарелло.
Маламбруно.
Вельзевула?
Фарфарелло.
делать все, на что
Гюльше того, на что
имеете взятые.
Маламбруно.
одно мое желание.
Фарфарел лчо.
знатнее Атридов? 1
Маламбруно.
Фарфарелло.
Да, вот они. У тебя на службе я могу
способен был бы сам царь, а значит,
способны были бы все прочие твари,
Очень хорошо. Ты должен исполнить
Будет сделано. Чего ты хочешь? Стать
Нет.
чем
Хочешь иметь больше богатств,
найдут в городе Маноа2, когда он будет открыт?
Маламбруно. Нет.
Фарфарелло. Хочешь державу больше той, что
однажды ночью, как рассказывают, приснилась Карлу
Пятому?
Маламбруно. Нет.
Фарфарелло. Доставить тебе женщину
неприступнее Пенелопы, чтобы она угождала твоим желаниям?
Маламбруно. Нет. По-твоему, для этого нам
надобен дьявол?
Фарфарелло.
и почести и удачу?
Маламбруно.
чтоб их не иметь.
Фарфарелло.
конце концов?
Маламбруно.
мгновение.
Фарфарелло.
Маламбруно.
Фарфарелло.
могу.
Маламбруно.
Хочешь, оставаясь мошенником, иметь
Дьявол, скорее, понадобился бы мне,
Так что же ты мне приказываешь, в
Сделай меня счастливым на одно
Не могу.
Как не можешь?
Клянусь тебе своею совестью, что не
Совестью порядочного беса!
73
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Фарфарелло. Конечно. Знай, что бывают
порядочные дьяволы, как и порядочные люди.
Маламбруно. А ты знай, что я тебя подвешу за
хвост к одной из этих балок, если ты сейчас же не
перестанешь прекословить и не послушаешься меня!
Фарфарелло. Хоть убей меня, — не могу исполнить
твою просьбу.
Маламбруно. Тогда проваливай ко все чертям,
пусть явится сам Вельзевул.
Фарфарелло. И сам Вельзевул, приди он хоть со
всей Джудеккой и Злыми Щелями3 в придачу, не больше
меня сможет сделать счастливым тебя или любого другого
из твоей породы.
Маламбруно. Ни на мгновенье?
Фарфарелло. Так же невозможно сделать это на
мгновение, или на полмгновения, или на тысячную долю
мгновения, как на всю жизнь.
Маламбруно. Но если ты ни за что не можешь
сделать меня счастливее, не хватит ли у тебя сил хотя бы
сделать так, чтобы я не был несчастен?
Фарфарелло. Если ты можешь не любить себя
превыше всех.
Маламбруно. Ну, для этого надо сперва умереть!
Фарфарелло. При жизни это не под силу ни одному
живому существу, потому что сама ваша природа может
стерпеть что угодно, только не это.
Маламбруно. Так оно и есть.
Фарфарелло. Значит, если ты непременно любишь
себя самой сильной любовью, на какую способен, то
непременно желаешь себе самого большого счастья, какогс
только можешь пожелать; это твое желание никогда не
может быть удовлетворено, до того оно сильное. Выходит
ты всегда, будешь несчастен и никаким способом не
избавишься от несчастья.
Маламбруно. Даже тогда, когда я буду чем-нибудь
наслаждаться! Потому что никакое наслаждение не
сделает меня ни счастливым, ни довольным.
Фарфарелло. Да, никакое.
Маламбруно. И не будет подлинного наслаждения
потому что ни одно из них не равно той врожденной
жажде счастья, которая неизменно живет у меня в душе: Даже
в то время, пока длится наслаждение, я не перестану бытг
несчастным.
74
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
Фарфарелло. Не перестанешь, потому что и людей
и других живущих отсутствие счастья, хотя бы в это время
иы не терпели ни страданий, ни бедствий и даже получали
то, что называется у вас удовольствием, делает попросту
несчастными.
Маламбруно. Так что от рождения вплоть до
смерти мы не перестаем чувствовать себя несчастными даже
на самый краткий миг.
Фарфарелло. Нет, перестаете, — всякий раз, когда
спите без снов, или падаете в обморок, или по иной
причине лишаетесь чувств.
Маламбруно. Но не тогда, когда чувствуем, что
живем.
Фарфарелло. Не тогда.
Маламбруно. Так выходит, что, в сущности говоря,
лучше не жить, чем жить.
Фарфарелло. Да, если лучше не быть несчастным,
чем быть.
Маламбруно. Так что же?
Фарфарелло. Так что если тебе угодно вручить мне
твою душу до срока, я готов унести ее.
РАЗГОВОР ПРИРОДЫ
И ДУШИ
Природа. Ступай, возлюбленная моя дочь! Ведь ею
будешь ты слыть и называться долгие века. Живи и будь
великой и несчастной К
Душа. Но в чем я провинилась, еще не начав жить?
За что ты приговорила меня к такой каре?
Природа. Какой каре, дочь моя?
Душа. Разве ты сама не предначертала мне быть
несчастной?
Природа. Я хочу, чтобы ты была великой, а одно без
другого невозможно. И кроме того, ты предназначена
животворить тело человека, а люди все неизбежно
рождаются и живут несчастными.
Душа. Но ведь справедливее было бы тебе
позаботиться о том, чтобы они, напротив того, неизбежно стано-
75
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
вились счастливыми, а если это не в твоих силах, то и не
производить их на свет.
Природа. Ни то, ни другое не в моей власти, ибо
сама я должна повиноваться року, а он распорядился
иначе, какова бы ни была причина этому, непостижимая
ни для тебя, ни для меня. И никакая сила, ни моя и
ничья, не может избавить тебя, сотворенную так, чтобы
через тебя обрело свой образ человеческое существо, от
несчастной участи, общей всем людям. Но и кроме нее
тебя ожидает твоя собственная участь, намного более
тяжкая и сужденная тебе ради того превосходства,
которым я тебя наделила.
Душа. Я ничего еще не успела узнать, ибо только
сей миг начала жить, и, верно, по этой причине я не
понимаю тебя. Скажи мне, превосходство и особенно
несчастная участь — это по сущности своей одно и то же? А если
это вещи разные, не можешь ли ты отделить одно от
другого?
Природа. В душах людей, а в соответственной мере
и в душах всех видов животных эти вещи, можно сказать,
почти тождественны, ибо превосходство одной души над
прочими ведет к тому, что она живет более напряженной
жизнью и оттого сильнее чувствует, как несчастна ее доля,
а сильнее чувствовать свое несчастье — это и значит быть
несчастным. Подобным же образом более напряженная
жизнь души заключает в себе и сильнейшее самолюбие,
на что бы оно ни было направлено и под какой бы
личиной ни являлось, сильнейшее же самолюбие влечет и более
сильную жажду блаженства, а потому сильнее становятся
и муки неудовлетворенности, причиняемые его отсутствием.
Все это изначально и навеки заложено в самом порядке
сотворенного мира, и мне не дано изменить его. Кроме
того, острота твоего ума и живость воображения сделают
неподвластной тебе большую часть тебя самой. Дикие
животные легко используют ради тех целей, что они себе
ставят, все свой силы и возможности. Но люди лишь очень
редко делают все, что им под силу, ибо обыкновенно им
препятствуют в этом мысль и воображение, порождающие
тысячи сомнений при обдумывании и тысячи помех- при
исполнении. Кто меньше всех привык всё взвешивать, в
ком нет потребности размышлять наедине с собой, тот
особенно скор на решения и трудится с наибольшей
пользой. Но те, кто подобен тебе, непрестанно занятые собою
76
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
и как бы побеждаемые величием собственных
возможностей, а потому и не властные над собой, подвержены почти
все время нерешительности как в мыслях своих, так и в
делах, а она ведь из числа величайших мук, угнетающих
жизнь человеческую. Прибавь к этому, что благодаря
твоим превосходным задаткам ты легко и в короткий срок
обгонишь в знании важнейших предметов и в труднейших
науках почти всех из твоей породы, и в то же время тебе
покажется невозможным или весьма тягостным обучаться
множеству мелочей и применять их, как бы ни были они
необходимы в общении с другими людьми; между тем ты
увидишь, как ими наилучшим образом пользуются и без
труда постигают их тысячи людей, не только уступающие
тебе дарованием, но и заслуживающие всяческого
презрения. Эти трудности и беды вместе с бесчисленным
множеством других обступают великие души и завладевают ими.
Но зато их щедро вознаграждают слава, хвала и почести,
стяжаемые ими благодаря их величию, и неизгладимость
памяти, которую оставляют они по себе потомкам.
Душа. Но эти хвалы и почести, о которых ты
говоришь,— от кого я их получу: от небес, от тебя или еще
от кого?
Природа. От людей: только люди могут воздать их.
Душа. Вот видишь, а я думала, будто, не умея делать
самого, по твоим словам, необходимого для общения с
людьми и столь доступного даже самым обделенным
дарованиями, я останусь в пренебрежении и в безвестности и
эти самые люди не только не превознесут, но и будут
избегать меня, непригодную для их сообщества.
Природа. Мне не дано предвидеть будущее, а значит,
и предречь тебе с неопровержимостью, что сделают тебе
люди и что о тебе станут думать, покуда ты будешь на
земле. Правда, как я заключаю из прошлого моего опыта,
вероятнее, что они должны преследовать тебя завистью, а
это одно из тех обычных зол, с которыми сталкиваются
в жизни высокие души; или же тебя будут угнетать
презрением, не желая знать о тебе. Кроме этого, даже удача
и случай — и те бывают враждебны к таким, как ты. Но
сразу же после твоей смерти, как то было с человеком по
имени Камоэнс, или самое большее спустя несколько лет
после нее, как то было с другим, прозывавшимся Мильтон,
тебя прославят и превознесут до небес не скажу все, но уж
по крайней мере люди, наделенные здравым суждением.
77
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
И быть может, прах того, в ком ты найдешь обиталище,
будет покоиться в пышной гробнице, его внешние черты,
разными способами воспроизведенные, будут
распространяться среди людей, и обстоятельства его жизни будут
многими описаны, а другими прилежно заучиваемы, пока
наконец, весь просвещенный мир не будет полон его
именем. Но все это лишь в том случае, если злоба Фортуны
и сам преизбыток твоих дарований не будут непрестанно
препятствовать тебе должным образом показать всем
людям, чего ты стоишь; а в таких примерах поистине не было
недостатка, хотя знаем о них только я да рок.
Душа. О мать моя, пусть я лишена еще всех знаний,
но я чувствую, что сильнейшее, даже единственное
желание, которое ты в меня вложила, — это желание счастья.
Предположим, однако, что я даже способна испытывать
желанье славы, — все равно я могу стремиться к этому,
сама не знаю, благу или злу, лишь как к счастью или как
к орудию его приобретения. И вот, по твоим словам,
превосходные свойства, которыми ты меня наделила, могут
быть потребны или полезны для достижения славы, но
ведут они не к блаженству, а к вящим несчастьям.
Невероятно также, чтобы и к самой славе они привели меня
еще при жизни, а когда придет смерть, что пользы и что
радости будет мне от величайших благ в мире? Наконец,-
легко может случиться и так, как тьг говоришь: упрямая
слава, добываемая ценой стольких несчастий, не достанет-"
ся мне совсем — даже после моей смерти. Так что из твоих
собственных слов я заключаю, что ты не только не любишь
меня превыше всех, как утверждала вначале, но, скорее,
желаешь мне зла и ненавидишь меня больше, чем
возненавидят люди и Фортуна, когда я буду в мире, ибо ты не
поколебалась наградить меня столь пагубным даром, как
это превосходство, которое ты так мне выхваляешь. Ведь
оно и будет одним из главных препятствий, которые
помешают мне достигнуть единственной моей цели — счастья.
Природа. Дочь моя, все людские души обречены в
жертву несчастью, и моей вины в этом нет. Но среди
всеобщей бедственности человеческого состояния, среди
тщетности всех человеческих наслаждений и выгод лучшей
частью человечества слава сочтена наибольшим из благ,
отпущенных па долю смертным, и достойнейшей целью их
забот и деяний. Потому не из ненависти, но ради истинной
и особенно сильной любви, что я к тебе питаю, я рассу-
78
№АЁСТВЕННЫЁ очерки .
дила дать тебе в помощь для ее достижения все, что было
в моих силах.
Душа. Скажи мне, среди упомянутых тобою диких
животных нет ли случайно такого, чтобы оно было
наделено меньшей, нежели у человека, жизненной силой и
остротою чувств?
Природа. Начиная с тех, что еще сродни растениям,
все уступают в этом человеку, одни больше, другие
меньше. У человека запас жизненных сил и острота чувств
выше, чем у любого другого живого существа, потому что
он совершеннее всех живущих.
Душа. Так помести меня, если ты меня любишь, в
самое несовершенное из них, а если этого ты не можешь,
тогда сделай меня, лишив всех пагубных и возвышающих
даров, подобной самому глупому и безумному
человеческому духу, когда-либо тобою созданному.
Природа. Эту последнюю услугу я могу тебе оказать
и готова сделать это, коль скоро ты сама отказываешься
от бессмертья, для которого я тебя предназначала.
Душа. А взамен бессмертия я прошу тебя ускорить
мою смерть, насколько ты можешь.
Природа. Об этом я посовещаюсь с судьбой.
РАЗГОВОР ЗЕМЛИ
И ЛУНЫ
Земля. Луна, милая моя, я знаю, что ты можешь
разговаривать и отвечать, ведь ты — живое существо, судя
по тому, что я не раз слыхала от поэтов; да и все дети
у нас тут говорят, будто у тебя есть глаза, и нос, и рот,
как у них самих, и видели они это собственными глазами,
благо зрение в этом возрасте и впрямь должно быть
весьма острым. И тебе тоже наверняка известно, что и я —
живое существо, как ты, и в молодые годы даже
произвела на свет немало сыновей 1, так что ты не удивишься
моему разговору. Так вот, моя красавица, если я живу по
соседству с тобой уже столько столетий, что и сама им
счет потеряла, но до сего дня ни разу даже словом с тобой
не перемолвилась, то лишь потому, что была уж очень
79
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
занята своими делами и времени на болтовню у меня не
оставалось. Зато теперь дел у меня мало, да и те, что есть,
идут, можно сказать, своим ходом, а я не знаю, чем бы
мне заняться, и просто лопаюсь от скуки. Вот я и
порешила в будущем почаще с тобою беседовать и подумать о
твоих делах, если, конечно, тебе это не в тягость.
Луна. Об этом не тревожься. Быть бы мне уверенной,
что за весь век судьба не пошлет мне большей докуки,
чем твой разговор. Если тебе угодно со мною беседовать,—
беседуй на здоровье, а я, хоть и дружна с молчанием2,
как ты, верно, знаешь, все же охотно тебя выслушаю и
отвечу, чтобы тебя уважить.
Земля. Слышишь ты сладостный звук, производимый
движением небесных тел?
Луна. По правде говоря, я ничего не слышу.
Земля. И я ничего не слышу, кроме шума ветра,
который летает от моих полюсов к экватору и от экватора
к полюсам и, судя по всему, знать не знает про музыку.
Но Пифагор утверждал3, что небесные сферы издают
такой сладостный звук, что просто диво, и у тебя есть в этой
мелодии свой голос, ибо ты — восьмая струна вселенской
лиры; а я, дескать, оглушена своим собственным ззуком:
и поэтому его не слышу.
Луна. И я тоже, без сомнения, оглушена, потому что
ничего не слышу и даже понятия не имею о том, что я
струна.
Земля. Так поговорим о другом. Скажи-ка, вправду
ли ты населена, как утверждают под клятвой
бесчисленные мудрецы, и древние, и новые, от Орфея вплоть до
Делаланда4? Я же нипочем не могу заметить на тебе ни
единого жителя, сколько ни вытягиваю рога, которые у
людей именуются горными вершинами или пиками и
кончиками которых я, на манер улитки, все рассматриваю.
Но, правда, я 'слыхала, будто некий Давид Фабриций5,
который видел лучше Линкея6, заметил однажды
несколько лунных обитателей, расстилавших холсты на солнце.
Луна. Что сказать о твоих рогах, я не знаю. Но я-то,
во всяком случае, населена.
Земля. А какого цвета на тебе люди?
Луна. Какие люди?
Земля. Эти, которых ты держишь. Ведь ты сама ска- .
зала, что ты населена.
Луна. Ну и что с того?
80
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
Земля. Но ведь не одни же звери тебя населяют?
Луна. Не люди и не звери. Я даже не знаю, что за
твари и те и другие и какой они породы. И вообще из
того, на что ты мне намекала по поводу, сдается мне, этих
самых людей, я многого не возьму в толк.
Земля. А какие же там у тебя живут народы?
Луна. Много разных народов, но только ты о них
знаешь не больше, чем я —о твоих.
Земля. Все это для меня так странно! Услыхала бы
я это не от тебя самой, ни за что на свете не поверила бы*
И никто из твоих жителей никогда тебя не захватывал?
Луна. Нет, насколько я знаю. А как? И зачем?
Земля. Из честолюбия или позарившись на чужое,
политическими уловками или силой оружия.
Луна. Я не ведаю, что значит «оружие»,
«честолюбие», «политические уловки» и все прочее, о чем ты
говоришь.
Земля. Даже если ты не знаешь, что такое оружие,
то что такое война, ты, уж конечно, знаешь. Ведь недавно
один здешний физик через свои подзорные трубы — это
такое приспособление, чтобы видеть очень далеко, —
открыл там, на тебе, отличнейшую крепость7 с отвесными
бастионами, а это значит, что по крайней мере осады и
штурмы стен твоим народам хорошо знакомы.
Луна. Прости, государыня Земля, если я отвечу тебе-
чуть более свободно, чем, может быть, подобает твоей:
подданной и служанке. Но, говоря откровенно, ты, по-
моему, совсем ополоумела, если думаешь, что во всех;
частях мира все такое же, как у тебя, словно природа
только о том и думала, как бы до точки воспроизвести
повсюду то, что есть на тебе. Я говорю, что я населена, а
ты из моих слов заключаешь, что жители мои не иначе
как люди. Я тебе объясняю, что они не люди, ты
соглашаешься— и все-таки уверена, что у них те же свойства
и те же обстоятельства жизни, что у твоих народов. При
этом ты ссылаешься на какого-то неведомого физика с его
подзорными трубами. Да если эти твои подзорные трубы
и все прочее так хорошо видят, то я скажу, что зрение у
них — как у тех твоих малых детей, которые разглядели
на мне нос, рот и глаза, хоть я и сама не знаю, где они:
у меня могут быть.
Земля. Значит, неправда и то, что по твоим
провинциям проходят широкие, ясно прочерченные дороги и что
81
ДЖакомо лео^арди. этика к ЭСТЕТИКА
ты возделана, — а ведь все это со стороны Германии
отчетливо видно в подзорную трубу.
Луна. Даже если я возделана, мне это незаметно, и
о своих дорогах я ничего не знаю.
Земля. Милая моя Луна, да будет тебе известно, что
я не слишком отесана и мозги у меня тупые,, так что не
удивляйся, что людям нетрудно меня одурачить. Но могу
сказать тебе вот что: если твои жители и не думают о том,
как бы тебя захватить, то -ты все-таки не совсем избавлена
от опасности, потому что многие люди здесь, внизу, в
разные времена замышляли завоевать тебя и даже прилежно
к этому готовились. Да только они, хотя и взошли на
самые высокие места и встали на цыпочки, не могли до
тебя дотянуться. И помимо этого я уже много лет
замечаю, что за тобою следят, высматривая все твои фазы,
снимают карты всех твоих местностей, измеряют высоты
гор и даже проведали их названия. Обо всем этом в силу
моего к тебе благорасположения я сочла нужным тебя
предупредить, чтобы ты не преминула на всякий случай
принять меры. А теперь я хочу спросить тебя о другом.
Сильно ли докучают тебе собаки, когда лают на тебя?
Что ты думаешь о тех, кто показывает тебя другим в
колодце? Какого ты пола — мужского или женского? Ведь
в старину об этом думали по-разному. Правда или нет,
что аркадцы появились на свет раньше, чем ты8? И что
женщины, или как мне их там назвать, которые живут на
тебе, кладут яйца, и одно из них падает сюда, вниз, вот
только не знаю когда? Что ты просверлена насквозь на
манер зерна четок, как полагает один современный
естествоиспытатель9? Что ты сделана, как уверяют некие
англичане, из свежего сыра10? Что в один прекрасный
день, а может быть, и ночь Магомет разрезал тебя
пополам, как арбуз, и при этом большой ломоть скользнул ему
в рукав? Приятно ли тебе сидеть на верхушках
минаретов? И что ты думаешь о празднике байрам?
Луна. Говори, говори дальше! Покуда ты не
перестанешь, мне нет нужды отвечать тебе и нарушать мое
привычное молчание. Если тебе нравится приставать ко мне
с разговорами и других предметов для них ты не
'находишь, то уж лучше не обращайся ко мне, потому что я
тебя все равно не могу понять, а вместо этого вели людям
сделать другую планету, чтобы она вращалась вокруг тебя
и была устроена и населена точно как ты. Ты ведь ни о
82
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
чем не умеешь говорить, кроме как о людях да собаках,
а я о них знаю столько же, сколько ты — о великом
солнце, вокруг которого, как слышно, вращается наше солнце.
Земля. И правда, чем больше я стараюсь не касаться
в разговоре моих собственных дел, тем меньше у меня это
получается. Ладно, вперед буду повнимательней. Но
скажи: ведь это ты забавы ради тащишь вверх мою морскую
воду, а потом отпускаешь ее?
Луна. Может, и так. Но даже если я на тебя
действую так или этак, сама я этого не замечаю; да и ты то
же самое, я думаю: тебе невдомек, какое ты тут у меня
производишь действие, хотя оно, конечно, настолько же
сильнее моего, насколько ты сама превосходишь меня и
размерами и мощью.
Земля. И верно, о том, как я на тебя действую, мне
известно только одно — что иногда я у тебя отнимаю
солнечный свет, а у себя — твой11; и еще, когда у тебя
ночь, я свечу тебе весьма ярко, так что иногда мне самой
это отчасти видно12. Но я позабыла о самом главном.
Хотелось бы мне знать, правда ли то, что пишет Ари-
осто 13: будто все то, что каждый человек понемногу
теряет,— например, молодость, красоту, здоровье, труды и
средства, затраченные с благим намерением заслужить
уважение от людей, направить малолетних на путь
добронравия, учредить нечто полезное или способствовать его
учреждению, — все это поднимается вверх и накопляется
там у тебя, так что найти на тебе можно все человеческое,
кроме безумия, которое с людьми не расстается. Если это
правда, то гго моим расчетам ты должна быть так всем
набита, что и свободного местечка не остается, особенно
если -вспомнить, что в последнее время люди много чего
потеряли (к примеру, любовь к отчизне, доблесть,
великодушие, честность), и не только отчасти и некоторые из
людей, как бывало прежде, а все до единого — всё до
конца. А если этих свойств и на тебе нет, то вряд ли они
отыщутся где-нибудь еще. Но я хочу, чтобы мы заключили
с тобою соглашение: ты с сего часа и впредь будешь
возвращать мне -и понемногу вернешь все, потому что, я
думаю, тебе самой хотелось бы избавиться от такого груза,
и особенно от разума, который, как я понимаю, занимает
на тебе больше всего места; а я заставлю людей
выплачивать тебе ежегодно кругленькую сумму денег.
Луна. Опять ты твердишь о людях! И при том что
83
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
безумие, как ты сама утверждаешь, не покидает твои
пределы, ты хочешь и меня во что бы то ни стало свести с
ума и лишить здравого смысла под видом поисков
утраченного людьми рассудка, — хоть я знать не знаю, куда он
делся и обретается ли вообще где-нибудь в мире. Знаю
только, что здесь нет ни его, ни прочего, о чем ты
спрашиваешь.
Земля. А не скажешь ли ты мне хотя бы, есть ли там
на тебе пороки, злодейства, несчастья, страдания,
старость,— одним словом, зло? Ты понимаешь эти слова?
Луна. Да, их-то я понимаю; и не только слова, но и
то, что они означают, отлично известно мне, потому что
этим я полна, а не тем, что ты думала.
Земля. Что же преобладает у твоих обитателей —
достоинства или недостатки?
Луна. Недостатки, конечно, и преобладают намного.
Земля. Чего на тебе больше — благ или зол?
Луна. Зол несравненно больше.
Земля. А вообще твои жители счастливы или нет?
Луна. Настолько несчастны, что я не^ желала бы
поменяться местами с самым счастливым из них.
Земля. И здесь то же самое. Удивительно даже, как
ты, во всем остальном ничуть на меня не похожая, в этом
ничуть от меня не отличаешься.
Луна. Я не отличаюсь от тебя и формой, и тем, что
вращаюсь, и тем, что меня освещает солнце; и то наше
сходство ничуть не более удивительно, чем это, потому что
зло так же присуще всем планетам вселенной или по
крайней мере нашей солнечной системы, как круглая форма и
остальное, о чем я говорила. И если бы ты могла
возвысить голос настолько, чтобы его услышали на Уране, или
на Сатурне, или на другой планете нашего мира, и
спросила бы, есть ли на них несчастье и преобладает ли на них
благо над злом или наоборот, все ответили бы тебе не
иначе, чем я. Я так говорю потому, что сама спрашивала
об этом же у Венеры и Меркурия, к которым мне
случается подходить ближе, чем тебе; спрашивала я об этом и у
нескольких комет, пролетавших со мною рядом, и все
отвечали мне одно и то же. И, я полагаю, ни солнце,-ни
любая звезда ничего другого бы не сказали.
Земля. Все же вопреки этому я надеюсь на лучшее,
особенно теперь, когда люди сулят мне самое счастливое
будущее.
84
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
Луна. Надейся, если угодно, а я тебе обещаю, что
надеяться ты будешь вечно.
Земля. Знаешь что, здесь люди и звери подняли шум,
потому что в этой части, которой я с тобою говорю, сейчас
ночь, как ты сама видишь или, вернее, не видишь. Все
спали, а наши разговоры их разбудили, вот они и
вскакивают в испуге.
Луна. А у меня на этой стороне — день, как ты
видишь.
Земля. Сейчас мне неохота, чтобы по моей вине весь
народ всполошился, и совестно нарушать их сон, потому
что он — величайшее благо, которое у них есть. Мы еще
как-нибудь побеседуем. Прощай, добрый день.
Луна. Прощай, доброй ночи.
ПРОМЕТЕЕВ СПОР
В году восемьсот тридцать три тысячи двести
семьдесят пятом от воцарения Зевеса коллегия Муз отпечатала и
развесила во всех публичных местах города Заоблачье1 и
его пригородов афиши, в коих всем богам старшим и
младшим, а равно и прочим" обывателям города, сумевшим в
давние времена или недавно изобрести что-либо досто-
хвальное, предлагалось представить свое изобретение в
натуре либо в виде чертежа или описания судьям,
избранным от вышесказанной коллегии. Далее Музы просили
прощения за то, что по причине своей всем известной
бедности* не могут быть так щедры, как им бы хотелось, и
предлагали в награду тому, чье изобретение будет сочтено
наилучшим и полезнейшим, лавровый венок с
привилегией носить его на голове днем и ночью, дома и в
публичных местах, в городе и за его пределами, а также с правом
быть представленным на картине, изваянным,
награвированным, вычеканенным и изображенным любым способом
на любом материале, имея на голове указанный венок.
Немалое число небожителей пришло потягаться за эту
награду, но лишь ради препровождения времени, ибо это
столь же необходимо жителям Заоблачья, сколь и других
городов; до самого венка никому не было дела, ибо по
85
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЗТИКА И ЭСТЕТИКА
цене своей он не стоил даже поярковой шляпы, что же
касается славы, коль скоро люди, сделавшись
философами, стали ее презирать, то нетрудно догадаться, в каком
почете она у богов, настолько превосходящих людей
мудростью и даже единственно мудрых, согласно Пифагору и
Платону2. Однако — случай неповторимый и неслыханный
с тех пор, как стали предлагаться награды,
предназначенные самым достойным, — на присуждение не подействовали
ни ходатайства, ни пристрастия, ни тайные посулы, ни
хитрые происки. Предпочтение было отдано троим:
Бахусу— за изобретение вина, Минерве — за изобретение
оливкового масла, необходимого небожителям для ежедневных
умащений после купания, и Вулкану — за то, что он
придумал медную кастрюлю, именуемую экономической, в
которой можно сварить что угодно на малом огне и весьма
быстро. Поскольку награду надлежало разделить на троих,
то на долю каждого пришлось по маленькой веточке
лавра; однако все трое отказались как .от своей части, так и
от целой награды. Вулкан сослался на то, что почти все
время проводит в кузне у огня, трудясь и обливаясь потом,
и венок на голове будет ему только помехой, не говоря
уж о том, что он сам рискует обгореть и получить ожоги,
если случайно в сухие листья попадет искра и
воспламенит их. Минерва сказала, что и так принуждена носить на
голове шлем, «ста бы градов ратоборцев покрывший»,
как пишет Гомер3, и ей нет нужды еще более отягощать
себя. Бахус не желал сбрасывать свою митру и менять
виноградный венок на лавровый; правда, он охотно принял
бы награду, если бы ему дозволено было устроить из нее
вывеску при входе в его трактир, но Музы не
согласились вручить ему венок для такого употребления, и он
остался в их общей казне.
Никто из соискателей награды не завидовал
стяжавшим ее богам, не сетовал на судей и не поносил
приговора,— никто, за исключением одного только Прометея,
для участия в состязании приславшего судьям земляную
опоку, которую он применял при сотворении первых людей,
и присовокупивший описание, в котором изъяснены были
свойства и назначение рода человеческого, им
изобретенного. Немалое удивление вызывает досада Прометея по
такому случаю, который все, и победители и
побежденные, принимали не иначе как в шутку; однако по
исследовании причин стало известно, что титан в самом деле
86
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
желал, и весьма сильно, не столько почетного венка,
сколько привилегии, которую он получил бы, одержав
победу. Одни полагают, что он намеревался лаврами
защищать голову от грозы, на манер того, что рассказывают
о Тиберии4, который будто бы всякий раз, заслышав гром,
возлагал на себя венок, веря, что молния не ударяет в
лавры. Но в городе Заоблачье не бывает ни молнии, ни
грома.
Другие с большим вероятием утверждают, что у
Прометея, как то свойственно преклонным годам, стали
падать волосы и он, принимая эту неприятность, подобно
многим, весьма близко к сердцу, а также не прочитав
«Похвалу плеши», сочиненную Синезием5, или не будучи
ею убежден, что более вероятно, хотел, подобно диктатору
Цезарю6, венком прикрыть лысину.
Но воротимся к нашему рассказу. В один прекрасный
день, беседуя с Момом7, Прометей горько жаловался на
то, что вино, масло и кастрюли были оценены выше, чем
род человеческий — наилучшее, по его словам, создание
бессмертных, когда-либо появлявшееся на свет. А потом,
увидав, что ему не удается вполне убедить Мома,
приводившего какие-то доводы в возражение, титан предложил
немедля спуститься вместе с ним на землю, остановиться
в первом попавшемся месте каждой из пяти частей света,
где они только обнаружат людское обиталище, а перед тем
побиться об заклад, что во всех этих пяти местах, или в
большей их части, они отыщут очевидные доказательства
того, что человек есть самое совершенное творение в мире.
Мом согласился, и, договорившись о цене заклада, оба не
мешкая стали спускаться на землю, прежде всего
направившись в Новый Свет, который самым своим именем, а
также тем, что туда ни разу не ступала нога небожителя,
больше всего возбуждал их любопытство. Свой полет они
остановили в стране Попайан8, на севере ее, невдалеке от
реки Каука, в месте, где видны были многие признаки
обитания человека: следы вспашки на полях, тропы, во
многих местах прерывающиеся и сплошь заваленные,
срубленные деревья, простертые на земле, особенно же нечто
напоминавшее гробницы, а кое-где и человечьи кости. Но,
несмотря на это, оба божества, как ни напрягали слух,
как ни вглядывались в даль и ни озирались вокруг, не
могли уловить человеческого голоса или заметить хотя бы
тень живого человека. Так прошли они, то пешком, то летя
87
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДЙ. ЭТИКА Й ЭСТЕТИКА
по воздуху, расстояние во много миль, пересекая горы и
реки и повсюду находя те же следы и то же безлюдье.
«Почему так пустынны теперь эти края, — говорил
Мом, — ведь ясно видно, что прежде они были населены?»
Прометей вспоминал о морях, заливающих сушу, о
землетрясениях, о бурях, о проливных дождях, обычных, как он
знал, в жарких странах; и в самом деле, в это же самое
время они слышали - из всех окрестных рощ, как ветви
деревьев, колеблемые ветром, непрестанно роняют капли
воды. И все же Мом не в силах был постигнуть, как
может этот край быть подвержен разливам моря, если оно так
далеко отсюда, что его и не видно; еще меньше мог он
понять, по какому приговору судьбы землетрясения, бури
и дожди истребили всех людей, но пощадили ягуаров,,
обезьян, муравьедов, кенгуру, орлов, попугаев и сотни
других пород, наземных и пернатых, — ибо местность эта
кишела" животными. Наконец, спустившись в обширную'
долину, они обнаружили, как бы это сказать, кучку домов
или бревенчатых хижин, покрытых пальмовыми листьями
и окруженных, каждая в отдельности, забором наподобие
частокола. Перед одной из хижин было множество людей,,
они стояли и сидели вокруг глиняного горшка, кипевшего
на большом огне. Небожители, приняв человеческий облик,
приблизились, и Прометей, учтиво всем поклонившись,
обратился к тому, кто, судя по повадкам, был здесь
главным, и спросил, что они делают.
Дикарь. Обедаем, как видишь.
Прометей. А что за яства у вас?
Дикарь. Да вот, немного мяса.
Прометей. Домашний скот или дичь?
Дикарь. Домашний, конечно: мой собственный сын.
Прометей. Что же, у тебя был сын-теленок, как у
Пасифаи9?
Дикарь. Не теленок, а такой же человек, как у всех.
Прометей. Да ты в уме ли? Неужто ты поедаешь
свою плоть?
Дикарь. Не мою, а его. Затем я его и на свет родил
и выкормил.
Прометей. Чтобы самому его съесть?
Дикарь. Что ж тут удивительного? Я и его мать
располагаю съесть в самом скором времени, потому что
она, верно, не годна уже на то, чтобы рожать.
88
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
Мом. Ну да, ведь сперва съедают яйца, а потом и
курицу.
Дикарь. И остальных женщин, которых я держу,
-едва только они станут непригодны для деторождения, я
-сьем. А вот этих моих рабов видите? Стал бы я их
держать, если бы не получал от них время от времени
приплод на убой? А чуть они состарятся, я их тоже съем,
.если сам дотяну до этих пор.
Прометей. Скажи мне, а эти рабы твоего племени
.или иноплеменные?
Д и кар ь. Иноплеменные.
Прометей. А далеко отсюда они жили?
Дикарь. Очень далеко: между их и нашими домами
.протекал ручей.
И, указав на какой-то холмик, он добавил: «Вон то
место, где они стояли, да только наши их разорили». Тут
Прометею показалось, будто многие дикари смотрят на
него любовно, как кошка на мышь, и потому, не желая
(быть съеденным своими собственными твореньями, он не
'мешкая поднялся с земли и улетел прочь, а с ним и Мом;
'при этом страх у обоих был так велик, что, улетая, они
-осквернили яства варваров теми же нечистотами, какие
■изливались из чрева алчных гарпий 10 на столы троянцев.
Но дикари, более голодные и менее брезгливые, нежели
спутники Энея, не прервали трапезы. Прометей же, весьма
недовольный Новым Светом, без промедления направил
путь в самую старую часть Старого Света, в Азию, и, чуть
ли не в единый миг покрыв расстояние, которое отделяет
Вест-Индию от Ост-Индии, оба божества спустились на
равнину неподалеку от Агры11, где бессчетные толпы
народа теснились вокруг ямы, доверху заполненной дровами.
На краю ее с одной стороны можно было увидеть
несколько человек, держащих факелы и готовых поджечь костер,
а с другой стороны, на помосте, — молодую женщину в
роскошных одеждах, убранную всякого рода варварскими
украшениями, которая плясками и воплями изъявляла
свою великую радость. Прометей при виде ее вообразил
про себя, будто пред ним новая Лукреция12 или новая
Виргиния13. либо некая соперница дочери Эрехтея, Ифи-
гении, Кодра, Менекея и или же Курциев и Дециев 15, во
исполнение какого-то прорицания добровольно приносящая
себя в жертву ради отчизны. Потом, услышав, что
причиною жертвоприношения была смерть ее мужа, он подумал,
89
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
будто она, не хуже Альцесты 16, желает ценою
собственной жизни выкупить у смерти своего супруга. Однако,
узнав, что она согласилась на самосожжение, лишь следуя
обычаю, принятому у женщин ее секты, что мужа она
всегда ненавидела, что сейчас ее напоили допьяна и что
покойник не только не воскреснет, но и будет сожжен на
том же костре, титан тотчас повернулся спиной к этому
зрелищу и направил путь в Европу, и, пока они туда
летели, между спутниками шла такая беседа:
Мом. Мог ли ты подумать, когда с великой опасностью
крал для людей огонь с неба, что они будут им
пользоваться одни — чтобы варить своих ближних в горшках,
другие — чтобы сжигаться по доброй воле?
Прометей. Нет, конечно. Но не забывай, друг Мом,
что видели мы покамест варваров, а по варварам не
должно судить о человеческой природе,— судить о ней надо
лишь по людям цивилизованным, к которым мы ныне и
направляемся, и у них, я уверен, мы увидим и услышим
такое, что покажется тебе достойным не только похвалы,
но и величайшего удивления.
Мом. Но я все-таки не понимаю, почему люди, коль
скоро их род — самый совершенный во всей вселенной,
должны быть просвещенными, чтобы не сжигаться и не
есть собственных детей; ведь прочие животные — все до
единого варвары, но, несмотря на это, никто не сжигает
себя преднамеренно, кроме феникса, которого и нет нигде,
лишь редкие из них едят себе подобных, еще реже поедают
они своих детенышей, да и то в исключительных случаях,
а не потому, что для этого и произвели их на свет. Прими
к тому же во внимание, что из пяти частей света лишь
единственная, и к тому же не сравнимая по величине ни
с одной из остальных четырех, обладает, да и то не вся
целиком, столь восхваляемой тобою цивилизацией, — всего
одна, да еще во второй — немногие и ничтожные частицы.
И ты сам не станешь утверждать, будто цивилизация
созрела окончательно, так что люди в Париже или в
Филадельфии все достигли полноты совершенства, доступного
их роду. А сколько лет пришлось этим народам тяжко
трудиться, чтобы добраться до нынешнего состояния
несовершенной еще цивилизации? Столько, сколько протекло
от сотворения человека до весьма недавней поры. И почти
все изобретения, либо необходимые,* либо особенно
полезные для достижения цивилизованного состояния, обязана
90
Нравственные очерки
своим появлением на свет не расчету, а непредвиденнохму
случаю, так что человеческая цивилизация создана скорее
судьбой, нежели природой, а где ничего такого не было,
там, как мы видели, народы доныне пребывают в
варварстве, хоть от роду им не меньше лет, чем цивилизованным
пародам. Вот я и говорю: если человек-варвар на много
голов ниже любого животного, если просвещение, то есть
нечто противоположное варварству, и в наши дни дано в
удел лишь малой части человеческого рода, если, кроме
этого, указанная часть не могла достигнуть нынешнего
цивилизованного состояния иначе как по прошествии
бессчетных столетий и по большей части лишь благодеянием
случая, а не благодаря какой-либо иной причине, наконец,
если сама цивилизация еще далека от совершенства, то
подумай немного сам, не окажется ли твое суждение о
роде людском более истинным в таком исправленном виде:
он и в самом деле превосходит все роды животных, но
превосходит их не своим совершенством, а, напротив,
несовершенством, — хотя люди в своих речах и мыслях
непрестанно путают одно с другим, исходя из тех предвзятых
мнений, которые они себе составили и почитают за
очевидные истины. Нет сомнения, что все прочие твари были с
самого начала совершенны, каждая в своем роде; но даже
если бы не было ясно, что человек-варвар, по сравнению с
прочими живыми существами, хуже всех, я никак не мог
бы убедить себя в том, что существо, от природы самое
несовершенное в своем роде,— а человек, сдается мне,
именно таков,— следует чтить как самое совершенное из
всех. Прибавь еще вот что: человеческая цивилизация,
достижимая с таким трудом и, наверно, не имеющая
достичь совершенства, вместе с тем не настолько еще
окрепла, чтобы стало невозможно ее падение, как это и
происходило не раз и у многих народов, овладевших ею в
немалой доле. .Одним словом, я из этого заключаю, что брат
твой Эпиметей, если бы он представил судьям те опоки,
в которых он создал первого осла и первую лягушку,
стяжал бы не доставшуюся тебе награду. Но, во всяком
случае, я охотно соглашусь с тобой и признаю, что
человек есть существо самое совершенное, если ты решишься
сказать, что совершенство его схоже с тем, которое Плотин
приписывает миру: ведь он, по словам Плотина, весьма
хорош и абсолютно совершенен, но как раз в силу его
совершенства ему и подобает заключать в себе среди про-
91
ДЖАКОМО ЛЁОПАРДЙ. ЭТИКА Й ЭСТЕТИКА
чего и все возможное зло; и в самом деле, зла в нем
столько, сколько он лишь способен вместить. Если
взглянуть на все так, то я готов согласиться и с Лейбницем,
что наш мир есть лучший из миров.
Не приходится сомневаться, что у Прометея был в
запасе ясный, точный и сообразный с правилами диалектики
ответ на все доводы Мома; но столь же несомненно, что он
такого ответа не дал, ибо в этот самый миг они очутились
над городом Лондоном; спустившись и заметив, что народ
во множестве сбегается к подъезду частного дома, они
замешались в толпу и вошли внутрь. Там они обнаружили
лежащего навзничь на постели человека с пистолетом в
правой руке, мертвого и с простреленной грудью; рядом
с ним лежало двое детишек, также мертвых. В комнате
находились кое-кто из домочадцев и несколько судейских,
которые их допрашивали, пока писарь вел протокол.
Прометей. Кто эти несчастные?
Слуга. Мой хозяин со своими детьми.
Прометей. А кто их убил?
Слуга. Хозяин и убил всех троих.
Прометей. Ты хочешь сказать, и детей и себя
самого?
Слуга. Так и есть.
Прометей. Слыхано ли это? Какое великое несчастье,
верно, приключилось с ними!
Слуга. Ничего не приключилось, сколько я знаю.
Прометей. Но, быть может, он был беден и всеми
презираем или неудачлив в любви либо при дворе?
Слуга. Наоборот, весьма богат и всеми уважаем; до
любви ему дела не было, а при дворе он был в большой
милости.
Прометей. Отчего же он впал в такое отчаяние?
Слуга. Судя по записке, которую он оставил, от
пресыщения жизнью.
Прометей. А что делают эти судейские?
Слуга. Хотят установить, был ли хозяин в уме или
нет; если он был в уме, его имущество по закону
переходит казне; и впрямь ничего нельзя сделать, чтобы
избежать этого.
Прометей. Но скажи мне, неужели у него не было
друга или родственника, кому бы он мог препоручить этих
детей, вместо того чтобы убивать их?
92
ЙРАёсТВЕНЙЫЁ ОЧЕРКИ
Слуга. Были, и среди них один ближе всех прочих.
Ему-то он и препоручил свою собаку 17.
Мом собрался было поздравить Прометея с тем, какие
добрые плоды приносит просвещение и сколь большое
удовлетворение оно, как видно, приносит нам в жизни;
хотел он также напомнить титану, что ни одно живое
существо не убивает по доброй воле само себя и не губит,
отчаявшись в жизни, своих детенышей; но Прометей
предупредил его и, не вспомнив о том, что остается посетить
еще две части света, выплатил Мому заклад.
РАЗГОВОР ФИЗИКА
И МЕТАФИЗИКА
Физик. Эврика, эврика!
Метафизик. Что? Что ты нашел?
Физик. Искусство продлевать жизнь.
Метафизик. А что за книгу ты несешь?
Физик. Здесь у меня все изложено. И если люди
благодаря моему изобретению будут жить долго, я буду жить
по меньшей мере вечно, то есть я хочу сказать, что
стяжаю бессмертную славу.
Метафизик. Сделай-ка то, что я тебе скажу. Отыщи
свинцовый ящичек, замкни в нем книгу, зарой его в
землю, а перед смертью не забудь открыть кому-нибудь
место, чтобы можно было пойти туда и выкопать книгу, когда
придумают искусство жить счастливо.
Ф и з и к. А до тех пор?
Метафизик. А до тех пор она и не нужна. Я
больше' ценил бы ее, если бы в ней изъяснено было искусство
сокращать жизнь.
Физик. Ну, это искусство известно давно, и
придумать его было не так уж трудно
Метафизик. Во всяком случае, я ценю его выше,
чем твое.
Физик. Почему?
Метафизик. Потому что до тех пор, пока жизнь не
станет счастливой,—а доныне она счастливой не бывала,—
для нас лучше, чтобы она была короче.
93 •
1
ДЖАК0М0 ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА я 1
Физик. Нет, это не так: ведь жизнь сама по себе есть |
благо, и каждый жаждет ее и любит ее, потому что это ]
естественно для человека.
Метафизик. Да, так думают люди, но они обманы- 1
ваются, подобно тому как простолюдины обманываются, \
полагая, что цвет есть свойство предметов, тогда как это
свойство не предметов, но света. Я имею в виду вот что:
человек жаждет и любит только свое счастье. А жизнь он
любит лишь постольку, поскольку мыслит ее орудием
достижения 31 ого счастья или же его субъектом. Так что
и конечном счете человек любит счастье, а не жизнь, хоть
и часто относит к жизни свою любовь к счастью. Верно
лишь то, что такое заблуждение столь же естественно,
как и заблуждение касательно цвета. А любовь к жизни
не есть свойство, естественно и неизбежно присущее
людям; ты убедишься в этом, если вспомнишь, что в
древности многие и многие избирали смерть, хотя могли жить,
и что в наши дни многие желают смерти в самых разных
обстоятельствах, а некоторые даже накладывают на себя
руки. Все это не могло бы иметь место, если бы любовь
к жизни сама по себе была в природе человека. Зато
любовь к собственному счастью — в природе каждого
живого существа, и мир обрушится прежде, чем оно
перестанет любить свое счастье и на свой лад его добиваться.
Теперь я жду от тебя физических, метафизических или
почерпнутых из любой другой науки доказательств того,
что жизнь сама по себе есть благо. По-моему, счастливая
жизнь есть благо, без сомнения, но лишь в качестве
счастливой жизни, а не просто жизни. Жизнь несчастливая,
поскольку она несчастлива, есть зло; и, приняв во
внимание, что природа, по крайней мере человеческая, ведет
к тому, что жизнь и несчастье нераздельны, ты сам
рассуди, что из этого следует.
Физик. Прошу тебя, оставим этот предмет, слишком
уже все печально. Ответь-ка мне попросту, не вдаваясь в
такие тонкости: если бы человек жил и мог жить вечно,—
то есть не умирая, а не после смерти,— приятно это было
бы ему или нет?
Метафизик. На твое баснословное предположение
я и отвечу тебе какой-нибудь басней, тем более что сам я
не жил вечно и не могу ничего сказать по собственному
опыту, да и беседовать ни с кем из бессмертных мне не
приходилось и, кроме как из басен, мне неоткуда почерп-
94
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
путь сведения о них. Если бы с нами был Калиостро *, он
бы сумел пролить некоторый свет на это дело, потому что
сам прожил несколько столетий, хотя, судя по тому, что
он умер не хуже всех прочих, и он, видно, не был
бессмертен. Скажу тебе только, что мудрому Хирону, хоть он и
был богом, по прошествии времени жизнь до того
наскучила, что он выхлопотал себе у Зевеса разрешение
умереть и умер. Подумай сам, если бессмертье и богам в
тягость, то каково пришлось бы людям. Гипербореи 2, народ
никому не ведомый, но прославленный, к которому
нельзя добраться ни по воде, ни по суше, богатый всяческим
добром и особенно прекрасными ослами, коих там имеют
обыкновение приносить в жертву,— гипербореи, которые
могут, если я не заблуждаюсь, быть бессмертными,
потому что у них нет ни болезней, ни изнурительных трудов,
ни войн, ни раздоров, ни голода, ни пороков, ни
преступлений, несмотря на это, все умирают, ибо в конце
тысячелетней или около того жизни, пресытившись всем, что есть
па земле, они по доброй воле бросаются с некой скалы в
море и там погибают. Можно привести и еще одну басню.
Братья Битон и Клеобис3 в праздничный день, из-за
того что не было под рукой мулов, сами впряглись в
колесницу своей матери, жрицы Юноны, и отвезли ее в капище;
она же взмолилась Юноне, чтобы та вознаградила
сыновнее благочестие величайшим из благ, какие могут выпасть
па долю людям. И Юнона, вместо того чтобы сделать их
бессмертными, как она могла бы и как это было тогда в
обычае, устроила так, что оба они в тот же час
потихоньку умерли. То же самое случилось с Агамедом и Трофо-
пием4. Завершив постройку храма в Дельфах, они
потребовали, чтобы Аполлон заплатил им, и бог отвечал, что
удовлетворит их через семь дней, а до тех пор пусть
попируют на свои деньги. На седьмую ночь он наслал на них
сладкий сон, от которого они еще могли бы пробудиться;
однако они, получив его, уже не пожелали другой платы.
Но коль скоро мы уж занялись баснями, вот тебе еще од-
па, и по ее поводу я задам тебе вопрос. Сколько я знаю,
подобные тебе полагают ныне за бесспорное, что жизнь
человека, где бы и в каком климате он ни обитал,
естественно-длится, за изъятием небольших различий,
примерно одинаковое время, если рассматривать каждый народ
в Целом. Но один древний5 сообщает, что люди в
некоторых областях Индии и Эфиопиц не заживаются дольше
95
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
сорока лет, и кто умирает в этом возрасте, умирает глубо-|
ким стариком, а девочки семи лет считаются достигшими!
брачного возраста. Что до последнего, то нам известно, что!
почти такое же явление имеет место в Гвинее, на Декан-1
ском полуострове и в других краях, близких к жаркому!
поясу. Итак, если мы примем за истину то, что существу-]
ет один или несколько народов, в которых люди живут не]
долее сорока лет, и происходит это по естественным причи-1
нам, а не по каким-либо иным, как полагали относитель- j
но готтентотов,— то спрашивается, будут ли, по твоему;
мнению, названные народы вследствие этого счастливее,
или несчастнее, чем все прочие?
Физик. Без сомнения, несчастнее: ведь смерть
приходит к ним раньше.
Метафизик. А я думаю, что они, напротив, как раз
по этой причине счастливее нас. Но главное состоит в
другом. Поразмысли внимательней. Я отрицал, что жизнь
сама по себе, то есть простое ощущение собственного
существования, приятна и желанна нам по самой нашей
природе. Но то, что также именуется жизнью и, быть может,
более достойно этого имени, то есть напряженность и
изобилие ощущений, действительно приятно и желанно всем
людям по их природе, потому что все совершаемое и
испытываемое нами с большей живостью и силой, если только
оно не вызывает ни досады, ни боли, кажется нам
приятным благодаря одной -лишь своей живости и силе, хотя бы
в нем не было других дающих наслаждение свойств.
Значит, у тех, чья жизнь естественным образом завершается
в сорокалетний срок, вдвое более краткий, чем тот, что
отпущен природой остальным людям, жизнь в каждой
своей части оказалась бы вдвое более живой по сравнению
с нашей: ведь они непременно возрастали бы и достигали
совершенства, а равно и увядали бы, успевали одряхлеть
за половину нашего срока, следовательно, все жизненные
отправления их природы соразмерно такой скорости были
бы в каждый миг в два раза сильнее, нежели у других,
да и произвольные действия таких людей, их внешняя
подвижность и живость соответствовали бы этой большей
напряженности,— если только им отпущен тот же запас*
жизни, что и нам, но на более краткий срок. И потому этого
запаса, распределенного на меньшее число лет, хватило
бы, чтобы их заполнить, оставив разве что самые малые
пустоты,-тогда как на вдвое более долгий срок его не хва-
96
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
тает; а деяний и ощущений благодаря их большей силе и
сосредоточению на меньшем пространстве было бы
довольно, чтобы занять и оживить весь их век, тогда как на
пашем веку, более долгом, нередко бывают весьма
большие промежутки праздности и отсутствия живых чувств.
VI поскольку не просто существование, но лишь счастливое
существование желанно нам и не числом дней
измеряется, жалок чей-либо удел или нет,— я делаю заключение,
что жизнь этих народов, чем она короче, тем богаче
наслаждениями или всем, что так называется, а потому и
заслуживает предпочтения перед нашей жизнью и даже
жизнью древних царей Ассирии, Египта, Китая и Индии,
которые — вернемся к басням.— жили по тысяче лет.
Поэтому мне не только безразлично бессмертие и я охотно
уступаю его рыбам, которых наделяет этим свойством Ле-
венгук6,— в том, разумеется, случае, если их не съедят ни
люди, ни киты,— но и, вместо того чтобы замедлять или
на время прерывать возрастание нашего тела, дабы
продлить жизнь, как предлагает Мопертюи7, я предпочту
найти способ сократить ее и сделать равной жизни некоторых
насекомых, называемых однодневками, про которых
рассказывают, будто век самых старых из них не дольше
одного дня и при этом они умирают прадедами и
прапрадедами. В этом случае, я полагаю, нам не оставалось бы
времени для скуки. Что ты думаешь об этом рассуждении?
Физик. Я думаю, что оно для меня не убедительно и
что если ты любишь метафизику, то я привержен моей
физике, то есть я хочу сказать, что ты все разбираешь до
тонкости, а я все прикидываю грубо и тем довольствуюсь.
Однако, и не беря в руки микроскоп, я считаю, что жизнь
лучше смерти, и отдаю ей яблоко, хоть и вижу их обеих
в одеждах.
Метафизик. Я тоже так считаю. Но'когда мне
приходит на ум один обычай варваров, которые, отмечая
каждый несчастный день своей жизни, бросали в колчан
черный камешек, а счастливый отмечали белым, я поневоле
думаю, как мало белых камней обнаруживали, верно, в
этих тулах по смерти владельца и как много черных! Как
бы мне хотелось увидеть перед собою камешки всех тех
дней, что мне остается прожить, и чтобы мне было дано
право, разобрав их, выбросить все черные, вычтя эти дни
из моей жизни и оставив себе только белые; взял бы я
это право, даже зная, что набралась бы не слишком боль-
4 Этика и эстетика
97
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
шая кучка белых камешков и цвет их не был бы
белоснежным.
Физик. А многие, наоборот, даже если бы все
камешки оказались чернее черного, хотели бы подсыпать их
побольше, хотя бы и того же цвета, потому что, по их
суждению, ни один камешек не будет так черен, как
последний. И те, кто так думает, и я сам в их числе, все мы
сможем на самом деле прибавить много камешков к своей
жизни, пользуясь искусством, изъясненным в этой книге.
Метафизик. Пусть каждый судит и поступает, как
ему свойственно; но и смерть не преминет поступать по-
своему. А если ты хочешь, продлив жизнь, принести людям
подлинную пользу, то найди искусство, благодаря
которому умножились бы и стали сильнее их чувства и дела.
Таким способом ты воистину продлишь человеческую
жизнь, и, заполнив нескончаемые промежутки времени,
когда наше существование есть скорей прозябанье, нежели
жизнь, ты получишь право похвалиться, что продлил ее.
И сделаешь ты это, не ища невозможного и не подвергая
природу насилию, даже направленному ей в помощь.
Разве тебе не кажется, что древние жили дольше нас, хотя по
причине тяжких опасностей, которым они непрестанно
подвергались, умирали скорее? Ты окажешь великое
благодеяние людям, чья жизнь была — не скажу счастливой, но
менее несчастной — всегда, когда в ней было больше
сильных волнений, не сопряженных с болью и досадой, и
меньше праздности. А когда она полна безделья и пресыщенья
и становится, так сказать, пустопорожней, то можно
поверить, что истинна изречение Пиррона8, будто между
жизнью и смертью нет различия. Впрочем, если бы я в
это верил, то, клянусь тебе, смерть не пугала бы меня так.
Но в конце концов, жизнь должна быть живой, должна
быть настоящей жизнью — а иначе смерть намного
ценнее, чем жизнь.
РАЗГОВОР ТОРКВАТО ТАССО
И ЕГО ДЕМОНА
Демон. Как дела, Торквато?
Т а с с о. Сам знаешь, как идут дела в тюрьме, когда
бед по горло.
98
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
Демон. Оставь, после обеда жаловаться не время...
11риободрись, и посмеемся вместе.
Т а с с о. "Смеяться у меня нет ни малейшей охоты. Но
твое присутствие и твои речи всегда меня утешают. Сядь
рядом со мной.
Демон. Как же я сяду? Духу это не так легко сде-
лать. Ну ладно, считай, что я сижу.
Тассо. О, если бы мне вновь повидаться с моей
Леонорой1! Всякий раз, когда мысль о ней приходит мне на
ум, я чувствую трепет радости, он пронизывает меня от
макушки до пят, каждый нерв, каждая жилка во мне
трепещет. А порой, когда я думаю о ней, в душе моей
оживают некие образы и чувства, так что на короткий срок мне
кажется, будто я по-прежнему тот Тассо, каким был, не
сведя знакомства с бедствиями и с людьми, тот, кого я
столько раз оплакивал как умершего. Воистину я сказал
бы, что опыт жизни среди людей и знакомство со
страданиями в каждом подавляют и усыпляют того человека,
каким он был прежде; время от времени этот прежний
человек просыпается в нас на короткий миг, но тем реже,
чем больше проходит лет; затем он мало-помалу
прячется в нашей душе все глубже и впадает во все более
беспробудный сон, а потом умирает еще прежде, чем
оборвется наша жизнь. Я удивляюсь, как мысль о женщине
может быть так сильна, чтобы, так сказать, обновить мне
душу и заставить меня забыть о несчастьях. И если бы я
не утратил совсем надежду вновь ее увидеть, я бы
поверил, что не потерял еще способности быть счастливым.
Демон. А что, по-твоему, отраднее: видеть любимую
женщину или думать о ней?
Тассо. Не знаю. Одно только верно: рядом со мною
она казалась мне женщиной, а вдали казалась и кажется
богиней.
Демон. -Эти богини столь благосклонны, что, когда к
ним кто-нибудь приближается, они вмиг совлекают с себя
божественность, снимают окружающий их чело ореол и
прячут его в карман, чтобы не ослепить осмелевшего
смертного.
Тассо. К сожалению, ты прав. Но, по-твоему, разве это
не великий изъян всех женщин — то, что они
оказываются на деле совсем иными, нежели в нашем воображении?
Демон. Не пойму, чем они виноваты, если состоят из
плоти и крови, а не из амвросии и нектара? Что в мире
4*
99
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
обладает хотя бы тенью или тысячной долей того совер-|
шенства, которое вы воображаете в женщинах? И вот что!
еще мне кажется странным: если вы ничуть не удивляе-1
тесь тому, что люди — это люди, то есть существа, не]
слишком достойные похвалы и любви, то почему вы ста-]
новитесь в тупик, увидев, что и женщины на деле не анге-1
лы? .j
Тассо. И, несмотря на это, мне до смерти хочется^
повидаться с нею и поговорить. ]
Демон. Ладно, нынче ночью во сне я ее к тебе при- •
веду, красивую, как сама юность, и такую любезную, что,'
ты отважишься говорить с нею откровенней и свободнее,
чем когда-либо раньше, и под конец пожмешь ей руку, а
она пристально на тебя поглядит и прольет тебе в душу
такую отраду, что ты будешь совсем покорён и весь
завтрашний день, едва вспомнишь о своем сновидении, сразу
почувствуешь, как сердце у тебя в груди прыгает от
нежности.
Тассо. Великое утешение — сон вместо истины!
Демон. Что есть истина?
Тассо. Я знаю об этом ничуть не больше, чем Пилат.
Демон. Хорошо, я отвечу за тебя. Знай, что между
истиной и сном только одно различие: то, что мы видим во
сне, может быть иногда прекрасным и отрадным, каким
ничто истинное не бывает.
Тассо. Значит, приснившееся наслаждение стоит
истинного?
Демон. Разумеется. И мне известен даже один
человек, который в тот день, когда любимая женщина
является ему в приятном сновидении, избегает встречи и
свидания с нею, зная, что она не выдержит сравнения с тем
образом, который сновидение запечатлело в его душе, и что
образ подлинный сотрет мнимый образ, лишив нашего
сновидца высочайшего наслаждения. Потому и не следует
порицать древних — куда более усердных, изобретательных
и деятельных, чем вы, во всем, что касалось доступных
человеческой природе наслаждений,— за то, что они всеми
способами стремились добиться приятных и отрадных снов;
не стоит упрекать Пифагора за то, что он возбранял есть
бобы2, считая, что сны от этого становятся беспокойными
и смутными; заслуживают прощения и те суеверные, что на
сон грядущий творили молитвы и возлияния Меркурию —
вожатаю снов, дабы он привел к ним радостные видения,
100
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
п ради этого помещали изваянные изображенья бога на
верхних концах ножек своего ложа. Не находя счастья
наяву, они стремились таким способом обрести его во сне,
и думаю, что хотя бы отчасти им это удавалось и что
Меркурий мог внять им более всех прочих богов.
Тассо. Получается вот что: если мы, люди, живем
единственно ради наслаждений, душевных или телесных,
которые даются только во сне или по большей части во
сне, значит, нам следует решиться-жить ради сна, а к
этому, говоря по правде, я не могу себя принудить.
Демон. Тебя уже к этому принудили и решили за
тебя, коль скоро ты живешь и согласен жить. Что есть
наслаждение?
Тассо. Мой опыт в нем не так богат, откуда же мне
знать, что это такое?
Демон. Никто не знает этого на опыте, все — лишь
умозрительно. Потому что наслаждение есть предмет
умозрительный, а не подлинно существующий, оно есть
желание, но не действительность, чувство, которое человек
постигает разумом, но не испытывает, или, вернее, даже не
чувство, а понятие. Разве вы сами не замечаете, что в то
самое время, когда вы наслаждаетесь чем-либо
бесконечно желанным, за чем вы гнались с великими трудами и
лишениями, вы неспособны удовлетвориться наслаждением,
насущным в этот миг, и все время ожидаете в будущем
наслажденья более истинного и сильного — в чем и
состоит вообще вся отрада наслаждения,— и непрестанно
переноситесь мыслью к последующим мгновениям
испытываемого удовольствия? А оно всегда кончается, не достигнув
мгновения, которое бы вас удовлетворило, и не оставляет
вам ничего хорошего, кроме слепой надежды насладиться
истиннее и полнее в другой раз и утешительной
возможности воображать, будто испытали наслаждение, и
рассказывать об этом- себе, а иногда и другим не только ради
похвальбы, но и чтобы лучше убедить в этом самих себя (а
этого вам очень хочется). Однако всякий, кто соглашается
жить, живет лишь с одной целью — видеть сны, то есть
думать, будто он чем-то насладился или насладится в
будущем; а иного проку, кроме этих пустых фантазий, от
жизни нет.
Тассо. Неужели люди никак не могут поверить, что
наслаждаются в настоящую минуту?
Демон. Стоило бы им в это поверить,— и они испы-
101
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
тали бы действительное наслаждение. Но скажи сам,
помнишь ли ты, чтобы хоть в один какой-то миг за всю твою
жизнь ты сказал с полной искренностью и убежденностью:
я наслаждаюсь. Всякий день ты говорил и говоришь
вполне искренне: я еще буду наслаждаться; иногда говоришь,
но не так искренне: я наслаждался. Так что наслаждение
всегда или в прошлом, или в будущем и никогда — в
настоящем.
Т а с с о. А это значит, что его не бывает никогда.
Демон. Как видно, это так.
Т а с с о. Даже во сне.
Демон. В подлинном смысле слова — и во сне.
Тассо. И все же цель, и не только главная, но
единственная, к которой устремлена вся наша жизнь,— это
удовольствие, если под удовольствием понимать счастье;
а оно, от чего бы ни проистекало, не может быть ничем
иным, как подлинным удовольствием.
Демон. Конечно.
Тассо. Следовательно, вся наша жизнь, не
достигающая никогда своей цели, не бывает совершенной, а потому
она по самой своей природе есть состояние мучительное.
Демон. Быть может, и так.
Тассо. Не вижу тут никакого «быть может». Но
почему мы живем, то есть почему соглашаемся жить?
Демон. Что я знаю об этом? Вы, люди, должны бы
знать это лучше.
Тассо. Что до меня, то, клянусь тебе, я этого не знаю.
Демон. Спроси тех, кто мудрее тебя, может быть, ты
-и найдешь кого-нибудь, кто разрешит твое сомненье.
Тассо. Так я и сделаю. Но такая жизнь, какую веду
я, есть совсем уж мучительное состояние, потому что,
даже если оставить в стороне страдания, одна лишь скука
меня убивает.
Демон. Что есть скука?
Тассо. Тут моего опыта вполне хватит, нтобы
удовлетворить твое любопытство. Мне сдается, скука по
природе сродни воздуху: воздух заполняет все пространство,
разделяющее материальные предметы, и пустоты,
имеющиеся в каждом из них, и если одно тело покинуло свое
место и другое тело это место не заступило, его сейчас же
занимает воздух. Так и в человеческой жизни все
промежутки между удовольствиями и горестями заполняются
скукой. Так значит, подобно тому как в материальном ми-
102
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
рс, согласно учению перипатетиков, не бывает пустоты, ее
не бывает и в нашей жизни, кроме разве тех мгновений,
когда дух по какой-либо причине перестает мыслить. Во
псе остальное время душа, даже если ее рассматривать
самое по себе, как бы отделенной от тела, всегда
что-нибудь да испытывает, потому что, если в ней нет никаких
приятных или неприятных ощущений, она полна скуки, а
скуку тоже испытывают, подобно боли и удовольствию.
Демон. А поскольку все ваши удовольствия сотканы
из нитей, подобных паутине,— столь же тонких, редких и
прозрачных,— постольку скука, как воздух сквозь паутину,
проникает сквозь них со всех сторон и заполняет все.
Впрочем, я не думаю, чтобы под скукой нужно было понимать
нечто иное, нежели просто желание счастья, не
удовлетворяемое наслаждением и не уязвляемое явными
горестями. Желание это, как я уже сказал раньше, не бывает
удовлетворено, а наслаждение в подлинном смысле слова
и вовсе не существует. Так что человеческая жизнь, можно
сказать, составлена и сплетена частью из страданий, частью
из скуки, и от одной из этих мук можно отдохнуть, только
подпав другой из них. Такова судьба не только твоя, но и
вообще всех людей.
Т а с с о. Какое лекарство может помочь против скуки?
Демон. Сон, опиум, страдание. Последнее — самое
могущественное из средств, потому что человек, пока он
мучится, уж во всяком случае, не скучает.
Тассо. Взамен такого лекарства я рад был бы
проскучать всю жизнь. Но ведь и разнообразие действий,
занятий и чувств пусть и не освобождает от скуки, потому что
не приносит истинного наслаждения, зато облегчает ее и
делает менее тягостной. Здесь же, в этой темнице, где я
отторгнут от общества людей, где у меня отнята даже
возможность писать, где мне приходится для препровождения
времени считать удары часов, пересчитывать балки на
потолке и все трещины, все дырочки, просверленные
древесным червем, разглядывать узоры плит на полу,
забавляться бабочками и мошками, которые кружатся по комнате,
проводить почти все часы дня одинаково,— я не вижу, что
может хоть в малой мере ослабить давящее меня бремя
скуки.
Демон. Скажи мне, давно ли ты принужден вести
такую жизнь?
Тассо. Несколько недель, как ты знаешь.
103
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Демон. И с первого дня и до нынешнего ты не заме- \
чаешь никакой разницы в том, как она угнетает тебя? |
Тассо. Конечно, в самом начале мне было тяжелее, <
а потом мой дух, ничем не занятый и не отвлекаемый, \
понемногу приучился разговаривать сам с собой все доль- \
ше и тем приносить мне большее, нежели прежде, утеше- •
ние. Теперь он приобрел привычку и способность вести в \
самом себе беседы и даже заниматься болтовней, так что \
порой мне начинает казаться, будто в голове у меня целое 1
общество собеседников, и самый ничтожный предмет, ко- :
торый приходит мне на мысль, способен вызвать долгий -
разговор между мной и мною же.
Демон. Ты увидишь, что привычка эта будет день ото
дня укрепляться и расти, так что потом, когда ты вновь
получишь возможность встречатся с людьми, тебе пока- ;
жется, что в их обществе ты более празден, чем в
одиночестве. И не думай, что приспособиться к подобному
образу жизни под силу только тем, кто, как ты, уже прежде
привык размышлять: раньше ли, позже ли, но то же
самое происходит с каждым. Более того, быть отлучецным
от людей и, так сказать, от самой жизни значит получить
некую выгоду: ведь человек, даже пресыщенный,
отрезвленный и разочаровавшийся во всех человеческих делах
по собственному опыту, постепенно вновь привыкает
взирать на них издали, откуда они кажутся ему более
прекрасными и достойными, нежели вблизи, забывает об их
тщете и ничтожестве, вновь представляет себе и чуть ли
не творит мир на свой лад, вновь начинает ценить и
любить жизнь, желать ее, и если только у него не отнята
возможность вернуться в общество людей и вера в это,
надежда снова укрепляет и услаждает его, как бывало в
юные годы. Одиночество, таким образом, делает почти
то же самое, что юность, то есть омолаживает душу,
возвращает силу воображению, снова заставляя его работать,
и дарует умудренному опытом человеку все блага той
первоначальной неопытности, по которой ты вздыхаешь. Я
покидаю тебя, потому что, я вижу, к тебе входит сон; а я
отправляюсь приготовить тебе то прекрасное сновиденье,
которое обещал. Так между сновидениями и грезами наяву
ты будешь проводить жизнь, не имея от этого иной
выгоды, кроме той, что жизнь проходит, но ведь это
единственный плод в мире, который можно от нее,получить, и
единственная цель, которую вы должны ставить себе каждое
104
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
утро при пробуждении. Нередко вам приходится волочить
се зубами; счастлив тот день, когда вы можете тащить ее
за собой руками или взвалить на плечи. Но в конце
концов время в твоей тюрьме бежит не медленнее, чем в
залах и садах того, кто тебя угнетает. Прощай.
Тассо. Прощай. Нет, послушай! Твои речи так
ободряют меня! Не то чтобы моя печаль от них проходила, но
большую часть времени она подобна мраку безлунной и
беззвездной ночи, а с тобою походит на сумерки, которые
нам скорее приятны, нежели тягостны. Чтобы впредь я мог
призвать тебя или найти, когда мне будет в тебе нужда,
скажи, где ты пребываешь, где твое обычное обиталище?
Демон. Неужто ты еще не понял этого? В неком
благородном напитке!
РАЗГОВОР ПРИРОДЫ
С ИСЛАНДЦЕМ
Один Исландец, объездивший почти весь мир и
успевший пожить в разных землях, странствовал однажды в
глубине Африканского материка, и вот, когда он проходил
под самым экватором по местам, куда не проникал ни один
человек, с ним случилось нечто подобное тому, что
произошло с проплывавшим мимо мыса Доброй Надежды Вас-
ко да Гама1, которому предстал в обличье гиганта сам мыс,
страж южных морей, чтобы отвратить его от намерения
углубиться в неведомые воды. Наш Исландец заметил
издали огромную фигуру, видную по пояс, и на первых
порах решил, что она, должно быть, из камня, наподобие
тех колоссальных герм, которые он видел много лет назад
па острове Пасхи 2. Однако, приблизившись, он обнаружил,
что перед ним непомерного роста жейщина и что она
сидит на земле, выпрямившись и опираясь спиною и локтем
о горный хребет. И женщина эта была не изваянной, но
живой, лицо ее было прекрасно и вместе грозно, глаза и
волосы черны как смоль; она пристально глядела на
Исландца, ничего не говоря, и лишь долгое время спустя
произнесла наконец:
Природа. Кто ты? Чего ты ищешь в этих местах, где
и не видали существ твоей породы?
105
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДЙ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Исландец. Я — бедный Исландец, убегающий от i
Природы. Почти всю мою жизнь я убегал от нее, прошел 1
через тысячи стран на земле, и вот теперь мой путь лежит 1
через эту. 1
Природа. Так белка бежит от гремучей змеи, поку-I
да сама не попадет ей в пасть. Я та, от кого ты бежишь. 1
Исландец. Ты — Природа? ]
Природа. Да, я и есть Природа. ]
Исландец. Вот беда! Право, большей неприятности j
со мной не могло приключиться. <
Природа. Ты отлично мог сообразить, что я особенно
часто бываю в этих местах: тебе ведь известно, что здесь ;
моя власть дает себя чувствовать сильнее, чем где бы то
ни было. Но что заставляло тебя спасаться от меня
бегством?
Исландец. Тебе следует узнать, что в самой ранней
молодости, едва набравшись опыта, я убедился в тщете
жизни и неразумии людей, которые, непрестанно воюя
между собой из-за безрадостных наслаждений и бесполезных
богатств, претерпевая и причиняя друг другу бесчисленные
горести и беды, действительно их мучащие и вредящие им,
тем больше удаляются от счастья, чем усерднее его ищут.
Побуждаемый этими мыслями и отказавшись от всех
желаний, я порешил, никому не докучая, не заботясь о том,
чтобы подняться выше, не оспаривая у других никаких
благ в мире, жить жизнью безвестной и спокойной.
Отчаявшись в наслаждениях, ибо в них отказано нашему
роду, я положил единственной моей заботой избегать
страданий. Я не имею в виду сказать, что хотел воздержаться
от трудов и напряженья телесных сил: ведь ты сама
знаешь, в чем разница между трудами и тяготами и между
жизнью безмятежной и жизнью праздной. Чуть только
начал я делать так, как решил, мне пришлось узнать на
опыте, что тщетно было думать, будто можно, живя среди
людей и никому не делая зла, не претерпеть зла от других и,
добровольно уступая во всем и довольствуясь всегда
самым малым, добиться, чтобы тебе оставили хоть какое-то
местечко и не отнимали этой малости. Тогда я легко
избавился от людей, бывших мне в тягость, удалившись от их
общества и обрекши себя на одиночество, благо на моем
родном острове можно осуществить это без всякого труда.
Поступив так и не зная в жизни даже тени наслаждения,
я не мог, однако, прожить и без страданий, потому что
106
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
долгая зима, сильная стужа и палящий летний зной,
свойственные тем местам, непрестанно мучили меня, а огонь
подле которого мне приходилось проводить почти все
время, иссушал мою плоть и разъедал глаза дымом, так что
ни дома, ни под открытым небом мне невозможно было
уйти от неизбывных тягот. Не мог я сохранить и
безмятежности жизни, хотя к этому более всего были направлены
мои помыслы, потому что ужасающие бури на море и на
суше, угрожающий грохот Геклы3, боязнь пожаров, столь
часто случающихся там, где жилища, подобно нашим,
построены из дерева,— все это непрестанно тревожило
меня. Когда жизнь однообразна и в ней нет ни стремлений,
ни надежд, ни даже забот о чем-либо, кроме спокойствия,
тогда все эти помехи внушают немалую тревогу и
оказываются куда тягостнее, чем представляются тому, чья
душа занята больше всего мыслями о жизни в людском
обществе и о неприятностях, причиняемых людьми.
Убедившись, что, чем больше я стесняю себя и чуть ли не
сжимаюсь в комок, стараясь, чтобы мое существование никому
и ничему не докучало и не вредило, тем меньше мне
удается избавиться от тревог и мучений, причиняемых
окружающими меня предметами, я решил все время менять
места и климаты, желая увидеть, можно ли хоть в какой-
нибудь стране на земле, не причиняя зла, не терпеть его
и, не наслаждаясь, не страдать. На такое решение
подвигла меня и некая мысль, что родилась в моем уме: быть
может, ты предназначила для рода человеческого на всей
земле только один климат (как ты сделала это для
остальных родов животных и растений) и определенные
местности, а вне их люди не могут процветать и жить без тягот
и нужды, и обвинять в этом следует не тебя, а их самих,
презревших и преступивших пределы, предназначенные
твоим законом для человеческого обитания. Я обыскал почти
весь мир и узнал на опыте почти все страны, повсюду
следуя своему правилу как можно меньше обременять собою
прочих тварей и заботиться лишь о безмятежности жизни.
Но меня жег зной в тропиках, вновь леденил холод
ближе к полюсам, угнетало в умеренном климате
непостоянство погоды, и повсюду мне вредило движение стихий. Я
видел множество мест, где дня не проходит без грозы, а
это все равно как если бы ты что ни день шла войной на
тамошних жителей, не виновных перед тобой ни в каком
преступлении, и давала им бой по всем правилам. В дру-
107
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
гих местах постоянную ясность неба ты возмещаешь
частыми землетрясениями, обилием и бешенством вулканов,
подземным клокотанием по всей стране. Неумеренные
ветры и вихри господствуют в ту пору и в тех краях, которые
избавлены от свирепости других стихий. Мне приходилось
слышать, как трещит у меня над головой кровля,
обрушиваясь под тяжестью снега, приходилось видеть, как
земля, разверзшись от избытка дождей, уходила у меня из-
под ног, приходилось бежать что есть мочи от рек,
преследовавших меня, будто я чем-нибудь провинился перед
ними. Много раз дикие звери, которых я не раздразнивал и
на которых не нападал, хотели меня сожрать, а змеи убить
своим ядом, во многих местах летающие насекомые чуть ли
не съедали меня всего до костей. Я не говорю о
повседневных опасностях, всегда грозящих человеку и столь
неисчислимых, что один древний мудрец 4 не нашел лекарства
от страха сильнее, чем такое соображение: всего надо
бояться. Болезни тоже меня не пощадили, хотя я, не скажу
воздержан, но умерен в телесных удовольствиях. Я всегда
немало удивлялся, видя, что ты вложила в нас такую
неотступную и ненасытную жажду наслаждений, без
которых наша жизнь, словно лишенная всего, чего ей
естественно желать, неполна и несовершенна, и вместе с тем
установила, что самое вредное из всех дел человеческих —
предаваться наслаждениям, ибо это пагубно по своим
последствиям для сил и телесного здоровья и враждебно
долговечности. Но как бы то ни было, почти всегда и почти во
всем воздерживаясь от любого удовольствия, я не мог
избежать многих и разных недугов, из которых одни
угрожали мне смертью, другие — потерей какого-либо из
членов и жизнью еще более жалкой, чем прежняя, и все они
на много дней и месяцев угнетали мне тело и душу
тысячами лишений и терзаний. И все же, хотя каждый из нас
испытывает во время болезней новые и непривычные
страдания и чувствует себя несчастнее обычного (как будто
бы каждый день человеческой жизни недостаточно полон
несчастиями), ты не дала человеку взамен такой
поры, когда здоровья у него в избытке, много больше
обычного, и по этой причине он испытывает особое, небывалое
по силе и приятности наслаждение. В странах, покрытых
снегом большую часть года, я чуть было не ослеп, как это
часто случается с лапландцами у них на родине. Солнце и
воздух, животворные и необходимые нам для жизни, от ко-
108
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
торых мы не можем бежать, непрестанно оказывают на
пас вредное действие: воздух — своей влажностью, или
резкостью, или иными свойствами, солнце — своим жаром
и даже самим своим светом, так что человек не может без
больших или меньших тягот, без большего или меньшего
преда находиться на солнце или на воздухе. И получается,
что я не могу вспомнить за всю жизнь ни единого дня,
проведенного без страданий, как не могу сосчитать дней,
когда я не испытал и тени наслаждения; потому я и
замечаю, что нам в равной мере суждено и неизбежно знать
страдания и не знать наслаждений, что в той же мере нам
невозможно жить спокойно, как и жить, не ведая покоя, но
не зная и несчастья. И я осмеливаюсь заключить, что ты—
явный враг человека, и всех других живых существ, и
всего созданного тобою, что ты то строишь нам козни, то
угрожаешь нам, то на нас нападаешь, то язвишь нас, то
терзаешь, то бьешь и всегда либо причиняешь нам зло,
либо преследуешь нас, что ты по своему нраву или
потому, что так установлено, делаешься палачом своей семьи,
свои?с детей и, так сказать, собственной плоти и крови. И
вот я лишился всякой надежды, поняв, что люди
перестают преследовать того, кто бежит от них и прячется с
искренним желанием убежать и спрятаться, ты же без
всякой причины не перестаешь нас гнать, покуда не изведешь.
Я вижу уже, как приближается ко мне печальная и
мрачная старость, истинная и явная беда, больше того,
соединение всех бед и тяжких несчастий; и приходит она не
случайно, а по твоему закону, неизбежная для всех живущих,
каждым прозреваемая с малолетства и непрестанно
подготовляемая начинающимся без людской вины после
пятого пятилетия жизни угасанием и ослаблением. Выходит,
что едва треть человеческой жизни отведена на
расцветание, немногие мгновения — на зрелость и совершенство,
а все остальное — на увядание и проистекающие из него
тяготы.
Природа. Уж не вообразил ли ты, будто мир создан
ради вас? Знай же, что, творя, устанавливая порядок и
вообще что-либо совершая, я почти всегда имела и имею
в виду нечто иное, нежели счастье или несчастье людей.
Когда я каким-либо образом или действием причиняю вам
зло, я этого не замечаю, за редчайшими исключениями; и
точно так же, если я порою даю вам наслаждение или
благодетельствую, я обыкновенно даже не знаю об этом; я
109
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
никогда не делала и не делаю ничего, имея в виду, как вы I
мните, доставить вам радость и угодить вам. И наконец, j
если бы даже мне случилось истребить весь ваш род, я бы 1
этого и не заметила. |
Исландец. Возьмем такой случай: кто-нибудь без мо- ]
ей просьбы приглашает меня к себе в усадьбу, приглаша- ]
ет весьма настойчиво, я же, чтобы сделать ему приятное, j
еду туда. Там меня помещают жить в убогой и ветхой
клетушке, сырой, зловонной, открытой ветру и дождю, где мне -
постоянно грозит опасность быть раздавленным. Хозяин,
вместо того чтобы позаботиться о приятном для меня
препровождении времени и о моих удобствах, едва дает мне
необходимое для поддержания жизни и, кроме того,
позволяет своим детям и всем домашним говорить со мной
грубо, насмехаться надо мной, угрожать мне и даже бить
меня. А когда я пожалуюсь ему на такое дурное
обращение, он ответит мне: «Уж не думаешь ли ты, что я
построил эту усадьбу для тебя? И завел себе детей и всю челядь
для того, чтоб они тебе служили? Не о чем мне думать,
что ли, кроме как о том, чем бы тебя развлечь и как бы
содержать получше?» Но на это,я возражу: видишь ли, мой
друг, если ты построил эту усадьбу не мне на потребу, то
ты волен был и не приглашать меня. Но коль ты сам
захотел, чтобы я здесь погостил, то разве не твое дело
устроить так, чтобы я, сколько это от тебя зависит, жил не
мучаясь и не подвергаясь опасностям? Это я и говорю сейчас.
Я знаю, что мир создан тобой не на потребу людям. Мне
легче было бы поверить, что ты его создала и все в
нем устроила нарочно для того, чтобы людей мучить.
Но тогда я спрашиваю: просил ли я тебя посылать
меня сюда, в этот мир? Или, может быть, я вторгся в
него силой, вопреки твоему желанию? А если ты по своей
воле, без моего ведома и так, что я не мог ни отказаться,
ни взбунтоваться, сама, своими руками, поместила меня
здесь, то разве не твой долг пусть даже не заботиться о
том, чтобы я был весел и доволен в твоих владениях, но
хотя бы запретить мучить меня и терзать, чтобы
пребывание в них не шло мне во вред? И то, что я говорю о себе,
сказано от лица всего рода человеческого, от лица всех
животных и всякой твари.
Природа. Мне кажется, ты не обратил должного
внимания на то, что жизнь этого мира есть вечный круговорот
рождения и уничтожения, связанных между собой так, что
ПО
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
одно непрестанно служит другому, и оба вместе —
сохранению самого мира, который распался бы, если бы
прекратилось или одно, или другое. Потому было бы миру во вред,
если бы хоть что-нибудь в нем оказалось свободно от
страданий.
Исландец. Те же самые рассуждения я слышу от
всех философов. Но коль скоро уничтожаемое страдает, а
уничтожающее не испытывает наслаждения и в скором
времени также уничтожается, то скажи мне то, чего не
может сказать мне ни один философ: кому по душе, кому на
пользу эта несчастнейшая жизнь вселенной,
поддерживаемая ценой ущерба и смерти всего, что ее составляет?
Покуда они рассуждали таким или подобным образом,
к ним приблизились, как рассказывают, два льва, столь
истощенные и худые от голода, что им едва хватило сил
съесть Исландца; сделав это и немного подкрепившись,
они могли прожить еще несколько дней. Но есть и такие,
кто это отрицает и утверждает, будто, покуда Исландец
говорил, поднялся жесточайший ветер, который простер
его на земле, а над ним воздвиг горделивый мавзолей из
песка, под коим Исландец, на славу высушенный и
превращенный в превосходную мумию, был обнаружен некими
путешественниками и помещен в музей в одном из
городов Европы.
ПАРИНИ, ИЛИ О СЛАВЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Джузеппе Парини1 был на нашей памяти одним из
немногих итальянцев, в ком превосходный талант
писателя сочетался с глубиною мысли и обширными
познаниями в современной философии, в которой он и сам
подвизался,— что в наши дни неотъемлемо присуще изящной
словесности, ибо она и не была бы воспринята как
таковая, если отлучить ее от философии, чему мы видели в
Италии множество примеров. Парини, как известно,
отличался также крайним простодушием, состраданием к не-
111
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
счастным, любовью к отчизне, верностью друзьям, благо- |
родством души и стойкостью в превратностях, посылаемых 1
ему природой и фортуной и мучивших нашего поэта в те- 1
чение всей его несчастной и смиренной жизни, пока смерть 1
не окутала его мраком. Было у него несколько учеников, 1
которых он обучал прежде всего прочего пониманию лю- I
дей и их дел, а затем уже тому, как услаждать их крас- 1
норечием и стихами. Как-то раз, обращаясь к одному из |
учеников, юноше отменного дарования и великого рвения 1
к наукам, подававшему редкостные надежды, незадолго 1
перед тем поступившему к нему в обучение, Парини про- |
изнес речь такого содержания. 1
Ты ищешь, сын мой, той единственной славы, которой ]
возможно домогаться ныне людям невысокого происхож- t
дения,— славы, которую приносит порой мудрость и усер- м
дие в благородных науках и благородной словесности.
Тебе изначально известно, что слава эта, хоть и не прене-
брегаемая нашими предками, все же почиталась ими не
очень высоко в сравнении с иною славой; ты видел сам, во
скольких местах своих сочинений и с какой заботой
Цицерон, самый пылкий и самый счастливый ее ревнитель,
извиняется перед согражданами за то, что тратит ради нее
столько времени и труда; порой он оправдывается тем, что
занятия словесностью и философией ни в коей мере не
препятствуют ему отдавать себя общественным делам,
порою же тем, что, принуждаемый неблагоприятными
временами воздержаться от дел более важных, он прилежит к
этим занятиям лишь из желания достойным образом
провести дни праздности; и всегда он предпочитал славе,
добытой писаниями, славу, которую стяжал своим
консульством и всем, что он сделал на благо республики. И
поистине, если главный предмет словесности — человеческая
жизнь, а первое стремление философии — внести порядок
в наши поступки, то нет сомнения, что действовать —
настолько же достойнее и благороднее, нежели размышлять и
писать, насколько цель благороднее средств, а вещи и
предметы важнее слов и рассуждений. Ни одно дарование
не создано природой для этих занятий, и человек родится
не для того, чтобы писать, но для того, чтобы
действовать. Поэтому мы видим, что большинство превосходных
писателей, особенно же знаменитых поэтов, даже в нашем
веке—возьмем для примера хотя бы Витторио Альфьери 2—
обладали первоначально чрезвычайной склонностью к ве-
112
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
ликим делам, но, не допущенные к ним нашими
временами, а быть может, и собственным происхождением и
состоянием, они обратились к словесности, создавая великие
творения. Правда, к писанию не были подвигнуты те, кто
не имел к этому ни расположения, ни способностей. Ты
легко можешь увидеть, сколь немногие в Италии, где мы
почти все по духу чужды подвигов, стяжали прочную
славу своими писаниями. По-моему, древность, особенно
греческую и римскую, можно наиболее подобающим образом
представить себе по тому, как изваяна была в Аргосе
статуя Телесиллы3, поэтессы, воительницы и спасительницы
отчизны. Статуя эта изображала ее со шлемом в руке и
со взором, пристально на него устремленным и
выражающим удовлетворение тем, что ей предстоит надеть его на
голову, между тем как свитки лежат у ее ног, ибо
она пренебрегает ими, как ничтожнейшей частью своей
славы.
Но среди нас, людей современных, перед которыми
закрыты все прочие пути к известности, те, кто
направляется по стезе ученых занятий, являют своим выбором
наибольшее величие духа, какое возможно явить в наши дни,
и им нет нужды извиняться в этом перед отечеством.
Посему, если говорить о благородстве души, я хвалю тебя за
твое намерение. Но поскольку этим путем, как не
отвечающим человеческой природе, невозможно следовать, не
нанося ущерба телу и многими способами не обрекая
душу быть более несчастной, чем ей положено от природы,
постольку я считаю, что мне прежде всего надлежит и
должно как по обязанности, так и в силу той великой
любви, которой ты заслуживаешь и которую я к тебе питаю,
предварить тебя и относительно тех различных
трудностей, что встанут перед тобой препонами на пути к
желанной славе, и относительно тех плодов, какие она принесет
тебе, если ты ее достигнешь, предварить в той мере, в
какой я до нынешнего времени сам узнал это на опыте и из
бесед с другими, дабы ты мог поразмыслить наедине с
собой и взвесить, с одной стороны, так ли важна и ценна
твоя цель и так ли велика надежда до нее дойти, а с
другой,— каков ущерб, каковы труды и тяготы, сопряженные
с ее поисками (о них я расскажу тебе особо, когда
представится случай), а затем с полным знанием судить и
решать, идти ли тебе этой стезей или избрать другую.
из
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ГЛАВА ВТОРАЯ
Я мог бы вначале долго распространяться о
соперничестве, о зависти, о едкой критике, о клевете и
предвзятости, о тайных и явных кознях и происках, направленных
в ущерб твоему доброму имени, и о бессчетном
множестве других препятствий, воздвигаемых людскою злобой на
пути, на который ты вступил. Из-за этих препятствий,
всегда труднопреодолимых, а иногда и вовсе непреодолимых,
не один писатель не только при жизни, но и после смерти
был лишен заслуженной чести. Потому что, из-за
ненависти и зависти людей прожив без славы, он и после смерти
остается в безвестности из-за их забывчивости, ибо вряд
ли может приключиться так, чтобы чья-либо слава
родилась или вознеслась тогда, когда о ней . некому и нечему
позаботиться, кроме разве что бумаг, которые сами по
себе немы и неподвижны. Но я намерен оставить в стороне
те трудности, которые возникают вследствие людской
злобы, потому что о них писали многие и много, и ты сам
можешь к этим писаниям обратиться. Я также не собираюсь
рассказывать тебе о тех преградах, которые ставит перед
писателем его происхождение и состояние или даже
простой случай и любая из самых ничтожных причин, в силу
которых нередко сочинения, достойные величайшей
похвалы, навсегда остаются в безвестности или же,
продержавшись на свете лишь короткий срок, выпадают и исчезают
из памяти людей, в то время как другие сочинения, либо
менее, либо ничуть не более ценные, оказываются и
пребывают в великой чести. Я только хочу изложить тебе,
какие трудности и препоны и без вмешательства
человеческой злобы упорно мешают стяжать славу, и притом не
отдельным людям в особых обстоятельствах, а всегда и
почти всем великим писателям.
Ты знаешь, что никто не удостоился этого имени и не
завоевал истинной и прочной славы чем-либо, кроме
превосходных и совершенных или хотя бы приближающихся
к совершенству творений. Теперь тебе следует обратить
внимание на неоспоримую истину, высказанную одним
нашим писателем-ломбардцем; я имею в виду автора
«Придворного» 4, который говорит: «Весьма редко случается,
чтобы тот, кто не владеет пером сам, сколь бы ни был он
образован, мог в совершенстве знать труд и искусство
писателя и наслаждаться приятностью и великолепием разных
114
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
стилей и глубокими мыслями, которые так часто
встречаются у древних». Подумай прежде всего, сколь малое
число людей обучено владеть пером,— значит, сколь мала та
часть человечества, у которой ты можешь надеяться и
ныне и в будущем заслужить высокую хвалу, которую
полагал плодом всей твоей жизни. Кроме того, взгляни, как
много значит во всех писаниях слог, от достоинств и
совершенства которого более всего зависит долговечность
произведений, принадлежащих к роду изящной словесности.
Часто ты, лишив красот слога прославленное сочинение,
о котором ты думал, будто его ценность заключена в
высказанных в нем мыслях, можешь тем самым низвести его
до такой степени, что оно покажется тебе ничего не
стоящим. Далее, язык есть столь важная часть слога и связан
с ним столь неразрывно, что лишь с трудом можно
рассматривать один отдельно от другого; то и дело оба
смешиваются между собой, и не только в речах людей, но и-
в их уме; лишь путем самого пристального, во всех
тонкостях, рассмотрения можно,— а быть может, и вовсе
невозможно— различить, к чему из двух относится то или иное
свойство из тысячи, те или иные из тысячи достоинств и
изъянов, потому что они общи и языку и слогу и
неотделимы от обоих. Но ни один чужестранец не умеет, говоря
словами Кастильоне, владеть пером и с изяществом писать
на твоем языке. Поэтому слог — составляющий такую
большую и важную часть труда писателя, требующий
несказанных стараний и усилий как для того, чтобы обучиться
глубоко и в совершенстве его искусству, так и для того,
чтобы, обучившись, этим искусством пользоваться,— не
имеет иных судей, иных достойных почитателей, способных
воздать ему хвалу по заслугам, кроме тех сынов одного из
народов мира, кто владеет пером. Что до остальной
части рода человеческого, то тут безмерные труды и усилия,
затраченные ради этого самого слога, оказываются по
большей части тщетными и выброшенными на ветер. Я не
говорю уже о нескончаемом разнообразии суждений и
склонностей тех, кто причастен к словесности; но и по этой
причине число людей, способных оценить похвальные
качества той или иной книги, становится еще намного
меньше.
Я хочу, однако, чтобы ты убедился еще в одном: для
того чтобы в совершенстве узнать достоинства
произведения совершенного или близкого к совершенству, мало вла-
115
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
деть пером, но нужно писать с тем же совершенством, что
и автор, о котором ты должен судить. Посему опыт
покажет тебе, что чем глубже ты будешь постигать свойства,
из которых слагается писательское совершенство, и
неисчислимые трудности, испытываемые в его поисках, тем
лучше ты научишься искусству преодолевать вторые и
приобретать первые, так что между постижением всего
сказанного и обучением и овладением названным искусством не
будет ни промежутка, ни различия, но одно сольется с
другим воедино. Вследствие этого человек достигнет
умения до конца понимать превосходные качества лучших
писателей и наслаждаться ими не прежде, чем сам
приобретет способность являть их в собственных сочинениях,
потому что полностью познать эти качества и насладиться
ими можно не иначе как самому занимаясь тем же
самым и, так сказать, перенеся их на самого себя. Прежде
никто и не в силах уразуметь, что есть на самом деле
совершенство в писании. А не понимая этого, нельзя
должным образом восхищаться величайшими писателями. Те,
кто привержен ученым занятиям, по большей части сами
пишут легко и думают, будто пишут хорошо, а потому
поистине не сомневаются в том, что писать хорошо не так уж
трудно. Теперь ты видишь, до чего сократилось число
людей, кому полагалось бы уметь тобой восхищаться и
хвалить тебя по заслугам, когда тебе удастся, трудясь в поте
лица и ценой невероятных лишений, в конце концов
создать превосходное и совершенное произведение. Могу
тебе сказать (а ты поверь моим сединам), что сейчас в
Италии едва ли найдется два или три человека, умеющих и
обладающих искусством отлично писать. А если тебе это
число кажется слишком уж ничтожным, то не думай, что
где-нибудь и когда-нибудь оно бывало больше.
Я не раз дивился про себя, как, например, Вергилий,
великий образец совершенства для всех писателей,
приобрел и сохранил такую необычайную славу. Потому что,
хотя я не очень высоко мню о себе и не думаю, что
способен всесторонне постичь то, чем он велик и в чем искусен,
и насладиться им вполне, однако я уверен, что большая
часть его читателей и хвалителей замечает в его поэмах
не более одной из десяти или двадцати красот, которые
мне удалось открыть после многократного перечитывания
и долгих размышлений. Я на деле убеждаюсь, что
высокая честь и почтение, которые воздаются великим писате-
116
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
лям, проистекают обычно даже у тех, кто читает их и
занимается ими, из слепо усвоенной привычки, а не из
собственного суждения или способности распознать в них
особые достоинства.
Я вспоминаю, что во времена моей юности, когда я
читал поэмы Вергилия,— с одной стороны, сохраняя
свободу суждения и не заботясь о мнении других, что присуще
лишь немногим, а с другой,— будучи еще неискушенным,
как то свойственно молодости, но ничуть не в большей
мере, чем бывает всю жизнь большинство читателей,— я про
себя отказывался присоединиться к общему приговору,
ибо не мог открыть у Вергилия больших достоинств, чем
у любого посредственного поэта. Мне даже сейчас
удивительно, как это слава Вергилия могла взять верх над
славой Лукана5. Знай, что большинство читателей, и не
только в век ложных и превратных суждений, но и в пору
здравой и трезвой словесности, получает больше наслаждения
от красот грубых и явных, нежели от тонких и скрытых,
более от смелости, нежели от целомудренной сдержанности,
чаще от внешнего, нежели от существенного, и всегда
больше от посредственного, нежели от превосходного. Читая
писания одного государя6, человека поистине редкого
дарования, но привыкшего полагать, что самое прекрасное в
словесности— это едкость, шутливость, легкость и остроумие, я
обнаружил, что он в глубине своих мыслей предпочитал
«Генриаду»7 «Энеиде» и если не решался высказать
открыто это свое мнение, то лишь из боязни оскорбить слух
людей. Я не могу постичь, как в конце концов суждение
немногих, пусть даже правильное, могло победить суждение
несметного множества и сделать всеобщей привычкой
почтение, столь же слепое, сколь и заслуженное. Так бывает
не всегда, но я повторяю, что своей славой даже лучшие
писатели обыкновенно обязаны больше случаю, чем
собственным заслугам; быть может, ты убедишься в этом,
услышав последующие мои рассуждения.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Мы убедились уже, как мало найдется таких, кто
способен будет оценить тебя, когда ты обретешь высокие
достоинства, к которым стремишься. Но имей в виду также и
то, что встретится множество помех, которые не позволят
и этим немногим составить справедливое суждение о тво-
117
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ей истинной ценности, хотя они и разглядят ее признаки. 1
Спора нет, о любого рода произведениях красноречия и 1
поэзии судят не столько по их качествам, сколько по то- ]
му действию, какое они оказывают на душу читающего. |
Читатель составляет о них мнение, рассматривая их, так ]
сказать, больше в себе самом, чем в них самих. Оттого и |
получается, что люди с холодными и медлительными от |
природы сердцем и воображением, хотя и наделенные
хорошим слогом, остротой ума и достаточным образованием, |
бывают почти что неспособны подобающим образом вы- |
нести приговор таким писаниям, ибо не могут даже отчас- j
ти отождествить свою душу с душою писателя, и втайне их \
презирают, ибо, читая их и зная, насколько они до поры )
знамениты, не постигают, в чем причина этой славы,— и
все потому, что чтение нимало не волнует их, не рождает
в них никаких образов, а значит, и не доставляет
заметного удовольствия. Даже у тех, кто от природы
расположен и готов воспринять любой образ и оживить его в
своей душе, случаются минуты охлаждения, рассеянности,
томности духа, невосприимчивости, и, пока длится такое
расположение, люди эти точь-в-точь похожи на только что
описанных нами; а случается это по самым разным
причинам, внутренним и внешним, духовным и телесным,
преходящим или постоянным. В такие минуты ни один, будь он
хоть самый лучший писатель, не годится в судьи
сочинений, предназначенных волновать сердце и воображение.
Я не говорю о пресыщении удовольствиями, испытанными
совсем недавно при такого же рода чтении, или о более
или менее сильных страстях, от времени до времени
посещающих душу и занимающих большую ее часть, так что
не остается места для волнения, которое при иных
обстоятельствах было бы вызвано прочитанным. Так по тем же
самым или ,сходным причинам мы замечаем, что одни и
те же места, одни и те же природные и иные зрелища,
музыка и сотни подобных вещей, которые волновали нас в
другое время — или были бы способны взволновать, если
бы мы их видели и слышали,— будучи увиденными и
услышанными теперь, ничуть нас не волнуют и не
доставляют нам наслаждения, хотя они и не стали менее прекрас- ,
ными или менее потрясающими чувства, чем были прежде.
Все же и тогда, когда по одной из названных причин
человек не расположен воспринять действие красноречия
или поэзии, он не преминет вынести суждение о книгах,
118
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
относящихся к первому или второму роду, если ему
случилось прочесть их в эту пору впервые, и не отсрочит своего
приговора. И со мною нередко бывает так, что я беру в
руки Гомера, или Цицерона, или Петрарку и не
испытываю, читая их, ни малейшего волнения. Однако же,
поскольку мне известны все достоинства этих писателей и я
в них уверен как по причине их старинной славы, так и
потому, что на опыте убедился, сколько радости
доставляют они мне в другое время, я не допускаю, чтобы из-за
моего нынешнего отупения у меня появились мысли,
отрицающие их величие. Но когда дело идет о сочинениях,
прочитанных впервые и в силу своей новизны не успевших
еще вызвать толки или утвердиться настолько, чтобы
сомнению в их ценности не оставалось места, тогда ничто не
мешает читателю судить о них по тому действию, какое
они оказывают на его душу в сей миг, и в том случае,
если душа его не расположена к восприятию чувств и
образов, желаемых автором, составить себе низкое мнение и о
книге и о ее создателе, будь они даже превосходными.
И едва ли случится так, что он откажется от этого мнения,
заново перечитав ту же самую книгу в более подходящее
время: ведь скука, испытанная при первом чтении,
отнимет у него желание вернуться к книге, да и вообще кому
не известно, как важно первое впечатление и что значит
иметь уже состайленное суждение, пусть даже ложное?
Иногда бывает, что душа по той или иной причине,
напротив, столь податлива, чувствительна и полна сил и
настолько всему открыта и ко всему готова, что повинуется
малейшему толчку, данному чтением, живо воспринимает
легчайшее прикосновение и по поводу читаемого рождает
сама из себя тысячи волнений и тысячи фантазий, впадая
порой в некий сладостный бред и позабывая о себе. И по
этой причине легко может случиться, что читатель, глядя
лишь на -наслаждение, доставленное ему прочитанным, и
спутав следствия собственных свойств и собственного
расположения духа со свойствами, действительно присущими
книге, сохраняет к ней великую любовь и восхищение,
составляет о ней мнение более высокое, нежели она
заслуживает, и даже предпочитает ее более достойным, но
прочитанным при менее благоприятных обстоятельствах книгам.
Вот и гляди, каким колебаниям подвержены истинность и
справедливость суждений о чужих книгах и чужих
талантах даже у лиц, наиболее к тому способных и вдобавок
119
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
чуждых злобе или пристрастию. Эти колебания таковы,
что человек, впадая в противоречие с самим собой,
по-разному судит о равноценных сочинениях или даже об одном
и- том же сочинении в разные годы своей жизни, в разных
случаях и даже в разные часы одного дня.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
А теперь, чтобы ты не предполагал, будто
перечисленные трудности, вызываемые неподходящим
расположением духа у читателя, встречаются редко и не составляют
правила,— вспомни еще вот о чем: нет явления более
обыкновенного, нежели постепенная утрата с возрастом
естественной способности к восприятию наслаждений,
доставляемых красноречием и поэзией, а равно и другими
подражательными искусствами и всякой мирской красотой. Этот
упадок души, предначертанный нашей жизни самой
природой, бывает теперь больше, чем бывал в другие
времена, начинается раньше и наступает быстрее, особенно у
людей ученых, потому что к собственному опыту каждого
присовокупляется большая или меньшая доля знаний,
почерпнутых из постоянных занятий всем тем, что было в
прошедшие века, и размышлений над ним. Все сказанное, а
также и нынешние обстоятельства жизни в обществе
имеют следствием то, что из людского воображения с
легкостью исчезают призраки, свойственные юности, а с ними и
надежды души, и с надеждами — большая часть желаний,
страстей, рвения, живости, способностей. Так что я
больше удивляюсь тому, что люди зрелого возраста, особенно
ученые, предающиеся размышлениям обо всем
человеческом, бывают еще доступны силе красноречия и поэзии,
нежели тому, что этим искусствам порой не удается
оказать на них действие. Не сомневайся, для того, чтобы
тебя волновали вымышленные красота и величие,
необходимо верить, что в человеческой жизни есть хоть малая
толика подлинного величия и красоты и что поэтическое в
мире существует не только в баснях. Юноша всегда верит
в это, хоть и знает обратное, пока его собственный опыт
не придет на помощь знанию, но трудно верить в них,
пройдя печальную школу практической жизни, особенно если к
опыту присоединяются привычка размышлять и
образование. Из этого рассуждения можно было бы заключить, что
юноши вообще лучше годятся в судьи произведений, пред-
120
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
назначенных пробуждать чувства и образы, нежели люди
зрелые или старые. Но, с другой стороны, очевидно, что
молодые, не привыкнув к чтению, ищут в нем наслаждения,
превосходящего человеческую меру, бесконечного и
невозможного, а не находя его, презирают писателей; то же
случается по тождественным причинам и с людьми иного
возраста, но не книжными. Затем юноши, приверженные
словесности, отчасти по малой опытности с легкостью могут
как в собственных своих писаниях, так и судя о чужих,
чрезмерность предпочесть умеренности, напыщенность или
жеманство оборотов речи и украшений — простоте и
естественности, обманчивые красоты — подлинным. Поэтому
молодые, безо всякого сомнения, составляющие часть
человечества, по своей правдивости и невинности наиболее
расположенную хвалить то, что кажется им хорошим, редко
бывают способны наслаждаться завершенностью и
зрелостью произведения словесности. С течением лет растет
способность, даруемая нам искусством, и слабеет природная
способность. Между тем обе равно необходимы нам.
Затем если кто живет в большом городе, то, будь он
даже награжден самым пылким сердцем и живым
воображением, я все равно не пойму, как красоты природы или
книги могут пробудить в нем нежное и высокое чувство,
гордый и возвышенный образ,— разве что он, подобно
тебе, проводит большую часть времени в одиночестве. Ибо
ничто так не враждебно состоянию духа, располагающему
к названным наслаждениям, как жизнь среди этих людей,
шум этих улиц, зрелище суетного великолепия и царящих
здесь легкомыслия, непрестанной лжи, жалких забот и еще
более жалкой праздности. Что же до толпы пишущих, то,
хочу я сказать, те из них, которые живут в больших
городах, хуже умеют судить о книгах, нежели живущие в
маленьких, потому что в больших городах, где все лживо и
суетно, словесность обыкновенно тоже лжива, суетна или
поверхностна. И если древние считали занятия
словесностью и науками за отдых и развлечение по сравнению с
делами важными, то в наши дни большинство тех жителей
больших городов, что объявляют себя учеными, считает
свою науку и словесность за развлечение и отдых от
других развлечений и действительно так им и предается.
Я полагаю, что замечательнейшие творения живописи,
ваяния и зодчества, будучи распределены по провинциям,
по малым и средним городам, доставляли бы больше ра-
121
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
дости, чем доставляют теперь, собранные в столицах, где
жители, частью полные нескончаемых забот, частью
занятые тысячами забав, чья душа сроднилась с рассеянием, с
распущенностью и суетой или же подчинилась им вопреки
собственной воле, лишь очень редко способны предаваться
глубоким духовным наслаждениям. Кроме того, само
обилие собранных вместе прекрасных творений рассеивает
душу— потому ли, что, обращая на каждое из них лишь
ничтожную долю внимания, нельзя проникнуться живым
чувством, или потому, что это обилие порождает
пресыщенность, из-за которой их созерцают с той же внутренней
холодностью, как и самые заурядные вещи. То же я скажу
и о музыке: ни в каких городах ее не исполняют с таким
совершенством и таким огромным числом инструментов и
голосов, как в больших, где души менее расположены к
дивной растроганности, порождаемой этим искусством, и
менее, я бы сказал, музыкальны, чем в любом другом
месте. И однако же искусствам необходимо иметь
местопребывание в больших городах, чтобы следовать по пути
совершенства и достигать его; но, с другой стороны, от
этого не становится менее истинным, что они доставляют здесь
людям меньше наслаждения, нежели доставляли бы еще
где-нибудь И можно сказать, что художники в молчании и
в одиночестве, ценой непрестанных трудов, тревог и
усердия, готовят наслаждения для людей, которые, привыкнув
обращаться среди шумных толп, могут насладиться лишь
в самой малой мере плодами стольких усилий. Эту участь
всех художников разделяют и писатели.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Но это только мимоходом. А теперь, возвращаясь на
прерванный путь, я скажу, что самые близкие к
совершенству писания'обладают одним свойством: обыкновенно при
втором чтении они нравятся больше, чем при первом.
Обратное происходит с книгами, написанными без большого
искусства и тщания, однако же не лишенными внешней
и мнимой ценности: они, будучи перечитаны, падают во
мнении того, у кого оно при первом чтении сложилось
благоприятно. Но и те и другие, прочитанные по разу,
обманывают порой даже людей ученых и сведущих, так что
посредственным отдается предпочтение перед самыми
лучшими. А в наши дни, — прими это во внимание, — даже те,
122
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
для кого ученые занятия — основа жизни, с трудом
соглашаются прочитать заново современные книги, особенно
того рода, который имеет своей целью доставлять
удовольствие. Этого не бывало у древних, если вспомнить, что книг
было меньше. Но в наше время, столь богатое писаниями,
переданными нам из рук в руки множеством прошедших
веков, при том, какое множество просвещенных народов
существует сейчас, при чрезмерном обилии книг,
ежедневно производимых каждым из них, и непрестанном обмене
и торговле между ними; кроме того, при столь большом
количестве и разнообразии имеющих письменность языков,
древних и новых, и огромном числе всякого рода наук и
учений, к тому же настолько тесно переплетенных и
связанных между собою, что ученому необходимо постараться
в меру своих возможностей обнять их все, — при этом, ты
сам видишь, времени не хватает даже на первое, а не то
что на второе чтение. Поэтому, какое бы мнение ни
составилось однажды о новых книгах, оно навряд ли изменится.
Прибавь к этому, что по тем же причинам названные
книги, особенно из рода изящной словесности и первый раз,
прочитываются без внимания и без усердия, какие нужны
для того, чтобы обнаружить в них кропотливое
совершенство, глубоко спрятанное искусство, скромные и скрытые
красоты. Так что нынче хуже положение совершенных
книг, нежели посредственных, прелести и достоинства
которых, истинные или мнимые, как бы ни были они малы,
выставлены на обозрение таким образом, что бросаются в
глаза с первого взгляда. И со всей искренностью можно
сказать, что теперь труд ради совершенства написанного
почти что не помогает нам достигнуть славы. Но, с другой
стороны, книги, сочиненные, как почти все современные
писания, наспех и далекие от какого бы то ни было
совершенства, как бы их некоторое время ни прославляли,
неизбежно погибают очень скоро, что мы и видим всякий раз
в действительности. Правда, теперь пишут так много и
столь многие, что даже,те из писаний, которые достойны
остаться в людской памяти и достигли громкой
известности, уносятся дальше неиссякаемым потоком новых книг,
ежедневно появляющихся на свет, и прежде, чем они
успевают, так сказать, укоренить свою славу, гибнут без
всякой иной причины, уступив место другим, достойным или
недостойным, но также ставшим на короткий срок
знаменитыми. Итак, нам дано в наши дни гнаться лишь за од-
123
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ной славой из множества тех, что были доступны древним, 1
да и ее куда труднее настичь, чем это было в древности. ]
Из этого общего кораблекрушения, которое непрерывно ]
терпят все писатели, и благородные и простолюдины, вы- <
плывают на поверхность лишь книги древних, которые бла- ]
годаря своей славе,, незыблемой и упроченной давностью
веков, не только усердно читаются, но и перечитываются
и изучаются. К тому же заметь, что современная книга,
даже сравнимая по своему совершенству с древними, едва
ли может или, вернее, никак не может, не скажу —
снискать ту же меру славы, но и доставить столько же
удовольствия, сколько получают от чтения древних. И это
происходит по двум причинам. Первая из них — та, что новую
книгу никто не прочтет с тщанием и пристальностью,
обычными при чтении издавна прославленных сочинений, почти
никто не перечтет и никто не станет изучать, потому что
книги, если это не ученые книги, никем не изучаются
раньше, чем станут древними. Другая причина — та, что долгая
и повсеместная слава сочинений, пусть изначально она
родилась только благодаря их собственным, присущим им
достоинствам, не может, однажды родившись и возросши,
не прибавить им ценности, отчего и читать их приятнее,
чем раньше, так что порой большая часть испытываемого
удовольствия порождается самою славой. По этому поводу
мне вспоминаются замечательные предостережения одного
французского философа8, который, рассуждая о
происхождении человеческих удовольствий, говорит в таком духе:
«Немало поводов испытать наслаждение наш ум создает
сам для себя, особенно связывая между собой вещи
различные. Поэтому нередко случается, что понравившееся
нам один раз нравится точно так же и вторично только
потому, что однажды оно нам уже понравилось, и
нынешний образ связывается для нас с образом прошлым.
Например, комедиантка, понравившаяся зрителям на сцене,
вероятно, понравится им и у себя дома, потому что и звук
ее голоса, и ее игра, и память о рукоплесканиях,
которыми эта женщина была награждена в их присутствии, и
даже каким-то образом представление о царице, слившееся
с подобающим представлением о ней самой, — все это
вместе составит смесь многих причин, следствием которых
будет только удовольствие. Без сомнения, разум каждого
весь день наполнен образами и соображениями,
побочными по отношению к основным, но с ними связанными. От-
124
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
сюда и получается, что женщина, пользующаяся
репутацией, но отмеченная каким-нибудь малым изъяном, может
устроить так, что изъян этот послужит к ее чести и другие
будут считать его одной из ее прелестей. И на самом деле,
особая любовь, которую питает тот — к этой женщине, а
этот — к той, зиждется в большинстве случаев только на
благоприятных для нее, но предвзятых мнениях, которые
рождаются по причине или благородства ее крови, или ее
богатств, или воздающихся ей почестей, или уважения,
оказываемого ей некоторыми», а часто и по причине
молвы, правдивой или нет — не важно, о ее красоте и
прелести либо даже по причине любви, которую питают или
питали к ней другие. И кому не известно, что наши
удовольствия порождаются больше нашим воображением, чем
свойствами самих доставляющих удовольствие вещей?»
Эти предостережения касаются писаний ничуть не
меньше, чем всего остального. Потому можно сказать, что если
бы нынче вышла в свет поэма, равная или даже
превосходящая своей ценностью «Илиаду», и была прочитана
самым совершенным судьей поэтических творений, она
показалась бы ему не столь приятной и услаждающей, как та,
и не столь высоко была бы им оценена, ибо достоинствам,
присущим самой новой поэме, не пришли бы на помощь
ни двадцативосьмивековая слава, ни бессчетные
воспоминания, ни бесконечное почтение, которые помогают
достоинствам «Илиады». Точно так же я говорю, что если бы
кто-нибудь внимательно прочитал «Иерусалим» или же
«Роланда», совсем не ведая об их славе или зная ее лишь
отчасти, чтение доставило бы ему куда меньше
удовольствия, чем доставляет другим. Поэтому в конце концов, если
говорить вообще, первые читатели каждого замечательного
творения и современники его автора, даже если допустить,
что оно стяжает славу в потомстве, наслаждаются,, читая
его, v меньше всех остальных, из чего получается
величайший ущерб для писателей.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Таковы отчасти те трудности, которые помешают тебе
снискать славу среди ученых и даже таких, кто сам
отличается искусством писать и широтой познаний. Что же до
тех, кто хоть и обладает достаточным образованием, без
которого теперь, можно сказать, нельзя считаться цивили-
125
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
зованным человеком, однако не становится ни ученым, ни
писателем по ремеслу и читает лишь для
времяпрепровождения, то ты сам знаешь, как мало способны они
наслаждаться хорошею книгой, и это еще по одной причине, о
которой мне предстоит сказать. Дело в том, что такие люди
ищут в чтении лишь удовольствия на настоящий миг. Но
миг этот, естественно, кажется всем людям ничтожным и
пресным. Поэтому все даже самое приятное, как говорит
Гомер9,— «сон, и счастливая любовь, и сладостное пение, и
восхитительные пляски», — скоро и неизбежно
прискучивает нам, если с нашим сегодняшним занятием не
сопряжена надежда на какое-либо зависящее от него благо в
будущем. Поэтому человек неспособен испытывать сколько-
нибудь сильное наслаждение, если в него не входит сверх
всего еще и надежда, свойство которой таково, что многие
занятия, сами по себе лишенные малейшей приятности и
даже скучные или трудные, но сулящие надежды на какие-
нибудь плоды, представляются веселыми и отрадными,
сколько бы они ни продолжались; и наоборот, вещи,
которые сами по себе почитаются за приятные, если от них
отнять надежду, чуть ли не отвращают нас, едва мы
успеем их отведать. И если мы видим, что ученые ненасытны
к чтению, нередко весьма сухому, и всегда получают
удовольствие от своих занятий, хотя те и длятся большую
часть дня, то это лишь потому, что все они, читая или
углубляясь в свою науку, постоянно имеют перед глазами
будущую цель, надеются продвинуться вперед или
достигнуть чего-нибудь приятного; и даже читая порою на досуге
ради забавы, они не перестают видеть перед собой кроме
насущного удовольствия еще и некую пользу, более или
менее определенную. В то же время другие, читая, не
имеют никакой иной цели, лежащей, так сказать, за
пределами самого чтения, и поэтому с первых страниц книги, даже
самой приятной и занимательной, пресыщаются
бесплодным наслаждением и, полные отвращения, мечутся от
книги к книге, а в конце концов по большей части приходят
в удивление, как это другие могут долго наслаждаться,
читая так долго. Значит, и из этого ты можешь понять, что
любое искусство, усердие и труд пишущего потрачены
впустую, когда дело идет о таких людях, а к их числу
принадлежит повсеместно большинство читателей. И даже
ученые, изменив с течением лет, как это часто бывает,
предмет и характер своих занятий, едва выносят чтение
126
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
книг, которые в другое время доставляли или доставили
бы им чрезвычайное наслаждение; и хотя они сохраняют
еще разум и опыт, необходимые, чтобы понять Ценность
книги, но, читая ее, испытывают только скуку, потому что
никакой пользы уже не ожидают.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
До сих пор мы говорили о писании вообще, а также
немного о том, что касается главным образом изящной
словесности, к которой ты, я вижу, склонен более всего.
Теперь поговорим особо о философии, не имея, однако,
в виду отделять ее от изящной словесности, полностью от
нее зависимой. Быть может, ты думаешь так: коль скоро
философия имеет источником разум, а разум в большей
мере присущ всем просвещенным людям, нежели
воображение и чувствительность сердца, то, значит, ценность
философских произведений непременно постигается легче и
большим числом лиц, нежели стихи и другие писания,
имеющие своей целью прекрасное и приятное. Я же, со своей
стороны, считаю, что отвечающая предмету способность
судить и совершенное понимание первых встречается не
чаще, чем понимание вторых. Прежде всего, запомни
раз навсегда: для заметных успехов в философии
недостаточно остроты ума и склонности к размышлению, но
нужна также и немалая сила воображения; ведь и Декарт,
и Галилей, и Лейбниц, и Ньютон, и Вико по врожденным
свойствам своих дарований могли бы стать великими
поэтами, а Гомер, Данте и Шекспир — великими
философами 10. Но так как нам и в малой степени не изъяснить и
не развить,эту тему без долгих рассуждений, которые
увели бы далеко от нашего предмета, я довольствуюсь
сказанным и, приступая к дальнейшему, замечу лишь, что
одни философы способны понимать ценность философских
книг и наслаждаться ими. Я имею в виду — их сущностью,
а не какими-либо украшениями, словами, слогом и так
далее. Ведь подобно тому как люди по природе своей, можно
сказать, непоэтические, хотя и понимают в стихах слова
и смысл, все же не воспринимают чувств и образов, так
нередко и те, кто не привык размышлять и
философствовать наедине с собой или неспособен мыслить глубоко,
постигают,— сколь бы ни были правдивы и точны
рассуждения и выводы философа и понятна его манера излагать
127
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
их, — только слова и то, что он хочет сказать, но не
истинность сказанного. Потому что, не имея способности или
привычки ни проникать мыслью в глубь вещей, ни делить
и расчленять собственные идеи на их мельчайшие части,
ни соединять и близко сопоставлять большое число идей,
ни охватывать разумом множество частностей сразу, чтобы
извлечь некую общую идею, ни следовать неустанно
мысленным взором за цепью истин, связанных друг с другом,
ни обнаруживать- тонкие и скрытые нити, соединяющие
одну истину с сотней других, — они не то чтобы с
легкостью, но вообще никак не могут воспроизвести и
повторить собственным разумом ту работу, которую проделал
своим разумом философ, или воспринять воспринятые им
впечатления, — а это единственный способ понять и
оценить надлежащим образом все причины, которые
побудили философа вынести какое-то суждение, то-то
утверждать, то-то отрицать, в том-то усомниться. Так что,
понимая его основные положения, они не понимают, насколько
те истинны или вероятны. Тут происходит почти то же
самое, что бывает с людьми по натуре холодными, когда,
они имеют дело с вымыслами поэтов и с выраженными
в стихах чувствами. Ты знаешь сам, что есть общего у
поэта с философом: они оба углубляются в человеческую
душу и извлекают на свет ее сокровеннейшие свойства,
ее отличие от других, ее тайные порывы, движения и
потрясения, а также их причины и следствия; и кто
неспособен найти в своей душе отклик мыслям поэтов, тот
не чувствует и не постигает и мыслей философов.
По названным причинам и возникает то, что мы видим
повседневно: многие замечательные сочинения, хотя и
равно понятные и ясные для всех, на взгляд одних содержат
тьмы неопровержимых истин, на взгляд других — тысячи
явных ошибок и поэтому оспариваются, публично и в
частных беседах, не только из злобы, или своекорыстия, или
из других подобных чувств, но и по тупости разума, по
неспособности почувствовать и понять неопровержимость их
основ, правильность выводов и заключений и вообще
постичь, насколько все в них сказано к месту, неотразимо
и правдиво. Нередко самые поразительные творения,
философов были упрекаемы в том, что смысл их темен, и не
по вине их создателей, но, с одной стороны, из-за глубины
и новизны их чувств, а с другой — из-за темноты тех, чей
разум никоим образом не способен их понять. Так что
128
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
взгляни, как трудно и в философском роде словесности
снискать хвалу, пусть даже самую заслуженную. Причем
ты можешь не сомневаться, даже если я не говорю этого
вслух, что число подлинных и глубоких философов, — а
кроме них, никто не в силах надлежащим образом
оценить такого же философа — совсем ничтожно даже в наш
век, хоть он и предан философии больше, чем все
прошедшие. Я не говорю уже о различии партий, или как их там
назвать, на которые теперь, как и всегда, разделены те,
что провозглашают себя философами; в каждой из них
обыкновенно отказывают всем принадлежащим к другой
партии в должной хвале и почтении — и не только
намеренно, но и потому, что умы поступающих так уже
захвачены иными идеями.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Если благодаря обширным познаниям и глубоким
размышлениям (ведь нет ничего столь великого, чего бы я не
мог ожидать от твоего таланта) ты поднимешься на такую
высоту, что тебе дано будет, подобно немногим избранным
умам, открыть какую-либо существеннейшую истину, не
только не известную во все прошлые времена, но и никем
из людей не чаемую, совершенно не похожую на
всеобщие, но разделяемые и мудрецами мнения и даже
противоположную им, то и тогда не думай, будто за это
открытие ты при жизни пожнешь необычайную хвалу. Более
того, тебе не воздадут хвалы даже разумные (кроме,
может быть, ничтожного меньшинства их), покуда к этим
истинам, повторяемым то одним, то другим, постепенно не
привыкнут за долгий срок сперва слух, а потом и умы
людей. Ведь ни одна новая и чуждая расхожим суждениям
истина, хотя бы даже при первом своем появлении она
была доказана с очевидностью и неопровержимостью,
словно в геометрии, никогда не могла, если эти
доказательства не были осязаемыми, тотчас же войти в мир и
> твердиться в нем; это происходило лишь с течением
времени, через привычку и пример: люди привыкали верить
в нее, как и во все остальное, верили скорее по привычке,
а не потому, что восприняли душой неопровержимость
доказательств, и в конце концов эта истина, отныне
преподаваемая детям, принималась повсеместно, так что с
удивлением вспоминали о той поре, когда она была нико-
5 Этика и эстетика
129
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
му не ведома, и высмеивали иные мнения, будь то мнения
предков или современников. Все это совершалось тем
дольше и тем труднее, чем важнее и существеннее были новые
истины, вызывавшие недоверие, и чем больше
укоренившихся в людских душах мнений они опровергали. Даже
острые и искушенные умы нелегко постигают силу доводов,
которыми доказываются эти неслыханные истины, ибо они
выходят слишком далеко за пределы знаний и обычных
суждений названных умов, особенно когда и доводы и сами
истины оспаривают их застарелые верования. В свое время
Декарт даже в геометрии, которую он чудесным образом
обогатил приспособлением к ней алгебры, а также
другими своими открытиями, если и был понят, то лишь весьма
немногими. То же произошло и с Ньютоном. Поистине
положение тех, кто необычайно возвысился мудростью над
своим веком, не многим отличается от положения людей
книжных и ученых, которые живут в городах и провинциях,
где нет и не было наук: потому что ни вторые от своих
сограждан и земляков (об этом я скажу дальше), ни
первые от своих современников не получают того почтения,
которого заслуживали бы, и нередко бывают даже
презираемы как вследствие несходства их мнений и жизни с
мнениями и жизнью остальных, так и вследствие общей
неспособности постичь величие их дарований и творений.
Нет спора, человеческий род вплоть до нынешних
времен с тех самых пор, как возродилось просвещение п,
непрестанно идет вперед в своем знании. Но его поступь
медлительна и размеренна, в то время как люди особые,
высокие духом, предающиеся созерцанию этой постижимой
человеческими чувствами и разумом вселенной, в погоне
за истиной идут или, вернее, бегут очень быстро и не
соблюдая меры. Поэтому никак не возможно, чтобы мир,
видя резвость их хода, ускорил свой шаг настолько, чтобы
вместе с ними или ненамного отставши поспеть туда, где
они в конце концов остановятся. Он и не меняет своей
походки и иногда достигает того или иного предела лишь
спустя столетие или несколько столетий после того, как
его постиг какой-нибудь высокий дух.
Люди, можно сказать, всегда и повсюду согласны в том,
что человеческое знание обязано своим движением вперед
больше всего величайшим талантам, которые рождаются
время от времени, то один, то другой, подобные чудесам
природы. Я же, напротив того, считаю, что больше всего
130
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
оно обязано умам заурядным и меньше всего —
необычайным. Предположим, что один из них, пройдя все
пространство, на какое простираются знания его современников,
обогнал их, так сказать, на десять шагов. Однако
прочие люди не только не расположены следовать за ним, но
иногда даже смеются над его успехами, не говоря уже о
худшем. Между тем посредственные умы, быть может,
отчасти опираясь на открытия и мысли ума великого, но
главным образом благодаря собственным стараниям
делают все вместе один шаг; но этот шаг по причине краткости
расстояния, то есть малой новизне идеи, к тому же
созданной не одним, а многими, делают вслед за ними все люди.
Так, двигаясь вперед по своей привычке шаг за шагом и
благодаря труду и примеру умов таких же, как они,
посредственных, люди делают в конце концов и десятый шаг,
и идеи того великого признаются за истинные повсеместно
и всеми просвещенными народами. Но он, уже давно
усопший, не получает и через этот успех даже запоздалой и
несвоевременной славы отчасти потому, что уже почти
исчезла память о нем или же несправедливое мнение,
сложившееся о нем при жизни и укрепленное долгой
привычкой, берет верх над всяким иным; отчасти потому, что не
его заслугами люди достигли этой ступени познаний;
отчасти же потому, что люди не только сравнялись с ним в
знаниях, но скоро превзойдут его или, может быть, уже
сейчас стоят выше него и могут по прошествии долгого
времени лучше доказать и объяснить постигнутые его
воображением истины, сделать несомненным то, что он лишь
предугадывал, придать более совершенные порядок и
форму его открытиям и довести их до полной зрелости. И
разве что кто-нибудь из ученых, углубляясь в воспоминания
прошедших веков, изучив мнения этого великого человека
и сравнив их с мнениями потомков, заметит, как и
насколько он обогнал род человеческий, и воздаст ему хвалу,
которая вызовет негромкий отклик, а потом снова будет
забыта.
Даже если рост человеческого знания, подобно падению
тяжелых тел, приобретает с каждым мигом большую
скорость, то все равно вряд ли может произойти так, чтобы
одно поколение людей изменило взгляды или поняло
собственные заблуждения и потому стало сегодня думать
иначе, чем думало в прежнее время. Но вместе с тем оно
подготовляет для следующего поколения средства познать
5* 131
ДЖАКОМО ЛЁОПАРДЙ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
новое и о многом судить иначе, чем предыдущее. Одна- 1
ко, подобно тому как никто не чувствует движения, несу- |
щего нас по кругу вместе с землей, так человечество не |
замечает, как непрестанно движутся вперед его познания 1
и как то и дело меняются его суждения. Когда мнения 1
меняют, то никто и не думает, что меняет их. Но об этом j
несомненно нельзя было бы не думать, вдруг усвоив идею, !
чуждую тем, которых придерживались только что. Поэтому .
современники того, кто первым познал подобную истину, '
никогда ей не поверят, если только она сразу не сделается !
очевидной.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Допустим, что ты, одолев все препятствия доблестью,
которой поможет фортуна, пусть и не станешь знаменит,
но действительно приобретешь славу, и не посмертную, а
прижизненную. Посмотрим же, какие плоды она тебе
принесет.
Во-первых, то, в чем прежде всего заключается
выгода от добытой писаниями славы, — всеобщее желание
видеть тебя и с тобою познакомиться, пальцы прохожих,
устремленные на тебя, почет и уважение, оказываемые
тебе на словах и на деле, — всего этого, казалось бы,
легче достигнуть в маленьких городах, нежели в больших, где
взоры и души рассеянны и отвлечены отчасти богатством,
отчасти властью и лишь в последнюю очередь обращены
к искусству как развлечению и услаждению бесполезной
жизни. Но в маленьких городах по большей части нет того,
что служит- средством и помогает достигнуть отличия в
словесности и науках, а все редкое и ценное стекается в
большие города и там накопляется, и потому маленькие
города, где редко проживают люди ученые и где обычно
никто не предается подобным занятиям, весьма низко
ценят не только науки и мудрость, но и славу, добытую ими,
так что ни мудрость, ни слава не составляют там
предмета зависти. И когда случается человеку замечательному
и даже наделенному необычайными дарованиями жить в
маленьком местечке, тогда даже то обстоятельство, .что он
там единственный, не только не возвышает его, но,
напротив, в такой мере вредит ему, что нередко, будучи
прославлен за пределами своего местечка, он остается в нем
по обычаю его жителей самым пренебрегаемым и безвест-
132
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
ным из всех. Если бы где-нибудь были неизвестны и не
ценились золото и серебро, то человек, который не владел
бы другим имуществом, кроме этих металлов, был бы и
считался, несмотря на их обилие, не богаче, а беднее всех;
точно так же если там, где талант и образование
неизвестны и потому не ценятся, и есть кто-нибудь обладающий
тем и другим в изобилии, то он не только не может стать
выше остальных, но почитается лицом самым ничтожным,
особенно когда не имеет другого достояния. И настолько
невероятно, чтобы он был в подобных местах чтим по
заслугам, что часто в нем. видят человека более великого,
чем он есть на самом деле, а это тоже не способствует
уважению к нему. В ту пору, когда я в молодости
возвращался иногда в мой маленький Босизио 12, чуть только
по округе стали известны моя приверженность наукам и
занятия словесностью, как я прослыл среди поселян
поэтом, философом, физиком, математиком, врачом,
законоведом, богословом и знатоком всех языков мира; они
задавали мне вопросы о чем угодно, о любой науке и о
любом наречии без различия, — словом, обо всем, что им
приходило на ум. И хотя они думали обо мне так, но
большего уважения ко мне по этой причине не питали; они
даже считали, что я уступаю всем ученым людям из
других мест. А если я давал им повод заподозрить, что мои
познания не так безмерны, как им казалось, я падал в их
мнении еще ниже, пока они в конце концов не убеждались,
что образование мое ничуть не шире, чем их собственное.
Что до больших городов, то из сказанного раньше ты
можешь без труда заключить, сколько препятствий мешает
там и приобрести славу и по приобретении наслаждаться
ее плодами. Сейчас я прибавлю только одно: хотя труднее
всего заслужить славу превосходного поэта, приятного
писателя или философа, к которой ты по преимуществу и
стремишься, — она же, несмотря на это, приносит меньше
всего плодов тому, кто ее добыл. Тебе известны вечные
сетования, известны древние и новые примеры нищеты и
злосчастья величайших поэтов. Все, что касается Гомера —
и поэзии, и личности, — неясно и, так сказать, сладостно-
смутно; и родина его, и жизнь, и все остальное есть как
бы тайна, непроницаемая для людей. И среди всей этой
неопределенности и неведения есть одно только устойчивое
предание: о том, что Гомер был беден и несчастен, —
словно молва и память многих столетий не желала оставить
133
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
места сомнениям в том, что участь всех лучших поэтов
разделил и первенствующий в поэзии. Но если даже оста- |
вить в стороне все прочие блага и говорить только о
почете,— никакая слава не доставит тебе в повседневной жиз- ]
ни меньше почета и не поможет так мало подняться в об- j
щем мненье, нежели та слава, о которой мы только что
говорили. То ли оттого, что подобная репутация лишается
ценности и не внушает веры по той причине, что множе- ;
ство людей пользуются ею незаслуженно, между тем как
заслужить ее бесконечно трудно; то ли, скорее, оттого, что
почти все люди хоть мало-мальски образованные думают,
будто сами либо обладают такими же знаниями и
способностями к изящной словесности и к философии, либо могут
с легкостью их приобрести, и поэтому не признают
стоящими выше себя тех, кто действительно всем этим
отличается; то ли отчасти по одной, отчасти по другой
причине, — но только тот, кто прослыл посредственным
математиком, физиком, филологом, знатоком древностей,
посредственным живописцем, ваятелем, музыкантом, кто с
грехом пополам выучил хотя бы один древний или
иностранный язык, наверняка сможет благодаря этому снискать
даже в самых лучших городах больше уважения и почета,
чем тот, кого самые сведущие судьи знают и прославляют
как замечательного философа или поэта или как человека,
на редкость искусно владеющего пером. Есть два самых
благородных, самых необычайных и блистательных удела,
достижимых с наибольшим трудом, две, так сказать,
вершины человеческого искусства и науки — поэзия и
философия; но мир более всего пренебрегает дарованиями тех,
кто ими занимается, а им самим предпочитает те
искусства, чьи произведения создаются руками, — среди прочих
причин также и по той, что никто не считает себя
владеющим одним из них, не обучившись ему, и не думает, что
ему можно обучиться без стараний и трудов. Так что в
конце концов поэт и философ не получают в жизни иного
плода от своего таланта, иной награды за свои занятия,
кроме славы, возникающей среди малого числа людей и
лишь ими поддерживаемой. И это также одна из многих
сторон, которыми философия сходна с поэзией —такая же
нищая, как поет Петрарка 13, и нагая, лишенная не^
только всякого богатства, но и уважения и почета.
134
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Поскольку нет возможности, чтобы твоя слава
помогала тебе жить среди людей, постольку наибольшая польза,
из нее извлекаемая, заключается в том, что ты постоянно
будешь помнить о ней и радоваться ей в тишине своего
уединения, побуждаемый и ободряемый ею к новым
трудам, и строить на ней-новые надежды. Ведь слава
писателя оказывается, подобно всем людским благам, более
заманчивой издали, нежели вблизи, и стяжавший славу,
можно сказать, никогда не чувствует ее присутствия и не
находит ее нигде.
Поэтому в конце концов ты обратишься в воображении
к последнему убежищу и оплоту великих душ — к
потомству. Ведь даже Цицерон, щедро наделенный славой, да
не одной и не заурядной, а множественной и небывалой и
такой большой, какую подобало снискать у древних римлян
величайшему из древних и величайшему из римлян, с
тоскою обращается к будущим поколениям и говорит так,
хотя и от лица другого человека н: «Неужели ты думаешь,
будто я мог бы обречь себя на такие труды и тяготы,
претерпеваемые днем и ночью, в городе и в поле, если бы не
верил, что слава моя перейдет границы моей жизни?
Разве не стоило бы избрать спокойную и праздную жизнь,
чуждую трудов и тревог? Но моя душа, сам не знаю как,
словно высоко подняв голову, глядела на потомков, будто
только по прошествии этой жизни ей и предстоит жить».
Цицерон связывает это с ощущением бессмертия души,
заложенным в людские сердца природой. Но истинная
причина— другая: ведь все блага мира приобретаются нами,
только когда мы уже узнали, что и все они не стоят забот
и трудов, потраченных на их добывание, и особенно слава,
за которую платят самой дорогой ценой, а владеют
без всякого прока. Однако, как говорит Симонид15,
Надежда светлая нас всех питает
Отрадой грез прекрасных,
И вот среди трудов напрасных
Кто вешних дней, кто лета ожидает,
Кто утренних лучей,
И средь спешащих по земле людей
Любой сулит себе, что по дороге
И Плутос 1б и другие боги
Его настигнут милостью своей,
135
%
J
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА |
так что, по мере того как человек на опыте убеждается в|
тщетности славы, надежда, как бы преследуемая и гонимая]
с места на место, в конце концов не находит себе пристани-1
ща на всем пространстве человеческой жизни, но от этого]
не слабеет, а перешагнув за порог смерти, останавливается!
на потомках. Ведь человек всегда склонен и испытывает!
потребность поддерживать себя мыслью о будущем благе,]
так же как он никогда не бывает удовлетворен благом J
насущным. Поэтому жадные до славы, снискав ее при жиз-;
ни, гдетают себя больше всего надеждами на славу посмерт- \
ную, подобно тому как никто не бывает столь счастлив се- >
годня, чтобы не презирать призрачное насущное счастье'
и не укреплять себя мыслью о столь же призрачном-;
счастье в будущем.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Но что есть, в сущности, эта наша привычка искать
прибежища у потомков? Разумеется, по самой природе
нашего воображения мы составляем себе о потомках
лучшее мнение, нежели о современниках или даже о живших
до нас,— только потому, что о людях, которые еще не
существуют, мы не можем ничего знать ни по собственному
опыту, ни понаслышке. Но если обратиться к рассудку, а
не к воображению, имеем ли мы право верить, что идущие
на смену непременно будут лучше тех, кто живет нынче?
Я думаю, что все наоборот, и считаю правдивой пословицу,
гласящую, что мир, старея, становится хуже. Мне кажется,
выдающимся людям было бы лучше, если бы они могли
обращаться к жившим до них, ибо их, по словам
Цицерона 17, числом было не меньше, чем будет потомков, а
доблестью они были намного выше. Но, уж конечно, даже
самого достойного в нынешнем столетии человека предки
не наградят хвалой. Допустим, что люди будущего,
свободные от соперничества, от зависти, от любви и
злобные друг к другу, конечно, а к нам, — окажутся более
справедливыми ценителями сделанного нами, чем наши
современники. Но может ли быть, чтобы они и вообще лучше
могли судить о нас? А если говорить лишь о науке и
словесности, имеем ли мы основания думать, что среди
потомков будет больше превосходных поэтов, замечательных
писателей, истинных и глубоких философов, которые, как мы
видели, одни могут должным образом ценить себе подоб-
136
Нравственные очерки
пых? Или же что суждение таких людей будет иметь
большую силу среди тогдашней толпы, нежели оно имеет среди
толпы сегодняшней? Есть ли у нас основанья верить, что
способности сердца, воображения, разума будут у всех
людей больше, чем ныне?
Что до изящной словесности, то разве мы не видим, как
превратно о ней судили в течение многих веков, как
презирали все истинно прекрасное в писаниях, позабыв или
осмеяв лучших писателей, и древних и новых, а любили
и ценили с упорством лишь ту или иную варварскую
манеру, почитая ее за единственно подобающую и
естественную, ибо привычное, сколь бы ни было оно дурным и
безобразным, весьма трудно отличимо от естественного? И
разве не это же бывало в те века и у тех народов, которые
но всем прочем отличались благородством и доблестью?
Можем ли мы быть уверены, что потомки будут хвалить
всегда те же приемы письма, какие хвалим мы, — если,
конечно, то, что мы теперь восхваляем, заслуживает
похвалы? Ясно, что суждения людей о красотах слога и
склонности их непостоянны и меняются в соответствии со
временем, с природой мест и племен, с обычаями, с
привычками, с характером лиц. И этой изменчивости и
непостоянству не может не быть подвержена и слава писателей.
Еще более изменчиво и непрочно положение философии
и остальных наук, хотя на первый взгляд оно
представляется совсем иным, потому что изящная словесность имеет
своей целью прекрасное, а оно во многом зависит от
привычек и мнений, тогда как науки имеют целью истину,
незыблемую и недоступную переменам. Но поскольку эта
истина сокрыта от смертных и только века приоткрывают
ее понемногу, постольку, с одной стороны, люди, стараясь
узнать ее, строя разные предположения, принимая за нее
ту или другую видимость, делятся в зависимости от своих
мнений на множество сект, отчего и в науке рождается
немалая разноголосица. С другой стороны, по мере
приобретения новых познаний, с каждым новым проблеском
истины науки непрестанно растут; в силу этого, а также в
силу различий преобладающих в разные века мнений и
слывущих за неоспоримые истин и самые науки лишь
недолго пребывают в одном и том же состоянии и время от
времени меняют облик и свойства. Я не буду говорить о
первом из этих явлений, а именно о разноголосице, хотя
она, быть может, вредит славе философа среди потомков
137
ДЖакомо леопардй. этика И ЭСТЕТИКА
не меньше, нежели среди современников. Но подумал ли
ты, как должна вредить этой славе среди потомков измен-]
чивость наук и философии? Когда через новые открытия j
или новые предположения и догадки состояние той или]
другой науки заметно изменится по сравнению с нашим]
веком, велико ли будет уважение к писаниям и мыслям i
тех, кто ныне стяжал наибольшую хвалу в этой науке? j
Кто теперь читает сочинения Галилея? А в свое время они^
были, без сомнения, весьма замечательны: ни лучших, ни|
более достойных высокого ума, ни более полных важными*
открытиями и возвышенными идеями тогда, быть может,i
и нельзя было написать о тех предметах, которым они по-;
священы. И тем не менее всякий посредственный физик и,
математик в наши дни намного превосходит Галилея в обе-;
их науках. Кто читает сегодня писания канцлера Бэкона?
Кому есть дело до сочинений Мальбранша? И даже труды
Локка, в том случае если наука, основы которой он
заложил, будет двигаться вперед с той быстротой, с какой она,
-по-видимому, должна это делать, долго ли еще удержатся
в руках людей?
Поистине та же сила ума, то же усердие в трудах,
благодаря которым ученые добывают себе славу, с течением
времени становятся причиной ее угасания или затмения.
Потому что вклад, который каждый из них вносит в свою
науку, тем самым заставляя говорить о себе, влечет за
собою новые вклады, из-за которых их имена и книги
постепенно приходят в забвение. В самом деле, большинству
людей трудно с восхищением чтить тех, чьи познания в
науке намного уступают их собственным. А можно ли
сомневаться, что следующий за нашим век обнаружит
ложность многих вещей, которые утверждаются сейчас и в
которые верят те, кто всех выше своими знаниями, и намного
превзойдет наш век в постижении истины?
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Может быть, напоследок ты захочешь узнать мое
мнение и мой совет: надлежит ли тебе для твоего блага
следовать далее по пути этой славы, если она приносит так мало
проку, если ее так трудно приобрести и неизвестно,
удастся ли сохранить, если она подобна тени, которую, даже
когда она у тебя в руках, ты не можешь ни почувствовать,
ни удержать? Я выскажу тебе кратко и ничего не скрывая
138
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
все, что думаю об этом. Я считаю, что чудесная острота
и сила твоего рассудка, благородство и щедрость твоего
горячего сердца и воображения среди всех свойств,
какими жребий наделяет людские души, принадлежат к числу
самых пагубных и приносящих горе тем, кто получает их
в дар. Но, раз получив их, трудно избежать их пагубного
действия, а с другой стороны, в наше время чуть ли не
единственная польза, которую они могут дать, — это та
слава, которую можно стяжать, приложив их к словесности
или науке. Поэтому мое мнение таково: подобно тому как
бедняки, которых какой-нибудь несчастный случай
лишил одного из членов или же изувечил его, ухитряются,
насколько возможно, обратить это несчастье к наибольшей
своей выгоде, стараясь вызвать в людях сострадание, а
через него пробудить их щедрость, так и ты должен во что
бы то ни стало извлечь из этих твоих свойств единственное
благо, которое они могут дать, как бы оно ни было мало
и ненадежно. Обычно эти свойства считают благодеяниями
и дарами природы; люди, лишенные их, часто завидуют
тем из живших раньше и из современников, кому они
достались в удел. Это противоречит здравому смыслу не
меньше, чем если бы здоровый человек завидовал
телесным увечьям тех бедняг, о которых я говорил, — как будто
эту жалкую долю избирают добровольно ради того
злосчастного заработка, который она приносит. Одни
посвящают себя деятельности, насколько это позволяет
нынешнее время, другие ищут удовольствий, насколько они
доступны смертным. Великим же писателям —неспособным
по природе или по привычке ко многим из человеческих
наслаждений, а многих других лишающим себя
добровольно и нередко презираемым сообществом людей, за
исключением немногих преданных тем же занятиям, — суждено
провести жизнь подобную смерти и жить, если они этого
достигнут, за гробом. Но мы должны идти, сохраняя
величие и силу духа, туда, куда нас влечет наш рок; вот что
больше всего требуется от твоей доблести и от доблести
тех, кто подобен тебе.
штттяя~тятявят~я■ /
РАЗГОВОР ФРЕДЕРИКА РЕЙША
И ЕГО МУМИЙ
Хор мумий
в кабинете Фредерика Рейша 1
Ты, что одна бессмертна в мире, Смерть,
Всю тварь в себе вмещаешь,
Страданья наши прекращаешь
И даришь всем рожденным,
От мук освобожденным,
Не радость, но покой. Глухая ночь
Все мысли погасила
В уме, дремотой побежденном,
И нет ни для надежд, ни для желаний
В иссякших душах силы,
Поэтому ни страха, ни тревоги
В них нет, и не постыла
Нам пустота медлительных веков.
Мы жили. Но как морок
Мучительного сна
В душе младенца оставляет, утром
Лишь смутный след,
Так в нас почти уж нет
Воспоминаний о минувшей жизни
И страха. Кем мы были?
Чем был тот горький миг,
Который жизнью звался?
Теперь он в мыслях предстает пред нами
Таким, какой когда-то
Нам представлялась смерть,
И так же, как она страшит живых,
Страшит нас жизни пламя.
Не знаем мы тревог,
Ни радости, ни боли,
А истинно блаженной доли
Ни смертным, ни умершим не дал рок.
Р е й ш (из-за порога кабинета заглядывает в дверное
окошечко). Черт возьми! Кто научил этих мертвецов
музыке, с чего они распелись в полночь, как петухи? По правде
говоря, меня холодный пот прошиб, и я чуть было не
сделался мертвей их самих. Вот уж не думал, что довольно
мне будет предохранить их от тления — и они оживут.
А они воскресли — и я дрожу с головы до ног, и никакая
философия мне не помогает. Будь проклят тот дьявол, ко-
140
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
торый нашептал мне мысль поместить всю эту братию у
себя дома. Не придумаю, что и делать. Если оставить их
взаперти, как знать, не выломают ли они двери, не выйдут
ли через замочную скважину, чтобы добраться до моей
постели? А звать на помощь и кричать, что я боюсь
мертвецов, мне не пристало. Ну ладно, надо набраться
смелости и попробовать немного припугнуть их.
(Входит.) Эй, детки, что за игры? Позабыли, что ли,
что вы мертвецы? Почему весь этот шум? Неужели после
царского посещения2 вы возгордились и возомнили, что
уже не подвластны прежним законам? Но я смею думать,
что все это шутки ради, а не всерьез. Если вы воскресли,
я счастлив за вас; но я не так богат, чтобы тратиться на
живых, как тратился на мертвых; поэтому убирайтесь-ка
вы прочь из моего дома. Если же то, что рассказывают о
вампирах, правда и вы из их числа, то поищите себе
другой крови; я не расположен дать вам высосать мою кровь,
как бы ни был щедр прежде на ту искусственную, которую
влил вам в жилы3.* Одним словом, если соблаговолите
оставаться тихими и молчаливыми, как до сих пор, мы по-
прежнему ' будем добрыми друзьями и в моем доме вам
ни в чем не будет недостатка; а нет, так имейте в виду:
я возьму дверную перекладину и всех вас изничтожу.
Один из мертвецов. Не сердись: обещаю, что мы
будем мертвы, как прежде, и тебе незачем нас убивать.
Рейш. Так что же за блажь затянуть песню пришла
вам в голову?
Мертвец. Только что, ровно в полночь, в первый раз
завершился тот математический Великий год4, о котором
столько понаписали древние. По этой причине и мертвые
впервые заговорили. И не только мы — на каждом
кладбище, в каждом склепе, на дне моря, под снегом, в
песках, под открытым небом, — все мертвецы, где бы они ни
находились, в полночь пропели, как мы, ту песенку, что
ты слышал.
Рейш. И долго вы еще будете петь и говорить?
Мертвец. Петь мы уже кончили. А дар речи мы
сохраним еще четверть часа, потом замолчим до тех пор,
покуда не завершится еще один Великий год.
Рейш. Если так, то не думаю, чтобы вы еще раз
пробудили меня среди ночи. Что ж, говорите между собою
свободно, а я постою в сторонке и любопытства ради g
удовольствием вас послушаю, не докучая вам.
141
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Мертвец. Но мы можем говорить, только, если
отвечаем кому-нибудь из живых. У кого нет живого
собеседника, того и песенка спета: сразу умолкает.
Рейш. Право, очень жаль: я думал потешиться на
славу, слушая,, что вы говорите между собой, — а вы не
можете...
Мертвец. Даже если бы могли, слушать было бы
нечего: ведь нам не о чем друг с другом беседовать.
Рейш. Мне в голову приходит тысяча вопросов... Но
так как времени у нас мало и выбирать некогда, то
расскажите мне в коротких словах, что испытывали в миг
смерти ваши души и тела?
Мертвец. Самого мига смерти я и не заметил.
Остальные мертвецы. И мы тоже.
Рейш. Как — не заметили?
Мертвец. Так же, как ты, например, сколько бы ни
напрягал внимание, не заметишь того мига, когда
засыпаешь.
Рейш. Но ведь засыпать — это так естественно!
Мертвец. А умирать, по-твоему, не естественно?
Покажи мне хоть одного человека, или животное, или
растение, которое бы не умерло.
Рейш. Теперь я не удивляюсь, что вы поете и
разговариваете, коль скоро сами не заметили, как умерли.
Удара не заметив, он летит
Вперед, на битву — а уж сам убит,
как сказал один итальянский поэт5. Мне казалось, что о
таком деле, как смерть, подобные вам должны знать
больше, чем живые. Но все-таки, если говорить не шутя,
неужели вы не испытывали никакой боли в момент смерти?
Мертвец. Какая же это боль, если тот, кто ее
испытывает, сам того не замечает?
Рейш. Но ведь все убеждены, что ощущение смерти
весьма болезненно.
Мертвец. Как будто бы смерть есть ощущение, а не
что-то ему противоположное!
Рейш. Однако же и те, кто присоединяется к
суждению эпикурейцев о природе души 6, и те, кто разделяет
общее мнение, словом, все или почти все согласны между
собою в одном — в том, о чем я говорю; то есть все. верят,
что смерть по своей природе, даже вне всякого сравнения,
есть самая острая боль.
142
Нравственные очерки
Мертвец. Что же, спроси от нашего имени и тех и
других: если человек не в состоянии заметить того мига,
когда его жизненные отправления в большей или в
меньшей мере, но всего только прерываются либо сном, либо
летаргией, либо обмороком, либо чем-нибудь еще, то как
же ему заметить тот миг, когда названные отправления
прекращаются совсем, и не на короткий срок, а навеки?
Кроме того, как может живое и острое ощущение
возникнуть в миг смерти? Как может, больше того, сама смерть
быть живым ощущением? Неужто, по-вашему, когда
способность чувствовать не только ослабела и сошла на нет,
но и почти совсем иссякла и исчезла, человек способен
испытывать сильное чувство? Или, быть может, по-вашему,
само это ее угасание должно быть сильным чувством? Но
ведь мы видели, что даже умирающие в сильнейших
мучениях от самых острых недугов при приближении смерти,
незадолго до последнего вздоха, утихают и успокаиваются,
и нетрудно понять, что оставшейся в них ничтожной доли
жизни слишком мало, чтобы испытывать боль, которая
прекращается раньше, нежели сама жизнь. Так и скажи
от нашего имени тем, кто думает, что будет умирать от
боли в миг своей смерти.
Р е й ш. Для эпикурейцев, может быть, этих доводов
было бы довольно. Но не для тех, кто судит о сущности
души иначе, так, как я судил прежде и буду судить впредь
с еще большей убежденностью, послушав, как мертвецы
поют и разговаривают. Ведь те, кто верит, что смерть есть
отделение души от тела, не поймут, как это они,
соединенные и слепленные друг с другом столь прочно, что
составляют единую человеческую личность, могут быть
разделены без величайшего насилия и несказанных мук.
Мертвец. Скажи мне: быть может, дух прикреплен
к телу каким-нибудь сухожилием, или какой-нибудь
мышцей, или перепонкой, которые непременно должны
разорваться, когда дух покидает тело? Или, быть может, он есть
один из членов тела, и его нужно насильно оторвать или
отрезать? Разве ты не видишь, что душа выходит из тела,
едва только что-либо помешает ей пребывать в нем, и для
того, чтобы она покинула свое обиталище, нет нужды
насильственно вырывать ее с корнем? И еще скажи мне вот
что: разве, вселяясь в тело, она чувствует, что кто-то с
силой всаживает ее туда и прикрепляет или, как ты
говорил, слепляет с ним? Почему же она должна, выходя из
143
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
тела, ощущать некий разрыв или, скажем так,
испытывать очень сильное чувство? Знай и не сомневайся, что и
вселение души в тело и ее выход оттуда одинаково
спокойны, легки и безболезненны. f
Рейш. Но если смерть не есть боль, то что же она;
такое? /'
Мертвец. Скорее, удовольствие. Знай, что мы уми-1
раем, как и засыпаем, не в один миг, а постепенно.
Правда, постепенность эта бывает разной, в зависимости от
причин или видов смерти, наступающей быстрей или
медленней. В последние мгновения смерть не причиняет боли и
не приносит наслаждения, как, впрочем, и сон. Но и в
предшествующие мгновения она не может вызвать боль,
потому что боль есть нечто живое, а чувства человека в то
время, когда умирание уже началось, можно тоже назвать
умирающими, до такой степени они уже лишены силы.
Зато смерть может доставлять наслаждение, потому что
наслаждение не бывает столь живым,— больше того, почти
все человеческие удовольствия состоят в некой
расслабленности и томности. Поэтому чувства человека способны
испытывать наслаждение, почти уже угаснув, ибо нельзя
забывать, что сама слабость есть удовольствие, особенно
когда она освобождает от страдания: ведь тебе известно,
что прекращение боли и всякого неприятного чувства само
по себе есть наслаждение. Значит, томление смерти
должно быть особенно сладостным, потому что освобождает
человека от самого большого страдания. Что до меня, то
хоть я в час моей смерти не обращал особого внимания на
свои ощущенья, потому что врачи запретили мне утомлять
мозг, но все же помню, что испытываемое мною чувство
не слишком отличалось от того сладкого томления,
которым одаряет нас сон перед тем, как мы в него погрузимся.
Другие мертвецы. И мы, помнится, чувствовали
то же самое.
Рейш. Пусть будет так, как вы говорите. Однако все,
с кем я имел случай порассуждать об этом предмете,
судили совсем иначе, — хотя, насколько я помню, никто из них
не ссылался на собственный опыт. А теперь отвечайте:
когда, умирая, вы испытывали это сладостное чувство,
приходило-ли вам в голову, что вы умираете и что
наслаждением своим обязаны милосердию смерти? Или вы
воображали что-нибудь иное?
Мертвец. Пока я не умер, меня не покидала уверен-
144
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
пость, что мне удастся избежать этой опасности, или по
крайней мере я, пока сохранял способность мыслить,
надеялся, что мне еще остается жить часа два-три. Я думаю,,
это происходит со многими умирающими.
Другие мертвецы. Да, то же самое было и с нами..
Рейш. Это вроде того, что говорил Цицерон7: нет, мол,,
такого дряхлого старика, который бы не сулил себе
прожить еще года два-три. Но как вы в последний миг
заметили, что дух покинул тело? Скажите, как вы узнали о>
том, что уже умерли? Не отвечают. Эй, ребята, не слышите
вы меня, что ли? Видно, четверть часа уже истекла..
Пощупаем-ка их. Ну вот, они опять мертвы, как положено;,
можно не опасаться, что они еще раз меня напугают.
Пойду снова спать.
ДОСТОПАМЯТНЫЕ РЕЧИ
ФИЛИППО ОТТОНЬЕРИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Филиппо Оттоньери, чьи примечательные рассуждения
я намереваюсь записать, частью слышав их из его
собственных уст, частью же — в передаче других, родился и
большую часть жизни прожил в городе Тучча, в провинции
Вьетраполле, где и умер недавно и где никто не помнит,
чтобы он хоть кого-нибудь оскорбил словом или делом.
И все же он был для сограждан предметом общей
ненависти, ибо, на их взгляд, находил мало удовольствия в том,
что обыкновенно любит и к чему стремится большая часть
людей,—хотя Оттоньери и намеком не давал понять, как
невысоко ставит он все эти вещи, и никогда не упрекал
тех, кто больше других ими наслаждался и гонялся за
ними. Можно думать, что он в жизни, а не только в мыслях
был тем, чем люди его времени лишь объявляли себя, то
есть философом. Поэтому он и казался странным, хоть и не
стремился ни в чем отличаться от других и еще менее —
выставлять это напоказ. По этому поводу он говорил вот
что: если нравы, привычки и поступки просвещенного
человека, самые странные из всех, какие можно найти в наши
дни, сравнить с нравами, привычками и поступками тех,
145
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДЙ ЭТИКА Й ЭСТЕТИКА
кого считали странными древние, то окажется, что они не!
только другого рода, но и не настолько уж отличаются от|
принятого у современников, и посему странность, которая!
представляется ныне живущим разительной, показалась]
бы древним ничтожной даже в те времена и у тех наро-1
дов, что в древности считались наименее просвещенными |
или наиболее испорченными. И, сопоставляя странности ]
Жан-Жака Руссо, который казался нашим дедам совсем 1
уж чудаком, со странностями Демокрита или первых кини- 1
ческих философов, он добавлял, что если бы теперь чья- I
либо жизнь так отличалась от нашей, как жизнь этих фи- 1
лософов от обычной в их времена жизни греков, то такой ]
человек был бы сочтен не только чудаком, но и, так ска- 1
зать, извергом рода человеческого. И он полагал, что аб- ]
солютная мера странности, которую возможно встретить
в какой-либо стране в тот или иной век, может дать нам 1
понятие о мере цивилизации в этой стране и в этот век. \
В жизни — при всей своей чрезмерной воздержно- ]
сти — он объявлял себя эпикурейцем, быть может, более j
в шутку, нежели серьезно. Но Эпикура он осуждал, гово- ;
ря, что в его время и у его народа больше наслаждения j
можно было получить, стремясь к доблести и к славе, не- j
жели предаваясь праздности и пренебрегая всем, кроме j
телесных удовольствий, в которых этот мудрец усматривал I
высшее благо человека. И при этом он утверждал, что уче- j
ние Эпикура, словно нарочно созданное для нашего време- j
ни, было совсем чуждо древности. ]
В философии ему нравилось именовать себя сократи- 1
ком, и нередко он, подобно Сократу, проводил большую *
часть дня то с одним, то с другим, чаще же всего с кем- \
нибудь из своих друзей в философических беседах о
любом предмете, подсказанном ему случаем. Но, в отличие от
Сократа, он не захаживал в мастерские сапожников или :
столяров, в, кузни или в другие подобные места, полагая, ■
что у афинских столяров и кузнецов было довольно
времени, чтобы тратить его на философские споры, а ремес- ;
ленники Туччи, если бы стали поступать подобным же
образом, перемерли бы с голоду. Да и рассуждал он не так, ,
как Сократ, то есть не задавал непрестанно вопросов и не
приводил новых доводов,— потому что, как он говорил, <
даже среди современных людей, более терпеливых, чем '
древние, не найдется ни одного столь выносливого, кто в
силах был бы ответить на тысячи вопросов и выслушать
146
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
тысячи выводов. И, по правде, от Сократа была у него
только манера порою говорить иронически и обиняками.
Доискиваясь до причин знаменитой сократовской иронии,
он утверждал вот что: Сократ от рождения был
награжден благородством души и сильнейшей склонностью к
любви; но, обделенный сверх всякой меры телесной красотой,
он, вероятно, с юных лет отчаялся в том, что его могут
любить иначе, нежели по-дружески, а этот род любви
меньше всего способен удовлетворить сердце мягкое и
горячее, зачастую испытывающее куда более нежное чувство..
С другой стороны, при том что он обладал в высокой мере
отвагой, источником которой является разум, природной
храбрости ему, как видно, не хватало, как и других
свойств, необходимых в тот век войн и мятежей, да еще
при афинской вольности, для того чтобы заниматься на
родине общественными делами1. К тому же его
непривлекательная и смешная наружность наносила ему, наверно,
немалый ущерб в глазах народа, у которого даже в языке
красивое и доброе почти не различаются2, а кроме того,
приверженного злословию. Потому-то в городе свободном
и шумном, полном страстей, дел и развлечений, богатств
и всяческих благ, бедняк Сократ, лишенный любви, мало
способный к общественной деятельности, но при этом
наделенный величайшими дарованиями, которые в
соединении с названными его качествами должны были сверх
меры увеличивать их тягость, от нечего делать пустился в
тонкие рассуждения о поступках, обычаях и нравах
сограждан, и рассуждал он не без иронии, естественной для
человека, которому многое мешало получить, так сказать,
свою долю в жизни. Но в силу мягкости и благородства
его натуры, а также благодаря известности, которую он
заслужил своими рассуждениями и которая должна была
хоть отчасти утешать его самолюбие, ирония эта была не
презрительной, не едкой, но спокойной и приятной.
Так философия, впервые, согласно знаменитому
изречению Цицерона 3, низведенная с неба на землю, была
введена Сократом в города и дома и, отвернувшись от
созерцания вещей таинственных, которыми она была занята до
той поры, обратилась к наблюдению обычаев и жизни
людей и к прениям о добродетелях и пороках, о благом и
полезном, о злом и вредном. Но сначала Сократ не имел
в виду этих новшеств, не собирался ни чему-либо учить,
ни искать имени философа, которое в те времена принад-
147
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
лежало только физикам и метафизикам, так что он и не|
надеялся заслужить его своими прениями и беседами; он|
даже провозглашал во всеуслышанье, что ничего не знает,!
и имел лишь одно намерение: развлечься болтовней о чу-1
жих делах, предпочитая это времяпрепровождение и самой!
философии, и любой другой науке или искусству, потому!
что, по природе более склонный к деятельности, нежели к|
умозрению, он занялся своими беседами лишь из-за тех |
помех, которые не давали ему действовать. Да и беседуя, 1
он охотнее всего имел дело с молодыми и красивыми, об- |
манывая свое вожделение и радуясь уважению тех, кем 1
он бы предпочел быть любимым. И поскольку все фило- |
софские школы, возникшие после этого в Греции, в какой- |
то мере ответвились от сократической, заключал Оттонь- |
ери, постольку началом всей греческой философии, из кото- |
рой родилась современная философия, был вздернутый нос 1
и сатировское лицо человека, обладавшего отменным та- 1
лантом и пылким сердцем. И еще он говорил, что в книгах 1
учеников Сократа4 и его личность подобна тем маскам |
нашей старинной комедии, которые повсюду имеют одно ]
имя, одно платье и один нрав, во всем же остальном раз- 1
личаются в каждой комедии. |
Оттоньери не оставил сочинений по философии или о |
чем-нибудь еще; писал он только для себя. На вопрос, |
почему он не хочет философствовать письменно, как дела- 3
ет это устно, и изложить свои мысли на бумаге, он отве- |
чал: чтение — это беседа с автором написанного. Но как 1
на праздниках и общих забавах тот, кто не принимает уча- 1
стия в зрелище или не думает, что принимает в нем уча- 1
стие, быстро начинает скучать, так и в беседе бывает 1
приятнее говорить, чем слушать. А книга по необходимо- 1
сти похожа на собеседника, который всегда говорит сам ]
и никогда не слушает. Поэтому нужно, чтобы книга гово- ]
рила много' добрых и прекрасных вещей, и говорила их |
хорошо, — только тогда читатель простит ей словоохотли- I
вость. Иначе она станет такой же ненавистной, как всякий 1
ненасытный говорун. ]
ГЛАВА ВТОРАЯ |
Для него не было различия между делом и забавой и
всегда, сколь бы серьезным ни было занятие, он говорил,
что хорошо развлекся. Только порой, пробыв полчаса в I
148 I
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
праздности, он признавался, что не имел ничего для
времяпрепровождения.
Он утверждал, что самые истинные радости в нашей
жизни мы черпаем из лживых вымыслов и что дети даже
в ничто находят все, а зрелые люди во всем — лишь ничто.
Каждое из наслаждений, обыкновенно называемых
подлинными, он сравнивал с артишоком: тот, кто хочет
добраться до сердцевины, должен сперва разжевать и
проглотить все листья. К тому же, добавлял он, такие
артишоки весьма редки, а в большом количестве попадаются
другие, снаружи похожие на них, но без сердцевины; ему
же трудно заставить себя глотать листья, поэтому он
довольствуется чаще всего тем, что воздерживается и от тех
и от других.
На вопрос, какой миг в жизни человека самый худший,
он ответил: для меня, кроме мгновений боли и страха, нет
мига хуже, чем миг наслаждения, потому что надежда на
него и воспоминания о нем, занимающие остальное время
жизни, куда лучше и слаще, чем само наслаждение. Еще
он имел обыкновение уподоблять все человеческие
удовольствия запахам, ибо полагал, что из всего ощущаемого
нами они, соразмерно с наслаждением, оставляют
наибольшую тоску по себе и что меньше всех наших чувств
способно удовлетворяться своими наслаждениями обоняние.
Запахи он уподоблял также ожиданию благ, говоря, что
в тех ароматных вещах, которые приятно съесть или
которые могут доставить иное удовольствие, запах обычно
берет верх над вкусом, потому что, когда их отведаешь,
они нравятся меньше, чем когда их только понюхаешь или
чем можно было ждать, судя по аромату. Он рассказывал,
что порой ему случалось испытывать нетерпение, если что-
нибудь хорошее, что он считал уже достигнутым, не
давалось сразу,— и не потому, что он особенно жаден именно
до этого, а из боязни испортить всю радость, успев
вообразить слишком многое и представить себе удовольствие
куда большим, чем оно окажется на самом деле. И все
это время он усердно старался отвлечь мысли от
ожидаемого блага, как обычно стараются не думать о
предстоящих бедах.
Он говорил также, что каждый из нас, чуть лишь
появится на свет, уподобляется человеку, который лег на
жесткую и неудобную кровать: едва улегшись, он
чувствует, что лежать ему неловко, и начинает ворочаться с боку
149
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
на бок, то и дело менять место и позу, и так всю ночь,
не теряя надежды хоть ненадолго заснуть, а иногда даже
думая, что сон уже пришел, пока не наступит срок и он
не встанет, ничуть не отдохнув.
Наблюдая с несколькими собеседниками пчел, занятых
своим делом, он сказал: вот счастливицы! Ведь им
невдомек, как они несчастны.
Он полагал, что нельзя ни сосчитать человеческие
бедствия, ни оплакать достаточно хотя бы одно из них.
На вопрос Горация5, как это происходит, что никто из
людей не доволен своим состоянием, он отвечал: причина
та, что ни в одном состоянии человек не бывает счастлив.
Подданные не меньше, чем властители, бедные не меньше,
чем богатые, слабые не меньше, чем могущественные, будь
они все счастливы, были бы довольны своей участью и
не завидовали бы другим: ведь люди ничуть не более
ненасытны, чем любые другие существа, но удовлетвориться
они могут только счастьем. Если же они несчастливы,
удивительно ли, что они никогда не бывают довольны?
Допустим, замечал он, кто-нибудь окажется в самом
счастливом положении на этой земле, но не сможет
посулить себе, что оно хоть как-то и в чем-то станет еще
лучше; можно сказать почти наверное, что это будет самый
несчастный из людей. Даже совсем уж старые питают
намерения и надежды каким-нибудь способом улучшить
свое положение. И он вспоминал место у Ксенофонта6,
где тот советует выбирать для покупки такой участок
земли, который хуже возделан: ведь купленное поле, если не
принесет больше плодов, чем сейчас, не доставит тебе и
радости видеть, как оно становится все лучше и лучше;
и вообще те наши угодья, которые у нас на глазах
делаются еще прибыльнее, дают нам наибольшее
удовлетворение.
И наоборот, — утверждал он, — нет столь жалкого
состояния, которое не могло бы стать еще хуже, и даже
самый несчастный смертный не может ни утешиться, ни
похвалиться тем, что несчастнее, чем сейчас, он уже никак
не станет. Надежда не имеет границ, а человеческие блага
ограниченны, так что богатый и бедный, господин и раб,
если мы соизмерим их состояние с их привычками и
желаниями, окажутся обладателями приблизительно равного
количества благ. Бедствиям же нашим природа не
положила никаких пределов. Воображение не в силах приду-
150
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
мать такое великое несчастье, которое не случилось бы в
роде людском сейчас или раньше или не могло бы
случиться. Поэтому большинству людей в действительности
невозможно надеяться на умножение наличных благ, в то
время как причин для отнюдь не напрасного страха
хватает каждому на протяжении всей его жизни. И если
фортуна очень скоро впадает в ничтожество и теряет
всякую способность благодетельствовать нам, то способности
все снова и снова наносить нам ущерб она не теряет
никогда, и ущерб этот таков, что может одолеть и сломить
даже твердость отчаяния.
Он часто насмехался над философами, возомнившими,
будто человек может ускользнуть из-под власти фортуны,
презирая и считая чужими все блага и бедствия, которых
не в состоянии достичь или избежать, удержать или
сбросить с себя, и полагая свое счастье и несчастье лишь в
том, что целиком зависит от него самого. О таком
суждении он помимо всего прочего говорил вот что: оставим в
стороне то, что если даже и был когда-то человек, живший
перед другими людьми как истинный и совершенный
философ, то и он не был истинным философом перед самим
собой; забудем и о том, что так же невозможно не
заботиться о своих делах, словно о чужих, как невозможно
заботиться о чужих делах, словно о своих. Но допустим,
что душевные наклонности, о которых говорят эти
философы, не только возможны (а это не так), но и здесь и
сейчас присутствуют в одном из нас; допустим, что они
будут более совершенны, чем говорят эти мудрецы, будут
крепки и прочно усвоены благодаря долгому опыту,
испытаны во многих превратностях; но при всем этом разве
счастье или несчастье такого человека не останется в
руках фортуны? Разве не будут ей подвластны те самые
душевные наклонности, которые, по их мнению, должны
освободить нас из-под ее власти? Разве человеческий
разум не подвергается каждый день множеству опасностей?
Разве неисчислимые болезни не влекут за собой
слабоумия, бреда, исступления, бешенства, тысячи других видов
умопомрачения, длительного или краткого, временного или
неизлечимого? Разве нельзя наш разум помутить, ослабить,
извратить, погасить? Разве память, хранительница
мудрости, от самых юных дней не изнашивается и не слабеет?
Сколько людей в старости становятся по разуму детьми!
И почти все теряют в этом возрасте прежнюю силу ума.
151
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДЙ. ЭТИКА Й ЭСТЕТИКА
Даже какой-нибудь телесный недуг, не затронувший и по- ]
щадивший все способности рассудка и памяти, обыкновен- 1
но подтачивает мужество и стойкость когда больше, когда ;
меньше, а нередко и совсем их губит. Одним словом,
великая глупость — признавать, что наше тело подвержено
многому такому, над чем мы не властны, и при этом отри- -
цать, что наша душа, почти во всем зависящая от тела,
подчинена не только нам самим. Человек весь целиком и
всегда, заключал он, находится во власти судьбы.
На вопрос, зачем родятся люди, он шутя отвечал:
чтобы знать, насколько лучше было бы не родиться!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
По поводу постигшего его несчастья он сказал: когда
тот, кого любишь, погибает от какого-нибудь несчастного'
случая или короткого и скоротечного недуга, потерять его
не так горько, как видеть его понемногу хиреющим (это и
случилось у него) от долгой болезни, от которой он
угаснет, лишь совсем изменившись душой и телом и
превратившись чуть ли не в другого человека. Это самое тяжкое
несчастье, потому что в таком случае любимый человек не
исчезает у тебя с глаз, оставив взамен свой образ, который
ты сохранишь в душе не менее любезным, чем он был
прежде; нет, человек этот перед тобой остается, по совсем не
такой, каким ты раньше любил его, и все любовные
заблуждения жесточайшим образом вырваны у тебя из
сердца, а когда потом он покидает тебя навеки, прежний его
образ вытесняется из твоих мыслей новым образом.
Поэтому ты теряешь любимого человека уже целиком, ибо он
не может пережить самого себя даже в твоем
воображении, которое тоже вместо утешения подает тебе только
лишние поводы для скорби. Наконец, подобные несчастья,
причиняя скорбь, не дают возможности спокойно ей
предаться.
Когда однажды кто-то сетовал при нем на свое
несчастье и говорил: «Если бы я мог избавиться от этой
беды, все остальные я бы перенес с легкостью»,— он отвечал:
«Тогда-то они и были бы для тебя тяжелее, а теперь они
легки».
Когда кто-то другой сказал: «Если бы это страдание
продлилось дольше, оно было бы совсем непереносимо»,—
152
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
он ответил: «Наоборот, ты бы привык к нему и легче его
переносил».
И о многих вещах, касающихся человеческой
природы, он придерживался иных мнений, нежели большинство
людей, а порой и нежели некоторые мудрецы. Так, напри-
мер, он не соглашался, что для просьб и ходатайств самое
подходящее время — радостные минуты у тех, к которым
приходится эти просьбы и ходатайства обращать, и тем
паче — если просьба не такова, что ее можно
удовлетворить тут же на месте и для этого требуется больше, чем
простое согласие. По-моему, говорил он, если от человека
нужно чего добиться, ликование будет не меньшей
помехой и преградой, чем скорбь, потому что оба этих чувства
равным образом переполняют его мыслью о самом себе и
мыслям о чужих делах уже не остается места. Как в горе
наши собственные беды, так в радости наше собственное
благоденствие настолько занимают и поглощают душу, что
мы становимся неспособны позаботиться о нуждах и
желаниях другого. Состраданию чуждо и время радости и время
горя: второе — потому, что человек полон жалости к
самому себе, первое — потому, что все людские дела, вся жизнь
представляются нам радостными и блаженными, а все
бедствия и муки кажутся пустыми измышлениями, и, конечно,
наша мысль отвергает их, как вещи несогласные с нашим
нынешним расположением духа. Если надо заставить кого-
нибудь действовать на пользу другому или решиться па
это, то благоприятнее всего время спокойной и умеренной
радости, а не чрезвычайного ликования, или же, еще
лучше, время такого веселья, которое не лишено живости, но
не имеет определенного повода и, рождаясь из неясных -
мыслей, представляет собою спокойное волнение духа.
В этом состоянии люди более всего склонны к
состраданию, доступны для просителей и порой с охотой ловят
случай оказать милость и претворить это смутное
волнение и приятный порыв своих мыслей в похвальное деяние.
Он отрицал также, что несчастный, рассказывая о своих
бедах или иным образом обнаруживая их, обыкновенно
встречает наибольшее сочувствие и заботу от тех, чьи
горести схожи с его собственными. Наоборот, они,
выслушивая твои жалобы или иначе узнавая о твоем положении,
только того и ждут, как бы счесть про себя собственные
беды куда более тяжкими, чем твои, и нередко в тот миг,
когда собеседник, по твоему мнению, особенно тронут
153
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
твоими несчастьями, он прерывает тебя и начинает
рассказывать о своей участи, стараясь и тебя убедить в том, что
она куда тяжелее твоей. Он говорил, что в таких случаях
обыкновенно происходит то, что мы читаем в «Илиаде»7
про Ахиллеса: когда Приам с плачем и мольбами
простерся у его ног, Ахиллес, едва тот кончил свои горестные
жалобы, заплакал сам, но не над бедами старца, а над
собственными несчастьями, вспомнив отца и убитого друга.
И он добавлял: если мы сами в прошлом испытали те
беды, которые видим или о которых слышим, то они
иногда способствуют состраданию; но те, что мы терпим в
настоящий миг, лишь препятствуют ему.
Он говорил, что небрежность и невнимание бывают
причиной многих жестоких и злых поступков и сами могут
быть сочтены за жестокость и злобу: так бывает,
например, если кто-либо, уехав со двора и задержавшись ради
какого-нибудь развлечения, оставляет слуг под открытым
небом мокнуть под дождем, и это не из суровости и
черствости нрава, а просто не подумавши, не взвесив в уме,
насколько им может быть плохо.
По какому-то случаю он сказал: «Для благодетеля
менее тяжело встретить полную и явную
неблагодарность, чем получить за великое благодеяние ничтожную
плату: ведь после нее облагодетельствованный либо по
грубости ума, либо по злобе считает себя свободным от
всяких обязательств, а благодетель, по видимости
вознагражденный или из вежливости показывающий, что
считает себя таковым, на деле лишается не только простой и не
приносящей выгоды душевной благодарности, на которую
он, во всяком случае, надеялся, но и возможности сетовать
на неблагодарность и слыть тем, что есть, — человеком,
получившим не по заслугам малую награду».
Мне передавали как принадлежащую ему еще и такую
мысль. Мы имеем склонность и обыкновение предполагать
в наших собеседниках остроту ума и проницательность,
если они замечают наши истинные или воображаемые
совершенства и понимают красоту и прочие достоинства
каждого нашего слова и поступка; если же они ценят эти
совершенства и достоинства и всегда держат их в уме, мы
признаем за ними и глубину мысли, и привычку к
размышлению, и памятливость; но ничто другое не заставит
нас обнаружить в них подобные свойства или признаться
самим себе, что мы их обнаружили.
154
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Как-то он заметил, что нерешительные люди бывают
особенно упорны в исполнении своих намерений, невзирая ни
на какие препоны, и таковы они по причине самой своей
нерешительности: ведь отказавшись от того, что они уже
рассудили сделать, они должны будут еще раз принять
решение. Поэтому они с особенной готовностью и усердием
принимаются за исполнение задуманного; опасаясь, как бы
что не заставило их в любой миг отказаться от
первоначального намерения, и боясь воротиться к тем колебаниям
и мучительной нерешительности, в которых они пребывали
до того, как приняли решение, такие люди спешат его
осуществить и вкладывают в это дело все силы, больше
подгоняемые беспокойством и неуверенностью во
вторичной победе над собою, нежели привлекаемые самим
предметом своих стремлений или раззадориваемые преградами,
которые им предстоит преодолеть ради него.
Иногда он говорил со смехом, что люди, привыкшие
непрестанно делиться своими мыслями и чувствами с
другими, даже наедине с собой издают восклицание, если их
укусит муха либо если у нид опрокинется или выпадет из
рук стакан; и наоборот, те, кто привык жить в одиночестве
и все держать про себя, даже если почувствуют, что их
хватил удар, не откроют рта хотя бы и в присутствии
других.
Он полагал, что большая часть тех, кого и в древности
и в наши дни считали великими или необыкновенными
людьми, заслужили такую славу прежде всего благодаря
одной из их способностей, преобладавшей над остальными.
А тому, чьи духовные свойства уравновешены и
соразмерны между собой, трудно сделать что-нибудь достойное
имени великого или необыкновенного человека и прослыть
таковым у современников и потомков.
В среде нынешних просвещенных народов он различал
три разряда людей. К первому принадлежат те, в ком
собственная натура, а во многом и то, что по природе
свойственно всем людям, изменено и преображено
искусством и привычками городской жизни. К этому разряду
относятся все лица, способные заниматься своими
частными и общественными делами, получать удовольствие от
благородного людского общения, производить приятное
впечатление друг на друга, когда им случится побыть вме-
155
ДЖаКоМо ЛЕОйАРДЙ. ЭТИКА Й SCfEtMKA
сте, заниматься практической деятельностью — одним
словом, приноравливаться к обиходу современной жизни
общества. Только люди этого рода, говоря широко, могут
заслужить и сохранить всеобщее уважение у названных
народов.
Второй разряд — это те, в ком природа мало
изменилась по сравнению со своим изначальным состоянием и,
не получив, как говорится, должной обработки, из-за
собственной узости и слабости мало способна
воспринимать и сохранять впечатления и влияния искусства, опыта
и доброго примера. Этот разряд наиболее многочисленный
из трех, но презираемый самим собой не меньше, чем
другими, и не заслуживающий внимания; он состоит из тех,
кто носит имя черни или заслуживает его, к какому бы
сословию или состоянию такие люди ни принадлежали по
прихоти фортуны.
Третий же разряд — который числом людей
несравнимо уступает двум другим, презираемый почти так
же, как второй, а иногда и еще больше — включает тех,
в ком природа из-за избытка сил не поддалась и отвергла
искусство жить по нынешним образцам, оставшись ему
чуждой или восприняв лишь малую его долю,
недостаточную для того, чтобы заниматься делами и вести себя с
другими людьми как положено, являясь им приятными
собеседниками и заставив себя ценить. Этот разряд
подразделяется на две разновидности: в одной из них —
сильные и стойкие, презирающие всеобщее презрение и нередко
радующиеся ему больше, чем радовались бы всеобщему
почету: они отличаются от всех по своей воле и
намерению, а не только потому, что их природа не может быть
иной; далекие от надежд и удовольствий человеческого
сообщества, они одиноки в городе не только потому, что
все их избегают, но и потому, что они сами избегают всех.
Природа второй разновидности такова, что к силе
присоединяется и примешивается своего рода слабость и робость,
и природа эта пребывает в постоянной войне сама с собой.
Людям этой разновидности, — а они отнюдь не избегают
общества по своей воле, желая во многих и разных вещах
стать такими же, как люди первого рода, или подобными
им, они сетуют про себя на неуважение, которое видят
повсюду, и на дурное мнение тех, кто неизмеримо ниже их
и душой и дарованием, — так вот этим людям никак не
удается, несмотря на все усилья и старания, приноровить-
156
ДОАЁСТВВННЫЁ ОЧЕРКИ
ся к обиходу практической жизни и стать в разговоре
сносными хоть для самих себя, а не то что для других.
Такими бывали в недавние времена и бывают в наши дни
кто в большей, кто в меньшей мере многие великие
таланты и тонкие умы. Замечательный пример тому — Жан-
Жак Руссо; другой пример, почерпнутый из древности,—
Вергилий, о котором в латинском жизнеописании, носящем
имя грамматика Доната8, сообщается со ссылкой на
авторитет Мелисса, также грамматика и
вольноотпущенника Мецената, что поэт был медлителен в речах и мало
чем отличался от невежды. Что это правда и что Вергилий
был не очень приспособлен к сношениям с людьми, можно
заключить с большой вероятностью из тонкой и
тщательной отделки его слога, из самого характера его поэзии, а
также из того, что мы читаем в конце второй книги
«Георгию»9. Там поэт вопреки обыкновению древних римлян,
особенно наделенных талантом, прямо говорит о своем
желании жить в безвестности и уединении, и по тому, как
он говорит, нетрудно понять, что к такой жизни он скорее
принуждаем своей природой, нежели склонен сам, и любит
ее не как благо, а как прибежище или целительное
средство. Если людям и той и другой разновидности и удается
снискать уважение, то лишь немногим и после смерти, а
люди из второго разряда и при жизни ri тем более по
смерти почитаются за ничто или почти за ничто. Потому
Оттоньери считал себя вправе утверждать, что в наши
времена есть только один способ заставить ценить себя:
изменить своей истинной природе и отойти от нее
подальше. Кроме того, по нынешним временам в жизнь общества,
если можно так сказать, включены лишь люди из первого
разряда, по природе своей занимающего срединное место
между двумя другими; посему он делал вывод, что на
этом, как и на многом другом, можно убедиться,
насколько в наши дни все держит в руках, всем орудует и
распоряжается посредственность.
Говоря о старости, он различал три ее состояния в
зависимости от того, как соотносится она с другими
возрастами. На первых порах существования каждого народа,
покуда по своим нравам и привычкам все возрасты были
праведны и добродетельны, а опыт и знание людей и
жизни не обладали свойством отвращать души от всего
честного и справедливого, старость была почтенна превыше
других возрастов, потому что в ней с честностью и други-
157
ДЖАКОМО ЛЁОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ми достоинствами, общими в то время всем людям, соеди-И
нялись, как этого естественно было бы ожидать, мудростьЯ
и предусмотрительность. Наоборот, по прошествии време-Я
ни, когда нравы испортились и развратились, ни одинЯ
возраст не был так низок и мерзок, как старость, питаю-Я
щая наисильнейшую сердечную склонность к злу — и пото-Я
му, что успела больше к нему привыкнуть, и потому, чтоЯ
ей лучше известны на опыте все человеческие дела, и пото-Я
му, что ей дольше и чаще приходилось испытывать на Я
себе чужую злобу, и, наконец, по причине холодности,*
свойственной ей от природь, — но в то же время бессиль-Я
ная причинить это зло иначе как с помощью наветов,»
козней, хитростей, вероломства, притворства, короче гово-И
ря, всех тех уловок, которые из всех орудий злодейства Я
наиболее гнусны. Но потом когда испорченность всех на- щ
родов перешла всякий предел, когда презрение к честности щ
и добродетели стало опережать в людях опыт и знание а
мира и горькой истины, или когда, можно даже сказать, I
опыт и знание стали опережать возраст, так что человек Щ
уже в отрочестве был опытен, искушен и испорчен, ста- 1
рость сделалась не то что почтенной, ибо с тех пор лишь 1
очень немногие вещи имеют право так именоваться, но I
более сносной, чем другие возрасты. Ведь горячность души 1
и крепость тела, которые некогда, помогая воображению 1
и благородству помыслов, нередко бывали причиной добро- 1
нравия, высоких чувств и доблестных деяний, сделались 1
всего лишь двигателями и пособниками злой воли и злых 1
дел, одушевляющими и оживляющими все дурные свойства 1
человека; а на склоне лет они смягчаются и укрощаются 1
холодностью сердца и немощью членов, — хотя, впрочем, 1
и это ведет скорее к пороку, чем к добродетели. К тому же 1
сам долгий опыт и знание человеческих дел, совсем уже 1
неприглядных, мерзостных и подлых, вместо того чтобы, I
как прежде, совращать добрых на беззаконие, приобрели 1
способность уменьшать, а иногда и гасить любовь к нему I
в печальных душах. Следовательно, говоря о том, что I
есть в рассуждении нравов старость по сравнению с дру- 1
гими возрастами, можно сказать, что в самые давние 1
времена она относилась к ним как лучшее к хорошему, во 1
времена развращенности — как наихудшее к дурному, а во 1
времена более поздние и более гнусные — наоборот, как '1
дурное к наихудшему. ]
158 I
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
ГЛАВА ПЯТАЯ
Он часто рассуждал о присущем нам себялюбии,
которое теперь называется «эгоизмом», — как видно, ему
нередко представлялся случай поговорить о нем. Я перескажу
некоторые его мысли об этом предмете. Он говорил, что
в наши дни, если тебе похвалит кого-нибудь за честность
или будет порицать за бесчестность лицо, имевшее или
имеющее дела с тем, о ком идет речь, ты о нем так ничего
и не узнаешь, кроме одного: остался ли хвалитель или
ругатель доволен им или нет; кто отзывается хорошо, тот,
значит, доволен, а кто плохо — недоволен.
Он утверждал, что в нынешние времена никто не может
любить без соперника; а на вопрос «почему?» отвечал:
потому что возлюбленный и возлюбленная и будут самыми
пылкими соперниками любящего.
Предположим, говорил он, что ты попросишь
кого-нибудь об услуге; однако человек этот не может
удовлетворить твою просьбу, не навлекая на себя ненависть и злобу
третьего лица. Допустим также, что и это третье лицо, и
тот, к кому обращена просьба, и ты сам — все вы по
своему состоянию и могуществу примерно равны. Я
утверждаю, что твоя просьба ни за что не будет выполнена, даже
если оказанная услуга чрезвычайно обяжет тебя и внушит
тебе к тому, кто ее оказал, расположение более сильное,
чем вражда третьего лица. Но в людях гораздо сильнее
боязнь гнева и ненависти, чем надежда на любовь и
благодарность, и недаром: мы повсюду видим, что первые
чаще побуждают действовать, и действовать с успехом,
чем противоположные им чувства. Причина тут одна: когда
стараются повредить и отомстить ненавистным, действуют
ради себя; а когда стремятся принести пользу тем, кого
любят, и отплатить за сделанное добро, действуют ради
друзей и благодетелей.
Еще он говорил, что вообще знаки внимания и услуги,
оказываемые в надежде или в расчете на собственную
выгоду, очень редко достигают цели, потому что люди
более ученые и рассудительные, чем прежде, легко берут,
но с трудом отдают. Одни лишь знаки внимания и услуги,
которые многие юнцы оказывают богатым или
влиятельным старухам, достигают своей цели не только чаще
других, но и почти всегда.
Записанные ниже замечания, касающиеся более всего
159
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
современных нравов, я слышал, помнится, из его собствен-]
еых уст. Нынче у людей, знающих свет и опытных, по-;
стыдным считается только одно — чего-нибудь стыдиться;1
и сами такие люди стыдятся только своего стыда, если им
когда-нибудь случится его испытать.
Удивительной властью обладает мода; между тем как
:народы и люди упорно держатся за свои обычаи и упрямо
продолжают судить, поступать и Действовать, как
привыкли, даже вопреки разуму и себе в ущерб, мода, стоит ей
только захотеть, заставляет их от одного отказаться,
другое изменить, усвоить новые привычки, повадки и мнения,
пусть даже покинутое старое было разумным, полезным,
красивым и достойным, а радостно принятое новое
окажется во всем этом противоположным старому.
Очень редко бывает, чтобы смеялись над тем, что
поистине смешно и в нашей общей жизни и в отдельных
.людях; а если кто-нибудь и попробует засмеяться, то, не
.заразив своим смехом других, быстро умолкает. Наоборот,
лад множеством вещей весьма серьезных и вполне
достойных смеются каждый день и легко увлекают других
посмеяться вместе. Наибольшая часть вещей, над которыми
'обыкновенно смеются, на деле вовсе не смешны; а над
многими вещами как раз потому и смеются, что они не
заслуживают этого ни в малейшей степени.
Мы на каждом шагу говорим и слышим от других:
«люди доброго старого времени», «наши славные предки»,
«человек старого закала» — тогда, когда хотим о ком-нибудь
сказать, что он человек порядочный и на него можно
положиться. Каждое поколение думает, с одной стороны, что
раньше люди были лучше, с другой — что народы,
удаляясь от своего изначального состояния, с каждым днем
совершенствуются, а вернувшись к нему, они, без
сомнения, стали, бы хуже.
Истина, конечно, некрасива. Однако и она нередко
может доставить некоторое удовольствие, и если в делах
человеческих красоту следует предпочитать истине, то там,
где красота отсутствует, истину надо ставить превыше
всего. Теперь в больших городах ты как нельзя более
далек от красоты, которой не осталось места в жизни людей.
Но и от истины ты в них далек, потому что в больших
городах все либо лживо, либо суетно. Так что в них ты,
так сказать, не видишь, не слышишь, не осязаешь, не
обоняешь ничего, кроме обмана, да и тот уродлив и не-
160
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
привлекателен. А для чувствительных душ нет, можно
сказать, большего несчастья в мире.
Те, что не в силах сами заботиться о своих нуждах и
препоручают эту заботу другим, обыкновенно или вовсе
не могут, или могут лишь с большим трудом и с меньшим,
чем все прочие, успехом удовлетворить главную
потребность, которая, несмотря ни на что, остается у них. Я имею
в виду потребность чем-нибудь занять свою жизнь —
потребность более великую, нежели все частные нужды, о
которых мы заботимся, заполняя тем самым жизнь, и
нежели даже сама потребность жить. Больше того, в вас
нет потребности жить, и только, потому что жизнь, не
соединенная со счастьем, не есть благо. Коль скоро мы
живем, наша первая и главная потребность — провести
жизнь как можно менее несчастливо. А жизнь ничем не
занятая и пустая есть самая несчастная. Напротив,
лучший из всех способов занять жизнь и сделать ее наименее
несчастливой — это самому заботиться о своих нуждах.
Он говорил, что обычай покупать и продавать людей
полезен роду человеческому, и ссылался на то, что
прививка оспы в Константинополь, откуда она была
перенесена в Лондон и из него — в другие страны Европы, пришла
из Черкессии, где природная оспа, нанося урон жизни и
красоте малолетних и юных, делала менее прибыльной
торговлю женщинами, которой занимаются тамошние
народы.
О себе он рассказывал, что, едва выйдя из школы и
начав сталкиваться с людьми, дал себе зарок, как юноша
неопытный и преданный истине, не хвалить никого и
ничего из встреченного в обществе, кроме, на его взгляд, до-
стохвального. Но по прошествии года, в течение которого
он держался своего зарока и ни разу не имел случая кого-
нибудь или что-нибудь похвалить, он из боязни позабыть
за отсутствием упражнения все выученное раньше в
риторике относительно энкомиастического, или хвалебного,
рода красноречия, нарушил слово, а немного спустя и
вовсе от него отказался.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Обыкновенно он велел читать себе вслух то одну, то
другую книгу, чаще всего древних авторов, и прерывал
чтение, вставляя как бы устные заметки на полях по пово-
б Этика и эстетика
161
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ду того или другого места. При чтении составленных
Диогеном Лаэртским10 жизнеописаний философов, услышав,
что Хилон11 на вопрос о том, чем отличаются
образованные от невежд, ответил: «добрыми надеждами», он сказал:
«Теперь всё наоборот, невежды надеются, а люди знающие
не надеются ни на что».
Точно так же, когда ему прочитали в названных
жизнеописаниях 12 суждение Сократа о том, что в мире есть
единственное благо — знание и единственное зло —
невежество, он заметил: «Насчет знаний и невежества у древних
мне ничего не известно, а в наши дни я бы вывернул это
изречение наизнанку».
Когда из той же книги ему вычитали следующий
догмат приверженцев Гегесия 13: «Мудрец, что бы он ни делал,
сделает все себе на благо», он сказал: «Если всякий, кто
поступает таким образом, философ, — пусть теперь явится
Платон и учредит во всем цивилизованном мире свое
государство» 14.
Он весьма одобрял изречение Биона Борисфенита15,
переданное тем же Лаэрцием: «Больше всего мук
достается тем, кто ищет наибольшего счастья». И добавлял что,
напротив, блаженнее всех те, кто может и привык
насыщаться самыми малыми долями счастья, да еще потом,
когда оно минет, способен вызвать его в памяти и снова
вкушать в свое удовольствие.
Он относил к разным возрастам цивилизованных
народов греческий стих, гласящий «Юные действуют, пожилые
дают советы, старики тоскуют», и говорил, что нашим
дням поистине осталась одна тоска.
Услышав отрывок из Плутарха16, который Марчелло
Адриани Младший переложил следующими словами: «Еще
менее потерпели бы спартанцы наглость и шутовство Стра-
токла, который убедил народ (это были афиняне) принести
жертвы в честь победы,.а потом, когда тот узнал правду
о поражении и вознегодовал на него, ответил: «Чем я вас
оскорбил? Не тем ли, что сумел подарить вам целых три
дня праздничного веселья?» — Оттоньери добавил: «Тем,
кто жалуется на природу, сетуя, что она существует, сам а
по себе, а значит, держит истину в тайне от всех и
скрывает ее множеством прекрасных и отрадных, но пустых
видимостей, было бы кстати ответить в том же роде: чем
она оскорбила вас? Не тем ли, что подарила три или
четыре дня радости?» По другому случаю он сказал, что ко
162
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
всему нашему роду вообще, имея в виду естественные
заблуждения, человека, можно применить слова Тассо17 о
ребенке, которого обманом заставили выпить лекарство:
«Тому обману жизнью он обязан».
Когда в «Парадоксах» Цицерона 18 ему прочли то место,
которое на нашем языке можно было бы передать
следующим образом: «Быть может, наслаждения делают нас
лучше и достойнее похвалы? Случалось ли кому встречать
человека, который кичился бы и щеголял испытанными
наслаждениями?» — он сказал: «Милейший Цицерон, я не
решусь сказать, что в нынешние времена люди становятся
через наслаждения лучше и достойнее похвалы, но что их
хвалят больше, это бесспорно. Знай же, что единственный
путь стяжать хвалу, который видят перед собой почти все
юнцы,— это путь наслаждений. Поэтому, получив их, не
только этим хвастают и разбалтывают все друзьям и
посторонним, желающим и не желающим слушать, но и
жаждут новых наслаждений и гонятся за ними не ради них
самих, а ради добываемых таким способом хвалы и славы
и еще — чтобы иметь, чем кичиться; многие даже
приписывают их себе, не успев ничего достигнуть, или не начав их
искать, или вообще все выдумав».
Он отмечал в истории подвигов Александра Великого,
написанной Аррианом 19, что в день Исса Дарий поставил
греческих солдат-наемников в первом ряду своего войска,
а Александр своих наемников, тоже греков, — в тылу; и
он считал, что по одному этому обстоятельству можно
было предугадать исход боя.
Он не упрекал писателей, если они много рассуждают
о самих себе, и даже хвалил их за это и любил такие
места, потому что в них, говаривал он, почти все и почти
всегда бывают красноречивы и пишут, как правило,
хорошим и подобающим предмету слогом, даже вопреки
обыкновению своего времени, своего народа и своему
собственному. И ничего удивительного тут нет: ведь у пишущих о
своих делах душа захвачена и заполнена описываемым
предметом, и нет недостатка ни в мыслях, ни в чувствах,
рожденных самою темой и собственной их душой, а не
заемных или почерпнутых из чужого источника, расхожих
и избитых; кроме того, они легко воздерживаются от
украшений, которые сами по себе пусты или не приходятся
кстати, от мнимого изящества и таких красот, в которых
видимость преобладает над сутью, от всякого жеманства
6*
163
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЗТИКА Й ЭСТЕТИКА
и притворства. И неправда, будто читателю обыкновенно 1
мало дела до того, что писатели говорят о себе самих: I
во-первых, потому, что все действительно продуманное и 1
прочувствованное самим писателем и изложенное есте- 1
ственным и подобающим образом производит впечатление; I
затем потому, что никак нельзя изображать чужие дела 1
или рассуждать о них с такою же правдивостью и силой, 1
с какой расказывают о своих собственных; наконец, еле- 1
дует принять во внимание, что все люди похожи друг на I
друга и врожденными и случайными своими качествами 1
и тем, что зависит от судьбы, а также помнить, что дела 1
человеческие, если рассмотреть их на собственном примере, 1
видны лучше и волнуют больше, чем если глядеть на чу- 1
жие. В подтверждение этих своих мыслей он ссылался 1
среди прочего на речь Демосфена «О венке»20, где оратор, 1
говоря непрестанно о самом себе, сам себя превзошел |
красноречием, и на Цицерона, с которым в большинстве
тех мест, где он касается собственных дел, случается то I
же самое; это особенно заметно в речи «В защиту Мило-
на»21, которая вся великолепна, но особенно в конце, когда
оратор заговаривает о самом себе. Равным же образом из
всех мест в речах Боссюэ22 самое прекрасное и
красноречивое то, где, заключая похвалы принцу Конде,
проповедник упоминает о своей старости и близкой смерти. Из
сочинений императора Юлиана, во всех прочих
остававшегося софистом, нередко несносным, самое разумное и
достойное похвалы — та шутка, что озаглавлена «Мисопо-
гон»23, то есть «Против бороды», где он отвечает на
насмешки злоязычных антиохийцев. В этом маленьком
произведении, не говоря о прочих его достоинствах, автор
ненамного уступает Лукиану комическим изяществом и
обилием, остротой и живостью шуток, в то время как в
«Цезарях», написанных в подражание Лукиану, он
неизящен, беден Остроумием и помимо бедности вял и почти что
скучен. У итальянцев, небогатых красноречивыми
сочинениями, примером величественного и во всех отношениях
совершенного красноречия может служить апология,
которую написал Лоренцино деи Медичи24 себе в оправдание;
и еще Торквато Тассо бывает нередко красноречив в своих
прозаических сочинениях, где он много говорит о себе, и
всегда особенно красноречив в письмах, где он, можно
сказать, ни о чем и не рассуждает, кроме своих бедствий.
164
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Вспоминают также некоторые его шутки и остроумные
ответы, вроде того, что он дал однажды некому юноше,
прилежному в изучении словесности, но не искушенному в
мирских делах и утверждавшему, что уменье отыскивать
верный путь в жизни общества и практическое знание
людей можно постигать по сотне страниц в день. Оттонье-
ри ответил ему: но в книге-то пять миллионов страниц.
Другому юнцу, неразумному и неосторожному, который,
желая защититься от упреков в том, что он каждый день
попадает впросак и позорится, взял в привычку отвечать,
что жизни, мол, не следует придавать больше значения,
чем комедии, Оттоньери однажды сказал: и в комедии
лучше заслужить рукоплескания, чем быть освистанным, а
комедиант, плохо обученный своему искусству либо
лишенный должной ловкости, в конце концов умирает с голоду.
Когда приставы поймали грабителя-убийцу, который,
совершив преступление, из-за своей хромоты не мог
убежать, он сказал: вот видите, друзья, хоть и говорят, что
правосудие хромает25, а все же оно настигает преступника,
если он тоже хром.
Во время путешествия по Италии, не знаю где, некий
придворный, желая его уязвить, сказал ему: «Если ты мне
позволишь, я буду говорить с тобой чистосердечно». На это
Оттоньери отвечал: «Мне будет весьма приятно тебя
послушать, ведь мы и путешествуем в поисках редкостей».
Однажды был он вынужден, уж не знаю какой
необходимостью, попросить денег взаймы у одного человека, а
тот, извинившись, что не может дать их, заявил в
заключение, что, будь он богат, он бы ни о чем больше не
заботился, кроме нужд своих друзей. Тогда Оттоньери сказал:
«Мне было бы весьма прискорбно, если бы у тебя из-за
нас оказалось столько забот, и я молю бога никогда не
посылать тебе богатства».
В юности он сочинил несколько стихотворений и
употребил в них старинные речения; когда одна пожилая дама,
которой он, по ее просьбе, прочитал свои стихи, сказала,
что не понимает их, потому что в ее время эти речения не
были в ходу, он ответил: «А я думал, что были; ведь они
очень стары».
Про одного очень богатого скупца, у которого украли
немного денег, он сказал, что он и с ворами был скуп.
165
ДЖАКОМО ЛЁОПАРДЙ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Про некоего расчетливого человека, который, что бы
ни увидел, о чем бы ни услышал, сразу принимался делать
подсчеты, он сказал: «Все люди что-нибудь делают, а он
считает сделанное».
Однажды, когда несколько антиквариев спорили над
древней терракотовой статуэткой Юпитера, найденной в
триклинии26 римского дома, и спросили его мнения, он,
сказал: «Разве вы не видите сами, что это Юпитер из
триглиния?»
Об одном глупце, который полагал, будто умеет
превосходно рассуждать, и на каждом слове поминал логику,
он сказал: для него мало то определение, которое греки
дали человеку, то есть «мыслящее животное», о нем нужно
сказать «логически мыслящее животное».
Перед смертью он сам сочинил надпись, которая и
была высечена над его могилой:
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ПРАХ
ФИЛИППО ОТТОНЬЕРИ
РОЖДЕННОГО ДЛЯ ВЕЛИКИХ ДЕЛ
И ДЛЯ СЛАВЫ
ПРОЖИВШЕГО ЖИЗНЬ ПРАЗДНО
И БЕЗ ПОЛЬЗЫ
СКОНЧАВШЕГОСЯ В БЕЗВЕСТНОСТИ
НО В ПОЛНОМ СОЗНАНИИ
СВОЕЙ ПРИРОДЫ
И СВОЕЙ УЧАСТИ
РАЗГОВОР ХРИСТОФОРА КОЛУМБА
И ПЕДРО ГУТЬЕРЕСА
Колумб. Какая прекрасная ночь!
Гутьерес1. Поистине прекрасная. Но, я думаю, с
земли она казалась бы нам еще прекраснее.
Колумб. Ну вот, и ты тоже устал от плаванья.
Гутьерес. Нет, только не от плаванья; но оно
оказалось куда дольше, чем я полагал, и немного наскучило
166
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
мне. Однако не думай, что я ропщу на тебя, как другие.
Будь уверен, — на что бы ты ни решился в этом
путешествии, я буду поддерживать, тебя, как прежде, всеми
силами. Но коль скоро уж пришлось к слову, то скажи
мне ясно и со всей откровенностью: неужели ты, так же
как вначале, убежден, что найдешь в этой части мира
землю и, вопреки столь долгому опыту, все еще не
усомнился ни в чем?
Колумб. Говоря чистосердечно —как можно говорить
с другом, умеющим хранить тайну,— я и сам немного
заколебался, тем более что во время путешествия
некоторые весьма обнадеживающие признаки оказались
обманчивыми: так было с птицами, которые пролетели над нами
с запада на восток вскоре после отплытия нашего из
Гомеры 2, — а я считал, что это указывает на близость суши.
И день за днем я убеждался воочию, что действительность
не отвечает многим моим предположениям и многим
предсказаниям, которые я делал, еще не выйдя в море, по
поводу различных вещей, что должны были встретиться
нам в пути, как мне казалось. И вот я думаю, что так же
как меня обманули эти мои предположения, на прежний
мой взгляд почти бесспорные, может оказаться ложным и
главное из них — о том, что по ту сторону Океана мы
найдем сушу. Правда, с одной стороны, оно зиждилось на
прочных основаниях, и, окажись оно неверным, я подумал
бы, что нельзя верить ни единому человеческому
суждению, кроме тех, где речь идет о вещах насущных, видимых
и осязаемых. Но, с другой стороны, я не упускаю из виду,
что практический опыт нередко и даже в большинстве
случаев расходится с умозрением, и говорю самому себе:
откуда ты знаешь, что каждая часть мира похожа на
другие его части и что если Восточное полушарие занято
отчасти водой, отчасти сушей, то, следовательно, и
Западное полушарие должно быть поделено между сушей и
водой? Откуда ты знаешь, что оно не занято одним
безбрежным морем? Или что вместо земли либо помимо земли и
воды в нем нет еще какой-нибудь стихии? А если в нем
есть и суша и море, как в другом полушарии, разве не
может случится, что оно окажется необитаемым? Или
непригодным для обитания? Но допустим, оно не менее
обитаемо, чем наше полушарие,— кто поручится тебе, что
там есть такие же разумные существа, как здесь? Если же
овд там есть, почему ты уверен, что это люди, а не какие-
167
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
либо иные животные, наделенные рассудком? Если они
люди, то разве не могут они быть совсем не похожими на
известных тебе, — предположим, намного более рослыми,
более могучими и ловкими или наделенными от природы
большими духовными и умственными силами и даже более
просвещенными и превзошедшими нас в науках и
искусствах? Так я думаю про себя. Поистине природа обладает,
как мы можем увидеть сами, таким могуществом, и
проявления ее столь многочисленны и разнообразны, что не
только нельзя составить бесспорное суждение о том, что
она создала и создает в самых отдаленных краях,
неведомых нашему миру, но даже сомнительно, не
обманывается ли человек, исходя из здешних вещей, в своем выводе
насчет таких далеких мест, ведь не лишено
правдоподобия, если мы вообразим себе все или многое в том
неведомом мире удивительным по сравнению с нашим миром.
Вот мы видим собственными глазами, что стрелка в
этих морях отклоняется от Полярной звезды на довольно
большой угол к западу: а это явление невиданное и
неслыханное для любого из мореплавателей, и я, сколько
бы ни ломал голову, не могу отыскать ему
удовлетворительного объяснения. Этим я не хочу сказать, будто
следует прислушиваться к россказням древних о чудесах
неведомого мира и этого Океана, например к тем басням
о дальних странах, которые рассказывает Ганнон3: что,
мол, ночи там были полны огнями, а в море впадали
огненные потоки, — более того, мы сами видели, сколь
тщетны были до сих пор все страхи наших матросов перед
чудесами и невиданными ужасами этого путешествия —
скажем, тогда, когда огромное количество водорослей,
почти что превративших море в луг, мешало нам
двигаться вперед и люди вообразили, что нами достигнут
крайний предел моря, доступного для кораблей. В ответ на
твой вопрос "я скажу вот что: мое предположение
основывалось на предпосылках, правдоподобных не только на
мой взгляд, но и на взгляд многих превосходных
географов, астрономов и мореплавателей, с которыми я
совещался, как ты знаешь, в Испании, в Италии и в
Португалии; тем не менее может случиться, что оно не
оправдается, потому что, повторяю, многие выводы, основанные на
самых лучших рассуждениях, не выдерживают проверки
опытом; и особенно часто так бывает, если они касаются
вещей, на которые почти что не пролито света.
168
ЙРАВСТВЕННЬгё ОЧЕРКИ
Гутьерес. Так что из-за тебя, в сущности, и твоя
собственная жизнь и жизнь наших спутников не имеет
иной опоры, кроме твоей умозрительной догадки?
Колумб. Да, это так, не могу отрицать. Но, не говоря
уже о том, что люди каждый день рискуют, строя свою
жизнь на куда более слабых опорах, и это ради вещей
ничтожных или просто от безмыслия, прими во внимание
еще вот что. Если бы и ты, и я, и все наши спутники не
были сейчас на этих кораблях, в этом море, среди
этой пустыни, в неведенье будущего и под такой угрозой,
что больше и быть не может, каковы были бы тогда
обстоятельства нашей жизни? Чем мы были бы заняты?
Как проводили бы эти дни? Неужто в большей радости?
А может быть, в больших муках и большей тревоге? Или
они были бы полны скуки? Что значит «состояние,
свободное от неизвестности и угроз»? Если это —довольство и
счастье, то их следует предпочесть всему, если же это —
лишь тоскливое и жалкое прозябание, я не вижу ничего
такого, чему бы можно было его предпочесть. Я не хочу
упоминать о славе, которую мы стяжаем, и о пользе,
которую принесем, если исход предприятия не обманет наших
надежд. Даже если это плаванье не принесет нам иных
плодов, оно, по моему мнению, прибыльно потому уже, что
на некоторое время избавляет нас от скуки, делает жизнь
дороже для нас, возвращает ценность таким вещам, на
которые мы иначе не обращали бы внимания. Древние
пишут, — ты сам, верно, читал об этом или слышал, — что
несчастные влюбленные, бросаясь со скалы Санта-Маура 4
(тогда она называлась Левкадской) в море, выходили из
него, если им это удавалось, избавленными по милости
Аполлона от любовной страсти. Я не знаю, следует ли
верить этому, но убежден, что,, выйдя из смертельной
опасности, они и без милости Аполлона начинали хоть на
короткий срок дорого ценить жизнь, которая прежде
казалась им постылой, или ценить ее дороже и любить больше,
чем до того. Каждое плаванье, на мой взгляд, есть
прыжок с Левкадской скалы, ибо оно приносит ту же пользу,
только на более долгий срок, и тем берет верх над
названным прыжком. Принято думать, что моряки и солдаты, на
каждом шагу подвергающие опасности свою жизнь, ценят
ее меньше всех. А я по той же причине считаю, что не
многие люди так любят и ценят жизнь, как мореходы и
солдаты. Сколько благ, пренебрегаемых теми, кто ими
169
ДЖАКОМО ЛЁОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕ1ША J
обладает, сколько таких вещей, которые даже имени благ
не имеют, кажутся дорогими и ценными пловцам в море
только потому, что они их лишены! У кого считается
благом иметь под ногами кусочек суши, который твердо
держит тебя? Ни у кого, кроме как у моряков, и особенно
у нас, у которых из-за неуверенности в исходе путешествия
нет желания сильнее, чем увидеть полоску земли; это —
наша первая мысль, она пробуждается прежде нас самих,
и с нею мы засыпаем; и если однажды мы все же
обнаружим вдалеке вершину горы, или верхушки леса, или что-
нибудь подобное, мы будем вне себя от радости; а
высадившись на сушу, мы много дней будем считать себя
блаженней всех от одной мысли, что мы снова очутились на
твердой земле и можем ходить туда и сюда, шагая как
нам вздумается.
Гутьерес. Все это сущая правда, и если твоя
умозрительная догадка окажется столь же истинной, как и
твое оправдание в том, что ты в соответствии с нею
поступил, мы непременно обретем на несколько дней это
блаженство.
Колумб. Я же, со своей стороны, если и не
осмеливаюсь больше сулить его себе наверняка, тем не менее
надеюсь, что мы обретем его в скором времени. Вот уже
несколько дней лот, как ты знаешь, касается дна, и
свойства того грунта, что он приносит с собою, кажутся мне
добрым знаком. К вечеру облака вокруг солнца являют,
сдается мне, иные очертания и иной цвет, чем несколько
дней назад. Ветер не дует больше, как раньше, с
одинаковой силой, прямой' и неизменный, он стал порывистым и
меняется так, словно путь его что-то преграждает. Вспомни
еще о камышинке, которая плыла по морю и казалась
срезанной совсем недавно, и веточке дерева с красными
свежими ягодами. И стаи птиц, хоть они один раз уже
обманули меня, пролетают теперь так часто и так густо;
к тому же их с каждым днем становится больше, и я
думаю, под этим кроется некая причина, особенно если
вспомнить, что среди них можно видеть птиц, по виду не
похожих на морских. Одним словом, все эти признаки,
взятые вместе, как ни стараюсь я быть недоверчивым,
держат меня в напряженном ожидании добра.
Гутьерес. Дай бог, чтобы на этот раз ожидание не
было напрасным!
170
ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ПТИЦАМ
Однажды вешним утром Амелий !, одинокий философ,
сидел с книгами в тени своего загородного дома и читал,
но вдруг встрепенулся, привлеченный голосами птиц,
распевавших по всей округе, потом заслушался их и
предался размышлению, отложив в сторону книги, и наконец
взял в руки перо и тут же на месте написал следующее.
По природе своей самые веселые из всех существ в
мире — птицы. Я говорю не о том, что всякий раз, когда
видишь и слышишь их, они веселят тебе душу, я имею в
виду их самих и то чувство радости и удовольствия,
которое свойственно им больше, чем всем прочим живым
тварям. Бросается в глаза, что остальные животные серьезны
и степенны, а многие кажутся даже грустными; лишь
изредка они выказывают признаки радости-, да и те слабы
и быстро исчезают, по большей же части, получая
удовольствие и наслаждаясь, животные не ликуют бурно и никак
не обнаруживают своей радости. Если им и приятны
зеленые луга, широкие и прекрасные виды, блистающие
солнечные дни, хрустальный и сладостный воздух, они
обыкновенно никак не выказывают этого, за исключением разве
что зайцев, про которых говорят, что в лунные ночи,
особенно в полнолуние, они прыгают и играют все вместе,
наслаждаясь светом, согласно Ксенофонту2.
Птицы же и движениями своими и видом
обнаруживают великую радость; само их свойство веселить нас
возникает не от чего иного, как от их обличья и повадок,
в коих естественным образом проявляется способность и
склонность к довольству и веселью, и видимость эта не
должна казаться нам пустой и обманчивой. Всякое
удовольствие, всякое наслаждение заставляет их петь, и, чем
больше удовольствие и наслаждение, с тем большим
рвением и усердием они поют. Так они распевают почти все
время, из чего можно заключить, что обычно они довольны
и пребывают в добром расположении духа. И если
замечено; что в пору любви они поют и лучше, и чаще, и
дольше, нежели когда-либо еще, то не следует все же думать,
будто их не побуждают к пению другие радости и
наслаждения, кроме любовных. Ведь можно видеть воочию, что
171
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
в ясный тихий день они поют больше, чем в сумрачный и
ненастный, в грозу молчат, как и при всяком испуге, а
когда гроза минует, снова вылетают, заливаясь песнями
и играя друг с другом. Подобным же образом можно
видеть, что они обыкновенно поют утром, по пробуждении, и
заставляет их петь отчасти радость встретить новый день,
отчасти общее всем живым существам удовольствие
чувствовать себя отдохнувшими и освеженными сном.
Чрезвычайно радуют их также пышная зелень, плодородные
долины, чистые сверкающие воды, красивые местности. По
всему этому можно заметить, что отрадное и прекрасное
на наш взгляд кажется таким же и птицам; то же можно
понять и по приманкам, какими их завлекают в западни и
в сети, на птицеловные тока и в силки. И то же самое
можно понять, взглянув на те места за городом, где
водится обычно больше всего птиц и где они распевают без
устали и с особым пылом. В то же время из остальных
животных, кроме разве что прирученных и привыкших
жить с людьми, ни одно или только очень немногие судят
так же, как мы, о приятности и привлекательности
различных мест. И дивиться тут нечему, потому что
удовольствие им доставляет лишь все естественное, меж тем как
именуемое нами приятным по большей части не только
что не естественно, но даже противоестественно: например,
возделанные поля, или деревья и другие растения,
разводимые людьми, высаженные в правильном порядке, или
реки, стесненные в установленных пределах и
направленные по установленному руслу, и прочее в этом роде
выглядит совсем не так, как выглядело бы, оставаясь
естественным. Поэтому облик каждой местности, обитаемой любым
сообществом цивилизованных людей, а особенно городов и
других поселений, где люди вынуждены жить все вместе,
искусствен, ибо она совсем изменила свой природный вид.
Некоторые говорят (и здесь будет кстати упомянуть об
этом), что голос птиц более красив и сладок, а пение
более гармонично в наших краях, нежели в тех, где люди
дики и грубы, и из этого делают вывод, что птиды даже
на воле воспринимают некоторую долю просвещения от
тех людей, к чьим обиталищам привыкают.
Правду ли говорят об этом или нет, но несомненно, что
природа проявила великую предусмотрительность,
наградив один и тот же род живых существ способностью петь
и летать; благодаря этому твари, предназначенные услаж-
172
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
дать всех своим голосом, могут находиться почти все время
в высоте, откуда их голос разносится окрест на далекое
расстояние и достигает большего числа слушателей.
Благодаря этому и воздух, стихия, отведенная звукам, полу-
чил голосистых и причастных музыке обитателей.
Поистине слушать птичьи песни — великое утешение и
удовольствие не только для людей, но и, как мне кажется, для
других животных. И я думаю, что главная причина тому
не сладость самих звуков, хоть она и есть в них, не их
разнообразие и стройность, но выраженная в них радость,
присущая по природе всякому пению, и пению птиц в
особенности. Ибо оно есть, так сказать, смех, которым птица
заливается, когда ей хорошо и отрадно.
Поэтому в некотором роде можно сказать, что и птицы
причастны смеху, составляющему . привилегию человека,
ибо прочие животные лишены этой способности, из-за чего
некоторые даже думали, что человека, определяемого как
мыслящее или разумное животное, вполне достаточно
будет определить как смеющееся животное, поскольку, на
их взгляд, смех есть такая же отличительная особенность
человека, как разум. Весьма удивительно, что человек,
самая жалкая, самая измученная тварь из всех, обладает
способностью смеяться, которой лишены другие животные.
Удивительно также и то, как мы применяем эту нашу
способность: ведь можно видеть человека в величайшей
беде, или погруженного душой в печаль, или почти
потерявшего любовь к жизни и уверившегося в тщете всех
человеческих благ, неспособного радоваться и лишенного
всякой надежды, который все-таки смеется. Более того,
чем лучше понимают некоторые люди, сколь тщетны
названные блага и несчастна жизнь, чем меньше у них
надежд и поводов радоваться, тем сильнее становится в
них склонность смеяться. Вообще природу смеха и его
глубочайшие причины и виды в той мере, в какой все это
связано с человеческой душой, трудно было бы объяснить
и определить, если только не назвать смех
кратковременным безумием или же помрачением и бредом. Потому что
у людей, никогда ничем не удовлетворенных и ни от чего
не получающих истинного наслаждения, не может быть
для смеха разумных и законных причин. Было бы также
любопытно доискаться, почему и при каких
обстоятельствах человек впервые применил эту свою способность и
узнал о ней. Ведь нет сомнения в том, что в первобытном
173
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
и диком состоянии он, подобно другим животным, по
большей части был серьезен и даже печален на вид. Поэтому
я держусь такого мнения, что смех не только появился
в мире позже плача, — против этого ничего нельзя
возразить, — но и что его лишь с трудом и спустя немалое
время впервые заметили и испробовали. И во все это время
ни мать не улыбалась младенцу, ни он не улыбался, узнав
ее, как говорит Вергилий3. Зато теперь, по крайней мере
там, где люди принуждены жить цивилизованной жизнью,
они начинают смеяться вскоре после рождения и делают I
это более всего по чужому примеру, видя, как смеются 1
другие. И еще я склонен думать, что первым обстоятель- ]
ством, при котором люди засмеялись, и первой причиной |
этого было опьянение — другая отличительная особенность ]
человека. Его происхождение намного древнее того време- ]
ни, когда люди хоть в какой-то мере просветились: ведь I
мы не знаем такого дикого народа, который не придумал i
бы какого-нибудь напитка или другого средства опьянять *
себя и не пользовался бы им с жадностью. Удивляться
этому нет причины: нужно только помнить, что человек
несчастнее всех остальных живых существ и поэтому
больше их всех рад всякому безболезненному помрачению ума,
всякой возможности позабыть самого себя и всякому, так
сказать, временному прекращению жизни; поэтому для
него великое благодеяние, если он на короткое время
перестает чувствовать и сознавать собственные беды или
чувствует их не так остро. Что касается смеха, то дикари,
в другое время степенные и печальные на вид, напившись
допьяна, хохочут, как это видели не раз, а также против
своего обыкновения болтают и поют. Но обо всем этом я
поведаю более пространно в истории смеха, которую
намерен составить; в ней я, исследовав его рождение, от
этого времеци поведу рассказ о его делах, его
злоключениях и судьбах все дальше вплоть до нынешнего дня,
когда он оказался в наибольшем почете, ибо занял у
просвещенных народов такое место и приобрел такую силу,
что принял на себя прежние обязанности добродетели,
справедливости, чести, нередко обуздывая людей и
удерживая их от злых дел. А теперь, чтобы завершить разговор
о птичьем пении, я скажу, что коль скоро чужое веселье,
когда мы видим его и узнаем о нем, но не питаем зависти,
обыкновенно нас ободряет и радует, то и весьма
похвальна забота природы, сделавшей так, чтобы пенье птиц —это
174
Нравственные очерки
изъявление радости, этот необычайный смех — было
всенародным, а смех и пение человека из уважения к другим
людям — келейными; и еще она устроила очень мудро,
рассеяв на земле и в воздухе живых тварей, чьи радостные
голоса, звонкие и торжественные, раздаются весь день,
как бы рукоплеща мировой жизни и побуждая другие
существа порадоваться их непрестанному свидетельству,
пусть и ложному, о царящем везде счастье.
Птицы и оказываются и кажутся самыми веселыми из
животных не без веской на то причины. Дело в том, что
они, как я намекнул вначале, по природе своей лучше
приспособлены для наслаждения и счастья. Во-первых,
кажется, что они не подвержены скуке. То и дело они
меняют место, перелетают как угодно, далеко из края в
край или из нижних пределов воздуха в самые его выси,
и все это за короткое время, с удивительной легкостью,
так что за свою жизнь они успевают увидеть и испытать
бесконечное множество разнообразнейших вещей. Они
непрестанно упражняют свое тело, и внешняя жцзнь их
чрезвычайно богата. Все остальные существа, yдoвлefвo-
рив свои нужды, предпочитают покой и праздность, ни
одно из них, кроме рыб и некоторых летучих насекомых,
не будет долго носиться с места на место только ради
забавы. Так дикари, если не должны заботиться о своих
повседневных нуждах, не требующих от них больших и
долгих трудов, и если их не гонит гроза, или дикий зверь,
или иная подобная причина, обычно и шагу не сделают,
предпочитая праздность и лень; чуть ли не целыми днями
они сидят в молчанье и без дела под кровлей кое-как
построенной хижины, или под открытым небом, или в
расселинах скал и утесов и в пещерах. Птицы же, наоборот,
остаются на одном месте очень недолго, улетают и
прилетают безо всякой нужды, порхают ради забавы и порой,
отправившись на прогулку за сотни миль от тех мест, где
они проводят жизнь, в тот же день под вечер
возвращаются обратно. Даже за то короткое время, что они проводят
на одном месте, ты не увидишь, чтобы они сидели
неподвижно: то и дело они оборачиваются туда и сюда,
вертятся, расправляют и снова складывают крылья,
отряхиваются, двигаются и так и сяк, и все это с несказанным
проворством, ловкостью и быстротой. Одним словом, птица с
того мига, как вылупится из яйца, и до самой смерти,
кроме промежутков сна, ни минуты не бывает в покое. На
175
1
I ДЖАКОМО ЛЕОПАРДЙ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА \
основании таких наблюдений, как видно, можно
утверждать, что обычное состояние всех животных, включая
человека,— это покой, обычное состояние птиц — движение.
Этим их внешним свойствам и привычкам отвечают
внутренние, то есть душевные свойства, благодаря
которым они также лучше приспособлены для счастья, нежели
другие твари. Обладая столь тонким слухом и столь
острым, совершенным зрением, что наша душа с трудом
может составить себе о них соразмерное понятие, птицы
через эту свою способность наслаждаются весь день
разнообразнейшими зрелищами безмерных просторов и с
высоты видят в единый миг такое пространство земли и
различают взглядом столько разных мест, сколько
человек едва ли в силах за один миг охватить хотя бы умом.
Отсюда следует, что у птиц должно быть чрезвычайно
сильное и живое воображение, которое никогда не остается
праздным. Но это не то глубокое, пылкое и бурное
воображение, которым наделены были Данте или Тассо, потому
что оно есть самый пагубный дар и причина непрестанных
и тяжких тревог и мук; нет, это воображение богатое,
переменчивое, проворное, непостоянное и ребячливое, оно
есть щедрый источник приятных, радостных мыслей,
сладостных заблуждений и всяческих удовольствий и
утешений, самый лучший и плодотворный из всех даров, какими
благосклонная природа наградила живые души. Так что
птицы извлекают из этого дара множество благ и великую
пользу для своей душевной отрады, оставаясь
непричастными к его вредным и мучительным свойствам. И
насколько изобильна их внешняя жизнь, настолько же богата и
жизнь внутренняя, причем это богатство благотворно для
них и служит к их вящему удовольствию, как у детей, а
не к ущербу и к усугублению несчастий, как это чаще
всего бывает у людей зрелых. Поскольку птица и проворством
и внешней подвижностью явно похожа на ребенка, то
разумно предположить, что она схожа с ним и внутри, по
своим душевным свойствам. Но если бы блага этого
возраста были свойственны и всем остальным, а горести
не превосходили бы детских горестей, то, быть может, и
человек имел бы основание терпеливо переносить свою
жизнь.
На мой взгляд, природа птиц, если посмотреть на нее
с определенных сторон, совершеннее природы других
животных. Например, если мы вспомним, что птица намного
176
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
превосходит всех способностью видеть и слышать, — а
зрение и слух, согласно естественному порядку,
одинаковому для всего рода одушевленных тварей, суть самые
первые из чувств,— то и получается, что природа птиц
более совершенна, чем природа любого другого
одушевленного существа. И еще: коль скоро все прочие животные,
как написано выше, от природы склонны к покою, а
птицы— к движению, и коль скоро движение есть состояние
более живое, чем покой, так как и сама жизнь
заключается в движении, птицы же богаче внешним движением, чем
любое другое животное; кроме того, коль скоро слух и
зрение, которыми они превосходят всех остальных и
которые преобладают над прочими их способностями, суть
наиболее важные отличительные свойства живого
существа и самые живые и подвижные из всех чувств как сами
по себе, так и по тем привычкам, которые благодаря им
приобретает животное, и по другим своим внешним и
внутренним последствиям; наконец, коль скоро и все прочее
обстоит так, как мы сказали раньше, — то, значит, птицы
обладают большим запасом внешней и внутренней жизни,
чем другие животные. Если же и жизнь более совершенна,
нежели ее противоположность, по крайней мере для живых
тварей, и если поэтому больший запас жизни означает
большее совершенство, то и отсюда следует, что природа
птиц более совершенна. В этой связи нельзя обойти
молчанием еще одно обстоятельство: птицы более приспособлены
и к тому, чтобы переносить крайний холод и крайний зной,
даже без какого бы то ни было перерыва между тем и
другим: ведь нам нередко случается видеть, как они от
земли с быстротой почти мгновенной поднимаются в
воздух до высочайших его высот, то есть в места безмерно
холодные; а< многие из них при перелетах меняют в
короткое время несколько климатов.
Наконец, подобно тому как Анакреонт желал
превратиться в зеркало, чтобы любимая непрестанно гляделась
в него, или в юбочку, чтобы прикрывать ей бедра, или в
притирание, чтобы она умащалась им, или в воду, чтобы
она в ней купалась, или в повязку, которой она бы
стягивала себе груди, или в жемчужину, которую она носила
бы на шее, или в сандалию, чтобы она хотя бы попирала
его ногой, — так и я хотел бы хоть на короткое время
превратиться в птицу, чтобы отведать довольства и веселья
их жизни.
177
Песнь дикого петела 1
1
—= 1
Некоторые из иудейских наставников и писателей ут- ]
верждают, будто между небом и землей, то есть наполови- |
ну в небе, наполовину на земле, живет некий дикий петух: |
ногами он стоит на земле, а гребнем и клювом касается .4
неба. Этот гигантский петух помимо прочих его особенно- i
стей, о которых можно прочесть у названных авторов, на- \
делен разумом или по крайней мере, как попугай, неведо- ;
мо кем обучен произносить человеческие слова. Поэтому I
на одном старинном пергаменте была найдена песнь, напи- j
санная еврейскими буквами на языке, среднем между хал- j
дейским, раввинским и языками Таргума *, Каббалы2;
и Талмуда, озаглавленная «Шир детарнегол бара лецаф- ;
ра», что значит «Ночная песнь дикого петела», которую --'
мне с немалым трудом и лишь после того, как я не раз \
обращался с вопросами к раввинам, каббалистам и
иудейским богословам и законникам, удалось понять и
переложить на наш народный язык, как это видно будет из того,
что следует далее. Я не мог до сей поры выяснить,
повторяет ли петух эту Песнь время от времени или же
каждое утро, либо он пропел ее однажды, а также и, кто ее
слышит или услышал и был ли названный язык родным
для петуха или же его Песнь переведена с другого
наречия. Что касается помещенного ниже перевода, то я,
желая сделать его возможно более верным (чего я стремился
достичь и всеми другими способами), почел за лучшее
воспользоваться прозой, а не стихами, хотя сам предмет ее
есть предмет поэтический. Неровный, а порой и
напыщенный слог не должно ставить мне в вину, ибо он подобен
слогу подлинника, а подлинник в этой части отвечает
принятому в восточных языках, и больше всего — у поэтов.
Эй, смертные, пробуждайтесь! Рождается новый день,
на землю возвращается истина, а пустые призраки
покидают ее. Вставайте, чтобы снова взять на плечи бремя
жизни, переходите из лживого мира обратно в мир истины.
В этот час каждый вновь находит мысли о своей жизни
и обращается к ней душою, вызывает в памяти свои на-
178
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
меренья, стремленья и дела, видит перед собой
наслаждения и муки, которые сулит ему новый день; И каждый
в этот час больше, чем всегда, хочет найти в себе
отрадные ожидания и приятные мысли. Но только у немногих
это желание бывает удовлетворено, и пробуждение
оборачивается ущербом для всех. Несчастный просыпается не
прежде, чем окажется опять в объятьях своей горькой
участи. Сладок тот сон, который навеян или радостью, или
надеждой. Вплоть до зари следующего дня они обе
сохраняются в неприкосновенности, но в течение дня исчезают
или слабеют.
Если бы сон смертных был бесконечен и тождествен с
жизнью, если бы и под лучами дневного светила все
живое на земле нежилось в глубочайшем покое и нигде не
было бы видно ни трудов, ни деяний: не разносилось бы ни
мычания стад на лугах, ни крика дикого зверя в лесу, ни
пения пернатых в воздухе, ни гудения пчел или иных
насекомых по полям, и ни в одной стороне не возникало бы
ни звука, ни движения, кроме звука и движения вод,
ветров и гроз, — конечно, вселенная была бы тогда
бесполезна, но ра^ве в ней оказалось бы меньше счастья, чем те-
пепь, или больше, чем теперь, несчастья? Я спрашиваю
тебя, солнце, создатель дня и повелитель бодрствования:
на протяжении веков, которые ты до сего дня отмерило и
увело в прошлое своими восходами и закатами, видело ли
ты когда-нибудь хоть одного счастливого среди смертных?
Из бессчетного множества затеваемых смертными дел,
которые ты доныне видело, достигло ли, по-твоему, хоть одно
своей цели, дало ли удовлетворение, длительное или
преходящее, той твари, которая его начала и завершила?
Видишь ли ты и видало ли счастье в пределах мира? В
каком поле оно обитает, в каком лесу, в каких горах, в
каких долинах, в каких населенных или пустынных краях, на
какой планете из того множества, которое освещено и
согрето твоим пламенем? Быть может, оно прячется от
твоего взора и сидит в глубине пещер, в недрах земли или
в пучинах моря? Какое одушевленное существо к-нему
причастно, какое растение, что из всего животворимого
тобою, всего наделенного животными или растительными
свойствами либо лишенного их? И ты само, ты, подобно
неутомимому исполину3, быстро бегущее днем и ночью, без
сна и покоя, по бесконечному пути, установленному для
тебя,— счастливо ли ты или несчастливо?
179
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Смертные, пробуждайтесь! Вы еще не избавлены от
жизни. Придет время, и никакая внешняя сила, никакое
внутреннее волнение не заставит вас отряхнуть оцепененье
сна, в котором вы будете покоиться вечно и ненасытно.
А покамест вам не дана смерть: вам дозволено лишь время
от времени на короткий срок испытать ее подобие. Ведь
жизнь нельзя было бы сохранить, если бы она не
прерывалась так часто. Слишком надолго лишиться этого сна,
короткого и некрепкого,— это зло смертоносное и причина
вечного сна. Жизнь такова, что несущему ее бремя нужно
иногда сбросить его с плеч, перевести дыханье и освежить
силы, отведав как бы частицу смерти.
Кажется, бытие всего сущего имеет единственную
цель — смерть. То, что не существует, не может умереть,
и потому из ничего появились все сущие вещи. Последней
причиной бытия никак не может быть счастье: ведь ни
одна вещь не бывает счастливой. Правда, одушевленные
твари, затевая любое дело, ставят себе эту цель, но
никогда ее не достигают, и всю свою жизнь, ухищряясь,
трудясь и мучась, они страдают и тратят силы поистине лишь
ради того, чтобы прийти к единственной конечной цели,
поставленной природой, — к смерти.
Но как бы то ни было, раннее время дня смертному
обыкновенно легче выносить. Мало кто находит в себе по
пробуждении приятные и радостные мысли, но почти v
всех они тотчас же появляются и возникают, потому что
в этот час души больше всего склонны к отрадным
чувствам, даже если для них нет прямого повода, или способны
лучше, нежели в другое время, переносить беды. Поэтому
и у того, кого сон застиг в миг отчаяния, по пробуждении
душа вновь воспримет надежду, хотя бы это ему ничуть
не подобало. Многие неудачи и тяготы, многое внушавшее
страх и тревогу в этот час кажется не таким важным, как
казалось раньше. Часто треволненья вчерашнего дня
вызывают даже презрение и чуть ли не смех, как плоды
ошибок и пустых фантазий. Вечер можно сравнить со
старостью; наоборот, начало утра напоминает юность, ибо оно
умиротворено и доверчиво, вечер же лишен бодрости,
печален и склонен к дурным предчувствиям. Но юность,
которую смертные переживают ежеутренне, так же коротка и
мимолетна, как юность всей жизни, и день быстро
достигает для них преклонного возраста.
Но жалок и цветущий возраст, это самое лучшее время,
180
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
И притом даже столь скудное благо исчезает в такой
короткий срок, что живое существо замечает по многим
признакам упадок своего бытия, едва успев испытать его
совершенство, не почувствовав и не узнав собственных сил,
которые уже уходят. У любого рода смертных тварей
большая часть жизни есть увядание. В каждом своем
деянии природа имеет целью смерть и к ней устремляется:
иначе старость не преобладала бы настолько и так
явственно в жизни мира. Каждая часть вселенной неустанно
стремится к смерти с удивительной быстротою. Только
сама вселенная кажется незатронутой упадком и
угасанием: потому что если осенью и зимой она является всем
недужной и старой, то с новым временем года всегда
молодеет снова. Но, подобно тому как смертные, хоть на первых
порах каждого дня и обретают опять некоторую долю
юности, весь остальной день стареют и в конце концов
угасают, так и вселенная, хоть поутру года и молодеет, все же
непрестанно старится. Придет время, и вселенная, как и
вся природа, угаснет. И, подобно тому как от величайших
человеческих царств и держав и от всех их удивительных
деяний, прославленных в давние века, теперь не остается
ни следа, ни слуха, так и от всего мира, от всех
превратностей и бед, претерпеваемых твореньем, не останется и
следа и лишь сплошным молчанием и глубочайшим
покоем полно будет безмерное пространство. Так дивная и
пугающая тайна существованья мира, прежде чем она будет
изъяснена и постигнута, расточится и исчезнет.
апокрифический фрагмент
из ctpatoha лампсакского
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Этот фрагмент, который я ради препровождения
времени перевел с греческого на наш народный язык, извлечен
из рукописного кодекса, который несколько лет назад
находился и находится, быть может, поныне в
книгохранилище у монахов на горе Афон. Я дал ему название
«Апокрифический фрагмент», потому что, как любой может убе-
181
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
диться воочию, то, что мы читаем в главе «О конце мира»,Я
могло быть написано не иначе как совсем недавно, тогда И
как Стратон из Лампсака, философ-перипатетик, прозван-Я
ный «естествоиспытателем», жил за триста лет до христи-Я
анской эры. Правда, глава «О возникновении мира» согла-Я
суется с тем немногим, что мы находим у древних писате-Я
лей относительно мнений этого философа. Поэтому можно Я
думать, что первая глава, а быть может, и начало второй Я
подлинно принадлежат Стратону, остальное же было до-Я
бавлено каким-нибудь ученым греком не ранее чем в про-я
шлом столетии. Пусть судят об этом просвещенные чита- щ
тели. 1
О ВОЗНИКНОВЕНИИ МИРА I
Все материальные предметы конечны и обречены гибе- 1
ли, а это значит, что у всех у них было и начало. Сама же I
материя никакого начала не имела, то есть через собствен- 1
ную свою силу существовала от века. Если мы, видя, как |
материальные предметы возрастают, уменьшаются и нако- I
нец расточаются совсем, заключаем из этого, что они суще- 1
ствуют и не сами по себе, и не от века, но имели начало 1
и были созданы, то о том, что не растет, не убывает и ни- I
когда не гибнет, следует, наоборот, судить как о не имев- ]
шем начала и не происшедшем по какой-либо причине. Без I
сомнения, никак невозможно доказать, что одно из этих |
умозаключений истинно, а другое ложно. Коль скоро мы
уверены в истинности первого из них, значит, то же самое 1
мы должны допустить и для второго. Мы видим, что мате- !
рия не прибывает ни на самую малую частицу и что даже
ничтожнейшее ее количество не исчезает, так что она не
подвержена гибели. Меж тем как различные способы
бытия матерщт, являемые нам в том, что мы называем
материальными творениями, обречены гибели и преходящи, в
самой материи вообще нельзя обнаружить признаков
обреченности гибели и смерти, как и признаков того, что она
имела начало и что для ее существования была потребна
или потребна ныне какая-либо вне ее лежащая причина
или сила. Мир, то есть определенный способ бытия
'материи, имеет начало и обречен гибели. А теперь мы будем
говорить о возникновении мира.
Материя в целом, как растения и одушевленные твари
в частности, имеет в себе от природы некую силу или си-
182
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
лы, непрестанно возмущающие ее и то так, то иначе ее
движущие. Об этих силах мы можем строить догадки и даже
определять их на основании производимого ими действия,
но ни познать их самих по себе, ни открыть их природу
нам не дано. Мы даже не можем знать, подлинно ли те
действия, которые мы приписываем одной силе,
произведены ею одной или также множеством других, и наоборот,
суть ли силы, обозначаемые у нас разными именами,
поистине разные силы, или это одна-единственная сила. Ведь
и в человеке мы все время обозначаем разными словами
одну и ту же страсть или силу: например, честолюбие,
сластолюбие и им подобные страсти, каждая из которых ведет
к последствиям иногда просто различным, а иногда и
прямо противоположным друг другу, в действительности
оказываются одной и тою же страстью, а именно себялюбием,
в разных случаях действующим по-разному. Итак, эта
сила или, быть может, следует сказать, эти силы материи,
приводя ее в движение и непрестанно возмущая ее,
образуют из названной материи бесчисленные создания, то есть
изменяют ее на разные лады. Эти создания, взятые все
вместе и рассматриваемые такими, как они есть, а именно
разделенными на роды и виды и связанными между
собой в некоем порядке некими отношениями, именуются
миром.
Но названная сила никогда не перестает действовать и
изменять материю, а потому непрестанно творимые ею
создания она же разрушает, творя из их материи новые
создания. Покуда, вопреки ее разрушающему отдельные
создания действию, их роды и виды сохраняются все или
в большинстве своем, а порядок вещей и их естественные
отношения не меняются совершенно или по большей части,
мы говорим, что этот мир продолжает существовать. Но
бесконечное множество миров на бесконечном протяжении
вечности, просуществовав более или менее долгое время,
в конце концов пропадали, когда непрестанным
обращением материи, производимым названной силой, бывали
погублены все те роды и виды, из которых состояли эти
миры, и уничтожались те порядки и те отношения, которые
ими управляли. Материя от этого не убывала ни на
малейшую частицу, исчезали только те или другие способы ее
бытия, а на смену им тотчас же возникали другие
способы, то есть другие миры, и так раз за разом.
183
ДЖАКоМо ЛЕОПАРДк. ЭТИКА Й 5СТЁТЙКА
О КОНЦЕ МИРА
Про этот нынешний мир, к которому как его часть, то
есть как один из составляющих его видов, принадлежат
люди, нелегко сказать, сколько он просуществовал
доныне, как нельзя знать, сколько он еще просуществует впредь*
Порядки, на которых он стоит, кажутся неизменными и
таковыми считаются, ибо изменяются они лишь
понемногу, в непостижимо долгие сроки, так что изменения в мире
оказываются недоступными не только чувствам, но даже
познанию человека. Эти сроки, как бы они ни были долги,
ничтожны в сравнении с вечным существованием материи.
В нашем нынешнем мире ясно видна непрестанная гибель
отдельных созданий и непрестанные преобразования одних
вещей в другие; но так как разрушение так же
непрестанно восполняется возникновением и виды сохраняются, то
принято считать, будто в этом мире нет и не будет
причины, по которой он должен и может погибнуть, и что он не
обнаруживает никаких признаков непрочности. Однако
можно заметить и обратное, и. по многим приметам, одна
из которых такова.
Мы знаем, что у Земли по причине ее постоянного
вращения вокруг своей оси части, близкие к экватору,
стремятся прочь от центра, а части, окружающие полюсы,
придавливаются к центру, отчего форма ее изменилась и
продолжает меняться, а именно около экватора Земля
становится более выпуклой, а у полюсов, наоборот, более
плоской. Из-за этого должно произойти так, что спустя
некоторое время, продолжительность которого, даже если она
сама по себе измерима, людям невозможно познать, Земля
по обе стороны экватора сплющится и, потеряв форму
шара, превратится в тонкую круглую доску. Она, словно
колесо продолжая вращаться вокруг своего центра, будет
делаться все -тоньше и шире, пока наконец из-за
центробежного движения всех ее частей посередине не образуется
отверстие. Это отверстие будет увеличиваться по кругу со
дня на день, пока Земля, принявшая форму кольца, не
разлетится в конце концов на куски, которые, сойдя с
нынешней земной орбиты и утратив круговое движение,
обрушатся на Солнце, а может быть, и на другие планеты.
В подтверждение этому можно было бы привести в
пример кольцо Сатурна, относительно природы которого
естествоиспытатели не могут прийти к согласию К Поэтому,
184
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
быть может, не будет невероятным такое новое и
неслыханное предположение: что, если это кольцо было когда-то
одной из меньших планет, предназначенных в спутники
Сатурну? По причинам, подобным тем, которые мы назвали,
говоря о Земле, она стала плоской и кольцевидной, причем
в более короткий срок, как состоявшая, может быть, из
менее плотной и более податливой материи, а потом упала
со своей орбиты на Сатурн и, удержанная им в силу
притяжения его массы и его центра, расположилась, как мы
видим в действительности, вокруг этого центра. Можно
думать также, что это кольцо, продолжая вращаться (как
оно и делает) вокруг своего средоточия, которое есть в то
же время средоточие Сатурнова шара, непрестанно
утончается и расширяется, а расстояние его от названного
шара увеличивается, хотя и слишком медленно для того,
чтобы люди могли заметить и познать эти перемены,
особенно в таком отдалении. Вот все, что можно сказать,
серьезно или в шутку, о кольце Сатурна.
Далее, то изменение, которое, как мы знаем,
претерпевали и претерпевают очертания Земли, по тем же
причинам претерпевают, несомненно, и очертания каждой
планеты— пусть даже на других планетах оно и не столь явно
для глаза, как на Юпитере. То же самое происходит не
только на тех планетах, что, подобно Земле, вращаются
вокруг Солнца, но, конечно, и на тех, которые, как есть все
основания думать, движутся вокруг каждой звезды.
Поэтому все планеты по истечении некоего срока таким
образом, какой мы описывали, говоря о Земле, сами собой
разлетятся на куски и обрушатся, одни — на Солнце, другие —
на звезды. Очевидно, что в этом пламени погибнут не
только некоторые или многие из отдельных созданий, но и
вообще будут, так сказать, истреблены до корня все их виды
и роды, ныне сохраняющиеся на Земле и на других
планетах. Именно это или нечто подобное и подразумевали те
греческие, а также и варварские философы2,
утверждавшие, что этот нынешний мир должен погибнуть в огне. Но
поскольку мы видим, что и Солнце вращается вокруг
своей оси и о звездах, следовательно, нужно думать то же
самое, постольку можно заключить, что и Солнце и звезды
со временем должны, как и планеты, разрушиться, а их
пламя — рассеяться в пространстве. Таким образом
круговое движение мировых сфер, которое ныне есть важнейшая
часть мировых порядков, основа и источник сохранения
165
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
вселенной, само станет причиной уничтожения этих поряд- М
ков и этой вселенной. 1
Когда погибнут планеты, Земля, Солнце и звезды, но щ
не составляющая их- материя, из нее образуются новые 1
создания, разделенные на новые роды и виды, и благодаря 1
вечным силам материи возникнут новые порядки вещей и 1
новые миры. Но о свойствах этих порядков и миров, как 1
и о свойствах тех бесчисленных миров, которые уже были 1
и которые будут впредь, мы не можем даже делать пред- |
положений. 1
РАЗГОВОР ТИМАНДРА
И ЭЛЕАНДРА
Тимандр. Я хочу — нет, я даже должен сказать вам
прямо. И смысл и цель всего, что вы пишете и говорите,
кажутся мне достойными самого сурового осуждения.
Элеандр. Если вам не кажутся такими же и мои
поступки, я, право, не очень огорчен: ведь слова и писания
мало что значат.
Тимандр. Что до ваших поступков, мне тут не в чем
вас упрекнуть. Я знаю, вы не делаете другим добра,
потому что не можете, и вижу, что вы не делаете никому зла.
потому что не хотите. Но что касается ваших речей и
писаний, то тут, я полагаю, вы заслужили упрек; к тому же я
не согласен с вами, будто теперь такие вещи мало что
значат: наша современная жизнь, можно сказать, только
из них и слагается. Однако оставим в стороне слова и
поговорим толъко о ваших писаниях, в которых вы
непрестанно осуждаете и высмеиваете человеческий род. Во-
первых, это уже вышло из моды.
Элеандр. Мой ум тоже вышел из моды. А что дети
бывают похожи на отца — это ведь не ново.
Тимандр. Не ново будет и то, что ваши книги не
будут иметь успеха, как все, что идет против общего
течения.
Элеандр. Невелика беда. Им из-за этого не
придется побираться у чужих дверей.
Тимандр. Лет сорок-пятьдесят назад у философов
166
Нравственные очерки
было принято роптать на весь род людской, а в нашем
столетии все совсем наоборот.
Элеандр. А как по-вашему, лет сорок-пятьдесят на:
зад философы, ропща на людей, говорили правду или нет?
Тимандр. Скорее, правду, в большинстве случаев.
Элеандр. Что же, по-вашему, за эти сорок-пятьдесят
лет людской род так изменился и стал даже полной
противоположностью тому, чем был раньше?
Тимандр. Не думаю. Однако это не относится к
предмету нашего разговора.
Элеандр. Почему не относится? Может быть,
человечество стало могущественней или поднялось в чине, так
что нынешним писателям приходится льстить ему или
оказывать почтение?
Т и м ан д р. У нас с вами серьезный разговор, а вы
все шутите!
Элеандр. Ну что же, если говорить серьезно, то и
мне это хорошо известно; люди в наш век, делая себе
подобным зло по старой моде, стали говорить о них хорошо,
не в пример прошлому веку. Но я не делаю зла ни себе
подобным, ни тем, кто не подобен мне, и не считаю себя
обязанным против совести хорошо говорить о других.
Тимандр. Но вы, как и все люди, обязаны подумать,
как бы принести пользу тому роду, к которому сами
принадлежите.
Элеандр. Ну, а если род, к которому я принадлежу,
думает лишь о том, как бы принести мне вред, а не
пользу? Тогда я не вижу на себе обязанности, о которой вы
говорите. Но допустим, что такая обязанность на мне
лежит. Что я должен делать, если это не в моих силах?
Тимандр. Да, принести пользу делом вы не можете,
да и мало кто может. Но вашими писаниями вы и можете
и должны приносить пользу. Однако этого нельзя сделать
книгами, в которых вы непрестанно нападаете на человека
вообще; больше того, ими можно принести огромный вред.
Элеандр. Я согласен, что пользы они не приносят,
однако смею надеяться, что не приносят и вреда. Но
неужто вы думаете, что книги полезны человеческому роду?
Тимандр. Не только я, но и все так думают.
Элеандр. Какие же это книги?
Тимандр. Разного рода, но больше всего книги о
нравственности.
Элеандр. Так думают не все, потому что помимо
187
ДЖАКОМО ЛЁОПАРДИ. ЭТИКА к ЭСТЕТИКА
прочих я так не думаю,— как ответила Сократу одна жен- 1
щина 1. Если бы какая-нибудь книга о нравственности мог- 1
ла быть полезна, то полезнее всех, я полагаю, были бы 1
книги поэтические; при этом я понимаю слово «поэтиче- I
ские» в широком смысле, имея в виду те книги, которые I
предназначены волновать воображение, — не важно, в про- 1
зе они или в стихах. Я ведь невысоко ставлю ту поэзию, 1
которая, будучи прочитана и обдумана, не оставляет в ду- 1
ше читателя благородного чувства, способного хоть на пол- 1
часа удержать его от низких мыслей и недостойных поступ- I
ков. Но если читатель спустя час после прочтения книги 1
нарушает слово, данное лучшему другу, я не стану из-за I
этого презирать поэзию, потому что тогда мне пришлось 1
бы презирать самые прекрасные, самые пламенные, самые 1
возвышенные творения в мире. И еще я исключаю из этого 1
рассуждения тех читателей, которые живут в больших го- I
родах: ведь им, даже если они будут читать внимательно, 1
никакой род поэзии не принесет пользы и на полчаса, не 1
усладит их и не взволнует. 1
Т и м а н д р. Вы говорите, по вашему обыкновению, на- ]
смешливо и злобно, чем даете понять, что другие вас всег- 1
да плохо принимали и плохо с вами обходились: ведь это 3
по большей части и бывает причиной озлобленности ипре- 1
зрения, которое многие, по собственному признанию, испы- 1
тывают к себе подобным. ]
Э л е а н д р. Действительно, я не говорю, что люди так 1
уж хорошо обходились и обходятся со мною, тем более 1
что я выдал бы себя за единственное исключение, начни ]
я это утверждать. Но и большого зла они мне не делали: 1
ведь я, не желая ничего ни получить от них, ни перехва- |
тить у них, не так уж часто подставлял себя под удар. Вот I
что я вам скажу, и прошу мне поверить: я сам знаю и яс- |
но вижу, что не умею делать и малой доли потребного для j
того, чтобы' нравиться людям, и, можно сказать, не гожусь 5
ни для их общества, ни даже просто для жизни — по ви- i
не моей натуры или по моей собственной вине, — и
поэтому, если бы люди обращались со мною лучше, я бы
меньше их уважал.
Тимандр. Тогда вы тем более достойны осуждения:
потому что, будь вы незаслуженно обижены, ваша
ненависть и желание, так сказать, отомстить людям имели бы
хоть какое-то оправдание. Но у вас для ненависти, как вы
сами утверждаете, нет особой причины, кроме, может
188
Й^АВСТВЕННЫЁ ОЧЕРКИ
быть, странных и жалких честолюбивых притязаний
снискать себе славу мизантропа, наподобие Тимона2; а это
желание и само по себе отвратительно и чуждо именно
нашему веку, который более всего предан человеколюбию.
Элеандр. Насчет честолюбивых притязаний мне
незачем даже отвечать вам: я ведь уже сказал, что ничего
не желаю от людей; а если, хоть это и правда, мои слова
кажутся невероятными, то вам все же придется признать,
что не честолюбие заставляет меня писать вещи,
которыми, по вашему собственному утверждению, можно нынче
стяжать лишь хулу, а не хвалу. Что же касается
ненависти ко всему нашему роду, то я так далек от нее, что и не
хочу и не могу ненавидеть даже тех, кто наносит мне
обиды; я и вообще неспособен к ненависти и недоступен для
нее. В этом, кстати, одна из главных причин моей
непригодности к общению с людьми. Но тут я неисправим,
потому что все время думаю так: всякий, кто убедил себя,
будто от нанесенной другому обиды или ущерба он сам
получит выгоду либо удовольствие, решается на эту обиду
не ради того, чтобы сделать зло другому (такой цели не
может быть ни у одного поступка, ни у одной мысли), но
чтобы сделать добро себе, а это желание естественно и
потому не заслуживает ненависти. Кроме того, увидев
чужой изъян или чужую вину, я всякий раз, прежде чем
вознегодовать, принимаюсь изучать самого себя, предполагая,
что со мной самим произошло все предшествующее этому
случаю и я сам очутился в соответствующих
обстоятельствах; и так как я неизменно нахожу себя или
запятнанным теми же пороками, или способным на них, мне не
хватает мужества вознегодовать. Я всякий раз откладываю
свой гнев до того, когда увижу злонравие, по моей
природе для меня невозможное; но до С£Й пор мне не случилось
видеть такого. Наконец, моя душа всегда настолько полна
мыслью о тщете всех человеческих дел, что я не решаюсь
вступить в бой из-за какого-нибудь одного; негодование
и ненависть кажутся мне страстями куда более сильными,
чем того заслуживает ничтожность жизни. Вы видите сами,
какая разница между душой Тимона и моей. Тимон,
ненавидя и избегая всех людей, любил и привечал Алкиви-
ада, видя в нем будущую причину великих бед для их
общей родины. Я, хоть и не стал бы его ненавидеть, избегал
бы его скорее, чем всех остальных, и предостерег бы
сограждан от опасности, посоветовав им заранее принять
189
ДЖакомо ЛЕОЙАРДИ. этика и ЭСТЕТИКА
меры. Некоторые говорят, удто Тимон ненавидел не лю- ■
дей, а зверей в человеческом облике. А я ни людей, ни щ
зверей не могу ненавидеть. щ
Т и м а н д р. Но вы никого и не любите. Щ
Элеандр. Послушайте, друг мой. Я рожден, чтобы я
любить, и любил, быть может, с таким пылом, какой толь- 1
ко может разгореться в живой душе. Теперь, хоть я, как 1
видите, еще не достиг возраста от природы холодного или 1
хотя бы остылого, но не постыжусь сказать, что не люблю 1
никого, кроме самого себя, и то лишь в силу естественной 1
необходимости, настолько, что меньше и невозможно. Не- 1
смотря на это, я привык и всегда готов скорее пострадать 1
сам, чем стать причиной чужого страдания. А в этом, я 1
думаю, вы сами можете быть мне свидетелем, хоть и мало 1
знаете мои обычаи. 1
Тимандр. Не отрицаю этого. 1
Элеандр. Я даже неизменно стараюсь, порой забы- 1
вая о себе самом, доставить и людям то величайшее, боль- |
ше того, единственное благо, которого мне осталось желать I
для себя. Я имею в виду возможность не страдать. 1
Тимандр. Но ведь вы без обиняков признаете, что ]
не любите и нашего рода в целом? |
Элеандр. Да, признаюсь без обиняков. Но все же,
подобно тому как я, если бы это от меня зависело, нака- \
зал бы всех виновных, хотя ни к кому из них не испыты- |
ваю ненависти, так же я бы сделал, если б мог, что-нибудь |
великое на благо моего рода, хоть и не люблю его. "
Тимандр. Ладно, пусть так. Но в конце концов, что
же, если не нанесенные вам обиды, не ненависть, не
честолюбие, побуждает вас писать таким образом?
- Элеандр. Много разных причин. Во-первых,
нетерпимость ко всякому притворству и скрытности, которым я
поневоле иногда плачу дань в разговоре, но в писаниях —
никогда, потому что говорить мне нередко приходится по
необходимости, а писать меня никто не заставляет, и если
бы мне надлежало высказывать не то, что я думаю,
невелика была бы радость ломать себе голову над бумагами.
Теперь мудрые люди все смеются над теми, кто пишет по-
латыни, потому что никто уже не говорит на этом языке
и мало кто его понимает. Столь же смешно, на мой взгляд,
и упорство, с каким во всех речах и писаниях
предполагают в человеке некие свойства, которых, как известно
каждому, теперь не найти ни в одном из рожденных, а в ми-
190
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
ре — некие идеальные или воображаемые сущности,
чтимые в давно прошедшие времена, а ныне почитаемые за
ничто и теми, кто о них упоминает, и теми, кто это
слышит. Если кто наденет маску и перерядится, для того
чтобы обмануть других или остаться неузнанным,—это не
кажется мне странным; но когда все ходят в масках, и
притом совершенно одинаковых, и все переряжаются на один
лад, никого не обманывая и отлично зная друг друга, это
представляется мне ребячеством. Пусть снимут маски и
останутся в своем собственном платье: итог будет тот же,
а людям будет меньше мороки. Потому что в конце концов
это постоянное, хоть и бесплодное притворство, эта нужда
изображать из себя не то, что ты есть, не может не быть
в тягость и не прискучить. Если бы люди от первобытного
состояния дикости и разобщенности перешли к
современной цивилизации одним прыжком, а не постепенно, то
неужели они нашли бы в своем языке слова для
обозначения названных выше вещей и тем более в своем народе—
обыкновение то и дело повторять их и на тысячи ладов
рассуждать о них? Поистине это обыкновение кажется мне
одной из тех старинных церемоний или обрядов, что
чужды современным нравам, но соблюдаются в силу
привычки. Я не могу приспособиться к таким церемониям и точно
так же не приспосабливаюсь к этому обыкновению и пишу
на языке наших дней, а не времен Трои. Во-вторых, я в
моих писаниях не столько нападаю на наш род, сколько
сетую на судьбу. По-моему, нет.ничего более явного и
осязаемого, чем несчастье, в котором неизбежно живут все
живые. Если это неправда, тогда и все на свете ложь —
и оставим и этот и всякий другой разговор. Если же это
правда, то почему мне не дозволено во всеуслышанье
пожаловаться на наши несчастья и откровенно сказать: я
страдаю? Однако если бы я жаловался со слезами (вот и третья
побуждающая меня причина), то я бы изрядно наскучил
и себе и другим без всякой пользы. А смеясь над нашими
бедами, я получаю некоторое утешение и стараюсь тем же
способом принести его другим. И даже если мне это не
удастся, я все же не отступлюсь от мысли, что смех над
нашими бедами — это единственная выгода, которую
можно из них извлечь, и единственное лекарство от них.
Поэты говорят, что у отчаяния всегда улыбка на устах. Вам
не следует думать, будто я не сострадаю людям в. их
несчастье. Но, не имея возможности помочь им никакой си-
191
I
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА I
лой, никаким уменьем, никаким усердием, никаким сред- 1
ством, я считаю более достойным человека и более подо- ]
бающим благородному отчаянию смеяться над нашими
общими бедами, нежели вместе со всеми расточать слезы
и вздохи или вопить, подстрекая к тому же других. В за- \
ключение мне осталось сказать, что я не меньше вашего 1
и не меньше кого угодно желаю добра моему роду в це- \
лом, но никоим образом на это не уповаю и не умею ус- ,
лаждать себя, питаясь отрадными надеждами, как это
делают, я вижу, многие философы в наш век. Мое отчаяние,
будучи безраздельным, неизменным и основанным на
незыблемом мнении или уверенности, не оставляет во мне
места для радостных снов и мечтаний о будущем и
отнимает у меня отвагу предпринять что-либо для их
осуществления наяву. Вам отлично известно, что человек не
склонен к попыткам, которые, как он знает или полагает, не
должны привести к успеху, а если даже и склонится на
это, то действует неохотно и не прилагает особых усилий;
и вы знаете, что, если пишешь не так, как думаешь, или
вопреки собственным мыслям, пусть и ложным, никогда не
сделаешь ничего достойного внимания.
Т и м а н д р. Но нужно изменить собственные мысли,
если они, подобно вашим, не соответствуют истине.
Элеандр. Я сужу о себе, что я несчастен, и знаю,
что в этом я не заблуждаюсь. Если другие не таковы, то
я от всей души их поздравляю. Я уверен также, что не
избавлюсь от злосчастья, пока не умру. Если у других есть
надежда на что-нибудь иное, я рад за них.
Тимандр. Мы все несчастливы и всегда были
несчастливы, и я думаю, вы не станете хвалиться этой вашей
сентенцией как последней новинкой. Но обстоятельства
человеческой жизни могут измениться к лучшему, и
намного, по сравнению с нынешним временем, как они уже
изменились по сравнению с прошлым. Вы, судя по всему,
не помните или не хотите помнить, что человек способен
совершенствоваться.
Элеандр. Что он способен совершенствоваться, я
поверю вам на слово, но в то, что он совершенен — а это
гораздо важнее, — я сам не знаю, когда поверю и чьё
слово может быть тут порукой.
Тимандр. Он не достиг совершенства по недостатку
времени, но в том, что он его достигнет, сомневаться не
приходится.
192
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
Элеандр. Аяине сомневаюсь в этом. Тех немногих
лет, что протекли от начала мира до наших дней, ему и
не могло хватить, и из этого обстоятельства нельзя делать
вывод о даровании, предназначении и способностях
человека, тем более что у него было полно других дел. Но
теперь все только о том и думают, как бы
усовершенствовать наш род.
Тим а н др. Конечно, об этом думают во всем
цивилизованном мире, и с величайшим рвением. И если принять
во внимание обилие и могущество средств и вспомнить, в
какой невероятной степени и то и другое возросло за
короткое время, можно поверять, что конечная цель на самом
деле будет раньше или позже достигнута, и от этой
надежды уже есть немалый прок благодаря тем полезным
деяниям и трудам, к которым она побуждает и которым
способствует. И если всегда это было вредно и
предосудительно, то теперь вдвойне вредно и мерзко выставлять
напоказ это ваше отчаяние и вбивать людям в голову мысль
о неизбежности их несчастий, о тщете жизни, о немощи и
ничтожестве всего их рода, о злобности их природы;
плодом этого может быть только одно: их дух будет сломлен,
в них исчезнет уважение к самим себе — основа, на
которой зиждется честная, полезная, достойная славы жизнь,
и они будут отвпащены от заботы о собственном благе.
Элеандр. Я хотел бы, чтобы вы сказали
недвусмысленно: истинным или ложным кажется вам то, что я
думаю и говорю о людских несчастьях?
Тимандр. Вы снова хватаетесь за свое обычное
оружие, и, когда я признаю, что вы говорите правду, вы
считаете себя победителем. А я вам скажу, что не всякую
истину можно проповедовать всем и во всякое время.
Элеандр. Ради всего святого; ответьте мне еще на
один вопрос. Те истины, которые я повторяю и
проповедую, — основные ли это истины философии или
второстепенные?
Тима н др. Я, со своей стороны, полагаю, что в них
сущность всякой философии.
Элеандр. Значит, велико заблуждение тех, кто
повторяет и проповедует, что, мол, совершенство человека
состоит в познании истины, а все его беды происходят от
ложных мнений и невежества и что род человеческий
стянет наконец счастлив, когда все люди или большинство их
познают истину и, сообразуясь только с нею, будут устра-
7 Этика и эстетика 193
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ивать и направлять свою жизнь. Ведь так говорят чуть
ли не все философы, древние и новые. А на ваш взгляд,
те истины, которые составляют сущность всей философии,
следует скрывать от большинства людей; я думаю, вы
легко согласитесь и с тем, что все до единого должны
позабыть их или ничего о них не знать, потому что, если их
знают и держат в уме, они могут принести только вред.
Но это все равно что сказать, что философию следует
искоренить во всем мире. Мне хорошо известен конечный
вывод, который можно сделать из истинной и совершенной
философии: не нужно философствовать. Из чего следует,
что философия, во-первых, бесполезна, ибо для того, чтобы
не философствовать, незачем быть философом; во-вторых,
она весьма вредна, ибо этот последний вывод можно
постичь только ценой собственных усилий, а постигнув,
нельзя применить.его на деле, потому что не во власти людей
позабыть познанные истины и легче отказаться от любой
другой привычки, нежели от привычки философствовать.
Одним словом, философия, поначалу надеясь и суля нам
исцелить все наши беды, под конец приходит к тому, что
желает исцелить сама себя, да и то понапрасну. Установив
все это, я спрашиваю, почему следует думать, будто
нынешний век ближе к совершенству и более способен к нему,
нежели прошедшие эпохи. Может быть, потому, что он
лучше знает истину? Но ведь это знание, как мы 'видели,
весьма и весьма мешает счастью человека. Или,- быть
может, потому, что ныне хотя бы немногие знают, что
философствовать не нужно, даже если сами и неспособны от
этого удержаться? Но ведь первые люди действительно не
философствовали, и дикари с легкостью без этого
обходятся. Какие еще новые или более сильные средства,
приближающие к совершенству, есть у нас по сравнению с
предками?t
Тим а н др. Таких средств много, и все они весьма
действительны, но, чтобы рассказать о них, придется
пуститься в бесконечные рассуждения.
Элеандр. Оставим их покамест. А я, возвращаясь к
сказанному о себе, добавлю вот что: если в своих
писаниях я вспоминаю о некоторых тягостных и печальных
истинах— для того чтобы излить душу или утешить себя
смехом, ни для чего другого, — я тем * не менее не устаю
в тех же книгах оплакивать и порицать, отвращая от него
людей, то пристрастие к холодной, жалкой истине, знание
194
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
которой есть источник либо небрежения и лености, либо
низости души, бесчестности и несправедливости поступков,
извращенности нравов; наоборот, я превозношу и
восхваляю те мнения, пусть они даже ложны, которые
побуждают к деяниям и мыслям благородным, доблестным,
великодушным, добродетельным и полезным как для общего
блага, так и для блага самого человека; те прекрасные
и счастливые, хотя и пустые мечтания, которые придают
цену жизни; естественные самообольщения души; и
наконец, заблуждения древних, столь отличные от варварских
заблуждений, которые единственно и должны были бы
пасть благодаря современному просвещению и философии.
Но я думаю, просвещение и философия преступили свои
пределы (как это неизбежно происходит со всем челове-.
ческим) и бросили нас, едва выбравшихся из одного
варварства, в другое, не уступающее первому, хотя оно,
порожденное разумом и знанием, а не невежеством,
сказывается менее явно в теле, нежели в душе, и скорее, так
сказать, прячется внутри, нежели проявляется в делах.
Во всяком случае, я подозреваю или, вернее, склонен
думать, что, насколько заблуждения древних необходимы для
лучшего состояния просвещенных народов, настолько же
невозможно их восстановить и с каждым днем это
должно делаться все более невозможно. А что касается
совершенства человека, я клянусь вам, что, если бы он его
достиг, я написал бы по меньшей мере целый том в
похвалу роду человеческому. Но, поскольку мне не довелось это
увидеть и я не надеюсь, что доведется при жизни, я готов
отказать по завещанию большую часть моего добра на то,
чтобы со времени, когда род человеческий станет
совершенен, ему сочиняли и произносили каждый год по
панегирику, или даже воздвигли ему капище либо кумир по
образцу древних, или сделали все, что будет сочтено
наиболее уместным.
7*
КОПЕРНИК
(диалог)
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Первая из Ор и Солнце
Первая из О р. Добрый день, ваше сиятельство!
Солнце. Пожалуй, лучше сказать «доброй ночи».
О р а. Лошади поданы.
Солнце. Ладно.
О р а. Утренняя звезда уже вышла.
Солнце. Ладно; пускай идет, куда ей вздумается.
О р а. Что ваше сиятельство хочет этим сказать?
Солнце. Я хочу сказать, чтобы ты оставила меня в
покое.
О р а. Но, ваше сиятельство, ночь уже так затянулась,
что дольше и нельзя; если мы еще замешкаемся, то
смотрите, как бы не получилось какого беспорядка.
Солнце. Пусть будет что угодно, я не двинусь с
места.
О р а. О, ваше сиятельство, что это значит? Уж не
чувствуете ли вы себя плохо?
Солнце. Нет, нет, ничего я не чувствую, кроме
полного нежелания двигаться. А ты отправляйся по своим
делам.
Ора. Куда я могу отправляться, если не взойдете вы?
Ведь я — первый час дня, а какой может быть день, если
ваше сиятельство не соблаговолит, как заведено, выйти за
ворота?
Солнце. Так будь первым часом не дневным, а
ночным. Или пусть Оры ночных часов несут двойной караул,
а ты отдыхай вместе с твоими подругами. Потому что я,
знаешь ли, устало все время ходить кругом и светить
десятку жалких тварей, живущих на комочке грязи, таком
маленьком, что даже я, при моем хорошем зрении, не в
силах его разглядеть. И вот нынче ночью я надумало
больше не трудиться ради них, а ежели люди хотят видеть свет,
пусть не гасят огней или позаботятся о себе еще
как-нибудь.
196
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
О р а. Да как же, ваше сиятельство, эти бедняги
обойдутся без вас, по-вашему? Ведь если им придется не
гасить фонарей или припасать столько свечей, чтобы их
хватило на целый день, — такой расход им будет не по
карману. Если бы уже придумали, как делать этот воздух,
который может гореть1 и служить для освещения улиц,
комнат, лавок, погребков и прочего, и все это без особых
затрат, тогда бы я сказала, что беды тут большой нет.
Но дело в том, что люди откроют это средство еще лет
через триста без малого или, может, через триста с
небольшим, а тем временем у них иссякнут и масло, и воск, и
смола, и сало, так что жечь им будет нечего.
Солнце. Тогда они начнут охотиться за светлячками
и за этими светящимися козявками.
Ора. А как им защищаться от холода? Ведь без
помощи вашего сиятельства людям, чтобы согреться, мало
будет бросить в огонь все леса. К тому же они перемрут
с голоду, потому что Земля больше не будет приносить
плодов. Не пройдет и нескольких лет, как истребится само
семя этих бедных тварей, которые некоторое время будут
ощупью бродить по Земле в поисках пропитания и топлива
для обогрева, а потом, когда съедено будет все, что
можно проглотить, и погаснет последняя искра огня, перемрут
все до единого, замерзнув и превратившись в подобье
горного хрусталя.
Солнце. А мне какое дело? Что я, нянька роду
человеческому? Или нанялось им в повара, и мне положено
заботиться, чтобы плоды для них поспевали вовремя и
поскорее попадали к ним на стол? Почему я обязано думать
о том, что несколько невидимых по своей мелкости
существ в миллионах миль от меня не могут ни видеть без
моего света, ни противостоять холоду? И потом если мне
нужно и впредь служить, так сказать, печью и очагом
этому человеческому семейству, то разум требует, чтобы
семейство, если желает обогреться, само ходило вокруг
очага, а не очаг ходил вокруг дома. Раз уж Земле не
обойтись без меня, пусть сама походит и потрудится ради того,
чтобы я было при ней; а мне на Земле ни в чем нет
нужды, и искать ее незачем.
Ора. Если я правильно поняла, ваше сиятельство вот
что хочет сказать: пусть ваше прежнее дело теперь
возьмет на себя Земля.
Солнце. Да, и теперь, и впредь, и навсегда.
197
ДЖАКОМО ЛЁОПАРДЙ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
О р а. Без сомнения, у вашего сиятельства есть на это ]
веские причины помимо того, что вы вправе распоряжать- j
ся собою по собственному усмотрению. Но все же собла- |
говолите, ваше сиятельство, взглянуть, сколько красивых j
и необходимых вещей будет разорено из-за того, что вам j
угодно установить этот новый порядок. У дня больше не '
будет ни его прекрасной золоченой повозки, ни
прекрасных коней, которые купались вечерами в море; и потом,,
не говоря уже о мелочах, мы, несчастные Оры, потеряем
место на небе и из небесных служанок превратимся в
земных, если, конечно, не разлетимся дымом, как я этого
ожидаю. Но с этим пусть все4 будет, как вы пожелаете;
главное — уговорить Землю, чтобы пошла вокруг вас, а это
будет нелегко, потому что она двигаться не привыкла и
ей покажется странным, с чего это вдруг ей надо
пуститься бегом и так утомлять себя, если до сих пор она и шагу
с места не делала. Ведь если ваше сиятельство теперь,
кажется, начинает прислушиваться к тому, что
нашептывает лень, то Земля и вовсе не склонна сейчас трудиться
больше, чем раньше, как я слыхала.
Солнце. При таких делах, когда нужда ее припечет,
сорвется с места и будет бегать, сколько понадобится. Но
как бы то ни было, сподручнее и надежнее нам отыскать
какого-нибудь поэта или философа, чтобы он уговорил
Землю двигаться либо погнал силой, если другим
способом заставить ее не удастся. Ведь самая большая сила в
таком деле — у поэтов и философов; можно даже сказать,
она почти что у них в руках. Разве не поэты
давным-давно, когда я по молодости прислушивалось к таким вещам,
своими прекрасными песнями побудили меня по доброй
воле взвалить на плечи эту нелепую работу, словно она
так занятна или почетна, и бегать сломя голову — при
моем росте и дородстве — вокруг какой-то песчинки? Но
теперь я в зрелых годах, а потому, обратившись к
философии, ищу во всем пользы, а не красоты и от
поэтических чувств мне становится если не тошно, то смешно.
Теперь я ничего не желаю делать, не имея на то причины, и
к тому же основательной, а так как я не вижу никакой
причины предпочесть праздной и спокойной жизни жизнь
деятельную, тем более что она не приносит никакого плода
в награду за все труды и даже за одни только мысли
(ведь в мире нет такого плода, который стоил бы хоть два
гроша), я рассудило оставить другим хлопоты и тяготы,
198
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
а самому жить дома на покое и без дел. Эту перемену
произвели во мне помимо возраста философы, как я уже
тебе сказало; этот народ нынче стал могуществен, и
могущество его растет день ото дня. Так вот сейчас, когда я
хочу добиться, чтобы Земля сдвинулась с места и
побежала по кругу вместо меня, было бы, с одной стороны,
кстати найти поэта, а не философа, потому что поэты, то
одним своим вымыслом, то другим убеждая, будто все в
мире ценно и значительно, отрадно и весьма прекрасно,
внушают множество радостных надежд и вместе с ними
нередко — желание потрудиться, а философы это желание
убивают. Но, с другой стороны, философы теперь берут
верх, и я сомневаюсь, чтобы Земля больше, чем я, стала
слушать поэта, а даже если выслушает, это не окажет
никакого действия. Так что лучше нам будет прибегнуть к
помощи философа: ведь философы, хотя обыкновенно и
менее способны и менее склонны побуждать других к
деятельности, все же, может быть, ввиду крайнего случая
сумеют сделать это вопреки своему обыкновению. Если,
конечно, Земля не предпочтет лучше погибнуть, чем
столько трудиться; впрочем, я и тогда не сказало бы, что она
не права. Ну да ладно, посмотрим, что из этого выйдет.
А ты сделай так: ступай на Землю или лучше отправь
туда одну из твоих товарок, кого сама захочешь, и, если
она найдет кого-нибудь из этих философов не под
крышей, а на свежем воздухе, наблюдающим небо и звезды—
а разум подсказывает, что такой философ должен
отыскаться, ведь дольше ночи еще не бывало, — пусть не
мешкая сделает его невесомым, взвалит себе на плечи и
доставит сюда ко мне. А я уж позабочусь, как расположить
его сделать все, что требуется. Ты меня поняла?
Ора. Поняла, ваше сиятельство. Все будет исполнено.
СЦЕНА ВТОРАЯ
Коперник на террасе своего дома, лицом к востоку,
смотрит в небо через свернутый в трубку лист бумаги,
потому что подзорные трубы еще не изобретены.
Коперник. До чего же она длинная! Или все часы
неверны, или Солнце должно было взойти уже больше часа
назад; между тем на востоке и просвета не видать, хотя
ночь светлая и ясная, как зеркало. Все звезды горят, будто
№
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
в полночь. Вот и гляди теперь в Альмагест2 или в Сакро-
боско3 и требуй, чтобы тебе объяснили причину такого
явления. Я не раз слышал о той ночи, которую Юпитер
провел с женой Амфитриона 4; и еще, помню, совсем недавно
я прочел в новой книге какого-то испанца, что перуанцы
рассказывают, будто однажды в старину в их краях была
очень долгая ночь, которая никак не кончалась, и в конце
концов Солнце взошло из некоего озера, именуемого Ти-
тикака. Но я до сих пор думал, что все это сказки, и даже
был в этом уверен, как все разумные люди. И вот теперь
я вижу, что разум и наука, по правде говоря, ничего не
могут объяснить ни на йоту, и решаюсь думать, что и эти
басни и все остальные в таком же роде — истинная
правда; я даже собираюсь обойти все озера и болота, какие
смогу,— а вдруг мне случится выудить Солнце. Но что это
за шорох я слышу? Как будто шорох крыльев большой
птицы,
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Ора последнего часа и Коперник
О р а. Коперник, я — последний час.
Коперник. Последний час? Ну что ж, тут ничего не
поделаешь. Только, если можно, дай мне отсрочку, чтобы
я успел до того, как умру, составить завещание и привести
в порядок мои дела.
О ра. Как умрешь? Я ведь не последний час жизни.
Коперник. Так кто же ты? Последний из часов,
что я читаю по Часослову?
О р а. Этот, я думаю, тебе милее всех!
Коперник. Но откуда тебе известно, что я каноник?
И откуда Tjbi вообще меня знаешь? Ведь ты назвала меня
по имени.
Ора. Я все разузнала о тебе здесь внизу, у каких-то
людей на дороге. А я — просто последний час дня.
Коперник. А, я понял: первый час заболел, поэтому
и дня не видать еще.
Ора. Не перебивай. Дня больше вообще не будет, ни
сегодня, ни завтра, ни впредь, если ты не примешь мер.
Коперник. Вот было бы дело, если бы от меня
зависело наступленье дня!
О р а. Я тебе скажу, какие меры. Но прежде всего тебе
гоо
кРАЁСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
необходимо вместе со мной незамедлительно явиться в
дом к Солнцу, моему хозяину. Остальное ты услышишь по
дороге, а кое-что тебе скажет его сиятельство, когда мы
прибудем к нему.
Коперник/ Все это очень хорошо. Но только дорога,
если я не ошибаюсь, предстоит длинная. Как я могу унести
столько продовольствия, чтобы мне не умереть с голоду за
несколько лет до прибытия? Да и земли его сиятельства, я
полагаю, производят столько плодов, что мне и на один
завтрак не хватит.
О р а. Оставь свои сомнения. Тебе недолго придется
пробыть в доме у Солнца, а дорогу мы пролетим в единый
миг; ведь я дух, да будет тебе известно.
Коперник. Но я-то из плоти!
О р а. Ну ладно, тебе не к лицу тратить время на такие
рассуждения, ведь ты не философ-метафизик. Иди сюда,
садись мне на закорки, а остальное предоставь мне.
Коперник. Ну, давай! Готово. Посмотрим, чем это
неслыханное дело кончится...
СЦЕНА ПЯТАЯ
Коперник и Солнце
Коперник. Ваша светлость...
Солнце. Прости, Коперник, что я не приглашаю тебя
сесть; здесь у нас нет кресел. Но мы быстро разделаемся
с нашим делом. Ты уже слышал от моей служанки, в чем
оно состоит. А я так сужу по тому, что девушка доложила
мне о твоих достоинствах: ты — самый подходящий
человек для того, что нам требуется.
Коперник. Сударь, я предвижу в этом предприятии
множество трудностей.
Солнце. Трудности не должны пугать такого, как ты.
Говорят даже, что от трудностей отвага отважного растет.
Но в чем они состоят, эти трудности?
Коперник. Во-первых, хотя могущество философии
велико, я не уверен, так ли оно велико, чтобы убедить
Землю пуститься бегом после спокойного сидения на месте и
взяться за труды после стольких веков праздности,
особенно в нынешние времена, отнюдь не героические.
Солнце. Не сможешь ее убедить—заставишь силой.
Коперник. Охотно сделал бы это, ваша светлость,
201
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
будь я Геркулесом или по крайней мере Роландом5, а не
каноником из Вармии6.
Солнце. Ну и что с того? Разве не рассказывают о
вашем древнем математике7, который говорил, что если
ему дадут место вне мира, он берется, находясь в этом
месте, передвинуть небо и Землю? А тебе ненужно двигать
небо, и ты сейчас далеко от Земли. Значит, если ты не хуже
этого древнего, то не может быть, чтобы тебе оказалось
не под силу заставить ее двигаться волей или неволей.
Коперник. Сударь мой, это можно бы сделать, да
нужен рычаг, и такой длинный, что не только у меня, но
и у вашей светлости, как бы ни были вы богаты, и
вполовину не хватит средств ни на материал, ни на работу.
Но еще больше другая трудность, о которой я сейчас
скажу, вернее, это целый клубок трудностей. До сих пор
Земле принадлежало первое место в мире, то есть срединное,
где она (вы сами это знаете) пребывала в неподвижности,
и делать ей было нечего, кроме как поглядывать вокруг,
а все другие тела во вселенной, самые большие и самые
маленькие, испускающие свет и темные, непрестанно
кружились над нею, под нею или около нее с такой
поспешностью, и усердием, и пылом, что диву даешься, едва об
этом подумаешь. И так как все в мире было будто бы
занято у нее на службе, то и вселенная казалась подобием '
двора, где Земля восседает, словно на троне, а другие тела
вокруг нее, словно придворные, и телохранители, и при- \
служники, исполняющие каждый свою обязанность. Поэто- *
му Земля и на самом деле всегда воображала себя пове- j
лительницей мира, и при том положении вещей, какое су- j
ществовало до сих пор, поистине нельзя сказать, чтобы \
она рассуждала неверно: я не стал бы отрицать, что у нее ]
есть все основания так думать. Что же вам сказать о лю- ]
дях? Мы мним себя (и всегда будем мнить) первейшими «
и главнейшими из земных тварей, и поэтому каждый из j
нас, даже одетый в лохмотья и не имеющий сухой корки, j
чтобы грызть ее, с уверенностью считает себя
повелителем— не Константинополя, не Германии и не полумира, j
подобно императорам римским, но всей вселенной: пове- j
лителем Солнца, планет, всех видимых и невидимых звезд, ]
а также конечной целью существования звезд, планет, 1
вашего сиятельства и вообще всех вещей. А теперь, если |
мы хотим, чтобы Земля покинула это свое срединное ме- 1
сто, если мы добьемся, чтобы она бежала, вертелась, по- |
202 1
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
стоянно трудилась и уставала, исполняя то, что до сего
времени делали другие небесные тела, словом, чтобы она
стала одной из числа планет, то вследствие этого ее
величество Земля и их величества Люди должны будут
убраться с престола и отказаться от власти, оставшись, однако
при своих лохмотьях и при своих бедах,— а бед немало.
Солнце. К чему ты ведешь свои рассуждения, отец
Николай? Быть может, тебя грызет совесть, потому что это
дело кажется тебе оскорблением величества?
Коперник. Нет, ваше сиятельство; ведь ни в
кодексах, ни в дигестах8, ни в трактатах по гражданскому, или
по имперскому, или по международному праву, ни в
книгах о естественном праве, сколько я помню, нет ни слова
о таком оскорблении величества. Но если говорить по сути,
наше предприятие не просто материального свойства, как
кажется на первый взгляд, и последствия его не
принадлежат одной лишь физике: ведь оно опрокинет иерархию
вещей и порядок всего сущего, изменит цели всего
созданного и поэтому произведет величайший переворот в мета-,
физике и вообще во всем, что относится к умозрительной
стороне познания. И в итоге люди, если смогут и захотят
рассуждать здраво, обнаружат, что они совсем не то, чем
были или воображали себя до сих пор.
Со л н ц е. Ну, сынок, уж эти-то вещи меня вовсе не
пугают; ведь я уважаю метафизику ничуть не больше, чем
физику, или даже алхимию, или, если тебе угодно,
некромантию. Люди будут тем, что есть, и этого с них довольно;
а если им это придется не по душе, они начнут рассуждать
навыворот, вопреки очевидности вещей, — что для них не
так уж трудно,— и так по-прежнему смогут воображать
себя кем захотят: баронами, или герцогами, или
императорами, или кем угодно повыше. Им от этого будет
утешение, а мне ни малейшей докуки не будет.
Коперник. Ну что ж, оставим людей и Землю. Но
взгляните, ваше сиятельство, что должно, по всем
причинам, произойти на других планетах. Когда они увидят, как
Земля делает то же самое, что они, и обнаружат, что она
стала одной из них, им не захочется больше оставаться
просто гладкими, ничем не украшенными шарами,
пустынными и унылыми, какими они всегда были; они не
потерпят, чтобы у Земли у одной было столько украшений, и
тоже пожелают завести свои реки и моря, свои горы и
растения, и помимо всего прочего — своих животных и своих
203
j
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
обитателей: ведьла их взгляд, им не будет больше причи- \
ны хоть в чем-нибудь отставать от Земли. Вот вам и еще '
один величайший переворот в мире, бесчисленное множест- '
во новых семейств, новых народов, которые — вы
увидите!— в один миг вырастут повсюду как грибы. ;
Солнце. Тебе-то что? Пусть вырастают, пусть
множатся, сколько смогут: моего света и тепла хватит на всех,
мне даже не придется увеличивать расходы, и мир
достаточно изобилен, чтобы прокормить их, одеть, приютить и,
не влезая в долги, щедро всем обеспечить.
Коперник. Но если ваше сиятельство задумается об
этом немного поглубже, оно увидит, что возникнет еще
такая смута. Звезды, увидев, что вы сидите уже не на облуч- t
ке, а на престоле и что вас окружает прекрасный двор <
и народ планет, захотят не только сидеть и отдыхать по- -
добно вам, но и царствовать; а кто царствует, тому надо i
иметь подданных, и поэтому каждая из них пожелает за- :
вести свои собственные планеты по вашему примеру. А этим
новым планетам подобает быть населенными и украшен- i
ными, как Земля. Что говорить тогда о несчастном роде
человеческом, уже раньше низведенном почти до полного
ничтожества перед лицом одного лишь нашего мира! До
чего он опустится, когда вдруг возникнет столько тысяч ;
других миров и не останется самой крошечной звездочки в '.
Млечном Пути, у которой не было бы своего мира? Но да- \
же если заботиться лишь о вашей выгоде, то я скажу вот I
что: до сих пор вы были если не первым во вселенной, то
по крайней мере вторым после Земли и не имели себе
равных, потому что звезды не осмеливались тягаться с вами;
а при этих новых порядках во вселенной окажется столько
же равных вам, сколько будет звезд со своими мирами.
Поэтому смотрите, как бы перемена, которую мы затеяли,
не нанесла ущеоба вашему достоинству.
С о л нце.' Разве ты не помнишь, что сказал ваш
Цезарь, когда, переваливая через Альпы, проходил мимо
селения каких-то несчастных варваров? Он объявил, что
предпочел бы быть первым в этом селении, нежели вторым
в Риме. И мне тоже больше по душе быть первым в
нашем мире, чем вторым во вселенной. Но теперь я не из
честолюбия стремлюсь изменить порядок в мире, а только
из любви к покою или, если называть вещи своими
именами, по лени. Мне мало заботы, будет у меня ровня во
вселенной или не будет, на первом ли я окажусь месте или
204
t
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
на последнем, — ведь я, в отличие от Цицерона9, больше
думаю о покое, чем о достоинстве.
Коперник. Что до покоя, ваше сиятельство, то я, со
своей стороны, приложу ^се силы, чтобы вам его добыть.
Но сомневаюсь, что он ,6удет долог, даже если это нам
удастся. Во-первых, я г/очти уверен, что спустя немного
лет и вы будете вынуждены завертеться на месте, как
колодезный блок или жернов. И потом я подозреваю, что в
конце концов, по истечении более или менее долгого срока,
вам придется вновь пуститься бегом. Я не говорю —бежать
вокруг Земли, но ведь для вас большой разницы тут нет.
Быть может, это самое ваше вращение вокруг себя и
заставит вас снова выйти в путь. Но довольно, будь
по-вашему; несмотря на все неудобства и вопреки всем прочим
соображениям, я постараюсь услужить вам, если вы
упорствуете в своем намерении; лишь бы вы, если мне это не
удастся, знали, что я не смог, и не сказали, что мне не
хватило мужества.
Солнце. Ну хорошо, Коперник, пробуй!
Коперник. Остается только одно затруднение.
Солнце. Скажи какое.
Коперник. Я не хотел бы за это дело быть
сожженным заживо, наподобие Феникса; ведь если это случится,
мне, я уверен, не удастся воскреснуть из собственного
пепла, как воскресает эта птица, а значит, и не придется
впредь лицезреть вас, ваше сиятельство.
Солнце. Послушай, Коперник: ведь тебе известно, что
в те времена, когда вы, философы, едва появились на свет,
то есть тогда, когда верх брала поэзия, я был
прорицателем 10. Сейчас позволь мне предсказать в последний раз
и, в память об этой моей древней силе, поверь мне. Я
говорю тебе, что в будущем кому-нибудь из тех, кто одобрит
сделанное тобою, может быть, и достанутся ожоги или еще
что-либо в этом роде; ты же, сколько я могу знать, ничуть
не пострадаешь из-за нашей затеи. А если ты хочешь быть
до конца уверенным, то действуй так: книгу, которую ты
напишешь, посвяти папе11. Обещаю тебе, что таким
образом ты даже не потеряешь сана каноника.
1
РАЗГОВОР ПЛОТИНА
И ПОРФИРИЯ
«Однажды, когда я, Порфирий 1, вознамерился лишить |
себя жизни, Плотин2 заметил это и, неожиданно придя ко 1
мне и застав меня дома, сказал, что такое намерение 1
может быть не плодом рассуждения здравого ума, но пло- I
дом какого-то меланхолического недуга; потом он заста- |
вил меня перебраться в другой край». Порфирий в жизне- 1
описании Плотина. То же самое — в жизнеописании Пор- |
фирия, составленном Евнапием3, который добавляет, что 1
Плотин подробно изложил в книге те разговоры, которые 1
они вели с Порфирием по этому случаю. 1
Плотин. Порфирий, ты знаешь, что я тебе друг, и 1
знаешь, как ты мне дорог; поэтому ты не должен удив- I
ляться, что я с некоторым пристрастием слежу за твоими 1
поступками и речами и за твоим состоянием: ведь это 1
потому, что я всем сердцем к тебе привязан. И вот уж |
несколько дней я замечаю, что ты печален и задумчив; 1
у тебя и взгляд какой-то особенный, и порой у тебя вы- 1
рываются какие-то особенные слова. Говоря без долгих |
подступов и без околичностей, мне кажется, что ты заду- 1
мал что-то нехорошее. 1
Порфирий. Как так? Что ты имеешь в виду? 1
Плотин. Ты задумал учинить что-то нехорошее над |
самим собой. Слушай, Порфирий, не отпирайся, если это 1
правда, не оскорбляй любви, которую мы так давно пита- j
ем друг к другу. Я знаю, тебе неприятно, что я затеял 1
этот разговор; но в деле такой важности я не мог смол- ]
чать, да и ты должен, не досадуя, обсудить его с другом, 1
который тебя любит, как самого себя. Поговорим спокой- ]
но и обдумаем все доводы; ты сможешь излить мне душу, ]
пожаловаться и поплакать, ведь я этого заслужил, и потом 1
я не буду мешать тебе сделать то, что мы оба сочтем и |
разумным и полезным для тебя. 1
Порфирий. Я никогда не отказывал тебе ни в одной |
твоей просьбе, мой Плотин. И теперь я признаюсь тебе 1
в том, что хотел было удержать в тайне и в чем ни за что 1
206
Нравственные оЧеркй
на свете никому другому не признался бы. То, что ты
вообразил себе относительно моих намерений, правда.
Если тебе угодно, чтобы мы пустились в рассуждения об
этом предмете, ладно, я согласен и тут сделать
по-твоему, хотя моя душа и противится, ибо такие решения, как
видно, любят полное молчание и дух, предавшийся таким
мыслям, более чем когда-либо еще желает одиночества
и сосредоточения в самом себе. Я даже сам начну этот
разговор и скажу тебе, что в моем намерении повинно не
какое-нибудь случившееся со мной или ожидаемое
несчастье, но лишь то, что жизнь мне постыла. Мое
отвращение к ней так сильно, что стало подобно боли и
судороге, я не только постигаю умом тщету всего, что
встречается мне за день, но и вижу ее, ощущаю на вкус и на
ощупь, так что не только мой рассудок полон ею, но и
мои чувства, даже телесные (я выражаюсь странно, но
такой способ выражения лучше всего подходит к случаю).
Об этом моем расположении духа ты не можешь сказать,
что оно неразумно, хотя я сам легко соглашусь, что в
большой своей части оно происходит от какого-то
телесного недуга. Несмотря на это, оно вполне разумно, больше
того, всякое другое расположение духа, благодаря
которому люди так или иначе живут и даже считают жизнь
и все человеческие дела хоть мало-мальски
существенными, не имеет ничего общего с разумом и зиждется на
обмане чувств или воображения. Нет ничего разумнее
скуки. Все наслаждения пусты. Само страдание — я имею
в виду душевные страдания — тоже чаще всего пусто,
потому что, если ты взглянешь на его причину и повод и
хорошенько рассмотришь их, они окажутся или
ничтожными, или вовсе несуществующими. То же самое можно
сказать и о страхе, то же — и о надежде. Только скука,
порождаемая пустотой всего сущего, сама не есть ни
пустота, ни обман, потому что зиждется она не на ложной
основе. Можно даже сказать так: всё, сколько есть в
человеческой жизни существенного и подлинного, сводится
к скуке и в ней заключается, коль скоро остальное пусто
и тщетно.
Плотин. Пусть будет так. Я не хочу оспаривать тебя
в этой части. Но мы должны теперь обдумать
замышляемое тобою дело, рассмотрев его само по себе, а не так
широко. Я не стану говорить тебе о том, каково суждение
Платона4, ты сам его знаешь: не дозволено человеку, на
207
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДЙ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
манер беглого раба, своей властью избавляться от той
как бы тюрьмы, где он находится по воле богов, то есть 1
добровольно лишать себя жизни. ]
Порфирий. Прошу тебя, Плотин, не будем сейчас 1
трогать и Платона, и его учение, и его вымыслы. Одно J
дело — хвалить, истолковывать, отстаивать некоторые его 1
суждения в школах и в книгах, другое — следовать им в J
практической жизни. В школе и в книгах пусть мне будет ]
позволено соглашаться с чувствами Платона и руковод- I
ствоваться ими, потому что так теперь принято, но в жиз- |
ни я, мало сказать, не согласен с ними — они мне претят. ]
Я знаю, как говорят обычно: Платон, мол, рассеял по I
своим писаниям мысли о будущей жизни с тем, чтобы I
люди пришли в сомнение и неуверенность насчет посмерт- |
ного их удела и чтобы это неведение и страх перед буду- 3
щими муками удерживали их при жизни от несправедлив |
вых и злых дел. Если бы я считал Платона виновником 1
этих сомнений и суеверий, если бы полагал, будто он сам 1
их придумал, я бы сказал ему: ты видишь, Платон, до 1
чего природа, или судьба, или необходимость, или дру- 1
гая сила — создательница и повелительница вселенной— 1
была и всегда остается враждебной нашему роду. По мно- 1
жеству, даже по бесчисленному множеству причин можно 1
оспаривать у нас то превосходство по всем статьям, на 1
которое мы притязаем среди прочих живых существ, но 1
никому не отыскать причины, по которой можно у нас 1
отнять первенство, приписываемое нам древним Гоме- I
ром5,— первенство в несчастьях. Однако природа предназ- 1
начила для нас как лекарство от всех бедствий смерть, ]
которой те, кто не слишком привык рассуждать, не так 1
уж боятся, а иные даже и желают. В нашей жизни, пол- I
ной мук, ожидание конца и мысль о нем могли бы стать |
для нас сладчайшим утешением. Но ты, возбудив в люд- 1
ских душах страшное сомнение, лишил эту мысль всякой I
сладости и сделал ее горше всех остальных. По твоей 1
вине несчастные смертные, как мы видим, больше боятся |
гавани, чем бури, и от-своего единственного лекарства и I
отдохновения убегают душой к насущным горестям и му- |
чениям жизни. Ты был к людям более жесток, нежели I
судьба, необходимость или природа. И так как это сомне- I
ние не может быть никоим образом разрешено, а наши 1
души — избавлены от него, ты навсегда обрек себе подоб- I
ных на то, что смерть для них полна тревоги и кажется 1
208 1
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
им большим несчастьем, чем жизнь. Между тем как все
животные умирают безо всякого страха, человек твоими
стараниями навсегда лишен покоя и безмятежности духа
в свой последний час. Только этого, о Платон, не хватало
в наших несчастьях.
Я уж не говорю о том, что цель, которой ты стремился
достичь,— то есть удержать людей от насилия и
несправедливости,— так и осталась недостигнутой. Ведь эти
сомнения и суеверия пугают людей в последние часы, когда
они и так неспособны вредить; а в течение всей жизни
они нередко внушают страх людям честным, которые
стремятся не только не вредить, но и быть полезными
другим, или ужасают робких и хилых телом, которые по
самой природе своей не склонны к насилиям и злодеяниям
и не имеют на них сил ни в сердце, ни в мышцах. Но
люди дерзкие и сильные и те, кто не чувствителен к
могуществу воображения,— словом, такие, кому нужна
помимо закона еще какая-нибудь узда,— не знают
подобного страха и не удерживаются им от дурных поступков: мы
это видим на ежедневных примерах, и о том же ясно
свидетельствует опыт многих столетий, от твоих дней вплоть
до наших. Хорошие законы, а еще больше — хорошее
воспитание, просвещающее нравы и умы, помогают
сохранять в людском обществе справедливость и кротость,
потому что души, лишенные грубости и несколько
смягченные просвещением, приученные обдумывать все вокруг и
прибегать к рассудку, наверняка никогда не посмеют
поднять руку на жизнь сотоварищей и обагрить ее кровью,
чаще всего чужды желания повредить другим и в редких
случаях, с трудом решаются подвергнуть себя
опасностям, с которыми сопряжено нарушение закона. Это
благое действие достигается уже не грозными вымыслами, не
печальными предрассудками и верой в чудовищные и
страшные вещи, которые, подобно тому как обыкновенно
делают это многочисленность и суровость налагаемых
государством наказаний, только увеличивают, с одной
стороны, низость души, с другой — ее жестокость, свойства
более всего враждебные и пагубные для всякого
человеческого общества.
Но ты еще показал и посулил награду добрым и
честным. Какую награду? Некое состояние, исполненное, как
нам кажется, одной лишь скуки и еще более тягостное,
чем жизнь. Каждому очевидна горечь обещанных тобою
209
ДЖАКомо леопардй. этика й acfETMRA
мук, но сладость обещанных тобою наград скрыта тайнойЯ
и непостижима для человеческого ума. Поэтому твои на^Я
грады бессильны привлечь нас на путь честности и добро-1
детели. И поистине, если мало кто из злодеев, убоявшись!
твоего ужасного Тартара, удержался от преступления, то I
я осмеливаюсь утверждать что ни один порядочный чело-1
век, творя доброе дело, пусть и самое ничтожное, никогда I
не был подвигнут на него желанием заслужить твой Эли-1
зий. Для нашего воображения он даже сходства не имеет I
с тем, чего стоило бы пожелать. Но и при том, что даже 1
верное ожидание этого блага не слишком бы нас утеша-1
ло, какую надежду на него ты оставил самым доброде-Я
'тельным, самым справедливым, если твой Минос и твои Я
-Эак и Радамант, строгие и неумолимые судьи, не проща-Я
ют даже тени, даже малейшего следа вины? Какой чело-Я
:век может считать себя столь чистым и незапятнанным, Я
как ты требуешь? Так что достичь этого счастья, каково J
'бы оно ни было само по себе, почти что невозможно, и Я
<самого твердого сознания прожитой честно и трудолюби- Я
^вой жизни мало для того, чтобы в последний раз избавить Я
^смертного от неведения его будущей участи и страха пе- 1
]ред карой. Так через твое учение страх, одолевая надеж- 1
;ду, становится повелителем человека, и плод твоего уче- Я
]ния в конечном счете состоит в том, что людской род, Я
:являя удивительный пример несчастной доли при жизни, Я
;не надеется, что и смерть положит конец его) бедствиям, но Я
:ждет после смерти вящих горестей. Вот и выходит, что Я
^ы жестокостью превзошел не только природу и судьбу, Я
во и самого свирепого тирана, самого безжалостного па- Я
тача, какие были когда-либо в мире. 1
Но что есть бессердечнее, нежели твой указ, запре- 1
щающий человеку положить конец своим страданиям, го- I
рестям и тревогам, победив страх смерти и добровольно 1
лишив себя жизни? Конечно, у других животных не появ- Я
ляется желания покончить с собою,— но ведь и несчастья Я
их не так обширны, как несчастья людей, к 'тому же они Я
никогда бы не нашли в себе мужества добровольно обо- Я
рвать свою жизнь. А если бы склонность к этому была Я
заложена в природе диких животных, ничто не помешало Я
бы им умереть, и никакой запрет, никакое сомнение не Я
отняло бы у них способности избавиться от своих бед. Я
Значит, и тут по твоей вине животные оказываются выше щ
лас, и та свобода, которую имели бы дикие звери, случись 1
210
1
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
им воспользоваться ею, та свобода, в которой даже
природа, столь к нам скупая, не отказала нам, по твоей вине
отнята у человека. И выходит, что единственный род
живых существ, способный желать смерти, один в своей
смерти не волен. Природа, судьба и фортуна непрестанно
бичуют нас до крови, терзая немыслимой болью; ты
спешишь к нам — и связываешь нас по рукам, сковываешь
по ногам, так что мы не можем ни обороняться, ни уйти
из-под их ударов. Поистине, когда я созерцаю огромность
человеческого несчастья, я думаю, что больше всего
людям следует обвинять в нем твое учение и что они вправе
сетовать на тебя горше, чем на природу. Она ведь хотя
и не предназначила нас, по правде говоря, к иной жизни,
кроме несчастной, но, с другой стороны, дала нам
возможность оборвать ее когда угодно. Так что, во-первых,
нельзя назвать нашу участь совсем уж жалкой, если в моей
воле сделать ее краткой; и, во-вторых, пусть человек на
деле и не решится уйти из жизни, но сама мысль о
возможности по первому желанию избавиться от жалкой
участи может стать такой опорой и таким облегчением в
любых бедствиях, что благодаря ей будет нетрудно их
перенести. Ведь о непереносимой тяжести наших несчастий
красноречивей всего прочего говорит как раз наше
сомнение в том, не окажется ли, если мы самовольно оборвем
свою жизнь, будущая мука сильнее нынешней. И не
только сильнее, но и такой несказанно жестокой и долгой, и.
к тому же неведомой,— между тем как настоящее
известно нам,— что страх перед этою мукой, которую нечем
измерить и не с чем сравнить, непременно возьмет в нас
верх над ощущением любого несчастья в этой жизни.
Тебе, Платон, легко было возбудить это сомнение,— но
прежде исчезнет людское племя, чем оно будет
разрешено. Так что никогда не возникало и не возникнет
ничего более бедственного и пагубного для рода человеческого,
чем твой гений.
Так бы я сказал, если бы думал, что Платон сам
создал и измыслил это учение; но мне хорошо известно, что
это не так. Во всяком случае, об этом предмете сказано
достаточно, и мне бы хотелось, чтобы мы оставили его.
Плотин. Ты сам знаешь, Порфирий, как я люблю
Платона; но это не причина приводить доводом его
авторитет, а тем более в разговоре с тобою и о таком деле;
я хочу, чтобы мои доводы зиждились лишь на разуме.
211
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
И если я мимоходом коснулся Платонова суждения, то ;
с одной лишь целью — воспользоваться им как своего
рода введением к речи. И вот, возвращаясь к
доказательствам, которые я намеревался привести, скажу, что не
только Платон или какой-нибудь еще философ, но сама
природа, по-видимому, учит нас, что покидать мир лишь по
собственной воле — дело недозволенное. Мне нет нужды
долго распространяться на этот счет: ведь если ты хоть
немного подумаешь, то непременно поймешь сам, что
убивать себя своей рукой без необходимости противно приро- -
де. Или, лучше сказать, это самый противоестественный
поступок, какой мы можем совершить. Потому что весь
порядок вещей будет опрокинут, если они начнут сами
себя уничтожать. Как видно, природе претит, если кто-
нибудь воспользуется жизнью для того, чтобы эту жизнь
угасить, если наше бытие послужит нам для того, чтобы
не быть. Кроме того, если что-нибудь приказано и
заповедано нам природой, то, конечно, самая первая и строгая
ее заповедь не только людям, но и всякой твари во
вселенной,— заботиться о собственном сохранении и
добиваться его всеми способами; а уж это ли не
противоположно самоубийству? И помимо всяких доказательств
разве мы не чувствуем, куда влечет нас наша склонность,
заставляя нас вопреки собственной воле ненавидеть смерть
и бояться ее? Следовательно, коль скоро самоубийство
противно природе,— а насколько противно, мы видели
сами,— я не могу счесть его дозволенным.
Порфирий. Я досконально рассмотрел и эту сторону
вопроса; ведь и ты сам сказал, что невозможно душе не
обратить на нее внимания, едва лишь человек
задумывается об этом предмете. Мне кажется, что на твои доводы
можно ответить многими другими доводами и по-разному,
но я постараюсь быть кратким. Ты сомневаешься,
дозволено ли нам умереть без необходимости; я тебя
спрашиваю, дозволено ли нам быть несчастными. Природа
запрещает убивать себя. Мне было бы странно, если бы она, не
имея желания или власти сделать меня счастливым либо
освободить от бедствий, способна была обязать меня жить.
Пусть природа наделила нас врожденной любовью к
самосохранению и ненавистью к смерти,— но не в меньшей
мере она дала нам и ненависть к несчастью и любовь к
собственному благу; больше того, эти две последние
склонности настолько же сильнее и важнее первых, насколько
212
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
счастье есть цель каждого нашего поступка и всякой
нашей любви и ненависти и насколько ни смерти не
избегают, ни жизни не любят ради них самих, но лишь в той
мере, в какой любят собственное благо и ненавидят зло
и ущерб. Как же может быть противоестественной
попытка избежать несчастья единственным способом, который
есть у людей? Способ этот — уйти из мира, потому что
при жизни я не могу избавиться от несчастий. Как может
быть правдой то, что природа запрещает мне избрать
смерть — несомненное благо для меня — и отречься от
жизни, если она для меня явное зло и ущерб, потому что
не может дать мне ничего, кроме страдания, а оно дается
ею с неизбежностью?
Плотин. Во всяком случае, все это меня не убедит
в том, что убивать себя своею рукой не
противоестественно: ведь наше чувство слишком явно чурается и
страшится смерти. И потом мы видим, что звери, которые, если
по принуждению человека не утратили привычного пути,
во всем поступают в соответствии с природой, не только
никогда не прибегают к самоубийству, но и остаются
чуждыми ему даже в муках и страданьях. Так"что, в
конце концов, только из числа людей находятся немногие,
учиняющие над собой такое,— да и то не среди народов,
живущих естественной жизнью: там не отыщется ни
одного, кого бы не устрашил подобный поступок, даже если
бы о нем имели понятие или могли вообразить себе нечто
подобное. Только среди нас, испорченных и извращенных,
живущих в разладе с природой, может быть такое.
Порфирий. Ну что ж, я готов согласиться с тобою:
этот поступок противоестествен, пусть так. Но какое это
имеет значение, если мы — то есть люди просвещенные6 —
уже перестали быть естественными существами? Сравни
нас — я не говорю с любым, каким угодно, родом живых
тварей, но и с теми племенами, что живут в дальних
краях, в Индии или в Эфиопии, и сохраняют, по слухам,
первобытные дикие нравы; едва ли ты скажешь, что мы и те
люди принадлежим к одному роду тварей. И я всегда был
уверен, что это наше, так сказать, преображение, эта
перемена нашей жизни и особенно нашей души сделали нас
неизмеримо более несчастными. Без сомнения, среди этих
диких племен никто не чувствует желания покончить с
собою; больше того, там даже не могут себе представить
такого, чтобы смерти можно было желать, между тем как
213
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
люди — скажем так — просвещенные, чьи нравы подобны
нашим, желают ее очень часто, а некоторые даже и
предают ей себя. Так что же, если просвещенному человеку
дозволено и жить вопреки природе и вопреки природе быть
несчастным, почему ему не дозволено умереть вопреки
природе? Ведь от новых несчастий, проистекающих от
изменения нашего изначального состояния, мы не можем
избавиться иначе как через смерть, что же касается возврата
к прежнему состоянию, предначертанному нам природой,
то такой возврат вряд ли возможен и, может быть, даже
совсем невозможен и во внешней нашей жизни, а во
внутренней, гораздо более важной, его и наверняка не может
быть. Есть ли что менее естественное, нежели искусство
врачевания,— и то, которое действует рукою, и то, которое
стремится повлиять снадобьями? В них обоих и
совершаемые действия, и вещества, к которым обыкновенно
прибегают, и орудия, и приемы — всё это по большей
части очень далеко от природы, и ни животные, ни дикари
их не знают. Но поскольку сами болезни, которые
врачевание стремится исцелить, неестественны и обязаны мы
ими лишь одной причине — просвещению, то есть порче
нашего изначального состояния, постольку и искусство
это, хотя и неестественное, оказывается и признается
уместным и даже необходимым. Так же самоубийство,
освобождающее от несчастий, на которые нас обрекла эта
порча, если и противно природе, то это еще не значит,
что оно достойно осуждения: от неестественного зла
нужны неестественные лекарства. Было бы жестоко и
несправедливо, если бы разум,— который, чтобы усугубить
несчастья, от природы назначенные нам, во всем перечит
этой природе,— здесь вступил с нею в союз, отнял у нас
последний оставшийся выход — единственный, который
указывает нам этот самый разум,— и принудил нас упорно
держаться за' нашу жалкую участь.
Истина такова,, Плотин. Первобытная природа древних
людей и диких, непросвещенных племен — это уже не
наша природа; привычка и разум создали в нас другую
природу, которая заместила — и уже навсегда — ту
прежнюю. Изначально для человека было неестественно
предавать себя добровольной смерти,— но неестественно было
и желать ее. Теперь и то и другое стало естественным,
то есть сообразным нашей новой природе, которая все еще,
как и наша древняя природа, стремится и порывается к
214
ЙРАВСТЁЁННЫЁ ОЧЕРКИ
тому, что кажется наилучшим для нас, и потому нередко
заставляет нас желать и искать поистине величайшего
блага для человека — смерти. Тут нет ничего
удивительного: ведь эта наша вторая природа руководится и
направляется больше всего разумом, а он с уверенностью
утверждает, что смерть есть в действительности не зло,
как это внушает нам первичное впечатление, а наоборот,
единственное действительное лекарство от всех, наших зол,
самое лучшее из всего, чего должен желать человек. И вот
я спрашиваю: соизмеряют ли просвещенные люди свои
поступки с нашей первобытной природой? Когда и какие
поступки? Нет, они соизмеряют их не с первобытной, а с
другой нашей природой,4 то есть с разумом. Почему же это>
единственное деяние — лишение себя жизни — должно
соизмеряться не с новой природой и не с разумом, а с
первобытной природой? Почему первобытная природа, давно;
уже не дающая законов нашей жизни, должна оставаться:
законодательницей смерти? Почему- бы разуму не управ.--
лять смертью, если он управляет жизнью? И мы видим, что
на самом деле' и разум и многие несчастья нашего
нынешнего состояния не только угашают — больше всего4 у
людей, обремененных бедами,— врожденный ужас перед
смертью, о котором ты говорил, но и превращают его) т
любовь и желание, как я только что сказал. Когда же
возникают эта любовь и желание, которые, согласно
природе, не могли бы возникнуть, и когда существуют не^-
счастья, порождаемые переменой в нас, а не природой,
тогда становится ясно, каким несовместимым противоречием
всему этому был бы запрет убивать себя. Мне кажется,
этого достаточно, чтобы выяснить, дозволено ли
самоубийство. Остается выяснить, полезно ли оно.
Плотин. Об этом, мой Порфирий, тебе незачем
говорить со мною: ведь если такой поступок дозволен и при
том, что я не допускаю мысли, будто несправедливое и;
беззаконное может быть полезно, у меня не остается
сомнений в его полезности. Говоря коротко, вопрос тут
сводится к тому, что лучше: не страдать или страдать. Я
отлично знаю, что почти все люди предпочли бы страдать,,
но при этом и наслаждаться, нежели не страдать и не
наслаждаться: так сильны в душе желание и, я бы
сказал, жажда наслаждений. Но выбирать приходится не
между этими двумя возможностями, потому что
удовольствие и наслаждение, говоря прямо и откровенно, так же
215
ДЖАКОМО ЛЁОПАРДЙ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
недоступны, как страдание неизбежно. И страдание,
говорю я, будет так же непрерывно, как непрерывно в нас
желание наслаждений и потребность счастья, никогда не
удовлетворяемые; при этом я оставляю в стороне
однократные, случайные страдания, которые встречаются в
жизни каждого: эти страдания тоже неизбежны, потому
что чаще или реже, того или другого свойства, они не
могут не постичь даже самого удачливого человека на свете.
Но ведь, говоря по правде, человеку довольно знать, что,
живи он дольше, его неизбежно ожидает страдание, пусть
даже единственное и краткое,— и он сочтет разумным
предпочесть смерть жизни: ибо, выбрав жизнь, он ничем
не будет вознагражден, коль скоро в ней не может быть
ни блага, ни подлинного наслаждения.
Порфирий. По-моему, одной скуки, одного
отсутствия всякой надежды изменить к лучшему свое положение
и свою участь достаточно, чтобы желание окончить жизнь
родилось даже у человека, чье положение и участь не
только не тяжелы, но, наоборот, блистательны. Я не раз
удивлялся, не встречая нигде упоминаний о государях,
которые захотели бы умереть от одной тоски,
пресытившись собственным положением,— не в пример частным
лицам, о которых мы то и дело слышим и читаем
подобные вещи. Таковы были и люди, которые, услышав Геге-
сия7, философа киренской школы, публично
рассуждавшего о том, сколь жалка человеческая жизнь, выходили
после чтения и кончали с собой; по этой причине Гегесий
и получил прозвище «Хвалитель смерти», и говорят, как ты
знаешь, что в конце концов царь Птолемей запретил
ему впредь рассуждать об этом предмете. А если мы
находим порой рассказы о государях, покончивших с
собой,— например, о царе Митридате8, о Клеопатре9, о
римлянине Отоне10 и о некоторых других,— то всех их
толкнули на это превратности и бедствия, в которых они
оказались в тот миг, и желание избежать еще более тяжких
зол. Мне же кажется вероятным, что государи легче всех
других могут почувствовать такую ненависть к
собственному сану и такое отвращение ко всему и вся, что от них
хочется умереть. Ведь монархи, находясь на вершине
-того, что именуется человеческим счастьем, владея всеми
так называемыми жизненными благами, не могут
надеяться на большее счастье и большие блага (или только
на очень немногие), а значит, не могут и посулить себе,
216
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
что их завтрашний день будет лучше сегодняшнего.
Настоящее же, каким бы оно ни было счастливым, всегда
печально и не мило, ибо по душе нам только будущее.
Как бы то ни было, мы можем, наконец, понять, что
помимо страха перед ожидающим нас в ином мире людям
мешает по доброй воле покинуть жизнь и заставляет их
любить ее и предпочитать смерти только простая и
очевидная ошибка в расчете и в измерении — та ошибка,
которую делают, подсчитывая, измеряя и сравнивая свою
выгоду и свой ущерб. Эту ошибку человек, можно сказать,
совершает — иногда сознательно и намеренно, иногда
просто поступая так, а не иначе —всякий раз, когда он
приемлет жизнь, то есть соглашается жить и тем
довольствуется.
Плотин. Поистине все это так, мой милый Порфи-
рий. И все же позволь мне дать тебе совет и терпеливо
выслушай мою просьбу: в том, что ты задумал, внемли
не голосу разума, а голосу природы. Я имею в виду
первобытную природу — нашу родительницу и мать всего
мирозданья; а она, хоть и не являет себя такой уж любящей
и делает нас несчастными, все же была менее враждебна
нам и не принесла столько вреда, сколько мы сами
нашими талантами, нашим неотступным и непомерным
любопытством, нашими мудрствованиями, рассуждениями,
снами, мнениями^ и жалкими ученьями; она даже постаралась
принести нам исцеление в наших несчастьях, придав им
иной облик и во многом скрыв от нас их меру. И хотя
наша порча велика, а власть природы в нас ослабела, все
же она не исчезла совсем, да и мы изменились и
обновились не настолько, чтобы в каждом из нас не осталось
большой доли древнего человека. Пусть тут виновата
наша глупость, но это всегда будет так и иначе быть не
может. Возьмем хоть то, что ты называешь ошибкой в
расчете; это поистине ошибка, столь же грубая, сколь
очевидная, но она совершается непрестанно, и не только
глупыми и слабоумными, но и одаренными, учеными и
мудрыми, и будет совершаться всегда, если только
природа, произведшая на свет наш род, не истребит его — сама
природа, а не человеческий рассудок и руки людей. И
поверь мне, никакое отвращение к жизни, никакое отчаяние,
никакое чувство ничтожности всех вещей, тщетности всех
забот, никакое ощущение одиночества или ненависть к
миру и к себе не могут длиться долго, хотя именно такое
217
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
расположение духа разумно, а противоположное ему —
неразумно. При всем этом проходит немного времени, слегка
меняется наше телесное состояние,— и понемногу, а иногда
и вдруг, по мельчайшим, едва заметным причинам мы
снова обретаем вкус к жизни, у нас появляется то одна,
то другая новая надежда, а все человеческое вновь
принимает такую видимость, что кажется достойным
стараний— кажется не рассудку, а, если можно так сказать,
чувству души. И этого бывает достаточно, чтобы человек,
хорошо знающий истину и не сомневающийся в ней,
вопреки разуму упорно не хотел уходить из жизни и
продолжал жить, как все, потому что именно это чувство, а не
рассудок направляет нас.
Пусть убивать себя разумно, а приспосабливать душу
к жизни противно разуму; и все же такой поступок дик
и бесчеловечен. И выбирая одно из двух: быть зверем
в соответствии с разумом или человеком в согласии с
природой,—нельзя предпочесть первое. А почему мы не
хотим принимать в расчет друзей, и родных нам по
крови— детей, и братьев, и родителей,— и жену, и наших
близких и домочадцев, к которым мы привыкли после долгой
совместной жизни? Почему мы не хотим вспомнить, что,
умирая, мы должны покинуть их навсегда, почему не
испытаем в сердце горя от такой разлуки и не подумаем
о том, что будут чувствовать они, потеряв дорогого или
близкого человека и потрясенные горечью случившегося?
Я знаю, что душа мудреца не должна быть слишком
мягкой и поддаваться жалости и скорби до такой степени,
что он, потрясенный ими, упадет на землю, лишится
чувств, словно трус, станет без удержу проливать слезы,
короче, делать все, чего не подобает делать ясно и до
конца постигшему, что есть человеческая жизнь. Но эту
твердость души следует выказывать в тех печальных
случаях, которые посылает судьба и которых нельзя
избежать,— не следует злоупотреблять ею для того, чтобы
по доброй воле навсегда лишать дорогих нам людей
нашего присутствия, нашей беседы, нашей близости. Не
испытывать никакого горя, покидая или теряя родных,
друзей, товарищей, и даже не быть способным горевать в
таких обстоятельствах — ведь это присуще не мудрецу, а
варвару. Причинить самоубийством горе друзьям и
домашним и почесть это' ни за что — такое свойственно лишь
тому, кто не заботится о других и слишком заботится о
218
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
себе самом. А любой, кто сам себя убивает, поистине не
заботится и не думает о других и ничего, кроме
собственной выгоды, не ищет; он, так сказать, отбрасывает от
себя мысль о близких и обо всем роде человеческом, и
поэтому в самоубийстве проявляется самое неприкрытое,
самое отвратительное, или по крайней мере самое
неприглядное, самое неблагородное себялюбие, какое только
можно найти в мире.
И наконец, Порфирий, пусть тяготы и бедствия жизни
многочисленны и беспрерывны, однако если нет
чрезвычайных несчастий и невзгод (а у тебя сегодня их нет), нет
острой телесной боли,— то их не так трудно переносить,
особенно человеку мудрому и сильному, как ты. А сама
жизнь значит так мало, что человек не должен был бы,
покуда дело идет о нем самом, слишком заботиться о том,
чтобы сохранить ее или покинуть. Поэтому, не стараясь
все взвесить слишком тщательно, всякий, едва
представится малейший повод выбрать первое, должен сделать
это, не отказываясь. И если его просит об этом друг,
почему бы ему не уважить такую просьбу? А сейчас я тебя
прошу, мой Порфирий, в память многих лет нашей
дружбы: оставь свою мысль, не причиняй такого горя твоим
добрым друзьям, которые всей душой любят тебя, и мне,
для которого нет человека дороже и товарища желанней.
Лучше помоги нам перетерпеть жизнь, чем так, ни о чем
не подумав, покидать нас. Будем жить, милый мой
Порфирий, и поддерживать друг друга; не будем
отказываться от нашей доли той бедственной ноши, которую судьба
возложила на плечи рода человеческого. Постараемся
держаться вместе? будем ободрять друг друга и
протягивать друг другу руку помощи,— так мы лучше выполним
трудный урок жизни. А она, без сомнения, будет
короткой. Когда же придет смерть, мы не будем печалиться:
даже в последние часы нас поддержат друзья и товарищи
и доставит радость мысль, что потом, когда мы угаснем,
они не раз о нас вспомнят и будут по-прежнему нас
любить.
РАЗГОВОР ТОРГОВЦА КАЛЕНДАРЯМИ
И ПРОХОЖЕГО
Торговец. Календари, новые календари! Новые
месяцесловы! Не угодно ли, сударь, календарь?
Прохожий. Календари на новый год?
Торговец. Да, сударь.
Прохожий. По-вашему, этот новый год будет
счастливым?
Торговец. Да, ваша милость, конечно, будет.
Прохожий. Как прошлый год?
Торговец. Нет, гораздо счастливее.
Прохожий. Значит, как нынешний?
Торговец. Нет, ваша милость, счастливее нынешнего.
Прохожий. Значит, как еще какой-нибудь год?
Разве вам не хотелось бы, чтобы новый год был такой же,
как один из последних?
Торговец. Нет, сударь, не хотелось бы.
Прохожий. Сколько раз наступал новый год с тех
пор, как вы стали торговать календарями?
Торговец. Лет двадцать будет, ваша милость.
Прохожий. А хотелось бы вам, чтобы новый год
был похож на какой-нибудь из этих двадцати? На какой
же именно?
Торговец. Не знаю, право.
Прохожий. И вы не помните, чтобы один какой-
нибудь год показался вам счастливым?
Торговец. По правде говоря, не помню, ваша
милость.
Прохожий. И все-таки жизнь — хорошая штука, не
так ли? .
Торговец. Это всем известно.
Прохожий. А вы не хотели бы прожить с начала
эти двадцать лет, или даже всю жизнь — с самого дня
рождения?
Торговец. Эх, господин хороший, если бы богу было
угодно такое!
Прохожий. А если бы вы должны были прожить
второй раз точно такую жизнь, какую прожили, со всеми
радостями и горестями, которые вам достались?
220
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
Торговец. Вот этого я не хотел бы.
Прохожий. А какую жизнь вы хотели бы
повторить? Жизнь, которую прожил я, или наш государь, или
еще кто-нибудь? Вы думаете, что и я, и государь, и кто
угодно ответит не то же самое, что вы, и захочет начать
с начала, если ему придется повторить ту самую жизнь,
какую он прожил?
Торговец. Думаю, не захочет.
Прохожий. И вы при таком условии не начали бы
жизнь с начала, даже если бы иначе совсем лишились
такой возможности?
Торговец. Нет, сударь, ни за что бы не начал.
Прохожий. А какой жизни вам хотелось1 бы?
Торговец. Какую бог пошлет, но только без всяких
условий.
Прохожий. Чтобы все в жизни было, как случится,
а вам ничего не знать заранее, как вы не знаете ничего
про новый год?
Торговец. Вот именно.
Прохожий. И я бы хотел того же, если бы должен
был начать жизнь с начала, и все хотели бы. Но ведь
это свидетельствует о том, что случай и в нынешнем
году и раньше плохо обходился с нами. Ясно видно:
каждый уверен, что ему досталось больше плохого, чем
хорошего, или что плохое перевешивает хорошее, если при
условии, что жизнь его будет прежней, со всем хорошим
и плохим, что в ней было, никто не хотел бы родиться
заново. Хорошая штука — это не та жизнь, которую мы
знаем, а та, что нам еще неизвестна; не прошлая жизнь, а
будущая. С "нового года случай станет лучше обращаться
и с вами, и со мною, и со всеми остальными и начнется
счастливая жизнь. Не так ли?
Торговец. Будем надеяться, что так.
Прохожий. Покажите мне самый красивый
календарь, какой у вас есть.
Торговец. Вот, ваша милость. Цена ему тридцать
сольди.
Прохожий. Вот вам тридцать сольди.
Торговец. Спасибо, ваша милость, до свиданья.
Календари, новые календари, новые месяцесловы!
РАЗГОВОР, ТРИСТАНА
И ЕГО ДРУГА
Друг. Я прочел вашу книгу. Она полна обычной ме- ]
ланхолии. ,|
Тристан1. Да, моей обычной меланхолии... • I
Друг. Меланхолии и безутешного отчаяния. Сразу ]
видно, что жизнь представляется вам скверной штукой. I
Тристан. Что мне вам сказать? Я вбил себе в голову з
безумную мысль, что человеческая жизнь несчастна. j
Друг. Может быть, и несчастна. Но все же в конце ^
концов... j
Тристан. Нет, она самая счастливая. Я переменил |
мнение. Но когда я писал мою книгу, эта безумная мысль ^
сидела у меня в голове, как я вам уже сказал. Я был j
вполне убежден в ее истинности и никак не ожидал услы- \
шать о том, что всякое мое замечание на этот счет ка- .'
жется сомнительным: мне думалось, что разум каждого -
читателя немедленно подтвердит любое из них своим сви- \
детельством. Я воображал, что спор возникнет только о j
пользе или вреде таких соображений, но никак не об их .;
истинности; я даже верил, что, коль скоро горести одина- \
ковы для всех, мой жалобный голос отзовется в сердце 1
каждого услышавшего. Потом,— когда я услыхал, как от- \
рицают не только отдельные положения, но все целиком
и говорят, что жизнь вовсе не несчастлива, а если она \
кажется мне такой, то в этом повинна болезнь или какая- .';
нибудь другая беда, касающаяся меня одного,— я сперва '
был ошеломлен и потрясен до того, что окаменел, и много
дней мне казалось, будто я очутился в каком-то другом
мире; затем; придя в себя, я немного рассердился, а под ;
конец стал смеяться и сказал себе: люди вообще подобны
мужьям. Мужья, если хотят жить спокойно, должны
верить, что жены им не изменяют, и так они и делают, хотя
бы даже всему миру было известно, что истина совсем
не такова. Кто хочет и должен жить в какой-нибудь
стране, тому следует считать ее одной из лучших в обитаемом
мире; вот он и считает ее такой. И людям вообще, если
они хотят жить, надлежит думать, будто жизнь прекрасна
и драгоценна; вот они и думают так и сердятся на того,
222
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
кто думает иначе. Потому что, в сущности, род
человеческий верит всегда не истинному, а тому, что более удобно*
для него или представляется более удобным. Род человек
ческий, который верил и будет верить бесчисленным
нелепостям, никогда не поверит тому, что он ничего не знает.,
ничего не значит и ни на что не может надеяться.
Никакой философ, начни он проповедовать одну из этих трех
вещей, не имел бы успеха и не собрал бы
последователей, особенно среди народа: ведь все три не слишком
удобны для того, кто хочет жить; первые две помимо
этого оскорбляют гордость человека, а третья, как, впрочем,
и обе другие, требует от него мужества и стойкости
духа, без которых им не поверишь. Люди же и трусливы, и
слабы, и низки и мелки душою; они охотно слушаются
доброй надежды, потому что привыкли менять мнения о
благе соответственно необходимости, управляющей их
жизнью, и готовы, как говорит Петрарка2, сложить
оружие перед судьбой; все они полны готовности и
решимости утешиться после любого несчастья, принять что
угодно в возмещение того, что им не дано или ими
утрачено, приноровиться на любых условиях к самой суровой
и жестокой участи; а лишенные всего, что им хотелось
бы иметь, люди живут ложными верованиями, столь
стойкими и неискоренимыми, словно они самые истинные и
самые обоснованные на свете. Я же, подобно тому как;
Южная Европа смеется над мужьями, влюбленными в;
неверных жен, смеюсь над человеческим родом,
влюбленным в жизнь, и считаю недостойным зрелых людей по)
доброй воле позволять себя обманывать и обольщать, как:
позволяют глупцы, и помимо всех бед, от которых мы;
страдаем, быть чуть ли не посмешищем для судьбы и
природы. Я говорю не об обманах воображения, г) об обманах;
рассудка. Не знаю, порождены ли эти мои чувства
болезнью, знаю только, что, здоровый или больной, я
презираю людскую трусость, отказываюсь от всякого
утешительного обмана, годного лишь для детей, ибо у меня
довольно мужества, чтобы выносить полную
безнадежность, без страха взирать на пустыню жизни, ни в малой
мере не скрывать от себя, как несчастливы люди, и
принимать все выводы горестной, но истинной философии.
Так я говорил себе, словно эту горестную философию
придумал я сам; ведь я видел, что все отвергают ее, как
обыкноренно отвергают все новое и никогда не слыхан-
т
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
:ное. Но потом, подумав, я вспомнил, что она так же нова,
как новы Соломон, и Гомер, и все самые древние поэты
"и философы, какие нам известны, ибо у них полным-
полно уподоблений, изречений и притч, говорящих о
крайней иесчастливости человека. Один из них говорит3, что
человек — самое жалкое из живых существ, другой
говорит4, что лучше всего не родиться, а родившись, умереть
в колыбели, третий5 — что любимцы богов умирают в
юности, и еще бесконечное множество подобных вещей,
Я вспомнил также, что вплоть до вчерашнего или
позавчерашнего дня все поэты, философы и писатели повторяли
и подтверждали те же идеи. Поэтому я снова начал
удивляться и так, колеблясь между гневом, смехом и
удивлением, провел немало времени, пока наконец, глубже
изучив предмет, не постиг, что убеждение в
иесчастливости человека есть одна из застарелых ошибок рассудка:
нет, жизнь счастлива, и открытие это есть одно из
величайших открытий девятнадцатого столетия. Тогда я
успокоился и теперь признаюсь, что был не прав, думая так,
как раньше.
Друг. И вы переменили мнение?
Тристан. Конечно. Неужто вы хотите, чтобы я
оспаривал истины, открытые девятнадцатым столетием?
Друг. И вы обо всем думаете так же, как думает наш
век?
Тристан. Без сомнения. Что же тут удивительного?
Друг. Значит, вы верите, что человек способен
совершенствоваться бесконечно?
Тристан. Разумеется.
Друг. И вы верите, что род людской действительно
становится лучше день ото дня?
Тристан. Ну конечно. Правда, порой я думаю, что
в древности один человек силою своего тела был равен
четырем таким, как мы. А тело — это человек, потому что
(оставляя в стороне все прочее) величие духа, храбрость,
«страсти, способность действовать и способность
наслаждаться, все то, что делает жизнь благородной и живой,
зависит от крепости мышц и без нее не может
существовать. Человек слабый телом — не человек, а ребенок, он
даже хуже ребенка, потому что его участь — стоять и
смотреть, как другие живут, а он может, самое большее, 1
болтать — ведь жизнь не для него. Потому-то в древности \
.телесная слабость считалась позорной, даже в самые про-
224 ']
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
свещенцые века. А у нас уже давным-давно воспитание
не снисходит до заботы о теле, как о предмете слишком
низменном и презренном,— оно думает только о духе и,
как раз желая усовершенствовать дух, разрушает тело
и при этом не замечает, что, разрушая тело, оно губит
в свою очер-едь и дух. Но допустим, что воспитание в этом
смысле еще можно исправить; все равно никакими
средствами нельзя, не изменив коренным образом современное
состояние общества, привести в порядок другие стороны
частной и общественной жизни, в которой некогда все
было устремлено к тому, чтобы совершенствовать или
оберегать тело, теперь же — к тому, чтобы калечить его.
А следствие одно: в сравнении с древними мы
оказываемся не больше чем детьми, между тем как о древних
можно сказать, что рядом с нами они были мужами в
наивысшей мере. Я имею в виду и отдельных людей в сравнении
с отдельными людьми, и массы (мне хочется употребить
это прекрасное современное словечко) в сравнении с
массами. И еще я добавлю, что древние были несравненно
более зрелыми, чем мы, также в своих нравственных и
метафизических системах. Но во всяком случае, я не
позволяю таким незначительным возражением поколебать
меня и стойко верую в человеческий род, идущий от
завоевания к завоеванию.
Друг. И вы, разумеется, верите, что свет знания, как
теперь говорят, разгорается все ярче?
Тристан. Без сомнения. Хоть я и вижу, что,с чем
больше возрастает желание учиться, тем слабее
становится желание углубляться в науки. И нельзя не удивиться,
сосчитав число ученых людей — истинно ученых,— живших
одновременно пятьсот лет назад или даже позже, и
убедившись, как неизмеримо оно превосходит число ученых
в наши дни. Пусть мне не говорят, будто ученых мало
потому, что знания вообще больше не накапливаются
отдельными людьми, но поделены между многими, чьим
обилием восполняется малочисленность ученых. Знания не
похожи на богатства, которые соединяются и делятся, а
сумма остается все та же. Где все знают понемногу, там
знают мало, потому что знания идут к знаниям, а не
рассеиваются по мелочам. Поверхностное образование может
быть не разделено между многими, а одинаково, у многих
неучей. Остальное знание принадлежит только людям
ученым, причем большая его часть — самым ученым. И, не
8 Этика и эстетика
225
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
считая всяких случайностей, только самый ученый
человек, именно тот, который обладает огромным капиталом
знаний, способен значительно пополнить человеческие
познания и продвинуть их вперед. А не кажется ли вам, что,
если не считать Германии, откуда ученость еще не сумели
изгнать, с каждым днем становится все труднее обнару:
жить новых людей, принадлежащих к этому разряду
самых ученых? Я высказываю эти соображения просто так,
к слову, чтобы пофилософствовать или даже
помудрствовать; они вовсе не означают, что я не убежден в
истинности ваших утверждений. Даже если бы я видел, что
мир, с одной стороны, полон невежественных обманщиков,
а с другой—-самоуверенных невежд, я бы все равно верил,
как верю сейчас, что свет знания разгорается все ярче.
Друг. Следовательно, вы считаете, что наш век выше
всех прошедших?
Тристан. Уверен в этом. Так думали о себе все
века, даже самые варварские, так думает и мой век, и я
вместе с ним. Если же вы спросите, в чем он превосходит
остальные века,— в том ли, что касается тела, или в том,
что касается духа,— я сошлюсь на то, что говорил перед
этим.
Друг. Короче говоря, чтобы свести все вопросы к двум
словам, ответьте мне, думаете ли вы о природе и судьбах
человека и мира (потому что сейчас мы говорим не о
литературе и не о политике) то же самое, что думают
газеты?
Тристан. Именно так. Я приемлю глубокую
философию газет, которые убивают всякую иную литературу и
всякую науку, особенно серьезную и не имеющую в виду
развлекать, я верю им, наставникам и светочам нынешнего
века. Не так ли?
Друг. Конечно, так. Если вы говорите это искренне,
а не желая подшутить надо мною, то вы стали нашим.
Тристан. Разумеется, я ваш.
Друг. Итак, что же вы сделаете с вашей книгой? Вы
хотите, чтобы она дошла до потомков и донесла до них
чувства, столь противоречащие вашим нынешним
убеждениям?
Тристан. До потомков? Я смеюсь, потому что вы
шутите; впрочем, если было бы возможно, чтобы такое
говорилось не в шутку, я бы смеялся еще больше. Я скажу не
о себе, а обо всех отдельных людях и стоящих особняком
226
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
вещах в девятнадцатом веке: поймите, им нечего бояться
потомков, потому что потомки будут знать о них не
больше предков. «Отдельные личности исчезли перед лицом
масс», как изящно выражаются современные мыслители.
Это значит, что отдельной личности нет пользы
утруждать себя,— ведь все равно, несмотря ни на какие
заслуги, ей нечего больше ни во сне, ни наяву надеяться даже
на такую жалкую награду, как слава. Предоставь все
делать массам; а что такое массы, которые могут все
делать без отдельных личностей, хотя сами состоят из
отдельных личностей, объяснят мне, я надеюсь, знатоки
личностей и масс, ныне озаряющие мир. Но вернемся к
разговору о книгах и потомках. Вы сами отлично видите,
что почти каждая книга теперь пишется быстрее, чем
можно ее прочитать, и коль скоро она стоит столько же,
сколько труда потрачено, то и живет она столько же
времени, сколько стоила труда. Я, со своей стороны, полагаю,
что будущий век превосходнейшим образом наплюет на
необозримую библиографию девятнадцатого столетия или
же скажет: мои библиотеки полны книг, которые стоили
какая двадцати, какая тридцати лет труда, и все, даже
если времени было потрачено меньше, явились плодом
величайших усилий. Прочтем раньше их, потому что из них,
по-видимому, можно извлечь больше смысла; а когда мне
для чтения не останется книг этого рода, тогда я
возьмусь за книги, написанные экспромтом. Друг мой,
нынешний век — это век детей, и немногие зрелые люди, которые
еще остались, должны спрятаться со стыда, как те, кто
ходит прямо, в стране хромых. Эти добрые дети хотят
делать все, что в другие времена^делали зрелые люди, но
делать по-детски, сразу, без всяких подготовительных
трудов. Они даже хотят, чтобы та ступень, которой достигло
сейчас просвещение, и характер нынешнего и будущего
времени навсегда избавили их самих и их преемников от
необходимости долго трудиться в поте лица, чтобы стать
способными что-нибудь делать. Несколько дней назад мне
говорил один мой друг, человек деловой и практический,
что даже посредственность стала нынче редкостью: никто
почти, по своей глупости и немощи, не способен
выполнять тот долг или делать то дело, к которым его
предназначили необходимость, или судьба, или выборы. В этом
и состоит отчасти, на мой взгляд, отличие нашего
столетия от всех других. И тогда и теперь величие было боль-
8*
227
ДЖАКОМО ЛЁОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
шой редкостью;^ но в другие века всем владела
посредственность, а теперь — ничтожество. Оттого-то и
происходит такой шум и сумятица, что все хотят быть всем, а из-
за этого никто не обращает внимания на немногих
великих, которые, я думаю, еще есть где-нибудь, но которым
нет больше возможности пробиться в бесчисленной толпе
соперников. И вот, между тем как все никчемные мнят
себя знаменитостями, безвестность и ничтожество
становятся в- итоге общим уделом и никчемных и великих. Но
да здравствует статистика! Да здравствуют
экономические, моральные и политические науки, карманные
энциклопедии и множество других прекрасных созданий
нашего века! Да здравствует и еще раз да здравствует
девятнадцатый век! Быть может, он беден делами, но богат
словами и весьма щедр на них, а это, вы сами знаете,
добрый знак. Утешимся же тем, что в оставшиеся
шестьдесят шесть лет6 этот век будет единственным, который
только и делает, что говорит, и наконец выскажет свои
принципы.
Друг. Мне кажется, вы говорите не без иронии. Но
вы должны хотя бы вспомнить, что в конце концов
нынешний век — переходный.
Тристан. И какие же вы из этого делаете выводы?
Все века в большей или меньшей мере были и будут
переходными, потому что человеческое общество никогда не
стоит на месте и ни в каком веке не достигнет состояния,
которое пребудет неизменным. Так что это прекрасное
слово ничуть не может служить оправданием
девятнадцатому веку—"или точно так же можно оправдать каждый
век. Остается только исследовать, к чему придет общество
той дорогой, по которой оно теперь направляется, или,
иначе говоря, совершается ли ныне переход от хорошего
к лучшему или от дурного к худшему. Может быть, вы
хотите мне сказать, что нынешний переход — это переход
по преимуществу, то есть быстрый прыжок от одного
состояния цивилизации к другому, отличному от
предшествующего. В таком случае я, с вашего позволения,
посмеюсь над этим быстрым прыжком и отвечу вам, что всякий
переход должен быть медленным, а если он совершается
сразу, то вскоре все возвращается вспять, чтобы
повторить тот же переход шаг за шагом. Так бывало всегда.
Причина же коренится в том, что природа не двигается
прыжками, а насилуя природу, нельзя добиться продол-
228
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
жительных результатов. Или лучше будет сказать, что эти
стремительные переходы — только кажущиеся, а не
действительные.
Друг. Прошу вас, не рассуждайте так во
всеуслышанье, не то вы наживете себе немало врагов.
Тристан. Что с того? Теперь ни друзья, ни враги не
сделают мне много зла.
Друг. Или, вероятнее, вас будут презирать за то, что
вы мало что смыслите в современной философии и вам
нет дела до прогресса цивилизации и знаний.
Тристан. Мне очень жаль, но что ж тут поделаешь.
Если меня будут презирать, я постараюсь утешиться.
Друг. Но в конце концов, переменили вы мнение или
нет? И что следует делать с этой книгой?
Тристан. Лучше всего сжечь ее. А если мы не хотим
ее сжигать, то сохраним ее как книгу поэтических снов,
печальных вымыслов и прихотей или как излияние
автора, жалующегося на свои несчастья; потому что, говоря
по секрету, дорогой мой друг, я считаю счастливцами вас
и всех остальных, но я сам, с вашего позволения и с
позволения нашего века, очень несчастен и считаю себя
несчастным, и все газеты Старого и Нового Света не убедят
меня в противном.
Друг. Я не знаю, по какой причине вы чувствуете
себя таким несчастным, как говорите. Но о том, счастлив
ли тот или иной отдельный человек или несчастлив,
может судить, только он сам, и суждение его непогрешимо.
Тристан. Вы совершенно правы. И потом, скажу вам
прямо, я не покоряюсь своим несчастьям, не склоняю
голову перед судьбой, не иду ей на уступки, как другие
люди; я осмеливаюсь желать смерти, желать ее больше
всего на свете, с таким пылом и такой искренностью, с
какой, я уверен, мало кто в мире желал ее. Я не говорил
бы вам этого, если бы не знал твердо, что, когда придет
час, дело не опровергнет моих слов. Хотя я еще не вижу,
каким будет конец моих дней, но все же внутри у меня
живет чувство, которое убеждает меня в том, что час этот
недалек. Я слишком созрел для смерти, и если бы мне,
умершему духовно, пришлось после развязки драмы моей
жизни тянуть свое существование еще лет сорок или
пятьдесят, которыми грозит мне природа, это показалось бы
мне слишком нелепым и неправдоподобным. При одной
мысли об этом я содрогаюсь. Но как бывает со всеми
229
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
теми бедами, которые, так сказать, побеждают
воображение, так и эта кажется мне сном и иллюзией, неспособной
осуществиться. Когда кто-нибудь говорит со мной о
далеком будущем так, словно оно имеет ко мне отношение, я
помимо воли улыбаюсь про себя,— до такой степени я
уверен, что дорога, которую мне остается пройти, не будет
длинной. Только эта мысль, могу вам сказать,
поддерживает меня. Книги и ученые занятия (я сам теперь
удивляюсь, как мог так сильно их любить), великие замыслы,
надежды на бессмертную славу — для меня прошла пора
даже смеяться над всем этим. Над замыслами и
надеждами этого века я не смеюсь: нет, я от души желаю, чтобы
они осуществились с наибольшим успехом, я хвалю и чту
добрую волю в других и восхищаюсь ею,— но все же не
завидую ни потомкам, ни тем, кому предстоит долгая
жизнь. В прежние времена я завидовал глупцам, и
тупицам, и тем, кто много воображает о себе, и хотел бы
поменяться местами с кем-нибудь из них. Теперь я не
завидую ни глупым, ни мудрым, ни великим, ни
ничтожным, ни немощным, ни могущественным. Я завидую
умершим и только с ними поменялся бы местами. Всякая
приятная фантазия, всякая мысль о будущем, которая
рождается у меня порой в моем одиночестве и с которой
я долго не расстаюсь, рисует мне смерть и не может от
нее оторваться. И я так полон этим желанием, что ни
воспоминания о мечтах ранних лет, ни мысль о напрасно
прожитой жизни не волнуют меня, как бывало. Если я
достигну смерти, то умру таким спокойным и довольным,
словно никогда ни на что больше не надеялся и ничего
другого не желал. Это — единственное благодеяние,
которое может примирить меня с судьбою. Если бы мне
предложили на выбор участь и славу Цезаря или Александра,
но ничем не запятнанную, или немедленную смерть, я бы
сказал, что* хочу умереть немедля, и на то, чтобы решить,
мне не понадобилось бы времени.
РАССУЖДЕНИЕ
ИТАЛЬЯНЦА
О РОМАНТИЧЕСКОЙ
ПОЭЗИИ
Если бы на защиту мнений
наших отцов и дедов, да и всех прошедших веков, мнений,
ныне с ожесточением многими оспариваемых, особенно в
том, что касается искусства писать, или поэтики, поднялись
люди великие и славные, если бы могучим и широким умам
были противопоставлены могущество и широта ума, а
возвышенным и глубоким мыслям — возвышенность и глубина
мысли, тогда не было бы нужды в иных спорах, и я бы
не отважился, как бы это ни было прекрасно, выйти вперед.
Но покамест на дела отвечали словами, на
доказательства— шуточками, на разумные доводы — ссылками на
авторитеты, и война велась между плебеями и атлетами, между
журналистами и философами, так что нет ничего
удивительного, если первые набрались дерзости и по видимости
потеснили нас, а мы то ли со страха, то ли со стыда, то ли
из гордости скрываемся в безопасности, словно под защитой
стен и башен, хоть в ответ и мечем в них те же
оскорбления, как будто оставить за собой последнее слово значит
победить; впрочем, и такие победы нам не достаются. Но
если наше дело правое и благое, если сами мы сильны и
отважны и верим, что разум и истина на нашей стороне,
почему бы нам не выйти из укрытия и не дать бой? Почему
мы делаем вид, будто не понимаем того, что на самом деле
понятно нам, но неприятно? Или как нам удается, ни на
миг не задумавшись, убедиться в ложности не понятого
нами? Быть может, с нас довольно спокойной совести,—
пусть бы только она не отягощала нас неуместными
сомнениями и позволяла по-прежнему безопасно и с
удовольствием заниматься науками и словесностью, не заставляя
делать против воли то, на что мы так боимся терять время
233
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
и труд? А коль скоро нам ни о чем больше нет заботы, мы
избегаем открытого боя и ходим сторонкой, не страшась ни
тех врагов, что снаружи, ни тех, что внутри нас самих?
Ради бога, только не это! Будем искать одной только
истины, и если все, чему мы учились, тщетно, если все, чт'о
представлялось нам несомненным, ложно, если нельзя было
видеть того, что мы, как нам казалось, видели воочию, и
осязать того, что мы, как нам казалось, осязали, если
столько великих умов и столько ученых заблуждались
столько столетий, — ни больше ни меньше! — пусть будет так, бог
с ним! Пусть придется считать, будто мы никогда не
учились и не мучились или, вернее, будто мы и учились и
мучились попусту, как безумцы, пусть придется сказать
«прощай» книгам, ставшим как бы нашими друзьями и
спутниками, сжечь собственные писания, словом, начать все с
начала и, молоды мы или стары, зажить по-новому, — не
станем обращать на это внимания, а лучше порадуемся:
ведь нам на долю выпало то, что не дано было нашим
предкам— познать наконец истину; так воспользуемся же себе
на благо этой истиной и постараемся, чтобы ею
пользовались себе на благо и другие. Но если именно новейшие
суждения — туман, сон и призрак, если наши предки
обладали ясным взглядом, если истина не медлила столько
веков, прежде чем явиться на свет, — зачем мы допускаем,
чтобы людей смущали и вводили в обман, чтобы наша
молодежь сомневалась, какое из двух учений следует принять
на веру? Признаюсь, благородное молчание казалось и мне
наилучшим, даже единственно подобающим человеку
истинно мудрому в этом споре, и пример тех истинных
мудрецов, которые не размыкают уст, не то что утверждал
меня в моем мнении — я и так был в нем тверд, — но
утешал меня, показывая, что их суждение в этой части
согласуется с моим. И тем не менее многое, в том числе чтение
и обдумыванье «Замечаний» кавалера Лодовико ди Бреме
относительно новейшей поэзии, как он ее называет, привели
меня к мысли, что, быть может, оказалось бы вредно, если
бы какой-либо из прославленных мужей взволновался и
нарушил презрительное молчание, но если появится
человек безвестный и выскажет не слова, а доводы, то
повредить это не повредит и может даже принести пользу, ибо
поражение самого слабого бойца не нанесет ущерба славе
войска, а случись ему, на взгляд людей, что-нибудь
совершить, тогда можно будет судить обо всем множестве бо-
234
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
лее великих дел, которые совершили бы сильнейшие
воины. Скажу прямо, «Замечания» кавалера ди Бреме кажутся
мне опасными; я называю их опасными, потому что по
большей части они остры, глубоки и умны, а эти свойства,
коль скоро принимаемое кавалером за истину не кажется
нам таковым, мы должны счесть опасными, ибо благодаря
им он может многих убедить в вещах, на наш взгляд,
ложных, и это в таких важных предметах, как словесность и
поэзия. Потому я при всей моей слабости решился
посмотреть, не придаст ли пламенная любовь к отчизне, а еще
больше — к истине силы моей речи в защиту нашей
отчизны и того, что я считаю истиной. Я намереваюсь, как было
сказано, пользоваться только доводами и ничем другим,
кроме доводов, — не ведаю, метафизических ли, но
разумных уж точно, а если не все они и даже не многие из них
окажутся новыми, то из этого легко будет заключить, что
мнения тех, кого называют романтиками, хоть и не так
стары, но имеют весьма старые корни и потому могут быть
повержены и искоренены весьма старыми орудиями.
Поскольку я воздержусь от многого, что было принято
раньше у вступавших в спор с романтиками, постольку
прежде всего я не стану во всеуслышанье объявлять, что
я их не понимаю, — на такой обычай Бреме сетует по
праву, ибо непрестанно твердящий о своем непонимании
отказывается от всякого спора. Скажу, что думаю: как видно,
чтобы хорошо понять кавалера и некоторых романтиков,
порой мало доброй воли и ума, а нужны еще и сердце,
которое умеет раскрываться и расширяться и трепещет не
только от страха и других подобных причин, и дух, не
чуждый пламенным порывам изящных искусств. Здесь не место
говорить, таков ли мой дух и только ли низменные чувства
заставляли трепетать мое сердце,—довольно того, что я,
как мне кажется, понял рассуждения кавалера ди Бреме;
впрочем, и ему и другим не придется верить мне на слово,—
они смогут убедиться в этом на деле, если я, оспаривая
замечания кавалера, ясно докажу, что понял их. Я не
намерен разбирать романтическую поэзию всесторонне, ибо
такой груз мне поистине не по плечу и, подняв его, я
выкажу не отвагу, а только дерзость, я сделаю это лишь
настолько, чтобы не отстать от названных «Замечаний»,—
хотя и такой замысел не столь уж мал и, глядя издали на
толпу предметов, через которую мне предстоит
пробираться, я робею и не знаю, какую дорогу избрать, чтобы быть
235
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
кратким, рассуждая о таком множестве вещей, и при этом
сохранить необходимую ясность. Однако я полагаю, что,
стараясь поколебать взгляды ди Бреме, я непременно
посягну и на самые основы романтических воззрений, хотя
они настолько смутны, плохо продуманы и противоречивы,,
что нужно нападать чуть ли не на каждое в отдельности,
да и то, если обрушить одну часть здания, другая может
выстоять, что свидетельствует не о прочности постройки, но
о бессвязности частей, а значит, и о слабости целого. И еще
предупреждаю с самого начала: я не открою своего имени,
дабы не казалось, будто я рассчитываю на то, что другие,
прочитав написанное мною, пожелают узнать что-нибудь
об авторе или что мое имя, никому доныне не ведомое,
будучи разглашенным, поможет мне снискать известность.
Только по этим причинам я буду держать мое имя в тайне,
а не из страха, ведь я пишу правду и пишу, как могу, для
вас, итальянцы, и потому не боюсь ничьей ненависти,
ничьего могущества, ничьей славы.
Ныне каждому известно и очевидно, что романтики изо
всех сил стараются отвратить поэзию от теснейшей связи
с чувствами, благодаря которым она рождена и будет жить
до тех пор, пока останется поэзией, и заставить ее
обратиться к разуму, а также увлечь ее от видимого к
невидимому, от предметов к идеям, и из материальной, полной
воображения и осязаемой, какой она была, сделать
метафизической, рассудочной и бесплотной. Кавалер ди Бреме
говорит, что поэтическая страсть древних проистекала
больше всего из их невежества, из-за которого они,
«глупейшим образом» удивляясь всему на свете и веря, что на
каждом шагу видят чудо, черпали предметы для поэзии из
любого происшествия и вымышляли бесконечное множество
сверхъестественных сил, видений и призраков; затем он
добавляет, что в наши дни, когда люди, много думавшие и
многому наученные, понимают, знают и различают столько
разных вещей, когда они непоколебимо убеждены во
стольких истинах, «в нас не могут совместиться и существовать
рядом способности к логическому постижению и к
сказочному самообману (так говорит кавалер, прибегая к своим
особым терминам); значит, дух человека расстался с
этими вымыслами». Однако если рассуждать правильно и
логически, из этого с необходимостью следует, что поэзия,
не имея более власти обманывать людей, не должна ничего
измышлять и лгать, но что ей надлежит всегда идти вослед
236
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
разуму и истине. Заметь себе, читатель, с самого начала
это явное и каждому видимое противоречие. Ведь
романтики,— которые отличнейшим образом понимали, что поэзия,
уже и так изрядно ими извращенная, если отнять у нее
способность измышлять и лгать, в конце концов просто
исчезнет или совершенно отождествится и сольется с
метафизикой, распавшись и превратившись в совокупность
размышлений,— романтики не только не подчинили ее
полностью разуму и истине, но и отправились бродить среди
современных людских скопищ всех сословий, и прежде
всего среди черни, в поисках самых причудливых,
сумасбродных, смешных, низменных и суеверных суждений и
россказней, какие только можно найти, и постарались сделать
их материалом своих стихов; и что самое удивительное,
они, проклинавшие обращение к греческим сказаниям,
наполняют свои сочинения бесчисленными сказаниями турок,
арабов, персов, индусов, скандинавов, кельтов и при этом
притязают на то, что «логическое постижение», которое не
может существовать одновременно со «сказочным
самообманом» греков, может существовать рядом с
«самообманом» жителей Севера или Востока. Но о невероятном
противоречии, в которое они впали, присвоив себе в казну
восточные и северные сказания и предварительно отвергнув
сказания греков как несовместимые с нравами, верованиями
и знаниями нашего времени, я скажу позже, на своем
месте. А теперь я вернусь к кавалеру ди Бреме, который
говорит далее без всякого перехода, что воображение есть
существеннейшая способность человека, которая не может
ни иссякнуть, ни ослабеть, ибо, напротив, воображение
сегодня, как всегда, жаждет «быть захваченным, увлеченным,
влюбленным, поверженным и даже соблазненным (вот это-
то самое главное!); никогда не будет так, чтобы оно не
поддалось обману гармонических форм, восторгу
возвышенного созерцания, действию идеальных картин, — лишь бы они
не были совершенно произвольными и совершенно
лишенными подобия той правды, которая нас окружает или
заключена в нас». Таким образом, и он соглашается, что
поэзия должна обманывать; то же самое он утверждает и
подтверждает со всей решительностью в сотне других мест
своих наблюдений. Мйе кажется, тут все ясно: сам кавалер
увидел, как его рассуждение согнулось и острие его
отклонилось в сторону, и, если я не ошибаюсь, все эти «даже» и
«совершенно» подобны скрепам, которыми он обычнейшим
237
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
образом хочет его починить, после того/как оно,
искривившись в его руках, наконец сломалось. Но эти скрепы
остаются всего-навсего словами, потому что из
предыдущего следует, что поэзия не может и не должна
обманывать, а если она и может и должна обманывать, тогда все
заключения кавалера и романтиков, не имея опоры,
непременно рухнут. Ибо нет человека, который бы не знал, что ■
следует различать два рода обмана: один мы назовем
обманом рассудка, второй — обманом воображения. Если, на- i
пример, какой-нибудь философ убедит вас в том, что само
по себе ложно, это будет обман рассудка. А обман
воображения— это тот, на который еще и в наши дни способны
изящные искусства и поэзия; потому что прошли те
времена, когда люди зарабатывали свой хлеб, распевая по ули-
.цам и переулкам стихи Гомера1, и когда вся Греция, со- -
бравшись в Олимпии, восхищенно слушала повествования '
Геродота2, сладчайшие меда, а потом при виде его один
говорил другому, указывая пальцем: «Это тот, что описал
Персидские войны и прославил наши победы»; сегодня
читатели и слушатели поэта — люди просвещенные, более
или менее образованные. Правда, поэт некоторым образом
должен делать вид, будто он пишет для простого народа;
между тем как романтики, кажется, требуют, чтобы он -
писал для простого народа и делал вид, будто пишет для
образованных, — а эти две вещи исключают друг друга,
в отличие от названных мною, потому что воображение
людей просвещенных превосходно может, особенно при
чтении стихов, когда оно желает быть обманутым, как бы
спуститься и стать наравне с воображением невежд, тогда как
воображение невежд не может возвыситься и стать наравне
с воображением просвещенных. В нынешние времена у
таких читателей и слушателей поэта рассудок не может быть
обманут поэзией, зато может быть и нередко бывает
обмануто ею воображение. Кавалер ди Бреме и вместе с кава- .
лером романтики, провозглашая, что поэт в своих вымыс- '
лах должен приноровиться к нашим обычаям и мнениям и
к истинам, известным в наше время, не смотрят на то, что
поэт не обманывает и никогда не обманывал рассудка (или
разве что случайно в те отдаленнейшие века, о которых я ]
говорил раньше), но обманывает фантазию; не смотрят они
и на другое: ведь если мы, едва открыв книгу и увидев в
ней стихи, уже знаем, что она полна вымыслов, и все-таки, ]
читая ее, желаем и стремимся быть обманутыми, а потому, 1
238
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
берясь за чтение, незаметно для себя готовим и
настраиваем свою фантазию так, чтобы она поддалась иллюзии,
то смешно говорить, будто поэт не может внушать ее, не
применяясь к нашим обычаям и мнениям, словно и мы не
даем нашему воображенью полной воли обманываться, и у
него самого нет сил забыться, и у поэта нет сил заставить
его забыть и мнения, и привычки, и все, что угодно; они не
смотрят на то, что рассудок среди бреда, овладевшего
воображением, прекрасно знает, что оно сумасбродствует, но
всегда и во всем верит и менее ложному и более ложному,
верит ангелам Мильтона и аллегорическим существам
Вольтера3, точно так же как Гомеровым богам,
привидениям Бюргера4 и ведьмам Саути5, так же как аду
Вергилия6; верит ангелу с небесным щитом «из самого
блестящего алмаза»7, спасшему Раймонда, не меньше чем
Аполлону с «мохнатой» и «бахромистой» эгидой8,
шествовавшему впереди Гектора в сражение. Словом, как я сказал
вначале, все дело в том, должна ли поэзия внушать иллюзии
или нет; если должна, — а это, очевидно, так, и романтики
сами, помимо воли, утверждают то же, — все остальное
только слова и софистические ухищрения и желание силою
доводов заставить нас поверить тому, что заведомо ложно
для нас, ибо мы действительно знаем, что поэт, будь он
христианином, и философом, и человеком во всем
современным, не обманет нашего рассудка, а явись он язычником,
невеждой и древним, он все равно обманет наше
воображение, если в вымыслах своих будет истинным поэтом.
И так как он имеет власть обманывать, ему остается по
своему благоусмотрению выбрать в пределах
правдоподобного лучшие иллюзии, самые отрадные для нас и наиболее
отвечающие назначению поэзии, — а оно состоит в том,
чтобы подражать природе, — и ее цели — доставлять
наслаждение. Пусть труднее внушить те иллюзии, которые
должны навязать нам иные мнения и привычки, нежели наши
собственные, — но ведь обязанность и заслуга поэта не в
том, чтобы выбирать себе легкие задачи, но в том, чтобы
любая избранная им задача казалась легкой. Теперь
следует взглянуть, кто доставляет больше наслаждения нашей
душе и больше следует природе, а значит, и хорошему
вкусу: тот ли поэт, кто не слишком старается идти вослед
мнениям и обычаям наших дней, оставаясь во всем прочем
большим поэтом, или же тот, кто привержен всему
современному; ведь поэзия, разумеется, должна идти тем пу-
239
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
_ /
тем, который ведет к наиболее сильному, чуждому по*
верхностности и легкомыслия, чистому /и естественному
наслаждению слушателя, при том что otfa может обмануть
одно (воображение. Но, быть может,— мЬк тем как простой
народ не вчера и не позавчера, а уже давным-давно
перестал слышать голоса поэтов,— романтики все же хотят,
чтобы и он слушал и читал поэта, хотя сами и стараются
сделать поэзию как можно более мудреной, метафизической и
недоступной рассудку простого народа. Впрочем, допустим,
что его удалось заставить слушать и читать поэтов; правда,
я легче поверю тому, что кто-нибудь надеется это сделать,
нежели тому, что это возможно сделать,— но допустим, что
это сделано, а также что поэт может внушить иллюзии
рассудку; тогда я прежде всего спрошу, что будет лучше: если
поэт станет приспосабливаться к религии, к мнениям и
обычаям народа, усваивать его верования и при этом все
же лгать — и потому, что в поэзии иначе нельзя, и потому,
что мнения народа в большинстве своем ложны, а значит,
будет положительным образом обманывать простолюдинов,
морочить им голову новыми заблуждениями и~ вздорными
выдумками и крепче вбивать в них старые, укреплять их
в прежних ребячествах, увеличивать их суеверные страхи,
глубже укоренять их невежество, — или если поэт, придер- .
живаясь иных суждений, станет измышлять таким
образом, что простой народ получит от его вымыслов то
наслаждение, которое и есть цель поэзии, но поверит в них
только воображением, от чего ему не будет никакого
вреда. Поэтому, если предмет поэзии извлечен из верований,
мнений и обычаев наших дней, неизбежно произойдет одна
из трех вещей: либо поэт никогда не солжет, а значит, и
не будет поэтом; либо он обманет своей ложью рассудок
простого народа и по-настоящему повредит ему, отяготив
его пустыми и злостными суевериями, — ведь, на наш
взгляд, когда дело идет о религии, всякое ложное
верование есть зло; либо он обманет только воображение. Отсюда
(допустим, что последнее возможно; в действительности же
такое если бы и происходило, то крайне редко, ибо простой
народ принял бы все за чистую монету) я перехожу к тому,
что хотел сказать во-вторых: если поэт, и не
придерживаясь современных верований и привычек, способен обмануть
воображение, значит, сказанное мною относительно
просвещенных людей сохраняет силу и для невежд, так что и для ;
них следовало бы выбирать те вымыслы, которые, обманы- j
240 I
I
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
вая больше или меньше, доставляли бы самое сильное
наслаждение: ведь цель поэзии — не обманывать, а
доставлять наслаждение, обман же есть для поэта только
средство, пусть и самое главное, а как средство сойдет и
обман воображения, без которого никто из просвещенных
людей не получал бы от поэзии удовольствия, — тот обман,
который можно сочетать с подлинным поэтическим
наслаждением. Все, что я сказал о народе, следует понимать в
прямом смысле; я предупреждаю об этом, дабы не
показалось, будто я, вперекор романтикам, утверждаю, что
поэзия не должна быть народной, между тем как именно мы
хотели бы видеть ее народной, а романтики —
метафизической, рассудочной, ученой и отвечающей знаниям нашего
века, к которым простой народ почти что непричастен. Но
я уже дважды отметил это противоречие романтиков;
новейшая философия изобилует противоречиями настолько,
что в дальнейшем мне, быть может, не раз придется
оспаривать два противоположных мнения, одно из которых
близко к моему собственному, и читатель, если не
присмотрится попристальней, подумает, будто я оспариваю самого
себя. Так исследуем теперь намеченное мною,— а именно
какая из двух поэтических манер более естественна и
доставляет больше наслаждения и образованным и
невеждам: древняя или же современная.
Опыт, и взаимное общение, и науки, и тысячи других
причин, которые нет нужды называть, с течением времени
сделали нас столь непохожими на наших далеких предков,
что если бы они воскресли, то, наверно, с трудом признали
бы нас за своих внуков. Потому-то ничуть не удивительно,
если мы, такие практические и ученые, такие
изменившиеся, мы, которым очевидно сокрытое от древних, и ведом
целый мир причин, неведомых для древних, и несомненно то,
что для древних было невероятно, и старо то, что для
древних было ново, — мы обыкновенно глядим на природу
иными глазами и в различных случаях жизни не испытываем
и сотой доли ощущений, возникавших у наших предков от
тех же причин. Но ведь и небо, и море, и земля, и весь
облик мира, и зрелище природы и ее дивных красот
изначально соответствовали свойствам естественных зрителей,
а естественное состояние человека есть невежество, между
тем как состояние ученого, который, созерцая звезды,
знает, почему они восходят, и не удивляется ни грому, ни
молнии, а созерцая море и землю, знает, что заключает
241
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИК^
в себе море и что — земля, и почему набешют и убегают
волны, и отчего дуют ветры, текут реки, t/астут деревья и
травы, и отчего та гора — нагая, а эта о^ета лесами;
которому досконально известны чувства и характеры людей, и
силы, и самые скрытые пружины, и связи, отношения и
соответствия великого мирового целого, и то, что на языке
новой науки называется «гармониями природы»,
«аналогиями» и «симпатиями»,— состояние его есть состояние
искусственное, ибо природа в действительности не распахнута
настежь, она прячется, и нужны тысячи хитростей и чуть
ли не козней, тысячи ухищрений и орудий, чтобы, тесня ее,
давя и пытая, силой вырвать у нее из уст ее тайны,— но,
пытаемая и разоблаченная, она не дарует уже тех
наслаждений, которые прежде дарила по доброй воле. То, что я
говорю об ученых, говорится в большей или в меньшей
мере обо всех просвещенных людях, а значит, и о нас,
особенно о тех, кто не принадлежит к простонародью, а из
простонародья о тех, кто живет в городах, и вообще о
любом человеке, кто дальше отошел от первобытного и
естественного состояния людей. Я не спорю о пользе всего
этого, и мне не приходит в голову соперничать с теми
философами, которые оплакивают человека, ибо в нем на смену
грубости пришла утонченность, и скорбят о плодах и
молоке, на смену которым пришло мясо, о древесных листьях
и шкурах, уступивших место тканям, о пещерах и хижинах,
уступивших место дворцам, о пустынях и лесах,
обратившихся в города: смотреть, что полезно и что истинно,—
дело философа, а не поэта, поэт же заботится лишь об
услаждающем, и при этом услаждающем воображение как
посредством истинного, так и посредством ложного, он
даже по большей части лжет ради обмана, обманывающий
же ищет не истины, а видимости истины. Но красоты
природы, изначально соответствующие свойствам
естественного человека и устроенные так, чтобы давать ему
наслаждение, не меняются от перемены зрителя, и никакие
изменения в людях не поколебали ничего в природе,
которая, беря верх над опытом, науками, искусствами и вообще
всем человеческим, вечно остается сама собою; а значит,
если нам угодно извлечь из нее то чистое и подлинное
наслаждение, которое есть цель поэзии (ибо наслаждение в
поэзии возникает из подражания природе) и которое в то
же время отвечает первобытному состоянию людей,
необходимо, чтобы мы приноровлялись к природе, а не она к
242
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
нам, и потому чтобы и поэзия, вопреки желанию многих
наших современников, не изменялась и оставалась в
главных своих чертах незыблемой, как природа. А
приноравливаться таким образом к природе значит переноситься
воображением, насколько это в наших силах, в первобытное
состояние наших предков, что и заставляет нас сделать
без всяких с нашей стороны усилий поэт — повелитель
вымыслов. И нетрудно понять, что, если мы это сделаем,
перед нами откроется источник небывалых небесных
наслаждений, что природа, неизменная и неиспорченная,
явит тогда вопреки нашей просвещенности и испорченности
свою бессмертную власть над людскими душами, одним
словом, что эти наслаждения и в наши дни останутся
самыми желанными для нас по нашей естественной
склонности, ибо мы жаждем быть обманутыми поэзией; нужно
только помимо самого этого обстоятельства обратить
внимание на наше непреодолимое влечение к первобытному,
к естественно чистому и непорочному, до такой степени
врожденное людям, что его последствия не замечаются,
ибо они слишком повседневны и, как бывает тысячи раз,
сама их обычность мешает приметить их. Но отчего еще
происходит наша безграничная любовь к простоте и в
нравах, и в' манерах, и в речи, и в слоге письма, и во всем,
откуда та несказанная сладость, которой наполняет нам
душу не только вид сельской жизни, но и мысль о ней, и ее
образ, и поэты, описывающие ее, и память о старинных
временах, и история патриархов или Авраама, и Исаака, и
Иакова, повести об их превратностях и деяниях в пустыне
и о жизни в шатрах среди стад, и почти все то, что
содержится в Писании, и особенно в Книге Бытия; откуда то
волнение, которое возбуждает в нас, и то блаженство,
которое доставляет нам чтение любого поэта, а лучше всего—
изобразившего и живописавшего все первобытное, — чтение
Гомера, Гесиода, Анакреонта и особенно Каллимаха9?
И две главные склонности нашей души — любовь к
естественности и ненависть к жеманству — обе врожденные, как
я полагаю, и свойственные всем, но сильнейшие и
могущественнейшие в тех, чье дарование от природы
приспособлено к изящным искусствам, — равным образом
проистекают из нашей приверженности к первобытному. И она же,
стоит нам увидеть нечто 1не затронутое цивилизацией,
любой остаток, любой след йервозданной естественности,
внушает нам, хотя мы и возвысились над ними, приятное уми-
243
_ ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКД
ление и смутную тоску, потому что приро/а зовет нас и
манит, а если мы противимся, влечет нас силой,
девственная, нетронутая природа, против которой бессильны и опыт,
и знание, и сделанные открытия, и переменившиеся нравы,
и просвещение, и ухищрения искусства, и украшения, ибо
ни одно, даже самое блистательное, величественное,
древнее и могучее создание человека не превзойдет ничего и не
сравнится ни с чем, в чем явлен след деяния Творца. И кто
из нас — даже не поэт, не музыкант, не живописец, не ве- N
ликий гений, а всего лишь читатель поэтов, слушатель
музыкантов, зритель живописцев, любой, в ком испорченность
и чуждость всему человеческому, всему естественному не
заглушили всех человеческих и естественных влечений,
кроме грубых и низменных, — кто из нас не знает, не видит,
не чувствует и не может подтвердить рассказом из
собственного несомненного и неоднократного опыта, что все
сказанное мною — правда? И если свидетельства других
недостаточно, я зову свидетелями вас самих, читатели, зову
вас самого, кавалер: у вас не может не быть того опыта,
которого я ищу, вашему сердцу не могло остаться
неведомым то волнение, о котором я говорю, не может быть,
чтобы нетронутая природа, или нечто первобытное, или
неподдельная простота, или чтение древних поэтов вас не
опьяняли несчетное множество раз изысканнейшим
наслаждением; вы сами подтверждаете, что, подобно тому как
первобытные формы природы не изменились и не изменятся,
так и любовь к ним человека не угасла и не угаснет
прежде, чем истребится людское племя. Но зачем ищу я вещи
ничтожные, или неясные, или малоизвестные, если могу
сказать одну ясную как день и известную любому, так что ее
засвидетельствует мне каждый, даже не открывая рта?
Ведь каждый из нас был тем, чем когда-то были древние,
все мы по нескольку лет были такими, каким был весь свет
на протяжении нескольких столетий: я имею в виду
детство, когда мы причастны тому неведению, тем страхам, тем
наслаждениям, тем суеверьям, той непрестанной
деятельности воображения, благодаря которым и гром, и ветер,
и солнце, и звезды, и животные, и растения, и стены наших
жилищ казались нам или дружелюбными, или
враждебными, но только не безразличными, не бесчувственными,
детство, когда каждый увиденный предмет словно подавал нам
знаки, как будто бы желая заговорить с нами, когда мы
нигде не были в одиночестве и вопрошали собственные
244
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
фантазии, и >стены, и деревья, и цветы, и облака, и
целовали камни и палки, и наказывали, как будто за обиду, и
ласкали, как, будто в благодарность за что-нибудь хорошее,
вещи, не способные ни обидеть нас, ни сделать нам
что-нибудь хорошее; детство, когда нами все время владело
удивление, такое сладкое, что нам доныне хочется верить по-
прежнему, чтобы по-прежнему удивляться, когда краски
мира, и свет, и звезды, и огонь, и полет насекомых, и
прозрачность родников — все было ново и непривычно для нас,
и ничто происходящее не миновало нашего внимания как
слишком обыкновенное, когда мы не ведали никаких
причин и сами вымышляли их в меру своего дарования и в
меру своего дарования их приукрашивали; детство, когда
слезы лились у нас ежедневно, а наши страсти,
неукротимые и дикие, не подавлялись силой и смело прокладывали
себе путь. А каково было об эту пору наше воображение,
как часто и легко оно воспламенялось, как свободно и
необузданно, бурно и неутомимо витало повсюду, как
увеличивало все мелкое, украшало все лишенное украшений,
озаряло все темное! Сколько оно дарило нам живых и
дышащих призраков, блаженных снов, несказанных грез,
сколько чар, и чудес, и прекрасных ландшафтов, и
причудливых вымыслов, сколько предметов, достойных поэзии! Как
оно было богато, и сильно, и деятельно, как много
приносило волнений и радости! Я сам помню, как в детстве
услышал в воображении звук такой сладостный, какого не
услышишь в этом мире; и еще я вспоминаю, как, глядя на
пастухов и овечек, которыми был расписан потолок моей
комнаты, я рисовал в воображении такие красоты
пастушеской жизни, что, если бы подобная жизнь была нам
дарована, она протекала бы уже не на земле, а в раю, где
обитали бы не люди, но бессмертные; и я бы не усомнился
(не обвиняйте меня в гордыне, читатели, за то, что я
собираюсь сказать) счесть себя божественным поэтом, если бы
умел живыми воспроизвести в моих писаниях и, не
показывая, внушить другим те образы, которые я видел, и те
чувства, которые испытывал в детстве. Я не желаю ни
упоминать, ни тем. более доказывать, что память о детстве, о
мыслях и фантазиях этого возраста с течением нашей
жизни становится нам особенно дорога и отрадна: нет
человека, который бы не знал этого и не испытывал ежедневно,
и не только испытывал, но и, заметив подобное чувство,
удивился бы ему (если человек этот не совсем лишен да-
245
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
рования и легкомыслен). Вот вам и очевидная, осязаемая
в нас самих — очевидная для каждого — приверженность
к первобытному; при этом я имею в виду нас, людей
современных, кого романтики стараются убедить, будто древний,
первозданный род поэзии не для нас. Между тем по
нашему пристрастию к воспоминаниям детства должно судить,
каково наше пристрастие к неизменной, первобытной
природе, которая обнаруживает себя и царит в младенцах; ]
значит, упомянутые детские вымыслы и детское воображе- ]
ние, это вымыслы и воображение древних, а воспоминания j
о наших ранних годах и -наши первые мысли, любить кото- j
рые и тосковать по которым нас влечет с такой
неудержимой силой,— это те воспоминания и мысли, какие будит в
нас подражание чистой, нетронутой природе, те, которые
может и, на наш взгляд, должен пробуждать в нас поэт,
которые и пробуждают в нас древние, а романтики поносят,
отвергают и изгоняют из поэзии, крича, что мы уже не
дети; весьма жаль, что это так,— но ведь поэт должен
внушать иллюзии, а внушая их, подражать природе, а
подражая природе, доставлять наслаждение,— а где поэтическое
наслаждение бывает более истинным, и сильным, и чистым,
и глубоким? И что есть природа, если не это? Более того,
есть ли и была ли иная природа, кроме этой?
Неужто станем мы искать природу и иллюзии в
обычаях, мнениях, знаниях нашего века? Какую природу,
какую прекрасную иллюзию надеемся мы найти во времена,
когда повсюду — лишь просвещение, разум, наука,
практический опыт, ухищрения искусства, когда нет такого
предмета, который не был бы искажен человеком, нет такого
места, где первозданная природа не являлась бы взорам
наподобие редких проблесков, не была бы покрыта и
окутана как бы плотной и толстой тканью; когда удивляться
постыдно, когда нет такой страсти, род, и форма, и мера,
и последствия которой не были бы замечены другими,
исследованы, разобраны и разъяты до самой глубины; когда
наше сердце, отрезвленное рассудком, уже не трепещет, а
если и затрепещет вдруг, то рассудок тут же спешит
обыскать его и вырвать у него все тайны этого трепета, так что
исчезает всякая иллюзия и всякая сладость, исчезают все
высокие помыслы; когда за каждым движением нашей
души подсматривают и охотятся, как птицеловы за добычей,
когда все-все, что чувствуют, чем волнуются, в чем себя
обнаруживают, что испытывают сердце и воля человека,
предвидится и предсказывается, подобно тому как астро-
246
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
номы предсказывают появление звезд и возврат комет;
когда -нет человека, обладающего хоть мало-мальски
живым и изощрённым умом, который бы не знал своего
характера и всех своих достоинств, всех изъянов, не мог бы
описать причины своих поступков и мыслей, разобрать
будущие надежды и опасения своей жизни, предсказать все
о самом себе и о превратностях, которые предстоит
пережить его сердцу; когда наука о человеческой душе стала
точной и почти что математической и уж решительным
образом «аналитической», по ученому выражению наших
современников, ибо она излагается чуть ли не с помощью
углов и окружностей и пользуется чуть ли не числовыми
расчетами и формулами? Неужто «взаимное братство наук
и искусств», «чудеса промышленности», опыт, открытия, все
последствия просвещения придадут, как утверждает
кавалер, новые силы фантазии? Неужто все, что душит ее, дол*
жно ее оживить? Неужто разум, который на каждом шагу
обращает ее в бегство, преследует ее, нападает на нее и
вынуждает признаться, что она грезит, неужто опыт,
который осаждает ее, и теснит, и подносит к ее лицу свой
докучный фонарь, — неужто они дадут ей новую пищу и
ободрят воображение? Не притеснения, не темницы и цепи
придают мужество фантазии, но лишь свобода; наука и
открытия для нее — не широкие поля, а рвы и насыпи, и
слишком яркий свет истины не может быть благотворным
для сумасбродки по природе, а обогащающее рассудок не
обогатит фантазию, и так несметно богатую; притом ее
первое и главное богатство — это свобода, а познанная
истина и несомненность по природе своей призваны
отнимать у нас свободу вымысла. Если бы на деле все обстояло
так, как утверждают романтики, границы воображения у
детей были бы весьма тесны и расширялись бы, по мере
того как человек набирается разума; но все бывает
наоборот: у малых детей воображение очень обширно, у
взрослых оно посредственно, а у стариков — ничтожно. Мы ясно
видим, что в каждом из нас владения фантазии, сначала
бесконечные, затем сокращаются настолько же, насколько
расширяются владения рассудка, и наконец становятся
совсем ничтожны; а значит, точно то же самое происходило
и в мире, где фантазия первых людей свободно витала по
неизмеримым просторам, а потом, по мере того как
распространялась вширь держава разума, то есть росли
практический опыт и знания, она, изгнанная из своих исконных
247
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
земель, постоянно теснимая и преследуемая, в конце
концов стала такой, какой мы видим ее сейчас, — сдавленной
со всех сторон, запертой в темнице и почти неподвижной;
и доведенную до такого состояния романтики и кавалер ди
Бреме зовут, о читатели, счастливой, зовут
повелительницей обширнейших царств. Не следует, однако, думать вслед
за многими, что со временем воображение лишается силы,
теряя ее, по мере того как увеличивается господство
рассудка; утрачивалась и утрачивается не сила воображения,
а способность пользоваться им, которая у древних если
и слабела от юности к зрелости и от зрелости к старости,
то лишь совсем немного, а у нас, едва лишь входит в силу
рассудок и забирает власть, немедля идет на убыль и под
конец почти совсем пропадает. Остается сила, но не
находит себе применения; остаются поля, где прежде обычно
резвилось воображение, но они ограждены валами
рассудка; если мы хотим, чтобы воображение наше оставалось
таким же деятельным, как у древних и некоторое время —
у нас самих, и проку от него было бы столько же, нужно
вызволить его из-под гнета рассудка, нужно расковать его
и выпустить из темницы, нужно взломать все ограждения;
и это может сделать поэт; в этом его долг, а не в том,
чтобы удерживать воображение в том же тупике, в тех же
цепях, в том же рабстве согласно чудовищному учению
романтиков; и всякий раз, когда истинный поэт возвращает
нашему воображению вышесказанную свободу, — я зову
весь мир в свидетели того, каким оно становится
деятельным даже в наше время и даже в наших душах.
Много тяжких бед, читатели, принес воображению рост
владений рассудка, из-под господства которого его
освобождает поэт, в той мере и на столько времени, сколько
это в его силах. Причем ущерб затрагивает не одно
наслаждение, как принято думать; урон наносится также
вещам более существенным (хотя и наслаждение весьма
существенно), и это с горечью замечает, без сомнения, не
только любой поэт или оратор, но и подлинно
проницательный и благородный философ, не похожий на тех
философов, что нынче в славе и в почете. Здесь я мог бы сказать,
что разум в бесчисленном множестве вещей — отъявленный
враг природы; что в человеческих делах разум враждебен
величию; что часто там, где природа величественна, разум
мелок; что в глазах людей великое по большей части
тождественно необыкновенному, необыкновенное же стоит вне
248
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
обыкновенного порядка или противостоит этому порядку,
неизменно любимому разумом; что нередко слишком
мелкое в силу своей необыкновенности именуется великим; что
Александр и сотни ему подобных, великих с точки зрения
природы и славы, с точки зрения рассудка безумны, а
безумие с точки зрения рассудка всегда мелко; что едва ли
человек может быть великим и совершить великие дела,
если над ним не имеют власти иллюзии, и что его едва ли
сочтут великим, если эти же иллюзии бессильны над
другими; что, насколько возрастет господство разума, из-за
которого иллюзии становятся чахлыми и редкими,
настолько пойдет на убыль величие людей, их мыслей и дел; что
поэту больше, чем кому-либо, нужны могущественные
иллюзии, что он должен быть в тысяче вещей
необыкновенным, а в некоторых даже безумным, хотя нынешний век —
это век разума, когда свет смеется над обманами и даже
вопреки своей воле все равно их узнает, а узнав,
презирает и не только не позволяет с легкостью человеку быть
необыкновенным, но и по большей части клеймит странность
тем гнусным именем, которому обучил его разум, называя
ее сумасшествием или тупоумием, — а это величайшее
несчастье для изящных искусств и несказанное бедствие для
поэзии. Но это тема чрезвычайно обширная, и основания
сказанного мною о вражде разума и природы лежат в
глубочайшем созерцании всемирного порядка вещей, поэтому
я не останавливаюсь ни них, не желая ко множеству
предметов существенных и необходимых для моего
рассуждения присовокуплять лишние, хоть и уместные и теснейшим
образом связанные с темой. Потому я и поступаю так, и не
хвалю старых времен, и не утверждаю, что тогда и жизнь,
и мысли, и люди были лучше теперешних, я знаю, что
теперь подобные рассуждения считаются устарелыми и
вышедшими из моды, и предоставляю другим по
собственному произволу судить о вещах, которые я мог бы сказать,
и называть их пустыми грезами фантазии, презирающей
насущное и тоскующей о далеком. Скажу только, что то
была природа, а эту нынешнюю природой счесть нельзя,
что долг поэта — подражать такой природе, которая не
меняется и не поддается цивилизации, что, когда природа
борется с разумом, поэту надлежит или отступиться от
разума, или, отступившись от природы, сложить с себя
долг и имя поэта, что он имеет право обманывать и поэтому
должен своим искусством как бы переносить нас в древние
249
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
времена и возвращать нам ту природу, которая исчезла из
наших глаз, или, скорее, открывать нам, что она все еще
существует и прекрасна, словно в начале дней, чтобы
через него мы увидели и почувствовали ее и испытали те
сверхчеловеческие наслаждения, которые утратили,
сохранив лишь тоску по ним; а это значит, что в наше время
долг поэта — не только подражать природе, но и
обнаруживать ее перед нами, не только услаждать наше
воображение, но и освобождать его от утеснений, не только
доставлять нам насущно необходимое, но и давать ему
замену. Я скажу еще, что звать поэзию от первобытного к
современному— это то же самое, что отвращать ее от
выполнения долга, отнимать у нее то самодовлеющее
наслаждение, которое ей свойственно доставлять, влечь ее от
природы к цивилизации. Но ведь именно этого и хотят
романтики! Право, следовало ожидать, что наше время, несказанно
извратив нашу собственную природу, в конце концов
постарается извратить и природу поэзии, и отнять у людей всякое
наслаждение, — всякую память об их первобытном
состоянии, и отказать в имени поэта всякому, кто, стихотворствуя,
воплотит не современные нравы и не угасание нравов
первобытных или всеобщее развращение. Потому что, коротко
говоря, одно из главнейших различий между
романтическими и нашими поэтами, различие, к которому сводятся и в
котором заключаются сотни других различий, таково: наши
поэты воспевают, сколько могут, природу, романтические
поэты воспевают, сколько могут, цивилизацию, наши —
вечные и неизменные вещи, и формы, и красоты, романтики —
преходящие и изменчивые, наши — творения бога,
романтики— создания рук человеческих. Это различие проявляется
с чрезвычайной ясностью в темах, в описаниях, в образах,
в разном поэтическом скарбе, в самом способе выражения,
словом, во всей совокупности поэзии; помимо прочего, оно
явственно обнаруживается в сравнениях, которые мы
возьмем как практический пример: наши поэты обыкновенно
стремятся брать для них вещи естественные, отчего и
получается, что у наших сравнения то и дело пробуждают в
воображении читателей тысячи изысканнейших и на диво
отрадных образов, и отчего, как было замечено, у
величайших поэтов сравнения взяты большей частью из сельского
обихода; романтики же с не меньшим усердием
исхитряются добывать их из городского обихода, из искусств,
ремесел и наук, вплоть до метафизики, и меж тем как сравне-
250
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
ние, по-видимому, должно сделать уподобляемую вещь
более наглядной, они доходят до того, что сравнивают
видимые вещи с той или другой тайной человеческого сердца
или души; из сказанного явствует, что наши поэты изо всех
сил ищут первобытного, даже повествуя о современном, а
романтики изо всех сил ищут современного, даже повествуя
о первобытном или древнем. Потому-то сравнения у
подобных поэтов, а равным образом почти у всех поэтов
английских и германских, производят на людей, которых мы
называем обладающими хорошим вкусом, то есть вкусом
естественным, неприятное впечатление грубости, словно им,
между тем как они надеются и желают позабыть за
чтением о цивилизации, то и дело ставят ее перед глазами:
ведь у поэтов, которых я имею в виду, вместо гор, лесов
и полей, колосьев, цветов и трав, зверей, ветров и облаков
вы находите на каждом шагу замки и башни, купола и
колоннады, церкви и монастыри, квартиры, сукна, подзорные
трубы, мануфактуры и всякого рода орудия труда. Что вы
на это скажете, читатели? Хороша замена, не правда ли?
Разве вы не видите, что они пресытились небесными
прелестями и отправились на поиски земных? Разве вы не
видите, что тех наслаждений, которых они не находят больше
или говорят, что не находят, в творениях божьих и в
вечной и всеобщей красоте, именуемой «стародедовской», они
ищут в красотах частных и преходящих, в модах, в
изделиях человеческих рук? Одним словом, разве вы не видите
достаточно ясно, что мы, рабы, педанты, безумные
любители искусства, оказываемся подлинными и настоящими
любителями и приверженцами природы, а они, свободные,
мудрые, любящие одну лишь природу, они-то и есть
безраздельные любители и ревнители искусства, только ему
и подражающие?
Право, здесь было бы уместно подняться и крикнуть:
«Вот тот род поэзии, которого вам не хватает, итальянцы!
Вот чем вы, дескать, бедны, вот в чем невежественны! Вот
какие богатства вам сулят желающие, по собственным
словам, возродить и воскресить вас! К таким занятиям вас
подстрекают, и побуждают, и увлекают!» Но я сдержусь,
я не допущу, чтобы скорбь и горестный предмет моего
рассуждения отвратили меня от той скромности, которая
подобает равно и этому труду и мне самому. Могут сказать,
что подобные сравнения и вообще романтическая поэзия
доставляют чрезвычайное удовольствие бесчисленному
251
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
множеству людей. Ну что ж, там, где следовало бы возо- |
пить, я отвечу спокойно. Три вещи помимо всего прочего
суть причины этого удовольствия. Первая из них—это пор- ;
ча вкуса, которой подвластны и многие поэты, и — не в ]
меньшей мере — многие читатели; вообще воображение и •
поэтов и читателей опутано, приручено и укрощено тира- ;
нией рассудка, а потому ни поэты по большей части не уме- ~
ют доставлять наслаждение, как должны, ни читатели— ;
наслаждаться, как наслаждались прежде. Что же из этого j
выходит? Разве Сенека и Плиний некоторое время не
считались чтением более приятным, нежели Цицерон? Разве
Лукан не нравился больше Вергилия? И разве невероятные
причуды семнадцатого века 10 не вызывали восторг по всей
Италии? И разве кто-нибудь из немногих здравомыслящих
людей, живших тогда, не ответил бы любому, кто в
оправдание этого варварства сослался бы на всеобщее
убеждение, точно то же самое, что отвечаю я теперь? А будь он
осмеян, — кто оказался бы прав на самом деле —
осмеявшие или осмеянный? Но, во-первых: даже если допустить,
что приверженность романтической поэзии так же
распространена и сильна по всей Европе, как в Италии в
семнадцатом веке — приверженность ко всяким безумствам, и что
любитель романтиков не может получить удовольствия от
чтения наших поэтов, — я все же спрашиваю, что делать
среди всеобщей порчи вкуса, когда большинство идет
дурными и кривыми путями, тем поэтам и писателям, которые
все это знают и не затронуты порчей? Видимо, пожелай они
в своих писаниях быть людьми «нашего времени», а не
«стародедовских времен», им пришлось бы
приспосабливаться к извращенным вкусам и сочинять уж лучше на
варварский, нежели на старый лад. И, видно, в семнадцатом
веке правильно поступал Акиллини и, когда восклицал:
Трудитесь в поте лиц, кузнечны горны!
и неправильно делал Менцини 12, когда со всем усердием
избегал того, к чему стремился его век, и писал, высмеивая
нелепость современных вкусов:
Итак, начнем: «С Флегрейских нив вершины
Хребта перуном Зевс разбил в куски,
Гигантов сбросил в адские глубины,
И ныне звезд он топчет огоньки
(Окружностям подобны их алмазы,
А твердь для них — род грифельной доски)».
252
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
Какие мысли, боже! Что за фразы!
А мог бы он сказать еще складней:
«Вертелись, как волчки, светил топазы».
И, видно, как глупые педанты вели себя Гравина13,
Маффеи и и другие, своим трудом и своими писаниями
изгнавшие наконец из Италии эту язву и добившиеся того,
что вновь начали читать и печатать Данте и Петрарку,
поэтов несовременных и не отвечавших вкусу эпохи. Можно
ли нам думать, будто тогда никто не кричал, что это и
есть-де современный вкус, а все прочее — вкус
старомодный, и не насмехался над здравомыслящими людьми,
называя их низкими рабами, полными предрассудков
поклонниками старой рухляди, охочими до ржавчины и плесени
и лакомыми до всего залежалого? Но кто оказался прав?
Разве потомки не рассудили тяжбу между вкусом одних и
вкусом других? И разве не погибли и это варварство, и
весь потоп стихов и прозаических сочинений, и даже сама
память о тех поэтах и писателях? А нынешние суждения,
нынешняя поэтическая мода и вкус — разве они не
погибнут? Погибнут без всякого сомнения, о итальянцы, и
потомки посмеются над вами, если вы их усвоите, и назовут
вас варварами, и будут удивляться вашей глупости, как вы
удивляетесь глупости семнадцатого столетия, и в их
памяти нынешний век будет столь же ничтожным и
презренным. Во-вторых: помимо того что нынешняя порча вовсе
не так сильно распространилась и укоренилась в Европе,
как было предположено выше, я могу утверждать
наверное, что и любители романтиков способны
превосходнейшим образом получать живейшее удовольствие также от
наших поэтов и нередко получают его. Не так сильна
извращенность, чтобы она могла окончательно задавить
природу; а если в ком-нибудь она и такова, если есть на свете
человек, которому совершенно недоступны источники
истинного, естественного и чистого поэтического наслаждения, то,
несомненно, читатель, число таких осужденных душ столь
невелико и даже ничтожно, что ни поэту, ни философу не
следует принимать их в расчет. Ведь торжество истины и
природы над испорченностью людских мнений и вкусов
можно видеть и в самые варварские эпохи: одно и то же
время восхищалось и Марини15 и Кьябрерой ^, в
семнадцатом веке читались и прославлялись и Менцини, и Фили-
кая 17. Но что пользы искать столь далекие примеры, если
их в изобилии можно найти и сейчас и здесь? Неужто
253
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И &СТЕТИКА
сами романтики не наслаждаются и Гомером, и Анакреон- 1
том, и другими нашими поэтами? Неужто они не знают и I
видят, что если их стихи источают наслаждение лишь ред- |
кими каплями, то у древних оно струится непрестанно щед- 1
рыми потоками? Все это они и знают, и видят, и наслажда- 1
ются древними — и, однако, отрицают такую манеру сти- I
хотворства, как не отвечающую нашему времени, хотя она |
доставляет несказанное удовольствие не только «пращу- 1
рам», но даже и им самим; наслаждаясь Гомером, они не 1
признают, что в наши дни какой-нибудь поэт может достав- J
лять наслаждение в том же самом роде поэзии, — потому, I
я думаю, что, отдавши все наслаждения на откуп древним, 1
они лишают современных поэтов возможности доставлять I
его законным образом, хотя, ни с кем не сравниваемые, те |
и могли бы быть приятны. ]
Вторая причина, почему романтики доставляют удоволь- j
ствие, — это грубость и черствость сердца и воображения ]
у многих и многих; они едва замечают, да и то редко, неж- 1
нейшие касания природы, и нужны романтические толчки,
удары и пинки, чтобы встряхнуть и пробудить их, для кого j
тонкие и чистейшие наслаждения — все равно что бритва j
для булыжника, чье нёбо, привыкшее к соли и уксусу, ка- j
жется нечувствительным к благородным блюдам и напит- j
кам. У многих эта черствость — от природы, у многих — от 3
цивилизации, но у большинства — от обеих причин, ибо их j
природное свойство, которое могло бы и сойти на нет и I
исчезнуть, укрепляется и поддерживается нравами и
привычками городской извращенности. На воображение таких
людей какая-нибудь описанная поэтом полуугасшая лампа- ■]
да между столпов готической церкви действует куда силь- ;
нее, чем луна над озером или над лесом, или эхо,
отдающееся в обширном, пустом покое, — сильнее, чем мычанье \
быков, а какое-нибудь шествие, празднество либо иное
городское зреЛище, — сильнее, чем жатва, молотьба, сбор
винограда, подрезка листвы на деревьях, рубка леса,
пастьба стад и отар, уход за пчелами и забота о живых
изгородях, канавах, и ручьях и садах; словом, их больше
волнует стиль испорченный, городской и современный,
нежели простой и первобытный. Они не то чтобы
неспособны к естественным и тонким усладам, и не то чтобы
природа совсем их не затрагивала и порой незаметно для них ч
самих не доставляла им удовольствия; но из-за
неповоротливости воображения — а сдвинуть его с места можно
254
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
только воротом, иначе ему лень отбрести хоть на шаг,—
они желают видеть в поэзии только те вещи, которые
находятся рядом, чтобы их фантазии не пришлось далеко идти
в поисках за ними, и довольствуются подобным сухой и
грубой пище наслаждением от этих образов, не помышляя
о сочных плодах более изысканных наслаждений,
даруемых природой и близкой к природе поэзией. Помимо того,
что, подражание всему цивилизованному и искусственному
по сравнению с подражанием природе само по себе
особенно грубо и потому лучше способно произвести
впечатление на сердце и воображение таких людей, романтики
еще жадно ищут и с бесконечной любовью выбирают вещи
необычайные и чуждые нам, и, даже подражая природе,
отдают предпочтение безмерному и чрезмерному, и этим
наносят воображению такие удары, что, как бы ни была
крепка одевшая его скорлупа, она не может их выдержать
и отколовшиеся куски приоткрывают живую плоть; или
вернее, как бы ни были далеки описываемые предметы, все
же они своей странностью заставляют неподвижную
фантазию отбросить лень и силой влекут ее к себе; поэтому
воображение, превосходно сопротивляющееся вздохам
нежного и несчастного поэта, оплакивающего женщину из
Авиньона 18, не может не поддаться, чуть больше или чуть
меньше, рычанию убийцы над телом турчанки19, а тот, кто
и бровью не поведет, если ему показать кровавую борозду
на груди юного отважного воина, поневоле подает признаки
жизни при виде пьяного солдата с кишками, выпущенными
из разорванной пушечным ядром утробы; наконец, тот,
кто и не покосится в сторону зеленого, залитого солнцем
холмика, невольно поглядит даже несколько раз подряд
на причудливо срезанную скалу, высокую и бесплодную,
поднимающуюся на склоне горы и страшно нависающую
над темной пропастью бог знает во сколько миль глубиною.
Такая черствость присуща в большей или в меньшей мере
бессчетному множеству людей, так что в конце концов
сердце и воображение, столь податливые, что немедля
принимают ту форму, какую хочет придать им поэт, и
наделенные столь тонкой чувствительностью, что замечают
тотчас же самое легкое прикосновение, словом, такое сердце
и такое воображение, которые без зова следовали бы за
поэтом, куда бы он ни шел, и порой опережали бы его, и
всегда, подобно самым живым струнам, отзывались бы
ясным звуком на малейшие удары его пальцев, можно найти
255
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
только у поэтов (я имею в виду поэтов по природе, неза- 1
висимо от того, сочиняют они стихи или нет). Потому-то 1
древние сомневались, да и наши современники сомневают- 1
ся, может ли толпа быть сведущим судьей поэта; я знаю, I
что думают по поводу этого сомнения романтики, но пусть I
они думают по-своему, я не буду об этом говорить, а ска- 1
жу только (возвращаясь к людям черствым, нечувствитель- 1
ным ни к природе, ни к поэзии): пусть пишут для них те 1
поэты, которые сами на них похожи, пусть пишут немцы 1
и англичане, но только, ради бога, не итальянцы, среди ко- 1
торых эта черствость не имеет столь широкой власти и не 1
столь сильно и глубоко укоренена. Ибо, несомненно, мяг- I
кость и податливость сердца и воображения, подвижность 1
и проворство, которые могут быть присущи даже фантазии 1
простолюдина, делая ее подобной фантазии поэта, нрав, I
способный воспринимать и чувствовать сладостное влияние 1
чистой, нежной и святой природы, не жеманной и не сви- 1
репой, не похожей ни на сибарита, ни на скифа20, не легко- 1
мысленной и не чрезмерно глубокомысленной, которой 1
нельзя подражать ни притворством, ни кокетством, ни бес- 1
престанным острословием, ни назойливостью, ни разнуз- 1
данностью, ни беспрестанными ужасами, словом, основы хо- |
рошего вкуса и те искры поэтического огня, котбрые могут |
быть рассеяны даже в воображении простого народа, — все J
это было даровано богом прежде всего грекам и итальян- 1
цам, причем под итальянцами я подразумеваю также лати- I
нян, наших отцов; о других народах, более всего о немец- ]
ком и английском, я умолчу,— за меня говорят факты. 1
Последняя и главнейшая из трех упомянутых мною 1
причин — это необычность, чью безграничную власть над 1
воображением излишне было бы подтверждать доказатель- |
ствами, как незачем и говорить, что очень часто сила воз- |
действия иных писаний тождественна их новизне и дико- j
винности. Поэтому, как мы увидим, нередко бывает так: 1
вещь, выраженная поэтом или писателем посредством ело- 1
ва нового, которое необычно или само по себе, или по упо- |
треблению, а потому и действует очень сильно и лучше ]
всего вызывает у читателей нужный образ или душевное
движение, обозначается в обыденном письме или в
обыденной речи словом более точным, и хотя само по себе оно j
даже более сильно и выразительно, все же то первое ело- i
во только благодаря своей новизне произведет большее
впечатление, чем слово обиходное. В том случае, если но- \
256
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
вое слово или новое его употребление войдут в обычай, весь
этот отрывок, так сильно действующий и столь
примечательный, станет заурядным, как это, без сомнения, должно
было произойти со многими местами у древних поэтов и
писателей, особенно же у тех, кого больше изучали и кому
больше подражали, и прежде всех — у Гомера. Сила
необычности в поэзии так велика, что даже пущенная в ход
не так, как должно, необычность все же немало влияет и
на чувства людей с хорошим вкусом: пусть эти образы
оскорбляют их и вызывают отвращение, но все же они
поневоле видят их перед глазами. Но вернемся к сказанному
прежде. Ни в Европе, ни в Америке нет, можно сказать, ни
одного читателя стихов, чей слух не привык бы в той или
иной мере к стилю греческих и латинских поэтов — отчасти
потому, что у большинства народов стиль этот обычен и для
поэтов, и для сброда стихоплетов (в Италии этот сброд
несметен, но, впрочем, я не хочу сказать, что вне ее он
малочислен), и даже для тех бесстыдных говорунов,
которые, подделываясь под поэтическую речь, обыкновенно
берут из нее слова, и фразы, и идеи; я оставляю в стороне
тех, кто произносит цветистые проповеди, выпрашивая все
цветы как милостыню у поэзии, оставляю в стороне
жалкую прозу всех родов (назвать такие писания «жалкими»—
все равно что сказать о них «бесчисленные»), там и сям
расцвеченную теми же украшениями; короче говоря,
поэтическая манера древних так общепринята и так известна,
особенно у нас, что даже слуху простого народа она не совсем
незнакома; но и у немцев, и у англичан, среди которых
романтическая манера распространена больше, чем у других,
наша манера, по-видимому, встречается из-за этого не
реже: ведь они читают и хвалят многие и многие поэтические
творения, написанные у них в давние времена на наш лад,
да и самих латинских и греческих поэтов знают, читают,
изучают, не выпускают из рук во всем мире, и особенно
у немцев и англичан; с этими авторами мы имеем дело с
детства, от них, можно сказать, мы узнаем, что такое стихи
и поэзия, с их примером сообразуемся, когда у нас в уме
впервые слагаются мысли о том, как следует писать стихи,
этих поэтов печатают во всех видах, толкуют на все лады,
переводят на все языки и наречия, их фразы, строки,
изречения, образы, описания и баснословные рассказы
приводятся, цитируются и вспоминаются ежедневно письменно
и устно, серьезно и шутя, намеком и прямо; позорно непро-
9 Этика и эстетика
257
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
честь их, не знать их назубок вплоть до мельчайших вы- \
мыслов, вплоть до множества отдельных выражений и сти- |
хов; словом, нет просвещенного народа, у которого грече- |
ские и латинские поэты не составляли бы главнейшей части \
поэзии, и потому я думаю, что нет и такого народа, у кото- \
рого поэтическая манера греков и римлян не была бы об- ;
щепринятой манерой, между тем как романтическая поэзия
(оставим в стороне то обстоятельство, что она считается \
новой, хотя бы отчасти или в том, что нагромождает неви- i
данные предметы) непривычна для слуха англичан и нем- ■
цев и кажется совершенно необыкновенной французам и \
особенно итальянцам, потому что французы, хотя, сдается,
и морщились на новое учение, все же некоторое время
назад приняли романтическую поэзию если не в ее край- ;
ностях, то, во всяком случае, в большей и основной ее
части. Так что же удивительного, если при таком положении
дел больше потрясает воображение новая и малознакомая
поэзия, нежели та, к которой все давно привыкли? Удиви- *
тельно ли, что в тело глубже проникает свинцовый наконеч-'
ник стрелы, если он нов и хорошо отточен, нежели
стальной, но старый и затупившийся от долгого употребления?
Пусть изумляется и возражает мне, ссылаясь на действие
романтической поэзии, тот, кто не знает свойств людского
воображения; я со своей стороны изумлялся бы, если бы
дело было иначе. Но зачем говорить о свойствах
воображения? Ничего не знает о делах человеческих тот, кому
невдомек, что привычка лишает силы и добро и зло, и
наслаждения и страдания духовные и телесные и едва не отнимает
у нас способность видеть и слышать все, что мы видим и
слышим постоянно, что, делая все привычным, время
являет одну из форм своего всеизменяющего и всеразрушаю-
щего действия.
Всем человек насыщается: сном и счастливой любовью,
Пением сладостным и восхитительной пляской невинной,—
говорит Гомер21, и действительно, как всякий знает и
проповедует, нет ничего столь прекрасного и сладостного, что
не наскучило бы нам за долгий срок: так и нашей
поэтической манерой, хотя и приятной и близкой к божественному,
но все же принадлежащей человеческому миру, можно, без
сомнения, пресытиться. Впрочем, если кто захочет
упрекнуть ее за это, пусть лучше упрекнет порядок вещей, то
есть в конце концов их творца. Нередко бывает, что чело-
258
Рассуждение итальянца о романтической поэзии
веку, которому надоело сладкое, доставляет удовольствие
горькое; но разве мы скажем поэтому, что горький вкус
приятен, что "он лучше сладкого, а сладкий сам по себе
нехорош? Но мы говорим не о пресыщении, мы говорим о
том, что сила нашей поэтической манеры и ее власть над
воображением и сердцем уменьшились до невероятной
степени по причине ее общеупотребительности; я говорю о
манере вообще, столь старой и столь распространенной, что
нет ничего удивительного, если над нею взяла верх другая
манера, новая и необычная, хотя во всем прочем
способность находить и создавать нечто новое исчезнет у поэтов,
придерживающихся этой старой поэтической манеры, то
есть подражающих природе, лишь с исчезновением самой
природы. Что до романтической поэзии, то, допустим, она
укоренится, распространится и станет — хотя на самом деле
это невозможно — такой же известной, избитой и
обыкновенной, как ныне наша поэзия: вот тогда-то будет видно,
на что она способна сама по себе, без помощи новизны,
когда весь набор фраз, описаний и всего прочего, что
теперь ново и кажется диковинным, а потому пробуждает
столько образов и столько чувств, сделается старым и
общеупотребительным и ничего больше не будет пробуждать;
тогда будет видно, насколько и приятностью и великой
силой своей поэзии романтики обязаны не существенным и
внутренним, но внешним и случайным ее свойствам; чтобы
это случилось, понадобится не так уж много времени, и не
будет нужды в столь долгом употреблении, как это было
с нашей поэзией, потому что свинец изнашивается скорее,
чем сталь, — и все же не дай бог, чтобы мои слова
подтвердились на деле и чтобы романтическая поэзия была
погублена долгим употреблением; если бы я верил, что
мое рассуждение дойдет до потомков (а я уверен в
обратном), то я предпочел бы, чтобы они сомневались в
истинности сказанного мною, нежели хвалили меня как пророка,
ибо лучше пусть многие сомневаются, чем все будут
извращены, и лучше целое столетие споров, чем полстолетия
варварства. Но коль скоро поэзия, как всё в этом мире, от
употребления хиреет, то какое противоядие придумает наш
век — век открытий и изобретений? Я думаю, для того,
чтобы она всегда сохраняла силу действия, которая
проистекает от новизны, нужно время от времени менять
манеру и — подобно тому как теперь взамен манеры древней,
годной лишь для педантов и не отвечающей нашему вре-
9*
259
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
мени, мы получили романтическую манеру, так и вместо
нее, едва только она хоть немного увянет, — надо ввести-]
какую-нибудь другую, а потом еще одну, и так снова и]
снова. Зачем нам искать вечную и неизменную красоту?]
Все, что не меняется, что пребывает вечно, не годится для
поэзии: ей нужно преходящее, обновляющееся и увядающее;]
пусть и у нее будут свои моды, пусть она станет легкомыс- \
ленной, лишь бы всегда оставалась сильной; пусть каждая ;
манера удерживается столько, сколько может удержаться I
мода; что же до славы поэтов, то тут пусть ничего не меня-1
ется: пусть она длится столько же, сколько длится теперь; '
я надеюсь, что люди научатся печатать рассылаемые по \
почте листки с образцами поэзии, которой предстоит войти \
в употребление, как теперь печатают модные листки с кар- ;
тинками. Это кажется вам шуткой, мои читатели, но вы
знаете и видите, как недалека эта шутка от действитель- \
ности. \
Но оставим эти ребяческие забавы. Новизна и необыч- ]
ность, благодаря которым романтическая поэзия доставляет ]
удовольствие и действует столь сильно,— это новизна и-
необычность не предметов, но самого подражания, которое ,
может быть необычным двояким образом: по своим
формам— в том случае, если поэт подражает каким-либо;
небывалым способом, и по предмету подражания — когда \
поэт подражает предмету или его части, которым
обыкновенно не подражают в поэзии. И заметьте, читатели, что
и необычность второго рода есть также необычность
подражания, а не сами! предметов: ведь я не говорил, что они
должны быть необычны, я сказал лишь, что они должны
редко избираться для подражания. Более того, кроме трех
обстоятельств, рассмотренных до сих пор, романтической
поэзии немало помогает и еще одно: ведь большая часть \
предметов, которым она подражает, близки нам всем и
каждый день стоят или проходят у нас перед глазами
(я имею в виду преимущественно все связанное с городом
и с обычаями наших дней). А ведь сила действия поэзии
особенно велика, если само подражание диковинно, а
предмет его зауряден. Я имею в виду, что подражание
диковинно или на один, или на другой лад из двух определенных
выше, или же в нем сочетаются оба. Это истина очевидная
и весьма примечательная, ее нетрудно было бы доказать
с несомненностью, если бы требовались какие-нибудь еще
доказательства, кроме собственного опыта каждого из нас;
260
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
из нее можно было бы сделать немало очень важных
заключений, касающихся поэзии, не педантических и не
романтических,— впрочем, эти два свойства не так уж
сильно противоречат друг другу и даже не так различаются,
как это кажется. Из этого легко понять, насколько
ухудшилось положение поэзии по сравнению с древними
временами — я разумею ту поэзию, которая, следуя своему
назначению, подражает природе, а не искусству и,
следовательно, остается по своей манере древней, а не
современной, коль скоро с течением времени искусство во
многих и многих вещах взяло верх над природой. Силу
действия этой поэзии древние должны были чувствовать и,
как мы знаем, чувствовали лучше, чем мы, потому что
тогда ей были неотъемлемо присущи оба неоценимых
преимущества— диковинность подражания и обычность его
предмета,— которые потом были ею постепенно утрачены.
Первое преимущество каждому очевидно: в ту пору, когда мало
поэтов пело и в настоящем и в прошлом, формы
подробного и обстоятельного подражания не могли в большинстве
своем не быть диковинными и новыми, а предметы или их
части, которым совсем еще не подражали или подражали
мало, имелись, несомненно, в изобилии; я не говорю уже
о том, что сама поэзия тогда была в диковину и потому
должна была действовать с особою силой. Все это в
соответствующей мере может быть отнесено и ко временам не
столь отдаленным, когда было уже немало поэтов, и
современных и живших раньше, но слух людей не был так
наполнен стихами, как наш. Второе преимущество также
разумеется само собою: ведь бесчисленное множество
вещей естественных и первобытных было для древних
привычно и знакомо, сначала в самой высокой степени, потом
несколько меньше, но всегда больше, чем нам; им было
привычно даже то, что теперь совсем исчезло из мира; и
так было не потому, что природа, которая не только
окружает нас ими и теснит со всех сторон, но и находится
внутри нас, живая и громогласная, может вдруг стать
необычайной для человека, а лишь потому, что покров
цивилизации, скрывающий многие части природы пусть не от
нашей души и не от нашей тоски, но от глаз наших, был не
столь широк и не столь плотен, а некоторое время и совсем
мал и прозрачен и прятал от древних куда меньше, чем от
нас. Простой народ и земледельцы не слушают больше
поэта, как слушали встарь или, вернее, видели его, с любовью
261
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
изображавшего те предметы, что ежедневно были у них
перед глазами, и те дела, которыми они занимались всякий
день; погибли первобытные или близкие к ним обычаи, и
не только они, но и весьма далекие от них и все же
сохранявшие прекраснейший оттенок естественности (я разумею
обычаи греков, например, в век Перикла, или те, какие
были, у римлян во времена Суллы, и Цезаря, и Августа, и
другие, подобные этим) равным образом устарели и
отошли в прошлое; а это, хотя и способствует чувству
удивления и множеству иллюзий, наносит ущерб наглядности
поэзии и обычно свойственной ей силе действия. Все это
романтики, у которых подражание столь необычно, а
предметы его по большей части так обыкновенны и которые
провозглашают, что поэт обязан подражать вещам
современным и находящимся рядом, без сомнения, не только
обдумали, но и досконально изучили и сделали основным
правилом собственной поэзии. О, как бы не так! На самом
деле они с огнем ищут, как я уже сказал раньше, всего
самого странного, что только можно себе вообразить, будь
то просто необычайные по своей природе причуды, будь то
всякого рода крайности, особенно жесточайшие злодеяния,
адские сердца и души, убийства, разрушения, ужасы, и
преизбыток всякой чертовщины, и другие выдумки,
достойные отъявленных вралей; будь то предметы чужеземные,
невиданные и необыкновенные в Европе или у того народа,
для которого каждый из романтиков пишет, либо по
крайней мере незн/акомые большинству их читателей; будь то
также чужеземные обычаи, истории, сказки или
иносказания, неслыханные и сами по себе непонятные для нас, а в
их стихах совсем загадочные; будь то, наконец, вещи хоть
и близкие и здешние, но редкие и мало известные, а то и
вовсе неизвестные большинству, как, например, животные,
болезни, фабрики, работы, орудия, здания необычайной
постройки, которых многие не видели и о которых даже не
слышали или видели и слышали очень редко, а также
события, случающиеся не часто, и прочее в таком же роде;
одним словом, кто не знает, что они требуют современного
и обычного, даже избитого, тому покажется, да и на самом
деле кажется на первый взгляд, будто они ищут в
предметах не то что привычного, а, наоборот, странного, и
странного не только для поэзии (то есть таких предметов,
которым она не привыкла подражать), но и вообще,
безотносительно ко всему, или странного для наших краев; а если
262
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
бывает, что они подражают обыкновенным предметам, то
это не намеренно, а случайно, потому что и среди этих
предметов могут быть такие, которым не часто подражала
поэзия. Отчасти этой любовью к необычайному и
объясняется их стремление впрок запасти вещи низкие,
непристойные, гнусные и мерзостные, которые ничуть не редкостны
ни сами по себе, ни для наших краев, и необыкновенны
лишь для поэзии, потому что доныне поэты были
лебедями, а не воронами и не слетались на падаль; романтики
же, видя, что эта падаль нетронута и потому способна
произвести сильное действие, охотно садятся на нее, и
вонзают в нее клювы и когти, и сами как бы окунаются в нее.
Равным образом этой же нежной любовью объясняется
если не целиком, то отчасти явная склонность к страшному
или, если вам угодно, к ужасающему, которая заставляет
их, отвергающих, как я уже сказал, всякую ребяческую
идею, принимать и даже с особенным тщанием собирать
вместе с другими чудовищными идеями преимущественно
самые страшные. Но я не хочу начинать разговор об этой
склонности, потому что тут потребовались бы долгие
рассуждения, и возвращаюсь к предметам необычайным
безотносительно ко всему и к предметам необычайным для
наших краев. Вы видите, читатели, что новая школа
чувствует себя раздольно в том, что они называют
«психологией» и в чем мнят себя и ежечасно провозглашают
знатоками и королями, а нас невеждами. Потому что ведь ясно—
разве вы не согласны с этим? — если даже кто не видал
никогда какого-нибудь предмета или видел его один-два
раза в жизни и не имеет понятия о том, как он устроен, все
равно, стоит поэту сказать о нем несколько слов, и его
образ, отчетливый и полный, тотчас возникнет в фантазии
такого читателя. Само собой разумеется, кто не видал даже
на картинке жирафа, тюленя, альбатроса, пальму, мечеть
и тому подобное или видел только какое-нибудь
изображение, ни единая черта которого не запечатлелась в его
фантазии, тот, прочитав четыре строчки романтического поэта,
сейчас же подумает, будто видит их воочию. Обыкновенно
поэт не живописует и не может живописать фигуру
целиком,— он только несколькими ударами кисти изображает,
чаще лишь намеком, какую-нибудь ее часть или же
намечает ее очертания и несколько отдельных черт — и больше
ничего; воображение, если предмет ему знаком, должным
образом восполняет недостающие части и добавляет крас-
263
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ки, тени и свет, завершая фигуру. Таким же образом, когда
мы видим куски предметов, которые художник изображает
либо на краю картины, либо желая показать, будто
остальная их часть загорожена от взгляда другим предметом, мы
все, — подобно тому как, видя изображение человека
сзади, спереди или в профиль, мы тотчас же воображаем себе
весь его облик, — тут тоже правильно и как должно
воссоздаем воображением всю фигуру целиком, если только
предмет нам известен и мы знаем, как устроена невидимая
нам часть, и предполагаем, что она имеется в наличии.
Так же, когда мы видим человеческое лицо, нарисованное
или выгравированное в черно-белом или просто
намеченное одними линиями, наше воображение добавляет
естественные цвета, а если нужно, то и свет и тени. Но если
мы не знаем предметов, которым подражает поэт, а он
показывает нам только какие-либо их части или очертания,
тогда непременно должно случиться одно из трех: либо
наша фантазия, увидев по своему обыкновению ясно и
отчетливо показанные поэтом части, ничего к ним не
прибавит и, конечно, получит великое наслаждение от вида
головы, или ее половины, или хвоста, или кусков чужеземных,
неведомых ей орудий и ремесленных снарядов, чудом
висящих в воздухе (но такого быть не может, потому что мы,
увидев, „например, написанную на холсте голову, не
воображаем ее себе отделенной от плеч, если только художник,
даже не сделав вида, будто он скрыл тело, не очертил и
не завершил ее таким образом, что она кажется
совершенно отдельной и самостоятельной, и мы не можем
предположить, что невидимое нам хоть и спрятано от взгляда,
но существует, а знаем до конца, что там нет ничего, кроме
явного для глаз); либо фантазия прибавит недостающее
наудачу или по своему произволу и создает гиппогрифов,
козлооленей и другие химерические помеси, извлекая
столько наслаждения, сколько может доставить нам
чудовищное; либо она не увидит и не добавит ничего, а если и
увидит, то добавленное останется темным и смутным, словно
художник показал нам только рога или лапы неведомого
зверя или набросал его очертания; именно это третье и
происходит действительно. Но допустим, поэт нарисует и
расцветит всю фигуру целиком во всех подробностях^ (чего
он почти никогда не может сделать), — разве ему, когда
предмет нам неизвестен, легко будет с наглядностью
представить нашему воображению даже те части, которые он в
264
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
силах изобразить, разве не будет это для него почти
невозможно, когда предмет имеет мало общего со всеми
известными нам или когда наше воображение, желая представить
себе как должно некие его части и свойства, не сможет
призвать на помощь никаких знакомых предметов? Разве
это возможно, если так редко может дать нам истинное
представление о неведомых предметах даже тот, кто,
описывая их словами, жестикулирует, изображает описываемое
действиями и движениями и изо всех сил старается
подкрепить свой рассказ хоть чем-то видимым? И могут ли
дать нам представление о таких предметах самые
дотошные писатели на многих страницах прозы, если не
положат наконец у нас перед глазами хоть какое-нибудь их
изображение? Вот вам и сила действия этой необычности,
вот вам и великие «психологические» познания новой
школы! Ведь она, зная, как сильна в поэзии новизна и диковин-
ность, не в силах различить, принадлежат ли эти качества
подражанию или его предметам, которым лучше быть
обыкновенными. Я не говорю здесь о чудесном, которое,
как мне самому отлично известно, требует вещей
необычайных, и не собираюсь говорить о том, каковы они должны
быть; я говорю только о поэзии вообще, о сравнениях, о
тропах и фигурах, об общеупотребительных образах, о
поэтическом словаре из романтических амбаров, где мне
неведомо, запасены ли какие-нибудь предметы, кроме
частью общеизвестных, но до сих пор отвергаемых или не
любимых поэзией, частью же странных и необычайных.
Правда, мы тоже требуем или, вернее, условия времени
требуют от поэта подражания многим предметам, ныне не
столь уж обычным, — я разумею предметы первобытные, но
они не могут быть странными ни для кого, кроме разве тех,
кому кажется странной сама природа; в каждом из нас
есть как бы их семена, и представление о них если и не
ясное, то хотя бы смутное, и естественная и врожденная
склонность к ним; все мы были детьми, были подлинно
причастны первозданному миру, были подданными
первозданной природы; не прекратилась еще в мире сельская
жизнь и не прекратится никогда, потому что вместе с нею
прекратилась бы и жизнь городская,— нет, она по
необходимости распространена по всей земле, почти что перед
глазами цивилизованных людей, и сохраняет немалую часть
тех обычаев, которые исчезли в городе; вряд ли можно
считать первобытное не общеизвестным, хотя при этом мы не
265
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА |
отрицаем, что тут положение у наших поэтов хуже, чем у
древних, мы признаем и называем гибельным уроном для
поэзии исчезновение многих предметов, наиболее
подходящих для поэтического подражания, из круга
повседневности, мы утверждаем, что поэт должен обращать больше
внимания на все нынешнее и близкое, что теперь ему нужно
куда больше искусства, чем прежде. И романтики,
которые осуждают как далекие те вещи, которые, как бы ни
были они в действительности далеки, всегда близки нашему
воображению и нашей тоске, романтики, не вынуждаемые
к тому ни необходимостью, ни характером своей поэзии,
ни условиями времени, идут, и не по случайной прихоти,
а с неизменным и твердым намерением, на любые труды и
уловки, лишь бы найти вещи самые отдаленные и странные
(что, можно считать, одно и то же, если только не одно
хуже другого); и не допуская, чтобы поэзия брала свои
предметы из нашей древности, сами берут их в Азии, в
Африке и в Америке; и требуя, чтобы никто не пел на
стародедовский лад, сами они поют на лад антиподов (я уж
не говорю о том, что воспевают они не только нынешние,
но и древнейшие времена этих антиподов), а потом
похваляются, что и Азия, и Африка, и Америка, и весь мир —
данники их стихов, и упрекают и порицают наших поэтов
за то, что те якобы пишут для немногих, между тем как
большая часть их собственных стихов может произвести
свое действие разве что на человека, повидавшего весь мир,
да и этого было бы мало, потому что и ему не могут быть
близки и знакомы предметы всего мира. Одним словом,
противоречия и еще раз противоречия, заблуждения,
нелепости, причуды, ребячество — вместо чистоты, вместо
подлинности, и нагромождение, хаос, мудрствования, бред
чудовищный и смехотворный, — вот что предлагают тебе,
моя отчизна, не твои враги и не иноземцы, а твои сыны!
Кто-нибудь скажет мне: разве ты сам не утверждал
немного раньше, что романтическая поэзия действует весьма
сильно? Да, я говорил так, но лишь о той части
романтической поэзии, которая подражает обычным, ничуть не
странным предметам; она действует на всех, даже на людей
с хорошим вкусом, пусть и не иначе, чем действует
зловоние на каждого, у кого есть обоняние, и больше всего
на тех, у кого оно тонкое. Я не отрицал также, что
действует и та часть романтической поэзии, которая подражает
необычайным предметам, но действует она лишь на людей
266
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
с тупым, неповоротливым воображением, для которых
нужны или самые близкие, или самые далекие предметы; и
дело тут не в том, что они лучше видят воплощенные поэтом
образы последних, — нет, они видят их несравненно более
туманно и расплывчато, чем другие люди различают
образы не слишком близких и не слишком далеких предметов;
но такие образы им вообще не удается увидеть, потому что
те или не приспособлены к лености их воображения, ибо
не представляют ему вещи, среди которых эти люди
вращаются ежедневно, или не могут одолеть эту леность
резким ударом новизны, необычайности, удивления. Такие
люди, выбирая между малым и ничем, наверняка отдадут
свой выбор малому, изумленные тем, что поэзия наконец
заставила их увидеть хоть что-то; и поскольку им кажется
очень большим то, что для других ничтожно, они
романтиков, заставляющих их видеть мало и плохо, предпочтут
нашим поэтам, позволяющим видеть много и хорошо, да
только не их воображению. Таким лишь образом причуды
романтической поэзии, как я сказал, действуют на них, и
то не сами по себе, а только по сравнению с нашей поэзией.
Но кто не знает, как просто, с каким малым трудом и
талантом можно произвести такое действие? Кому не
известно, что оно легче достигается подражанием необычайному,
нежели обычному? Что во всех изящных искусствах
гораздо легче подражать исключительному, чем заурядному?
Я не говорю о том случае, когда не подражают, а
измышляют, не говорю о том, что любому живописцу, ваятелю или
другому художнику проще придумать из головы и
изобразить самого уродливого беса, чем сделать портрет мало-
мальски красивого человека, что, поставив себе цель
подражать какому-нибудь предмету, легче воспроизвести его
лучшим, чем он есть, нежели таким, как есть, и совсем
легко воспроизвести его худшим. Мне стыдно, что я пишу
вещи, известные в наши дни не только вам, мои читатели,
но и чуть ли не детям, стыдно, что я делал это в
настоящем рассуждении уже не раз и, верно, буду делать впредь;
но я думаю, если мне приходится напоминать
общеизвестные вещи, то вина тут не моя, а тех, кто, по-видимому, их не
знает. Конечно, если бы вы, итальянцы, полагали, что
тупых людей, о каких мы говорили, много среди вас, что они
достойны поэзии, если бы вы думали, что поэт должен
петь для тех, кого природа сделала глухим к его песням,
если бы вы не считали, что не поэзия должна загнивать
267
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ради них, а им нужно оставить в покое поэзию и заняться
тем, к чему они более способны, потому что в этом мире
можно прожить и без поэзии, короче говоря, если бы по
какому-нибудь резону или по прихоти вам угодно было бы
пойти вслед за немецкими и английскими поэтами, вам все
равно не хватило бы ни сил, ни охоты описывать глухие,
пустынные места, благоприятствующие убийствам, трупы
четвертованных разбойников, дымящиеся, сочащиеся
кровью и гноем, висящие на окровавленных деревьях,
оторванные руки и ноги с клочьями спины и живота,
окаймленными бахромой из лоскутьев мяса; изображать
отчаявшихся и вопящих злодеев, как они бросаются со скал, до
вершины которых не достигает взгляд, и замечать размож-
женный череп, брызнувший во все стороны мозг, разбитое
и изодранное тело с вывалившимися из разорванной
утробы внутренностями, погруженное в лужу черной
клокочущей крови; вводить в темные комнаты, едва озаренные
бледным и робким отблеском света, всхлипывающие или
потрясающие цепями скелеты, которые склоняются над
ложем и прижимаются желтым, покрытым потом лицом к
лицу живого человека, лежащего не дыша и молча,
окаменевшего от ужаса. Но впрочем, и вы могли бы играючи
делать вещи такого рода, и если вы отказываетесь сочинять
подобные вирши и рукоплескать тому, кто их сочиняет,
если вы, соотечественники первых поэтов мира,
возрожденного к наукам и искусствам, не полагаете своей славы в
том, чтобы идти по стопам английских и немецких
стихотворцев, если вам становится тошно, если вы негодуете
вместе со мною, если вы едва удерживаетесь от того,
чтобы вырвать эту страницу, где я лишь набросал все, что
вам пришлось бы живописать, — значит, вы не считаете
достойным поэзии непристойное даже в прозе или в
повседневном разговоре; значит, вы, не столь изнеженные и не
столь полные предрассудков в сохранении достоинства и
прелести ваших писаний, как соседний с вами народ,
который пугается свойств слов и предметов, избегает сильного
воздействия, осуждает всякую благородную смелость и так
делает хилой и неестественной чуть ли не всю поэзию, чуть
ли не всю словесность вообще, — вы все же не стали падки
до низменного, до постыдного, до гнусного, до гнили,
ужасов и чудовищ, не вообразили себе, будто предмет поэзии,
которым многие считают прекрасное, есть главным образом
безобразное; значит, вы действительно потомки римлян и
268
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
ученики греков, а не варваров, действительно итальянцы,
а не немцы и не англичане. Признаюсь, что, чем больше я
всматриваюсь в наставления новой школы и в их плоды,
тем более ничтожным и заслуживающим презрения
кажется мне то, что прежде казалось примечательным, тем
меньше во мне страха, что эта язва может укорениться~ у нас
в Италии, тем больше мне хочется смеяться, как я привык
до сих пор, вместо того чтобы рассуждать о ней, тем
больше я признаю и хвалю разум тех почтенных литераторов,
которые, несмотря на то, что их молчание должно было
прибавить новым сектантам спеси, и дерзости, и
уверенности в победе, сочли, что те могут одержать над ними
только одну победу, а именно заставить их взяться за
оружие.
Но повторим вкратце то, что до сих пор излагали
пространно. Мы видели, как заблуждаются те, кто, отрицая
возможность одновременного существования поэтических
иллюзий и современных наук, не принимает в расчет, что
поэты уже с отдаленнейших времен обманывают не
рассудок, но воображение людей, которое они и ныне могут при
соблюдении правдоподобия и других необходимых условий
обманывать как хотят; поэтому им следует выбирать те
иллюзии, которые скорее ведут к наслаждению,
проистекающему из подражания природе, что и составляет
истинную цель поэзии; но если природа не изменилась против
того, чем была в древние времена, и даже не может
измениться, то, значит, и поэзия как подражательница природы
должна оставаться неизменной, и наша поэзия в самых
существенных своих чертах не может отличаться от древней,
особенно если иметь в виду, что природа, не изменившись,
не утратила неиссякаемой божественной способности
доставлять наслаждение всякому, кто созерцает ее глазами
естественного, то есть первобытного наблюдателя, а к
этому состоянию нас возвращает поэт — творец иллюзий; в
этом-то состоянии в нас особенно заметна и сильна тоска
по таким наслаждениям и склонность ко всему
первобытному, и поэзия не может доставить нам других истинных,
чистых, высоких и сильных наслаждений, а если романтики
и доставляют удовольствие, то мы видели, по каким
причинам это происходит, и убедились, насколько эти чуждые
поэзии удовольствия ничтожны и пусты по сравнению с
теми, какие доставляют и могут доставить наши поэты.
Из всего этого, а также из остального сказанного не-
269
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
трудно понять, что поэзия, рождавшаяся у древних как бы 1
сама собой, была для них несравненно легче, чем для лю- 1
бого стихотворца в наши дни, и что в нынешние времена ]
желающему в поэзии подражать девственной первобытной \
природе и говорить языком природы (я пишу это, скорбя ]
о нашем нынешнем состоянии и презирая смех романтиков)
нельзя обойтись без долгого и глубокого изучения древних
поэтов. Вот почему поэту теперь недостаточно уметь
подражать природе, ему нужно уметь еще и находить ее; а для ]
этого не только напрягать зрение, дабы заметить все, что ]
привычка мешает нам видеть, хотя оно постоянно у нас J
перед глазами, — такова всегда была обязанность поэта,— ]
но и устранять заслоняющие ее предметы, обнаруживать ее, -
выкапывать, извлекать на свет, очищая от грязи дивили- ]
зации и людской испорченности те небесные образцы, ко- i
торым он намерен подражать. Кто освобождает наше вооб- ,J
ражение от ига рассудка, от бремени враждебных естеству -
идей, кто возвращает его в первобытное или близкое к пер- ;
вобытному состояние, делает вновь способным чувствовать :
неземные наслаждения, доставляемые природой? Поэт. Но •
кто или что сделает все это для него самого? Природа? Без \
сомнения, но только в целом, а не в частностях, не с са- ;
мого начала; иначе говоря, мне трудно поверить, что в \
нынешние времена кто-нибудь может воспринять язык
природы и стать истиным поэтом без помощи тех, кто
повседневно видел природу неприкрытой и слышал ее речи и ]
кому, следовательно, для того чтобы стать поэтами, не i
было нужды ни в чьей помощи. Но мы, чей слух полон ;
иными голосами, мы, свидетели нравов, далеких от при- '
роды или противных природе, сами причастные этим
нравам, теперь, когда столь многое в природе затемнено,
задернуто покровом, спрятано, подавлено и задушено, когда
извращенность укоренилась не только в других, но и в нас
самих, когда мы что ни день видим, слышим, говорим и
делаем вещи неестественные, — как можем мы вновь обрести \
естественность речи в поэзии, если не через непрестанное ;
обращение к древним, как сможем мы опять увидеть в при- i
роде скрытое от нас, но явное древним, от многого отвык- \
нуть и многое забыть, но зато узнать и вспомнить много «
другого и ко многому другому привыкнуть, одним словом, -
как нам увидеть и глубоко постигнуть в цивилизованном
мире первобытный мир, в, мире, далеком от природы,—
природу? И при таком забвении всего естественного — где,
270
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
если не у древних, взять нам пробный камень, который
укажет нам согласное с природой и обличит противное ей?
Быть может, им будет сама природа? Но как сумеем мы
увидеть ее, и правильно понять, если именно в этом мы и
сомневаемся? Или талант и дарование? Я не отрицаю, что
в нас могут быть талант и дарование, словно нарочно
созданные для изящных искусств и столь счастливые, столь
необыкновенные, столь божественные, что они сами но себе
будут обращаться к природе, как стрелка компаса к
Полярной звезде, и ничто — ни цивилизация, ни всеобщая порча,
никакая сила, никакая преграда — не помешает им
обнаруживать природу там, где она есть, и такой, какая она есть,
увидеть и услышать ее, и насладиться ею, и созерцать ее;
не отрицаю, что они самостоятельно могут различить
истинные свойства и воздействия природы и тщательно
отделить их от множества других свойств и воздействий,
которые теперь либо связаны и перемешаны с первыми до
неотличимости, либо кажутся по другим причинам почти что
естественными или просто естественными; одним словом,
я не отрицаю, что им без помощи древних удастся
подражать природе, как подражали ей древние. Я не спорю, что
это возможно, я только не согласен, что это доказуемо,
и утверждаю следующее: помощь древних так велика, так
полезна, так необходима, что едва ли кто-нибудь может
обойтись без нее, и никто не должен думать заранее, будто
сможет обойтись. Никогда не иссякнет в нас любовь к
природе и тоска по первобытному, никогда не исчезнут
люди, чье сердце и воображение готовы повиноваться
внушению истинного поэта, но способность подражать природе,
возбуждать и укреплять в людях эту любовь, утолять эту
тоску, будить в сердце и в воображении чувство подлинной
небесной отрады угаснет в поэтах и угасает уже с давних
пор. Я не хочу оплакивать здесь наш век и говорить,
насколько он жалок, хотя иначе и не может быть как по
упомянутой мною причине, так и по многим другим; я не хочу
также ничего предрекать о временах, которые сами увидят
то, что опыт прошлого и настоящего обнаружил, к
сожалению, с полной ясностью: всякий превосходный поэт
будет непременно походить на Вергилия или на Тассо, — не
на них именно, но вообще, — и едва ли можно верить, что
родится новый Гомер, или новый Анакреонт, или Пиндар,
или Данте, или Петрарка, или Ариосто.
Но по доброй воле опуская эти горестные предсказания
271
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
и моля бога о том, чтобы они оказались лживыми, я все Я
же не премину предостеречь романтиков и сказать им, что-Я
бы они отныне воздержались от своих пустых, устарелых Я
и нелепых разглагольствований против обращения к грече-я
ским сказаниям. Я умолчу здесь о восточных и северных Я
сказаниях, обо всех их прелестях и красотах, и не стану Я
ссылаться на нечестье и злодейства, которые стали не слу- Я
чайным, но главным предметом поэзии тех, кто не может, Я
не бледнея'и не содрогаясь, вспомнить о преступлениях, Я
прославленных в сказаниях древних. Не стоит больше отме- Я
чать противоречия в учении новой секты. Позволим роман- Я
тикам быть непоследовательными и противоречивыми во Я
мнениях, словах и поступках: это не прощается маленьким Я
людям, но они-то — великие поэты и философы. Но пусть Я
они знают, что мы, когда доказываем в споре, что совре- Я
менная поэзия не может и не должна отклоняться от древ- Я
ней, отстаиваем не обращение к языческим сказаниям и не Я
злоупотребление ими. Мы хотим, чтобы у современной 1
поэзии и у поэзии всех времен было общим с поэзией гре- Я
ков и римлян все естественное, универсальное, вечное, а не Я
преходящее, не произвольные людские вымыслы, не веро- Я
вания или обычаи, свойственные тому или другому наро- Я
ду, не особые черты и формы, присущие тому или другому Я
поэту; греческие же сказания суть произвольные измышле- Я
ния, по большей части прекрасные, сладостные и изыскан- Я
ные, созданные на основе природы, как я, быть может, по- Я
кажу в дальнейшем, но созданные не нами, а другими, со- Я
зданные, как я уже сказал, на основе природы, но не при- Я
родою; поэтому они не наше общее с древними достояние, Я
а собственность древних; мы не должны присваивать себе Я
плодов чужого воображения, если не сделаем их каким-то Я
образом нашими или не станем пользоваться ими с умерен- Я
ностью как самыми поэтическими, известными каждому, Я
весьма употребительными у поэтов, с восхищением читае- Я
мых во всем мире, как источником обогащения поэтическо- Я
го слова, как способствующими живости и возвышенности 1
речи, вообще как основанием наших собственных вымыс- Я
лов, то есть не будем обращаться к религии древних как Я
к помощнице фантазии, дружественной нашим чувствам и, Я
как сама поэзия, более близкой к природе, нежели к рас- Я
судку. Поэтому не только злоупотребление греческими ска- Я
заниями, не только все непристойное и грубое в них, но 1
и чрезмерное или даже просто неумеренное обращение к Я
272
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
ним порицается, отвергается и возбраняется каждым из
наших, в ком есть ум и знание, потому что мы хотим,
чтобы поэт подражал не другому поэту, а природе, и не хотим,
чтобы он выпрашивал у других и сшивал лоскутья чужого
платья; мы хотим, чтобы поэт был поэтом, чтобы он думал,
и воображал, и измышлял, чтобы он воспламенялся, чтобы
его дух был божествен, а чувства пылки, сильны и
величавы, мы хотим, чтобы поэты настоящего, прошлого и
будущего были схожи между собой, поскольку они не могут не
быть подражателями одной-единственной природе, и не
похожи друг на друга, как это подобает подражателям
природе, бесконечно разнообразной и богатой. Слепое и
угодливое следование правилам и наставлениям,
бескровное и мудрствующее подражание, словом, рабство и леность
поэта — разве этого мы требуем? Разве это видят и этим
восхищаются у Данте, у Петрарки, у Ариосто, у Тассо, о
которых тысячи раз было сказано (особенно о первых
трех), что они и похожи на древних и не похожи на них?
Каков нынешний век? По какому поводу поднимается
теперь крик и шум? Где враги? Кто восхваляет сейчас «Со-
фонисбу» Триссино22, потому что она построена по
Аристотелевым правилам и по образцу греческих трагиков? Кто
читает «Авархиду» Аламанни23, потому что она есть
верный слепок «Илиады»? Не по наущению романтиков
проложил себе новый путь Парини, а Метастазио и Альфьери
стали не похожи на Ручеллаи24, Сперони25, Джиральди26
или Гравину, Монти27 же не подражал Данте, а
соперничал с ним. Пусть новейшие философы знают, что нынче
нападать на педантизм есть род истинного педантизма, что
теперь педантов больше нет, а если какие и остались, те
не могут ничего сделать, и донимать их бесполезно, потому
что им самим это не принесет пользы, а к другим не
относится,— и значит, теперь голоса и насмешки людей мудрых
обратятся против преемников этих педантов, то есть против
романтиков, не ради их пользы (это невозможно), но ради
других, хотя особой нужды в такой заботе и нет. Пусть
они знают, что педантизм, смотря по обожествляемому им
предмету, может быть не только греческим, латинским или
итальянским, но и — каким он оказывается сейчас в
действительности — английским, немецким, европейским или
всемирным; что слепо отвергать какого-нибудь писателя и
слепо обожать его есть одинаковый педантизм; что куда
более безумно и несносно презирать замечательного пи-
273
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
сателя, почитаемого во всем мире, нежели поклоняться
ему; пусть им будет стыдно хвалить всякого, кто, говоря
о поэзии, цитирует Шлегеля, Лессинга, мадам де Сталь28,
и порицать того, кто цитирует Аристотеля, Горация, Квин-
тилиана29; пусть они имеют в виду, что если люди смеются
вместе с ними над всякими «амплификациями»,
«просопопеями», «метонимиями», «протасисами» и «эпитасисами»,
то неизвестно еще, нельзя ли посмеяться над «аналогиями
между...», над «идеями», «гармонирующими» между собою,
и «идеями дисгармоническими», или «симпатическими».
Впрочем, кому охота идти назад и считать в книгах
романтиков все педантические и смешные слова, обороты и
утверждения? Ведь нет сомнения, что опровергать их —
ничуть не менее обширная задача, чем высмеивать. Но
оставим эти нелепости. Вопрос о том, должен ли и может ли
поэт уступать верованьям и обычаям своего времени,
нуждается в рассмотрении других философов и в изъяснении
других поэтов, нежели романтики или я сам. Потому я и
не буду об этом высказываться. Довольно того немногого,
что было сказано об изучении древних; я не отрицаю, но
даже признаюсь и по доброй воле подтверждаю, что этот
обширный и весьма важный предмет я оставил почти
незатронутым, и не случайно, а намеренно, не желая, чтобы
мое рассуждение превратилось в целую книгу.
Но романтики, и среди них кавалер ди Бреме, сильно
упирают на то, что кавалер именует «патетическим»,
справедливо отличая его от печального и скорбного и даже от
меланхолического, хотя в этом патетическом всегда и
повсюду есть оттенок меланхолии. Кавалер утверждает, что
оно состоит «в глубине и обширности чувства», и дает ему
такое описание, из которого нетрудно понять, что, в
сущности, именем «патетического» он хочет обозначить обычно
называемое словом «чувствительное», ничуть не
устаревшим по времени и очень древним по употреблению (ибо
оно применялось всегда и применяется в наши дни). И по-
сколько кавалеру кажется, что в той части поэзии, которую
мы привыкли обозначать этим словом, безраздельно
господствуют романтики, потому ли, что она им принадлежит,
или потому, что они намного превосходят в ней других
поэтов, постольку он не колеблется противопоставить
романтических поэтов нашим и особенно древним. Я докажу
позже, что вышеназванная часть поэзии есть действительно
часть ее, а не вся или почти вся поэзия, как думают роман-
274
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
тики, хотя такое мнение весьма удивительно для
обладающих рассудком и невероятно для называющих себя
«философами». Я хорошо понимаю, что здесь некоторым
образом находится средоточие вражеских сил, и знаю, что, по
мненью многих, романтические поэты тем и отличаются от
наших, что первые обращаются к чувствам, вторые — к
воображению; я знаю, как обширен, и запутан, и, если вам
угодно, важен этот предмет, однако же, — и потому, что я
тем меньше могу считать себя способным поднять его, чем
он весомее, и потому что, по-моему, сказанное должно
было немало поубавить сил в этом их средоточии, и
потому, что до сих пор я говорил пространнее, чем
намеревался,— я лишь коснусь этой темы, и если предыдущие
рассуждения были длиннее, то это будет короче, чем мне
хотелось бы.
Во-первых, если кавалер говорит, что «отличительное
свойство патетического состоит в том, что оно пользуется
любым внешним обстоятельством как поводом проникнуть
в самую глибину того нравственного чувства, которое
гармонически соответствует первоначальному ощущению», и
если, с другой стороны, поэт есть, без сомнения,
подражатель природы, то я вправе спросить, природа ли
пробуждает в нас эти душевные движения или как мы там их еще
назовем. Мне ответят, что пробуждает во множестве и
весьма живые. Я снова задам вопрос: пробуждает ли их
природа лишь собственной силой, которой помогают только
душевные склонности и качества каждого? И в старину, когда
названная помощь была ничтожна, разве природа не
производила того действия, о каком мы говорим, хотя и была
такой же точно, как теперь, и обладала тою же силой, что
теперь? Мне ответят, что производила. Но что же делали
древние поэты? Они подражали природе, и подражали так,
словно и не подражали, а просто переносили ее в свои
стихи таким образом, что никто или почти никто из поэтов
не мог воспроизвести ее с равной живостью, и мы, читая,
видим и слышим все, что было предметом их подражания,
за что их до сих пор помнят и с восхищением прославляют
по всей земле. Почему же, если на наши души оказывает
такое действие подлинная природа, она не должна
оказывать его, воспроизведенная своими подражателями, и
особенно так, как я говорил? Наоборот, всякому ясно, что
подлинные предметы природы, особенно хорошо всем
знакомые, обыкновенно действуют на нашу мысль и наше
275
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
воображение далеко не так сильно, как будучи
воспроизведенными в подражании, потому что если мы, видя и
воспринимая целый предмет либо отдельные его части
обычным образом, то есть в действительности, обращаем на них
мало внимания или совсем их не замечаем, то, увидев и
восприняв его необычным, удивительным образом, то есть
в подражании, мы обращаем на него весьма большое и
даже чрезвычайное внимание. Но даже оставив в стороне
силу действия самих предметов, следует прибавить, что
человек, читающий стихи, лучше, чем когда-либо,
расположен воспринять это действие. Так неужели природа, и
ныне неизменная со времен Гомера, породит в нас своею
силой те впечатления и чувства, которые мы замечаем и
испытываем, и та же природа, перенесенная в стихи Гомера
и получившая помощь от подражания — подражания,
равного которому нет в мире, — не окажет своего действия?
Я называю Гомера прежде всякого другого поэта отчасти
и потому, что он — как бы вторая природа, как по обилию
и разнообразию предметов, так и по их свойствам, отчасти
потому, что он считается одним из наименее
чувствительных среди читаемых ныне поэтов. Но разве
безоблачная и ясная молчаливая ночь, озаренная луной, не есть
чувствительное зрелище? Без сомнения, чувствительное!
Так прочтите же это Гомерово сравнение30:
Словно как на небе около месяца ясного сонмом
Кажутся звезды прекрасные, ежели воздух безветрен;
Все кругом открывается — холмы, высокие горы,
Долы; небесный эфир разверзается весь беспредельный;
Видны все звезды; и пастырь, дивуясь, душой веселится.
А разве не будет чувствительной картина ночного
плаванья под парусами невдалеке от берегов? Взгляните же,
читатели, на эти строки Вергилия31:
Ветер в ночи понес корабли, и луна благосклонно
Свет белоснежный лила и дробилась, в зыбях отражаясь.
Плыл вдоль берега флот, минуя царство Цирцеи,
Где меж дремучих лесов распевает денно и нощно
Солнца могучая дочь и, в ночную темную пору,
В пышном дворце, засветив душистый факел кедровый,
Звонкий проводит челнок сквозь основу ткани воздушной.
С берега львиный рык долетает гневный: ярятся
Звери и рвутся с цепей, оглашая безмолвную полночь *.
* У Леопарди здесь и далее стихи Вергилия приводятся в латинском
оригинале. Переводы их цитируются по изд.: Вергилий. Буколики. Георгики.
Энеида. М., 1971. «Энеида» —в нашем переводе, «Георгики» —в переводе С. Шер*
винского. (Примеч. перев.)
276
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
Что вы на это скажете? Разве эти вещи, чувствительные
в самой природе, не остаются такими же или не становятся
еще более чувствительными в подобных подражаниях? Как
же можно сказать, что древние поэты чужды
чувствительности, если чувствительна сама природа, а они подражают
природе и чуть ли не повторяют ее?
Но я знаю, для романтиков все это ничего не значит;
они хотят, чтобы поэт все выбирал, измышлял, строил,
сочетал и располагал преднамеренно, ради впечатления
чувствительности, чтобы в его произведениях не только
предмет, но и сама манера была «сентиментальной», чтобы он
подготовлял души читателей и настраивал их на
чувствительный лад, чтобы он пробуждал в них чувствительность
обдуманно и без помощи извне, короче говоря, чтобы поэт
был чувствителен сознательно и по собственному
произволу, а не почти случайно, как то было у древних, и чтобы
в стихах оттенок чувствительности был отчетливым, явным
и глубоким. Я не буду говорить об этом сентиментальном
и патетическом известное всем: что ничего подобного не
отыщешь или отыщешь лишь изредка не только у
варваров, но и у наших сельских жителей; что самым
сентиментальным народом в мире считаются французы, которые
ныне и развращеннее всех в мире и дальше всех от
природы; что бесчисленное множество особ обоего пола
чувствительны только потому, что они читали и читают романы
и прочие столь же пустые выдумки или слушают изо дня
в день чувствительные вздохи и чувствительные разговоры,
так что чувствительность подобных особ — это не что иное,
как спутанный клубок воспоминаний о прочитанных или
услышанных словах, и, если исчезнет или потускнеет
воспоминание, пропадет и чувствительность или от нее
сбережется лишь жалкий остаток, поскольку время от времени
какой-нибудь предмет или мелкое событие заставляют эту
особу вспомнить о прочитанном или об услышанном и о
том, что прежде казалось ей так ценно; мне действительно
приходилось видеть такое, и я думаю, что и многим
другим также случалось видеть это и замечать. Если бы
помимо этой или подобной сентиментальности не
существовало еще и другой чувствительности, не было бы так
неясно, может ли чувствительное стать достойным предметом
поэзии, кроме комедий, сатир и иных пустяков. Но то, что
я скажу, не следует относить к этой нечистой и
неестественной чувствительности. Я хочу говорить о чувствительно-
277
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
сти задушевной и прирожденной, сдержанной и даже пуг- 1
ливой, чистой, сладостной, возвышенной, неземной и в то 1
же время детской, дарующей величайшие наслаждения и 1
величайшие муки, милой нам и горестной, как любовь, ]
несказанной и неизъяснимой, дарованной от природы лишь I
немногим, в ком она, — если останется неиспорченной и 1
неизвращенной, если ее, такую нежную, не будут обижать, 1
подавлять, попирать, если ее не задушат и не искоренят, 1
одним словом, если ей, сопутствуемой другими благород- 1
ными и прекрасными свойствами, удастся одержать победу 1
над противостоящими ей жестокими и сильными врагами, 1
что бывает, увы, так редко! — в ком она порождает много 1
такого, что сохранится и, без сомнения, достойно сохра- 1
ниться в памяти людей. И я не только признаю, но и пропо- 1
ведую и провозглашаю, что такая чувствительность есть 1
изобильный источник предметов, подобающих поэзии и не- 1
отъемлемо ей присущих. Если я готов согласиться с кава- 1
лером, что она действует сильнее в нас, нежели в древних, ]
то все же я не хочу сказать, будто она неестественна и, за 1
исключением некоторых случаев, не изначальна, ибо такою 1
же, как у нас, она была от природы и у древних, такою же ]
остается у наших сельских жителей, но только многое ме- 1
шает ей обнаружить свое действие; однако, когда преград— I
к тому же более шатких — бывало меньше, а сама она была |
сильнее, тогда она проявлялась и выходила на свет, при- 1
нося порой такие плоды, которым и сейчас еще дивится и 1
восхищается весь мир, как это происходит, например, с ]
Гомером. Кто не почувствует, как много у него истинно |
поэтического хотя бы в том месте, где Пенелопа32, заслы- 1
шав пение Фемия, спускается из своих комнат и просит его I
прервать песню, повествующую о возвращении греков из- 1
под Трои, и говорит, что песня эта непрестанно мучит ее, ]
пробуждая воспоминания и тоску о супруге, преисполнив- |
шем славой своей и Элладу и Аргос; или в том, где Одис- 1
сей33, услышав песню о своих злоключениях, плачет и, же- ]
лая скрыть это, закрывает себе лицо полою одежды и так I
продолжает лить слезы и, только когда певец замолкает, I
он утирает их, однако едва пение возобновляется, он снова |
закрывается полою и плачет; или в сотне других мест того 1
же рода? Надо ли мне напоминать о свидании Гектора- 1
с женою34 перед разлукой или о плаче Андромахи, Гекубы 1
и Елены35 над телом героя; из-за этого места я (да будет *
мне позволено сказать несколько слов о себе) ни разу не ^
278
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
мог дочитать «Илиаду» до конца, не заплакав вместе с
этими тремя женщинами. Надо, ли говорить о
божественном разговоре Приама с Ахиллом36, который оспаривается
у Гомера каким-то филологом, чему я отнюдь не
удивляюсь: если бы я не знал, как мало заботятся романтики о
последовательности, я удивился бы только тому, что
кавалер ди Бреме, этот ожесточенный враг педантов,
прислушивается к мнению филологов этого рода. Что мне сказать
об Оссиане, о нравах и взглядах, равно присущих и ему
самому, и героям его стихов, и его народу в те времена?
И без моих объяснений каждый увидит: для того чтобы
быть «патетическим» и в изображаемых «ситуациях» и в
«экспрессии», ему не было нужды в большой
просвещенности. Но разве и Петрарка, которого сам ди Бреме называет
«несказанным чудом чувствительности», ибо «не знает
поэта, который заслужил бы предпочтения перед ним в
сентиментальном роде поэзии», — не жил ли Петрарка во
времена, когда не было ни «психологии», ни «анализа», когда
наука была убога и темна, книгопечатанье неизвестно,
неизвестен и Новый Свет, взаимное общение народов и
провинций скудно, ничтожно и затруднено, когда человеческая
изобретательность спала уже много веков, верования были
хуже чем ребяческими, нравы — жестокими, а почти вся
Европа — варварской или полуварварской? Уж конечно,
«разум человеческий» еще не «склонялся к сердцу», не
«слушал его сетований и его долгой повести», «человеческая
душа» не «поведала воображению о тысяче разных вещей,
возвращаясь к прошедшим эпохам своей жизни и
развертывая во множестве свои естественные эпопеи —
иудейские, языческие, христианские, дикарские, варварские,
магометанские, рыцарские, философские», когда один и тот
же век породил на свет второго Гомера в лице Данте, а в
лице Петрарки — самого удивительного и" несравненного из
чувствительных поэтов, их царя, как именуют его не
только наши, но и романтики. Но зачем в поисках примеров
возвращаться к минувшим векам? Разве мы не видим, что
в одно и то же время один наделен самой живой
чувствительностью, другой — более умеренной, третий — совсем
ничтожной, а четвертый и вовсе ее лишен, — как
заблагорассудится природе? И что сделанное природой нельзя
изменить, а тот, кто не рожден чувствительным, не может
стать им, несмотря на все нынешнее просвещение и все
науки, как не рожденный для поэзии не может стать поэ-
279
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
том? Разве мы не видим, что чувствительность проявляется
и разливается во всей своей неповторимой силе, чистоте
и красоте в юные годы, потом с возрастом обыкновенно
портится, теряет .былую незапятнанность и все больше
удаляется от природы? Что еще? С чего мы взяли, что
обязаны цивилизации тем свойством, которое законы этой ци- 1
вилизации требуют осмеять если оно искренне и сильно, I
словно обнаруживать его имеют право одни школяры? 1
А если старое и неоспоримое правило того народа, который I
стоит во главе цивилизованных народов и считается их ду- Я
шою, гласит, что попасть в смешное положение есть худ- I
шая беда, какая может случиться с благородным челове- 1
ком, то, значит, и законы эти требуют, чтобы любой по- 1
истине чувствительный человек остерегался показывать I
свою чувствительность, потому что всех, в ком заметят это 1
свойство, оставляют в покое и хвалят только тогда, когда 1
покажется либо станет доподлинно известно, что чувстви- 1
тельность их или притворная, или не имеет глубоких кор- 1
ней в душе, или же извращена и искажена. Что мне ска- 1
зать о таких злодейских, человекоубийственных нравах? I
Эти страницы не вместили бы, а ваши глаза, мои читатели, 1
не в силах были бы прочесть описание тех казней, которые 1
я назначал бы повсеместно, если бы дал волю гневу, по- 1
рождаемому во мне этим преступным удушением, убий- I
ством, истреблением качества святого и достойного покло- 1
нения, утешающего нас в несчастьях, внушающего нам бла- 1
городные поступки и награждающего за них, дарующего I
нам вторую жизнь, более ценную, чем эта, и, хоть она и 1
орошена многими слезами, более близкую к жизни бес- 1
смертных. Но я замечаю, что все это мое рассуждение из- 1
лишне. В самом деле, кто усомнится в том, что это почти 1
божественное свойство дано нам природой? Кто может по- I
думать, что оно, такое чистое, такое глубокое и блаженное, 1
такое чудесное, таинственное и несказанное, такой щедрый 1
источник живейших движений души, порождено опытом и 1
человеческой наукой? Разве мы не видим воочию, как от- 1
личаются от него качества, порождаемые этими причинами 1
или, вернее, возникающие, вызревающие и укрепляющиеся 1
с их помощью?. Разве мы не видим, как они чахлы и хилы, 1
как жалки и сухи, как некоторым образом нечисты и как 1
неспособны оросить и потопить в себе нашу душу, по срав- 1
нению с чувствительностью природной, на которую они !
похожи не больше, чем деревца, выращенные в теплицах, '
280
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
на деревья, взращенные природой в полях и по горам?
Короче говоря, кому не виден в них след рук человеческих,
а в ней — руки божией? Кто, хоть раз испытавший действие
чистой и подлинно душевной чувствительности, не знает,
что действие это возникает само собой и выходит наружу
незаметно, словно из естественного родника, а не из
искусственного фонтана? Не таково все созданное нами, и
цивилизация не приносит таких плодов; так не будем ни
чрезмерно восхвалять, ни чрезмерно обвинять себя, не
будем притязать на то, что смогли-де сделать нечто
непосильное никому, кроме бога, и не будем чрезмерно
уничижаться, считая земным то, что в нас есть небесного.
Не отрицая в соответствии со всем вышесказанным, что
чувствительность, вообще даруемая нам лишь природой,
все же лучше проявляет свое действие теперь, нежели в
древности, я утверждаю, что древние в том выражении,
какое они находили для этих ее проявлений, были столь же
божественны, как и в остальных сторонах поэзии, и наши
современники не должны ни на волос уклоняться от этой
древней манеры, а все те, кто от нее уклоняется, — носят
ли они имя романтиков или не носят его и даже ненавидят
и отвергают, но если судить по их прозе и стихам, все же
некоторым образом принадлежат к их числу, — все они
глубоко заблуждаются и преступно нарушают законы —
пусть не надеются, что я скажу Аристотеля или Горация,
но самой природы. Ведь недостаточно, если поэт
подражает природе, — нужно, чтобы в его подражании была
естественность, или, вернее, не подражает природе тот, чье
подражание лишено естественности. Марини тоже
подражал природе, и последователи Марини, и даже самые
дикие из стихоплетов семнадцатого столетия; или возьмем
другой пример, более определенный и ясный: Овидий тоже
подражал природе — кто в этом усомнится? — и его
подражания кажутся нам картинами, кажутся живыми и
подлинными вещами. Но как он ей подражал? Сперва он
показывает одну часть предмета, потом другую, потом третью,
он рисует, раскрашивает, подправляет сделанное, он
позволяет с легкостью увидеть, как он с помощью слов делает
трудное, необычное и чуждое для них дело — живописует
предметы, проявляя искусность и усердие, но обнаруживая
свое намерение, — а такая откровенность обычно все
портит; короче говоря, он в подражании природе был почти
что лишен естественности, отчасти по причине пагубного
281
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
порока невоздержности, отчасти по неумению достигать 1
многого малыми средствами, из-за которого он не мог бы 1
ничего показать с наглядностью, если бы не был простран- I
ным и подробным. Благодаря не силе воздействия, но упор- 1
ству ему удается наконец заставить нас видеть, слышать d
и осязать, удается порой, быть может, лучше, чем Гомеру, ]
Вергилию и Данте. И несмотря на это, кто из разумных j
людей предпочтет Овидия этим поэтам? Кто не сочтет его j
даже намного ниже их? Кто не сочтет его ниже Данте, ко- \
торый являет собою прямую противоположность Овидию, |
ибо двумя ударами кисти он создает отчетливейшую фигу- I
ру с такой прямотой и прекрасной небрежностью, что ка- ]
жется, будто слова служат ему только для рассказа и дру-
гих столь же обычных целей, между тем как он превосход- |
но создает те полные жизни образы, столь обильные !
в его поэме и нарисованные с отсутствующей у Овидия
естественностью, — почему мы и пресыщаемся так скоро
этим поэтом и, несмотря на всю наглядность, получаем от
него так мало удовольствия; ибо подражание, лишенное
естественности, — это плохое подражание, а нарочитость
внушает нам отвращение и удивление наше становится
меньше. Подобным же образом нельзя похвалить многие
картины, по большей части написанные за горами или за
морем, где подражание действительности очень, если можно
так сказать, тщательно и тонко, но заметны старание и
ухищрения искусства, и мазки не такие уверенные и
решительные и словно бы небрежные, как следовало бы, так что
в них нет ни правдивого подражания правде, ни
естественного подражания природе. Возвращаясь от этих примеров
к моей теме, я хочу сказать, что древние подражали
проявлениям чувствительности естественно, а романтики и им
подобные делают это без малейшей естественности. Ведь
древние подражали тут не иначе нежели всем
естественным вещам — с божественной небрежностью, искренно и,
мы можем сказать, невинно и простодушно, и писали не как
наблюдатель собственного сердца, который так и сяк его
поворачивает, ощупывает, обыскивает, старается вырвать
у него все тайны, проникнуть в него, но как тот, кому
диктует сердце и кто, не слишком его разглядывая, переносит
это на бумагу; потому и казалось, будто в их стихах
говорит не ученый, сведущий во всех свойствах, чувствах и
вообще-то темных и сокровенных движениях нашей души, не
философ и не поэт, а само сердце поэта, не знаток чувстви-
282
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
тельности, а сама чувствительность, воплотившаяся в
поэте; потому же они являли вид людей, не сознающих ни
собственной чувствительности, ни того, что она выражается в
их словах, и сентиментальное всегда было у них истинным
и чистым, неподдельным, скромным, стыдливым, простым
и безотчетным; так и выходило, что древние, подражая
проявлениям чувствительности, оставались естественными.
Что мне сказать о романтиках и об огромном рое
сентиментальных писателей — красе и гордости нашего времени?
Что можно сказать о них, как не то, что они делают все
вопреки описанному выше? У них неустанно говорит поэт,
говорит философ, говорит тонкий и глубокий знаток
человеческой души, говорит человек, который знает о своей
чувствительности или без колебаний считает себя
чувствительным, у них явно сквозит намерение быть такими,
намерение описывать, стремление подобрать друг к другу вещи,
которые в совокупности покажутся сентиментальными; у
них явно видна перспектива и романтическая ситуация,
и невесть что еще, явно видна наука, но явственней всего
видно искусство, потому что его мало. Так какая же
естественность может быть в этих подражаниях, где в
патетическом нет даже подобия случайности, непреднамеренности
и небрежности, но неприкрыто и очевидно решительное
намеренье автора создать сентиментальную книгу, или
новеллу, или канцону, или сделать сентиментальным этот
отрывок; я не говорю уже о том, что патетическое
разбрасывают, раскидывают и разливают повсюду, к месту и не к
месту, и делают чувствительными чуть ли не собак вопреки
не только естественности манеры, но также
правдоподобию вещей и здравому смыслу и рассудку писателя. Я
говорю не только о тех сочинениях, которые, выдаваясь среди
всех других непереносимой нарочитостью, снискали себе
всеобщее презренье и упреки,— я говорю и обо всех тех,
за редчайшими исключениями, которые испорченный и
злосчастный вкус бесчисленного множества людей считает
за самые изысканные и драгоценные; я говорю обо всех тех,
где сентиментальность явно преднамеренна, и превосходно
сознает самое себя, и в своем бесстыдном тщеславии любит
выставляться напоказ. Насколько эти свойства далеки от
свойств истинной и неизвращенной чувствительности и
даже противоположны им, пусть скажет любой, кто хоть на
миг испытал, что значит подлинная чувствительность, не
только не бесстыдная, но и робкая и едва ли не стыдливая,
283
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
не только не любящая света, но и со страхом бегущая от
него в поисках темноты, которая ей по сердцу; если
человеческое честолюбие и другие качества, не имеющие с нею
ничего общего, охотятся за нею, и, кичась ею, выставляют
ее на свет, то не следует самой чувствительности приписы-
вать то, что ей совсем не свойственно; но если поэт хочет
изобразить ее и заставить ее говорить, то, как бы глубоко
он ее ни знал, как бы ни гордился ею, как бы ни хотел
выставить напоказ, ему не следует ни изображать ее, ни1
заставлять ее говорить так, словно все это присуще не
поэту, а ей самой; и у романтиков, конечно, говорит не
подлинная чувствительность, а испорченная, развращенная и
искалеченная внешними силами, или, иначе говоря,
оскверненная и нечистая. И поскольку эта чувствительность по
природе своей такова, как я сказал, постольку мы можем
видеть (я сам не знаю, смеяться ли мне, плакать или
негодовать, говоря об этом), как все сентиментальное
расточается без удержу, по обычаю нашего времени,
разбрасывается полными пригоршнями, продается на меры; как
бессчетное множество лиц и книг во всеуслышанье
провозглашают себя чувствительными, как все лавки завалены
«Сентиментальными письмами», «Сентиментальными драмами»,
«Сентиментальными романами», целыми
«Сентиментальными библиотеками», которые так и названы и чьи заглавия
блистают на всех площадях. Так эту стыдливейшую
скромницу выволакивают на переплеты книг, чтобы она
завлекала взоры, так божественную девственницу, украшение
приютивших ее душ, превращают в истинную распутницу; и все
это восхваляют и прославляют не подонки человечества,
а люди, умудренные знанием, и называют гордостью нашего
времени то, что вовсе лишает род человеческий стыда;
Италию же, где это бесстыдство, слава богу, не так уж
распространено, где книг, объявляющих себя
сентиментальными, мало, а те, что есть, ей не принадлежат (да,
итальянцы, по большей части они приходят к нам из кишащих
червями иностранных болот; не будем же трусливо и глупо
ссылаться на них в свою защиту, лучше подарим или,
вернее, возвратим их нашим обвинителям,—пусть будут
пришлыми и эти книги и писатели — итальянцы по рождению,
но предпочитающие явиться в своих сочинениях сынами-
чужой земли)—Италию по этой причине провозглашают
ленивой, невежественной, грубой, ничтожной, презирают
ее, поносят, осмеивают, оплевывают и топчут. Ясное дело,
284
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
романтики, вместе с толпой других сентиментальных
авторов, не только по неумению сохранять - естественность в
подражании, но и сознательно, обдуманно и намеренно
подражают с превеликой охотой чувствительности, вообще-
то сильной и глубокой, однако изувеченной и развращенной
честолюбием, знанием и чрезмерной просвещенностью, или
даже той годной лишь для комедии сентиментальности, о
которой мы говорили немного раньше. Что ж, пусть она
победно шествует вперед, пусть облагодетельствует мир,
а себе стяжает славу несравненную и, если все века будут
походить на нынешний, бессмертную; у меня нет больше
охоты пережевывать этот отвратительный предмет, при
одной мысли о котором мне делается тошно.
Пусть они кичатся своей наукой о человеческой душе,
наукой, которая должна была процвести с течением
времени, пусть, похваляясь ею, презирают древних и мнят себя
намного превзошедшими их в поэзии. И мне известно:
древние по части этой науки уступают нашим
современникам, хотя наверняка меньше, чем иногда пытаются
утверждать, ибо у них — например, у греческих трагиков — мы
то и дело встречаем очевиднейшие доказательства на диво
тонкого знания человеческой души, так что можно
подумать, будто они не только не уступают нам, но и
превосходят нас; однако нет сомнений, что тут мы все-таки берем
верх. Но много ли пользы в том, что мы богаче древних
поэтов по части знания самих себя, если мы не умеем
употребить эти обильные богатства ни на что идущее в
сравнение с тем, что делали древние со своими скудными
богатствами? Если бы этот порок не появлялся естественным
образом вместе с ростом богатства, я бы порадовался за
наш век и не считал бы столь невероятным, что
когда-нибудь— все равно когда — появится поэт, который,
живописуя человеческую природу, намного превзойдет древних.
А теперь именно многознание отнимает у нас
естественность и способность подражать, как должны подражать
поэты, а не философы, и как делали это древние, между
тем как мы повсюду показываем свои знания, столь
обширные, что их трудно скрыть, и пишем трактаты в стихах, где
говорят не вещи, а мы сами, не природа, а наука, где сама
тонкость и изысканность живописи, само обилие острых и
слишком глубоких сентенций, лишь изредка скромных и
сдержанных и родившихся как бы сами собою, хотя и
неотточенных, чаще же отчеканенных и вылощенных, словом,
285
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
где всё и вся свидетельствует об одряхлении мира, которое
так страшно видеть в поэзии, но которое хотят показать
романтики и иже с ними, чтобы вместе со всяческим
удивлением исчезло в нас и удивление перед чудовищными
мнениями, явно запечатленными в современных стихах как
их отличительный признак и потому с первого взгляда
заметными и бросающимися в глаза. Кто говорит, что,
сочиняя стихи, мы не должны с пользой применять наше
знание самих себя, в котором мы ушли так далеко вперед?
Будем применять его, и пусть каждый, хорошо зная самого
себя, изобразит себя как живого; но ради бога, не надо
только показывать наше знание, если мы не хотим убить
поэзию. Совершенно избежать этого зла очень трудно, но
не невозможно; нужно только прилежно изучать тех поэтов,
которые более скудные знания умели применить так, что
без этого умения современным поэтам не принесут
пользы и самые обширные знания.
Как пример той божественной естественности, с
которой древние, как я сказал, умели изображать патетическое,
довольно будет вспомнить хотя бы Петрарку, которого я
не без оснований отношу к числу древних, ибо он равен
им и, кроме того, был одним из первых поэтов в мире после
долгого молчания средних веков. Я мог бы привести и еще
бесчисленные примеры, но мне больше всего по душе
следующие стихи Мосха37, взятые из Погребальной песни на
смерть Биона, влюбленного волопаса:
Увы! Укроп, и сельдерей зеленый,
И мальвы хоть и гибнут, но весною
Вновь оживают и цветут в садах,
А мы, такие сильные, большие
И мудрые, мы, люди, после смерти
В глубокой яме непробудным сном
Спим без конца и голосов не слышим.
И ты, под землю скрывшись, онемеешь:
Одним лягушкам дать решили нимфы
Дар вечных песен, но таких противных,
Что нет причин завидовать лягушкам *.
Еще одним примером этой бессмертной естественности
может служить Вергилий, ибо этот поэт, несомненно,
обладал такой живой и прекрасной чувствительностью, какой
теперь обладают лишь немногие. Из многих божественно
чувствительных мест у него я не могу не вспомнить рас-
* Перевод сделан с итальянского перевода, принадлежащего самому Леопарди.
Эквиритмический перевод греческого оригинала см. в комментариях. (Примеч.
перев.).
286
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
сказ об Орфее38 в конце «Георгию» и не привести из него
следующее сравнение:
Так Филомела, одна, в тени тополёвой тоскуя,
Стонет, утратив птенцов, из гнезда селянином жестоким
Вынутых вдруг, бесперых еще; она безутешно
Плачет в ночи, меж ветвей свою несчастливую песню
Знай повторяет, вокруг все жалобой скорбною полня.
Что же? Я не сомневаюсь, многим сентиментальное у
Вергилия, у Петрарки и других подобных им покажется
вовсе не тем же самым, что у современных поэтов, по
крайней мере у большей их части. Я даже вижу, что
многие из них, хоть и с восторгом восхваляют и сами пишут
вещи, от которых потомки, верно, покраснеют и с
омерзением отвернутся,— многие осмеливаются упоминать этих
неземных поэтов так, словно те из их племени и участники
того же круга и даже друзья им и товарищи, — если
только не ставят древних, как это случается нередко, ниже
позорных созданий нашего времени и народов, которые
произвели на свет их самих и теперь восхищаются ими.
Так неужели я должен думать, что и эти и любой, кто не
замечает с первого взгляда разницы между
чувствительным у древних, и прежде всего у двух названных поэтов,
и сентиментальным у современных стихотворцев, сумеют
когда-нибудь ее заметить? Должен ли я бояться, как бы
они не сочли меня побежденным и не стали смеяться надо
мною и презирать меня? Или, быть может, мне, скорее,
следует желатъ этого? Да, мои читатели, я желаю этого,
желаю горячо, и прошу у неба не поношений от них, не
оскорблений и ненависти, которые обыкновенно бывают
легче переносимы, но их презрения, которое, я знаю,
достается порой ничтожным людям, но уж никак не может
миновать человека значительного.
Я не стану сравнивать тонкость, мягкость, приятность
чувствительного у древних и у наших поэтов с
жестокостью, варварством и зверством поэтов собственно
романтических. Без сомнения, смерть любимой женщины есть
предмет до такой степени патетический, что, на мой
взгляд, от постигнутого таким несчастьем поэта, который,
воспев его, не заставил бы читателя пролить слезы,
безнадежно ожидать, чтобы он взволновал сердце. Но почему
любовь должна быть кровосмесительной? Почему женщина
должна быть убита? Почему ее возлюбленный —
непременно отъявленный злодей, чудовище по всем статьям? Слиш-
287
1
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ком много слов пришлось бы потратить, если пуститься в
рассуждения на эту тему: ведь сентиментальное у
романтиков всегда ужасно, это самая заметная его черта; однако
чем больше тут можно было бы сказать, тем охотнее я
воздерживаюсь от этого; пусть послужит вящей славе
романтиков то, что, как провозглашают они сами, больше
всего удовольствия доставляет им чувствительность
демонов, а не людей; пусть мы будем достойны порицания за
нашу неприязнь к адским красотам. Но как назвать это
низведение почти всей поэзии — подражательницы
природе — к одной чувствительности, как будто природе нельзя
подражать иначе как в патетической манере; как будто
все причастное нашей душе может быть только
патетическим; как будто лишь чувствительность — одна или в
сочетании с иными причинами — побуждает поэта творить;
как будто без оттенка меланхолии нет больше ни гнева,
ни радости, нет никакой страсти, нет ни красоты, ни
отрады, ни силы, ни достоинства, ни благородства помыслов,
нет ничего вымышленного и созданного воображением.
Значит, впредь на лирах поэтов останется лишь одна
струна? И каждая поэма в отдельности будет однозвучной, и
все будут петь в унисон друг с другом? Значит, не будет
ни эпопей, ни торжественных песнопений, ни гимнов, ни
од, никаких песен, кроме патетических? Я не говорю уже
о том, насколько мы, по всей видимости, умножим
приносимые поэзией наслаждения, отняв у нее то разнообразие,
без которого не только поэзия, но и все в этом мире так
скоро приедается. Что же нам сказать о певцах
прошедших времен? Значит, Вергилий был поэтом только в
четвертой книге «Энеиды» да в эпизоде о Нисе и Эвриале39?
Значит, и Петрарка не был поэтом там, где не говорил о
любви? Значит, не был поэтом и Гомер? Или, вернее, был
(ведь так полагали очень многие!), но теперь перестал
быть? Или же он остается и останется поэтом, приносит
и будет приносить наслаждение, и, несмотря на это, ни
один современный поэт не должен петь так же, как он?
Но как поэтам отказаться от этого и не петь, как Гомер
или как Пиндар, короче говоря, как древние, покуда
древние доставляют наслаждение, да еще в несказанной
степени? Но я не хочу, вознамерившись опровергнуть эти
глупости, показаться таким же глупцом, как романтики.
Равным образом, я полагаю, напрасной тратой слов и
времени будет напоминание о том, как быстро мы пресы-
288
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
щаемся и утомляемся страшным и вообще всем, что
сильнее обычного (а еще больше — чрезмерным, какое бывает
у романтиков), так что хотя бы мало-мальски долгое и
частое обращение к нему может быть лишь плодом
странного неведения нашей души и способно вызвать у
разумных людей только нескончаемый смех, или
бесконечное изумление, или сожаление, особенно когда такой
автор хвастливо провозглашает себя «превосходным
психологом»; нет нужды и указывать на потуги романтиков
всегда продлевать до бесконечности то напряжение,
которое по своей природе почти никогда и ни в чем не бывает
длительным, — потуги, ведущие к столь явной
неестественности, что не замечать ее может только слепой или
романтик; нет нужды спрашивать у новейших поэтов, как это
психология не научила их превыше всего ценить и с
особым тщанием соблюдать умеренность, и не только в том,
о чем я говорил, но и во всем относящемся к поэзии
(ведь нам теперь не следует касаться ничего другого), не
научила необходимости осмотрительного выбора и
наилучшего соединения, не научила множеству несомненных и
проверенных на опыте истин, знание которых вытекает из
знания человеческой души или, вернее, заключено в этом
знании, истин, которые тысячекратно отмечались и
повторялись в легковесных древних поэтиках, но, как ни
странно, остались неизвестными современнейшей и божествеи-
нейшей из наук — «психологии»; нет нужды спрашивать
у людей, как могли в наш век родиться такие, кто'позабыл
изначальную и основную истину, гласящую, что изящные
искусства требуют сообразности, иначе говоря, что в них
не должно быть ничего неуместного, истину, которая
появится перед каждым, кто хоть немного поразмыслит о
природе этих искусств, или людей, или мира, и которую
нельзя презреть без того, чтобы любое искусство не
утратило способности производить на свет что-либо, кроме
чудовищ, ибо как огромный нос на маленьком лице или
тяжеловесные украшения на легкой постройке, так и
всякая несообразность порождает уродство или, вернее,
уродство есть не что иное, как несообразность. Все это
настолько бьет в глаза, что всякий, кто возражал и возражает
романтикам, говорил и говорит об этом, и я не могу
сказать тут ничего нового, как не могу сказать ничего нового
о том удивительном и странном противоречии, в которое
романтики впадают, отрицая сообразность верований и
Ю Этика и эстетика
289
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
нравов древних современной поэзии и с величайшей
любовью приемля, отыскивая и' изображая верования и
нравы Севера, Востока и Америки. Быть может, в них
много общего с нашими верованиями и нравами? Или они
так уж хорошо сообразуются с нынешними познаниями
европейцев? А может быть, в огромном большинстве
своем — куда хуже, нежели нравы и верования греков и
римлян? Если же они ищут далекого нам ради того, что
есть в нем достойного удивления и почитания, то почему
ими отвергается все греческое и латинское? Разве только
варварское может быть достойно удивления и почитания?
Более того, как можно чтить что-либо принадлежащее
людям презираемым? А кого презирают больше, чем
варваров? Особенно если варварство их таково, каково оно,
например, у магометанских народов? Почему, дабы
показать величественные зрелцща и представить благородные
деяния, нужно изображать какого-нибудь пашу, а не
трибуна, какого-нибудь жителя Пекина, а не спартанца, рожу,
а не лицо? Но оставим это! Значит, все зло заключено во
времени, коль скоро отдаленность в пространстве при всем
различии нравов и мнений, которое она влечет за собой,
не только не вредит, но и приносит пользу, а отдаленность
во времени нетерпима и пагубна? Как же получается, что
мы, читая поэтов, и не только поэтов, но и историков и им
подобных, с легкостью становимся как бы участниками
событий и дел, совершавшихся у греков и римлян
двадцать и более веков назад, и с трудом входим в дела
недавние или современные, случившиеся, предположим, в Тибете
или в Нубии, у ирокезов, или у афганцев, или даже у более
прославленных и знакомых нам народов? Ведь тут в
доказательство достаточно будет, оставив в стороне множество
возможных доводов, сослаться на всеобщий опыт. Что мне
говорить о варварских сказаниях, которые наши
преобразователи вводят вместо сказаний греков? Говорить тут
нечего, потому что это предмет из числа самых
распространенных, его касается всякий, кто бранит романтиков;
мне остается только порадоваться, во-первых, за наш век,
который, без сомнения, к выгоде своей променял греков на
варваров, и, во-вторых, за врагов всяческого педантизма,
которые не находят себе места от радости, видя, что
отныне поэтов нельзя будет понять без ссылок и примечаний.
Потому что греческие сказания знает на память любой
европеец; хорошо это или плохо, гоже или негоже нашему
290
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ НОЭЗЙЙ
веку, по вкусу или не по вкусу романтикам, но дело
обстоит так, а не иначе; и когда европейский поэт
обращается к этим сказаниям и к языку этих сказаний, даже когда
злоупотребляет им, все равно, если злоупотребленье это
i.ie чрезмерно, его поймут все те, среди кого и для кого он
поет. Но многие ли знают сказания Севера, Востока и
Америки, и кому до них дело? Значит, необходимо либо
чтобы наши поэты, живя в Европе, пели не для Европы,
а для Азии, Африки или Америки, и если даже мы
допустим, что их поймут там, несмотря на то, что петь они
будут на европейских языках, им нужен будет очень
зычный голос, чтобы быть услышанными; либо чтобы они
создали для себя другую Европу, сведущую в этих
сказаниях, между тем как наша Европа насмехается над ними
и ничуть ими не интересуется; либо чтобы их сочинения
влекли за собой бесчисленные примечания и комментарии,
что, без сомнения, убьет всякий педантизм, — ведь вы
отлично знаете, что комментарий, вымощенный, например,
кусками из «Эдды Старшей» и «Младшей», или из Алько-
рана, или из Фирдоуси, или из «Пураны», «Рамаяны», «Ме-
гадуты»40, отнюдь не будет педантическим, если же он
будет испещрен строками Гомера, или Вергилия, или Данте,
то это будет педантизм, который неотчуждаемо прикреплен
лишь ко всему греческому, латинскому и итальянскому. То,
что я говорил о сказаниях, равным образом относится к
суждениям и к обычаям. Мне уже нет нужды не только
указывать, но и вспоминать о пресловутом противоречии
романтиков,, касающемся сказаний, ибо оно никогда не исчезнет
из памяти людей, покуда время не уничтожит всякое
воспоминание об этой секте. Несомненно, отвергать,
высмеивать и поносить греческие сказания, утверждая, что
знания нынешнего века не оставляют в нашем уме места
для баснословных иллюзий, и в то же время обыскивать
Север и Восток и все варварские страны, сколько их есть
под солнцем, и делать их сказания основным предметом
своей поэзии, хоть сказания эти по большей части
чудовищны, и смехотворны, и совершенно несовместимы с
нашими верованиями, потому что сами по себе все они пусты
и никакая внешняя причина не делает их почтенными для
нас — ни то, что мы с детства выучили их и научились
почитать, ни память о наших предках, ни достоинства
обращавшихся к ним писателей, прославленных среди нас
и часто нами читаемых, ни благородство и слава народов,
10*
291
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДЙ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
создавших эти сказания или усвоивших их и
обработавших,— наоборот, создавшие их варварские народы таковы,
что каждый из нас бы постыдился быть сыном самого
благородного из них, ибо даже если у него и есть какие-
нибудь достоинства, мы все равно склонны презирать его
и, уж во всяком случае, ничуть им не интересоваться. Это
такое явное и бесстыдное противоречие, что нет
возможности скрыть его, нет возможности приукрасить, и, я думаю,
не только малые дети, но и звери, если бы умели
понимать хоть какой-нибудь из человеческих языков, легко
обнаружили бы его. Как же Мы должны оценить учение,
если находим в нем исключающие друг друга вещи такого
рода, то есть самые основные и самые явные? Если тот,
кто противоречит самому себе, хуже утверждающего нечто
ложное, потому что второго мог убедить в этой лжи кто-то
другой, первый же убеждает себя сам; утверждения
второго могут быть опрокинуты чужой рукой, первый же,
никем не побуждаемый, сам разрушает их; утверждения
второго, даже разоблаченные и выведенные на свет, могут
все же сохранить видимость правдоподобия, утверждения
первого и этого не могут, едва только их части будут
изъяснены и сопоставлены друг с другом? И все же
романтическое учение находит приверженцев, защитников и
проповедников, оно разгуливает по Англии и Германии и
стремится взять приступом нашу Италию, — так что я,
читатели, поистине дивлюсь нынешнему веку.
Коль скоро упомянуто уже о греческих сказаниях, я
кратко укажу на самую большую ошибку кавалера, ибо
она еще раз позволит нам понять, сколь большая доля
«психологической науки» новых сектантов состоит из
криков о том, что они сыты этими сказаниями, из ученой
тарабарщины и темных мест. Ди Бреме, желая показать
«поэтическую ничтожность мифологии» (обратите
внимание, он говорит не о «философической» или какой-либо
иной «ничтожности», но о «поэтической») и провозгласив,
что «природа есть жизнь, принявшая тысячи разных
обличий», что «поэзия тем более любит верить или воображать
себе», будто «повсюду есть жизнь или, что то же самое,
самоосознание или самоощущение, чем меньше эта
доказуемо разумом», и что «поэтическая склонность, живущая в
человеческой душе, всегда тешилась этой фантазией»,
продолжает: «в мифологиях природа скорее олицетворяется в
отдельных фигурах, нежели одушевляется непосредствен-
292
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНИЧЕСКОЙ ПОЭШШ
но», а эта «система, первоначальная идея которой, из чего
бы она ни родилась, скорее всего, не была чужда
фантазии», тем не менее «должна была каждый день отнимать
что-нибудь у наших чувств, постепенно изменять природу
всех предметов и обеднять наше сердце, лишая его
поэтических начал, потому что, ставя между нами и явлениями
природы либо между нами и нами же самими некие
личности, она не только делала слишком однообразным
поэтическое искусство, но и лишала его самого удивительного
из всех волшебств — того, которое всякой вещи
приписывает чувство и признает жизнь во всех возможных ее
обличьях, а не только в человеческом». Упрекая так
«мифологическую систему» и противопоставляя ей «систему
жизненную», которой «с особой охотой следует
современная поэзия», он, в сущности, требует, чтобы поэт наделял
жизнью всё и вся таким, как оно есть, ничему не придавая
человеческого облика, и чтобы всё и вся жило и
чувствовало, но мир при этом не был населен человеческими
обличьями; а как пример он приводит одно стихотворение
Байрона41, где тот, касаясь персидского рассказа о любви
розы и соловья, приписывает влюбленной розе душистые
вздохи. Это его суждение я разберу в кратких словах.
Не только поэтам, но и людям вообще от рождения
присуще несомненное- и явное желание видеть и осязать
повсюду вокруг себя живые предметы, почему движимое
этим желанием воображение и наделяет жизнью
лишенные чувств вещи, как мы видим сами, как говорит в
приведенном отрывке кавалер ди Бреме и как позже скажу
я. Природу этого желания можно понять, рассматривая
для примера действие, которое производит на нас картина
с ландшафтом: если там нет ни одной живой фигуры,
мы, какое бы ни получали удовольствие, глядя на него,
все же испытываем обыкновенно некоторую
неудовлетворенность и как бы смутное желание найти что-то
недостающее; эта неудовлетворенность несколько слабее, если
мы видим на картине какую-нибудь статую, однако слабее
ненамного, ибо мы знаем, что перед нами — подражание
не живой вещи, а ее изображению, и потому наша
фантазия может найти в нем мало жизни. Куда больше нас
утешает и радует, если нам попадается какая-нибудь
фигура животного, которая нарушает пустынность
ландшафта и оживляет его вид. Но и она не может нас
удовлетворить, и ничто не может, кроме человеческих фигур,
293
джаКоМо леопарди. этика и эстетика
которые удовлетворяют нас тем больше, чем более
тщательно они написаны и примечательны: тогда при виде их
мы как бы находим успокоение, благодаря им и остальные
части картины больше приходятся нам по вкусу, ибо мы
находим ту самую жизнь, по которой незаметно для себя,
тосковали. В этом и состоит пусть не главная, но, во
всяком случае, одна из причин, по которой гораздо выше
ценятся и больше удовольствия доставляют картины и-
статуи, изображающие животных и особенно людей,
нежели один только ландшафт или любой неодушевленный
предмет. Посмотрим же, как угождает обыкновенно этому
врожденному людскому желанию наше воображение,
особенно когда оно, будучи более свободным и потому яснее
обнаруживая свою силу, лучше и действительнее
способствует природе; я имею в виду детей, в которых и
могущество природы вообще, и в частности сила упомянутого
природного желания больше, чем во взрослых, и потому
все его свойства и последствия проявляются отчетливее
и могут быть легче рассмотрены. Я просил бы моих
читателей не думать, будто я вдруг поддался легкомыслию и
ребячеству, если я пойду вслед за некоторыми
мелочами, — потому что, если я не ошибаюсь, мы, исследуя их,
скорее придем к нашей цели, чем пришли бы другим
путем. Нет такого человека, который не знал бы, насколько
распространена и присуща всем детям привычка
одушевлять в своем воображении лишенные чувств предметы; мне
самому уже приходилось упоминать об этом в моем
Рассуждении. Но следует взглянуть, какого рода жизнью
детское воображение наделяет такие предметы. Кто
обратит на это внимание, тот немедленно и ясно увидит, что
в воображении младенцев солнце и луна — это почти
всегда мужчина и женщина, как гром, ветер, день, ночь, заря,
время, зима, лето, осень и весна, месяцы, сон, и смерть,
и бесчисленное множество всякого рода предметов — все
это тоже мужчины и женщины; словом, в детстве не
приписывают неодушевленным предметам других чувств,
других мыслей, другой жизни, кроме человеческих, а потому
стремятся облечь их и облекают по мере сил в
человеческие образы, более или менее смутные в зависимости от
силы воображения каждого ребенка и от других
обстоятельств. Я сам вспоминаю, что в малолетстве имел
привычку не только развлекаться тем, что наделял жизнью все
предметы и смотрел на них и показывал другим так, слов-
294
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
но они были живые, но и тем, что искал и находил
казавшиеся мне тогда явными следы сходства с людьми в
деревьях, окаймлявших дорогу, по которой меня водили, и
в других вещах, столь далеких от человеческого облика,
что надо мной, я полагаю, немало посмеются, если я
перечислю хотя бы некоторые из них, например буквы
алфавита, стулья, посуду и другую утварь и тому подобное;
мало того, я воображал, будто замечаю некоторые
различия в их физиономиях, почитаемые мной за свидетельства
доброго или злого нрава и потому дававшие мне повод
любить одни и ненавидеть другие. И вообще наше
воображение получает такое явное удовольствие, наделяя вещи
не просто жизнью, а именно человеческой жизнью, что не
может примириться, если видит жизнь не такую, как наша,
и умудряется превратить ее в нашу жизнь, что мы видим
с особенной ясностью у детей, которые воображают себе
животных наделенными разумом и рассудком и беседуют
и рассуждают с ними не иначе чем с людьми. Из всех этих
обстоятельств, более заметных в детях, но проявляющихся
отчасти и во взрослых, в зависимости прежде всего от
меры той власти, которую сохраняет над ними
воображение, — из всего этого, а также из многого другого, что еще
можно было бы сказать, легко заключить, что названная
естественная тоска по живому проистекает из
всеобъемлющей склонности, которую мы все питаем к созданиям,
подобным нам, той склонности, которая порождает
множество самых различных последствий и сама есть не что
иное, как тоска по присутствию'таких существ; поэтому,
если бы могла существовать вещь мыслящая, но не живая,
у нее по ее несходству с живыми существами не было бы
и этой тоски по живому; и можно думать, что эта же
самая тоска, это же самое желание (я разумею, как вы,
конечно, заметили, вовсе не желание жить, а именно то,
что было определено выше), если оно имеет хоть какую-
нибудь силу над дикими животными, заставляет каждое
из них тосковать по живым существам своего вида. Если
теперь перейти к выводам из этих положений, то не
столько я, сколько вы сами, читатели, без моей указки обратите
внимание прежде всего на то, сколь естественны и
прекрасны греческие сказанья, которые, угождая этому
самому поэтическому нашему желанию, населили мир
человеческими обличьями и даже животным приписали
происхождение от людей, чтобы человек некоторым образом
295
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
находил повсюду то, чего он ищет, движимый не
примером, или наставлениями, или всеобщей привычкой, или
педантизмом, или «классическими вкусами», или еще чем-
нибудь из того, что романтики выдумали нам в насмешку,
но властно гонимый самой природой, — находил бы себе
подобные существа и не глядел бы ни на что безразлично;
чтобы поэт мог обращать свои слова к чему угодно, как это
положено ему по естественному и природному обычаю, не
иначе чем детям. Во-вторых, вы обратите внимание, как
несообразны в устах великого знатока «психологии» слова
о том, что первоначальная идея наделить природу жизнью,
превратив ее во множество существ нашего вида, «из чего
бы она ни родилась, скорее всего, не была чужда
фантазии», как будто бы эта идея была случайной и
произвольной, а не естественной и необходимой,' возникавшей у
самого ди Бреме, когда он был ребенком, да и сейчас
нередко направляющей его воображение. Наконец, вы обратите
внимание и на то, сколь бессмысленно и странно
утверждение кавалера, оспоренное нами и гласящее, что поэту,
если он хочет одушевить природу, следует одушевлять ее
«непосредственно», а не превращая неодушевленные
предметы в живые лица, по образцу древних. Насколько это —
не скажу ложно, но более чем смешно и нестерпимо,
явствует не только из сказанного, но и прежде всего из
того обстоятельства, что мы никогда не бывали и не будем
тронуты никакими чувствами, не испытаем, так сказать,
участия к выведенным или только упомянутым поэтом
существам, останемся равнодушны ко всему, что их
касается, если они не будут подобны нам; никто в мире не
заплакал и не заплачет над несчастьями цветка, плода, озера
или горы, не порадовался удачам звезды, если только
предварительно не превратил ее своим воображением в
живое лицо.t И так как все это правда (впрочем, кто в
этом сомневается? кому не захочется посмеяться надо
мною, увидев, что я чуть было не принялся доказывать
эту старую и избитую истину?), то для сочувствия вредно
и даже смертельно не только несходство между тварями,
но и несходство между людьми: так, дела черных трогают
нас меньше, чем дела белых, а среди белых нам куда более
безразличны самоеды, или китайцы, или любой другой
народ, не похожий на нас ни обычаями, ни наружностью и
ничем существенным, нежели дела наших
соотечественников; по этой причине настоящим безумием можно назвать
296
рассуждение Итальянца о романтической Поэзии
привычку романтиков брать тему и действующих лиц
главным образом у варваров, между тем как поют они для
просвещенных народов, или же изображать людей самых
необычайных, каких они только знают, — чудовищ по
природе, с которыми нам следует отождествить себя,
радоваться и страдать с ними и испытывать те чувства, какие
поэту заблагорассудится нам внушить. Без сомнеция,
удивительно уже то, что романтики не признают и отрицают
вещи, известные всему миру и никем не оспариваемые; но
то, что я скажу сейчас, и вовсе невероятно. Дело в том,
что манера, которой требует ди Бреме, не только
враждебна природе и способна несказанно ослабить поэтическое
наслаждение, но и невозможна. Больше того, пример из
Байрона, приведенный кавалером, не только не приносит
ему помощи, но и подтверждает — да, подтверждает! —
мои слова. Неужто кто-нибудь из нас в силах вообразить
себе жизнь, отличную от человеческой? Неужели нашей
душе не только что легко, но вообще возможно
представить себе чувства, страсти, мысли, не принадлежащие
человеку? Оставим в покое поэтов, которые не могут быть
так уж остры. Я призываю любого философа в мире,
любого метафизика, или «психолога», или — сильнее уж
некуда!—любого романтика: пусть вообразят себе форму
жизни, отличную от нашей, такую, чтобы они могли
приписать ее богу, про которого всем доподлинно известно,
что он живет иначе, нежели человек, или ангелам, или
любой сущности, видимой или невидимой, материальной
или нематериальной, действительной или воображаемой.
И если ни они и ни один человек не может положительно
представить себе иной формы жизни, кроме собственной
(я говорю «положительно», поскольку представление от
противного составить себе нетрудно, да только оно не
имеет касательства к поэзии), если мы едва можем
принудить себя верить в возможность этих иных форм, но
никак не умеем вообразить себе хоть одну из них, — какую
жизнь, кроме человеческой, поэт припишет вещам? Под
силу ли поэту, который обращается к народу и следует не
разуму, а природе, то, что не под силу метафизику? И если
он не может животворить вещи иначе, нежели наделив их
именно человеческою жизнью, то неужели ему не подобает
придать им и человеческие обличья? Разве это не значило
бы сочинять стихи даже не на варварский лад, а на манер
жителей другого мира? Выходит, поэты должны будут
297
ДЖАКоМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
являть нашим взорам то растения, то скалы, то облака,
то орудия ремесла, то бог весть что еще, ничуть не
изменив их внешнего вида, не сделав его менее отчетливым, не
оставляя воли воображению слушателей и даже стараясь
помешать им представить себе хоть какую-нибудь
человеческую черточку, — и все это станет уже не чем-то
необычайным и удивительным, а заурядным, не прихотью, а
правилом, не редкостью, а повседневностью. Неужели ди
Бреме не видит, что это была бы ложь, и не просто ложь,
но ложь поэтическая, — неправдоподобная, невероятная,
бесстыдная? Неужели он не видит, что людям в той же
мере свойственно придавать бесчувственным предметам
человеческий облик, в какой и одушевлять их, что одно
неотделимо от другого, что избавить человека от этого
порока можно, только переделав его, что и поэт — человек,
и его слушатели — люди? Значит, вот к чему мы пришли?
Получается, что наша поэзия будет не только варварской,
но и не человеческой? Или превратится в поэзию другого
мира? Ксенофан42 говорил даже о животных, что «если бы
у быков или слонов были руки и они могли бы этими
руками писать картины и делать все, что делают люди,
тогда лошади, изображая богов, придавали бы им обличье
лошадей, а быки — обличье быков, словом, наделяли бы
их телом, подобным собственному». К этому он добавлял,
что эфиопы представляют себе богов черными и
плосконосыми, фракийцы — голубоглазыми и румяными, и
равным образом египтяне, мидяне, персы — каждое племя
создает богов, наружностью похожих на себя. То, что
Ксенофан сказал об этих немногих варварских народах, мы
можем утверждать и относительно сотен других,
неизвестных древним, — настолько естественной, всеобщей и
неискоренимой была и будет привычка представлять себе в
облике, подобном нашему собственному, все вещи, про
которые мы знаем, полагаем или воображаем себе, что они
живые, но не можем помыслить их жизнь иной, нежели
наша собственная. Если же нам не кажется невероятным,
что животные, которым мы не можем приписывать никаких
страстей, мыслей и чувств, кроме человеческих, обладают
иной формой жизни (ведь на самом деле это так!),* то
происходит это по двум причинам: во-первых, форма их
жизни весьма похожа на нашу, как это и должно быть,
поскольку мы с ними принадлежим к одному роду;
во-вторых, истинное берет верх над правдоподобным, а обыкно-
298
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
венность мешает нам удивляться. Однако сила
правдоподобия такова, что мы скорее склонны считать живым
неодушевленный предмет, напоминающий обычную
внешность живых существ, нежели живое существо, далекое от
этой внешности, если только оно не настолько хорошо
знакомо каждому, что странная, но для всех привычная
наружность не привлекает к себе внимания. Предположим
теперь, что поэт наделит жизнью лишенные чувства
предметы, оставив неизменным их природное обличье: тогда
либо они останутся неподвижными и праздными, и поэту
довольно будет сказать, что они живут, и любят, и
ненавидят, и надеются, и боятся, и прочее в том же роде; либо
они должны будут подавать признаки жизни, действовать,
обнаруживать вовне то, что происходит у них внутри, — и
тут я хотел бы знать, какие движения, поступки и
действия припишет им поэт, или, иначе говоря, какой внешней
жизнью он их наделит и каковы будут проявления
внутреннего, — а оно, как я сказал, может быть только
человеческим,— во внешнем, если оно будет совершенно иным;
и равным образом я хотел бы знать, каким образом
возможны эти внешние проявления у предметов, не имеющих
тех же членов, что есть у нас и у прочих животных.
Поглядим, как действовал тут Байрон, строки которого дали
кавалеру повод изложить суждение, разбираемое нами
сейчас; строки эти43, цитируемые кавалером в переводе
Росси, таковы:
Раскрылась на холме, в листве зеленой
Та, что любовью соловья владеет,
Над кем так звонко он поет, влюбленный.
И под его напевы сладко млеет
Краса цветов средь тишины глубокой
И, внемля, девственным румянцем рдеет.
Вдали от северной зимы жестокой,
Она дыханья стужи не боится;
Живит и нежит ветерок с востока
Ночных садов и соловьев царицу,
И аромат, который льет природа
В ее фиал, еще нежней струится,
Сторицей возвращенный небосводу.
О, как ее благоуханны вздохи! *
Нужно быть немцем, чтобы суметь произнести
последний стих; но, впрочем, воротимся к нашему делу. Когда
* Перевод отрывка из «Гяура» Байрона сделан с итальянского перевода с
соблюдением его строфики. Перевод, сделанный с оригинала, см. в комментариях.
(Примеч. перев.).
299
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
поэт придумывает, будто влюбленная роза рдеет в
присутствии возлюбленного девственным румянцем и вздыхает, —
разве не превращается у него цветок в человека? Разве
тот, кто воображает себе вздох, не воображает и уста?
А представив себе уста, разве можно не представить лицо,
а значит, и человека? И получается, что роза и в
воображении поэта и в воображении читателей оказывается
женщиной. Правда, ее образ вял и расплывчат, потому что
эти два вымысла поэта, слишком избитые и легковесные,
неспособны достаточно сильно возбудить воображение (то
же самое бывает, если живописец показывает только
волосы или другую подобную часть человеческой фигуры).
Но, во всяком случае, либо в воображении читателей
возникает образ женщины, либо роза остается просто розой —
не любящей, не живой, а настоящим и обыкновенным
цветком. И если все вымыслы современного поэта или
большая их часть дадут в итоге то же самое, то как можно
говорить о какой-либо выгоде для нашей поэзии? Вот
какова поэтическая манера, которая дает кавалеру ди
Бреме доводы, доказывающие «поэтическую ничтожность
мифологии».
Я мог бы рассуждать о способе подражания, принятом
романтиками, и, рассмотрев его соответствие цели поэзии,
которая призвана доставлять наслаждение, напомнить, что
это наслаждение, когда оно порождено подражанием
подлинным предметам, возникает не только благодаря их
собственным качествам, но в основном и преимущественно
благодаря удивлению, которое пробуждается при виде этих
предметов, как бы перенесенных туда, куда их, казалось,
невозможно перенести, и представленных с помощью
вещей, казалось бы, неспособных их представить. Поэтому
бесчисленное множество предметов, которые в своем
природном виде не доставляют никакого наслаждения,
услаждают нас, воспроизведенные поэтом, живописцем или
другим художником; а если они доставляли нам
удовольствие и сами по себе, то удовольствие от подражания им
еще сильнее. Из этого явствует, как глубоко обманываются
романтики, которые полагают увеличить ценность поэзии,
сделав подражание чрезмерно легким, изъяв его из-под
власти всякого закона, изо всех сил стараясь заменить
подобное истине истинным и тем ослабляя и уничтожая
в подражании все удивительное, а значит, и приносящее
наслаждение; между тем это удивительное столь сущест-
300
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
венно, что с уничтожением его поэтическое наслаждение
уменьшается вдвое или совсем пропадает. Помимо этого,
если романтическая поэзия в ее крайностях подражает
сплошь и рядом тому, что само по себе не только не
приятно, но и тягостно, а стать приятным может только как
предмет подражания, то стремление преподносить все это
нашему взору не столько воспроизведенным, сколько
подлинным свидетельствует даже не о причудах, не о
прихотливости вкуса, не о странности убеждений, не о
жестокости, а просто-напросто о невежестве и грубости ума.
Романтики думают, что достоинства подражания следует
оценивать только по степени его близости к истинному, и
в поисках этого истинного они едва ли не забывают
подражать, потому что истинное ведь не может быть
подражанием самому себе. Но подражать живо и к тому же как
попало — это не только просто, но и пошло; ежедневно
подражает чему-нибудь любой из нас, и больше всего
простой народ, подражают обезьяны, подражал хрюканью
поросенка — да еще, можно сказать, весьма натурально —
шут у Федра44. Но может ли такое подражание удивить,
а значит, и доставить наслаждение? Если бы романтики
судили правильно, кормилицы стоили бы больше поэтов,
а кукла в настоящем платье, в парике, с восковым лицом
и стеклянными глазами была бы ценнее статуи Кановы45
или портрета, писанного Рафаэлем. Но на деле все обстоит
не так, и вовсе не потому, что весь мир всегда думал и
думает иначе: ведь романтики справедливо убеждены, что
весь мир .и все века по сравнению с ними не стоят и
гроша; причина в том, что наслаждение, приносимое поэтом
или художником, — это знает и чувствует каждый
здравомыслящий человек, — неизмеримо выше удовольствия,
доставляемого теми легкими и пошлыми подражаниями, что
мы каждый день видим, слышим и делаем сами, хотя они
по большей части куда живее, чем подражание поэта или
художника; дело в том, что трудности и правила, по всем
статьям подобающие и необходимые искусству, придают
подражанию способность удивлять и доставлять
наслаждение, между тем как без них нет ничего удивительного,
если подражание живо. Например, я вижу, что у древних
поэтов очень редко можно встретить оборванные,
прерванные и недоговоренные фразы, которые современные поэты
наперебой разбрасывают и там и сям, заполняя целые
страницы черточками и точками; но ведь древние считали,
301
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
что подлинное в поэзии должно не вводиться прямо, а
быть предметом подражания, и что подражать слишком
легким способом и преступать общепринятые законы *
поэзии значит не увеличивать, а ослаблять приносимое
ею наслаждение. Так что, если следует сравнить их поэзию
стой статуей или портретом, о которых я говорил немного !
выше, то романтическую поэзию, подражающую топоту \
копыт46 словами «трап-трап-трап», а звуку колокольчи- !
ков—простым «динь-динь-динь», можно весьма точно
уподобить той кукле или, если угодно, марионетке, которая
сверх того еще и подвижна. Ведь если искать в
подражании одной только наглядности, почему бы нам не оставить
столь мало пригодное для него средство, как слова и
стихи, и не схватиться за способ письма, принятый у
некоторых дикарей, у которых духовные понятия выражаются не
буквами, а рисунками? Почему бы каждому поэту, вместо •'
того чтобы писать, не изобрести какой-нибудь механизм,
который бы с помощью разных приспособлений испускал
прямо из себя ландшафты и фигуры любого рода и
подражал бы звуком звуку, одним словом, изображал все, что ;
угодно было бы изобретателю, действуя не на воображе- i
ние, а прямо на чувства — уже не читателя, а зрителя, j
слушателя или неведомо кого? И вот, покуда я пишу это, |
из романтической страны приходит названное адским 1
именем орудие, по своему назначению немногим отличное \
оттого, которое я вообразил себе в шутку, — и я радуюсь
тому, что предвидел, куда придет и не может не прийти |
новая школа, и вместе скорблю, потому что даже в шутку j
нельзя ни сказать, ни подумать ничего столь странного и j
смешного, чего с полной серьезностью не сказали бы, не I
подумали и по возможности не осуществили романтики. \
Я мог бы привести доказательства, подтверждающие и |
приведенную мною в другом месте этого Рассуждения j
мысль о том, насколько полезна для подражания обыч- ]
ность его предметов и, наоборот, как вредят ему
необычные и никому не ведомые предметы, почти что лишающие j
его способности удивлять, а значит, и доставлять наела- 3
ждение; ведь нельзя удивляться натуральности воспроиз- 1
ведения, если ты не знаешь, каков на самом деле образец; j
такое подражание, даже самое живое, произведет почти 3
то же впечатление, что и вымысел поэта, между тем как j
№е наши пращуры знали и малые дети знают, что по 1
сравнению с подражанием вымысел и проще и не так ]
302 I
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
удивителен. Я уверен, что собственный опыт
засвидетельствует каждому истинность моих слов, ибо никто не мог
не заметить, что, созерцая, например, прекрасную картину
или скульптуру, мы испытываем благодаря удивлению
особенно утонченное удовольствие, когда обнаруживаем,
насколько подражание и все целиком и в каждой своей
черте схоже с подлинной действительностью, так что
можно подумать, будто мы видим перед собой сам
воспроизведенный предмет, в котором мы обращаем внимание на
многие мелкие подробности, меж тем как, видя его на
самом деле, мы по большей части не замечаем их; однако
это наслаждение недоступно любому, кто, не зная
подлинного предмета или едва зная его, не может легко и
беспрепятственно сравнить подражание с его образцом и с
первого взгляда усмотреть их взаимное сходство. Прежде я
намерен был разобрать все это в отдельности, но сейчас
я уже сыт писанием, как вы, мои читатели, пресытились
чтением, если только ваше терпение не иссякло раньше.
Поэтому довольно и того, что уже сказано.
Но если до сих пор я старался подавить мое душевное
волненье, то сейчас, приближаясь к концу, я не могу
более сдерживаться, не могу не обратиться к вам, юные
итальянцы,, с мольбой: ради вашей жизни и ваших надежд
преисполнитесь сострадания к нашей отчизне, которая
среди бедствий, о каких не прочесть в истории любого
другого народа, не может ждать помощи ни от кого и не
хочет воззвать о ней ни к кому, кроме вас. Я умираю от
стыда, от горя и негодования при мысли о том, что ради
нее, несчастнейшей из всех, нынешние поколения не
прольют даже капли пота, между тем как в пору меньшей
нужды наши предки с радостной готовностью проливали
потоки крови, о том, что нет среди нас готового взять в
руки перо ради той, кого наши пращуры защитили и
возвеличили тысячами и тысячами клинков. Придите на
помощь вашей родине, юные итальянцы, протяните ей,
поверженной и удрученной, руки: ведь ее несчастий с
избытком хватит для того, чтобы пробудить жалость не
только в ее сынах, но и в ее врагах. Она была
повелительницей мира, была грозной на суше и на море, была
судьей народов и вершительницей мира и войны, была
полна великолепия и богатств; ее восхваляли и чтили, ей
поклонялись, она не знала народа, который бы не
покорялся ей, не знала обиды, за которую не отомстила бы,
зоз
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
сражения, которого не выиграла бы; ни до, ни после того
не было государства или державы, способных сравниться1
с нею счастьем и славой. Теперь все пало: наша отчизна,
недужная, бессильная, принявшая множество ударов,
истоптанная, истерзанная и наконец побежденная и
укрощенная, утратившая власть над миром и власть над
собою, утратившая бранную славу, разъятая па куски,
презираемая, оскорбляемая и осмеиваемая теми самыми
народами, которые были не раз повержены ею в прах и
попраны, — она сохраняет господство лишь в словесности
и в изящных искусствах, где величие ее, каким было в
пору процветания, таким и осталось в дни унижения. Лишь
это царство, эту славу, эту жизнь еще сохранила наша
отчизна, почти что выпавшая из числа народов; но и этим
великим остаткам прежде неизмеримого величия до сих
пор завидуют другие племена и поносят их, не в силах
вынести того, что у царицы мира, покрытой грязью и
изувеченной, все еще не отняты жезл и венец. И вот, чтобы
похитить у нее эти остатки, они пускают в ход оружие и
ухищрения грознее и сильнее прежних, стараясь
развратить и растлить дух итальянцев, сделать варварскими
наши искусства и словесность, добиться того, чтобы
несчастная Италия из наставницы современных народов
превратилась в их соперницу и подражательницу, из
повелительницы— в их ровню и служанку, и наконец — чего
никто еще не мог достигнуть, — лишилась царства и
собственной рукой убила себя. Простершись перед вами ниц,
я прошу и умоляю вас, итальянские юноши: ради памяти
о прошлом, ради его неповторимой и непреходящей славы,
ради плачевного настоящего, не дайте совершиться этой
беде, помогите нашей несчастной отчизне сохранить
последнюю славу, не допустите, ради бога, чтобы она,
заболев по вине других, очутившись на смертном ложе по
вине других; умерла у нас на руках по вашей вине. Много
ли проку было нашим врагам от того, что народ, чье
господство, исчерпавшись за десятую часть столетия, было
настолько же более кратковременным, нежели наше, Ч
насколько и менее достойным, похитил у нас творения на- i
ших художников47, обнажил наши улицы, наши дома-, на- j
ши храмы и алтари, чтобы украсить свои площади и залы, 1
а быть может, и свои храмы и алтари, залитые кровью, 1
похитил, словно ему предстояло пожать славу, а не позор j
за то, что он силой оружия отнял у безоружных те тво- 1
304
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
рения, которым не мог не дивиться и не завидовать, но
равных которым не умел и не умеет создавать сам? Не
их он должен был похитить, но наши дарования и тот
божественный огонь, который не делает нас ни хмельными,
ни бешеными, ни безумными, не превращает ни в дьяволов
во плоти, ни в зверей, но почти что равняет с божествами;
не подрезает нам сухожилий, не наполняет нас
трусливыми предрассудками и страхом оскорбить зрение и слух,
боязливо избегающие природы, не заставляет нас гнаться
за нелепостями, за мыльными пузырями, ради того чтобы
потешить созданный сплошь из пены народ, который
считает легкомыслие таким же похвальным свойством, как
другие — степенность, у которого не заслужит похвалы
страница, если по ней не видно, как ломал себе над ней
голову писатель, поносимый и презираемый всякий раз,
когда ему не удается быть остроумным. Конечно, пленные
полотна и мраморы, собранные в том месте, куда стекается
вся Европа, обличали нищету и спесь этого народа и
громогласно свидетельствовали о превосходстве и богатстве
той земли, которую всегда ненавидел и будет ненавидеть
этот народ, некогда побежденный нашим оружием,
несмотря на свою вооруженную мощь и оказанное
сопротивление, затем победивший нас, вялых, безоружных и
праздных,, но всегда побеждаемый нами в искусствах и в
словесности, мужественной у нас, по-женски робкой и
жеманной у него. Теперь, когда этот народ, дважды
поверженный сталью, насильно заставили разжать когти и он
выпустил из них добычу, когда бессмертные творенья,
которые всегда были и останутся нашими, куда бы ни
забросила их судьба, возвратились к себе на родину и нашли
приют среди нас, даря блаженство нашим глазам и нашим
душам, они громогласно взывают к нам и побуждают нас
вступить в соперничество с божественными художниками,
что были рождены землей, родившей и нас, подражали
той же природе, созерцали то же небо, те же поля и
холмы и так стяжали себе самим и упрочили за нашей
родиной славу, способную пережить царства и народы. Но если
и их голос, и голос наших величайших писателей, и голоса
всех минувших веков, и голос разума, и голос природы
будут заглушены голосом новейших наставников, и если в
конце концов у нас будет отнята не возможность созерцать
картины и статуи, но способность подобающим образом
применять наши дарования, тогда это чудом возвращенное
305
^ЖАКОМб ЛЕОПАРДЙ. ЭТЙК-А, М ЭСТЕТИКА
нам сокровище, прежде вслух позорившее укравших его
разбойников, будет позорить нас самих и
свидетельствовать о конце нашего царствования и гибели Италии.
И можно опасаться, что это, увы, произойдет в нынешнем
столетии, которое было очевидцем скорби и торжества
Италии, насильно обнаженной и вновь облаченной в свои
одежды; я вижу порчу нашего языка, увы, всегда
неотделимую от порчи вкуса, я вижу, как пренебрегают и
гнушаются и нашими величайшими писателями, и нашими
предшественниками — греками и римлянами, и как
принимают, как жадно поглощают, как хвалят и славят
бесчисленное множество стихов, романов, повестей — всю
сентиментальную дрянь, стекающую к нам с Альп и
вынесенную морем на берег; я вижу, как ослабела и почти угасла
любовь к отчизне, вижу, как многие итальянцы стыдятся
быть соотечественниками Данте, Петрарки, Ариосто, Аль-
фьери и Микеланджело, Рафаэля, Кановы. Кому под силу
достойным образом оплакать или проклясть это
чудовищное безумие, из-за которого, — меж тем как свою отчизну
любят даже лапландцы и исландцы, — Италию — самое
Италию!—ее сыны не только не любят, но и презирают
и нередко нападают на нее, язвят ее и обагряют кровью?
О итальянские юноши, я не буду говорить с вами о делах
давно прошедших; покуда мы хотим быть тем, что мы
есть, — быть итальянцами, — мы остаемся великими; мы
по-прежнему говорим на том языке, которому уступают
все новые языки и который, быть может, сам не уступает
древним; по-прежнему в жилах у нас течет кровь тех, кто
сперва одним, а потом другим способом первенствовал в
мире, мы по-прежнему пьем тот же воздух, топчем ту же
землю, наслаждаемся тем же светом, что и целый сонм
бессмертных; по-прежнему горит тот пламень, которым
пылали наши предки, и говорят страницы Альфьери и
мраморы Кановы'; по-прежнему остается неизменным
присущий нам нрав, породивший столько возвышенных дел и
творений, пылкий и рассудительный, горячий и живой, но
вместе и спокойный, благоразумный и степенный, могучий
и нежный, возвышенный и скромный, мягкий, и
податливый, и восприимчивый сверх меры, но вместе и серьезный
и свободный, смертельно ненавидящий всякое притворство,
чуткий и жадный до естественности, без которой для нас
не было и не будет ни красоты, ни изящества, страстно
влюбленный во все прекрасное, высокое и истинное и зорко
306
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
их различающий, наконец, умеющий мудро сочетать
природу и разум; мы все еще ближе, чем другие народы,
стоим к той вершине, за которой — если ее перевалить —
кончается цивилизация и начинается варварство и через
которую, как мы видим, перешли греки и римляне, а
теперь если нам кажется, что мы не видим этого ни у
одного европейского народа, то лишь потому, что многое
можно различить не с близкого, а только с далекого
расстояния, и еще потому, что мы почти никогда не умеем,
сопоставляя близкое и далекое, избегать впечатления
разницы' между ними, часто вовсе отсутствующей на деле.
Наша отчизна, о итальянские юноши, — подумайте,
заслуживает ли она быть презренной и отвергнутой, взгляните,
следует ли ее стыдиться, если она не переймет у
иноземцев их манер, обычаев, словесности, вкуса и языка;
посудите сами, достойна ли она того варварства, которое я
исследовал до сих пор в моем сочинении, но сумел и смог
показать лишь в общих чертах. Я обращаюсь к вам не
как наставник, но как товарищ (да простится мне ради
сжигающей меня любви к отчизне то, что я, говооя в ее
защиту, осмеливаюсь упомянуть о себе самом), я не
ободряю вас, как полководец, но зову за собой, как солдат.
Я ваш сверстник и ваш соученик, я вышел из той же
школы, что и вы, я вырос среди тех же занятий и тех же
упражнений, что и вы, я разделяю ваши желания,
надежды и тревоги. Но я обещаю вам, обещаю небу, обещаю
миру, что, покуда буду жив, не пожалею для моей отчизны
ни сил, ни трудов, не устрашусь ни тоски, ни нужды, ни
мук, чтобы она, сколько это в моих силах, сохранила
неприкосновенным и цветущим второе царство, которое
завоевали для нее наши деды. Но что я могу сделать?
И какой человек сможет когда-нибудь в одиночку сделать
столько, сколько нужно сейчас для нашей отчизны? Если
вы все не протянете руку ей, ослабевшей и умирающей, то
вы, итальянские юноши, переживете Италию, и, быть
может, я, злосчастный, тоже ее переживу. Так помогите
же вашей матери в память о наших предках и в заботе о
потомках, от 'которых не будет вам ни любви, ни хвалы,
если вы по небрежению, можно сказать, убьете вашу
родину; помогите ей, споспешествуйте счастливой природе той
земли, под небом которой вы взросли; презрите нынешнюю
славу, которая обыкновенно достается недостойным, и
ищите вечной славы, которая недостойным не достанется
307
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
никогда, которая досталась итальянским, и греческим, и
латинским художникам и писателям, но никогда не
достанется поэтам романтическим, сентиментальным,
экзотическим и никому другому из нынешнего племени; оцените
нависающее над нами варварство и сжальтесь над этой
прекрасной землей, над памятниками и прахом наших
отцов; наконец, не допустите, чтобы наша несчастная
отчизна в столь тяжкую годину осталась без помощи,
которую ей не может подать никто, кроме вас.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящее Рассуждение, первоначально носившее
название «Относительно Замечаний кавалера Лодовико ди
Бреме о современной поэзии», было начато, как только
названные «Замечания» появились в свет в одиннадцатом
и последующих номерах «Итальянского зрителя». Затем,
когда afjTop не сумел во мгновение ока до конца исполнить
свое намерение, трактуя этот предмет, когда между тем
другой, более счастливый, ответил кавалеру, а тот, еще
более счастливый, незамедлительно и пространно возразил
на его ответ, автор не счел для себя возможным
вмешиваться тогда в их спор; кроме того, ему показалось, что
Италия не настолько взволнована «Замечаниями»
кавалера, чтобы обратить большое внимание на книгу, просто их
опровергающую; к тому же материя «Рассуждения»
выросла у автора под руками; тем не менее он выполнил все
так, что «Рассуждение», хоть и под измененным
названием, сохранило свою первоначальную форму ответа на
«Замечания» кавалера.
ИЗ ДНЕВНИКА
РАЗМЫШЛЕНИЙ
[2—3]. Не прекрасное, но
истинное, или же подражание всякой природе, есть предмет
изящных искусств. Если бы им было прекрасное, то
больше нравилось бы более красивое, и так вплоть до того
метафизического совершенства, которое в искусствах не
только не нравится, но и вызывает отвращение. Нет нужды
говорить, что это прекрасное остается в пределах самой
природы; из этого явствует, что наслаждение,
доставляемое изящными искусствами, состоит в подражании
природе, поскольку если бы существовало прекрасное само по
себе, то, очевидно, более красивое, как я сказал, больше
бы и нравилось, — к примеру, описание прекрасного
идеального мира больше нравилось бы, нежели описание
нашего. А о том, что даже прекрасное в природе не есть
единственная цель изящных искусств, явственно
свидетельствуют все великие поэты, и особенно Гомер; ведь>
каждый великий поэт, будь это так, искал бы возможно^
большую красоту в природе, меж тем как Гомер сделал
Ахилла много менее красивым, чем мог бы сделать, и то
же самое — богов и проч; тогда Анакреонт был бы более-
великим поэтом, нежели Гомер, и т. д.; мы чувствуем, что
нам больше нравится Ахилл, нежели Эней, и т. д.; было^
бы неверно считать поэму Вергилия более великим
творением, нежели поэма Гомера, и т. д. Страсти, смерть, бури:
и т. д., хотя они безобразны, нравятся, и даже очень,,
благодаря уже тому одному, что их хорошо воспроизвели;
в подражании; и если Парини в «Рассуждении о поэзии»11
говорит правду, утверждая, будто нет ничего ненавистней;
человеку, чем скука, то, значит, всякому приятно видеть
новое, даже если оно безобразно. Трагедия, комедия,
сатира имеют своим предметом безобразное, а спор о томг
311
ДЖакоМо леопардй. этМка й scfETkkA
принадлежат ли они к поэзии, есть лишь препирательство]
о словах. Довольно того, что все считают их поэзией, и в|
частности — Аристотель и Гораций, и что я, говоря «поэ-]
зия», имею в виду и эти ее роды. ]
<..> 1
Безобразное, как и все прочее, должно быть к месту: 1
в эпической и лирической поэзии ему уделяется место |
много реже, зато весьма часто — в комедии, трагедии, са- |
тире, и было бы лишь спором о словах и т. д. (см. выше). |
Низкое же нельзя описывать часто потому, что оно редко 1
может быть к месту в поэзии (исключая сатиру, комедию 1
и шутливую поэзию), а не потому, что оно не может быть |
предметом поэзии. Коль скоро всякая вещь может иметь I
множество родов, одни более, другие менее высокого до- |
стоинства, то, значит, ничто не возбраняет одному из мно- 1
жества родов поэзии избрать своим предметом именно |
прекрасное, другому — скорбное, третьему — даже безоб- I
разное и низкое, а всем им — и менее и более достойным 1
и благородным — оставаться родами поэзии, причем и |
предмет любого из них будет предметом поэзии или изо- 1
бразительных искусств. |
Совершенство в произведении изящных искусств изме- 1
ряется не степенью прекрасного, а степенью совершенства 1
в подражании природе. Но если поистине совершенство 1
вещей, в сущности, состоит в их совершенной сообразности 1
своему предмету, ти что же будет предметом изящных ис- я
кусств? 1
Польза не есть цель поэзии, хотя та и может приносить 1
ее. Поэт может даже намеренно стремиться быть полез- I
ным и достигать этого (как, быть может, делал Гомер), 1
однако при этом польза не есть цель поэзии; так земле- 1
делец может воспользоваться топором для того, чтобы 1
жать злаки или другие растения, но это не значит, что 1
топор предназначен для жатвы. Поэзия может быть полез- I
ной косвенно, как топор может служить для жатвы,* но 1
польза не есть ее естественная цель, без которой она не 1
могла бы существовать, как не может существовать, не 1
доставляя наслаждения, в котором и состоит естественное 1
назначение поэзии. 1
312
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
Мы должны были бы получать больше наслаждения,
видя какое-нибудь растение или животное в натуре,
нежели от его изображения на картине или иного
воспроизведения, потому что невозможно, чтобы подражание не
оставляло желать еще чего-нибудь. Но происходит
обратное, из чего явствует, что источник наслаждения в
искусствах — не прекрасное, а само подражание.
Г 6—7]. Система Изящных Искусств.
Цель — наслаждение; побочная цель иногда —
польза.— Предмет и средство достигнуть цели — подражание
природе, а не только непременно прекрасному.
Первопричина того, что этот предмет или же это средство достигает
цели — удивление; сила действия всего удивительного2 и
жажда его, от природы присущая человеку; наша
склонность верить удивительному; удивление вызывается
подражанием прекрасному и чему угодно подлинно
существующему или правдоподобному; отсюда — наслаждение в
трагедии и т. д., доставляемое не образцом подражания, а
самим подражанием, возбуждающим удивление. —
Причины второстепенные и связанные с различными предметами
подражания — красота, воспитание, внимание, уделяемое
тому, чего мы в повседневной жизни, видя, не
замечаем. — Первопричина наслаждения, доставляемого
удивлением и т. д., а следовательно, и наслаждения,
доставляемого изящными искусствами, — естественный для человека
ужас перед скукой; изыскания о причинах этого ужаса
и т. д. Причины изъянов в изящных искусствах —
несоразмерность, несообразность, все неуместное; именно к
этому сводятся (вопреки мнению полагающих, будто их
источник в том, что искусства имеют своим предметом
прекрасное) такие изъяны, как низость, безобразие,
уродство, жестокость, грязь, уныние — все те вещи, которые,
будучи изображены и применены к месту, перестают быть
изъянами, потому что нравятся и благодаря подражанию
возбуждают удивление, а не у места — делаются
изъянами, каким была бы, например, в анакреонтике фигура
циклопа, в эпической поэме (по большей части) — фигура
урода и т. д. Прочие изъяны и пороки: нарочитость
и т. д. — сводятся почти все к несообразности и
неправдоподобию, которое проистекает от того, что атрибуты
неправдоподобной вещи цо природе друг с другом несооб-
313
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
разны и поэтому разум, понимая несообразность не соче-1
тающихся атрибутов, постигает и неправдоподобие. — Под- 1
ражание разветвляется соответственно различным предме- I
там изящных искусств и различным родам, например, 1
поэзии, которые тем более достойны и благородны, чем 1
более достойны и т. д. их предметы, почему тот род, кото- 1
рый имеет своим предметом уродливое, ценится не столь 1
высоко и не может равняться, например, с эпической 1
поэмой, хотя и остается родом поэзии, через посредство 1
подражания возбуждая удивление и доставляя наслажде- 1
ние. 1
[Подражание] |
Прекрасному Возвышенному Ужасному Смешному, по- I
рочному и т. д. I
Эпическая Лирика, эпи- Трагическое Комедия, са- 1
поэма, лирика ческая поэма и т. д. тира, шутли- ]
и т. д. и т. д. вая поэзия 1
Различные от- и т. д. ]
расли прекрас- ]
ного: нежное 1
<...>. Прек- 1
расное может 3
быть нежным |
и не быть та- 3
ковым: Герку- J
лес и Аполлон.
Прекрасное-
возвышенное: j
Юпитер
[8—9]. Два рода сомнения возникают в моем уме
относительно изящных искусств. Во-первых, может ли народ
в наши дни быть судьей произведений искусства.
Во-вторых—действительно ли прообраз прекрасного есть в
самой природе и не зависит от мнений и привычек,
составляющих вторую натуру. Относительно первого вопроса,
если что-нибудь придет мне на ум, я напишу позже; что
же до второго, то я замечаю следующее: нам кажется
сообразным для того или иного предмета (а вся красота,
314
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
можно сказать, состоит в сообразности) то, что мы
привыкли в нем видеть, и, наоборот, несообразным и т. д., и
потому нам кажется прекрасным содержащее в себе то-то
и то-то, а безобразным или не лишенным изъянов — то,
что его не содержит. Например, нам кажутся уродливыми
собаки одной из пород, если у них не подрезаны уши
и т. д.; могущество моды, особенно во всем, что касается
женской красоты, и т. д. Мне кажется, что в природе есть
лишь очертания прекрасного, такие, как гармония,
соразмерность и тому подобное —то, что должно
наличествовать в каждом прекрасном предмете, если он освещен
лишь природным светом; а растушевка прекрасных
предметов тенями полностью зависит от наших мнений.
Примеров этому можно привести бесчисленное множество.
Я разделяю их на два разряда: первый — те, что
доказывают различие мнений относительно предметов природы,
второй — относительно предметов в подражании, или же
в изящных искусствах.
Природа Изящные искусства
Голубые глаза — у греков;
черные у нас. Светлые
волосы считались красивыми в
Италии в шестнадцатом
веке, черные — в наши дни.
Разнообразнейшие мнения
дикарей о красоте,
показывающие, что в природе нет
твердой ее идеи <...>.
Лошади без хвостов. Собаки с
подрезанными ушами.
Мнения и чувства наших
крестьян относительно красоты;
см. красоток, описанных в
«Беке» и в «Ненче»3, только
не в шутку, а потому, что
такие нравятся сельским
жителям. Идеальная
красота, которую воплотил бы,
например, художник-мавр,
каким бы гениальным и
вдохновенным он ни был.
Живопись и проч. у
китайцев. Турецкая музыка <...>.
У нас не возбраняется
возводить постройки из голого
кирпича; наоборот, побелен--
ные и выкрашенные, они
кажутся смешными. Нечто об-
ратное — у китайцев,
которым фасады наших домов
казались бы грубыми и
неотделанными.
315
ДЖАКОМО ЛЁОПАРДЙ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Идеальная красота есть не
что иное, как идея о
сообразном, которую художник
составляет себе согласно с
мнениями и обычаями
своего времени и своего народа.
Борода, стриженые или
нестриженые волосы.
[39—40]. Бэкон Веруламский говорит4, что все способ-Я
ности, когда они сводятся к искусному умению, становятся 1
бесплодными. Я дам краткий комментарий к этому пол-1
ному истины изречению, применив его, в частности, к поэ-1
зии. Становятся бесплодными способности, когда они 1
сводятся к искусному умению, то есть люди не находят 1
ничего, что развивало бы эти способности, как находили I
в то время, когда они еще не имели ни законченной фор- I
мы, ни имени, ни собственных правил; мне приходят на па- ]
мять (слова, в таком значении употребляемые Тассо) 1
четыре причины этому. Во-первых, почти никто не думает 1
о том, как бы усилить еще больше свою способность, 1
когда она уже установилась, обрела форму и упрочилась I
и когда сам обладатель считает ее за совершенную; пото- 1
му каждый довольствуется этим и успокаивается, полагая, I
что дело сделано; однако это случается не раньше, чем 1
способность становится искусным умением, ибо всякий^ 1
кому приходилось совершенствовать ее, ломал себе голову, 1
стараясь ее обогатить, потому что никто еще не наградил ]
ее именем искусства; когда же она получает эту награду, I
кажется, что к ней нечего прибавить, даже если на деле 1
она ничуть не возросла. Во-вторых (эта причина относит- I
ся особенно к поэзии), множество людей или даже почти 1
вся толпа Чех, кто занимается поэзией (то же можно ска- 1
зать в соответствующей мере и о других способностях), i
не осмеливается нарушить ни одно из установленных 1
правил, ни на шаг не свернет с колеи, проложенной пред- J
шественниками, педантически считая, что невозможно 1
сложить ни одного стиха во отступление от этих гтравил; |
одним словом, вторая причина есть педантизм. Третья 1
причина, более присущая людям разумным, рассудитель- 1
ным, и способным, и даже высокоодаренным, состоит в 1
обычае и привычке, от которых они не могут избавиться, 1
316
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
идет ли речь о собственных или о чужих привычках.
О собственных — потому, что, привыкнув читать, слышать
и писать известного рода стихотворения, трагедии и т. д.,
они не умеют сочинять иначе, хотя их не связывают
никакие предрассудки. О чужих — потому, что не осмеливаются
отступить об общепринятого обыкновения и, хотя они не
рабы предвзятых мнений, однако, собираясь сложить
стихи, не решаются показаться причудливыми, замыслив
нечто неслыханное; имея опубликовать драму или
представить ее взорам публики, думают, что, сочинив ее по своей
прихоти, не приноровляясь к обычным формам, заслужат
только смех и всеобщее поношение; намереваясь создать
эпическую поэму, полагают, и не без оснований, что, если
форма ее будет отличаться от привычной всему миру, их
упрекнут в злокозненной подмене имени, отказавшись
принять за эпическую поэму что-либо иное, нежели
общепринятую ее форму. В самом деле, если кто назовет свое
произведение трагедией, публика ждет того, что она привыкла
понимать под словом «трагедия», а находя нечто
совершенно отличное, принимается смеяться, и не без причины.
Ведь беда нашего времени состоит в том, что поэзия уже
свелась к умению и искусству, так что, если хочешь быть
истинно оригинальным, нужно ломать, нарушать,
презирать и полностью отбрасывать обычаи, привычки и
знания, касающиеся имен поэтических родов, а поскольку
такие имена приняты всеми, то сделать это нелегко и
даже мудрый воздерживается от этого, и вполне правильно;
ведь привычки следует особенно уважать во всем, что,
как, например, стихи, создается для народа, и нельзя
обманывать публику ложными именами. Впрочем, столь же
правильно было бы дать новое стихотворение вовсе без
имени, если оно не может взять его у известных родов
поэзии, но на это нужно мужество, которое нелегко найти,
и еще этому мешают многие препятствия вполне
существенные, а н.е воображаемые и педантические. Четвертая
причина — самая сильная, самая значительная — состоит
в том, что, даже если настоящий поэт захочет отвлечься
от всякой полученной извне идеи, от всякой привычной
формы и примется измышлять стихотворение только на
свой лад, ни на что не оглядываясь, все равно ему едва
ли удастся быть истинно оригинальным' или по крайней
мере столь же оригинальным, как древние, потому что
каждый миг он незаметно для себя помимо воли, а порой
317
ДЖАКоМО ЛЕОПАРДЙ. ЗТИКА И ЭСТЕТИКА
даже негодуя, вновь наталкивался бы на те же формы, те 1
же приемы, те же членения, те же средства, те же ухищ- 1
рения, те же образы, те же поэтические роды и проч.; так I
ручеек, который бежит через местность, где протекала 1
другая вода, как бы вы ни старались повернуть его, всегда I
устремится к той дороге, которую увлажнили прежние во- I
ды, и попадет на нее. Конечно, природа преподносит нам 1
сама всё новые и всегда разные идеи, и, если бы один 1
поэт не знал другого, едва ли нашлись бы два поэта, |
создавших схожие произведения, потому что такое могло I
бы произойти только случайно, а случай не так часто при- I
водит к подобным совпадениям, весьма редким, как воочию 1
видит каждый. Поэтому, когда образцов было мало или 1
вовсе не было, Эсхил, например, придумывал то один, то I
другой вид трагедии и, не имея ни предустановленных I
форм, ни обычаев и следуя своей природе, менял форму с 1
каждым новым сочинением. Так, Гомер, когда писал свои 3
поэмы, свободно блуждал по полям воображения и выби- \
рал все, что ему заблагорассудится, потому что все дей- 3
ствительно было у него перед взорами и никакие предше- ]
ствующие образцы не ограничивали поля его зрения и не \
застили взгляда. Таким образом, древним поэтам едва |
ли «поневоле приходилось быть неоригинальными», — они )
всегда были оригинальны, и если походили друг на друга, I
то лишь случайно. Но теперь, когда есть столько обычаев, ]
столько образцов, столько знаний, определений, правил, \
форм, когда столько читают и т. д., поэт, даже если хочет j
удалиться от проторенного пути, то и дело на него возвра- I
щается, между тем как природа уже не действует сама |
по себе и на разум поэта естественно и неизбежно оказы- \
вают влияние благоприобретенные идеи, ограничивающие
силу природы и подтачивающие силу воображения,
которое, будь это не так, умело бы, несмотря на множество J
поэтов-предшественников, само собой, естественно и без ]
усилия (я говорю о силе воображения истинного поэта) \
находить все новые вещи, никем еще не затронутые или '
хотя бы затронутые в другой манере, и т. д.
[41—42]. Есть огромная разница между смешным у \
древних комиков, и греческих и римских, — Лукиана и \
др. — и у современных, особенно у французов. Эта разница \
легко распознается и сразу же бросается в глаза. Но если '
318
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
исследовать ее и определить, то состоит она, мне кажется,,
вот в чем: смешное у древних заключалось прежде всего;
в вещах, а у современных комиков в словах (говоря
«современные», я разумею самые современные комедии, сатиры
и другие смешные сочинения, потому что у Гольдони,
например, была доля древнего аттического остроумия, как
и в самых старинных наших комедиях, у Берни5 и т. д.,
в отличие, я полагаю, даже от французов старых времен —
например, Буало и т. д.). Смешное у древних всегда было
осязаемым, они умели выразить и явить взорам, так
сказать, самую плоть смешного, а современные комики
показывают только тень, призрак, легчайшее веяние, дым.
Смешное у древних насыщало смехом, смешное у
современников едва дает его отведать и улыбнуться; смешное
у древних было стойким, у современников оно мимолетно;
у древних то была длительная причина нескончаемого
смеха, у современников — все наоборот. Смешное у
древних бывало заключено в образах, в уподоблениях и
сравнениях, в повествовании, одним словом, в вещах, смешное:
у современников заключено, если говорить в общем и
целом, в словах, и порождается оно из сочетания тех илиг
иных выражений, из двусмысленности, из словесного
намека, из мелочной игры словами, из одного слова, так;
что если вы устраните намек, рассыплете и сочетаете по-
новому слова, уберете двусмысленность, замените одноз
слово другим, — смешное исчезнет. Напротив того,
смешное у греков и римлян прочно, стойко, осязаемо, оноз
заключается не в таких неуловимых, пустых и воздушных-
вещах,— возьмем, к примеру, Лукиана, когда он в «Зевсе'
уличаемом» * сравнивает богов, подвешенных на нитях;
к веретену Парки, с рыбешками, повисшими на удочке
рыболова. Греки и римляне были необычайно находчивы,
остры и щедры на такого рода образы, они отыскивали такие-
сокровенные и в то же время такие изобильные источники
смешного, что трудно поверить, — взять, к примеру, хотя
бы один отрывок из Филемона6 Комика <...>. Новизна
смешного была обычнейшей вещью у древних комиков
соразмерно комической силе каждого из них. Даже когда
у них и не бывало этих образов, уподоблений и проч., все
равно их злословие было более осязаемым, более
телесным, более вещественным, чем в наши дни. Но, быть мо-
* Цитаты и ссылки, набранные курсивом, в Дневнике приведены на языке
оригинала. (Примеч. перев.).
319
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
жет, — и даже наверное — теперь кажется грубым, и
особенно французам, то, что некогда называлось аттической
солью и нравилось грекам — самому просвещенному
народу древности — и римлянам. Впрочем, подобного мнения
придерживался, быть может, и Гораций, который плохо
отзывался о шутках Плавта7 (образцового среди римлян
мастера того смешного, о котором я говорю);
действительно, в Сатирах и Посланиях Горация нет столь крепкого
остроумия, как в старинных греческих и римских шутках,
хотя оно и у него далеко не так утонченно, как в наши дни.
Теперь из-за словесных острот даже смешное стало
духовным, оно столь истончилось, что сделалось даже не
жидкостью, а эфиром, паром, и, однако, лишь такое смешное,
признается достойным остроумцев хорошего вкуса и
хорошего тона, достойным высшего света и беседы
образованных людей. Смешное в старинных комедиях во многом
порождалось действиями, которые должны были
совершать на подмостках герои; здесь, в самом действии,
также был заключен щедрый источник шуток, — таково в
«Церемониях» Маффеи, комедии, полной истинного
древнего остроумия, то место, где Орацио карабкается в окно,
чтобы избежать долгих приветствий у дверей. Есть еще
одно различие между смешным у древних и у наших
современников: первое было почерпнуто из жизни народа,
из домашних дел, во всяком случае, не из обихода самых
утонченных людей, которых тогда не существовало или
которые не были столь изысканны, между тем как второе,
особенно у французов, не покидает высшего круга,
занимается самыми благородными и утонченными предметами,
домашними делами семейств, принадлежащих к большому
свету, и т. д. (таким же было отчасти и смешное у
Горация). Потому-то смешное у древних было облечено в
плоть и подобно оружию, лезвие которого не слишком
отточено и потому служит долго, между тем как клинок,
тонко отточенный (более или менее тонко — это зависит
от века и народа), во мгновение ока притупляется или
зазубривается, и простой народ не чувствует его удара,
как не чувствуется в первый миг порез бритвой.
[52—53]. Поэт должен скрывать не каждое свое
намерение, — например, в нравоучительной поэме он не должен
скрывать свое намерение поучать и т. д., — одним словом,
320
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
те явные намерения, о которых объявляется, например, в
самом начале поэмы. «Пою благочестивые мечи»8 и т. д.
Зато ему следует прятать те намерения, которые
естественно сопутствуют явным намерениям, например намерение
живописать, сопутствующее намерению повествовать,
намерение доставить наслаждение, сопутствующее
намерению поучать; все это поэт намерен делать, но не должен
показывать, что намерен, и в то же время он должен
обнаруживать другие, явные намерения, которые служат
лишь предлогом и прикрытием для намерений тайных.
Причина заключается в том, что эти последние не так
естественны, как естественно для человека рассказывать
и т. д.; должно казаться, что доставляемое удовольствие,
живость изображения и т. д. являются сами собой, поэт
же не ищет их, а не то он обнаружил бы свое искусство,
свои стремления и свое усердие, одним словом, не был бы
естественным, между тем как поэт в естественном
состоянии представляется нам человеком, который, взяв себе
тему — она и составляет его явное намерение, — ведет
рассказ и-говорит все, что само собой приходит ему на язык,
как всякий говорящий, и хотя он вплетает там — какой-
нибудь образ, здесь — чувство или еще что-нибудь —
выразительный звук и проч., и вплетает намеренно и
обдуманно, тем не менее должно казаться, что это не так, что все
происходит естественно, что все приносит сам ход его речи,
его постепенно распаляющееся воображение, его сердце,—
а иначе подражание природе не будет естественно. Таким
образом, нужно прятать намерения, так сказать,
второстепенные, хотя на самом деле они-то чаще всего и бывают
самыми главными (например, в нравоучительных поэмах,
где главной целью будет назидание, так оно и должно
казаться, между тем как на самом деле назидание есть
лишь средство, а главная цель — наслаждение). Я имею
в виду не только поэта, но и оратора, историка и любого
писателя. Нарочитость по-латыни значит то же самое, что
преднамеренность, а у нас — то же самое, что явное
намерение; это и может служить ее определением.
[63]. Комедия бывает полезна прежде всего тогда,
когда она позволяет юношам и девицам узнать свет, его
опасности, его пороки, суетность, соблазны, измены,
обманы и т. д., между тем как старикам, которым это все
\ 1 Этика и эстетика
321
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
известно, она мало что может дать. Что касается
моральных максим, образцов прискорбных наказаний,
награжденных добродетелей и т. д., то все это вещи столь
ничтожные, что о пользе их, кроме как для низов простонародья,
нельзя даже спорить с чистым сердцем; ведь ни один
юноша, ни одна особа, принадлежащая к тому или другому
светскому кругу, одним словом, ни один образованный
человек не вернулся с представления комедии более
добродетельным — благодаря проповедям, которые он слышал,
и примерам, которые видел; но, возможно, он и
разочаруется, увидев разоблаченными все козни, которые строят
против несчастного юношества, увидев изображенным в
подражании все происходящее на свете, что молодым по
неведению представляется совершенно иным. Этой же цели-
служат повести и многие другие книги с тою лишь
разницей, что комедия показывает вещи более живыми и
естественными, являя их взорам вместо того, чтобы о них
рассказывать, и потому лучше убеждает. То же самое в
соответствующей мере можно сказать и о других родах
драмы.
[76—80]. Выражение горя у древних, например, в «Лао-
коонте», в группе Ниобы, в описаниях Гомера, непременно
должно было отличаться от выражения горя в наши дни.
То было горе, не знающее исцеления, как знает его наше
горе, несчастья постигали древних не как неизбежно
присущие нашей природе и ничтожные в этой несчастной
жизни, но как помехи, противостоящие тому счастью,
которое не казалось древним, в отличие от нас, пустой грезой
(и действительно оно не было для них лишь грезой, они
надеялись достичь его, тогда как мы в этом отчаялись);
горе было для них злом, которого они могли бы избежать,
но не избежали. Поэтому месть небес, людская
несправедливость, потери, невзгоды, болезни, обиды, наносимые
фортуной, — все эти бедствия казались присущими лишь
тому, кого они постигали (и действительно, несчастный,
не в пример нынешним временам, в силу предрассудка,
примешивавшегося к естественным чувствам и мнениям,
считался обыкновенно злодеем, ненавистным богам, и
вызывал скорее ненависть, нежели сострадание). Таким
образом, их горе было отчаянным, каким оно бывает в
природе и каким остается теперь у дикарей и у
деревенских жителей; без утешений чувствительности, без сладо-
322
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИИ
стного примирения с несчастьями, неизбежность которых
познали мы, но не они, древние не могли узнать
доставляемого горем удовольствия, и к мукам матери,
потерявшей своих детей, как Ниоба, не примешивалась горькая
и сладостная нежность к самой себе, и отчаяние ее было
безраздельным. Различие между горем древних и
современных людей столь велико, что не без причин поэту,
художнику и т. д. можно посоветовать браться лишь за
современные сюжеты, ведь если он станет разрабатывать
древний сюжет, с ним непременно случится одно из двух:
либо он погрешит против истины и, изображая дела
древних, припишет своим героям современные чувства и
страсти, либо он не вызовет интереса и останется непонятным
современникам, заставив героев чувствовать и говорить
как истинные древние. Впрочем, на мой взгляд, не следует
так уж стараться в первом случае не погрешить против
истины, — лишь бы соблюдено было правдоподобие; если
же смешение произвело желаемое действие, то лишь
начетчик будет настойчиво указывать, что древние никак не
могли испытывать такие чувства; тут то же самое, что я
обыкновенно говорю о костюмах и позах на картине
и т. д., где нарушение истины не бросается в глаза, то
есть где соблюдено правдоподобие; всегда лучше быть
понятым и поразить своих современников, нежели рабски
подчиняться жалкой точности, нужной лишь начетчику, и
не произвести ни на кого никакого действия. Поэтому я
не только не осуждаю, но и хвалю, например, Расина,
который, выбирая древние сюжеты (те, что по своей
природе не были несовместимы с современными чувствами
и которым, с другой стороны, ради их красоты,
трагической силы и т. д. следовало отдать предпочтение перед
сюжетами из более поздних времен), разрабатывал их в
современном духе. Чувствительность — эта естественней-
шая способность человека (смотри мое рассуждение о
романтиках)— существовала у древних в возможности и на
деле не проявлялась; но ведь давно доказано, что
различные обстоятельства помогают развитию различных
способностей, от природы присущих нашей душе, но остающихся
скрытыми и праздными за отсутствием таких
обстоятельств — физических, политических, нравственных и, что
особенно важно в нашем случае, — умственных, так как
причиной развития чувствительности и меланхолии были
прежде всего успехи философии, знание человека, и мира,
11*
323
• 3
^
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА 1
и тщетности всех вещей, и общего всем людям несчастья—|
знание, порождающее это несчастье, о котором по есте~]
ственному порядку вещей мы вовсе не должны были бы!
знать. Взамен этой чувствительности, которая теперь тож-1
дественна меланхолии, у древних были другие чувства,]
другие восторги и т. д., более радостные и счастливые, и
безумием было бы осуждать древних поэтов за отсутствие "
у них чувствительности и предпочитать их чувствам и удо- |
вольствиям, также духовным и предназначенным природой I
для человека, еще не ставшего несчастным, наши чувства ]
и радости, также естественные, коль скоро они суть по- i
следние средства, которые природа может противопоста- \
вить (а это — ее постоянная цель) несчастью, порожденно- 1
му противоестественным знанием нашей жалкой участи. \
Утешение древних не было заключено в самом бедствии; !
например, после чьей-нибудь смерти они утешались эм- !
блемами жизни, полными напряжения играми, хвалами, *
в которых говорилось, что несчастье не так велико или :
совсем ничтожно, потому что умерший погиб ради отчизны, 3
ради славы, ради живых страстей, одним словом,( погиб !
ради жизни. Их утешение даже в смерти заключено было
не в ней самой, но в жизни <...>. I
Все искусства подражают природе и выражают
природу, из которой извлекается чувство; музыка же подражает
самому чувству и только его выражает, и извлекает она
его не из природы, а из самой себя; точно так же и
слушатель. Вот почему де Сталь («Коринна», книга 9, гл. 2)
говорит: «Из всех изящных искусств именно она (музыка)
действует наиболее непосредственно на душу. Все прочие
направляют ее к той или иной идее, она же одна
обращается к глубочайшему источнику существования и
полностью изменяет наше внутреннее расположение».
Слово в поэзии и т. д. не может с такой силой
выразить неопределенность и бесконечность чувства, ибо оно
связывается с предметами и из-за этого производит
всегда вторичное, не столь непосредственное впечатление,
потому что слова, как и знаки и образы в живописи: и в
скульптуре, имеют определенное и конечное значение.
Архитектура с этой стороны приближается немного к
музыке, но не имеет такой мгновенности и непосредственности
действия.
324
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
[100]. Все древние поэты и художники, особенно
греческие, всегда соблюдали одно: они непременно больше
оставляли додумывать зрителю или слушателю, чем
выражали <...>. Причина же этого — не что иное, как их
простота и естественность, благодаря которым они не
гонялись за мельчайшими подробностями, как делают
современные писатели, ясно обнаруживающие свои усилия тем,
что не говорят ни о чем просто или не описывают вещь
такой, какой ее являет сама природа, но вдаются в
подробности, отмечают все обстоятельства, измельчают и
растягивают описания, — только ради вящего впечатления;
но все это лишь открывает их намерения, убивает
естественную непринужденность и небрежность, делает явными
искусство и нарочитость, ведет к тому, что в стихах сам
поэт говорит больше, чем их предмет. Об этом смотри мое
рассуждение о романтиках и разные места в этих
размышлениях.
Среди результатов этого обыкновения — я говорю
«результатов», а не причин, потому что древние,
бесспорно, не думали о первых и были движимы одною лишь
названной причиной — самым замечательным был
следующий: у них поэзия или изящные искусства производили
впечатление бесконечного, в то время как в наши дни они
производят впечатление конечного, ограниченного. Дело в
том, что, описывая предмет немногими ударами кисти и
показывая лишь немногие его части, они позволяли
воображению бродить среди тех смутных и неопределенных
детских идей, которые порождаются неведением целого.
Например, сельская сцена, которую немногими чертами
изобразил древний поэт, не очертив, так сказать, ее
горизонта, пробуждала в воображении божественный прилив
неясных идей, волнующихся и блистающих той
неопределимой причудливостью, той чрезмерно отрадной и сладкой
странностью и волшебством, которые не раз повергали нас
в восторженное изумление в пору нашего детства. Между
тем современные художники, с полной определенностью
показывая каждый предмет и его границы, почти совсем
лишают нас этого бесконечного волнения, а то, которое
они пробуждают, остается конечным и ограниченным, ибо
порождается знанием целого предмета; оно не заключает
в себе ничего причудливого и присуще зрелому возрасту,
который чужд испытываемым в детстве невыразимым
наслаждениям смутными фантазиями. (8 января 1820).
325
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
[136]. Меланхолическая и сентиментальная поэзия есть
вздох души. Угнетенность сердца, происходит ли она от
какой-либо страсти, или от потери мужества в жизни, или
от глубокого ощущения ничтожества всего сущего,
замыкает его совсем и не оставляет места для такого вздоха.
Другие роды поэзии еще меньше совместимы с таким
состоянием. Я полагаю, непрестанные несчастья Тассо и
были той причиной, по которой он в части оригинальности
и изобретательности остался ниже трех других великих
итальянских поэтов, хотя его душа своими чувствами,
страстями, величием, нежностью и т. д., без сомнения,
была равна им, если не превосходила их, как это явствует
из его писем и других сочинений в прозе. Но, хотя не
испытавший несчастья ничего не знает, все же, бесспорно,
ни воображение, ни даже меланхолическая
чувствительность не имеют силы, если нет хотя бы веяния счастья и
той крепости духа, которая невозможна без брезжущего
луча или проблеска радости. (24 июня 1820).
[144—147]. Уже не раз было замечено, что если
научные академии, быть может, и принесли пользу наукам,
способствовали новым открытиям и облегчили* их, то
литературные академии, скорее, нанесли литературе вред.
Действительно, научные академии почти никогда не
придерживались какой-либо одной системы философии, но
оставляли свободное поле для отыскания истины, какая бы
система этому ни способствовала; особенно трудно было
бы придерживаться одной системы в исследовании
природы, поскольку здесь нужно помогать открытиям, которые
могут проистекать только из подлинной действительности,
и невозможно предвидеть, что они обнаружат и с какой
системой их можно будет согласовать. Придерживаясь
одной системы, академии принесли бы вред наукам, как
литературные академии — литературе. Неоспоримо то, что
литература, хотя имеет свои правила, все же никогда не
получала пользы, если эти правила четко определялись,
провозглашались обязательными и превращались в свод
законов. Все великие греческие поэты жили до Аристотеля,
все великие поэты Рима — до Горация или одновременно
с ним. Но разве нет пользы в том, что хорошему вкусу
оказывают поддержку, распространяют его, делают нормой
для литературных произведений? Конечно, хороший вкус
326
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
нужен народу, но им должен обладать каждый человек
в отдельности и весь народ в целом, а не какое-либо
законодательствующее и захватившее диктатуру
объединение педантов.
Прежде всего, нелегко способствовать созданию
гениальных творений. Почести, слава, рукоплескания и выгоды
суть могучие средства, способствующие их появлению, —
но не те почести и не та слава, которые воздаются
рукоплесканиями какой-нибудь академии. У древних греков и
даже римлян были публичные литературные состязания,
и Геродот писал свою историю, чтобы прочесть ее народу.
Но такие вещи побуждают куда сильнее, нежели мысль о
маленьком обществе, сплошь состоящем из самых
образованных и начитанных особ, где невозможно произвести
того впечатления, какое производят на народ; к тому же
для удовольствия критиков пишут: 1) со страхом, а это
пагубно; 2) стараясь найти побольше необычного,
утонченного, остроумного, словом — тысячи пустяков. Только когда
слушателем будет народ, это может способствовать
оригинальности, величию и естественности сочинения.
Во-вторых, если помогать гению бесполезно, если шпоры ничего
не дают ему, то узда его убивает, — я имею в виду узду,
налагаемую чужим, а не его собственным суждением. Если
же нет гения, то тут бесполезны любые лекарства;
литературному же наставничеству никто никогда не был
обязан литературными достоинствами, если нет добрых
обычаев (я разумею верное суждение и хороший вкус).
Однако, если вкус извращен, разве не принесет пользы попытка
восстановить его, распространить хороший вкус и т. д.?
Принесет, — но лишь в том, что благодаря усилиям
академий перестанут писать плохо; а чтобы стали писать
хорошо,— этого им не добиться. Аркадия была учреждена ради
того, чтобы изгнать манеру семнадцатого столетия. Та
была изгнана, но «аркадский стиль» стал насмешливой
кличкой, в Италии ее дают стихам, про которые можно
сказать «ни рыба, ни мясо». Какое же средство против
дурного вкуса найдете вы теперь? Я повторю то, что
сказал в начале моих размышлений. Все просвещенные
народы после золотого века пережили век извращенности и
затем оправились после него; но с той поры число
подлинно великих писателей, сравнимых с прежними (я имею в
виду литературу, а не мысль, философию и т. д.), одним
словом, примеров вновь наступившего золотого века я еще
327
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ни разу не видел *. В лучшие века великие писатели имели .
перед собой образцы того хорошего, чему они должны бы- .
ли следовать, а не того дурного, чего им надобно было '
избегать. Образцы первого рода могут принести пользу,
вторые лишь вредят. Я имею в виду вот что: если и были ]
плохие писатели, они не составляли целого разряда и о \
них известно было — приблизительно и в общих чертах— *
то обстоятельство, что они никому не нравятся, а не при- s
чины, почему они не нравятся. Представление об их поро- -:
ках не было уточнено, их недостатки — досконально
разобраны, хотя в действительности мы видим, что даже
величайшие писатели порой делали детские ошибки. Одним ,
словом, учение о том, что хорошо и что плохо, еще не <
составилось и не было разработано до мелочей. Его место ;
занимал природный вкус. После века извращенности
писатели поднимаются в полной растерянности. Появля- ;
ются сомнения, страхи, мелочность. Все взвешивается,
зрение становится искусственным, потому что никто не ;
верит, что довольно и естественного вкуса, искусство и
критика поднимаются все выше, природа утрачивается
(быть может, она сохраняет больше силы в век порчи,
нежели в следующий за ним), возникают произведения
совершенные, но не прекрасные. (2 июля 1820).
[152—153]. Сила и плодовитость воображения — вещи
разные, и одна вполне может существовать без другой.
Сильным было воображение у Гомера и Данте,
плодовитым у Овидия и Ариосто. Это различие следует всегда
иметь в виду, когда поэта или кого угодно хвалят за его
воображение. Сильное воображение приносит человеку
несчастье, делая глубокими все его чувствования,
плодовитое воображение, напротив того, радует его своим
разнообразием и той легкостью, с какой оно и
останавливается на любом предмете и покидает его, — то есть обилием
развлечений. Отсюда возникает и разница характеров.
Характер первого — суровый, страстный, обычно (в наше
время) меланхолический, с глубокими чувствами и.стра- .
стями, склонный переносить жизнь как тяжкое страдание.
Характер второго — шутливый, легкий, подвижный,
непостоянный в любви, приверженный острословию, не способ-
* $ переводе сохранена конструкция фразы оригинала. (Прцмеч перев.),
328
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
ный на сильную и длительную страсть или душевную
скорбь, легко утешающийся даже в самых больших
несчастьях и т. д. Узнайте в этих двух характерах правдивые
портреты Данте и Овидия — и вы увидите, что разница
их поэзии точь-в-точь отвечает разнице их жизни.
Заметьте также, сколь по-разному Данте и Овидий чувствовали
и переносили свое изгнание. Так одна и та же способность
человеческой души порождает противоположные страсти
в зависимости от свойств, которые и ее самое чуть ли не
превращают в две разные способности. Глубокое
воображение, по-моему, не очень-то сочетается с храбростью,
потому что оно показывает нам опасность, боль и проч. с
большой живостью — куда большей, нежели размышление,
потому что второе рассказывает, между тем как первое
живописует. По-моему, воображение людей отважных (они
не должны быть лишены его, потому что воодушевление
всегда сопутствует воображению и проистекает из него),
скорее, принадлежит ко второму роду. (5 июля 1820).
[154—158]. Из того, что говорит Монтескье9 («Опыт
о вкусе. Об удовольствиях души», стр. 360—370), сделайте
вывод, что правила в литературе и в изящных искусствах
никак не могут быть всеобщими и годными для каждого.
Но верно и то, что форма существования человека в
главном и в основном одинакова для всех, а потому
важнейшие правила словесности и изящных искусств становятся
всеобщими. Есть лишь небольшие и не столь важные
различия между народами, между отдельными людьми и
прежде всего — между веками. Если бы все люди, подобно
многим, были близоруки, архитектура во многих своих
частях оказалась бы с изъянами и следовало бы ее
преобразовать. И наоборот. Теперь же она обладает изъянами
только для близоруких. Дух восточных людей был и
остается более живым, быстрым, плодовитым и т. д., чем у
европейцев. Поэтому та преизбыточность, которую мы
замечаем в их поэзии и т. д. и которая была бы для нас
пороком, могла бы им и не быть или быть в меньшей
степени у народа, более способного последовать душой за
манерой поэта и понять ее. То же самое скажите о
темноте, о чрезмерном обилии метафор, о мелочности, об
излишних подробностях, о напыщенности и т. д. и т. д.
Такое же различие сделайте и между народами Европы и не
329
ДЖакомо леопарди. этика и эстетика
осуждайте литературу одного из них за то, что она не
похожа на другую, признанную классической. Типа или
формы прекрасного не существует, оно есть не что иное,
как идея сообразного. То, что идеи вещей существовали
до них самих, так что вещи не могли бы существовать
иными, было лишь грезой Платона 10 (смотри Монтескье,
там же, глава I, стр. 366); на самом же деле форма их
существования произвольна и зависит лишь от их творца,
как говорит Монтескье, и нет им иной причины быть
такими, а не другими, кроме воли того, кто их создал. И кто
знает, не существует ли другой системы вещей или
бесчисленного множества систем, столь непохожих на нашу, что
мы их не можем даже представить себе? Но мы, отбросив
грезу Платона, сохраняем грезу о некоем воображаемом
типе прекрасного (смотри «Рассуждение» Дж. Босси11 в
«Итальянской библиотеке»). Итак, коль скоро сама идея
сообразного является всеобщей, а критическое суждение
о том, какие вещи сообразны друг другу, зависит от
мнений, от характеров, от обычаев и т. д., то из этого следует,
что литература и искусства, хотя по указанной выше
причине и подчинены в главной своей сущности всеобщим
правилам, все же во многих частностях должны
бесконечно меняться, и не только в соответствии с различиями
природы, но и в соответствии с различными изменениями
свойств человека, таких как мнения, вкусы, обычаи и
проч., которые и внушают людям различные идеи об
относительной сообразности.
Нужно различать звук (под этим словом я разумею и
пение) и гармонию. Звук есть материя музыки, как
краска — материя живописи, мрамор — ваяния и т. д.
Естественное и общее действие, оказываемое на нас музыкой,
проистекает не из гармонии, но из звука, который нас
электризует и заставляет содрогаться с первого же
мгновения, даже если это звук однообразный.
В этом-то и заключается особенность, которая отличает
музыку от других искусств, — хотя и красивый, яркий цвет
оказывает на нас действие, но не такое сильное. И то и
другое не красота, а природные воздействия и влияния.
Гармония изменяет действие звука, и в этом (только это
одно и принадлежит искусству) музыка не отличается от
прочих искусств, поскольку достоинства гармонии заклю-
330
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
чаются в подражании природе, если воплощается
что-нибудь определенное, или в соответствии идее сообразного,
приложенной к звукам, — идее произвольной и различной
у разных народов. Итак, нетрудно представить себе, что
звук оказывает действие и на животных, но это не
случится непременно, и звуки не будут во что бы то ни стало те
самые, которые производят действие на человека (ведь
мы видим, что и среди людей некоторые народы получают
удовольствие от звуков, которые ничуть не похожи на
наши и были бы для нас невыносимы). Органы животных
и независимо от этого форма их существования
отличаются от наших, и мы не можем знать, как сказывается это
отличие. Если оно не так уж велико и если по крайней
мере сохраняется нечто общее с нами, звук поразит
подобных животных, как мы это читаем о дельфинах и о змеях
(смотри у Шатобриана) 12. Но гармония — это красота.
Красота не самостоятельна, она зависит от представления
о сообразности, которое каждый составляет для себя;
следовательно, если животные и могут иметь отвлеченное
понятие о гармонии, это не значит, что гармонией и красотой
для них будет то же, что для нас. Таким образом, не
музыка как искусство, а его материя, то есть звук, окажет
действие на некоторых животных. В самом деле, как
можем мы притязать на то, чтобы животные находили вкус
в нашей гармонии, если столько людей не находят в ней
вкуса? Я говорю и о многих отдельных лицах среди нас,
и о целых народах, например о турках, чья музыка
кажется нам неблагозвучной и негармонической. Исключением
будет случай, когда какое-нибудь животное окажется в
расположении духа, настолько похожем на наше, что в
музыке сможет услышать — хотя бы не целиком, а только
отчасти — ту гармонию, которую слышим в ней мы, или,
иначе говоря, счесть гармоничным то же, что считаем мы.
Хотя представить себе такое действие много труднее,
нежели указанное выше действие звука, тем не менее оно не
совсем невероятно. (6 июля 1820).
Это разделение звука и гармонии, из которых один
производит естественное действие, независимое от
искусства и общее для всех людей (произвольное действие
природы, не неизбежное в отвлеченном виде), а другая —
действие, в отвлеченном виде естественное, но в единичных
проявлениях зависящее от искусства, поможет вам понять,
почему животные, на которых иногда влияет музыка, не
331
ДЖАК0М0 ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
испытывают влияния других искусств. Дело в том, что I
сама материя музыки по своей природе так сильно и не- 1
укоснительно воздействует на человека, что нет ничего 1
удивительного, если ее сила распространяется и на другие 1
живые существа, те, что этой стороной своей натуры, быть 1
может, больше походят на человека. Не то — материя дру- I
гих искусств, за исключением красок, которые оказывают I
естественное действие на человека и, как я предполагаю 1
по закону аналогии (я допускаю его не потому, что при- 1
рода с необходимостью должна соблюдать его, но потому, I
что мы видим, как он ею соблюдается), могут доставить 1
некоторое наслаждение и животным, чему, верно, можно 1
было бы отыскать доказательства. Прочие же искусства, 1
поскольку не влияют на животных своей материей, кото- 1
рая только в музыке обладает естественной и независимой 1
от искусства силой воздействия, постольку не могут произ- 1
вести влияния на животных и сами по себе, тем более что 1
у животных иная идея прекрасного, чем у нас, да и среди 1
нас она не у всех одинакова. Что же до подражания дей- 1
ствительности, которое вызывает в нас естественное чув- I
ство удивления, то, быть может, оно пробуждает это 1
чувство и в них, хотя и незаметно для нас, а может быть, 1
они и не понимают подражания и принимают воспроизве- 1
денные предметы за подлинные или, наконец (это, по-ви- 1
димому, и происходит обыкновенно), они составляют себе 1
о таких предметах искусства смутное представление, коле- 1
блющееся между подлинным предметом и другим, напоми- 1
нающим его, коль скоро они не могут знать всего извест- I
ного нам о художнике, о его манере, о трудности подра- |
жать таким образом и т. д. — словом, того, что и I
возбуждает удивление. Действительно, вы могли бы уви- 1
деть, что многих дикарей прекрасные подражания наших 1
искусств не только'не удивляют сильнее, чем нас, но лишь 1
едва задевают. 1
В остальном же и относительно красоты и относитель- 1
но всего прочего', принадлежащего к искусству, следует 1
всегда помнить о разных формах существования, о нерав- 1
ной способности понимать, воспроизводить, возбуждаться I
и проч., и этим нужно руководствоваться, проводя сравне- 1
ние между человеком и другими живыми существами и 1
даже между людьми; не следует также считать необходи- 1
мым, абсолютным и потому всеобщим то, что произвольно 1
и относительно и в человеке и в любом живом существе 1
332
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
и потому в других существах может и не быть в наличии
или быть совершенно другим.
Удовольствие, которое доставляет нам звук, не
подходит под категорию прекрасного; оно подобно удовольствию
от какого-либо вкуса, запаха и т. д. Природа дала
каждому из чувств свои удовольствия. Но особенность звука
состоит в том, что действие, которое он производит сам по
себе, более духовно, чем действие пищи, запахов,
осязаемых предметов и проч. И все же заметьте, что запахи,
хотя и в значительно меньшей степени, обладают той же
особенностью, пробуждая воображение и т. д. Значит, сама
духовность звука есть результат физического ощущения
наших органов; и на самом деле, нет нужды во внимании
души, потому что звук непосредственно влечет ее к себе и
все волнение происходит от самого звука, даже если душа
почти что его не замечает. Между тем красота,
естественная или искусственная, не произведет действия, если душа
не будет особым образом расположена к ее восприятию,
и потому удовольствие от нее нужно признать
рассудочным. В этом-то и кроется главная причина
непосредственности оказываемого музыкой действия, в отличие от
других искусств, — смотри в этих размышлениях, стр. 79.
(7 июля 1820).
[186—188]. Мне кажется убедительной та причина,
которую приводит Монтескье («Опыт о вкусе. Об
удовольствии, доставляемом симметрией»), объясняя, почему душа
«в большинстве вещей любит видеть род симметрии», что,
по его мнению, «заключает в себе некое противоречие».
«Одна из главных причин удовольствия, которое
испытывает наша душа при виде предметов, — это легкость, с
какой она может их воспринять; а симметрия нравится душе
на том основании, что избавляет ее от труда, помогает
ей, сберегает ей, так сказать, половину дела. Отсюда
следует общее правило: везде, где симметрия полезна душе
и может помочь ей в ее обязанностях, она ей приятна; но
повсюду, где она бесполезна, она кажется пресной, потому
что убивает разнообразие. Таким образом, вещи, которые
мы видим в последовательности, должны обладать
разнообразием, потому что наша душа может увидеть их без
333
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
— . . . _ . ^
всякого затруднения; наоборот, те вещи, которые мы
воспринимаем одним взглядом, — фасад здания, партер, |
храм, — в них вкладывают симметрию, которая приятна
душе из-за той легкости, с которой симметрия позволяет
ей сразу же охватить весь предмет». Я спрашиваю,
почему мы, хотя воспринимаем сельскую местность, естествен- I
ный или написанный на полотне ландшафт и т. д. одним ]
взглядом, так же как и партер, и хотя предметы, видимые 1
нами и там и тут, те же самые, все же в ландшафте же- j
лаем разнообразия, а в партере — симметрии? Почему в 1
английских парках нам точно так же нравится разнообра- I
зие, а не симметрия? Истинная причина заключается в |
следующем. Названные удовольствия, как и большая I
часть удовольствий, доставляемых зрением, как и все удо- 1
вольствия, доставляемые симметрией, принадлежат к обла- ]
сти прекрасного. Прекрасное зависит от сообразности. ]
Симметрия не тождественна сообразию, она составляет 1
лишь его часть или же его разновидность, которая в свою 1
очередь зависит от мнений, вкусов и т. д., определяющих 1
идею соразмерности, сообразия и т. д. Относительная |
сообразность зависит от тех же мнений, вкусов и т. д. 1
Так что везде, где наш вкус независимо ни от каких ]
врожденных и всеобщих причин считает сообразной сим- 1
метрию, там он ее и требует, а где не считает ее сообраз- 1
ной, там не требует; если же он считает подобающим |
разнообразие, то и требует разнообразия. Это настолько |
верно, что хотя обычно и говорится, будто разнообразие |
есть первейшее из достоинств сельского вида, все же, по- 1
скольку и такой вкус относителен, найдутся любители |
некоторой симметрии в сельских ландшафтах — например, ]
тосканцы, которые привыкли видеть за городом множество 1
садов. Так же и мы по привычке любим правильность 1
виноградников, высаженных в ряд деревьев и других pa- 1
стений, борозд и т. д., между тем как правильность горной I
цепи огорчила бы нас. При чем тут полезное и бесполез- |
ное? Почему в предметах одинаковых по природе оно 1
иногда проявляет свою силу, а иногда нет? Или в одних 1
людях проявляет ее, в других нет? Больше того, одни и те j
же деревья нравятся нам и правильно размещенными в I
насаженной роще, и беспорядочно растущими в лесу, в 1
боскете и т. д. Симметрия и разнообразие — действие ис- 1
кусства и действие природы — суть два разных рода красо- 1
ты. Оба нравятся нам, только бы были к месту. Потому 1
331
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
неправильность в произведении искусства обыкновенно
нас choque* (за исключением тех, которые суть чистые
подражания природе — например, английские сады),
потому что от них мы ждем обратного; а правильность не
нравится нам в тех вещах, которые мы хотели бы видеть
естественными, поскольку нам не кажется, что
правильность подобает природе, — если только мы не привыкли к
этому, как тосканцы. (20 июля 1820).
[189—190]. Нарочитость обыкновенно порождает
однообразие. Потому она и ведет так быстро к пресыщению.
Заметьте, что, читая любые сочинения ложного,
неестественного вкуса, как и многие иностранные стихи или всю
восточную поэзию, вы испытаете такое же чувство
однообразия, как при рассматривании готических статуй, о
которых говорит Монтескье, там же, «О контрастах», стр. 383.
И это — даже в тех случаях, когда поэт или писатель изо
всех сил старался быть разнообразным. Причины: 1)
Искусство по своему богатству никогда не сравнится с
природой; более того, мы видим, как исчезает разнообразие,
едва вмешивается искусство, в людских характерах,
обычаях и мнениях и во всей огромной системе человеческой
природы, прежде полной разнообразия как в мыслях и
фантазиях, так и в материальной ее стороне, а теперь
сделавшейся через искусство столь однообразной. Отсюда
и нарочитость. 2) Непрестанная нарочитость сама по себе
есть уже однообразие — постольку, поскольку она
становится постоянным свойством произведения искусства. Не
говорите, однако, что в таком случае и постоянная
естественность окажется непременно однообразной: 1)
естественность не выпирает, не утомляет, не бросается в глаза,
как нарочитость (качество, чуждое самой вещи), за
исключением тех случаев, когда она сама будет намеренной и
нарочитой, но тогда она перестает быть естественностью
и становится нарочитостью, что очень часто бывает в
названных стихах; 2) естественность едва ли может быть
названа свойством или манерой, потому что она не есть
свойство или манера, чуждые самим предметам, но есть
естественная манера обращаться с ними — такими, какие
есть; иначе говоря, эта манера заключает в себе тысячу
* Шокирует (франц.).
335
I
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА I
разных манер, отчего и предметы в поэзии, в прозаиче- |
ском сочинении, в любом правдивом подражании остаются |
такими же разнообразными, как в природе. Приложите эти 1
наблюдения также к искусствам, например к фламанд- j
ским пейзажам в сравнении с пейзажами венецианца |
Каналетто 13 <...> или к листам Альбрехта Дюрера, где |
тщательность гравировки, достигнутая с трудом, придает |
одинаковый и однообразный цвет разнообразнейшим пред- 1
метам, во всем прочем воспроизведенным превосходно и с 1
большим разнообразием. Так получается, что мнимая не- 1
брежность и невнимание, оставляя все предметы в сочине- 1
нии (или в картине и т. д.) случайно набросанными, слов- 1
но они упали туда естественным образом, несомненно, 1
будут источником разнообразия и потому не утомят чита- I
теля, как другие свойства сочинения, даже, например, 1
изящество: ибо ничто не утомляет меньше, нежели непри- 1
нужденность. (28 июля 1820). 1
[203—204]. Нарочитость вредит также удивлению, глав- 1
ному источнику наслаждения в искусстве. Во-первых, зна- I
ние намерений уничтожает неожиданность. И потом, самое 1
главное, ты не замечаешь чрезвычайной трудности в фи- I
гуре, даже самой схожей с действительностью, но выпол- I
ненной с натугой. Помимо того, что всякая натуга уводит 1
от подлинности, ибо подлинной может быть только есте- 1
ственность, — нет ничего удивительного в том, что тебе 1
ценой огромного труда удалось достичь желаемого. И нет 1
ничего удивительного в том, что ты что-нибудь сделал, 1
желая сделать именно это; иное дело, если бы ты сделал I
все так, чтобы другие не заметили твоего намерения еде- 1
лать именно это. Нетрудно сделать нечто трудное с трудом, 1
трудно сделать его так, чтобы оно казалось легким. В этом 1
и состоит контраст между знаемой нами трудностью вещи 1
и кажущейся легкостью ее выполнения. Нарочитость унич- i
тожает этот контраст и т. д. и т. д. Смотри, если хочешь: щ
Монтескье «Опыт о вкусе» Амстердам, 1781; «Q неулови- щ
мом»; стр. 396—397 (9 августа 1820).
[231]. Гомер и Данте знали очень много для своего
времени и даже больше, чем знает немалая часть
образованных людей в наши дни, то есть не только по сравнению
336
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
со своим Ёеком, но и безотносительно. Нужно различать
знание Вещественное и знание философское, знание
физическое и математическое, знание явлений и знание причин.
Первое необходимо для плодотворного и богатого
воображения, для точности, истинности, наглядности и силы
подражания. Второе не может не повредить поэту. Значит,
поэту весьма полезно образование, тогда как незнание
причин дает поэту возможность, говоря не только о других,
но и о самом себе, приписывать явления, которые он видит
или знает, причинам, которые измышляет его воображение.
(5 сентября 1820).
[237]. Нарочитость тоже относительна, и то, что
покажется нарочитым в одной стране, в другой таковым не
покажется, что будет нарочитым в одном языке, не будет
в другом, или в одном покажется более, в другом менее
нарочитым в зависимости от привычек, мнений и т. д.
Выражение чувствительности, вполне пристойное во Франции;,
покажется у нас нарочитым, пристойное у нас было бы;
нарочитым для древних. Грация французов, нарочитая*
для нас, не будет таковой для них. И однако, нет
сомнения, что естественность имеет в себе нечто определенное*,
и всеобщее, узнать его и найти в нем вкус может любой;;
но если ее наличие узнается тотчас, то привычки и проч.
нередко мешают нам быть choques ее отсутствием и
заметить его <...>. (10 сентября 1820).
[257—261]. В изящных искусствах следует отличать
восторг, воображение, жар и т. д. от изобретательности,
прежде всего в нахождении сюжетов. Вид прекрасной
природы пробуждает восторг. Если восторг овладеет тем, у
кого уже есть в руках сюжет, то восторг этот поможет,
сообщив большую силу воплощению сюжета и
оригинальность вещам второстепенным, то есть его частям, стилю,
образам, одним словом, всему, что относится к
воплощению; однако едва ли восторг поможет отысканию самого
сюжета. Помочь и в этом он может, только если сам
относится к тому же предмету или им вызван; таков,
например, восторг, порождаемый страстью. Но восторг
беспредметный, смутный, неопределенный, какой нередко
испытывают одаренные люди, слушая музыку, любуясь природой.
337
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
и т. д., никоим образом не способствует отысканию
сюжета и даже его частей, потому что в такие мгновения
человек как бы вне себя, он отдается увлекающей его
внешней силе, он неспособен ни собрать, ни запечатлеть
свои идеи, ни удержать увиденное, его дух становится
бесконечным, беспредельным, летучим и столь изменчивым
и щедрым, что не терпит ни порядка, ни правила и теряет
всякую способность вычислять, располагать, выбирать или
хотя бы ясно и полно составить какой-нибудь замысел, а
тем более saisir* некую точку (то есть сюжет), к которой
можно свести все его ухищрения и фантазии, не имеющие
средоточия. Даже испытывая, как я сказал, восторг
страсти и желая выбрать сюжетом саму страсть, вы, если
восторг будет поистине живым и неподдельным, не сумеете
определить для себя доступную разработке форму этого
сюжета. В сущности, для нахождения имеющих форму и
границы сюжетов, даже самых простых (иначе говоря, для
первого их замысла), не только не нужен, но и вреден
тот миг, когда мы охвачены жаром восторга и
воображение наше взволновано. Для этого нужно время, когда мы
чувствуем свою силу, но спокойны, время, когда с нами
наш гений, а не наш восторг (или, скорее, когда мы
находимся под действием гения, но не восторга); время, когда
дает себя чувствовать минувший восторг или восторг
приближающийся, или обычный для нас, но не восторг
сиюминутный; время, так сказать, сумерек восторга, а не его
полудня. Нередко бывает благоприятным такое мгновение,
когда после только что испытанного восторга или сильного
чувства душа, уже успокоившись, снова приходит в
волнение, как море после бури, и с наслаждением вызывает в
памяти минувшее чувство. Это, быть может, самое
благоприятное время, в такие минуты чаще всего замышляются
оригинальные сюжеты и оригинальные их части. И вообще
можно сказать," что в поэзии и в изящных искусствах
проявления восторга, пылкого воображения и
чувствительности — в том, что касается автора — суть скорее
непосредственные плоды воспоминаний о восторге, нежели самого
восторга. (2 октября 1820). Между тем общее мнение,
истинное лишь на первый взгляд, признает, что восторг
порождает и изобретательность и все замыслы, а
спокойствие необходимо для наилучшего их исполнения; я же
* Ухватить (франц.).
338
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
утверждаю, что восторг вредит или, вернее, мешает именно
изобретательности (ибо ей нужна определенность, а
восторг очень далек от всякого рода определенности), зато
полезен при исполнении, потому что распаляет поэта ОТ
художника, оживляет стиль, весьма способствует
созданию, расположению и т. д. частей, то есть всему тому,™
очень легко получается холодным и однообразным, когда
автор утратил первые побуждения оригинальности. (3
октября 1820).
Гениальные творения, даже когда они живейшим
образом являют нам ничтожество всех вещей и воочию
показывают и дают почувствовать неизбежность несчастья в
жизни, даже когда в них выражено самое страшное
отчаяние, все же обладают свойством всегда утешать высокую
душу, пусть она и до последней крайности угнетена,
разочарована, уничтожена, полна скуки и страха перед
жизнью, пусть ее одолевают самые горькие и смертельные
бедствия (вызваны ли они сильной и глубокой страстью
или чем-либо иным). Эти творения вновь воспламеняют
ее восторгом, и даже если речь в них идет лишь о смерти,
все равно они хоть на мгновение возвращают ей
утраченную жизнь. То, что, будучи увидено в подлинной
действительности, умерщвляет и убивает душу, — все это
открывает и животворит наше сердце, когда мы видим его
воспроизведенным с помощью подражания или как-либо иначе
в гениальном творении (я разумею, например, лирику,
которая не есть собственно подражание). Так получается,
что и автор, описывая и так сильно чувствуя тщету
иллюзий, все же сохраняет немалый их запас, о чем оп сам
свидетельствует, старательно описывая их тщетность<•••>,
и равным образом читатель, разочарованный сам по себе
и чтением еще более утвержденный в своем
разочаровании, все же вводится автором в тот же обман и
заражается от него питаемой в глубочайших тайниках души
иллюзией. Точно так же познание безысходной тщетности щ
лживости всего прекрасного и великого наполняет нам
душу некоторым ощущением красоты и величия, когда мы
находим это знание в гениальных творениях. Точно так же
именно зрелище ничтожества всего сущего в этих
творениях и возвеличивает душу читателя, возносит ее, дает
ей возможность найти удовлетворение в самой себе и в
339
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
собственном отчаянии. (Это — великое дело, рождающее
наслаждение и восторг, — в нем и состоит главная сила
действия поэзии, — когда ей удается внушить читателю
более высокое понятие о себе, о своих несчастьях, о самой
своей угнетенности и подавленности духа.) Помимо этого
чувство ничтожества есть ощущение чего-то смертоносного
и мертвого. Но если само это чувство будет живым, как
в указанном мною случае, его живость возьмет верх в
душе читателя над ощущением ничтожества того предмета,
от которого душа его испытала, и она (хотя бы на
короткий срок) обретет жизнь с тою же силой, с какой она
чувствует смерть всех вещей и свою собственную.
Немаловажное и весьма мучительное последствие знания всеобщего
ничтожества состоит в равнодушии и нечувствительности
к этому самому ничтожеству, которые вселяет в нас и
естественно должно вселять такое знание. Чтение, о котором
я говорил, или созерцание гениального творения устраняет
эту нечувствительность и равнодушие, делает нас
чувствительным к ничтожеству всех вещей, и в этом кроется
основная причина названного мною явления.
Замечу также, что названное явление происходит с
большим трудом при чтении угрюмых и мрачных стихов
северян, особенно стихов современных, например лорда
Байрона, нежели при чтении южан, которые в самых
мрачных, отчаянных и горестных по содержанию вещах
сохраняют луч света. Чтение Петрарки, к примеру его
«Триумфов», или разговора Приама с Ахиллом, или еще
«Вертера» производит подобное действие куда легче, чем
«Гяур» или «Корсар» и т. д., хотя они описывают и
показывают ту же несчастную людскую участь и тщету всего
сущего. (4 октября 1820). Помню, что, прочитав
«Вертера», я с особой пылкостью ощутил свое отчаяние, а
прочитав Байрона, остался холодным и не испытал ни
малейшего восторга, не говоря уж об утешении. И наверняка
лорд Байрон не сделал меня более чувствительным к
моему отчаянию, напротив того, я стал еще более
бесчувственным и каменным. (5 октября 1820).
[269]. Чистая красота, порожденная правильным и
неукоснительным сообразием, редко пробуждает сильную
страсть (как говорит Монтескьеи, по той же причине,
почему разум действует бесконечно слабее, нежели приро-
340
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
да). Такая красота подобна разуму, она не предполагает
ни жизни, ни тепла и в самой себе и в созерцающем ее.
Наоборот, лицо, не лишенное изъянов, но живое,
прелестное и проч., или человек, наделенный прихотливой,
чувствительной и проч. душою, застает врасплох,
распаляет того, кто на него смотрит, вызывает в нем ответную
прихоть — без всяких правил, без неукоснительности, без
разумных причин и т. д. Так сильные страсти родятся
чаще всего от прихотливого, от необычайного, и никакой
разумной причиной их оправдать невозможно. (10
октября 1820).
[276—277]. Сообразность, из которой родится красота,
распространяется не только на части всякой вещи. Многие
вещи столь просты, что не имеют частей. И нравственная
красота, как и всякая красота, не постигаемая чувствами,
не имеет частей. Сообразие должно соблюдаться и в
отношениях всей вещи в целом или ее частей с тем, что вне
ее: с ее назначением, ее целью, пользой, с местом,
временем и всякого рода обстоятельствами, с действием, которое
она производит или должна производить и т. д. Шпага
с драгоценным камнем на острие, даже если этот камень
превосходно гармонирует с прочими ее украшениями, с ее
размерами, с формой, с материалом, из которого она
сделана, все равно была бы уродлива. Это уродство
заключалось бы не в несоразмерности и несообразности частей
и не в том, что они не гармонировали бы друг с другом,
но в том, что одна из частей не отвечала бы назначению
и цели предмета. Такого же рода бывает в бесчисленном
множестве случаев красота или безобразие,
воспринимаемые как чувствами, так и рассудком — нравственные,
литературные и проч. (14 октября 1820).
[285—287]. К поэзии (и к другим вещам,
прикосновенным или близким к ней) можно применить слова,
сказанные мною в другом месте: для великих деяний
необходимо смешение убежденности и страсти или иллюзии.
Поэзия тоже, чтобы внушить удивление или всякое другое
чувство или побуждение, нуждается в некоторой доле лжи,
которая, однако, могла бы убеждать, и не по обычным
правилам правдоподобия, но и каким-то особым образом,
341
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
заставляя нас верить, что дело обстоит или могло бы
обстоять действительно так. Поэтому древняя мифология
или другой схожий с нею поэтический вымысел наделены
всем необходимым, чтобы внушать страсти, иллюзии и т. д.,
но убедительности им не хватает, почему мифология и не
может больше произвести прежнего действия, — особенно
в вещах современного содержания, потому что там, где
содержание заимствовано из древности, наша привычка
придает ей некую убедительность, особенно если и сам
поэт будет древним; ведь само представление о деяниях
древних, об их временах, их поэзии неразрывно связано
для нас с этими вымыслами, которые кажутся нам
естественными и чуть ли не убеждают нас — в силу привычки,
мешающей нам отделить их от поэтов, времен и событий, —
и мы машинально позволяем убедить себя, что дело
обстояло именно так, убедить настолько, насколько это
нужно, чтобы поэзия оказала свое действие. Но попробуйте
заново применить эти или подобные вымыслы либо к
другим взятым из древности предметам, либо, в еще большей
степени, к предметам более поздним или современным,—
и мы всегда найдем нечто сухое и лживое, из-за
отсутствия той самой особой убедительности ясно ощущаемое,
несмотря на то, что по части прекрасного, воображаемого,
удивительного и т. д. все может быть совершенно. По
части убедительности даже Тассо никогда не произведет
того же действия, что древние поэты, хотя все сказочное
и чудесное у него заимствовано из христианской религии.
Но теперь, когда повсюду так возросло и распространилось
просвещение, никакой новый или вновь примененный
вымысел не найдет пути к нашему разуму за отсутствием
той привычки, что заменяет все остальное, когда дело
идет о древних поэтах. В этом и состоит главная причина,
по которой поэзия наших дней не может произвести такого
сильного действия — ни удивить или доставить
наслаждение, ни зажечь душу, пробудить страсть и т. д., ни
подвигнуть на великие дела и т. д. Тем более что и
христианская религия не так подходит для убедительного
вымысла, как языческая. Во всяком случае, из предшествующих
наблюдений бесспорно следует, что, коль скоро языческая
религия не может произвести в наши дни прежнего
действия, поэт должен основываться на религии христианской,
которая, если взяться за нее с умением и с разумным
выбором, может и по части удивления и по части внушае-
342
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
мых чувств произвести достаточное и даже немалое
впечатление. (19 октября 1820).
[288—289]. Хотелось бы, чтобы все всегда были
совершенны в своем роде. Однако, поскольку во всех
разновидностях вещей совершенство весьма редко, те, кто
подражает и воспроизводит, обыкновенно подмешивают в свое
подражание какой-нибудь изъян, то есть избирают для
подражания и рисуют человека с изъянами, чтобы сделать
подражание более правдоподобным и достоверным,
обмануть нас и убедить, будто вымышленное истинно. И между
тем как изъян снижает цену избранного для подражания
предмета и порицается в нем, он же повышает ценность
подражания и заслуживает в нем похвалы. Так, если ты
хочешь воспроизвести жемчужное ожерелье, ты не станешь
делать все жемчужины безупречно круглыми, хотя в
настоящем ожерелье такие зерна были бы весьма
желательны. Вместо того чтобы воспроизвести неоценимый
самоцвет, ты выберешь для подражания камень умеренной
цены. Поэтому же мы всегда будем больше хвалить
Гомерова Ахилла, не лишенного изъянов, нежели Энея,
совершенного героя Вергилия, — по причине достоверности
и выгоды, которую извлекают из нее иллюзия и
убедительность. Распространим это наблюдение, чтобы им
руководствовались все поэты и, выбирая предмет для подражания,
отказались бы не только от чрезмерного совершенства, но
и от чрезмерного несовершенства, с которым дело обстоит
точно таким же образом. Приложите последнее
соображение к героям лорда Байрона. (20 октября 1820).
[319—320]. Квинтилиан I, 10, 1, говорит: «Стоит ли
упоминать о безыскусной приятности Ксенофонта, за
которой, однако, не угнаться никакому нарочитому искусству?»
Спору нет, всякая красота в искусствах и в словесности
проистекает из природы, а не из нарочитости. Переводчик
же по необходимости бывает нарочитым, то есть силится
передать чужой характер и слог, повторить сказанное
другим в манере и вкусе сказавшего. Потому взгляните,
как труден хороший перевод в изящной литературе —
труд, в котором должны сочетаться свойства на первый
взгляд несогласующиеся, несовместимые и противоречащие
343
ДЖАКОМО ЛЁОПАРДЙ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
друг Другу. Особенно когда одно из главных достоинств
подлинника состоит как раз в неподдельности,
естественности и безыскусное™, между тем как переводчик по
природе своей не может быть безыскусным. Но, с другой
стороны, нарочитость, о которой я говорил, так необходима
переводчику, что в том случае, если достоинства слога не
составляют сильной стороны подлинника, перевод, не
стремящийся подражать названному его свойству, можно
назвать расчленением текста пополам, а в том случае,
когда в достоинствах слога заключен главный интерес
сочинения (так обстоит дело с большей частью древних
классиков), такой перевод будет уже не переводом, а
софистическим подражанием, компиляцией, мумией или в
лучшем случае — другим произведением. Французы легко
отделываются от этой трудности, потому что в своих
переводах они ни под кого не подделываются. Поэтому у них
нет ни одного перевода (пусть себе нахваливают Делиля 15
и воображают, будто это настоящий Вергилий!), а есть
только отчеты о содержании иностранных сочинений или
же оригинальные произведения, составленные из чужих
мыслей.
[725—735]. Творческая сила духа, связанная с
воображением, была присуща исключительно древним. С тех пор 1
как человек стал неизменно несчастен и, что много хуже, |
узнал об этом, чем и сделал свою несчастливость осязае- 1
мой и нерушимой; с тех пор как он познал самого себя ]
и все сущее глубже, чем должен был бы, с тех пор как ]
мир стал философом — воображение поистине сильное, |
цветущее, богатое и плодотворное свойственно разве что 1
детям да еще людям с малым опытом и малым образо- 1
ванием, до которых нам здесь нет дела. Дух поэта или 1
писателя, хотя от рождения он и богат талантом, востор- I
гом, фантазиями, больше не снисходит до создания обра- 3
зов, а если снисходит, то лишь неохотно, вопреки своей I
изменившейся или, если угодно, обновившейся природе, 1
снисходит ex institute, етитг^е^*, подчиняясь насилию 1
воли, а не своей склонности, то есть силе, чуждой вообра- 1
жению, а не глубоко присущей ему. Сила такого духа вся- 1
}кий раз, когда он поддается восторгу (что бывает не так 1
уже часто), устремляется в сторону страсти, чувства, 1
I
* Преднамеренно {латин., греч.). 1
344 \
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
меланхолии, скорби. Гомер, Ариосто — не для наших дней
и, я полагаю, также и не для грядущих. Поэтому другие
народы вполне разумно и естественно сделали главным и
самым сильным в поэзии не воображение, а чувство —
изменение необходимое и порожденное изменением
человека. Это случилось в известной мере уже с римлянами —
исключением был только Овидий. Италия также в
начальную пору своей поэзии, когда у нее были настоящие
поэты— Данте, Петрарка, Тассо (исключение составлял лишь
Ариосто), — почувствовала это изменение и подчинилась
ему, даже более того — подала пример другим народам.
Почему же теперь она возвращается вспять? Если бы еще
и время вернулось вспять! Но наше несчастье не слабеет,
а все растет, как и то знание мира, которым мы обладаем,
хотя и не должны были бы. Что же это в нас за страсть —
делать то же, что делали наши прадеды, хоть мы и
изменились? Противиться природе вещей? Делать вид, будто
мы владеем способностью, которой у нас нет, или которую
мы давно утратили, или же которую сам ход вещей
иссушил и сделал бесплодной? Стараться быть Гомером в не
гомеровские времена? Тогда будем делать то же, что
делали в те времена, жить так же, как жили тогда, позабудем
то, чего тогда не знали, испытаем себя в тех трудах и
телесных упражнениях, которые были тогда общеприняты.
Если же все это "окажется для нас невозможно, мы
убедимся, что вместе с жизнью и с телом изменился и дух и
что его изменение есть необходимое, постоянное и
неизбежное следствие их изменения. Мне скажут, что у
итальянцев благодаря климату и природе воображение богаче,
чем у других народов, и потому сохранило творческую
способность, у других почти угасшую. Хорошо бы,
если б так; но я чувствую на себе самом, по мере того как
перехожу от детства и ранней юности к более зрелому
возрасту, я вижу на примере других, даже самых
известных поэтов, что в действительности этого нет. Если это
утверждают иностранцы, то они либо обманываются, как
всегда обманываются люди, говоря о далеком, которое
кажется издали прекрасней и значительней, либо они
судят так лишь по сравнению с древними; по правде же и
воображение итальянцев в силу всеобщего хода
человеческих дел и обстоятельств ослабело, истощилось,
выродилось в манеру, а способность создавать сохраняет лишь в
тон мере, в какой оца подвластна воле и приказу челд-
345
ДЖАКОМО ЛЕОПЛРДИ. ЭТИКЛ И ЭСТЕТИКА
века; творить же благодаря собственной неотъемлемой
способности и склонности оно уже не может.
А сейчас я открою вам истинную причину, почему
итальянцы, в отличие от всех остальных, знают теперь
только поэзию воображения и изголодались по поэзии
чувства. Среди нынешней праздности и скуки, среди
легкомыслия всех своих занятий или, вернее, развлечений,
словом, когда нет ни отчизны, ни войн, ни гражданского либо
литературного поприща — никакого постоянного
приложения для деятельности и помыслов, — итальянец неспособен
чувствовать глубоко и действительно ничего не чувствует.
Весь мир стал философом, и итальянец тоже воспринял
толику философии, которой довольно на то, чтобы сделать
его навсегда несчастным и угасить в нем или, вернее,
сковать и усыпить воображение, данное ему от природы, но
мало для того, чтобы до глубины узнать чувства, страсти,
человеческое сердце и живо их изобразить; да и помимо
того, даже если бы нынешний итальянец мог узнать сердце
человека, он все равно не сумел бы его изобразить,
потому что, нужно признать, ему не хватает изрядной доли тех
серьезных знаний, которые потребны для изображения
столь трудных вещей, как эти. Потому-то итальянец, даже
когда принимается писать с глубоко взволнованным
сердцем, либо с самого начала ничего не находит и, не зная,
что сказать, обращается к общим местам, либо, желая
выразить свои чувства и не умея этого, пишет как
младенец.
Итак, по всем названным причинам итальянец, не
способный в наши дни на поэзию чувства, обращается к
поэзии воображения и полностью посвящает себя ей не по
природному призванию, а по произвольному выбору.
И поэтому-то он либо вовсе не преуспевает в пей, либо
ему удается лишь подражать, и он плетется вслед за
древними, как ребенок за мамкой; так (между нами говоря)
поступал Монти, ибо он совсем не поэт, но изящный
переводчик, когда крадет у греков и римлян; а когда крадет
у итальянцев, например у Данте, — осмотрительный и
тонкий обновитель старинного слога и старинного языка.
Но, несмотря на это, итальянцы вопреки природе
времени п природе поэзии набрасываются на тот ее род,
который ныне может быть только насильственным или
подражательным, и все потому, что этот род дается им
много легче, нежели чувствительный. 1) Никто не подо-
346
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
зревает, что для некоторых дарований, особенно не
слишком сильных или мало упражнявших свои силы и не
владеющих ими, но зато нетерпеливых и пылких и т. д.,
подражать не намного легче, чем творить. А нынешние
итальянцы, занимаясь поэзией, почти всегда подражают,
даже когда не переписывают прямо, как бывает нередко
и как делает Лричи 16, называя это «копированием». 2)
Поскольку повествование легче, чем драма, где каждая
погрешность в подражании бросается в глаза, где
требуется куда более неукоснительное соответствие природе и
' истине, постольку нынешним итальянцам, людям, как я
уже сказал, бедным чувствами и недостаточно знающими
человеческое сердце, много легче дается поэзия
воображения, ибо этот ее род в конечном счете есть вещь
произвольная и в нем нетрудно даже ослепить, как это сделал
Ариосто; легче, нежели чувствительная поэзия, где
необходимо шаг за шагом неукоснительно следовать природе
и истине, где сердце каждого есть бдительный,
проницательный и строгий судья правды и лжи, подлинности и
неподлинности, естественности или принужденности, силы
или вялости и т. д., вымыслов, положений, чувств, мыслей,
выражений и т. д. Воображение можно иногда подделать,
или принудить, или по крайней мере приказать ему;
чувство — никогда. Поэтому нет ничего удивительного, если
современные итальянцы, которые при тех обстоятельствах,
что я описал выше, захотели обнародовать чувствительные
произведения, были освистаны или заслуживали свиста.
Тем более что подражание (а все они целиком и
полностью предались подражанию иностранцам), которое не
очень-то годится и для поэзии воображения, совершенно
не подходит чувствительной поэзии по той же причине, по
какой чувство нельзя ни подделать, ни вызвать в себе
намеренно и особенно насильно. И вот все
здравомыслящие итальянцы и чужеземцы в один голос говорят, что
в Италии отсутствует чувствительный род поэзии. При
этом им невдомек, что тем самым они утверждают или
признают, что в Италии нет литературы, и во всяком
случае — поэзии. Как будто бы нынешние обстоятельства
жизни всех людей допускают другой род поэзии и
отсутствие этого ее рода не равносильно отсутствию поэзии
вообще!
Чувствительная поэзия единственно и исключительно
присуща нынешнему веку, между тем как истинная и про-
347
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДЙ. этика и эстетика
стая (то есть не смешанная) поэзия воображения была
единственно и исключительно присуща гомеровским
временам или подобным им временам у других народов. Из
этого можно с легкостью заключить, что поэзия вообще
не столь уж присуща нашему времени, и не надо
удивляться, если она на наших глазах хиреет, если такая
редкость— не скажу даже истинный поэт, но истинная поэзия.
Потому что чувствительное основывается на философии,
на опыте, на знании человека и мира, одним словом, берет
начало в истинном, между тем как изначальная сущность
поэзии состояла в том, что она вдохновлялась ложным.
И если рассматривать поэзию в том смысле, какой она на
первых порах себе присвоила, то чувствительную поэзию
*едва ли можно назвать поэзией, скорее, это философия,
красноречие, не знаю что, но только более украшенное,
чем философия и красноречие, пользующиеся прозой. Она
' может быть даже более возвышенной и прекрасной, но
лишь благодаря иллюзиям, которым, без сомнения, и в
этом роде поэзии можно уделить немалое место — большее,
чем уделяют им чужеземцы. (8 марта 1821).
[801—804]. <...> Едва ли мы увидим, чтобы у какого-
нибудь народа, в какой-нибудь литературе (если только
времена и сам народ не обновились полностью, как
итальянцы по сравнению с римлянами) появилось в разное
время два превосходных и великих писателя в одном роде
словесности. С тех пор как в этом роде было создано
нечто совершенное и почитаемое за извечный образец,
большие таланты, несмотря на то, что род этот может
иметь много видов, всегда обращались к другим родам,
негодуя ли на то, что сами не смогут сравняться с
образцом или уже не будут единственными, испытывая ли
робость и неуверенность, естественную для хорошо знающих
и чувствующих трудности задуманного, опасаясь ли
оказаться ниже другого в деле, в котором совершенство уже
явно достигнуто и изведано и находится перед глазами у
всех и у них самих; лишь малые таланты, которым
свойственна самоуверенность и дерзость, вступали в состязание,
раззадориваемые всеобщими хвалами тому великому,
жадные до известности, которую, кажется, так легко
приобрести, и меря свою затею не ее собственной мерой и не
мерой ее трудности, а мерой своего желания преуспеть и
348
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
наградой, обещанной преуспевшим. Другая, более веская
причина состоит в том, что этот род словесности уже не
нов после того, как побывал в руках у великого писателя;
в нем нельзя быть даже оригинальным, а не то что
великим. А если и можно оставаться оригинальным, все равно
возникает одно извечное затруднение: даже великие
таланты, видя уже проторенную дорогу, так или иначе
попадают на нее, потому что смешивают сам поэтический род
с этой дорогой, словно она единственно подобает ему, хотя
возможно было бы пойти множеством других путей, может
быть, лучших. Даже в Греции среди великого изобилия
писателей и поэтов всех родов, за много превосходных во
всем, что касается словесности, веков после Гомера и, быть
может, самое главное, спустя столько столетий после него,
не было ни одного эпического поэта, кроме
незначительных, вроде Аполлония Родосского17. И сам Гомер (если
правда, что «Илиада» предшествовала /«Одиссее», как
говорит Лонгин 18) ничего не прибавил к своей славе,
обнародовав «Одиссею». Хотя кем бы ни был этот Гомер, я
думаю' и предполагаю, что «Илиада» и «Одиссея» не
принадлежат одному автору, но что вторая есть подражание
слогу, языку, манере и содержанию первой, не лишенное
заметной для каждого вялости и скуки. Эту догадку я
оставляю на рассмотрение критиков, понаторевших в
гомеровских древностях, досконально изучивших те времена и
назубок знающих обе поэмы — лишь бы только помимо
этого у них был хороший вкус и здравый рассудок.
Я умолчу о римлянах и об их неудачных попытках эпопеи
после Вергилия 19, настолько же превзошедшего и
опередившего их в этом роде, насколько Цицерон — в
красноречии. Хотя Тассо и нельзя назвать совершенным в
избранном им роде и тем более великим, подобно Гомеру
(великим был он сам, но не его поэма и не он в ней),
однако после него в Италии не было заслуживающей
памяти эпической поэмы, несмотря на то, что множество
малых и посредственных талантов пытали силы на том же
поприще. Более того, хотя род поэмы Ариосто весьма
отличается от рода поэмы Тассо, все же показалось
странным, что тот взялся за такое дело после Ариосто, и, когда
«Иерусалим» увидел свет, враги Тассо не замедлили
сравнить новое сочинение с «Роландом», поставить его ниже и
обвинить автора в дерзости и проч. Во Франции не было
великих комиков после Мольера, а в Италии —после Голь-
349
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДЙ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
дони. Все это, хотя проявляется, быть может, более всего
в литературе, возможно отнести к другим областям
знания и к другим человеческим достоинствам. Вопреки этому
можно сослаться на то, что после Корнеля был Расин, а
после него — Вольтер, что в Англии после Шекспира было
несколько трагиков20, ни один из которых, правда, не был
равен ему совершенством и славой. А она, для того чтобы
войти в мое рассуждение, должна непременно быть
необычайной, всенародной и великой как у образца, так и у его
последователя или последователей. (17 марта 1821). См.
стр. 810, абзац I.
[810—811]. К стр. 804. Нужно заметить, что с
драматическими авторами дело обстоит иначе и потому, что
театральный успех определяется бесчисленным
множеством разных обстоятельств, особенно у некоторых народов
в зависимости от их различий, и потому в особенности, что
театр у любого народа, хотя бы уже имеющего своего
величайшего драматического писателя, всегда желает
новизны и требует не столько совершенства, сколько новизны
сочинений; ее жаждут прежде всего, ей нередко
рукоплещут больше, чем лучшим, но уже знакомым вещам
величайших авторов. Таким образом, для драматического
писателя всегда остается место, которое он может
завоевать, доля славы, которую он может стяжать, цель,
побуждающая его взяться за перо, и награда, обещанная ему
в случае успеха; и все это таково, что может подстегнуть
и удовлетворить даже писателя с большим талантом.
Кроме этого есть еще мелкие события в обществе, которые
побуждают сочинять для театра, есть люди, которые в силу
своего ремесла или ради выгоды и выискивают и
поощряют такого рода авторов, есть расчеты и нужды самих
авторов, их обязательства, их желание добиться успеха
или похвалы, так сказать, в своем городе, в своей партии,
в своем кругу, среди своих друзей и т. д.; есть еще
непрерывная смена обычаев и привычек и в самом театре, в
самих представлениях, и в жизни, в вещах, которые могут
быть потом представлены в театре. Так что для драмати-'
ческого писателя всегда остается достаточно обширное
поприще. И великая слава Софокла не помешала какому-
нибудь Еврипиду стать его преемником. Разница между
этим родом сочинений и всеми остальными состоит в том,
что его действие, употребление, назначение как бы живо
350
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
и всегда остается живым и развивается,, между тем как у
прочих родов оно мертво и неподвижно. Это было бы не
так, если бы существовали, как в древности, народные
сборища, где Геродот читал свою историю, если бы стихи,
подобно Гомеровым поэмам, писались для того, чтобы быть
пропетыми народу, если бы времена Тиртеев21 и бардов
не миновали без возврата. Поскольку такого рода
сочинения больше не в ходу, мы довольствуемся тем, что в
каком-либо роде есть уже нечто совершенное, и едва ли
желаем новых образцов совершенства. С тем, что всегда
находит живое употребление, случается нечто совсем иное,
и если бы латинское красноречие и после Цицерона
оставалось насущным, то, быть может, в Риме были бы и
другие великие ораторы. (18 марта 1821).
[949—950]. Из глупейшей идеи безотносительно
прекрасного проистекает еще более глупое мнение, будто вещи
полезные не должны быть прекрасными или могут не быть
прекрасными. Возьмем для примера научное сочинение.
Если оно не прекрасно, ему прощают это ради его пользы.
А я утверждаю, что если оно не прекрасно,
следовательно, оно безобразно и в этом отношении плохо, хотя бы во
всем остальном оно и было весьма ценным. Почему
прекрасен «Трактат» Цельса22, хотя этот трактат и посвящен
медицине? Быть может, благодаря своим поэтическим и
риторическим украшениям? Напротив, — прежде всего
потому, что он совершенно их лишен, что в нем есть та самая
простота и безыскусность, которая и подобает такого рода
сочинениям. Затем потому, что он ясен и точен, что язык
и слог его чисты. Эти достоинства и красоты подобают
любой книге. Всякая книга должна быть прекрасной в
строгом значении этого термина,— значит, быть хорошей во
всем. Если она не прекрасна, значит, в этом отношении
она плоха, а между «не быть прекрасным, то есть
хорошим во всем» и «быть поэтому плохим» середины нет. То,
что я говорю о книгах, должно быть распространено на
все роды вещей, именуемых полезными, и вообще на всё.
(16 апреля 1821).
[1183—1201]. Сказанное у меня в другом месте о
различных впечатлениях, которые производят на детей имена
35!
ДЖЛКОМО ЛЕОПАРДИ ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
собственные (и, можно добавить, всякие слова вообще), и
о различных представлениях о прекрасном и безобразном,
которые они прилагают в зависимости от случайных
обстоятельств, свойственных этому возрасту, может служить
/доказательством истинности положения, что прекрасное
'только относительно и что идея единичного прекрасного
(берет начало не в безотносительной красоте,
наличествующей в той или другой вещи, а определяется
обстоятельствами, совершенно чуждыми роду и сфере прекрасного.
Если мы, расширяя это наблюдение, захотим посмот-
;реть, как дети постепенно составляют себе представление
•о соразмерности и сообразии в том или в этом особом
«случае, как, не имея врожденной идеи о соразмерном и
^сообразном применительно к тому или иному предмету,
«они все же быстро научаются признавать одну вещь
красивой, а другую уродливой, одну хорошей, а другую
дурной и согласовать свое суждение со всеобщим суждением
о красоте и безобразии, о хорошем и противоположном
ему, не имея при этом ни в уме, ни в'воображении
никакого предзаданного образа этих свойств, то рассмотрим
для примера, как развивается у детей представление о
человеческой наружности и как они постепенно достигают
умения судить о внешней красоте и безобразии отдельных
особ.
Ребенок, когда рождается, не имеет ни малейшего
представления о том, какова наружность человека и какой
юна должна быть (за исключением того, что он физически
«ощущает свои члены и части собственного тела и через
это может составить о них представление благодаря
чувственному опыту). (Но если у него нет представления о
самой наружности, — а об этом постоянно говорится у
всех идеологов23, — как он может иметь Представление о
ее красоте? Как он может иметь представление о
свойстве, не имея представления о предмете? То же
рассуждение относится ко всем предметам, которые могут быть
носителями красоты и ни об одном из которых ребенок не
имеет врожденной идеи. Откуда же будет у него идея
прекрасного, прежде чем появится малейшее представление
о вещах, которые могут быть прекрасными? Допустим, что
есть некое существо не только возможное, но и
доподлинное, о котором мы ничего не знаем, кроме того, что оно
есть. Каково будет наше представление о его красоте или
безобразии? Но если нам абсолютно неизвестны ни красо-1
352
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИИ
та, ни безобразие, свойственные неизвестным формам,
значит, и красота не абсолютна.) Однако, видя, прикасаясь
и т. д., ребенок очень скоро приобретает это
представление. И если у всех окружающих его он видит нос и рот
такой величины, какую мы называем «соразмерной», он
естественно и неизбежно приобретает представление о том,
что такая-то часть человеческого лица бывает и должна
быть такой-то величины. Вот вам уже идея соразмерного —
не абсолютная, но относительная, не врожденная, а
благоприобретенная, проистекающая не из природы, не из
сущности вещей, не из предзаданного образа или знания,
присутствующего в уме младенца, не из необходимого
миропорядка, а из привычки одного из чувств, зрения, к
такому-то предмету, из произвола природы, которая
действительно создала большинство людей на один лад.
Приобретя таким образом только лишь через привычку
идею соразмерности или сообразия, ребенок легко
составляет идею несоразмерности, несообразия, которой всегда
по необходимости будет предшествовать противоположная
идея, и потому идее уродливого и дурного всегда будет
предшествовать идея хорошего и прекрасного (этого не
было бы, если бы она была абсолютной, изначальной и
врожденной человеку, принадлежащей природе или
сущности разума и способности восприятия); значит, первая
идея проистекает не из предзаданного образа, но из второй
идеи следующим порядком. Продолжим избранный нами
пример: если ребенок видит нос, намного длиннее или
короче, чем он привык видеть, он тотчас же испытывает
ощущение несоразмерности и несообразия, то есть
попросту чего-то противоречащего тому, что он привык видеть,
и составляет суждение о несоразмерности и несообразии,
то есть об уродливом. И вот он уже пришел в согласие
со всеобщим суждением людей о единичной красоте и
безобразии, не получив ни от природы, ни от разума ни
малейшего представления о них.
Но вот еще более победоносные доказательства моего
положения, гласящего, что идея соразмерности и
сообразия, прекрасного и хорошего в единичном проявлении, как
и противоположные им идеи, проистекают из простой
привычки.
I. Если нос будет чуть длиннее, а рот чуть шире, однако
не настолько, чтобы вызвать у людей ощущение
безобразия и внушить им соответствующее суждение, ребенок ни-
12 Этика и эстетика
353
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
как не воспримет ни этого суждения, ни этого ощущения. 1
Что это так и бывает, пусть засвидетельствует по собст- 1
венному опыту всякий, кто был ребенком и захочет вспом- я
нить происходившее с ним в этом возрасте. В чем же тут I
причина? В том, что ребенок составил себе слабое и
скудное представление о соразмерном, потому что он мало |
видел и мало сравнивал, и соответственно его представле- 1
ние о несоразмерном скудно, неточно, грубо и общо, и из- ]
за этого он не замечает и не чувствует несоразмерности, ]
если только предмет очень живо и сильно не
сопротивляется его привычке. Иногда, наоборот, ребенку кажется
очень значительной несоразмерность или несообразие,
которых другие даже не замечают. И из этого он выносит
ощущение уродства, которого другие не испытывают.
Причиной и тут бедность привычки, скудость виденного, которые
заставляют его находить странным отнюдь не странное и
безобразным или весьма безобразным — совсем не
безобразное или не слишком безобразное. Как это оказалось бы
возможно, будь безобразие абсолютным? Ребенок
рассказывал об одном человеке, что у того два носа, потому что
заметил маленькую разницу в цвете: одна часть носа была
краснее другой. Никто этого не заметил бы, не
приглядевшись нарочно. Что это значит? Если бы идея единичного
прекрасного и безобразного была абсолютной, естественной
и врожденной, разве нужно было бы ребенку расти,
упражнять свои чувства и набираться опыта для того, чтобы
приобрести— не скажу законченное, но хотя бы достаточное
представление о красоте и безобразии отдельного
предмета? И если все это, как мы видим, нужно, разве тем
самым не доказывается с очевидностью, что ощущение
красоты и безобразия и суждение о них проистекают
единственно из привычки и сравнения и что ни один предмет на
свете не был бы ни красивым, ни безобразным, ни
хорошим, ни плохим, если бы его не с чем было сравнить,
особенно внутри того вида, к которому он относится? А это
значит, что ни одна вещь не бывает ни красивой, ни
хорошей сама по себе, безотносительно; следовательно, не
существует ни абсолютно прекрасного, ни абсолютно
хорошего.
Совершенствование вкуса во всем — в искусствах, во
взглядах на человеческую красоту, в литературе —
считается доказательством существования абсолютно
прекрасного, а доказывает обратное. Чем утончается вкус живо-
354
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
писдев, ваятелей, музыкантов, архитекторов, женолюбов,
поэтов, писателей? Тем, что они много видят и слышат
предметы, на которых должен упражняться названный
вкус; опытом, сравнением, привычкой. Как же этот вкус
может зависеть от некоего абсолютного, всеобщего,
неизменного, необходимого, естественно предсуществующего
образа? То же, что я говорю о детях, могу сказать и о
сельских жителях, и обо всех, кого называют людьми с
грубым, или с дурным, или с несложившимся вкусом; о том,
кто не привык смотреть произведения живописи и про кого
каждый знает и скажет, что он не может судить о
живописной красоте; о том, кто не приучился читать хороших
поэтов и не может судить о поэтических красотах, о
красоте слога и проч. и проч. Как суждение и ощущение
ребенка будет весьма грубым в том, что касается красоты, —
что с очевидностью показывает, насколько это суждение
зависит от привычки,— так и суждение и ощущение
большинства людей во всем, что относится к прекрасному,
остается очень несовершенным только потому, что это
большинство никогда не приобретет довольно опыта, чтобы
суждение их стало проницательным, точным и
разборчивым,— а это и называется тонким вкусом. Это значит:
1) они не просматриваются к мелким чертам предметов,
чтобы уметь их сравнивать и так составить себе
представление о соразмерном — представление, которого у них еще
нет; 2) у них нет привычки тщательно сравнивать, а это —
единственное средство досконально судить о соразмерном
и несоразмерном, о красоте и безобразии, о хорошем и
плохом. Продолжите это рассуждение и приложите эти
наблюдения ко всем человеческим способностям и знаниям.
И, увидев, что чувство прекрасного может возрасти и стать
тоньше и у детей и у людей уже сложившихся, сделайте
вывод, что оно — и не абсолютное и не прирожденное, так
как все, что непременно должно возрасти и сложиться, не
может быть прирожденным, и все, что способно возрастать,
а следовательно, и изменяться, не может быть
абсолютным.
Значит ли это, что я не признаю, что естественное
предрасположение и дар чувствовать красоту и безобразие и
т. д. бывают разными у различных людей? Нет, признаю,
но приписываю эту разницу иной причине, нежели принято
ее приписывать: не пригрезившемуся кому-то магнетизму,
который влечет избранные души к прекрасному и позво-
12*
355
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ляет им чувствовать его и открывать без всякой зависи- J
мости от привычек, от опыта и сравнения; не сродству ]
души с прекрасным, существующим в отвлеченной приро- i
де; не милости природы, которая сама собой проявляется
в этих избранных душах, и т. д. Все это грезы. Дар
прекрасного, как и дар истины и философии, состоит
единственно в особой чувствительности органов, которая делает
одаренного человека склонным и способным 1) с легкостью
отражать, наблюдать, замечать, открывать мельчайшие |
предметы и тончайшие различия; 2) сравнивать и быть при j
этом усердным и дотошным, обнаруживать малейшие чер- \
ты неравенства или сходства, мельчайшие противопостав- !
ления и связи; 3) привыкать за короткий срок, приобретать :
привычку после небольшого опыта, не успев много уви- '
дать и т. д., одним словом, не так уж сильно утруждая -
внешние чувства, не так уж много упражняя на деле свои
способности; 4) с помощью уже известного в короткое
время угадывать еще не известное благодаря большей
способности сопоставлять, вызванной к жизни
чувствительностью его органов; с помощью этой усиленной
способности он на основании немногих сведений открывает все
возможные взаимосвязи, выводит все возможные
следствия. Например (чтобы не выходить за пределы избранного
нами предмета), ребенку, наделенному тем, что именуется
дарованием, нет нужды видеть столько же, сколько
другому, тупому и ленивому по природе, чтобы составить
представление о человеческой красоте: ведь он очень быстро
приобретает представление об определенных
соразмерностях, внимательнее и пристальнее присматриваясь к
увиденным предметам и точнее сравнивая их между собой.
Например, ребенок по природе ленивый не заметит
небольшой разницы в строении рта или лба у того, кого он видит
сейчас, и у того, кого он привык видеть. Ребенок по
природе тонкий, проницательный, острый и вдумчивый, то есть
обладающий чувствительными, подвижными, быстрыми,
гибкими, бдительными органами, заметит названную
разницу или тотчас же, или очень скоро, и у него возникнет
чувство несоразмерного, то есть безобразного, и суждение
о нем по той причине, что он лучше наблюдал увиденные
прежде предметы и лучше наблюдает видимое сейчас, и
при этом то и другое запечатлевается у него более живо,
отчетливо и прочно; отсюда и большая легкость и точность
производимых им в этой части сравнений, а сравнение —
356
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
единственный источник идеи соразмерности и сообразия.
Вот и все дарование. Распространите это рассуждение
соответственно на все прочие возрасты, на другие
способности и предметы, и вы увидите, что одаренность любого
рода — всегда не что иное, как способность наблюдения и
сравнения, проистекающая из чувствительности и из
большего или меньшего совершенства в строении органов,
которое и именуется большим или меньшим дарованием.
II. Если ребенка окружают люди, очень сильно
отличающиеся друг от друга наружностью или же сплошь
безобразные и все схожие между собой родом своего
безобразия, представление, которое он составит себе о красоте и
соразмерности, будет в первом случае очень
неопределенным и основанным только на общих вещах (то есть на тех
соразмерностях, которые будут присущи всем
окружающим его людям); во втором случае он воспримет как
прекрасное то, что на самом деле безобразно и что потом, по
мере того как он будет видеть все больше и больше людей,
сам он научится признавать таковым. В свидетели этому
я призываю всех людей на свете: пусть по собственному
опыту скажут мне, насколько их представление о
прекрасном и безобразном изменялось с возрастом, то есть по
мере накопления опыта, приобретаемого зрением; ведь почти
все в детстве считали красивыми те физиономии, тех людей
и т. д., которые в более позднем возрасте казались им
самим безобразными и такими же казались всем
остальным. Это проистекает: 1) от уже названной причины;
2) от малого опыта и умения видеть, сужавших их
способность суждения и мешавших им приобресть
представление о соразмерностях общих и равно присущих всем
людям; 3) от обстоятельств, не имеющих ничего общего с
самою красотой: например, наша нянюшка всегда кажется
нам красивой, как и все те, кто ласкает ребенка и т. д.
В ту пору суждение о красоте было следствием подобных
впечатлений (а не прекрасного). Затем понемногу
начинают считать красивыми всех, чьи физиономии напоминают
людей, по которым составлялось представление о
человеческой красоте, даже если те были очень безобразны. А
поскольку впечатления детства бывают чрезвычайно
живыми, постольку по причине их самих и по причине так
называемых симпатий и антипатий, также являющихся их
следствием, происходит так, что мы на долгое время и, быть
может, навсегда остаемся склонными благоприятно судить
357
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
о людях безобразных, но похожих на тех, что в малолет- i
стве казались нам красивыми, и особенно о них самих; \
эти-то при всем своем безобразии никогда не покажутся \
нам действительно безобразными, и новая привычка смот- 1
реть, а значит, и новое суждение о красоте, которое у нас ,
сложилось, принудят.нас считать их уродливыми, но не
заставят замечать их уродство. Нам всегда нужно будет по- \
размыслить и нарочно сравнить их с нашими новыми пред- \
ставлениями о красоте, чтобы признать этих людей безоб- \
разными, а с первого взгляда и без размышления они ни- .]
когда не покажутся нам такими, особенно если мы по на- J
туре ленивы и с трудом приобретаем новые привычки; в
противном же случае нам легче удастся составить о
внешности этих людей суждение, более согласное с новыми
идеями прекрасного, которые мы приобрели благодаря
большему опыту чувств. Думаю, что нельзя и пожелать более
неоспоримых доказательств тому, что идея прекрасного не
есть ни абсолютная, ни врожденная, ни естественная, ни
неизменная, пи зависящая от предзаданного образа (с
которым мы могли бы иначе сравнить названные
физиономии).
III. Человек, если вдуматься, всегда судит о красоте
и безобразии, только исходя из сравнения, и идея
прекрасного всегда сравнительна и, следовательно,
относительна. Мы судим о внешней красоте человека, подлинной
или изображенной, более тонко, чем о всякой другой
телесной красоте. Почему? Потому что мы естественным
образом обращаем и обращали больше внимания на
наружность подобных нам, нежели на все прочее, и, замечая в
ней мельчайшие подробности, можем сравнить черты
отдельного человека и с чертами другого и с тем, что
свойственно всем людям; потому-то у нас есть ясное,
доскональное и точное благоприобретенное представление о
соразмерности и сообразии по отношению к человеческому
облику и о несоразмерности и несообразии или, что то же
самое, о человеческой красоте и уродстве. Но вообразим
себе человека, никогда не видевшего никого из себе
подобных. Когда он увидит кого-нибудь из них, он не сможет
судить о его красоте или безобразии, особенно
если,увидит его в одиночестве. Правда, это лишь в том случае, если
такой человек не обращал много внимания на свою
собственную наружность, свою собственную физиономию,
глядя, например, на свое отражение в водоемах и т. д. Тогда
358
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИИ
суждение, которое он вынесет о наружности другого
человека, хотя и будет все же основано на сравнении, но на
сравнении с собственной наружностью, а значит, будет
случайным и не согласующимся с общим суждением. Если же
он имел больше дела с какой-нибудь породой животных,
например с собаками, с лошадьми и проч., то он будет в
состоянии куда лучше судить об их красоте, нежели о
человеческой. И это его суждение будет лучше согласоваться
с общим суждением людей. Я говорю о людях, а не о
самих животных, которые, обращая, как и люди, больше
внимания на, внешность себе подобных, судят о ней
совершенно иначе и более ясно и четко, нежели люди, конечно, в
меру способности своих органов к наблюдению, сравнению
и размышлению, меньшей и менее развитой упражнением,
чем у человека, особенно у человека — или ребенка —
просвещенного. Правда, этот воображаемый нами человек
почувствует, быть может, более сильную склонность к себе
подобным, нежели к другому роду живых существ, даже
к тому, к которому он привык, особенно же если это будет
особа другого пола. Но это склонность телесная и
присущая всем от природы, совершенно независимая от идеи
прекрасного и от суждения о наружности; это склонность
и тох&ос, страсть, а не идея. Увидев впервые множество
себе подобных сразу, он не заметит между ними — в их
наружности, в их физиономиях и т. д. — никакой разницы;
как известно, такое бывает, например, с европейцем,
который в первый раз видит эфиопов или лапландцев. Все
представляются ему на одно лицо, ни один не кажется
красивее или уродливее других. То же самое происходит
и с ребенком, когда ему случается впервые увидеть людей;
лишь потом он постепенно приобретает представление о
красоте и уродстве и начинает их воспринимать, — и все
это только из сравнения, после того как он привыкнет
замечать мельчайшие черты, сравнивать их и открывать
мельчайшие различия между отдельными людьми. То же
самое случается с нами и по отношению к животным,
которые все кажутся нам почти что на одно лицо (внутри
одной породы); а когда, приглядевшись к ним понемногу, мы
научаемся составлять сравнительное суждение о
сравнительной красоте их внешности, то: 1) это происходит лишь
по отношению к животным, с которыми мы имеем больше
дела и которых чаще наблюдаем, например с лошадьми,
собаками, коровами и проч., потому что о красоте одного
359
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
какого-нибудь льва не решится,' да и не подумает судить J
никто из знакомых мне людей; 2) это суждение непремен- а
но будет менее точным, чем суждение самих животных той |
же породы, и вполне вероятно, что очень часто мы судим 1
вопреки мнению самих животных, потому что основываем- |
ся на наших представлениях о соразмерном (иных, нежели щ
у животных) и в большей мере на сравнении с другими 1
породами или с другими предметами, чем с их породой (об 1
этом я скажу немного позже). Ребенок и животное легко \
путают куклу, картину, статую с предметами, которые в 1
них представлены, потому что они еще очень мало эти |
предметы наблюдали; однако они впадают в эту ошибку ]
не так легко и не так надолго, если представленный пред- ]
мет относится к тому же виду, что и они, так как на внеш- \
ность своего вида они естественным образом обращали ]
больше внимания.
Воображаемый мною человек, если он не рассмотрел
как следует цвета своей кожи, не мог бы решить, увидя :
одновременно белого и черного, который из двух красивее
и какой из цветов более подобает человеческому роду.
И если он не рассмотрел как следует собственной наруж- j
ности, то не мог бы решить, увидя одновременно лапланд- j
ца, итальянца и патагонца, чья наружность красивее, не |
почувствовал бы разницы между красотой и уродством в ;
каждом из трех. Это доказывает, что в нем нет никакого
правила или врожденной и абсолютной меры, позволяю- :
щих судить даже о человеческой красоте.
Человек, не может составить себе идею об отдельно
взятой красоте, иначе говоря, абсолютной красоты не
существует ни в идеях, ни в воображении, ни в
естественном, изначальном человеческом разуме. Представьте себе,
что нам показали какой-нибудь иноземный предмет,
первый и единственный в своем роде, какой мы увидали. Мы
либо не вынесем никакого суждения о его красоте или
безобразии и не почувствуем их, либо будем судить о них
по сравнению с предметами другого рода, на основании
других соразмерностей, и чаще всего впадем в ошибку,
ибо, весьма вероятно, сочтем уродливым то, что в своей
стране считается красивым, и наоборот. Представьте себе
что вы видите американскую птицу той породы, какой вам
еще не случалось видеть. Здесь речь идет о породе, а не
о роде, и вы, чтобы судить о ней, можете сравнить ее со
знакомыми вам породами птиц. И все же ваше суждение,
360
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
вероятнее всего, будет ложным; то есть вам покажется
несоразмерным то, что привыкшим это видеть
американцам кажется соразмерным и красивым; и наоборот,
американцам покажутся весьма несоразмерными и
безобразными многие птицы, которые породой и видом сильно
отличаются от привычных им пернатых. Это же рассуждение
распространяется на всяческие предметы, и естественные
и искусственные.
Перейдя от этих наблюдений к хорошему и дурному,
вы увидите, что ни одна вещь не может быть ни хорошей,
ни дурной, ни более, ни менее совершенной, если она
взята в отдельности, вне сравнения; следовательно, не
существует абсолютно хорошего и абсолютно плохого, но оба
этих качества относительны.
Хочу предупредить возражение. Мне скажут, что
человек без всяких наблюдений и испытаний предпочтет
молодого человека или молодую женщину старым и,
следовательно, идея прекрасного абсолютна.
1) Я мог бы сказать, что с ребенком, еще не
приобретшим некоторого опыта чувства и способности сравнивать,
этого не произойдет, и добавить, что в детстве я, сколько
помню, считал некоторых стариков красивыми — красивее,
чем иные молодые. И это — по причинам, изложенным на
стр. 1191, конец,— 1193.
2) Но истинным и полным ответом будет другой: все
это не относится к сфере красоты.
Нельзя, чтобы метафизик давал вводить себя в
заблуждение именами; он обязан различать вещи, обозначаемые
одним и тем же именем. <...> Отдельный яркий цвет,
который нравится нам, называется красивым, но таковым
не является. Отдельный звук, доставляющий удовольствие,
не относится к области прекрасного, если он лишен
оттенков и гармонии. Прекрасное есть не что иное, как
гармония и сообразность. ,Уродливое есть несоразмерное и
несообразное. Эти положения не были оспорены ни одним
философом, сколько я замечал. Считается, что природа
человека наставляет его, какие вещи сообразуются друг с
другом в зависимости от необходимого изначального
порядка вещей. Это я и отрицаю. Вопрос тут вот в чем. Где
нет ни гармонии, ни сообразия, там нет и вопроса. Все,
что нравится нам независимо от гармонии и сообразности,
относится к области других удовольствий. Такой-то яркий
цвет доставляет нам наслаждение, ибо наши органы уст-
361
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
роены так, что он их приятно раздражает. Это —
ощущение (зависящее от произвола природы, сделавшей то-то
приятным одному виду живы?: существ, а то-то—другому), ,
а не идея, а значит, и названное удовольствие, хоть мы и ,
получаем его через зрение, относится к области красоты !
не больше, чем удовольствие, получаемое от пищи сосоч- j
ками на нашем нёбе, или любовное наслаждение и т. д. |
(я не говорю уже о том, что и эти удовольствия не
абсолютны даже в пределах одного и того же вида существ и <
даже для отдельного человека и что они по большей части •
весьма сильно зависят от привычки). Человека больше
влечет ему подобный, если он молод, нежели если стар. То
же бывает и с другими живыми существами. Но это не
идея, а склонность, влечение, страсть, которые не входят-
в теорию прекрасного, потому что не входят и в область
гармонии. Влечения являются врожденными и присущими
всем людям, идеи — нет. В названном случае разум не
судит, — влечение и тягу чувствует телесная природа чело- *
века. Не все удовольствия, доставляемые нам через зре- ;
ние, относятся к области красоты, — хотя все доставляю-
щее такие удовольствия обыкновенно называется краси- ;
вым,— но только те, которые проистекают из гармонии, из 1
сообразности частей предмета между собой и самого пред- <
мета — своему назначению.
Я полагаю даже, что само представление о том, что
вещи должны быть сообразны между собой, также будет
не врожденным, а благоприобретенным и проистекает из
привычки следующим образом: например: я привык видеть
в наружности человека такие-то и такие-то черты. Если я
вижу черты отличающиеся или противоположные, я
называю их несообразными, потому что они производят на меня
действие, противоречащее тому, к чему я привык.
Развейте эту идею. (20 июня 1821).
[1028]. «Библия и Гомер суть два великих источника
всякой словесности»,— говорит Альфьери в своем
«Жизнеописании». (То же — Данте для итальянцев и т. д.). Все
дело тут в том, что книги эти — самые древние, а значит,—
самые близкие к природе, единственному источнику
прекрасного и великого, жизни и разнообразия. Когда в мир
вошел разум, все мало-помалу в той мере, в какой он
развивался, становилось уродливым, мелким, мертвым, одно-,
образным. (11 мая 1821).
362
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИИ
[1212—1213]. Разве не бывает очень часто и со всеми,
разве каждому не известно доподлинно из его
собственного опыта, что иные люди, которые поначалу или
на первый взгляд казались нам безобразными, затем
понемногу, по мере того как мы привыкаем видеть их и
привычка ослабляет ощущение изъянов в их наружности,
начинают казаться нам менее уродливыми, более сносными,
более приятными и в конце концов нередко даже
красивыми и очень красивыми? Потом, когда мы утратим
привычку видеть их, они снова покажутся нам безобразными.
То же самое я говорю о всякого рода предметах, и
чувственных и иных. Многие из них благодаря первоначальной
привычке видеть их и иметь с ними дело казались нам
сперва, до того как у нас сложилось отчетливое и стойкое
представление о прекрасном, очень красивыми, а потом,
попавшись нам на глаза после долгого перерыва, кажутся
безобразными, и даже очень. Что это значит? Если бы
существовала абсолютная красота, представление о ней было
бы постоянным, нерушимым, неизменным и у всех людей
одинаковым, его нельзя было бы утратить или приобрести,
оно не могло бы ослабеть или усилиться, пойти на убыль
и возрасти, вообще измениться (а иногда и превратиться
в свою противоположность, как мы видели) под действием
привычки, от которой оно и не зависело бы. (24 июня
1821).
[1259—1260]. Часто при виде здания, церкви, любого
предмета искусства нас сразу же поражает отсутствие
того-то, избыток другого, несоответствие размеров,
неправильность и беспорядочность симметрии и т. д.; но едва
мы узнаем или поймем причину этого беспорядка, узнаем,
что он намеренный, а не случайный и возник не по
небрежности, а ради пользы, ради удобства, ради необходимости,
как мы перестаем не только воспринимать рассудком, но и
чувствовать в этом предмете несоразмерность, которую в
первый миг воспринимали и чувством и рассудком. Так
разве не относительно и не изменчиво представление об
определенной соразмерности и несоразмерности? Почему
в первый миг мы почувствовали несообразность и
несоразмерность и составили о них суждение? По привычке,
которая обладает естественным свойством заставлять нас
судить об одной вещи по другой, об одном предмете, виде
и даже роде по другому и, следовательно, об одной сооб-
363
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
разности по другой. Отсюда проистекает всеобщее
заблуждение, заставляющее верить не только в абсолютную
красоту, но и в абсолютную истину, мерить наших ближних
нашей собственной мерой, искать абсолютного
совершенства, полагать, будто можно судить по одному закону все
живые существа, и потому считать себя самым
совершенным родом существ, между тем как не бывает
сравнительного совершенства вне пределов одного рода, ибо
сравнивать можно только отдельные особи и т. д. (1 июля
1821).
[1302—1303]. Портрет, даже очень похожий (вернее,
именно в этом случае), не только производит на нас
обыкновенно большее впечатление, нежели изображенная на
нем особа (это происходит по причине удивления,
вызванного подражаньем, и удовольствия, проистекающего из
удивления), но и сама эта особа, можно сказать,
производит большее впечатление на картине, чем в натуре, так
что, если она хороша, мы находим ее еще краше, и
наоборот. Дело тут в том, что, видя самого человека, мы видим
его обычным порядком, а видя портрет, мы видим и
человека особым образом, и это до невероятности обостряет
способность наших чувств наблюдать и размышлять,
повышает наше внимание, делает сильнее ум, вообще придает
чрезвычайную отчетливость нашим ощущениям. (По этому
поводу поразмыслите над словами одного французского
стенографа, утверждавшего, что он находит больше вкуса
в чтении классиков, когда те застенографированы им
самим.) Такое же наблюдение делает Гравина24 насчет
удовольствия, порожденного поэтическим подражанием. (9
июля 1821).
[1318—1321]. К началу стр. 1259. Тут, в том, что
относится, к суждению о прекрасном, действует не столько
привычка, сколько мнение. Оно-то и меняет ежеминутно наше
суждение, и если мы видим новый фасон платья, сильно
отличающийся от обычного, мы готовы тотчас же или
почти тотчас же счесть его красивым и начинаем очень скоро
чувствовать его красоту, если только знаем, что этот фасон
новомодный; если же это не так, то с нами происходит
нечто противоположное, потому что новый фасон
противоречит и нашей привычке и нашему мнению. Прибавьте к
этому, что мы признаем новомодный фасон красивым, даже
364
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
когда он противоречит всем принятым формам красивого;
но если составить суждение о его красоте мы можем в
единый миг, то, прежде чем мы начнем мгновенно
чувствовать ее, то есть приобретем привычку, всегда
сохраняющую свои права, и избавимся от прежней привычки, — нам
соответственно понадобится некоторое время.
Впрочем, можно было бы привести сотни доказательств
тому, насколько одно только мнение независимо ни от
привычки, ни от чего другого влияет на суждение о красоте
и на ее ощущение, — доказательств, взятых из
повседневной жизни и потому менее всего замечаемых. Кто не знает,
что даже не столь уж великая красота кажется нам
необычайной, если велика ее слава? Что и влечение и
чувство красоты в нас сильнее при взгляде на женщину,
прославленную своей прекрасной наружностью, нежели при
виде другой, более красивой, но безвестной4 или не столь
прославленной? То же самое — если женщина не хороша
собой, но пользуется репутацией красавицы, или стяжала
известность своими любовными похождениями, или стала
предметом спора и т. д. Все, что, как я сказал, происходит
с мужчинами по отношению к женщинам и т. д., случается
и по отношению к писателям: чувство прекрасного бывает
сильнее, пристальнее, глубже и посещает нас чаще,
когда мы читаем, например, знаменитого поэта, чьи
достоинства уже всеми признаны, нежели при чтении другого, о
чьих достоинствах нам нужно судить самим, даже если
этот писатель прекраснее многих, доставляющих нам
высочайшее наслаждение. Выработать вкус — это чаще всего
не что иное, как составить мнение. Если такой-то вкус,
такой-то род и т. д. всеми презираются или ты сам их
презираешь, то все написанное в этом вкусе или в этом роде
тебе не нравится. Если же все наоборот или если ты
изменишь мнение, та же самая вещь доставит тебе величайшее
удовольствие, ты найдешь в ней бессчетные красоты, о
которых прежде не подозревал. Это очень часто случается с
сочинениями всех родов. Немногие читатели находили
удовольствие в хорошем итальянском слоге на протяжении
всей второй половины минувшего столетия и первых лет
нынешнего —теперь он по душе очень многим, и даже те,
кто не только не получал наслаждения, но и скучал и т. д.,
теперь находят в нем большое удовольствие, потому что
мнение в Италии изменилось.
Я мог бы распространить это рассуждение на сотни
365
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
других частных случаев. Слог писателей четырнадцатого Щ
века нам очень нравится, так как мы знаем, что он был Я
свойствен той эпохе. Если мы видим его точно скопирован- Я
ным у кого-нибудь из современных писателей, то он, пусть 1
даже и не отличается от старинного слога, не только не Я
нравится нам, но и вызывает отвращение и кажется нам 1
нарочитым, ибо мы знаем, что для писателя наших дней I
такой слог неестествен, хотя бы этого и не видно было из са- Я
мого сочинения. Все это —лишь мнение, пусть даже и впол- Я
не разумное; но, значит, прекрасное не абсолютно, коль ско- Я
ро одна и та же вещь при разных обстоятельствах кажется I
нам то прекрасной, то безобразной: например, если бы мы 1
не знали, что читаем современного автора, его сочинение I
весьма понравилось бы нам. То же можно сказать о под- 1
ражаниях и в литературе и в искусствах, если сравнить 1
их с образцом, от которого они, быть может, ни на волос I
не отличаются; но об этом я говорил в другом месте этих Я
размышлений. То же можно сказать и о симметрии: об I
этом смотри на стр. 1259. То же можно сказать и об арха- 1
измах, которые, когда мы встречаем их у старинного писа- Я
теля, не производят впечатления чудовищности, потому что I
мы знаем, что тогда они были употребительны; а у совре- 1
менного писателя они кажутся отвратительными, даже если Я
его слог настолько схож со старинным, что эти архаизмы 1
ничуть не выделяются и согласуются со всем остальным 1
не хуже, чем у писателей прежних времен. (14 июля 1821). 1
[1356]. Общеизвестно, что литература и поэзия движут- 1
ся в обратном направлении, нежели науки. Первые, когда 1
сводятся к искусному умению, становятся бесплодными, 1
вторые расцветают; первые, достигнув известной высоты, I
приходят в .упадок, вторые, чем дальше идут вперед, тем I
более возрастают; в первых древние были и остаются ве- I
личавей, прекрасней, удивительней, чем современные люди, 1
во вторых берут верх современники; первые, чем более уда- 1
ляются от своего начала, тем больше портятся, покуда 1
совсем не извращаются, вторые, чем ближе они к началу, 1
тем несовершеннее, слабее, беднее и нередко глупее/При- I
чина состоит в том, что главная основа первых — природа,!
которая не совершенствуется (или разве что до известной I
меры), но портится; основа вторых — разум, которому!
нужно время, чтобы возрасти, и который совершенствуется 1
366 Щ
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
с ходом столетий по мере накопления опыта. Этот опыт,
наставник разума, кормилец и воспитатель разума, есть
вместе и убийца природы... (20 июля 1821).
[1369—1370]. Какое состояние естественно? Состояние
невежды или состояние художника? Невежда не знает и
почти не чувствует прекрасного в искусстве, мало
чувствует прекрасное в природе, словом, всякое прекрасное, и т. д.
Действительно, грубого человека едва затронет даже самая
простая музыка. Вкус к музыке тоже приобретают, прямо
и косвенно привыкая к ней. А музыка кажется самой
общедоступной из прекрасных вещей и т. д. Я говорю
следующее. Прекрасное прекрасно лишь в той мере, в какой
оно доставляет удовольствие и т. д. Неизвестная истина
все же остается истиной, ибо истинное истинно независимо
от того, насколько оно полезно. Природа не наставляет нас
в истинном, между тем как абсолютно прекрасное, если
бы оно существовало, мы могли бы узнать только из
наставлений природы. Но как может быть абсолютным
прекрасное, коль скоро на человека, не вышедшего из
естественного состояния, оно не может произвести своего
главного действия, помимо которого нельзя воспринять
прекрасное, которое присутствует или может присутствовать
в какой-либо вещи? (22 июля 1821).
[1393—1394]. Если мы хотим, чтобы смешное,
во-первых, было полезно, во-вторых, доставляло живое и
длительное удовольствие, то есть чтобы оно и за долгий срок
не могло наскучить, его предметом должно быть нечто
серьезное и важное. Если смешное имеет своим
предметом пустяки или, так сказать, само себя, оно не только не
будет ни полезно, ни приятно, но и наскучит очень быстро.
Чем серьезнее предмет смешного, чем он важнее, тем
приятнее само смешное благодаря самому этому контрасту
и т. д. В моих диалогах я постараюсь перенести в комедию
то, что до сих пор было присуще трагедии, — то есть
пороки людей незаурядных, основные истоки человеческих
бедствий и человеческого несчастья, нелепости политики,
несообразности общепринятой нравственности и философии,
общий ход и дух нашего века, все сущее, все общество,
всю современную цивилизацию, несчастья мира и его об-
367
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
стоятельства, совершающиеся в нем перевороты, пороки i
и низость не людей, но человека, состояние народов и т. д. j
Я думаю, что оружие смеха, особенно в наш смешной и
холодный век да благодаря своей естественной силе, помо- 1
жет больше, нежели оружие страсти, чувства, воображе- ]
ния, красноречия и даже чем оружие рассуждения, хотя 1
сейчас оно весьма сильно. Итак, чтобы заставить содрог- |
нуться мою несчастную родину и нынешний век, я подни- I
му оружие чувства, и восторга, и красноречия в лирике 1
и той литературной прозе, какую смогу написать; оружие 1
разума, и логики, и философии — в философических трак- ]
татах, которые я располагаю создать; оружие смеха — в
лукиановских разговорах и рассказах, которые я сейчас
подготавливаю. (27 июля 1821).
[1404—1420]. Китаянки калечат себя, чтобы их ноги 1
были малы, полагая красивым то, что противно природе. 1
Нужно ли перечислять все множество варварских, то есть 1
противоестественных, обычаев и мнений, касающихся че- 1
ловеческой красоты? Однако несомненно, что все эти дика- 1
ри, китайцы и т. д. находят особу, на известный лад про- 1
тивоестественно изуродованную, более красивой, чем ту, J
что очень хороша собой и сложена естественно. Больше |
того, известные ее черты покажутся им безобразными и 1
т. д. Значит, у них ощущение прекрасного вызывают вещи, 1
противоположные тем, что вызывают его у нас. Кто же |
прав? Почему подобные вкусы называются варварскими? 1
Не потому, что они безотносительно не имеют ничего 1
общего с прекрасным: ведь те народы чувствуют в них 1
красоту, как мы чувствуем безобразие; но потому, что они I
ничего общего не имеют с природой. Прекрасное — это со- 1
образное, уродливое — несообразное. Но вещам сообразно 1
быть такими, какими они созданы, с теми свойствами, ко- 1
торые им присущи; и если твоя природа такова, то ты и 1
должен быть таким, а не иным. Сообразность и несообраз- 1
ность, как видит всякий, соотносятся с формой бытия каж- I
дой вещи. I
Но красота не зависит только от сообразности, уста- 1
новленнои природой, и может даже зависеть совсем не 1
от нее (вот вам и вкусы, называемые дурными). Она с I
неизбежностью зависит лишь от человеческого мнения, 1
возникшего из привычки, из склонности и т. д. То есть она 1
368
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
зависит от того, что человек (или любое живое существо)
считает сообразностью; поэтому прекрасным будет только
то, что кажется человеку сообразным, то есть прекрасным.
Так все обстоит. Вне мнения человека или другого живого
существа нет ни прекрасного, ни безобразного, и если
исчезнет все живое, то не только идеи прекрасного и
безобразного, но и сами эти свойства совершенно исчезнут из
мира (но может остаться хорошее и плохое, смотря по
тому, вредит ли оно или приносит пользу другим
существам и т. д.).
Однако длительна и всеобъемлюща одна только
природа— как всех вещей, так и каждой вещи; значит, мнение
о сообразном и прекрасном может быть длительным и
всеобъемлющим только тогда, когда оно не противоречит
природе или же признает сообразным то, что природа
создала и чем по своему усмотрению наделила все существа.
(Но все это она создала и усмотрела не с абсолютной
необходимостью, а только по своему произволу и
относительно.) Потому неестественные вкусы во всем, будь то
людская внешность, будь то любой другой род вещей, каким-то
образом относящихся к природе, — эти вкусы, повторяю,
и называются и являются дурными; не имея ничего общего
с подлинной (хотя и относительной) природой вещей, они
не могут быть ни длительными, ни всеобщими. Наоборот,
хороший вкус хорош постольку, поскольку он сообразуется
с природой, такой, как она есть, и только этот вкус может
быть длительным, и в нем почти все могут сойтись.
Потому и получается, что рано или поздно начинают
смеяться над слогом, над живописью, над манерами, если
они неестественны и т. д., над исказившим свое обличье
человеком и т. д., и все это получает название варварства,
как и вне сферы прекрасного, которое не имеет ничего
общего с природой, то есть с тем, каково действительно
все в мире и, следовательно, с тем, каким оно должно
быть. Из этого вы видите, что варварство всегда состоит
в уклонении от природы, — почему народы просвещенные
обыкновенно обладают хорошим вкусом, ибо просвещение
приближает людей к природе.
Итак, варварскими и дурными будут неестественные
вкусы, поскольку они противоречат не прекрасному, но
природе. Никакой вкус прекрасному не противоречит.
Прекрасно то, что считается прекрасным: для семнадцатого
века был прекрасным слог, расцвеченный затейливыми
369
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
украшениями25 и метафорами и т. д., людям этого
столетия он доставлял столько же удовольствия, сколько нам
хороший слог, а в хорошем слоге они удовольствия- не
находили. Исключение было лишь в одном: в любой век
наставления, и сила, и ощущение, и влияние природы могут
быть заслонены и ослаблены нравами, мнениями и т. д.,
но никак не уничтожены ими, значит, вполне вероятно,
что авторы семнадцатого века хотя и находили свой
варварский слог более прекрасным, нежели слог хороший,
все же не получали от него столько удовольствия, сколько
мы получаем от хорошего, то есть естественного слога; они
легче пресыщались им и т. д. Это было следствием не
ложной красоты, потому что красота не бывает ложной,
а ложно понятой природы вещей, которая и тогда была
такою же.
Но и сейчас — сколько противоречащих природе вещей
заставляет нас считать прекрасными привычка, эта вторая
натура! Как разнятся во вкусах даже те века, которые в
общем и целом обладали хорошим вкусом! Сколь
различные мнения о том, красиво ли то-то и то-то или какая-либо
его часть, порождает сама цивилизация, которая 1) бывает
различной и несхожей в разных местах, в разные века и
т. д.; 2) часто уклоняется от природы, и немало. Из этих
причин проистекает не только мнение, но и
соответствующее чувство красоты и вкус к ней, находимой в вещах
неестественных и даже противоречащих природе. Как часто
неестественные наряды, увечащие природу искажения
самого облика людей, ужимки, манеры, весьма далекие от
природы или противоречащие ей, в силу привычки и
мнения кажутся нам весьма красивыми, а противоположные
им — безобразными. Собаки с подрезанными ушами,
лошади с подрезанными хвостами и т. д. и т. д. В пример этому
я могу набрать и тысячи вещей в других родах.
Мало того/ Природа, хотя и единообразная в основном
и в главном, вносит разнообразие во множество
случайных (но очень значительных) вещей в зависимости от
расы, климата, обстоятельств. Эфиоп не похож на белого.
Восточный вкус в словесности не похож на европейский.
То же самое — барды и греки. Современные северяне' и
южане; итальянцы и французы. Вкус любого из них,
будучи согласным с природой каждого, хорош для этого
народа, плох для других; в одном народе тот или иной вкус
производит такое же действие, какое в другом произвел
370
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
бы вкус противоположный (по крайней мере в главных
чертах), который в свою очередь показался бы и кажется
дурным первому народу или другому веку и т. д. Кто
прав? Чей вкус или даже чья природа заслуживает
предпочтения перед всеми остальными? Во всяком случае,
можно скорее отдать предпочтение той или другой природе,
чем тому или другому вкусу, который хорош, если
естествен, а если бы соответствовал другой природе, был бы
дурным и в этом случае не мог бы надолго удержаться у
народа, как не удержался французский вкус в английской
поэзии и т. д. Аддисонова «Катона»26 чтят, но не любят
в Англии, а что долгое время не нравится (и, может
быть, никогда не нравилось) всему народу, то для этого
народа не прекрасно, а созданное для него — и
безобразно, как бы ни нравилось оно другим народам.
Как в другом месте мы отделили прекрасное от того,
что доставляет удовольствие зрению, так нужно по всей
форме отделить прекрасное от естественного. Не то чтобы
приятное для зрения не могло быть прекрасным, а
прекрасное приятным для зрения (именно внешняя,
чувственная красота прежде всего и доставляет ему наслаждение);
но это — два различных качества: быть приятным для
глаза— одно, быть прекрасным — другое. Так же и быть
естественным— это одно, а быть прекрасным — другое; одна
вещь может не быть естественной, но быть красивой,
другая — наоборот; или одна и та же вещь может быть
естественной и красивой для одного и естественной, но
некрасивой— для другого и т. д. (29 июля 1821).
Простота — это почти всегда красота, будь то в
искусствах, будь то в слоге, будь то в манерах, в одежде и т. д.
и т. д. Хороший вкус всегда любит простое. Значит,
простота безотносительно и независимо ни от чего прекрасна
и хороша? Такой вывод нередко делают. Но он не верен.
Почему же она обыкновенно бывает прекрасна?
Я сказал, что естественное всегда сообразно и поэтому
по большей части прекрасно, то есть признается таковым.
Значит, простота обыкновенно бывает, то есть кажется
прекрасной 1) потому, что она обыкновенно присуща
природе, которая (хотя и могла бы поступить иначе) большей
частью ведет себя просто, обходясь простыми средствами
и т. д. (что более всего явствует из моей теории природы),
371
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
по крайней мере в том, что относится к видимой стороне
вещей. А когда дело касается прекрасного, рассматривать
нужно только ее, потому что природа, насильственно и
вопреки естеству распахнутая и обнаженная от всех
покровов,— уже не та природа, какая она есть, и, значит,
перестает быть источником красоты и т. д. 2) Простота
прекрасна потому, что чаще всего она есть не что иное, как
естественность; иначе говоря, вещь именуется простой не
потому, что она отвлеченно проста сама по себе, но
потому, что она естественна, ненарочита, не подделана
искусственно, проста по отношению к человеку, а не к самой
себе и по отношению к природе и т. д.
Лишь по этим и не по каким другим причинам
простота составляет главнейшую черту и отличительный признак
хорошего вкуса, и люди, хотя и могут от нее удалиться,
все же возвращаются к ней, то есть возвращаются к
природе, неизменной в главном. Поэтому стихи и проза
греков всегда будут прекрасны, и не потому, что им присуща
красота как таковая, а потому, что они просты и
естественны и т. д. И те времена, те края, те люди, которые не
ценили и презирали их, были наделены вкусами и
дурными и слывущими за дурные не потому, что не знали так
называемых вечных и неизменных законов прекрасного,
которых не существует, но потому, что в своих вкусах,
извращенных силой привычки и т. д., то есть неестественных,
не присущих человеку, несообразных, дошли до того, что
не знали и не признавали природы, которая и является и
может быть названа вечной. Потому-то они и уклонились
от того единственного вкуса, который может быть
длительным и всеобщим, ибо только он имеет своим основанием
действительность, то есть сущее в его подлинном виде; а
их вкус, который не мог нравиться долго и всем, был
ложен именно поэтому, а не сам по себе. То же можно
сказать о картинах, статуях и архитектуре греков. То же—
об итальянской литературе, которой покуда отдается
всеобщее предпочтение, несмотря на разницу вкусов и т. д.,—
не потому, что всеобщим будет прекрасное, а потому, что
всеобщей будет природа, итальянская же литература более
всех отвечает природе. Поэтому же, а не в смысле
независимой красоты считаются и служат образцами хорошего
вкуса древние литература и проч., самые близкие, даже со
стороны материальной, к природе и, следовательно, самые
простые и т. д. Их неподдельность, живость описания ве-
372
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
щей или чувств, страстей и т. д., то сильнейшее действие, -
которое они производят, почти что к этому не стремясь,—
вот в чем их красота, вечная, потому что она естественна;
это — единственный верный способ подражать природе,
потому что можно подражать ей плохо, хотя и весьма живо,
и самое точное подражание может быть и даже чаще всего
бывает менее естественным, а значит, и в меньшей мере
подражанием. Смотри в моем рассуждении о романтиках,
там, где говорится об Овидии и т. д.
Значит, хваленые законы прекрасного, неизменные и
всеобщие, все же справедливы (в целом и в главном), но
не потому, что прекрасное само по себе оказывается
неизменным, всеобщим и абсолютным, но потому, что такова
природа, которая уже в силу того, что она — природа, есть
главный и неиссякаемый источник сообразного во всем, что
к ней относится, а значит, и прекрасного. Таким образом,
теория изящных искусств (за исключением некоторых
частностей) остается незыблемой в том, что касается ее
предписаний, хотя она и заблуждается в своих умозрительных
основах. Но в нашем случае отвлеченное вообще не вредит
ее частным проявлениям; дело лишь в том, чтобы назвать
законами природы, обязательными для нас, но
оставляющими свободной ее самое, то, что вышесказанная теория
обыкновенно именует абсолютными и общеобязательными
законами прекрасного. Значит, остаются правила риторики,
поэтики и т. д., остаются советы, как отличить ложные
вкусы и избежать их,— но только пусть они называются
ложными не сами по себе и не по отношению к
прекрасному, а потому, что они противоречат действительным
формам существования вещей. Следовательно, основой
изящных искусств и т. д. надлежит признать природу, а не
прекрасное, почти что не зависящее от природы,— как это
делали до сих пор.
Перейдем теперь к наблюдениям, которые покажут, как
простота, почитаемая за качество безотносительно
прекрасное, изменяется и в суждении людей и в самой природе
1) как таковая; 2) как красота.
Время, нравы, мнения, климаты, расы и проч. делают
суждения и вкусы людей в том, что касается простоты,
ничуть не менее разнообразными, нежели в том, что
касается прекрасного, изящного и т. д. Я сказал, что итальянской
литературе, самой простой в наши дни, повсюду отдают
предпочтение. И, однако, нет спору, что французы, народ
373
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
чрезмерно цивилизованный, весьма не похожи на другие на- :
роды в своих суждениях о том, что просто, что, будучи ,
простым, естественно, а будучи естественным, прекрасно, ■<
хотя и согласны со всеми наделенными хорошим вкусом ]
народами в том, что простое и естественное прекрасно, то .
есть сообразно. На французов производят впечатление
крайней простоты, naivete (а значит, и красоты и изяще- ''
ства) сотни вещей, которые нам, итальянцам (если мы
сохраним итальянский, или старинный, вкус), да и многим -
другим кажутся либо нарочитыми, либо слишком
изысканными, искусственными, намеренными, то есть в конце
концов куда менее близкими к природе, чем это
представляется французам; поэтому мы ощущаем в них меньше
изящества и красоты, или вовсе не находим их, или даже
находим эти вещи безобразными, или же относим их к числу
искусственно красивых. Примеры — Лафонтен 27, образец
простоты для француза, Фепелои28, образец изящества,
Боссюэ, образец возвышенного, и проч. Но даже
французов, столь далеких от природы, поражает более близкое
к ней, пусть даже для нас при нашем нынешнем состоянии
оно и будет слишком от нее далеко. Напротив того, все,
что нам, итальянцам, кажется простым, естественным,
прекрасным, изящным, представляется французам чрезмерно
простым и потому неестественным (как всегда бывает, они
судят о природе по тому состоянию, в каком находятся
сами), и для их чувств оно не изящно и не красиво, а
низменно, ничтожно и безобразно. И сплошь и рядом
случается, что французское изящество, красота, естественность для
нас оказываются нарочитостью, искусственностью,
изысканностью, а итальянская простота и т. д. оказывается для
французов нестерпимой и смешной грубостью. Однако все
мы согласно считаем прекрасным и изящным простое и
естественное,, так же как единодушно признаем
прекрасным сообразное, не сходясь в суждениях о том, что
сообразно и что нет.
Другие народы различаются между собою ничуть не
меньше, и для англичан не будет достаточно простым и
естественным то, что считается таковым у итальянцев, и
наоборот, для итальянцев будет непристойным и грубым
то, что просто, естественно для англичан, и т. д.
Еще больше различаются между собою разные века.
Оставим в стороне сравнение классической греческой
литературы с классической латинской, которая сложилась на
374
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
ее основе. Авторы четырнадцатого века нравятся нам и по
сей день, но того, кто сегодня стал бы писать в точности
так, как они, тем же, что у них, языком, сочли бы
варваром, а его простоту и т. д. — чрезмерной, то есть
несообразной, неправдоподобной и неестественной сегодня, хотя
природа в главном и не изменилась. Французы любят
греков и римлян, но остерегаются подражать многому, что у
тех не внушает отвращения и даже кажется прекрасным,
потому что признается сообразным их природе, их веку и
т. д. Впрочем-, есть довольно французов, которые считают
свою литературу более прекрасной и отдают ей
предпочтение перед древней — а это признак дурного вкуса,
отошедшего от природы несколько далее, чем вкус других
народов. Француз с хорошим, иначе говоря, естественным
вкусом найдет вкус и в итальянских классиках, хотя их
манера так противоположна манере его народа. Но все же они
доставят ему меньше удовольствия, чем доставили бы (и
доставляют действительно) другим народам, и он был бы
оскорблен многим таким, что нам и другим кажется
естественным. Я ничего не скажу о восточной литературе и
вкусах, о дикарях и т. д.
До сих пор я рассуждал только о литературе. То же
самое может быть сказано и об изящных искусствах, о
поведении в обществе и т. д., словом, обо всем, к чему
относятся понятия простого и естественного.
Я заметил в другом месте, что некоторые французские
naivetes мне кажутся весьма нарочитыми, и не
относительно, не потому, что для нас они вовсе не будут naivetes, но,
можно сказать, абсолютно, потому что, будучи naivetes и
для нас, то есть истинными naivetes, они слишком
выделяются, сверх меры противоречат манере, слогу и т. д. этого
народа, вызывая ощущение несообразности, по крайней
мере у нас, наделенных большей тонкостью и здесь и в
суждении об естественности (а это именно и называется
утонченностью вкуса, которую мы чтим и которой учимся
у древних наставников). Вот и выходит, что даже
абсолютная простота и естественность, признаваемая
абсолютно прекрасной, нередко может быть безобразной, то есть
несообразной обстоятельствам, привычкам, мнениям и т. д.
Это, как я показал, подтверждается тысячами примеров.
Одним словом, есть столько же видов естественности,
сколько привычек, а значит, и сам хороший вкус
разделяется на столько же вкусов, сколько бывает привычек в
375
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
разные времена, в разных местах и т. д., и для частных
черт нет общего правила относительно прекрасного в
литературе, искусствах и т. д.
Прежде чем оставить это рассуждение о красоте, я
хочу заметить вот что: подобно тому как удовольствие,
доставляемое изящным, прекрасным и проч., имеет
причиной необычайность, не выходящую из известных пределов,
так же и мы получаем от простоты греков или авторов
четырнадцатого века намного больше удовольствия, чем
их современники, и потому больше ею восхищаемся,
находим ее более прекрасной, чем они, и т. д. То же самое
происходит и у разных народов, иными словами,
различие между народами и эпохами, или же различие в
привычках и т. д. могут и уменьшить цену простоты и
естественности, как я это показал, и увеличить ее, то есть
изменить суждение людей об этих качествах в лучшую
сторону. <...>
Потому верно, что все человеческие ощущения
изменяются и зависят почти исключительно от привычки, от
обстоятельств и проч. <...> (30 июля 1821).
[1509—1510]. Как я уже сказал в другом месте, лицо
нередко кажется нам весьма безобразным, если мы
находим в нем сходство с кем-нибудь безобразным или с тем,
кто не пришелся нам по душе либо всеми почитается за
урода. Нетрудно заметить, что если бы идея сходства была
устранена, этот человек не показался бы нам таким
безобразным. Иногда этому сходству не мешает и то, что
одна физиономия вполне правильная, а то лицо, с которым
она схожа, — неправильное; и все же сама идея сходства
рождает в нас неприятное ощущение, и мы никогда не
назовем эту физиономию красивой, хотя другие, не
разделяющие с нами вышесказанную идею, и считают ее
недурной. Так, особа, которая в малолетстве казалась нам
дурнушкой и на которую мы привыкли смотреть как на
дурнушку, вряд ли понравится нам, даже если потом станет
красавицей (если только на то не будет особых причин),
и особенно если она росла и складывалась у нас на
глазах. Такова власть мнения над идеей прекрасного и т. д.
(17 августа 1821).
[1650]. Посмотрим, насколько воображение может
способствовать философии (которая враждебна ему) и прав-
376
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
да ли, что великий поэт мог бы в других обстоятельствах
стать великим философом, споспешником разума —
убийцы избранного поэтом рода искусства, и что, наоборот,
философ мог бы стать великим поэтом. Отличительная
черта истинного поэта — щедрая способность к уподоблениям.
(Гомер— 6 тио17]тт)с — лучший образец ее). Душа,
охваченная восторгом, жаром любой страсти и т. д., открывает
живейшие подобья между предметами. Телесные силы и
здоровье, даже мимолетные, влияя на дух, дают ему
возможность видеть связи между самыми несхожими
предметами, находить самые причудливые и остроумные
сравнения и уподобления (и шутливые и серьезные), показывают
ему отношения, о которых он никогда бы не подумал,
одним словом, позволяют ему с дивною легкостью сближать
и уподоблять друг другу предметы самых разных видов,—
например, идеальные с чисто вещественными, — живейшим
образом воплощать самую отвлеченную мысль, сводить все
к образу, создавать образы до невероятности новые и
живые. И все это — с помощью не только вновь созданных
сравнений и уподоблений, но и невиданных эпитетов,
смелых метафор, слов, содержащих в самих себе некое
уподобление и проч. Таковы способности великого поэта, и
все они охватываются способностью открывать связи
вещей, даже самые мелкие, самые отдаленные и даже
между такими вещами, которые кажутся наименее
сопоставимыми и т. д. Но ведь в этом — весь философ: в
способности открывать и познавать отношения, связывать вместе
частности и обобщать. (7 сентября 1821).
[1691 —1694]. Вы, преобразователи человеческого духа
и творений природы, вы, проповедники разума,
попытайтесь-ка создать роман, поэму и проч., где герой был бы
представлен совершенным и исключительным с
нравственной стороны, зависящей от человека, и несовершенным
или не вполне совершенным со стороны физической, где за
человеком нет никакой заслуги. О чем больше всего
говорит в наш столь духовный век литература, которая ныне
на первый взгляд гнушается всем, что отдает телом, о чем,
я повторяю, говорят в романах, в поэмах, в сочинениях,
исполненных фантазии и чувства, как не о телесной
красоте? Она— первое условие для действующего лица, к
которому хотят привлечь интерес.
377
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Способность человека к совершенствованию, как я ска- 1
зал в другом месте, не распространяется на его тело. И 1
все-таки телесное совершенство, не зависящее от человека 1
и не создаваемое разумом, — вот что прежде всего требу- 1
ется от героя поэмы и проч. (потому, наверно, что, пред- I
положив у него некий телесный изъян, поэт испортил бы 1
все впечатление); оно-то и производит наибольшее дейст- |
вие, особенно если предположить в герое еще и духовное 1
совершенство. Об этом обстоятельстве нельзя умолчать; |
если даже о нем и умолчат, читатель сам внесет дополне- |
ния; но намеренно сделать своего героя безобразным — I
значит сразу же отказаться от возможности произвести j
впечатление. <...> Мадам де Сталь не'была хороша со- I
бой; в такой душе, как ее, это обстоятельство должно было I
вызвать бессчетное множество возвышенных мыслей и 1
чувств, никем еще не описанных, глубоких, чувствительных |
(то же самое утверждал о Вергилии Шатобриан29); она |
больше всего любила оригинальность, не боялась оскор- I
бить хороший вкус30 (см. «Германия», том I, гл. послед- 3
няя), она, подобно всем великим, описывала в романах л
свое сердце, свои превратности и потому везде, где хотела ]
произвести наибольшее действие, изображала женщин; и 1
все же она опасалась сделать безобразными или не очень j
красивыми своих героев и героинь. Никогда еще иепред- ]
взятость, смелость и оригинальность писателей не прости- •
ралась до этого. Что такое красота? Разве не такой же, ;
в сущности, дар случая, как знатность или богатство?
Разве меньшего стоит человек великий и чувствительный, если -
он некрасив? Разве самый уродливый хоть мало-мальски \
уступает своими истинными заслугами первому красавцу? j
И все-таки писатель или поэт должен остерегаться не \
только сделать героя уродом, но и с чем-либо сравнивать
его красоту.tВсякое впечатление пропало бы, если бы
автор, говоря о себе самом (как Петрарка) или о своем
герое, обмолвился, что тот был несчастен в любви потому,
что его наружность, или его манеры, или его осанка
(свойство чисто телесное) не нравились возлюбленной, или
потому, что он был не так хорош собой, как его соперник,
и т. д. Что есть мир, в конечном счете, если не природа?
Я говорил, что человеческий рассудок материален во всех
своих действиях и понятиях. Ту же теорию рассудка
следует распространить и на наше сердце и на воображение.
Добродетель, чувство, величайшие нравственные достоин-
378
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
ства, самые чистые, самые возвышенные, беспредельные,
неизмеримо далекие от всякой материальной видимости,
не вызывают любви, не производят никакого действия, если
они не воплощены в материи, не стали материальны.
Отделите их от красоты, от внешней повадки, — ив них
никто уже ничего не почувствует. Пусть сердце воображает
себе, что любит дух и испытывает нечто нематериальное:
все равно оно неизбежно обманывается.
В некотором роде то же самое происходит и со слогом
и со словом, которые, как хорошо сказал Пиндемонте31,
составляют не одежду, но плоть мыслей. Справьтесь в
истории любой литературы, насколько впечатление от слога
берет верх над впечатлением от мыслей (хотя чаще всего
читатель не замечает этого, не умеет отличить вещи от
слов и приписывает только мыслям испытываемое
впечатление, — в чем и состоит главное в искусстве слога).
(13 сентября 1821).
[1695—1696]. Власть привычки над представлением о
сообразном. Заведенный порядок сделал обязательным для
поэта, чтобы он писал стихами. Это не связано ни с
сущностью поэзии, ни с ее языком, ни с ее способом
изображать вещи. Правда, и этот язык, и этот способ, и те
совсем не обычные вещи, которые говорит поэт, таковы, что
весьма сообразно и полезно для сильнейшего воздействия
употребление ритма и проч., отличного от обычной и
повседневной речи, посредством которой вещи изображаются
такими, каковы они на самом деле и какими мы привыкли
их видеть в действительности. Я не говорю о пользе
гармонии и т. д. Но в своей сущности и сама по себе поэзия
не связана со стихом. И все-таки вне стиха смелые
метафоры, образы, сентенции — все это должно быть несколько
сглажено, если мы хотим избежать неприятного ощущения
нарочитости, ощущения несообразности того, что именуется
слишком поэтическим для прозы, хотя поэтическое при
всей широте этого обозначения не заключает в себе ни
идеи, ни необходимости стиха или какой-нибудь мелодии.
Можно быть пылким поэтом и в прозе, и в этом не было
бы абсолютной несообразности; и проза, которая была бы
поэзией, могла бы безо всякой несообразности усвоить
язык, манеру и все, что присуще поэту. Но
противоположная привычка очень стара (быть может, она родилась от-
379
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
того, что поэты, сочиняя, воодушевляли себя музыкой и 1
потому сочиняли в размере этой музыки, нараспев, то есть 1
слагали стихи, что вполне естественно), она мешает нам 1
признать сообразной вещь, которая не содержит никакого 1
противоречия ни сама по себе, ни с точки зрения природы 1
человеческого языка, или духа поэзии, или человека, или 1
мира. (14 сентября 1821). I
[1741—1744]. Обстоятельства толкнули меня к изуче- 1
нию языков и классической филологии. Это и образовало 1
мой вкус: я презирал поэзию. Разумеется, у меня не было 1
недостатка в воображении, но я и не думал о том, что я 1
поэт, пока не прочел некоторых греческих поэтов. (Однако 1
мой переход от учености к красоте был не внезапным, а 1
постепенным, то есть я стал замечать у древних и в моих 1
собственных занятиях нечто большее, чем прежде, и т. д. I
То же — и при переходе от поэзии к прозе, от словесности 1
к философии. Всегда дело в привычке.) У меня не было I
недостатка ни в воодушевлении, ни в плодовитости, ни в 1
силе духа, ни в страсти, но я и не думал о том, что я J
красноречив, пока не прочел Цицерона. С величайшим удо- 1
вольствием отдаваясь целиком изящной литературе, я пре- 1
зирал и ненавидел философию. Все эти «мысли», до кото- 1
рых так падко наше время, наводили на меня скуку. В си- 1
лу обычных предрассудков я полагал, что создан для ело- |
весности, для воображения, для чувства и мне никак не- |
возможно отдаться совершенно противоположным склон- 1
ностям — к разуму, к философии, к отвлеченной математи- J
ке — и во всем этом преуспеть. У меня не было недостатка ]
в способности размышлять, сравнивать, рассуждать, сопо- I
ставлять, не было недостатка во внимании, в глубине и |
проч., но я не предполагал, что я философ, пока не прочел 1
некоторых сочинений мадам де Сталь. I
Можно сделать очень значительные и важные наблюде- *
ния над самыми сильными, неутомимыми и плодотворны- з
ми способностями человека, которые кажутся врожденны- !
ми, но на самом деле возникли (некоторые говорят
«развились») под влиянием чтения, занятий, различных
обстоятельств, даже вопреки ожиданиям человека и вопреки
решительной наклонности, которую он приобрел и полагал
врожденной.
Без сомнения, поскольку больший или меньший талант
380
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
есть не что иное, как большая или меньшая податливость
органов новым привычкам, постольку великий талант, в
каком бы роде он ни блистал, способен блистать во всех
родах. Если этого не происходит, то повинны тут лишь
обстоятельства, которые определили его приложение и его
вкус. И поскольку все люди, достигшие высот в любой
области духа, были наделены большим талантом, то есть
большой широтой ума, постольку несомненно, что,
например, великий поэт может быть великим математиком, и
наоборот. <...> Если это не так, если его дух посвятил
себя одному роду (что случается не всегда), это
непременно оказывается следствием обстоятельств.
Однако, что касается поэта, верно и то, что иные из
свойств и задатков, необходимых для поэзии, можно в
некотором роде считать присущими только ей и не вполне
пригодными для иных склонностей. Но все же я
утверждаю, что поэт обладает названными качествами (даже в
высочайшей степени) только в силу обстоятельств, а при
других обстоятельствах он был бы наделен другими и даже
противоположными качествами; ибо я считаю, что
обстоятельства их не развивают, как полагают некоторые, а
порождают. (19 сентября 1821).
[1780—1786]. Источником удовольствия в музыке,
независимым от гармонии самой по себе, от выражения, от
звука или от природы пения, то есть голоса и т. д.,
являются украшения, проворство, переменчивость, резвость,
быстрая последовательность, чередование и разнообразие
звуков или тонов голоса — все то, что нравится нам
благодаря своей трудности, с легкостью преодолеваемой (я
сказал в другом месте <...>, почему все это приятно нам),
благодаря необычности, то есть вещам, не имеющим ничего
общего с прекрасным. Без живой подвижности и
разнообразия звуков — и в том, что касается гармонии, и в том,
что касается мелодии, — музыка производила бы и
производит совсем иное действие. Простейшая гармония или
мелодия, как бы красива она ни была, наскучит очень
быстро и не вызовет того сложного, мгновенного и мгновенно
меняющегося ощущения, какое вызывает музыка и
которое душе никак не объять. И т. д. Наоборот, все эти
трудности, украшения, вся эта легкость, если в них не хватает
выражения, приятны разве что для знатоков. Музыка древ-
381
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА Й ЭСТЕТИКА
них была, без сомнения, очень проста и, конечно, произ- 1
водила совсем другое действие, нежели наша. Присмотрим- 1
ся к себе, когда мы слушаем музыку, которая трогает нас, 1
и мы увидим, сколь большая часть ее действия вызывает- 1
ся легкостью и подвижностью звуков, пассажей и проч., 1
независимо от мелодии и гармонии как таковых. |
Даже наименее выразительная и самая простая музыка |
с первого же мига дает душе отдохновение, возносит ее |
или умиляет в зависимости от расположения самой души |
или от свойств музыки, и погружает слушателя в бездну 1
бесчисленных смутных ощущений, вызывает у него слезы, 1
даже если композитор хотел заставить его смеяться,
пробуждает в нем мысли и чувства совершенно произвольные, ]
не зависящие ни от свойств этой музыки, ни от намерения
композитора или исполнителя. Остережемся же принимать *,
приятное за прекрасное. Все это—не более чем
удовольствие. Оно проистекает как от многообразия и сложности
названных смутных ощущений, так и от склонности, от
связи, которую природа произвольно установила между вооб- ;
раженьем и теми ощущениями, что вызываются звуком или j
пением, от природной их- способности приятно afficere * на <
наше ухо (так вкус воздействует на наше нёбо) или на
нашу душу, возбуждать воображение — в ком больше, в ком
меньше, в ком и вовсе нет, или то больше, то меньше, а то
и совсем не возбуждать его; такую же способность
природа дала, хотя и в меньшей степени, запахам, которых
никто не называет прекрасными, но только приятными.
Люди, про которых говорят, что у них нет слуха, — это
не те, что неспособны отличать гармоническое от
негармонического и т. д. (это было бы лишним доводом против
вас), а те, чей слух мало доступен воздействию звуков и
поющих голосов, а душа не очень расположена к их
восприятию. Такие подобны людям со слабым обонянием,
слабым вкусом и т. д., чье суждение о том, приятны или
неприятны запах или пища, ни в чем не грешит и потому не
бывает ложным, но чьи органы грешат
нечувствительностью. Это наблюдение доказывает, что главное
удовольствие в музыке мы получаем от звуков и пения как
таковых, независимо от гармонии, которую благодаря
привычке (или, как вы утверждаете, благодаря всем присущему
врожденному чувству) рано или поздно каждый научается
* Воздействовать {логин.).
382
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
неукоснительно отличать от того, что его соседи считают
негармоническим. И без сомнения, человек с худшим
слухом отличнейшим образом достигнет этого благодаря
усердию, он может стать даже великим композитором или
исполнителем,—и слух его при этом не станет лучше. Это —
признак двойственности действия музыки: одно
проистекает из гармонии, другое — только из звука. Атак как
второе действие важнее, то человек, лучше всех смыслящий
в музыкальной гармонии, если у него плохой, то есть
нечувствительный слух, никогда не получит слишком уж
большого наслаждения от музыки.
В одном из этих двух действий музыки — в действии
гармонии — нет ничего необыкновенного, то есть оно ничем
не отличается от действия всего того, что мы назвали
сообразным. Другое действие — действие звука или пения —
необычно, оно проистекает из особой и врожденной
способности человеческого механизма, но не относится к
области прекрасного. То же самое различие следует делать,
говоря о воздействии на человека мужской или женской
красоты; теория этой красоты может пролить свет на
теорию музыки, и наоборот. Гармония в музыке, как и
сообразность в человеческой наружности, действительно
оказывает весьма живое, незаурядное и естественное действие,
но только благодаря тем средствам, с помощью которых
они достигают наших чувств (то есть звуков и пения или
форм человеческого тела), или, иначе говоря, того
предмета, в котором мы воспринимаем гармонию или сообра-
зие. Если устранить этот предмет, гармония и
сообразность сами по себе или приложенные к другому предмету
никак не произведут того же самого впечатления. Хотя,
конечно, они необходимы, чтобы предмет надолго произвел
безусловно и во всем приятное впечатление. Так
доказывается, что все врожденное, естественное и всеобщее,
заключенное в воздействии музыкальной или человеческой
красоты, не относится к области прекрасного, но лишь к
области удовольствия или склонности и человеческой
природы, которая порождает это удовольствие наряду с
сотней других, больших и малых, присущих всем или только
одному, но никем не смешиваемых с прекрасным.
Я полагаю также, что многие люди или из-за какого-
либо недуга, или по природе своей и т. д. не только не
получают наслаждения от всех или некоторых звуков,
приятных для большинства, но даже испытывают отвращение к
383
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ним. Это происходит и со многими видами животных,
устроенных не так, как мы, между тем как другие виды, чье
устройство подобно нашему, любят названные звуки и т. д.
То же самое я думаю — и даже почти с уверенностью—
и о различных гармониях, которые вызывают решительное
отвращение и кажутся вовсе негармоническими некоторым
людям и некоторым видам животных. (24 сентября 1821).
[1819--1822]. То обстоятельство, что при деспотическом
правлении никогда не бывает великих талантов; что
общественные условия способствуют их рождению; что
революция или благодетельный просвещенный государь властны
вызвать их, к жизни непосредственно и в изобилии, как это
уже не раз было испытано на деле; что великие таланты
обыкновенно возникают и расцветают все одновременно;
что один какой-либо век порождает больше великих
талантов в какой-либо одной области, нежели все остальные, по
прошествии же такого плодоносного круга лет уже не
отыщешь в этой области таланта, достойного памяти или
сравнения с вышеназванными (смотри «Опыт» Альгаротти 32 и
конец первой книги Веллея33),— что все это доказывает,
кроме одного: талант есть целиком и полностью детище
обстоятельств, как талант вообще, так и тот или иной
талант. Что значит «развивать» уже наличествующую в
полной мере способность? Быть может, найти ей
применение, сделать ее evep^Tj, то есть деятельной? Нет, сударь
мой: ведь этого нельзя сделать, прежде чем душа не
приобретет навык в известного рода действиях. Развиваются
органы, и вместе с ними задатки человека, то есть
присущие этим органам свойства,— это я понимаю. Но что
способность, которая без соответствующих обстоятельств,
без привычки и упражнения остается ничем и не может
быть воспринята ни одним из человеческих чувств,
развивается, а не создается обстоятельствами и что мы так и
должны думать и говорить о ней, — этого я не понимаю.
Что такое способность? В чем состоит ее сущность? Как
она может быть врожденной у того, кто не обладает ею,
покуда обстоятельства и привычка не привьют ему эту.
способность? Задатки бывают врожденными или же
приобретаются благодаря развитию, то есть совершенствованию
тех органов, в которых эти задатки заложены как
свойства, подобно тому как в бумаге заложены задатки для того,
384
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
чтобы быть исписанной или принять ту или другую форму.
Но можно ли поэтому утверждать, что бумага сама по себе
обладает способностью говорить душе читающего и что
пишущий на ней развивает эту ее способность, а не дает
ее бумаге? Конечно, может быть бумага подходящая для
той или иной формы, для тех или иных чернил и т. д. Так
и задатки и свойства могут быть неодинаковыми у
отдельных особей одного и того же вида: у одной больше,
у другой меньше или у одной вовсе отсутствовать, у
другой наличествовать. Только эта разница между
человеческими талантами может быть врожденной или развитой,
это касается и различия между отдельными людьми,
различия между человеком и другими видами животных.
Разница только в задатках, но никак не в способностях. Эту
разницу, как и отсутствие задатков, их скудость,
превосходство задатков одного над задатками другого, не могут
устранить ни один государь, никакие обстоятельства
(кроме чисто телесных), между тем как со способностями все
обстоит совершенно противоположным образом. Ибо они
порождаются обстоятельствами, они целиком зависят от
государей, от воспитания и проч., между тем как задатки
от этого не зависят. (9 октября 1821).
[1833—1840]. Кто не обладает и никогда не обладал
воображением и чувством, кто неспособен к
воодушевлению, героическому порыву, к живым и величавым
иллюзиям, к сильным и разнообразным страстям, кому неведома
необъятная система прекрасного, кто не читает и не
чувствует и никогда не читал и не чувствовал поэтов, — тот
безусловно не может быть великим, истинным и
совершенным философом и навсегда останется философом
односторонним, близоруким, почти лишенным проницательности и
не способным к глубоким прозрениям, даже если он будет
прилежен и терпелив, будет тонким диалектиком и
математиком; он никогда не познает истины, он убедит себя
в вещах ложных и с достаточной наглядностью будет их
доказывать и т. д. и т. д. Не только потому, что сердце
и воображение часто говорят больше правды, чем
холодный разум, как это утверждают, — я же не хочу
вдаваться в рассуждения об этом, — но потому, что даже самый
холодный разум должен знать все это, если он хочет
проникнуть в систему природы и развить ее. Анализ идей чело-
|3 Этика и эстетика
385
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА ИГ ЭСТЕТИКА
века и всеобъемлющей системы сущего должен как
наибольшую и главную свою часть включать воображение,
естественные иллюзии, прекрасное, страсти, — словом, все
то поэтическое, что есть в целостной системе природы. Эта
часть природы не только полезна, но и необходима для
познания другой ее части, более того, в философическом
размышлении одна часть не может быть отделена от
другой, потому что так создана сама природа. Упомянутый
анализ в той мере, в какой он принадлежит философии,
должен производиться не воображением или сердцем, но
холодным разумом, который проникает в глубочайшие
тайны того и другого. Но как может произвести подобный
анализ тот, кто не знает в совершенстве всех названных
вещей по собственному опыту и тем более кто почти ничего
о них не знает? Сам холодный разум, этот смертельный
враг природы, не имеет ни другого основания, ни другого
истока, ни другого предмета своих размышлений,
умозрений и действий, кроме природы. Кто не знает природы, не
знает ничего и не может рассуждать, каким бы он ни
обладал рассудком. А тот, кто не знает поэтической стороны
природы, не знает огромной части природы и даже не
знает природы совсем, потому что ему неведома форма ее
бытия.
Такова была большая часть философов начиная с
семнадцатого столетия, преимущественно английских и
немецких. Привыкнув ничего не читать, ни о чем не думать, ни
на что не смотреть, ничего,не изучать, кроме философии,
диалектики, метафизики, аналитики, математики,
отвернувшись от всего поэтического, лишив всякой поэзии свой
дух, приобретя обыкновение полностью отвлекаться от
системы прекрасного, рассматривать и полагать свою науку
отстоящей на тысячи миль от всего причастного
воображению и чувствам, утратив всякую привычку к прекрасному
и пылкому и неотъемлемо усвоив привычку к чистому
рассуждению, к холоду и проч., не подозревая, что в природе
существует нечто еще помимо разумного, поддающегося
расчету, чуждого всякой страсти, иллюзии и чувству,—они
заблуждаются и на каждом шагу и в целом, хотя
рассуждают с самой безукоризненной точностью. Нет сомнения,
что они не знали и не знают большей части природы — тех
самых вешей, которые они трактуют, как бы ни были эти
вещи далеки от поэзии (ведь в подлинной системе
природы поэтическое связано со всем без исключения), не знают
386
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
большей части той самой истины, которой они единственно
и посвятили себя.
Наука о природе есть только наука о связях. Все
успехи человеческого духа состоят в открытии свдзей. Но ведь
и помимо того, что воображение — это самый плодовитый
и удивительный открыватель самых скрытых связей и
гармоний (как я уже говорил в другом месте), ясно, что не
знающий большой доли или, вернее, одного из свойств
природы или одной из ее сторон, связанной со всем, что
может стать предметом мысли, не знает и бесчисленного
множества связей, а потому не может не рассуждать
плохо, не смотреть на все ложно, не делать неполноценных
открытий, не упускать из виду самых важных, самых
необходимых и даже самых очевидных вещей. Разберите
сложнейший механизм, изымите из него большую часть его
колес и отложите их в сторону, чтобы уже не думать о
них; потом соберите механизм и начинайте размышлять о
его свойствах, о его действиях и об орудиях, посредством
которых они производятся: все ваши рассуждения будут
ложны, и механизм и его действия будут уже не те,
какими они должны быть, ибо их орудия изменились, стали
слабыми и бесполезными; вы же фантазируете по поводу
этого устройства, пытаетесь объяснить действие разделенного
надвое механизма, словно он дел, тщательно
рассматриваете колеса, из которых он теперь состоит, и приписываете
то одному, то другому из них действие, которого машина
лишилась, хотя прежде производила его у вас на глазах
благодаря изъятым вами колесам, и т. д. То же
происходит, когда из системы природы изымается и полностью от
нее отделяется механизм прекрасного, который неразрывно
и прочно слажен со всеми другими частями системы и с
каждой из них в отдельности.
В другом месте я сказал, что истину знают в
совершенстве только тогда, когда в совершенстве знают ее связи
со всеми остальными истинами и со всей системой вещей.
Так какую же истину познают те философы, которые
постоянно отвлекаются от существеннейшей части природы?
Разум и человек познают что-либо только через опыт.
Если разум хочет думать и действовать самостоятельно
и при этом делать открытия и преуспевать, то ему
надлежит все знать по собственному опыту; а чужой опыт,
касающийся основных сторон природы, послужит ему лишь
для повторения действий, уже проделанных другими.
13*
387
ДЖАКОМО ЛЁОПАРДЙ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Из сказанного ясно, как трудно найти истинного и
совершенного философа. Можно даже сказать, что это самая
редкая и необычайная способность из всех, какие можно
себе представить, и что такой философ вряд ли рождается
раз в десять столетий, если только он вообще когда-нибудь
родился. (Поразмыслите здесь, намного ли сама система
вещей способствует провозглашаемому некоторыми
совершенствованию человека посредством совершенствования
разума и философии.) К тому же необходимо, чтобы такой
человек был великим и совершенным поэтом, — не для
того, чтобы мыслить, как мыслят поэты, но чтобы холодной
мыслью и расчетом исследовать то, что только самый
пылкий поэт может познать. Философ несовершенен, если он
только философ, если он посвящает себя и свою жизнь
лишь совершенствованию своей философии, своего разума,
одному только отысканию истины,— что, впрочем, остается
единственной целью совершенного философа. Разум
нуждается в воображении и в иллюзиях, которые сам же
разрушает; истина нуждается во лжи; сущность — в
видимости; самая полная бесчувственность — в самой живой
чувствительности; лед — в пламени; терпение — в
нетерпеливости; бессилие — в величайшей силе; самое малое — в
самом великом; геометрия и алгебра—в поэзии.
Всем этим подтверждается сказанное мною в другом
месте о необходимости *воображения для великого
философа. (4 октября 1821).
[1871 —1878]. Заметьте, что наслаждение, доставляемое
музыкой, и ее красота — поскольку их нельзя свести ни к
значению, ни к чистому воздействию звуков вне связи их
с гармонией и мелодией, ни к прочим причинам,
перечисленным мною в другом месте, — проистекают единственно
из нашей Общей привычки, касающейся гармонии, —
привычки, которая заставляет нас признавать сообразными
друг с другом такие-то звуки и топы, такие-то их
последовательности, такие-то переходы и модуляции, и
несообразными — отличные от них или противоположные им. Новые
гармонии или мелодии (которые уже сейчас считаются
величайшей редкостью) зачастую и даже всегда, если только
они подлинно новы, кажутся на первый взгляд
нестройными, даже если отвечают правилам контрапункта; но как
раз благодаря этому мы очень скоро начинаем узнавать
388
из Дневника размышлений
и чувствовать в них сообразность — то есть потому, что
они сами и есть эта сообразность — и находим, что они
соответствуют нашей общей привычке, касающейся
гармонии и мелодии, то есть сообразности звуков, хотя бы даже
эти новые гармонии и мелодии не соответствовали нашей
особой привычке. Чем менее распространена эта общая
привычка, чем меньше она укоренилась в слушателе,
срослась с ним и обрела в нем чувствительность, тем более
острое ощущение нестройности и негармоничности испытывает
он с первого раза и тем дольше это ощущение держится
в нем, так что он окончательно счел бы новое нестройным,
если бы не был предупрежден, что это все же подлинная
гармония и мелодия, и мнение не мешало бы ему. Так
бывает с простонародьем, с людьми грубыми, не
привыкшими слушать музыку, и в соответствующей мере — с
людьми, мало что смыслящими в этом искусстве. Все они,
слыша новые гармонии, получают удовольствие только от
звуков и от прочих причин, объясненных мною в другом
месте, но не от гармонии и мелодии как таковых, потому что
не признают их за гармонию и мелодию. Поэтому обычно
нравятся и больше и большему числу людей мелодии,
называемые доступными, то есть отвечающие и особым
привычкам каждого и общей привычке совокупно всех
слушателей, касающейся мелодии и проч. Совсем новые
гармонии и мелодии обыкновенно нравятся только знатокам, ибо
они чувствуют трудность их создания и сравнивают их с
правилами, которые знатокам известны, и т. д. Но даже
и эти в самый первый миг испытывают ощущение
нестройности, однако оно быстро исчезает, и мнимость его они
сами немедленно узнают; но можно сказать, что всякая
безусловная новизна в музыке содержит видимость фальши
и отчасти даже состоит в ней. Другие гармонии и мелодии,
не заключающие в себе этой видимости или содержащие
ее не столь явственно, если их и признают новыми, новы
лишь постольку, поскольку в них необычным образом
сочетаются разные части того, что в музыке считается
сообразным и что общая или наша особая привычка велит нам
признавать за сообразное. Эти сочетания, чем они дальше
от той общедоступности, которая объяснена мною выше,
тем больше нравятся знатокам и тем меньше—народу и
потому, если говорить вообще, меньше значат. Такова
природа наибольшей части ежедневно появляющихся
музыкальных новинок и новых музыкальных сочинений.
389
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА Й ЭСТЕТИКА
При этом заметьте следующее: если ты слышишь, как
это бывает очень часто, кусок знакомой арии, а
продолжение этого куска не то, какое тебе знакомо, ты тотчас же
испытываешь ощущение нестройности, потому что это
расхождение противоречит твоей особой привычке; но
повремени выносить суждение — и очень скоро оно определится
у тебя как благоприятное, и ты ощутишь гармонию и
мелодию, то есть сообразность, потому что названное
расхождение в конце концов не противоречит твоей общей
привычке, касающейся сообразного в музыке, а эта привычка
и есть основа, источник и плоть контрапункта. Эта
привычка распространяется на многие несхожие между собой
сочетания одних и тех же частей или некоторых из них с
другими и т. д. Названное явление встречается весьма
часто, потому что весьма часто и почти с неизбежностью
встречается вызывающее его обстоятельство; а коль скоро
оно есть, то и названное явление неукоснительно из него
следует даже у самых просвещенных и привыкших к
разнообразию музыкальных сочетаний слушателей.
Эти наблюдения могут отличнейшим образом открыть
нам причину того, почему истинная новизна признается в
музыке — то есть в гармонии и особенно в мелодии—столь
редкой и трудно достижимой в отличие от живописи,
скульптуры, поэзии, красноречия и проч. В самом деле,
абсолютная новизна в музыке не может быть ничем иным,
как нарушением гармонии, потому что она была бы
несообразна с общей привычкой. Также в поэзии и в прозе,
там, где дело касается чистой гармонии и мелодии,
новизна почти что невозможна. Иначе говоря, в этом роде
искусства были бы легко достижимы бесчисленные новые
сочетания, но они бы уже не были ни гармониями, ни
мелодиями, как не сообразующиеся с привычкой народа
и его языка, между тем, как привычка есть единственное
основание, причина, начало, исток- гармонии и мелодии.
У разных народов, в разных языках мелодия прозы и
стихов бывает очень различна (как и мелодия отдельных слов,
то есть составляющих их слогов и букв, из которой
единственно и складывается мелодия каждого стиха и
периода), потому что различны их привычки, тогда как в
каждом отдельном языке н.овизна в этой части почти
невозможна; то, что будет мелодическим в чужом языке, легко
было бы безотносительно ко всему, и прежде всего к иной
или противоположной привычке, применить в том языке,
390
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
на котором ты пишешь, но на самом деле его применить
нельзя, потому что это было бы несообразно с привычкой,
а значит, оказалось бы несообразностью и нарушением
гармонии. <...> Между тем то прекрасное, что связано
с подражанием, со значением, с выражением чувств и
проч., словом, со следованием природе, бесконечно
изменчиво и поддается обновлению. Прекрасное в живописи, в
ваянии, в поэзии по большей своей части принадлежит к
этому роду прекрасного и не настолько зависит от
привычки, а тем более не заключается в ней (тут привычка
весьма ограниченна и не может быть так уж распространена,
особенно среди простого народа); следовательно, в этих
искусствах возможны и новизна и разнообразие.
Архитектура, в которой определяющее ее прекрасное также
зависит от привычки и по большей части только в ней и
состоит, у разных народов различается весьма сильно, как
различается и музыка и мелодия прозы и стихов, но у одного
и того же народа не допускает столь уж большой новизны.
Вот еще одна черта сходства между этими искусствами—
музыкой и архитектурой, кроме отмеченных мною в
другом месте.
А теперь заметьте, что живопись, ваяние, поэзия,
красноречие, словом, те искусства, в которых, как я сказал,
возможна новизна,— именно они, если говорить вообще и
рассматривать их на известной ступени совершенства, не
могут в основных своих качествах так уже различаться
у разных народов. И наоборот, музыка и архитектура,
искусства, которые в сфере одинаковых нравов не допускают
большой новизны и разнообразия, в сферах разных нравов
очень сильно различаются между собой и в главных и в
простейших своих качествах. Это происходит потому, что
первые имеют своим предметом и образцом нечто
одинаковое для всех, то есть природу, а вторые — нечто частное,
тс есть привычку того или иного народа. Вот еще одно
доказательство того, насколько относительно прекрасное,
когда оно состоит лишь в сообразности, то есть
единственно существующее истинно прекрасное, прекрасное,
соотносящееся со своим отвлеченным понятием.
Отсюда следует, что искусства, чем больше может быть
в них — ив самих по себе и у каждого народа — новизны
и разнообразия, тем меньше могут отличаться друг от
друга у разных народов, и наоборот. И способность искусства
быть различным у разных народов стоит в обратном отно-
т
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И'ЭСТЕТИКА
шении к его всеобщей и принадлежащей к его сущности
способности к разнообразию. (9 октября 1821).
[1915—1916]. Вот еще одна причина, по которой
простота в произведениях искусства и словесности и во всем,
что относится к прекрасному, доставляет удовольствие,
причина всеобщая, в своем действии независимая от
привычки и коренящаяся в природе простого прекрасного:
это — контраст между искусственным и подлинно
безыскусным или по видимости вполне безыскусным. Контраст
этот может быть: 1) между красотами и достоинствами
произведений, которые при своем совершенстве, на наш
взгляд, не могут быть безыскусными, и простотой и
естественностью, которая все их охватывает и облекает,
подлинно безыскусной или представляющейся нам безыскусной;
2) между самой природой простоты и естественности,
которая уже как таковая, очевидно, включает в себя
неподдельность и безыскусиость, и их искусностью и
преднамеренностью, которые мы знаем или замечаем (это
естественно), несмотря па совершенную видимость
неподдельности. Этот контраст вызывает удивление, всегда
возбуждаемое необычностью, созданием вещей или свойств,
которые кажутся несовместимыми, и т. д. Таково изысканное,
прикидывающееся неизысканным. Очень тонки, малы и
неуловимы причины и природа самых больших человеческих
удовольствий. И при самом пристальном анализе
обнаруживается, что большинство их проистекает из вещей
необычных, именно из самой их необычности. (14 октября
1821). Удивление, главнейший источник удовольствия в
изящных искусствах, в поэзии и т. д.,—из чего оно
берется и к какой теории относится, если не к теории
необычного?
[1917—1920]. Весьма нередко изящество и благородство
(в языке) проистекают из метафорического употребления
слов и фраз, даже когда метафоричность почти или совсем
незаметна, как это по необходимости бывает очень и очень
часто. Весьма нередко, напротив того, эти свойства
проистекают из слов и фраз, когда они употреблены хоть и
необычно, но в собственном смысле, или когда они вообще
неупотребительны, или когда они употребительны в прозе,
392
из Дневника рАзМЫШлёнйй
но не в поэзии, и наоборот, или в одном роде словесности
употребительны, в другом нет и т. д. (одна лишь точность
неспособна породить ни изящества, ни благородства,
ничего, кроме точности и угловатости слога) <...>.
Таким образом, если говорить о слоге в целом (хотя
общее впечатление проистекает из воздействия отдельных
частностей и определяется ими), в тот век и у того народа,
у которого в письменной речи слова и фразы мало
употребляются в собственном смысле, а метафорический стиль
в большом ходу (но не преступает пределов изящества),
самым изящным будет слог прямой, где подобраны
(конечно, не без некоторого искусства) слова и фразы
прозаические, общеупотребительные и имеющие целью
подробности. И наоборот, если представить себе
противоположный случай. Таким образом, мы можем наблюдать и с
достаточной отчетливостью и ясностью предполагать, какое
впечатление производили итальянские авторы, писавшие
тем или иным слогом, и каково было мнение о них
(конечно, лишь в том, что касается красоты) в разные века в
самой Италии: какими казались писатели четырнадцатого
века по сравнению с писателями шестнадцатого и т. д.
Таким же образом мы можем увидеть, насколько постоянной
может быть репутация произведений изящных искусств или
словесности и их действие, — между тем как обычно
полагают, будто беспристрастное суждение о них публики столь
же справедливо, сколь и неизменно. Справедливо — я
согласен; но никак не неизменно, особенно в течение долгих
веков, при несходстве народов, обычаев и т. д.
Эти теории, касающиеся языка, можно применить и к
украшениям, к манере, ко всему тому, что в слоге
словесности не принадлежит самому языку. Повсюду
обнаружатся те же следствия и те же причины, повсюду изящество
и благородство будут проистекать из причудливого, что бы
ни казалось причудливым—употребление ли слов в прямом
смысле или в переносном; и обнаруживаемое нами
единообразие этих следствий и причин будет еще больше, потому
что стороны слова, относящиеся к языку, тесно связаны с
не относящимися к нему сторонами и едва ли вообще от
них отделимы. (14 октября 1821).
[1934—1936]. Я говорю, что действие музыки
принадлежит прежде всего звуку. Но я имею в виду следующее.
393
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
Звук (или пение) без гармонии и мелодии не обладает ни
достаточной, ни длительной силой воздействия на
человеческую душу, скорее, воздействие это будет мгновенным.
Но и наоборот, гармония или мелодия не окажут никакого
действия без звука, без поющего голоса, точнее, без
такого звука, который может быть музыкальным. Таким
образом, музыка —это всегда неразрывная связь звуков и
гармонии, одно без другого не будет музыкой. Звук
музыкален постольку, поскольку он гармоничен, гармония —
поскольку она приложена к звукам. До этих пор их роли
равны. Но главное действие я приписываю звуку, потому что
он принадлежит к тем ощущениям, которым природа дала
чудодейственную власть над человеческой душой (подобно
тому как она дала ее запахам, свету, цвету); и хотя он
нуждается в гармонии, все же в первый миг довольно и
звука, чтобы заставить человеческую душу раскрыться и
содрогнуться. Самая прекрасная гармония не может
сделать этого, если она разлучена со звуком. Более того, если
звук неприятен, то есть не относится к числу наделенных
от природы названной силой, то и в соединении с самой
прекрасной гармонией он не произведет никакого действия,
между тем как действие любого из названных приятных
звуков в соединении с гармонией даже не слишком
высокого достоинства будет очень значительно.
Впрочем, с музыкой все обстоит так же, как с
видимыми предметами. Свет и звук по своей природе несут душе
наслаждение и отдохновение. Но доставляемое ими
наслаждение не будет ни сильным, ни длительным, если звук
не сочетается с гармонией, а свет — не только с красками
(потому что они подобны звукам и услаждают нас
недолго, хотя и дольше, чем просто свет или белизна), но и с
естественными или искусственными видимыми предметами,
как это происходит в живописи, которая так применяет и
в таком порядке распределяет тоны света, что они
производят наибольшее действие, как гармония делает это с
тонами звука. Краски не имеют ничего общего с гармонией,
но могут доставлять наслаждение на свой особый лад.
Тоны звука связаны только с гармонией, с которой они могут
весьма приятно сочетаться. (17 октября 1821).
[1940—1945]. Я сказал, что приятный цвет неверно
называют красивым, — ведь нельзя же назвать красивым
394
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
вкус пищи, которая нам нравится. Я хочу заметить и
добавить, что категория красоты подходит скорее уж к
вкусу, нежели к цвету. Вкус может быть гармоническим, то
есть сообразным, и если его не называют красивым, то
только потому, что нет такого обычая. Вкус, сам по себе
приятный или отвратительный, становится совершенно
иным в том или ином сочетании. Всякий вкус бывает по
большей части сложным и вызывает удовольствие или
отвращение только в зависимости от того, гармонируют ли
между собой сочетающиеся в нем вкусы. Об их гармонии
судит привычка и все те свойства человека, которые
позволяют ему судить о прекрасном и чувствовать его и
делают бесконечно разнообразными суждения отдельных
людей, как это происходит и со вкусом всякой пищи, о
котором и гласит прямой смысл слов «de gustibus поп disputan-
dum» *. Что касается первичных вкусов, таких, как сладкое,
горькое и т. д., то в суждении о них отдельные люди
расходятся не так уж сильно, потому что вкусы эти находятся
вне гармонии, зависящей от одной только привычки. Однако
и на эти суждения влияют привычки и особые
обстоятельства отдельного человека, народа и т. д. Заметив себе, что
гармония или негармоничность тех или иных вкусов
определяется прежде всего привычкой, мы не будем
удивляться тому, что кухня и пристрастия разных народов тем
больше различаются, чем более несхожи и далеки сами
народы; потому же кушанья и напитки, любимые одним
народом, бывают отвратительны для иностранцев; точно
так же нам известны многие яства и напитки, которые
нам кажутся омерзительными, но до которых
чревоугодники древности с их изощренностью в наслаждениях и
тонким вкусом были весьма лакомы. Если мы примем во
внимание все вышесказанное, мы уже не будем этому
удивляться и легче этому поверим, особенно увидев, сколь
решительно расходятся вкусы даже у самых близких и самых
чистоплотных из современных народов, например у
французов и англичан. Приятен ли первичный вкус или
отвратителен и насколько он приятен или неприятен — все это
определяется прежде всего самой природой, в чем и
состоит первичность вкуса, как и первичность цвета, звука,
запаха. (Под первичностью вкуса и запаха я подразумеваю
его естественность, или же особое качество того или дру-
* О вкусах не спорят (латин.).
395
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
гого вкуса, — например, сладость сахара, хотя сам сахар
и не есть простое вещество.) Но в том, что касается их
гармонии, определяемой прежде всего привычкой, дело
обстоит так же, как со всякой гармонией: пристрастия не
бывают одинаковыми в разных местах, в разные века, у
разных людей и т. д.; народы, близкие к природе, любят
кушанья и напитки, отвратительные для нас, и наоборот.
Далее, между тем как вкус сам по себе, подобно звуку
и тону, может гармонировать или не гармонировать с
другими, а значит, и доставлять удовольствие или
неудовольствие, для красок как таковых гармония невозможна, и
потому они не входят в сферу прекрасного. Без сомнения,
человек, рассматривая те или иные цвета оторванными, не
приложенными ни к какому окрашенному предмету,
естественному или искусственному (которые бывают приятны
или неприятны в силу гармоний иного рода), не очень-то
чувствует гармонию или негармоничность в разных
сочетаниях и переходах красок, поскольку они ничего не
выражают, и почти не находит в них вкуса и не испытывает
отвращения. Между тем разные сочетания, расположения
и переходы звуков и вкусов непременно будут
гармоническими или негармоническими, приятными или
неприятными для уха, для нёба либо-приятными для них в разной
степени.
Причина этой разницы — только в отсутствии
привычек, определяющих и создающих гармонию и
негармоничность чистых красок. А причина этого (если не полного,
то почти полного) отсутствия (которое делает
смехотворным все попытки создать музыку красок) может быть
лишь одна: все бессчетное множество привычек нашего
зрения, все его разнообразнейшие ощущения, вся его
деятельность всегда направляют наш взгляд на предметы и
мешают ему'воспринимать их видимые качества вне связи
с ними самими и привыкнуть к этим качествам настолько,
чтобы привыГчка сделала гармоническими или
негармоническими чистые их сочетания. Зрение — самое
вещественное из всех чувств, наименее приспособленное ко всему
отвлеченному. Поэтому зрение и получаемые через него
удовольствия наиболее любимы естественным
человеком. <...>
Нечто противоположное следует сказать об обонянии,
наименее развитом из человеческих чувств; оно также еще
не создало достаточно определенного мерила гармониче-
396
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
ского и негармонического в своих ощущениях. Имеются
сложные запахи, подобные сложному вкусу, но обоняние
неспособно даже различить, — как различает нёбо вкус
пищи, — гармонируют ли между собою его первичные
составные части и какая из них гармонична, а какая нет.
Но и то и другое не зависит от того, к чему привыкли у
каждого оба этих чувства и насколько они приобрели
привычку к разборчивости. Ведь известно, насколько более
тонким, более разборчивым способно стать чувство
обоняния. <...> В конечном итоге я хочу сказать, что человеку
легче создать гармонию запахов, нежели гармонию
красок, и что среди людей существует более определенное
мерило первой, нежели второй, и т. д. (18 октября 1821).
Из всего этого явствует, что гармония, то есть
прекрасное, есть лишь дело и порождение привычки, и если нет
привычки, то нет и идеи гармонии, даже там, где она
казалась бы вполне естественной. (18 октября 1821).
[2041—2042]. Стремительность и краткость слова
нравится нам потому, что являет душе множество
одновременных идей или идей, так быстро сменяющих друг друга,
что они кажутся одновременными и заставляют душу
плавать, словно на волнах, среди такого множества мыслей,
образов и духовных ощущений, что она неспособна объять
их все или хотя бы каждое из них целиком и не успевает
остаться праздной, лишенной чувствований. Сила
поэтического слога — а поэтическое в нем тождественно в
большей своей части его стремительности — приятна нам
именно благодаря такому своему действию и заключается
именно в нем. Возбудить в нас несколько идей
одновременно могут и каждое отдельное слово, употребленное и
в собственном и в переносном смысле, и размещение слов,
и поворот фразы, и даже изъятие некоторых слов и фраз,
и проч. <...>. (3 ноября 1821).
[2049—2051]. <...> Красота и приятность слога
Горация и всякого подобного слога, энергического и
стремительного, особенно же в поэзии. — ибо именно поэзии,
особенно лирической, и присущи те свойства, которые я назо-
397
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ву,— проистекает в большой мере из того, что он
поддерживает душу в состоянии непрерывного и живейшего
волнения и заставляет ее быть деятельной увлекая ее на
каждом шагу, и зачастую очень резко, от одной мысли к
другой, от одного образа, идеи, предмета — к другим,
порою очень отдаленным и несхожим с ними; поэтому мысли
нужно затратить немало труда, чтобы за всеми ними
угнаться, а, непрестанно бросаемая то туда, то сюда, она
испытывает ощущение собственной силы <...>, какое
испытывают обыкновенно при быстрой ходьбе или скачке на
резвых конях и вообще в мгновения усиленной
деятельности и напряжения <...>; над душой берет верх
многочисленность и разнообразие вещей (смотри мою теорию
удовольствия34) и т. д. И даже если все эти вещи не будут
ни прекрасными, ни великими, ни обширными, ни новыми,
все же одного этого свойства слога достаточно, чтобы
доставить наслаждение душе, которой необходимо быть
деятельной, ибо больше всего она любит жизнь; поэтому и
во всех делах человеческих и в словесности ей приятна
некоторая — но не чрезмерная — трудность, которая
вынуждает ее к живому действию. Так обстоит дело с
Горацием, который в конце концов был лирическим поэтом
лишь благодаря своему слогу. Вот как слог, даже
отдельно от предметов, может стать чем-то, и даже очень
немалым, — настолько, что человек может быть поэтом, не имея
ничего поэтического, кроме слога, и притом поэтом
истинным и доступным для всех, в силу сокровеннейших причин
й глубочайших изначальных свойств человеческого духа,
равно присущих всем людям.
Этого воздействия, описанного мною, Гораций достигает
на каждом шагу — смелостью фразы, где он одним
коротким вводным предложением то и дело резко переносит вас
от одной идеи к другой, далекой и непохожей. (Также —
замысловатым порядком слов, трудностью вообще, той
деятельностью, к которой он побуждает читателя.) Смелые
метафоры, странные, взятые издалека эпитеты, инверсии,
перемещения слов, их пропуски — однако не чрезмерные
(чрезмерными они были бы для немцев, а для жителей
Востока недостаточными) — в каждой строчке его стихов
производят то же действие.
Брось меня туда, где в равнинах праздных
Нет ни деревца под дыханьем зноя,
Иль туда, где землю ^ гнетет Юпитер
Тучами злыми...ъъ
398
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
Вот вам «праздность», приложенная к «равнинам» — а
потом сразу же «деревца» и «зной», который «дышит»,
потом вместо «небосвода» — Юпитер, потом «тучи», да еще
«злые» и «гнетущие землю», «налегающие на нее».
Живость — главное достоинство всего этого (как и
множества иных красот в слоге других поэтов) заключается
только в частоте и дальности скачков с места на место, от
идеи к идее. А их причина — смелость предметной речи.
Французский язык, не способный на такую смелость,
неприспособлен и для поэтического слога, а уж от
лирического отстоит на сотни миль.
[2239]. <...> К тому, что я сказал в другом месте о
причинах, по которым нам нравится стремительность и
т. д. слога, особенно поэтического и т. д., следует
прибавить, что такая манера письма на каждом шагу
непременно порождает неожиданности, возникающие и от
перемещений порядка слов, и от их метафорических значений,
которые заставляют нас, читая дальше, нередко придавать
прочитанным словам совсем иной смысл, нежели мы
полагали вначале, и от самой новизны переносных значений, и
от сближения автором идей по природе отдаленных, и
т. д. Все это кроме удовольствия, доставляемого самой
неожиданностью, приносит наслаждение еще и потому, что
душа, то и дело встречая непредвиденное, не знает из-за
этого покоя и все время пребывает деятельной; кроме того,
она напитана новизной, вещественным и частичным
удивлением, которое вызывается тем или другим словом,
фразой, смелым оборотом и т. д. (9 декабря 1821).
[2313—2315]. Большая сложность драматического
действия, запутанность его узлов и т. д. отвлекают душу
слушателя или читателя от созерцания естественности,
правдивости, силы подражания, от диалога, от страстей и проч.,
словом, от всех частных красот, которые и составляют
главную ценность всех родов поэзии. Она даже избавляет
автора от необходимости таких красот, избавляет от
наблюдений, от сильной и живой exxo7ua)oic* характеров и
т.д. Таким образом, единственное или по крайней мерепер-
* Чеканки (греч.).
399
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДЙ. ЭТИКА Й ЭСТЕТИКА
вое, что возбуждают, на что действуют и к чему
обращаются драмы с запутанной интригой,— это любопытство; только
оно заставляет слушателя с участием и вниманием следить
за представлением, только оно получает пищу, только оно
удовлетворяется развязкой. Ни другого чувства, ни
другого участия такие драмы не вызовут, хотя бы автор и
намеревался сделать их полными страсти и жара. Но все это
совершенно чуждо сущности драматической поэзии и
принадлежит сущности повествования, коль скоро
драматическое искусство есть живое и почти что доподлинное
изображение человеческой жизни и потому должно пробуждать
иное участие помимо любопытства,— а его-то может
вызвать и просто рассказанная история. В этом случае
драматическое действие не отличается от действия в новелле,
драма вызывает те же чувства, что и новелла, и зрителю
или читателю безразлично, происходит ли это действие у
него перед глазами, сообщают ли ему о нем изустно или
же попросту рассказывают об этом случае, как в романе
или в занимательной и запутанной повести. Отсюда и
необходимость и ценность простой интриги в драмах всех
родов, и больше всего в тех, где участие слушателя должно
быть особенно страстным, а волнение — живым, как,
например, в трагедиях: им простота действия еще
необходимее, чем комедии. Но к комедии она в должной мере
необходима для полного развития и совершенной обрисовки
характеров, для их отчетливости, ибо они (какими бы
живыми ни были, как бы хорошо ни были воспроизведены)
совсем потеряются, если все участие и все внимание
слушателя будут поглощены разжигающей любопытство интригой.
Одним словом, слушатель не должен так уж
интересоваться тем, что же будет дальше, не должен с нетерпением
ждать, когда же наконец узел развяжется, чтобы не
утратить последовательного и непрестанного интереса к
каждой части драмы особо и к действию на всем его
протяжении. (31 декабря 1821). См. стр. 2326.
[2326—2327^]. К стр. 2315. Именно по этим причинам
посредственным и плохим драматическим писателям
свойственно перегружать интригу своих сочинений, множить
эпизоды и т. д. Великие писатели во всем противоположны им.
Причина тут одна: они всегда находят, чем поддержать в
зрителе живое участие (даже когда действие не очень зна-
400
ИЗ ДНЁЁНЙКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
чительно),— естественностью ли речей, живостью или
напряженностью, непрестанным развитием страстей,
остроумием и проч. Плохие драматические писатели не бывают1
довольны, даже когда им удается отыскать или выдумать
очень запутанный, странный и занимательный случай. Во*
мгновение ока они исчерпывают все, что сюжет дает таким,,
как они. Иначе говоря, они не умеют извлечь из него, что
можно и должно, и сюжета им хватает только на
несколько сцен. Когда эти сцены написаны и расположены по
порядку, в срединных сценах автор оказывается с пустыми
руками (хотя сюжет в изобилии мог бы дать ему и
патетические и смешные положения) и, не находя иного
средства не дать угаснуть участию и любопытству зрителя, он
пускается на поиски новых эпизодов, новых нитей, словом,
новых сюжетов, с тем чтобы в два счета исчерпать и их.
Короче говоря, он ни на мгновение не может остаться без
предмета для рассказа, без новой нити, которую можно
было бы прибавить к ткани, без свежего сюжета,— не то им
нечего сказать. А сколько есть авторов такого рода?
Сколько таких драм? Девятьсот девяносто девять из тысячи.
(4 января 1822).
[2361—2362]. Что значит то обстоятельство, что человек
любит подражание страстям, выражение страстей и т. д.?
И при этом самых живых страстей? И такое подражание,
которое производит на нас самое живое впечатление?
Почему картине, статуе, стихотворению и проч., как бы они
ни были прекрасны, сильны, изящны, сколь бы
совершенным ни было в них подражание, если они не выражают
никакой страсти, не имеют своим предметом страсти (или
имеют предметом страсть не слишком живую), люди
всегда предпочтут другие, выражающие страсть, пусть даже не с
таким совершенством? А те искусства, которые неспособны
выражать страсть, как архитектура, считаются самыми
последними среди изящных искусств и наименее
услаждающими нас? Между тем драматическая и лирическая поэзия
по противоположной причине считаются самыми первыми.
Что же это все значит? Оказывается, человек желает не
только правдивости подражания, не только простоты его
предметов и его самого, но силы, напряженности, которая
пробудила бы в нем деятельный дух, дала бы ему
почувствовать себя крепким и бодрым. Человек ненавидит празд-
401
ДжакоМо ЛЕОПАРДЙ этикА И ЭСТЕТИКА
ность и хочет с помощью изящных искусств избавиться pt
нее. Однако ландшафтная живопись, идиллии и проч.
мало что смогут сделать; а также пасторальная и шутливая
живопись, одним словом, изображение существ
бесстрастных; и то же самое я скажу о словесности, о ваянии и —
в соответствующей мере — о музыке. (26 января 1822).
[2468—2470]. В примечаниях к моим «Канцонам»36
(канцона VI, строфа 3, стих 1) я сказал и показал, что
метафора удваивает смысл и умножает идеи, вызываемые в нас
словом. Это — одна из основных причин, почему фигура
метафоры так прекрасна, так свойственна поэзии и
считается у великих наставников самой главной частью и
первейшим орудием поэтического слога, а также
возвышенного и украшенного прозаического слога. Я хочу сказать, что
она являет нам несколько идей одновременно (в отличие
от термина). Вот отчего поэту тем более нужна (ибо она
есть важнейшее проявление и признак его поэтического
дара, воодушевления, его поэтической натуры, его
изобретательности и творческой способности) новизна метафор.
Так как огромная, неизмеримо большая часть нашей
речи метафорична, те метафоры, из которых она
обыкновенно состоит, уже не пробуждают в нас ничего, кроме одной
простой идеи. Дело в том, что первоначальное значение
этих применяемых в переносном смысле слов уже давно
поглощено их метафорическим значением, которое только
одно и остается в силе,- как я говорил в указанном месте.
Это бывает даже тогда, когда само слово ничуть не
утратило своего прямого значения, но сохранило его и на
своем месте его носит. Например, слово «зажечь» имеет свой
прямой смысл. Но когда я говорю «зажечь душу гневом»,
то эта метафора пробуждает только одну, метафорическую,
идею, потому что о*г долгого употребления в подобных
метафорах уже не чувствуется прямое значение слова
«зажечь», но только его переносное значение. Таким образом,
подобные слова в 'конце концов получают несколько
значений, почти совсем отделившихся одно от другого, почти
совсем простых, которые все в равной мере могут быть
названы прямыми. Этого не может произойти с новыми
метафорами, где множественность идей остается, и мы
чувствуем все наслаждение, какое только может доставить
метафора, особенно если она смела, то есть взята не так
402
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИИ
близко, чтобы идеи, хотя и различные, почти сливались
вместе и разуму читателя или слушателя не приходилось
совершать более энергических, нежели обычно, действий в
поисках соотношения, связи, родства и соответствия этих
идей, в стремлении быстро и как бы за один миг пробежать
расстояние, отделяющее одну идею от другой,— в чем и
состоит удовольствие, доставляемое их множественностью.
Напротив того, слишком далекие метафоры утомляют,
читатель либо не в силах охватить пространство, отделяющее
одну являемую метафорой идею от другой, либо охватыва-
ет его не в один миг, а лишь спустя некоторое время, из-
за чего исчезает одновременность множества идей, а в ней-
то и состоит все удовольствие. (10 июня 1822).
[2568—2572]. Все есть искусство, все у людей
достигается искусством. Обхождение с женщинами и в обществе,
попечение о собственных и о чужих делах, государственная
карьера, политическая деятельность, внешняя и внутреняя,
литература — в этом и во всем вообще больше преуспеет
тот, кто лучше владеет искусством и чаще пускает его в
ход. В литературе (если оставить в стороне все, что
относится к литературной политике, к манере вести себя в
литературном мире) тот, кто с большим искусством
письменно излагает свои мысли, всегда восторжествует и легче
достигнет бессмертия, даже если его мысли ничего не
стоят, между тем как мысли другого, не владеющего в
достаточной мере искусством писать, могут быть очень важны и
оригинальны,— и все равно ему не удастся снискать себе
имя, заставить с удовольствием читать себя или по
крайней мере оценить и принять в соображение свои мысли.
Природа тут имеет, конечно, свою долю и не лишена
силы; но о том, какова доля и сила природы по сравнению с
долей искусства, можно, по-моему, после всех великих
споров 37, которые велись об этом, сказать так и точно
выразить все в таких терминах. Представим себе двоих, равно
владеющих искусством; тот из них, кто выше по природе,
без сомнения, предстает в своих начинаниях лучшим из
двух. Дайте мне двух человек, которые одинаково умеют
писать. Тот из них, кто наделен большим дарованием,
наверняка восторжествует в глазах потомков и истины.
Дайте мне двух дамских угодников, одинаково ловких в
своем ремесле. Тот из них, кто более красив (при равенстве
403
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
всех прочих обстоятельств — таких, как богатство,
всякого рода удачи, удобные случаи и т. д.), возьмет верх над
другим. Но представьте себе красавца, который неискусен
в обхождении с женщинами; великий талант, лишенный
умения писать и опыта в этом деле; с другой стороны,
урода, понаторевшего и опытного в обращении с дамами, и
человека холодного, но хорошо образованного и
успевшего приобрести немалое умение излагать свои мысли;
вторые насладятся женщинами и славой, первые, без
сомнения, будут стоять и смотреть на них. Из этого можно
сделать вывод, что в конечном счете сила искусства в
человеческой жизни выше силы природы. Лукан был,
возможно, одареннее Вергилия, но это не значит, что он был
большим поэтом и лучше преуспел в своем начинании, многие
даже считают, что он не идет ни в какое сравнение с
Вергилием.
Эти соображения должны, на мой взгляд, определить,
какую долю природа имеет в том, что называется
талантом, то есть много ли есть природного и врожденного в
духовных способностях каждого человека. Хотя талант
считается природным и только, на самом деле это далеко не
так; я показал это в другом месте. Но неверно и то, что
он целиком есть следствие обстоятельств и приобретенных
привычек: это доказывается вышеприведенными
примерами и сравнениями. Однако нет сомнения и в том, что если
из двух от природы равных талантов один
усовершенствован образованием, а другой не усовершенствован, то лишь
первый из них имеет право называться талантом, а второй
нельзя даже назвать так, не то что сравнить с первым. Из
чего опять-таки можно сделать вывод, что большая часть
таланта и духовцых способностей человека есть плод
привычек, а не природы и является благоприобретенной, а не
врожденной; хотя их нельзя было бы приобрести в такой
степени, не обладая изначально остающейся меньшей
частью, то есть естественными задатками, легкостью
приобретения привычек, восприимчивостью, податливостью.
(19 июля 1822).
[2804—2809]♦ Известно, что в драмах древних большая
роль принадлежала хору. Немало говорилось и в пользу
этого обычая и против него. <...> Современная драма
изгнала хор, как и следовало изгнать его из всего совре-
404
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
менного. Я считаю, что обычай этот немало способствует
той смутности и неопределенности, которым прежде всего
и обязаны своим charme * древняя поэзия и изящная
литература. Все индивидуальное всегда мелко, зачастую
безобразно, нередко заслуживает презрения. Красота и величие
нуждаются в неопределенном, а вывести его на сцену
можно было только одним способом — выведя туда множество
людей. Все, что исходит от множества людей, внушает
почтение, хотя бы это множество и состояло из отдельных
личностей, заслуживающих только презрения. Публика,
народ, древность, предки, потомки — все эти слова
прекрасны и величавы потому, что выражают неопределенную
идею. Разберемся, что такое публика, что такое потомство.
Люди по большей части ничтожные и все — не лишенные
множества изъянов. Сентенции о справедливости, о
добродетели, о героизме, о сострадании, о любви к отчизне
звучали в древних драмах из уст хора, то есть неопределенного
и часто безымянного множества, потому что поэт не
объявлял, из каких лиц следует считать состоящим его хор.
Сентенции эти были выражены лирическим стихом и
распевались в сопровождении инструментальной музыки. Мы
можем сколько нам угодно осуждать все это как
противоречащее праводоподобию, как нелепое и т. д., но какое
впечатление оно могло производить, кроме смутного и
неопределенного и потому исполненного величия, красоты и
поэзии? Все эти сентенции не были вложены в уста
отдельному лицу, которое бы произносило их естественным
повседневным тоном. Каким бы великим и совершенным ни
хотел представить это лицо поэт, сама идея личности
слишком определенна и узка, чтобы породить ощущение или
понятие неопределенности и безмерности. Эти свойства
настолько противоположны первым двум, что те не только не
могли бы породить такого понятия, но прямо помешали бы
ему. Слушатели знали бы имя, деяния, нравы и
похождения этого лица. Оно навсегда осталось бы Тезеем, или
Эдипом, царем Фив, отцеубийцей и мужем собственной
матери и тому подобное. А тут на сцене появлялся весь
народ, само потомство. Оно говорило иначе, нежели каждый
из смертных, представленный действием драмы: оно
изъяснялось лирическим стихом38, полным поэзии. Звук его
голоса был иным, нежели у отдельных людей: это была му-
* Обаянием (франц.).
405
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
зыка, гармония. В перерывах представления этот неведо- 1
мый, безымянный актер пускался в глубокие и
возвышенные рассуждения о событиях, прошедших или имеющих ,
пройти перед глазами зрителя, оплакивал несчастья
человечества, вздыхал, проклинал порок, мстил за поруган- :
ную невинность и добродетель той единственной местью,
которой они могут быть отмщены в этом мире,—
проклятьями, воссылаемыми народом и потомством их гонителям;
он превозносил героизм, воздавал заслуженные хвалы
благодетелям человека, прославлял кровь, пролитую за
отчизну (смотри: Гораций, «Наука поэзии»39, стих 193—201). Это
значило связать на сцене подлинный мир и мир идеальный
и нравственный, как они связаны в жизни, причем связать
драматически, то есть сделать эту связь явной для глаз
и ушей зрителя, как того требует долг и обычай
драматического автора и насколько возможно изобразить в
драме то, что есть. Это значило дать олицетворение вымыслам
поэта и чувствам слушателей — того народа, для которого
разыгрывался спектакль. События разыгрывались
отдельными лицами; чувства, размышления, страсти, словом, все
то, что эти события вызывали или должны были вызывать
в людях, стоящих вне происходящего, были представлены
множеством—то есть своего рода идеальным существом.
Ему поручалось собрать воедино и выразить все то
полезное, что можно было извлечь из примера совершившихся
событий. Слушатели некоторым образом получали
возможность услышать со сцены о тех же чувствах, которые
пробудила в них драма, и им казалось, что они тоже
перенесены на подмостки и, представленные подражанием хора,
играют свою роль, не меньшую, чем играли бы, стань они
героями, которым подражают и которых представляют
отдельные актеры. Даже когда хор принимал прямое участие
в действии, .эта манера заставлять действовать в драме
множество людей была более поэтической и, наверно,
производила более сильное и живое впечатление, чем и-ниа
манера делить все действие между немногими лицами.
Из этих соображений можно сделать вывод насчет
того, правильно ли утверждение, будто вводить хор значит
вредить иллюзии. Может ли быть отрадная иллюзия без
чего-то смутного и неопределенного? А какая сладостная,
величественная и поэтическая иллюзия должна была
родиться из всего вышесказанного! (21 июня 1823). В
комедии множество людей также способствует восторгу и смут-
406
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
ной радости, способствует pftxXeia*, придает некий мнимый
и обманчивый вес всегда тщетным и ложным причинам,
заставляющим нас радоваться и веселиться, вовлекает
зрителя во всеобщее ликование и смех, как бы ослепив его,
опьянив, победив его властью неопределенного
множества. <...>
[2831—2834]. Привлекательность проистекающего из
необычайности, из противоречия. Нередко
привлекательность наружности и манер возникает из такой красоты и
сообразности, в которой между отдельными чертами нет
истинного противоречия, но есть сочетание обыкновенно
не гармонирующих, не сообразных между собою черт,
которые в этом особом случае, в этой красоте оказываются
сообразными; либо сочетание черт, которые обычно не
встречаются вместе, хотя если они сойдутся, то всегда
будут гармоническими; тогда такая красота отличается от
обыкновенной, хотя и остается истинной красотой, то есть
полной сообразностью и гармонией. В этом случае
противоречие будет внешним и случайным, а не внутренне
присущим ей; в этом случае привлекательность проистекает из
красоты, но не из красоты как таковой, а из красоты
необычной, отличающейся от всех прочих; таким
образом, привлекательность и в этом случае проистекает из
противоречия, но не между чертами, из которых
слагается прекрасное, а между прекрасным как целым, то есть
этим вот прекрасным, и обычным прекрасным, а также из
неожиданности, которую ощущает человек, видя и
чувствуя, что эта красота не похожа на привычную для него и
противоречит его представлениям о прекрасном. Такие
случаи весьма нередки. Всякая физиономия, всякая
человеческая наружность, совершенно гармоническая, но
необычная или такая, в каких обыкновенно не находят гармонии,
одним словом, не похожая на большинство красивых
физиономий, чем-то привлекательна. Еще чаще это бываете
манерами, которые допускают больше разнообразия, чем
естественные и материальные человеческие формы, и
могут, в отличие от них, быть гармоническими на множество
ладов.
Привлекательность и в этом случае остается
относительной, то есть зависит от того, насколько та или иная наруж-
* Вакхическому настроению (греч.).
407
ДЖАКОМО ЛЕОПАЗДЙ. Э1ЙКА й SCfEfMKA ^ 1
ность, те или иные манеры противоречат привычкам и 1
представлениям зрителя о прекрасном. Это противоречие 1
может быть для одного больше, для другого меньше, для 1
третьего его может совсем не быть; потому у одного воз- |
никнет более сильное ощущение привлекательности, у дру- I
гого — менее сильное, у третьего оно не возникнет совсем. ]
Такое же разнообразие возможно и у одного и того же 1
человека — в разное время, при разных обстоятельствах, I
в зависимости от разных привычек или идей. Поэтому мо- 1
жет случиться, что одному человеку в разное время или
одному из двух людей одновременно покажется
привлекательным нечто противоположное тому, что казалось
прежде или кажется другому из двух. Эта привлекательность, ]
о которой я рассуждаю, может казаться таковой больше- \
му или меньшему числу людей, большинству их или не- ^
многим, жителям одного города или другого, одному или
другому народу, горожанам или обитателям деревни в
зависимости от того, более странной или менее странной бу- 1
дет для них эта красота и эта гармония, более заметной ;
или менее заметной, а также от того, большинство ли
признает ее за красоту или только немногие и т. д. Хотя
я говорил здесь о привлекательности только применитель- *
но к человеческой наружности и манерам, то же
рассуждение можно и должно распространить на все прочие
предметы, которые могут быть красивыми и
привлекательными; и привлекательность многих из них чаще и легче,
нежели это бывает с человеческой наружностью и
манерами, порождается красотой, непохожей на красоту
обыкновенную. (27 июня 1823). <...>
[2944—2946]. Кричат, что наша поэзия должна быть
современной, то есть должна пользоваться языком и идеями
наших дней,' живописать современные нравы и, быть
может, даже современные происшествия. Потому и
осуждают обращение к древним вымыслам, мнениям, нравам,
событиям. <...>
Но я утверждаю, что и в нашем нынешнем веке
может быть современным все что угодно, только не поэзия.
Как может поэт пользоваться языком, следовать за
идеями и изображать нравы поколения, для которого слава —
это призрак, свобода, отчизна и любовь к ней не
существуют, истинная любовь — это ребячество, поколения, у ко-
408
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
торого все иллюзии исчезли, а страсти — и не только
сильные, благородные и прекрасные, но и все вообще —
угасли? Как тут можно, повторяю, быть поэтом? Поэт и
поэзия без иллюзий, без страсти — разве это не логическое
противоречие? Разве поэт, будучи поэтом, может быть
эгоистом и метафизиком? И разве наш век не таков по
своему характеру? Так как же может поэт, оставаясь поэтом,
быть по своему характеру современным?
Заметьте себе, что древние слагали стихи для народа
или по крайней мере для людей в большей своей части
необразованных, непричастных философии. Современные
поэты, напротив того, не имеют других читателей, кроме
людей просвещенных и образованных; и вот, говоря, что
поэт должен быть современным, требуют, чтобы он
приноравливался к языку и идеям этих людей, а не к языку и
идеям современных народов, которые ничего не знают ни
о древней, ни о нынешней поэзии и ничуть к ней не при-
частны.
Но сегодня каждый просвещенный и образованный
человек—непременно эгоист и философ, лишенный
сколько-нибудь примечательных иллюзий, не знающий живых
страстей; и такова же всякая женщина. Как может поэт,
оставаясь поэтом, быть по характеру и по духу
современником и подобием таких людей? Много ли поэтического в
их языке, мыслях, мнениях, склонностях, привязанностях,
нравах, привычках и делах? Что общего имела, имеет и
может иметь со всем этим поэзия?
Поэтому я прощаю современного поэта, если он
следует во всем за древними, если он пользуется старинным
языком, слогом и манерой, если он обращается даже к
древним сказаниям, если он, не скрывая этого, примыкает
к мнениям древних, если он предпочитает древние нравы,
привычки, события, если на его стихах отпечатлелся
характер иного века, одним словом, если он старается по
духу и свойствам быть и казаться древним. Я прощаю и
поэта, и современную поэзию, если они не современны и
не желают показать себя таковыми, потому что быть
современным нынешнему веку — это значит не быть поэтом,
не быть поэзией. А поэт не может одновременно и быть и
не быть поэтом. (11 июля 1823). И не подобает философам
и веку философов требовать вещей по природе своей
невозможных и содержащих логическое противоречие в своих
определениях. (12 июля 1823).
409
ДЖАК0М0 ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
[3047—3050]. Сила, оригинальность, богатство и даже!
благородство слога могут быть даны нам, по крайней мерея
в большой доле, природой, талантом, воспитанием; или же!
можно благодаря им в короткое время овладеть всеми эти-1
ми свойствами, а овладев, без особого труда применить!
свое умение на деле. Ясность и (особенно в наши дни) !
простота (я разумею ту простоту, которая почти тождест-1
венна естественности и противоположна ощутимой наро- 1
читости, какого бы рода та ни была и в чем бы ни прояв- 1
лялась — в предмете ли, в слоге или во всем сочинении, 1
как я растолковал в другом месте), ясность и простота 1
(а значит, также изящество, которое без них не может 1
существовать и чаще всего в них и заключается),— итак,!
повторяю, ясность и простота, эти главные достоинства лю-1
бого сочинения, самые нужные, самые необходимые, без 1
которых все прочие совершенства ничего не стоят, но при |
наличии которых никакое писание, даже если в нем нет 1
никаких других достоинств, не заслуживает презрения, — 1
обе они суть дар и следствие искусства. Те свойства, в ко- 1
торых менее всего должно быть заметно искусство, кото- 1
рые кажутся самыми естественными и должны казать- 1
ся совершенно не зависящими от нашей воли, которые 1
кажутся наиболее легко достижимыми и должды казать- 1
ся достигнутыми с величайшей легкостью, одно из кото- 1
рых, можно сказаг1ь, в том и состоит, что всякое искусство 1
скрыто от глаз и ничто не выглядит искусственным и еде- 1
ланным с натугой,— оба этих свойства порождаются одним |
лишь искусством, их нельзя добиться иначе как ценой ста- 1
раний, ими труднее всего овладеть, их достигают в пос- 1
леднюю очередь и, даже овладев ими, все же не могут без ]
величайшего труда применить свое уменье на деле. Ma- |
лейшая небрежность писателя, как бы расширяясь, ли- I
шает писание простоты и ясности, ибо они всегда суть 1
плоды искусства, и ставшего привычкой и всегда бодр- 1
ствующего; природа же никогда не научит им и никому 1
их не подарит, ибо невозможно, чтобы они являлись сами \
собой к тому, кто их не ищет," или чтобы хоть часть сочи- }
нения получилась простой и ясной, если писатель
намеренно, искусно и усердно не старается сделать ее такой. По- ,
тому всякая, даже малейшая небрежность писателя, неу- I
коснительно лишая сочинение ясности и простоты,
неизбежно вредит ему и разрушает в той или иной его части
и красоту и все его достоинства. Потому что и простота и
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
ясность суть столь важные и первостатейные части
красоты и достоинства всякого писания, что им нельзя ни с чем
перемежаться или отсутствовать даже в самой малой его
части по любой причине (или разве что ради шутки или
чего-нибудь в этом роде). Сила, возвышенность, богатство
или краткость и стремительность, блеск и даже
благородство — все это может, а нередко и должно перемежаться
в сочинении чем-либо иным, таких свойств может и даже
должно быть то больше, то меньше как в одном сочинении,
так и в разных сочинениях и в разных родах словесности;
они могут быть неодинаковы в зависимости от сочинений,
от их частей, от их условий и обстоятельств,— они даже
должны быть такими и иными не могут быть. Но ясность
и простота не допускают никаких «больше» и «меньше»; в
любом роде словесности, в любом слоге, в любой части
любого сочинения они не только не имеют права
отсутствовать хотя бы единый миг, но должны всегда и везде у
каждого писателя быть самими собой (хотя с помощью
разных средств, которыми они достигаются, им можно
придавать в разных обстоятельствах различный вид), и, так
сказать, равными самим себе по количеству, всегда
должны оставаться не чем иным, как простотой и ясностью, и
служить одной цели. (26 июля 1823, день св. Анны).
[3206—3208]. Доказав, что в представлении о
прекрасном не сходятся между собою ни естественные люди, ни
простые неиспорченные души, как, например, дети, и что,
следовательно, в самой природе не существует идеи
прекрасного; что, с другой стороны, люди просвещенные,
мудрые, искушенные, глубокие, сами художники и поэты и
т. д. не согласны между собой даже в самом главном из
того, что касается прекрасного, и несогласие их более или
менее соответствует различиям между народами,
климатами, мнениями, привычками, обычаями, образами жизни,
веками; что они несогласны даже в том, в чем сами
считают себя согласными (потому что не понимают друг друга);
что они расходятся не только между собою, но и с детьми
и с людьми естественными или невежественными; что
такое же расхождение в представлениях о прекрасном может
быть и между отдельными людьми из одного и того же
народа, и у одного человека в разные годы его жизни и при
разных обстоятельствах, и между двумя народами, двумя
411
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДЙ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
климатами, двумя веками, между цивилизованными и
дикарями (это бывает постоянно); что они могут быть и у v
варваров между собой, и у ученых — между собой, у
невежд — между собой, и у дикарей — между собой, и у
образованных— между собой и между более дикими и
менее дикими, и между более просвещенными и менее
просвещенными, и у детей— между собой, и у взрослых —
между собой, и у знатоков, и у художников, и у созерцателей,
и у философов; доказав, повторяю, все это, как я сделал во
многих местах, можно считать доказанным, что идеальная,
единственная, вечная, неизменная и всеобъемлющая
красота есть химера, потому что ни природа не научает нас ей
и не показывает нам ее, ни философы и художники не
открыли ее и не открывают посредством наблюдения или
познания, как они открыли и открывают стойкие и
неизменные идеи в науках, имеющих своим предметом истину, и
т. д. (20 августа 182а).
[3237—3245]. Кто испытует природу вещей одним
только разумом, без помощи воображения и чувства, не уделяя
им никакого места — а именно так поступают многие
немцы * в филосЬфии, и метафизической и политической,— тот
превосходно сумеет сделать то, что именуется словом
«анализировать» — то есть расчленить и разъять природу;
однако он никогда не сможет вновь собрать ее, я хочу
сказать, не сможет ни извлечь из своих наблюдений и своего
анализа никакого значительного общего вывода, ни
обобщить и привести свои наблюдения к значительному итогу,
а если он это и сделает (все делают это непременно), то
впадет в заблуждение, как и случается на самом деле.
Я готов даже допустить, что они дойдут в своем анализе
до того, что разложат и расчленят природу на ее
последние, мельчайшие составные элементы и познают каждую
из частей природы в отдельности. Но ее совокупность, цель
и связи этих частей между собою и каждой из них—с
целым, назначение этого целого, истинные и глубочайшие
намерения природы, ее предопределения, причина (оставим в
стороне движущую силу), конечная причина ее бытия, и
* А также и некоторые англичане и вообще те, кто в занятиях своих не привык
ни к чему и не ведает ничего, кроме вещей точных. Но, без сомнения, таких
философов, метафизиков, политиков, математиков — одним словом, сухарей —
больше можно найти среди немцев и потом среди англичан, нежели в других
местах, например во Франции и в Италии.
412
Из ДнёёнйкА РАЗМЫШЛЕНИЙ
именно такого ее бытия, причина, по которой она так
устроила и такими создала все свои части,— а в познании всех
этих вещей должна состоять цель философа, ибо к ним
относятся все самые значительные и важные общие истины,—
все это, повторяю, невозможно найти и понять тому, кто
анализирует и испытует природу с помощью одного
только разума. Разъятая таким образом природа ничем не
отличается от мертвого тела. Вообразим теперь себя
живыми существами другого вида и даже отличными по
природе от всех живых существ, какие мы знаем, но тем не
менее наделенными рассудком. Если бы к нам, не видевшим
ни человека, ни прочих действительно существующих
живых тварей и ничего о них не знающим, принесли мертвое
человеческое тело и мы, анатомируя его, узнали бы одну
за другой все мельчайшие его части, а потом, химически
разложив его, открыли в нем все вплоть до последнего
элемента,— разве могли бы мы при этом узнать, понять,
обнаружить, постигнуть, каковы назначение, действия,
обязанности, свойства и силы всех частей этого тела как
самих по себе, так и по отношению друг к другу и к целому,
какова цель и смысл расположения и порядка этих частей,
хоть мы сами заметили их, рассмотрели собственными
глазами и, быть может, ощупали собственными руками;
каковы частные следствия и общее следствие этого порядка и
всей совокупности частей этого тела; какова цель этой
совокупности; одним словом, что такое жизнь этого тела?
Разве постигли бы мы, жило ли оно когда-нибудь и
могло ли жить? Разве.— если мы не сможем сделать вывод,
исходя из собственной жизни, и если никому, кроме
живых, нет возможности постигнуть жизнь,— наше полное,
совершенное, аналитическое и глубокое знание этого
мертвого тела поможет нам составить понятие и представление
о том, что такое жизнь? Или даже только представление
об этом теле при его жизни? Разве мы пбстигнем, каким
был живой человек, кем он был, внешнюю и внутреннюю
форму его жизни? Я думаю, всякий ответит мне: ничего
этого мы не поймем, а если начнем строить
предположения, то на тысячи миль удалимся от истины, и можно
побиться об заклад на миллион против одного, что, даже
построив миллион предположений, мы все равно ничего не
угадаем и даже, вероятнее всего, изучив и узнав мертвое
тело, остановимся на этом знании, так что у нас и
подозрения не возникнет, что оно когда-либо было иным и пред-
413
ДЖАКОМб ЛЁОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
назначено быть иным, а не таким, каким мы его видим, и
в голове у нас не зародится никакая догадка о его
прошедшей жизни и о живом человеке вообще.
Приложив эту притчу к предмету моего рассуждения,
я скажу, что нельзя открыть и понять, какова живая
природа, каковы форма жизни природы и всех вещей, их
причины и следствия, их ход и движение, их цель или цели, их
намерения и судьбы, каково истинное назначение их
бытия, каков, одним словом, дух природы; нельзя, повторяю,
ничего открыть и понять, познав, так сказать, одно лишь
ее тело, проделав самый точный и пристальный
материальный анализ также и нравственных ее сторон; с помощью
только этих средств нельзя сделать ни одной правильной
и даже вероятной догадки. Можно с уверенностью
утверждать, что природа, или, иначе говоря, совокупность всех
вещей, составлена, устроена и уряжена так, чтобы
производить поэтическое действие, или, иначе говоря, что ее
устройство и порядок предназначены для того, чтобы она
производила всеобщее поэтическое действие своей цело-
купностью и особые поэтические действия — каждой из
своих частей. Но ни в одной из ее частей нельзя заметить
ничего поэтического, если отделить их друг от друга и
рассмотреть поодиночке при свете одного лишь точного
геометрического разума; ничего поэтического нельзя
обнаружить ни в орудиях природы, ни в ее силах, ни в ее
внешних и внутренних пружинах, ни в том, что в ней
совершается, если все это будет рассмотрено в отрыве одно от
другого; ничего поэтического нельзя обнаружить в природе
разъятой и расчлененной, холодной, мертвой, бескровной,
лежащей, так сказать, под ножом анатома или
заключенной в химический горн метафизика, который в своих
умозрениях, в своих изысканиях и исследованиях, в своих
манипуляциях и, можно сказать, научных опытах пользуется
только одним' средством, одним орудием, одной силой —
чистым холодным разумом. Ничего поэтического не
могли и не могут открыть чистый разум и математика.
Потому что все поэтическое скорее можно почувствовать, чем
познать или постигнуть, или,, иначе говоря, его познают
и постигают, почувствовав, а иначе как почувствовав, его
нельзя ни познать, ни открыть, ни постичь. Но чистый
разум и математика неспособны чувствовать. Открыть и
понять все вышеназванные вещи — дело воображения и
чувствительности, и они в силах это совершить, потому что
414
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
мы, носители этих способностей, составляем часть той
природы и той целокупности, которую испытуем, и только эти
наши способности, а никак не разум, пребывают в
гармонии с тем поэтическим, что есть в природе, и потому им
более под силу и под стать разгадать природу, нежели
разуму — открыть ее. А коль скоро чувствовать и через это
познавать все поэтическое есть дело лишь воображения и
сердца, значит, только им и возможно и надлежит
проникать в глубь великих тайн жизни, судеб, общих и частных
намерений природы. Только они могут менее
несовершенно созерцать, познать, обнять и понять целокупность
природы, постичь форму ее бытия, ее действий, ее жизни, ее
всеобщие и великие явления, ее цели. Они, высказываясь
обо всех этих вещах и строя о них догадки, менее
подвержены ошибкам и способны иногда основываться на
истине или приблизиться к ней. Они одни способны замыслить,
создать, разработать и усовершенствовать философическую,
метафизическую и политическую систему, в которой будет
насколько возможно мало ложного или по крайней мере
насколько возможно много правдоподобного и мало
нелепого, невероятного и странного. Благодаря им люди чаще
приходят к согласию в умозрительных предметах,
гораздо чаще, чем благодаря разуму, вопреки тому, что могло
бы и должно было бы быть, потому что, без всякого
сомнения, люди, рассуждая и строя догадки с помощью
одного только разума, большей частью бесконечно далеко
расходятся друг с другом, оказываются за сотни тысяч миль
друг от друга, избирают разные тропинки и идут по ним
все дальше; между тем, рассуждая с помощью чувства и
воображения, люди самых разных сословий, разных
народов и в разные века очень часто и даже постоянно
сходятся между собой во всем, как мы можем видеть на
примере многочисленнейших положений (систем) и даже чистых
предположений, найденных и созданных воображением и
сердцем и основывающихся только на них, но тем не
менее принятых и принимаемых всеми или почти всеми
народами во все времена и почитаемых даже в наши дни
всеми людьми за неоспоримые истины, а мудрецами —
по крайней мере за самые правдоподобные'и
заслуживающие большей веры, чем все остальное сказанное по тому
же поводу. Ничего такого, пожалуй, не увидишь, когда дело
касается любой гипотезы (общей или частной, то есть
составляющей систему или нет), продиктованной чистым разу-
415
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
мом и его рассуждением. Наконец, только воображение,
сердце и даже страсти или же разум не иначе как при их
усиленном вмешательстве открыли, показали и
подтвердили самые великие, самые общие, самые глубокие,
возвышенные, самые основные и важные из достигнутых нами
философических истин, открыли и осветили самые большие,
глубокие и сокровенные из познанных нами тайн природы
и всех вещей — как это пространно изложено мною в
другом месте. (22 августа 1823).
[3269—3271]. Лирический поэт — в миг вдохновения,
философ — в миг возвышающего душу созерцания, человек,
обладающий воображением и чувством,— в минуты
восторга, всякий человек — в порыве сильной страсти, в
воодушевлении плача и еще, осмелюсь сказать, разогретый вином, но
не слишком,— всякий из них смотрит на мир и видит его
как бы сверху, с некоего более высокого места, нежели то,
на котором человеческий дух привык останавливаться в
обычное время. Поэтому, открывая сразу намного больше
вещей, чем он привык замечать одновременно, и одним
взглядом различая множество предметов, которые он по
отдельности видел уже не раз, но никогда еще не видал
вместе (или разве что в подобных же случаях), он оказывается
в силах заметить и их взаимные связи; к тому же новизна
этого множества предметов,впервые представших передним
вместе, влечет его рассмотреть их, пусть и очень быстро,
но лучше, чем до сих пор и чем он привык их
рассматривать, а также увидеть и разглядеть названные связи. Так
и получается, что в этот миг он и обладает необычайной
способностью обобщать (необычайной для себя и для
обычного состояния своей души) и применяет ее на деле;
а применяя ее, он открывает те подлинно великие и
важные общие истины, которые в другой миг, без этого
вдохновения, этой почти что [xavla*, этого философического, или
страстного, или поэтического исступления понапрасну
старались бы открыть, понять и объяснить с помощью самых
долгих, терпеливых и тщательных исследований, опытов,
сравнений, изучений, рассуждений, размышлений, ценой
напряжения ума и таланта и всех способностей думать,
* Бозумие (греч ).
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
размышлять, наблюдать и рассуждать, старались бы,
повторяю, не только один такой человек, или философ, или
поэт, но и любой поэт, любой гений, любой, даже самый
тонкий и проницательный философ, даже множество
стремящихся к одному и тому же философов, и все века, на
протяжении которых шел бы вперед, совершенствуясь,
человеческий дух,— между тем как охваченный
вдохновением и делает это с легкостью, безупречно и полно, сперва ~
в самый миг вдохновения — для самого себя, а потом и
для себя и для других, коль скоро он способен хорошо
выразить свои воззрения и продолжает отчетливо и ясно
видеть перед собою все, что постиг и почувствовал в тот
миг (26 августа 1823).
[3435—3439]. Воображение и величавые иллюзии,
которыми руководствовались древние, и обуревавшая их жажда
славы заставляли их все время иметь в виду потомков и
вечность, стараться увековечить всякое свое деяние и
обеспечить бессмертие себе и своим творениям. Желая
оказать почесть усопшему, они воздвигали ему памятник,
способный противостоять векам и сохраняющийся, быть
может, и сейчас, спустя тысячелетия. Мы при подобных
обстоятельствах тратим, быть может, не меньше средств на
погребальное убранство, которое день спустя после
церемонии разрушается без следа. Чудовищная прочность
древних построек всякого рода, построек, существующих и
поныне,— между тем как наших зданий, даже
общественных, не увидят и не столь уж далекие потомки; пирамиды,
обелиски, триумфальные арки, чрезвычайно глубокая
чеканка древних монет и медалей, которые, пройдя через
столько рук, через столько превратностей, столько
столетий спустя выглядят красивыми и такими новыми, что на
них все можно прочесть, между тем как чеканка на наших
монетах стирается спустя сто лет; и еще множество
подобных вещей — все это порождения и следствия древних
иллюзий, признаки могущества и власти воображения у
древних. Если они из тщеславия воздвигали памятники, то эти
памятники тщеславия должны были стоять вечно;
гордыня древних не довольствовалась восхищением одного
столетия — все столетия до скончания века должны были
стать свидетелями их могущества и воздать свою дань их
тщеславию. Если что-либо воздвигалось ради удовольст-
14 Этика и эстетика
417
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
вия, ради красоты, украшения и т. д.— то слава об этом
должна была впредь распространяться вечно; если ради
пользы — то все будущие поколения должны были
получать эту пользу; кто бы ни строил — государь, община,
частные лица; ради чего бы ни строили — ради удобства,
ради почестей, ради собственной или общей выгоды; с тем
ли, чтобы увековечить достопамятные успехи, частные или
общественные; с тем ли, чтобы вознаградить за
добродетель, за подвиги, за благодеяния, оказанные частным
лицам или обществу; с тем ли, чтобы почтить общество или
частное лицо, живого или усопшего; с тем ли, чтобы дать
свидетельство своей любви и т. д.— какую бы цель перед
собой ни ставили, для чего бы ни было предназначено
создаваемое творение,— оно должно было пребывать вечно,
существовать во все грядущие времена, не иметь конца.
Великие иллюзии, одушевлявшие древних, не позволяли
им довольствоваться слабым и преходящим воздействием
и даже помыслить о таком воздействии, которое было бы
недолгим, нестойким и кратким, удовлетворяться мыслью
о том, что почти не выходит за их поле зрения.
Воображение всегда толкает к тому, что находится вне
досягаемости наших внешних чувств. А значит, к будущему, к
потомкам, потому что настоящее ограниченно и не может его
удовлетворить, оно ничтожно и сухо,— потому
воображение питается надеждами и живет, вечно суля что-нибудь
самому себе. Но для самого сильного воображения
будущее не должно иметь предела, ибо иное будущее его не
удовлетворит. Поэтому такое воображение смотрит в
вечность и тянется к ней.
Отличительным признаком ручных изделий у древних
была долговечность и прочность, отличительный признак
изделий нынешних — быстрое обветшание и краткость
срока их жизни. И это естественно для века-себялюбца.
Себялюбив же он потому, что разочарован. И подобно тому как
человек под действием разочарования думает только о
самом себе, наш век думает лишь о настоящем, а до того,
что будет потом, ему нет ни малейшего дела. Кроме
своего себялюбия, он еще и низок — и по причине этого
себялюбия и по другим причинам. Да и как не быть
отвратительным нынешнему веку — веку спокойного, не залитого
кровью, усовершенствованного деспотизма? Низкая же
душа не умеет ни взлетать ввысь, ни ставить себе
благородных целей; идея вечности не вмещается в столь узких
418
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
умах, а гнусный человек неспособен увидеть свое счастье
в исполнении возвышенных намерений.
Во времена промежуточные между древними и
нынешними при созерцании оставшихся от них вещественных
памятников ясно видны признаки и древних иллюзий и
наступающего разочарования. Если во многих варварских
постройках времен упадка (даже частных, и по большей
части именно в них) еще можно видеть величайшую
прочность, то лишь но сравнению с постройками современными.
И кто может сравнить прочность этих последних с
прочностью общественных и частных сооружений
шестнадцатого столетия, особенно в Италии? В Риме, где есть
памятники всех времен, от египетских до нынешних, по ним
можно видеть и вершину, и упадок, и разрушение
человеческого воображения и иллюзий, и даже несколько их
вершин, за которыми следовал упадок, и т. д.; можно видеть
разные эпохи, которые пережило воображение и т. д.,
историю не только народов, но и человеческого духа вообще,
рассматриваемого с духовной стороны, несмотря на
материальность предметов. Можно начать с обелиска на пьяц-
ца дель Пополо 40 и закончить неподалеку от него, у еще
строящегося дворца Лучернари. «Те деньги, что мы тратим
на табакерки и шкатулки, древние тратили на бюсты и
статуи, и меж тем как мы по случаю победы устраиваем
фейерверк, они складывали из камня триумфальную
арку» (Альгаротти, «Мысли», мысль 13).
Эти же соображения можно применить и к литературе.
В древности не были в ходу ни «brochures», ни летучие
листки — никакие писания, обреченные умереть день спустя
после рождения. Даже то, что писалось по определенному
поводу, чтобы послужить сегодняшней надобности,
писалось так, словно могло и должно было жить вечно.
Цицерон, подав сенату или народу совет лишь для
того, чтобы им воспользовались сегодня же, закончив речь и
завершив тяжбу, даже если она шла о крошечном
наследстве, садился за столик, брал бесформенные заметки,
служившие ему при произнесении, составлял по ним, шлифуя
и совершенствуя, речь по всем правилам и вечным
образцам самого изощренного искусства и в таком виде вручал
ее вечности. Так же делали аттические ораторы, так же
делал Демосфен, от которого сохранилась и читается до сих
пор речь по делу о трех овцах; между тем как речи,
произнесенные сегодня в парламентах, или никем не читают-
14*
419
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ся, пли забываются через два дня — и по заслугам,
потому что и произносящий их не притязал на то, чтобы они
прожили дольше, не желал этого и об этом не заботился.
(15 сентября 1823) *.
[3482—3488]. У греческих трагиков (то же самое и у
других древних поэтов и писателей) не встретишь тех
мелочей, того подробного описания и постепенного развития
страстей и характеров, которые свойственны современным
драмам (и также поэмам и другим сочинениям), не
только потому, что древние намного уступали современным
людям в знании человеческого сердца, как это известно
всякому, но и потому, что древние не слишком ценили
подробности и не заботились о них, а, скорее, даже презирали
их и избегали, и точность и мелочность были столь же
чужды древним, сколь они свойственны и неотъемлемо
присущи современным авторам.
Кроме того, современные драматические авторы хотят
завоевать участие читателя или слушателя, сделав
действующих лиц драмы близкими ему, заставляя читателей
узнавать и созерцать самих себя, собственное сердце,
собственные чувства, собственные мысли, собственные несчастья,
собственные превратности, собственные обстоятельства,
собственные переживания в действующих лицах драмы, в их
сердце, чувствах, превратностях и т. д., словно в самом
надежном зеркале. Можно не сомневаться, что намерения
греческих трагиков, особенно древнейших из них, были
совсем иными и в известном смысле противоположными.
Такое воздействие слишком слабо, мягко, глубоко, скрыто
и тонко, чтобы древнейшие поэты могли стремиться к
нему, а их слушатели — почувствовать его или, почувствовав,
испытать волнение. Как это естественно для народов и
веков менее просвещенных, зрители искали, а поэты
добивались в драмах воздействия более сильного, резкого, «ecla-
tairt»**, чувств куда более неистовых, более напряженных,
более prononcees ***, впечатлений куда более
величественных и в то же время менее внутренних и духовных и бо-
* То, что сказано о долговечности, может быть сказано и о величии, о
великолепии и т. д. i» -*• >».;•*•
** Поражающего (франц.). -
*** Явственных (франц.). -. ,.. ,
420
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
лее вещественных и внешних. Греческие трагики искали в
несчастьях и страстях необычайного и удивительного,
почти так же как нынче это делает лорд Байрон (но только
с гораздо большим знанием тех и других), тогда как
желающим сделать их сходными со страстями и несчастьями
слушателей и потому близкими и понятными для
последних требуется нечто совершенно противоположное...
Ужасные и странные несчастья и превратности, жестокие
преступления, неповторимые характеры, противоестественные
страсти были излюбленными сюжетами греческих
трагиков. Таково наверняка было их намерение, хотя выбор,
вымыслы и находки не всегда отвечали задуманному,
верней, отвечали ему когда больше, когда меньше, у кого
больше, у кого меньше. Но если говорить вообще, и
прежде всего, повторяю, о самых древних из греческих
трагиков, то они предпочтительно искали сверхчеловеческих
пороков и добродетелей, преступлений и подвигов, несчастий
и удач и особенно любили их, в противоположность
трагикам современным, которые ищут самых человеческих
пороков, добродетелей и т. д., какие только можно найти.
Потому они обращались по большей части к баснословному,
потому у них были соответствующая сцена и
соответствующие актеры; потому не только сюжет, но и способ его
разрабатывать, вести действие драмы, запутывать узел и
потом развязывать его должен был соответствовать цели
поэта и его слушателей, которая у слушателей состояла в
том, чтобы испытать, а у поэта в том, чтобы заставить их
испытать наиболее живое, наиболее поэтическое чувство
и т. д; поэтому и каждый эпизод должен был
соответствовать природе такой цели и такой драмы; потому Эсхил
вывел в театре фурий (в «Эвменидах»), при виде которых
женщины скинули, а дети оледенели от ужаса (см.
Фабрициус, Бартелеми41 и др.); потому столь далекими от
зрителя и по месту, и по времени, и по изображенным нравам
бывали сюжеты, хотя сама история 42, и не только всего
народа, но и родного города, и не только родного города, но
и своего времени, давала греческим трагикам так много
поэтических сюжетов и т. д.; поэтому и всяческие
нарушения правдоподобия, скачки, неожиданности (правда, все
это сделано с меньшим искусством, разнообразием и проч.,
чем сделали бы в наши дни и особенно в нынешних
драмах и романах интриги), частые вмешательства богов и
полубогов и т. д. Современные драматические поэты, как
15 Этика и эстетика
421
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
и все прочие поэты, и сочинители романов и т. д.
стремятся действовать на сердце, древние трагики, как и все
прочие древние,— на воображение. Этого наблюдения,
которого никто не может отрицать, довольно, чтобы судить,
насколько должны отличаться по самой своей сути
характеры древней и современной драмы, со сколь различными
мерилами следует подходить к той и к другой, как нелепо
сравнивать современные драматические сочинения с
древними, как будто они принадлежат к одному роду
словесности, что совсем не верно. Древние трагики стремились
только к одному: явить взорам и воображению зрителей
огнедышащий вулкан либо иные столь же ужасающие
явления или странности природы, в которых нет ничего
общего с теми, кто смотрит на них. Поэтому они показывали
те несчастья, те преступления, те страсти, те подвиги,
которые зрители могли созерцать, как созерцают пугающие
метеоры, не грозящие никаким ущербом, и получать
удовольствие, какое всегда доставляет удивительное и
ужасное, если оно бессильно причинить нам вред; и при этом
они не находили и не были обязаны находить сходство и
подобие между этими несчастьями и т. д. и своими
собственными, или несчастьями своих знакомых, или вообще
несчастьями себе подобных или существ той же породы.
Из этих замечаний можно заключить, по какой
причине в древних трагедиях нельзя найти — и напрасно было
бы даже искать и стремиться найти — те подробности, те
оттенки, ту точность в живописании и в постепенном
раскрытии страстей, в поведении, в характерах, какие можно
найти в современных драмах.
Эти наблюдения можно приложить также и к древним
комедиям, особенно к той, что была в Афинах в ходу на
первых порах и получила имя собственно древней, ap^ata.
Она также не имела целью сделать действующих лиц
близкими зрителям — разве что похожими на некоторых из них,
намеренно представленных в карикатурном виде. Она
также стремилась подействовать на воображение—намерение,
совершенно чуждое не только современной комедии, но и
той, что была названа в Греции новой, vea, или второй,
Bevxepa , то есть комедии в духе Теренция, переводчика
Менандра 43, первенствовавшего в этом роде. Отсюда в
древней комедии — странные, неестественные, поэтические,
фантастические вымыслы, аллегорические действующие лица—
например, Богатство и проч.,— облака, птицы, лягушки44;
422
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
отсюда — нагромождение невероятного, странного, боги,
чудеса и т. д. Древние комедии не были в собственном
смысле «действиями» (Spcqmm), но богатыми выдумкой
сатирами, сатирическими фантазиями, изложенными в
драматической форме, в диалогах; они подобны сатирам Лу-
киана, во всем напоминающим древнюю комедию, кроме
длины, изображенных лиц и других таких же — не свойств,
но внешних, случайных, произвольных обстоятельств, не
затрагивающих сущности самого этого рода словесности.
(20 сентября 1823, канун пресв. Марии всех скорбящих).
[3548—3550]. Цель эпического поэта (и подобных
ему — в той мере, в какой они ему подобны) должна быть
не в том, чтобы повествовать, а в том, чтобы описывать,
волновать, пробуждать образы и чувства, возвышать
души, наполнять их жаром, исправлять нравы, воспламенять
доблесть, жажду славы, любовь к отчизне, хвалить и
хулить, зажигать дух соперничества, превозносить подвиги
своего народа, предков, местных героев и проч. Лишь это—
все или отчасти,— а отнюдь не повествование и должно
быть истинной целью эпического поэта; и все же эпический
поэт должен делать вид, будто его подлинная и истинная
цель или, во всяком случае, главная цель—одно только
повествование. Едва ли заслуживает имени поэзии та
поэма, которая действительно только рассказывает, то есть
все воздействие которой сводится к тому, что она
разжигает у читателя простое любопытство и питает его сложной
и запутанной интригой или любым другим средством. Это—
скорее новеллы, нежели поэмы, хотя действие их может
быть благородным, возвышенным, увлекательным и т. д.
(к этому виду относятся «Влюбленный Роланд»45, «Ри-
чардетто»46 и подобные им). Такого же свойства могут
быть и поэмы, сплошь сплетенные из причудливых
выдумок и сказаний или там и сям украшенные ими, как
настоящие поэмы. Бывает, что даже сплошь или почти сплошь
состоящая из выдумок поэма на самом деле только
повествует. Тогда она — не поэма, потому что поэт в ней
ставит себе истинной и главной целью то, что должно быть
для него лишь целью мнимой, притворной, а именно
повествование. Но и наоборот, поэмы, полные длинных
описаний, нравственных, политических и т. д. рассуждений и
тирад, сентенций, восхвалений, хулений, убеждающих и разу-
15*
423
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
беждающих речей, написанных от лица поэта, и проч., тоже
не будут эпическими поэмами, потому что поэт явно для
всех ставит себе цели, которые должен был бы не
обнаруживать ни перед кем. (29 сентября 1823).
[3717—3719]. Воображение, всегда неутомимое и
деятельное, требуется для того, чтобы saisir * связи, черты
близости и сходства и т. д.—истинные или кажущиеся,
поэтические и проч.— между предметами и явлениями или
чтобы открывать эти связи или измышлять их и т. д., а это
всегда необходимо делать, если хочешь, чтобы твоя речь
была метафорической и образной и чтобы эти метафоры и
образы обладали и новизной и оригинальностью и носили
на себе отпечаток особых свойств автора. Я не говорю уже
о сравнениях; но и новая метафора, даже если она
заключена в одном слове, требует воображения и
изобретательности. А ведь из этих метафор и образов должен
складываться весь слог, все то, что служит для выражения
замыслов поэта. Неутомимое воображение, всегда живое, всегда
позволяющее поэту видеть все вещи воочию,
показывающее их так, словно они находятся рядом с ним, нужно и
для того, чтобы поэт мог дать понятие о вещи, действии,
идее и проч. с помощью одного или двух обстоятельств,
одного или двух признаков, самых мелких, самых
неуловимых, но реже всего замечаемых и изображенных
другими поэтами, реже всего использованных с тем, чтобы они
представляли весь образ; признаков, которые или сами по
себе, или благодаря этой своей необычности, благодаря
тому, что их редко замечали и изображали, редко
применяли и употребляли и т. д., способны с наибольшим успехом
дать понятие об идее, имеющей быть выраженной,
представить ее, словно живую, успешно пробудить ее в уме и
т. д. Такими нередко бывают выражения или, иначе
говоря, средства выражения, а также способы изображать
вещи и пробуждать новые образы или показывать их по-
новому в силу новизны самого способа — у Вергилия и еще
более у Данте, которому все это особенно присуще и
составляет отличительное свойство его слога и поэзии. Этр и
требуется для такого слога, как слог Вергилия (и для
других также в большей или меньшей мере; но слог Верги-
* Уловить (франц.).
424
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
лия именно как слог поэтичнее всего нам известного и
представляет собой, быть может, поп plus ultra *
поэтичности); а между тем этот поэт пользуется именно такими
средствами,— и вот какого действия он достигает с их
помощью. Но такие средства невозможно употреблять и
такого действия невозможно достигнуть (а в том, что
касается слога, другими средствами его не достигнешь), если
воображение не будет всегда деятельным, живым и
неутомимым. И всякий раз, как воображение становится вялым,
вялым становится и слог, пусть даже вымысел будет и
богат образами и поэтичен, как и свойства изображаемых
и описываемых предметов. Поэтическими будут предметы,
но не слог, и результат окажется еще хуже, чем если бы
они не были поэтическими, из-за противоречия и
несообразности, которые окажутся тем разительнее, чем предмет,
вымысел и проч. будут богаче образами и поэтичнее. <...>
(17 октября 1823).
[3952—3954]. Из того, что сказано в другом месте о
сопутствующих идеях, связанных со значением, с самим
звуком и с другими свойствами слов и играющих такую
большую роль в производимом сочинением действии,
особенно поэтическом или ораторском, с неизбежностью
следует, что действие одного и того же стихотворения, речи,
строки, фразы, выражения, любой самой большой или
самой малой части сочинения, и особенно их поэтическое
действие, будет всегда беспредельно изменчивым в
зависимости от того, кто будет слушателем или читателем и в
каких обстоятельствах, даже случайных, мимолетных и
преходящих, он сейчас находится. Ведь эти сопутствующие
идеи, даже независимо от слова или фразы как таковых,
могут различаться очень во многом в соответствии с
названными различиями между людьми. Подобно этому и
поэтическое действие множества других вещей, а может быть,
и всех вещей будет беспредельно меняться в зависимости
от людей и их обстоятельств — постоянных, преходящих и
любых других. Например, одно и то же зрелище природы
может произвести и производит самое разное впечатление
на зрителей в аависимости от названных различий между
ними — если, скажем, это место будет для кого-нибудь из
* Высший предел (латин.).
425
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
них родным, а это зрелище связано с воспоминаниями
детства и т. д. Или если зрителем владеет та или иная страсть
и т. д. Нередко бывает так, что на одного оно не
произведет никакого впечатления, а на другого в это же
время— самое сильное впечатление. То же рассуждение
можно распространить на слова и слог, который из них
состоит и ими определяется, на их свойства и различия, и
тогда это сравнение окажется очень уместным.
Все эти наблюдения следует приложить к сказанному
мною в другом месте о том, насколько естественны
неизбежные различия в суждениях людей о достоинствах и
т. д. сочинений ввиду того, что производимое ими действие
будет по самой своей природе различно (даже если
совсем оставить в стороне зависть, невежество и тому
подобные вещи, изменяющие суждения и делающие их ложными
по вине самих людей, но тем не менее естественные и
неизбежные), и насколько слава писаний, писателей и их
слога зависит от бесчисленных и разнообразнейших
обстоятельств и их сочетаний. Искусство писателя сводится и
должно сводиться к приблизительному и общему наблюдению
за тем, какое действие оказывают и какие идеи
порождают—всегда или чаще всего—такие-то слова, такое-то их
сочетание, такое-то их употребление у большинства людей
или у большинства его соотечественников, рассматриваемых
в целом, при обстоятельствах, наиболее частых для
каждого и наболее обычных по своей природе или в силу
господствующих нравов и т. д. И больше всего славятся и
ценятся сочинения и слог тех писателей, которые сумели
лучше и удачнее наблюсти все сказанное и, руководствуясь
этими наблюдениями, извлечь из них выгоду, применив их
к делу и сообразовав с ними свои приемы письма, а не те
сочинения и писатели, которые в равной степени
нравятся всем — и при этом не только соотечественникам, всегда
и при всех обстоятельствах,— и которые всегда
производят одинаковое действие, или вообще какое-нибудь
действие, или действие одного рода,— потому что все это
невозможно для смертного и ни с одним поэтом, писателем
и т. д. ни с одной книгой, слогом и т. д. в
действительности не случалось, не случается и не случится никогда.
Все эти наблюдения следует приложить также к
трудности и невозможности хорошего перевода, к тому, что
всякая книга многое теряет даже в наилучшем переводе, к
тому, что существование совершенного перевода невозмож-
426
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
но и что в самих этих словах есть логическое
противоречие, что перевести так невозможно прежде всего те
книги, чье главное достоинство или даже вся ценность
заключаются в слоге, во внешнем, в словах, с которыми
прежде всего и главным образом связано производимое этими
книгами действие,— а такими непременно будут все или
почти все истинно поэтические книги в стихах и в прозе
и т. д. (8 декабря 1823). — Эти наблюдения можно
распространить, вспомнив все разнообразие идей,
сопутствующих одному слову и т. д., а значит, и все разнообразие
воздействий одного и того же сочинения в зависимости от
века, от народа, от соотечественников или иноземцев, от
более или менее отдаленных потомков и т. д. Поэтому
невозможно, чтобы какое-либо сочинение, даже самое
превосходное, стяжало надолго и широко славу и почет
или по крайней мере чтобы эти слава и почет были всегда
и повсюду одинаковы и по величине и по свойствам, тем
более что невозможен совершенный перевод ни с древних
языков на новые, ни с одного нового языка на другой, о
чем сказано выше. И к тому же еще различия между
читателями, вызванные различием между веками, нравами,
климатами, странами и т. д. (7 декабря 1823).
[4234—4236]. Что касается родов поэзии, то, в сущности,
тут есть три подлинных и больших подразделения: род
лирический, эпический и драматический. Лирике
принадлежит первородство среди всех; она присуща любому
народу, даже дикому, она — самый благородный и поэтический
среди всех родов; она присуща всякому человеку, даже
необразованному, который старается ободрить и утешить
себя пением, то есть размеренными словами и гармонией;
она есть свободное и целомудренное выражение всякого
сильного и глубоко пережитого человеком чувства. Эпос
родился после нее и от нее; он есть в некотором роде
только расширение лирики, или, иначе говоря, лирический род,
который из всех своих средств и предметов избрал и
усвоил себе главным образом повествование, измененное на
поэтический лад. Эпическая поэма, так же как и первые
лирические стихи, распевалась под музыку — под звуки
лиры—на улицах и для народа. Она есть не что иное, как
гимн героям, народу или войску, но гимн более длинный.
Поэтому и она свойственна всякому народу, даже дикому и
427
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
непросвещенному, особенно если он воинствен. И мы
видим, что по большей части песни дикарей, и даже песни
бардов, относятся в равной- мере к эпосу и к лирике, так
что нелегко решить, к какому роду их следует отнести. Но
они поистине относятся к тому и к другому роду; это —
длинные и обстоятельные гимны, по большей части
воинственного содержания; этими эпическими поэмами
знаменуется начало, первое рождение эпоса из лирики, они суть
образцы рождающегося, отделяющегося от лирики, но еще
не отделившегося эпического рода. Драматический род —
последний из трех и по времени и по благородству. Он есть
не вдохновение, но изобретение, детище цивилизации, а не
природы, поэзия благодаря условности и воле его
создателей, а не по своей сущности. Правда, природа учит
подражать голосу, словам, жестам, поступкам какого-нибудь
лица и делает так, что это подражание, особенно умелое,
доставляет удовольствие; но она не учит нас тому, чтобы
оно было в диалогах, и еще меньше тому, чтобы оно
подчинялось правилам и получало стихотворный размер;
более того, она исключает такой размер и совершенно
исключает гармонию, потому что достоинство такого
подражания и наслаждение, доставляемое им, определяются лишь
точным изображением избранного для подражания
предмета, настолько точным, что наши чувства должны
воспринимать как бы его самого и нам должно казаться, что
мы видим его и слышим. Такое подражание всегда
дружно с неправильностью, негармоничностью, потому что оно
дружно с истиной, обыкновенно негармонической. Помимо
того, сама природа делает предметом таких подражаний
по большей части все редкостное, не подходящее под
правило, причудливое, смешное, странное, ущербное. Затем,
естественным будет подражание не событию, а
простейшему действию, иначе говоря, одному поступку,
нерасчленимому на части, 'без его причин, средств и следствий, когда
он взят сам по себе и в отношений лишь к самому себе.
Из всего этого явствует, что подражание, подсказанное
природой, по сущности своей отлично от драматического
подражания. Драма не свойственна непросвещенным
народам. Она есть зрелище, порождение цивилизации и
праздности, находка праздных людей, желающих
провести время, одним словом, развлечение в праздности,
изобретенное, подобно множеству других, в лоне цивилизации
разумом человека, не вдохновляемого природой, а стре-
428
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
мящегося позабавить себя и других и получить от
общества почет и выгоду для себя. Пусть это развлечение
благородное и достойное, но оно не порождено девственной и
чистой природой, как лирика — ее законная дочь и эпос —
ее истинный внук.— Все прочие так называемые роды
поэзии могут быть сведены к этим трем главным, или же
признаком этих родов будет не поэзия, а стихотворный
размер и другие подобные внешние свойства. Элегия есть
лишь название размера 47. Все ее обычные предметы по
природе своей принадлежат лирике, как, например,
скорбные предметы, весьма часто трактуемые греческими
лириками, особенно древними, в лирических размерах и в
чисто лирических то духу сочинениях, именовавшихся
ftpTjvot*, каковы стихи Симонида 48, весьма прославившегося
этим видом сочинений, и Пиндара, а также, быть может,
[aovo)8lou**, как те стихи Сафо, о которых упоминает Сви-
да49. Род сатирический отчасти принадлежит лирике, если
он страстен, как у Архилоха50, отчасти — области
комического. Род нравоучительный, если только в нем есть
истинная поэзия, относится или к лирике, или к эпосу; там же>
где он просто назидателен, в нем нет ничего общего с
поэзией, кроме языка, способа изложения и, так сказать,
жестов. (Реканати, 15 декабря 1826).
[4289]. Различие между древними и более новыми,
первыми и самыми поздними мифологиями. Изобретатели
первых мифологий (отдельные лица или народы) вовсе не
искали темного во всем, даже в самом ясном, наоборот,
они искали ясного в темном; они хотели объяснять, а не
окутывать тайной, хотели открывать, стремились сделать
вещи, недоступные чувствам, понятными с помощью
вещей чувственных, на свой лад и как можно лучше
оправдать существование тех вещей, которые человек не в
силах понять или которых тогда еще не понимали.
Изобретатели поздних мифологий, платоники и особенно люди
первых веков нашей эры решительным образом искали
темного в ясном, хотели объяснить вещи чувственные и
понятные с помощью вещей, недоступных чувствам и
пониманию, умилялись потемкам, искали оправдания вещам
* Плачи (греч.).
** Монодии (сольные песни) (греч.).
429
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ясным и очевидным в тайнах и загадках. В первых
мифологиях не было тайн, напротив, они были придуманы с тем,
чтобы растолковать и сделать ясными для всех тайны
природы; поздние были придуманы затем, чтобы заставить
нас поверить в таинственность и недоступность для
нашего рассудка того, в чем мы иначе не заподозрили бы
никакой тайны. Отсюда и различие характера двух видов
мифологий, соответствующее различному характеру эпох,
когда они родились, их духа, целей и устремлений, ради
которых они были созданы. Первые — веселые, вторые —
мрачные и т. д. (Реканати, 29 декабря 1826).
[4356—4363]. ...Одним словом, эпическая поэма в наших
литературах родилась только из ложной предпосылки.
Гомер и греческие поэты одного с ним и последующих веков
знали в эпическом роде только гимны. «Поэтому само
слово ofxvog* имеет более широкий смысл и нередко
обнимает весь род Itc&v**. Отсюда и строка в
конце трех (Гомеровых) гимнов*1—явный след этого обычая:
«Ныне, тебя помянув, я к песне другой приступаю»
(Вольф52, § 25, пункт CVII, примеч.). То есть приступаю
к одной из гомеровских песен, к которым священные
гимны служили вступлениями, почему и греки часто
именовали ИХ Tupooijua: rcpootjxiov Д toe;, icpooi[uov 'AttoXXcdvoc***
и т. д. Рапсоды сочиняли или пели то одно, то другое из
таких вступлений в зависимости от места и от повода, по
которому они пели отрывки из Гомера — от того, какое
божество было покровителем страны, в честь кого были
празднества и т. д. Смотри мои замечания о трех родах
поэзии — лирическом, эпическом и драматическом;
настоящие замечания прольют свет и на них. <...>
Действительно, эпическая поэма противна самой
природе поэзии: 1) она требует плана, задуманного и
расположенного по порядку с полной холодностью; 2) что
общего с поэзией может иметь труд, на выполнение которого
нужны многие и многие годы? Ведь поэзия — это прежде
всего порыв. Это тоже во всем противно природе.
Невозможно, чтобы воображение, пыл, поэтическое настроение
* Гимн (греч.).
** Эпических песен (греч.).
*** Вступления —• вступление в честь Зевса, вступление в честь Аполлона (греч.).
430
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
выдержали долгую работу над одним и тем же предметом.
В последних шести книгах «Энеиды» явно видна всем
известная усталость Вергилия и натуга, с какой он писал
их поистине не по душевному побуждению и не по своей
воле, а лишь выполняя намерение. <...> «Неистовый» есть
только цепь кусков разного содержания, почти что
разных произведений; он построен не по изначально
задуманному и упорядоченному плану; поэт чувствовал себя
свободным решать в любой миг, когда хотел, он брался за
каждую новую песню с охотой, по собственной воле и
собственному выбору, движимый порывом, таким же, как в
начале 6р[Ц, и, без сомнения, он не собирался с самого
начала писать такую длинную поэму. Поэтические труды
по природе своей должны быть кратки. Такими были и
остаются все до единого первобытные сочинения (то есть
самые поэтические и подлинные) любого рода и у всех
народов.
Мне возразят, сославшись на драму. Но я отвечу, что
драма еще меньше относится к поэзии, нежели эпос. Она
прозаична: стихи принадлежат к ее форме, а не к
сущности и не делают ее поэтической по природе. Поэта
побуждает творить его собственное глубокое чувство, а не
чужие чувства. Притворяться, будто испытываешь страсть,
которой не испытываешь, будто твой характер иной, чем
на самом деле (что необходимо для драматического
автора),— все это поэту совершенно не свойственно, так же как
и тщательное, терпеливое наблюдение чужих характеров
и страстей. Чувство, обуревающее душу сейчас,— вот
единственная муза-вдохновительница истинного поэта, только
его он и выражает по естественной склонности. Чем
человек более одарен, чем больше он поэт, тем обильнее у
него запас собственных чувств для выражения, тем больше
гнушается он необходимостью рядиться в одежды
другого лица, говорить от чужого имени, подражать, тем
скорее он будет живописать самого себя и испытывать в этом
потребность, тем больше он будет лириком и тем меньше
драматическим автором. И действительно, самые великие
гении и поэты, обращавшиеся к драматическому роду
(потому что ойи сочли его за поэзию, обманутые стихом,
подобно тому как Вергилий написал эпическую поэму,
полагая, будто то же самое сделал Гомер), всегда грешили в
одном: они показывали больше себя, чем' других. Смотри
стр. 4367. Само вдохновение драматического поэта при-
431
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
творно, потому что он должен притворяться, а того, кто
чувствует побуждение к поэзии, побуждает лишь потребность
выразить действительно обуревающие его чувства. <...>
Мы смеемся над упражнениями софистов 53: «Что сказала
бы Медея...», «Что сказал бы тот, кто...», а также и над
речами по вымышленному поводу, которыми так богат наш
шестнадцатый век, начиная с делла Казы 54. А что такое
драма? Разве она менее смешна, потому что пишется
стихами? Наоборот, подражание есть вещь прозаическая, в
прозе — например, в романах — оно более оправданно;
это относится и к нашим комедиям и драмам в прозе
и т. д.
В подражании всегда есть много рабского. Ложна
сама идея рассматривать и определять поэзию как
подражательное искусство, ставить ее рядом с живописью и т. д.
Поэт воображает, воображение же видит мир не таким,
как он есть, строит себе мир, которого нет, измышляет,
придумывает, а не подражает — не подражает, я имею в
виду, намеренно. Творец, изобретатель, а не подражатель —
вот в чем сущность характера поэта. «Когда этот философ
(Платон), исходя из некоторых родов, и более всего
драматического, первым, как мне сдается, придумал, будто
природа поэтического искусства состоит в подражании и
т. д. Первым это его суждение о поэтическом искусстве
подхватил Аристотель в прославленной книжечке, где он
повсюду дал ему толкование правильное, но не столь
подробное, чтобы оно достаточно подходило ко всем родам
стихотворных сочинений; так, например, род нравоучительный
им просто исключен. И после Аристотеля, как кажется,
никто из философов не постиг, в чем истинная сила этого
искусства, и не дал ему исторического истолкования» (Вольф,
§ 36, пункт CXIV—V). Это определение Платона55,
определение из разряда применявшихся лишь ради упражнения
в диалектике и даже просто ради забавы (вроде того как
он сопоставлял, например, риторику и payeipwrf; смотри
«Горгий» и «Софист», особенно в конце), есть
единственный источник столь укоренившегося мнения, будто поэзия
есть подражательное искусство. См. стр. 4372, конец. -
Но оставим это рассуждение до другого случая; сейчас
довольно будет ответить, что сразу же после своего
рождения, у греков (ведь все вещи сразу же после рождения
* Поварское искусство (греч.).
432
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
бывают более разумны и оправданны), драмы были
намного короче, чем сейчас, и почти лишены плана; иначе
говоря, интрига в них была очень проста. «Вообще было бы
весьма полезно отовсюду собрать вместе разбросанные по
книгам древних наставления в драматическом искусстве и
суждения об их поэтах. Они бы, если я не заблуждаюсь,
показали нам на совокупном примере самых лучших из
сохранившихся стихотворных сочинений, как поздно греки
научились все в поэзии располагать по порядку, и что
даже Гораций, который учит этому, не устанавливал для
этого предписания тех границ, что наши философы. Это
надлежало бы исследовать прежде всего тому, кто хочет
мерить драмы греков законами древнего искусства. Ибо
если тут Аристотель нередко и отклоняется от исторической
истины, то тем более заслуживает восхищения его
прозорливость, благодаря которой он опередил свой век» (Вольф,
§ 29, пункт СXXV, примеч.).
Впрочем, очевидно, что эпос, от которого явно
произошла драма <...> (скорее, даже от еще не эпических, но
лирических песен рапсодов: Вольф), по своему
происхождению восходит к лирике, единственному изначальному и
единственному истинному роду поэзии,— единственному,
но столь же разнообразному, сколь разнообразна
природа чувств, которые поэт и всякий человек может
испытывать и желает выразить. (29 августа 1828).
[4367—4368]. К стр. 4357. Роман, новелла и проч.
гораздо менее чужды одаренному человеку, нежели драма,—
самый чуждый для него из всех родов литературы,
потому что он требует наиболее близкого подражания,
наибольшего перевоплощения автора в других лиц, самого
полного отказа от собственной личности, которая для
даровитого человека значит куда больше, чем для всякого
другого. (5 сентября 1828).
[4372—4373]. К стр. 4358. Поэт не подражает природе:
поистине природа говорит в нем и его устами. «Я значу
нечто лишь тогда, когда Природа говорит» и т. д.— вот
истинное определение поэта. Таким образом, поэт — не
подражатель, или он подражает лишь самому себе. (10
сентября 1828). Когда в своем подражании он выходит за
433
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
пределы себя самого, то это уже не поэзия, не
божественная способность, а человеческое искусство, проза,
несмотря на размер и язык. Как размеренная проза и как
человеческое искусство такая поэзия может существовать, я
не собираюсь осуждать ее. (10 сентября 1828).
[4475—4477]. ...Это очень верное замечание56, как ц
другое, подобное ему, касательно драмы. <...> Но такие
воспоминания, легенды и песни можно найти только у
народов, у которых до сих пор есть национальная жизнь и
национальные интересы, то есть жизнь и интересы,
носителями которых был бы сам народ; потому их можно
найти только там, где есть демократия, либо народная или
полународная монархия (как монархии древние и
средневековые), либо национальная борьба с иноземцами,
ненавистными всему народу (как во времена Сида 57 у
испанцев с арабами), либо деспотизм, свергаемый изнутри (как
в современной Греции и во многих провинциях и
колониях Древней Греции в разные эпохи). Но в том состоянии,
до которого народы Европы были низведены с конца
пятнадцатого столетия, при спокойной абсолютной монархии,
народы (кроме греческого) не могли и не могут иметь
таких преданий и таких поэм. Ни одна страна не имеет
героев, а если б и имела, до них не было бы дела народу, а
те древние герои, какие были, позабыты народами, с тех
пор как они стали чужды общественным делам, а через
это и собственной истории. Если только можно назвать их
собственной историю не народов, а государей.
Действительно, ни у одного народа современной Европы нет ни
героических воспоминаний, ни привязанностей, повсюду —
полное неведенье отечественной истории, как древней, так
и недавней.
При таком положении дел героями народных легенд
бывают только святые или влюбленные — а это предмет
самое большее для новеллы, но ни в коем случае не для
героических поэм и песен или героических трагедий.
Отсюда явствует, что ни эпической поэмы, ни даже
национальной героической драмы любого свойства,
классической или романтической, в современных литературах
почти что не может быть. Порок, отмеченный Нибуром в
«Энеиде», присущ всем современным эпическим поэмам, и
«Готфреду»58 в особенности. Несколько лучше, с этой сто-
434
ИЗ ДНЕВНИКА РАЗМЫШЛЕНИЙ
роны, «Лузиады»59: описанные в них деяния, хоть и
относятся к недавнему времени, изобиловали чертами,
свойственными народной поэзии,— благодаря тому, что
совершались они далеко — а это почти то же, что и деяния
старины,— и к тому же в краях неведомых и весьма
непохожих на наши. Еще лучше — «Генриада», главное лицо
которой живет в памяти народа, пусть и не как герой, но как
народный государь.
Кроме того, я сомневаюсь, чтобы предания, о каких
говорит Нибур, могли существовать иначе как во времена
не слишком просвещенные (как времена гомеровские,
эпоха царей у римлян, эпоха бардов, средние века), когда
верят рассказам о чудесах, дошедшим издревле, и все
современное становится древним в очень короткий срок. Но
когда просвещение сделало столько успехов, как в дни
Вергилия или в наши, древнее, наоборот, делается подобным
современному; даже среди простого народа нет в ходу
никаких легенд, кроме тех, какие рассказывают детям,— у
взрослых же легенд нет, и не только героических, но
вообще никаких; и нет никаких поэм, основанных на народных
рассказах, кроме поэм вроде «Мальмантиля»60. (29 марта
1829).
Из этих наблюдений можно заключить, что из трех
главных родов поэзии на долю наших дней поистине
остается только лирика (и, быть может, дела и опыт
современных поэтов докажут то же самое) — род и самый
древний по времени, и вечный, и всеобщий, то есть присущий
человеку всегда и во все времена, в любом месте, как
сама поэзия, на первых порах не знавшая ничего, кроме
этого рода, в котором и поныне прежде всего заключается ее
сущность, так что этот род почти тождествен ей, ибо он
самый поэтический во всей поэзии, и стихи бывают
поэтическими лишь настолько, насколько они принадлежат к
лирике. (29 марта 1829). Также и тем обстоятельством, что
у него нет никакой поэзии, кроме лирической, наш век
приближается к первобытному.— Впрочем, сказанное об
эпической и драматической поэзии может быть сказано и
об истории. Какое дело было бы народу Милана,
Флоренции или Рима, какое впечатление, какое действие
произвело бы на него, если бы какой-нибудь новый Геродот
явился и стал читать ему историю Италии? (30 марта).
435
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
[4525—4526].— Самое неожиданное61, что может
произойти с тем, кто вступает в общество и приобщается к
его жизни, а часто и с тем, кто в нем состарился,— это
если он найдет свет таким, каким его описывали и каким он
его полагает и, знает в теории. Человек останавливается,
пораженный тем, что в его особом случае подтвердилось
общее правило. (Флоренция, 4 декабря 1832).
КОММЕНТАРИИ
НРАВСТВЕННЫЕ ОЧЕРКИ
«Нравственные очерки» создавались
Леопарди с 1824 по 1832 г. Первые публикации отдельных диалогов
относятся к январю, затем к марту и апрелю 1826 г.: в журналах
«Антолоджиа» и «Нуово ракольиторе» напечатаны «Разговор Тимандра
и Элеандра», «Разговор Христофора Колумба и Педро Гутьереса»
и «Разговор Торквато Тассо и его демона». Первое издание «Очерков»
вышло в 1827 г. в Милане, у издателя Стеллы, и включало первые
двадцать произведений. Второе издание, появившееся во Флоренции,
у издателя Гульельмо Пьятти, относится к 1834 г.; в этом издании
добавлены «Разговор торговца календарями и прохожего» и «Разговор
Тристана и его друга». В посмертном издании сочинений Леопарди,
вышедшем в 1845 г. во Флоренции, в издательстве Лемонье, друг
и душеприказчик поэта Антонио Раньери, подготовлявший это
издание, прибавил «Апокрифический фрагмент из Стратона Лампсакского»,
«Коперник» и «Разговор Плотина и Порфирия» и, выполняя волю
Леопарди, снял диалог «Разговор читателя классических авторов и
Саллюстия». Этот состав «Нравственных очерков» признается
каноническим. На русском языке «Очерки» были неполностью
опубликованы один раз — в книге: Джакомо Леопарди. Разговоры. Пер.
А. И. Орлова. Спб., 1888; в эту книгу не вошли: «История рода
человеческого», «Награды, предложенные Академией силлографов», «Пари-
ни, или О славе», «Достопамятные речи Филиппо Оттоньери»,
«Похвальное слово птицам», «Апокрифический фрагмент из Стратона
Лампсакского», «Разговор Тимандра и Элеандра», «Разговор Плотина
и Порфирия», «Разговор торговца календарями и прохожего». Все
эти произведения переведены впервые. В основу настоящего перевода
положен текст итальянского издания: Opere di Giacomo Leopardi.
А cura di Giovanni Getto. Ugo Mursia ed. Milano, 1966.
ИСТОРИЯ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
Написано в Реканати между 19 января и 7 февраля 1824 г.
Впервые напечатано в издании Стеллы (1827).
1 ...взращен был Зевес.— Младенец Зевес, спрятанный от Кроноса
на Крите, был вскормлен молоком божественной козы Амалфеи.
439
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
2 ...дошли до отчаяния... — перифраз слов Лукреция:
...отвращеньем полны и к жизни и к свету дневному,
От безысходной тоски они сами себя убивают.
(«О природе вещей», III, 79—81. Пер. Ф. Петровского)
3 ...сетовавших... что мир не беспределен... — Жажда
бесконечности, присущая человеку,— одно из основных положений этики Леопар-
ди. «Наша тяга к бесконечному, непонятная для нас самих,
проистекает, быть может, от весьма простой причины, скорее материальной,
чем духовной. Человеческая душа... всегда желает прежде всего и
стремится единственно к удовольствию (хотя и в тысяче разных видов)
или же к счастью, которое, если присмотреться как следует,
тождественно удовольствию. Это желание и это стремление не имеют
пределов, поскольку они врожденны и неотделимы от нашего существования
и поэтому не могут окончиться на том или ином удовольствии,
которое не может быть бесконечным, а оканчиваются лишь вместе с
жизнью» (Дневник размышлений, 165).
4 ...об Атлантиде осталось воспоминание... — Рассказ об
Атлантиде почерпнут Леопарди у Платона. В «Опыте о народных
заблуждениях древних» поэт писал: «Немало говорилось и о знаменитой
Атлантиде, упомянутой Платоном и расположенной, как он писал,
против Геркулесовых столпов, размерами превышавшей Азию и
Африку, взятые вместе, и поглощенной страшным землетрясением и
дождем, лившим без перерыва день и ночь (Платон в «Критии» и в «Ти-
мее»)».
5 ...обычай, сохраняемый и соблюдаемый, по рассказам
историков, еще у некоторых из народов древности... — В примечании к
этому месту Леопарди ссылается на античных авторов: Геродота, Стра-
бона и других. Однако источником для самого Леопарди послужило
выписанное им в Дневник место из книги французского знатока
древностей Жан-Жака Бартелеми (1716—1795) «Путешествие юного
Анахарсиса» — своеобразного путеводителя по Древней Элладе
(Дневник размышлений, 2671).
6 ...заблуждаются те, кто полагает, будто несчастье людей впервые
родилось через их несправедливость и преступления против богов...—
скрытая полемика с христианским учением о грехопадении и
первородном грехе.
7 ...Девкалионовым потопом... — Миф о потопе, которым Зевс
покарал смертных, и о Девкалионе и Пирре, спасшихся от потопа и вновь
заселивших землю людьми, родившимися от бросаемых ими за спину
камней, Леопарди почерпнул из «Метаморфоз» Овидия (I, 244—415).
8 ...народы... что живут в Калифорнии.— «Племя калифорнийцев,
судя по тому, что сообщают о нем путешественники, живет жизнью
более естественной, чем то кажется — не скажу даже вероятным, но
возможным среди рода человеческого. Многие стараются принудить
это племя жить общественной жизнью, и нет сомнения, что по
прошествии времени их предприятие увенчается успехом; однако пока
что твердо известно, что ни одно племя не выказало меньшего
.желания чему-либо учиться в школе европейцев» (примеч. Леопарди).
9 ...люди почитали то демонами...— Слово «демон» употреблено
здесь в платоновском смысле. У Платона демоны — «истолкователи и
посредники между людьми и богами», они передают «бог,ам молитвы
440
КОММЕНТАРИИ
и жертвы людей, а людям наказы богов и награжденья за жертвы»
(«Пир», 202 Е).
10 ...Любовь, дитя Афродиты Небесной... — еще одна деталь
платоновского мифа, разработанного в «Пире»: «...коль скоро Афродиты
две, то и. Эротов должно быть два. А этих богинь, конечно же, две:
старшая, что без матери, дочь Урана, которую мы и называем
поэтому небесной, и младшая, дочь Дионы и Зевса, которую мы именуем
пошлой. Но из этого следует, что и Эротов, сопутствующих обеим
Афродитам, надо именовать соответственно небесным и пошлым»
(«Пир», 180 D — E).
11 ...лишены их милости.— В флорентийском издании 1834 г. после
текста шло примечание автора, объясняющееся, вероятно,
требованиями цензуры: «Автор предупреждает, что ни в этой притче, ни в
следующих за ней он нигде не намекает ни на Моисееву историю,, ни
на евангельскую историю, ни на одно из преданий и учений
христианства».
РАЗГОВОР ГЕРКУЛЕСА
И АТЛАНТА
Написано в Реканати между 10 и 13 февраля 1824 г. Впервые
напечатано в издании Стеллы (1827). В этом диалоге наиболее
явственно влияние Лукиана, отмечаемое и самим Леопарди (см. Дневник
размышлений, 1394, с. 368 этого тома).
1 Атлант—один из титанов, восставших против Зевеса; в
наказание должен был держать на плечах небосвод. «Хотя об Атланте чаще
всего говорят, что он держит небо, тем не менее из первой песни
«Одиссеи», ст. 52 и далее, и из «Прометея» Эсхила, ст. 347 и далее,
можно видеть, что древние воображали себе, будто он держит и
землю» (примеч. Леопарди).
2 ...как я сделал однажды... — Геркулес явился к Атланту и взял
на себя его ношу в то время, когда совершал свой одиннадцатый
подвиг — добывал золотые яблоки из садов Гесперид, дочерей
Атланта.
3 ...изменил форму... — Намек на открытие сплющенности Земли у
полюсов, подтвержденное градусными измерениями, проведенными в
1735/36 году экспедициями, снаряженными Французской академией в
Северное и Южное полушарие (в Перу).
4 Эпименид — полумифический критский жрец, прорицатель и поэт
(VII в. до н. э.), якобы проспавший 5 лет в зачарованной пещере.
В примечании к его имени Леопарди ссылается на Плиния Старшего,
Диогена Лаэрция, Плутарха.
5 Гермотим — греческий философ (VI—V вв. до н. э.), приводимый
Леопарди легендарный рассказ о нем излагается у Лукиана
(«Похвала мухе», 7), Плиния Старшего («Естественная история», VII, 52) и
у других авторов.
8 ...не принес перчаток... — Имеются в виду специальные перчатки
для игры в мяч — с продолжавшими пальцы планками и натянутыми
между ними перепонками; таш^ перчатки служили ракетками.
16 Этика и эстетика 441
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
7 ...Фаэтона в По.— Сын Аполлона Фаэтон, вызвавшийся
управлять колесницей отца и чуть было не спаливший весь мир, был
низвергнут молнией Зевса в мифическую реку Эридан, позднее
отождествленную с Падом (ныне По) в Италии.
8 ...сыном какого-то там поэта... — то есть Аполлона, бога поэзии.
9 Оры — богини часов и времен года, запрягавшие колесницу
солнца.
10 Андромеда, Каллисто — мифические героини, превращенные в
созвездия; Андромеда до сих пор сохраняет свое название, Каллисто
была превращена в Большую Медведицу.
11 ...бросал букетика лучей и скатанные из света шарики...—
намек на обычаи вечерних катаний на Корсо в Италии, во время
которых сидящие в экипажах перебрасывались букетиками цветов и
конфетти.
12 ...от Италии откололась Сицилия, а от Испании — Африка...—
Древние географы приписывали происхождение Мессинского и
Гибралтарского пролива геологическим катастрофам.
13 Стикс—река в подземном царстве, водами которой клялись
боги
14 Август (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.) — первый римский
император, друг и покровитель Горация, Вергилия и других поэтов. Его
обожествление действительно имело в виду политические цели.
16 ... в одной... говорится... — Гораций, Оды, III, 3:
Пускай весь мир, распавшись, рухнет —
Чуждого страха сразят обломки.
(Перевод И. Гинцбурга)
16 ...из Атланта в Этну... — Атлант говорит здесь о себе как о
горе, в которую он был превращен, согласно некоторым мифам
(Атласские горы). Зевс, метнув молнию, превратит его в огненную
гору, подобную Этне.
РАЗГОВОР МОДЫ
И СМЕРТИ
Написано между 15 и 18 февраля 1824 г. Впервые напечатано
в издании Стеллы (1827).
1 Уж больше тысячи минуло лет...— цитата из канцоны Петрарки
«Прекрасный дух, живящий это тело» («Книга песен», LIII, 77).
2 ...в них я нахожу свой триумф...— намек на поэму Петрарки
«Триумф смерти».
3 ...слух у меня... не лучше зрения.— Смерть бесчувственна, а
значит, глуха и слепа.
4 ...уродовать головку младенца...— По поводу этого обычая,
равно присущего многим диким народам, силой изменять форму
головы, примечательно одно место у Гиппократа «De аёге, aquis et
locis» («О воздухе, водах и местностях».— Соч., изд. Меркуриаль.
442
КОММЕНТАРИИ
классик I, стр. 29), где говорится об одном из племен Понта,
именуемом макроцефалами, то есть длинноголовыми, у которых был
обычай перевязывать головки младенцев таким образом, что они
получались длинными насколько возможно; потом, когда это было
оставлено, младенцы по-прежнему рождались с длинными головами,—
потому что, говорит Гиппократ, таковы были их родители» (примеч.
Леопарди).
5 ...увечить себя узкими башмаками...— Так поступали китаянки
в старом Китае; об этом обычае Леопарди говорит в Дневнике,
1405 (см. стр. 368 этого тома).
6 ...похвалялся, что... умрет не весь... — намек на слова Горация
в его знаменитой оде III, 30 («Создал памятник я»):
Нет, не весь я умру, лучшая часть меня
Избежит похорон.
(Пер. С. Шервинского)
НАГРАДЫ,
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ АКАДЕМИЕЙ СИЛЛОГРАФОВ
Написано в Реканати между 22 и 26 февраля 1824 г. Впервые
напечатано в издании Стеллы (1827).
1 Силлографы — сочинители памфлетов (от греч. Уккзос, —
сатирическое стихотворение, памфлет).
2 Тех лет счастливых, в коих мы живем...— цитата из поэмы
итальянского поэта-сатирика Джованни Баттисты Касти (1724—1803)
«Говорящие животные».
3 ...не ругать и не вышучивать друга за глаза... — перифраз строк
Горация:
Тот, кто на друга возводит поклеп; кто слышит о друге
Злые слова и не хочет промолвить ни слова в защиту;
Тот, кто для славы забавника выдумать рад небылицу
Или для смеха готов расславить приятеля тайну.
(Сатиры, I, IV, 81—84. Пер. М. Дмитриева)
4 ...в трактатах Цицерона и маркизы де Ламбер о дружбе.—
Имеются в виду трактат Цицерона «Лелий, или О дружбе», где
доказывается, что она возможна лишь между людьми достойными,
и «Трактат о дружбе» французской писательницы Анны де Ламбер
(1647-1733).
5 Реджомонтано (настоящее имя — Иоганн Мюллер, 1436—
1476)—немецкий астроном и математик, изобретатель .
астрономических и навигационных приборов.
6 Вокансон Жак (1709—1782)—французский механик, создатель
автоматов, из которых наибольшей известностью пользовались
«Играющий на флейте» и «Утка».
7 ...по словам Пиндара... — Пифийские оды, VIII, 136.
16* 443
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
8 Альберт Великий (ок. 1193—1280) — знаменитый философ и
богослов, занимавшийся также механикой, астрономией, медициной
и химией. Его учеником был величайший представитель
схоластической науки Фома Лквинский (1225—1274).
9 Неверский попугай.—Намек на поэму Луи Грессе (1709—1777)
«Вервер»— о попугае, жившем в женском монастыре и случайно
обучившемся непристойным ругательствам.
10 Пилад и Орест — мифические герои, чьи имена стали символами
верной дружбы. Орест, сын Агамемнона, убивший свою мать
Клитемнестру, был преследуем Эриниями, Пилад сопровождал его во
всех скитаниях и делил с ним все тяготы.
11 Бальдассар Кастильоне (1478—1529)—итальянский писатель,
прославившийся своим трактатом «Придворный» (1528), в котором
нарисован образ придворного, отвечающий ренессансному идеалу
универсального человека. Четвертая книга трактата посвящена описанию
идеальной придворной дамы.
12 Пигмалион — мифический скульптор, влюбившийся в одну из
изваянных им статуй, которую затем боги оживили по его мольбе.
13 ...аравийский феникс Метастазио... — Метастазио (Пьетро Тра-
пасси, 1698—1782)—итальянский драматург, прославившийся своими
оперными либретто. Леопарди намекает на слова из его драмы «Де-
метрий»: «О верность влюбленных, ты как феникс арабский: все
твердят, что ты есть, только где — неизвестно».
14 ...трех Золотых ослов... — Имеются в виду знаменитый роман
Апулея (ок. 125—180), его перевод, сделанный тосканским
новеллистом Фиренцуолой (1493—1543), и поэма Никколо Макиавелли
(1469—1527).
РАЗГОВОР СИЛЬФА
И ГНОМА
Написано в Реканати 2—6 марта 1824 г. Впервые напечатано
в издании Стеллы (1827).
1 Сабазий — фракийское божество, позже отождествленное с
Дионисом и Юпитером; чтился также как одно из божеств подземного
царства.
2 Законы Ликурга — древнейшие спартанские законы, по которым
предписывалось чеканить тяжелую железную монету, чтобы никто не
мог накопить много денег.
3 ...в финале одной трагедии... — «архисверхтрагической трагедии»
венецианского поэта Заккариа Валарессо (конец XVII в.— 1769)
«Руцванскад Младший» (1724), пародии на некоторых поэтов,
пытавшихся ввести в Италии трагедию в духе классицизма.
„ 4 Хрисипп (ок. 281—208 гг. до н. э.)—греческий философ, один
из родоначальников стоицизма. Леопарди в примечании к этому
месту приводит следующую цитату из Цицерона: «Но что же есть
444
КОММЕНТАРИИ
свинья, как не еда, в которую, как говорит Хрисипп, вместо соли
вложена душа, чтобы мясо не протухло» («О природе богов», II, 64).
5 ...по словам Вергилия... — см. «Георгики», I, 466—467:
•В час, когда Цезарь угас, над Римом сжалилось солнце,
Скрыло сверкающий лик в тумане темно-багровом.
6 Статуя Помпея — у подножья которой был заколот Цезарь.
РАЗГОВОР МАЛАМБРУНО
И ФАРФАРЕЛЛО
Написано в Реканати 1—3 апреля 1824 г. Напечатано впервые
в издании Стеллы (1827).
1 Атриды — род микенских царей, родоначальником которого был
Пелоп; к нему принадлежали Агамемнон и Менелай.
2 Город Маноа — «сказочный город, иначе именуемый Эльдорадо;
его придумали испанцы и полагали, будто он находится в Южной
Америке между реками Ориноко и Амазонкой» (примеч. Леопарди).
3 Джудекка — четвертый пояс круга девятого в Дантовом аду;
Злые Щели — восьмой круг ада.
РАЗГОВОР ПРИРОДЫ
И ДУШИ
Написано в Реканати между 9 и 14 апреля 1824 г. Напечатано
впервые в издании Стеллы (1827).
1 ...будь великой и несчастной.— Ср. Дневник, 649 (запись
^февраля 1821): «Будь великим и несчастным,—эти слова Д'Аламбера,
«Похвальное слово Французской Академии»... — природа обращает к
великим людям, к людям чувствительным, страстным и т. д.; они
особенно живо чувствуют жажду счастья и мучаются от этого».
В действительности слова Д'Аламбера взяты не из «Похвального
слова Французской Академии», а из «Похвального слова Саси», где
сказано: «Он не стер того блистательного, но жестокого клейма,
которое природа, рождая необыкновенного человека, как кажется,
' запечатлевает... на его челе: будь великим человеком и будь
несчастен».
РАЗГОВОР ЗЕМЛИ
И ЛУНЫ
Написано в Реканати 24—28 апреля 1824 г. Впервые
напечатано в издании Стеллы (1827).
1 ...произвела на свет немало сыновей... — намек на мифических
детей Геи-Земли: титанов, циклопов, сторуких, Понта, Нерея и других.
2 ...дружна с молчанием... — намек на слова Вергилия из 1Ркниги
«Энеиды», переведенной Леопарди: «сквозь дружелюбное безмолвие
молчаливой луны» (ст. 255).
445
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
3 ...Пифагор утверждал... — Сведения относительно учения
Пифагора о «музыке сфер» и мировой гармонии сохранились у многих
античных авторов. Леопарди в примечании к этому месту приводит
следующую цитату из Цицерона («О государстве», VI, XVIII, 18,
«Сон Сципиона»): «А что это за звук, такой громкий и такой
приятный, который наполняет мои уши?» — «Звук этот... разделенный
промежутками неравными, но все же разумно расположенными в
определенных соотношениях, возникает от стремительного движения
самих кругов и, смешивая высокое с низким, создает различные
уравновешенные созвучия. Ведь в безмолвии такие движения
возбуждаться не могут, и природа делает так, что все, находящееся в
крайних точках, дает на одной стороне низкие, на другой высокие
звуки. По этой причине вон тот наивысший небесный круг, несущий
на себе звезды и вращающийся быстрее, движется, издавая высокий
и резкий звук; с самым низким звуком движется этот вот лунный
и низкий круг; ведь Земля, девятая по счету, всегда находится на
одном и том же месте, держась посреди мира. Но восемь путей,
два из которых обладают одинаковой силой, издают семь звуков,
разделенных промежутками, каковое число, можно сказать, есть узел
всех вещей».
4 ...от Орфея вплоть до Делаланда...— Леопарди в «Истории
астрономии» пишет: «Полагают, что Орфей был первым, кто счел
небесные тела обитаемыми, наподобие нашей Земли... Прокл (На «Ти-
мея», IV) сохранил несколько орфических стихов, в которых
сообщается, что Луна населена». Прокл (412—485)—греческий философ-
неоплатоник, автор комментария к «Тимею» Платона. Делаланд Жо-
зеф-Жером ле Франсе (1732—1807)—французский астроном, автор
«Трактата об астрономии».
5 Давид Фабриций (1564—1617)—немецкий богослов и
астроном; в «Истории астрономии» Леопарди пишет, что Фабриций
утверждал, «будточ собственными глазами видел лунных жителей».
6 Линкей — один из аргонавтов, обладавший таким острым
зрением, что видел сквозь землю.
7 ...открыл... отличнейшую крепость... — В примечании к этому
месту Леопарди ссылается на статью в «Гадзетта универсале», в
которой сообщалось, что некий профессор Грейтхойзен из Мюнхена
увидел на Луне в телескоп огромную крепость.
8 ...аркадцы появились на свет раньше, чем ты? — Жители
Аркадии — области 'В центре Пелопоннеса — считались «автохтонными»,
коренными обитателями своей страны и говорили о себе, что они
рождены раньше Дианы — луны.
9 ...современный естествоиспытатель? — В примечании к этому
месту Леопарди называет Антонио ди Уллоа (1716—1795),
испанского генерала и ученого-картографа, участника экспедиции
Французской Академии в Перу.
10 ...сделана из свежего сыра...— «'That the moon is made of
green cheese" («Луна сделана из свежего сыра»). Поговорка о тех,
кто утверждает невероятные вещи» (примеч. Леопарди).
11 ...я у тебя отнимаю солнечный свет, а у себя — твой.—
Имеются в виду лунные затмения.
446
КОММЕНТАРИИ
12 ...мне самой это отчасти видно.— Имеется в виду так
называемый «пепельный свет» — слабое свечение неосвещенной солнцем части
Луны, отражающей свет Земли.
13 ...пишет Ариосто...— «Неистовый Роланд», песнь XXXIV,
окт. 73—81.
ПРОМЕТЕЕВ СПОР
Написано в Реканати между 30 апреля и 8 мая 1824 г.
Впервые напечатано в издании Стеллы (1827). Общее содержание
диалога заимствовано из сочинения Лукиана «Гермотим».
1 Заоблачье.— Леопарди дает городу богов греческое имя «Гипер-
нефела», представляющее собой второе название диалога Лукиана
«Икароменипп» (традиционный русский перевод — «Заоблачный
полет») .
2 ...согласно Пифагору и Платону.— Соответствующее суждение
Пифагора приводит в «Жизнеописаниях философов» (I, 12) Диоген Лаэр-
ций. У Платона в «Федре» (278 D) говорится, что лишь богам пристало
именоваться мудрыми.
3 ...как пишет Гомер... — «Илиада», V, 743—744.
4 ...рассказывают о Тиберии... — В жизнеописании второго
римского императора Тиберия (годы жизни 42 г. до н. э.— 37 г. н. э.)
Светоний пишет: «Грома он боялся безмерно и, когда собирались
тучи, всякий раз надевал на голову лавровый венок, так как
считается, что этих листьев молния не поражает» (Тиберий, 69).
5 ...«Похвалу плеши», сочиненную Синезием... — Синезий (ок.
370—ок. 414)—христианский ритор, философ и поэт, среди его
сочинений дошло шуточное «Похвальное слово плеши».
6 ...подобно диктатору Цезарю... — Светоний пишет:
«Безобразившая его (Юлия Цезаря) лысина была ему несносна... поэтому он
с наибольшим удовольствием принял и воспользовался правом
постоянно носить лавровый венок» (Божественный Юлий, 45).
7 Мом — бог насмешки.
8 Страна Попайан — область в Колумбии.
9 Пасифая — царица Крита; родила от противоестественного союза
с быком чудовище Минотавра — человека с бычьей головой.
10 Гарпии — чудовищные птицы с девическими лицами. Леопарди
имеет в виду эпизод из III книги «Энеиды» Вергилия (217, 225—228):
Все оскверняют они изверженьями мерзкими чрева...
К ужасу нашему тут внезапно с гор налетают
Гарпии, воздух вокруг наполняя хлопаньем крыльев.
С гнусным воплем напав, расхищают чудовища яства,
Страшно смердя, оскверняют столы касаньем нечистым.
11 Агра — город в Индии.
12 Лукреция — жена римского патриция Коллатина, обесчещенная
царским сыном Секстом Тарквинием, покончила с собой.
447
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
13 Виргиния — молодая римлянка, которую убил ее отец, чтобы
не дать ее обесчестить.
14 Дочь Эрехтея, Ифигения, Кодр, Менекей — мифические герои,
добровольно принесшие себя в жертву богам, чтобы обеспечить победу
своей отчизне.
15 Курции и Деции — римские роды, имена которых стали у
древних авторов символами самоотверженной любви к родине.
16 Лльцеста (правильно — Алкестида)—жена царя Адмета,
добровольно согласившаяся умереть вместо мужа.
17 ...препоручил свою собаку.—«Это — подлинное событие» (примеч.
Леопарди).
РАЗГОВОР ФИЗИКА
И МЕТАФИЗИКА
Написано в Реканати 14—19 мая 1824 г. Впервые напечатано в
издании Стеллы (1827).
1 Калиостро (Джузеппе Бальзамо, 1743—1795)—знаменитый
авантюрист, объявлявший себя бессмертным.
2 Гипербореи.— В примечании к рассказу о гипербореях Леопарди
ссылается на Пиндара, Страбона, Плиния Старшего.
3 Биток и Клеобис.— Рассказ о них, сохраненный Геродотом (I,
31), впоследствии был неоднократно повторен многими авторами.
4 Агамед и Трофоний.— Рассказ о них в той версии, в которой его
передает Леопарди, дошел до нас в одном из фрагментов Пиндара, а
также у Плутарха.
6 один древний...— Плиний Старший («Естественная история», VI,
30; VII, 2).
6 Левенгук Антон (1632—1723)—голландский натуралист,
изобретатель микроскопа.
7 Мопертюи Пьер-Луи Моро (1698—1759)—знаменитый
французский математик. В примечании к этому месту Леопарди ссылается на
его «Философические письма», письмо 11.
8 Пиррон (365—275 до н. э.)—греческий философ, основатель
скептицизма. Полагал высшим "благом жизни «атараксию» —
невозмутимое спокойствие.
РАЗГОВОР ТОРКВАТО ТАССО
И ЕГО ДЕМОНА
Написано в Реканати между 1 и 10 июня 1824 г. Впервые
напечатано в журнале «Антолоджиа» в январе 1826 г. Торквато Тассо
(1544—1595)—великий итальянский поэт, более всего известный своей
поэмой «Освобожденный Иерусалим». Больной манией преследования,
Тассо был на семь лет (с 1579 по 1586 год) заточен в госпиталь
св. Анны в Ферраре. «У Торквато Тассо в пору его душевного недуга
появилось мнение, подобное знаменитому мнению Сократа, то есть
448
КОММЕНТАРИИ
ему казалось, что он время от времени видит доброго и
дружелюбного духа и подолгу с ним беседует о многих вещах. Так мы читаем
в жизнеописании Тассо, составленном Мансо, который сам
присутствовал при одном из таких диалогов или, если угодно, монологов»
(примеч. Леопарди). По свидетельству учеников Сократа, их учитель
называл своим демоном внутренний голос, удерживавший его от
неразумных и несправедливых поступков.
1 Леонора — Элеонора д'Эсте, сестра феррарского герцога Альфон-
со II, которую, по преданию, любил 'Тассо.
2 ...Пифагора за то, что он возбранял есть бобы... — Запрещение
есть бобы, приписываемое Пифагору, вызывало недоумение и
насмешку уже у античных авторов, например у Лукиана. Леопарди в своем
трактате «О народных заблуждениях у древних» приводит цитаты из
грамматика Аполлония Дискола, Плиния Старшего и Цицерона,
дающих этому запрету приведенное здесь объяснение.
РАЗГОВОР ПРИРОДЫ
С ИСЛАНДЦЕМ
Написано в Реканати между 21 и 30 мая 1824 г. Впервые
напечатано в издании Стеллы (1827).
1 ...что произошло с... Васко да Гама... — Леопарди пересказывает
эпизод из пятой песни поэмы великого португальского поэта Луиса
Камоэнса (ок. 1524—1580) «Лузиады».
2 ...герм... на острове Пасхи.— О знаменитых статуях острова
Пасхи Леопарди узнал из книги мореплавателя Лаперуза (1741—1788).
Гермами он называет их по аналогии с греческими гермами —
колоннами, увенчанными головой Гермеса.
3 Гекла — вулкан в Исландии.
4 ...один древний мудрец...— Сенека («Изыскания о природе», VI,
II: «Если вы хотите ничего не бояться, думайте о том, что бояться
следует всего»).
ПАРИНИ, ИЛИ О СЛАВЕ
Написано между 6 июля и 13 августа в Реканати. Впервые
напечатано в издании Стеллы (1827).
1 Джузеппе Парини (1729—1799)—итальянский поэт, критик и
публицист, долгие годы преподавал красноречие в учебных заведениях
Милана.
2 Витторио Альфьери (1749—1803)—знаменитый итальянский
драматург, автор трагедий, проникнутых духом ненависти к тирании и
способствовавших политическому пробуждению Италии.
3 Телесилла (VI в. до н. э.) —поэтесса из города Аргос-; по
рассказу Геродота, возглавила ополчение аргосских женщин и отбила
нападение спартанского царя Клеомена на оставшийся без мужчин
город. Сведения о ее статуе сохранились в «Описании Эллады» Павса-
449
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ния (II в. н. э.); Леопарди, судя по Дневнику, познакомился с ним
по «Путешествию юного Анахарсиса» Бартелеми.
4 «Придворный» — см. примеч. 11 к «Наградам, предложенным
Академией силлографов». Цитата заимствована из кн. I, гл. XI, XV.
5 Лукан (39—65)—римский поэт-эпик, автор поэмы «Фарсалия»
о гражданской войне между Цезарем и Помпеем.
6 ...писания одного государя... — Имеется в виду Фридрих II
Прусский (1712—1786) и его «Похвальное слово Вольтеру».
7 «Генриада»— эпическая поэма Вольтера (1723), героем которой
является будущий король Генрих IV.
8 ...одного французского философа... — Монтескье. Приведенная
цитата заимствована из его «Опыта о вкусе», глава «О
чувствительности». «Опыт о вкусе» оказал большое влияние на развитие
эстетических идей Леопарди, как это явствует и из Дневника (см. стр. 329 слл.
этого тома).
9 ...как говорит Гомер... — «Илиада», XIII, 636—637.
10 ...великими философами.— Ср. Дневник, 1650, 1733—1840 (стр.
377, 385 этого тома).
11 ...с тех самых пор, как возродилось просвещение... — с эпохи
Возрождения.
12 Босизио — деревня на севере Италии, родина Париии.
13 ...как поет Петрарка...— «Книга песен», сонет VII.
14 ...от лица другого человека... — В диалоге Цицерона «О
старости» (XXIII, 82), откуда взяты процитированные слова, их произносит
Катон Старший, выдающийся римский политический деятель II в.
до н. э.
15 Симонид (правильно — Семонид Аморгский, VII в. до н. э.) —
греческий поэт-ямбограф, автор поучительных и сатирических
стихотворений, одно из которых переведено Леопарди и включено в
основное собрание его стихов «Песни». Фрагмент из этого перевода и
цитируется здесь. Приводим тот же фрагмент в переводе с оригинала:
Но легковерная надежда всех живит,
Напрасно преданных несбыточной мечте.
Один считает дни: «Вот, вот...», другой — года.
«Едва минует год,— мнит каждый,— и ко мне
Богатства притекут и прочие дары».
(Пер. Я. Голосовкера)
16 Плутос — бог богатства у древних греков
17 ...по словам Цицерона... — «О государстве», VI, XXI— XXII
(«Сон Сципиона»): «Какое имеет значение, если имеющие родиться
будут о тебе говорить, между тем как родившиеся прежде тебя о
тебе ничего не сказали? А ведь их не меньше, и были они, конечно,
лучшими мужами».
450
КОММЕНТАРИИ
РАЗГОВОР ФРЕДЕРИКА РЕЙША
И ЕГО МУМИЙ
Написано в Реканати 16—23 августа 1824 г. Впервые напечатано
в издании Стеллы (1827). Замысел очерка внушен словами Сенеки в
«Письмах к Луцилию» (XXX, 9): «Больше веры у тебя заслужил бы
тот, кто ожил и, зная на опыте, сказал бы, что в смерти нет
никакого зла».
1 Фредерик Рейт (1638—1731)—голландский естествоиспытатель
и анатом. Мумиями Леопарди называет то, «что на языке науки
именовалось бы анатомическими препаратами», как пишет сам поэт в
примечании.
2 ...после царского посещения... — «Кабинет Рейша дважды
посетил царь Петр Первый, который затем купил его и препроводил в
Петербург» (примеч. Леопарди). Петр посетил Рейша в 1698 и в 1717г.
Анатомические препараты Рейша до наших дней находятся в
экспозиции Летнего дворца.
3 ...ту искусственную, которую влил вам в жилы.— «Способ,
употреблявшийся Рейшем для сохранения трупов, состоял во
впрыскивании им некоего вещества, производившего чудесное действие» (примеч.
Леопарди).
4 ...математический Великий год... — По представлению
пифагорейцев, платоников и некоторых других школ древности, Великий год —
срок в десять тысяч лет, в течение которого все светила возвращались
к некоему исходному положению по отношению друг к другу.
5 ...один итальянский поэт.— Цитата взята из поэмы тосканского
поэта Франческо Берни (ок. 1497—1535) «Влюбленный Роланд»,
песнь 53, строфа 69.
6 ...суждению эпикурейцев о природе души... — Диалог Леопарди
по теме и аргументации близко смыкается с I книгой «Тускуланских
бесед» Цицерона. В ней римский философ, излагая мнения разных
школ о природе души, говорит об эпикурейцах (IX, 18): «Есть и
такие, кто утверждает, что душа вовсе не отделяется от тела, а гибнет
заодно с ним или угасает в теле».
7 ...что говорил Цицерон... — «О старости», VII, 24.
ДОСТОПАМЯТНЫЕ РЕЧИ
ФИЛИППО ОТТОНЬЕРИ
Написано 29 августа —26 сентября 1824 г. в Реканати. Впервые
напечатано в издании Стеллы (1827). Герой произведения — лицо
вымышленное; многие его речи — дословно переданные записи из
Дневника. По жанру «Достопамятные речи» примыкают к «Жизнеописанию
Демонакта» Лукиана и к некоторым образцам ренессансной
новеллистики.
1 ...заниматься... общественными делами... — Это утверждение
Леопарди ошибочно. Сократ в Афинах избирался пританом (членом
коллегии лиц, попеременно председательствовавших в Совете и в народ-
451
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
ном собрании) и в этой должности мужественно противился
несправедливому приговору афинского суда по делу командиров кораблей,
победивших спартанский флот при Аргенусских островах.
2 ...народа, у которого даже в языке красивое и доброе почти
не различаются... — Леопарди имеет в виду нравственный идеал
древних греков, означавшийся словом «xaXoxdja&c<; (от mkbq —
красивый и атайос; — добрый). В дневнике Леопарди отмечает, что в
этом слове проявляется «характер того благородного и прекрасного
народа, который всякого честного и порядочного человека (даже если
он и не был красив, потому что и это прилагательное и образованное
от него отвлеченное имя <цхаХош^аЫа» употреблялись для обозначения
совершенной честности и неиспорченности, в ком бы ни обнаруживались
эти свойства) называл красивым и добрым, настолько ценя красоту,
что не желал отделять похвалу добродетели от похвалы красоте...»
(64—65).
3 ...изречению Цицерона... — «Тускуланские беседы», V, IV, 10:
«Сократ первым призвал философию с неба в города и даже ввел ее
в дома, заставив исследовать жизнь и нравы, хорошие и дурные
поступки».
4 ...в книгах учеников Сократа... — Имеются в виду диалоги
Платона и сочинения Ксенофонта (ок. 430—355 гг. до н. э.)
«Воспоминания о Сократе», «Апология», «Пир».
5 На вопрос Горация... — Сатиры, I, I, 1—3:
Что за причина тому, Меценат, что, какую бы долю
Нам ни послала судьба и какую б ни выбрали сами,
Редкий доволен, и всякий завидует доле другого?
(Пер. М. Дмитриева)
6 ...место у Ксенофонта... — «Домострой», 20, 23: «Обработанная
[земля],— говорил он,— и стоит дорого, и улучшать ее нельзя; а если
нельзя ее улучшать, она и не доставляет столько удовольствия;
напротив, каждая вещь и скотина, которая идет к улучшению, очень
радует хозяина».
7 ...читаем в «Илиаде»... — XXIV, 468—676. Это место в «Илиаде»
Леопарди, по собственному признанию, любил больше всего.
8 Донат Элий (IV в. н. э.) —латинский грамматик; его
жизнеописание Вергилия написано на основе не дошедшего до нас
жизнеописания, составленного Светонием. Мелисс, вольноотпущенник Мецената
(69—8 г. до н. э.), сподвижника Августа и проводника его
литературной политики, друга Горация и Вергилия, не был грамматиком; ему
принадлежали комедии и, вероятно, записи анекдотов.
9 ...читаем в конце второй книги «Георгик».—
Пусть же мне будут милы ручьи в долинах и нивы,
Пусть, возлюбив лишь леса и реки, я славы не знаю! ^
(И, 485—486)
10 Диоген Лаэртский (Лаэрций) — компилятор III в. н. э.,
составитель знаменитого сборника «Жизнеописаний философов».
452
КОММЕНТАРИИ
11 Хилон (VI в. до н. э.)—спартанец, один из легендарных семи
мудрецов Греции. Рассказ о нем у Диогена Лаэртского— I, 69.
12 ...в названных жизнеописаниях... — II, 31.
13 Гегесий из Кирены (IV в. до н. э.) —греческий философ,
проповедовавший равнодушие к жизни. Рассказ о нем у Диогена
Лаэртского — II, 95.
14 ...Платон... учредит... свое государство.— Во главе утопического
государства Платона должны были стоять философы.
15 Бион Борисфенит (IV в. до н. э.) — греческий писатель и
моралист, по убеждениям близкий к киникам. Его диатрибы (полемические
сочинения) славились в древности за их остроумие. Рассказ о нем у
Диогена Лаэртского— IV, 48.
16 ...отрывок из Плутарха...— из сочинения «Политические
наставления».
17 ...слова Тассо...— «-Освобожденный Иерусалим», песнь I,
строфа 3.
18 ...в «Парадоксах» Цицерона... — в сочинении «Парадоксы
стоиков», I, III, 15.
19 Арриан Флавий (ок. 95—175)—греческий писатель и историк;
основное из его дошедших до нас исторических сочинений — «Поход
Александра». В битве при Иссе в Киликии (Малая Азия) Александр
наголову разбил персидского царя Дария. Леопарди хочет сказать
следующее: самодержец персов больше полагается на наемников, чем на
отечественное войско, что свидетельствует о слабости этого войска;
Александр же больше полагается на своих македонцев.
Действительно, из всех отрядов Дария греческие наемники сражались с
наибольшим упорством и отвагой.
20 ...речь Демосфена «О венке»...— самое выдающееся произведение
великого афинского оратора (384—322 г. до н. э.). В ней он
защищает оратора Ктесифонта, подвергшегося обвинению, и оправдывает
всю свою политическую деятельность, основной целью которой была
борьба за свободу Афин, против Македонии.
21 «В защиту Милона» — одна из лучших речей Цицерона,
произнесенная по делу об убийстве политического авантюриста Клодия,
врага Цицерона, другом оратора Милоном.
22 Боссюэ Жак-Бенинь (1627—1704)— французский богослов и
проповедник. Леопарди имеет в виду его надгробное слово полководцу
Луи де Конде (1621—1686).
23 «Мисопогон» («Брадоненавистник»)—памфлет императора
Юлиана Отступника (331—363) против жителей Антиохии, издевавшихся
над ним за то, что он на манер философов носил бороду. «Цезари»
(точнее, «Пир, или Сатурналии») — сатира на римских императоров,
начиная с Юлия Цезаря,— написана в подражание «Совету богов»
Лукиана.
453
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
24 Лоренцино деи Медичи (1514—1547)—один из представителей
знаменитой семьи правителей Флоренции. Подослал убийцу к своему
двоюродному брату Алессандро, тиранически правившему во
Флоренции, и после убийства вынужден был бежать в Венецию, где и
написал в свою защиту «Апологию».
25 ...говорят, что правосудие хромает... — Имеются в виду строки
Горация:
А кто воистину преступен,
Тех не упустит хромая Кара.
(Оды, III, 2. Пер. А. С еменова-Т ян-Шанского)
26 Триклиний — столовая в римском доме.
РАЗГОВОР ХРИСТОФОРА КОЛУМБА
И ПЕДРО ГУТЬЕРЕСА
Написано в Реканати 19—26 октября ' 1824 г. Впервые напечатано
в журнале «Антолоджиа» в январе 1826 г.
1 Педро Гутьерес (ум. 1493)—постельничий короля Фердинанда,
добровольно отправившийся с Колумбом в первое плавание и
погибший в числе его спутников, оставленных на острове Эспаньола.
2 Гомера — один из Канарских островов.
3 Ганнон (V в. до н. э.) — карфагенский мореплаватель; до нас
дошло в греческом переводе его сочинение о плавании вдоль
западного берега Африки.
4 Санта-Маура (в древности Левкада) — остров в Адриатическом
море близ западного берега Греции, известный своим мысом с белыми
скалами. Предание, которое излагает Леопарди, восходит к Овидию
(«Героиды», 15, 165—172).
ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ПТИЦАМ
Написано с 29 октября по 5 ноября 1824 года в Реканати.
Впервые напечатано в издании Стеллы (1827). В произведении явно
ощущается влияние «Похвалы мухе» Лукиана и других античных
шуточных «похвальных слов».
1 Амелий — имя, означающее по-гречески «беззаботный».
2 ...согласно Ксенофонту.— «О псовой охоте», 5.
3 ...как говорит Вергилий.— «Буколики», эклога IV, 60—63:
Мальчик, мать узнавать начни и встречать ее смехом...
Мальчик, начни: ведь того, кто не слышал родителей
смеха,
Не удостоит ни трапезы бог, ни ложа богиня.
454
КОММЕНТАРИИ
ПЕСНЬ ДИКОГО ПЕТЕЛА
Написано в Реканати с 10 по 16 ноября 1824 г. Впервые
напечатано в издании Стеллы (1827).
1 Таргум — общее название халдейских и арамейских переводов
Ветхого завета, в большинстве своем вольных.
2 Каббала — средневековое мистическое учение евреев; основной
памятник каббалистики — книга «Цохар» («Сияние»).
3 ...подобно неутомимому исполину...— Псалом XVIII, 6: Солнце
«радуется, как исполин, пробежать поприще».
АПОКРИФИЧЕСКИЙ ФРАГМЕНТ
ИЗ СТРАТОНА ЛАМПСАКСКОГО
Написано в 1825 г., очевидно осенью, в Болонье. Впервые
напечатано в посмертном флорентийском издании Лемонье (1845). Стратон
из Лампсака — лицо историческое, сведения, сообщаемые о нем Леопар-
ди, точны. Леопарди- приписал свое рассуждение именно этому
философу потому, что тот прославился своим опровержением учения о
бессмертии, изложенного в «Федоне» Платона.
1 ...естествоиспытатели не могут прийти к согласию.— «Христиан
Гюйгенс, уроженец Гааги в Голландии, 14 апреля года 1629 принялся
наблюдать планету Сатурн и открыл вокруг него плоское тело в
форме кольца... Мнения ученых относительно происхождения этого
кольца различны. Мопертюи предполагает, что оно образовалось из хвоста
кометы... Бюффон — что оно некогда представляло собой часть
планеты, отделившуюся по причине чрезмерной центробежной силы; Косси-
ни (итальянский астроном, работавший в Париже; 1625—1712.— С. О.)
высказал догадку, что кольцо Сатурна есть скопище спутников,
расположенных очень близко друг к другу примерно в одной плоскости
и столь мелких, что нет возможности разглядеть каждый в
отдельности» (Леопарди. История астрономии).
2 ...греческие... философы...— стоики, учившие, что мир погибнет в
пламени.
РАЗГОВОР ТИМАНДРА
И ЭЛЕАНДРА
Написано в Реканати 14—24 июня 1824 г. Впервые напечатано в
журнале «Антолоджиа» в январе 1826 г. Как видно из письма
Леопарди к издателю Стелле от 16 июня 1826 г., диалог этот должен
был служить введением ко всему сборнику «Нравственных очерков»,
однако позже автор отказался от этой мысли и в издании Стеллы,
поместил диалог последним, так как считал его «апологией
произведения от современных философов». Имена Тимандр, Элеандр по-
гречески значат «почитающий людей» и «сострадающий людям».
1 ...ответила Сократу одна женщина.— Платон. «Пир», 202 с.
455
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
2 Тимон — легендарный афинянин, чье имя стало уже в
древности нарицательным для мизантропа. Впервые упоминается у
Аристофана, наиболее широкую известность его имя приобрело благодаря
одноименному произведению Лукиана, а в новое время — драме
Шекспира.
КОПЕРНИК
(Диалог)
Написано в 1827 г. Впервые напечатано в посмертном издании
Лемонье (1845).
1 ...воздух, который может гореть... — светильный газ.
2 Альмагест — основное произведение великого астронома и
математика древности Клавдия Птоломея (138—180), дошедшее до нас в
арабском переводе и под арабским названием.
3 Сакробоско (Джон Холивуд, XIII в.)—английский астроном,
живший в Испании; его произведение «Сфера мира» пользовалось
большим авторитетом в средние века.
4 ...ночи, которую Юпитер провел с женой Амфитриона... — Ночь,
которую Юпитер провел с Алкменой, женой Амфитриона, и в которую
зачал с нею Геркулеса, бог продлил, запретив солнцу всходить. См.
Плавт «Амфитрион».
5 Роланд — герой поэм Пульчи «Влюбленный Роланд» и Ариосто
«Неистовый Роланд».
6 Вармия — приморская область в Польше, незадолго до эпохи
Коперника отвоеванная поляками у Немецкого ордена.
7 ...древнем математике... — Архимеде.
8 Дигесты — одна из частей «Корпуса Гражданского права»
Юстиниана.
9 ...в отличие от Цицерона... — намек на слова Цицерона из речи
в защиту Публия Сестия: «Ведь людям не подобает... ценить высоко
какой бы то ни было покой, если он несовместим с достоинством»
(XLV, 98).
10 ...я был прорицателем.— намек на оракул Аполлона в Дельфах.
11 ...посвяти папе.— Коперник действительно посвятил свой труд
«Об обращениях небесных сфер» папе Павлу III.
РАЗГОВОР ПЛОТИНА
И ПОРФИРИЯ
Написано в 1827 г. Впервые напечатано в посмертном издании '
Лемонье (1845).
1 Порфирий (233—304) — виднейший представитель
неоплатонизма, ученик и друг Плотина. Один из первых критиков христианства.
456
КОММЕНТАРИИ
Его «Жизнеописание Плотина» дошло до нас; цитата, приводимая
Леопарди,— подлинная.
2 Плотин (204—270) — греческий философ, преподававший в
Риме, крупнейший представитель неоплатонизма.
3 Евнапий (IV в. н. э.) — философ-неоплатоник, автор
«Жизнеописаний софистов», среди которых сохранилась биография Порфирия.
4 ...суждение Платона...— «Сокровенное учение гласит, что мы,
люди, находимся как бы под стражей и что не следует ни избавляться
от нее своими силами, ни бежать,— величественное, на мой взгляд,
учение и очень глубокое» («Федон», 62 В). Без сомнения, следующий
далее страстный спор Порфирия с Платоном есть спор самого
Леопарди с христианской церковью, запрещающей самоубийство. В
Дневнике (3497—3510) Леопарди прямо полемизирует с христианским
учением о загробной жизни, говоря, что счастье, которого жаждет
человек, есть счастье земное и материальное и поэтому «сулить
человеку, сулить несчастному небесное блаженство, пусть даже
совершенное и бесконечное, неизмеримо превосходящее всякое земное
счастье, все мелкие блага, каких он желает,— это все равно что
умирающему от голода, который не может получить куска хлеба,
приготовить самое мягкое ложе или обещать ему изысканнейшие и
приятнейшие ароматы». По мнению Леопарди, христианство больше
действует на душу смертных страхом ада, где ее каким-то непонятным
образом ожидают материальные муки.
5 ...древним Гомером... — «Илиада», XVII, 446—447:
Ибо из тварей, которые дышат и ползают в прахе,
Истинно в целой вселенной несчастнее нет человека.
(Пер. Н. Гнедича)
6 ...люди просвещенные... — «Мнения девятнадцатого века
относительно естественного состояния и цивилизации намного отличаются
от мнений Порфирия. Но в том, что касается доводов Порфирия в
пользу добровольной смерти, это различие если и может повести к
спору, то только в словах. Если мы назовем улучшением, или
совершенствованием, или прогрессом то, что Порфирий называет порчей,
и улучшенной и усовершенствованной природой — то, что он называет
второй природой, то сила его аргументов не убавится и на малую
долю» (примеч. Леопарди).
7 Гегесий — см. примеч. 13 к «Достопамятным речам Филиппо От-
тоньери». В примечании Леопарди ссылается на следующие слова
Цицерона: «Смерть уводит нас от бед, а не от благ, если мы
разберемся как следует. Об этом-то и рассуждал киренаик Гегесий, и так
красноречиво, что говорят, будто царь Птолемей запретил ему
рассуждать об этом публично, ибо многие, выслушав его речи, налагали
на себя руки» («Тускуланские беседы», I, XXXIV, 83).
8 Митридат (132—63 гг. до н. э.) — царь Понта, злейший враг
Рима, трижды воевавший с ним. Разбитый в войне, под угрозой
римского плена, пытался отравиться, но не смог, так как приучил себя
к ядам, и приказал своему слуге заколоть себя.
457
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
9 Клеопатра покончила с собой после самоубийства Антония,
разбитого Августом в битве при Акции.
10 Отон Сальвий -(32—69) — римский император, правивший три
месяца и покончивший с собой, после того как был побежден другим
претендентом на престол.
РАЗГОВОР ТОРГОВЦА КАЛЕНДАРЯМИ
И ПРОХОЖЕГО
Написано в 1832 г. Впервые напечатано во флорентийском издании
Пьятти (1834).
РАЗГОВОР ТРИСТАНА
И ЕГО ДРУГА
Написано в 1832 г. Впервые напечатано в издании Пьятти (1834).
1 Тристан.— В рукописи этот персонаж диалога был прямо назван
«Автор». Затем Леопарди заменил имя, выбрав имя Тристан по
созвучию со словом «triste» — «грустный».
2 ...как говорит Петрарка... — слова из канцоны «Я удалялся от
потока жизни//Моей не раз» («Книга песен», CCCXXXI):
Сложив оружье, поднимаю руки
И в плен сдаюсь моей судьбе жестокой.
3 Один из них говорит...— Гомер в стихах, упомянутых в
«Разговоре Плотина и Порфирия».
4 ...другой говорит...— Софокл, «Эдип в Колоне», 1279 слл.:
Не родиться совсем — удел
Лучший. Если ж родился ты,
В край, откуда явился, вновь
Возвратиться скорее.
(Пер. С. Шервинского)
5 ...третий... — Менандр в изречении, сохраненном византийским
компилятором Стобеем и использованном Леопарди в качестве
эпиграфа к стихотворению «Любовь и смерть».
6 ...оставшиеся шестьдесят шесть лет... — В рукописи, написанной
в 1832 г., стояло ^«шестьдесят восемь», в издании 1834 года эта цифра
исправлена на «шестьдесят шесть».
РАССУЖДЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦА О
РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
Написано в 1818 году. «Замечания» кавалера ди Бреме появились *
в «Спеттаторе итальяно» от 1 и 15 января 1818 г. 27 марта Леопарди
сообщает издателю «Спеттаторе» Стелле об отправке ему первой
половины ответа' на «Замечания» ди Бреме. Вторая половина
рассуждения была завершена Леопарди до 31 августа того же года. Однако
458
КОММЕНТАРИИ
произведение так и не было опубликовано и увидело свет только в
1906 г. На русский язык переводится впервые. В основу перевода
положен текст издания Мурсиа.
1 ...распевая... стихи Гомера... — Леопарди имеет в виду так
называемых «рапсодов» — профессиональных исполнителей эпических
песен, непричастных, однако, к их созданию, в отличие от более ранних
аэдов.
2 ...Греция, собравшись в Олимпии... слушала повествования
Геродота.— Факт чтения Геродотом своей «Истории» во время
Олимпийских игр известен из сочинения Лукиана «Геродот, или Аэтион», на
которое ссылается Леопарди в примечании к этому месту.
3 ...аллегорическим существам Вольтера...— олицетворениям
Справедливости и т. д., введенным Вольтером в «Генриаду».
4 Бюргер Готфрид Август (1747—1794) —немецкий поэт, создатель
современной баллады; самая знаменитая из его баллад — «Ленора»,
которую и имеет в виду Леопарди.
5 Саути Роберт (1774—1843)—английский поэт-романтик,
принадлежавший к «озерной школе».
6 ...аду Вергилия... — Царство мертвых изображено Вергилием в
кн. VI «Энеиды».
7 ..лиз самого блестящего алмаза»... — Тассо, «Освобожденный
Иерусалим», песнь VII, строфа 82.
8 ...Аполлону с «мохнатой» и «бахромистой» эгидой...— Гомер,
«Илиада», XV, 229, 308—309. Эгида — панцирь или щит из козьей шкуры,
атрибут некоторых из гомеровских богов.
9 Каллимах (ок. 320—240 гг. до н. э.) — александрийский поэт и
ученый, от которого до нас дошли «Гимны» — изощренная стилизация
Гомеровых гимнов — и утонченно-остроумные эпиграммы.
10 ...невероятные причуды семнадцатого века... — Леопарди имеет
в виду явления литературного барокко в Италии — «кончеттизм»,
«маринизм»; поэтический язык этого течения был перегружен метафорами
и сложными перифразами, ни один предмет не назывался прямо, что
приводило к крайней усложненности поэтического текста.
11 Акиллини Клаудио (1574—1640)—поэт, один из представителей
барокко. Леопарди приводит начальный стих его сонета «Хвала
великому Людовику Французскому, каковой после славного завоевания Ла
Рошели прибыл в Сузу и освободил Казале». Стих этот не раз
цитировался как образец нелепостей «маринизма».
12 Менцини Бенедетто (1646—1704)—флорентийский поэт,
наиболее известны его тринадцать сатир, одну из которых — четвертую —
и цитирует Леопарди.
13 Гравина Джан Винченцо (1664—1718)— итальянский литератор,
один из основателей Аркадской академии, ставившей своей целью
борьбу с барочными вкусами.
14 Маффеи Шипионе (1675—1755)—итальянский писатель и
ученый, автор «Меропы» — одной из первых итальянских трагедий в духе
классицизма.
459
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
15 Марини Джамбаттиста (1569—1625)—итальянский поэт,
наиболее крупный представитель барокко. От его имени течение и получило
название «маринизма».
16 Кьябрера Габриэле (1552—1638)—итальянский поэт, автор'
анакреотических стихотворений и од в духе Пиндара,
противопоставивший маринизму идеал «подражания древним».
17 Филикая Винченцо (1642—1707)—итальянский поэт, близкий
к Аркадии.
18 ...женщину из Авиньона... — Лауру, возлюбленную Петрарки.
19 ...убийцы над телом турчанки...— намек на поэму Байрона
«Гяур», по поводу которой и были написаны «Замечания» ди Бреме.
20 ...ни на сибарита, ни на скифа... — то есть не чересчур
цивилизованной и изнеженной, как жители древнеиталийского города Сиба-
риса, чье имя стало нарицательным, и не дикой, как варвары-скифы.
21 ...говорит Гомер... — «Илиада», XIII, 636—637 (пер. Н. Гнедича).
22 Триссино Джанджорджо (1478—1550)—итальянский поэт, автор
трагедии «Софонисба», написанной в подражание греческим трагикам.
23 Аламанни Луиджи (1495—1556)—флорентийский поэт, наиболее
известный своей поэмой о земледелии, написанной в подражание
Вергилию. «Авархида»—эпическая поэма, которую знаменитый историк
итальянской литературы Ф. Де Санктис характеризует как «чисто
подражательную и лишенную какого бы то ни было значения».
24 Ручеллаи Джованни (1475—1525)—флорентийский поэт, автор
трагедий «Розмунда» и «Орест».
25 Сперони Спероне (1500—1588) -- итальянский философ и поэт,
автор трагедии «Канака».
26 Джиральди Джамбаттиста (1504—1573)—итальянский
новеллист и драматург, автор трагедии «Орбекке».
27 Монти Винченцо (1754—1828) — итальянский поэт классицист-
ского направления, более всего прославившийся своим переводом
«Илиады». Более искреннее мнение Леопарди о нем — в Дневнике, 731
(см. с. 346 этого тома).
28 ...Шлегеля, Лессинга, мадам де Сталь...— Большинство
исследователей Леопарди считает, -что он не был знаком с немецкой
классической философией и эстетикой. Например, оба упоминания об Августе
Шлегеле в Дневнике имеют косвенный характер: один раз его имя
приводится в выписке из Бенжамена Констана, другой раз приводится
мнение мадам де Сталь о его переводах. Ни Гегель, ни Шеллинг в
Дневнике не упомянуты ни разу. Упоминание о Лессинге, также, судя
по Дневнику, незнакомом Леопарди, в данном контексте вполне
подтверждает это мнение. Сведения о немецкой литературе своего
времени Леопарди черпал прежде всего из книги «Германия» Анны-Луизы-
Жермены де Сталь (1766—1816), чьи произведения оказали на
Леопарди чрезвычайно большое влияние (см. Дневник; 1742 — стр. 380
этого тома).
29 Аристотель, Гораций, Квинтилиан названы здесь как авторы
поэтик и риторик. Квинтилиан Марк Фабий (ок. 35—95) —римский ритор,
автор сочинения «Воспитание оратора».
460
КОММЕНТАРИИ
30 Гомерово сравнение...— «Илиада, VIII, 555—559.
31 ...строки Вергилия...— «Энеида», VII, 8—16.
32 ...в том месте, где Пенелопа... — «Одиссея», I, 325—344.
33 ...в том, где Одиссей...— «Одиссея», VIII, 62—103.
34 ...о свидании Гектора с женою...— «Илиада», VI, 390—502.
35 ...о плаче Андромахи, Гекубы и Елены...— «Илиада», XXIV,
723—775.
36 ...разговоре Приама с Ахиллом... — «Илиада», XXIV, 468—676.
37 Мосх (II в. до н. э.) —греческий буколический поэт. Его
стихотворения Леопарди перевел в 1815 г. и в следующем году напечатал
их в «Спеттаторе». Далее Леопарди цитирует приписывавшееся Мосху
стихотворение «Плач о Бионе» в собственном переводе. Приводим те
же строки в переводе с греческого:
Горе, увы! Если мальвы в саду, отцветая, погибнут,
Иль сельдерея листва, иль аниса цветы завитые,
Снова они оживут и на будущий год разрастутся;
Мы ж, кто велики и сильны, мы, мудрые разумом люди,
Раз лишь один умираем, и вот — под землею глубоко,
Слух потеряв, засыпаем мы сном беспробудным, бесцельным.
Так же и ты под землею лежишь, облеченный молчаньем;
Нимфам же было угодно, чтоб квакали вечно лягушки;
Им не завидую я: ведь поют некрасивую песню.
(105—113. Пер. М. Грабарь-Пассек)
38 ...рассказ об Орфее...— «Георгики», IV, 511—515.
39 ...Вергилий был поэтом только в четвертой книге «Энеиды» да
в эпизоде о Нисе и Э в риале...— Кн. IV «Энеиды» посвящена любви
Дидоны к Энею и ее трагической гибели от своей руки. Нису и Эв-
риалу, юным друзьям, отправившимся из осажденного троянского
лагеря вестниками к Энею и погибшим по пути, посвящены ст. 176—472
кн. IX. В дневнике Леопарди называет этот эпизод «чувствительной
историйкой».
40 «П урана», «Рамаяна», «Мегадута» — памятники эпоса древней
Индии.
41 ...одно стихотворение Байрона... — Имеется в виду приведенный
далее отрывок из «Гяура».
42 Ксенофан Колофонский (VI в. до н. э.) — греческий философ
и поэт, основатель элейской школы. Ему принадлежала не дошедшая
до нас философская поэма «О природе», фрагмент из которой
цитирует Леопарди. Тот же фрагмент в переводе с греческого:
Если быки, или львы, или кони имели бы руки,
Или руками могли рисовать и ваять, как люди,
Боги тогда б у коней с конями схожими были,
А у быков непременно быков бы имели обличье;
Словом, тогда походили бы боги на тех, кто их создал.
(Пер. Ф. Петровского)
461
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
43 ...строки эти... — Приводим те же стихи в переводе с
английского:
...И на скалах и меж ветвей —
В нее влюбленный соловей,
И, нежной радости полна,
Под песнь его цветет она.
Царица гордая садов,
Вдали от ветра и снегов,
Не зная хлада наших зим,
Венцом красуется своим,
Спокойно к небу шлет назад
От неба взятый аромат...
(Пер. Л. Студитского)
44 ...шут у Федра.— Намек на басню V, 5 римского баснописца
Федра (I в. н. э.), где рассказывается о шуте, подражавшем визгу
поросенка, и о мужике, освистанном зрителями, несмотря на то, что
визжал спрятанный у него под плащом поросенок.
45 Какова Антонио (1757—1821)—итальянский скульптор,
крупнейший представитель классицизма.
46 ...подражающую топоту копыт... — в противопоставление
неискусному звукоподражанию романтиков Леопарди подразумевает здесь
хрестоматийную строку из «Энеиды» (VIII, 596), где аллитерация пе-'
редает стук копыт:
Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum.
(Глухо копыта коней колотят по рыхлому полю.)
47 ...похитил у нас творения наших художников... —
Многочисленные художественные сокровища были вывезены Наполеоном из
Италии и сосредоточены в Лувре. После Ватерлоо они были возвращены
Италии по требованию папы, от имени которого в Париж отправился
для этой цели сам Канова.
ДНЕВНИК РАЗМЫШЛЕНИЙ
Свой Дневник Леопарди начал вести летом 1817 г. и прекратил
в декабре 1832 г. Наибольшее число записей относится к 1821—
1823 гг. — периоду, когда окончательно складывалось мировоззрение
Леопарди. Затем все больше места начинают занимать всякого рода
выписки и записи справочного характера. Дневник занимает несколько
десятков тетрадей разного формата общим объемом 4526 страниц.
Рукопись Дневника хранится в национальной библиотеке Неаполя.
Название «Дневник размышлений» принадлежит самому Леопарди,
который в 1827 г. во Флоренции составил указатель к своим записям
и назвал его «Указателем к моему Дневнику размышлений».
После смерти Леопарди рукопись Дневника находилась вместе
с другими бумагами Леопарди у Антонио Раньери вплоть до смерти
последнего в 1888 г. По его завещанию рукопись должна была
перейти в Неаполитанскую национальную библиотеку, однако права
собственности на нее оставались в руках наследниц Раньери. Это
распоряжение- было опротестовано племянником .Леопарди, и процесс
тянулся вплоть до 1897 г., пока в дело не вмешалось государство и
462
КОММЕНТАРИИ
не оставило все права на рукописное наследство Леопарди за собой.
В связи с приближавшимся столетием со дня рождения поэта была
назначена комиссия для изучения и публикации его рукописей; ее
возглавил выдающийся поэт и филолог Джозуэ Кардуччи.
Она и предприняла первое издание Дневника — под названием
«Мысли по различным вопросам философии и изящной литературы».
Это семитомное издание вышло в 1898—1900 годах в издательстве
«Наследники Лемонье» во Флоренции.
В основу настоящего перевода положено издание: Tutte 1е ореге
di Giacomo Leopardi. Zibaldone di pensieri. Vol. I—II. Mondadori ed.
(изд. 5-e, 1957), в котором текст Дневника напечатан по рукописи.
На русский язык записи из Дневника переводятся впервые. Цифры в
квадратных скобках, стоящие перед записями, указывают страницы
авторской рукописи. Даты записей сохранены везде, где они
проставлены Леопарди. Знаком <...> обозначены отсылки Леопарди к
другим записям, пропускавшиеся нами в том случае, если
соответствующая запись не вошла в перевод, или некоторые выпущенные нами
библиографические ссылки Леопарди.
1 ...Ларина в «Рассуждении о поэзии».— «Наша душа, которая
любит пребывать всегда в действии и в движении, более всего
ужасается скуки; и потому происходит, что она охотно отдается всякому
предмету, который без ущерба для нее может привести ее в волнение,
и в тех случаях, ежели ей не приходится опасаться за себя, она
получает удовольствие и от веселых и от грустных зрелищ» («II
рассуждение о поэзии»).
2 ...сила действия всего удивительного... — Удивление играет очень
большую роль в эстетической системе Леопарди. Оно есть величайший
источник удовольствия, а удовольствие или счастье, как считает
Леопарди, есть цель и смысл человеческой жизни. «Удивительное,
необычайное приятно, хотя его особое свойство не принадлежит ни к одному
из разрядов приятных вещей. Душа всегда испытывает удовольствие,
когда она полна (только бы не болью), и всякое живое и полное
отвлечение есть для нее само по себе удовольствие, подобно тому как
отдых от труда есть для нас удовольствие; дело в том, что такое
отвлечение — это отдых от желания. Как приятно оцепенение,
вызываемое опием (еще и потому, что оно дает забвение подлинных бед),
так же приятно и оцепенение, вызванное удивлением, новизной,
необычайностью». (Дневник, 173).
3 «Бека» — шутливая идиллия Луиджи Нульчи (1432—1484),
«Ненча из Барберино» — такая же идиллия Лоренцо Медичи
Великолепного (1449—1492). Обе представляют собой песни влюбленных
крестьянских парней о своих красотках. Де Санктис пишет: «В «Беке»
Пульчи чувствуется вонь деревни; карикатура отвратительна,
вульгарна и непристойна. В «Ненче» присутствует комическая идеальность:
карикатура нарисована изящно и весело».
4 Бэкон Беруламский говорит...— Леопарди цитирует слова Бэкона
по трактату Гравины «О трагедии», гл. 40.
5 Берни — см. примеч. 6 к «Разговору Фредерика Рейша и его
мумий».
6 Филемон (ок. 361—263 до н. э.)—афинский комедиограф,
463
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
представитель «новой аттической комедии» — бытовой комедии со
стандартными сюжетами и постоянными персонажами. Комедии
Филемона до нас не дошли.
7 ...Гораций... плохо отзывался о шутках Плавта... —
Если же ваши отцы хвалили и ритмы и шутки
Даже у Плавта — ну что ж, таково в них было терпенье,
Можно даже сказать — их глупость, если мы сами
В силах умом отличить от изящного грубое слово...
(«Наука поэзии», 270—273. Пер. М. Гаспарова)
8 «Пою благочестивые мечи» — первая строка «Освобожденного
Иерусалима» Тассо. ^
9 ...говорит Монтескье... — «Если бы наше зрение было более
слабым и смутным, то не было бы нужды в обилии лепных украшений
и в таком разнообразии архитектурных деталей; если бы наше зрение
было более отчетливым, а душа способна обнять за один раз
большее число предметов, в архитектуре потребовалось бы больше
украшений; если бы паши уши были устроены так же, как у некоторых
животных, пришлось бы переделать многие из наших музыкальных
инструментов. Я знаю, что отношения вещей между собой остались
бы прежними; но, коль скоро изменятся отношения вещей к нам, те
из них, которые в нынешнем состоянии производят на нас известное
действие, не производили бы его; а так как совершенство искусства
состоит в том, чтобы изображать вещи такими, какими они могут
доставить нам наибольшее удовольствие, то необходимы были бы и
изменения в искусстве, поскольку изменился бы самый
непосредственный способ доставлять нам удовольствие».
10 ...грезой Платона... — Речь идет об «идее прекрасного»,
постулированной Платоном в «Пире» (210 Е — 211 В): «...нечто, во-первых,
вечное, то есть не знающее ни рождения, ни гибели, ни роста, ни
оскудения, а во-вторых, не в чем-то прекрасное, а в чем-то
безобразное, не когда-то, где-то, для кого-то и сравнительно с чем-то
прекрасное, а в другое время, в другом месте, для другого и сравнительно
с другим безобразное. Красота эта предстанет ему не в виде какого-то
лица, рук или иной части тела, не в виде какой-то речи или науки, не
в чем-то другом, будь это животное, земля, небо или еще что-нибудь,
а сама по себе, через себя самое, всегда одинаковая; все же другие
разновидности прекрасного причастны к ней таким образом, что они
возникают и гибнут, а ее не становится ни больше, ни меньше, и
никаких воздействий она не испытывает». Монтескье объявляет это
учение Платона ложным и говорит, что «истоки прекрасного, благого,
приятного и т. д. находятся в нас самих». Во всех дальнейших
записях, посвященных проблеме прекрасного, Леопарди исходит из тех
же сенсуалистских принципов.
11 Босси Джузеппе (1777—1813)—итальянский
художник-классицист; Леопарди имеет в виду его «Рассуждение о «Вечере» Леонардо»,
напечатанное в 1810 г.
12 ...змеях (смотри у Шатобриана).— Леопарди имеет в виду то
место во 2-й главе III книги «Духа христианства» Шатобриана, где
тот рассказывает, как сам видел в Америке гремучую змею, послушно
ползущую за играющим на флейте.
464
КОММЕНТАРИИ
13 Каналетто Антонио (1697—1768)—венецианский пейзажист,
прославившийся поэтическими видами родного города.
14 ...как говорит Монтескье... — «Опыт о вкусе», глава «О
неуловимом».
15 Делиль Жак (1738—1813)—французский поэт, автор
выполненных александрийским стихом переводов «Георгик» (1769) и «Энеиды»
(1804). Оба перевода долгое время считались классическими и
выдержали более полусотни изданий.
16 Аричи Чезаре (1782—1836)—итальянский поэт, автор
дидактических поэм «Возделывание оливы», «Пастушеская поэма» и других.
17 Аполлоний Родосский (ок. 295—215 гг. до н. э.) —
александрийский поэт, автор дошедшего до нас мифологического эпоса «Поход
аргонавтов» («Аргонавтика»).
18 Лонгин (IV в.) —греческий ритор и философ; Лонгину был
ошибочно приписан один из интереснейших памятников античной
эстетики— трактат «О- возвышенном», на который и ссылается Леопарди
(IX, 12). ,
19 ...неудачных попытках эпопеи после Вергилия... —
Действительно, даже наиболее значительный памятник римского эпоса, созданный
после Вергилия,— «Фарсалия» Лукана — не идет в сравнение с
«Энеидой». Позднейшие же эпические произведения как мифологического,
так и исторического содержания — «Пуническая война» Силия
Италика, «Фиваида» Стация, «Аргонавтика» Валерия Флакка — были лишь
эпигонскими подражаниями «Энеиде».
20 ...после Шекспира было несколько трагиков... — Имеются в виду
Джон Вебстер (1580—1630), Джордж Чапмен (1559—1634), Френсис
Бомонт (1584—1616), Джон Флетчер (1579—1625), усвоившие многие
внешние приемы шекспировской драматургии, но стремившиеся к
большему внешнему эффекту.
21 Тиртей (VII в. до н. э.)—греческий поэт, автор воинственных
элегий, которыми он, согласно легенде, сумел вдохновить на новые
битвы утративших мужество спартанцев.
22 «Трактат» Цельса — имеется в виду посвященный медицине
раздел энциклопедического труда Авла Корнелия Цельса (I в. н. э.)
«Искусства»; остальные разделы этого труда до нас не дошли. Язык
Цельса, несколько стилизованный под Цицерона, отличается ясностью
и точностью.
23 Идеологи — группа французских философов, последователей Ан-
туана Дестюта де Траси (1754—1836); идеологи ставили перед
философией задачу исследования закономерностей человеческого сознания.
24 Такое же наблюдение делает Травина...— Гравина (см. примеч. 13
к «Рассуждению итальянца...») в трактате «Поэтический разум» (1,
I, гл. 2 и II) говорит, что обычнейшие предметы, воспроизведенные
искусством, воспринимаются как необычные и потому — с большей
остротой.
25 ...затейливыми украшениями... — условный перевод термина
«concetto», имеющего очень широкое значение в эстетике итальянского
барокко. «Кончетто» (первое значение слова — «замысел») — это остро-
465
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
умное сведение воедино далекого, несхожего, «сопряжение
далековатых идей». По определению теоретика барокко Эммануэле Тезауро
(1591—1675), кончетто — божественное порождение Метафоры,
благодаря кончетто «быстрые разумом» гении «из несуществующего творят
существующее, из невещественного — бытующее, и вот — лев
становится человеком, орел — городом. Они сливают женщину с обличьем рыбы
и создают сирену как символ ласкательства (прямая полемика с
первыми строками «Науки поэзии» Горация.— С. О.), соединяют
туловище козы со змеей и образуют химеру — иероглиф, обозначающий
безумие» («Подзорная труба Аристотеля»).
26 ...Аддисонова «Катона»...— Имеется в виду написанная в духе
французского классицизма трагедия английского писателя и
журналиста Джозефа Аддисона (1672—1719) «Катон» (1713).
27 Лафонтен Жан (1621—1695)—французский поэт, автор
прославленных басен и «Сказок» в стихах. Мнение, что Лафонтена можно
считать образцом простоты, принадлежит французскому критику
Жану-Франсуа Лагарпу (1739—1803); соответствующее место из его
«Похвального слова Лафонтену» Леопарди выписал в Дневнике, 237.
28 Фенелон Франсуа (1651—1715)—французский писатель и
мыслитель, автор воспитательного романа «Приключения Телемаха». В более
ранних записях Дневника (ПО) Леопарди причисляет его к
«величайшим прозаикам своего прекрасного века».
29 ...утверо/сдал о Вергилии Шатобриан... — «Дух христианства»,
часть II, книга II, глава X: «Наши нравственные и физические изъяны
весьма сильно влияют на наше настроение и часто становятся
причиной особого склада нашего характера. Речь у Вергилия была
затрудненной, телом он был слаб, наружностью был похож на деревенщину.
В молодости, как кажется, у него были сильные страсти, но его
природные недостатки, быть может, стали им преградой. Так семейные
огорчения, любовь к деревне, страдающее самолюбие,
неудовлетворенные страсти, соединившись вместе, сообщили ему ту мечтательность,
которая чарует нас в его сочинениях».
30 ...не боялась оскорбить хороший вкус... — Место, на которое
ссылается Леопарди, гласит: «Хороший вкус в литературе в некотором
отношении подобен порядку при самовластии; необходимо взвесить,
какой ценой он покупается. Что касается политики, то Неккер
говорил: «Необходима вся та свобода, какую только можно сочетать
с порядком». Я переворачиваю это изречение и говорю, что в
литературе необходим весь тот вкус, какой только можно сочетать с
гением, потому что в состоянии общества самое главное — это покой, в
литературе же, наоборот, самое главное — это интерес, движение,
чувство, которым вкус сам по себе зачастую враждебен». Неккер Жак
(1732—1804)—французский финансист и министр Людовика XVI,
пытавшийся провести некоторые реформы и добившийся созыва
Генеральных штатов в 1788 г. Отец мадам де Сталь.
31 Пиндемонте Ипполито (1753—1828)—итальянский поэт,
переводчик «Одиссеи». Леопарди имеет в виду следующее его
высказывание: «Тот древний философ, который сказал, что повсюду, где
добродетель явилась бы в чувственном обличье, все были бы полонены
ее прелестью, ежели бы вспомнил, что поэты как раз и умеют неко-
466
КОММЕНТАРИИ
торым образом облекать ее в плоть, то и не изгнал бы их из своего
слишком уж прекрасного государства». (Имеется в виду Платон и его
утопия.)
32 Альгаротти Франческо (1712—1764)—итальянский писатель,
один из зачинателей научно-популярного жанра. Итальянские
комментаторы не могут установить, какое именно высказывание Альгаротти
имеет в виду Леопарди.
33 Беллей Патеркул (19 г. до н. э. — 32 г. н. э.)—римский
историк, автор общего свода истории Рима, написанного в
верноподданническом духе. В конце 1 книги содержится обзор истории римской
литературы эпохи республики.
34 ...мою теорию удовольствия... — Леопарди имеет в виду свое
этическое учение о стремлении к удовольствию (или, что то же, к
счастью) как основной движущей силе в жизни человека. Эта теория
изложена им в Дневнике, 165—183 (12—23 июля 1820 г.) и
послужила основой таких очерков, как «История рода человеческого»,
«Разговор Маламбруно и Фарфарелло», «Разговор Природы и Души»,
«Разговор физика и метафизика», «Разговор Торквато Тассо и его
демона».
35 Гораций, Оды, I, 22.
36 В примечаниях к моим «Канцонам»... — к стихотворению «Брут
Младший», к словам «выкованная из железа Неизбежность»:
«Метафора, относя слово к новым, не связанным с ним предметам, не
отнимает через это у слова его прямого значения (если только значение
метафорическое за долгий срок не поглотило прямого значения, само
сросшись со словом), но, так сказать, сочетает его с иным значением
или даже с несколькими значениями, удваивая или умножая идеи,
представляемые словом».
37 ...после всех великих споров... — Вопрос о соотношении «inge-
nium» — природного дарования и «ars» — искусства, мастерства
широко обсуждался античными эстетиками, риторами и авторами поэтик.
38 ...изъяснялось лирическим стихом... — Стих, которым писались
хоровые партии в античной трагедии, отличался от стиха
диалогических частей — ямбического триметра (шестистопного ямба),
считавшегося близким к разговорной речи (см. Цицерон, «Оратор», 55, 183—
184). Для хоровых партий применялись более сложные размеры,
зачастую состоявшие из разных стоп и заимствованные из мелики. Пение
хора сопровождалось авлосом — гобоем.
39 ...смотри: Гораций «Наука поэзии»...
Хору бывает своя поручена роль, как актеру:
Пусть же с нее не сбивается он и поет между действий
То, что к делу идет и к общей направлено цели.
Дело хора — давать советы достойным героям,
В буйных обуздывать гнев, а в робких воспитывать бодрость.
Дело хора — хвалить небогатый стол селянина,
И справедливый закон, и мир на открытых дорогах;
Дело хора — тайны хранить и бессмертным молиться,
Чтобы удача к смиренным пришла и ушла от надменных.
(Пер. М. Гаспарова)
467
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
40 ...обелиска на пьяцца дель Пополо... — египетского обелиска,
вывезенного из Гелиополя Августом после победы над Антонием и
Клеопатрой и установленного на пьяцца дель Пополо в конце XVI в.
41 Фабрициус Иоганн Альберт (1668—1736)—немецкий филолог-
классик, автор многотомных монументальных историко-библиографи-
ческих трудов «Греческая библиотека» и «Латинская библиотека».
Бартелеми — см. примеч. 5 к «Истории рода человеческого». В
«Путешествии юного Анахарсиса» театральным зрелищам посвящена целая
глава.
42 ...хотя сама история... — неточность Леопарди. Античные
драматурги не так уж редко обращались к сюжетам из современной
истории, особенно на первых порах становления трагедии. Из
исторических трагедий до нас дошли только «Персы» Эсхила и
приписываемая Сенеке «Октавия».
43 ...Теренция, переводчика Менандра... — Римский комедиограф
Теренций (185—159 гг. до н. э.) действительно написал четыре из
шести дошедших до нас комедий на основе комедий Менандра (ок. 343—
292 гг. до н. э.). Однако это не были простые переводы: Теренций
не только перерабатывал свои образцы, но и соединял разные
комедии, сводя воедино их сюжеты.
,44 ...Богатство... облака, птицы, лягушки... — Бог богатства Плутос
выведен в одноименной комедии Аристофана. Хор облаков, хор птиц,
хор лягушек участвует в комедиях того же драматурга «Облака»,
«Птицы» и «Лягушки».
45 «Влюбленный Роланд»— рыцарская поэма Маттео Боярдо
(1441—1494), переработанная Берни. Леопарди высоко ценил эту
переработку.
46 «Ричардетто»— поэма Николо Фортегуерри (1674—1735),
бурлескная и пародийная по отношению к рыцарскому эпосу.
47 Элегия есть лишь название размера.— В древности элегиями
именовались всякие стихотворения, написанные элегическим дистихом
(чередование дактилического гекзаметра с пентаметром). У греков
элегическая поэзия носила дидактический характер, у римлян
преобладала любовная элегия.
48 Симонид Кеосский (ок. 556—468 г. до н. э.) — греческий поэт-
лирик; среди его стихов был, например, плач о домашних фессалий-
ского правителя Скопада, погибших под обломками обвалившейся
кровли.
49 Сеида.— Под этим именем дошел составленный в X в.
неизвестным византийским компилятором словарь, содержащий множество
историко-литературных, исторических и иных сведений. Монодиями
назывались сольные лирические песни (в отличие от чрезвычайно
развитой у греков хоровой мелики).
50 Архилох — греческий поэт, автор ямбов, прославленных гневной
язвительностью. По преданию, довел своими стихами до
самоубийства отца своей невесты, отказавшего поэту, и саму девушку.
51 (Гомеровы) гимны — сборник из 33 стихотворений, посвященных
разным богам и датируемых разными веками. Уже древние считали,
468
Комментарии
что Гомеру принадлежат далеко не все гимны; в настоящее время
авторство Гомера вообще отрицается. Переведены на русский язык
В. В. Вересаевым, в переводе которого и цитируется заключительный
стих.
52 Вольф Фридрих-Август (1759—1824)—немецкий филолог, автор
работы «Предисловие к Гомеру» («Prolegomena ad Homerum», 1795),
которую здесь и далее широко цитирует Леопарди. Вольф отрицал
единство Гомеровых поэм и считал их составленными из отдельных,
небольших по размеру песен при первой записи в VI в. до н. э.
Леопарди, хотя и использует отдельные положения Вольфа для своей
поэтики жанров, тем не менее стоит в «гомеровском вопросе» на
унитарных позициях, признавая и личность Гомера, и возможность его
авторства, даже при условии устного исполнения его стихов как
единственного средства их передачи. Чутьем поэта Леопарди угадывает
у Гомера «сколь угодно широкое, но все же единство, которое есть
в поэмах, и особенно в «Одиссее», в которой, надо согласиться,
весьма трудно не признать связи между частями, непрерывности
повествования, целостности...» (Дневник, 4325).
53 ...упражнениями софистов... — Имеются в виду
практиковавшиеся в риторических школах учебные речи, сочинявшиеся от лица
вымышленных персонажей, попавших в вымышленные обстоятельства.
До нас дошел сборник таких речей, записанных по памяти для сыновей
Сенекою Старшим (55 г. до н. э.— 40 г. н. э.) отцом философа
(«Свазории и контроверсии»). Софистами в эпоху поздней античности
обычно называли странствующих ораторов, выступавших с речами
перед публикой.
54 Делла Каза Джованни (1503—1556)—итальянский поэт и
писатель. В риторике прославился речами на политические темы и «Хвалой
павшим при Превезе».
55 ...определение Платона... — В конце диалога «Софист» Платон
делит человеческие искусства на «творческие», то есть создающие
сами предметы, и «изобразительные», то есть создающие образы
предметов. Если же кто-либо создает образы не посредством орудий, а
посредством голоса и речи, то его искусство, согласно Платону, будет
«подражательным».
56 ...верное замечание... — Леопарди ссылается на сделанные
несколько ранее выписки из работы «Патрицианские дома и курия»
своего друга, выдающегося немецкого историка Бертольда Георга Нибура
(1776—1831). Нибур считает, что невозможно создать национальную
эпическую поэму, если для нее нет сюжета, давно уже бытовавшего
в народе, и знакомых каждому героев. Это утверждение, высказанное
по поводу «Энеиды», связано с собственной теорией Нибура,
считавшего, что все известное нам о ранней римской истории (предания об
основании города, о царях и т. д.) есть содержание древних
эпических «пиршественных песен», бытовавших в первые века республики.
То же мнение Нибур высказывает и по отношению к трагедии, в связи
с исторической трагедией римского драматурга Акция «Брут» (об
изгнании Тарквиния Гордого).
57 Сид — Родриго Диас де Бивар (1030—1099), герой борьбы
испанцев с арабами за отвоевание Пиренейского полуострова. Ему по-
469
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
священы многочисленные эпические романсеро и «Песнь о моем Сиде»,
эпическая поэма XII в.
58 «Готфред» — то есть «Освобожденный Иерусалим» Тассо,
названный так по имени одного из главных героев — Готфрида Бульон-
ского (1060—1100), предводителя первого крестового похода.
59 «Лузиады» Камоэнса посвящены подвигам португальских
мореплавателей, в частности плаванию Васко да Гамы в Индию.
60 «Мальмантиль» — бурлескная поэма флорентийского живописца
и поэта Лоренцо Липпи (1600—1665) «Отвоеванный Мальмантиль».
61 Самое неожиданное... — Это последняя запись в «Дневнике
размышлений».
Леопарди Джакомо.
Л 47 Этика и эстетика. (Нравственные очерки.
Рассуждение итальянца о романтической поэзии. Из
дневника размышлений). Пер. с итал., сост. и ком-
мент. С. А. Ошерова. Предисл. Б. Г. Реизова. Ред.
коллегия: М. Ф. Овсянников (пред.) и др. М.,
«Искусство», 1978.
470 с. (История эстетики в памятниках и документах).
Джакомо Леопарди (1798—1837) был не только великим поэтом
Италии, но и выдающимся мыслителем. Общеевропейскому
умонастроению мировой скорби он стремился найти универсальное
философское обоснование Это главная тема «Нравственных очерков» —
шедевра философско-художественной прозы Леопарди — и основа
эстетического учения, изложенного в «Рассуждении итальянца о
романтической поэзии» и в «Дневнике размышлений».
10507-039 7
Л 025(01)-78 21"78
ДЖАКОМО
ЛЕОПАРДИ
ЭТИКА
И
ЭСТЕТИКА
История
эстетики
в памятниках
и документах
Редактор
Л. Р. МАРИУПОЛЬСКАЯ
Художник
А. Т. ТРОЯНКЕР
Художественный редактор
Э. Э. РИНЧИНО
Технический редактор
II. Г. КАРПУШКИНА
Корректор
II. Г. ШАХАИОВА
Сдано в набор 30/V 11)77 г. Подшк'шю к иочпти 20/ХП 1!)77 г.
Формат бумаги 84Х ЮН'/м. Ьумпш тштгрпфгкпи № I, У гл. поч,
л. 24,78. Уч.-изд. л. 27,004. Лад, № 17:177. Тирмж 25 000 жл.
Заказ № 2877. Цена 2 р. 80 к, ИйдйТольстйо «Искуггмо», ИШЮ.
Москва, Собиновский йен,. Я, Московский типография № 5
Союзполиграфпрома при госудйрггйрнипм кпмигити Г.оистп Мини
стров СССР по делам илдптглигти. полшрифпп и кмишиип
торговли. Москнп. М«ло Мш'Кпйгкйй, У1