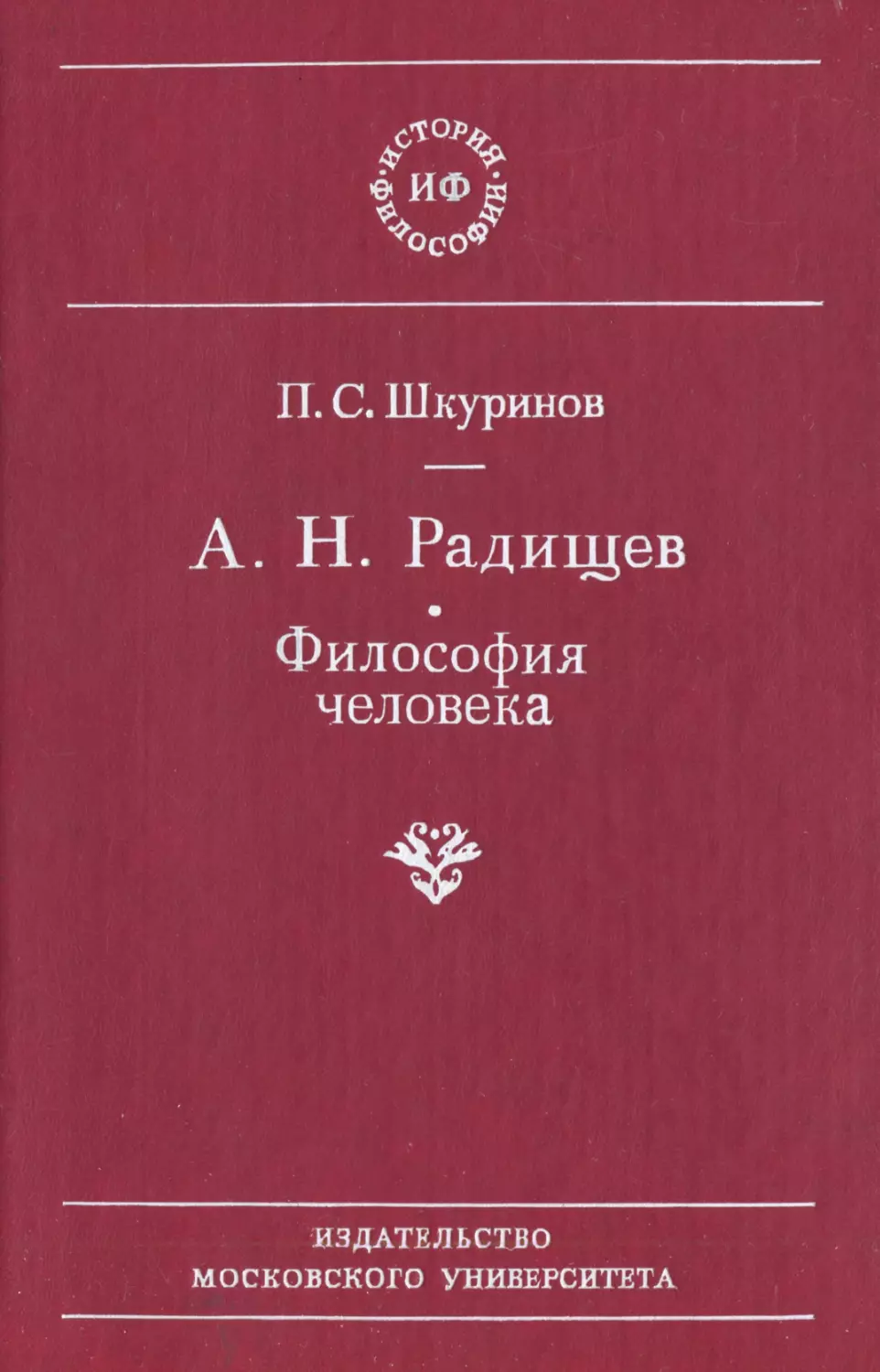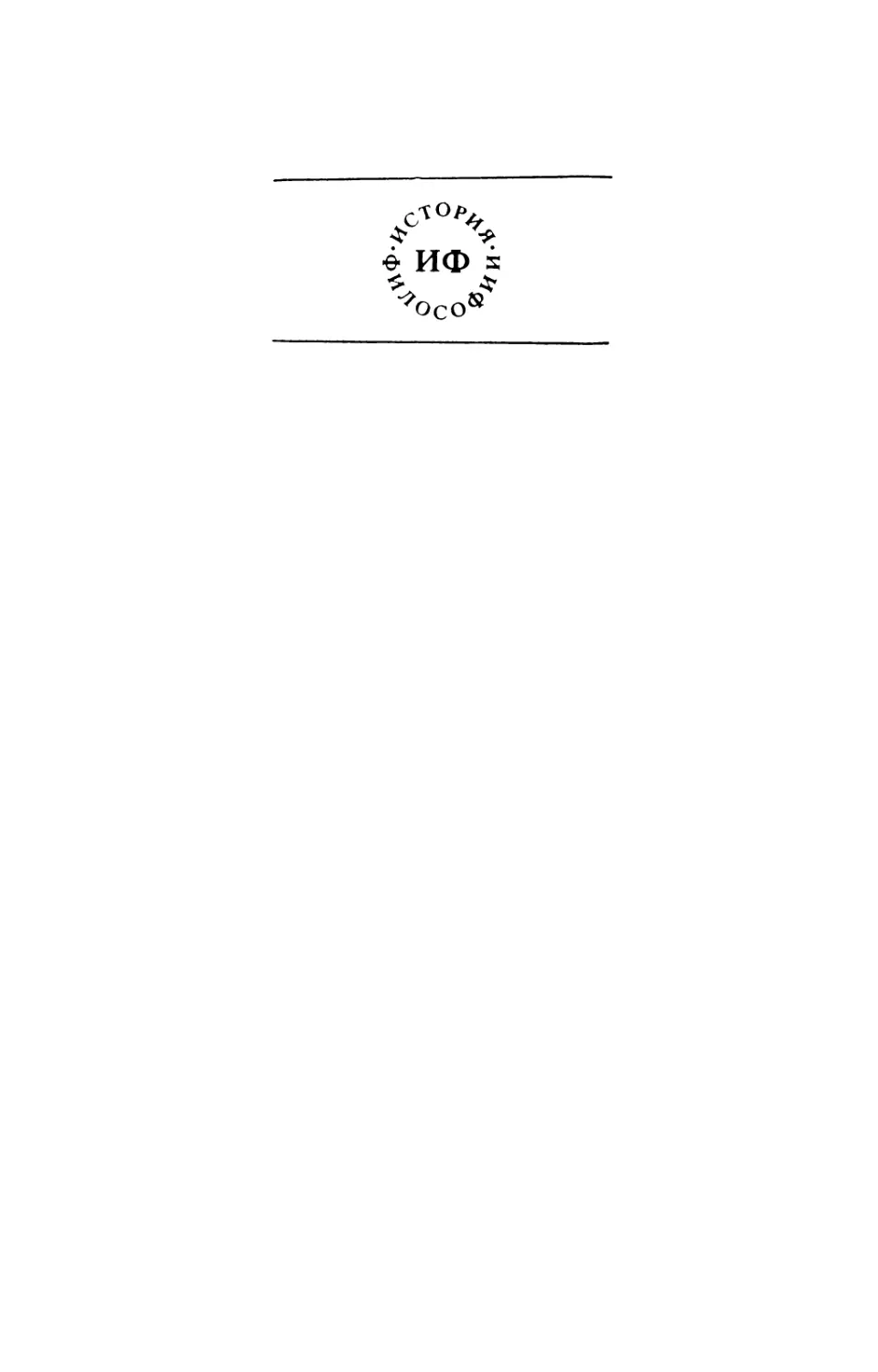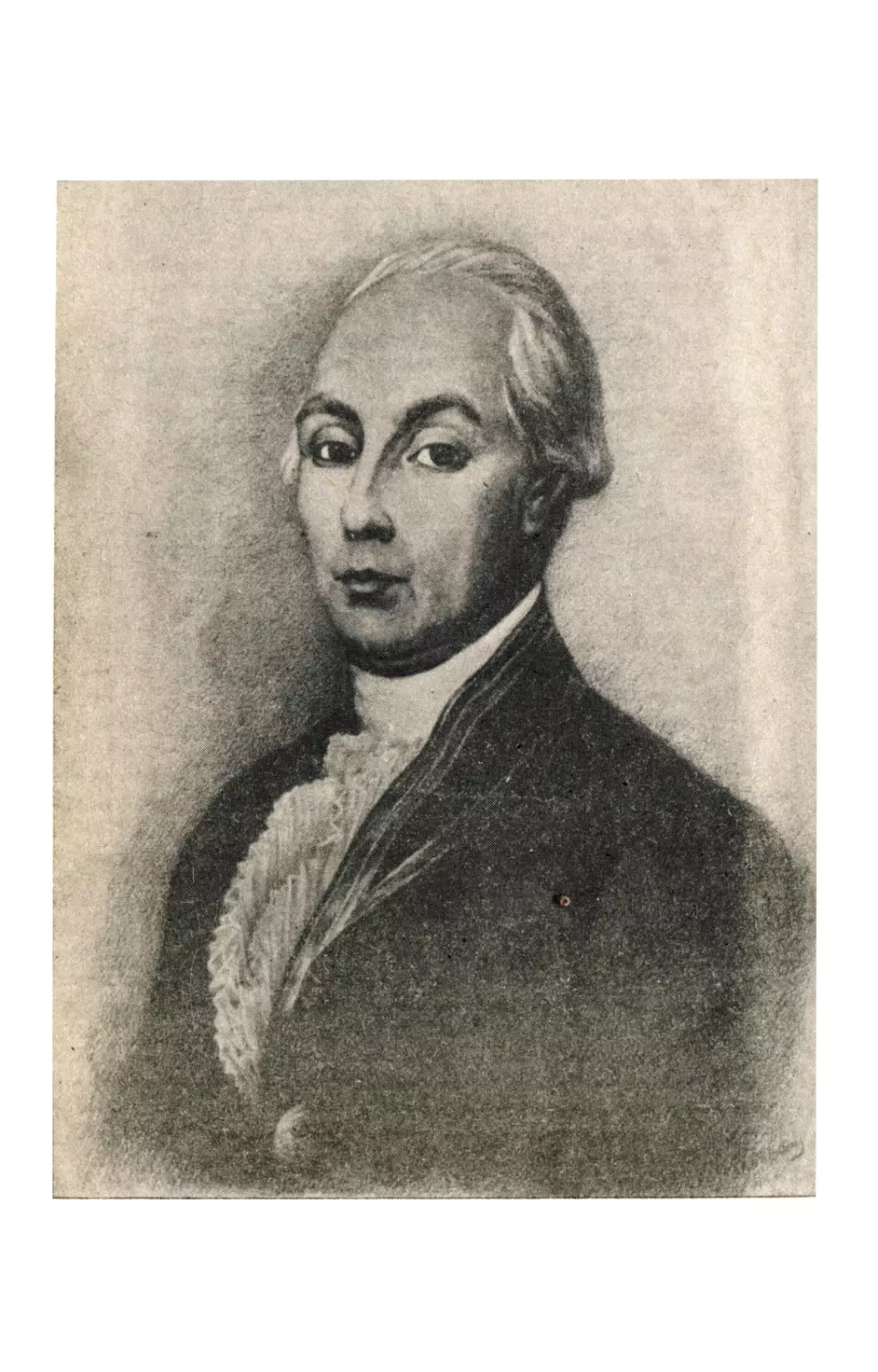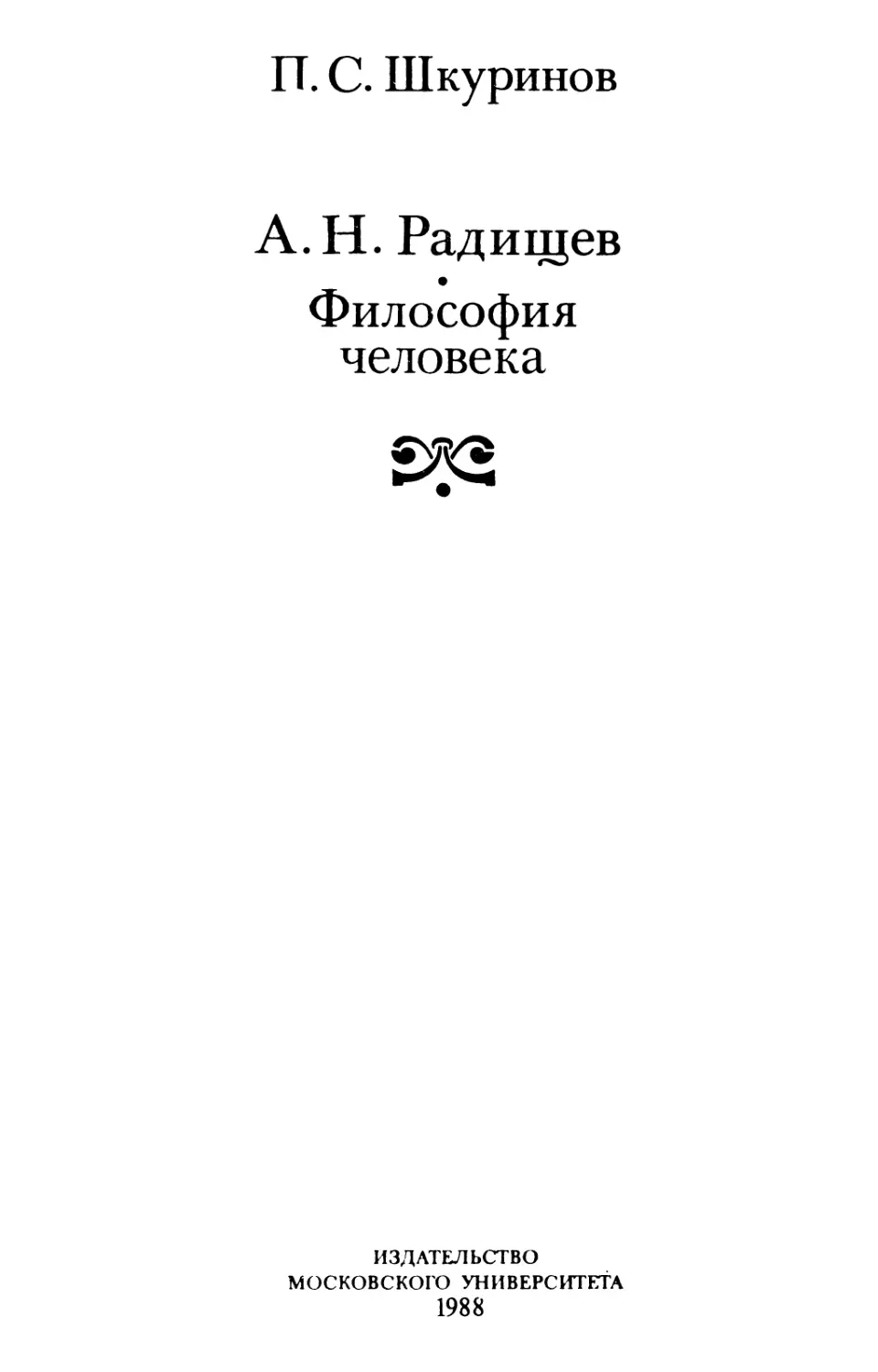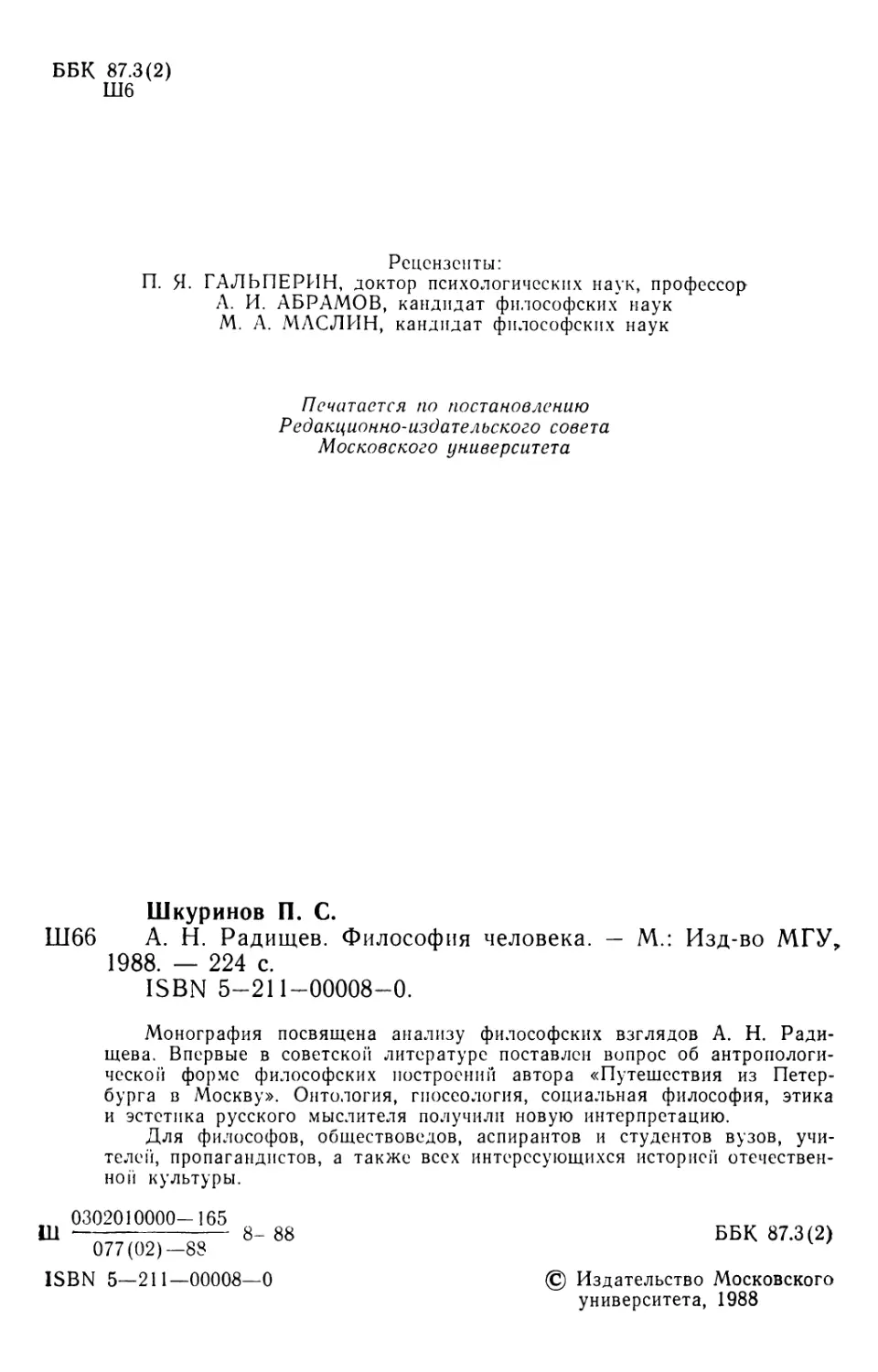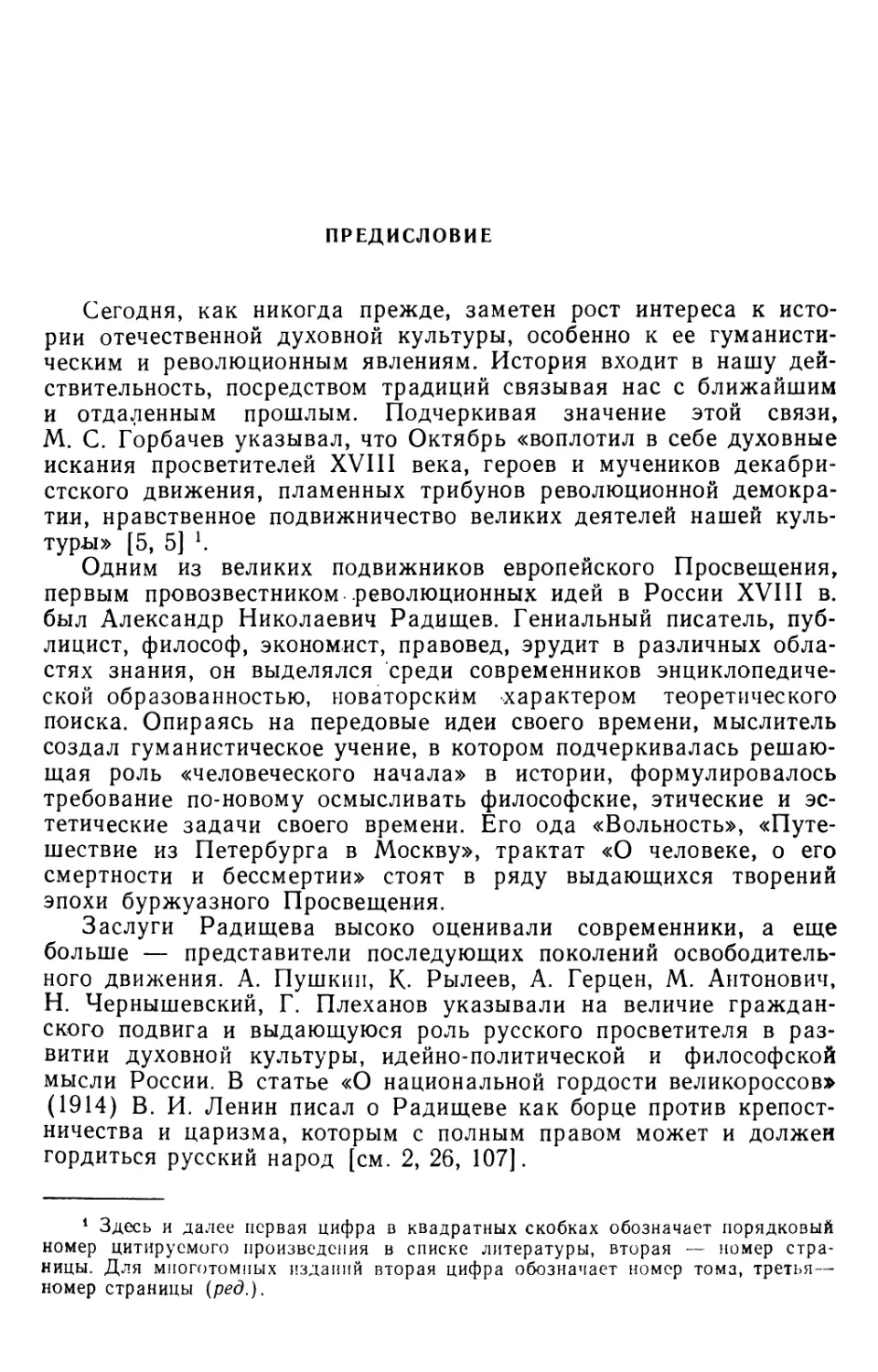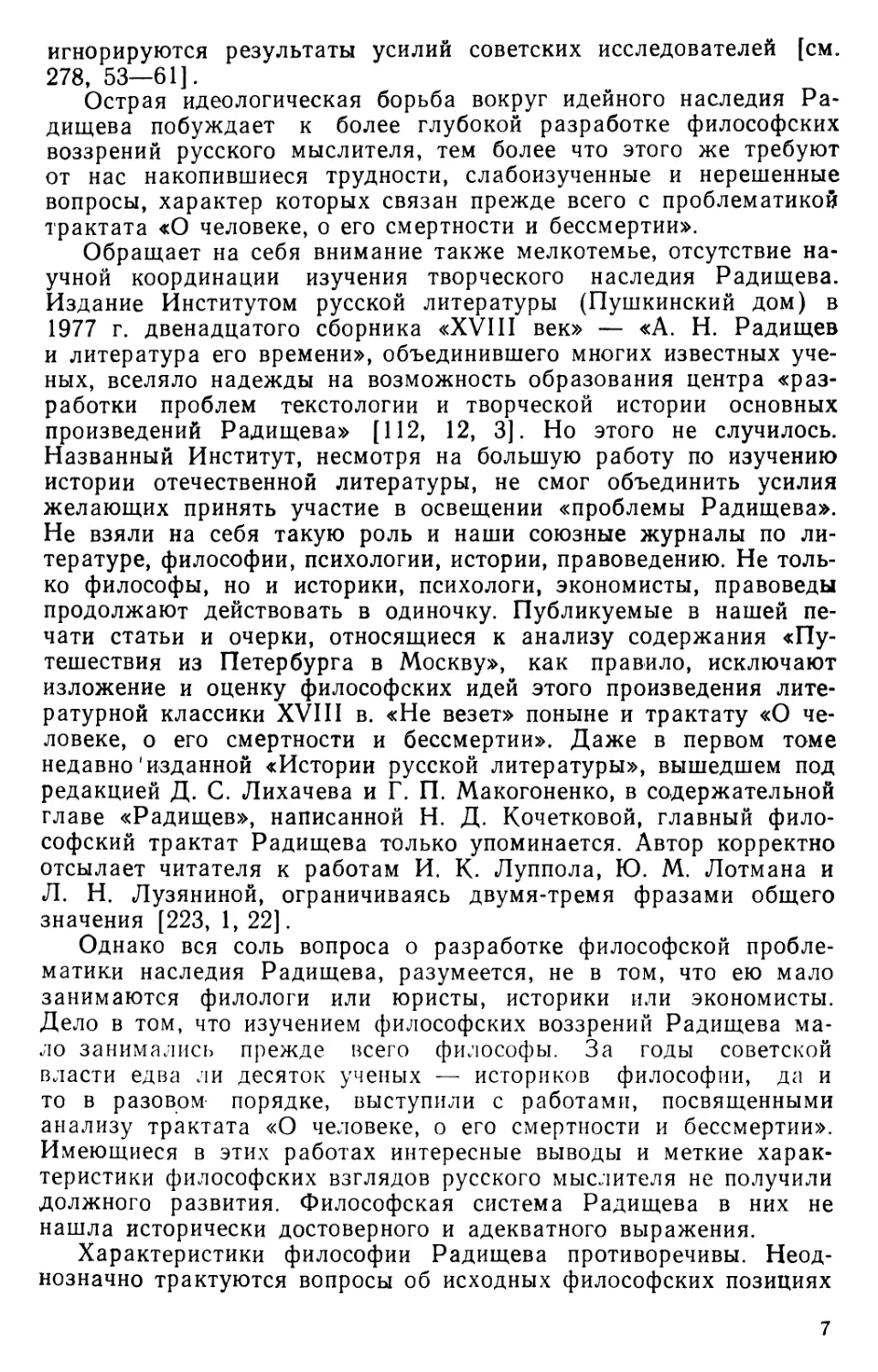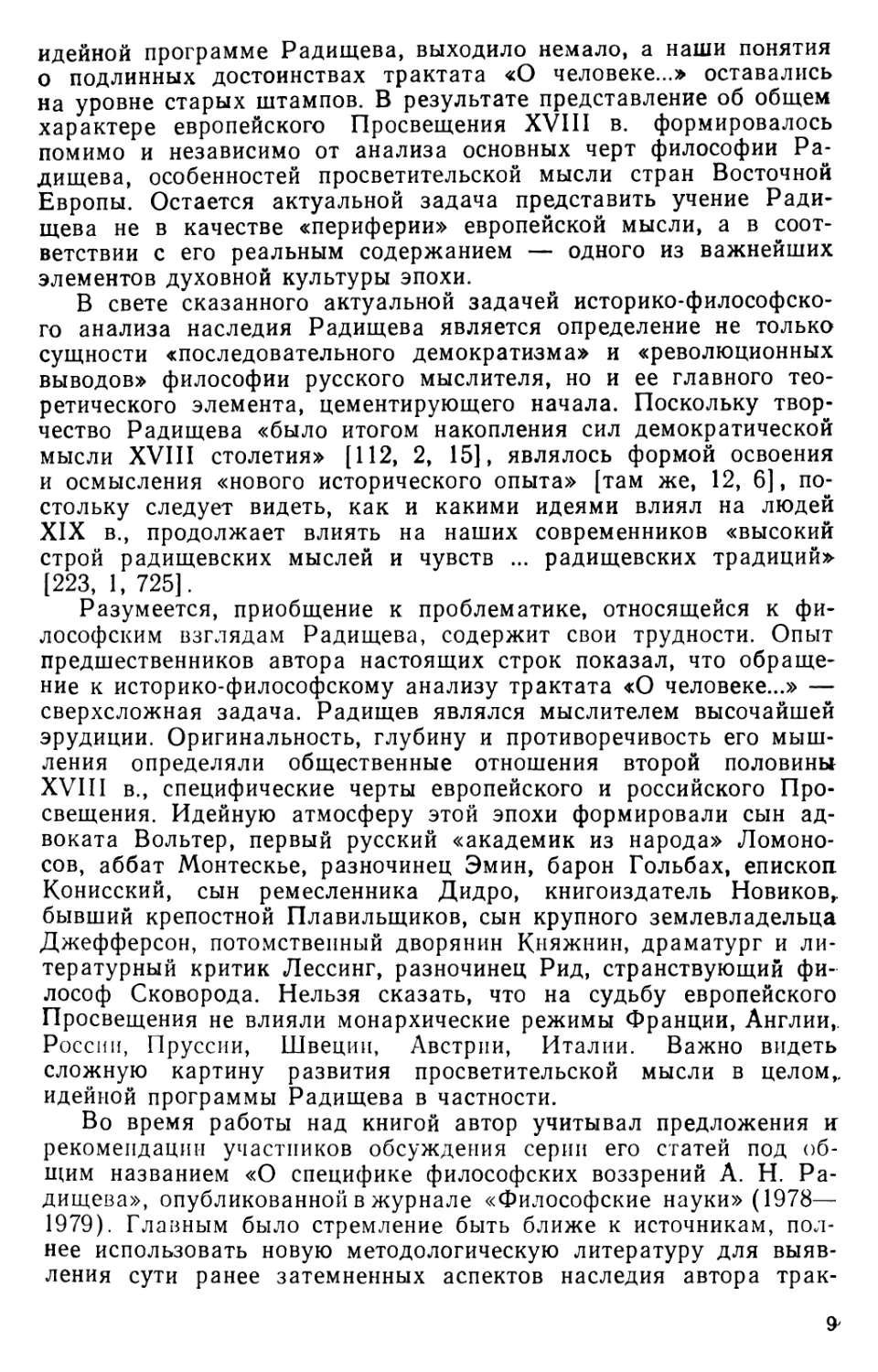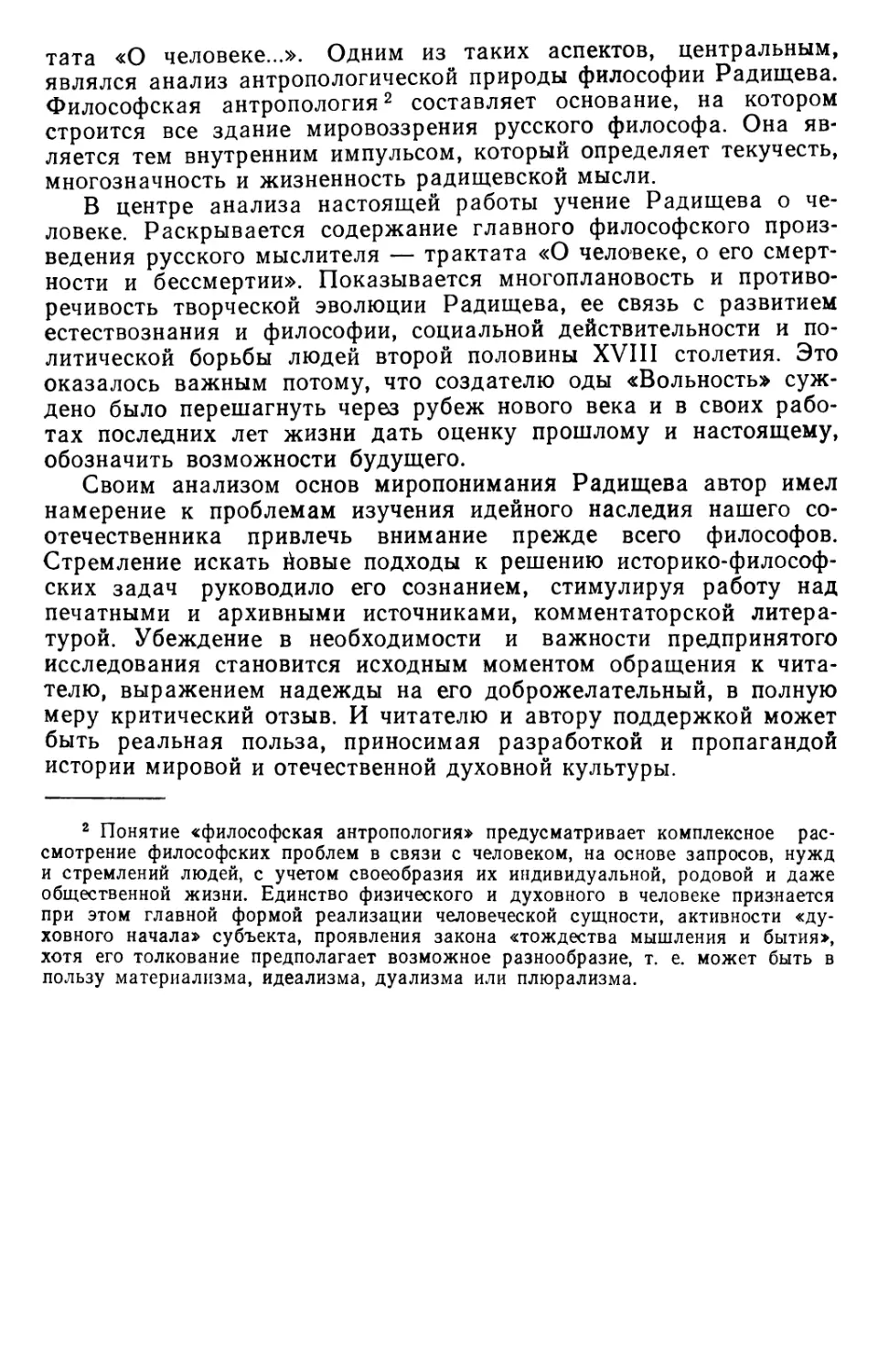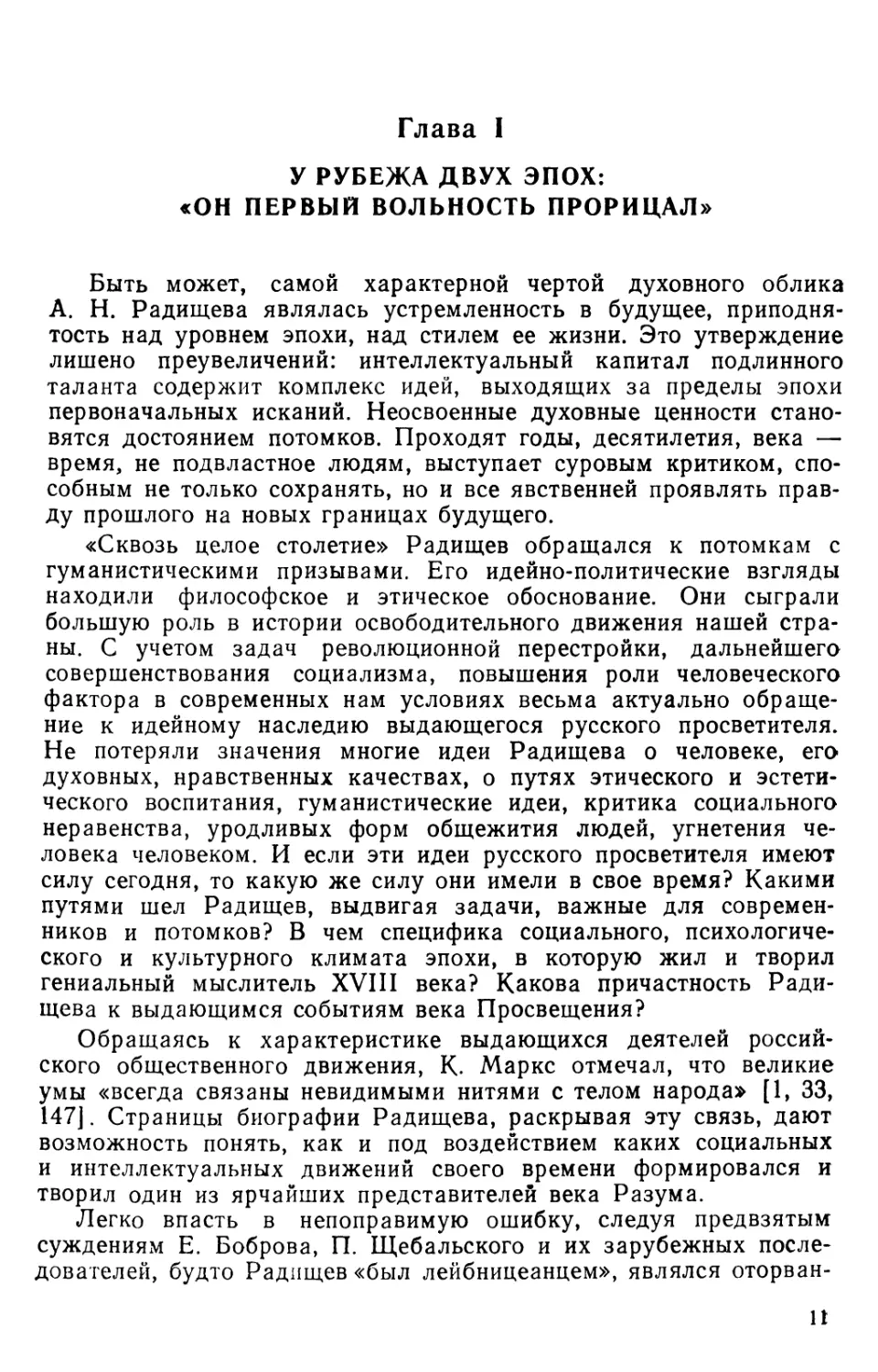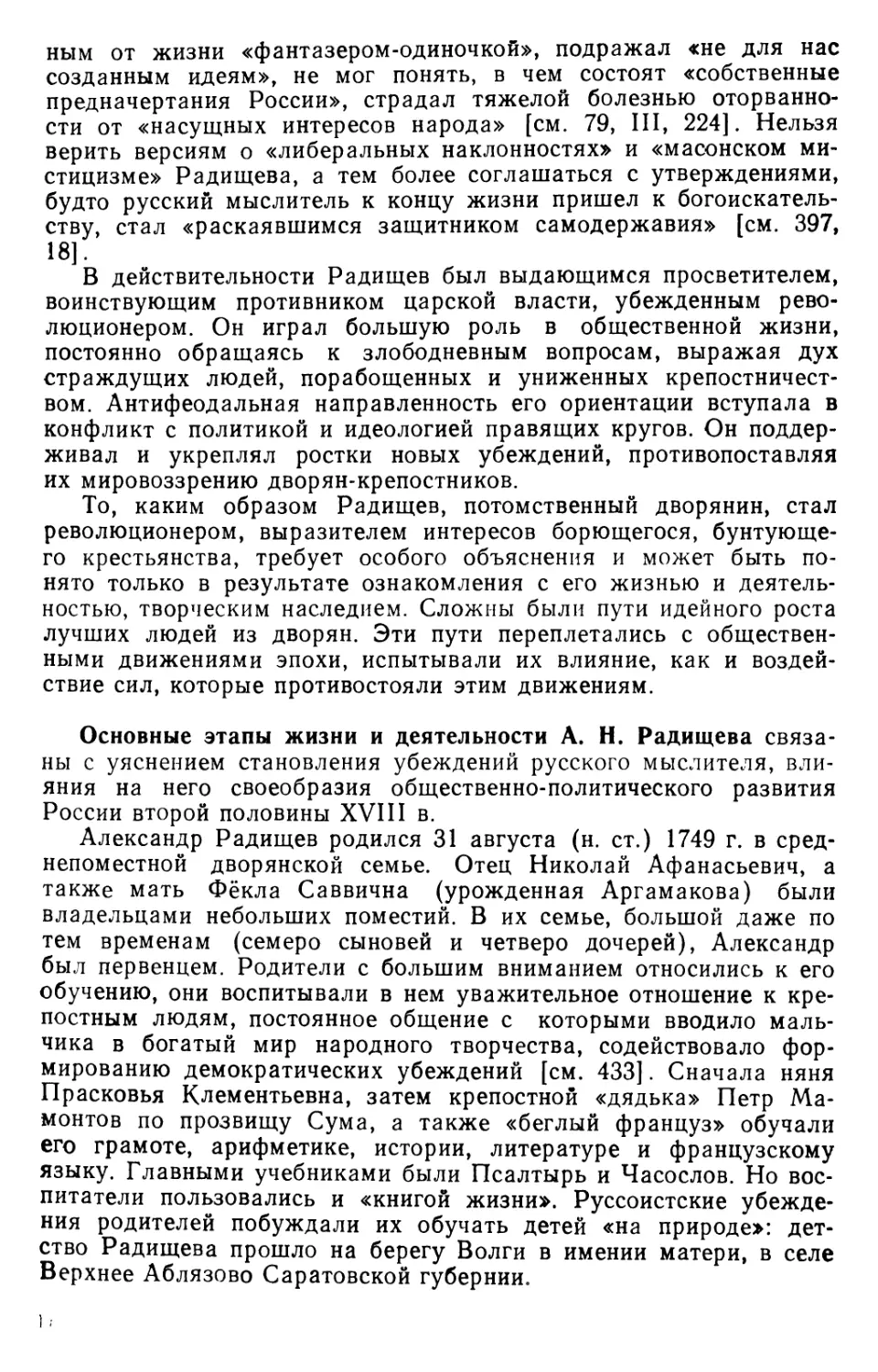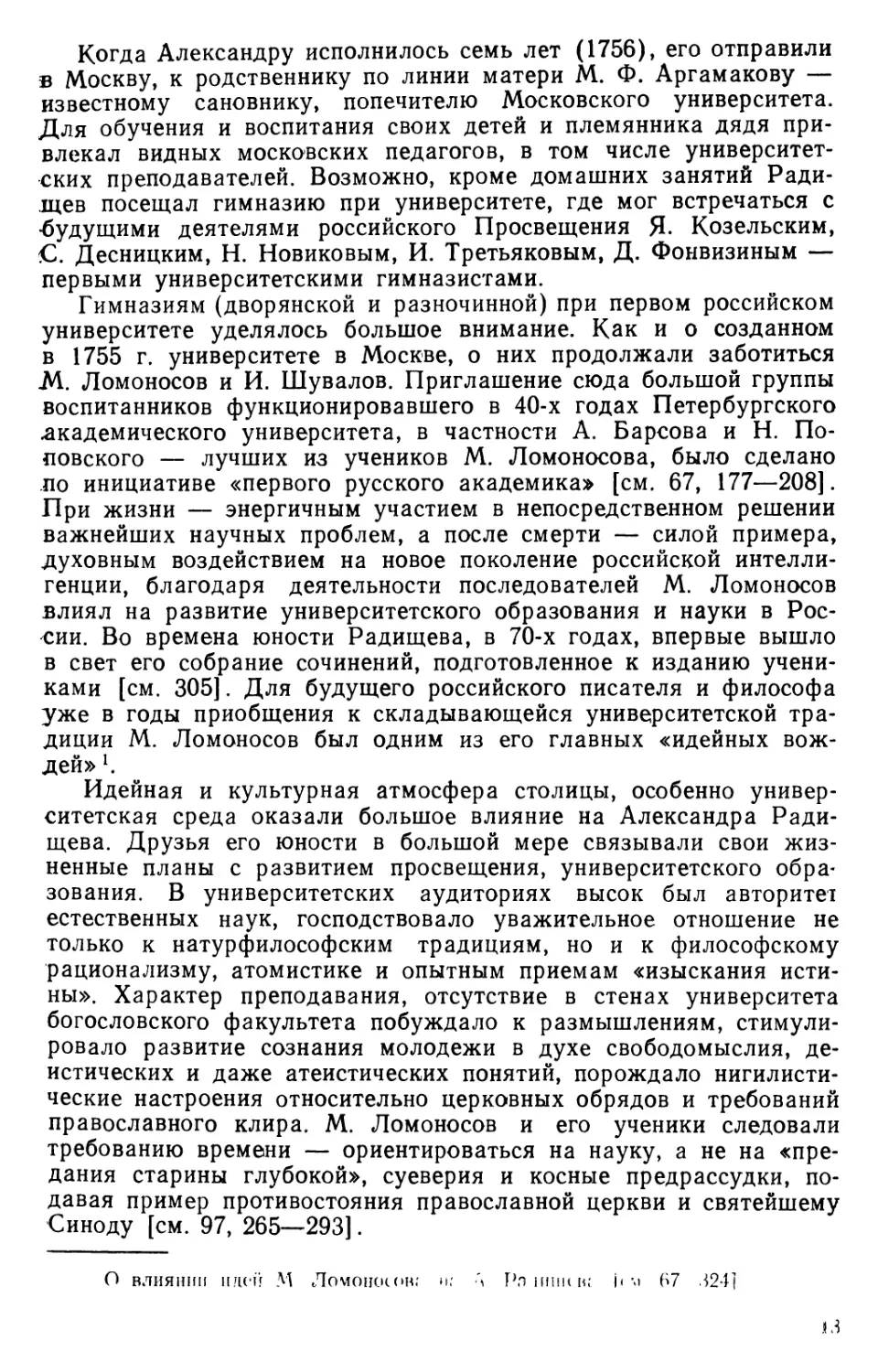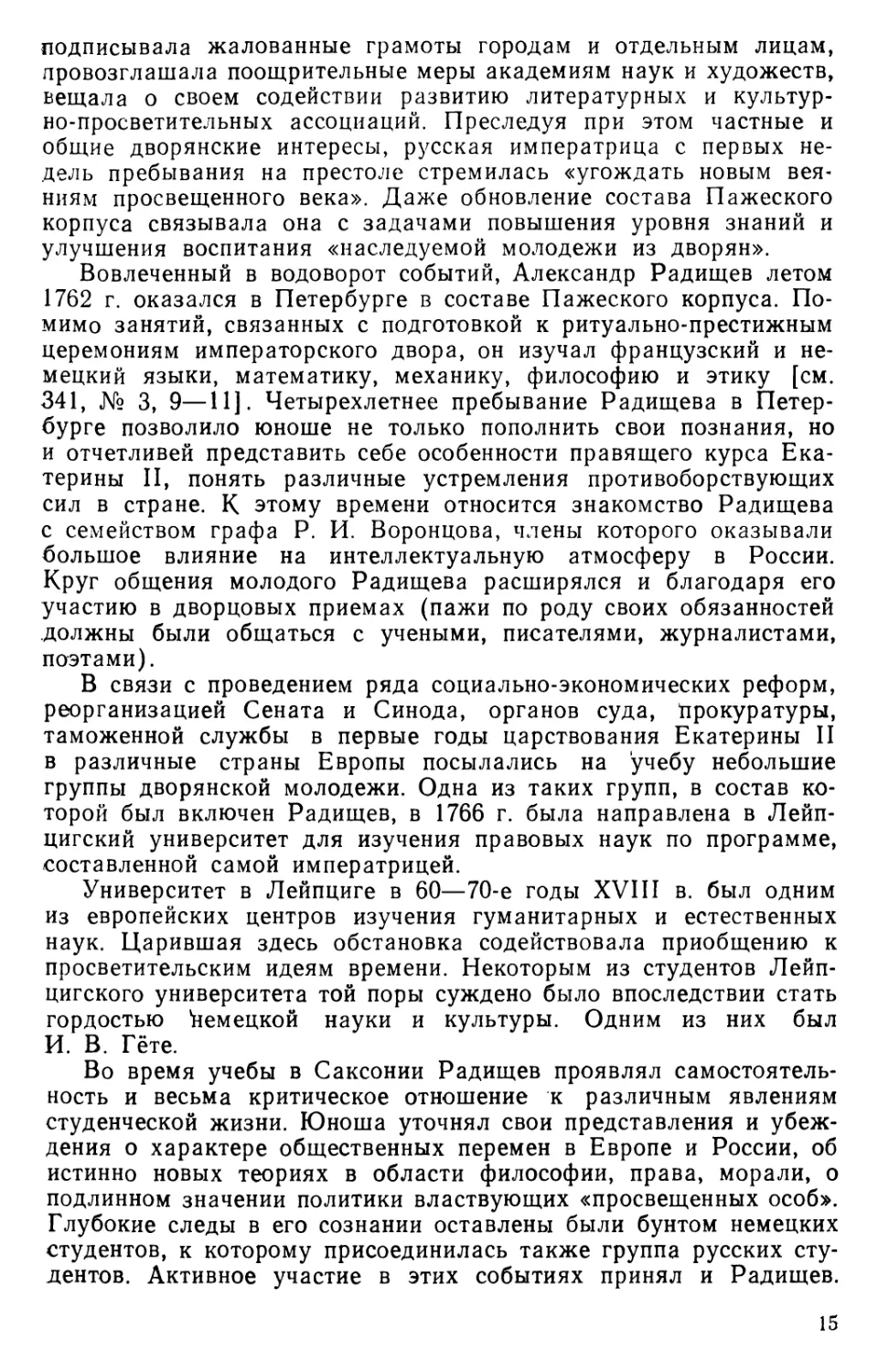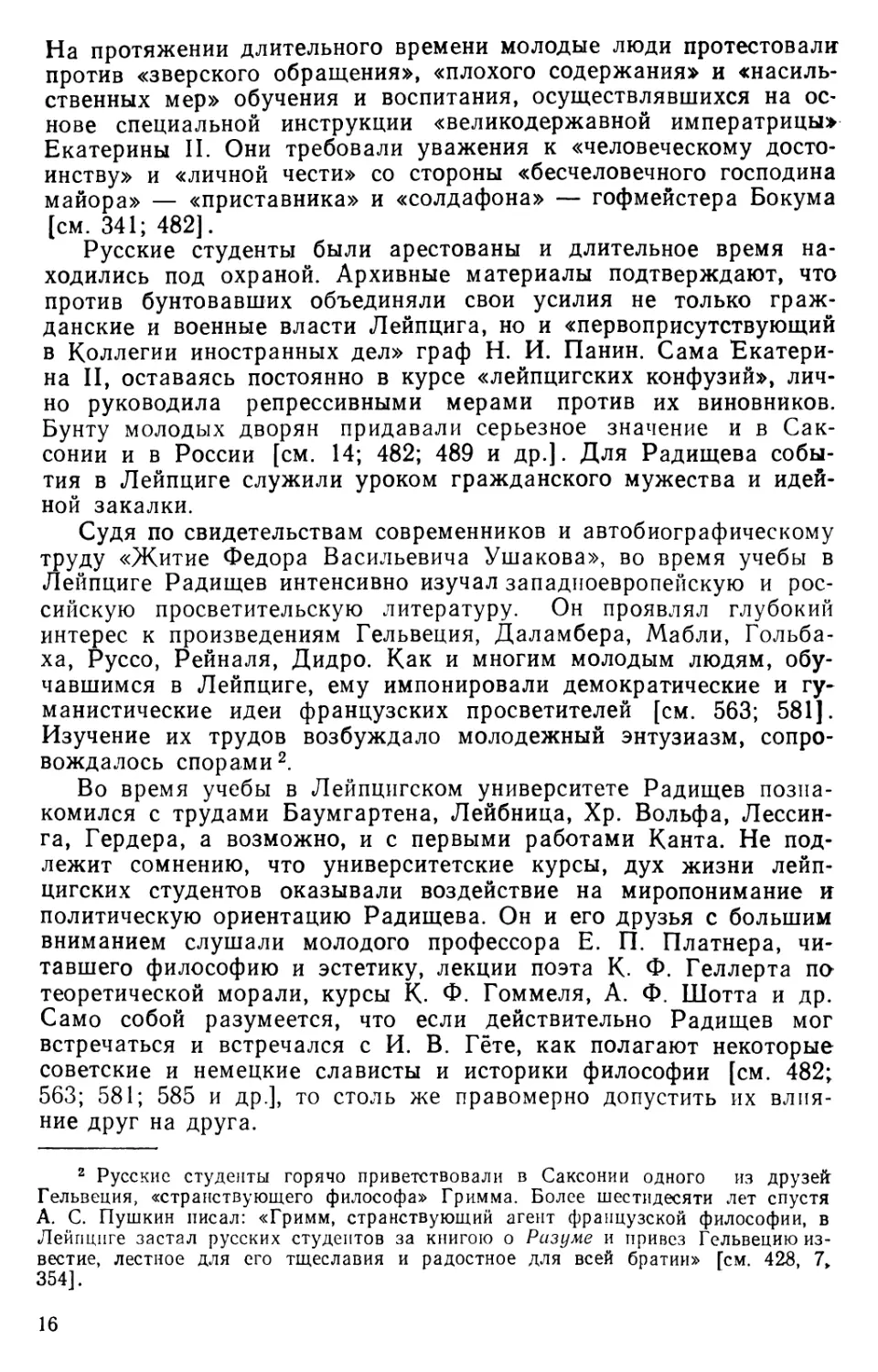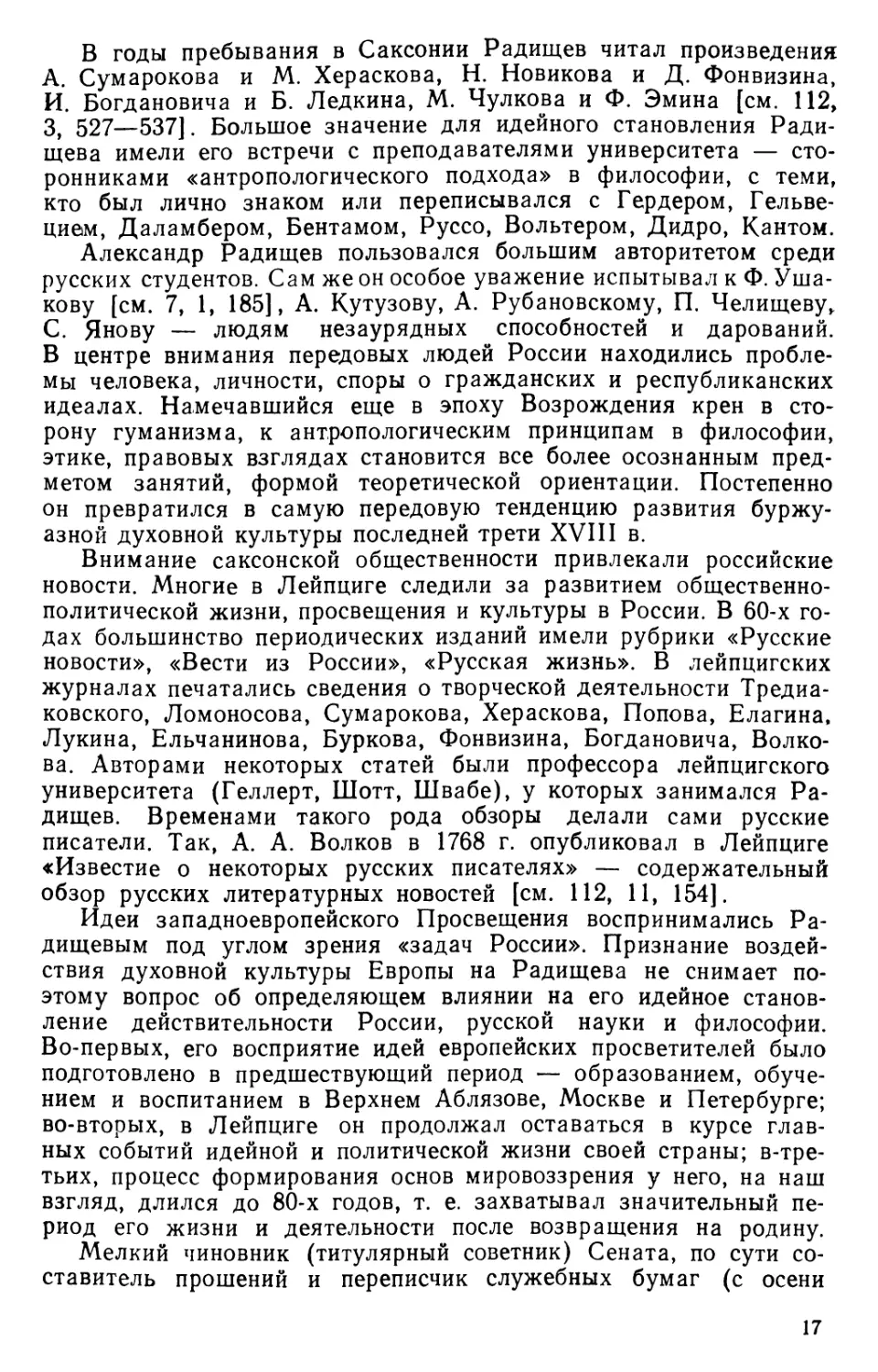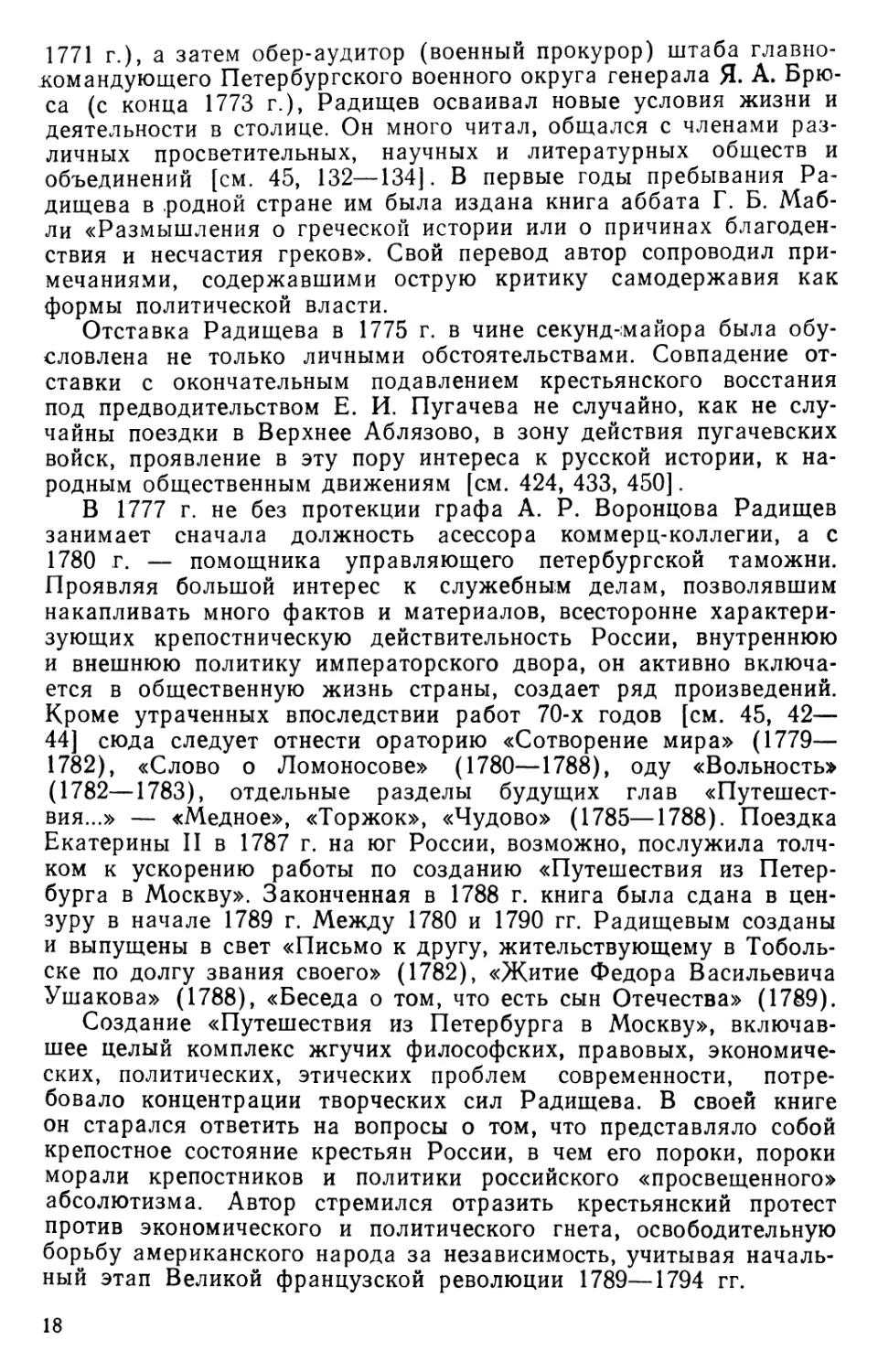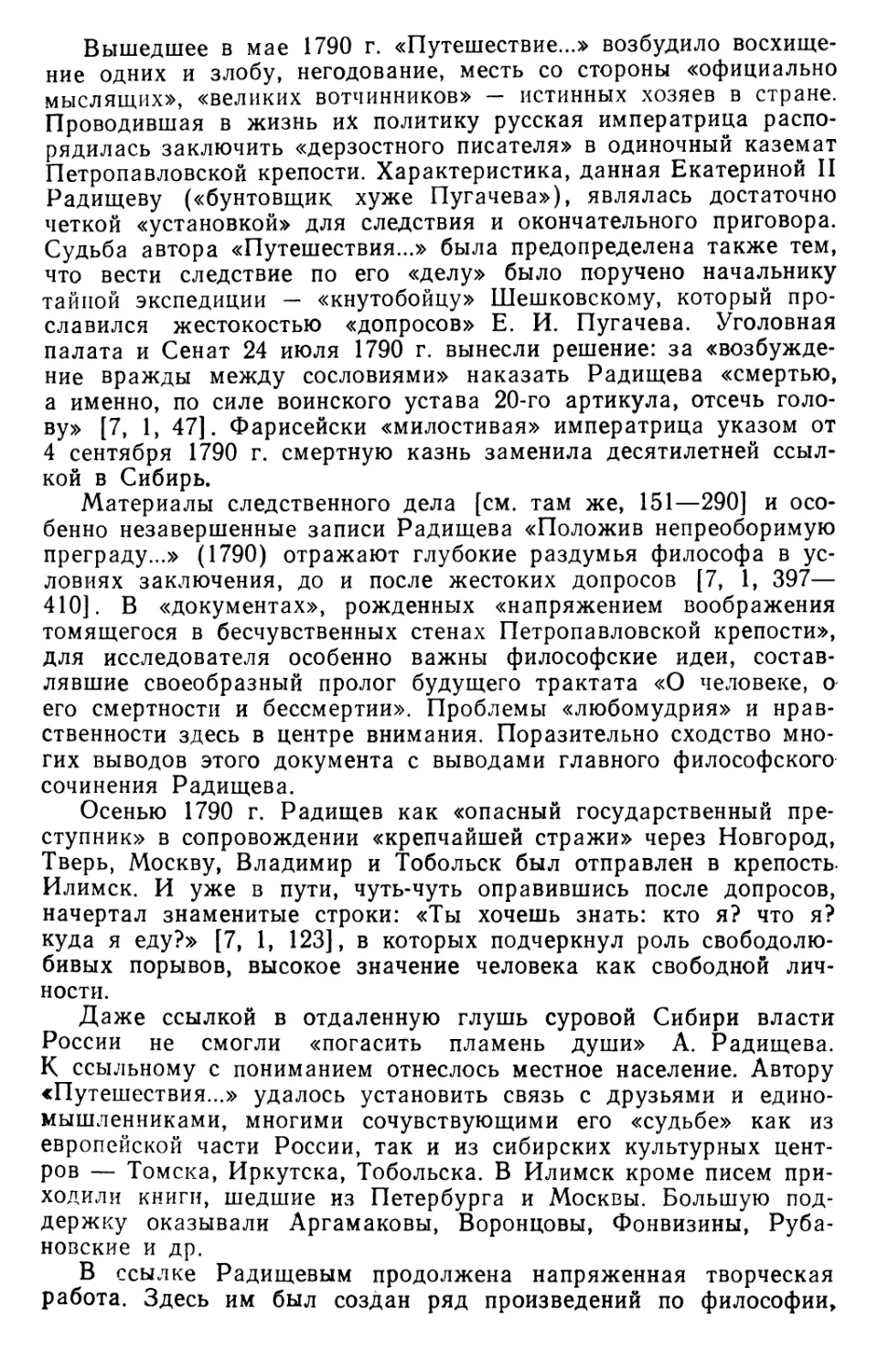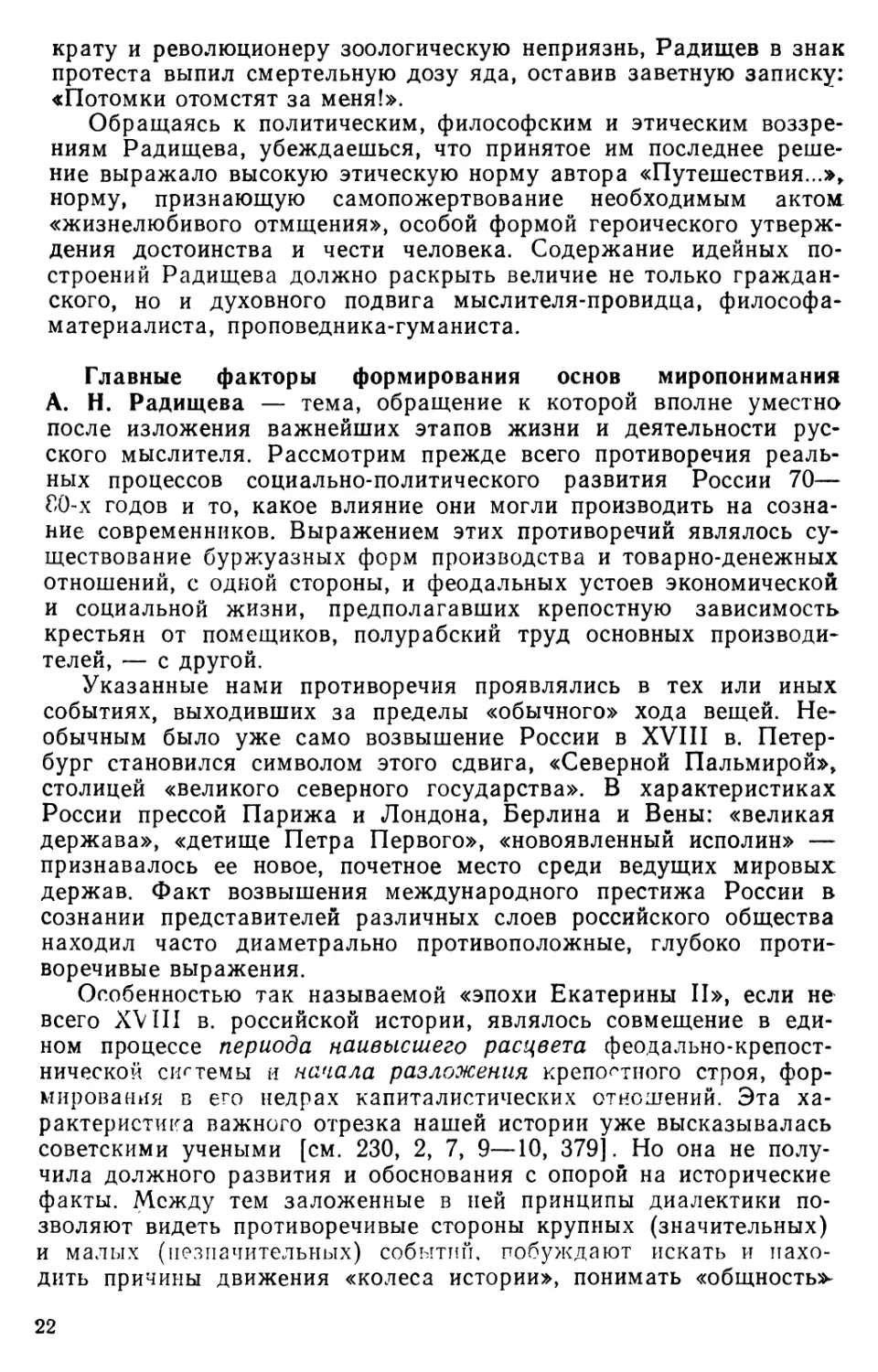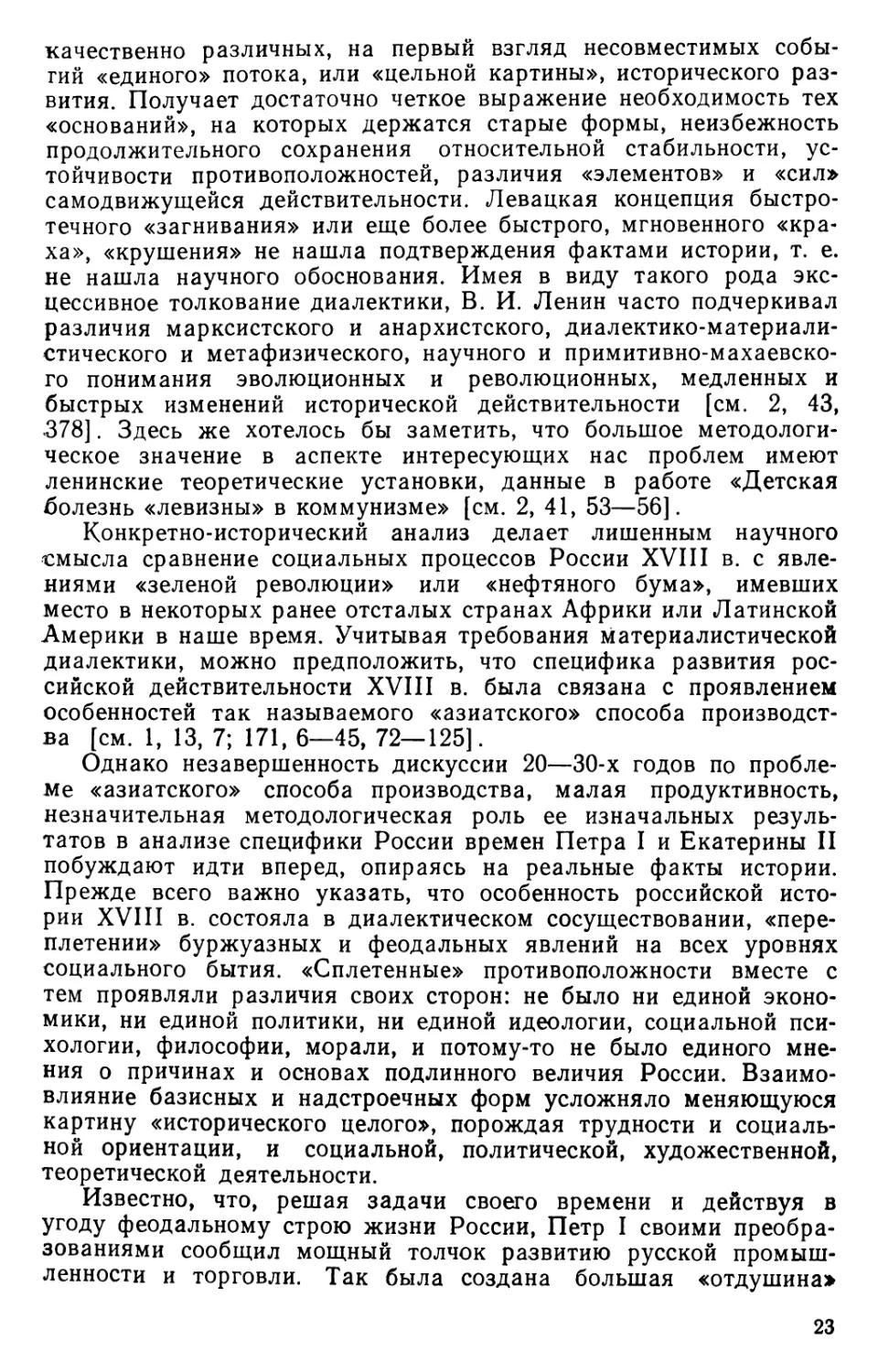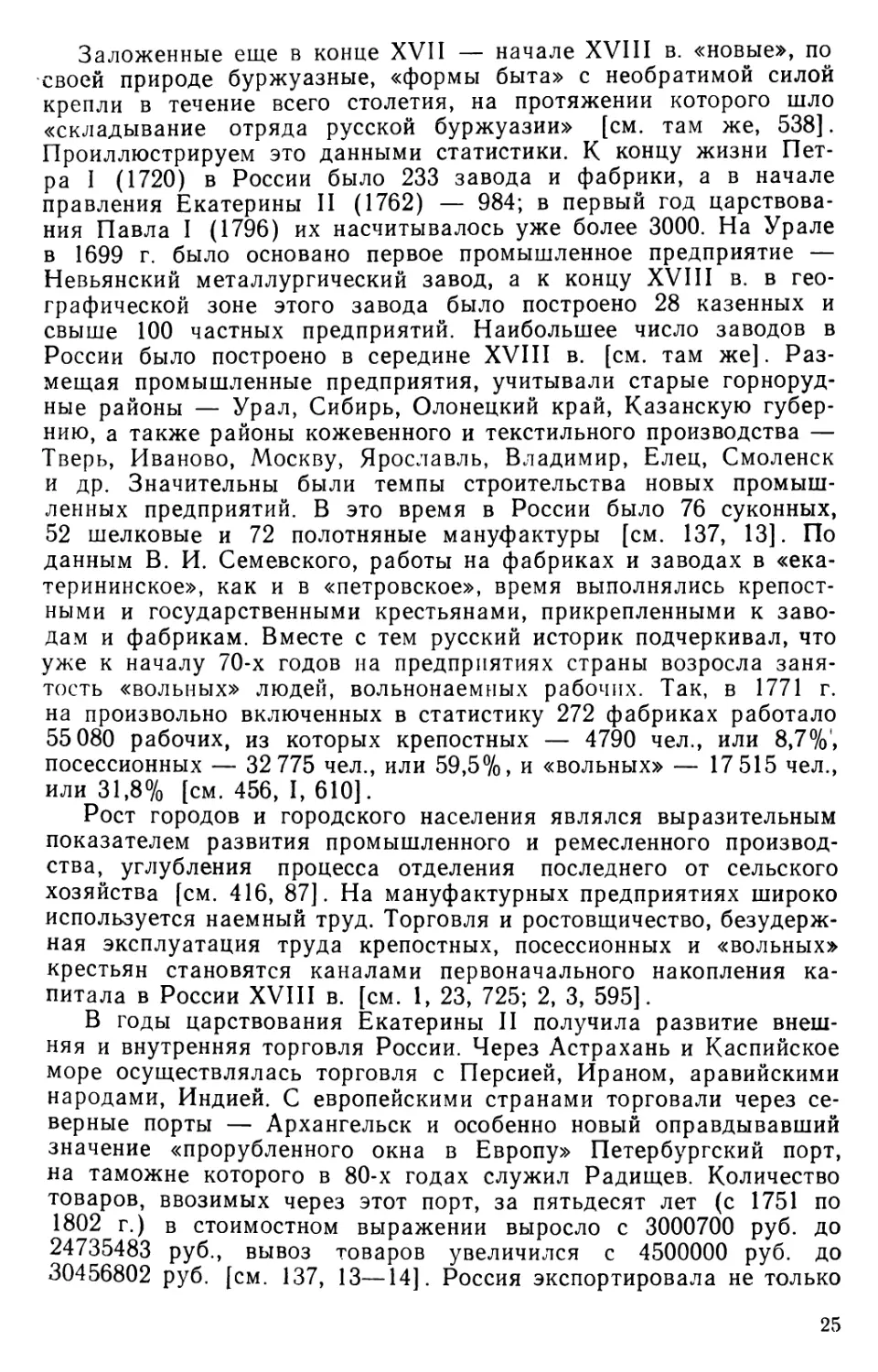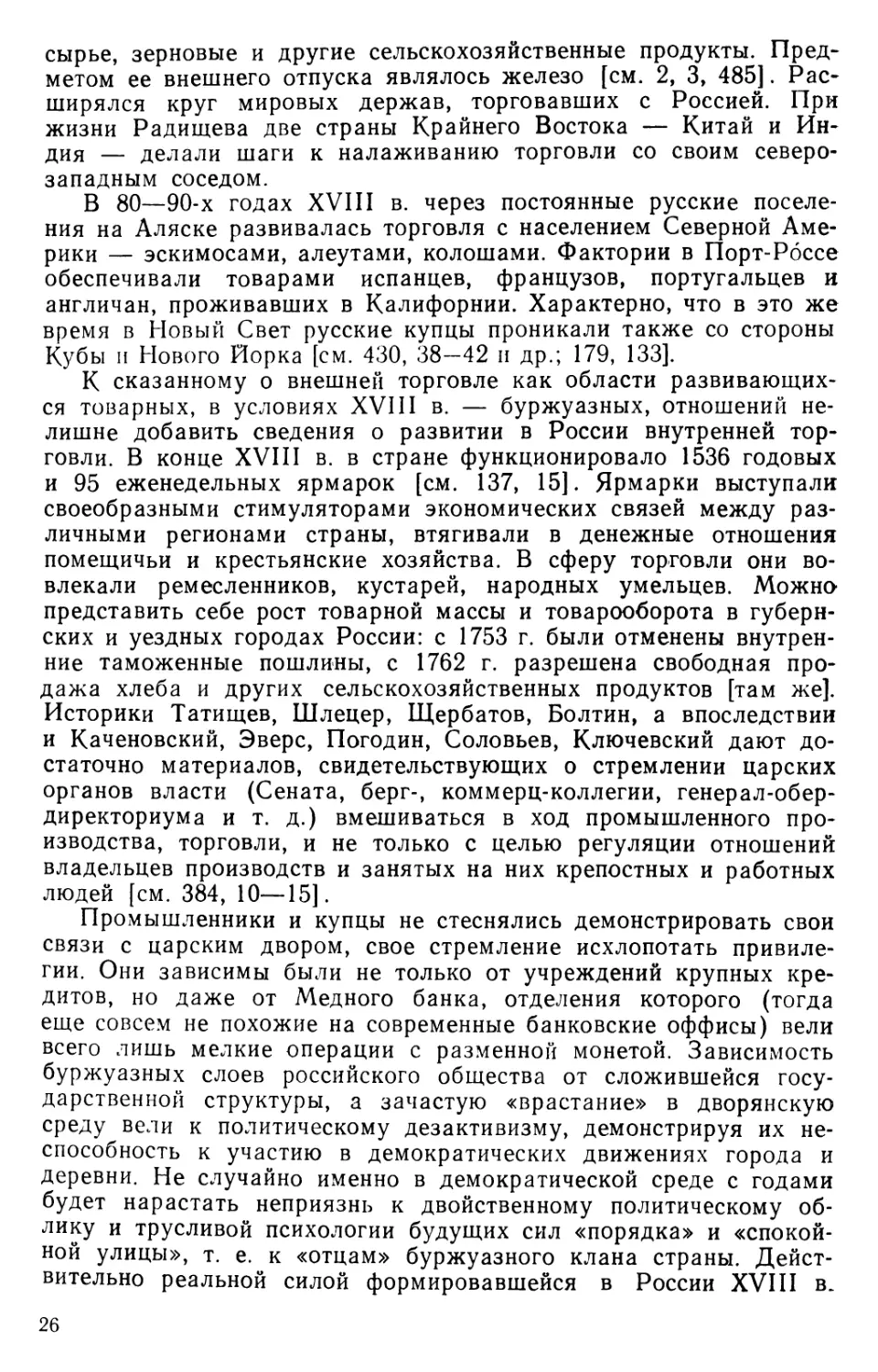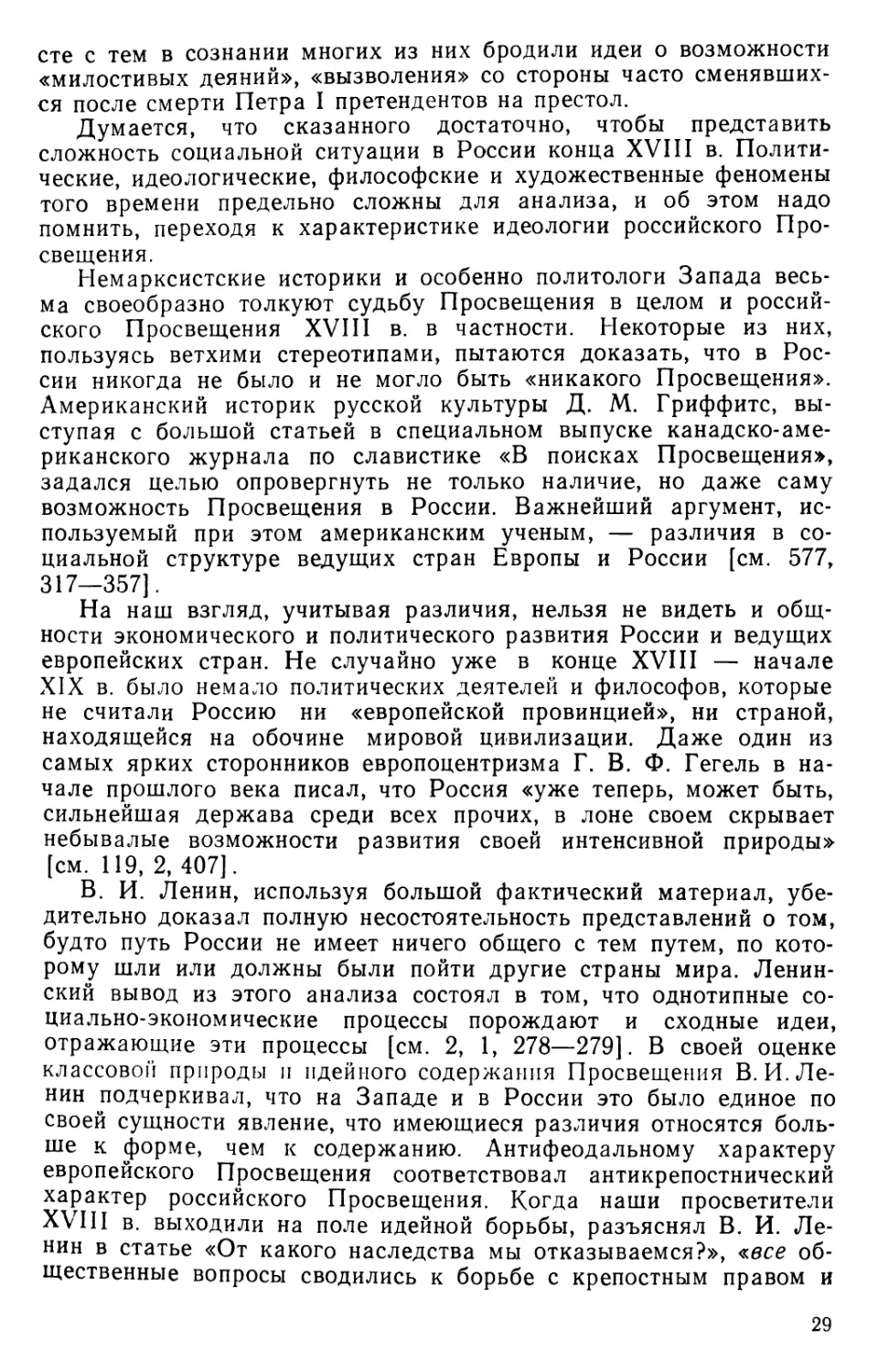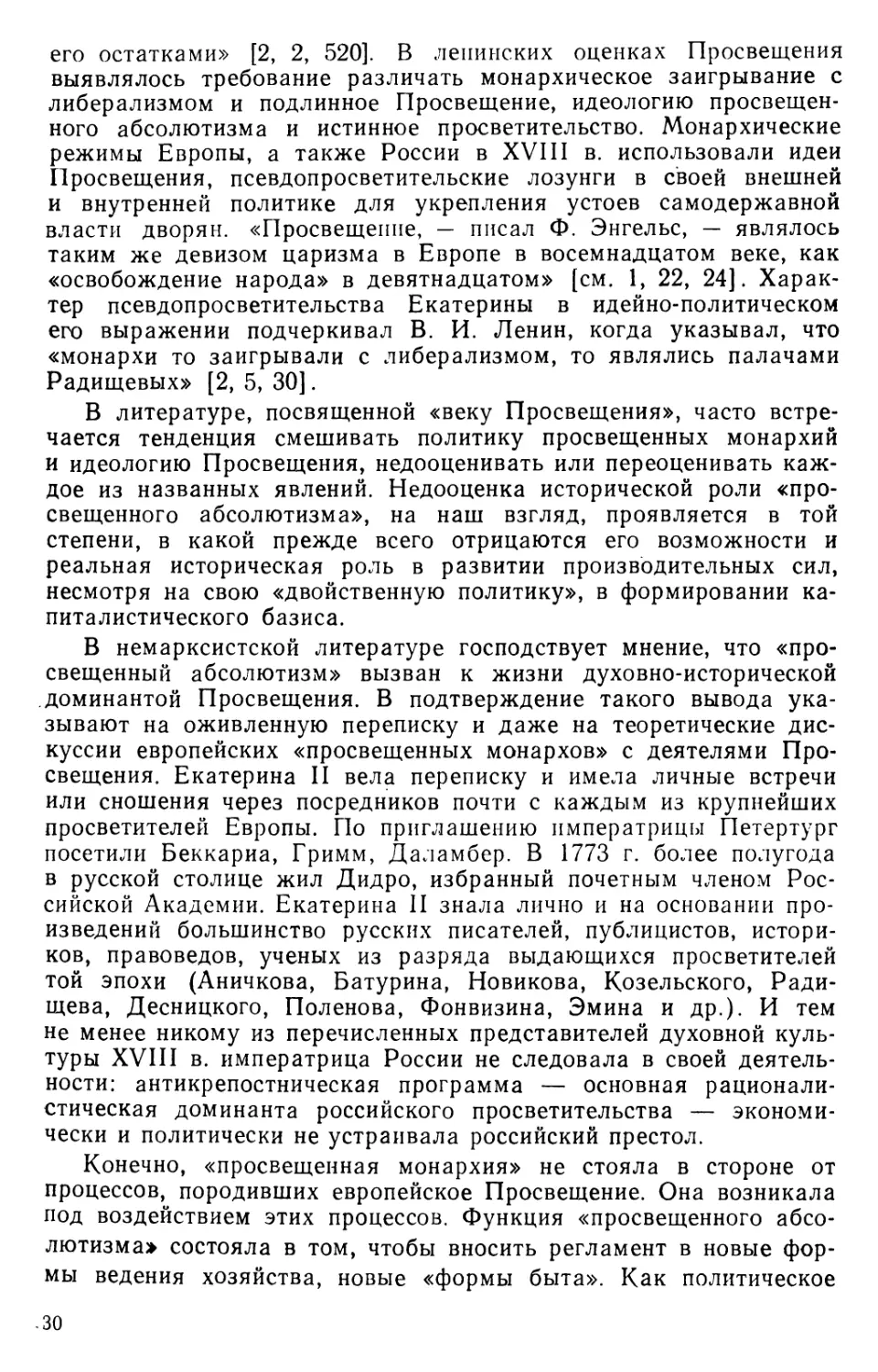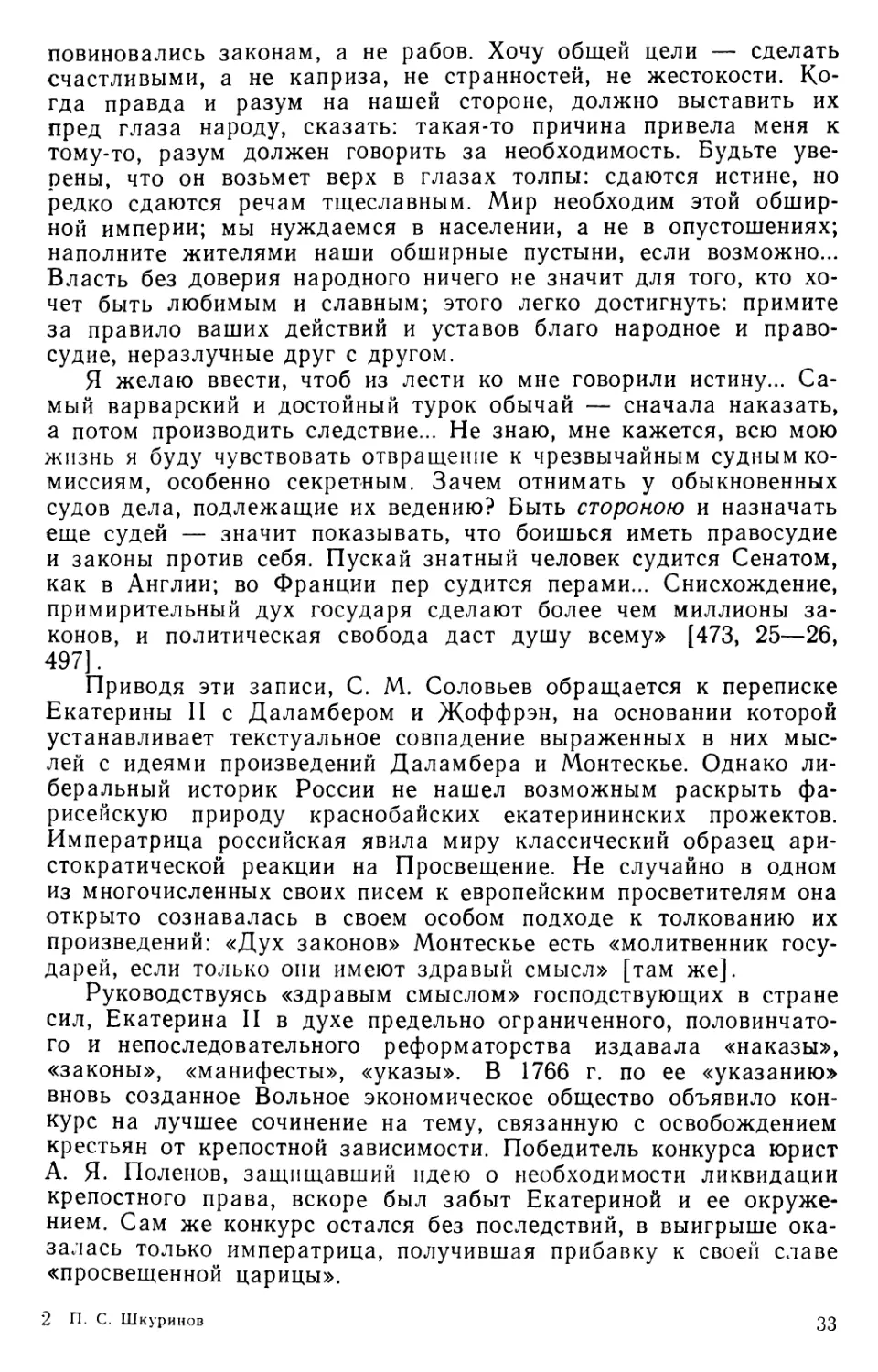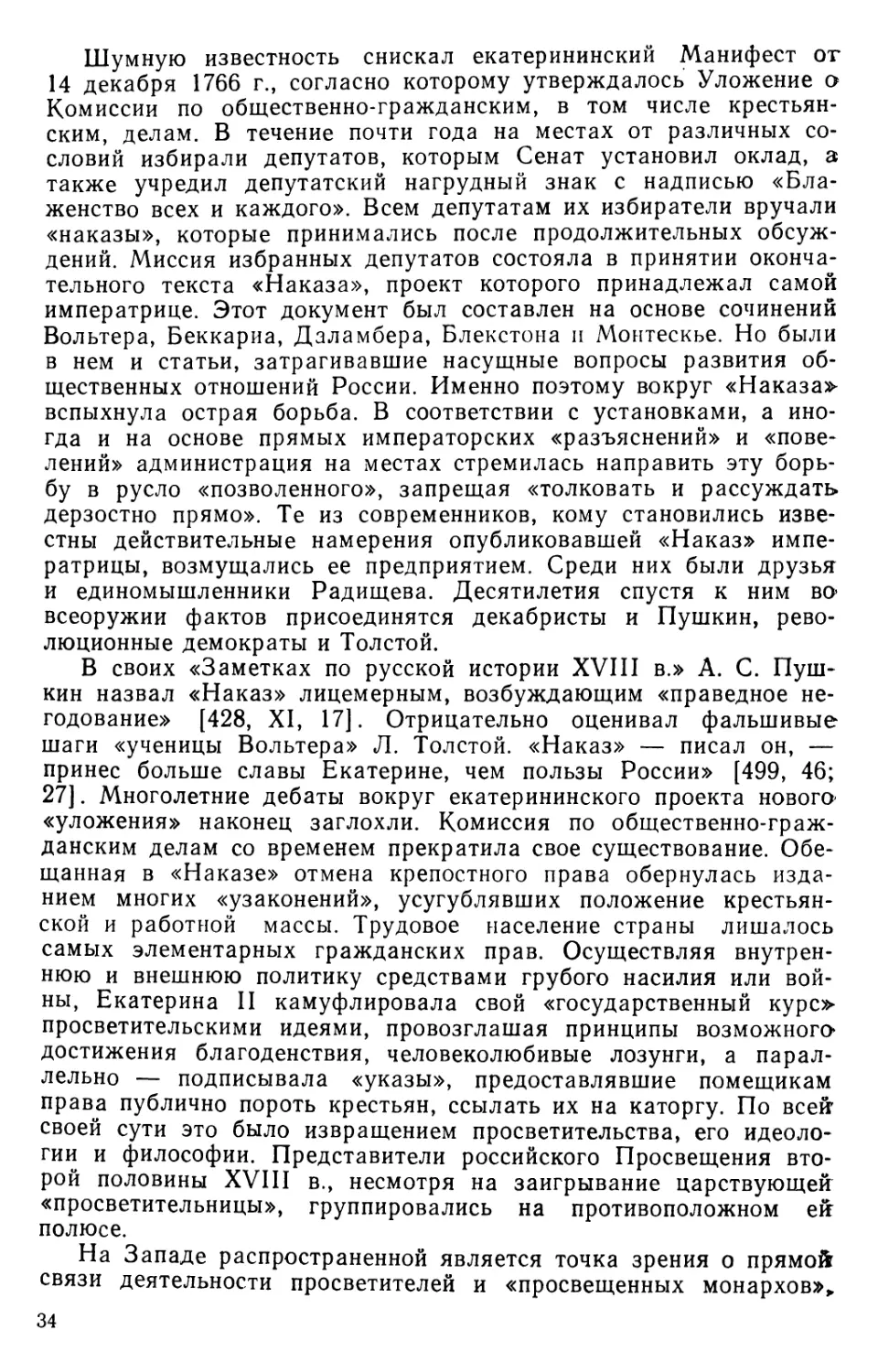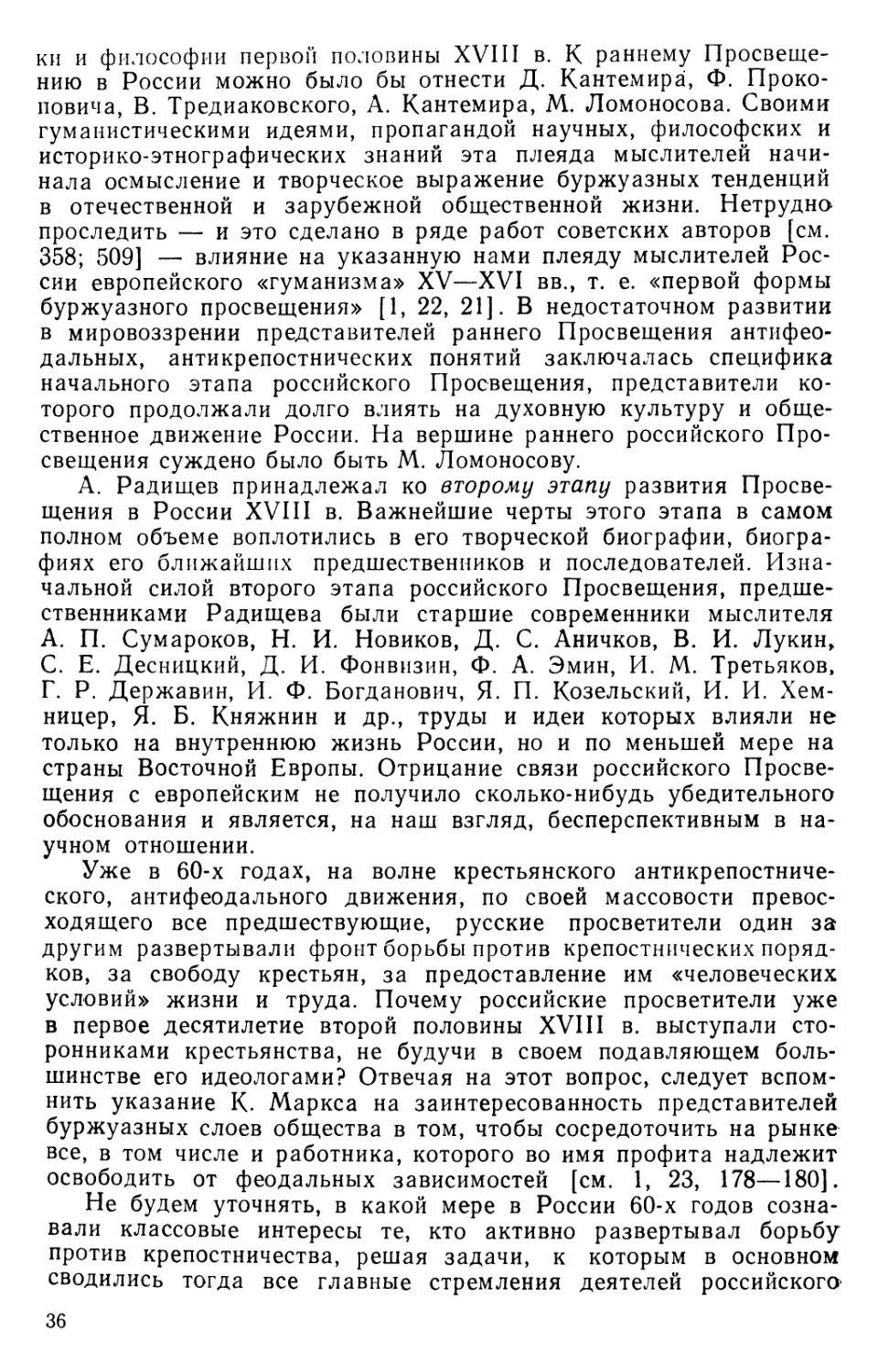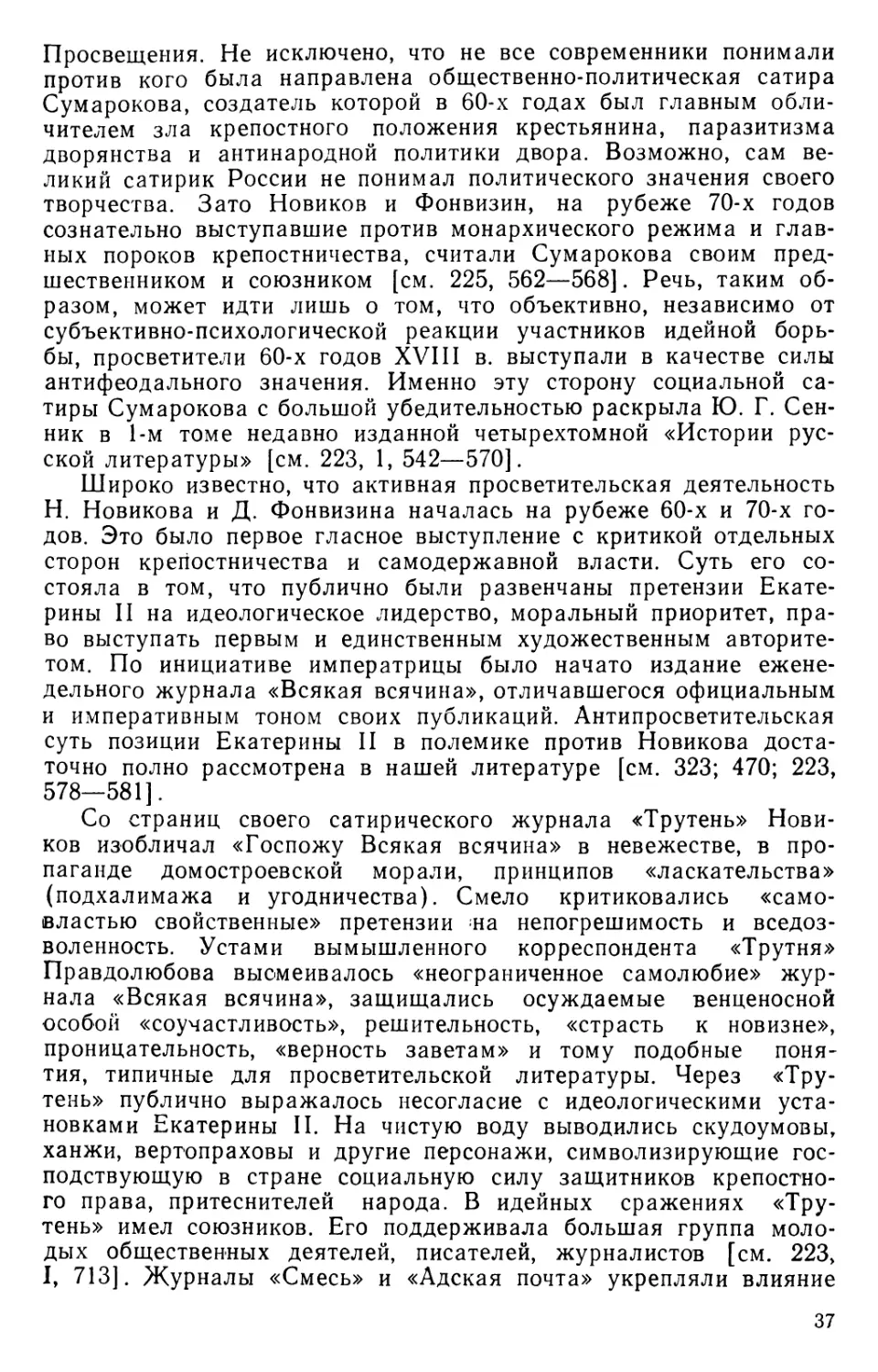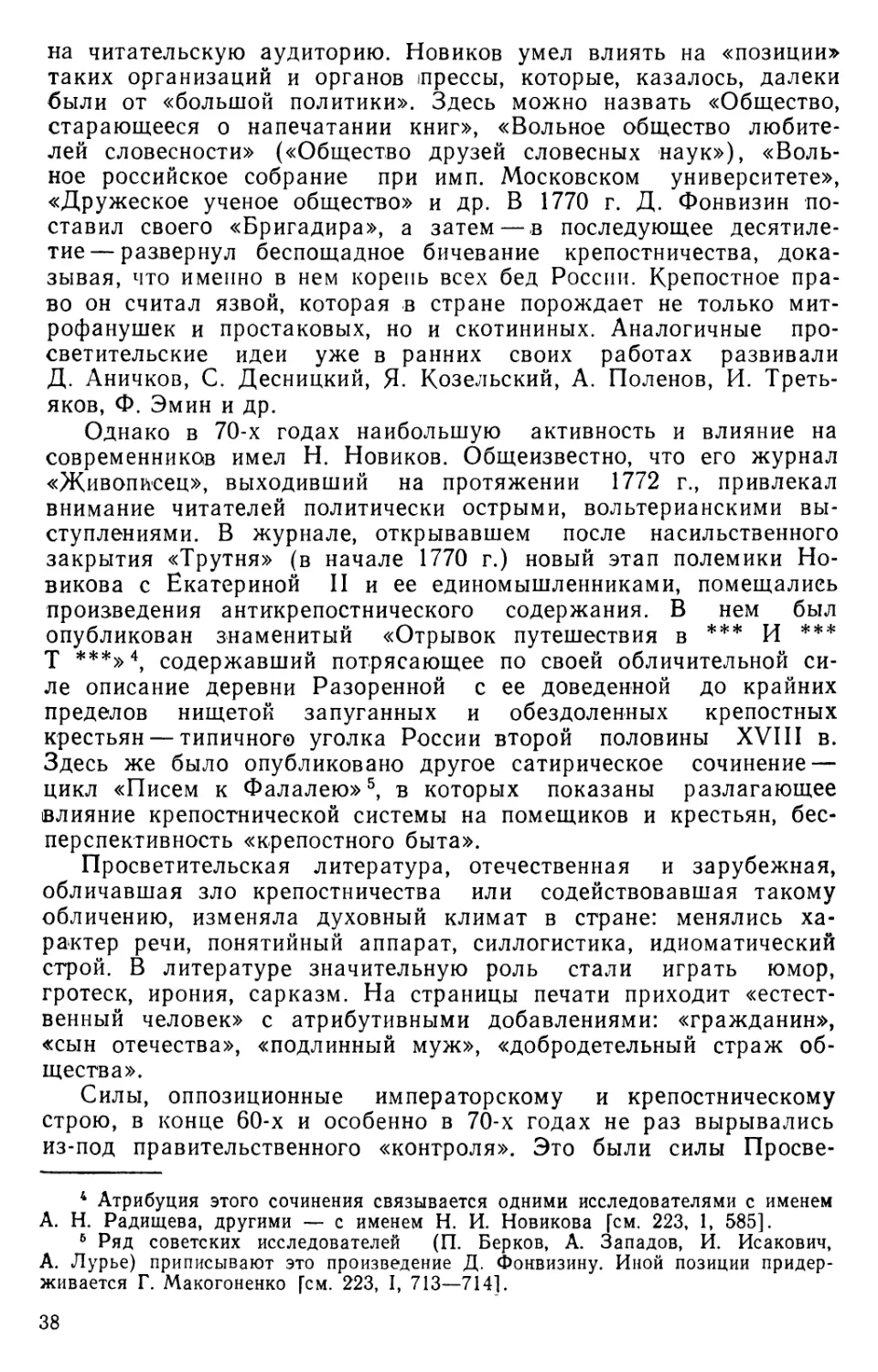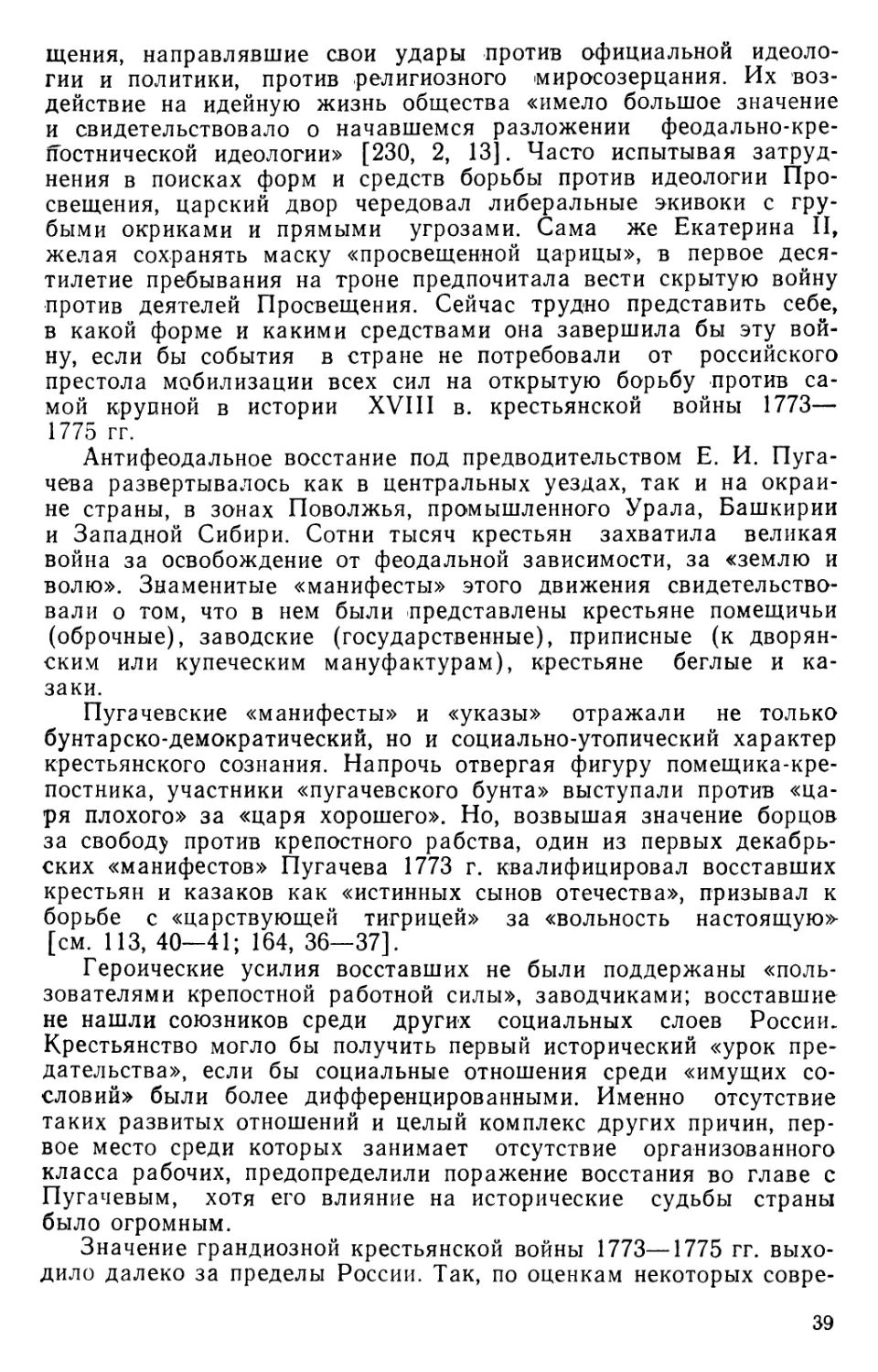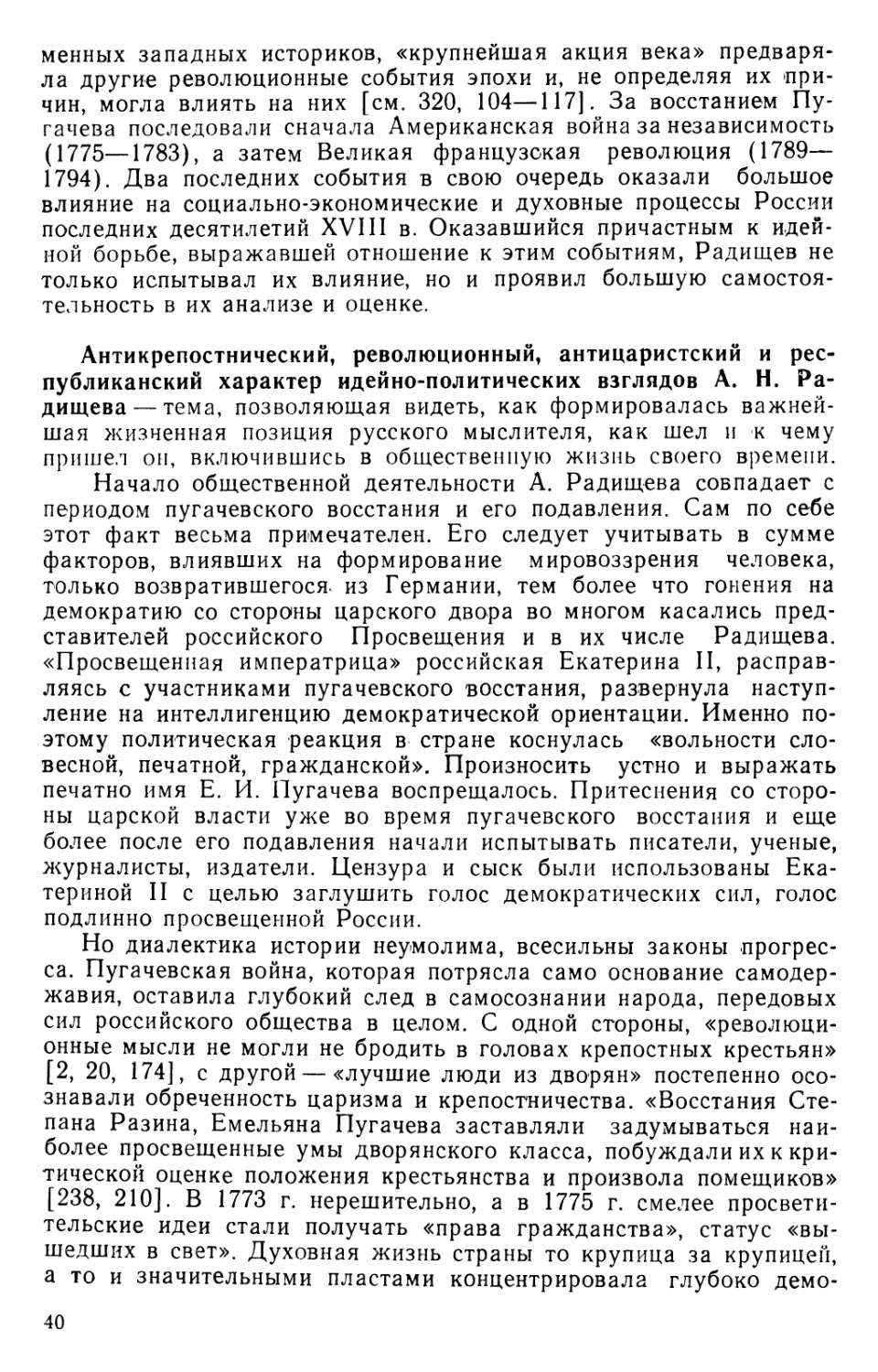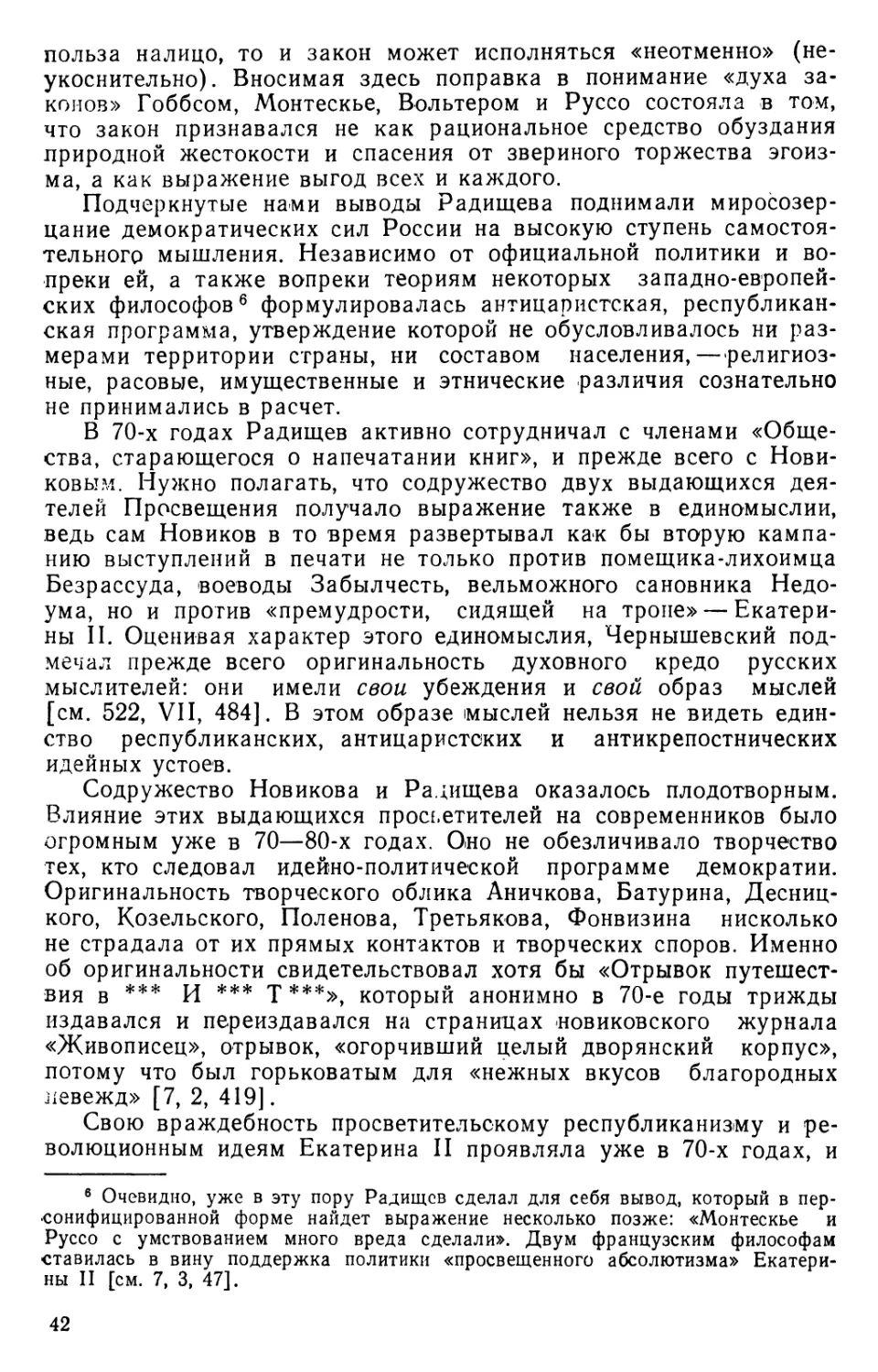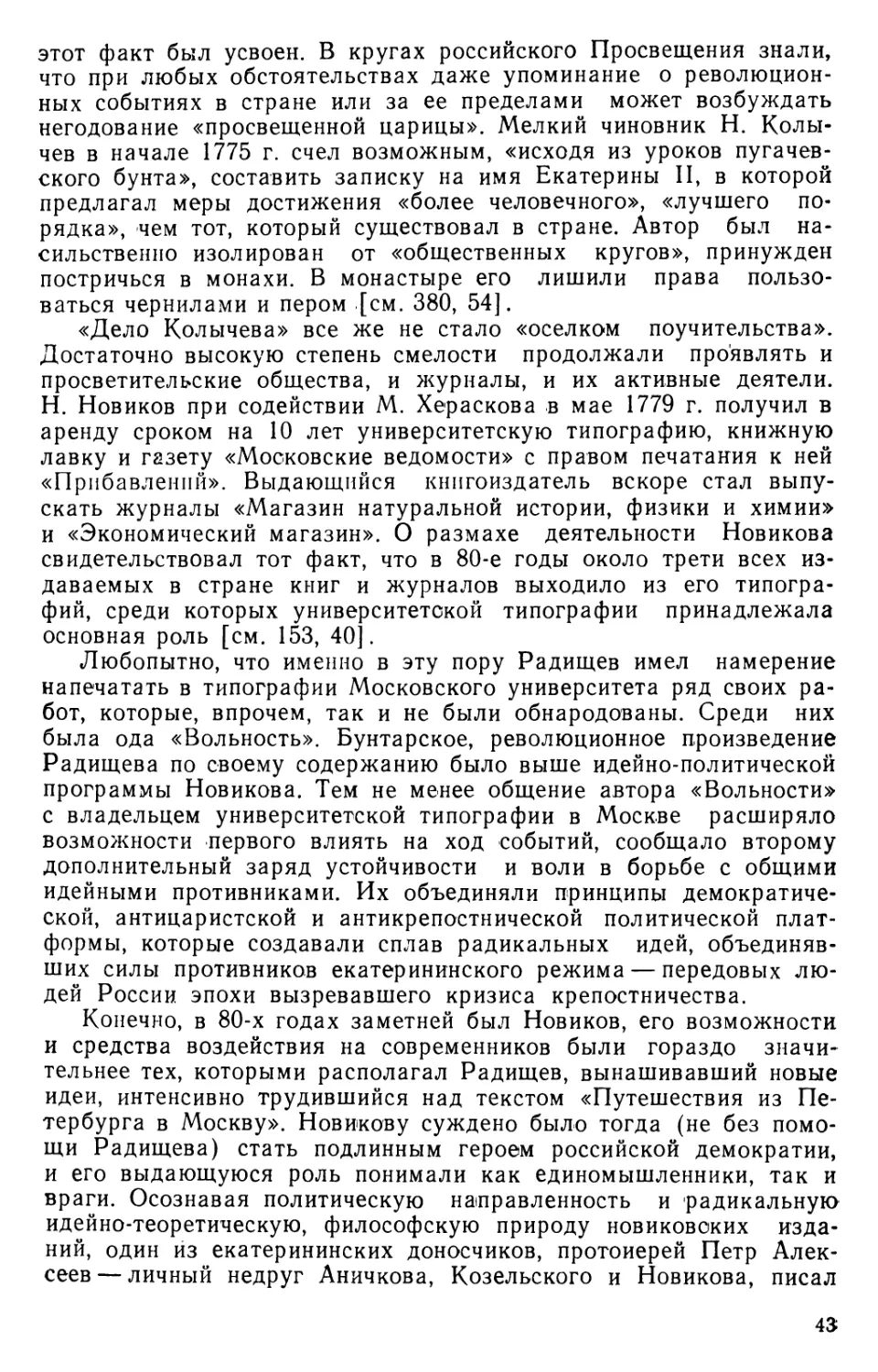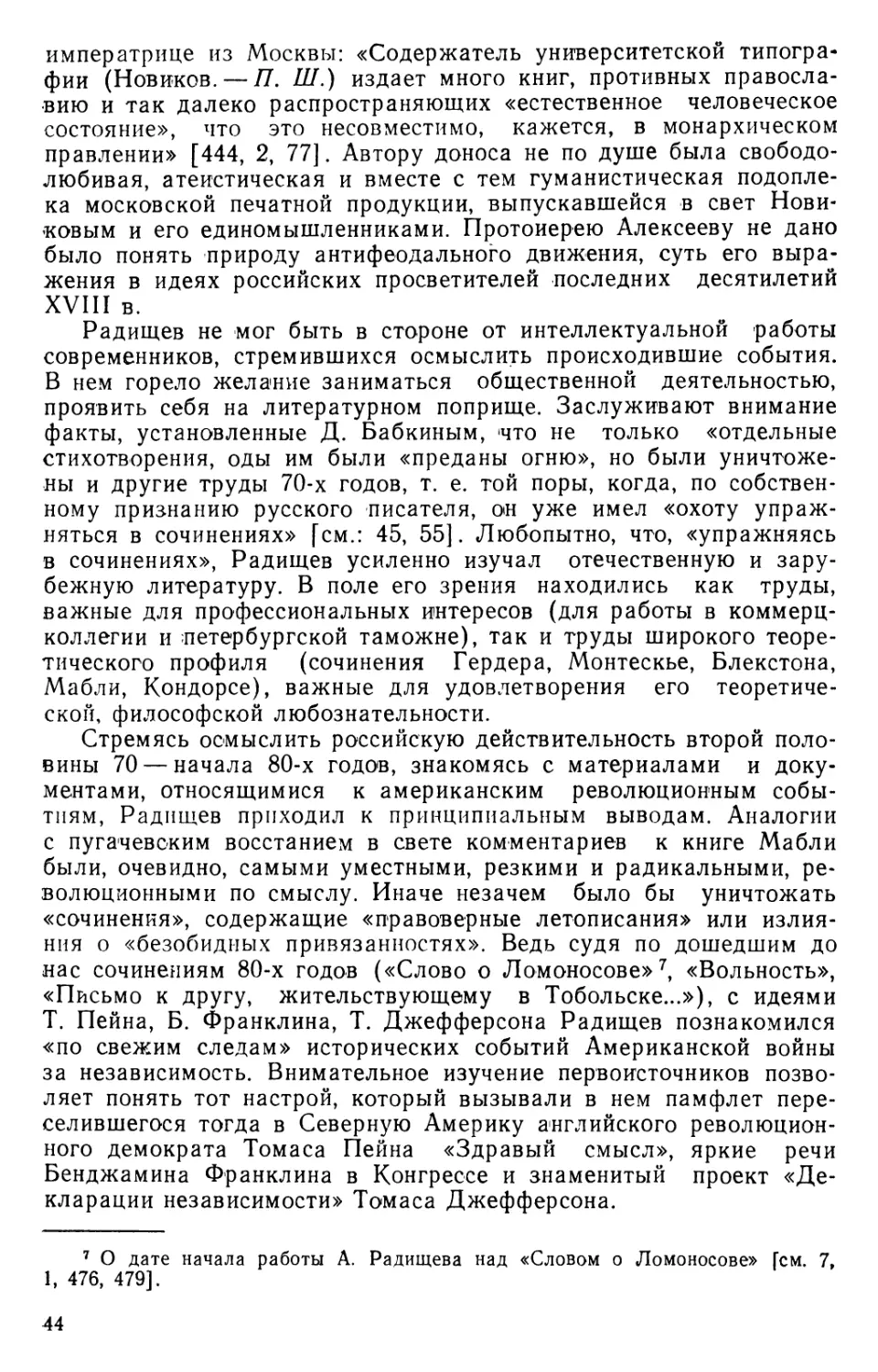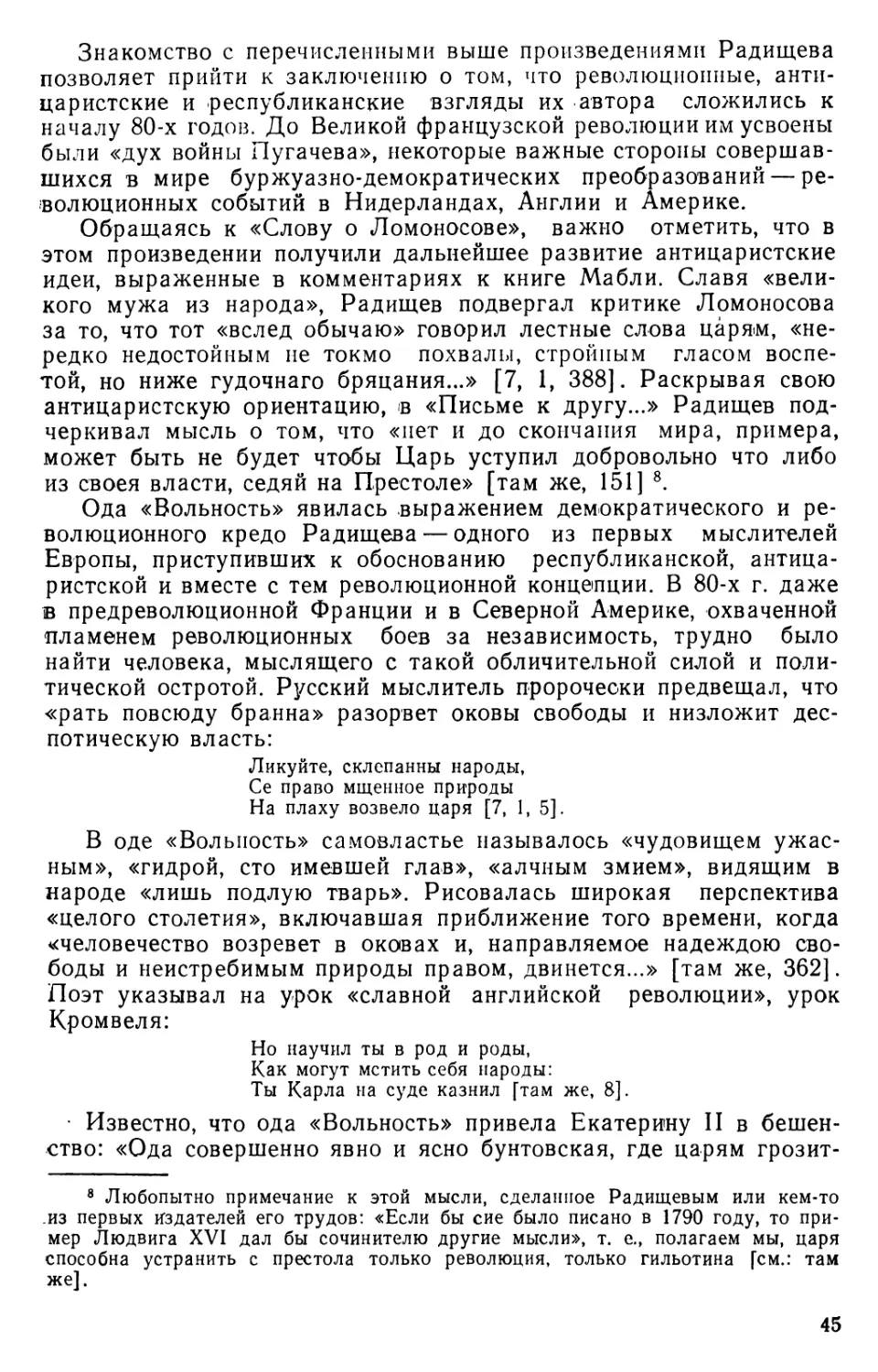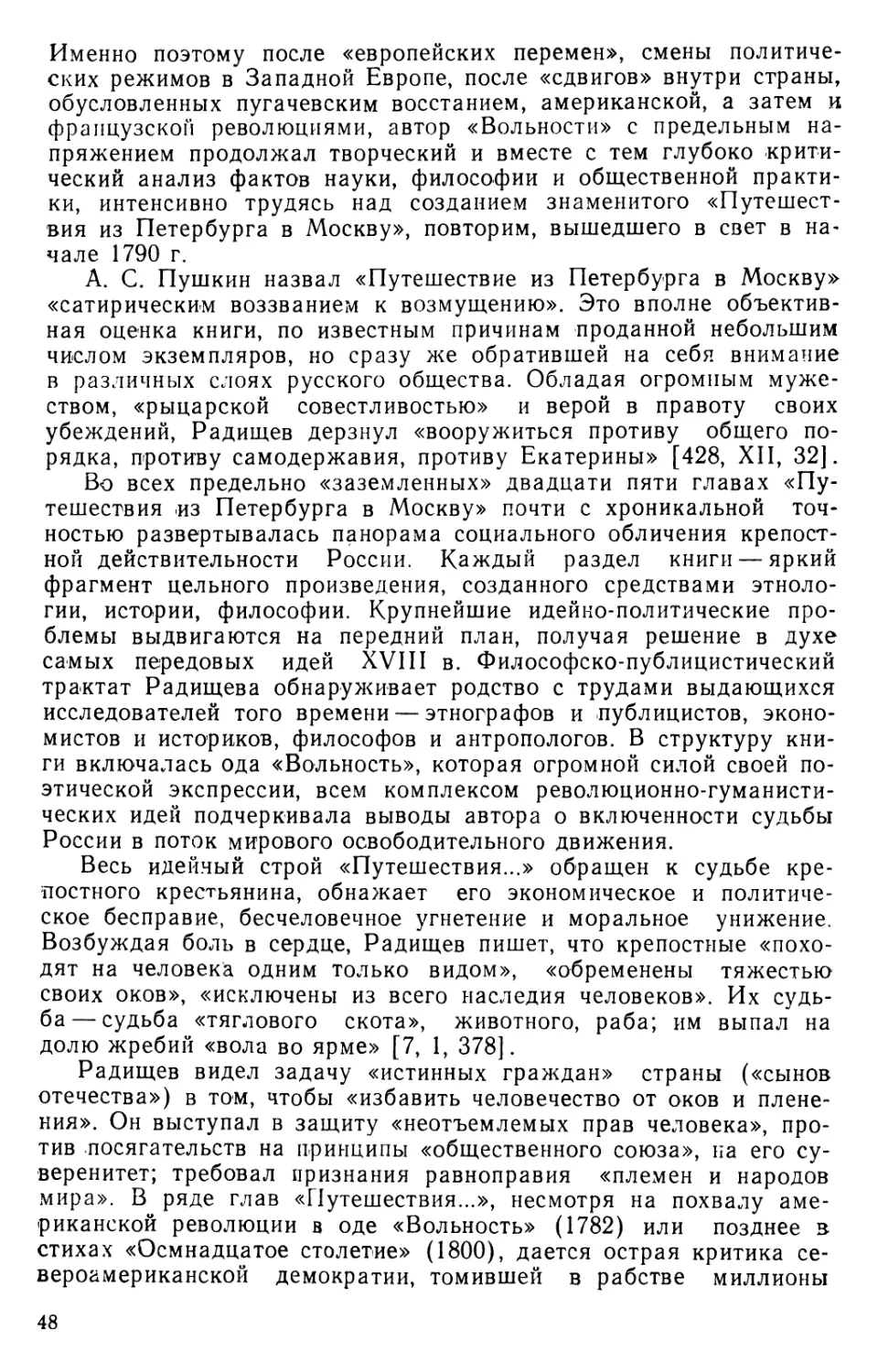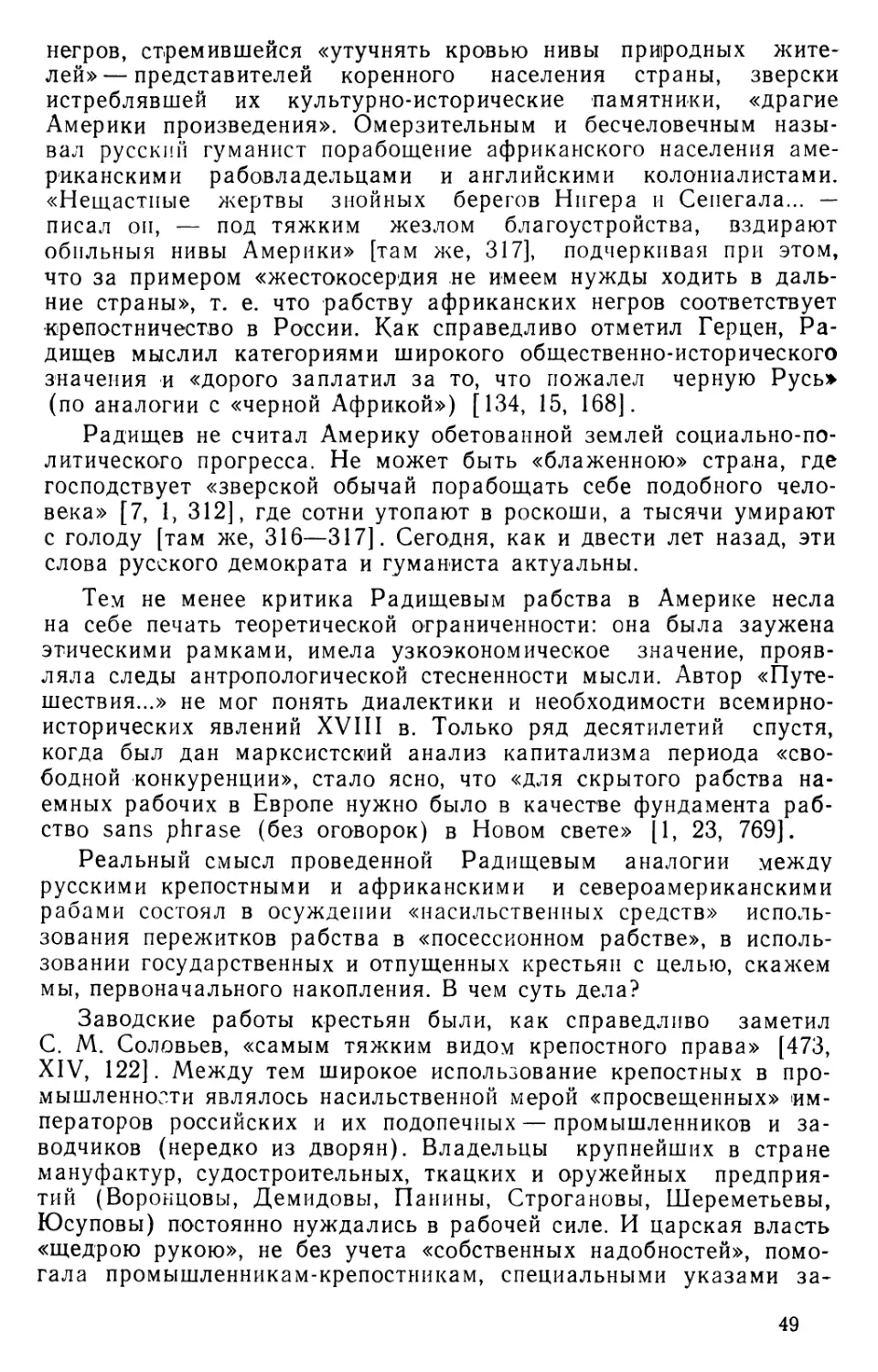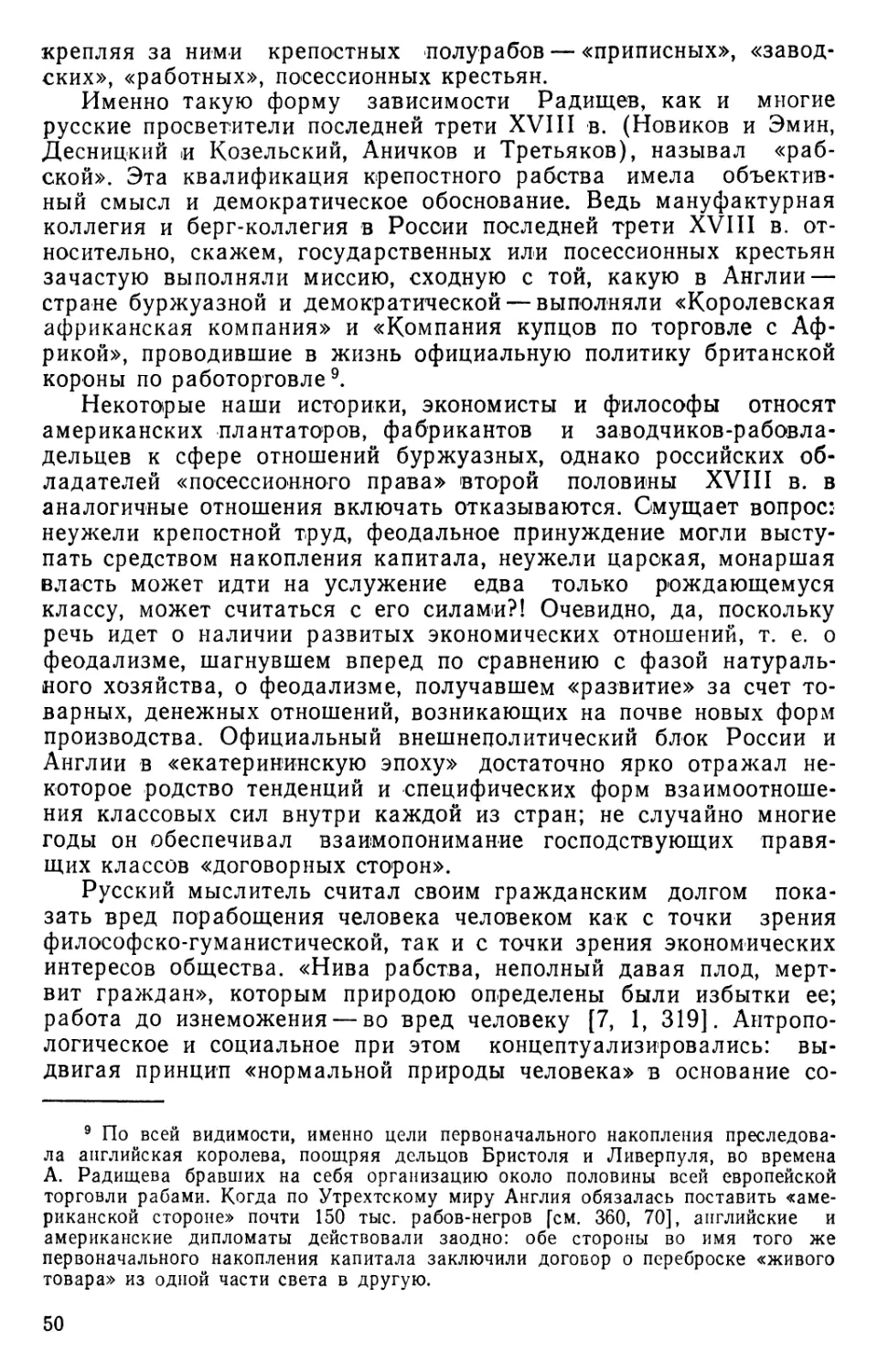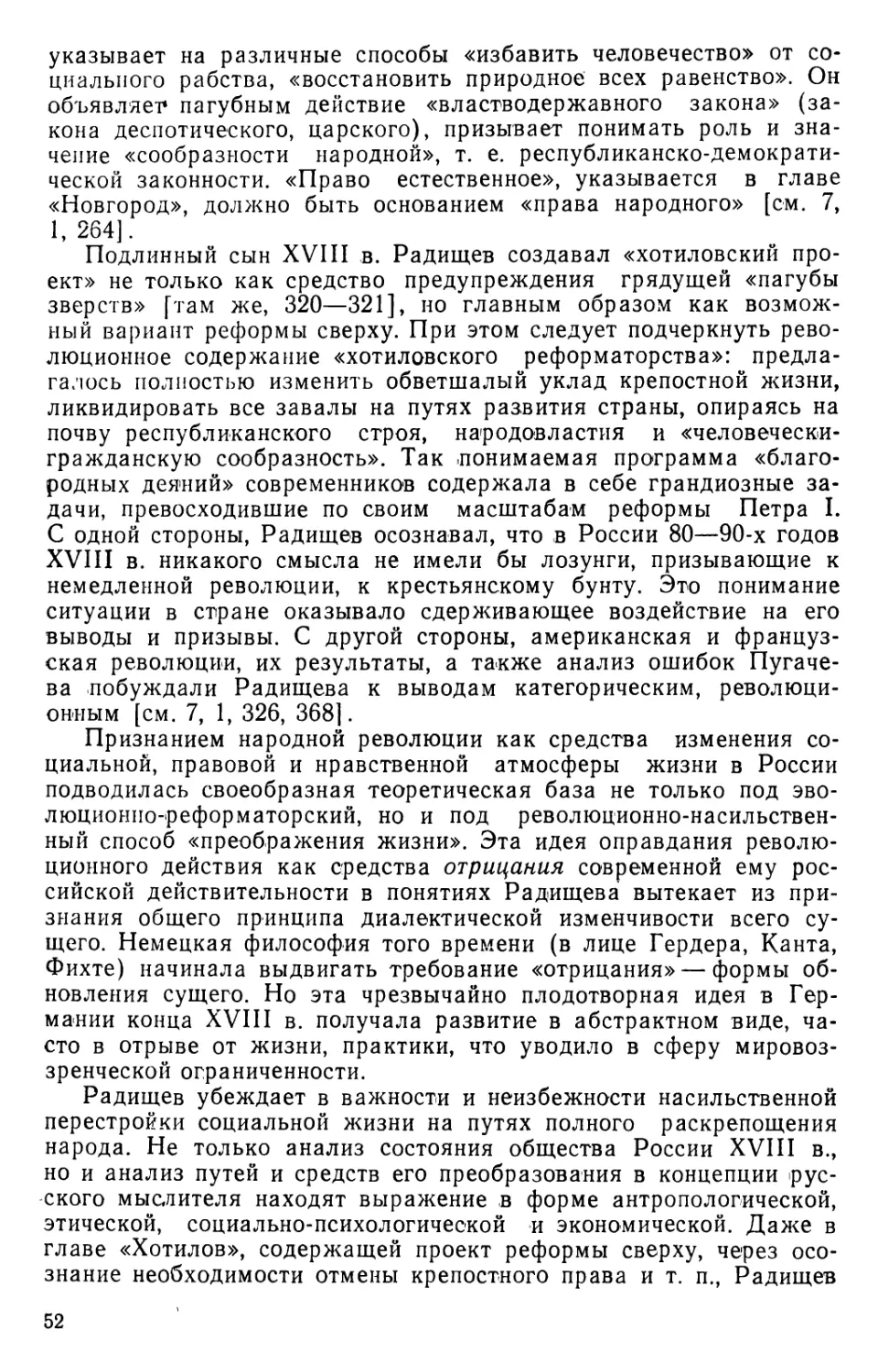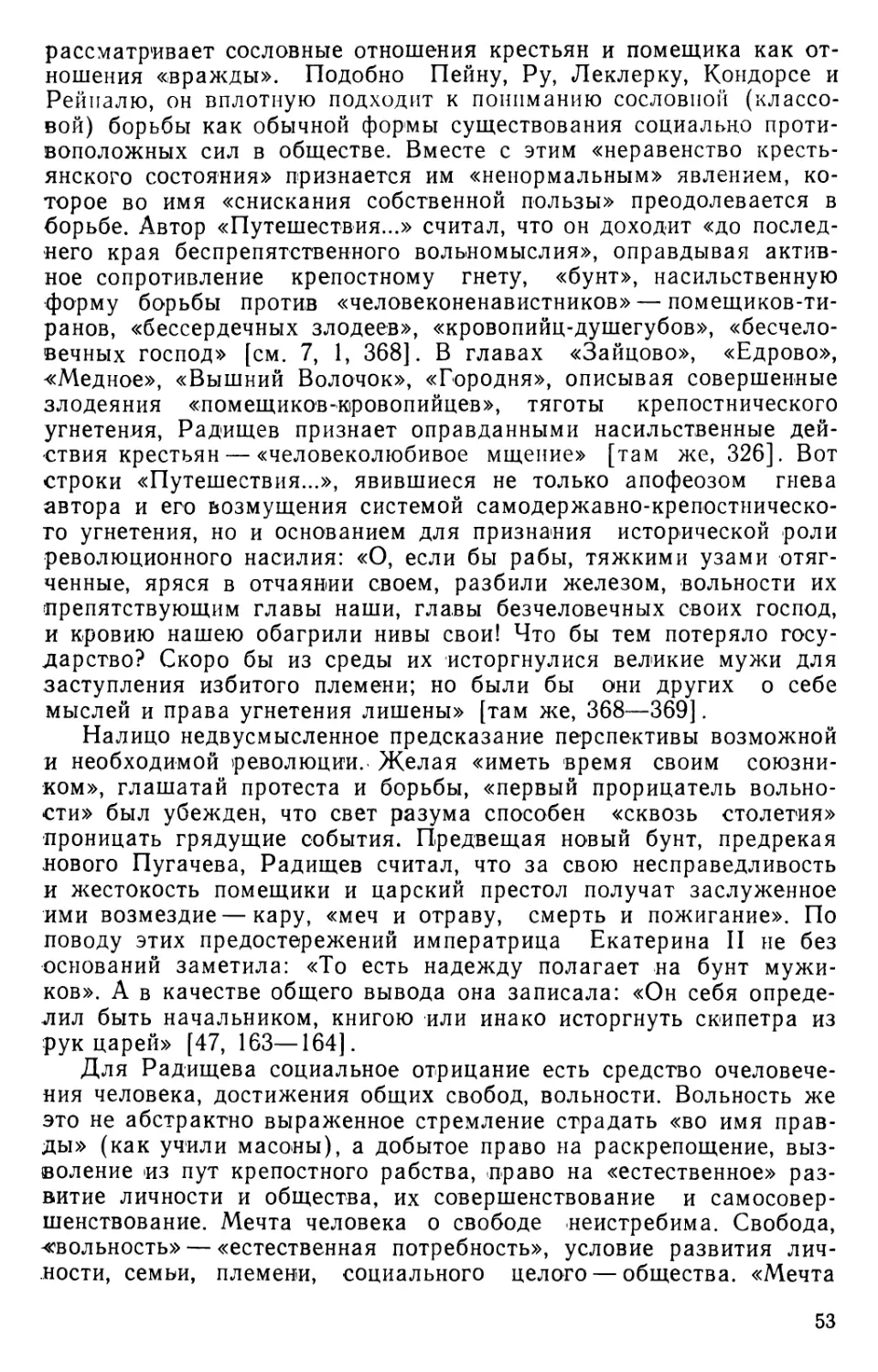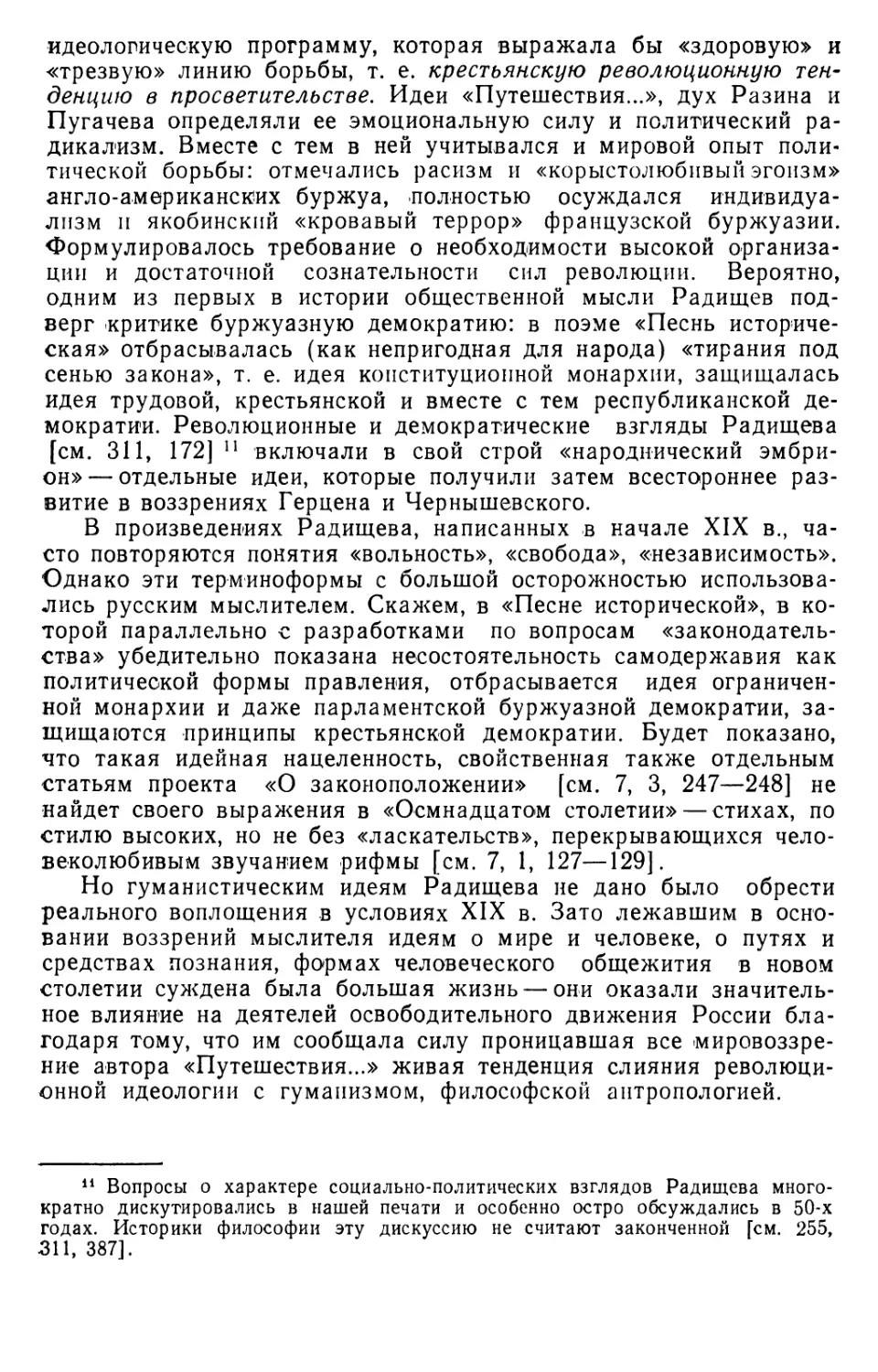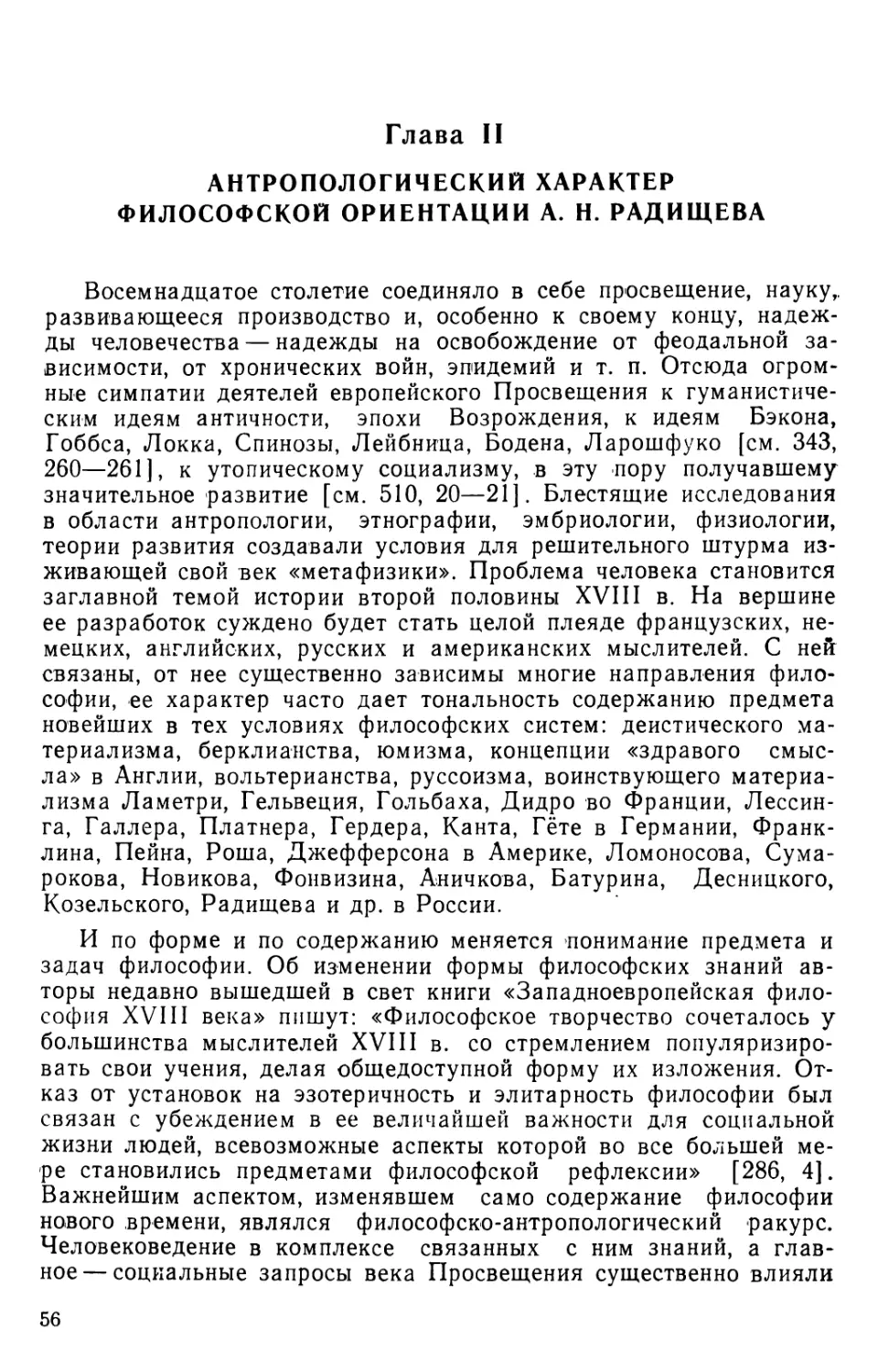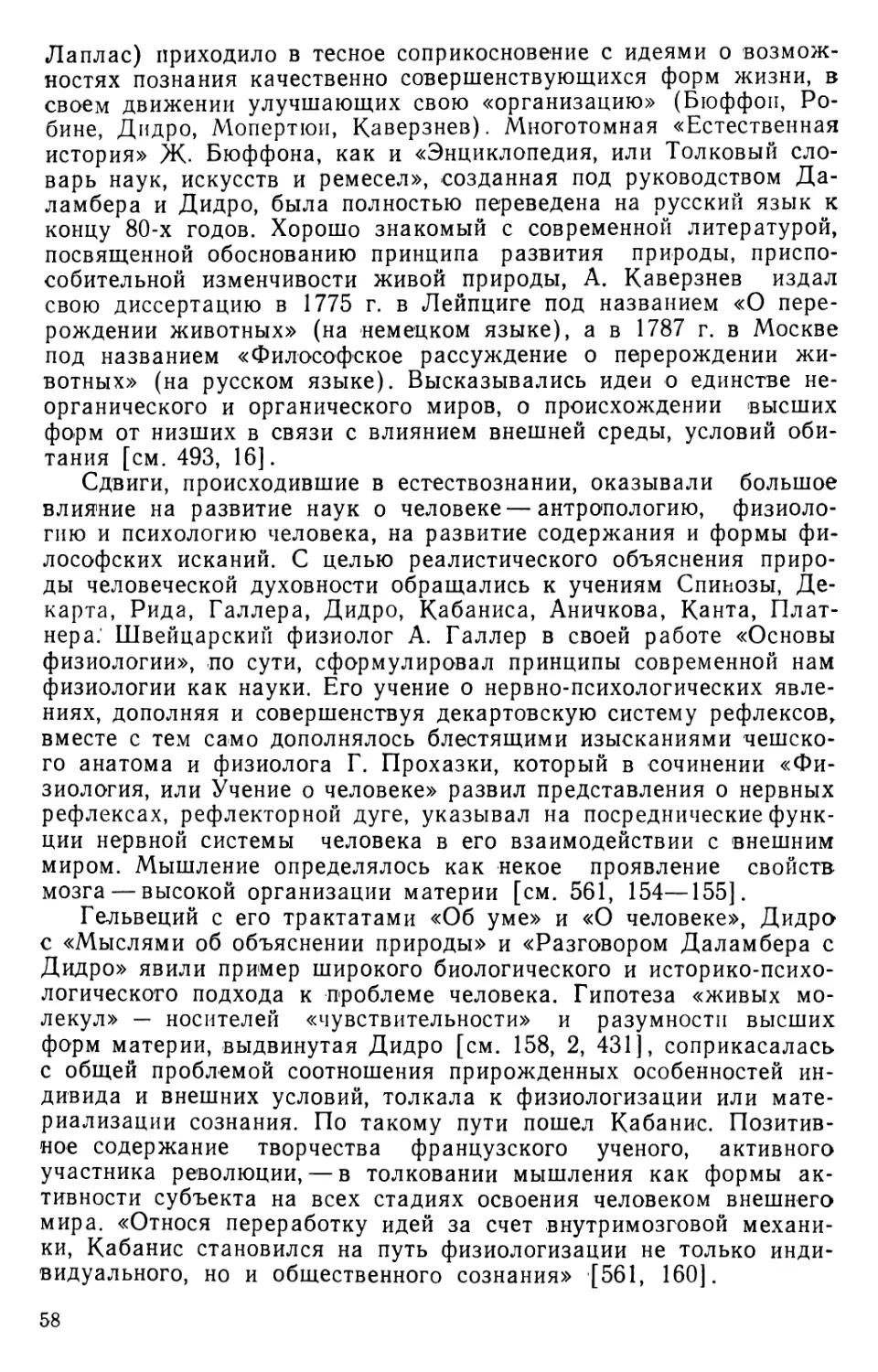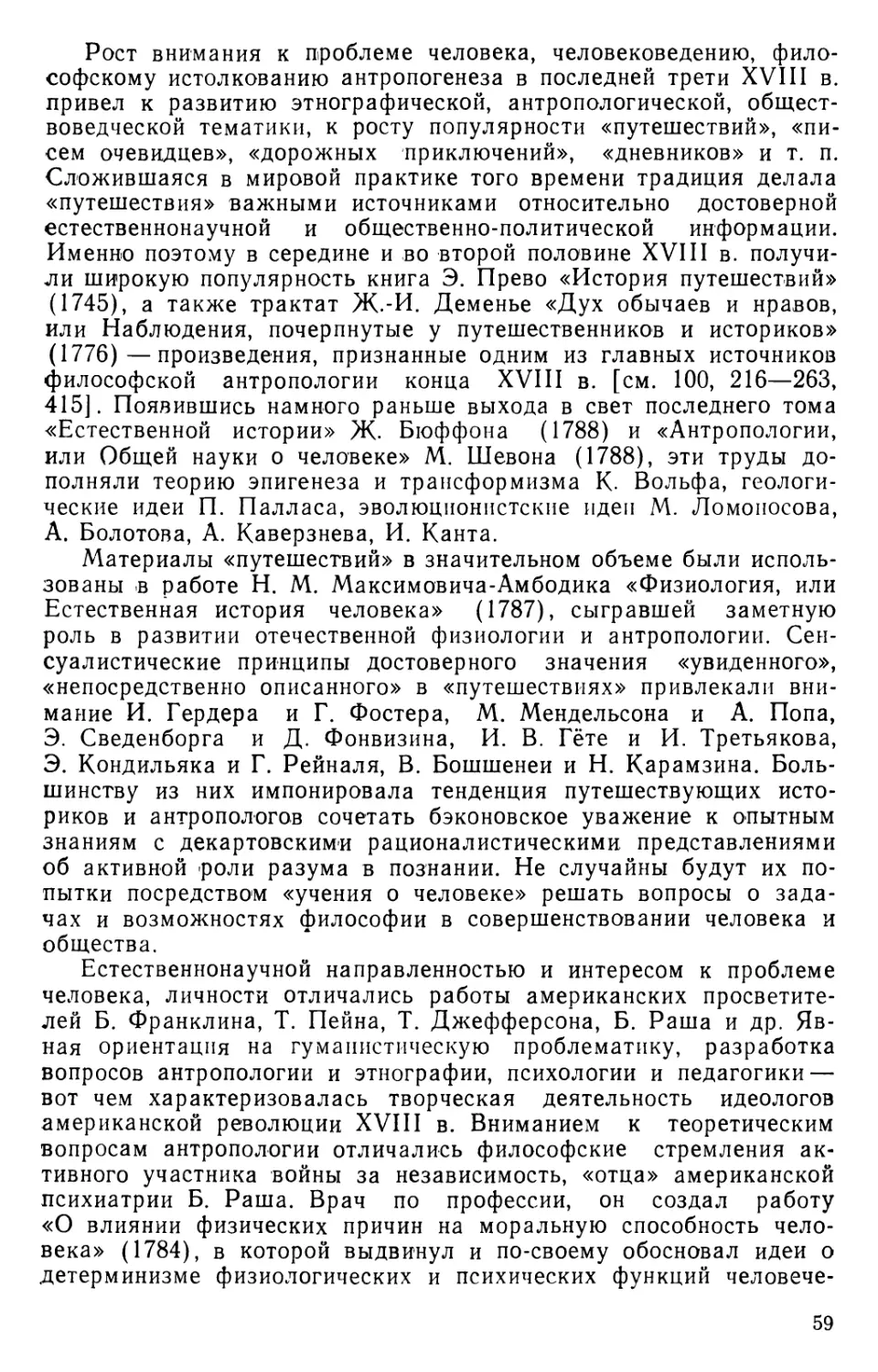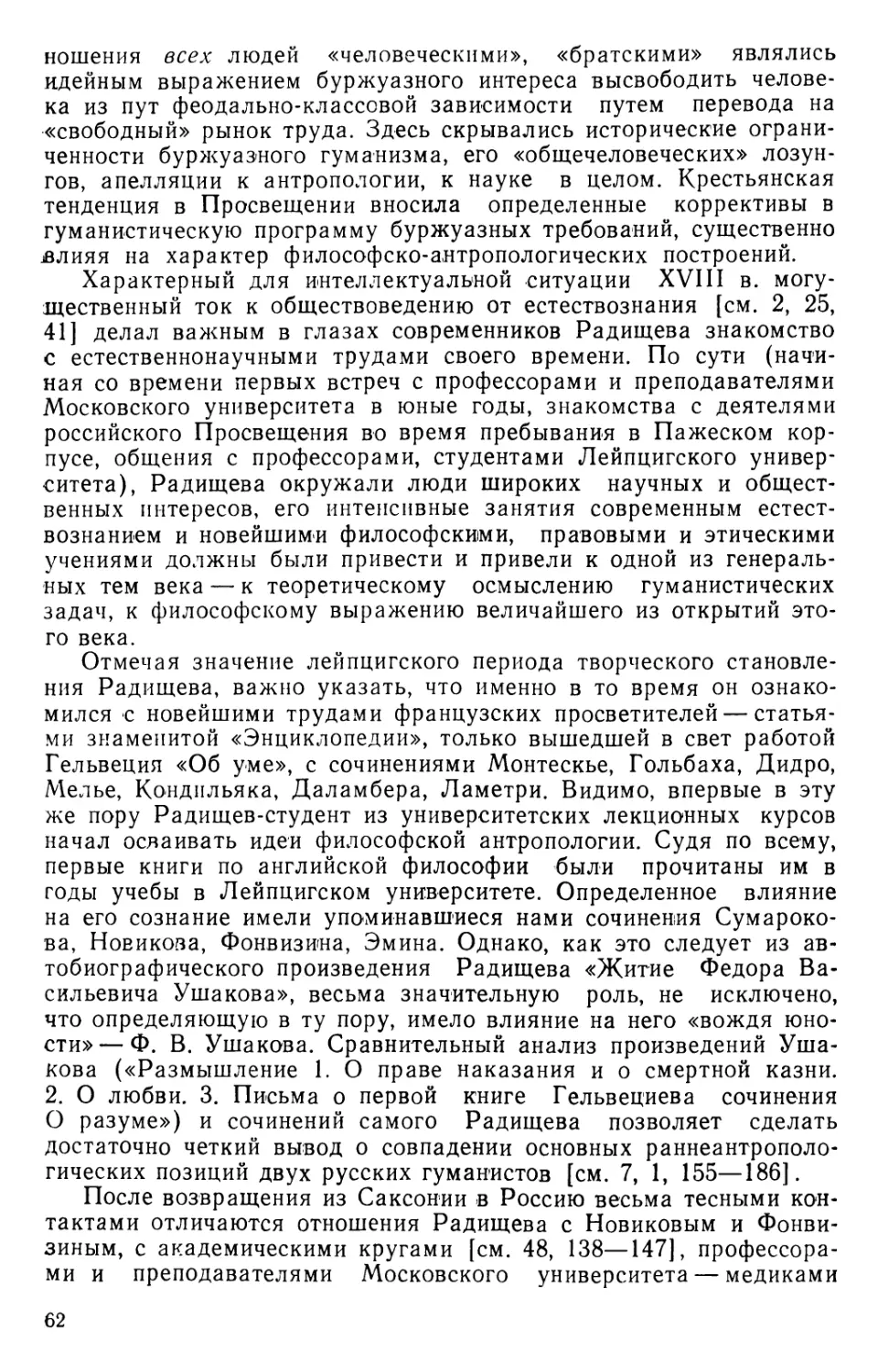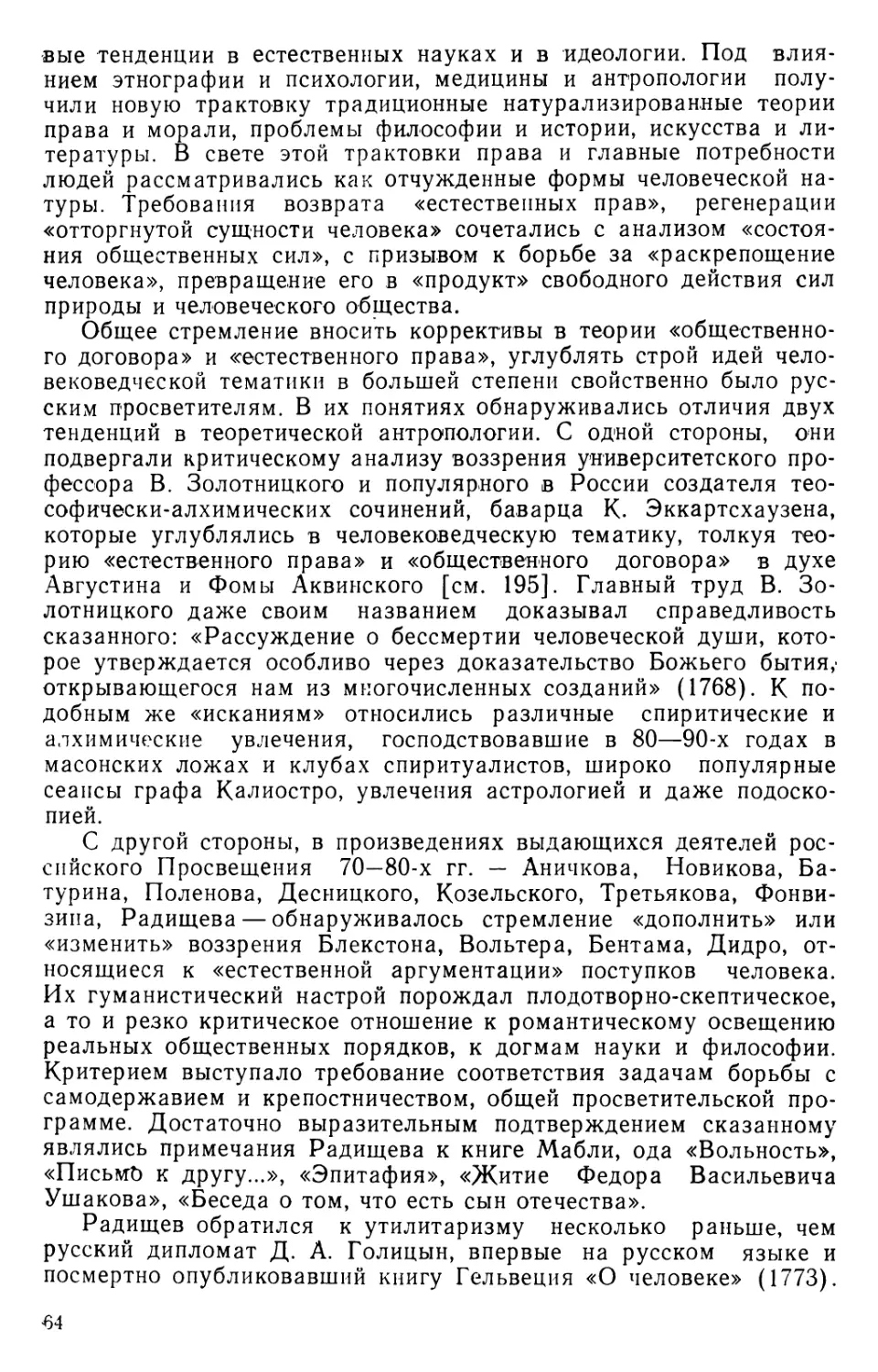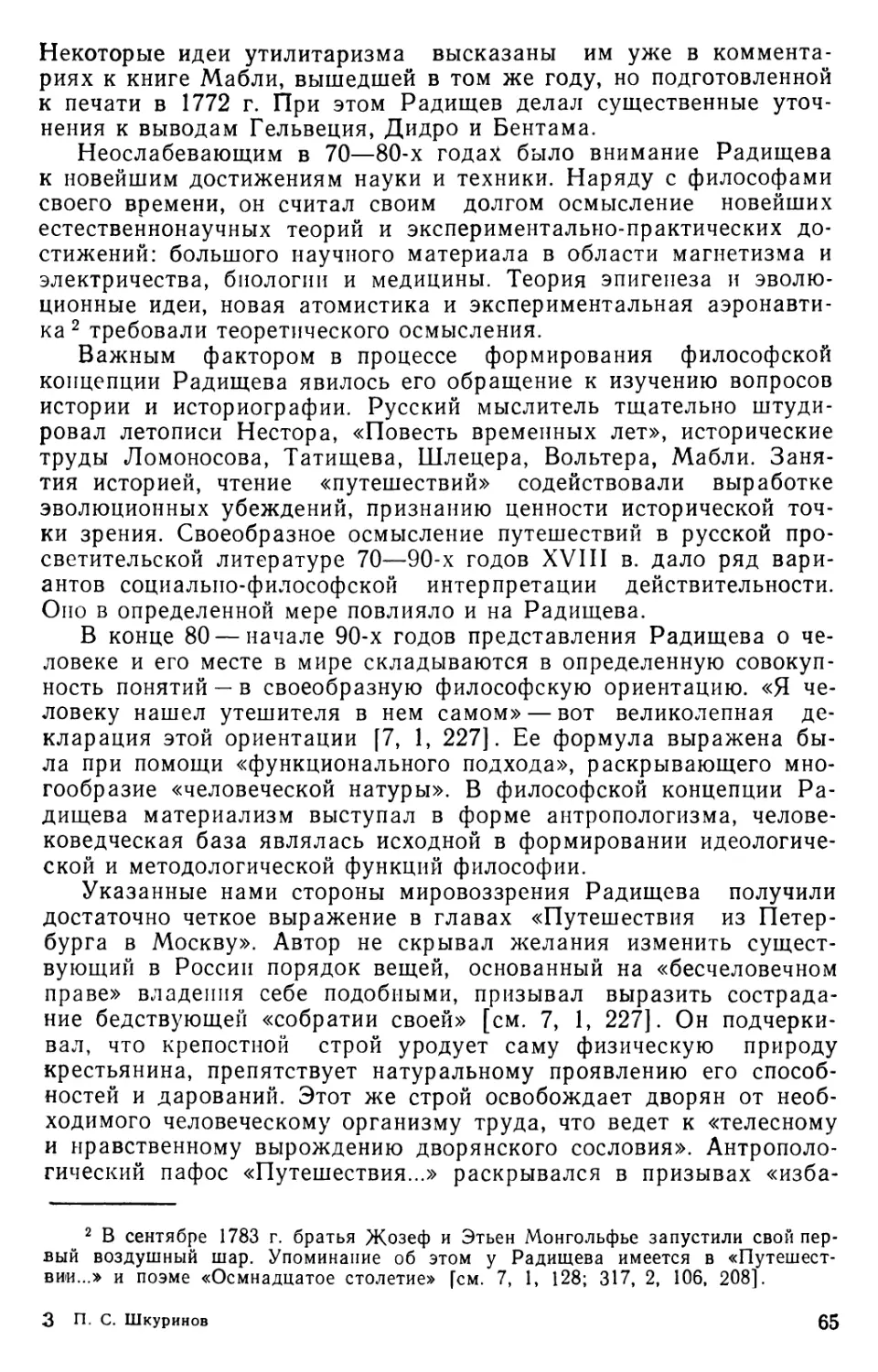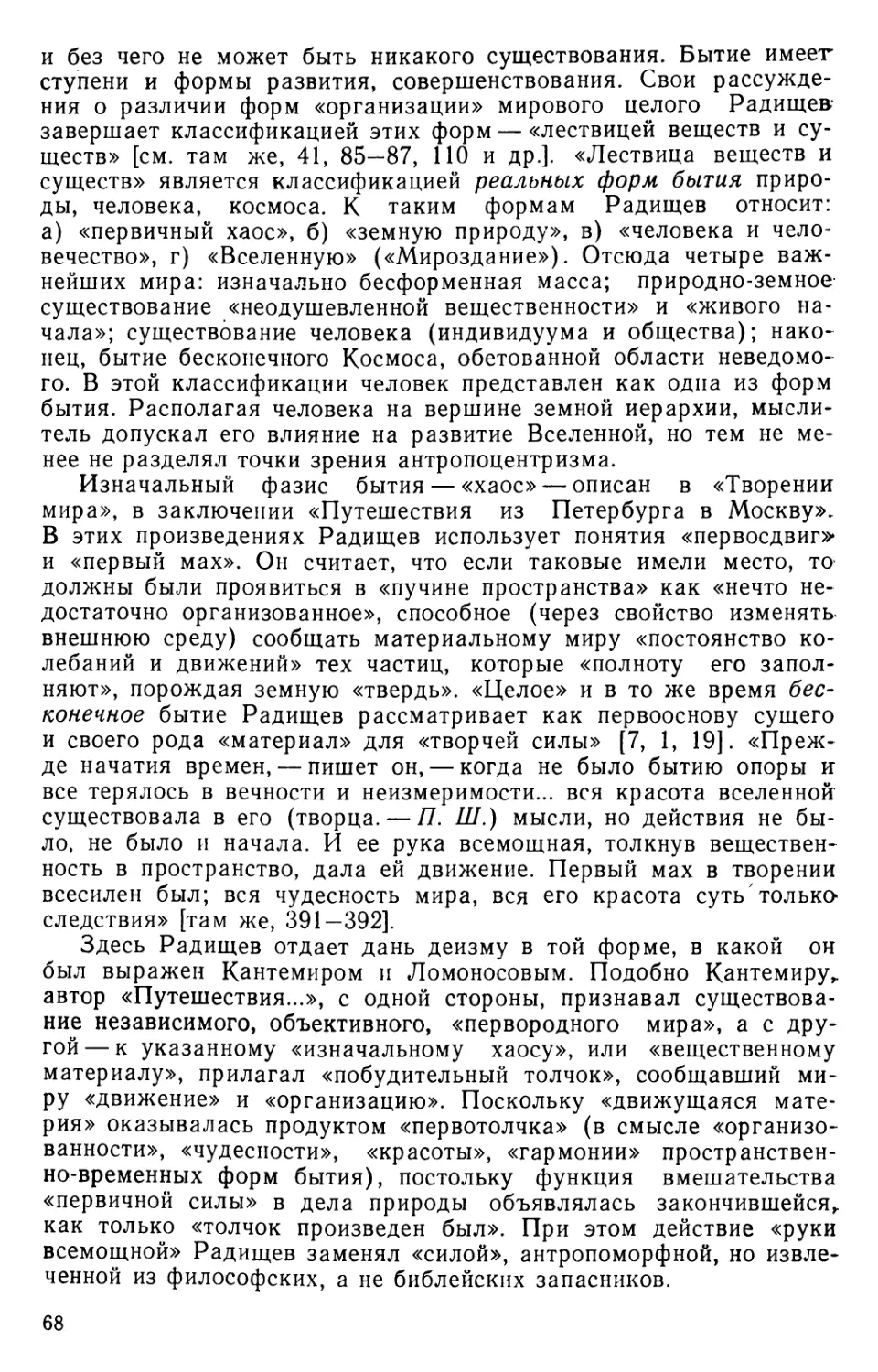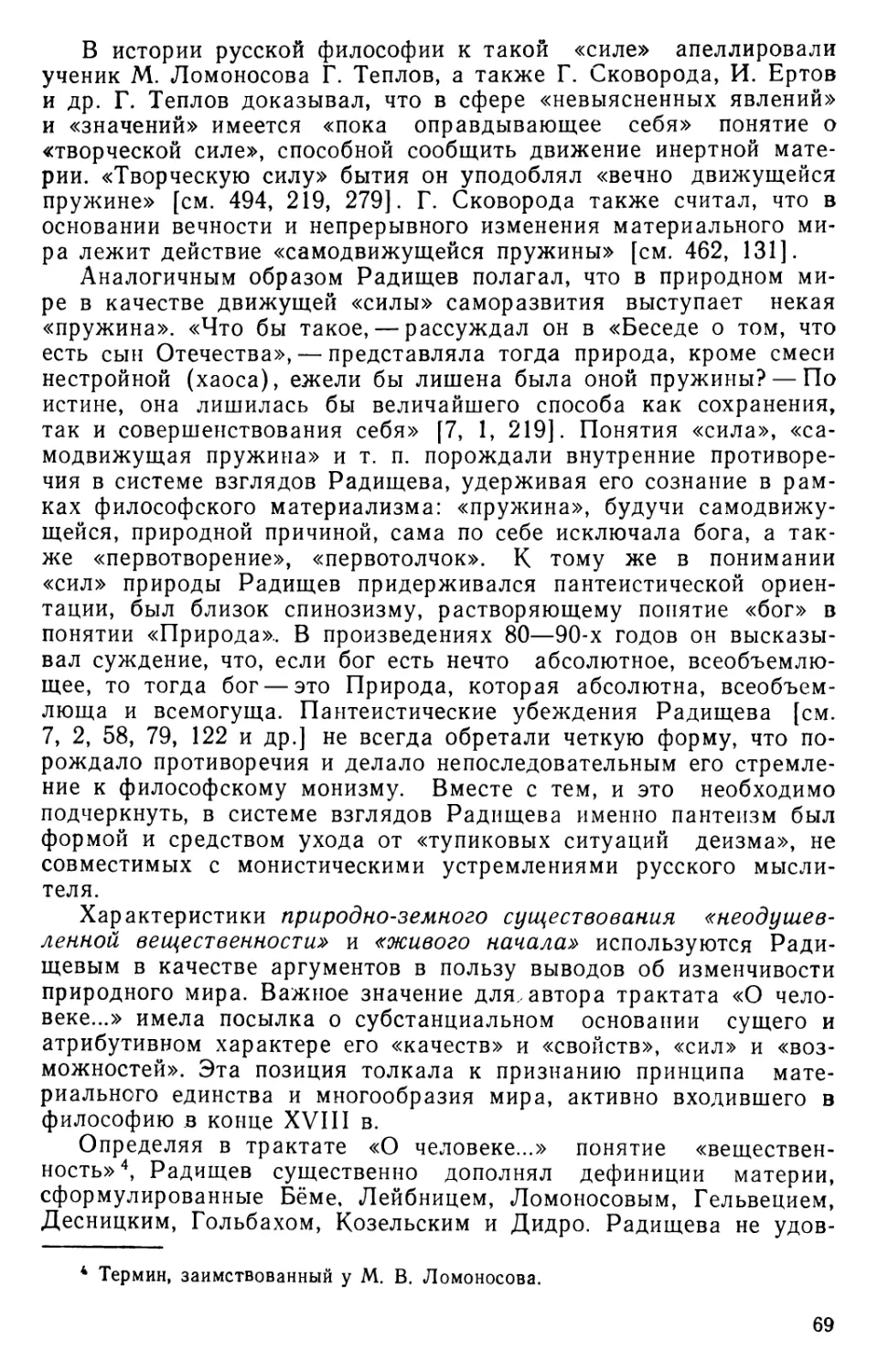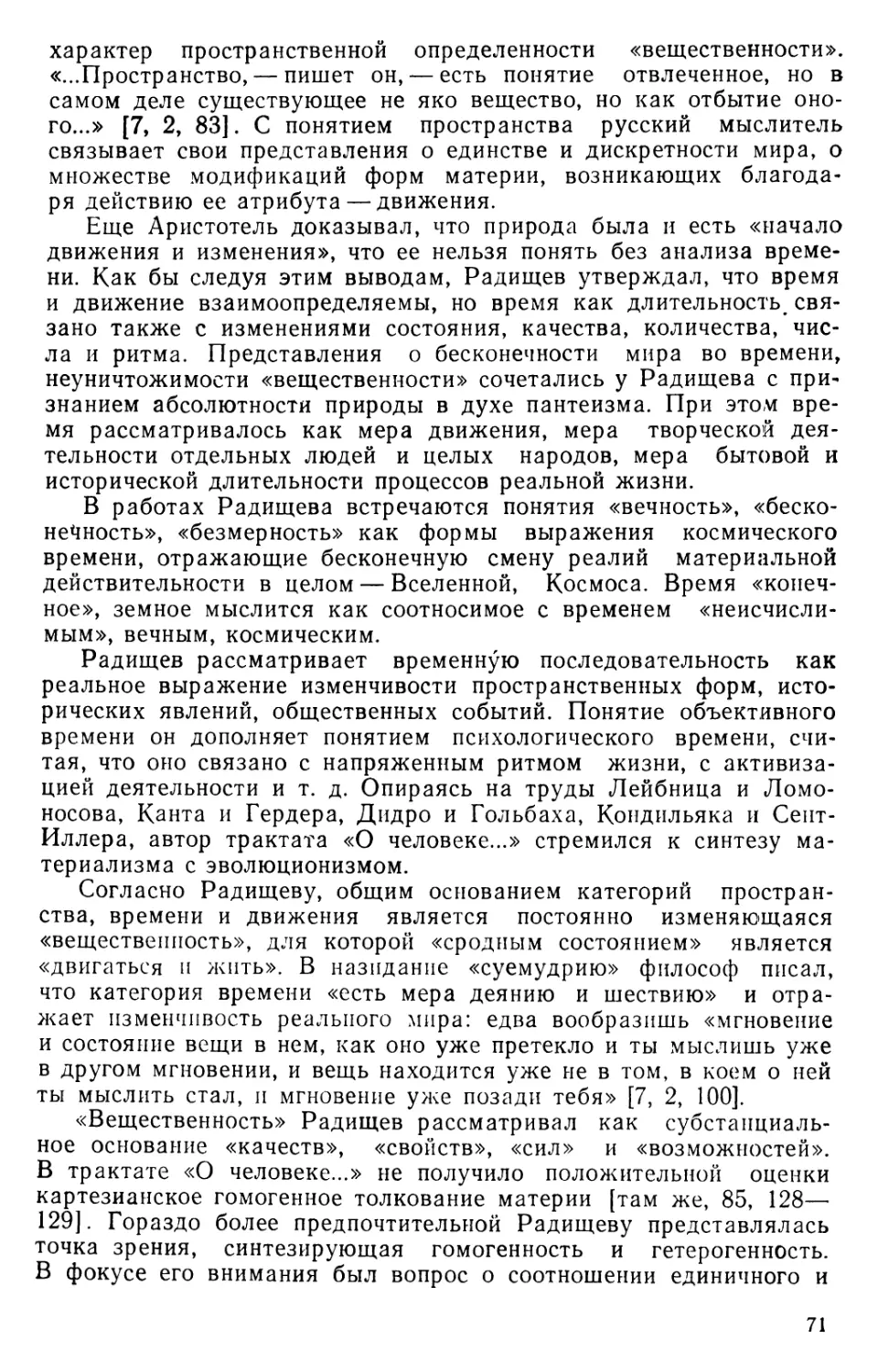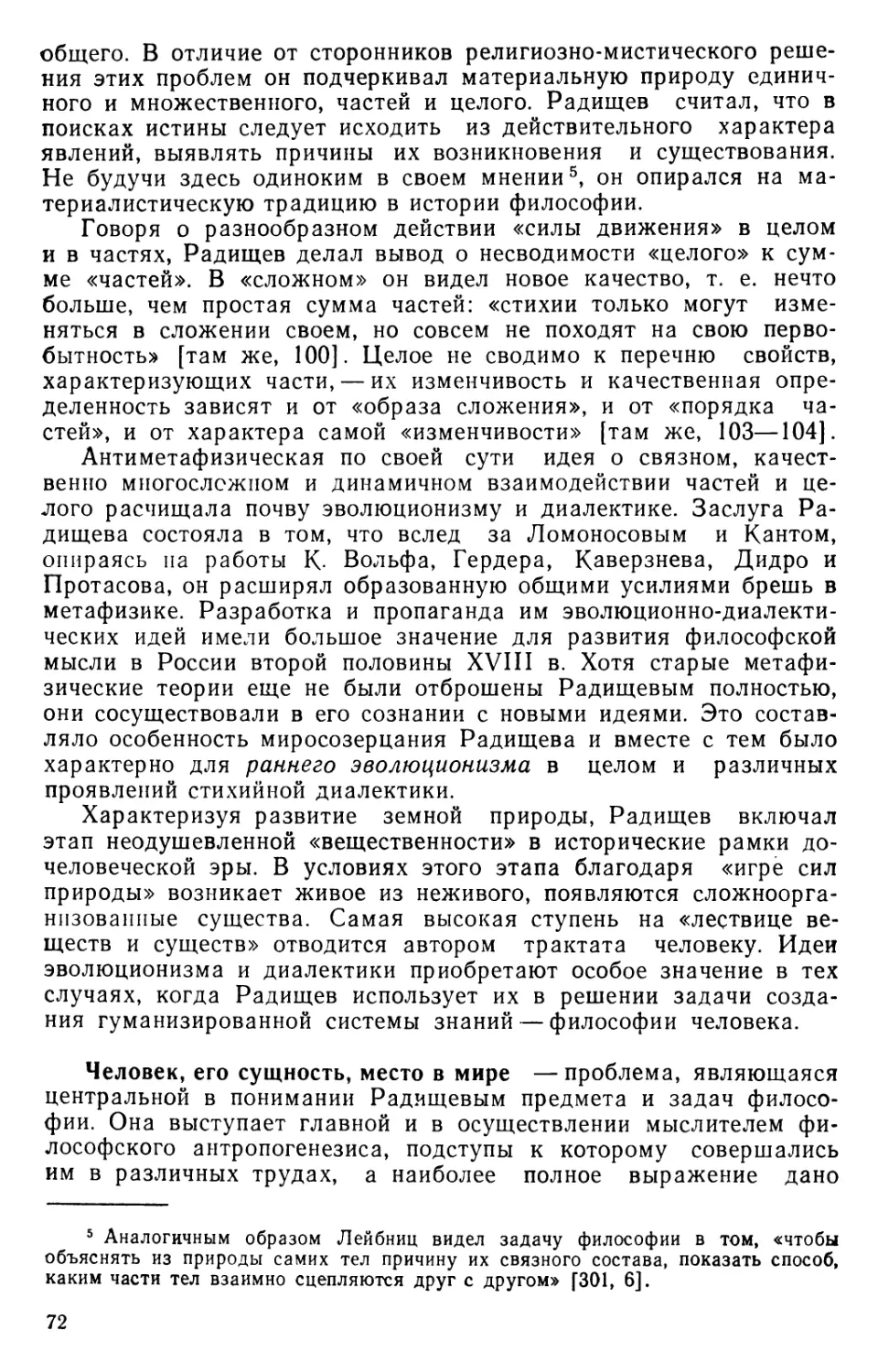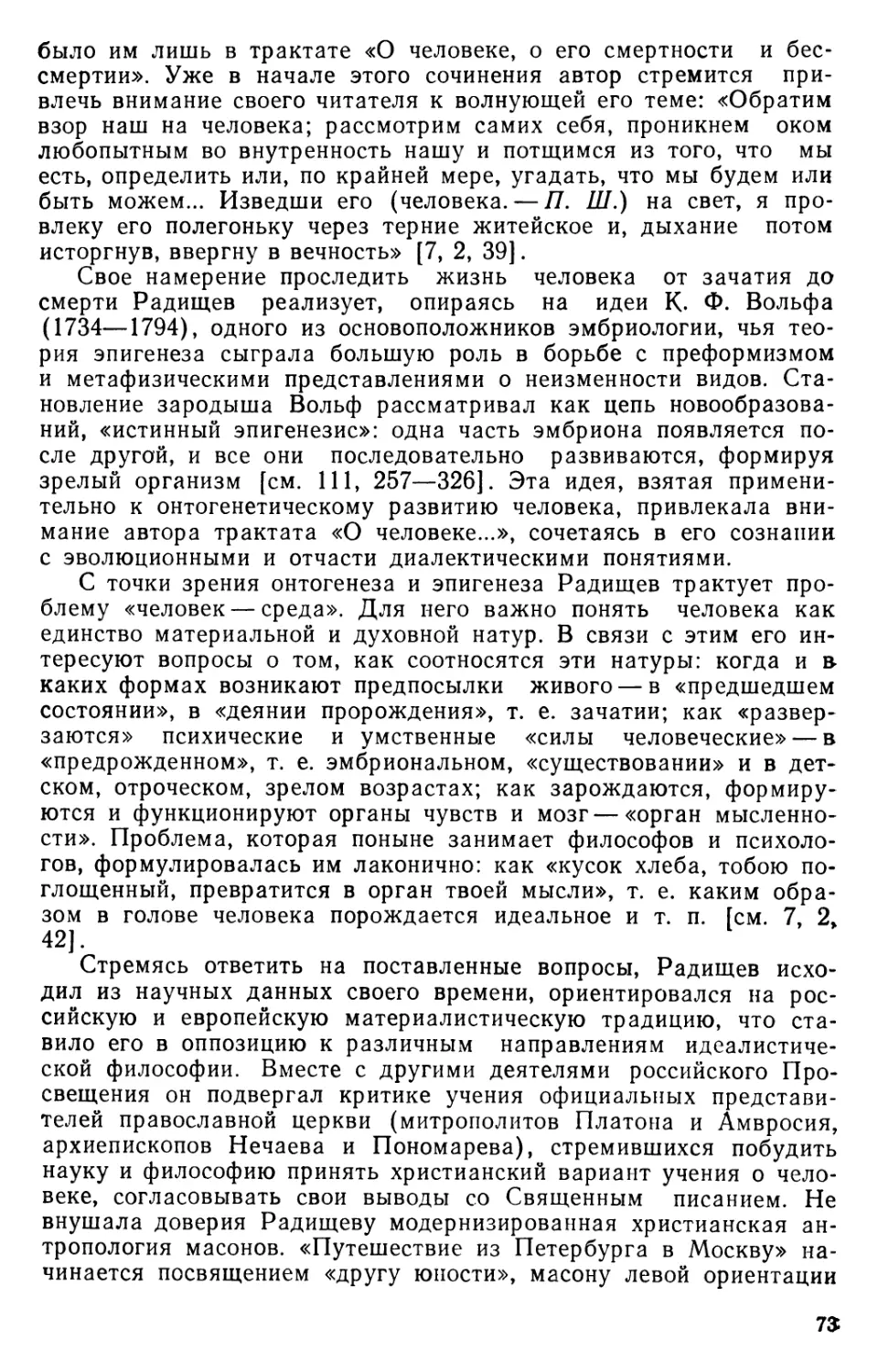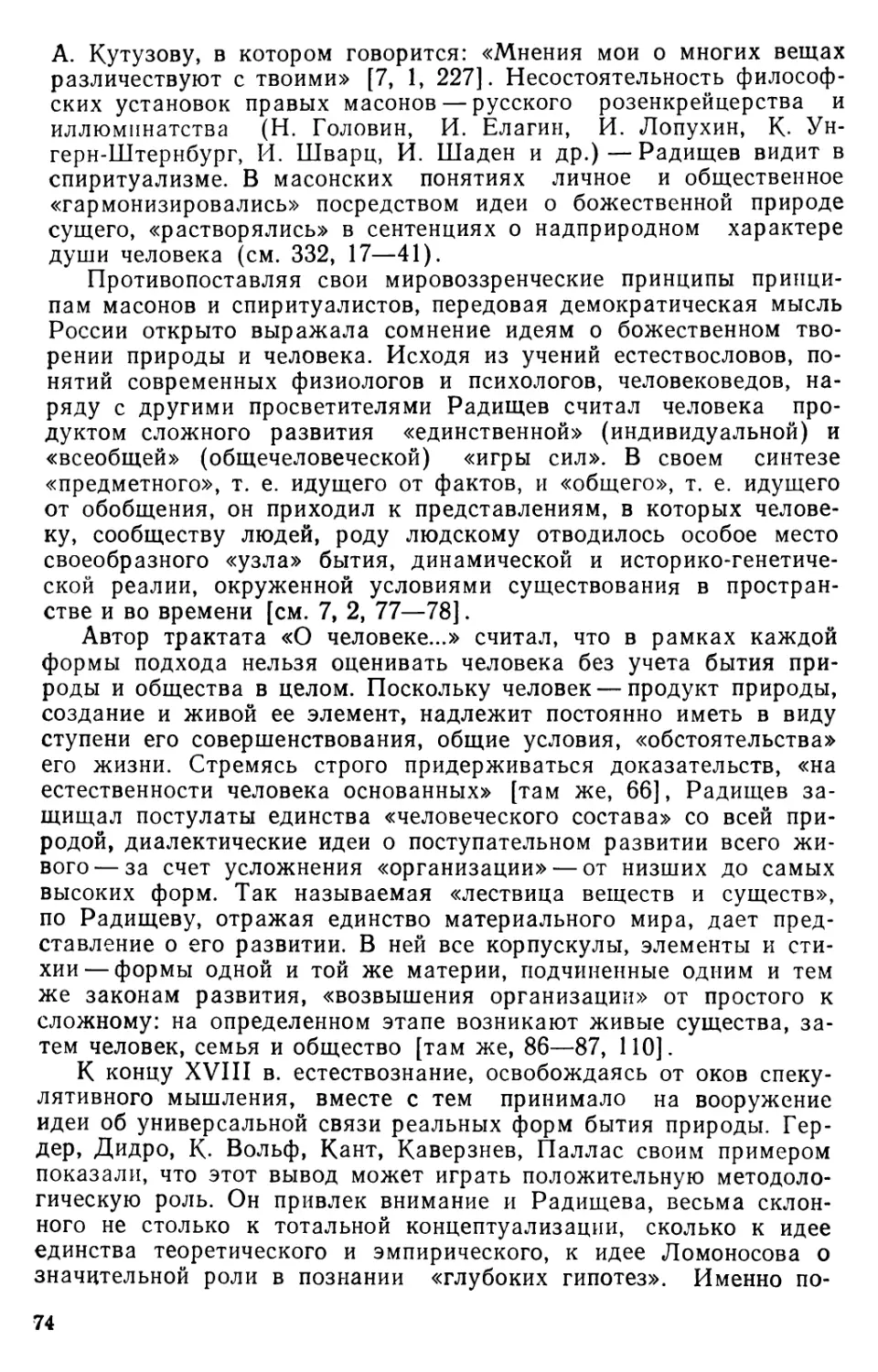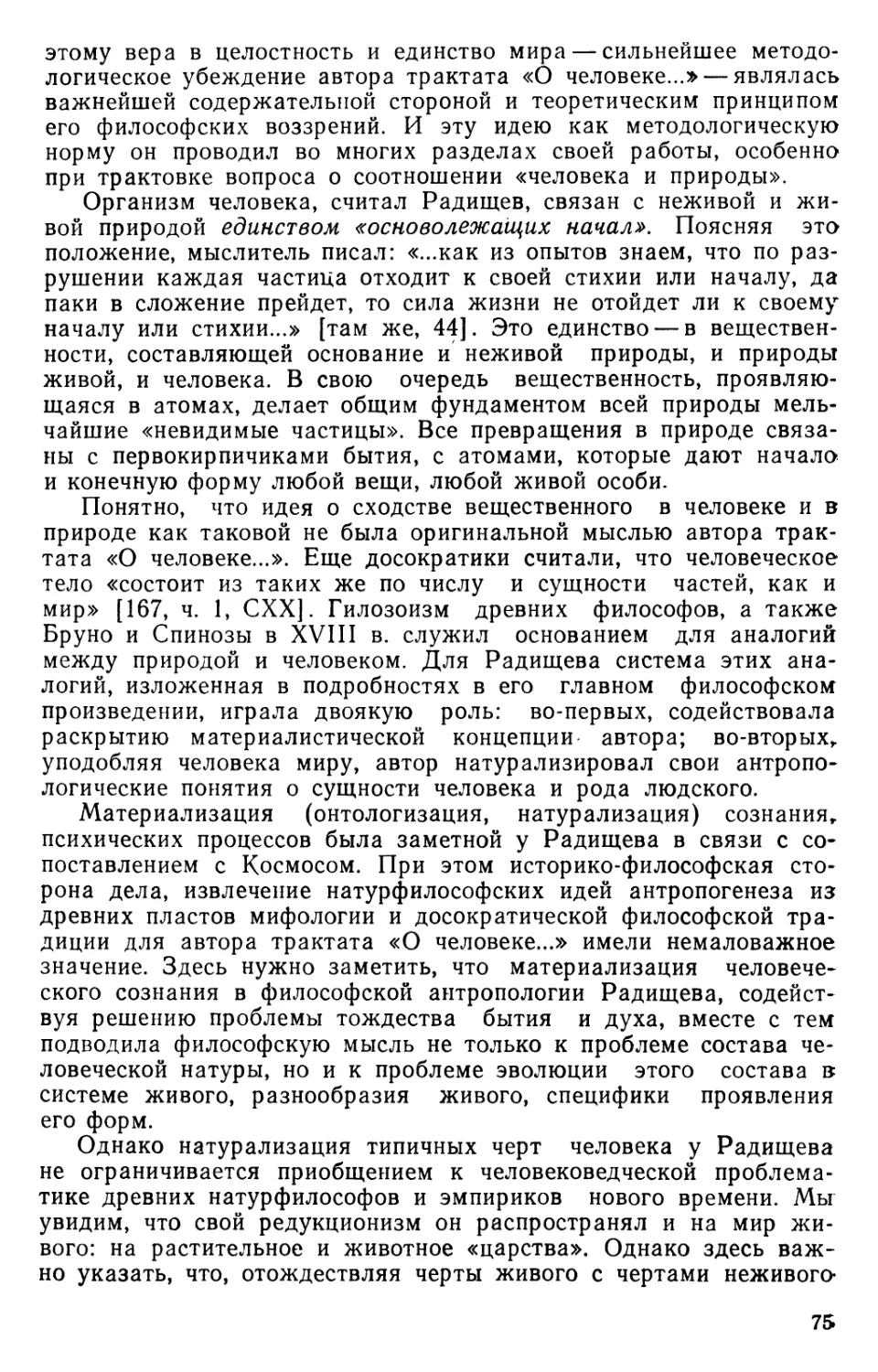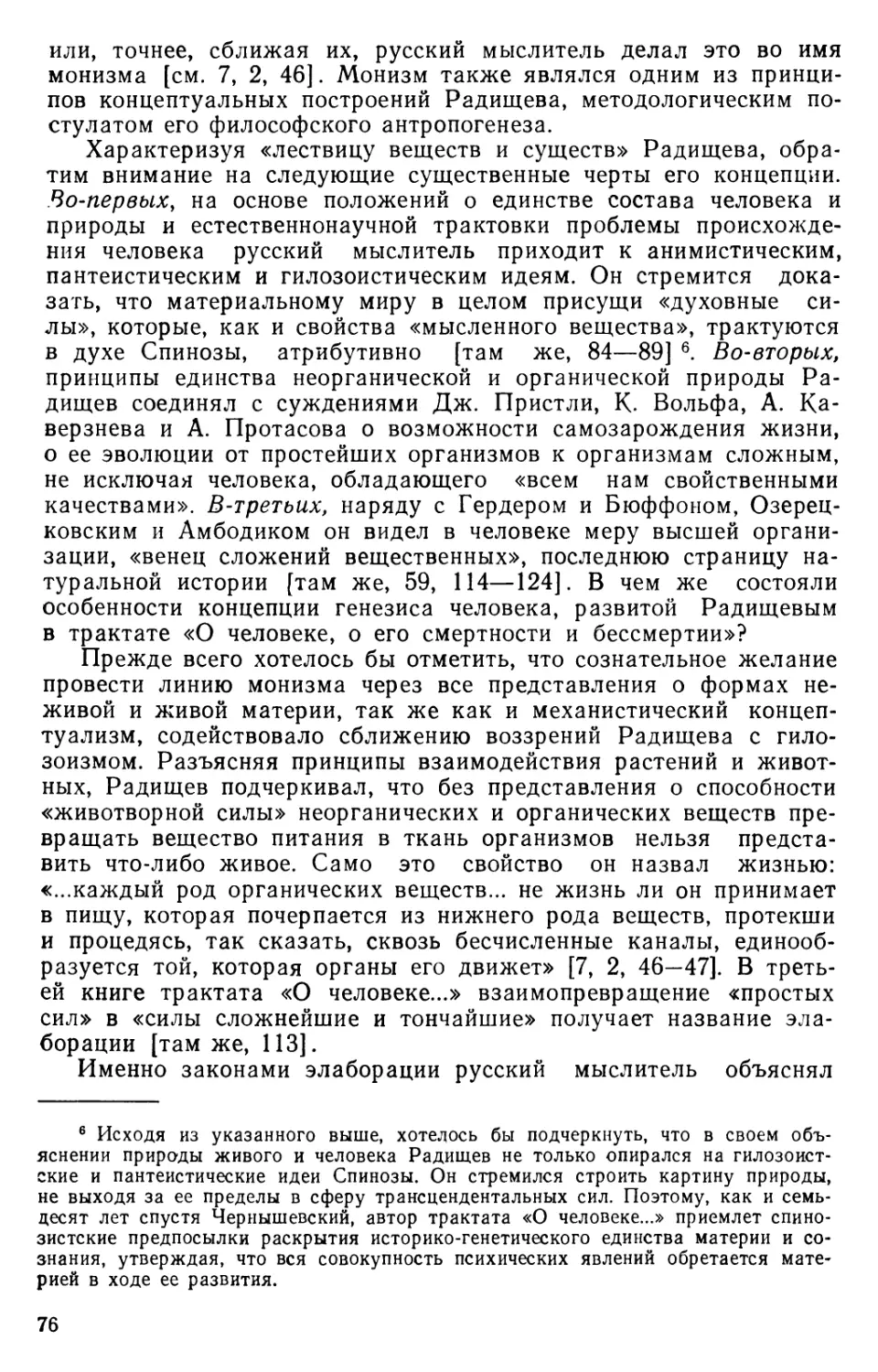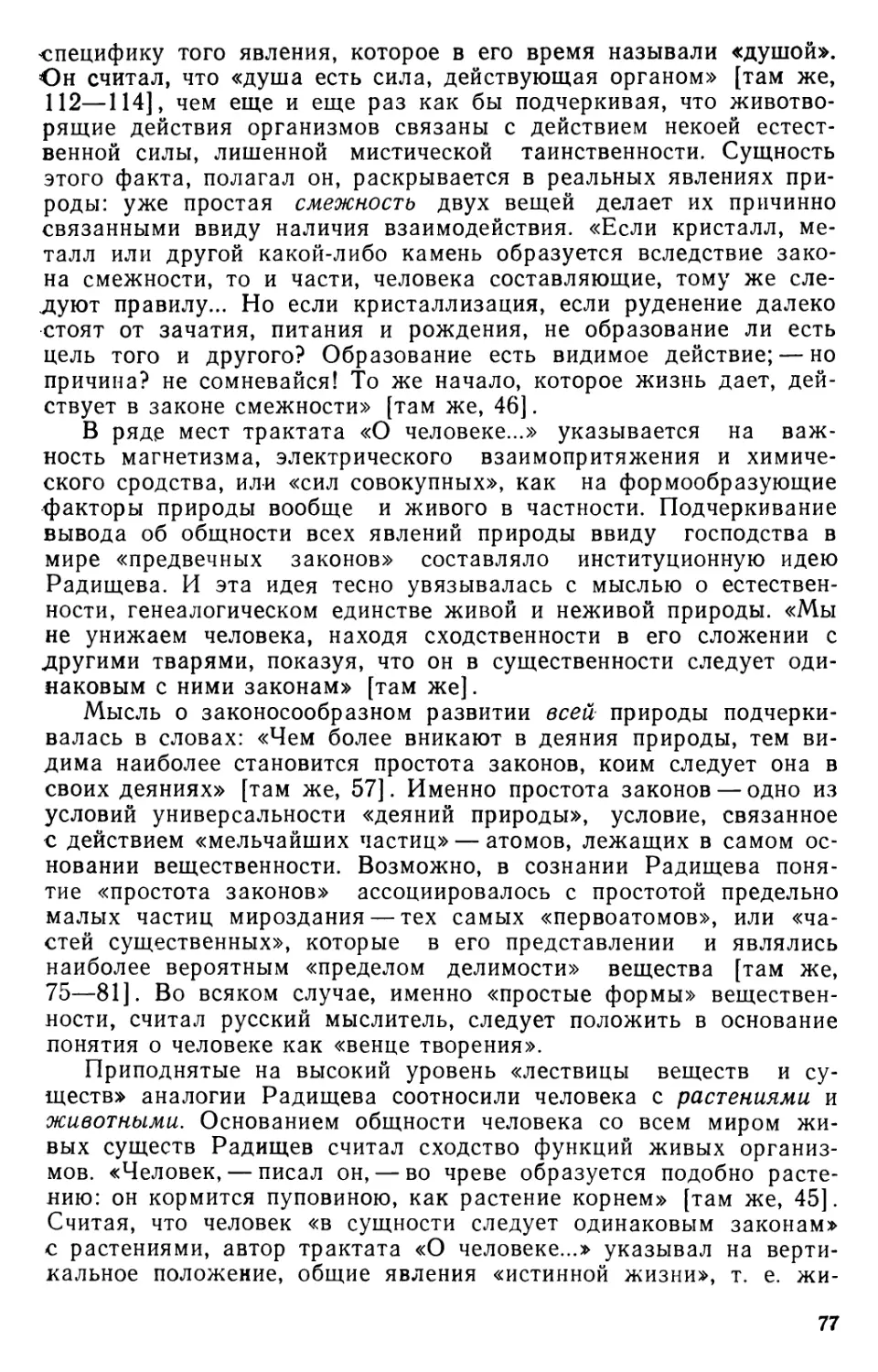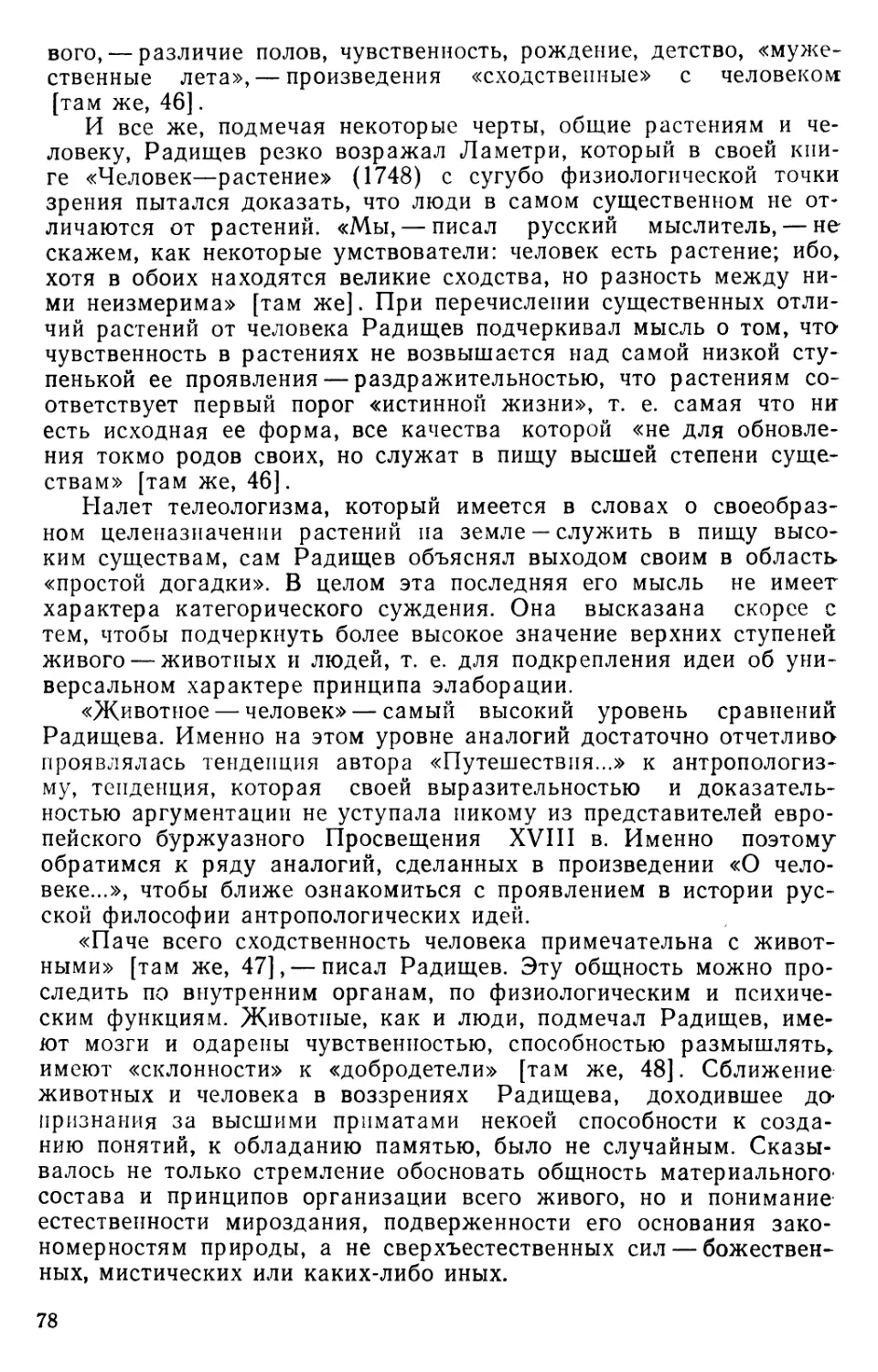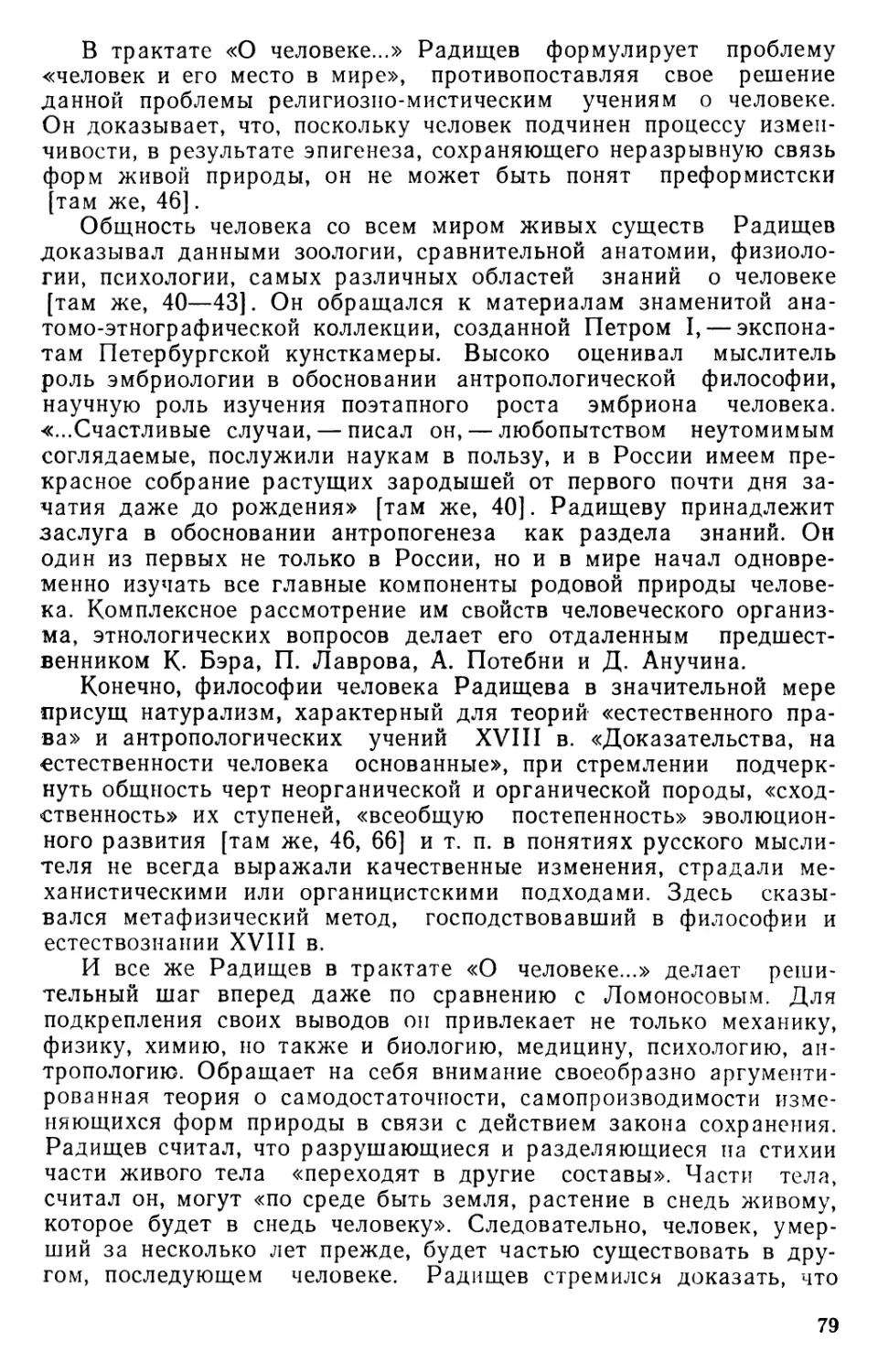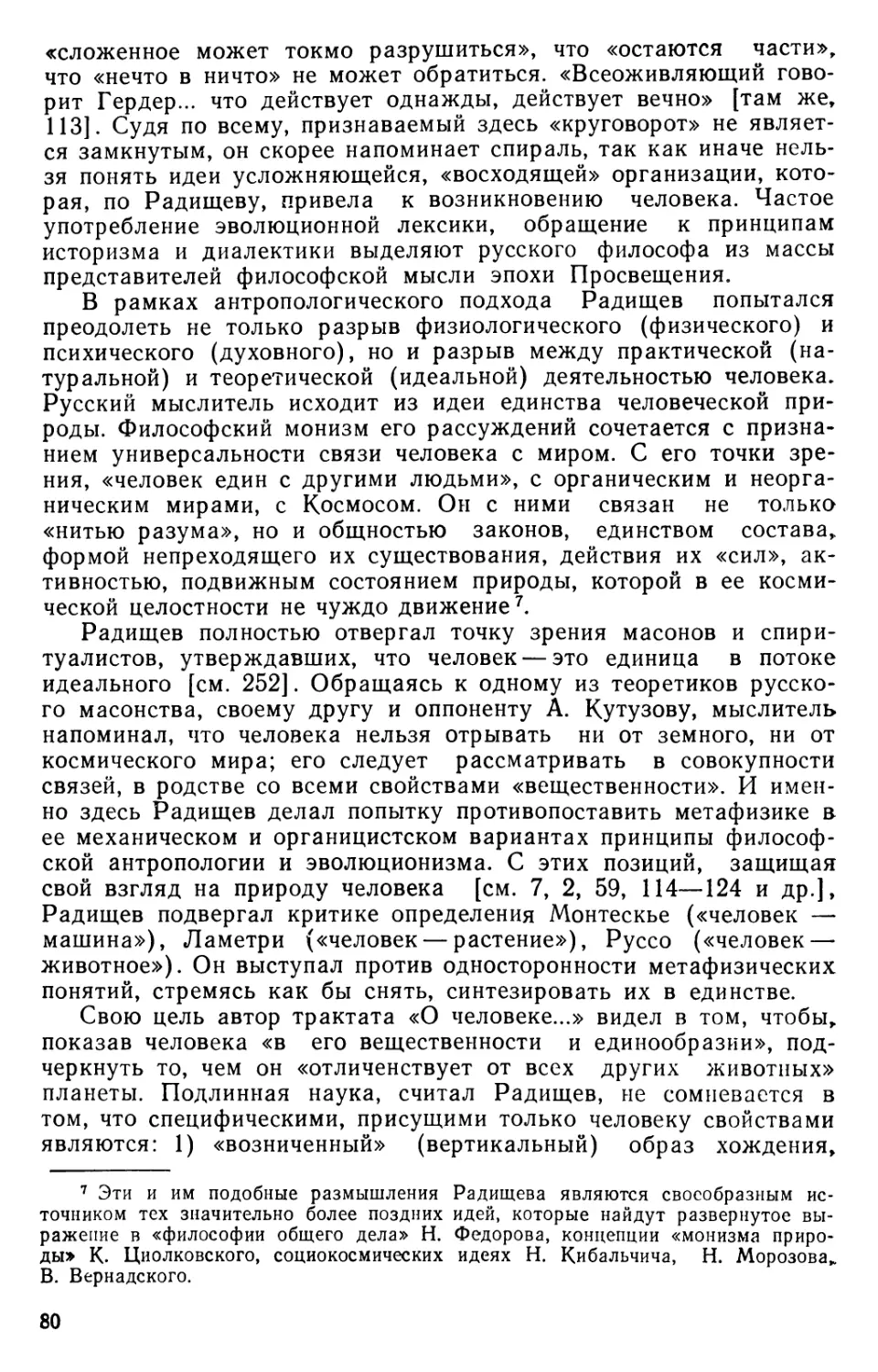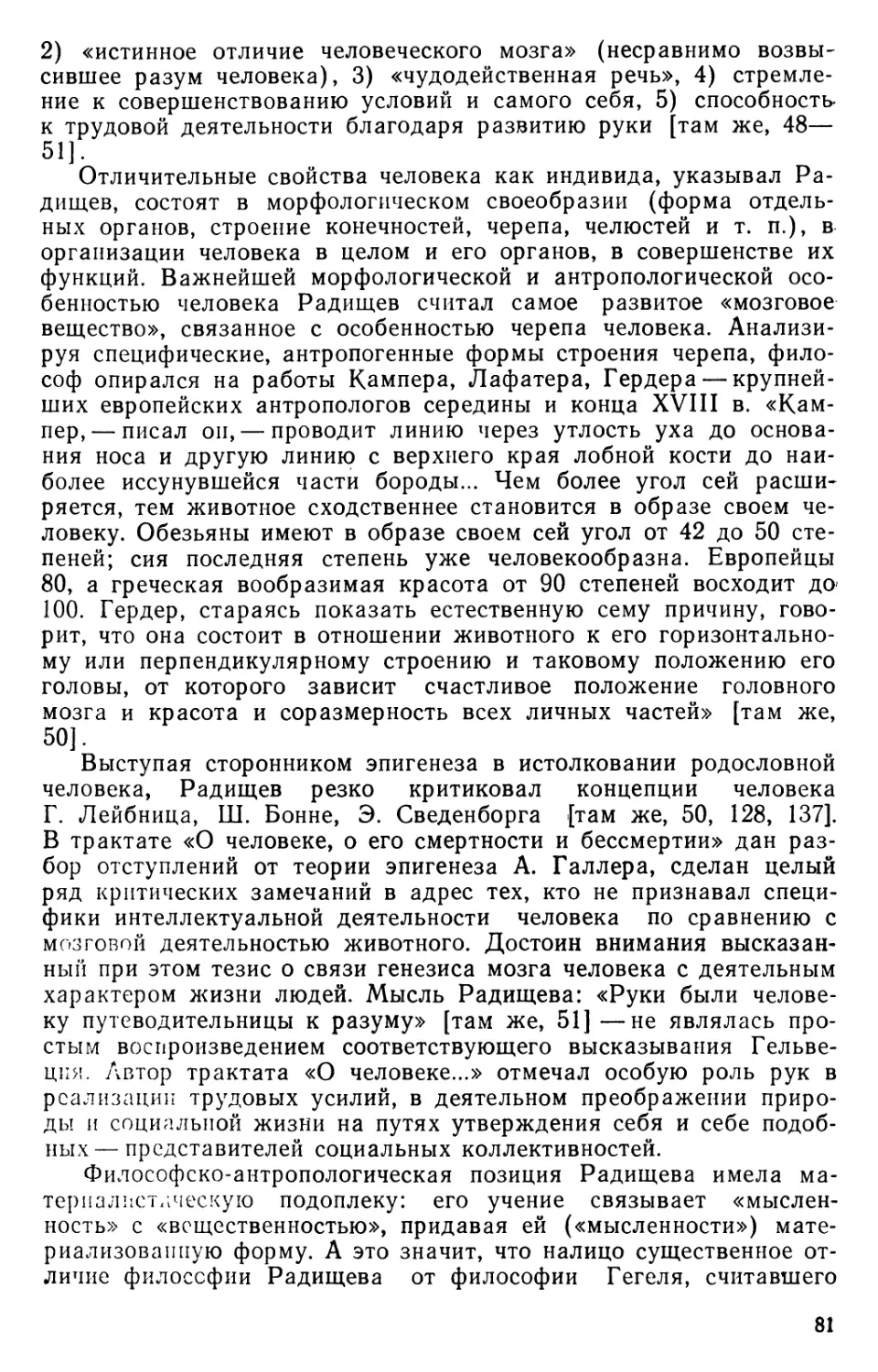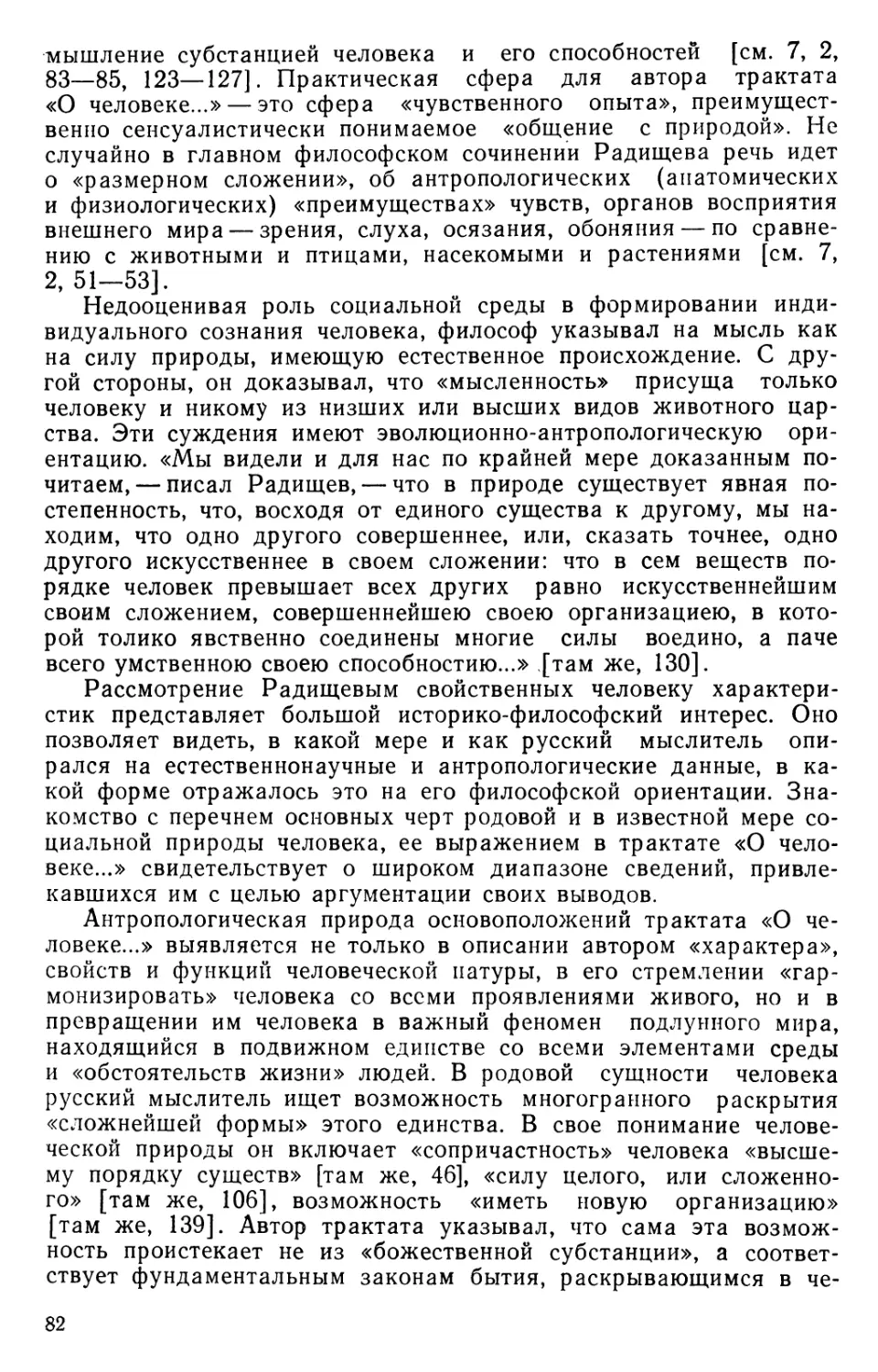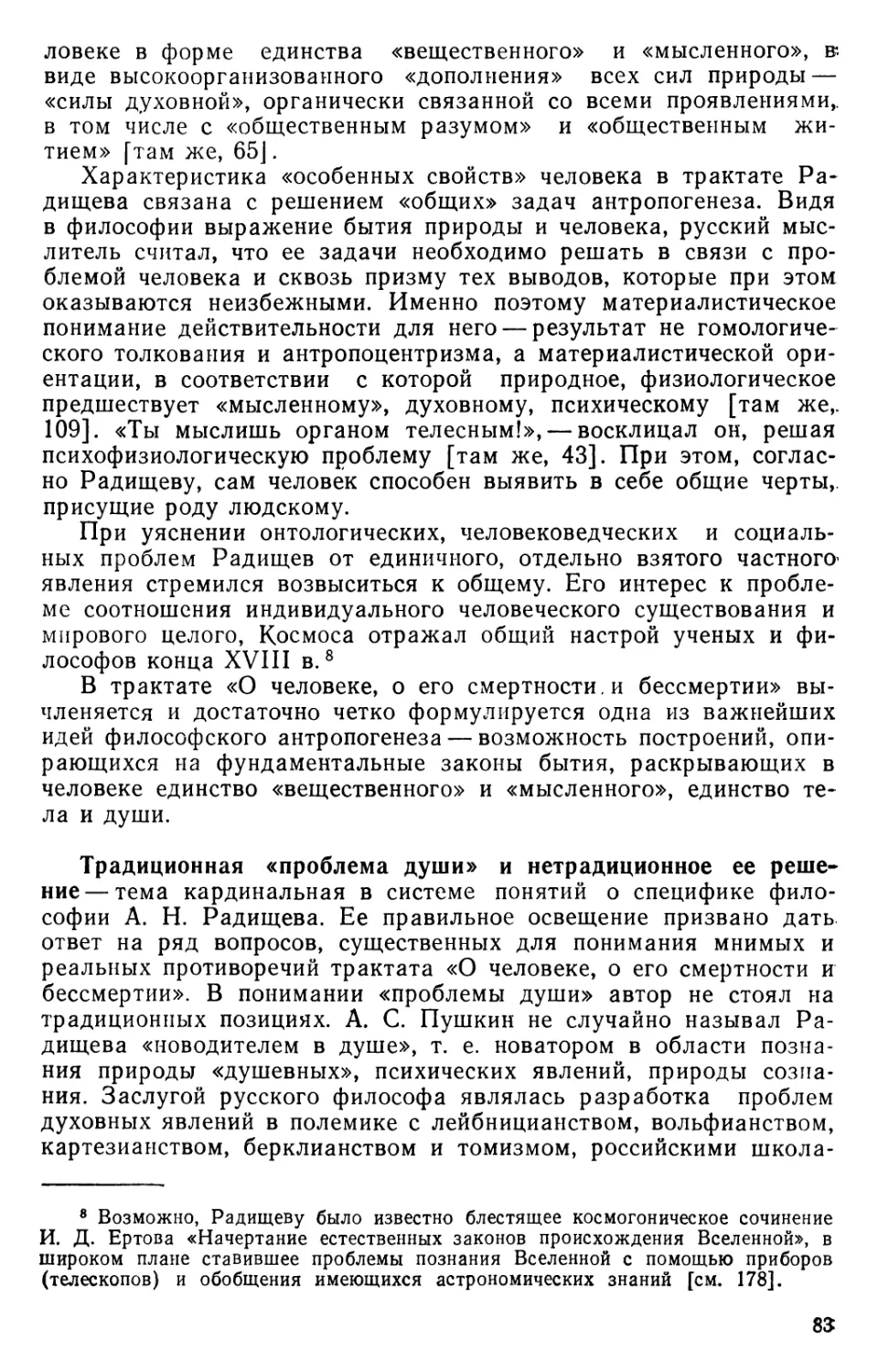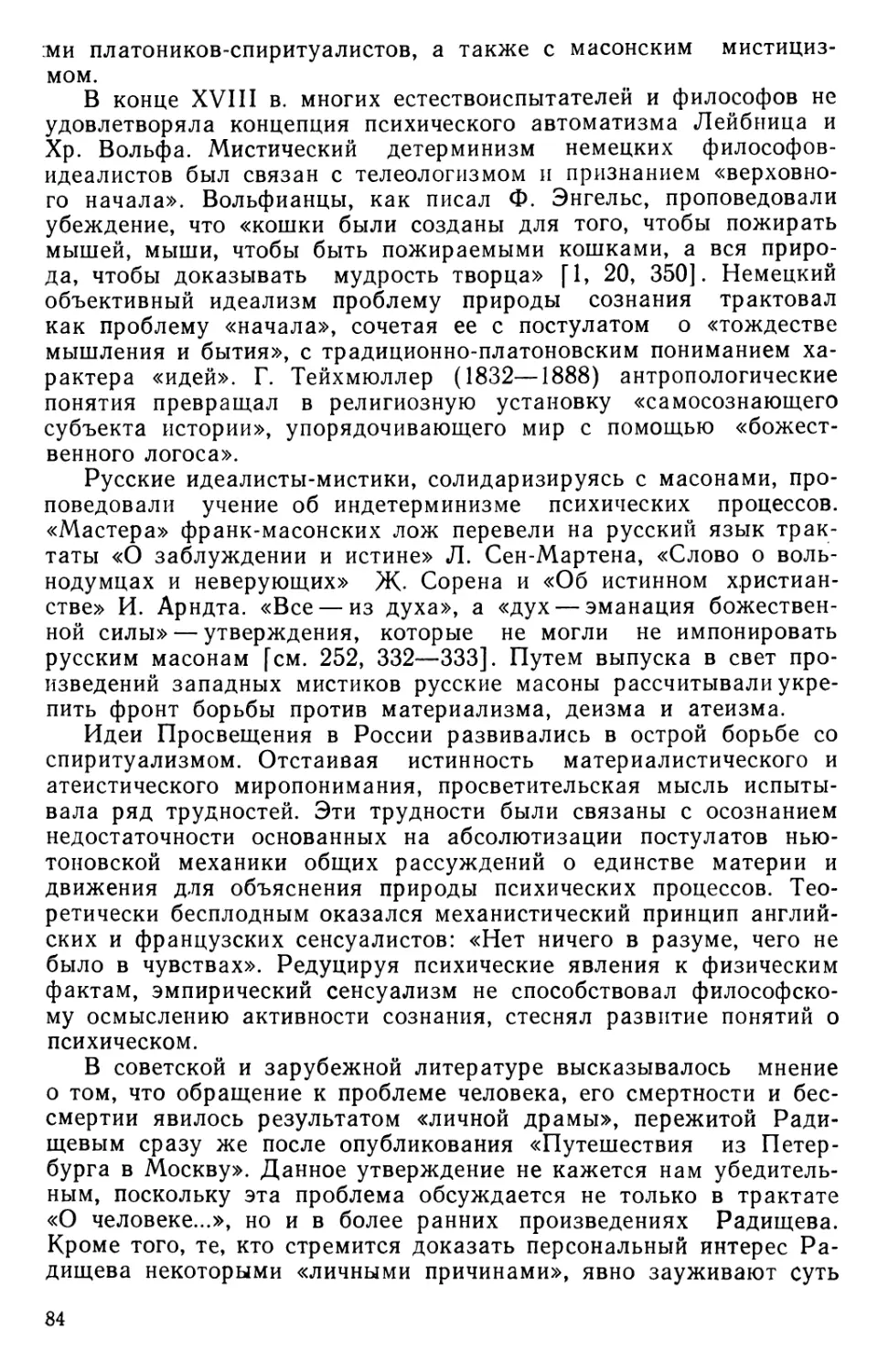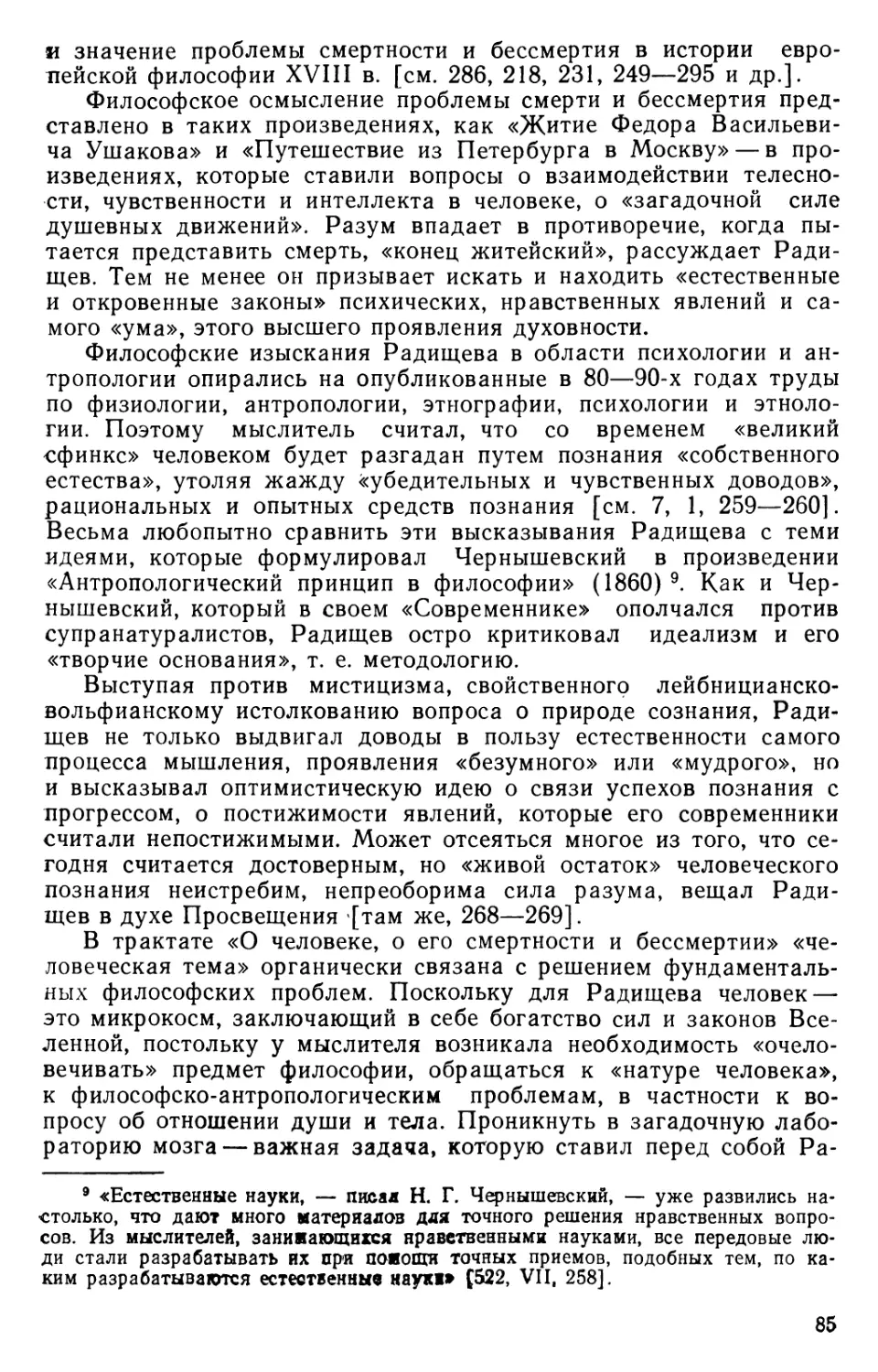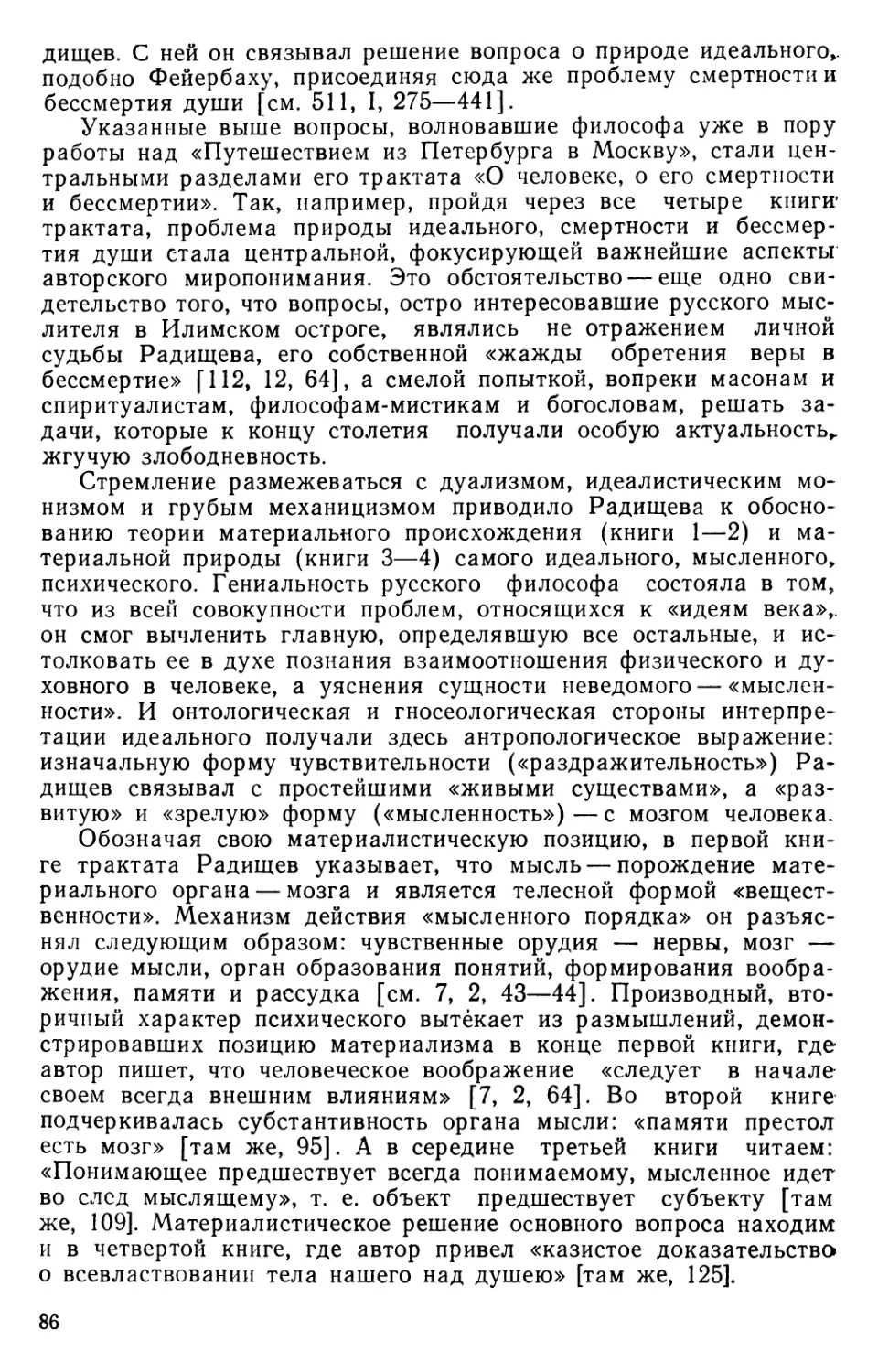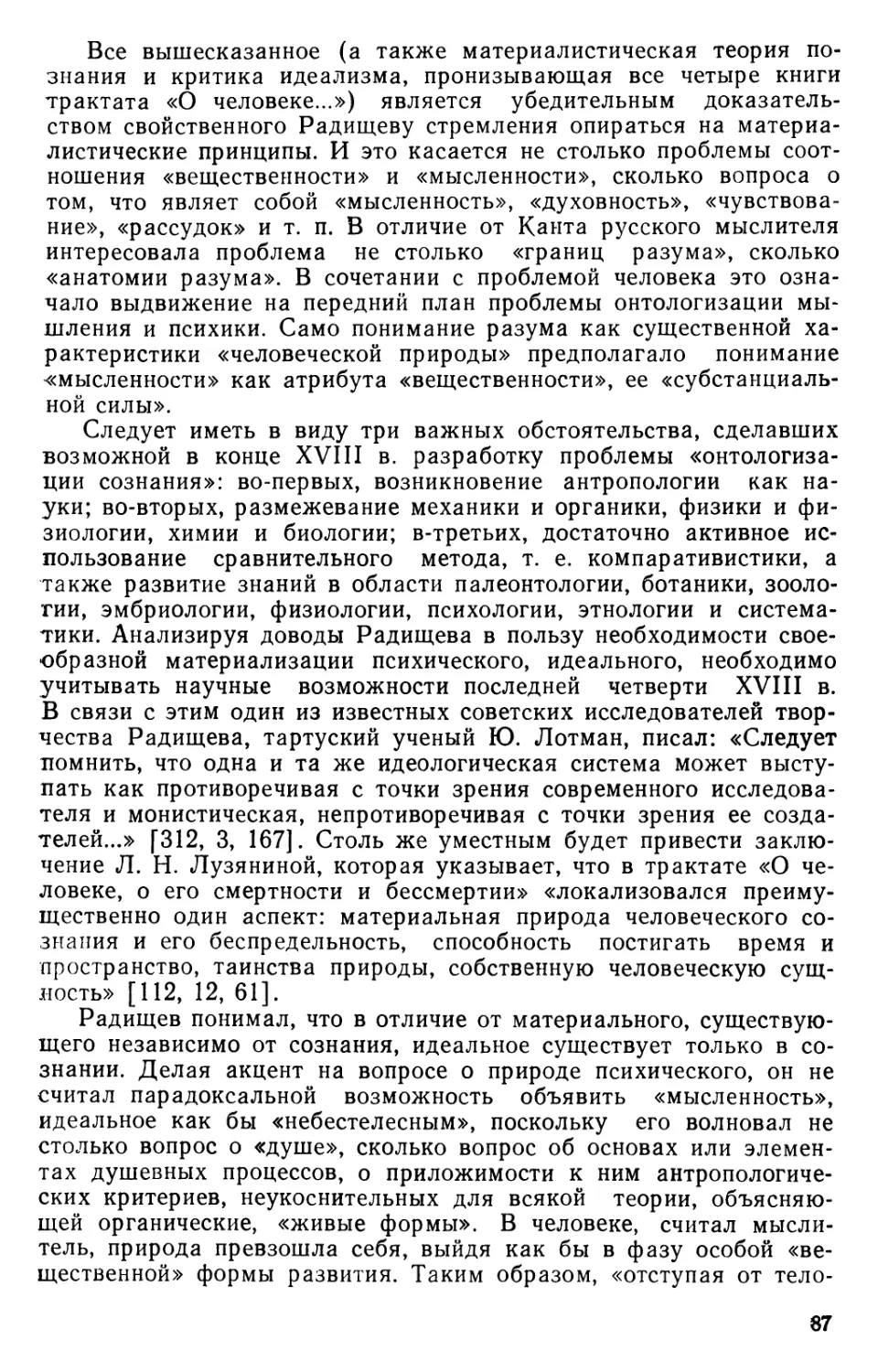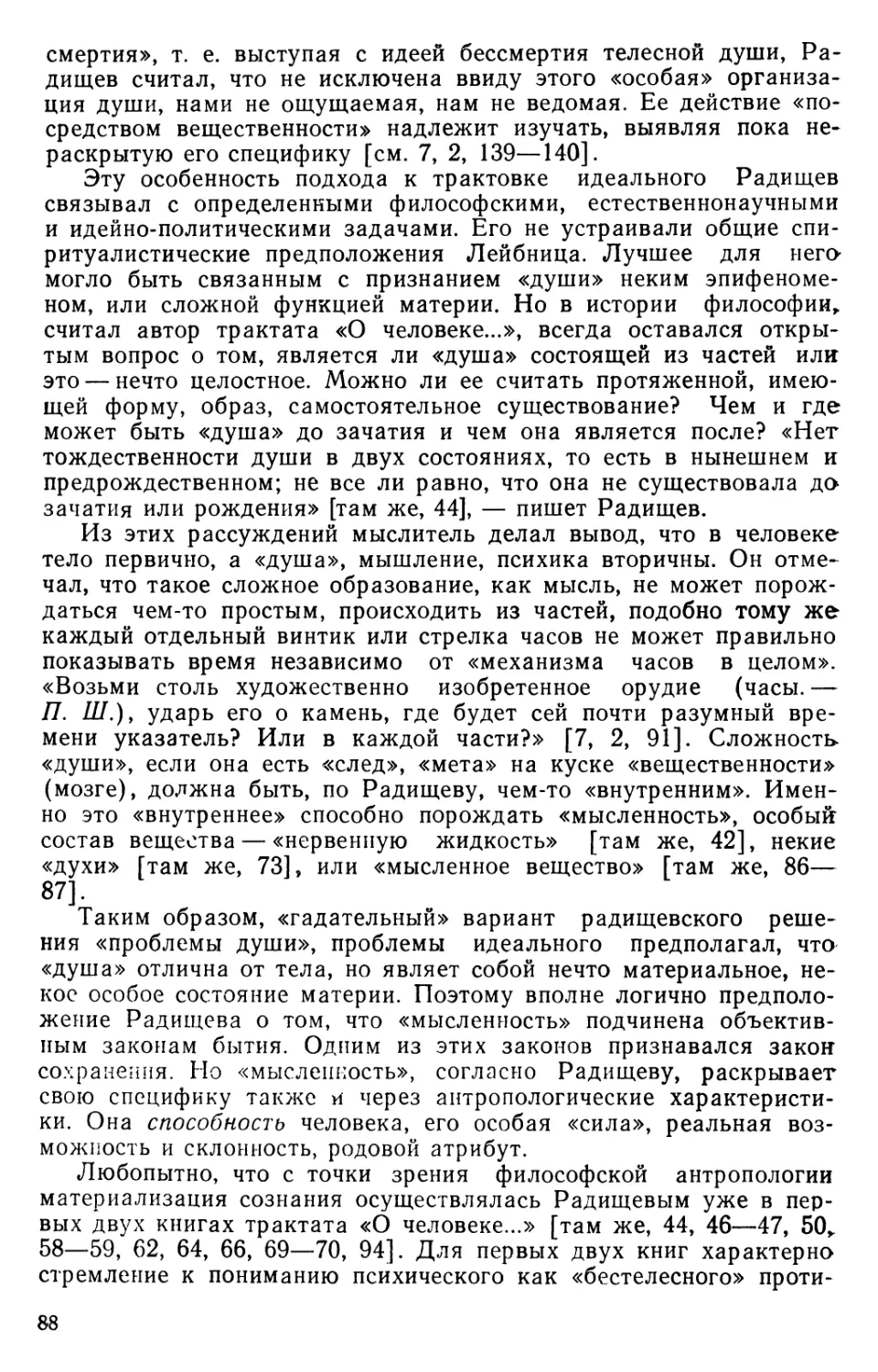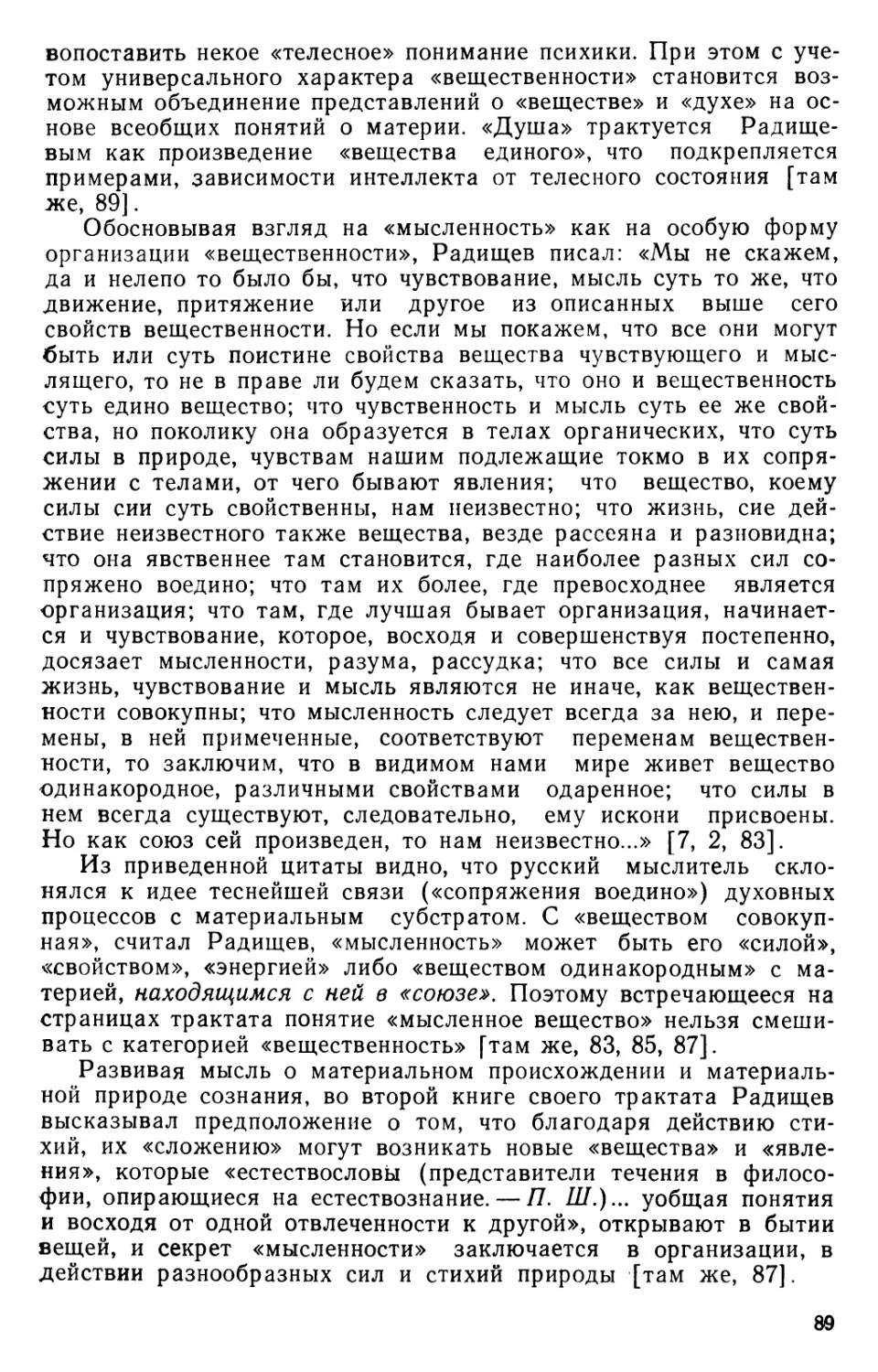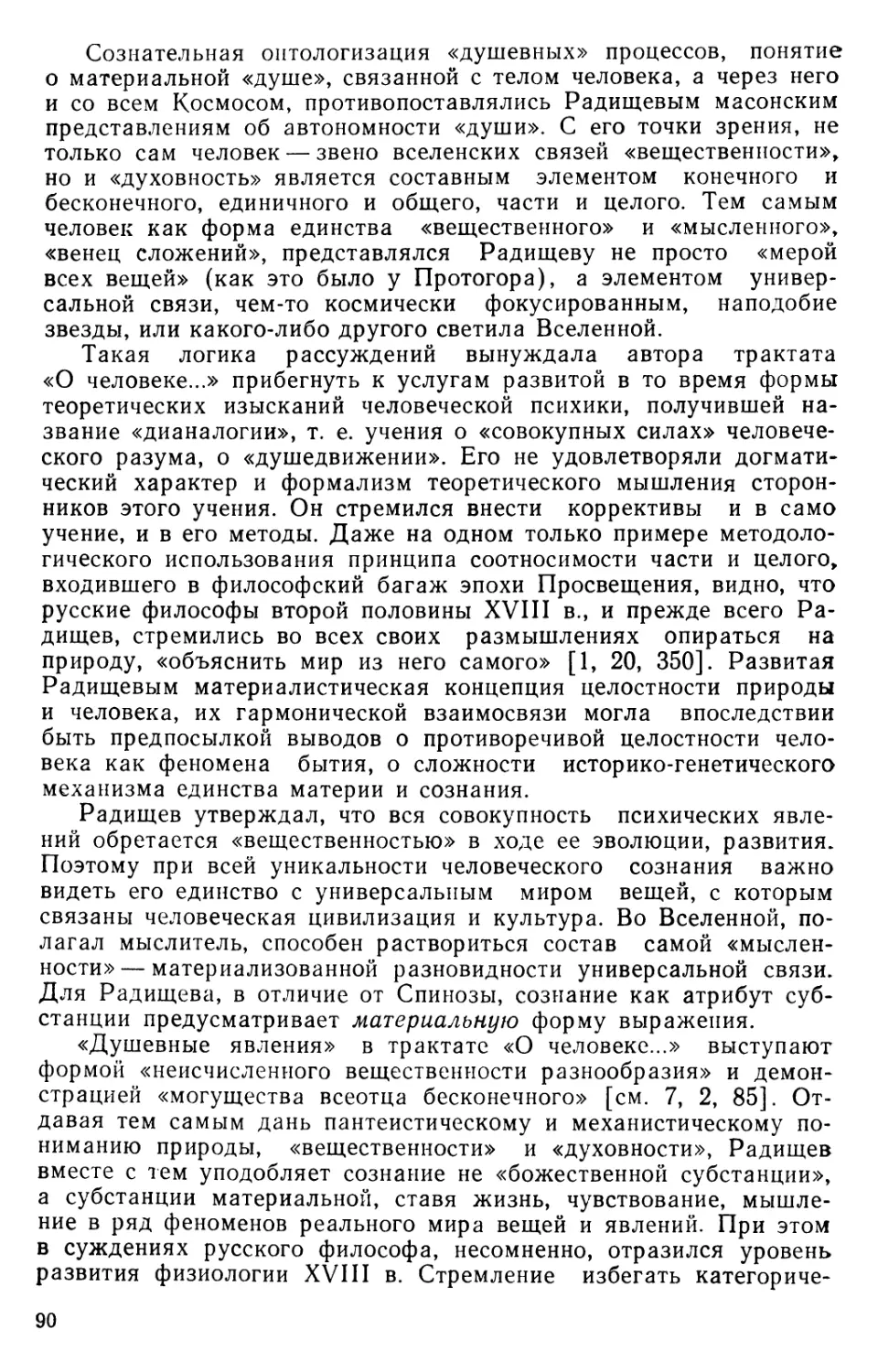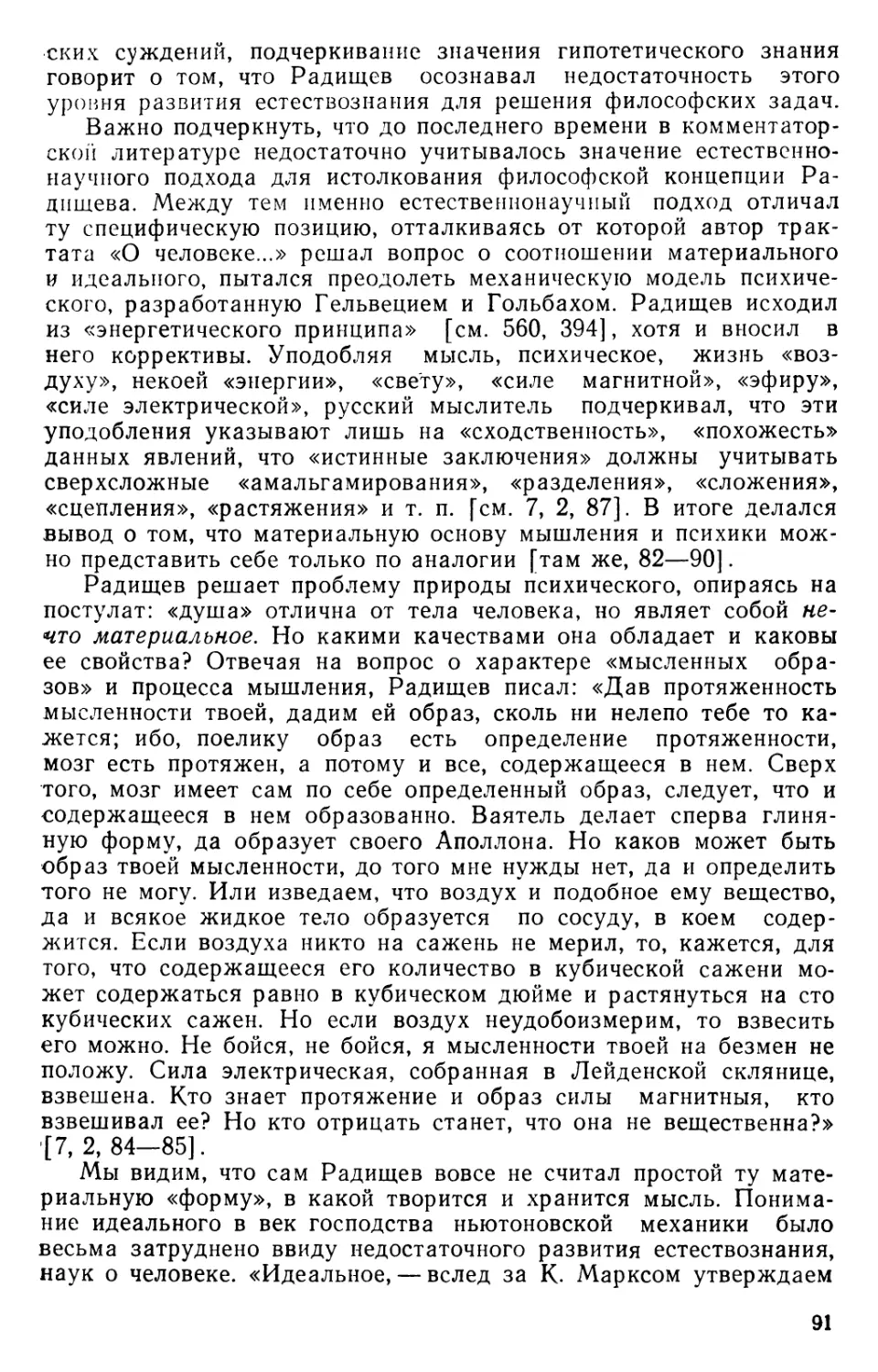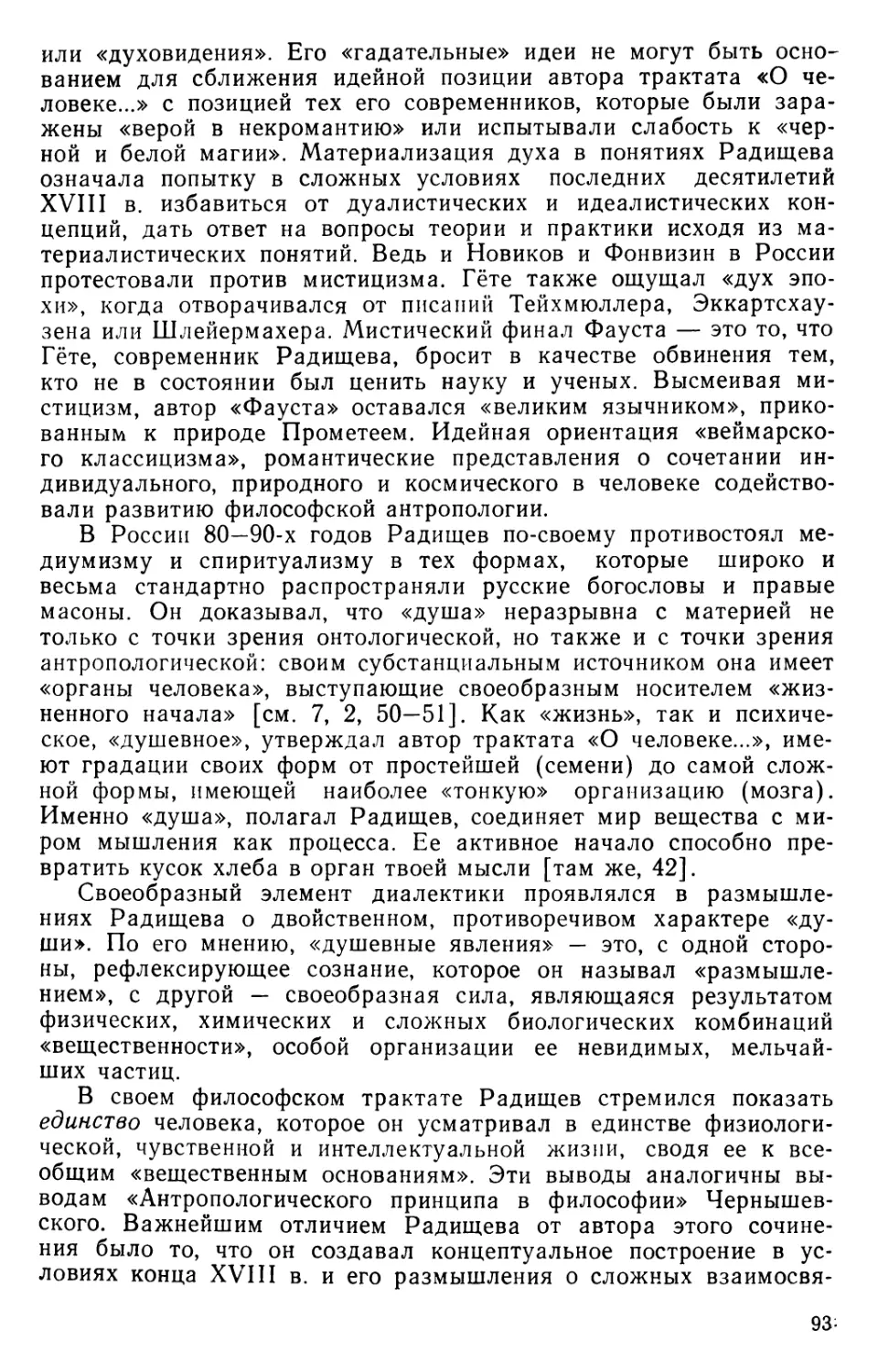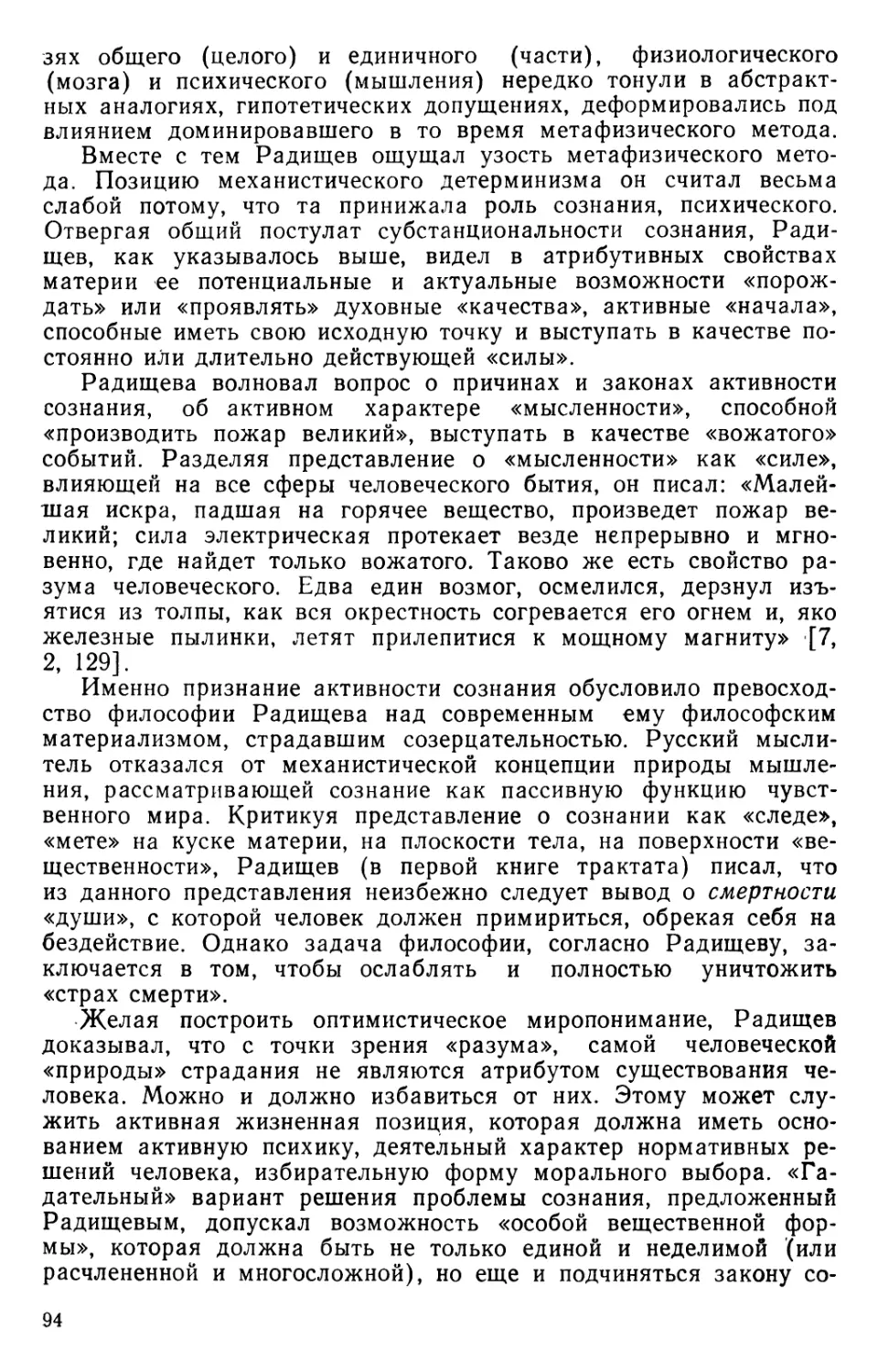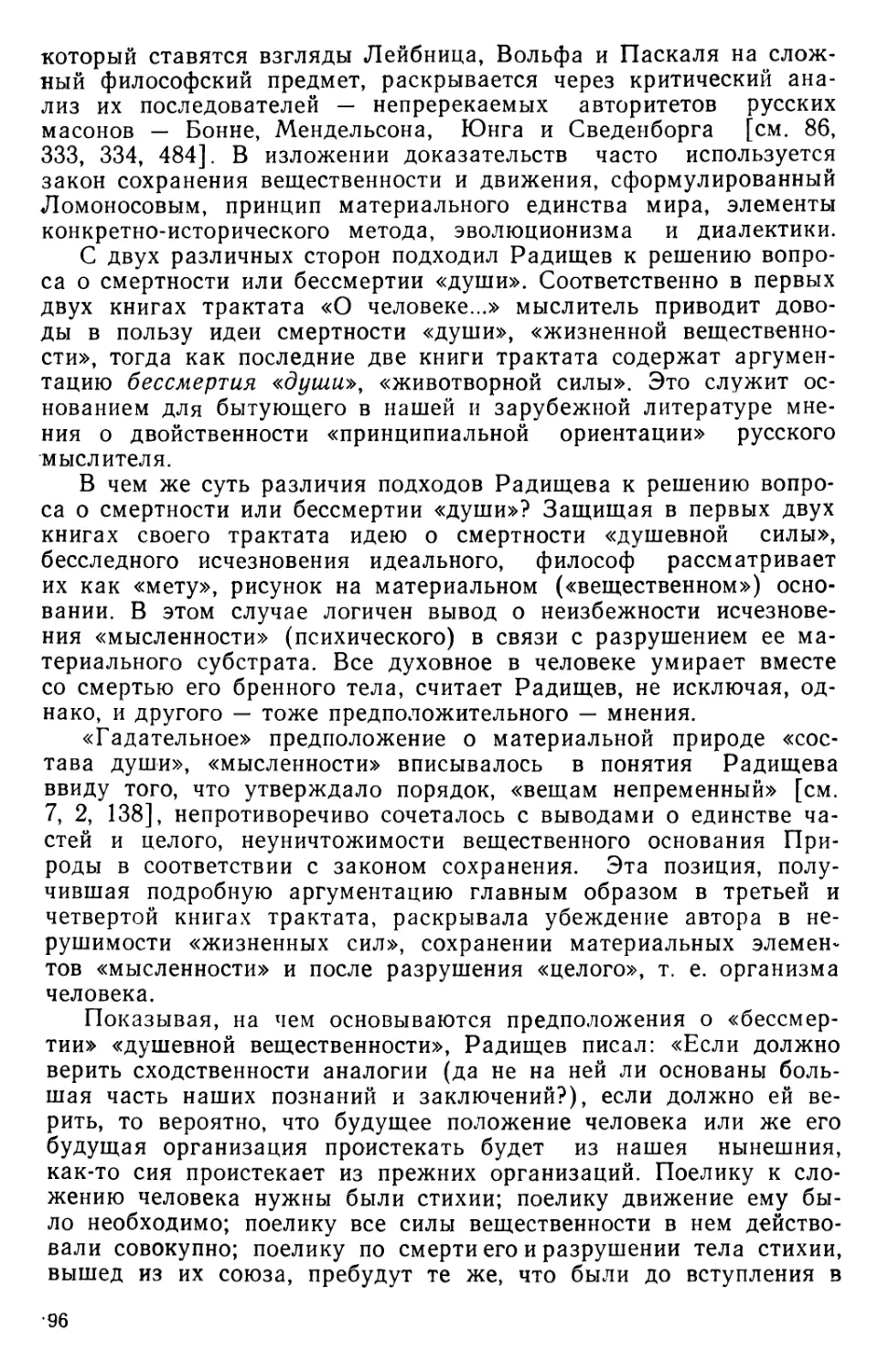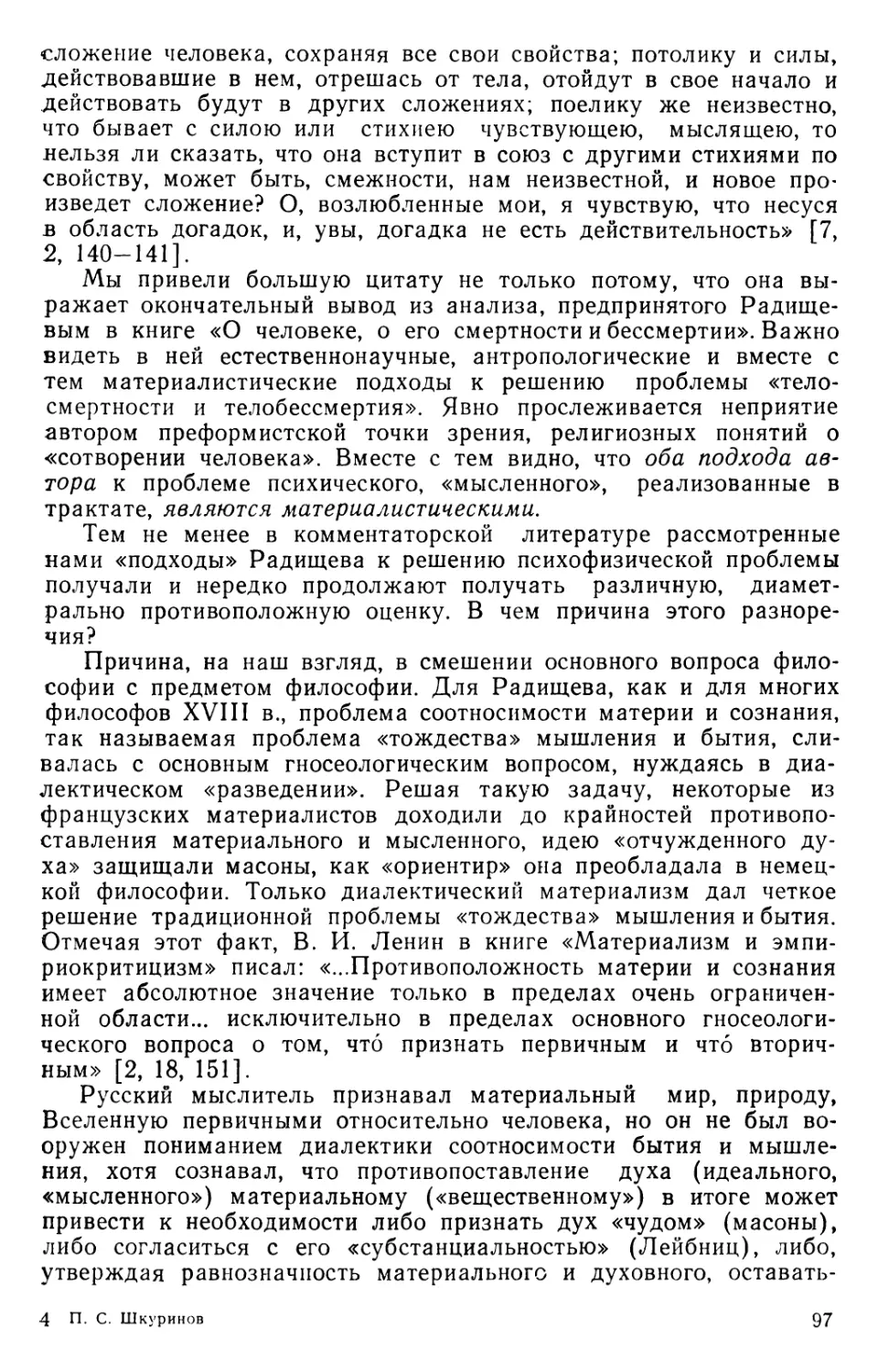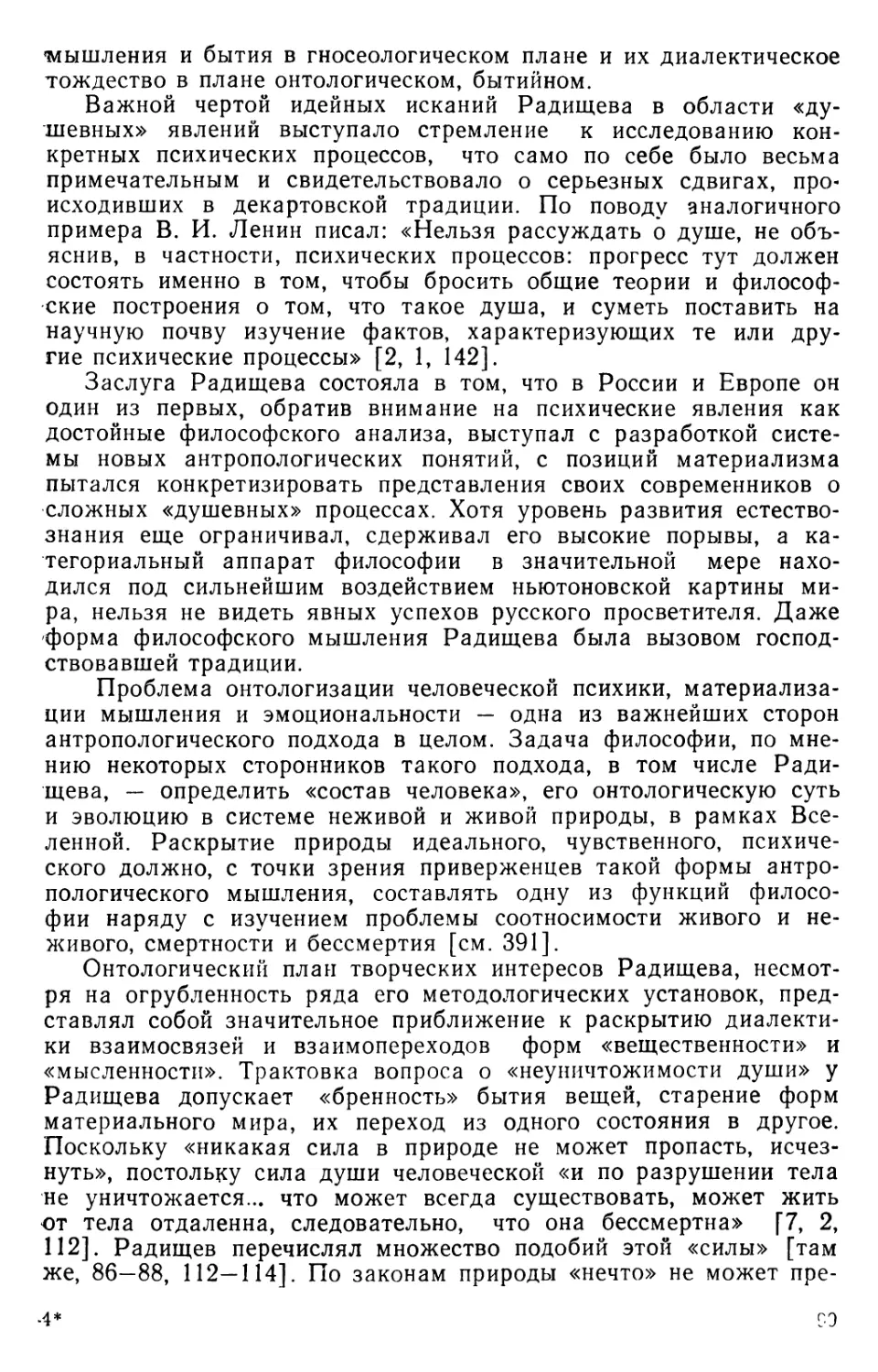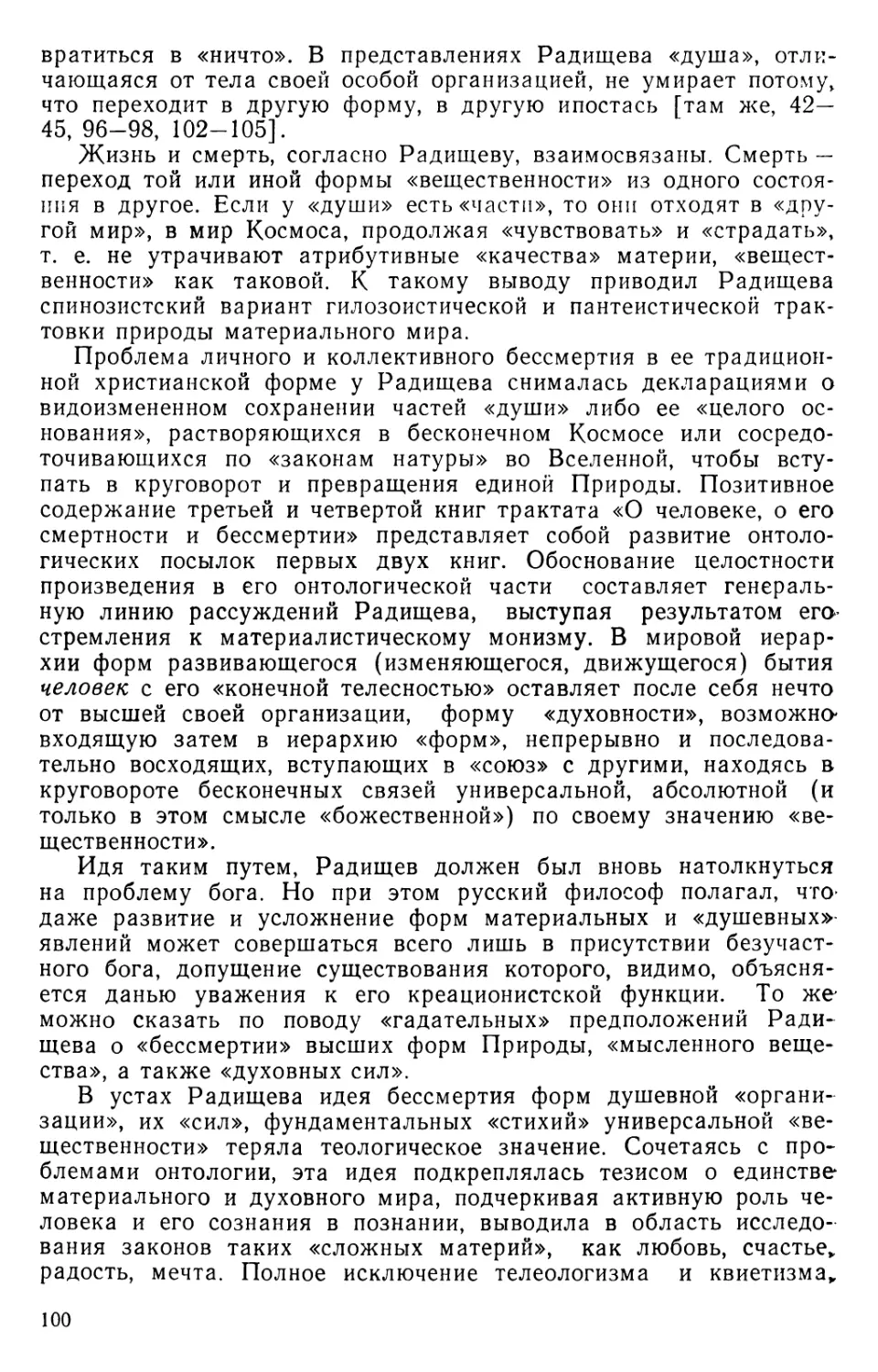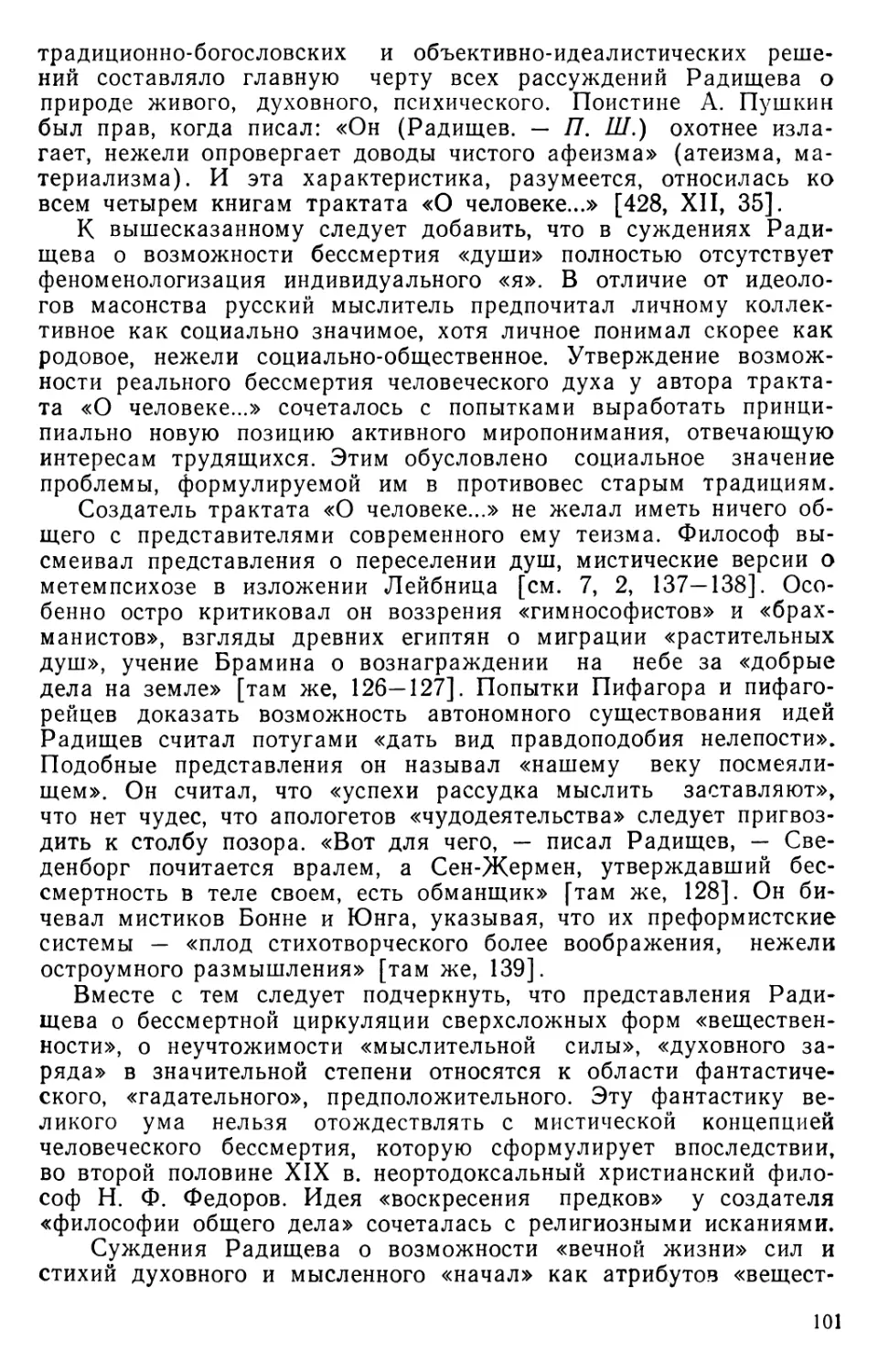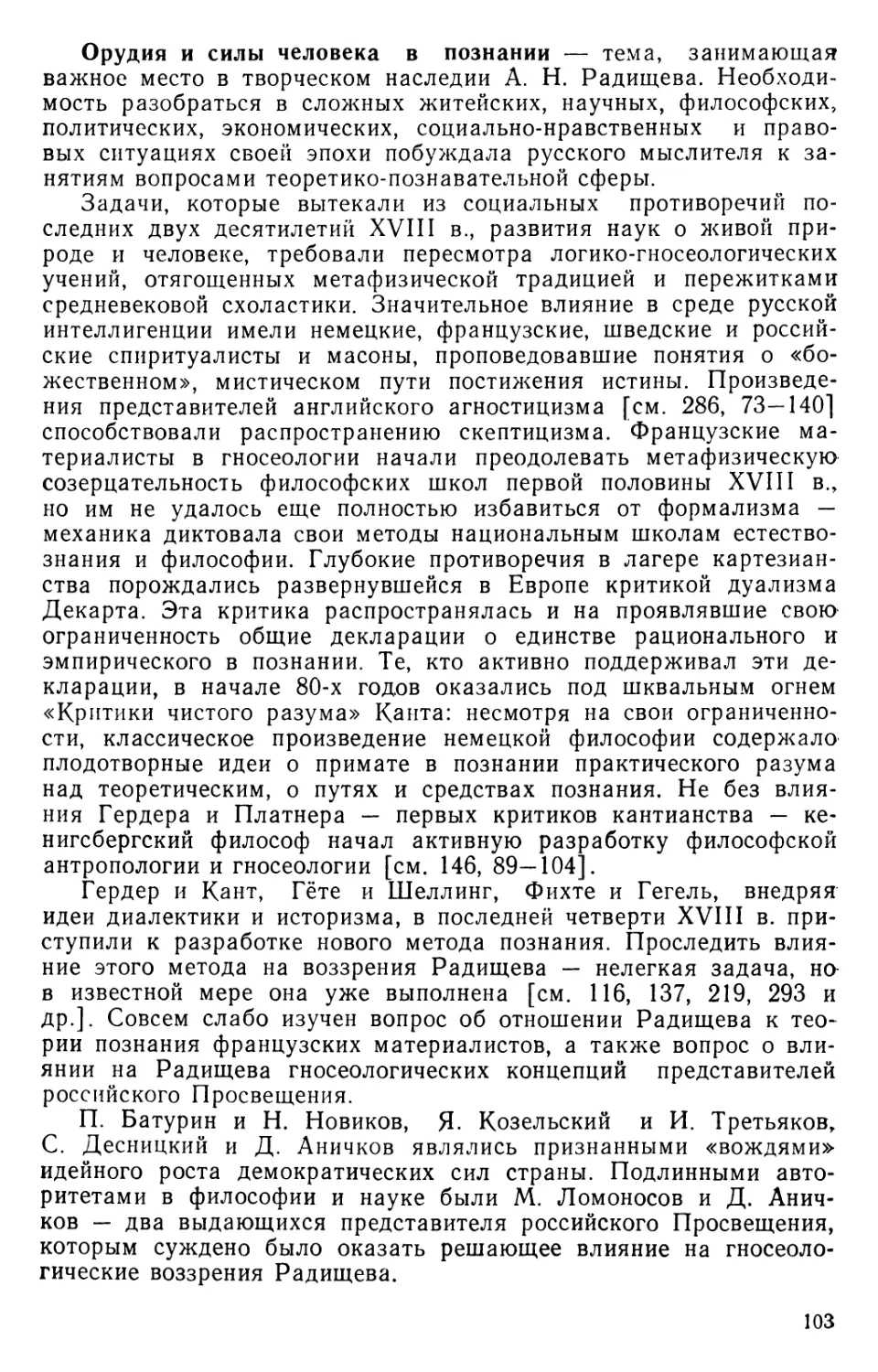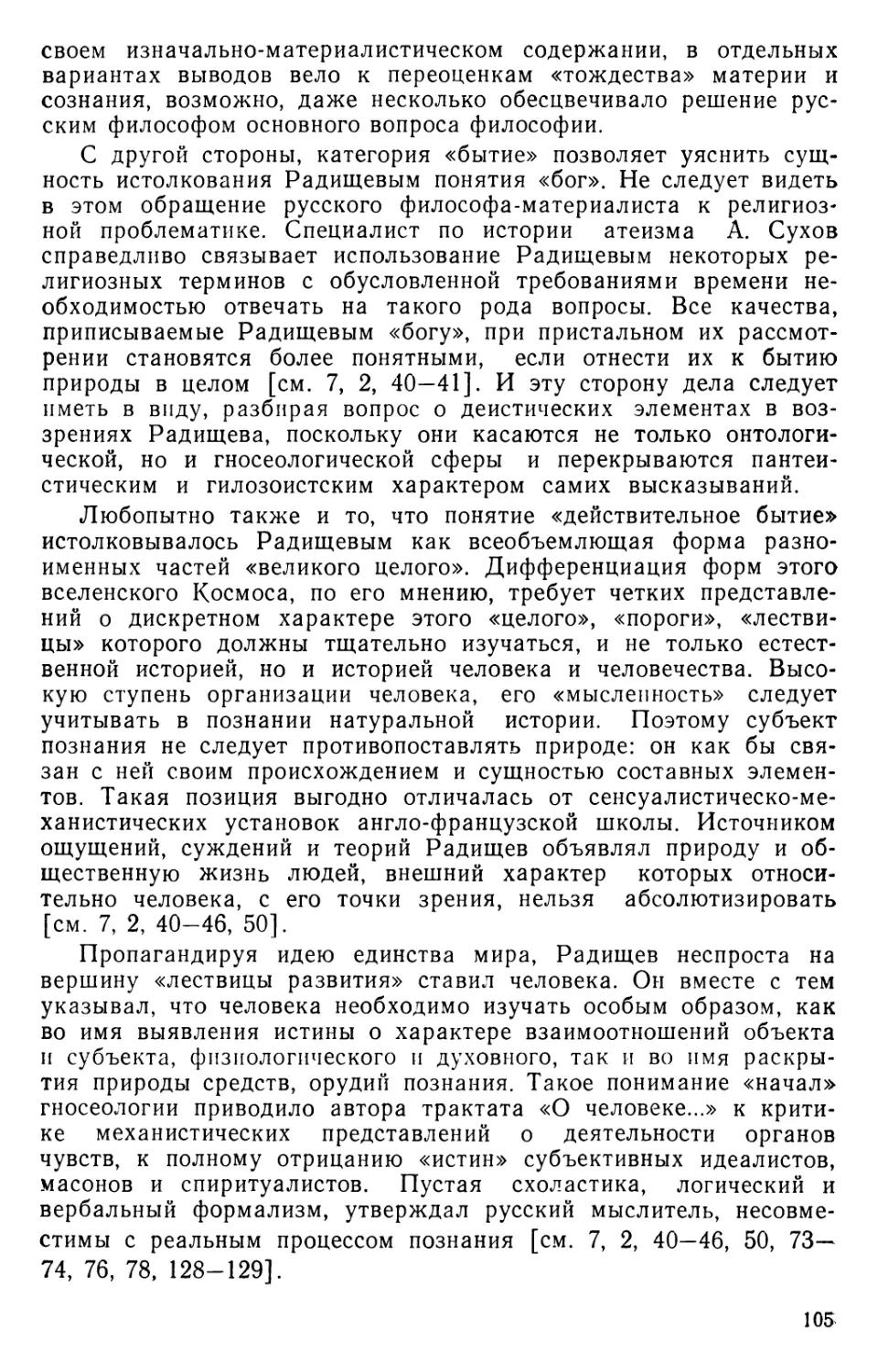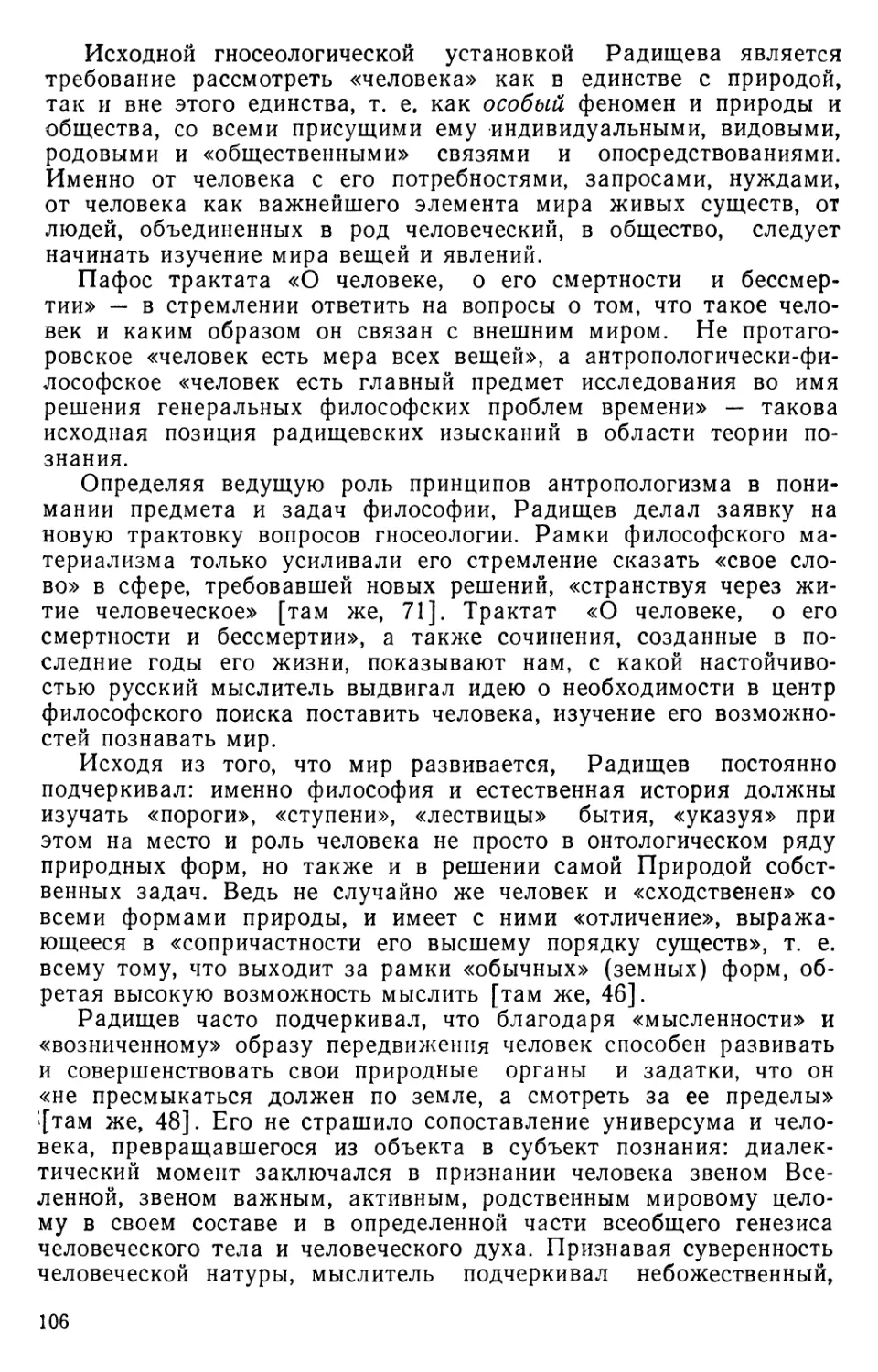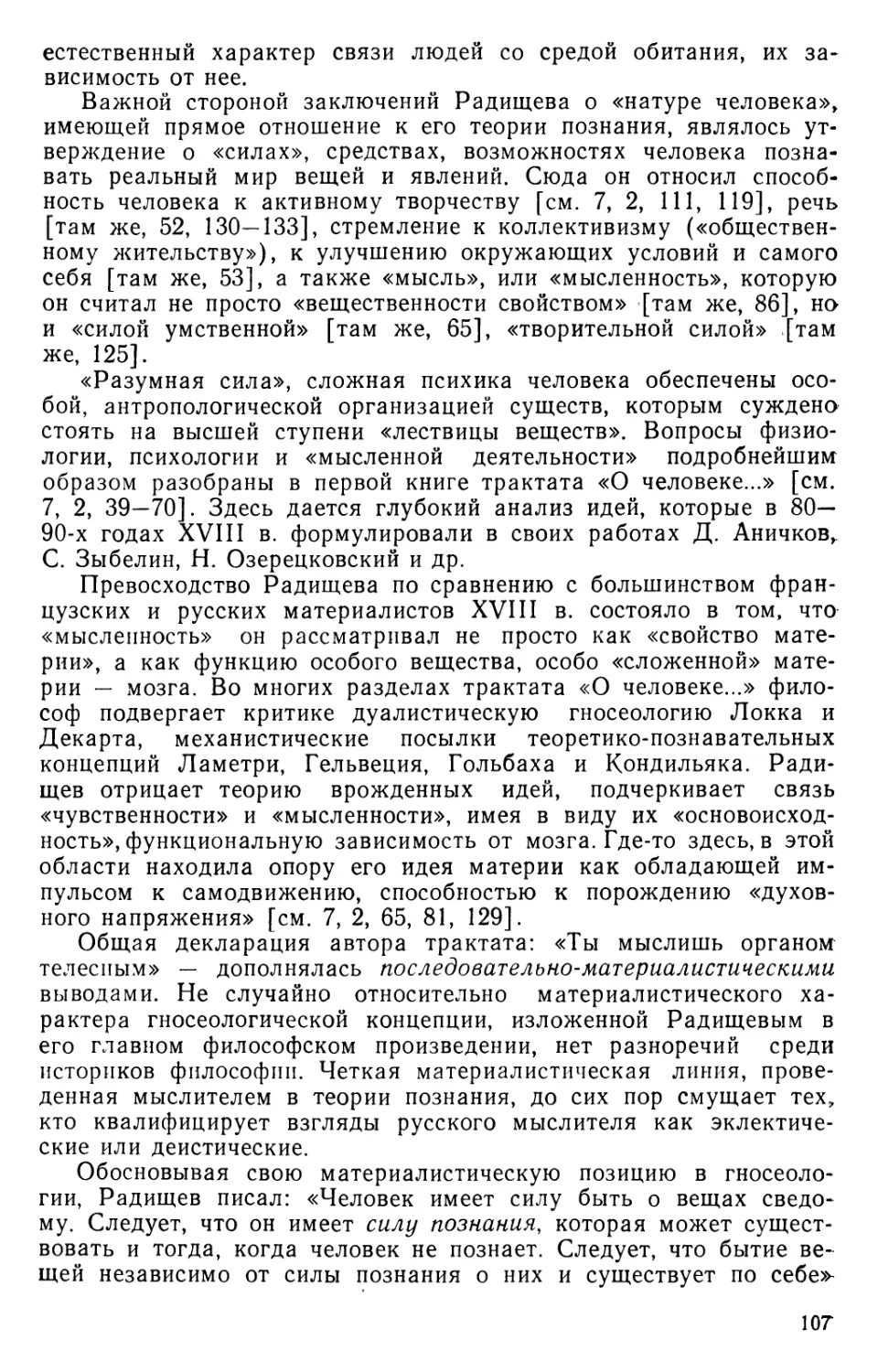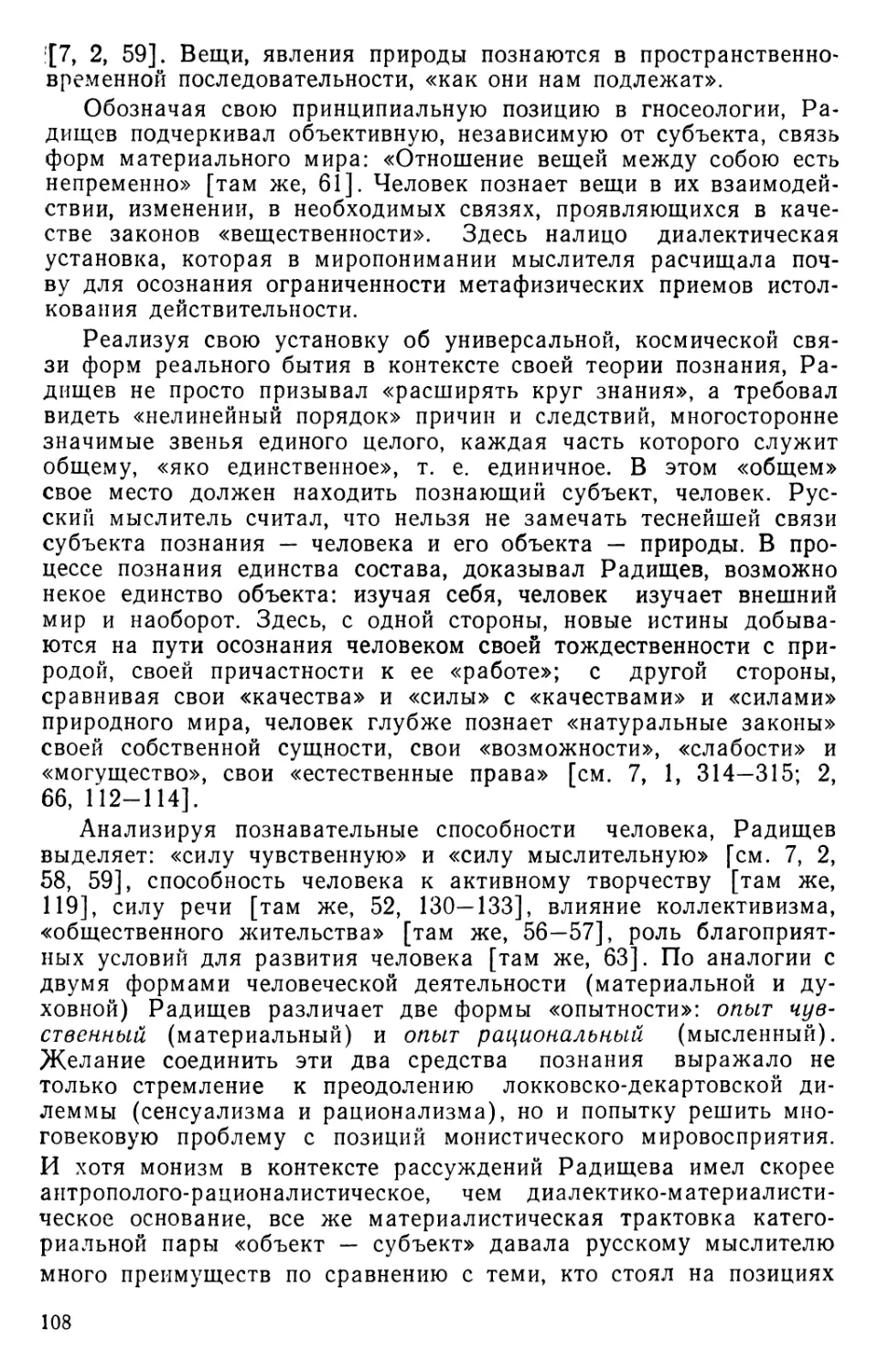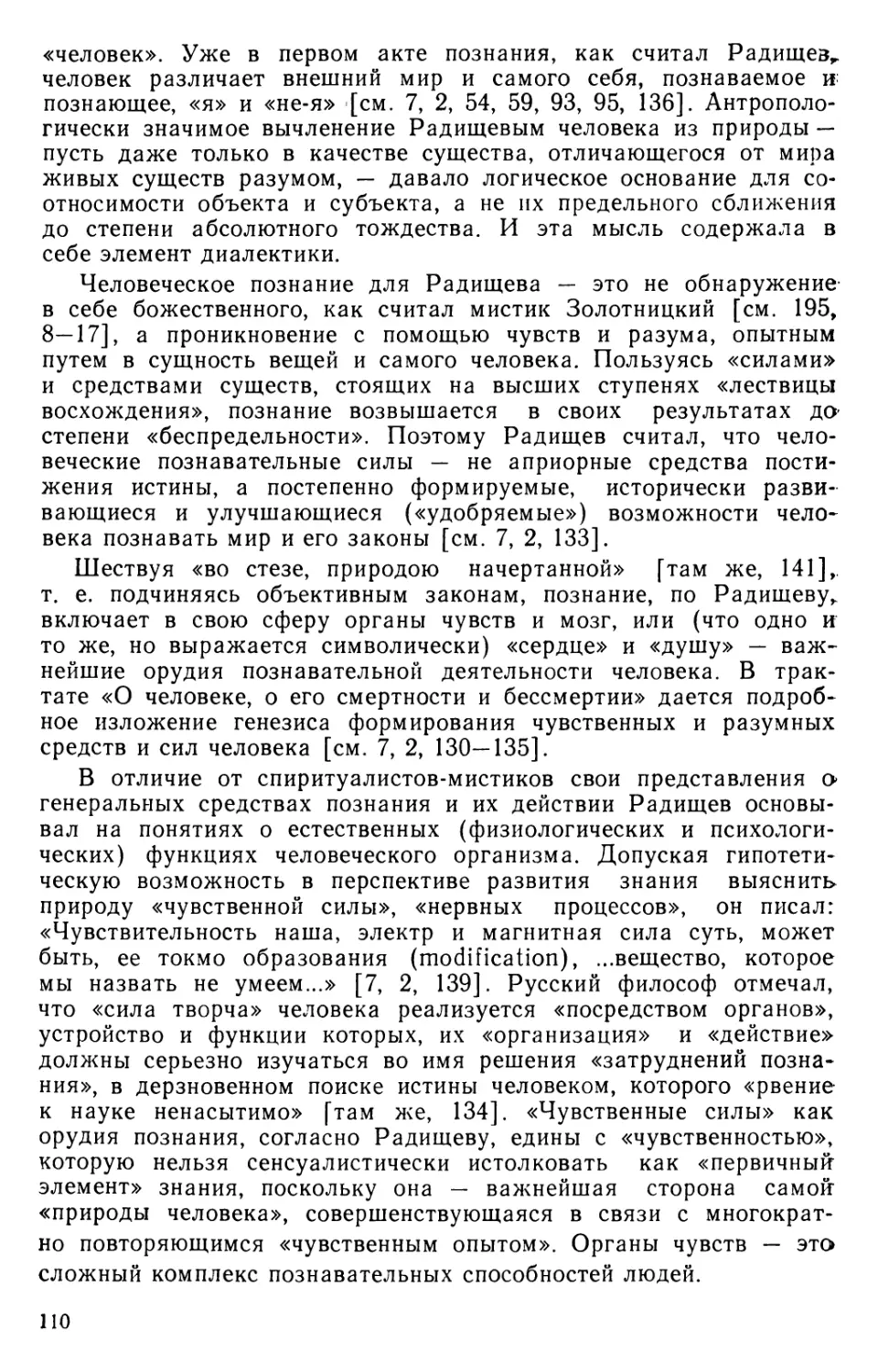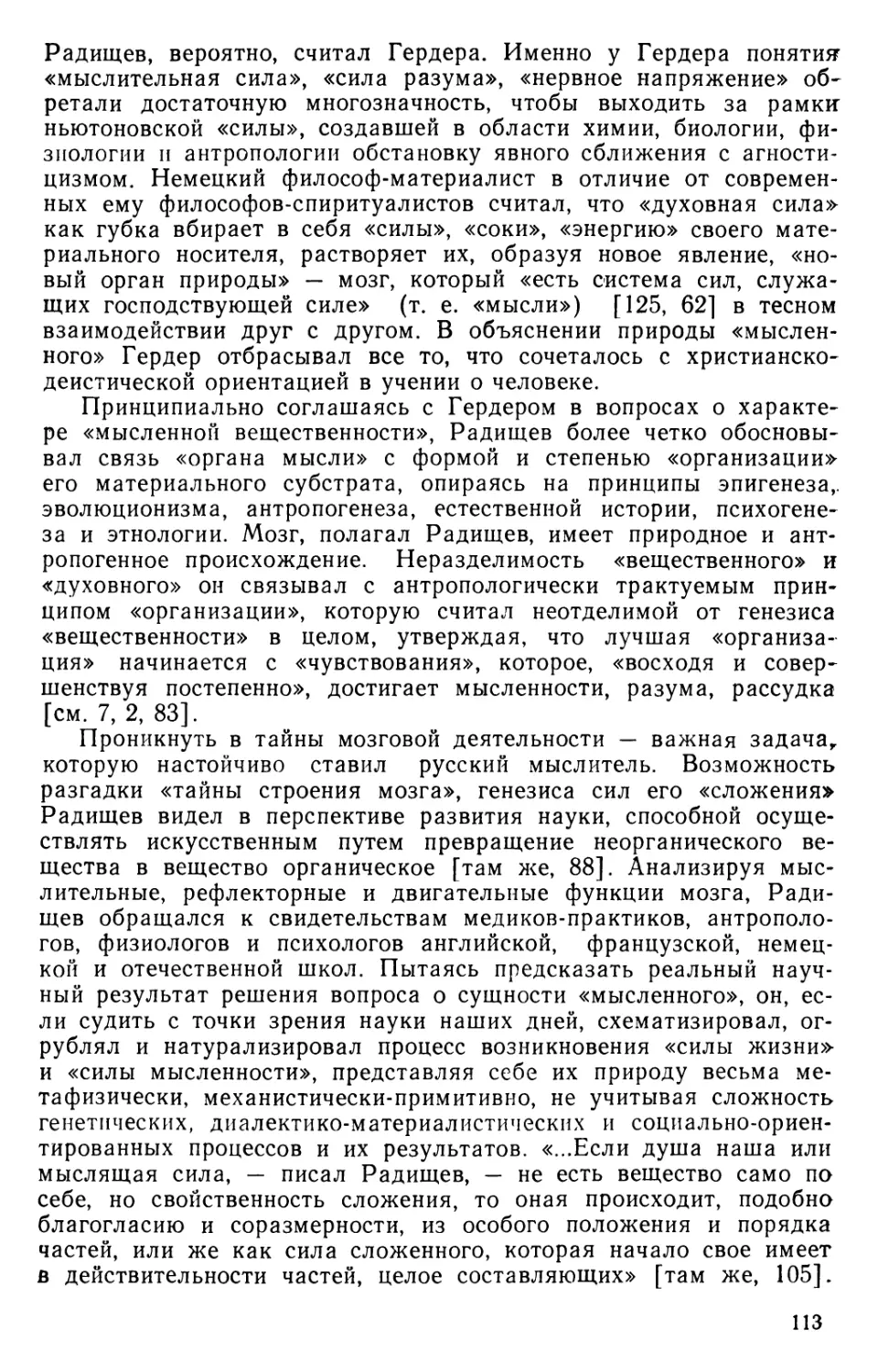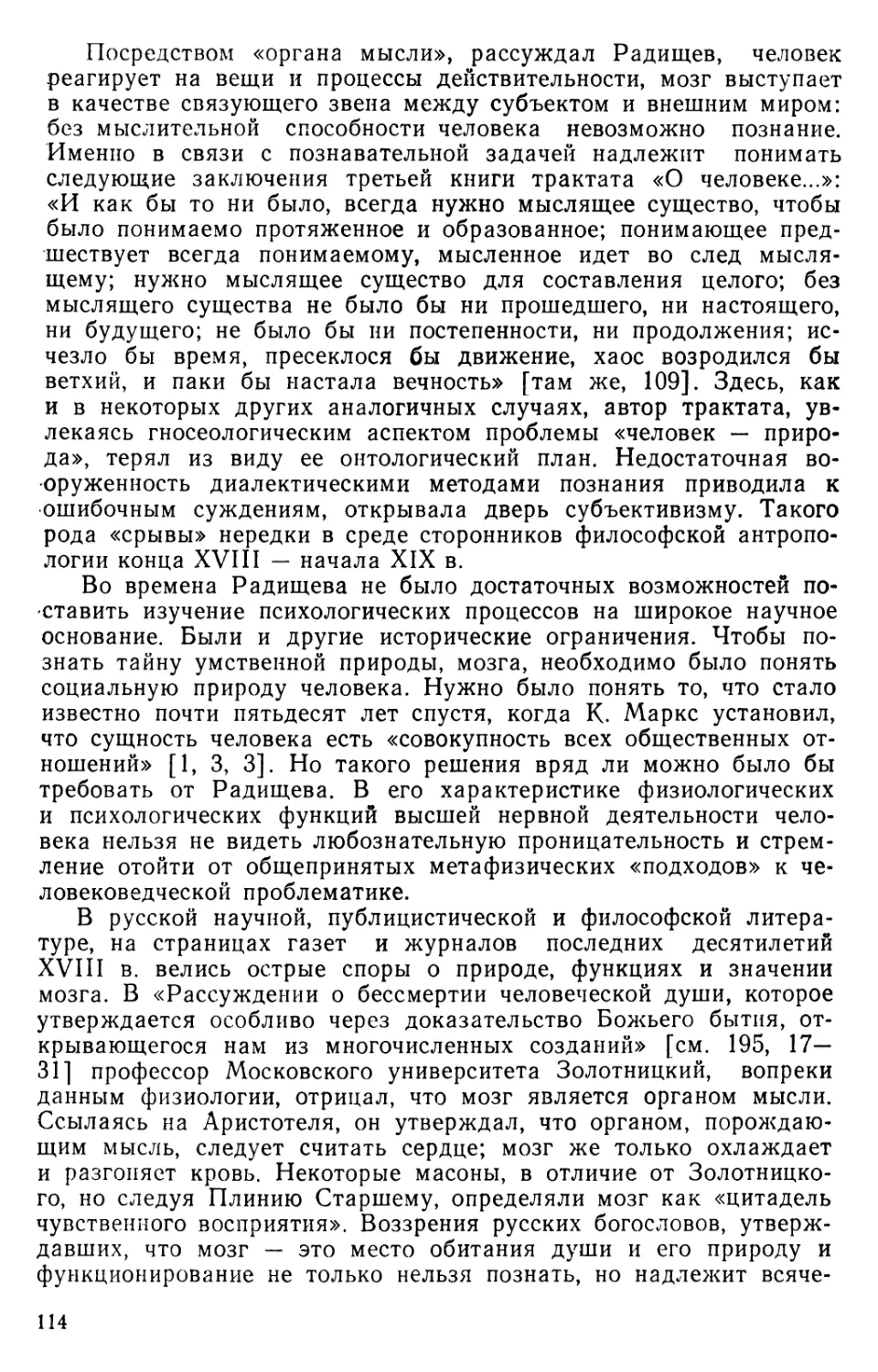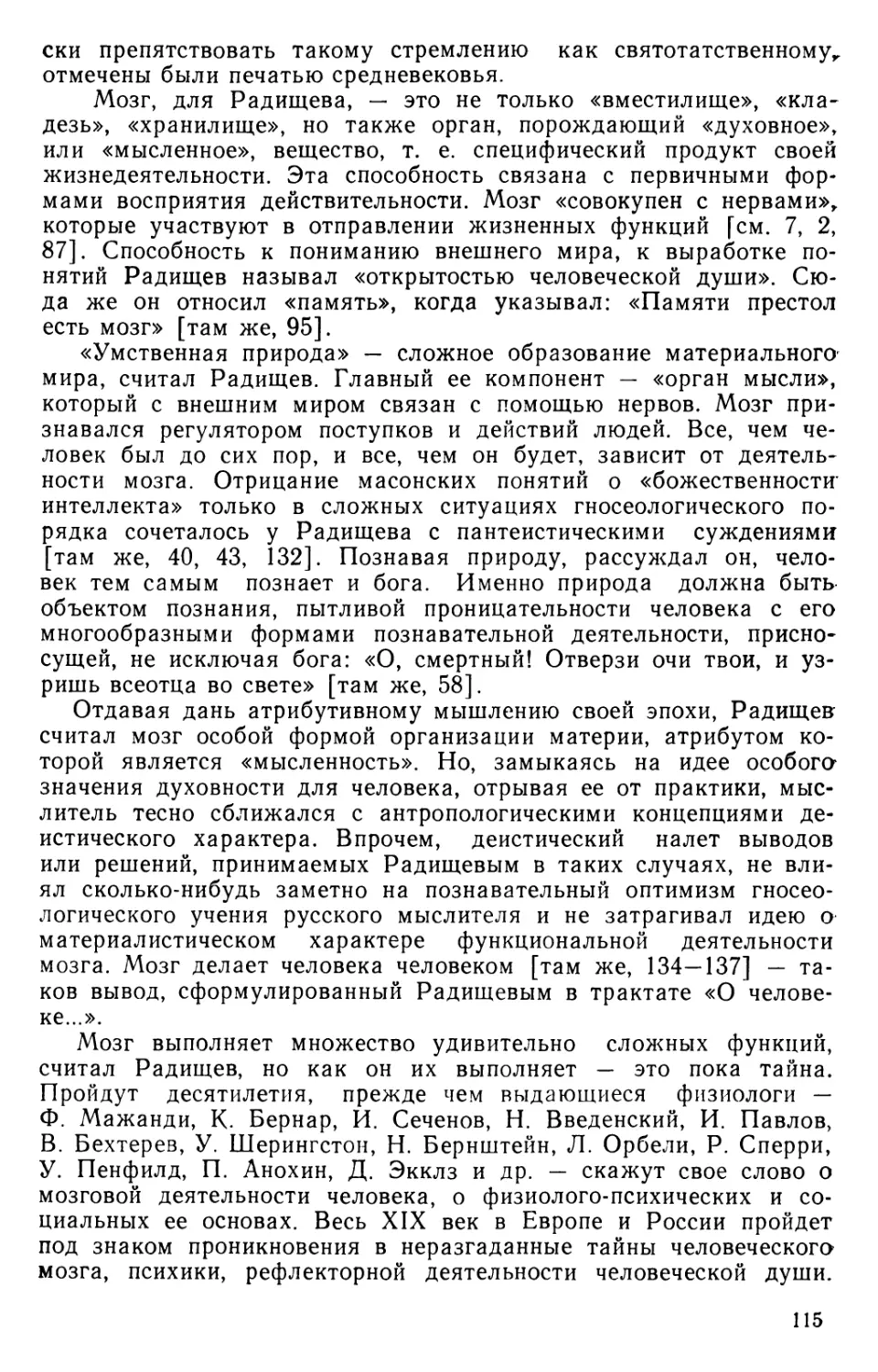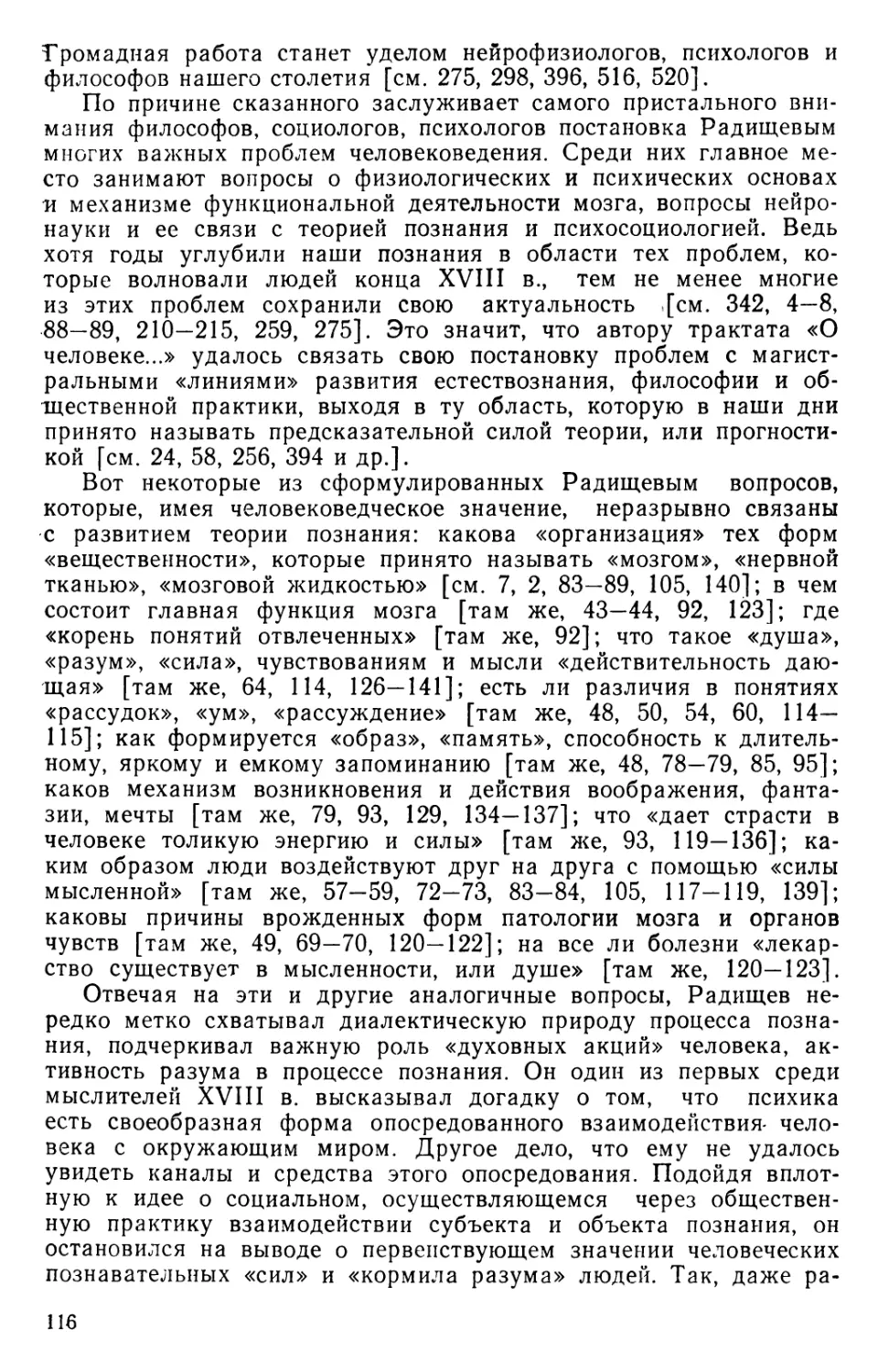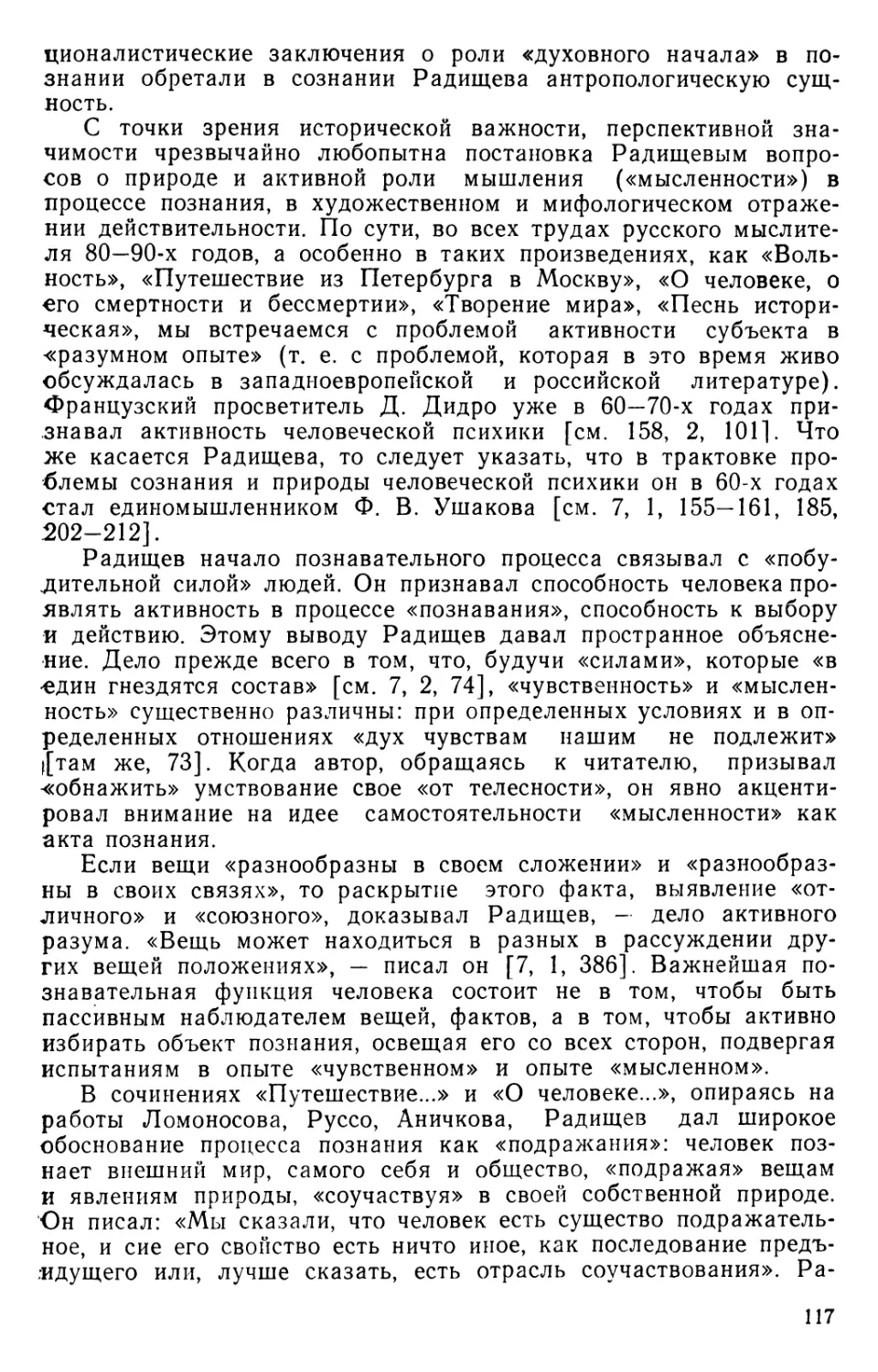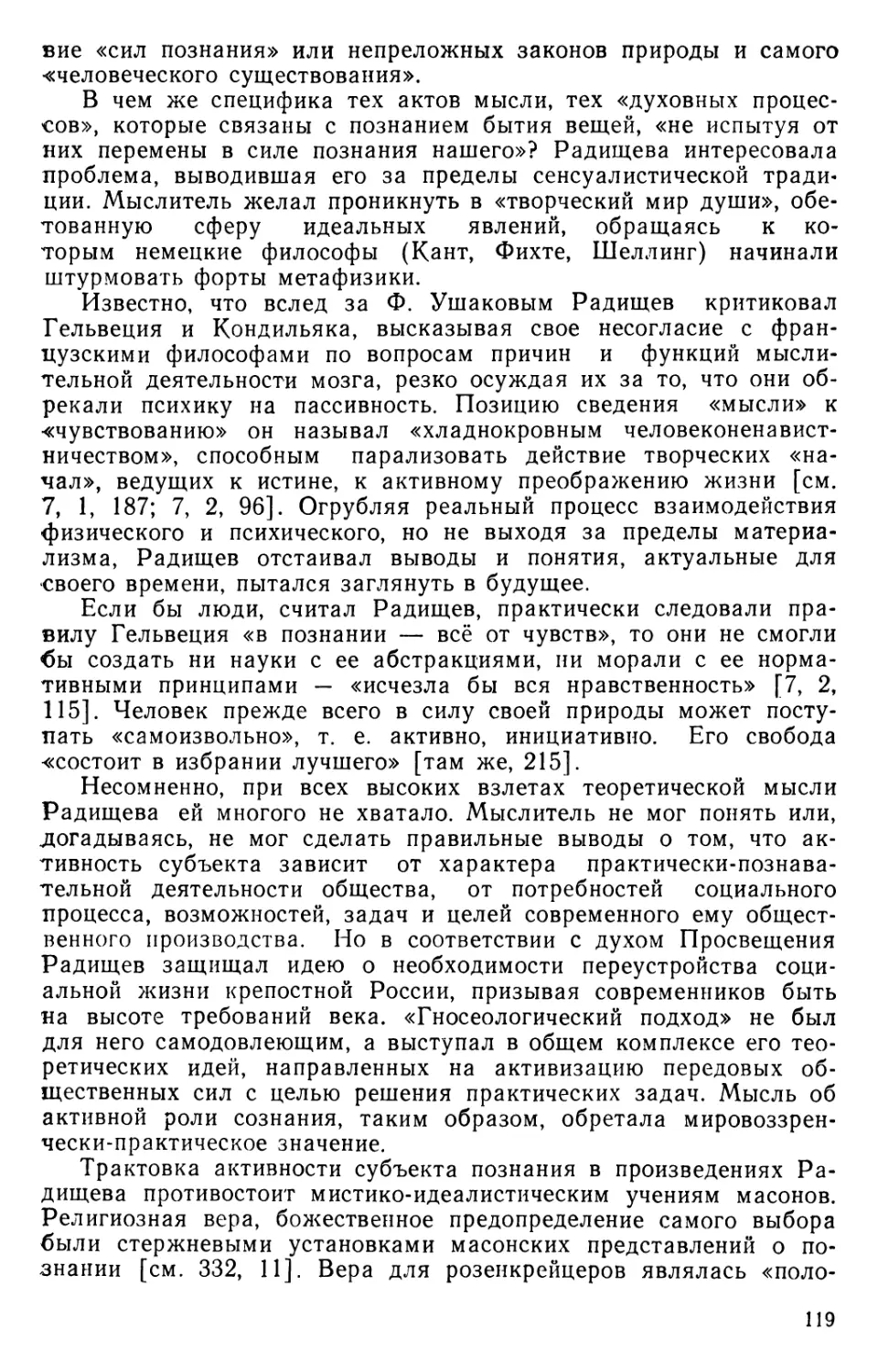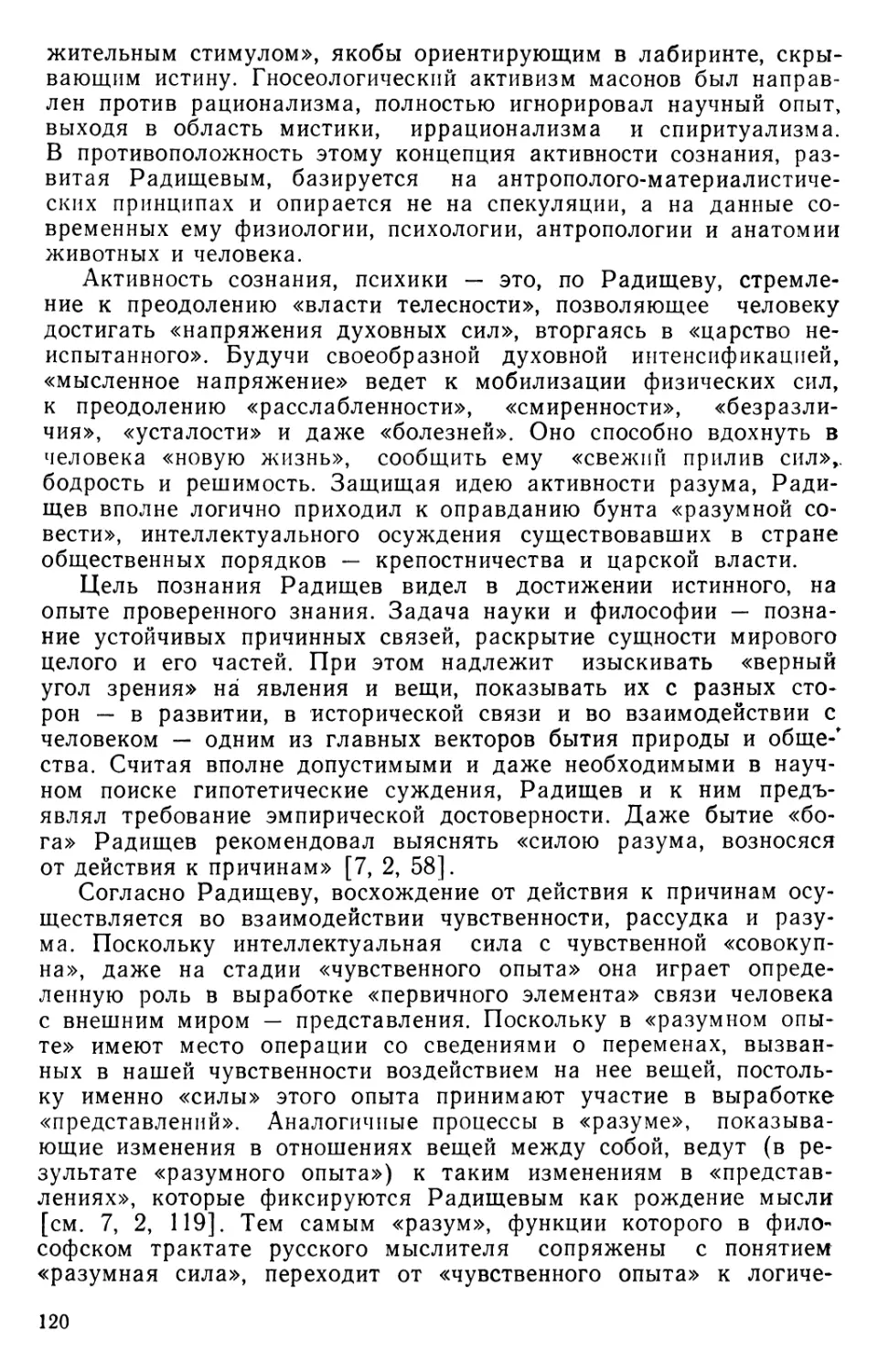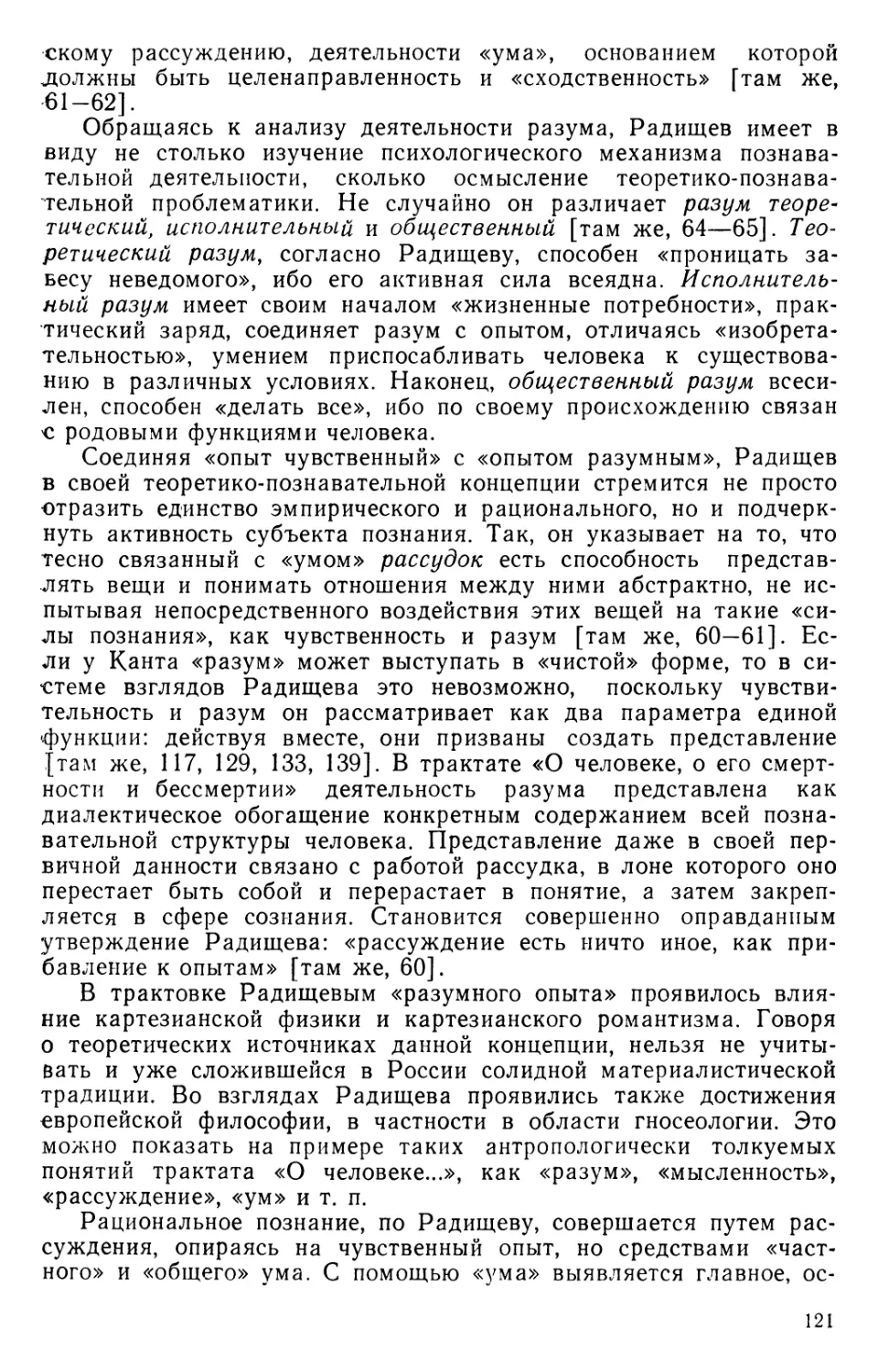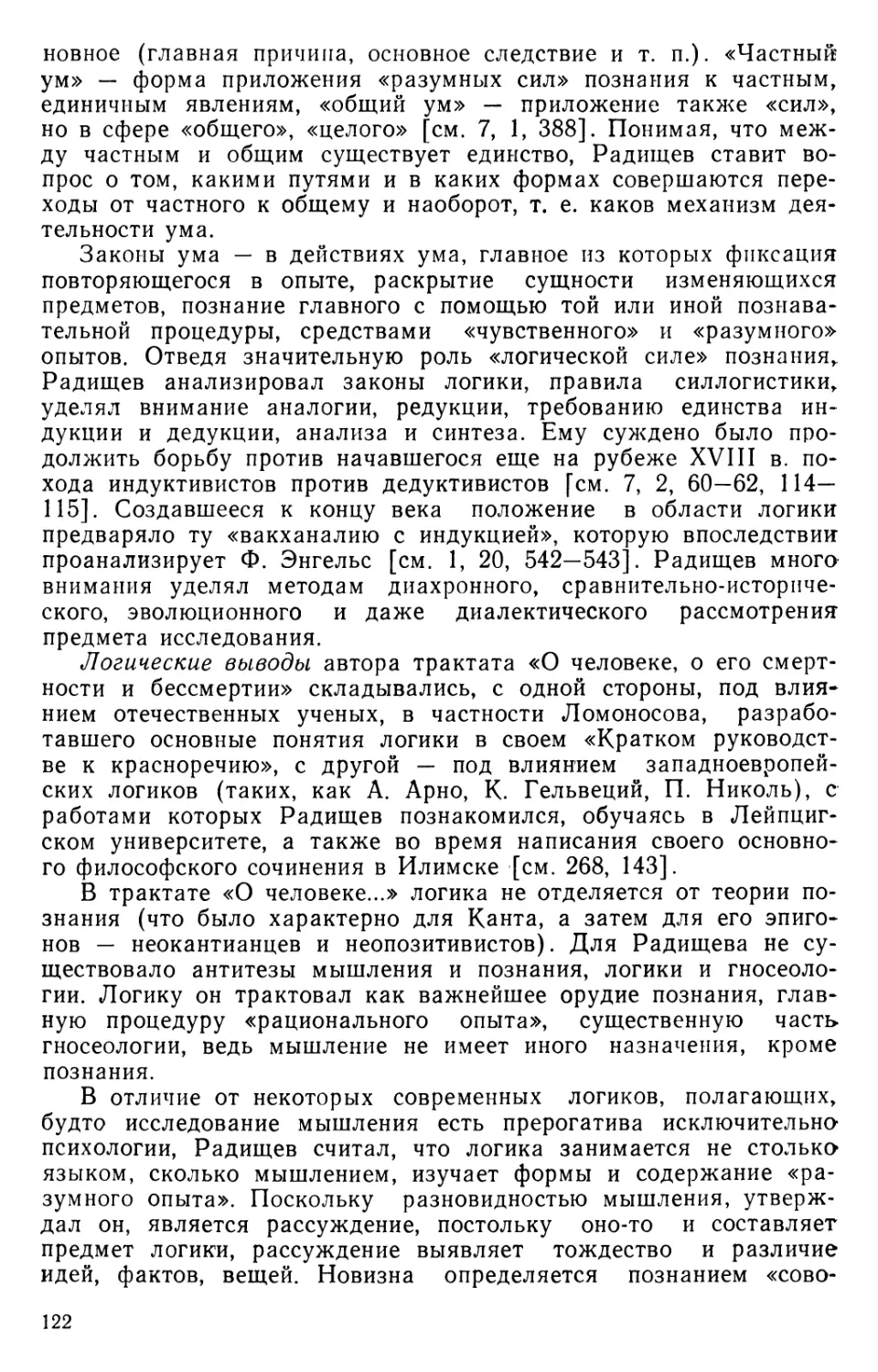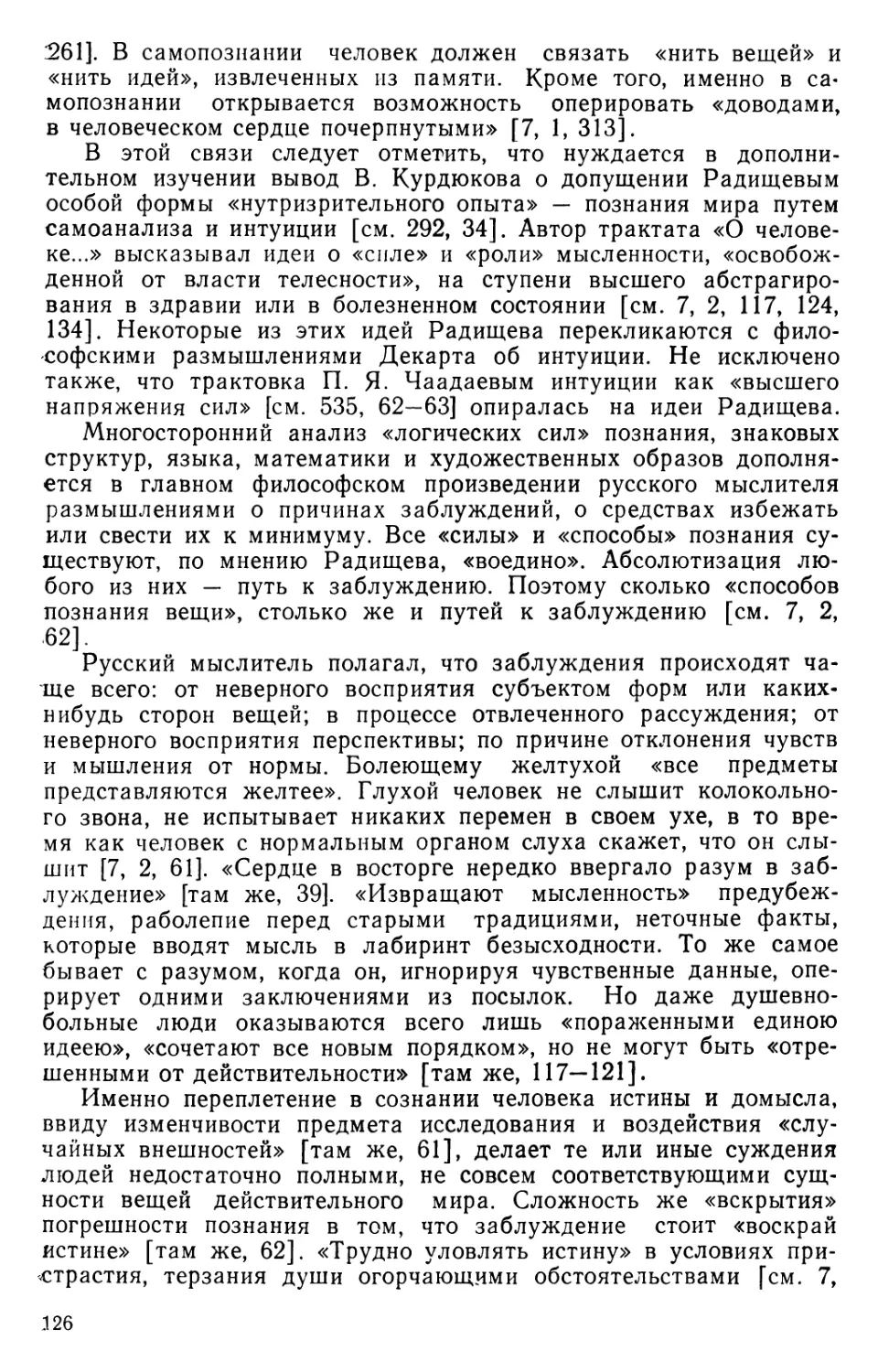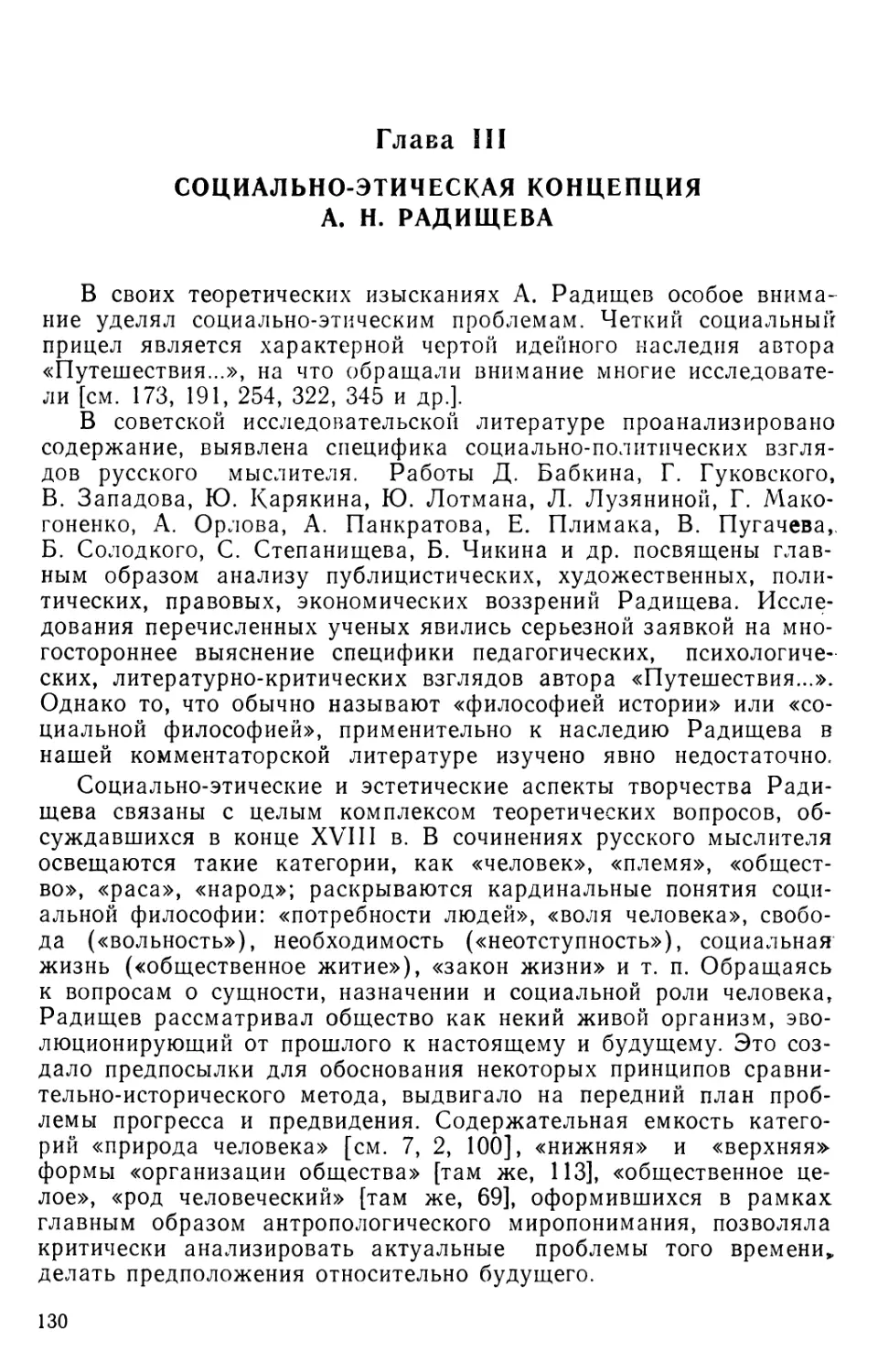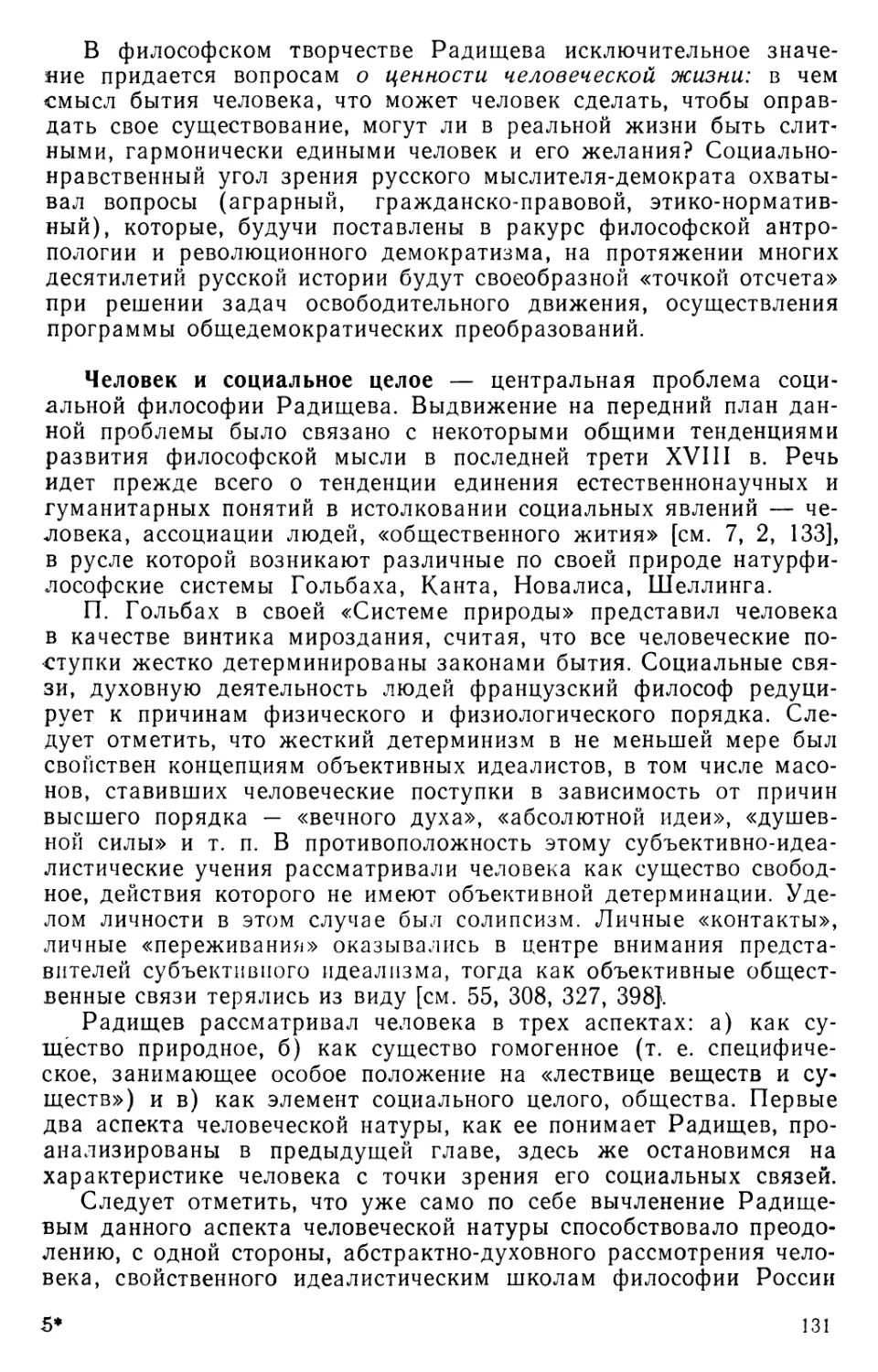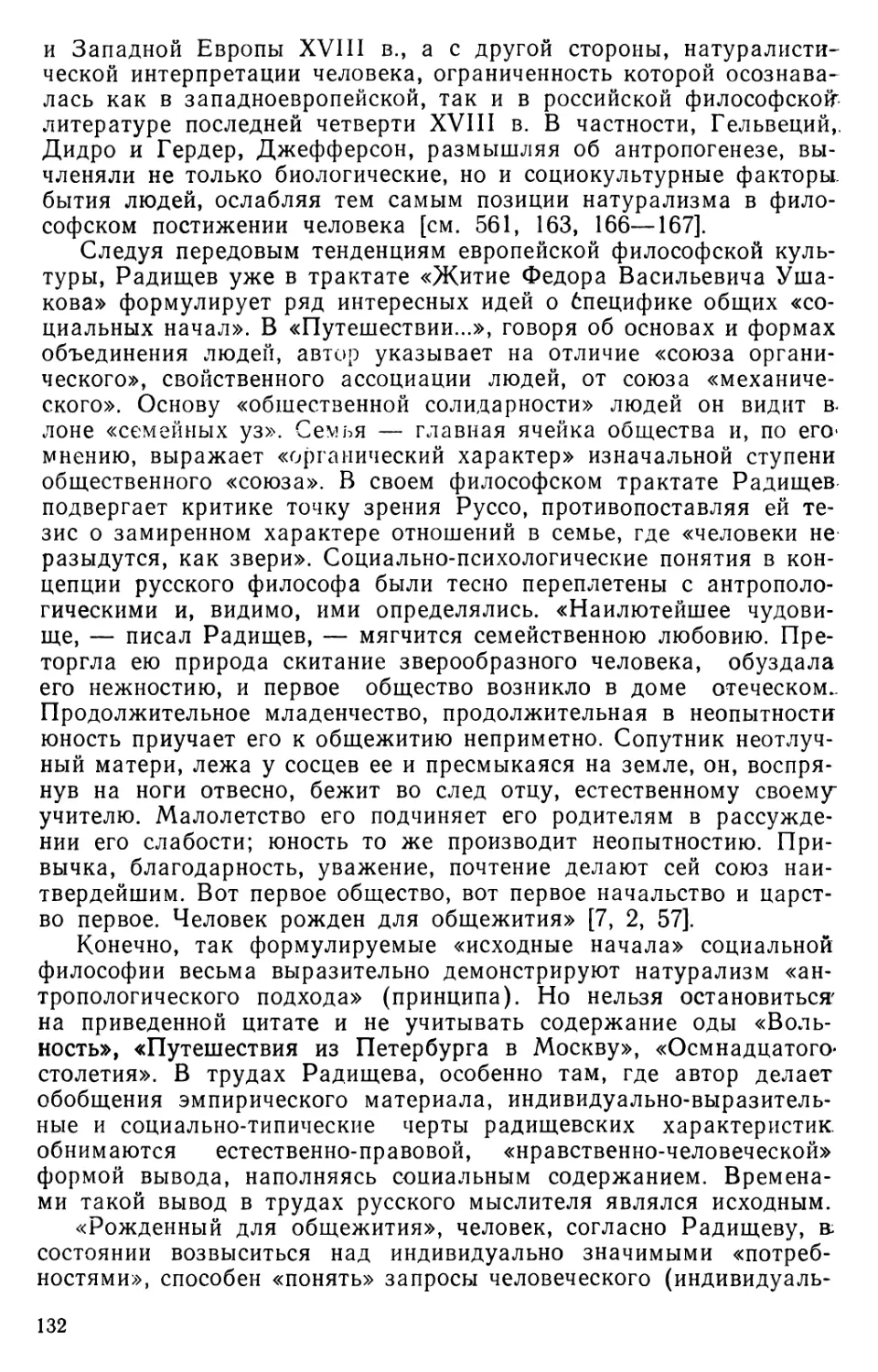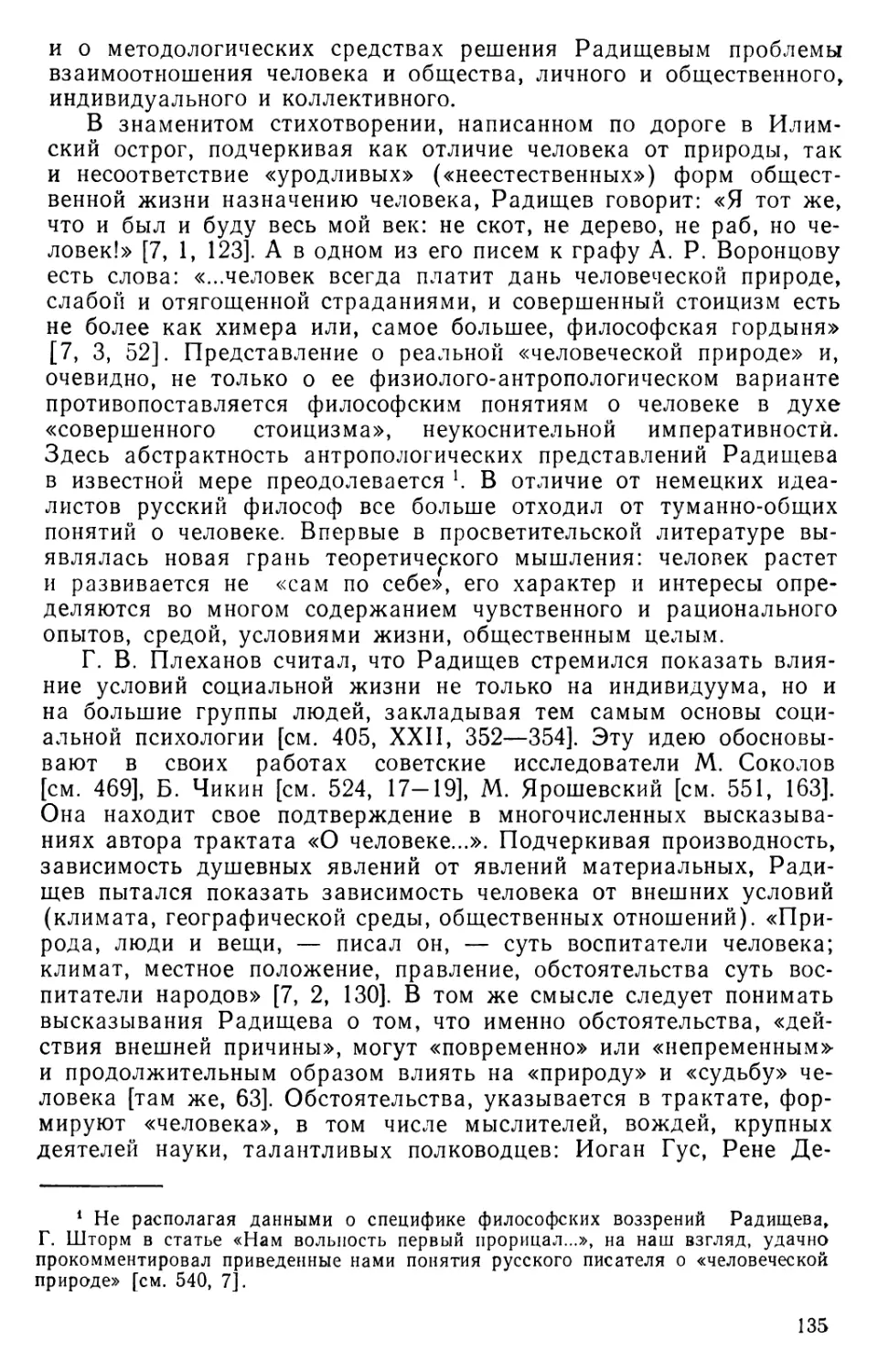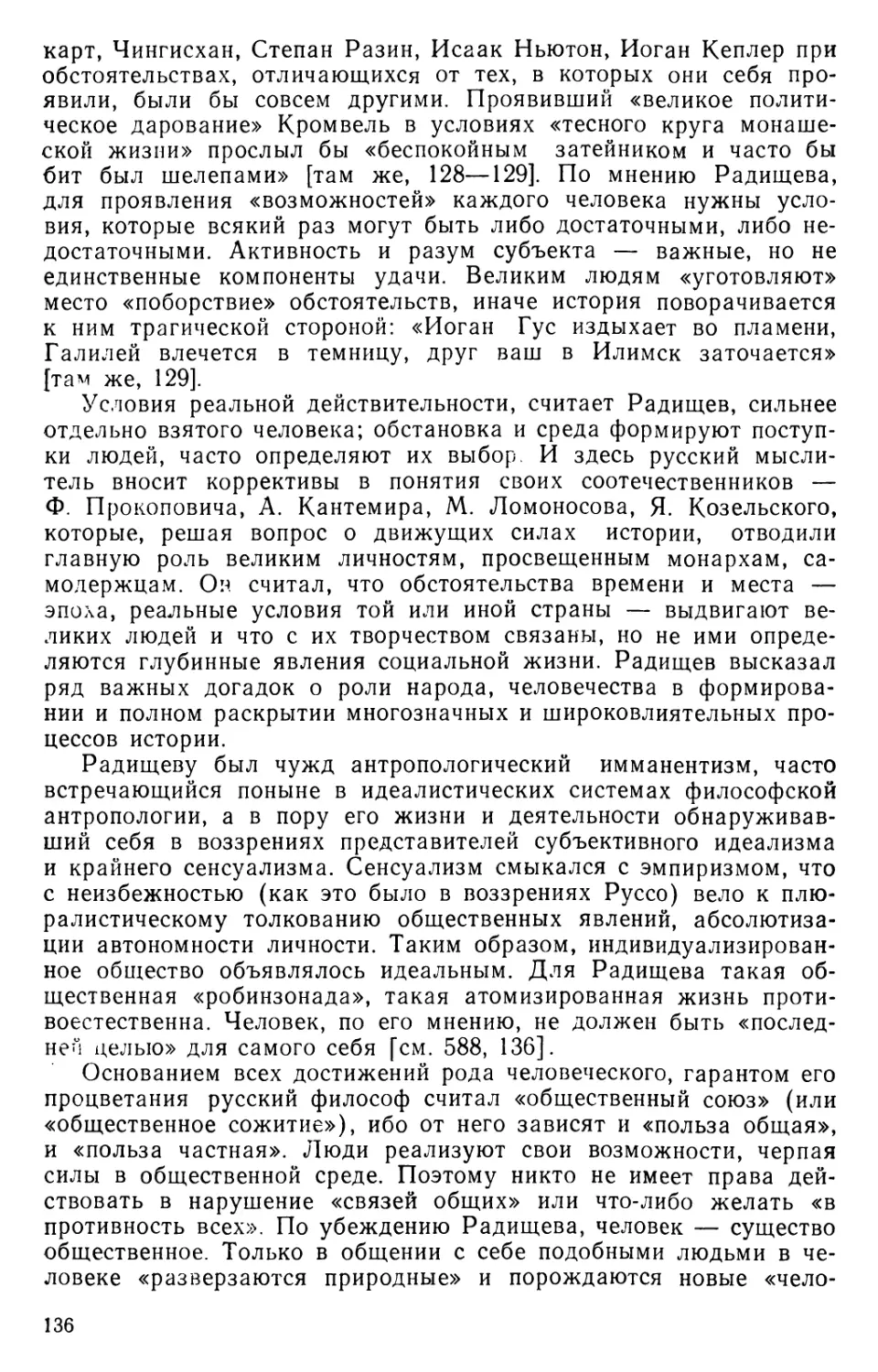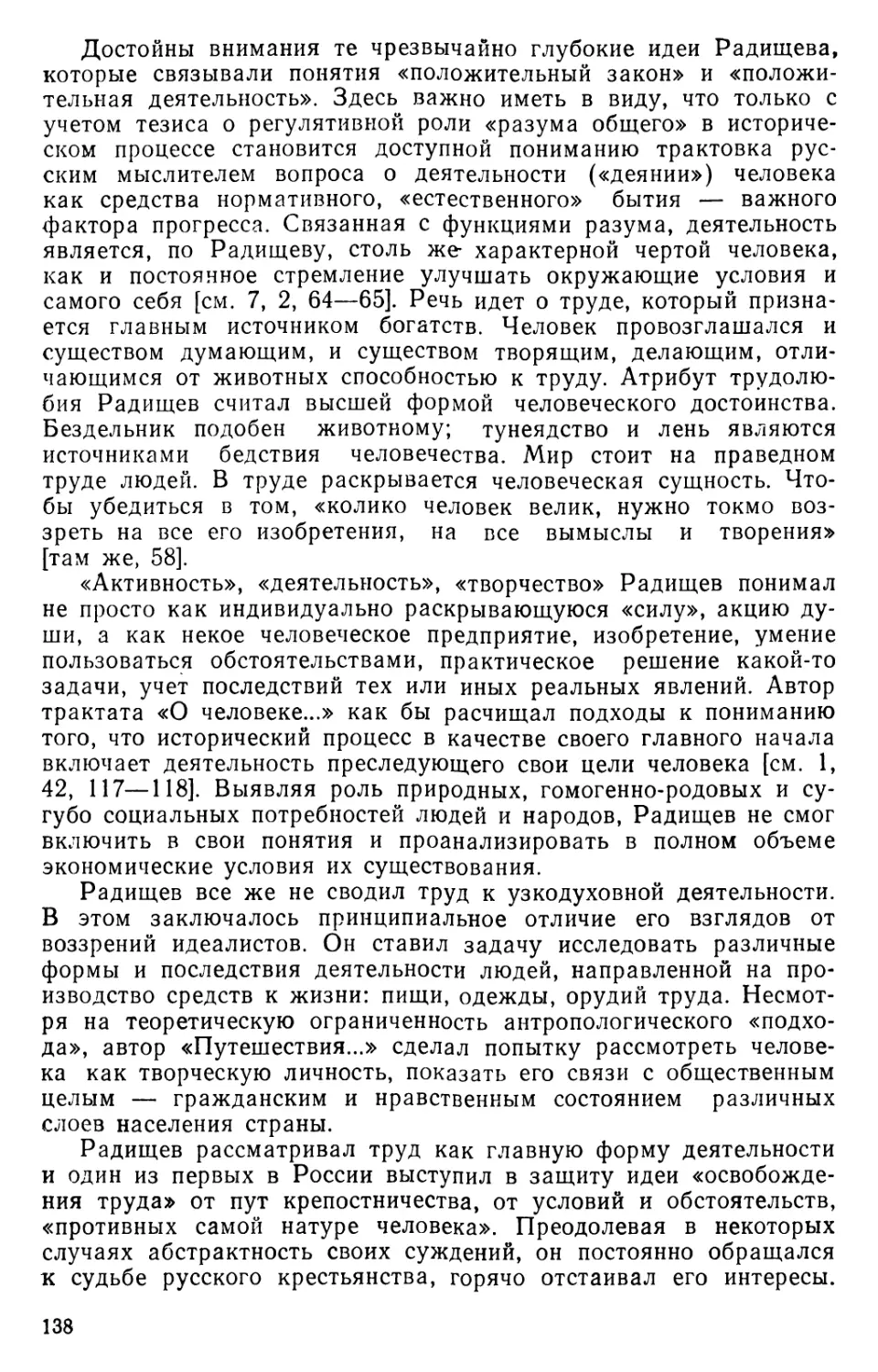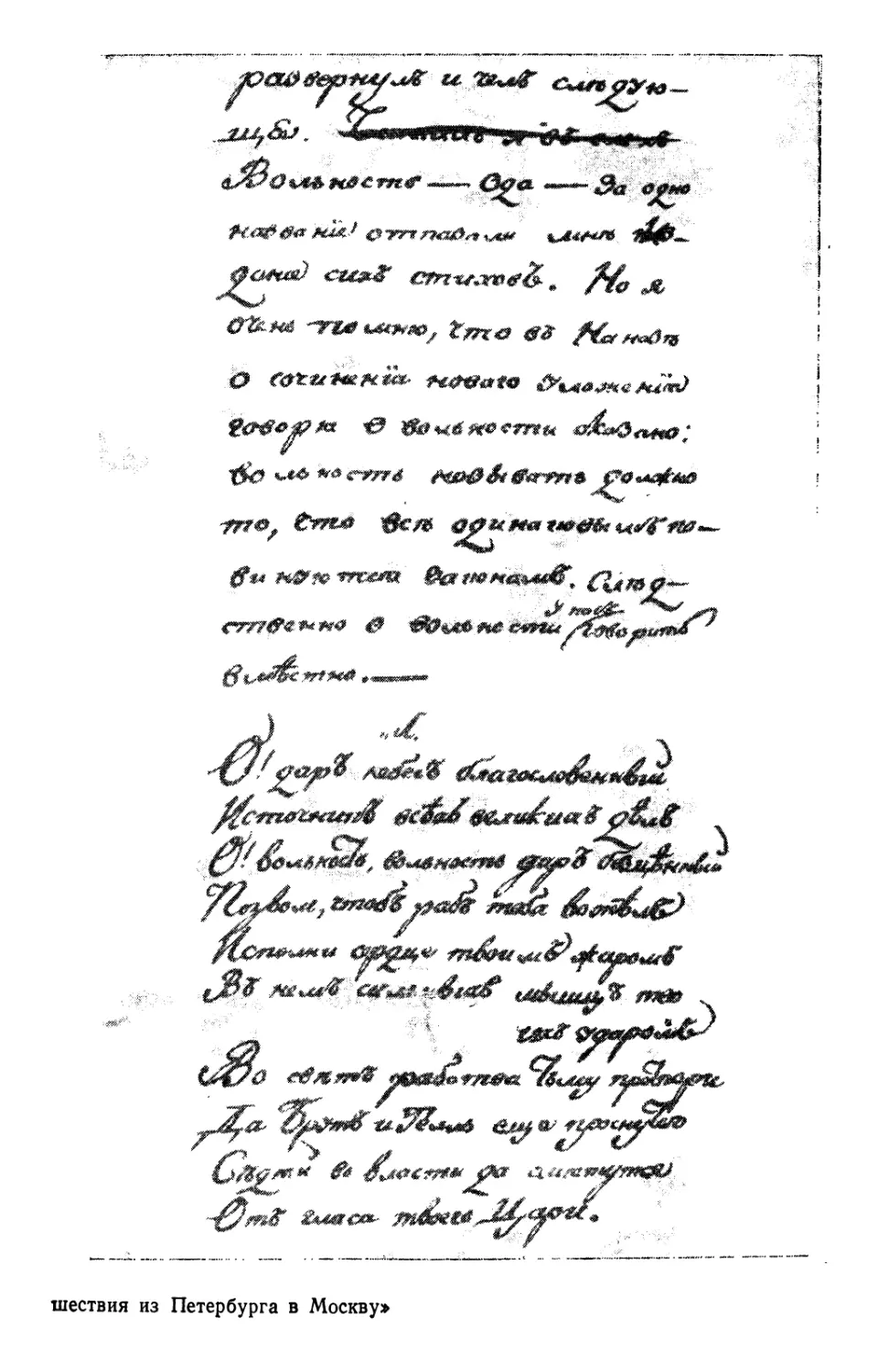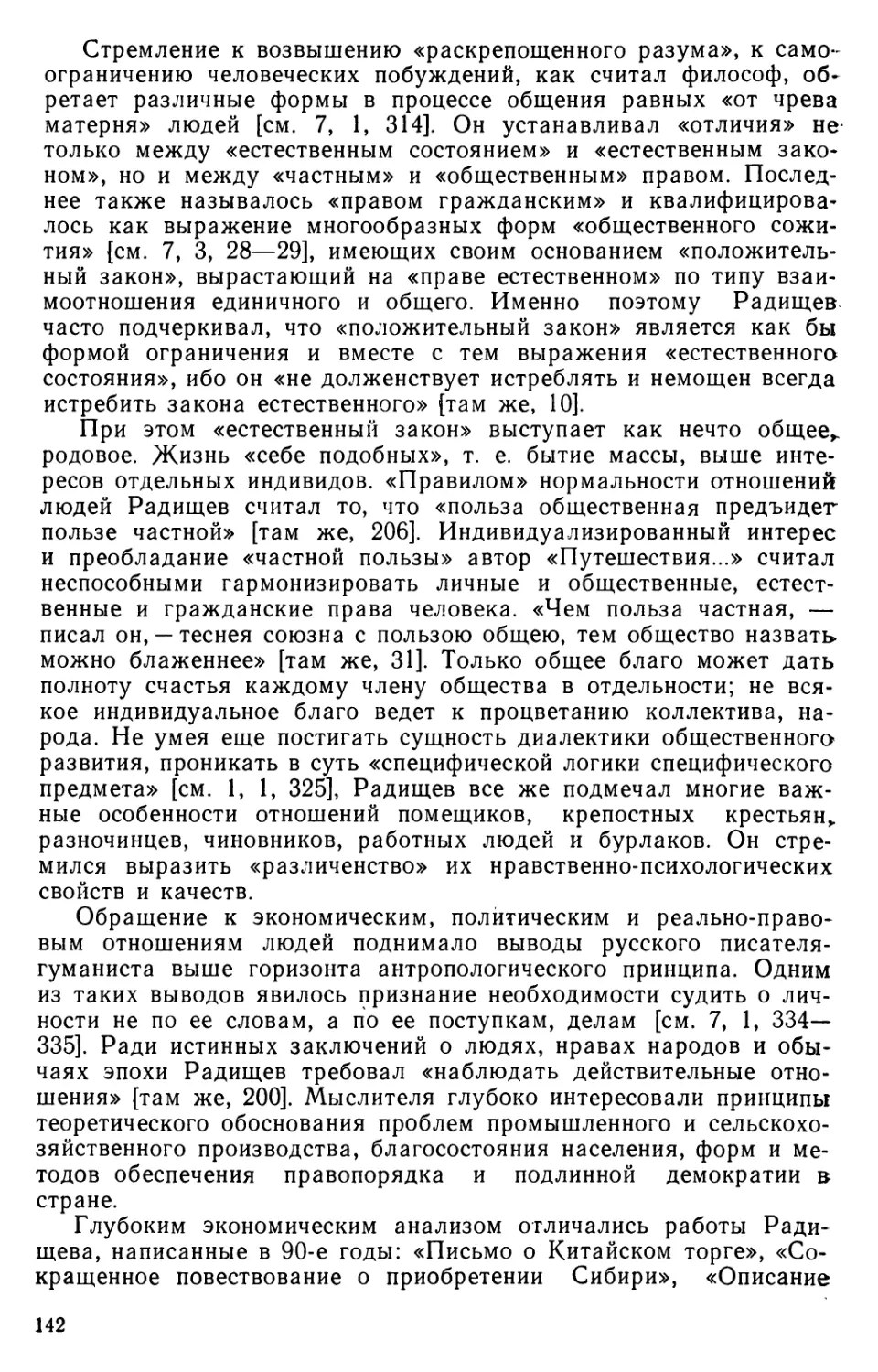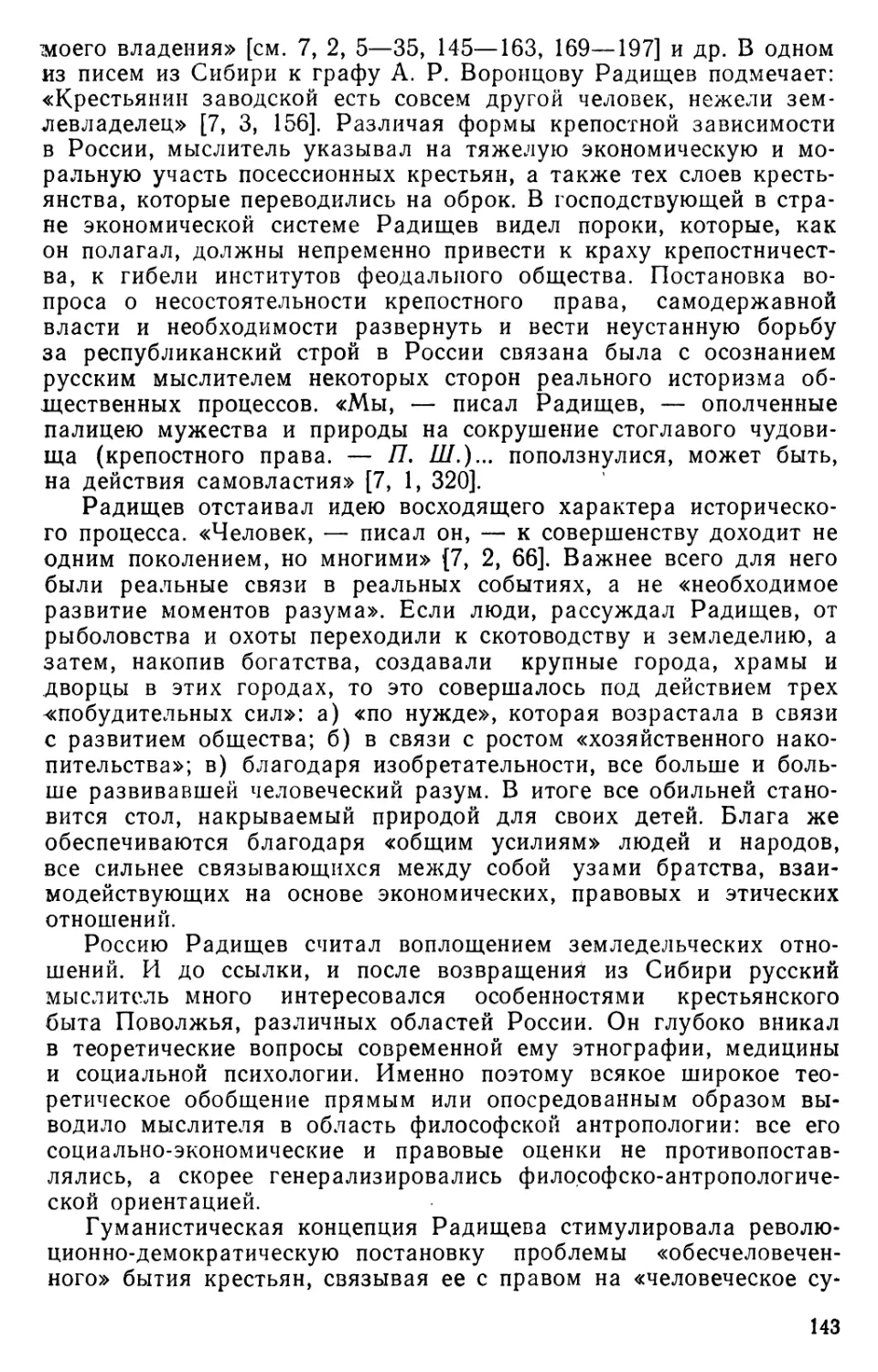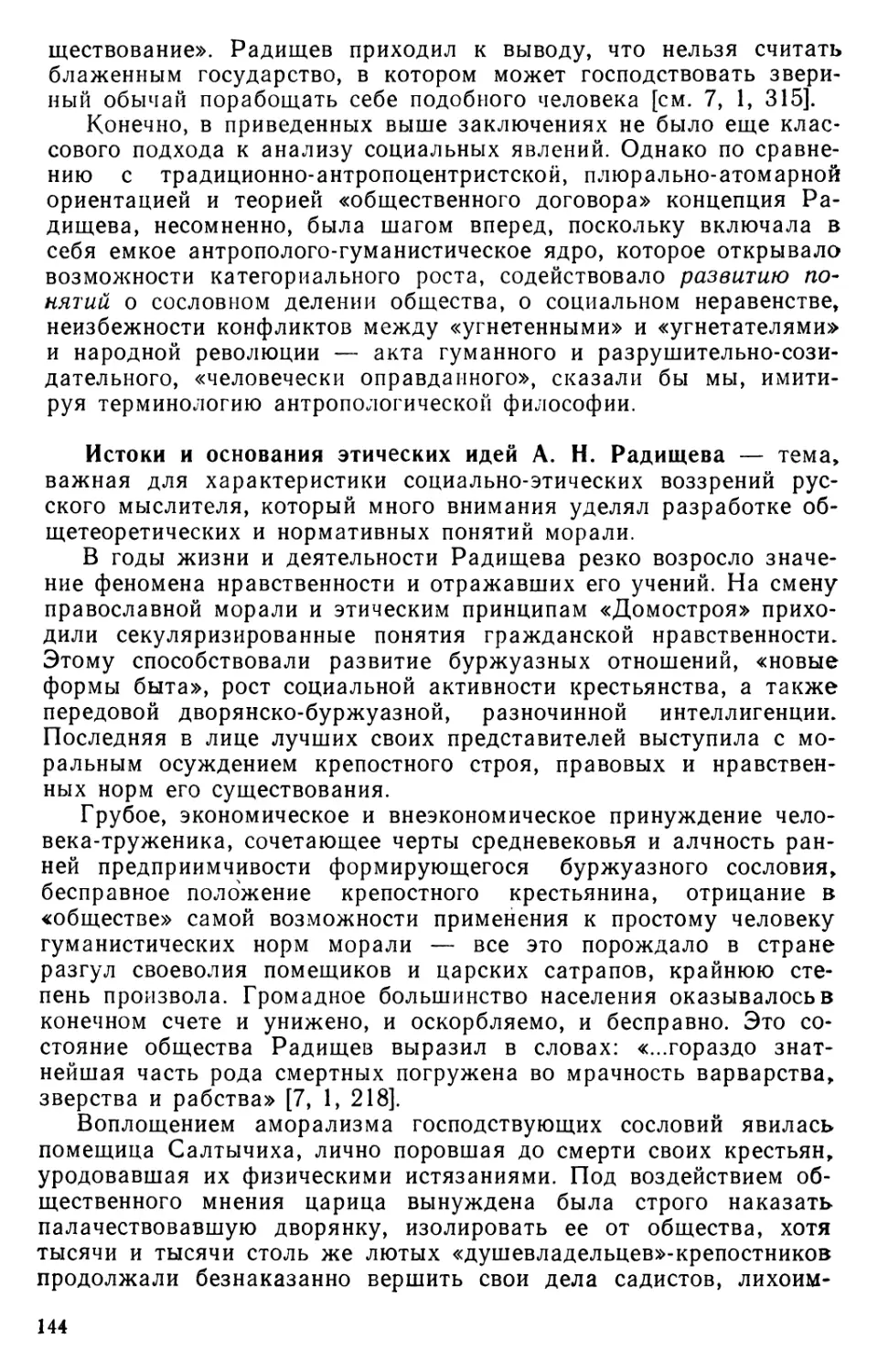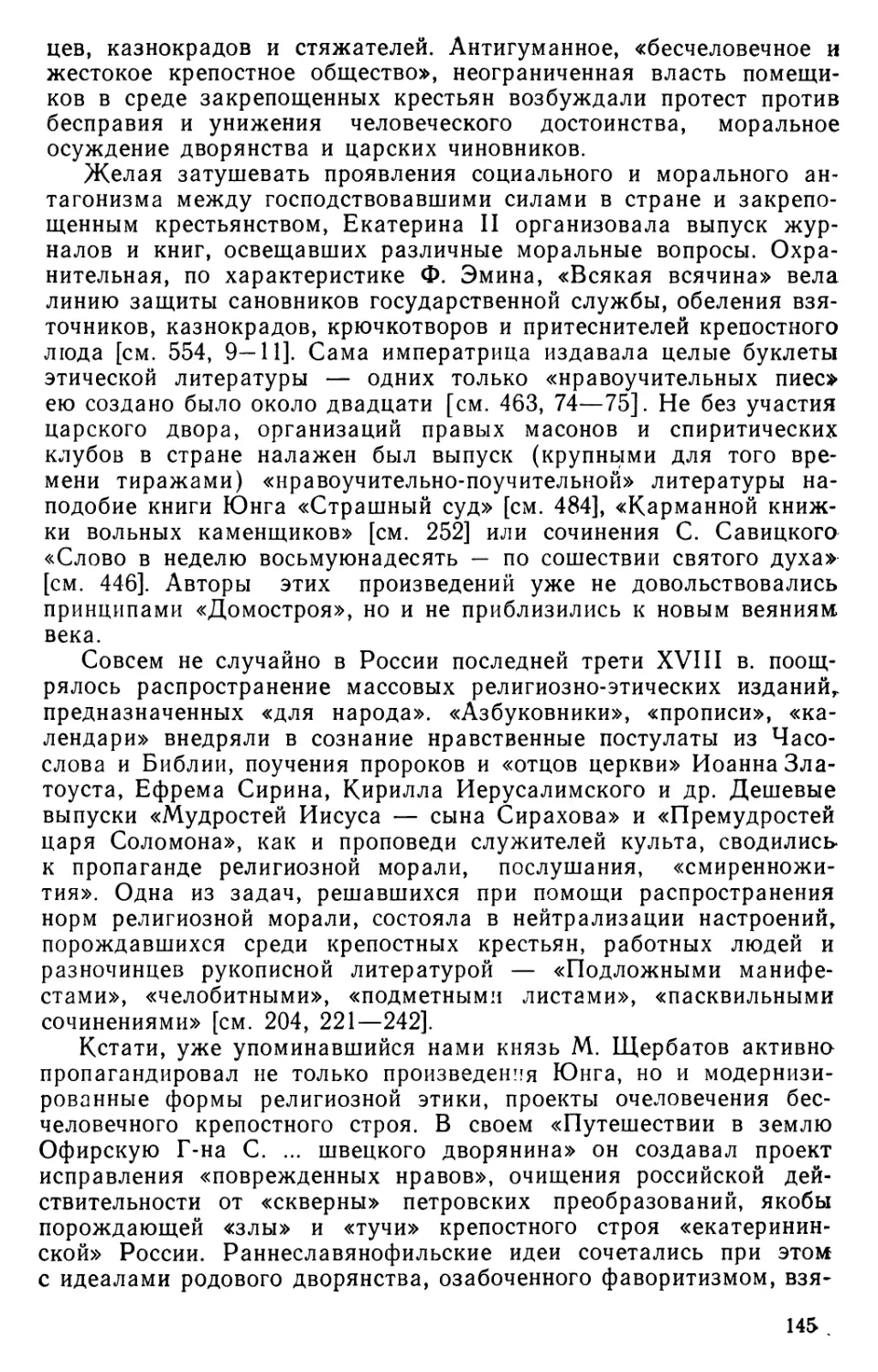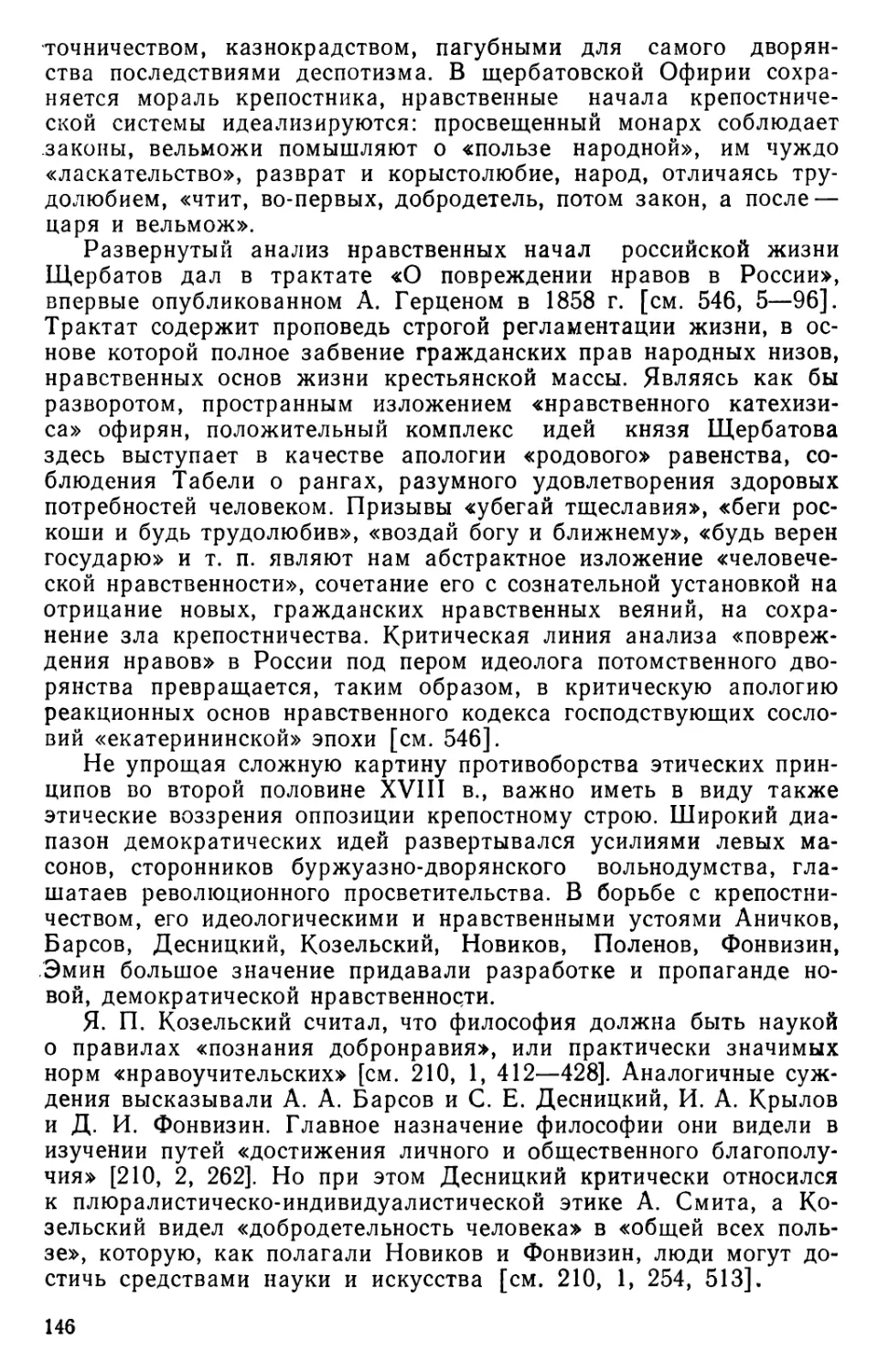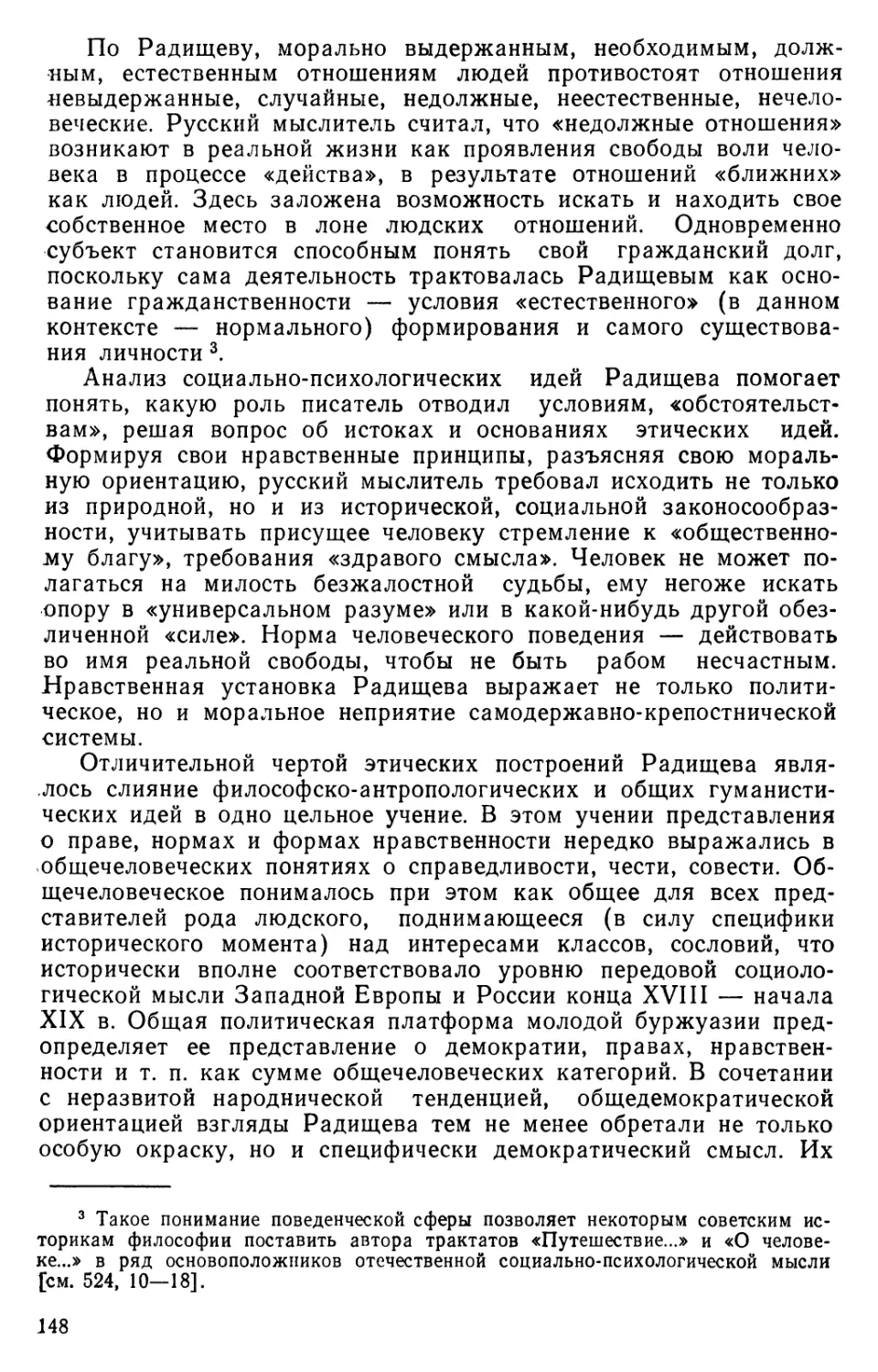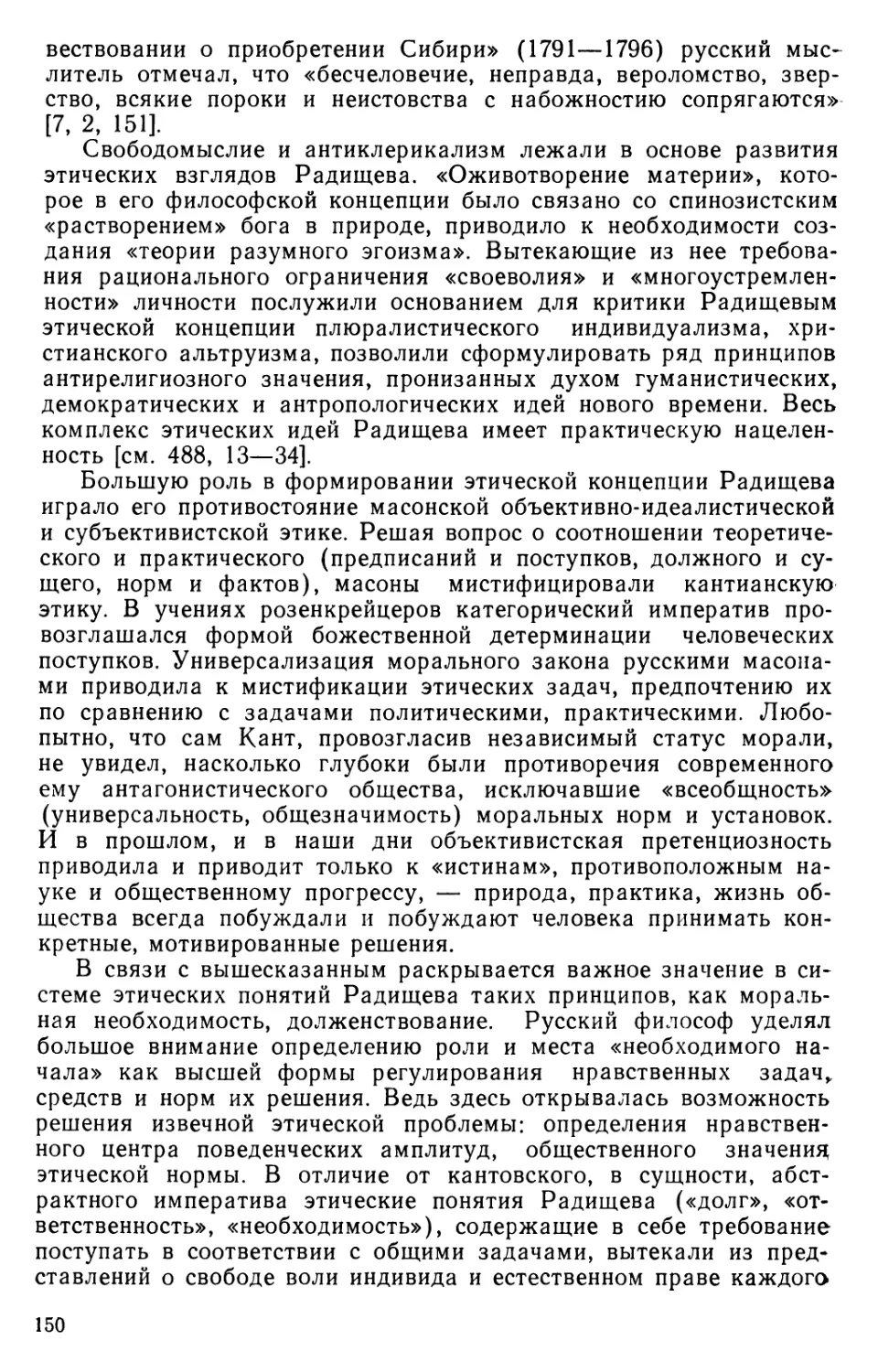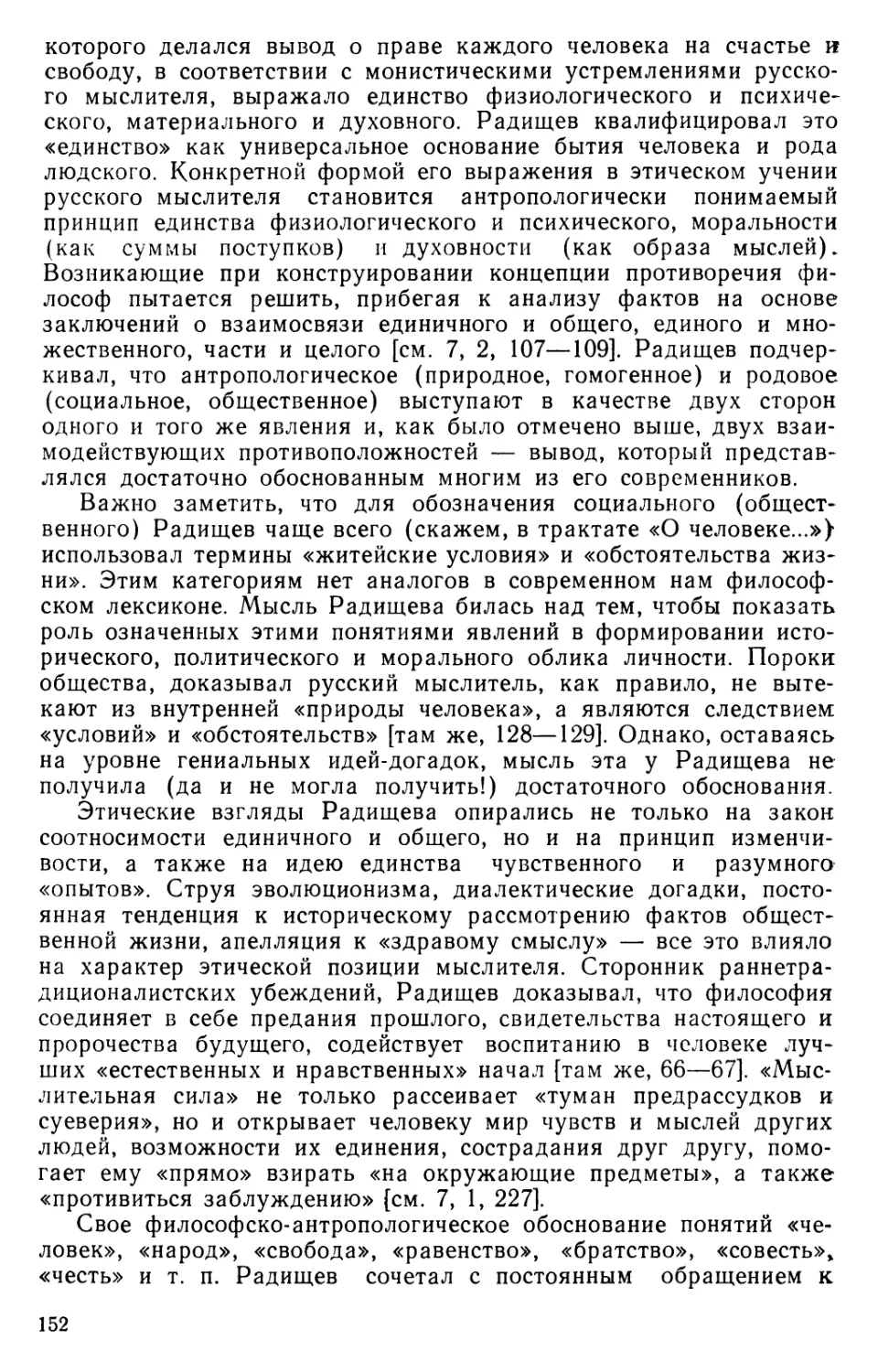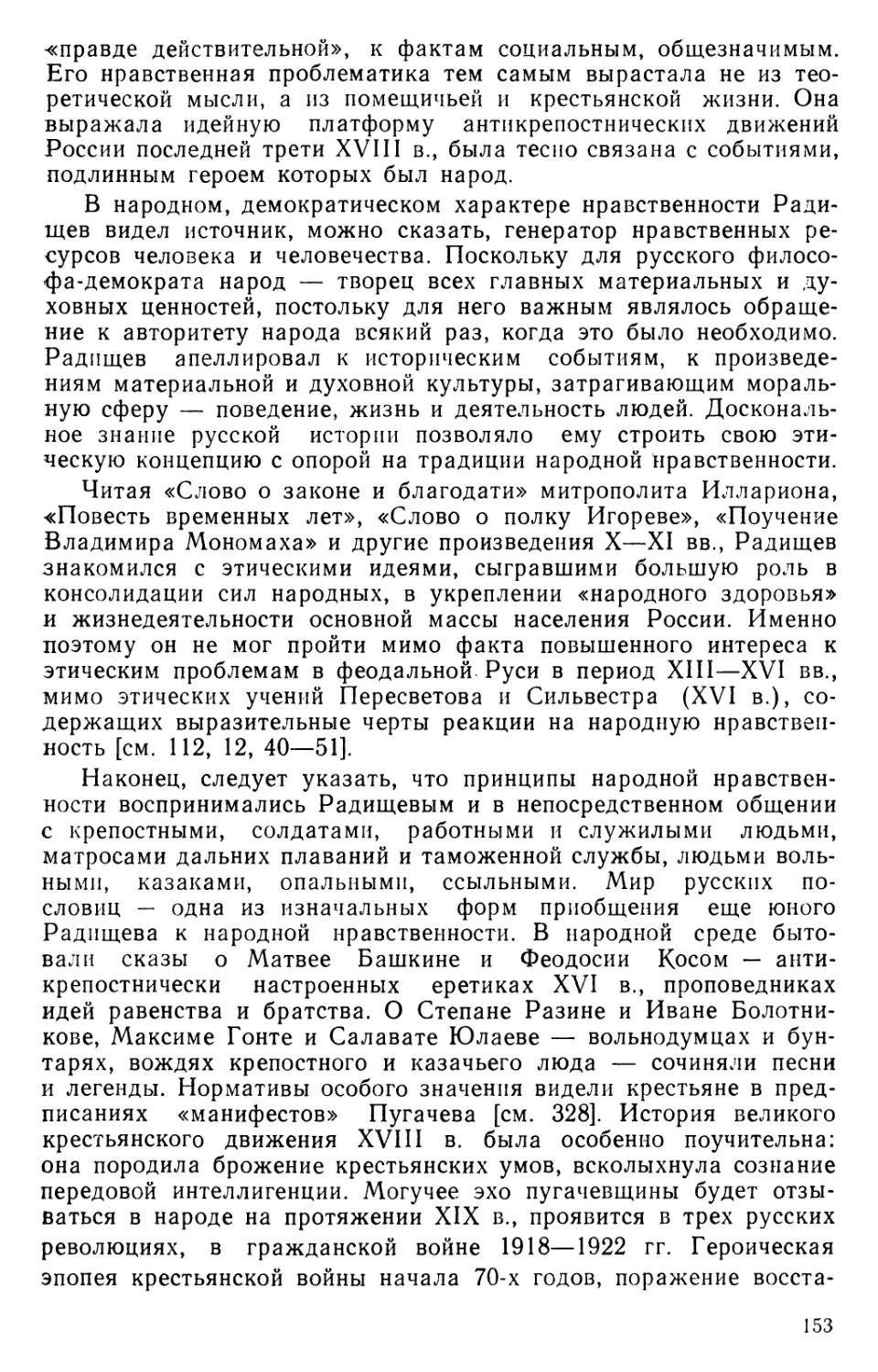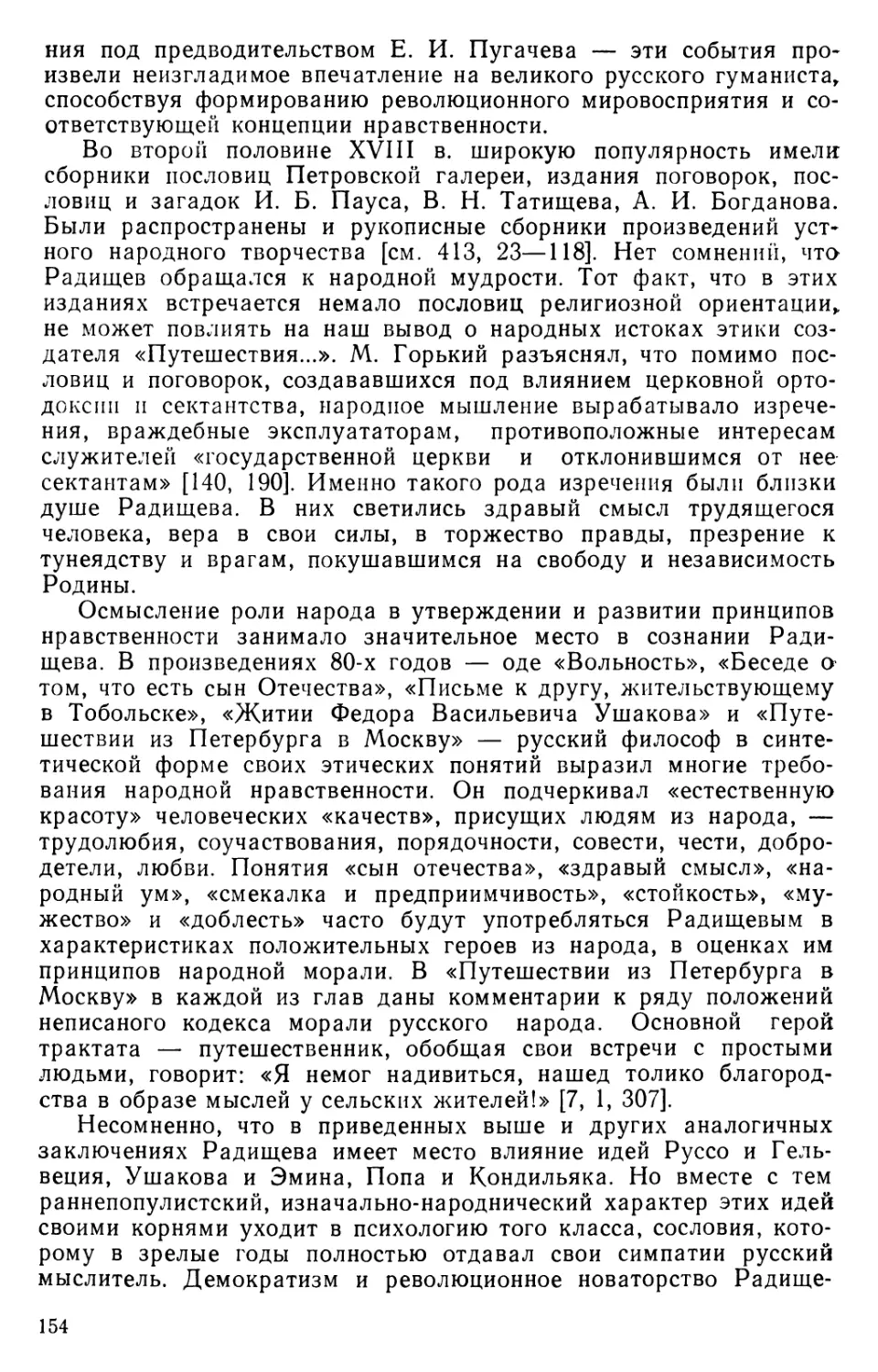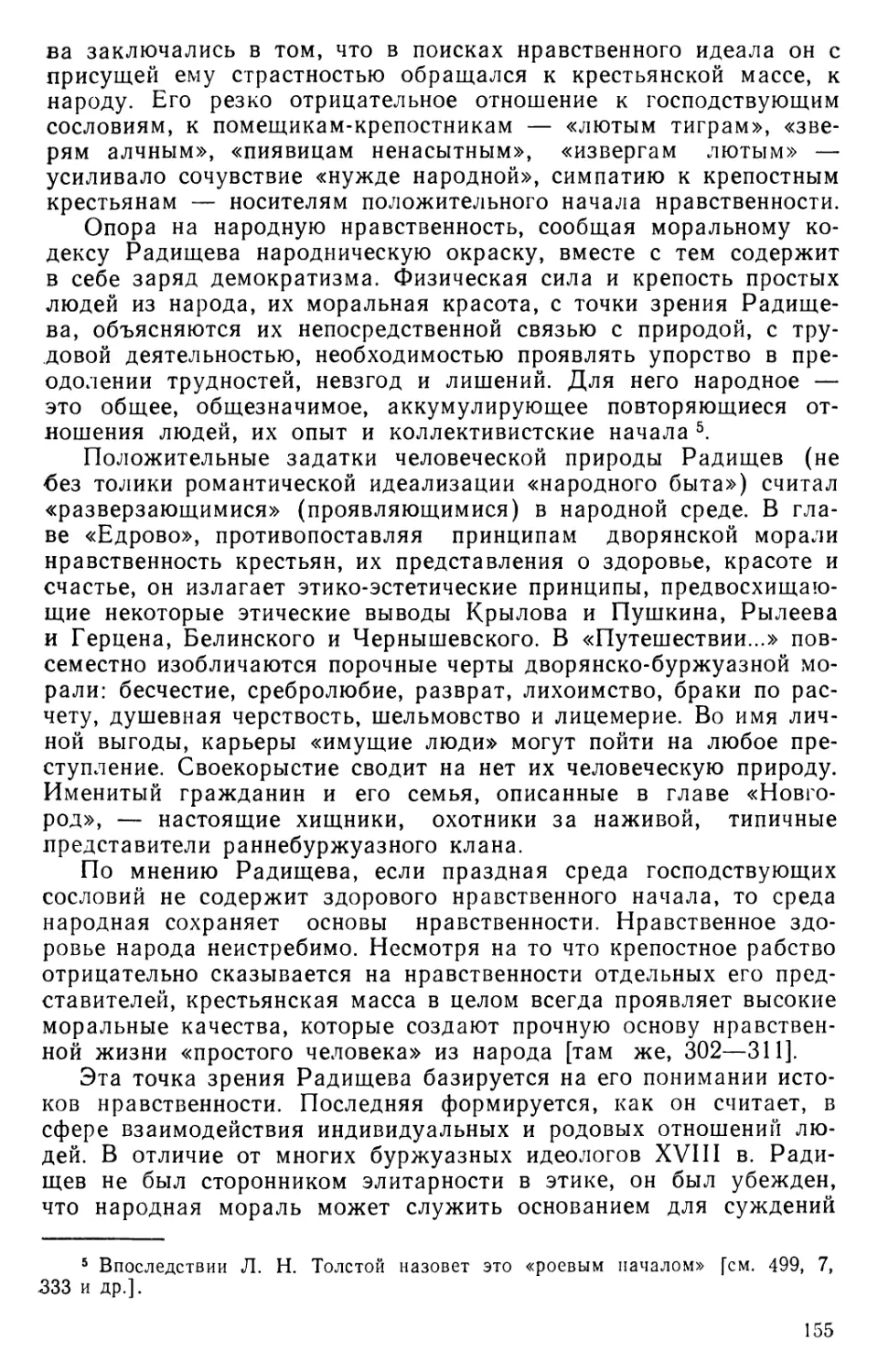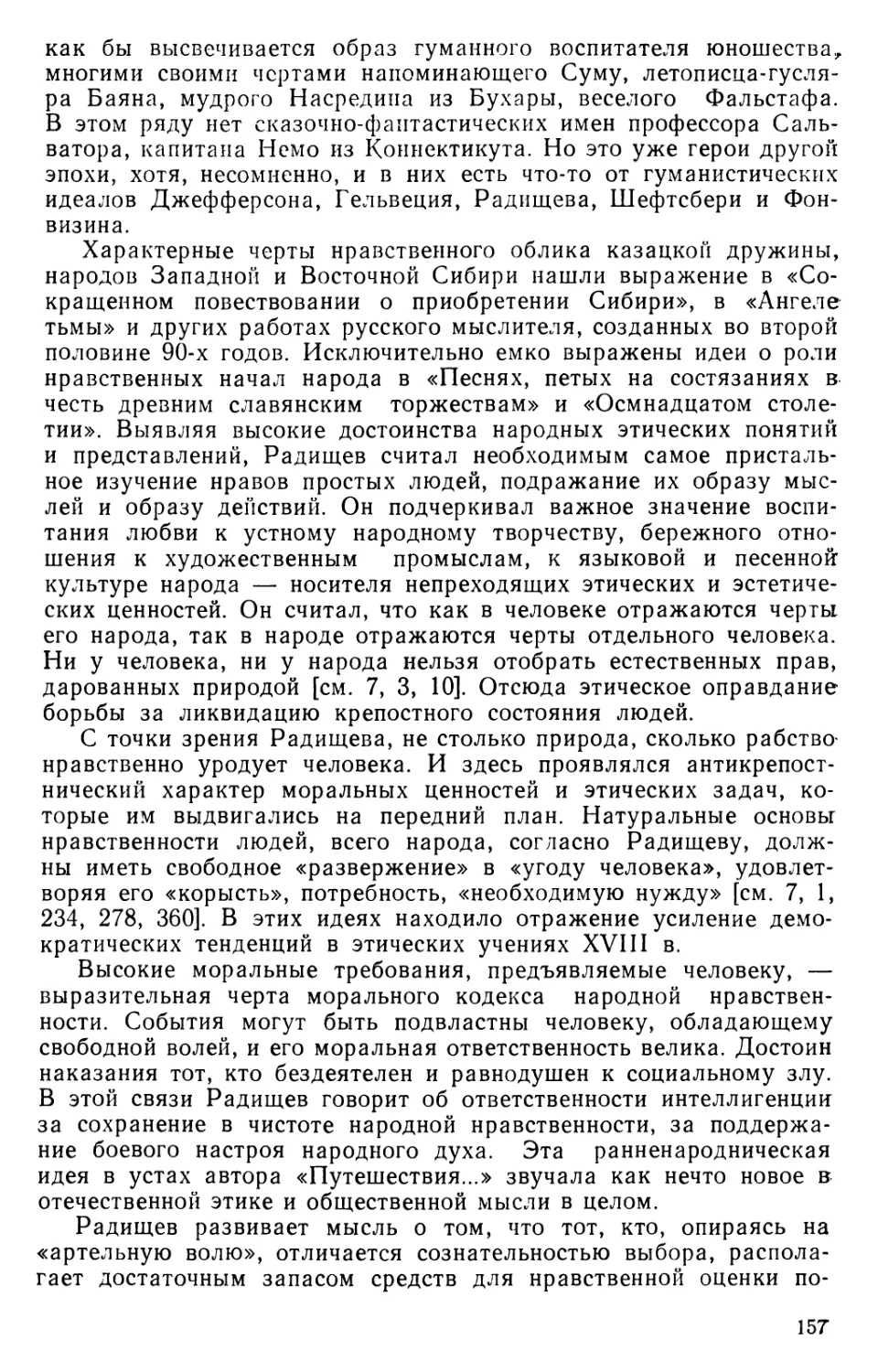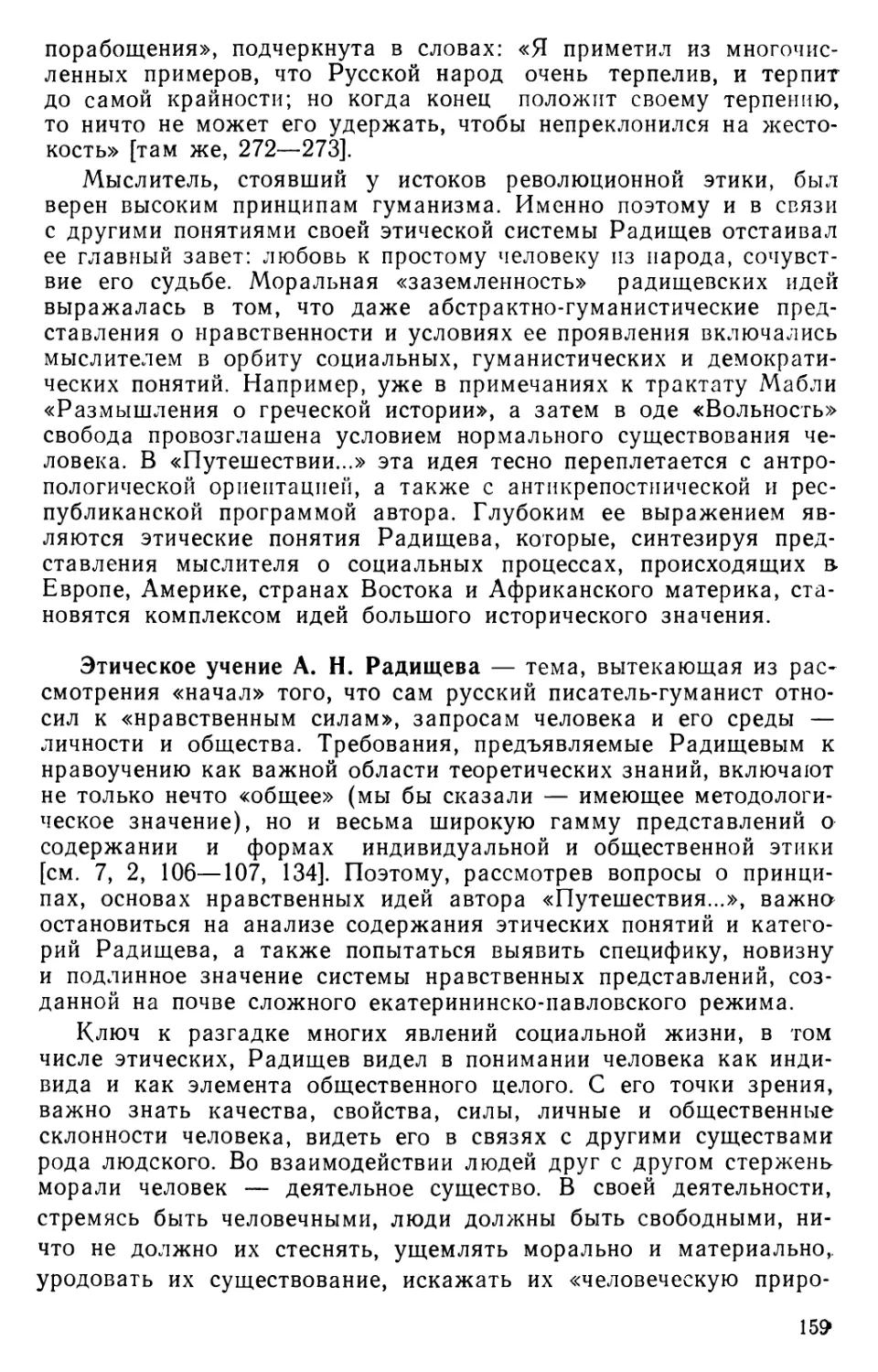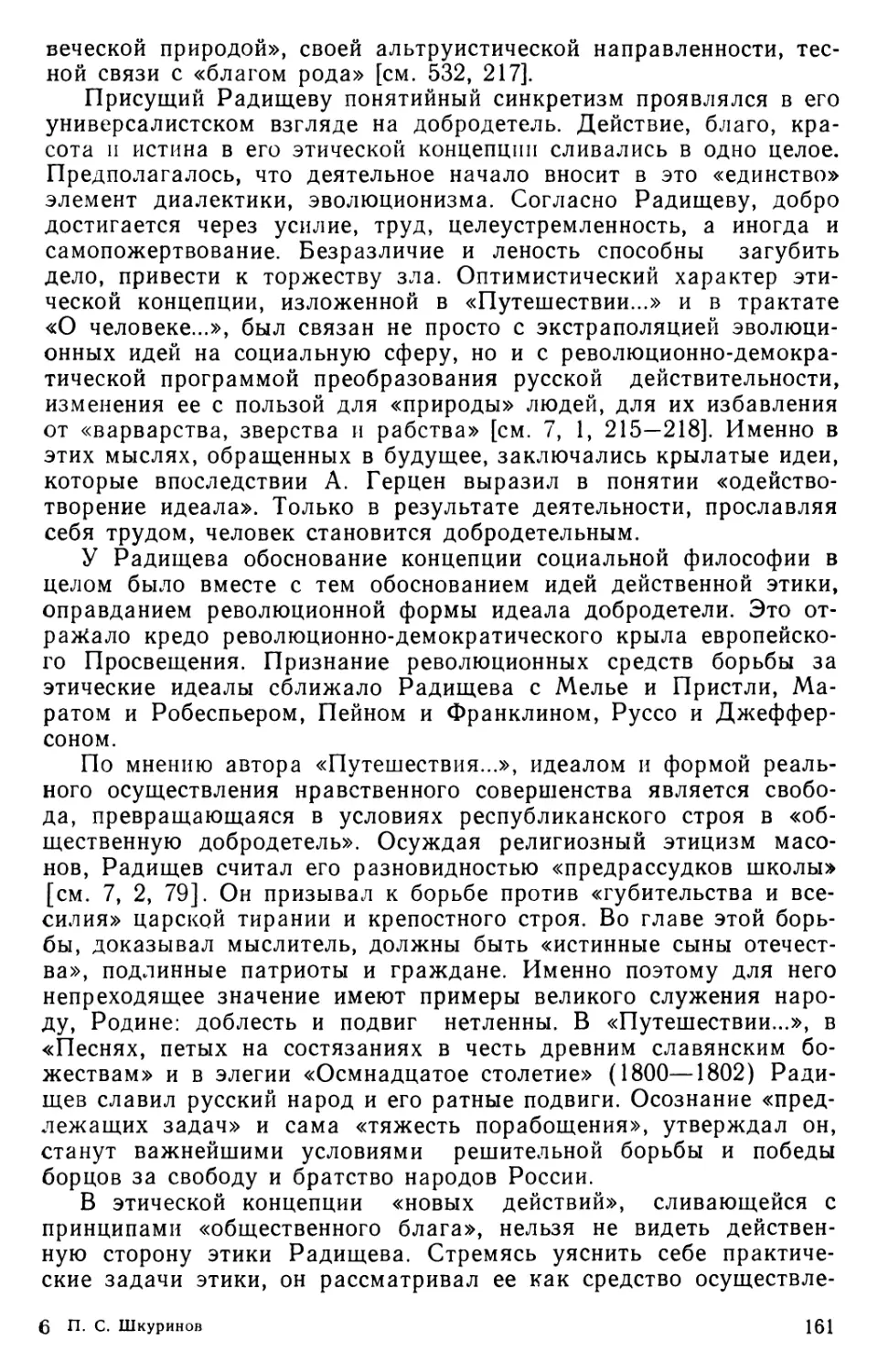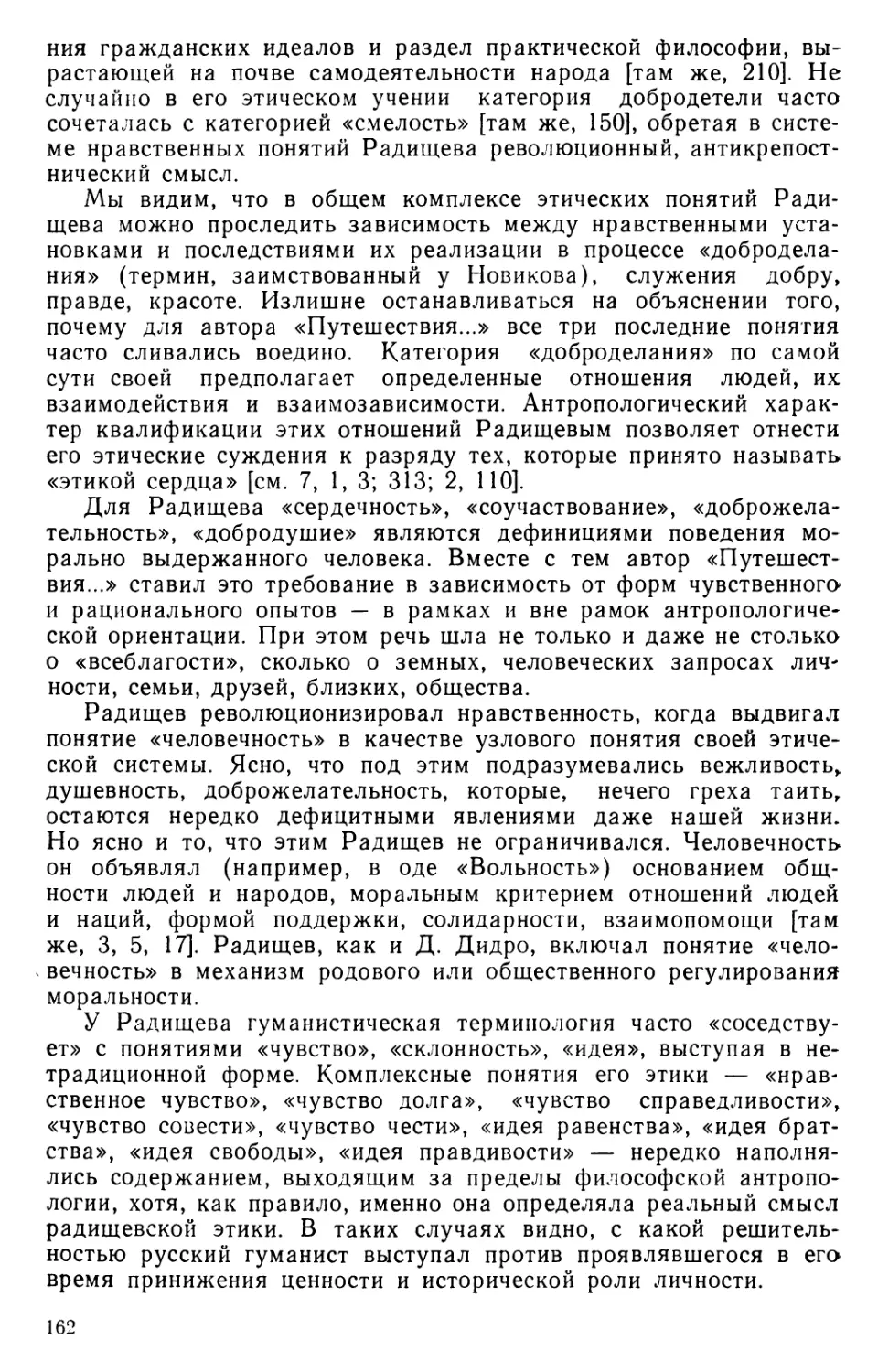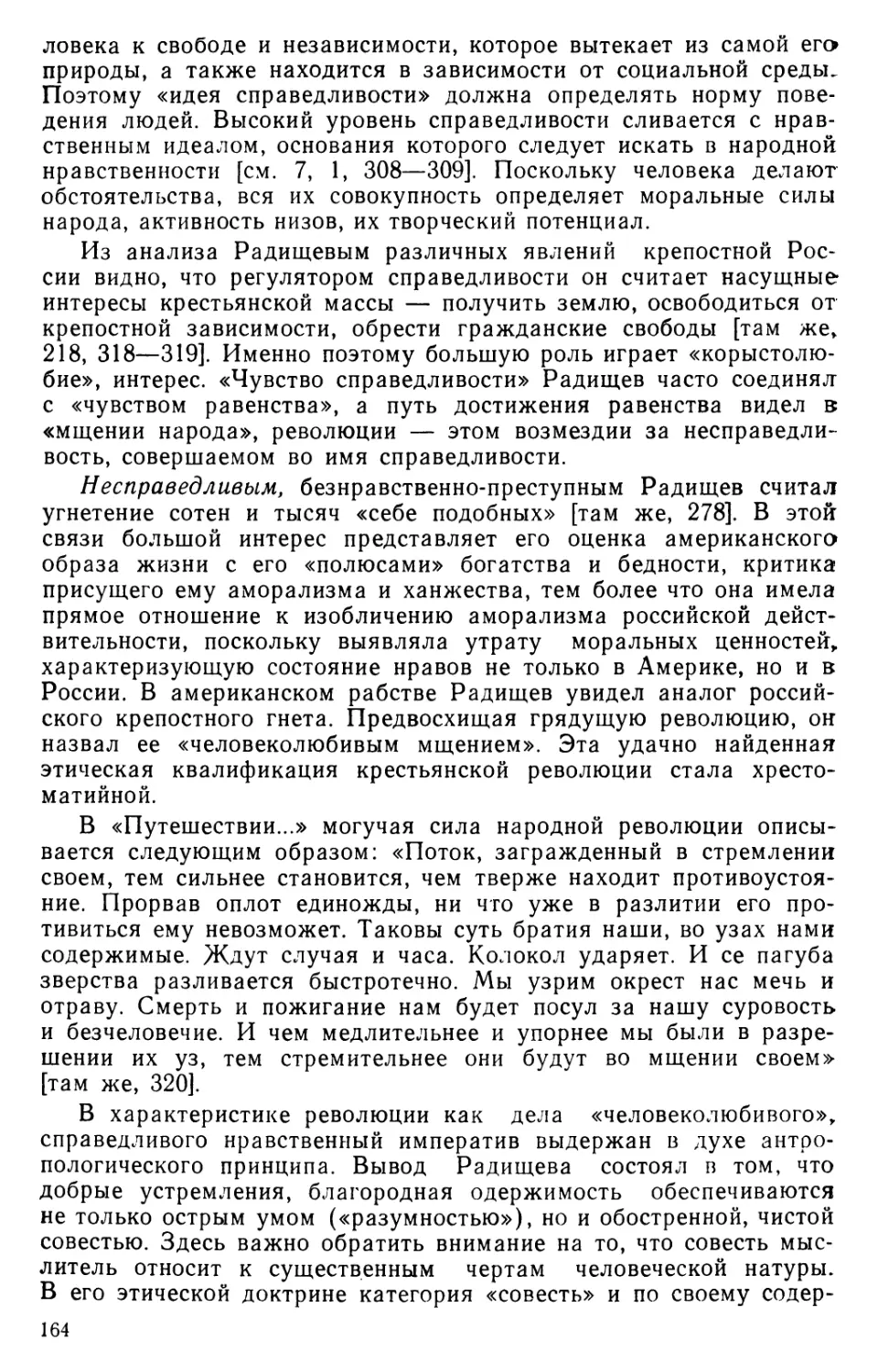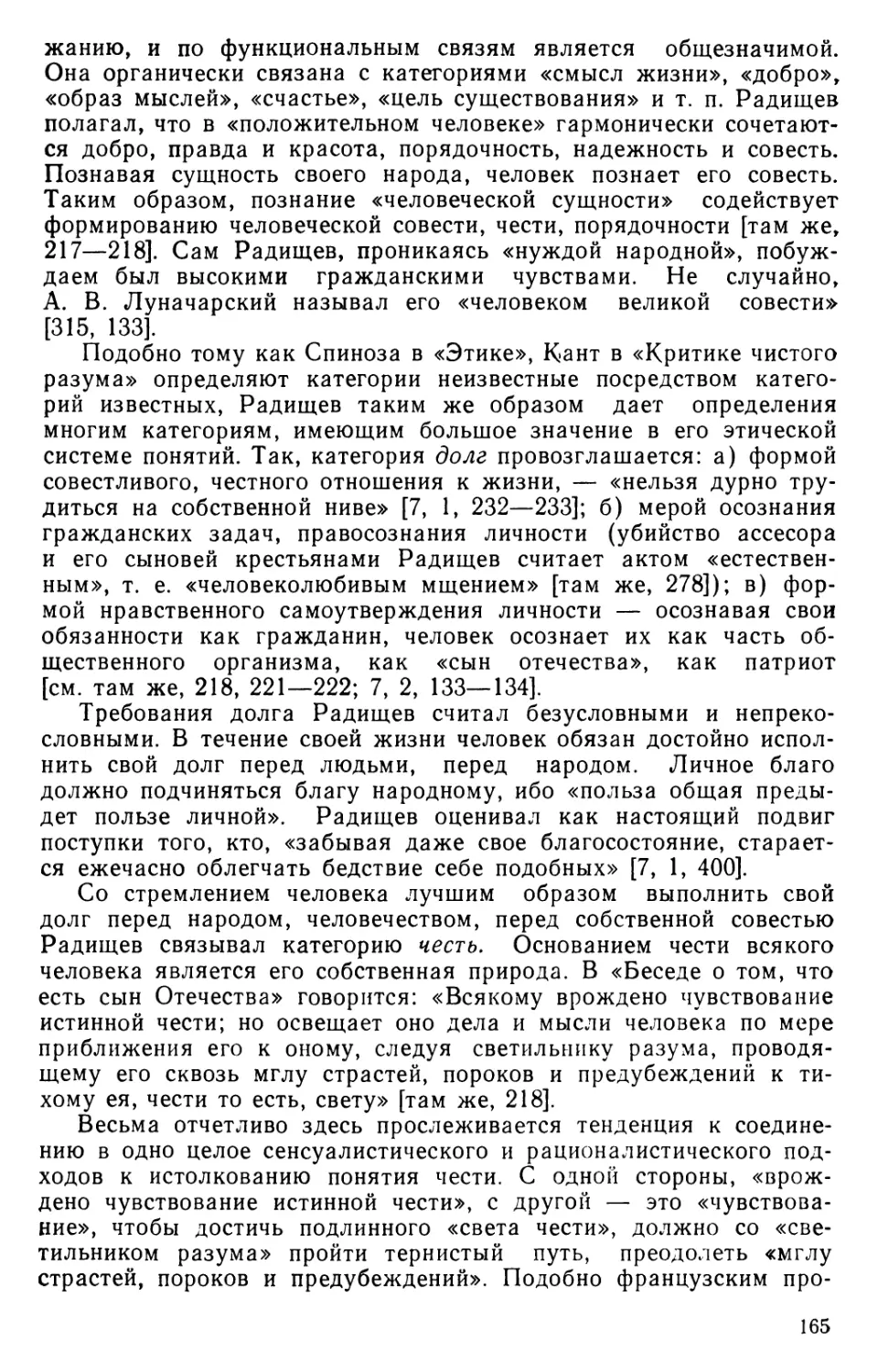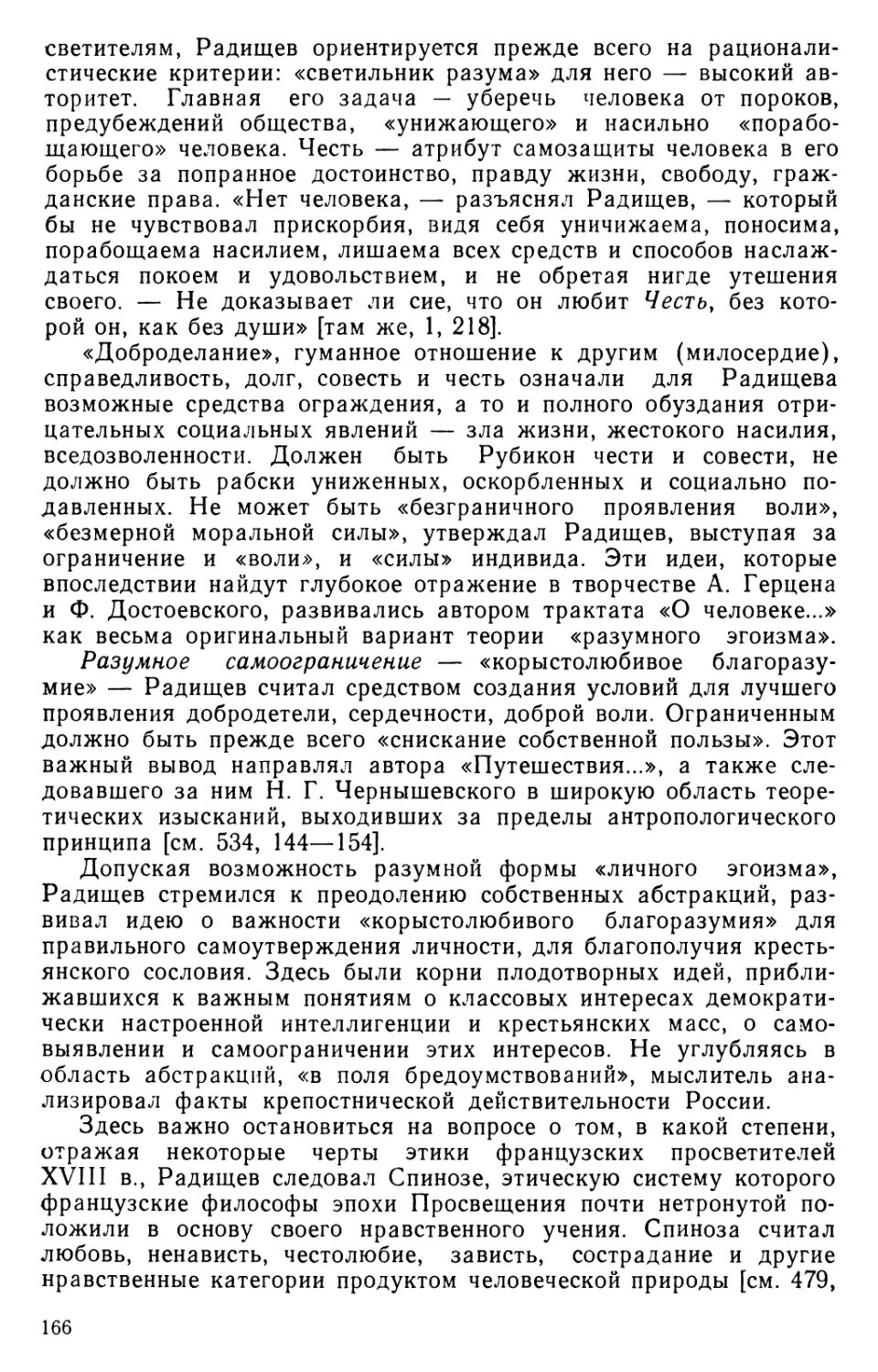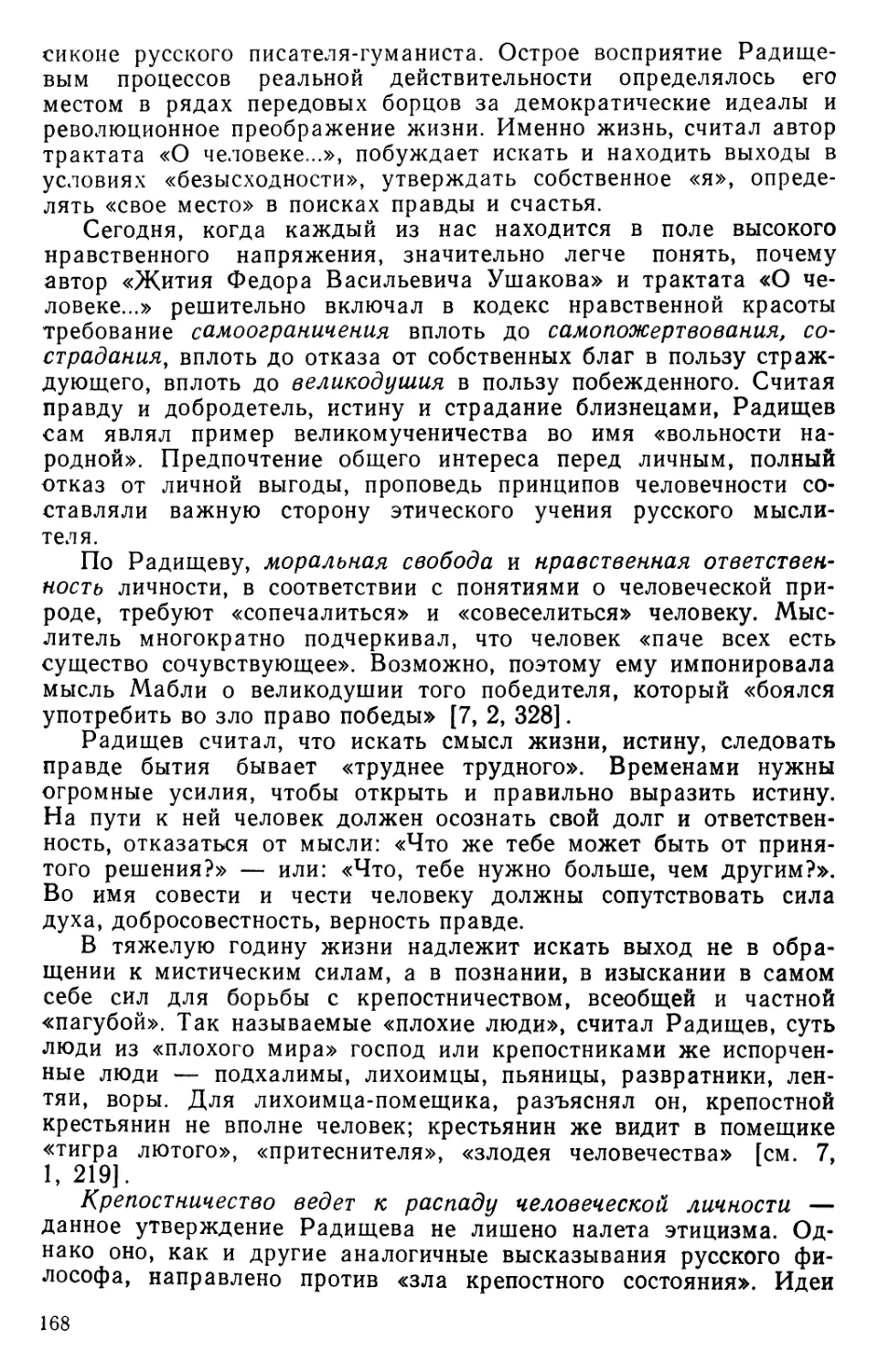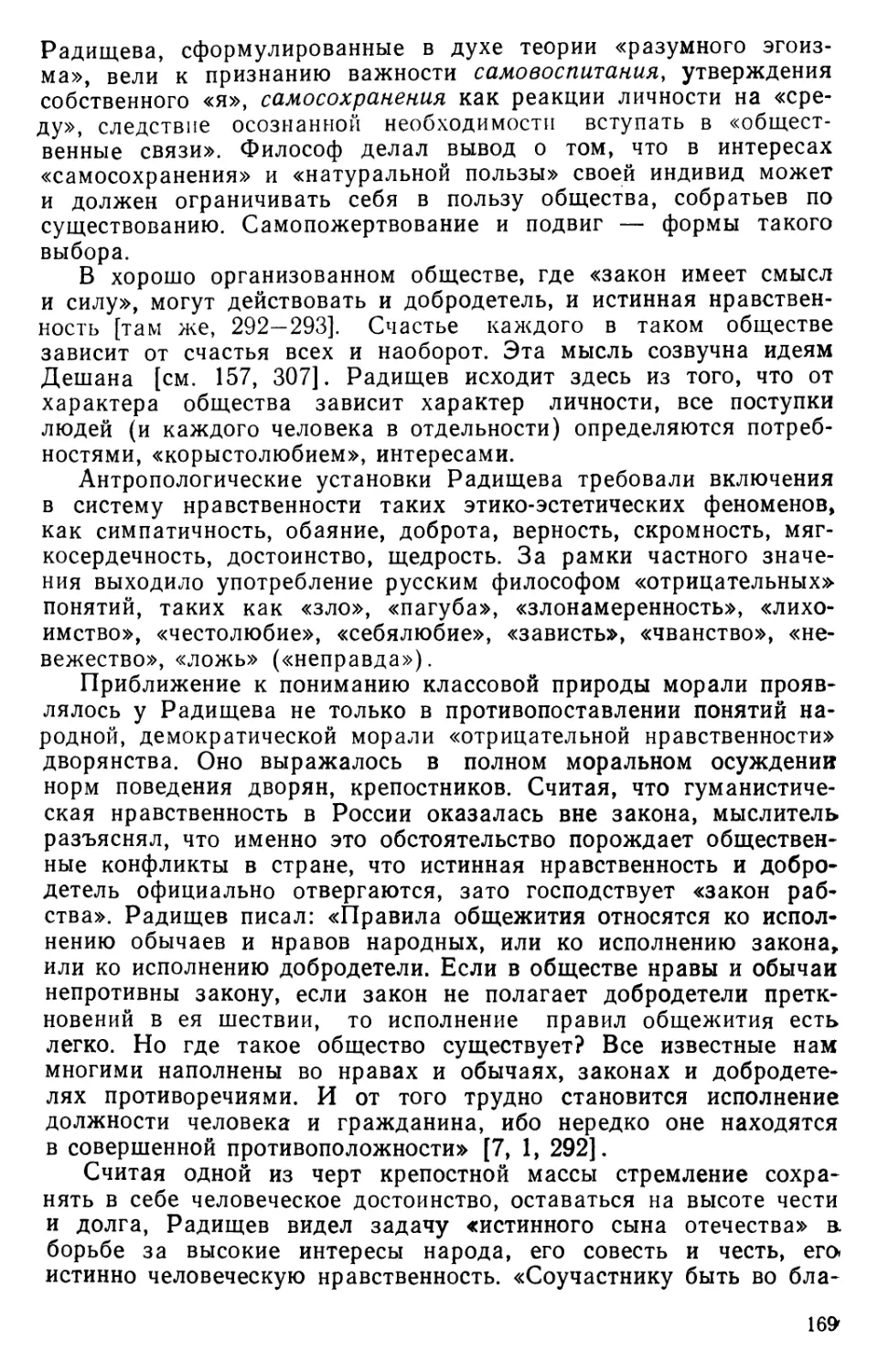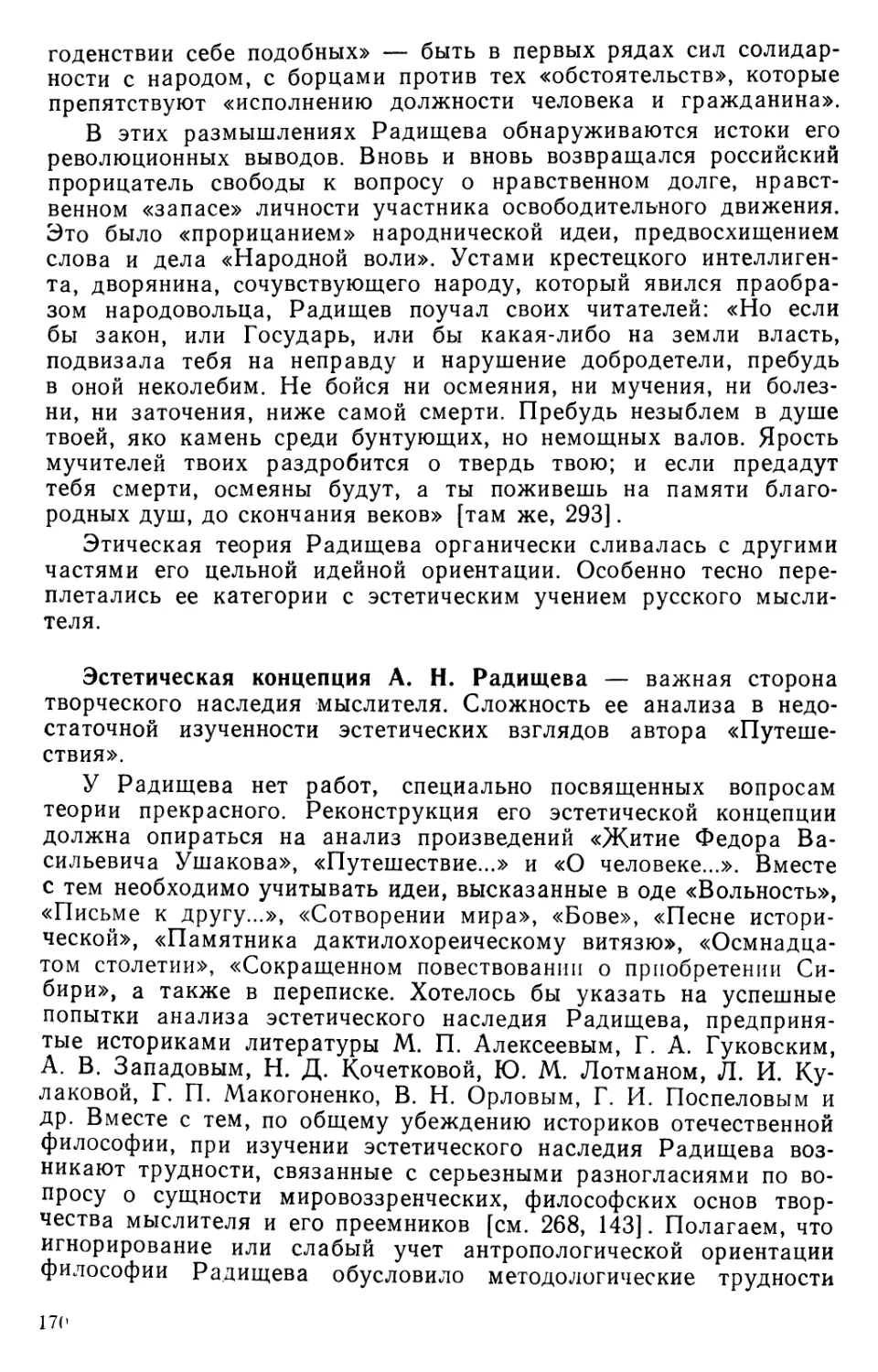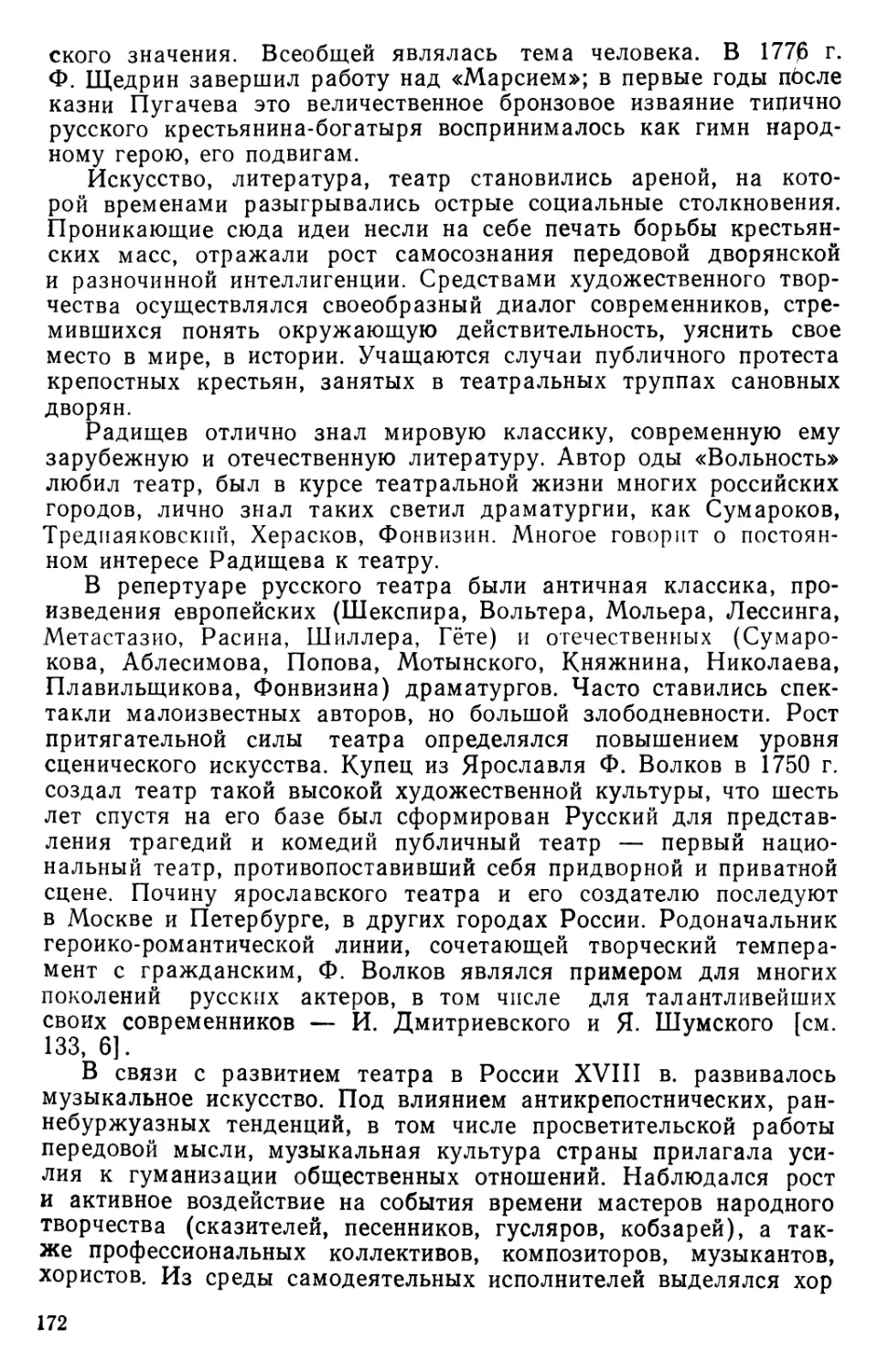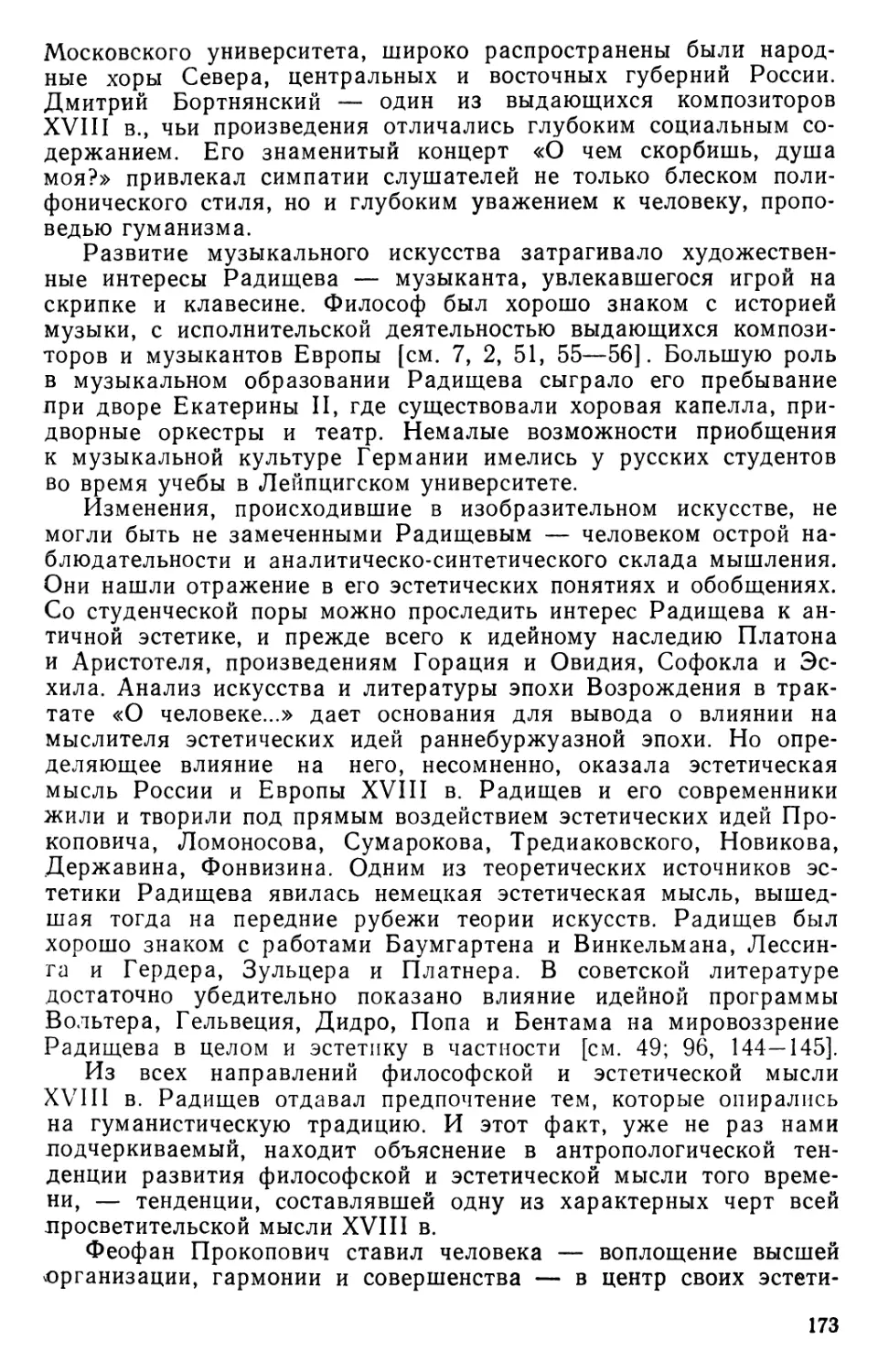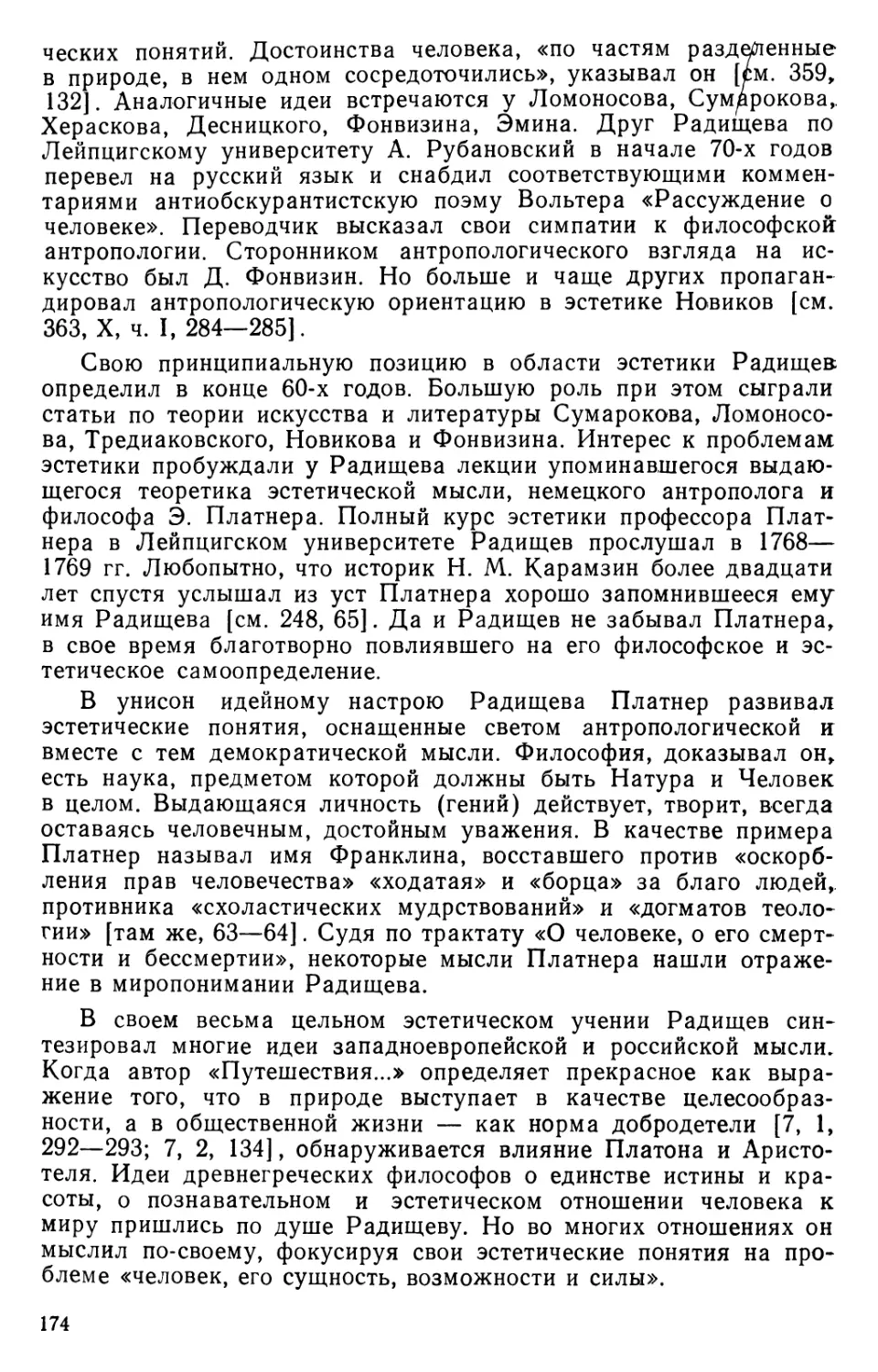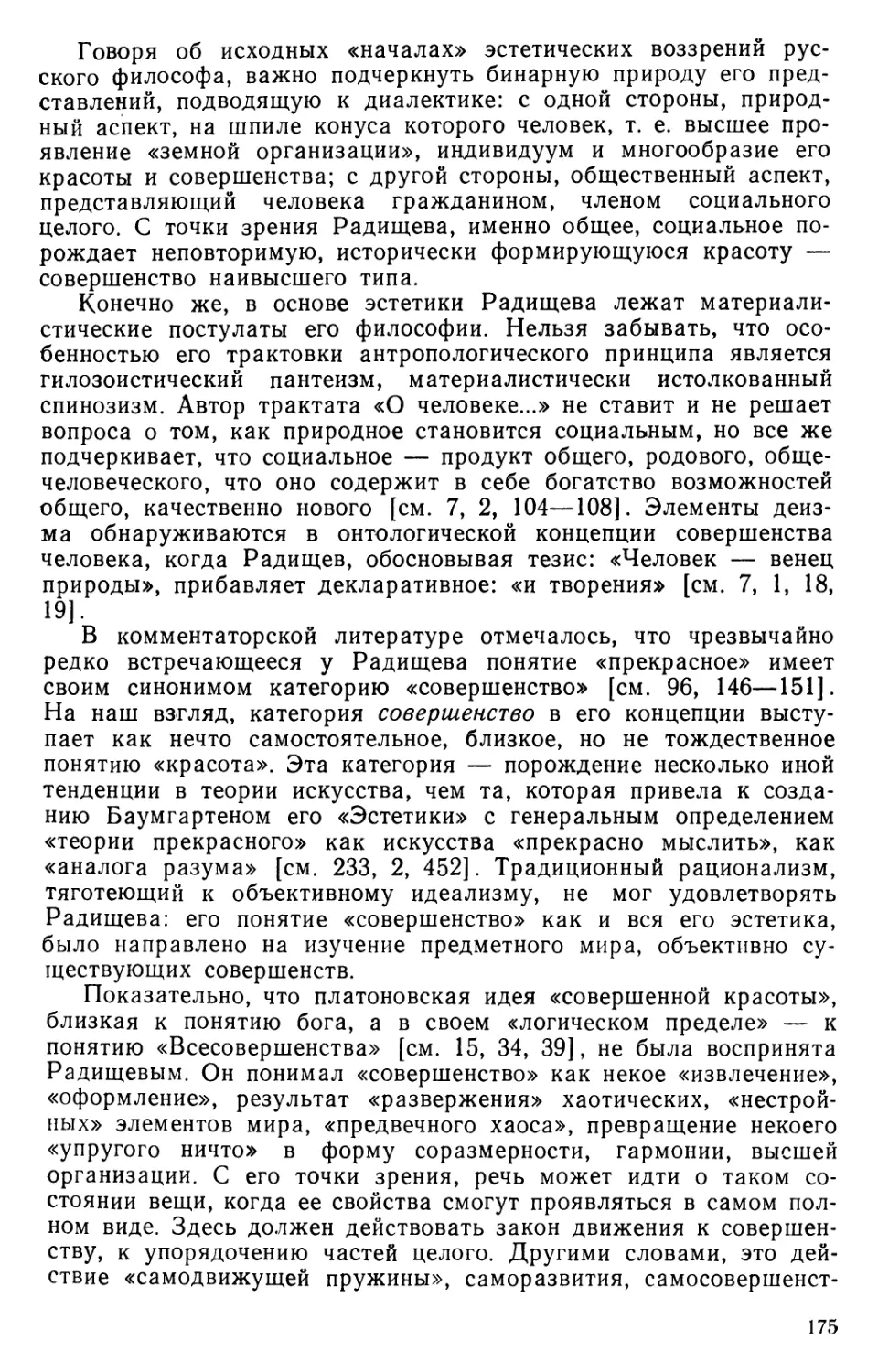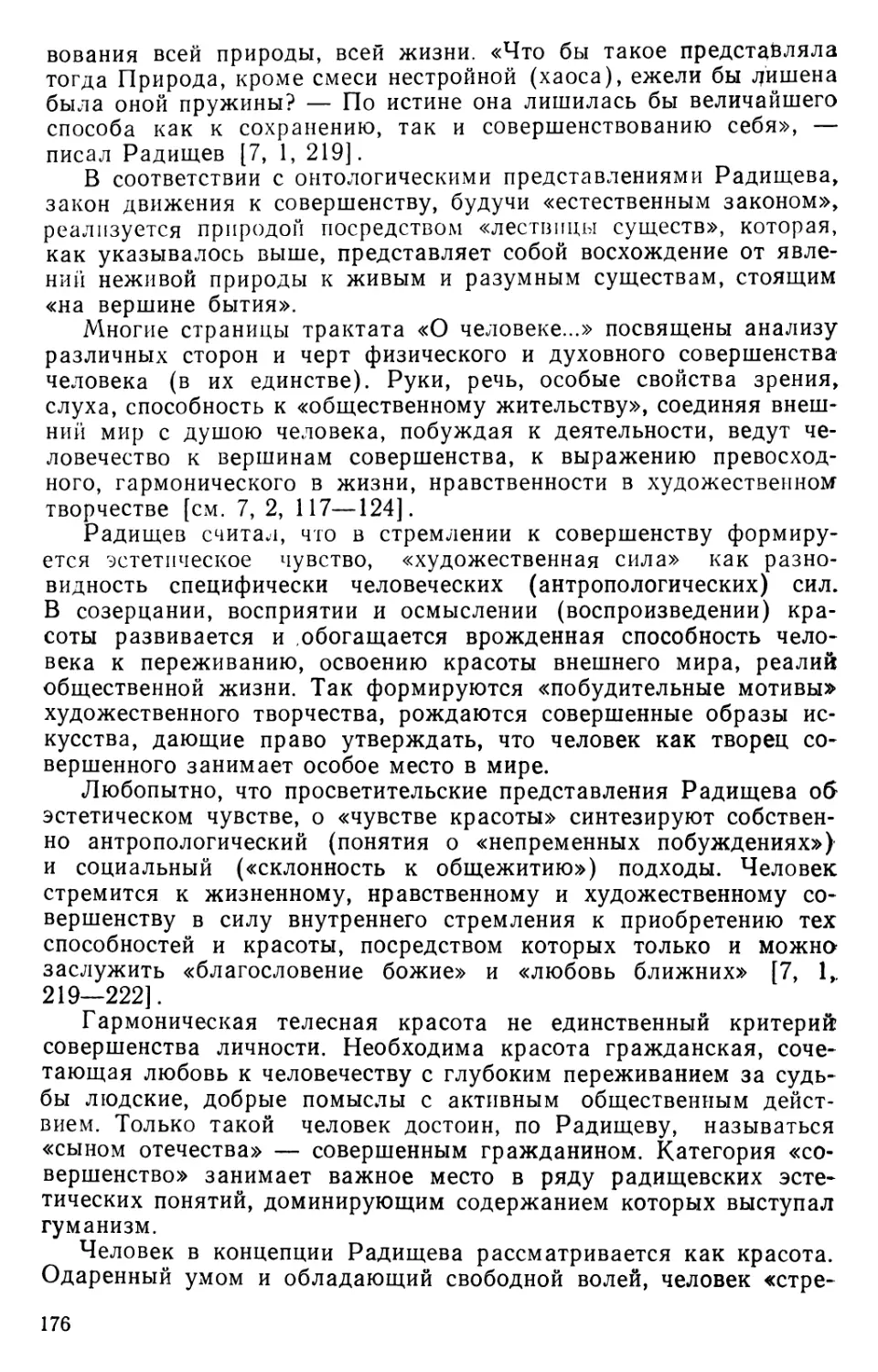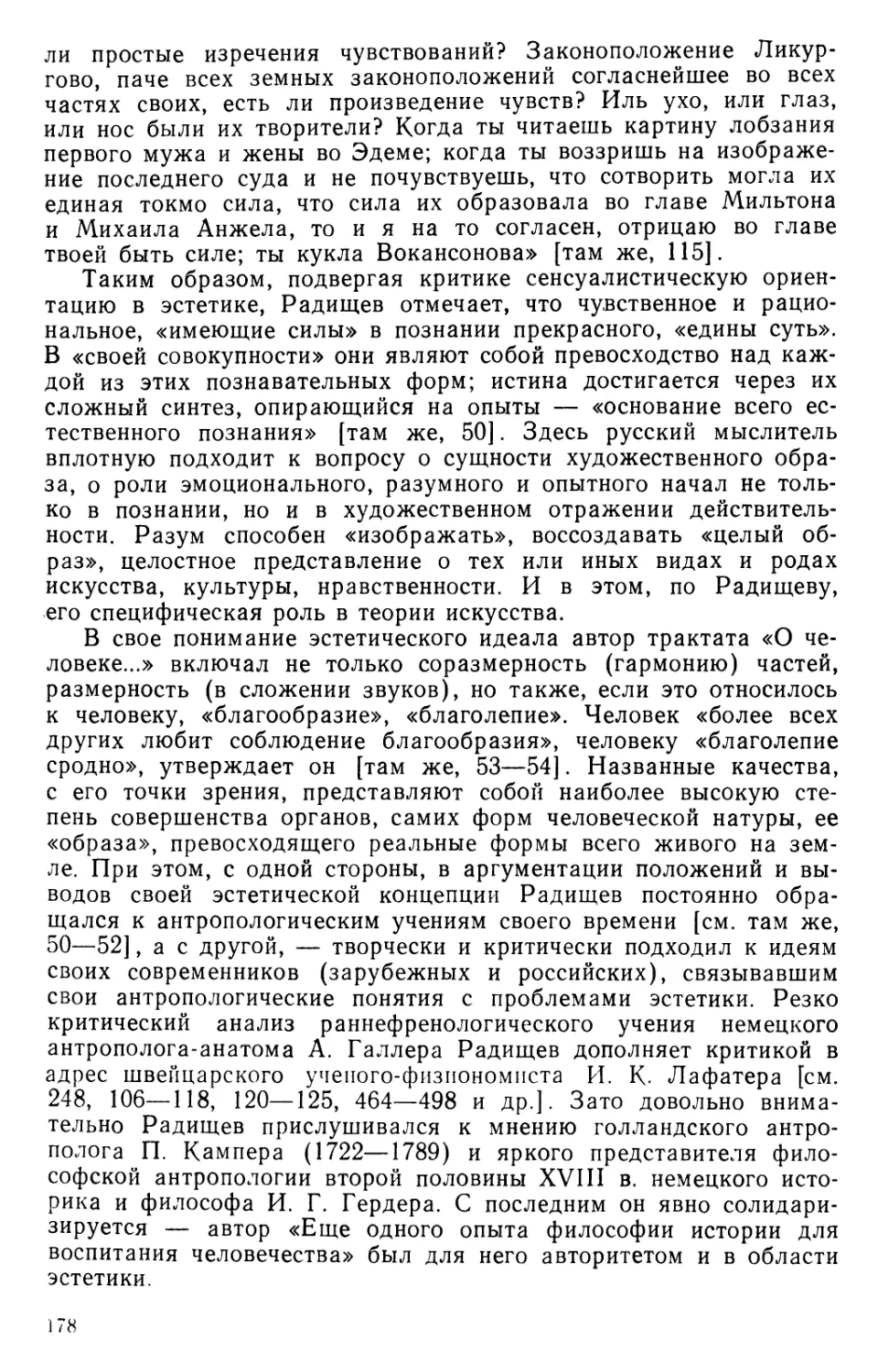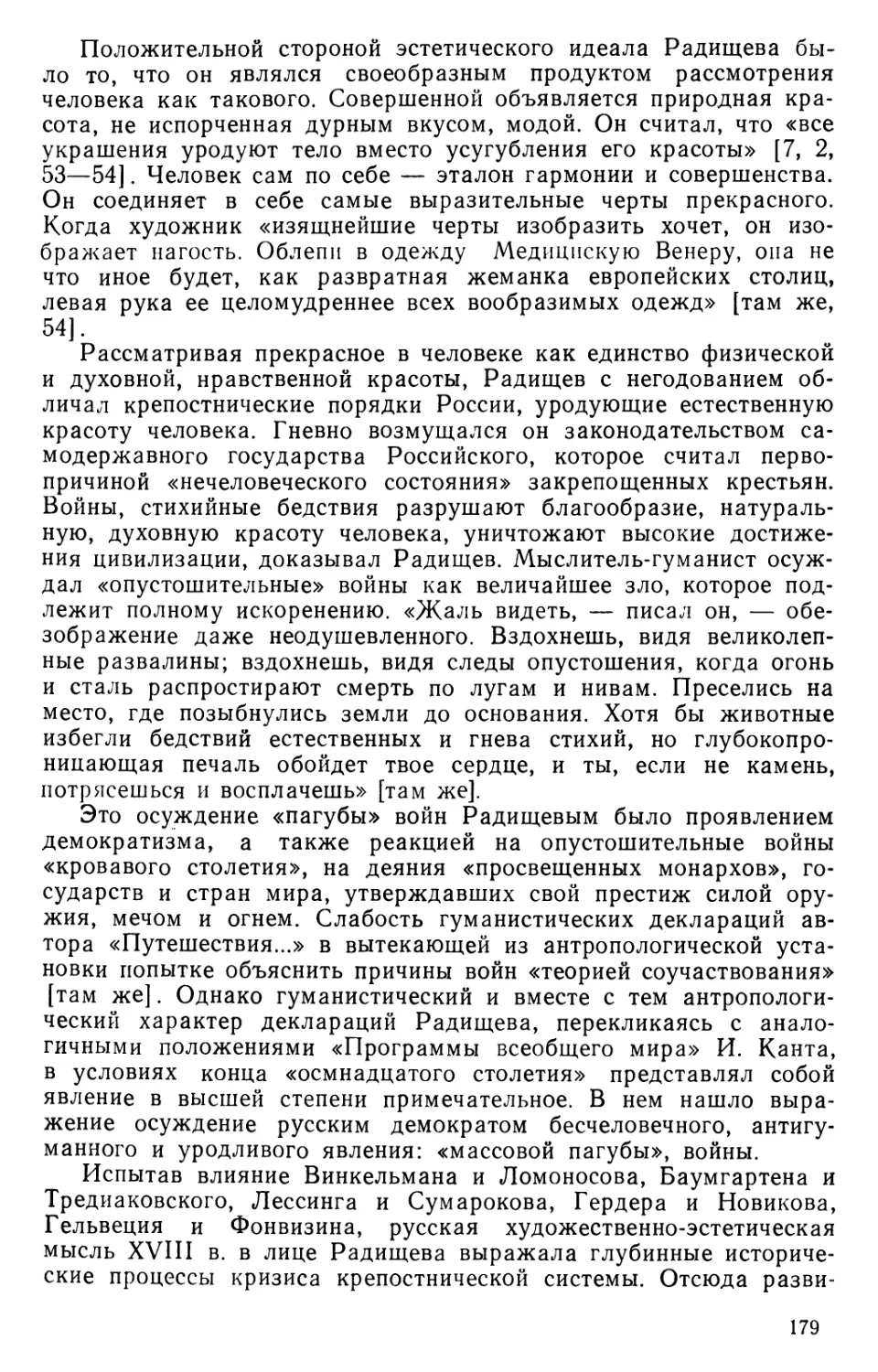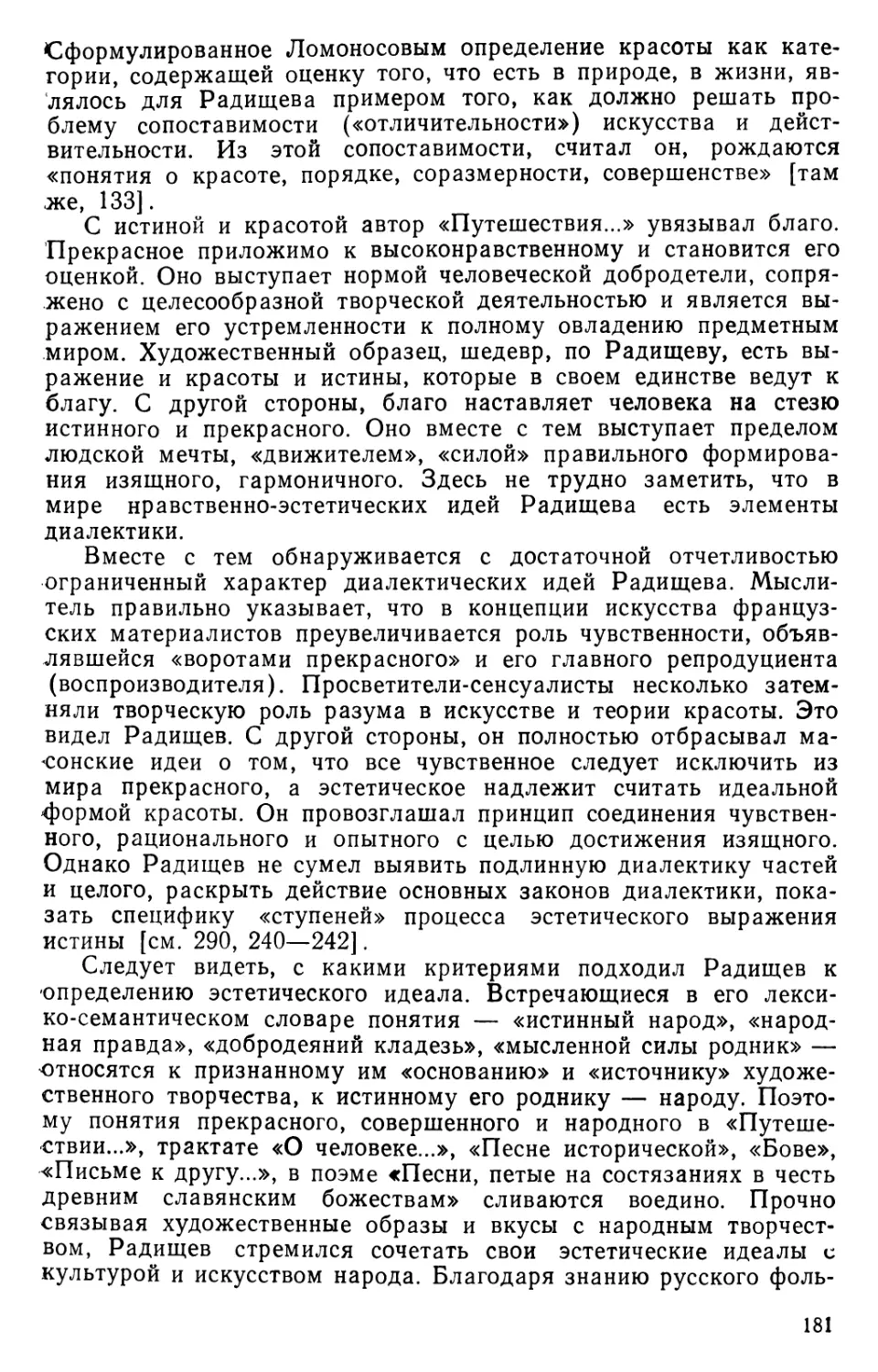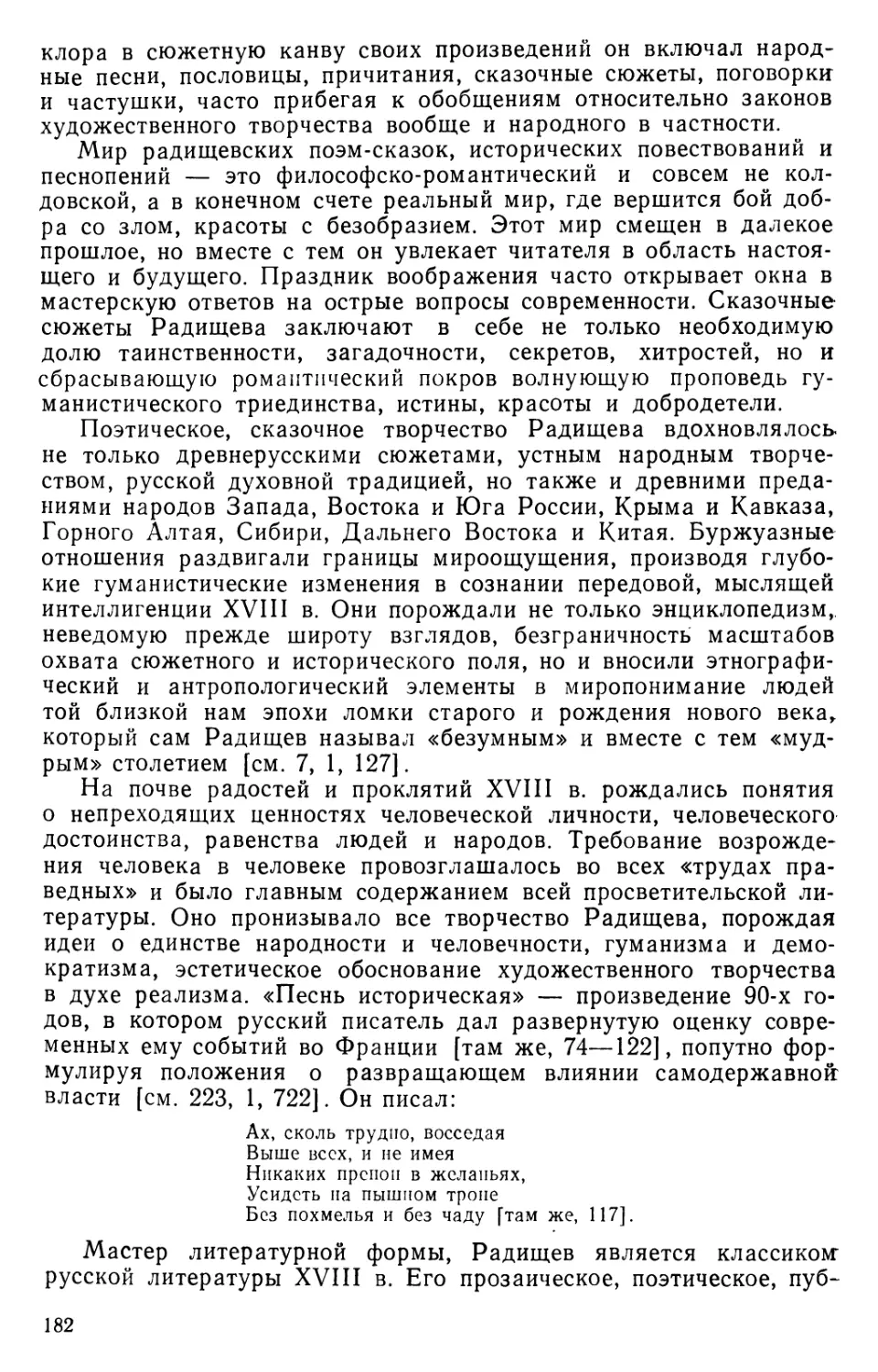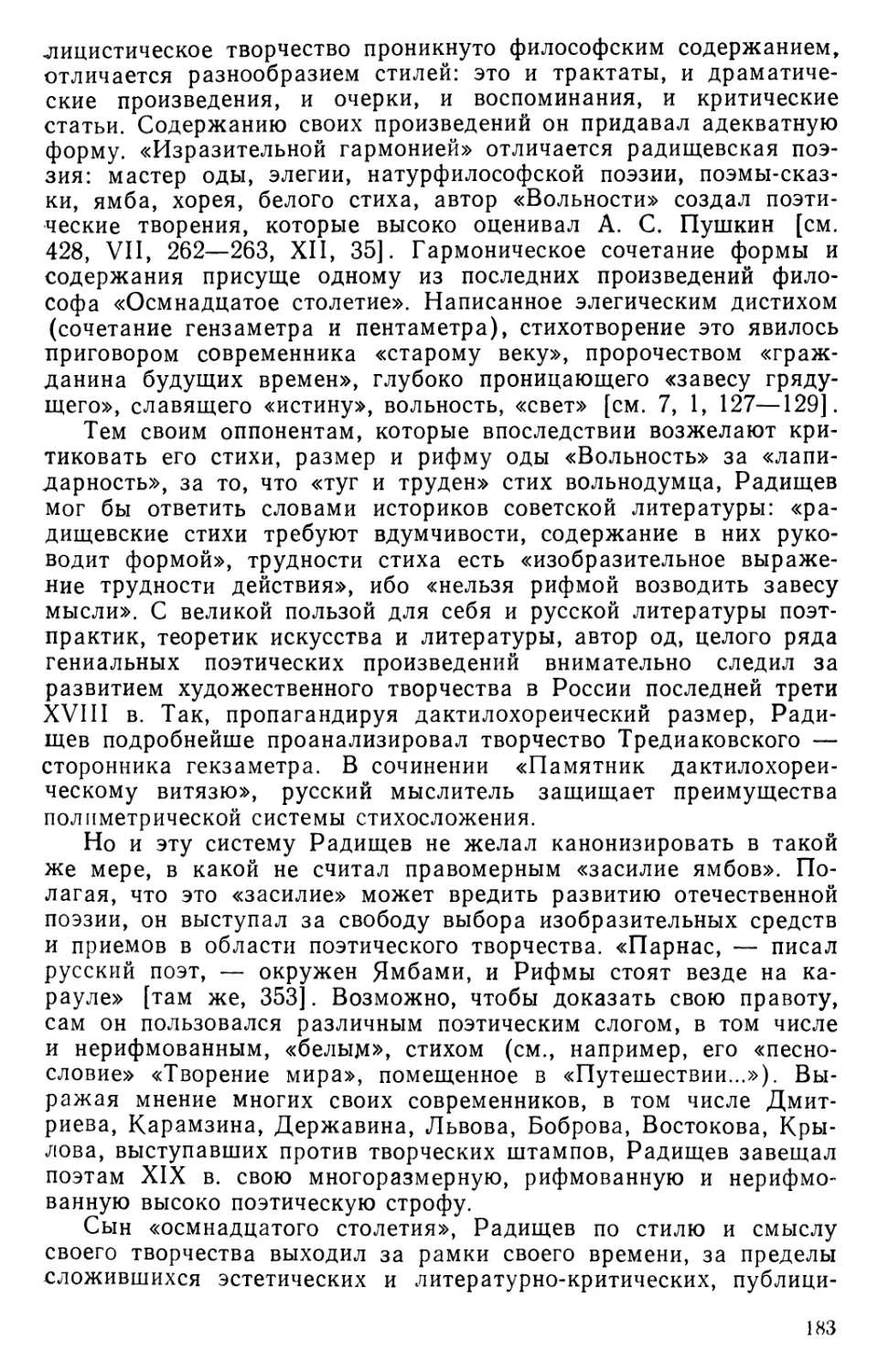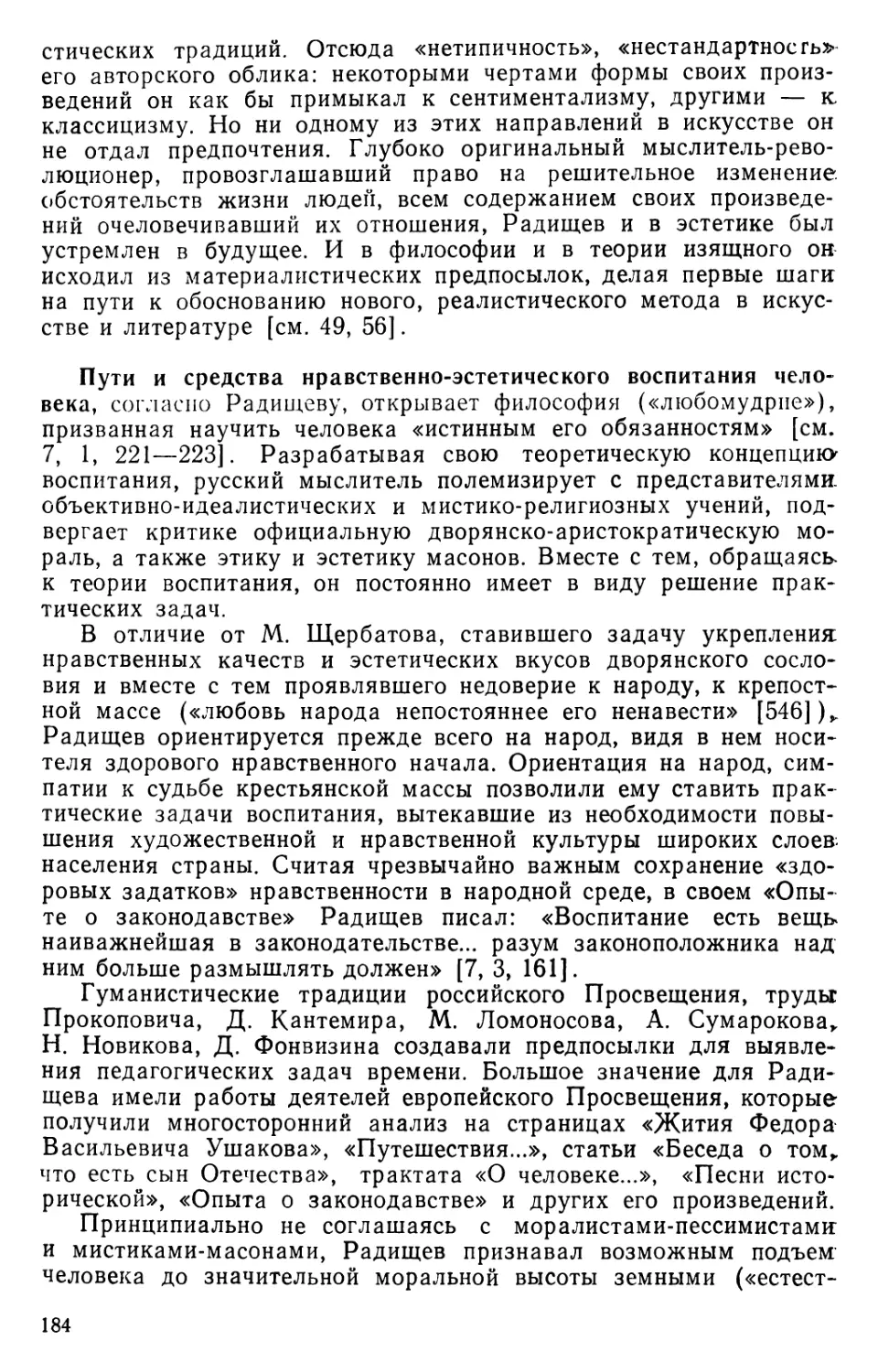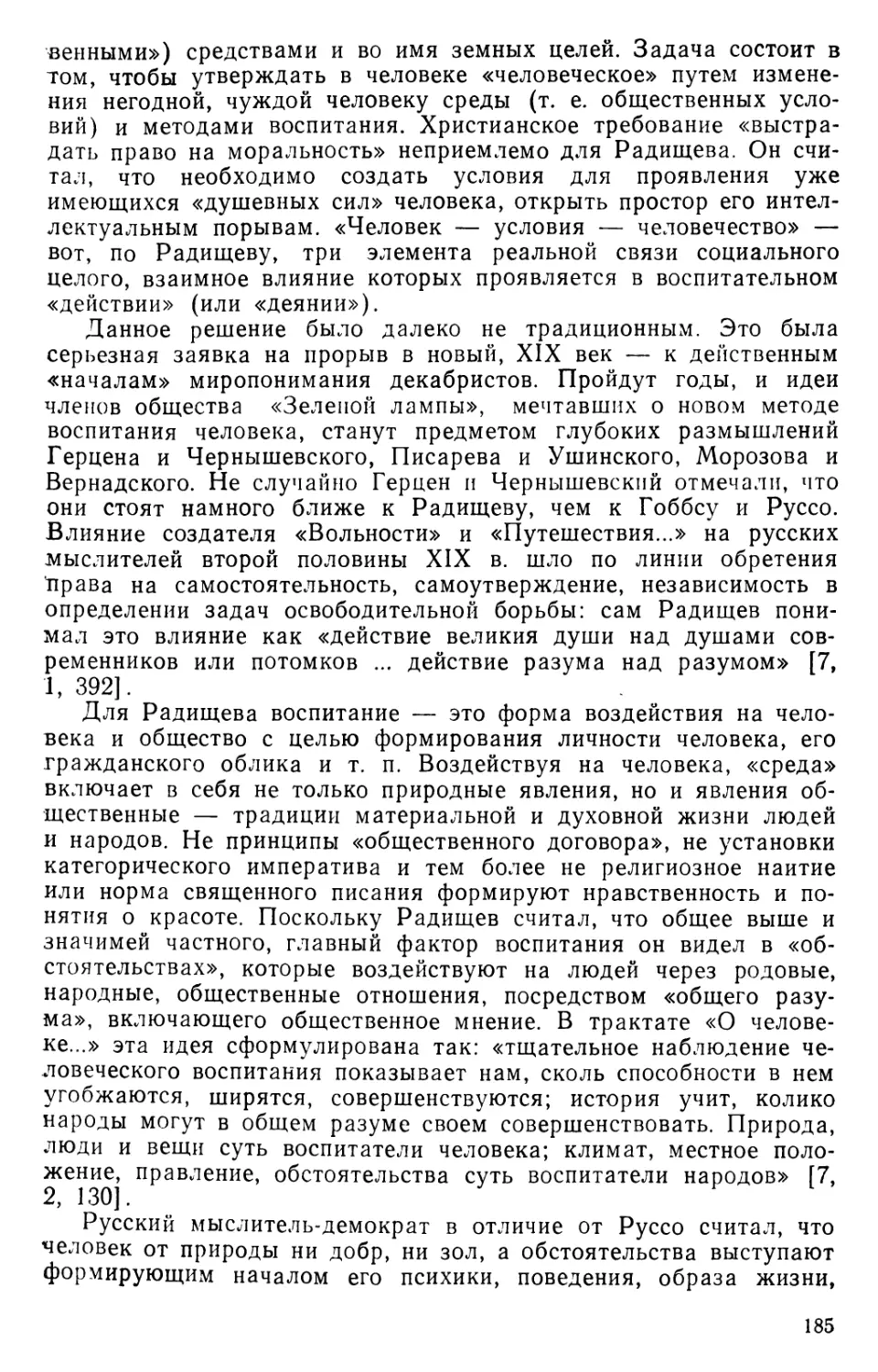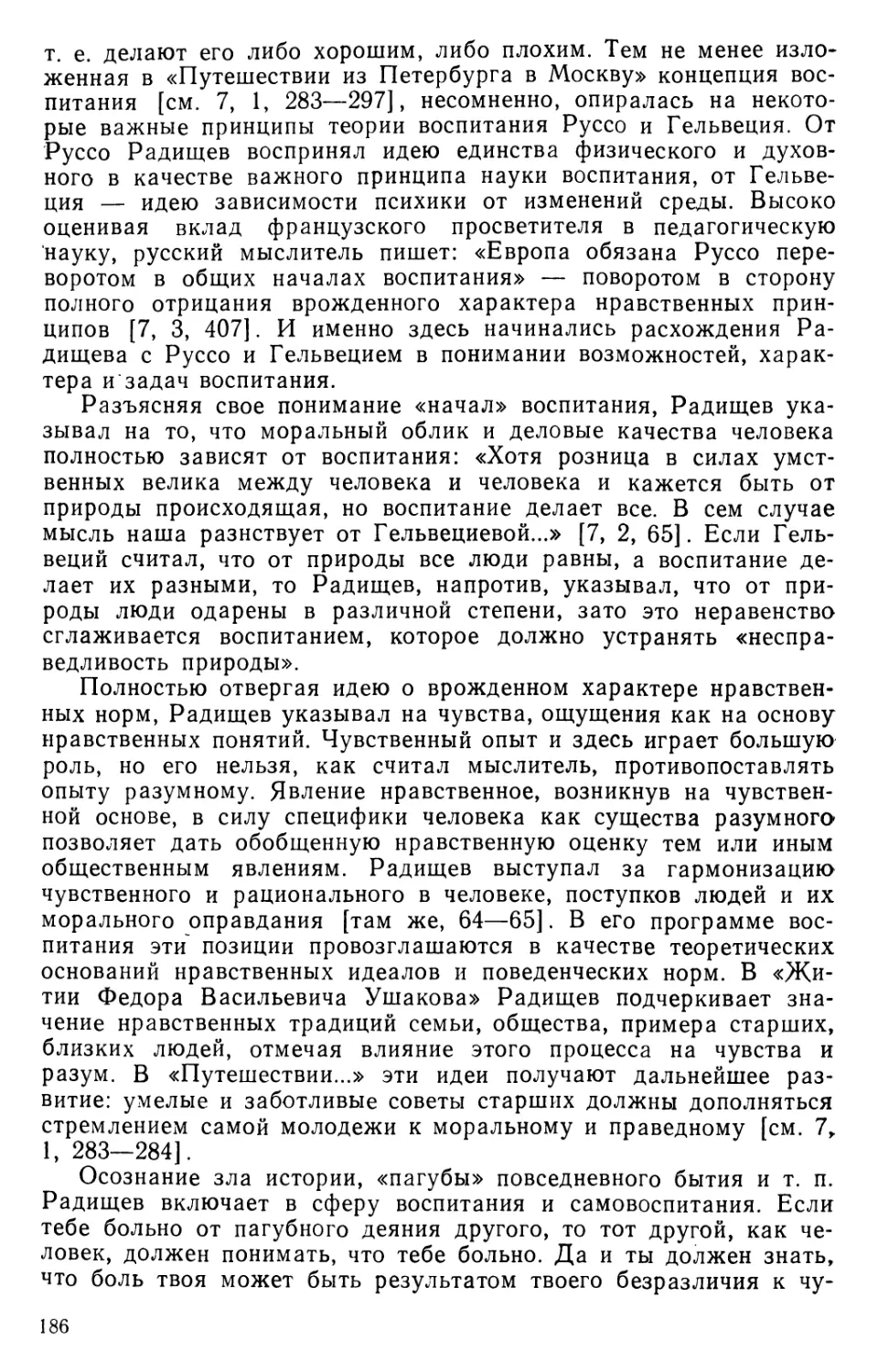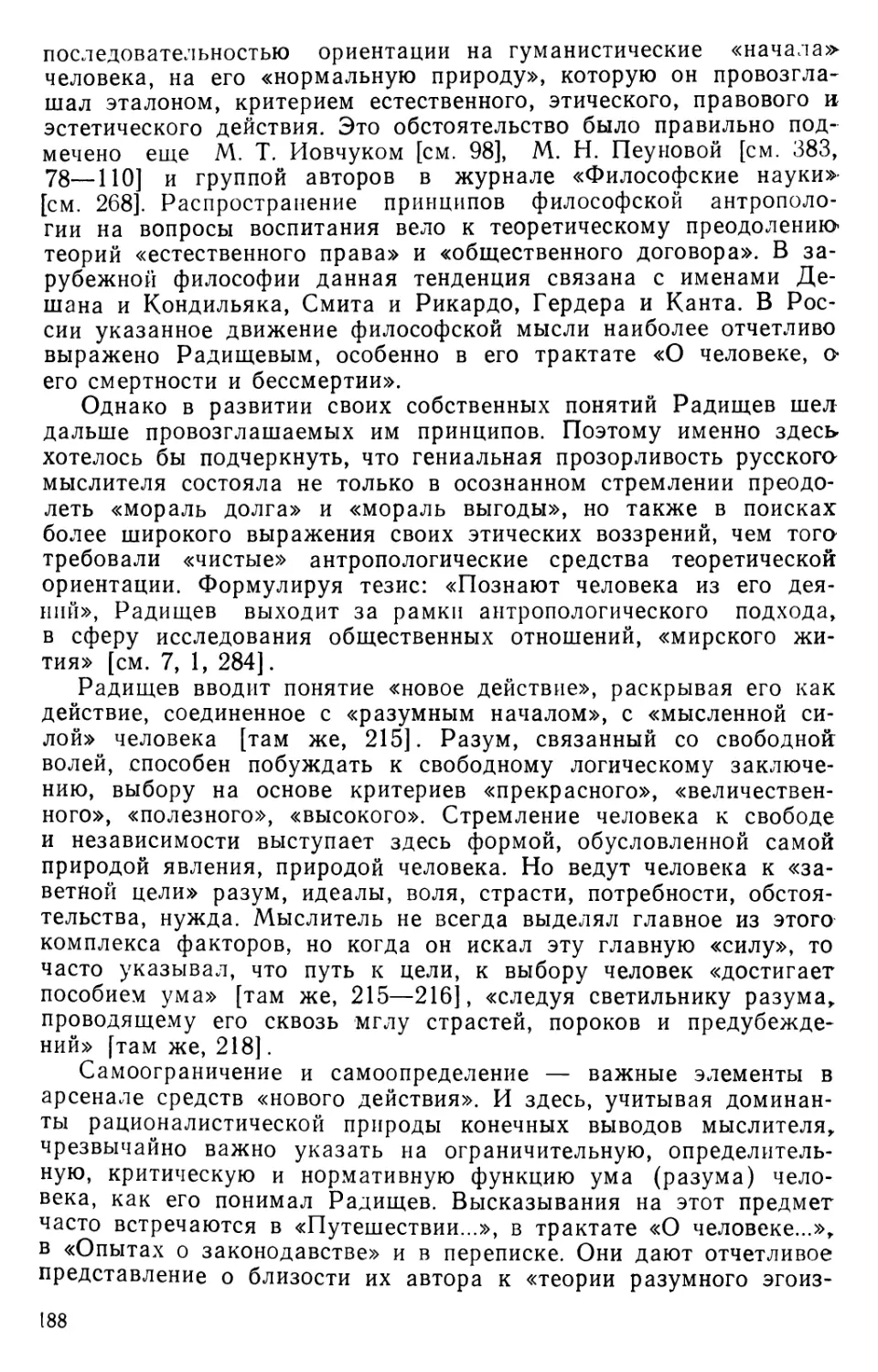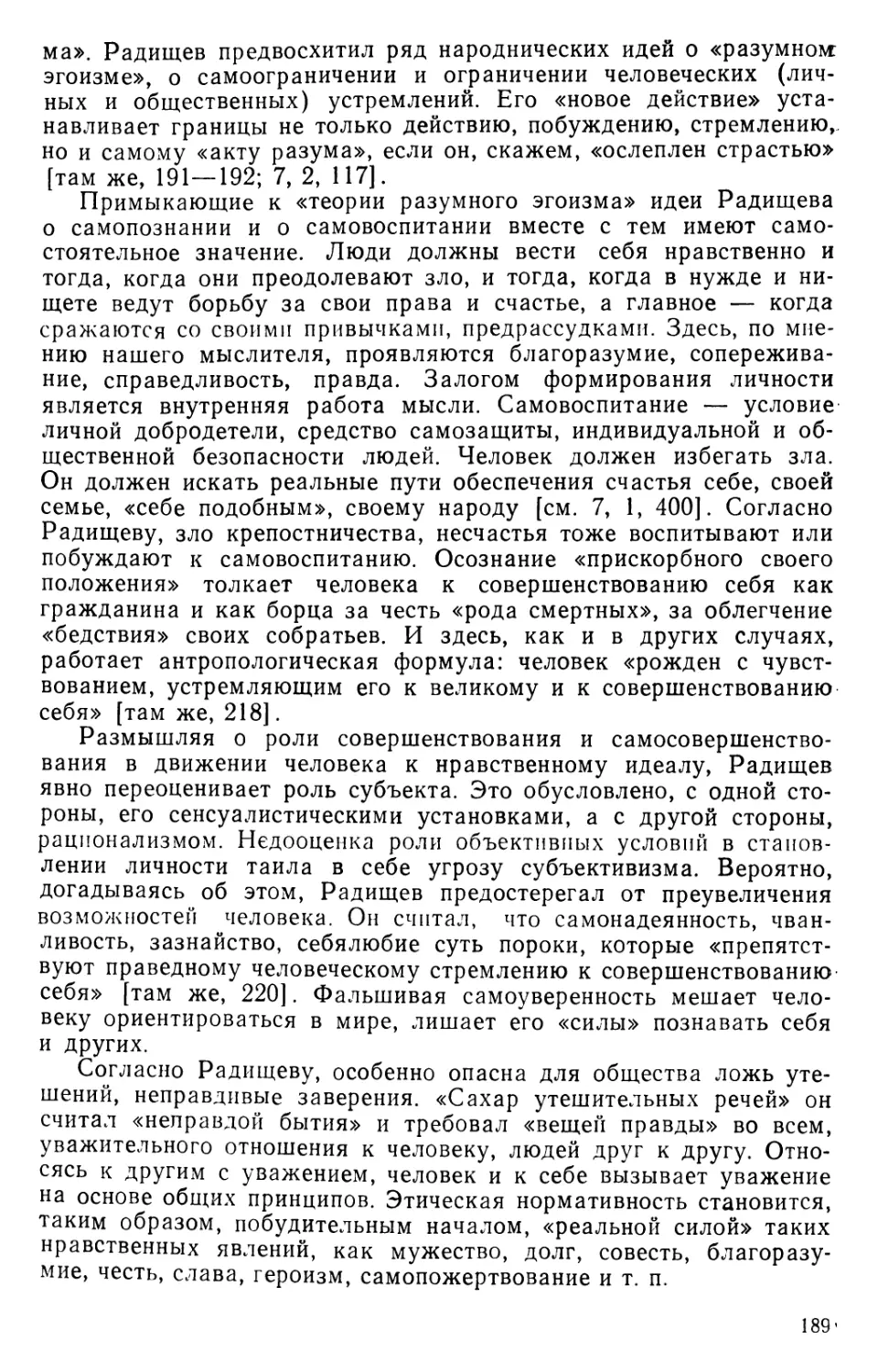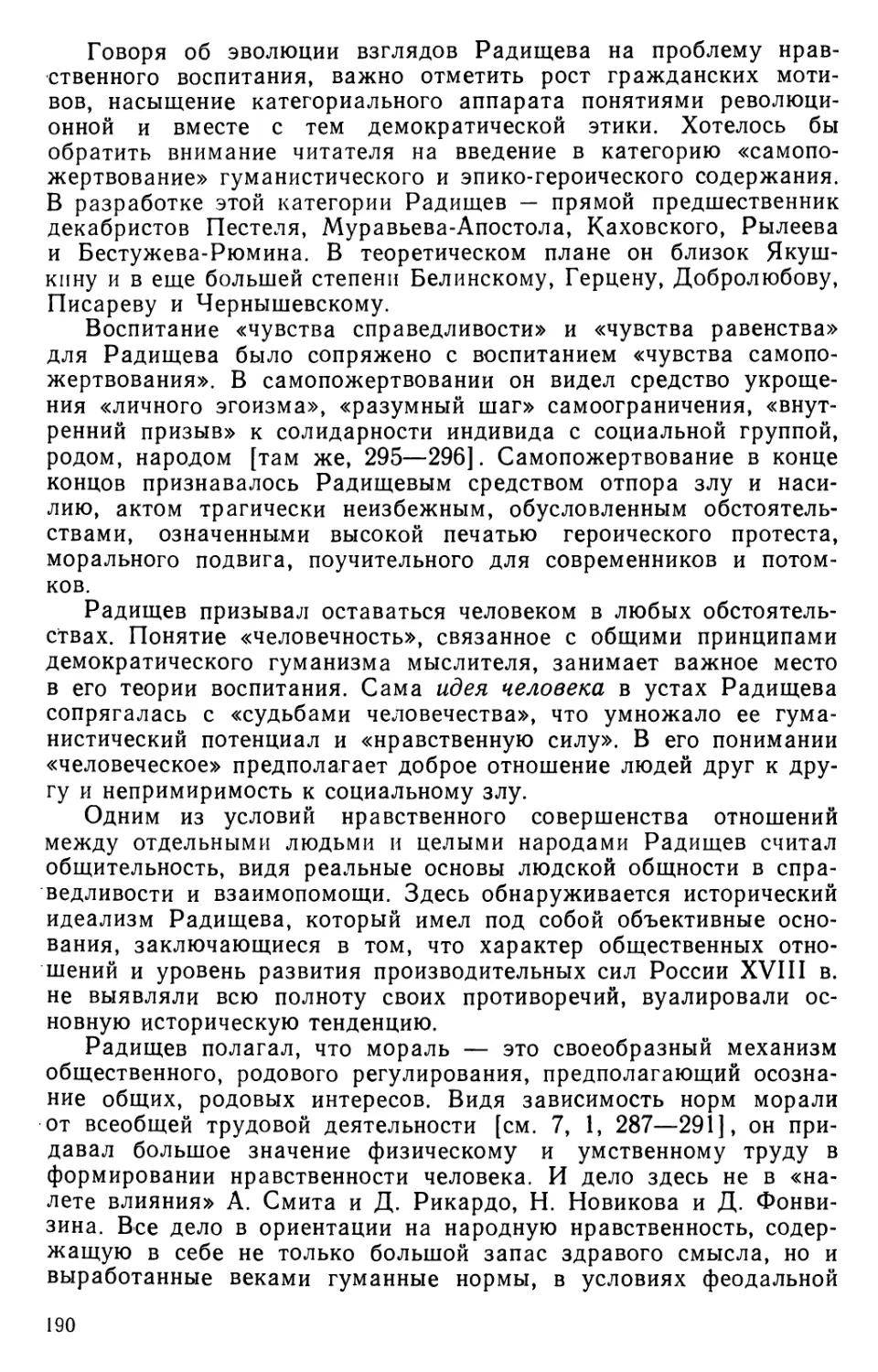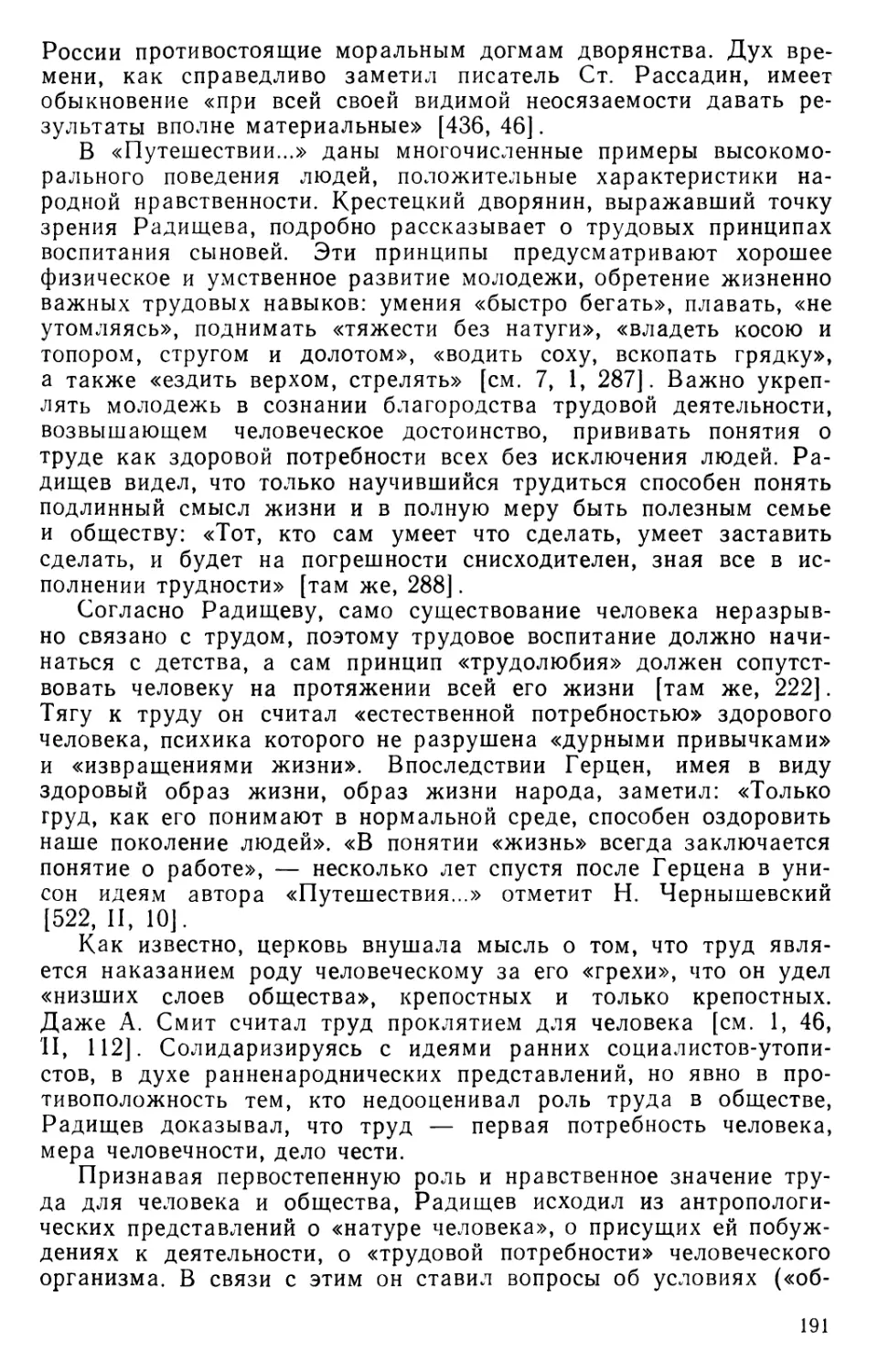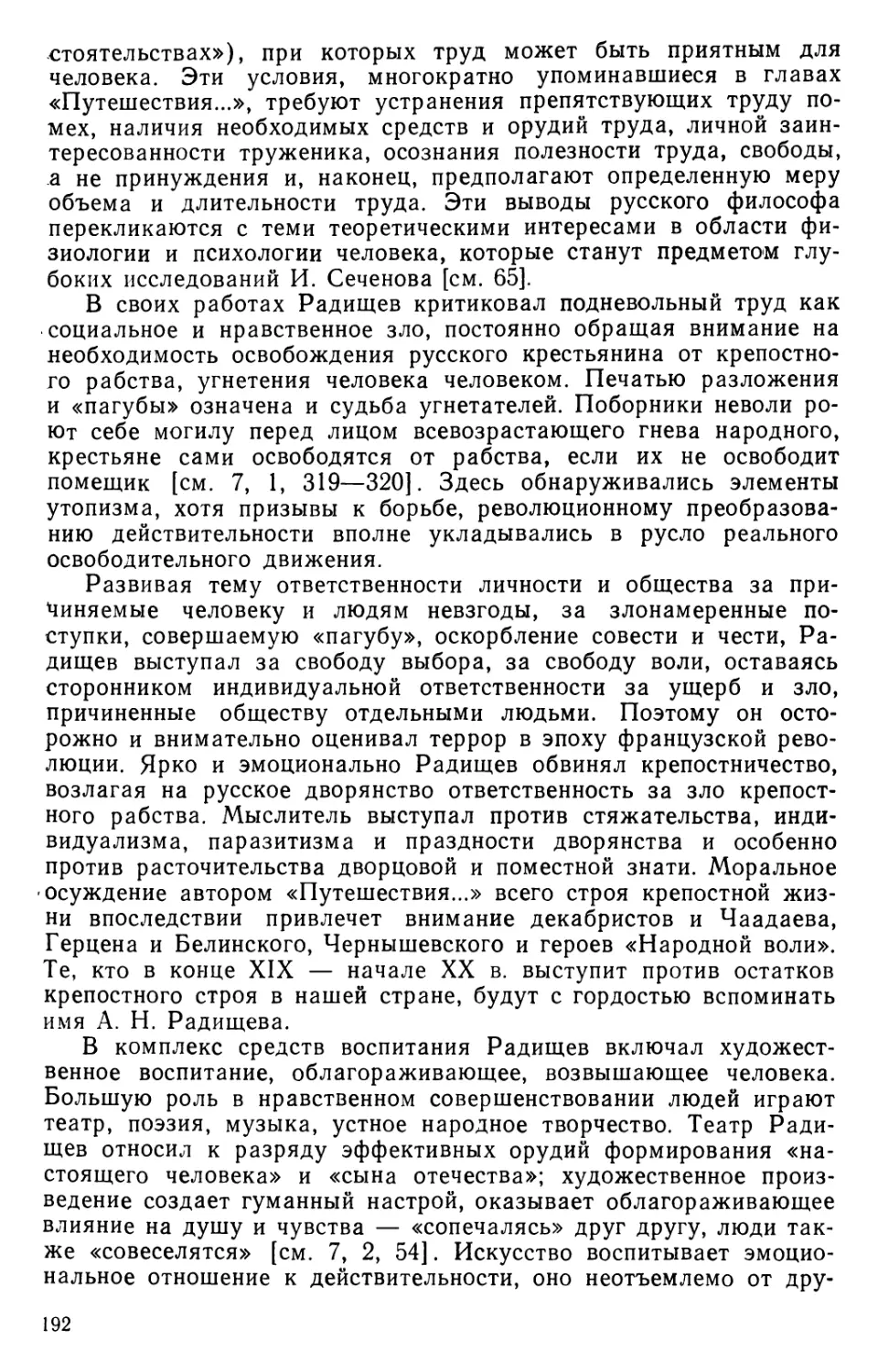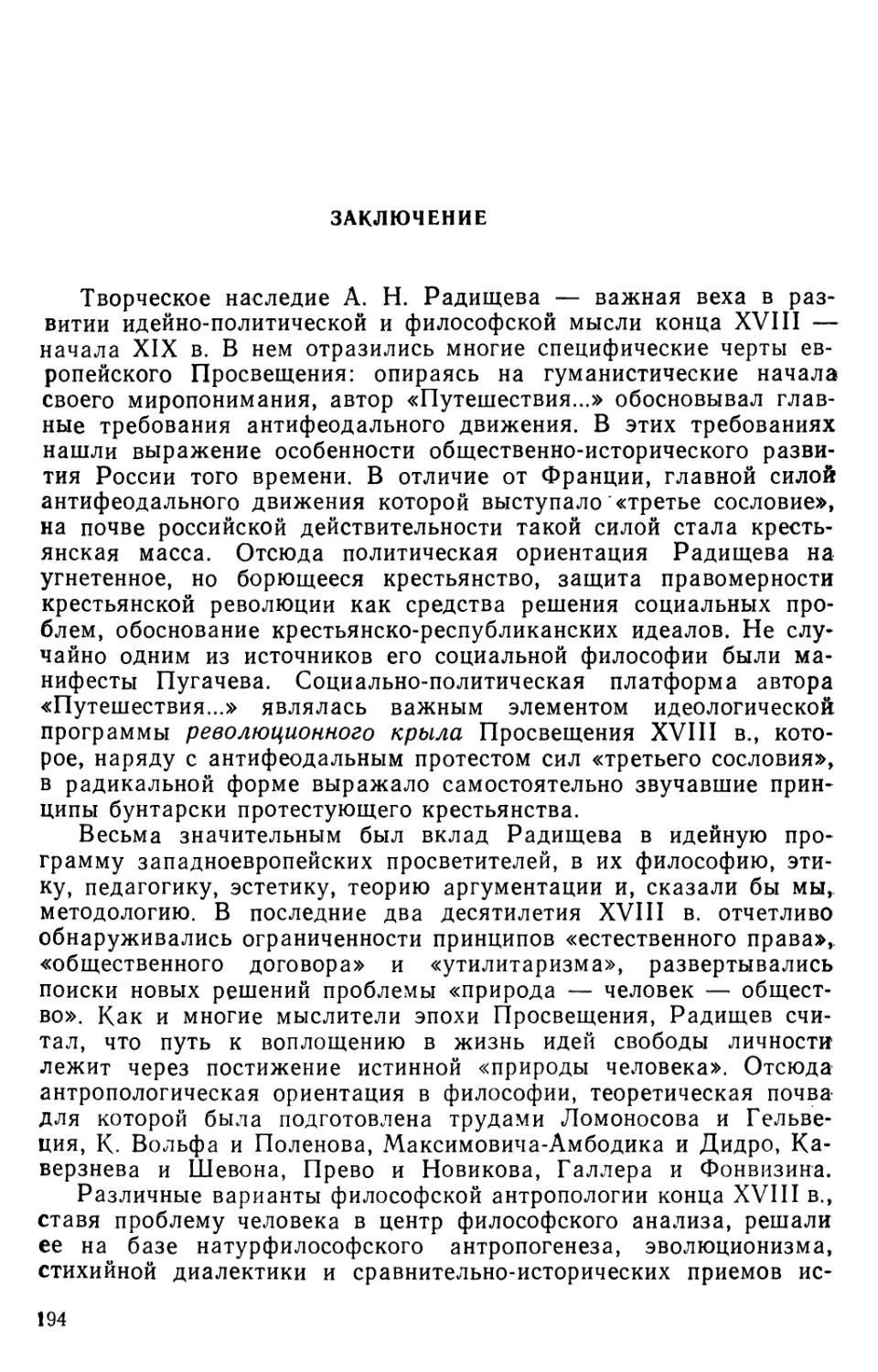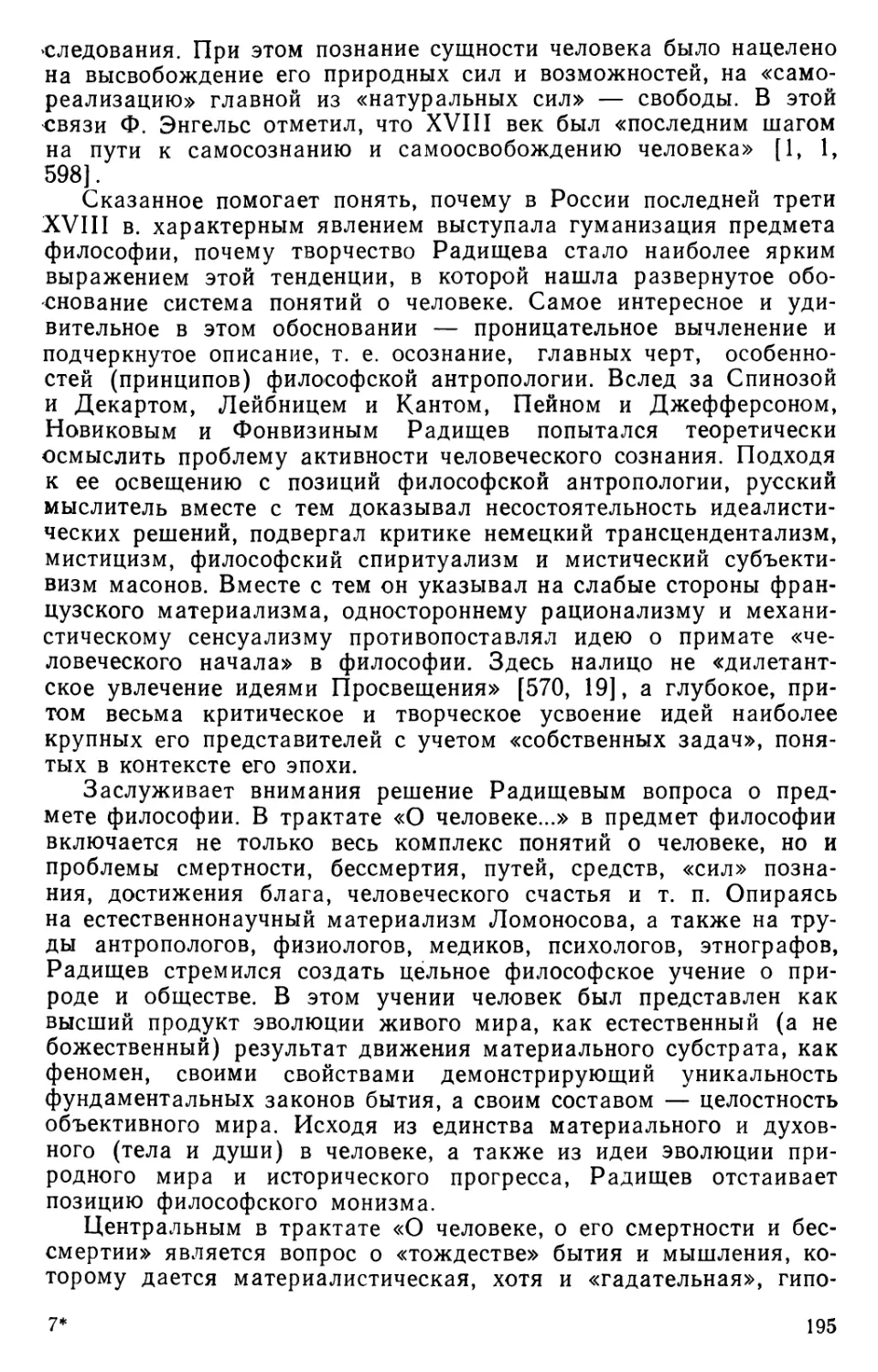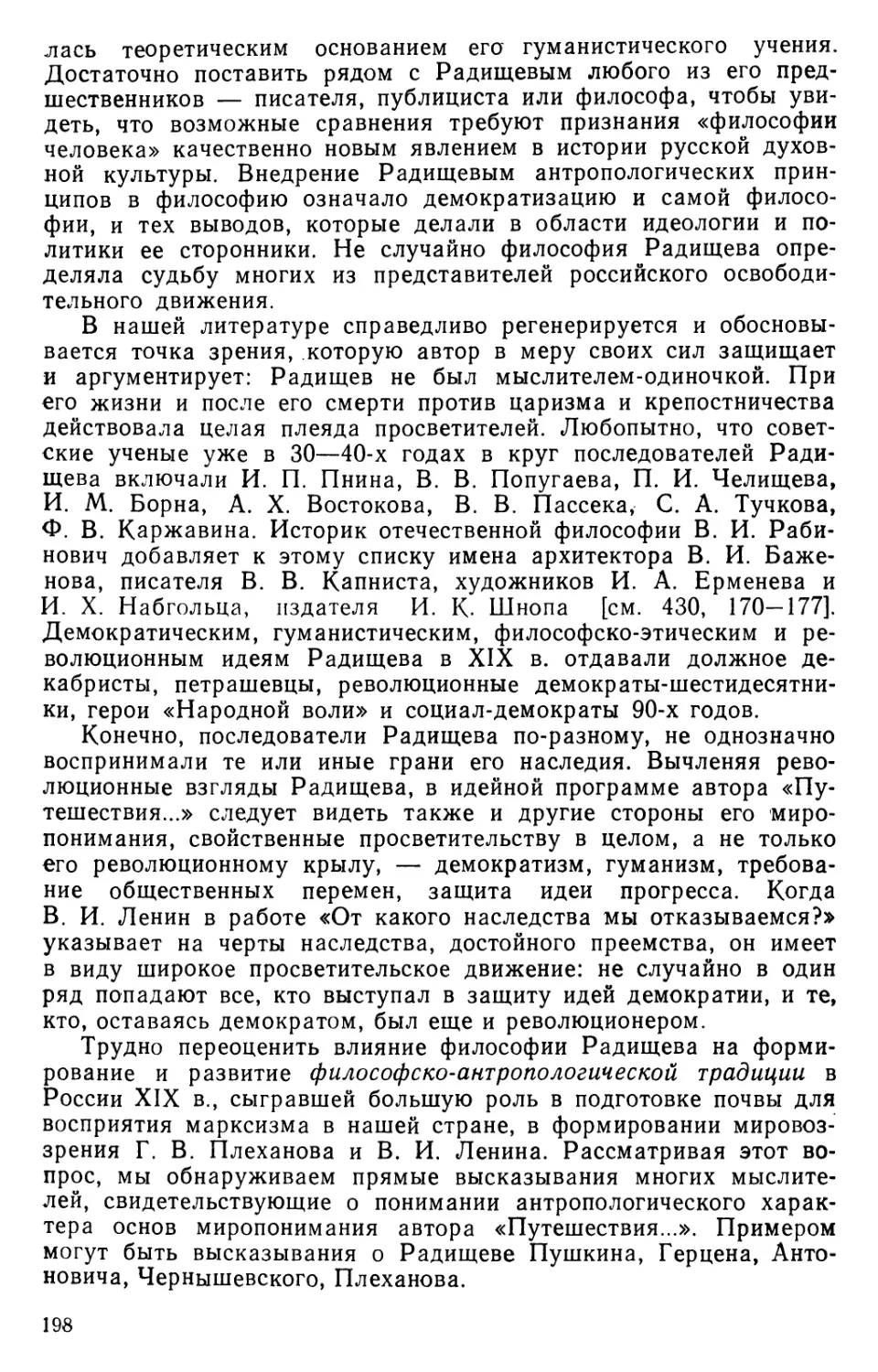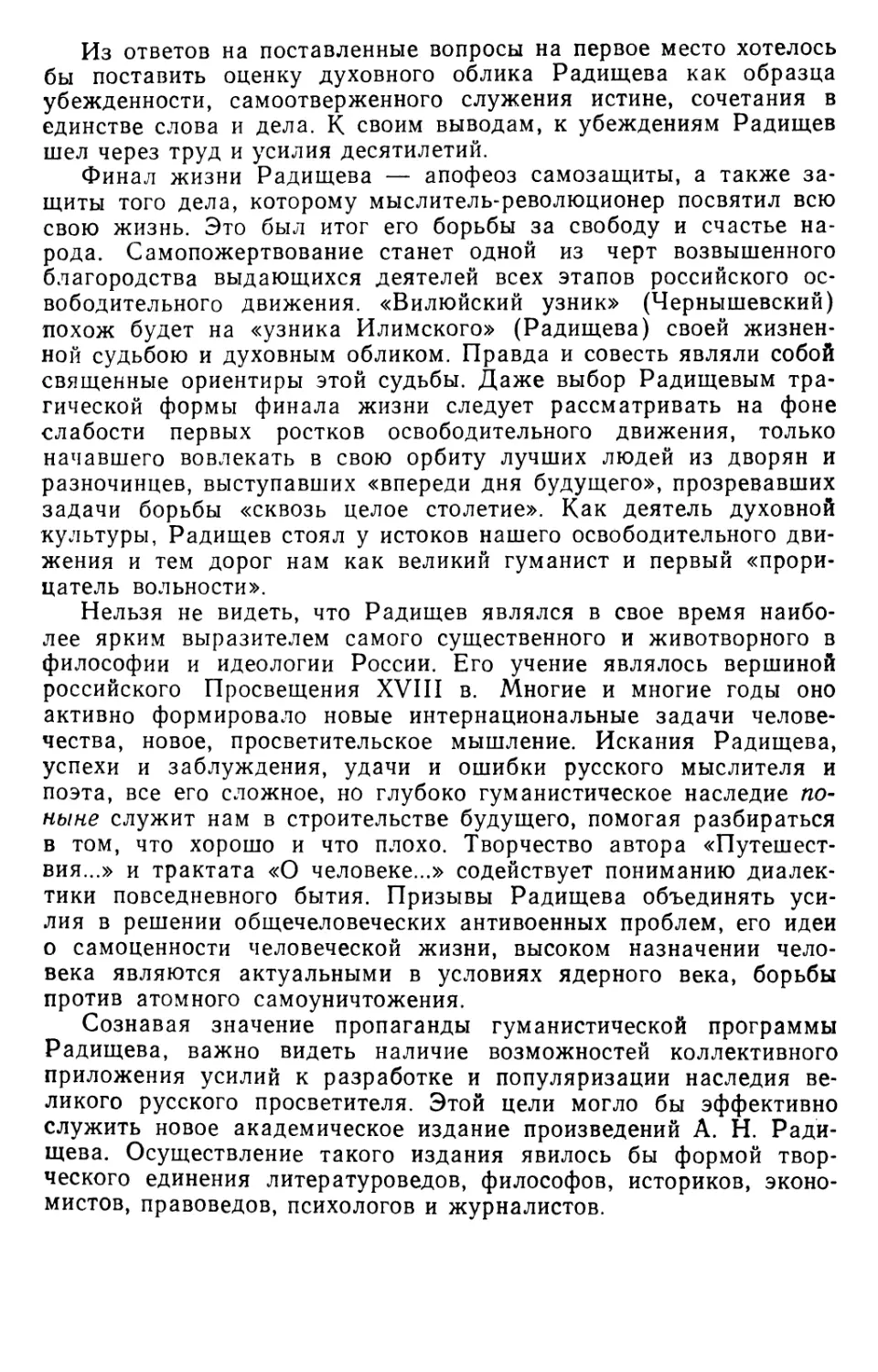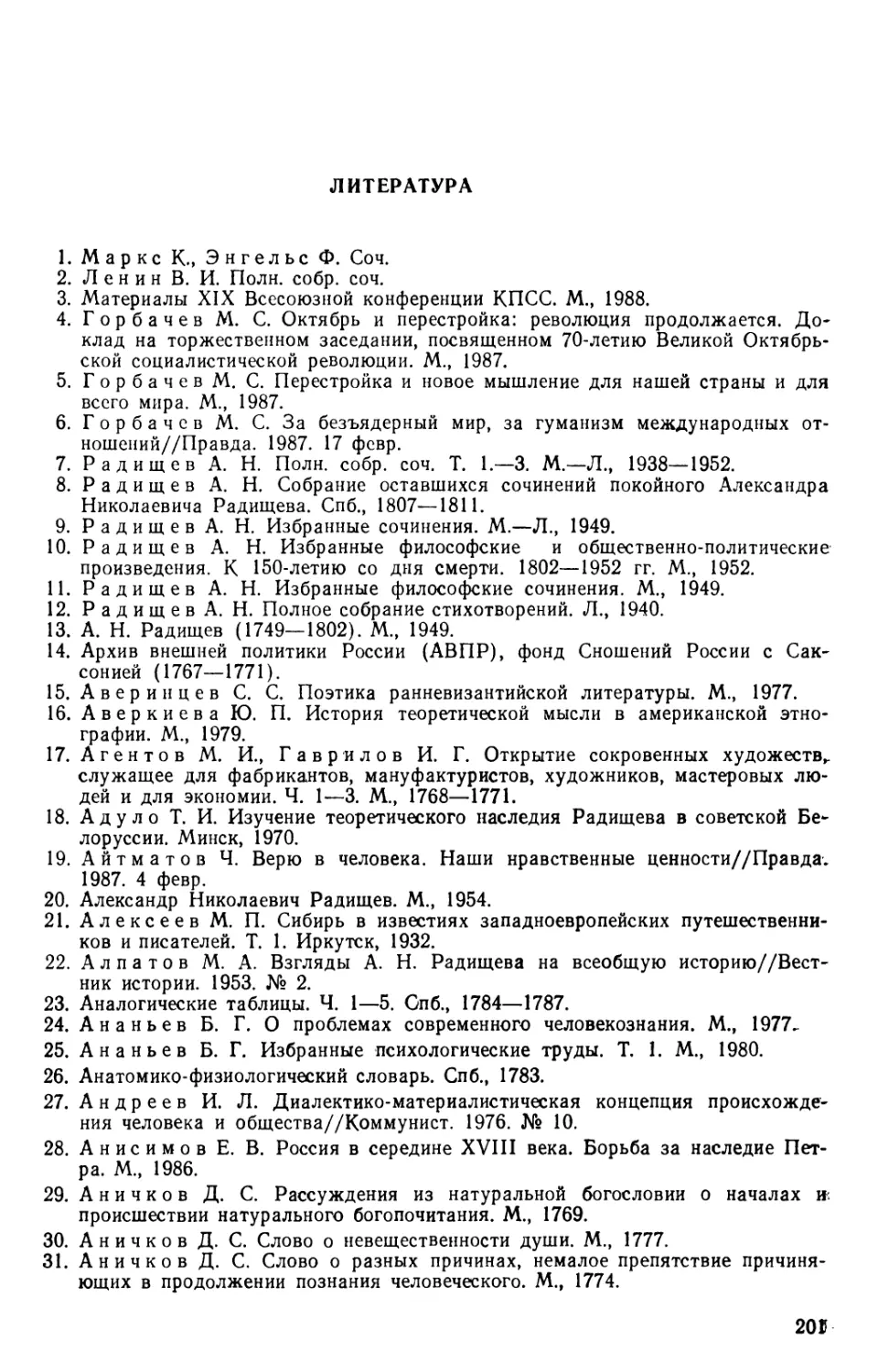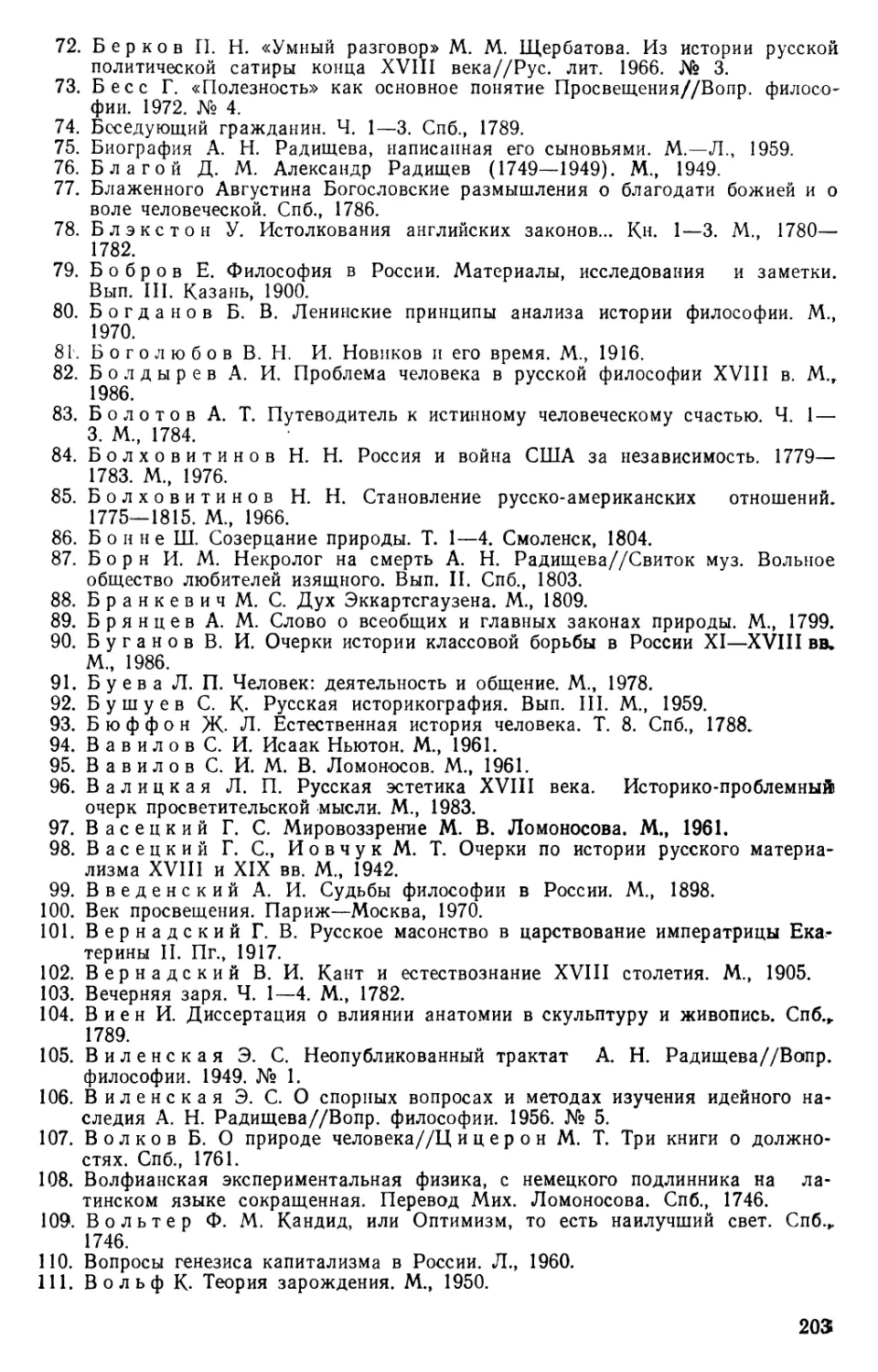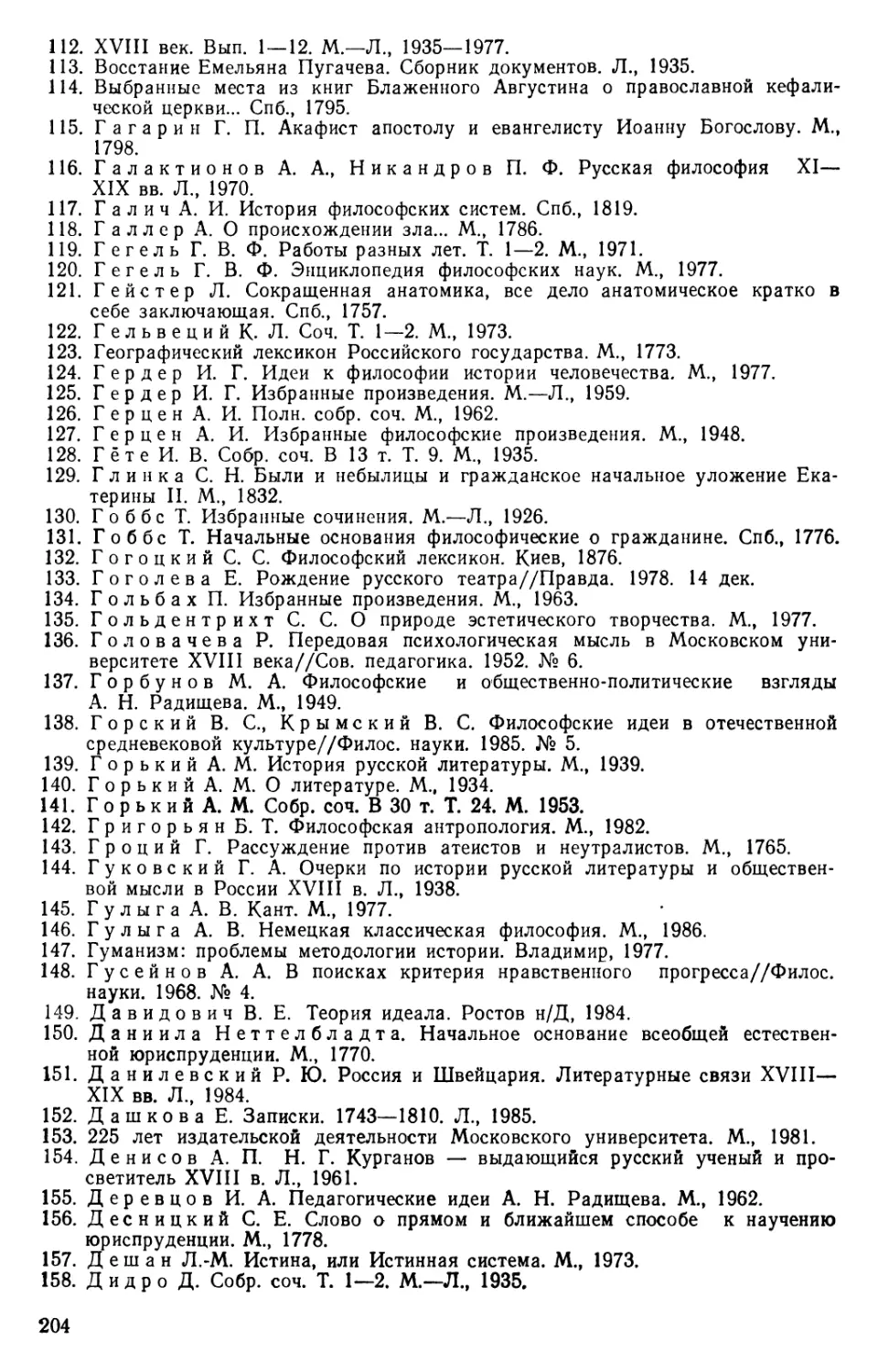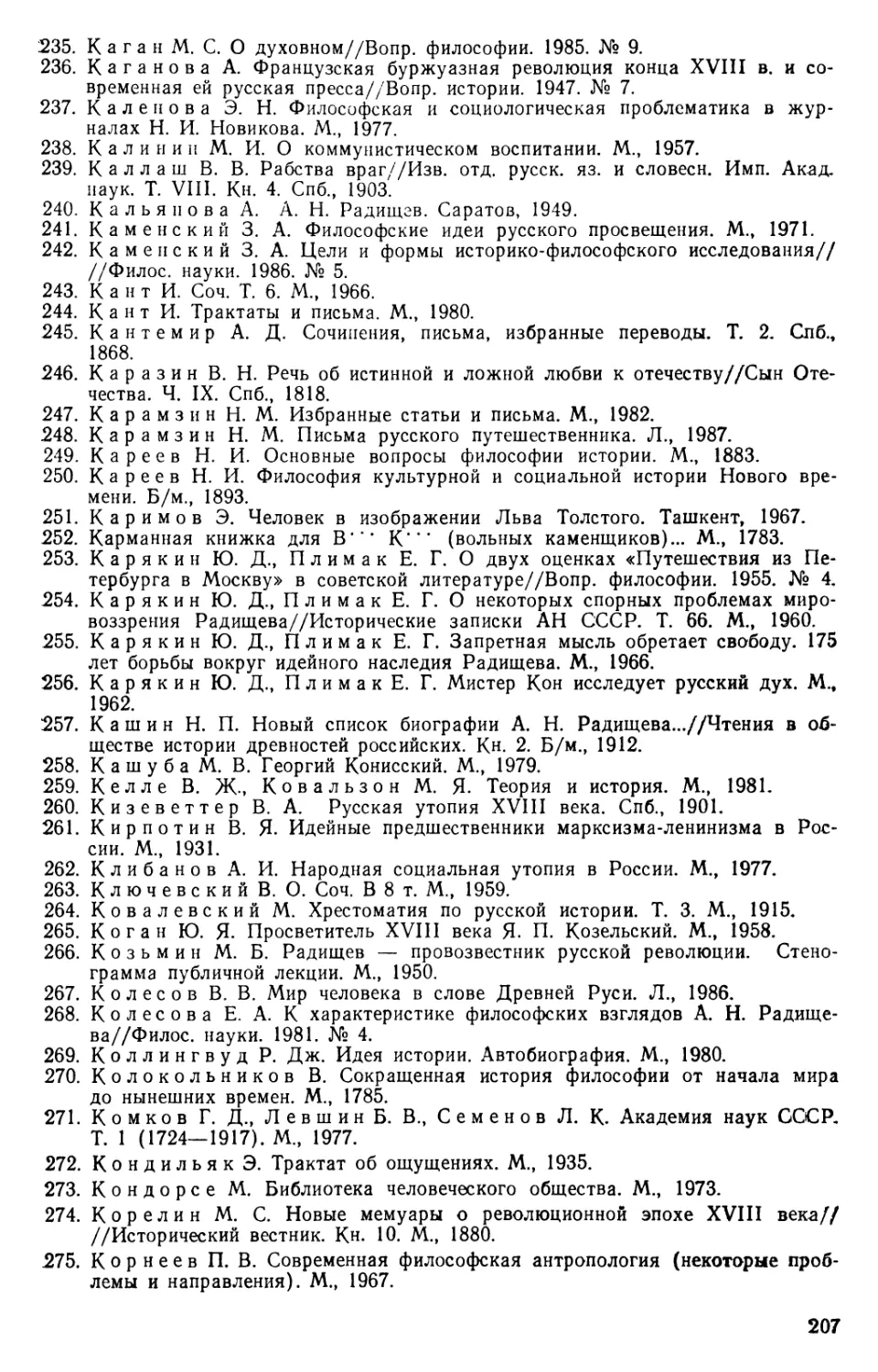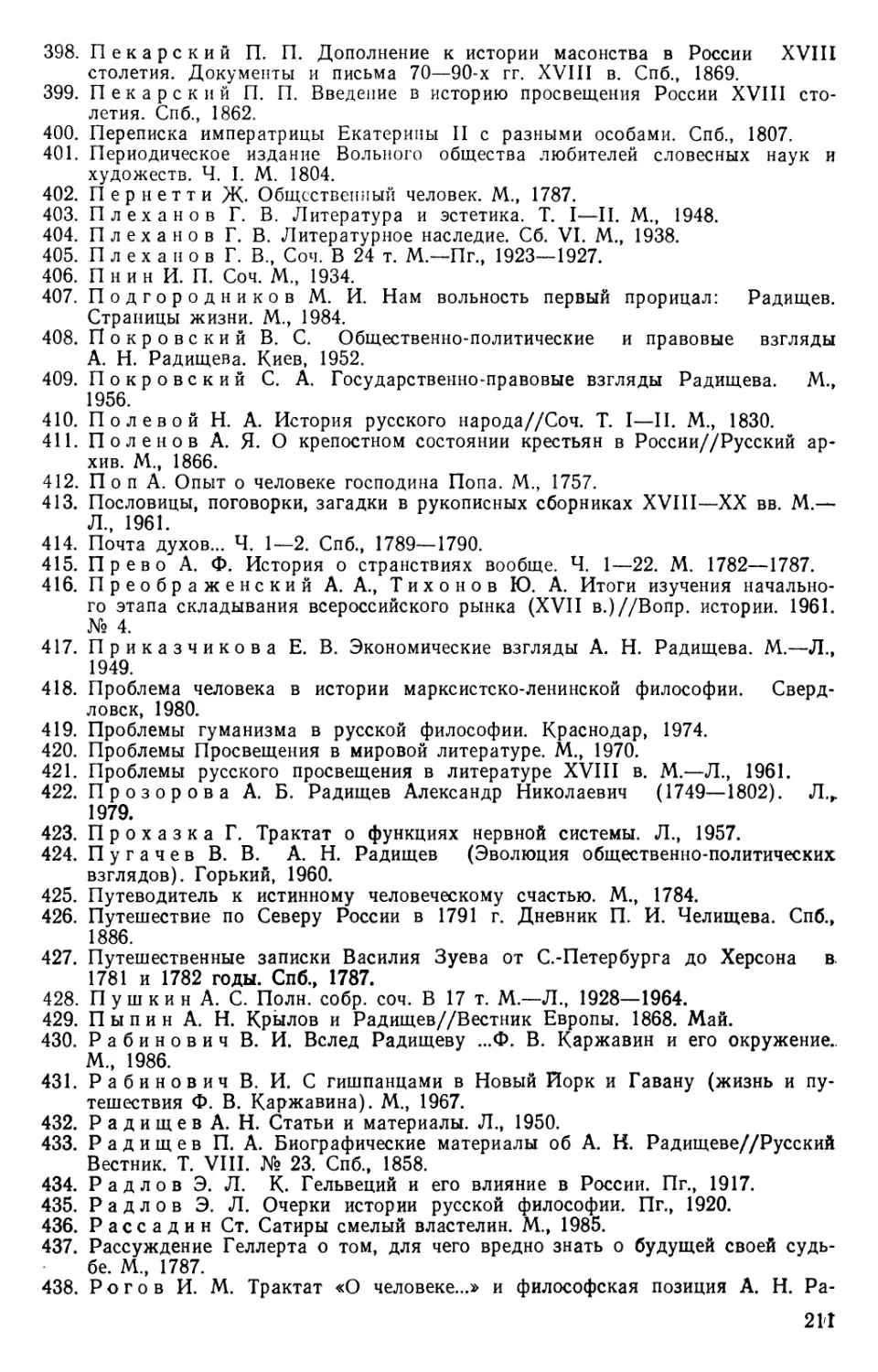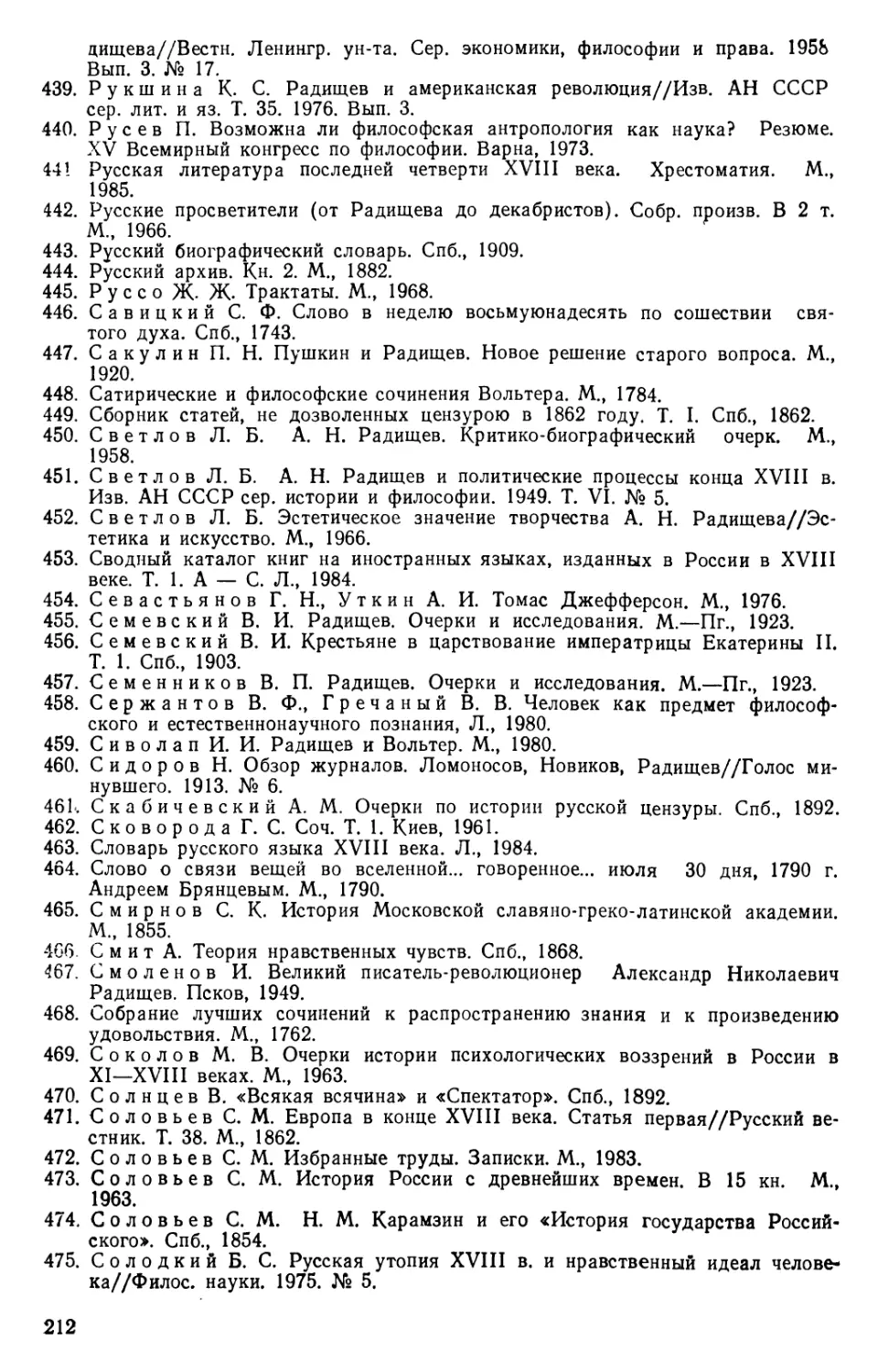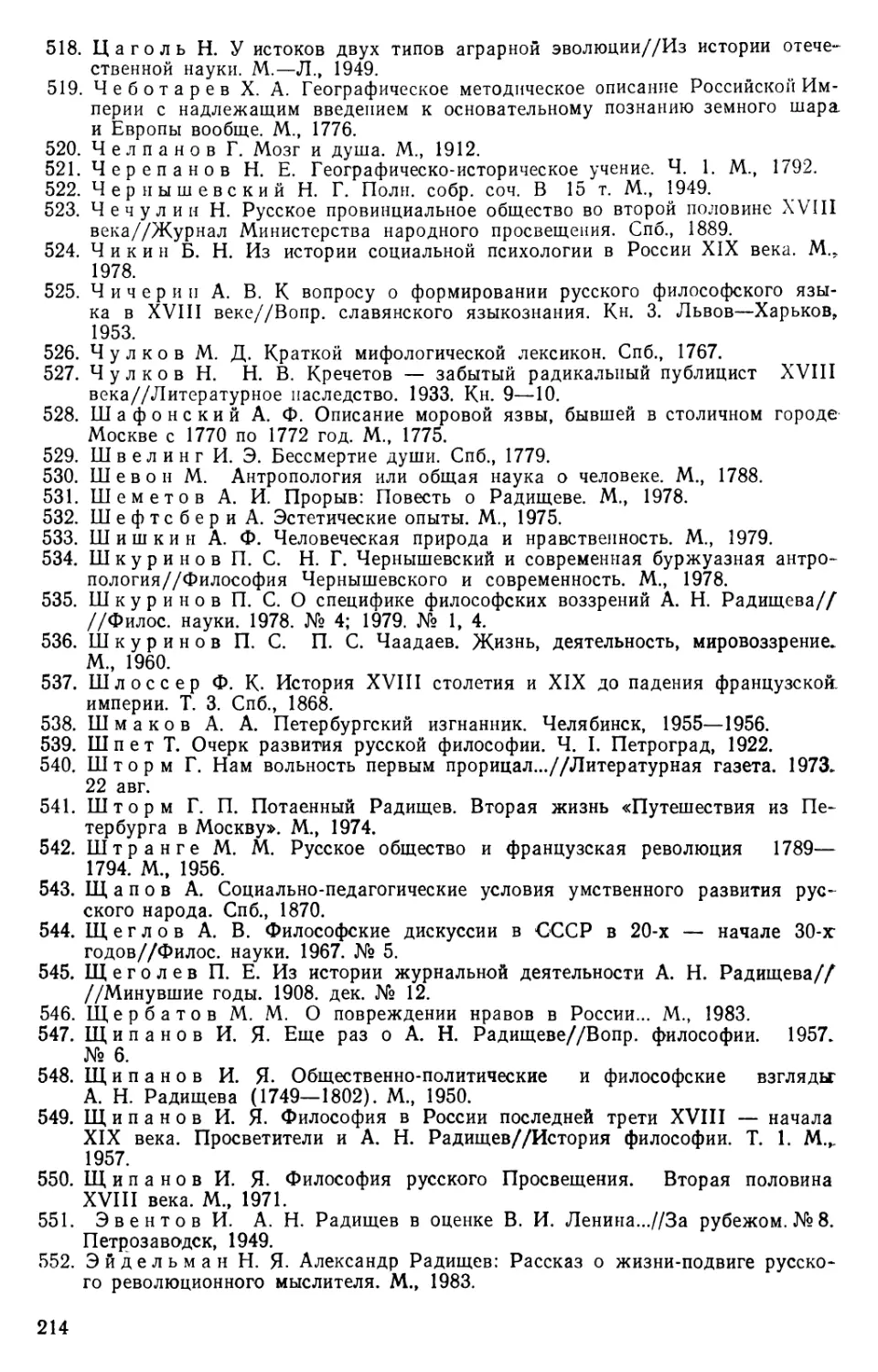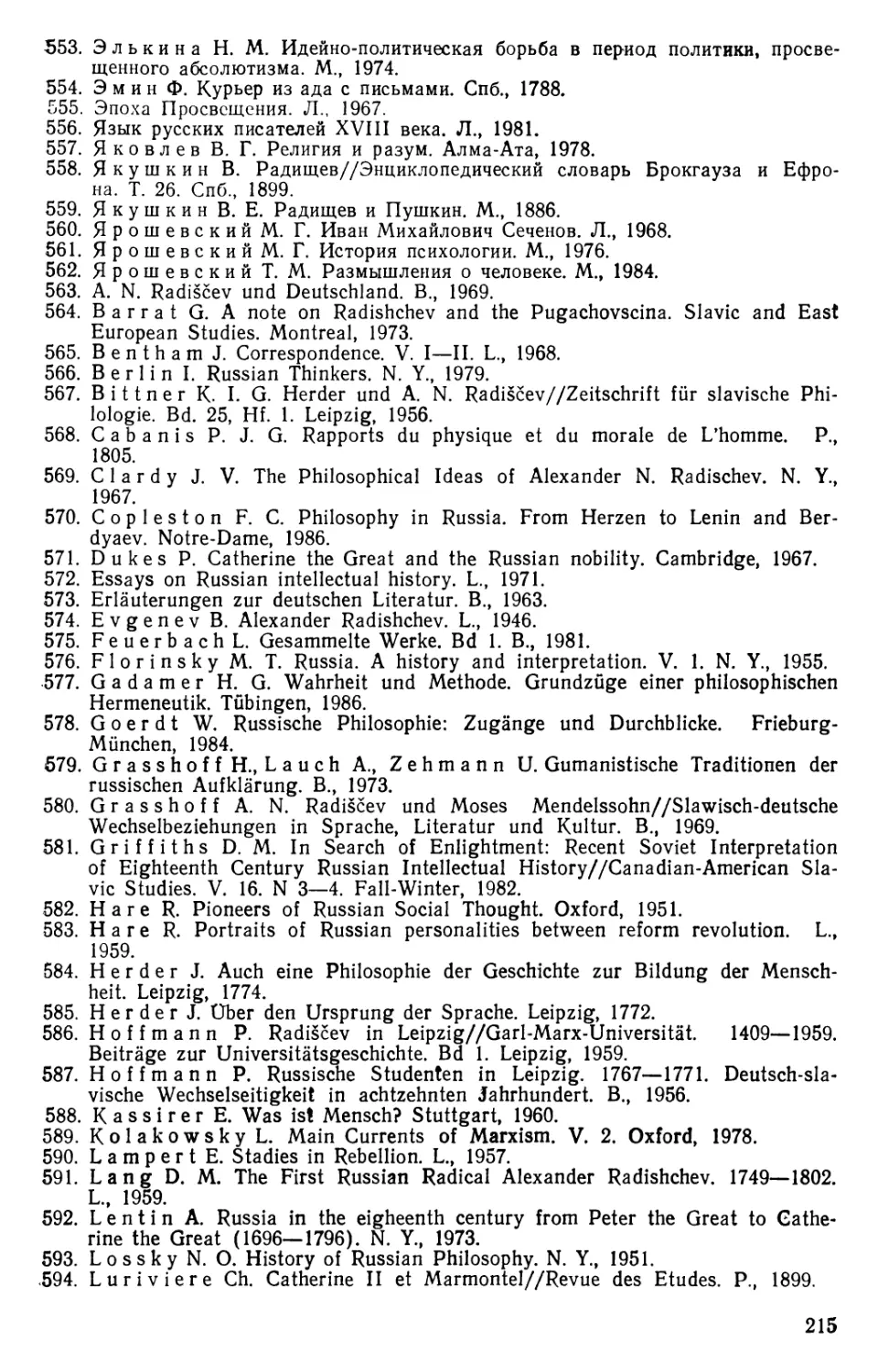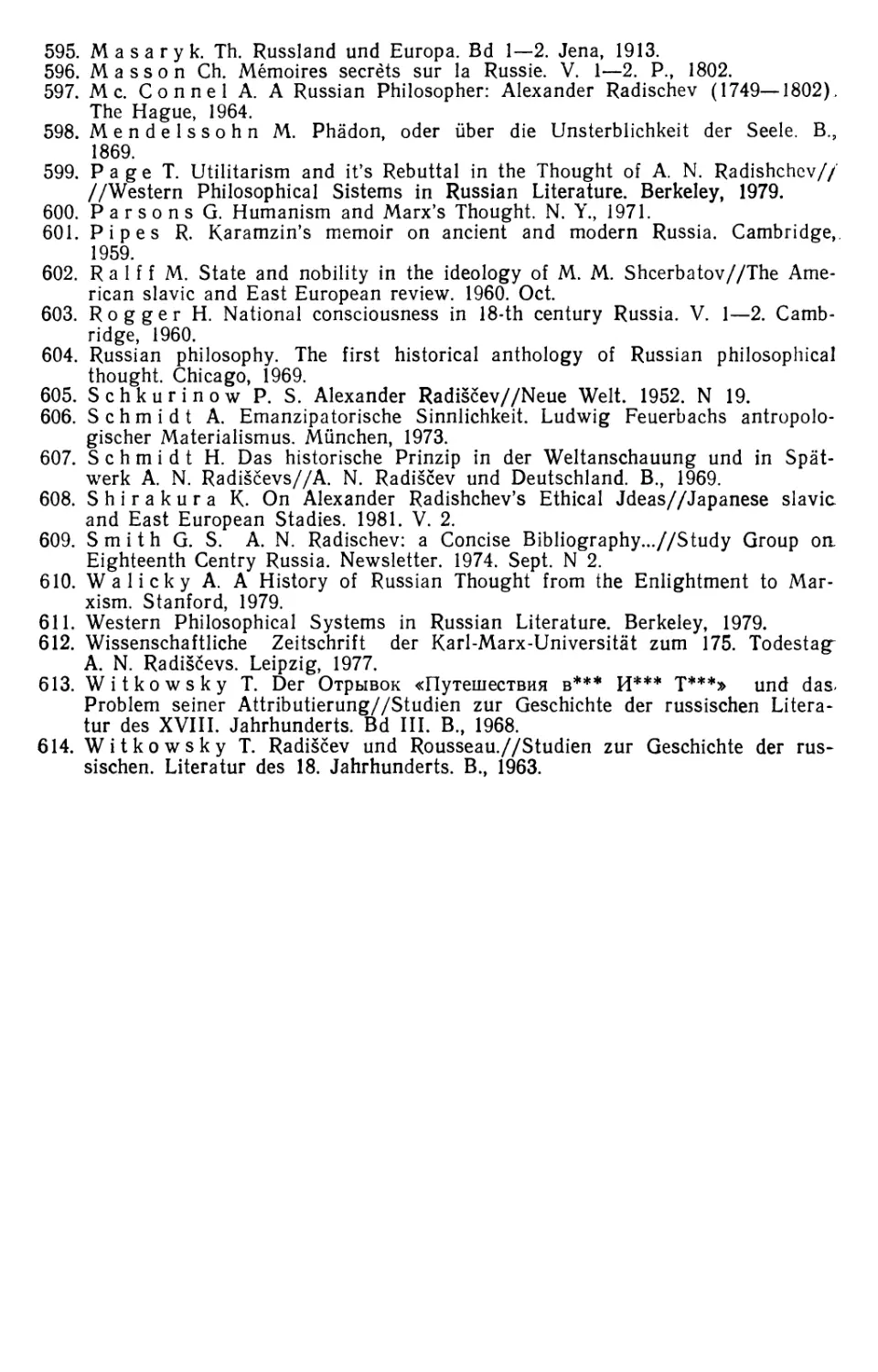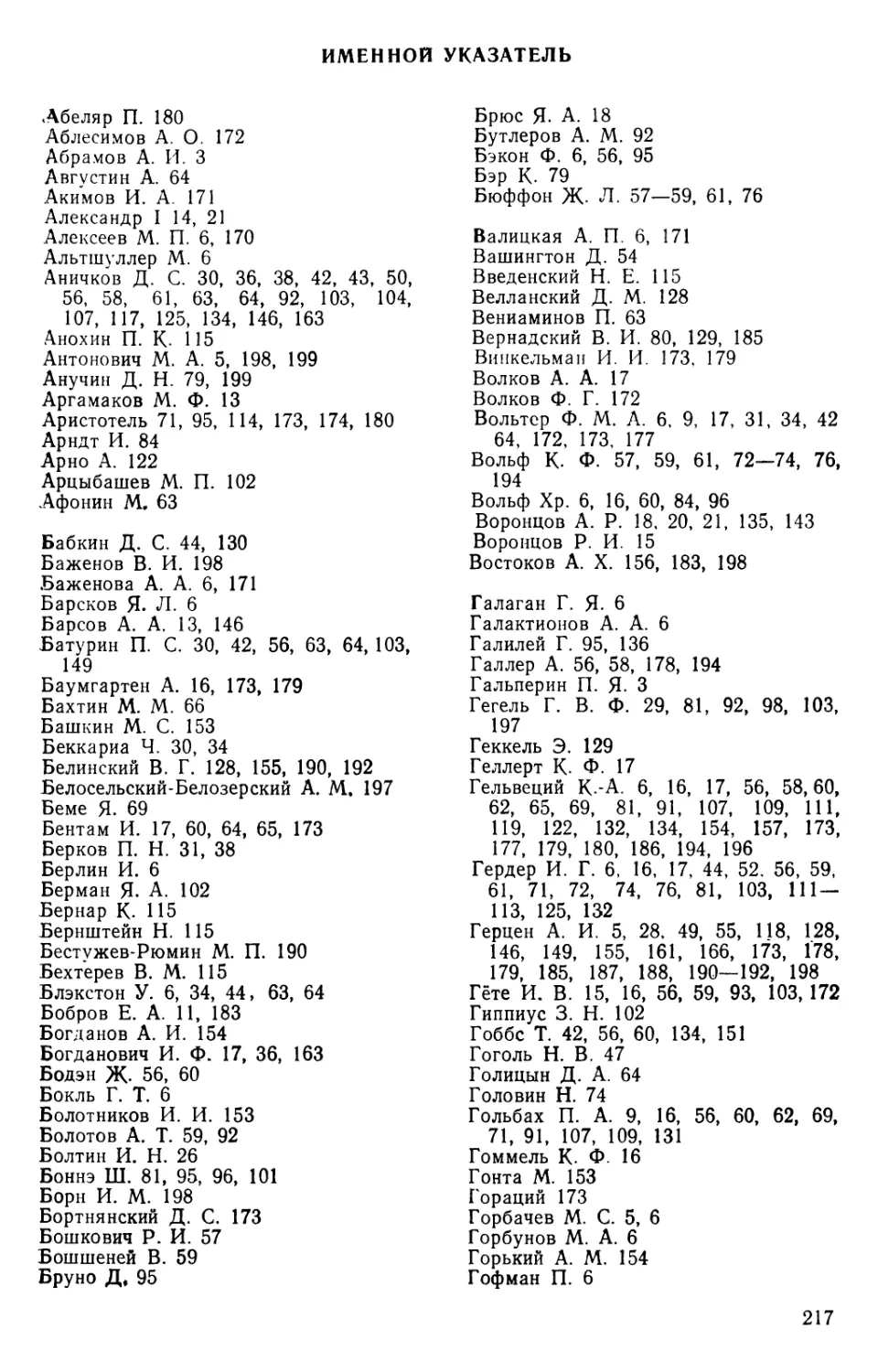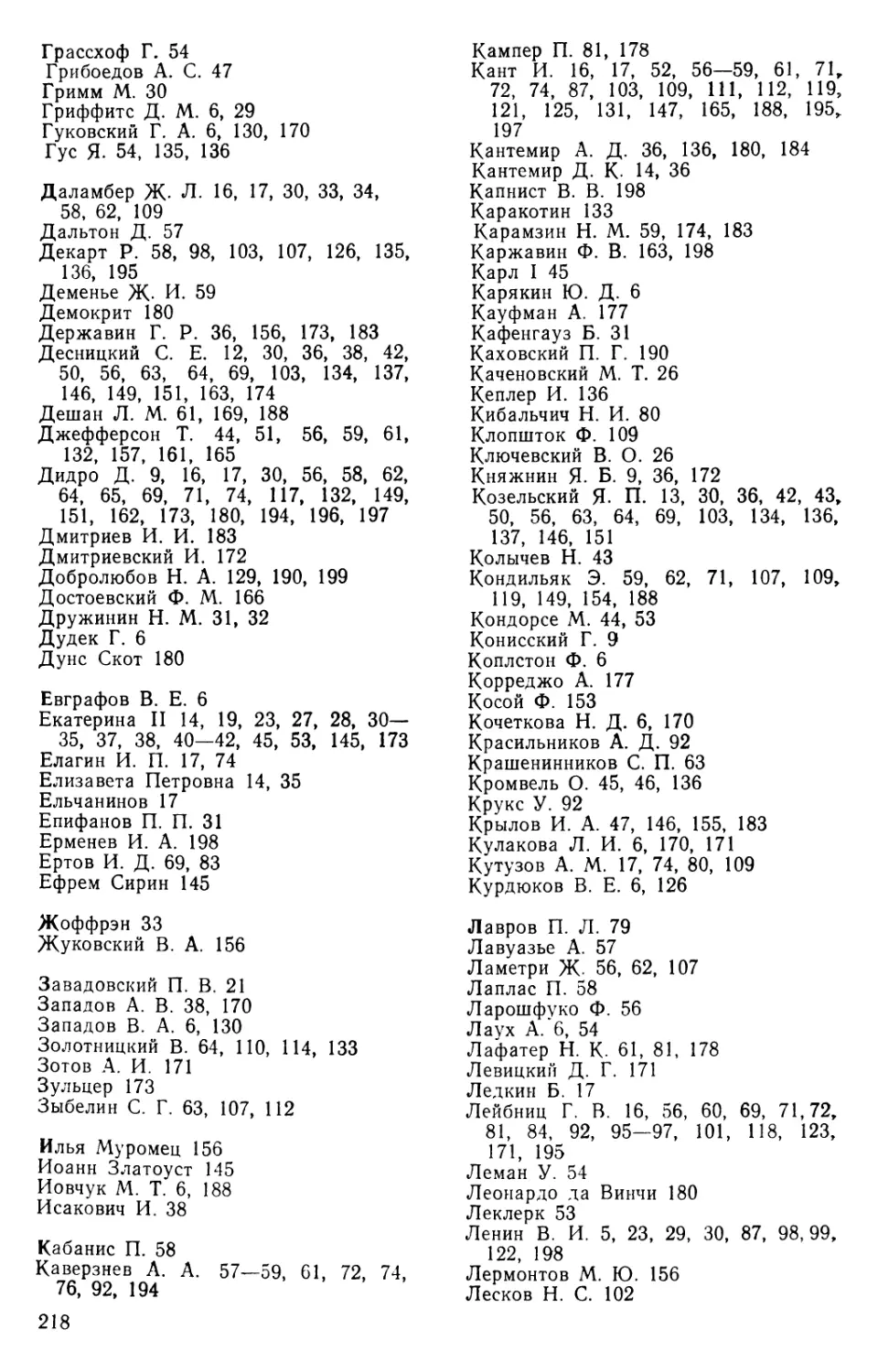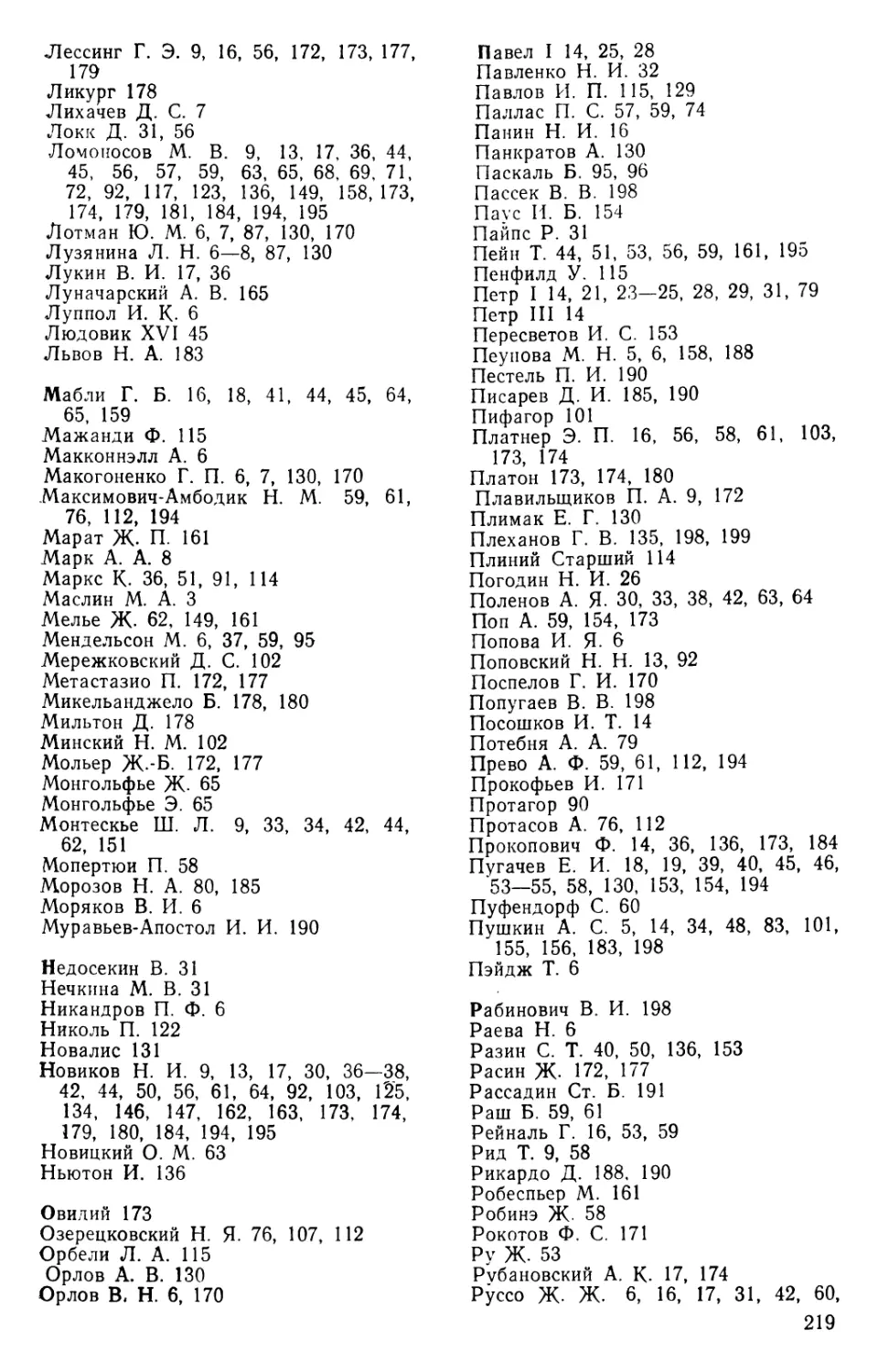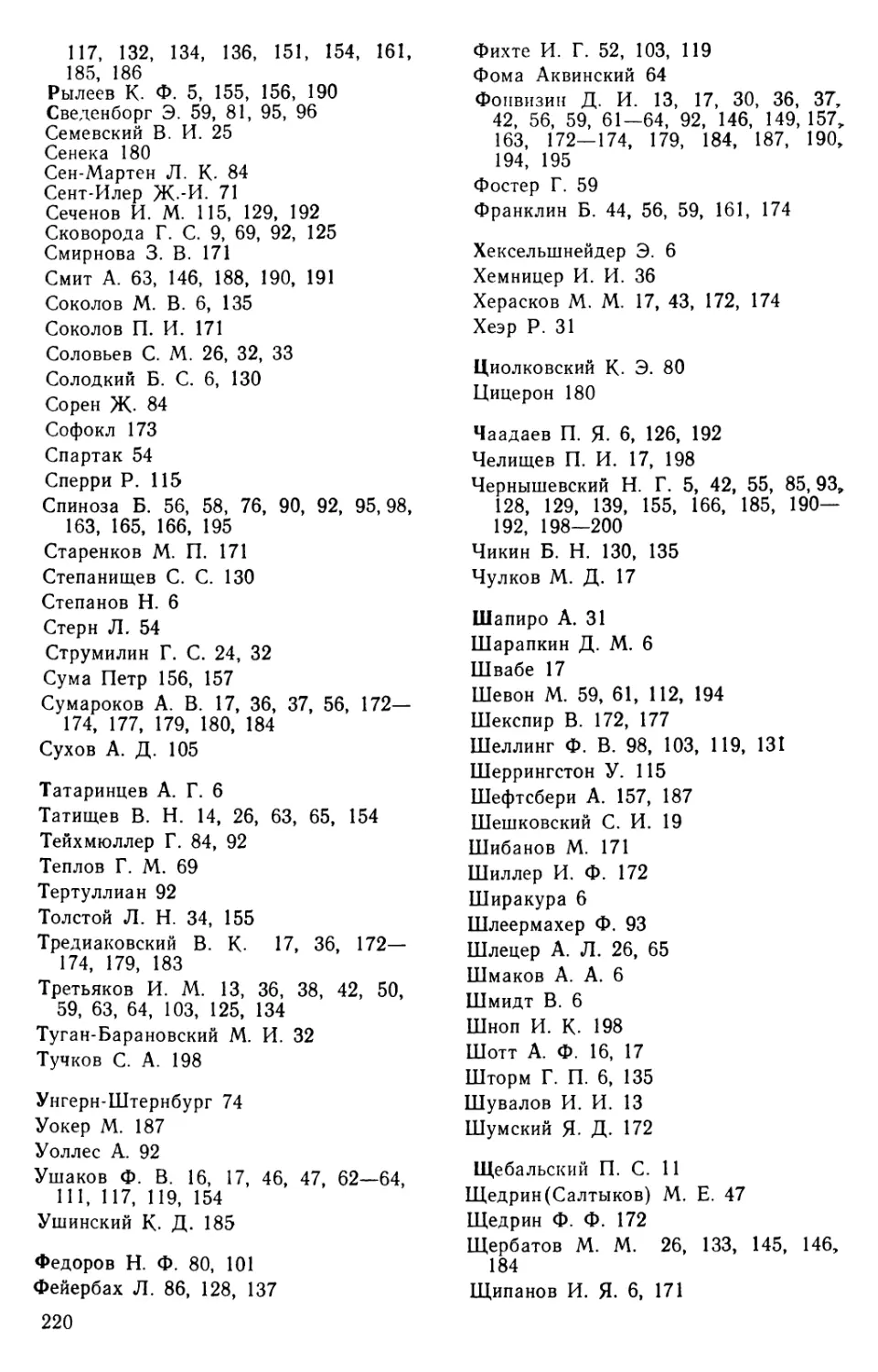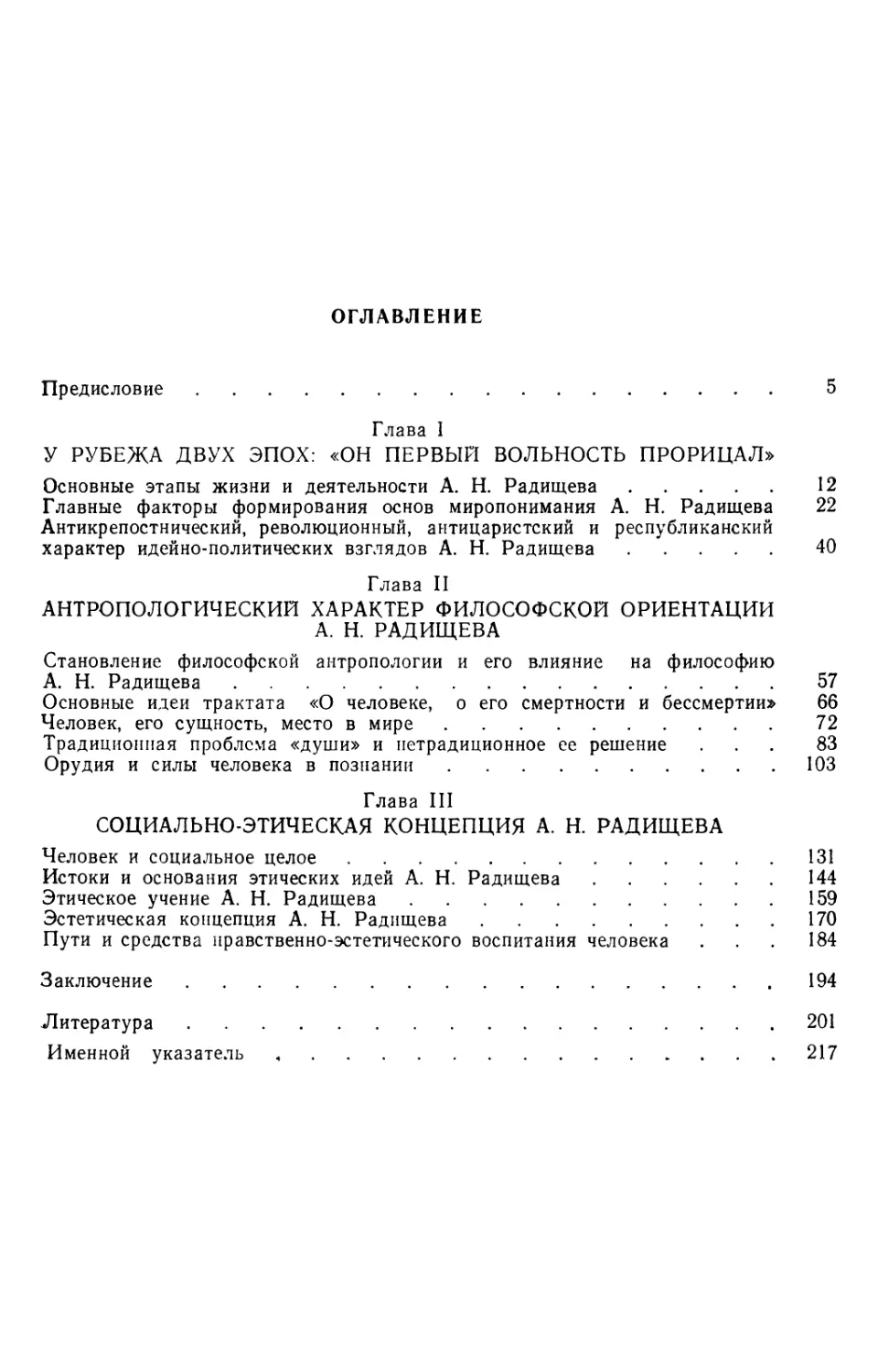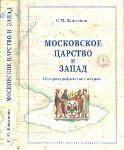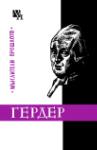Автор: Шкуринов П. С. Радищев А. Н. .
Теги: история философии философия философия истории издательство московского университета философия человека
ISBN: 5-211-00008-0
Год: 1988
Текст
ТТ. С. Шкуринов
А.Н. Радищев
•
Философия
человека
£Х2
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1988
ББК 87.3(2)
Ш6
Рецензенты:
П. Я. ГАЛЬПЕРИН, доктор психологических наук, профессор
А. И. АБРАМОВ, кандидат философских наук
М. А. МАСЛИН, кандидат философских наук
Печатается по постановлению
Редащионно-издательского совета
Московского университета
Шкуринов П. С.
Ш66 А. Н. Радищев. Философия человека. — М.: Изд-во МГУ,
1988. — 224 с.
ISBN 5-211-00008-0.
Монография посвящена анализу философских взглядов А. Н.
Радищева. Впервые в советской литературе поставлен вопрос об
антропологической форме философских построений автора «Путешествия из
Петербурга в Москву». Онтология, гносеология, социальная философия, этика
и эстетика русского мыслителя получили новую интерпретацию.
Для философов, обществоведов, аспирантов и студентов вузов,
учителем"!, пропагандистов, а также всех интересующихся историей
отечественно й культуры.
. 0302010000-165 _„ n^o/ftv
Ш 8—88 ББК 87.3(2)
077(02)—88
ISBN 5—211—00008—0 © Издательство Московского
университета, 1988
ПРЕДИСЛОВИЕ
Сегодня, как никогда прежде, заметен рост интереса к
истории отечественной духовной культуры, особенно к ее
гуманистическим и революционным явлениям. История входит в нашу
действительность, посредством традиций связывая нас с ближайшим
и отдаленным прошлым. Подчеркивая значение этой связи,
М. С. Горбачев указывал, что Октябрь «воплотил в себе духовные
искания просветителей XVIII века, героев и мучеников
декабристского движения, пламенных трибунов революционной
демократии, нравственное подвижничество великих деятелей нашей
культуры» [5, 5] К
Одним из великих подвижников европейского Просвещения,
первым провозвестником революционных идей в России XVIII в.
был Александр Николаевич Радищев. Гениальный писатель,
публицист, философ, экономист, правовед, эрудит в различных
областях знания, он выделялся среди современников
энциклопедической образованностью, новаторским характером теоретического
поиска. Опираясь на передовые идеи своего времени, мыслитель
создал гуманистическое учение, в котором подчеркивалась
решающая роль «человеческого начала» в истории, формулировалось
требование по-новому осмысливать философские, этические и
эстетические задачи своего времени. Его ода «Вольность»,
«Путешествие из Петербурга в Москву», трактат «О человеке, о его
смертности и бессмертии» стоят в ряду выдающихся творений
эпохи буржуазного Просвещения.
Заслуги Радищева высоко оценивали современники, а еще
больше — представители последующих поколений
освободительного движения. А. Пушкин, К. Рылеев, А. Герцен, М. Антонович,
Н. Чернышевский, Г. Плеханов указывали на величие
гражданского подвига и выдающуюся роль русского просветителя в
развитии духовной культуры, идейно-политической и философской
мысли России. В статье «О национальной гордости великороссов»
(1914) В. И. Ленин писал о Радищеве как борце против
крепостничества и царизма, которым с полным правом может и должен
гордиться русский народ [см. 2, 26, 107].
1 Здесь и далее первая цифра в квадратных скобках обозначает порядковый
номер цитируемого произведения в списке литературы, вторая — номер
страницы. Для многотомных изданий вторая цифра обозначает номер тома, третья—
номер страницы (ред.).
В советские годы немало сделано в области изучения и
популяризации наследия Радищева, преодоления дворянско-буржу-
азных взглядов о «подражательном характере» и
«неоригинальности», «слабом влиянии» на современников идейно-теоретической
и общественной деятельности русского мыслителя.
Активизировали исследовательскую деятельность выпущенные в 1938—1952 гг.
три тома Полного собрания сочинений А. Н. Радищева, а также
Избранные философские сочинения (1949) и Избранные
произведения Радищева (1952). В подготовке этих выпусков приняли
участие главным образом литературоведы. Проделана большая
текстологическая и комментаторская работа, создана база
современного радищеведения.
В 20—60-х годах широкое распространение получили статьи
и монографии Я. Барскова, Г. Гуковского, В. Западова, В. Орлова,
Г. Макогоненко, Д. Бабкина, А. Алексеева, А. Галактионова и
П. Никандрова, Н. Степанова, А. Шмакова, Ю. Карякина и
Е. Плимака, Ю. Лотмана, Э. Виленской, Г. Шторма. В
последующие годы вышли работы М. Альтшуллера, Г. Галагана, Н. Ко-
четковой, В. Морякова, Л. Кулаковой, Г. Моисеевой, А. Татарин-
цева, Д. Шарапкиной и др. В исследовании философских,
психологических, логических, этических и эстетических взглядов
Радищева выделялись публикации И. Луппола, М. Горбунова, А.
Баженовой, М. Иовчука, А. Валицкой, В. Евграфова, Ю. Курылева,
Л. Лузяниной, М. Соколова, И. Поповой, Б. Солодкого, М. Пеу-
новой, И. Щипанова. Из зарубежных комментаторов творчества
мыслителя России следует указать на П. Гофмана, Г. Дудека,
А. Лоуха, Э. Хекселыынейдера, В. Шмидта (ГДР), А. Маккон-
нэлла, Д. Гриффите, Т. Пэйдж, М. Раева (США), В. Гердта,
Л. Мюллера (ФРГ), Ф. Коплстона, И. Берлина, Е. Ламперта
(Англия), К. Ширакуры (Япония).
Определенное влияние на изучение идейного наследия
Радищева оказала дискуссия, проходившая на страницах журнала
«Вопросы философии» в 50-х годах. В результате этой дискуссии
уточнены некоторые вопросы принципиального характера. Было
показано, что многие буржуазные исследователи русской
философии продолжают искажать историческую правду, представляя
Радищева всего лишь компилятором идей Ф. Бэкона, Лейбница,
Хр. Вольфа, Гельвеция, Вольтера, Мендельсона, Руссо, Блекстона,
Бокля, Гердера [см., напр. 311].
До сих пор популярна на Западе веховская оценка истории
русской философии, согласно которой до Чаадаева в России «не
было еще никакой философской культуры» [69, 22]. Имя
Радищева, таким образом, полностью исключается из списка
философов XVIII в. Отрицательное отношение к его наследию со стороны
представителей религиозных течений зарубежной философии
связано с материалистической сущностью и атеистической
направленностью воззрений русского просветителя. В монографиях и
брошюрах, эссе и статьях буржуазных комментаторов русской
философии извращается духовный облик Радищева, сознательно
6
игнорируются результаты усилий советских исследователей [см.
278, 53—61].
Острая идеологическая борьба вокруг идейного наследия
Радищева побуждает к более глубокой разработке философских
воззрений русского мыслителя, тем более что этого же требуют
от нас накопившиеся трудности, слабоизученные и нерешенные
вопросы, характер которых связан прежде всего с проблематикой
трактата «О человеке, о его смертности и бессмертии».
Обращает на себя внимание также мелкотемье, отсутствие
научной координации изучения творческого наследия Радищева.
Издание Институтом русской литературы (Пушкинский дом) в
1977 г. двенадцатого сборника «XVIII век» — «А. Н. Радищев
и литература его времени», объединившего многих известных
ученых, вселяло надежды на возможность образования центра
«разработки проблем текстологии и творческой истории основных
произведений Радищева» [112, 12, 3]. Но этого не случилось.
Названный Институт, несмотря на большую работу по изучению
истории отечественной литературы, не смог объединить усилия
желающих принять участие в освещении «проблемы Радищева».
Не взяли на себя такую роль и наши союзные журналы по
литературе, философии, психологии, истории, правоведению. Не
только философы, но и историки, психологи, экономисты, правоведы
продолжают действовать в одиночку. Публикуемые в нашей
печати статьи и очерки, относящиеся к анализу содержания
«Путешествия из Петербурга в Москву», как правило, исключают
изложение и оценку философских идей этого произведения
литературной классики XVIII в. «Не везет» поныне и трактату «О
человеке, о его смертности и бессмертии». Даже в первом томе
недавно'изданной «Истории русской литературы», вышедшем под
редакцией Д. С. Лихачева и Г. П. Макогоненко, в содержательной
главе «Радищев», написанной Н. Д. Кочетковой, главный
философский трактат Радищева только упоминается. Автор корректно
отсылает читателя к работам И. К. Луппола, Ю. М. Лотмана и
Л. Н. Лузяниной, ограничиваясь двумя-тремя фразами общего
значения [223, 1, 22].
Однако вся соль вопроса о разработке философской
проблематики наследия Радищева, разумеется, не в том, что ею мало
занимаются филологи или юристы, историки или экономисты.
Дело в том, что изучением философских воззрений Радищева
мало занимались прежде всего философы. За годы советской
власти едва ли десяток ученых — историков философии, да и
то в разовом порядке, выступили с работами, посвященными
анализу трактата «О человеке, о его смертности и бессмертии».
Имеющиеся в этих работах интересные выводы и меткие
характеристики философских взглядов русского мыслителя не получили
должного развития. Философская система Радищева в них не
нашла исторически достоверного и адекватного выражения.
Характеристики философии Радищева противоречивы.
Неоднозначно трактуются вопросы об исходных философских позициях
7
мыслителя, принципах построения трактата «О человеке, о его
смертности и бессмертии». У каждого историка философии свой
особый взгляд на главное философское сочинение Радищева.
Разноречивы высказанные в печати суждения об онтологии,
гносеологии, социальной философии, этике, эстетике, правовых и
экономических воззрениях русского мыслителя. В юбилейных
сборниках, посвященных творчеству Радищева, эти разделы
миропонимания мыслителя оказались вне поля зрения авторов. Не
обсуждались спорные вопросы философского наследия Радищева
и на конференции Института философии АН СССР, посвященной
историко-философским проблемам (1967). В специальном докладе
пленарного заседания «Проблемы марксистско-ленинского
исследования истории философии народов СССР» имя Радищева не
упоминалось [см. 116, 3—32].
Принципиальные вопросы, связанные с оценкой философии
Радищева, не получили убедительных ответов и в литературе
70-х годов. Содержательный сборник «А. Н. Радищев и литература
его времени» в полном объеме отразил сильные и слабые стороны
исследований творчества мыслителя России. Авторы статьи «От
редакции», ссылаясь на публикации прежних лет, писали:
«Радищевым стали заниматься не только литературоведы, но и
историки, философы, экономисты, юристы. Совместными усилиями
всех этих специалистов, часто противоречивших друг другу в
своих исходных положениях и в особенности в конечных выводах,
«проблема Радищева» была во многом прояснена. Главное
значение вклада Радищева в русскую литературу заключается в
последовательном демократизме и революционных выводах его
философии. Однако характер этой революционности —
демократическая она или дворянская — продолжает оставаться предметом
спора, так же как и вопрос об отношении его к просветительству
и к литературным направлениям эпохи» [112, 12, 3—4].
Не будем взыскательны к стилю и смыслу процитированных
суждений, находившихся под влиянием дискуссий 60-х годов.
В этих дискуссиях за видимым несходством позиций в сущности
скрывался узкий круг стереотипных понятий. Спор шел не о
содержании наследия русского философа, а всего лишь о
корректной, «согласованной» форме дефиниций. Тень этих недочетов пала
на установочные принципы двенадцатого сборника «XVIII век».
Но более показательной оказалась выпущенная в 1970 г. книга
А. А. Марка «О проблеме человека в истории философии». Автор
этой книги не счел возможным привести и прокомментировать
учение Радищева о человеке — оригинальную доктрину
российского Просвещения. Оплошность харьковского ученого в сборнике
«XVIII век» (1977) исправила Л. Лузянина, опубликовавшая
статью «Литературно-философская проблематика трактата
Радищева ,,0 человеке, о его смертности и бессмертии"» Гсм. там же,
52—66].
По всей видимости, сказывалась экстенсивная форма
разработки наследия мыслителей XVIII в. Книг и статей, посвященных
8
идейной программе Радищева, выходило немало, а наши понятия
о подлинных достоинствах трактата «О человеке...» оставались
на уровне старых штампов. В результате представление об общем
характере европейского Просвещения XVIII в. формировалось
помимо и независимо от анализа основных черт философии
Радищева, особенностей просветительской мысли стран Восточной
Европы. Остается актуальной задача представить учение
Радищева не в качестве «периферии» европейской мысли, а в
соответствии с его реальным содержанием — одного из важнейших
элементов духовной культуры эпохи.
В свете сказанного актуальной задачей
историко-философского анализа наследия Радищева является определение не только
сущности «последовательного демократизма» и «революционных
выводов» философии русского мыслителя, но и ее главного
теоретического элемента, цементирующего начала. Поскольку
творчество Радищева «было итогом накопления сил демократической
мысли XVIII столетия» [112, 2, 15], являлось формой освоения
и осмысления «нового исторического опыта» [там же, 12, 6],
постольку следует видеть, как и какими идеями влиял на людей
XIX в., продолжает влиять на наших современников «высокий
строй радищевских мыслей и чувств ... радищевских традиций»
[223, 1, 725].
Разумеется, приобщение к проблематике, относящейся к
философским взглядам Радищева, содержит свои трудности. Опыт
предшественников автора настоящих строк показал, что
обращение к историко-философскому анализу трактата «О человеке...» —
сверхсложная задача. Радищев являлся мыслителем высочайшей
эрудиции. Оригинальность, глубину и противоречивость его
мышления определяли общественные отношения второй половины
XVIII в., специфические черты европейского и российского
Просвещения. Идейную атмосферу этой эпохи формировали сын
адвоката Вольтер, первый русский «академик из народа»
Ломоносов, аббат Монтескье, разночинец Эмин, барон Гольбах, епископ
Конисский, сын ремесленника Дидро, книгоиздатель Новиков,,
бывший крепостной Плавильщиков, сын крупного землевладельца
Джефферсон, потомственный дворянин Княжнин, драматург и
литературный критик Лессинг, разночинец Рид, странствующий
философ Сковорода. Нельзя сказать, что на судьбу европейского
Просвещения не влияли монархические режимы Франции, Англии,.
России, Пруссии, Швеции, Австрии, Италии. Важно видеть
сложную картину развития просветительской мысли в целом,,
идейной программы Радищева в частности.
Во время работы над книгой автор учитывал предложения и
рекомендации участников обсуждения серии его статей под
общим названием «О специфике философских воззрений А. Н.
Радищева», опубликованной в журнале «Философские науки» (1978—
1979). Главным было стремление быть ближе к источникам,
полнее использовать новую методологическую литературу для
выявления сути ранее затемненных аспектов наследия автора трак-
&
тата «О человеке...». Одним из таких аспектов, центральным,
являлся анализ антропологической природы философии Радищева.
Философская антропология2 составляет основание, на котором
строится все здание мировоззрения русского философа. Она
является тем внутренним импульсом, который определяет текучесть,
многозначность и жизненность радищевской мысли.
В центре анализа настоящей работы учение Радищева о
человеке. Раскрывается содержание главного философского
произведения русского мыслителя — трактата «О человеке, о его
смертности и бессмертии». Показывается многоплановость и
противоречивость творческой эволюции Радищева, ее связь с развитием
естествознания и философии, социальной действительности и
политической борьбы людей второй половины XVIII столетия. Это
оказалось важным потому, что создателю оды «Вольность»
суждено было перешагнуть через рубеж нового века и в своих
работах последних лет жизни дать оценку прошлому и настоящему,
обозначить возможности будущего.
Своим анализом основ миропонимания Радищева автор имел
намерение к проблемам изучения идейного наследия нашего
соотечественника привлечь внимание прежде всего философов.
Стремление искать йовые подходы к решению
историко-философских задач руководило его сознанием, стимулируя работу над
печатными и архивными источниками, комментаторской
литературой. Убеждение в необходимости и важности предпринятого
исследования становится исходным моментом обращения к
читателю, выражением надежды на его доброжелательный, в полную
меру критический отзыв. И читателю и автору поддержкой может
быть реальная польза, приносимая разработкой и пропагандой
истории мировой и отечественной духовной культуры.
2 Понятие «философская антропология» предусматривает комплексное
рассмотрение философских проблем в связи с человеком, на основе запросов, нужд
и стремлений людей, с учетом своеобразия их индивидуальной, родовой и даже
общественной жизни. Единство физического и духовного в человеке признается
при этом главной формой реализации человеческой сущности, активности
«духовного начала» субъекта, проявления закона «тождества мышления и бытия»,
хотя его толкование предполагает возможное разнообразие, т. е. может быть в
пользу материализма, идеализма, дуализма или плюрализма.
Глава I
У РУБЕЖА ДВУХ ЭПОХ:
«ОН ПЕРВЫЙ ВОЛЬНОСТЬ ПРОРИЦАЛ»
Быть может, самой характерной чертой духовного облика
А. Н. Радищева являлась устремленность в будущее,
приподнятость над уровнем эпохи, над стилем ее жизни. Это утверждение
лишено преувеличений: интеллектуальный капитал подлинного
таланта содержит комплекс идей, выходящих за пределы эпохи
первоначальных исканий. Неосвоенные духовные ценности
становятся достоянием потомков. Проходят годы, десятилетия, века —
время, не подвластное людям, выступает суровым критиком,
способным не только сохранять, но и все явственней проявлять
правду прошлого на новых границах будущего.
«Сквозь целое столетие» Радищев обращался к потомкам с
гуманистическими призывами. Его идейно-политические взгляды
находили философское и этическое обоснование. Они сыграли
большую роль в истории освободительного движения нашей
страны. С учетом задач революционной перестройки, дальнейшего
совершенствования социализма, повышения роли человеческого
фактора в современных нам условиях весьма актуально
обращение к идейному наследию выдающегося русского просветителя.
Не потеряли значения многие идеи Радищева о человеке, его
духовных, нравственных качествах, о путях этического и
эстетического воспитания, гуманистические идеи, критика социального
неравенства, уродливых форм общежития людей, угнетения
человека человеком. И если эти идеи русского просветителя имеют
силу сегодня, то какую же силу они имели в свое время? Какими
путями шел Радищев, выдвигая задачи, важные для
современников и потомков? В чем специфика социального,
психологического и культурного климата эпохи, в которую жил и творил
гениальный мыслитель XVIII века? Какова причастность
Радищева к выдающимся событиям века Просвещения?
Обращаясь к характеристике выдающихся деятелей
российского общественного движения, К. Маркс отмечал, что великие
умы «всегда связаны невидимыми нитями с телом народа» [1, 33,
147]. Страницы биографии Радищева, раскрывая эту связь, дают
возможность понять, как и под воздействием каких социальных
и интеллектуальных движений своего времени формировался и
творил один из ярчайших представителей века Разума.
Легко впасть в непоправимую ошибку, следуя предвзятым
суждениям Е. Боброва, П. Щебальского и их зарубежных
последователей, будто Радищев «был лейбницеанцем», являлся оторван-
п
ным от жизни «фантазером-одиночкой», подражал «не для нас
созданным идеям», не мог понять, в чем состоят «собственные
предначертания России», страдал тяжелой болезнью
оторванности от «насущных интересов народа» [см. 79, III, 224]. Нельзя
верить версиям о «либеральных наклонностях» и «масонском
мистицизме» Радищева, а тем более соглашаться с утверждениями,
будто русский мыслитель к концу жизни пришел к
богоискательству, стал «раскаявшимся защитником самодержавия» [см. 397,
18].
В действительности Радищев был выдающимся просветителем,
воинствующим противником царской власти, убежденным
революционером. Он играл большую роль в общественной жизни,
постоянно обращаясь к злободневным вопросам, выражая дух
страждущих людей, порабощенных и униженных
крепостничеством. Антифеодальная направленность его ориентации вступала в
конфликт с политикой и идеологией правящих кругов. Он
поддерживал и укреплял ростки новых убеждений, противопоставляя
их мировоззрению дворян-крепостников.
То, каким образом Радищев, потомственный дворянин, стал
революционером, выразителем интересов борющегося,
бунтующего крестьянства, требует особого объяснения и может быть
понято только в результате ознакомления с его жизнью и
деятельностью, творческим наследием. Сложны были пути идейного роста
лучших людей из дворян. Эти пути переплетались с
общественными движениями эпохи, испытывали их влияние, как и
воздействие сил, которые противостояли этим движениям.
Основные этапы жизни и деятельности А. Н. Радищева
связаны с уяснением становления убеждений русского мыслителя,
влияния на него своеобразия общественно-политического развития
России второй половины XVIII в.
Александр Радищев родился 31 августа (н. ст.) 1749 г. в сред-
непоместной дворянской семье. Отец Николай Афанасьевич, а
также мать Фёкла Саввична (урожденная Аргамакова) были
владельцами небольших поместий. В их семье, большой даже по
тем временам (семеро сыновей и четверо дочерей), Александр
был первенцем. Родители с большим вниманием относились к его
обучению, они воспитывали в нем уважительное отношение к
крепостным людям, постоянное общение с которыми вводило
мальчика в богатый мир народного творчества, содействовало
формированию демократических убеждений [см. 433]. Сначала няня
Прасковья Клементьевна, затем крепостной «дядька» Петр
Мамонтов по прозвищу Сума, а также «беглый француз» обучали
его грамоте, арифметике, истории, литературе и французскому
языку. Главными учебниками были Псалтырь и Часослов. Но
воспитатели пользовались и «книгой жизни». Руссоистские
убеждения родителей побуждали их обучать детей «на природе»:
детство Радищева прошло на берегу Волги в имении матери, в селе
Верхнее Аблязово Саратовской губернии.
Г;
Когда Александру исполнилось семь лет (1756), его отправили
в Москву, к родственнику по линии матери М. Ф. Аргамакову —
известному сановнику, попечителю Московского университета.
Для обучения и воспитания своих детей и племянника дядя
привлекал видных московских педагогов, в том числе
университетских преподавателей. Возможно, кроме домашних занятий
Радищев посещал гимназию при университете, где мог встречаться с
•будущими деятелями российского Просвещения Я. Козельским,
С. Десницким, Н. Новиковым, И. Третьяковым, Д. Фонвизиным —
первыми университетскими гимназистами.
Гимназиям (дворянской и разночинной) при первом российском
университете уделялось большое внимание. Как и о созданном
в 1755 г. университете в Москве, о них продолжали заботиться
М. Ломоносов и И. Шувалов. Приглашение сюда большой группы
воспитанников функционировавшего в 40-х годах Петербургского
.академического университета, в частности А. Барсова и Н.
Поповского — лучших из учеников М. Ломоносова, было сделано
по инициативе «первого русского академика» [см. 67, 177—208].
При жизни — энергичным участием в непосредственном решении
важнейших научных проблем, а после смерти — силой примера,
духовным воздействием на новое поколение российской
интеллигенции, благодаря деятельности последователей М. Ломоносов
влиял на развитие университетского образования и науки в
России. Во времена юности Радищева, в 70-х годах, впервые вышло
в свет его собрание сочинений, подготовленное к изданию
учениками [см. 305]. Для будущего российского писателя и философа
уже в годы приобщения к складывающейся университетской
традиции М. Ломоносов был одним из его главных «идейных
вождей» 1.
Идейная и культурная атмосфера столицы, особенно
университетская среда оказали большое влияние на Александра
Радищева. Друзья его юности в большой мере связывали свои
жизненные планы с развитием просвещения, университетского
образования. В университетских аудиториях высок был авторитет
естественных наук, господствовало уважительное отношение не
только к натурфилософским традициям, но и к философскому
рационализму, атомистике и опытным приемам «изыскания
истины». Характер преподавания, отсутствие в стенах университета
богословского факультета побуждало к размышлениям,
стимулировало развитие сознания молодежи в духе свободомыслия,
деистических и даже атеистических понятий, порождало
нигилистические настроения относительно церковных обрядов и требований
православного клира. М. Ломоносов и его ученики следовали
требованию времени — ориентироваться на науку, а не на
«предания старины глубокой», суеверия и косные предрассудки,
подавая пример противостояния православной церкви и святейшему
Синоду [см. 97, 265—293].
О влиянии идеи М. Ломоносов.', и; '\ Рлппиии. |< м 67 Л24]
гл
Помимо высокого авторитета М. Ломоносова и его школы, в
общественном мнении Москвы и в университетской среде 50—
60-х годов большим уважением пользовалось наследие деятелей
ученой дружины Петра I, труды Ф. Прокоповича, Д. Кантемира,
И. Посошкова, этнографические, исторические и экономические
сочинения В. Татищева. Продолжала готовить кадры Славяно-
греко-латинская академия, чьи «светские классы» связаны были
с удовлетворением запросов просвещения, торговли,
градостроительства, культуры страны [см. 465, 230—232, 234—244, 379—388].
В общественной мысли укреплялась материалистическая
традиция. Этому содействовали развитие естествознания и философии,
секуляризация духовной жизни, заметный рост промышленнога
производства.
Социальная жизнь купеческой Москвы, как и всей России,
полна была противоречий. Патриархальные и типично
крепостнические «формы быта» чередовались с проникавшими в жизнь
буржуазными отношениями. Глубоко противоречивая социальная
структура русского общества XVIII в., испытавшая влияние
петровских реформ, несла в себе зачатки нового, которые способны
были опережать половинчатые и незрелые решения верховной
власти. Именно поэтому положительные действия царского
правительства оставались чаще всего «выше собственной
образованности», а добро, как писал А. С. Пушкин в своих исторических
замечаниях, «производилось ненарочно, между тем как азиатское
невежество обитало при дворе» [428, XI, 14].
Властвовавшие при жизни Радищева царские особы —
Елизавета Петровна, Петр III, Екатерина II, Павел I, Александр I —
декларировали свое стремление продолжать политику Петра I,.
политику «твердой решимости» отстаивать «домашние и
международные интересы России», расширять границы страны как за
счет освобождения земель, прежде захваченных северными,
западными, южными и восточными соседями, так и за счет тех:
краев, которые экономически и этнически близки были
«российскому быту и нравам». Начатая Петром I «новая политика»
означала переход к системе власти, которая получит название
«просвещенного абсолютизма». Не только чисто хронологически, но и
практически жизнь и деятельность Радищева тесно переплетались,
с внутренней политикой российского «просвещенного
императорства» второй половины XVIII века, хотя по своей сути они были
его идейно-политическим антиподом.
Немецкая принцесса Софья Фредерика Августа, с помощьк>
гвардейских офицеров взошедшая на русский престол в 1762 г.,
была коронована в Москве и провозглашена Екатериной II. Став
«императрицей всея Руси», она начала широко оповещать мир о
своей приверженности к просвещенным формам правления.
Отсюда ее пропаганда политики «всеобщего блага», «гармонии
сословных интересов», «поощрения предпринимательства»,
образования «новых общественных установлений». Такого же рода
стандартами были ее декларации о свободе слова, печати. Она
14
подписывала жалованные грамоты городам и отдельным лицам,
провозглашала поощрительные меры академиям наук и художеств,
вещала о своем содействии развитию литературных и
культурно-просветительных ассоциаций. Преследуя при этом частные и
общие дворянские интересы, русская императрица с первых
недель пребывания на престоле стремилась «угождать новым вея-
ниям просвещенного века». Даже обновление состава Пажеского
корпуса связывала она с задачами повышения уровня знаний и
улучшения воспитания «наследуемой молодежи из дворян».
Вовлеченный в водоворот событий, Александр Радищев летом
1762 г. оказался в Петербурге в составе Пажеского корпуса.
Помимо занятий, связанных с подготовкой к ритуально-престижным
церемониям императорского двора, он изучал французский и
немецкий языки, математику, механику, философию и этику [см.
341, № 3, 9—11]. Четырехлетнее пребывание Радищева в
Петербурге позволило юноше не только пополнить свои познания, но
и отчетливей представить себе особенности правящего курса
Екатерины II, понять различные устремления противоборствующих
сил в стране. К этому времени относится знакомство Радищева
с семейством графа Р. И. Воронцова, члены которого оказывали
большое влияние на интеллектуальную атмосферу в России.
Круг общения молодого Радищева расширялся и благодаря его
участию в дворцовых приемах (пажи по роду своих обязанностей
должны были общаться с учеными, писателями, журналистами,
поэтами).
В связи с проведением ряда социально-экономических реформ,
реорганизацией Сената и Синода, органов суда, Прокуратуры,
таможенной службы в первые годы царствования Екатерины II
в различные страны Европы посылались на учебу небольшие
группы дворянской молодежи. Одна из таких групп, в состав
которой был включен Радищев, в 1766 г. была направлена в Лейп-
цигский университет для изучения правовых наук по программе,
составленной самой императрицей.
Университет в Лейпциге в 60—70-е годы XVIII в. был одним
из европейских центров изучения гуманитарных и естественных
наук. Царившая здесь обстановка содействовала приобщению к
просветительским идеям времени. Некоторым из студентов Лейп-
цигского университета той поры суждено было впоследствии стать
гордостью "немецкой науки и культуры. Одним из них был
И. В. Гёте.
Во время учебы в Саксонии Радищев проявлял
самостоятельность и весьма критическое отношение к различным явлениям
студенческой жизни. Юноша уточнял свои представления и
убеждения о характере общественных перемен в Европе и России, об
истинно новых теориях в области философии, права, морали, о
подлинном значении политики властвующих «просвещенных особ».
Глубокие следы в его сознании оставлены были бунтом немецких
студентов, к которому присоединилась также группа русских
студентов. Активное участие в этих событиях принял и Радищев.
15
На протяжении длительного времени молодые люди протестовали
против «зверского обращения», «плохого содержания» и
«насильственных мер» обучения и воспитания, осуществлявшихся на
основе специальной инструкции «великодержавной императрицы»
Екатерины II. Они требовали уважения к «человеческому
достоинству» и «личной чести» со стороны «бесчеловечного господина
майора» — «приставника» и «солдафона» — гофмейстера Бокума
[см. 341; 482].
Русские студенты были арестованы и длительное время
находились под охраной. Архивные материалы подтверждают, что
против бунтовавших объединяли свои усилия не только
гражданские и военные власти Лейпцига, но и «первоприсутствующий
в Коллегии иностранных дел» граф Н. И. Панин. Сама
Екатерина II, оставаясь постоянно в курсе «лейпцигских конфузий»,
лично руководила репрессивными мерами против их виновников.
Бунту молодых дворян придавали серьезное значение и в
Саксонии и в России [см. 14; 482; 489 и др.]. Для Радищева
события в Лейпциге служили уроком гражданского мужества и
идейной закалки.
Судя по свидетельствам современников и автобиографическому
труду «Житие Федора Васильевича Ушакова», во время учебы в
Лейпциге Радищев интенсивно изучал западноевропейскую и
российскую просветительскую литературу. Он проявлял глубокий
интерес к произведениям Гельвеция, Даламбера, Мабли,
Гольбаха, Руссо, Рейналя, Дидро. Как и многим молодым людям,
обучавшимся в Лейпциге, ему импонировали демократические и
гуманистические идеи французских просветителей [см. 563; 581].
Изучение их трудов возбуждало молодежный энтузиазм,
сопровождалось спорами2.
Во время учебы в Лейпцигском университете Радищев
познакомился с трудами Баумгартена, Лейбница, Хр. Вольфа, Лессин-
га, Гердера, а возможно, и с первыми работами Канта. Не
подлежит сомнению, что университетские курсы, дух жизни
лейпцигских студентов оказывали воздействие на миропонимание и
политическую ориентацию Радищева. Он и его друзья с большим
вниманием слушали молодого профессора Е. П. Платнера,
читавшего философию и эстетику, лекции поэта К. Ф. Геллерта па
теоретической морали, курсы К. Ф. Гоммеля, А. Ф. Шотта и др.
Само собой разумеется, что если действительно Радищев мог
встречаться и встречался с И. В. Гёте, как полагают некоторые
советские и немецкие слависты и историки философии [см. 482;
563; 581; 585 и др.], то столь же правомерно допустить их
влияние друг на друга.
2 Русские студенты горячо приветствовали в Саксонии одного из друзей:
Гельвеция, «странствующего философа» Гримма. Более шестидесяти лет спустя
А. С. Пушкин писал: «Гримм, странствующий агент французской философии, в
Лейпциге застал русских студентов за книгою о Разуме и привез Гельвецию
известие, лестное для его тщеславия и радостное для всей братии» [см. 428, 7,
354].
16
В годы пребывания в Саксонии Радищев читал произведения
А. Сумарокова и М. Хераскова, Н. Новикова и Д. Фонвизина,
И. Богдановича и Б. Ледкина, М. Чулкова и Ф. Эмина [см. 112,
3, 527—537]. Большое значение для идейного становления
Радищева имели его встречи с преподавателями университета —
сторонниками «антропологического подхода» в философии, с теми,
кто был лично знаком или переписывался с Гердером,
Гельвецием, Даламбером, Бентамом, Руссо, Вольтером, Дидро, Кантом.
Александр Радищев пользовался большим авторитетом среди
русских студентов. Сам же он особое уважение испытывал к Ф.
Ушакову [см. 7, 1, 185], А. Кутузову, А. Рубановскому, П. Челищеву,
С. Янову — людям незаурядных способностей и дарований.
В центре внимания передовых людей России находились
проблемы человека, личности, споры о гражданских и республиканских
идеалах. Намечавшийся еще в эпоху Возрождения крен в
сторону гуманизма, к антропологическим принципам в философии,
этике, правовых взглядах становится все более осознанным
предметом занятий, формой теоретической ориентации. Постепенно
он превратился в самую передовую тенденцию развития
буржуазной духовной культуры последней трети XVIII в.
Внимание саксонской общественности привлекали российские
новости. Многие в Лейпциге следили за развитием общественно-
политической жизни, просвещения и культуры в России. В 60-х
годах большинство периодических изданий имели рубрики «Русские
новости», «Вести из России», «Русская жизнь». В лейпцигских
журналах печатались сведения о творческой деятельности Тредиа-
ковского, Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Попова, Елагина,
Лукина, Ельчанинова, Буркова, Фонвизина, Богдановича,
Волкова. Авторами некоторых статей были профессора лейпцигского
университета (Геллерт, Шотт, Швабе), у которых занимался
Радищев. Временами такого рода обзоры делали сами русские
писатели. Так, А. А. Волков в 1768 г. опубликовал в Лейпциге
«Известие о некоторых русских писателях» — содержательный
обзор русских литературных новостей [см. 112, 11, 154].
Идеи западноевропейского Просвещения воспринимались
Радищевым под углом зрения «задач России». Признание
воздействия духовной культуры Европы на Радищева не снимает
поэтому вопрос об определяющем влиянии на его идейное
становление действительности России, русской науки и философии.
Во-первых, его восприятие идей европейских просветителей было
подготовлено в предшествующий период — образованием,
обучением и воспитанием в Верхнем Аблязове, Москве и Петербурге;
во-вторых, в Лейпциге он продолжал оставаться в курсе
главных событий идейной и политической жизни своей страны;
в-третьих, процесс формирования основ мировоззрения у него, на наш
взгляд, длился до 80-х годов, т. е. захватывал значительный
период его жизни и деятельности после возвращения на родину.
Мелкий чиновник (титулярный советник) Сената, по сути
составитель прошений и переписчик служебных бумаг (с осени
17
1771 г.), а затем обер-аудитор (военный прокурор) штаба
главнокомандующего Петербургского военного округа генерала Я. А.
Брюса (с конца 1773 г.), Радищев осваивал новые условия жизни и
деятельности в столице. Он много читал, общался с членами
различных просветительных, научных и литературных обществ и
объединений [см. 45, 132—134]. В первые годы пребывания
Радищева в .родной стране им была издана книга аббата Г. Б. Маб-
ли «Размышления о греческой истории или о причинах
благоденствия и несчастия греков». Свой перевод автор сопроводил
примечаниями, содержавшими острую критику самодержавия как
формы политической власти.
Отставка Радищева в 1775 г. в чине секунд-майора была
обусловлена не только личными обстоятельствами. Совпадение
отставки с окончательным подавлением крестьянского восстания
под предводительством Е. И. Пугачева не случайно, как не
случайны поездки в Верхнее Аблязово, в зону действия пугачевских
войск, проявление в эту пору интереса к русской истории, к
народным общественным движениям [см. 424, 433, 450].
В 1777 г. не без протекции графа А. Р. Воронцова Радищев
занимает сначала должность асессора коммерц-коллегии, а с
1780 г. — помощника управляющего петербургской таможни.
Проявляя большой интерес к служебным делам, позволявшим
накапливать много фактов и материалов, всесторонне
характеризующих крепостническую действительность России, внутреннюю
и внешнюю политику императорского двора, он активно
включается в общественную жизнь страны, создает ряд произведений.
Кроме утраченных впоследствии работ 70-х годов [см. 45, 42—
44] сюда следует отнести ораторию «Сотворение мира» (1779—
1782), «Слово о Ломоносове» (1780—1788), оду «Вольность»
(1782—1783), отдельные разделы будущих глав
«Путешествия...» — «Медное», «Торжок», «Чудово» (1785—1788). Поездка
Екатерины II в 1787 г. на юг России, возможно, послужила
толчком к ускорению работы по созданию «Путешествия из
Петербурга в Москву». Законченная в 1788 г. книга была сдана в
цензуру в начале 1789 г. Между 1780 и 1790 гг. Радищевым созданы
и выпущены в свет «Письмо к другу, жительствующему в
Тобольске по долгу звания своего» (1782), «Житие Федора Васильевича
Ушакова» (1788), «Беседа о том, что есть сын Отечества» (1789).
Создание «Путешествия из Петербурга в Москву»,
включавшее целый комплекс жгучих философских, правовых,
экономических, политических, этических проблем современности,
потребовало концентрации творческих сил Радищева. В своей книге
он старался ответить на вопросы о том, что представляло собой
крепостное состояние крестьян России, в чем его пороки, пороки
морали крепостников и политики российского «просвещенного»
абсолютизма. Автор стремился отразить крестьянский протест
против экономического и политического гнета, освободительную
борьбу американского народа за независимость, учитывая
начальный этап Великой французской революции 1789—1794 гг.
18
Вышедшее в мае 1790 г. «Путешествие...» возбудило
восхищение одних и злобу, негодование, месть со стороны «официально
мыслящих», «великих вотчинников» — истинных хозяев в стране.
Проводившая в жизнь их политику русская императрица
распорядилась заключить «дерзостного писателя» в одиночный каземат
Петропавловской крепости. Характеристика, данная Екатериной II
Радищеву («бунтовщик хуже Пугачева»), являлась достаточно
четкой «установкой» для следствия и окончательного приговора.
Судьба автора «Путешествия...» была предопределена также тем,
что вести следствие по его «делу» было поручено начальнику
тайной экспедиции — «кнутобойцу» Шешковскому, который
прославился жестокостью «допросов» Е. И. Пугачева. Уголовная
палата и Сенат 24 июля 1790 г. вынесли решение: за
«возбуждение вражды между сословиями» наказать Радищева «смертью,
а именно, по силе воинского устава 20-го артикула, отсечь
голову» [7, 1, 47]. Фарисейски «милостивая» императрица указом от
4 сентября 1790 г. смертную казнь заменила десятилетней
ссылкой в Сибирь.
Материалы следственного дела [см. там же, 151—290] и
особенно незавершенные записи Радищева «Положив непреоборимую
преграду...» (1790) отражают глубокие раздумья философа в
условиях заключения, до и после жестоких допросов [7, 1, 397—
410]. В «документах», рожденных «напряжением воображения
томящегося в бесчувственных стенах Петропавловской крепости»,
для исследователя особенно важны философские идеи,
составлявшие своеобразный пролог будущего трактата «О человеке, о
его смертности и бессмертии». Проблемы «любомудрия» и
нравственности здесь в центре внимания. Поразительно сходство
многих выводов этого документа с выводами главного философского
сочинения Радищева.
Осенью 1790 г. Радищев как «опасный государственный
преступник» в сопровождении «крепчайшей стражи» через Новгород,
Тверь, Москву, Владимир и Тобольск был отправлен в крепость
Илимск. И уже в пути, чуть-чуть оправившись после допросов,
начертал знаменитые строки: «Ты хочешь знать: кто я? что я?
куда я еду?» [7, 1, 123], в которых подчеркнул роль
свободолюбивых порывов, высокое значение человека как свободной
личности.
Даже ссылкой в отдаленную глушь суровой Сибири власти
России не смогли «погасить пламень души» А. Радищева.
К ссыльному с пониманием отнеслось местное население. Автору
«Путешествия...» удалось установить связь с друзьями и
единомышленниками, многими сочувствующими его «судьбе» как из
европейской части России, так и из сибирских культурных
центров — Томска, Иркутска, Тобольска. В Илимск кроме писем
приходили книги, шедшие из Петербурга и Москвы. Большую
поддержку оказывали Аргамаковы, Воронцовы, Фонвизины, Руба-
новские и др.
В ссылке Радищевым продолжена напряженная творческая
работа. Здесь им был создан ряд произведений по философии,
экономике, истории, этнографии, которые придадут
первоначальным выводам, сформулированным в «Путешествии...»,
дополнительную аргументацию, вид широкой идейно-политической
платформы, уточнят и разовьют дальше многие положения,
сформулированные в 80-х годах. Было бы неправильным утверждать,
что пик творческой активности Радищева относится к 80-м годам,
поскольку и в 90-х годах под воздействием событий того времени
продолжают эволюционировать политические, философские,
экономические, историко-этнографические, этические взгляды и
убеждения русского мыслителя [см. 112, 12, 52—66].
Блестящей иллюстрацией вышеуказанному являлись
написанные в сибирском «уединении» трактат «О человеке, о его
смертности и бессмертии» (1790—1792), «Письмо о Китайском торге»
(1792), «Записки путешествия в Сибирь», «Описание Тобольского
наместничества, составленное А. Н. Радищевым», «Сокращенное
повествование о приобретении Сибири» (1790—1795) и другие
произведения. Радищев и в это время не изменяет своей
республиканской, демократической, революционной и антицаристской
программе. Его волнуют многие проблемы, относящиеся к
глубоким болезням страны, интересам российского населения, правам
человека.
Созданная в Сибири фундаментальная работа Радищева «О
человеке, о его смертности и бессмертии» содержала анализ и
глубокое осмысление действительности «екатерининской» России,
вопросов развития науки и философии, материальной и духовной
культуры людей второй половины XVIII в. Трактат раскрывал
картину напряженных теоретических исканий в области
актуальных для того времени философских проблем. Горячие творческие
порывы выдающегося русского просветителя не остывали и в
суровой Сибири: даже в тяжелые годы ссылки автор
«Путешествия...» продолжал напряженные и вместе с тем плодотворные
поиски новых решений актуальных задач современности.
Однако во многих отношениях, и в том числе творческом, еще
более плодотворными следует признать последние годы жизни
русского мыслителя и поэта. В 1797 г., в связи со смертью
Екатерины II, всеобщей амнистией и по настоятельному ходатайству
графа А. Р. Воронцова, автор «Путешествия...» и трактата «О
человеке...» возвратился из Сибири. Ему позволено было под
надзором полиции и «наблюдением за перепиской его» [7, 3, 652]
проживать в отцовском имении Немцово Калужской губернии.
Здесь в течение 1797—1801 гг. им были написаны философско-
поэтические произведения: «Песнь историческая», «Бова. Повесть
богатырская стихами», «Ода к другу моему», «Песни, петые на
состязаниях в честь древним славянским божествам»,
«Семнадцатое столетие», басня «Журавли». Все эти работы
свидетельствовали о широком диапазоне идейных интересов мыслителя
России, о его мучительных попытках найти теоретическое
выражение сверхсложных проблем своего времени.
?(■
На рубеже нового XIX века Радищев развивал философские,
естественнонаучные и идейно-политические основы своего
миросозерцания. Здесь следует указать на его усилия, направленные
на развитие концепций человека, общества, проблем соотношения
социальной среды и личности, общего и единичного. Им
выдвигался большой комплекс теоретико-познавательных вопросов,
тесно связанных с задачами науки и общественной практики. Идея
преемственности, поступательного движения в истории, отчетливо
сформулированная в «Песне исторической», в поэме
«Семнадцатое столетие» (1801), переросла в систему понятий об итогах
«века Просвещения», о дальнейших путях развития человечества.
Как бы желая передать эстафету идей своим преемникам,
Радищев высказывал уверенность в том, что людям XIX столетия
придется практически решать самую злободневную проблему
предшествующего века: проблему «вольности гражданской».
Непродолжительное время, начиная с 1801 г., Радищев — не
без влияния иллюзий графа А. Р. Воронцова — надеялся в лице
Александра I увидеть такого же просвещенного монарха, каким
был Петр I, возможно, способного к полезной реформаторской
деятельности [см. 7, 1, 127—129]. Иллюзии быстро рассеялись,
но они оказали влияние на сознание автора поэмы «Осмнадцатое
столетие». Отсюда его согласие на деятельность, которая
представлялась ему возможной и полезной в первые месяцы «утра
столетия», начала XIX в., начала царствования Александра I.
Крупные правовые разработки Радищева — «О
законоположении», «Проект гражданского уложения», «О ценах за людей
убиенных» — являли собой проекты достижения народного
правления, идеи крестьянской демократии.
Однако несбыточность вышеназванных проектов становилась
очевидной, как только возникал вопрос об их «продвижении на
стол законодателя». Ситуация, порождающаяся такими
обстоятельствами, сложно проявляла себя в действительных отношениях.
Даже со стороны председателя Императорской комиссии
составления законов графа П. В. Завадовского, сочувственно
относившегося к судьбе восстановленного в правах коллежского
советника Радищева, не раз звучали предостережения [см. там же,
3, 657]. Открытые противники — крепостники — продолжали
злобствовать, мстительно выискивая случай унизить его
человеческое достоинство.
Сам Радищев понимал подлинный смысл намеков, а тем
более проявлявшейся к нему омерзительной ненависти. Но, больной
и плохо устроенный в жизни, он тяжело переносил травлю,
глубокое разочарование и пессимизм проникали в его душу.
Подтверждение тому — «Дневник одной недели» [см. 7, 1, 137—144] 3.
Затравленный людьми, которые и прежде испытывали к демо-
3 В нашей литературе вопрос о времени написания «Дневника» остается
пока дискуссионным [см. 112, 12, 67—71]. Автор придерживается мнения, что
«Дневник одной недели» написан А. Н. Радищевым в 1801 — 1802 гг.
'А
крату и революционеру зоологическую неприязнь, Радищев в знак
протеста выпил смертельную дозу яда, оставив заветную записку:
«Потомки отомстят за меня!».
Обращаясь к политическим, философским и этическим
воззрениям Радищева, убеждаешься, что принятое им последнее
решение выражало высокую этическую норму автора «Путешествия...»,
норму, признающую самопожертвование необходимым актом
«жизнелюбивого отмщения», особой формой героического
утверждения достоинства и чести человека. Содержание идейных
построений Радищева должно раскрыть величие не только
гражданского, но и духовного подвига мыслителя-провидца, философа-
материалиста, проповедника-гуманиста.
Главные факторы формирования основ миропонимания
А. Н. Радищева — тема, обращение к которой вполне уместно
после изложения важнейших этапов жизни и деятельности
русского мыслителя. Рассмотрим прежде всего противоречия
реальных процессов социально-политического развития России 70—
80-х годов и то, какое влияние они могли производить на
сознание современников. Выражением этих противоречий являлось
существование буржуазных форм производства и товарно-денежных
отношений, с одной стороны, и феодальных устоев экономической
и социальной жизни, предполагавших крепостную зависимость
крестьян от помещиков, полурабский труд основных
производителей, — с другой.
Указанные нами противоречия проявлялись в тех или иных
событиях, выходивших за пределы «обычного» хода вещей.
Необычным было уже само возвышение России в XVIII в.
Петербург становился символом этого сдвига, «Северной Пальмирой»>
столицей «великого северного государства». В характеристиках
России прессой Парижа и Лондона, Берлина и Вены: «великая
держава», «детище Петра Первого», «новоявленный исполин» —
признавалось ее новое, почетное место среди ведущих мировых:
держав. Факт возвышения международного престижа России в
сознании представителей различных слоев российского общества
находил часто диаметрально противоположные, глубоко
противоречивые выражения.
Особенностью так называемой «эпохи Екатерины II», если не
всего XVIII в. российской истории, являлось совмещение в
едином процессе периода наивысшего расцвета
феодально-крепостнической системы и начала разложения крепостного строя,
формирования в его недрах капиталистических отношений. Эта
характеристика важного отрезка нашей истории уже высказывалась
советскими учеными [см. 230, 2, 7, 9—10, 379]. Но она не
получила должного развития и обоснования с опорой на исторические
факты. Между тем заложенные в ней принципы диалектики
позволяют видеть противоречивые стороны крупных (значительных)
и малых (незначительных) событии, побуждают искать и
находить причины движения «колеса истории», понимать «общность»-
22
качественно различных, на первый взгляд несовместимых
событий «единого» потока, или «цельной картины», исторического
развития. Получает достаточно четкое выражение необходимость тех
«оснований», на которых держатся старые формы, неизбежность
продолжительного сохранения относительной стабильности,
устойчивости противоположностей, различия «элементов» и «сил»
самодвижущейся действительности. Левацкая концепция
быстротечного «загнивания» или еще более быстрого, мгновенного
«краха», «крушения» не нашла подтверждения фактами истории, т. е.
не нашла научного обоснования. Имея в виду такого рода экс-
цессивное толкование диалектики, В. И. Ленин часто подчеркивал
различия марксистского и анархистского, диалектико-материали-
стического и метафизического, научного и примитивно-махаевско-
го понимания эволюционных и революционных, медленных и
быстрых изменений исторической действительности [см. 2, 43,
378]. Здесь же хотелось бы заметить, что большое
методологическое значение в аспекте интересующих нас проблем имеют
ленинские теоретические установки, данные в работе «Детская
болезнь «левизны» в коммунизме» [см. 2, 41, 53—56].
Конкретно-исторический анализ делает лишенным научного
смысла сравнение социальных процессов России XVIII в. с
явлениями «зеленой революции» или «нефтяного бума», имевших
место в некоторых ранее отсталых странах Африки или Латинской
Америки в наше время. Учитывая требования материалистической
диалектики, можно предположить, что специфика развития
российской действительности XVIII в. была связана с проявлением
особенностей так называемого «азиатского» способа
производства [см. 1, 13, 7; 171, 6—45, 72—125].
Однако незавершенность дискуссии 20—30-х годов по
проблеме «азиатского» способа производства, малая продуктивность,
незначительная методологическая роль ее изначальных
результатов в анализе специфики России времен Петра I и Екатерины II
побуждают идти вперед, опираясь на реальные факты истории.
Прежде всего важно указать, что особенность российской
истории XVIII в. состояла в диалектическом сосуществовании,
«переплетении» буржуазных и феодальных явлений на всех уровнях
социального бытия. «Сплетенные» противоположности вместе с
тем проявляли различия своих сторон: не было ни единой
экономики, ни единой политики, ни единой идеологии, социальной
психологии, философии, морали, и потому-то не было единого
мнения о причинах и основах подлинного величия России.
Взаимовлияние базисных и надстроечных форм усложняло меняющуюся
картину «исторического целого», порождая трудности и
социальной ориентации, и социальной, политической, художественной,
теоретической деятельности.
Известно, что, решая задачи своего времени и действуя в
угоду феодальному строю жизни России, Петр I своими
преобразованиями сообщил мощный толчок развитию русской
промышленности и торговли. Так была создана большая «отдушина»
23
развитию буржуазного способа производства, что сказалось
решительно на всех сторонах жизни страны. Прежде всего
промышленное производство быстро пошло в рост — в несравнимо
большем объеме, чем до этого, производились металл, деловая
древесина, ткани (шерстяные и льняные), кожевенные товары,
удовлетворявшие не только военные, но и гражданские нужды. «Еще
перед Северною войною, в конце XVII века Петр высвободил
промышленное городское население из-под власти воевод и дал
ему самоуправление...» [472, 127], что способствовало развитию
капиталистических отношений. Уже к началу XVIII в., как
считал Г. С. Струмилин, можно принять за факт «наличие известной
пролетаризации населения» [485, 203]. Но рекрутский набор
(начиная с 1687 г.) и полная реорганизация армии, «упорядочение»
социальной структуры с помощью Табели о рангах усиливали
роль и выгоды дворянского сословия, во имя которых в конечном
счете в России конца XVII — первой четверти XVIII в.
совершались все петровские преобразования. Естественные ограничения
«эгоизма дворянства», отразившиеся в петровском
реформаторстве, были связаны с необходимостью «самоограничения» во имя
подъема экономического и политического, стратегического и
военного престижа России.
Главным являлось производство металла для внутренних
нужд страны, армии и флота, форсированное строительство новых
предприятий, выпуск широкого ассортимента промышленных
товаров. Какими темпами росло это производство, видно из
следующих данных: за 20 лет (с 1720 по 1739 г.) производство
чугуна возросло почти в 4 раза, а меди — почти в 70 раз [см. 384,
6]. Промышленный курс определяли заводы Демидовых,
Строгановых, Осокиных, Вяземских, Турчаниновых, Шуваловых.
Подчинялась этой политике огромная масса крепостных,
посессионных, «вольных» крестьян и работных людей.
Росту буржуазных сил в стране содействовала образованная
в 1725 г. Академия наук: большой отряд ученых вскоре начал
активно включаться в решение научных, экономических,
хозяйственных, административно-управленческих и культурных задач.
Широко внедрялось книгопечатание, поощрялся рост сети
светских учебных заведений. Все эти меры содействовали развитию
естествознания, гуманитарных наук, философии. Приносил плоды
процесс секуляризации общественной жизни, науки и культуры.
Еще при Петре I развитию капиталистических отношений
способствовали рост товарооборота, укрепление общероссийского
рынка. Начали функционировать ежегодные московская,
новгородская, ивановская, тверская, тульская, ижевская,
владимирская, казанская и другие ярмарки. На востоке страны
впоследствии возникнет Кяхтинский (Китайский) торг. Развитие торговли
вызывало необходимость постоянного совершенствования
денежной системы, дорог и транспортных средств, почтовой связи.
Торговый и ссудный капитал становятся обычным явлением [см.
386, 265—271].
24
Заложенные еще в конце XVII — начале XVIII в. «новые», по
своей природе буржуазные, «формы быта» с необратимой силой
крепли в течение всего столетия, на протяжении которого шло
«складывание отряда русской буржуазии» [см. там же, 538].
Проиллюстрируем это данными статистики. К концу жизни
Петра I (1720) в России было 233 завода и фабрики, а в начале
правления Екатерины II (1762) — 984; в первый год
царствования Павла I (1796) их насчитывалось уже более 3000. На Урале
в 1699 г. было основано первое промышленное предприятие —
Невьянский металлургический завод, а к концу XVIII в. в
географической зоне этого завода было построено 28 казенных и
свыше 100 частных предприятий. Наибольшее число заводов в
России было построено в середине XVIII в. [см. там же].
Размещая промышленные предприятия, учитывали старые
горнорудные районы — Урал, Сибирь, Олонецкий край, Казанскую
губернию, а также районы кожевенного и текстильного производства —
Тверь, Иваново, Москву, Ярославль, Владимир, Елец, Смоленск
и др. Значительны были темпы строительства новых
промышленных предприятий. В это время в России было 76 суконных,
52 шелковые и 72 полотняные мануфактуры [см. 137, 13]. По
данным В. И. Семевского, работы на фабриках и заводах в
«екатерининское», как и в «петровское», время выполнялись
крепостными и государственными крестьянами, прикрепленными к
заводам и фабрикам. Вместе с тем русский историк подчеркивал, что
уже к началу 70-х годов на предприятиях страны возросла
занятость «вольных» людей, вольнонаемных рабочих. Так, в 1771 г.
на произвольно включенных в статистику 272 фабриках работало
55 080 рабочих, из которых крепостных — 4790 чел., или 8,7%',
посессионных — 32 775 чел., или 59,5%, и «вольных» — 17 515 чел.,
или 31,8% [см. 456, I, 610].
Рост городов и городского населения являлся выразительным
показателем развития промышленного и ремесленного
производства, углубления процесса отделения последнего от сельского
хозяйства [см. 416, 87]. На мануфактурных предприятиях широко
используется наемный труд. Торговля и ростовщичество,
безудержная эксплуатация труда крепостных, посессионных и «вольных»
крестьян становятся каналами первоначального накопления
капитала в России XVIII в. [см. 1, 23, 725; 2, 3, 595].
В годы царствования Екатерины II получила развитие
внешняя и внутренняя торговля России. Через Астрахань и Каспийское
море осуществлялась торговля с Персией, Ираном, аравийскими
народами, Индией. С европейскими странами торговали через
северные порты — Архангельск и особенно новый оправдывавший
значение «прорубленного окна в Европу» Петербургский порт,
на таможне которого в 80-х годах служил Радищев. Количество
товаров, ввозимых через этот порт, за пятьдесят лет (с 1751 по
1802 г.) в стоимостном выражении выросло с 3000700 руб. до
24735483 руб., вывоз товаров увеличился с 4500000 руб. до
30456802 руб. [см. 137, 13—14]. Россия экспортировала не только
25
сырье, зерновые и другие сельскохозяйственные продукты.
Предметом ее внешнего отпуска являлось железо [см. 2, 3, 485].
Расширялся круг мировых держав, торговавших с Россией. При
жизни Радищева две страны Крайнего Востока — Китай и
Индия — делали шаги к налаживанию торговли со своим
северозападным соседом.
В 80—90-х годах XVIII в. через постоянные русские
поселения на Аляске развивалась торговля с населением Северной
Америки — эскимосами, алеутами, колошами. Фактории в Порт-Россе
обеспечивали товарами испанцев, французов, португальцев и
англичан, проживавших в Калифорнии. Характерно, что в это же
время в Новый Свет русские купцы проникали также со стороны
Кубы и Нового Иорка [см. 430, 38—42 и др.; 179, 133].
К сказанному о внешней торговле как области
развивающихся товарных, в условиях XVIII в. — буржуазных, отношений
нелишне добавить сведения о развитии в России внутренней
торговли. В конце XVIII в. в стране функционировало 1536 годовых
и 95 еженедельных ярмарок [см. 137, 15]. Ярмарки выступали
своеобразными стимуляторами экономических связей между
различными регионами страны, втягивали в денежные отношения
помещичьи и крестьянские хозяйства. В сферу торговли они
вовлекали ремесленников, кустарей, народных умельцев. Можно-
представить себе рост товарной массы и товарооборота в
губернских и уездных городах России: с 1753 г. были отменены
внутренние таможенные пошлины, с 1762 г. разрешена свободная
продажа хлеба и других сельскохозяйственных продуктов [там же].
Историки Татищев, Шлецер, Щербатов, Болтин, а впоследствии
и Каченовский, Эверс, Погодин, Соловьев, Ключевский дают
достаточно материалов, свидетельствующих о стремлении царских
органов власти (Сената, берг-, коммерц-коллегии, генерал-обер-
директориума и т. д.) вмешиваться в ход промышленного
производства, торговли, и не только с целью регуляции отношений
владельцев производств и занятых на них крепостных и работных
людей [см. 384, 10—15].
Промышленники и купцы не стеснялись демонстрировать свои
связи с царским двором, свое стремление исхлопотать
привилегии. Они зависимы были не только от учреждений крупных
кредитов, но даже от Медного банка, отделения которого (тогда
еще совсем не похожие на современные банковские оффисы) вели
всего лишь мелкие операции с разменной монетой. Зависимость
буржуазных слоев российского общества от сложившейся
государственной структуры, а зачастую «врастание» в дворянскую
среду вели к политическому дезактивизму, демонстрируя их
неспособность к участию в демократических движениях города и
деревни. Не случайно именно в демократической среде с годами
будет нарастать неприязнь к двойственному политическому
облику и трусливой психологии будущих сил «порядка» и
«спокойной улицы», т. е. к «отцам» буржуазного клана страны.
Действительно реальной силой формировавшейся в России XVIII в.
26
демократии являлось крестьянство, его социально
организованные группы: крестьянство крепостное и приписное, посессионное,
«вольное», беднейшие и средние слои казачества. Психология
этой среды влияла на понятия городских работных людей,
ремесленников и разночинцев.
Дворянство оставалось относительно «единым» только в своем
противостоянии эксплуатируемой крестьянской массе.
Господствующий класс «екатерининской» России можно было бы
уподобить многослойному пирогу. Структурно дворянство являлось
сложным образованием. Сплачиваясь вокруг идеи «могучего
отечества», оно вместе с тем распадалось на «слои», сословия.
Официально к концу века их было около двадцати. Выделялись
вельможи, сановники царского двора, сенаторы, высшие чиновники,
губернские и городские (посадские) начальники, помещики —
крупные, средние, мелкие. Высоко ставились люди
государственной, военной службы, росло значение «дворянского сословия»,
пополнявшегося теми, кто получал это звание в качестве
«награды за отличия по службе». Социальной неоднородностью
помещичьей среды можно объяснить то, что многие ее представители
тяготились обязательными государственными поставками
продовольствия, скота, лошадей, фуража и нарядами по «армейской
епархии». Наряду с опытными предпринимателями такие
помещики нередко приступали к развертыванию промыслов,
организации мукомольных, кирпичных, винокуренных, лесопильных
заводов, фабрик по производству льняных и суконных тканей,
переработке сельскохозяйственной продукции для нужд армии и
городского населения.
В России XVIII в. сложным образованием являлся «народ» —
категория, изменение содержания которой зависит от
исторически меняющихся условий социальной жизни людей. В состав
«народа» входили все социальные группы и элементы
общественной структуры, занятые в производстве, содействующие его
развитию. Крестьянская масса — главная производительная сила
того времени, смыкавшаяся в конкретных условиях с работным
людом, казачьими низами, вбиравшая в свою среду беглых
крестьян, бурлаков. Ее интересы часто совпадали с интересами
мещан, ремесленников, разночинцев.
Крепостной крестьянин был на низшей ступени социальной
лестницы. Бесправный и униженный, он являлся объектом самой
безудержной эксплуатации. К 90-м годам резко возросла тяжесть
крепостных повинностей: размер оброка увеличился в 2—3 раза
по сравнению с 60-ми годами, а число барщинных дней
повсеместно стало доходить до 5—6 в неделю. Положение
крестьянского и работного люда России периода царствования
Екатерины II было крайне тяжелым. Чтобы удерживать крепостного в
повиновении, императрица российская специальным указом 1765 г.
разрешила помещикам по их «усмотрению» ссылать крепостных
людей в Сибирь на каторжные работы, подвергать публичным
наказаниям плетьми и розгами. Даже русские либералы доок-
27
тябрьских времен считали эту меру «Северной Семирамиды»
грубым нарушением прав человека, преступлением перед
человечеством [см. 264, 3, 198—199].
Во времена Екатерины петербургские и московские газеты
систематически оповещали читателей о продаже крепостных —
мужчин, женщин, детей. «Крещеная собственность» (так называл
крепостных А. Герцен) включалась в сферу не только торговых,
ростовщических операций дворян, но и могла быть предметом
«бесчеловечных», по характеристике Радищева, забав: например,
ее могли «поставить на кон». Масштабы такого рода явлений для
тех, кто стремился их учесть, «выходили за видимые горизонты».
За время своего императорства «за услуги и заслуги»
Екатерина II раздала дворянам 800 тыс. крестьян, тогда как Павел I,
пробыв на престоле всего 4 года, успел раздать своим
приспешникам 600 тыс. «крепостных душ». Рост закрепощенного
населения России — вот чем характеризовалось многолетнее правление
Екатерины II: в год ее прихода к власти было 7,6 млн.
крепостных в стране, тогда как в 1796 г. их стало 20 млн. чел. [см. 319,.
I, 232].
В «екатерининской» России строились дворцы и парки,
возводились величественные памятники, войны приносили
контрибуции, попадавшие в руки представителей высшего эшелона
императорской власти — дворцовых сановников. Шли субсидии
еще Петром созданной Академии наук. Развивалось производство
металла, строительных материалов, сукна, льняных тканей, рас-
ширялся флот, и все новые рекруты становились под ружье. Блеск,
богатство и величие дворцовой и поместной жизни —
петербургские и московские пиршества, зрелища, увеселительные балы и
прогулки знати новой и старой столиц — дополнялись
«местными», провинциальными фейерверками и ружейно-пушечными
«салютами» в «честь победы», «по случаю» и без победы и без
случая. Собрания и игры, охоты, «путешествия», развлечения
дворянства в большой степени являлись общеевропейской нормой
поведения социальной знати.
И тем не менее в «просвещенных государствах» Европы и в
том числе в России второй половины XVIII в. не было ни
единства, ни согласия — отсутствовали взаимоуважение,
взаимопонимание, не было личного и общественного благополучия. Налицо
были социальные распри, ибо все достигалось за счет ущемления
и бесчеловечного угнетения крепостной массы. Крестьянский
класс «в законе был мертв» [см. 7, 1, 305], его уделом были
непосильный, полурабский труд, нищета, разорение, голод и
хронические болезни. По сути все социальные разновидности, группы
крестьянства подвергались гнету со стороны дворянского
сословия, поддерживаемого не только императорской властью, но и
церковной иерархией. Крепостники-помещики нещадно угнетали
наследственно-имущественных (барщинных и оброчных),
посессионных, государственных, монастырских крестьян, которые не
прекращали борьбу за свободу против крепостного рабства. Вме-
28
сте с тем в сознании многих из них бродили идеи о возможности
«милостивых деяний», «вызволения» со стороны часто
сменявшихся после смерти Петра I претендентов на престол.
Думается, что сказанного достаточно, чтобы представить
сложность социальной ситуации в России конца XVIII в.
Политические, идеологические, философские и художественные феномены
того времени предельно сложны для анализа, и об этом надо
помнить, переходя к характеристике идеологии российского
Просвещения.
Немарксистские историки и особенно политологи Запада
весьма своеобразно толкуют судьбу Просвещения в целом и
российского Просвещения XVIII в. в частности. Некоторые из них,
пользуясь ветхими стереотипами, пытаются доказать, что в
России никогда не было и не могло быть «никакого Просвещения».
Американский историк русской культуры Д. М. Гриффите,
выступая с большой статьей в специальном выпуске канадско-аме-
риканского журнала по славистике «В поисках Просвещения»,
задался целью опровергнуть не только наличие, но даже саму
возможность Просвещения в России. Важнейший аргумент,
используемый при этом американским ученым, — различия в
социальной структуре ведущих стран Европы и России [см. 577,
317—357].
На наш взгляд, учитывая различия, нельзя не видеть и
общности экономического и политического развития России и ведущих
европейских стран. Не случайно уже в конце XVIII — начале
XIX в. было немало политических деятелей и философов, которые
не считали Россию ни «европейской провинцией», ни страной,
находящейся на обочине мировой цивилизации. Даже один из
самых ярких сторонников европоцентризма Г. В. Ф. Гегель в
начале прошлого века писал, что Россия «уже теперь, может быть,
сильнейшая держава среди всех прочих, в лоне своем скрывает
небывалые возможности развития своей интенсивной природы»
[см. 119, 2,407].
В. И. Ленин, используя большой фактический материал,
убедительно доказал полную несостоятельность представлений о том,
будто путь России не имеет ничего общего с тем путем, по
которому шли или должны были пойти другие страны мира.
Ленинский вывод из этого анализа состоял в том, что однотипные
социально-экономические процессы порождают и сходные идеи,
отражающие эти процессы [см. 2, 1, 278—279]. В своей оценке
классовой природы и идейного содержания Просвещения
В.И.Ленин подчеркивал, что на Западе и в России это было единое по
своей сущности явление, что имеющиеся различия относятся
больше к форме, чем к содержанию. Антифеодальному характеру
европейского Просвещения соответствовал антикрепостнический
характер российского Просвещения. Когда наши просветители
XVIII в. выходили на поле идейной борьбы, разъяснял В. И.
Ленин в статье «От какого наследства мы отказываемся?», «все
общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и
29
его остатками» [2, 2, 520]. В ленинских оценках Просвещения
выявлялось требование различать монархическое заигрывание с
либерализмом и подлинное Просвещение, идеологию
просвещенного абсолютизма и истинное просветительство. Монархические
режимы Европы, а также России в XVIII в. использовали идеи
Просвещения, псевдопросветительские лозунги в своей внешней
и внутренней политике для укрепления устоев самодержавной
власти дворян. «Просвещение, — писал Ф. Энгельс, — являлось
таким же девизом царизма в Европе в восемнадцатом веке, как
«освобождение народа» в девятнадцатом» [см. 1, 22, 24].
Характер псевдопросветительства Екатерины в идейно-политическом
его выражении подчеркивал В. И. Ленин, когда указывал, что
«монархи то заигрывали с либерализмом, то являлись палачами
Радищевых» [2, 5, 30].
В литературе, посвященной «веку Просвещения», часто
встречается тенденция смешивать политику просвещенных монархий
и идеологию Просвещения, недооценивать или переоценивать
каждое из названных явлений. Недооценка исторической роли
«просвещенного абсолютизма», на наш взгляд, проявляется в той
степени, в какой прежде всего отрицаются его возможности и
реальная историческая роль в развитии производительных сил,
несмотря на свою «двойственную политику», в формировании
капиталистического базиса.
В немарксистской литературе господствует мнение, что
«просвещенный абсолютизм» вызван к жизни духовно-исторической
доминантой Просвещения. В подтверждение такого вывода
указывают на оживленную переписку и даже на теоретические
дискуссии европейских «просвещенных монархов» с деятелями
Просвещения. Екатерина II вела переписку и имела личные встречи
или сношения через посредников почти с каждым из крупнейших
просветителей Европы. По приглашению императрицы Петертург
посетили Беккариа, Гримм, Даламбер. В 1773 г. более полугода
в русской столице жил Дидро, избранный почетным членом
Российской Академии. Екатерина II знала лично и на основании
произведений большинство русских писателей, публицистов,
историков, правоведов, ученых из разряда выдающихся просветителей
той эпохи (Аничкова, Батурина, Новикова, Козельского,
Радищева, Десницкого, Поленова, Фонвизина, Эмина и др.). И тем
не менее никому из перечисленных представителей духовной
культуры XVIII в. императрица России не следовала в своей
деятельности: антикрепостническая программа — основная
рационалистическая доминанта российского просветительства —
экономически и политически не устраивала российский престол.
Конечно, «просвещенная монархия» не стояла в стороне от
процессов, породивших европейское Просвещение. Она возникала
под воздействием этих процессов. Функция «просвещенного
абсолютизма» состояла в том, чтобы вносить регламент в новые
формы ведения хозяйства, новые «формы быта». Как политическое
-30
явление, это продукт вынужденного и вместе с тем
обоюдовыгодного примирения господствующих сил феодального общества с
силами буржуазными перед лицом крепнущего движения
демократии — «третьего сословия», или крестьянской массы,
выступающей против феодализма. Как форма политической власти,
«просвещенная монархия» — нечто компромиссное,
балансирующее в случаях возникновения острых противоречий внутри
господствующего в стране лагеря. Неоднородная основа социальной
структуры России вела к противоречиям, непоследовательности
и непредсказуемым поворотам политики. Будучи политической
системой «нейтрализации» радикальных, революционных
требований буржуазных сил в стране, «просвещенная» форма власти
дворян, разумеется, предполагала наличие этих сил не столько
за пределами данного государства, сколько внутри его. Власть
«просвещенного монарха» являлась формой приспособления
политической организации феодализма к условиям развивавшихся
капиталистических отношений, средством сохранения в
государстве господствующего положения дворянства. При этом
двойственные и политически компромиссные принципы Локка и
Вольтера открыто противопоставлялись идеям Руссо, а затем и
Радищева: с порога отбрасывалась революционная идейность.
«Просвещенная самодержавная власть» (в том числе императорская
власть Екатерины II), будучи следствием заметного ослабления
феодально-абсолютистских режимов, шла на уступки буржуазии
и не шла на уступки демосу, народу.
Осуществляя аристократическую диктатуру, Екатерина II и
ее окружение — политические и военные сановники двора — в
своей внутренней и внешней политике искусно пользовались
опытом европейских и российских «просвещенных особ». Им
приходилось решать прежде всего вопрос о том, как быть с теми>
явлениями, которые порождались, с их точки зрения,
«инерционными силами» петровских преобразований. Что представляли
собой эти «силы»? Какие пути видел правящий екатерининский
двор в их «нейтрализации»?
Мы уже отмечали буржуазный характер тех процессов,
которые сопутствовали реформаторской деятельности Петра I. Но
желающие дать ответ на поставленные выше вопросы (в силу
приглушенности, замиренности, а иногда и явной неразвитости этих
процессов) сталкиваются со «сверхтрудной» проблемой генезиса
капитализма в России XVIII в., имеющей большое
методологическое значение для характеристики основных факторов
формирования мировоззрения людей, живших в «екатерининскую
эпоху». Пройдя сквозь многолетние дискуссии, в которых принимали
участие историки, экономисты и литературоведы (Н. Дружинин,
В. Мавродин, П. Берков, М. Нечкина, Н. Павленко, Б. Кафенгауз,
П. Епифанов, Г. Струмилин, А. Шапиро, С. Окунь, В. Недосекин
и др.), проблема эта до сих пор не получила окончательного
решения. Сформулировано немало ценных идей, но сохраняются
трудности, часть из которых, на наш взгляд, порождается сте-
31.
реотипами концепции М. Туган-Барановского, использование
которых ведет к «методологическому пессимизму» [см. 503; 504].
Наше положение облегчается тем, что подавляющее
большинство участников горячих дискуссий о генезисе капитализма
признает наличие буржуазных отношений в истории России периода
60—90-х годов XVIII в. В связи с этим заслуживает пристального
внимания выдвинутое академиком Н. Дружининым положение о
том, что в отечественной истории 60-е годы интересующего нас
века являются новой ступенью, «новой гранью» социального
развития, выразившей консолидацию «элементов будущего капита-
листического общества» [168, 93—94]. Эту точку зрения
поддерживали Г. Струмилин и Н. Павленко [см. 485; 385]. Любопытно,
что Н. Дружинин свое мнение аргументирует ссылкой на
скачкообразный подъем массы участников крестьянского протеста в
60-е годы: «Одновременно были охвачены волнениями 100 тыс.
крестьян церковных имений, 100 тыс. крестьян, приписанных к
горным заводам, и 50 тыс. крестьян помещичьих имений;
массовые брожения наблюдались в районах южных однодворческих
поселений...» [168, 94].
Таким образом, основываясь на вышесказанном, можно
представить себе социально-классовый состав сил, определявших суть
умеренных, радикальных и революционных общественных
тенденций, которые «просвещенный абсолютизм» стремился
«поддержать» или «удержать», «приглушить» или «приспособить»,
извращая подлинную суть, перебороть, если дело касалось демократии
и ее идейно-политических лидеров. С самого начала
«просвещенная линия» политики российского двора в середине XVIII в. была
ориентирована на средства, маскирующие реальное существо
монархических режимов. Не отклоняясь от поставленных задач,
хотелось бы привести данные, характеризующие подлинную
природу псевдопросветительского облика Екатерины II.
Софья Фредерика Августа, еще будучи великой княгиней,
женой наследника престола Петра, подавала надежды, проявляя
качества, которые, как считал С. М. Соловьев, всего более
подходили лицу, желаемому на российском престоле. К ним он
относил «небесцельное занятие» чтением просветительской
литературы, знание которой будет затем использовано для укрепления
самодержавной власти. Вот характерная запись будущей
императрицы, выдаваемая впоследствии за «крик души», откровенное
признание, программу жизни и деятельности: «Противно
христианской религии и правосудию обращать в рабство людей
(которые все родятся свободными). Церковный собор освободил всех
крестьян в Германии, Франции, Испании и т. д. Такой переворот
теперь в России не был бы средством приобресть любовь
землевладельцев, исполненных упорства и предрассудков. Но вот
легкий способ: поставить, чтоб впредь при продаже имения
крестьяне освобождались; в течение ста лет все или по крайней мере
большая часть земель меняет господ — и вот народ свободный.
Свобода — душа всех вещей. Без тебя все мертво. Я хочу, чтоб
.32
повиновались законам, а не рабов. Хочу общей цели — сделать
счастливыми, а не каприза, не странностей, не жестокости.
Когда правда и разум на нашей стороне, должно выставить их
пред глаза народу, сказать: такая-то причина привела меня к
тому-то, разум должен говорить за необходимость. Будьте
уверены, что он возьмет верх в глазах толпы: сдаются истине, но
редко сдаются речам тщеславным. Мир необходим этой
обширной империи; мы нуждаемся в населении, а не в опустошениях;
наполните жителями наши обширные пустыни, если возможно...
Власть без доверия народного ничего не значит для того, кто
хочет быть любимым и славным; этого легко достигнуть: примите
за правило ваших действий и уставов благо народное и
правосудие, неразлучные друг с другом.
Я желаю ввести, чтоб из лести ко мне говорили истину...
Самый варварский и достойный турок обычай — сначала наказать,
а потом производить следствие... Не знаю, мне кажется, всю мою
жизнь я буду чувствовать отвращение к чрезвычайным судным
комиссиям, особенно секретным. Зачем отнимать у обыкновенных
судов дела, подлежащие их ведению? Быть стороною и назначать
еще судей — значит показывать, что боишься иметь правосудие
и законы против себя. Пускай знатный человек судится Сенатом,
как в Англии; во Франции пер судится перами... Снисхождение,
примирительный дух государя сделают более чем миллионы
законов, и политическая свобода даст душу всему» [473, 25—26,
497].
Приводя эти записи, С. М. Соловьев обращается к переписке
Екатерины II с Даламбером и Жоффрэн, на основании которой
устанавливает текстуальное совпадение выраженных в них
мыслей с идеями произведений Даламбера и Монтескье. Однако
либеральный историк России не нашел возможным раскрыть
фарисейскую природу краснобайских екатерининских прожектов.
Императрица российская явила миру классический образец
аристократической реакции на Просвещение. Не случайно в одном
из многочисленных своих писем к европейским просветителям она
открыто сознавалась в своем особом подходе к толкованию их
произведений: «Дух законов» Монтескье есть «молитвенник
государей, если только они имеют здравый смысл» [там же].
Руководствуясь «здравым смыслом» господствующих в стране
сил, Екатерина II в духе предельно ограниченного,
половинчатого и непоследовательного реформаторства издавала «наказы»,
«законы», «манифесты», «указы». В 1766 г. по ее «указанию»
вновь созданное Вольное экономическое общество объявило
конкурс на лучшее сочинение на тему, связанную с освобождением
крестьян от крепостной зависимости. Победитель конкурса юрист
А. Я. Поленов, защищавший идею о необходимости ликвидации
крепостного права, вскоре был забыт Екатериной и ее
окружением. Сам же конкурс остался без последствий, в выигрыше
оказалась только императрица, получившая прибавку к своей славе
«просвещенной царицы».
2 П. С. Шкуринов
33
Шумную известность снискал екатерининский Манифест от
14 декабря 1766 г., согласно которому утверждалось Уложение а
Комиссии по общественно-гражданским, в том числе
крестьянским, делам. В течение почти года на местах от различных
сословий избирали депутатов, которым Сенат установил оклад, а
также учредил депутатский нагрудный знак с надписью
«Блаженство всех и каждого». Всем депутатам их избиратели вручали
«наказы», которые принимались после продолжительных
обсуждений. Миссия избранных депутатов состояла в принятии
окончательного текста «Наказа», проект которого принадлежал самой
императрице. Этот документ был составлен на основе сочинений
Вольтера, Беккариа, Даламбера, Блекстона и Монтескье. Но были
в нем и статьи, затрагивавшие насущные вопросы развития
общественных отношений России. Именно поэтому вокруг «Наказав-
вспыхнула острая борьба. В соответствии с установками, а
иногда и на основе прямых императорских «разъяснений» и
«повелений» администрация на местах стремилась направить эту
борьбу в русло «позволенного», запрещая «толковать и рассуждать
дерзостно прямо». Те из современников, кому становились
известны действительные намерения опубликовавшей «Наказ»
императрицы, возмущались ее предприятием. Среди них были друзья
и единомышленники Радищева. Десятилетия спустя к ним во-
всеоружии фактов присоединятся декабристы и Пушкин,
революционные демократы и Толстой.
В своих «Заметках по русской истории XVIII в.» А. С.
Пушкин назвал «Наказ» лицемерным, возбуждающим «праведное
негодование» [428, XI, 17]. Отрицательно оценивал фальшивые
шаги «ученицы Вольтера» Л. Толстой. «Наказ» — писал он, —
принес больше славы Екатерине, чем пользы России» [499, 46;
27]. Многолетние дебаты вокруг екатерининского проекта новоп>
«уложения» наконец заглохли. Комиссия по
общественно-гражданским делам со временем прекратила свое существование.
Обещанная в «Наказе» отмена крепостного права обернулась
изданием многих «узаконений», усугублявших положение
крестьянской и работной массы. Трудовое население страны лишалось
самых элементарных гражданских прав. Осуществляя
внутреннюю и внешнюю политику средствами грубого насилия или
войны, Екатерина II камуфлировала свой «государственный курс»
просветительскими идеями, провозглашая принципы возможнога
достижения благоденствия, человеколюбивые лозунги, а
параллельно — подписывала «указы», предоставлявшие помещикам
права публично пороть крестьян, ссылать их на каторгу. По всеиг
своей сути это было извращением просветительства, его
идеологии и философии. Представители российского Просвещения
второй половины XVIII в., несмотря на заигрывание царствующей
«просветительницы», группировались на противоположном ей
полюсе.
На Западе распространенной является точка зрения о прямой
связи деятельности просветителей и «просвещенных монархов»^
34
о функциональной их зависимости, предполагающей приоритет
властвующих особ. Идеолог американского неоконсерватизма
Р. Пайпс, повторяя догмы «старого либерализма», и прежде
всего «основную идею» Р. Хеэра [см. 582, 7], старается убедить
своих читателей в том, что возникновение русского Просвещения
было санкционировано российским государством, которое в лице
Екатерины II разрешило «слабому русскому обществу» и
«восприимчивой к новым идеям образованной элите» усваивать и
осваивать просветительские идеи Западной Европы [см. 397, 337].
В действительности российское Просвещение представляло
собою относительно самостоятельное явление, которое
функционировало не по «монаршей воле», а чаще всего вопреки этой воле.
Как любое явление социальной жизни, просветительство России
XVIII в. не могло функционировать вне социальной структуры
общества и, стало быть, не испытывать влияния надстроечных
институтов, политики государственных органов и организаций.
Речь может идти о том, что под воздействием неотложных
потребностей буржуазного уклада в стране при Екатерине II был
осуществлен целый комплекс преобразований, реформ, которые
привели к известным сдвигам в общественной жизни, не изменив
дворянской природы надстройки в целом. Более того, по
заключению Р. Хеэра, эти меры «расширяли русский вариант
просвещенного абсолютизма» [582, 7], укрепляли его. Была проведена
так называемая Губернская реформа, улучшившая систему
административно-хозяйственных органов; учреждены гимназии,
реальные училища, пансионы для детей дворянского, купеческого и
мещанского сословий, открыт институт для бедных дворянских
девиц при Смольном монастыре. Учащиеся реальных училищ
освобождались от солдатчины. Указом о «...вольных типографиях»
улучшились книгоиздание и книготорговля. В провинциях начали
создаваться общественные библиотеки, почтовые отделения,
появились врачи [см. 523, 3—4, 76—78; 86]. Но это были уступки
«требованиям века», требованиям складывающихся в стране
буржуазных отношений. Эти «уступки» в гипертрофированном виде
трансформируются в сознании некоторых историков, ведут к
переоценке роли «просвещенного абсолютизма». По нашему мнению,
само по себе российское Просвещение, испытав большое влияние
идей европейских просветителей, все же в главном оставалось
принципиально враждебным просветительским имажинациям
российского самодержавия.
Сформулированный нами вывод справедлив для России
второй половины XVIII в. Несколько иначе обстояло дело в первой
половине XVIII столетия. Объясняется это своеобразием
исторических условий развития просветительских идей в нашей стране.
Российское Просвещение в XVIII в. прошло два этапа,
стыкующиеся примерно в период царствования Елизаветы Петровны,
точнее, в начале 60-х годов. Первый этап можно было бы назвать
ранним Просвещением. Выделение данного этапа позволяет
учитывать деятельность выдающихся представителей культуры, нау-
9*
35
ки и философии первой половины XVIII в. К раннему
Просвещению в России можно было бы отнести Д. Кантемира, Ф. Проко-
повича, В. Тредиаковского, А. Кантемира, М. Ломоносова. Своими
гуманистическими идеями, пропагандой научных, философских и
историко-этнографических знаний эта плеяда мыслителей
начинала осмысление и творческое выражение буржуазных тенденций
в отечественной и зарубежной общественной жизни. Нетрудно
проследить — и это сделано в ряде работ советских авторов [см.
358; 509] — влияние на указанную нами плеяду мыслителей
России европейского «гуманизма» XV—XVI вв., т. е. «первой формы
буржуазного просвещения» [1, 22, 21]. В недостаточном развитии
в мировоззрении представителей раннего Просвещения
антифеодальных, антикрепостнических понятий заключалась специфика
начального этапа российского Просвещения, представители
которого продолжали долго влиять на духовную культуру и
общественное движение России. На вершине раннего российского
Просвещения суждено было быть М. Ломоносову.
А. Радищев принадлежал ко второму этапу развития
Просвещения в России XVIII в. Важнейшие черты этого этапа в самом
полном объеме воплотились в его творческой биографии,
биографиях его ближайших предшественников и последователей.
Изначальной силой второго этапа российского Просвещения,
предшественниками Радищева были старшие современники мыслителя
А. П. Сумароков, Н. И. Новиков, Д. С. Аничков, В. И. Лукин,
С. Е. Десницкий, Д. И. Фонвизин, Ф. А. Эмин, И. М. Третьяков,
Г. Р. Державин, И. Ф. Богданович, Я. П. Козельский, И. И. Хем-
ницер, Я. Б. Княжнин и др., труды и идеи которых влияли не
только на внутреннюю жизнь России, но и по меньшей мере на
страны Восточной Европы. Отрицание связи российского
Просвещения с европейским не получило сколько-нибудь убедительного
обоснования и является, на наш взгляд, бесперспективным в
научном отношении.
Уже в 60-х годах, на волне крестьянского
антикрепостнического, антифеодального движения, по своей массовости
превосходящего все предшествующие, русские просветители один за
другим развертывали фронт борьбы против крепостнических
порядков, за свободу крестьян, за предоставление им «человеческих
условий» жизни и труда. Почему российские просветители уже
в первое десятилетие второй половины XVIII в. выступали
сторонниками крестьянства, не будучи в своем подавляющем
большинстве его идеологами? Отвечая на этот вопрос, следует
вспомнить указание К. Маркса на заинтересованность представителей
буржуазных слоев общества в том, чтобы сосредоточить на рынке
все, в том числе и работника, которого во имя профита надлежит
освободить от феодальных зависимостей [см. 1, 23, 178—180].
Не будем уточнять, в какой мере в России 60-х годов
сознавали классовые интересы те, кто активно развертывал борьбу
против крепостничества, решая задачи, к которым в основном
сводились тогда все главные стремления деятелей российского-
36
Просвещения. Не исключено, что не все современники понимали
против кого была направлена общественно-политическая сатира
Сумарокова, создатель которой в 60-х годах был главным
обличителем зла крепостного положения крестьянина, паразитизма
дворянства и антинародной политики двора. Возможно, сам
великий сатирик России не понимал политического значения своего
творчества. Зато Новиков и Фонвизин, на рубеже 70-х годов
сознательно выступавшие против монархического режима и
главных пороков крепостничества, считали Сумарокова своим
предшественником и союзником [см. 225, 562—568]. Речь, таким
образом, может идти лишь о том, что объективно, независимо от
субъективно-психологической реакции участников идейной
борьбы, просветители 60-х годов XVIII в. выступали в качестве силы
антифеодального значения. Именно эту сторону социальной
сатиры Сумарокова с большой убедительностью раскрыла Ю. Г.
Сенник в 1-м томе недавно изданной четырехтомной «Истории
русской литературы» [см. 223, 1, 542—570].
Широко известно, что активная просветительская деятельность
Н. Новикова и Д. Фонвизина началась на рубеже 60-х и 70-х
годов. Это было первое гласное выступление с критикой отдельных
сторон крепостничества и самодержавной власти. Суть его
состояла в том, что публично были развенчаны претензии
Екатерины II на идеологическое лидерство, моральный приоритет,
право выступать первым и единственным художественным
авторитетом. По инициативе императрицы было начато издание
еженедельного журнала «Всякая всячина», отличавшегося официальным
и императивным тоном своих публикаций. Антипросветительская
суть позиции Екатерины II в полемике против Новикова
достаточно полно рассмотрена в нашей литературе [см. 323; 470; 223,
578—581].
Со страниц своего сатирического журнала «Трутень»
Новиков изобличал «Госпожу Всякая всячина» в невежестве, в
пропаганде домостроевской морали, принципов «ласкательства»
(подхалимажа и угодничества). Смело критиковались
«самовластью свойственные» претензии на непогрешимость и
вседозволенность. Устами вымышленного корреспондента «Трутня»
Правдолюбова высмеивалось «неограниченное самолюбие»
журнала «Всякая всячина», защищались осуждаемые венценосной
особой «соучастливость», решительность, «страсть к новизне»,
проницательность, «верность заветам» и тому подобные
понятия, типичные для просветительской литературы. Через
«Трутень» публично выражалось несогласие с идеологическими
установками Екатерины II. На чистую воду выводились скудоумовы,
ханжи, вертопраховы и другие персонажи, символизирующие
господствующую в стране социальную силу защитников
крепостного права, притеснителей народа. В идейных сражениях
«Трутень» имел союзников. Его поддерживала большая группа
молодых общественных деятелей, писателей, журналистов [см. 223,
I, 713]. Журналы «Смесь» и «Адская почта» укрепляли влияние
37
на читательскую аудиторию. Новиков умел влиять на «позиции»
таких организаций и органов шрессы, которые, казалось, далеки
были от «большой политики». Здесь можно назвать «Общество,
старающееся о напечатании книг», «Вольное общество
любителей словесности» («Общество друзей словесных наук»),
«Вольное российское собрание при имп. Московском университете»,
«Дружеское ученое общество» и др. В 1770 г. Д. Фонвизин
поставил своего «Бригадира», а затем—в последующее
десятилетие— развернул беспощадное бичевание крепостничества,
доказывая, что именно в нем корень всех бед России. Крепостное
право он считал язвой, которая в стране порождает не только
Митрофанушек и простаковых, но и скотининых. Аналогичные
просветительские идеи уже в ранних своих работах развивали
Д. Аничков, С. Десницкий, Я. Козельский, А. Поленов, И.
Третьяков, Ф. Эмин и др.
Однако в 70-х годах наибольшую активность и влияние на
современников имел Н. Новиков. Общеизвестно, что его журнал
«Живописец», выходивший на протяжении 1772 г., привлекал
внимание читателей политически острыми, вольтерианскими
выступлениями. В журнале, открывавшем после насильственного
закрытия «Трутня» (в начале 1770 г.) новый этап полемики
Новикова с Екатериной II и ее единомышленниками, помещались
произведения антикрепостнического содержания. В нем был
опубликован знаменитый «Отрывок путешествия в *** И ***
Т ***»4, содержавший потрясающее по своей обличительной
силе описание деревни Разоренной с ее доведенной до крайних
пределов нищетой запуганных и обездоленных крепостных
крестьян — типичного уголка России второй половины XVIII в.
Здесь же было опубликовано другое сатирическое сочинение —
цикл «Писем к Фалалею»5, в которых показаны разлагающее
влияние крепостнической системы на помещиков и крестьян,
бесперспективность «крепостного быта».
Просветительская литература, отечественная и зарубежная,
обличавшая зло крепостничества или содействовавшая такому
обличению, изменяла духовный климат в стране: менялись
характер речи, понятийный аппарат, силлогистика, идиоматический
строй. В литературе значительную роль стали играть юмор,
гротеск, ирония, сарказм. На страницы печати приходит
«естественный человек» с атрибутивными добавлениями: «гражданин»,
«сын отечества», «подлинный муж», «добродетельный страж
общества».
Силы, оппозиционные императорскому и крепостническому
строю, в конце 60-х и особенно в 70-х годах не раз вырывались
из-под правительственного «контроля». Это были силы Просве-
4 Атрибуция этого сочинения связывается одними исследователями с именем
А. Н. Радищева, другими — с именем Н. И. Новикова [см. 223, 1, 585].
6 Ряд советских исследователей (П. Берков, А. Западов, И. Исакович,
А. Лурье) приписывают это произведение Д. Фонвизину. Иной позиции
придерживается Г. Макогоненко [см. 223, I, 713—714].
38
щения, направлявшие свои удары против официальной
идеологии и политики, против религиозного миросозерцания. Их
воздействие на идейную жизнь общества «имело большое значение
и свидетельствовало о начавшемся разложении
феодально-крепостнической идеологии» [230, 2, 13]. Часто испытывая
затруднения в поисках форм и средств борьбы против идеологии
Просвещения, царский двор чередовал либеральные экивоки с
грубыми окриками и прямыми угрозами. Сама же Екатерина II,
желая сохранять маску «просвещенной царицы», в первое
десятилетие пребывания на троне предпочитала вести скрытую войну
против деятелей Просвещения. Сейчас трудно представить себе,
в какой форме и какими средствами она завершила бы эту
войну, если бы события в стране не потребовали от российского
престола мобилизации всех сил на открытую борьбу против
самой крупной в истории XVIII в. крестьянской войны 1773—
1775 гг.
Антифеодальное восстание под предводительством Е. И.
Пугачева развертывалось как в центральных уездах, так и на
окраине страны, в зонах Поволжья, промышленного Урала, Башкирии
и Западной Сибири. Сотни тысяч крестьян захватила великая
война за освобождение от феодальной зависимости, за «землю и
волю». Знаменитые «манифесты» этого движения
свидетельствовали о том, что в нем были представлены крестьяне помещичьи
(оброчные), заводские (государственные), приписные (к
дворянским или купеческим мануфактурам), крестьяне беглые и
казаки.
Пугачевские «манифесты» и «указы» отражали не только
бунтарско-демократический, но и социально-утопический характер
крестьянского сознания. Напрочь отвергая фигуру
помещика-крепостника, участники «пугачевского бунта» выступали против
«царя плохого» за «царя хорошего». Но, возвышая значение борцов
за свободу против крепостного рабства, один из первых
декабрьских «манифестов» Пугачева 1773 г. квалифицировал восставших
крестьян и казаков как «истинных сынов отечества», призывал к
борьбе с «царствующей тигрицей» за «вольность настоящую»
[см. 113, 40—41; 164, 36—37].
Героические усилия восставших не были поддержаны
«пользователями крепостной работной силы», заводчиками; восставшие
не нашли союзников среди других социальных слоев России.
Крестьянство могло бы получить первый исторический «урок
предательства», если бы социальные отношения среди «имущих
сословий» были более дифференцированными. Именно отсутствие
таких развитых отношений и целый комплекс других причин,
первое место среди которых занимает отсутствие организованного
класса рабочих, предопределили поражение восстания во главе с
Пугачевым, хотя его влияние на исторические судьбы страны
было огромным.
Значение грандиозной крестьянской войны 1773—1775 гг.
выходило далеко за пределы России. Так, по оценкам некоторых совре-
39
менных западных историков, «крупнейшая акция века»
предваряла другие революционные события эпохи и, не определяя их
причин, могла влиять на них [см. 320, 104—117]. За восстанием
Пугачева последовали сначала Американская война за независимость
(1775—1783), а затем Великая французская революция (1789—
1794). Два последних события в свою очередь оказали большое
влияние на социально-экономические и духовные процессы России
последних десятилетий XVIII в. Оказавшийся причастным к
идейной борьбе, выражавшей отношение к этим событиям, Радищев не
только испытывал их влияние, но и проявил большую
самостоятельность в их анализе и оценке.
Антикрепостнический, революционный, антицаристский и
республиканский характер идейно-политических взглядов А. Н.
Радищева— тема, позволяющая видеть, как формировалась
важнейшая жизненная позиция русского мыслителя, как шел и к чему
пришел он, включившись в общественную жизнь своего времени.
Начало общественной деятельности А. Радищева совпадает с
периодом пугачевского восстания и его подавления. Сам по себе
этот факт весьма примечателен. Его следует учитывать в сумме
факторов, влиявших на формирование мировоззрения человека,
только возвратившегося, из Германии, тем более что гонения на
демократию со стороны царского двора во многом касались
представителей российского Просвещения и в их числе Радищева.
«Просвещенная императрица» российская Екатерина II,
расправляясь с участниками пугачевского восстания, развернула
наступление на интеллигенцию демократической ориентации. Именно
поэтому политическая реакция в стране коснулась «вольности
словесной, печатной, гражданской». Произносить устно и выражать
печатно имя Е. И. Пугачева воспрещалось. Притеснения со
стороны царской власти уже во время пугачевского восстания и еще
более после его подавления начали испытывать писатели, ученые,
журналисты, издатели. Цензура и сыск были использованы
Екатериной II с целью заглушить голос демократических сил, голос
подлинно просвещенной России.
Но диалектика истории неумолима, всесильны законы
прогресса. Пугачевская война, которая потрясла само основание
самодержавия, оставила глубокий след в самосознании народа, передовых
сил российского общества в целом. С одной стороны,
«революционные мысли не могли не бродить в головах крепостных крестьян»
[2, 20, 174], с другой — «лучшие люди из дворян» постепенно
осознавали обреченность царизма и крепостничества. «Восстания
Степана Разина, Емельяна Пугачева заставляли задумываться
наиболее просвещенные умы дворянского класса, побуждали их к
критической оценке положения крестьянства и произвола помещиков»
[238, 210]. В 1773 г. нерешительно, а в 1775 г. смелее
просветительские идеи стали получать «права гражданства», статус
«вышедших в свет». Духовная жизнь страны то крупица за крупицей,
а то и значительными пластами концентрировала глубоко демо-
40
кратический заряд российского Просвещения. Прежде всего на
страницах «Пустомели», «Утреннего света», «Прибавлений «
Московским ведомостям», «Кошелька», а затем и «Покоящегося
трудолюбца» продолжал развиваться сатирический жанр русской
публицистики, печатались работы (переводные и оригинальные)
демократического и антикрепостнического содержания.
Социальные и идейные процессы России 70-х годов сыграли
особую роль в оформлении мировоззренческих принципов
Радищева, в определении их социально-классовой природы, или в целом
в выражении генеральной тенденции развития идей русского
просветителя. Решимость Радищева в год начала «пугачевского
бунта» издать свою первую книгу, в которой формировались идеи
антидеспотического, республиканского и глубоко вольнолюбивого
содержания, была проявлением гражданского мужества.
Речь идет об издании Радищевым переведенного им
произведения Г. Б. Мабли «Размышления о греческой истории» (1773).
Привлекало внимание не только само сочинение именитого
французского автора, утопического коммуниста и демократа, но и
идейный настрой комментариев переводчика, чье имя не
выставлялось ни на титуле, ни на подтитуле книги.
Комментатор-переводчик проявлял интерес к судьбам демократии,
самодержавной власти и республиканизма. Для него народный разум сильнее
разума законодателя. А в примечании к понятию «самодержав-
ство» (despotisme) указывалось; «Самодержавство есть
наипротивнейшее человеческому естеству состояние» [7, 2, 282]. Особым
образом выделялся вопрос об ответственности царствующей
особы перед народом, перед историей. «Неправосудие государя дает
народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает
закон над преступниками» [там же, 282]. Всем складом своего
политического мышления Радищев демонстрировал новые моменты
в развитии самосознания русское интеллигенции — рост в ее
среде антимонархических убеждение. Так впервые в нашей
литературе получила серьезную коррективу идея «просвещенного
абсолютизма», свойственная значительной части английских и
французских просветителей первой noj овины и середины XVIII в. Но
в комментариях к книге Мабли удлр был направлен прежде всего
против самодержавной власти Екатерины II, против
«просвещенной Северной Семирамиды», против деспотизма под личиной
либерализма. В авторском сознании цели идейные сливались с
целями политическими!
Следует обратить внимание на то, что в
комментариях-заключениях Радищева к книге Мабли, основанных на общей
гуманистической декларации, давалось рационалистическое осуждение
произвола и беззакония. Даже сам генеральный .принцип теории
«общественного договора» ставился под сомнение: «закон» и
«человеческие выгоды» — далеко не тождественные явления. «Если
мы живем под властью законов, — писал Радищев, — то сие не
для того, что мы оное долженствуем неотменно; но для того, что
мы находим в оном выгоды...» [7, 2, 282], т. е. если эта общая
41
польза налицо, то и закон может исполняться «неотменно»
(неукоснительно). Вносимая здесь поправка в понимание «духа
законов» Гоббсом, Монтескье, Вольтером и Руссо состояла в том,
что закон признавался не как рациональное средство обуздания
природной жестокости и спасения от звериного торжества
эгоизма, а как выражение выгод всех и каждого.
Подчеркнутые нами выводы Радищева поднимали
миросозерцание демократических сил России на высокую ступень
самостоятельного мышления. Независимо от официальной политики и
вопреки ей, а также вопреки теориям некоторых
западно-европейских философов6 формулировалась антицаристская,
республиканская программа, утверждение которой не обусловливалось ни
размерами территории страны, ни составом
населения,—'религиозные, расовые, имущественные и этнические различия сознательно
не принимались в расчет.
В 70-х годах Радищев активно сотрудничал с членами
«Общества, старающегося о напечатании книг», и прежде всего с
Новиковым. Нужно полагать, что содружество двух выдающихся
деятелей Просвещения получало выражение также в единомыслии,
ведь сам Новиков в то время развертывал как бы вторую
кампанию выступлений в печати не только против помещика-лихоимца
Безрассуда, воеводы Забылчесть, вельможного сановника Недо-
ума, но и против «премудрости, сидящей на троне» —
Екатерины II. Оценивая характер этого единомыслия, Чернышевский
подмечал прежде всего оригинальность духовного кредо русских
мыслителей: они имели свои убеждения и свой образ мыслей
[см. 522, VII, 484]. В этом образе мыслей нельзя не видеть
единство республиканских, антицаристоких и антикрепостнических
идейных устоев.
Содружество Новикова и Радищева оказалось плодотворным.
Влияние этих выдающихся просьетителей на современников было
огромным уже в 70—80-х годах. Оно не обезличивало творчество
тех, кто следовал идейно-политической программе демократии.
Оригинальность творческого облика Аничкова, Батурина, Десниц-
кого, Козельского, Поленова, Третьякова, Фонвизина нисколько
не страдала от их прямых контактов и творческих споров. Именно
об оригинальности свидетельствовал хотя бы «Отрывок
путешествия в *** И *** Т***», который анонимно в 70-е годы трижды
издавался и переиздавался на страницах «овиковского журнала
«Живописец», отрывок, «огорчивший целый дворянский корпус»,
потому что был горьковатым для «нежных вкусов благородных
невежд» [7, 2, 419].
Свою враждебность просветительскому республиканизму и
революционным идеям Екатерина II проявляла уже в 70-х годах, и
6 Очевидно, уже в эту пору Радищев сделал для себя вывод, который в
персонифицированной форме найдет выражение несколько позже: «Монтескье и
Руссо с умствованием много вреда сделали». Двум французским философам
ставилась в вину поддержка политики «просвещенного абсолютизма»
Екатерины II [см. 7, 3, 47].
42
этот факт был усвоен. В кругах российского Просвещения знали,
что при любых обстоятельствах даже упоминание о
революционных событиях в стране или за ее пределами может возбуждать
негодование «просвещенной царицы». Мелкий чиновник Н.
Колычев в начале 1775 г. счел возможным, «исходя из уроков
пугачевского бунта», составить записку на имя Екатерины II, в которой
предлагал меры достижения «более человечного», «лучшего
порядка», чем тот, который существовал в стране. Автор был
насильственно изолирован от «общественных кругов», принужден
постричься в монахи. В монастыре его лишили права
пользоваться чернилами и пером [см. 380, 54].
«Дело Колычева» все же не стало «оселком поучительства».
Достаточно высокую степень смелости продолжали проявлять и
просветительские общества, и журналы, и их активные деятели.
Н. Новиков при содействии М. Хераскова в мае 1779 г. получил в
аренду сроком на 10 лет университетскую типографию, книжную
лавку и газету «Московские ведомости» с правом печатания к ней
«Прибавлений». Выдающийся книгоиздатель вскоре стал
выпускать журналы «Магазин натуральной истории, физики и химии»
и «Экономический магазин». О размахе деятельности Новикова
свидетельствовал тот факт, что в 80-е годы около трети всех
издаваемых в стране книг и журналов выходило из его
типографий, среди которых университетской типографии принадлежала
основная роль [см. 153, 40].
Любопытно, что именно в эту пору Радищев имел намерение
напечатать в типографии Московского университета ряд своих
работ, которые, впрочем, так и не были обнародованы. Среди них
была ода «Вольность». Бунтарское, революционное произведение
Радищева по своему содержанию было выше идейно-политической
программы Новикова. Тем не менее общение автора «Вольности»
с владельцем университетской типографии в Москве расширяло
возможности первого влиять на ход событий, сообщало второму
дополнительный заряд устойчивости и воли в борьбе с общими
идейными противниками. Их объединяли принципы
демократической, антицаристской и антикрепостнической политической
платформы, которые создавали сплав радикальных идей,
объединявших силы противников екатерининского режима — передовых
людей России эпохи вызревавшего кризиса крепостничества.
Конечно, в 80-х годах заметней был Новиков, его возможности
и средства воздействия на современников были гораздо
значительнее тех, которыми располагал Радищев, вынашивавший новые
идеи, интенсивно трудившийся над текстом «Путешествия из
Петербурга в Москву». Новикову суждено было тогда (не без
помощи Радищева) стать подлинным героем российской демократии,
и его выдающуюся роль понимали как единомышленники, так и
враги. Осознавая политическую направленность и радикальную
идейно-теоретическую, философскую природу новиковоких
изданий, один из екатерининских доносчиков, протоиерей Петр
Алексеев— личный недруг Аничкова, Козельского и Новикова, писал
43
императрице из Москвы: «Содержатель университетской
типографии (Новиков. — П. Ш.) издает много книг, противных
православию и так далеко распространяющих «естественное человеческое
состояние», что это несовместимо, кажется, в монархическом
правлении» [444, 2, 77]. Автору доноса не по душе была
свободолюбивая, атеистическая и вместе с тем гуманистическая
подоплека московской печатной продукции, выпускавшейся в свет
Новиковым и его единомышленниками. Протоиерею Алексееву не дано
было понять природу антифеодального движения, суть его
выражения в идеях российских просветителей последних десятилетий
XVIII в.
Радищев не мог быть в стороне от интеллектуальной работы
современников, стремившихся осмыслить происходившие события.
В нем горело желание заниматься общественной деятельностью,
проявить себя на литературном поприще. Заслуживают внимание
факты, установленные Д. Бабкиным, 'что не только «отдельные
стихотворения, оды им были «преданы огню», но были
уничтожены и другие труды 70-х годов, т. е. той поры, когда, по
собственному признанию русского писателя, ом уже имел «охоту
упражняться в сочинениях» [см.: 45, 55]. Любопытно, что, «упражняясь
в сочинениях», Радищев усиленно изучал отечественную и
зарубежную литературу. В поле его зрения находились как труды,
важные для профессиональных интересов (для работы в коммерц-
коллегии и петербургской таможне), так и труды широкого
теоретического профиля (сочинения Гердера, Монтескье, Блекстона,
Мабли, Кондорсе), важные для удовлетворения его
теоретической, философской любознательности.
Стремясь осмыслить российскую действительность второй
половины 70 — начала 80-х годов, знакомясь с материалами и
документами, относящимися к американским революционным
событиям, Радищев приходил к принципиальным выводам. Аналогии
с пугачевским восстанием в свете комментариев к книге Мабли
были, очевидно, самыми уместными, резкими и радикальными,
революционными по смыслу. Иначе незачем было бы уничтожать
«сочинения», содержащие «правоверные летописания» или
излияния о «безобидных привязанностях». Ведь судя по дошедшим до
нас сочинениям 80-х годов («Слово о Ломоносове»7, «Вольность»,
«Письмо к другу, жительствующему в Тобольске...»), с идеями
Т. Пейна, Б. Франклина, Т. Джефферсона Радищев познакомился
«по свежим следам» исторических событий Американской войны
за независимость. Внимательное изучение первоисточников
позволяет понять тот настрой, который вызывали в нем памфлет
переселившегося тогда в Северную Америку английского
революционного демократа Томаса Пейна «Здравый смысл», яркие речи
Бенджамина Франклина в Конгрессе и знаменитый проект
«Декларации независимости» Томаса Джефферсона.
7 О дате начала работы А. Радищева над «Словом о Ломоносове» [см. 7,
1, 476, 479].
44
Знакомство с перечисленными выше произведениями Радищева
позволяет прийти к заключению о том, что революционные,
антицаристские и республиканские взгляды их автора сложились к
началу 80-х годов. До Великой французской революции им усвоены
были «дух войны Пугачева», некоторые важные стороны
совершавшихся в мире буржуазно-демократических преобразований —
революционных событий в Нидерландах, Англии и Америке.
Обращаясь к «Слову о Ломоносове», важно отметить, что в
этом произведении получили дальнейшее развитие антицаристские
идеи, выраженные в комментариях к книге Мабли. Славя
«великого мужа из народа», Радищев подвергал критике Ломоносова
за то, что тот «вслед обычаю» говорил лестные слова царям,
«нередко недостойным не токмо похвалы, стройным гласом
воспетой, но ниже гудочнаго бряцания...» [7, 1, 388]. Раскрывая свою
антицаристскую ориентацию, в «Письме к другу...» Радищев
подчеркивал мысль о том, что «нет и до скончания мира, примера,
может быть не будет чтобы Царь уступил добровольно что либо
из своея власти, седяй на Престоле» [там же, 151] 8.
Ода «Вольность» явилась выражением демократического и
революционного кредо Радищева — одного из первых мыслителей
Европы, приступивших к обоснованию республиканской,
антицаристской и вместе с тем революционной концепции. В 80-х г. даже
в предреволюционной Франции и в Северной Америке, охваченной
пламенем революционных боев за независимость, трудно было
найти человека, мыслящего с такой обличительной силой и
политической остротой. Русский мыслитель пророчески предвещал, что
«рать повсюду бранна» разорвет оковы свободы и низложит
деспотическую власть:
Ликуйте, склепанны народы,
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя [7, 1, 5].
В оде «Вольность» самовластье называлось «чудовищем
ужасным», «гидрой, сто имевшей глав», «алчным змием», видящим в
народе «лишь подлую тварь». Рисовалась широкая перспектива
«целого столетия», включавшая приближение того времени, когда
«человечество возревет в оковах и, направляемое надеждою
свободы и неистребимым природы правом, двинется...» [там же, 362].
Поэт указывал на урок «славной английской революции», урок
Кромвеля:
Но научил ты в род и роды,
Как могут мстить себя народы:
Ты Карла на суде казнил [там же, 8].
• Известно, что ода «Вольность» привела Екатерину II в
бешенство: «Ода совершенно явно и ясно бунтовская, где царям грозит-
8 Любопытно примечание к этой мысли, сделанное Радищевым или кем-то
.из первых издателей его трудов: «Если бы сие было писано в 1790 году, то
пример Людвига XVI дал бы сочинителю другие мысли», т. е., полагаем мы, царя
способна устранить с престола только революция, только гильотина ["см.: там
же].
45
ся плахою. Кромвелев пример приведен с похвалою» [47, 163].
И действительно, в оде звучат идеи «манифестов» Пугачева,
приветствуются и английская и североамериканская революции. Уже
в ту пору Радищев считал, что в интересах народа надлежит
«избить дворянское племя», возвести самодержца на плаху,
учредить народовластие. Сохраняя за народом права политического и
социального «возмездия», философ вместе с тем показывал
неизбежность насилия как формы реакции на произвол помещиков,
рабовладельцев, тиранов-венценосцев. «Да, Брут и Телль еще
проснутся!»— восклицал русский поэт в оде, уже само название
которой в 80-е годы могло служить поводом для отказов в
«печатнях» Петербурга и Москвы.
На наш взгляд, важно иметь в виду, что зарождение
революционной антикрепостнической идеологии в России связано с
именами Е. И. Пугачева и А. Н. Радищева и должно относиться к
70—80-м годам XVIII в. Ода «Вольность» являлась первым
поэтическим выражением программы гражданских свобод, и именно ее
автор первым указал на перспективу революционной борьбы в
России, которая, по его глубокому убеждению, должна
завершиться утверждением республиканского строя.
Е. Пугачев один из первых в России продемонстрировал
эффективность революционных средств борьбы против
крепостничества, хотя в своем понимании целей и задач крестьянского
освободительного движения не поднялся до антицаристских и
республиканских идеалов. Идейная же позиция А. Радищева,
учитывавшая содержание программы Пугачева, являла собой не простое
«сопереживание» или «сочувствие горькой судьбе крепостного
крестьянства», а выражала целый комплекс выводов антицарист-
ского и республиканского содержания, свидетельствовавших о
росте самосознания передовых интеллектуальных сил страны.
Понятие «вольность» обнаруживает прямую связь лексикона
активных участников пугачевского восстания с терминологией идейных
вождей самых радикальных представителей российского
дворянства, купечества и разночинцев, выступавших в защиту
требований «народа» [см.: 320, 155—172].
Попытки теоретического осмысления опыта освободительного
движения угнетенных имели место и в произведениях А.
Радищева второй половины 80-х годов, которым также присущи черты
гуманистической, антицаристской и республиканской
революционной идейности. В опубликованных в 1789 г. книге «Житие Федора
Васильевича Ушакова» и статье «Беседа о том, что есть сын
Отечества» такие ключевые понятия, как «человек», «гражданин»,
«сын отечества», «патриот», освещены светом антропологических
идей. Вместе с тем в своем анализе и в выводах философ широка
использует социальную аргументацию, термины политического
лексикона.
В «Беседе о том, что есть сын отечества» остро поставлены
вопросы о правах и свободах граждан независимо от их положения
на социальной лестнице, о подлинном волеизъявлении крепостных
46
и помещиков, в равной мере способных быть «сынами отечества».
Вольность — то качество, которое отличает «истинного человека»
от «животного», «мертвого трупа», «тяглого скота». В
несвободном субъекте заглушено все человеческое, подлинно гражданское:
достоинство, честь, нормальные потребности, самоощущение и
самовыражение. Отсюда — осуждение автором крепостного права,
злоупотреблений политической властью, лихоимства,
взяточничества, авантюризма, фаворитизма и подхалимажа
(«ласкательства»), погони за почестями без заслуг и т. п. [см. 7, 1, 215—216;
219—222, 254—257].
Конечно же, содержание одного из первых философских
трактатов Радищева — «Житие Федора Васильевича Ушакова»,
готовившегося к опубликованию в собственной типографии автора, во
многом обращено к социально-политической проблематике. Автор
четко представляет себе идейно-политическую ограниченность тех
из отечественных и западноевропейских писателей и философов,
которые в ту пору превозносили строй «просвещенной монархии»
и «ласкательно» вели себя относительно «хитросплетенной
политики» царствующих особ. Он сочувствовал тем, кто был
«придавлен к земле» условиями жизни, хотя от всех требовал при этом
сохранять гражданское достоинство, не снижаться до уровня
«ласкателей» сильных мира сего. «Большая часть просителей
думает, и нередко справедливо, что для достижения своей цели,
нужна приязнь всех тех, кто хотя мезинцем до дела их касается; и
для того употребляют ласки, лесть, ласкательство, дары,
угождения и все, что вздумать можно, не только к самому тому, от кого
исполнение просьбы их зависит, но и ко /всем его приближенным,
как то к секретарю его, к секретарю его секретаря, если у него
оной есть, к писцам, сторожам, лакеям, любовницам, и если
собака тут случится, и ту погладить не пропустят» [7, 1, 159]. Сатира
Крылова и Грибоедова, Гоголя и Щедрина в значительной мере
будет перекликаться с теми характеристиками социальных типов
России последней трети XVIII в., которые были созданы великим
русским писателем и публицистом. В связи с
идейно-политическими понятиями и этическими идеалами, авторскими симпатиями и
глубиной оценок философских течений и мировых политических
тенденций времени обрисован в книге образ идейного вождя
кружка русской учащейся молодежи в Лейпциге—Федора Ушакова,
образ вольнодумца и вольтерианца. Российские и европейские
события, исторические персонажи и их взгляды, тонко
охарактеризованные автором, позволяют говорить не только о высоком
историко-философском, но и об идейно-политическом значении
«Жития Федора Васильевича Ушакова».
И все же, как справедливо утверждают многие советские
исследователи творческого наследия А. Радищева, важно отметить,
что демократическая и революционная программа русского
мыслителя в произведениях начала и середийы 80-х годов не лишена
еще определенной абстрактности, была недостаточно связана с
реальными процессами общественной жизни России того времени.
47
Именно поэтому после «европейских перемен», смены
политических режимов в Западной Европе, после «сдвигов» внутри страны,
обусловленных пугачевским восстанием, американской, а затем я
французской революциями, автор «Вольности» с предельным
напряжением продолжал творческий и вместе с тем глубоко
критический анализ фактов науки, философии и общественной
практики, интенсивно трудясь над созданием знаменитого
«Путешествия из Петербурга в Москву», повторим, вышедшего в свет в на-
чале 1790 г.
А. С. Пушкин назвал «Путешествие из Петербурга в Москву»
«сатирическим воззванием к возмущению». Это вполне
объективная оценка книги, по известным причинам проданной небольшим
числом экземпляров, но сразу же обратившей на себя внимание
в различных слоях русского общества. Обладая огромным
мужеством, «рыцарской совестливостью» и верой в правоту своих
убеждений, Радищев дерзнул «вооружиться противу общего
порядка, противу самодержавия, противу Екатерины» [428, XII, 32].
Во всех предельно «заземленных» двадцати пяти главах
«Путешествия из Петербурга в Москву» почти с хроникальной
точностью развертывалась панорама социального обличения
крепостной действительности России. Каждый раздел книги — яркий
фрагмент цельного произведения, созданного средствами
этнологии, истории, философии. Крупнейшие идейно-политические
проблемы выдвигаются на передний план, получая решение в духе
самых передовых идей XVIII в. Философско-публицистический
трактат Радищева обнаруживает родство с трудами выдающихся
исследователей того времени — этнографов и публицистов,
экономистов и историков, философов и антропологов. В структуру
книги включалась ода «Вольность», которая огромной силой своей
поэтической экспрессии, всем комплексом
революционно-гуманистических идей подчеркивала выводы автора о включенности судьбы
России в поток мирового освободительного движения.
Весь идейный строй «Путешествия...» обращен к судьбе кре-
тюстного крестьянина, обнажает его экономическое и
политическое бесправие, бесчеловечное угнетение и моральное унижение.
Возбуждая боль в сердце, Радищев пишет, что крепостные
«походят на человека одним только видом», «обременены тяжестью
своих оков», «исключены из всего наследия человеков». Их
судьба— судьба «тяглового скота», животного, раба; им выпал на
долю жребий «вола во ярме» [7, 1, 378].
Радищев видел задачу «истинных граждан» страны («сынов
отечества») в том, чтобы «избавить человечество от оков и
пленения». Он выступал в защиту «неотъемлемых прав человека»,
против посягательств на принципы «общественного союза», па его
суверенитет; требовал признания равноправия «племен и народов
мира». В ряде глав «Путешествия...», несмотря на похвалу
американской революции в оде «Вольность» (1782) или позднее в
стихах «Осмнадцатое столетие» (1800), дается острая критика
североамериканской демократии, томившей в рабстве миллионы
48
негров, стремившейся «утучнять кровью нивы природных
жителей»—представителей коренного населения страны, зверски
истреблявшей их культурно-исторические памятники, «драгие
Америки произведения». Омерзительным и бесчеловечным
называл русский гуманист порабощение африканского населения
американскими рабовладельцами и английскими колониалистами.
«Нещастпые жертвы знойных берегов Нигера и Сенегала... —
писал он, — под тяжким жезлом благоустройства, вздирают
обильныя нивы Америки» [там же, 317], подчеркивая при этом,
что за примером «жестокосердия не имеем нужды ходить в
дальние страны», т. е. что рабству африканских негров соответствует
•крепостничество в России. Как справедливо отметил Герцен,
Радищев мыслил категориями широкого общественно-исторического
значения и «дорого заплатил за то, что пожалел черную Русь»
(по аналогии с «черной Африкой») [134, 15, 168].
Радищев не считал Америку обетованной землей
социально-политического прогресса. Не может быть «блаженною» страна, где
господствует «зверской обычай порабощать себе подобного
человека» [7, 1, 312], где сотни утопают в роскоши, а тысячи умирают
с голоду [там же, 316—317]. Сегодня, как и двести лет назад, эти
слова русского демократа и гуманиста актуальны.
Тем не менее критика Радищевым рабства в Америке несла
на себе печать теоретической ограниченности: она была заужена
этическими рамками, имела узкоэкономическое значение,
проявляла следы антропологической стесненности мысли. Автор
«Путешествия...» не мог понять диалектики и необходимости всемирно-
исторических явлений XVIII в. Только ряд десятилетий спустя,
когда был дан марксистский анализ капитализма периода
«свободной конкуренции», стало ясно, что «для скрытого рабства
наемных рабочих в Европе нужно было в качестве фундамента
рабство sans phrase (без оговорок) в Новом свете» [1, 23, 769].
Реальный смысл проведенной Радищевым аналогии между
русскими крепостными и африканскими и североамериканскими
рабами состоял в осуждении «насильственных средств»
использования пережитков рабства в «посессионном рабстве», в
использовании государственных и отпущенных крестьян с целью, скажем
мы, первоначального накопления. В чем суть дела?
Заводские работы крестьян были, как справедливо заметил
С. М. Соловьев, «самым тяжким видом крепостного права» [473,
XIV, 122]. Между тем широкое использование крепостных в
промышленности являлось насильственной мерой «просвещенных»
императоров российских и их подопечных — промышленников и
заводчиков (нередко из дворян). Владельцы крупнейших в стране
мануфактур, судостроительных, ткацких и оружейных
предприятий (Воронцовы, Демидовы, Панины, Строгановы, Шереметьевы,
Юсуповы) постоянно нуждались в рабочей силе. И царская власть
«щедрою рукою», не без учета «собственных надобностей»,
помогала промышленникам-крепостникам, специальными указами за-
49
крепляя за ними крепостных полурабов — «приписных»,
«заводских», «работных», посессионных крестьян.
Именно такую форму зависимости Радищев, как и многие
русские просветители последней трети XVIII в. (Новиков и Эмин,
Десницкий .и Козельский, Аничков и Третьяков), называл
«рабской». Эта квалификация крепостного рабства имела
объективный смысл и демократическое обоснование. Ведь мануфактурная
коллегия и берг-коллегия в России последней трети XVIII в.
относительно, скажем, государственных или посессионных крестьян
зачастую выполняли миссию, сходную с той, какую в Англии —
стране буржуазной и демократической —выполняли «Королевская
африканская компания» и «Компания купцов по торговле с
Африкой», проводившие в жизнь официальную политику британской
короны по работорговле9.
Некоторые наши историки, экономисты и философы относят
американских плантаторов, фабрикантов и
заводчиков-рабовладельцев к сфере отношений буржуазных, однако российских
обладателей «посессионного права» второй половины XVIII в. в
аналогичные отношения включать отказываются. Смущает вопрос:
неужели крепостной труд, феодальное принуждение могли
выступать средством накопления капитала, неужели царская, монаршая
власть может идти на услужение едва только рождающемуся
классу, может считаться с его силами?! Очевидно, да, поскольку
речь идет о наличии развитых экономических отношений, т. е. о
феодализме, шагнувшем вперед по сравнению с фазой
натурального хозяйства, о феодализме, получавшем «развитие» за счет
товарных, денежных отношений, возникающих на почве новых форм
производства. Официальный внешнеполитический блок России и
Англии в «екатерининскую эпоху» достаточно ярко отражал
некоторое родство тенденций и специфических форм
взаимоотношения классовых сил внутри каждой из стран; не случайно многие
годы он обеспечивал взаимопонимание господствующих
правящих классов «договорных сторон».
Русский мыслитель считал своим гражданским долгом
показать вред порабощения человека человеком как с точки зрения
философско-гуманистической, так и с точки зрения экономических
интересов общества. «Нива рабства, неполный давая плод,
мертвит граждан», которым природою определены были избытки ее;
работа до изнеможения — во вред человеку [7, 1, 319].
Антропологическое и социальное при этом концептуализировались:
выдвигая принцип «нормальной природы человека» в основание со-
9 По всей видимости, именно цели первоначального накопления
преследовала английская королева, поощряя дельцов Бристоля и Ливерпуля, во времена
А. Радищева бравших на себя организацию около половины всей европейской
торговли рабами. Когда по Утрехтскому миру Англия обязалась поставить
«американской стороне» почти 150 тыс. рабов-негров [см. 360, 70], английские и
американские дипломаты действовали заодно: обе стороны во имя того же
первоначального накопления капитала заключили договор о переброске «живого
товара» из одной части света в другую.
50
циальной и политической достаточности, Радищев указывал
одновременно и на «нечеловеческие», «рабско-крепостнические»
условия жизни русского крестьянина как на реальную и правовую
основу его социальной активности. В этом заключалась
своеобразная диалектика его понятий, которая в более развитой форме
найдет выражение у русских революционных демократов XIX в.
Именно здесь важно подчеркнуть, что в отличие от Джеффер-
сона и Пейна автор «Путешествия...» основы «человеческой
общности» видел не в «гуманной природе» людей, а в способности
человека при определенных обстоятельствах проявить предельную
решимость отвоевать свободу личности, «очеловечить человека».
В явном несогласии с Гоббсом он считал, что человек человеку —
не волк, — люди способны обуздать сторонников «неограниченной
свободы». Своей свободе можно «положить предел»: позволяя
людям властвовать над другими, легко увидеть, как они удаляются
от «вершины блаженства общественного».
Уже в посвящении к «Путешествию...» Радищев указывал на
ту цель, которую может выполнить писатель, руководствуясь
гуманными побуждениями: как и любой из граждан, он может быть
«соучастником ... во благоденствии себе подобных» [7, 1, 227].
Эту установку, опирающуюся на философско-антропологический
подтекст, автор провел сквозь все главы своего произведения,
структура (И изобразительные средства которого подчинены
задаче обратить взор на угнетенный народ, на «земледелателей»,
крестьянскую массу — животворящую силу России. «Земледельцы
и доднесь между нами рабы, — писал Радищев, — мы в них не
познали сограждан, нам равных, забыли в них человека».
Квалификация положения крепостного крестьянина как формы
рабства получает у Радищева многостороннее обоснование путем
анализа социальных уз, конкретных «житейских» ситуаций,
образа жизни помещика — крепостника и его крепостных душ.
Причем автор исходит из гражданской, республиканской позиции.
Анализ этой позиции позволяет видеть не только элементы эти-
цизма и абстрактного гуманизма, но и глубокое экономическое,
хозяйственное, политическое и социально-психологическое
обоснование Радищевым «пагубы» крепостного рабства. Во всех главах
«Путешествия...» раскрываются общественные отношения с таким
высоким мастерством, что невольно приходишь к мысли о
возможности социальных картин глав «Любань», «Спаская полесть»,
«Зайцово», «Хотилов», «Вышний Волочок», «Выдропуск», «Город-
ня» служить иллюстрацией к известному заключению К. Маркса:
«Быть рабом или быть гражданином — это общественные
определения, отношения человека А к человеку В. Человек А как
таковой— не раб. Он — раб в обществе и посредством общества» [1,
46, ч. I, 214].
Именно общественные отношения анализирует Радищев,
выявляя различные формы собственности, особенности трудовой
деятельности крестьян, натурального обмена, форм оплаты трудаг
средств угнетения и борьбы против него. Прорицатель вольности
51
указывает на различные способы «избавить человечество» от
социального рабства, «восстановить природное всех равенство». Он
объявляет пагубным действие «властводержавного закона»
(закона деспотического, царского), призывает понимать роль и
значение «сообразности народной», т. е. республиканско-демократи-
ческой законности. «Право естественное», указывается в главе
«Новгород», должно быть основанием «права народного» [см. 7,
1, 264].
Подлинный сын XVIII в. Радищев создавал «хотиловский
проект» не только как средство предупреждения грядущей «пагубы
зверств» [там же, 320—321], но главным образом как
возможный вариант реформы сверху. При этом следует подчеркнуть
революционное содержание «хотиловского реформаторства»:
предлагалось полностью изменить обветшалый уклад крепостной жизни,
ликвидировать все завалы на путях развития страны, опираясь на
почву республиканского строя, народовластия и «человечески-
гражданскую сообразность». Так понимаемая программа
«благородных деяний» современников содержала в себе грандиозные
задачи, превосходившие по своим масштабам реформы Петра I.
С одной стороны, Радищев осознавал, что в России 80—90-х годов
XVIII в. никакого смысла не имели бы лозунги, призывающие к
немедленной революции, к крестьянскому бунту. Это понимание
ситуации в стране оказывало сдерживающее воздействие на его
выводы и призывы. С другой стороны, американская и
французская революции, их результаты, а также анализ ошибок
Пугачева побуждали Радищева к выводам категорическим,
революционным [см. 7, 1, 326, 368].
Признанием народной революции как средства изменения
социальной, правовой и нравственной атмосферы жизни в России
подводилась своеобразная теоретическая база не только под эво-
люционно-реформаторский, но и под
революционно-насильственный способ «преображения жизни». Эта идея оправдания
революционного действия как средства отрицания современной ему
российской действительности в понятиях Радищева вытекает из
признания общего принципа диалектической изменчивости всего
сущего. Немецкая философия того времени (в лице Гердера, Канта,
Фихте) начинала выдвигать требование «отрицания» — формы
обновления сущего. Но эта чрезвычайно плодотворная идея в
Германии конца XVIII в. получала развитие в абстрактном виде,
часто в отрыве от жизни, практики, что уводило в сферу
мировоззренческой ограниченности.
Радищев убеждает в важности и неизбежности насильственной
перестройки социальной жизни на путях полного раскрепощения
народа. Не только анализ состояния общества России XVIII в.,
но и анализ путей и средств его преобразования в концепции
русского мыслителя находят выражение в форме антропологической,
этической, социально-психологической и экономической. Даже в
главе «Хотилов», содержащей проект реформы сверху, через
осознание необходимости отмены крепостного права и т. п., Радищев
52
рассматривает сословные отношения крестьян и помещика как
отношения «вражды». Подобно Пейну, Ру, Леклерку, Кондорсе и
Рейналю, он вплотную подходит к пониманию сословной
(классовой) борьбы как обычной формы существования социально
противоположных сил в обществе. Вместе с этим «неравенство
крестьянского состояния» признается им «ненормальным» явлением,
которое во имя «снискания собственной пользы» преодолевается в
борьбе. Автор «Путешествия...» считал, что он доходит «до
последнего края беспрепятственного вольномыслия», оправдывая
активное сопротивление крепостному гнету, «бунт», насильственную
форму борьбы против «человеконенавистников» —
помещиков-тиранов, «бессердечных злодеев», «кровопийц-душегубов»,
«бесчеловечных господ» [см. 7, 1, 368]. В главах «Зайцово», «Едрово»,
«Медное», «Вышний Волочок», «Городня», описывая совершенные
злодеяния «помещиков-кровопийцев», тяготы крепостнического
угнетения, Радищев признает оправданными насильственные
действия крестьян — «человеколюбивое мщение» [там же, 326]. Вот
строки «Путешествия...», явившиеся не только апофеозом гнева
автора и его возмущения системой
самодержавно-крепостнического угнетения, но и основанием для признания исторической роли
революционного насилия: «О, если бы рабы, тяжкими узами
отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их
препятствующим главы наши, главы безчеловечных своих господ,
и кровию нашею обагрили нивы свои! Что бы тем потеряло
государство? Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи для
заступления избитого племени; но были бы они других о себе
мыслей и права угнетения лишены» [там же, 368—369].
Налицо недвусмысленное предсказание перспективы возможной
и необходимой революции. Желая «иметь время своим
союзником», глашатай протеста и борьбы, «первый прорицатель
вольности» был убежден, что свет разума способен «сквозь столетия»
проницать грядущие события. Предвещая новый бунт, предрекая
нового Пугачева, Радищев считал, что за свою несправедливость
и жестокость помещики и царский престол получат заслуженное
ими возмездие — кару, «меч и отраву, смерть и пожигание». По
поводу этих предостережений императрица Екатерина II не без
оснований заметила: «То есть надежду полагает на бунт
мужиков». А в качестве общего вывода она записала: «Он себя
определил быть начальником, книгою или инако исторгнуть скипетра из
рук царей» [47, 163—164].
Для Радищева социальное отрицание есть средство
очеловечения человека, достижения общих свобод, вольности. Вольность же
это не абстрактно выраженное стремление страдать «во имя
правды» (как учили масоны), а добытое право на раскрепощение,
вызволение из пут крепостного рабства, право на «естественное»
развитие личности и общества, их совершенствование и
самосовершенствование. Мечта человека о свободе неистребима. Свобода,
«вольность» — «естественная потребность», условие развития
личности, семьи, племени, социального целого — общества. «Мечта
53
свободы», «правда свободы», «вольность неуемная» — понятия
радищевского лексикона, формы категориального закрепления
напряженной работы передовой мысли России XVIII в.
Гражданская патетика и публицистическая эмоциональность
слога в «Путешествии...» Радищева дополнялись «коликократны-
ми» (весьма частыми) философскими экскурсами в область
мировой и российской истории, всемирных освободительных движений.
Пр1И этом живой, страждущий и бунтующий русский крепостной
крестьянин вводился в русскую литературу как герой высокого
назначения. Прометей, Спартак, Гус, Разин, Пугачев,
Вашингтон— образы выдающихся борцов, которые, согласно Радищеву,
должны символизировать духовное и гражданское величие.
Отсюда его постоянные призывы обращаться к истории — открытой
«книге жизни», книге мук и борьбы за равенство и вольность.
Опора на историю в сочетании с социальной ориентацией, когда
сам Радищев обращает внимание своих читателей, что ему делает
честь воспеть вольность от имени раба, — весьма показательна
для социально-политической характеристики самого автора. Его
симпатии к народу, к крестьянской массе при этом сливаются в
металл убеждений: народолюбец, певец народа завершает свое
чтение оды «Вольность» в главе «Тверь» выражением убеждения,
что «человечество» способно «возреветь в оковах», мобилизуя
«всех сил сложения», разрушить «в одно мгновение» власть
угнетателей и это будет «избраннейший всех дней!» [7, 1, 362].
Летом 1790 г., находясь в Петропавловской крепости,
литературным образцом для своего «Путешествия...» Радищев назвал
«Сентиментальное путешествие по Франции и Италии»
английского писателя Лоренса Стерна (1713—1768). Тем не менее всем
своим содержанием, формой и стилем «мысленных образов»
«Путешествие из Петербурга в Москву» является оригинальным
произведением. Дух человеколюбия и гражданственности в главном
идейно-политическом трактате Радищева был выражен в
концентрированной форме, как не у многих из деятелей Просвещения
XVIII в.10
Разумеется, не все вопросы идейно-политического и особенна
философского значения получили в «Путешествии...» полное
осмысление и исчерпывающее решение. Кроме того, после выхода
в свет и «ареста» этой книги, после заключения мыслителя в
Петропавловскую крепость, следствия, суда и ссылки в Илимский
острог многие проблемы в сознании Радищева получили более
четкое, яркое и актуальное выражение. Новые вопросы вставали
в связи с развернувшейся в стране политической и идейной
реакцией. Некоторые из них нашли выражение в трактате «О
человеке, о его смертности и бессмертии» (1792), другие — в
творчестве последних лет жизни. Радищев страстно желал разработать
10 На наш взгляд, немецкие исследователи мировоззрения А. Н. Радищева
Г. Грасхоф, А. Лаух и У. Леман в книге «Гуманистические традиции русского
Просвещения» (1973) идейную позицию автора «Путешествия...» справедливо»
квалифицируют как особую форму развития гуманизма XVIII в. [см. 584].
54
идеологическую программу, которая выражала бы «здоровую» и
«трезвую» линию борьбы, т. е. крестьянскую революционную
тенденцию в просветительстве. Идеи «Путешествия...», дух Разина и
Пугачева определяли ее эмоциональную силу и политический
радикализм. Вместе с тем в ней учитывался и мировой опыт
политической борьбы: отмечались расизм и «корыстолюбивый эгоизм»
англо-американских буржуа, полностью осуждался
индивидуализм и якобинский «кровавый террор» французской буржуазии.
Формулировалось требование о необходимости высокой
организации и достаточной сознательности сил революции. Вероятно,
одним из первых в истории общественной мысли Радищев
подверг критике буржуазную демократию: в поэме «Песнь
историческая» отбрасывалась (как непригодная для народа) «тирания под
сенью закона», т. е. идея конституционной монархии, защищалась
идея трудовой, крестьянской и вместе с тем республиканской
демократии. Революционные и демократические взгляды Радищева
[см. 311, 172] п включали в свой строй «народнический
эмбрион»— отдельные идеи, которые получили затем всестороннее
развитие в воззрениях Герцена и Чернышевского.
В произведениях Радищева, написанных в начале XIX в.,
часто повторяются понятия «вольность», «свобода», «независимость».
Однако эти терминоформы с большой осторожностью
использовались русским мыслителем. Скажем, в «Песне исторической», в
которой параллельно с разработками по вопросам
«законодательства» убедительно показана несостоятельность самодержавия как
политической формы правления, отбрасывается идея
ограниченной монархии и даже парламентской буржуазной демократии,
защищаются принципы крестьянской демократии. Будет показано,
что такая идейная нацеленность, свойственная также отдельным
статьям проекта «О законоположении» [см. 7, 3, 247—248] не
найдет своего выражения в «Семнадцатом столетии» — стихах, по
стилю высоких, но не без «ласкательств», перекрывающихся
человеколюбивым звучанием рифмы [см. 7, 1, 127—129].
Но гуманистическим идеям Радищева не дано было обрести
реального воплощения в условиях XIX в. Зато лежавшим в
основании воззрений мыслителя идеям о мире и человеке, о путях и
средствах познания, формах человеческого общежития в новом
столетии суждена была большая жизнь — они оказали
значительное влияние на деятелей освободительного движения России
благодаря тому, что им сообщала силу проницавшая все
мировоззрение автора «Путешествия...» живая тенденция слияния
революционной идеологии с гуманизмом, философской антропологией.
11 Вопросы о характере социально-политических взглядов Радищева
многократно дискутировались в нашей печати и особенно остро обсуждались в 50-х
годах. Историки философии эту дискуссию не считают законченной [см. 255,
311, 387].
Глава II
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР
ФИЛОСОФСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ А. Н. РАДИЩЕВА
Восемнадцатое столетие соединяло в себе просвещение, науку,,
развивающееся производство и, особенно к своему концу,
надежды человечества — надежды на освобождение от феодальной
зависимости, от хронических войн, эпидемий и т. п. Отсюда
огромные симпатии деятелей европейского Просвещения к
гуманистическим идеям античности, эпохи Возрождения, к идеям Бэкона,
Гоббса, Локка, Спинозы, Лейбница, Бодена, Ларошфуко [см. 343,
260—261], к утопическому социализму, в эту пору получавшему
значительное развитие [см. 510, 20—21]. Блестящие исследования
в области антропологии, этнографии, эмбриологии, физиологии,
теории развития создавали условия для решительного штурма
изживающей свой век «метафизики». Проблема человека становится
заглавной темой истории второй половины XVIII в. На вершине
ее разработок суждено будет стать целой плеяде французских,
немецких, английских, русских и американских мыслителей. С ней
связаны, от нее существенно зависимы многие направления
философии, ее характер часто дает тональность содержанию предмета
новейших в тех условиях философских систем: деистического
материализма, берклианства, юмизма, концепции «здравого
смысла» в Англии, вольтерианства, руссоизма, воинствующего
материализма Ламетри, Гельвеция, Гольбаха, Дидро во Франции, Лессин-
га, Галлера, Платнера, Гердера, Канта, Гёте в Германии,
Франклина, Пейна, Роша, Джефферсона в Америке, Ломоносова,
Сумарокова, Новикова, Фонвизина, Аничкова, Батурина, Десницкого,
Козельского, Радищева и др. в России.
И по форме и по содержанию меняется понимание предмета и
задач философии. Об изменении формы философских знаний
авторы недавно вышедшей в свет книги «Западноевропейская
философия XVIII века» пишут: «Философское творчество сочеталось у
большинства мыслителей XVIII в. со стремлением
популяризировать свои учения, делая общедоступной форму их изложения.
Отказ от установок на эзотеричность и элитарность философии был
связан с убеждением в ее величайшей важности для социальной
жизни людей, всевозможные аспекты которой во все большей
мере становились предметами философской рефлексии» [286, 4].
Важнейшим аспектом, изменявшем само содержание философии
нового времени, являлся философско-антропологический ракурс.
Человековедение в комплексе связанных с ним знаний, а
главное— социальные запросы века Просвещения существенно влияли
56
на одну из важнейших тенденций развития философии — на
становление философской антропологии.
Становление философской антропологии и его влияние на
философию А. Н. Радищева — тема, рассмотрение которой было бы
целесообразно до изложения основных понятий философских
построений русского мыслителя. Ее выделение из контекста
предшествующей главы, с нашей точки зрения, оправдано ввиду того,
что именно философская антропология является фактором,
определившим форму, смысл и значение философского творчества
Радищева.
Развитие философской мысли в России последней трети
XVIII в. характеризовалось рядом тенденций, одна из которых
отличалась стремлением к единению естественнонаучных и
гуманитарных понятий. Данная тенденция реализовалась в двух
направлениях. Одно из них заключалось в сведении человеческого
существования к природному миру как его части; другое в том, что
человек как «венец божественного творения» противопоставлялся
природе, но не сам по себе, а в силу признания
противоположности материального (телесного, физиологического) духовному
(идеальному, «божественному»). В рамках каждого из этих
направлений по-своему решалась проблема единства внечеловече-
ского (природного) и человеческого (антропогенного) миров.
Первое из указанных направлений исходило из признания
материальной основы бытия и явлений. Российские «естествословы»
во главе с Ломоносовым отстаивали идеи о материальности всех
физиологических процессов в человеческом организме. Автор
«корпускулярной философии» требовал признания «теории
совмещения», взаимодействия корпускул и элементов основанием процесса
восприятия, познания в целом [см. 97, 183—200]. Большое
значение для истолкования представителями естественнонаучного
материализма проблем единства природы и человека,
взаимоотношения физического и духовного в человеке имели ломоносовская
новая физика и химия, теория «слоев земных», закон сохранения
материи и движения, изыскания Р. Бошковича, А. Лавуазье,
Д. Дальтона, Дж. Пристли, А. Каверзнева, К. Вольфа, П. Палла-
са, Ж. Бюффона и др. В сочинении Бошковича «Теория
естественной философии, приведенная к единому закону сил,
существующих в природе» (1758) формулировались выводы, близкие
понятиям об электромагнитном и гравитационном полях, давались
оригинальные толкования принципам «взаимодействия»,
динамизма, сродства, химизма и т. п. К. Вольф и Дж. Пристли
выдвигали идею о возможности зарождения живого из неживого,
превращения «материи неживой» в «материю живую».
Не только задачи классификации, но и возникновение
проблемы «живого» в последней трети XVIII в. послужили импульсом к
созданию теоретических построений, имевших в основании
принцип развития. Космологическое учение о происхождении
Вселенной из хаотической массы мельчайших частиц вещества (Кант,
57
Лаплас) приходило в тесное соприкосновение с идеями о
возможностях познания качественно совершенствующихся форм жизни, в
своем движении улучшающих свою «организацию» (Бюффон,
Робине, Дидро, Мопертюи, Каверзнев). Многотомная «Естественная
история» Ж. Бюффона, как и «Энциклопедия, или Толковый
словарь наук, искусств и ремесел», созданная под руководством
Даламбера и Дидро, была полностью переведена на русский язык к
концу 80-х годов. Хорошо знакомый с современной литературой,
посвященной обоснованию принципа развития природы,
приспособительной изменчивости живой природы, А. Каверзнев издал
свою диссертацию в 1775 г. в Лейпциге под названием «О
перерождении животных» (на немецком языке), а в 1787 г. в Москве
под названием «Философское рассуждение о перерождении
животных» (на русском языке). Высказывались идеи о единстве
неорганического и органического миров, о происхождении высших
форм от низших в связи с влиянием внешней среды, условий
обитания [см. 493, 16].
Сдвиги, происходившие в естествознании, оказывали большое
влияние на развитие наук о человеке — антропологию,
физиологию и психологию человека, на развитие содержания и формы
философских исканий. С целью реалистического объяснения
природы человеческой духовности обращались к учениям Спинозы,
Декарта, Рида, Галлера, Дидро, Кабаниса, Аничкова, Канта, Плат-
нера.' Швейцарский физиолог А. Галлер в своей работе «Основы
физиологии», по сути, сформулировал принципы современной нам
физиологии как науки. Его учение о нервно-психологических
явлениях, дополняя и совершенствуя декартовскую систему рефлексов,
вместе с тем само дополнялось блестящими изысканиями
чешского анатома и физиолога Г. Прохазки, который в сочинении
«Физиология, или Учение о человеке» развил представления о нервных
рефлексах, рефлекторной дуге, указывал на посреднические
функции нервной системы человека в его взаимодействии с внешним
миром. Мышление определялось как некое проявление свойств
мозга — высокой организации материи [см. 561, 154—155].
Гельвеций с его трактатами «Об уме» и «О человеке», Дидро
с «Мыслями об объяснении природы» и «Разговором Даламбера с
Дидро» явили пример широкого биологического и историко-психо-
логического подхода к проблеме человека. Гипотеза «живых
молекул» — носителей «чувствительности» и разумности высших
форм материи, выдвинутая Дидро [см. 158, 2, 431], соприкасалась
с общей проблемой соотношения прирожденных особенностей
индивида и внешних условий, толкала к физиологизации или
материализации сознания. По такому пути пошел Кабанис.
Позитивное содержание творчества французского ученого, активного
участника революции, — в толковании мышления как формы
активности субъекта на всех стадиях освоения человеком внешнего
мира. «Относя переработку идей за счет внутримозговой
механики, Кабанис становился на путь физиологизации не только
индивидуального, но и общественного сознания» [561, 160].
58
Рост внимания к проблеме человека, человековедению,
философскому истолкованию антропогенеза в последней трети XVIII в.
привел к развитию этнографической, антропологической,
обществоведческой тематики, к росту популярности «путешествий»,
«писем очевидцев», «дорожных приключений», «дневников» и т. п.
Сложившаяся в мировой практике того времени традиция делала
«путешествия» важными источниками относительно достоверной
естественнонаучной и общественно-политической информации.
Именно поэтому в середине и во второй половине XVIII в.
получили широкую популярность книга Э. Прево «История путешествий»
(1745), а также трактат Ж.-И. Деменье «Дух обычаев и нравов,
или Наблюдения, почерпнутые у путешественников и историков»
(1776)—произведения, признанные одним из главных источников
философской антропологии конца XVIII в. [см. 100, 216—263,
415]. Появившись намного раньше выхода в свет последнего тома
«Естественной истории» Ж. Бюффона (1788) и «Антропологии,
или Общей науки о человеке» М. Шевона (1788), эти труды
дополняли теорию эпигенеза и трансформизма К. Вольфа,
геологические идеи П. Палласа, эволюционистские идеи М. Ломоносова,
А. Болотова, А. Каверзнева, И. Канта.
Материалы «путешествий» в значительном объеме были
использованы в работе Н. М. Максимовича-Амбодика «Физиология, или
Естественная история человека» (1787), сыгравшей заметную
роль в развитии отечественной физиологии и антропологии.
Сенсуалистические принципы достоверного значения «увиденного»,
«непосредственно описанного» в «путешествиях» привлекали
внимание И. Гердера и Г. Фостера, М. Мендельсона и А. Попа,
Э. Сведенборга и Д. Фонвизина, И. В. Гёте и И. Третьякова,
Э. Кондильяка и Г. Рейналя, В. Бошшенеи и Н. Карамзина.
Большинству из них импонировала тенденция путешествующих
историков и антропологов сочетать бэконовское уважение к опытным
знаниям с декартовскими рационалистическими представлениями
об активной роли разума в познании. Не случайны будут их
попытки посредством «учения о человеке» решать вопросы о
задачах и возможностях философии в совершенствовании человека и
общества.
Естественнонаучной направленностью и интересом к проблеме
человека, личности отличались работы американских
просветителей Б. Франклина, Т. Пейна, Т. Джефферсона, Б. Раша и др.
Явная ориентация на гуманистическую проблематику, разработка
вопросов антропологии и этнографии, психологии и педагогики —
вот чем характеризовалась творческая деятельность идеологов
американской революции XVIII в. Вниманием к теоретическим
вопросам антропологии отличались философские стремления
активного участника войны за независимость, «отца» американской
психиатрии Б. Раша. Врач по профессии, он создал работу
«О влиянии физических причин на моральную способность
человека» (1784), в которой выдвинул и по-своему обосновал идеи о
детерминизме физиологических и психических функций человече-
59
ского организма, побудительной обусловленности его воли и
мышления. Даже физическое благополучие организма человека
автор ставил в зависимость от решения социальных проблем,
положения личности в обществе, демократизации политической власти
[см. 561, 164].
Применительно к общественным теориям XVIII в. необходимо
различать натуральную и социальную философскую
аргументацию. Не только в европейской, но и в российской общественной
мысли последней трети XVIII в. тенденция углубления в челове-
коведческую философскую проблематику сопровождается
обращением к понятиям и идеям, подчеркивающим особую роль
общественных явлений, воздействующих на «характер людей».
Одновременно подвергается критике механистическое понимание
взаимосвязи человека и общества. Традиционная форма выделения
личных и родовых отношений не просто дополняется понятиями
«личность» и «общество» — в содержании этих категорий
намечается тенденция повышения роли социальных (экономических и
политических) процессов, влияния на человека динамики
общественной жизни.
Традиционные понятия теории «естественного права» и
«общественного договора» (Альтузий, Боден, Гоббс, Пуффендорф,
Лейбниц, Хр. Вольф, Руссо) получают серьезные коррективы в связи
с развитием антропологической ориентации, ростом влияния
утилитаристских учений, теории «разумного эгоизма». Гельвеций был
одним из первых во французской философии, выступивших с
критикой раннепросветительских теорий. «Естественный ход вещей»
и «естественные потребности», по мнению французского философа-
материалиста, порождают процесс очеловечивания того, что
называется развитием природы и общества, т. е. истории. В своей «ан-
тропосоциальной концепции» [см. 122, 1, 302] Гельвеций не смог
соединить проблему гуманизации человека с представлениями а
роли труда в социальной жизни людей. Он остановился на
пороге весьма важного вывода, который будет сделан почти сто лет
спустя: «...Вся так называемая всемирная история есть не чта
иное, как порождение человека человеческим трудом...» [1, 42,
126].
В конце 60-х годов свои воззрения на человека Гельвеций не
только соединял с понятиями социального звучания, но и
подробно изложил «теорию интереса», свои утилитаристские,
прагматические взгляды. Это обстоятельство и публичная критика ранних
просветителей Гоббса и Пуффендорфа привлекли внимание
Гольбаха и Дидро. Вскоре И. Бентам объявил себя учеником и
последователем Гельвеция, а сама концепция утилитаризма постепенна
стала связываться с его именем — активного ее пропагандиста.
К системе утилитаристских понятий, отражавшей идеологические
тенденции англо-французской философской школы, быстро рос
интерес в России [см. 599, 3—9]. Одной из причин этому являлся
тот факт, что для Дидро и Бентама утилитаризм послужил
основанием их прожектов преобразования России, «планов» ее «вос-
60
хождения» на высоты «утилитарного общества будущего» [см.
565, 4].
Утилитаризм вносил большие коррективы в теории
«естественного права» и «общественного договора». Он оказался вполне
совместимым с антропологически окрашенными философскими
построениями 70—90-х годов. Иллюстрацией этому могут быть
работы Гердера, Канта, Лафатера, Платнера, в которых авторская
позиция получала обоснование средствами философской
антропологии. Их труды наряду с работами Бюффона, Дешана, Максимо-
вича-Амбодика, Шевона, К. Вольфа, Аничкова, Прево,
Каверзнева, Раша, Новикова, Джефферсона, Фонвизина сыграют большую
роль в закладке фундамента философской антропологии.
Сборники «Физиологический кабинет», ряд лет издававшиеся лейпциг-
ским философом И. К. Лафатером, привлекали внимание
европейской научной общественности.
Значительный вклад в формирование философской
антропологии внесли Гердер и Кант. Уже в ранних работах «Uber den
Ursprung der Sprache» (1772) и «Auch eine Philosophie der Ge-
schichte zur Bildung der Menschheit» (1774) l Гердер связывает
языковое творчество с психической деятельностью мозга,
сознание человека — с культурно-историческими фазами развития
общества, нации, сословия. Внимание к проблемам
психофизического и вместе с тем общественно-исторического взаимодействия
жизнедеятельности человеческого организма и общественной системы
различных уровней — одно из заметных достижений социально-
психологических понятий Гердера. Одна из работ немецкого
просветителя называлась «Философия истории формирования
картины человечества». Насыщенные социальной, правовой,
этнологической проблематикой, труды Гердера пользовались широкой
известностью в Западной Европе, Новом Свете и России.
Гердеру и Платнеру принадлежит приоритет критики
философии и этики Канта. Реагируя на эту критику, кенигсбергский
философ подчеркивал, что его понимание «антропологических
задач» отличается от распространенных форм аналогичных
построений. С начала 90-х годов он приступил к чтению университетского
курса по антропологической философии, а в 1798 г. издал свойг
трактат «Антропология с прагматической точки зрения», что
свидетельствовало об устойчивости развивающихся интересов Канта
к философской антропологии: на сознание немецкого мыслителя
оказывала влияние общая тенденция развития духовной жизни
эпохи Просвещения.
Важную роль в процессе гуманизации философии в XVIII в.
играл идеологический фактор, отражавший социальный эгоизм
буржуазии, выступавшей против феодальной структуры общества.
В условиях ряда западноевропейских стран призывы сделать от-
1 На русском языке эти произведения вышли в свет только в 1959 г. под
названиями «Трактат о происхождении языка» и «Еще один опыт философии
истории для воспитания человечества».
61
ношения всех людей «человеческими», «братскими» являлись
идейным выражением буржуазного интереса высвободить
человека из пут феодально-классовой зависимости путем перевода на
«свободный» рынок труда. Здесь скрывались исторические
ограниченности буржуазного гуманизма, его «общечеловеческих»
лозунгов, апелляции к антропологии, к науке в целом. Крестьянская
тенденция в Просвещении вносила определенные коррективы в
гуманистическую программу буржуазных требований, существенно
влияя на характер философско-антропологических построений.
Характерный для интеллектуальной ситуации XVIII в.
могущественный ток к обществоведению от естествознания [см. 2, 25,
41] делал важным в глазах современников Радищева знакомство
с естественнонаучными трудами своего времени. По сути
(начиная со времени первых встреч с профессорами и преподавателями
Московского университета в юные годы, знакомства с деятелями
российского Просвещения во время пребывания в Пажеском
корпусе, общения с профессорами, студентами Лейпцигского
университета), Радищева окружали люди широких научных и
общественных интересов, его интенсивные занятия современным
естествознанием и новейшими философскими, правовыми и этическими
учениями должны были привести и привели к одной из
генеральных тем века — к теоретическому осмыслению гуманистических
задач, к философскому выражению величайшего из открытий
этого века.
Отмечая значение лейпцигского периода творческого
становления Радищева, важно указать, что именно в то время он
ознакомился -с новейшими трудами французских просветителей —
статьями знаменитой «Энциклопедии», только вышедшей в свет работой
Гельвеция «Об уме», с сочинениями Монтескье, Гольбаха, Дидро,
Мелье, Кондильяка, Даламбера, Ламетри. Видимо, впервые в эту
же пору Радищев-студент из университетских лекционных курсов
начал осваивать идеи философской антропологии. Судя по всему,
первые книги по английской философии были прочитаны им в
годы учебы в Лейпцигском университете. Определенное влияние
на его сознание имели упоминавшиеся нами сочинения
Сумарокова, НоЕикоза, Фонвизина, Эмина. Однако, как это следует из
автобиографического произведения Радищева «Житие Федора
Васильевича Ушакова», весьма значительную роль, не исключено,
что определяющую в ту пору, имело влияние на него «вождя
юности»— Ф. В. Ушакова. Сравнительный анализ произведений
Ушакова («Размышление 1. О праве наказания и о смертной казни.
2. О любви. 3. Письма о первой книге Гельвециева сочинения
О разуме») и сочинений самого Радищева позволяет сделать
достаточно четкий вывод о совпадении основных раннеантрополо-
гических позиций двух русских гуманистов [см. 7, 1, 155—186].
После возвращения из Саксонии в Россию весьма тесными
контактами отличаются отношения Радищева с Новиковым и
Фонвизиным, с академическими кругами [см. 48, 138—147],
профессорами и преподавателями Московского университета — медиками
62
П. Вениаминовым и С. Зыбелиным, философом Д. Аничковым,,
юристами С. Десницким и И. Третьяковым, естественником
М. Афониным [см. 163, I—III]. Все они проявляли большой
интерес к проблеме человека, ориентировались на философскую
антропологию или теоретическое человековедение. Эволюция их
философских понятий вела к утверждению идеи истинности и
методологической значимости не только антропологического, но и
социологического подходов в философии и обществознании.
Начиная примерно с 70-х годов XVIII в. в русской
просветительской мысли набирает силу антропологическая тенденция,
что можно показать на примере идейной эволюции Новикова,
Аничкова, Батурина, Козельского, Поленова, Фонвизина и др.
Эволюция воззрений Ф. Ушакова шла в этом направлении, что
было отмечено самим А. Радищевым в «Житии Федора
Васильевича Ушакова» [см. 7, 1, 180—181]. Становление взглядов
Д. Фонвизина, начавшееся с конца 60-х годов, завершилось
позицией, которая максимально приближалась к философско-антро-
пологическому пониманию задач «любомудрия»: «Моя
философия,— писал он, — стремится только познавать сердца
человеческие; не течениям звезд я следую, не систему мира проникнуть
желаю, не с Эйлером теряюсь в раздроблении бесконечных
малостей,— движение добродетельных душ и действия благородных
сердец познавать стараюсь» [514, 2, 7—8]. Антропологические
интересы Новикова известны [см. 210, II, 149—150]. Выдающийся
русский книгоиздатель сам характеризовал своих современников,,
исходя из философско-антропологической ориентации. Так, о Дес-
ницком и Третьякове он говорил как о представителях
«английской школы» (они обучались в Англии), обращающихся к
вопросам «человекоучения». Действительно, оба университетских ученых
часто апеллировали к понятием «натура человека», «натуральный
ход истории», «естественный порядок вещей», «человеческое
взаимопонимание» и т. п. «Во многих обществах, — отмечал
Третьяков,— от несправедливости рассуждений и от враждебного
несогласия между людьми высшего и низшего состояния происходят
установления, препятствующие натуральному течению; однако
оные действительными нигде не бывают, поелико они совсем
противны самой натуре человеческой» [там же, I, 338]. В своих
лекциях Десницкий едко высмеивал «натуральную юриспруденцию»,
теологическое толкование «естественного права» и догматизм
умозрительной «моральной философии» [см. 156, 16—17]. Он
развивал идеи постепенного совершенствования социальных институтов
с учетом изменения потребностей людей. Эта точка зрения
сообщала его взглядам элемент историзма. Университетский правовед
при этом опирался не только на сочинения Монтескье и Руссо,,
Блекстона и Смита, но и на блестящие исторические труды
Ломоносова и Татищева, этнографические изыскания Крашенинникова
и Новицкого.
Изменения, происходящие в воззрениях русских просветителей
в последней трети XVIII в., достаточно отчетливо выражали но-
63
вые тенденции в естественных науках и в идеологии. Под
влиянием этнографии и психологии, медицины и антропологии
получили новую трактовку традиционные натурализированные теории
права и морали, проблемы философии и истории, искусства и
литературы. В свете этой трактовки права и главные потребности
людей рассматривались как отчужденные формы человеческой
натуры. Требования возврата «естественных прав», регенерации
«отторгнутой сущности человека» сочетались с анализом
«состояния общественных сил», с призывом к борьбе за «раскрепощение
человека», превращение его в «продукт» свободного действия сил
природы и человеческого общества.
Общее стремление вносить коррективы в теории
«общественного договора» и «естественного права», углублять строй идей чело-
вековедческой тематики в большей степени свойственно было
русским просветителям. В их понятиях обнаруживались отличия двух
тенденций в теоретической антропологии. С одной стороны, они
подвергали критическому анализу воззрения университетского
профессора В. Золотницкого и популярного в России создателя
теософически-алхимических сочинений, баварца К. Эккартсхаузена,
которые углублялись в человековедческую тематику, толкуя
теорию «естественного права» и «общественного договора» в духе
Августина и Фомы Аквинского [см. 195]. Главный труд В.
Золотницкого даже своим названием доказывал справедливость
сказанного: «Рассуждение о бессмертии человеческой души,
которое утверждается особливо через доказательство Божьего бытия,-
открывающегося нам из многочисленных созданий» (1768). К
подобным же «исканиям» относились различные спиритические и
алхимические увлечения, господствовавшие в 80—90-х годах в
масонских ложах и клубах спиритуалистов, широко популярные
сеансы графа Калиостро, увлечения астрологией и даже подоско-
пией.
С другой стороны, в произведениях выдающихся деятелей
российского Просвещения 70—80-х гг. — Аничкова, Новикова,
Батурина, Поленова, Десницкого, Козельского, Третьякова,
Фонвизина, Радищева — обнаруживалось стремление «дополнить» или
«изменить» воззрения Блекстона, Вольтера, Бентама, Дидро,
относящиеся к «естественной аргументации» поступков человека.
Их гуманистический настрой порождал плодотворно-скептическое,
а то и резко критическое отношение к романтическому освещению
реальных общественных порядков, к догмам науки и философии.
Критерием выступало требование соответствия задачам борьбы с
самодержавием и крепостничеством, общей просветительской
программе. Достаточно выразительным подтверждением сказанному
являлись примечания Радищева к книге Мабли, ода «Вольность»,
«ПисьмЪ к другу...», «Эпитафия», «Житие Федора Васильевича
Ушакова», «Беседа о том, что есть сын отечества».
Радищев обратился к утилитаризму несколько раньше, чем
русский дипломат Д. А. Голицын, впервые на русском языке и
посмертно опубликовавший книгу Гельвеция «О человеке» (1773).
■64
Некоторые идеи утилитаризма высказаны им уже в
комментариях к книге Мабли, вышедшей в том же году, но подготовленной
к печати в 1772 г. При этом Радищев делал существенные
уточнения к выводам Гельвеция, Дидро и Бентама.
Неослабевающим в 70—80-х года* было внимание Радищева
к новейшим достижениям науки и техники. Наряду с философами
своего времени, он считал своим долгом осмысление новейших
естественнонаучных теорий и экспериментально-практических
достижений: большого научного материала в области магнетизма и
электричества, биологии и медицины. Теория эпигенеза и
эволюционные идеи, новая атомистика и экспериментальная
аэронавтика 2 требовали теоретического осмысления.
Важным фактором в процессе формирования философской
концепции Радищева явилось его обращение к изучению вопросов
истории и историографии. Русский мыслитель тщательно
штудировал летописи Нестора, «Повесть временных лет», исторические
труды Ломоносова, Татищева, Шлецера, Вольтера, Мабли.
Занятия историей, чтение «путешествий» содействовали выработке
эволюционных убеждений, признанию ценности исторической
точки зрения. Своеобразное осмысление путешествий в русской
просветительской литературе 70—90-х годов XVIII в. дало ряд
вариантов социально-философской интерпретации действительности.
Оно в определенной мере повлияло и на Радищева.
В конце 80 — начале 90-х годов представления Радищева о
человеке и его месте в мире складываются в определенную
совокупность понятий — в своеобразную философскую ориентацию. «Я
человеку нашел утешителя в нем самом» — вот великолепная
декларация этой ориентации [7, 1, 227]. Ее формула выражена
была при помощи «функционального подхода», раскрывающего
многообразие «человеческой натуры». В философской концепции
Радищева материализм выступал в форме антропологизма, челове-
коведческая база являлась исходной в формировании
идеологической и методологической функций философии.
Указанные нами стороны мировоззрения Радищева получили
достаточно четкое выражение в главах «Путешествия из
Петербурга в Москву». Автор не скрывал желания изменить
существующий в России порядок вещей, основанный на «бесчеловечном
праве» владения себе подобными, призывал выразить
сострадание бедствующей «собратий своей» [см. 7, 1, 227]. Он
подчеркивал, что крепостной строй уродует саму физическую природу
крестьянина, препятствует натуральному проявлению его
способностей и дарований. Этот же строй освобождает дворян от
необходимого человеческому организму труда, что ведет к «телесному
и нравственному вырождению дворянского сословия».
Антропологический пафос «Путешествия...» раскрывался в призывах «изба-
2 В сентябре 1783 г. братья Жозеф и Этьен Монгольфье запустили свой
первый воздушный шар. Упоминание об этом у Радищева имеется в
«Путешествии...» и поэме «Семнадцатое столетие» [см. 7, 1, 128; 317, 2, 106, 208].
3 П. С. Шкуринов
65
вить человечество от оков и пленения», снять узы с физических и
умственных «сил», заложенных в крепостном крестьянине как
человеке. Радищев говорит о богатстве внутреннего мира, величии,
интеллектуальной красоте и безусловной ценности человеческой
натуры — этого высшего проявления законосообразности бытия
[там же, 391].
В последние два с половиной десятилетия жизни Радищева
проблема человека стала центральной темой его творчества
Феномен человека он рассматривал как своеобразную меру
возможностей природы и истории, эталон развития многообразных форм
материального мира. Вместе с тем анализ «человеческих качеств»
оказывался у Радищева средством выработки оптимистического
миропонимания. Ярчайшим образом свое мировоззренческое
кредо он выразил в знаменитых стихах по дороге в Илимск: «Я — не
скот, не раб — человек!» [там же, 123]. Философия, с его точки
зрения, обязана выразить во всей полноте идею о могучих силах,
скрытых в человеке и человечестве.
Основные идеи трактата «О человеке, о его смертности и бес*
смертии» — тема, отражающая важнейшие философские задачи
конца XVIII в., их понимание автором «Путешествия...».
Сочинение «О человеке, о его смертности и бессмертии»
(1792—1796) 3 — главное философское произведение Радищева.
Проблема человека является центральной темой трактата, под
углом зрения которой получают осмысление традиционные
метафизические вопросы о соотношении души и тела, мысленного и
материального, о путях человеческого познания, о предмете
философии и ее роли в жизни людей. Считая, что истинная
философия должна основываться на прочном естественнонаучном
фундаменте, Радищев для обоснования своих философских постулатов
привлекал данные из различных областей знания — физики,
химии, ботаники, физиологии, психологии, антропологии,
этнографии, педагогики, истории, философии, логики. В трактате
имплицитно выражена определенная социально-политическая позиция.
В основании критики ортодоксального православия и религиозно-
схоластической традиции лежат демократические убеждения
автора.
Насыщенное полемическими отступлениями, философское
сочинение Радищева содержит диалоги представителей различных
школ и направлений философии, гипотетические суждения,
предположительные («гадательные») решения. Все это не исключает
того, что в структуре трактата отчетливо выделяются главные
проблемы, «многоголосность» сочинения ни в коей мере не
подчиняется принципам «полифонизма», хотя (воспользуемся
терминологией М. Бахтина) она вполне учитывает «мнение отсутствующе-
3 Говоря о значении данного произведения Радищева для развития
философской мысли в России, следует отметить, что многие сформулированные в нем
идеи были восприняты Н. Чернышевским и получили дальнейшее развитие в его»
работе «Антропологический принцип в философии» (1860).
66
го собеседника». Учет «мнения отсутствующего собеседника»
состоял в том, что автор трактата «О человеке...» приходил к
достаточно осознанному выводу: решить выдвигаемые временем
проблемы нельзя, не опираясь на достижения науки и философии, не
становясь на путь преодоления картезианского дуализма,
механистических понятий западноевропейской философии,
спиритуализма русских богословствующих философов и философствующих
масонов. Разнообразие методологических приемов и
категориально-понятийных средств, ориентация на новые тенденции
развивающихся знаний позволили Радищеву не только ставить, но и
решать актуальные проблемы духовной культуры своего времени.
При этом, давая ответы на вопросы простые и сложные,
предлагается учитывать перспективу возможных запросов XIX в.:
стремление к новому образу жизни порождало необходимость
вырабатывать новый образ мыслей.
Перед исследователем, анализирующим произведение
Радищева, встает целый ряд вопросов. Каким образом различные
«гадательные» и «утвердительные» постулаты автора совмещаются с
его тенденцией к материалистическому монизму? Как при этом
согласуются между собой исходные «начала» и главные
«заключения»? Действительно ли в главном философском произведении
Радищева не сохраняется, а, как утверждают некоторые
комментаторы, разрывается ариаднина нить философского материализма
или эта нить остается нерушимой даже при изложении двух
основополагающих вариантов решения проблемы «души» (решение,
утверждающее ее смертность, и решение, утверждающее
бессмертие) ? Какое место в творчестве А. Радищева и в истории
философской мысли России занимает трактат «О человеке, о его
смертности и бессмертии»?
Согласно Радищеву, философия призвана раскрывать
человеку глаза на природу, самого себя, на «основы» мироздания.
Основным субъектом и главным объектом философии является
человек. «Любомудрие» призвано постигать сущность и место
человека в мире. Поэтому задачу философии Радищев видит и в
создании картины мирового целого: В трактате он предпринимает
попытку воссоздать такую картину. Проблема места и роли
человека в мире раскрывается в соответствии с представлениями
мыслителя о мировом целом.
В первой книге трактата «О человеке...» Радищев
формулирует идею философского антропогенеза. Раскрывая смысл этой
идеи, мыслитель указывает, что реальным основанием
«разверзающегося» (развивающегося) мира является не «божественная
субстанция», а фундаментальные законы бытия, на высшей
ступени «организации» раскрывающиеся в человеке в форме единства
«вещественного» и «мысленного»., Таким образом, в основание
своего учения о человеке Радищев кладет определенную
онтологию.
Понятие «бытие», это «общайшее из общих понятий» [7, 2, 77,
83, 101], русский мыслитель трактует как то, что присуще всему
3*
67
и без чего не может быть никакого существования. Бытие имеет
ступени и формы развития, совершенствования. Свои
рассуждения о различии форм «организации» мирового целого Радищев-
завершает классификацией этих форм — «лествицей веществ и
существ» [см. там же, 41, 85—87, 110 и др.]. «Лествица веществ и
существ» является классификацией реальных форм бытия
природы, человека, космоса. К таким формам Радищев относит:
а) «первичный хаос», б) «земную природу», в) «человека и
человечество», г) «Вселенную» («Мироздание»). Отсюда четыре
важнейших мира: изначально бесформенная масса; природно-земное
существование «неодушевленной вещественности» и «живого
начала»; существование человека (индивидуума и общества);
наконец, бытие бесконечного Космоса, обетованной области
неведомого. В этой классификации человек представлен как одна из форм
бытия. Располагая человека на вершине земной иерархии,
мыслитель допускал его влияние на развитие Вселенной, но тем не
менее не разделял точки зрения антропоцентризма.
Изначальный фазис бытия — «хаос» — описан в «Творении
мира», в заключении «Путешествия из Петербурга в Москву».
В этих произведениях Радищев использует понятия «первосдвиг»
и «первый мах». Он считает, что если таковые имели место, то
должны были проявиться в «пучине пространства» как «нечто
недостаточно организованное», способное (через свойство изменять
внешнюю среду) сообщать материальному миру «постоянство
колебаний и движений» тех частиц, которые «полноту его
заполняют», порождая земную «твердь». «Целое» и в то же время
бесконечное бытие Радищев рассматривает как первооснову сущего
и своего рода «материал» для «творчей силы» [7, 1, 19].
«Прежде начатия времен, — пишет он, — когда не было бытию опоры и
все терялось в вечности и неизмеримости... вся красота вселенной
существовала в его (творца. — П. Ш.) мысли, но действия не
было, не было и начала. И ее рука всемощная, толкнув
вещественность в пространство, дала ей движение. Первый мах в творении
всесилен был; вся чудесность мира, вся его красота суть'только*
следствия» [там же, 391—392].
Здесь Радищев отдает дань деизму в той форме, в какой он
был выражен Кантемиром и Ломоносовым. Подобно Кантемиру,,
автор «Путешествия...», с одной стороны, признавал
существование независимого, объективного, «первородного мира», а с
другой— к указанному «изначальному хаосу», или «вещественному
материалу», прилагал «побудительный толчок», сообщавший
миру «движение» и «организацию». Поскольку «движущаяся
материя» оказывалась продуктом «первотолчка» (в смысле
«организованности», «чудесности», «красоты», «гармонии»
пространственно-временных форм бытия), постольку функция вмешательства
«первичной силы» в дела природы объявлялась закончившейся,
как только «толчок произведен был». При этом действие «руки
всемощной» Радищев заменял «силой», антропоморфной, но
извлеченной из философских, а не библейских запасников.
68
В истории русской философии к такой «силе» апеллировали
ученик М. Ломоносова Г. Теплов, а также Г. Сковорода, И. Ертов
и др. Г. Теплов доказывал, что в сфере «невыясненных явлений»
и «значений» имеется «пока оправдывающее себя» понятие о
«творческой силе», способной сообщить движение инертной
материи. «Творческую силу» бытия он уподоблял «вечно движущейся
пружине» [см. 494, 219, 279]. Г. Сковорода также считал, что в
основании вечности и непрерывного изменения материального
мира лежит действие «самодвижущейся пружины» [см. 462, 131].
Аналогичным образом Радищев полагал, что в природном
мире в качестве движущей «силы» саморазвития выступает некая
«пружина». «Что бы такое, — рассуждал он в «Беседе о том, что
есть сын Отечества», — представляла тогда природа, кроме смеси
нестройной (хаоса), ежели бы лишена была оной пружины? — По
истине, она лишилась бы величайшего способа как сохранения,
так и совершенствования себя» [7, 1, 219]. Понятия «сила»,
«самодвижущая пружина» и т. п. порождали внутренние
противоречия в системе взглядов Радищева, удерживая его сознание в
рамках философского материализма: «пружина», будучи
самодвижущейся, природной причиной, сама по себе исключала бога, а
также «первотворение», «первотолчок». К тому же в понимании
«сил» природы Радищев придерживался пантеистической
ориентации, был близок спинозизму, растворяющему понятие «бог» в
понятии «Природа». В произведениях 80—90-х годов он
высказывал суждение, что, если бог есть нечто абсолютное,
всеобъемлющее, то тогда бог — это Природа, которая абсолютна,
всеобъемлюща и всемогуща. Пантеистические убеждения Радищева [см.
7, 2, 58, 79, 122 и др.] не всегда обретали четкую форму, что
порождало противоречия и делало непоследовательным его
стремление к философскому монизму. Вместе с тем, и это необходимо
подчеркнуть, в системе взглядов Радищева именно пантеизм был
формой и средством ухода от «тупиковых ситуаций деизма», не
совместимых с монистическими устремлениями русского
мыслителя.
Характеристики природно-земного существования
«неодушевленной вещественности» и «живого начала» используются
Радищевым в качестве аргументов в пользу выводов об изменчивости
природного мира. Важное значение для, автора трактата «О
человеке...» имела посылка о субстанциальном основании сущего и
атрибутивном характере его «качеств» и «свойств», «сил» и
«возможностей». Эта позиция толкала к признанию принципа
материального единства и многообразия мира, активно входившего в
философию в конце XVIII в.
Определяя в трактате «О человеке...» понятие
«вещественность»4, Радищев существенно дополнял дефиниции материи,
сформулированные Бёме, Лейбницем, Ломоносовым, Гельвецием,
Десницким, Гольбахом, Козельским и Дидро. Радищева не удов-
4 Термин, заимствованный у М. В. Ломоносова.
69
летворяло классическое определение материи, сформулированное
Гольбахом, — «материя вообще есть все то, что воздействует
каким-нибудь образом на наши чувства» [134, 84]. С его точки
зрения, данное определение оставляло открытым вопрос об
объективном существовании реального мира вне субъекта и не исключало
превратно-субъективистского истолкования отношения «объект —
субъект». То определение «вещественности», которое выдвинул
сам Радищев, содержало существенное уточнение: «Вещественно-
стию называют то существо, которое есть предмет наших чувств,
разумея, есть или быть может предметом наших чувств» [7, 2,
74]. «Существо», на наш взгляд, следует понимать как то, что
существует, нечто сущее, ту или иную форму вещества, нечто
реальное, «бытийное», существующее вне субъекта.
«Материя» подразделяется Радищевым на актуальную и
потенциальную, что удовлетворяло тенденции философской мысли
XVIII в. к синтезу сенсуализма и рационализма и
свидетельствовало о наличии элементов диалектики в системе взглядов
русского мыслителя. Любопытно, что идея Радищева о единстве
«четырех стихий» (земля, воздух, огонь, вода) с «вещественностью»
как универсумом [см. 7, 2, 76, 86—89, 102, 104] в анализируемом
трактате призвана была объяснить логические переходы от
общего (материи) к особенному (стихии) и от особенного к
единичному (атому, корпускуле, индивидууму и т. п.).
«Вещественность», по Радищеву, обладает свойствами
движения, пространственной и временной определенности. Размышляя
об источниках движения, философ указывал на явления единства
действия и противодействия, теплоты и холода, разноименного
электричества, что свидетельствует о наличии элементов
диалектики в философских построениях Радищева. Диалектические идеи
обнаруживаются также в его трактовке причинно-следственных
связей. «Отталкивание» и «притяжение» рассматривались им как
взаимодействие тел в процессе развития, осуществляющегося
путем передачи импульса движения и даже определенной суммы
качества от одного явления к другому. Согласно Радищеву,
развитие природного мира от простых до сложных живых организмов и
человека носит каузальный характер.
Одним из основных законов природы Радищев считает закон
совершенствования и самосовершенствования форм бытия от
неорганического вещества до живого. В этой связи русский
мыслитель формулирует тезис об универсальном характере развития.
Принцип трансформизма (развития) в трактате «О человеке...»
утверждается в связи с идеей о некоем «напряжении
вещественности», обусловливающем возможность порождения новых форм
в результате «игры сил» или действия «натуральных стихий»,
мельчайших «оснований» мироздания — атомов и корпускул.
В духе передовых идей XVIII в. Радищев дает свою трактовку
пространства. Сущность этой категории, по его мнению, не
сводится ни к форме предметов, ни к понятию образа, «начертания»
единичной вещи. Радищев подчеркивает всеобщий и объективный
70
характер пространственной определенности «вещественности».
«...Пространство, — пишет он, — есть понятие отвлеченное, но в
самом деле существующее не яко вещество, но как отбытие
оного...» [7, 2, 83]. С понятием пространства русский мыслитель
связывает свои представления о единстве и дискретности мира, о
множестве модификаций форм материи, возникающих
благодаря действию ее атрибута — движения.
Еще Аристотель доказывал, что природа была и есть «начало
движения и изменения», что ее нельзя понять без анализа
времени. Как бы следуя этим выводам, Радищев утверждал, что время
и движение взаимоопределяемы, но время как длительности
связано также с изменениями состояния, качества, количества,
числа и ритма. Представления о бесконечности мира во времени,
неуничтожимости «вещественности» сочетались у Радищева с
признанием абсолютности природы в духе пантеизма. При этом
время рассматривалось как мера движения, мера творческой
деятельности отдельных людей и целых народов, мера бытовой и
исторической длительности процессов реальной жизни.
В работах Радищева встречаются понятия «вечность»,
«бесконечность», «безмерность» как формы выражения космического
времени, отражающие бесконечную смену реалий материальной
действительности в целом — Вселенной, Космоса. Время
«конечное», земное мыслится как соотносимое с временем
«неисчислимым», вечным, космическим.
Радищев рассматривает временную последовательность как
реальное выражение изменчивости пространственных форм,
исторических явлений, общественных событий. Понятие объективного
времени он дополняет понятием психологического времени,
считая, что оно связано с напряженным ритмом жизни, с
активизацией деятельности и т. д. Опираясь на труды Лейбница и
Ломоносова, Канта и Гердера, Дидро и Гольбаха, Кондильяка и Сент-
Иллера, автор трактата «О человеке...» стремился к синтезу
материализма с эволюционизмом.
Согласно Радищеву, общим основанием категорий
пространства, времени и движения является постоянно изменяющаяся
«вещественность», для которой «сродным состоянием» является
«двигаться и жить». В назидание «суемудрию» философ писал,
что категория времени «есть мера деянию и шествию» и
отражает изменчивость реального мира: едва вообразишь «мгновение
и состояние вещи в нем, как оно уже претекло и ты мыслишь уже
в другом мгновении, и вещь находится уже не в том, в коем о ней
ты мыслить стал, и мгновение уже позади тебя» [7, 2, 100].
«Вещественность» Радищев рассматривал как
субстанциальное основание «качеств», «свойств», «сил» и «возможностей».
В трактате «О человеке...» не получило положительной оценки
картезианское гомогенное толкование материи [там же, 85, 128—
129]. Гораздо более предпочтительной Радищеву представлялась
точка зрения, синтезирующая гомогенность и гетерогенность.
В фокусе его внимания был вопрос о соотношении единичного и
71
общего. В отличие от сторонников религиозно-мистического
решения этих проблем он подчеркивал материальную природу
единичного и множественного, частей и целого. Радищев считал, что в
поисках истины следует исходить из действительного характера
явлений, выявлять причины их возникновения и существования.
Не будучи здесь одиноким в своем мнении5, он опирался на
материалистическую традицию в истории философии.
Говоря о разнообразном действии «силы движения» в целом
и в частях, Радищев делал вывод о несводимости «целого» к
сумме «частей». В «сложном» он видел новое качество, т. е. нечто
больше, чем простая сумма частей: «стихии только могут
изменяться в сложении своем, но совсем не походят на свою
первобытность» [там же, 100]. Целое не сводимо к перечню свойств,
характеризующих части, — их изменчивость и качественная
определенность зависят и от «образа сложения», и от «порядка
частей», и от характера самой «изменчивости» [там же, 103—104].
Антиметафизическая по своей сути идея о связном,
качественно многосложном и динамичном взаимодействии частей и
целого расчищала почву эволюционизму и диалектике. Заслуга
Радищева состояла в том, что вслед за Ломоносовым и Кантом,
опираясь на работы К- Вольфа, Гердера, Каверзнева, Дидро и
Протасова, он расширял образованную общими усилиями брешь в
метафизике. Разработка и пропаганда им эволюционно-диалекти-
ческих идей имели большое значение для развития философской
мысли в России второй половины XVIII в. Хотя старые
метафизические теории еще не были отброшены Радищевым полностью,
они сосуществовали в его сознании с новыми идеями. Это
составляло особенность миросозерцания Радищева и вместе с тем было
характерно для раннего эволюционизма в целом и различных
проявлений стихийной диалектики.
Характеризуя развитие земной природы, Радищев включал
этап неодушевленной «вещественности» в исторические рамки до-
человеческой эры. В условиях этого этапа благодаря «игре сил
природы» возникает живое из неживого, появляются сложноорга-
низованные существа. Самая высокая ступень на «лествице
веществ и существ» отводится автором трактата человеку. Идеи
эволюционизма и диалектики приобретают особое значение в тех
случаях, когда Радищев использует их в решении задачи
создания гуманизированной системы знаний — философии человека.
Человек, его сущность, место в мире — проблема, являющаяся
центральной в понимании Радищевым предмета и задач
философии. Она выступает главной и в осуществлении мыслителем
философского антропогенезиса, подступы к которому совершались
им в различных трудах, а наиболее полное выражение дано
5 Аналогичным образом Лейбниц видел задачу философии в том, «чтобы
объяснять из природы самих тел причину их связного состава, показать способ,
каким части тел взаимно сцепляются друг с другом» [301, 6].
72
было им лишь в трактате «О человеке, о его смертности и
бессмертии». Уже в начале этого сочинения автор стремится
привлечь внимание своего читателя к волнующей его теме: «Обратим
взор наш на человека; рассмотрим самих себя, проникнем оком
любопытным во внутренность нашу и потщимся из того, что мы
есть, определить или, по крайней мере, угадать, что мы будем или
быть можем... Изведши его (человека. — Я. Ш.) на свет, я про-
влеку его полегоньку через терние житейское и, дыхание потом
исторгнув, ввергну в вечность» [7, 2, 39].
Свое намерение проследить жизнь человека от зачатия до
смерти Радищев реализует, опираясь на идеи К. Ф. Вольфа
(1734—1794), одного из основоположников эмбриологии, чья
теория эпигенеза сыграла большую роль в борьбе с преформизмом
и метафизическими представлениями о неизменности видов.
Становление зародыша Вольф рассматривал как цепь
новообразований, «истинный эпигенезис»: одна часть эмбриона появляется
после другой, и все они последовательно развиваются, формируя
зрелый организм [см. 111, 257—326]. Эта идея, взятая
применительно к онтогенетическому развитию человека, привлекала
внимание автора трактата «О человеке...», сочетаясь в его сознании
с эволюционными и отчасти диалектическими понятиями.
С точки зрения онтогенеза и эпигенеза Радищев трактует
проблему «человек — среда». Для него важно понять человека как
единство материальной и духовной натур. В связи с этим его
интересуют вопросы о том, как соотносятся эти натуры: когда и в
каких формах возникают предпосылки живого — в «предшедшем
состоянии», в «деянии пророждения», т. е. зачатии; как
«разверзаются» психические и умственные «силы человеческие» — в
«предрожденном», т. е. эмбриональном, «существовании» и в
детском, отроческом, зрелом возрастах; как зарождаются,
формируются и функционируют органы чувств и мозг—«орган мысленно-
сти». Проблема, которая поныне занимает философов и
психологов, формулировалась им лаконично: как «кусок хлеба, тобою
поглощенный, превратится в орган твоей мысли», т. е. каким
образом в голове человека порождается идеальное и т. п. [см. 7, 2>
42].
Стремясь ответить на поставленные вопросы, Радищев
исходил из научных данных своего времени, ориентировался на
российскую и европейскую материалистическую традицию, что
ставило его в оппозицию к различным направлениям
идеалистической философии. Вместе с другими деятелями российского
Просвещения он подвергал критике учения официальных
представителей православной церкви (митрополитов Платона и Амвросия,
архиепископов Нечаева и Пономарева), стремившихся побудить
науку и философию принять христианский вариант учения о
человеке, согласовывать свои выводы со Священным писанием. Не
внушала доверия Радищеву модернизированная христианская
антропология масонов. «Путешествие из Петербурга в Москву»
начинается посвящением «другу юности», масону левой ориентации
7$
А. Кутузову, в котором говорится: «Мнения мои о многих вещах
различествуют с твоими» [7, 1, 227]. Несостоятельность
философских установок правых масонов — русского розенкрейцерства и
иллюминатства (Н. Головин, И. Елагин, И. Лопухин, К. Ун-
герн-Штернбург, И. Шварц, И. Шаден и др.) — Радищев видит в
спиритуализме. В масонских понятиях личное и общественное
«гармонизировались» посредством идеи о божественной природе
сущего, «растворялись» в сентенциях о надприродном характере
души человека (см. 332, 17—41).
Противопоставляя свои мировоззренческие принципы
принципам масонов и спиритуалистов, передовая демократическая мысль
России открыто выражала сомнение идеям о божественном
творении природы и человека. Исходя из учений естествословов,
понятий современных физиологов и психологов, человековедов,
наряду с другими просветителями Радищев считал человека
продуктом сложного развития «единственной» (индивидуальной) и
«всеобщей» (общечеловеческой) «игры сил». В своем синтезе
«предметного», т. е. идущего от фактов, и «общего», т. е. идущего
от обобщения, он приходил к представлениям, в которых
человеку, сообществу людей, роду людскому отводилось особое место
своеобразного «узла» бытия, динамической и историко-генетиче-
ской реалии, окруженной условиями существования в
пространстве и во времени [см. 7, 2, 77—78].
Автор трактата «О человеке...» считал, что в рамках каждой
формы подхода нельзя оценивать человека без учета бытия
природы и общества в целом. Поскольку человек — продукт природы,
создание и живой ее элемент, надлежит постоянно иметь в виду
ступени его совершенствования, общие условия, «обстоятельства»
его жизни. Стремясь строго придерживаться доказательств, «на
естественности человека основанных» [там же, 66], Радищев
защищал постулаты единства «человеческого состава» со всей
природой, диалектические идеи о поступательном развитии всего
живого— за счет усложнения «организации» — от низших до самых
высоких форм. Так называемая «лествица веществ и существ»,
по Радищеву, отражая единство материального мира, дает
представление о его развитии. В ней все корпускулы, элементы и
стихии— формы одной и той же материи, подчиненные одним и тем
же законам развития, «возвышения организации» от простого к
сложному: на определенном этапе возникают живые существа,
затем человек, семья и общество [там же, 86—87, 110].
К концу XVIII в. естествознание, освобождаясь от оков
спекулятивного мышления, вместе с тем принимало на вооружение
идеи об универсальной связи реальных форм бытия природы. Гер-
дер, Дидро, К. Вольф, Кант, Каверзнев, Паллас своим примером
показали, что этот вывод может играть положительную
методологическую роль. Он привлек внимание и Радищева, весьма
склонного не столько к тотальной концептуализации, сколько к идее
единства теоретического и эмпирического, к идее Ломоносова о
значительной роли в познании «глубоких гипотез». Именно по-
74
этому вера в целостность и единство мира — сильнейшее
методологическое убеждение автора трактата «О человеке...» — являлась
важнейшей содержательной стороной и теоретическим принципом
его философских воззрений. И эту идею как методологическую
норму он проводил во многих разделах своей работы, особенно
при трактовке вопроса о соотношении «человека и природы».
Организм человека, считал Радищев, связан с неживой и
живой природой единством «основолежащих начал». Поясняя это
положение, мыслитель писал: «...как из опытов знаем, что по
разрушении каждая частица отходит к своей стихии или началу, да
паки в сложение прейдет, то сила жизни не отойдет ли к своему
началу или стихии...» [там же, 44]. Это единство — в
вещественности, составляющей основание и неживой природы, и природы
живой, и человека. В свою очередь вещественность,
проявляющаяся в атомах, делает общим фундаментом всей природы
мельчайшие «невидимые частицы». Все превращения в природе
связаны с первокирпичиками бытия, с атомами, которые дают начало
и конечную форму любой вещи, любой живой особи.
Понятно, что идея о сходстве вещественного в человеке и в
природе как таковой не была оригинальной мыслью автора
трактата «О человеке...». Еще досократики считали, что человеческое
тело «состоит из таких же по числу и сущности частей, как и
мир» [167, ч. 1, СХХ]. Гилозоизм древних философов, а также
Бруно и Спинозы в XVIII в. служил основанием для аналогий
между природой и человеком. Для Радищева система этих
аналогий, изложенная в подробностях в его главном философском
произведении, играла двоякую роль: во-первых, содействовала
раскрытию материалистической концепции автора; во-вторых,
уподобляя человека миру, автор натурализировал свои
антропологические понятия о сущности человека и рода людского.
Материализация (онтологизация, натурализация) сознания,
психических процессов была заметной у Радищева в связи с со-
поставлением с Космосом. При этом историко-философская
сторона дела, извлечение натурфилософских идей антропогенеза из
древних пластов мифологии и досократической философской
традиции для автора трактата «О человеке...» имели немаловажное
значение. Здесь нужно заметить, что материализация
человеческого сознания в философской антропологии Радищева,
содействуя решению проблемы тождества бытия и духа, вместе с тем
подводила философскую мысль не только к проблеме состава
человеческой натуры, но и к проблеме эволюции этого состава в
системе живого, разнообразия живого, специфики проявления
его форм.
Однако натурализация типичных черт человека у Радищева
не ограничивается приобщением к человековедческой
проблематике древних натурфилософов и эмпириков нового времени. Мы
увидим, что свой редукционизм он распространял и на мир
живого: на растительное и животное «царства». Однако здесь
важно указать, что, отождествляя черты живого с чертами неживого-
75
или, точнее, сближая их, русский мыслитель делал это во имя
монизма [см. 7, 2, 46]. Монизм также являлся одним из
принципов концептуальных построений Радищева, методологическим
постулатом его философского антропогенеза.
Характеризуя «лествицу веществ и существ» Радищева,
обратим внимание на следующие существенные черты его концепции.
Во-первых, на основе положений о единстве состава человека и
природы и естественнонаучной трактовки проблемы
происхождения человека русский мыслитель приходит к анимистическим,
пантеистическим и гилозоистическим идеям. Он стремится
доказать, что материальному миру в целом присущи «духовные
силы», которые, как и свойства «мысленного вещества», трактуются
в духе Спинозы, атрибутивно [там же, 84—89] 6. Во-вторых,
принципы единства неорганической и органической природы
Радищев соединял с суждениями Дж. Пристли, К. Вольфа, А.
Каверзнева и А. Протасова о возможности самозарождения жизни,
о ее эволюции от простейших организмов к организмам сложным,
не исключая человека, обладающего «всем нам свойственными
качествами». В-третьих, наряду с Гердером и Бюффоном, Озерец-
ковским и Амбодиком он видел в человеке меру высшей
организации, «венец сложений вещественных», последнюю страницу
натуральной истории [там же, 59, 114—124]. В чем же состояли
особенности концепции генезиса человека, развитой Радищевым
в трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии»?
Прежде всего хотелось бы отметить, что сознательное желание
провести линию монизма через все представления о формах
неживой и живой материи, так же как и механистический
концептуализм, содействовало сближению воззрений Радищева с
гилозоизмом. Разъясняя принципы взаимодействия растений и
животных, Радищев подчеркивал, что без представления о способности
«животворной силы» неорганических и органических веществ
превращать вещество питания в ткань организмов нельзя
представить что-либо живое. Само это свойство он назвал жизнью:
«...каждый род органических веществ... не жизнь ли он принимает
в пищу, которая почерпается из нижнего рода веществ, протекши
и процедясь, так сказать, сквозь бесчисленные каналы, единооб-
разуется той, которая органы его движет» [7, 2, 46—47]. В
третьей книге трактата «О человеке...» взаимопревращение «простых
сил» в «силы сложнейшие и тончайшие» получает название эла-
борации [там же, 113].
Именно законами элаборации русский мыслитель объяснял
6 Исходя из указанного выше, хотелось бы подчеркнуть, что в своем
объяснении природы живого и человека Радищев не только опирался на гилозоист-
ские и пантеистические идеи Спинозы. Он стремился строить картину природы,
не выходя за ее пределы в сферу трансцендентальных сил. Поэтому, как и
семьдесят лет спустя Чернышевский, автор трактата «О человеке...» приемлет
спинозистские предпосылки раскрытия историко-генетического единства материи и
сознания, утверждая, что вся совокупность психических явлений обретается
материей в ходе ее развития.
76
специфику того явления, которое в его время называли «душой».
Он считал, что «душа есть сила, действующая органом» [там же,
112—114], чем еще и еще раз как бы подчеркивая, что
животворящие действия организмов связаны с действием некоей
естественной силы, лишенной мистической таинственности. Сущность
этого факта, полагал он, раскрывается в реальных явлениях
природы: уже простая смежность двух вещей делает их причинно
связанными ввиду наличия взаимодействия. «Если кристалл,
металл или другой какой-либо камень образуется вследствие
закона смежности, то и части, человека составляющие, тому же
следуют правилу... Но если кристаллизация, если руденение далеко
стоят от зачатия, питания и рождения, не образование ли есть
цель того и другого? Образование есть видимое действие; — но
причина? не сомневайся! То же начало, которое жизнь дает,
действует в законе смежности» [там же, 46].
В ряде мест трактата «О человеке...» указывается на
важность магнетизма, электрического взаимопритяжения и
химического сродства, или «сил совокупных», как на формообразующие
факторы природы вообще и живого в частности. Подчеркивание
вывода об общности всех явлений природы ввиду господства в
мире «предвечных законов» составляло институционную идею
Радищева. И эта идея тесно увязывалась с мыслью о
естественности, генеалогическом единстве живой и неживой природы. «Мы
не унижаем человека, находя сходственности в его сложении с
другими тварями, показуя, что он в существенности следует
одинаковым с ними законам» [там же].
Мысль о законосообразном развитии всей природы
подчеркивалась в словах: «Чем более вникают в деяния природы, тем
видима наиболее становится простота законов, коим следует она в
своих деяниях» [там же, 57]. Именно простота законов — одно из
условий универсальности «деяний природы», условие, связанное
с действием «мельчайших частиц» — атомов, лежащих в самом
основании вещественности. Возможно, в сознании Радищева
понятие «простота законов» ассоциировалось с простотой предельно
малых частиц мироздания — тех самых «первоатомов», или
«частей существенных», которые в его представлении и являлись
наиболее вероятным «пределом делимости» вещества [там же,
75—81]. Во всяком случае, именно «простые формы»
вещественности, считал русский мыслитель, следует положить в основание
понятия о человеке как «венце творения».
Приподнятые на высокий уровень «лествицы веществ и
существ» аналогии Радищева соотносили человека с растениями и
животными. Основанием общности человека со всем миром
живых существ Радищев считал сходство функций живых
организмов. «Человек, — писал он, — во чреве образуется подобно
растению: он кормится пуповиною, как растение корнем» [там же, 45].
Считая, что человек «в сущности следует одинаковым законам»
-с растениями, автор трактата «О человеке...» указывал на
вертикальное положение, общие явления «истинной жизни», т. е. жи-
77
вого, — различие полов, чувственность, рождение, детство,
«мужественные лета», — произведения «сходственные» с человеком
[там же, 46].
И все же, подмечая некоторые черты, общие растениям и
человеку, Радищев резко возражал Ламетри, который в своей
книге «Человек—растение» (1748) с сугубо физиологической точки
зрения пытался доказать, что люди в самом существенном не
отличаются от растений. «Мы, — писал русский мыслитель, — не
скажем, как некоторые умствователи: человек есть растение; ибо,
хотя в обоих находятся великие сходства, но разность между
ними неизмерима» [там же]. При перечислении существенных
отличий растений от человека Радищев подчеркивал мысль о том, что
чувственность в растениях не возвышается над самой низкой
ступенькой ее проявления — раздражительностью, что растениям
соответствует первый порог «истинной жизни», т. е. самая что ни
есть исходная ее форма, все качества которой «не для
обновления токмо родов своих, но служат в пищу высшей степени
существам» [там же, 46].
Налет телеологизма, который имеется в словах о
своеобразном целеназначении растений на земле — служить в пищу
высоким существам, сам Радищев объяснял выходом своим в область
«простой догадки». В целом эта последняя его мысль не имеет
характера категорического суждения. Она высказана скорее с
тем, чтобы подчеркнуть более высокое значение верхних ступеней
живого — животных и людей, т. е. для подкрепления идеи об
универсальном характере принципа элаборации.
«Животное — человек» — самый высокий уровень сравнений
Радищева. Именно на этом уровне аналогий достаточно отчетлива
проявлялась тенденция автора «Путешествия...» к
антропологизму, тенденция, которая своей выразительностью и
доказательностью аргументации не уступала никому из представителей
европейского буржуазного Просвещения XVIII в. Именно поэтому
обратимся к ряду аналогий, сделанных в произведении «О
человеке...», чтобы ближе ознакомиться с проявлением в истории
русской философии антропологических идей.
«Паче всего сходственность человека примечательна с
животными» [там же, 47], — писал Радищев. Эту общность можно
проследить по внутренним органам, по физиологическим и
психическим функциям. Животные, как и люди, подмечал Радищев,
имеют мозги и одарены чувственностью, способностью размышлять,
имеют «склонности» к «добродетели» [там же, 48]. Сближение
животных и человека в воззрениях Радищева, доходившее до-
признания за высшими приматами некоей способности к
созданию понятий, к обладанию памятью, было не случайным.
Сказывалось не только стремление обосновать общность материального-
состава и принципов организации всего живого, но и понимание
естественности мироздания, подверженности его основания
закономерностям природы, а не сверхъестественных сил —
божественных, мистических или каких-либо иных.
78
В трактате «О человеке...» Радищев формулирует проблему
«человек и его место в мире», противопоставляя свое решение
данной проблемы религиозно-мистическим учениям о человеке.
Он доказывает, что, поскольку человек подчинен процессу
изменчивости, в результате эпигенеза, сохраняющего неразрывную связь
форм живой природы, он не может быть понят преформистски
[там же, 46].
Общность человека со всем миром живых существ Радищев
доказывал данными зоологии, сравнительной анатомии,
физиологии, психологии, самых различных областей знаний о человеке
[там же, 40—43]. Он обращался к материалам знаменитой ана-
томо-этнографической коллекции, созданной Петром I, —
экспонатам Петербургской кунсткамеры. Высоко оценивал мыслитель
роль эмбриологии в обосновании антропологической философии,
научную роль изучения поэтапного роста эмбриона человека.
«...Счастливые случаи, — писал он, — любопытством неутомимым
соглядаемые, послужили наукам в пользу, и в России имеем
прекрасное собрание растущих зародышей от первого почти дня
зачатия даже до рождения» [там же, 40]. Радищеву принадлежит
заслуга в обосновании антропогенеза как раздела знаний. Он
один из первых не только в России, но и в мире начал
одновременно изучать все главные компоненты родовой природы
человека. Комплексное рассмотрение им свойств человеческого
организма, этнологических вопросов делает его отдаленным
предшественником К. Бэра, П. Лаврова, А. Потебни и Д. Анучина.
Конечно, философии человека Радищева в значительной мере
присущ натурализм, характерный для теорий «естественного
права» и антропологических учений XVIII в. «Доказательства, на
естественности человека основанные», при стремлении
подчеркнуть общность черт неорганической и органической породы, «сход-
ственность» их ступеней, «всеобщую постепенность»
эволюционного развития [там же, 46, 66] и т. п. в понятиях русского
мыслителя не всегда выражали качественные изменения, страдали
механистическими или органицистскими подходами. Здесь
сказывался метафизический метод, господствовавший в философии и
естествознании XVIII в.
И все же Радищев в трактате «О человеке...» делает
решительный шаг вперед даже по сравнению с Ломоносовым. Для
подкрепления своих выводов он привлекает не только механику,
физику, химию, но также и биологию, медицину, психологию,
антропологию. Обращает на себя внимание своеобразно
аргументированная теория о самодостаточности, самопроизводимости
изменяющихся форм природы в связи с действием закона сохранения.
Радищев считал, что разрушающиеся и разделяющиеся на стихии
части живого тела «переходят в другие составы». Части тела,
считал он, могут «по среде быть земля, растение в снедь живому,
которое будет в снедь человеку». Следовательно, человек,
умерший за несколько лет прежде, будет частью существовать в
другом, последующем человеке. Радищев стремился доказать, что
79
«сложенное может токмо разрушиться», что «остаются части»,
что «нечто в ничто» не может обратиться. «Всеоживляющий
говорит Гердер... что действует однажды, действует вечно» [там же,
113]. Судя по всему, признаваемый здесь «круговорот» не
является замкнутым, он скорее напоминает спираль, так как иначе
нельзя понять идеи усложняющейся, «восходящей» организации,
которая, по Радищеву, привела к возникновению человека. Частое
употребление эволюционной лексики, обращение к принципам
историзма и диалектики выделяют русского философа из массы
представителей философской мысли эпохи Просвещения.
В рамках антропологического подхода Радищев попытался
преодолеть не только разрыв физиологического (физического) и
психического (духовного), но и разрыв между практической
(натуральной) и теоретической (идеальной) деятельностью человека.
Русский мыслитель исходит из идеи единства человеческой
природы. Философский монизм его рассуждений сочетается с
признанием универсальности связи человека с миром. С его точки
зрения, «человек един с другими людьми», с органическим и
неорганическим мирами, с Космосом. Он с ними связан не только
«нитью разума», но и общностью законов, единством состава,,
формой непреходящего их существования, действия их «сил»,
активностью, подвижным состоянием природы, которой в ее
космической целостности не чуждо движение7.
Радищев полностью отвергал точку зрения масонов и
спиритуалистов, утверждавших, что человек — это единица в потоке
идеального [см. 252]. Обращаясь к одному из теоретиков
русского масонства, своему другу и оппоненту А. Кутузову, мыслитель
напоминал, что человека нельзя отрывать ни от земного, ни от
космического мира; его следует рассматривать в совокупности
связей, в родстве со всеми свойствами «вещественности». И
именно здесь Радищев делал попытку противопоставить метафизике в
ее механическом и органицистском вариантах принципы
философской антропологии и эволюционизма. С этих позиций, защищая
свой взгляд на природу человека [см. 7, 2, 59, 114—124 и др.],
Радищев подвергал критике определения Монтескье («человек —
машина»), Ламетри («человек — растение»), Руссо («человек —
животное»). Он выступал против односторонности метафизических
понятий, стремясь как бы снять, синтезировать их в единстве.
Свою цель автор трактата «О человеке...» видел в том, чтобы,
показав человека «в его вещественности и единообразии»,
подчеркнуть то, чем он «отличенствует от всех других животных»
планеты. Подлинная наука, считал Радищев, не сомневается в
том, что специфическими, присущими только человеку свойствами
являются: 1) «возниченный» (вертикальный) образ хождения,
7 Эти и им подобные размышления Радищева являются своеобразным
источником тех значительно более поздних идей, которые найдут развернутое
выражение в «философии общего дела» Н. Федорова, концепции «монизма
природы» К. Циолковского, социокосмических идеях Н. Кибальчича, Н. Морозова*
В. Вернадского.
80
2) «истинное отличие человеческого мозга» (несравнимо
возвысившее разум человека), 3) «чудодейственная речь», 4)
стремление к совершенствованию условий и самого себя, 5) способность
к трудовой деятельности благодаря развитию руки [там же, 48—
51].
Отличительные свойства человека как индивида, указывал
Радищев, состоят в морфологическом своеобразии (форма
отдельных органов, строение конечностей, черепа, челюстей и т. п.), в
организации человека в целом и его органов, в совершенстве их
функций. Важнейшей морфологической и антропологической
особенностью человека Радищев считал самое развитое «мозговое:
вещество», связанное с особенностью черепа человека.
Анализируя специфические, антропогенные формы строения черепа,
философ опирался на работы Кампера, Лафатера, Гердера —
крупнейших европейских антропологов середины и конца XVIII в. «Кам-
пер, — писал он, — проводит линию через утлость уха до
основания носа и другую линию с верхнего края лобной кости до
наиболее иссунувшейся части бороды... Чем более угол сей
расширяется, тем животное сходственнее становится в образе своем
человеку. Обезьяны имеют в образе своем сей угол от 42 до 50
степеней; сия последняя степень уже человекообразна. Европейцы
80, а греческая вообразимая красота от 90 степеней восходит ДО'
100. Гердер, стараясь показать естественную сему причину,
говорит, что она состоит в отношении животного к его
горизонтальному или перпендикулярному строению и таковому положению его
головы, от которого зависит счастливое положение головного
мозга и красота и соразмерность всех личных частей» [там же,
50].
Выступая сторонником эпигенеза в истолковании родословной
человека, Радищев резко критиковал концепции человека
Г. Лейбница, Ш. Бонне, Э. Сведенборга [там же, 50, 128, 137].
В трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии» дан
разбор отступлений от теории эпигенеза А. Галлера, сделан целый
ряд критических замечаний в адрес тех, кто не признавал
специфики интеллектуальной деятельности человека по сравнению с
мозговой деятельностью животного. Достоин внимания
высказанный при этом тезис о связи генезиса мозга человека с деятельным
характером жизни людей. Мысль Радищева: «Руки были
человеку путеводительницы к разуму» [там же, 51] —не являлась
простым воспроизведением соответствующего высказывания
Гельвеции. Автор трактата «О человеке...» отмечал особую роль рук в
реализации трудовых усилий, в деятельном преображении
природы и социальной жизни на путях утверждения себя и себе
подобных— представителей социальных коллективностей.
Философско-антропологическая позиция Радищева имела
материалистическую подоплеку: его учение связывает «мыслен-
ность» с «вещественностью», придавая ей («мысленности»)
материализованную форму. А это значит, что налицо существенное
отличие философии Радищева от философии Гегеля, считавшего
81
мышление субстанцией человека и его способностей [см. 7, 2,
83—85, 123—127]. Практическая сфера для автора трактата
«О человеке...» — это сфера «чувственного опыта»,
преимущественно сенсуалистически понимаемое «общение с природой». Не
случайно в главном философском сочинении Радищева речь идет
о «размерном сложении», об антропологических (анатомических
и физиологических) «преимуществах» чувств, органов восприятия
внешнего мира — зрения, слуха, осязания, обоняния — по
сравнению с животными и птицами, насекомыми и растениями [см. 7,
2, 51—53].
Недооценивая роль социальной среды в формировании
индивидуального сознания человека, философ указывал на мысль как
на силу природы, имеющую естественное происхождение. С
другой стороны, он доказывал, что «мысленность» присуща только
человеку и никому из низших или высших видов животного
царства. Эти суждения имеют эволюционно-антропологическую
ориентацию. «Мы видели и для нас по крайней мере доказанным
почитаем,— писал Радищев, — что в природе существует явная
постепенность, что, восходя от единого существа к другому, мы
находим, что одно другого совершеннее, или, сказать точнее, одно
другого искусственнее в своем сложении: что в сем веществ
порядке человек превышает всех других равно искусственнеишим
своим сложением, совершеннейшею своею организациею, в
которой толико явственно соединены многие силы воедино, а паче
всего умственною своею способностию...» [там же, 130].
Рассмотрение Радищевым свойственных человеку
характеристик представляет большой историко-философский интерес. Оно
позволяет видеть, в какой мере и как русский мыслитель
опирался на естественнонаучные и антропологические данные, в
какой форме отражалось это на его философской ориентации.
Знакомство с перечнем основных черт родовой и в известной мере
социальной природы человека, ее выражением в трактате «О
человеке...» свидетельствует о широком диапазоне сведений,
привлекавшихся им с целью аргументации своих выводов.
Антропологическая природа основоположений трактата «О
человеке...» выявляется не только в описании автором «характера»,
свойств и функций человеческой натуры, в его стремлении
«гармонизировать» человека со всеми проявлениями живого, но и в
превращении им человека в важный феномен подлунного мира,
находящийся в подвижном единстве со всеми элементами среды
и «обстоятельств жизни» людей. В родовой сущности человека
русский мыслитель ищет возможность многогранного раскрытия
«сложнейшей формы» этого единства. В свое понимание
человеческой природы он включает «сопричастность» человека
«высшему порядку существ» [там же, 46], «силу целого, или
сложенного» [там же, 106], возможность «иметь новую организацию»
[там же, 139]. Автор трактата указывал, что сама эта
возможность проистекает не из «божественной субстанции», а
соответствует фундаментальным законам бытия, раскрывающимся в че-
82
ловеке в форме единства «вещественного» и «мысленного», в
виде высокоорганизованного «дополнения» всех сил природы —
«силы духовной», органически связанной со всеми проявлениями,,
в том числе с «общественным разумом» и «общественным
житием» [там же, 65J.
Характеристика «особенных свойств» человека в трактате
Радищева связана с решением «общих» задач антропогенеза. Видя
в философии выражение бытия природы и человека, русский
мыслитель считал, что ее задачи необходимо решать в связи с
проблемой человека и сквозь призму тех выводов, которые при этом
оказываются неизбежными. Именно поэтому материалистическое
понимание действительности для него — результат не
гомологического толкования и антропоцентризма, а материалистической
ориентации, в соответствии с которой природное, физиологическое
предшествует «мысленному», духовному, психическому [там же,.
109]. «Ты мыслишь органом телесным!», — восклицал он, решая
психофизиологическую проблему [там же, 43]. При этом,
согласно Радищеву, сам человек способен выявить в себе общие черты,,
присущие роду людскому.
При уяснении онтологических, человековедческих и
социальных проблем Радищев от единичного, отдельно взятого частного1
явления стремился возвыситься к общему. Его интерес к
проблеме соотношения индивидуального человеческого существования и
мирового целого, Космоса отражал общий настрой ученых и
философов конца XVIII в.8
В трактате «О человеке, о его смертности.и бессмертии»
вычленяется и достаточно четко формулируется одна из важнейших
идей философского антропогенеза — возможность построений,
опирающихся на фундаментальные законы бытия, раскрывающих в
человеке единство «вещественного» и «мысленного», единство
тела и души.
Традиционная «проблема души» и нетрадиционное ее
решение— тема кардинальная в системе понятий о специфике
философии А. Н. Радищева. Ее правильное освещение призвано дать
ответ на ряд вопросов, существенных для понимания мнимых и
реальных противоречий трактата «О человеке, о его смертности и
бессмертии». В понимании «проблемы души» автор не стоял на
традиционных позициях. А. С. Пушкин не случайно называл
Радищева «новодителем в душе», т. е. новатором в области
познания природы «душевных», психических явлений, природы
сознания. Заслугой русского философа являлась разработка проблем
духовных явлений в полемике с лейбницианством, вольфианством,
картезианством, берклианством и томизмом, российскими школа-
8 Возможно, Радищеву было известно блестящее космогоническое сочинение
И. Д. Ертова «Начертание естественных законов происхождения Вселенной», в
широком плане ставившее проблемы познания Вселенной с помощью приборов
(телескопов) и обобщения имеющихся астрономических знаний [см. 178].
83
ми платоников-спиритуалистов, а также с масонским
мистицизмом.
В конце XVIII в. многих естествоиспытателей и философов не
удовлетворяла концепция психического автоматизма Лейбница и
Хр. Вольфа. Мистический детерминизм немецких философов-
идеалистов был связан с телеологизмом и признанием
«верховного начала». Вольфианцы, как писал Ф. Энгельс, проповедовали
убеждение, что «кошки были созданы для того, чтобы пожирать
мышей, мыши, чтобы быть пожираемыми кошками, а вся
природа, чтобы доказывать мудрость творца» [1, 20, 350]. Немецкий
объективный идеализм проблему природы сознания трактовал
как проблему «начала», сочетая ее с постулатом о «тождестве
мышления и бытия», с традиционно-платоновским пониманием
характера «идей». Г. Тейхмюллер (1832—1888) антропологические
понятия превращал в религиозную установку «самосознающего
субъекта истории», упорядочивающего мир с помощью
«божественного логоса».
Русские идеалисты-мистики, солидаризируясь с масонами,
проповедовали учение об индетерминизме психических процессов.
«Мастера» франк-масонских лож перевели на русский язык
трактаты «О заблуждении и истине» Л. Сен-Мартена, «Слово о
вольнодумцах и неверующих» Ж- Сорена и «Об истинном
христианстве» И. Арндта. «Все — из духа», а «дух — эманация
божественной силы» — утверждения, которые не могли не импонировать
русским масонам [см. 252, 332—333]. Путем выпуска в свет
произведений западных мистиков русские масоны рассчитывали
укрепить фронт борьбы против материализма, деизма и атеизма.
Идеи Просвещения в России развивались в острой борьбе со
спиритуализмом. Отстаивая истинность материалистического и
атеистического миропонимания, просветительская мысль
испытывала ряд трудностей. Эти трудности были связаны с осознанием
недостаточности основанных на абсолютизации постулатов
ньютоновской механики общих рассуждений о единстве материи и
движения для объяснения природы психических процессов.
Теоретически бесплодным оказался механистический принцип
английских и французских сенсуалистов: «Нет ничего в разуме, чего не
было в чувствах». Редуцируя психические явления к физическим
фактам, эмпирический сенсуализм не способствовал
философскому осмыслению активности сознания, стеснял развитие понятий о
психическом.
В советской и зарубежной литературе высказывалось мнение
о том, что обращение к проблеме человека, его смертности и
бессмертии явилось результатом «личной драмы», пережитой
Радищевым сразу же после опубликования «Путешествия из
Петербурга в Москву». Данное утверждение не кажется нам
убедительным, поскольку эта проблема обсуждается не только в трактате
«О человеке...», но и в более ранних произведениях Радищева.
Кроме того, те, кто стремится доказать персональный интерес
Радищева некоторыми «личными причинами», явно зауживают суть
84
и значение проблемы смертности и бессмертия в истории
европейской философии XVIII в. [см. 286, 218, 231, 249—295 и др.].
Философское осмысление проблемы смерти и бессмертия
представлено в таких произведениях, как «Житие Федора
Васильевича Ушакова» и «Путешествие из Петербурга в Москву» — в
произведениях, которые ставили вопросы о взаимодействии
телесности, чувственности и интеллекта в человеке, о «загадочной силе
душевных движений». Разум впадает в противоречие, когда
пытается представить смерть, «конец житейский», рассуждает
Радищев. Тем не менее он призывает искать и находить «естественные
и откровенные законы» психических, нравственных явлений и
самого «ума», этого высшего проявления духовности.
Философские изыскания Радищева в области психологии и
антропологии опирались на опубликованные в 80—90-х годах труды
по физиологии, антропологии, этнографии, психологии и
этнологии. Поэтому мыслитель считал, что со временем «великий
сфинкс» человеком будет разгадан путем познания «собственного
естества», утоляя жажду «убедительных и чувственных доводов»,
рациональных и опытных средств познания [см. 7, 1, 259—260].
Весьма любопытно сравнить эти высказывания Радищева с теми
идеями, которые формулировал Чернышевский в произведении
«Антропологический принцип в философии» (I860)9. Как и
Чернышевский, который в своем «Современнике» ополчался против
супранатуралистов, Радищев остро критиковал идеализм и его
«творчие основания», т. е. методологию.
Выступая против мистицизма, свойственного лейбницианско-
вольфианскому истолкованию вопроса о природе сознания,
Радищев не только выдвигал доводы в пользу естественности самого
процесса мышления, проявления «безумного» или «мудрого», но
и высказывал оптимистическую идею о связи успехов познания с
прогрессом, о постижимости явлений, которые его современники
считали непостижимыми. Может отсеяться многое из того, что
сегодня считается достоверным, но «живой остаток» человеческого
познания неистребим, непреоборима сила разума, вещал
Радищев в духе Просвещения [там же, 268—269].
В трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии»
«человеческая тема» органически связана с решением
фундаментальных философских проблем. Поскольку для Радищева человек —
это микрокосм, заключающий в себе богатство сил и законов
Вселенной, постольку у мыслителя возникала необходимость
«очеловечивать» предмет философии, обращаться к «натуре человека»,
к философско-антропологическим проблемам, в частности к
вопросу об отношении души и тела. Проникнуть в загадочную
лабораторию мозга — важная задача, которую ставил перед собой Ра-
9 «Естественные науки, — писал Н. Г. Чернышевский, — уже развились
настолько, что дают много материалов для точного решения нравственных
вопросов. Из мыслителей, занииающигся нравственными науками, все передовые
люди стали разрабатывать их при пояопги точных приемов, подобных тем, по
каким разрабатываются естественные наук!» [522, VII, 258].
85
дищев. С ней он связывал решение вопроса о природе идеального,,
подобно Фейербаху, присоединяя сюда же проблему смертности и
бессмертия души [см. 511, I, 275—441].
Указанные выше вопросы, волновавшие философа уже в пору
работы над «Путешествием из Петербурга в Москву», стали
центральными разделами его трактата «О человеке, о его смертности
и бессмертии». Так, например, пройдя через все четыре книги'
трактата, проблема природы идеального, смертности и
бессмертия души стала центральной, фокусирующей важнейшие аспекты
авторского миропонимания. Это обстоятельство — еще одно
свидетельство того, что вопросы, остро интересовавшие русского
мыслителя в Илимском остроге, являлись не отражением личной
судьбы Радищева, его собственной «жажды обретения веры в
бессмертие» [112, 12, 64], а смелой попыткой, вопреки масонам и
спиритуалистам, философам-мистикам и богословам, решать
задачи, которые к концу столетия получали особую актуальность^
жгучую злободневность.
Стремление размежеваться с дуализмом, идеалистическим
монизмом и грубым механицизмом приводило Радищева к
обоснованию теории материального происхождения (книги 1—2) и
материальной природы (книги 3—4) самого идеального, мысленного,
психического. Гениальность русского философа состояла в том,
что из всей совокупности проблем, относящихся к «идеям века»,,
он смог вычленить главную, определявшую все остальные, и
истолковать ее в духе познания взаимоотношения физического и
духовного в человеке, а уяснения сущности неведомого — «мыслен-
ности». И онтологическая и гносеологическая стороны
интерпретации идеального получали здесь антропологическое выражение:
изначальную форму чувствительности («раздражительность»)
Радищев связывал с простейшими «живыми существами», а
«развитую» и «зрелую» форму («мысленность»)—с мозгом человека.
Обозначая свою материалистическую позицию, в первой
книге трактата Радищев указывает, что мысль — порождение
материального органа — мозга и является телесной формой
«вещественности». Механизм действия «мысленного порядка» он
разъяснял следующим образом: чувственные орудия — нервы, мозг —
орудие мысли, орган образования понятий, формирования
воображения, памяти и рассудка [см. 7, 2, 43—44]. Производный,
вторичный характер психического вытекает из размышлений,
демонстрировавших позицию материализма в конце первой книги, где
автор пишет, что человеческое воображение «следует в начале
своем всегда внешним влияниям» [7, 2, 64]. Во второй книге
подчеркивалась субстантивность органа мысли: «памяти престол
есть мозг» [там же, 95]. А в середине третьей книги читаем:
«Понимающее предшествует всегда понимаемому, мысленное идет
во след мыслящему», т. е. объект предшествует субъекту [там
же, 109]. Материалистическое решение основного вопроса находим
и в четвертой книге, где автор привел «казистое доказательства
о всевластвовании тела нашего над душею» [там же, 125].
86
Все вышесказанное (а также материалистическая теория
познания и критика идеализма, пронизывающая все четыре книги
трактата «О человеке...») является убедительным
доказательством свойственного Радищеву стремления опираться на
материалистические принципы. И это касается не столько проблемы
соотношения «вещественности» и «мысленности», сколько вопроса о
том, что являет собой «мысленность», «духовность»,
«чувствование», «рассудок» и т. п. В отличие от Канта русского мыслителя
интересовала проблема не столько «границ разума», сколько
«анатомии разума». В сочетании с проблемой человека это
означало выдвижение на передний план проблемы онтологизации
мышления и психики. Само понимание разума как существенной
характеристики «человеческой природы» предполагало понимание
«мысленности» как атрибута «вещественности», ее
«субстанциальной силы».
Следует иметь в виду три важных обстоятельства, сделавших
возможной в конце XVIII в. разработку проблемы
«онтологизации сознания»: во-первых, возникновение антропологии как
науки; во-вторых, размежевание механики и органики, физики и
физиологии, химии и биологии; в-третьих, достаточно активное
использование сравнительного метода, т. е. компаративистики, а
также развитие знаний в области палеонтологии, ботаники,
зоологии, эмбриологии, физиологии, психологии, этнологии и
систематики. Анализируя доводы Радищева в пользу необходимости
своеобразной материализации психического, идеального, необходимо
учитывать научные возможности последней четверти XVIII в.
В связи с этим один из известных советских исследователей
творчества Радищева, тартуский ученый Ю. Лотман, писал: «Следует
помнить, что одна и та же идеологическая система может
выступать как противоречивая с точки зрения современного
исследователя и монистическая, непротиворечивая с точки зрения ее
создателей...» [312, 3, 167]. Столь же уместным будет привести
заключение Л. Н. Лузяниной, которая указывает, что в трактате «О
человеке, о его смертности и бессмертии» «локализовался
преимущественно один аспект: материальная природа человеческого
сознания и его беспредельность, способность постигать время и
пространство, таинства природы, собственную человеческую
сущность» [112, 12, 61].
Радищев понимал, что в отличие от материального,
существующего независимо от сознания, идеальное существует только в
сознании. Делая акцент на вопросе о природе психического, он не
считал парадоксальной возможность объявить «мысленность»,
идеальное как бы «небестелесным», поскольку его волновал не
столько вопрос о «душе», сколько вопрос об основах или
элементах душевных процессов, о приложимости к ним
антропологических критериев, неукоснительных для всякой теории,
объясняющей органические, «живые формы». В человеке, считал
мыслитель, природа превзошла себя, выйдя как бы в фазу особой
«вещественной» формы развития. Таким образом, «отступая от тело-
87
смертия», т. е. выступая с идеей бессмертия телесной души,
Радищев считал, что не исключена ввиду этого «особая»
организация души, нами не ощущаемая, нам не ведомая. Ее действие
«посредством вещественности» надлежит изучать, выявляя пока
нераскрытую его специфику [см. 7, 2, 139—140].
Эту особенность подхода к трактовке идеального Радищев
связывал с определенными философскими, естественнонаучными
и идейно-политическими задачами. Его не устраивали общие
спиритуалистические предположения Лейбница. Лучшее для нега
могло быть связанным с признанием «души» неким
эпифеноменом, или сложной функцией материи. Но в истории философии,
считал автор трактата «О человеке...», всегда оставался
открытым вопрос о том, является ли «душа» состоящей из частей или
это — нечто целостное. Можно ли ее считать протяженной,
имеющей форму, образ, самостоятельное существование? Чем и где
может быть «душа» до зачатия и чем она является после? «Нет
тождественности души в двух состояниях, то есть в нынешнем и
предрождественном; не все ли равно, что она не существовала да
зачатия или рождения» [там же, 44], — пишет Радищев.
Из этих рассуждений мыслитель делал вывод, что в человеке
тело первично, а «душа», мышление, психика вторичны. Он
отмечал, что такое сложное образование, как мысль, не может
порождаться чем-то простым, происходить из частей, подобно тому же
каждый отдельный винтик или стрелка часов не может правильно
показывать время независимо от «механизма часов в целом».
«Возьми столь художественно изобретенное орудие (часы. —
П. Ш.)у ударь его о камень, где будет сей почти разумный
времени указатель? Или в каждой части?» [7, 2, 91]. Сложность
«души», если она есть «след», «мета» на куске «вещественности»
(мозге), должна быть, по Радищеву, чем-то «внутренним».
Именно это «внутреннее» способно порождать «мысленность», особый
состав вещества — «нервенную жидкость» [там же, 42], некие
«духи» [там же, 73], или «мысленное вещество» [там же, 86—
87].
Таким образом, «гадательный» вариант радищевского
решения «проблемы души», проблемы идеального предполагал, что
«душа» отлична от тела, но являет собой нечто материальное,
некое особое состояние материи. Поэтому вполне логично
предположение Радищева о том, что «мысленность» подчинена
объективным законам бытия. Одним из этих законов признавался закон
сохранения. Но «мысленность», согласно Радищеву, раскрывает
свою специфику также и через антропологические
характеристики. Она способность человека, его особая «сила», реальная
возможность и склонность, родовой атрибут.
Любопытно, что с точки зрения философской антропологии
материализация сознания осуществлялась Радищевым уже в
первых двух книгах трактата «О человеке...» [там же, 44, 46—47, 50„
58—59, 62, 64, 66, 69—70, 94]. Для первых двух книг характерно
стремление к пониманию психического как «бестелесного» проти-
88
вопоставить некое «телесное» понимание психики. При этом с
учетом универсального характера «вещественности» становится
возможным объединение представлений о «веществе» и «духе» на
основе всеобщих понятий о материи. «Душа» трактуется
Радищевым как произведение «вещества единого», что подкрепляется
примерами, зависимости интеллекта от телесного состояния [там
же, 89].
Обосновывая взгляд на «мысленность» как на особую форму
организации «вещественности», Радищев писал: «Мы не скажем,
да и нелепо то было бы, что чувствование, мысль суть то же, что
движение, притяжение или другое из описанных выше сего
свойств вещественности. Но если мы покажем, что все они могут
быть или суть поистине свойства вещества чувствующего и
мыслящего, то не в праве ли будем сказать, что оно и вещественность
суть едино вещество; что чувственность и мысль суть ее же
свойства, но поколику она образуется в телах органических, что суть
силы в природе, чувствам нашим подлежащие токмо в их
сопряжении с телами, от чего бывают явления; что вещество, коему
силы сии суть свойственны, нам неизвестно; что жизнь, сие
действие неизвестного также вещества, везде рассеяна и разновидна;
что она явственнее там становится, где наиболее разных сил
сопряжено воедино; что там их более, где превосходнее является
организация; что там, где лучшая бывает организация,
начинается и чувствование, которое, восходя и совершенствуя постепенно,
досязает мысленное™, разума, рассудка; что все силы и самая
жизнь, чувствование и мысль являются не иначе, как
вещественности совокупны; что мысленность следует всегда за нею, и
перемены, в ней примеченные, соответствуют переменам
вещественности, то заключим, что в видимом нами мире живет вещество
одинакородное, различными свойствами одаренное; что силы в
нем всегда существуют, следовательно, ему искони присвоены.
Но как союз сей произведен, то нам неизвестно...» [7, 2, 83].
Из приведенной цитаты видно, что русский мыслитель
склонялся к идее теснейшей связи («сопряжения воедино») духовных
процессов с материальным субстратом. С «веществом
совокупная», считал Радищев, «мысленность» может быть его «силой»,
«свойством», «энергией» либо «веществом одинакородным» с
материей, находящимся с ней в «союзе». Поэтому встречающееся на
страницах трактата понятие «мысленное вещество» нельзя
смешивать с категорией «вещественность» [там же, 83, 85, 87].
Развивая мысль о материальном происхождении и
материальной природе сознания, во второй книге своего трактата Радищев
высказывал предположение о том, что благодаря действию
стихий, их «сложению» могут возникать новые «вещества» и
«явления», которые «естествословы (представители течения в
философии, опирающиеся на естествознание. — П. Ш.)... уобщая понятия
и восходя от одной отвлеченности к другой», открывают в бытии
вещей, и секрет «мысленности» заключается в организации, в
действии разнообразных сил и стихий природы [там же, 87].
89
Сознательная онтологизация «душевных» процессов, понятие
о материальной «душе», связанной с телом человека, а через него
и со всем Космосом, противопоставлялись Радищевым масонским
представлениям об автономности «души». С его точки зрения, не
только сам человек — звено вселенских связей «вещественности»,
но и «духовность» является составным элементом конечного и
бесконечного, единичного и общего, части и целого. Тем самым
человек как форма единства «вещественного» и «мысленного»,
«венец сложений», представлялся Радищеву не просто «мерой
всех вещей» (как это было у Протогора), а элементом
универсальной связи, чем-то космически фокусированным, наподобие
звезды, или какого-либо другого светила Вселенной.
Такая логика рассуждений вынуждала автора трактата
«О человеке...» прибегнуть к услугам развитой в то время формы
теоретических изысканий человеческой психики, получившей
название «дианалогии», т. е. учения о «совокупных силах»
человеческого разума, о «душедвижении». Его не удовлетворяли
догматический характер и формализм теоретического мышления
сторонников этого учения. Он стремился внести коррективы и в само
учение, и в его методы. Даже на одном только примере
методологического использования принципа соотносимости части и целого,
входившего в философский багаж эпохи Просвещения, видно, что
русские философы второй половины XVIII в., и прежде всего
Радищев, стремились во всех своих размышлениях опираться на
природу, «объяснить мир из него самого» [1, 20, 350]. Развитая
Радищевым материалистическая концепция целостности природы
и человека, их гармонической взаимосвязи могла впоследствии
быть предпосылкой выводов о противоречивой целостности
человека как феномена бытия, о сложности историко-генетического
механизма единства материи и сознания.
Радищев утверждал, что вся совокупность психических
явлений обретается «вещественностью» в ходе ее эволюции, развития.
Поэтому при всей уникальности человеческого сознания важно
видеть его единство с универсальным миром вещей, с которым
связаны человеческая цивилизация и культура. Во Вселенной,
полагал мыслитель, способен раствориться состав самой «мыслен-
ности» — материализованной разновидности универсальной связи.
Для Радищева, в отличие от Спинозы, сознание как атрибут
субстанции предусматривает материальную форму выражения.
«Душевные явления» в трактате «О человеке...» выступают
формой «неисчисленного вещественности разнообразия» и
демонстрацией «могущества всеотца бесконечного» [см. 7, 2, 85].
Отдавая тем самым дань пантеистическому и механистическому
пониманию природы, «вещественности» и «духовности», Радищев
вместе с тем уподобляет сознание не «божественной субстанции»,
а субстанции материальной, ставя жизнь, чувствование,
мышление в ряд феноменов реального мира вещей и явлений. При этом
в суждениях русского философа, несомненно, отразился уровень
развития физиологии XVIII в. Стремление избегать категориче-
90
■ских суждений, подчеркивание значения гипотетического знания
говорит о том, что Радищев осознавал недостаточность этого
уровня развития естествознания для решения философских задач.
Важно подчеркнуть, что до последнего времени в
комментаторской литературе недостаточно учитывалось значение
естественнонаучного подхода для истолкования философской концепции
Радищева. Между тем именно естественнонаучный подход отличал
ту специфическую позицию, отталкиваясь от которой автор
трактата «О человеке...» решал вопрос о соотношении материального
и идеального, пытался преодолеть механическую модель
психического, разработанную Гельвецием и Гольбахом. Радищев исходил
из «энергетического принципа» [см. 560, 394], хотя и вносил в
него коррективы. Уподобляя мысль, психическое, жизнь
«воздуху», некоей «энергии», «свету», «силе магнитной», «эфиру»,
«силе электрической», русский мыслитель подчеркивал, что эти
уподобления указывают лишь на «сходственность», «похожесть»
данных явлений, что «истинные заключения» должны учитывать
сверхсложные «амальгамирования», «разделения», «сложения»,
«сцепления», «растяжения» и т. п. [см. 7, 2, 87]. В итоге делался
вывод о том, что материальную основу мышления и психики
можно представить себе только по аналогии [там же, 82—90].
Радищев решает проблему природы психического, опираясь на
постулат: «душа» отлична от тела человека, но являет собой
нечто материальное. Но какими качествами она обладает и каковы
ее свойства? Отвечая на вопрос о характере «мысленных
образов» и процесса мышления, Радищев писал: «Дав протяженность
мысленности твоей, дадим ей образ, сколь ни нелепо тебе то
кажется; ибо, поелику образ есть определение протяженности,
мозг есть протяжен, а потому и все, содержащееся в нем. Сверх
того, мозг имеет сам по себе определенный образ, следует, что и
содержащееся в нем образованно. Ваятель делает сперва
глиняную форму, да образует своего Аполлона. Но каков может быть
образ твоей мысленное™, до того мне нужды нет, да и определить
того не могу. Или изведаем, что воздух и подобное ему вещество,
да и всякое жидкое тело образуется по сосуду, в коем
содержится. Если воздуха никто на сажень не мерил, то, кажется, для
того, что содержащееся его количество в кубической сажени
может содержаться равно в кубическом дюйме и растянуться на сто
кубических сажен. Но если воздух неудобоизмерим, то взвесить
его можно. Не бойся, не бойся, я мысленное™ твоей на безмен не
положу. Сила электрическая, собранная в Лейденской склянице,
взвешена. Кто знает протяжение и образ силы магнитныя, кто
взвешивал ее? Но кто отрицать станет, что она не вещественна?»
[7, 2,84—85].
Мы видим, что сам Радищев вовсе не считал простой ту
материальную «форму», в какой творится и хранится мысль.
Понимание идеального в век господства ньютоновской механики было
весьма затруднено ввиду недостаточного развития естествознания,
наук о человеке. «Идеальное, — вслед за К. Марксом утверждаем
91
мы, — есть не что иное, как материальное, пересаженное в
человеческую голову и преобразованное в ней» [1, 23, 21]. Однако
разве поныне в науке не остается многое неясным относительно
того, как «пересаживается» в человеческую голову материальное,
«преобразуясь» в идеальное?
Стремление Радищева к материализации психического было-
связано с попытками как можно убедительней доказать
беспочвенность противопоставления «души» и «тела», психического
физиологическому, — противопоставления, которое впоследствии
получит название психофизического параллелизма, заняв видное
место в идейной борьбе в России 70—80-х годов XIX в. [см. 230,
470—485]. Соглашаясь с декартовским принципом «энергетизма»
в толковании природы сознания, русский философ-материалист не
разделял взглядов французского мыслителя на интроспекцию как
«внутризрительный опыт» исследования психических явлений.
Недостаток объективного идеализма (спиритуализма) и
субъективного идеализма Радищев видит в крайностях их позиций,
исключающих материальное или низводящих его к незначительной
роли.
Материализация духа и спиритуализация материи —
процессы, не прекращавшиеся в истории философии. При этом каждый
из них только в конечном счете раскрывал свое
материалистическое или идеалистическое содержание. Например, понятие Ма-
teria aeterna в устах философов древнеалександрийской школы и
Тертуллиана имело спиритуалистическое значение, а в
концепциях Б. Спинозы и Г. Сковороды — материалистическое. Тертул-
лиану идею вещественной души (он уподоблял ее «воздуху»)
приходилось связывать со сферой пантеистически-божественного,
т. е. материальное («воздух») им растворялось в божественном
(«бог»).. В отличие от Тертуллиана Б. Спиноза в природе
растворял «бога»: божественное, духовное, идеальное он объявлял
одним из атрибутов материи. Вслед за автором «Богословско-по-
литического трактата» целая плеяда европейских и российских
философов выходила в область либо деистического, либо сугубо
материалистического пантеизма. В их числе были Прокопович
и Сковорода, Ломоносов и Поповский, Болотов и Красильников,
Аничков и Каверзнев.
Спиритуализация материи отчетливо проявилась в
философских построениях Лейбница и Гегеля. Монадология и система
абсолютного идеализма являлись классическими образцами
мистификации реального мира вещей и явлений. Стремление
материальное свести к духовному имело место и среди
естествоиспытателей XVIII—XIX вв. Спиритисты и медиумисты — ботаник
Уоллес, физик Крукс, химик Бутлеров — шли от материального к
духовному: поиск медиумических явлений представлял собой
форму мистицизма, содержал в себе потенции иррационализма.
Желание Радищева подвести духовные, психические,
мыслительные процессы под процессы материальные, «вещественные»,
природные нельзя расценивать как раннюю форму медиумизма»
92
или «духовидения». Его «гадательные» идеи не могут быть
основанием для сближения идейной позиции автора трактата «О
человеке...» с позицией тех его современников, которые были
заражены «верой в некромантию» или испытывали слабость к
«черной и белой магии». Материализация духа в понятиях Радищева
означала попытку в сложных условиях последних десятилетий
XVIII в. избавиться от дуалистических и идеалистических
концепций, дать ответ на вопросы теории и практики исходя из
материалистических понятий. Ведь и Новиков и Фонвизин в России
протестовали против мистицизма. Гёте также ощущал «дух
эпохи», когда отворачивался от писаний Тейхмюллера, Эккартсхау-
зена или Шлейермахера. Мистический финал Фауста — это то, что
Гёте, современник Радищева, бросит в качестве обвинения тем,
кто не в состоянии был ценить науку и ученых. Высмеивая
мистицизм, автор «Фауста» оставался «великим язычником»,
прикованным к природе Прометеем. Идейная ориентация
«веймарского классицизма», романтические представления о сочетании
индивидуального, природного и космического в человеке
содействовали развитию философской антропологии.
В России 80—90-х годов Радищев по-своему противостоял
медиумизму и спиритуализму в тех формах, которые широко и
весьма стандартно распространяли русские богословы и правые
масоны. Он доказывал, что «душа» неразрывна с материей не
только с точки зрения онтологической, но также и с точки зрения
антропологической: своим субстанциальным источником она имеет
«органы человека», выступающие своеобразным носителем
«жизненного начала» [см. 7, 2, 50—51]. Как «жизнь», так и
психическое, «душевное», утверждал автор трактата «О человеке...»,
имеют градации своих форм от простейшей (семени) до самой
сложной формы, имеющей наиболее «тонкую» организацию (мозга).
Именно «душа», полагал Радищев, соединяет мир вещества с
миром мышления как процесса. Ее активное начало способно
превратить кусок хлеба в орган твоей мысли [там же, 42].
Своеобразный элемент диалектики проявлялся в
размышлениях Радищева о двойственном, противоречивом характере
«души». По его мнению, «душевные явления» — это, с одной
стороны, рефлексирующее сознание, которое он называл
«размышлением», с другой — своеобразная сила, являющаяся результатом
физических, химических и сложных биологических комбинаций
«вещественности», особой организации ее невидимых,
мельчайших частиц.
В своем философском трактате Радищев стремился показать
единство человека, которое он усматривал в единстве
физиологической, чувственной и интеллектуальной жизни, сводя ее к
всеобщим «вещественным основаниям». Эти выводы аналогичны
выводам «Антропологического принципа в философии»
Чернышевского. Важнейшим отличием Радищева от автора этого
сочинения было то, что он создавал концептуальное построение в
условиях конца XVIII в. и его размышления о сложных взаимосвя-
93;
зях общего (целого) и единичного (части), физиологического
(мозга) и психического (мышления) нередко тонули в
абстрактных аналогиях, гипотетических допущениях, деформировались под
влиянием доминировавшего в то время метафизического метода.
Вместе с тем Радищев ощущал узость метафизического
метода. Позицию механистического детерминизма он считал весьма
слабой потому, что та принижала роль сознания, психического.
Отвергая общий постулат субстанциональности сознания,
Радищев, как указывалось выше, видел в атрибутивных свойствах
материи ее потенциальные и актуальные возможности
«порождать» или «проявлять» духовные «качества», активные «начала»,
способные иметь свою исходную точку и выступать в качестве
постоянно или длительно действующей «силы».
Радищева волновал вопрос о причинах и законах активности
сознания, об активном характере «мысленное™», способной
«производить пожар великий», выступать в качестве «вожатого»
событий. Разделяя представление о «мысленное™» как «силе»,
влияющей на все сферы человеческого бытия, он писал:
«Малейшая искра, падшая на горячее вещество, произведет пожар
великий; сила электрическая протекает везде непрерывно и
мгновенно, где найдет только вожатого. Таково же есть свойство
разума человеческого. Едва един возмог, осмелился, дерзнул изъ-
ятися из толпы, как вся окрестность согревается его огнем и, яко
железные пылинки, летят прилепитися к мощному магниту» [7,
2, 129].
Именно признание активности сознания обусловило
превосходство философии Радищева над современным ему философским
материализмом, страдавшим созерцательностью. Русский
мыслитель отказался от механистической концепции природы
мышления, рассматривающей сознание как пассивную функцию
чувственного мира. Критикуя представление о сознании как «следе»,
«мете» на куске материи, на плоскости тела, на поверхности
«вещественности», Радищев (в первой книге трактата) писал, что
из данного представления неизбежно следует вывод о смертности
«души», с которой человек должен примириться, обрекая себя на
бездействие. Однако задача философии, согласно Радищеву,
заключается в том, чтобы ослаблять и полностью уничтожить
«страх смерти».
Желая построить оптимистическое миропонимание, Радищев
доказывал, что с точки зрения «разума», самой человеческой
«природы» страдания не являются атрибутом существования
человека. Можно и должно избавиться от них. Этому может
служить активная жизненная позиция, которая должна иметь
основанием активную психику, деятельный характер нормативных
решений человека, избирательную форму морального выбора.
«Гадательный» вариант решения проблемы сознания, предложенный
Радищевым, допускал возможность «особой вещественной
формы», которая должна быть не только единой и неделимой (или
расчлененной и многосложной), но еще и подчиняться закону со-
94
хранения, принципу причинности, отражать основные
характеристики бытия материи, законосообразного развития ее форм в
соответствии с «лествицей веществ и существ». Здесь мы видим,
какие фундаментальные положения науки владели разумом
русского мыслителя, почему, во имя каких важных мировоззренческих
выводов создавал он искусную вязь своего анализа. В начале
третьей книги трактата Радищев еще раз подчеркнул требование
«в суждениях своих о смертности и бессмертии человека быть
гораздо осторожным» [там же, 97].
Вопросы о состояниях «души», фазах ее развития и
конкретного воплощения в человеке становятся центральными в третьей
и четвертой книгах трактата Радищева и решаются с учетом
оптимистических принципов естественных наук. Если человек,
рассуждал мыслитель, состоит из тех же частиц, что и все
Мироздание, то нельзя утверждать его полную «уничтожимость» после
смерти. Если «мысленность» уподобить «веществам», «движение
производящим» стихиям или «химическому средству», «свету»,
«силе электрической», «эфиру», «силе магнитной», то нет
оснований не полагать, считал Радищев, что «душа» может быть
бессмертной. С точки зрения здравого смысла, науки и логики,
разъяснял он, нет никакого абсурда в утверждении: «смерть не
существует в природе, но существует разрушение» [там же, 44].
При этом имеется в виду неразрушимость «душевного состава»,
т. е. «силы, жизнь дающей», «мысленного вещества», особой
«материальной организации» [там же, 96—105].
Формулируя свои выводы о человеке, его смертности и
бессмертии, Радищев приходил к проблемам, известным в истории
философии трудностями интерпретации. В аспекте философско-
житейских интересов его современники обращались к
высказываниям о смертности и бессмертии мыслителей Древней Греции,
эпохи Возрождения и нового времени — Платона, Аристотеля,
Эпикура, Бруно, Галилея, Бэкона, Спинозы, Лейбница, Паскаля,
а также Бонне, Мендельсона, Юнга, Сведенборга — религиозно
ориентированных философов, упоминаемых русским мыслителем
в различных разделах трактата «О человеке...». Судя по всему,
в своих рассуждениях о бессмертии Радищев опирался на
знаменитое утверждение Эпикура: «Когда мы существуем, смерть еще
не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не
существуем» [см. 313, 591—593]. Говоря о смертности «души», русский
мыслитель имеет в виду спасение от мук чувствования, тогда как
остаток нетленных атомов собственного существования открывает
человеку дверь надежды на бессмертие в формах космической
бесконечности.
Аргументация Радищева в пользу вывода о бессмертии
«вещества душевного», приводимая в третьей и четвертой книгах
трактата «О человеке...», имеет пантеистический характер. Здесь
используется идея Спинозы о вечной атрибутивной связи духовного
с материальным, а также мысль Бруно об индивидуальном как
разделяющем судьбу целого [см. 284, 51—52]. Тот же ракурс, в
95
который ставятся взгляды Лейбница, Вольфа и Паскаля на
сложный философский предмет, раскрывается через критический
анализ их последователей — непререкаемых авторитетов русских
масонов — Бонне, Мендельсона, Юнга и Сведенборга [см. 86,
333, 334, 484]. В изложении доказательств часто используется
закон сохранения вещественности и движения, сформулированный
Ломоносовым, принцип материального единства мира, элементы
конкретно-исторического метода, эволюционизма и диалектики.
С двух различных сторон подходил Радищев к решению
вопроса о смертности или бессмертии «души». Соответственно в первых
двух книгах трактата «О человеке...» мыслитель приводит
доводы в пользу идеи смертности «души», «жизненной
вещественности», тогда как последние две книги трактата содержат
аргументацию бессмертия «души», «животворной силы». Это служит
основанием для бытующего в нашей и зарубежной литературе
мнения о двойственности «принципиальной ориентации» русского
мыслителя.
В чем же суть различия подходов Радищева к решению
вопроса о смертности или бессмертии «души»? Защищая в первых двух
книгах своего трактата идею о смертности «душевной силы»,
бесследного исчезновения идеального, философ рассматривает
их как «мету», рисунок на материальном («вещественном»)
основании. В этом случае логичен вывод о неизбежности
исчезновения «мысленности» (психического) в связи с разрушением ее
материального субстрата. Все духовное в человеке умирает вместе
со смертью его бренного тела, считает Радищев, не исключая,
однако, и другого — тоже предположительного — мнения.
«Гадательное» предположение о материальной природе
«состава души», «мысленности» вписывалось в понятия Радищева
ввиду того, что утверждало порядок, «вещам непременный» [см.
7, 2, 138], непротиворечиво сочеталось с выводами о единстве
частей и целого, неуничтожимости вещественного основания
Природы в соответствии с законом сохранения. Эта позиция,
получившая подробную аргументацию главным образом в третьей и
четвертой книгах трактата, раскрывала убеждение автора в
нерушимости «жизненных сил», сохранении материальных
элементов «мысленное™» и после разрушения «целого», т. е. организма
человека.
Показывая, на чем основываются предположения о
«бессмертии» «душевной вещественности», Радищев писал: «Если должно
верить сходственности аналогии (да не на ней ли основаны
большая часть наших познаний и заключений?), если должно ей
верить, то вероятно, что будущее положение человека или же его
будущая организация проистекать будет из нашея нынешния,
как-то сия проистекает из прежних организаций. Поелику к
сложению человека нужны были стихии; поелику движение ему
было необходимо; поелику все силы вещественности в нем
действовали совокупно; поелику по смерти его и разрушении тела стихии,
вышед из их союза, пребудут те же, что были до вступления в
'96
сложение человека, сохраняя все свои свойства; потолику и силы,
действовавшие в нем, отрешась от тела, отойдут в свое начало и
действовать будут в других сложениях; поелику же неизвестно,
что бывает с силою или стихиею чувствующею, мыслящею, то
нельзя ли сказать, что она вступит в союз с другими стихиями по
свойству, может быть, смежности, нам неизвестной, и новое
произведет сложение? О, возлюбленные мои, я чувствую, что несуся
в область догадок, и, увы, догадка не есть действительность» [7,
2, 140-141].
Мы привели большую цитату не только потому, что она
выражает окончательный вывод из анализа, предпринятого
Радищевым в книге «О человеке, о его смертности и бессмертии». Важно
видеть в ней естественнонаучные, антропологические и вместе с
тем материалистические подходы к решению проблемы «тело-
смертности и телобессмертия». Явно прослеживается неприятие
автором преформистской точки зрения, религиозных понятий о
«сотворении человека». Вместе с тем видно, что оба подхода
автора к проблеме психического, «мысленного», реализованные в
трактате, являются материалистическими.
Тем не менее в комментаторской литературе рассмотренные
нами «подходы» Радищева к решению психофизической проблемы
получали и нередко продолжают получать различную,
диаметрально противоположную оценку. В чем причина этого
разноречия?
Причина, на наш взгляд, в смешении основного вопроса
философии с предметом философии. Для Радищева, как и для многих
философов XVIII в., проблема соотносимое™ материи и сознания,
так называемая проблема «тождества» мышления и бытия,
сливалась с основным гносеологическим вопросом, нуждаясь в
диалектическом «разведении». Решая такую задачу, некоторые из
французских материалистов доходили до крайностей
противопоставления материального и мысленного, идею «отчужденного
духа» защищали масоны, как «ориентир» она преобладала в
немецкой философии. Только диалектический материализм дал четкое
решение традиционной проблемы «тождества» мышления и бытия.
Отмечая этот факт, В. И. Ленин в книге «Материализм и
эмпириокритицизм» писал: «...Противоположность материи и сознания
имеет абсолютное значение только в пределах очень
ограниченной области... исключительно в пределах основного
гносеологического вопроса о том, что признать первичным и что
вторичным» [2, 18, 151].
Русский мыслитель признавал материальный мир, природу,
Вселенную первичными относительно человека, но он не был
вооружен пониманием диалектики соотносимости бытия и
мышления, хотя сознавал, что противопоставление духа (идеального,
«мысленного») материальному («вещественному») в итоге может
привести к необходимости либо признать дух «чудом» (масоны),
либо согласиться с его «субстанциальностью» (Лейбниц), либо,
утверждая равнозначность материального и духовного, оставать-
4 П. С. Шкуринов
97
ся дуалистом (Декарт). Во всех этих случаях снималась
проблема природы идеального, полностью затемнялся вопрос о том,
как «вещественность», обретая форму живого тела, начинает
мыслить. Выбор решения не уводил русского мыслителя в
сторону от материалистической ориентации, он достаточно ясно
указывал на связь материи и сознания в едином сущем — в
человеке. Ему важно было доказать, что сознание не есть
сверхъестественная акция, привносящая «мысленность» в душу человека
извне. Другое дело, что Радищев не мог еще понять диалектики
перехода от материи к мысли, противоречивости, скачкообразное
характера этого процесса, включающего перерыв постепенности.
Разумеется, вопрос о переходе от материи к духу
опосредствован деятельностью, трудом, практикой, и его не следует,
одухотворяя материю (как делал Спиноза), упрощенно сводить к
понятиям «духовной силы» (Радищев), «вызревающей
разумности» (Шеллинг) или «отчужденному духу» (Гегель). Вместе с тем
вопрос о природе идеального нельзя полностью отождествлять с
основным вопросом философии и делать из этого выводы,
относящиеся к типизации главных философских направлений.
Очевидно, следует различать предмет философского знания и
основной вопрос философии, не сводя первый ко второму и наоборот.
«Онтологизация», или материализация, сознания («души») не
может быть основанием для отлучения автора трактата «О
человеке, о его смертности и бессмертии» от материализма, а также
для квалификации его главного философского сочинения как
одновременно содержащего две противоположные тенденции:
материалистическую (первая и вторая книги) и идеалистическую»
(третья и четвертая книги). В условиях конца XVIII — начала
XIX в. позиция Радищева, выраженная в трактате «О
человеке...», являла собой форму защиты линии философского
материализма, исключающую мистицизм, религиозные искания,
богословские понятия о миграции бестелесных душ или «воскресение
умерших».
Реальные противоречия трактата «О человеке...» выявлялись
там и тогда, где и когда автор стремился решать вопрос о
природе идеального безотносительно к основному вопросу философии
или же с учетом его, но механистически отождествляя орган
мысли с самой мыслью. Благие побуждения Радищева, а именно его*
стремление избежать дуализма физиологического и психического,
нельзя превращать в оправдание выводов о «тождестве» бытия
и мышления (низведения сознания к материальной форме),
подобно тому как объективные идеалисты немецких философских
школ, абсолютизируя возможности принципа «тождества»,
сводили бытие к мышлению. Традиционная проблема «тождества»
мышления и бытия, как было доказано в свое время Ф. Энгельсом,
а затем В. И. Лениным, может быть решенной только с позиций-
диалектического материализма. Ее диалектико-материалистиче-
ское понимание предполагает относительную противоположность
98
'мышления и бытия в гносеологическом плане и их диалектическое
тождество в плане онтологическом, бытийном.
Важной чертой идейных исканий Радищева в области
«душевных» явлений выступало стремление к исследованию
конкретных психических процессов, что само по себе было весьма
примечательным и свидетельствовало о серьезных сдвигах,
происходивших в декартовской традиции. По поводу аналогичного
примера В. И. Ленин писал: «Нельзя рассуждать о душе, не
объяснив, в частности, психических процессов: прогресс тут должен
состоять именно в том, чтобы бросить общие теории и
философские построения о том, что такое душа, и суметь поставить на
научную почву изучение фактов, характеризующих те или
другие психические процессы» [2, 1, 142].
Заслуга Радищева состояла в том, что в России и Европе он
один из первых, обратив внимание на психические явления как
достойные философского анализа, выступал с разработкой
системы новых антропологических понятий, с позиций материализма
пытался конкретизировать представления своих современников о
сложных «душевных» процессах. Хотя уровень развития
естествознания еще ограничивал, сдерживал его высокие порывы, а
категориальный аппарат философии в значительной мере
находился под сильнейшим воздействием ньютоновской картины
мира, нельзя не видеть явных успехов русского просветителя. Даже
форма философского мышления Радищева была вызовом
господствовавшей традиции.
Проблема онтологизации человеческой психики,
материализации мышления и эмоциональности — одна из важнейших сторон
антропологического подхода в целом. Задача философии, по
мнению некоторых сторонников такого подхода, в том числе
Радищева, — определить «состав человека», его онтологическую суть
и эволюцию в системе неживой и живой природы, в рамках
Вселенной. Раскрытие природы идеального, чувственного,
психического должно, с точки зрения приверженцев такой формы
антропологического мышления, составлять одну из функций
философии наряду с изучением проблемы соотносимости живого и
неживого, смертности и бессмертия [см. 391].
Онтологический план творческих интересов Радищева,
несмотря на огрубленность ряда его методологических установок,
представлял собой значительное приближение к раскрытию
диалектики взаимосвязей и взаимопереходов форм «вещественности» и
«мысленности». Трактовка вопроса о «неуничтожимое™ души» у
Радищева допускает «бренность» бытия вещей, старение форм
материального мира, их переход из одного состояния в другое.
Поскольку «никакая сила в природе не может пропасть,
исчезнуть», постольку сила души человеческой «и по разрушении тела
не уничтожается... что может всегда существовать, может жить
от тела отдаленна, следовательно, что она бессмертна» [7, 2,
112]. Радищев перечислял множество подобий этой «силы» [там
же, 86—88, 112—114]. По законам природы «нечто» не может пре-
4*
сэ
вратиться в «ничто». В представлениях Радищева «душа»,
отличающаяся от тела своей особой организацией, не умирает потому,
что переходит в другую форму, в другую ипостась [там же, 42—
45, 96-98, 102-105].
Жизнь и смерть, согласно Радищеву, взаимосвязаны. Смерть —
переход той или иной формы «вещественности» из одного
состояния в другое. Если у «души» есть «части», то они отходят в
«другой мир», в мир Космоса, продолжая «чувствовать» и «страдать»,
т. е. не утрачивают атрибутивные «качества» материи,
«вещественности» как таковой. К такому выводу приводил Радищева
спинозистский вариант гилозоистической и пантеистической
трактовки природы материального мира.
Проблема личного и коллективного бессмертия в ее
традиционной христианской форме у Радищева снималась декларациями о
видоизмененном сохранении частей «души» либо ее «целого
основания», растворяющихся в бесконечном Космосе или
сосредоточивающихся по «законам натуры» во Вселенной, чтобы
вступать в круговорот и превращения единой Природы. Позитивное
содержание третьей и четвертой книг трактата «О человеке, о его
смертности и бессмертии» представляет собой развитие
онтологических посылок первых двух книг. Обоснование целостности
произведения в его онтологической части составляет
генеральную линию рассуждений Радищева, выступая результатом его-
стремления к материалистическому монизму. В мировой
иерархии форм развивающегося (изменяющегося, движущегося) бытия
человек с его «конечной телесностью» оставляет после себя нечто
от высшей своей организации, форму «духовности», возможно-
входящую затем в иерархию «форм», непрерывно и
последовательно восходящих, вступающих в «союз» с другими, находясь в
круговороте бесконечных связей универсальной, абсолютной (и
только в этом смысле «божественной») по своему значению
«вещественности».
Идя таким путем, Радищев должен был вновь натолкнуться
на проблему бога. Но при этом русский философ полагал, что-
даже развитие и усложнение форм материальных и «душевных»
явлений может совершаться всего лишь в присутствии
безучастного бога, допущение существования которого, видимо,
объясняется данью уважения к его креационистской функции. То же
можно сказать по поводу «гадательных» предположений
Радищева о «бессмертии» высших форм Природы, «мысленного
вещества», а также «духовных сил».
В устах Радищева идея бессмертия форм душевной
«организации», их «сил», фундаментальных «стихий» универсальной
«вещественности» теряла теологическое значение. Сочетаясь с
проблемами онтологии, эта идея подкреплялась тезисом о единстве
материального и духовного мира, подчеркивая активную роль
человека и его сознания в познании, выводила в область
исследования законов таких «сложных материй», как любовь, счастье*
радость, мечта. Полное исключение телеологизма и квиетизма*
100
традиционно-богословских и объективно-идеалистических
решений составляло главную черту всех рассуждений Радищева о
природе живого, духовного, психического. Поистине А. Пушкин
был прав, когда писал: «Он (Радищев. — П. Ш.) охотнее
излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма» (атеизма,
материализма). И эта характеристика, разумеется, относилась ко
всем четырем книгам трактата «О человеке...» [428, XII, 35].
К вышесказанному следует добавить, что в суждениях
Радищева о возможности бессмертия «души» полностью отсутствует
феноменологизация индивидуального «я». В отличие от
идеологов масонства русский мыслитель предпочитал личному
коллективное как социально значимое, хотя личное понимал скорее как
родовое, нежели социально-общественное. Утверждение
возможности реального бессмертия человеческого духа у автора
трактата «О человеке...» сочеталось с попытками выработать
принципиально новую позицию активного миропонимания, отвечающую
интересам трудящихся. Этим обусловлено социальное значение
проблемы, формулируемой им в противовес старым традициям.
Создатель трактата «О человеке...» не желал иметь ничего
общего с представителями современного ему теизма. Философ
высмеивал представления о переселении душ, мистические версии о
метемпсихозе в изложении Лейбница [см. 7, 2, 137—138].
Особенно остро критиковал он воззрения «гимнософистов» и «брах-
манистов», взгляды древних египтян о миграции «растительных
душ», учение Брамина о вознаграждении на небе за «добрые
дела на земле» [там же, 126—127]. Попытки Пифагора и
пифагорейцев доказать возможность автономного существования идей
Радищев считал потугами «дать вид правдоподобия нелепости».
Подобные представления он называл «нашему веку посмеяли-
щем». Он считал, что «успехи рассудка мыслить заставляют»,
что нет чудес, что апологетов «чудодеятельства» следует
пригвоздить к столбу позора. «Вот для чего, — писал Радищев, — Све-
денборг почитается вралем, а Сен-Жермен, утверждавший
бессмертность в теле своем, есть обманщик» [там же, 128]. Он
бичевал мистиков Бонне и Юнга, указывая, что их преформистские
системы — «плод стихотворческого более воображения, нежели
остроумного размышления» [там же, 139].
Вместе с тем следует подчеркнуть, что представления
Радищева о бессмертной циркуляции сверхсложных форм
«вещественности», о неучтожимости «мыслительной силы», «духовного
заряда» в значительной степени относятся к области
фантастического, «гадательного», предположительного. Эту фантастику
великого ума нельзя отождествлять с мистической концепцией
человеческого бессмертия, которую сформулирует впоследствии,
во второй половине XIX в. неортодоксальный христианский
философ Н. Ф. Федоров. Идея «воскресения предков» у создателя
«философии общего дела» сочеталась с религиозными исканиями.
Суждения Радищева о возможности «вечной жизни» сил и
стихий духовного и мысленного «начал» как атрибутов «вещест-
101
венного» резко противоречили также поздним христианским
преданиям, публиковавшимся Н. Лесковым, который в условиях
второй половины XIX в. в своем «Сошествии во ад» в духе
апокрифических сказаний изображал прибытие Христа в ад, сражение
Богочеловека с Сатаной и Смертью ради освобождения праотцев
и переселения их душ в рай [см. 299, 447—468]. Проводимые в
некоторых работах начала нашего века аналогии между
представлениями Радищева и религиозными исканиями Минского,
Бермана, Мережковского, Арцыбашева или Гиппиус лишены
положительного смысла.
Соединяя мир вещественных форм с миром духовных явлений,
защищая спинозистскую идею атрибутивности сознания,
Радищев был достаточно последовательным и целеустремленным в
проведении линии философского материализма, насколько это
позволяла ему философско-антропологическая ориентация. Вместе
с тем весьма важно видеть то, как сама эта ориентация толкала
русского мыслителя к ограниченному (с точки зрения
перспективы развития философских идей) пониманию некоторых аспектов
так называемой проблемы «тождества» бытия и духа.
Обычно, характеризуя XVIII в., подчеркивают всеобщее
стремление механистически и формально расчленить целое во имя
изучения частей, природу противопоставить человеку,
материальное — духовному, объект — субъекту. Однако, как отметил Ф.
Энгельс, «восемнадцатый век... не разрешил великой
противоположности, издавна занимавшей историю и заполнявшей ее своим
развитием, а именно: противоположности субстанции и субъекта,
природы и духа.., но он противопоставил друг другу обе
стороны противоположности во всей их остроте и полноте развития и
тем самым сделал необходимым уничтожение этой
противоположности» [1, 1, 600].
Научный анализ идейного наследия Радищева, в частности
проблемы соответствия тела и души, материального и
идеального, природы и духа, возможен только в связи с итоговыми
требованиями XVIII в., требованиями «синтетических подходов»,
ограничения всевластия формальной логики, глобального сближения
всех выводов гносеологического значения, которые прежде
формулировались в духе метафизической противопоставленности,
контрадикторности, противоположности. Поэтому среди
предпринимавших попытки синтеза противоположностей и на этой основе
решавших эволюционистические и диалектические задачи нельзя
не видеть носителей новых тенденций в развитии философской
мысли. Радищев не был исключением в ряду мыслителей,
осознавших «дух» конца XVIII в. Он сильнее и острее других
проникался этим «духом эпохи» и потому не случайно оказывался
впереди многих из своих выдающихся современников.
Доказательством тому может служить нетрадиционное, «странное» даже
для многих из представителей XIX в., решение проблемы
соотношения тела и души, материи и духа, «вещественности» и
«мысленное™», материального и идеального, бытия и сознания.
102
Орудия и силы человека в познании — тема, занимающая
важное место в творческом наследии А. Н. Радищева.
Необходимость разобраться в сложных житейских, научных, философских,
политических, экономических, социально-нравственных и
правовых ситуациях своей эпохи побуждала русского мыслителя к
занятиям вопросами теоретико-познавательной сферы.
Задачи, которые вытекали из социальных противоречий
последних двух десятилетий XVIII в., развития наук о живой
природе и человеке, требовали пересмотра логико-гносеологических
учений, отягощенных метафизической традицией и пережитками
средневековой схоластики. Значительное влияние в среде русской
интеллигенции имели немецкие, французские, шведские и
российские спиритуалисты и масоны, проповедовавшие понятия о
«божественном», мистическом пути постижения истины.
Произведения представителей английского агностицизма [см. 286, 73—140]
способствовали распространению скептицизма. Французские
материалисты в гносеологии начали преодолевать метафизическую
созерцательность философских школ первой половины XVIII в.,
но им не удалось еще полностью избавиться от формализма —
механика диктовала свои методы национальным школам
естествознания и философии. Глубокие противоречия в лагере
картезианства порождались развернувшейся в Европе критикой дуализма
Декарта. Эта критика распространялась и на проявлявшие свою
ограниченность общие декларации о единстве рационального и
эмпирического в познании. Те, кто активно поддерживал эти
декларации, в начале 80-х годов оказались под шквальным огнем
«Критики чистого разума» Канта: несмотря на свои
ограниченности, классическое произведение немецкой философии содержало
плодотворные идеи о примате в познании практического разума
над теоретическим, о путях и средствах познания. Не без
влияния Гердера и Платнера — первых критиков кантианства — ке-
нигсбергский философ начал активную разработку философской
антропологии и гносеологии [см. 146, 89—104].
Гердер и Кант, Гёте и Шеллинг, Фихте и Гегель, внедряя
идеи диалектики и историзма, в последней четверти XVIII в.
приступили к разработке нового метода познания. Проследить
влияние этого метода на воззрения Радищева — нелегкая задача, на
в известной мере она уже выполнена [см. 116, 137, 219, 293 и
др.]. Совсем слабо изучен вопрос об отношении Радищева к
теории познания французских материалистов, а также вопрос о
влиянии на Радищева гносеологических концепций представителей
российского Просвещения.
П. Батурин и Н. Новиков, Я. Козельский и И. Третьяков,
С. Десницкий и Д. Аничков являлись признанными «вождями»
идейного роста демократических сил страны. Подлинными
авторитетами в философии и науке были М. Ломоносов и Д.
Аничков — два выдающихся представителя российского Просвещения,
которым суждено было оказать решающее влияние на
гносеологические воззрения Радищева.
103
Три знаменитых издания Д. Аничкова в Московском
университете — «Слово о свойствах познания человеческого» (1770),
«Слово о разных причинах, немало препятствий причиняющих в
продолжении познания человеческого» (1774), а также «Слово о
разных способах, теснейший союз души с телом изъясняющих»
(1783) — содержали решение теоретико-познавательных задач с
позиций философской антропологии [см. 31—33]. В своих работах
Аничков защищал оптимистическую концепцию познавательных
«возможностей человека». Его оригинальные гносеологические и
логические идеи находились в центре жарких дискуссий в
Москве и Петербурге [см. 204, 231-233].
Вопросами гносеологии Радищев занимался на протяжении
всей своей творческой деятельности. Однако наиболее полно его
теоретико-познавательная концепция была выражена в «Житии
Федора Васильевича Ушакова», «Путешествии из Петербурга в
Москву» и в трактате «О человеке, о его смертности и
бессмертии». В названных, а также и в других работах 90-х годов
Радищевым были обоснованы теоретические позиции гносеологии,
отличавшиеся высоким идейным уровнем и строгостью
аргументации. Обращаясь к этим произведениям, мы можем воссоздать
картину напряженных исканий их автором новых
гносеологических решений. Его признания, выражающие неудовлетворенность
достигнутыми успехами и полученными выводами, сопряжены с
устремленностью русского мыслителя в сложную область
познавательных способностей человека. Различные штрихи,
высказывания из произведений Радищева 90-х годов дополняют общую
картину антропологического развертывания теории познания в
трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии».
Радищев считал, что в познании надлежит исходить из
действительности, из природы вещей, что действительные возможности
человека познавать внешний мир обусловлены его «природными
свойствами».
Широкая сфера натуральных явлений, проявляющих свою
сущность независимо от субъекта познания [см. 7, 2, 73—74], в
представлениях Радищева обнимается понятием «бытие». В
трактате «О человеке...» эта категория употребляется редко, но тем
не менее именно она в определенной мере побуждала автора
переоценивать значение тождества «вещественности» и «мысленно-
сти», а также — в связи с логикой спинозизма — «помогала»
поднимать проблему соотношения материи и сознания до уровня
признания суверенности «бытия природы». Вместе с тем
рассуждения Радищева, относящиеся к трактовке категории «бытие»,
обнаруживают возникавшее в сознании русского философа
сомнение в целесообразности этой категории не самой по себе, а
как «верховной». В этой связи невольно приходит на память факт
из истории философии XIX в., когда Ф. Энгельс в своей работе
«Анти-Дюринг» настаивал на понимании того, что единство
мира заключается не в его бытии, а в его материальности [см. 1,
20, 40—45]. Не случайно у Радищева понятие «бытие» при всем
104
своем изначально-материалистическом содержании, в отдельных
вариантах выводов вело к переоценкам «тождества» материи и
сознания, возможно, даже несколько обесцвечивало решение
русским философом основного вопроса философии.
С другой стороны, категория «бытие» позволяет уяснить
сущность истолкования Радищевым понятия «бог». Не следует видеть
в этом обращение русского философа-материалиста к
религиозной проблематике. Специалист по истории атеизма А. Сухов
справедливо связывает использование Радищевым некоторых
религиозных терминов с обусловленной требованиями времени
необходимостью отвечать на такого рода вопросы. Все качества,
приписываемые Радищевым «богу», при пристальном их
рассмотрении становятся более понятными, если отнести их к бытию
природы в целом [см. 7, 2, 40—41]. И эту сторону дела следует
иметь в виду, разбирая вопрос о деистических элементах в
воззрениях Радищева, поскольку они касаются не только
онтологической, но и гносеологической сферы и перекрываются
пантеистическим и гилозоистским характером самих высказываний.
Любопытно также и то, что понятие «действительное бытие»
истолковывалось Радищевым как всеобъемлющая форма
разноименных частей «великого целого». Дифференциация форм этого
вселенского Космоса, по его мнению, требует четких
представлений о дискретном характере этого «целого», «пороги», «лестви-
цы» которого должны тщательно изучаться, и не только
естественной историей, но и историей человека и человечества.
Высокую ступень организации человека, его «мысленность» следует
учитывать в познании натуральной истории. Поэтому субъект
познания не следует противопоставлять природе: он как бы
связан с ней своим происхождением и сущностью составных
элементов. Такая позиция выгодно отличалась от сенсуалистическо-ме-
ханистических установок англо-французской школы. Источником
ощущений, суждений и теорий Радищев объявлял природу и
общественную жизнь людей, внешний характер которых
относительно человека, с его точки зрения, нельзя абсолютизировать
[см. 7, 2, 40-46, 50].
Пропагандируя идею единства мира, Радищев неспроста на
вершину «лествицы развития» ставил человека. Он вместе с тем
указывал, что человека необходимо изучать особым образом, как
во имя выявления истины о характере взаимоотношений объекта
и субъекта, физиологического и духовного, так и во имя
раскрытия природы средств, орудий познания. Такое понимание «начал»
гносеологии приводило автора трактата «О человеке...» к
критике механистических представлений о деятельности органов
чувств, к полному отрицанию «истин» субъективных идеалистов,
масонов и спиритуалистов. Пустая схоластика, логический и
вербальный формализм, утверждал русский мыслитель,
несовместимы с реальным процессом познания [см. 7, 2, 40—46, 50, 73—
74, 76, 78, 128-129].
105
Исходной гносеологической установкой Радищева является
требование рассмотреть «человека» как в единстве с природой,
так и вне этого единства, т. е. как особый феномен и природы и
общества, со всеми присущими ему индивидуальными, видовыми,
родовыми и «общественными» связями и опосредствованиями.
Именно от человека с его потребностями, запросами, нуждами,
от человека как важнейшего элемента мира живых существ, от
людей, объединенных в род человеческий, в общество, следует
начинать изучение мира вещей и явлений.
Пафос трактата «О человеке, о его смертности и
бессмертии» — в стремлении ответить на вопросы о том, что такое
человек и каким образом он связан с внешним миром. Не протаго-
ровское «человек есть мера всех вещей», а
антропологически-философское «человек есть главный предмет исследования во имя
решения генеральных философских проблем времени» — такова
исходная позиция радищевских изысканий в области теории
познания.
Определяя ведущую роль принципов антропологизма в
понимании предмета и задач философии, Радищев делал заявку на
новую трактовку вопросов гносеологии. Рамки философского
материализма только усиливали его стремление сказать «свое
слово» в сфере, требовавшей новых решений, «странствуя через
житие человеческое» [там же, 71]. Трактат «О человеке, о его
смертности и бессмертии», а также сочинения, созданные в
последние годы его жизни, показывают нам, с какой
настойчивостью русский мыслитель выдвигал идею о необходимости в центр
философского поиска поставить человека, изучение его
возможностей познавать мир.
Исходя из того, что мир развивается, Радищев постоянно
подчеркивал: именно философия и естественная история должны
изучать «пороги», «ступени», «лествицы» бытия, «указуя» при
этом на место и роль человека не просто в онтологическом ряду
природных форм, но также и в решении самой Природой
собственных задач. Ведь не случайно же человек и «сходственен» со
всеми формами природы, и имеет с ними «отличение»,
выражающееся в «сопричастности его высшему порядку существ», т. е.
всему тому, что выходит за рамки «обычных» (земных) форм,
обретая высокую возможность мыслить [там же, 46].
Радищев часто подчеркивал, что благодаря «мысленное™» и
«возниченному» образу передвижения человек способен развивать
и совершенствовать свои природные органы и задатки, что он
«не пресмыкаться должен по земле, а смотреть за ее пределы»
'{там же, 48]. Его не страшило сопоставление универсума и
человека, превращавшегося из объекта в субъект познания:
диалектический момент заключался в признании человека звеном
Вселенной, звеном важным, активным, родственным мировому
целому в своем составе и в определенной части всеобщего генезиса
человеческого тела и человеческого духа. Признавая суверенность
человеческой натуры, мыслитель подчеркивал небожественный,
106
естественный характер связи людей со средой обитания, их
зависимость от нее.
Важной стороной заключений Радищева о «натуре человека»,
имеющей прямое отношение к его теории познания, являлось
утверждение о «силах», средствах, возможностях человека
познавать реальный мир вещей и явлений. Сюда он относил
способность человека к активному творчеству [см. 7, 2, 111, 119], речь
[там же, 52, 130—133], стремление к коллективизму
(«общественному жительству»), к улучшению окружающих условий и самого
себя [там же, 53], а также «мысль», или «мысленность», которую
он считал не просто «вещественности свойством» [там же, 86], на
и «силой умственной» [там же, 65], «творительной силой» [там
же, 125].
«Разумная сила», сложная психика человека обеспечены
особой, антропологической организацией существ, которым суждено
стоять на высшей ступени «лествицы веществ». Вопросы
физиологии, психологии и «мысленной деятельности» подробнейшим
образом разобраны в первой книге трактата «О человеке...» [см.
7, 2, 39—70]. Здесь дается глубокий анализ идей, которые в 80—
90-х годах XVIII в. формулировали в своих работах Д. Аничков^
С. Зыбелин, Н. Озерецковский и др.
Превосходство Радищева по сравнению с большинством
французских и русских материалистов XVIII в. состояло в том, что
«мысленность» он рассматривал не просто как «свойство
материи», а как функцию особого вещества, особо «сложенной»
материи — мозга. Во многих разделах трактата «О человеке...»
философ подвергает критике дуалистическую гносеологию Локка и
Декарта, механистические посылки теоретико-познавательных
концепций Ламетри, Гельвеция, Гольбаха и Кондильяка.
Радищев отрицает теорию врожденных идей, подчеркивает связь
«чувственности» и «мысленности», имея в виду их «основоисход-
ность», функциональную зависимость от мозга. Где-то здесь, в этой
области находила опору его идея материи как обладающей
импульсом к самодвижению, способностью к порождению
«духовного напряжения» [см. 7, 2, 65, 81, 129].
Общая декларация автора трактата: «Ты мыслишь органом
телесным» — дополнялась последовательно-материалистическими
выводами. Не случайно относительно материалистического
характера гносеологической концепции, изложенной Радищевым в
его главном философском произведении, нет разноречий среди
историков философии. Четкая материалистическая линия,
проведенная мыслителем в теории познания, до сих пор смущает тех,
кто квалифицирует взгляды русского мыслителя как
эклектические или деистические.
Обосновывая свою материалистическую позицию в
гносеологии, Радищев писал: «Человек имеет силу быть о вещах сведо-
му. Следует, что он имеет силу познания, которая может
существовать и тогда, когда человек не познает. Следует, что бытие
вещей независимо от силы познания о них и существует по себе»-
107
:[7, 2, 59]. Вещи, явления природы познаются в пространственно-
временной последовательности, «как они нам подлежат».
Обозначая свою принципиальную позицию в гносеологии,
Радищев подчеркивал объективную, независимую от субъекта, связь
форм материального мира: «Отношение вещей между собою есть
непременно» [там же, 61]. Человек познает вещи в их
взаимодействии, изменении, в необходимых связях, проявляющихся в
качестве законов «вещественности». Здесь налицо диалектическая
установка, которая в миропонимании мыслителя расчищала
почву для осознания ограниченности метафизических приемов
истолкования действительности.
Реализуя свою установку об универсальной, космической
связи форм реального бытия в контексте своей теории познания,
Радищев не просто призывал «расширять круг знания», а требовал
видеть «нелинейный порядок» причин и следствий, многосторонне
значимые звенья единого целого, каждая часть которого служит
общему, «яко единственное», т. е. единичное. В этом «общем»
свое место должен находить познающий субъект, человек.
Русский мыслитель считал, что нельзя не замечать теснейшей связи
субъекта познания — человека и его объекта — природы. В
процессе познания единства состава, доказывал Радищев, возможно
некое единство объекта: изучая себя, человек изучает внешний
мир и наоборот. Здесь, с одной стороны, новые истины
добываются на пути осознания человеком своей тождественности с
природой, своей причастности к ее «работе»; с другой стороны,
сравнивая свои «качества» и «силы» с «качествами» и «силами»
природного мира, человек глубже познает «натуральные законы»
своей собственной сущности, свои «возможности», «слабости» и
«могущество», свои «естественные права» [см. 7, 1, 314—315; 2,
66, 112-114].
Анализируя познавательные способности человека, Радищев
выделяет: «силу чувственную» и «силу мыслительную» [см. 7, 2,
58, 59], способность человека к активному творчеству [там же,
119], силу речи [там же, 52, 130—133], влияние коллективизма,
«общественного жительства» [там же, 56—57], роль
благоприятных условий для развития человека [там же, 63]. По аналогии с
двумя формами человеческой деятельности (материальной и
духовной) Радищев различает две формы «опытности»: опыт
чувственный (материальный) и опыт рациональный (мысленный).
Желание соединить эти два средства познания выражало не
только стремление к преодолению локковско-декартовской
дилеммы (сенсуализма и рационализма), но и попытку решить
многовековую проблему с позиций монистического мировосприятия.
И хотя монизм в контексте рассуждений Радищева имел скорее
антрополого-рационалистическое, чем диалектико-материалисти-
ческое основание, все же материалистическая трактовка
категориальной пары «объект — субъект» давала русскому мыслителю
много преимуществ по сравнению с теми, кто стоял на позициях
108
субъективно-идеалистического разрыва или
объективно-идеалистического тождества объекта и субъекта познания.
По Радищеву, человек как бы сливается с природой, с
предметом познания в непосредственном опыте. «Мы вещи познаем
двояко: 1-е, познавая перемены, которые вещи производят в
силе познания; 2-е, познавая союз вещей с законами силы
познания и с законами вещей. Первое называем опыт, второе
рассуждение. Опыт бывает двоякий: 1-е, поелику сила понятия познает
вещи чувствованием, то называем чувственность, а перемена, в
-оной происходимая, — чувственный опыт; 2-е, познание
отношения вещей между собою называем разум, а сведение о
переменах нашего разума есть опыт разумный» [там же, 60].
Вычленяя две формы опыта, мыслитель подчеркивает
неразрывность «чувственности» и «разума», стремясь избежать их
противопоставления, преуменьшения или преувеличения роли и
значения одного из них. Радищева явно не удовлетворяла лок-
ковская теория «чистой доски» (tabula rasa) как воплощение
ограниченности эмпиризма. В последние десятилетия XVIII в.
резко усилилось влияние английского эмпиризма на теорию
познания французских материалистов. По этой причине Радищев
вынужден был достаточно резко критиковать некоторые
высказывания Гельвеция и Гольбаха, Даламбера и Кондильяка,
испытавших это влияние [там же, 51, 59, 65, 92, 114, 130]. Но более
всего ему не по душе была теоретико-познавательная концепция
русских спиритуалистов, воскрешавших платоновско-августинов-
ские идеи о «нижнем» и «верхнем» этажах познания — аналога
пути от земного (смертного) к небесному (бессмертному),
божественному бытию.
Даже идея «дуализма знания», которую пропагандировал
поклонник Клопштока и Юнга, друг Радищева по Лейпцигскому
университету А. Кутузов, не устраивала
мыслителя-материалиста. Дух и вещественность, писал он, «все в един гнездятся
состав» [там же, 74]. Принцип материального единства (единства
«состава») природы служил теоретической основой аргументации
философа. Вместе с тем из процитированного утверждения не
следует, что автор трактата «О человеке...» соглашался с
тезисом об абсолютной слитности чувственного и рационального в
познании, равно как и с идеями о разорванности, иерархической
удаленности чувственного и интеллигибельного знания.
В теории познания Радищев, как и Кант, шел по линии
сближения сфер чувственности и рассудка, но в отличие от автора
«Критики чистого разума» он гораздо последовательнее
поддерживал тенденцию преодоления односторонности как эмпиризма,
так и рационализма. Различие между ними имело место и в
решении вопроса о взаимоотношении объекта и субъекта.
Развивая идеи о связи человека с природой, русский философ
вынужден был соотносить объект и субъект познания, используя
категории «целое» и «часть», «общее» и «единичное», «материя»
(«вещественность») и «сознание» («мысленность»), «природа» и
109
«человек». Уже в первом акте познания, как считал Радищев,,
человек различает внешний мир и самого себя, познаваемое и
познающее, «я» и «не-я» [см. 7, 2, 54, 59, 93, 95, 136].
Антропологически значимое вычленение Радищевым человека из природы —
пусть даже только в качестве существа, отличающегося от мира
живых существ разумом, — давало логическое основание для
соотносимое™ объекта и субъекта, а не их предельного сближения
до степени абсолютного тождества. И эта мысль содержала в
себе элемент диалектики.
Человеческое познание для Радищева — это не обнаружение
в себе божественного, как считал мистик Золотницкий [см. 195,
8—17], а проникновение с помощью чувств и разума, опытным
путем в сущность вещей и самого человека. Пользуясь «силами»
и средствами существ, стоящих на высших ступенях «лествицы
восхождения», познание возвышается в своих результатах до
степени «беспредельности». Поэтому Радищев считал, что
человеческие познавательные силы — не априорные средства
постижения истины, а постепенно формируемые, исторически
развивающиеся и улучшающиеся («удобряемые») возможности
человека познавать мир и его законы [см. 7, 2, 133].
Шествуя «во стезе, природою начертанной» [там же, 141],.
т. е. подчиняясь объективным законам, познание, по Радищеву,,
включает в свою сферу органы чувств и мозг, или (что одно и
то же, но выражается символически) «сердце» и «душу» —
важнейшие орудия познавательной деятельности человека. В
трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии» дается
подробное изложение генезиса формирования чувственных и разумных
средств и сил человека [см. 7, 2, 130—135].
В отличие от спиритуалистов-мистиков свои представления о
генеральных средствах познания и их действии Радищев
основывал на понятиях о естественных (физиологических и
психологических) функциях человеческого организма. Допуская
гипотетическую возможность в перспективе развития знания выяснить
природу «чувственной силы», «нервных процессов», он писал:
«Чувствительность наша, электр и магнитная сила суть, может
быть, ее токмо образования (modification), ...вещество, которое
мы назвать не умеем...» [7, 2, 139]. Русский философ отмечал,
что «сила творча» человека реализуется «посредством органов»,
устройство и функции которых, их «организация» и «действие»
должны серьезно изучаться во имя решения «затруднений
познания», в дерзновенном поиске истины человеком, которого «рвение
к науке ненасытимо» [там же, 134]. «Чувственные силы» как
орудия познания, согласно Радищеву, едины с «чувственностью»,
которую нельзя сенсуалистически истолковать как «первичный
элемент» знания, поскольку она — важнейшая сторона самой
«природы человека», совершенствующаяся в связи с
многократно повторяющимся «чувственным опытом». Органы чувств — эта
сложный комплекс познавательных способностей людей.
НО
Человек, по Радищеву, отличается не самой высокой формой
развития органов чувств, а их «соразмерным строением» и
умением применять в познании «искусно сооружаемые» приборы,
орудия познавательной деятельности. Орел «прославляет себя»
непревзойденным зрением, летучая мышь — слухом, лесные
хищные животные — обонянием. Для человека характерно
пропорциональное развитие органов чувств и (при необходимости)
функционирование в познавательном комплексе, в «совокупном един-
стве», а также совместно с такими приборами, как микроскоп,
теодолит, подзорная труба, телескоп, многочисленные
«приспособительные механизмы».
Органы чувств — своеобразные ворота познания реального
мира, считал Радищев [там же, 88, 92]. Мыслитель не разделял
идею масонов о том, что бытие природы и общественную жизнь
можно познавать главным образом помимо органов чувств, по
наитию, на путях «богооткровенной веры». Он соглашался с
теми, кто полагал, что «душевные силы возрастаемы с телесными»,
но не стирал различий между ними. Вслед за Ф. Ушаковым
Радищев критиковал Гельвеция за то, что тот игнорировал
различие между «чувствованием» и «мыслительностью» [там же,
65—66]. Чувственный опыт, в его понимании, — это отдельная,
хотя и не изолированная форма познавательной деятельности.
Ее нельзя относить к «безусловно-механистическим» актам
познания. Отдельные высказывания Радищева о чувственном
познании как результате «толчка извне» или как свободном
вхождении факта в «дверь познавания» [там же, 114—115] не
перекрывают его пространные рассуждения, трактующие чувственность
как форму опыта, т. е. форму сложного взаимодействия
субъекта с объектом. И в этом аспекте гносеологическое учение
Радищева стояло вполне на уровне теоретико-познавательных
разделов философии Гердера и Канта, являя собой шаг вперед по
сравнению с учениями английских и французских материалистов
'XVII—XVIII вв.
Во второй книге работы «О человеке...» Радищев трактует
понятие чувственного опыта как «союзное» с понятием
«непосредственное созерцание» в отличие от «умозрения»,
«предположительной мысли», «изъяснения», «умствования». В адрес тех, кто
предпочитал умозрение опыту, автор замечает: «О умствователи!
держитесь опытности и пользу свою почерпайте из нее» [там
же, 82].
Еще номиналисты считали, что чувственный опыт дает знание
факта, из которого интеллект абстрагирует универсалии. Для
Радищева, представлявшего «опыт чувственный» и «опыт разумный»
проистекающими в едином акте познания, чувственная ступень
не есть всего лишь знание «гносеологического низа». Поскольку
«нижняя организация служит для высшей» [там же, 113],
постольку основополагающая гносеологическая платформа, на
которой вырастают леса знания «верхнего», завершается шпилем
пирамиды, выстроенным с помощью «рационального опыта». Ну
111
а так как истина — это нечто «более возвышенное», чем
единичный факт, ее поиски требуют единения «опыта чувственного» и
«опыта разумного», «нижнего» и «верхнего» порогов знания. Сам
Радищев подчеркивал, что «все сии виды силы познания нашего
не суть различны в существовании своем, но она есть едина и
неразделима» [там же, 60]. Действие этой единой и неразделимой
силы познания обретает в устах Радищева сугубо
антропологическое звучание, когда он полагает, что вследствие «чувственного
состава» у человека (и даже у животного!) может возникать и
возникает «внутреннее ощущение правого и неправого». На этой
основе сложного мироощущения человека, доказывал автор
трактата «О человеке...», возникает вполне правомерная моральная
норма: «Не делай того другому, чего не хочешь, чтобы тебе слу-
чилося» [там же, 58]. Физиологическая боль человека, как и
наслаждение, провозглашаются тем самым универсально значимым
критерием («сигналом») истинности и гуманности или наоборот.
Так, «чувственность», «опыт чувственный» становится в
системе гносеологических взглядов Радищева своеобразным оселком
проверки на истинность и нравственность. Возможно, именно
поэтому «человек имеет силу быть о вещах сведому» [там же, 59]
и столь многое зависит «от расположения нашей чувственности» —
от того, правильно она воссоздает «образ действительности» или
же, соприкасаясь с «нестройным рассуждением», дает превратную
картину бытия вещей [там же, 60—61].
Особым орудием познавательной деятельности, по Радищеву,
является мозг — своеобразный генератор духовных, психических
процессов в человеке. Мозг — «вместилище души», пристанище
«духовных начал», источник «мысленной силы». Порождая мысль,
«мозговой орган» более всего выражает специфику
«человеческого существа», поскольку «духовность» является «наисвойст-
веннейшим качеством» человека [там же, 59]. Среди
разнообразных «средств», действующих «сил» мозга Радищев различал
«мысленность», «разум», «память», «рассуждение»,
«воображение» и т. п. [там же, 119—127].
Радищев понимал, что физиология мозга, «игра мыслительных
сил», сущность психических процессов недостаточно выявлены
современной ему наукой. Для компетентных суждений о природе
«мысленного вещества» мало было трудов Прево и Шевона, Гер-
дера и Канта, Максимовича-Амбодика и Протасова, Зыбелина и
Озерецковского. Нейробиология, физиология мозга и нервной
деятельности были развиты недостаточно. Поэтому Радищев в
своем «Путешествии...» и в трактате «О человеке...», вновь и
вновь обращаясь к сложнейшему вопросу науки и философии и
выходя в «царство неиспытанного», указывал на возможность
главным образом гипотетических суждений, суждений
«гадательных», предположительных. Некоторые из них имели отношение к
природе «мыслительного органа».
И здесь следует отметить, что главным философским
авторитетом в решении проблемы «характера мозговой деятельности»
112
Радищев, вероятно, считал Гердера. Именно у Гердера понятия
«мыслительная сила», «сила разума», «нервное напряжение»
обретали достаточную многозначность, чтобы выходить за рамкет
ньютоновской «силы», создавшей в области химии, биологии,
физиологии и антропологии обстановку явного сближения с
агностицизмом. Немецкий философ-материалист в отличие от
современных ему философов-спиритуалистов считал, что «духовная сила»
как губка вбирает в себя «силы», «соки», «энергию» своего
материального носителя, растворяет их, образуя новое явление,
«новый орган природы» — мозг, который «есть система сил,
служащих господствующей силе» (т. е. «мысли») [125, 62] в тесном
взаимодействии друг с другом. В объяснении природы
«мысленного» Гердер отбрасывал все то, что сочеталось с христианско-
деистической ориентацией в учении о человеке.
Принципиально соглашаясь с Гердером в вопросах о
характере «мысленной вещественности», Радищев более четко
обосновывал связь «органа мысли» с формой и степенью «организации»
его материального субстрата, опираясь на принципы эпигенеза,,
эволюционизма, антропогенеза, естественной истории,
психогенеза и этнологии. Мозг, полагал Радищев, имеет природное и
антропогенное происхождение. Неразделимость «вещественного» и
«духовного» он связывал с антропологически трактуемым
принципом «организации», которую считал неотделимой от генезиса
«вещественности» в целом, утверждая, что лучшая
«организация» начинается с «чувствования», которое, «восходя и
совершенствуя постепенно», достигает мысленности, разума, рассудка
[см. 7, 2, 83].
Проникнуть в тайны мозговой деятельности — важная задача,
которую настойчиво ставил русский мыслитель. Возможность
разгадки «тайны строения мозга», генезиса сил его «сложения»
Радищев видел в перспективе развития науки, способной
осуществлять искусственным путем превращение неорганического
вещества в вещество органическое [там же, 88]. Анализируя
мыслительные, рефлекторные и двигательные функции мозга,
Радищев обращался к свидетельствам медиков-практиков,
антропологов, физиологов и психологов английской, французской,
немецкой и отечественной школ. Пытаясь предсказать реальный
научный результат решения вопроса о сущности «мысленного», он,
если судить с точки зрения науки наших дней, схематизировал,
огрублял и натурализировал процесс возникновения «силы жизни»
и «силы мысленности», представляя себе их природу весьма
метафизически, механистически-примитивно, не учитывая сложность
генетических, диалектико-материалистических и
социально-ориентированных процессов и их результатов. «...Если душа наша или
мыслящая сила, — писал Радищев, — не есть вещество само по
себе, но свойственность сложения, то оная происходит, подобно
благогласию и соразмерности, из особого положения и порядка
частей, или же как сила сложенного, которая начало свое имеет
в действительности частей, целое составляющих» [там же, 105].
113
Посредством «органа мысли», рассуждал Радищев, человек
реагирует на вещи и процессы действительности, мозг выступает
в качестве связующего звена между субъектом и внешним миром:
без мыслительной способности человека невозможно познание.
Именно в связи с познавательной задачей надлежит понимать
следующие заключения третьей книги трактата «О человеке...»:
«И как бы то ни было, всегда нужно мыслящее существо, чтобы
было понимаемо протяженное и образованное; понимающее
предшествует всегда понимаемому, мысленное идет во след
мыслящему; нужно мыслящее существо для составления целого; без
мыслящего существа не было бы ни прошедшего, ни настоящего,
ни будущего; не было бы ни постепенности, ни продолжения;
исчезло бы время, пресеклося бы движение, хаос возродился бы
ветхий, и паки бы настала вечность» [там же, 109]. Здесь, как
и в некоторых других аналогичных случаях, автор трактата,
увлекаясь гносеологическим аспектом проблемы «человек —
природа», терял из виду ее онтологический план. Недостаточная
вооруженность диалектическими методами познания приводила к
ошибочным суждениям, открывала дверь субъективизму. Такого
рода «срывы» нередки в среде сторонников философской
антропологии конца XVIII — начала XIX в.
Во времена Радищева не было достаточных возможностей
поставить изучение психологических процессов на широкое научное
основание. Были и другие исторические ограничения. Чтобы
познать тайну умственной природы, мозга, необходимо было понять
социальную природу человека. Нужно было понять то, что стало
известно почти пятьдесят лет спустя, когда К. Маркс установил,
что сущность человека есть «совокупность всех общественных
отношений» [1, 3, 3]. Но такого решения вряд ли можно было бы
требовать от Радищева. В его характеристике физиологических
и психологических функций высшей нервной деятельности
человека нельзя не видеть любознательную проницательность и
стремление отойти от общепринятых метафизических «подходов» к че-
ловековедческой проблематике.
В русской научной, публицистической и философской
литературе, на страницах газет и журналов последних десятилетий
XVIII в. велись острые споры о природе, функциях и значении
мозга. В «Рассуждении о бессмертии человеческой души, которое
утверждается особливо через доказательство Божьего бытия,
открывающегося нам из многочисленных созданий» [см. 195, 17—
31] профессор Московского университета Золотницкий, вопреки
данным физиологии, отрицал, что мозг является органом мысли.
Ссылаясь на Аристотеля, он утверждал, что органом,
порождающим мысль, следует считать сердце; мозг же только охлаждает
и разгоняет кровь. Некоторые масоны, в отличие от Золотницко-
го, но следуя Плинию Старшему, определяли мозг как «цитадель
чувственного восприятия». Воззрения русских богословов,
утверждавших, что мозг — это место обитания души и его природу и
функционирование не только нельзя познать, но надлежит всяче-
114
ски препятствовать такому стремлению как святотатственному^
отмечены были печатью средневековья.
Мозг, для Радищева, — это не только «вместилище»,
«кладезь», «хранилище», но также орган, порождающий «духовное»,
или «мысленное», вещество, т. е. специфический продукт своей
жизнедеятельности. Эта способность связана с первичными
формами восприятия действительности. Мозг «совокупен с нервами»,
которые участвуют в отправлении жизненных функций [см. 7, 2,
87]. Способность к пониманию внешнего мира, к выработке
понятий Радищев называл «открытостью человеческой души».
Сюда же он относил «память», когда указывал: «Памяти престол
есть мозг» [там же, 95].
«Умственная природа» — сложное образование материального-
мира, считал Радищев. Главный ее компонент — «орган мысли»,
который с внешним миром связан с помощью нервов. Мозг
признавался регулятором поступков и действий людей. Все, чем
человек был до сих пор, и все, чем он будет, зависит от
деятельности мозга. Отрицание масонских понятий о «божественности'
интеллекта» только в сложных ситуациях гносеологического
порядка сочеталось у Радищева с пантеистическими суждениями
[там же, 40, 43, 132]. Познавая природу, рассуждал он,
человек тем самым познает и бога. Именно природа должна быть
объектом познания, пытливой проницательности человека с его
многообразными формами познавательной деятельности, присно-
сущей, не исключая бога: «О, смертный! Отверзи очи твои, и
узришь всеотца во свете» [там же, 58].
Отдавая дань атрибутивному мышлению своей эпохи, Радищев
считал мозг особой формой организации материи, атрибутом
которой является «мысленность». Но, замыкаясь на идее особога
значения духовности для человека, отрывая ее от практики,
мыслитель тесно сближался с антропологическими концепциями
деистического характера. Впрочем, деистический налет выводов
или решений, принимаемых Радищевым в таких случаях, не
влиял сколько-нибудь заметно на познавательный оптимизм
гносеологического учения русского мыслителя и не затрагивал идею о
материалистическом характере функциональной деятельности
мозга. Мозг делает человека человеком [там же, 134—137] —
таков вывод, сформулированный Радищевым в трактате «О
человеке...».
Мозг выполняет множество удивительно сложных функций,
считал Радищев, но как он их выполняет — это пока тайна.
Пройдут десятилетия, прежде чем выдающиеся физиологи —
Ф. Мажанди, К. Бернар, И. Сеченов, Н. Введенский, И. Павлов,
В. Бехтерев, У. Шерингстон, Н. Бернштейн, Л. Орбели, Р. Сперри,
У. Пенфилд, П. Анохин, Д. Экклз и др. — скажут свое слово о
мозговой деятельности человека, о физиолого-психических и
социальных ее основах. Весь XIX век в Европе и России пройдет
под знаком проникновения в неразгаданные тайны человеческога
мозга, психики, рефлекторной деятельности человеческой души.
115
Громадная работа станет уделом нейрофизиологов, психологов и
философов нашего столетия [см. 275, 298, 396, 516, 520].
По причине сказанного заслуживает самого пристального
внимания философов, социологов, психологов постановка Радищевым
многих важных проблем человековедения. Среди них главное
место занимают вопросы о физиологических и психических основах
■и механизме функциональной деятельности мозга, вопросы нейро-
науки и ее связи с теорией познания и психосоциологией. Ведь
хотя годы углубили наши познания в области тех проблем,
которые волновали людей конца XVIII в., тем не менее многие
из этих проблем сохранили свою актуальность [см. 342, 4—8,
88—89, 210—215, 259, 275]. Это значит, что автору трактата «О
человеке...» удалось связать свою постановку проблем с
магистральными «линиями» развития естествознания, философии и
общественной практики, выходя в ту область, которую в наши дни
принято называть предсказательной силой теории, или
прогностикой [см. 24, 58, 256, 394 и др.].
Вот некоторые из сформулированных Радищевым вопросов,
которые, имея человековедческое значение, неразрывно связаны
с развитием теории познания: какова «организация» тех форм
«вещественности», которые принято называть «мозгом», «нервной
тканью», «мозговой жидкостью» [см. 7, 2, 83—89, 105, 140]; в чем
состоит главная функция мозга [там же, 43—44, 92, 123]; где
«корень понятий отвлеченных» [там же, 92]; что такое «душа»,
«разум», «сила», чувствованиям и мысли «действительность
дающая» [там же, 64, 114, 126—141]; есть ли различия в понятиях
«рассудок», «ум», «рассуждение» [там же, 48, 50, 54, 60, 114—
115]; как формируется «образ», «память», способность к
длительному, яркому и емкому запоминанию [там же, 48, 78—79, 85, 95];
каков механизм возникновения и действия воображения,
фантазии, мечты [там же, 79, 93, 129, 134—137]; что «дает страсти в
человеке толикую энергию и силы» [там же, 93, 119—136];
каким образом люди воздействуют друг на друга с помощью «силы
мысленной» [там же, 57-59, 72-73, 83-84, 105, 117-119, 139];
каковы причины врожденных форм патологии мозга и органов
чувств [там же, 49, 69—70, 120—122]; на все ли болезни
«лекарство существует в мысленное™, или душе» [там же, 120—123].
Отвечая на эти и другие аналогичные вопросы, Радищев
нередко метко схватывал диалектическую природу процесса
познания, подчеркивал важную роль «духовных акций» человека,
активность разума в процессе познания. Он один из первых среди
мыслителей XVIII в. высказывал догадку о том, что психика
есть своеобразная форма опосредованного взаимодействия-
человека с окружающим миром. Другое дело, что ему не удалось
увидеть каналы и средства этого опосредования. Подойдя
вплотную к идее о социальном, осуществляющемся через
общественную практику взаимодействии субъекта и объекта познания, он
остановился на выводе о первенствующем значении человеческих
познавательных «сил» и «кормила разума» людей. Так, даже ра-
116
ционалистические заключения о роли «духовного начала» в
познании обретали в сознании Радищева антропологическую
сущность.
С точки зрения исторической важности, перспективной
значимости чрезвычайно любопытна постановка Радищевым
вопросов о природе и активной роли мышления («мысленности») в
процессе познания, в художественном и мифологическом
отражении действительности. По сути, во всех трудах русского
мыслителя 80—90-х годов, а особенно в таких произведениях, как
«Вольность», «Путешествие из Петербурга в Москву», «О человеке, о
€го смертности и бессмертии», «Творение мира», «Песнь
историческая», мы встречаемся с проблемой активности субъекта в
«разумном опыте» (т. е. с проблемой, которая в это время живо
обсуждалась в западноевропейской и российской литературе).
Французский просветитель Д. Дидро уже в 60—70-х годах
признавал активность человеческой психики [см. 158, 2, 101]. Что
же касается Радищева, то следует указать, что в трактовке
проблемы сознания и природы человеческой психики он в 60-х годах
стал единомышленником Ф. В. Ушакова [см. 7, 1, 155—161, 185,
202-212].
Радищев начало познавательного процесса связывал с
«побудительной силой» людей. Он признавал способность человека
проявлять активность в процессе «познавания», способность к выбору
и действию. Этому выводу Радищев давал пространное
объяснение. Дело прежде всего в том, что, будучи «силами», которые «в
•един гнездятся состав» [см. 7, 2, 74], «чувственность» и «мыслен-
ность» существенно различны: при определенных условиях и в
определенных отношениях «дух чувствам нашим не подлежит»
}[там же, 73]. Когда автор, обращаясь к читателю, призывал
«обнажить» умствование свое «от телесности», он явно
акцентировал внимание на идее самостоятельности «мысленности» как
акта познания.
Если вещи «разнообразны в своем сложении» и
«разнообразны в своих связях», то раскрытие этого факта, выявление
«отличного» и «союзного», доказывал Радищев, - дело активного
разума. «Вещь может находиться в разных в рассуждении
других вещей положениях», — писал он [7, 1, 386]. Важнейшая
познавательная функция человека состоит не в том, чтобы быть
пассивным наблюдателем вещей, фактов, а в том, чтобы активно
избирать объект познания, освещая его со всех сторон, подвергая
испытаниям в опыте «чувственном» и опыте «мысленном».
В сочинениях «Путешествие...» и «О человеке...», опираясь на
работы Ломоносова, Руссо, Аничкова, Радищев дал широкое
обоснование процесса познания как «подражания»: человек
познает внешний мир, самого себя и общество, «подражая» вещам
и явлениям природы, «соучаствуя» в своей собственной природе.
Он писал: «Мы сказали, что человек есть существо
подражательное, и сие его свойство есть ничто иное, как последование предъ-
■идущего или, лучше сказать, есть отрасль соучаствования». Ра-
117
дищев считал, что теория познания как теория «подражания»,
оправдывается и онтологически и гносеологически: природа
постепенно раскрывается в своих явлениях, и этот процесс способен^
фиксировать человеческий разум, который «ведет себя не как ему
угодно», а по законам, присущим «бытию вещей» [там же, 55—
58]. Примечательно, что данный вывод впоследствии получил
многостороннее обоснование в ранних работах И. Якушкина и в
«Письмах об изучении природы» А. Герцена [см. 127, 1, 96—98].
Углубляясь в проблемы познания и уясняя роль
«чувственного» и «рационального» опытов, Радищев ставил вопрос
следующим образом: «как образ, вне нас лежащий, как звук,
посторонним существом произнесенный, образует внутренность нашу»
{7, 2, 55]. Внешний по отношению к человеку объект по-своему
диктует свои условия органам чувств и разуму. И этот весьма
традиционный, хотя и не без нововведений вариант
гносеологического подхода к истолкованию «теории подражательности» и
«соучаствования» в лаконичной и гипотетической
(«гадательной») форме изложен Радищевым в соответствии с данными
естествознания второй половины XVIII в. «Происходит ли то, —
писал автор трактата «О человеке...», — в первом случае какими-
либо лучами, отражающимися от внешних тел, как будто
электрическое вещество, исходящее завострениями, и несущими образ
на сеть глазную посредством светильного вещества; производит
ли, в другом случае, звук, раздающийся в ухе нашем и тимпан
оного ударяющий, производит ли в нервах дрожание, струнному
орудию подобное (что вероятно); или нервенный сок, прияв в
себя внешние образы, внутреннюю чувственную им сходствен-
ность соделывает» [там же, 55—56].
«Подражательность», по Радищеву, — это также и логическое
следование смене одного явления другим, «умение» раскрыть
связь «сообщения» и «следствования», все более «возвышаясь от
действия к причине». «Союз» настоящего с будущим мыслитель
понимает как «соучаствование» в будущем. С этой точки зрения
разум не есть всего лишь механический регулятор происходящих
событий или зеркальный отражатель внешних явлений.
Диалектическая проницательность русского философа простиралась
намного дальше. Указывая на необходимость углублять мысль
Лейбница о том, что «все настоящее чревато будущим» [там же,
39], Радищев ставил вопрос о том, как и в каких формах
выражает себя «сила наша разумная», какими средствами постигает
она те «элементы», которые, находясь в явлениях «сегодняшнего
дня», служат грядущей, «ипотетической» перспективе,
тождественной «стезе, природою начертанной» [там же, 141].
Сказанное лишний раз подтверждает, что, приписывая
познанию, особенно «мысленному опыту», свойство духовной
активности, русский философ отстаивал принцип, который расшатывал
традиционные устои «созерцательности». Активность эту он
понимал не как проявление «силы чрезъестественной», а как дейст-
118
вие «сил познания» или непреложных законов природы и самого
«человеческого существования».
В чем же специфика тех актов мысли, тех «духовных
процессов», которые связаны с познанием бытия вещей, «не испытуя от
них перемены в силе познания нашего»? Радищева интересовала
проблема, выводившая его за пределы сенсуалистической
традиции. Мыслитель желал проникнуть в «творческий мир души»,
обетованную сферу идеальных явлений, обращаясь к
которым немецкие философы (Кант, Фихте, Шеллинг) начинали
штурмовать форты метафизики.
Известно, что вслед за Ф. Ушаковым Радищев критиковал
Гельвеция и Кондильяка, высказывая свое несогласие с
французскими философами по вопросам причин и функций
мыслительной деятельности мозга, резко осуждая их за то, что они
обрекали психику на пассивность. Позицию сведения «мысли» к
«чувствованию» он называл «хладнокровным
человеконенавистничеством», способным парализовать действие творческих
«начал», ведущих к истине, к активному преображению жизни [см.
7, 1, 187; 7, 2, 96]. Огрубляя реальный процесс взаимодействия
физического и психического, но не выходя за пределы
материализма, Радищев отстаивал выводы и понятия, актуальные для
своего времени, пытался заглянуть в будущее.
Если бы люди, считал Радищев, практически следовали
правилу Гельвеция «в познании — всё от чувств», то они не смогли
бы создать ни науки с ее абстракциями, ни морали с ее
нормативными принципами — «исчезла бы вся нравственность» [7, 2,
115]. Человек прежде всего в силу своей природы может
поступать «самоизвольно», т. е. активно, инициативно. Его свобода
«состоит в избрании лучшего» [там же, 215].
Несомненно, при всех высоких взлетах теоретической мысли
Радищева ей многого не хватало. Мыслитель не мог понять или,
догадываясь, не мог сделать правильные выводы о том, что
активность субъекта зависит от характера
практически-познавательной деятельности общества, от потребностей социального
процесса, возможностей, задач и целей современного ему
общественного производства. Но в соответствии с духом Просвещения
Радищев защищал идею о необходимости переустройства
социальной жизни крепостной России, призывая современников быть
на высоте требований века. «Гносеологический подход» не был
для него самодовлеющим, а выступал в общем комплексе его
теоретических идей, направленных на активизацию передовых
общественных сил с целью решения практических задач. Мысль об
активной роли сознания, таким образом, обретала
мировоззренчески-практическое значение.
Трактовка активности субъекта познания в произведениях
Радищева противостоит мистико-идеалистическим учениям масонов.
Религиозная вера, божественное предопределение самого выбора
были стержневыми установками масонских представлений о
познании [см. 332, 11]. Вера для розенкрейцеров являлась «поло-
119
жительным стимулом», якобы ориентирующим в лабиринте,
скрывающим истину. Гносеологический активизм масонов был
направлен против рационализма, полностью игнорировал научный опыт,
выходя в область мистики, иррационализма и спиритуализма.
В противоположность этому концепция активности сознания,
развитая Радищевым, базируется на антрополого-материалистиче-
ских принципах и опирается не на спекуляции, а на данные
современных ему физиологии, психологии, антропологии и анатомии
животных и человека.
Активность сознания, психики — это, по Радищеву,
стремление к преодолению «власти телесности», позволяющее человеку
достигать «напряжения духовных сил», вторгаясь в «царство
неиспытанного». Будучи своеобразной духовной интенсификацией,
«мысленное напряжение» ведет к мобилизации физических сил,
к преодолению «расслабленности», «смиренности»,
«безразличия», «усталости» и даже «болезней». Оно способно вдохнуть в
человека «новую жизнь», сообщить ему «свежий прилив сил»,,
бодрость и решимость. Защищая идею активности разума,
Радищев вполне логично приходил к оправданию бунта «разумной
совести», интеллектуального осуждения существовавших в стране
общественных порядков — крепостничества и царской власти.
Цель познания Радищев видел в достижении истинного, на
опыте проверенного знания. Задача науки и философии —
познание устойчивых причинных связей, раскрытие сущности мирового
целого и его частей. При этом надлежит изыскивать «верный
угол зрения» на явления и вещи, показывать их с разных
сторон — в развитии, в исторической связи и во взаимодействии с
человеком — одним из главных векторов бытия природы и обще-'
ства. Считая вполне допустимыми и даже необходимыми в
научном поиске гипотетические суждения, Радищев и к ним
предъявлял требование эмпирической достоверности. Даже бытие
«бога» Радищев рекомендовал выяснять «силою разума, возносяся
от действия к причинам» [7, 2, 58].
Согласно Радищеву, восхождение от действия к причинам
осуществляется во взаимодействии чувственности, рассудка и
разума. Поскольку интеллектуальная сила с чувственной
«совокупна», даже на стадии «чувственного опыта» она играет
определенную роль в выработке «первичного элемента» связи человека
с внешним миром — представления. Поскольку в «разумном
опыте» имеют место операции со сведениями о переменах,
вызванных в нашей чувственности воздействием на нее вещей,
постольку именно «силы» этого опыта принимают участие в выработке
«представлений». Аналогичные процессы в «разуме»,
показывающие изменения в отношениях вещей между собой, ведут (в
результате «разумного опыта») к таким изменениям в
«представлениях», которые фиксируются Радищевым как рождение мысли
[см. 7, 2, 119]. Тем самым «разум», функции которого в
философском трактате русского мыслителя сопряжены с понятием
«разумная сила», переходит от «чувственного опыта» к логиче-
120
скому рассуждению, деятельности «ума», основанием которой
должны быть целенаправленность и «сходственность» [там же,
61-62].
Обращаясь к анализу деятельности разума, Радищев имеет в
виду не столько изучение психологического механизма
познавательной деятельности, сколько осмысление
теоретико-познавательной проблематики. Не случайно он различает разум
теоретический, исполнительный и общественный [там же, 64—65].
Теоретический разум, согласно Радищеву, способен «проницать
завесу неведомого», ибо его активная сила всеядна.
Исполнительный разум имеет своим началом «жизненные потребности»,
практический заряд, соединяет разум с опытом, отличаясь
«изобретательностью», умением приспосабливать человека к
существованию в различных условиях. Наконец, общественный разум
всесилен, способен «делать все», ибо по своему происхождению связан
€ родовыми функциями человека.
Соединяя «опыт чувственный» с «опытом разумным», Радищев
в своей теоретико-познавательной концепции стремится не просто
отразить единство эмпирического и рационального, но и
подчеркнуть активность субъекта познания. Так, он указывает на то, что
тесно связанный с «умом» рассудок есть способность
представлять вещи и понимать отношения между ними абстрактно, не
испытывая непосредственного воздействия этих вещей на такие
«силы познания», как чувственность и разум [там же, 60—61].
Если у Канта «разум» может выступать в «чистой» форме, то в
системе взглядов Радищева это невозможно, поскольку
чувствительность и разум он рассматривает как два параметра единой
функции: действуя вместе, они призваны создать представление
[там же, 117, 129, 133, 139]. В трактате «О человеке, о его
смертности и бессмертии» деятельность разума представлена как
диалектическое обогащение конкретным содержанием всей
познавательной структуры человека. Представление даже в своей
первичной данности связано с работой рассудка, в лоне которого оно
перестает быть собой и перерастает в понятие, а затем
закрепляется в сфере сознания. Становится совершенно оправданным
утверждение Радищева: «рассуждение есть ничто иное, как
прибавление к опытам» [там же, 60].
В трактовке Радищевым «разумного опыта» проявилось
влияние картезианской физики и картезианского романтизма. Говоря
о теоретических источниках данной концепции, нельзя не
учитывать и уже сложившейся в России солидной материалистической
традиции. Во взглядах Радищева проявились также достижения
европейской философии, в частности в области гносеологии. Это
можно показать на примере таких антропологически толкуемых
понятий трактата «О человеке...», как «разум», «мысленность»,
«рассуждение», «ум» и т. п.
Рациональное познание, по Радищеву, совершается путем
рассуждения, опираясь на чувственный опыт, но средствами
«частного» и «общего» ума. С помощью «ума» выявляется главное, ос-
121
новное (главная причина, основное следствие и т. п.). «Частный
ум» — форма приложения «разумных сил» познания к частным,
единичным явлениям, «общий ум» — приложение также «сил»,
но в сфере «общего», «целого» [см. 7, 1, 388]. Понимая, что меж-
ду частным и общим существует единство, Радищев ставит
вопрос о том, какими путями и в каких формах совершаются
переходы от частного к общему и наоборот, т. е. каков механизм
деятельности ума.
Законы ума — в действиях ума, главное из которых фиксация
повторяющегося в опыте, раскрытие сущности изменяющихся
предметов, познание главного с помощью той или иной
познавательной процедуры, средствами «чувственного» и «разумного»
опытов. Отведя значительную роль «логической силе» познания,.
Радищев анализировал законы логики, правила силлогистики,
уделял внимание аналогии, редукции, требованию единства
индукции и дедукции, анализа и синтеза. Ему суждено было
продолжить борьбу против начавшегося еще на рубеже XVIII в.
похода индуктивистов против дедуктивистов [см. 7, 2, 60—62, 114—
115]. Создавшееся к концу века положение в области логики
предваряло ту «вакханалию с индукцией», которую впоследствии
проанализирует Ф. Энгельс [см. 1, 20, 542—543]. Радищев много
внимания уделял методам диахронного,
сравнительно-исторического, эволюционного и даже диалектического рассмотрения
предмета исследования.
Логические выводы автора трактата «О человеке, о его
смертности и бессмертии» складывались, с одной стороны, под
влиянием отечественных ученых, в частности Ломоносова,
разработавшего основные понятия логики в своем «Кратком
руководстве к красноречию», с другой — под влиянием
западноевропейских логиков (таких, как А. Арно, К. Гельвеций, П. Николь), с
работами которых Радищев познакомился, обучаясь в Лейпциг-
ском университете, а также во время написания своего
основного философского сочинения в Илимске [см. 268, 143].
В трактате «О человеке...» логика не отделяется от теории
познания (что было характерно для Канта, а затем для его
эпигонов — неокантианцев и неопозитивистов). Для Радищева не
существовало антитезы мышления и познания, логики и
гносеологии. Логику он трактовал как важнейшее орудие познания,
главную процедуру «рационального опыта», существенную часть
гносеологии, ведь мышление не имеет иного назначения, кроме
познания.
В отличие от некоторых современных логиков, полагающих,
будто исследование мышления есть прерогатива исключительно
психологии, Радищев считал, что логика занимается не столько
языком, сколько мышлением, изучает формы и содержание
«разумного опыта». Поскольку разновидностью мышления,
утверждал он, является рассуждение, постольку оно-то и составляет
предмет логики, рассуждение выявляет тождество и различие
идей, фактов, вещей. Новизна определяется познанием «сово-
122
купным». При этом Радищев исходил не из необходимости
проверки истины с помощью четырех фигур силлогизма (как это
рекомендовал Лейбниц), а из анализа «всей совокупности
свойств» предмета или явления с учетом результатов двух форм
«опыта» и данных самоанализа.
Считая предметом логики мышление («рассуждение»), а не
язык, Радищев вместе с тем высоко оценивал значение языка,
речи, слова для различных форм познавательной деятельности
человека. В «Слове о Ломоносове» дается развернутая
характеристика роли языка в познании, в развитии науки и культуры
человечества. Радищев тонко исследовал связь языка, речи и
мышления. По его словам, речь необходимое условие формирования
мысли, понятия и другие мыслительные формы существуют лишь
постольку, поскольку они облекаются в имя, получают название
>[см. 7, 1, 381-389; 2, 131-132].
С большой тщательностью Радищев анализировал такие
формы мышления, как суждение, посылка, умозаключение. Он
полагал, что в своем практическом виде эти формы в одинаковой
степени приближают человека к «светлейшим и предвечным
истинам» и «обильным заблуждениям». В трактате «О человеке, о его
смертности и бессмертии» указывается: «Сверх прямо
извлекаемого рассуждения из предпосылаемых посылок, на опытах
основанных, человек имеет два рода рассуждения, которые, возводя
его к светлейшим и предвечным истинам, паки к неисчисленным
и смешнейшим заблуждениям, бывают случаем. Сии суть:
уравнение и сходственность. Оне основаны на двух непреложных
(сами в себе) правилах, а именно: 1-е, равные и одинаковые вещи
состоят в равном или одинаковом союзе или отношении; 2-е,
сходственные вещи имеют сходственное отношение или в
сходственном состоят союзе. Сколь правила сии изобильны истинами, сколь
много все науки им одолжены свим распространением, столь
обильны оне были заблуждениями» [7, 2, 62].
Рассуждение, как момент процесса познания, осуществляется,
по Радищеву, в форме понятия, суждения и заключения.
Формирующееся на основании «чувственного опыта» и путем
воспитания, понятие отражает познание отношений между вещами [там
же, 115]. Суждение — это сравнение двух понятий методом
«сходствия» (аналогии) с целью отыскания различий между
рядами понятий [там же]. Заключение есть «извлечение из
суждений» путем как индукции, так и дедукции [там же, 62—64].
Выделяя среди заключений вероятные, достоверные и
самоочевидные, русский философ доказывал, что каждое из них
обеспечивается различными средствами познавательной деятельности,
неодинаковыми «совокупными силами разумного опыта».
Одним из распространенных средств познания Радищев
считал принцип «уравнения и сходственности», т. е. принцип
аналогии [там же, 62]. Часто, пользуясь этим принципом, он полагал,
что его права значительны в области понятийных
классификаций «веществ и существ» [там же, 41, 46—53, 130—132]. Вместе
123
с тем Радищев отчетливо видел «всеобщую недостаточность»
аналогии, ее поверхностность и только вероятную значимость.
Отсюда его призыв не абсолютизировать принцип «сходственности»,
искать сущность вещей, поднимая завесу видимости, проникая в
глубь вещей и явлений с помощью анализа, синтеза и других
логических средств, не тождественных аналогии. Поэтому в
теоретико-познавательной концепции Радищева большое место
занимала проблема соотносимости единичного и общего, части и це«
лого, — проблема, решение которой выступало своеобразным
методологическим приемом мышления. Автор трактата «О
человеке...» не был сторонником компаративистского метода
исследования, допускавшего искусственное изъятие части из целого и
самостоятельное рассмотрение этой части независимо от целого
[там же, 102, 104, 106—107]. Однако именно недостатком
диалектики можно объяснить противоречия, имевшие место в
представлениях Радищева о соотносимости части и целого. С одной
стороны, целое — это нечто, отличающееся от частей, как правило,
в сторону лучшей организации (например, винтик и часы в
целом, орган и организм в целом); с другой стороны, понимание
соотношения человека (части природы) и природы (в целом) в
антропологической концепции автора трактата «О человеке...» не
давало возможности декларировать, что «человек возвышается
выше всех существ на земле» [там же, 134], выступать «мерой
вещей» и «мерой природы» человек не может. Отсюда
критика антропоцентристского «подхода» к пониманию природы, когда
человек «свой шаг» ставит мерою ее «всеобъемлющего
пространства». Истина, по мнению Радищева, не может не соотноситься
с человеком, но это не значит, что она вся во власти человека
и ее содержанием «высшее земное существо» управляет как
угодно [см. там же, 51].
С процедурой анализа и синтеза у Радищева связано так
называемое диахронное рассмотрение предмета исследования. С
помощью диахроники мыслителю удавалось осуществлять как бы
«объемный» (нелинейный) анализ и подвижный, динамичный, в
определенной степени учитывающий пространственно-временные
изменения синтез [см. там же, 67—70, 76—80 и др.]. Диахронный
метод исследования применялся Радищевым уже в работах 80—
90-х годов. В оде «Вольность» мыслитель раскрыл содержание
своего идеала свободы, используя приемы диахронного метода.
Последние представлены также в «Путешествии из Петербурга в
Москву»: судьба крепостной царской России в настоящем и
будущем описывается с учетом реального ее положения и
возможной перспективы развития. То же можно сказать об анализе
Радищевым проблемы идеального в его главном философском
трактате. Она решается с опорой на науку XVIII в. и с учетом
возможных ее достижений в грядущие века. В «Песни
исторической», «Бове» и «Осмнадцатом столетии» аналогичным образом
освещены положительные и отрицательные персонажи, этические
и политические идеалы.
124
Анализ теоретико-познавательной концепции Радищева был
бы неполным без рассмотрения трактовки русским философом
проблемы самопознания. Задача последнего, согласно
Радищеву, — понять самого себя, открыть человека в самом себе с
помощью собственных сил познания, разума и воли. Сравнивая
животных и человека, автор трактата «О человеке...» видел
качественное отличие человеческого самопознания, связанного с более
высокой «организацией» человеческого организма, значительно
большими возможностями для развития «душевных сил» и т. п.
«Чувственное расположение тела всякого животного, — писал
Радищев, — уведомляет, что оно существует, что оно живет.
Равно чувства напоминают человеку о его чувственности; но сие
познание своего бытия в животном столь тупо, столь мрачно, так
сказать, что с самопознанием человека ни в какое сравнение
войти не может» [там же, 118].
Именно по проблеме самопознания Радищев вносил поправки
в рационалистическую концепцию Декарта, исходной
гносеологической посылкой которой было «cogito ergo sum». He
пренебрегая суждениями автора знаменитого «Рассуждения о методе»,
русский философ-материалист указывал, что человек несравнима
живее, ярче животного «ощущает, что он чувствует», мыслит и
живет. Подчеркнуть превосходство чувственности, т. е.
«ощущения того, что я мыслю», для Радищева мало; надлежит показать,,
как важно осознание человеком самого себя как существа
«единственного», способного проявить и «могущество», и «силу живую»
[там же].
Радищев многократно отмечал связь самопознания с
познанием как таковым. Поскольку человек — часть природы, он должен
свое поведение сообразовывать с требованиями природы вообще,,
своей природы прежде всего. Физиологию и анатомию человека
Радищев считал «руководительницею к познанию» [там же, 50].
Он подчеркивал противоположную всякому
объективно-идеалистическому, и особенно масонскому, миропониманию идею о том,,
что судьба, поступки человека определяются не
трансцендентными силами, а силами естественными и человека как частицу
природы можно познавать, познавая формы вещественного мира в
целом.
В идее самопознания, близкой Гердеру и Канту, Аничкову и
Новикову, Сковороде и Третьякову, выражалась потребность
отстоять право личности на самовыражение («самоизвольность»),,
на проявление собственных достоинств и талантов, потенций
самоутверждения. Антропологическая окраска этих идей
выражалась не только в анализе достоинств человека по сравнению с
животным, в раскрытии роли чувств и разума безотносительно к
практической деятельности людей, но также в подчеркивании
«естественного стремления» человека к познанию, в выявлении
«запаса» возможного физического и интеллектуального
«напряжения» субъекта, в изыскании «средств», уберегающих «от па-
губныя стези» в поисках «собственной пользы» [см. 7, 1, 260—
12S
261]. В самопознании человек должен связать «нить вещей» и
«нить идей», извлеченных из памяти. Кроме того, именно в
самопознании открывается возможность оперировать «доводами,
в человеческом сердце почерпнутыми» [7, 1, 313].
В этой связи следует отметить, что нуждается в
дополнительном изучении вывод В. Курдюкова о допущении Радищевым
особой формы «нутризрительного опыта» — познания мира путем
самоанализа и интуиции [см. 292, 34]. Автор трактата «О
человеке...» высказывал идеи о «силе» и «роли» мысленности,
«освобожденной от власти телесности», на ступени высшего
абстрагирования в здравии или в болезненном состоянии [см. 7, 2, 117, 124,
134]. Некоторые из этих идей Радищева перекликаются с
философскими размышлениями Декарта об интуиции. Не исключено
также, что трактовка П. Я. Чаадаевым интуиции как «высшего
напряжения сил» [см. 535, 62—63] опиралась на идеи Радищева.
Многосторонний анализ «логических сил» познания, знаковых
структур, языка, математики и художественных образов
дополняется в главном философском произведении русского мыслителя
размышлениями о причинах заблуждений, о средствах избежать
или свести их к минимуму. Все «силы» и «способы» познания
существуют, по мнению Радищева, «воедино». Абсолютизация
любого из них — путь к заблуждению. Поэтому сколько «способов
познания вещи», столько же и путей к заблуждению [см. 7, 2,
.62].
Русский мыслитель полагал, что заблуждения происходят
чаще всего: от неверного восприятия субъектом форм или каких-
нибудь сторон вещей; в процессе отвлеченного рассуждения; от
неверного восприятия перспективы; по причине отклонения чувств
и мышления от нормы. Болеющему желтухой «все предметы
представляются желтее». Глухой человек не слышит
колокольного звона, не испытывает никаких перемен в своем ухе, в то
время как человек с нормальным органом слуха скажет, что он
слышит [7, 2, 61]. «Сердце в восторге нередко ввергало разум в
заблуждение» [там же, 39]. «Извращают мысленность»
предубеждения, раболепие перед старыми традициями, неточные факты,
которые вводят мысль в лабиринт безысходности. То же самое
бывает с разумом, когда он, игнорируя чувственные данные,
оперирует одними заключениями из посылок. Но даже
душевнобольные люди оказываются всего лишь «пораженными единою
идеею», «сочетают все новым порядком», но не могут быть
«отрешенными от действительности» [там же, 117—121].
Именно переплетение в сознании человека истины и домысла,
ввиду изменчивости предмета исследования и воздействия
«случайных внешностей» [там же, 61], делает те или иные суждения
людей недостаточно полными, не совсем соответствующими
сущности вещей действительного мира. Сложность же «вскрытия»
погрешности познания в том, что заблуждение стоит «воскрай
истине» [там же, 62]. «Трудно уловлять истину» в условиях
пристрастия, терзания души огорчающими обстоятельствами [см. 7,
.126
3, 356], «лениости и нерадения» [там же, 62]. Радищев верил в
«способность» человека не только «противиться заблуждению»
[см. 7, 1, 227], но и доступными ему средствами познания
преграждать «полет невежества», обеспечивая торжество истины
[там же, 261].
Согласно Радищеву, в познании человек должен надеяться
йена бога, а на собственные силы; он обязать «удалять все
предрассудки и предубеждения», руководствоваться только
«светильником опытности» и «жизненными потребностями» людей. Идя
от причины к следствию, путем логических операций необходимо
устанавливать «сходственность» предметов и явлений внешнего
мира, видеть их изменчивость, «достигая» и «возносясь» до
«общего начала», «всеобщего вывода». Зачатки функционального-
подхода в теории познания Радищева сочетались с
эволюционными взглядами, с элементами диалектики.
Однако антропологическая ориентация, метафизические,
механистические и догматические ограниченности не позволили
русскому мыслителю последовательно реализовать свои
общетеоретические установки. Налет агностицизма, неумение выявить
объективное содержание понятий и представлений — пороки,
свойственные всему домарксовскому материализму, — присущи и
отдельным положениям, сформулированным автором трактата «О
человеке...». В этом сказалось влияние сенсуализма, механистических
школ философского материализма. Философы XVIII в., и в том
числе Радищев, в силу исторических условий оказывались в
плену непонимания того, что основой и источником мышления, а
также критерием истины является общественно-историческая-
практика людей [см. 2, 18, 145].
Следует иметь в виду, что отмеченная выше ограниченность
вместе с тем оттеняла идеи русского философа о необходимости
определенных условий для лучшего проявления разнообразной
творческой деятельности человека, для развития науки и
культуры. Поднимаясь до понимания общественного характера условий"
творческой, познавательной деятельности людей [там же, 57],
Радищев все же связывал свои выводы с родовыми, семейно-
брачными началами «одинаковородных существ» [там же, 74],
т. е. скорее антропологическими, нежели социальными доводами.
Сформулированные философом положения о роли труда в
процессе познания человеком действительности изучены пока
мало. Между тем многие высказывания Радищева, несомненно,
говорят об оригинальности и новаторстве передовых
представителей русской духовной культуры на рубеже прошлого столетия.
Поскольку человек — «существо, всесилию и всеведению
сопричастное», способное «взойти до бесконечности», постольку его
разум с помощью телескопов, «неподвижные звезды досязающих»,
способен «выйти» за пределы солнечной системы [там же, 42].
Здесь находит свое выражение космическая природа
гносеологических понятий Радищева. Любопытно, что эти рассуждения
дополняются высказываниями о том, что человек познает и в бу-
127
дущем будет познавать мельчайшие частицы мироздания,
проникая в таинственные глубины действия сил «вещественности».
В перспективе люди будут расширять горизонт своих знаний,
пользуясь «микроскопами, в миллионы миллионов раз
увеличивающими» [там же, 42—43]. «Нижние» и «верхние», земные и
космические пороги познавательных возможностей человека
признаются неограниченными. Оптимистическое миропонимание
русского мыслителя обеспечивается материалистическим истолкованием
данных наук о природе.
Поставив в общих чертах вопрос о нетождественности
процесса познания и самой истины как его результата, а также подойдя
вплотную к выводу о важности объективизации знаний, Радищев
не сумел вскрыть и сколько-нибудь четко выразить проблему
«продвижения к осмысленному бытию», т. е. показать диалектику
истин — относительной и абсолютной. Но, в отличие от
большинства своих предшественников он не считал «гносеологический
подход» самодовлеющим, а рассматривал его в качестве
составного звена общей «творчей силы человека», силы, направленной
на активное освоение мира. При этом сама истина понималась
не в виде мертвого, зеркального отражения природы, а как нечто
изменяющееся, включающее в себя своеобразно понимаемую
«человеческую деятельность» и совершающееся в условиях
«общественного сожития» [7, 2, 110—111].
Успехи познавательной деятельности человека, считал русский
философ, связаны с прогрессом «духовных способностей»
субъекта. В течение жизни в различных обстоятельствах человек
«удобряет» свою чувственность, «острит силы мысленные», шлифует
свои понятия, «рассудок, ум, воображение и память» [там же,
133]. Эта же мысль в другом месте трактата «О человеке...»
выражена так: «...человек во время жития своего дает всем силам
своим всю возможную расширенность» [там же, 136].
Стремление выразить истину как процесс, включающий субъекта
познания с его творческим, деятельным ростом и развитием, — еще од-
га черта изначально-эволюционистских представлений автора
«Путешествия...».
Вместе с тем сам результат познавательной деятельности, по
Радищеву, непременно выступает формой актуализации
возможностей человека и является свидетельством сложных
взаимоотношений между людьми. Поэтому истина, которая автором
«Путешествия...» заметно «очеловечивалась», провозглашалась
составной частью бытия людей и самой их «судьбы». Истина не
лишена аксиологического значения; она — выражение человеческого
напряжения, эквивалент индивидуальных и коллективных затрат
в процессе познания. Ее творительная «сила» — в способности
мобилизовать рвение своих искателей, направить их стремление,
возбуждать в их душах переживания и эмоции [7, 2, 125—126].
В гносеологических выводах Радищева, опосредованных
антропологическим подтекстом, было немало догадок, предвосхитивших
мысли Велланского и Фейербаха, Белинского и Герцена, Черны-
.128
шевского и Добролюбова, Сеченова и Геккеля, Павлова и
Вернадского. Гуманизируя весь процесс познания, антропологизм
придавал гносеологии русского мыслителя форму психологически
значимую, аксиологически емкую, эмоционально яркую.
Эмоциональный компонент познавательной деятельности у Радищева
обусловлен «чувственным опытом», который влияет на
«рациональный опыт», на его содержание и форму.
Радищев, отстаивая принцип активности субъекта, вносил
существенные коррективы в традиционные формы философского
материализма, страдавшие созерцательностью. Вместе с тем его
идеи противостояли спиритуализму масонов, идеям мистической
активности, направленным на достижение самоотчуждения
личности, экзальтирование сознания и перемещение внимания
людей из реального мира в мир иллюзорный. Исходить из
действительности — важнейший принцип теоретической концепции
Радищева, побуждавший обращать внимание на мерзости феодально-
крепостнической обыденщины, требовавшей своего
переустройства во имя «нормального» существования человека и человечества.
Движущей пружиной познавательной деятельности, по
Радищеву, являются материальные и духовные потребности людей:
нужда, обеспечивающая рост и жизнедеятельность индивида и
человечества, субъективные запросы личности и потребности
общественного целого. Вместе с тем, преодолевая «власть
телесности», человек направляем и «соглядаем» силой любопытства; пу-
теводительницей к познанию, полагал он, выступает наука [см.
7, 2, 50]. Все эти потребности Радищев называл «истинно
человеческими». В произведениях «Путешествие из Петербурга в
Москву» и «О человеке, о его смертности и бессмертии» анализ этих
потребностей отвлекает внимание автора от явлений, связанных
с запросами развития производства, совершенствованием орудий
труда, средств к жизни. В поле зрения русского мыслителя
находятся «силы разумной деятельности». Даже выводы,
следовавшие из революционных идей Радищева, в конечном счете имели
тенденцию к фокусированию на антропологических «потребностях
человека», запросах «человеческого существования».
5 П. С. Шкуринов
Глава III
СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
А. Н. РАДИЩЕВА
В своих теоретических изысканиях А. Радищев особое
внимание уделял социально-этическим проблемам. Четкий социальный
прицел является характерной чертой идейного наследия автора
«Путешествия...», на что обращали внимание многие
исследователи [см. 173, 191, 254, 322, 345 и др.].
В советской исследовательской литературе проанализировано
содержание, выявлена специфика социально-политических
взглядов русского мыслителя. Работы Д. Бабкина, Г. Гуковского,
В. Западова, Ю. Карякина, Ю. Лотмана, Л. Лузяниной, Г. Мако-
гоненко, А. Орлова, А. Панкратова, Е. Плимака, В. Пугачева,,
Б. Солодкого, С. Степанищева, Б. Чикина и др. посвящены
главным образом анализу публицистических, художественных,
политических, правовых, экономических воззрений Радищева.
Исследования перечисленных ученых явились серьезной заявкой на
многостороннее выяснение специфики педагогических,
психологических, литературно-критических взглядов автора «Путешествия...».
Однако то, что обычно называют «философией истории» или
«социальной философией», применительно к наследию Радищева в
нашей комментаторской литературе изучено явно недостаточно.
Социально-этические и эстетические аспекты творчества
Радищева связаны с целым комплексом теоретических вопросов,
обсуждавшихся в конце XVIII в. В сочинениях русского мыслителя
освещаются такие категории, как «человек», «племя»,
«общество», «раса», «народ»; раскрываются кардинальные понятия
социальной философии: «потребности людей», «воля человека»,
свобода («вольность»), необходимость («неотступность»), социальная
жизнь («общественное житие»), «закон жизни» и т. п. Обращаясь
к вопросам о сущности, назначении и социальной роли человека,
Радищев рассматривал общество как некий живой организм,
эволюционирующий от прошлого к настоящему и будущему. Это
создало предпосылки для обоснования некоторых принципов
сравнительно-исторического метода, выдвигало на передний план
проблемы прогресса и предвидения. Содержательная емкость
категорий «природа человека» [см. 7, 2, 100], «нижняя» и «верхняя»
формы «организации общества» [там же, ИЗ], «общественное
целое», «род человеческий» [там же, 69], оформившихся в рамках:
главным образом антропологического миропонимания, позволяла
критически анализировать актуальные проблемы того времени,,
делать предположения относительно будущего.
130
В философском творчестве Радищева исключительное
значение придается вопросам о ценности человеческой жизни: в чем
смысл бытия человека, что может человек сделать, чтобы
оправдать свое существование, могут ли в реальной жизни быть
слитными, гармонически едиными человек и его желания? Социально-
нравственный угол зрения русского мыслителя-демократа
охватывал вопросы (аграрный, гражданско-правовой, этико-норматив-
ный), которые, будучи поставлены в ракурс философской
антропологии и революционного демократизма, на протяжении многих
десятилетий русской истории будут своеобразной «точкой отсчета»
при решении задач освободительного движения, осуществления
программы общедемократических преобразований.
Человек и социальное целое — центральная проблема
социальной философии Радищева. Выдвижение на передний план
данной проблемы было связано с некоторыми общими тенденциями
развития философской мысли в последней трети XVIII в. Речь
идет прежде всего о тенденции единения естественнонаучных и
гуманитарных понятий в истолковании социальных явлений —
человека, ассоциации людей, «общественного жития» [см. 7, 2, 133],
в русле которой возникают различные по своей природе
натурфилософские системы Гольбаха, Канта, Новалиса, Шеллинга.
П. Гольбах в своей «Системе природы» представил человека
в качестве винтика мироздания, считая, что все человеческие
поступки жестко детерминированы законами бытия. Социальные
связи, духовную деятельность людей французский философ
редуцирует к причинам физического и физиологического порядка.
Следует отметить, что жесткий детерминизм в не меньшей мере был
свойствен концепциям объективных идеалистов, в том числе
масонов, ставивших человеческие поступки в зависимость от причин
высшего порядка — «вечного духа», «абсолютной идеи»,
«душевной силы» и т. п. В противоположность этому
субъективно-идеалистические учения рассматривали человека как существо
свободное, действия которого не имеют объективной детерминации.
Уделом личности в этом случае был солипсизм. Личные «контакты»,
личные «переживания» оказывались в центре внимания
представителей субъективного идеализма, тогда как объективные
общественные связи терялись из виду [см. 55, 308, 327, 398}.
Радищев рассматривал человека в трех аспектах: а) как
существо природное, б) как существо гомогенное (т. е.
специфическое, занимающее особое положение на «лествице веществ и
существ») и в) как элемент социального целого, общества. Первые
два аспекта человеческой натуры, как ее понимает Радищев,
проанализированы в предыдущей главе, здесь же остановимся на
характеристике человека с точки зрения его социальных связей.
Следует отметить, что уже само по себе вычленение
Радищевым данного аспекта человеческой натуры способствовало
преодолению, с одной стороны, абстрактно-духовного рассмотрения
человека, свойственного идеалистическим школам философии России
5*
131
и Западной Европы XVIII в., а с другой стороны,
натуралистической интерпретации человека, ограниченность которой
осознавалась как в западноевропейской, так и в российской философское
литературе последней четверти XVIII в. В частности, Гельвеций,.
Дидро и Гердер, Джефферсон, размышляя об антропогенезе,
вычленяли не только биологические, но и социокультурные факторы,
бытия людей, ослабляя тем самым позиции натурализма в
философском постижении человека [см. 561, 163, 166—167].
Следуя передовым тенденциям европейской философской
культуры, Радищев уже в трактате «Житие Федора Васильевича
Ушакова» формулирует ряд интересных идей о бпецифике общих
«социальных начал». В «Путешествии...», говоря об основах и формах
объединения людей, автор указывает на отличие «союза
органического», свойственного ассоциации людей, от союза
«механического». Основу «общественной солидарности» людей он видит в<
лоне «семейных уз». Семья — главная ячейка общества и, по еп>
мнению, выражает «органический характер» изначальной ступени
общественного «союза». В своем философском трактате Радищев
подвергает критике точку зрения Руссо, противопоставляя ей
тезис о замиренном характере отношений в семье, где «человеки не
разыдутся, как звери». Социально-психологические понятия в
концепции русского философа были тесно переплетены с
антропологическими и, видимо, ими определялись. «Наилютейшее
чудовище, — писал Радищев, — мягчится семейственною любовию. Пре-
торгла ею природа скитание зверообразного человека, обуздала
его нежностию, и первое общество возникло в доме отеческом..
Продолжительное младенчество, продолжительная в неопытности
юность приучает его к общежитию неприметно. Сопутник
неотлучный матери, лежа у сосцев ее и пресмыкаяся на земле, он,
воспрянув на ноги отвесно, бежит во след отцу, естественному своему-
учителю. Малолетство его подчиняет его родителям в
рассуждении его слабости; юность то же производит неопытностию.
Привычка, благодарность, уважение, почтение делают сей союз
наитвердейшим. Вот первое общество, вот первое начальство и
царство первое. Человек рожден для общежития» [7, 2, 57].
Конечно, так формулируемые «исходные начала» социальной
философии весьма выразительно демонстрируют натурализм
«антропологического подхода» (принципа). Но нельзя остановиться'
на приведенной цитате и не учитывать содержание оды
«Вольность», «Путешествия из Петербурга в Москву», «Семнадцатого-
столетия». В трудах Радищева, особенно там, где автор делает
обобщения эмпирического материала,
индивидуально-выразительные и социально-типические черты радищевских характеристик:
обнимаются естественно-правовой, «нравственно-человеческой»
формой вывода, наполняясь социальным содержанием.
Временами такой вывод в трудах русского мыслителя являлся исходным.
«Рожденный для общежития», человек, согласно Радищеву, в:
состоянии возвыситься над индивидуально значимыми
«потребностями», способен «понять» запросы человеческого (индивидуаль-
132
ного и родового) существования. Не только «личная польза», но
и «польза общественная» в таких случаях оказывается связанной
с необходимостью ставить интересы общества выше личных
интересов, бороться против рабских условий жизни, если они общи
для всех тебе подобных, и даже прибегать к «насилию» во имя
личного и «общего» блага, против «недолжного» строя жизни
людей и народов. Стремясь рассматривать человека и общество в
«союзе» с природой. Радищев доказывал, что венец развития
природы, человек, с одной стороны, индивидуален как особь и
гражданин, а с другой — находится в единстве с «собратией своей» —
племенем, нацией, народом, обществом. Единство это
осуществляется посредством как родовых связей людей, так и связей
социальных, таких как единение людей, возбужденных ненавистью
к крепостному состоянию, консолидированных общими
социальными отношениями. Глубокий анализ индивидуальных и
общественных, хозяйственных и экономических интересов дан Радищевым
в работах «Описание моего владения» [см. 7, 2, 171 —197] и
«Письмо о Китайском торге» [там же, 5—35]. В этих, как и во многих
других, произведениях доминирует антропологический понятийный
аппарат, что не позволяет Радищеву вскрыть реальную
диалектику социальных отношений людей, их общественных связей.
Социальная философия Радищева противостоит реакционным,
оправдывающим расовое и сословное неравенство учениям Зо-
лотницкого, Каракотина, Маркова, Щербатова и др. Опровергая
псевдоучения о «породах господ и рабов», о «порочности
человеческого рода», о божественной антропоморфности социальных сил
и т. п., русский философ апеллировал к наукам о человеке.
Антропологический «подход» обретал при этом форму теоретического
синтеза, подкреплялся описаниями реальных общественных
отношений.
Не вызывает сомнений гуманистический характер принципов,
которые использовались Радищевым при обосновании
антикрепостнических, республиканских, антицаристских и революционных
выводов. Автор «Путешествия...», представив человека как
Прометея, закованного в цепи крепостного рабства, священную задачу
видел в освобождении российского крестьянства от «пагубы»
крепостного состояния. «Зло стоглавое» — крепостное право —
характеризуется Радищевым не просто как «человеку противное»,
«противоестественное» состояние, но как состояние, которое само
же и побуждает к необходимости обновления этого общества.
Поэтому мыслитель призывал к освобождению «сограждан, нам
равных, братьев, возлюбленных в естестве». Радищев считал
«естественное проявление сил человеческих» непременным
условием существования и развития общества, а бедствия человеческой
жизни нарушением «истинной природы» человека, его
«натуральных прав», нормального хода истории. Даже сокрушение тирании,
указывал он, в широких масштабах мира должно считаться
«натуральной», обусловленной и неизбежной акцией. Непременно
настанет время, когда человечество «возревет в оковах», вдохнов-
133
ляемое «надеждою свободы и неистребимым природы правом».
В оде «Вольность» говорится: «Се право мщенное природы на
плаху возвело царя» [7, 1, 5]. Привлекает внимание своеобразная
философско-антропологическая трактовка Радищевым
социального катарсиса — великого обновления человеческого бытия и его
правовых основ посредством практического (революционного)
выражения народом своей «обиды»: «Сей был и есть закон
природы... обидой право обновит» [там же, 13].
Истинный сын века Просвещения, Радищев был убежден, что
свет разума, сила человеческой мечты способны «сквозь
столетия» проницать грядущие события. Исторически неизбежное
раскрепощение человека, доказывал он, приведет к высвобождению
титанических сил народа, к подлинному расцвету личности и
общества. Вслед за Десницким [см. 210, 266] критерий развития «об-
щежительства» Радищев видел в возрастании «человеческих
начал», в прогрессирующей гуманизации общественной жизни, в
осуществлении идеалов равенства и братства. Сама история при
этом понималась как процесс актуализации человеческой
сущности, превращения истинно человеческих, или истинно всеобщих,
черт в социальный идеал, альтернативный существующему
общественному строю.
Вслед за Аничковым и Новиковым, Козельским и Третьяковым
в духе традиции западноевропейского и российского Просвещения
Радищев развивал категориальный аппарат и теоретический
инструментарий своей социальной философии, используя биологию,
медицину, антропологию и другие разделы знаний о человеке. Он
считал, что естественные науки в состоянии помочь познать
человека и общество. Опираясь на научные теории своего времени,
ему удалось создать синтетическую форму социальной
антропологии, наполнить ее общественно-политическим содержанием. С
помощью широких и весьма динамичных эволюционных и
диалектических построений Радищев стремился преодолеть
теоретическую узость и формальную скованность старых учений.
Именно поэтому Радищеву чужды были грубый натурализм и
примитивное биологизаторство, которыми отличались системы
«естественного права» и «естественной нравственности» XVII—
XVIII столетий. В связи с этим он критиковал многие положения
Гоббса, Руссо, Гельвеция, а также их русских последователей.
В частности, он не соглашался с тезисом об антиобщественной
сущности, исконной агрессивности и якобы «естественной
враждебности» людей. Его не устраивал натурализм Руссо, по
аналогии с отдельными людьми характеризовавшего целые народы
[см. 7, 2, 182—183, 338—339]. Радищева не удовлетворяли все те
разновидности механистических представлений, которые префор-
мистски толковали проблему жизни, из «природы» отдельного
человека выводили законы «жизни общей» и т. п. Русский
мыслитель искал и иногда находил диалектические формы выражения
специфики тех процессов или явлений, которые возвышались над
единичными фактами общественной жизни. То же можно сказать
134
и о методологических средствах решения Радищевым проблемы
взаимоотношения человека и общества, личного и общественного,
индивидуального и коллективного.
В знаменитом стихотворении, написанном по дороге в
Илимский острог, подчеркивая как отличие человека от природы, так
и несоответствие «уродливых» («неестественных») форм
общественной жизни назначению человека, Радищев говорит: «Я тот же,
что и был и буду весь мой век: не скот, не дерево, не раб, но
человек!» [7, 1, 123]. А в одном из его писем к графу А. Р. Воронцову
есть слова: «...человек всегда платит дань человеческой природе,
слабой и отягощенной страданиями, и совершенный стоицизм есть
не более как химера или, самое большее, философская гордыня»
[7, 3, 52]. Представление о реальной «человеческой природе» и,
очевидно, не только о ее физиолого-антропологическом варианте
противопоставляется философским понятиям о человеке в духе
«совершенного стоицизма», неукоснительной императивности.
Здесь абстрактность антропологических представлений Радищева
в известной мере преодолевается К В отличие от немецких
идеалистов русский философ все больше отходил от туманно-общих
понятий о человеке. Впервые в просветительской литературе
выявлялась новая грань теоретического мышления: человек растет
и развивается не «сам по себе», его характер и интересы
определяются во многом содержанием чувственного и рационального
опытов, средой, условиями жизни, общественным целым.
Г. В. Плеханов считал, что Радищев стремился показать
влияние условий социальной жизни не только на индивидуума, но и
на большие группы людей, закладывая тем самым основы
социальной психологии [см. 405, XXII, 352—354]. Эту идею
обосновывают в своих работах советские исследователи М. Соколов
[см. 469], Б. Чикин [см. 524, 17-19], М. Ярошевский [см. 551, 163].
Она находит свое подтверждение в многочисленных
высказываниях автора трактата «О человеке...». Подчеркивая производность,
зависимость душевных явлений от явлений материальных,
Радищев пытался показать зависимость человека от внешних условий
(климата, географической среды, общественных отношений).
«Природа, люди и вещи, — писал он, — суть воспитатели человека;
климат, местное положение, правление, обстоятельства суть
воспитатели народов» [7, 2, 130]. В том же смысле следует понимать
высказывания Радищева о том, что именно обстоятельства,
«действия внешней причины», могут «повременно» или «непременным»
и продолжительным образом влиять на «природу» и «судьбу»
человека [там же, 63]. Обстоятельства, указывается в трактате,
формируют «человека», в том числе мыслителей, вождей, крупных
деятелей науки, талантливых полководцев: Иоган Гус, Рене Де-
1 Не располагая данными о специфике философских воззрений Радищева,
Г. Шторм в статье «Нам вольность первый прорицал...», на наш взгляд, удачно
прокомментировал приведенные нами понятия русского писателя о «человеческой
природе» [см. 540, 7].
135
карт, Чингисхан, Степан Разин, Исаак Ньютон, Иоган Кеплер при
обстоятельствах, отличающихся от тех, в которых они себя
проявили, были бы совсем другими. Проявивший «великое
политическое дарование» Кромвель в условиях «тесного круга
монашеской жизни» прослыл бы «беспокойным затейником и часто бы
бит был шелепами» [там же, 128—129]. По мнению Радищева,
для проявления «возможностей» каждого человека нужны
условия, которые всякий раз могут быть либо достаточными, либо
недостаточными. Активность и разум субъекта — важные, но не
единственные компоненты удачи. Великим людям «уготовляют»
место «поборствие» обстоятельств, иначе история поворачивается
к ним трагической стороной: «Иоган Гус издыхает во пламени,
Галилей влечется в темницу, друг ваш в Илимск заточается»
[там же, 129].
Условия реальной действительности, считает Радищев, сильнее
отдельно взятого человека; обстановка и среда формируют
поступки людей, часто определяют их выбор. И здесь русский
мыслитель вносит коррективы в понятия своих соотечественников —
Ф. Прокоповича, А. Кантемира, М. Ломоносова, Я. Козельского,
которые, решая вопрос о движущих силах истории, отводили
главную роль великим личностям, просвещенным монархам,
самодержцам. Он считал, что обстоятельства времени и места —
эпоха, реальные условия той или иной страны — выдвигают
великих людей и что с их творчеством связаны, но не ими
определяются глубинные явления социальной жизни. Радищев высказал
ряд важных догадок о роли народа, человечества в
формировании и полном раскрытии многозначных и широковлиятельных
процессов истории.
Радищеву был чужд антропологический имманентизм, часто
встречающийся поныне в идеалистических системах философской
антропологии, а в пору его жизни и деятельности
обнаруживавший себя в воззрениях представителей субъективного идеализма
и крайнего сенсуализма. Сенсуализм смыкался с эмпиризмом, что
с неизбежностью (как это было в воззрениях Руссо) вело к
плюралистическому толкованию общественных явлений,
абсолютизации автономности личности. Таким образом,
индивидуализированное общество объявлялось идеальным. Для Радищева такая
общественная «робинзонада», такая атомизированная жизнь
противоестественна. Человек, по его мнению, не должен быть
«последней целью» для самого себя [см. 588, 136].
Основанием всех достижений рода человеческого, гарантом его
процветания русский философ считал «общественный союз» (или
«общественное сожитие»), ибо от него зависят и «польза общая»,
и «польза частная». Люди реализуют свои возможности, черпая
силы в общественной среде. Поэтому никто не имеет права
действовать в нарушение «связей общих» или что-либо желать «в
противность всех». По убеждению Радищева, человек — существо
общественное. Только в общении с себе подобными людьми в
человеке «разверзаются природные» и порождаются новые «чело-
136
веческие качества», позволяющие субъекту выйти за пределы
своего «я» к другому «я», в область активного общения.
Сопереживание и стремление к самосознанию, самосовершенствованию
своим основанием имеет гармонию личности и общественной
среды. Своеобразная «открытость» человека, личности для
воздействия «общественных сил» побуждала Радищева к некоторым
выводам, носившим нормативный, антрополого-рационалистический
характер (например, вывод о том, что человек не должен делать
другому того, чего не желал бы себе самому).
В трактате «О человеке...» тезис о божественной природе
чувственно-духовной силы человека связан с пантеистическим
пониманием бога. Рассуждая о боге, Радищев пишет: «Что оно
(божество. — П. Ш.) часто похоже на челоевка, то не удивительно:
человек его изображает, и поелику он человек, за человека зреть
не может» [7, 2, 58]. Эти строки написаны задолго до выхода в
свет «Сущности христианства» Л. Фейербаха. Их смысл далек
от развернутой теории отчуждения человеческой сущности и
перенесения ее на «божественную природу» [см. 511, 147—148]. Однако
идея о человекоподобии «божественных образов» в главном
философском трактате Радищева высказана достаточно отчетливо, и ее
антропологическая суть не вызывает сомнения.
С общей концепцией человека у Радищева связана постановка
проблемы необходимости. В его социально-этических понятиях
нормативно-антропологическое требование общественного целого
было равнозначно требованиям природы человека, выступало
своеобразным регулятором должного и недолжного, формирующим
фактором общественного и личного сознания, критерием
морального выбора, исходным моментом нравственного и эстетического
восприятия. Само «целое» чаще всего являлось в форме
«родового» понятия. Именно такое значение имели высказанные во
второй книге трактата «О человеке...» суждения, в которых
«деяния природы» и «различия полов» среди людей относились к числу
определяющих «склонности к общежитию» [см. 7, 2, 57], а в
основание «ощущения правого или неправого» включались функции
«чувственного сложения», или «чувственного состава», субъекта.
Особое значение Радищев придавал тем человеческим
отношениям, которые соединяли индивидов в общественное целое.
Разнообразие этих связей («плохих» или «хороших», с точки
зрения одного человека или многих людей) должно быть основано
на непреложности отношений, ведущих к проявлению
необходимости. Эту непреложно-необходимую форму людских связей
Радищев называл законом, не исключавшим юридического
выражения ввиду наличия «естественной», т. е. природно-антропологиче-
ской, его основы. В связи с этим, но в духе Десницкого и
Козельского [см. 210, 2, 258—274] Радищев писал: «Закон, как ни
худ, есть связь общества». А ниже, раскрывая смысл этого
утверждения, русский мыслитель отмечал, что закон призван
регулировать отношения людей и он «имеет основания в
естественности» [см. 7, 3, 10].
13?
Достойны внимания те чрезвычайно глубокие идеи Радищева,
которые связывали понятия «положительный закон» и
«положительная деятельность». Здесь важно иметь в виду, что только с
учетом тезиса о регулятивной роли «разума общего» в
историческом процессе становится доступной пониманию трактовка
русским мыслителем вопроса о деятельности («деянии») человека
как средства нормативного, «естественного» бытия — важного
фактора прогресса. Связанная с функциями разума, деятельность
является, по Радищеву, столь же характерной чертой человека,
как и постоянное стремление улучшать окружающие условия и
самого себя [см. 7, 2, 64—65]. Речь идет о труде, который
признается главным источником богатств. Человек провозглашался и
существом думающим, и существом творящим, делающим,
отличающимся от животных способностью к труду. Атрибут
трудолюбия Радищев считал высшей формой человеческого достоинства.
Бездельник подобен животному; тунеядство и лень являются
источниками бедствия человечества. Мир стоит на праведном
труде людей. В труде раскрывается человеческая сущность.
Чтобы убедиться в том, «колико человек велик, нужно токмо
воззреть на все его изобретения, на все вымыслы и творения»
[там же, 58].
«Активность», «деятельность», «творчество» Радищев понимал
не просто как индивидуально раскрывающуюся «силу», акцию
души, а как некое человеческое предприятие, изобретение, умение
пользоваться обстоятельствами, практическое решение какой-то
задачи, учет последствий тех или иных реальных явлений. Автор
трактата «О человеке...» как бы расчищал подходы к пониманию
того, что исторический процесс в качестве своего главного начала
включает деятельность преследующего свои цели человека [см. 1,
42, 117—118]. Выявляя роль природных, гомогенно-родовых и
сугубо социальных потребностей людей и народов, Радищев не смог
включить в свои понятия и проанализировать в полном объеме
экономические условия их существования.
Радищев все же не сводил труд к узкодуховной деятельности.
В этом заключалось принципиальное отличие его взглядов от
воззрений идеалистов. Он ставил задачу исследовать различные
формы и последствия деятельности людей, направленной на
производство средств к жизни: пищи, одежды, орудий труда.
Несмотря на теоретическую ограниченность антропологического
«подхода», автор «Путешествия...» сделал попытку рассмотреть
человека как творческую личность, показать его связи с общественным
целым — гражданским и нравственным состоянием различных
слоев населения страны.
Радищев рассматривал труд как главную форму деятельности
и один из первых в России выступил в защиту идеи
«освобождения труда» от пут крепостничества, от условий и обстоятельств,
«противных самой натуре человека». Преодолевая в некоторых
случаях абстрактность своих суждений, он постоянно обращался
к судьбе русского крестьянства, горячо отстаивал его интересы.
138
В «начале общества», считал мыслитель-демократ, должен быть
«тот, кто ниву обрабатывать может». «Человек», в понимании
Радищева, — это далеко не благодушный созерцатель, а
борющийся, бунтующий крестьянин из «Путешествия...», исполненный
ненависти к своим поработителям. Сама реакция на социальную
несправедливость в главе «Хотилов» превращается в особую
форму деятельного отношения к фактам крепостнической
действительности [см. 7, 1, 312—323].
У Радищева народ — сила исторического действия, а
личность — слагаемое этой силы, соединенное с целым. Ему
неизвестен реальный способ такого соединения — производительные
силы и производственные отношения. Тем не менее русский
мыслитель полагал, что человека формируют не только «силы
естественные», но и «силы общественные». Он утверждал, что
человеческое существо делается личностью в борьбе за высокие идеалы.
Подлинный «сын отечества» — борец за гуманные цели
превращения крепостных крестьян в людей «свободного труда».
Подчеркивая активность «человеческой натуры», Радищев уже
в оде «Вольность», а затем в «Путешествии...» требовал
соединять разум с революционным действием. Сын эпохи
Просвещения, он искал решения вопроса о границах революционного
действия, о «ступенях» развития реального процесса истории. В
«Семнадцатом столетии» им был выдвинут тезис о мере
революционного вихря, «духа бурь» [см. 7, 1, 128]. Разум выдвигался им на
передний план как некий ограничитель и регулятор
(«правильного» и «истинного») действия. Даже идея пользы, личной
выгоды, утилитарного интереса в воззрениях Радищева часто получала
рационалистическое обрамление. Русский мыслитель считал, чта
эгоистические начала личности необходимо разумно ограничивать
родовыми (общими, коллективными) интересами. Принцип
«интереса», регламентируемого разумом, получал широкое
применение в социальной философии Радищева и рассматривался в
качестве основы морали. Этот принцип нашел дальнейшее развитие
в теории «разумного эгоизма» Чернышевского [см. 534, 96]. Здесь
намечались глубокие расхождения с теоретической ориентацией
Руссо, выраженной в «Рассуждениях о происхождении и
основаниях неравенства между людьми» [см. 445, 48—49].
По Радищеву, закон, являясь «естественным уставом»,
основанием правовых отношений, вместе с тем способен влиять не
только на форму необходимости, но и на форму свободы. Ведь
разум — этот продукт «естественности» — не позволяет
оставаться всегда в подчинении «грубой телесности», он обусловливает
активность человека и тем самым индивидуальную и
общественную значимость личной инициативы и свободы. Именно поэтому,
как считал Радищев, мечта людей о свободе неистребима:
«вольность» является естественной потребностью. Неотторжимая от
натуры человека, свобода — условие развития личности, семьи,
племени, общественного целого.
139-
Страница основной рукописи «Путе
Н&Ф $*ж Аак/ 0 ^r rk№0rt %<&* ъл*&т Щ0^.
фана) сш^Ж стжм»^ф /£ л
О где******* *де*де &%***** AJirf
•то, t^m ф?м ^mmmtmm^M^TiW^
Шуе еётт^ тт^тмФаЩ^^ш&шщ,
шествия из Петербурга в Москву»
Стремление к возвышению «раскрепощенного разума», к
самоограничению человеческих побуждений, как считал философ,
обретает различные формы в процессе общения равных «от чрева
материя» людей [см. 7, 1, 314]. Он устанавливал «отличия» не
только между «естественным состоянием» и «естественным
законом», но и между «частным» и «общественным» правом.
Последнее также называлось «правом гражданским» и
квалифицировалось как выражение многообразных форм «общественного
сожития» [см. 7, 3, 28—29], имеющих своим основанием
«положительный закон», вырастающий на «праве естественном» по типу
взаимоотношения единичного и общего. Именно поэтому Радищев
часто подчеркивал, что «положительный закон» является как бы
формой ограничения и вместе с тем выражения «естественного
состояния», ибо он «не долженствует истреблять и немощен всегда
истребить закона естественного» [там же, 10].
При этом «естественный закон» выступает как нечто общее,,
родовое. Жизнь «себе подобных», т. е. бытие массы, выше
интересов отдельных индивидов. «Правилом» нормальности отношений
людей Радищев считал то, что «польза общественная предъидег
пользе частной» [там же, 206]. Индивидуализированный интерес
и преобладание «частной пользы» автор «Путешествия...» считал
неспособными гармонизировать личные и общественные,
естественные и гражданские права человека. «Чем польза частная, —
писал он,— теснея союзна с пользою общею, тем общество назвать
можно блаженнее» [там же, 31]. Только общее благо может дать
полноту счастья каждому члену общества в отдельности; не
всякое индивидуальное благо ведет к процветанию коллектива,
народа. Не умея еще постигать сущность диалектики общественного
развития, проникать в суть «специфической логики специфического
предмета» [см. 1, 1, 325], Радищев все же подмечал многие
важные особенности отношений помещиков, крепостных крестьян,,
разночинцев, чиновников, работных людей и бурлаков. Он
стремился выразить «различенство» их нравственно-психологических
свойств и качеств.
Обращение к экономическим, политическим и
реально-правовым отношениям людей поднимало выводы русского писателя-
гуманиста выше горизонта антропологического принципа. Одним
из таких выводов явилось признание необходимости судить о
личности не по ее словам, а по ее поступкам, делам [см. 7, 1, 334—
335]. Ради истинных заключений о людях, нравах народов и
обычаях эпохи Радищев требовал «наблюдать действительные
отношения» [там же, 200]. Мыслителя глубоко интересовали принципы
теоретического обоснования проблем промышленного и
сельскохозяйственного производства, благосостояния населения, форм и
методов обеспечения правопорядка и подлинной демократии в
стране.
Глубоким экономическим анализом отличались работы
Радищева, написанные в 90-е годы: «Письмо о Китайском торге»,
«Сокращенное повествование о приобретении Сибири», «Описание
142
моего владения» [см. 7, 2, 5—35, 145—163, 169—197] и др. В одном
из писем из Сибири к графу А. Р. Воронцову Радищев подмечает:
«Крестьянин заводской есть совсем другой человек, нежели
землевладелец» [7, 3, 156]. Различая формы крепостной зависимости
в России, мыслитель указывал на тяжелую экономическую и
моральную участь посессионных крестьян, а также тех слоев
крестьянства, которые переводились на оброк. В господствующей в
стране экономической системе Радищев видел пороки, которые, как
он полагал, должны непременно привести к краху
крепостничества, к гибели институтов феодального общества. Постановка
вопроса о несостоятельности крепостного права, самодержавной
власти и необходимости развернуть и вести неустанную борьбу
за республиканский строй в России связана была с осознанием
русским мыслителем некоторых сторон реального историзма
общественных процессов. «Мы, — писал Радищев, — ополченные
палицею мужества и природы на сокрушение стоглавого
чудовища (крепостного права. — П. Ш.)... поползнулися, может быть,
на действия самовластия» [7, 1, 320].
Радищев отстаивал идею восходящего характера
исторического процесса. «Человек, — писал он, — к совершенству доходит не
одним поколением, но многими» (7, 2, 66]. Важнее всего для него
были реальные связи в реальных событиях, а не «необходимое
развитие моментов разума». Если люди, рассуждал Радищев, от
рыболовства и охоты переходили к скотоводству и земледелию, а
затем, накопив богатства, создавали крупные города, храмы и
дворцы в этих городах, то это совершалось под действием трех
«побудительных сил»: а) «по нужде», которая возрастала в связи
с развитием общества; б) в связи с ростом «хозяйственного
накопительства»; в) благодаря изобретательности, все больше и
больше развивавшей человеческий разум. В итоге все обильней
становится стол, накрываемый природой для своих детей. Блага же
обеспечиваются благодаря «общим усилиям» людей и народов,
все сильнее связывающихся между собой узами братства,
взаимодействующих на основе экономических, правовых и этических
отношений.
Россию Радищев считал воплощением земледельческих
отношений. И до ссылки, и после возвращений из Сибири русский
мыслитель много интересовался особенностями крестьянского
быта Поволжья, различных областей России. Он глубоко вникал
в теоретические вопросы современной ему этнографии, медицины
и социальной психологии. Именно поэтому всякое широкое
теоретическое обобщение прямым или опосредованным образом
выводило мыслителя в область философской антропологии: все его
социально-экономические и правовые оценки не
противопоставлялись, а скорее генерализировались философско-антропологиче-
ской ориентацией.
Гуманистическая концепция Радищева стимулировала
революционно-демократическую постановку проблемы «обесчеловечен-
ного» бытия крестьян, связывая ее с правом на «человеческое су-
143
ществование». Радищев приходил к выводу, что нельзя считать
блаженным государство, в котором может господствовать
звериный обычай порабощать себе подобного человека [см. 7, 1, 315].
Конечно, в приведенных выше заключениях не было еще
классового подхода к анализу социальных явлений. Однако по
сравнению с традиционно-антропоцентристской, плюрально-атомарной
ориентацией и теорией «общественного договора» концепция
Радищева, несомненно, была шагом вперед, поскольку включала в
себя емкое антрополого-гуманистическое ядро, которое открывало
возможности категориального роста, содействовало развитию
понятий о сословном делении общества, о социальном неравенстве,
неизбежности конфликтов между «угнетенными» и «угнетателями»
и народной революции — акта гуманного и
разрушительно-созидательного, «человечески оправданного», сказали бы мы,
имитируя терминологию антропологической философии.
Истоки и основания этических идей А. Н. Радищева — тема,
важная для характеристики социально-этических воззрений
русского мыслителя, который много внимания уделял разработке
общетеоретических и нормативных понятий морали.
В годы жизни и деятельности Радищева резко возросло
значение феномена нравственности и отражавших его учений. На смену
православной морали и этическим принципам «Домостроя»
приходили секуляризированные понятия гражданской нравственности.
Этому способствовали развитие буржуазных отношений, «новые
формы быта», рост социальной активности крестьянства, а также
передовой дворянско-буржуазной, разночинной интеллигенции.
Последняя в лице лучших своих представителей выступила с
моральным осуждением крепостного строя, правовых и
нравственных норм его существования.
Грубое, экономическое и внеэкономическое принуждение
человека-труженика, сочетающее черты средневековья и алчность
ранней предприимчивости формирующегося буржуазного сословия,
бесправное положение крепостного крестьянина, отрицание в
«обществе» самой возможности применения к простому человеку
гуманистических норм морали — все это порождало в стране
разгул своеволия помещиков и царских сатрапов, крайнюю
степень произвола. Громадное большинство населения оказывалось в
конечном счете и унижено, и оскорбляемо, и бесправно. Это
состояние общества Радищев выразил в словах: «...гораздо
знатнейшая часть рода смертных погружена во мрачность варварства,
зверства и рабства» [7, 1, 218].
Воплощением аморализма господствующих сословий явилась
помещица Салтычиха, лично поровшая до смерти своих крестьян,
уродовавшая их физическими истязаниями. Под воздействием
общественного мнения царица вынуждена была строго наказать
палачествовавшую дворянку, изолировать ее от общества, хотя
тысячи и тысячи столь же лютых «душевладельцев»-крепостников
продолжали безнаказанно вершить свои дела садистов, лихоим-
144
цев, казнокрадов и стяжателей. Антигуманное, «бесчеловечное и
жестокое крепостное общество», неограниченная власть
помещиков в среде закрепощенных крестьян возбуждали протест против
бесправия и унижения человеческого достоинства, моральное
осуждение дворянства и царских чиновников.
Желая затушевать проявления социального и морального
антагонизма между господствовавшими силами в стране и
закрепощенным крестьянством, Екатерина II организовала выпуск
журналов и книг, освещавших различные моральные вопросы.
Охранительная, по характеристике Ф. Эмина, «Всякая всячина» вела
линию защиты сановников государственной службы, обеления
взяточников, казнокрадов, крючкотворов и притеснителей крепостного
люда [см. 554, 9—11]. Сама императрица издавала целые буклеты
этической литературы — одних только «нравоучительных пиес»
ею создано было около двадцати [см. 463, 74—75]. Не без участия
царского двора, организаций правых масонов и спиритических
клубов в стране налажен был выпуск (крупными для того
времени тиражами) «нравоучительно-поучительной» литературы
наподобие книги Юнга «Страшный суд» [см. 484], «Карманной
книжки вольных каменщиков» [см. 252] или сочинения С. Савицкого
«Слово в неделю восьмуюнадесять — по сошествии святого духа»
[см. 446]. Авторы этих произведений уже не довольствовались
принципами «Домостроя», но и не приблизились к новым веяниям,
века.
Совсем не случайно в России последней трети XVIII в.
поощрялось распространение массовых религиозно-этических изданий,,
предназначенных «для народа». «Азбуковники», «прописи»,
«календари» внедряли в сознание нравственные постулаты из
Часослова и Библии, поучения пророков и «отцов церкви» Иоанна
Златоуста, Ефрема Сирина, Кирилла Иерусалимского и др. Дешевые
выпуски «Мудростей Иисуса — сына Сирахова» и «Премудростей
царя Соломона», как и проповеди служителей культа, сводились
к пропаганде религиозной морали, послушания, «смиренножи-
тия». Одна из задач, решавшихся при помощи распространения
норм религиозной морали, состояла в нейтрализации настроений,
порождавшихся среди крепостных крестьян, работных людей и
разночинцев рукописной литературой — «Подложными
манифестами», «челобитными», «подметными листами», «пасквильными
сочинениями» [см. 204, 221—242].
Кстати, уже упоминавшийся нами князь М. Щербатов активна
пропагандировал не только произведения Юнга, но и
модернизированные формы религиозной этики, проекты очеловечения
бесчеловечного крепостного строя. В своем «Путешествии в землю
Офирскую Г-на С. ... швецкого дворянина» он создавал проект
исправления «поврежденных нравов», очищения российской
действительности от «скверны» петровских преобразований, якобы
порождающей «злы» и «тучи» крепостного строя
«екатерининской» России. Раннеславянофильские идеи сочетались при этом
с идеалами родового дворянства, озабоченного фаворитизмом, взя-
145
точничеством, казнокрадством, пагубными для самого
дворянства последствиями деспотизма. В щербатовской Офирии
сохраняется мораль крепостника, нравственные начала
крепостнической системы идеализируются: просвещенный монарх соблюдает
законы, вельможи помышляют о «пользе народной», им чуждо
«ласкательство», разврат и корыстолюбие, народ, отличаясь
трудолюбием, «чтит, во-первых, добродетель, потом закон, а после —
царя и вельмож».
Развернутый анализ нравственных начал российской жизни
Щербатов дал в трактате «О повреждении нравов в России»,
впервые опубликованном А. Герценом в 1858 г. [см. 546, 5—96].
Трактат содержит проповедь строгой регламентации жизни, в
основе которой полное забвение гражданских прав народных низов,
нравственных основ жизни крестьянской массы. Являясь как бы
разворотом, пространным изложением «нравственного
катехизиса» офирян, положительный комплекс идей князя Щербатова
здесь выступает в качестве апологии «родового» равенства,
соблюдения Табели о рангах, разумного удовлетворения здоровых
потребностей человеком. Призывы «убегай тщеславия», «беги
роскоши и будь трудолюбив», «воздай богу и ближнему», «будь верен
государю» и т. п. являют нам абстрактное изложение
«человеческой нравственности», сочетание его с сознательной установкой на
отрицание новых, гражданских нравственных веяний, на
сохранение зла крепостничества. Критическая линия анализа
«повреждения нравов» в России под пером идеолога потомственного
дворянства превращается, таким образом, в критическую апологию
реакционных основ нравственного кодекса господствующих
сословий «екатерининской» эпохи [см. 546].
Не упрощая сложную картину противоборства этических
принципов во второй половине XVIII в., важно иметь в виду также
этические воззрения оппозиции крепостному строю. Широкий
диапазон демократических идей развертывался усилиями левых
масонов, сторонников буржуазно-дворянского вольнодумства,
глашатаев революционного просветительства. В борьбе с
крепостничеством, его идеологическими и нравственными устоями Аничков,
Барсов, Десницкий, Козельский, Новиков, Поленов, Фонвизин,
Эмин большое значение придавали разработке и пропаганде
новой, демократической нравственности.
Я. П. Козельский считал, что философия должна быть наукой
о правилах «познания добронравия», или практически значимых
норм «нравоучительских» [см. 210, 1, 412—428]. Аналогичные
суждения высказывали А. А. Барсов и С. Е. Десницкий, И. А. Крылов
и Д. И. Фонвизин. Главное назначение философии они видели в
изучении путей «достижения личного и общественного
благополучия» [210, 2, 262]. Но при этом Десницкий критически относился
к плюралистическо-индивидуалистической этике А. Смита, а
Козельский видел «добродетельность человека» в «общей всех
пользе», которую, как полагали Новиков и Фонвизин, люди могут
достичь средствами науки и искусства [см. 210, 1, 254, 513],
146
Новиков, развивая гуманистические и антикрепостнические
идеи, зло высмеивал интеллектуальную ограниченность и
нравственную пустоту тех помещиков, которые не способны были
прислушаться к требованиям времени. В сатирическом журнале
«Трутень» он писал (в адрес помещика Безрассуда, не считавшего
крепостного за человека): «Безрассудный! разве забыл то, что ты
сотворен человеком, неужели ты гнушаешься самим собою в
образе крестьян, рабов твоих? разве не знаешь ты, что между
твоими рабами и человеком больше сходства, нежели между тобою и
человеком?» [210, II, 149].
Нравственная проблематика разрабатывалась Радищевым в
процессе осмысления процессов реальной жизни. Его этические
взгляды формировались в острых ситуациях юношеской поры и
зрелых лет, вырастали из антикрепостнических настроений и
устремлений, которые разделялись многими передовыми людьми ва
второй половине XVIII в. Этическая программа «Путешествия...»
и трактата «О человеке...» в противоположность этическим
построениям масонов не являлась иллюстрацией априорных принципов
и «абсолютных» истин, якобы полученных независимо от
«бренной жизни». В воззрениях масонов противоречие между
теоретическим и практическим разумом абсолютизировалось,
предписания и поступки, ценности и факты, должное и сущее разделялись
непреодолимой пропастью [см. 332, 29—30]. В категорическом
императиве Канта масоны не смогли увидеть требования
освобождения человека от всех форм закрепощения, социального угнетения2.
Возможно, Радищев, который с гораздо большим, по сравнению с
масонами, вниманием относился к социальным вопросам, мог
подметить гуманистический срез требований Канта. Подчеркивая
различие между этической концепцией автора «Путешествия...» и
этическими воззрениями, скажем, московских розенкрейцеров,,
важно видеть, что мораль рассматривалась философом как форма
отношений людей друг к другу, а также человека к самому себе.
Основание этих отношений следует искать, по Радищеву, не
только в природе человека, но и в общественном целом. С его точки
зрения, критерии морального выбора вытекают из физической и
общественной природы человека. Норма приятного или
неприятного, «согласного или несогласного» находится где-то между
чувственным и рациональным, физиологическим и разумным,
человеческим и социально значимым. Указание на «бинарный»
характер основ нравственности отражало специфику антропологических
представлений Радищева, в соответствии с которыми
человеческое — в человеке и человечестве.
2 В примечаниях к книге «К критике гегелевской философии права»
молодой Маркс писал, что у Канта «критика религии завершается учением, что
человек — высшее существо для человека, завершается, следовательно,
категорическим императивом, повелевающим ниспровергнуть все отношения, в которых
человек является униженным, порабощенным, беспомощным, презренным
существом» [1,1, 422].
147
По Радищеву, морально выдержанным, необходимым,
должным, естественным отношениям людей противостоят отношения
невыдержанные, случайные, недолжные, неестественные,
нечеловеческие. Русский мыслитель считал, что «недолжные отношения»
возникают в реальной жизни как проявления свободы воли
человека в процессе «действа», в результате отношений «ближних»
как людей. Здесь заложена возможность искать и находить свое
собственное место в лоне людских отношений. Одновременно
субъект становится способным понять свой гражданский долг,
поскольку сама деятельность трактовалась Радищевым как
основание гражданственности — условия «естественного» (в данном
контексте — нормального) формирования и самого
существования личности 3.
Анализ социально-психологических идей Радищева помогает
понять, какую роль писатель отводил условиям,
«обстоятельствам», решая вопрос об истоках и основаниях этических идей.
Формируя свои нравственные принципы, разъясняя свою
моральную ориентацию, русский мыслитель требовал исходить не только
из природной, но и из исторической, социальной
законосообразности, учитывать присущее человеку стремление к
«общественному благу», требования «здравого смысла». Человек не может
полагаться на милость безжалостной судьбы, ему негоже искать
опору в «универсальном разуме» или в какой-нибудь другой
обезличенной «силе». Норма человеческого поведения — действовать
во имя реальной свободы, чтобы не быть рабом несчастным.
Нравственная установка Радищева выражает не только
политическое, но и моральное неприятие самодержавно-крепостнической
системы.
Отличительной чертой этических построений Радищева
являлось слияние философско-антропологических и общих
гуманистических идей в одно цельное учение. В этом учении представления
о праве, нормах и формах нравственности нередко выражались в
общечеловеческих понятиях о справедливости, чести, совести.
Общечеловеческое понималось при этом как общее для всех
представителей рода людского, поднимающееся (в силу специфики
исторического момента) над интересами классов, сословий, что
исторически вполне соответствовало уровню передовой
социологической мысли Западной Европы и России конца XVIII — начала
XIX в. Общая политическая платформа молодой буржуазии
предопределяет ее представление о демократии, правах,
нравственности и т. п. как сумме общечеловеческих категорий. В сочетании
с неразвитой народнической тенденцией, общедемократической
ориентацией взгляды Радищева тем не менее обретали не только
особую окраску, но и специфически демократический смысл. Их
3 Такое понимание поведенческой сферы позволяет некоторым советским
историкам философии поставить автора трактатов «Путешествие...» и «О
человеке...» в ряд основоположников отечественной социально-психологической мысли
[см. 524, 10—18].
148
антикрепостническое содержание сливалось с гуманистическими,
антропологическими понятиями.
Моральные нормоориентиры, основы нравственного кодекса
Радищева сложились не сразу. Эволюция мировоззрения
Радищева в методологическом плане сопровождалась развитием и
совершенствованием антропологического принципа, изменением и
усложнением формы философских построений. При этом в
идеологическом основании, в содержательном комплексе моральных
суждений повышалась роль идей социально-гражданского,
демократического, гуманистического и революционного характера. Все
большее насыщение этими идеями всей нравственной структуры
составляло своеобразие духовно-этической биографии русского
мыслителя. Его поворот от традиционных представлений
дворянской среды в сторону демократических и гуманистических идеалов
являлся выражением понимания тупикового состояния
крепостного рабства в России.
Поскольку нравственно-идеологическая позиция Радищева
формировалась и развивалась в оппозиции к традиционным нормам
морали крепостников, российским и зарубежным официальным
этическим учениям, при разработке нравственных проблем
философ подвергал критике религиозно-мистическое миропонимание.
Типичное для буржуазно-демократической идеологии отрицание
религиозных традиций и предрассудков было направлено на
борьбу с феодально-крепостническим строем жизни и его моралью.
Вслед за Ломоносовым и Мелье, Дидро и Батуриным, Кондилья-
ком и Десницким, Гердером и Фонвизиным Радищев укреплял
«фронт борьбы против религиозных предубеждений, страхов и
суеверий, чем препятствовал распространению отживших свой век
моральных устоев.
Радищев выступал против вмешательства церкви в дела
светской власти, за секуляризацию науки и образования, свободу
совести и вероисповедания, считая просвещение и свободу
совести непременными условиями развития нравственности народа.
По его глубокому убеждению, церковь поступает безнравственно,
когда низкопоклонничает перед самодержавной властью, перед
сильными мира сего:
Призраки, тьму повсюду сеет,
Обманывать и льстить умеет
И слепо верить нам велит [7, 1, 3].
Радищев резко критиковал церковные предписания и обряды.
Он осуждал вмешательство церковников в личную жизнь
верующих, отстаивал идеи равного гражданского брака [там же, 280—
287]. Предоставление гражданам права свободы вероисповедания
и свободы совести автор «Путешествия...» считал началом полного
раскрепощения человека. Установление свободы в исповедании, —
писал он, — обидит одних попов и чернецов. Священники и
монахи, по мнению Радищева, — разносчики суеверий, носители
пороков, распространители безнравственности. В «Сокращенном по-
149
вествовании о приобретении Сибири» (1791—1796) русский мыс-
литель отмечал, что «бесчеловечие, неправда, вероломство,
зверство, всякие пороки и неистовства с набожностию сопрягаются»
[7, 2, 151].
Свободомыслие и антиклерикализм лежали в основе развития
этических взглядов Радищева. «Оживотворение материи»,
которое в его философской концепции было связано со спинозистским
«растворением» бога в природе, приводило к необходимости
создания «теории разумного эгоизма». Вытекающие из нее
требования рационального ограничения «своеволия» и «многоустремлен-
ности» личности послужили основанием для критики Радищевым
этической концепции плюралистического индивидуализма,
христианского альтруизма, позволили сформулировать ряд принципов
антирелигиозного значения, пронизанных духом гуманистических,
демократических и антропологических идей нового времени. Весь
комплекс этических идей Радищева имеет практическую
нацеленность [см. 488, 13—34].
Большую роль в формировании этической концепции Радищева
играло его противостояние масонской объективно-идеалистической
и субъективистской этике. Решая вопрос о соотношении
теоретического и практического (предписаний и поступков, должного и
сущего, норм и фактов), масоны мистифицировали кантианскую
этику. В учениях розенкрейцеров категорический императив
провозглашался формой божественной детерминации человеческих
поступков. Универсализация морального закона русскими
масонами приводила к мистификации этических задач, предпочтению их
по сравнению с задачами политическими, практическими.
Любопытно, что сам Кант, провозгласив независимый статус морали,
не увидел, насколько глубоки были противоречия современного
ему антагонистического общества, исключавшие «всеобщность»
(универсальность, общезначимость) моральных норм и установок.
И в прошлом, и в наши дни объективистская претенциозность
приводила и приводит только к «истинам», противоположным
науке и общественному прогрессу, — природа, практика, жизнь
общества всегда побуждали и побуждают человека принимать
конкретные, мотивированные решения.
В связи с вышесказанным раскрывается важное значение в
системе этических понятий Радищева таких принципов, как
моральная необходимость, долженствование. Русский философ уделял
большое внимание определению роли и места «необходимого
начала» как высшей формы регулирования нравственных задач,,
средств и норм их решения. Ведь здесь открывалась возможность
решения извечной этической проблемы: определения
нравственного центра поведенческих амплитуд, общественного значения
этической нормы. В отличие от кантовского, в сущности,
абстрактного императива этические понятия Радищева («долг»,
«ответственность», «необходимость»), содержащие в себе требование
поступать в соответствии с общими задачами, вытекали из
представлений о свободе воли индивида и естественном праве каждого
150
человека бороться за свободу и счастье. Споря с масонами,
Радищев утверждает, что должное не есть плод работы «чистого
сознания»: По его мнению, масонские предписания
(«нравственные веления») прислушиваться к «тайному гласу души» с
этической точки зрения не выдерживают критики: абстрактно
выраженные моральные требования страдают неопределенностью, лишены
реального смысла.
Согласно Радищеву, единство морального факта и
«предписания моральности и духовности» (моральная норма) реализуется
не на «замиренной», договорной основе, как у Руссо или
Монтескье, не на основе установок просвещенного монархизма (Гоббс,
Дидро, Десницкий, Козельский). Не договор, а собственная воля
есть, как он считает, основание самоограничения человека в
пользу общества. «Человек, — пишет Радищев, — родится в мир
равен во всем другому. Все одинаковые имеем члены, все имеем
разум и волю. Следственно, человек без отношения к обществу
€сть существо, ни от кого не зависящее в своих деяниях. Но он
кладет оным преграду, согласуется ни во всем своей единой
повиноваться воле, становится послушен велениям себе подобного,,
словом, становится гражданином» [7, 1, 278]. Можно мыслить себя
«вне общества», но нельзя быть «вне общества», утверждает
Радищев, ибо от социального целого прежде всего зависит
«достижение общественного блаженства». По его мнению,
гражданственность в аккумулированном виде содержит в себе полноту прав
и свобод человека, являясь главным основанием его активной
деятельности, залогом правильного (т. е. истинного и
морального) решения.
Формообразующим и трансформирующим «началом»,
средством генерализации важнейших идей в процессе складывания
этических норм, согласно Радищеву, выступает философия. Русский
философ утверждал, что, заботясь о раскрытии «натуральных
оснований» человека, «нормальных условий» его бытия, ставя
вопросы о смысле жизни людей, о смертности и бессмертии, о
законах бытия природы и общества, философия играет весьма
важную, а то и решающую роль в этическом выражении
«человеческих» (в том числе социальных) проблем: постигая истину, она
открывает ворота добродетели и счастью. Этические взгляды
Радищева вплетены в сложную структуру его философии человека,
которая в свою очередь является исходным пунктом его теории
воспитания 4.
Какую роль играли главные требования философской
антропологии в формировании этического учения Радищева? Прежде
всего важно видеть, что само фокусирование понятий морали
достигалось Радищевым благодаря рассмотрению нравственных реалий
в совокупности идеологических, философских, научных и
эстетических задач эпохи. Учение о естественном равенстве людей, из
4 Слитность этических и философских понятий в мировоззрении русского
мыслителя отмечалась в нашей историко-философской литературе [см. 383,
100].
151
которого делался вывод о праве каждого человека на счастье и
свободу, в соответствии с монистическими устремлениями
русского мыслителя, выражало единство физиологического и
психического, материального и духовного. Радищев квалифицировал это
«единство» как универсальное основание бытия человека и рода
людского. Конкретной формой его выражения в этическом учении
русского мыслителя становится антропологически понимаемый
принцип единства физиологического и психического, моральности
(как суммы поступков) и духовности (как образа мыслей).
Возникающие при конструировании концепции противоречия
философ пытается решить, прибегая к анализу фактов на основе
заключений о взаимосвязи единичного и общего, единого и
множественного, части и целого [см. 7, 2, 107—109]. Радищев
подчеркивал, что антропологическое (природное, гомогенное) и родовое
(социальное, общественное) выступают в качестве двух сторон
одного и того же явления и, как было отмечено выше, двух
взаимодействующих противоположностей — вывод, который
представлялся достаточно обоснованным многим из его современников.
Важно заметить, что для обозначения социального
(общественного) Радищев чаще всего (скажем, в трактате «О человеке...»)
использовал термины «житейские условия» и «обстоятельства
жизни». Этим категориям нет аналогов в современном нам
философском лексиконе. Мысль Радищева билась над тем, чтобы показать
роль означенных этими понятиями явлений в формировании
исторического, политического и морального облика личности. Пороки
общества, доказывал русский мыслитель, как правило, не
вытекают из внутренней «природы человека», а являются следствием:
«условий» и «обстоятельств» [там же, 128—129]. Однако, оставаясь
на уровне гениальных идей-догадок, мысль эта у Радищева не
получила (да и не могла получить!) достаточного обоснования.
Этические взгляды Радищева опирались не только на закон
соотносимости единичного и общего, но и на принцип
изменчивости, а также на идею единства чувственного и разумного
«опытов». Струя эволюционизма, диалектические догадки,
постоянная тенденция к историческому рассмотрению фактов
общественной жизни, апелляция к «здравому смыслу» — все это влияло
на характер этической позиции мыслителя. Сторонник раннетра-
диционалистских убеждений, Радищев доказывал, что философия
соединяет в себе предания прошлого, свидетельства настоящего и
пророчества будущего, содействует воспитанию в человеке
лучших «естественных и нравственных» начал [там же, 66—67].
«Мыслительная сила» не только рассеивает «туман предрассудков и
суеверия», но и открывает человеку мир чувств и мыслей других
людей, возможности их единения, сострадания друг другу,
помогает ему «прямо» взирать «на окружающие предметы», а также
«противиться заблуждению» [см. 7, 1, 227].
Свое философско-антропологическое обоснование понятий
«человек», «народ», «свобода», «равенство», «братство», «совесть»*
«честь» и т. п. Радищев сочетал с постоянным обращением к
152
«правде действительной», к фактам социальным, общезначимым.
Его нравственная проблематика тем самым вырастала не из
теоретической мысли, а из помещичьей и крестьянской жизни. Она
выражала идейную платформу антикрепостнических движений
России последней трети XVIII в., была тесно связана с событиями,
подлинным героем которых был народ.
В народном, демократическом характере нравственности
Радищев видел источник, можно сказать, генератор нравственных
ресурсов человека и человечества. Поскольку для русского
философа-демократа народ — творец всех главных материальных и
духовных ценностей, постольку для него важным являлось
обращение к авторитету народа всякий раз, когда это было необходимо.
Радищев апеллировал к историческим событиям, к
произведениям материальной и духовной культуры, затрагивающим
моральную сферу — поведение, жизнь и деятельность людей.
Доскональное знание русской истории позволяло ему строить свою
этическую концепцию с опорой на традиции народной Нравственности.
Читая «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона,
«Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», «Поучение
Владимира Мономаха» и другие произведения X—XI вв., Радищев
знакомился с этическими идеями, сыгравшими большую роль в
консолидации сил народных, в укреплении «народного здоровья»
и жизнедеятельности основной массы населения России. Именно
поэтому он не мог пройти мимо факта повышенного интереса к
этическим проблемам в феодальной. Руси в период XIII—XVI вв.,
мимо этических учений Пересветова и Сильвестра (XVI в.),
содержащих выразительные черты реакции на народную
нравственность [см. 112, 12, 40—51].
Наконец, следует указать, что принципы народной
нравственности воспринимались Радищевым и в непосредственном общении
с крепостными, солдатами, работными и служилыми людьми,
матросами дальних плаваний и таможенной службы, людьми
вольными, казаками, опальными, ссыльными. Мир русских
пословиц — одна из изначальных форм приобщения еще юного
Радищева к народной нравственности. В народной среде
бытовали сказы о Матвее Башкине и Феодосии Косом —
антикрепостнически настроенных еретиках XVI в., проповедниках
идей равенства и братства. О Степане Разине и Иване
Болотникове, Максиме Гонте и Салавате Юлаеве — вольнодумцах и
бунтарях, вождях крепостного и казачьего люда — сочиняли песни
и легенды. Нормативы особого значения видели крестьяне в
предписаниях «манифестов» Пугачева [см. 328]. История великого
крестьянского движения XVIII в. была особенно поучительна:
она породила брожение крестьянских умов, всколыхнула сознание
передовой интеллигенции. Могучее эхо пугачевщины будет
отзываться в народе на протяжении XIX в., проявится в трех русских
революциях, в гражданской войне 1918—1922 гг. Героическая
эпопея крестьянской войны начала 70-х годов, поражение восста-
153
ния под предводительством Е. И. Пугачева — эти события
произвели неизгладимое впечатление на великого русского гуманиста,
способствуя формированию революционного мировосприятия и
соответствующей концепции нравственности.
Во второй половине XVIII в. широкую популярность имели
сборники пословиц Петровской галереи, издания поговорок,
пословиц и загадок И. Б. Пауса, В. Н. Татищева, А. И. Богданова.
Были распространены и рукописные сборники произведений уст-
ного народного творчества [см. 413, 23—118]. Нет сомнений, что
Радищев обращался к народной мудрости. Тот факт, что в этих
изданиях встречается немало пословиц религиозной ориентации,,
не может повлиять на наш вывод о народных истоках этики
создателя «Путешествия...». М. Горький разъяснял, что помимо
пословиц и поговорок, создававшихся под влиянием церковной
ортодоксии и сектантства, народное мышление вырабатывало
изречения, враждебные эксплуататорам, противоположные интересам
служителей «государственной церкви и отклонившимся от нее
сектантам» [140, 190]. Именно такого рода изречения были близки
душе Радищева. В них светились здравый смысл трудящегося
человека, вера в свои силы, в торжество правды, презрение к
тунеядству и врагам, покушавшимся на свободу и независимость
Родины.
Осмысление роли народа в утверждении и развитии принципов
нравственности занимало значительное место в сознании
Радищева. В произведениях 80-х годов — оде «Вольность», «Беседе о
том, что есть сын Отечества», «Письме к другу, жительствующему
в Тобольске», «Житии Федора Васильевича Ушакова» и
«Путешествии из Петербурга в Москву» — русский философ в
синтетической форме своих этических понятий выразил многие
требования народной нравственности. Он подчеркивал «естественную
красоту» человеческих «качеств», присущих людям из народа, —
трудолюбия, соучаствования, порядочности, совести, чести,
добродетели, любви. Понятия «сын отечества», «здравый смысл»,
«народный ум», «смекалка и предприимчивость», «стойкость»,
«мужество» и «доблесть» часто будут употребляться Радищевым в
характеристиках положительных героев из народа, в оценках им
принципов народной морали. В «Путешествии из Петербурга в
Москву» в каждой из глав даны комментарии к ряду положений
неписаного кодекса морали русского народа. Основной герой
трактата — путешественник, обобщая свои встречи с простыми
людьми, говорит: «Я немог надивиться, нашед толико
благородства в образе мыслей у сельских жителей!» [7, 1, 307].
Несомненно, что в приведенных выше и других аналогичных
заключениях Радищева имеет место влияние идей Руссо и
Гельвеция, Ушакова и Эмина, Попа и Кондильяка. Но вместе с тем
раннепопулистский, изначально-народнический характер этих идей
своими корнями уходит в психологию того класса, сословия,
которому в зрелые годы полностью отдавал свои симпатии русский
мыслитель. Демократизм и революционное новаторство Радище-
154
ва заключались в том, что в поисках нравственного идеала он с
присущей ему страстностью обращался к крестьянской массе, к
народу. Его резко отрицательное отношение к господствующим
сословиям, к помещикам-крепостникам — «лютым тиграм»,
«зверям алчным», «пиявицам ненасытным», «извергам лютым» —
усиливало сочувствие «нужде народной», симпатию к крепостным
крестьянам — носителям положительного начала нравственности.
Опора на народную нравственность, сообщая моральному
кодексу Радищева народническую окраску, вместе с тем содержит
в себе заряд демократизма. Физическая сила и крепость простых
людей из народа, их моральная красота, с точки зрения
Радищева, объясняются их непосредственной связью с природой, с
трудовой деятельностью, необходимостью проявлять упорство в
преодолении трудностей, невзгод и лишений. Для него народное —
это общее, общезначимое, аккумулирующее повторяющиеся
отношения людей, их опыт и коллективистские начала 5.
Положительные задатки человеческой природы Радищев (не
без толики романтической идеализации «народного быта») считал
«разверзающимися» (проявляющимися) в народной среде. В
главе «Едрово», противопоставляя принципам дворянской морали
нравственность крестьян, их представления о здоровье, красоте и
счастье, он излагает этико-эстетические принципы,
предвосхищающие некоторые этические выводы Крылова и Пушкина, Рылеева
и Герцена, Белинского и Чернышевского. В «Путешествии...»
повсеместно изобличаются порочные черты дворянско-буржуазной
морали: бесчестие, сребролюбие, разврат, лихоимство, браки по
расчету, душевная черствость, шельмовство и лицемерие. Во имя
личной выгоды, карьеры «имущие люди» могут пойти на любое
преступление. Своекорыстие сводит на нет их человеческую природу.
Именитый гражданин и его семья, описанные в главе
«Новгород», — настоящие хищники, охотники за наживой, типичные
лредставители раннебуржуазного клана.
По мнению Радищева, если праздная среда господствующих
сословий не содержит здорового нравственного начала, то среда
народная сохраняет основы нравственности. Нравственное
здоровье народа неистребимо. Несмотря на то что крепостное рабство
отрицательно сказывается на нравственности отдельных его
представителей, крестьянская масса в целом всегда проявляет высокие
моральные качества, которые создают прочную основу
нравственной жизни «простого человека» из народа [там же, 302—311].
Эта точка зрения Радищева базируется на его понимании
истоков нравственности. Последняя формируется, как он считает, в
сфере взаимодействия индивидуальных и родовых отношений
людей. В отличие от многих буржуазных идеологов XVIII в.
Радищев не был сторонником элитарности в этике, он был убежден,
что народная мораль может служить основанием для суждений
5 Впоследствии Л. Н. Толстой назовет это «роевым началом» [см. 499, 7,
333 и др.].
155
о возможной исторической перспективе развития народов и рас.
Он полагал, что гарантом успехов в борьбе против социального
неравенства являются положительные нравственные начала
народной жизни, имеющие значение традиции. О судьбе своего
народа Радищев писал: «Твердость в предприятиях, неутомимость в
исполнении суть качества, отличающие народ Российский... О,
народ, к величию и славе рожденный! Если они обращены в тебе
будут на снискание всего того, что сделать может блаженство
общественное» [7, 2, 146—147]. Таким образом, свои
представления о будущем родного народа Радищев увязывал не только с
моральным, но и с социальным идеалом.
Видя проявление морального идеала в «исторических деяниях»
народа, Радищев указывал на возможность воспитания хорошей
нравственности путем ознакомления с обычаями и нравами
предков, с подвигами героев народных былин и сказаний: Бовы, Ильи
Муромца, Милетрисы, Святогора, Прямовзоры и др. В «повести
богатырской стихами» под названием «Бова» Радищев воспел
талант народного сказителя-моралиста — учителя своего детства
Петра Сумы. Положительным героям, заслужившим одобрение и
похвалу народа, в поэме противостоят те, кто с помощью «злости
и тиранства», «грабительства и коварства» постоянно совершает
«поругание злосрамное», «насилие» и «растление».
Поэт-сказитель осуждает «спесивых и надменных», «строптивых и
разбойных». Резко отрицательно относится он к тем, у кого «пути
превратны». Ему было явно не по пути с «мздоимцами» и «сребро-
любами» [7, 1, 269—280].
К сказочной, мифологической тематике Радищев обращался
часто, используя при этом этнографический и историко-фактоло-
гический материал. Анализ его произведений, таких как «Песнь
историческая», «Памятник дактилохореическому витязю»,
«Сокращенное повествование о приобретении Сибири», позволяет понять,,
как трансформировались «народные мотивы» в сознании их
автора и как его выводы могли влиять на творческие интересы Восто-
кова, Рылеева, Державина, Пушкина, Жуковского, Лермонтова и
многих-многих выдающихся деятелей нашей культуры первой
половины XIX в.
Весьма любопытно, что в «Памятнике дактилохореическому
витязю» главные герои — Гликерия, Лукерья, Фалелей, Цымбал-
да — названы именами, распространенными в народной среде,
им даны положительные характеристики. Они «смиренномудры»,
скромны, «к трудам прилежны» [см. 7, 2, 212]. Вот описание
главного героя: «Цымбалда наш был древен, имел главу, власов об-
наженну, чело с морщинами; долгая даже за перси брада седая
висела, стан его высок, величествен, цвет в лице свеж и румян,
проницательны очи; голос тих, слова просты, приятны,
благоразумием зрел, будущее прозревал глубиною мудрости своей, знал
людей и к чему они преклонны, снисходителен; весел, юность
сама толико не имеет приятностей, как он в старых летах любил
молодых людей» [там же, 211]. Здесь сквозь общие характеристики
156
как бы высвечивается образ гуманного воспитателя юношества,,
многими своими чертами напоминающего Суму,
летописца-гусляра Баяна, мудрого Насредина из Бухары, веселого Фальстафа.
В этом ряду нет сказочно-фантастических имен профессора Саль-
ватора, капитана Немо из Коннектикута. Но это уже герои другой
эпохи, хотя, несомненно, и в них есть что-то от гуманистических
идеалов Джефферсона, Гельвеция, Радищева, Шефтсбери и
Фонвизина.
Характерные черты нравственного облика казацкой дружины,
народов Западной и Восточной Сибири нашли выражение в
«Сокращенном повествовании о приобретении Сибири», в «Ангеле
тьмы» и других работах русского мыслителя, созданных во второй
половине 90-х годов. Исключительно емко выражены идеи о роли
нравственных начал народа в «Песнях, петых на состязаниях в
честь древним славянским торжествам» и «Осмнадцатом
столетии». Выявляя высокие достоинства народных этических понятий
и представлений, Радищев считал необходимым самое
пристальное изучение нравов простых людей, подражание их образу
мыслей и образу действий. Он подчеркивал важное значение
воспитания любви к устному народному творчеству, бережного
отношения к художественным промыслам, к языковой и песенной
культуре народа — носителя непреходящих этических и
эстетических ценностей. Он считал, что как в человеке отражаются черты
его народа, так в народе отражаются черты отдельного человека.
Ни у человека, ни у народа нельзя отобрать естественных прав,
дарованных природой [см. 7, 3, 10]. Отсюда этическое оправдание
борьбы за ликвидацию крепостного состояния людей.
С точки зрения Радищева, не столько природа, сколько рабство-
нравственно уродует человека. И здесь проявлялся
антикрепостнический характер моральных ценностей и этических задач,
которые им выдвигались на передний план. Натуральные основы
нравственности людей, всего народа, согласно Радищеву,
должны иметь свободное «развержение» в «угоду человека»,
удовлетворяя его «корысть», потребность, «необходимую нужду» [см. 7, 1,
234, 278, 360]. В этих идеях находило отражение усиление
демократических тенденций в этических учениях XVIII в.
Высокие моральные требования, предъявляемые человеку, —
выразительная черта морального кодекса народной
нравственности. События могут быть подвластны человеку, обладающему
свободной волей, и его моральная ответственность велика. Достоин
наказания тот, кто бездеятелен и равнодушен к социальному злу.
В этой связи Радищев говорит об ответственности интеллигенции
за сохранение в чистоте народной нравственности, за
поддержание боевого настроя народного духа. Эта ранненародническая
идея в устах автора «Путешествия...» звучала как нечто новое в
отечественной этике и общественной мысли в целом.
Радищев развивает мысль о том, что тот, кто, опираясь на
«артельную волю», отличается сознательностью выбора,
располагает достаточным запасом средств для нравственной оценки по-
157
ступков других и своих собственных, должен быть активным.
В произведении «Беседа о том, что есть сын Отечества» он
воспевает гражданские качества и гражданское мужество подлинного
человека — гражданина и патриота. Имя прославленного сына
России, «самородка из народа» М. Ломоносова, гения во всех
родах научной деятельности, являлось для Радищева
иллюстрацией неистощимых возможностей народа выдвигать из своей
среды мужественных и талантливых «сынов Отечества».
Конечно же не все стороны, не все черты и традиции
народного быта, истории становились предметом высоких оценок
Радищева. Говоря об идеализации, универсализации некоторых
существенных принципов антропологического «подхода» автором «Бовы»
и «Песни исторической», хотелось бы вместе с тем указать на его
критическое отношение к устарелым традициям, бытующим в
народной среде. В «Памятнике дактилохореическому витязю»
Радищев высмеял религиозные предрассудки некоторых известных ему
с детства людей, толкователей смысла и значения снов по
установившемуся народному обычаю или по «печатному соннику»
[см. 7, 2, 206—208].
«Основной лейтмотив рассуждений А. Радищева сводится к
тому, — писала М. Н. Пеунова, — что, несмотря на крепостное
право, наложившее свою отрицательную печать на нравственную
жизнь народа, именно в народе сохраняется здоровое моральное
начало, которое оказывает положительное влияние на общество
в целом» [383, 98]. И этот правильный вывод можно было бы
проиллюстрировать на примере одного из персонажей
«Путешествия...» — Анюты, чьи нравоучительные рассуждения могли бы
научить «ходить во стезях целомудрия». Оценивая возможности
своей героини, Радищев восклицал: «О, моя Анютушка! Сиди
всегда у околицы и давай наставления твоею незастеньчивою не-
винностию. Уверен, что обратишь на путь доброделания
начинающего с оного совращатися и укрепишь в нем к совращению
наклонного» [7, 1, 309].
Этические понятия Радищева, как подчеркивалось выше, были
тесно связаны с идеей освобождения народа от крепостной
зависимости, ига царей и других- притеснителей. Мыслитель считал,
что именно народу дано право морального и политического
выбора между освобождением путем насильственной революции
(народного восстания) или же мирным путем (посредством
реформы). Рассматривая народ как субъект права, Радищев
значительно расширял свои понятия о роли демократии, народовластия
в истории, о народе как опоре и источнике нравственной
нормативности, сопряженной с правопорядком и правосознанием. Уже в
оде «Вольность» мыслитель провозглашал «право мщения
природы», т. е. моральное право народа на борьбу против угнетения.
Эти же идеи находим мы в «Житии Федора Васильевича
Ушакова», где говорится, что доведенный «до крайностей» народ
восстает [там же, 168]. В «Путешествии...» вера в активную силу
народа, способного подняться на борьбу по причине «самой тяжести
:158
порабощения», подчеркнута в словах: «Я приметил из
многочисленных примеров, что Русской народ очень терпелив, и терпит
до самой крайности; но когда конец положит своему терпению,
то ничто не может его удержать, чтобы непреклонился на
жестокость» [там же, 272—273].
Мыслитель, стоявший у истоков революционной этики, был
верен высоким принципам гуманизма. Именно поэтому и в связи
с другими понятиями своей этической системы Радищев отстаивал
ее главный завет: любовь к простому человеку из народа,
сочувствие его судьбе. Моральная «заземленность» радищевских идей
выражалась в том, что даже абстрактно-гуманистические
представления о нравственности и условиях ее проявления включались
мыслителем в орбиту социальных, гуманистических и
демократических понятий. Например, уже в примечаниях к трактату Мабли
«Размышления о греческой истории», а затем в оде «Вольность»
свобода провозглашена условием нормального существования
человека. В «Путешествии...» эта идея тесно переплетается с
антропологической ориентацией, а также с антикрепостнической и
республиканской программой автора. Глубоким ее выражением
являются этические понятия Радищева, которые, синтезируя
представления мыслителя о социальных процессах, происходящих в
Европе, Америке, странах Востока и Африканского материка,
становятся комплексом идей большого исторического значения.
Этическое учение А. Н. Радищева — тема, вытекающая из
рассмотрения «начал» того, что сам русский писатель-гуманист
относил к «нравственным силам», запросам человека и его среды —
личности и общества. Требования, предъявляемые Радищевым к
нравоучению как важной области теоретических знаний, включают
не только нечто «общее» (мы бы сказали — имеющее
методологическое значение), но и весьма широкую гамму представлений о
содержании и формах индивидуальной и общественной этики
[см. 7, 2, 106—107, 134]. Поэтому, рассмотрев вопросы о
принципах, основах нравственных идей автора «Путешествия...», важна
остановиться на анализе содержания этических понятий и
категорий Радищева, а также попытаться выявить специфику, новизну
и подлинное значение системы нравственных представлений,
созданной на почве сложного екатерининско-павловского режима.
Ключ к разгадке многих явлений социальной жизни, в том
числе этических, Радищев видел в понимании человека как
индивида и как элемента общественного целого. С его точки зрения,
важно знать качества, свойства, силы, личные и общественные
склонности человека, видеть его в связях с другими существами
рода людского. Во взаимодействии людей друг с другом стержень
морали человек — деятельное существо. В своей деятельности,
стремясь быть человечными, люди должны быть свободными,
ничто не должно их стеснять, ущемлять морально и материально,,
уродовать их существование, искажать их «человеческую приро-
159»
ду». Нормы отношений людей, складывающиеся в таких условиях,
Радищев называл «истинно человеческой моралью».
Самым емким в ряду этических понятий Радищев считал
добродетель — категорию наивысшего морального значения. Для
человека, доказывал он, добродетель является формой наиболее
полного самовыражения [там же, 134]. Будучи этической нормой
высшего порядка, добродетель поднимает чувства и разум «до
совершенства всех своих качеств». Она — продукт высшего
напряжения человеческих сил и их «разрядки». Вслед за
Кантемиром и Новиковым, Гельвецием и Дидро Радищев представлял
добродетель в качестве этического идеала. «Добродетель,— писал
он, — есть вершина всех наших деяний и наилучшее украшение
жития человеческого» [7, 1, 399].
Анализируя рассматриваемую нами категорию, Радищев
обращал внимание на содержание поступков человека, характеризуя
их как бы с качественной стороны. Он полагал, что основа
понятия добра во всей своей полноте выражает положительное
качество деяний людей, тогда как зло — отрицательное качество,
недостойное человеческого существования и ему враждебное.
В связи с этим в трактате «О человеке...» добродетель
провозглашается высшей формой людских отношений и их устремлений.
Она охватывает все положительные устремления человека, людей
в их взаимодействии друг с другом. Гуманные принципы
являются, по Радищеву, «физическими корнями добродетели» [там
же, 399]. Тот корректив, который обычно вносился русским
мыслителем в натуралистический вариант философской антропологии
с целью большего «приближения к истине», связан с проблемой
сочетания единичного и универсального в человеке, с
требованиями учитывать идеалы. В данном случае принималась во внимание
не только «мера естественная», но и «польза общая»; интерес и
выгода личности подчинялись интересу и выгоде общества.
И здесь, при всех своих симпатиях к философии и морали И. Бен-
тама, Радищев вынужден был отвергать индивидуалистический
утилитаризм, характерный для большинства философов
английской школы — А. Шефтсбери, Ф. Хатчесона, А. Смита и др.
[см. 286, 61—73]. От английского утилитаризма он воспринял
принцип общественной полезности и абстрактной активности.
«Добродетелью,— писал Радищев,— я называю навык действий
полезных общественному благу» [7, 1, 191]. Концепцию «хотения»,
«желания» Радищев дополнял идеями о «стремлениях», «новых
действиях», понятых как «напряжение» и «развержение»
индивидуальных и общественных сил. Таким образом, выдерживался
принцип гармонии активной личности и социальной среды,
действенности нравственной нормативности.
Вышеизложенные мысли русского философа, перекликаясь с
идеями Ф. Хатчесона, А. Смита, И. Бентама, Б. Франклина и
Г. Пейна, отличались этическим радикализмом. Душе Радищева
близка была идея Шефтсбери о том, что добродетель значима не
потому лишь, что она полезна, а в силу своей слитности с «чело-
160
веческой природой», своей альтруистической направленности,
тесной связи с «благом рода» [см. 532, 217].
Присущий Радищеву понятийный синкретизм проявлялся в его
универсалистском взгляде на добродетель. Действие, благо,
красота и истина в его этической концепции сливались в одно целое.
Предполагалось, что деятельное начало вносит в это «единство»
элемент диалектики, эволюционизма. Согласно Радищеву, добро
достигается через усилие, труд, целеустремленность, а иногда и
самопожертвование. Безразличие и леность способны загубить
дело, привести к торжеству зла. Оптимистический характер
этической концепции, изложенной в «Путешествии...» и в трактате
«О человеке...», был связан не просто с экстраполяцией
эволюционных идей на социальную сферу, но и с
революционно-демократической программой преобразования русской действительности,
изменения ее с пользой для «природы» людей, для их избавления
от «варварства, зверства и рабства» [см. 7, 1, 215—218]. Именно в
этих мыслях, обращенных в будущее, заключались крылатые идеи,
которые впоследствии А. Герцен выразил в понятии «одейство-
творение идеала». Только в результате деятельности, прославляя
себя трудом, человек становится добродетельным.
У Радищева обоснование концепции социальной философии в
целом было вместе с тем обоснованием идей действенной этики,
оправданием революционной формы идеала добродетели. Это
отражало кредо революционно-демократического крыла
европейского Просвещения. Признание революционных средств борьбы за
этические идеалы сближало Радищева с Мелье и Пристли,
Маратом и Робеспьером, Пейном и Франклином, Руссо и Джеффер-
соном.
По мнению автора «Путешествия...», идеалом и формой
реального осуществления нравственного соверы!енства является
свобода, превращающаяся в условиях республиканского строя в
«общественную добродетель». Осуждая религиозный этицизм
масонов, Радищев считал его разновидностью «предрассудков школы»
[см. 7, 2, 79]. Он призывал к борьбе против «губительства и
всесилия» царской тирании и крепостного строя. Во главе этой
борьбы, доказывал мыслитель, должны быть «истинные сыны
отечества», подлинные патриоты и граждане. Именно поэтому для него
непреходящее значение имеют примеры великого служения
народу, Родине: доблесть и подвиг нетленны. В «Путешествии...», в
«Песнях, петых на состязаниях в честь древним славянским
божествам» и в элегии «Осмнадцатое столетие» (1800—1802)
Радищев славил русский народ и его ратные подвиги. Осознание
«предлежащих задач» и сама «тяжесть порабощения», утверждал он,
станут важнейшими условиями решительной борьбы и победы
борцов за свободу и братство народов России.
В этической концепции «новых действий», сливающейся с
принципами «общественного блага», нельзя не видеть
действенную сторону этики Радищева. Стремясь уяснить себе
практические задачи этики, он рассматривал ее как средство осуществле-
6 П. С. Шкуринов
161
ния гражданских идеалов и раздел практической философии,
вырастающей на почве самодеятельности народа [там же, 210]. Не
случайно в его этическом учении категория добродетели часто
сочеталась с категорией «смелость» [там же, 150], обретая в
системе нравственных понятий Радищева революционный,
антикрепостнический смысл.
Мы видим, что в общем комплексе этических понятий
Радищева можно проследить зависимость между нравственными
установками и последствиями их реализации в процессе «добродела-
ния» (термин, заимствованный у Новикова), служения добру,
правде, красоте. Излишне останавливаться на объяснении того,
почему для автора «Путешествия...» все три последние понятия
часто сливались воедино. Категория «доброделания» по самой
сути своей предполагает определенные отношения людей, их
взаимодействия и взаимозависимости. Антропологический
характер квалификации этих отношений Радищевым позволяет отнести
его этические суждения к разряду тех, которые принято называть
«этикой сердца» [см. 7, 1, 3; 313; 2, НО].
Для Радищева «сердечность», «соучаствование»,
«доброжелательность», «добродушие» являются дефинициями поведения
морально выдержанного человека. Вместе с тем автор
«Путешествия...» ставил это требование в зависимость от форм чувственного
и рационального опытов — в рамках и вне рамок
антропологической ориентации. При этом речь шла не только и даже не столько
о «всеблагости», сколько о земных, человеческих запросах
личности, семьи, друзей, близких, общества.
Радищев революционизировал нравственность, когда выдвигал
понятие «человечность» в качестве узлового понятия своей
этической системы. Ясно, что под этим подразумевались вежливость,
душевность, доброжелательность, которые, нечего греха таить,
остаются нередко дефицитными явлениями даже нашей жизни.
Но ясно и то, что этим Радищев не ограничивался. Человечность
он объявлял (например, в оде «Вольность») основанием
общности людей и народов, моральным критерием отношений людей
и наций, формой поддержки, солидарности, взаимопомощи [там
же, 3, 5, 17]. Радищев, как и Д. Дидро, включал понятие «чело-
^ вечность» в механизм родового или общественного регулирования
моральности.
У Радищева гуманистическая терминология часто
«соседствует» с понятиями «чувство», «склонность», «идея», выступая в
нетрадиционной форме. Комплексные понятия его этики —
«нравственное чувство», «чувство долга», «чувство справедливости»,
«чувство совести», «чувство чести», «идея равенства», «идея
братства», «идея свободы», «идея правдивости» — нередко
наполнялись содержанием, выходящим за пределы философской
антропологии, хотя, как правило, именно она определяла реальный смысл
радищевской этики. В таких случаях видно, с какой
решительностью русский гуманист выступал против проявлявшегося в его
время принижения ценности и исторической роли личности.
162
В понятийном аппарате Радищева «очеловеченными»
выступают «добро», «честь», «долг», «честность», «слава», «порок» и
другие этические категории. Говоря о человеке, мыслитель писал:
«Побуждение его к сожитию ввело его в общественное житие, и
се разверзаются в нем новые совершенства. Права и обязанности,
в общежитии им приобретенные, возводят его на степень
нравственности; се уже рождаются в нем понятия о честности,
правосудии, чести, славе; уже из побуждений к сожитию рождается
любовь к отечеству, к человечеству вообще, а за ними следуют
тысячи добродетелей или паче сия из многих рождается; и сожа-
лительность его претворилась в великодушие, щедроту,
милосердие» [7, 2, 133—134]. Здесь явно преобладает антропологически
значимая нормативность [ср. 511, II, 31—33].
В этике Радищева ключевыми дефинициями,
характеризующими нравственные нормы, часто являются «действие», «разверже-
ние», «употребление», «делание», «расширительность» и т. п.
Введение этих понятий связано с обоснованием необходимости
воспитания в человеке «чувства сопереживания», сопричастности
человечеству. В личностном плане это утверждение этической
активности подчинялось общей антропологической установке: «Не
делай другому того, чего себе не желаешь».
Вслед за Спинозой этические требования, идущие от
индивида, Радищев называл «частными», а требования, идущие от
общества в целом, — «общими» [см. 7, 2, 64—65, 133]. Отсюда
тенденция «общие» задачи в области нравственности как бы
проецировать в социальную сферу, показывая состояние нравов в кре-
лостной России. Помещики, рассуждал Радищев, ставят превыше
всего свои частные, своекорыстные интересы, пренебрегая
интересами общества в целом, интересами крестьянской массы.
Землей владеют помещики, а обрабатывают ее закрепощенные
крестьяне, лишенные права и на пашню, и на продукт своего труда.
У крепостного крестьянина ежедневно подрывается вера в
справедливость. Здесь выявляется социально-экономический аспект
этических понятий Радищева.
Справедливость — одна из центральных категорий этики
Радищева — вместе с категорией «несправедливость» служит
средством этического анализа им крепостного строя России. При этом
Радищев опирается на традицию русской просветительской
этики, на произведения Новикова и Фонвизина, Аничкова и Десниц-
кого, Козельского и Эмина, Богдановича и Каржавина. Заметное
место в идейном наследии русских просветителей занимает
комплекс понятий, относящихся к категориальной паре
«справедливость — несправедливость». Борьба за справедливость становится
девизом революционной этики Радищева. Эгоистические интересы
помещиков для автора «Путешествия...» — частные,
несправедливые, тогда как интересы крестьян — общие и справедливые
(трудовые, здоровые, нормальные).
Согласно Радищеву, справедливость как высшая форма
развития нормального состояния общества выражает стремление че-
6*
163
ловека к свободе и независимости, которое вытекает из самой его
природы, а также находится в зависимости от социальной среды.
Поэтому «идея справедливости» должна определять норму
поведения людей. Высокий уровень справедливости сливается с
нравственным идеалом, основания которого следует искать в народной
нравственности [см. 7, 1, 308—309]. Поскольку человека делают
обстоятельства, вся их совокупность определяет моральные силы
народа, активность низов, их творческий потенциал.
Из анализа Радищевым различных явлений крепостной
России видно, что регулятором справедливости он считает насущные
интересы крестьянской массы — получить землю, освободиться от
крепостной зависимости, обрести гражданские свободы [там же>
218, 318—319]. Именно поэтому большую роль играет
«корыстолюбие», интерес. «Чувство справедливости» Радищев часто соединял
с «чувством равенства», а путь достижения равенства видел в
«мщении народа», революции — этом возмездии за
несправедливость, совершаемом во имя справедливости.
Несправедливым, безнравственно-преступным Радищев считал
угнетение сотен и тысяч «себе подобных» [там же, 278]. В этой
связи большой интерес представляет его оценка американского
образа жизни с его «полюсами» богатства и бедности, критика
присущего ему аморализма и ханжества, тем более что она имела
прямое отношение к изобличению аморализма российской
действительности, поскольку выявляла утрату моральных ценностей,,
характеризующую состояние нравов не только в Америке, но и в
России. В американском рабстве Радищев увидел аналог
российского крепостного гнета. Предвосхищая грядущую революцию, он
назвал ее «человеколюбивым мщением». Эта удачно найденная
этическая квалификация крестьянской революции стала
хрестоматийной.
В «Путешествии...» могучая сила народной революции
описывается следующим образом: «Поток, загражденный в стремлении
своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противоустоя-
ние. Прорвав оплот единожды, ни что уже в разлитии его
противиться ему невозможет. Таковы суть братия наши, во узах нами
содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба
зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас мечь и
отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость
и безчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в
разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем»
[там же, 320].
В характеристике революции как дела «человеколюбивого»,
справедливого нравственный императив выдержан в духе
антропологического принципа. Вывод Радищева состоял в том, что
добрые устремления, благородная одержимость обеспечиваются
не только острым умом («разумностью»), но и обостренной, чистой
совестью. Здесь важно обратить внимание на то, что совесть
мыслитель относит к существенным чертам человеческой натуры.
В его этической доктрине категория «совесть» и по своему содер-
164
жанию, и по функциональным связям является общезначимой.
Она органически связана с категориями «смысл жизни», «добро»,
«образ мыслей», «счастье», «цель существования» и т. п. Радищев
полагал, что в «положительном человеке» гармонически
сочетаются добро, правда и красота, порядочность, надежность и совесть.
Познавая сущность своего народа, человек познает его совесть.
Таким образом, познание «человеческой сущности» содействует
формированию человеческой совести, чести, порядочности [там же,
217—218]. Сам Радищев, проникаясь «нуждой народной»,
побуждаем был высокими гражданскими чувствами. Не случайно,
А. В. Луначарский называл его «человеком великой совести»
[315, 133].
Подобно тому как Спиноза в «Этике», Кант в «Критике чистого
разума» определяют категории неизвестные посредством
категорий известных, Радищев таким же образом дает определения
многим категориям, имеющим большое значение в его этической
системе понятий. Так, категория долг провозглашается: а) формой
совестливого, честного отношения к жизни, — «нельзя дурно
трудиться на собственной ниве» [7, 1, 232—233]; б) мерой осознания
гражданских задач, правосознания личности (убийство ассесора
и его сыновей крестьянами Радищев считает актом
«естественным», т. е. «человеколюбивым мщением» [там же, 278]); в)
формой нравственного самоутверждения личности — осознавая свои
обязанности как гражданин, человек осознает их как часть
общественного организма, как «сын отечества», как патриот
[см. там же, 218, 221—222; 7, 2, 133—134].
Требования долга Радищев считал безусловными и непреко-
словными. В течение своей жизни человек обязан достойно
исполнить свой долг перед людьми, перед народом. Личное благо
должно подчиняться благу народному, ибо «польза общая преды-
дет пользе личной». Радищев оценивал как настоящий подвиг
поступки того, кто, «забывая даже свое благосостояние,
старается ежечасно облегчать бедствие себе подобных» [7, 1, 400].
Со стремлением человека лучшим образом выполнить свой
долг перед народом, человечеством, перед собственной совестью
Радищев связывал категорию честь. Основанием чести всякого
человека является его собственная природа. В «Беседе о том, что
есть сын Отечества» говорится: «Всякому врождено чувствование
истинной чести; но освещает оно дела и мысли человека по мере
приближения его к оному, следуя светильнику разума,
проводящему его сквозь мглу страстей, пороков и предубеждений к
тихому ея, чести то есть, свету» [там же, 218].
Весьма отчетливо здесь прослеживается тенденция к
соединению в одно целое сенсуалистического и рационалистического
подходов к истолкованию понятия чести. С одной стороны,
«врождено чувствование истинной чести», с другой — это
«чувствование», чтобы достичь подлинного «света чести», должно со
«светильником разума» пройти тернистый путь, преодолеть «мглу
страстей, пороков и предубеждений». Подобно французским про-
165
светителям, Радищев ориентируется прежде всего на
рационалистические критерии: «светильник разума» для него — высокий
авторитет. Главная его задача — уберечь человека от пороков,
предубеждений общества, «унижающего» и насильно
«порабощающего» человека. Честь — атрибут самозащиты человека в его
борьбе за попранное достоинство, правду жизни, свободу,
гражданские права. «Нет человека, — разъяснял Радищев, — который
бы не чувствовал прискорбия, видя себя уничижаема, поносима,
порабощаема насилием, лишаема всех средств и способов
наслаждаться покоем и удовольствием, и не обретая нигде утешения
своего. — Не доказывает ли сие, что он любит Честь, без
которой он, как без души» [там же, 1, 218].
«Доброделание», гуманное отношение к другим (милосердие),
справедливость, долг, совесть и честь означали для Радищева
возможные средства ограждения, а то и полного обуздания
отрицательных социальных явлений — зла жизни, жестокого насилия,
вседозволенности. Должен быть Рубикон чести и совести, не
должно быть рабски униженных, оскорбленных и социально
подавленных. Не может быть «безграничного проявления воли»,
«безмерной моральной силы», утверждал Радищев, выступая за
ограничение и «воли», и «силы» индивида. Эти идеи, которые
впоследствии найдут глубокое отражение в творчестве А. Герцена
и Ф. Достоевского, развивались автором трактата «О человеке...»
как весьма оригинальный вариант теории «разумного эгоизма».
Разумное самоограничение — «корыстолюбивое
благоразумие» — Радищев считал средством создания условий для лучшего
проявления добродетели, сердечности, доброй воли. Ограниченным
должно быть прежде всего «снискание собственной пользы». Этот
важный вывод направлял автора «Путешествия...», а также
следовавшего за ним Н. Г. Чернышевского в широкую область
теоретических изысканий, выходивших за пределы антропологического
принципа [см. 534, 144—154].
Допуская возможность разумной формы «личного эгоизма»,
Радищев стремился к преодолению собственных абстракций,
развивал идею о важности «корыстолюбивого благоразумия» для
правильного самоутверждения личности, для благополучия
крестьянского сословия. Здесь были корни плодотворных идей,
приближавшихся к важным понятиям о классовых интересах
демократически настроенной интеллигенции и крестьянских масс, о
самовыявлении и самоограничении этих интересов. Не углубляясь в
область абстракций, «в поля бредоумствований», мыслитель
анализировал факты крепостнической действительности России.
Здесь важно остановиться на вопросе о том, в какой степени,
отражая некоторые черты этики французских просветителей
XVIII в., Радищев следовал Спинозе, этическую систему которого
французские философы эпохи Просвещения почти нетронутой
положили в основу своего нравственного учения. Спиноза считал
любовь, ненависть, честолюбие, зависть, сострадание и другие
нравственные категории продуктом человеческой природы [см. 479,
166
Ill, 289]. Стремление к самосохранению и собственной пользе
декларировались голландским философом в качестве главных
стимулов формирования этических понятий человека. Он полагал,
что индивидуальная и социальная этика своим высшим критерием
должна иметь «разумную силу» [там же, I, 540]. И в «Богослов-
ско-политическом трактате» и в «Этике» гипертрофируется роль
дискурсивной деятельности рассудка в моральном выборе.
Возможность достижения идеала добродетели (создания разумного
законодательства), которую отстаивал Спиноза, автор трактата
«О человеке...» считал гипотетической и вряд ли осуществимой
[см. 7, 2, 58]. Ему не по душе были крайности спинозовского
интеллектуализма. В противоположность Спинозе, отдававшему
предпочтение умственному труду перед трудом физическим,
Радищев рассматривал человека как существо деятельное. С его точки
зрения, прежде всего практическое, а затем уже познающее:
побуждения должны направляться на достижение тех или иных
целей и находить выход в действии, в творчестве, в труде.
Обращает на себя внимание попытка Радищева дать
антропологическое истолкование труда как «свойства человека» [там же,
1, 318—319]. В «Путешествии...» труд объявляется не только
основой человеческих богатств, но и родовым признаком человека —
существа мыслящего, творящего, отличающегося способностью к
деятельности. Трудолюбие, по Радищеву, высшее из человеческих
достоинств. Бездельник же подобен животному, а безделье —
лень — источник бедствий нации и всего человечества [см. там
же, 2, 62]. Спиноза жил в разгар рационалистических требований
буржуазного Просвещения, тогда как Радищев жил и творил в
условиях начавшейся промышленной революции, расцвета
сентиментализма [см. 381], растущего интереса к учениям о человеке
и психологическим знаниям [см. 561]. В последней четверти
XVIII в. рационализм в области постижения человеческих
отношений усиливал значение теории «разумного эгоизма», всех тех
ограничительных заслонов, которые разум все больше и больше
ставил чувственности, чувственному опыту. Возможно, отсюда
оживление в философии учений, связанных с идеями
самопознания, самосовершенствования, самоограничения и самовоспитания.
В российской этике охарактеризованные явления не были
связаны с уходом от действительности или отказом от ее познания.
Шел процесс повышения требований, которые предъявлялись
человеку жизнью, производством. Утверждение самоценности
человека, его жизни также имело под собой определенные
исторические основания. В последней трети XVIII в. Россия переживала
«тяжкие испытания судьбы». Непрерывные войны, вспышки
эпидемий холеры, чумы, оспы сказывались на жизненном тонусе
основной производительной силы страны — крестьянской массы,
работных людей [см. 528]. В условиях крепостного гнета, когда
плохо жилось крестьянину в крепостном рабстве, важны были
дружеское участие и тепло, сочувствие и сострадание,
доброжелательность и соучастливость. Эти слова часто встречаются в лек-
167
сиконе русского писателя-гуманиста. Острое восприятие
Радищевым процессов реальной действительности определялось его
местом в рядах передовых борцов за демократические идеалы и
революционное преображение жизни. Именно жизнь, считал автор
трактата «О человеке...», побуждает искать и находить выходы в
условиях «безысходности», утверждать собственное «я»,
определять «свое место» в поисках правды и счастья.
Сегодня, когда каждый из нас находится в поле высокого
нравственного напряжения, значительно легче понять, почему
автор «Жития Федора Васильевича Ушакова» и трактата «О
человеке...» решительно включал в кодекс нравственной красоты
требование самоограничения вплоть до самопожертвования,
сострадания, вплоть до отказа от собственных благ в пользу страж-
дующего, вплоть до великодушия в пользу побежденного. Считая
правду и добродетель, истину и страдание близнецами, Радищев
сам являл пример великомученичества во имя «вольности
народной». Предпочтение общего интереса перед личным, полный
отказ от личной выгоды, проповедь принципов человечности
составляли важную сторону этического учения русского
мыслителя.
По Радищеву, моральная свобода и нравственная
ответственность личности, в соответствии с понятиями о человеческой
природе, требуют «сопечалиться» и «совеселиться» человеку.
Мыслитель многократно подчеркивал, что человек «паче всех есть
существо сочувствующее». Возможно, поэтому ему импонировала
мысль Мабли о великодушии того победителя, который «боялся
употребить во зло право победы» [7, 2, 328].
Радищев считал, что искать смысл жизни, истину, следовать
правде бытия бывает «труднее трудного». Временами нужны
огромные усилия, чтобы открыть и правильно выразить истину.
На пути к ней человек должен осознать свой долг и
ответственность, отказаться от мысли: «Что же тебе может быть от
принятого решения?» — или: «Что, тебе нужно больше, чем другим?».
Во имя совести и чести человеку должны сопутствовать сила
духа, добросовестность, верность правде.
В тяжелую годину жизни надлежит искать выход не в
обращении к мистическим силам, а в познании, в изыскании в самом
себе сил для борьбы с крепостничеством, всеобщей и частной
«пагубой». Так называемые «плохие люди», считал Радищев, суть
люди из «плохого мира» господ или крепостниками же
испорченные люди — подхалимы, лихоимцы, пьяницы, развратники,
лентяи, воры. Для лихоимца-помещика, разъяснял он, крепостной
крестьянин не вполне человек; крестьянин же видит в помещике
«тигра лютого», «притеснителя», «злодея человечества» [см. 7,
1,219].
Крепостничество ведет к распаду человеческой личности —
данное утверждение Радищева не лишено налета этицизма.
Однако оно, как и другие аналогичные высказывания русского
философа, направлено против «зла крепостного состояния». Идеи
168
Радищева, сформулированные в духе теории «разумного
эгоизма», вели к признанию важности самовоспитания, утверждения
собственного «я», самосохранения как реакции личности на
«среду», следствие осознанной необходимости вступать в
«общественные связи». Философ делал вывод о том, что в интересах
«самосохранения» и «натуральной пользы» своей индивид может
и должен ограничивать себя в пользу общества, собратьев по
существованию. Самопожертвование и подвиг — формы такого
выбора.
В хорошо организованном обществе, где «закон имеет смысл
и силу», могут действовать и добродетель, и истинная
нравственность [там же, 292—293]. Счастье каждого в таком обществе
зависит от счастья всех и наоборот. Эта мысль созвучна идеям
Дешана [см. 157, 307]. Радищев исходит здесь из того, что от
характера общества зависит характер личности, все поступки
людей (и каждого человека в отдельности) определяются
потребностями, «корыстолюбием», интересами.
Антропологические установки Радищева требовали включения
в систему нравственности таких этико-эстетических феноменов,
как симпатичность, обаяние, доброта, верность, скромность,
мягкосердечность, достоинство, щедрость. За рамки частного
значения выходило употребление русским философом «отрицательных»
понятий, таких как «зло», «пагуба», «злонамеренность»,
«лихоимство», «честолюбие», «себялюбие», «зависть», «чванство»,
«невежество», «ложь» («неправда»).
Приближение к пониманию классовой природы морали
проявлялось у Радищева не только в противопоставлении понятий
народной, демократической морали «отрицательной нравственности»
дворянства. Оно выражалось в полном моральном осуждении
норм поведения дворян, крепостников. Считая, что
гуманистическая нравственность в России оказалась вне закона, мыслитель
разъяснял, что именно это обстоятельство порождает
общественные конфликты в стране, что истинная нравственность и
добродетель официально отвергаются, зато господствует «закон
рабства». Радищев писал: «Правила общежития относятся ко
исполнению обычаев и нравов народных, или ко исполнению закона,
или ко исполнению добродетели. Если в обществе нравы и обычаи
непротивны закону, если закон не полагает добродетели
преткновений в ея шествии, то исполнение правил общежития есть
легко. Но где такое общество существует? Все известные нам
многими наполнены во нравах и обычаях, законах и
добродетелях противоречиями. И от того трудно становится исполнение
должности человека и гражданина, ибо нередко оне находятся
в совершенной противоположности» [7, 1, 292].
Считая одной из черт крепостной массы стремление
сохранять в себе человеческое достоинство, оставаться на высоте чести
и долга, Радищев видел задачу «истинного сына отечества» в.
борьбе за высокие интересы народа, его совесть и честь, era
истинно человеческую нравственность. «Соучастнику быть во бла-
169^
годенствии себе подобных» — быть в первых рядах сил
солидарности с народом, с борцами против тех «обстоятельств», которые
препятствуют «исполнению должности человека и гражданина».
В этих размышлениях Радищева обнаруживаются истоки его
революционных выводов. Вновь и вновь возвращался российский
прорицатель свободы к вопросу о нравственном долге,
нравственном «запасе» личности участника освободительного движения.
Это было «прорицанием» народнической идеи, предвосхищением
слова и дела «Народной воли». Устами крестецкого
интеллигента, дворянина, сочувствующего народу, который явился праобра-
зом народовольца, Радищев поучал своих читателей: «Но если
бы закон, или Государь, или бы какая-либо на земли власть,
подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь
в оной неколебим. Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни
болезни, ни заточения, ниже самой смерти. Пребудь незыблем в душе
твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость
мучителей твоих раздробится о твердь твою; и если предадут
тебя смерти, осмеяны будут, а ты поживешь на памяти
благородных душ, до скончания веков» [там же, 293].
Этическая теория Радищева органически сливалась с другими
частями его цельной идейной ориентации. Особенно тесно
переплетались ее категории с эстетическим учением русского
мыслителя.
Эстетическая концепция А. Н. Радищева — важная сторона
творческого наследия мыслителя. Сложность ее анализа в
недостаточной изученности эстетических взглядов автора
«Путешествия».
У Радищева нет работ, специально посвященных вопросам
теории прекрасного. Реконструкция его эстетической концепции
должна опираться на анализ произведений «Житие Федора
Васильевича Ушакова», «Путешествие...» и «О человеке...». Вместе
с тем необходимо учитывать идеи, высказанные в оде «Вольность»,
«Письме к другу...», «Сотворении мира», «Бове», «Песне
исторической», «Памятника дактилохореическому витязю»,
«Семнадцатом столетии», «Сокращенном повествовании о приобретении
Сибири», а также в переписке. Хотелось бы указать на успешные
попытки анализа эстетического наследия Радищева,
предпринятые историками литературы М. П. Алексеевым, Г. А. Гуковским,
А. В. Западовым, Н. Д. Кочетковой, Ю. М. Лотманом, Л. И.
Кулаковой, Г. П. Макогоненко, В. Н. Орловым, Г. И. Поспеловым и
др. Вместе с тем, по общему убеждению историков отечественной
философии, при изучении эстетического наследия Радищева
возникают трудности, связанные с серьезными разногласиями по
вопросу о сущности мировоззренческих, философских основ
творчества мыслителя и его преемников [см. 268, 143]. Полагаем, что
игнорирование или слабый учет антропологической ориентации
философии Радищева обусловило методологические трудности
170
также и в исследованиях эстетических воззрений русского
мыслителя.
Отсюда вовсе не следует, что изучение эстетического
наследия Радищева в советский период не продвинулось вперед.
Проделанная работа выдвинула на передний план целый ряд
исследователей-историков эстетической мысли России. Среди них
выделяются А. А. Баженова, А. П. Валицкая, А. И. Зотов, Л, И.
Кулакова, М. А. Лифшиц, 3. В. Смирнова, М. П. Старенков,
И. Я- Щипанов. Труды перечисленных и других авторов, высоко
оценивающих эстетические взгляды Радищева, побуждают
обращать внимание на вопросы, вызывающие наибольшие трудности
и разночтения.
На какие важнейшие элементы материальной и духовной
культуры России и Европы, других регионов мира опирался русский
мыслитель в своей практике художественно-теоретического
освоения действительности? В чем специфика его подхода к
эстетической проблематике, средств ее истолкования? Каковы реальный
состав и содержание эстетических понятий и категорий Радищева?
В чем специфика его эстетики?
Конечно же, каждый из перечисленных вопросов может быть
предметом самостоятельного исследования. Не претендуя на
широту охвата и полноту выражения этих проблем, остановимся на
некоторых аспектах эстетического учения Радищева. Начнем с
вопросов о путях и источниках формирования его эстетики.
На становление и развитие художественных и эстетико-тео-
ретических взглядов Радищева оказали большое влияние русская
действительность второй половины XVIII в., сложные требования,
которые она предъявляла к человеку в связи с развитием
буржуазного производства, буржуазных отношений. Воспитанное в
детстве чувство соотносимое™ сказочности, мечты и
действительности «заземляло» всякий раз, когда ему случалось совершать
выбор в той или иной сложной житейской ситуации. Глубокие
противоречия российской действительности, воздействуя на жизнь
и творчество будущего автора «Путешествия...», побуждали
обращаться к достижениям художественной культуры и
теоретической мысли античности, средневековья, эпохи Возрождения, к
современной ему художественной практике, овеянной идеями
европейского и российского Просвещения.
Большое место в жизни Радищева занимали театр,
художественная литература, поэзия, изобразительное искусство,
осмысление новых явлений российской и европейской архитектуры. В
произведениях искусства и литературы, обретавших мировую
известность, отражался напряженный социальный ритм эпохи. Полотна
И. Акимова, Л. Левицкого, И. Прокофьева, Ф. Рокотова, П.
Соколова, М. Шибанова выражали гуманистическую устремленность
творческих поисков русских художников. Живопись порывала с
аристократической идеализацией образов, ее мастера стали
чаще изображать простых людей из крестьян и разночинцев.
В скульптуре начинали доминировать идеи высокого граждан-
171
ского значения. Всеобщей являлась тема человека. В 177)6 г.
Ф. Щедрин завершил работу над «Марсием»; в первые годы пЬсле
казни Пугачева это величественное бронзовое изваяние типично
русского крестьянина-богатыря воспринималось как гимн
народному герою, его подвигам.
Искусство, литература, театр становились ареной, на
которой временами разыгрывались острые социальные столкновения.
Проникающие сюда идеи несли на себе печать борьбы
крестьянских масс, отражали рост самосознания передовой дворянской
и разночинной интеллигенции. Средствами художественного
творчества осуществлялся своеобразный диалог современников,
стремившихся понять окружающую действительность, уяснить свое
место в мире, в истории. Учащаются случаи публичного протеста
крепостных крестьян, занятых в театральных труппах сановных
дворян.
Радищев отлично знал мировую классику, современную ему
зарубежную и отечественную литературу. Автор оды «Вольность»
любил театр, был в курсе театральной жизни многих российских
городов, лично знал таких светил драматургии, как Сумароков,
Тредиаяковскпй, Херасков, Фонвизин. Многое говорит о
постоянном интересе Радищева к театру.
В репертуаре русского театра были античная классика,
произведения европейских (Шекспира, Вольтера, Мольера, Лессинга,
Метастазио, Расина, Шиллера, Гёте) и отечественных
(Сумарокова, Аблесимова, Попова, Мотынского, Княжнина, Николаева,
Плавилыцикова, Фонвизина) драматургов. Часто ставились
спектакли малоизвестных авторов, но большой злободневности. Рост
притягательной силы театра определялся повышением уровня
сценического искусства. Купец из Ярославля Ф. Волков в 1750 г.
создал театр такой высокой художественной культуры, что шесть
лет спустя на его базе был сформирован Русский для
представления трагедий и комедий публичный театр — первый
национальный театр, противопоставивший себя придворной и приватной
сцене. Почину ярославского театра и его создателю последуют
в Москве и Петербурге, в других городах России. Родоначальник
героико-романтической линии, сочетающей творческий
темперамент с гражданским, Ф. Волков являлся примером для многих
поколений русских актеров, в том числе для талантливейших
своих современников — И. Дмитриевского и Я- Шумского [см.
133, 6].
В связи с развитием театра в России XVIII в. развивалось
музыкальное искусство. Под влиянием антикрепостнических, ран-
небуржуазных тенденций, в том числе просветительской работы
передовой мысли, музыкальная культура страны прилагала
усилия к гуманизации общественных отношений. Наблюдался рост
и активное воздействие на события времени мастеров народного
творчества (сказителей, песенников, гусляров, кобзарей), а
также профессиональных коллективов, композиторов, музыкантов,
хористов. Из среды самодеятельных исполнителей выделялся хор
172
Московского университета, широко распространены были
народные хоры Севера, центральных и восточных губерний России.
Дмитрий Бортнянский — один из выдающихся композиторов
XVIII в., чьи произведения отличались глубоким социальным
содержанием. Его знаменитый концерт «О чем скорбишь, душа
моя?» привлекал симпатии слушателей не только блеском
полифонического стиля, но и глубоким уважением к человеку,
проповедью гуманизма.
Развитие музыкального искусства затрагивало
художественные интересы Радищева — музыканта, увлекавшегося игрой на
скрипке и клавесине. Философ был хорошо знаком с историей
музыки, с исполнительской деятельностью выдающихся
композиторов и музыкантов Европы [см. 7, 2, 51, 55—56]. Большую роль
в музыкальном образовании Радищева сыграло его пребывание
лри дворе Екатерины II, где существовали хоровая капелла,
придворные оркестры и театр. Немалые возможности приобщения
к музыкальной культуре Германии имелись у русских студентов
во время учебы в Лейпцигском университете.
Изменения, происходившие в изобразительном искусстве, не
могли быть не замеченными Радищевым — человеком острой
наблюдательности и аналитическо-синтетического склада мышления.
Они нашли отражение в его эстетических понятиях и обобщениях.
Со студенческой поры можно проследить интерес Радищева к
античной эстетике, и прежде всего к идейному наследию Платона
и Аристотеля, произведениям Горация и Овидия, Софокла и
Эсхила. Анализ искусства и литературы эпохи Возрождения в
трактате «О человеке...» дает основания для вывода о влиянии на
мыслителя эстетических идей раннебуржуазной эпохи. Но
определяющее влияние на него, несомненно, оказала эстетическая
мысль России и Европы XVIII в. Радищев и его современники
жили и творили под прямым воздействием эстетических идей Про-
коповича, Ломоносова, Сумарокова, Тредиаковского, Новикова,
Державина, Фонвизина. Одним из теоретических источников
эстетики Радищева явилась немецкая эстетическая мысль,
вышедшая тогда на передние рубежи теории искусств. Радищев был
хорошо знаком с работами Баумгартена и Винкельмана, Лессин-
га и Гердера, Зульцера и Платнера. В советской литературе
достаточно убедительно показано влияние идейной программы
Вольтера, Гельвеция, Дидро, Попа и Бентама на мировоззрение
Радищева в целом и эстетику в частности [см. 49; 96, 144—145].
Из всех направлений философской и эстетической мысли
XVIII в. Радищев отдавал предпочтение тем, которые опирались
на гуманистическую традицию. И этот факт, уже не раз нами
лодчеркиваемый, находит объяснение в антропологической
тенденции развития философской и эстетической мысли того
времени, — тенденции, составлявшей одну из характерных черт всей
лросветительской мысли XVIII в.
Феофан Прокопович ставил человека — воплощение высшей
организации, гармонии и совершенства — в центр своих эстети-
173
ческих понятий. Достоинства человека, «по частям разделенные
в природе, в нем одном сосредоточились», указывал он [см. 359,
132]. Аналогичные идеи встречаются у Ломоносова, Сумарокова,.
Хераскова, Десницкого, Фонвизина, Эмина. Друг Радищева по
Лейпцигскому университету А. Рубановский в начале 70-х годов
перевел на русский язык и снабдил соответствующими
комментариями антиобскурантистскую поэму Вольтера «Рассуждение о
человеке». Переводчик высказал свои симпатии к философской
антропологии. Сторонником антропологического взгляда на
искусство был Д. Фонвизин. Но больше и чаще других
пропагандировал антропологическую ориентацию в эстетике Новиков [см.
363, X, ч. I, 284—285].
Свою принципиальную позицию в области эстетики Радищев
определил в конце 60-х годов. Большую роль при этом сыграли
статьи по теории искусства и литературы Сумарокова,
Ломоносова, Тредиаковского, Новикова и Фонвизина. Интерес к проблемам
эстетики пробуждали у Радищева лекции упоминавшегося
выдающегося теоретика эстетической мысли, немецкого антрополога и
философа Э. Платнера. Полный курс эстетики профессора
Платнера в Лейпцигском университете Радищев прослушал в 1768—
1769 гг. Любопытно, что историк Н. М. Карамзин более двадцати
лет спустя услышал из уст Платнера хорошо запомнившееся ему
имя Радищева [см. 248, 65]. Да и Радищев не забывал Платнера,
в свое время благотворно повлиявшего на его философское и
эстетическое самоопределение.
В унисон идейному настрою Радищева Платнер развивал
эстетические понятия, оснащенные светом антропологической и:
вместе с тем демократической мысли. Философия, доказывал он,
есть наука, предметом которой должны быть Натура и Человек
в целом. Выдающаяся личность (гений) действует, творит, всегда
оставаясь человечным, достойным уважения. В качестве примера
Платнер называл имя Франклина, восставшего против
«оскорбления прав человечества» «ходатая» и «борца» за благо людей,
противника «схоластических мудрствований» и «догматов
теологии» [там же, 63—64]. Судя по трактату «О человеке, о его
смертности и бессмертии», некоторые мысли Платнера нашли
отражение в миропонимании Радищева.
В своем весьма цельном эстетическом учении Радищев
синтезировал многие идеи западноевропейской и российской мысли.
Когда автор «Путешествия...» определяет прекрасное как
выражение того, что в природе выступает в качестве
целесообразности, а в общественной жизни — как норма добродетели [7, 1,
292—293; 7, 2, 134], обнаруживается влияние Платона и
Аристотеля. Идеи древнегреческих философов о единстве истины и
красоты, о познавательном и эстетическом отношении человека к
миру пришлись по душе Радищеву. Но во многих отношениях он
мыслил по-своему, фокусируя свои эстетические понятия на
проблеме «человек, его сущность, возможности и силы».
174
Говоря об исходных «началах» эстетических воззрений
русского философа, важно подчеркнуть бинарную природу его
представлений, подводящую к диалектике: с одной стороны,
природный аспект, на шпиле конуса которого человек, т. е. высшее
проявление «земной организации», индивидуум и многообразие его
красоты и совершенства; с другой стороны, общественный аспект,
представляющий человека гражданином, членом социального
целого. С точки зрения Радищева, именно общее, социальное
порождает неповторимую, исторически формирующуюся красоту —
совершенство наивысшего типа.
Конечно же, в основе эстетики Радищева лежат
материалистические постулаты его философии. Нельзя забывать, что
особенностью его трактовки антропологического принципа является
гилозоистический пантеизм, материалистически истолкованный
спинозизм. Автор трактата «О человеке...» не ставит и не решает
вопроса о том, как природное становится социальным, но все же
подчеркивает, что социальное — продукт общего, родового,
общечеловеческого, что оно содержит в себе богатство возможностей
общего, качественно нового [см. 7, 2, 104—108]. Элементы
деизма обнаруживаются в онтологической концепции совершенства
человека, когда Радищев, обосновывая тезис: «Человек — венец
природы», прибавляет декларативное: «и творения» [см. 7, 1, 18,
19].
В комментаторской литературе отмечалось, что чрезвычайно
редко встречающееся у Радищева понятие «прекрасное» имеет
своим синонимом категорию «совершенство» [см. 96, 146—151].
На наш взгляд, категория совершенство в его концепции
выступает как нечто самостоятельное, близкое, но не тождественное
понятию «красота». Эта категория — порождение несколько иной
тенденции в теории искусства, чем та, которая привела к
созданию Баумгартеном его «Эстетики» с генеральным определением
«теории прекрасного» как искусства «прекрасно мыслить», как
«аналога разума» [см. 233, 2, 452]. Традиционный рационализм,
тяготеющий к объективному идеализму, не мог удовлетворять
Радищева: его понятие «совершенство» как и вся его эстетика,
было направлено на изучение предметного мира, объективно
существующих совершенств.
Показательно, что платоновская идея «совершенной красоты»,
близкая к понятию бога, а в своем «логическом пределе» — к
понятию «Всесовершенства» [см. 15, 34, 39], не была воспринята
Радищевым. Он понимал «совершенство» как некое «извлечение»,
«оформление», результат «развержения» хаотических,
«нестройных» элементов мира, «предвечного хаоса», превращение некоего
«упругого ничто» в форму соразмерности, гармонии, высшей
организации. С его точки зрения, речь может идти о таком
состоянии вещи, когда ее свойства смогут проявляться в самом
полном виде. Здесь должен действовать закон движения к
совершенству, к упорядочению частей целого. Другими словами, это
действие «самодвижущей пружины», саморазвития, самосовершенст-
175
вования всей природы, всей жизни. «Что бы такое предстдбляла
тогда Природа, кроме смеси нестройной (хаоса), ежели бы лишена
была оной пружины? — По истине она лишилась бы величайшего
способа как к сохранению, так и совершенствованию себя», —
писал Радищев [7, 1, 219].
В соответствии с онтологическими представлениями Радищева,
закон движения к совершенству, будучи «естественным законом»,
реализуется природой посредством «лествпцы существ», которая,
как указывалось выше, представляет собой восхождение от
явлений неживой природы к живым и разумным существам, стоящим
«на вершине бытия».
Многие страницы трактата «О человеке...» посвящены анализу
различных сторон и черт физического и духовного совершенства
человека (в их единстве). Руки, речь, особые свойства зрения,
слуха, способность к «общественному жительству», соединяя
внешний мир с душою человека, побуждая к деятельности, ведут
человечество к вершинам совершенства, к выражению
превосходного, гармонического в жизни, нравственности в художественном
творчестве [см. 7, 2, 117—124].
Радищев считал, что в стремлении к совершенству
формируется эстетическое чувство, «художественная сила» как
разновидность специфически человеческих (антропологических) сил.
В созерцании, восприятии и осмыслении (воспроизведении)
красоты развивается и обогащается врожденная способность
человека к переживанию, освоению красоты внешнего мира, реалий
общественной жизни. Так формируются «побудительные мотивы»
художественного творчества, рождаются совершенные образы
искусства, дающие право утверждать, что человек как творец
совершенного занимает особое место в мире.
Любопытно, что просветительские представления Радищева об
эстетическом чувстве, о «чувстве красоты» синтезируют
собственно антропологический (понятия о «непременных побуждениях»)
и социальный («склонность к общежитию») подходы. Человек
стремится к жизненному, нравственному и художественному
совершенству в силу внутреннего стремления к приобретению тех
способностей и красоты, посредством которых только и можно
заслужить «благословение божие» и «любовь ближних» [7, 1,.
219—222].
Гармоническая телесная красота не единственный критерий
совершенства личности. Необходима красота гражданская,
сочетающая любовь к человечеству с глубоким переживанием за
судьбы людские, добрые помыслы с активным общественным
действием. Только такой человек достоин, по Радищеву, называться
«сыном отечества» — совершенным гражданином. Категория
«совершенство» занимает важное место в ряду радищевских
эстетических понятий, доминирующим содержанием которых выступал
гуманизм.
Человек в концепции Радищева рассматривается как красота.
Одаренный умом и обладающий свободной волей, человек «стре-
176
мится» всегда к прекрасному, величественному, высокому. Эту
естественную потребность человека в красоте, его стремление к
совершенству русский мыслитель считал активной творческой
силой, изменяющей обстоятельства, служащей источником всех
художественных творений и великих дел, высокой нравственности
и подлинной красоты.
Поскольку источником истинной красоты человека является
прирожденная способность сопереживать, Радищев относил ее ic
ведущей стороне личности. Он полагал, что в силу этого своего
качества личность способна восставать против угнетения
человека человеком, глубоко сочувствовать страждущим,
«возбуждаться» к познанию изящного. «Сопереживание» провозглашалось
средством воспитания эстетического чувства. Так понимая пути
постижения красоты, Радищев спрашивал: «Скажи, не жмет ли
и тебя змий, когда ты видишь изваяние Лаокоона? Не увядает
ли твое сердце, когда смотришь на Маврикия, занесшего ногу во
гроб. Скажи, что чувствуешь, видя произведение Корреджия или
Альбана, и что возбуждает в тебе кисть Ангелики Кауфман?» [7,
2, 55]. Здесь, как и во многих других случаях, автор стремится
утвердить мысль о великой силе воздействия искусства на
человека.
Близкое к понятиям Гельвеция и Лессинга представление
Радищева о наличии у человека врожденного чувства изящного
являлось одним из принципов его теории красоты. Общий вывод
о побудительных силах прекрасного опирался на
гносеологическую установку антропологического порядка: достаточно пережить
восприятие того, что «в тебе происходит, когда на позорище
видишь бессмертные произведения Вольтера, Расина, Шекспира,.
Метастазио, Мольера и многих других, не исключая и нашего
Сумарокова» [там же, 55]. При этом человек с нормальным,
вполне развитым эстетическим чувством должен испытывать
эстетическое наслаждение (ощущение, возбуждение), то «сладкое
и колющее души свойство», которое так высоко ценил Радищев.
Этот процесс эстетического восприятия прекрасного,
совершенного неотразим. Он является таковым благодаря не столько
устройству органов чувств человека, сколько особенностям его
освоения действительности [см. там же, 51—52].
Обращает на себя внимание то, что само превосходство
человека над животным Радищев видел в эстетическом восприятия
действительности человеком, в соразмерном, «благогласном»,
совершенном ее восприятии и осмыслении. Мыслитель полагал, что
«чувственные силы» в своем соприкосновении с красотой
ограниченны, в процессе воссоздания совершенных вещей и явлений
решающую роль играет «сила умственная». В трактате «О
человеке...» он пишет: «Протекая все исполненные образами вещей
хранилища памяти, сила умственная не токмо может их по желанию
своему воззывать на действительность, но, аки новая Медея,
рассекая на части все образы соблюденные, творит из смешения их
образ совсем новый, прекраснейший. Энеида, Генриада — суть
177
ли простые изречения чувствований? Законоположение Ликур-
гово, паче всех земных законоположений согласнейшее во всех
частях своих, есть ли произведение чувств? Иль ухо, или глаз,
или нос были их творители? Когда ты читаешь картину лобзания
первого мужа и жены во Эдеме; когда ты воззришь на
изображение последнего суда и не почувствуешь, что сотворить могла их
единая токмо сила, что сила их образовала во главе Мильтона
и Михаила Анжела, то и я на то согласен, отрицаю во главе
твоей быть силе; ты кукла Вокансонова» [там же, 115].
Таким образом, подвергая критике сенсуалистическую
ориентацию в эстетике, Радищев отмечает, что чувственное и
рациональное, «имеющие силы» в познании прекрасного, «едины суть».
В «своей совокупности» они являют собой превосходство над
каждой из этих познавательных форм; истина достигается через их
сложный синтез, опирающийся на опыты — «основание всего
естественного познания» [там же, 50]. Здесь русский мыслитель
вплотную подходит к вопросу о сущности художественного
образа, о роли эмоционального, разумного и опытного начал не
только в познании, но и в художественном отражении
действительности. Разум способен «изображать», воссоздавать «целый
образ», целостное представление о тех или иных видах и родах
искусства, культуры, нравственности. И в этом, по Радищеву,
его специфическая роль в теории искусства.
В свое понимание эстетического идеала автор трактата «О
человеке...» включал не только соразмерность (гармонию) частей,
размерность (в сложении звуков), но также, если это относилось
к человеку, «благообразие», «благолепие». Человек «более всех
других любит соблюдение благообразия», человеку «благолепие
сродно», утверждает он [там же, 53—54]. Названные качества,
с его точки зрения, представляют собой наиболее высокую
степень совершенства органов, самих форм человеческой натуры, ее
«образа», превосходящего реальные формы всего живого на
земле. При этом, с одной стороны, в аргументации положений и
выводов своей эстетической концепции Радищев постоянно
обращался к антропологическим учениям своего времени [см. там же,
50—52], а с другой, — творчески и критически подходил к идеям
своих современников (зарубежных и российских), связывавшим
свои антропологические понятия с проблемами эстетики. Резко
критический анализ раннефренологического учения немецкого
антрополога-анатома А. Галлера Радищев дополняет критикой в
адрес швейцарского ученого-физиономиста И. К. Лафатера [см.
248, 106—118, 120—125, 464—498 и др.]. Зато довольно
внимательно Радищев прислушивался к мнению голландского
антрополога П. Кампера (1722—1789) и яркого представителя
философской антропологии второй половины XVIII в. немецкого
историка и философа И. Г. Гердера. С последним он явно
солидаризируется — автор «Еще одного опыта философии истории для
воспитания человечества» был для него авторитетом и в области
эстетики.
178
Положительной стороной эстетического идеала Радищева
было то, что он являлся своеобразным продуктом рассмотрения
человека как такового. Совершенной объявляется природная
красота, не испорченная дурным вкусом, модой. Он считал, что «все
украшения уродуют тело вместо усугубления его красоты» [7, 2,
53—54]. Человек сам по себе — эталон гармонии и совершенства.
Он соединяет в себе самые выразительные черты прекрасного.
Когда художник «изящнейшие черты изобразить хочет, он
изображает нагость. Облепи в одежду Медицискую Венеру, она не
что иное будет, как развратная жеманка европейских столиц,
левая рука ее целомудреннее всех вообразимых одежд» [там же,
54].
Рассматривая прекрасное в человеке как единство физической
и духовной, нравственной красоты, Радищев с негодованием
обличал крепостнические порядки России, уродующие естественную
красоту человека. Гневно возмущался он законодательством
самодержавного государства Российского, которое считал
первопричиной «нечеловеческого состояния» закрепощенных крестьян.
Войны, стихийные бедствия разрушают благообразие,
натуральную, духовную красоту человека, уничтожают высокие
достижения цивилизации, доказывал Радищев. Мыслитель-гуманист
осуждал «опустошительные» войны как величайшее зло, которое
подлежит полному искоренению. «Жаль видеть, — писал он, — обе-
зображение даже неодушевленного. Вздохнешь, видя
великолепные развалины; вздохнешь, видя следы опустошения, когда огонь
и сталь распростирают смерть по лугам и нивам. Преселись на
место, где позыбнулись земли до основания. Хотя бы животные
избегли бедствий естественных и гнева стихий, но глубокопро-
ницающая печаль обойдет твое сердце, и ты, если не камень,
потрясешься и восплачешь» [там же].
Это осуждение «пагубы» войн Радищевым было проявлением
демократизма, а также реакцией на опустошительные войны
«кровавого столетия», на деяния «просвещенных монархов»,
государств и стран мира, утверждавших свой престиж силой
оружия, мечом и огнем. Слабость гуманистических деклараций
автора «Путешествия...» в вытекающей из антропологической
установки попытке объяснить причины войн «теорией соучаствования»
[там же]. Однако гуманистический и вместе с тем
антропологический характер деклараций Радищева, перекликаясь с
аналогичными положениями «Программы всеобщего мира» И. Канта,
в условиях конца «осмнадцатого столетия» представлял собой
явление в высшей степени примечательное. В нем нашло
выражение осуждение русским демократом бесчеловечного,
антигуманного и уродливого явления: «массовой пагубы», войны.
Испытав влияние Винкельмана и Ломоносова, Баумгартена и
Тредиаковского, Лессинга и Сумарокова, Гердера и Новикова,
Гельвеция и Фонвизина, русская художественно-эстетическая
мысль XVIII в. в лице Радищева выражала глубинные
исторические процессы кризиса крепостнической системы. Отсюда разви-
179
тие таких категорий, как «пагубное», «несовершенное»,
«отвратительное», «дисгармоническое», «чудовищное», «злое», «тяжкое»,
«гнетущее», «позорное», «безобразное», «кровавое», «печальное»,
«прискорбное» и т. п. Антиподы положительных категорий
эстетики получали права гражданства в условиях всеобщего
угнетения народа, репрессий и надругательств над совестью человека
в России интересующего нас времени.
Призывая к борьбе с антинародными и антигуманными
явлениями эпохи, борьбе против «зла крепостничества» и
«уродливого быта», Радищев по-новому формулировал задачу искусства
и литературы. В «Слове о Ломоносове», являющемся заключением
«Путешествия...», подчеркивается мысль, что отечеству нужны
непримиримые борцы за дело народа, «мужественныя писатели,
возстающие на губительство и всесилие» [7, 1, 391]. В
«проповеди самоотвержения в борьбе с общественной
несправедливостью» [403, II, 151] мыслитель видел основную задачу искусства.
Важной теоретической заслугой Радищева являлось
выделение двух аспектов художественного творчества с точки зрения
определения характера его влияния на человека. Первый аспект
связан с утверждением передовых общественно-политических
идеалов, антикрепостнических, антицаристских и республиканских
взглядов, второй аспект — с воспитанием у современников, и
особенно у молодежи, эстетического чувства, художественного вкуса.
Признавалась особая роль классики, выступающей в качестве
эстетического эталона. Эти идеи Радищева не потеряли своей
актуальности и в наши дни.
Исключительно большое теоретическое и практическое
значение для развития искусства и литературы по пути реализма
имели выводы Радищева о роли обстоятельств в жизни человека.
Философ считал, что обстоятельства могут способствовать или
тормозить становление и развитие естественных склонностей,
художественных дарований. Причем, по его мнению, проявлению и
удовлетворению потребности человека в прекрасном, а также
свободному волеизъявлению людей мешают прежде всего пороки
крепостничества, «уродливые стороны» российской
действительности. Даже в быстропроходящей моде, в меняющемся
художественном вкусе он видел отражение глубоких противоречий между
природой, сущностью человека и превратными обстоятельствами
его жизни, мешающими ему «сохранять свой образ» в его
«природном виде», считать «украшением то, что сами с некоторою
отменою почитаем безобразностию» [там же, 54].
Мы видим, что категории эстетики у Радищева нередко
пересекались с категориями этики, педагогики и гнесеологии. Красота
и истина, их соотносимость с добром (благом) — в освещении
этих вопросов он часто опирался на суждения философских
авторитетов античности (Платона, Демокрита, Аристотеля, Эпикура,
Сенеки, Цицерона), средневековья (Абеляра, Дунса Скота),
Возрождения и нового времени (Леонардо да Винчи,
Микельанджело, Кантемира, Гельвеция, Сумарокова, Дидро, Новикова).
180
Сформулированное Ломоносовым определение красоты как
категории, содержащей оценку того, что есть в природе, в жизни,
являлось для Радищева примером того, как должно решать
проблему сопоставимости («отличительности») искусства и
действительности. Из этой сопоставимости, считал он, рождаются
«понятия о красоте, порядке, соразмерности, совершенстве» [там
же, 133].
С истиной и красотой автор «Путешествия...» увязывал благо.
Прекрасное приложимо к высоконравственному и становится его
оценкой. Оно выступает нормой человеческой добродетели,
сопряжено с целесообразной творческой деятельностью и является
выражением его устремленности к полному овладению предметным
миром. Художественный образец, шедевр, по Радищеву, есть
выражение и красоты и истины, которые в своем единстве ведут к
благу. С другой стороны, благо наставляет человека на стезю
истинного и прекрасного. Оно вместе с тем выступает пределом
людской мечты, «движителем», «силой» правильного
формирования изящного, гармоничного. Здесь не трудно заметить, что в
мире нравственно-эстетических идей Радищева есть элементы
диалектики.
Вместе с тем обнаруживается с достаточной отчетливостью
ограниченный характер диалектических идей Радищева.
Мыслитель правильно указывает, что в концепции искусства
французских материалистов преувеличивается роль чувственности,
объявлявшейся «воротами прекрасного» и его главного репродуциента
(воспроизводителя). Просветители-сенсуалисты несколько
затемняли творческую роль разума в искусстве и теории красоты. Это
видел Радищев. С другой стороны, он полностью отбрасывал
масонские идеи о том, что все чувственное следует исключить из
мира прекрасного, а эстетическое надлежит считать идеальной
формой красоты. Он провозглашал принцип соединения
чувственного, рационального и опытного с целью достижения изящного.
Однако Радищев не сумел выявить подлинную диалектику частей
и целого, раскрыть действие основных законов диалектики,
показать специфику «ступеней» процесса эстетического выражения
истины [см. 290, 240—242].
Следует видеть, с какими критериями подходил Радищев к
определению эстетического идеала. Встречающиеся в его лекси-
ко-семантическом словаре понятия — «истинный народ»,
«народная правда», «добродеяний кладезь», «мысленной силы родник» —
относятся к признанному им «основанию» и «источнику»
художественного творчества, к истинному его роднику — народу.
Поэтому понятия прекрасного, совершенного и народного в
«Путешествии...», трактате «О человеке...», «Песне исторической», «Бове»,
«Письме к другу...», в поэме «Песни, петые на состязаниях в честь
древним славянским божествам» сливаются воедино. Прочно
связывая художественные образы и вкусы с народным
творчеством, Радищев стремился сочетать свои эстетические идеалы с
культурой и искусством народа. Благодаря знанию русского фоль-
181
клора в сюжетную канву своих произведений он включал
народные песни, пословицы, причитания, сказочные сюжеты, поговорки:
и частушки, часто прибегая к обобщениям относительно законов
художественного творчества вообще и народного в частности.
Мир радищевских поэм-сказок, исторических повествований и
песнопений — это философско-романтический и совсем не
колдовской, а в конечном счете реальный мир, где вершится бой
добра со злом, красоты с безобразием. Этот мир смещен в далекое
прошлое, но вместе с тем он увлекает читателя в область
настоящего и будущего. Праздник воображения часто открывает окна в
мастерскую ответов на острые вопросы современности. Сказочные
сюжеты Радищева заключают в себе не только необходимую
долю таинственности, загадочности, секретов, хитростей, но и
сбрасывающую романтический покров волнующую проповедь
гуманистического триединства, истины, красоты и добродетели.
Поэтическое, сказочное творчество Радищева вдохновлялось
не только древнерусскими сюжетами, устным народным
творчеством, русской духовной традицией, но также и древними
преданиями народов Запада, Востока и Юга России, Крыма и Кавказа,
Горного Алтая, Сибири, Дальнего Востока и Китая. Буржуазные
отношения раздвигали границы мироощущения, производя
глубокие гуманистические изменения в сознании передовой, мыслящей
интеллигенции XVIII в. Они порождали не только энциклопедизм,,
неведомую прежде широту взглядов, безграничность масштабов
охвата сюжетного и исторического поля, но и вносили
этнографический и антропологический элементы в миропонимание людей
той близкой нам эпохи ломки старого и рождения нового века,
который сам Радищев называл «безумным» и вместе с тем
«мудрым» столетием [см. 7, 1, 127].
На почве радостей и проклятий XVIII в. рождались понятия
о непреходящих ценностях человеческой личности, человеческого
достоинства, равенства людей и народов. Требование
возрождения человека в человеке провозглашалось во всех «трудах
праведных» и было главным содержанием всей просветительской
литературы. Оно пронизывало все творчество Радищева, порождая
идеи о единстве народности и человечности, гуманизма и
демократизма, эстетическое обоснование художественного творчества
в духе реализма. «Песнь историческая» — произведение 90-х
годов, в котором русский писатель дал развернутую оценку
современных ему событий во Франции [там же, 74—122], попутно
формулируя положения о развращающем влиянии самодержавной:
власти [см. 223, 1, 722]. Он писал:
Ах, сколь трудно, восседая
Выше всех, и не имея
Никаких препон в желаньях,
Усидеть на пышном троне
Без похмелья и без чаду [там же, 117].
Мастер литературной формы, Радищев является классиком"
русской литературы XVIII в. Его прозаическое, поэтическое, пуб-
182
лицистическое творчество проникнуто философским содержанием,
отличается разнообразием стилей: это и трактаты, и
драматические произведения, и очерки, и воспоминания, и критические
статьи. Содержанию своих произведений он придавал адекватную
форму. «Изразительной гармонией» отличается радищевская
поэзия: мастер оды, элегии, натурфилософской поэзии,
поэмы-сказки, ямба, хорея, белого стиха, автор «Вольности» создал
поэтические творения, которые высоко оценивал А. С. Пушкин [см.
428, VII, 262—263, XII, 35]. Гармоническое сочетание формы и
содержания присуще одному из последних произведений
философа «Осмнадцатое столетие». Написанное элегическим дистихом
(сочетание гензаметра и пентаметра), стихотворение это явилось
приговором современника «старому веку», пророчеством
«гражданина будущих времен», глубоко проницающего «завесу
грядущего», славящего «истину», вольность, «свет» [см. 7, 1, 127—129].
Тем своим оппонентам, которые впоследствии возжелают
критиковать его стихи, размер и рифму оды «Вольность» за
«лапидарность», за то, что «туг и труден» стих вольнодумца, Радищев
мог бы ответить словами историков советской литературы:
«радищевские стихи требуют вдумчивости, содержание в них
руководит формой», трудности стиха есть «изобразительное
выражение трудности действия», ибо «нельзя рифмой возводить завесу
мысли». С великой пользой для себя и русской литературы поэт-
практик, теоретик искусства и литературы, автор од, целого ряда
гениальных поэтических произведений внимательно следил за
развитием художественного творчества в России последней трети
XVIII в. Так, пропагандируя дактилохореический размер,
Радищев подробнейше проанализировал творчество Тредиаковского —
сторонника гекзаметра. В сочинении «Памятник дактилохореи-
ческому витязю», русский мыслитель защищает преимущества
полиметрической системы стихосложения.
Но и эту систему Радищев не желал канонизировать в такой
же мере, в какой не считал правомерным «засилие ямбов».
Полагая, что это «засилие» может вредить развитию отечественной
поэзии, он выступал за свободу выбора изобразительных средств
и приемов в области поэтического творчества. «Парнас, — писал
русский поэт, — окружен Ямбами, и Рифмы стоят везде на
карауле» [там же, 353]. Возможно, чтобы доказать свою правоту,
сам он пользовался различным поэтическим слогом, в том числе
и нерифмованным, «белым», стихом (см., например, его «песно-
словие» «Творение мира», помещенное в «Путешествии...»).
Выражая мнение многих своих современников, в том числе
Дмитриева, Карамзина, Державина, Львова, Боброва, Востокова,
Крылова, выступавших против творческих штампов, Радищев завещал
поэтам XIX в. свою многоразмерную, рифмованную и
нерифмованную высоко поэтическую строфу.
Сын «семнадцатого столетия», Радищев по стилю и смыслу
своего творчества выходил за рамки своего времени, за пределы
сложившихся эстетических и литературно-критических, публици-
183
стических традиций. Отсюда «нетипичность», «нестандартность»
его авторского облика: некоторыми чертами формы своих
произведений он как бы примыкал к сентиментализму, другими — к.
классицизму. Но ни одному из этих направлений в искусстве он
не отдал предпочтения. Глубоко оригинальный
мыслитель-революционер, провозглашавший право на решительное изменение,
обстоятельств жизни людей, всем содержанием своих
произведений очеловечивавший их отношения, Радищев и в эстетике был
устремлен в будущее. И в философии и в теории изящного он
исходил из материалистических предпосылок, делая первые шаги:
на пути к обоснованию нового, реалистического метода в
искусстве и литературе [см. 49, 56].
Пути и средства нравственно-эстетического воспитания
человека, согласно Радищеву, открывает философия («любомудрие»),
призванная научить человека «истинным его обязанностям» [см.
7, 1, 221—223]. Разрабатывая свою теоретическую концепцию^
воспитания, русский мыслитель полемизирует с представителями.
объективно-идеалистических и мистико-религиозных учений,
подвергает критике официальную дворянско-аристократическую
мораль, а также этику и эстетику масонов. Вместе с тем, обращаясь
к теории воспитания, он постоянно имеет в виду решение
практических задач.
В отличие от М. Щербатова, ставившего задачу укрепления:
нравственных качеств и эстетических вкусов дворянского
сословия и вместе с тем проявлявшего недоверие к народу, к
крепостной массе («любовь народа непостояннее его ненавести» [546]),.
Радищев ориентируется прежде всего на народ, видя в нем
носителя здорового нравственного начала. Ориентация на народ,
симпатии к судьбе крестьянской массы позволили ему ставить
практические задачи воспитания, вытекавшие из необходимости
повышения художественной и нравственной культуры широких слоев-
населения страны. Считая чрезвычайно важным сохранение
«здоровых задатков» нравственности в народной среде, в своем
«Опыте о законодавстве» Радищев писал: «Воспитание есть вещь
наиважнейшая в законодательстве... разум законоположника над
ним больше размышлять должен» [7, 3, 161].
Гуманистические традиции российского Просвещения, труды
Прокоповича, Д. Кантемира, М. Ломоносова, А. Сумарокова,
Н. Новикова, Д. Фонвизина создавали предпосылки для
выявления педагогических задач времени. Большое значение для
Радищева имели работы деятелей европейского Просвещения, которые-
получили многосторонний анализ на страницах «Жития Федора
Васильевича Ушакова», «Путешествия...», статьи «Беседа о том,
что есть сын Отечества», трактата «О человеке...», «Песни
исторической», «Опыта о законодавстве» и других его произведений.
Принципиально не соглашаясь с моралистами-пессимистами:
и мистиками-масонами, Радищев признавал возможным подъем
человека до значительной моральной высоты земными («естест-
184
венными») средствами и во имя земных целей. Задача состоит в
том, чтобы утверждать в человеке «человеческое» путем
изменения негодной, чуждой человеку среды (т. е. общественных
условий) и методами воспитания. Христианское требование
«выстрадать право на моральность» неприемлемо для Радищева. Он
считал, что необходимо создать условия для проявления уже
имеющихся «душевных сил» человека, открыть простор его
интеллектуальным порывам. «Человек — условия — человечество» —
вот, по Радищеву, три элемента реальной связи социального
целого, взаимное влияние которых проявляется в воспитательном
«действии» (или «деянии»).
Данное решение было далеко не традиционным. Это была
серьезная заявка на прорыв в новый, XIX век — к действенным
«началам» миропонимания декабристов. Пройдут годы, и идеи
членов общества «Зеленой лампы», мечтавших о новом методе
воспитания человека, станут предметом глубоких размышлений
Герцена и Чернышевского, Писарева и Ушинского, Морозова и
Вернадского. Не случайно Герцен и Чернышевский отмечали, что
они стоят намного ближе к Радищеву, чем к Гоббсу и Руссо.
Влияние создателя «Вольности» и «Путешествия...» на русских
мыслителей второй половины XIX в. шло по линии обретения
Отрава на самостоятельность, самоутверждение, независимость в
определении задач освободительной борьбы: сам Радищев
понимал это влияние как «действие великия души над душами
современников или потомков ... действие разума над разумом» [7,
1, 392].
Для Радищева воспитание — это форма воздействия на
человека и общество с целью формирования личности человека, его
гражданского облика и т. п. Воздействуя на человека, «среда»
включает в себя не только природные явления, но и явления
общественные — традиции материальной и духовной жизни людей
и народов. Не принципы «общественного договора», не установки
категорического императива и тем более не религиозное наитие
или норма священного писания формируют нравственность и
понятия о красоте. Поскольку Радищев считал, что общее выше и
значимей частного, главный фактор воспитания он видел в
«обстоятельствах», которые воздействуют на людей через родовые,
народные, общественные отношения, посредством «общего
разума», включающего общественное мнение. В трактате «О
человеке...» эта идея сформулирована так: «тщательное наблюдение
человеческого воспитания показывает нам, сколь способности в нем
угобжаются, ширятся, совершенствуются; история учит, колико
народы могут в общем разуме своем совершенствовать. Природа,
люди и вещи суть воспитатели человека; климат, местное
положение, правление, обстоятельства суть воспитатели народов» [7,
2, 130].
Русский мыслитель-демократ в отличие от Руссо считал, что
человек от природы ни добр, ни зол, а обстоятельства выступают
формирующим началом его психики, поведения, образа жизни,
185
т. е. делают его либо хорошим, либо плохим. Тем не менее
изложенная в «Путешествии из Петербурга в Москву» концепция
воспитания [см. 7, 1, 283—297], несомненно, опиралась на
некоторые важные принципы теории воспитания Руссо и Гельвеция. От
Руссо Радищев воспринял идею единства физического и
духовного в качестве важного принципа науки воспитания, от
Гельвеция — идею зависимости психики от изменений среды. Высоко
оценивая вклад французского просветителя в педагогическую
науку, русский мыслитель пишет: «Европа обязана Руссо
переворотом в общих началах воспитания» — поворотом в сторону
полного отрицания врожденного характера нравственных
принципов [7, 3, 407]. И именно здесь начинались расхождения
Радищева с Руссо и Гельвецием в понимании возможностей,
характера и задач воспитания.
Разъясняя свое понимание «начал» воспитания, Радищев
указывал на то, что моральный облик и деловые качества человека
полностью зависят от воспитания: «Хотя розница в силах
умственных велика между человека и человека и кажется быть от
природы происходящая, но воспитание делает все. В сем случае
мысль наша разнствует от Гельвециевой...» [7, 2, 65]. Если
Гельвеций считал, что от природы все люди равны, а воспитание
делает их разными, то Радищев, напротив, указывал, что от
природы люди одарены в различной степени, зато это неравенство
сглаживается воспитанием, которое должно устранять
«несправедливость природы».
Полностью отвергая идею о врожденном характере
нравственных норм, Радищев указывал на чувства, ощущения как на основу
нравственных понятий. Чувственный опыт и здесь играет большую
роль, но его нельзя, как считал мыслитель, противопоставлять
опыту разумному. Явление нравственное, возникнув на
чувственной основе, в силу специфики человека как существа разумного
позволяет дать обобщенную нравственную оценку тем или иным
общественным явлениям. Радищев выступал за гармонизацию
чувственного и рационального в человеке, поступков людей и их
морального оправдания [там же, 64—65]. В его программе
воспитания эти позиции провозглашаются в качестве теоретических
оснований нравственных идеалов и поведенческих норм. В
«Житии Федора Васильевича Ушакова» Радищев подчеркивает
значение нравственных традиций семьи, общества, примера старших,
близких людей, отмечая влияние этого процесса на чувства и
разум. В «Путешествии...» эти идеи получают дальнейшее
развитие: умелые и заботливые советы старших должны дополняться
стремлением самой молодежи к моральному и праведному [см. 7,
1, 283—284].
Осознание зла истории, «пагубы» повседневного бытия и т. п.
Радищев включает в сферу воспитания и самовоспитания. Если
тебе больно от пагубного деяния другого, то тот другой, как
человек, должен понимать, что тебе больно. Да и ты должен знать,
что боль твоя может быть результатом твоего безразличия к чу-
186
:жой боли. Несмотря на то что в людях «движения сердца»
природа «насадила различно», проявление сердечных отношений
рассматривается Радищевым в качестве критерия воспитанности [там
же, 283—284]. Чувственное восприятие нравственного факта он
связывает с нравственным осознанием действительности. Поэтому
понятие «пагуба» включает в себя природнически-сенсуалистиче-
ский, натурфилософский аспект понимания человека. По
Радищеву, не только правда бытия, но и его неправда могут
возбуждать переживания, эмоции людей, порождать идеи добра и зла.
«История причиняет боль», как сказал один из современных
английских журналистов Мартин Уокер [507, 13]. И это
высказывание созвучно радищевскому пониманию исторического зла.
Сентенция «история учит», нередко приводимая Радищевым
[см. 7, 2, 130], содержит нравственно-назидательный смысл.
Исторические события и факты поучительны, прошлое не проходит
бесследно, оно не умирает, история — предмет оценок и выводов,
важных для жизни и деятельности людей. Именно поэтому в
своей поэме «Вольность» Радищев указывал, что, исполняя свой
гражданский долг, человек вершит суд совести над историей
своего народа и жизнью близких ему людей [см. 7, 1, 13]. В «Бо-
ве» и «Песне исторической», он квалифицирует историю как
нравственную память народа [там же, 28, 74, 81]. Обнаруживая
крен в сторону изначально-народнических идей, Радищев вместе
с тем стремился встать на путь осознания истории как области
значения и метода.
История воспитывает и содействует самовоспитанию,
эмоциональному восприятию действительности. Не считая проявление
чувственной эмоциональности пороком, Радищев указывал на
правомерность страстей, относя их к естественной норме поведения
человека. «Корень страстей благ, и основан на нашей
чувствительности самою природою» [там же, 291]. Но излишества
эмоциональные, страсти чрезмерные ведут к страданию и даже
гибели человека. Отсюда требование воспитывать и чувства и разум
в духе гармонической нормы, умеренности в проявлении страстей.
Связывая эти выводы с идеями самовоспитания, Радищев писал:
«...трудитеся сердцем, упражняяся в мягкосердии,
чувствительности, соболезновании, щедроте, отпущении, и страсти ваши
направятся ко благому концу. Трудитеся разумом, упражняяся в
чтении, размышлении, разыскании истины или происшествий, и
разум управлять будет вашею волею и страстями» [там же].
Влияние идей Шефтсбери и Гердера на Радищева несомненно
[см. 286], как несомненно и следование русского мыслителя
складывающейся в российской мысли 80—90-х годов философско-ан-
тропологической традиции: декларациям Н. Новикова об общих
корнях человеческого существования [см. 210, II, 149—150].
Д. Фонвизина — о «делах сердца и чувств» как важнейшем
предмете человеческих увлечений [см. 514, 2, 192—193], Ф. Эмина о
проявлении благородства как «первой дани сердца» [см. 554].
Но в ряду названных просветителей XVIII в. Радищев отличался
187
последовательностью ориентации на гуманистические «начала»
человека, на его «нормальную природу», которую он
провозглашал эталоном, критерием естественного, этического, правового и
эстетического действия. Это обстоятельство было правильно
подмечено еще М. Т. Иовчуком [см. 98], М. Н. Пеуновой [см. 383,
78—ПО] и группой авторов в журнале «Философские науки»-
[см. 268]. Распространение принципов философской
антропологии на вопросы воспитания вело к теоретическому преодолению*
теорий «естественного права» и «общественного договора». В
зарубежной философии данная тенденция связана с именами Де-
шана и Кондильяка, Смита и Рикардо, Гердера и Канта. В
России указанное движение философской мысли наиболее отчетливо
выражено Радищевым, особенно в его трактате «О человеке, о-
его смертности и бессмертии».
Однако в развитии своих собственных понятий Радищев шел
дальше провозглашаемых им принципов. Поэтому именно здесь
хотелось бы подчеркнуть, что гениальная прозорливость русского
мыслителя состояла не только в осознанном стремлении
преодолеть «мораль долга» и «мораль выгоды», но также в поисках
более широкого выражения своих этических воззрений, чем тога
требовали «чистые» антропологические средства теоретической
ориентации. Формулируя тезис: «Познают человека из его
деяний», Радищев выходит за рамки антропологического подхода,
в сферу исследования общественных отношений, «мирского
жития» [см. 7, 1, 284].
Радищев вводит понятие «новое действие», раскрывая его как
действие, соединенное с «разумным началом», с «мысленной
силой» человека [там же, 215]. Разум, связанный со свободной
волей, способен побуждать к свободному логическому
заключению, выбору на основе критериев «прекрасного»,
«величественного», «полезного», «высокого». Стремление человека к свободе
и независимости выступает здесь формой, обусловленной самой
природой явления, природой человека. Но ведут человека к
«заветной цели» разум, идеалы, воля, страсти, потребности,
обстоятельства, нужда. Мыслитель не всегда выделял главное из этого
комплекса факторов, но когда он искал эту главную «силу», то
часто указывал, что путь к цели, к выбору человек «достигает
пособием ума» [там же, 215—216], «следуя светильнику разума,,
проводящему его сквозь мглу страстей, пороков и
предубеждений» [там же, 218].
Самоограничение и самоопределение — важные элементы в
арсенале средств «нового действия». И здесь, учитывая
доминанты рационалистической природы конечных выводов мыслителя,
чрезвычайно важно указать на ограничительную,
определительную, критическую и нормативную функцию ума (разума)
человека, как его понимал Радищев. Высказывания на этот предмет
часто встречаются в «Путешествии...», в трактате «О человеке...»,
в «Опытах о законодавстве» и в переписке. Они дают отчетливое
представление о близости их автора к «теории разумного эгоиз-
188
ма». Радищев предвосхитил ряд народнических идей о «разумном:
эгоизме», о самоограничении и ограничении человеческих
(личных и общественных) устремлений. Его «новое действие»
устанавливает границы не только действию, побуждению, стремлению,,
но и самому «акту разума», если он, скажем, «ослеплен страстью»
[там же, 191—192; 7, 2, 117].
Примыкающие к «теории разумного эгоизма» идеи Радищева
о самопознании и о самовоспитании вместе с тем имеют
самостоятельное значение. Люди должны вести себя нравственно и
тогда, когда они преодолевают зло, и тогда, когда в нужде и
нищете ведут борьбу за свои права и счастье, а главное — когда
сражаются со своими привычками, предрассудками. Здесь, по
мнению нашего мыслителя, проявляются благоразумие,
сопереживание, справедливость, правда. Залогом формирования личности
является внутренняя работа мысли. Самовоспитание — условие
личной добродетели, средство самозащиты, индивидуальной и
общественной безопасности людей. Человек должен избегать зла.
Он должен искать реальные пути обеспечения счастья себе, своей
семье, «себе подобным», своему народу [см. 7, 1, 400]. Согласно
Радищеву, зло крепостничества, несчастья тоже воспитывают или
побуждают к самовоспитанию. Осознание «прискорбного своего
положения» толкает человека к совершенствованию себя как
гражданина и как борца за честь «рода смертных», за облегчение
«бедствия» своих собратьев. И здесь, как и в других случаях,
работает антропологическая формула: человек «рожден с
чувствованием, устремляющим его к великому и к совершенствованию
себя» [там же, 218].
Размышляя о роли совершенствования и
самосовершенствования в движении человека к нравственному идеалу, Радищев
явно переоценивает роль субъекта. Это обусловлено, с одной
стороны, его сенсуалистическими установками, а с другой стороны,
рационализмом. Недооценка роли объективных условий в
становлении личности таила в себе угрозу субъективизма. Вероятно,
догадываясь об этом, Радищев предостерегал от преувеличения
возможностей человека. Он считал, что самонадеянность,
чванливость, зазнайство, себялюбие суть пороки, которые
«препятствуют праведному человеческому стремлению к совершенствованию
себя» [там же, 220]. Фальшивая самоуверенность мешает
человеку ориентироваться в мире, лишает его «силы» познавать себя
и других.
Согласно Радищеву, особенно опасна для общества ложь
утешений, неправдивые заверения. «Сахар утешительных речей» он
считал «неправдой бытия» и требовал «вещей правды» во всем,
уважительного отношения к человеку, людей друг к другу.
Относясь к другим с уважением, человек и к себе вызывает уважение
на основе общих принципов. Этическая нормативность становится,
таким образом, побудительным началом, «реальной силой» таких
нравственных явлений, как мужество, долг, совесть,
благоразумие, честь, слава, героизм, самопожертвование и т. п.
189-
Говоря об эволюции взглядов Радищева на проблему
нравственного воспитания, важно отметить рост гражданских
мотивов, насыщение категориального аппарата понятиями
революционной и вместе с тем демократической этики. Хотелось бы
обратить внимание читателя на введение в категорию
«самопожертвование» гуманистического и эпико-героического содержания.
В разработке этой категории Радищев — прямой предшественник
декабристов Пестеля, Муравьева-Апостола, Каховского, Рылеева
и Бестужева-Рюмина. В теоретическом плане он близок Якуш-
кпну и в еще большей степени Белинскому, Герцену, Добролюбову,
Писареву и Чернышевскому.
Воспитание «чувства справедливости» и «чувства равенства»
для Радищева было сопряжено с воспитанием «чувства
самопожертвования». В самопожертвовании он видел средство
укрощения «личного эгоизма», «разумный шаг» самоограничения,
«внутренний призыв» к солидарности индивида с социальной группой,
родом, народом [там же, 295—296]. Самопожертвование в конце
концов признавалось Радищевым средством отпора злу и
насилию, актом трагически неизбежным, обусловленным
обстоятельствами, означенными высокой печатью героического протеста,
морального подвига, поучительного для современников и
потомков.
Радищев призывал оставаться человеком в любых
обстоятельствах. Понятие «человечность», связанное с общими принципами
демократического гуманизма мыслителя, занимает важное место
в его теории воспитания. Сама идея человека в устах Радищева
сопрягалась с «судьбами человечества», что умножало ее
гуманистический потенциал и «нравственную силу». В его понимании
«человеческое» предполагает доброе отношение людей друг к
другу и непримиримость к социальному злу.
Одним из условий нравственного совершенства отношений
между отдельными людьми и целыми народами Радищев считал
общительность, видя реальные основы людской общности в
справедливости и взаимопомощи. Здесь обнаруживается исторический
идеализм Радищева, который имел под собой объективные
основания, заключающиеся в том, что характер общественных
отношений и уровень развития производительных сил России XVIII в.
не выявляли всю полноту своих противоречий, вуалировали
основную историческую тенденцию.
Радищев полагал, что мораль — это своеобразный механизм
общественного, родового регулирования, предполагающий
осознание общих, родовых интересов. Видя зависимость норм морали
от всеобщей трудовой деятельности [см. 7, 1, 287—291], он
придавал большое значение физическому и умственному труду в
формировании нравственности человека. И дело здесь не в
«налете влияния» А. Смита и Д. Рикардо, Н. Новикова и Д.
Фонвизина. Все дело в ориентации на народную нравственность,
содержащую в себе не только большой запас здравого смысла, но и
выработанные веками гуманные нормы, в условиях феодальной
190
России противостоящие моральным догмам дворянства. Дух
времени, как справедливо заметил писатель Ст. Рассадин, имеет
обыкновение «при всей своей видимой неосязаемости давать
результаты вполне материальные» [436, 46].
В «Путешествии...» даны многочисленные примеры
высокоморального поведения людей, положительные характеристики
народной нравственности. Крестецкий дворянин, выражавший точку
зрения Радищева, подробно рассказывает о трудовых принципах
воспитания сыновей. Эти принципы предусматривают хорошее
физическое и умственное развитие молодежи, обретение жизненно
важных трудовых навыков: умения «быстро бегать», плавать, «не
утомляясь», поднимать «тяжести без натуги», «владеть косою и
топором, стругом и долотом», «водить соху, вскопать грядку»,
а также «ездить верхом, стрелять» [см. 7, 1, 287]. Важно
укреплять молодежь в сознании благородства трудовой деятельности,
возвышающем человеческое достоинство, прививать понятия о
труде как здоровой потребности всех без исключения людей.
Радищев видел, что только научившийся трудиться способен понять
подлинный смысл жизни и в полную меру быть полезным семье
и обществу: «Тот, кто сам умеет что сделать, умеет заставить
сделать, и будет на погрешности снисходителен, зная все в
исполнении трудности» [там же, 288].
Согласно Радищеву, само существование человека
неразрывно связано с трудом, поэтому трудовое воспитание должно
начинаться с детства, а сам принцип «трудолюбия» должен
сопутствовать человеку на протяжении всей его жизни [там же, 222].
Тягу к труду он считал «естественной потребностью» здорового
человека, психика которого не разрушена «дурными привычками»
и «извращениями жизни». Впоследствии Герцен, имея в виду
здоровый образ жизни, образ жизни народа, заметил: «Только
груд, как его понимают в нормальной среде, способен оздоровить
наше поколение людей». «В понятии «жизнь» всегда заключается
понятие о работе», — несколько лет спустя после Герцена в
унисон идеям автора «Путешествия...» отметит Н. Чернышевский
[522, II, 10].
Как известно, церковь внушала мысль о том, что труд
является наказанием роду человеческому за его «грехи», что он удел
«низших слоев общества», крепостных и только крепостных.
Даже А. Смит считал труд проклятием для человека [см. 1, 46,
II, 112]. Солидаризируясь с идеями ранних
социалистов-утопистов, в духе ранненароднических представлений, но явно в
противоположность тем, кто недооценивал роль труда в обществе,
Радищев доказывал, что труд — первая потребность человека,
мера человечности, дело чести.
Признавая первостепенную роль и нравственное значение
труда для человека и общества, Радищев исходил из
антропологических представлений о «натуре человека», о присущих ей
побуждениях к деятельности, о «трудовой потребности» человеческого
организма. В связи с этим он ставил вопросы об условиях («об-
191
стоятельствах»), при которых труд может быть приятным для
человека. Эти условия, многократно упоминавшиеся в главах
«Путешествия...», требуют устранения препятствующих труду
помех, наличия необходимых средств и орудий труда, личной
заинтересованности труженика, осознания полезности труда, свободы,
а не принуждения и, наконец, предполагают определенную меру
объема и длительности труда. Эти выводы русского философа
перекликаются с теми теоретическими интересами в области
физиологии и психологии человека, которые станут предметом
глубоких исследований И. Сеченова [см. 65].
В своих работах Радищев критиковал подневольный труд как
социальное и нравственное зло, постоянно обращая внимание на
необходимость освобождения русского крестьянина от
крепостного рабства, угнетения человека человеком. Печатью разложения
и «пагубы» означена и судьба угнетателей. Поборники неволи
роют себе могилу перед лицом всевозрастающего гнева народного,
крестьяне сами освободятся от рабства, если их не освободит
помещик [см. 7, 1, 319—320]. Здесь обнаруживались элементы
утопизма, хотя призывы к борьбе, революционному
преобразованию действительности вполне укладывались в русло реального
освободительного движения.
Развивая тему ответственности личности и общества за
причиняемые человеку и людям невзгоды, за злонамеренные
поступки, совершаемую «пагубу», оскорбление совести и чести,
Радищев выступал за свободу выбора, за свободу воли, оставаясь
сторонником индивидуальной ответственности за ущерб и зло,
причиненные обществу отдельными людьми. Поэтому он
осторожно и внимательно оценивал террор в эпоху французской
революции. Ярко и эмоционально Радищев обвинял крепостничество,
возлагая на русское дворянство ответственность за зло
крепостного рабства. Мыслитель выступал против стяжательства,
индивидуализма, паразитизма и праздности дворянства и особенно
против расточительства дворцовой и поместной знати. Моральное
осуждение автором «Путешествия...» всего строя крепостной
жизни впоследствии привлечет внимание декабристов и Чаадаева,
Герцена и Белинского, Чернышевского и героев «Народной воли».
Те, кто в конце XIX — начале XX в. выступит против остатков
крепостного строя в нашей стране, будут с гордостью вспоминать
имя А. Н. Радищева.
В комплекс средств воспитания Радищев включал
художественное воспитание, облагораживающее, возвышающее человека.
Большую роль в нравственном совершенствовании людей играют
театр, поэзия, музыка, устное народное творчество. Театр
Радищев относил к разряду эффективных орудий формирования
«настоящего человека» и «сына отечества»; художественное
произведение создает гуманный настрой, оказывает облагораживающее
влияние на душу и чувства — «сопечалясь» друг другу, люди
также «совеселятся» [см. 7, 2, 54]. Искусство воспитывает
эмоциональное отношение к действительности, оно неотъемлемо от дру-
192
гих элементов, «обстоятельств» человеческой жизни, но его
воздействие на человека особое. Искусство одновременно влияет и
на чувства и на разум.
Воспитание «чувства изящного» (или «понимания изящного») —
длительный процесс. Согласно Радищеву, надлежит научиться
понимать внешний мир, самого человека, знать пути и силы
познания, возможности органов чувств и мысленной силы
человека — вот вехи познавательного опыта, который обретается с
годами. Творить изящное и познавать его подлинную суть дано
людям только с развитым «чутьем», «способностями» и
«талантами». В понятия «нормальный человек» и «сын отечества»
Радищев с полным основанием включал и способность к
прекрасному, и порожденное прекрасное. С его точки зрения,
эстетический вкус, любовь к наукам и художествам — необходимые черты
подлинного гражданина.
Радищевские принципы художественного воспитания включают
идею о необходимости знать, популяризировать и развивать
национальное искусство. Полагая, что истинным творцом культуры
является народ, Радищев выдвигал народное творчество в
качестве образца и идеала подлинных ценностей цивилизации.
Культура, обогащающая общественную среду, должна пробуждать
человеческое в человеке, опираясь на народное культурное
достояние. Поскольку народ — носитель мудрости и правды,
служить народу означало быть и мудрым, и правдивым.
Сформулированные Радищевым принципы нравственного и
эстетического воспитания предполагали «очищение вкуса»,
освобождение человека от предрассудков и плохих привычек, невежества
и косности. И здесь одним из главных средств оказываются
самосовершенствование и самовоспитание. Однако основным средством
культурного, нравственного и эстетического возвышения человека
для Радищева выступало требование уничтожения
крепостничества как института «пагубы» XVIII в. А это уже выводило
русского мыслителя далеко за рамки философской антропологии,
сближая его с теми из деятелей культуры XIX в., чье творчество
получит опору в «прорицающих» идеях первого революционера
России.
7 П. С. Шкурииов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Творческое наследие А. Н. Радищева — важная веха в
развитии идейно-политической и философской мысли конца XVIII —
начала XIX в. В нем отразились многие специфические черты
европейского Просвещения: опираясь на гуманистические начала
своего миропонимания, автор «Путешествия...» обосновывал
главные требования антифеодального движения. В этих требованиях
нашли выражение особенности общественно-исторического
развития России того времени. В отличие от Франции, главной силой
антифеодального движения которой выступало «третье сословие»,
на почве российской действительности такой силой стала
крестьянская масса. Отсюда политическая ориентация Радищева на
угнетенное, но борющееся крестьянство, защита правомерности
крестьянской революции как средства решения социальных
проблем, обоснование крестьянско-республиканских идеалов. Не
случайно одним из источников его социальной философии были
манифесты Пугачева. Социально-политическая платформа автора
«Путешествия...» являлась важным элементом идеологической
программы революционного крыла Просвещения XVIII в.,
которое, наряду с антифеодальным протестом сил «третьего сословия»»
в радикальной форме выражало самостоятельно звучавшие
принципы бунтарски протестующего крестьянства.
Весьма значительным был вклад Радищева в идейную
программу западноевропейских просветителей, в их философию,
этику, педагогику, эстетику, теорию аргументации и, сказали бы мы,
методологию. В последние два десятилетия XVIII в. отчетливо
обнаруживались ограниченности принципов «естественного права»,,
«общественного договора» и «утилитаризма», развертывались
поиски новых решений проблемы «природа — человек —
общество». Как и многие мыслители эпохи Просвещения, Радищев
считал, что путь к воплощению в жизнь идей свободы личности
лежит через постижение истинной «природы человека». Отсюда
антропологическая ориентация в философии, теоретическая почва
для которой была подготовлена трудами Ломоносова и
Гельвеция, К. Вольфа и Поленова, Максимовича-Амбодика и Дидро,
Каверзнева и Шевона, Прево и Новикова, Галлера и Фонвизина.
Различные варианты философской антропологии конца XVIII в.,
ставя проблему человека в центр философского анализа, решали
ее на базе натурфилософского антропогенеза, эволюционизма,
стихийной диалектики и сравнительно-исторических приемов ис-
!94
следования. При этом познание сущности человека было нацелено
на высвобождение его природных сил и возможностей, на
«самореализацию» главной из «натуральных сил» — свободы. В этой
связи Ф. Энгельс отметил, что XVIII век был «последним шагом
на пути к самосознанию и самоосвобождению человека» [1, 1,
598].
Сказанное помогает понять, почему в России последней трети
XVIII в. характерным явлением выступала гуманизация предмета
философии, почему творчество Радищева стало наиболее ярким
выражением этой тенденции, в которой нашла развернутое
обоснование система понятий о человеке. Самое интересное и
удивительное в этом обосновании — проницательное вычленение и
подчеркнутое описание, т. е. осознание, главных черт,
особенностей (принципов) философской антропологии. Вслед за Спинозой
и Декартом, Лейбницем и Кантом, Пейном и Джефферсоном,
Новиковым и Фонвизиным Радищев попытался теоретически
осмыслить проблему активности человеческого сознания. Подходя
к ее освещению с позиций философской антропологии, русский
мыслитель вместе с тем доказывал несостоятельность
идеалистических решений, подвергал критике немецкий трансцендентализм,
мистицизм, философский спиритуализм и мистический
субъективизм масонов. Вместе с тем он указывал на слабые стороны
французского материализма, одностороннему рационализму и
механистическому сенсуализму противопоставлял идею о примате
«человеческого начала» в философии. Здесь налицо не
«дилетантское увлечение идеями Просвещения» [570, 19], а глубокое,
притом весьма критическое и творческое усвоение идей наиболее
крупных его представителей с учетом «собственных задач»,
понятых в контексте его эпохи.
Заслуживает внимания решение Радищевым вопроса о
предмете философии. В трактате «О человеке...» в предмет философии
включается не только весь комплекс понятий о человеке, но и
проблемы смертности, бессмертия, путей, средств, «сил»
познания, достижения блага, человеческого счастья и т. п. Опираясь
на естественнонаучный материализм Ломоносова, а также на
труды антропологов, физиологов, медиков, психологов, этнографов,
Радищев стремился создать цельное философское учение о
природе и обществе. В этом учении человек был представлен как
высший продукт эволюции живого мира, как естественный (а не
божественный) результат движения материального субстрата, как
феномен, своими свойствами демонстрирующий уникальность
фундаментальных законов бытия, а своим составом — целостность
объективного мира. Исходя из единства материального и
духовного (тела и души) в человеке, а также из идеи эволюции
природного мира и исторического прогресса, Радищев отстаивает
позицию философского монизма.
Центральным в трактате «О человеке, о его смертности и
бессмертии» является вопрос о «тождестве» бытия и мышления,
которому дается материалистическая, хотя и «гадательная», гипо-
7*
195
тетическая и в известной мере натуралистическая интерпретация.
Вместе с тем освещение проблемы «тождества» Радищевым
содержит в себе элементы диалектики. Бытийный (космический) и
антропологический (личностный) аспекты реальности в его
философии не противопоставлены, а рассматриваются в единстве.
Теоретическую базу этого рассмотрения составляют принципы
эволюционизма, пантеизма и философской антропологии. В
гносеологическом плане такое истолкование позволяло русскому
мыслителю, с одной стороны, видеть некоторые аспекты
диалектики субъекта и объекта познания, с другой — как бы
«опростить» ту же диалектику процесса познания, сводя его реальные
противоречия к идее слитного «тождества» субъектно-объектной
пары [см. 7, 2, 135—140].
Мы видели, что наряду с Гельвецием и вслед за Дидро
Радищев искал выход из имманентных противоречий своего понимания
проблемы «тождества» бытия и сознания. В главном философском
трактате, пользуясь доказательствами, «на естественности
человека основанные» [там же, 66], автор «очеловечивал» то, что
сам называл «теоретическим разумом». Таким образом, была
предпринята попытка преодоления механицизма мышления
XVIII в., причем в отличие от представителей классического
немецкого идеализма делалось это не через признание
«самодвижения разума», а через раскрытие «тайн» и «сил» природы и
общественной жизни, т. е. через «самодвижение
действительности». Путь, которым шел Радищев, обращаясь к вопросам о
природе идеального, смертности или бессмертии души и т. п., связан
был с апелляцией к данным науки. При этом постановка и
решение проблемы «тождества» остаются или связанными с основным
вопросом философии, т. е. находятся на уровне
материалистической ориентации, или, оставаясь в рамках материалистического
решения основного вопроса философии, средствами «семенного
любомудрия» духовное низводится к материальному [там же,
139—140]. Тем самым Радищев не заслуживает обвинения в
идеализме. Сохраняя верность материализму, он стремится к
философскому монизму, имеющему опору в теоретической
антропологии. От него нельзя требовать научного «разведения»
(разграничения) составных элементов проблемы идеального, полной
вооруженности диалектикой.
Близко подходя к пониманию диалектики, Радищев
сформулировал ряд важнейших принципов оригинальной концепции
философского антропогенеза. Он один из первых в мировой
литературе начал исследовать одновременно все основные компоненты
родовой природы человека: биологическую, духовно-психическую
и социальную (общественную). Антропологическая философия
Радищева обосновывает закономерный характер связей индивида
с окружающей его средой, в том числе с непосредственной сферой
социальных отношений. Значение изысканий русского мыслителя
в области социальной психологии подчеркнуто в словах
крупнейшего советского историка психологии М. Г. Ярошевского: «Мы не
196
знаем другого материалиста в XVIII в., кроме Дидро, которого
можно было бы поставить рядом с Радищевым по глубине
понимания материальной сущности психических явлений, своеобразию
их развития, зависимости от природных и социальных факторов»
[561, 162].
Философия человека Радищева связана с определенной
традицией в европейской философской мысли нового времени.
Известно, что И. Кант в одном из писем 90-х годов на имя русского
антрополога-идеалиста А. М. Белосельского-Белозерского
признавал самостоятельную роль философов России в разработке
антропологических идей [см. 244, 278]. В конце жизни немецкий
мыслитель сам создал трактат «Антропология с прагматической
точки зрения» (1798). В предисловии к нему, излагая основные
принципы «философии человека», он подчеркнул большое
значение теоретической антропологии в новых исторических условиях
[см. 243, 6, 351—354]. Связанная с Просвещением, философская
антропология Канта во многом сохраняла субъективистский и
дуалистический характер. Гегель, впервые подметивший это, дал
объективно-идеалистическое толкование антропологической
проблематики своего времени [см. 120, III, 52—201]. Радищев
обосновывал и развивал материалистический вариант философской
антропологии, и в этом состояла его несомненная заслуга в
истории философии.
Хотя сильной стороной философских взглядов Радищева
являлся материалистический характер исходных принципов, однако
с помощью только антропологических и естественнонаучных
понятий, а также отдельных социально-экономических и
идеологических установок довести материализм «доверху» было
невозможно. Для этого не созрели социальные условия. Восемнадцатое
столетие породило тенденции, которым в полной мере суждено
было проявить себя только в последующее время. «Этот век, —
считал Ф. Энгельс, — собрал воедино результаты прошлой
истории, которые до того выступали лишь разрозненно и в форме
случайности, и показал их необходимость и внутреннее сцепление.
Бесчисленные хаотичные данные познания были упорядочены,
выделены и приведены в причинную связь; знание стало наукой, и
науки приблизились к своему завершению, т. е. сомкнулись, с
одной стороны, с философией, с другой — с практикой» [1, 1,
599].
Тем не менее своеобразный преддиалектический (в научном
значении понятия «диалектика»), интегративный принцип
истолкования явлений, опора на естествознание, антропологию,
медицину и психологию, включение в теорию познания модуса
человеческой деятельности, активности сознания определили особое
место философии Радищева в истории культуры — ее роль и
значение, характер влияния на современников и следующих за ними
преемников. Антропологическая природа философских понятий
автора «Путешествия...» и трактата «О человеке...» придала
воззрениям русского мыслителя особую притягательную силу, яви-
197
лась теоретическим основанием его гуманистического учения.
Достаточно поставить рядом с Радищевым любого из его
предшественников — писателя, публициста или философа, чтобы
увидеть, что возможные сравнения требуют признания «философии
человека» качественно новым явлением в истории русской
духовной культуры. Внедрение Радищевым антропологических
принципов в философию означало демократизацию и самой
философии, и тех выводов, которые делали в области идеологии и
политики ее сторонники. Не случайно философия Радищева
определяла судьбу многих из представителей российского
освободительного движения.
В нашей литературе справедливо регенерируется и
обосновывается точка зрения, которую автор в меру своих сил защищает
и аргументирует: Радищев не был мыслителем-одиночкой. При
его жизни и после его смерти против царизма и крепостничества
действовала целая плеяда просветителей. Любопытно, что
советские ученые уже в 30—40-х годах в круг последователей
Радищева включали И. П. Пнина, В. В. Попугаева, П. И. Челищева,
И. М. Борна, А. X. Востокова, В. В. Пассека, С. А. Тучкова,
Ф. В. Каржавина. Историк отечественной философии В. И.
Рабинович добавляет к этому списку имена архитектора В. И.
Баженова, писателя В. В. Капниста, художников И. А. Ерменева и
И. X. Набгольца, издателя И. К. Шнопа [см. 430, 170—177].
Демократическим, гуманистическим, философско-этическим и
революционным идеям Радищева в XIX в. отдавали должное
декабристы, петрашевцы, революционные
демократы-шестидесятники, герои «Народной воли» и социал-демократы 90-х годов.
Конечно, последователи Радищева по-разному, не однозначно
воспринимали те или иные грани его наследия. Вычленяя
революционные взгляды Радищева, в идейной программе автора
«Путешествия...» следует видеть также и другие стороны его
миропонимания, свойственные просветительству в целом, а не только
его революционному крылу, — демократизм, гуманизм,
требование общественных перемен, защита идеи прогресса. Когда
В. И. Ленин в работе «От какого наследства мы отказываемся?»
указывает на черты наследства, достойного преемства, он имеет
в виду широкое просветительское движение: не случайно в один
ряд попадают все, кто выступал в защиту идей демократии, и те,
кто, оставаясь демократом, был еще и революционером.
Трудно переоценить влияние философии Радищева на
формирование и развитие философско-антропологической традиции в
России XIX в., сыгравшей большую роль в подготовке почвы для
восприятия марксизма в нашей стране, в формировании
мировоззрения Г. В. Плеханова и В. И. Ленина. Рассматривая этот
вопрос, мы обнаруживаем прямые высказывания многих
мыслителей, свидетельствующие о понимании антропологического
характера основ миропонимания автора «Путешествия...». Примером
могут быть высказывания о Радищеве Пушкина, Герцена,
Антоновича, Чернышевского, Плеханова.
198
Специфику философской ориентации Радищева М. А.
Антонович видел в отрицании «дуализма человеческой природы»,
признании законности «естественных стремлений человека и т. п.»
[37, 297]. Г. В. Плеханов отмечал тождественность аргументации,
стиля мышления Радищева, Чернышевского и Добролюбова,
особенно при решении вопросов о «побуждениях, руководящих
людьми» [см. 405, III, 321]. Плеханов писал: «В теории он
(Радищев. — П. Ш.) весьма часто опирался на посылки, имевшие очень
много общего с философскими посылками Чернышевского и
Добролюбова» [405, III, 318—319]. Вместе с тем Плеханов находил
большое сходство «практических правил» Радищева,
Чернышевского и Добролюбова, имея в виду революционно-демократические
убеждения мыслителей России. Что же касается общности их
«философских посылок», то она, разумеется, связывалась с
антропологическим характером основ миросозерцания мыслителей,
по сути, одной школы или, точнее, одного направления в
философии и общественной мысли.
Весьма важно обратить внимание на отношение к Радищеву
выдающегося русского антрополога Д. Н. Анучина, который видел
в нем зачинателя антропологических знаний в России, мыслителя
широкого теоретического профиля, поборника единства людей и
народов мира, гуманиста и демократа. Любопытно, что открытие
первого памятника Радищеву в Петрограде в 1918 г. совпадает с
выпуском в свет в Москве книги Д. Н. Анучина «Судьба первого
издания «Путешествия...» Радищева». В книге проанализирован
гуманистический характер наследия первого русского
революционера мыслителя [см. 38].
Борец за счастье народа, великомученик Свободы, Радищев
являлся подлинным эталоном мужественного проникновения в
сущность теоретических задач своего времени. Философская
концепция автора «Путешествия...» и трактата «О человеке...», его
антропологическая ориентация усиливали идейный потенциал той
«солидной материалистической традиции», на которую опирались
все главные направления передовой общественной мысли России.
Но не только в России, а и во многих странах Европы и других
континентов, на протяжении всего XIX в. оставались актуальными,
практически важными вопросы, выдвинутые на передний план
Радищевым. В современных условиях особенно остро ощущается
правота тех зарубежных комментаторов наследия великих
русских просветителей XVIII в., которые утверждают, что
характеристика европейского Просвещения без учета наследия Радищева
должна быть признана существенно неполной [см. 579].
Все же почему так остро наши предшественники и мы сами
воспринимаем неправду или полуправду о Радищеве, о его
воззрениях и реальном вкладе в духовную культуру человечества?
Чем, какими чертами, особенностями своей жизни и деятельности
людям нашего времени дорог создатель «Путешествия...»? Что в
нем как мыслителе и человеке продолжает возбуждать в нас
высокие порывы?
199
Из ответов на поставленные вопросы на первое место хотелось
бы поставить оценку духовного облика Радищева как образца
убежденности, самоотверженного служения истине, сочетания в
единстве слова и дела. К своим выводам, к убеждениям Радищев
шел через труд и усилия десятилетий.
Финал жизни Радищева — апофеоз самозащиты, а также
защиты того дела, которому мыслитель-революционер посвятил всю
свою жизнь. Это был итог его борьбы за свободу и счастье
народа. Самопожертвование станет одной из черт возвышенного
благородства выдающихся деятелей всех этапов российского
освободительного движения. «Вилюйский узник» (Чернышевский)
похож будет на «узника Илимского» (Радищева) своей
жизненной судьбою и духовным обликом. Правда и совесть являли собой
священные ориентиры этой судьбы. Даже выбор Радищевым
трагической формы финала жизни следует рассматривать на фоне
слабости первых ростков освободительного движения, только
начавшего вовлекать в свою орбиту лучших людей из дворян и
разночинцев, выступавших «впереди дня будущего», прозревавших
задачи борьбы «сквозь целое столетие». Как деятель духовной
культуры, Радищев стоял у истоков нашего освободительного
движения и тем дорог нам как великий гуманист и первый
«прорицатель вольности».
Нельзя не видеть, что Радищев являлся в свое время
наиболее ярким выразителем самого существенного и животворного в
философии и идеологии России. Его учение являлось вершиной
российского Просвещения XVIII в. Многие и многие годы оно
активно формировало новые интернациональные задачи
человечества, новое, просветительское мышление. Искания Радищева,
успехи и заблуждения, удачи и ошибки русского мыслителя и
поэта, все его сложное, но глубоко гуманистическое наследие
поныне служит нам в строительстве будущего, помогая разбираться
в том, что хорошо и что плохо. Творчество автора
«Путешествия...» и трактата «О человеке...» содействует пониманию
диалектики повседневного бытия. Призывы Радищева объединять
усилия в решении общечеловеческих антивоенных проблем, его идеи
о самоценности человеческой жизни, высоком назначении
человека являются актуальными в условиях ядерного века, борьбы
против атомного самоуничтожения.
Сознавая значение пропаганды гуманистической программы
Радищева, важно видеть наличие возможностей коллективного
приложения усилий к разработке и популяризации наследия
великого русского просветителя. Этой цели могло бы эффективно
служить новое академическое издание произведений А. Н.
Радищева. Осуществление такого издания явилось бы формой
творческого единения литературоведов, философов, историков,
экономистов, правоведов, психологов и журналистов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
2. Ленин В. И. Полн. собр. соч.
3. Материалы XIX Всесоюзной конференции КПСС. М., 1988.
4. Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается.
Доклад на торжественном заседании, посвященном 70-летию Великой
Октябрьской социалистической революции. М., 1987.
5. Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для
всего мира. М., 1987.
6. Горбачев М. С. За безъядерный мир, за гуманизм международных от-
ношений//Правда. 1987. 17 февр.
7. Радищев А. Н. Полн. собр. соч. Т. 1.—3. М.—Л., 1938—1952.
8. Радищев А. Н. Собрание оставшихся сочинений покойного Александра
Николаевича Радищева. Спб., 1807—1811.
9. Радищев А. Н. Избранные сочинения. М.—Л., 1949.
10. Радищев А. Н. Избранные философские и общественно-политические
произведения. К 150-летию со дня смерти. 1802—1952 гг. М., 1952.
11. Радищев А. Н. Избранные философские сочинения. М., 1949.
12. Р а д и щ е в А. Н. Полное собрание стихотворений. Л., 1940.
13. А. Н. Радищев (1749—1802). М., 1949.
14. Архив внешней политики России (АВПР), фонд Сношений России с
Саксонией (1767—1771).
15. Аверин цев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
16. А в ер к и ев а Ю. П. История теоретической мысли в американской
этнографии. М., 1979.
17. Агентов М. И., Г а ври лов И. Г. Открытие сокровенных художеств,,
служащее для фабрикантов, мануфактуристов, художников, мастеровых
людей и для экономии. Ч. 1—3. М., 1768—1771.
18. Адуло Т. И. Изучение теоретического наследия Радищева в советской
Белоруссии. Минск, 1970.
19. Айтматов Ч. Верю в человека. Наши нравственные ценности//Правда.
1987. 4 февр.
20. Александр Николаевич Радищев. М., 1954.
21. Алексеев М. П. Сибирь в известиях западноевропейских
путешественников и писателей. Т. 1. Иркутск, 1932.
22. Алпатов М. А. Взгляды А. Н. Радищева на всеобщую историю//Вест-
ник истории. 1953. № 2.
23. Аналогические таблицы. Ч. 1—5. Опб., 1784—1787.
24. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977.
25. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды. Т. 1. М., 1980.
26. Анатомико-физиологический словарь. Спб., 1783.
27. А н д р е е в И. Л. Диалектико-материалистическая концепция
происхождения человека и общества//Коммунист. 1976. № 10.
28. Анис и мо в Е. В. Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие
Петра. М., 1986.
29. А н и ч к о в Д. С. Рассуждения из натуральной богословии о началах ш
происшествии натурального богопочитания. М., 1769.
30. Аничков Д. С. Слово о невещественности души. М., 1777.
31. Аничков Д. С. Слово о разных причинах, немалое препятствие
причиняющих в продолжении познания человеческого. М., 1774.
201
32. Аничков Д. С. Слово о разных способах, теснейший союз души с телом
изъясняющих. М, 1783.
33. Аничков Д. С. Слово о свойствах познания человеческого. М., 1770.
34. А. Н. Радищев — великий русский революционер и мыслитель (к
225-летию со дня рождения). Иркутск, 1974.
35. А. Н. Радищев, В. Г. Белинский, М. Ю. Лермонтов. Жанр и стиль
художественных произведений. Рязань, 1974.
36. А н т о н о в и ч И. И. Современная «философская антропология». Минск,
1970.
37. Антонович М. А. Предисловие К...//Ш л о с с е р Ф. К. Соч. Т. 8. Спб.,
1871.
38. А н у ч и н Д. Н. Судьба первого издания «Путешествия...» Радищева. М.,
1918.
39. Аптек ер Г. Американская революция. М., 1963.
40. Арзуманова М. А. Новое о Ф. Эмине//Рус. лит. 1961. № 1.
41. Архив кн. Воронцова. Кн. 1—40. М., 1870—1897.
42. Архимандрит Гавриил. История философии. Ч. I—VI. Казань, 1840.
43. Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.
44. Афанасьев А. Н. Русские сатирические журналы 1769—1774 годов. М.,
1859.
45. Б а б к и н Д. С. А. Н. Радищев. Литературно-общественная деятельность.
М.—Л., 1966.
46. Бабкин Д. С. К раскрытию тайны «Живописца»//Рус. лит. 1974. № 4..
47. Бабкин Д. С. Процесс А. Н. Радищева. М.—Л., 1952.
48. Бабкин Д. С. Радищев и академия наук//Рус. лит. 1979. № 3.
49. Баженова А. А. Русская эстетическая мысль и современность. М., 1980.
50. Б а з а н о в В. Г. Вольное общество любителей российской словесности.
Петрозаводск, 1949.
51. Бакмейстер Л. И. Топографические известия, служащие для полного
географического описания Российской Империи. Спб., 1771.
52. Бантыш-Каменский Д. Словарь достопамятных людей русской
земли. Ч. I—V. М., 1836.
53. Барбешкина 3. А. Совесть как этическая категория. М., 1986.
54. Б аре ко в Я. Л. Книги из собрания А. Н. Радищева//Дела и дни. 1920.
№ 1.
55. Б аре ко в Я. Д. Переписка московских масонов XVIII века. 1780—1792.
Пг., 1915.
56. Барсов А. А. Собрание 4291 древних российских пословиц. М., 1770.
57. Б а с и н Е. Я. Новые тенденции в освещении русской общественной мысли за
рубежом//Вопр. философии. 1959. № 10.
58. Батенин С. С. Человек в его истории. Л., 1976.
59. Батурин П. С. Исследование книги о заблуждениях и истине... Тула,
1790.
60. Баумейстер Ф. X. Метафизика. М., 1789.
61. Башилова М. П. Крепостные художники. М., 1949.
62. Бегунов Ю. К. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева.
М., 1983.
63. Белинский В. Г. Избранные философские произведения. М., 1948.
64. Белов В. Лад: очерки о народной эстетике. Архангельск, 1985.
65. Б е л о в П. Т. Философия выдающихся русских естествоиспытателей. М.,
1970.
€6. Белявский М. Т. Крестьянский вопрос в России накануне восстания
Пугачева. М., 1965.
67. Б е л я в с к и й М. Т. М. В. Ломоносов и основание Московского
университета. М., 1955.
68. Белявский М. Т. Однодворцы Черноземья (по их наказам в Уложенную
комиссию 1767—1768 гг.). М., 1984.
69. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955.
70. Бердяев Н. А. Русская идея. Париж, 1946.
71. Берков П. Н. Гражданин будущих времен//Изв. АН СССР, сер. лит. и
яз. 1949. Вып. 5.
202
72. Б ер ко в П. Н. «Умный разговор» М. М. Щербатова. Из истории русской
политической сатиры конца XVIII века//Рус. лит. 1966. № 3.
73. Бесс Г. «Полезность» как основное понятие Просвещения//Вопр.
философии. 1972. № 4.
74. Беседующий гражданин. Ч. 1—3. Спб., 1789.
75. Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. М.—Л., 1959.
76. Благой Д. М. Александр Радищев (1749—1949). М., 1949.
77. Блаженного Августина Богословские размышления о благодати божией и о
воле человеческой. Спб., 1786.
78. Блэкстон У. Истолкования английских законов... Кн. 1—3. М., 1780—
1782.
79. Бобров Е. Философия в России. Материалы, исследования и заметки.
Вып. III. Казань, 1900.
80. Богданов Б. В. Ленинские принципы анализа истории философии. М.,
1970.
8 К Б о г о л ю б о в В. Н. И. Новиков и его время. М., 1916.
82. Болдырев А. И. Проблема человека в русской философии XVIII в. М.г
1986.
83. Болотов А. Т. Путеводитель к истинному человеческому счастью. Ч. 1 —
3. М., 1784.
84. Болховитинов Н. Н. Россия и война США за независимость. 1779—
1783. М., 1976.
85. Болховитинов Н. Н. Становление русско-американских отношений.
1775—1815. М., 1966.
86. Бонне Ш. Созерцание природы. Т. 1—4. Смоленск, 1804.
87. Б о р н И. М. Некролог на смерть А. Н. Радищева//Свиток муз. Вольное
общество любителей изящного. Вып. И. Спб., 1803.
88. Б р а н к е в и ч М. С. Дух Эккартсгаузена. М., 1809.
89. Брянцев А. М. Слово о всеобщих и главных законах природы. М., 1799.
90. Б у г а н о в В. И. Очерки истории классовой борьбы в России XI—XVIII вв»
М., 1986.
91. Б у ев а Л. П. Человек: деятельность и общение. М., 1978.
92. Буш уев С. К. Русская историкография. Вып. III. M., 1959.
93. Бюффон Ж. Л. Естественная история человека. Т. 8. Спб., 1788.
94. В а в и л о в С. И. Исаак Ньютон. М., 1961.
95. Вавилов С. И. М. В. Ломоносов. М., 1961.
96. Валицкая Л. П. Русская эстетика XVIII века. Историко-проблемный
очерк просветительской мысли. М., 1983.
97. Васецкий Г. С. Мировоззрение М. В. Ломоносова. М., 1961.
98. В а с е ц к и й Г. С, И о в ч у к М. Т. Очерки по истории русского
материализма XVIII и XIX вв. М., 1942.
99. Введенский А. И. Судьбы философии в России. М., 1898.
100. Век просвещения. Париж—Москва, 1970.
101. Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование императрицы
Екатерины II. Пг., 1917.
102. Вернадский В. И. Кант и естествознание XVIII столетия. М., 1905.
103. Вечерняя заря. Ч. 1—4. М., 1782.
104. В иен И. Диссертация о влиянии анатомии в скульптуру и живопись. Спб.,.
1789.
105. В и л е не к а я Э. С. Неопубликованный трактат А. Н. Радищева//Вапр.
философии. 1949. № 1.
106. Виленская Э. С. О спорных вопросах и методах изучения идейного
наследия А. Н. Радищева//Вопр. философии. 1956. № 5.
107. Волков Б. О природе человека//Ц и ц е р о н М. Т. Три книги о
должностях. Спб., 1761.
108. Волфианская экспериментальная физика, с немецкого подлинника на
латинском языке сокращенная. Перевод Мих. Ломоносова. Спб., 1746.
109. Вольтер Ф. М. Кандид, или Оптимизм, то есть наилучший свет. Спб.,.
1746.
ПО. Вопросы генезиса капитализма в России. Л., 1960.
111. Вольф К. Теория зарождения. М., 1950.
203
112. XVIII век. Вып. 1—12. М.—Л., 1935—1977.
113. Восстание Емельяна Пугачева. Сборник документов. Л., 1935.
114. Выбранные места из книг Блаженного Августина о православной кефали-
ческой церкви... Спб., 1795.
115. Гагарин Г. П. Акафист апостолу и евангелисту Иоанну Богослову. М.,
1798.
116. Галактионов А. А., Никандров П. Ф. Русская философия XI—
XIX вв. Л., 1970.
117. Г а л и ч А. И. История философских систем. Спб., 1819.
118. Га л л ер А. О происхождении зла... М., 1786.
119. Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. Т. 1—2. М., 1971.
120. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1977.
121. Гейстер Л. Сокращенная анатомика, все дело анатомическое кратко в
себе заключающая. Спб., 1757.
122. Гельвеций К. Л. Соч. Т. 1—2. М., 1973.
123. Географический лексикон Российского государства. М., 1773.
124. Г ер дер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
125. Г ер дер И. Г. Избранные произведения. М.—Л., 1959.
126. Герцен А. И. Поли. собр. соч. М., 1962.
127. Герцен А. И. Избранные философские произведения. М., 1948.
128. Гёте И. В. Собр. соч. В 13 т. Т. 9. М., 1935.
129. Глинка С. Н. Были и небылицы и гражданское начальное уложение
Екатерины II. М., 1832.
130. Гоббс Т. Избранные сочинения. М.—Л., 1926.
131. Гоббс Т. Начальные основания философические о гражданине. Спб., 1776.
132. Гогоцкий С. С. Философский лексикон. Киев, 1876.
133. Гоголева Е. Рождение русского театра//Правда. 1978. 14 дек.
134. Гольбах П. Избранные произведения. М., 1963.
135. Гольдентрихт С. С. О природе эстетического творчества. М., 1977.
136. Головачева Р. Передовая психологическая мысль в Московском
университете XVIII века//Сов. педагогика. 1952. № 6.
137. Горбунов М. А. Философские и общественно-политические взгляды
А. Н. Радищева. М., 1949.
138. Горский В. С, Крымский В. С. Философские идеи в отечественной
средневековой культуре//Филос. науки. 1985. № 5.
139. Горький А. М. История русской литературы. М., 1939.
140. Горький А. М. О литературе. М., 1934.
141. Горький А. М. Собр. соч. В 30 т. Т. 24. М. 1953.
142. Г р и г о р ь я н Б. Т. Философская антропология. М., 1982.
143. Гроций Г. Рассуждение против атеистов и неутралистов. М., 1765.
144. Гуковский Г. А. Очерки по истории русской литературы и обществен-
вой мысли в России XVIII в. Л., 1938.
145. Гулыга А. В. Кант. М., 1977.
146. Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М., 1986.
147. Гуманизм: проблемы методологии истории. Владимир, 1977.
148. Гусейнов А. А. В поисках критерия нравственного прогресс а//Фил ос.
науки. 1968. № 4.
149. Давидович В. Е. Теория идеала. Ростов н/Д, 1984.
150. Даниила Неттелбладта. Начальное основание всеобщей
естественной юриспруденции. М., 1770.
151. Данилевский Р. Ю. Россия и Швейцария. Литературные связи XVIII—
XIX вв. Л., 1984.
152. Дашкова Е. Записки. 1743—1810. Л., 1985.
153. 225 лет издательской деятельности Московского университета. М., 1981.
154. Д е н и со в А. П. Н. Г. Курганов — выдающийся русский ученый и
просветитель XVIII в. Л., 1961.
155. Деревцов И. А. Педагогические идеи А. Н. Радищева. М., 1962.
156. Десницкий С. Е. Слово о прямом и ближайшем способе к научению
юриспруденции. М., 1778.
157. Дешан Л.-М. Истина, или Истинная система. М., 1973.
158. Дидро Д. Собр. соч. Т. 1—2. М.—Л., 1935.
204
159. Дмитриченко В. С. Общественно-политические взгляды Я. П.
Козельского. Киев, 1957.
160. Дневник А. В. Храповицкого. М, 1901.
161. Добролюбов Н. А. Избранные философские произведения. М., 1948.
162. Добролюбов Н. А. Русская сатира екатерининского времени//Соч. Т. 5.
М., 1963.
163. Документы и материалы по истории Московского университета второй
половины XVIII в. (1756—1786). Т. 1—3. М., 1960—1963.
164. Документы Ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений.
1773—1774 гг. М., 1975.
165. Державин Г. Р. Соч. Т. 1—9. Спб., 1864—1883.
166. Д о р о ш е в и ч Э. К. Философия эпохи Просвещения в Белоруссии. М.,
1971.
167. Досократики. Ч. 1. CXXI. М., 1961.
168. Дружинин Н. М. О периодизации истории капиталистических
отношений в России//Вопр. истории. 1949. № 11.
169. Друковцев С. В. Экономическое наставление дворянам, крестьянам,
поварам и поварихам. Спб., 1772.
170. Дубровский Д. И. Информация, сознание, мозг. М., 1980.
171. Дубровский С. М. К вопросу о сущности «азиатского» способа
производства. М., 1929.
172. Дулов А. В. Человек и природа в России XVIII — первой половины
XIX в.//Природа. 1979. № И.
173. Е в ген ь ев Б. С. Александр Николаевич Радищев. М., 1949.
174. Евграфов В. Е. Актуальные проблемы исследования истории философии
народов СССР//Ленинизм и современные проблемы историко-философской
науки. М., 1970.
175. Евсина Н. А. Архитектурная теория в России второй половины XVIII —
начала XIX века. М., 1985.
176. Елагин И. П. Опыт повествования о России. Спб., 1803.
177. Емельянов Б. В., Любутин К. Н. Введение в историю философии. М.,
1987.
178. Е р т о в И. Д. Начертание естественных законов происхождения Вселенной.
Спб., 1798.
179. Ефимов А. В. Очерки истории США. От открытия Америки до
окончания гражданской войны. М., 1958.
180. Ершов М. Пути развития философии в России. Владивосток, 1922.
181. Же л нов М. В. Предмет философии в истории философии. М., 1981.
182. Жижка М. А. Радищев. М., 1934.
183. Журавлев Вит., Журавлев Вал. Историзм мысли и действия//Прав-
да. 1987. 5 июня.
184. Заборов П. Р. Вольтер в России. Русская литература и Вольтер.
XVIII — первая треть XIX в. Л., 1978.
185. Замятнин В. Социально-экономические взгляды А. Н. Радищева (1749—
1949). Воронеж, 1949.
186. Западов В. А. Поэзия А. Н. Радищева//Р а д и щ е в А. Н.
Стихотворения. Л., 1975.
187. Западов А. В. Поэты XVIII века. М., 1984.
188...3 а п а д о в В. А. Державин и Радищев//Изв. АН СССР сер. лит. и яз.
1965. Вып. 6.
189. Записка неизвестного лица о Сенате и Государственном устройстве (1801)//
//Архив кн. Воронцова. Кн. 12. М., 1877.
190. Записная книжка для друзей человечества. Библиотека. А. Смирдина, ГБЛ.
№ 1278. Б/д.
191. Зверев Н. Ф. А. Н. Радищев. Киев, 1952.
192. Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Париж, 1950.
193. 3 и с ь А. Я. Эстетика: идеология и методология. М., 1984.
194. Знания, касающиеся вообще до философии. Кн. 1. Спб., 1751.
195. Золоти ицкий Вл. Рассуждение о бессмертии человеческой души... Спб.,
1768.
205
196. Зорин А. Радищев в ссылке//Библиотекарь. 1982. № 9.
197. Зорина А. Пятьсот лет споров о прекрасном//Лит. обозрение. 1985.
№ 4.
198. Зотов А. И. Русское искусство с древних времен до начала XX века. М.,
1979.
199. Зритель. Спб., 1792.
200. Зуев В. Ф. Начертание естественной истории... Ч. 1—2. Спб., 1786.
201. Зыбелин С. Г. Избранные произведения. М., 1954.
202. Зыбелин С. Г. Слово о сложениях тела человеческого. М., 1777.
203. Зырянов Н. А. Д. С. Аничков и его религиозное свободомыслие//ХХ
Герцеиовские чтения (Межвузовская конференция). Сер. Философия. Л.,
1967.
204. Зырянов Н. А. Из истории идейно-философской борьбы в России 60—
80 гг. XVIII в.//Философские исследования. Л., 1968.
205. Иакова Бруккера Критическая история философии... М., 1788.
206. Иванов Ю. Воссоздадим реальные обстоятельства (Об отрывке
«Путешествия в*** И*** Т***»)//Вопр. лит. 1966. № 2.
207. Иванов-Разумник Р. В. История русской общественной мысли. Т. 1.
Спб., 1914.
208. И в а и о в В. П. А. Н. Радищев. Л., 1965.
209. Избранные произведения русских естествоиспытателей второй половины
XVIII в. Т. 1—2. М., 1952.
210. Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII в,
Т. 1—2. М., 1952.
211. Из истории английской эстетической мысли XVIII века. М., 1982.
212. Из истории русской философии XVIII—XIX вв. М., 1952.
213. Из истории народного просвещения во Франции в эпоху революции//Рус-
ский вестник. Т. XXXVIII. Спб., 1862.
214. Из истории философии. Вып. 1—2. М., 1957—1958.
215. Из хроники семьи Воронцовых//Вестник Европы. Т. IV. Кн. 7. Спб.^
1887.
216. Ильенков Э. В. Проблема идеального//Вопр. философии. 1979. № 6.
217. И о в ч у к М. Т., Андреев А. Л., Маслин М. А. Актуальные вопросы
исследования марксизма-ленинизма, его философии и философской мысли
народов СССР//Вопр. философии. 1986. № 1.
218. Иовчук М. Т. Методологические проблемы истории философии и
общественной мысли. М., 1977.
219. Иовчук М. Т. Развитие материалистической философии в России в.
XVIII—XIX вв. Стенограмма лекций. М., 1940.
220. Иоганна Захария Платнера, доктора и профессора медицины в Лейпциге,.
Основательные наставления хирургические, медические и рукопроизводные.
Спб., 1761.
221. Историческая наука. Вопросы методологии. М., 1986.
222. История политических учений. Ч. 1. М., 1971.
223. История русской литературы. В 4 т. Т. 1. Л., 1980.
224. История русской культуры XVIII века. М., 1982.
225. История русской литературы XVIII века. Библиографический указатель. Л.,
1968.
226. История русской философии. Указатель литературы, изданной в СССР на
русском языке за 1917—1967 гг. Ч. 1—3. М., 1975.
227. История русской экономической мысли. В 3 т. М., 1958.
228. История СССР. Ч. 1. М., 1973.
229. История СССР с древнейших времен до конца XVIII в. М., 1983.
230. История философии в СССР. В 5 т. М., 1960.
231. История философии и современная идеологическая борьба. Новосибирск,
1981.
232. И то и се. Спб., 1769.
233. История эстетики, памятники мировой эстетической мысли. Т. I—V. М.,
1967.
234. Каверзнев А. А. Философское рассуждение о перерождении животных.
М., 1787.
206
235. К а г а н М. С. О духовном//Вопр. философии. 1985. № 9.
236. Каганова А. Французская буржуазная революция конца XVIII в. и
современная ей русская пресса//Вопр. истории. 1947. № 7.
237. Калено в а Э. Н. Философская и социологическая проблематика в
журналах Н. И. Новикова. М., 1977.
238. Калинин М. И. О коммунистическом воспитании. М., 1957.
239. К а л л а ш В. В. Рабства враг//Изв. отд. русск. яз. и словесн. Имп. Акад.
наук. Т. VIII. Кн. 4. Спб., 1903.
240. К а л ь я и о в а А. А. Н. Радищев. Саратов, 1949.
241. Каменский 3. А. Философские идеи русского просвещения. М., 1971.
242. Каменский 3. А. Цели и формы историко-философского исследования//
//Филос. науки. 1986. № 5.
243. Кант И. Соч. Т. 6. М., 1966.
244. Кант И. Трактаты и письма. М., 1980.
245. Кантемир А. Д. Сочинения, письма, избранные переводы. Т. 2. Спб.,
1868.
246. Каразин В. Н. Речь об истинной и ложной любви к отечеству//Сын
Отечества. Ч. IX. Спб., 1818.
247. Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М., 1982.
248. Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1987.
249. К а реев Н. И. Основные вопросы философии истории. М., 1883.
250. К а р е е в Н. И. Философия культурной и социальной истории Нового
времени. Б/м., 1893.
251. Каримов Э. Человек в изображении Льва Толстого. Ташкент, 1967.
252. Карманная книжка для В''* К"' (вольных каменщиков)... М., 1783.
253. Карякин Ю. Д., Плимак Е. Г. О двух оценках «Путешествия из
Петербурга в Москву» в советской литературе//Вопр. философии. 1955. № 4.
254. Карякин Ю. Д., Плимак Е. Г. О некоторых спорных проблемах
мировоззрения Радищева//Исторические записки АН СССР. Т. 66. М., 1960.
255. Карякин Ю. Д., Плимак Е. Г. Запретная мысль обретает свободу. 175
лет борьбы вокруг идейного наследия Радищева. М., 1966.
256. Карякин Ю. Д., П л и м а к Е. Г. Мистер Кон исследует русский дух. М.,
1962.
257. Кашин Н. П. Новый список биографии А. Н. Радищева...//Чтения в
обществе истории древностей российских. Кн. 2. Б/м., 1912.
258. Кашуба М. В. Георгий Конисский. М., 1979.
259. Келле В. Ж-, Ковальзон М. Я. Теория и история. М., 1981.
260. Кизеветтер В. А. Русская утопия XVIII века. Спб., 1901.
261. Кирпотин В. Я. Идейные предшественники марксизма-ленинизма в
России. М., 1931.
262. Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. М., 1977.
263. Ключевский В. О. Соч. В 8 т. М., 1959.
264. Ковалевский М. Хрестоматия по русской истории. Т. 3. М., 1915.
265. Коган Ю. Я. Просветитель XVIII века Я. П. Козельский. М., 1958.
266. Козьмин М. Б. Радищев — провозвестник русской революции.
Стенограмма публичной лекции. М., 1950.
267. Кол ее о в В. В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986.
268. Колесова Е. А. К характеристике философских взглядов А. Н. Радище-
ва//Филос. науки. 1981. № 4.
269. Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980.
270. Колокольников В. Сокращенная история философии от начала мира
до нынешних времен. М., 1785.
271. Комков Г. Д., Л е в ш и н Б. В., Семенов Л. К. Академия наук СССР.
Т. 1 (1724—1917). М., 1977.
272. Кондильяк Э. Трактат об ощущениях. М., 1935.
273. Кондорсе М. Библиотека человеческого общества. М., 1973.
274. Корелин М. С. Новые мемуары о революционной эпохе XVIII века//
//Исторический вестник. Кн. 10. М., 1880.
275. Корнеев П. В. Современная философская антропология (некоторые
проблемы и направления). М., 1967.
207
276. Корольков М. Поручик Федор Кречетов//Былое. № 4. Спб., 1906.
277. Котович А. Духовная цензура в России. (1799—1855). Спб., 1909.
278. Кочеткова Н. Д. Изучение Радищева за рубежом//Рус. лит. 1975,
№ 1.
279. Краткий очерк истории философии. М., 1984.
280. Краткое начертание физики. Спб., 1787.
281. Критика буржуазных концепций истории России периода феодализма. М.,.
1962.
282. Критика современных буржуазных фальсификаций истории философии
народов СССР. М., 1974.
283. Кропоткин П. А. Великая французская революция. 1789—1793. М.„
1979.
284. Кузнецов Б. Г. Философия оптимизма. М., 1972.
285. Кузнецов Б. Г. Современная наука и философия. М., 1981.
286. Кузнецов В. Н., М е й е р о в с к и й Б. В., Г р я з н о в А. Ф.
Западноевропейская философия XVIII в. М., 1986.
287. Кузьмин Р. Н. Русские писатели. М., 1971.
288. Кузьмина Т. А. Проблема соотношения философии и обыденного
сознания в истории философии//Вопр. философии. 1970. № 10.
289. Кулешов В. И. История русской критики XVIII—XIX веков. М., 1978,.
290. Кулакова Л. И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII
века. Л., 1968.
291. Культура, человек и картина мира. М., 1987.
292. Курдюков В. Е. Особенности развития философской мысли последней
трети XVIII века. Куйбышев, 1968.
293. К у р ы л е в Ю. И. Разработка А. Н. Радищевым основ
материалистической теории познания. М., 1962.
294. Лаппо-Данилевский А. С. Очерки внутренней политики
императрицы Екатерины II. Спб., 1899.
295. Лапшин И. И. Философские воззрения А. Н. Радищева. Пг., 1922.
296. Л е в ш и н В. А. Русские сказки, содержащие древнейшие повествования а
славных богатырях, сказки народные и прочие... Ч. 1—10. М., 1780—1783.
297. Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разуме. М.—Л., 1936.
298. Лейбниц Г. Избранные философские сочинения. Т. 1—2. М., 1968.
299. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. М., 1976.
300. Лесков Н. С. Поли. собр. соч. Т. 12. Спб., 1897.
301. ЛифшицМ. А. В мире эстетики. М., 1985.
302. Лихачев Д. С. Заметки о русском. М., 1981.
303. Личные архивные фонды в Государственных хранилищах СССР. Указатель.
Т. II. М., 1963.
304. Лозинская Л. Я. Во главе двух академий. М., 1983.
305. Ломоносов М. В. Избранные произведения. Ч. 1. М., 1986.
306. Ломоносов и русская литература. М., 1987.
307. Лонгинов М. Н. Федор Александр Эмин//Русская старина. 1873. № 7_
308. Лопухин И. В. Масонские труды Лопухина. М., 1780—1791.
309. Лорд Мальмсбюри о России в царствование Екатерины П//Русский
архив. Кн. 2. М., 1874.
310. Л о с е в А. Ф., Т а х о - Г о д и А. А. Аристотель. М., 1982.
311. Лотман Ю. М. Был ли А. Н. Радищев дворянским революционером?//
//Вопр. философии. 1956. № 3.
312. Лотман Ю. М. О некоторых вопросах эстетики А. Н. Радищева//Науч.
труды, посвященные 150-летию Тартуского гос. ун-та. Таллин, 1952.
313. Лукреций. О природе вещей. Т. II. Отрывки из Эпикура. М., 1947.
314. Луначарский А. Александр Николаевич Радищев — первый пророк и
мученик революции. Речь, произнесенная на открытии его памятника в
Петрограде 22 сентября народным комиссаром А. Луначарским. Пг., 1918.
315. Луначарский А. В. Статьи о литературе. М., 1957.
316. Л у п п о л И. К. Из материалов и документов по истории материализма в.
России//ПЗМ. 1925. № 12.
317. Л уппол И. К. Историко-философские этюды. М., 1935.
208
318. Любу тин К. Н. Критика современной философской антропологии. М.^.
1970.
319. Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. Т. 1. М., 1939.
320. Мавродин В. В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль в
России в XVIII веке (1773—1790). Л., 1975.
321. Магазин натуральной истории, физики и химии, или Новое собрание
материй, принадлежащих к сим трем наукам. Ч. 1 —10. М., 1788—1790.
322. Макогоне н ко Г. П. Александр Николаевич Радищев. М., 1952.
323. Макогон енко Г. П. Николай Новиков и русское просвещение XVIIL
века. М.—Л., 1951.
324. Макогон енко Г. П. Радищев и его время. М., 1956.
325. М а к с и м о в и ч - А м б о д и к Н. М. Физиология или естественная история,
человека. М., 1787.
326. М а л и и и н В. А. Основные проблемы критики идеалистической истории
русской философии. М., 1963.
327. Малышев В. За ширмой масонов. М., 1984.
328. Манифесты и прокламации Пугачева. М., 1973.
329. Марк А. А. О проблеме человека в истории философии. Харьков, 1970.
330. Маслин М. А., Рабинович В. И. О преемственности в развитии идей
русского просвещения XVIII в.: М. В. Ломоносов и Ф. В. Каржавин//Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. 1986. № 6.
331. Маслин М. А. Современные буржуазные концепции истории русской
философии. М., 1988.
332. М а с о н И. Познание самого себя. М., 1783.
333. Мендельсон М. Федон, или О бессмертии души. Спб., 1837.
334. Мендельсон М. Рассуждения о духовном свойстве души человеческой.
М., 1806.
335. Методологические проблемы историко-философского исследования. М., 1981.
336. Механика и физика XVIII в. М„ 1976.
337. Милюков П. Главные течения русской исторической мысли. Пбг., 1913.
338. Митрополит Евгений. Словарь русских светских писателей... Т. I, II.
М., 1843—1845.
339. Михаила Монтениева Опыты. Кн. 1, Спб., 1762.
340. Михайлов В. И. Общественно-политические и философские взгляды
А. Н. Радищева. Саратов, 1949.
341. Мияковский В. В. Учебные годы А. Н. Радищева//Голос минувшего..
1914. № 3, 5.
342. Мозг и психическая деятельность. М., 1984.
343. Момджян X. Н. Французское просвещение XVIII века. М., 1983.
344. Монтескье Ш. Л. Сочинения г. Монтескюия. Т. 1. Спб., 1775.
345. Моряков В. И. Из истории эволюции общественно-политических взглядов,
просветителей конца XVIII века. Рейналь и Радищев. М., 1981.
346. Московские ведомости. М., 1756—1810.
347. Московский университет и развитие философской и
общественно-политической мысли в России. М., 1957.
348. Московскому университету 225 лет. М., 1979.
349. Муратов М. В. Жизнь Радищева. М.—Л., 1949.
350. Мчедлов М. П. Общечеловеческое и социальное//Вопр. философии. 1976.
№ 5.
351. Мя котин В. А. Из истории русского общества. Спб., 1906.
352. Наказ е. и. в. Екатерины Вторые, данный Комиссии о сочинении проекта-
нового уложения (1767). Спб., 1770.
353. Нарский И. С. Западноевропейская философия. М., 1976.
354. Наука побеждать. М.,, 1984.
355. Неустроев А. Н. Указатель к русским повременным изданиям и
сборникам за 1703—1802 гг. и к историческому розыскиванию о них. Спб.,
1898.
356. Николаев П. А. Историзм в художественном творчестве и литературе.
М., 1986.
357. Никольский Н. М. История русской церкви. М., 1983.
209*
358. Ничик В. М. Из истории отечественной философии конца XVII —
начала XVIII в. Киев, 1978.
359. Ничик В. М. Феофан Прокопович. М., 1977.
360. Новая история (первый период). М., 1972.
361. Новиков Н. И. О главных причинах, относящихся к приращению
художеств и наук//Московское ежемесячное издание. Ч. 1. 1781.
362. Новиков Н. И. Опыт исторического словаря о российских писателях. Из
разных печатных и рукописных книг. Спб., 1772.
363. Новиков Н. И. Предуведомление//Утренний свет. Ч. 1—2. Спб., 1777.
364. Новицкий О. О духоборах. М., 1832.
364. Новые ежемесячные сочинения. (1786—1796). Спб., 1786—1797.
366. Обнаженный Вольтер. Спб., 1787.
367. Общественные науки на новом этапе//Правда. 1987. 28 ноября.
368. О дворянстве (Жалованная грамота. Утверждена 21 апр. 1785 г.). Спб.,
1785.
369. О должности человека и гражданина по закону естественному. Сочинения
Самуила Пуфендорфа. Спб., 1726.
370. Овсянников М. Ф. История эстетической мысли. М., 1984.
371. Овсянников М. Ф., Смирнова 3. В. Очерки истории эстетических
учений. М., 1963.
372. Овчинников Р. В. Манифесты и указы Е. И. Пугачева. М., 1980.
373. Озерецковский И. Начальные основания естественной истории... Спб.,
1791.
374. Ойзерман Т. И. Диалектический материализм и история философии. М.,
1979.
375. Ойзерман Т. И. Проблемы историко-философской науки. М., 1982.
376. Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома. АН
СССР. Т. I—IV. М.—Л., 1954—1960.
377. Описание рукописей собрания Черткова. Новосибирск, 1986.
378. Ореховский М. И. О гражданственности и чести. М., 1975.
379. Орлов А. С, Смирнов Ю. Н. Предисловие...//Жажда познания. М.,
1986.
380. Орлов В. Радищев и русская литература. Л., 1952.
381. Орлов П. А. Русский сентиментализм. М., 1977.
382. Осетров Е. Записки старого книжника. М., 1984.
383. Очерки истории русской этической мысли. М., 1976.
384. Павленко Н. И. Берг-коллегии 1719—1742 гг.//Организация управления
металлургической промышленностью в первой половине XVIII в. М., 1949.
385. Павленко Н. И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и
заводовл а дельцы. М., 1962.
386. Павленко Н. И. О ростовщичестве дворян в XVIII веке//Дворянство и
крепостной строй России XVI—XVIII вв. М., 1975.
387. Павлов А. Т. Дискуссионные вопросы истории русской философии в
научной литературе 50—60-х годов//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия.
1986. № 6.
388. Панов В. Г. Чувственное, рациональное, опыт. М., 1976.
389. П а н т и н И. К., П л и м а к Е. Г., X о р о с В. Г. Революционная традиция
в России. М., 1986.
390. Памятные записки А. В. Храповицкого, Статс-секретаря императрицы
Екатерины II (1782—1789). Кн. 1—2. Спб., 1862.
391. Панцхава И. Д. Человек, его жизнь и бессмертие. М., 1967.
392. Папаригопуло С. В. Прогрессивные русские мыслители XVIII в. о
мире и войне//Вопр. философии. 1960. № 2.
393. Парамонов Ю. И. Социальные утопии в России последней трети
XVIII — первой четверти XIX в. Свердловск, 1971.
394. Парсонс Г. Человек в современном мире. М., 1985.
395. Парыгин Б. Д. Основы социально-психологической теории. М., 1971.
396. Пастушный С. А., Шаталин Е. Н. Философско-методологический
анализ проблемы идеального//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Философия. 1985.
№ 6.
397. Пей пс Р. Россия при старом режиме. Кембридж (Массачусетс), 1980.
210
398. Пекарский П. П. Дополнение к истории масонства в России XVIII
столетия. Документы и письма 70—90-х гг. XVIII в. Спб., 1869.
399. Пекарский П. П. Введение в историю просвещения России XVIII
столетия. Спб., 1862.
400. Переписка императрицы Екатерины II с разными особами. Спб., 1807.
401. Периодическое издание Вольного общества любителей словесных наук и
художеств. Ч. I. M. 1804.
402. Пернетти Ж. Общественный человек. М, 1787.
403. Плеханов Г. В. Литература и эстетика. Т. I—II. М, 1948.
404. Плеханов Г. В. Литературное наследие. Сб. VI. М, 1938.
405. Плеханов Г. В., Соч. В 24 т. М.—Пг., 1923—1927.
406. П н и н И. П. Соч. М, 1934.
407. Подгородников М. И. Нам вольность первый прорицал: Радищев-
Страницы жизни. М., 1984.
408. Покровский В. С. Общественно-политические и правовые взгляды
А. Н. Радищева. Киев, 1952.
409. Покровский С. А. Государственно-правовые взгляды Радищева. М.,
1956.
410. Полевой Н. А. История русского народа//Соч. Т. I—II. М., 1830.
411. Поленов А. Я. О крепостном состоянии крестьян в России//Русский
архив. М., 1866.
412. П о п А. Опыт о человеке господина Попа. М., 1757.
413. Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII—XX вв. М.—
Л., 1961.
414. Почта духов... Ч. 1—2. Спб., 1789—1790.
415. Прев о А. Ф. История о странствиях вообще. Ч. 1—22. М. 1782—1787.
416. Преображенский А. А., Тихонов Ю. А. Итоги изучения
начального этапа складывания всероссийского рынка (XVII в.)//Вопр. истории. 1961.
№ 4.
417. Приказчикова Е. В. Экономические взгляды А. Н. Радищева. М.—Л.,.
1949.
418. Проблема человека в истории марксистско-ленинской философии.
Свердловск, 1980.
419. Проблемы гуманизма в русской философии. Краснодар, 1974.
420. Проблемы Просвещения в мировой литературе. М., 1970.
421. Проблемы русского просвещения в литературе XVIII в. М.—Л., 1961.
422. Прозорова А. Б. Радищев Александр Николаевич (1749—1802). Л.г
1979.
423. Прохазка Г. Трактат о функциях нервной системы. Л., 1957.
424. П у г а ч е в В. В. А. Н. Радищев (Эволюция общественно-политических
взглядов). Горький, 1960.
425. Путеводитель к истинному человеческому счастью. М., 1784.
426. Путешествие по Северу России в 1791 г. Дневник П. И. Челищева. Спб.,
1886.
427. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в.
1781 и 1782 годы. Спб., 1787.
428. Пушкин А. С. Поли. собр. соч. В 17 т. М.—Л., 1928—1964.
429. Пыпин А. Н. Крылов и Радищев//Вестник Европы. 1868. Май.
430. Рабинович В. И. Вслед Радищеву ...Ф. В. Каржавин и его окружение..
М., 1986.
431. Рабинович В. И. С гишпанцами в Новый Йорк и Гавану (жизнь и
путешествия Ф. В. Каржавина). М., 1967.
432. Радищев А. Н. Статьи и материалы. Л., 1950.
433. Радищев П. А. Биографические материалы об А. К. Радищеве//Русский
Вестник. Т. VIII. № 23. Спб., 1858.
434. Радлов Э. Л. К. Гельвеций и его влияние в России. Пг., 1917.
435. Радлоз Э. Л. Очерки истории русской философии. Пг., 1920.
436. Рассадин Ст. Сатиры смелый властелин. М., 1985.
437. Рассуждение Геллерта о том, для чего вредно знать о будущей своей
судьбе. М., 1787.
438. Рогов И. М. Трактат «О человеке...» и философская позиция А. Н. Ра-
211
дищева//Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. экономики, философии и права. 1958
Вып. 3. № 17.
439. Рукшина К. С. Радищев и американская революция//Изв. АН СССР
сер. лит. и яз. Т. 35. 1976. Вып. 3.
440. Русев П. Возможна ли философская антропология как наука? Резюме.
XV Всемирный конгресс по философии. Варна, 1973.
44! Русская литература последней четверти XVIII века. Хрестоматия. М.,
1985.
442. Русские просветители (от Радищева до декабристов). Собр. произв. В 2 т.
М., 1966.
443. Русский биографический словарь. Спб., 1909.
444. Русский архив. Кн. 2. М., 1882.
445. Руссо Ж. Ж. Трактаты. М., 1968.
446. Савицкий С. Ф. Слово в неделю восьмуюнадесять по сошествии
святого духа. Спб., 1743.
447. Сакулин П. Н. Пушкин и Радищев. Новое решение старого вопроса. М.,
1920.
448. Сатирические и философские сочинения Вольтера. М., 1784.
449. Сборник статей, не дозволенных цензурою в 1862 году. Т. I. Спб., 1862.
450. С в е т л о в Л. Б. А. Н. Радищев. Критико-биографический очерк. М.,
1958.
451. Светлов Л. Б. А. Н. Радищев и политические процессы конца XVIII в.
Изв. АН СССР сер. истории и философии. 1949. Т. VI. № 5.
452. Светлов Л. Б. Эстетическое значение творчества А. Н. Радищева//Эс-
тетика и искусство. М, 1966.
453. Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII
веке. Т. 1. А — С. Л., 1984.
454. Севастьянов Г. Н., Уткин А. И. Томас Джефферсон. М., 1976.
455. Семевский В. И. Радищев. Очерки и исследования. М.—Пг., 1923.
456. Семевский В. И. Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II.
Т. 1. Спб., 1903.
457. Семенников В. П. Радищев. Очерки и исследования. М.—Пг., 1923.
458. Сержантов В. Ф., Гречаный В. В. Человек как предмет
философского и естественнонаучного познания, Л., 1980.
459. Сиволап И. И. Радищев и Вольтер. М., 1980.
460. Сидоров Н. Обзор журналов. Ломоносов, Новиков, Радищев//Голос
минувшего. 1913. № 6.
461. Скабичевский А. М. Очерки по истории русской цензуры. Спб., 1892.
462. Сковорода Г. С. Соч. Т. 1. Киев, 1961.
463. Словарь русского языка XVIII века. Л., 1984.
464. Слово о связи вещей во вселенной... говоренное... июля 30 дня, 1790 г.
Андреем Брянцевым. М., 1790.
465. Смирнов С. К. История Московской славяно-греко-латинской академии.
М., 1855.
466. Смит А. Теория нравственных чувств. Спб., 1868.
467. Смоленое И. Великий писатель-революционер Александр Николаевич
Радищев. Псков, 1949.
468. Собрание лучших сочинений к распространению знания и к произведению
удовольствия. М., 1762.
469. Соколов М. В. Очерки истории психологических воззрений в России в
XI—XVIII веках. М., 1963.
470. Солнцев В. «Всякая всячина» и «Спектатор». Спб., 1892.
471. Соловьев С. М. Европа в конце XVIII века. Статья первая//Русский
вестник. Т. 38. М., 1862.
472. Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983.
473. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. В 15 кн. М.,
1963.
474. С о л о в ь е в С. М. Н. М. Карамзин и его «История государства
Российского». Спб., 1854.
475. Солодкий Б. С. Русская утопия XVIII в. и нравственный идеал челове-
ка//Филос. науки. 1975. № 5.
212
476. Солодкий Б. С. Человек в философском мире А. Н. Радищева//Пробле-
мы гуманизма в русской философии. Краснодар, 1974.
477. Социальные и гносеологические идеи в русской философской мысли в
XVIII — начале XX века. М, 1978.
478. Спектор М. М. Философский материализм А. Н. Радищева. Харьков,
1953.
479. Спиноза Б. Избранные произведения. М., 1948.
480. СтаренковМ. П. Эстетические взгляды А. Н. Радищева. М., 1958.
481. Старцев А. О прижизненных изданиях Радищева//Вопр. литературы.
1984. № 1.
482. Старцев А. И. Университетские годы Радищева. М., 1956.
483. Степанищев С. С. Развитие общественной мысли в трудах русских
революционных демократов. Минск, 1975.
484. Страшный суд г. Юнга. М., 1787.
485. Струмилин Г. С. Избранные произведения. М., 1967.
486. Сумароков А. П. Избранные произведения. Л., 1957.
487. С у р и н В. Проповедь человеческого достоинства и личности в русской
литературе второй половины XVIII в. Харьков, 1908.
488. Сухов А. Д. Атеизм передовых русских мыслителей. М., 1980.
489. С у х о м л и н о в М. И. А. Н. Радищев, автор «Путешествия из Петербурга
в Москву». Спб., 1883.
490 Т а т а р и н ц е в А. Г. А. Н. Радищев: архивные разыскания и находки.
Ижевск, 1984.
491. ТатаринцевА. Г. Радищев в Сибири. М., 1977.
492. Татищев В. Н. Разговор о пользе наук и училищ. М., 1887.
493. Т е г а к о Л. И. На пути к человеку. Критика идеалистических концепций
антропогенеза. Минск, 1986.
494. Т е п л о в Г. Н. Знания, касающиеся вообще до философии, для пользы тех,
которые о сей материи иностранных книг читать не могут. М., 1751.
495. Тер я ев А. Начальные основания ботанической философии. Спб., 1809.
496. Тер я ев А. Размышления о природе... Спб., 1802.
497. Титаренко А. И. Критерий нравственного прогресса. М., 1967.
498. Тихонравов Н. Четыре года из жизни Карамзина//Русский вестник.
Т. 38. Кн. 3—4. М., 1862.
499. Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90 т. М.—Л., 1928—1964.
500. Торжество веры над любовью. М., 1780.
501. Троицкий С. М. Россия в XVIII веке. Сборник статей и публикаций. М.,
1982
502. Трутень. Специальное изд. 1769—1770. Спб., 1769—1770.
503. Туган-Бароновский М. История русской фабрики. М., 1923.
504. Туган-Бароновский М. Русская фабрика в прошлом и настоящем.
Т. I. M., 1938.
505. Тюлина И. А. История и методология механики. М., 1979.
506. Уитроу Дж. Естественная философия времени. М., 1964.
507. Уокер М. История учит//Московские новости. 1987. 16 окт.
508. Уткина Н. Ф. Естественнонаучный материализм в России XVIII в. М.,
1971.
509. Уткина Н. Ф. Михаил Васильевич Ломоносов (к 275-летию со дня
рождения). М., 1986.
510. Уч. зап. Тартуск. ун-та. 1965. Вып. 167.
511. Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. 1—2. М., 1955.
512. Филиппов Л. А., Шинкарук В. И., Спектор М. М. Философская
позиция А. Н. Радищева в трактате «О человеке, о его смертности и бес-
смертии»//Вопр. философии. 1958. № 5.
513. Философско-методологические вопросы исторической науки. Основная
советская литература (1960—1979 гг.). М., 1981.
514. Фонвизин Д. И. Собр. соч. Т. 1—2. М.—Л., 1955—1959.
515. Форш О. Д. Радищев. Трилогия. М., 1962.
516. Фролов И. Т. Проблема человека в «век биологии»//Биологическое и
социальное в развитии человека. М., 1977.
517. Херасков М. М. Россияда. Поэма эпическая. М., 1786.
213
518. Цаголь Н. У истоков двух типов аграрной эволюции//Из истории
отечественной науки. М.—Л., 1949.
519. Чеботарев X. А. Географическое методическое описание Российской
Империи с надлежащим введением к основательному познанию земного шара
и Европы вообще. М., 1776.
520. Челпанов Г. Мозг и душа. М., 1912.
521. Черепанов Н. Е. Географическо-историческое учение. Ч. 1. М., 1792.
522. Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч. В 15 т. М., 1949.
523. Чечулин Н. Русское провинциальное общество во второй половине XVIII
века//Журнал Министерства народного просвещения. Спб., 1889.
524. Ч и к и н Б. Н. Из истории социальной психологии в России XIX века. М.г
1978.
525. Чичерин А. В. К вопросу о формировании русского философского
языка в XVIII веке//Вопр. славянского языкознания. Кн. 3. Львов—Харьков,
1953.
526. Чу л ко в М. Д. Краткой мифологической лексикон. Спб., 1767.
527. Чулков Н. Н. В. Кречетов — забытый радикальный публицист XVIII
века//Литературное наследство. 1933. Кн. 9—10.
528. Шафонский А. Ф. Описание моровой язвы, бывшей в столичном городе
Москве с 1770 по 1772 год. М., 1775.
529. Швелинг И. Э. Бессмертие души. Спб., 1779.
530. Шевон М. Антропология или общая наука о человеке. М., 1788.
531. Шеметов А. И. Прорыв: Повесть о Радищеве. М., 1978.
532. Шефтсбери А. Эстетические опыты. М., 1975.
533. Шишкин А. Ф. Человеческая природа и нравственность. М., 1979.
534. Ш к у р и н о в П. С. Н. Г. Чернышевский и современная буржуазная антро-
пология//Философия Чернышевского и современность. М., 1978.
535. Шкуринов П. С. О специфике философских воззрений А. Н. Радищева//
//Филос. науки. 1978. № 4; 1979. № 1, 4.
536. Ш к у р и н о в П. С. П. С. Чаадаев. Жизнь, деятельность, мировоззрение.
М., 1960.
537. Шлоссер Ф. К. История XVIII столетия и XIX до падения французской,
империи. Т. 3. Спб., 1868.
538. Шмаков А. А. Петербургский изгнанник. Челябинск, 1955—1956.
539. Шпет Т. Очерк развития русской философии. Ч. I. Петроград, 1922.
540. Шторм Г. Нам вольность первым прорицал...//Литературная газета. 1973.
22 авг.
541. Шторм Г. П. Потаенный Радищев. Вторая жизнь «Путешествия из
Петербурга в Москву». М., 1974.
542. Штранге М. М. Русское общество и французская революция 1789—
1794. М., 1956.
543. Щапов А. Социально-педагогические условия умственного развития
русского народа. Спб., 1870.
544. Щеглов А. В. Философские дискуссии в СССР в 20-х — начале 30-х:
годов//Филос. науки. 1967. № 5.
545. Щ е г о л е в П. Е. Из истории журнальной деятельности А. Н. Радищева//
//Минувшие годы. 1908. дек. № 12.
546. Щербатов М. М. О повреждении нравов в России... М., 1983.
547. Щипанов И. Я. Еще раз о А. Н. Радищеве//Вопр. философии. 1957.
№ 6.
548. Щипанов И. Я. Общественно-политические и философские взгляды
А. Н. Радищева (1749—1802). М., 1950.
549. Щипанов И. Я. Философия в России последней трети XVIII — начала
XIX века. Просветители и А. Н. Радищев//История философии. Т. 1. М.„
1957.
550. Щипанов И. Я. Философия русского Просвещения. Вторая половина
XVIII века. М., 1971.
551. Эвентов И. А. Н. Радищев в оценке В. И. Ленина...//За рубежом. № 8.
Петрозаводск, 1949.
552. Эйдельман Н. Я. Александр Радищев: Рассказ о жизни-подвиге
русского революционного мыслителя. М., 1983.
214
553. Элькина Н. М. Идейно-политическая борьба в период политики,
просвещенного абсолютизма. М., 1974.
554. Э м и н Ф. Курьер из ада с письмами. Спб., 1788.
555. Эпоха Просвещения. Л., 1967.
556. Язык русских писателей XVIII века. Л., 1981.
557. Яковлев В. Г. Религия и разум. Алма-Ата, 1978.
558. Якушкин В. Радищев//Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона. Т. 26. Спб., 1899.
559. Якушкин В. Е. Радищев и Пушкин. М., 1886.
560. Ярошевский М. Г. Иван Михайлович Сеченов. Л., 1968.
561. Я р о ш е в с к и й М. Г. История психологии. М., 1976.
562. Ярошевский Т. М. Размышления о человеке. М., 1984.
563. А. N. Radiscev und Deutschland. В., 1969.
564. Barrat G. A note on Radishchev and the Pugachovscina. Slavic and East
European Studies. Montreal, 1973.
565. Bentham J. Correspondence. V. I—II. L., 1968.
566. Berlin I. Russian Thinkers. N. Y., 1979.
567. В i 11 n e r K. I. G. Herder und A. N. Radiscev//Zeitschrift fur slavische Phi-
lologie. Bd. 25, Hf. 1. Leipzig, 1956.
568. С a b a n i s P. J. G. Rapports du physique et du morale de L'homme. P.,
1805.
569. СI а г d у J. V. The Philosophical Ideas of Alexander N. Radischev. N. Y.,
1967.
570. Copleston F. C. Philosophy in Russia. From Herzen to Lenin and Ber-
dyaev. Notre-Dame, 1986.
571. Dukes P. Catherine the Great and the Russian nobility. Cambridge, 1967.
572. Essays on Russian intellectual history. L., 1971.
573. Erlauterungen zur deutschen Literatur. В., 1963.
574. Evgenev B. Alexander Radishchev. L., 1946.
575. FeuerbachL. Gesammelte Werke. Bd 1. В., 1981.
576. Florinsky M. T. Russia. A history and interpretation. V. 1. N. Y., 1955.
577. Gadamer H. G. Wahrheit und Methode. Grundzuge einer philosophischen
Hermeneutik. Tubingen, 1986.
578. Goerdt W. Russische Philosophie: Zugange und Durchblicke. Frieburg-
Munchen, 1984.
679. Grasshoff H., Lauch A., Zehmann U. Gumanistische Traditionen der
russischen Aufklarung. В., 1973.
580. Grasshoff A. N. Radiscev und Moses Mendelssohn//Slawisch-deutsche
Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur. В., 1969.
581. Griffiths D. M. In Search of Enlightment: Recent Soviet Interpretation
of Eighteenth Century Russian Intellectual History//Canadian-American
Slavic Studies. V. 16. N 3—4. Fall-Winter, 1982.
582. Hare R. Pioneers of Russian Social Thought. Oxford, 1951.
583. Hare R. Portraits of Russian personalities between reform revolution. L.,
1959.
584. Herder J. Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Mensch-
heit. Leipzig, 1774.
585. Herder J. Ober den Ursprung der Sprache. Leipzig, 1772.
586. Hoffmann P. Radiscev in Leipzig//Garl-Marx-Universitat. 1409—1959.
Beitrage zur Universitatsgeschichte. Bd 1. Leipzig, 1959.
587. Hoffmann P. Russische Studenten in Leipzig. 1767—1771. Deutsch-sla-
vische Wechselseitigkeit in achtzehnten Jahrhundert. В., 1956.
588. Kassirer E. Was ist Mensch? Stuttgart, 1960.
589. Kolakowsky L. Main Currents of Marxism. V. 2. Oxford, 1978.
590. Lampert E. Stadies in Rebellion. L., 1957.
591. Lang D. M. The First Russian Radical Alexander Radishchev. 1749—1802.
L., 1959.
592. L e n t i n A. Russia in the eigheenth century from Peter the Great to
Catherine the Great (1696—1796). N. Y., 1973.
593. Los sky N. O. History of Russian Philosophy. N. Y., 1951.
<594. Luriviere Ch. Catherine II et MarmonteI//Revue des Etudes. P., 1899.
215
595. Masaryk. Th. Russland und Europa. Bd 1—2. Jena, 1913.
596. Masson Ch. Memoires secrets sur la Russie. V. 1—2. P., 1802.
597. Mc. Connel A. A Russian Philosopher: Alexander Radischev (1749—1802),
The Hague, 1964.
598. Mendelssohn M. Phadon, oder iiber die Unsterblichkeit der Seele. В.,
1869.
599. Page T. Utilitarism and it's Rebuttal in the Thought of A. N. Radishchev//
//Western Philosophical Sistems in Russian Literature. Berkeley, 1979.
600. Parsons G. Humanism and Marx's Thought. N. Y., 1971.
601. Pipes R. Karamzin's memoir on ancient and modern Russia. Cambridge,,
1959.
602. R a 1 f f M. State and nobility in the ideology of M. M. Shcerbatov//The
American Slavic and East European review. 1960. Oct.
603. Rogger H. National consciousness in 18-th century Russia. V. 1—2.
Cambridge, 1960.
604. Russian philosophy. The first historical anthology of Russian philosophical
thought. Chicago, 1969.
605. Schkurinow P. S. Alexander Radiscev//Neue Welt. 1952. N 19.
606. Schmidt A. Emanzipatorische Sinnlichkeit. Ludwig Feuerbachs antropolo-
gischer Materialismus. Munchen, 1973.
607. Schmidt H. Das historische Prinzip in der Weltanschauung und in Spat-
werk A. N. Radiscevs//A. N. Radiscev und Deutschland. В., 1969.
608. Shirakura K. On Alexander Radishchev's Ethical Jdeas//Japanese Slavic
and East European Stadies. 1981. V. 2.
609. S m i t h G. S. A. N. Radischev: a Concise Bibliography...//Study Group oa
Eighteenth Centry Russia. Newsletter. 1974. Sept. N 2.
610. Walicky A. A History of Russian Thought from the Enlightment to
Marxism. Stanford, 1979.
611. Western Philosophical Systems in Russian Literature. Berkeley, 1979.
612. Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universitat zum 175. Todestag^
A. N. Radiscevs. Leipzig, 1977.
613. Witkowsky T. Der Отрывок «Путешествия в*** И*** Т***» und das-
Problem seiner Attributierung//Studien zur Geschichte der russischen Litera-
tur des XVIII. Jahrhunderts. Bd III. В., 1968.
614. Witkowsky T. Radiscev und Rousseau.//Studien zur Geschichte der
russischen. Literatur des 18. Jahrhunderts. В., 1963.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абеляр П. 180
Аблесимов А. О. 172
Абрамов А. И. 3
Августин А. 64
Акимов И. А. 171
Александр I 14, 21
Алексеев М. П. 6, 170
Альтшуллер М. 6
Аничков Д. С. 30, 36, 38, 42, 43, 50,
56, 58, 61, 63, 64, 92, 103, 104,
107, 117, 125, 134, 146, 163
Анохин П. К. 115
Антонович М. А. 5, 198, 199
Анучин Д. Н. 79, 199
Аргамаков М. Ф. 13
Аристотель 71, 95, 114, 173, 174, 180
Арндт И. 84
Арно А. 122
Арцыбашев М. П. 102
Афонин М. 63
Бабкин Д. С. 44, 130
Баженов В. И. 198
Баженова А. А. 6, 171
Барсков Я. Л. 6
Барсов А. А. 13, 146
Батурин П. С. 30, 42, 56, 63, 64, 103,
149
Баумгартен А. 16, 173, 179
Бахтин М. М. 66
Башкин М. С. 153
Беккариа Ч. 30, 34
Белинский В. Г. 128, 155, 190, 192
Белосельский-Белозерский А. М, 197
Беме Я. 69
Бентам И. 17, 60, 64, 65, 173
Берков П. Н. 31, 38
Берлин И. 6
Берман Я. А. 102
Бернар К. 115
Бернштейн Н. 115
Бестужев-Рюмин М. П. 190
Бехтерев В. М. 115
Блэкстон У. 6, 34, 44, 63, 64
Бобров Е. А. 11, 183
Богданов А. И. 154
Богданович И. Ф. 17, 36, 163
Бодэн Ж. 56, 60
Бокль Г. Т. 6
Болотников И. И. 153
Болотов А. Т. 59, 92
Болтин И. Н. 26
Боннэ Ш. 81, 95, 96, 101
Борн И. М. 198
Бортнянский Д. С. 173
Бошкович Р. И. 57
Бошшеней В. 59
Бруно Д, 95
Брюс Я. А. 18
Бутлеров А. М. 92
Бэкон Ф. 6, 56, 95
Бэр К. 79
Бюффон Ж. Л. 57—59, 61, 76
Валицкая А. П. 6, 171
Вашингтон Д. 54
Введенский Н. Е. 115
Велланский Д. М. 128
Вениаминов П. 63
Вернадский В. И. 80, 129, 185
Винкельман И. И. 173, 179
Волков А. А. 17
Волков Ф. Г. 172
Вольтер Ф. М. А. 6, 9, 17, 31, 34, 42
64, 172, 173, 177
Вольф К. Ф. 57, 59, 61, 72—74, 76,
194
Вольф Хр. 6, 16, 60, 84, 96
Воронцов А. Р. 18, 20, 21, 135, 143
Воронцов Р. И. 15
Востоков А. X. 156, 183, 198
Галаган Г. Я. 6
Галактионов А. А. 6
Галилей Г. 95, 136
Галлер А. 56, 58, 178, 194
Гальперин П. Я. 3
Гегель Г. В. Ф. 29, 81, 92, 98, 103,
197
Геккель Э. 129
Геллерт К. Ф. 17
Гельвеций К.-А. 6, 16, 17, 56, 58,60,
62, 65, 69, 81, 91, 107, 109, 111,
119, 122, 132, 134, 154, 157, 173,
177, 179, 180, 186, 194, 196
Гердер И. Г. 6, 16, 17, 44, 52. 56, 59,
61, 71, 72, 74, 76, 81, 103, 111 —
113 125 132
Герцен А.'И. 5, 28, 49, 55, 118, 128,
146, 149, 155, 161, 166, 173, 178,
179, 185, 187, 188, 190—192, 198
Гёте И. В. 15, 16, 56, 59, 93, 103, 172
Гиппиус 3. Н. 102
Гоббс Т. 42, 56, 60, 134, 151
Гоголь Н. В. 47
Голицын Д. А. 64
Головин Н. 74
Гольбах П. А. 9, 16, 56, 60, 62, 69,
71, 91, 107, 109, 131
Гоммель К. Ф. 16
Гонта М. 153
Гораций 173
Горбачев М. С. 5, 6
Горбунов М. А. 6
Горький А. М. 154
Гофман П. 6
217
Грассхоф Г. 54
Грибоедов А. С. 47
Гримм М. 30
Гриффите Д. М. 6, 29
Гуковский Г. А. 6, 130, 170
Гус Я. 54, 135, 136
Даламбер Ж- Л. 16, 17, 30, 33, 34,
58, 62, 109
Дальтон Д. 57
Декарт Р. 58, 98, 103, 107, 126, 135,
136, 195
Деменье Ж- И. 59
Демокрит 180
Державин Г. Р. 36, 156, 173, 183
Десницкий С. Е. 12, 30, 36, 38, 42,
50, 56, 63, 64, 69, 103, 134, 137,
146, 149, 151, 163, 174
Дешан Л. М. 61, 169, 188
Джефферсон Т. 44, 51, 56, 59, 61,
132, 157, 161, 165
Дидро Д. 9, 16, 17, 30, 56, 58, 62,
64, 65, 69, 71, 74, 117, 132, 149,
151, 162, 173, 180, 194, 196, 197
Дмитриев И. И. 183
Дмитриевский И. 172
Добролюбов Н. А. 129, 190, 199
Достоевский Ф. М. 166
Дружинин Н. М. 31, 32
Дудек Г. 6
Дуне Скот 180
Евграфов В. Е. 6
Екатерина II 14, 19, 23, 27, 28, 30—
35, 37, 38, 40—42, 45, 53, 145, 173
Елагин И. П. 17, 74
Елизавета Петровна 14, 35
Ельчанинов 17
Епифанов П. П. 31
Ерменев И. А. 198
Ертов И. Д. 69, 83
Ефрем Сирин 145
Жоффрэн 33
Жуковский В. А. 156
Завадовский П. В. 21
Западов А. В. 38, 170
Западов В. А. 6, 130
Золотницкий В. 64, ПО, 114, 133
Зотов А. И. 171
Зульцер 173
Зыбелин С. Г. 63, 107, 112
Илья Муромец 156
Иоанн Златоуст 145
Иовчук М. Т. 6, 188
Исакович И. 38
Кабанис П. 58
Каверзнев А. А. 57—59, 61, 72, 74,
76, 92, 194
Кампер П. 81, 178
Кант И. 16, 17, 52, 56—59, 61, 71,
72, 74, 87, 103, 109, 111, 112, 119,
121, 125, 131, 147, 165, 188, 195,
197
Кантемир А. Д. 36, 136, 180, 184
Кантемир Д. К- 14, 36
Капнист В. В. 198
Каракотин 133
Карамзин Н. М. 59, 174, 183
Каржавин Ф. В. 163, 198
Карл I 45
Карякин Ю. Д. 6
Кауфман А. 177
Кафенгауз Б. 31
Каховский П. Г. 190
Каченовский М. Т. 26
Кеплер И. 136
Кибальчич Н. И. 80
Клопшток Ф. 109
Ключевский В. О. 26
Княжнин Я. Б. 9, 36, 172
Козельский Я. П. 13, 30, 36, 42, 43,
50, 56, 63, 64, 69, 103, 134, 136,
137, 146, 151
Колычев Н. 43
Кондильяк Э. 59, 62, 71, 107, 109,
119, 149, 154, 188
Кондорсе М. 44, 53
Конисский Г. 9
Коплстон Ф. 6
Корреджо А. 177
Косой Ф. 153
Кочеткова Н. Д. 6, 170
Красильников А. Д. 92
Крашенинников С. П. 63
Кромвель О. 45, 46, 136
Крукс У. 92
Крылов И. А. 47, 146, 155, 183
Кулакова Л. И. 6, 170, 171
Кутузов А. М. 17, 74, 80, 109
Курдюков В. Е. 6, 126
Лавров П. Л. 79
Лавуазье А. 57
Ламетри Ж- 56, 62, 107
Лаплас П. 58
Ларошфуко Ф. 56
Лаух А. 6, 54
Лафатер Н. К. 61, 81, 178
Левицкий Д. Г. 171
Ледкин Б. 17
Лейбниц Г. В. 16, 56, 60, 69, 71,72,
81, 84, 92, 95-97, 101, 118, 123,
171, 195
Леман У. 54
Леонардо да Винчи 180
Леклерк 53
Ленин В. И. 5, 23, 29, 30, 87, 98,99,
122, 198
Лермонтов М. Ю. 156
Лесков Н. С. 102
218
Лессинг Г. Э. 9, 16, 56, 172, 173, 177,
179
Ликург 178
Лихачев Д. С. 7
Локк Д. 31, 56
Ломоносов М. В. 9, 13, 17, 36, 44,
45, 56, 57, 59, 63, 65, 68, 69, 71,
72, 92, 117, 123, 136, 149, 158, 173,
174, 179, 181, 184, 194, 195
Лотман Ю. М. 6, 7, 87, 130, 170
Лузянина Л. Н. 6—8, 87, 130
Лукин В. И. 17, 36
Луначарский А. В. 165
Луппол И. К. 6
Людовик XVI 45
Львов Н. А. 183
Мабли Г. Б. 16, 18, 41, 44, 45, 64,
65, 159
Мажанди Ф. 115
Макконнэлл А. 6
Макогоненко Г. П. 6, 7, 130, 170
Максимович-Амбодик Н. М. 59, 61,
76, 112, 194
Марат Ж. П. 161
Марк А. А. 8
Маркс К. 36, 51, 91, 114
Маслин М. А. 3
Мелье Ж. 62, 149, 161
Мендельсон М. 6, 37, 59, 95
Мережковский Д. С. 102
Метастазио П. 172, 177
Микельанджело Б. 178, 180
Мильтон Д. 178
Минский Н. М. 102
Мольер Ж--Б. 172, 177
Монгольфье Ж- 65
Монгольфье Э. 65
Монтескье Ш. Л. 9, 33, 34, 42, 44,
62, 151
Мопертюи П. 58
Морозов Н. А. 80, 185
Моряков В. И. 6
Муравьев-Апостол И. И. 190
Недосекин В. 31
Нечкина М. В. 31
Никандров П. Ф. 6
Николь П. 122
Новалис 131
Новиков Н. И. 9, 13, 17, 30, 36—38,
42, 44, 50, 56, 61, 64, 92, 103, 155,
134, 146, 147, 162, 163, 173, 174,
179, 180, 184, 194, 195
Новицкий О. М. 63
Ньютон И. 136
Овидий 173
Озерецковский Н. Я. 76, 107, 112
Орбели Л. А. 115
Орлов А. В. 130
Орлов В, Н. 6, 170
Павел I 14, 25, 28
Павленко Н. И. 32
Павлов И. П. 115, 129
Паллас П. С. 57, 59, 74
Панин Н. И. 16
Панкратов А. 130
Паскаль Б. 95, 96
Пассек В. В. 198
nave И. Б. 154
Пайпс Р. 31
Пейн Т. 44, 51, 53, 56, 59, 161, 195
Пенфилд У. 115
Петр I 14, 21, 23-25, 28, 29, 31, 79
Петр III 14
Пересветов И. С. 153
Пеунова М. Н. 5, 6, 158, 188
Пестель П. И. 190
Писарев Д. И. 185, 190
Пифагор 101
Платнер Э. П. 16, 56, 58, 61, 103,
173, 174
Платон 173, 174, 180
Плавильщиков П. А. 9, 172
Плимак Е. Г. 130
Плеханов Г. В. 135, 198, 199
Плиний Старший 114
Погодин Н. И. 26
Поленов А. Я. 30, 33, 38, 42, 63, 64
Поп А. 59, 154, 173
Попова И. Я. 6
Поповский Н. Н. 13, 92
Поспелов Г. И. 170
Попугаев В. В. 198
Посошков И. Т. 14
Потебня А. А. 79
Прево А. Ф. 59, 61, 112, 194
Прокофьев И. 171
Протагор 90
Протасов А. 76, 112
Прокопович Ф. 14, 36, 136, 173, 184
Пугачев Е. И. 18, 19, 39, 40, 45, 46,
'53—55, 58, 130, 153, 154, 194
Пуфендорф С. 60
Пушкин А. С. 5, 14, 34, 48, 83, 101,
155, 156, 183, 198
Пэйдж Т. 6
Рабинович В. И. 198
Раева Н. 6
Разин С. Т. 40, 50, 136, 153
Расин Ж- 172, 177
Рассадин Ст. Б. 191
Раш Б. 59, 61
Рейналь Г. 16, 53, 59
Рид Т. 9, 58
Рикардо Д. 188, 190
Робеспьер М. 161
Робинэ Ж- 58
Рокотов Ф. С. 171
Ру Ж. 53
Рубановский А. К. 17, 174
Руссо Ж. Ж. 6, 16, 17, 31, 42, 60,
219
117, 132, 134, 136, 151, 154, 161,
185, 186
Рылеев К. Ф. 5, 155, 156, 190
Сведенборг Э. 59, 81, 95, 96
Семевский В. И. 25
Сенека 180
Сен-Мартен Л. К. 84
Сент-Илер Ж--И. 71
Сеченов И. М. 115, 129, 192
Сковорода Г. С. 9, 69, 92, 125
Смирнова 3. В. 171
Смит А. 63, 146, 188, 190, 191
Соколов М. В. 6, 135
Соколов П. И. 171
Соловьев С. М. 26, 32, 33
Солодкий Б. С. 6, 130
Сорен Ж- 84
Софокл 173
Спартак 54
Сперри Р. 115
Спиноза Б. 56, 58, 76, 90, 92, 95,98,
163, 165, 166, 195
Старенков М. П. 171
Степанищев С. С. 130
Степанов Н. 6
Стерн Л. 54
Струмилин Г. С. 24, 32
Сума Петр 156, 157
Сумароков А. В. 17, 36, 37, 56, 172—
174, 177, 179, 180, 184
Сухов А. Д. 105
Татаринцев А. Г. 6
Татищев В. Н. 14, 26, 63, 65, 154
Тейхмюллер Г. 84, 92
Теплов Г. М. 69
Тертуллиан 92
Толстой Л. Н. 34, 155
Тредиаковский В. К. 17, 36, 172—
174, 179, 183
Третьяков И. М. 13, 36, 38, 42, 50,
59, 63, 64, 103, 125, 134
Туган-Барановский М. И. 32
Тучков С. А. 198
Унгерн-Штернбург 74
Уокер М. 187
Уоллес А. 92
Ушаков Ф. В. 16, 17, 46, 47, 62—64,
111, 117, 119, 154
Ушинский К. Д. 185
Федоров Н. Ф. 80, 101
Фейербах Л. 86, 128, 137
Фихте И. Г. 52, 103, 119
Фома Аквинский 64
Фонвизин Д. И. 13, 17, 30, 36, 37т
42, 56, 59, 61—64, 92, 146, 149, 157,
163, 172—174, 179, 184, 187, 190,
194, 195
Фостер Г. 59
Франклин Б. 44, 56, 59, 161, 174
Хексельшнейдер Э. 6
Хемницер И. И. 36
Херасков М. М. 17, 43, 172, 174
Хеэр Р. 31
Циолковский К. Э. 80
Цицерон 180
Чаадаев П. Я. 6, 126, 192
Челищев П. И. 17, 198
Чернышевский Н. Г. 5, 42, 55, 85,93»
128, 129, 139, 155, 166, 185, 190—
192, 198—200
Чикин Б. Н. 130, 135
Чулков М. Д. 17
Шапиро А. 31
Шарапкин Д. М. 6
Швабе 17
Шевон М. 59, 61, 112, 194
Шекспир В. 172, 177
Шеллинг Ф. В. 98, 103, 119, 131
Шеррингстон У. 115
Шефтсбери А. 157, 187
Шешковский С. И. 19
Шибанов М. 171
Шиллер И. Ф. 172
Ширакура 6
Шлеермахер Ф. 93
Шлецер А. Л. 26, 65
Шмаков А. А. 6
Шмидт В. 6
Шноп И. К. 198
Шотт А. Ф. 16, 17
Шторм Г. П. 6, 135
Шувалов И. И. 13
Шумский Я. Д. 172
Щебальский П. С. 11
Щедрин (Салтыков) М. Е. 47
Щедрин Ф. Ф. 172
Щербатов М. М. 26, 133, 145, 146,
184
Щипанов И. Я. 6, 171
220
Эверс И. Ф. 26 Эпикур 95, 180
Эйлер Л. 63 Эсхил 173
Эккартсхаузен К. 64, 92
Экклз Д. 115 Юлаев Салават 153
Эмин Ф. А. 9, 17, 30, 36, 38, 50, 62, Юнг Э. 95, 96, 101, 109, 145
145, 146, 154, 163, 174, 187
Энгельс Ф. 30, 84, 98, 102, 104, 122, Якушкин И. Д. 118, 136, 190, 196>
195 Янов С. Н. 17
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие 5
Глава I
У РУБЕЖА ДВУХ ЭПОХ: «ОН ПЕРВЫЙ ВОЛЬНОСТЬ ПРОРИЦАЛ»
Основные этапы жизни и деятельности А. Н. Радищева 12
Главные факторы формирования основ миропонимания А. Н. Радищева 22
Антикрепостнический, революционный, антицаристский и республиканский
характер идейно-политических взглядов А. Н. Радищева 40
Глава II
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ФИЛОСОФСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ
А. Н. РАДИЩЕВА
Становление философской антропологии и его влияние на философию
А. Н. Радищева 57
Основные идеи трактата «О человеке, о его смертности и бессмертии» 66
Человек, его сущность, место в мире 72
Традиционная проблема «души» и нетрадиционное ее решение ... 83
Орудия и силы человека в познании 103
Глава III
СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ А. Н. РАДИЩЕВА
Человек и социальное целое 131
Истоки и основания этических идей А. Н. Радищева 144
Этическое учение А. Н. Радищева 159
Эстетическая концепция А. Н. Радищева 170
Пути и средства нравственно-эстетического воспитания человека . . . 184
Заключение 194
Литература 201
Именной указатель , 217
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
Шкуринов Павел Семенович
А. Н. РАДИЩЕВ. ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА
Зав. редакцией Г. С. Прокопенко
Редакторы Е. В. Гараджа, Е. В. Шмелева
Художественный редактор Н. Ю. Калмыкова
Художник Е. Л. Михельсон
Технический редактор Л. Р. Черемискина
Корректоры Н. В. Картышева, Л. А. Костылева
ИБ № 2849
Сдано в набор 1.03.88. Подписано в печать 12.12.88. Формат 60X90/16. Бумага тип. № Ь
Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 14,0 Уч.-изд. л. 17,47 Тираж-
6000 экз. Заказ 313. Изд. № 3965. Цена 1 р. 40 к.
Ордена «Знак Почета» издательство Московского университета.
103009, Москва, ул. Герцена, 5/7.
Типография ордена «Знак Почета» изд-ва МГУ.
119899, Москва, Ленинские горы